"Мир приключений-5" разные года издания. Компиляция. Книги 1-10 [Алексей Викторович Бобровников] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1955 №1.

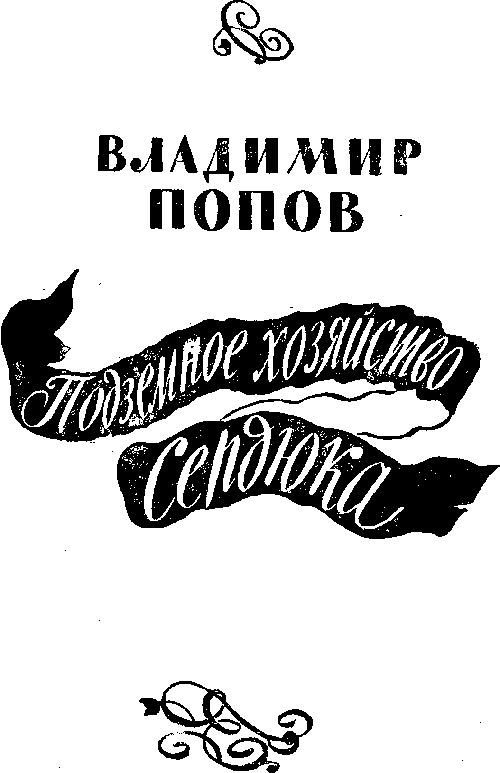
Владимир Попов Подземное хозяйство Сердюка
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
В оккупированном гитлеровцами донецком городе продолжалась своя страшная жизнь. Никто не знал, что произойдет с ним завтра, даже сегодня, вернется ли он, уходя из дому, переживет ли ночь, ложась спать. Спасаясь от угона в Германию, люди прививали себе болезни, прятались в подвалах и на чердаках. Казалось, жестокий мор надвинулся на город, ещё недавно шумный, как улей, и редкие жители ходят по улицам, как приговоренные к смерти. Большинство разбредались по селам, меняя носильные вещи на хлеб, кукурузу, картофель. Покидали дома чуть свет, стремясь вернуться дотемна. Запоздавшие предпочитали ночевать в степи на снегу, лишь бы не попадаться ночью на глаза полицаям или жандармам. Но и гитлеровцы чувствовали себя здесь как на раскаленных угольях. Дорого обошлась их начальству гибель хозяйственной команды, поднятой на воздух при взрыве подпольщиками котельной электростанции. Коменданта города и шефа гестапо с их ближайшими помощниками, не сумевших уберечь электростанцию, отправили на самый тяжелый участок фронта. Начальником гестапо был вновь назначен фон Штаммер, недавно снятый за провал агентурной сети. Штаммер старался как мог. Заборы и стены домов запестрели приказами, в которых единственной мерой наказания за малейшую провинность значился расстрел. Полиция снова провела перерегистрацию паспортов и, набрав дополнительный штат полицаев, всё чаще устраивала облавы. Шесть дней после взрыва котельной подпольная группа Сердюка не выпускала листовок, приспосабливаясь к новой обстановке. На седьмой день в лестничных клетках домов, на внутренней стороне заборов снова появились листовки с красной звездочкой. Эти листовки срывали полицаи, но чаще всего бережно отклеивали те, кто переносил их из дома в дом. Многие же просто заучивали их и передавали из уст в уста.* * *
Однажды утром в ремонтную мастерскую Пырина пришла пожилая женщина и молча положила на стол замок ручной работы без ключа. Пырин осмотрел затейливый механизм, взглянул на посетительницу, снова на механизм. Ошибиться было нельзя — об этом замке, как о пароле, говорил ему Сердюк. Алексей Иванович показал глазами на дверь в жилую часть домика. В такое беспокойное время Сердюк никак не ожидал видеть связную. Он рассчитывал, что это свидание состоится позже, когда утихнет переполох, вызванный взрывом электростанции. Связная потребовала детального отчета об организации взрыва и о положении в подпольной группе. Сердюк подробно описал диверсию, рассказал, что, взорвав станцию, инженер Крайнев ушел в степь, дабы перейти линию фронта, и о нём до сих пор нет никаких известий; Мария Гревцова попрежнему служит в полицайуправлении, снабжает подпольщиков паспортами и информирует их обо всех мероприятиях, намечаемых полицией; Петр Прасолов работает в механическом цехе, где делать стало нечего из-за отсутствия электроэнергии; младший брат Петра — Павел в кочегарке гестапо. Использовать его пока не представляется возможным. Валя Теплова печатает листовки, Саша их распространяет. Этого парнишку он ещё ни разу не видел, но знает: подпольщик отменный; работает в бригаде по восстановлению мартеновского цеха и всё успевает. У него большая группа из ребят самого разного возраста, неуловимых и смелых. Расклейка листовок — это их дела. Потерь в личном составе пока нет. Внимательно выслушав Сердюка, связная стала расспрашивать о жизни и быте рабочих: что делают, чем питаются. Взяла со стола кусочек хлеба, похожего на жмых, бережно завернула его в чистый платок и положила в кошелку. — Секретарю ЦК партии Украины покажу. — Ему лично? — изумился Сердюк. — Конечно. Как бы ни был он занят, нас, связных, принимает немедленно. Всем интересуется. Особенно построением организации, конспиративной работой, системой связи. О каждой подпольной группе всегда расспросит, как было задумано и как сделано, что не учтено, какие ошибки допущены при организации подполья. — Глаза у связной потеплели, стали добрыми. — Как-то мне пришлось доложить секретарю ЦК, что хозяин одной явочной квартиры отказался работать с нами, заявив: «Я вас не знаю, и вы меня не знаете. Я жить хочу». «А вы полагаете, что все могут быть героями? — ответил он мне. — Этот гражданин, значит, трус. Предавать он не станет, но он трус. Характер у него такой». — «Теперь я его боюсь», — созналась я. «Это тоже от характера. Он немцев боится, а вы его. Понимаю вас. Тяжело советским людям работать в подполье. Они годами привыкли верить друг другу, а гитлеровцы годами специализировались на шпионаже, шантаже, провокациях». Сердюк позавидовал связной. Бывает на Большой земле, говорит с большими руководителями, носит в своем сердце их простые человеческие слова, согревает этими словами души тех, кто сейчас находится на временно отчужденной земле. На миг у него потускнели глаза, и связная, заметив это, тепло произнесла: — В ЦК партии Украины очень довольны вашей работой. Разгром гестаповской агентурной сети и взрыв электростанции выполнены блестяще. Спасибо вам. Глаза Сердюка радостно вспыхнули, он хотел что-то сказать, но не нашел слов и только крепко сжал её руку своей широкой, сильной ладонью. Связная почувствовала его волнение, улыбнулась и заговорила снова: — Мне поручили напомнить вам об основном: ваша группа оставлена в тылу со специальным заданием бороться с гестапо. Вернитесь к этому. Завод пусть вас не беспокоит — без электроэнергии он труп. Мелкие диверсии не нужны. И не ослабляйте работу среди заводчан. — Прасолов сколотил актив, — поторопился предупредить Сердюк. — Листовки выпускайте. У вас это хорошо налажено. Но как же с гестапо? Может, удастся Павлу взорвать котлы? — Котлы небольшие, эффекта от взрыва не получится. — Придумайте что-нибудь получше. Если сил будет мало, обратитесь за помощью. Прошлый раз я вам дала явки. Не забыли? — Как же. Помню. — Решайте вопрос с гестапо. О городе, шахтах, железной дороге не думайте — там везде есть группы. Шахтеры не выдают нагора ни грамма угля и не выдадут. У них крепкая организация. Потребуется в каком-то деле ваше участие — получите задание. А пока помните: ваша группа особого назначения… — И вдруг неожиданно спросила: — Андрей Васильевич, не найдется у вас чего-нибудь поесть? Последний раз ела вчера утром. Сердюк засуетился. Как он не подумал об этом! На столе появился холодный вареный картофель и кукурузные лепешки, приготовленные Пыриным. — Устали, Юлия Тихоновна? участливо спросил Сердюк. — Очень. Но скоро, кажется, отдохну. Мы с вами, возможно, больше не увидимся. — Почему? — встревожился Сердюк, решив, что рвется эта связь, которая придавала столько сил, столько уверенности. — Благодарю. Какой вкусной показалась картошка! — Связная отставила тарелку. — Городская группа получает радиопередатчик. Как только наладится связь со штабом, радист свяжется с вами. Он пристроился у немцев и прийти может только в воскресный день. Через него будете получать задания и отчитываться в работе. Только, пожалуйста, поподробнее важна каждая мелочь. — Товарищ проверенный? — Проверенный. — Возможно, активистом был неплохим, доносить не пойдет, а схватят, начнут ему под ногти иглы совать — и расскажет. Связная посуровела: — У нас нет возможности определять, выдержит ли человек такой экзамен. Прихдится верить. Без этого никакая работа немыслима. И подумайте ещё над тем, как спасти рабочих от угона в Германию при наступлении Красной Армии. Шахтеры могут уйти под землю, а рабочие? Связная простилась, взяла свою кошелку и ушла. Последнее задание особенно подняло настроение Сердюка. «Значит, готовятся наступать наши. Пора бы. Под Москвой гонят вовсю, а здесь фронт неподвижен: ни туда ни сюда».* * *
Подпольные группы заметно активизировались. Появлялись листовки и без красной звездочки. Много неприятностей доставляла гитлеровцам группа, занимавшаяся порчей немецких плакатов. Их не срывали, не замазывали, а корректировали. Вывесят немцы плакат с надписью: «Гитлер — избавитель», а на другое утро читают приписку: «наших желудков от хлеба». Призыв к городскому населению переключиться на сельскохозяйственный труд заканчивался жирной строчкой: «Земля ждет вас». Ночью подпольщики приписали: «по три аршина на брата». На многокрасочном и многообещающем плакате: «Я записался в Германию» появилась наклейка: «а я — в партизанский отряд». Надписи ни стереть, ни отклеить было невозможно. Приходилось полицаям срывать плакаты целиком. И так из ночи в ночь. Хоть пост ставь возле каждого плаката. Немало шума наделало убийство подпольщиками начальника полиции. Глубокой ночью в его квартире взорвалась мина. Расследованием установили, что мина была спущена в дымоход печи. Комендант города решил похоронить погибшего с военными почестями. Гроб был установлен на грузовике, за которым шла рота солдат-автоматчиков. Едва гроб коснулся дна могилы, как раздался оглушительный взрыв. И здесь оказалась мина. Из ямы вылетели щепы гроба и останки предателя. Четыре солдата, опускавшие гроб, остались лежать недвижимо; остальные разбежались, оцепили кладбище и только спустя несколько часов рискнули подойти к могиле и забрать убитых. Любопытствующие горожане, посещая кладбище, с удовольствием читали надгробную эпитафию, прибитую на кресте у пустой могилы: «Здесь должен был покоиться прах фашистского холуя, но оного земля не приняла», а внизу было приписано: «Собаке — собачья смерть». Одна серьезная диверсия, проведенная в городе, говорила о связи городских подпольщиков с частями Красной Армии. Незадолго до войны на окраине города началось строительство квартала коттеджей. Стены уже были подняты на высоту одного этажа, когда война остановила работу. Гитлеровцы избрали этот уголок для стоянки танков. И вот среди бела дня эскадрилья советских бомбардировщиков налетела на город и начала бомбить танки. Напрасно гитлеровские танкисты пытались завести моторы и вырваться из района бомбежки — ни одного танка не удалось стронуть с места. Вряд ли узнали бы горожане, что приковало танки к земле, если б комендант города не издал двух приказов. В одном приказе он объявлял соль, простую поваренную соль, стратегическим материалом и запрещал населению иметь её в количестве более полукилограмма на семью; в другом сообщал о смертной казни через повешение бывшего шофера гаража горкомхоза за выведение из строя танков «методом тайного насыпания в бензобаки соли и сахара, отчего бензин потерял способность к воспламенению». «Насыпали-таки им соли на хвост! — радовался Сердюк. Такую операцию без взаимной радиосвязи провести нельзя. Значит, получен уже в городе передатчик». И с этого дня он стал ожидать прихода радиста.Глава вторая
На территории завода, отданного в частное владение барона фон Вехтера и именовавшегося теперь железоделательным, продолжались восстановительные работы. Изможденные рабочие уныло копошились среди руин. Только в бригаде, убиравшей груды кирпича и кучи мусора в мартеновском цехе, порой слышался смех. Во время перекура Сашка читал нелепые статьи из «Донецкого вестника» и издевательски комментировал их. За последнее время в бригаде появились колхозники, согнанные из окрестных деревень. Сначала они держались группкой, опасливо косились на смелого мальчишку во время его разглагольствований, но постепенно осмелели. Прибывший раньше всех Фёдор Штанько всё чаще рассказывал о недавнем счастливом житье-бытье в колхозе. До начала работы и во время перекура бригада собиралась в шлаковике третьей мартеновской печи. Он был больше других и лучше сохранился. Вспоминали обер-мастера Опанасенко, который сжег свой дом вместе с поселившимися в нём гитлеровцами, сталевара Луценко, сброшенного гестаповцами в шахту. В шлаковике постоянно топился камелек, огонь в котором поддерживал Сашка. Он никому не передоверял своих обязанностей, дававших ему возможность отлучаться в доменный цех за коксовой мелочью и по пути завернуть за необходимыми инструкциями в механический, к Прасолову. Как-то в морозный январский день, когда Сашка, оставшись один, грелся у камелька, на пол упал кусок кирпича. Сашка с тревогой поднял глаза на свод шлаковика, но увидал только ровную, отполированную пламенем поверхность. Нигде не было ни одной трещины. Присмотревшись к упавшему куску кирпича, Сашка заметил, что он перевязан проволокой, за которую была засунута свернутая бумажка. Сашка поспешно поднял кирпич, развернул бумажку и прочел: «Саша, после работы задержись здесь. Нужно переговорить». Подписи не было. Оставшаяся половина дня тянулась, как никогда, долго. Сашка уже успел сбегать к Прасолову, сообщить ему о записке, взявшейся неизвестно откуда, и посоветоваться, как быть. Тот рекомендовал остаться. Только теперь парнишка вспомнил, что в насадочной камере, примыкавшей к шлаковику, он и вчера и позавчера слышал странный треск, но не обратил на него внимания, считая, что трещит отсыревающий кирпич. Значит, оттуда и брошена записка. Любопытство Сашки разгорелось до того, что он уже совсем не мог работать, всё чаще отлучался в шлаковик подбросить коксовой мелочи в камелек и вглядывался в черное окно насадочной камеры. В конце концов он не выдержал. Убедившись, что рабочие заняты вдалеке своим делом, вскарабкался на порог, шагнул в камеру и замер. — Иди ближе, Саша, тихо позвал его кто-то из самого темного угла камеры. — Кто это? — спросил Сашка и попятился назад. — Тише! — властным шопотом произнес человек. — Подойди, не бойся. Сашка нерешительно сделал несколько шагов, нащупывая ногой ячейки кирпича, чтобы не провалиться. Чья-то рука взяла его за полу стеганки и усадила рядом. — В шлаковике никого нет? — так же шопотом спросил человек. — Нет, но поблизости есть. Заору — прибегут. — Дай закурить. — Какое тут курево! — невольно переходя на шопот, буркнул Сашка. Навоз курим. — Давай, что есть. Сашка вдруг успокоился. Если человек и на навоз согласен, значит свой. Он торопливо полез за кисетом, обрадованный возможностью при свете зажигалки рассмотреть лицо неизвестного. Лихо свернув козью ножку, протянул её человеку, свернул вторую, послюнявил закрутку, чиркнул зажигалкой. Перед ним сидел обросший бородой, исхудавший Крайнев. — Сергей Петрович! — вскрикнул Сашка. — Теперь я знаю, как вы станцию… Сашка ощутил толчок в бок, да такой энергичный, что выронил зажигалку, но, по счастью, она не провалилась вниз, а упала на стёганку. Он снова зажег её, дал прикурить и мгновенно потушил, боясь, чтобы кто-нибудь, случайно зашедший в шлаковик, не увидел отблеска света. — Это хорошо, что ты всё знаешь, — сказал Крайнев. — Разговаривать легче. Прежде всего достань-ка мне поесть. Третьи сутки ничего во рту не было. — Хм! Это не так просто. — Саша сразу приуныл. — Полдник прошел и шелухи от картошки ни у кого не найдешь. — Но тут же вспомнил запасливого Штанько, всегда прятавшего в шлаковике половину похлебки на вечер. — Баланду есть будете? Сейчас сопру… — Всё буду. Минуту спустя Крайнев глотал жидкую похлебку из картофельных очисток. Сашка унес опорожненный котелок, налил в него воды и водворил на место, невольно улыбаясь: «Поднимет Штанько крик: как же, обворовали! Но для такого дела — не грех», и снова вернулся к Крайневу. — Значит, не удалось перейти линию фронта? — Нет, сейчас это невозможно… Как у вас дела? Валя здорова? — Все живы, успокоил его Сашка. — Наше дело такое: немцев выживать, а самим выжить. — Ну, молодцы. Значит, сегодня ты к Вале. Пусть узнает, что мне делать. А завтра принеси ответ и что-нибудь поесть. Думаешь, наелся? — Завтра притащу. Где же вы прячетесь? — Под этой насадкой. Кирпич снизу пробрал и вылез. На ночь обратно. Завтра вот сюда… Крайнев протянул в темноте Сашину руку и дал ему нащупать проделанное в кладке отверстие, бросишь записку и еду, а то и сам спускайся вниз. Да смотри не расшибись: пять метров. И сокрушенно сказал: — Из этой норы я могу и не вылезти: ослабел донельзя…Вечером к Сердюку пришла Теплова. — Что случилось, Валя? — встревожился Сердюк, увидев её лихорадочно блестевшие глаза и легкий румянец, проступивший на бледном лице. — Сергей Петрович вернулся… — еле выговорила девушка, и Сердюк не понял: довольна она или огорчена. Теплова и сама не знала — радоваться ей или огорчаться. Она была рада тому, что Крайнев жив, что она сможет его увидеть, говорить с ним, что кончилась эта страшная неизвестность, но и боялась: а вдруг поймают? Со времени ухода Сергея Петровича она не забывала о нём ни на минуту. Картины одна страшнее другой вставали в её воображении. В возможность перехода Крайнева через линию фронта Валя почему-то не верила. Очень уж усилили гитлеровцы наблюдение за прифронтовой зоной, а на переднем крае — сплошные цепи. Чаще всего Валя думала, что Сергей Петрович схвачен и подвергается нечеловеческим пыткам. Она подробно рассказала о свидании Саши со своим бывшим начальником цеха. У Сердюка тоже заблестели глаза: — Это очень интересно, Валя. Как же ему удалось проникнуть на завод, который так усиленно охраняется? Валя почувствовала, что появление Крайнева не столько обрадовало Сердюка, сколько заинтересовало. Стало обидно. Лицо её вдруг потускнело, и Сердюк всё понял: — Договоритесь через Сашу о встрече с Крайневым. Надо решить, что с ним делать. На поверхности ему показываться нельзя чересчур хорошо знают. Подкормить надо. И самое главное узнайте, — как проник на завод. Это нам пригодится.
Глава третья
На высоком бетонном заборе, который отгораживал завод от города, гитлеровцы установили дополнительную изгородь из колючей проволоки, поставили будки для часовых. Не завод, а тюрьма, концлагерь. Даже со стороны откоса, круто опускавшегося к пруду, за которым расстилалась степь, был сделан забор с колючей проволокой. Внизу, у самого ставка, в откосе чернели два малозаметных отверстия — выходы каналов дренажной и отработанной воды. К одному из этих каналов глубокой ночью пробиралась Теплова. Она перешла по глубокому снегу замерзший пруд и направилась вдоль берега, дрожа от холода и нервного возбуждения. Вот наконец сводчатое отверстие. Валя заглянула в него и, согнувшись, шагнула в густую тьму. Её тотчас обхватили чьи-то руки, прижали к себе. У щеки она ощутила жесткую бороду. — Это я, Валюша! — Сережа!.. — только и смогла выговорить Теплова. У неё закружилась голова от слабости, от прилива нежности. — Не надо так… — прошептала она, с трудом оторвав губы. Сергей Петрович провел Валю по тоннелю до заворота и здесь, нащупав доску, заранее уложенную на кирпичах, усадил её и опустился рядом сам. Стиснув маленькие Валины руки в своих, он старался отогреть её окоченевшие пальцы. — Жив! Жив! — повторяла в самозабвении Валя. — Я так счастлива, Сергей Петрович, что вы живы! Так счастлива… — Почему ты говоришь мне «вы», Валюша? Во время нашей разлуки я всё время думал о тебе, привык к тебе в мыслях, сроднился с тобой. Представлял тебя рядом с собой в цехе, дома. Да. У нас дома, Валечка… С Вадимкой ты уживешься. Он очень чувствует ласку, а ты такая ласковая… Крайнев ощутил, как потеплели руки Вали. Дыхание участилось. Она прижалась щекой к его плечу. — Видеть тебя хочу, Валюша. Какая ты? Пойдем к выходу. Сергей Петрович выглянул наружу — нигде ни души. Вышли. После мрака ночная мгла будто поредела, хотя луна пряталась за облаками и только кое-где тускло горели одинокие звездочки. Серые глаза Вали в густом обрамлении ресниц казались черными, бездонными и резко выделялись на бледном лице. Тонкий нос её вытянулся, заострился. — Ты не больна, Валюша? — заботливо спросил Крайнев. — Нет, просто высохла. От неизвестности замучилась. Всё мне казалось, что вас схватили… И ночью такие сны видела. Хорошо, что врут сны! — Она счастливо улыбнулась и ласково погладила ладонью заросшую щеку Крайнева. — Истосковалась — сил нет… И вдруг он заметил, что Валя обута в легкие туфли. — Бедная моя! Промочила ножки? — Еле-елешно, соврала Валя. Высоко над ними на шлаковой горе раздался свист. Крайнев и Валя юркнули в тоннель и снова уселись на импровизированную скамью. Сергей Петрович снял с девушки туфли, принялся растирать мокрые, окоченевшие ноги. — Здесь вы живете? — спросила Валя, поежившись от холода. — «Ты», Валюша. Скажи: «ты». — Ты. — Ну, вот так. Нет, я глубже забрался, там теплее. Облюбовал местечко под насадкой третьей печи. Трубу отгородил заслонкой, чтобы не тянуло. И, знаешь, ещё почему там поселился? В шлаковике рабочие собираются, разговаривают. Я их голоса слышу и чувствую, что не один на белом свете — вернее, в кромешной тьме. Курят они, и до меня дымок доходит. — Я табак принесла. — Вот за это спасибо! — обрадовался Крайнев, но тотчас разочарованно протянул: А огня-то нет… — Есть. Захватила зажигалку. Модную: кремень, железка и фитиль. И еды немного взяла. — Прежде всего курить. Валя положила в руку Крайнева кулечек махорки и бумагу. Он осторожно сделал закрутку, стараясь не потерять ни одной драгоценной крупинки. — Давай твою зажигалку. — Я сама. Этому научиться надо. Под ударами железки искры сыпались снопом, но фитиль не зажигался. Наконец Крайнев увидел огненную точку. Валя подула на неё. Точка превратилась в яркое пятнышко. Сергей Петрович раскурил закрутку и с наслаждением затянулся. Затянулся вторично и заметил, как отсвет огонька выхватил из темноты лицо Вали. Тогда он стал затягиваться без перерыва, любуясь ею. — Довольно курить. Поешьте, — сказала Валя, и Крайнева тронула заботливо-властная нотка в её голосе. Он мигом съел пресную лепешку и ломтик сала. — У меня и десерт есть. — Валя положила в рот Крайнева кусочек сахара и, когда он догрыз его, спросила: — Где же вы скрывались? — Под полом у одного колхозника, в подполье, так сказать. Везет мне. Там в темноте сидел — и тут тоже. Как крот. Крайнев погладил руку Вали. Поразила странная шероховатость кожи. — Что с руками? — Кислотой травила, чтобы видимость чесотки придать. Гитлеровцы её, как огня, боятся. Ни один не подойдет. А как сейчас врачи помогают! Раньше к ним люди ходили от болезней лечиться, а теперь — болезни получать. Многие сами себе щелочь под кожу впрыскивают. Язва образуется, похожая на сибирскую. Табак, пропитанный в масле, курят — способствует сердцебиению, как при пороке. На что угодно люди идут, лишь бы на чужбину не угнали. Валя рассказала Крайневу о всех городских новостях. Услышав историю с похоронами начальника полиции, Сергей Петрович рассмеялся, расспрашивал о деталях и снова смеялся. — А у меня ваша фотография есть, — с детской непосредственностью сказала Валя. — Фотография? Откуда? — Сашок подарил. Шел затемно на работу, увидел плакат о вашей поимке. В пятьдесят тысяч марок оценили фрицы эту буйную… Валя обхватила руками голову Крайнева, прижала к себе. Сергей Петрович слышал, как бьется сердце Вали, неровно, с перебоями. — Плохи мои дела, заговорил он. — И так в городе многие меня знают. А теперь, значит, и носа не высовывай. — Да, придется отсиживаться здесь. Андрей Васильевич запретил выходить. — Валя произнесла эти слова тоном, не допускавшим возражений, и, вспомнив наказ Сердюка, по-деловому спросила: — Большое это подземное хозяйство? — Очень большое, так же по-деловому ответил Крайнев. — Из всех цехов завода по этим каналам спускалась вода, охлаждавшая агрегаты: из доменного, мартеновского и прокатных цехов. К каждому цеху можно пройти по этим каналам. Кроме того, глубоко под землей есть дренаж… — Для отвода почвенных вод, — вставила Теплова. — На этом заводе два хозяйства: одно — старое, оставшееся нам в наследство от русско-бельгийского акционерного общества и такое запутанное, что сам чорт ногу сломит. Мы сейчас в новом, более просторном. — Ещё есть подземный тоннель, по которому когда-то предполагали подавать чугун из доменного цеха в мартеновский, — снова вставила Валя. — И ещё есть большой бетонный зал. — О нём не знаю. Не слышала. — Никто не знает. Обнаружили его в июле прошлого года. Когда рыли котлован для фундаментов спеццеха, наткнулись на бетонную плиту. Пробили её и увидели огромное пустое помещение. Только один старый рабочий знал о нём. При бельгийцах там была секретная лаборатория. От каждой партии рельсов один рельс через отверстие бросали туда и испытывали. Если рельс был хороший, то партию предъявляли приемщику без всяких хитростей; если партия оказывалась бракованной, заводчики сдавали её жульнически. Вале стала вдруг понятной мысль Сердюка. — А план этого хозяйства можно составить? — спросила она. — М-да, конечно, можно. Кропотливое дело, но можно. — Завтра Саша передаст всё, что нужно, и придется заняться этим. Таково задание Сердюка. — Хорошо, согласился Крайнев. — Но для чего это? — Для чего — будет ясно позже, — уклонилась от ответа Валя. — Не веришь? — Ну что ты, Сережа! — вырвалось у Тепловой. Она смутилась, но повторила снова: — Что ты, Сережа! Если тебе не верить, так кому же? Сергей Петрович нежно обнял девушку. Замолчали. Крайнев встал, дошел до конца тоннеля, посмотрел на небо. Скованный холодом серпик луны, обессилевшей, тусклой, склонясь на бочок, уходил в тучу — казалось, отогреться. В лицо пахнул предрассветный колкий морозец. — Валюша, тебе пора, — сказал Крайнев вернувшись. Вскоре фигура девушки затерялась между нагроможденных шлаковых глыб. При мысли, что Валя бредет в туфлях по глубокому снегу, Крайневу стало нестерпимо холодно.Глава четвертая
Начальник гестапо фон Штаммер с безразличным видом прочитал секретное письмо гаулейтера Коха о мерах поощрения агентуры. Кох писал: «В обычных случаях нужно награждать товарами, а в чрезвычайных наделять отличившихся агентов усадебной землей. Подчеркиваю, что продуктовый фонд, выделенный для поощрения агентов, имеет единственное назначение. За расходование продуктов для других целей виновные будут привлекаться к ответственности». Так же безразлично Штаммер взглянул и на приложение к письму, в котором сообщалось о выделении для агентуры пятисот литров водки, двухсот килограммов сахару и тысячи пачек табаку. Поощрять было некого. После ликвидации подпольщиками резидентов и расклейки листовок с фамилиями агентов вербовка стала почти невозможной. Официальный аппарат гестапо состоял из надежных, проверенных сотрудников — им бы только работу. Но что они могут сделать без агентуры! Своё восстановление в должности Штаммер сначала воспринял как прощение, а теперь понял, что после такого провала это худшее из всех возможных наказаний. Начальство прислало ему в помощь четырех агентов, успешно окончивших школу шпионажа, террора и диверсий ОУН[1]. Это заведение, находившееся в Берлине на Мекленбургштрассе, 75, пользовалось хорошей репутацией. Оно подготавливало агентуру из украинских националистов. Но присланные агенты пока не оправдывали надежд. Они целыми днями просиживали в кабачках, непрестанно требовали денег на спаивание и уверяли, что душу русского человека лучше всего постигать в пьяном виде. Правда, они ежедневно присылали донесения — в кабачке обязательно кто-нибудь ругал гитлеровцев. Штаммер сажал провинившихся в лагерь без всякого воодушевления. Он знал, что недовольных можно искать проще и без особых затрат. Не ругающие «новый порядок» нужны были Штаммеру, а борющиеся с ним. Вот их-то как раз и не удавалось выявить. Много хлопот доставила Штаммеру шифрованная радиотелеграмма из области. В ней категорически предписывалось обнаружить в городе женщину в сером демисезонном пальто, с очками в железной оправе и плетеной кошелкой, установить, с кем она будет встречаться, пока не задерживать, а в случае выезда в другой город незаметно сопровождать и там передать наблюдение за ней местной агентуре. В радиограмме подчеркивалась исключительная важность операции. С полицаев немедленно сняли нарукавные повязки, сотрудников аппарата гестапо разослали по городу в штатской одежде. Из области каждый час запрашивали о результатах поисков, и Штаммеру уже надоело докладывать о их безуспешности. На третий день начальник полиции сообщил, что одному полицаю удалось выследить женщину. Она заходила в ремонтную мастерскую на Пролетарской улице, 24, которую содержит некто Пырин, пробыла там около часа и направилась на железнодорожную станцию. Здесь установили её имя, отчество и фамилию, подвергнув проверке документы всех находившихся на станции людей. Дальнейшая слежка за ней поручена железнодорожной полиции. Штаммер приказал щедро наградить отличившегося полицая и сообщил обо всём в область. Ответ последовал немедленно: «Установить за мастерской тщательное наблюдение, никаких оперативных мер до особого распоряжения не принимать».* * *
Наискосок от мастерской Пырина. на противоположной стороне улицы, три холостяка сняли квартиру, якобы под фотографию, разрешения на открытие которой ждут от горуправы. Владельцы дома старик и старуха изголодались и смотрели на квартирантов как на единственный источник пропитания. Хозяйка готовила им еду, могла подкормиться сама и поддержать окончательно отощавшего мужа. Жильцы никогда не выходили из дому вместе — один обязательно оставался в маленькой угловой комнате, постоянно запиравшейся на ключ. Выходя, они каждый раз меняли одежду. Но мало ли какая блажь могла прийти в голову молодым людям! Кто-нибудь из них постоянно сидел в комнате у окна, возле намертво укрепленного на штативе фотоаппарата с телеобъективом. Когда в мастерскую Пырина заходил посетитель, наблюдатель щелкал затвором, передавал свой пост другому, а сам поспешно одевался и исчезал. Через пустырь за домом он выходил на параллельную улицу, появлялся на «трассе» на известном расстоянии от своего логова и только оттуда начинал слежку за объектом. Как только посетитель выходил из мастерской, его снова фотографировали. Первый снимок получался в профиль, иногда даже в затылок, второй в фас.
Кто-нибудь из них постоянно сидел в комнате у окна, возле намертво укрепленного на штативе фотоаппарата с телеобъективом. Когда в мастерскую Пырина заходил посетитель, наблюдатель щелкал затвором, передавал свой пост другому, а сам поспешно одевался и исчезал. Через пустырь за домом он выходил на параллельную улицу, появлялся на «трассе» на известном расстоянии от своего логова и только оттуда начинал слежку за объектом. Как только посетитель выходил из мастерской, его снова фотографировали. Первый снимок получался в профиль, иногда даже в затылок, второй в фас.
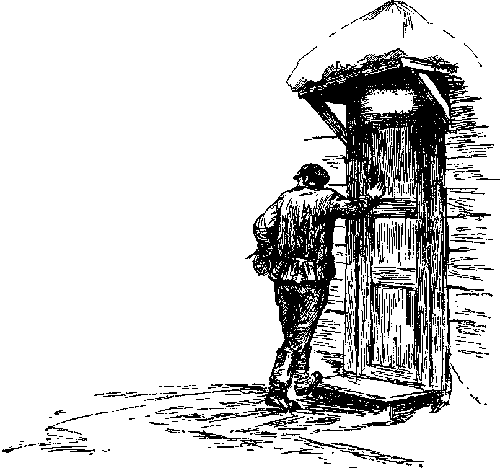 За десять дней беспрерывной слежки наблюдатели установили, что мастерскую регулярно посещает очень миловидная девушка в ватнике и ушанке. Она была единственным человеком, возбудившим их подозрения, потому что, возвращаясь из мастерской, всякий раз заходила в разные дворы. Дворы эти сообщались с другими дворами, и выследить незаметно её квартиру не представлялось возможным.
Остальные посетители, в основном женщины, приносившие в починку свою утварь, особых подозрений не вызывали.
Сердюка вскоре фотографировать перестали. Бывал он в мастерской ежедневно, приносил негодную бытовую рухлядь — керосинки, примуса, лампы — и уносил после ремонта на толкучку.
На фотографиях Сердюка Штаммер подолгу останавливал взгляд. И не только потому, что их было изрядное количество. Поневоле обращал на себя внимание этот плотный, крепко сколоченный мужчина с лицом крупным, грубоватым, волевым.
«Попробуй из такого что-нибудь выжми! Штаммер рассматривал большой, почти квадратный лоб, умные, проницательные глаза и морщился. — Да с него всю кожу спусти — не застонет. В этой проклятой стране не люди, а дьяволы. Пытками тут мало добьешься. А хитростью? Очень много хитрости нужно, чтобы обвести такого вокруг пальца. Он руководитель, он», — убеждал себя начальник гестапо и терпеливо ждал команды.
За десять дней беспрерывной слежки наблюдатели установили, что мастерскую регулярно посещает очень миловидная девушка в ватнике и ушанке. Она была единственным человеком, возбудившим их подозрения, потому что, возвращаясь из мастерской, всякий раз заходила в разные дворы. Дворы эти сообщались с другими дворами, и выследить незаметно её квартиру не представлялось возможным.
Остальные посетители, в основном женщины, приносившие в починку свою утварь, особых подозрений не вызывали.
Сердюка вскоре фотографировать перестали. Бывал он в мастерской ежедневно, приносил негодную бытовую рухлядь — керосинки, примуса, лампы — и уносил после ремонта на толкучку.
На фотографиях Сердюка Штаммер подолгу останавливал взгляд. И не только потому, что их было изрядное количество. Поневоле обращал на себя внимание этот плотный, крепко сколоченный мужчина с лицом крупным, грубоватым, волевым.
«Попробуй из такого что-нибудь выжми! Штаммер рассматривал большой, почти квадратный лоб, умные, проницательные глаза и морщился. — Да с него всю кожу спусти — не застонет. В этой проклятой стране не люди, а дьяволы. Пытками тут мало добьешься. А хитростью? Очень много хитрости нужно, чтобы обвести такого вокруг пальца. Он руководитель, он», — убеждал себя начальник гестапо и терпеливо ждал команды.
* * *
В кабинете фон Штаммера сидел тучный седоватый эсэсовец — начальник областного гестапо Гейзен. Он вертел сложный замок и ждал, когда Штаммер соберется с мыслями. Сегодня Щтаммер был особенно похож на щуку, подкарауливающую добычу. Маленькие водянистые глаза прищурены, тонкие губы сжаты так сильно, что, казалось, их нет совсем. — Мой ответ очень прост: всех, кто ходит в мастерскую, арестовать. Под пыткой хоть один заговорит. — Вас ничему не учит жизнь, коллега, насмешливо возразил Гейзен. — Много вам удалось добиться пыткой? Ваш предшественник был посильнее вас в этом искусстве, а хоть одно признание он вырвал? Избивал до смерти, и со смертью дознание кончалось. И притом: на сто посетителей могут оказаться только два-три партизана. Не так ли? Эх, когда-то немецкая тайная полиция считалась лучшей в мире! Но тогда в ней работали не такие, как вы, Штаммер. — Гейзен намеренно пропускал приставку «фон» — он терпеть не мог этого выскочку. — Вам бы быть палачом, Штаммер, надевать петлю на шею. А вот найти эту самую шею… Штаммер молчал. Он чувствовал превосходство Гейзена и за это ненавидел его. — Основные качества настоящего разведчика, — поучал Гейзен, — хитрость и терпение. Надо понимать врага. В чем ваша ошибка на первом этапе работы? Вы русских считали дураками, а они оказались куда умнее вас. Штаммер открыл было рот — хотел что-то сказать в оправдание, но Гейзен опередил его: — Да, да, умнее, и намного. Развесили списки вашей агентуры по городу!.. Это же неслыханный провал! Я вам этого никогда не прощу. — Сам фюрер простил, а вы не прощаете! — огрызнулся Штаммер, не преминув напомнить о личных связях с Гитлером. — Простил, но не забыл, — ехидно отрезал Гейзен, барабаня пальцами по столу. — И рассчитается по совокупности. Хорошо, пока думать за вас буду я — сумейте только выполнять. Арестовать одного-двух — значит спугнуть дичь. Надо захватить всю стаю. — Но как? — Штаммер, скривив рот, беспомощно усмехнулся. — Можно применить два способа. Или тот, что применили они в отношении вас, подослать агента и получить списки, — или спровоцировать их на крупную операцию, заставить собрать все силы и уничтожить нашими превосходящими силами. — Но как? — снова спросил Штаммер. — Слушайте внимательно. Женщина в железных очках безусловно не рядовой подпольщик. Это видно по её выдержке, по стойкости характера. Таким поручают важные задания. Кем она может быть, по-вашему? — Руководителем организации или связной, — попытался угадать Штаммер. — Правильно. Наконец-то я слышу от вас дельный ответ. Уроки идут вам на пользу, Штаммер. Шеф гестапо побагровел от обиды, но сдержался. Гейзен продолжал: — Судя по тому, что она не сидит в одном городе, а разъезжает, надо полагать, что она связная. Логично? — Логично. — Дальше. Если от связной добиться признания невозможно, надо иначе использовать её. Как вы думаете, для чего она носила с собой этот замок? — Он служил паролем… — О! — уже без иронии произнес Гейзен. Вы на правильном пути. Но что убеждает вас в этом? — Сложность механизма. Такой уникум ни с каким не спутаешь. — А почему нет ключа? — Это меня уже обижает. Понятно и старо, как мир. Если резидент сапожник — ему несут ботинки, если часовщик — часы. К парикмахеру идут бриться. А в данном случае просили сделать ключ… — И вдруг Штаммер задрожал от внезапной догадки: — Направим нашего агента с замком связной в мастерскую — и… игра выиграна… если у них нет дополнительного сложного словесного пароля. — Губы Штаммера сложились в щелку. — А если есть — наш агент провалится, — как бы вскользь заметил Гейзен. — Если не сумеет убедить, что пароль ему забыли сообщить в спешке. — Но будем надеяться на лучший исход. Направим туда самого опытного агента. Он должен будет дать якобы от имени связной задание уничтожить аэродром в степи. А там… — А там мы их накроем, как перепелов сеткой. — Штаммер, хищно скрючив тонкие, с длинными ногтями пальцы, схватил ими чернильницу на столе. — Оттуда не уйдет ни один! — торжественным тоном заключил Гейзен. — Об этом позабочусь я! А вот вывести их на операцию — ваше дело. План составлен — сумейте выполнить.Глава пятая
Сергей Петрович получил от Сашки полный дневной рацион: вареный картофель, непонятного состава хлеб и льняной жмых. Жмых был твердый, как огнеупорный кирпич. Крайнев клал его в воду и потом разбивал железным болтом. Остальное с трудом доделывали зубы. Принес Сашка также ученическую тетрадь в клетку, карандаш, заржавленное лезвие безопасной бритвы и фонарь, который удалось ему стащить с маневрового паровоза. Фонарь светил тускло, но с его помощью можно было передвигаться. Сначала Крайнев пытался нанести на план все ходы и подземные помещения пропорционально их действительным размерам (расстояние он вымеривал шагами). Но потом понял, что от него требуется не технический план важно было скорее изучить расположение ходов. Для чего это требовалось, он не знал, но догадывался, что дело касается размещения людей, возможно даже — штаба подпольной организации. Целыми днями, а иногда и ночью (под землей время было трудно определить) Сергей Петрович шагал по подземному хозяйству, порой пробирался ползком и заносил в тетрадь лабиринты. Кусок листового железа служил ему планшетом. Это занятие помогало ему коротать время, он чувствовал себя занятым, понимал, что нужен. И все же его терзало беспокойство: пройдет неделя-другая, план будет составлен, а дальше? Теплилась надежда, что организация найдет ему применение, даст другое задание, но какое — ясно представить не мог. Показаться на поверхности нельзя. Правда, обросший, исхудавший, он был почти неузнаваем. Но рисковать бессмысленно. А сидеть в подземелье — бездействовать, да ещё обременять товарищей заботой о себе, не хотелось. Крайнев злился на себя. Зачем вернулся? Надо было продолжить попытки перейти фронт. Но зрелые размышления подсказывали, что всё это неминуемо кончилось бы его гибелью. Листок за листком заполнялась тетрадь эскизами, и постепенно расположение ходов укладывалось в голове Крайнева так же ясно и четко, как на бумаге. Старая и новая водоспускные системы представляли собой совершенно изолированные участки. Крайнев обнаружил несколько подземных залов, служивших водоотстойниками и водосборниками. Своей штаб-квартирой он избрал подземную насосную для откачки дренажных вод из-под насадок мартеновских печей. Насосная сообщалась длинным колодцем с поверхностью земли, и отсюда было удобнее всего проникать под насадки третьей мартеновской печи — место встреч с Сашкой. Много труда стоило Крайневу найти вход в подземную лабораторию, о которой он рассказывал Вале. Два с половиной десятка лет эта лаборатория бездействовала и никому не была нужна. В конце концов ему удалось обнаружить в канале для стока воды от рельсобалочного стана замурованное отверстие. Ещё труднее было разбирать кирпичи, сложенные на крепчайшем цементном растворе. Вот за этой работой он понял, насколько ослабел за последнее время. От нескольких ударов ломом появлялась дрожь в ногах, лоб покрывался капельками холодного пота. Наконец кирпич по кусочкам был разобран, Крайнев пролез в проделанное отверстие, прошел по довольно длинному ходу и попал в огромный зал. Здесь до сих пор стоял копер для испытания рельсов на удар, валялись изогнутые куски рельсов. Сергей Петрович долго бродил по подземному залу. В одном углу лежал пожелтевший от времени обрывок газеты «Русское слово», в другом коробка от папирос «Эх, отдай всё!» Далеким прошлым пахнуло от этих клочков бумаги, вспомнилось детство, шахта, где его отец прятался от белогвардейцев, вспомнилось, как навещал он отца, как нашел его убитым. Крайневу вдруг стало жутко в этом пустом зале, и он поспешил в насосную. Здесь было уже обжитое место. Во время очередного путешествия по подземному хозяйству Крайнев попал в канал, проложенный близко к поверхности и перекрытый толстыми чугунными плитами. Кое-где плиты были неплотно пригнаны — в щели между ними проникали дневной свет и звуки. В одном месте он ясно услышал голос гитлеровца и затаил дыхание. В отдаленной части канала что-то грохнуло. От неожиданности он прижался к стене. Минуту спустя снова раздался грохот. Это немцы что-то выгружали прямо на плиты. «Заняли помещение под склад», — догадался Крайнев и особым крестиком пометил на эскизе это место. Здание, под которым он находился, принадлежало сортопрокатному цеху. Здесь на чугунных плитах раньше укладывалась готовая продукция. Крайнев посмотрел в щель. Плита тяжелая, одному не поднять. «Жаль, — подумал он. — Если здесь складывают продукты, то можно обеспечить ими товарищей, а если боеприпасы — устроить фейерверк». Он долго стоял и вслушивался в разговор гитлеровцев, но так ничего и не понял. «Придется подсказать Саше — пусть разведает», — решил он и, боясь, что его могут услышать снаружи, осторожно, на цыпочках, двинулся обратно.Глава шестая
Пырин паял дно эмалированной кастрюли, когда к нему зашел застенчивый голубоглазый парень. Робко осмотревшись вокруг, он положил на стол замок, многозначительно подмигнул, сказал, что за ключом зайдет завтра, и вышел. Замок был хорошо знаком Пырину он принадлежал связной. Об этом посещении Сердюк узнал уже в конце дня, когда вернулся с толкучки, и удивился. Обычно связная давала ему адрес явок, чтобы он сам мог найти нужных ему людей. «Хотя дала же она явку радисту», — тут же возразил себе Андрей Васильевич. Назавтра он не пошел на базар, чтобы не пропустить посетителя, но ждать пришлось довольно долго. Парень появился после полудня. Пырин провел его в жилую часть дома, к Сердюку, и вернулся к себе. Вошедший стал во фронт, отдал честь по всемправилам и выпалил: — Захар Иваненко в ваше распоряжение прибыл! Сердюк придал своему лицу выражение недоумения: — Что-то у меня такого знакомого не было. — Не было, так будет, — добродушно улыбаясь, ответил парень. — Здравствуйте, Андрей Васильевич. — Здравствуйте, — неопределенным тоном протянул Сердюк, пожимая грубую, покрытую мозолями руку. «Наверно, сапер», — решил он. — Мне поручено передать вам оружие и задание. — Иваненко непринужденно уселся на стул. — Постой, постой, — перебил его Сердюк. — Не понимаю: какое оружие, какое задание? — От Юлии Тихоновны… — Не знаю никакой Юлии Тихоновны. Иваненко растерялся, веки его дрогнули. — Вы Андрей Васильевич Сердюк? — переспросил он шопотом. — Я. Парень мгновенно успокоился. — Тогда разрешите начать по порядку, а то мы так долго не договоримся. Юлия Тихоновна натолкнулась на нашу группу. — Подожди. Что ты буровишь? Какая Юлия Тихоновна и на какую группу? — Да дайте досказать! — осердился Иваненко. У Юлии Тихоновны тут явочная квартира есть на окраине, оставленная нашими до отхода. Оружие на той квартире заложено. Пистолеты «ТТ» и гранаты-лимонки. Ну, мы до той квартиры и добрались. — Кто это «мы»? — Пятеро нас, из окруженцев. Пробирались к фронту, перейти хотели, но одного подстрелили, и он, умирая, адресок нам дал. Сердюк поднялся, открыл дверь, позвал Пырина. — Алексей Иванович, позовите полицая, а я этого молодчика постерегу. Красноармеец он. Иваненко, побледнев, выхватил из кармана пистолет: — Стой, сволочи! Предать хотите? Пырин попятился. Сердюк добродушно усмехнулся: — Рассказывай дальше. — Погоди с рассказом. А ну-ка, паспорта ваши. Посмотрю, что вы за птицы. Юлия Тихоновна говорила, что Сердюк — человек умный. Сердюк достал паспорт. Иваненко внимательно просмотрел его от корки до корки и вернул. Проверил паспорт Пырина, пожал плечами: — Выходит, к своим попал… «Хваткий мужик», — подумал Сердюк и решил продолжать разговор: — Как фамилия того, кто адрес дал? — Не знаю. Звали Степаном, неохотно ответил Иваненко, не пряча пистолета. — А вы чего полицаем пугаете? — Ну ладно, ладно, — смягчился Сердюк. — Давай дальше. Откуда Степан о квартире знал? — Его собирались оставить партизанить, а в последний день на фронт взяли. Адрес он в памяти сберег. Сердюк стал подробно расспрашивать Иваненко, где работал, где служил, как попал в окружение. — Ранен, говоришь? Покажи. — Да что я, в гестапо на допросе, что ли? — А ты откуда знаешь, как в гестапо допрашивают? — Кто не знает! Все слыхали. Иваненко сбросил потрепанное пальто, пиджак, расстегнул выцветшую клетчатую рубашку и обнажил плечо. Вдоль ключицы краснел свежий шрам. — Паспорт твой, — потребовал Андрей Васильевич. Пренебрежительно посмотрев на Сердюка, Иваненко стал не спеша одеваться. — Паспорт, говорю. — Какой у бойца паспорт? Есть один документ. Доставать не хочется — спрятан далеко. — Доставай. Парень отпорол перочинным ножом подкладку пальто, бережно вынул свернутые листки, развернул их на ладони и протянул Сердюку. Андрей Васильевич увидел партийный билет без обложки. — «Захар Карпович Иваненко», — вслух прочитал Сердюк. — Какую получал зарплату? Иваненко назвал суммы — они сходились с суммами членских взносов. — Кто билет вручал? — Лично секретарь горкома Проскурин. — Рассказывай дальше. Присев на стул, Иваненко прежде всего стал прятать партийный билет. Входная дверь мастерской хлопнула — он вздрогнул всем телом. Пырин вышел принимать посетителя. Минут через пять дверь хлопнула снова — очевидно, посетитель ушел. — Так вот. Добрались мы кое-как до этой квартиры, пароль назвали, — продолжал Иваненко. — Какой? — «Не продается ли здесь кровельное железо?» — Ответ? — «Нет. Только обручное». Ну, и зажили. А связаться больше ни с кем не можем. Хозяин только квартиру свою знает да пароль и больше ничего: может, не уполномочен. А вчера вечером Юлия Тихоновна пришла. Хозяин нас в комнате запер, чтобы её не видели. Она о нас расспросила, потом меня одного вызвала, допросила не хуже твоего, документы проверила и передала, что прийти к вам не может, оттого что в городе её ищут и приметы хорошо знают. Она и внешность свою изменила. То ходила в сером пальто, в платке, с кошелочкой, очки в железной оправе… — А ты откуда знаешь, как ходила? — резко спросил Сердюк. Широкая улыбка осветила лицо Иваненко: — Сама рассказала. Говорит, Сердюк обязательно о моей внешности спросит. Опишешь меня: в шапочке, без очков и с сумочкой — он тебя сразу стукнет. Прогноз возможных событий был дан довольно точно. Андрей Васильевич усмехнулся: — Так какое она передала задание? — Собрать воедино все партизанские группы, вооружить их и уничтожить на аэродроме самолеты. Сердюк насторожился: связная никогда не называла подпольщиков партизанами. Однако так могло преломиться в сознании парня. А вот насчет объединения сил — немного странно. Это что-то новое в тактике подпольной борьбы в Донбассе. Впрочем, когда стоял вопрос о взрыве на электростанции, связная советовала объединить силы всех групп. Поразмыслив, Андрей Васильевич сказал: — Это очень сложная операция. — Нет, не очень, — успокоительно произнес Иваненко. Дело решит внезапность нападения. Подожжем самолеты, цистерны с горючим — и айда! — По освещенной степи? Иваненко замялся: — М-да, об этом я не подумал. Что ж, самолеты забросаем гранатами, а цистерны прострелим и струи поддожжем, — внезапно нашелся он. Огонь сначала будет слабенький. Пока усилится — успеем уйти. Глаза Сердюка загорелись: вот это операция! Пылает аэродром… Как поднимется дух населения! — Сколько оружия? — спросил он. — Сотня пистолетов и столько же гранат. Хватит на всех? Как ни непосредственно было сказано это, Сердюк насторожился снова. — Надо подумать, хватит или нет. Иваненко, казалось, удовлетворился уклончивым ответом. — Командовать сами будете или назначите кого из нас? Все мы бойцы кадровые, обстрелянные. — Сам, сказал Сердюк, но тотчас передумал. — Нет, пожалуй ты. Я рядовым. Заходи послезавтра — обмозгуем. А завтра на квартиру мой хлопец придет, оружие просмотрит. — Да мы сами. В оружии разбираемся. — Лишний глаз — не помеха. У меня слесарь-оружейник есть. Молодой, но опытный. А как же мы такое число людей вооружим? — Это не хитро, — после короткой паузы заключил Иваненко. — Пусть народ уходит из города с утра, будто по селам на менку. К вечеру они за чертой города останутся, а потом в балке соберутся. Оружие мы перенесем туда заранее и закопаем. — Да ты, оказывается, стратег, — пошутил Сердюк. — Э, война всему научит! Иваненко сообщил номер дома на Боковой улице и дружески распрощался.Глава седьмая
Ожидая прихода Павла Прасолова с инспекторского осмотра оружия, Сердюк нетерпеливо мерил шагами небольшую комнату своей тетки, уставленную старомодной мебелью. Тетка, предусмотрительно отправленная к соседке, вот-вот могла прийти, а Павла всё не было. «Прилип, что ли, там?» — сердился Андрей Васильевич, зная о любви парня к оружию. В компетентности Павла Сердюк не сомневался. У Павла действительно была страсть к револьверам. В раннем детстве он не расставался с пистолетом, стрелявшим пробкой, позже появился пугач, а затем на смену ему пришли негодные револьверы разных систем, которые он выменивал у мальчишек своего поселка, целыми днями шнырявших в поисках добычи на заводских складах металлического лома. Он терпеливо возился со своим арсеналом, хранившимся в заброшенном курятнике, безуспешно пытаясь то исправить смятый в лепешку барабан, то выправить окончательно искривленный ствол, из которого, как говорил, посмеиваясь, его брат Петр, можно было, целясь в дверь, попасть в крышу. Уже вечерело, когда появился озабоченный Павел. — Ну, как оружие? — спокойно спросил его Сердюк. — Сто штук «ТТ» новеньких, один в один. Всё осмотрел. Жаль, бабахнуть нельзя было. — Где прячут оружие? — В погребе. У них он хорошо замаскирован. На люке, что в погреб ведет, буфет стоит тяжелющий. Насилу вчетвером с места сдвинули. — И ты ничего с собой не принес? — Не дали. Я было отложил два «ТТ» и две лимонки завернул в тряпочку — тряпочку специально с собой захватил, — да забрали, окаянные. «Мы, говорят, по счету приняли по счету и сдадим. Дело военное. А тебя где-нибудь с этим сверточком поймают и к ногтю». — Правильно рассудили. Значит, так ничего и не взял? — Ей-богу. — Ох, врешь, Паша! На тебя не похоже. Чтобы ты ничего не стащил из оружия — быть не может. Павел потупил глаза: — Неужели я пистолета не заработал, Андрей Васильевич? — Куда дел? — потребовал Сердюк. — Под крыльцом во дворе спрятал. «ТТ» и лимонку. — Неси. Павел неохотно вышел и принес два свертка. Сердюк внимательно осмотрел пистолет, вынул капсюль из гранаты, положил на стол. Павел не сводил с пистолета зачарованных глаз. — Оружие как оружие, — заключил Сердюк. — А что тебя беспокоит? — Обстановка в доме странная. Ничто ни к чему не подходит. Видно, с разных квартир натаскана. А какой подпольщик будет этим заниматься? — А ещё? — Сердюк чувствовал, что Павел не договорил до конца. — Ребята не как ребята. Больно уж сытые все. По-моему, такими люди из окружения не выходят. Все по-солдатски остриженные, волосы короткие, словно сегодня из парикмахерской. Где бы это они могли? Если в армии стригли, то уже обрасти должны. А? В пальцах Сердюка заерзала папироса. Он смял её и бросил на пол. Потом взял капсюль гранаты, взвесил его в руке, шагнул к печи, бросил в пылающие угли и отбежал в сторону, увлекая за собой Павла. Павел сжался, ожидая, что капсюль взорвется, но прошла минута, другая было тихо. Сердюк, прикрыв лицо руками, заглянул в открытую печь. Раскаленный капсюль спокойно лежал на углях и уже начинал плавиться. — Липа? — спросил Павел. Сердюк кивнул головой. Он был бледен, глаза неподвижно уставились на раскидистый фикус у окна. — Значит, выследили нас, Андрей Васильевич? — Выследили, Паша. — Доработались… — процедил Павел и, взяв со стола пистолет, сунул его за пояс брюк. Давно, очень давно Сердюк не испытывал такой растерянности. Перед его глазами прошла вереница людей — Теплова, Петр Прасолов, Мария Гревцова, Саша. Кто выслежен? Может быть, их уже схватили, может быть Теплову (почему-то он подумал именно о ней) терзают сейчас в гестапо… И во всём виноват он. Значит, плохо соблюдал конспирацию, не оправдал доверия партии. В изнеможении от этих дум он опустился на стул. «Нет, сегодня их не возьмут, — мелькнула мысль. У них другой план: захватить всех. Это ясно. Иначе меня схватили бы первым. Значит, есть время для размышления, для действий». — Ещё поработаем, — тихо, как бы про себя, сказал он. — Слушай, Павел. Передай Тепловой приказ от моего имени — немедленно уйти к Крайневу. — Через линию фронта? — Она знает куда. — А я? — Ты тоже с ней. — Я останусь. Меня ведь только тайные агенты видели, а они в гестапо не ходят. У вас на явке я за последние два месяца первый раз. — Возможно, тебя сегодня и выследили. — Ну да, усмехнулся Павел, — меня выследят! Я дворами сюда шел — дворами и уйду. — На улице встретят. — Тогда вот этот пущу в ход. — Павел выразительно похлопал себя по бедру, где за поясом был спрятан «ТТ», который, ввиду чрезвычайных обстоятельств, решил не отдавать Сердюку. Андрей Васильевич с нежностью и тревогой посмотрел на паренька: — Согласен при одном условии. Поселишься в кочегарке и будешь там дневать и ночевать. — Идет! — обрадовался Павел. — Меняю хату на кочегарку. От гестаповцев лучше всего прятаться в гестапо. А вы? — Я и Пырин пока останемся. Надо, Паша, предупредить ещё одного товарища. — Сердюк думал о радисте. — А то придет в мастерскую на явку — и прямо в лапы… — И вдруг подошел к Павлу вплотную: — А ну-ка, давай оружие. — Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! — скулил Павел. — Давай, давай! Осмотрю — верну. — Честное партийное? — Честное. Давай. Павел недоверчиво протянул пистолет. Сердюк вынул обойму, проверил механизм — действует безотказно. Один за другим разложил на столе патроны. Внимание привлекли легкие, почти незаметные простым глазом царапины на одной пуле. Царапины были расположены симметрично. Значит, кто-то вынимал пулю из гильзы. Сердюк торопливо достал ручные тиски, зажал в них пулю. Она подалась без особого труда, и содержимое гильзы — мелкий желтый порошок, похожий на яичный, — высыпалось на стол. Когда Сердюк поднес спичку, порошок не вспыхнул, а загорелся спокойным синим огоньком. — Ну, счастье твое, Паша, что проверили! — сказал он и показал глазами на всё ещё горевший порошок. — Это взрывчатка. Вместо выстрела — взрыв. — Всё предусмотрели, сволочи! — ужаснулся Павел. — Всё. Даже наш контрход, если бы мы, разгадав их замысел, заранее напали на склад, чтобы вооружиться. Всё. — А пистолет в порядке? — с надеждой в голосе спросил Павел. — В порядке. Как удалось стащить? — Схитрил. Коптилку рукавом погасил, будто нечаянно. Пока зажигали — я за пазуху. Сердюк вышел в кладовую, долго гремел там банками, бутылками и принес обойму с патронами. — Бери и марш выполнять задание! Да помни о слежке.* * *
Иваненко появился в мастерской на другой день. Не каждый актер может быть разведчиком, но каждый разведчик должен быть актером. Сердюк встретил провокатора приветливо, даже самогоном угостил. Иваненко размяк, но при каждом скрипе наружной двери не забывал вздрагивать. Андрей Васильевич смотрел в его голубые приветливые глаза и думал, что всё имеет свои пределы, только подлость безгранична. — Вы когда решили действовать, Андрей Васильевич? — спросил Иваненко после второй рюмки самогона. — В следующее воскресенье. Брови у Иваненко внезапно сошлись. — Так нельзя судьбу испытывать, — укоризненно сказал он. — Жить ещё неделю на явочной квартире, где оружие спрятано! Облава, обыск — и сорвалась операция. Иваненко держался так естественно, говорил так задушевно, что Сердюк на какой-то миг потерял ощущение, что перед ним враг. — Операция — это пустяк. Лишь бы организация не провалилась. — Но почему все-таки в воскресенье? — допытывался Иваненко. — По трем причинам. Первая: всех оповестить не такое простое дело. Это не на общее собрание в мирное время созвать. Вторая — на менку люди больше всего по воскресеньям ходят. И есть третье соображение — ближе к годовщине Красной Армии. Это, так сказать, будет наш предпраздничный подарок. Понял, дружище? — Сердюк положил свою большую, тяжелую руку на плечо Иваненко. Против таких аргументов возражать было трудно, и Иваненко возражать не стал. Он принялся излагать свои соображения: — Операцию лучше начать попозже, часа в два ночи. Но долго держать в балочке столько людей опасно. Придется выступить часов в десять. А вам, Андрей Васильевич, безопаснее всего прийти к нам, на Боковую. Оттуда все вместе через степь махнем. Всё-таки нас будет пятеро. «Всё продумано. Меня живьем взять хотят», — понял Сердюк, но выразил полное согласие с планом.Глава восьмая
Прошло три дня после посещения мастерской Иваненко. Ни Павел, ни Валя Теплова к Пырину больше не являлись. За них Сердюк был спокоен. И за себя он совершенно не тревожился: до воскресенья — назначенного дня операции — его не схватят. Андрей Васильевич рассказал обо всем Пырину: явочная квартира выслежена, они находятся под угрозой ареста, но поста своего оставить пока не могут, так как в воскресенье днем, пожалуй, придет на явку радист. Пырин выслушал Сердюка с удивительным спокойствием. — Вы напрасно так к этому относитесь, — сказал ему Андрей Васильевич. — В гестапо пытают. — От меня ни звука не добьются, — заверил его Пырин. В ночь на воскресенье Сердюк спал плохо, часто просыпался, вставал, ходил по комнате, много курил, не обращая внимания на бурчанье тетки. «До часа раздачи оружия подпольщикам, пока гестаповцы убеждены, что операция состоится, жизнь людей гарантирована, — думал Сердюк. — Но удастся ли нам с Пыриным благополучно ускользнуть? Если удастся — гестаповцы безусловно засядут здесь, и радист попадется». Сердюк успокоился, только когда додумался спалить перед уходом мастерскую. Придет радист, увидит — и всё поймет. Утром он засел в жилой половине дома и стал ждать. Около одиннадцати часов Пырин доложил, что пришел какой-то человек, назвал пароль и спросил Сердюка. Поздоровавшись, вошедший лихорадочно сбросил полупальто, расстегнул пояс брюк и достал радиограмму. Она была коротка: «В ваш район заброшены агенты гестапо, окончившие спецшколу. Опознавательные знаки школы — на одном рукаве пиджака две пуговицы, на другом одна. Примите меры к их ликвидации. Особенно Захара Иваненко. Крайне опасен. Снабжен партийным билетом». Сердюк спокойно перечитал радиограмму и тут же сжег её. — Большое спасибо за весточку с Большой земли, — поблагодарил он радиста. — Кое-что мы разгадали сами, радиограмма подтверждает наши догадки. Спасибо. Радист снял шапку, вытер пот с землисто-желтого, как у малярика, лица, нервно причесал волосы. Под правым, слегка косящим глазом часто билась выпуклая синенькая жилка. «Трусоват, — заключил Сердюк и невольно усмехнулся. — А вот лицо Иваненко внушает доверие». — Наши дела сейчас очень неважны, — сказал он, глядя радисту прямо в глаза. — Квартира эта выслежена и, очевидно, находится под наблюдением. Вам придется уйти черным ходом, а потом — дворами. И внимательно следите, чтобы кто-нибудь не увязался. Передатчик у вас на дому? — Н-нет, замялся радист. Вошел испуганный Пырин и шепнул: — В мастерской Иваненко… Услышав эту фамилию, радист рванулся со стула и непонимающе посмотрел на Сердюка. Сердюк тоже заметно растерялся — встреча с Иваненко была назначена на пять часов вечера. Он вынул из кармана пистолет, положил перед собой на стол, накрыл полотенцем. — Впусти, сказал он и обратился к радисту: — А ты сиди. Вошел Иваненко, поздоровался с Сердюком, протянул руку радисту. Тот нехотя подал ему свою. — Чего явился так рано? — поинтересовался Сердюк. — Как тут усидишь дома, Андрей Васильевич… — Можешь при нем говорить всё. Это свой, — сказал Сердюк и посмотрел на радиста, уставившегося на рукава Иваненко. Взглянул на них и Сердюк. На левом рукаве пиджака отсутствовала одна пуговица. — Всё остается без изменений? — осведомился Иваненко. — Вы заходите к нам, а ровно в десять… — А что, Штаммер опасается, как бы срок не перенесли? — потеряв обычную выдержку, с издевкой проговорил Сердюк и протянул руку под полотенце. Провокатор от неожиданности отступил на шаг и в следующий миг сунул руку в карман. Сердюк выстрелил навскидку, не успев сбросить полотенце. Иваненко с пробитой головой рухнул на пол. Не выпуская оружия, Сердюк подошел к провокатору, достал из его кармана пистолет и пропуск для ночного хождения по городу. Больше ничего у того не оказалось. В дверь заглянул Пырин и тотчас вернулся к себе. — Ловко вы его! — Радист с трудом перевел дыхание и посмотрел в окно — не слышал ли кто из прохожих выстрела? На улице было пусто. — Рамы двойные, выстрел слабый, — успокоил его Сердюк и спросил: — Стрелять умеешь? — Конечно. — Тогда возьми, Сердюк протянул пистолет. — Может, пригодится. Хотя лучше бы не пригодился. Он нагнулся над Иваненко, рванул ворот рубахи. — Смотри, как тонко работают! Даже шрам сделали. Попробуй раскуси вот такого. Труп засунули под кровать, опустили пониже одеяло. Сердюк набросал текст радиограммы, в которой коротко сообщил о происшедшем и дважды повторил, что связная схвачена гестапо. — Передать немедленно, — он протянул бумажку радисту. — Ночью тебя уже могут арестовать, если выследят. Сегодня-завтра не схватят значит, уцелеешь. Он договорился о пароле, установил явку и проводил радиста черным ходом. Рассказав Пырину о радиограмме из штаба, Сердюк приказал ему закрыть мастерскую как обычно, а в десять прийти в каменоломню за городом. Оттуда они проберутся в подземное хозяйство. — Значит, остальные филеры останутся в целости? — с укором сказал Пырин. — А приказ штаба? — Не до жиру, быть бы живу! — отмахнулся Сердюк. Его самого мучила невозможность уничтожения провокаторов. Больше здесь делать было нечего, и Сердюк ушел дворами, непрестанно озираясь, нет ли слежки.Гейзен и Штаммер ещё раз продумали свой план. В девять часов вечера партизаны, по данным Иваненко, должны собраться в небольшом овраге между городом и аэродромом. Вот здесь их и накроют. Для проведения операции были созданы ударная группа окружения и резерв для оцепления на тот случай, если кому-нибудь из партизан удастся прорваться. По первому выстрелу с аэродрома поднимутся самолеты, сбросят висячие осветительные ракеты, и операция из ночной превратится в дневную. Только одно обстоятельство тревожило гестаповцев: от Иваненко не приходил связной, который должен был подтвердить, что партизаны не отложили нападения на аэродром. Около семи часов вечера прибежал агент, наблюдавший за мастерской, и доложил, что Пырин ушел из мастерской, а Сердюк, Иваненко и ещё какой-то третий на улице не показывались — должно быть, дожидаются темноты. Гейзен призадумался, но велел ничего не изменять в плане операции.
Глава девятая
Выполнять распоряжение Сердюка Пырин не собирался — у него созрел свой план. Закрыв мастерскую, он приподнял топором доску пола в сенях и извлек из-под неё жестяную банку. В ней находились завернутый в ветошь капсюль и граната. Вернувшись в комнату, он поставил гранату на боевой взвод, тщательно укрепив кольцо, затем, со свойственной ему аккуратностью, пробил небольшое отверстие точно в середине крышки банки и продел в него шпагат. Один конец шпагата привязал за кольцо гранаты, сделал петельку на другом конце, вложил гранату в банку и закрыл крышку. Убедившись, что капсюль лежит на столе, потянул петельку. В банке щелкнуло. Открыл крышку — предохранительное кольцо было снято, взвод спущен. Он повторил свой опыт несколько раз. Нехитрая механика действовала безотказно. Потянув шпагат, можно было взорвать гранату, не доставая её из банки. Пырин слабо улыбнулся, вложил капсюль в гранату, привел механизм в боевую готовность и завернул банку в газету, оставив петельку шпагата снаружи. Потом разделся, помылся до пояса, вымыл ноги, надел чистое белье и решил позавтракать. Покосившись на кровать, под которой лежал труп провокатора, вынес еду в мастерскую и расположился за рабочим столом, на котором тикали часы, напоминая дружный стрекот кузнечиков в вечернем поле. Он залпом выпил стопку спирта, брезгливо поморщился и неторопливо съел картофель и капусту, вылив в тарелку все постное масло, оставшееся в бутылке. Тщательно, по-хозяйски, заперев дверь мастерской, он со свертком подмышкой побрел по городу. На Боковой улице он приостановил шаг у невзрачного трехоконного домика, обращенного фасадом в степь. «Третий от угла, — отметил в памяти Алексей Иванович. — Найду и в потемках». День стоял солнечный. Кое-где по дороге чернели проталины. Пырин вышел на пригорок и остановился. Сколько раз обозревал он отсюда родной завод с многооконными стройными корпусами… Уныло выглядел теперь завод. Только один паровозик зачем-то бегал по путям, надрывно свистя. Дальше Пырин не пошел. Отойдя от дороги, присел на камень в небольшой ложбинке и стал смотреть на небо, где спокойно плыли на восток тесно прижавшиеся друг к дружке взъерошенные облака. «К нашим направились. К нашим…» Невдалеке по дороге шли люди. Шли они изнуренные, мрачные, не разговаривая друг с другом. Это возвращались горожане из окрестных сел с небольшими узелками за плечами. Они тревожно всматривались в даль — нет ли впереди полицаев или гитлеровцев. Когда солнце прижалось к земле, Пырин долго с тоской следил за медно-красным диском, медленно врезавшимся в землю. Макушка солнца постояла-постояла ещё над горизонтом и вдруг исчезла, провожаемая лучами. — Увижу ли его завтра? — вслух спросил себя Пырин и покачал головой: — Вряд ли. А может быть, и увижу. Как обернется… Облака заалели по краям, как подожженные, местами запылали, и темносизая масса их, теперь расчлененная светящимися контурами, стала объемной. По небу разлилась та необычайная, тревожащая и манящая своими контрастами гамма красок, которую можно видеть только при закате. Уже стемнело, когда Пырин поднялся и направился к городу. На Боковой улице подошел к третьему дому от угла и остановился. И вдруг безумно захотелось уйти отсюда, снова встретиться с Сердюком, жить где угодно, как угодно, но только жить. Он уже повернулся, осторожно, на цыпочках, чтобы потихоньку удалиться. «А кто выполнит приказ о ликвидации агентуры? — подумал Пырин. — Погибну? Но стольких людей спасу, умертвив гадов!» Чтобы не потерять вернувшейся решимости, он торопливо подошел к двери и постучал. — Кто? тотчас откликнулся человек. Пырин продел палец в петлю шпагата. — Здесь продается кровельное железо? — глухо спросил он и не узнал своего голоса. Дверь мгновенно распахнулась, и Пырин шагнул в темную переднюю. Кто-то взял его за руку, помог переступить высокий порог. В комнате тоже было темно. «Что, если убьют раньше, чем дерну за шпагат?» мелькнула мысль. В лицо ударил яркий свет электрического фонаря. — Сердюк? — спросил кто-то. — Нет, Сердюк придет позже, — равнодушно ответил Пырин, щурясь от света. — А ты кто? — Его помощник. Фонарь погас. Чиркнули спичкой, зажгли лампу, и Пырин увидел трех вооруженных пистолетами мужчин, стриженных под машинку. Резко распахнулась дверь из другой комнаты. Выскочили четверо в гестаповской форме. «Ого, семеро! — внутренне обрадовался Пырин. — Ей-богу, за это стоит!» — Ручки на всякий случай поднимите! — произнес один из стриженых, хотя вид Пырина не возбудил в нём никаких опасений. Пырин конвульсивно дернул шпагат, выронил банку. Как кошка, одним прыжком выскочил в сени и упал. Вслед раздался выстрел, и оглушительный взрыв потряс весь дом. Пырин встал. Дверь из сеней на улицу была сорвана взрывом. Свежий воздух пахнул ему в лицо. «Бежать, бежать скорее!» — мелькнула мысль, и он выскочил на улицу, не видя солдат, спешивших к нему из засады, не слыша топота их сапог. Кто-то огромный, как медведь, набросился на него сзади, свалил на землю и оглушил ударом.* * *
Сердюк стоял у каменоломни, наблюдая фейерверк в степи. Здесь была ночь, а в районе аэродрома — день. Гитлеровцы не пожалели ракет. Но постепенно ракеты погасли, степь погрузилась во мрак, а Пырина всё не было. Сердюк прождал его до рассвета и с тяжелым сердцем направился ко входу в подземное хозяйство.Глава десятая
Бешенство Гейзена не имело границ. Для проведения операции были стянуты пехотные войска, полевая жандармерия, приведена в готовность авиачасть. А вся добыча заключалась в нескольких горожанах, которые, боясь ночью войти в город, заночевала в степи, и в одном — только одном! — подпольщике. Потери же были большие: четыре агента ОУН и четыре офицера гестапо, посланных на поимку Сердюка. Пятеро из них оказались убитыми, трое хотя и были живы, но так изрешечены, что думать об их возвращении на работу не приходилось. Но это беспокоило Гейзена меньше, чем потеря собственного престижа в глазах подчиненных и в глазах начальства. Какой скандал устроит ему Гиммлер!.. Хорошо, если только понизит в должности… Гнев Гейзена сменился страхом, когда к нему ввели Пырина. «Если такой моллюск мог уничтожить семерых, чего же ожидать от прочих?» — было первой его мыслью, когда он увидел Алексея Ивановича, мигающего от яркого света близорукими глазами. Ожидал встречи с сильным человеком, похожим на Сердюка, а перед ним стоял щуплый, со впалой грудью, бледный человек с потухшим взглядом. Гейзен предложил Пырину сесть, протянул сигарету. К его удивлению, партизан сигарету взял, но было видно, что он никогда не курил — держал её неумело, не затягивался, а, набрав в рот дыма, немедленно выпускал его. — Ви, конечно, понимайт, где ви ест? — спросил Гейзен, щеголяя перед Штаммером знанием русского языка. — Угу, — протянул Алексей Иванович, мысленно проклиная себя. Для чего он пытался бежать? Гитлеровцы не такие дураки, чтобы оставить дом без внешней охраны. Лучше было не выскакивать из комнаты и погибнуть вместе с этой сволочью. Он так задумался, что Гейзену пришлось повторить свое предложение сохранить подпольщику жизнь в обмен на сведения об организации. Иначе — пытка. Пырин понимал, что мучений ему не избежать. Захотелось отдалить пытку хоть на короткий срок. — Хорошо, — согласился он, я расскажу всё, что знаю. Но что я получу за это? — Жизнь, — отрезал Гейзен, удивляясь сговорчивости подпольщика. — Этого мало! — усмехнулся Пырин и взял другую сигарету, хотя во рту было горько от первой. — Что ви желайт ещё? — спросил Гейзен, в эту минуту решивший обещать всё, что потребует этот похожий на скелет человек. Ведь ему ничего не стоило задабривать Пырина всякими посулами. — Голодная жизнь меня не устраивает. Нужен собственный домик с садиком, с обстановкой и деньги. — Аллес кённен вир гебен, аллее, что ви пожелайт, — пообещал Гейзен, путая русские слова с немецкими. В эту минуту он был настроен на благодушный лад. Алексей Иванович знал цену всяким обещаниям гитлеровцев, но решил продолжить игру. — Расписку, потребовал он. — Словам не верю. Гейзен, решивший, что русский в самом деле даст за бумажку важные сведения, охотно согласился, написал ни к чему не обязывающую его расписку на немецком языке, перевел её как мог и передал Пырину. Тот аккуратно, с большой почтительностью, свернул бумажку, спрятал в карман. — Я знаю немного, но самое главное… — Пырин перешел на полушепот и, выговаривая каждое слово раздельно, таинственно произнес: — Руководителем подпольной организации является новый начальник городской управы, а его помощником — инженер Смаковский. Гейзен остолбенел: — А Сер-дьюк? Кто Сердьюк? — Сердюк? — наивно переспросил Пырин. — Сердюк — мой служащий и в этих делах ничего не понимает. — А фрау ин железные очки? — допытывался Гейзен. — Железные очки? — Пырин пожал плечами. Не помню. Многие приходят ремонтировать разное барахло. И в очках и без очков. Гейзен испытующе посмотрел на Пырина, подумал и приказал увести его в другую комнату и накормить. Пырин с аппетитом поел консервированные сосиски, запил холодной водой и улегся на мягкий диван, с тревогой размышляя о том, что будет дальше. Нервное напряжение сказалось, и Алексей Иванович вскоре задремал. Около двух часов ночи его снова вызвали к начальнику гестапо. Кроме гестаповцев, там сидели двое русских: Смаковский, которого Пырин знал ещё по мартеновскому цеху, и лысый брюхатый человек с одутловатым лицом. — Ви всё лжет! — заорал Гейзен, брызгая слюной. Глаза его расширились, бульдожьи щеки налились кровью. — Ми понимайт! Тактика инженер Крайнев! Он видавал наших людей за партизан, ви — тоже. Ви хитрит — ми тоже будем хитрит! Пырина увели в подвальную камеру, раздели догола и оставили. Он ожидал побоев, пыток и вначале удивился тому, что обошлось без них. Но вскоре всё понял. Решетчатое оконце в камере не было застеклено, и в ней стоял такой же холод, как на дворе. По коже забегали мурашки, начали стыть ноги. Алексей Иванович принялся быстро ходить по цементному полу, покрытому снежным налетом. В оконце задувал ветер, и снежинки, падавшие на кожу, казалось обжигали, как раскаленные уголья. Устав от ходьбы, он сел на холодный пол и тотчас почувствовал, как мучительно заныло всё тело. Снова встал и ходил до тех пор, пока, изнеможенный, не свалился на пол. Стало совершенно ясно, что единственным исходом является смерть. «Может быть, замерзну? Пусть застывает кровь, пусть остановится сердце!» Он решил лежать не двигаясь. Но озноб, охвативший всё тело, и мучительная боль в суставах были невыносимы. Обдирая в кровь колени о шершавый каменный пол, порой падая на грудь, он стал ползать на четвереньках, поднимался и снова ползал, чтобы согреться. Острая боль в коленях, с которых слезла кожа, притупляла ощущение холода. Пришли гестаповцы, подняли Пырина, одели и повели на допрос к Гейзену. В кабинете было накурено, но тепло, и Алексей Иванович почувствовал, как к нему возвращается жизнь. — Хотите шнапс? — Гейзен поднес ему водки. Пырин, дробно стуча зубами о стакан, выпил водку. По телу медленно стало разливаться тепло. Гейзен подождал, пока алкоголь окажет действие, и сделал знак Штаммеру. Тот нажал кнопку звонка, и через несколько минут солдаты внесли на носилках женщину. С большим трудом Алексей Иванович узнал в ней связную и содрогнулся. Снова перед глазами поплыли круги. Лицо женщины было черно от кровоподтеков… Она ещё жила, но дышала слабо, и было видно, что умирает. — Знайт эта фрау? — спросил Гейзен, довольный произведенным впечатлением. Пырин решил, что отпираться не только бесполезно, но и вредно. Этим он мог навлечь на себя ещё большие подозрения. Гестаповцам известно, что связная была у него в мастерской. А причины её прихода никто из них не знал. — Видел, — выдавил он из себя и заметил, как у связной слегка дрогнули полузакрытые веки. — Очень карашо! — обрадовался Гейзен. — Зачем ви её видел? — Она приносила замок. — А сколько времья нужно, чтобы майстер узнавать, какой ремонт делать? Пырин напряг память, вспоминая, сколько времени связная пробыла у Сердюка. — Это очень сложный механизм. Я возился больше часа, но так и не сделал ключа. — Дас ист аллее, вас мёхтен зи заген? — выкрикнул Гейзен и подошел к Пырину вплотную. — Всё! — произнес Алексей Иванович. Гейзен грубо выругался. Бить этого человека не имело смысла. От нескольких ударов он умрет — тогда прощай последняя нить. В камере он тоже мог замерзнуть. — Иголка в ногти! — подчеркнуто громко приказал Гейзен Штаммеру. Пырина охватил озноб. Значит, и его замучают, как связную. Как же спастись от истязаний? Счастливая мысль осенила его. Шатаясь, он подошел на три шага к тяжелому дубовому креслу, подвинулся ещё ближе, прикинул глазом. Штаммер смотрел на него непонимающе. Гестаповские офицеры вошли в кабинет в то мгновение, когда Пырин, повалившись на бок, ударился виском об острый выступ ручки кресла. Расчет оказался точным: острая боль в голове было последнее, что он ощутил.Глава одиннадцатая
Под штаб-квартиру Сердюк облюбовал водосборник доменного цеха. Сюда во время работы завода собиралась вода, служившая для охлаждения доменных печей. Немало потребовалось усилий, чтобы сделать помещение с бетонными стенами и таким же перекрытием пригодным для жилья. Пришлось убрать накопившиеся на дне осадки, заделать многочисленные отверстия, оставив одно, служившее входом, устроить у стен нары. Железнодорожный фонарь, стоявший прямо на полу, освещал только стену с отверстием, завешанным куском истлевшего брезента. Сквозь это отверстие по бетонному тоннелю можно было попасть в общий водосборник. Там сходились тоннели из всех новых цехов завода, и оттуда тянулся большой тоннель для спуска вод в ставок. Сердюк решил отсидеться некоторое время, чтобы не подвергать подпольщиков опасности. Обозленные полным провалом задуманной операции, гитлеровцы рыскали по городу, устраивали облавы на базаре, производили массовые обыски. Единственным звеном, связывающим группу с поверхностью, был Саша. Ночью он пробирался в тоннель со стороны ставка, приносил еду и сообщал все новости. Первое время он встречался с Крайневым в общем водосборнике, потом Сергей Петрович уговорил Сердюка открыть Сашке их точное местонахождение: — Недоверие обижает парня. Всё равно он знает приблизительно, где мы. Пусть знает до конца. Сердюк разрешил привести Сашку в штаб-квартиру. Представление, которое обычно создается о человеке до встречи с ним, большей частью бывает далеким от действительности. Сердюк не ожидал увидеть низкорослого, щуплого с виду парнишку с наивным, ещё не тронутым возмужалостью лицом и понял секрет неуловимости Сашки: гитлеровцы не принимали его всерьез. — Ты, говорят, подручным сталевара работал. Что же, ты к печке скамейку носил? — пошутил Сердюк. — Мал золотник, да дорог, — отрезал Саша, уязвленный в самое больное место. — Что дорог, то верно. — Сердюк улыбнулся, прижал паренька к себе. — Рассказывай, дружище. Какие новости? Саша торопливо полез в одну из бесчисленных дыр подкладки своей стеганки, достал желто-бурую бумагу, сложенную в несколько раз, развернул её на полу перед фонарем. Сердюк, Теплова и Крайнев склонились над листом. С трех фотографий большого объявления смотрели их собственные лица. — По пятьдесят тысяч марок за голову… — иронически протянул Сердюк. — Не дешево ли? Пожалуй, скоро набавят цену. — А это кто? — полюбопытствовал Саша, показывая на четвертую фотографию. — Это радист, с которым тебе придется держать связь, — пояснил Сердюк. — Ишь, в профиль только схватили. Попробуй по этому снимку найти. — И меня по этому снимку не узнают, — сказал Крайнев и провел рукой по отросшей бороде. — А у меня здесь нос курносый! — в шутку возмутилась Теплова. Саша усмехнулся, взглянул на Валю, потом на Крайнева и сострил: — Для семейного альбома сойдет. Рассказав о новой перерегистрации паспортов, которую затеяли гитлеровцы, и получив от Сердюка задание связаться с радистом, Сашка ушел. — Пырин, значит, у них в лапах… — Сердюк вздохнул. — Его даже не ищут.* * *
В следующий приход Сашка появился сразу после работы, когда его не ожидали, проникнув в водосборник прямо с завода. Свертка с продуктами с ним не было. — Что произошло? — встревожился Сердюк. — Пришел получить задание на день Красной Армии. Нельзя в такой праздник отмалчиваться. Седьмое ноября мы хорошо провели — листовки в трубы запустили. А сейчас что люди скажут? Нет у вас большевистского подполья. Так, что ли? Валя и Крайнев с любопытством следили за Сердюком. Он был смущен и не старался этого скрыть. — Видишь ли, Саша… — начал было Сердюк. — Я вижу, бесцеремонно прервал его Сашка, — но надо, чтобы и люди видели. Вы меня простите, Андрей Васильевич, но я к массе ближе, знаю, что её повседневно поддерживать нужно, — категорически заключил он. — Что ты предлагаешь? — резко спросил Сердюк, которого рассердила эта бесцеремонность. — Надо же эту вот шифрограмму оправдать, — продолжал неугомонный Сашка и, достав из подкладки ватника листок бумаги, прочитал: — «Сердюку. Поздравляю товарищей днем Красной Армии. Желаю здоровья, дальнейших успехов в работе. Хрущев». Простые слова, донесенные сюда, в подземелье, тронули всех до слез. — Нам запрещено заниматься чем-либо, кроме основного задания и выпуска листовок, — сказал Сердюк после долгого молчания. — Правда, такой праздник не грех бы отметить. Но я не знаю как. Может быть, у вас есть что, друзья? Может быть, у тебя, Саша? — У меня есть! — похвастался Сашка. — Дядя одного парнишки в селе живет. Колхозник он, мужик запасливый. После отхода наших побывал на поле боя и много чего оттуда натаскал — в хозяйстве, мол, всё пригодится. Среди прочих разных вещей у него и миномет есть с минами. Вот стрельнуть бы! Но надо мишень придумать. Не в белый же свет стрелять. — Сделаешь вот что, Александр, — сказал Сердюк, и Саша, почувствовав в его тоне командные нотки, невольно подтянулся — понял: это был приказ. — По улице Горновых, в доме тридцать четыре, квартиру два, отыщешь Виктора Селивановича Кравцова. Скажешь, что он должен найти вблизи нефтехранилища, у станции, пустой дом — их сейчас много. Это первое. Второе: в этот дом надо доставить миномет и установить его с прицелом на самый большой бак. Третье: в десять ноль-ноль, когда наступит полная темнота, стрелять по этому баку, пока не вспыхнет. Остальные загорятся следом. Понял? — Будет исполнено, Андрей Васильевич! — четко, по-военному, ответил Сашка и вдруг, обернувшись к Тепловой, спросил: Валя, ты с собой всё своё барахлишко захватила или в чем есть пришла? — Не пойму, ответила Валя. — Красное платье твоё здесь? — Здесь. — Отдай мне! — просительно заговорил Сашка. — Тебе до наших в нем не гулять, а девочка, с которой я дружу, до того доменялась, что на улицу выйти не в чем. Теплова пошла в угол насосной, извлекла из сверточка любимое шелковое платье. — Спасибо, Валя. Не пожалеешь. Сашка обернул платье вокруг талии, застегнул стеганку. Уже из тоннеля он крикнул: — С праздником вас, товарищи!* * *
Утром 23 февраля, как только рассвело, горожане увидели на трубе коксохимического завода красное полотнище. Заметили это и гитлеровцы и решили немедленно снять. В проходные ворота завода въехала машина с офицерами и солдатами комендатуры. Один из солдат полез по железным скобам восьмидесятиметровой трубы, но на середине сорвался и плюхнулся вниз. Офицеры решили, что к скобам подведен электрический ток, и послали за резиновыми сапогами и перчатками. К этому времени толпы горожан собрались на улицах, с любопытством ожидая, что произойдет дальше. Второй солдат, в резиновых сапогах и перчатках, поднялся немноговыше своего предшественника. Нога соскользнула со скобы, он повис на руках, попытался стать на скобу, но снова соскользнул с неё и мешком рухнул на землю. Третий солдат на трубу не полез, хотя офицер грозил ему пистолетом.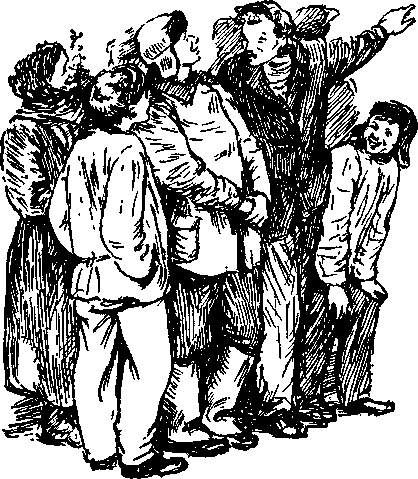 Посовещавшись, офицеры подняли стрельбу по штоку из всех видов оружия — пистолетов, автоматов, но попробуй попади на таком расстоянии в тонкий металлический громоотвод, на котором было укреплено полотнище.
В толпе, собравшейся у стен завода, то и дело раздавался смех.
— Сроду не думал, что фашисты будут так усердно салютовать красному флагу! — сострил кто-то из рабочих.
Издевку подхватили, и она прошумела по толпе, как ветер по колосьям ржи.
Посовещавшись, офицеры подняли стрельбу по штоку из всех видов оружия — пистолетов, автоматов, но попробуй попади на таком расстоянии в тонкий металлический громоотвод, на котором было укреплено полотнище.
В толпе, собравшейся у стен завода, то и дело раздавался смех.
— Сроду не думал, что фашисты будут так усердно салютовать красному флагу! — сострил кто-то из рабочих.
Издевку подхватили, и она прошумела по толпе, как ветер по колосьям ржи.
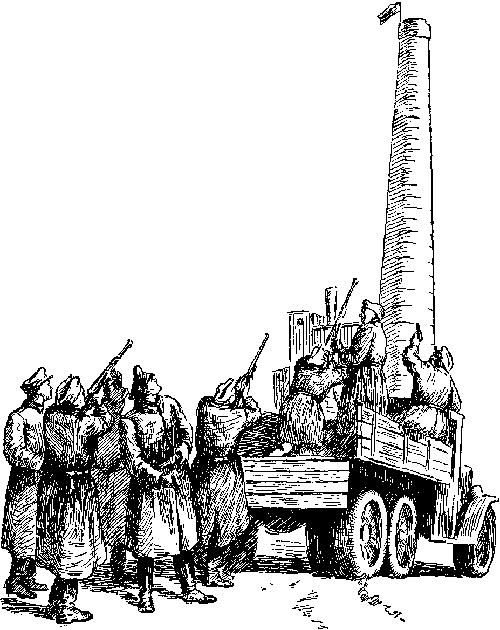 Из ворот завода выехала автомашина и возвратилась с пулеметом. Много очередей выпустил пулеметчик по штоку безрезультатно. Наконец пробитый шток дрогнул и наклонился, но знамя продолжало держаться на уцелевшей полоске железа.
Военный комендант направил на завод автоматическую зенитную пушку. Её установили, и ствол уже медленно пополз вверх, как вдруг со стороны раздалась бешеная ругань. Гитлеровцы, обернувшись, увидели бежавшего к ним человека в меховой шапке и шубе, доходившей до пят. Огромный и неуклюжий, он походил на медведя. Это был владелец завода Вехтер. Он подбежал к офицеру, багровый от бега и возмущения, и обрушил на него поток ругательств.
Посиневший от холода офицер, переминаясь с ноги на ногу — мороз был крепкий, и ноги в щегольских обтянутых сапогах давно уже онемели, — с кислой миной слушал его разглагольствования.
Вехтер кричал, что труба — его собственность, что разрушать её он не позволит, что будет жаловаться Герингу.
Наводчик, положив руку на спуск, ждал команды. Но её не последовало.
Офицер, знавший о личных связях Вехтера с Герингом, струсил и пошел к будке проходных ворот проинструктироваться по телефону у Штаммера и в то же время хоть немного согреться.
— Герр Штаммер приказал так, — сказал он возвратившись — ваша труба — вы и снимайте знамя. Не снимете — доложат господину Герингу. Дано сорок пять минут. Если за это время ничего не сделаете, собьем верхушку трубы. — И, взглянув на часы, отошел в сторону.
Вехтер растерялся. Несколько минут он смотрел на развевающееся полотнище, потом направился за проходные ворота — там всё увеличивалась толпа — и на ломаном русском языке предложил тысячу оккупационных марок тому, кто снимет флаг. Толпа безмолвствовала. Он набавил ещё тысячу, ещё и потом в отчаянии пообещал дать смельчаку пять тысяч марок.
Из середины толпы к нему стал протискиваться человек. Его зажимали, били локтями, обзывали падалью, паскудой, предателем, но он сумел выскользнуть и подбежал к Вехтеру.
— Пивоваров, — представился предатель.
В этот миг из толпы вылетело что-то круглое и со стуком упало к ногам заводовладельца. «Граната Мильса!» решил Вехтер и в страхе ничком грохнулся на землю.
Но взрыва не последовало. Толпа захохотала, раздались свистки. Вехтер с опаской приоткрыл один глаз и увидел возле себя кусок замерзшего конского навоза.
Вехтер поднялся и поспешил за добровольцем, который успел уже проскочить в ворота.
Осмотрев резиновые перчатки свалившегося с трубы гитлеровца, Пивоваров усмехнулся, отбросил перчатки в сторону и попросил пожарный пояс. Надев пояс, полез по скобам. На середине трубы он замешкался и продолжал свой путь уже медленно, пристегивая крюк пояса к каждой скобе, часто отдыхая. Последние скобы он одолел с трудом и, наконец взобравшись на верхушку трубы, лег навзничь — отдышаться.
Офицер посмотрел на часы. Срок истекал:
— Шнеллер!
Вехтер хорошо знал пунктуальность немецких военных. Пройдет две минуты — и верхушка трубы рухнет вниз. Он забеспокоился. Стоимость ремонта трубы во много раз превысила бы сумму вознаграждения.
Но вот Пивоваров приподнялся, подполз на четвереньках к знамени и, сорвав его, бросил вниз. Оно распласталось в воздухе, вспыхнуло в лучах солнца и медленно, как парашют, стало спускаться. Попав в полосу тени, оно вдруг почему-то съежилось, словно тень была тому причиной, и полетело вниз.
Набираясь сил для спуска, Пивоваров сидел на верхушке до тех пор, пока офицер снова не окликнул его.
Вехтер ожидал его, держа в руке пачку новеньких, шуршащих марок.
Когда тяжело дышащий, но сияющий Пивоваров направился за получением вознаграждения, офицер коротко бросил:
— Расстрелять!
Напрасно упавший на колени Пивоваров кричал, заклинал, плакал. Его застрелили.
— Почему? — заорал оторопевший Вехтер.
— Он один сумел снять флаг — значит, он и повесил его, — спокойно ответил гитлеровец.
Это объяснение мало удовлетворило Вехтера. Он опасался озлобления русских, которое росло с каждым днем, и, как бы демонстрируя своё несогласие, сделал несколько шагов к воротам, намереваясь бросить пачку марок сквозь решетку в толпу.
Но люди были слишком возбуждены. Одни злорадно смеялись, другие грозили кулаками, кричали знакомые ругательства, но уже во множественном числе, и Вехтер не решился приблизиться к ним.
Он протянул деньги офицеру — тот решительным жестом отказался. Тогда Вехтер подошел к солдатам. Большинство из них денег не взяли, но нашлись и такие, которые с благодарностью приняли их.
Из ворот завода выехала автомашина и возвратилась с пулеметом. Много очередей выпустил пулеметчик по штоку безрезультатно. Наконец пробитый шток дрогнул и наклонился, но знамя продолжало держаться на уцелевшей полоске железа.
Военный комендант направил на завод автоматическую зенитную пушку. Её установили, и ствол уже медленно пополз вверх, как вдруг со стороны раздалась бешеная ругань. Гитлеровцы, обернувшись, увидели бежавшего к ним человека в меховой шапке и шубе, доходившей до пят. Огромный и неуклюжий, он походил на медведя. Это был владелец завода Вехтер. Он подбежал к офицеру, багровый от бега и возмущения, и обрушил на него поток ругательств.
Посиневший от холода офицер, переминаясь с ноги на ногу — мороз был крепкий, и ноги в щегольских обтянутых сапогах давно уже онемели, — с кислой миной слушал его разглагольствования.
Вехтер кричал, что труба — его собственность, что разрушать её он не позволит, что будет жаловаться Герингу.
Наводчик, положив руку на спуск, ждал команды. Но её не последовало.
Офицер, знавший о личных связях Вехтера с Герингом, струсил и пошел к будке проходных ворот проинструктироваться по телефону у Штаммера и в то же время хоть немного согреться.
— Герр Штаммер приказал так, — сказал он возвратившись — ваша труба — вы и снимайте знамя. Не снимете — доложат господину Герингу. Дано сорок пять минут. Если за это время ничего не сделаете, собьем верхушку трубы. — И, взглянув на часы, отошел в сторону.
Вехтер растерялся. Несколько минут он смотрел на развевающееся полотнище, потом направился за проходные ворота — там всё увеличивалась толпа — и на ломаном русском языке предложил тысячу оккупационных марок тому, кто снимет флаг. Толпа безмолвствовала. Он набавил ещё тысячу, ещё и потом в отчаянии пообещал дать смельчаку пять тысяч марок.
Из середины толпы к нему стал протискиваться человек. Его зажимали, били локтями, обзывали падалью, паскудой, предателем, но он сумел выскользнуть и подбежал к Вехтеру.
— Пивоваров, — представился предатель.
В этот миг из толпы вылетело что-то круглое и со стуком упало к ногам заводовладельца. «Граната Мильса!» решил Вехтер и в страхе ничком грохнулся на землю.
Но взрыва не последовало. Толпа захохотала, раздались свистки. Вехтер с опаской приоткрыл один глаз и увидел возле себя кусок замерзшего конского навоза.
Вехтер поднялся и поспешил за добровольцем, который успел уже проскочить в ворота.
Осмотрев резиновые перчатки свалившегося с трубы гитлеровца, Пивоваров усмехнулся, отбросил перчатки в сторону и попросил пожарный пояс. Надев пояс, полез по скобам. На середине трубы он замешкался и продолжал свой путь уже медленно, пристегивая крюк пояса к каждой скобе, часто отдыхая. Последние скобы он одолел с трудом и, наконец взобравшись на верхушку трубы, лег навзничь — отдышаться.
Офицер посмотрел на часы. Срок истекал:
— Шнеллер!
Вехтер хорошо знал пунктуальность немецких военных. Пройдет две минуты — и верхушка трубы рухнет вниз. Он забеспокоился. Стоимость ремонта трубы во много раз превысила бы сумму вознаграждения.
Но вот Пивоваров приподнялся, подполз на четвереньках к знамени и, сорвав его, бросил вниз. Оно распласталось в воздухе, вспыхнуло в лучах солнца и медленно, как парашют, стало спускаться. Попав в полосу тени, оно вдруг почему-то съежилось, словно тень была тому причиной, и полетело вниз.
Набираясь сил для спуска, Пивоваров сидел на верхушке до тех пор, пока офицер снова не окликнул его.
Вехтер ожидал его, держа в руке пачку новеньких, шуршащих марок.
Когда тяжело дышащий, но сияющий Пивоваров направился за получением вознаграждения, офицер коротко бросил:
— Расстрелять!
Напрасно упавший на колени Пивоваров кричал, заклинал, плакал. Его застрелили.
— Почему? — заорал оторопевший Вехтер.
— Он один сумел снять флаг — значит, он и повесил его, — спокойно ответил гитлеровец.
Это объяснение мало удовлетворило Вехтера. Он опасался озлобления русских, которое росло с каждым днем, и, как бы демонстрируя своё несогласие, сделал несколько шагов к воротам, намереваясь бросить пачку марок сквозь решетку в толпу.
Но люди были слишком возбуждены. Одни злорадно смеялись, другие грозили кулаками, кричали знакомые ругательства, но уже во множественном числе, и Вехтер не решился приблизиться к ним.
Он протянул деньги офицеру — тот решительным жестом отказался. Тогда Вехтер подошел к солдатам. Большинство из них денег не взяли, но нашлись и такие, которые с благодарностью приняли их.
* * *
Напрасно гитлеровцы думали, что на этом все злоключения сегодняшнего дня кончились. Когда стемнело, возле вокзала раздалось несколько выстрелов, и вслед за ними вспыхнул огромный бак с бензином. Вскоре загорелись и остальные баки. Город осветился тревожным, колеблющимся заревом.* * *
Сашка появился в водосборнике на другой день. — Ну, как праздник? — дружелюбно спросил его Сердюк, видевший ночью зарево. — На славу! — важно ответил Саша и подробно, как свидетель, не принимавший в этом никакого участия, рассказал о происшествии со знаменем. Сердюк не перебивал его, но когда Саша закончил свое повествование, сказал: — Ясно теперь, какая у Александра девушка: дымовая труба. Но не пойму, отчего фрицы валились? — От мыла. — Как от мыла? — А я как с трубы слазил, то верхние скобы мылом вымазал. Лезет фриц, ухватился рукой за скобу — и вниз. Резина тоже не спасает. Она ещё больше по мылу скользит. В насосной дружно расхохотались. — Ну что, поднять вам ещё настроение? — Саша протянул радиограмму: — Читайте! Сердюк громко прочитал сообщение Информбюро об окружении частями Красной Армии у Старой Руссы шестнадцатой германской армии. — С этого бы ты и начинал, Саша! Это важнее всех твоих сообщений. — Сердюк протянул радиограмму Вале. — Садитесь за работу. Напечатайте сто экземпляров, не меньше. — Такие сводки я бы без устали печатала с утра до ночи. — Валя бросилась к Сашке и крепко расцеловала его.Глава двенадцатая
Прошли март, апрель, а гитлеровцы не переставали вывешивать объявления, призывавшие к поимке Сердюка. Они увеличили награду за его голову сначала до семидесяти тысяч оккупационных марок, потом до ста. На последнем объявлении, в центре которого были помещены два больших портрета Сердюка один в фас, другой в профиль, разместился десяток фотографий поменьше, где Сердюк был снят во весь рост в разных положениях. Даже снимок в спину был представлен. Появись Андрей Васильевич в городе — его узнали бы тотчас не только по лицу, но и по фигуре. Простая звучная фамилия внушала страх и комендатуре, и гестапо, и полиции. Всё, что ни делалось в городе и его окрестностях даже стихийно, помимо указаний Сердюка, приписывалось теперь ему. Найдут ли гитлеровцы утром труп убитого офицера, загорится ли городская управа, пустят ли под откос поезд — всё это относилось на его счет. В городе не было человека, который бы не знал о Сердюке. Когда украинский штаб партизанского движения разослал организациям города радиограмму, в которой сообщалось о подчинении всех подпольных групп Сердюку, руководители групп встретили приказ радостно: авторитет этого человека был очень велик. Связь с группами Андрей Васильевич осуществлял через Петра и Сашку. Пока ни один из руководителей не встречался с ним, он никого не видел, ни с кем не разговаривал. Это беспокоило Сердюка и затрудняло работу. На пограничной заставе, где прослужил почти десять лет до возвращения на завод, он знал всех бойцов в лицо, изучил их характеры, наклонности, привычки, знал, кому что можно доверить. А здесь приходилось руководить через посредников и судить о людях заочно. Постепенно Сердюк привык к этому, но каждый раз после свиданий Сашки с тем или иным подпольщиком подробно расспрашивал, как тот выглядит, как держит себя, даже как смотрит в глаза. Теперь, когда Сердюк располагал значительными силами, всё чаще и чаще его мозг сверлила мысль напасть на аэродром и уничтожить самолеты. Та самая операция, на которую хотели спровоцировать его гестаповцы, чтобы захватить партизан в степи, стала казаться заманчивой. Над этой операцией Сердюк много думал, но счел её слишком опасной. Да, им удастся попасть на аэродром, перебить охрану, поджечь самолеты. Но уйти благополучно люди не смогут, если даже перережут телефонные провода между аэродромом и городом. Как только на аэродроме вспыхнет пожар, тотчас из города примчится на автомашинах пехота, рассыплется по степи, и многие подпольщики не уйдут от преследователей… Сердюк обдумал несколько вариантов диверсии, но так и не составил плана, удовлетворявшего всем его требованиям, из которых основным он считал сохранить жизнь вверенных ему людей. Однажды в очередном рапорте руководителя шахтерской группы Сердюк прочитал, что гитлеровцы готовятся возобновить работу на шахте два-бис. Они уже отремонтировали подъемные механизмы, откачали воду, завезли на склад взрывчатых веществ аммонит; на все ответственные участки ими были поставлены офицеры из хозяйственной зондеркоманды. Диверсии на шахте были крайне затруднены. Но не это интересовало Сердюка. Он выяснил, что склад взрывчатых материалов находится на старом месте — в степи, в километре от шахты, и охраняется одним отделением полевой жандармерии. В землянке при складе жило всего одиннадцать жандармов. Шахтеры сообщали, что они собираются напасть на склад, перебить жандармов и взорвать аммонит. Сердюку стало жаль аммонита — ведь он мог быть использован разумно. Андрей Васильевич посоветовался с руководителем подпольной группы на шахте, которого вызвал на совещание в каменоломню, и совместно они разработали план, сложный, комбинированный, но реальный. Шахтеры должны овладеть складом, как и наметили, но не взрывать аммонит, а погрузить на автомашину, которую нужно было похитить из гаража, а ещё лучше — выпросить у начальника гаража, якобы для поездки в село за продуктами, пообещав кур и свинью. Захватив склад, шахтеры погрузят на машину три тонны аммонита, заложат взрыватели, бикфордов шнур. Двое подпольщиков, переодетые в жандармскую форму, на рассвете двинутся через город к аэродрому. Кто из патрулей рискнет останавливать машину с жандармами? У аэродрома они подожгут бикфордов шнур и, закрепив рулевое управление, направят машину прямо в ворота аэродрома. Она остановится, наткнувшись на самолет. Пока гитлеровцы будут соображать, откуда взялась машина без людей, три тонны аммонита взорвутся, а подпольщики умчатся и скроются до ночи в ближайшем селе, у своего человека. Начальника гаража, падкого на взятки, легко уговорили дать машину, но непременным условием он поставил свое участие в поездке. Гитлеровца в пути решили прикончить. На операцию, как только стемнело, вышли четырнадцать смельчаков. Около часу ночи со стороны склада донеслись звуки перестрелки, и тотчас туда помчались гитлеровцы, охранявшие шахту. Вскоре раздался страшной силы взрыв, от которого дрогнула земля и из окон домов на поселке вылетели все стекла. Ни одного человека у склада не осталось в живых. Что произошло на складе, узнать не удалось ни подпольщикам, ни гестаповцам. Уже много позже из донесения Гревцовой стало известно, что жандармов в землянке в эту ночь было двадцать два человека. Очевидно, подпольщикам удалось снять часовых, проникнуть на склад, но ликвидировать без шума охрану они не смогли. Окруженные прибежавшими с шахты гитлеровцами, они решили умереть, уничтожив и склад и врагов.Глава тринадцатая
Сердюк не отказался от мысли о диверсии на аэродроме и готовился к ней. Для осуществления нового плана нужно было достать мелкокалиберную винтовку с патронами, несколько килограммов тола, взрыватели, бикфордов шнур и десятилитровый бидон для молока. Тол и взрыватели удалось выкрасть транспортникам при разгрузке вагонов, бидон купили на базаре, винтовку нашли у одного из членов городской подпольной группы. У неё был слегка испорчен затвор. Сердюк потратил немало сил, чтобы исправить его и пристрелять винтовку в тоннеле подземного хозяйства. Как ни слаб был звук выстрела мелкокалиберной винтовки на открытом воздухе, здесь, в подземелье, эхо разносило его. Андрей Васильевич опасался, что выстрелы могут услышать гитлеровцы, и потому занимался стрельбой только по ночам, когда в цехах никого не было. Разрабатывая варианты операции, Сердюк допустил неосторожность — высказал мысль, что в диверсионной группе обязательно должна участвовать девушка. С этой минуты он окончательно лишился покоя. Всегда сдержанная, дисциплинированная, Валя стала докучать просьбами послать её на диверсию. Она использовала все способы убеждения. Говорила, что засиделась в этой проклятой дыре, что не имеет на личном счету ничего, кроме вспомогательной работы, уверяла, что операция безопасная — туда будут идти ночью, возвращаться придется тоже ночью, следовательно никаких непредвиденных встреч быть не может, и даже всплакнула разок, да так по-детски жалостливо, что Сердюк заколебался, хотя и не подал виду. Крайнев в присутствии Вали ни на чем не настаивал, но стоило ей удалиться — тотчас заводил дипломатический разговор о том, что теперь неудобно перелагать задание на другую группу, что провести диверсию должны они сами. В конце концов Сердюк сдался, назначил ответственным за выполнение задания Крайнева и поручил ему самому подобрать участников. Втайне он надеялся, что Крайнев не возьмет Валю на это опасное дело. Но Сергей Петрович не устоял против её просьб. Когда все приготовления были закончены, Крайнев и Валя темной ночью вышли из подземного хозяйства, обогнули пруд и степью направились к аэродрому. На полпути от аэродрома до города пролегала глубокая балка с заросшими густым терновником склонами. По дну балки протекал небольшой ручей. Через него был перекинут деревянный мост, но гитлеровцы предпочитали, во избежание неприятностей, возить пятитонные цистерны с бензином вброд. Бидон с толом, взрыватели, шнуры, а также винтовку закопали в терновнике неподалеку от брода ещё накануне ночью. Здесь же выкопали небольшую яму — в ней должен был спрятаться Крайнев. В кустах, чуть покрывшихся молодой листвой, с другой стороны дороги залегли трое рабочих из актива Петра Прасолова — настройщик станков Гудович и два слесаря. Это были крепкие мужчины, способные, по словам Петра, своротить быку рога. Чуть поодаль расположились Павел и ещё один парень из группы Петра, по имени Антип. Его все дружески звали Типкой. Балочка была очень удобной: даже с ближайших участков дороги не было видно, что в ней делалось. Павел откопал бидон и винтовку и ушел на своё место. Крайнев залег в яму, а Валя присоединилась к группе Гудовича. В кустах на домотканном коврике стояла бутылка самогона и лежала закуска: в случае, если подпольщиков кто-либо заметит, решат — весенний пикник. Для вящей убедительности рядом на траве лежала и трехрядная гармонь, на которой, однако, никто не умел играть. На пригорке, откуда хорошо была видна дорога, Гудович посадил своего младшего братишку, чтобы следил за всем происходящим вокруг и сигнализировал свистом: один раз — тревога, два — идет автоцистерна. Чтобы мальчишка не возбуждал подозрений, притащили сюда, словно на выпас, тощего козленка. Солнце поднялось, разогнало утреннюю прохладу и стало припекать. Крайнев с наслаждением подставил спину теплым, ласковым лучам. Глаза с непривычки к свету резало, они слезились. Сергей Петрович вдыхал воздух, пахнувший болотцем — хотелось досыта надышаться, — и любовался зеленью кустов и только что пробившейся травы. Как долго он был лишен всего этого и сколько ещё времени придется жить под землей! «Но не беда, — утешил он себя: — больше ждали — меньше осталось». Около восьми часов утра послышался резкий свист. Вскоре промчалась легковая машина, а за ней два грузовика с автоматчиками. «Каратели на село», — решил Крайнев. Снова донесся свист. Сергей Петрович выругался: — Разъездились, подлюги! Если сегодня на дороге будет такое оживление, то операция может сорваться. Через ручей, сбавив скорость, проехала грузовая машина с несколькими жандармами, потом наступило затишье. Неподалеку на куст уселась сорока и долго стрекотала, вертя хвостом. Крайнев следил за ней, боясь пошевелиться. Чего-то испугавшись, сорока улетела, часто взмахивая короткими, словно подрезанными, крылышками, и Сергей Петрович загляделся на зеленые склоны балки, на первые скромные полевые цветы. Никогда раньше скупая донецкая природа не вызывала в нём восхищения, только сегодня он по-настоящему понял её прелесть. «Кончится война — обязательно ружье куплю, на охоту ходить буду», — подумал он. Вдруг тишину прорезали два коротких свиста. Из кустов выбежал один из подпольщиков. Войдя по щиколотку в воду, он разложил по дну ручья шипы и исчез. Крайнев приложил к плечу винтовку. Если шина не будет проколота шипом — придется прострелить её. Автоцистерна с трудом перевалила бугор и медленно опустилась в балку Вот уже её передние скаты переехали ручей, переехали благополучно Крайнев прицелился в задние скаты, но услышал звук, похожий на выстрел. Машина осела и остановилась. Из неё выскочили водитель и его помощник; осмотрели шины и подтащили домкрат. Приподняв раму машины, свинтили гайки и, с трудом оттащив в сторону продырявленный баллон, начали торопливо надевать запасной. «Пора! — решил Крайнев. — Но почему никто не выходит на дорогу?» И тотчас он услышал дикие звуки гармоники. «Только бы никто не помешал!» — встревожился Сергей Петрович и сжал в руках винтовку, хотя она уже ничем не могла помочь. Из-за поворота дороги появилось трое юношей и девушка. Гитлеровцы посмотрели на них. Юноши показались вдребезги пьяными. Ноги у них заплетались, и они выкидывали такие коленца, что Крайнев испугался, как бы не переиграли. Гитлеровцы сначала насторожились, но когда один из парней упал и пополз на четвереньках, тыкаясь носом в дорожную пыль, снова занялись своим делом. Всё же, как только парни и девушка поравнялись с гитлеровцами, один из них приподнялся и положил руку на кобуру. Валя приветливо помахала ему рукой и протянула букетик полевых цветов, сорвав его с фуражки своего кавалера. Гитлеровец самодовольно усмехнулся, но цветов не взял и руки с кобуры не принял… В этот момент Гудович вытянул из гармоники звук, похожий на отчаянный визг, и, прыгнув на гитлеровца, свалил его. Двое других бросились на второго. Как ни силен был Гудович, ему пришлось помогать. Валя совала в рот немцу тряпку. Он больно укусил девушку за руку, но тряпку она всё же затолкала. Потом она замазала немцу уши глиной, вытащила из-под кофточки длинное полотенце, обмотала им рыжую голову, оставив свободным только нос. Второго шофера связали таким же способом. «Только бы не было свиста!» — подумал Крайнев и, схватив бидон, побежал к цистерне. Слесари оттащили гитлеровцев в сторону. — Не задохнутся? — подбегая, спросил Валю Крайнев. Услышав успокоительный ответ, жестом послал её на цистерну. Пока Валя взбиралась наверх и открывала люк, Сергей Петрович откинул крышку бидона, более чем наполовину набитого кусками тола, зажег бикфордов шнур, положил под крышку резиновую прокладку и плотно закрыл её. Вале помог взобравшийся на цистерну Гудович. Он принял поданный Крайневым бидон, утопил его в бензине, захлопнул и завинтил люк. Потом, сняв пиджак, тщательно вытер им следы ног. Когда работа была закончена, все шестеро побежали вдоль балки. Теперь должны были действовать Павел и Типка. Им предстояло разыграть роль спасителей: развязать немцев — и пусть едут на аэродром, уверенные в том, что партизан интересовало только их оружие. Не успела группа скрыться в терновнике, как раздалось два свиста. У Крайнева от волнения подкосились ноги. «Пропало всё!» — решил он и взобрался на склон балки, чтобы подать Павлу и Типке сигнал уходить, но увидел парней, бежавших к нему. Как пи опасно было оставаться на месте, Павел спрятался в кусты, решив понаблюдать, что произойдет дальше. К месту происшествия подъехала другая автоцистерна. Выскочившие из кабины гитлеровцы развязали потерпевших, и те, обезумевшие от страха, стали выковыривать из ушей глину и что-то рассказывать. «Скорее, скорее! — мысленно торопил их Павел, посматривая на часы. — Тол взорвется через восемнадцать минут, могут не доехать до аэродрома». Объяснившись, гитлеровцы бросились по своим машинам и поспешили выехать из балки. Любопытство Павла взяло верх над чувством опасности. Он взобрался на пригорок, откуда хорошо был виден аэродром. Автоцистерны полным ходом мчались по дороге, поднимая за собой клубы пыли. Сердце у Павла стучало так сильно, что его удары отдавались в ушах. «Успеют ли, доедут ли?» Вот автоцистерны свернули с дороги, въехали в ворота аэродрома. Вот они остановились у бензохранилища. Всё было тихо. Павел посмотрел на часы. Неужели отказали взрыватели? Не может быть. Три шнура и три взрывателя. А вдруг Крайнев неплотно закрыл крышку бидона и в него просочился бензин? А вдруг… В этот миг столб черного дыма взмыл вверх, и спустя несколько секунд донесся звук взрыва. Павел закувыркался по земле. Новый тяжелый взрыв заставил его подняться на ноги. В воздухе расплывалось огромное облако. Море пламени заливало аэродром. Павел понял: следом за бензоцистернами взорвалось и бензохранилище. — Крышка всем самолетам! — крикнул он и, сбежав по склону балки, бросился вслед за товарищами. Вместе с ними он должен был отсидеться до ночи в штольне брошенной шахты.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Сердюку никак не удавалось разработать план нанесения сильного удара по гестапо. Заниматься мелкими операциями он считал нецелесообразным — большого эффекта они не принесут, а жертв потребуют. Надо было придумать что-то значительное, подобное диверсии на электростанции, в результате чего завод оказался без электроэнергии, или разгрому агентурной сети, и покончить с гестапо одним ударом с наименьшим риском. Пырин потерян, осталось семь человек, и берёг Сердюк эту семерку как зеницу ока. Можно было, конечно, использовать явки, которые дала связная, и объединить для налета на гестапо подпольные группы города. Но при наличии большого гарнизона это повлекло бы за собой значительные потери в личном составе, а платить жизнью за жизнь — слишком дорогая цена. Своими мыслями Сердюк делился с Крайневым, с Тепловой, с Петром Прасоловым, проникавшим иногда в подземное хозяйство, чтобы проинформировать о жизни на поверхности, о настроении рабочих. Из их среды Петр подобрал смельчаков, которые оперировали по ночам, наводя страх и на гитлеровцев и на их холуев. Большей частью это были одиночные убийства, но иногда удавалось расправляться и с патрулями. Отчаянный Гудович сумел бросить ночью гранату в помещение гестапо и улизнуть — правда, с простреленной рукой. Взрыв гранаты наделал переполоху, хотя пострадал, по сообщению Павла, до сих пор топившего котлы в гестапо, только один офицер. Выпуск листовок перестал приносить удовлетворение. Сообщения о победах Красной Армии под Ростовом и Керчью, под Москвой и Калинином, под Тихвином и Ленинградом радовали всех советских людей, а сейчас гитлеровцы вот уже несколько месяцев активно наступали на юге, снова захватывали города, испепеляли села, терзали и насиловали население, хищнически уничтожали и расхищали исконные богатства русского народа, созданные веками труда. Такими сообщениями были насыщены теперь листовки. Воспринимались эти сообщения различно: стойких приводили в ярость, побуждали к борьбе и мести, малодушных повергали в уныние. Сердюк знал о действии таких листовок на малодушных, но всё же считал необходимым сообщить жестокую правду. Крайнев надоел Сердюку, требуя оперативного задания, но Сердюк категорически запретил ему выходить из убежища, даже предусмотрительно отобрал пистолет. Не принося больше пользы как подпольщик, Крайнев нашел себе применение как инженер. Он занялся детальным изучением состояния завода после взрыва. По ночам, когда гитлеровцы сосредоточивали внимание на охране завода по периметру — охраняли завод от проникновения в него снаружи, — Крайнев бродил по цехам, запечатлевая разрушения. Возвращаясь, он составлял точные описания объектов, требующих восстановления. Во время одной такой вылазки в темную, безлунную ночь Крайнев упал в водопроводный люк в доменном цехе и сильно ушиб бедро. Дремлющая инфекция в старой ране дала себя знать. Через несколько дней рана вскрылась, и Крайнев сначала лишился возможности передвигаться, а потом и сидеть. До сих пор обязанности Тепловой ограничивались печатанием листовок и хозяйственными заботами — приготовлением пищи, стиркой. В приготовлении пищи, правда, ей помогали мужчины. Пробовали они и стирать, но проявили такую беспомощность, что Валя в конце концов отстранила их от этого занятия, а чтобы не своевольничали, прятала мыло. Теперь нагрузка у неё увеличилась. Закончив свои обязательные дела, Валя немного разминалась, снова усаживалась за грубо сколоченный из неструганых досок, стол и записывала на машинке то, что диктовал Крайнев. Порой ночью ей приходилось подниматься на поверхность, чтобы уточнить некоторые детали. Она с удовольствием выполняла эти задания, хотя и трусила. Гитлеровцев она не боялась — им нечего было делать ночью в темных, безлюдных цехах. А вот мертвая тишина в зданиях, незнакомая до сих пор игра света и теней, когда твоему возбужденному воображению рисуется чорт знает что, угнетали её. Она чувствовала себя здесь как ночью на кладбище, где и крест, освещенный лунным лучом, проникшим через листву, и принявший причудливые очертания, можно принять за человека, а то и за призрак. Техник узкой специальности, Теплова хорошо знала мартен, но в прокатных цехах разбиралась с трудом. Пришлось обратиться к Сердюку, который до службы в пограничных частях и после работал вальцовщиком. Затея Крайнева увлекла и Сердюка, и он дважды проникал в свой цех через колодец, в который Саша и Петр бросали им провизию. — Хорошо у нас получится, други! — с подъемом сказал как-то Крайнев. — Возвратятся наши — и получат готовые материалы для восстановления. Ни одного дня не потеряем. — И, вздохнув, добавил: — Только вот Валюшка выглядит плохо. Не помогают тебе никакие женские ухищрения. Валя действительно очень исхудала и побледнела за последнее время. Сказывалось отсутствие воздуха, однообразное, скудное питание. Лицо её стало детски маленьким, и от этого ещё ярче вырисовывались большие серые глаза, окаймленные пушистыми дужками ресниц. Но сильнее всего удручало Валю состояние Крайнева. Она ежедневно промывала рану, меняла перевязку, а улучшения не видела и, боясь, что все это кончится гангреной, впадала в отчаяние. Ей часто казалось, что если Сергей Петрович умрет, она перестанет дышать в ту же минуту, когда закроются его глаза. Крайнев воплощал в себе всё лучшее, что хотела видеть Валя в любимом. Она знала: если бы даже попыталась выдумать своего избранного, то не выдумала бы безупречнее.
Особенно поражалась Валя его выдержке — ни одного стона не издал он. Снимая бинты, кое-где присохшие к ране, она сама стонала и боялась, что лишится чувств, а Сергей Петрович ласково смотрел на неё и уверял:
— Что ты, Валюша? Право же, совсем не больно, — но на лбу у него выступала испаринка. — Эх, подпольщица! А если тебя так поцарапает?
— Было бы легче, Сережа, самой переносить боль. Гораздо легче… Поверь… — И она роняла слезинки.
Состояние больного очень беспокоило и Сердюка. Много ран видел он на своем веку и заживающих и смертельных, и рана Крайнева ему не нравилась. «Что с ним делать? Позвать врача? Но какой врач решится на опасное ночное путешествие? Да и можно ли постороннему раскрыть секрет существования подземного хозяйства? А бездействовать, глядя, как на твоих глазах гибнет человек, и такой человек, тоже невозможно».
И он решил прибегнуть к заочному врачеванию, используя для этого Сашку.
В те дни, когда этот вездесущий парнишка появлялся в водосборнике, Валя делала перевязку при нём, чтобы он мог лучше описать рану врачу, у которого получал консультацию и медикаменты.
Крайнев ни о чем не спрашивал, ничего не просил. Только во сне, потеряв контроль над собой, стонал сквозь стиснутые зубы, протяжно и глухо. Сердюку было мучительно встречаться с ним глазами — казалось, он увидит в его взгляде упрек. Но Сергей Петрович смотрел спокойно, даже без грусти, вполне примирившись со своей участью.
Однажды он разбудил Сердюка среди ночи.
— Что с тобой? — испугался Андрей Васильевич.
— Павел в гестаповской кочегарке один остается?
— Да.
— Андрей Васильич, кажется, я нашел способ угостить гестаповцев одной пилюлей. И крепкой…
— Ты бы спал, Сергей, — сказал Сердюк и потрогал его руку: она была горяча.
— Спать можно, когда думать не о чем. Ты лучше послушай. Послушаешь и сделаешь вывод.
Сердюк придвинул ящик, заменявший стул, к нарам Крайнева.
— Как-то раз в литейном зале лопнул подкрановый рельс, и нужно было его перерезать. Автогенщика не оказалось, за дело взялся слесарь. Зарядил аппарат, присоединил к резаку кислородный и ацетиленовый шланги — не загорается резак: забился ацетиленовый шланг…
— Как ты себя чувствуешь? — Сердюк счел, что больной бредит.
— Не перебивай, слушай. Тогда слесарь решил продуть ацетиленовый шланг и продул его кислородом. Подсоединил снова шланг к резаку. А внизу, у аппарата, мною народу собралось на двух печах плавки готовы, а выпускать некуда — кран не подходит.
— Я что-то не понимаю, к чему все эти воспоминания.
— И что бы, ты думал, после этого получилось? — продолжал своё Крайнев. — В тот миг, когда слесарь наверху поднес к резаку спичку, внизу взорвался автогенный аппарат и всех собравшихся обдало карбидной массой. Стоят они мокрые, бледные, оглушенные и шатаются — не поймут, живы или нет, падать им или стоять.
Сергей Петрович засмеялся. Его смех прокатился по многочисленным ходам подземного хозяйства.
Проснулась Теплова, прибежала из своего угла и застыла у изголовья Крайнева, вопросительно глядя на Сердюка.
— Понял, почему так получилось? — спросил Сергей Петрович.
Глаза его лихорадочно блестели.
— Понял, — ответил Сердюк. — Кислород и ацетилен дали взрывчатую смесь. Она взрывается мгновенно.
— Правильно мыслишь, вальцовщик! — приподнимаясь на локтях, сказал Крайнев. Ну, а как подпольщику ничего в голову не пришло?
Теплова и Сердюк обменялись тревожными взглядами. Оба решили: бредит.
— Засни, Серёженька! — посоветовала Валя.
Голос её звучал подкупающе-вкрадчиво.
— Да не брежу я! — рассердился Крайнев. — Наоборот, голова сейчас какая-то особенно ясная. Хотел бы, чтобы и у вас была такая… Додумался?
— Нет.
— Так слушайте. Надо, чтобы Павел затеял ремонт котла. Ему привезут и кислород и карбид; он наполнит всю систему парового отопления этой газовой смесью, потом поднесет факел к трубе — и в каждой комнате каждая батарея взорвется с силой гранаты. Всех гестаповцев — к чертям собачьим! Уразумели?
Только сейчас Сердюк понял, что больной не бредит. Идея показалась ему немного фантастичной, но заманчивой.
— Молодец, Сергей! Большой молодец! Изобретатель! — восхищенно сказал Сердюк.
Крайнев тяжело опустился на подушку:
— Надо же ещё что-то успеть сделать в жизни…
Теплова поняла, что Сергей Петрович ясно сознает свою обреченность. У неё замерло сердце и слезы навернулись на глаза. Она тронула Сердюка за рукав и, когда тот ушел к своим нарам, села на ящик, положила голову на плечо Крайнева:
— Заснем, родной. Утром додумаем.
Но сильнее всего удручало Валю состояние Крайнева. Она ежедневно промывала рану, меняла перевязку, а улучшения не видела и, боясь, что все это кончится гангреной, впадала в отчаяние. Ей часто казалось, что если Сергей Петрович умрет, она перестанет дышать в ту же минуту, когда закроются его глаза. Крайнев воплощал в себе всё лучшее, что хотела видеть Валя в любимом. Она знала: если бы даже попыталась выдумать своего избранного, то не выдумала бы безупречнее.
Особенно поражалась Валя его выдержке — ни одного стона не издал он. Снимая бинты, кое-где присохшие к ране, она сама стонала и боялась, что лишится чувств, а Сергей Петрович ласково смотрел на неё и уверял:
— Что ты, Валюша? Право же, совсем не больно, — но на лбу у него выступала испаринка. — Эх, подпольщица! А если тебя так поцарапает?
— Было бы легче, Сережа, самой переносить боль. Гораздо легче… Поверь… — И она роняла слезинки.
Состояние больного очень беспокоило и Сердюка. Много ран видел он на своем веку и заживающих и смертельных, и рана Крайнева ему не нравилась. «Что с ним делать? Позвать врача? Но какой врач решится на опасное ночное путешествие? Да и можно ли постороннему раскрыть секрет существования подземного хозяйства? А бездействовать, глядя, как на твоих глазах гибнет человек, и такой человек, тоже невозможно».
И он решил прибегнуть к заочному врачеванию, используя для этого Сашку.
В те дни, когда этот вездесущий парнишка появлялся в водосборнике, Валя делала перевязку при нём, чтобы он мог лучше описать рану врачу, у которого получал консультацию и медикаменты.
Крайнев ни о чем не спрашивал, ничего не просил. Только во сне, потеряв контроль над собой, стонал сквозь стиснутые зубы, протяжно и глухо. Сердюку было мучительно встречаться с ним глазами — казалось, он увидит в его взгляде упрек. Но Сергей Петрович смотрел спокойно, даже без грусти, вполне примирившись со своей участью.
Однажды он разбудил Сердюка среди ночи.
— Что с тобой? — испугался Андрей Васильевич.
— Павел в гестаповской кочегарке один остается?
— Да.
— Андрей Васильич, кажется, я нашел способ угостить гестаповцев одной пилюлей. И крепкой…
— Ты бы спал, Сергей, — сказал Сердюк и потрогал его руку: она была горяча.
— Спать можно, когда думать не о чем. Ты лучше послушай. Послушаешь и сделаешь вывод.
Сердюк придвинул ящик, заменявший стул, к нарам Крайнева.
— Как-то раз в литейном зале лопнул подкрановый рельс, и нужно было его перерезать. Автогенщика не оказалось, за дело взялся слесарь. Зарядил аппарат, присоединил к резаку кислородный и ацетиленовый шланги — не загорается резак: забился ацетиленовый шланг…
— Как ты себя чувствуешь? — Сердюк счел, что больной бредит.
— Не перебивай, слушай. Тогда слесарь решил продуть ацетиленовый шланг и продул его кислородом. Подсоединил снова шланг к резаку. А внизу, у аппарата, мною народу собралось на двух печах плавки готовы, а выпускать некуда — кран не подходит.
— Я что-то не понимаю, к чему все эти воспоминания.
— И что бы, ты думал, после этого получилось? — продолжал своё Крайнев. — В тот миг, когда слесарь наверху поднес к резаку спичку, внизу взорвался автогенный аппарат и всех собравшихся обдало карбидной массой. Стоят они мокрые, бледные, оглушенные и шатаются — не поймут, живы или нет, падать им или стоять.
Сергей Петрович засмеялся. Его смех прокатился по многочисленным ходам подземного хозяйства.
Проснулась Теплова, прибежала из своего угла и застыла у изголовья Крайнева, вопросительно глядя на Сердюка.
— Понял, почему так получилось? — спросил Сергей Петрович.
Глаза его лихорадочно блестели.
— Понял, — ответил Сердюк. — Кислород и ацетилен дали взрывчатую смесь. Она взрывается мгновенно.
— Правильно мыслишь, вальцовщик! — приподнимаясь на локтях, сказал Крайнев. Ну, а как подпольщику ничего в голову не пришло?
Теплова и Сердюк обменялись тревожными взглядами. Оба решили: бредит.
— Засни, Серёженька! — посоветовала Валя.
Голос её звучал подкупающе-вкрадчиво.
— Да не брежу я! — рассердился Крайнев. — Наоборот, голова сейчас какая-то особенно ясная. Хотел бы, чтобы и у вас была такая… Додумался?
— Нет.
— Так слушайте. Надо, чтобы Павел затеял ремонт котла. Ему привезут и кислород и карбид; он наполнит всю систему парового отопления этой газовой смесью, потом поднесет факел к трубе — и в каждой комнате каждая батарея взорвется с силой гранаты. Всех гестаповцев — к чертям собачьим! Уразумели?
Только сейчас Сердюк понял, что больной не бредит. Идея показалась ему немного фантастичной, но заманчивой.
— Молодец, Сергей! Большой молодец! Изобретатель! — восхищенно сказал Сердюк.
Крайнев тяжело опустился на подушку:
— Надо же ещё что-то успеть сделать в жизни…
Теплова поняла, что Сергей Петрович ясно сознает свою обреченность. У неё замерло сердце и слезы навернулись на глаза. Она тронула Сердюка за рукав и, когда тот ушел к своим нарам, села на ящик, положила голову на плечо Крайнева:
— Заснем, родной. Утром додумаем.
* * *
Недолго пришлось Павлу Прасолову убеждать заместителя начальника гестапо по хозяйству отремонтировать котлы парового отопления. Прошлой зимой в здании было холодно, и не раз шеф гестапо сетовал на то, что приходится сидеть в шинели и разогревать себя водкой. Одного только не мог понять гестаповец: почему этот молодой кочегар берется за дело, от которого отказались опытные мастера из немецкой хозяйственной зондеркоманды? Те прямо говорили, что заварить прогоревшие чугунные стенки невозможно, а русский утверждает, что сделает котлы лучше новых, только требует пятнадцати баллонов кислорода для разогрева поверхности завариваемой стенки. Гестаповец приказал солдатам завезти кислород и автогенный аппарат в котельную. Напарник Павла, кривой кочегар из колонистов, недоброжелательно смотрел на приготовления, узрев в этом стремление Прасолова выслужиться перед начальством. «Ещё, чего доброго, этого сопляка старшим кочегаром назначат», — завидовал он. Павел во что бы то ни стало хотел лично поговорить с Крайневым, чтобы до конца понять расчет смеси. Его смущало и то обстоятельство, что количество кислорода он мог регулировать по скорости падения давления на манометре, а количество ацетилена точной регулировке не поддавалось. Свидание состоялось. Сердюк сам встретил Павла у выхода тоннеля в ставок и провел по лабиринту. Павел впервые увидел Крайнева. Он лежал худой, желтый. «Долго не протянет», — с горечью подумал Прасолов. Сергей Петрович говорил медленно, словно с трудом подбирал слова, и под конец осведомился, всё ли Павел уяснил. — Всё, — ответил тот. — Ты подумай, а я отдохну… Крайнев закрыл глаза, и Павлу стало страшно — до чего этот человек был похож на покойника. Поймав на себе сочувственный взгляд, Сергей Петрович слабо улыбнулся. — Мне всё ясно, — повторил Павел. — Вот я и хотел, чтобы ты хорошо понял, что делаешь. Проведешь операцию, свидимся — расскажешь подробно. — Расскажу обязательно! Теплова невольно вздрогнула. Двое обреченных на смерть ободряли друг друга, хотя, очевидно, оба были убеждены, что больше никогда не увидятся. — Уходи, — шепнул Сердюк. Павел пожал горячую, слабую руку Крайнева, хотел что-то сказать, но ощутил спазмы в горле и, чтобы скрыть своё состояние, а может быть, под влиянием порыва, поклонился в пояс, попрощался с Тепловой и поспешил вслед за Сердюком. По тоннелю шли молча, у выхода остановились. — Надо же помочь человеку, Андрей Васильевич! Нельзя так! — с укором сказал Павел. — А ты почему решил, что я ничего не делаю? — обиделся Сердюк. — Лучше подумай о себе. Операция очень рискованная. Уйти ты сможешь, потому что переполох поднимется страшный. Но можешь и не уйти. Патроны у тебя целы или уже расстрелял где-нибудь? — Что вы! Все целы. — Возьми ещё одну обойму про запас. — За это спасибо… Ну, я пошел. Андрей Васильевич долго слушал, как замирали вдали осторожные шаги. «Пырина не стало, не станет, наверно, и Павла», — с болью подумал он. У входа в насосную Сердюка встретила Теплова. — На смерть пошел?.. — спросила она с упреком, дрогнувшим голосом. — Рискованная затея. — Это безумие! Сердюк сказал: — Летчика, идущего на таран и уничтожающего одного врага, мы называем героем. Почему же вы называете безумцем того, кто идет на уничтожение двухсот врагов? И кто может запретить человеку стать героем?Глава вторая
Павел решил подготовиться к диверсии в понедельник ночью и осуществить ее во вторник, ровно в девять часов утра, — время, когда все гитлеровцы, со свойственной немцам пунктуальностью, уже находятся на своих местах. Накануне он хотел выспаться, но не удалось даже сомкнуть глаз. Мысли опережали одна другую. Может быть, он просто трусит? Нет, наоборот, у него крепла уверенность в том, что в поднявшейся кутерьме удастся благополучно ускользнуть. Волновало другое опасение, что в силу каких-либо неучтенных обстоятельств гестаповцы останутся живы. В технической осуществимости намеченного плана сомнений не возникало. Ещё мальчишкой, лет двенадцати, Павел с группой сверстников увидел на улице автогенный аппарат, оставленный водопроводчиками, ремонтировавшими магистраль. Ребята привязали к длинному шесту паклю, смоченную мазутом, зажгли её и сунули в отверстие аппарата. Эффект получился совершенно неожиданный. Взрывом подняло колпак метров на тридцать. Падая вниз, он грохнулся о крышу проходившего трамвая. Перепуганные пассажиры стали в панике выскакивать из дверей и окон. Даже сейчас, вспомнив об этом зрелище, Павел засмеялся. В аппарате находилась смесь ацетилена с воздухом — и то какая силища! В батареях же будет смесь посолиднее — ацетилен с кислородом, и ей один выход: разорвать чугун на куски. Под утро Павел оделся, вышел из дома. Чудом уцелевший от гитлеровцев пес встретил его во дворе осторожным повизгиванием. Над горизонтом светлела полоска неба, начали меркнуть звезды. Засмотревшись на них, Павел ощутил то странное, беспокойное чувство, какое испытывал всегда, думая о мироздании. «Кто знает, может, и там жизнь и там борьба. Только жизнь другая и борьба другая». Он невольно вспомнил о Марии Гревцовой, которая собиралась посвятить себя астрономии. «Молодец девушка, высоко брала, а от земли не отрывалась. Пришла лихая пора сидит в полицейском управлении, штампует паспорта и всех подпольщиков ими обеспечивает. Надо было попрощаться с ней на всякий случай…» Павел призадумался над тем, что его ожидает, но потом решительно тряхнул головой: — Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать! Явившись на работу, как обычно, рано утром, он без устали целый день трудился — осматривал батареи в кабинетах гестаповцев, замазал краской зазоры, где мог, по его предположению, просочиться газ, и вернулся в котельную только вечером. Караульные давно привыкли к тому, что Прасолов подолгу жил в котельной (тут он чувствовал себя безопаснее: в городе многие от него отвернулись — чего доброго, ещё убьют!), и не обращали на него внимания. Ещё раз проверив кислородные баллоны и трубки, Павел плотнее завернул штуцер, ввинченный им в кожух котла для подачи кислорода, и растянулся на скамье. «А что, если крепко засну, проснусь поздно и опоздаю всё приготовить? — рассуждал он. И кто знает, может это последняя ночь в жизни. Обидно проспать её». Но через несколько минут сон одолел его. Среди ночи он вскочил, испугавшись, что проспал, но на дворе было ещё темно. Он умылся и сразу почувствовал себя бодрее. Потянулись томительные часы ожидания. Мысли беспорядочно теснились в голове, и Павел заставил себя думать о будущем. Кончится война, вернутся наши, станут восстанавливать завод. И он тоже будет восстанавливать — слесари очень понадобятся. Пустят завод, польются в ковши чугун и сталь, забегают в прокате змеи раскаленного металла. Он никогда не сможет сказать родному заводу: «Прощай», даже если пойдет учиться. Техникум окончить хорошо бы, да терпенья не хватит выводить линии на бумаге — не та натура: ему гораздо интереснее пришабрить десяток подшипников, чем вычертить один… Нет, никуда он не пойдет, он останется на заводе, станет знатным мастером. Его всегда прельщала героика гражданской войны. Он с жадностью читал книги и смотрел фильмы, посвященные этой эпохе, и жалел, что родился поздно. Вот когда можно было развернуться! Грянула другая, более страшная война, и он с радостью ухватился за предложение уйти в подполье, бороться с врагом. Попав в котельную, он почти год топил котлы и уже потерял всякую надежду на настоящее дело. И вот наконец получил серьезное задание. Он выполнит его с честью, уйдет к Сердюку, под землю, и попросит у него оперативной работы — стрелять, взрывать, увеличивать число гитлеровцев на своем личном счету, который откроет сегодня… Павел приподнялся со скамьи и огляделся всё ли предусмотрено? Взглянул и на дверь: слабоват крючок. Явятся гестаповцы на работу и, если вдруг где-то просочится газ, будут ломиться сюда. Немного поразмыслив, он снял с двери наружный засов и укрепил его с внутренней стороны. Затем для прочности обил дверь кусками старого железа, лежавшего перед топками. Укрепив дверь, открыл зубилом железный бочонок с карбидом. Запахло чесноком. «Свеженький! — обрадовался Павел. — Этот дерзнёт так, что держись! — Он закрыл глаза, с удовольствием представив себе, как тысячи чугунных осколков впиваются в тела гестаповцев. — А какая отбивная получится из Штаммера! Его стул у самой батареи». Наложив в котел карбида, тщательно завинтил лючок и подсоединил к котлу металлической трубкой кислородный баллон. Ещё раз достал бумажку и просмотрел расчет смеси, составленный Крайневым, хотя и знал его наизусть. Потом накачал в котел воды, выждал, когда стрелка манометра показала нужное давление, пустил кислород. Давление в котле возросло. Он открыл общий вентиль и стал выпускать смесь в отопительную систему. Когда Павел полез по пожарной лестнице на крышу, куда выходила аварийная труба для сброса излишков воды, резкий запах чеснока ударил ему в нос. Он наглухо забил трубу дубовой пробкой. Теперь все батареи были наполнены взрывчатой смесью. Спустившись в котельную, стал ждать девяти часов утра. Мозгработал лихорадочно. В нём то всплывали картины небольшого, несложного прошлого, то представлялось будущее, а чаще всего назойливо сверлила одна и та же беспокойная мысль: выйдет или не выйдет? С болью вспомнил о матери. Вчера, когда он зашел к ней, она, словно что-то почувствовав, стала плакать. «Бедная старушка, как переживет мою смерть?» — подумал Павел, и слезы навернулись на глаза, но только на миг. Стрелки старых, заржавленных ходиков показывали без пяти девять, когда в дверь котельной постучали. — Кто там? — придав голосу самые спокойные интонации, спросил Павел. — Открой! — потребовал заместитель начальника гестапо. — Труба в мой кабинет шипит и некарашо пахнет. — Некогда! Вот котел исправлю — приду, ответил Павел и ругнул себя за недосмотр — не заметил-таки неисправности в батарее. Через минуту гестаповец заколотил кулаком: — Выходи скорей, шорт тебя брал! Исправляй эта душегубка! — Подождешь! — крикнул Павел и взглянул на часы: до девяти оставалось три минуты. Гестаповец в нерешительности топтался, но, заподозрив недоброе, стал стучать чем-то твердым, видимо рукоятью пистолета. Нужно было продержаться ещё три минуты. Павел достал пистолет, взвел курок, навел оружие на дверь, но тотчас опустил его, смекнув, что гестаповцы сбегутся на перестрелку и останутся невредимыми. Послышались голоса и брань. Значит, собралось несколько человек. Удары усилились, дверь затрещала. Поняв, что бьют бревном, как тараном, и что долго дверь не выдержит, Павел вскинул пистолет, выстрелил раз, другой, третий и так, в азарте, выпустил всю обойму. За дверью кто-то истошно закричал, донеслись стоны. Павел зажег приготовленный факел, вырвал пробку из отверстия в трубе и поднес к нему пламя. Вспышки не произошло. Тогда дрожащими от волнения руками он снова закрыл отверстие в трубе и открыл вентиль, чтобы поднять давление в системе. Прогромыхала автоматная очередь, в кочегарке со стены посыпалась штукатурка. Павел снова отключил котел, выхватил пробку из трубы и поднес к отверстию факел. С металлическим звоном лопнула по шву труба. Здание дрогнуло, как при подземном толчке; оглушительный грохот донесся с улицы. Криков, стонов Павел не слышал. Понял: оглушен. Он бросился к двери — согнутый засов не открывался. Тогда он кувалдой сбил его, вырвав болты из дерева, и с трудом открыл дверь. За нею, к его удивлению, никого не оказалось — разбежались. Двор тоже был пуст. Из окна второго этажа выпрыгнул в разорванных штанах какой-то офицер и, сверкая белыми шелковыми кальсонами, на четвереньках пополз по битому стеклу на улицу. Павел бросился вглубь двора. Очутившись на заборе, взглянул на здание с вывалившимися рамами, сорванными дверьми и помчался напролом через чей-то сад, оставляя на колючих кустах клочки одежды, обдирая в кровь лицо.
Из окна второго этажа выпрыгнул в разорванных штанах какой-то офицер и, сверкая белыми шелковыми кальсонами, на четвереньках пополз по битому стеклу на улицу. Павел бросился вглубь двора. Очутившись на заборе, взглянул на здание с вывалившимися рамами, сорванными дверьми и помчался напролом через чей-то сад, оставляя на колючих кустах клочки одежды, обдирая в кровь лицо.
* * *
Когда в городе раздался взрыв, Сашка проскользнул за контрольные ворота и побежал туда, куда спешили горожане. Квартал, где стояло здание гестапо, был оцеплен. Беспрерывно сновали санитарные машины, развозя гестаповцев по госпиталям и больницам. Горожане взбирались на крыши отдаленных домов и оттуда досыта любовались разгромом фашистского гнезда. Сашка с группой ребят залез на чердак дома, не оцепленного полевой жандармерией, и долго считал санитарные машины, но потом сбился со счета, спутав количество двухместных и четырехместных машин. — И здесь им устроили сабантуй! — с нескрываемой радостью сказал парень, голос которого показался Сашке знакомым. Он посмотрел в сторону бросившего эту неосторожную реплику и узнал его: «Николай. Всамделишный Николай, соратник по набегам на чужие сады». Едва санитарные машины перестали сновать, из оцепления выехало пять грузовиков, накрытых брезентом. — Ого-го! — с удивлением произнес Николай и переглянулся с Сашкой. — Наворочено порядком. «Интересно знать, чья эго работа, — с завистью подумал Сашка. — Есть, значит, группа посильней нашей. Мы только листовочки расклеиваем да плакатики надписываем детская игра, а вот это дело настоящее. Этим ребятам есть с чем наших встретить, а мы чем встретим?» К двум часам дня жандармский офицер снял оцепление квартала, оставив часовых у здания гестапо. Много людей прошло сегодня по «гестаповскому» проспекту. Они не рисковали останавливаться, проходили мимо и возвращались снова, чтобы посмотреть опустевшее здание, одно упоминание о котором ещё утром вселяло страх. Постепенно чердак обезлюдел, остались только Сашка и Николай. Давно уже Сердюк говорил Тепловой, что надо бы разыскать этого парня, сбежавшего из-под расстрела — отказался везти арестованных. Но Николай на поселке не жил, и никто не знал его адреса. — Любуешься? — спросил его Сашка, убедившись, что их никто не может услышать. — Любуюсь, — твердо сказал Николай и повторил: — Любуюсь. Работают же люди! — Ты что-то слишком смело высказываешься! — тоном наставника произнес Сашка. При мне понятно, меня ты хорошо знаешь. А при остальном народе? Николай пытливо посмотрел Сашке прямо в глаза: — Мне ничего не страшно. Я смерти в глаза заглянул и то не скажу, чтобы здорово испугался. А что может быть страшнее смерти? — Есть штуки пострашнее. — То-есть? — Пытки в гестапо. — Это ты, пожалуй, прав. — Николай поежился. — Видел я, какие из-под пыток выходят. — Видел, а не поумнел. Языком треплешь… — Что ж делать, Саша! Люди вон какие диверсии устраивают, листовки печатают, плакаты клеят, а мне только и остается, что языком трепать. Один в поле не воин. — Никуда не прибьешься? — в упор спросил Сашка. — А куда прибьешься? — Да, тебе очень трудно. Как ни говори, шофером в гестапо работал. Николай со скрипом стиснул зубы. — Для того чтобы приняли, надо тебя хорошо знать, продолжал Сашка. — Надо знать, что возил ты только кирпичи и песок на постройку гаража, что везти арестованных на расстрел отказался и тебя самого за это на расстрел повезли. — Саша! Саша! Откуда… — Знаю, важно ответил Сашка. Николай стоял пораженный, соображая, от кого мог слышать Сашка обо всем этом, но спрашивать не стал. — Спасибо, Саша! Спасибо! Первое теплое слово за всё время слышу. Мать родная и та отказалась, выгнала. Говорит, с предателем под одной крышей жить не хочу. У тетки живу, и то потому, что она глухая и ничего обо мне не слыхала, иначе и она выгнала бы. Верчусь, как щепка в проруби. На работу идти боюсь — фамилия на бирже зарегистрирована. Приду — как сбежавшего сразу сцапают. Из города податься? Куда? Кому я нужен? Шофер гестапо… А может, поможешь к кому-нибудь прибиться? — осторожно, с мольбой в голосе и во взгляде спросил Николай. — Твой адрес? Николай с готовностью назвал улицу, номер дома, фамилию тетки, — Повтори, приказал Сашка. Тот повторил. — Ну ладно, что-нибудь сделаем, — покровительственно ободрил Сашка Николая.Глава третья
Состояние Крайнева ухудшалось с каждым днем. Вокруг раны появились красные пятна, нога распухла, и Сердюк уже не сомневался, что это гангрена. Услав Теплову и Павла из водосборника к выходу у ставка подышать воздухом, он подсел к Сергею Петровичу: — Я решил, Сергей, затащить сюда хирурга. Будем говорить, как мужчины: состояние у тебя тяжелое, рецидивирующее. Как бы не пришлось ампутировать ногу… Крайнев покачал головой: — На ампутацию по советским законам, кажется, требуется согласие больного. Я согласия не дам. — А что же делать? — Странные ты вопросы задаешь, Андрей Васильич! Я цеховик, производственник. Где ты видел начальника цеха на одной ноге? — Ты инженер, голова в тебе ценна — ишь какую штуку придумал со взрывом гестапо! — сказал Сердюк, сразу смекнув, что Крайнев хитрит: говоря о ненужности своей жизни, он как бы снимает с него, Сердюка, моральную ответственность за себя. — И подумал ли ты, что сюда нельзя пускать человека, нам недостаточно известного? высказал Сергей Петрович свой основной довод. — Провалимся мы — и сотни людей, которых можно будет тут укрыть, угонят в Германию. И из-за чего? Операция ведь не спасет. Ногу-то по бедро… Тут госпитальный уход нужен. Ты мне лучше достань бумаги поплотнее. У меня есть настоящее изобретение — головка мартеновской печи. Чертежи я отдал Елене Макаровой, но довезли их или нет, не знаю. Сына отдал Макаровой и чертежи. Эскизы хочу сделать, пока жив, описание изобретения составлю. Поверь мне, стоящая мысль. Уцелеешь — передашь нашим, когда вернутся. — К дьяволу мартеновскую головку — твою голову спасать нужно! — вскипел Сердюк. — Моя голова не стоит сотен голов, которые ты спасешь в этом подземном хозяйстве. Это наши советские люди, это рабочие, которые будут восстанавливать завод, чугун плавить, сталь варить. А ты можешь из-за меня одного всё провалить. Разве ты прав? Ты ведь посылал Павла Прасолова почти на верную смерть. Для чего? Уничтожить две сотни врагов, спасти жизнь сотням наших людей. А чем я лучше Павла? — Не могу я жить в этом помещении рядом с тобой и смотреть, как ты… — А ты поселись в другом и не смотри — вот и всё. Сердюк спросил: — А сын? Вадимка? — Если жив, воспитают его Макаровы, как своего, не хуже, чем я воспитаю. Это хорошая семья, настоящая, не то что была у нас. Ирина моя уехала, говорят, с каким-то фрицем в Германию. Вот как бывает: людей воспитывал, коллективом руководил, а человека под боком, жену, не распознал… Крайнев задумался. Перед глазами прошли дни, которые так резко изменили его судьбу. Жена отказалась эвакуироваться, сына вывезли на Урал друзья, а он неожиданно для всех и для себя остался в оккупации. Не успел взорвать электростанцию — помешали враги, которых в свое время не смогли распознать, — а взорвать нужно было. Ему удалось перехитрить гитлеровцев, пойти к ним на службу, втереться в доверие и осуществить диверсию. Теперь совесть у него чиста. — А Валентина? — прервал его мысли Сердюк. — Зачем буду портить ей жизнь, безногий… — Чудак! — не выдержал Сердюк. — Она любит так, как… как… надо любить. Мимо такой любви пройти нельзя. Пойми, какая у девушки будет трагедия. Ты для неё совершенство, образец. Ей трудно будет полюбить другого. На что ты её обрекаешь? — «Увы, утешится жена…» — попробовал отшутиться Крайнев. Сердюк обрезал: — Эгоист ты! — Я-а? — удивился Крайнев. — Ты только о себе думаешь: тяжело с одной ногой, а о ней не думаешь… И обо мне не подумал. — «И друга лучший друг забудет…» Ты-то при чём? — Полагаешь, я прощу себе когда-нибудь, что мало сделал для твоего спасения? — А простишь, если завалишь организацию? — выкрикнул Крайнев. — Ор-га-ни-за-цию! Эх, руководитель большевистского подполья! Чорт знает, как плохо подбирают у нас людей на такую работу! Рассуждаешь, как гнилой интеллигент. Квашня! Вошла Теплова, приложила руку ко лбу Крайнева и отдернула её. Руки у неё были холодные, и голова показалась очень горячей. Прикоснулась ко лбу губами — да, есть жарок, но не такой уж сильный. Поцеловала. Андрей Васильевич пошел в свой угол. В водосборнике стало тихо. Паровозный фонарь, стоявший на ящике, тускло освещал пространство. Стены помещения и углы тонули во мраке. Особенно темно было за фонарем, там, где находилась лежанка Вали. Мерно капала вода, просачиваясь сквозь свод тоннеля, уходящего из водосборника. Первое время Сердюк слушал эти звуки настороженно ему казалось, что кто-то тихо ходит на носках по тоннелю. Вот и сейчас ему почудилось, что кто-то идет. Он прислушался. Да, это шаги. И Теплова услышала их. Вскочила и потушила фонарь. В тишине комнаты щелкнул предохранитель пистолета. — Зажигайте свет, это я, — сказал, входя, Сашка. Валя чиркнула спичкой, зажгла фонарь. Крайнев заметил: рука её дрожала. — Что случилось? спросил Сердюк. Парнишка приходил обычно ночью, а сегодня ускользнул с работы и пробрался в подземелье прямо с территории завода. — Радио. И передали, что срочно. Сердюк распечатал бумагу, прочел и не поверил своим глазам. Это был ответ на его радиограмму, посланную позавчера, где он просил сообщить фамилию хирурга из соседнего района, на которого можно было бы положиться. В ней значилось: «Молния. По нашим данным заводской аэродром пустует. Проверьте сообщите число час когда забрать больного. Опознавательные знаки три красных огня. Четвертый в направлении посадки. Огни расположить в ямах чтобы видеть их только сверху. Действуйте без промедления вашим описаниям гангрена. Вам вылететь вместе с больным. Повторяю вам вылететь вместе с больным». Сердюк отдал радиограмму Тепловой. Она вскрикнула от радости, прочитав первые строки, и поникла головой, прочитав остальные. Сердюк сказал Крайневу: — Начальник штаба требует, Сергей, чтобы мы с тобой вылетели ночью на самолете. А ты говорил… Эх, ты!.. Лицо Крайнева ожило. Он счастливо улыбнулся и, преодолев боль, приподнялся и сел. Теплова расцеловала Сашку, Крайнева, бросилась к Сердюку, но остановилась. Он всегда был очень сдержан в проявлении своих чувств, и это невольно удержало её. — Ну, поцелуйте, снисходительно разрешил Андрей Васильевич и подставил ей небритую, колючую щеку. — А где же мы достанем красные огни? — забеспокоилась Валя. — Не костры же разводить — это не в лесу. — Саша достанет, — сказал Крайнев. — У железнодорожников красные фонари всегда есть. — И правда. В яму коптилку поставить, сверху красным стеклом накрыть… — Деньги есть? — спросил Сердюка Сашка. — Есть. — Завтра на базаре электрические куплю у итальянцев. Они всё продают. Говорят, даже пистолеты купить можно. — Но-но! — Можно. Гоните только гроши.Глава четвертая
Переправа Крайнева на аэродром началась в половине двенадцатого ночи. Пронести его на носилках по всему тоннелю не удалось. В нескольких местах, где тоннель делал крутой поворот, больного приходилось снимать с носилок и переносить на руках. Сердюк шел, вобрав голову в плечи — для него тоннель был низким, — и то в нескольких местах задевал головой свод. Наконец выбрались к ставку, остановились отдышаться. Подошла Теплова — она заранее вышла, чтобы осмотреть дорогу, — и присела у изголовья Крайнева. Ночь была темная, безлунная. Сердюк с тревогой посмотрел на небо. Прилетит ли самолет? Что делать, если они останутся днем в открытой степи? Куда деваться, где укрыться? «В землю зароемся», решил он, вспомнив, что на аэродроме есть лопата, которую оставил Петр, заблаговременно выкопавший ямы для огней. Саше повезло: ему удалось купить пять фонарей вместо четырех на случай, если один выйдет из строя. — Какая свежесть! — вымолвил Сергей Петрович, вдыхая полной грудью воздух. — Пошли, — скомандовал Сердюк и взялся за носилки. Сзади носилки несли Теплова и Павел. У кромки воды земля была влажная, скользкая. Ступали осторожно, боясь поскользнуться. Крайнев думал, успеют ли донести его во-время. Сейчас двенадцать, самолет должен приземлиться в два. До аэродрома четыре километра. Если будут продвигаться с такой скоростью, то не доберутся и к трем. Сергей Петрович чувствовал, что Валя идет шатаясь. Она обеими руками держала ручку носилок и действительно напрягала все силы, чтобы не выпустить её и не упасть. — Отдохнем, предложил Сердюк. Постояли и снова в путь. Обогнули ставок, пошли по степи. Почва стала суше, двигались уже быстрее, но Крайнев этого не ощущал. — Не дойдем в срок, — со страхом сказал он. Три дня назад Сергей Петрович был готов к тому, что умрет. Но радиограмма из штаба воскресила в нем жажду жизни. Нога? Бог с ней, с ногой! Лишь бы жить, лишь бы можно было творить. Он целиком посвятит себя изобретательской работе. Вот только очень плохо выглядит Валюша… Дотянет ли она до наших? У большой каменоломни остановились. Тотчас, словно из-под земли, выросли силуэты двух человек. Крайнев вздрогнул всем телом. — Это свои, успокоил его Сердюк. Подошли Петр и Саша. Носилки снова поставили на землю. Петр поцеловал брата, которого не видел с тех пор, как тот поселился в подземном хозяйстве, упрекнул: — Мать по тебе глаза выплакала — не верит, что жив, да и только. Думает — успокаиваю просто. Сейчас же записку напиши! Павел присел на колено, на другое положил блокнот и принялся писать, не различая в темноте букв. — Прощайтесь, Валя, — тихо сказал Сердюк и отошел в сторону. Теплова опустилась на землю, прильнула к груди Крайнева. — Крепись, Серёженька, любимый, единственный! — прошептала она, целуя его горячие, очень горячие губы. — Я всё выдержу. Выдержи только ты, женуля. Как жить будем!.. Крайнев почувствовал слезы Вали на своей щеке. Теперь носилки понесли Петр и Сашка. Сердюк оглянулся. Теплова продолжала сидеть на земле. Он возвратился, поднял её, повернул к заводу: — Ступайте, не задерживайтесь. Валя плакала: — Я в эту могилу не могу одна… — Саша! — окликнул Сердюк. — Не надо, не надо, пусть идет с вами, я как-нибудь… Проводив её взглядом, Андрей Васильевич догнал товарищей и подменил Сашку. Парнишка уныло плелся позади, ощупывая свои карманы, по которым были рассованы фонарики. Брать его на эту операцию Сердюк не хотел — на Сашке держалась связь с радистом, со школьниками, но слишком уж горячо просил он, и Андрей Васильевич после долгого размышления решил, что в этом ночном путешествии по степи нет ничего особо опасного. На аэродром пришли за полчаса до срока. До войны здесь стоял заводской «У-2», служивший для связи с заводами. Гитлеровцы использовали аэродром, когда фронт был близок, а потом оставили его, взорвав небольшой ангар и спалив сторожку. У развалин сторожки поставили носилки. Петр и Саша отправились к ямам, уложили в них фонарики, зажгли. Огней со стороны видно не было. Только лениво растекался над ямами призрачный красноватый туман. Стрелки часов уже показывали пятнадцать минут третьего, а самолета не было. В половине третьего Сердюк приказал Прасоловым копать яму на двух человек в стенах сторожки. — Укроемся там, если не прилетит самолет, а ночью опять ждать будем. — Я боюсь, что мы гитлеровцев здесь дождемся, — сказал осторожный Петр. — Всё-таки отблеск красного света над ямами есть. Андрей Васильевич посмотрел по направлению его взгляда: — Забирай ребят и уходи. Не будем рисковать всеми. Руководство останется на тебе. Командуй от моего имени. Если но вернусь — заменишь полностью. Понял? — Понял. — А завтра пусть кто-нибудь наведается. Еды-то не захватили. Сашка неохотно последовал за братьями. Что он скажет Вале? Конечно, скажет, что улетели. Сердюк принялся углублять яму. Невольно мелькнула мысль, что он копает могилу. Работа подвигалась плохо. В земле то и дело попадались камни, крупные и мелкие, лопата быстро затупилась, и Андрей Васильевич боялся, что не успеет выкопать эту проклятую нору до рассвета. Но в четвертом часу утра он услышал слабый гул самолета, летевшего с востока. Гул постепенно усиливался, потом надолго оборвался, и вдруг мотор взревел совсем близко. На фоне неба Сердюк увидел самолет, идущий на посадку. «Планировал без мотора, но не дотянул», — понял он и побежал к концу посадочной площадки. Самолет приземлился. Летчик, заглушив мотор, нетерпеливо выглянул из кабины. — Фамилия! — крикнул он, когда Сердюк подбежал совсем близко.
Сердюк назвал себя.
— Давайте больного.
— Вылезай, помоги! Я один.
— Не могу. Из города машины идут.
Андрей Васильевич увидел фары нескольких машин, мчавшихся по степи, и побежал к ангару.
Крайнев лежал недвижимо.
— Сергей! — окликнул его Сердюк.
Ни звука в ответ.
«Умер», — решил Андрей Васильевич, но взвалил Крайнева на спину и, бросив взгляд в сторону мчавшихся по дороге машин, что было силы побежал к самолету.
До него оставалась ещё добрая сотня шагов, как вдруг взревел мотор и следом затрещал пулемет. Летчик выпустил длинную очередь в воздух, чтобы отпугнуть гитлеровцев. Фары мгновенно погасли, и сейчас уже невозможно было понять, идут машины или остановились.
Обессилевший Сердюк с трудом подал Крайнева. Летчик схватил его подмышкя, придержал. Андрей Васильевич вскочил в кабину, перетащил Крайнева через борт и бережно усадил рядом.
Летчик дал газ, самолет покатился по площадке, подпрыгивая на неровностях почвы, с каждой секундой набирая скорость, и вдруг перестал подпрыгивать. Оторвались от земли.
…Сашка незаметно отстал от Прасоловых. «Приказ приказом, но надо же знать, улетели они или нет, — рассуждал он. — Если нет, нужно сообщить радисту; если да, фонарики забрать — не пропадать же им! Пригодятся».
В километре от аэродрома залег в бурьян, стал терпеливо ждать. Он слышал, как приземлился самолет, видел, как шесть автомашин с гитлеровцами промчались невдалеке. Пулеметная очередь и беспорядочный треск автоматов испугали его. Сердце перестало замирать, только когда до его ушей донесся гул удалявшегося самолета.
Одна машина с потушенными фарами вернулась в город. Сашка понял: гитлеровцы поехали за подкреплением и будут рыскать по степи в надежде найти высадившегося из самолета человека.
Спотыкаясь и падая, он побежал назад, ускользая от облавы, и радовался мысли, что сообщит Вале: улетели.
— Фамилия! — крикнул он, когда Сердюк подбежал совсем близко.
Сердюк назвал себя.
— Давайте больного.
— Вылезай, помоги! Я один.
— Не могу. Из города машины идут.
Андрей Васильевич увидел фары нескольких машин, мчавшихся по степи, и побежал к ангару.
Крайнев лежал недвижимо.
— Сергей! — окликнул его Сердюк.
Ни звука в ответ.
«Умер», — решил Андрей Васильевич, но взвалил Крайнева на спину и, бросив взгляд в сторону мчавшихся по дороге машин, что было силы побежал к самолету.
До него оставалась ещё добрая сотня шагов, как вдруг взревел мотор и следом затрещал пулемет. Летчик выпустил длинную очередь в воздух, чтобы отпугнуть гитлеровцев. Фары мгновенно погасли, и сейчас уже невозможно было понять, идут машины или остановились.
Обессилевший Сердюк с трудом подал Крайнева. Летчик схватил его подмышкя, придержал. Андрей Васильевич вскочил в кабину, перетащил Крайнева через борт и бережно усадил рядом.
Летчик дал газ, самолет покатился по площадке, подпрыгивая на неровностях почвы, с каждой секундой набирая скорость, и вдруг перестал подпрыгивать. Оторвались от земли.
…Сашка незаметно отстал от Прасоловых. «Приказ приказом, но надо же знать, улетели они или нет, — рассуждал он. — Если нет, нужно сообщить радисту; если да, фонарики забрать — не пропадать же им! Пригодятся».
В километре от аэродрома залег в бурьян, стал терпеливо ждать. Он слышал, как приземлился самолет, видел, как шесть автомашин с гитлеровцами промчались невдалеке. Пулеметная очередь и беспорядочный треск автоматов испугали его. Сердце перестало замирать, только когда до его ушей донесся гул удалявшегося самолета.
Одна машина с потушенными фарами вернулась в город. Сашка понял: гитлеровцы поехали за подкреплением и будут рыскать по степи в надежде найти высадившегося из самолета человека.
Спотыкаясь и падая, он побежал назад, ускользая от облавы, и радовался мысли, что сообщит Вале: улетели.
Глава пятая
В представлении Сердюка штаб партизанского движения должен был помещаться в небольшом домике где-то на окраинной улице Москвы, но его привезли к большому трехэтажному зданию. Проходя по коридорам, Андрей Васильевич читал названия отделов. Одна надпись на двери — «Технический отдел» его особенно удивила. «Словно на заводе или в главке», — подумал он. В большой приемной, кроме дежурного, сидел человек с черной веерообразной бородой. Лицо его показалось Сердюку знакомым. Не Амелин ли? Приятель молодых лет, уехавший на сталинградский завод «Красный Октябрь». Бородач подсел к Сердюку: — Что, Андрюша, не узнаешь? — Амелин! Он и есть! Ну, тебя, брат, узнать трудно. Где такую бороду достал? — В Брянских лесах… Борода, знаешь, как на свежем воздухе растет!.. Удержу нет. — До чего же она тебя изуродовала! — усмехнулся Сердюк. Вроде как тог купец стал, что у нас на поселке лавочку имел. Помнишь? — Ну, это ты неправ. Борода — вроде как справка о стаже: чем длиннее, тем стаж больше. — Борода не велика честь, борода и у козла есть, — пошутил Сердюк. — Так в Брянских, говоришь, воюешь? — Воевал. А теперь под Сталинградом… — Амелин покосился в сторону дежурного и вполголоса добавил: — секретарь ЦК партии Украины с собой на самолете привез. — Зачем? — удивился Сердюк. — Хочет штабистам живого партизана показать, — увильнул от прямого ответа Амелин. — Как там в Сталинграде? — Ох, Андрюша, пекло! Всё горит… Город горит, степь горит, Волга горит… Разбомбят нефтеналивную — и загорелась вода. Такой жар стоит, что волосы тлеют. Но держатся наши насмерть. Огнеупорные. У них и лозунг такой: «За Волгой для нас земли нет». Каждый камень отстаивают. В городе порой не поймешь, где наши, где фашисты. В подвале они — в доме наши, на чердаке тоже они. Всё перемешалось. Воевать тесно. На «Красном Октябре» полмесяца бой за одну мартеновскую печь шел. — Как же там партизанить? Места голые. — Мало того, что голые. Фрицев — как саранчи. Шаг шагнешь — и на фрица напорешься. Работаем больше по разведке да по диверсиям. — Население вывезли? — Кто нужен, остался. Тракторный разбит, а четыре главных цеха работают, выпускают танки. Закончат работяги танк — сами в него садятся и дуют прямо на позиции. Об Ольге Ковалевой слышал? Первая женщина у нас была сталевар. С винтовкой в руках погибла… А ты где? — Я?.. — Сердюк замешкался. — Да не так далеко и не так близко. — Не доверяешь? — обиделся Амелин. — Привычка такая, брат. В подполье я. Сам понимаешь… Дежурный поднял телефонную трубку и сразу же обратился к Сердюку: — Товарищ Андрей, вас просят. Сердюка принял один из руководителей партизанского движения. До войны Сердюк не раз видел его в Донбассе, но разговаривать с ним не приходилось. Он сделал несколько шагов навстречу Сердюку, подал свою небольшую руку, потом обнял его, расцеловал и сказал: — Большое спасибо вам, Андрей Васильевич, за всё: за электростанцию, за нефтехранилище, за гестапо, за огромную работу среди населения и за бдительность. — Спасибо и вам за помощь. Когда связная пришла, мы все по-иному себя почувствовали: знают, значит, о нас, помнят, наставляют, заботятся. Без этого очень тяжело. А радиосвязь нас совсем окрылила. — Как же иначе? Иначе и быть не могло. Ну, давайте все до порядку. Сердюк невольно вспомнил вопросы, которые задавала ему связная, и начал рассказывать, не упуская ни одной детали. Порой он с тревогой смотрел в глаза своему собеседнику — не слишком ли подробно докладывает, но видел в них огромное внимание и огромную заинтересованность. Несколько раз Андрей Васильевич взглядывал на часы, чувствуя, что беседа затянулась. Доложив, что Крайнева отправили с аэродрома в партизанский госпиталь, Сердюк замолк. Некоторое время молчали оба. Андрей Васильевич осмотрелся. Карты, задернутые шторами, живо напомнили ему помещение заставы. — Юлию Тихоновну жаль очень, — скорбно произнес руководитель партизанского движения, нарушив молчание. — Не забудьте заполнить наградные листы на отличившихся товарищей. Пырина наградим посмертно. Сердюк считал, что группа очень мало сделала. Сознание этого всегда угнетало его, и вдруг ему говорят о награждении! — Будьте особенно бдительными сейчас, — услышал Сердюк предупреждение. — Гитлеровцы пускаются на всевозможные провокации. В партизанские отряды забрасывают листовки, якобы от имени командующего армией прорыва, в которых призывают партизан не заниматься мелкими операциями, а накапливать силы, объединяться в крупные отряды и ждать сигнала для единовременного выступления. Смотрите в оба. Проверяйте людей в группе, воспитывайте в них чувство бдительности. Какие склады расположены на территории завода? — Боеприпасы и продовольствие. — Оружие есть? — Есть, но какое, нами еще не установлено. — Зря. Нужно установить. «Для чего это нужно?» — подумал Сердюк, но ничего не спросил. Руководитель партизанского движения поднялся из-за стола, подошел к окну и долго смотрел на улицу. Потом сел в кресло против Сердюка. — Даю вам ответственнейшее задание, — сказал он. Необходимо спасти завод от уничтожения гитлеровцами при отступлении. — Как же сделать это? — невольно вырвалось у Сердюка. — Это должны были бы подсказать мне вы. Вам на месте виднее. По выражению лица подпольщика было ясно, что он озадачен. — К моменту подхода наших войск, по вашему плану, в подземном хозяйстве будут прятаться от угона в Германию сотни рабочих, то-есть они будут находиться на территории завода. Оружие находится тоже на заводской территории… Сердюк с досадой хлопнул себя по лбу: — Понял, понял! Больше не говорите ни слова. Всё ясно. Как я сам… — Краска смущения залила его лицо. — Пока будете заполнять наградные листы, — сказал руководитель партизанского движения, — я приму нескольких товарищей, а потом мы с вами поедем ко мне обедать. У меня сегодня вареники со сметаной, а в вашем хозяйстве их наверняка не бывает. Да и в ресторане не подадут.Глава шестая
В 1936 году Сердюк с группой рабочих Донбасса летел в Москву на совещание стахановцев. Это был первый полет в его жизни. Люди долго собирались в обкоме партии — запаздывали мариупольцы — и вылетели только ночью. Сердюк, не отрываясь, смотрел в окно. Под ним медленно плыла Донецкая степь, залитая огнями городов, заводов, шахтных поселков, и с высоты казалось, что в этой степи нет незаселенных мест. Хитрила здесь природа, спрятав под скучным, однообразным покровом величайшие богатства, но человек разгадал тайну земли, стал извлекать из её недр и каменный уголь и самый необычайный металл, верткий, как живое существо: ртуть. Сердюк любовался световыми оазисами городов и шахт и восторгался трудолюбием человека. А теперь, когда Андрей Васильевич, возвращаясь из Москвы, летел с партизанского аэродрома и пилот прокричал, что под ними Донбасс, он глянул вниз и не узнал своего края. Ни зарева городов, ни отблеска пламени заводов всё черно, как в глубокой яме. — Готовьтесь! — крикнул пилот, и Сердюк вылез на крыло, крепко держась за борт самолета, чтобы не сдула воздушная струя. Странная робость овладела им. Он многое испытал в жизни: сидел в засаде на границе, хватал голыми руками вооруженного до зубов врага, стремясь живьем доставить его на заставу, вступал в неравный бой с нарушителями границы, а вот прыгать с самолета приходилось в первый раз. По команде летчика Сердюк упал в пустоту и, отсчитав семь, рванул кольцо. Он ощутил толчок, закачался на стропах парашюта и сразу поджал ноги, готовясь к приземлению. Но оно наступило много позже и совсем не в тот момент, когда ожидал. Земля толкнула его, словно сама летела навстречу, и он упал на бок, больно ударив руку. Андрей Васильевич не сориентировался, где он находился, даже когда рассвело. Одно было ясно: он на донецкой земле. Кругом, куда ни глянь, маячили черные остроконечные терриконы, в мглистой дымке утра тонули шахтные поселки. Только на вторые сутки добрался Сердюк до своего города, переночевал в заброшенной штольне и уже глубокой ночью нырнул, как в нору, в сводчатое отверстие канала. В водосборнике его встретили темнота и молчание. Стало жутко. Что с Валентиной и Павлом? Не могли же они уйти на поверхность! А может быть, их уже схватили и его здесь ожидает засада? Сердюк спустил предохранитель пистолета и тотчас услышал, как в темноте что-то щелкнуло — не то взведенный курок, не то спущенный предохранитель. Он попятился к выходу. В тот же миг яркий свет электрического фонарика ударил в лицо, и Андрей Васильевич услышал радостный возглас Вали. Она бросилась к нему, повисла на шее: — Что с Сережей? — Жив Сергей. Гангрены не обнаружено. Осто… Остеомиэлит. Ну, в общем, воспаление. Отправили его в Свердловск, в госпиталь. — Ой, Андрей Васильевич! — только и вымолвила Теплова и заплакала от радости. Сердюк успокаивал: — Ну, поплачьте, поплачьте, Валя. Это счастье, что всё так обернулось. В партизанском госпитале — лучшие врачи. Он взял фонарик и стал рассматривать лицо Вали. Желтое, как воск, у губ собрались морщинки, но глаза сияли. — А где Павел? — спросил Сердюк. — Пошел мать проведать. До того извелась женщина… Записке не поверила. Павел писал ночью, и она не узнала его почерка. Пришлось нарушить ваш запрет. — Валя задумалась. — Скоро год, как моя мама умерла, с тоской сказала она. — С тех пор как я сюда забралась, и на могилке не была. Дождемся наших сразу побегу. Хочется мне там сирень посадить. Любила её мама больше всех цветов… И попросила: — Ну, рассказывайте, Андрей Васильевич, всё по порядку. Чтобы не расходовать батарейку, зажгли керосиновый фонарь, и Сердюк после странствий по степи почувствовал, что он наконец дома. Усевшись на скамью, он рассказал о штабе партизанского движения. Валя призналась, что они здесь совсем потеряли голову. В Сталинграде уличные бои — стоит ли распространять такие сводки? — Стоит, категорически заявил Сердюк. — Если мы только хорошие вести будем сообщать, кто нам станет верить? И не бойтесь, Валя. Пусть хоть горькая, но правда. А то вот гитлеровцы уже несколько раз сообщали, что Сталинград взяли. Сердюк сбросил стеганку, собираясь укладываться спать. Из одного кармана достал пистолет, положил на нары у изголовья, из другого — флакон духов. — Подарок вам, Валя, из столицы. «Красная Москва». Валя бережно открыла флакон, и в затхлом, промозглом помещении разлился тонкий аромат.* * *
Потянулись томительные дни, ничем не отличавшиеся один от другого. Валя стучала на машинке, печатала сообщения о боях в Сталинграде. Сердюк в дневное время спал, а ночью выбирался из подземелья и бродил по цехам. Возвращался он в пыли, почти всегда с новой рваниной на одежде, и Вале уже надоело зашивать и ставить латки. Порой он подсаживался к фонарю, раскладывал на досках чертежи подземного хозяйства, составленные Крайневым, отмечал на них что-то и неуклюже чертил эскизы, нарушая все правила технического черчения. Два раза сюда пробирался Петр, приносил номера «Правды», несказанно радуя всех. Газеты проходили через многие руки, были измяты, потерты на многочисленных сгибах, но их прочитывали от призыва над заголовком до адреса издательства. Сашка приходил последнее время скучный. К листовкам он потерял всякий интерес, хотя и добросовестно выполнял свои обязанности. Даже походка изменилась у него. Он вяло плелся по тоннелю, и уже трудно было отличить шум его шагов от шума падающих со свода капель воды. Сердюк подбадривал парнишку, но видел, что настроение у него не улучшается. — Как тебе не стыдно! — пожурил его однажды Андрей Васильевич. — Ты всё же на свежем воздухе. Валя света не видит и не хнычет! Что, если тебя посадить сюда надолго? — Сбегу! — отрезал Сашка. И вообще я не в ту группу попал… Вон в городе то и дело слышишь: то гитлеровца убьют, то полицая повесят, то что-нибудь взорвут, а мы бабахнем раз — и притихли. Канцелярию развели… Одна входящая, сто исходящих… — Не сбежишь, Сашко, — спокойно сказала Валя. — Совесть комсомольская не позволит. Сам Пашу корил, что, ослушавшись Андрея Васильевича, отлучился мать проведать. Ведь ты от дурного лихачества вылечился. Язык хлесткий остался, правда… Парнишка стушевался. Привычка считаться с Валей как с секретарем комсомольской организации действовала всегда безотказно. Немало докучал Сердюку и Павел. Успех операции в гестапо его окрылил, и он настаивал на боевом задании. — Вот организуется новое гестапо — займемся им, — успокаивал его Андрей Васильевич. — Но, как видишь, гитлеровцы не спешат. Вся власть в руках военного коменданта. И Павел на несколько дней утихал. Однажды подпольщики услышали топот ног по тоннелю. Они схватились за оружие, полагая, что сюда бежит несколько человек, но это оказался Сашка — подземное эхо гулко разносило стук подбитых подковками ботинок — Победа! — закричал он, влетая в водосборник. — Да ещё какая! Вот тряхнули! Вот всыпали! — Где? Говори толком! — поторопил Сердюк. — Под Сталинградом. Читайте! Читайте, Андрей Васильевич, вслух. Каждое слово как музыка! Сердюк взял сводку и торжественным голосом, словно присягу перед строем, прочитал сообщение Информбюро о начавшемся наступлении наших войск под Сталинградом. — Ура! вполголоса выкрикнула Валя. Все тихо повторили этот прославленный боевой клич трижды, и он прозвучал как клятва. — Началось. Дождались-таки! — Сердюк просиял. — Теперь и у нас развернется работа. Завтра, Саша, приходи сюда вместе с Петром. Сообщу вам явки, будете налаживать связь со всеми подпольными группами города.Глава седьмая
Крайнев не стал ждать, пока восстановятся его силы, и, как только рана на бедре затянулась, упросил врачей выписать его из госпиталя. Не теряя ни одной минуты, он отправился прямо в «Главуралмет». Ему повезло: в эти дни нарком был в Свердловске. Занимался делами главка. Крайнев вошел в кабинет наркома в военной форме, ещё больше подчеркивавшей его худобу, постаревший, бледный, но подтянутый и четкий. Многое хотел сказать нарком этому человеку с серьезным лицом и суровыми глазами, но он сдержал себя и, крепко пожав руку, коротко произнес: — Благодарю за выполнение задания. — Служу советскому народу! — так же коротко ответил Сергей Петрович. Нарком сел в кресло перед столом, усадил Крайнева напротив. — Знаете, где сын? — прежде всего спросил он. У Крайнева дрогнули губы: — Спасибо, товарищ нарком. Знаю. — Растет, вытянулся, говорят В детский сад ходит. Здоровье как? — Физически окреп. Хожу. Но нервное истощение настолько сильное, что результатов лечения почти не чувствую. — Немудрено. Но не беда. Страшное позади. Поможем отдохнуть и подлечиться ещё. Поедете на тот завод, где Макаров. У них там сейчас крепкие медицинские силы. Придёте в норму — сообщите. Работу дам увлекательную. Крайнев возразил: — Я очень прошу отпустить меня в армию. — А заводы кто восстанавливать будет? Новые люди? — Нарком помолчал и затем добавил: — Первое задание вам: отдохнув, напишите мне подробнейшую докладную записку о вашем донецком заводе — в каком состоянии видели последний раз цехи. А потом, когда наберетесь достаточно сил, займетесь проектом восстановления мартеновского цеха. Глаза у Крайнева потеплели, оживились, и нарком заметил это. — Мы не будем копировать старое. Построим новые печи большей мощности, полностью автоматизированные. Это сложно, но это прекрасно. Сталевар — уже не рабочий, он техник. Впрочем, не вам объяснять. — Согласен, товарищ нарком. Только с условием: хочу вернуться в свой город в день его освобождения, если уж не доведется его освобождать. — А почему это вам так хочется? — спросил нарком, уловив в голосе Крайнева какую-то необычную интонацию. — Я оставил в подполье очень дорогого мне человека, — не раздумывая, признался Крайнев, в упор глядя в глаза наркому, — и ни одного лишнего дня не смогу пробыть в неизвестности. — И вдруг, помрачнев, добавил, словно рассуждая сам с собой: — А если её уже нет… — Обещаю. Сделаю, — заверил его нарком. — Как фамилия девушки? — Для чего? — смутился Крайнев. — Конечно, не из простого любопытства, пошутил нарком. — Я понимаю… — ещё более смутился Сергей Петрович, — но она подпольщица. По правилам конспирации… — Если не доверяете… — развел руками нарком. — Между прочим, у правительства я ещё из доверия не вышел. Более серьезные вещи доверяют… — Товарищ нарком… — Жаль, жаль. Я хотел было запросить о её судьбе штаб партизанского движения. — Товарищ нарком, вы меня простите, я ведь жил, как… как… ну, чорт побери, тут слово не подберешь. Что может быть хуже оккупации! — Да… задумчиво произнес нарком. — Пожалуй, нет ничего хуже. Но перенесемся на год вперед, и это проклятое слово будет уже в прошлом. Всегда помогает заглянуть вперед. Самый мрачный день посветлеет. Вот и вы думайте о том дне, когда получите от меня письмо… — С разрешением ехать на юг? — Нет, это будет не письмо, а приказ. А письмо будет о том, что жива и продолжает борьбу комсомолка Валентина Теплова. — Товарищ нарком! — Крайнев откинулся на спинку кресла. — Откуда? — Такая уж у меня обязанность — знать всё о своих кадрах. — Откуда? — переспросил Крайнев. Нарком улыбнулся, видимо очень довольный тем, что ему удалось пронять Крайнева. — Как же не знать человека, который спас жизнь хорошему инженеру и патриоту! — Скажите, ради бога, как узнали? — взмолился Сергей Петрович. — Рад бы, но, знаете… правила конспирации… — И тут же смягчился: — В Москве в штабе партизанского движения недавно был. Там мне о вас всё рассказали, и не только о вас. Представьте, доверили! — Он прошелся по кабинету. — Порядок у них — даже я позавидовал. В штабе партизанского движения о каждом человеке знают — где он, что с ним. А ведь партизаны и в лесах, и в степях, и в болотах — сколько их! А мои сотрудники отдела кадров иной раз инженера по неделе искали. Где он, на какой завод уехал, на какой переехал. И я их особенно не бранил — думал, так и должно быть. Тысячи людей прибыли сюда, да и теперь ещё с места на место передвигаются. И вот потребовал я и от своих самого точного учета. Нарком первый раз за всю беседу взял папиросу, протянул коробку Крайневу. Тот отказался, показав на сердце. — Когда едете к сыну? — Сегодня. Нарком вызвал секретаря: — Билет товарищу Крайневу на поезд… А теперь рассказывайте о заводе, — сказал он, когда ушел секретарь, и поудобнее уселся в кресло.* * *
Сергей Петрович шагал по улицам Свердловска, испытывая ни с чем не сравнимое блаженство. Он мог идти прямо, свернуть направо, налево, зайти в магазин. За ним никто не следил, и никому до него не было дела. Он проглядывал театральные афиши и любовался людьми, которые шли, как обычно ходят люди: не сгорбившись, не таясь; на их лицах не было того страшного выражения замкнутости и ненависти, какое он привык видеть в оккупации. Радовали звонки трамваев, сирены машин, гудки заводов. Всё это было так обычно для всех и так странно для него. «Как хорошо, что некоторое время пробыл в госпитале и хоть немного успел привыкнуть! — подумал он. Прилети самолетом прямо сюда — с ума можно сойти». И всё же, поймав на себе чей-то пристальный взгляд, Крайнев почувствовал, что у него по привычке напряглись нервы. «Вот развинтился! — выругал он себя и сейчас же подумал: — Тут и не разберешь: развинтился или завинтился». Он остановился у концертной афиши: «Марина Козолупова». Неудержимо захотелось послушать музыку, и он подошел к кассе, но здесь остановился. Показалось невозможным сидеть в концертном зале и упиваться музыкой в то время, как его товарищи там, в подполье, рисковали жизнью. Он постоял и вышел. Удержаться от искушения пойти в кино Сергей Петрович не смог. Ещё издали, раньше чем он прочитал название картины, его внимание привлек большой красочный плакат — напряженное женское лицо на фоне горящего дома. «Она защищает родину» — назывался кинофильм. Во время сеанса он пожалел о том, что попал сюда. Фильм снова перенес его в страшную обстановку оккупации, напомнил о товарищах, оставшихся в подполье. Когда он вышел из кинотеатра, уже стемнело, но улицы были ярко освещены,фонари цепочкой уходили далеко к зданию Уральского политехнического института. На тротуарах сновали люди, спешившие домой. Порой его толкали, но и теснота и шум только радовали: он среди своих людей, на своей, никогда не топтанной врагами земле.Глава восьмая
Был выходной день. Вадимку забрала старушка-соседка на прогулку вместе со своим внуком. Елена Макарова ещё подремала немного, потом накинула махровый халат и, встав перед небольшим висячим зеркалом, принялась расчесывать волосы. Подумала: «Поредели, а ведь ещё недавно с ними трудно было сладить». Волосы свисли на лицо, и она ощутила слабый запах машинного масла. «Выпачкала на заводе. Или просто пропахли». В дверь кто-то постучал. — Войдите. — Елена решила, что это хозяйка квартиры, но услышала за спиной скрип мужских сапог. Она откинула волосы, оглянулась и вдруг вскрикнула, не веря своим глазам: — Сергей Петрович! Вы? Крайнев схватил её руку, прижался к ней губами. — Где мой сын? В садике? — Нет, гуляет. Скоро придет. И Вася приедет завтракать. — Спасибо вам за Вадимку, спасибо такое, что и выразить не могу… Елена вдруг вспомнила умершего в дороге сынишку, прижалась к полушубку Крайнева, пахнувшему овчиной, заплакала, но быстро взяла себя в руки, вытерла слезы, улыбнулась и стала рассматривать Крайнева. Заметила шрам на виске, редкие сединки и какую-то жесткость во взгляде. — А вы такая же, — понял её Сергей Петрович, — только глаза… грустные. Елена молча покачала головой. Крайнев сбросил полушубок, не торопясь повесил его на вешалку, и женщина мысленно отметила, что военная форма идет к нему. Подумав, что скоро придется расстаться с Вадимкой, к которому привыкла, как к сыну, она сказала, подходя к Крайневу: — Простите, Сергей Петрович, что я так сразу, но умоляю об одном: не забирайте пока мальчика. Поймите, не могу. У нас скоро будет свой… тогда… Хорошо? У Крайнева заблестели глаза, и чтобы скрыть волнение, он мерно зашагал по комнате. Елена с трепетом ждала его ответа. — Не заберу, — пообещал он. Елена прерывисто вздохнула, как ребенок, утешившийся после долгого плача. — Спасибо, — чуть слышно, одними губами, сказала она. У подъезда дома остановилась машина, хлопнула дверка. — Вася приехал! В комнату вошел Макаров, остановился на миг у порога и бросился целовать Крайнева. — Что ж ты замолчал последнее время? Душу вымотал! — упрекнул он. — Только из госпиталя? — А я почему ничего не знаю? — всерьез обиделась на мужа Елена. — Это я просил ничего вам не говорить, — выручил Макарова Крайнев. — А замолк потому, что все считал: вот-вот у вас буду. Полтора месяца выписку со дня на день откладывали врачи. — Ну и молодец ты, Сергей! Верил тебе, но выдержки такой не ожидал. Ты же, чертяка, взрывчатый! Крайнев улыбнулся уголками губ. — Был, — сказал коротко. — Расскажи хоть в нескольких словах, как до всего додумался, потом завтракать будем. — Самое страшное, что я пережил, — заговорил Крайнев, — это первая ночь в оккупации. Был бы пистолет — мог сгоряча пустить пулю в лоб. Ждать, когда схватят, и умирать в гестапо не хотел. Умирать можно тогда, когда не остается ничего другого. Решил перехитрить врага. Удалось.. — А рамом кто наделил? — Какой-то подпольщик стрелял. Не разобрался в моей роли. В коридоре послышались быстрые шаги. В приоткрытую дверь заглянул Вадимка, крикнул: «Папочка!» — и замер. Мальчику, видимо, показалось, что он ошибся. Сергей Петрович бросился к сыну, схватил на руки, прижал к себе и долго целовал его раскрасневшееся от мороза и радости личико.* * *
Первые дни пребывания у Макаровых Сергей Петрович не расставался с Вадимкой. Мальчик перестал ходить в детский сад, безотлучно находился при отце, сопровождал его во время коротких прогулок, терпеливо сидел на табурете в ванной комнате, когда Сергей Петрович принимал хвойные ванны. У истосковавшегося по отцу Вадимки не иссякал запас вопросов. Не на все их легко было ответить. — Папа, а ты фашистов много убил? — спросил Вадимка. — Одного, — ответил Крайнев. — Одно-го? — разочарованно протянул Вадимка. — Почему так мало? Сергей Петрович увидел в глазах ребенка нескрываемое огорчение. — Нет, нет, больше, — поспешил успокоить он сына, вспомнив о немецкой хозяйственной команде, которая взлетела на воздух вместе с котельной электростанции. — Человек… то-есть штук двадцать. — Двадцать? — переспросил Вадимка с явным недоверием. — А почему у тебя орденов нет? — Пришлют орден. — Один? — Один. — Когда?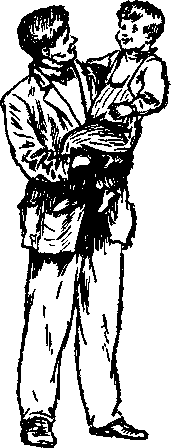 Так продолжалось с утра до вечера, пока не возвращались с работы Макаровы.
Часто Крайнев, закрыв глаза, уносился мыслями в Донбасс, в подземное хозяйство. Вот Валя за машинкой, вот она уже у его изголовья, гладит его небритую щеку, пробует губами лоб, целует…
Что-то похожее на угрызение совести шевелилось тогда в его сердце. Он в светлой, теплой комнате, среди друзей отлеживается, отсыпается, а Валя попрежнему в затхлом подземелье, и только надежда на встречу с ним поддерживает её в этой изнурительной борьбе.
Вадимка почти не оставлял отца одного и не давал ему долго раздумывать. Мальчику всё казалось, что стоит выпустить папу из виду — и тот снова надолго исчезнет.
Только один раз, когда соседние ребята сообщили, что во дворе садика стоит большущий самолет, «всё равно как настоящий» с колесами и пропеллером, — Вадимка не устоял от соблазна увидеть эту диковинную игрушку и скрылся на добрых полтора часа.
Но, стремглав летя домой, он испытал такой страх, боясь не застать отца, что никаким искушениям больше не поддавался.
Так продолжалось с утра до вечера, пока не возвращались с работы Макаровы.
Часто Крайнев, закрыв глаза, уносился мыслями в Донбасс, в подземное хозяйство. Вот Валя за машинкой, вот она уже у его изголовья, гладит его небритую щеку, пробует губами лоб, целует…
Что-то похожее на угрызение совести шевелилось тогда в его сердце. Он в светлой, теплой комнате, среди друзей отлеживается, отсыпается, а Валя попрежнему в затхлом подземелье, и только надежда на встречу с ним поддерживает её в этой изнурительной борьбе.
Вадимка почти не оставлял отца одного и не давал ему долго раздумывать. Мальчику всё казалось, что стоит выпустить папу из виду — и тот снова надолго исчезнет.
Только один раз, когда соседние ребята сообщили, что во дворе садика стоит большущий самолет, «всё равно как настоящий» с колесами и пропеллером, — Вадимка не устоял от соблазна увидеть эту диковинную игрушку и скрылся на добрых полтора часа.
Но, стремглав летя домой, он испытал такой страх, боясь не застать отца, что никаким искушениям больше не поддавался.
* * *
Прошло две недели, и Крайнев настоял, чтобы Макаров показал ему цех. Выехали, когда Вадимка ещё мирно спал, покружили по городу и остановились у контрольных ворот завода. — Пройдем пешком, — предложил Макаров. Пересекли широкое шоссе и поднялись на высоко поднятый над землей мостик для пешеходов. Крайнев с жадностью вдыхал острый букет запахов заводского воздуха. Пахло и обычным паровозным дымом, и коксовальным газом, и щекочущим ноздри сернистым от ковшей с доменным шлаком, и едкими парами смолы от смазанных изложниц. Его ухо различало в сложной гамме звуков отдельные звуки, понятные и знакомые. Тяжело ухнула болванка на блюминге, падая из валков на рольганг; тонко завизжала пила в прокатном цехе, перерезая заготовку; грозно погромыхивая на стыках, в здании ближайшего цеха двинулся с места мощный мостовой кран. И во все эти звуки диссонансом ворвалось предупреждающее завыванье сирены. «Будут кантовать газ в мартене», — отметил про себя Сергей Петрович и поднял голову. Из одной трубы выбросился огромный коричнево-сизый клуб дыма и, постепенно редея, поплыл ввысь. Спустились с моста, поднялись по лестнице на рабочую площадку. Крайнев увидел длинный ряд уходящих вдаль печей, ярко светящиеся гляделки, ореолы пламени над окнами. Здесь всё было огромным, величавым и мощным: и высокое здание, и широкая, выложенная в елочку кирпичом рабочая площадка, и печи, и краны. Сергей Петрович придержал Макарова за руку: — Погоди. Слишком много всего сразу… Дай осмотреться. На ближайшей печи делали завалку. Машинист завалочной машины цеплял длинным хоботом стальные мульды, наполненные металлическим ломом, вводил их в печь, высыпал содержимое и ставил опорожненными на вагонетки. Чуть дальше шла заливка чугуна. Из стотонного ковша, подвешенного на крюках крана, хлестала в подставленный жолоб струя расплавленного чугуна, разбрасывая вокруг пушистые, звездастые искры. Макаров подвел Сергея Петровича к одной из печей. Здесь готовились к выпуску плавки. Это было видно по легкой взволнованности сталевара, по торопливым движениям рабочих, по цвету и подвижности сливаемой на плиту пробы стали. Она была яркобелой и тонким слоем разливалась по плите. Когда подручные длинной пикой пробили выпускное отверстие и сталь через раздвоенный жолоб мощным потоком хлынула сразу в два ковша, наполняя цех тяжелым шумом и тонким, едва уловимым запахом, Крайнев испытал такой же трепет, какой испытал давным-давно, в первый раз наблюдая эту захватывающую, красивейшую в технике картину. Целый день провел Сергей Петрович в цехе. Встречался с земляками-донбассовцами, отвечал на их бесчисленные вопросы, расспрашивал о знакомых. Сталевар Шатилов рассказал ему, что недавно к ним на завод приезжал с делегацией фронтовиков бывший парторг мартеновского цеха на Юге Матвиенко, похвалился, что получил в подарок от гвардейцев именной автомат. К вечеру, освоившись, Крайнев уже чувствовал себя как дома, как в своей семье, и понял: нет, не высидит он срока, положенного для отдыха. Пройдет день-другой, и он выйдет на работу.* * *
Возвращались домой после вечернего рапорта. Макаров попросил шофера остановиться у здания театра, откуда открывалась величественная панорама ночного завода. Яркие пунктирные линии четко окаймляли асфальтированные шоссе, пересекавшие завод в разных направлениях. Светились огромные проёмы цеховых окон; высоко в небе созвездиями горели огни на колошниках доменных печей. Изогнувшись коромыслом, уходила через реку бетонная плотина, залитая электрическим светом. Вдруг небо вспыхнуло от красного зарева, и огни померкли, как на рассвете. С шлаковой горы хлынул огненный поток, образовав огромную причудливую фигуру. Шлак быстро начал тускнеть, из оранжевого превратился в темновишневый. Зарево в небе потухло, огни снова стали острыми. В этот миг новый поток низвергался с горы, и снова вспыхнуло зарево, отражаясь в окнах домов тревожными багровыми бликами. На шлаковой горе появилась огромная красная луна — это в опрокинутом набок ковше светила приставшая к стенкам корка расплавленного шлака. Потом появилась вторая луна, третья… Постепенно луны потускнели и исчезли совсем. По горе, как звездочка, заскользил огонек паровоза, увозившего ковши обратно в цех. Из трубы мартеновского цеха вырвалось пламя, выросло в большое горящее облако и растаяло в воздухе. А за цехом медленно двигались яркожелтые квадраты горячих слитков и поочередно исчезали в здании блюминга. Макаров пересчитал их. — Пятьдесят один слиток — триста тонн металла. Представляешь, как почувствуют себя фашисты, когда на голову им обрушатся снаряды только с одной нашей плавки! — Хорошо представляю. — И в воображении Крайнева встала картина мощнейшего огневого налета.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Гитлеровские полчища откатывались на запад. Всё меньше эшелонов проходило к линии фронта, но в обратном направлении количество их росло непомерно. Вскоре они уже двигались непрерывной линией на расстоянии сотни метров друг от друга. Гитлеровцы везли всё, что ещё можно было вывезти: пшеницу и металлический лом, людей и музейные ценности, скот и своих раненых. Всё шло вперемешку, без всякой системы. Город заполнился отребьем всех национальностей, которое удалось поставить под ружье. Солдатня только тем и занималась, что беспорядочно бродила по улицам и рыскала по домам, забирая последнее у жителей. — Вавилонское столпотворение, — шептали старухи. — Смешение всех языков. Но все эти «языки» уже хорошо знали несколько русских слов: хлеб, молоко, масло, кукуруза, картофель, одежда. Казалось, фашисты решили не оставить ни одного грамма продуктов, ни одного предмета домашнего обихода. Всё нужно было этим обнищавшим вассалам «великой империи», и они забирали всё, вплоть до вёдер и корыт. С их уст не сходило короткое слово «капут». В начале войны это слово фашисты произносили как угрозу: «Капут Красной Армии!», «Капут Советскому государству!», «Капут русской национальной культуре!» А теперь оно звучало в устах разбитых, вконец растерявшихся гитлеровских бандитов уныло и безнадежно: «Гитлер капут», «Муссолини капут», «Антонеску капут». Людей из города пока не забирали, но Сердюк со дня на день с тревогой ожидал приказа немецкого командования об угоне всех мужчин в Германию. Очень беспокоила его и судьба склада боеприпасов и оружия. Приказ о вывозе имущества склада мог последовать внезапно, и план захвата и спасения завода рухнул бы. Сердюк помнил слова, сказанные в штабе партизанского движения: «Ваш завод имеет крупное значение в деле восстановления транспорта страны. Его продукция, особенно рельсы и рельсовые скрепления, нужна в первую очередь. Без транспорта мы не решим задачи восстановления Юга». В подземной лаборатории рельсобалочного цеха жило уже сто сорок семь рабочих завода и участников городских подпольных групп. Петр Прасолов с руководителями групп отобрали самых проверенных и выдержанных и провели их сюда. Командиром отряда был назначен Гудович. Дисциплину он поставил на военную ногу. Это было тем более необходимо, что люди изнывали от безделья и многие хотели подняться на-гора, посмотреть, что делается в городе, проведать свои семьи. Желание видеть своих родных или хотя бы знать о их судьбе пришлось учитывать, и Сердюк прикомандировал к Гудовичу Николая в качестве связного. Парень был вначале разочарован возложенной на него ролью — ждал более серьезного задания, — но вскоре смирился. Ему нравилось, пробравшись из города в подземный зал, рассказывать всё, что он видел, успокаивать встревоженных мужей, отцов, братьев, передавая им приветы от их семей. На обязанности Николая лежала и читка сводки, один экземпляр которой он получал специально для жителей зала — «подземцев». Кто дал эту кличку людям, было неизвестно, но она привилась. Постепенно в подземном зале сложилась особая жизнь. Из досок разобранного ночью сарая для огнеупорных материалов были сделаны нары, низкие, шаткие, но люди уже не спали на бетонном полу. Появилось несколько фонарей, тускло горевших по стенам. Назначались дежурные, следившие за чистотой, кипятившие пахнувшую мазутом воду из ставка, часовые, наблюдавшие за тем, чтобы не проник кто-либо из посторонних, а также за тем, чтобы не было самовольных отлучек. Ночами несколько раз группа смельчаков под командой Николая ходила через каналы к складу продовольствия, который обнаружил ещё Крайнев. Поднимали заготовленным домкратом тяжелую чугунную плиту, влезали в склад и таскали оттуда консервы и мешки с сухарями. Один раз ребятам повезло: они натолкнулись на ящики с табаком. Табак был дрянной, пахнул прогнившей морской травой, но подземцы курили его запоем, и тогда в помещении тускнели фонари, превращаясь в слабо светящиеся точки, как при густом тумане. Большое оживление в подземном зале вызвало появление обер-мастера мартеновского цеха Ипполита Евстигнеевича Опанасенко. О его судьбе до сих пор не было ничего известно. Знали только, что дом его сгорел дотла вместе с находившимися в нем гитлеровцами, и многие считали, что хозяин тоже погиб. Опанасенко встретился с Сашкой во время очередного посещения базара. Сюда сходились люди не только со всего города, но и из окрестных деревень. Здесь можно было услышать самые интересные разговоры, узнать о происходящем в деревне, подхватить разные слухи. Старый рабочий-мартеновец обнял Сашку, как сына, отвел его в сторону и начал расспрашивать о городских новостях. Но Сашка прежде всего осведомился о его дочери. Старик рассказал, что Светлана жила с ним и женой в отдаленном селе, у бабушки, — ей удалось спастись. Когда девушки, которых угоняли в Германию, услышали ночью над поездом гул советских самолетов, они, предпочтя смерть рабству, по совету Светланы стали выбрасывать сквозь решетку вагона пучки зажженной соломы, давая ориентир для бомбежки. Эшелон действительно стали бомбить. Повредили путь, и поезд остановился. Воспользовавшись паникой, девушки вышибли чугунной печкой доски в стенке вагона, открыли двери ещё в нескольких вагонах и разбежались по степи. А ему сейчас пришлось уйти из села, потому что оттуда вывозят мужчин в Германию. Но здесь он опасается, как бы не схватили за старые грехи. Сашка назначил Опанасенко ночью свиданье в каменоломне, переговорил с Сердюком и привел обер-мастера в подземный зал. Старика тотчас заставили подробно рассказать о том, как он поджег свой дом, как скрывался, как жил. Очень деятельный и хозяйственный по натуре, Ипполит Евстигнеевич, отоспавшись, принялся за ремонт нар. Затем ночью откуда-то притащил распиленную на части лестницу, сколотил её и, внимательно обследовав стены и потолок зала, решил расширить вентиляционное отверстие. Сделать это ему так и не удалось, но подземцы, оценив его хозяйственные наклонности, единодушно избрали его старшиной. Узнав от Сашки, что из сел угоняют мужчин, Сердюк понял: надо быть готовым к приему большого числа людей в подземное хозяйство. Очень угнетала Андрея Васильевича невозможность выполнить задание штаба — взорвать железнодорожный мост на пятом километре от станции. Мосты на ближайших железнодорожных ветках были взорваны, и весь поток грузов на фронт и с фронта шел через район, контролируемый Сердюком. Взрыв моста обычными методами был совершенно невозможен: гитлеровцы тщательно охраняли его. Долину высохшей реки они окружили колючей проволокой и пропустили через неё электрический ток. В казарме у моста разместилась рота автоматчиков. Несколько зенитных орудий и мощные прожекторы делали мост неуязвимым для самолётов. Украинский штаб партизанского движения требовал взорвать мост и ежедневно напоминал об этом, но для выполнения задания нужно было провести крупную боевую операцию, а Сердюк не располагал большими силами. Андрей Васильевич понимал, что, взорвав мост, он облегчит выполнение своего основного задания — предотвратить взрыв цехов завода, так как станция на длительное время потеряет всякое значение. Стоит остановить движение эшелонов — и количество войск в городе резко сократится, а оружие и боеприпасы не будут вывезены на фронт. Сашка часто носил радиограммы штаба руководителю подпольной транспортной группы, но каждый раз возвращался с одним и тем же ответом: подступов к мосту нет никаких.Глава вторая
В водосборнике, на скамьях, составленных буквой «П», сидели Валя, братья Прасоловы, Сашка, Николай, Гудович, Опанасенко, мастер доменного цеха Лопухов и старший горновой Вавилов. — Посоветоваться с вами хочу, товарищи, — сказал Сердюк, сидевший перед ними на пустом ящике; он обвел всех оценивающим взглядом. — Я вальцовщик, прокатчик, доменный и мартеновский цехи знаю только снаружи. Вот мне и хочется подумать с вами, как и где расположить наши силы, чтобы спасти хотя бы основные цехи. Что будут рвать немцы? Они постараются свалить доменные печи, трубы мартеновского цеха и обрушить колонны зданий. Если взять за исходный рубеж заводскую стену, то мы их натиска не удержим и наши бойцы будут неприкрытыми. Так? — Точно, — важно изрек Сашка, необычайно польщенный тем, что участвует в таком важном совещании. Опанасенко молча кивнул головой. Видел он Сердюка впервые, но всегда представлял сильным, смелым, упорным. И теперь ему показалось, что именно таким, каков Сердюк в жизни, он себе и рисовал его. — Значит, надо расположить людей так, чтобы они были неуязвимы, — продолжал Сердюк. — Кто знает, сколько нам придется продержаться! А вдруг наши задержатся? Гитлеровцы могут стянуть значительные силы. Вот, смотрите, план завода. Посередине главное шоссе пошло, — он провел пальцем по заштрихованной полосе. — Эти кружки с правой стороны — доменный цех. За ним электростанция и аглофабрика. Налево — мартен протянулся. Квадратики рядом — прокатные цехи. Тут контрольные ворота, — Сердюк показал на прорез в заводской стене — ворота, у которых заканчивалось шоссе, — а наискосок от них, перед доменным, заводоуправление. Какие точки для обороны наметили бы вы? — У мартена стоит перевернутый вверх дном ковш с отбитой кромкой, как у царь-колокола, — сказала Валя. — Залезем мы туда с Сашей, заложимся кирпичами и будем держать под обстрелом все колонны разливочного пролета — ни к одной колонне снаружи не подойдешь. — Что ж, неплохо, но это для одного-двух человек. — Сердюк склонился над листом бумаги, на котором Теплова очень приближенно набросала план завода. — Где этот ковш? Валя показала пальцем на маленький кружочек возле угла прямоугольника с надписью «мартен». — В крановых кабинах на литейном пролете можно будет засесть, — предложил Опанасенко. — Весь пролет как на ладони, ни к одной колонне и изнутри цеха не подступиться. — Ну, и перестреляют вас в кабинах, как граков в гнездах! — вставил Вавилов. — Нет, из этих пистолетов не перестреляют, — пренебрежительно глядя на автомат в руках Сашки, возразил Опанасенко. — Ребята кабины изнутри кирпичом выложат и будут сидеть, как в блиндаже. К ним туда и не доберешься: лестница-то одна, её всегда можно под огнем держать. — А в шлаковиках? — подсказала Валя. — Можно. Тоже хорошо. Стенка толстая, бойницу сделай — и чеши оттуда, — одобрил Опанасенко. Сердюк передал Тепловой план, и она нанесла на нем несколько квадратиков, обозначавших печи. — Уцелевшие шлаковики помните? — спросил Сердюк. Опанасенко назвал несколько: на пятой — правый газовый, на четвертой — левый воздушный, на третьей — все четыре. — А в зданиях можно засесть, Андрей Васильевич? — поинтересовался Николай. У него горели глаза: наконец-то предвидится настоящее дело! — В зданиях — в последнюю очередь, в зависимости от того, сколько у нас будет людей. — В кауперах засядем, под самым куполом, — предложил Лопухов. — Там люки есть на все стороны, как бойницы. Настоящий дот. Кожух железный, внутри кирпичная кладка — разве только, что из пушки пробьешь. — Высоковато, — процедил Сердюк: — метров двадцать. — Зато обстрел какой! Всесторонний! — В газопроводе да воздухопроводе засесть можно, — оживился Вавилов. — Они по всему заводу идут в разных направлениях, и невысоко: метров десять от земли. — А стрелять оттуда как? Через стенку? съязвил Опанасенко, но мгновенно смолк, увидев, что Сердюк заинтересовался предложением. Валя чертила газопроводы. Они шли вдоль мартеновского цеха, вдоль доменного, пересекали заводскую территорию против входных ворот и расходились по всему заводу. Сердюк оторвался от эскиза, взглянул на Петра: — Дрели достанешь? — В механическом цехе есть штук пятнадцать. — Надо изъять их немедленно и посадить в газопроводе ребят — пусть сверлят отверстия. Это идея. Весь завод под обстрелом держать можно, и трудно разобрать, откуда стреляют. Берись за это дело, Павел, тут слесарь нужен. Сердюк снова склонился над планом. — Эх, и хорошо получается! — восхищенно произнес он. — Главное, ребята передвигаться смогут. Где фрицы будут скапливаться — туда и они. И весь завод как на блюдечке. Только, Паша, газопровода не жалей, дырок побольше делай. Наши придут — заварят. Постепенно план разукрасился крестиками. — Гранат бы! — мечтательно сказал Сашка. С этого газопровода прямо гитлеровцам на головы. И бросать не нужно. Упусти вниз — и всё. — И погиб бы сам от осколков. Газопровод не такой уж толстый, — вставил Лопухов. — И ещё одно, — продолжал Сердюк. — Завод заводом, но людей тоже спасать будем от угона в Германию. Вон Опанасенко знает: в селах уже начали угонять поголовно всех мужчин. Людей придет достаточно. Городские группы за это время проделали большую работу, отобрали многих. Мне не хотелось бы распылять силы по всему подземному хозяйству. Чорт знает, затешется какой-нибудь провокатор, цыкнет гитлеровцам… — Народ надо в одном месте собрать и, как нас, — никуда. Вот и всё, — заявил Лопухов. — Попался шпион сиди — и не вылазь. — А где ты найдешь такое место? — спросил Вавилов. — Есть такое помещение, — зазвенел голос Вали. — Тоннель от доменного до мартена. Он никогда не использовался, о нем никто не знает. — Верно, есть, — смутился совсем забывший о тоннеле Вавилов. — Двести метров в длину, шесть в ширину. Да там полтыщи человек можно разместить. Но только как их провести? Под землей хода к нему нет. Со скамьи встал Опанасенко и уверенно сказал: — Нет — так будет, мил человек. У нас народ рабочий. Скажи прокопаем тут же. Дренажик там есть, но поганенький, разве только собака пролезет. Мы по нему и пойдем копать. С направления не собьемся. — Возьмись за дело, Евстигнеич, — предложил Сердюк, — но только с жаром. В любую ночь могут начать прибывать люди. — Я сразу понял, что работенка по мне. Что там наверху — ночь или день? Запутался в этих потемках. Сердюк посмотрел на часы: — Вечер. — Вот и хорошо! Сейчас на-гора вылезем, в мартене инструмент соберем. Он там же? В шлаковике третьей печи? — спросил обер-мастер Сашку. — Там. — Тогда я пошел землекопными делами заниматься.Глава третья
Дежурство диспетчера Артемьева близилось к концу. Он уже было решил, что это последний день его жизни. Если бы не приставленный к нему гитлеровский офицер, сегодня его непременно застрелил бы один из начальников воинских эшелонов, продвигавшихся на фронт. Час назад Артемьеву показалось, что и офицер его не спасет, потому что начальники эшелонов грозили застрелить и офицера. За весь день гитлеровцам не удалось протолкнуть в сторону фронта ни одного поезда. По обоим путям с востока непрерывно ползли эшелоны. Между ними уже не оставалось никакого расстояния, они тили вплотную один за другим, и Артемьеву чудилось, что это ползет огромная извивающаяся гадина и нет у неё ни конца, ни начала. Офицер несколько раз отстранял его от селектора и сам до хрипоты ругался с другим офицером, дежурившим на соседней станции, но ничего сделать не мог. Товарные составы продолжали непрерывно идти на запад по обоим путям. Ошалев от вонючего табачного дыма, от крика и ругани гитлеровцев, Артемьев вышел на перрон. Медленно двигались вагоны, не останавливаясь ни на минуту. Прошел эшелон с живым грузом. Громко мычали недоенные коровы, блеяли овцы, гоготали гуси. Всё, что гитлеровцы не успели отобрать у населения за два года оккупации, забиралось и отправлялось теперь. Мимо Артемьева проследовал санитарный поезд. Потом потянулись товарные вагоны с людьми — в Германию. Сквозь решетки люков смотрели изможденные лица. Это был страшный состав. Доносились стоны и плач, люди просили воды. Из одного вагона вырвалась наружу песня. Это была одна из тех песен, которые сложил народ в черные дни оккупации, проклиная палачей. Часовой, стоявший на перроне, не вскидывая автомата, выпустил длинную очередь по вагону, и оттуда донеслись истошные, душераздирающие крики. Сжав кулаки, Артемьев пошел в дежурку. «Мост… Что делать с мостом?» — в тысячный раз спросил он себя. Он чуть ли не ежедневно получал от руководителя транспортной группы копию радиограммы из штаба, но ничего не мог придумать. Не помогли и товарищи. Железнодорожное полотно иногда удавалось взрывать, но особого эффекта это не давало. Поезда шли тихо, и больших крушений поэтому не было. Натренировавшиеся в ликвидации крушений гитлеровцы высылали вспомогательный поезд, сваливали в сторону разбитые вагоны, ремонтировали путь, и движение возобновлялось. «Только мост», — думал Артемьев, сидя за селектором, под непрекращавшуюся перебранку гитлеровцев. Он не слышал этой брани. В его ушах застыла автоматная очередь, оборвавшая песню, стоны и крики. Он ясно представлял себе, что делалось в этом вагоне, набитом, очевидно, как и те, которые ему приходилось видеть раньше, до отказа. Люди в них стояли вплотную, и если кто-либо терял сознание или умирал, то не падал, а продолжал стоять, сжатый со всех сторон, как тисками. Артемьев вздрогнул. Гитлеровец внимательно посмотрел на него, но ничего не спросил. Диспетчеру хотелось одного: поскорее отбыть это проклятое дежурство, перестать слушать спор начальников эшелонов о том, какой эшелон нужно пропустить в первую очередь — боеприпасы и танки или бензин и тол для поджога зданий и взрыва заводов при отступлении. Диспетчер Артемьев относился к числу тех немногих людей, которые могли эвакуироваться и не уехали. Он родился в этом городе и всю жизнь проработал на этой станции, поступив сначала стрелочником. Здесь он женился, обзавелся домом, хозяйством. Работая на транспорте, он никуда дальше областного города не ездил и всё свободное время отдавал большому фруктовому саду. Он сам ухаживал за ним, производил подрезку, опрыскивание, увлекся учением Мичурина. Гордостью Артемьева была груша, на которой росли восемь разных сортов. За год до войны впервые уродился виноград, посаженный в два ряда вдоль изгороди. Мысль о том, чтобы всё это оставить, даже не приходила в голову ни Артемьеву, ни его жене. Гитлеровцы ничем не обижали старика, но с каждым днем у него накипала ненависть к ним. По натуре мягкий и справедливый, он не мог равнодушно смотреть на то, что творилось вокруг, и настал тог день, когда ему не стали дороги ни сад, ни дом, ни жизнь. Первым на станции Артемьев начал менять наклейки на вагонах, переадресовывая грузы в обратном направлении. Он никогда не видел результатов своих трудов, но с удовольствием представлял растерянные физиономии гитлеровцев, получавших на фронт пшеницу, а на мельницы снаряды. Скоро он понял, что сам может сделать не много. Хорошо зная людей, с которыми пришлось работать добрых три десятка лет, он поделился своим опытом с осмотрщиками вагонов, научил их разбираться в наименованиях грузов, и у него появилась целая плеяда последователей. Во время дежурства Артемьева эшелоны уходили со станции, обработанные самым надлежащим образом: наклейки изменены, тормозные шланги продырявлены, буксы вагонов заправлены песком и железными опилками. Постепенно то же стали делать и другие смены. Так на станции возникла группа движенцев под руководством Артемьева. Как о нём узнала связная штаба партизанского движения, он не знал, но догадывался, что на станции был оставлен подпольщик… Наконец этот сумасшедший день закончился. Пришла смена. К селектору сел другой дежурный, рядом с ним умостился другой гитлеровец. Выйдя на перрон, Артемьев с болью посмотрел на уныло ползшие эшелоны. Мысли его опять и опять возвращались к мосту. «Что ты сделаешь с этой крепостью!» — сокрушался он. Артемьев несколько раз ездил на следующую станцию, чтобы осмотреть мост, и возвращался в подавленном настроении. Кольцо проволочных заграждений за последние дни было усилено, появилось несколько бронированных колпаков с пулеметами. Фашисты боялись высадки воздушного десанта у моста и готовились встретить его во всеоружии. Что могла сделать небольшая группа! — Егор Карпыч! — окликнул его кто-то. Оглянулся — старик Новиченко, главный кондуктор товарных поездов. Тот подошел, осмотрелся по сторонам, попросил спички и, закуривая самокрутку, прошептал: — Сегодня мост шарарахнем. — Кто? — Я шарарахну. Диспетчер с недоверием взглянул на главного: «Не пьян ли?» Но Новиченко был совершенно трезв, глаза смотрели торжественно и грустно. Их необычное выражение заставило Артемьева серьезно отнестись к словам. — Завтра доложишь штабу, — совсем тихо прошептал старик: — Мост взорван. Силантий Новиченко погиб смертью храбрых. — Да расскажи толком! — встревожился Артемьев. — В эшелоне, шо на седьмом пути стоит, последний вагон с толом. Везут, гадюки, заводы подрывать. Юрка, младший мой сынишка, под этот вагон мину заложил такую, шо дернешь — и чека вон. Знаешь? — Знаю. — Артемьев начал догадываться, в чем дело. — Только на мост въедем — я проволочку и дерну. Как ты думаешь: от шестнадцати тонн и пятисот килограммов шо-нибудь ог моста останется?
— А ты?
— Да мне уже шестьдесят четыре. Считаю, хватит.
Артемьев стоял пораженный. Задача технически решалась очень просто. Нельзя к мосту подойти, но можно на него въехать. Нельзя взорвать снизу взорвут сверху. Но как же Новиченко? Он хорошо знал этого жизнерадостного старика, самозабвенно любившего своё дело. На поселке рассказывали, что после ухода на пенсию он каждый год очень своеобразно праздновал свой юбилей. 17 сентября, в день поступления на транспорт, доставал из кладовой железный сундучок, с которым ездил всю жизнь, укладывал туда четвертинку водки и закуску, надевал тулуп, усаживался на кровать, брался рукой за спинку, как за ручку тамбура, и, закрыв глаза, воображал, что едет. Через полчасика открывал сундучок, выпивал стопку водки, закусывал и снова «ехал», мурлыча под нос старинную ямщицкую песню, давно всеми забытую.
Рассказывали, что однажды среди ночи он разбудил жену и приказал ей потушить лампадку.
«3 глузду зъихав!» — рассердилась женщина.
«Туши, кажу! — крикнул Новиченко. (С женой он говорил только по-украински.) — Вогонь червоный. Як видкрыю очи, все мени здаеться, що поизд биля семафору стоить. Впечатлиння немае…»
— Шестьдесят четыре? — спросил Артемьев после долгой паузы. — Мало.
— Да шо ты, побойся бога! — возмутился Новиченко. — Штаб-то приказал, и сами мы понимаем. Такая оказия удачная выходит, а ты шо, против?
— Надо иначе сделать. Состав остановить так, чтобы последние вагоны как раз на мосту оказались.
— Попробуй останови. Машинист не из организации. Юрка уже к нему ходил, просил. Мы и сами кой-чего смекнули.
— И что?
— «Со мной, говорит, трое офицеров едут, они меня сразу стукнут». Юрка ему не мог рассказать, шо для чего, и не рассказать нельзя.
— Кто в вашей смене на «овечке» дежурит? осведомился Артемьев.
— На маневровом Гаврюшка Прохоров. А на шо тебе он?
— Как на что? Мы его паровоз вместо толкача пустим. До места он толкать будет, а у моста задний ход даст. Либо порвет состав, либо остановит, а нам это и надо. Ты эту самую проволочку, что дергать собрался, за рельсу привяжешь, на «овечку» — и назад, как только состав с места тронется.
Новиченко понял его мысль, глаза его заблестели:
— Значит, ещё наших встречу?
— В том-то и дело.
Они разошлись.
Артемьев пошел по путям отыскивать маневровый паровоз «ОВ», Новиченко — успокаивать безутешно рыдавшего Юрку.
— Только на мост въедем — я проволочку и дерну. Как ты думаешь: от шестнадцати тонн и пятисот килограммов шо-нибудь ог моста останется?
— А ты?
— Да мне уже шестьдесят четыре. Считаю, хватит.
Артемьев стоял пораженный. Задача технически решалась очень просто. Нельзя к мосту подойти, но можно на него въехать. Нельзя взорвать снизу взорвут сверху. Но как же Новиченко? Он хорошо знал этого жизнерадостного старика, самозабвенно любившего своё дело. На поселке рассказывали, что после ухода на пенсию он каждый год очень своеобразно праздновал свой юбилей. 17 сентября, в день поступления на транспорт, доставал из кладовой железный сундучок, с которым ездил всю жизнь, укладывал туда четвертинку водки и закуску, надевал тулуп, усаживался на кровать, брался рукой за спинку, как за ручку тамбура, и, закрыв глаза, воображал, что едет. Через полчасика открывал сундучок, выпивал стопку водки, закусывал и снова «ехал», мурлыча под нос старинную ямщицкую песню, давно всеми забытую.
Рассказывали, что однажды среди ночи он разбудил жену и приказал ей потушить лампадку.
«3 глузду зъихав!» — рассердилась женщина.
«Туши, кажу! — крикнул Новиченко. (С женой он говорил только по-украински.) — Вогонь червоный. Як видкрыю очи, все мени здаеться, що поизд биля семафору стоить. Впечатлиння немае…»
— Шестьдесят четыре? — спросил Артемьев после долгой паузы. — Мало.
— Да шо ты, побойся бога! — возмутился Новиченко. — Штаб-то приказал, и сами мы понимаем. Такая оказия удачная выходит, а ты шо, против?
— Надо иначе сделать. Состав остановить так, чтобы последние вагоны как раз на мосту оказались.
— Попробуй останови. Машинист не из организации. Юрка уже к нему ходил, просил. Мы и сами кой-чего смекнули.
— И что?
— «Со мной, говорит, трое офицеров едут, они меня сразу стукнут». Юрка ему не мог рассказать, шо для чего, и не рассказать нельзя.
— Кто в вашей смене на «овечке» дежурит? осведомился Артемьев.
— На маневровом Гаврюшка Прохоров. А на шо тебе он?
— Как на что? Мы его паровоз вместо толкача пустим. До места он толкать будет, а у моста задний ход даст. Либо порвет состав, либо остановит, а нам это и надо. Ты эту самую проволочку, что дергать собрался, за рельсу привяжешь, на «овечку» — и назад, как только состав с места тронется.
Новиченко понял его мысль, глаза его заблестели:
— Значит, ещё наших встречу?
— В том-то и дело.
Они разошлись.
Артемьев пошел по путям отыскивать маневровый паровоз «ОВ», Новиченко — успокаивать безутешно рыдавшего Юрку.
* * *
К двенадцати часам ночи движение эшелонов прекратилось по обоим путям. «Где-то наши станцию разбомбили!» — догадался Повиченко, слыхавший далекие, но сильные взрывы. Старик уже не думал о смерти: как никогда, ему захотелось дождаться своих, встретить с фронта сыновей. «Больше на пенсию не пойду, — дал он себе зарок. — С транспорта — никуда. Главным не поставят — глаза слабоваты, — так стрелочником пойду, обходчиком путевым, кем угодно. Но куда завтра деваться? Не поверят же фрицы в чудесное спасение!» Артемьев со станции не уходил. Он ясно понимал, что ни ему, ни Новиченко, ни бригаде маневрового паровоза оставаться более на работе нельзя. Быстроногий Юрка сбегал к нему домой, передал от его имени приказ жене — запереть дом и уйти к дальней родственнице, а утром покинуть город В половине второго гитлеровцы получили наконец возможность двинуться вперед. Протяжно загудел головной паровоз, его сигнал подхватил толкач, и эшелон тронулся в путь. На толкаче находились Артемьев и Юрка, в задачу которого входило произвести на мосту отцепку, когда эшелон станет. — Ты не толкай, не толкай, — спокойно поучал Артемьев Прохорова. — Эдак можно такой ход развить, что сразу и не остановишь. Четыре километра до моста проехали быстро, потом постепенно снизили ход и начали медленно преодолевать подъем. — Паровоз на мосту, — предупредил Артемьев, уловив привычным ухом характерный гул железных конструкций моста. — Тормози полегоньку. Состав потащился совсем медленно. В тишине ночи было хорошо слышно, как тяжело пыхтел головной паровоз. Миновали сторожевую будку, гитлеровцев, стоявших на часах, бронированные колпаки и въехали на мост. — Контрпар! — скомандовал Артемьев. Прохоров дал задний ход. Толкач забуксовал на месте, протащился несколько метров и остановился. Забуксовал и головной. Ехавший на заднем тормозе вместе с гитлеровскими солдатами Новиченко выронил, будто от толчка, свой фонарь и, бранясь, полез его поднимать. Дрожащими от волнения руками он быстро привязал конец проволоки, идущей от взрывателей мин, к рельсу, проверил прочность узла, подошел к толкачу и взобрался на ступеньку. Головной свистнул два раза, требуя помощи от толкача, но Прохоров снова дал задний ход, и оба паровоза одновременно забуксовали. Юрка видел, как из-под колес головного паровоза полетели искры, и замер. Если головной пересилит, стронет состав хоть на метр — тотчас взрыв. Было мгновение, когда Артемьев пожалел о затеянной им операции. Спасая от верной смерти Новиченко, он рисковал всеми людьми на паровозе. Предвидя возможность своей гибели, он дал на станции одному из подпольщиков последние распоряжения. Все участники подпольной группы после взрыва должны были уйти в каменоломню, где их обещал встретить Сердюк. Куда он их уведет старик не знал, ко привык верить начальству и подчиняться беспрекословно. — Сигнал торможения! — приказал Артемьев, и Прохоров трижды потянул рукоять свистка. Прислушались. Паровоз за мостом мерно пыхтел. — Дай на отцепку. Прохоров бешено закрутил реверс и чуть толкнул состав. Звякнул отцепленный фар-коп. — Ещё сигнал торможения! — потребовал Артемьев. — Пусть постоит, пока отъедем. И после третьего свистка крикнул: — Назад! Толкач рванулся с места, миновал будку, гитлеровцев на часах, бронированные колпаки и, набирая скорость, помчался назад. В километре от станции паровоз остановился, все, кто был на нём, выскочили и легли на землю. Новиченко, вглядываясь в темноту, громко шептал: — Господи, господи, помоги! Увидев огонек фонаря, появившийся на мосту, Артемьев выругался — показалось, что операция сорвалась, что гитлеровцы обнаружили проволоку от рельса к взрывателю. Но в этот момент небо и степь осветились ярчайшей вспышкой, и огромной силы грохот донесся до их ушей. Юрка взвизгнул от радости и бросился обнимать отца.Глава четвертая
Ветер с востока начал приносить звуки не прекращавшейся круглые сутки канонады. С окраины города, с крыш высоких домов ночью можно было видеть орудийные вспышки, которые непотухающими зарницами освещали горизонт. Разноязычная орда схлынула из города. Улицы опустели, даже полицаи попадались редко. Только солдаты гарнизона расхаживали по мостовым, и то лишь днем. Ночью они отсиживались в подворотнях домов, в пустых зданиях, боясь нападения партизан, но всё равно то здесь, то там с наступлением утра жители обнаруживали трупы разоруженных гитлеровцев. В одну ночь смельчаки ликвидировали в разных концах города три патруля — девять солдат. Комендант не мог найти виновных, но не оставил это без последствий. Семьи, жившие в домах, против которых валялись трупы гитлеровцев, были повешены на деревьях. Сашка, идя в воскресенье по улице, увидел одно такое дерево. Мелкие ветви широко разросшегося тополя были обрублены, чтобы листья не мешали видеть казненных. К стволу выше всех остальных был привязан проволокой пожилой рабочий с простреленной головой. Чуть пониже висела седая женщина с вымазанными тестом руками — её схватили в тот момент, когда она замешивала хлеб. На одной ветке, слегка раскачиваясь от порывов ветра и поворачиваясь в разные стороны, висели девочка лет тринадцати, с белыми бантами в тощих косичках, и её брат, худенький мальчонка с перекошенным синим лицом. А ещё ниже был подвешен за ноги голенький грудной ребенок. Сашка бросился бежать прочь от этого места, но почувствовал, что у него закружилась голова и он вот-вот упадет. Шатаясь, он кое-как дошел до забора и долго стоял, ухватившись за доски. Огромный твердый ком застрял в горле, мешал дышать. Бешенство душило его. Он с силой сжал доски забора и вдруг затрясся в рыдании. Какая-то женщина вышла из дома, посмотрела на него, снова вернулась в дом и принесла кружку холодной воды. Сашка разнял затекшие пальцы и выпил воду, с трудом делая глотки. — Родные? — участливо спросила женщина. — Родные, — машинально ответил Сашка и побрел прочь. Две ночи после этого все патрули благополучно возвращались в казармы. Но вот не вернулись три гитлеровца, а затем шесть. Их нигде не обнаружили. Солдаты стали исчезать бесследно.* * *
Сердюк только что продиктовал Тепловой обращение к горожанам, в котором призывал всеми способами избегать угона на чужбину, как появился Сашка. — Вы дадите мне возможность своими руками убить хоть одну собаку? — спросил он Сердюка дрожащим голосом. — Конечно, Саша, — спокойно, как всегда, ответил тот. — Когда? — На днях. — Я больше не могу, Андрей Васильевич. Вам тут хорошо, вы же ничего не видите! — Да, мне тут очень хорошо! — Простодушная улыбка спряталась в едва уловимом движении губ Сердюка. — А что случилось? Теплова перестала стучать на машинке, и Сашка, заикаясь от волнения, рассказал о страшном дереве. — А ты стрелок какой? — внезапно спросил Сердюк, чувствуя, что парня надо успокоить. — Ворошиловский. — Так вот. Получишь оружие, огневую точку и настреляешься досыта. — С оружием ознакомиться надо, Андрей Васильевич, — резонно возразил Сашка. — Из одного хорошо бьешь, а из другого похуже. — Ознакомиться надо, — согласился Сердюк, — и ознакомим. Но пока дня три с этим не приставай. Радиограмму принес? — Получите. Сердюк распечатал листок, прочел его, довольно улыбнулся и протянул Тепловой: — Передадите Николаю. Пусть прочтет в общежитии вместе со сводкой.* * *
Артемьев привел с собой сорок одного железнодорожника. Они свободно разместились в зале подземной лаборатории, но куренье в помещении пришлось ограничить — людям нехватало воздуха. Старожилы дотошно выспрашивали новичков обо всём, что делалось наверху. Новиченко не один раз рассказывал о том, как он, собираясь помирать на мосту, сокрушался, что от него и пепла не останется. «Хотел просить, чтобы вместо меня кусок мостовой фермы в гроб положили, — шутил он, — а то как же без похорон православному человеку! Богу это не нужно, а вот приедут сыны с фронта — где им поплакать, как не на могиле? Не у моста ж этого чортова…» — Так ты, значит, хотел, чтобы не у моста, а у мостовой фермы плакали? — съязвил Опанасенко, ревниво относившийся к тому, что подвиг Новиченко затмил его подвиг. — И то лучше, добродушно возразил старик. — Не за пять верст сыновьям ходить. Кладбище рядом. — Ну, сыновья у тебя, кажется, твердокаменные, если по младшему судить, — не унимался обер-мастер. — Заложил мину под вагон — «поезжай, папочка, дергай. А я потом на могилке поплачу». Юра вскочил, как ужаленный, и выкрикнул: — Были бы вы помоложе, я бы от вас половину оставил! — Помоложе и поменьше, — смерил его взглядом обер-мастер. — Ты ещё подрасти, пацан. Из тоннеля появился Николай, неторопливо прошел по центру зала, поднял руку: — Товарищи, радиограмма из штаба. Только что получена. Ему поднесли фонарь. — «Сердюку. Выношу благодарность за взрыв моста пятом километре. Это окончательно дезорганизовало транспорт на ближайшем от вас участке фронта. Прошу радировать данные для награждения отличившихся участников. Начальник штаба». Рабочие вскочили с нар и начали качать Артемьева, Новиченко, Прохорова, его помощника и кочегара. Юрку трепали за уши, как именинника. Когда люди немного успокоились, Николай снова поднял руку: — Сегодня предстоит важная операция. Товарищей, имеющих оружие, прошу подойти ко мне.Глава пятая
После взрыва моста гитлеровцы, как и предполагал Сердюк, усилили охрану военных складов на территории завода. Их обнесли колючей проволокой, утроили число часовых. На ночь вдоль заграждений привязывали сторожевых собак. Все пробоины в стенах складов были заделаны, железные ворота отремонтированы, и у них ночью стояло отделение автоматчиков. Линия фронта приближалась непрерывно. Гул канонады уже был слышен и днем. Эвакуация складов могла начаться в любой час, и Сердюк решил, что наступило время действовать. Ночью Павел Прасолов и Николай провели из подземного зала бесконечными тоннелями двадцать человек к складу. Одно обстоятельство очень тревожило Павла: установили ли гитлеровцы охрану внутри склада? Если да, то операция была обречена на провал, и не только операция. Застав их в складе, часовые обнаружили бы подземное хозяйство, и двести человек попались бы, как суслики в норе. Павел слышал, что на одной из шахт гитлеровцы задушили газом укрывшихся подпольщиков. «Нет, наверно, не догадались, — успокаивал он себя, пробираясь по подземному лабиринту. — Порядки у них больно уж штампованные, привыкли охранять снаружи». Подобравшись с людьми под склад, Павел долго прислушивался, потом осторожно приподнял домкратом плиту и прислушался снова. В складе никаких подозрительных звуков слышно не было. Только снаружи доносился лай сторожевых собак, да ветер кое-где на крыше шевелил сорванные листы железа и протяжно завывал в стропилах. Плиту приподняли выше, Николай скользнул в щель. В кромешной тьме он осторожно двинулся вперед, нащупывая руками проходы между штабелями ящиков. Ему было дано указание обойти весь склад и проверить, нет ли где засады. Пистолет у него отобрал Павел, отлично понимая, что он не спасет, а подвести может: очень легко, оступившись в темноте, спустить курок. Николай шел босиком по чугунным плитам пола, останавливался и прислушивался: весьма возможно, что где-то есть часовые. Геометрически правильное расположение штабелей облегчало ориентировку, и он вскоре вернулся, захватив с собой небольшой, но очень тяжелый ящик. Ящик оттащили подальше от поднятой плиты и вскрыли. В нём оказались запасные детали для орудийных затворов. Прасолов приказал рабочим брать ящики из разных штабелей и обязательно замечать, откуда берут. В десяти принесенных ящиках оказалось всё ненужное им: взрыватели для снарядов разных калибров, для авиабомб, набор медикаментов, запасные части для радиостанций, сигнальные и осветительные ракеты, снаряды для танковых пушек. В следующей партии ящиков также ничего нужного подпольщикам не оказалось, и только в третьей партии были обнаружены автоматы и патроны. Люди с облегчением вздохнули. Началась дружная работа: пятнадцать человек таскали ящики, пятеро разносили их по тоннелю, укладывали вдоль стен и вскрывали. Ослабевший за последнее время от плохого питания Николай выбился из сил, но, обливаясь потом, продолжал трудиться наряду со всеми. К большому неудовольствию уставших товарищей, Павел приказал все ящики с ненужными предметами забить и поставить на место, чтобы гитлеровцы не заметили беспорядка. Порожние ящики из-под автоматов были тоже уложены в штабель, и обнаружить пропажу можно было, только вскрыв их. Уже светало, когда подпольщики наконец закончили свою работу. Привыкшие к темноте глаза различали в сумеречном свете проёмы окон и даже очертания штабелей. Прасолов, высунув голову из-под плиты, прислушался. Попрежнему разноголосо завывал усилившийся ветер и заливались лаем сторожевые собаки. — Чуют чужих, сволочи! — пробормотал Павел. Но это и хорошо, что лают. Фрицы во все глаза смотрят на заграждения, и им невдомек, что творится тут. Рабочие поснимали брюки, завязали штанины, набили патронами и отнесли груз тоннелями подальше от склада. Потом вернулись за автоматами. Захватили и ящик с медикаментами. Павел застал Сердюка расхаживавшим по водосборнику. Андрей Васильевич нетерпеливо ждал конца операции. — А гранат не нашли? — спросил он, выслушав короткий доклад Павла. — Нет. — Плохо искали. Не может быть, чтобы гранат не было. Прасолов виновато потупился. — Повторим операцию завтра — может быть, найдем, — сказал он. — Ни в коем случае. Два раза судьбу не испытывают. Молодцы, что не засыпались. — Вот медикаменты какие-то захватили может, от простуды пригодятся. Сердюк просмотрел тюбики и баночки с мазями и усмехнулся: — Профилактические средства от вшей и чесотки. Вот мерзавцы! И это предусмотрели.* * *
Подземники встретили оружие торжественным молчанием. Николай тут же роздал автоматы рабочим. Защелкали опробоваемые затворы. — Разве это оружие? — пробурчал Опанасенко, в руках которого автомат казался игрушкой. — Вот винтовка — это дело! Кончились патроны — прикладом угостить можно, а этот… отстрелялся — и тикай. — Эх, темнота! — буркнул Новиченко. — Ты, я вижу, в прошлом столетии живешь. Тебе бы ещё секиру да лук со стрелами дать… Люди стирали одеждой масло с оружия, прицеливались, спускали курки. Николай с удовлетворением огляделся вокруг. На его глазах общежитие стало воинской казармой, а сталевары, слесари, каменщики, сцепщики, машинисты превратились в бойцов.Глава шестая
Было 28 августа 1943 года. Услышав, что кто-то опрометью бежит по тоннелю, Сердюк, как всегда, потушил фонарь, но увидел лучик света, прыгавший по стенам, и понял, что это Сашка со своим фонариком. — Андрей Васильевич! — крикнул Сашка, пулей влетая в насосную. — В город заградительный отряд прибыл, фрицы боеприпасы грузят на эшелон и ходят по заводу, кресты ставят — надо думать, намечают, где что рвать будут. Новость ошеломила Сердюка, но ненадолго. — Эшелон кто грузит? — Фрицы и рабочие. Со всего завода согнали. Человек пятьсот. Второй порожняк стоит на очереди. — Где кресты ставят? — Там, где вы и говорили, — у домен, на трубах и колоннах. — Канонаду хорошо слышно? — Гремит уже здорово и без перерыва. Прямо музыка! Фрицы кислые ходят. — С работы удрать можешь? — спросил Сердюк. Сашка замялся: — Сегодня очень трудно. Очень! Завод под усиленной охраной. На проходных вместе с полицаями человек двадцать автоматчиков. И мне кажется… — Что кажется? — Что рабочих сегодня с завода не выпустят. И для чего фрицам их выпускать? Готовые полтыщи человек для отправки. На станции стоят два эшелона порожних для людей, — конфиденциально сообщил Сашка. Он всегда поражал Сердюка своей осведомленностью. Мимо его внимания ничего не проскальзывало, он умел заметить то, чему другой не придал бы никакого значения, и сделать безошибочные выводы. Сердюк понял, что Сашка и на этот раз не ошибается. — Александр, тебе надо уйти в город, и как можно скорее, сказал он. — Не побегу же я через проходные! Как цыпленка подстрелят. А через тоннель днем нельзя. — Надо уйти, — потребовал Сердюк и внезапно спросил: — Как идет погрузка? Точного ответа он не ждал — не мог же, в самом деле, Сашка везде бывать и все знать. — Хорошо идет, — не задумываясь, ответил парнишка. — Пятьсот человек наших да фрицев штук двести. Эшелон небольшой: тридцать вагонов. Считайте — двадцать три человека на вагон. — А на заводском паровозе кто сегодня машинист? Сашка невольно сморщил лоб: «Поймал-таки, словно наш географ!» Он вспомнил школьного учителя, который спрашивал до тех пор, пока не обнаруживал недостаточность знаний какого-либо раздела. — Надо узнать, — многозначительно произнес Сердюк. Несколько мгновений Сашка смотрел на него, потом выпрямился по-военному: — Есть узнать! — Если надо, то выехать с завода на паровозе. — Слушаю! Для чего выехать? — Найди Астафьева, пусть он предупредит руководителей групп. Этой ночью они должны собрать подпольщиков в каменоломне, откуда мы их приведем ко входу в тоннель: Пусть забирают с собой и тех, с кем провели работу. Ясно? — Всё ясно. Сердюк набросал радиограмму в штаб. — А вот это передай радисту — и вечером сюда. Будешь нужен. — И обратился к Тепловой: — Дайте ему свой пистолет, Валя. Теплова достала из кармана маленький браунинг и торжественно вручила Сашке. — Не зарвись, Сашок! — сказала она на прощанье. Спустя час появился Петр и рассказал то, что уже было известно от Сашки, но Сердюк слушал его так же внимательно и не перебивал. Такую проверку полученных сведений он называл «перекрытием агентурных данных». — На паровозе наш машинист. Сашку уже закопали в уголь в тендере — через часок выедет, — закончил Петр свою краткую информацию. Только пистолет вы напрасно дали — горячеват он, мальчишка. Теплова вскипела: — В твоём представлении человек всегда остается таким, каким был, изменений в нем не замечаешь! По манерам да по языку о нём судишь. А он давно не тот. Ведь у него ни одного нарушения дисциплины за последнее время нет. Случай со знаменем на заводской трубе я и за проступок не считаю. Это неплохая инициатива. Я вот ему недавно начала профилактическую нотацию читать, и знаешь, что он мне сказал? «Я всегда помню, что я комсомолец, да ещё подпольщик. Прошло то время, когда, со мной сладу не было». Поверху смотришь на него! — Тс-с! — погрозил пальцем Сердюк и спросил Прасолова: — Что ещё? — Немцы всех предупредили, что работать будем до темноты. Расщедрились: паек выдали из консервов — знают, что всё не увезут. Работали бы и ночью, но в темноте боеприпасы грузить опасно, а свет зажигать нельзя. Наши самолеты летают вовсю. — Видел? встрепенулась Валя. — Всё утро видим. Ребята и радуются и боятся. Валя удивилась: — Чего же боятся? — Как чего? — Бросят бомбу на склад — и ни рабочих, ни завода. Знаешь, сколько там снарядов и взрывчатки! — Бомбить не будут, — заверил Сердюк. — Почему? — Об этом я давно со штабом договорился. Меня только просили сообщить день, когда гитлеровцы начнут эвакуировать склад. Очевидно, эшелоны на станции разбомбят. Сашка уже потащил радиограмму с пометкой «очень молния». — Гранат достали, — сказал Петр таким тоном, будто купил их в универмаге. — Как достали? — насторожился Сердюк. — Ребята во время погрузки разбили один ящик, уронив его на пол, посмотрели — гранаты. И пошли вооружаться: по одной на брата. — Это ты всё орудуешь? — сурово спросил Сердюк. — Поймают одного— и всем вам крышка. Петр улыбнулся: — Нет, не я, Андрей Васильевич. Инициатива масс. — Для чего им? — Узнали, что с завода их не выпустят — ночевать погонят в здание заводоуправления, и решили прорваться. — Так они и нашу операцию сорвут и их самих выловят. — Если не сдержим, могут сорвать, — согласился Петр. Его спокойствие чуть было не вывело Сердюка из себя, но он во-время понял, что это выдержка. — Некоторые советуют после прорыва не убегать в город, а засесть на заводе, под землей. Нашлись такие, что и про чугуновозный тоннель в мартеновский цех вспомнили. Сердюк шагал по насосной из угла в угол, заложив руки за спину, озадаченный и взволнованный. — И вы знаете, Андрей Васильевич, их будет очень трудно отговорить от этого бунта, да и опасно отговаривать. Представьте себе, завтра днем гитлеровцы закончат отгрузку снарядов, оцепят рабочих и прикажут грузиться в эшелоны. Вы можете гарантировать, что этого не случится? Можете? — Не могу, — буркнул Сердюк, продолжая ходить. — Были бы пистолеты у них — смогли бы отбиться от фрицев, а из гранаты не выстрелишь. Придется им в вагоны лезть и в Дейтчланд ехать. — Надо бы точно знать, где сейчас наши. Из стратегических соображений в сводках точно пункты не указываются. — Трудно судить. Километров сорок-пятьдесят будет. Линия фронта, судя по вспышкам, изогнутая — наши, наверно, пытаются в кольцо взять. — Если так будут двигаться, то дня через три можно ждать, — вставила Теплова. — Вы понимаете, в чем суть? — обратился Сердюк к обоим. — Выступим, допустим, мы сегодня ночью, а наши не подоспеют. Мы можем не продержаться. Не выступим — вдруг с утра начнут минировать и взорвут цехи, а мы просидим в норах. Что, по-вашему, делать? Теплова ничего не ответила, Прасолов молча передернул плечами. Они оба хорошо знали манеру Сердюка: принимая решения, он всегда спрашивал других, как будто сам ничего не знает и ничего не решил.Глава седьмая
Наконец-то Сердюк, с нетерпением ожидавший возвращения Сашки, услышал в тоннеле шаги. Он прислушался. Нет, не Сашка. Шаги осторожные, медленные, частые по тоннелю продвигалось несколько человек. Вот они остановились, переговорили между собой и снова пошли. Теплова спрыгнула со скамьи, потушила фонарь, передернула затвор автомата. В глубине тоннеля показался свет, погас, снова показался и снова погас. «Освещают себе путь спичками, — отметил Сердюк. — Значит, не облава», но предохранитель на пистолете спустил. У входа в водосборник спичка у идущего впереди погасла, но он смело ступил вперед. — Прошу света не зажигать, — спокойно сказал Сердюк, и Теплова не узнала его голоса: глухой, сдавленный. — Кто здесь? — испугался вошедший. — А кто вы? — спросил Сердюк. Ответа не последовало. Было слышно, как вошедшие переминаются с ноги на ногу, не зная, что предпринять. — Кто? — переспросил Сердюк. — Рабочие, — несмело ответил один. — А ты кто? — Рабочий. — Чего вы тут, хлопцы, ищете? — вдруг спросила Теплова, решив, что женский голос несколько успокоит людей, если они действительно забрели сюда без злых намерений. — Та тут и дивчина е?.. — удивился один из вошедших и тихо добавил: — Це, мабуть, наши. Сердюк нажал кнопку электрического фонарика. Луч света ослепил людей, они зажмурились, один из них закрыл лицо рукой, в другой руке у него была граната. Стало ясно: перед ними трое рабочих, удравших с погрузки эшелона и искавших прибежища. — Что, решили не дожидаться ночи, пока в казарму погонят? — спросил Сердюк. — Точно! — весело отозвался один из рабочих. — Вы, значит, тоже наши? — Валя, зажгите свет, — попросил Сердюк Теплову. При тусклом свете фонаря хозяева и гости рассмотрели друг друга. — У вас тут козы нет? — спросил мужчина средних лет в лихо надвинутой кепке и донельзя рваной спецовке. — А при чем тут коза? — не понял его Сердюк. — Вид вашей комнатки такой обжитой, что только живности недостает в ней, — не смущаясь, ответил рабочий. — Мы вам мешать не будем, — настраиваясь на фривольный лад, заметил другой, в замазанной мазутом рубахе. — Раз эта квартира занята, поищем другую. Рабочие повернулись к выходу. — Одну минуточку… — сказал Сердюк, и снова Валя не узнала его голоса. — В чужом монастыре своих законов не устанавливайте. Порядок у нас такой: вошел — выходить без разрешения нельзя. — У вас в семье? — насмешливо бросил рабочий в рваной спецовке. — Нет, у нас в организации! — почти выкрикнул Сердюк. Теплова вздрогнула. Что он делает? Незнакомым людям и так прямо! Рабочий подошел к фонарю, стоявшему на ящике, поднял его и осветил Сердюка. Тот стоял не двигаясь. — Сердюк! — с уважением произнес пришелец. — Он самый. — Простите, товарищ Сердюк. Сразу не рассмотрел. — Как узнали? — Мудрено не узнать. Портреты ваши до сих пор по заборам расклеены. Так что прикажете нам делать? — с готовностью спросил рабочий. — А что вы собирались? — Отсидеться здесь до наших, а если бы не удалось, если бы фрицы застукали, им вот эту закуску! — Рабочий поднял гранату. — Садитесь. Придет один товарищ, отведет вас в… общежитие. Но только вы уж там порядка не нарушайте. Рабочие охотно сели. Сердюк расспросил их о ходе погрузки боеприпасов и выяснил, что ящиков со снарядами на складе почти не осталось. — Тол не грузили? — осведомился Сердюк. — Кроме снарядов и гранат, ничего не грузили. В водосборник влетел Сашка и остановился в недоумении, увидев незнакомых людей. Он с ног до головы был в угольной пыли и походил на смешного юркого чертенка. — Проводи их, Сашка, в общежитие, — обратился к нему Сердюк, с трудом сдерживая улыбку. — Валя тебе поможет. В ответ на многозначительный взгляд Сердюка Валя молча кивнула головой: понимаю, мол, ни один не должен потеряться. Валя и Сашка долго не возвращались, и Сердюк начал было беспокоиться, не произошло ли по пути какого недоразумения; может быть, рабочие не захотели идти туда, куда их повели. Но вот они вернулись, и Саша отрапортовал: — Всё в порядке. Астафьева предупредил, радисту бумажку передал. Сегодня ночью в каменоломне начнут собираться люди. — Что в городе? — поинтересовался Сердюк. — Тихо. Пусто. Даже как-то страшно. Все по домам сидят и на улицу носа не показывают. Только патрули расхаживают. — А канонада? — Гудит. И не разберешь, в какой стороне. Кажется, со всех сторон.Глава восьмая
Сердюк так и не дождался Петра Прасолова, который должен был прийти в водосборник после окончания погрузки эшелона. Дежуривший на поверхности Сашка рассказал, что он видел, как гитлеровцы провели по заводскому шоссе большую группу рабочих и заперли их в заводоуправлении. Стало ясно, что там находился и Петр, не сумевший выскользнуть из оцепления. Вскоре появился Николай, тоже следивший за тем, что делалось на заводе, и доложил, что гитлеровцы начали минировать цехи. Они уложили ящики со взрывчаткой у опорных колонн доменных печей, но с наступлением темноты свою работу прекратили. Оба сообщения Сердюк выслушал спокойно. Около двенадцати часов ночи появился Гудович и отрапортовал: первая партия людей, собравшихся в каменоломне, проведена им в чугуновозный тоннель; за второй партией отправился Артемьев; народу много, но ведут все себя тихо, не курят, и можно надеяться, что задолго до рассвета удастся всех перевести в тоннель. — Ночь там какая? — спросил Сердюк. — Хорошая ночь. Темно и ветер. — Вот ветра-то и не надо. Может тучи разогнать, и посветлеет. — Особенно не посветлеет, — вставила Валя. — Сейчас новолуние. Луна тоненькая, как арбузная корочка. В водосборнике стало тихо. Издалека по ходам доносились шаги людей, проходивших в чугуновозный тоннель. — Большую партию принял Артемьев, — заметил Сердюк. — Он их, наверно, непрерывной цепочкой повел, догадался Гудович. — Так будет быстрее. Сердюк вышел из водосборника, дошел до того тоннеля, по которому шли люди. Они двигались гуськом, один за другим. Одни освещали себе путь, другие держались за одежду идущего впереди. «Много! — Радость охватила Андрея Васильевича, он улыбнулся в темноте. — Очень много!» И, постояв еще некоторое время, вернулся. В водосборнике он застал молодежь, рассевшуюся на скамьях вокруг фонаря. Валя о чём-то рассказывала Сашке, Николай подтрунивал над Гудовичем, и ребята весело смеялись. У молодежи были такие беззаботные лица, словно всё уже кончилось, а ведь главное должно начаться только сегодня, и никто из них не знал — встретят своих или погибнут в схватке. Сердюк прошел в слабо освещенный угол, лёг на скамью и ещё раз в мельчайших подробностях продумал операцию. Как будто он предусмотрел всё, но разве предугадаешь, что предпримут гитлеровцы, когда рабочие захватят завод! — Андрей Васильевич, окликнула его Теплова, — мне кажется, никаких действий нельзя предпринимать до тех пор, пока все люди не перейдут сюда из каменоломни. — Это одно с другим не связано. Мы уже можем выступить, а люди будут идти. Степь никто не охраняет, а перестрелка на заводе даже отвлечет внимание от охраняемых участков. — Когда начнем, Андрей Васильевич? — спросил Николай. Теплова и Сашка переглянулись. Они хорошо знали манеру своего руководителя не говорить больше того, что нужно. Сердюк перехватил и понял их взгляд. — В три часа ночи начнем занимать огневые точки, — сказал он, — в четыре можно начинать. Сашка вскочил со скамейки: — Я в ковш полезу, Андрей Васильевич! Сам эту точку выбрал. — А я куда? — забеспокоился Николай. — Узнаешь позже. — А что мне делать? — спросила Валя. — Будете в газопроводе. Там могут быть раненые. — Чем перевязывать? — Получите. — Где мне прикажете быть? — не выдержал Гудович. — Потерпи. В водосборнике снова стихло, и снова издалека донеслись звуки шагов в тоннеле.* * *
В половине третьего ночи Сердюк поднялся со скамьи, прислушался. Всё ещё идут. Он разбудил спавших и спокойным тоном, будто речь шла о самом обычном деле, сказал: — Ну, товарищи, пошли в общежитие. Вперед ринулся Сашка, освещая путь своим фонариком. Валя, уходя, бросила прощальный взгляд на водосборник. В огромном зале подземной лаборатории было тихо. Люди спали. Только у входа стоял на часах машинист Прохоров. — Поднимай людей! — скомандовал Сердюк. — По-о-ды-майсь! — громко крикнул Прохоров. Рабочие вскочили со своих нар. Сердюк взобрался на стол. Опанасенко снял со стены фонарь и высоко поднял его над головой, осветив Сердюка. В сапогах, спецовке, кепке он казался самым обыкновенным рабочим, таким, как все здесь. Но вот он поднял руку и внезапно стал похож на статую. В зале стихло.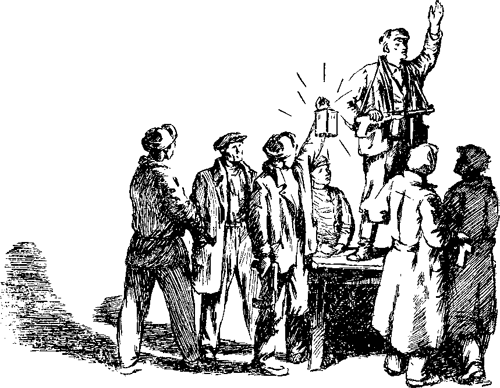 — Товарищи! Штаб партизанского движения и Центральный Комитет нашей партии дали нам задание — помешать гитлеровской сволочи уничтожить завод, — сказал Сердюк. — Через час мы начинаем вооруженное выступление. Наша задача — захватить завод и удержать его до прихода Красной Армии. Захватить будет просто — на нашей стороне численный перевес сил и, внезапность, а удержать — сложнее, тем более что неизвестно, сколько дней придется держаться. Сердюк сделал паузу, прошелся взглядом по лицам. — Как руководитель подпольной большевистской организации приказываю: первому взводу под командой Гудовича занять огневую позицию в газопроводе.
— Товарищи! Штаб партизанского движения и Центральный Комитет нашей партии дали нам задание — помешать гитлеровской сволочи уничтожить завод, — сказал Сердюк. — Через час мы начинаем вооруженное выступление. Наша задача — захватить завод и удержать его до прихода Красной Армии. Захватить будет просто — на нашей стороне численный перевес сил и, внезапность, а удержать — сложнее, тем более что неизвестно, сколько дней придется держаться. Сердюк сделал паузу, прошелся взглядом по лицам. — Как руководитель подпольной большевистской организации приказываю: первому взводу под командой Гудовича занять огневую позицию в газопроводе.
 Первому и второму отделениям второго взвода под командой Лавушкина разместиться в колпаках кауперов. Третьему и четвертому отделениям второго взвода под командой Опанасенко занять шлаковики мартеновских печей. Задача этих двух взводов проста: не подпускать гитлеровцев к колоннам зданий, к трубам и доменным печам, чтобы они не смогли их взорвать. Стрелять в каждого гитлеровца, появляющегося на территории завода. Ясно?
— Ясно, прогудели в зале.
— Третий взвод идет со мной в атаку на заводоуправление, чтобы выручить полтысячи наших товарищей, запертых там. Подразделение транспортников под командой Прохорова атакует склады оружия и продуктов. Эти отделения начинают операцию в четыре ноль-ноль или по первому выстрелу, в случае неожиданного обнаружения нас противником. Прохоров выделяет Павлу Прасолову десять человек из своего подразделения для захвата складов изнутри. Ясно?
Артемьев стоял у стола понурившись: почему Прохорову поручают людей, а не ему?
— Артемьеву поручаю подобрать добровольцев из горожан, — продолжал Сердюк, — привести их на склад оружия после того, как его захватят, вооружить и занять здания контор, мартеновского, доменного и прокатных цехов. Для помощи и ориентировки на заводе к Артемьеву прикрепляю товарища Александра — тебя, Саша, — уточнил Сердюк, с трудом разыскав Сашку в толпе взрослых. — Чтобы вам не казалось, что нас мало, скажу: пятьсот человек рабочих, которые согнаны в заводоуправление, тоже будут вооружены на складе. Вот уже семьсот бойцов, да еще Артемьев может подобрать надежных человек триста из приведенных им горожан. Разве с этими людьми мы не удержим завода, каждый цех, каждый угол которого мы знаем не хуже, чем свою квартиру?
— Удержим! — пронеслось по залу.
— Тогда, товарищи, группируйтесь возле командиров — и по местам. Третье отделение — ко мне!
Сердюк слез со стола и подошел к Опанасенко:
— Гранаты у новеньких отобрал?
— Как же…
— Давай сюда. — Он засунул гранаты за пояс, взял автомат.
Первым вывел своё отделение Гудович. Ему предстоял самый дальний путь — до здания газоочистки, где начинался двухметровый в диаметре газопровод доменного цеха. Потом ушел Лавушкин, затем Опанасенко; Павел увёл своё отделение по ходам, к складу боеприпасов.
Вокруг Сердюка сгруппировались бойцы его отделения.
— А после заводоуправления что делать будем? — спросил один рабочий.
— Займем его и засядем там. Это ключевая позиция: против заводских ворот, у начала заводского шоссе.
— Немцы могут бросить танки? — встревожился другой.
— Могут и танки, — ответил Сердюк. — Но что они сделают? Большинство людей размещены так, что их не увидишь. Где командир первого отделения Завьялов?
— Я! — Вперед продвинулся молодой парень в клетчатой спортивной куртке.
— Твоя задача, Завьялов, захватить проходные ворота, перебить охрану и держать ворота, пока мы не ликвидируем охрану заводоуправления. Если гитлеровцы поднажмут отойдешь, соединишься с нами. Понял?
— Понятно.
Сердюк посмотрел на часы.
— Ну, пора и нам, сказал он.
В здании рельсобалочного цеха было ещё темнее, чем на дворе. После тишины подземелья все звуки казались очень громкими, и рабочие невольно передвигались осторожно, на носках. У выхода они остановились.
За двадцать минут до назначенного срока со стороны сортопрокатного цеха, где находился склад боеприпасов, донеслась беспорядочная стрельба.
Раздумывать было некогда.
— Завьялов — на проходные, остальные за мной! — скомандовал Сердюк и побежал, доставая из-за пояса гранату.
Здание заводоуправления никто не охранял снаружи — охрана разместилась в вестибюле. До подъезда заводоуправления оставалось не более полусотни метров, как вдруг дверь проходной распахнулась и оттуда выскочило несколько автоматчиков, услышавших звуки выстрелов. Солдаты хорошо были видны на фоне освещенной двери.
Сердюк ожидал, что у проходной сейчас же завяжется перестрелка, но группа Завьялова, заметившая гитлеровцев, молчала. «Дают возможность начать нам», — понял Сердюк и, пробежав по ступенькам, рванул на себя дверь. Она была заперта.
— Вер ист да?[2] — спросили из помещения по-немецки.
Сердюк отскочил от двери, осмотрелся. В окнах вестибюля мерцал синий свет Он размахнулся и бросил в окно гранату. Раздался взрыв. Из окон со свистом полетели осколки, зазвенели по тротуару стекла, в вестибюле на разные голоса заорали немцы. Сердюк бросил вторую гранату. Крики усилились.
У проходных ворот затрещали автоматы. Сердюк не мог определить по звуку, кто стрелял, потому что и рабочие и гитлеровцы были вооружены немецкими автоматами. Двери уже не стало видно — то ли погас свет, то ли её закрыли.
— Лезь в окно! — Сердюк подставил спину ближайшему из рабочих.
Тот взобрался на спину, больно наступив на плечо Сердюка, забросил ногу на подоконник. В вестибюле прогремело несколько взрывов, и рабочий плашмя упал на асфальт.
«Наши действуют изнутри», — догадался Андрей Васильевич и посмотрел на парня, лежавшего у стены. Он не шевелился.
Криков в вестибюле больше не было слышно. У проходной стрельба тоже стихла. Только со стороны сортопрокатного цеха доносились звуки ожесточенной перестрелки. «Раньше нас начали и до сих пор не захватили», с тревогой подумал Сердюк, жалея, что не взял на себя тот участок. Он посмотрел на выбитое окно — из вестибюля не доносилось никаких звуков. Что делать? Послать ещё одного? Нельзя. Тоже могут убить. Стоять и ждать у двери? Чего ждать?
Он взял за локоть стоявшего рядом рабочего с автоматом:
— Сбегай к проходной, узнай, что там. Только осторожно, чтобы не подстрелили наши. Беги вон туда, где газон. Если наши засели, то только там. И сейчас же обратно.
— Хлопцы, не стреляйте! — донесся голос в разбитое окно. — Здесь свои!
В вестибюле зажегся свет, погас и зажегся снова. Потом распахнулась дверь, и из неё вышел Петр Прасолов с автоматом в руке.
— Петро! — вскрикнул Сердюк.
— Я, Андрей Васильевич! Заходите.
Сердюк вошел в вестибюль. Он был заполнен рабочими. Фонарь с разбитыми стеклами освещал стены колеблющимся пламенем. В коридоре, примыкавшем к вестибюлю, тоже столпились люди.
— Товарищи дорогие, — обратился Сердюк к рабочим, — нам уходить с завода некуда. Город у врага, а завод должен быть у нас. Призываю всех идти к складу боеприпасов. Там сейчас доколачивают охрану. Доколотят — забирайте оружие, и будем защищать завод до подхода частей Красной Армии. Это наш долг, и это задание Центрального Комитета Коммунистической партии. Все, кто без оружия, — за мной, бойцы с автоматами остаются здесь. Командует Петр Прасолов.
Из заводоуправления вырвалась толпа рабочих, и у проходной снова вспыхнула перестрелка.
— Петя, — окликнул Сердюк, — помоги Завьялову! Он держит проходную. Держите пока, а потом отходите сюда, к зданию, и побежал по асфальтовому шоссе.
За ним хлынула толпа. Андрей Васильевич подумал, что началось хорошо, но, подбегая к газопроводу, вдруг вспомнил о засевшем там подразделении Гудовича, которое, не разобравшись в потемках, могло обстрелять их из автоматов.
— Это свои, Гудович! — закричал Сердюк на бегу.
У склада сортопрокатного цеха было тихо. Сквозь амбразуры окон мерцал слабый свет. Сердюк влетел в распахнутые настежь ворота. На штабелях рабочие разбивали ящики; направо у стены сгрудились люди. Сердюк протиснулся и увидел на цементном полу Николая. Рука его была неестественно отброшена в сторону.
— Что случилось, Коля? — дрогнувшим голосом спросил Андрей Васильевич.
— Подстрелили, проклятые! — сквозь зубы простонал Николай. — Наверно, разрывной. И Прохоров убит наповал.
— Почему перевязку не делаете? — разозлился на рабочих Сердюк и стал сбрасывать с Николая спецовку.
Рука Николая безвольно зашевелилась в рукаве, и Андрей Васильевич понял: перебита кость. Чтобы остановить кровотечение, он снял с себя ремень, перетянул руку, как жгутом, выше раны.
Подошел Артемьев, доложил:
— Андрей Васильевич, привел первую очередь. Человек двести.
— Молодец, похвалил Сердюк, не поднимая головы. — Сколько ещё будет?
— Да я уж и счет потерял. Много.
«Наберется всех больше тысячи, — подумал Сердюк. — С такой армией можно дать серьезный бой».
Над Николаем склонился Павел, вынырнувший из глубины склада:
— Не уберегся?
— Не спрашивай… — взмолился Николай.
Наложив жгут, Сердюк поднялся.
— Найди ящик с индивидуальными паетами, попросил он Павла. — Перевязать рану нужно, а потом ящик направишь в газопровод, Тепловой. Там очень опасно. — И тронул за плечо первого попавшегося рабочего: Фамилия?
— Балабан.
— Цех?
— Огнеупорный.
— Балабан, ищи ящики с минометами. Найдешь — собери человек десять, и тащите их в заводоуправление. Там передашь Прасолову.
Сердюк повернулся к другому рабочему, спросил фамилию и приказал искать пулеметы, хотя бы ручные.
Первому и второму отделениям второго взвода под командой Лавушкина разместиться в колпаках кауперов. Третьему и четвертому отделениям второго взвода под командой Опанасенко занять шлаковики мартеновских печей. Задача этих двух взводов проста: не подпускать гитлеровцев к колоннам зданий, к трубам и доменным печам, чтобы они не смогли их взорвать. Стрелять в каждого гитлеровца, появляющегося на территории завода. Ясно?
— Ясно, прогудели в зале.
— Третий взвод идет со мной в атаку на заводоуправление, чтобы выручить полтысячи наших товарищей, запертых там. Подразделение транспортников под командой Прохорова атакует склады оружия и продуктов. Эти отделения начинают операцию в четыре ноль-ноль или по первому выстрелу, в случае неожиданного обнаружения нас противником. Прохоров выделяет Павлу Прасолову десять человек из своего подразделения для захвата складов изнутри. Ясно?
Артемьев стоял у стола понурившись: почему Прохорову поручают людей, а не ему?
— Артемьеву поручаю подобрать добровольцев из горожан, — продолжал Сердюк, — привести их на склад оружия после того, как его захватят, вооружить и занять здания контор, мартеновского, доменного и прокатных цехов. Для помощи и ориентировки на заводе к Артемьеву прикрепляю товарища Александра — тебя, Саша, — уточнил Сердюк, с трудом разыскав Сашку в толпе взрослых. — Чтобы вам не казалось, что нас мало, скажу: пятьсот человек рабочих, которые согнаны в заводоуправление, тоже будут вооружены на складе. Вот уже семьсот бойцов, да еще Артемьев может подобрать надежных человек триста из приведенных им горожан. Разве с этими людьми мы не удержим завода, каждый цех, каждый угол которого мы знаем не хуже, чем свою квартиру?
— Удержим! — пронеслось по залу.
— Тогда, товарищи, группируйтесь возле командиров — и по местам. Третье отделение — ко мне!
Сердюк слез со стола и подошел к Опанасенко:
— Гранаты у новеньких отобрал?
— Как же…
— Давай сюда. — Он засунул гранаты за пояс, взял автомат.
Первым вывел своё отделение Гудович. Ему предстоял самый дальний путь — до здания газоочистки, где начинался двухметровый в диаметре газопровод доменного цеха. Потом ушел Лавушкин, затем Опанасенко; Павел увёл своё отделение по ходам, к складу боеприпасов.
Вокруг Сердюка сгруппировались бойцы его отделения.
— А после заводоуправления что делать будем? — спросил один рабочий.
— Займем его и засядем там. Это ключевая позиция: против заводских ворот, у начала заводского шоссе.
— Немцы могут бросить танки? — встревожился другой.
— Могут и танки, — ответил Сердюк. — Но что они сделают? Большинство людей размещены так, что их не увидишь. Где командир первого отделения Завьялов?
— Я! — Вперед продвинулся молодой парень в клетчатой спортивной куртке.
— Твоя задача, Завьялов, захватить проходные ворота, перебить охрану и держать ворота, пока мы не ликвидируем охрану заводоуправления. Если гитлеровцы поднажмут отойдешь, соединишься с нами. Понял?
— Понятно.
Сердюк посмотрел на часы.
— Ну, пора и нам, сказал он.
В здании рельсобалочного цеха было ещё темнее, чем на дворе. После тишины подземелья все звуки казались очень громкими, и рабочие невольно передвигались осторожно, на носках. У выхода они остановились.
За двадцать минут до назначенного срока со стороны сортопрокатного цеха, где находился склад боеприпасов, донеслась беспорядочная стрельба.
Раздумывать было некогда.
— Завьялов — на проходные, остальные за мной! — скомандовал Сердюк и побежал, доставая из-за пояса гранату.
Здание заводоуправления никто не охранял снаружи — охрана разместилась в вестибюле. До подъезда заводоуправления оставалось не более полусотни метров, как вдруг дверь проходной распахнулась и оттуда выскочило несколько автоматчиков, услышавших звуки выстрелов. Солдаты хорошо были видны на фоне освещенной двери.
Сердюк ожидал, что у проходной сейчас же завяжется перестрелка, но группа Завьялова, заметившая гитлеровцев, молчала. «Дают возможность начать нам», — понял Сердюк и, пробежав по ступенькам, рванул на себя дверь. Она была заперта.
— Вер ист да?[2] — спросили из помещения по-немецки.
Сердюк отскочил от двери, осмотрелся. В окнах вестибюля мерцал синий свет Он размахнулся и бросил в окно гранату. Раздался взрыв. Из окон со свистом полетели осколки, зазвенели по тротуару стекла, в вестибюле на разные голоса заорали немцы. Сердюк бросил вторую гранату. Крики усилились.
У проходных ворот затрещали автоматы. Сердюк не мог определить по звуку, кто стрелял, потому что и рабочие и гитлеровцы были вооружены немецкими автоматами. Двери уже не стало видно — то ли погас свет, то ли её закрыли.
— Лезь в окно! — Сердюк подставил спину ближайшему из рабочих.
Тот взобрался на спину, больно наступив на плечо Сердюка, забросил ногу на подоконник. В вестибюле прогремело несколько взрывов, и рабочий плашмя упал на асфальт.
«Наши действуют изнутри», — догадался Андрей Васильевич и посмотрел на парня, лежавшего у стены. Он не шевелился.
Криков в вестибюле больше не было слышно. У проходной стрельба тоже стихла. Только со стороны сортопрокатного цеха доносились звуки ожесточенной перестрелки. «Раньше нас начали и до сих пор не захватили», с тревогой подумал Сердюк, жалея, что не взял на себя тот участок. Он посмотрел на выбитое окно — из вестибюля не доносилось никаких звуков. Что делать? Послать ещё одного? Нельзя. Тоже могут убить. Стоять и ждать у двери? Чего ждать?
Он взял за локоть стоявшего рядом рабочего с автоматом:
— Сбегай к проходной, узнай, что там. Только осторожно, чтобы не подстрелили наши. Беги вон туда, где газон. Если наши засели, то только там. И сейчас же обратно.
— Хлопцы, не стреляйте! — донесся голос в разбитое окно. — Здесь свои!
В вестибюле зажегся свет, погас и зажегся снова. Потом распахнулась дверь, и из неё вышел Петр Прасолов с автоматом в руке.
— Петро! — вскрикнул Сердюк.
— Я, Андрей Васильевич! Заходите.
Сердюк вошел в вестибюль. Он был заполнен рабочими. Фонарь с разбитыми стеклами освещал стены колеблющимся пламенем. В коридоре, примыкавшем к вестибюлю, тоже столпились люди.
— Товарищи дорогие, — обратился Сердюк к рабочим, — нам уходить с завода некуда. Город у врага, а завод должен быть у нас. Призываю всех идти к складу боеприпасов. Там сейчас доколачивают охрану. Доколотят — забирайте оружие, и будем защищать завод до подхода частей Красной Армии. Это наш долг, и это задание Центрального Комитета Коммунистической партии. Все, кто без оружия, — за мной, бойцы с автоматами остаются здесь. Командует Петр Прасолов.
Из заводоуправления вырвалась толпа рабочих, и у проходной снова вспыхнула перестрелка.
— Петя, — окликнул Сердюк, — помоги Завьялову! Он держит проходную. Держите пока, а потом отходите сюда, к зданию, и побежал по асфальтовому шоссе.
За ним хлынула толпа. Андрей Васильевич подумал, что началось хорошо, но, подбегая к газопроводу, вдруг вспомнил о засевшем там подразделении Гудовича, которое, не разобравшись в потемках, могло обстрелять их из автоматов.
— Это свои, Гудович! — закричал Сердюк на бегу.
У склада сортопрокатного цеха было тихо. Сквозь амбразуры окон мерцал слабый свет. Сердюк влетел в распахнутые настежь ворота. На штабелях рабочие разбивали ящики; направо у стены сгрудились люди. Сердюк протиснулся и увидел на цементном полу Николая. Рука его была неестественно отброшена в сторону.
— Что случилось, Коля? — дрогнувшим голосом спросил Андрей Васильевич.
— Подстрелили, проклятые! — сквозь зубы простонал Николай. — Наверно, разрывной. И Прохоров убит наповал.
— Почему перевязку не делаете? — разозлился на рабочих Сердюк и стал сбрасывать с Николая спецовку.
Рука Николая безвольно зашевелилась в рукаве, и Андрей Васильевич понял: перебита кость. Чтобы остановить кровотечение, он снял с себя ремень, перетянул руку, как жгутом, выше раны.
Подошел Артемьев, доложил:
— Андрей Васильевич, привел первую очередь. Человек двести.
— Молодец, похвалил Сердюк, не поднимая головы. — Сколько ещё будет?
— Да я уж и счет потерял. Много.
«Наберется всех больше тысячи, — подумал Сердюк. — С такой армией можно дать серьезный бой».
Над Николаем склонился Павел, вынырнувший из глубины склада:
— Не уберегся?
— Не спрашивай… — взмолился Николай.
Наложив жгут, Сердюк поднялся.
— Найди ящик с индивидуальными паетами, попросил он Павла. — Перевязать рану нужно, а потом ящик направишь в газопровод, Тепловой. Там очень опасно. — И тронул за плечо первого попавшегося рабочего: Фамилия?
— Балабан.
— Цех?
— Огнеупорный.
— Балабан, ищи ящики с минометами. Найдешь — собери человек десять, и тащите их в заводоуправление. Там передашь Прасолову.
Сердюк повернулся к другому рабочему, спросил фамилию и приказал искать пулеметы, хотя бы ручные.
* * *
Гитлеровцы ожидали бомбежки, воздушного десанта, внезапного прорыва фронта и появления танков, но только не того, что произошло. Комендант города на рассвете послал на завод две роты автоматчиков. Они благополучно подошли к заводским воротам, открыли их и походным маршем зашагали по шоссе. Петр Прасолов, командовавший «управленцами», подпустил солдат шагов на полтораста и открыл огонь из всех видов оружия. Затрещали автоматы, ручные пулеметы, взорвалось несколько мин, выпущенных не особенно метко, но наделавших много шума, и гитлеровцы рассеялись, оставив на площади перед заводоуправлением несколько убитых и раненых. Тогда комендант послал на завод батальон. Неся большие потери, солдаты проскочили мимо заводоуправления и вступили па шоссе, стремясь прорваться к складу боеприпасов, но так и не дошли. В них стреляли со всех сторон, и они, не видя врага, не понимая, откуда стреляют, заметались по шоссе, боясь подойти к зданиям. В конце концов они сгрудились в кучу, образовав прекрасную мишень, и, как стая волков в горящей степи, помчались к выходу из завода, бросая оружие, не обращая внимания на раненых. После этой неудачной попытки гитлеровцев овладеть складом наступило длительное затишье. Сердюк понял, что гарнизон готовится к серьезному наступлению, и решил принять контрмеры. По его указанию шоссе от ворот завода и почти до заводоуправления заминировали противотанковыми минами. Их клали наспех, прямо на асфальт, и присыпали землей. Железнодорожный путь у въезда на завод подорвали в нескольких местах и тоже заминировали на тот случай, если танки будут прорываться с этой стороны прямо по рельсам. Закончив эти приготовления, Сердюк вместе с Сашкой обошел все пункты обороны. Их было очень много. Горожане в основном засели в зданиях, заводчане — в цехах. Сердюк пытался сконцентрировать рабочих в основных цехах, но они всё же разошлись по всему заводу и заняли огневые точки по своей цеховой принадлежности. Даже в огнеупорном цехе он обнаружил рабочих в печи для обжига кирпича. — Что делаете, товарищи? — обратился к ним Сердюк. — Цех ваш неважнецкий, фашистам не нужен, и его взрывать не будут. — Так нам нужен, — ответил старый мастер. — А кроме того, товарищ начальник, мы тут тыл прикрываем. Если фрицы со стороны степи пойдут, мы их первыми встретим, а остальные поддержат. Сердюк не возражал. У него была тысячная армия хорошо вооруженных людей. Третья атака кончилась почти мгновенно. Со своего наблюдательного пункта — из кабинета директора завода, выходившего окнами на три стороны, — Сердюк увидел несколько танков и автомашин с солдатами, которые на полном ходу мчались к заводу. — Вот сейчас… — произнес Андрей Васильевич и не успел договорить. Передний танк влетел в ворота, от взрыва нескольких мин подпрыгнул на месте и остановился как вкопанный. На него налетел с хода второй танк, затем третий. Машины с автоматчиками остановились, тоже наехав одна на другую. Сердюк припал к ручному пулемету и дал длинную очередь по столпившимся машинам. У другого окна Сашка стрелял из автомата, выпуская обойму за обоймой. В соседних комнатах тоже стрекотали автоматы. — На сегодня всё, — сказал Сердюк, когда автоматчики, выскочив из машин, разбежались врассыпную по улице. — День прожили. Посмотрим, что будет завтра. — А ночью? — спросил Сашка, упоенный своим первым боевым крещением. — Ночью навряд сунутся. Это им не по степи на танках разъезжать — здесь из-за каждого угла смерть. Стемнело. На заводе всё стихло. Рабочие не ходили по заводу, боясь, что в темноте свои же могли принять их за пробравшихся фашистов и подстрелить. Сердюк, Прасоловы и Сашка разместились на отдых в директорском кабинете. «Что могут они устроить завтра? — пытался разгадать замыслы противника Сердюк. — Взорвать где-нибудь заводскую стену и ввести танки? Взорвать цехи им всё равно не дадут — народ запасся патронами с избытком. Заводоуправление могут обстрелять из пушек. Ну что ж, продержимся сколько можно, а потом — в цехи». И вдруг стал будить Петра. Тот вскочил с дивана: — Что случилось? — Пока ничего. Как ты думаешь, могут завтра гитлеровцы прорваться на танках в склад? — Могут. — Петр стал протирать глаза. — Заложат мину замедленного действия и уедут, а там тонн тридцать тола. Петр молча надел кепку, взял автомат. — Ты куда? — Пойду соберу людей. Вынесем тол со склада — и с откоса его в ставок, в воду. — Правильно, Петя, действуй. Только иди сторонкой, чтобы свои того… Сердюку стало тоскливо в кабинете. Он вышел в коридор, поднялся по лестнице на чердак, оттуда на крышу. Здесь сохранилась металлическая вышка для дежурных ПВХО. Он взобрался на вышку и осмотрел горизонт. То здесь, то там вспыхивали зарницы от орудийных выстрелов. Были хорошо слышны звуки канонады. «Эх, если бы послезавтра!.. — подумал он мечтательно. — Сразу всё будет решено». Долго следил Андрей Васильевич за вспышками и слушал канонаду. Лучше всякой музыки казались ему эти звуки.* * *
Утро не принесло никаких неожиданностей, и можно было подумать, что гитлеровцы совершенно забыли о заводе. «Уходят немцы, что ли? Или уже ушли?» — строил догадки Сердюк. Он поднялся на вышку, но тотчас с крыши трехэтажного здания неподалеку от заводской стены хлестнула пулеметная очередь. Пули со свистом процарапали воздух. Сердюк поспешил вниз. В середине дня над заводом показался самолет, покружил и сбросил бомбу. Она разорвалась в районе склада. Самолет сделал второй заход и снова сбросил бомбу. — Килограммов на сто? — спросил Сашка, глядя в окно. Взрывы следовали один за другим приблизительно в одном и том же месте. — Ты понял, какой объект бомбят? — Нет, не понял. — Склад сортопроката. Пытаются тол взорвать, которого там уже нет. Сашка восхищенными глазами посмотрел на Сердюка. Андрей Васильевич обошел комнаты третьего этажа. В одной из них, рассевшись на полу, завтракали рабочие. Среди них был Петр. Самодельная печка из кирпича дымила в углу. По обилию еды было видно, что ребята запаслись продуктами как следует. Эта живописная группа вооруженных рабочих, выбитые стекла, ручные пулеметы у окон, диски и патроны, разложенные прямо на полу, напомнили Сердюку гражданскую войну. — Как настроение бойцов? — осведомился он. — Хорошее, — ответил Завьялов, поднимаясь с пола и дожевывая консервированные сосиски. — К бою готовимся — заправляемся. Давайте-ка и вы с нами! Сердюк присел на полу. К нему пододвинули белый огнеупорный кирпич, на который, как на тарелку, положили кусок вареной колбасы, тюбик жидкого плавленого сыра, сухари. — Неплохо живете! — усмехнулся Андрей Васильевич, с аппетитом расправляясь с закуской. — Сейчас пришлю к вам своих штабистов. Подкормите и их. — Что-то беспокоит меня это затишье, — сказал Завьялов, выдавливая на сухарь сыр. — Какую-то серьезную гадость замышляют. — Да, хлопцы, надо глядеть в оба. В это время Сашка, рассмотрев на столе, за которым ещё несколько дней назад восседал владелец завода, бронзовую пепельницу, попробовал поковырять ногтем текстолит, прикрывавший стол, приподнял его и увидел под ним красное сукно. Убрав письменный прибор, пепельницу и текстолит на пол, он достал из кармана перочинный нож, сделанный им самим из пилочки по металлу, и начал осторожно сдирать сукно. За этим занятием его застал Сердюк: — Мародерством занимаешься? Сашка поднял обиженные глаза и тут же сделал ещё один надрез. — Знамя это, — безапелляционно ответил он. — Без него нельзя. Наш завод — надо, чтобы над ним и наше знамя было. Через час на громоотводе самой высокой трубы мартеновской печи — третьей комсомольской — трепетало красное полотнище. В конторе мартеновского цеха Артемьев организовал госпиталь. Здесь лежал побледневший от потери крови Николай и ещё двое рабочих — один из отделения Завьялова, другой — раненный при перестрелке у склада. В госпитале был полный порядок. Возле раненых находился врач, обнаруженный среди горожан Артемьевым. Хотя врач был маляриологом, его присутствие успокаивало больных: всё же врач. Под вечер со стороны аглофабрики донесся взрыв. Полетела в воздух бетонная стена, в образовавшийся проём ворвались три танка и устремились в направлении склада боеприпасов. Рабочие дружно обстреляли танки из автоматов, хотя и понимали, что не повредят их. Проломив ворота, первый танк въехал в полупустое помещение склада. Группа рабочих, пришедших сюда пополнить запас продуктов и патронов, убежала в противоположную сторону и скрылась, провожаемая пулеметной очередью. Из танка осторожно, как крысы из норы, вылез экипаж и долго рыскал по складу, тщетно отыскивая ящики с толом. Автоматная очередь, раздавшаяся из глубины склада, свалила одного фашиста. Остальные полезли в танк, захлопнули крышку и подняли бесполезную стрельбу по штабелям с продуктами. При их вторичной попытке открыть люк откуда-то сверху раздалосьсразу несколько автоматных очередей. Пули хлестали по броне, и гитлеровцы вынуждены были сидеть в танке не высовываясь. Сквозь щели в башне им даже не было видно, кто и откуда стрелял. Рабочие вели обстрел с подкрановых балок, куда забрались, придя в себя после первого испуга. Когда Сердюку сообщили о прорвавшихся танках, он послал Завьялова, Петра и Сашку, вымолившего разрешение участвовать в операции, на крышу склада. Обвешанные гранатами, они не спеша, по одной, начали бросать их в низ. Натренированный в уличных боях камнями с мальчишками, Сашка бросал гранаты гораздо удачнее, чем его товарищи. Но танки всё же оставались невредимыми. Тогда Завьялов при помощи своего пояса сделал связку из гранат и, бросив её вниз, перебил одному танку гусеницу. Два других танка обратились в бегство, оставив подбитый на произвол судьбы. Рабочие облили танк бензином и мазутом, и он запылал, как факел.* * *
Утром к Сердюку привели мальчугана лет десяти, курносого, веснушчатого. Задержали рабочие, когда он на рассвете пробирался на завод. Мальчик держался смело и требовал свидания с Сердюком. Он оказался сыном радиста, принес радиограмму. В короткой объяснительной записке радист сообщал, что по заданию штаба ему удалось наладить двустороннюю связь с наступающими частями Красной Армии, находящимися ближе других к городу. — Может быть, послезавтра наших встретим! — восторженно закричал Сашка и на радостях подбросил кепку. — Продержимся, Андрей Васильевич? — Дольше продержимся, — подбодрил его Сердюк и засмотрелся на мальчугана — до чего похож на отца. И как его было сразу не узнать! Над заводом послышался прерывистый гул самолета. Сердюк выглянул в окно в тот момент, когда от самолета отделилась маленькая черпая точка и стремительно полетела вниз. — Ложись! — крикнул он, падая на пол и прикрывая собой мальчика. В тот же миг здание задрожало. Одна за другой донеслись взрывные волны. Это гитлеровцы методически бомбили завод. Со стен, с потолка сыпалась штукатурка. Долетавшие сюда осколки со свистом впивались в стены. Сердюк не увел людей в бомбоубежище, решив, что это подготовка к атаке и что враг, воспользовавшись таким удобным моментом, мог проникнуть на территорию завода. Но гитлеровцы и не думали идти в атаку. Лишившись возможности взорвать завод, они стремились разрушить его цехи, водонапорный бак и плотину с воздуха. В здание заводоуправления не попала ни одна бомба. С отчаянием думал Андрей Васильевич о людях в газопроводе. Увел ли их Гудович оттуда или не решается оставить свои позиции, боясь прорыва? Земля стонала от взрывов. На заводе загорелось какое-то здание, потом вспыхнул склад мазута, и черный дым столбом поднялся вверх. Взрывные волны разметали дым в разные стороны. Становилось тяжело дышать. Потом всё стихло. Оглушенные взрывами, люди не слышали пулеметной стрельбы, из-за пелены дыма не видели в небе наших истребителей, обрушившихся на воздушных стервятников и отогнавших их. Мазут продолжал гореть, и теперь его дым почему-то стлался по земле. На заводе потемнело, как ночью. Дым щекотал ноздри, слезились глаза. Сашка не отходил ни на шаг от Сердюка, боясь потеряться в этой кромешной тьме. Он беспрерывно чихал и яростно ругал проклятый мазут, который никак не догорал. Когда Сашка приближался вплотную к Сердюку, тот видел черное, как у трубочиста, лицо и не мог удержаться от смеха, хотя понимал, что и сам выглядел не лучше. В одной из комнат от взрыва что-то обрушилось. В кабинете директора посыпалась с потолка штукатурка, поднялась едкая известковая пыль. Сашка из черного стал белым и теперь походил на мукомола. Сердюк выбежал из кабинета, ощупью прошел по коридору. Он был оглушен, но всё же слышал стоны, доносившиеся из бывшей чертёжки. В стене чертежной зияло отверстие. «Из пушек бьют». В углу комнаты он наткнулся на чье-то тело, наклонился над ним. Человек бился в предсмертных судорогах.* * *
Тяжелее других пришлось рабочим, которые засели в газопроводе. Железный кожух его, выкрашенный в черный цвет, днем, под лучами солнца, накалялся так сильно, что невозможно было прикоснуться. Люди раздевались почти догола, но и это не спасало: в легкие вместо воздуха вливалась какая-то обжигающая струя. Облегчение наступало только ночью, когда кожух остывал. На другой день Гудович догадался проделать сверху в кожухе два больших отверстия — появился спасительный сквозняк. Осколки бомб продырявили газопровод в нескольких местах. Троих ранило. Валя металась от одного раненого к другому, делала перевязки. Раненые беспрерывно просили пить — теплая вода не утоляла жажду. Возле раненого с пробитым горлом, захлебывавшегося кровью, сидели его товарищи с виноватым видом людей, которые ничем не могут помочь. Вскоре он умер, и его отнесли в дальний конец газопровода.Глава девятая
Конструкторы особой сталеплавильной секции проектного отделения, которым руководил Крайнев, работали с утра до ночи. Им предстояло закончить проект восстановления мартеновского цеха. Задание было очень сложным: в габариты старых печей нужно было вписать печи новейшей конструкции, удвоенной, по сравнению со старыми, производительности. После длительного затишья на фронте, наступившего в марте в результате контрнаступления немцев в районе Донбасс — Харьков, завязались бои южнее Изюма и югозападнее Ворошиловграда. 20 июля наши войска форсировали реки Северный Донец и Миус. С этого дня конструкторы стали работать и ночами, и Крайнев выходил с завода только на несколько часов. Вадимка теперь почти не видел отца. — Пусть понемногу отвыкает, — сказал как-то Елене Сергей Петрович. — Я поеду пока один, его заберу позже, когда наладится жизнь. — Старый уговор в силе, — предупредила его Елена. — Заберете только тогда, когда у нас появится свой. По сводкам трудно было судить о точном местонахождении наших войск в Донбассе, но в газетных статьях проскальзывали иногда названия освобожденных шахтерских городов Красный Луч, Чистяково, Снежное. 24 августа, услышав по радио, что наши войска заняли станцию Донецко-Амвросиевку, Крайнев послал телеграмму наркому, на другой день — вторую, а вечером — третью. Быстрого ответа он на них не ждал — телеграммы могли застрять в аппарате. На третий день его вызвал к себе директор завода Ротов. — Как с проектом восстановления вашего цеха? — сухо спросил он. Сухость была деланой. Ротов знал историю этого обыкновенного человека, поставленного войной в необычайные обстоятельства, и давно проникся к нему уважением. — В основном проект закончен. Остается его утвердить. Ротов протянул телеграмму наркома. Она была написана в категорической форме: «Приказываю немедленно откомандировать инженера Крайнева Сергея Петровича в Москву в распоряжение наркомата». Когда Крайнев взял эту телеграмму с резолюцией о немедленном расчете и взглянул на Ротова, он увидел добрые, теплые глаза. — Желаю вам всяческих успехов, Сергей Петрович, — сказал Ротов. — Молодец вы большой. Не хочется с вами расставаться, право, хотя по-дружески мы так ни разу и не поговорили. Крайнев вышел из кабинета и позвонил во второй мартеновский цех. Узнав, что сталевар Шатилов работает ночью, отправился к нему в общежитие. Разговор был очень короткий. Сергей Петрович попросил дать ему на время автомат — подарок подшефных товарищей. Шатилов не отказал.* * *
Полковник воинской части, в которую был откомандирован Крайнев, не знал, что делать с человеком в штатской одежде, с автоматом, с партизанской медалью и боевым орденом на груди. Хотя документ, выданный Крайневу, требовал от воинских частей оказания всемерной помощи и всяческого содействия, полковник всё же не решался выполнить просьбу этого уполномоченного Наркомата металлургической промышленности разрешить ему пойти в бой за город рядовым. — А если убьют, кто за вас отвечать будет? Я? Не хочу. У меня своих забот вот сколько, — он провел ладонью по горлу. Но помрачневшее лицо Крайнева неожиданно расположило полковника: — Ладно, шут с вами. Охота вам лезть в пекло — лезьте. Только от меня ни шагу. Сергей Петрович вышел из КП, взобрался на пригорок и огляделся. Перед ним расстилалась выгоревшая на солнце, побуревшая Донецкая степь, изрытая окопами. Вдали, на горизонте, маячили трубы родного завода, высились терриконы. А поблизости буйно росли высокие, тонкие подсолнухи. Их шапки неуклюже наклонились, как от непосильного груза. Ничего не привлекло бы посторонний глаз в этой скучной, однообразной картине, но Крайневу было радостно. Вот он снова в родном крае, может быть сегодня уже войдет в родной город. Он мысленно прикинул расстояние до заводских труб — да, возможно, сегодня. Вечером он уже увидит Валю или узнает… Нет, увидит, увидит! Кто-то положил массивную руку на его плечо. Крайнев обернулся и увидел бывшего парторга своего цеха Матвиенко. — Бывают же встречи! В книге прочтешь — не поверишь. — Матвиенко обнял Крайнева, больно прижав к его ребрам автомат. — Увидел тебя из блиндажа, думаю: что за чудо? Сергей Петрович бегло рассказал обо всем. Взгляд Матвиенко остановился на алюминиевой дощечке на автомате. — Наш, гвардейский? У кого забрал? — И догадался: А, у Шатилова. Пустой? Патронов у полковника не просил? — Куда там до патронов! Еле разрешил остаться. Матвиенко исчез и вернулся с двумя дисками. Один, в чехле, вручил Крайневу, другой присоединил к его автомату и покровительственно сказал: — Ну, повоюй за свой город. Хлебни нашей солдатской каши, это не вредно.* * *
Солнце медленно спускалось к горизонту. От подсолнухов ложились длинные, как от тополей, тени. В траве дружно стрекотали кузнечики, поодаль неумолчно кричали расплодившиеся за эти годы перепела. На проводах вдоль железнодорожной колеи частыми узелками сидели ласточки, отдыхали. Было так тихо в этот предвечерний час, что Крайневу порой казалось, что уже нет войны и они с Матвиенко находятся не на переднем крае, а что они, как в мирное время, после рабочего дня вышли подышать ароматным до одури степным воздухом, потолковать на приволье о том о сём. Под прямыми лучами солнца все казалось удивительно отчетливым, рельефным и мирным. Только сожженная будка путевого обходчика напоминала закопченными, продырявленными стенами о том, что здесь прошла война, да легкий ветерок доносил порой глухие отзвуки канонады. Матвиенко достал бинокль, долго смотрел на город, потом передал бинокль Крайневу, и тот не мог оторвать глаз от знакомых ему труб. — Полковник тебе не сказал, что завод захватили рабочие? — сказал Матвиенко. — Рабочие? — У Крайнева забилось сердце. «Значит, живут подпольщики. Вот будет встреча! Не надивятся. Вступили части в город, и откуда ни возьмись — я». — Нам приказали прийти им на помощь. Наши части пошли в обход, чтобы перерезать немцам дорогу, но замешкались. Ждем от них сигнала. Сильного сопротивления не будет. Когда фрицев окружают, они предпочитают тикать, а не обороняться. Высоко в небе, насыщая воздух грозным гулом, прошли с востока бомбардировщики, эскортируемые истребителями.
— Боюсь за завод, — тихо сказал Крайнев.
— Завода не тронут. Наши действия координированы с подпольщиками. Налажена двусторонняя связь. — Матвиенко проследил за тающим в небе пунктиром и взглянул на Крайнева. — Не та сейчас война. Первое время мы пальцы кусали от злости. Ползут их танки, летят самолеты, а мы? Встречаем только артиллерией. Противотанковой да противовоздушной. Теперь превосходство у нас и в воздухе и на земле. Танки наши… Идем, покажу.
Прошли по заросшему неприхотливой лебедой железнодорожному полотну. Местами деревянные шпалы были заменены немецкими, из рифленого железа. Рельсы покрылись тонким налетом ржавчины и в лучах солнца отливали медью.
Вдали показался дымок, похожий на паровозный.
— Бронепоезд не запустят? — спросил Крайнев.
— Ну и что ж! Только не запустят. Подпольщики взорвали мост у города, и ветка эта потеряла всякое значение. Хорошо работают твои друзья!
Железнодорожное полотно, прямое, как это бывает только в степных местностях, походило на аллею. По обеим сторонам его, сколько хватал глаз, тянулись заградительные полосы из многолетних деревьев. В их гуще Крайнев увидел тщательно замаскированные танки. Танкисты расположились тут же на траве: скоро бой, и надо было отдохнуть.
Перепрыгнув через кювет, подошли к одному из танков. Сергей Петрович залюбовался строгими линиями огромной машины. Ствол пушки длинно тянулся и придавал танку динамический, устремленный вперед вид. Корпус танка был тщательно выдраен, словно экипаж его готовился не к бою, а к параду, и машина выглядела бы совсем новой, если бы не отшлифованные землей до зеркального блеска гусеницы да редкие вмятины на броне. В застоявшемся воздухе пахло машинным маслом, бензином и махоркой, которую дружно курили наслаждавшиеся непредвиденным отдыхом пехотинцы
— Вашего завода сталь. — Матвиенко любовно похлопал лобовую броню танка. Так похлопал бы кавалерист любимого коня. — Крепчайшая! А пушки!.. Смерть «тиграм». Раз влепит — и задымится. Поработали наши братцы металлурги!
— Отгарцевались фрицы на своих «тиграх», — вмешался в разговор заинтересовавшийся человекам в штатском молодой парень — командир танка. Высокие брови его по-восточному подтягивали собой узкие агатовые глаза. Черты были мягкими, обычными. («И речь чистая. Смешанных кровей», — заключил Крайнев.) — Говорили у нас тогда, что сильнее «тигра» зверя нет. Бронебойщики приуныли. Отскакивают от брони снаряды — и только. Да с таким визгом, что душу выворачивало. — Он хмыкнул, мотнул головой. — А теперь дуэли один на один не принимает. Стрельнет два раза для видимости, а потом повернемся — и задним ходом… — Пытливо посмотрев на Крайнева, дескать: «Можно ли при нем?», он обратился к Матвиенко: — Скоро в бой, товарищ замполит?
— Не все такие горячие. Пехоте отдохнуть не вредно, — остудил его пыл Матвиенко и, помолчав, добавил: — С минуты на минуту.
Маневрировать между машинами и людьми, густо заполнившими лесок, было неудобно. Снова вышли на полотно и вскоре вступили в расположение артиллерийского подразделения. Орудия самых разных калибров и систем стояли без чехлов, с грозно приподнятыми стволами.
— Цели уже засечены, — пояснил Матвиенко. — Радист передал из города, что левее завода, на пригорке между домами, батареи. Сообщил и о расположении передней линии обороны и даже минного поля. Всё разведали. Ну, дальше не пойдем. Видишь, сороки? А где сороки — там людей нету. Птица осторожная. Недаром говорят, что убитая сорока ружье красит. Пошли назад. «Катюши» покажу. Последние, дальнобойные.
Но гвардейских минометов Крайневу увидеть не удалось. Едва они оставили позади зону, занимаемую артиллерией, как за их спинами грянул залп. Земля дрогнула.
— Рот открой! — крикнул Крайневу Матвиенко и побежал вдоль полотна.
Сергей Петрович устремился за ним.
Орудийные выстрелы слились в сплошной гул. Впереди через железнодорожное полотно и лесок неслись цилиндры реактивных снарядов, исчерчивая воздух огненными дугами.
Приказав Крайневу поспешить на наблюдательный пункт, где теперь должен был находиться полковник, Матвиенко помчался к танкистам.
Страшный грохот вызвал у Крайнева боль в ушах, воздух, ставший вдруг упругим, сдавил голову и, казалось, обжигал, как пламя.
Сквозь густые заросли подсолнечника Сергей Петрович добрался до наблюдательного пункта. Полковник, ссутулившись, подавшись грудью вперед, следил за разрывами.
Густая зловещая пелена дыма прикрыла город. Пробиваясь сквозь неё, беспрерывно вздымались к небу кудрявые тучи разрывов снарядов. Казалось, это мгновенно вырастали исполинские деревья и нехотя обрушивались от собственной тяжести.
Но вот на земле скользнули тени самолетов, и орудия смолкли. На бреющем полете прошло несколько эскадрилий черных тупорылых штурмовиков.
Полковник опустил бинокль и повернулся к Крайневу, словно был уверен, что тот стоит за его спиной:
— «Летающие танки» пошли. Гитлеровцы их «черной смертью» прозвали. Всё доколотят, до чего артиллерия не добралась. — И, позвав связиста, залихватски скомандовал: — Запускай танкистов!
Через минуту в леске взревели моторы. В поле двинулась лавина танков, густо облепленных пехотой, оставляя за собой хвосты медленно оседавшей пыли.
— Ужинать будем в городе! — весело блестя глазами, сказал полковник. — За-а мной!
Высоко в небе, насыщая воздух грозным гулом, прошли с востока бомбардировщики, эскортируемые истребителями.
— Боюсь за завод, — тихо сказал Крайнев.
— Завода не тронут. Наши действия координированы с подпольщиками. Налажена двусторонняя связь. — Матвиенко проследил за тающим в небе пунктиром и взглянул на Крайнева. — Не та сейчас война. Первое время мы пальцы кусали от злости. Ползут их танки, летят самолеты, а мы? Встречаем только артиллерией. Противотанковой да противовоздушной. Теперь превосходство у нас и в воздухе и на земле. Танки наши… Идем, покажу.
Прошли по заросшему неприхотливой лебедой железнодорожному полотну. Местами деревянные шпалы были заменены немецкими, из рифленого железа. Рельсы покрылись тонким налетом ржавчины и в лучах солнца отливали медью.
Вдали показался дымок, похожий на паровозный.
— Бронепоезд не запустят? — спросил Крайнев.
— Ну и что ж! Только не запустят. Подпольщики взорвали мост у города, и ветка эта потеряла всякое значение. Хорошо работают твои друзья!
Железнодорожное полотно, прямое, как это бывает только в степных местностях, походило на аллею. По обеим сторонам его, сколько хватал глаз, тянулись заградительные полосы из многолетних деревьев. В их гуще Крайнев увидел тщательно замаскированные танки. Танкисты расположились тут же на траве: скоро бой, и надо было отдохнуть.
Перепрыгнув через кювет, подошли к одному из танков. Сергей Петрович залюбовался строгими линиями огромной машины. Ствол пушки длинно тянулся и придавал танку динамический, устремленный вперед вид. Корпус танка был тщательно выдраен, словно экипаж его готовился не к бою, а к параду, и машина выглядела бы совсем новой, если бы не отшлифованные землей до зеркального блеска гусеницы да редкие вмятины на броне. В застоявшемся воздухе пахло машинным маслом, бензином и махоркой, которую дружно курили наслаждавшиеся непредвиденным отдыхом пехотинцы
— Вашего завода сталь. — Матвиенко любовно похлопал лобовую броню танка. Так похлопал бы кавалерист любимого коня. — Крепчайшая! А пушки!.. Смерть «тиграм». Раз влепит — и задымится. Поработали наши братцы металлурги!
— Отгарцевались фрицы на своих «тиграх», — вмешался в разговор заинтересовавшийся человекам в штатском молодой парень — командир танка. Высокие брови его по-восточному подтягивали собой узкие агатовые глаза. Черты были мягкими, обычными. («И речь чистая. Смешанных кровей», — заключил Крайнев.) — Говорили у нас тогда, что сильнее «тигра» зверя нет. Бронебойщики приуныли. Отскакивают от брони снаряды — и только. Да с таким визгом, что душу выворачивало. — Он хмыкнул, мотнул головой. — А теперь дуэли один на один не принимает. Стрельнет два раза для видимости, а потом повернемся — и задним ходом… — Пытливо посмотрев на Крайнева, дескать: «Можно ли при нем?», он обратился к Матвиенко: — Скоро в бой, товарищ замполит?
— Не все такие горячие. Пехоте отдохнуть не вредно, — остудил его пыл Матвиенко и, помолчав, добавил: — С минуты на минуту.
Маневрировать между машинами и людьми, густо заполнившими лесок, было неудобно. Снова вышли на полотно и вскоре вступили в расположение артиллерийского подразделения. Орудия самых разных калибров и систем стояли без чехлов, с грозно приподнятыми стволами.
— Цели уже засечены, — пояснил Матвиенко. — Радист передал из города, что левее завода, на пригорке между домами, батареи. Сообщил и о расположении передней линии обороны и даже минного поля. Всё разведали. Ну, дальше не пойдем. Видишь, сороки? А где сороки — там людей нету. Птица осторожная. Недаром говорят, что убитая сорока ружье красит. Пошли назад. «Катюши» покажу. Последние, дальнобойные.
Но гвардейских минометов Крайневу увидеть не удалось. Едва они оставили позади зону, занимаемую артиллерией, как за их спинами грянул залп. Земля дрогнула.
— Рот открой! — крикнул Крайневу Матвиенко и побежал вдоль полотна.
Сергей Петрович устремился за ним.
Орудийные выстрелы слились в сплошной гул. Впереди через железнодорожное полотно и лесок неслись цилиндры реактивных снарядов, исчерчивая воздух огненными дугами.
Приказав Крайневу поспешить на наблюдательный пункт, где теперь должен был находиться полковник, Матвиенко помчался к танкистам.
Страшный грохот вызвал у Крайнева боль в ушах, воздух, ставший вдруг упругим, сдавил голову и, казалось, обжигал, как пламя.
Сквозь густые заросли подсолнечника Сергей Петрович добрался до наблюдательного пункта. Полковник, ссутулившись, подавшись грудью вперед, следил за разрывами.
Густая зловещая пелена дыма прикрыла город. Пробиваясь сквозь неё, беспрерывно вздымались к небу кудрявые тучи разрывов снарядов. Казалось, это мгновенно вырастали исполинские деревья и нехотя обрушивались от собственной тяжести.
Но вот на земле скользнули тени самолетов, и орудия смолкли. На бреющем полете прошло несколько эскадрилий черных тупорылых штурмовиков.
Полковник опустил бинокль и повернулся к Крайневу, словно был уверен, что тот стоит за его спиной:
— «Летающие танки» пошли. Гитлеровцы их «черной смертью» прозвали. Всё доколотят, до чего артиллерия не добралась. — И, позвав связиста, залихватски скомандовал: — Запускай танкистов!
Через минуту в леске взревели моторы. В поле двинулась лавина танков, густо облепленных пехотой, оставляя за собой хвосты медленно оседавшей пыли.
— Ужинать будем в городе! — весело блестя глазами, сказал полковник. — За-а мной!
* * *
Сердюк ещё раз вылез на крышу здания заводоуправления и посмотрел в степь. В немецкий цейссовский бинокль, который притащил ему Петр со склада, он увидел советские танки и пехоту: они поднялись на пригорок и вскоре скрылись в лощине. А на городской площади в панике метались окруженные с трех сторон гитлеровцы. Их танки сначала промчались в одну сторону, потом в другую и снова вернулись на площадь. Здесь их накрыли бомбардировщики с красными звездочками на крыльях, и уцелевшие танки стали беспорядочно расползаться по улицам. К Сердюку поднялись Сашка и Павел, обежавшие уже весь завод, и сообщили о положении дел: есть раненые и убитые, одна домна от взрыва бомб покосилась набок, другая упала; в мартене рухнуло несколько колонн; один разливочный кран, искорёженный, лежит внизу, другой чудом повис в воздухе; здание газоочистки от прямого попадания бомбы совершенно разрушено; газопровод доменного цеха, где находилась бригада Гудовича, валяется на шоссе; людей Гудовича нет ни живых, ни мертвых; склад в сортопрокатном сгорел дотла; конторы доменного и огнеупорного цехов тоже сожжены; люди на своих местах, а вот Валю найти не могут. Последнее сообщение больно ударило Сердюка по сердцу. Он, как к дочери, привязался к этой мужественной и милой девушке и всеми силами стремился сохранить её жизнь. Так почему же он послал её на самый опасный участок — к газопроводу? А кто бы делал перевязки раненым? Чувство вины перед ней, перед Крайневым тяжело легло на душу. В разных концах города горели дома, пылали четырехэтажное здание школы, Дворец металлургов, театр, поликлиника. Совсем неожиданно Андрей Васильевич увидел на улице бойцов в защитной форме. Выбивая из домов засевшего противника, они продвигались к заводу. Сердюк ринулся вниз по лестнице, выбежал на площадь перед заводоуправлением. По ней навстречу бойцам уже бежали рабочие. У сорванных танками ворот обе волны встретились. Рабочие радостно кричали, обнимали бойцов, целовали их и с наслаждением закуривали солдатскую махорку. Бойцы были в погонах, и это с непривычки странно резало глаз. И вдруг Андрей Васильевич заметил бойца в кепке и без погон, жадно искавшего кого-то в толпе рабочих, и узнал и нём Крайнева. Сердюк рванулся к нему, стиснул в объятиях. — Валюша?.. — дрогнувшим голосом спросил Сергей Петрович. Сердюк виновато потупился. — Пока найти не можем, — глухо ответил он и, мельком взглянув на Крайнева, увидел, как у того потускнели глаза, а руки, державшие автомат, безвольно опустились. — Не уберег! — крикнул на него Сергей Петрович. — Не знаю ещё… — пробормотал Сердюк. Они вышли на площадь перед зданием заводоуправления. Крайнев заметил вымазанного в саже и известке Сашку, который робко топтался в сторонке, не решаясь приблизиться. Сергей Петрович сам подошел к Сашке, поцеловал его и сказал коротко: — Пойдем искать Валю. Где она была? Сашка молча показал рукой на обрушенный газопровод, лежавший поперек шоссе. Сергей Петрович подошел к газопроводу. Густо изрешеченный осколками, он при падении смялся, по краям сплющился. — Была здесь… — запинаясь, вымолвил Сашка. На окраинных улицах ещё кипел бой. Пули вспарывали воздух, захлебывались пулеметы, громыхали орудия. Почти над головами Крайнева и Сашки пронесся снаряд и разорвался, угодив в кожух домны. О камни мостовой звякнули осколки. Крайнев ощутил, как сквозь поры стали пробиваться и покрывать лоб холодные капли пота. Он оперся о плечо Сашки, чтобы не упасть. Всё померкло в его душе: и счастье победы, и радость возвращения в родной город, и встреча с дорогими друзьями. И впервые он понял, что среди людей тоже можно быть одиноким. Сашка увидел, как побледнели плотно сжатые губы Крайнева, как бледность поползла по складкам лица, залегла под глазами, и, почему-то почувствовав себя виноватым, всхлипнул. С трудом овладев собой, Сергей Петрович стиснул Сашку, словно желая отдать ему часть своей боли, потом оттолкнул его и торопливо пошел к площади. Здесь росла толпа. Не помня себя, потеряв всякий страх перед опасностью быть убитыми шальной пулей, к заводу бежали горожане. Появились женщины, дети — отыскивали среди рабочих-ополченцев своих близких, смеялись и плакали счастливыми слезами. И вдруг суматошный говор толпы перекрыл женский голос, высокий, сильный и неистовый, какой неизвестно откуда берегся в минуту смертельного отчаяния или беспредельной радости: — Сережа! Сережа-а! Не веря себе, Крайнев обернулся, как от толчка, и, расталкивая людей, бросился на звук голоса. — Сережа! Сере-о-жа! У заводских ворот, где толпа была всего гуще, Крайнев столкнулся с Валей, приник к ней и замер. — Вот и началась наша новая жизнь, — тихо, как бы одной себе, сказала Валя. Сергей Петрович снял кепку, вытер ею измазанное, мокрое от слез лицо Вали и осыпал поцелуями её губы, глаза, лоб. — Товарищи! Черные дни оккупации для вас кончились! Подняв глаза, Крайнев увидел на пьедестале разрушенного гитлеровцами монумента Матвиенко и Сердюка. Они открыли в освобожденном городе первый митинг.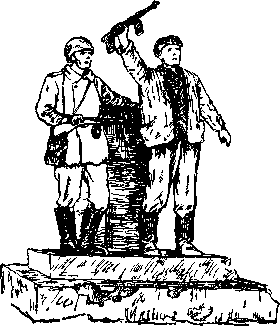
Николай Томан В погоне за призраком

В КАБИНЕТЕ ПОЛКОВНИКА ОСИПОВА
 Время перевалило за полночь. Все сотрудники генерала Саблина давно уже разошлись по домам. Один только полковник Осипов всё ещё оставался в своем кабинете, ожидая важного донесения.
Письменный стол его был освещен настольной лампой из темной пластмассы. Лучи света, падая на поверхность стола из-под низко опущенного колпачка, казалось, впитывались зеленым сукном, и лишь белый лист бумаги отражал и слабо рассеивал их по кабинету.
Полковник привык к полумраку и хорошо видел всё вокруг. Он бесшумно прохаживался по мягкому ковру, продумывая многочисленные варианты возможных действий противника.
Чистый лист бумаги, казавшийся на темнозеленом фоне настольного сукна самим источником света, как бы гипнотизировав Осипова. Полковник время от времени подходил к нему, готовый записать так долго продумываемую мысль, но всякий раз, когда уже брался за перо, внутренний голос убеждал его, что мысль недостаточно созрела, загадка далека от решения и выводы слишком скороспелы.
И снова принимался полковник Осипов — седой, слегка сутуловатый человек с усталыми глазами — ходить по кабинету, подолгу останавливаясь у окна, за которым всё ещё не хотела засыпать большая, очень шумная площадь.
«Хоть бы этот Мухтаров в сознание пришел! — уже в который раз мысленно повторял Осипов, наблюдая, как внизу, за окном, мелькают яркие огоньки автомобильных фар. — Всё могло бы тогда проясниться».
Он решил позвонить в больницу, но тут же раздумал: если бы было что-нибудь новое, ему бы немедленно сообщили.
«Почему, однако, Мухтаров бредит стихами и что это за стихи: «Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах»? Или, например, такая строка: «Шумно оправляя траур оперенья своего». Как угадать по этим строчкам, какие мысли приходят на ум Мухтарову? И почему он произносит только эти стихи? Ни одного другого слова, кроме стихов… А томик иностранных поэтов, который нашли у него? Существует, наверно, какая-то связь между книжкой и этим стихотворным бредом. Но какая?..»
Полковник Осипов несколько раз сам перелистал этот томик стихов, но какое он имел отношение к бреду Мухтарова, установить не смог. Вчера книгу подвергли исследованию в химической лаборатории, но и это не дало никаких результатов. Затем она попала к подполковнику Филину, специалисту по шифрам.
Филин высказал предположение, что одно из стихотворений, видимо, является кодом к тайной переписке. Он даже допускал мысль, что именно этим кодом была зашифрована радиограмма, перехваченная несколько дней назад в районе предполагаемого местонахождения знаменитого международного шпиона, известного под кличкой «Призрак». Догадка Филина не лишена была оснований, так как и сам Осипов предполагал, что агент иностранной разведки Мухтаров, очевидно, предназначался в помощники Призраку: его ведь выследили в поезде, уходившем в Аксакальск, то-есть именно в тот район, где находился Призрак.
Всё могло бы обернуться по-другому, если бы Мухтаров не почувствовал, что за ним следят, и не попытался уйти от преследования, неудачно выпрыгнув из вагона на ходу поезда. Теперь же он лежал в бессознательном состоянии в больнице, и врачи не ручались за его жизнь.
В карманах шпиона обнаружили паспорт на имя Мухтарова, удостоверение и железнодорожный билет до Аксакальска. В чемодане нашли портативную радиостанцию и томик собрания стихотворений иностранных поэтов.
И вот подполковник Филин уже второй день сидел теперь над этим сборником, отыскивая стихотворение, строки из которого произносил в бреду Мухтаров.
Был уже второй час ночи, когда в кабинете Осипова зазвонил телефон. Полковник торопливо схватил трубку, полагая, что звонят из больницы по поводу Мухтарова.
— Разрешите доложить, Афанасий Максимович… — услышал он голос Филина.
Подполковник был сильно контужен на фронте и слегка заикался в минуты волнения.
— Докопались до чего-нибудь? — нетерпеливо спросил его Осипов.
— Так точно. Выяснилось, что Мухтаров произносит в бреду строки из стихотворения «Ворон» Эдгара По…
— И это действительно код? — перебил его Осипов. — Удалось вам прочесть перехваченную шифрограмму?
— Нет, не удалось. Вероятно, стихотворение Эдгара По не имеет никакого отношения к этой шифрограмме.
— Так, так… — разочарованно проговорил полковник. — Сообщение не очень-то радостное…
Едва Осипов положил трубку на рычажки телефонного аппарата, как снова раздался звонок. Полковник почти не сомневался, что на этот раз звонят из больницы. Предчувствие не обмануло.
— Это я, Круглова… — торопливо и сбивчиво докладывала дежурная медсестра.
По её голосу Осипов догадался, что в больнице произошло что-то особенное.
— Знаете, что случилось: Мухтаров умер только что…
— Умер!.. — медленно повторил Осипов.
Надежда как-то разгадать всю историю с помощью Мухтарова теперь рушилась.
— Но неужели он даже перед смертью не пришел в сознание? — поинтересовался Осипов.
— Нет, Афанасий Максимович, — поспешно ответила Круглова. — Только по-прежнему бредил стихами. Может быть, он поэт какой-нибудь?
— Люди такой профессии не бывают поэтами… — убежденно произнес Осипов. — Какие же стихи читал Мухтаров? Всё те же? — поинтересовался он уже без всякой надежды услышать что-нибудь новое.
— Я записала. Сейчас прочту. Только тут тоже всё разрозненные строчки: «Гость какой-то запоздалый у порога моего, гость — и больше ничего». Похоже, Афанасий Максимович, что он всё это сам сочинил, — заключила Круглова. — Наверно, под «гостем» смерть свою имел в виду.
— Это всё, что он произнес?
— Нет, ещё… видно, из другого какого-то стихотворения:
Время перевалило за полночь. Все сотрудники генерала Саблина давно уже разошлись по домам. Один только полковник Осипов всё ещё оставался в своем кабинете, ожидая важного донесения.
Письменный стол его был освещен настольной лампой из темной пластмассы. Лучи света, падая на поверхность стола из-под низко опущенного колпачка, казалось, впитывались зеленым сукном, и лишь белый лист бумаги отражал и слабо рассеивал их по кабинету.
Полковник привык к полумраку и хорошо видел всё вокруг. Он бесшумно прохаживался по мягкому ковру, продумывая многочисленные варианты возможных действий противника.
Чистый лист бумаги, казавшийся на темнозеленом фоне настольного сукна самим источником света, как бы гипнотизировав Осипова. Полковник время от времени подходил к нему, готовый записать так долго продумываемую мысль, но всякий раз, когда уже брался за перо, внутренний голос убеждал его, что мысль недостаточно созрела, загадка далека от решения и выводы слишком скороспелы.
И снова принимался полковник Осипов — седой, слегка сутуловатый человек с усталыми глазами — ходить по кабинету, подолгу останавливаясь у окна, за которым всё ещё не хотела засыпать большая, очень шумная площадь.
«Хоть бы этот Мухтаров в сознание пришел! — уже в который раз мысленно повторял Осипов, наблюдая, как внизу, за окном, мелькают яркие огоньки автомобильных фар. — Всё могло бы тогда проясниться».
Он решил позвонить в больницу, но тут же раздумал: если бы было что-нибудь новое, ему бы немедленно сообщили.
«Почему, однако, Мухтаров бредит стихами и что это за стихи: «Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах»? Или, например, такая строка: «Шумно оправляя траур оперенья своего». Как угадать по этим строчкам, какие мысли приходят на ум Мухтарову? И почему он произносит только эти стихи? Ни одного другого слова, кроме стихов… А томик иностранных поэтов, который нашли у него? Существует, наверно, какая-то связь между книжкой и этим стихотворным бредом. Но какая?..»
Полковник Осипов несколько раз сам перелистал этот томик стихов, но какое он имел отношение к бреду Мухтарова, установить не смог. Вчера книгу подвергли исследованию в химической лаборатории, но и это не дало никаких результатов. Затем она попала к подполковнику Филину, специалисту по шифрам.
Филин высказал предположение, что одно из стихотворений, видимо, является кодом к тайной переписке. Он даже допускал мысль, что именно этим кодом была зашифрована радиограмма, перехваченная несколько дней назад в районе предполагаемого местонахождения знаменитого международного шпиона, известного под кличкой «Призрак». Догадка Филина не лишена была оснований, так как и сам Осипов предполагал, что агент иностранной разведки Мухтаров, очевидно, предназначался в помощники Призраку: его ведь выследили в поезде, уходившем в Аксакальск, то-есть именно в тот район, где находился Призрак.
Всё могло бы обернуться по-другому, если бы Мухтаров не почувствовал, что за ним следят, и не попытался уйти от преследования, неудачно выпрыгнув из вагона на ходу поезда. Теперь же он лежал в бессознательном состоянии в больнице, и врачи не ручались за его жизнь.
В карманах шпиона обнаружили паспорт на имя Мухтарова, удостоверение и железнодорожный билет до Аксакальска. В чемодане нашли портативную радиостанцию и томик собрания стихотворений иностранных поэтов.
И вот подполковник Филин уже второй день сидел теперь над этим сборником, отыскивая стихотворение, строки из которого произносил в бреду Мухтаров.
Был уже второй час ночи, когда в кабинете Осипова зазвонил телефон. Полковник торопливо схватил трубку, полагая, что звонят из больницы по поводу Мухтарова.
— Разрешите доложить, Афанасий Максимович… — услышал он голос Филина.
Подполковник был сильно контужен на фронте и слегка заикался в минуты волнения.
— Докопались до чего-нибудь? — нетерпеливо спросил его Осипов.
— Так точно. Выяснилось, что Мухтаров произносит в бреду строки из стихотворения «Ворон» Эдгара По…
— И это действительно код? — перебил его Осипов. — Удалось вам прочесть перехваченную шифрограмму?
— Нет, не удалось. Вероятно, стихотворение Эдгара По не имеет никакого отношения к этой шифрограмме.
— Так, так… — разочарованно проговорил полковник. — Сообщение не очень-то радостное…
Едва Осипов положил трубку на рычажки телефонного аппарата, как снова раздался звонок. Полковник почти не сомневался, что на этот раз звонят из больницы. Предчувствие не обмануло.
— Это я, Круглова… — торопливо и сбивчиво докладывала дежурная медсестра.
По её голосу Осипов догадался, что в больнице произошло что-то особенное.
— Знаете, что случилось: Мухтаров умер только что…
— Умер!.. — медленно повторил Осипов.
Надежда как-то разгадать всю историю с помощью Мухтарова теперь рушилась.
— Но неужели он даже перед смертью не пришел в сознание? — поинтересовался Осипов.
— Нет, Афанасий Максимович, — поспешно ответила Круглова. — Только по-прежнему бредил стихами. Может быть, он поэт какой-нибудь?
— Люди такой профессии не бывают поэтами… — убежденно произнес Осипов. — Какие же стихи читал Мухтаров? Всё те же? — поинтересовался он уже без всякой надежды услышать что-нибудь новое.
— Я записала. Сейчас прочту. Только тут тоже всё разрозненные строчки: «Гость какой-то запоздалый у порога моего, гость — и больше ничего». Похоже, Афанасий Максимович, что он всё это сам сочинил, — заключила Круглова. — Наверно, под «гостем» смерть свою имел в виду.
— Это всё, что он произнес?
— Нет, ещё… видно, из другого какого-то стихотворения:
КЛЮЧИ К ШИФРАМ
Хотя Осипов не спал почти всю ночь, на работу он явился как обычно — к девяти часам утра. Едва он прошел в свой кабинет, как к нему кто-то негромко, но энергично постучал. «Филин, наверно…» — подумал полковник, знавший его манеру стучать. В кабинет действительно вошел торопливой походкой подполковник Филин. «Позавидуешь человеку, — подумал Осипов. — Тоже не спал, наверно, всю ночь, а ведь по виду и не скажешь — здоровяк!» По стремительной походке подполковника, по выражению его лица и по радостному блеску серых глаз было видно, что он бодрствовал не напрасно. — Разгадали? — быстро спросил его Осипов. — Так точно, Афанасий Максимович! — весело проговорил Филин и положил на стол массивный однотомник произведений Иоганна Вольфганга Гёте. Осипов, полагавший, что разгадать тайну шифра должен был помочь сборник иностранных поэтов, найденный в чемодане Мухтарова, удивленно поднял глаза. Подполковник помедлил немного, будто наслаждаясь недоумением Осипова, затем с загадочной улыбкой раскрыл семьдесят вторую страницу однотомника и показал пальцем на напечатанное на ней стихотворение «Пляска мертвецов». — Вот откуда новая строфа мухтаровского бреда, товарищ полковник! Догадка эта родилась в результате специальной консультации у опытного литературоведа. А стихотворение Гёте в целом оказалось кодом к шифру. Обратили вы внимание, что цифры шифра разбиты на группы и расположены строками? Каждая из строк начинается двумя однозначными числами. Это показалось мне не случайным и натолкнуло на мысль, что для кодировки текста могли быть использованы стихи. И я не ошибся. Получается следующая система: первая цифра в шифрованной строке означает порядковый номер строфы. Вторая — строку в строфе, а все последующие цифры — номера букв в строках. Чувствовалось, что подполковник очень доволен своей сообразительностью и с нетерпением ждет похвалы. Но Осипов не был щедр на комплименты: он решил сам прочесть всю шифровку. Только тогда, когда шифрограмма была раскодирована им самостоятельно, он встал из-за стола и крепко, с чувством пожал Филину руку. — Спасибо, Борис Иванович. Спасибо!.. — поблагодарил он подполковника и, помолчав немного, поинтересовался: — Ну, а иностранные поэты тут при чем же? — Их «роль» в этой истории пока не выяснена, — развел руками Филин. — Однако они определенно имеют какое-то отношение ко всему этому делу! — убежденно сказал полковник и отпустил Филина. Генерал Саблин, начальник Осипова, был занят всё утро у заместителя министра, а полковнику никогда ещё не терпелось так, как сегодня, доложить ему результаты проделанной работы. «Шпионы ловко придумали вести свои переговоры с помощью стихов, — размышлял Осипов. — Для такого шифра не требуется ни кодовых таблиц, ни книг, ни журналов, ни газет, к чему обычно прибегают многие тайные агенты при шифровке. Нужно только хорошо запомнить какое-нибудь стихотворение и условиться со своими корреспондентами пользоваться его текстом. И никто из непосвященных никогда не прочтет ни одной строки, зашифрованной с его помощью… А томик стихов? Он, видимо, не имеет отношения к уже разгаданной системе шифра, но, может быть, им намеревались пользоваться в будущем — предназначали для каких-нибудь особых передач?» Полковник взял бумагу, на которой был написан текст раскодированной шифрограммы, и снова прочел его: — «Посылаем вам помощника, Мухтарова Таира Александровича — специалиста по радиотехнике — и новую рацию. С августа переходите на новую систему». «Что же это за «новая система»? Не новый ли вид шифра? А может быть, под «системой» имеется в виду какое-нибудь новое стихотворение? Вполне допустимо, что Мухтаров вез Призраку томик иностранных поэтов, с тем чтобы тот выучил из него до августа какое-то определенное стихотворение. Скорее всего, этим новым стихотворением был «Ворон» Эдгара По, и Мухтаров невольно повторял в бреду затверженные строки». Полковник удовлетворенно потер руки и торопливо стал ходить по кабинету, с нетерпением ожидая возвращения генерала. Снова раздался телефонный звонок. Звонил Филин. — Скажите, Афанасий Максимович, рация Мухтарова у вас ещё? — поинтересовался он. — Да. А зачем она вам? — На внутренней стороне её футляра карандашом написано несколько цифровых строк. Посмотрите, точно ли в начале первой и второй строчек стоят восьмерки? — Подождите минутку, сейчас проверю. Полковник торопливо открыл крышку футляра рации, стоявшей в углу его кабинета, и на матовом фоне её внутренней поверхности прочел: «3 3 2 19 28 25 7 22 39 3 5 3 2 26 27 6 3 5 32 30 5…» Там были и ещё какие-то строки, но полковник сосредоточил внимание только на этих двух. Первые цифры действительно напоминали восьмерки, но, присмотревшись к ним хорошенько, Осипов убедился, что это были тройки. — Вы ошиблись, Борис Иванович, — сказал он в телефонную трубку: — не восьмерки, а тройки. — Тройки?.. — переспросил Филин. — Ну, тогда совсем другое дело! Разрешите зайти к вам минут через пятнадцать? — Прошу! Подполковник Филин пришел ровно через четверть часа. В руках он держал всё тот же томик стихов. — Вот, пожалуйста! — возбужденно проговорил он и раскрыл томик на той странице, на которой начинался «Ворон» Эдгара По. — Читайте строфу третью:КОГО ПОСЛАТЬ?
Возвращаясь к себе от заместителя министра, генерал Саблин зашел в кабинет полковника Осипова. Генерал был высокий, сухопарый. Черные волосы его изрядно поседели на висках, но выглядел он моложе Осипова, хотя они были ровесниками. Легкой походкой прошел он через кабинет Осипова и, поздоровавшись, сел против полковника верхом на стуле. Тонкие, всё ещё очень черные брови генерала были слегка приподняты. — Кажется, вам удалось кое-что распутать, Афанасий Максимович? — спросил он спокойным, веселым голосом, хотя Осипов хорошо знал, как волновала генерала возможность напасть на верный след знаменитого Призрака. — Многое удалось распутать, Илья Ильич! — Ого! — улыбнулся Саблин. Он не ожидал от полковника такого многообещающего заявления: Осипов никогда не бросал своих слов на ветер, был сдержан в выражениях и очень трезв в оценке обстановки. Когда-то давно, лет тридцать назад, совсем ещё молодым человеком, познакомился Саблин с Осиповым на курсах ВЧК. С тех пор долгие годы они работали совместно на самых трудных фронтах тайной, войны со злейшими врагами советского государства. Саблин и Осипов крепко сдружились и прониклись друг к другу глубоким уважением. Разница в званиях и должностях не мешала их дружбе и теперь. «Интересно, что же удалось ему распутать?» — подумал Саблин и, усевшись поудобнее, приготовился слушать. — Теперь почти установлено, что Мухтаров направлялся помощником к Призраку, — убежденно заявил Осипов. Но тут же у него самого начали вдруг возникать различные сомнения, и высказанная догадка стала казаться не такой уж бесспорной. Он невольно снизил тон и продолжал уже гораздо сдержаннее: — Легальная фамилия этого Призрака, вероятно, Жанбаев и живет он на улице Чапаева, в доме сорок семь. Такая улица есть в городе Аксакальске, то-есть именно там, где мы и предполагали присутствие Призрака. — Так, так! — одобрительно кивнул головой генерал. — Давай-ка, однако, вспомним кое-что о самом Призраке. Он ведь специализировался, кажется, по странам Востока? — Да, — ответил Осипов, перебирая в уме всё известное ему о Призраке. — Средняя Азия, Ближний и Средний Восток ему хорошо знакомы. — Значит, он вполне мог выдать себя и за специалиста историка-востоковеда? — быстро спросил Саблин, уточняя неожиданно родившуюся смутную мысль. — Полагаю, что да, — согласился Осипов, сразу же понявший смысл вопроса. — Работая в свое время в «Интеллидженс сервис», Призрак участвовал в различных археологических экспедициях в Иране и Афганистане. Занимался он, конечно, не столько раскопками древностей, сколько военными укреплениями на советско-иранской и советско-афганистанской границах. Считается он также знатоком многих восточных языков: тюркских и иранских. Русским владеет в совершенстве. — Похоже, что этому Призраку не дают покоя лавры полковника Лоуренса? — усмехнулся Саблин. — Не без того, пожалуй. Когда он на англичан работал, они его даже вторым Лоуренсом величали. А он в одно и то же время работал и на них, и на немецких фашистов, и ещё на кого-то. — Легче, пожалуй, сказать, на кого он не работал, чем называть, тех на кого работал… — засмеялся Саблин. — Известна ли его подлинная национальность? Полковник Осипов пожал плечами: — Если судить по фамилиям, которые он носил в свое время, то это космополит. Фамилия Кристоф, под которой он был одно время известен, могла бы свидетельствовать о его английском или американском происхождении. Но потом он сменил столько всяких немецких, французских и итальянские фамилий, что и сам, наверно, всех не помнит. Только шпионская кличка «Призрак» удержалась за ним по сей день. — У нас он был, кажется, в 1943 году? — спросил Саблин и начал перебирать в уме всех своих сотрудников, которым можно было бы поручить единоборство с таким опасным противником. — Да, во время войны, — подтвердил Осипов, вспоминая, сколько бессонных ночей стоила ему охота за Призраком в те годы. — Он тогда работал на АБВЕР — фашистскую военную разведку, и ему, к сожалению, удалось улизнуть от нас безнаказанно, хотя мы уже нащупали его след. Он и тогда был почти в тех же местах, что и сейчас. По проторенной дорожке, значит, идет. Может быть, и знакомство кое с кем завел там ещё в ту пору… — Всё может быть, — задумчиво отозвался Саблин. — Ну, а Мухтаров, значит, должен был передать этому Призраку новую рацию и поступить в его распоряжение? — Да, если Призрак и Жанбаев одно и то же лицо, — уклончиво ответил Осипов. — Ну, а ещё что удалось разгадать? — Удалось разгадать систему шифров: старого, на котором Жанбаев, видимо, ещё ведет пока связь, и нового, который Мухтаров должен был передать ему при встрече. Разрешите доложить об этих шифрах несколько позже?.. Полагаю также, что понадобился Мухтаров Призраку как опытный радиотехник. Явиться к Призраку Мухтаров, очевидно, должен был по тем документам, которые мы нашли у него при обыске. Вот они. Осипов положил на стол паспорт на имя Мухтарова Таира Александровича, уроженца Алма-Аты, 1920 года рождения, и удостоверение личности, свидетельствующее о том, что он работник Алма-Атинского исторического музея. Генерал просмотрел всё внимательно и, встав, медленно прошелся по кабинету. Задача всё ещё казалась ему очень сложной и не до конца продуманной. — Всё-таки полной уверенности, что мы будем иметь дело именно с Призраком, у нас нет, — сказал он наконец. — Абсолютной, конечно, нет, но вероятность значительная, — с обычной своей осторожностью ответил Осипов. — Судите сами: из показаний недавно уличенного нами международного агента известно, чтоПризрак заброшен в Среднюю Азию, приблизительно в район Аксакальска. В этом районе мы засекаем передатчик и расшифровываем радиограмму с сообщением о присылке помощника какому-то агенту. Нападаем и на след этого помощника, едущего поездом Москва — Аксакальск. Устанавливаем, что он везет рацию своему шефу и новую систему шифра, то-есть именно то, о чём сообщалось в перехваченной шифрограмме. Узнаем также, что следовал он по адресу, который действительно существует в Аксакальске… — Но позволь, — нетерпеливым движением руки остановил Саблин Осипова. — Разве улица Чапаева существует только в Аксакальске? — Я специально наводил справки, — спокойно ответил Осипов. — Оказалось, что улица Чапаева из всей Аксакальской области имеется только в самом Аксакальске. Но это ещё не всё. В окрестностях Аксакальска работает археологическая экспедиция Казахской Академии наук. Весьма возможно, что Призрак под легальной фамилией какого-нибудь востоковеда Жанбаева находится именно в этой экспедиции. Ты ведь и сам, кажется, допускаешь, что Призрак может выдать себя за историка-востоковеда? Вспомни, кстати, удостоверение личности Мухтарова, говорящее о его принадлежности к Алма-Атинскому историческому музею. Есть и ещё одно обстоятельство, о котором я тебе уже говорил: Призрак бывал именно в этих местах во время войны. Полагаю, что Жанбаев и он — одно и то же лицо. Допустить, что в одном и том же районе одновременно работают два крупных шпиона, просто невероятно. Доводы Осипова казались генералу убедительными, но он не торопился принять их. Лишь спустя несколько минут генерал пристально посмотрел на Осипова и заметил: — Допустим, что всё это именно так. Кому же предложил бы ты в таком случае перевоплотиться в Мухтарова, с тем чтобы попробовать под его именем добраться до самого Призрака? — Вопрос не из легких… — задумчиво отозвался Осипов. — Надо подумать: ведь вполне вероятно, что Жанбаеву могут быть известны кое-какие сведения о Мухтарове — о его внешности, например. — Что же он может знать о его внешности? — спросил Саблин, беря со стола удостоверение личности Мухтарова. — Вряд ли Призраку могли доставить фотографию Мухтарова. Это надо смело исключить. Значит, только краткая характеристика по радио. Есть у него какие-либо особые приметы? — Тебе же прекрасно известно, что не положено иметь таковых тайным агентам, — ответил полковник и тоже посмотрел на фотографию Мухтарова, приклеенную к удостоверению личности. — Призраку могли сообщить только рост Мухтарова, цвет его глаз, волос. — Ну, и кого же ты всё-таки наметил бы в его двойники? — снова спросил Саблин. — Алимова можно или капитана Гунибекова, — ответил Осипов, мысленно представляя себе внешний облик каждого из названных им сотрудников. — Ты исходишь только из внешних данных, — недовольно поморщился генерал, останавливаясь перед полковником. — Знаю я и того и другого. Им не под силу будет справиться с этим противником. Тут нужна значительно большая опытность. А что ты скажешь о майоре Ершове? — О Ершове? — удивился полковник. — Ну да, да, о Ершове! — слегка повышая тон, повторил генерал. — Я знаю, что ты с ним не очень-то ладишь, но у меня о нём иное мнение. У Ершова большой опыт ещё со времени Отечественной войны. Полковник Астахов о нём всегда хорошо отзывался. У тебя, правда, он немножко подзакис, но в этом ты сам виноват: не там его используешь, где надо. — Хорошо, — помолчав немного, согласился Осипов, — допустим, что майор Ершов действительно обладает всеми теми качествами, которые необходимы для выполнения этого нелегкого задания. Но внешность?.. Хотя бы о приблизительном внешнем сходстве забывать не следует. — Приблизительное сходство, по-моему, тоже имеется, — стоял на своём Саблин. — Рост почти тот же, цвет лица такой же — смуглый от загара — и глаза черные… — А выражение лица? — перебил Саблина Осипов. — У него же выразительное лицо актера характерных ролей… или как это там, у театральных деятелей, называется! Что ты, Илья Ильич! Ершов всем в глаза бросается. Да ещё усы к тому же. — Ну, усы и сбрить можно, — спокойно возразил Саблин. — Насчет актеров же ты к месту вспомнил. Хороший контрразведчик должен быть актером и уметь перевоплощаться. А Ершова я считаю хорошим контрразведчиком. Для пользы дела он сживется и с ролью Мухтарова. Заметив, что Осипов опять собирается возразить, генерал нахмурился и добавил почти официально: — Так что, Афанасий Максимович, на это дело назначим мы Ершова. Таково мое решение, и не будем больше возвращаться к этому вопросу. А теперь вот что нужно решить… — Саблин снова присел к столу. — Как быть Ершову при встрече с Призраком? Думается мне, что арестовать его Ершов должен будет лишь в том случае, когда в руках окажутся бесспорные доказательства шпионской деятельности Призрака. Пока ведь у нас нет ничего такого, что мы могли бы предъявить ему в качестве обвинения. — Да, всё либо не очень весомо, либо слишком устарело, — ответил Осипов, доставая из стола папку, в которой были собраны материалы о Призраке. — А такую международную знаменитость нужно, конечно, взять с поличным, чтобы и возмездие было по заслугам. Нелегкая будет задача! — Нелегкая, — согласился Саблин и добавил: — Потому и предлагаю поручить эту задачу майору Ершову. Я верю в этого человека.МАЙОР ЕРШОВ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
Сегодня у майора, несмотря на выходной день, настроение было скверное, как, впрочем, и все последние, дни. Вот уже второй час лежал он на диване, не имея желания ни спать, ни читать. Да и думать как-то не думалось. Мысли были мелкие, случайные, прыгающие, как воробьи за окном, за которыми так внимательно и настороженно наблюдал любимый кот майора — Димка. Даже телефон раздражал сегодня Ершова, и он выключил его. Не очень-то нравилась майору работа в отделении полковника Осипова. Не привык он к такой работе. Скучно было изучать чужие донесения, вести переписку, давать указания, согласовывая чуть ли не каждое слово с придирчивым и педантичным полковником. Он вспоминал время, когда служил с капитаном Астаховым у генерала Погодина. Вот это была настоящая работа, полная опасности и напряжения всех душевных и физических сил! Вспомнилась интересная операция, когда им удалось распутать дьявольски тонкую систему шпионажа немецких фашистов с помощью телевизионной установки. Астахов с тех пор сильно пошел в гору. Говорят, теперь полковником где-то. Вот бы с ним опять поработать! Вспомнились и ещё более отдаленные времена, когда Ершова выпустили с курсов младших лейтенантов. Он тогда ещё только осваивал командирский язык и с удовольствием принял под свою команду взвод молодых, необученных солдат. Сам занимался с ними строевой подготовкой, не передоверяя этого своему помощнику, старому, опытному служаке, старшему сержанту из сверхсрочников. Приятно было выкрикивать громким голосом в морозное, зимнее утро четкие, резкие слова команды. А как снег хрустел под сапогами его солдат, дружно шагавших по проселочным дорогам прифронтового тыла! Ершов вздохнул и так энергично повернулся со спины на бок, что в диване даже пружины застонали. Кот Димка оторвался на мгновение от увлекательнейшего зрелища за окном и удивленно посмотрел на своего хозяина. Кот был большой, черный, с лоснящейся шерстью. Только усы и манишка были у него светлые да кончики лап белели, как перчатки у аристократа. Когда Димке надоело бесплодное наблюдение за воробьями, нагло разгуливавшими по карнизу за закрытым окном, он спрыгнул с подоконника, ленивой походкой подошел к дивану и, посмотрев в печальные глаза хозяина, бесцеремонно взобрался к нему на бок. Ершов обрадовался компании Димки: можно было хоть немного отвести душу. — Ну, чего пожаловали, Димич? — вяло спросил он Димку, к которому всегда в минуту меланхолии обращался на «вы». Димка, хотя и не понимал человеческой речи, прекрасно разбирался в интонациях голоса. По грустному мурлыканью, которым он ответил на вопрос хозяина, было похоже, что он вполне разделяет его мрачные мысли. — А что, если нам, дружище, подать рапорт о переводе на другую работу или, ещё лучше, в другой город? Казалось, что Димка ничего не имеет против этого. — Хватит нам, чорт побери, плесневеть здесь… Как вы на это смотрите? Мнение Димки осталось невыясненным, так как хозяин неожиданно сбросил его на пол и, накинув на плечи китель, пошел открывать входную дверь — снаружи кто-то очень решительно нажимал кнопку электрического звонка. Отворив дверь, Ершов растерялся — перед ним стоял Саблин. — Товарищ генерал? — удивленно воскликнул Ершов, торопливо поправляя китель, сползший с одного плеча. — Как видите… Но что же вы, дорогой мой, к телефону не подходите? Звоню вам, а вы, видно, спите себе? Или телефон испортился? — Да, пошаливает что-то, — смущенно проговорил Ершов, пропуская Саблина вперед. Генерал жил с майором в одном доме — несколькими этажами ниже. Иногда он приглашал Ершова к себе или заходил к нему поговорить о деле или просто сыграть в шахматы. — Вы что же, только вдвоем с Димкой дома? — спросил он, входя в комнату и присаживаясь на диван рядом с котом, который кокетливо изогнул спину. — Анны Петровны нет разве? — К сестре уехала. — Ну что ж, тогда нам никто тут не помешает поговорить об одном очень важном деле. Садитесь, Андрей Николаевич, и слушайте внимательно.НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
Дня три ушло у Ершова на тщательную подготовку к выполнению задания генерала Саблина. Он изучал секретные коды Мухтарова и Жанбаева и тренировался быстро ими пользоваться. Провел несколько практических занятий по радиотехнике с инженерами и радиомастерами — специалистами по монтажу и ремонту радиоаппаратуры, досконально изучил рацию Мухтарова. На четвертые сутки, явившись к генералу Саблнну, Ершов доложил ему, что он вполне готов к выполнению задания. — Не буду вас экзаменовать, Андрей Николаевич, — заметил генерал, с удовольствием разглядывая статную фигуру майора. — Вы человек бывалый. Должен вас предупредить, однако, что противник у вас очень осторожный, а следовательно, опытный. Ходит о нём молва как о неуловимом. Дано и прозвище в соответствии с этим — «Призрак». Мы уже сделали запрос по адресу, обнаруженному у Мухтарова, и нам ответили, что в Аксакальске действительно временно прописан кандидат исторических наук Каныш Жанбаев, но что его никому из работников МВД пока не удалось увидеть. Чтобы они там не спугнули этого Призрака, я дал указание ничего пока против него не предпринимать и не проявлять к нему чрезмерного интереса. Вы приедете — сами во всём разберетесь. Связь с нами будете держать через лейтенанта Малиновкина, которого к вам прикомандируют. Всё ясно? — Всё, товарищ генерал! Ещё раз осмотрев Ершова со всех сторон, Саблин остановил свой взгляд на усах майора и спросил, улыбаясь: — Не жалко ли будет с усами распрощаться? — А может быть, и не следует с ними расставаться? — серьезно спросил Ершов, привычным движением руки поправляя усы. — Подстригу их только на восточный манер. Саблин задумался. — Ну что же, пожалуй, это неплохо будет… — проговорил он наконец, представляя себе, как будет выглядеть Ершов в какой-нибудь шелковой рубашке, с пёстрой тюбетейкой на голове, и весело добавил: — С Алимовым по этому поводу посоветуйтесь. Тюбетейку ещё можете надеть, но больше ничего восточного, а то получится слишком маскарадно. Поедете завтра утром, а пока отдыхайте да привыкайте к своей новой фамилии. С завтрашнего дня вы уже будете Мухтаровым. Ершов возвращался от Саблина в приподнятом настроении и был по-настоящему счастлив. У Кировских ворот можно было бы сесть на трамвай или автобус, но он решил перед поездкой в последний раз пройтись пешком по родному городу — завтра рано утром поезд с Казанского вокзала должен был увезти его далеко на восток, в Среднюю Азию. Он шел медленно, разглядывая прохожих, и ему казалось, что люди, встречающиеся по пути, смотрят на него как-то особенно пристально. И он не без гордости думал о том, что, может быть, и жизнь и безопасность всех этих людей будет зависеть в какой-то мере от того, как он справится с тем большим и трудным заданием, которое ему поручили. Потом он подумал о девушке, портрет которой стоял у него на столе. Мелькнула на мгновение мысль: «Может быть, зайти попрощаться?» Но он тотчас же отогнал ее: ни к чему это. О том, что он уезжает, она и без того узнает, видимо, от своего отца, а большего сказать ей он всё равно не имеет права. Дома Ершов еще раз осмотрел давно уже приготовленные вещи. Тут было только самое необходимое — в основном всё то, что обнаружили в карманах и чемодане Мухтарова. Теперь нужно было подумать: как вел бы себя этот человек в поезде, как встретился бы с Жанбаевым?.. С ролью Мухтарова надо было сжиться заранее, чтобы не сфальшивить в минуту встречи с врагом. Играть роль Мухтарова он должен начать уже с завтрашнего утра, с момента посадки в поезд. Ершов вспомнил о прикомандированном к нему лейтенанте Малиновкине и невольно почувствовал досаду. Зачем ему этот юнец? Мешать только будет. Может, конечно, понадобится его совет по ремонту радиостанции или потребуется запросить о чем-нибудь генерала Саблина по его рации, но он и сам как-нибудь справился бы со всем этим: ведь всё придется делать очень скрытно и осторожно — не подвел бы его этот паренек… Ершов очень мало знал Малиновкина. Было ему известно только, что он отличный радист и радиомастер, виртуоз по скоростному приему и передаче радиограмм ключом радиотелеграфа. Нужно было познакомиться с лейтенантом поближе. С этим намерением майор Ершов подошел к телефону и позвонил начальнику отдела, в котором числился Малиновкин. — Здравия желаю, товарищ подполковник! Это Ершов вас, беспокоит, — сказал он в трубку, узнав по голосу начальника отдела связи. — Готов ли Малиновкин к заданию генерала Саблина? Готов? Ну, так я бы хотел повидаться с ним. Может быть, вы ему трубку передадите? Ершов услышал, как подполковник положил трубку на стол и крикнул кому-то, чтобы позвали Малиновкина. Через несколько секунд в трубке снова зашумело и послышался молодой, сильный голос: — Лейтенант Малиновкин у телефона.
— Здравствуйте, товарищ Малиновкин! — поздоровался с ним майор. — Ершов с вами говорит. Ну, как вы, готовы? Забирайте тогда с собой всё, что положено, — и ко мне на квартиру. Адрес вам скажут. Мы тут и познакомимся поближе. До встречи!
— Лейтенант Малиновкин у телефона.
— Здравствуйте, товарищ Малиновкин! — поздоровался с ним майор. — Ершов с вами говорит. Ну, как вы, готовы? Забирайте тогда с собой всё, что положено, — и ко мне на квартиру. Адрес вам скажут. Мы тут и познакомимся поближе. До встречи!
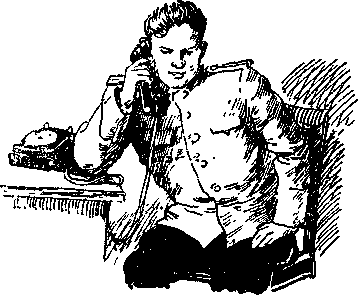 …Малиновкин приехал к обеду. В руках его был чемодан; через руку переброшен легкий серый пиджак. Воротничок светлой рубашки юноши расстегнулся, обнажая загорелую шею. Лицо лейтенанта казалось совсем юным. Улыбался он нежной, застенчивой улыбкой. Ершов только взглянул на него и сразу же решил, что Малиновкин — хороший парень. Собравшись было встретить его холодно и строго, он тотчас же забыл об этом решении, улыбнулся и протянул Малиновкину руку:
— Давайте познакомимся, товарищ Малиновкин! Как ваше имя?
— Дмитрий… Дмитрий Иванович, товарищ майор, — смущенно проговорил Малиновкин, не зная, куда поставить свой чемодан.
— А я — Андрей Николаевич. Это запомните, а то, что я майор, забудьте. Имя это тоже, кстати, на сегодняшний день только: завтра к другому придется привыкать. Чемодан вы оставьте тут, мамаша придет — уберет куда-нибудь. Вы, однако, с комфортом собираетесь путешествовать, — усмехнулся Ершов, кивнув на чемодан. — Вещичек больше, чем полагается, прихватили.
— Так ведь там… — начал было Малиновкин.
Но Ершов перебил его:
— Ничего, ничего, я вас разгружу, если потребуется. Идемте, поговорим о деле.
В комнате майора Малиновкин в первую очередь обратил внимание на книжный шкаф и, когда Ершов предложил ему стул, сел так, чтобы видеть корешки книг за стеклянными дверцами. Пока майор доставал что-то из письменного стола, он уже пробежал глазами названия некоторых томов, находившихся к нему ближе. Тут оказались главным образом военные произведения, и это не удивило Малиновкина. Но зато в соседнем шкафу он прочел на корешках названия таких книг, каких никак не ожидал найти в библиотеке контрразведчика. Это открытие вызвало у лейтенанта ещё большее чувство уважения к майору, хотя он и без того слышал о нем много интересного.
— Надеюсь, вас уже познакомили с заданием, Дмитрий… — Ершов замялся, вспоминая отчество Малиновкина.
— Называйте меня просто Митей, — всё так же смущенно улыбаясь, предложил Малиновкин.
— Согласен, — в свою очередь, улыбнулся Ершов, внимательно рассматривая атлетическое телосложение Малиновкина. По всему было видно, что юноша — незаурядный спортсмен. — Ну, так вот, Митя, знакомы ли вы с нашим заданием?
— Да, в общих чертах, товарищ майор… Простите — Андрей Николаевич.
— Так вот: завтра утром мы выезжаем: я — на такси, вы — автобусом. Встречаемся в поезде, в купированном вагоне. Там мы «случайно» окажемся соседями и «познакомимся». Я «окажусь» Мухтаровым Таиром Александровичем, работником Алма-Атинского музея, направляющимся в научную командировку в Аксакальск. Вы представитесь мне молодым железнодорожником, едущим на строительство железной дороги. Фамилию и имя вам нет смысла изменять. Вот какую бы только специальность подобрать?
— Телеграфиста или даже радиотелеграфиста, — подсказал Малиновкин. — Специальность эта хорошо мне знакома.
— Вот и отлично, — согласился Ершов. — Я позвоню попозже, и вам пришлют соответствующее удостоверение. Ну, а теперь идемте обедать, да, кстати, и чемоданом вашим займемся: разгрузим его немного.
— А что же в нем разгружать, Андрей Николаевич? — удивился Малиновкин. — У меня там рация. А из личных вещей только самое необходимое…
…Малиновкин приехал к обеду. В руках его был чемодан; через руку переброшен легкий серый пиджак. Воротничок светлой рубашки юноши расстегнулся, обнажая загорелую шею. Лицо лейтенанта казалось совсем юным. Улыбался он нежной, застенчивой улыбкой. Ершов только взглянул на него и сразу же решил, что Малиновкин — хороший парень. Собравшись было встретить его холодно и строго, он тотчас же забыл об этом решении, улыбнулся и протянул Малиновкину руку:
— Давайте познакомимся, товарищ Малиновкин! Как ваше имя?
— Дмитрий… Дмитрий Иванович, товарищ майор, — смущенно проговорил Малиновкин, не зная, куда поставить свой чемодан.
— А я — Андрей Николаевич. Это запомните, а то, что я майор, забудьте. Имя это тоже, кстати, на сегодняшний день только: завтра к другому придется привыкать. Чемодан вы оставьте тут, мамаша придет — уберет куда-нибудь. Вы, однако, с комфортом собираетесь путешествовать, — усмехнулся Ершов, кивнув на чемодан. — Вещичек больше, чем полагается, прихватили.
— Так ведь там… — начал было Малиновкин.
Но Ершов перебил его:
— Ничего, ничего, я вас разгружу, если потребуется. Идемте, поговорим о деле.
В комнате майора Малиновкин в первую очередь обратил внимание на книжный шкаф и, когда Ершов предложил ему стул, сел так, чтобы видеть корешки книг за стеклянными дверцами. Пока майор доставал что-то из письменного стола, он уже пробежал глазами названия некоторых томов, находившихся к нему ближе. Тут оказались главным образом военные произведения, и это не удивило Малиновкина. Но зато в соседнем шкафу он прочел на корешках названия таких книг, каких никак не ожидал найти в библиотеке контрразведчика. Это открытие вызвало у лейтенанта ещё большее чувство уважения к майору, хотя он и без того слышал о нем много интересного.
— Надеюсь, вас уже познакомили с заданием, Дмитрий… — Ершов замялся, вспоминая отчество Малиновкина.
— Называйте меня просто Митей, — всё так же смущенно улыбаясь, предложил Малиновкин.
— Согласен, — в свою очередь, улыбнулся Ершов, внимательно рассматривая атлетическое телосложение Малиновкина. По всему было видно, что юноша — незаурядный спортсмен. — Ну, так вот, Митя, знакомы ли вы с нашим заданием?
— Да, в общих чертах, товарищ майор… Простите — Андрей Николаевич.
— Так вот: завтра утром мы выезжаем: я — на такси, вы — автобусом. Встречаемся в поезде, в купированном вагоне. Там мы «случайно» окажемся соседями и «познакомимся». Я «окажусь» Мухтаровым Таиром Александровичем, работником Алма-Атинского музея, направляющимся в научную командировку в Аксакальск. Вы представитесь мне молодым железнодорожником, едущим на строительство железной дороги. Фамилию и имя вам нет смысла изменять. Вот какую бы только специальность подобрать?
— Телеграфиста или даже радиотелеграфиста, — подсказал Малиновкин. — Специальность эта хорошо мне знакома.
— Вот и отлично, — согласился Ершов. — Я позвоню попозже, и вам пришлют соответствующее удостоверение. Ну, а теперь идемте обедать, да, кстати, и чемоданом вашим займемся: разгрузим его немного.
— А что же в нем разгружать, Андрей Николаевич? — удивился Малиновкин. — У меня там рация. А из личных вещей только самое необходимое…
ПОПУТЧИКИ
Всю дорогу от Москвы до Куйбышева Ершов и Малиновкин играли в шахматы. Они ничем не выделялись среди остальных пассажиров — людей самых разнообразных профессий и многих национальностей. На майоре была длинная шелковая рубашка, подпоясанная тонким кавказским ремешком со множеством серебряных пластинок, тюбетейка на голове. Лейтенант остался в той же одежде, в которой приехал вчера к Ершову. Соседями их по купе оказались две пожилые пенсионерки. Хотя на вид женщины были безобидными, для Ершова и Малиновкина они оказались довольно опасными попутчицами: обе были очень любопытны и без конца задавали вопросы. Чтобы хоть частично умерить их любознательность, Малиновкин, представившийся телеграфистом, стал виртуозно демонстрировать им свою технику, выстукивая с невероятной скоростью тут же сочиненные тексты. От шума, поднятого этим энтузиастом телеграфного дела, старушки сначала закрывали уши, а потом нашли себе в коридоре более подходящих собеседников. Используя это обстоятельство, разведчики могли разговаривать без помехи. Ершов, правда, считал более благоразумным не говорить о своей работе, но Малиновкин не мог удержаться, чтобы нет-нет, да и не спросить о какой-нибудь детали. Более же всего интересовал его сам Ершов. — Завидую я вам, Андрей Николаевич, — шопотом говорил он, косясь на дверь купе. — Ловко вы в Прибалтике фашистских шпионов накрыли. У нас в военной школе на основе вашего опыта даже специальные занятия проводились… Майору приходилось останавливать восторженного лейтенанта. — Запрещаю вам сейчас и в дальнейшем на эти темы разговаривать, — укоризненно качал он головой. — Что же касается дела с телевизионным шпионажем, то распутал его не я, а Астахов. Вот уж кто действительно талант! — Больше не буду об этом, Андрей Николаевич, — обещал Малиновкин, умоляющими глазами глядя на Ершова. — Но только ведь и вы помогли Астахову это дело распутать. Разве это неправда? И о вас лично рассказывают, как вы… Ну ладно, всё! Больше об этом ни слова! В Куйбышеве, к необычайному удовольствию Малиновкина, старушки наконец «выгрузились». Они тепло распрощались со своими попутчиками, поблагодарили за компанию и попросили у Ершова-Мухтарова его алма-атинский адрес, чтобы заехать как-нибудь к нему за фруктами, которые он так расхваливал всю дорогу. Освободившиеся места тут же были заняты двумя молодыми людьми в железнодорожной форме. На кителе одного из них были погоны техника-лейтенанта. — Далеко путь держите, молодые люди? — спросил их Ершов. — Далеко, аж до Перевальска, — ответил парень без погон. — До Перевальска? — воскликнул Малиновкин. — И нам туда же — попутчики, значит! — А вы зачем туда, если не секрет? — снова спросил Ершов. — На работу. Заработки там хорошие на строительстве железной дороги, — усмехаясь, ответил все тот же парень. Другой, с погонами техника-лейтенанта, сердито посмотрел на него. — Ладно, хватит рвача разыгрывать! Паровозники мы, — объяснил он. — Я машинист, а это мой помощник. Работали раньше на ветке Куйбышев — Гидрострой, а сейчас на новой стройке уже второй год. Из отпуска возвращаемся. — Мы вообще всегда там, где всего труднее! — всё тем же насмешливым тоном заметил помощник машиниста. — Это я не от себя, я его слова повторяю, — кивнул он на машиниста. — Меня главным образом заработок прельщает. — А вы знаете, молодой человек, как это по-научному называется? — вдруг сердито проговорил Малиновкин, и лицо его стало непривычно суровым. — Цинизмом! — Да вы что, всерьез его слова приняли? — смущенно улыбнулся машинист. — Дурака он валяет. Думаете, я его умолял, чтобы он со мной в Среднюю Азию поехал? И не думал даже — сам увязался. А насчет заработка — так мы на Гидрострое и побольше зарабатывали. Ершов понимал толк в людях и даже по внешнему виду редко ошибался в их душевных качествах. Машинист сразу же ему понравился. Было у него что-то общее с Малиновкиным, хотя внешне они и не походили друг на друга: машинист выглядел значительно старше. — Ну что же, давайте знакомиться будем, — весело приговорил Ершов и протянул машинисту руку: — Мухтаров Таир Александрович, научный работник из Алма-Аты. — Шатров Константин, — представился машинист и кивнул на помощника: — а это Рябов Федор. Несколько часов спустя, когда поезд уже подходил к Ишимбаеву, попутчики совместно поужинали и распили принесенную Рябовым пол-литровку. Беседа пошла живее и откровеннее. Железнодорожники были так увлечены рассказами о своей работе и своих планах, что ни разу не спросили о намерениях попутчиков, чему те были чрезвычайно рады. «Это не старушки-пенсионерки, — подумал Малиновкин. — У них самих есть что рассказать…» Железнодорожники между тем, поговорив некоторое время о работе, незаметно перешли на интимные темы. Говорил, впрочем, главным образом Рябов. Шатров попытался несколько раз одернуть товарища, но потом только рукой махнул. — Ну конечно, — философствовал Федор, — поехали-то мы в Среднюю Азию из-за главного нашего принципа — только вперед! Это, так сказать, идеологическая основа. Но была и ещё одна движущая сила — любовь. Да-да! Вы не смейтесь… И нечего меня под бок толкать, дорогой Костя. Тут всё люди свои, и стесняться не стоит. Да и потом — какой уж это секрет, если о нем чуть ли не вся Куйбышевская железная дорога знала! На новом месте тоже, кажется, секрета из этого не получилось… Рябов говорил все это серьезным тоном, но Ершову было ясно, что он просто подтрунивает над приятелем. — Так вот, — продолжал Рябов: — есть тут у нас такая девушка — инженер-путеец Ольга Васильевна Белова. Красавица! Можете в этом на мой вкус положиться. Сначала она вместе с нами на участке Куйбышев — Гидрострой работала, а потом её на новое строительство в Среднюю Азию перебросили. Понимаете теперь, из-за чего ещё нас на эту новую стройку потянуло? Он усмехнулся и добавил: — «Нас» — это я так, к слову сказал. Потянуло в основном Костю. — Ерунду несешь! — не на шутку рассердился наконец Шатров. — Есть у нас инженер Белова — это верно. Нравится она мне — этого тоже скрывать не буду. Но всё остальное чепуха. Ершов с удовольствием слушал своих попутчиков и невольно подумал о том, что, собираясь с момента посадки в поезд играть роль нагловатого, самоуверенного Мухтарова, он не выполнил этого намерения: не хотелось ронять себя в глазах этих честных советских людей.ЖАНБАЕВ МЕНЯЕТ АДРЕС
В Аксакальске у Шатрова и Рябова была пересадка — до Перевальской им нужно было ехать местным поездом. — Ну, а вы как, товарищ Малиновкин? — спросили они Дмитрия. — Тоже с нами? — А как же! — горячо воскликнул лейтенант. Железнодорожники попрощались с Ершовым-Мухтаровым и пошли к билетным кассам местных поездов. А Ершов не спеша направился к камере хранения ручного багажа, с тревогой думая о том, как удастся Малиновкину отстать от своих спутников. В камеру хранения был длинный хвост. Ершов даже обрадовался этому — возможно, Малиновкин успеет вернуться, пока подойдет очередь Ершова. Правда, на всякий случай он условился с Дмитрием, что тот будет ожидать его на станции, в зале транзитных пассажиров. Более тридцати минут пришлось простоять Ершову в очереди, прежде чем он смог сдать свой чемодан. А когда вышел наконец из камеры хранения, у дверей его уже ждал улыбающийся Малиновкин. — Очень всё удачно обернулось, — весело сказал он, вытирая платком потный лоб: — билетов в кассе на меня не хватило. А у них командировки и железнодорожные проездные документы, так что требовалось только компостер поставить. Достал бы, конечно, и я билет, если бы уж очень нужно было, — усмехнулся Малиновкин. — Ну, а в общем-то всё получилось вполне естественно. Тут, оказывается, такая перегрузка железной дороги, что билетов частенько не хватает. Приятелей наших проводил я до вагона, попрощался — и к вам. Вот и всё. Удачно? — Будем считать, что удачно, — серьезно ответил Ершов. В душе он был доволен Малиновкиным, но считал, что теперь, когда они прибыли на место, нужно быть с ним построже. — Ну, а теперь к Жанбаеву? — спросил Малиновкин. — Нет, — всё так же серьезно заметил Ершов, внимательно поглядывая по сторонам. — Кстати, мы теперь не знакомы друг с другом. Отправляйтесь-ка в зал для транзитных пассажиров и ждите меня там. Я буду отсутствовать два-три часа, а может быть, больше, ясно? — Ясно, Андрей Николаевич. — Чемодан не сдавайте пока, пусть будет с вами. Когда я вернусь — пройду мимо вас. Встаньте тогда и идите за мной. Всё понятно? — Всё. Кивнув Малиновкину, Ершов вышел на привокзальную площадь и спросил у пожилой женщины, как пройти на улицу Чапаева. Женщина подробно объяснила ему, как это сделать, и он не спеша зашагал по привокзальной улице. Солнце поднялось уже довольно высоко и пекло немилосердно. Низкие здания почти не давали тени, деревья, росшие кое-где, были слишком чахлыми, а тюбетейка на голове Ершова служила плохой защитой от солнечного зноя. Пот струился по лицу майора, но он шел всё так же неторопливо, делая вид, что южный климат ему привычен. Но вот наконец показалась и улица Чапаева. Дома здесь были ещё ниже и неказистее, большей частью одноэтажные, с маленькими двориками, внутри которых через распахнутые калитки можно было рассмотреть какие-то хилые, низкорослые посадки. Дом номер сорок семь ничем не отличался от других, только калитка его оказалась закрытой изнутри на крючок или щеколду. Ершов подергал несколько раз за ручку, но, заметив железное кольцо сбоку, потянул его на себя. Послышался неприятный скрип ржавого железа и лай собаки. Чей-то голос прикрикнул на собаку, и майор услышал сначала тяжелые шаги, затем звук отодвигаемой щеколды. Калитка приоткрылась ровно настолько, чтобы хозяин мог просунуть голову в образовавшееся отверстие. Лицо у него было старое, сморщенное, глаза широко расставленные, узкие. — Вам кого? — спросил он с сильным восточным акцентом, окидывая Ершова подозрительным взглядом.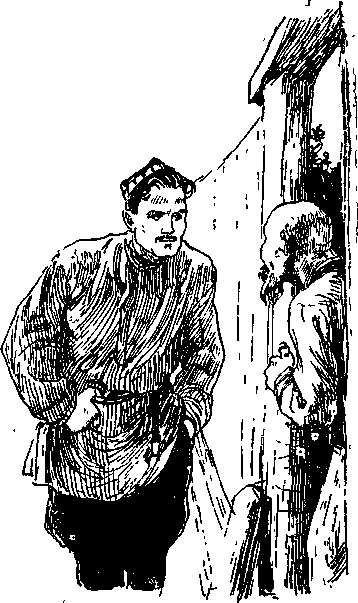 — Каныша Жанбаева, — улыбаясь и кланяясь старику, ответил Ершов. — Я к нему из Алма-Аты, из исторического музея… Мухтаров.
— Мухтаров? — переспросил старик, удивленно поднимая седые жидкие брови и морщась, будто в рот ему попало что-то очень кислое.
— Ну да, Мухтаров! — торопливо повторил Ершов, с тревогой думая, туда ли он попал. — Таир Александрович Мухтаров.
— Ах, Таир Александрович! — радостно заулыбался вдруг старик и широко распахнул калитку. — Заходи, пожалуйста! Извини, что ждать заставил. Вот тут иди, пожалуйста, а то собака штаны порвет… Замолчи, проклятый! — замахнулся он на рвущегося с цепи пса. — Уж какой злой, шайтан!.. Вот сюда, дорогой Таир Александрович. Голову только нагни, пожалуйста, — зацепиться можешь.
Старик ввел Ершова в довольно просторную комнату, обставленную хорошей мебелью. Это удивило майора, так как сам старик был одет довольно бедно.
— Садись, пожалуйста, — придвинул он стул Ершову и протянул ему сморщенную желтую руку: — Я хозяин квартиры буду — Джандербеков Габдулла.
— А Каныш где же? — настороженно спросил Ершов.
Габдулла показался майору очень хитрым, и он опасался, что старик не доверяет ему.
— Извини, пожалуйста, нет Каныша, — развел руками Габдулла, и маленькие глазки его совсем растворились в притворной улыбке. — Уехал. Вот письмо просил тебе передать. Научную работу Каныш ведет, материал разный собирает. Много ездить приходится.
Сказав это, старик стал рыться в верхнем ящике комода, не сводя настороженных глаз с майора. Достав наконец запечатанный конверт, он протянул его Ершову всё с той же притворной улыбкой.
Ершов вскрыл конверт и прочел адресованное Мухтарову письмо:
«Дорогой Таир Александрович! Простите, что не дождался вас. Пришлось срочно выехать к месту археологических раскопок. Обнаружены новые интересные сведения об истории этих древних мест. Вам, конечно, известно, что город Аксакальск был расположен на караванном пути из Средней Азии в Западную Сибирь. Археологические раскопки в окрестностях его дают нам, историкам, много интересного. Особенно то, что относится к концу XVIII века. Если хотите повидать меня до того, как я вернусь в Аксакальск, а это будет не раньше 26–28-го, то приезжайте к Белому озеру. Оно недалеко, всего в тридцати — тридцати пяти километрах от Аксакальска. Разыщите там баз археологов и спросите меня. До скорой встречи, дорогой Таир Александрович!
Ваш Каныш Жанбаев»
Ершов перечитал письмо и обратил внимание, что написано оно на страничке, видимо вырванной из учебника арифметики. Одна сторона её была чистая, а на другой напечатано несколько столбцов с арифметическими примерами. Сообразив, что всё это не случайно, Ершов внимательно присмотрелся к цифрам. Вскоре он заметил, что над некоторыми из цифр бумага чуть-чуть надорвана кончиком пера. На свет эти прорванные места были хорошо заметны. Стало ясно, что этими едва заметными прорывами бумаги были помечены цифры шифра.
Для того, однако, чтобы прочесть шифр, нужно было иметь перед собой текст «Пляски мертвецов» Гёте. Он был в записной книжке Ершова, но пользоваться им при Габдулле майор не мог. Пришлось спрятать письмо в карман.
— Извините за беспокойство, — учтиво обратился Ершов к старику. — Жанбаев предлагает мне приехать к нему на Белое озеро. Пожалуй, так я и сделаю.
С этими словами он попрощался с Джандербековым и направился к выходу. Габдулла проводил его до калитки и попросил передать Жанбаеву привет.
Выйдя из дома Джандербекова, Ершов некоторое время шел к станции, но затем, убедившись, что за ним никто не следит, направился к центру города. Отыскав областное отделение Министерства внутренних дел, он зашел к подполковнику Ибрагимову, который был уже уведомлен Москвой о миссии Ершова.
— Чем могу быть полезен вам, товарищ майор? — спросил он, крепко пожимая Ершову руку.
— Что вам известно о Жанбаеве, поселившемся у Джандербекова? — в свою очередь, задал вопрос Ершов, рассматривая тучную фигуру и добродушное лицо Ибрагимова.
Внешность подполковника никак не соответствовала отзывам о нём как об очень энергичном и волевом начальнике.
— Известно нам пока только то, что Жанбаев проживает по временной прописке и числится членом археологической экспедиции Казахской Академии наук, которая работает здесь более месяца. Мы интересовались списками этой экспедиции. В них имеется и фамилия Жанбаева. Хотели навести о нем более подробные справки, но получили указание из Москвы — пока оставить его в покое.
— Дайте мне, пожалуйста, бумагу и разрешите расшифровать тут у вас одну записку, — попросил Ершов, доставая письмо Жанбаева.
Усевшись за стол Ибрагимова, он довольно быстро раскодировал зашифрованную запись и получил следующий текст:
«Место явки меняется. Новый адрес: Перевальск, Октябрьская, пятьдесят три. Спросите Аскара Джандербекова — это сын Габдуллы».
Ершов дал прочесть Ибрагимову полученный текст и поинтересовался, какое расстояние от Перевальска до Белого озера.
— Такое же почти, как из Аксакальска. Там даже есть какая-то база этой археологической экспедиции.
— Придется туда поехать, — решил Ершов. — А вы установите наблюдение за домом Джандербекова. Враг чертовски осторожен — не спугните его.
Простившись с Ибрагимовым, Ершов поспешил на станцию. В зале для отдыха транзитных пассажиров его с нетерпением ждал Малиновкин. Он сидел на своем чемодане и, делая вид, что сосредоточенно читает газету, внимательно наблюдал за всеми входившими в помещение. Заметив майора Ершова, он зевнул и не спеша стал складывать газету. Потом поднялся и с равнодушным видом медленно направился к выходу. Майор Ершов задержался немного в дверях и, когда Малиновкин поравнялся с ним, шепнул ему чуть слышно:
— Возьмите два билета до Перевальска на вечерний поезд. Буду ждать вас в вокзальном ресторане.
— Каныша Жанбаева, — улыбаясь и кланяясь старику, ответил Ершов. — Я к нему из Алма-Аты, из исторического музея… Мухтаров.
— Мухтаров? — переспросил старик, удивленно поднимая седые жидкие брови и морщась, будто в рот ему попало что-то очень кислое.
— Ну да, Мухтаров! — торопливо повторил Ершов, с тревогой думая, туда ли он попал. — Таир Александрович Мухтаров.
— Ах, Таир Александрович! — радостно заулыбался вдруг старик и широко распахнул калитку. — Заходи, пожалуйста! Извини, что ждать заставил. Вот тут иди, пожалуйста, а то собака штаны порвет… Замолчи, проклятый! — замахнулся он на рвущегося с цепи пса. — Уж какой злой, шайтан!.. Вот сюда, дорогой Таир Александрович. Голову только нагни, пожалуйста, — зацепиться можешь.
Старик ввел Ершова в довольно просторную комнату, обставленную хорошей мебелью. Это удивило майора, так как сам старик был одет довольно бедно.
— Садись, пожалуйста, — придвинул он стул Ершову и протянул ему сморщенную желтую руку: — Я хозяин квартиры буду — Джандербеков Габдулла.
— А Каныш где же? — настороженно спросил Ершов.
Габдулла показался майору очень хитрым, и он опасался, что старик не доверяет ему.
— Извини, пожалуйста, нет Каныша, — развел руками Габдулла, и маленькие глазки его совсем растворились в притворной улыбке. — Уехал. Вот письмо просил тебе передать. Научную работу Каныш ведет, материал разный собирает. Много ездить приходится.
Сказав это, старик стал рыться в верхнем ящике комода, не сводя настороженных глаз с майора. Достав наконец запечатанный конверт, он протянул его Ершову всё с той же притворной улыбкой.
Ершов вскрыл конверт и прочел адресованное Мухтарову письмо:
«Дорогой Таир Александрович! Простите, что не дождался вас. Пришлось срочно выехать к месту археологических раскопок. Обнаружены новые интересные сведения об истории этих древних мест. Вам, конечно, известно, что город Аксакальск был расположен на караванном пути из Средней Азии в Западную Сибирь. Археологические раскопки в окрестностях его дают нам, историкам, много интересного. Особенно то, что относится к концу XVIII века. Если хотите повидать меня до того, как я вернусь в Аксакальск, а это будет не раньше 26–28-го, то приезжайте к Белому озеру. Оно недалеко, всего в тридцати — тридцати пяти километрах от Аксакальска. Разыщите там баз археологов и спросите меня. До скорой встречи, дорогой Таир Александрович!
Ваш Каныш Жанбаев»
Ершов перечитал письмо и обратил внимание, что написано оно на страничке, видимо вырванной из учебника арифметики. Одна сторона её была чистая, а на другой напечатано несколько столбцов с арифметическими примерами. Сообразив, что всё это не случайно, Ершов внимательно присмотрелся к цифрам. Вскоре он заметил, что над некоторыми из цифр бумага чуть-чуть надорвана кончиком пера. На свет эти прорванные места были хорошо заметны. Стало ясно, что этими едва заметными прорывами бумаги были помечены цифры шифра.
Для того, однако, чтобы прочесть шифр, нужно было иметь перед собой текст «Пляски мертвецов» Гёте. Он был в записной книжке Ершова, но пользоваться им при Габдулле майор не мог. Пришлось спрятать письмо в карман.
— Извините за беспокойство, — учтиво обратился Ершов к старику. — Жанбаев предлагает мне приехать к нему на Белое озеро. Пожалуй, так я и сделаю.
С этими словами он попрощался с Джандербековым и направился к выходу. Габдулла проводил его до калитки и попросил передать Жанбаеву привет.
Выйдя из дома Джандербекова, Ершов некоторое время шел к станции, но затем, убедившись, что за ним никто не следит, направился к центру города. Отыскав областное отделение Министерства внутренних дел, он зашел к подполковнику Ибрагимову, который был уже уведомлен Москвой о миссии Ершова.
— Чем могу быть полезен вам, товарищ майор? — спросил он, крепко пожимая Ершову руку.
— Что вам известно о Жанбаеве, поселившемся у Джандербекова? — в свою очередь, задал вопрос Ершов, рассматривая тучную фигуру и добродушное лицо Ибрагимова.
Внешность подполковника никак не соответствовала отзывам о нём как об очень энергичном и волевом начальнике.
— Известно нам пока только то, что Жанбаев проживает по временной прописке и числится членом археологической экспедиции Казахской Академии наук, которая работает здесь более месяца. Мы интересовались списками этой экспедиции. В них имеется и фамилия Жанбаева. Хотели навести о нем более подробные справки, но получили указание из Москвы — пока оставить его в покое.
— Дайте мне, пожалуйста, бумагу и разрешите расшифровать тут у вас одну записку, — попросил Ершов, доставая письмо Жанбаева.
Усевшись за стол Ибрагимова, он довольно быстро раскодировал зашифрованную запись и получил следующий текст:
«Место явки меняется. Новый адрес: Перевальск, Октябрьская, пятьдесят три. Спросите Аскара Джандербекова — это сын Габдуллы».
Ершов дал прочесть Ибрагимову полученный текст и поинтересовался, какое расстояние от Перевальска до Белого озера.
— Такое же почти, как из Аксакальска. Там даже есть какая-то база этой археологической экспедиции.
— Придется туда поехать, — решил Ершов. — А вы установите наблюдение за домом Джандербекова. Враг чертовски осторожен — не спугните его.
Простившись с Ибрагимовым, Ершов поспешил на станцию. В зале для отдыха транзитных пассажиров его с нетерпением ждал Малиновкин. Он сидел на своем чемодане и, делая вид, что сосредоточенно читает газету, внимательно наблюдал за всеми входившими в помещение. Заметив майора Ершова, он зевнул и не спеша стал складывать газету. Потом поднялся и с равнодушным видом медленно направился к выходу. Майор Ершов задержался немного в дверях и, когда Малиновкин поравнялся с ним, шепнул ему чуть слышно:
— Возьмите два билета до Перевальска на вечерний поезд. Буду ждать вас в вокзальном ресторане.
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ЖАНБАЕВА
На станцию Перевальскую Ершов с Малиновкиным прибыли ранним утром. И станция и примыкающий к ней небольшой районный центр — Перевальск — показались им какими-то уж очень запыленными, невзрачными. Зелени тут было немного; к тому же она была покрыта толстым слоем пыли. — Прямо можно сказать — не Сочи!.. — со вздохом произнес Малиновкин, оглядываясь по сторонам. — Мне на вокзале вас ждать? — Нет, — ответил Ершов, отыскивая глазами табличку с надписью: «Камера хранения». — Вокзал тут маленький, народу немного — все на виду. Сходите в управление строительства, наведите справку о работе по вашей специальности телеграфиста. А потом возвращайтесь сюда. Полагаю, что часа через полтора-два нам удастся встретиться возле камеры хранения. — Слушаюсь. Так как Перевальск был невелик, Ершов решил не расспрашивать никого, а самому найти нужный ему адрес. Для этого пришлось пересечь весь город и изрядно поплутать. Наконец Октябрьская улица была найдена. В отличие от других, на ней росли низкорослые тополя и хилые березы. Во дворах многих домиков виднелись огороды и заросли эбелека — полукустарника с жесткими заостренными листьями. Дом номер пятьдесят три оказался почти последним. Чем-то он напоминал домик Габдуллы Джандербекова в Аксакальске. Только калитка не была закрыта на запор, а во дворе не оказалось собаки. Дверь дома тоже была открытой. Ершов уже перешагнул через порог, когда навстречу ему показался средних лет коренастый мужчина с раскосыми глазами. — Вы, наверно, Аскар Джандербеков будете? — спросил его Ершов, заметив некоторое внешнее сходство хозяина с Габдуллой Джандербековым. — Он самый, — густым басом отозвался мужчина, пристально всматриваясь в Ершова прищуренными глазами. — А вы ко мне лично? — Я к товарищу Жанбаеву, — ответил майор, пытаясь представить себе, в каких отношениях с Призраком может быть этот человек. — Командирован к нему из Алма-Аты. Мухтаров моя фамилия. — А, товарищ Мухтаров! — сразу оживился Аскар Джандербеков и приветливо протянул Ершову руку. — Ждет вас Каныш Нуртасович. Заходите, пожалуйста. Его, правда, нет сейчас, но он просил меня принять вас, как родного. Ершов вошел в просторную комнату, оклеенную газетами «Гудок» и какими-то техническими журналами, видимо тоже железнодорожными. Судя по этим газетам и по тому, что на хозяине дома был железнодорожный китель, майор решил, что либо сам Аскар железнодорожник, либо кто-то из его семьи работает на транспорте. — Вот оклеиваться собрался, — смущенно кивнул Аскар на стены, — да всё времени нет. Загрунтовал, можно сказать, а до обоев руки никак не доходят. Работы сейчас очень много. Я на железной дороге работаю начальником кондукторского резерва. По-русски Аскар говорил довольно чисто, с почти неуловимым акцентом. Настороженность, прозвучавшая в первом его вопросе, сменилась радушием. Пропустив гостя вперёд, он любезно пригласил его во вторую комнату, тоже оклеенную газетами. В ней у одной из стен стоял диван, а у окна — небольшой письменный стол с разложенными на нем книгами по истории и археологии. — Располагайтесь тут, — приветливо сказал Аскар, подавая стул Ершову. — Эта комната товарища Жанбаева. Он просил поместить вас с ним вместе. Я тут вам второй диван поставлю. Да! — вдруг спохватившись, воскликнул хозяин, и ударил себя рукой по лбу. — Велел ещё извиниться Каныш Нуртасович — дня два-три он будет в отлучке. Какие-то новые исторические материалы обнаружились. Будто теперь только заметив, что в руках Ершова ничего нет, Аскар спросил: — А вещи вы на вокзале, верно, оставили? — Не хотелось, знаете ли, тащиться с ними по незнакомому городу, — ответил Ершов, перебирая книги на столе Жанбаева. — Да и не был уверен, что дома кого-нибудь застану. — Ну, теперь вам дорога знакомая, перебирайтесь окончательно и, как говорится, располагайтесь как дома. Я вам ключ оставлю, а мне на работу пора. — Да вы хоть бы документы проверили, — смущенно улыбнулся Ершов. — Неизвестно ведь, кого в дом-то пустили. Может быть, жулика какого-нибудь. — Ну, что вы! — махнул рукой Аскар. — Я порядочного человека всегда от жулика отличу. Да и красть у меня нечего. Ершов хотел было пойти на вокзал вместе с Аскаром, но тот поспешно возразил: — А чего вам спешить! Успеете. Отдохните, помойтесь, умывальник во дворе. Ключ на столе будет. Если перекусить что-нибудь захотите, так тоже, пожалуйста — на кухне кое-что найдется. Выходя из комнаты Жанбаева, Аскар прикрыл за собой дверь, выходившую в полутемную прихожую. А минут через пять, видимо, уже окончательно собравшись уходить из дому, постучался к Ершову и, слегка приоткрыв дверь, просунул в нее голову: — Чуть было не забыл ещё об одном предупредить вас: нагаши тут со мной живет — родственник, значит, со стороны матери. Темирбеком его зовут. Тоже на железной дороге работает кондуктором. У меня под начальством. Человек он тихий, мешать вам не будет. Да его и дома почти не бывает — всё в поездках. А когда и дома, так отсыпается после поездок. Комната его по соседству с вашей, но с отдельным ходом. Сегодня он в поездке с утра. Завтра только вернется. Ну, я пошел. Счастливо оставаться. «Да, — невольно подумал Ершов, — этого родственничка только ещё не хватало! Странно, что Жанбаев решил остановиться в такой квартире. Хотя, может быть, все эти люди работают на него. Нужно будет присмотреться к ним хорошенько…» Оставшись один, Ершов тщательно осмотрел весь дом, и на стене комнаты, в которой поместил его Аскар, невольно обратил внимание на таблицу, перечеркнутую карандашом. Это был какой-то график движения поездов, который не представлял бы собой ничего особенного, если бы некоторые цифры его не оказались подчеркнутыми. Ершову сразу же стало ясно, что это был шифр. Ещё раз тщательно осмотрев весь дом и не заметив ничего подозрительного, майор закрыл входную дверь на крючок и, достав из кармана записную книжку, стал раскодировать шифровку. Получилось следующее: «Меня не будет дома дня два-три. Устраивайтесь тут и живите. Хозяин — человек надежный. Двоюродный брат его Темирбек тоже нам пригодится. Никаких секретов, однако, им не доверяйте. Задание вам следующее: в сарае стоит мотоцикл — нужно вмонтировать в его корпус мою рацию. Рация в погребе. Достаньте её оттуда, как только Аскар уедет на работу. В погребе прощупайте левую стенку. У самого пола отдерите доску. Рация за обшивкой». Ершов спрятал записную книжку в карман и вышел в сарай. Там, прикрытый какой-то мешковиной, действительно стоял мотоцикл с коляской. Майор тщательно осмотрел его. По внешнему виду он ничем не отличался от мотоциклов подобного типа. Но, ощупав коляску, Ершов обратил внимание, что под кожухом её оказалось значительно больше места, чем обычно. Полые места обнаружились и в других частях мотоцикла, однако Ершов всё ещё не представлял себе, как тут можно будет разместить рацию Жанбаева, если даже она и очень портативная. Прежде чем спуститься в погреб, Ершов сходил к калитке, выходившей на улицу, и тщательно закрыл её на щеколду. Затем разыскал ключи на кухне и одним из них открыл замок на двери погреба. Погреб оказался очень глубоким. В нем было прохладно, остро пахло овечьим сыром и овощами. Свет через дверное отверстие проникал слабо. Ершову пришлось подождать немного, прежде чем глаза привыкли к полумраку. Стены погреба имели деревянную обшивку, доски которой были довольно плотно пригнаны одна к другой. Ершов ощупал ладонью низ левой стены, но не сразу обнаружил нужную ему доску, Наконец он догадался продеть в еле заметные щели обшивки лезвие перочинного ножа. Одна из досок отделилась от стены, образовав глубокое отверстие. Майор просунул в него руку и нащупал металлический ящик. Вынув его, он убедился, что это рация. Марка рации была «Эн-Би». Тщательно осмотрев её, Ершов разобрался в ней настолько, что смог бы пользоваться ею для приема или передачи. Однако запрятать рацию под кожух мотоцикла так, чтобы это было незаметно при беглом осмотре машины, оказалось делом нелегким. Тут требовалась помощь или хотя бы совет Малиновкина.
Сняв размер рации в собранном и разобранном виде, Ершов так же тщательно записал и размеры мотоцикла. С этимиданными он вышел из дома, закрыв двери его на замок.
С Малиновкиным они встретились возле камеры хранения. Кроме них, никого поблизости не было. Убедившись, что Малиновкин заметил его, Ершов пошел в помещение камеры за чемоданом. Лейтенант, подождав немного, направился за ним следом. У окна выдачи они обменялись быстрыми взглядами, и, когда кладовщик ушел за вещами Ершова, майор передал Малиновкину записку, в которой коротко сообщил о положении дела и просил подумать о возможности размещения рации в кожухе мотоцикла. Поручил он также лейтенанту устроиться на квартире где-нибудь неподалеку от Октябрьской улицы и поинтересоваться кондуктором Темирбеком. Очередное свидание майор назначил на завтра, в полдень, в городской столовой.
Марка рации была «Эн-Би». Тщательно осмотрев её, Ершов разобрался в ней настолько, что смог бы пользоваться ею для приема или передачи. Однако запрятать рацию под кожух мотоцикла так, чтобы это было незаметно при беглом осмотре машины, оказалось делом нелегким. Тут требовалась помощь или хотя бы совет Малиновкина.
Сняв размер рации в собранном и разобранном виде, Ершов так же тщательно записал и размеры мотоцикла. С этимиданными он вышел из дома, закрыв двери его на замок.
С Малиновкиным они встретились возле камеры хранения. Кроме них, никого поблизости не было. Убедившись, что Малиновкин заметил его, Ершов пошел в помещение камеры за чемоданом. Лейтенант, подождав немного, направился за ним следом. У окна выдачи они обменялись быстрыми взглядами, и, когда кладовщик ушел за вещами Ершова, майор передал Малиновкину записку, в которой коротко сообщил о положении дела и просил подумать о возможности размещения рации в кожухе мотоцикла. Поручил он также лейтенанту устроиться на квартире где-нибудь неподалеку от Октябрьской улицы и поинтересоваться кондуктором Темирбеком. Очередное свидание майор назначил на завтра, в полдень, в городской столовой.
НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
На следующий день, как было условлено, Ершов направился в городскую столовую, которую приметил ещё вчера днем. Войдя в неё, он тотчас же увидел Малиновкина, устроившегося за угловым столиком. Позиция эта была очень выгодной: позволяла наблюдать за всей столовой. В столовой было многолюдно, и почти все столики оказались заняты. Ершов прошелся раза два по залу, будто приглядываясь, где получше устроиться. Официант невольно помог ему в этом. — Вон свободное место, гражданин, — кивнул он в сторону Малиновкина. — Как раз мой столик, так что мигом обслужу. — Вот спасибо! — поблагодарил Ершов официанта и направился к Малиновкину. — Свободно? — спросил он лейтенанта, берясь за спинку стула. — Да, пожалуйста, прошу вас, — радушно отозвался Малиновкин. — Вдвоем веселее будет. Вот меню, пожалуйста. Выбор небогатый, так что раздумывать не над чем. Но должен заметить, кормят здесь сытно — вчера тут обедал и ужинал. Так, болтая о пустяках, они постепенно перешли к главному. — Устроились? — спросил Ершов, зорко поглядывая по сторонам. — Устроился, — ответил Малиновкин. — Но не на соседней улице, а на вашей и даже, более того, буквально против вашего дома. Заметив, что майор слегка нахмурился, лейтенант сделал успокаивающий жест рукой: — Вы не ругайтесь! Всё хорошо будет. Хозяйка моя — одинокая женщина, тихая, глуховатая. Ей до меня никакого дела нет. Из той комнаты, в которой она меня поселила, видел я вас вчера вечером через окно. Это очень удачно, по-моему. Всегда можно подать сигнал друг другу, а то и перемолвиться с помощью условных знаков. В доме моем только одно-единственное окно выходит в вашу сторону. А то, что я поселился здесь, подозрений не вызовет. В связи со строительством железной дороги и разных подсобных предприятий в Перевальск столько народу понаехало, что дома нет, где бы квартирантов не держали. Ершов немного подумал, взвешивая сказанное лейтенантом, и решил: в самом деле, может быть, не так уж плохо, что Малиновкин поселился неподалеку от него. — Ну, а как насчет Темирбека? — спросил он лейтенанта, наблюдая за каким-то подозрительным парнем, дважды прошедшим мимо их стола. — Осторожно навел о нём справку у сторожа кондукторского резерва, — ответил Малиновкин, не глядя на майора и делая вид, что рассматривает картину на стене. — Говорит, что Темирбек тут уже почти три месяца. Сначала где-то на станции работал, а теперь кондуктором ездит. Подтвердил также, что он Аскару Джандербекову двоюродным братом доводится. Сейчас этот Темирбек действительно находится в поездке… А теперь относительно рации Жанбаева. С нею, по-моему, тоже всё хорошо обойдется. Систему её я знаю: «Эн-Би» — это «Night bird», то-есть «Ночная птица». Разбирается она не на две части, как вы считаете, а на четыре. Я передам вам сейчас схемку. По ней вы сможете аккуратнейшим образом разместить всё внутри мотоцикла. Пользоваться рацией при этом можно будет, не вытаскивая её из мотоцикла. Я положу схему в папку с меню. Вы возьмите-ка его да поинтересуйтесь ещё раз ценами обедов или кондитерских изделий. «Отличный у меня помощник!» — тепло подумал Ершов. — А как обстоит дело с вашей рацией, Митя? — спросил он лейтенанта, пряча в карман переданную Малиновкиным схему. — Всё в порядке, Андрей Николаевич, в полной боевой готовности. — А не опасно будет вам работать? Никто не обратит внимания? — Можете не беспокоиться — всё продумано и предусмотрено. Ершов имел уже возможность убедиться в ловкости Малиновкина и не стал его ни о чем больше спрашивать. — Ну, тогда свяжитесь сегодня с нашими, — приказал он, представив себе, с каким нетерпением ждет донесения генерал Саблин. — Передайте коротко, как обстоит дело, и сообщите ещё вот о чём: находку я сегодня сделал в погребе — за его обшивкой нашел сейсмограф. Знаете, что это такое? — Прибор для записи землетрясений? — Да, для регистрации сотрясений земной коры, — подтвердил Ершов. — Зачем же он ему понадобился? — недоуменно спросил Малиновкин. В это время показался из кухни официант с подносом, на котором стояли тарелки с аппетитно пахнущим супом. Разговор пришлось перевести на другую тему. Но как только официант удалился, Ершов сказал задумчиво: — Не только землетрясения этот прибор отмечает. Им можно и взрыв зарегистрировать. По тону Ершова было видно, что вопрос о сейсмографе его очень беспокоит. — Взрыв? — удивился Малиновкин и невольно вздрогнул, поперхнувшись супом. Откашлявшись, он вытер слезы, выступившие на глазах, и снова спросил: — Какой взрыв? — Не могу пока сказать, какой, — ответил Ершов, протягивая руку за новым куском хлеба. — Могу только добавить, что место взрыва легко установить, если иметь не один, а несколько сейсмографов, расположенных в разных точках. — Непонятно что-то, — покачал головой Малиновкин. — Да зачем ему все это? Если бы он собирался что-нибудь взорвать — другое дело. Но для чего же ему устанавливать место взрыва? — Поживем — увидим. — Майор отодвинул пустую тарелку из-под супа в сторону. — А Саблину вы сообщите всё-таки об этой находке. Когда обед был окончен, Ершов, прежде чем отпустить Малиновкина, ещё раз предупредил его: — Противник у нас чертовски осторожный. Не исключено, что он следит за нами или, может быть, только за мною пока, так что конспирация должна быть постоянной. Ну, а теперь — желаю удачного радиосеанса. Не забудьте подумать и о системе нашей личной связи: раз окна квартир расположены так удачно — этим необходимо воспользоваться. Выходите из столовой первым. Я посижу тут ещё немного. Майор Ершов вышел на улицу минут через пятнадцать после Малиновкина. Побродил некоторое время по городу, зашел в городскую библиотеку, а затем на почту. Был уже вечер, когда он вернулся на квартиру Джандербекова. Дверь ему открыл Аскар. — А у меня чай скоро будет готов, — весело сказал он. — Заходите, поужинаем. Ершов поблагодарил его и прошел в комнату Жанбаева. Усевшись за стол и раздумывая, как ему быть — идти к Аскару или нет, майор вскоре услышал, как за дверью кто-то обменялся приветствиями с хозяином дома: — Ассалам-алейкум! — Огалайкум ассалям! А потом, когда пришлось всё-таки пойти в гости к Аскару, у дверей комнаты Темирбека Ершов услышал монотонный голос: — Агузо беллахи менаш-шайтан ерражим… — Это братец молитву читает, — усмехнулся Аскар, провожавший Ершова к себе в комнату. — Старорежимный он человек. Знаете, что такое «Агузо беллахи…» и так далее? «Умоляю бога, чтобы он сохранил Меня от искушения шайтана». Вот что это значит. Смешно, правда? — Почему же смешно? — серьезно спросил Ершов. — Если человек верующий — ничего в этом смешного нет. — Да я не в смысле молитвы, — рассмеялся Аскар, и узкие его глазки почти совершенно закрылись при этом. — До каких пор верить в бога можно? — Ну, это уж в какой-то мере на вашей совести, — улыбнулся и Ершов. — Вы человек культурный — перевоспитайте его. — Кого другого, а его не перевоспитаешь, — убежденно сказал Аскар, открывая перед Ершовым дверь в свою комнату. — Хотел его с вами познакомить — тоже к себе приглашал. Так не пошел ни за что. Вечер сегодня какой-то такой, что религиозному человеку есть ничего нельзя. А сидеть за столом и не кушать ничего — соблазн очень большой. Специальную молитву читает по этому поводу.У ГЕНЕРАЛА САБЛИНА
Весь день не давало покоя Саблину последнее донесение Ершова. Зачем понадобился Жанбаеву сейсмограф? Что собирается он разведывать с его помощью? Чем больше думал Саблин об этом сейсмографе, тем становилось яснее, что это не случайная находка. «А что, если Жанбаева интересуют наши работы в области атомной энергии?» — невольно возникла тревожная мысль. И в прошлом году и весной этого года было ведь задержано несколько шпионов, признавшихся, что их интересовали работы в области атомной энергии. Почему же не мог интересоваться этим и Жанбаев? Работа в археологической экспедиции позволяла ему свободно разъезжать по всей Аксакальской области и устанавливать свои сейсмографы в любом месте. Испытание атомной бомбы непременно сопряжено с сильным взрывом, подобным маленькому землетрясению. Чувствительные сейсмографы могут зарегистрировать и даже определить эпицентр такого землетрясения на весьма значительном от него расстоянии. Может быть, Жанбаев и разведывал районы испытания наших атомных бомб? Какие же районы, однако? Жанбаев обосновался в районе Перевальска, где, как Саблину было известно, никаких испытаний атомных бомб не велось. Почему же тогда опытный международный шпион выбрал именно это место? Саблин хорошо знал о том большом интересе, который международная разведка проявляла к тайнам производства атомных бомб. Официально считалось, что владеют ими лишь Советский Союз и Соединенные Штаты, но ведь давно уже действовали атомные реакторы в Англии и во Франции. Построили атомные котлы даже такие малые страны, как Швеция и Норвегия. Вела работы по атомной энергии Индия, обладающая самыми крупными из всех известных залежей тория. Саблину было известно, что «атомным шпионажем» занимались сейчас многие секретные службы целого ряда иностранных государств. Интересовала их при этом не столько технология производства атомных бомб, сколько степень готовности потенциальных противников к ведению войны с применением атомного оружия. Может быть, Жанбаева интересовало использование атомной энергии в мирных целях? СССР никогда не скрывал этих мирных целей использования атомной энергии. Саблин вспомнил заявление Вышинского на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН: «…Мы поставили атомную энергию на выполнение великих задач мирного строительства, мы хотим поставить атомную энергию на то, чтобы взрывать горы, менять течение рек, орошать пустыни, прокладывать новые и новые линии жизни там, где редко ступала человеческая нога…» «Жанбаев находится как раз в районе прокладки одной из таких новых «линии жизни», — невольно подумал Саблин. — Но зачем всё-таки ему могли понадобиться сведения о применении атомной энергии в Советском Союзе? Может быть, он намеревался выведать технику использования этой энергии? Или хотел собрать сведения об этих работах для провокационных целей, для разжигания атомной истерии?» Генерал хорошо помнил провокационную шумиху с «летающими блюдцами», поднятую в свое время иностранной печатью по поводу мифических советских реактивных самолетов в форме дисков, появившихся будто бы над Америкой с целью воздушной разведки. Саблин задумчиво прошелся по своему кабинету и отстегнул крючки воротника — жара в Москве в те дни стояла нестерпимая. «А каково сейчас там, в Средней Азии, нашему Ершову?» — подумал невольно Саблин, останавливаясь у открытого окна, из которого несло жаром раскаленного солнцем асфальта. Генерал стоял некоторое время, всматриваясь в поток автомобилей, катившихся по широкой площади. Возникло на мгновение томительное желание — вызвать машину, сесть в неё и уехать куда-нибудь за город, поближе к природе, полежать на траве у реки, побродить по лесу… И опять мысли вернулись к донесению Ершова, к заботе о делах, требующих срочного решения. Генерал снова прошелся несколько раз по кабинету и уселся за письменный стол. На столе, в зеленой папке, лежали вырезки из заграничных газет, подобранные для Саблина полковником Осиповым. На некоторых из них были пометки полковника. Он предлагал, например, обратить внимание на статьи, посвященные высказыванию ряда государственных деятелей и даже крупных ученых о проблемах использования атомной энергии в мирных целях. Генерал уже познакомился бегло с этими вырезками и теперь принялся просматривать их ещё раз. Почти все статьи, подобранные полковником Осиповым, предостерегали легковерных граждан своих государств от чрезмерных надежд на скорое наступление золотого атомного века. Атомная энергия, по их мнению, была пока очень ещё неподвластна воле человека. По уверениям этих «пророков», существовал пока лишь один хотя и варварский, но зато надежный способ использования её в виде начинки для атомной бомбы. Всё остальное безапелляционно объявлялось либо небезопасным, либо слишком громоздким в техническом отношении, а главное, экономически мало эффектным. Тут же приводились цифры стоимости электрической энергии, которую можно было бы получить с помощью атомных реакторов и стоимость этой энергии на обычных электростанциях. Сравнение оказывалось, конечно, не в пользу атомных электростанций. Генерал Саблин снял телефонную трубку и вызвал к себе Осипова. Полковник явился тотчас же. — Какая связь всего этого, — спросил его Саблин, кивнув на папку с вырезками из газет, — с донесением Ершова? Не для расширения же кругозора предложил ты мне познакомиться со всем этим материалом? — А связь, может быть, и существует, — осторожно ответил Осипов, аккуратно завязывая тесемочки на папке. Генерал удивленно развел руками и усмехнулся: — Может быть, но может и не быть. Это, знаешь ли, не ответ. — А ты обратил внимание, что далеко не все авторы отмеченных мною статей настроены пессимистично по вопросу мирного использования атомной энергии? — Осипов вынул из папки несколько газетных вырезок и протянул их Саблину. — Вот тут, Илья Ильич, даже представитель так называемого делового мира высказывается. По его мнению, Советы, как он нас именует, видимо, далеко шагнули в этой области. По будто бы имеющимся у него данным, мы с помощью атомной энергии создали не то в Сибири, не то в Средней Азии целое искусственное море. Тут, видимо, сбили его проекты нашего инженера Давыдова о повороте сибирских рек с севера на юг, а быть может, и научно-фантастические романы наших писателей, — добавил Осипов усмехаясь. — Ну и что же из всего этого следует? — спросил генерал Саблин, слегка хмурясь, так как доводы полковника Осипова казались ему пока мало вразумительными. — А то, Илья Ильич, — ответил Осипов, — что вопрос использования атомной энергии для мирных целей не может в настоящее время не волновать буржуазные деловые круги. И они, видимо, очень побаиваются, как бы мы не обогнали их в этом деле. Будут ли они сами предпринимать что-нибудь серьезное в этом направлении или не будут, но то, что делали мы в этой области, не может, конечно, их не интересовать. Если принять теперь всё это во внимание, можно, пожалуй, найти объяснение и таинственной миссии Призрака в нашей Средней Азии. Генерал Саблин задумался. Может быть, всё это и так… Он быстро пробежал глазами еще несколько заметок, помеченных карандашом Осипова, и произнес вслух, поднимаясь из-за стола: — Ладно, допустим, что ты прав. Допустим даже, что всё это представляется им чрезвычайно легким делом. Непонятно, почему же тогда Призрак этот околачивается в районе, в котором, как мне известно, не только не испытывают атомных бомб, но и не применяют атомную энергию для мирных целей? Помолчав немного, он добавил: — Нужно, однако, навести более точные справки. Кто сейчас в районе Аксакальска ведет наиболее крупное строительство? — Министерство путей сообщения. — Вот мы и обратимся в это министерство.НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ
Ещё вчера в столовой Ершов условился с Малиновкиным, что в случаях, не требующих срочности, они будут связываться друг с другом письмами до востребования. Вспомнив теперь об этом, лейтенант с утра направился на почту и спустя несколько минут получил письмо со знакомым почерком на конверте. Ершов написал это письмо ещё вчера вечером, уже после того, как расстался с Малиновкиным в городской столовой. Ему неожиданно пришла мысль проверить в перевальской археологической базе, известно ли там что-нибудь о Жанбаеве. Об этом-то Ершов и просил теперь Малиновкина. Тут же на почте, под благовидным предлогом, лейтенант осведомился, где находится база археологов, и тотчас же направился туда. База помещалась на окраине города в маленьком домике, окруженном высоким забором. Кроме этого домика, за забором оказались два больших сарая, в которых, как потом узнал Малиновкин, хранились инструмент и кое-какое имущество археологов. Базой всё это хозяйство называлось очень условно, по существу оно являлось чем-то вроде склада. Заведующий базой, сутуловатый щупленький старичок в пенсне, объяснил Малиновкину: — У нас, молодой человек, археологи главным образом землеройный инструмент тут получают. Они ведь, как кроты, в земле роются. Иногда, правда, и продовольствие к нам для них завозят. Кстати, этому самому Жанбаеву, о котором вы спрашиваете, есть особое распоряжение — выдавать продукты сухим пайком. Он у них в отдельности где-то ковыряется. Так оказать, крот-одиночка. — А вы, дедушка, видели его когда-нибудь? — Нет, не видел, — равнодушно ответил старичок, поправляя свое старомодное пенсне с черным шелковым шнурком. — И не очень расстраиваюсь от этого. Я, молодой человек, немало знаменитых людей повидал на своём веку и даже личное знакомство имел с двумя академиками: с Александром Евгеньевичем Ферсманом и Владимиром Афанасьевичем Обручевым. Я в знакомствах, знаете ли, разборчив. Этот ваш Жанбаев был тут как-то без меня, получил продукты да мотоцикл свой бензином заправил. А вы-то кем будете? Тоже, небось, какой-нибудь геолог-археолог? Или историк? — Я, дедушка, простой рабочий-землекоп, — скромно ответил Малиновкин. — Хотел к кому-нибудь из археологов наняться. Мне порекомендовали обратиться к Жанбаеву. — А-а, — разочарованно произнес старичок и сразу же перешел на «ты». — Ничем тебе не могу помочь в этом, друг любезный. Одно только могу сказать: стыдно, молодой человек, в твоем-то возрасте никакой иной квалификации не иметь. Старичок снова поправил пенсне, внимательно посмотрел на Малиновкина и, укоризненно покачав головой, повернулся к нему спиной. — Заболтался я тут с тобой, однако… — проворчал он, направляясь к домику, в котором у него было нечто вроде конторы. В тот же день Малиновкин встретился с Ершовым в городской читальне и незаметно сунул ему записку с отчетом о своем посещении археологической базы. Следующий день прошел у лейтенанта скучно, без встречи с Ершовым и даже без писем от него. От нечего делать Малиновкин бесцельно бродил по городу и два раза заходил на железнодорожную станцию: первый раз просто так, чтобы убить время, а второй раз, чтобы по собственной инициативе понаблюдать за родственником Аскара Джандербекова — Темирбеком. Наблюдения, однако, почти ничего ему не дали. Он пришел на станцию как раз перед отправлением хозяйственного поезда на стройучасток.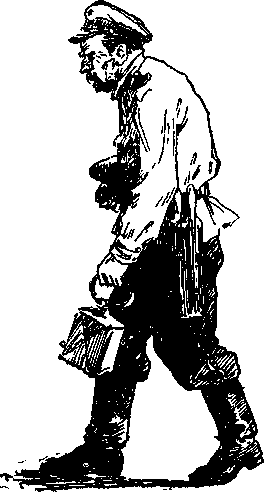 — Послушайте-ка, — обратился Малиновкин к какому-то железнодорожнику, — не видели ли вы кондуктора Темирбека?
— Да вон он, — кивнул железнодорожник на сутуловатого человека с флажками в кожаных футлярах, висевшими у него на поясе.
Пока Малиновкин раздумывал, подойти ли ему поближе к Темирбеку, кондуктор уже взобрался на тормозную площадку хвостового вагона и стал укреплять сигнальный фонарь на крючке кронштейна. А минут через пять поезд медленно тронулся в сторону нового строительного участка железной дороги.
Хотя Малиновкин видел Темирбека издалека, внешний вид его лейтенанту не понравился. Было что-то в фигуре кондуктора угрюмое, неприветливое.
«Похож на какого-то восточного фанатика…» — невольно подумал Малиновкин.
— Послушайте-ка, — обратился Малиновкин к какому-то железнодорожнику, — не видели ли вы кондуктора Темирбека?
— Да вон он, — кивнул железнодорожник на сутуловатого человека с флажками в кожаных футлярах, висевшими у него на поясе.
Пока Малиновкин раздумывал, подойти ли ему поближе к Темирбеку, кондуктор уже взобрался на тормозную площадку хвостового вагона и стал укреплять сигнальный фонарь на крючке кронштейна. А минут через пять поезд медленно тронулся в сторону нового строительного участка железной дороги.
Хотя Малиновкин видел Темирбека издалека, внешний вид его лейтенанту не понравился. Было что-то в фигуре кондуктора угрюмое, неприветливое.
«Похож на какого-то восточного фанатика…» — невольно подумал Малиновкин.
БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ
Прошел ещё один день, а вестей от Ершова всё не было. Это начало серьезно беспокоить лейтенанта. Он решил просидеть сегодня весь вечер дома и понаблюдать за окном комнаты майора — может быть, Ершов подаст какой-нибудь сигнал. Вчера лейтенант написал ему письмо до востребования и предложил в случае необходимости бросить ночью записку в его окно. Для этого нужно только, чтобы майор, перед тем как выходить из дома, трижды развел руки в стороны, будто потягиваясь. Давно уже стемнело, но лейтенант, не зажигая света, терпеливо сидел за столом и внимательно смотрел в окно. На улице было несколько светлее, чем в комнате, и просвет окна казался серым прямоугольником на почти черном фоне комнатной стены. Изредка мелькали в этом прямоугольнике темные фигуры прохожих, но Малиновкин не обращал на них внимания. Глаза его не отрываясь следили за домом напротив, через улицу. Вернее, даже не за домом, а всего лишь за одним окном его, ярко светившимся во мгле. В освещенном пространстве лейтенант видел часть комнаты, оклеенной газетами, стол почти у самого окна и склонившегося над какой-то книгой майора Ершова. Он читал, видимо, с большим вниманием, не отрывая глаз от книги и торопливо перелистывая страницы. Захлопнув наконец книгу, майор поднялся, потянулся, развел руки в стороны, прошелся по комнате и потушил свет. Малиновкин, внимательно следивший за тем, сколько раз разведет он руки в стороны, тотчас же, как только потух свет, поднялся из-за стола и, стараясь не шуметь, открыл окно. Майор, видимо, получил его письмо и собирался сообщить ему что-то. Сев на некотором расстоянии от окна, Малиновкин снова стал пристально всматриваться в соседний дом, теперь уже сосредоточив внимание не на окне, а на калитке. Вскоре она со скрипом открылась, и из неё вышел высокий человек в тюбетейке. Малиновкин тотчас же узнал майора Ершова. Майор, постояв немного возле калитки, медленно стал прохаживаться вдоль дома Джандербекова сначала по одной стороне улицы, затем по другой. Когда он прошел второй раз мимо открытого окна Малиновкина, лейтенант услышал, как какой-то очень легкий предмет упал на пол комнаты, почти возле самых его ног. Торопливо нагнувшись, Малиновкин пошарил по полу руками и нащупал свернутую в несколько раз бумажку. Спрятав её в карман, лейтенант вышел в другую комнату, окно которой выходило во двор, и зажег свет. Старая хозяйка квартиры уже спала. За дверью её комнаты слышалось равномерное похрапыванье. Задернув занавеску на окне, Малиновкин достал записку из кармана, поспешно её развернул и прочел: «Мой хозяин передал мне недавно письмо от Жанбаева. В тексте его были цифры, расшифровав которые я прочел распоряжение Жанбаева — сегодня в двенадцать ночи выехать на мотоцикле к Черной реке по дороге, ведущей на Адыры. Он приказывает также обратить в пути внимание на мигание красного фонаря, который будет подавать сигналы в следующем порядке: две короткие вспышки и одна длинная. Я должен буду ответить на это миганием прожектора мотоцикла в обратном порядке — двумя длинными вспышками и одной короткой. После этого мне предписывается заехать в ближайший кустарник и оставить там мотоцикл с вмонтированной в него рацией и новым кодом. Видимо, Жанбаев всё ещё не очень доверяет мне и не решается встретиться со мной. Я выеду ровно в двенадцать. Вы оставайтесь в своей квартире и внимательно следите за домом Аскара. Ничего до моего возвращения не предпринимайте. На всякий случай включите после двенадцати рацию — может быть, мне придется связаться с вами по радио на какой-нибудь из трех волн, длина которых вам известна». Малиновкин перечитал записку и задумался. Почему Жанбаев ведет себя так таинственно? Почему не показывается Ершову? Неужели действительно всё ещё не доверяет ему? Ясно, что Жанбаев чертовски осторожен. Недаром дана ему шпионская кличка: «Призрак»… Майору не следовало бы ехать на это свидание одному. Нужно было бы взять и его, Малиновкина, с собой или послать следом по этой же дороге на велосипеде. У хозяйки висит в коридоре чей-то велосипед — можно было бы им воспользоваться. Но приказ есть приказ. Малиновкин уничтожил записку, потушил свет и вернулся в свою комнату. На улице Ершова теперь не было видно. Очевидно, он зашел в дом Джандербекова. Взглянув на светящийся циферблат часов, Малиновкин снова устроился у окна. Была половина двенадцатого. Через полчаса Ершову следовало выехать из дому на мотоцикле. Малиновкин ещё очень мало работал в контрразведке. Он начитался и наслушался всяческих рассказов о контрразведчиках, и ему всё казалось преувеличенно сложным, полным романтики и таинственности. Мечтая об опасной оперативной работе, полгода провел он в одном из отделов Комитета государственной безопасности. Пока всё было для него более или менее ново, он не тяготился этой работой, но как только ему показалось, что он «всё постиг», юноша стал томиться по «настоящему делу». Он не понимал, что именно будничные дела и гарантировали успех героических эпизодов, ибо были подготовкой к решительной схватке с врагом, разведкой его позиций. Получив задание сопровождать майора Ершова в опасном предприятии, Малиновкин обрадовался необычайно. Однако теперь, когда представилась реальная возможность если не активных действий, то, уж во всяком случае, встречи с настоящим врагом с глазу на глаз, его опять отстраняли от этого опасного дела! Малиновкин тяжело вздохнул и, закрыв окно, облокотился на подоконник. Ершову пора было бы выходить на улицу — минутная стрелка уже перевалила через двенадцать. Вот уже пять… семь… десять минут первого. Что же Андрей Николаевич медлит, заснул он, что ли? Малиновкин начинал нервничать. Появилось желание подойти незаметно к окну комнаты Ершова и постучать или бросить в него горсть песку. Но нет, не мог опытный контрразведчик майор Ершов, прошедший школу у знаменитого Астахова, заснуть в столь напряженный момент! «А что, если Ершову кто-нибудь помешал выехать во-время? — пришла новая мысль. — Скорее всего, однако, Ершов ушел из дому огородами, чтобы не привлекать ничьего внимания…» Было уже четверть первого. Малиновкин достал из чемодана рацию, включил её на прием, надел наушники и осторожно стал настраиваться то на одну, то на другую волну коротковолнового диапазона. Тоненький писк морзянки, обрывки музыки, чей-то басистый, раскатистый смех, молящий голос женщины, сухой треск грозовых разрядов и снова морзянка попеременно слышались в его наушниках. Малиновкину нравилась эта «эфирная смесь», как он называл её. Она казалась ему горячим, напряженным дыханием планеты. Из иностранных языков он знал только английский и немецкий, но легко отличал по произношению французскую, итальянскую и испанскую речь. Славянские же языки он понимал довольно свободно, так как знал украинский и белорусский. Малиновкин обычно любил строить догадки по обрывкам фраз, «выловленным из эфира», когда не спеша настраивался на нужную ему волну. Любопытно было представить себе, о чём говорило и пело человечество в эфире. Многое можно было подслушать в наушниках в томительные часы дежурства у радиостанции. Но не только голоса людей и звуки музыки говорили радисту, чем живут и увлекаются люди. Комариное попискивание морзянок тоже могло поведать о многом: о бедствиях в море, о сводках выполненных заданий, о прогнозах погоды. Звуки радиотелеграфа были и главными носителями тайн. Ими передавались зашифрованные коммерческие сводки, служебные распоряжения и задания, донесения тайных агентов и секретные предписания их резидентов. Малиновкин давно уже привык к этой «эфирной сумятице» и довольно легко ориентировался в ней. Но сегодня он интересовался только морзянками в пределах одного из диапазонов коротких волн и чутко прислушивался к звукам в наушниках, ловя малейший шорох в эфире. Был уже второй час ночи, когда Малиновкин решил, что Ершов, видимо, не имеет возможности связаться с ним по радио или не нуждается в разговоре. На всякий случай он решил подежурить ещё немного, то и дело поглядывая в окно, на дом Аскара Джандербекова. Прошумела за окном машина, осветив на несколько мгновений стены комнаты Малиновкина, и снова всё погрузилось в темноту. Даже дом Джандербекова растворился в ней на некоторое время. Только звезды в черном небе сверкали всё так же ярко, медленно меняя своё расположение над крышами домов. Ершову уже пора было вернуться… Но, может быть, Жанбаев дал ему новое задание и послал куда-нибудь. А если с Ершовым что-нибудь случилось? Малиновкин уже не мог спокойно сидеть у рации. Он пододвинул ее поближе к окну и почти лёг на подоконник. Затем, когда беспокойство и нетерпение его достигли крайней степени, выключил рацию и осторожно вышел на улицу. Постояв немного против дома Аскара, он прошелся по своей стороне улицы до конца квартала и снова остановился в нерешительности. Что же делать дальше? Что предпринять? Требовалось срочно найти решение, но лейтенант впервые был в таком положении и не знал, что делать. Больше всего ему хотелось забрать хозяйский велосипед и пуститься по той дороге, по которой уехал несколько часов назад Ершов. Но верное ли это будет решение? Что, если он больше всего понадобится именно здесь? Нет, нужно твердо следовать приказанию майора и не уходить никуда. Сокрушенно вздохнув, лейтенант вернулся в свою комнату и снова уселся возле окна. Улица показалась ему светлее, чем раньше. Он посмотрел на часы — стрелки показывали три часа утра, — значит, уже начинался рассвет.ЖАНБАЕВ ВСЁ ЕЩЁ НЕ ДОВЕРЯЕТ
Бросив в окно Малиновкина записку с сообщением о задании Жанбаева, Ершов вернулся в дом. Хозяин Аскар Джандербеков находился на дежурстве — иногда у него бывали и ночные дежурства. Темирбек тоже не вернулся ещё из поездки. Казалось бы, майор мог действовать совершенно свободно, но он по опыту знал, что предосторожность никогда не бывает излишней. Рация находилась теперь в мотоцикле. С помощью Малиновкина Ершову удалось так ловко вмонтировать её внутрь коляски, что пользоваться ею можно было, не вынимая из тайника. Как же теперь лучше выехать со двора Аскара: вывести мотоцикл на улицу или незаметно провести его огородами? Пожалуй, лучше огородами. Ершов выкатил машину во двор. Она была легкой, подвижной. Катить её не стоило большого труда. Только в огороде пришлось немного повозиться, чтобы не помять грядок. Но вот наконец он в поле. Усевшись на седло, майор зажег прожектор и завел мотор. Дорога была неважная, проселочная, ехать без света было рискованно. Ершов включил первую скорость и медленно двинулся вперед. Глушитель мотоцикла был хороший, и мотор его грохотал не очень громко. Желтоватый конус света тускло освещал песчаную дорогу. Иногда он выхватывал из темноты то белые султаны ковыля, росшего по сторонам дороги, то полукустарники кокпека с невзрачными стеблями и листочками. Раза два попадал в полосу света степной хорек, вышедший, видимо, на охоту за сусликами. Ершов увеличил скорость, продолжая зорко поглядывать по сторонам, но всё вокруг было обычно. Интересно, где Жанбаев подаст условленный сигнал: у самой Черной реки или раньше? Вот в конусе света вспыхнули кусты терескена. Невзрачный терескен ночью показался Ершову красивее, чем днем. Мелкие седовато-серые листики его были похожи на язычки тусклого пламени. И вдруг майор увидел, как несколько левее кустов терескена замигал красный огонек: две короткие и одна длинная вспышки. Ершов остановил мотоцикл и тоже просигналил своим прожектором. Тотчас же красный фонарик снова ответил ему обычной азбукой Морзе:
«Гасите свет. Вкатите мотоцикл в кусты. Сами возвращайтесь на дорогу. Ждите дальнейших приказаний».
После этого текста следовала цифра «33». Это был агентурный помер Призрака, известный Ершову по сведениям, полученным от полковника Осипова. Открытие это обрадовало Ершова.
Значит, они верно нащупали след неуловимого Призрака и рано или поздно возьмут его за горло.
Жанбаев кончил сигналить, и Ершов ответил ему своим прожектором, что понял его. Выключив свет, он вынул из кармана томик стихов иностранных поэтов и раскрыл его на той странице, на которой был напечатан «Ворон» Эдгара По. Положив книгу на сиденье коляски, майор столкнул с места мотоцикл и покатил его в кусты терескена. Когда машина оказалась в середине кустарника, Ершов оставил её там и вышел на дорогу.
Никогда не питал майор Ершов большой любви к ночному светилу, но теперь, взглянув на небо, пожалел, что на нем нет луны: золотистые песчинки Млечного Пути не в силах были осветить землю. Кустарник терескена, в зарослях которого таился Призрак, скрывала густая тьма.
Уже более пяти минут ходил майор вдоль дороги, а из кустов не слышно было ни одного звука. Но вот в кустах зажегся фонарик, и стало несомненно, что там находится кто-то и, видимо, осматривает рацию, вмонтированную в кожух мотоцикла. Впрочем, об этом тоже можно было только догадываться. Майор не мог предпринять ни малейшей попытки подсмотреть за врагом, чтобы не выдать себя.
Ершову казалось, что прошло уже очень много времени, когда наконец из кустарника раздался голос Жанбаева:
— Значит, кодировать будем по «Ворону»? Верно я это понял?
Голос у Призрака был высокий, звучный, без малейшего акцента.
— Так точно, — поспешно ответил Ершов.
— Ваша работа по монтажу рации меня устраивает, — продолжал Жанбаев, и, судя по тому, что голос его стал отчетливее, Ершов понял, что он вышел из гущи кустарника. — А то, что я не показываюсь вам, пусть вас не смущает — таков стиль моей работы. Ну, а теперь ступайте назад пешком, дорогой коллега, Таир Александрович, — добавил Жанбаев с неприятным смешком. — Так ведь, кажется?
— Так точно.
— Возвращайтесь к Аскару Джандербекову, а связь со мною будете держать по своей рации. Сеансы назначаю на двенадцать часов ночи. Может быть, я не смогу иногда вести передачу, но вы включайтесь ежедневно и будьте на приеме не менее получаса. Вам всё понятно?
— Всё.
— Разговор будем вести по новому коду. Мой позывной — «Фрэнд», ваш — «Комрад». Длина волны — десять и тринадцать сотых. Задание вам следующее: узнавайте возможно подробнее, какие грузы идут со станции Перевальской на стройплощадку железной дороги. Не пытайтесь только подкупать Аскара и его двоюродного брата Темирбека. Это опасно — можете погубить всё дело. Вам всё ясно, Мухтаров?
— Так точно.
— Ну, тогда до свидания!
Слышно стало, как зашуршали ветки — видимо, Жанбаев выкатывал из кустов свой мотоцикл. Потом раздался стрекот мотора. Мотоцикл поработал немного на холостом ходу, затем Жанбаев включил скорость и уехал куда-то в поле, не зажигая света, так как дорога, видимо, была им заранее изучена.
Ершов постоял еще немного, взвешивая всё только что происшедшее, и подумал невесело:
«А я попрежнему знаю о нём ровно столько же, сколько знал до этого. Даже лица не видел…»
Но тут же он утешился: «Призрак, видимо, проверял меня все эти дни, наблюдая за мною, и, наверно, нашел теперь возможным доверить кое-что. Можно надеяться, что со временем он станет откровеннее…»
Шагая в Перевальск по пыльной дороге, Ершов уже в который раз задавал себе всё один и тот же вопрос: что привлекает Жанбаева на строительстве железной дороги? Но даже приблизительного ответа пока не находил.
Только к рассвету добрался майор до города и так же, как и ночью, огородами прошел в дом Аскара. На востоке уже занималась заря. Подойдя к окну, он раздвинул занавески и посмотрел на домик напротив. Тотчас же открылось в нём окно, и взлохмаченная голова Малиновкина высунулась на улицу. Лейтенант сделал вид, что выплескивает что-то из стакана на тротуар, а Ершов зажег спичку и закурил — это было условным знаком, означавшим, что у него всё в порядке.
Окно напротив снова захлопнулось.
«Поволновался, видно, Дмитрий!» — тепло подумал Ершов о Малиновкине и, с наслаждением опустившись на диван, стал снимать пыльные ботинки.
За стеной, в комнате Темирбека, кто-то с присвистом храпел.
«Видимо, кондуктор уже вернулся из поездки», — решил Ершов, вспомнив, что, проходя через кухню, он наткнулся на окованный железом сундучок, который Темирбек обычно брал с собой, уходя из дому.
Ершов остановил мотоцикл и тоже просигналил своим прожектором. Тотчас же красный фонарик снова ответил ему обычной азбукой Морзе:
«Гасите свет. Вкатите мотоцикл в кусты. Сами возвращайтесь на дорогу. Ждите дальнейших приказаний».
После этого текста следовала цифра «33». Это был агентурный помер Призрака, известный Ершову по сведениям, полученным от полковника Осипова. Открытие это обрадовало Ершова.
Значит, они верно нащупали след неуловимого Призрака и рано или поздно возьмут его за горло.
Жанбаев кончил сигналить, и Ершов ответил ему своим прожектором, что понял его. Выключив свет, он вынул из кармана томик стихов иностранных поэтов и раскрыл его на той странице, на которой был напечатан «Ворон» Эдгара По. Положив книгу на сиденье коляски, майор столкнул с места мотоцикл и покатил его в кусты терескена. Когда машина оказалась в середине кустарника, Ершов оставил её там и вышел на дорогу.
Никогда не питал майор Ершов большой любви к ночному светилу, но теперь, взглянув на небо, пожалел, что на нем нет луны: золотистые песчинки Млечного Пути не в силах были осветить землю. Кустарник терескена, в зарослях которого таился Призрак, скрывала густая тьма.
Уже более пяти минут ходил майор вдоль дороги, а из кустов не слышно было ни одного звука. Но вот в кустах зажегся фонарик, и стало несомненно, что там находится кто-то и, видимо, осматривает рацию, вмонтированную в кожух мотоцикла. Впрочем, об этом тоже можно было только догадываться. Майор не мог предпринять ни малейшей попытки подсмотреть за врагом, чтобы не выдать себя.
Ершову казалось, что прошло уже очень много времени, когда наконец из кустарника раздался голос Жанбаева:
— Значит, кодировать будем по «Ворону»? Верно я это понял?
Голос у Призрака был высокий, звучный, без малейшего акцента.
— Так точно, — поспешно ответил Ершов.
— Ваша работа по монтажу рации меня устраивает, — продолжал Жанбаев, и, судя по тому, что голос его стал отчетливее, Ершов понял, что он вышел из гущи кустарника. — А то, что я не показываюсь вам, пусть вас не смущает — таков стиль моей работы. Ну, а теперь ступайте назад пешком, дорогой коллега, Таир Александрович, — добавил Жанбаев с неприятным смешком. — Так ведь, кажется?
— Так точно.
— Возвращайтесь к Аскару Джандербекову, а связь со мною будете держать по своей рации. Сеансы назначаю на двенадцать часов ночи. Может быть, я не смогу иногда вести передачу, но вы включайтесь ежедневно и будьте на приеме не менее получаса. Вам всё понятно?
— Всё.
— Разговор будем вести по новому коду. Мой позывной — «Фрэнд», ваш — «Комрад». Длина волны — десять и тринадцать сотых. Задание вам следующее: узнавайте возможно подробнее, какие грузы идут со станции Перевальской на стройплощадку железной дороги. Не пытайтесь только подкупать Аскара и его двоюродного брата Темирбека. Это опасно — можете погубить всё дело. Вам всё ясно, Мухтаров?
— Так точно.
— Ну, тогда до свидания!
Слышно стало, как зашуршали ветки — видимо, Жанбаев выкатывал из кустов свой мотоцикл. Потом раздался стрекот мотора. Мотоцикл поработал немного на холостом ходу, затем Жанбаев включил скорость и уехал куда-то в поле, не зажигая света, так как дорога, видимо, была им заранее изучена.
Ершов постоял еще немного, взвешивая всё только что происшедшее, и подумал невесело:
«А я попрежнему знаю о нём ровно столько же, сколько знал до этого. Даже лица не видел…»
Но тут же он утешился: «Призрак, видимо, проверял меня все эти дни, наблюдая за мною, и, наверно, нашел теперь возможным доверить кое-что. Можно надеяться, что со временем он станет откровеннее…»
Шагая в Перевальск по пыльной дороге, Ершов уже в который раз задавал себе всё один и тот же вопрос: что привлекает Жанбаева на строительстве железной дороги? Но даже приблизительного ответа пока не находил.
Только к рассвету добрался майор до города и так же, как и ночью, огородами прошел в дом Аскара. На востоке уже занималась заря. Подойдя к окну, он раздвинул занавески и посмотрел на домик напротив. Тотчас же открылось в нём окно, и взлохмаченная голова Малиновкина высунулась на улицу. Лейтенант сделал вид, что выплескивает что-то из стакана на тротуар, а Ершов зажег спичку и закурил — это было условным знаком, означавшим, что у него всё в порядке.
Окно напротив снова захлопнулось.
«Поволновался, видно, Дмитрий!» — тепло подумал Ершов о Малиновкине и, с наслаждением опустившись на диван, стал снимать пыльные ботинки.
За стеной, в комнате Темирбека, кто-то с присвистом храпел.
«Видимо, кондуктор уже вернулся из поездки», — решил Ершов, вспомнив, что, проходя через кухню, он наткнулся на окованный железом сундучок, который Темирбек обычно брал с собой, уходя из дому.
В МИНИСТЕРСТВЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Генерал-директор пути и строительства Вознесенский очень устал сегодня после длительного совещания у министра путей сообщения и более всего мечтал об отдыхе. Он уже собрался было домой, как вдруг вспомнил, что в пять тридцать к нему должен заехать Саблин. Они договорились об этом утром по телефону. Когда-то Вознесенский был в дружеских отношениях с Саблиным, но с тех пор много воды утекло. Последние годы они общались всё реже и реже, так что Вознесенский даже вспомнить теперь не мог, когда они встречались в последний раз: три года это было назад или все пять? Генерал-директор помнил только, что Саблин служит в Комитете госбезопасности и, когда Илья Ильич заявил ему, что дело у него служебное, отказать в приеме или перенести встречу на другой день счел неудобным. «Зачем, однако, я ему понадобился? — рассеянно думал он. — Надеюсь, не связано это с каким-нибудь неприятным делом? У меня и своих неприятностей хватает…» Саблин явился ровно в пять тридцать. Он был в скромном штатском костюме и произвел на Вознесенского впечатление человека, не очень преуспевающего в жизни. Это почему-то успокоило его, и он сразу же взял свой обычный покровительственный тон. — А, дорогой Илья! — весело воскликнул он, поднимаясь навстречу Саблину. — Входи, входи! Дай-ка я на тебя посмотрю, старина. Э, да ты поседел уже, дружище! А ведь мы с тобой, как говорится, годки. — А ты не изменился почти, разве потолстел только, — тоже улыбаясь и пожимая руку генерал-директору, проговорил Саблин. Ещё утром, когда они разговаривали по телефону, ему не понравился тон Вознесенского, и теперь он окончательно решил, что друг его молодости, видимо, «зазнался». Предложив Саблину кресло, генерал-директор бросил нетерпеливый взгляд на часы, давая этим понять, что он не располагает временем и спешит куда-то. — Я тебя ненадолго задержу, — заметив, нетерпение Вознесенского, проговорил Саблин. — У меня, собственно говоря, всего один вопрос. По телефону, однако, нельзя было его задать — вот и пришлось приехать лично. Ты ведь, конечно, хорошо осведомлен о строительстве железной дороги Перевальская — Кызылтау? — Кому же тогда быть осведомленным, как не мне? — удивился Вознесенский, и, густые его брови поднялись вверх, наморщив высокий лоб. — А вопрос вот какой: там у вас большой объем земляных и скальных работ. Применяете ли вы для этого атомную энергию? — Вначале мы действительно намеревались применить её на особенно трудных участках, — ответил Вознесенский. — Но потом пришлось от этого отказаться по ряду чисто практических соображений. В настоящее время мы удаляем породу взрывным способом с помощью аммонита. Взрывные работы ведет специальная организация «Желдорвзрывпром». У неё солидный опыт в этом деле. Совсем недавно заграничные специалисты утверждали, будто по взрывному делу впереди идет Аргентина, расходующая в год до полутора тысяч тонн взрывчатых веществ. А мы еще в 1936 году одним только массовым взрывом на Урале подняли на воздух тысячу восемьсот тонн взрывчатки. Вознесенский довольно засмеялся. С лица его исчезло теперь выражение самодовольства. Чувствовалось, что говорил он о хорошо знакомом и близком ему деле. Саблин вспомнил, что в гражданскую войну Вознесенский служил сапером и всегда был неравнодушен к взрывчатке. — Не хвалясь тебе скажу, Илья, — разговорился генерал-директор: — не без моего участия создавался этот «Желдорвзрывпром». Слыхал ты что-нибудь о направленных взрывах и взрывах на выброс? Интереснейшее дело! Закладывается по тысяче двести — тысяче триста тонн взрывчатых веществ, поворачивается ключ взрывной машины, проносится электрический заряд по электровзрывной сети, срабатывают электродетонаторы, летят на воздух тысячи кубометров породы — и километровая железнодорожная выемка глубиной до двадцати метров готова! Точно так же направленным взрывом создаем мы и насыпи. А сколько на это ушло бы времени при разработке выемок экскаватором, даже самым мощным! — Если вы в один раз взрываете по тысяче с лишним тонн аммонита, то это должно встряхивать землю подобно землетрясению? — спросил Саблин, думая о чём-то своем и рассеянно поглядывая в окно на высотное здание у Красных ворот. — Да, встряхивает изрядно, — подтвердил Вознесенский. — Спасибо за справку, Емельян Петрович! — Саблин встал и протянул генерал-директору руку.ДЛЯ ЧЕГО МОТОЦИКЛ ЖАНБАЕВУ?
Вернувшись в свое управление, генерал Саблин тотчас же зашел к полковнику Осипову и сообщил ему о результате разговора с Вознесенским. Полковник никогда не торопился с выводами и заключениями, хорошо зная, как нелегко приходят верные решения. И на этот раз он долго молчал, что-то тщательно обдумывая и взвешивая. — Что же это получается, Афанасий Максимович? — нетерпеливо спросил Саблин, не дождавшись ответа Осипова и начиная уже досадовать на него. — За чем же охотится Жанбаев? Ведь не принял же он взрывные работы за взрывы атомных бомб? — Да-а, — проговорил наконец Осипов. — Тут всё полно противоречий. В твоё отсутствие мне принесли ещё несколько вырезок из иностранных газет. В них сообщается, что Советский Союз ведет в Средней Азии крупные строительные работы с помощью атомной энергии. И совершенно точно указываются именно те районы, где идет строительство нашей новой железной дороги. — Какой давности эти сведения? — быстро спросил Саблин и закурил папиросу, что было явным признаком волнения, ибо курил он оченьредко. — Двухнедельной. Генерал задумался. Прошелся несколько раз по кабинету. Постоял у окна, глядя вниз на шумную площадь. — Ну что ж, — произнес он наконец, не замечая, что папироса его потухла. — Могло быть и так: Жанбаеву каким-то образом стало известно, что мы действительно намеревались применить атомную энергию на строительстве новой железной дороги. Обманутый этим, он принял массовые взрывы аммонита за атомные и сообщил об этом своим хозяевам. Кто-то из них мог затем проговориться об этом донесении Жанбаева в присутствии журналистов, жадных до сенсации, а уж они постарались соответственным образом раздуть ошибку Призрака. — Не хочешь ли ты этим сказать, что Жанбаев всё ещё находится в заблуждении относительно характера взрывов? — спросил Осипов, не совсем ещё понимая, к чему клонит Саблин. — Нет, не хочу. Он мог заблуждаться только вначале, но с тех пор у него было достаточно времени убедиться в своей ошибке. — М-да… — с сомнением покачал головой Осипов. — А может быть, он всё-таки ещё заблуждается? — Почему же? — удивился генерал, протягивая руку за спичками. — Да потому хотя бы, что он отобрал у Ершова мотоцикл, чтобы лично съездить на строительство и собственными глазами посмотреть, что там делается. — Едва ли только для этого понадобился ему мотоцикл. Он мог бы туда и на поезде добраться. А мотоцикл ему, скорее всего, понадобился для скрытой перевозки рации. Ершов ведь надежно замаскировал её в коляске. — Нет, Илья Ильич, — покачал головой Осипов, — он нашел бы и другой надежный способ запрятать куда-нибудь свою рацию. Это не проблема. — Значит, ты считаешь, что мотоцикл ему нужен только для поездки на стройку? — спросил Саблин, подумав с досадой, что упрямство полковника когда-нибудь выведет его из терпения. — Нужно ведь как-то объяснить, зачем ему понадобился этот мотоцикл, — ответил Осипов, не собираясь сдаваться. — А для меня ясно одно, — слегка хмурясь, заметил Саблин: — на стройку он на мотоцикле не поедет, это рискованно, а Жанбаев всячески избегает риска. Я даже думаю, что мотоцикл ему нужен для того только, чтобы свободнее перемещаться и не дать возможности запеленговать свою рацию во время радиопередач. — Но Ершова-Мухтарова, которого он считает своим помощником, тоже ведь могут запеленговать! Выходит, что, спасая себя, он ставит под удар своего помощника. А ведь помощника этого он сам же специально выпросил у своего начальства. Саблин ждал этого вопроса от полковника и ответил: — Ершов-Мухтаров, видимо, будет вести с Жанбаевым очень короткую радиосвязь — главным образом прием его приказаний. Сам же Жанбаев, кроме связи с Ершовым-Мухтаровым, должен ещё поддерживать регулярные сношения со своим резидентом, что связано, конечно, с немалым риском. Ему и потребовалось вмонтировать рацию в мотоцикл, чтобы вести передачи из разных точек, значительно отстоящих друг от друга. Мотоцикл же может быть у него совершенно легально. Донес ведь нам Малиновкин, что, как член археологической экспедиции, работающий где-то на отшибе от основной группы, Жанбаев имеет возможность заправляться бензином в Перевальской археологической базе. А тому, что Жанбаев не собирается на строительство, — продолжал генерал, — есть и ещё одно доказательство: он ведь приказал Ершову-Мухтарову сообщать ему о грузах, идущих на стройку. Зачем ему это, если он сам туда собирается? — Да-а… — неопределенно проговорил Осипов, приглаживая коротко подстриженные волосы. — Замысловато, замысловато всё получается… Будем, однако, ждать новых сообщений Ершова. Может быть, я прояснится кое-что.НЕ ДОПУЩЕНА ЛИ ОШИБКА?
Майор Ершов так устал после встречи с Жанбаевым, что готов был тотчас же по возвращении уснуть мертвым сном. Но этого не случилось. Беспокойные мысли долго ещё тревожили его, и он вертелся с боку на бок, комкая подушку и тяжело вздыхая. Зачем понадобился Жанбаеву мотоцикл? Куда он собирается на нём поехать? Что думает о нём, Ершове? Всё ещё относится с подозрением или станет теперь доверять? Почему интересуют его железнодорожные грузы? Всё это было пока непонятно, но требовало скорейшего ответа, верного решения. Без этого нельзя было действовать дальше и надеяться на успех. Более того, необдуманным ходом можно было провалить всё дело, упустить опасного врага, дать возможность Призраку осуществить его преступные планы. Около шести часов утра вернулся с дежурства Аскар. Слышно было, как он умывался, а потом гремел тарелками на кухне: видимо, решил перекусить перед сном. Спустя несколько минут скрипнула дверь его комнаты. В каких отношениях этот человек с Жанбаевым? Только ли хозяин его квартиры или ещё и сообщник? В том, что какая-то связь между ними существует, у Ершова не было сомнений. Многого Жанбаев ему не доверяет, но, конечно, использует для своих целей. Больше всего волновал сейчас майора вопрос: как будет вести себя Жанбаев в дальнейшем с ним, с Ершовым? Задание, которое он дал ему, в сущности, пустяковое. Эти сведения и Аскар сумел бы раздобыть. Вот разве только сообщить их без рации не сможет… Придется, видно, набраться терпения и подождать ещё немного. Если Жанбаев свяжется с ним вскоре по радио, значит доверяет, не свяжется — нужно будет признать, что он, Ершов, раскрыл, обнаружил себя чем-то, спугнул опасного врага. Потом Ершов подумал о том, что должен будет проснуться не позднее девяти часов утра, чтобы ни Аскару, ни Темирбеку не дать повода догадаться, что он не спал всю ночь. Они ведь могут донести Жанбаеву, что он ведет себя не очень осторожно. …Проснулся Ершов без пяти девять. Ему не требовалось времени, чтобы сообразить, где он, что делал вчера, что должен сделать сейчас. Он вспомнил это почти мгновенно — сказывался опыт чекиста. Опасная работа приучила его каждую минуту быть настороже, ибо от этого часто зависели не только успех или неуспех порученного ему дела, но и собственная его жизнь. В доме было тихо. Только в соседней комнате осторожно ходил кто-то — видимо, Темирбек поднялся уже и старался не шуметь, чтобы не разбудить двоюродного брата, которого он, как подметил Ершов, почему-то немного побаивался. Ершов перевел взгляд на окно. Солнце ярко освещало противоположную сторону улицы и дом старухи Гульджан, в котором квартировал лейтенант Малиновкин. Окно его комнаты было распахнуто. Значит, лейтенант встал уже. Они условились, что по утрам открытое окно будет означать, что Малиновкин бодрствует, а днем и вечером — что он дома. Юноше, видимо, не терпелось узнать поскорее подробности вчерашней встречи Ершова с Жанбаевым. Но что же можно было предпринять сейчас? Нужно бы встретиться с ним как-то и поговорить, объяснить сложность создавшейся обстановки. Но и это не так-то просто. Чорт его знает, этого Жанбаева — может быть, он не считает ещё испытательный срок оконченным. Нет, уж лучше соблюдать строжайшую конспирацию до конца. О том, где, когда и как встретиться с Малиновкиным, требовалось ещё подумать. Аскар поднялся только в двенадцать часов дня. Ершов к этому времени вернулся из столовой. Темирбека, который перед его уходом ел что-то у себя в комнате, уже не было. — Ну как, не соскучились ещё у нас, товарищ Мухтаров? — весело спросил Аскар, направлявшийся с полотенцем на шее во двор. — Пока нет, — бодро ответил Ершов. — Я много интересного в библиотеке вашей обнаружил. Вчера почти весь день там провел. Просматривал архивные материалы и натолкнулся на любопытные исторические документы. Ну, а у вас как идут дела, Аскар Габдуллович? Служба-то ваша не очень, видно, спокойная? Ночами приходится дежурить? — Да нет, не всегда это. В основном всё-таки днем. Да и работа, откровенно говоря, пока не очень интересная. Вот закончат строительство магистрали, пойдут регулярные поезда — тогда поинтереснее будет. А сейчас у нас ни графика, ни расписания. — И грузы, наверно, пустяковые? — будто невзначай спросил Ершов, наблюдая, как энергично растирает Аскар вафельным полотенцем свою хорошо развитую, мускулистую грудь. — Известное дело! В основном стройматериалы пока идут. Главным образом шпалы да рельсы, иногда цемент. Вот скоро вступят в строй новые заводы сборных конструкций — пойдут грузы посолиднев. Оно, правда, и сейчас доводится возить любопытные вещи, иногда даже на специальных многоосных платформах — транспортерах. Вот, к примеру, нынешней ночью сборный цельноперевозный мост отправили и несколько железобетонных строений. А вчера — элементы сборной металлической водонапорной башни системы Рожнова. Ну, а вообще всё это не то, что на центральных магистралях. Там сейчас такая техника идет, что диву даешься. Аскар кончил обтираться и повесил полотенце на веревку, протянутую через весь двор. Снял с этой же веревки белую майку и с трудом продел в неё свою большую голову с жесткими волосами. — Вы, железнодорожники, наверно, по этим грузам лучше, чем по газетам, читаете, чем страна живет, а? — сказал Ершов, поднимаясь со ступенек крылечка, на которые присел во время разговора. — Да, это вы верно заметили, — согласился Аскар. И голос его прозвучал так искренне и просто, что Ершов подумал невольно: «А может быть, он и не связан ничем с Жанбаевым?» Но тотчас же другой, более трезвый голос заключил: «Чертовски хитрый, видимо, человек. Знает Жанбаев, кого в помощники подбирать. Он и о грузах этих потому, наверно, так подробно мне говорит, чтобы я смог всё это Жанбаеву по радио передать». — Ну, я пойду позанимаюсь немного, — заметил он вслух. — Раздобыл тут у вас в книжном киоске несколько любопытных брошюрок. Войдя в свою комнату, Ершов первым долгом посмотрел на окно домика, в котором поселился Малиновкин. Оно теперь снова было открыто — значит, лейтенант уже вернулся из города. Что он делает там у себя? Что переживает? Чертовски скверное это состояние неопределенности. Ершов хоть знал сложившуюся обстановку, а Малиновкин всё ещё пребывал в полном неведении и строил, наверно, различные догадки — одну тревожнее другой. Нужно было придумать какую-то простую систему связи, чтобы в любое время информировать Дмитрия и давать ему задания, не ожидая удобного случая. Лейтенанта Малиновкина в это время беспокоили те же мысли. Он уже перебрал в уме множество способов конспиративной связи, но все они были слишком сложны, а нужно было придумать что-то совсем простое. Майор, наверно, надеялся на него. Как же было не оправдать его надежд! Солнце перебралось между тем на противоположную сторону улицы и освещало окна дома Джандербекова. Малиновкин хорошо видел теперь залитый солнцем стол, за которым сидел, видимо читая, Ершов. Хорошо бы рассмотреть, что там за книга у него в руках? У Малиновкина был с собой хороший полевой бинокль. Он поспешно достал его из чемодана и, приложив к глазам, стал «пригонять по глазам» окуляры. Мутносерое пятно в линзах бинокля постепенно приобретало отчетливость и резкость. В первую очередь в глаза бросилось только то, что было освещено солнцем: голова Ершова, стол, за которым он сидел, книги. Но когда Малиновкин присмотрелся получше, он разглядел и стены, оклеенные газетной бумагой. На всякий случай, лейтенант решил задернуть на своем окне занавески, оставив лишь узкое отверстие для наблюдения. «Интересно, — думал Малиновкин, рассматривая в бинокль лицо майора, — что это за книги читает он с таким вниманием?»
Как бы в ответ на его мысли Ершов несколько изменил положение, и Малиновкин совершенно отчетливо увидел название книги, которую майор держал в руках. Вскоре он обнаружил, что может читать всё, что напечатано крупным шрифтом в газетах, которыми оклеена комната Ершова. Это наводило на мысль о возможном способе связи с майором, и, торопливо отложив бинокль, Малиновкин принялся раздумывать над тем, как бы сообщить о своем открытии Ершову.
Бросить в окно майору записку можно было бы только поздно вечером или ночью, тем более что сейчас был дома Джандербеков — Малиновкин видел его недавно в окне соседней комнаты.
Дмитрий до тех пор ломал голову, как осуществить свой замысел, пока не подошло время идти обедать. Тогда он закрыл окно и вышел на улицу, решив, что, может быть, встретит Ершова в столовой, хотя это было маловероятным, так как они условились обедать в разное время, чтобы не привлекать ничьего внимания.
После обеда Малиновкин ещё долго ходил по станции. А вечером, когда Ершов вышел из дома, Малиновкин осторожно пошел за ним следом на некотором расстоянии. У небольшого кафе на соседней улице, где обычно ужинал майор, Малиновкин прибавил шаг и, столкнувшись с Ершовым у самых дверей, передал ему записку с предложением нового способа связи.
В кафе Ершов прочел её. Дмитрий писал очень лаконично: «С помощью старика Цейса я читаю газеты на стенах вашей комнаты. Могу прочесть и ещё кое-что. Учтите это».
Ершов понял: под «стариком Цейсом» лейтенант подразумевал бинокль. «Пожалуй, это неплохо придумано», — подумал он. Завтра же он наладит с Дмитрием связь. Правда, она будет односторонней, но станет возможным, по крайней мере, в любое время дать задание Малиновкину.
Несколько повеселев, Ершов выпил стакан кофе с булочкой и не спеша возвратился домой. Аскар уже безмятежно храпел — завтра рано утром ему нужно было идти на работу. Темирбек, которого целый день не было дома, тоже укладывался спать в своей комнате.
«И куда это вечно уходит этот угрюмый человек?» — подумал Ершов о кондукторе. По словам Аскара, Темирбек будто бы ходил лечиться молитвой у какого-то имама — духовного лица, приехавшего из Аксакальска. Темирбек был религиозен и даже побывал когда-то в Мекке. Раньше, в связи с этим, «правоверные» почтительно величали его «Темирбеком-хажи».
Майор переложил рацию из чемодана в вещевой мешок и, как только Темирбек улегся спать, вышел из дома. Осмотревшись по сторонам, он медленно пошел между грядками к кустам боярышника. Кусты были колючие, цепкие. Майор поцарапал себе руки и даже лицо, прежде чем устроился как следует. Ровно в двенадцать рация была на приеме.
Вокруг было тихо. Только кузнечики трещали в степи, начинавшейся сразу же за огородом Джандербекова. Откуда-то прилетели мошки с длинными лапками и судорожно заметались по светящейся шкале рации. Легкий теплый ветерок приносил смешанные запахи цветов, овощей и каких-то остро пахнущих трав.
Затаив дыхание, Ершов целый час просидел у радиостанции, прислушиваясь к «эфирным шорохам» в телефонных наушниках. Легкая пружинящая пластинка, скреплявшая телефоны, постепенно стала казаться стальным обручем, стиснувшим его голову, а в ушах то гудело что-то, то назойливо звенело, и всё время казалось, что далеко-далеко чуть слышно попискивает морзянка. Майор увеличивал громкость приема, смещал визир по шкале настройки то вправо, то влево, напрягал слух, но морзянка от этого лишь куда-то бесследно исчезала.
Ершов охотился за неуловимой морзянкой до тех пор, пока не понял, что она ему только мерещится от перенапряжения и усталости. Тогда он выключил рацию. Сегодня сеанс не состоялся. Состоится ли он вообще? Что, если Жанбаев разгадал его и скрылся? То, что он назначил ему ночные радиосеансы и дал позывные, могло ведь быть только для отводя глаз, чтобы выиграть время и удрать подальше от преследования.
«Интересно, — думал Малиновкин, рассматривая в бинокль лицо майора, — что это за книги читает он с таким вниманием?»
Как бы в ответ на его мысли Ершов несколько изменил положение, и Малиновкин совершенно отчетливо увидел название книги, которую майор держал в руках. Вскоре он обнаружил, что может читать всё, что напечатано крупным шрифтом в газетах, которыми оклеена комната Ершова. Это наводило на мысль о возможном способе связи с майором, и, торопливо отложив бинокль, Малиновкин принялся раздумывать над тем, как бы сообщить о своем открытии Ершову.
Бросить в окно майору записку можно было бы только поздно вечером или ночью, тем более что сейчас был дома Джандербеков — Малиновкин видел его недавно в окне соседней комнаты.
Дмитрий до тех пор ломал голову, как осуществить свой замысел, пока не подошло время идти обедать. Тогда он закрыл окно и вышел на улицу, решив, что, может быть, встретит Ершова в столовой, хотя это было маловероятным, так как они условились обедать в разное время, чтобы не привлекать ничьего внимания.
После обеда Малиновкин ещё долго ходил по станции. А вечером, когда Ершов вышел из дома, Малиновкин осторожно пошел за ним следом на некотором расстоянии. У небольшого кафе на соседней улице, где обычно ужинал майор, Малиновкин прибавил шаг и, столкнувшись с Ершовым у самых дверей, передал ему записку с предложением нового способа связи.
В кафе Ершов прочел её. Дмитрий писал очень лаконично: «С помощью старика Цейса я читаю газеты на стенах вашей комнаты. Могу прочесть и ещё кое-что. Учтите это».
Ершов понял: под «стариком Цейсом» лейтенант подразумевал бинокль. «Пожалуй, это неплохо придумано», — подумал он. Завтра же он наладит с Дмитрием связь. Правда, она будет односторонней, но станет возможным, по крайней мере, в любое время дать задание Малиновкину.
Несколько повеселев, Ершов выпил стакан кофе с булочкой и не спеша возвратился домой. Аскар уже безмятежно храпел — завтра рано утром ему нужно было идти на работу. Темирбек, которого целый день не было дома, тоже укладывался спать в своей комнате.
«И куда это вечно уходит этот угрюмый человек?» — подумал Ершов о кондукторе. По словам Аскара, Темирбек будто бы ходил лечиться молитвой у какого-то имама — духовного лица, приехавшего из Аксакальска. Темирбек был религиозен и даже побывал когда-то в Мекке. Раньше, в связи с этим, «правоверные» почтительно величали его «Темирбеком-хажи».
Майор переложил рацию из чемодана в вещевой мешок и, как только Темирбек улегся спать, вышел из дома. Осмотревшись по сторонам, он медленно пошел между грядками к кустам боярышника. Кусты были колючие, цепкие. Майор поцарапал себе руки и даже лицо, прежде чем устроился как следует. Ровно в двенадцать рация была на приеме.
Вокруг было тихо. Только кузнечики трещали в степи, начинавшейся сразу же за огородом Джандербекова. Откуда-то прилетели мошки с длинными лапками и судорожно заметались по светящейся шкале рации. Легкий теплый ветерок приносил смешанные запахи цветов, овощей и каких-то остро пахнущих трав.
Затаив дыхание, Ершов целый час просидел у радиостанции, прислушиваясь к «эфирным шорохам» в телефонных наушниках. Легкая пружинящая пластинка, скреплявшая телефоны, постепенно стала казаться стальным обручем, стиснувшим его голову, а в ушах то гудело что-то, то назойливо звенело, и всё время казалось, что далеко-далеко чуть слышно попискивает морзянка. Майор увеличивал громкость приема, смещал визир по шкале настройки то вправо, то влево, напрягал слух, но морзянка от этого лишь куда-то бесследно исчезала.
Ершов охотился за неуловимой морзянкой до тех пор, пока не понял, что она ему только мерещится от перенапряжения и усталости. Тогда он выключил рацию. Сегодня сеанс не состоялся. Состоится ли он вообще? Что, если Жанбаев разгадал его и скрылся? То, что он назначил ему ночные радиосеансы и дал позывные, могло ведь быть только для отводя глаз, чтобы выиграть время и удрать подальше от преследования.
ПОЕЗДКА НА СТРОЙУЧАСТОК
На следующий день Ершов проснулся в шесть часов утра, как только Аскар начал громыхать в кухне посудой, собираясь на работу. Вместе с ним направлялся куда-то Темирбек. Ершов слышал, как Аскар переговаривался с ним по-казахски. Дождавшись, когда они вышли из дому, майор вскочил со своего дивана и принялся крупными буквами на больших листах бумаги писать приказания Малиновкину. На первом листе он сообщил ему о результате встречи с Жанбаевым и о неудачной попытке связаться с ним по радио минувшей ночью. На втором было распоряжение лейтенанту навести возможно более точные справки о ходе строительства железной дороги и грузах, идущих в его адрес. Необходимость поездки на участок главных работ центральной трассы лейтенант должен был решить сам. В этом случае ему предписывалось обратить внимание на местность — насколько проходима она для мотоцикла. Окно Малиновкина открылось ровно в семь часов. Спустя некоторое время Ершов распахнул и своё. Затем он отошел от него вглубь комнаты и слегка приподнял вверх исписанный листок. Он держал его так до тех пор, пока Малиновкин не задернул занавеску на своем окне, давая этим знать майору, что он всё прочел и ждет дальнейших указаний. Тогда Ершов поднял второй лист бумаги и, получив от лейтенанта условный знак, что тот всё понял, с облегчением закрыл окно и пошел во двор умываться. А Малиновкин, прочитав записки майора, несколько воспрянул духом, хотя ничего утешительного в них не было. Зато он знал теперь, как обстоит дело, а главное — имел конкретное задание и мог действовать. Дальнейшая бездеятельность была для него нестерпимой. Бинокль и рацию он спрятал в чемодан, закрыл его надежным замком и задвинул под кровать к самой стенке. Затем сходил на кухню и попросил у давно уже вставшей хозяйки стакан горячего чаю. Наскоро закусив купленными еще вчера консервами и хлебом, Малиновкин в бодром настроении направился на станцию. Лейтенант не раз уже бывал здесь прежде, но теперь, ранним солнечным утром, станция представилась ему в каком-то ином свете. Рельсы так сверкали в солнечных лучах, будто были отлиты из драгоценного металла. Водонапорная башня, кто знает когда выкрашенная, поражала теперь своей белизной. А паровоз, только что поданный под тяжеловесный состав, попыхивал таким густо клубившимся паром, с такими тонкими переливами, какие, наверно, бывают только, на полотнах гениальных художников. «Вот что значит хорошее солнечное утро и хорошее настроение, — улыбаясь, подумал Малиновкин. — Совсем другими глазами на всё смотришь». Ему хотелось поскорее поехать на главный участок строительства дороги, в район предгорья, где предстояли строителям самые трудные работы: нужно было посмотреть на всё собственными глазами. Лейтенант торопливо пошел вдоль состава, к которому только что прицепили паровоз. По грузам на открытых платформах — там стояли скреперы, бульдозеры и другие землеройные машины — было видно, что поезд направляется на стройучасток. А крытые четырехосные вагоны, судя по светлосерой пыли, покрывавшей их двери, люки и даже колеса, были, видимо, загружены строительными материалами: известью и цементом. Лейтенант подходил уже к самому паровозу, когда услышал вдруг знакомый голос: — Смотри-ка, Костя, кто к нам шагает! Малиновкин присмотрелся к широкоплечему парню в выгоревшей на солнце спецовке, стоявшему возле паровоза, и сразу узнал в нем помощника машиниста Федора Рябова. Тут же из окна паровозной будки высунулся машинист Шатров. — Это же наш попутчик, Малиновкин! — весело крикнул он, приветливо кивнув Дмитрию. — Ну как дела, товарищ Малиновкин? Устроились на работу? Спустившись по лесенке на пропитанную нефтью и маслом землю, Шатров крепко пожал Малиновкину руку. — Да нет, не устроился, товарищ Шатров. Обещают всё, а пока болтаюсь без дела, — ответил ему лейтенант. — А ты где устроиться хотел? — спросил Малиновкина Рябов, принимаясь крепить какую-то гайку в головке ведущего дышла. — Небось тут, на Перевальской? — Тут. — Вот и зря. На какую-нибудь новую станцию следовало проситься… — посоветовал Рябов и, хитро подмигнув Шатрову, добавил: — Или боишься от цивилизации оторваться? — Да что ты его учишь! — горячо перебил своего помощника Шатров. — Если человек сознательно сюда приехал, так ему никакая пустыня не должна быть страшной… Поедемте-ка с нами, Малиновкин… Забыл, как звать вас? — Дмитрием. — Поедемте с нами, Митя. Поглядите своими глазами, как люди живут и работают. Где больше понравится — там и устраивайтесь. — А что тут ему понравиться может? — скептически заметил Рябов, кончив крепить гайку и вытирая руки паклей. — Ты известный романтик, тебе лишь бы что-нибудь новое, а оно ведь иногда диковатый вид имеет… — Ну ладно, Федор! — прервал Рябова Шатров. — Вон главный кондуктор Бейсамбаев идет. Скоро поедем… А вы что же, поедете с нами или как? — обернулся он к Малиновкину. — Отчего же не поехать, — поспешно ответил Малиновкин. — Охотно поеду. — Тогда устраивайтесь на тормозной площадке с главным кондуктором: на паровозе нельзя, не положено. Минут через десять поезд тронулся в путь. Малиновкин устроился рядом с главным кондуктором — высоким смуглым мужчиной средних лет. Он показался Дмитрию угрюмым и замкнутым, но после того, как Бейсамбаев узнал, что Малиновкин знаком с Шатровым и Рябовым, стал с воодушевлением их расхваливать. — Очень хорошие люди, понимаешь! От самой матушки Волги в наше пекло приехали. Это же понимать надо! Я человек привычный, и то мне жарко, а с них сколько потов сходит! И потом — как работают! Не видел я, чтобы тут у нас кто-нибудь ещё так работал. Нравится мне, понимаешь, такой народ — настоящие люди. Побольше бы таких приезжало. Очень нам такой народ нужен. Прислушиваясь к голосу Бейсамбаева, Дмитрий посматривал по сторонам, изучая местность. Нужно было выполнить задание Ершова и определить, пройдет или не пройдет по этой дороге мотоцикл. Будто невзначай он спросил об этом и Бейсамбаева. — Местность вполне подходящая, — ответил главный кондуктор. — У брата моего мотоцикл имеется — так он всё тут изъездил. Если есть у тебя машина, привези сюда, большое удовольствие получишь. Хорошая тут природа у нас, красивая! Дмитрию подумалось, что каждый, наверно, видит землю по-своему, и многое из того, что чужой глаз не сразу подметит, для местного жителя полно прелести. А вот ему, например, казалось сейчас, что эта обожженная солнцем серо-желтая степь не имеет ничего привлекательного. Из растительности бросались в глаза лишь белые султаны ковыля да невзрачный типец с узкими, наподобие щетины, листьями и жидкими, будто обтрепанными, металками. — Сейчас тут нет, конечно, полной красоты, — заметив, что Малиновкин всматривается в степь, проговорил Бейсамбаев. — А ты посмотри, что тут весной будет делаться! Ранней особенно. Что такое палитра у художника, знаешь? Так можешь смело сказать, что вся степь наша, как огромная палитра, бывает с красками всех цветов и оттенков. Я немного маслом рисую, так что в красках толк понимаю. Весной украшают нашу степь синие и желтые ирисы, пестрые тюльпаны, золотистые лютики, белые ветреницы. А сейчас тут всю красоту солнце выжгло. Только одному ковылю оно нипочем. Бейсамбаев, видимо действительно любивший природу, глубоко вздохнул. Вскоре ровная местность начала переходить в холмистую, и горизонтальные площадки пути сменялись то подъемами, то уклонами. Всё чаще виднелись теперь по сторонам дороги пологие холмы, поросшие какой-то рыжевато-желтой травой, похожей на ворс старого, выгоревшего на солнце ковра. Дыхание паровоза тоже заметно менялось. На подъемах оно становилось тяжелым, натужным, с бронхиальным присвистом. Темнел и всё с большим шумом вырывался из трубы паровоза дым. — Достается ребятам, — мрачно проговорил Бейсамбаев, кивая на паровоз. — Очень рискованный вес взяли сегодня — сорваться могут… На одном из подъемов поезд и в самом деле так сбавил ход, что и Малиновкин стал волноваться за своих новых знакомых. А когда поезд прибыл наконец на последнюю станцию стройучастка, с паровоза спустился черный, как негр, и совершенно мокрый от пота Рябов. — Ну что, Бейсамбаев, плохо разве поработали?.. — весело крикнул он. А Шатров, тоже сильно уставший, но счастливый, быстро сошел с паровоза и направился к платформе вокзала, на которой приветливо махала ему рукой улыбающаяся девушка с милым лицом. — Поздравляю вас, Костя! — приветливо проговорила она, протягивая Шатрову загорелую руку. — Такой составик притащили!.. Она кивнула на поезд, на платформах которого стояли землеройные машины, и добавила: — А я, знаете, специально пришла на станцию повидаться с вами. Малиновкин не без любопытства понаблюдал за ними, но ему нужно было выполнять задание Ершова, и он поспешил к начальнику строительных работ и занялся осмотром стройплощадки. Зато позже, когда лейтенант вернулся к поезду, чтобы ехать обратно в Перевальск, он оказался невольным свидетелем прощания Шатрова с Ольгой. — До свидания, Оля! — горячо говорил Шатров, порывисто пожимая руку девушке. — Мы редко встречаемся, но я счастлив, что хоть под одним небом с вами нахожусь и что печет нас одно и то же азиатское солнце… Да, хотел, между прочим, спросить вот о чем: говорят, инженер Вронский ухаживает тут за вами. Правда это? Девушка смущенно улыбнулась. — Ну ладно, не отвечайте, — заторопился Шатров. — Так оно и есть, наверно. Пусть ухаживает… Пусть хоть все тут за вами ухаживают. Вы ведь такая… — Голос у него сорвался вдруг, и он перешел на шопот: — Только бы вы не вышли замуж за него! Не спешите… — Ну, а если возьму вдруг и выйду? — засмеялась Ольга и озорно блеснула глазами. Шатров опустил голову и проговорил тихо, но твердо: — Всё равно я всегда буду там, где вы, если только ваш муж разрешит вам новые дороги строить. — Наверно, лучших друзей, чем вы, Костя, и не бывает на свете! — растроганно проговорила Ольга и, крепко пожав руку Шатрову, поспешно ушла со станции.МАЙОР ЕРШОВ ТЕРЯЕТСЯ В ДОГАДКАХ
Когда лейтенант Малиновкин вернулся в Перевальск, было совсем темно. Гульджан уже спала, но в доме напротив, в комнате Ершова, еще горел свет и окно было открыто. Проходя мимо него, Дмитрий заглянул поверх занавески и, увидев майора, сидевшего за книгой, незаметно бросил ему на стол заранее заготовленную записку. В ней сообщалось, что лейтенант побывал на стройучастке, и подробно описывалось всё, что он там видел и с кем разговаривал. К записке прилагалась официальная справка о грузах, идущих в адрес строительства. Малиновкин получил её от заместителя начальника стройучастка, которому он предъявил свои документы, подписанные генералом Саблиным.
Дважды перечитав донесение Малиновкина, Ершов задумался. Хотя о применении атомной энергии лейтенант и не задавал никому вопроса — и без того было ясно, что её здесь не применяли. Горные породы и земляные массивы взрывали на строительстве железнодорожной магистрали главным образом аммонитом. Это было и безопаснее и легко поддавалось управлению. Взрывы здесь так и назывались: «направленными взрывами» и «взрывами на выброс». Первые помогали мгновенно сооружать большие насыпи, вторые — выемки. Это были разумные взрывы, послушные воле строителей.
«Атомная взрывчатка» была гораздо сильнее, но она была опасна не только своей страшной силой, но и последствиями. Она сделала бы радиоактивным воздух, землю, обломки породы, а это пагубно сказалось бы на людях.
Майор Ершов знал, конечно, что атомную энергию можно было использовать и другим способом: превратить её в тепло, а тепло преобразовать в электрическую энергию, но, по сообщению Малиновкина, на строительстве применялись пока лишь обычные электрические станции.
Знал ли об этом Жанбаев? По словам Малиновкина, он мог проникнуть на строительство с группами многочисленных рабочих или даже на своем мотоцикле. Местность позволяла это. Что же тогда интересовало его здесь? Грузы? Нет, судя по справке заместителя начальника строительства, они были самыми обыкновенными. Но тогда непонятно, зачем Жанбаев дал задание Ершову сообщить ему об этих грузах? Положительно тут ничего нельзя понять. Всё было крайне замысловато. Оставалась одна надежда, что Жанбаев свяжется всё-таки с ним по радио и даст новое задание, которое внесет во всю эту историю какую-нибудь ясность.
Ершов посмотрел на часы — пора было готовиться к ночному радиосеансу. Он закрыл окно, потушил свет и вышел во Двор.
Готовя рацию к приему, майор вспомнил, что и у Малиновкина сегодня радиосеанс с Москвой. Может быть, Саблин сообщит что-нибудь такое, что поможет разгадать замыслы Жанбаева?
Так же как и в прошлую ночь, Ершов просидел более часа в колючих кустах боярышника, но не принял на условленной волне от Жанбаева ни единого звука. Рация была исправна. В телефоны её наушников врывались то музыка, то голоса людей, то писк морзянок. Но, может быть, испортилась рация у Жанбаева? Или что-нибудь помешало ему вести передачу?
Теряясь в догадках, Ершов решил уже было выключить радиостанцию, как вдруг снова вспомнил:
«А ведь как раз сейчас Малиновкин разговаривает с Москвой. Подключусь-ка и я к их разговору…»
Он быстро настроился на волну, на которой держал связь с Саблиным Малиновкин, и вскоре уловил четкий стук радиотелеграфного ключа. Сначала ему трудно было догадаться, кто передавал — Саблин или Малиновкин, так как он пропустил начало передачи и не принял ключевой группы радиотелеграфных знаков. Судя по слышимости, однако, передавал Малиновкин.
Но вот последовала небольшая пауза, и снова запела морзянка, теперь уже глуше: передача, видимо, велась издалека, и радиоволны, преломляясь где-то очень высоко над землей, в зоне ионосферы, то замирали, то слышались громче.
Теперь Ершову удалось принять и ключевую группу знаков. Код этот был ему знаком. Приняв всю радиограмму, он расшифровал её у себя в комнате.
Генерал Саблин передавал:
«Атомная энергия на стройучастке Перевальск — Кызылтау не применяется. Жанбаева интересует, видимо, что-то другое. Удалось перехватить шифровку его резидента. В ней не всё ясно, но, может быть, она пригодится вам. Передаем её текст: «Чтобы мы могли исправить допущенную вами ошибку, используйте сюрприз номер три».
Майор Ершов всю ночь думал над тем, что могла означать эта таинственная шифровка, адресованная Жанбаеву. В ней многое было неясно. Во-первых, что за ошибку он допустил? Может быть, им известно, что к Жанбаеву приехал не Мухтаров, а Ершов, и они обвиняют теперь Жанбаева в том, что он не сразу догадался об этом? Если так, то становится понятным, почему он скрылся куда-то и не связывается с Ершовым по радио. Во-вторых, что означает «сюрприз номер три»? Как этим сюрпризом можно исправить допущенную Жанбаевым ошибку? Может быть, и это имеет прямое отношение к нему, Ершову?
Майор поднялся с дивана и закурил. В комнате было душно. Он подошел к окну и открыл форточку. На улице было ещё темно. Дом напротив выступал из мрака мутным силуэтом. Где-то, захлебываясь от ярости, лаяла собака. Протяжно прогудел паровоз на станции. И снова всё замолкло.
Постояв немного у окна, Ершов медленно стал прохаживаться по комнате.
Что же они могли иметь в виду под «сюрпризом»? Что, если «сюрприз» — это их обычный прием: ликвидация опасного человека, то-есть его, Ершова? Майор и без того каждый день должен был ожидать, что его попытаются «убрать с пути» те, кому он мешал, с кем боролся. Но если враги собирались «убрать» его — значит, они разгадали его, значит, он был неосторожен, выдал себя чем-то и не сможет теперь выполнить свое задание…
А если под «сюрпризом» имеется в виду что-нибудь более значительное, чем покушение на контрразведчика Ершова? Непонятно, почему в шифровке сказано: «Чтобы мы могли исправить допущенную вами ошибку»? Повидимому, Жанбаев, используя «сюрприз», не сам исправит ошибку, а даст этим возможность «им» её исправить?
Ошибка Жанбаева была, наверно, в чем-то другом. Он, может быть, принял взрывы аммонита за взрыв атомной бомбы? Когда взрывают тысячи тонн обычной взрывчаткой, нетрудно принять её и за атомную. Наверно, сейсмографы Жанбаева вычертили ему такой график колебания почвы от этих взрывов, что он решил, будто это взрывы атомных бомб, и, видимо, донес об этом своим хозяевам, а потом, когда уже сам побывал на строительстве, понял, что допустил ошибку.
Всё, конечно, могло быть и так, но каким же «сюрпризом» Жанбаев должен был теперь исправить свою ошибку? И почему вообще эта ошибка могла иметь какое-то значение и нуждалась в исправлении?
В ней сообщалось, что лейтенант побывал на стройучастке, и подробно описывалось всё, что он там видел и с кем разговаривал. К записке прилагалась официальная справка о грузах, идущих в адрес строительства. Малиновкин получил её от заместителя начальника стройучастка, которому он предъявил свои документы, подписанные генералом Саблиным.
Дважды перечитав донесение Малиновкина, Ершов задумался. Хотя о применении атомной энергии лейтенант и не задавал никому вопроса — и без того было ясно, что её здесь не применяли. Горные породы и земляные массивы взрывали на строительстве железнодорожной магистрали главным образом аммонитом. Это было и безопаснее и легко поддавалось управлению. Взрывы здесь так и назывались: «направленными взрывами» и «взрывами на выброс». Первые помогали мгновенно сооружать большие насыпи, вторые — выемки. Это были разумные взрывы, послушные воле строителей.
«Атомная взрывчатка» была гораздо сильнее, но она была опасна не только своей страшной силой, но и последствиями. Она сделала бы радиоактивным воздух, землю, обломки породы, а это пагубно сказалось бы на людях.
Майор Ершов знал, конечно, что атомную энергию можно было использовать и другим способом: превратить её в тепло, а тепло преобразовать в электрическую энергию, но, по сообщению Малиновкина, на строительстве применялись пока лишь обычные электрические станции.
Знал ли об этом Жанбаев? По словам Малиновкина, он мог проникнуть на строительство с группами многочисленных рабочих или даже на своем мотоцикле. Местность позволяла это. Что же тогда интересовало его здесь? Грузы? Нет, судя по справке заместителя начальника строительства, они были самыми обыкновенными. Но тогда непонятно, зачем Жанбаев дал задание Ершову сообщить ему об этих грузах? Положительно тут ничего нельзя понять. Всё было крайне замысловато. Оставалась одна надежда, что Жанбаев свяжется всё-таки с ним по радио и даст новое задание, которое внесет во всю эту историю какую-нибудь ясность.
Ершов посмотрел на часы — пора было готовиться к ночному радиосеансу. Он закрыл окно, потушил свет и вышел во Двор.
Готовя рацию к приему, майор вспомнил, что и у Малиновкина сегодня радиосеанс с Москвой. Может быть, Саблин сообщит что-нибудь такое, что поможет разгадать замыслы Жанбаева?
Так же как и в прошлую ночь, Ершов просидел более часа в колючих кустах боярышника, но не принял на условленной волне от Жанбаева ни единого звука. Рация была исправна. В телефоны её наушников врывались то музыка, то голоса людей, то писк морзянок. Но, может быть, испортилась рация у Жанбаева? Или что-нибудь помешало ему вести передачу?
Теряясь в догадках, Ершов решил уже было выключить радиостанцию, как вдруг снова вспомнил:
«А ведь как раз сейчас Малиновкин разговаривает с Москвой. Подключусь-ка и я к их разговору…»
Он быстро настроился на волну, на которой держал связь с Саблиным Малиновкин, и вскоре уловил четкий стук радиотелеграфного ключа. Сначала ему трудно было догадаться, кто передавал — Саблин или Малиновкин, так как он пропустил начало передачи и не принял ключевой группы радиотелеграфных знаков. Судя по слышимости, однако, передавал Малиновкин.
Но вот последовала небольшая пауза, и снова запела морзянка, теперь уже глуше: передача, видимо, велась издалека, и радиоволны, преломляясь где-то очень высоко над землей, в зоне ионосферы, то замирали, то слышались громче.
Теперь Ершову удалось принять и ключевую группу знаков. Код этот был ему знаком. Приняв всю радиограмму, он расшифровал её у себя в комнате.
Генерал Саблин передавал:
«Атомная энергия на стройучастке Перевальск — Кызылтау не применяется. Жанбаева интересует, видимо, что-то другое. Удалось перехватить шифровку его резидента. В ней не всё ясно, но, может быть, она пригодится вам. Передаем её текст: «Чтобы мы могли исправить допущенную вами ошибку, используйте сюрприз номер три».
Майор Ершов всю ночь думал над тем, что могла означать эта таинственная шифровка, адресованная Жанбаеву. В ней многое было неясно. Во-первых, что за ошибку он допустил? Может быть, им известно, что к Жанбаеву приехал не Мухтаров, а Ершов, и они обвиняют теперь Жанбаева в том, что он не сразу догадался об этом? Если так, то становится понятным, почему он скрылся куда-то и не связывается с Ершовым по радио. Во-вторых, что означает «сюрприз номер три»? Как этим сюрпризом можно исправить допущенную Жанбаевым ошибку? Может быть, и это имеет прямое отношение к нему, Ершову?
Майор поднялся с дивана и закурил. В комнате было душно. Он подошел к окну и открыл форточку. На улице было ещё темно. Дом напротив выступал из мрака мутным силуэтом. Где-то, захлебываясь от ярости, лаяла собака. Протяжно прогудел паровоз на станции. И снова всё замолкло.
Постояв немного у окна, Ершов медленно стал прохаживаться по комнате.
Что же они могли иметь в виду под «сюрпризом»? Что, если «сюрприз» — это их обычный прием: ликвидация опасного человека, то-есть его, Ершова? Майор и без того каждый день должен был ожидать, что его попытаются «убрать с пути» те, кому он мешал, с кем боролся. Но если враги собирались «убрать» его — значит, они разгадали его, значит, он был неосторожен, выдал себя чем-то и не сможет теперь выполнить свое задание…
А если под «сюрпризом» имеется в виду что-нибудь более значительное, чем покушение на контрразведчика Ершова? Непонятно, почему в шифровке сказано: «Чтобы мы могли исправить допущенную вами ошибку»? Повидимому, Жанбаев, используя «сюрприз», не сам исправит ошибку, а даст этим возможность «им» её исправить?
Ошибка Жанбаева была, наверно, в чем-то другом. Он, может быть, принял взрывы аммонита за взрыв атомной бомбы? Когда взрывают тысячи тонн обычной взрывчаткой, нетрудно принять её и за атомную. Наверно, сейсмографы Жанбаева вычертили ему такой график колебания почвы от этих взрывов, что он решил, будто это взрывы атомных бомб, и, видимо, донес об этом своим хозяевам, а потом, когда уже сам побывал на строительстве, понял, что допустил ошибку.
Всё, конечно, могло быть и так, но каким же «сюрпризом» Жанбаев должен был теперь исправить свою ошибку? И почему вообще эта ошибка могла иметь какое-то значение и нуждалась в исправлении?
ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕМОДАН
Пробираясь в кусты боярышника в третью ночь после встречи с Жанбаевым, Ершов решил, что если он и на этот раз не свяжется с ним по радио, значит Жанбаев ему определенно не доверяет. Томительно тянулось время. До начала сеанса оставалось ещё десять минут, но Ершов уже включил рацию. Настраиваясь на нужную ему волну, он послушал кусочек какой-то музыкальной передачи, отрывок из доклада о международном положении, какой-то заграничный джаз и без трех минут двенадцать поставил визир настройки на приеме Жанбаева. Часы у него были выверены по радиосигналам и шли безукоризненно точно. Сегодня он менее чем когда-либо рассчитывал на разговор с Призраком, но вдруг в наушниках его четко застучал радиотелеграфный ключ: «Ту… ту-ту… ту» — эго был позывной Жанбаева. Ершов вздрогнул от неожиданности и, затаив дыхание, торопливо стал записывать. Отстучав весь текст, Жанбаев повторил его, но Ершов и в первый раз успел записать всё без ошибок. Теперь нужно было срочно расшифровать радиограмму. Майор за это время так освоил код, что даже при тусклом свечении шкалы рации смог заменить цифры буквами. «Вам надлежит срочно, сегодня же, выехать в Аксакальск, — приказывал Жанбаев. — Первый поезд идет туда в три тридцать. Зайдите там в привокзальную камеру хранения ручного багажа и получите мой чемодан. Квитанцию и удостоверение, по которому она выписана, найдете в справочнике по археологии на столе в вашей комнате. С полученным чемоданом немедленно возвращайтесь назад и ждите дальнейших указаний…» После небольшой паузы Жанбаев продолжал передачу: «За нами, кажется, следит какой-то парень. Он наводил справки обо мне в археологической базе. Будьте осторожны». На этом радиосеанс был окончен.
«Выследил кто-то Малиновкина или Жанбаев заподозрил его со слов старика — заведующего археологической базой? — тревожно подумал Ершов. — А может быть, это Темирбек находится на службе у Жанбаева и следит за Малиновкиным? Очень возможно. Не случайно ведь пропадает он где-то целыми днями. Нужно быть ещё осторожнее…»
Затем мысли майора вернулись к заданию Жанбаева: «Не ловушка ли это? Может быть, и ловушка, но выполнить его необходимо».
Ершов спрятал рацию и, все ещё продолжая думать о приказании Жанбаева, вернулся в дом. Аскар давно уже спал или делал вид, что спит, — из комнаты его раздавался громкий храп. Темирбек ещё с утра уехал с каким-то поездом на стройучасток.
Майор прошел к себе в комнату и сразу же сел писать шифрованное письмо Малиновкину. Он сообщил ему о задании Жанбаева и о том, что Жанбаев подозревает лейтенанта. Приказал ему немедленно перебраться на другую квартиру и дать знать о себе письмом до востребования.
Аскару Ершов тоже написал записочку, в которой сообщал, что ему нужно срочно выехать по делам своего музея. Записку эту он оставил на столе в комнате хозяина.
До отхода местного поезда Перевальск — Аксакальск оставалось около часа. Нужно было торопиться на станцию. Ершов вышел на улицу и, проходя мимо почты, бросил в почтовый ящик письмо для Малиновкина.
На этом радиосеанс был окончен.
«Выследил кто-то Малиновкина или Жанбаев заподозрил его со слов старика — заведующего археологической базой? — тревожно подумал Ершов. — А может быть, это Темирбек находится на службе у Жанбаева и следит за Малиновкиным? Очень возможно. Не случайно ведь пропадает он где-то целыми днями. Нужно быть ещё осторожнее…»
Затем мысли майора вернулись к заданию Жанбаева: «Не ловушка ли это? Может быть, и ловушка, но выполнить его необходимо».
Ершов спрятал рацию и, все ещё продолжая думать о приказании Жанбаева, вернулся в дом. Аскар давно уже спал или делал вид, что спит, — из комнаты его раздавался громкий храп. Темирбек ещё с утра уехал с каким-то поездом на стройучасток.
Майор прошел к себе в комнату и сразу же сел писать шифрованное письмо Малиновкину. Он сообщил ему о задании Жанбаева и о том, что Жанбаев подозревает лейтенанта. Приказал ему немедленно перебраться на другую квартиру и дать знать о себе письмом до востребования.
Аскару Ершов тоже написал записочку, в которой сообщал, что ему нужно срочно выехать по делам своего музея. Записку эту он оставил на столе в комнате хозяина.
До отхода местного поезда Перевальск — Аксакальск оставалось около часа. Нужно было торопиться на станцию. Ершов вышел на улицу и, проходя мимо почты, бросил в почтовый ящик письмо для Малиновкина.
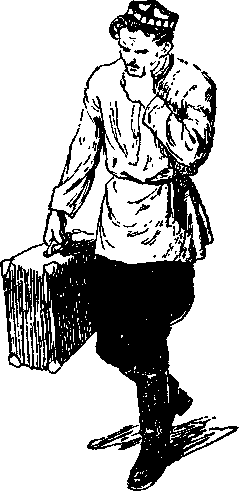 …В Аксакальск он прибыл ранним утром и без особых происшествий получил в камере хранения ручного багажа чемодан по квитанции, выписанной на имя какого-то железнодорожного кондуктора Рахманова.
Чемодан был среднего размера, кожаный, по внешнему виду ничем не примечательный. Два внутренних замка его были закрыты; ключа к ним не было. Ершов подумал: не зайти ли ему в районное отделение Министерства внутренних дел и не попытаться ли там открыть чемодан? Но он тут же отказался от этой мысли: за ним могли следить, и это погубило бы всё дело.
Сев в поезд, Ершов все время думал о таинственном чемодане, осматривая его со всех сторон. Выбрав момент, когда в купе никого не было, он попытался даже открыть его замки стальной проволочкой. Но это не удалось, несмотря на все усилия Ершова, имевшего некоторый опыт в слесарном деле. Майор, впрочем, решил, что вдвоем с Малиновкиным они попытаются всё же открыть его в Перевальске. Но тут же родилась смутная мысль: «А что, если чемодан, открывшись, взлетит на воздух? Ведь это и могло оказаться как раз тем сюрпризом, о котором говорилось в перехваченной шифровке». Ну, а если вся эта история с чемоданом всего лишь проверка его, Ершова?
В Перевальск Ершов прибыл в три часа дня. Едва он вышел из вагона, как к нему тотчас подошел Аскар.
— Вот удачно приехали, — улыбаясь, сказал он. — Тут как раз записку от товарища Жанбаева привез для вас один его знакомый. Приказано немедленно вам её передать. Вот, пожалуйста.
Ершов торопливо развернул вчетверо сложенный листок бумаги и прочел:
«Дорогой Таир Александрович!
Простите, что так долго заставил вас ждать меня. Зато привезу вам такую историческую вещицу, что вы только ахнете! Да ещё и документики кое-какие, относящиеся к древнейшим временам, удалось раздобыть. Наберитесь терпения ещё денька на два-три. Посмотрите тем временем в местной библиотеке дореволюционные архивы, особенно том третий. На страницах 1, 6, 11, 20, 30 и 34 обратите внимание на пометки царского чиновника Аксенова.
А теперь к вам просьба: чемоданчик, который я просил вас привезти из Аксакальска, передайте Аскару, а он переправит его ко мне. Извините, что пришлось затруднить вас таким поручением, но у меня не было другого выхода. До скорой встречи.
Ваш Каныш Жанбаев»
Цифры текста были, конечно, шифром. Нужно было немедленно их раскодировать.
— Подождите минутку, — сказал Ершов Аскару, отходя в сторону. — Я напишу несколько слов Жанбаеву.
— Пожалуйста, — равнодушно ответил Аскар. — Только побыстрее. Поезд, с которым я должен буду отправить записку, скоро отходит.
Ершов достал блокнот и, прислонясь к стенке вокзального здания, стал расшифровывать тайнопись Жанбаева, а Аскар, чтобы не мешать ему, направился к киоску с газированной водой.
Секретные указания Жанбаева, зашифрованные цифрами текста, были лаконичны. Они лишь подтвердили распоряжение, данное открытым текстом.
Что же делать теперь? Не отдавать чемодана? Но это значит открыть себя и дать Жанбаеву возможность улизнуть. Арестовать немедленно Аскара? Но ведь он может оказаться и не сообщником Жанбаева и даже, оказавшись сообщником, может не знать, где сейчас Жанбаев. Недаром у Жанбаева кличка «Призрак» — он, конечно, никому не доверяет ничего серьезного, и Аскар вряд ли знает о нём что-нибудь определенное.
Однако время идет, нужно что-то предпринять. Джандербеков уже напился воды и, посматривая на часы, косится в сторону майора. Ничего не поделаешь — нужно, видимо, идти на риск…
Ершов торопливо написал записку с ничего не значащими словами и несколькими цифрами, зашифровав в ней свой позывной, чтобы Жанбаев знал, от кого она.
— Пожалуйста, Аскар Габдуллович, — обратился он к уже подходившему к нему Джандербекову, — вот вам чемодан и записка для Жанбаева.
По пути домой Ершов зашел на почту и получил письмо от Малиновкина. Лейтенант сообщал свой новый адрес. В соответствии с распоряжением Ершова он ни на станции, ни даже в городе сегодня не был. Будет сидеть дома до темноты, а вечером пойдет на почту за новым приказанием майора.
Ершов тут же на почте написал письмо Малиновкину. Рассказал ему о происшествии с чемоданом Жанбаева и предложил связаться с местными органами МВД и железнодорожным начальством. Нужно было срочно предупредить их об усилении бдительности и возможной диверсии на строительстве железной дороги. Могло ведь оказаться, что в чемодане, который привез Ершов Жанбаеву, была взрывчатка.
…В Аксакальск он прибыл ранним утром и без особых происшествий получил в камере хранения ручного багажа чемодан по квитанции, выписанной на имя какого-то железнодорожного кондуктора Рахманова.
Чемодан был среднего размера, кожаный, по внешнему виду ничем не примечательный. Два внутренних замка его были закрыты; ключа к ним не было. Ершов подумал: не зайти ли ему в районное отделение Министерства внутренних дел и не попытаться ли там открыть чемодан? Но он тут же отказался от этой мысли: за ним могли следить, и это погубило бы всё дело.
Сев в поезд, Ершов все время думал о таинственном чемодане, осматривая его со всех сторон. Выбрав момент, когда в купе никого не было, он попытался даже открыть его замки стальной проволочкой. Но это не удалось, несмотря на все усилия Ершова, имевшего некоторый опыт в слесарном деле. Майор, впрочем, решил, что вдвоем с Малиновкиным они попытаются всё же открыть его в Перевальске. Но тут же родилась смутная мысль: «А что, если чемодан, открывшись, взлетит на воздух? Ведь это и могло оказаться как раз тем сюрпризом, о котором говорилось в перехваченной шифровке». Ну, а если вся эта история с чемоданом всего лишь проверка его, Ершова?
В Перевальск Ершов прибыл в три часа дня. Едва он вышел из вагона, как к нему тотчас подошел Аскар.
— Вот удачно приехали, — улыбаясь, сказал он. — Тут как раз записку от товарища Жанбаева привез для вас один его знакомый. Приказано немедленно вам её передать. Вот, пожалуйста.
Ершов торопливо развернул вчетверо сложенный листок бумаги и прочел:
«Дорогой Таир Александрович!
Простите, что так долго заставил вас ждать меня. Зато привезу вам такую историческую вещицу, что вы только ахнете! Да ещё и документики кое-какие, относящиеся к древнейшим временам, удалось раздобыть. Наберитесь терпения ещё денька на два-три. Посмотрите тем временем в местной библиотеке дореволюционные архивы, особенно том третий. На страницах 1, 6, 11, 20, 30 и 34 обратите внимание на пометки царского чиновника Аксенова.
А теперь к вам просьба: чемоданчик, который я просил вас привезти из Аксакальска, передайте Аскару, а он переправит его ко мне. Извините, что пришлось затруднить вас таким поручением, но у меня не было другого выхода. До скорой встречи.
Ваш Каныш Жанбаев»
Цифры текста были, конечно, шифром. Нужно было немедленно их раскодировать.
— Подождите минутку, — сказал Ершов Аскару, отходя в сторону. — Я напишу несколько слов Жанбаеву.
— Пожалуйста, — равнодушно ответил Аскар. — Только побыстрее. Поезд, с которым я должен буду отправить записку, скоро отходит.
Ершов достал блокнот и, прислонясь к стенке вокзального здания, стал расшифровывать тайнопись Жанбаева, а Аскар, чтобы не мешать ему, направился к киоску с газированной водой.
Секретные указания Жанбаева, зашифрованные цифрами текста, были лаконичны. Они лишь подтвердили распоряжение, данное открытым текстом.
Что же делать теперь? Не отдавать чемодана? Но это значит открыть себя и дать Жанбаеву возможность улизнуть. Арестовать немедленно Аскара? Но ведь он может оказаться и не сообщником Жанбаева и даже, оказавшись сообщником, может не знать, где сейчас Жанбаев. Недаром у Жанбаева кличка «Призрак» — он, конечно, никому не доверяет ничего серьезного, и Аскар вряд ли знает о нём что-нибудь определенное.
Однако время идет, нужно что-то предпринять. Джандербеков уже напился воды и, посматривая на часы, косится в сторону майора. Ничего не поделаешь — нужно, видимо, идти на риск…
Ершов торопливо написал записку с ничего не значащими словами и несколькими цифрами, зашифровав в ней свой позывной, чтобы Жанбаев знал, от кого она.
— Пожалуйста, Аскар Габдуллович, — обратился он к уже подходившему к нему Джандербекову, — вот вам чемодан и записка для Жанбаева.
По пути домой Ершов зашел на почту и получил письмо от Малиновкина. Лейтенант сообщал свой новый адрес. В соответствии с распоряжением Ершова он ни на станции, ни даже в городе сегодня не был. Будет сидеть дома до темноты, а вечером пойдет на почту за новым приказанием майора.
Ершов тут же на почте написал письмо Малиновкину. Рассказал ему о происшествии с чемоданом Жанбаева и предложил связаться с местными органами МВД и железнодорожным начальством. Нужно было срочно предупредить их об усилении бдительности и возможной диверсии на строительстве железной дороги. Могло ведь оказаться, что в чемодане, который привез Ершов Жанбаеву, была взрывчатка.
ТРЕВОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
На следующий день после того, как Ершов вернулся из Аксакальска, ему снова удалось связаться по радио с Жанбаевым, который, коротко сообщив о получении чемодана, дал Ершову новое, довольно странное распоряжение: «Если завтра Аскар не будет ночевать дома и не вернется к утру, немедленно забирайте рацию, садитесь на поезд и уезжайте в Аксакальск. К Габдулле Джандербекову не заходите. Снимите комнату на Джамбулской, двадцать один, у Арбузова. Передайте ему привет от меня и в двадцать четыре ноль-ноль будьте на приеме». «Что бы это могло значить?» — удивленно подумал Ершов, выключая рацию. Похоже было, что Жанбаев собирается ликвидировать свою базу в Перевальске. Но какое отношение имеет к этому Аскар? С ним случится что-нибудь или ему поручается что-то очень серьезное? И почему следует избегать квартиры Габдуллы Джандербекова? Пока было ясно только одно — Жанбаев собирается что-то предпринять. Нужно, значит, принять какие-то меры против этого, опередить его, не дать ему возможности осуществить свой замысел. Не заходя домой, огородами Ершов вышел на улицу. Дом, в котором поселился теперь Малиновкин, был ему известен. Он специально проходил мимо него днем, чтобы на всякий случай знать, как попасть туда в ночное время. Без труда нашел он его и теперь и, осмотревшись по сторонам, негромко постучал в окно той комнаты, в которой проживал, Малиновкин. Голова лейтенанта тотчас же появилась в окне. Узнав майора, Малиновкин осторожно отворил форточку: — Что случилось, Андрей Николаевич? — Можете вы незаметно выйти ко мне на улицу? — Лучше, если я через окно вылезу, чтобы хозяев не тревожить. Торопливо одевшись, лейтенант перекинул ноги через подоконник и спрыгнул на землю: в темноте он не опасался, что кто-нибудь заметит это. Ершов взял Малиновкина под руку и, медленно направившись с ним вдоль глухой, темной улицы, сообщил о новой шифрограмме Жанбаева. — Определенно этот негодяй задумал какую-то пакость! — возбужденно воскликнул Малиновкин, стискивая кулаки. — Спокойнее, Дмитрий! — строго остановил его Ершов. — Постарайтесь обходиться без восклицаний. Отправляйтесь немедленно к начальнику местного МВД. Сообщите ему о возможной диверсии в ближайшие сутки. Попросите установить наблюдение за Аскаром Джандербековым. Предупредите об опасности и железнодорожников. Без их помощи вряд ли нам удастся что-нибудь сделать. А мне нужно возвращаться в дом Джандербекова, чтобы не вызватьподозрений Аскара. Встретимся утром в девять часов в молочной на углу Первомайской улицы. Майор почти не спал остаток этой ночи, а как только рассвело, напряженно стал прислушиваться к звукам в доме Джандербекова. Темирбек не ночевал сегодня дома, но Аскар ещё вчера вечером будто невзначай сообщил Ершову, что он ушел в гости к какому-то родственнику и, наверно, там заночует. Сам Аскар проснулся, как обычно, в семь часов. Он не спеша умылся на кухне, позавтракал и направился на работу. Ершов понаблюдал за ним через окно. Он шел своей развалистой, неторопливой походкой, слегка сутулясь и неуклюже размахивая руками. Конечно, нелепо было по походке судить о том, что на душе у Джандербекова, но Ершову показалось, что человек, что-то замышляющий, не может идти так спокойно. Без четверти девять майор направился к Первомайской улице. Молочная только что открылась, когда он вошел в неё, но Малиновкин уже ухитрился каким-то образом заказать себе простоквашу и стакан кофе. Ершов сел за соседний столик и вежливо попросил у Малиновкина меню. Лейтенант протянул ему продолговатую твердую папку, в которую была вложена записка. «Сообщил всё кому следует, — писал лейтенант. — Обсудили все варианты возможных действий Жанбаева. Есть опасение, что он замышляет что-то в связи с отправлением сегодня на стройучасток эшелона со взрывчатыми веществами». «Ну да, конечно, он постарается использовать это обстоятельство, — сразу же решил Ершов, чувствуя, как на лбу его выступает испарина. — А я, значит, привез ему чемодан с подрывными средствами». Первой же реакцией было желание немедленно действовать: пойти на станцию и лично арестовать Аскара Джандербекова — потом видно будет, сообщник он Жанбаева или нет. Но тут же другой, более трезвый внутренний голос удержал его: что это даст? Срыв диверсии? Но ведь Жанбаев-то насторожится и если не осуществит своего замысла сейчас, то сделает это в другой раз, и тогда труднее будет предупредить его замысел — он поймет, что Ершову-Мухтарову нельзя больше доверять.ГАЗЕТНЫЕ ВЫРЕЗКИ
В тот же день и примерно в то же самое время в кабинет генерала Саблина пришел с докладом полковник Осипов. В руках его была довольно пухлая папка с вырезками из иностранных газет. Он положил её на стол перед генералом и молча сел в кресло, ожидая, когда Саблин закончит просмотр документов, представленных ему на подпись. Подписав последнюю бумагу и отложив её в сторону, генерал раскрыл наконец папку, принесенную Осиповым. Прочитав несколько газетных вырезок, он стал бегло перелистывать остальные, читая в них только заголовки статей и подчеркнутые Осиповым строки. По мере знакомства с этими материалами на лице его всё чаще возникало выражение недоумения, и он то и дело, бросал вопросительные взгляды на полковника. Осипов же задумчиво перелистывал иллюстрированный журнал, который он взял со стола Саблина, и казался безучастным. — То, что буржуазные газеты продолжают писать о проблемах использования атомной энергии в мирных целях, меня ничуть не удивляет, — задумчиво проговорил наконец Саблин, слегка отодвигая в сторону папку с вырезками. — Не удивляет меня и пессимистический тон буржуазных деятелей по этому поводу. Протесты против безудержной гонки вооружений и грозным предупреждением звучащее требование народов запретить оружие массового уничтожения вынудили их к этому разговору. Зачем, однако, снова принес ты мне всё это — не пойму что-то. — А ты не обратил разве внимания на то, что некоторые иностранные газеты ссылаются и на наш будто бы плачевный опыт использования атомной энергии? — спросил Осипов, придвигая к себе папку с вырезками. — Так подобные газетные «утки» появляются ведь не впервые, — пожал плечами Саблин. — Ну, а вот это, например. — Осипов вынул из папки и протянул генералу небольшую вырезку. — Они пишут тут об «ужасном взрыве с огромными жертвами», происшедшем будто бы на строительстве одной из наших среднеазиатских железнодорожных магистралей. Что ты об этом скажешь? Не кажется ли тебе, что статейка эта имеет какое-то отношение к миссии Жанбаева? — Тут не указывается ведь точный адрес «происшествия»? — спросил Саблин, пробегая глазами небольшую газетную статью, которую он не заметил при просмотре вырезок, принесенных полковником Осиновым. — Точного адреса нет, конечно, — ответил Осипов, нервно постукивая пальцами по краю стола, — да и быть не может, но боюсь, как бы они не попытались подкрепить эту газетную «утку» подлинными фактами. — Точнее? — попросил Саблин, хотя сразу же понял мысль Осипова. — Взрывом с большим количеством жертв, — ответил полковник и настороженно посмотрел в глаза собеседнику. — Не об этом ли «сюрпризе» говорилось в шифрограмме, адресованной Жанбаеву? Теперь ход мыслей Саблина совпал с мыслями полковника: Илья Ильич тоже думал сейчас об этом «сюрпризе» и о майоре Ершове. Проник ли он уже в замыслы Жанбаева или всё ещё теряется в догадках? Нужно будет предупредить его: пусть имеет в виду возможность подобного «сюрприза». — Когда у нас сегодня сеанс с Малиновкиным? — спросил генерал Саблин. — В час ночи. — Предупредите его, — коротко распорядился Илья Ильич. — Слушаюсь. В час ночи полковник Осипов уже сидел возле радиостанции и настороженно следил за уверенными действиями дежурного радиста. Он уже несколько раз вызывал Малиновкина, но ответа все не было. Когда большая стрелка часов стала отсчитывать одиннадцатую минуту второго часа, на лице полковника появились первые признаки нетерпения. Радист, подождав немного, снова застучал ключом, посылая в эфир свои позывные, но и на этот раз никто не отозвался. А спустя полчаса полковник Осипов докладывал генералу Саблину: — Малиновкин сегодня впервые не ответил на наш вызов. Что бы это могло значить? «Что бы это могло значить?» — размышлял генерал. Он не страдал бессонницей подобно полковнику Осипову и, несмотря на все волнения своего нелегкого трудового дня, хорошо спал ночами, если только срочные дела не были этому помехой. Сегодня, однако, он долго не мог заснуть. Саблин прошел большую, суровую школу жизни. Были и победы, были и поражения на его пути. Он врывался в конспиративные квартиры белогвардейских офицеров в годы гражданской войны, выслеживал тайных агентов иностранных разведок в годы первых пятилеток, служил в армейской контрразведке в годы Великой Отечественной войны. В него стреляли враги явные; против него строили козни враги скрытые, пробравшиеся в органы государственной безопасности, но он никогда не сдавал своих позиций. Всё сложнее становилась борьба, всё больших знаний требовала она от Саблина. Если в молодости полагался он главным образом на свою физическую силу, на верность глаза и на искусство владения оружием, то очень скоро потребовались и острое политическое чутье и знание международной обстановки. А теперь ко всему этому прибавилась нужда в таких познаниях, о которых в годы молодости своей он не имел даже элементарного представления. Возникла, например, необходимость в знании фототехники, микросъемки, радиотехники и даже телевидения. Не требовалось, конечно, быть специалистом в каждом из этих видов техники, но знание её основ и возможностей использования для целей разведки и контрразведки было совершенно необходимо. А как только человечество подошло к преддверию атомного века, то Саблину, чтобы строже и надежнее охранять военную и государственную тайну производства этой энергии, пришлось взяться и за литературу по физике, слушать лекции, советоваться и консультироваться со специалистами в области атомной и термоядерной энергии. Самым же главным для Саблина, без чего немыслимо было разобраться во всей сложности современной внешнеполитической и внутриполитической обстановки, всегда была марксистско-ленинская теория, помогавшая ему находить верные решения труднейших задач… Генерал Саблин лежал теперь в постели с открытыми глазами, выверял и взвешивал всё, пытаясь предвидеть дальнейшее развитие событий, возможные поступки врагов и действия своих подчиненных. Положение майора Ершова казалось ему особенно сложным; помочь ему требовалось больше, чем кому-либо другому. Но Саблину самому был не вполне ещё ясен очередной ход противника, а не разгадав этого хода, нельзя было дать Ершову верного совета.НОЧНОЙ РЕЙС
Ночь была на редкость темной: в двух шагах ничего не было видно. — Нужно же затянуть отправку такого эшелона дотемна! — ворчал Шатров, поглядывая в окно паровозной будки на мрачное, беззвездное небо. — Дежурный говорит, что перегон был занят, — заметил Рябов, подкачивавший инжектором воду в котел. — С Абдулаевым что-то случилось. Застрял он на перегоне Голубой арык — Сосновый бор. Только с помощью толкача еле втащили его на подъем. В окно Шатров видел разноцветные огоньки станционных сигналов и желтые пятна фонарей в руках осмотрщиков вагонов, проверявших только что прибывший на станцию товарный состав. Блеснул вдалеке луч прожектора локомотива поезда, отходившего от пассажирской станции в сторону Аксакальска. Шатров знал уже об угрозе, нависшей над поездом, и хоть внешне ничем не выражал своей тревоги — на душе у него было неспокойно. Придирчивее, чем обычно, наблюдал он за работой помощников, требуя от них безукоризненной точности выполнения всех своих распоряжений. — Держи по всей колосниковой решетке огонь ровным слоем, Федор! — приказывал он Рябову, заглядывая в топку. — Тимченко! — кричал он кочегару, сортировавшему уголь на тендере. — Покрупнее подавай уголь. Мелочь искрить будет, а это опасно для нашего груза. Так как поезд отправляли ночью, принимались особые меры предосторожности. Шатров заметил даже двух работников Министерства внутренних дел, несколько раз проходивших мимо состава. А когда поезд должен был тронуться в путь, к Шатрову подошел коренастый военный и, приложив руку к козырьку фуражки, представился: — Капитан Бегельдинов. Надеюсь, вас не нужно предупреждать, товарищ Шатров, о необходимости быть бдительным? У нас сегодня есть основания беспокоиться за ваш поезд… — Что эти военные панику поднимают! — недовольно заметил Рябов, когда капитан отошел от их паровоза. — Настроение только портят! По техническим причинам поезд задержался на станции ещё на полчаса. Вокруг попрежнему было темно и безлюдно. Дул ветер, уныло завывая в щелях паровозной будки. Тревожное настроение постепенно передалось и Рябову, и он всё чаще посматривал в окно будки на растворявшийся где-то во тьме хвост состава и призрачные огоньки сигнальных фонарей, мерцавших на станции. Но вот главный кондуктор дал свисток, и поезд тронулся. Замелькали по сторонам привычные силуэты станционных строений, пестрые огоньки ночной сигнализации, тускло освещенный пригород, и поезд, набирая скорость, вышел наконец в открытую степь. Казалось, в непроглядной мгле ничего уже нельзя было разглядеть по сторонам, но Константин по выхваченным из темноты лучом прожектора кустикам, пикетным столбикам, уклоноуказателям, похожим на мрачные кресты, и по другим предупредительным знакам и знакомым предметам свободно читал местность и уверенно вел свой локомотив. Когда поезд пришел на станцию Красная Юрта, на которой ему полагалась небольшая остановка, Рябов сошел с паровоза и прошелся вдоль состава. Вернувшись, он зябко передернул плечами и негромко проговорил: — Действительно страшновато, понимаешь… — А вот теперь я могу сказать тебе — на поднимай паники, — усмехнулся Константин. С поездом Шатрова на тормозных площадках вагонов, переодетые стрелками железнодорожной охраны, ехали в эту ночь Ершов и Малиновкин: майор — вместе с главным кондуктором в голове поезда, лейтенант — с хвостовым кондуктором на последнем вагоне. Ещё три стрелка разместились на остальных тормозных площадках. Малиновкин был в приподнятом настроении — наконец-то он участвует в настоящем деле! «Чертовски нужная наша профессия контрразведчиков! — с гордостью думал он, всматриваясь в темноту. — Вот где-то в ночи неслышно ползут сейчас гады — шпионы и диверсанты. Они могут отравить колодцы, выкрасть важные военные документы, убить большого государственного деятеля, взорвать поезд со взрывчатыми веществами. Чтобы помешать им совершить их гнусное дело, нужно упорно идти по их следам; долгие, томительные дни терпеливо выжидать и выслеживать врага, рассчитывая каждый свой шаг и угадывая каждый его шаг и не имея права ошибиться. А когда наконец враг будет настигнут, когда его схватишь за горло и прижмешь к стенке, никому нельзя будет рассказать об этом деле, хотя очень захочется рассказать о нем, потому что это будет настоящий подвиг, которым смогут гордиться и твои друзья и твоя невеста, если только она есть у тебя…» У Малиновкина не было пока невесты, и он тяжело вздохнул. У него была девушка, которая ему только нравилась, но для того, чтобы назвать её невестой, нужно было полюбить её так, как Шатров полюбил Ольгу. Мысли Малиновкина отклонились в сторону: он вспомнил о Беловой, которую он видел недавно на станции Большой Курган. Она понравилась ему тогда, хотя он и не назвал бы её красавицей. Но, отогнав от себя эти воспоминания, он снова стал думать о контрразведчиках. «Да, чекисту нельзя болтать о своей работе, иначе он может погубить и себя и дело, которое ему поручено. Если же он не умеет владеть собой и тщеславие окажется сильнее его воли, то он уже не контрразведчик, не чекист. Значит, он случайно совершил подвиг и его зря наградили. А слава и без того пойдет следом, если только заслужишь её честно». Малиновкин вспомнил, как он первый раз смотрел кинокартину «Подвиг разведчика», каким уважением проникся к главному герою. «Надо быть только таким, как майор Федотов, — говорил он себе. — И я буду таким! Другим просто нельзя быть — незачем идти тогда в разведчики…» Ершов тоже задумчиво смотрел в это время в непроглядно-темную степь за тормозной площадкой вагона. «Пробрались ли уже враги на поезд или проникнут на него где-то в пути? — напряженно думал он. — И кто они, эти враги: сам ли это Жанбаев, Темирбек или Аскар Джандербеков?» Конечно, и Аскар мог бы по приказанию Жанбаева подложить что-нибудь в один из вагонов, но за ним теперь тщательно следили, и Ершову было известно, что до отхода поезда он не выходил из помещения кондукторского резерва. Ершов не опасался, что Призраком подкуплен кто-нибудь из кондукторской бригады. Ему ещё днем сообщили, кто будет сопровождать поезд. Все люди были надежные. Одного из них — главного кондуктора Бейсамбаева — он знал лично. Подойти незаметно к поезду в Перевальске тоже было невозможно, так как он охранялся усиленным нарядом. У Жанбаева оставался лишь такой ход: подобраться к поезду на одной из промежуточных станций. Значит, нужно быть повнимательнее на остановках. — Сколько ещё у нас в пути остановок, товарищ Бейсамбаев? — спросил Ершов у главного кондуктора. — Две всего остались, — ответил главный кондуктор. — Сейчас Курганча будет, а потом Абайская. Когда поезд пришел на станцию Курганча, небо на востоке стало светлеть. Оно было теперь почти безоблачно. Ветер, всю ночь усердно разгонявший тучи, тоже немного успокоился. Контуры большегрузных крытых вагонов поезда постепенно становились всё отчетливее. Можно было разглядеть уже и составы, стоявшие на соседних путях, и станционные строения. Несколько местных железнодорожников, вышедших встречать поезд Шатрова, медленно шли вдоль вагонов. Мерно покачивались в их руках фонари, бросая тусклые пятна света на серый песок балласта. Бейсамбаев поздоровался с одним из них, видимо с дежурным по станции, и пошел рядом. Майор тоже соскочил со ступенек тормозной площадки и прошелся вдоль вагонов, посматривая по сторонам. С паровоза спрыгнул кто-то из бригады Шатрова, кажется Рябов. Прошли мимо осмотрщики вагонов, приподнимая длинными крючками крышки вагонных букс. Стрелки железнодорожной охраны тоже ходили теперь вдоль состава, держа винтовки наперевес. К майору подошел сержант железнодорожной милиции, дежуривший на станции. Видимо, Бейсамбаев сообщил ему, что Ершов тут самый старший. Приложив руку к козырьку фуражки, он доложил: — У нас тут всё в порядке, товарищ начальник. А у вас как? — Да тоже как будто всё благополучно, — ответил Ершов. — Вы покараульте здесь за меня, а я пройдусь немного. — Слушаюсь, — отозвался сержант. Поинтересовавшись у Рябова, как у них идут дела на паровозе, Ершов повернулся назад и медленно пошел к хвосту поезда, останавливаясь у тормозных площадок и разговаривая со стрелками охраны. Когда он подходил уже к концу поезда, с хвостового вагона спрыгнул Малиновкин и торопливо пошел к нему навстречу. — Ну, как тут у Вас дела, Митя? — Всё в порядке, Андрей Николаевич, — ответил лейтенант и добавил, понижая голос: — Но вы знаете, оказывается, хвостовым кондуктором едет со мной Темирбек. Я его теперь только узнал, когда рассветать стало. Прежний хвостовой кондуктор, оказывается, внезапно заболел перед самым отходом поезда, и его заменили Темирбеком. Так, по крайней мере, объяснил мне это сам Темирбек. — Это очень важное обстоятельство! — взволнованно проговорил Ершов. — Как он ведёт себя? — Флегматично, как всегда. За всю дорогу ни слова не вымолвил, если не считать объяснения, которое дал мне всего полчаса назад. — Мне нельзя показываться ему на глаза, но вы ни на минуту не упускайте его из виду! — торопливо распорядился Ершов. — Кто знает, может быть, именно ему поручил Жанбаев диверсию, хотя не верится мне, чтобы он доверил этому человеку такое дело… Когда Ершов вернулся к своей тормозной площадке, Бейсамбаев сообщил ему: — Ну, скоро двинемся дальше. Теперь уже без остановок. Поездной диспетчер обещает «зеленую улицу» до самого Большого Кургана. Целых полчаса на этом сэкономим. — Сколько мы простоим тут ещё? — спросил Ершов. — Минут пять, пожалуй. Не больше. — А то, что у вас на хвостовом вагоне вместо Дослаева едет Темирбек, вам известно? — Да, конечно, ведь Дослаев внезапно заболел. Я забыл вам об этом доложить. А Темирбека я хорошо знаю. Старательный человек. Родственник начальника нашего, Джандербекова. Ничего не ответив Бейсамбаеву, Ершов снова пошел вдоль состава к хвосту поезда. «Случайно так всё получилось или Темирбек имеет задание от Жанбаева? Аскар мог ведь специально всё так подстроить, чтобы Темирбек попал на этот поезд», — думал Ершов. И всё-таки ему не очень верилось, чтобы главным исполнителем плана Жанбаева был этот угрюмый, туповатый Темирбек. Ещё в Москве, перед поездкой в Перевальск, Ершов подробно познакомился в справочном отделе министерства со всеми более или менее достоверными материалами о знаменитом Призраке. Архив министерства располагал главным образом газетными очерками и статьями буржуазных журналистов в отделах международной хроники. Они, конечно, многое присочиняли, окутывали личность Призрака ореолом романтики и таинственности. Статьи о нём были написаны в духе похождений небезызвестного полковника Лоуренса — героя английской разведки, мастера международных провокаций на Востоке. Ко всем этим статьям, вырезанным из иностранных газет и журналов, были соответствующие комментарии работников Министерства иностранных дел. На основании всех этих данных получилось, что Призрак обычно пользовался очень небольшим количеством сообщников, никому из них не доверяя и никого не посвящая в основные свои планы. Главный же свой замысел он обычно осуществлял сам, без помощников. Но зачем же тогда здесь этот Темирбек? Может быть, Призрак изменил тактику или поручил Темирбеку что-нибудь такое, что отвлекло бы внимание от самого Призрака? Для второстепенной роли мог, конечно, пригодиться и этот фанатик. Да и вообще слишком уж что-то много помощников понадобилось Призраку на этот раз. Получалось, что на него работали Аскар, Темирбек и Мухтаров. Или, может быть, не все они его сообщники? Ершов подходил уже к хвостовому вагону, когда поезд медленно тронулся с места. «Куда же мне теперь вспрыгнуть?» — забеспокоился майор, прикидывая в уме, уместно ли будет ему появиться сейчас на тормозной площадке хвостового вагона лицом к лицу с Темирбеком. Решив, что хвостовому кондуктору лучше не показываться, майор побежал было к ближайшей тормозной площадке, как вдруг услышал тревожный выкрик Малиновкина: — Эй, Темирбек! Майор остановился и снова торопливо повернулся к хвостовому вагону. Что бы это могло значить? Почему Малиновкин зовет Темирбека? Хвостовой вагон теперь подкатывался к нему, и он увидел свесившегося с противоположной стороны тормозной площадки лейтенанта. — В чем дело, Дмитрий? — спросил он, поспешно вспрыгивая на ступеньки вагона. — Темирбек пропал куда-то!.. — испуганно проговорил Малиновкин. — Кто-то из местных станционных работников только что проходил тут мимо, и Темирбек спрыгнул, чтобы узнать, как поезд пойдет дальше. — Ну и что же? Говорите скорее! — Я услышал его восклицание «Апырай»! Но поезд вдруг тронулся, и Темирбек словно сквозь землю провалился. Несколько мгновений майор соображал. Он знал, что возглас «Апырай» означает у казахов удивление и даже испуг. Что же удивило или испугало Темирбека? Видимо, то, что поезд пойдет дальше без остановок. Значит, это как-то нарушало его планы… А поезд между тем всё увеличивал скорость, и по сторонам всё чаще мелькали стоящие на соседних путях вагоны. Темирбека нужно было схватить немедленно! Замешан он в замыслы Жанбаева или нет — это выяснится позже, а сейчас его следует поймать во что бы то ни стало. Тут, на станции, нетрудно будет это сделать. На ней находятся только два состава порожняка, а сама станция — лишь несколько служебных построек. Вокруг же простиралась голая степь. Темирбеку тут не уйти никуда. Поймать его помогут Малиновкину сержант милиции, дежурящий на станции, и местные железнодорожники. — Дмитрий, — почти выкрикнул Ершов, схватив лейтенанта за руку, — спрыгивайте немедленно и поймайте Темирбека во что бы то ни стало!.. Малиновкин торопливо кивнул головой и передал свою винтовку Ершову; у него в запасе был пистолет. Поезд почти миновал станцию и развил такую скорость, что прыгать с него было рискованно. Но Малиновкин был хорошим спортсменом и спрыгнул благополучно. Теперь уже почти совсем рассвело. Небольшое облачко на востоке окрасилось в яркий цвет. Красноватый отблеск его лег на землю. «Зачем всё-таки Темирбек сбежал с поезда так поспешно?» — думал майор Ершов, наблюдая, как лейтенант Малиновкин перебегал через рельсы к составу порожняка, стоящему на станции. И тут его осенила тревожная догадка: Темирбек, наверно, поставил на этом поезде мину замедленного действия, которая должна взорваться на последнем перегоне или на конечной станции, Большой Курган, где сосредоточивались не только наиболее ценные грузы и механизмы, но и находилось много рабочих. Он рассчитывал, видимо, покинуть поезд на предпоследней остановке, так как первоначально предполагалось, что эшелон будет останавливаться на всех станциях. Уйти с поезда раньше Темирбек, очевидно, не имел возможности, так как это вызвало бы подозрения, да и мину, по всей вероятности, нельзя было оставлять без присмотра. Но где же может находиться эта мина? «Она где-нибудь здесь, наверно», — решил Ершов и стал поспешно осматривать тормозную площадку.ЗАМИНИРОВАННЫЙ ПОЕЗД ПРИХОДИТ В БОЛЬШОЙ КУРГАН
Рассветало, когда Ольга Белова, по поручению своего начальника, пришла на станцию встретить поезд Шатрова со взрывчатыми веществами. Тревожно было у неё на душе. За день до этого начальник ознакомил её с документами, пришедшими из местного отделения МВД. В них сообщалось о возможности диверсии со стороны врагов и предлагалось усилить бдительность в районе взрывных работ. К тому же ещё вчера у Ольги был неприятный разговор с дежурным по станции Большой Курган — инженер-лейтенантом Грачевым. Он упрекал Ольгу в том, что подчиненные ей взрывники до сих пор не вывезли со станции значительное количество аммонита, находившегося в вагонах-складах. Вчера начальник Ольги дал указание инженеру, отвечающему за безопасность взрывных работ, немедленно вывезти аммонит со станции, но тот не успел ещё выполнить его приказание. А станция и без того была забита цистернами с бензином и другими легко воспламеняющимися материалами. Ольга ходила теперь по перрону, тревожно раздумывая об этом и напряженно вглядываясь в ту сторону станции, откуда должен был показаться паровоз Шатрова. Она уже хотела было справиться у железнодорожного начальства, не опаздывает ли поезд Константина, но в это время к ней торопливо подошел оператор Ерохин и позвал к дежурному по станции. Инженер-лейтенант Грачев удивил её бледностью лица и беспокойным блеском глаз. Она сразу же подумала, что случилось, видимо, что-то необычное, если так изменилась внешность этого хладнокровного человека. — Что слышно о поезде Шатрова, товарищ Грачев? — торопливо спросила Ольга, с тревогой глядя в глаза дежурному. — Поезд Шатрова близко, — ответил Грачев, и голос его дрогнул слегка, хотя он, видимо, изо всех сил старался скрыть своё волнение. — Прибудет с минуты на минуту, но… Грачев замялся, будто не решаясь произнести какое-то страшное слово, но, сделав над собой усилие и осмотревшись по сторонам, проговорил, понижая голос почти до шопота: — Он заминирован. — Как?! — вскрикнула Ольга, сразу же почувствовав, что ладони её рук стали мокрыми. — Диверсанты поставили на нем мину замедленного действия. Она может взорваться каждое мгновение, — пояснил дежурный, взяв наконец себя в руки. — Нужно действовать немедленно! Я прошу вас помочь мне. Необходимо предупредить всех об опасности. Я закрою семафор и не пущу поезд на станцию. Но если он взорвётся даже там — всё равно беда будет немалая. — Что же я должна делать? — Поднимите рабочих в бараках и уведите их за холмы. Бараки ведь в конце станции, как раз за входным семафором. — Значит, если там взорвется поезд… — Да, да! — нетерпеливо прервал её дежурный. — Именно поэтому нужно выводить их из бараков как можно скорее! — Хорошо, я сделаю это! — с неожиданной решимостью проговорила Ольга. Она почувствовала вдруг необыкновенный прилив сил и уже собиралась выбежать из конторы дежурного по станции, но Грачев торопливым жестом остановил её: — Минуточку, Ольга Васильевна! Я пошлю с вами Ерохина. Он предупредит поездную бригаду об опасности. Они ведь не знают ещё, что поезд заминирован… Ерохин, — повернулся Грачев к оператору, молодому человеку, настороженно прислушивавшемуся к разговору дежурного с Беловой, — понятно вам, что от вас требуется? — Так точно, товарищ инженер-лейтенант! — Действуйте! Ольга и Ерохин почти одновременно вышли из конторы дежурного. До входного семафора было ещё довольно далеко, но они не выдержали и побежали вдоль пути, прыгая со шпалы на шпалу. Они пробежали уже значительную часть расстояния и приближались к семафору, когда крыло его тяжело опустилось, будто простреленное кем-то живое крыло смертельно раненной птицы. И как раз в это время из-за холмов вынырнул паровоз Шатрова с ещё не потушенным прожектором и каким-то лихорадочным блеском буферных сигнальных огней. — Знаете что, товарищ Ерохин… — Ольга остановилась на мгновение и схватила оператора за руку: — паровозную бригаду предупрежу я сама, а вы бегите к баракам. Ерохин подумал, что девушка, видимо, устала и не может бежать дальше. — Хорошо, — поспешно ответил он, — предупредите их, а я побегу спасать рабочих. Поезд Шатрова заметно сбавил скорость и вот-вот готов был остановиться. Ольга бежала к нему, спотыкаясь и увязая в сыпучем песке. Но её заметили с паровоза. Константин, успевший уже остановить поезд, поспешно спускался из будки машиниста ей навстречу. — Константин, Костя!.. — почти задыхаясь, прокричала она, хватаясь за лесенку паровоза. — Ваш поезд заминирован! Мина должна взорваться скоро! Уходите немедленно с паровоза!.. — Как — уходить?.. — Константин остановился на последней ступеньке — Бараки же вокруг… Как же можно?.. Ты слышишь, Федор? Побледневший Рябов высунулся из окна паровозной будки. — Кто такое сумасшедшее приказание дал — бросить паровоз?.. — прокричал он, меряя девушку злыми глазами. — Вот что, — перебивая Рябова, торопливо проговорил Шатров. — Перегон ещё считается занятым нами, и мы сейчас задним ходом уведем на него поезд. Бегите быстрее на станцию, Ольга Васильевна, и доложите об этом дежурному. — Не рискуйте вы так, Костя! — испуганно проговорила Ольга и, заметив по выражению лица Шатрова, что он не изменит своего решения, изо всех сил побежала к станции. — Тимченко! — крикнул между тем Шатров кочегару. — Живо спрыгивай с паровоза и беги предупредить охрану и нашу поездную бригаду! Пусть они поскорее соскакивают с поезда. Ты тоже оставайся с ними. Перепуганный кочегар почти скатился с паровоза. Видя, с какой поспешностью убегает с паровоза Тимченко, Шатров повернулся к Рябову: — Иди и ты, Федор… — Да ты что?.. — Рябов зло выругался. И Константин понял, что Федор ни за что не уйдет с паровоза. А времени терять было нельзя. Он поспешно схватился за рукоятку переводного механизма и установил её для пуска паровоза задним ходом. Отпустив затем тормоза, Шатров приоткрыл слегка регулятор, впуская пар в цилиндры, и медленно сдвинул состав с места. Бледный, дрожащий от волнения Рябов судорожно вцепился потными руками в подоконник паровозной будки, будто опасаясь, что кто-то может силой стащить его с локомотива. Он механически следил за быстрыми, уверенными действиями Шатрова, но, казалось, не понимал, что тот делает. А поезд постепенно набирал скорость и всё дальше уходил от станции. Местность по сторонам железнодорожного пути становилась всё пустыннее. Лишь жесткий, пыльный кустарник, росший по склонам невысоких пологих холмов, слегка оживлял унылый пейзаж, да первые лучи показавшегося из-за горизонта солнца прибавили несколько ярких бликов к тусклым в эту пору года краскам местной природы.
Постепенно приходя в себя, Рябов, посмотрел в окно на убегавшие вперед вагоны. В красноватых лучах восходящего солнца они казались залитыми кровью. Федор торопливо повернулся к Шатрову.
— Так, значит, и погибнем мы тут, Костя?.. — проговорил он дрогнувшим, незнакомым голосом.
Константин не ответил. Он торопливо высунулся в окно и произнес, будто рассуждая вслух:
— Ну, хватит, кажется… Теперь уже не опасно.
Потом прикрыл регулятор и стал осторожно притормаживать поезд. Федор, ничего не понимая, удивленно смотрел на него. А когда состав уже почти совсем остановился, Шатров резко повернулся к нему и крикнул:
— Чего стоишь? Быстро отцепляй паровоз!
Тут только Федор понял замысел Шатрова и стремительно бросился вниз по лесенке паровоза. Достигнув земли, он едва устоял на ногах и побежал по обочине железнодорожного полотна вдоль всё ещё медленно катившегося тендера. Песок под ногами казался необычайно зыбким — ноги тонули в нём, бежать было трудно. Пот заливал разгоряченное лицо Федора, а сердце билось так учащенно, словно он без передышки преодолел огромное расстояние.
Добежав наконец до конца тендера, он цепко ухватился за его буферный брус и, торопливо поймав торчащий сбоку рычаг расцепного привода автосцепки, с силой приподнял его вверх, вывел из прямоугольного паза кронштейна, затем до отказа повернул на себя и опустил в прежнее положение. Звякнула цепь, скрипнул валик подъемника, и огромные кулаки автосцепки разомкнули свою стальную хватку.
Поезд теперь совсем остановился. Федор хотел уже было броситься назад, к паровозу, но вспомнил, что не разъединил ещё воздушную магистраль автоматических тормозов. Нагнувшись, он поспешно перекрыл концевые краны магистральной трубы и, схватившись за резиновые рукава, легко разомкнул их половинки.
— Что ты там копаешься, Федор? — сердито крикнул Шатров, высовываясь из паровозной будки.
Рябов проворно вылез из-под вагонных соединений и опрометью бросился к паровозу. А когда он схватился наконец за поручни лесенки, локомотив стал медленно отделяться от состава, готового ежесекундно взлететь на воздух. Рябов уже почти взобрался на паровоз, как вдруг услышал чей-то громкий крик:
— Рябов! Шатров!
Юноша поспешно обернулся и увидел, как вдоль состава бежал к паровозу какой-то человек в военной форме, энергично размахивая руками.
А поезд постепенно набирал скорость и всё дальше уходил от станции. Местность по сторонам железнодорожного пути становилась всё пустыннее. Лишь жесткий, пыльный кустарник, росший по склонам невысоких пологих холмов, слегка оживлял унылый пейзаж, да первые лучи показавшегося из-за горизонта солнца прибавили несколько ярких бликов к тусклым в эту пору года краскам местной природы.
Постепенно приходя в себя, Рябов, посмотрел в окно на убегавшие вперед вагоны. В красноватых лучах восходящего солнца они казались залитыми кровью. Федор торопливо повернулся к Шатрову.
— Так, значит, и погибнем мы тут, Костя?.. — проговорил он дрогнувшим, незнакомым голосом.
Константин не ответил. Он торопливо высунулся в окно и произнес, будто рассуждая вслух:
— Ну, хватит, кажется… Теперь уже не опасно.
Потом прикрыл регулятор и стал осторожно притормаживать поезд. Федор, ничего не понимая, удивленно смотрел на него. А когда состав уже почти совсем остановился, Шатров резко повернулся к нему и крикнул:
— Чего стоишь? Быстро отцепляй паровоз!
Тут только Федор понял замысел Шатрова и стремительно бросился вниз по лесенке паровоза. Достигнув земли, он едва устоял на ногах и побежал по обочине железнодорожного полотна вдоль всё ещё медленно катившегося тендера. Песок под ногами казался необычайно зыбким — ноги тонули в нём, бежать было трудно. Пот заливал разгоряченное лицо Федора, а сердце билось так учащенно, словно он без передышки преодолел огромное расстояние.
Добежав наконец до конца тендера, он цепко ухватился за его буферный брус и, торопливо поймав торчащий сбоку рычаг расцепного привода автосцепки, с силой приподнял его вверх, вывел из прямоугольного паза кронштейна, затем до отказа повернул на себя и опустил в прежнее положение. Звякнула цепь, скрипнул валик подъемника, и огромные кулаки автосцепки разомкнули свою стальную хватку.
Поезд теперь совсем остановился. Федор хотел уже было броситься назад, к паровозу, но вспомнил, что не разъединил ещё воздушную магистраль автоматических тормозов. Нагнувшись, он поспешно перекрыл концевые краны магистральной трубы и, схватившись за резиновые рукава, легко разомкнул их половинки.
— Что ты там копаешься, Федор? — сердито крикнул Шатров, высовываясь из паровозной будки.
Рябов проворно вылез из-под вагонных соединений и опрометью бросился к паровозу. А когда он схватился наконец за поручни лесенки, локомотив стал медленно отделяться от состава, готового ежесекундно взлететь на воздух. Рябов уже почти взобрался на паровоз, как вдруг услышал чей-то громкий крик:
— Рябов! Шатров!
Юноша поспешно обернулся и увидел, как вдоль состава бежал к паровозу какой-то человек в военной форме, энергично размахивая руками.
ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЗРЫВА
Станция осталась далеко позади, когда Ершов заметил под небольшой лавочкой тормозной площадки сундучок, окованный железом. Такие сундучки обычно берут с собой в дорогу поездные бригады. Наверно, его оставил здесь хвостовой кондуктор Темирбек. Торопливо нагнувшись, Ершов заметил массивный замок в петлях крышки и, потрогав его, убедился, что он закрыт. Тогда майор осторожно выдвинул сундук из-под лавочки на середину тормозной площадки. Он почти не сомневался теперь, что мина замедленного действия в этом сундуке. Приложив ухо к крышке, майор прислушался, но шум колес поезда, видимо, заглушал тиканье часового механизма внутри сундука. Нужно было немедленно открыть замок, но чем? Ершов ощупал карманы — в них не было ничего подходящего. Но тут взгляд его упал на винтовку Малиновкина, которую он прислонил к барьеру тормозной площадки. Ершов снял с нее штык и острый конец его просунул в дужку одной из петель сундука. Упругая сталь штыка прогнулась слегка от усилия его рук, но и дужка начала медленно сворачиваться в сторону. Нужно было бы посильнее нажать на нее, но Ершов боялся шевелить сундук, чтобы не потревожить мину. Наконец перекрученная несколько раз железная петля отскочила от сундука. Майор, затаив дыхание, осторожно открыл крышку и тотчас же увидел коричневый грибообразный предмет, торчавший из деревянной коробки, вложенной в сундук. Не могло быть сомнения, что это взрыватель мины замедленного действия. В коробке же, из которой он торчал, находилась, видимо, взрывчатка.
Ершов торопливым движением вытер выступивший на лбу холодный пот и опустился перед сундуком на корточки. За время работы в разведке и контрразведке он изучил множество систем различных мин замедленного действия — и своих, отечественных, и иностранных. Взглянув теперь на коричневый гриб, он сразу же сообразил, что это взрыватель мины замедленного действия. Он несколько напоминал немецкий часовой взрыватель «I-Feder-504» с заводом на двадцать одни сутки. Но механизм его был незнакомой конструкции.
Присмотревшись к нему повнимательнее, майор обнаружил в верхней, уширенной части его корпуса несколько подвижных ободков с рубчиками накатки. Нижняя же, цилиндрическая часть, имевшая меньший диаметр, была, очевидно, ввинчена в запальную шашку со взрывчаткой, лежавшей внутри деревянного ящика.
Первой мыслью Ершова было схватить сундук с этой миной и сбросить с поезда. Но он тут же сообразил, что вряд ли удастся отбросить его так далеко, чтобы не опасаться детонации, в случае если мина взорвется, а она взорвалась бы непременно. Мину вообще опасно было трогать, так как она могла взорваться даже в руках от самого легкого сотрясения.
Поезд между тем развил довольно значительную скорость, и телеграфные столбы по бокам тормозной площадки мелькали всё чаще и чаще. Но Ершов уже ни на что не обращал внимания, все мысли и чувства его были сосредоточены теперь только на мине. Продолжая изучать её, он заметил вскоре на верхней части корпуса взрывателя смотровое окошко. Через застекленное отверстие его были видны колесико балансирного маятника и установочный диск с красными делениями и цифрами. Нетрудно было сообразить, что цифры на дуге диска означают часы, а деления между ними — минуты.
Пока Ершов изучал взрыватель, он заметил, что установочный диск его сместился справа налево на два мелких деления. Сверившись со своими часами, майор определил, что смещение это соответствует двум минутам.
«На какое же время рассчитано замедление? Когда произойдет взрыв?» — тревожно думал Ершов, ещё ниже склоняясь над сундуком Темирбека.
Не дотрагиваясь до мины, он торопливо принялся осматривать её взрыватель со всех сторон. В самой верхней части его, в центре широкого ободка с рубчиками накатки, он заметил вскоре головку с красными черточками делений и цифрами от «1» до «24». Как и в смотровом окошке, здесь находился красный треугольник. Угол его совмещался с цифрой «5». Видимо, это и было заданное время замедления механизма взрывателя. До взрыва, следовательно, оставалось теперь всего полчаса.
Хотя полчаса — это совсем короткий промежуток, Ершов все же вздохнул с некоторым облегчением. Вынув платок из кармана, он вытер им лицо, мокрое от пота, и впервые осмотрелся по сторонам.
С тормозной площадки хвостового вагона была видна холмистая местность с низкорослым кустарником, подступавшим почти к самому полотну железной дороги. Выжженный солнцем и припудренный пылью балластного песка, он казался неживым, окаменевшим. Зато многочисленные холмы, тесно примыкавшие друг к другу, в легком мареве утреннего тумана представлялись свернувшимися в клубок спящими животными. А вверху, над холмами и над крышами вагонов, уже розовело небо раннего утра.
Нужно было торопиться, так как с каждой минутой механизм взрывателя становился всё более чувствительным к сотрясению. Боевая пружина его вот-вот готова была послать ударник в чувствительную сердцевину капсюля-детонатора.
Но где же тут предохранитель взрывателя? Ершов знал, что при обезвреживании мин замедленного действия необходимо прежде всего остановить часовой механизм. В немецком взрывателе «I-Feder-504» это делалось просто: нижнее, подвижное кольцо на уширенной части его корпуса нужно было только переместить несколько вправо.
Есть ли тут такое кольцо?
Ершов ещё раз осмотрел корпус взрывателя. Вот чуть пониже верхнего заводного ободка видны рубчики второго ободка, поменьше размером. Может быть, поворот именно этого кольца остановит часовой механизм?
Ершов осторожно дотронулся до корпуса взрывателя, но тотчас же отдернул руку. А что, если это не то кольцо? Поворот его может ведь и ускорить взрыв…
Поглощенный тревожными мыслями, майор не почувствовал, что поезд стал постепенно уменьшать скорость. Он заметил это лишь тогда, когда эшелон совсем остановился. Что оставалось делать? Бросить всё и бежать с поезда? В это самое мгновение он услышал, что кто-то закричал диким голосом: «Спасайся! Взорвемся!»
А может быть, схватить мину и убежать в поле?
Но ведь до взрыва остались считанные минуты. Механизм взрывателя напряжен до последнего предела. Самого легкого сотрясения может оказаться достаточно, чтобы он сработал и взорвал мину прежде, чем удастся отнести её от эшелона. Нет, нужно продолжать обезвреживание теперь же.
Ершов положил уже руку на кольцо с узким ободком, но всё ещё никак не мог решиться повернуть его, хотя не сомневался почти, что ключ к разгадке секрета взрывателя именно в этом ободке…
И вдруг поезд чуть слышно дрогнул, тронувшись с места, и задним ходом медленно двинулся со станции.
«Значит, машинист узнал, что состав заминирован! — радостно подумал Ершов. — Узнал и не побоялся увести назад страшный груз…»
Ершов больше не колебался. Он ещё раз присмотрелся к кольцу с узким ободком и обнаружил на нем красный треугольник — он находился как раз против такого же треугольника на неподвижной части корпуса и, видимо, означал установку взрывателя на боевой взвод. На некотором расстоянии от пего виднелся второй треугольник — белый.
Осторожно придерживая левой рукой корпус взрывателя, чтобы он не двигался и не шевелился, слегка дрожащими пальцами правой руки Ершов стал медленно поворачивать кольцо с узким ободком, ежеминутно ожидая взрыва. Майор был совсем мокрым от нервного напряжения, когда совместил наконец красный треугольник на ободке с белым на корпусе взрывателя.
Через смотровое окошечко стало видно теперь, что балансирное колесико перестало двигаться.
У Ершова сразу же отлегло от сердца, и он громко, с облегчением вздохнул. Уже с большей уверенностью он отделил взрыватель от ящика со взрывчаткой и вывинтил капсюль-детонатор из нижней трубки его корпуса.
Поезд теперь снова стал сбавлять ход, но Ершов почти не обратил на это внимания. Он был счастлив, что обезвредил наконец мину, спас людей и поезд от верной гибели. Состояние сильного возбуждения, владевшее им всё это время, сменилось какой-то расслабленностью, почти сонливостью. Он почувствовал необходимость присесть, отдохнуть немного, спокойно выкурить папиросу. Опустившись на пол тормозной площадки, майор с удовольствием вытянул ноги, которые совсем затекли от долгого сидения на корточках.
Вверху, за выступом крыши вагона, виднелось небо. Оно не было выцветшим и блеклым, каким бывает днем в эту пору года, — это было чудесное утреннее небо, в котором, широко распластав крылья, парил молодой, сильный беркут.
Когда поезд совсем остановился, Ершов, будто очнувшись от сна, торопливо вскочил на ноги и подумал: «Нужно поскорее снять отсюда этот сундук и объявить всем, что опасность миновала».
Закрыв крышку, Ершов взял сундук и осторожно спустился с ним с площадки вагона. Он перенес его через кювет, сквозь жесткие, колючие ветви кустарника и, возвращаясь назад, окинул беглым взглядом вагоны состава. На тормозных площадках его не было видно ни души. Ершов быстрым шагом поспешил к паровозу и вдруг заметил, как из-под тендера выскочил какой-то человек в синей спецовке и стремительно побежал к локомотиву.
Узнав в нем помощника машиниста, Ершов радостно крикнул изо всех сил.
— Рябов! Шатров!
Наконец перекрученная несколько раз железная петля отскочила от сундука. Майор, затаив дыхание, осторожно открыл крышку и тотчас же увидел коричневый грибообразный предмет, торчавший из деревянной коробки, вложенной в сундук. Не могло быть сомнения, что это взрыватель мины замедленного действия. В коробке же, из которой он торчал, находилась, видимо, взрывчатка.
Ершов торопливым движением вытер выступивший на лбу холодный пот и опустился перед сундуком на корточки. За время работы в разведке и контрразведке он изучил множество систем различных мин замедленного действия — и своих, отечественных, и иностранных. Взглянув теперь на коричневый гриб, он сразу же сообразил, что это взрыватель мины замедленного действия. Он несколько напоминал немецкий часовой взрыватель «I-Feder-504» с заводом на двадцать одни сутки. Но механизм его был незнакомой конструкции.
Присмотревшись к нему повнимательнее, майор обнаружил в верхней, уширенной части его корпуса несколько подвижных ободков с рубчиками накатки. Нижняя же, цилиндрическая часть, имевшая меньший диаметр, была, очевидно, ввинчена в запальную шашку со взрывчаткой, лежавшей внутри деревянного ящика.
Первой мыслью Ершова было схватить сундук с этой миной и сбросить с поезда. Но он тут же сообразил, что вряд ли удастся отбросить его так далеко, чтобы не опасаться детонации, в случае если мина взорвется, а она взорвалась бы непременно. Мину вообще опасно было трогать, так как она могла взорваться даже в руках от самого легкого сотрясения.
Поезд между тем развил довольно значительную скорость, и телеграфные столбы по бокам тормозной площадки мелькали всё чаще и чаще. Но Ершов уже ни на что не обращал внимания, все мысли и чувства его были сосредоточены теперь только на мине. Продолжая изучать её, он заметил вскоре на верхней части корпуса взрывателя смотровое окошко. Через застекленное отверстие его были видны колесико балансирного маятника и установочный диск с красными делениями и цифрами. Нетрудно было сообразить, что цифры на дуге диска означают часы, а деления между ними — минуты.
Пока Ершов изучал взрыватель, он заметил, что установочный диск его сместился справа налево на два мелких деления. Сверившись со своими часами, майор определил, что смещение это соответствует двум минутам.
«На какое же время рассчитано замедление? Когда произойдет взрыв?» — тревожно думал Ершов, ещё ниже склоняясь над сундуком Темирбека.
Не дотрагиваясь до мины, он торопливо принялся осматривать её взрыватель со всех сторон. В самой верхней части его, в центре широкого ободка с рубчиками накатки, он заметил вскоре головку с красными черточками делений и цифрами от «1» до «24». Как и в смотровом окошке, здесь находился красный треугольник. Угол его совмещался с цифрой «5». Видимо, это и было заданное время замедления механизма взрывателя. До взрыва, следовательно, оставалось теперь всего полчаса.
Хотя полчаса — это совсем короткий промежуток, Ершов все же вздохнул с некоторым облегчением. Вынув платок из кармана, он вытер им лицо, мокрое от пота, и впервые осмотрелся по сторонам.
С тормозной площадки хвостового вагона была видна холмистая местность с низкорослым кустарником, подступавшим почти к самому полотну железной дороги. Выжженный солнцем и припудренный пылью балластного песка, он казался неживым, окаменевшим. Зато многочисленные холмы, тесно примыкавшие друг к другу, в легком мареве утреннего тумана представлялись свернувшимися в клубок спящими животными. А вверху, над холмами и над крышами вагонов, уже розовело небо раннего утра.
Нужно было торопиться, так как с каждой минутой механизм взрывателя становился всё более чувствительным к сотрясению. Боевая пружина его вот-вот готова была послать ударник в чувствительную сердцевину капсюля-детонатора.
Но где же тут предохранитель взрывателя? Ершов знал, что при обезвреживании мин замедленного действия необходимо прежде всего остановить часовой механизм. В немецком взрывателе «I-Feder-504» это делалось просто: нижнее, подвижное кольцо на уширенной части его корпуса нужно было только переместить несколько вправо.
Есть ли тут такое кольцо?
Ершов ещё раз осмотрел корпус взрывателя. Вот чуть пониже верхнего заводного ободка видны рубчики второго ободка, поменьше размером. Может быть, поворот именно этого кольца остановит часовой механизм?
Ершов осторожно дотронулся до корпуса взрывателя, но тотчас же отдернул руку. А что, если это не то кольцо? Поворот его может ведь и ускорить взрыв…
Поглощенный тревожными мыслями, майор не почувствовал, что поезд стал постепенно уменьшать скорость. Он заметил это лишь тогда, когда эшелон совсем остановился. Что оставалось делать? Бросить всё и бежать с поезда? В это самое мгновение он услышал, что кто-то закричал диким голосом: «Спасайся! Взорвемся!»
А может быть, схватить мину и убежать в поле?
Но ведь до взрыва остались считанные минуты. Механизм взрывателя напряжен до последнего предела. Самого легкого сотрясения может оказаться достаточно, чтобы он сработал и взорвал мину прежде, чем удастся отнести её от эшелона. Нет, нужно продолжать обезвреживание теперь же.
Ершов положил уже руку на кольцо с узким ободком, но всё ещё никак не мог решиться повернуть его, хотя не сомневался почти, что ключ к разгадке секрета взрывателя именно в этом ободке…
И вдруг поезд чуть слышно дрогнул, тронувшись с места, и задним ходом медленно двинулся со станции.
«Значит, машинист узнал, что состав заминирован! — радостно подумал Ершов. — Узнал и не побоялся увести назад страшный груз…»
Ершов больше не колебался. Он ещё раз присмотрелся к кольцу с узким ободком и обнаружил на нем красный треугольник — он находился как раз против такого же треугольника на неподвижной части корпуса и, видимо, означал установку взрывателя на боевой взвод. На некотором расстоянии от пего виднелся второй треугольник — белый.
Осторожно придерживая левой рукой корпус взрывателя, чтобы он не двигался и не шевелился, слегка дрожащими пальцами правой руки Ершов стал медленно поворачивать кольцо с узким ободком, ежеминутно ожидая взрыва. Майор был совсем мокрым от нервного напряжения, когда совместил наконец красный треугольник на ободке с белым на корпусе взрывателя.
Через смотровое окошечко стало видно теперь, что балансирное колесико перестало двигаться.
У Ершова сразу же отлегло от сердца, и он громко, с облегчением вздохнул. Уже с большей уверенностью он отделил взрыватель от ящика со взрывчаткой и вывинтил капсюль-детонатор из нижней трубки его корпуса.
Поезд теперь снова стал сбавлять ход, но Ершов почти не обратил на это внимания. Он был счастлив, что обезвредил наконец мину, спас людей и поезд от верной гибели. Состояние сильного возбуждения, владевшее им всё это время, сменилось какой-то расслабленностью, почти сонливостью. Он почувствовал необходимость присесть, отдохнуть немного, спокойно выкурить папиросу. Опустившись на пол тормозной площадки, майор с удовольствием вытянул ноги, которые совсем затекли от долгого сидения на корточках.
Вверху, за выступом крыши вагона, виднелось небо. Оно не было выцветшим и блеклым, каким бывает днем в эту пору года, — это было чудесное утреннее небо, в котором, широко распластав крылья, парил молодой, сильный беркут.
Когда поезд совсем остановился, Ершов, будто очнувшись от сна, торопливо вскочил на ноги и подумал: «Нужно поскорее снять отсюда этот сундук и объявить всем, что опасность миновала».
Закрыв крышку, Ершов взял сундук и осторожно спустился с ним с площадки вагона. Он перенес его через кювет, сквозь жесткие, колючие ветви кустарника и, возвращаясь назад, окинул беглым взглядом вагоны состава. На тормозных площадках его не было видно ни души. Ершов быстрым шагом поспешил к паровозу и вдруг заметил, как из-под тендера выскочил какой-то человек в синей спецовке и стремительно побежал к локомотиву.
Узнав в нем помощника машиниста, Ершов радостно крикнул изо всех сил.
— Рябов! Шатров!
СПАСИБО ВАМ, ТОВАРИЩИ!
Сообщив дежурному по станции о замысле Шатрова, Ольга снова вернулась к входному семафору, не отдавая себе отчета, зачем она этоделает. Она чувствовала неприятную, томящую слабость во всем теле и, отойдя немного в сторону от рельсов, медленно опустилась на обочину полотна железной дороги. А где-то там, за холмами, похожими на верблюжьи горбы, человек, который, как она почувствовала теперь, был для нее самым дорогим на свете, угонял прочь от стройки, от людей, проживавших здесь, от неё, Ольги, смертоносный груз взрывчатки, каждое мгновение готовой взлететь на воздух и превратить в пепел поезд и всё живое вокруг на десятки метров. Ольга сидела несколько минут с плотно закрытыми глазами, а когда открыла их, всё расплылось вокруг от слез. Никогда ещё не было ей так тяжело и страшно… Солнце теперь совсем выбралось из-за холмов. Лучи его падали уже не так косо, как в первые минуты, и местность от этого изменила свой вид. Краски поблекли, стали спокойнее. Вокруг было тихо. Шум и суета на станции и в бараках прекратились, как только Шатров увел заминированный поезд. Поднявшись с насыпи, Ольга решила вернуться на станцию… Но вдруг за холмом, на который она так упорно смотрела, раздался сначала чуть слышный, а затем всё более крепнущий, почти торжественный звук паровозного свистка. Ольга вздрогнула: «Неужели это поезд Кости?» Приложив руку к глазам, она попыталась разглядеть вдали очертания паровоза. Она не задумывалась в это мгновение, почему возвращается назад заминированный поезд, почему он до сих пор не взорвался. Ей было ясно лишь одно — это поезд Константина, и, значит, Константин жив! Как только поезд показался из-за холмов, Ольга бросилась ему навстречу, хотя он был ещё очень далеко. И тут только подумала со страхом: «Как же он не взорвался всё-таки? Почему они снова везут этот страшный груз на станцию?» Девушка остановилась в замешательстве. «Может быть, была допущена ошибка — и поезд не заминирован? Или, может быть, паровозная бригада совсем потеряла голову от страха, и обреченный эшелон панически мечется теперь по перегону?..» Но нет — этому она не могла поверить. Это могло случиться с кем угодно, но только не с Константином. Константин не мог потерять голову от страха. Ольга совершенно отчетливо представила себе его побледневшее от напряжения лицо с круто сведенными бровями, крепко стиснутые зубы, руку, сжавшую кран машиниста, напружинившееся мускулистое тело, готовое к любому стремительному движению, и ей нестерпимо захотелось вдруг быть с ним рядом, вместе встретить опасность, вместе одержать победу. Она не заметила даже, как снова быстро пошла навстречу поезду, который теперь прошел уже значительное расстояние и сбавлял скорость, приближаясь к закрытому семафору. Константин, высунувшись из окна, первым заметил Ольгу. Он не поверил своим глазам, но тут же услышал голос Федора. — Смотри-ка, Костя, — удивленно крикнул тот, — Ольга снова пришла к нам! Константин ещё больше сбавил ход поезда. Теперь он шел совеем медленно, вот-вот готовый остановиться. Но прежде чем он остановился, Ольга крепко схватилась за поручни лесенки будки машиниста и быстро стала взбираться на паровоз. Федор поспешно протянул к ней руки, чтобы помочь, но она, будто не замечая его, шагнула к Константину и, не удерживая неожиданно хлынувших слез, бросилась к нему, порывисто обняла. — Спасибо, спасибо вам, товарищи! — Она повернулась к Федору и протянула ему руку. Она почувствовала в них в эту минуту верных друзей, с которыми ничто не страшно, с которыми можно пойти на любой подвиг, и назвала их товарищами, ибо не знала другого слова выше этого. — Ещё одного человека нужно поблагодарить! — взволнованно проговорил Федор, повернувшись к смущенно улыбавшемуся майору Ершову. — Это ведь он обезвредил мину и спас поезд. Ольга крепко пожала Ершову руку и снова подошла к Шатрову. А Константин всё смотрел на её сияющее лицо, на растрепавшиеся волосы, на большие ясные глаза, лучившиеся маленькими веселыми искорками счастья, и думал, что Ольга — самый лучший, самый замечательный человек на свете! Выглянув в окно, он увидел всё ещё опущенное крыло семафора и крикнул Рябову: — Придется сообщить им, Федор, что беда миновала, а то они, пожалуй, не решатся впустить нас на станцию! — Да, видно, они изрядно струхнули там! — засмеялся Федор, радуясь, что всё благополучно кончилось. — Спешит к нам кто-то со станции, — заметил Ершов, смотревший в окно с другой стороны паровозной будки. Теперь Шатров и сам заметил, что три человека — один впереди и два позади — бежали к поезду по шпалам. — Это сам начальник станции, — сказала Ольга, тоже выглядывая в окно паровозной будки из-за плеча Константина. Спустя несколько минут начальник станции и сопровождавшие его железнодорожники были уже на паровозе и с удивлением слушали рассказ Шатрова. Начальник станции был ещё совсем молодым человеком и не умел сдерживать своих чувств. Он порывисто обнял всех по очереди и простодушно воскликнул: — Ну и молодцы! Настоящие молодцы, честное слово! Соскочив с паровоза, он по-мальчишески быстро побежал к станции, и вскоре красное крыло семафора взвилось вверх, открывая дорогу поезду, возвращающемуся чуть ли не с того света. Константин потянул за ручку тяги, и долгий, могучий и торжественный голос паровозного свистка до боли в ушах потряс воздух. — Я сойду здесь. У меня ведь нет разрешения на право проезда на паровозе, — сказала Ольга, собираясь спуститься по лесенке из будки машиниста. — Останьтесь, Оля, — остановил её Константин. — Вы заслужили это право. И Ольга осталась. Она стала позади Константина так, чтобы не мешать ему, но видеть его неторопливые и уверенные движения, точность управления механизмами огромного, пышущего жаром, полного затаенной мощи локомотива. И Константин, не оборачиваясь, всем своим существом ощущал её позади себя и готов был теперь вести свой поезд с любым грузом, на любые подъемы, через любые испытания. Он всегда знал, что выполнит свой долг в любой обстановке, но никогда ещё не чувствовал себя таким сильным, таким бесстрашным и таким нужным Родине. А майор Ершов стоял в это время в дверях паровозной будки, крепко схватившись за поручни, и тоже взволнованно думал. Он думал о просчете врагов, об их наивной надежде на легкую удачу. Враги надеялись, что бороться с ними будут одни только контрразведчики, и если удастся перехитрить контрразведчиков, можно будет праздновать победу. А на деле все это оказалось не так просто. Даже если бы спасовал офицер контрразведки майор Ершов, если бы его обманули, ввели в заблуждение враги, всё равно рядовые советские люди — железнодорожники Шатров и Рябов — не дали бы им осуществить свои замыслы. Они, может быть, не смогли бы помешать взрыву всего эшелона, но зато уж непременно спасли бы станцию, людей, работающих на строительстве железной дороги, свой паровоз и самих себя. Они ведь и ему, Ершову, помогли справиться с миной, вдохновили на решительные действия. Сознание близости с этими людьми, со всем своим народом наполнило теплотой сердце майора, и он почувствовал себя увереннее, чем когда-либо. Теперь ему казалось, что у него стало гораздо больше сил для борьбы с Призраком.МАНЕВР ТЕМИРБЕКА
Спрыгнув с поезда, лейтенант Малиновкин осмотрелся по сторонам. Неподалеку от него виднелся последний вагон стоящего на станции состава. Людей поблизости не было видно. Решив никому пока не выдавать своего присутствия, лейтенант поспешно взобрался в вагон, дверь которого была слегка отодвинута. Вагон был пустой. Вторая его дверь тоже оказалось приоткрытой. Через её просвет Малиновкин стал внимательно осматривать станцию. На асфальтированной платформе, примыкавшей к станционным строениям — трем небольшим стандартным домикам, — он увидел сержанта железнодорожной милиции. Чуть подальше шагал по шпалам какой-то железнодорожник с зажженным фонарем в руках. За станцией сразу же начиналась степь, голая, пустынная, просматривающаяся на большом пространстве. С другой стороны вагона, в котором сидел Малиновкин, на третьем станционном пути, стоял ещё один состав с порожними вагонами и платформами, а за ним простиралась такая же степь, поросшая низкорослыми травами да видневшимися кое-где белыми пятнами ковыля. «В степь этот мерзавец не пойдет, конечно, — решил Малиновкин. — Но что же он тогда предпримет?..» Малиновкин, как и майор Ершов, решил, что Темирбек, видимо, рассчитывал покинуть заминированный поезд только на предпоследней остановке. Может быть, местность там была более благоприятная или имелись, кроме железной дороги, какие-то другие средства передвижения. Мог ведь для него Жанбаев и мотоцикл где-нибудь там припрятать… Малиновкин попробовал представить себе, что бы стал делать он сам на месте Темирбека. Уйти в степь — опасно; попробовать добраться до той станции, где он намеревался высадиться вначале, — рискованно. Оставалось, значит, только одно — притаиться в одном из вагонов и ждать, когда состав отправят в Перевальск. Но это неизвестно когда ещё могло произойти, а бегство Темирбека с поезда Шатрова не могло остаться незамеченным, и Темирбек должен был принять это во внимание. Размышляя таким образом, Малиновкин снова стал осматривать станцию и вдруг заметил, что два путевых рабочих устанавливают на рельсы легкую автодрезину. Тотчас же у него возникла мысль: Темирбек, видимо, попытается воспользоваться этой автодрезиной. В его положении это единственный шанс на спасение. Быстро выбравшись из вагона, Малиновкин расстегнул кобуру пистолета и, переложив оружие в карман брюк, осторожно двинулся к железнодорожникам, держась в тени вагонов. Они уже установили дрезину на рельсы и завели мотор. Со станционной платформы кто-то, видимо дежурный или сам начальник станции, подал им сигнал: очевидно, разрешение на выезд. Малиновкин подошел к дрезине так близко, что мог слышать разговор железнодорожников. — Ну что — двинемся, пожалуй? — проговорил один из них. — Двинемся! — ответил другой, голос которого показался Малиновкину знакомым. Лейтенант решил подойти поближе, и в это время громко и торопливо зарокотал мотор. Ещё через мгновение дрезина дрогнула и покатилась в сторону Большого Кургана, но тут один из железнодорожников, лица которого Малиновкин до сих пор не видел, обернулся, чтобы поправить свисавший плащ, и лейтенант тотчас же узнал в нем Темирбека. — Стой, стой! — срывающимся голосом закричал Малиновкин и, выхватив пистолет, побежал за дрезиной. Второй железнодорожник обернулся и, увидев оружие в руках лейтенанта, остановил дрезину. На шум, поднятый Малиновкиным, из станционного здания выглянул сержант железнодорожной милиции и, придерживая рукой шашку, поспешил к месту происшествия. Лейтенант подбежал тем временем к дрезине и схватил Темирбека за шиворот. — Ага, мерзавец, попался! — торжествующе воскликнул он, хотя спокойствие Темирбека его несколько обескуражило. Хвостовой кондуктор смотрел на него недоуменно и не делал ни малейшей попытки вырваться. — Ты зачем меня хватаешь? — изумился он. — От поезда я отстал — это верно. Живот, понимаешь, схватило вдруг… А поезд ушел. Догонять теперь надо. — Ладно, хватит тебе комедию ломать! — всё ещё не выпуская Темирбека из рук, проговорил Малиновкин, хотя в голосе его уже не было прежней уверенности. — Верно, вроде, говорит человек, — вступился за Темирбека второй железнодорожник. — Я помощник дорожного мастера Рахманов. Знаю Темирбека немного. Он действительно кондуктором ездит. А то, что от поезда отстал, — так за это ему и без вас всыплют. Попросился он в Большой Курган подвезти — я и взял его, потому как человек знакомый. — А вы сами кто же такой будете? — строго обратился к Малиновкину сержант. Малиновкин молча протянул ему своё удостоверение. Сержант внимательно прочитал его и возвратил лейтенанту, приложив руку к козырьку фуражки. К дрезине подошел начальник станции. — В чём тут дело у вас? — спросил он, хмурясь и строго посматривая на сержанта. — Видите ли… — повернулся к нему Малиновкин, выпустив наконец Темирбека. — Этот человек сбежал с поезда при очень подозрительных обстоятельствах. — Как — сбежал? — закричал Темирбек, выпучив глаза. — Что он говорит такое, товарищ начальник? Я отстал. Пусть меня к главному кондуктору отправят — к товарищу Бейсамбаеву, всё ему объясню. — Ну хорошо, — решил вдруг Малиновкин. — Садитесь, поедем! Разберемся во всём на месте… Можем мы поехать сейчас в Большой Курган, товарищ начальник станции? — Доедете сначала до Абайска, а потом, когда поезд Шатрова прибудет в Большой Курган, вас тоже туда пропустят. — Включайте мотор, товарищ Рахманов, — кивнул Малиновкин помощнику дорожного мастера и уселся на скамеечку дрезины рядом с Темирбеком. «Чорт его знает, этого Темирбека, — думал он дорогой, когда дрезина выкатилась уже за пределы станции, — может быть, этот остолоп и в самом деле просто так отстал от поезда?..» Темирбек между тем совершенно успокоился и даже, кажется, начал подремывать. А дрезина развила уже такую скорость, что не уступила бы, пожалуй, и пассажирскому поезду. Она шла теперь по крутой насыпи, у подножия которой рос довольно густой кустарник. — До Абайска остается километра полтора-два, — проговорил Рахманов. — За тем вон холмом будет закругление пути и сразу же станция покажется. Едва он проговорил это, как Темирбек неожиданным, резким движением столкнул Ма-линовкина с дрезины с такой силой, что лейтенант кубарем скатился под откос. Рахманов испуганно вздрогнул и торопливо вскочил на ноги, но Темирбек так ловко сбросил и его вслед за Малиновкиным, что он даже крикнуть не успел. Проехав ещё немного по направлению к Абайской, Темирбек сбавил ход дрезины и сам спрыгнул под откос железнодорожного полотна по другую его сторону.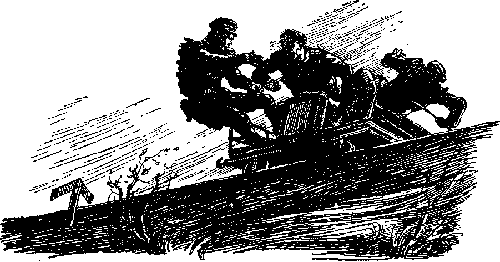 Рахманов скатился по песчаной насыпи удачно, почти ничего не повредив. Зато Малиновкин лежал под откосом без движения — падая, он больно ударился головой о пикетный столбик и потерял сознание. Увидев, что лейтенант находится в бедственном положении, Рахманов немедленно поспешил к нему на помощь. Он осторожно приподнял голову Малиновкина и носовым платком вытер кровь с его лба.
— Рахманов… — чуть слышно произнес Малиновкин и сделал попытку приподняться, но снова со стоном опустился на землю.
— Что с вами?.. Что у вас повреждено? — растерянно проговорил Рахманов, не зная, чем можно помочь Малиновкину.
— Страшная боль в голове… — закрыв глаза и прижав руку ко лбу, ответил лейтенант. — Но вы оставьте меня пока тут. Я полежу немного… может быть, пройдет. Сейчас вам нужно бежать на станцию… Немедленно! Этот мерзавец Темирбек натворил что-то… Наверно, заминировал поезд. Бегите скорее на станцию… И пусть они сообщат Большому Кургану, что к ним идет заминированный поезд.
Рахманов скатился по песчаной насыпи удачно, почти ничего не повредив. Зато Малиновкин лежал под откосом без движения — падая, он больно ударился головой о пикетный столбик и потерял сознание. Увидев, что лейтенант находится в бедственном положении, Рахманов немедленно поспешил к нему на помощь. Он осторожно приподнял голову Малиновкина и носовым платком вытер кровь с его лба.
— Рахманов… — чуть слышно произнес Малиновкин и сделал попытку приподняться, но снова со стоном опустился на землю.
— Что с вами?.. Что у вас повреждено? — растерянно проговорил Рахманов, не зная, чем можно помочь Малиновкину.
— Страшная боль в голове… — закрыв глаза и прижав руку ко лбу, ответил лейтенант. — Но вы оставьте меня пока тут. Я полежу немного… может быть, пройдет. Сейчас вам нужно бежать на станцию… Немедленно! Этот мерзавец Темирбек натворил что-то… Наверно, заминировал поезд. Бегите скорее на станцию… И пусть они сообщат Большому Кургану, что к ним идет заминированный поезд.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
На станцию Абайскую майор Ершов прибыл с резервным паровозом, возвращавшимся из Большого Кургана в Перевальск. Лейтенант Малиновкин, несколько оправившийся к тому времени, встретил Ершова на станционной платформе. Голова его была так тщательно забинтована, что фуражка не налезала и её приходилось держать в руке. — Вот как меня разделал этот мерзавец! — смущенно проговорил Малиновкин, протягивая майору руку. — Ничего, ничего, Митя, — дружески похлопал его по плечу Ершов. — Всякое бывает. Докладывайте, однако, что тут у вас произошло… И давайте зайдем куда-нибудь. — К начальнику станции можно. Показывая дорогу, Малиновкин пошел вперед, слегка прихрамывая на левую ногу. — Ну, что же предприняли вы для поимки Темирбека? — спросил Ершов, как только они вошли в помещение начальника станции. — Да я, собственно говоря, почти ничего и не предпринял, — смутился Малиновкин. — Полчаса почти пришлось пролежать под откосом железной дороги, пока смог двигаться. А железнодорожники тем временем обшарили всё окрестности вокруг Абайской. В кустарнике они слышали стрекот какого-то мотоцикла, кричали, чтобы водитель остановился, но он лишь увеличил скорость. Тогда стрелок железнодорожной охраны из винтовки, а начальник станции из своего охотничьего ружья выстрелили несколько раз по кустам, но, видимо, промахнулись. — Сколько там было человек? — нетерпеливо спросил Ершов. — Тут за станцией такой кустарник, Андрей Николаевич, — лес настоящий! — ответил Малиновкин. — Положительно ничего разглядеть нельзя. Так и осталось неизвестным — один ли там был Темирбек или и Жанбаев тоже. Майор молчал. Он обдумывал создавшееся положение. Картина была мало утешительная. — Похоже, что всё придется теперь начинать сначала… — задумчиво проговорил он. — Почему же, Андрей Николаевич? — удивился Малиновкин. — Я много думал сегодня о Темирбеке, — всё тем же тоном, будто размышляя вслух, продолжал Ершов, — и мне стало казаться, что он и Жанбаев одно и то же лицо. — Да что вы, Андрей Николаевич! — воскликнул Малиновкин и даже привстал со стула. — Жанбаев ведь международная знаменитость. А от Темирбека дикостью и фанатизмом так и несет. — Он к тому же и неповоротливым и мешковатым казался, — усмехнулся Ершов. — А как, однако, ловко он вас с дрезины сбросил. Нет, Митя, не так-то прост этот человек, и от него всего можно ожидать. Он под Лоуренса работает. Тот тоже — то в бедуина, то в дервиша перевоплощался. — Ну хорошо! Допустим даже, что и так… — проговорил наконец Малиновкин. — Пусть Темирбек и Жанбаев — одно и то же лицо, но мы всё равно загоним его теперь в ловушку. — Как же это так, любопытно узнать? — улыбнулся Ершов. Лицо Малиновкина оживилось, глаза стали поблескивать. Говорил он торопливо, взволнованно: — А куда же ему деваться? Его теперь, как дикого зверя, весь народ обложит. Железнодорожники его в лицо знают и уж не упустят. Значит, на железнодорожном транспорте ему не укрыться. Сюда он носа своего не осмелится сунуть. Сообщники его — Габдулла да Аскар — уже арестованы. Куда же ему податься? Один ход, значит, остается — на квартиру к Арбузову в Аксакальске. Он ведь сам вам его адрес назвал. Вот мы туда и поедем и будем там его поджидать. — Да, интересную вы картину нарисовали! — рассмеялся Ершов. — Вроде шахматной задачи: ходят белые и на втором ходу делают мат. Недурно было бы, конечно. Только вы опять, дорогой мой, забыли, что противник у нас не такой уж простачок и сам в капкан не полезет. Он теперь даже еще осторожнее станет. — Ну, а что же всё-таки делать ему теперь? — удивленно пожав плечами, спросил Малиновкин. — Куда податься? Где переждать тревожное время? — Пока у него есть мотоцикл и рация, он ещё может маневрировать, — ответил Ершов. — Да разве он решится теперь разъезжать на своем мотоцикле да еще с нелегальной радиостанцией! Его же моментально сцапают. — А он не дурак, чтобы в крупных населённых пунктах показываться. Проскочит где-нибудь сторонкой. Нет, Дмитрий Иванович, не так всё это просто. Матерый враг никогда сам не пойдет в западню — его ещё туда загнать нужно. — Мы и загоним его туда! — убежденно заявил Малиновкин, хотя и не представлял себе ясно, как это можно сделать.ПОСЛЕДНЯЯ РАДИОГРАММА
До Аксакальска Ершов добрался только к четырем часам дня. Разыскав Джамбулскую улицу, он постучался в двери дома номер двадцать один и спросил Арбузова. — Я и буду Арбузовым, — ответил ему рыжеволосый мужчина средних лет в гимнастерке военного покроя. — Очень приятно! — любезно поздоровался Ершов. — А я Мухтаров Таир Александрович. Привет вам привез от Жанбаева. Ничто не изменилось на сухощавом невыразительном лице Арбузова. Слегка припухшие, будто заспанные глаза его смотрели попрежнему равнодушно. Ершов подумал было, что он не туда попал, но хозяин, так и не изменив выражения лица, проговорил вдруг: — Прошу вас, Таир Александрович, заходите, пожалуйста! Распахнув перед Ершовым двери, он провел его в небольшую комнату с единственным окном, выходящим во двор. В комнате у окна стоял маленький столик, у стены — диван и два стула. Никакой другой мебели не было. — Устраивайтесь тут, — всё тем же равнодушным голосом проговорил Арбузов. — Я выходной сегодня и весь день буду дома. Если что понадобится, позовите. Ершов поставил на стол свой чемодан с рацией и посмотрел на часы. Времени было половина пятого, а в пять у него должен был состояться разговор с Малиновкиным. Лейтенанта он оставил в Перевальске, условившись связываться с ним по радио через каждый час. Без пяти минут пять Ершов закрыл дверь своей комнаты на крючок и развернул рацию. Ровно в пять часов Малиновкин подал свои позывные. Ершов отозвался и вскоре принял следующее шифрованное донесение: «Шофер грузовой колхозной машины Шарипов сообщил начальнику Абайского отделения МВД, что в восемь часов утра его машину остановил на дороге подозрительный мужчина со следами крови на одежде и стал просить бензин. Шарипов ответил ему отказом. Тогда неизвестный выхватил пистолет и выстрелил в шофёра. Раненому Шарипову удалось, однако, включить скорость и удрать. Начальник Абайского отделения МВД тотчас же выслал на место происшествия отряд мотоциклистов. Они прочесали весь район, но ничего подозрительного не обнаружили. На всякий случай в районе происшествий дежурят теперь два мотоциклиста. Случай этот произошел в двадцати пяти километрах от станции Абайской. Полагаю, что нападение на Шарипова совершил Темирбек». «Да, может быть, это и в самом деле Темирбек или даже сам Жанбаев, — размышлял майор Ершов, задумчиво прохаживаясь по комнате. — Но зачем ему бензин понадобился? Не могло же случиться так, что бак его машины случайно оказался незаправленным? Разве мог допустить подобную небрежность такой осторожный и опытный человек, как Жанбаев? Но в чем же дело тогда?» В шесть часов Малиновкин снова связался с Ершовым по радио, но ничего нового не сообщил. Новые известия поступили только в восемь часов вечера. Малиновкин докладывал, что радистам Перевальского отделения МВД удалось подслушать радиопередачу, зашифрованную текстом Стихотворений Эдгара По. Очевидно, это было донесение Жанбаева своему резиденту: «Меня обстреляли железнодорожники. Поврежден бак с горючим, легко ранен в руку. Добрался только до Абайска. Достать там бензин не удалось. Мотоцикл теперь бесполезен. Придется бросить из-за этого и рацию. Оставаться в районе Абайска рискованно. Повсюду рыщут мотоциклисты. Жду ваших указаний». Что ответил Жанбаеву резидент, принять не удалось. Помешали раскаты начавшейся грозы. Однако начальник Перевальского отделения МВД тотчас же отдал распоряжение — тщательно прочесать лесистую местность в районе Абайска. В результате удалось обнаружить поврежденный мотоцикл и, видимо, умышленно выведенную из строя рацию. Попрежнему оставалось неизвестным: совсем он скрылся или свяжется еще с Ершовым-Мухтаровым? Верна ли к тому же догадка, что Темирбек и Жанбаев — одно и то же лицо? Ершов понимал, что нужно немедленно предпринимать что-то, но что? Сейчас всё решала находчивость. Ведь Жанбаев может исчезнуть бесследно. Всё зависело от того, какое приказание получил он от своего резидента. Ершов вот уже четверть часа ходил по комнате, не зная, что предпринять. Встреча с начальником Аксакальского отделения МВД могла привлечь внимание Арбузова, а Ершов не хотел до поры до времени настораживать его. О том, что сам Арбузов сможет предпринять что-нибудь, он не беспокоился: начальник Аксакальского отделения МВД поручил своим сотрудникам следить за его домом. Достаточно было Ершову подать условный сигнал, и Арбузов будет арестован при малейшей попытке к бегству. Главная забота теперь заключалась в том, чтобы выловить самого Жанбаева. Искали его сейчас не только контрразведчики, но и железнодорожники и колхозники. Все были теперь настороже, все готовы были принять решительные меры. В девять часов вечера Малиновкин сообщил ему новые сведения. Оказалось, что перевальский радиолюбитель-коротковолновик Касымов принял своим радиоаппаратом весь секретный разговор Жанбаева с его резидентом. Он долгие годы работал над усовершенствованием коротковолновых радиостанций и сконструировал такой аппарат, который мог вести прием и передачу в любую погоду. Придя к выводу, что перехваченная им передача носит секретный характер, Касымов тотчас же сообщил все записанные им радиотелеграфные сигналы органам МВД. Эти сведения, во-первых, подтвердили текст, расшифрованный Малиновкиным; во-вторых, содержали ответ резидента Жанбаеву. Ответ этот был таков: «Плохо слышу вас. Повторите донесение». Но и Жанбаев, видимо, ничего не мог разобрать из ответа резидента. «Гроза мешает передаче…» — радировал он. Разговор этот шел уже открытым текстом на английском языке. Кончился он тем, что резидент приказал Жанбаеву быть на приеме в час ночи, как обычно. Понял это распоряжение Жанбаев или не понял — оставалось неизвестным. Однако на этом, видимо, радиосеанс тайных агентов окончился. Последние же слова резидента: «как обычно» — свидетельствовали о том, что радиосеанс в час ночи был у них ежедневно. Жанбаев, следовательно, знает об этом и, очевидно, постарается во что бы то ни стало связаться ночью со своим резидентом. А поскольку он вынужден был бросить свою рацию — значит, явится сюда, к Арбузову, чтобы воспользоваться радиостанцией Ершова-Мухтарова. Придя к такому заключению, майор Ершов приказал Малиновкину срочно прибыть в Аксакальск и, связавшись с органами МВД, усилить засаду вокруг дома Арбузова. Прибытия Малиновкина следовало ожидать не раньше чем через час. За это время нужно было обезопасить себя со стороны Арбузова, чтобы он не испортил всего дела и не подал какого-нибудь сигнала Жанбаеву. На улице было уже совсем темно, но Ершов всё ещё не зажигал свет. Впотьмах он нащупал рацию и, включив её, связался с подполковником Ибрагимовым из местного отделения МВД, радист которого по просьбе Ершова находился теперь на пятиминутном приеме каждые четверть часа. «Как только Арбузов выйдет из дома, возьмите его», — радировал Ершов подполковнику Ибрагимову. Выключив рацию, Ершов вышел из своей комнаты и позвал Арбузова. — Я только что связался по радио с Жанбаевым, — сказал ему майор. — Вам нужно будет встретить его на вокзале. Знаете вы его в лицо? — Не знаю, — равнодушно ответил Арбузов. — Это, впрочем, не имеет значения. Вы возьмете такси и ровно в одиннадцать будете ждать его на углу Железнодорожной и Советской. Он подойдет к машине и спросит: «Вы, случайно, не из промартели «Заря Востока»?» Ответьте на это: «А вы, случайно, не товарищ Каныш?» И если всё произойдет именно так — везите его сюда. — Слушаюсь, — коротко ответил Арбузов и поспешно стал одеваться. Когда он вышел, Ершов зажег свет в своей комнате. Это было сигналом оперативным работникам МВД. Они должны были дать Арбузову возможность уйти подальше от дома и там арестовать, не привлекая к этому ничьего внимания. Томительно тянулось время. Наверно, Малиновкин прибыл уже в Аксакальск и находился теперь где-нибудь поблизости от дома Арбузова (лейтенанта должны были доставить в Аксакальск самолетом). Входить ему в дом Ершов не разрешал: Жанбаев мог бродить где-нибудь здесь поблизости, высматривая, насколько безопасно будет войти в дом своего сообщника. Ровно в полночь Ершов включил рацию и настроился на волну, на которой он обычно поддерживал связь с Жанбаевым. Хотя было очевидно, что Жанбаев сегодня не свяжется с ним по радио, он всё же пробыл на приеме около пятнадцати минут. А стрелка часов всё двигалась вперед, и до часа ночи оставалось всё меньше времени. Когда часы показали без десяти минут час, Ершов подумал, что Жанбаев либо не решился сегодня войти в дом Арбузова, либо ему не удалось добраться до Аксакальска. В это время негромко, но довольно решительно кто-то постучался в ближайшее к двери окно. Ершов подошел к дверям и, не открывая их, спросил: — Кто там? — Товарищ Арбузов тут живет? — услышал он голос, похожий на тот, которым разговаривал с ним Жанбаев в кустах на дороге к Черной реке. — Тут, — ответил Ершов, инстинктивным движением нащупывая пистолет в заднем кармане брюк. — Я от Жанбаева, — продолжал тот же голос. — Мне поручено передать вам письмо и привет от него. — Входите, пожалуйста! — проговорил Ершов и торопливо отворил дверь. На улице и в коридоре было так темно, что майор не мог разглядеть, кто стоял перед ним. А посланец от Жанбаева (или, может быть, сам Жанбаев) поспешно вошел в коридор и произнес, понизив голос: — Вы — Мухтароров? — Так точно, — ответил Ершов, чувствуя как учащеннее стало биться его сердце. — Погасите свет во всём доме и проводите меня поскорее к радиостанции! Ершов вошел в дом первым и потушил свет во всех комнатах. Затем он провел Жанбаева (теперь майор уже не сомневался более, что это был Жанбаев) в комнату, в которой стоила рация, и прикрыл за ним дверь. Подождав, немного за дверью, он услышал вскоре, как Жанбаев включил рацию. Спустя, некоторое время послышался глухой, торопливый стук ключа радиотелеграфа. Ершов, тотчас же поспешил к входным дверям, которые он оставил открытыми. Осветив, карманным фонарём коридор, майор, увидел Малиновкина. — Весь дом надежно окружен, Андрей, Николаевич! — срывающимся шопотом доложил лейтенант. — Поставьте людей у всех окон! — приказал Ершов. — Сами идите во двор и станьте у среднего окна. Два человека пусть осторожно войдут со мной в дом. Когда Ершов вернулся к двери, за которой находился Жанбаев, он снова услышал отчетливый стук радиотелеграфного ключа. Спустя десять минут стало слышно, как Жанбаев выключил рацию. — Мухтаров! — негромко позвал он Ершова. Майор торопливо вошел в комнату и стал возле выключателя. — Я сейчас должен уйти, Мухтаров… — продолжал Жанбаев. Но Ершов, не дав ему договорить, быстро повернул выключатель. — Нет, вы никуда не уйдете, господин Призрак! — проговорил он громко. В ярком свете электричества Ершов увидел перед собой средних лет мужчину, одетого в казахский национальный костюм, и тотчас же узнал в нём Темирбека. Теперь, правда, он уже не сутулился так, как прежде, и вид его не был невзрачным, но не могло быть никаких сомнений, что он и Жанбаев — одно и то же лицо.
Жанбаев, казалось, растерялся на мгновение, увидев Ершова в форме майора Министерства внутренних дел и двух солдат с автоматами за его спиной. Но в следующий миг каким-то неуловимо быстрым движением он вскочил на подоконник и, прикрыв лицо полой халата, высадил плечами оконную раму. Со звоном посыпались во двор осколки стекла, и тотчас же раздался громкий голос Малиновкина:
— Стой, мерзавец! Теперь-то ты никуда уже больше не ускользнешь!..
…В тот же день майором Ершовым на имя генерала Саблина была послана последняя шифрованная радиограмма:
«Знаменитый Призрак со всеми своими сообщниками в наших руках. На предварительном допросе он признался, что настоящая его фамилия Сэмюэль Кристоф. Габдулла Джандербеков, уверяет, впрочем, что правильнее следует называть, его Семеном Христофоровым, по фамилии отца, белогвардейского офицера, атамана казачьей сотни, зверски усмирявшего в 1918 году восставшие против Колчака казахские деревни и аулы».
В ярком свете электричества Ершов увидел перед собой средних лет мужчину, одетого в казахский национальный костюм, и тотчас же узнал в нём Темирбека. Теперь, правда, он уже не сутулился так, как прежде, и вид его не был невзрачным, но не могло быть никаких сомнений, что он и Жанбаев — одно и то же лицо.
Жанбаев, казалось, растерялся на мгновение, увидев Ершова в форме майора Министерства внутренних дел и двух солдат с автоматами за его спиной. Но в следующий миг каким-то неуловимо быстрым движением он вскочил на подоконник и, прикрыв лицо полой халата, высадил плечами оконную раму. Со звоном посыпались во двор осколки стекла, и тотчас же раздался громкий голос Малиновкина:
— Стой, мерзавец! Теперь-то ты никуда уже больше не ускользнешь!..
…В тот же день майором Ершовым на имя генерала Саблина была послана последняя шифрованная радиограмма:
«Знаменитый Призрак со всеми своими сообщниками в наших руках. На предварительном допросе он признался, что настоящая его фамилия Сэмюэль Кристоф. Габдулла Джандербеков, уверяет, впрочем, что правильнее следует называть, его Семеном Христофоровым, по фамилии отца, белогвардейского офицера, атамана казачьей сотни, зверски усмирявшего в 1918 году восставшие против Колчака казахские деревни и аулы».

Александр Воинов Кованый сундук

КОВАНЫЙ СУНДУК
 Это случитесь 28 июня 1942 года на одной из военных дорог западнее Воронежа.
Ранним утром от серенькой, неприглядной хатки, затененной пыльными ветлами, отъехала грузовая машина. Только немногие знали, что здесь, в этом приземистом трехоконном домике, помещалась полевая касса Госбанка. Обычно она находилась рядом со штабом дивизии. Но несколько дней назад по указанию командования её, в числе других тыловых учреждений, переместили дальше от линии фронта. В кузове машины под серым брезентовым верхом стоял большой железный сундук, наглухо запертый и запечатанный. Много, видно, потрудился когда-то над этим сундуком хитроумный мастер Для прочности он оковал его широкими железными полосами, а для красоты сверху донизу усыпал узорчатыми бляхами и бесчисленным количеством медных заклепок, теперь уже потемневших от времени, но тонкой работы и самой разнообразной формы. Никакой пожар не способен расплавить толстые стенки сундука, а не посвященному в его сложное устройство не открыть замок, даже если он провозится с ним добрых полгода.
Надо сказать правду, сундуку этому гораздо более пристало бы стоять в каком-нибудь укромном уголке помещичьей усадьбы, купеческого дома или даже попросту комиссионного магазина, где его, может быть, приметил бы пристрастный взгляд завзятого любителя старины.
В походной канцелярии управления дивизии он был не очень-то на месте. Но случилось так, что прежний денежный ящик, многие годы стоявший в штабе дивизии и служивший верно свою службу, месяца три тому назад вдруг ни с того ни с сего отказался открываться, и его пришлось сломать.
С его стороны это была совершенно неожиданная, можно сказать неуместная, причуда. Однако начфин управления дивизии, капитан интендантской службы Соколов был не из тех, кого легко озадачить такими пустяками.
Он наведался к начальнику тыла своей дивизии, побывал у соседей, и через два дня на месте старого, такого обычного на вид денежного ящика уже стоял этот узорчатый трофейный кованый сундук с диковинным замком хитроумного устройства и таким толстым дном, что ему мог бы позавидовать самый солидный из современных несгораемых шкафов.
Так как новый сундук был очень тяжел, то его редко снимали с машины. В последние недели штаб часто менял свое местоположение, и капитан Соколов во избежание лишних хлопот предпочитал всю свою походную бухгалтерию держать, что называется, на колесах. Под брезентовым тентом его полуторки кочевали по размолотому колесами асфальту и горбатым колеям проселков перевязанные крест-накрест грубой тесьмой толстые папки с ведомостями и денежные документы, походный складной стол и такие же стулья с тонкими фанерными спинками — предмет особой гордости Соколова («Вот, полюбуйтесь: сложишь — и хоть в портфеле носи!»), и личные вещи начфина в черном, слегка потертом, но весьма основательном чемодане.
В пути все это хозяйство охраняли два автоматчика, и надо отдать Соколову справедливость — охрана у него была отлично дисциплинирована.
Автоматчики одинаково ревниво берегли и денежный ящик, и папки с документами, и, кажется, даже складной стул, на котором обычно сидел их начальник, когда выдавал зарплату офицерам.
Быть может, Соколов немножко больше, чем надо, любил похвалиться образцовым порядком своего, как он говорил, «боевого подразделения», но было даже по-своему приятно встретить где-нибудь на дороге эту небольшую, аккуратную машину и её хозяина, тщательно умытого, туго опоясанного, в шипели, казавшейся чуть тесноватой на его плотной, с прямыми плечами фигуре. Он сидел всегда рядом с шофером, слегка откинувшись на спинку сиденья и выставив вперед густую каштановую бороду, — товарищи называли её «партизанской», и, кажется, это было приятно Соколову. В кузове, выглядывая из-под тента, покуривали автоматчики…
Утром 28 июня полуторка Соколова, как всегда в полном боевом порядке, выехала в свой очередной рейс. Соколову надо было получить в полевой кассе Госбанка двести с небольшим тысяч для раздачи офицерам штаба и всем, кто входил в состав управления дивизии.
Через час после прибытия деньги были получены. Соколов вывел в ведомости золотым перышком авторучки свою изящную, четкую подпись с небольшим кудрявым росчерком и опять уселся в кабине плечом к плечу с шофером.
Машина выехала из деревни, но к месту назначения — в штаб дивизии — так и не прибыла.
Дивизия оказалась на главном направлении вражеского удара. На неё наступали два танковых корпуса. Двести «юнкерсов» и «мессершмиттов» непрерывно бомбили её боевые порядки и тылы… Дивизия с боями стала отходить к Воронежу.
На войне такие дни не редкость утро как будто начинается тихо, мирно Большое воинское хозяйство живет своей деловой, будничной походной, простой и в то же время сложной жизнью И вдруг — где он, этот быт? Прощай недолгий уют чужого жилья, короткая радость отдыха, крепкого сна, неторопливой еды! Опять дрожит земля и гудит воздух!
Так было и в тот памятный июньский день
…На одной из дорог солдаты вступили в бой с прорвавшимися в тыл немецкими броневиками. Один из них был подбит, а другой успел уйти. В километре от места боя на дороге догорала разбитая снарядом штабная автомашина. Знакомая, видавшая виды полуторатонка! Походная бухгалтерия капитана Соколова… Любой солдат в дивизии сразу узнал бы её. Около машины валялись трупы одного из автоматчиков и шофера. Начальник финансовой части Соколов и другой автоматчик исчезли. Исчез также и кованый сундук со всеми деньгами и документами. Но солдаты приметили и подобрали в канаве чудом сохранившийся, совершенно целехонький складной стул — из тех, которыми так гордился капитан Соколов, — да его большой плоский, сделанный по особому заказу портсигар из плексигласа с мудреным вензелем на крышке…
Это случитесь 28 июня 1942 года на одной из военных дорог западнее Воронежа.
Ранним утром от серенькой, неприглядной хатки, затененной пыльными ветлами, отъехала грузовая машина. Только немногие знали, что здесь, в этом приземистом трехоконном домике, помещалась полевая касса Госбанка. Обычно она находилась рядом со штабом дивизии. Но несколько дней назад по указанию командования её, в числе других тыловых учреждений, переместили дальше от линии фронта. В кузове машины под серым брезентовым верхом стоял большой железный сундук, наглухо запертый и запечатанный. Много, видно, потрудился когда-то над этим сундуком хитроумный мастер Для прочности он оковал его широкими железными полосами, а для красоты сверху донизу усыпал узорчатыми бляхами и бесчисленным количеством медных заклепок, теперь уже потемневших от времени, но тонкой работы и самой разнообразной формы. Никакой пожар не способен расплавить толстые стенки сундука, а не посвященному в его сложное устройство не открыть замок, даже если он провозится с ним добрых полгода.
Надо сказать правду, сундуку этому гораздо более пристало бы стоять в каком-нибудь укромном уголке помещичьей усадьбы, купеческого дома или даже попросту комиссионного магазина, где его, может быть, приметил бы пристрастный взгляд завзятого любителя старины.
В походной канцелярии управления дивизии он был не очень-то на месте. Но случилось так, что прежний денежный ящик, многие годы стоявший в штабе дивизии и служивший верно свою службу, месяца три тому назад вдруг ни с того ни с сего отказался открываться, и его пришлось сломать.
С его стороны это была совершенно неожиданная, можно сказать неуместная, причуда. Однако начфин управления дивизии, капитан интендантской службы Соколов был не из тех, кого легко озадачить такими пустяками.
Он наведался к начальнику тыла своей дивизии, побывал у соседей, и через два дня на месте старого, такого обычного на вид денежного ящика уже стоял этот узорчатый трофейный кованый сундук с диковинным замком хитроумного устройства и таким толстым дном, что ему мог бы позавидовать самый солидный из современных несгораемых шкафов.
Так как новый сундук был очень тяжел, то его редко снимали с машины. В последние недели штаб часто менял свое местоположение, и капитан Соколов во избежание лишних хлопот предпочитал всю свою походную бухгалтерию держать, что называется, на колесах. Под брезентовым тентом его полуторки кочевали по размолотому колесами асфальту и горбатым колеям проселков перевязанные крест-накрест грубой тесьмой толстые папки с ведомостями и денежные документы, походный складной стол и такие же стулья с тонкими фанерными спинками — предмет особой гордости Соколова («Вот, полюбуйтесь: сложишь — и хоть в портфеле носи!»), и личные вещи начфина в черном, слегка потертом, но весьма основательном чемодане.
В пути все это хозяйство охраняли два автоматчика, и надо отдать Соколову справедливость — охрана у него была отлично дисциплинирована.
Автоматчики одинаково ревниво берегли и денежный ящик, и папки с документами, и, кажется, даже складной стул, на котором обычно сидел их начальник, когда выдавал зарплату офицерам.
Быть может, Соколов немножко больше, чем надо, любил похвалиться образцовым порядком своего, как он говорил, «боевого подразделения», но было даже по-своему приятно встретить где-нибудь на дороге эту небольшую, аккуратную машину и её хозяина, тщательно умытого, туго опоясанного, в шипели, казавшейся чуть тесноватой на его плотной, с прямыми плечами фигуре. Он сидел всегда рядом с шофером, слегка откинувшись на спинку сиденья и выставив вперед густую каштановую бороду, — товарищи называли её «партизанской», и, кажется, это было приятно Соколову. В кузове, выглядывая из-под тента, покуривали автоматчики…
Утром 28 июня полуторка Соколова, как всегда в полном боевом порядке, выехала в свой очередной рейс. Соколову надо было получить в полевой кассе Госбанка двести с небольшим тысяч для раздачи офицерам штаба и всем, кто входил в состав управления дивизии.
Через час после прибытия деньги были получены. Соколов вывел в ведомости золотым перышком авторучки свою изящную, четкую подпись с небольшим кудрявым росчерком и опять уселся в кабине плечом к плечу с шофером.
Машина выехала из деревни, но к месту назначения — в штаб дивизии — так и не прибыла.
Дивизия оказалась на главном направлении вражеского удара. На неё наступали два танковых корпуса. Двести «юнкерсов» и «мессершмиттов» непрерывно бомбили её боевые порядки и тылы… Дивизия с боями стала отходить к Воронежу.
На войне такие дни не редкость утро как будто начинается тихо, мирно Большое воинское хозяйство живет своей деловой, будничной походной, простой и в то же время сложной жизнью И вдруг — где он, этот быт? Прощай недолгий уют чужого жилья, короткая радость отдыха, крепкого сна, неторопливой еды! Опять дрожит земля и гудит воздух!
Так было и в тот памятный июньский день
…На одной из дорог солдаты вступили в бой с прорвавшимися в тыл немецкими броневиками. Один из них был подбит, а другой успел уйти. В километре от места боя на дороге догорала разбитая снарядом штабная автомашина. Знакомая, видавшая виды полуторатонка! Походная бухгалтерия капитана Соколова… Любой солдат в дивизии сразу узнал бы её. Около машины валялись трупы одного из автоматчиков и шофера. Начальник финансовой части Соколов и другой автоматчик исчезли. Исчез также и кованый сундук со всеми деньгами и документами. Но солдаты приметили и подобрали в канаве чудом сохранившийся, совершенно целехонький складной стул — из тех, которыми так гордился капитан Соколов, — да его большой плоский, сделанный по особому заказу портсигар из плексигласа с мудреным вензелем на крышке…
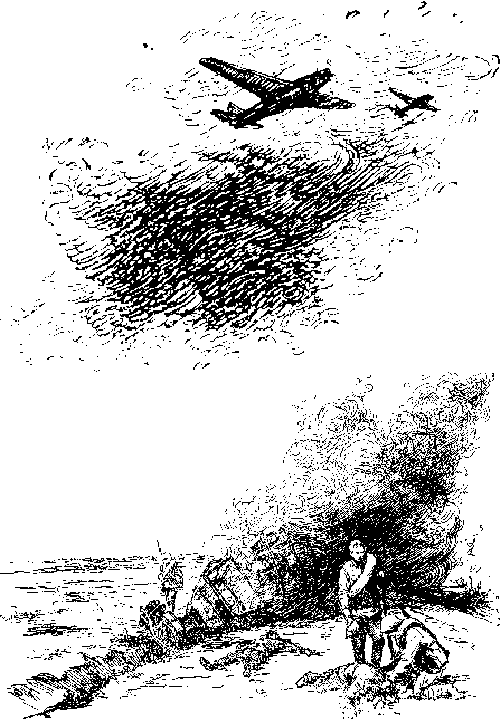 Солдата и шофера похоронили в придорожной роще, рядом с убитыми в том же бою, а капитана Соколова, второго автоматчика и денежный сундук искать не стали дивизия могла оказаться в окружении, и нужно было по приказу командования, совершив стремительный марш, занять оборону в районе Воронежа.
Вскоре в штаб дивизии был назначен другой начфин, совсем не похожий на прежнего, — очень худой, высокий и сутулый человек в каких-то двойных очках, с редкой фамилией Барабаш, а капитана Соколовя, внесенного в списки без вести пропавши понемногу стали заывать…
Солдата и шофера похоронили в придорожной роще, рядом с убитыми в том же бою, а капитана Соколова, второго автоматчика и денежный сундук искать не стали дивизия могла оказаться в окружении, и нужно было по приказу командования, совершив стремительный марш, занять оборону в районе Воронежа.
Вскоре в штаб дивизии был назначен другой начфин, совсем не похожий на прежнего, — очень худой, высокий и сутулый человек в каких-то двойных очках, с редкой фамилией Барабаш, а капитана Соколовя, внесенного в списки без вести пропавши понемногу стали заывать…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАПИТАНЕ СОКОЛОВЕ
Впрочем, Соколова вспоминали, пожалуй, дольше, чем многих других. Не то чтоб его особенно любили, но хвалили все — и начальство и товарищи. Он был, что называется, аккуратист. Никогда ничего не забывал, никогда не ошибался и не обсчитывался. Когда он, слегка приподняв жесткие рыжеватые брови, принимал из рук офицера заявление с просьбой направить семье денежный аттестат, а потом бережно укладывал сложенный вчетверо помятый листок из блокнота в свой новенький желтый планшет, можно было считать, что дело уже сделано: заявление нигде не залежится и зарплата лейтенанта Фирсова или там майора Сидоренко вскоре будет исправно выплачиваться где-нибудь в Бугульме или в Молотовской области. Если его благодарили, он отмахивался: «А как же, голуба! Это ведь вам деньги, а не щепки!..» Но маленькую заметку под названием «Чуткость к человеку», напечатанную в дивизионной газете, заметку, где, между прочим, положительно упоминался и начфин штаба такой-то дивизии, капитан Соколов тщательно вырезал и спрятал в нагрудный карман. Видно было, что он польщен и обрадован не на шутку. В компании Соколов был приятен и увлекательно рассказывал разные случаи из своей рыболовной и охотничьей практики. Охоту и рыбную ловлю он любил до страсти и, вздыхая, говорил, что прежде, в мирное время, всякий свой отпуск проводил в лесу или на реке. Он был из тех людей, которые, как говорится, нигде не пропадут. Всюду у него были приятели — среди интендантов, в Военторге, в сапожной мастерской штаба армии и даже в парикмахерской. Всеми этими многочисленными связями он редко пользовался для себя лично, но охотно выручал товарищей. Можно было подумать, что это даже доставляет ему какое-то особое удовольствие. Одним словом, парень был компанейский, свой, приятный и удобный в общежитии. Однакоже при огромном количестве приятелей настоящих, близких друзей у Соколова не было. — Чорт тебя знает… — говорил ему майор Медынский, начальник дивизионного госпиталя, человек умный, живой, но несколько грубоватый и склонный, когда надо и не надо, резать правду-матку в глаза, — со всеми-то ты знаком, со всеми на «ты», без тебя бы я бекеши нипочем не справил, а всё-таки ты какой-то не такой… Соколов не обижался. Его как будто даже немного забавляло, что в нем видят нечто особенное. — Что ж, — говорил он, самодовольно расправляя свою партизанскую бороду, — так и должно быть. Не очень-то станешь ходить нараспашку, когда отвечаешь за сотни тысяч. Попробовал бы ты на моём месте посидеть… Возражать на это было трудно, и разговор сам собой прекращался. …И вот этот-то человек, так хорошо умевший приспосабливаться к жизни, славный товарищ и аккуратный, добросовестный служака, пропал без вести.УДАР НА ДОНУ
Со времени июньских боев прошло восемь месяцев. После небольшого отдыха дивизию передали другой, соседней армии и перевели на новый участок, по среднему течению Дона. Дивизия заняла позиции вдоль берега реки, напротив совершенно разрушенного гитлеровцами небольшого городка. Полковник Ястребов, опытный боевой командир, уже не раз получавший сложные задания, готовил свои части к наступлению. Командующий армией вызвал его к себе и поставил перед дивизией боевую задачу: выбить гитлеровцев из городка, а затем повернуть на юг и с хода освободить старинный русский город О. Это было важно для успеха всего фронта. Предстоял бой, во время которого дивизии надо было форсировать Дон и захватить противоположный берег реки. Задача была нелегкой. Крутой склон, почти отвесно спадающий к воде, немцы превратили в настоящую крепость. Прорыли в нём множество ячеек, соединили их внутренними ходами, установили пулеметы, пушки, минометы… Вечером накануне наступления около блиндажа, в котором размещался командный пункт дивизии, остановился вездеход. На примятый, притоптанный снег вышли два человека в одинаковых гражданских черных пальто с серыми барашковыми воротниками. И всё-таки люди эти совсем не походили друг на друга. Один, видимостарший по возрасту, лет пятидесяти, а может, и побольше, был сухощав, лёгок и ловок в движениях и как-то даже по-юношески стремителен. Его смуглое лицо было освещено глубоко посаженными черными, необыкновенно живыми и любопытными глазами. Воротник пальто у него был расстёгнут, шапка слегка сдвинута на затылок. Из-под неё выбивалась, спускаясь на самую бровь, прядь прямых черных волос. Из машины он выскочил, как на пружинах, и, дожидаясь штабного офицера, который пошел доложить о гостях командиру дивизии, сразу стал похаживать по узенькой, вытоптанной в снегу тропинке, постукивая каблуком о каблук, чтобы скорее согреться. Его спутник не торопясь, осторожно и медленно вылезал из машины. Сначала он высунул одну ногу, надежно утвердился на ней и уж тогда, немного подумав, поставил на землю вторую. После этого он слегка похлопал ладонями в теплых вязаных варежках и поглубже надвинул на уши шапку с аккуратно завязанными на затылке тесемочками. Его густо порозовевшее на морозе лицо с прозрачно-голубыми глазами было необыкновенно серьезным. Он посмотрел сперва направо, потом налево и сказал, солидно откашлявшись: — Ну, вот и приехали! Как раз в этот момент дверь блиндажа распахнулась, и на пороге появился сам командир дивизии, полковник Ястребов — маленький, худощавый человек, к которому удивительно подходила его фамилия. У него был резкий, даже острый профиль, нос клювом и почти вертикальные брови над круглыми карими глазами, веселыми и сердитыми одновременно. Солдаты в дивизии называли его «наш ястребок». Они и не знали, что с этим прозвищем он окончил школу, военное училище и даже академию и что так же, как они, называет его и командующий армией, в которую входит его дивизия. Завидя гостей, Ястребов сделал приветственное движение рукой и крикнул звонким на морозе голосом: — Прошу, товарищи! Худощавый круто повернулся и быстро пошел к нему навстречу широким, легким шагом. За ним чуть вразвалку, с нажимом впечатывая в снег отчетливые следы, зашагал его неторопливый спутник. — Здравствуйте, товарищи, — приветливо сказал командир дивизии, сильно пожимая гостям руки своей маленькой, крепкой рукой. — Будем знакомы. Полковник Ястребов. Ждал вас!.. Веселее воевать будет, зная, что вместе с нами в город войдёт советская власть. Вы, если не ошибаюсь, секретарь горкома партии Громов? Илья Данилович? — Он самый, — ответил худощавый человек. — А это Иванов Сергей Петрович, председатель горсовета. Иванов слегка поклонился, сохраняя строгое, чрезвычайно серьезное выражение лица, минутку помолчал, подумал о чем то, а потом спросил деловито и требовательно, так, словно ехал в поезде и случайно задержался в пути: — Когда будем на месте? — Точно по расписанию, — с улыбкой ответил Ястребов, — хотя возможны и некоторые непредвиденные задержки… Громов засмеялся, а Иванов вопросительно посмотрел на него, потом на Ястребова и слегка пожал плечами. — Вот всегда так с военными, — вздохнул он, садясь перед столиком, на котором лежала карта: — без оговорок не могут. А нам, товарищ полковник, во как надо, чтобы дивизия овладела городом поскорей и, главное, как можно внезапней!.. — Почему? — спросил Ястребов и, пододвинув Громову скамейку, сел напротив председателя горсовета, но тут же спохватился: — Раздевайтесь, товарищи!.. Ужинать хотите?.. Впрочем, я и спрашивать вас не буду… Сергушкин, — приказал он своему ординарцу, — слетай к повару, передай, чтобы сюда принесли ужин… Побыстрее. На троих… нет, на четырех человек!.. И начальнику штаба… Сергушкин побежал выполнять приказание. У дверей он посторонился и пропустил в блиндаж высокого командира. В белом овчинном полушубке, опоясанный широким ремнем с портупеей, с большим планшетом на боку, он казался огромным и занял собой всю ширину двери. Должно быть, он хотел что-то сказать Ястребову, но, увидев посторонних гражданских людей, удивился и молча козырнул им, вопросительно поглядев на командира дивизии. — А вот и наш начальник штаба. Подполковник Стремянной. Легок на помине! — сказал Ястребов. — Ну, теперь, Егор Иванович, уж нам с тобой, надо держаться. Живой рукой надо брать город. Сам понимаешь — с нами идёт партийное и советское руководство!.. — Ах, вот как! Ну, значит надо постараться, — чуть усмехнувшись, сказал Стремянной. Он сбросил свою курчавую белую ушанку, снял толстый полушубок и от этого сразу чуть ли не в двое уменьшился в объёме. Теперь стало видно, что это человек лет двадцати семи, очень худой, по, должно быть, сильный и выносливый: В поясе он был тонок, а в плечах широк. В каждом движении его чувствовалась какая-то особая уверенная четкость. «Наверно, он на лыжах хорош, — невольно думалось, глядя на него. — А может, футболист или бегун? Что-нибудь такое, во всяком случае…» У Стремянного были белокурые, пшеничные волосы. Такие же, с золотинкой, небольшие усы вились над углами рта. Его бледное узкое лицо трудно было даже представить себе раскрасневшимся от жары или мороза. Наверно, оно при всех обстоятельствах сохраняло этот ровный, здоровый цвет. Когда Стремянной вошел в блиндаж, Громов заметил, что командир дивизии и начальник штаба обменялись привычно-понимающим взглядом, и подумал, что им, должно быть, хорошо работается вместе. И в самом деле, за те нелегкие месяцы, которые Ястребов и Стремянной провели в боях (Стремянного назначили начальником штаба дивизии всего за неделю до начала сражения на Тиме), они научились понимать друг друга с одного слова и с одного взгляда. Каждый оценил в другом его способности, мужество, уменье в трудной обстановке находить верное решение. Здороваясь с гостями, Стремянной чуть подольше задержал руку председателя горсовета и сказал, лукаво прищуря один глаз: — Вы, я вижу, товарищ Иванов, меня совсем не узнаете… А вот я вас сразу узнал. — Да вы разве знакомы? — удивился Громов. — Нет, — коротко ответил Иванов. — Ну, это как сказать! — Стремянной засмеялся. — У вас, наверно, таких знакомых было много, а вот вы у нас один… В глазах у Иванова появилось нечто похожее на беспокойство. — Что-то не припомню… — сказал он. — Где же мы с вами встречались? — Да нигде, кроме как у вас в приемной. Неужто совсем забыли? А ведь я там порядком пошумел. — Зачем же было шуметь? — наставительно, с упреком в голосе сказал Иванов. — И без шума бы всё сделалось. — Ни с шумом, ни без шума не сделалось. — Стремянной вздохнул. — Ходил я к вам, ходил, просил-просил, ругался-ругался, а вы так крышу в домике моих стариков и не починили. Разве что теперь заявление примете? Севастьяновский переулок, два… — Он ведь здешний уроженец, — указывая на Стремянного движением бровей, сказал Ястребов, обратившись к Громову. — Не куда-нибудь идет, а домой. — Да, верно, домой, — повторил Стремянной, и лицо его как-то сразу отяжелело. — Тут я и родился, и школу кончил, и работать начал. На электростанции. Монтеёром… А потом, после института, сюда же вернулся — сменным инженером. Да недолго проработал — около двух лет всего. Больше не дала война. — А в городе кто-нибудь из ваших остался? — осторожно спросил Громов. Стремянной покачал головой: — Город остался… Родных-то своих я, к счастью, вывез. Но ведь мне здесь каждый камень свой. Я уж не говорю про людей. Я всех знал, и меня все знали. — Он невесело усмехнулся. — Я же, ко всему прочему, футболист. В городской сборной играл. — Батюшки! — вдруг закричал Иванов и даже привстал с места. — Правый край! Ну как же, как же!.. Можно сказать, краса и гордость всего города. Так какой, ты говоришь, адрес у тебя? Севастьяновский, два? Перекроем тебе крышу, обязательно перекроем! Дай только в город войти. А тогда, конечно, недосмотр был… Уж ты извини, брат, недосмотр и есть недосмотр. Громов хлопнул себя по коленям ладонями: — Ай да Сергей Петрович! Сразу видать, болельщик! Как разошелся! Да ты бы сперва поглядел, цел ли дом-то. Может, и крышу класть не на что… Иванов поднял на него свои светлоголубые глаза. — А ведь это верно, — сказал он задумчиво. — Ну что ж, сперва посмотрим, стоит ли дом, а потом и крышей его накроем. Он достал из кармана маленькую записную книжечку и что-то написал в ней бисерно-мелким, но четким почерком. Громов заглянул ему через плечо и прочел вполголоса: — «Севастьяновский, два. Подполковник Стремянной, в скобках — правый край… Если цел, покрыть железом». Побойся бога, Сергей Петрович! Ну разве можно так писать? Он громко расхохотался. Ястребов и Стремянной невольно вторили ему. Иванов слегка пожал плечами. Лицо его было совершенно невозмутимо. — А что такое? Коротко и ясно. Даже не понимаю, что здесь смешного. — Это потому, что у тебя чувства юмора нет. — Нету, — спокойно согласился Иванов. — Вот и жена мне постоянно говорит: «Скучный ты человек, Сережа, юмора у тебя ни на грош». А что я ни скажу — смеётся. Все вокруг опять засмеялись. Иванов махнул рукой: — Смейтесь, смейтесь, я привык! Дверь снова отворилась, и в блиндаж вошел повар — молодой парень в белом халате, надетом поверх шинели. В больших, красных от мороза руках он осторожно нёс котелок, несколько алюминиевых мисок, ножи и вилки. В блиндаже сразу же вкусно запахло жареным мясом, перцем и лавровым листом. Ястребов сам разложил жаркое по мискам и налил гостям по стопке водки. — Ну, товарищи, — сказал Громов, — за то, чтобы по второй выпить уже в городе! — Правильный тост! — сказал Ястребов и поднял свою стопку. — Но объясните мне сперва, что у вас за особое дело в городе… Мы ведь и сами медлить не собираемся. — Ну, это, конечно, ясно. — Громов налег грудью на край стола и придвинулся поближе к Ястребову. — Но нам, видите ли, достоверно известно, что гитлеровцы собираются вывезти из города всё, что можно поставить на колеса, и угнать всех, кто способен работать. Хорошо бы этому помешать… А? Как вы думаете?.. — Да так же, как и вы, — усмехаясь, ответил Ястребов. — Должен сознаться, что и у нас с товарищем Стремянным есть кое-какие сведения об этих обстоятельствах… Ну, и свои соображения, естественно… — Естественно! — подхватил Громов. — Вы уж меня извините, товарищ Ястребов, мы с Сергеем Петровичем люди не военные, гражданские, а по дороге сюда тоже различные оперативные задачи решали… Вот, думаем, если бы удалось быстро обойти город и перерезать дорогу на запад, то они бы оказались словно в мешке. Впору было бы думать, как головы унести, а не то что добро наше вывозить. — Придумано неплохо, — сказал Ястребов, переглянувшись со Стремянным, — если бы только предстоящая нам задача исчерпывалась взятием города. Но, к сожалению, это только первая её часть. Главные трудности нас ожидают впереди, и как раз за городом. — Вон как!.. А мы было думали… — Протянул Громов, озабоченно глядя на Иванова. — И мы сначала думали, — Ястребов слегка развел руками, — а выходит иначе. Выяснилось, что западнее — так километрах в пятидесяти от города — гитлеровцы построили укрепрайон. — Он встретил вопросительный взгляд Громова и кивнул головой. — Сейчас объясню. — Его маленькая суховатая и крепкая рука привычным движением взялась за карандаш. — Расчет противника таков: в случае нашего прорыва на Белгород остановить наступление вот здесь, в районе Нового Оскола. По имеющимся данным, укрепления построены довольно солидно — доты, надолбы, противотанковые рвы, минные поля, колючая проволока… Словом, всё, что полагается. Проселочные дороги и шоссе простреливаются многослойным огнем… Как видите, повозиться там придется основательно. — Ястребов озабоченно постучал карандашом о стол. — Заметьте, что месторасположение района выбрано не случайно… Гитлеровское командование стремится перекрыть весь узел дорог и заставить нас идти прямо по занесенным снегом полям. А поля в этом районе, как вы знаете, густо изрезаны балками, овражками, на холмах раскинуты рощи. Местность, очень удобная для обороны… — Ястребов помолчал. — Так что нам есть о чём подумать… — Да, действительно, дело серьезное, — сказал Громов. — Но ведь если вы знаете, что существует укрепрайон, то, очевидно, у вас есть о нём и данные. — Конечно, кое-что мы знаем, — согласился Ястребов, — но надо бы знать побольше… Представляете, сколько мы сит, а главное, жизней наших солдат сбережем, если будем брать укрепрайон не вслепую… Иванов досадливо махнул рукой. — Да, уж мы и тактики! — пробурчал он. — Своих забот, вижу, у вас по горло… А всё-таки хочется мне рассказать вам об одном важном, так сказать, обстоятельстве, которое нас с Ильей Даниловичем тревожит. Конечно, по сравнению с тем, что вам предстоит сделать, оно не такое уж значительное. — Он повернулся к Громову: — Не знаю даже, говорить или нет, Илья Данилович. Как твоё мнение? Громов смущенно пожал плечами: — Ну, уж начал, так говори… — Конечно, — поддержал Ястребов, — говорите. Всё, что касается города, нам знать интересно и важно. — Ну ладно, скажу прямо, — наконец решился Иванов. — Проворонили мы при отходе из города одно важное дело. Поручили вывезти городской музей круглому дураку, а он мало что дурак — ещё и трус оказался. Себя вывез, а музей бросил… А вы знаете, какой у нас музей? Вот пускай товарищ Стремянной вам расскажет. Крамской, Суриков, Репин, Айвазовский… Есть чем гордиться!.. — Да, — поддержал его Громов, — если уж случилась такая беда, что мы нашу картинную галерею во-время вывезти не успели, так теперь надо бы сделать всё, чтоб и фашисты её не вывезли. Пока нам известно, что картины ещё в городе. И, надо полагать, если продвижение наших войск будет стремительным, вряд ли в панике фашисты о них вспомнят. Ястребов взглянул на часы, сморщил лоб и поднялся. — Так, так… Могу вам сказать, товарищи, только одно: сделаем всё, что в наших силах и даже свыше сил. Дивизия будет действовать по плану командования… Естественно, что и в наших интересах освободить город как можно скорее… Так что будем надеяться… А сейчас отдыхайте. Боюсь только, что ночь будет несколько шумной… Громов и Иванов поднялись с места. Сергушкин проводил их в соседний блиндаж. Едва они вышли, как дверь снова хлопнула и по ступенькам вниз быстро сошел начальник Особого отдела дивизии майор Воронцов. Его круглое, румяное от мороза лицо казалось взволнованным. Он остановился посередине блиндажа и несколько мгновений глядел куда-то в угол, щуря глаза от яркого света. Руки его были глубоко засунуты в карманы полушубка, туго подпоясанного ремнем, на котором висел револьвер в новой светложелтой кобуре. Стремянной подвинул табуретку: — Садись, товарищ Воронцов! Воронцов досадливо махнул рукой, снял шапку и сел. — Вот что, товарищи, — сказал он смотря то на Ястребова, то на Стремянного: — час назад линию фронта перешел один наш подпольщик, Никифоров. Когда он приближался к нашим позициям, немцы его обстреляли и смертельно ранили… Он умер, но я успел с ним поговорить. Он сообщил, что вчера ночью гестапо арестовало в городе пятерых товарищей. Видно, какая-то сволочь их предала. Ястребов хмуро смотрел на Воронцова из-под своих кустистых бровей. — И никаких подробностей? Никаких подозрений? — быстро спросил он. — Никаких… Кто предал, так и не установлено. Стремянной порывисто встал: — Но хоть какие-нибудь данные у Никифорова были? Воронцов развел руками: — Нет. Он не мог сказать ничего определенного, но считает, что провал наших людей — это результат чьей-то чрезмерной доверчивости… — Значит, предатель проник извне? — спросил Ястребов. — Думаю, что так, — согласился Воронцов. — Кто-то был подослан… Очевидно, опытный шпион. Сумел втереться в доверие. Все трое помолчали. Стремянной мотнул головой и стукнул кулаком об стол: — Эх, погибли ребята!.. А ведь всего несколько дней им осталось продержаться!.. Всего три-четыре дня!.. — Да, ещё бы дня три, — согласился Воронцов. — Но пять человек — это ещё не все. Основная организация сохранилась… — Он встал. — Впрочем, придем в город — разберемся. Обязательно разберемся!.. — Он засунул руку за борт полушубка и вынул из него небольшой помятый конверт. — А вот это Никифоров просил передать Громову или Иванову. Здесь сообщения от подпольщиков. Много полезного. Но Никифоров пробирался к нам дней десять, кое-что могло устареть… Ястребов взял конверт и, поднеся его поближе к лампочке, стал внимательно рассматривать. Воронцов встал надел шапку и быстро вышел. Когда командир дивизии и начальник штаба остались наедине, Ястребов вновь разложил карту на столе и стал отдавать последние распоряжения… Времени оставалось немного. Из штаба армии уже был получен боевой приказ ровно в шесть ноль-ноль начать артподготовку и в шесть сорок перейти в наступление. В блиндаже то и дело гудели телефоны. Ястребов говорил с командирами полков, называя номера квадратов, на которые надо обратить внимание артиллеристам, кого-то ругал, кого-то хвалил, кому-то делал строгие внушения… Так прошла вся ночь. Ровно в шесть ноль-ноль ударил первый залп из десятков орудий. События развивались стремительнее, чем ожидал сам Ястребов. Хорошо пристрелянная артиллерия в первые же минуты подавила огневые точки врага, разрушила блиндажи и укрытия, в которых прятались минометчики, нарушила всю систему связи между отдельными их подразделениями. Гитлеровцы, застигнутые врасплох, пытались отстреливаться, но методический огонь дивизионной, армейской и фронтовой артиллерии не давал им поднять голову. А когда «катюши», скрытые в прибрежных кустах тальника, подали свой голос, передний край обороны противника замолчал окончательно. Минеры быстро сделали своё дело, и первые танки, с хода ломая гусеницами лед, ворвались на правый берег и поползли вверх, взметая снежные вихри и оставляя за собой широкую колею, по которой сразу же двинулась пехота. Через полчаса солдаты уже вели бой в глубине обороны противника. Они теснили его всё дальше от берега, и гитлеровцы стали беспорядочно отступать по шоссе в сторону города О., где находился их штаб и где они надеялись укрепиться. Но в это время один из танковых батальонов, совершив обходный маневр, проник в тыл отступающих частей противника. Увидев опасность полного окружения, враги изменили направление и, не дойдя двадцати километров до города О., резко повернули на запад, стремясь избегнуть дальнейшего преследования… Гитлеровцы отступали прямо по снежной целине, бросив всё, что не может унести с собой человек. На шоссе стояли подбитые автобусы, орудия, минометы, грудами валялись снаряды в футлярах, плетенных из соломы. Во вражеских штабах, расположенных в городе О., началась паника. Чемоданы летели в машины, хозяева их почти на ходу вскакивали вслед за ними и на полном газу устремлялись вперед по шоссе, пока по дороге ещё можно было проехать. Части, оставленные, чтобы прикрывать отступающие войска, занимали позиции вдоль северо-восточной окраины города, но солдаты уже были деморализованы сообщениями о прорыве фронта и думали не столько об обороне, сколько о спасении собственной жизни. В десять часов утра на подступах к городу показались первые советские танки, и начался стремительный бой на коротких дистанциях. Полковник Ястребов установил свой командный пункт среди густого кустарника на склоне холма, откуда хорошо просматривались и поле боя и окраинные улицы города. Рядом с ним на командном пункте находились Иванов и Громов. Вооружась биноклями, они смотрели, как танки, разрывая гусеницами проволочные заграждения, утюжили вражеские окопы, как пехота под прикрытием танков подбиралась всё ближе и ближе к городу. За последние несколько часов Ястребов увидел в председателе горсовета нечто новое. Ему понравилось, что Иванов и здесь, под артиллерийским огнем, остается таким же невозмутимо-спокойным, каким был в жарко натопленном блиндаже под тремя накатами толстых брёвен. А в это время Иванов, не отрываясь от бинокля, пристально рассматривал далекие дома, башни, остатки взорванного железнодорожного моста. Приближался час, когда они с Громовым войдут в город, где им предстоит много и трудно поработать. Он думал о том, как накормить, одеть, снабдить дровами всех этих людей, которые ждут их и которые столько вытерпели за это время. Ведь что там ни говори, дивизия Ястребова сделала своё дело и пойдет дальше. А они останутся…ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ровно в два часа дня, или, говоря языком военной сводки, в четырнадцать ноль-ноль, город был полностью освобожден от противника. На окраине утихли последние выстрелы, и полковник Ястребов, расположившись в небольшом, сравнительно хорошо сохранившемся особняке на центральной улице, докладывал по телефону командующему армией, что приказ дивизией выполнен — город освобожден. Довольно было самого беглого взгляда, чтобы увидеть, какой огромный урон нанесли гитлеровцы городу. Самые лучшие дома они уничтожили — взорвали или сожгли. Белое здание городского театра, когда-то ярко освещенное по вечерам, чернело впадинами окон, за которыми виднелись груды обгорелого кирпича и причудливо изогнувшихся ржавых балок; большой, в два пролета, железнодорожный мост, подорванный в центре толом, опрокинулся в реку, и издали казалось, что два огромных животных с круглыми слоновьими спинами, упершись в каменные устои задними ногами, опустили передние в воду и пьют, пьют и никак не могут напиться; на холме, возвышаясь над городом, темнел огромный разрушенный элеватор, похожий на старинную крепость после жестокого штурма. Взорваны были и старое здание вокзала, и напоминающая каменную туру красная кирпичная водокачка, и городская электростанция. Тяжелой потерей для города было также исчезновение лучших картин из городского музея. Когда Иванов узнал, что до вчерашнего вечера картины ещё были в городе, он крякнул от досады и даже как-то потемнел лицом. — Нет, подумать только — перед самым носом увезли, мерзавцы!.. — пробурчал он и после этого добрый час только хмурил свои белесые брови да сердито молчал. Громов в эти трудные минуты сохранил свою живость, подвижность, общительность. С той минуты, как они очутились с Ивановым на улицах города, их непрестанно окружали люди — всем хотелось узнать, что делается в Москве, в стране, на фронтах… Громов не успевал отвечать на вопросы, пожимать руки, утешать, успокаивать и, в свою очередь, расспрашивать без конца. Ему хотелось знать обо всем, что касалось города: о том, как здесь жили люди; что разрушили гитлеровцы и что не успели разрушить; сохранились ли самые крупные предприятия города — завод сельскохозяйственных машин, текстильная фабрика и вагоноремонтные мастерские. И хотя всё было уже известно и на душе было невесело, ему хотелось скорее сесть в машину, чтобы своими глазами увидеть, представить себе величину разрушений, понять, с чего надо начать восстановление. Было решено, что они осмотрят город вместе со Стремянным, а он всё не появлялся. Ему надо было разместить свое штабное хозяйство, установить связь с командованием армии, с соседями и полками, дать указания об охране города, назначить коменданта… Наконец, когда Иванов уже предложил было войти в дом и погреться, Стремянной вышел на улицу, запахивая на ходу полушубок. — Поехали, товарищи! — громко сказал он, движением руки подзывая шофера. — Посмотрим, как и что… Стремянной сидел рядом с шофером, тяжело облокотившись локтями о колени, и, подавшись вперед, внимательно вглядывался прищуренными глазами в знакомые с детства дома, в деревянные заборы, в деревья городского сквера, виднеющиеся за низкой чугунной оградой с пиками, похожими на гарпуны, и тяжелым орнаментом из лавровых листьев. Как гласила старинная легенда, эта ограда была отлита ещё при Екатерине II на уральских демидовских заводах. Позади Стремянного сидели Иванов и Громов. Они негромко и озабоченно переговаривались, но Стремянной их не слышал: так странно было ему видеть в этом городе, где прошло его детство, следы недавнего боя, следы тяжелого, почти годичного плена… На углу двух улиц — Спартаковской и Карла Маркса — стоял немецкий штабной автобус с выбитыми стеклами и сорванными от сильного взрыва дверями. Автобус быт выкрашен в серый цвет, а на его кузове черный дракон вытянул в разные стороны три маленькие безобразные головы, увенчанные рогатыми коронами. Этот воинственный знак принадлежал части, ещё недавно хозяйничавшей в городе. Сейчас «черные драконы» находились уже в доброй полусотне километров отсюда. Иванов перегнулся через борт машины, стараясь разглядеть, есть ли что-нибудь внутри автобуса, но вездеход уже завернул за угол и поравнялся с небольшим двухэтажным каменным домом; штукатурка на нем облупилась, отпала, и в разных местах виднелись потемневшие, изгрызенные временем, дождями и ветрами кирпичи. Как много было связано у Стремянного с этим домом!.. Вот здесь, где зияет черная впадина вырванной взрывом двери, он когда-то, ещё мальчиком, долго рассматривал комсомольский билет, который ему только что вручил секретарь горкома; а вон там, чуть дальше, у тополя со срезанной снарядом верхушкой, он стоял с Катей Парамоновой. Лил сильный дождь, а они прятались под густым навесом, и им было весело… Машина выехала на площадь. Вот на углу высокое красное здание. Школа!.. Где-то сейчас Иван Степанович, старый учитель, который заставил лентяя Гошку Стремянного полюбить математику? Сутулый, в своем длинном черном пальто, Иван Степанович неторопливо выходил из дверей с пачкой тетрадей подмышкой, чтобы дома, пообедав и немного отдохнув, вооружиться карандашом, с одной стороны красным, а с другой синим, и начать проверку письменных работ. Синим карандашом он безжалостно ставил двойки и тройки с таким сердитым нажимом, что часто ломал его, и от этого двойки кончались длинным лучистым хвостом, как у кометы. Четверки и пятерки всегда были просто, но любовно выписаны… Шофер немного притормозил, и сидевшие в машине почувствовали острый запах, исходивший, казалось, от стен этого здания, — запах немецкого постоялого двора. Окна нижнего этажа были пересечены тяжелыми железными решетками, а над входом ещё висела небольшая черная вывеска, на которой белой краской острыми готическими буквами было по-немецки написано: «Комендатура». — Вот, дьяволы, испортили здание! — сказал Громов. — Прямо будто тюрьма. Иванов вздохнул и ничего не сказал. Обогнув площадь, вездеход въехал в боковую улицу. Раньше она называлась Орловской. По обеим сторонам её стояли небольшие домики, окруженные фруктовыми садами; не раз Стремянной вместе с другими мальчишками делал набеги на здешние яблони и вишни, не раз ему попадало от хозяев, которые его считали грозой своих садов, и это ему очень льстило… Вдруг его сердце сжалось, и он невольно до боли прикусил нижнюю губу. Что же это такое? Где улица? Теперь здесь не было ни садов, ни заборов, ни домок — огромный пустырь расстилался вокруг, деревья вырублены, дома разрушены… Остались лишь каменные фундаменты да груды старого кирпича. — На дрова разобрали, — сказал Иванов, — всё пожгли… Отсюда совсем недалеко до Севастьяновского переулка. Надо только миновать этот длинный пустырь, где словно похоронено его детство, повернуть за сохранившуюся каменную трансформаторную будку, и тут направо, второй дом от угла… На трансформаторной будке нарисованы череп и две скрещенные черные молнии. Когда Стремянному было девять лет, он боялся прикоснуться к этой будке — думал, что его тут же убьет. — Притормози! — сказал он шоферу. Это было первое слово, которое он произнес с той минусы, как они сели в машину. Машина остановилась, и Стремянной, круто повернувшись всем корпусом направо, стал пристально разглядывать ничем не приметный одноэтажный деревянный домик, боковым фасадом выходящий на улицу. По обеим сторонам невысокою крылечка в три покосившиеся ступеньки угрюмо стояли старые, дуплистые ветлы. Ветра не было, но, повинуясь какому-то неуловимому движению воздуха, ветки их время от времени покачивались и роняли на затоптанные ступени клочки легкою, удивительно чистою снега. Стремянной глядел на эти ветлы и молчал, но по тому, как сжались его челюсти, каким напряженным стал взгляд, оба его спутника сразу поняли, что это и есть тот самый дом, о котором он шутя говорил им в землянке на берегу Дона… Так прошла, должно быть, целая минута. — Может, сойдешь, товарищ Стремянной, посмотришь всё-таки? — легонько дотрагиваясь до его плеча, негромко спросил Громов. Стремянной, не поворачиваясь, помотал головой: — Да нет, не стоит… Там пусто. — Разве? А смотри-ка, между рамами крынка стоит, и окошко свежей бумагой заклеено. Нет, там, видно, живут… — Ну, пусть живут… Поворачивай к вокзалу, Варламов. Машина, подпрыгивая на ухабах и объезжая воронки, выбралась к железнодорожному переезду, пересекла его, с трудом пробралась мимо развалин вокзала и водокачки и очутилась на маленькой привокзальной площади, где до войны посреди круглого сквера стоял памятник Ленину, а сейчас высился лишь один гранитный постамент. Шофер вдруг затормозил. Стремянной, а за ним Иванов и Громов быстро соскочили на землю и сняли шапки. Перед ними на покатой клумбе, уже присыпанные молодым снежком, лежали трупы расстрелянных пленных красноармейцев. Их было человек двадцать — одни в потрепанных солдатских шинелях, другие в ватниках. В тот миг, когда их застала смерть, каждый падал по-своему, но было какое-то страшное однообразие смерти в этих распростертых телах. Никто из стоявших над убитыми не заметил, как из-за угла ближайшего дома появился маленький мальчик, лет, должно быть, девяти десяти. Он был одет в коротенькую курточку шинельного сукна, в которой ему было холодно. Он зябко жался. На его ногах были старые, латанные-перелатанные валенки, а на голове рваная солдатская шапка. Мальчик медленно подошел к ограде сквера, сосредоточенно разглядывая приезжих большими серыми глазами Маленькое, сморщенное в кулачок лицо казалось серьезным, даже строгим.
С минуту он стоял, как будто ожидая, чтобы его о чем-нибудь спросили. Но его не заметили, и он, не дождавшись вопроса, сказал сам:
— Утром расстреляли… Уже часов в девять. Они не хотели уходить.
Громов оглянулся:
— Не хотели, говоришь?
— Ага…
— А где их держали? — спросил Стремянной.
— В лагере.
— А лагерь где?
— Вон там. Всё прямо, прямо, до конца улицы, а потом налево. — Мальчик рукой показал, куда надо ехать.
— Ну что ж, товарищи, едем, — сказан Громов.
— Погодите!.. Варламов, есть у тебя что-нибудь с собой?
— Есть, товарищ начальник! Банка консервов.
— Давай её сюда! А ну-ка, малыш, подойди поближе!
Мальчик нерешительно подошел.
— Вот возьми, — Стремянной протянул ему белую жестяную банку. — Бери, бери! Дома поешь…
Мальчик взял консервы, личико его осталось серьезным и чуть испуганным, и не поблагодарив, крепко прижимая банку к груш, он исчез где то за домами.
— Товарищ подполковник! Товарищ подполковник!
Стремянной обернулся. К нему бежал командир трофейной команды капитан Соловьев. Он почти задохнулся от сильного бега — после тяжелого ранения в грудь его перевели на нестроевую должность. До сих пор трофейной команде было не очень то много работы, но сегодня она тоже вошла в дело, и Соловьев метался из одного конца города в другой.
— Что такое? — строго спросил Стремянной. — Что случилось?
— Товарищ начальник штаба — сразу осекшись, доложил капитан, — уже обнаружено пять крупных складов с продовольствием и обмундированием! Вот видите церковь? — Он показал на большую старинную церковь с высокой колокольней. — Она почти до самою верху набита ящиками с консервами, маслом, винами… Не только нашей дивизии — всей армии на месяц продовольствия хватит!..
— Поставьте охрану! — сказал Стремянной. — Противник ещё недалеко, всякие неожиданности могут быть. Без моего разрешения никому ни капли!
— Слушаюсь, товарищ начальник! Ни капли! — Соловьев козырнул, быстро повернулся и побежал назад.
А Громов, Иванов и Стремянной зашагали к своей машине.
— Куда же теперь? — спросил Иванов. — В лагерь, что ли?
— Дело. Поехали.
Они едва успели занять места в машине, как на площадь из боковой улицы вышло несколько солдат с автоматами. Они вели двух пленных гитлеровцев. Немцы — без шинелей и шапок, в одних куцых мундирах — брели, глубоко засунув руки в карманы.
Никто из стоявших над убитыми не заметил, как из-за угла ближайшего дома появился маленький мальчик, лет, должно быть, девяти десяти. Он был одет в коротенькую курточку шинельного сукна, в которой ему было холодно. Он зябко жался. На его ногах были старые, латанные-перелатанные валенки, а на голове рваная солдатская шапка. Мальчик медленно подошел к ограде сквера, сосредоточенно разглядывая приезжих большими серыми глазами Маленькое, сморщенное в кулачок лицо казалось серьезным, даже строгим.
С минуту он стоял, как будто ожидая, чтобы его о чем-нибудь спросили. Но его не заметили, и он, не дождавшись вопроса, сказал сам:
— Утром расстреляли… Уже часов в девять. Они не хотели уходить.
Громов оглянулся:
— Не хотели, говоришь?
— Ага…
— А где их держали? — спросил Стремянной.
— В лагере.
— А лагерь где?
— Вон там. Всё прямо, прямо, до конца улицы, а потом налево. — Мальчик рукой показал, куда надо ехать.
— Ну что ж, товарищи, едем, — сказан Громов.
— Погодите!.. Варламов, есть у тебя что-нибудь с собой?
— Есть, товарищ начальник! Банка консервов.
— Давай её сюда! А ну-ка, малыш, подойди поближе!
Мальчик нерешительно подошел.
— Вот возьми, — Стремянной протянул ему белую жестяную банку. — Бери, бери! Дома поешь…
Мальчик взял консервы, личико его осталось серьезным и чуть испуганным, и не поблагодарив, крепко прижимая банку к груш, он исчез где то за домами.
— Товарищ подполковник! Товарищ подполковник!
Стремянной обернулся. К нему бежал командир трофейной команды капитан Соловьев. Он почти задохнулся от сильного бега — после тяжелого ранения в грудь его перевели на нестроевую должность. До сих пор трофейной команде было не очень то много работы, но сегодня она тоже вошла в дело, и Соловьев метался из одного конца города в другой.
— Что такое? — строго спросил Стремянной. — Что случилось?
— Товарищ начальник штаба — сразу осекшись, доложил капитан, — уже обнаружено пять крупных складов с продовольствием и обмундированием! Вот видите церковь? — Он показал на большую старинную церковь с высокой колокольней. — Она почти до самою верху набита ящиками с консервами, маслом, винами… Не только нашей дивизии — всей армии на месяц продовольствия хватит!..
— Поставьте охрану! — сказал Стремянной. — Противник ещё недалеко, всякие неожиданности могут быть. Без моего разрешения никому ни капли!
— Слушаюсь, товарищ начальник! Ни капли! — Соловьев козырнул, быстро повернулся и побежал назад.
А Громов, Иванов и Стремянной зашагали к своей машине.
— Куда же теперь? — спросил Иванов. — В лагерь, что ли?
— Дело. Поехали.
Они едва успели занять места в машине, как на площадь из боковой улицы вышло несколько солдат с автоматами. Они вели двух пленных гитлеровцев. Немцы — без шинелей и шапок, в одних куцых мундирах — брели, глубоко засунув руки в карманы.
 Стремянной невольно остановил глаза на одном из пленных. Это был уже немолодой человек, плотный, в темных очках. Должно быть, почувствовав на себе чужой внимательный взгляд, эсэсовец поднял плечи и отвернулся. В эту минуту шофер включил скорость, и машина тронулась, оставив далеко позади и пленных и конвой.
Вдруг рука Иванова в толстой теплой варежке легонько коснулась плеча Стремянного.
Стремянной обернулся.
— Музей тут, на углу!.. — сказал Иванов. — Давай остановимся на минутку.
Они подъехали к двухэтажному каменному зданию, облицованному белыми керамическими плитками. Через весь фасад тянулась темная мозаичная надпись: «Городской музей».
Высокая дубовая дверь, открытая настежь, висела на одной петле.
Пологая лестница с полированными резными перилами была засыпана кусками штукатурки, затоптана грязными ногами.
Стремянной, Иванов и Громов поднялись по широким ступеням и вошли в первый зал.
Он был пуст. Из розоватой штукатурки стен торчали темные крюки; с них свисали узловатые обрывки веревок. Кое-где поблескивали золоченым багетом рамы, обрамлявшие не картины, а квадраты и овалы пыльных, испачканных стен. На полу валялись обломки досок, куски мешковины, рассыпанные гвозди…
— Н-да, — тихо сказал Громов и, невольно стараясь приглушить звук шагов, гулко раздававшихся в пустом здании, осторожно двинулся вперед.
Все трое пересекли зал, вошли в следующую комнату и невольно остановились на пороге.
В углу, склонившись над большим дощатым ящиком, стоял, согнув сутулые плечи, маленький старичок в меховой потертой куртке и что-то озабоченно перебирал длинными, худыми пальцами. Старик был совершенно плешив, но лицо его обросло давно не стриженной седой бородой, которая острым клинышком загибалась кверху.
Услышав за спиной шаги, он как-то по-птичьи, одним глазом, поглядел на вошедших и вдруг, круто повернувшись, в радостном изумлении развел руками, не выпуская из них двух маленьких, окантованных черным картинок.
— Сергей Петрович!.. Товарищ Громов!.. — с трудом выговорил он задрожавшим от волнения голосом. — Вернулись!.. Вот это хорошо! Вот это отлично!..
— Это что! — сказал Иванов, и Стремянной едва узнал его голос, так много послышалось в нем радости и простого человеческою тепла. — Отлично, что вы целы и невредимы, Григорий Фомич! Только одного не пойму: что вы тут, в этой разрухе, делаете?
— Как «что»? — Старик с удивлением посмотрел на Иванова сквозь очки, косо насаженные на топкий, чуть кривой нос. — Как это «что»? На службу пришел. Ведь с сегодняшнего дня в городе советская власть, если не ошибаюсь…
— Замечательный бы человек, Григорий Фомич! — сказал Громов, подходя к ящику. — И замечательно, что вы остались живы…
— Жив! — Старик горестно покачал головой. — Я-то жив, да музей умер. Опоздали вы, товарищи!.. На один день опоздали… А ведь я вам обо всём подробно в письме сообщал.
— Да, да, мы его получили, — мрачно сказал Иванов, — но с опозданием. Связного, когда он переходил линию фронта, тяжело ранили… Значит, всё лучшее они сперли?..
— Ну, положим, не всё! — запальчиво сказал старик. — Кое-что сохранить мне удалось. — Он повернулся и показал на несколько акварелей, которые уже успел разложить под стеклом витрины, стоявшей под окном. — Смотрите сами, вот… Больше никак невозможно было…
Все трое склонились над витриной. Так странно было видеть в пустоте этих грязных, запущенных залов нежную голубизну акварельного моря, тонкий профиль женщины в пестрой шали, солнечные пятна, играющие на сочной зелени молодой рощи…
— Акварели эти я по одной выносил, — словно извиняясь, сказал старик и ласково положил на край витрины свою сухую руку; под тонкой пергаментной кожей синели набухшие склеротические вены. — Вынимал из витрины — и сюда, на грудь, под рубашку…
Он показал, как это делал: быстро оглянувшись, распахнул и сейчас же опять запахнул куртку, и в этом его движении было столько трогательного и вместе с тем печального, что Стремянной невольно вздохнул и отвел глаза, словно это он был виноват в том, что не поспел во-время и дал возможность гитлеровцам ограбить музей.
Он прошелся по залу среди беспорядочно нагроможденных, наскоро сколоченных ящиков и остановился возле того, большого, над которым трудился Григорий Фомич, когда они только что вошли сюда.
— А тут у вас что? — спросил он. — Похоже, что картины.
— Да, картины, — вздохнув, сказал старик. — Очень порядочные, добросовестные копии… Конечно, хорошо, что хоть это осталось. Но, сказать по совести, я бы их все отдал за те десять драгоценных полотен, что они увезли…
— А из современного что-нибудь уцелело? — спросил Громов.
— Ничего, — ответил Григорий Фомич. — Это они сразу уничтожили. Уж лучше и не напоминайте.
— Ну, а что же у вас в тех, других ящиках? — поинтересовался Иванов.
— Да то, что было в верхнем этаже, — ответил старик. — Старинная утварь, оружие пугачевцев, рукописные книги… Ну, и всякое прочее… Как видите, собирались ограбить всё до нитки. Ну, а когда туго пришлось, схватили самый лакомый кусок — и давай бог ноги. Это уж осталось. Времени, видно, не хватило…
— Всё-таки хотел бы я знать, кто здесь орудовал, — сказал сквозь зубы Стремянной. — Может, ещё доведется встретиться…
Громов с усмешкой поглядел на него:
— Не позавидовал бы я ему в таком случае… А как вы считаете, Григорий Фомич, чья это работа?
Старик пожал плечами:
— Да, скорее всего, бургомистра Блинова, он тут у нас главным ценителем искусства был. Ведь у меня, помните, всё было подготовлено к эвакуации, свернуто, упаковано. А он, разбойник, обратно развесить заставил… Ценитель искусства!.. И верно ценитель: с оценщиком сюда приходил. Для каждой картины цены установил в марках… А впрочем, не поручусь, что именно он вывез. Охотников до нашего добра здесь перебывало много!..
— А в народе не приметили, кем и в каком направлении вывезены картины? — опять спросил Громов. — Люди ведь всё замечают. Вы не расспрашивали?
— Расспрашивал, — грустно ответил старик. — Но ведь это ночью было, а нам ночью выходить на улицу — верная смерть. Сами знаете. Однако подглядел кое-кто, как этот мерзавец Блинов грузился. Запихивали к нему в машину какие-то тюки. А что там было, картины или шубы каракулевые, — это уж он один знает… А вот я знаю, что нет у нас больше самых лучших картин, и всё… — Он отвернулся и громко высморкался.
Минуту все молчали.
Иванов озабоченно потер темя:
— Так-так… Ну что ж, Григорий Фомич, приходите завтра ко мне этак часам к двенадцати. Поговорим, подумаем…
— Куда прийти-то? — спросил старик.
— Известно куда: в горсовет. Он ведь уцелел.
— На старое место. Ну, это приятно. Приду. Непременно приду.
Пожав худую холодную руку старика, все трое двинулись к выходу. А он, склонив голову набок, долго смотрел им вслед. И на лице у него было какое-то странное выражение — радостное и грустное одновременно.
— В лагерь! — коротко приказал Стремянной, когда все снова сели в машину.
Но в эту минуту из-за угла опять появился капитан Соловьев. Чтобы не сердить начальника штаба, он старался не бежать и шагал какими-то особенно длинными, чуть ли не полутораметровыми шагами.
— Товарищ начальник, — возбужденно начал он, подойдя к машине и положив руку на её борт, — мы обнаружили местное казначейство…
— Казначейство? — с интересом переспросил Иванов и с непривычной для него живостью стал вылезать из машины. — Где же оно? А ну-ка, проводите меня туда!..
— Да что там, в этом казначействе? — Стремянной с досадой пожал плечами. — Какие-нибудь гитлеровские кредитки, вероятно… — Ему не хотелось отказываться от решения ехать в лагерь.
— Нет, там и наши, советские деньги есть, огромная сумма, — их сейчас считают. Но главное, знаете, что мы нашли? — Соловьев вытянул шею и сказал таинственным полушопотом: — Наш несгораемый сундук! Помните, который под Воронежем при отходе пропал?..
— Да почему вы думаете, что это тот самый?
— Ну как же!.. Разве я один его узнал? Все наши говорят, что это сундук начфина Соколова.
Стремянной недоверчиво покачал головой:
— Сомневаюсь. А где он стоит, этот ваш знаменитый соколовский сундук? В казначействе, говорите?
— Никак нет. Он тут, рядом.
— Рядом? Как же он сюда попал?
— Очень просто, товарищ подполковник. Немцы его вывезти хотели. Погрузили уже… Вы, может, заметили — там, на углу, автобус стоит с драконами. Так вот, в этом самом автобусе… Ну и махина! Едва вытащили…
— Интересно, — сказал Стремянной. — Неужели и вправду тот самый сундук? Не верится…
— Тот самый, товарищ подполковник. — Соловьев для убедительности даже приложил руку к сердцу. — Все признают. Да вы сами поглядите! Или сначала прикажете провести в казначейство?
Стремянной, словно советуясь, посмотрел на Громова и вышел из машины.
— Хорошо, посмотрим, пожалуй, сначала на сундук, — сказал он, — а в казначейство мне заходить некогда. Пусть им Барабаш занимается.
Стремянной невольно остановил глаза на одном из пленных. Это был уже немолодой человек, плотный, в темных очках. Должно быть, почувствовав на себе чужой внимательный взгляд, эсэсовец поднял плечи и отвернулся. В эту минуту шофер включил скорость, и машина тронулась, оставив далеко позади и пленных и конвой.
Вдруг рука Иванова в толстой теплой варежке легонько коснулась плеча Стремянного.
Стремянной обернулся.
— Музей тут, на углу!.. — сказал Иванов. — Давай остановимся на минутку.
Они подъехали к двухэтажному каменному зданию, облицованному белыми керамическими плитками. Через весь фасад тянулась темная мозаичная надпись: «Городской музей».
Высокая дубовая дверь, открытая настежь, висела на одной петле.
Пологая лестница с полированными резными перилами была засыпана кусками штукатурки, затоптана грязными ногами.
Стремянной, Иванов и Громов поднялись по широким ступеням и вошли в первый зал.
Он был пуст. Из розоватой штукатурки стен торчали темные крюки; с них свисали узловатые обрывки веревок. Кое-где поблескивали золоченым багетом рамы, обрамлявшие не картины, а квадраты и овалы пыльных, испачканных стен. На полу валялись обломки досок, куски мешковины, рассыпанные гвозди…
— Н-да, — тихо сказал Громов и, невольно стараясь приглушить звук шагов, гулко раздававшихся в пустом здании, осторожно двинулся вперед.
Все трое пересекли зал, вошли в следующую комнату и невольно остановились на пороге.
В углу, склонившись над большим дощатым ящиком, стоял, согнув сутулые плечи, маленький старичок в меховой потертой куртке и что-то озабоченно перебирал длинными, худыми пальцами. Старик был совершенно плешив, но лицо его обросло давно не стриженной седой бородой, которая острым клинышком загибалась кверху.
Услышав за спиной шаги, он как-то по-птичьи, одним глазом, поглядел на вошедших и вдруг, круто повернувшись, в радостном изумлении развел руками, не выпуская из них двух маленьких, окантованных черным картинок.
— Сергей Петрович!.. Товарищ Громов!.. — с трудом выговорил он задрожавшим от волнения голосом. — Вернулись!.. Вот это хорошо! Вот это отлично!..
— Это что! — сказал Иванов, и Стремянной едва узнал его голос, так много послышалось в нем радости и простого человеческою тепла. — Отлично, что вы целы и невредимы, Григорий Фомич! Только одного не пойму: что вы тут, в этой разрухе, делаете?
— Как «что»? — Старик с удивлением посмотрел на Иванова сквозь очки, косо насаженные на топкий, чуть кривой нос. — Как это «что»? На службу пришел. Ведь с сегодняшнего дня в городе советская власть, если не ошибаюсь…
— Замечательный бы человек, Григорий Фомич! — сказал Громов, подходя к ящику. — И замечательно, что вы остались живы…
— Жив! — Старик горестно покачал головой. — Я-то жив, да музей умер. Опоздали вы, товарищи!.. На один день опоздали… А ведь я вам обо всём подробно в письме сообщал.
— Да, да, мы его получили, — мрачно сказал Иванов, — но с опозданием. Связного, когда он переходил линию фронта, тяжело ранили… Значит, всё лучшее они сперли?..
— Ну, положим, не всё! — запальчиво сказал старик. — Кое-что сохранить мне удалось. — Он повернулся и показал на несколько акварелей, которые уже успел разложить под стеклом витрины, стоявшей под окном. — Смотрите сами, вот… Больше никак невозможно было…
Все трое склонились над витриной. Так странно было видеть в пустоте этих грязных, запущенных залов нежную голубизну акварельного моря, тонкий профиль женщины в пестрой шали, солнечные пятна, играющие на сочной зелени молодой рощи…
— Акварели эти я по одной выносил, — словно извиняясь, сказал старик и ласково положил на край витрины свою сухую руку; под тонкой пергаментной кожей синели набухшие склеротические вены. — Вынимал из витрины — и сюда, на грудь, под рубашку…
Он показал, как это делал: быстро оглянувшись, распахнул и сейчас же опять запахнул куртку, и в этом его движении было столько трогательного и вместе с тем печального, что Стремянной невольно вздохнул и отвел глаза, словно это он был виноват в том, что не поспел во-время и дал возможность гитлеровцам ограбить музей.
Он прошелся по залу среди беспорядочно нагроможденных, наскоро сколоченных ящиков и остановился возле того, большого, над которым трудился Григорий Фомич, когда они только что вошли сюда.
— А тут у вас что? — спросил он. — Похоже, что картины.
— Да, картины, — вздохнув, сказал старик. — Очень порядочные, добросовестные копии… Конечно, хорошо, что хоть это осталось. Но, сказать по совести, я бы их все отдал за те десять драгоценных полотен, что они увезли…
— А из современного что-нибудь уцелело? — спросил Громов.
— Ничего, — ответил Григорий Фомич. — Это они сразу уничтожили. Уж лучше и не напоминайте.
— Ну, а что же у вас в тех, других ящиках? — поинтересовался Иванов.
— Да то, что было в верхнем этаже, — ответил старик. — Старинная утварь, оружие пугачевцев, рукописные книги… Ну, и всякое прочее… Как видите, собирались ограбить всё до нитки. Ну, а когда туго пришлось, схватили самый лакомый кусок — и давай бог ноги. Это уж осталось. Времени, видно, не хватило…
— Всё-таки хотел бы я знать, кто здесь орудовал, — сказал сквозь зубы Стремянной. — Может, ещё доведется встретиться…
Громов с усмешкой поглядел на него:
— Не позавидовал бы я ему в таком случае… А как вы считаете, Григорий Фомич, чья это работа?
Старик пожал плечами:
— Да, скорее всего, бургомистра Блинова, он тут у нас главным ценителем искусства был. Ведь у меня, помните, всё было подготовлено к эвакуации, свернуто, упаковано. А он, разбойник, обратно развесить заставил… Ценитель искусства!.. И верно ценитель: с оценщиком сюда приходил. Для каждой картины цены установил в марках… А впрочем, не поручусь, что именно он вывез. Охотников до нашего добра здесь перебывало много!..
— А в народе не приметили, кем и в каком направлении вывезены картины? — опять спросил Громов. — Люди ведь всё замечают. Вы не расспрашивали?
— Расспрашивал, — грустно ответил старик. — Но ведь это ночью было, а нам ночью выходить на улицу — верная смерть. Сами знаете. Однако подглядел кое-кто, как этот мерзавец Блинов грузился. Запихивали к нему в машину какие-то тюки. А что там было, картины или шубы каракулевые, — это уж он один знает… А вот я знаю, что нет у нас больше самых лучших картин, и всё… — Он отвернулся и громко высморкался.
Минуту все молчали.
Иванов озабоченно потер темя:
— Так-так… Ну что ж, Григорий Фомич, приходите завтра ко мне этак часам к двенадцати. Поговорим, подумаем…
— Куда прийти-то? — спросил старик.
— Известно куда: в горсовет. Он ведь уцелел.
— На старое место. Ну, это приятно. Приду. Непременно приду.
Пожав худую холодную руку старика, все трое двинулись к выходу. А он, склонив голову набок, долго смотрел им вслед. И на лице у него было какое-то странное выражение — радостное и грустное одновременно.
— В лагерь! — коротко приказал Стремянной, когда все снова сели в машину.
Но в эту минуту из-за угла опять появился капитан Соловьев. Чтобы не сердить начальника штаба, он старался не бежать и шагал какими-то особенно длинными, чуть ли не полутораметровыми шагами.
— Товарищ начальник, — возбужденно начал он, подойдя к машине и положив руку на её борт, — мы обнаружили местное казначейство…
— Казначейство? — с интересом переспросил Иванов и с непривычной для него живостью стал вылезать из машины. — Где же оно? А ну-ка, проводите меня туда!..
— Да что там, в этом казначействе? — Стремянной с досадой пожал плечами. — Какие-нибудь гитлеровские кредитки, вероятно… — Ему не хотелось отказываться от решения ехать в лагерь.
— Нет, там и наши, советские деньги есть, огромная сумма, — их сейчас считают. Но главное, знаете, что мы нашли? — Соловьев вытянул шею и сказал таинственным полушопотом: — Наш несгораемый сундук! Помните, который под Воронежем при отходе пропал?..
— Да почему вы думаете, что это тот самый?
— Ну как же!.. Разве я один его узнал? Все наши говорят, что это сундук начфина Соколова.
Стремянной недоверчиво покачал головой:
— Сомневаюсь. А где он стоит, этот ваш знаменитый соколовский сундук? В казначействе, говорите?
— Никак нет. Он тут, рядом.
— Рядом? Как же он сюда попал?
— Очень просто, товарищ подполковник. Немцы его вывезти хотели. Погрузили уже… Вы, может, заметили — там, на углу, автобус стоит с драконами. Так вот, в этом самом автобусе… Ну и махина! Едва вытащили…
— Интересно, — сказал Стремянной. — Неужели и вправду тот самый сундук? Не верится…
— Тот самый, товарищ подполковник. — Соловьев для убедительности даже приложил руку к сердцу. — Все признают. Да вы сами поглядите! Или сначала прикажете провести в казначейство?
Стремянной, словно советуясь, посмотрел на Громова и вышел из машины.
— Хорошо, посмотрим, пожалуй, сначала на сундук, — сказал он, — а в казначейство мне заходить некогда. Пусть им Барабаш занимается.
СНОВА КОВАНЫЙ СУНДУК
Соловьев провел их какими-то проулками, дворами и огородами на соседнюю улицу. Через несколько минут они шли мимо недавнего пожарища, среди обожженных, почерневших от пламени лип и берез. Перед ними беспорядочно громоздились обглоданные огнем балки, груды битого кирпича и совсем неузнаваемой, искореженной, потерявшей всякий облик утвари… — Постойте, товарищи! — сказал Стремянной оглядываясь. — Куда это вы нас ведете? Ведь это, если не ошибаюсь, было здание сельскохозяйственного техникума? И не догадаешься сразу! Какой тут сад был до войны!Красота!.. — А гитлеровцы что здесь устроили? — спросил Громов. — Городское гестапо, — ответил Соловьев. — Место, понимаете сами, укромное, и участок большой… Громов молча кивнул головой. — Ну, а где же сундук? — спросил Стремянной. — А мы его вон в ту проходную будку внесли, где охрана гестапо была. Я около него человека оставил. — Ладно. Посмотрим, посмотрим… Они пересекли сад и вошли в небольшой деревянный домик у самых ворот, выходящих на улицу. Узенький коридорчик, фанерная перегородка с окошком, наглухо закрытым деревянным щитом, а за перегородкою — небольшая комната. В одном углу — железная печка, в другом — грубо сбитый, измазанный лиловыми чернилами стол. Посередине комнаты стоял сундук. Присев на его край, боец в овчинном полушубке неторопливо скручивал «козью ножку». При появлении Стремянного он вскочил. — Ну-ка, ну-ка, покажите мне этот сундук! — весело сказал Стремянной. — А ведь в самом деле наш!.. Вот это находка! Никак не ожидал, что ещё придется его увидеть. Он наклонился, провел рукой по крышке, ощупывая железные полосы с частыми бугорками заклепок и целую россыпь затейливых рельефных бляшек, изображающих то звездочку, то ромашку, то морскую раковину. А в это время Иванов деловито осматривал сундук. Не видя никаких признаков замка и замочной скважины, он только по затекам сургуча на стенках установил, в каком месте крышка отделяется от ящика. — Не понимаю всё-таки, как этот сундучище открывается? — спросил он. — А вот сейчас увидите, — ответил Стремянной, продолжая ощупывать крышку и что-то на ней разыскивая. — Ага!.. Вот ковш… А вот и ручка… Большая Медведица… — Какая ещё медведица? — удивился Громов. — Минуточку терпения!.. Стремянной нажал несколько кнопок, расположенных в одном ему известном порядке, повернул какую-го ромашку налево, какую-то раковину направо и свободно поднял тяжелую крышку сундука. — Наш! — сказал он торжествующе. — Но содержимое не наше. Все заглянули в сундук. Он был доверху полон самыми разнообразными вещами, в лихорадке последних сборов кое-как засунутыми в него. Соловьев нагнулся и вытащил большую меховую муфту. — Так! — сказал Громов. После муфты на свет появился старинный серебряный кофейник, целая связка подстаканников, большая наволочка, набитая столовым серебром — ложками, ножами, кольцами для салфеток, сахарными щипцами и лопатками для пирожного. Затем был извлечен газетный сверток, в котором оказалось двенадцать золотых часов, ручных и карманных, и ещё много самых разнообразных предметов; объединяло их между собой только одно качество — их ценность. — Ничего себе нахапал, голубчик! — сказал Иванов. — А ты, Стремянной, ещё говоришь: «содержимое не наше». Как это — не наше? Всё наше! У нас наворовал. А что, больше там ничего нет? — Есть, — ответил Соловьев и вытащил из самой глубины сундука несколько папок с документами. — Всё больше по-немецки, — сказал Громов, раскрыв одну из папок и просмотрен несколько документов. — А, вот это интересно! Забирай, товарищ Стремянной. Пускай сначала у вас в дивизии посмотрят, а потом нам вернут… Смотрите-ка, смотрите, тут есть один любопытный документик — предписание направлять народ на постройку военных укреплений. Стремянной быстро взял протянутый Громовым документ и торопливо пробежал его глазами. Но первые же строки напечатанного на машинке текста разочаровали его. Это был русский перевод приказа генерала Шварцкопфа, начальника штаба эсэсовской дивизии, бургомистру города Блинову. В приказе предлагалось усилить подвоз рабочей силы в район строительства укреплений. Документ был уже двухмесячной давности и если представлял некоторую ценность, то лишь как свидетельство того, что противник не приостанавливал работ даже в самые лютые декабрьские морозы. Следовательно, гитлеровское командование возлагало на эти укрепления большие надежды. Ничего более существенного в двадцати строках приказа найти нельзя было. Стремянной внимательно пересмотрел все остальные документы, лежавшие в папке, но об укрепленном районе среди них не было ни одного. Он засунул документы в полевую сумку и повернулся к Соловьеву: — Ну, капитан, составляйте опись вещей да смотрите, чтоб ничего не пропало. Потом по описи надо будет передать в горсовет. Может, и хозяева ещё найдутся, если только живы. — И он захлопнул крышку опустевшего сундука. — Идем, товарищи. — Постой, постой, — сказал Иванов, — объясни сперва, как он открывается. — Это довольно-таки мудреное дело. Надо немножко знать астрономию. Ну, представляете вы себе Большую Медведицу? — Нет, серьезно! — сказал Иванов. — Без магии, пожалуйста. — Да я без магии. Просто замок здесь устроен довольно своеобразно. Для того чтобы открыть сундук, надо нажать несколько заклепок. Их тут множество, и почт все — заклепки как заклепки, а семь штук фальшивые. Это, по существу говоря, кнопки, а не заклепки. Они поддаются нажиму. Но и нажимать их надо в определенном порядке: сперва третью кнопку в первом ряду — вот здесь, в центре железной полосы, потом шестую — во втором, пятую — в третьем, потом вот эту, эту, эту… Как видите, все кнопки расположены по контуру Большой Медведицы. И никакой магии. Теперь, для того чтобы окончательно открыть замок, мы поворачиваем эту ромашку и эту раковину… Вот и всё — сундук открыт. — Чудеса! — сказал Иванов. — И какой мудрец это выдумал! Ну скажи ты мне, зачем вы эту редкость в части держали? Не проще ли было завести обыкновенный сейф? — Проще-то проще, да начфин у нас, говорят, романтиком был. Я-то вместе с ним совсем немного поработал. А сундук этот к нам от испанцев, говорят, попал, когда наша дивизия прошлой весной на Ленинградском фронте действовала. Разбили одну их часть, а штаб захватили вместе с казначеем и его сундуком. Вот мы и получили этот сундук в качестве трофея… — Бывает… — Громов, чуть склонив голову набок, поглядел на сундук. — У вещей тоже есть своя судьба, как у людей. Интересно, как он сюда попал, в оккупированный город, кому напоследок служил… — Да, я и сам хотел бы знать. Странная это история, товарищи, — ответил Стремянной. И он вкратце рассказал Иванову и Громову о событиях на Тиме и о той обстановке, в которой пропал сундук. — Действительно, странно, — согласился Громов. — И вы о Соколове никогда больше не слышали? — Нет. — Погиб, вероятно… Стремянной покачал головой: — Может быть, может быть… Одного только я не могу взять в толк. Сундук-то ведь цел. Стало быть, гитлеровцы узнали его секрет!.. Не стали же они испанцев запрашивать! Они двинулись по тропинке обратно к машине. Вдруг между двумя обугленными деревьями проглянула стена соседнего дома. Стремянной невольно остановился — таким странным ему показался этот кусочек свежевыкрашенной зеленой стены рядом с унылой чернотой обгорелых развалин. — Это ещё что такое? — спросил он. — Кто тут жил? — А бургомистр здешний, — ответил всёзнающий Соловьев. — Прежде тут, говорят, ясли были, а потом он свою резиденцию устроил. — Резиденцию, говорите? — усмехнулся Громов. — Интересно, где-то у него теперь резиденция! Наверно, в овраге каком-нибудь!.. — Да и то ненадолго, — бросил через плечо Стремянной и быстрее зашагал вперёд.КОНЦЛАГЕРЬ «ОСТ-24»
К воротам концлагеря Стремянной подъехал один. Времени было мало, забот много, и, выбравшись на улицу из полуобгорелого сада, окружавшего развалины гестапо, Иванов и Громов простились со своим спутником. Громов поехал в железнодорожные мастерские. Иванов зашагал к себе, в горсовет, с фасада которого уже была сорвана вывеска «Городская управа». Разыскать лагерь было не так-то просто. Сначала Стремянной уверенно указывал шоферу путь, но оказалось, что там, где прежде была проезжая дорога, теперь машину чуть ли не на каждом повороте задерживали то противотанковые надолбы, то густые ряды колючей проволоки, протянутой с угла на угол, то глубокие воронки от бомб… В конце концов Стремянной махнул рукой и предоставил шоферу добираться до места как знает — на свое усмотрение и на свой страх. Шофер попросил у начальника папиросу, поговорил на ближайшем углу со стайкой мальчишек, вынырнувших из сугробов какого-то тупичка, а потом, тихонько ворча себе под нос и браня рытвины и ухабы, принялся петлять среди пустырей, улочек и проулков, руководствуясь не столько полученными указаниями, сколько безошибочным инстинктом опытного водителя, привыкшего в любых обстоятельствах, белым днем и темной ночью, доставлять начальство куда приказано. Наконец он свернул в последний раз, нырнул в какой-то ухаб и опять вынырнул из него… — Приехали, товарищ начальник! Так вот оно, это проклятое моего! Широкие ворота раскрыты настежь. Рядом с ними к столбу прибит деревянный щит с немецкой надписью: «ОСТ-24». Под концлагерь немцы отвели две окраинные улицы и обнесли их высокой изгородью из колючей проволоки. Машина медленно въехала в ворота. Стремянной соскочил на землю и остановился, оглядываясь по сторонам. Странное дело!.. Год назад эти улицы были такие же, как соседние, ничего в них не было особенного. Те же домишки, палисадники, дворы, летом — заросшие травой, а зимой — заваленные снегом… А теперь? Теперь всё здесь кажется совсем другим. Просто невозможно представить себе, что он, Егор Стремянной, когда-то уже ступал по этой земле. А ведь это было, и сколько раз было!..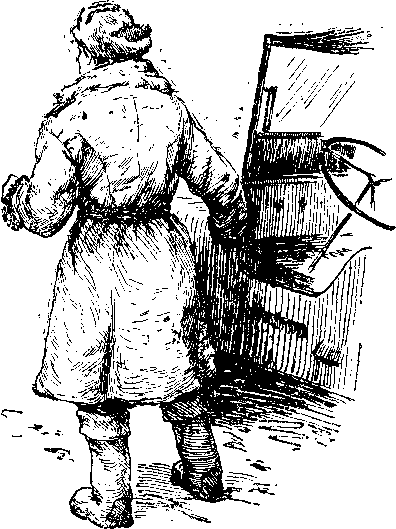 Помнится, года два тому назад он как-то возвращался по этой самой улице домой с охоты. Был вечер. На лавочках у ворог сидели старушки. Мальчишки, обозначив положенными на землю куртками ворота, гоняли футбольный мяч. Его собака вдруг, ни с того ни с сего, кинулась навстречу мячу. Мяч ударился об неё и отлетел в сторону. Все засмеялись, закричали: «Вот это футболист!» А он шёл враскачку, приятно усталый, и что-то насвистывал… Нет, не может быть! Как он мог свистеть на этой улице? Да ведь тут и слова сказать не посмеешь…
Стременной медленно обвел глазами серую шеренгу домиков с грязно-мутными, давно не мытыми окошками.
Домики казались вымершими. Ни одного человека не было видно на пустынной дороге, ни один дымок не поднимался над крышами.
Ему захотелось поскорей уехать отсюда, поскорей опять окунуться с головой в горячую и тревожную суматоху оставленной за воротами жизни. Но он сделал над собой усилие, снял руку с борта машины, пересек дорогу и, поднявшись по щелястым ступеням, вошел в ближайший к воротам домик.
Его сразу же, как туман, охватил мутный сумрак и тяжелый дух холодной затхлости. В домике пахло потом, прелой одеждой, гнилой соломой. Большую часть единственной комнаты занимали двойные нары. В углу валялись куча какого-то грязного тряпья, закопченные консервные банки — в них, видно, варили пищу.
Стремянной с минуту постоял на пороге, осматривая все углы, нет ли человека.
— Есть тут кто-нибудь? — спросил он, чтобы окончательно удостовериться, что осмотр его не обманул.
Ему никто не ответил. Он стал переходить из одного домика в другой. Всюду было одно и то же: грязное тряпье, консервные банки, прелая солома на нарах… Иногда Стремянной замечал забытые в спешке вещи — солдатский котелок, зазубренный перочинный нож, оставленный на подоконнике огарок оплывшей свечи. Всё это выдавало торопливые ночные сборы. Кто знает, чей это был нож, чей котелок, кому в последний вечер светила эта стеариновая оплывшая свеча…
Входя в очередной домик, Стремянной всякий раз повторял громко: «Есть тут кто-нибудь?» И всякий раз вопрос его оставался без ответа. Он уже перестал думать, что кто-нибудь отзовется.
И вдруг в одном из домиков, не то в пятом, не то в шестом, с верхних нар послышался слабый, тихий голос:
— Я здесь!..
Стремянной подошел к нарам, заглянул на них, но в полутьме ничего не увидел.
— Кто там?
— Я…
— Да кто вы? Идите сюда!..
— Не могу, — так же тихо ответил голос.
— Почему не можете?
— Ноги поморожены…
В глубине на нарах зашевелилась, зашуршала солома, и показалась чья-то всклокоченная голова, потом плечо в старой, порванной военной гимнастерке, и человек со стоном подполз к самому краю нар.
— Подождите, я вам помогу, — сказал Стремянной, стал на нижние нары, одной рукой ухватился за столб, на котором они держались, а другой обнял плечи человека и потянул его на себя.
Человек застонал.
Тогда Стремянной оперся ногой в подоконник, правой рукой обхватил плечи человека, левую подсунул ему под колени и снял его с нар. Человек почти ничего не весил, так он был изнурен и худ. Он сидел на нижних нарах, прислонившись спиной к стене, и тяжело дышал. В надвигавшихся сумерках Стремянной не мог ясно разглядеть его лицо, обросшее давно не бритой бородой. Натруженные, в ссадинах руки бессильно лежали на коленях. Ноги в черных сапогах торчали, как неживые.
— Вы кто такой? — спросил Стремянной.
— Пленный я… На Тиме в плен попал, — сквозь стон ответил солдат. А руки его всё время гладили колени, остро выступавшие из-под рваных брюк.
— Ну, а с ногами-то у вас что? Сильно поморозили?
— Огнем горят… Ломят… Терпенья нет! — Человек минуту помолчал, а потом, пересилив боль, сказал сквозь зубы: — Мы на строительстве укрепрайона были. Нас сюда цельные сутки по морозу пешком гнали. А обувь у нас какая? Никакой…
— Послушайте-ка, послушайте, — сказал Стремянной, — какой это укрепрайон? Тот, что западнее города?
— Да, как по шоссе идти…
— Далеко это отсюда?
— Километров сорок будет… У села Малиновки…
— Что же вы там делали?
— Да что… доты строили… рвы копали… Ох, товарищ начальник, сил у меня больше нет!..
— Сейчас отвезу вас в госпиталь, — сказал Стремянной, — там вам помогут… А сумеете вы потом на карте показать, где эти доты?
— Надо быть, сумею, товарищ командир…
— А как же вы здесь оказались?
— А нас сюда назад пригнали.
— Когда?
— Да уж четверо суток скоро будет.
«Четверо суток! — прикинул про себя Стремянной. — Значит, это было ещё до наступления».
— Где же остальные?
— Увели. Ночью… А куда, не знаю… Ой, ноги, товарищ командир, ноги-то как болят! — Он крепко обхватил свои ноги и замер, чуть покачиваясь из стороны в сторону.
Стремянной вынул из кармана фонарик и осветил ноги солдата. Ему стало не по себе. То, что он принял за сапоги, на самом деле были босые ноги, почерневшие от гангрены…
— Вот несчастье!.. Держись-ка, друг, за мои плечи.
Помнится, года два тому назад он как-то возвращался по этой самой улице домой с охоты. Был вечер. На лавочках у ворог сидели старушки. Мальчишки, обозначив положенными на землю куртками ворота, гоняли футбольный мяч. Его собака вдруг, ни с того ни с сего, кинулась навстречу мячу. Мяч ударился об неё и отлетел в сторону. Все засмеялись, закричали: «Вот это футболист!» А он шёл враскачку, приятно усталый, и что-то насвистывал… Нет, не может быть! Как он мог свистеть на этой улице? Да ведь тут и слова сказать не посмеешь…
Стременной медленно обвел глазами серую шеренгу домиков с грязно-мутными, давно не мытыми окошками.
Домики казались вымершими. Ни одного человека не было видно на пустынной дороге, ни один дымок не поднимался над крышами.
Ему захотелось поскорей уехать отсюда, поскорей опять окунуться с головой в горячую и тревожную суматоху оставленной за воротами жизни. Но он сделал над собой усилие, снял руку с борта машины, пересек дорогу и, поднявшись по щелястым ступеням, вошел в ближайший к воротам домик.
Его сразу же, как туман, охватил мутный сумрак и тяжелый дух холодной затхлости. В домике пахло потом, прелой одеждой, гнилой соломой. Большую часть единственной комнаты занимали двойные нары. В углу валялись куча какого-то грязного тряпья, закопченные консервные банки — в них, видно, варили пищу.
Стремянной с минуту постоял на пороге, осматривая все углы, нет ли человека.
— Есть тут кто-нибудь? — спросил он, чтобы окончательно удостовериться, что осмотр его не обманул.
Ему никто не ответил. Он стал переходить из одного домика в другой. Всюду было одно и то же: грязное тряпье, консервные банки, прелая солома на нарах… Иногда Стремянной замечал забытые в спешке вещи — солдатский котелок, зазубренный перочинный нож, оставленный на подоконнике огарок оплывшей свечи. Всё это выдавало торопливые ночные сборы. Кто знает, чей это был нож, чей котелок, кому в последний вечер светила эта стеариновая оплывшая свеча…
Входя в очередной домик, Стремянной всякий раз повторял громко: «Есть тут кто-нибудь?» И всякий раз вопрос его оставался без ответа. Он уже перестал думать, что кто-нибудь отзовется.
И вдруг в одном из домиков, не то в пятом, не то в шестом, с верхних нар послышался слабый, тихий голос:
— Я здесь!..
Стремянной подошел к нарам, заглянул на них, но в полутьме ничего не увидел.
— Кто там?
— Я…
— Да кто вы? Идите сюда!..
— Не могу, — так же тихо ответил голос.
— Почему не можете?
— Ноги поморожены…
В глубине на нарах зашевелилась, зашуршала солома, и показалась чья-то всклокоченная голова, потом плечо в старой, порванной военной гимнастерке, и человек со стоном подполз к самому краю нар.
— Подождите, я вам помогу, — сказал Стремянной, стал на нижние нары, одной рукой ухватился за столб, на котором они держались, а другой обнял плечи человека и потянул его на себя.
Человек застонал.
Тогда Стремянной оперся ногой в подоконник, правой рукой обхватил плечи человека, левую подсунул ему под колени и снял его с нар. Человек почти ничего не весил, так он был изнурен и худ. Он сидел на нижних нарах, прислонившись спиной к стене, и тяжело дышал. В надвигавшихся сумерках Стремянной не мог ясно разглядеть его лицо, обросшее давно не бритой бородой. Натруженные, в ссадинах руки бессильно лежали на коленях. Ноги в черных сапогах торчали, как неживые.
— Вы кто такой? — спросил Стремянной.
— Пленный я… На Тиме в плен попал, — сквозь стон ответил солдат. А руки его всё время гладили колени, остро выступавшие из-под рваных брюк.
— Ну, а с ногами-то у вас что? Сильно поморозили?
— Огнем горят… Ломят… Терпенья нет! — Человек минуту помолчал, а потом, пересилив боль, сказал сквозь зубы: — Мы на строительстве укрепрайона были. Нас сюда цельные сутки по морозу пешком гнали. А обувь у нас какая? Никакой…
— Послушайте-ка, послушайте, — сказал Стремянной, — какой это укрепрайон? Тот, что западнее города?
— Да, как по шоссе идти…
— Далеко это отсюда?
— Километров сорок будет… У села Малиновки…
— Что же вы там делали?
— Да что… доты строили… рвы копали… Ох, товарищ начальник, сил у меня больше нет!..
— Сейчас отвезу вас в госпиталь, — сказал Стремянной, — там вам помогут… А сумеете вы потом на карте показать, где эти доты?
— Надо быть, сумею, товарищ командир…
— А как же вы здесь оказались?
— А нас сюда назад пригнали.
— Когда?
— Да уж четверо суток скоро будет.
«Четверо суток! — прикинул про себя Стремянной. — Значит, это было ещё до наступления».
— Где же остальные?
— Увели. Ночью… А куда, не знаю… Ой, ноги, товарищ командир, ноги-то как болят! — Он крепко обхватил свои ноги и замер, чуть покачиваясь из стороны в сторону.
Стремянной вынул из кармана фонарик и осветил ноги солдата. Ему стало не по себе. То, что он принял за сапоги, на самом деле были босые ноги, почерневшие от гангрены…
— Вот несчастье!.. Держись-ка, друг, за мои плечи.
 Стремянной поднял солдата и вынес его на крыльцо. Он посадил его на заднее сиденье машины, укрыл одеялом, которое всегда возил с собой, а сам сел рядом. Машина тронулась.
— Вы из какой дивизии? — спросил Стремянной солдата, с щемящей жалостью рассматривая его всклокоченную рыжую бороду и лицо, изрезанное глубокими морщинами.
Что-то похожее на тень улыбки промелькнуло по лицу солдата.
— Да из нашей, из сто двадцать четвертой, товарищ начальник, — тихо ответил он.
— А в какой части служил?
— В охране штаба…
Стремянной пристально взглянул на солдата.
— Еременко! — невольно вскрикнул он, и голос у него дрогнул.
В сидящем перед ним старом, изможденном человеке почти невозможно было узнать того Еременко, который всего год назад мог руками разогнуть подкову.
— Я самый, товарищ начальник, — с трудом выдохнул солдат.
— А меня признаешь?
— Ну как же, сразу признал…
Тут машина вздрогнула на выбоине дороги, Еременко ударился ногами о спинку переднего сиденья и тяжко застонал.
— Тише поезжай, — строго сказал Стремянной шоферу.
Машина замедлила бег. Теперь шофер старательно объезжал все бугры и колдобины. Еременко сидел, завалившись на сиденье, с закрытыми глазами, откинув голову назад.
Так вот оно как! Теперь Стремянной вспомнил всё. Еременко и был тем вторым автоматчиком, который исчез одновременно с начфином. По всей вероятности, он знает, куда делся и Соколов.
Стремянной осторожно положил руку на плечо солдата:
— Товарищ Еременко… А товарищ Еременко… Не знаете ли вы, что с Соколовым? Где он?
Солдат молчал.
Стремянной дотронулся до его руки. Она была холодна. И только по легкому облачку пара, вырывавшегося изо рта, можно было догадаться, что он ещё жив.
Через четверть часа Еременко был доставлен в полевой госпиталь, занявший все три этажа каменного здания школы. Ещё через полчаса его положили на операционный стол, и хирург ампутировал ему обе ноги до колен…
Стремянной поднял солдата и вынес его на крыльцо. Он посадил его на заднее сиденье машины, укрыл одеялом, которое всегда возил с собой, а сам сел рядом. Машина тронулась.
— Вы из какой дивизии? — спросил Стремянной солдата, с щемящей жалостью рассматривая его всклокоченную рыжую бороду и лицо, изрезанное глубокими морщинами.
Что-то похожее на тень улыбки промелькнуло по лицу солдата.
— Да из нашей, из сто двадцать четвертой, товарищ начальник, — тихо ответил он.
— А в какой части служил?
— В охране штаба…
Стремянной пристально взглянул на солдата.
— Еременко! — невольно вскрикнул он, и голос у него дрогнул.
В сидящем перед ним старом, изможденном человеке почти невозможно было узнать того Еременко, который всего год назад мог руками разогнуть подкову.
— Я самый, товарищ начальник, — с трудом выдохнул солдат.
— А меня признаешь?
— Ну как же, сразу признал…
Тут машина вздрогнула на выбоине дороги, Еременко ударился ногами о спинку переднего сиденья и тяжко застонал.
— Тише поезжай, — строго сказал Стремянной шоферу.
Машина замедлила бег. Теперь шофер старательно объезжал все бугры и колдобины. Еременко сидел, завалившись на сиденье, с закрытыми глазами, откинув голову назад.
Так вот оно как! Теперь Стремянной вспомнил всё. Еременко и был тем вторым автоматчиком, который исчез одновременно с начфином. По всей вероятности, он знает, куда делся и Соколов.
Стремянной осторожно положил руку на плечо солдата:
— Товарищ Еременко… А товарищ Еременко… Не знаете ли вы, что с Соколовым? Где он?
Солдат молчал.
Стремянной дотронулся до его руки. Она была холодна. И только по легкому облачку пара, вырывавшегося изо рта, можно было догадаться, что он ещё жив.
Через четверть часа Еременко был доставлен в полевой госпиталь, занявший все три этажа каменного здания школы. Ещё через полчаса его положили на операционный стол, и хирург ампутировал ему обе ноги до колен…
СОБЫТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ
Над городом сгущались сумерки. Издалека ветер доносил едва слышный рокот артиллерийской канонады. Это соседняя армия выбивала противника из укрепленного района. На площади гулко стучали кирки, врезаясь в мерзлую землю, — взвод саперов копал братскую могилу для расстрелянных гитлеровцами солдат. На завтра Ястребов назначил торжественные похороны. По опустевшим улицам ходили патрули. Изредка проезжали машины с синими фарами. Разведка донесла Ястребову, что гитлеровцы, отступив к Новому Осколу, окапываются и подвозят резервы. Возможно, что они в ближайшие дни попытаются перейти в наступление. Ястребов попросил командующего армией разрешить ему продолжать преследование противника. Однако в штабе армии были какие-то свои планы. Ястребову приказали организовать крепкую оборону города и ждать дальнейших указаний. Стремянной, сидя за своим рабочим столом, разговаривал по телефону с командирами полков, когда с радиостанции ему принесли телеграмму из штаба армии. По тому, как улыбался сухопарый лейтенант, подавая листок с уже расшифрованным текстом, он понял, что его ждет какое-то приятное и значительное известие. И действительно, телеграмма была очень приятная. Стремянной быстро пробежал её глазами, невольно сказал: «Ого!», и вышел в соседнюю комнату, где полковник Ястребов беседовал со своим заместителем по политической части — полковником Корнеевым, невысоким, коренастым, медлительным и спокойным человеком, любителем хорошего табака и хорошей шутки. Они сидели за столом, на котором лежали оперативные сводки и карты, впрочем тщательно сейчас прикрытые, так как в комнате находился посторонний гражданский человек. Ему было, вероятно, лет под пятьдесят (а может быть, и меньше — месяцы, прожитые в оккупации, стоили многих лет жизни). Его темные, когда-то пышные волосы были так редки, что сквозь них просвечивала кожа, щеки покрывала седая щетина. Одет он был в старое черное пальто, из-под которого виднелись обтрепанные серые летние брюки. На носу у него кое-как держались скрепленные на переносице черными нитками, сломанные надвое очки с треснувшим левым стеклышком. Разговаривая с командирами, человек время от времени поглядывал на телефониста, который, сидя в углу, ел из котелка суп. В стороне, у окна, стоял начальник Особого отдела дивизии майор Воронцов. Он был одного возраста со Стремянным, но выглядел значительно старше, может быть оттого, что имел некоторое расположение к полноте. Слегка прищурив свои небольшие карие глаза, он спокойно курил папиросу, внимательно и с интересом слушая то, что рассказывал человек в пальто. В руках он держал несколько фотографий, уже, очевидно, им просмотренных, выжидая, пока Ястребов и Корнеев просмотрят другие и обменяются с ним. Мельком взглянув на постороннего, Стремянной подошел к Ястребову и, сдерживая улыбку, громко произнес: — Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться!.. Ястребов удивленно и строго посмотрел на него: — Бросьте эти шутки, Стремянной!.. У нас тут дело поважнее… Познакомьтесь. Это местный фотограф. Он принес нам весьма интересные снимки… Их можно будет кое-кому предъявить. — И Ястребов протянул Стремянному пачку фотокарточек. Стремянной взял у него из рук десяток свежих, ещё не совсем высохших фотографий, отпечатанных на матовой немецкой бумаге с волнистой линией обреза. На этих фотографиях были сняты эсэсовцы так, как они любили обыкновенно сниматься. На одной — во время игры в мяч, без мундиров, в подтяжках, с засученными до локтей рукавами рубашек. На другой они сидели вокруг стола в мундирах и при всех регалиях и дружно протягивали к объективу аппарата стаканы с вином. Среди них было несколько женщин. На третьей гитлеровцы были сняты в машине; каски и фуражки низко надвинуты на глаза, на коленях — автоматы. Не забыли они сняться и у подножия виселицы, в самый момент казни, на кладбище — среди уходящих вдаль одинаковых березовых крестов…
На этих же фотографиях, то сбоку, то на заднем плане, виднелись какие-то штатские. Они, видимо, тоже участвовали в происходящем, но чувствовалось, что это люди подчиненные, зависимые и между ними и их хозяевами — огромная дистанция.
— Да, эти фото нам будут очень полезны, товарищ генерал, — согласился Стремянной и, отступив на шаг, незаметно для Ястребова передал за его спиной телеграмму замполиту.
— Опять — генерал! — уже рассердился Ястребов.
— А чего, собственно, вы, товарищ генерал, придираетесь к начальнику штаба? — сказал, улыбаясь, Корнеев. — По-моему, он совершенно прав, вы и есть генерал… Вот, смотрите! — и он протянул Ястребову телеграмму. — За освобождение города вам присвоено звание генерал-майора и вы награждены орденом Красного Знамени..
— А дивизия?.. — спросил Ястребов.
— Никого не забыли, Михал Михалыч. А дивизии объявлена благодарность. Приказано наградить всех отличившихся, — сказал Стремянной, уже не сдерживая своей радости.
Ястребов читал телеграмму долго-долго и почему-то сердито сдвинул брови. Наконец прочел и отложил в сторону.
— Прямо невероятно, — сказал он вполголоса: — четыре события, и все в один день!
— Три я знаю, товарищ генерал. — Стремянному ново и даже как-то весело было называть генералом Ястребова, который всего несколько месяцев назад был подполковником, а в начале войны — майором. — Первое событие — освобождение города, второе — присвоение вам звания генерала, третье — орден. А четвертое?..
— Ну, это самое незначительное, — смущенно сказал Ястребов: — мне сегодня исполнилось сорок пять лет…
— Поздравляю, Михал Михалыч! — сказал Корнеев, крепко пожимая ему руку. — Отметить это надо. Такие дни бывают раз в жизни!..
— И я вас поздравляю, товарищ полк… — Стремянной вдруг сбился, махнул рукой и обнял Ястребова, — дорогой мой товарищ генерал!..
Ястребов с трудом высвободился из его могучих объятий.
— Ладно, — шутливо сказал он. — Поздравления принимаю только с цветами… Давайте покончим с делом. Спасибо вам, товарищ Якушкин, — обратился он к фотографу, который все это время безмолвно стоял в стороне, однако всем своим видом участвуя в том, что происходило в комнате. — Вы поступили совершенно правильно, передав в руки командования эти фотографии. Благодарю вас за это! Я вижу, трудно вам тут было… Вот вам записка… — Ястребов нагнулся над столом и, взяв листок бумаги, написал на нем несколько слов. — Идите к начальнику продовольственного снабжения — он выдаст вам паёк.
— Спасибо, спасибо, товарищ генерал! — Якушкин широко улыбнулся, обнажив длинные желтые зубы, пожал всем по очереди руки и направился к дверям.
— Ну, Воронцов, — обратился к майору Ястребов, когда дверь за Якушкиным закрылась, — ведь важный материал он нам доставил, а? И человек, по-моему, занятный…
— Да, несомненно, — согласился Воронцов, собирая фотографии в пачку. — Я заберу все фото, не возражаете?
— Забирай, забирай, — кивнул Ястребов и протянул ему карточки, которые были у него в руках: — Это для твоего семейного альбома, а мне не к чему… Изучи как следует. Это такие документы, от которых не открутишься…
— Ещё минуточку, товарищ Воронцов, — сказал Стремянной, заметив его выжидательный взгляд, — я только досмотрю эти несколько штук.
Он взял в руки последние три фотографии. На одной из них внимание его почему-то привлекла фигура уже немолодого немецкого офицера, плотного, с высоко поднятыми плечами. Офицер смотрел куда-то в сторону, и фигура его была несколько заслонена широким кожаным регланом эсэсовского генерала, обращающеюся с речью к толпе, понуро стоящей перед зданием городской управы. Что-то в облике этого офицера показалось Стремянному знакомым. Где он его видел?.. И вдруг в памяти у него возникли те двое пленных, которых он заметил сегодня утром на улице города. Тот, постарше, с поднятым воротником и в темных очках!..
Стремянной быстро вышел из комнаты, спрыгнул с высокого крыльца и нагнал Якушкина в ту минуту, когда фотограф расспрашивал часового у ворот, как пройти к продовольственному складу.
— Товарищ Якушкин! А товарищ Якушкин! — окликнул Стремянной. — Скажите-ка мне, кто это такой? Вы не знаете?.. Да нет, не этот. Вон тот, позади.
Якушкин поправил очки и взял из рук Стремянного фотографию.
— А!.. Я думал, вы спрашиваете про этого оратора в реглане. Это Курт Мейер, начальник гестапо, а тот позади — бургомистр Блинов. Знаменитость в своем роде…
— Бургомистр? Почему же он в немецкой форме?
— А гитлеровцы ему разрешили. В последнее время он только и ходил во всем офицерском.
— Спасибо!
Стремянной быстро возвратился к себе и вызвал по телефону военную комендатуру города.
— У телефона комендант — майор Теплухин!
— Товарищ майор, — быстро сказал Стремянной, — часа три назад к вам должны были привести двух пленных офицеров… Одного? Нет, двоих… Один из них такой коренастый, в темных очках. Где он?.. Нет, не хромой, а другой… Сбежал? Как же это вы допустили, чорт вас совсем возьми!.. Да вы знаете, кто от вас сбежал? Бургомистр! Предатель! Он такой же немец, как мы с вами!.. Найти во что бы то ни стало! Слышите? Повторите приказание!
Майор Теплухин повторил в трубку приказание. Стремянной сейчас же распорядился, чтобы в городе тщательно проверялись пропуска и чтобы количество патрулей было увеличено. Потом он рассказал о происшествии Воронцову, отдал ему фото и, когда Воронцов ушел к себе, снова принялся за работу. Но ему не работалось. «Странное дело, как он врезался в память, этот сегодняшний эсэсовец, — думал Стремянной, раздраженно шагая из угла в угол. — Вижу в первый раз, а вот поди ты!..»
Стремянной взял у него из рук десяток свежих, ещё не совсем высохших фотографий, отпечатанных на матовой немецкой бумаге с волнистой линией обреза. На этих фотографиях были сняты эсэсовцы так, как они любили обыкновенно сниматься. На одной — во время игры в мяч, без мундиров, в подтяжках, с засученными до локтей рукавами рубашек. На другой они сидели вокруг стола в мундирах и при всех регалиях и дружно протягивали к объективу аппарата стаканы с вином. Среди них было несколько женщин. На третьей гитлеровцы были сняты в машине; каски и фуражки низко надвинуты на глаза, на коленях — автоматы. Не забыли они сняться и у подножия виселицы, в самый момент казни, на кладбище — среди уходящих вдаль одинаковых березовых крестов…
На этих же фотографиях, то сбоку, то на заднем плане, виднелись какие-то штатские. Они, видимо, тоже участвовали в происходящем, но чувствовалось, что это люди подчиненные, зависимые и между ними и их хозяевами — огромная дистанция.
— Да, эти фото нам будут очень полезны, товарищ генерал, — согласился Стремянной и, отступив на шаг, незаметно для Ястребова передал за его спиной телеграмму замполиту.
— Опять — генерал! — уже рассердился Ястребов.
— А чего, собственно, вы, товарищ генерал, придираетесь к начальнику штаба? — сказал, улыбаясь, Корнеев. — По-моему, он совершенно прав, вы и есть генерал… Вот, смотрите! — и он протянул Ястребову телеграмму. — За освобождение города вам присвоено звание генерал-майора и вы награждены орденом Красного Знамени..
— А дивизия?.. — спросил Ястребов.
— Никого не забыли, Михал Михалыч. А дивизии объявлена благодарность. Приказано наградить всех отличившихся, — сказал Стремянной, уже не сдерживая своей радости.
Ястребов читал телеграмму долго-долго и почему-то сердито сдвинул брови. Наконец прочел и отложил в сторону.
— Прямо невероятно, — сказал он вполголоса: — четыре события, и все в один день!
— Три я знаю, товарищ генерал. — Стремянному ново и даже как-то весело было называть генералом Ястребова, который всего несколько месяцев назад был подполковником, а в начале войны — майором. — Первое событие — освобождение города, второе — присвоение вам звания генерала, третье — орден. А четвертое?..
— Ну, это самое незначительное, — смущенно сказал Ястребов: — мне сегодня исполнилось сорок пять лет…
— Поздравляю, Михал Михалыч! — сказал Корнеев, крепко пожимая ему руку. — Отметить это надо. Такие дни бывают раз в жизни!..
— И я вас поздравляю, товарищ полк… — Стремянной вдруг сбился, махнул рукой и обнял Ястребова, — дорогой мой товарищ генерал!..
Ястребов с трудом высвободился из его могучих объятий.
— Ладно, — шутливо сказал он. — Поздравления принимаю только с цветами… Давайте покончим с делом. Спасибо вам, товарищ Якушкин, — обратился он к фотографу, который все это время безмолвно стоял в стороне, однако всем своим видом участвуя в том, что происходило в комнате. — Вы поступили совершенно правильно, передав в руки командования эти фотографии. Благодарю вас за это! Я вижу, трудно вам тут было… Вот вам записка… — Ястребов нагнулся над столом и, взяв листок бумаги, написал на нем несколько слов. — Идите к начальнику продовольственного снабжения — он выдаст вам паёк.
— Спасибо, спасибо, товарищ генерал! — Якушкин широко улыбнулся, обнажив длинные желтые зубы, пожал всем по очереди руки и направился к дверям.
— Ну, Воронцов, — обратился к майору Ястребов, когда дверь за Якушкиным закрылась, — ведь важный материал он нам доставил, а? И человек, по-моему, занятный…
— Да, несомненно, — согласился Воронцов, собирая фотографии в пачку. — Я заберу все фото, не возражаете?
— Забирай, забирай, — кивнул Ястребов и протянул ему карточки, которые были у него в руках: — Это для твоего семейного альбома, а мне не к чему… Изучи как следует. Это такие документы, от которых не открутишься…
— Ещё минуточку, товарищ Воронцов, — сказал Стремянной, заметив его выжидательный взгляд, — я только досмотрю эти несколько штук.
Он взял в руки последние три фотографии. На одной из них внимание его почему-то привлекла фигура уже немолодого немецкого офицера, плотного, с высоко поднятыми плечами. Офицер смотрел куда-то в сторону, и фигура его была несколько заслонена широким кожаным регланом эсэсовского генерала, обращающеюся с речью к толпе, понуро стоящей перед зданием городской управы. Что-то в облике этого офицера показалось Стремянному знакомым. Где он его видел?.. И вдруг в памяти у него возникли те двое пленных, которых он заметил сегодня утром на улице города. Тот, постарше, с поднятым воротником и в темных очках!..
Стремянной быстро вышел из комнаты, спрыгнул с высокого крыльца и нагнал Якушкина в ту минуту, когда фотограф расспрашивал часового у ворот, как пройти к продовольственному складу.
— Товарищ Якушкин! А товарищ Якушкин! — окликнул Стремянной. — Скажите-ка мне, кто это такой? Вы не знаете?.. Да нет, не этот. Вон тот, позади.
Якушкин поправил очки и взял из рук Стремянного фотографию.
— А!.. Я думал, вы спрашиваете про этого оратора в реглане. Это Курт Мейер, начальник гестапо, а тот позади — бургомистр Блинов. Знаменитость в своем роде…
— Бургомистр? Почему же он в немецкой форме?
— А гитлеровцы ему разрешили. В последнее время он только и ходил во всем офицерском.
— Спасибо!
Стремянной быстро возвратился к себе и вызвал по телефону военную комендатуру города.
— У телефона комендант — майор Теплухин!
— Товарищ майор, — быстро сказал Стремянной, — часа три назад к вам должны были привести двух пленных офицеров… Одного? Нет, двоих… Один из них такой коренастый, в темных очках. Где он?.. Нет, не хромой, а другой… Сбежал? Как же это вы допустили, чорт вас совсем возьми!.. Да вы знаете, кто от вас сбежал? Бургомистр! Предатель! Он такой же немец, как мы с вами!.. Найти во что бы то ни стало! Слышите? Повторите приказание!
Майор Теплухин повторил в трубку приказание. Стремянной сейчас же распорядился, чтобы в городе тщательно проверялись пропуска и чтобы количество патрулей было увеличено. Потом он рассказал о происшествии Воронцову, отдал ему фото и, когда Воронцов ушел к себе, снова принялся за работу. Но ему не работалось. «Странное дело, как он врезался в память, этот сегодняшний эсэсовец, — думал Стремянной, раздраженно шагая из угла в угол. — Вижу в первый раз, а вот поди ты!..»
УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
В этот вечер вся энергия движка, который обычно освещал штаб дивизии, была отдана госпиталю и типографии, где печатался первый номер газеты освобожденного города. …За большим столом, покрытым за неимением скатерти простыней и уставленным бутылками, банками консервов, тарелками с колбасой, шпигом и дымящейся вареной картошкой, сидел виновник торжества генерал Ястребов, правда ещё со знаками отличия полковника, потому что Военторг никак не мог предусмотреть, что производство полковника Ястребова в генералы произойдет так быстро. Вокруг стола на табуретках, стульях и опрокинутых ящиках сидели замполит Корнеев, Стремянной, которого то и дело вызывали к телефону, Громов и Иванов, оба усталые, полные впечатлений от большого дня — они сегодня осмотрели весь город, говорили с десятками людей, и только теперь перед ними стало понемногу вырисовываться всё то, что предстоит им сделать в этом сильно разрушенном врагом городе. Комната, в которой они сидели, освещалась неверным желтоватым светом нескольких стеариновых свечей, расставленных на столе между бутылками и банками. За стеной штаб дивизии жил своей обычной напряженной и деловой жизнью. Слышались голоса телефонистов: «Волга слушает!», «Днепр, Днепр, отвечайте пятьдесят шестому!» То и дело хлопала дверь. Стучали каблуки. Оранжевые языки пламени на свечах метались, чадили, и тени голов расплывались по стенам. Когда собравшиеся наполнили стаканы, Ястребов встал. Встали и все, кто был за столом. Ястребов сказал: — Мне хочется вас приветствовать в городе, который освободила наша дивизия. Долго стояли мы на восточном берегу Дона, долго ждали приказа… И вот наконец мы идем на запад. Тяжело видеть наши города в развалинах, людей наших замученными… И мне хочется прежде всего почтить память тех, кто погиб за Родину!.. — Комдив замолчал и склонил голову. Все помолчали. — И всё же радостный у меня сегодня день, товарищи, — продолжал он. — Не потому, что я получил звание генерала, и не потому, что меня наградили орденом… хотя это и большая радость, но главное — я верю, я убежден, что нанесенный нами удар приближает полный разгром врага. Выпьем же, друзья, за победу, за то, чтобы город этот стал ещё красивее, чем был, чтобы скорее забылась в нём война и чтобы дивизия наша дошла до Берлина! Зазвенели стаканы. Все были взволнованы и даже немного растроганы. Стремянной чуть пригубил свой стакан. Каждую минуту ему приходилось выходить из-за стола — читать донесения. Самые важные из них тут же показывать Ястребову, который тоже несколько раз выходил в соседнюю комнату докладывать командующему армией о готовности дивизии. Из штаба армии запрашивали, сколько и каких боеприпасов нужно доставить; нет ли новых данных об укрепрайоне; когда прислать машины за ранеными; как идет учет трофеев; сколько взято в плен вражеских солдат и офицеров; в каком состоянии город. Из обкома партии интересовались, можно ли быстро пустить в ход электростанцию и другие предприятия, просили, по возможности, обеспечить на ближайшие дни население продовольствием и топливом. За столом делились впечатлениями утреннего боя, вспоминали недавние встречи. Громов рассказал об одном больном старике-железнодорожнике, старом члене партии, который в своей сторожке устроил явку для партизан, передавал сведения о движении вражеских воинских эшелонов. Старик сохранил свой партийный билет, и одним из первых его вопросов к Громову было: «Кому, товарищ секретарь, платить теперь членские взносы?» — А вы знаете, — сказал Ястребов, — мне доложили, что на окраине города обнаружена разбитая авиабомбой машина местного начальника гестапо… — А его-то самого хлопнули? — спросил Иванов. — Нет, его не нашли. Наверно, сбежал. Вдалеке, где-то на окраине города, раздалось несколько сильных взрывов — это минеры подрывали минное поле. Низко над крышами пронеслось звено ночных бомбардировщиков… В эту минуту дверь медленно приоткрылась, и на пороге появился начальник госпиталя майор медицинской службы Медынский. Небольшого роста, толстый, он был одет в белый халат, поверх которого в сильной спешке накинул шинель, не успев надеть её в рукава. По его взволнованному лицу Стремянной понял, что в госпитале что-то произошло. Увидев в комнате столько людей, Медынский смущенно отступил за порог, но Стремянной тотчас же вышел в соседнюю комнату. — Что случилось, товарищ Медынский? Врач отвел Стремянного в сторону и так, чтобы никто не слышал, сказал: — Удивительная новость, товарищ подполковник: капитан Соколов объявился. — Соколов?! Да что вы говорите! Бывший начфин? — Он самый!.. — Где же он? — У нас в госпитале. — А как он к вам попал? — Бежал с дороги из колонны военнопленных. Гитлеровцы вывели их из концлагеря и погнали на запад. Ну, он как-то сумел от них уйти. Охранники ему вслед стреляли, ранили в левую руку. Посмотрели бы вы, во что он превратился! Какая шинелишка, какие сапоги! Весь оборванный! Чудом от смерти спасся… — В каком он состоянии? — Слаб, но бодр. Шутит даже… сказал, чтобы я вам передал от него привет. Просит зайти… Очень хочет увидеться с вами. Стремянной на минуту задумался. — Хорошо. Я сейчас приду. — Он шагнул к двери, за которой висел его полушубок, и обернулся: — А как здоровье того солдата, Еременко, которому сегодня ноги ампутировали? Ну, знаете, того, из концлагеря. — Еременко?.. Еременко полчаса назад умер. Так и не пришел в сознание, бедняга. Операция была слишком тяжелая, а сил у него никаких. Сами понимаете… Стремянной невольно остановился на пороге: — Умер, говорите… Так-так… Ну что ж, я сейчас приду. Он быстро накинул полушубок и, отдав дежурному необходимые распоряжения, вышел из штаба.ВСТРЕЧА
Когда Стремянной вошел во двор госпиталя, двое санитаров выносили из дверей носилки. По тяжелой неподвижности плоского, как будто прилипшего к холсту тела сразу было видно, что на носилках лежит мертвый. Еременко!.. Стремянной взглянул в темное лицо с глубоко запавшими закрытыми глазами. Ах, будь они прокляты! Сколько вытерпел этот человек! И вот всё! Стремянной снял шапку и, пропустив мимо себя санитаров, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом дома. Потом он рывком открыл тяжелую, обмерзшую снизу дверь и вошел в госпиталь. В лицо ему ударил знакомый теплый госпитальный запах только что вымытых полов, эфира, сулемы… Неярко горели редкие электрические лампы. В дальнем углу коридора громоздились одна на другой школьные парты. Двери классов, превращенных в палаты, были широко открыты. Там тесно, чуть ли не вплотную друг к дружке, стояли койки. Койки стояли и в коридоре. Только одна дверь была плотно закрыта. «Уж не тут ли кабинет Медынского?» — подумал Стремянной и приоткрыл дверь. Он увидел стены и шкафы, завешанные белыми простынями, никелированные столики для инструментария и на них в ярком свете подвешенной к потолку прожекторной лампы флаконы, чашки, щипцы, разной формы ножи и пилки. Середину комнаты занимал операционный стол на высоких ножках, на нем лежал раненый, по грудь покрытый простыней. Женщина в белом халате и маске, чуть подавшись вперед, быстрыми и точными движениями зашивала рану. Услышав скрип двери, она повернула закрытое до самых глаз лицо и вопросительно посмотрела на Стремянного. Он смущенно улыбнулся, махнул рукой и поскорей прикрыл дверь. Где же всё-таки Медынский? Куда он запропастился? Как раз в эту самую минуту начальник госпиталя появился на верхней площадке лестницы. — Соколов не здесь, товарищ начальник, он наверху, в палате для легко раненных, — говорил он, перегибаясь через перила. Медынский был уже без шинели, в хорошо выглаженном халате с тесемочками, аккуратно завязанными сзади на шее и у кистей рук. Это придавало его облику какую-то спокойную деловитость. — Я ему сказал, что вы сейчас придете. — И что же он? — Он даже весь загорелся от радости. Вы не можете себе представить, как измучен этот человек. Медынский повел Стремянного на второй этаж. Они прошли мимо перевязочной, из которой сквозь плотно закрытые двери доносились стоны раненого и молодой женский голос: «Ну миленький, хороший мой, потерпи! Ну минуточку ещё потерпи, мой дорогой». — Это что, Анна Петровна перевязывает? — спросил Стремянной прислушиваясь. — Да, она. А что, сразу узнали? Стремянной кивнул головой: — Как не узнать! Много она со мной повозилась… Они прошли в конец длинного, широкого коридора, в который выходили двери из пяти классов. У самой последней Медынский остановился: — Здесь… Я вам нужен, товарищ начальник? — Нет, не беспокойтесь, занимайтесь своими делами, товарищ Медынский. Если будет надо, я попрошу вас зайти или сам зайду. — Слушаю! Медынский ушел, но Стремянной не сразу открыл дверь. Он постоял немного, держась за железную ручку. Ему с необыкновенной ясностью вспомнилась вдруг всклокоченная голова Еременко в глубине темных нар, а потом — провалившиеся мертвые глаза с почти черными веками… Каким-то он увидит Соколова? Стремянной толкнул дверь и вошел в палату. Соколова он увидел сразу. Тот лежал на крайней койке у окна. В палате громко разговаривали и смеялись. Увидев Стремянного, все разом затихли. С ближайшей койки на него смотрели большие серые глаза лейтенанта Федюнина, накануне попавшего под бомбежку. Ему посчастливилось, он остался жив — взрывная волна прошла стороной, — но он получил три осколочных ранения в ноги. Стремянной хорошо знал Федюнина и жалел его. — Здорово, Федюнин! — сказал он проходя. — Надеюсь, недолго залежишься? — Зачем долго? Через две недели вернусь, товарищ начальник, — ответил Федюнин и широко улыбнулся. Остальных, кроме Соколова, Стремянной не знал — это были солдаты из разных частей, но они его встретили, как старого знакомого. — Здравствуйте, товарищ начальник! Проведать нас пришли? — сказал усатый немолодой солдат с перевязанным плечом. — Проведать, проведать… — В палате номер девять всё в порядке, товарищ начальник! Все налицо. Никого в самовольной отлучке нет, — шутливо отрапортовал солдат. Стремянной улыбнулся: — Вижу, настроение здесь боевое. — Самое боевое, товарищ начальник! — подал из другого угла голос артиллерист с широкой повязкой вокруг головы. — Тут у нас полное взаимодействие всех родов войск — от артиллерии до походной кухни. Хоть сейчас наступай!.. — Ну, вот и ладно, — отозвался Стремянной, с удовольствием поглядев на его широкое, чуть рябоватое лицо со смелыми, очень черными под белой повязкой глазами. — Подремонтируетесь тут, подвинтите гайки — и айда, пошли!.. Он миновал койку артиллериста и остановился у занавешенного окна в том углу, где лежал бывший начфин. — Ну, товарищ Соколов, здравствуйте! Соколов с усилием приподнялся с подушек. Его забинтованная правая рука была тесно прижата к груди. Он подал Стремянному левую руку и крепко сжал его ладонь. — Я так рад, так рад! — сказал он, слегка задыхаясь от волнения и не выпуская руки Стремянного из своей. — Ведь я уже потерял всякую надежду когда-нибудь вас всех увидеть… Потерял всякую надежду остаться в живых… По его бледным, небритым щекам катились слезы радости. С тех пор как Стремянной видел его в последний раз, Соколов, конечно, сильно переменился. Но никак нельзя было понять, в чем же эта перемена. Постарел, похудел? Да, конечно… Но не в этом дело. Бороды нет?.. Это, разумеется, очень меняет человека, но опять-таки не в этом дело… Стремянной напряженно вглядывался в отяжелевшее, как будто отекшее лицо Соколова. А тот улыбался дрожащими губами и, усаживая Стремянного у себя в ногах — в комнате, тесно заставленной койками, не оставалось места даже для табуретки, — всё говорил и говорил, торопливо, обрадованно и взволнованно, словно опасаясь, что если он замолчит, гость его встанет и уйдет. — Нет, какая радость, какая радость что я вас вижу!.. — Он прикоснулся дрогнувшими пальцами к локтю Стремянного. — Вы уже подполковник, а помнится, когда вас назначили к нам, вы ещё майором были. Это каких-нибудь восемь месяцев тому назад… Каких-нибудь восемь месяцев… — Он откинулся на подушку и прикрыл глаза рукой. — А сколько за эти месяцы пережито!.. Боже ты мой, сколько пережито!.. — Вы только не волнуйтесь, товарищ Соколов, — сказал Стремянной, стараясь самым звуком голоса успокоить его. — Не надо вам сейчас всё это вспоминать. — Да не могу я не вспоминать! — почти закричал Соколов, и в горле у него как-то задрожало и хлипнуло. — Я сейчас, немедленно, хочу рассказать вам, как я попал в плен. Вы можете меня выслушать? — Ну ладно, ладно, рассказывайте, — ответил Стремянной, — только спокойнее, прошу вас. Товарищи вам не помешают? — Нет, нет, — горячо сказал Соколов, — пусть слышат все. Какие у меня секреты!.. Вы помните, товарищ начальник, при каких обстоятельствах я попал в плен? (Стремянной кивнул головой.) Ну, так вот, — продолжал Соколов, — кроме шофера, со мной в машине ехали два автоматчика — Березин и Ерёменко. Когда мы уже были на полпути к Семеновне — вы помните, там должен был расположиться штаб нашей дивизии, — из-за облаков выскочило звено «юнкерсов». Они стали бомбить дорогу… Мы остановили машину и бросились в канаву… Тут невдалеке хлопнулась стокилограммовая фугаска. Осколки так хватили нашу машину, что уже ехать на ней никуда нельзя было. Разве что на себе тащить… Что тут было делать? — Ясное дело — брать машину на буксир и тянуть, — сказал сосед Соколова, шофер Гераскин, у которого от взрыва бака с бензином было обожжено всё лицо. Сейчас оно уже подживало и почти сплошь было покрыто густой зеленой мазью; от этого он казался загримированным под лешего. — Легко сказать! — отозвался Соколов, быстро оборачиваясь к Гераскину. — Мы, наверно, сто раз пробовали остановить проезжавшие машины. Куда там! Никто не остановился, как мы ни кричали… — Бывает, — как-то виновато согласился Гераскин. — Что же мне было делать, товарищ Стремянной? — Соколов схватил Стремянного за руку. — Ну скажите хоть вы! На машине у меня сундук с деньгами. Я отвечаю за них головой… — Дело сурьезное, — сказал усатый солдат. — То-то и есть. — Соколов на лету поймал сочувственный взгляд и ответил на него кивком головы. — Очень серьезное… Тогда я решил послать одного из автоматчиков — Еременко — пешком в штаб дивизии за помощью, а сам с другим автоматчиком и шофером остался охранять денежный ящик. — Правильное решение, — поддержал Федюнин. — Ну вот, — продолжал Соколов, подбодренный общим дружелюбным вниманием, — тут и началось… Проходит час, два… Еременко не возвращается. Помощи нет. И вдруг снова бомбежка… Мы опять залегли в канаву… — Соколов помолчал. — А дальше я ничего не помню… Контузило меня… Очнулся в плену… в каком-то бараке… лежал целый день на охапке гнилой соломы. Пить даже не давали… — Сволочи! — послышалось из другого конца палаты. — Но хуже всего стало, — угрюмо сказал Соколов, — когда они по документам выяснили, что я начфин. Тут уж такое началось… — Он провел ладонью здоровой руки по лбу и на секунду зажмурился. — Ну, а знаете ли вы что-нибудь о судьбе тех, кто был с вами? — спросил Стремянной. Ему хотелось хоть ненадолго отвлечь Соколова от особенно мучительных воспоминаний. Соколов поднял припухшие веки и посмотрел на Стремянного. — Только об одном, — медленно ответил он и опять прикрыл глаза. — О ком же? — Об одном из автоматчиков — Еременко. Переводчик мне говорил, что он был в концлагере, но как будто погиб. — А где же были вы? — Я? — Соколов криво усмехнулся. — Я почти всё время сидел в гестапо, в подвале… Меня то допрашивали три раза в день, то забывали на целые недели… Стремянной придвинулся поближе: — А на строительствеукрепрайона вы не были? — Был, — сказал Соколов. — Как же!.. Там такие укрепления построены, товарищ начальник, такие укрепления!.. — Он сжал зубы, и от этого на скулах у него заходили желваки. — Можно всю дивизию положить и не взять!.. — Ну, это вы уж слишком, товарищ Соколов! Напугали вас!.. Не так всё страшно, как вам кажется, — ответил Стремянной. — Однако это хорошо, что вы там побывали… Как видите, не было бы счастья, да несчастье помогло… Попозже я к вам зайду с картой, и мы подробно поговорим. А пока припомните, как в укрепрайоне организована система, огня… — Ну конечно, обо всем укрепрайоне я не могу сказать, — проговорил Соколов подумав, — ведь я только несколько укреплений и видел… — Где? — Да вот доты в районе Малиновки. Там их штук пять… О них я могу рассказать подробно. — Ну, ясно… О чём знаете, о том и расскажете. Наступило короткое молчание. — А знаете, товарищ Соколов, — сказал Стремянной, чтобы прервать тишину, — Еременко-то ведь мы нашли. Я сам привез его в госпиталь. У него были обморожены обе ноги… Он не успел договорить. Соколов изменился в лице. Челюсти его сжались, глаза расширились. — Вы нашли Еременко?.. Это очень хорошо, товарищ начальник!.. Теперь будет кого расстрелять!.. Я хотел об этом сказать позже. Это ведь он привел те немецкие бронемашины, на одну из которых был переложен сундук с деньгами. Он!.. Негодяй!.. Из-за него меня в плен взяли… Из-за него погибли шофер и Березин!.. — Откуда вы знаете? — спросил Стремянной. — Узнал во время допросов в гестапо… У нас была с ним даже очная ставка… Где он?.. Скажите мне, где он — я уничтожу этого труса и подлеца! Задушу собственными руками! Соколов вскочил с койки, лицо у него горело. В исступлении он ударил больной рукой по железной спинке кровати и тяжело застонал. — Да успокойся, успокойся, товарищ Соколов! — закричали с других коек. Стремянной взял его за руки и посадил на одеяло: — Ложитесь, ложитесь без разговоров!.. Еременко нет. Он умер. Не выдержал операции… Соколов обессиленно откинулся на подушки. Его лицо и грудь покрылись потом. Несколько минут он лежал с закрытыми глазами. Стремянной с тревогой смотрел на это тяжелое, чуть одутловатое лицо. И вдруг он склонился ещё ниже: что-то по-новому знакомое мелькнуло в складке губ, в повороте головы… В ту же секунду, словно почувствовав его взгляд, Соколов открыл глаза и прямо, в упор посмотрел на Стремянного. — Так умер, говорите? — сказал он тихо. — Что ж, туда мерзавцу и дорога. Он и в лагере был предателем. Сколько народу из-за него погибло!.. — Собака! — с ненавистью произнес усатый солдат. — Повесить такого мало… Жаль, что сам помер. Стремянной искоса поглядел на усатого солдата и вдруг поднялся с места. — Куда вы, товарищ Стремянной? — с тревогой в голосе сказал Соколов. И добавил просительно: — Побудьте ещё хоть немного! — Да я сейчас вернусь, — уже на ходу, оглядываясь через плечо, ответил Стремянной. — Гостинец я для вас захватил, да забыл — внизу в полушубке оставил. Сейчас принесу. А вы пока отдохните немного. Вредно вам так много говорить. Стремянной быстро вышел из палаты, спустился вниз, достал из кармана полушубка плитку шоколада и, шагая через две ступени, опять побежал наверх. По пути он зашел в кабинет к Медынскому, дал ему кое-какие распоряжения и снова вернулся в палату. Соколов ждал его, приподнявшись на локте и беспокойно глядя на дверь. — Ну, а дальше что было? — спросил Стремянной, подавая ему шоколад и, как прежде, усаживаясь в ногах. — Рассказывайте! — Дальше? — Соколов махнул рукой. — Что ж дальше… Они всё время требовали, чтобы я открыл им сундук. Им казалось, что в нём спрятаны какие-то важные документы… Я-то знал, что, кроме денег, там нет ничего, но открывать сундук мне не хотелось. Ну вот хотите верьте, хотите нет, просто честь не позволяла. Так тянулось больше трех месяцев. Ну, а потом… Все в палате затихли, ожидая, что скажет Соколов. Лейтенант Федюнин, приподнявшись на подушках и вытянув шею, в упор, не мигая смотрел на него. Старый солдат нетерпеливо крутил свой темный ус. Гераскин схватил себя за подбородок, не замечая, что измазал руку «зеленкой». Стремянной сидел неподвижно, положив на колени руки, и внимательно слушал. — А потом, — смущенно, чуть запинаясь, продолжал Соколов, — однажды ночью меня вывели во двор, поставили у стены сарая, навели на меня автомат и сказали: «Или ты сейчас умрешь, или открой сундук». — Соколов повернулся в сторону Стремянного. — Ну, я и подумал, товарищ начальник: чорт с ними, с деньгами!.. Всё равно они им пользы не принесут, а меня убьют ни за что. — И вы им открыли ящик? — спросил Стремянной. — Да, открыл. А вы откуда знаете? — Соколов с удивлением взглянул на него. — Во-первых, потому, что вы живы, — ответил Стремянной под общий смех. — А во-вторых, я его сегодня видел своими глазами, наш сундук. Он цел. Ну, думаю, если он цел, может быть и вы живы… Соколов пожал плечами. — Судите меня как хотите, товарищ начальник… — покорно склонив голову, сказал он. — Я, конечно, виноват… Но посудите сами: ну я бы погиб, ну зарыли бы они меня, ведь сундук всё равно взорвали бы… Раненые молча переглядывались. Каждый по-своему расценивал поступок Соколова. — И верно! — сказал кто-то вполголоса. — Если бы там секретные документы были, а то деньги… Не погибать же из-за них человеку! Соколов с благодарностью посмотрел в тот угол, где прозвучали эти слова. — А потом они меня отправили в концлагерь, — сказал он, опять поворачиваясь к Стремянному. — Тут вот, на окраине города. Пробыл я там до самых последних дней. Сегодня ночью нас вдруг внезапно подняли, построили и погнали по дороге в сторону Нового Оскола. Я понял, что, очевидно, наши начали наступление. Решил бежать. Когда проходили через мост, прыгнул вниз… Заметили… Стали стрелять… Ранили… Но мне удалось скрыться в кустах. А затем я вернулся. Вот и всё. — Всё, значит? — задумчиво переспросил Стремянной. — Всё. В палате на минуту сделалось совсем тихо. Стало слышно тонкое, похожее на комариную песенку, жужжанье электрической лампочки. Дверь слегка приоткрылась, и в щель просунулась лысая голова Медынского: — Товарищ начальник, вас спрашивают! — Сейчас приду, — сказал Стремянной и вышел из палаты. Он пробыл за дверью не больше минуты и вернулся назад, как будто чем-то озабоченный. Соколов это заметил сразу. — Что случилось? — спросил он. — Неприятная истории, — ответил Стремянной, прохаживаясь между койками. — Ну, да это потом… Так на чём мы остановились? — Ни на чем. Я всё рассказал. Больше прибавить нечего. — Соколов поглядел на Стремянного спокойным, доверчивым взглядом. Только левая рука его то судорожно сжималась, то разжималась, теребя складки одеяла и выдавая скрытую тревогу. Вдруг погас свет. Палата погрузилась в полную темноту.
— Движок испортился, — сказал голос усатого солдата.
— Моторист, наверно, заснул, — насмешливо процедил Гераскин.
— Горючего не хватило!
Раненые засмеялись.
Стремянной вышел в коридор, такой же темный, как палата, и крикнул:
— Почему нет света?
Чей-то голос ему ответил:
— Сейчас узнаем!..
— Принесите сюда керосиновую лампу!
— Есть!.. Сейчас!..
За дверью послышались чьи-то быстрые шаги. Кто-то, стуча каблуками, спускался по лестнице, кто-то поднимался. Мелькнула полоска света и туг же исчезла.
— Сюда, сюда, — сказал Стремянной какому-то человеку, который шел по коридору. — Что у вас в руках? Лампа?.. Зажгите же её. Спичек нет? У меня тоже… — Он вернулся в палату. Человек с лампой остался стоять в дверях. — Товарищ Соколов, у вас есть спички?
— Нет, — ответил Соколов. — Я некурящий.
— У кого есть спички?
— Возьмите, товарищ начальник, — сказал Гераскин и в темноте протянул коробку Стремянному.
Стремянной взял спички, но тут же уронил их на пол.
— Вот неприятность! — рассердился он. — Где-то около вас, Соколов, спички упали?
— Нет, — ответил Соколов. — Кажется, они упали около соседней койки.
— Вы слышите? — обратился Стремянной к человеку, который стоял в дверях.
— Слышу, — ответил тот.
— Что вы слышите?
За дверью молчали.
— Что вы слышите? — повторил Стремянной настойчивей и громче.
Человек, стоящий в дверях, кашлянул и ответил медленно и сипло:
— Слышу голос бургомистра города Блинова…
— Свет! — крикнул во всю силу легких Стремянной.
— Свет! — закричал в коридоре Медынский.
Но в то же мгновенье Соколов вскочит с койки и бросился к окну. Он уже успел вышибить раму, когда Стремянной схватил его и повалил на койку, прижав всем своим большим телом.
Вспыхнувший свет осветил двух борющихся людей. Раненые повскакали с коек, чтобы прийти на помощь Стремянному, но этого уже не требовалось: Соколов лежал спеленатый простыней, завязанной на его спине узлом.
На пороге комнаты появился новый человек — фотограф Якушкин. Он медленно, в напряженном молчании подошел к Соколову и нагнулся над ним.
— Узнаете меня, господин Блинов? — негромко спросил он. — Я фотограф Якушкин. Вы мой постоянный клиент, неоднократно у меня фотографировались…
— Это ложь, ложь! — прохрипел Соколов, стараясь вырваться из стягивающей его простыни.
В дверях показался Воронцов. Он неторопливо прошел между койками, вынул из кармана фотографию и показал её Соколову:
— Посмотрите, господин бургомистр… Вы, несомненно, узнаете себя.
Раненые, вскочив со своих коек, уже больше не ложились. Усатого солдата трясло, как в сильном ознобе. Он стоял около койки Соколова и требовал, чтобы ему дали автомат застрелить предателя. Лейтенант скрипел зубами — он не мог себе простить того, что поверил рассказу Соколова и даже сочувствовал ему. Гераскин вдруг вырвался вперед, навалился на Соколова и занес кулак…
Воронцов строго отстранил его:
— Не трогайте! Это дело разберет трибунал!..
Через несколько минут Соколова заставили одеться, и конвой повел его по тёмным, безлюдным улицам на допрос в Особый отдел.
Вдруг погас свет. Палата погрузилась в полную темноту.
— Движок испортился, — сказал голос усатого солдата.
— Моторист, наверно, заснул, — насмешливо процедил Гераскин.
— Горючего не хватило!
Раненые засмеялись.
Стремянной вышел в коридор, такой же темный, как палата, и крикнул:
— Почему нет света?
Чей-то голос ему ответил:
— Сейчас узнаем!..
— Принесите сюда керосиновую лампу!
— Есть!.. Сейчас!..
За дверью послышались чьи-то быстрые шаги. Кто-то, стуча каблуками, спускался по лестнице, кто-то поднимался. Мелькнула полоска света и туг же исчезла.
— Сюда, сюда, — сказал Стремянной какому-то человеку, который шел по коридору. — Что у вас в руках? Лампа?.. Зажгите же её. Спичек нет? У меня тоже… — Он вернулся в палату. Человек с лампой остался стоять в дверях. — Товарищ Соколов, у вас есть спички?
— Нет, — ответил Соколов. — Я некурящий.
— У кого есть спички?
— Возьмите, товарищ начальник, — сказал Гераскин и в темноте протянул коробку Стремянному.
Стремянной взял спички, но тут же уронил их на пол.
— Вот неприятность! — рассердился он. — Где-то около вас, Соколов, спички упали?
— Нет, — ответил Соколов. — Кажется, они упали около соседней койки.
— Вы слышите? — обратился Стремянной к человеку, который стоял в дверях.
— Слышу, — ответил тот.
— Что вы слышите?
За дверью молчали.
— Что вы слышите? — повторил Стремянной настойчивей и громче.
Человек, стоящий в дверях, кашлянул и ответил медленно и сипло:
— Слышу голос бургомистра города Блинова…
— Свет! — крикнул во всю силу легких Стремянной.
— Свет! — закричал в коридоре Медынский.
Но в то же мгновенье Соколов вскочит с койки и бросился к окну. Он уже успел вышибить раму, когда Стремянной схватил его и повалил на койку, прижав всем своим большим телом.
Вспыхнувший свет осветил двух борющихся людей. Раненые повскакали с коек, чтобы прийти на помощь Стремянному, но этого уже не требовалось: Соколов лежал спеленатый простыней, завязанной на его спине узлом.
На пороге комнаты появился новый человек — фотограф Якушкин. Он медленно, в напряженном молчании подошел к Соколову и нагнулся над ним.
— Узнаете меня, господин Блинов? — негромко спросил он. — Я фотограф Якушкин. Вы мой постоянный клиент, неоднократно у меня фотографировались…
— Это ложь, ложь! — прохрипел Соколов, стараясь вырваться из стягивающей его простыни.
В дверях показался Воронцов. Он неторопливо прошел между койками, вынул из кармана фотографию и показал её Соколову:
— Посмотрите, господин бургомистр… Вы, несомненно, узнаете себя.
Раненые, вскочив со своих коек, уже больше не ложились. Усатого солдата трясло, как в сильном ознобе. Он стоял около койки Соколова и требовал, чтобы ему дали автомат застрелить предателя. Лейтенант скрипел зубами — он не мог себе простить того, что поверил рассказу Соколова и даже сочувствовал ему. Гераскин вдруг вырвался вперед, навалился на Соколова и занес кулак…
Воронцов строго отстранил его:
— Не трогайте! Это дело разберет трибунал!..
Через несколько минут Соколова заставили одеться, и конвой повел его по тёмным, безлюдным улицам на допрос в Особый отдел.
ТАЙНА
— Товарищ генерал, пришел вас ознакомить с некоторыми показаниями, которые на допросе дал Соколов… Виноват, Зоммерфельд… — То-есть как это — Зоммерфельд? — сказал Ястребов. — Разве он немец? — Да, немецкий шпион. И не просто рядовой, товарищ генерал, а матерый… Заслан в Россию задолго до войны. Перешел границу на севере и с тех пор жил под фамилией Соколова. — Так-так… Майор Воронцов вынул из большого желтого портфеля протокол допроса и положил его перед Ястребовым на стол. Стол был завален сводками и картами. По левую руку от генерала стоял телефон в желтом кожухе, по правую — открытый жестяной пенал с карандашами. Ястребов склонился над листом бумаги, поглаживая рукой лоб и медленно, слово за словом, читая строки допроса. — А как же, товарищ Воронцов, выяснилось, что Соколов на самом деле немец Зоммерфельд или как там его? Неужели такой матерый волк сам признался? — Да, товарищ генерал, — сказал Воронцов, — он в этом признался. — Странно! — Не так уж странно, товарищ генерал: неопровержимые улики. — Какие? — Мы нашли среди документов, которые он хотел вывезти в сундуке, его автобиографию. Вот она. — Воронцов вновь раскрыл свой объемистый портфель и вынул из него несколько листков бумаги, исписанных синими чернилами, тонким, острым почерком. — Как видите, документ написан собственноручно. В конце — личная подпись. Ястребов взял протянутые ему Воронцовым листки и так же внимательно и не спеша прочитал их от начала до конца. — Удивительное дело, — сказал он, слегка пожимая плечами: — как он не уничтожил такой документ? Как не предусмотрел? — А шпионы, товарищ генерал, потому и проваливаются, что они когда-то чего-то не предусмотрят… — усмехаясь, ответил Воронцов. — И потом, есть еще одна странность, — сказал Ястребов: — почему такого опытного шпиона гитлеровцы вдруг назначают бургомистром? Они могли заслать его обратно… Устроили бы ему побег из концлагеря или ещё что-нибудь в этом роде. — Ну, тут ничего странного нет, — возразил Воронцов. — Мы специально интересовались этим вопросом. Дело в том, что гитлеровцы считали город своим крайне важным опорным пунктом. Они знали, что мы оставили здесь своих подпольщиков, и изо всех сил стремились их уничтожить. А подходящего опытного человека для этого найти не могли. Вот тогда они и решили использовать Зоммерфельда… Все в городе считали его русским. Он же распустил слух, что гитлеровцы сделали его бургомистром насильно, а он, мол, человек честный. Он даже давал кое-кому поблажки, помог нескольким людям получить освобождение от посылки в Германию… А тем временем всякими путями искал связи с подпольщиками… — И что же, сумел он эту связь установить? — спросил Ястребов. — Он её нащупывал. Подпольщики ему не доверяли. — Ну, а гибель пятерых — это на его совести? — И на его и на чьей-то ещё… Впрочем, пока он свою агентуру не выдает. Отмалчивается. Но это глупое запирательство. Скоро оно кончится, и он начнет говорить… Он всё нам расскажет, я в этом уверен. — Вы правы. Ну что ж, улики неопровержимые. — Ястребов протянул Воронцову протоколы допроса. — Однако самого главного я не вижу. Что он сообщил об укрепрайоне? — Вот за этим-то делом я и пришел, товарищ генерал. Надо будет, чтобы начальник штаба или начальник разведки присутствовали сегодня на допросе: поставили интересующие их вопросы. — Это правильно, — согласился Ястребов. — Когда они должны к вам явиться? — Минут так через сорок. Ястребов быстро встал, подошел к двери и, приоткрыв её, крикнул: — Товарищ Стремянной, зайдите ко мне! За дверью послышались голоса: «Начальника штаба к генералу!», «Подполковника Стремянного к генералу!» Почти тотчас же хлопнула наружная дверь, и в комнату, принеся с собой запах мороза, вошел Стремянной. Он был в полушубке и с планшетом через плечо. — Из машины вытащили, товарищ генерал! По вашему приказанию отправлялся принимать боеприпасы… — Да, тут одно важное дело, — сказал Ястребов. — Вам сейчас обязательно надо будет присутствовать на допросе… как его… — он посмотрел на Воронцова: — ну, не Соколова, а этого… — Зоммерфельда, — подсказал Воронцов; поймав удивленный взгляд Стремянного, он объяснил: — Это настоящая фамилия вашего старого приятеля, Соколова… Некоторые подробности допроса я уже товарищу генералу сообщил, а вас проинформирую о них отдельно… По дороге… — А как же быть с боеприпасами, товарищ генерал? — спросил Стремянной. — Пусть едет начальник боепитания. Ничего, ничего, справится!.. А вы с начальником разведки присутствуйте на допросе. — Слушаю!.. Но вот как быть с начальником разведки? Я послал его в один из полков… — Тем более надо быть самому… А вызывать его назад не стоит. — Слушаю! — повторил Стремянной. Ястребов встал из-за стола и с озабоченным видом прошелся по комнате. — Постарайтесь получить самую подробную информацию об укрепрайоне. Самую подробную… — повторил он, останавливаясь перед Стремянным. — Я убежден, что Зоммерфельд знает многое… И это нам будет весьма, весьма полезно… Между прочим, — обратился он к Воронцову, — мне непонятно одно обстоятельство: почему всё-таки Зоммерфельд во-время не скрылся из города? Что ему помешало? — Меня это тоже интересовало, товарищ генерал, — сказал Воронцов. — При первом же допросе я спросил его об этом. Он утверждает, что у него, видите ли, с бывшим начальником гестапо Куртом Мейером были крайне обостренные отношения. В подробности Зоммерфельд не вдавался. Насколько я понимаю, они подрались, потому что не поделили чего-то. А главное, он не может простить Мейеру, что тот помешал ему выехать из города. Кто-то из людей Мейера подложил под колеса его грузовика противопехотную мину. В результате взрыва Зоммерфельд был оглушен, потерял сознание и остался… Между прочим, пока он приходил в себя, у него из автобуса успели унести картины. — Картины? — удивленно переспросил Ястребов. — Да, картины, — повторил Воронцов. В эту минуту где-то вдалеке раздался одиночный выстрел, затем прострочила автоматная очередь. Командиры прислушались. — Наверно, проверяют оружие, — решил Стремянной и обратился к Воронцову: — Ну, что же дальше? — А дальше он утверждает, что эту злую штуку с ним сыграл один из самых доверенных людей Курта Мейера — агент под номером Т-А-87. Как видите, в отместку своему бывшему соратнику он готов провалить разведчика, на которого тот делает самую большую ставку. — А кто скрывается под этим номером? — Неизвестно. — Странно… Почему он знает только номер, а не человека? — Я задал ему и этот вопрос. Зоммерфельд говорит, что номер ему назвал однажды сам Мейер, когда в одном из разговоров хотел показать, как он силен и какая у него тайная сеть. Это было ещё до того, как их отношения испортились. Мейер говорил о Т-А-87 как об одном из самых ловких и опытных агентов, которому поручается выполнять важнейшие задания гестапо. Но в лицо Зоммерфельд его не знает. Не знает также, мужчина это или женщина. — Ну хорошо, — сказал Стремянной. — А какое значение эти показания имеют для нас? Очевидно, сделав свое дело, Т-А-87 ушел из города вместе с гитлеровцами. — В том-то и дело, что не ушел, — возразил Воронцов. — Зоммерфельд утверждает, что Т-А-87 оставлен для диверсионной работы. Немцы убеждены, что скоро они возьмут город назад, поэтому им крайне важно иметь здесь свою агентуру. Ястребов задумчиво покачал головой: — Из этого надо сделать все выводы. Сегодня же поговорю с Корнеевым. А ты, Стремянной, действуй по своей линии — обеспечь надежную охрану города и всех военных объектов. — Слушаю! — сказал Стремянной и встал. Встал и Воронцов. Складывая документы в портфель, он обратился к Стремянному, который, готовясь идти, застегивал полушубок: — А знаете, Егор Иванович, по моему разумению, картины всё-таки где-то здесь, в городе. — Почему? У вас есть данные? — живо спросил Стремянной. — Нет, данных пока нет никаких, но давай рассуждать. Т-А-87 похитил картины по поручению Курта Мейера в самый последний момент. Значит, картины вместе с прочим награбленным добром должны были находиться в машине у Мейера. Машину эту мы обнаружили. Не так ли? И действительно, как вы знаете, мы нашли в ней два тяжелых чемодана с ценностями. А картин нет… — Но ведь и самого Мейера нет, — сказал Стремянной. — Картины гораздо дороже всего, что он упрятал в свои чемоданы. И, кроме того, гораздо легче… Нести на руках десяток рулонов не представляет никакого труда. Воронцов пожал плечами: — Возможно. Дело это ещё во многом неясно. — Это верно, — сказал Стремянной, поразмыслив, — но и в ваших словах тоже есть своя логика. Я думаю, Иванов и Громов хорошо сделают, если на всякий случай поищут картины в городе. Поговорить с ними об этом? — Поговорите. В этот момент за стеной хлопнула дверь. Кто-то быстро вошел в соседнюю комнату и громко спросил, нет ли здесь майора Воронцова. Воронцов вскочил со стула и распахнул дверь: — Что случилось, товарищ Анищенко? Заходите сюда. Он пропустил мимо себя в комнату старшего сержанта, невысокого, худощавого, совсем молодого человека. Его безусое, поросшее светлым пушком лицо было яркопунцовым, должно быть от смятения и быстрого бега. Он стоял перед командирами растерянный, весь взъерошенный, без шапки, которой не было даже у него в руках. — Где ваша шапка? — спросил Воронцов, чувствуя, что приключилось что то скверное. Сержант, словно не понимая вопроса, поглядел на него. — Бургомистра застрелили! — выдохнул он. — Что-о?!.. — крикнул Ястребов и в то же мгновенье оказался между Воронцовым и сержантом. — Кто посмел?.. — При попытке к бегству, — сказал сержант, невольно отступая к дверям. — Его на допрос вели… А он, собака, решил проходными дворами в каменные карьеры уйти… Сбил с ног конвоиров — и бежать!..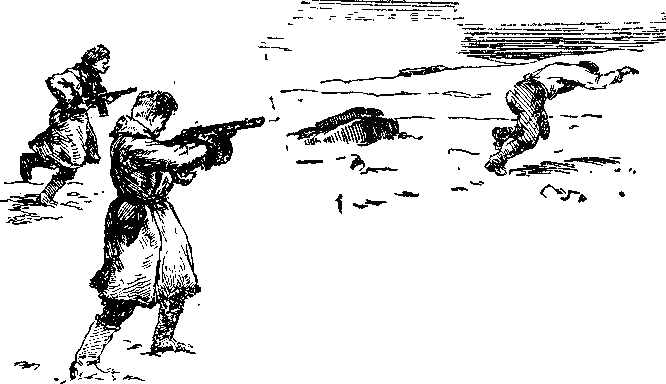 — Так неужели же нельзя было его взять живьем? — спросил Стремянной. Его худощавое лицо от волнения покрылось красными пятнами. — Чорт побери! Хуже нельзя и придумать!.. Так глупо упустить человека…
— Никак нельзя было, товарищ начальник, — виновато сказал сержант. — Сами видите, стемнело совсем. Да и туман. А он уже за черту города выходил. Думаем, заберется в карьеры — и поминай как звали! Каких-нибудь сто метров оставалось… А мы изо всех сил живьем его хотели взять!
Воронцов, всё это время стоявший молча, с бледным лицом, схватил портфель и устремился к двери.
— Анищенко, за мной!.. Покажите, где все это произошло!
— Есть!
Оба быстро вышли.
А командир дивизии и начальник штаба остались одни. Несколько мгновений они молча смотрели в окно, за которым лежал город. Уже курились над домами трубы; белый в темном небе, поднимался к облакам дымок. Женщины с кошелками спешили к первому открывшемуся магазину, в котором продавали хлеб. В город возвращалась мирная жизнь… А им предстоит ещё длинный путь… Пройдет день, другой — и рассвет встретит их где-нибудь на окраине села, в маленькой глинобитной хатке. Останется позади этот город, с которым у Стремянного связаны самые дорогие воспоминания детства. Когда-то он увидит его вновь?..
— Ну что ж, Стремянной, — сказал Ястребов, гася папиросу, — поезжай, пожалуй, за боеприпасами. Я дождусь твоего возвращения, а потом отправлюсь в полки.
Стремянной ушел. Через минуту его вездеход проехал мимо окна. Но Ястребов уже ничего не слышал. Он сосредоточенно склонился над картой, намечая, как лучше подготовить части дивизии к тому моменту, когда поступит боевой приказ о дальнейшем наступлении…
— Так неужели же нельзя было его взять живьем? — спросил Стремянной. Его худощавое лицо от волнения покрылось красными пятнами. — Чорт побери! Хуже нельзя и придумать!.. Так глупо упустить человека…
— Никак нельзя было, товарищ начальник, — виновато сказал сержант. — Сами видите, стемнело совсем. Да и туман. А он уже за черту города выходил. Думаем, заберется в карьеры — и поминай как звали! Каких-нибудь сто метров оставалось… А мы изо всех сил живьем его хотели взять!
Воронцов, всё это время стоявший молча, с бледным лицом, схватил портфель и устремился к двери.
— Анищенко, за мной!.. Покажите, где все это произошло!
— Есть!
Оба быстро вышли.
А командир дивизии и начальник штаба остались одни. Несколько мгновений они молча смотрели в окно, за которым лежал город. Уже курились над домами трубы; белый в темном небе, поднимался к облакам дымок. Женщины с кошелками спешили к первому открывшемуся магазину, в котором продавали хлеб. В город возвращалась мирная жизнь… А им предстоит ещё длинный путь… Пройдет день, другой — и рассвет встретит их где-нибудь на окраине села, в маленькой глинобитной хатке. Останется позади этот город, с которым у Стремянного связаны самые дорогие воспоминания детства. Когда-то он увидит его вновь?..
— Ну что ж, Стремянной, — сказал Ястребов, гася папиросу, — поезжай, пожалуй, за боеприпасами. Я дождусь твоего возвращения, а потом отправлюсь в полки.
Стремянной ушел. Через минуту его вездеход проехал мимо окна. Но Ястребов уже ничего не слышал. Он сосредоточенно склонился над картой, намечая, как лучше подготовить части дивизии к тому моменту, когда поступит боевой приказ о дальнейшем наступлении…
ИВАНОВ ПРИНИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Весь день Стремянной был очень занят. На артсклад доставили боеприпасы. Прибыло пополнение, его надо было распределить по частям. Множество дел возникало каждую минуту и требовало немедленного разрешения. Самолеты нарушили связь с одним из полков. Надо помочь начальнику связи как можно быстрее восстановить линию. Надо по поручению командира дивизии побеседовать с только что прибывшими корреспондентами, которых интересуют подробности боев за город. Одним словом, много хлопот у начальника штаба дивизии!.. Но среди всех своих боевых неотложных дел Стремянной нет-нет, да и возвращался в мыслях к событиям последних дней. Бой на подступах к городу, знакомые улицы со следами пожаров и бомбежек, распахнутые ворота концлагеря… А потом — всклокоченная голова Еременко и его неестественно короткое тело на носилках во дворе госпиталя. Это воспоминание сменялось другим. Палата во втором этаже и актерское одутловатое лицо этого жалкого предателя Соколова… Нет, бургомистра Блинова, то-есть шпиона Зоммерфельда. Стремянной сам не мог понять, в какую именно минуту он узнал в лежащем на койке человеке того эсэсовского офицера, который прошел мимо него, пряча подбородок в воротник, а глаза — в темную тень очков. Когда он перестал верить рассказу начфина Соколова, такому, казалось бы, простодушному и похожему на правду? И зачем, собственно, понадобилась ему, начальнику штаба дивизии, подполковнику Стремянному, эта рискованная… можно сказать, детская выдумка — потушить в палате свет?.. В сущности, довольно-таки нелепая затея… Разве нельзя было бы опознать в Соколове бургомистра Блинова при свете, просто с помощью фотографий и свидетельских показаний? Недаром Воронцов потом так был недоволен. И как только в голову пришло? Откуда? Наверно, из глубины каких-нибудь мальчишеских воспоминаний, из романтической дали прочитанных когда-то приключенческих книг… Впрочем, если говорить правду, всё получилось не так уж плохо. Если бы ему не взбрело на ум погасить свет, Соколов не вздумал бы пуститься наутек, а ведь именно эта попытка к бегству разоблачила его совершенно. Одним словом, выходит, что недаром были читаны когда-то романтические истории, за которые так попадало от старших. Да, надо сознаться, он любил эти перебывавшие в руках у множества мальчиков, зачитанные до дыр книжки о необычайных приключениях путешественников, мужественных, суровых и благородных, о пустынных островах и пещерах, где спрятаны сокровища, о клочках пергамента с зашифрованными надписями. Кстати, о зарытых сокровищах. Хотел бы он знать, куда всё-таки гитлеровцы девали картины? Воронцов, пожалуй, прав: они где-нибудь здесь, в черте города, или, во всяком случае, не так уж далеко. Ведь подумать только — может, они запрятаны совсем близко, под полом соседнего сарая например! Сгниют там или крысы их сгрызут, и никто даже знать не будет… Нет, надо всё-таки заехать к Иванову, узнать, как у них там дела, не нашлось ли человека, бывшего на работах в укрепрайоне, да заодно спросить, не слышно ли чего о картинах. Они как будто собирались начать поиски. На другое утро, возвращаясь из поездки в полк, Стремянной заехал в горсовет и застал Иванова принимающим посетителей. Десятки людей терпеливо ждали своей очереди в приемной и в коридоре. Уже прибыли два заместителя председателя — они тоже принимали народ, стараясь ответить на многочисленные вопросы, помочь чем можно. Стремянной поднялся по широкой, ещё не отмытой лестнице и прошел по длинному коридору, в котором, тесно прижавшись друг к другу, стояли люди. Иванов сидел в холодном кабинете, с усталым, отекшим лицом. Перед ним стояла пожилая женщина в черном вязаном платке и старом, защитного цвета ватнике, аккуратно заплатанном на локтях. — Я всё понимаю, — тихо говорил Иванов, — мне всё ясно, Клавдия Федоровна! — Нет, не понимаете! — почти кричала женщина, перегибаясь к нему через стол. — Уверяю вас, понимаю! — У меня двадцать детей… Двадцать! Вы слышите?.. От пяти до четырнадцати лет!.. И ни одного полена дров. Это вы понимаете? — Но у меня ещё нет своего транспорта! Город всего три дня, как освобожден. Подождите немного. Обеспечу вас в первую очередь… Ну, разберите забор, сожгите его. Построим новый. — Забор! — усмехнулась женщина. — Какой забор? Я уже не только свой забор сожгла, но и пять заборов в окружности… — Привет, товарищ Иванов! — сказал Стремянной, подходя к столу. — Как работается? — И не говори! — Иванов с надеждой поднял к нему глаза в припухших веках. — Вот, Клавдия Федоровна, пришла сама военная власть. — Он указал на Стремянного. — Обратимся к ней. Авось поможет. Женщина оглянулась и быстрым, порывистым движением протянула Стремянному руку. — Шухова Клавдия Федоровна, — сказала она. — Будем знакомы. Вот, рассудите нас, товарищ командир!.. Стремянной остановился у края стола между спорящими сторонами, с невольным уважением глядя на эту пожилую женщину, сразу завоевавшую его симпатию. — Товарищ Шухова, — пояснил Иванов, — заведующая детским домом. Сохранила ребят. В самых трудных условиях сберегла… А теперь требует от нас всего, что положено. — Правильно, — сказал Стремянной. — Правильно требует. — Не возражаю, — развел руками Иванов, — но транспорта ещё нет. Подвоз ещё не организован. Надо подождать, перебиться как-нибудь… Шухова посмотрела на него с нескрываемой злостью. — Я-то могу ждать, товарищ Иванов, — повысила она голос, — я-то сколько угодно могу ждать, но дети ждать не могут! И этого вы никак не можете понять!.. — А что вам нужно? — спросил Стремянной. — Да не бог весть что, — сказал Иванов: — всего две машины дров. Стремянной вынул из планшета записную книжку и карандаш: — Будут вам дрова, Клавдия Федоровна, давайте адрес. — Будут!.. — повторила Шухова, тяжело опустившись на стул, и громко заплакала, закрыв лицо руками. Иванов вскочил и подбежал к ней: — Клавдия Федоровна, что с вами? Стремянной молчал, понимая, что сейчас никакими словами успокоить её нельзя. — Так трудно!.. Так трудно!.. — стараясь подавить рыдания, говорила Клавдия Федоровна. — Силы уже кончаются… Ведь что здесь было!.. — Всё скоро войдет в свою колею, товарищ Шухова, — говорил Иванов, неловко придерживая её за плечи. — Большое вы дело сделали. Продовольствием мы ребят уже обеспечили, а дрова сегодня привезут. Ну, вот и хорошо… А дней через десять приходите — у нас уже всё городское хозяйство будет на ходу. Увидите!.. Шухова понемногу успокоилась, вытерла слезы и встала. — Спасибо, большое вам спасибо! — сказала она, обращаясь к Стремянному. — Груз с сердца сняли… Адрес вот здесь, на заявлении. — Она показала на бумагу, лежащую перед Ивановым. — Не беспокойтесь, найдем, — улыбнулся Стремянной. — Вы очень торопитесь, Клавдия Федоровна?.. А то я сейчас тоже еду — могу подвезти вас. Шухова кивнула головой и вновь опустилась на стул, украдкой вытирая глаза краешком платка. Не вмешиваясь в разговор, она глядела в окно и, видно, думала о чём-то своём. Но когда разговор зашел о картинах, она как-то оживилась и стала прислушиваться к беседе. — Нет, я всё-таки думаю, что поискать их стоит, — сказал Иванов. — Уж если в спешке отступления они не успели их вывезти, то спрятать как следует и подавно не успели. Сунули на ходу в какой-нибудь заброшенный сарай или на чердак… Там они и лежат. А только мы не знаем… — А не думаете ли вы, — вдруг сказала Шухова, — что в этом деле могут немного помочь мои старшие ребята? У меня есть два подходящих паренька, смышленые, толковые мальчики. И в городе каждый уголок знают… — А ведь верно! — улыбнулся Стремянной. — Ребята для этого самый подходящий народ. Да будь мне тринадцать-четырнадцать лет, я бы за счастье считал, если бы мне доверили участвовать в таком деле… Иванов кивнул головой: — Ещё бы! Всякому парнишке это лестно. А только лучше таких поручений им не давать: напорются где-нибудь на мину, вот и будет им находка! — Ну, что вы! — сказала Клавдия Федоровна. — Разве можно ребятам одним доверять такое дело? Я ещё с ума не сошла. Пускай с людьми поговорят, разузнают, и хватит с них… — Разве что так, — согласился Иванов. — А я вот что надумал, товарищ Стремянной: не объявить ли нам, что горсовет просит всякого, кто может сообщить что-либо о местонахождении картин, немедленно сигнализировать? И вообще, поскольку картины в городе, помочь в поисках. Стремянной на секунду задумался. — Это дело!.. Я убежден — люди отзовутся… — Он быстро обернулся к учительнице: — А как по-вашему, Клавдия Федоровна?.. — Конечно, каждый сделает всё, что в его силах, — сказала она. — Ну, однако, пора. — Она встала с места. — Ехать так ехать… Товарищ подполковник, а когда вы думаете прислать нам дрова? — Сегодня же, — ответил Стремянной. — Только не очень поздно, если можно. Ведь мы с ребятами сами убирать будем. — Слушаю, товарищ начальник, — прислать не слишком поздно, — улыбаясь, ответил Стремянной и протянул руку Иванову: — До свидания, Сергей Петрович. А вы ещё не собираетесь маленький перерыв сделать? А то поедем в штаб, пообедаем? Иванов решительно потряс головой: — Нет, видно, нынче не пообедать. Видели, сколько там народу ожидает? — Так ведь этак вы до ночи здесь сидеть будете. — Что ж, и посижу. — Иванов вздохнул. — Время военное. Оперативность нужна. — Вишь, какой стал! — Стремянной усмехнулся. Иванов тоже усмехнулся: — Ладно, ладно, без намеков, товарищ подполковник. Ступай себе обедай и не искушай меня… А вот найти человека, знающего об укрепрайоне, не теряю надежды… Каждого спрашиваю. Но пока, — он развел руками, — никого нет. Прямо беда… Шухова и Стремянной вышли из кабинета. А их место заняла очередная посетительница — высокая седая женщина, которая в коридоре рассказывала о своем пропавшем сыне.ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ
Клавдия Федоровна принадлежала к числу тех людей, которые выдерживают удары судьбы так же стойко, как крепкое дерево удары урагана. Ей уже перевалило за пятьдесят, уже волосы у неё поседели, лицо покрылось морщинами, но глаза оставались молодыми. А главное — молодым оставался характер. В ней жила такая энергия, которой могли бы позавидовать многие и помоложе и покрепче, чем она. «Упасть легко, — говорила она, — а подняться трудно». И в самые тяжелые времена она твердо стояла на ногах. Даже в те страшные для неё дни, когда, эвакуировав детский дом, она сама попала в беду из-за одной маленькой больной девочки. Эту девочку надо было отправлять на санитарной машине. Но случилось так, что шофер в спешке перепутал адрес — ждал на другой улице… Пока Шухова металась по городу в поисках транспорта, вражеские танки вышли к Дону. Началась тяжелая жизнь в оккупированном городе. Но, несмотря ни на что, Клавдия Федоровна продолжала чувствовать себя заведующей детским домом, хотя и дома-то самого уже не было — его разрушила бомба. В первые же дни оккупации гитлеровцы выбросили девочку из больницы. Шухова взяла её к себе и стала ухаживать, как за дочерью. А потом умерла соседка. Остался мальчик, Коля Охотников. Порывистый, горячий, не по годам развитой, он тяжело переживал потерю матери. Клавдия Федоровна взяла к себе и мальчика… Она во всём себе отказывала, продавала вещи, вязала платки. Нужно было жить, чтобы спасти детей… Больше двух ребят Клавдия Федоровна прокормить не могла, но когда она узнавала, что какой-нибудь ребенок в городе остался без родителей, она старалась пристроить осиротевших мальчика или девочку в семью. И Клавдию Федоровну слушали — в глазах людей она продолжала оставаться заведующей детским домом, которому по долгу службы положено думать о судьбе одиноких детей. Впрочем, все понимали, что ею руководит нечто большее, чем долг службы, — долг сердца… Постепенно у неё на учете оказалось свыше двадцати подростков, родители которых погибли, были угнаны в Германию или пропали без вести. Она считала этих ребят зачисленными в детский дом. И действительно, в первый же день освобождения города она занялась восстановлением своего разрушенного хозяйства. Договорилась с Ивановым, что временно заберет дом, в котором жил бургомистр Блинов, — двухэтажный, хорошо сохранившийся особняк, недавно капитально отремонтированный. Господин бургомистр, очевидно, предполагал обосноваться надолго и не жалел затрат. Располагая машинами, бургомистр, к сожалению, не позаботился о том, чтобы у него всегда был большой запас дров, и этим очень подвел Клавдию Федоровну. Он как будто нарочно сжег последнюю охапку дров накануне своего неудачного бегства из города. Говоря Иванову о том, что она уничтожила пять заборов в окружности, Клавдия Федоровна несколько преувеличивала. Все заборы, кроме того, который окружал дом бургомистра, были сожжены их владельцами ещё в самом начале зимы. Что касается забора, который имел в виду председатель горсовета, то при всём желании сжечь его в обычной печке было невозможно — он был отлит из чугуна лет сто назад. В глубине души Клавдия Федоровна понимала, что, может быть, несколько поторопилась с организацией детского дома. Но она так долго ждала, что ждать дольше просто не могла. Одна из самых главных забот ею уже была устранена — в погребе и сарае лежало столько трофейных продуктов, что ребятам вполне хватит до тех пор, пока наладится снабжение города. В тот момент, когда автоматная очередь оборвала жизнь бургомистра, в его доме уже звучали голоса детей. На белой кафельной плите варились щи с мясом, в комнатах переставляли мебель — мальчики должны были жить в нижнем этаже, а девочки — в верхнем. Клавдия Федоровна расположилась в небольшой комнате под лестницей, которая одновременно должна была стать и канцелярией детского дома. Вернувшись из городского совета, Клавдня Федоровна скинула платок, ватник и прошла к себе в комнату. Она была очень озабочена. Надо было раздобыть топоры, пилы, сообразить, кого из ребят можно назначить на уборку дров. Размышлять долго было некогда. Она окликнула первую попавшуюся ей девочку — Маю Шубину, худенькую, большеглазую и большеротую, с двумя торчащими, туго заплетенными косичками, и велела поскорей позвать к себе Колю Охотникова. Мая тотчас же побежала искать Колю, пропадала где-то минут десять, а потом вернулась запыхавшаяся, с растрепанными косами и с глазами, полными слез. — Что с тобой, Мая? — спросила Клавдия Федоровна. Мая отвернулась и сказала сквозь зубы чуть дрогнувшим голосом: — Потому что дурак!.. — За что он тебя? — спросила Клавдия Федоровна, понявшая ход мыслей Май. — Ты ему сказала, что это я его зову? — Сказала. — А он что? — А он меня стукнул за то, что я кролика выпустила. — Какого кролика? — удивилась Клавдия Федоровна. — Не знаю… черного… — Откуда у него кролик? — Не знаю… — Ну ладно, Мая, иди наверх, к девочкам. Я сама его позову. Мая убежала, а Клавдия Федоровна накинула на голову платок и вышла на крыльцо. — Коля! Охотников! — крикнула она громко. Никто не откликнулся. — Охотников! Коля! — повторила Клавдия Федоровна. Коля не отзывался. Он, наверно, боялся показаться Клавдии Федоровне на глаза. Она начала сердиться: — Коля, немедленно ко мне!.. Вдруг она увидела его на соседнем дворе. Одетый в серую кацавейку, он крался между сараями, как-то странно пригибаясь, то приседая, то быстро перебегая от одной стены к другой… Шапку он почему-то держал в руках, иногда быстро взмахивая ею сверху вниз. Что это с ним? Ах да, кролика ловит… Что за кролик такой?.. В эту минуту черный комочек выкатился откуда-то из-за стены сарая и исчез между двумя сугробами. Коля кинулся вслед за ним. Он упал на грудь, вытянув вперед руки с шапкой. Сухой снег двумя фонтанами взлетел в разные стороны. Через мгновение Коля, весь белый, с волосами, полными снега, бежал назад, крепко прижимая что-то к груди. Лицо у него было такое счастливое, что у Клавдии Федоровны не хватило духу его выбранить. — Покажи кролика, — сказала она, когда он подбежал к крыльцу. Коля раскрыл на груди свою кацавейку, и оттуда высунулось длинное черное ухо с белым пятнышком на самом кончике, а затем и вся кроличья мордочка. — Откуда он у тебя? — Один боец подарил. — А боец где взял? — Во дворе, где начальник гестапо жил. Он говорит, там ещё две клетки кроликов. Давайте возьмем их, Клавдия Федоровна! Я сам за ними ухаживать буду!.. — Посмотрим. Может быть. Если раздобудем корм. А пока посади его куда-нибудь и зайди ко мне, Коля. Мне надо с тобой серьезно поговорить. Коля насупился и опустил голову: — А я, Клавдия Федоровна, вовсе и не виноват. Я же говорил: не лезь ко мне в сарай — у меня кролик. А она полезла… и выпустила. — Драться всё равно не надо, — сказала Клавдия Федоровна. — Неумно и некрасиво… Ну, быстро. Прячь своего кролика, собери всех мальчиков, и приходите ко мне. Есть важное дело. Почувствовав, что гроза миновала, Коля со всех ног побежал к сараю. Через несколько минут он и ещё несколько ребят сидели в комнатке Клавдии Федоровны вокруг стола. Лица у них были серьезные и озабоченные. — Так мы пойдем, Клавдия Федоровна, — сказал Витя Нестеренко, высокий белокурый мальчик в очках. Он был очень близорук и если хоть на минуту снимал очки, лицо у него сразу становилось растерянным и даже испуганным. — Так мы пойдем, попросим у соседей топоры и пилы. Я думаю, дадут. — Дадут, конечно. Скажите, что это я прошу и что завтра мы всё вернем в целости и сохранности. Мальчики встали и гурьбой двинулись к двери. — А ты погоди, Коля, — остановила Охотникова Клавдия Федоровна. — С тобой у меня ещё особый разговор. Коля тоскливо поглядел вслед уходящим товарищам и покорно опустился на стул в ожидании взбучки. Но разговор вышел совсем не такой, как он предполагал. Витя Нестереико едва успел вернуться в дом с большой двуручной пилой — он не без труда раздобыл её у хозяев соседнего дома, — как навстречу ему кинулся Коля Охотников. — Брось ты свою пилу! — крикнул он и, выхватив её из Витиных рук, кинул в угол. — Есть дела поважней. — Что такое? — испуганно спросил Витя. Очки у него запотели, и он беспомощно моргал глазами. — Случилось что-нибудь? Коля оттащил его к окну и стал рассказывать громким шопотом, поминутно оглядываясь и захлебываясь от волнения. Витя слушал, протирая очки, и глубокомысленно молчал. — Ничего не понимаю, — наконец сказал он. — Да чего тут не понимать? — удивился Коля. — Говорят тебе: картины где-то в городе… Бургомистр хотел их вывезти, но не успел… Давай будем искать! — А где? — Ну и бестолочь! — Коля от досады ударил по колену кулаком. — Если бы знали где, так пошли бы и взяли. Не стали бы награду давать тем, кто найдет. — Да я не о том, — смутился Витя. — А о чём же? — Да где их искать? Коля развел руками: — Ну, этого пока еще никто не знает. Клавдия Федоровна велит людей расспрашивать. Но я думаю: что же только расспрашивать? Можно и поискать. Неужто мы глупее других? Витя с сомнением покачал головой. Это совершенно вывело из себя Колю. — Ты просто сдрейфил! — с презрением сказал он. — Вот уж не думал, что ты такая размазня! А ещё в геологи собираешься! — И совсем я не сдрейфил, — стал оправдываться Витя. — А только как же искать, если неизвестно где. Город-то ведь большой!.. — Ну и что ж с того! Я ж тебе говорю, что Клавдия Федоровна велела походить по дворам, поговорить с жителями. Ты что ж, и этого не хочешь? — Да нет, хочу, — неохотно согласился Витя. — Походить по дворам, конечно, можно. А когда пойдем? Завтра, что ли? — Зачем завтра? Сегодня пойдем. Вот справимся с дровами — и пошли. — Хорошо. Только ты сам спрашивай. — Ладно, сам буду. Не думал я, что ты такой тюфяк!.. Только вот что я тебе скажу: никакой из тебя геолог не выйдет! Иди лучше в аптекари.РАЗВАЛИНЫ НА ХОЛМЕ
Они шли гуськом по узкой тропинке, протоптанной в снегу вдоль стен и заборов. Впереди — Коля Охотников в стеганом ватнике, подпоясанном потертым ремешком, и в брезентовых рабочих рукавицах. Он нёс на плече две тяжелые лопаты. Позади, сохраняя дистанцию в двашага, покорно брел Витя Нестеренко в старом осеннем пальто, когда-то черном, а теперь неопределенного серого цвета, с короткими, обтрепанными по краю рукавами. Свои большие красные руки без перчаток он чуть ли не по локоть засунул в карманы, но теплее от этого ему не становилось. Так они дошли до ближайшего перекрестка.
У покосившегося телеграфного столба Коля Охотников остановился:
— Ну, Витька, в какую сторону пойдем? Направо или налево?
— Не знаю. По-моему, домой. До каких же пор нам по улицам шляться?
Коля яростно вонзил в снег обе лопаты.
— И чего ты такой вялый? — спросил он с негодованием. — Согнулся, как старик, носом землю пашешь!
Последние слова Коля произнес не без удовольствия. Он слышал их от старшины, распекавшего медлительного и нерасторопного солдата, когда час тому назад к ним во двор въехала машина с дровами.
— А тебе чего от меня надо? — рассердился Витя. — Дело говори. А то «пашешь, пашешь»!..
— Ну, если дело, так идем вот в эти ворота.
— Так ведь опять там ничего нет. Только обругают…
— Подумаешь, нежный какой! Обругать нельзя…
И Коля направился к невысокому деревянному дому, окруженному сараями, старыми конюшнями, превращенными в склады, и ещё какими-то пристройками. Он смело вошел во двор, поставил у крыльца лопаты и направился к сараю с высоким кирпичным фундаментом. Этот сарай показался ему очень подходящим местом для того, чтобы спрятать картины. На дверях сарая висел большой ржавый замок. Едва Коля притронулся к нему, как замок легко открылся. Оказалось, что он не был заперт. Вынуть его из колец было мгновенным делом. Дверь со скрипом отворилась… Из темноты с радостным визгом выскочил поросенок.
В ту же секунду в домике распахнулась дверь, и на крыльцо выскочила какая-то древняя старуха в больших валенках и в ситцевом переднике.
— Жулики! Что делают! — закричала она. — От Гитлера порося уберегла, так они его стащить хотят!.. Сейчас людей позову, шерамыжники вы этакие!.. Вон со двора, чтоб духу вашего тут не было!
Витя растерялся, попятился и метнулся к воротам. Но Коля не побежал. Он смело пошел навстречу старухе. Остановился перед ней и сказал с достоинством:
— И как вам, бабушка, не стыдно так ругаться!.. Не нужен нам ваш поросенок… Если хотите, мы вам его поймаем…
— Вот именно, что не хочу! — сердито сказала старуха. — Поймаете, да не нам… Иди, иди, пока цел! А не то я тебя так ремнем отделаю!..
Поросенок, радостно хрюкая и взрывая пятачком снег, бегал по тропинке между домом и сараем. Коля нагнулся к нему, схватил, ловко втолкнул в сарай и прикрыл дверь. Увидев это, старуха несколько приутихла.
— Ну ладно, иди, иди, — уже миролюбиво сказала она. — Нечего по чужим дворам шататься.
— А мы, бабушка, не шатаемся, — сказал Коля, вновь подходя к крыльцу. — Мы картины ищем.
— Какие такие картины?
— Из музея. Которые пропали. Гитлеровцы их увезти из города хотели, да не успели и спрятали… А где, неизвестно. Вот мы их и разыскиваем.
— У нас во дворе никаких этих картин нет, — сказала старуха, — и на соседнем тоже, и на всей улице нет. А о картинах нам уже из горсовета объявляли… Кабы они были, так я сама бы их снесла… Вас не дожидалась…
Взвалив на плечи лопаты, Коля направился к воротам.
Витя, ожидая его, приплясывал на снегу
— Плохо дело, — сказал Коля. — Нет у неё картин, и вообще на этой улице их нет.
— А она откуда знает?
Так они дошли до ближайшего перекрестка.
У покосившегося телеграфного столба Коля Охотников остановился:
— Ну, Витька, в какую сторону пойдем? Направо или налево?
— Не знаю. По-моему, домой. До каких же пор нам по улицам шляться?
Коля яростно вонзил в снег обе лопаты.
— И чего ты такой вялый? — спросил он с негодованием. — Согнулся, как старик, носом землю пашешь!
Последние слова Коля произнес не без удовольствия. Он слышал их от старшины, распекавшего медлительного и нерасторопного солдата, когда час тому назад к ним во двор въехала машина с дровами.
— А тебе чего от меня надо? — рассердился Витя. — Дело говори. А то «пашешь, пашешь»!..
— Ну, если дело, так идем вот в эти ворота.
— Так ведь опять там ничего нет. Только обругают…
— Подумаешь, нежный какой! Обругать нельзя…
И Коля направился к невысокому деревянному дому, окруженному сараями, старыми конюшнями, превращенными в склады, и ещё какими-то пристройками. Он смело вошел во двор, поставил у крыльца лопаты и направился к сараю с высоким кирпичным фундаментом. Этот сарай показался ему очень подходящим местом для того, чтобы спрятать картины. На дверях сарая висел большой ржавый замок. Едва Коля притронулся к нему, как замок легко открылся. Оказалось, что он не был заперт. Вынуть его из колец было мгновенным делом. Дверь со скрипом отворилась… Из темноты с радостным визгом выскочил поросенок.
В ту же секунду в домике распахнулась дверь, и на крыльцо выскочила какая-то древняя старуха в больших валенках и в ситцевом переднике.
— Жулики! Что делают! — закричала она. — От Гитлера порося уберегла, так они его стащить хотят!.. Сейчас людей позову, шерамыжники вы этакие!.. Вон со двора, чтоб духу вашего тут не было!
Витя растерялся, попятился и метнулся к воротам. Но Коля не побежал. Он смело пошел навстречу старухе. Остановился перед ней и сказал с достоинством:
— И как вам, бабушка, не стыдно так ругаться!.. Не нужен нам ваш поросенок… Если хотите, мы вам его поймаем…
— Вот именно, что не хочу! — сердито сказала старуха. — Поймаете, да не нам… Иди, иди, пока цел! А не то я тебя так ремнем отделаю!..
Поросенок, радостно хрюкая и взрывая пятачком снег, бегал по тропинке между домом и сараем. Коля нагнулся к нему, схватил, ловко втолкнул в сарай и прикрыл дверь. Увидев это, старуха несколько приутихла.
— Ну ладно, иди, иди, — уже миролюбиво сказала она. — Нечего по чужим дворам шататься.
— А мы, бабушка, не шатаемся, — сказал Коля, вновь подходя к крыльцу. — Мы картины ищем.
— Какие такие картины?
— Из музея. Которые пропали. Гитлеровцы их увезти из города хотели, да не успели и спрятали… А где, неизвестно. Вот мы их и разыскиваем.
— У нас во дворе никаких этих картин нет, — сказала старуха, — и на соседнем тоже, и на всей улице нет. А о картинах нам уже из горсовета объявляли… Кабы они были, так я сама бы их снесла… Вас не дожидалась…
Взвалив на плечи лопаты, Коля направился к воротам.
Витя, ожидая его, приплясывал на снегу
— Плохо дело, — сказал Коля. — Нет у неё картин, и вообще на этой улице их нет.
— А она откуда знает?
 — Знает, раз говорит. И всем уже известно, что надо искать картины: горсовет объявил.
— Зачем же нам тогда искать? — сказал Витя. — Всё обыщут свои дворы, и кто-нибудь найдет… Говорю тебе — пойдем домой!..
— Не пойду! — упрямо ответил Коля. — Если хочешь, иди, а я не пойду. Я буду искать.
И он пошел дальше. Витя постоял, постоял и опять потащился вслед за ним. На всякий случай они зашли ещё в несколько дворов, но уже не хозяйничали сами, а терпеливо расспрашивали жильцов. Все знали, что из музея пропали картины, все гадали, где они могут быть, высказывали свои предположения, но все уверяли, что как раз у них во дворе нигде ничего не спрятано.
— Нет, так мы, конечно, ничего не найдём, — сказал Коля, когда они через час остановились на другом конце улицы. — Вот что я тебе скажу: искать надо там, где никто не ищет и где нет хозяев.
— То-есть где же это? — с интересом спросил Витя.
— Ну, в развалинах, в подвале старой церкви, в склепах на кладбище!.. Пойдем, а?
Витя поёжился, поморгал сквозь очки и покорно сказал:
— Пойдём.
— Куда раньше?
— Куда хочешь.
— Тогда сначала пойдем в развалины, — решительно сказал Коля.
Развалинами они называли стены большого элеватора, разрушенного немецкими самолетами во время первых же бомбежек. Элеватор стоял на холме, невдалеке от железнодорожной станции. Для того чтобы попасть к нему, надо было пересечь весь город.
Мальчики зашагали в ту сторону.
Вдруг из-за угла полуразрушенного, обгорелого дома прямо им навстречу выскочила Мая Шубина. На ней было не по росту большое пальто и большие валенки. От этого она казалась ещё меньше.
— Вы куда это? — крикнула она. — Клавдия Федоровна позволила ходить только по соседним улицам…
Мальчики остановились:
— А ты откуда знаешь?
— Да уж знаю.
— Подслушивала, наверно, — с презрением сказал Коля Охотников. — И всегда-то ей нужно всюду свой нос совать!..
— А вот и не подслушивала!.. Мне сама Клавдия Федоровна сказала.
— Ну и радуйся. Только к нам не приставай. Идём, Виктор!
Мальчики решительно пошли дальше.
Мая побежала следом:
— Нет, куда же вы всё-таки идете?
— Вот пристала! Туда, где лежат картины. — Коля подмигнул Вите: — Молчи!
— Вы знаете? — задохнувшись, почти шопотом спросила Мая.
— Знаем.
В глазах у Май засветилась мольба.
— Возьмите и меня, — попросила она. — Мальчики, милые! Ну что вам стоит?!
— Вот ещё! — усмехнулся Коля. — А потом ты будешь говорить, что это ты нашла.
— Нет, честное слово, не буду говорить!
— Нет, нет. Ты и не проси. Не возьмем, — сказал Витя. — Мы в такие места идем, где тебе будет страшно.
— А я не боюсь.
— Ладно, довольно болтать. Пошли, Витька! — И Коля потянул приятеля за рукав.
Они прибавили шагу, но услышали, что за ними кто-то бежит. Коля оглянулся и даже охнул от досады. Эта девчонка, наверно, забыла, что у него крепкие кулаки.
— Ты куда? Назад! — крикнул он и загородил ей дорогу.
— Не пойду назад, — твердо сказала она.
— Мы же тебе русским языком говорим: мы идем в развалины. А это дело не женское.
— Вы идете, и я пойду…
— Объясни ей, Витька, наконец, ты, раз она русского языка не понимает, — досадливо махнул рукой Коля и отошел в сторону.
— Видишь ли, Маечка, — ласково сказал Витя, — тебе с нами лучше не ходить. Мы идем на опасное дело, понимаешь? А ты ещё маленькая, тебе всего двенадцать лет…
— Подумаешь! А тебе четырнадцать.
Она решительно не хотела сдаваться. Наконец, исчерпав все возможности уговорить её, мальчики пошли вперед. Мая, всхлипывая, брела за ними следом.
Так, втроем, вышли они на окраину города. Время приближалось к пяти часам. Уже начинало смеркаться. Разрушенный элеватор бесформенной громадой поднимался на холме. Снизу он казался особенно темным и страшным. Справа от дороги стоял столб, на котором был прибит фанерный щит с короткой и выразительной надписью: «Мины!» Тут Коля в первый раз вспомнил о Мае.
— Смотри с дороги не сворачивай, — бросил он ей через плечо, — а то подорвешься.
Она молча кивнула.
— А ведь нам не успеть сегодня под церковь и на кладбище, — сказал Витя.
— Пойдем завтра. Важно начать…
Мальчики стали быстро подниматься на холм. Не отставая от них ни на шаг, за ними шла Мая. Она сильно замерзла и устала. Чтобы как-нибудь согреть руки, она в варежках сжимала их в кулаки. Косички давно уже выбились из-под косынки и болтались вдоль щек двумя тонкими жгутиками. Ох, уж эти мальчишки! Нарочно идут и не оглядываются…
Дорога круто повернула направо, огибая холм. До элеватора оставалось метров пятьдесят. Сюда давно уже никто не ходил, и дорогу совсем занесло снегом. Надо было идти по целине. Коля в нерешительности остановился.
— Ну, что ж ты стал? — спросил Витя.
— Да, может быть, тут мины…
Витя пожал плечами:
— Не везде же мины! Видишь, знака нет — значит, и мил нет!
— А может быть, их тут ещё не искали?
Витя вдруг рассердился:
— Так о чем же ты раньше думал? Вел меня сюда, вел, а теперь назад возвращаться?..
Коле стало неловко.
— Нет, — сказал он, — зачем же возвращаться? Давай искать тропинку.
— Да какая же тут может быть тропинка, когда наверх никто не ходит! Сам видишь, сколько снега кругом…
Они внимательно осмотрели пространство, которое отделяло их от элеватора. Всюду лежал нетронутый, глубокий снег, синевший в быстро надвигающихся сумерках.
— Ребята, — вдруг крикнула Мая, стоявшая в стороне, — смотрите-ка, что здесь такое!..
Мальчики подбежали к ней.
— Где? — быстро спросил Коля. — Что ты нашла?..
Мая варежкой показала на снег:
— А вот видите… Следы на снегу!.. Кто-то шел к элеватору!
— Верно, следы, — сказал Коля.
— Ну, вот видишь!.. — Витя осторожно поставил ногу в большой и глубокий след. — Кто-то туда шел.
— А раз он шел и прошел, значит и мы пройдем. — Теперь Коля смело шагнул вперед. — Только давайте идти след в след, чтобы не сбиваться… Тогда не опасно.
— Стой, Коля, — вдруг сказала Мая.
Коля обернулся:
— Ну, что ещё?
— А вдруг он там?..
— Кто это — он?
— Да человек, который шел.
— А чего ему там делать в такой мороз? Посмотрел, наверно, и вылез где-нибудь обратно. Может, с тех пор неделя прошла. А ты не ходи, оставайся… Витя, за мной!
Витя двинулся вслед за Колей. Но тут Мая как-то ухитрилась и, обогнав Витю, оказалась между мальчиками. Увязая по колена в снегу, молча они добрались до самых стен элеватора и остановились у большого темного пролома. Здесь вдруг следы потерялись, словно растаяли.
— Ну, тут уж не опасно, — сказал Коля: — в развалинах мины не ставят. Теперь давайте действовать… Ты, Мая, останешься и будешь нас ждать здесь, слышишь? — прикрикнул он на всякий случай, чтобы отрезать всякую возможность спора.
— Хорошо, — покорно согласилась девочка.
— А мы с Витей пойдем внутрь и всё осмотрим. Если ты понадобишься, мы тебя кликнем. А так — жди нас.
— Хорошо, — повторила она.
Мальчики нырнули в пролом, перебрались через несколько гребней осевших на землю развалин и очутились под сводом, который образовался оттого, что две стены навалились друг на дружку, но не упали. Здесь почти совсем не было снега. Под ногами валялись груды битого камня, цемента, железных обломков. Мальчики с трудом прошли десяток шагов и вдруг увидели в стене дверь.
Она была приоткрыта, но за ней было темно, так темно, что у обоих не хватило духу войти туда, куда она вела. Они стояли перед черным проемом и слушали. В развалинах свистел ветер. Где-то вдалеке несколько раз ударила зенитка. В небе, за тучами, прогудел самолет.
Таинственная дверь пугала мальчиков, и в то же время им очень хотелось в неё войти. Коля осторожно протянул руку и чуть-чуть толкнул дверь — она заскрипела и раскрылась еще больше. Мальчики, вытянув шеи, заглянули внутрь и в полумраке разглядели лестницу, которая вела вниз.
Что это, почудилось или нет? Откуда-то из глубины до них донесся хриплый стон. Мальчики кинулись бежать. Они вылетели из-под свода, словно их вынесло ветром, и остановились только тогда, когда оказались за степами элеватора.
— Ты слышал? — спросил Коля.
— Слышал, — ответил Витя.
Оба помолчали, прислушиваясь к ветру.
— Что это может быть? — спросил Коля.
— А как по-твоему?
— Там кто-то сидит.
— Кто?
— Человек. Совы зимой не водятся. Что же теперь делать?
— Не знаю.
Оба нерешительно потоптались на месте.
— Ребята! Ребята! — вдруг услышали они из-за камней горячий шопот Май. — Вы чего так быстро вернулись? Нашли что-нибудь?
Она перелезла через выступ стены и спустилась к ним.
— Кашли, — угрюмо ответил Коля.
— Что? Что такое?
— Не что, а кого. Человека.
— Какого человека?
— Да, наверно, того самого, чьи следы… Он там, внизу, лежит, стонет…
Мая всплеснула руками.
— Чего же вы стоите? — сказала она. — Человек, может быть, умирает!..
Мальчики не двигались с места.
— Ну, что же вы?..
— А вдруг он нас просто пугает? — сказал Коля.
Все трое помолчали.
— Знаете что, ребята? — сказала Мая. — Я к нему пойду…
— С ума сошла! — крикнул Коля.
— Никуда ты не пойдешь, — твердо заявил Витя. — Мы тебя не пустим.
— Нет, пойду! Я девочка, и он мне ничего не сделает…
— Так он в темноте и разберется, девочка ты или мальчик! Как всадит тебе нож между лопатками!..
Коля сказал это так выразительно, что Мая невольно передернула плечами. Но напугать Маю было не так-то просто.
— Тогда вот что, ребята, — решительно сказала она: — давайте пойдем все вместе… Сразу все!.. Один он с тремя не справится.
Мальчики посмотрели себе под ноги, потом друг на друга и согласились. Мая говорила так твердо и спокойно, что они даже не подумали спорить, когда она пошла впереди. Нет, это не было трусостью. Они не оставили бы её одну, и каждый готов был, если понадобится, защитить её по мере сил, но просто бывают в жизни такие случаи, когда впереди становится тот, у кого сильнее воля.
И вот все трое стоят у двери и прислушиваются. Всё тихо. И вдруг опять снизу раздался стон, но теперь он был как будто слабее и глуше. Мальчики не успели и слова сказать, как Мая скользнула в дверь и пропала в темноте. Оба, не сговариваясь, сразу шагнули вслед за ней. На лестнице Коля обогнал Витю и придвинулся вплотную к Мае, крепко сжимая в руках лопату на случай внезапного нападения.
Так они спускались в полной темноте, медленно оставляя за собой ступеньку за ступенькой. А стон слышался всё ближе и ближе… Человек стонал тяжело, надсадно… По временам он что-то выкрикивал, но так, что нельзя было разобрать ни одного слова.
Мая что-то задела ногой, и по ступенькам загрохотал какой-то, судя по звуку, металлический предмет. Дети вздрогнули и замерли. Так они постояли несколько минут, крепко держась друг за друга. Потом Коля нагнулся и стал руками обшаривать лестницу.
— Это электрический фонарь, — прошептал он на ухо Мае.
Мая шепнула Вите:
— Фонарь!
Они ощупывали его в темноте. Все думали об одном и том же: зажигать или нет? Наконец Мая чуть сжала Колин локоть, и он понял, чего она хочет: зажигать!.. Острый, яркий луч фонарика прорезал тьму. Он скользнул по черным сырым стенам подземелья, где когда-то проходили трубы отопления, и уткнулся в человека, который лежал на спине у нижней ступеньки лестницы. Он был в беспамятстве. Рядом с ним валялось несколько пустых консервных банок и раскрытый заплечный мешок, из которого торчали какие-то вещи.
С первого же взгляда ребята поняли, что перед ними немец. И не просто немец, а, судя по шинели, офицер.
Коля прощупал лучом фонарика окружавшую их темноту. В подвале больше никого не было. Гитлеровский офицер лежал совершенно один.
— Знает, раз говорит. И всем уже известно, что надо искать картины: горсовет объявил.
— Зачем же нам тогда искать? — сказал Витя. — Всё обыщут свои дворы, и кто-нибудь найдет… Говорю тебе — пойдем домой!..
— Не пойду! — упрямо ответил Коля. — Если хочешь, иди, а я не пойду. Я буду искать.
И он пошел дальше. Витя постоял, постоял и опять потащился вслед за ним. На всякий случай они зашли ещё в несколько дворов, но уже не хозяйничали сами, а терпеливо расспрашивали жильцов. Все знали, что из музея пропали картины, все гадали, где они могут быть, высказывали свои предположения, но все уверяли, что как раз у них во дворе нигде ничего не спрятано.
— Нет, так мы, конечно, ничего не найдём, — сказал Коля, когда они через час остановились на другом конце улицы. — Вот что я тебе скажу: искать надо там, где никто не ищет и где нет хозяев.
— То-есть где же это? — с интересом спросил Витя.
— Ну, в развалинах, в подвале старой церкви, в склепах на кладбище!.. Пойдем, а?
Витя поёжился, поморгал сквозь очки и покорно сказал:
— Пойдём.
— Куда раньше?
— Куда хочешь.
— Тогда сначала пойдем в развалины, — решительно сказал Коля.
Развалинами они называли стены большого элеватора, разрушенного немецкими самолетами во время первых же бомбежек. Элеватор стоял на холме, невдалеке от железнодорожной станции. Для того чтобы попасть к нему, надо было пересечь весь город.
Мальчики зашагали в ту сторону.
Вдруг из-за угла полуразрушенного, обгорелого дома прямо им навстречу выскочила Мая Шубина. На ней было не по росту большое пальто и большие валенки. От этого она казалась ещё меньше.
— Вы куда это? — крикнула она. — Клавдия Федоровна позволила ходить только по соседним улицам…
Мальчики остановились:
— А ты откуда знаешь?
— Да уж знаю.
— Подслушивала, наверно, — с презрением сказал Коля Охотников. — И всегда-то ей нужно всюду свой нос совать!..
— А вот и не подслушивала!.. Мне сама Клавдия Федоровна сказала.
— Ну и радуйся. Только к нам не приставай. Идём, Виктор!
Мальчики решительно пошли дальше.
Мая побежала следом:
— Нет, куда же вы всё-таки идете?
— Вот пристала! Туда, где лежат картины. — Коля подмигнул Вите: — Молчи!
— Вы знаете? — задохнувшись, почти шопотом спросила Мая.
— Знаем.
В глазах у Май засветилась мольба.
— Возьмите и меня, — попросила она. — Мальчики, милые! Ну что вам стоит?!
— Вот ещё! — усмехнулся Коля. — А потом ты будешь говорить, что это ты нашла.
— Нет, честное слово, не буду говорить!
— Нет, нет. Ты и не проси. Не возьмем, — сказал Витя. — Мы в такие места идем, где тебе будет страшно.
— А я не боюсь.
— Ладно, довольно болтать. Пошли, Витька! — И Коля потянул приятеля за рукав.
Они прибавили шагу, но услышали, что за ними кто-то бежит. Коля оглянулся и даже охнул от досады. Эта девчонка, наверно, забыла, что у него крепкие кулаки.
— Ты куда? Назад! — крикнул он и загородил ей дорогу.
— Не пойду назад, — твердо сказала она.
— Мы же тебе русским языком говорим: мы идем в развалины. А это дело не женское.
— Вы идете, и я пойду…
— Объясни ей, Витька, наконец, ты, раз она русского языка не понимает, — досадливо махнул рукой Коля и отошел в сторону.
— Видишь ли, Маечка, — ласково сказал Витя, — тебе с нами лучше не ходить. Мы идем на опасное дело, понимаешь? А ты ещё маленькая, тебе всего двенадцать лет…
— Подумаешь! А тебе четырнадцать.
Она решительно не хотела сдаваться. Наконец, исчерпав все возможности уговорить её, мальчики пошли вперед. Мая, всхлипывая, брела за ними следом.
Так, втроем, вышли они на окраину города. Время приближалось к пяти часам. Уже начинало смеркаться. Разрушенный элеватор бесформенной громадой поднимался на холме. Снизу он казался особенно темным и страшным. Справа от дороги стоял столб, на котором был прибит фанерный щит с короткой и выразительной надписью: «Мины!» Тут Коля в первый раз вспомнил о Мае.
— Смотри с дороги не сворачивай, — бросил он ей через плечо, — а то подорвешься.
Она молча кивнула.
— А ведь нам не успеть сегодня под церковь и на кладбище, — сказал Витя.
— Пойдем завтра. Важно начать…
Мальчики стали быстро подниматься на холм. Не отставая от них ни на шаг, за ними шла Мая. Она сильно замерзла и устала. Чтобы как-нибудь согреть руки, она в варежках сжимала их в кулаки. Косички давно уже выбились из-под косынки и болтались вдоль щек двумя тонкими жгутиками. Ох, уж эти мальчишки! Нарочно идут и не оглядываются…
Дорога круто повернула направо, огибая холм. До элеватора оставалось метров пятьдесят. Сюда давно уже никто не ходил, и дорогу совсем занесло снегом. Надо было идти по целине. Коля в нерешительности остановился.
— Ну, что ж ты стал? — спросил Витя.
— Да, может быть, тут мины…
Витя пожал плечами:
— Не везде же мины! Видишь, знака нет — значит, и мил нет!
— А может быть, их тут ещё не искали?
Витя вдруг рассердился:
— Так о чем же ты раньше думал? Вел меня сюда, вел, а теперь назад возвращаться?..
Коле стало неловко.
— Нет, — сказал он, — зачем же возвращаться? Давай искать тропинку.
— Да какая же тут может быть тропинка, когда наверх никто не ходит! Сам видишь, сколько снега кругом…
Они внимательно осмотрели пространство, которое отделяло их от элеватора. Всюду лежал нетронутый, глубокий снег, синевший в быстро надвигающихся сумерках.
— Ребята, — вдруг крикнула Мая, стоявшая в стороне, — смотрите-ка, что здесь такое!..
Мальчики подбежали к ней.
— Где? — быстро спросил Коля. — Что ты нашла?..
Мая варежкой показала на снег:
— А вот видите… Следы на снегу!.. Кто-то шел к элеватору!
— Верно, следы, — сказал Коля.
— Ну, вот видишь!.. — Витя осторожно поставил ногу в большой и глубокий след. — Кто-то туда шел.
— А раз он шел и прошел, значит и мы пройдем. — Теперь Коля смело шагнул вперед. — Только давайте идти след в след, чтобы не сбиваться… Тогда не опасно.
— Стой, Коля, — вдруг сказала Мая.
Коля обернулся:
— Ну, что ещё?
— А вдруг он там?..
— Кто это — он?
— Да человек, который шел.
— А чего ему там делать в такой мороз? Посмотрел, наверно, и вылез где-нибудь обратно. Может, с тех пор неделя прошла. А ты не ходи, оставайся… Витя, за мной!
Витя двинулся вслед за Колей. Но тут Мая как-то ухитрилась и, обогнав Витю, оказалась между мальчиками. Увязая по колена в снегу, молча они добрались до самых стен элеватора и остановились у большого темного пролома. Здесь вдруг следы потерялись, словно растаяли.
— Ну, тут уж не опасно, — сказал Коля: — в развалинах мины не ставят. Теперь давайте действовать… Ты, Мая, останешься и будешь нас ждать здесь, слышишь? — прикрикнул он на всякий случай, чтобы отрезать всякую возможность спора.
— Хорошо, — покорно согласилась девочка.
— А мы с Витей пойдем внутрь и всё осмотрим. Если ты понадобишься, мы тебя кликнем. А так — жди нас.
— Хорошо, — повторила она.
Мальчики нырнули в пролом, перебрались через несколько гребней осевших на землю развалин и очутились под сводом, который образовался оттого, что две стены навалились друг на дружку, но не упали. Здесь почти совсем не было снега. Под ногами валялись груды битого камня, цемента, железных обломков. Мальчики с трудом прошли десяток шагов и вдруг увидели в стене дверь.
Она была приоткрыта, но за ней было темно, так темно, что у обоих не хватило духу войти туда, куда она вела. Они стояли перед черным проемом и слушали. В развалинах свистел ветер. Где-то вдалеке несколько раз ударила зенитка. В небе, за тучами, прогудел самолет.
Таинственная дверь пугала мальчиков, и в то же время им очень хотелось в неё войти. Коля осторожно протянул руку и чуть-чуть толкнул дверь — она заскрипела и раскрылась еще больше. Мальчики, вытянув шеи, заглянули внутрь и в полумраке разглядели лестницу, которая вела вниз.
Что это, почудилось или нет? Откуда-то из глубины до них донесся хриплый стон. Мальчики кинулись бежать. Они вылетели из-под свода, словно их вынесло ветром, и остановились только тогда, когда оказались за степами элеватора.
— Ты слышал? — спросил Коля.
— Слышал, — ответил Витя.
Оба помолчали, прислушиваясь к ветру.
— Что это может быть? — спросил Коля.
— А как по-твоему?
— Там кто-то сидит.
— Кто?
— Человек. Совы зимой не водятся. Что же теперь делать?
— Не знаю.
Оба нерешительно потоптались на месте.
— Ребята! Ребята! — вдруг услышали они из-за камней горячий шопот Май. — Вы чего так быстро вернулись? Нашли что-нибудь?
Она перелезла через выступ стены и спустилась к ним.
— Кашли, — угрюмо ответил Коля.
— Что? Что такое?
— Не что, а кого. Человека.
— Какого человека?
— Да, наверно, того самого, чьи следы… Он там, внизу, лежит, стонет…
Мая всплеснула руками.
— Чего же вы стоите? — сказала она. — Человек, может быть, умирает!..
Мальчики не двигались с места.
— Ну, что же вы?..
— А вдруг он нас просто пугает? — сказал Коля.
Все трое помолчали.
— Знаете что, ребята? — сказала Мая. — Я к нему пойду…
— С ума сошла! — крикнул Коля.
— Никуда ты не пойдешь, — твердо заявил Витя. — Мы тебя не пустим.
— Нет, пойду! Я девочка, и он мне ничего не сделает…
— Так он в темноте и разберется, девочка ты или мальчик! Как всадит тебе нож между лопатками!..
Коля сказал это так выразительно, что Мая невольно передернула плечами. Но напугать Маю было не так-то просто.
— Тогда вот что, ребята, — решительно сказала она: — давайте пойдем все вместе… Сразу все!.. Один он с тремя не справится.
Мальчики посмотрели себе под ноги, потом друг на друга и согласились. Мая говорила так твердо и спокойно, что они даже не подумали спорить, когда она пошла впереди. Нет, это не было трусостью. Они не оставили бы её одну, и каждый готов был, если понадобится, защитить её по мере сил, но просто бывают в жизни такие случаи, когда впереди становится тот, у кого сильнее воля.
И вот все трое стоят у двери и прислушиваются. Всё тихо. И вдруг опять снизу раздался стон, но теперь он был как будто слабее и глуше. Мальчики не успели и слова сказать, как Мая скользнула в дверь и пропала в темноте. Оба, не сговариваясь, сразу шагнули вслед за ней. На лестнице Коля обогнал Витю и придвинулся вплотную к Мае, крепко сжимая в руках лопату на случай внезапного нападения.
Так они спускались в полной темноте, медленно оставляя за собой ступеньку за ступенькой. А стон слышался всё ближе и ближе… Человек стонал тяжело, надсадно… По временам он что-то выкрикивал, но так, что нельзя было разобрать ни одного слова.
Мая что-то задела ногой, и по ступенькам загрохотал какой-то, судя по звуку, металлический предмет. Дети вздрогнули и замерли. Так они постояли несколько минут, крепко держась друг за друга. Потом Коля нагнулся и стал руками обшаривать лестницу.
— Это электрический фонарь, — прошептал он на ухо Мае.
Мая шепнула Вите:
— Фонарь!
Они ощупывали его в темноте. Все думали об одном и том же: зажигать или нет? Наконец Мая чуть сжала Колин локоть, и он понял, чего она хочет: зажигать!.. Острый, яркий луч фонарика прорезал тьму. Он скользнул по черным сырым стенам подземелья, где когда-то проходили трубы отопления, и уткнулся в человека, который лежал на спине у нижней ступеньки лестницы. Он был в беспамятстве. Рядом с ним валялось несколько пустых консервных банок и раскрытый заплечный мешок, из которого торчали какие-то вещи.
С первого же взгляда ребята поняли, что перед ними немец. И не просто немец, а, судя по шинели, офицер.
Коля прощупал лучом фонарика окружавшую их темноту. В подвале больше никого не было. Гитлеровский офицер лежал совершенно один.
 Ребята окружили его. Витя на всякий случай осмотрел его карманы, вытащил пистолет и сунул его себе за пояс.
— Давай посмотрим его лицо, — предложила Мая.
Луч уперся в закрытые глаза, осветил короткий тупой нос, широкий подбородок…
— Он. Видите? — прошептала Мая.
Ребята окружили его. Витя на всякий случай осмотрел его карманы, вытащил пистолет и сунул его себе за пояс.
— Давай посмотрим его лицо, — предложила Мая.
Луч уперся в закрытые глаза, осветил короткий тупой нос, широкий подбородок…
— Он. Видите? — прошептала Мая.
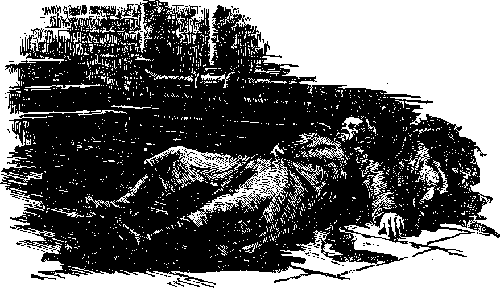 — Что? Что?.. — тоже шопотом спросил Коля.
Мая вдруг отшатнулась.
Офицер открыл воспаленные глаза, протянул вперед руку и крикнул:
— Kommt! Kommt![3]
Они так и замерли на месте. Теперь все трое узнали этого человека. Одно его имя ещё недавно внушало ужас не только им, но и всему городу.
Да, ребята не ошиблись. Перед ними действительно лежал начальник городского гестапо Курт Мейер, тот самый Курт Мейер, который в упор расстреливал военнопленных и хозяйничал у них в городе, как ему вздумается. Он лежал здесь уже несколько суток. Взрывом бомбы перевернуло его машину. Шофер был убит, а он отделался переломом левой ноги. Это случилось недалеко отсюда, на повороте дороги. Несмотря на страшную боль, у него хватило сил добраться сюда, притащить с собой запас продовольствия и две химические грелки, которые могли греть довольно долго, если их держать за пазухой. Но перелом ноги — не простая штука. Уже на второй день у него сделался жар, а на третий он впал в беспамятство. Счастье изменило Курту Мейеру. Он мечтал о богатстве, об орденах, а смерть наступала на него в каком-то грязном подвале, куда чудом забрели трое смелых ребят.
— Что же нам с ним делать? — спросил Коля. — Нам втроем его отсюда не вытащить, он слишком тяжелый…
— А какой он был важный, когда ходил по городу! — сказала Мая. — Наверно, он скоро умрет!..
— Надо позвать кого-нибудь, — сказал Витя.
— Ах! — Мая схватила Колю за руку. — Он смотрит!
Коля навел луч фонарика на лицо Курта Мейера. Сквозь узкую щель приподнятых век на ребят смотрели два темных блестящих глаза. Курт Мейер перестал стонать, словно придя в себя и оценивая создавшуюся обстановку. Он молчал и только слабо шевелил губами.
Дети невольно взялись за руки и отступили назад, так страшно было это лицо — отекшее, обросшее жесткой щетиной. Им казалось, что Курт Мейер вот-вот вскочит и затопает на них ногами.
Но в это время в больном мозгу Курта Мейера роились такие мысли, о которых ребята и не догадывались. Если бы только знали они, что он сделает через пять минут, они обыскали бы его ещё раз.
А Курт Мейер опять закрыл глаза и уже больше не стонал…
Ребята решили пойти за помощью.
Когда они вышли из подвала, захватив с собой заплечный мешок Курта Мейера, было уже совсем темно. Не решаясь засветить фонарик, они в темноте, помогая друг другу, перелезли через все кручи, счастливо пробежали пространство до дороги и остановились, тяжело дыша. Вокруг было пустынно и безлюдно — ни одной проезжей машины, ни одного человека.
И вдруг со стороны развалин до них донесся приглушенный звук револьверного выстрела. Это Курт Мейер, поняв, что больше надеяться не на что, выстрелил в последний раз.
— Что? Что?.. — тоже шопотом спросил Коля.
Мая вдруг отшатнулась.
Офицер открыл воспаленные глаза, протянул вперед руку и крикнул:
— Kommt! Kommt![3]
Они так и замерли на месте. Теперь все трое узнали этого человека. Одно его имя ещё недавно внушало ужас не только им, но и всему городу.
Да, ребята не ошиблись. Перед ними действительно лежал начальник городского гестапо Курт Мейер, тот самый Курт Мейер, который в упор расстреливал военнопленных и хозяйничал у них в городе, как ему вздумается. Он лежал здесь уже несколько суток. Взрывом бомбы перевернуло его машину. Шофер был убит, а он отделался переломом левой ноги. Это случилось недалеко отсюда, на повороте дороги. Несмотря на страшную боль, у него хватило сил добраться сюда, притащить с собой запас продовольствия и две химические грелки, которые могли греть довольно долго, если их держать за пазухой. Но перелом ноги — не простая штука. Уже на второй день у него сделался жар, а на третий он впал в беспамятство. Счастье изменило Курту Мейеру. Он мечтал о богатстве, об орденах, а смерть наступала на него в каком-то грязном подвале, куда чудом забрели трое смелых ребят.
— Что же нам с ним делать? — спросил Коля. — Нам втроем его отсюда не вытащить, он слишком тяжелый…
— А какой он был важный, когда ходил по городу! — сказала Мая. — Наверно, он скоро умрет!..
— Надо позвать кого-нибудь, — сказал Витя.
— Ах! — Мая схватила Колю за руку. — Он смотрит!
Коля навел луч фонарика на лицо Курта Мейера. Сквозь узкую щель приподнятых век на ребят смотрели два темных блестящих глаза. Курт Мейер перестал стонать, словно придя в себя и оценивая создавшуюся обстановку. Он молчал и только слабо шевелил губами.
Дети невольно взялись за руки и отступили назад, так страшно было это лицо — отекшее, обросшее жесткой щетиной. Им казалось, что Курт Мейер вот-вот вскочит и затопает на них ногами.
Но в это время в больном мозгу Курта Мейера роились такие мысли, о которых ребята и не догадывались. Если бы только знали они, что он сделает через пять минут, они обыскали бы его ещё раз.
А Курт Мейер опять закрыл глаза и уже больше не стонал…
Ребята решили пойти за помощью.
Когда они вышли из подвала, захватив с собой заплечный мешок Курта Мейера, было уже совсем темно. Не решаясь засветить фонарик, они в темноте, помогая друг другу, перелезли через все кручи, счастливо пробежали пространство до дороги и остановились, тяжело дыша. Вокруг было пустынно и безлюдно — ни одной проезжей машины, ни одного человека.
И вдруг со стороны развалин до них донесся приглушенный звук револьверного выстрела. Это Курт Мейер, поняв, что больше надеяться не на что, выстрелил в последний раз.
 Но об этом ребята узнали позднее. Выстрел испугал их, и они бросились бежать по дороге изо всех сил. Только сейчас, когда опасность миновала, им вдруг стало по-настоящему страшно. Скорей, скорей назад, в город! Они бежали молча, задыхаясь от бега и от ветра, который бил им в лицо. И вот наконец впереди показались очертания окраинных построек. Ребята увидели человека, фигура которого смутно вырисовывалась сквозь белесую морозную дымку.
Человек шел им навстречу. Ребята бежали ещё быстрее, стараясь не отставать друг от друга.
Когда они приблизились к человеку, он вдруг остановился и окликнул их:
— Ребята! Вы что тут делаете? Куда бежите? — Голос его звучал добродушно.
Ребята сразу узнали фотографа с базарной площади.
— Домой торопимся! — крикнул Витя.
Но, встретив знакомого взрослого человека, ребята убавили шаг, успокоились, словно переступили через какую-то невидимую черту, за которой остался жуткий подвал со страшным Куртом Мейером. Они почувствовали себя в безопасности и разом начали говорить, перебивая друг друга и захлебываясь от избытка только что пережитых волнений.
— Вы знаете, откуда мы идем? — крикнул Коля, подбегая к Якушкину и невольно хватая его за рукав. — Оттуда!.. Из развалин!..
Но об этом ребята узнали позднее. Выстрел испугал их, и они бросились бежать по дороге изо всех сил. Только сейчас, когда опасность миновала, им вдруг стало по-настоящему страшно. Скорей, скорей назад, в город! Они бежали молча, задыхаясь от бега и от ветра, который бил им в лицо. И вот наконец впереди показались очертания окраинных построек. Ребята увидели человека, фигура которого смутно вырисовывалась сквозь белесую морозную дымку.
Человек шел им навстречу. Ребята бежали ещё быстрее, стараясь не отставать друг от друга.
Когда они приблизились к человеку, он вдруг остановился и окликнул их:
— Ребята! Вы что тут делаете? Куда бежите? — Голос его звучал добродушно.
Ребята сразу узнали фотографа с базарной площади.
— Домой торопимся! — крикнул Витя.
Но, встретив знакомого взрослого человека, ребята убавили шаг, успокоились, словно переступили через какую-то невидимую черту, за которой остался жуткий подвал со страшным Куртом Мейером. Они почувствовали себя в безопасности и разом начали говорить, перебивая друг друга и захлебываясь от избытка только что пережитых волнений.
— Вы знаете, откуда мы идем? — крикнул Коля, подбегая к Якушкину и невольно хватая его за рукав. — Оттуда!.. Из развалин!..
 — Что? Что? — не понял Якушкин. — Откуда?
— Ну, из элеватора… Сверху!.. — показал в темноту Виктор. — Вы не знаете, кого мы там нашли…
— Курта Мейера!.. Начальника гестапо! — перебила его Мая.
Якушкин от удивления словно прирос к месту.
— Да что вы, ребята, шутите, что ли? Курта Мейера?.. Откуда он там взялся?..
— Не знаем, — мотнул головой Коля, — а только мы его видели… Он там, в подвале, лежит!
— И совсем один, раненый, — сказала Мая.
— И банки вокруг него из-под консервов валяются, — для убедительности добавил Виктор.
— Да не может этого быть! — Якушкин только руками развел. — Всё это вам, наверно, померещилось, ребята… Какой подвал? Какие банки? Да и зачем вас туда понесло?..
— А мы картины искали!.. — сказал Виктор. — Ну, знаете, что из музея украдены… Вы нам что, не верите?..
— И никто не поверит.
— Ах, так? А вот посмотрите-ка, что у меня за спиной, — сказал Коля. — Ну, посмотрите! Что это?
Якушкин посмотрел.
— Вещевой мешок. Немецкий как будто! — сказал он удивленно и немного смягчая тон
— Вот мы его у Мейера и забрали!.. — победоносно заявил Виктор. — И мы вовсе не обманщики какие-нибудь…
Якушкин начал ощупывать мешок
— Смотрите-ка, смотрите!.. И верно! А нет ли в нем консервов, ребятки?.. Очень уж я изголодался, сказать по правде… Так вы, говорите, самого Курта Мейера видели? — спросил он уже серьезно.
— Видели!.. — подтвердили ребята хором. — Не верите — посмотрите сами!.. Ну, нам домой пора!
— Идите! Идите, ребятки, — сказал ласково Якушкин. — А я вот поискать снарядных ящиков на дорогу вышел — топить нечем… Ну, бегите, бегите…
Ребята, уже совсем успокоившиеся, пошли к городу, а Якушкин, кашляя, поплелся своим путем, высматривая, не темнеет ли где-нибудь на обочине дороги брошенный отступавшими гитлеровцами пустой снарядный ящик…
— Что? Что? — не понял Якушкин. — Откуда?
— Ну, из элеватора… Сверху!.. — показал в темноту Виктор. — Вы не знаете, кого мы там нашли…
— Курта Мейера!.. Начальника гестапо! — перебила его Мая.
Якушкин от удивления словно прирос к месту.
— Да что вы, ребята, шутите, что ли? Курта Мейера?.. Откуда он там взялся?..
— Не знаем, — мотнул головой Коля, — а только мы его видели… Он там, в подвале, лежит!
— И совсем один, раненый, — сказала Мая.
— И банки вокруг него из-под консервов валяются, — для убедительности добавил Виктор.
— Да не может этого быть! — Якушкин только руками развел. — Всё это вам, наверно, померещилось, ребята… Какой подвал? Какие банки? Да и зачем вас туда понесло?..
— А мы картины искали!.. — сказал Виктор. — Ну, знаете, что из музея украдены… Вы нам что, не верите?..
— И никто не поверит.
— Ах, так? А вот посмотрите-ка, что у меня за спиной, — сказал Коля. — Ну, посмотрите! Что это?
Якушкин посмотрел.
— Вещевой мешок. Немецкий как будто! — сказал он удивленно и немного смягчая тон
— Вот мы его у Мейера и забрали!.. — победоносно заявил Виктор. — И мы вовсе не обманщики какие-нибудь…
Якушкин начал ощупывать мешок
— Смотрите-ка, смотрите!.. И верно! А нет ли в нем консервов, ребятки?.. Очень уж я изголодался, сказать по правде… Так вы, говорите, самого Курта Мейера видели? — спросил он уже серьезно.
— Видели!.. — подтвердили ребята хором. — Не верите — посмотрите сами!.. Ну, нам домой пора!
— Идите! Идите, ребятки, — сказал ласково Якушкин. — А я вот поискать снарядных ящиков на дорогу вышел — топить нечем… Ну, бегите, бегите…
Ребята, уже совсем успокоившиеся, пошли к городу, а Якушкин, кашляя, поплелся своим путем, высматривая, не темнеет ли где-нибудь на обочине дороги брошенный отступавшими гитлеровцами пустой снарядный ящик…
В СТАРОМ СКЛЕПЕ
Стремянной сидел у себя за столом, просматривая только что полученные из полков донесения, когда, слегка приоткрыв дверь, в комнату к нему заглянул штабной переводчик: — Товарищ начальник, разрешите войти. — Заходите. Что там у вас? Спешное что-нибудь? — не поднимая головы, спросил Стремянной. — Да вот перевел несколько немецких документов, товарищ начальник. Пришел вам доложить. — Ну, и что же? Есть важные? — Нет, товарищ начальник. Разве что документ об укреплениях под Новым Осколом. Да и тот носит слишком общий характер; он касается главным образом распределения рабочей силы. Ну, и всё остальное в том же роде. Есть, правда, один занятный документ, но он интересен, скорее, с точки зрения психологической, чем с военной. — Это что же за документ? — Записная книжка начальника гестапо Курта Мейера. Та, что заведующая детским домом принесла… К сожалению, записей в ней мало, и все они, так сказать, личного порядка… Стремянной оторвал глаза от лиловых строчек донесения к посмотрел на переводчика: — Что же, в таком случае, вы нашли в них интересного? — Характер, товарищ начальник. Ход мышления. Это, я бы сказал, типичный гитлеровец, из молодых. Но в двух словах это объяснить трудно. Вы лучше сами на досуге поглядите. — На досуге?.. — Стремянной усмехнулся. — Ну ладно, оставьте. Авось будет у меня когда-нибудь досуг… И, взяв у переводчика, он положил на пачку бумаг ещё несколько листков, перепечатанных на машинке. Переводчик ушел, а Стремянной дочитал последнее донесение и, надев полушубок, вышел из жарко натопленного штабного помещения на утренний мороз. Со вчерашнего дня он собирался осмотреть трофейные автомашины. Они были спешно подремонтированы, и командир автобата уже успел посадить на них своих шоферов. Машины были выстроены на площади перед горсоветом. Стремянной оставил на углу свой вездеход, принял доклад командира автобата и вместе с ним обошел вытянувшиеся двумя рядами машины. Этот получасовой осмотр доставил ему какой-то своеобразный отдых. Он любил машины давней, ещё в детстве зародившейся любовью, знал в них толк и втайне гордился своим умением быстро освоиться с любым управлением незнакомой марки. Ему было приятно по стуку двигателя сразу определить степень его изношенности, верно оценить его силу и поймать на себе одобрительный взгляд опытного водителя. Не торопясь, по-хозяйски он осмотрел каждую машину в отдельности. Тут были три штабных автобуса, вроде того, который стоял против дома гестапо (Стремянной приказал прикомандировать их к санбату для перевозки раненых), несколько больших «круппов» с высокими бортами (они годились для боеприпасов и другого снаряжения) и больше десятка легковых машин. Оставив для нужд дивизии две из них, Стремянной распорядился перегнать остальные в штаб армии. Окончив осмотр, он пошел обратно к своему вездеходу и вдруг увидел у подъезда горсовета того самого мальчугана, которому дал банку консервов на привокзальной площади. Мальчик топтался у дверей, пряча руки в рукава кацавейки и постукивая ногой об ногу. По всему видно было, что он собирался войти в дом, но робел. — Ты что тут делаешь? — спросил Стремянной. Мальчик посмотрел на него снизу вверх. — Жду, — сказал он серьезно. — Тут дяденька один должен прийти. — А зачем он тебе? — А меня дедушка к нему послал. — Зачем? — Он говорит, что о картинах сказать хочет… Стремянной с удивлением посмотрел на мальчика. — Это твой дедушка так сказал? — переспросил он. — Мой, — подтвердил мальчик. — А кто такой твой дедушка? — Мельник. — А родители твои где? Отец? Мать? Мальчик отвел глаза в сторону. — Умерли, — тихо сказал он. — Где же вы с дедушкой живете? — Недалеко, — мальчик как-то неопределенно мотнул головой: — в сторожке у кладбища. — Странно! — Стремянной невольно пожал плечами. — Мельник, а живет у кладбища. Что же твой дедушка делает? — Вёдра чинит. — Так какой же он мельник, если ведра чинит? Ничего не пойму! — с досадой сказал Стремянной. — А ну-ка, пойдем к твоему деду. Садись в машину. Мальчик недоверчиво, но в то же время радостно поглядел на Стремянного и пошел вслед за ним к вездеходу. Через пять минут машина остановилась возле небольшого домика, стоявшего сразу за кладбищенскими воротами. Мальчик постучал в окно, и почти сейчас же на крыльцо вышел бодрый, румяный старик в нагольном полушубке. Он приветливо улыбнулся Стремянному: — Здорово, начальник! — Здорово! — сказал Стремянной, с любопытством оглядывая этого мельника, который чинит ведра в кладбищенской сторожке. — Вы знаете, где спрятаны картины? — Думается, знаю. — Интересно, — сказал Стремянной. — Где же они? — Да тут, неподалеку. — Вы хотите показать место? — Отчего не показать? Показать покажу, — сказал старик. — Вы что, дедушка, мельник? — спросил Стремянной, когда они двинулись по тропинке в глубину кладбища. — Мельник, — ответил старик. — Почему в кладбищенской сторожке живете? И кто вы вообще такой? — Я сторожем здесь, — сказал старик, — а мельником был ещё до войны — в колхозе. И кузнецом был в свою пору, в молодые годы то-есть. А вот сейчас обратно собираюсь на село. У меня там детей, внуков, племяшей полная деревня. Стремянной невольно улыбнулся. — А как вы здесь-то оказались, дедушка, на кладбище? — спросил он. — Как вы сторожем тут стали? — Сторожем? — переспросил старик. — Обыкновенно. Приехал я брата навестить — пятый брат у меня, царствие ему небесное, тут двадцать с лишком лет сторожем состоял. Ну, значит, приехал я, а он возьми да и помри. Только я его похоронил — тут немцы! Из управы. приказ: никуда мне не отлучаться — работы много будет. — Последние слова старик произнес угрюмо, без улыбки в глазах. — Тяжело было, дедушка? — спросил Стремянной. — Ох тяжело, ох тяжело, начальник! Мне восемьдесят лет, а на сердце у меня сто шестьдесят будет. Они шли мимо занесенных снегом могил. Шли долго. Очевидно, старый сторож хорошо знал все тропинки, все приметы, потому что ни разу нигде не останавливался и не оглядывался. Наконец они подошли к тяжелому, разукрашенному завитушками склепу, в который вела толстая, покрытая ржавчиной дверь. — Пришли, — сказал старик и стукнул о дверь палкой. Стремянной вошел внутрь, спустился по узким ступенькам вниз и оказался как бы в каменном мешке. Слабый свет пробивался только из полуоткрытой двери. Склеп был завален всяким мусором — обломками гранита от памятников, кусками старой железной ограды, венками, облезлыми, поломанными, с жестяными скрученными листьями и стеблями, торчащими во все стороны, точно колючки на проволочных заграждениях. — Да ведь там, дедушка, ничего, кроме хлама, нет! — сердито сказал Стремянной, вылезая из склепа. Ему начинало казаться, что старик просто разыгрывает его неизвестно с какой целью. — Нет, есть, — спокойно ответил старик. — Хлам этот нарочно туда набросан. А под ним пол, а под полом-то все и замуровано!.. — Кто замуровал? — отрывисто спросил Стремянной. Он не заметил в склепе никаких признаков недавней работы. — А вот когда мы сюда шли, видел большую свежую могилу? — Видел, — сказал Стремянной. — Ну вот там они и лежат, те, кто в этом склепе работал. Стремянной внимательно посмотрел на старика: — Расскажи-ка подробнее, дедушка. — Слушай, начальник. Было это третьего дня ночью… Только я уснул, вдруг слышу — подъезжают две машины. Вышли около ворот… Кричат по-немецкому, ругаются. Ну, думаю, опять расстреливать привезли… И уж не до сна мне. Дрожь бьет. «Ах, думаю, нет на вас погибели!..» И вдруг заходят ко мне два немца — офицер и ундер, — приставили к груди револьверты и грозят: «Сиди, старик, не выходи, не смотри, а то капут будет!» Посидели, посидели они, поговорили о чем-то по-своему, потом вышли, а меня заперли… А не знают того, что у меня ход на чердак есть. Забрался я туда — не смотри, что я старый: сил у меня много, глаз вострый, — вижу, люди какие-то тюки таскают и всё сюда вот, сюда, на этот край. Огоньки между деревьев так и прыгают… То вспыхнут, то погаснут… То вспыхнут, то погаснут… Потом, слышу, кончили таскать — возня началась какая-то. Копают, стучат, дерево рубят. И так часа три… Что, думаю, такое? Обыкновенно приедут, постреляют, а утром закапывают, а тут работа идет, что-то прячут… Ну, конечно, я поприметил это место… А к утру, слышу, совсем близко стрельба. Выхожу на рассвете, когда уже все уехали, — лежат на земле семеро наших. Все убитые. Солдаты пленные — и руки у них в известке… Ну, по следам по свежим я и пришел сюда. А что за тюки были, догадайся сам… — Старик замолчал. — Ну, и намучился ты тут, дедушка! — сказал Стремянной помолчав. — Намучился, сынок, — ответил старик просто. — Не знаю уж, как и прожил эти месяцы. Был бы моложе, сам воевать бы пошел. В гражданской-то я ещё участвовал… Под Каховкой в грудь ранен был… Ну, присылай людей копать, а то завтра утром я отсюда уйду. Он проводил Стремянного до ограды и повернул к себе в домик. Через час команда солдат, вооруженных лопатами, кирками и топорами, подошла к склепу. Минеры обследовали его, но мин не обнаружили. Тогда солдаты приступили к делу. На этот раз командовал ими майор Воронцов. Известие о том, что делалось на кладбище в ночь отхода гитлеровцев, заинтересовало Воронцова. Он решил немедленно отправиться туда с командой и произвести самые тщательные раскопки. — Что бы они там ни закопали, надо раскопать, — сказал он Стремянному, застегивая шинель. — В такую ночь они бы не стали терять время по пустякам… Посмотрим, посмотрим… Воронцов с нетерпением ждал, чем кончатся поиски. Он готов был сам рыться в склепе, принадлежавшем, как гласила почти стершаяся надпись, купцу 1-й гильдии Косолапову, с миром почившему в 1867 году. Руки так и тянулись к кирке, но чтобы не нарушать порядка, Воронцов отказывал себе в этом удовольствии, не мешал солдатам работать и только изредка давал указания. Старик стоял рядом с ним, спокойно опершись на палку. В бороде у него таяли редкие снежинки. У входа в склеп с каждой минутой вырастала всё выше куча ржавого железа и камней, выкинутых лопатами солдат. Наконец застучали кирки. — Ну, что там? — не выдержал Воронцов. — Есть что-нибудь? Из склепа вылез сержант, весь перепачканный глиной, и доложил: — Ничего нет, товарищ майор. Простая земля. Могила, как говорится. — Слышишь, хозяин, ничего нет, — сказал Воронцов, искоса взглянув на старика. — Нет, есть, — твердо ответил дед. — Пусть роют дальше. Видите, земля-то какая рыхлая. Воронцов сам спустился вниз. Здесь всё же было перерыто — груда черной земли лежала по сторонам глубокой ямы. Двое солдат орудовали в ней лопатами. — Ну как? — с надеждой спросил он. — Как есть ничего, товарищ майор, — ответил солдат со дна ямы. Воронцов вышел из склепа и опять подошел к старику. — Вы твердо уверены, что копать надо именно здесь? — спросил он. — Там ничего нет, я сам видел. Вырыли яму почти в человеческий рост. Земля и земля!.. — Пусть ещё копают, — тихо сказал дед. Дунул острый влажный ветер. Снег пошел сильнее. Заложив руки за спину, Воронцов мерно шагал между могилами, прислушиваясь к приглушенным голосам солдат и скрежету камней. И вдруг из склепа донесся чей-то взволнованный голос: — Товарищ начальник, есть! Нашли! Из дверей выбежал сержант, неся в руках какой-то тяжелый, плотно увязанный тюк. — На три метра закопали, дьяволы, а? — крикнул он. — Вот и найди.
По размерам тюка Воронцов сразу понял, что в нем не могут быть спрятаны картины. Он был слишком узок и высок. Очевидно, в нем были какие-то книги. Воронцов вытащил из кармана складной нож, быстро разрезал веревки, распорол толстый, просмоленный брезент и с жадным любопытством заглянул внутрь. Эго были какие-то документы в разноцветных папках.
Он взял розовую папку, лежавшую сверху, перелистал и ахнул. Нет, в склепе не было картин, похищенных из музея, но здесь било спрятано тоже нечто крайне важное…
Один за другим солдаты вынесли и положили на снег пять тяжелых тюков.
— Что же мы это такое нашли, товарищ начальник? — спросил сержант, заглядывая в раскрытый тюк. — Кажись, бумажки? А мы-то старались!..
— Недаром старались, Ковальчук, недаром, — утешил его Воронцов. — Находка полезная, может пригодиться.
Старик-сторож покачал головой и концом палки поковырял в мешке.
— А картин, значит, нету, — сказал он разочарованно.
Воронцов, усмехаясь, поглядел на него:
— Нету, дедушка, нету…
Воронцов положил розовую папку обратно в тюк, перевязал веревкой и приказал погрузить всё, что было найдено, на машину.
— Ну, если не секрет, скажи ты мне, начальник, — поинтересовался старик, — что в этих бумажках такое, а?..
— А вот это, дедушка, секрет, — сказал Воронцов.
Он сел в машину рядом с шофером. В кузове на тюках сидели солдаты и беседовали о том, что такое они везут и почему майор так доволен, что нашел эту прорву бумаги, хотя искал как будто совсем другое…
И только один Воронцов знал, что он везет в машине.
В пяти тюках находился архив городского гестапо.
Гитлеровцы, видимо, надеялись скоро вернуться и решили, что вернее будет его надежно спрятать, чем таскать с собой.
— На три метра закопали, дьяволы, а? — крикнул он. — Вот и найди.
По размерам тюка Воронцов сразу понял, что в нем не могут быть спрятаны картины. Он был слишком узок и высок. Очевидно, в нем были какие-то книги. Воронцов вытащил из кармана складной нож, быстро разрезал веревки, распорол толстый, просмоленный брезент и с жадным любопытством заглянул внутрь. Эго были какие-то документы в разноцветных папках.
Он взял розовую папку, лежавшую сверху, перелистал и ахнул. Нет, в склепе не было картин, похищенных из музея, но здесь било спрятано тоже нечто крайне важное…
Один за другим солдаты вынесли и положили на снег пять тяжелых тюков.
— Что же мы это такое нашли, товарищ начальник? — спросил сержант, заглядывая в раскрытый тюк. — Кажись, бумажки? А мы-то старались!..
— Недаром старались, Ковальчук, недаром, — утешил его Воронцов. — Находка полезная, может пригодиться.
Старик-сторож покачал головой и концом палки поковырял в мешке.
— А картин, значит, нету, — сказал он разочарованно.
Воронцов, усмехаясь, поглядел на него:
— Нету, дедушка, нету…
Воронцов положил розовую папку обратно в тюк, перевязал веревкой и приказал погрузить всё, что было найдено, на машину.
— Ну, если не секрет, скажи ты мне, начальник, — поинтересовался старик, — что в этих бумажках такое, а?..
— А вот это, дедушка, секрет, — сказал Воронцов.
Он сел в машину рядом с шофером. В кузове на тюках сидели солдаты и беседовали о том, что такое они везут и почему майор так доволен, что нашел эту прорву бумаги, хотя искал как будто совсем другое…
И только один Воронцов знал, что он везет в машине.
В пяти тюках находился архив городского гестапо.
Гитлеровцы, видимо, надеялись скоро вернуться и решили, что вернее будет его надежно спрятать, чем таскать с собой.
ЕЩЁ ОДНА ЗАГАДКА
Дивизия получила боевую задачу: двигаться к Новому Осколу, освободить его и продолжать движение в направлении Белгорода. Ястребов ранним утром собрал командиров полков и, в свою очередь, поставил перед каждым из них боевую задачу, которую должен решать его полк на своём участке. До выступления оставалось немногим более суток. Когда командиры частей разошлись и в комнате остались только Ястребов, Корнеев да Стремянной, Ястребов закурил и, усмехаясь, поглядел на своего начальника штаба. — Ну, как дела, новоявленный Шерлок Холмс? — спросил он. — Что ещё хорошенького разыскал? — Он повернулся к своему замполиту: — Слышал, Корнеев, какой следопыт у нас в дивизии объявился? — Как не слышать! — улыбаясь, ответил Корнеев. — Совершенно неожиданный талант!.. — Да я-то тут при чём? — сказал Стремянной. — Это Воронцов нашел. — Ладно, ладно, нечего скромничать, — сказал Ястребов. — Главное, что дело сделали большое. Нашли архив как раз тогда, когда надо. Воронцов мне уже звонил. На основании обнаруженных материалов арестована сотрудница гестапо Мария Кузьмина. Есть подозрение, что она-то и является агентом Т-А-87. Если бы не ваша находка, она бы, пожалуй, ускользнула от нас. У неё все фальшивые документы на руках были. Сейчас как раз допрос идёт. У нас, товарищ Стремянной, кажется, было что-то о постройке укрепрайона западней города. Помните, в бумагах бургомистра нашли. Так вот, эта особа, говорят, в курсе. Зайдите туда, постарайтесь выяснить всё, что можно, о характере и местоположении укреплений. Это было бы важно… — Слушаюсь! — Стремянной раскрыл папку и вытащил из неё нужный документ. — Так я пошел, товарищ генерал… Особый отдел дивизии находился неподалеку, в маленьком одноэтажном домике. Около него ходил часовой, а в глубине двора стояла легковая машина. Стремянной поднялся по лестнице и вошел в комнату, где происходил допрос. Он увидел у стола майора Воронцова. Низко склонив седую голову, Воронцов записывал показания арестованной. Женщина сидела перед ним, спокойно облокотившись о стол. Её соломенно-желтые, видимо крашеные, волосы еще сохраняли следы обдуманной и сложной прически. Гонкие — в ниточку — брови были приподняты удивленно и наивно. Лицо нежное, кукольное — маленький, чуть вздернутый нос и блестящие выпуклые глаза. Воронцов оторвался от протокола и взглядом приветствовал вошедшего: — А, товарищ Стремянной! Садитесь, послушайте. Мы только начинаем. Женщина краешком глаза посмотрела на Стремянного и осторожно, как будто украдкой, поправила волосы. Тот сел позади неё и чуть в стороне, чтобы не мешать допросу. — Итак, я записал ваш ответ, — сказал Воронцов, пододвигая к ней протокол. — Вы утверждаете, что не имели никакого отношения к Курту Мейеру. — Никакого, — безмятежно сказала женщина. — Подпишите. Она обмакнула перо, поставила на листе бумаги свою подпись и поднялась с места. — Теперь мне можно идти? — спросила она и опять сбоку поглядела на Стремянного. — Нет, подождите, — сказал майор. — У меня к вам есть ещё один вопрос… Как вы можете объяснить то обстоятельство, что фотографировались с Куртом Мейером? — Это недоразумение. Я никогда с ним не снималась, — удивленно сказала она, но ресницы её дрогнули. — Значит, никогда? — переспросил майор, прищурив глаза и посмотрев на неё в упор. — Конечно! Каким же образом? — растерянно развела она руками. — Ведь я почти не знала его. — Посмотрите! — Майор открыл ящик и положил на стол фотографию. Увидев её, женщина вздрогнула и закусила губу. Стремянной приподнялся и посмотрел на фотографию. Он видел её в первый раз, Якушкин такой не приносил. Но снимок был так выразителен, что спорить против него было просто немыслимо. Уютно пристроившись на диване, сидели рядом Курт Мейер и эта самая женщина, Мария Кузьмина: Курт Мейер — картинно выпятив грудь и слегка откинув назад голову, а она — не менее картинно улыбаясь, положив одну руку к нему на плечо, а другой прижимая к себе маленькую мохнатую собачку. — Что же вы молчите? — спросил майор. Мария Кузьмина с ужасом смотрела на фотографию. — Откуда вы её взяли? Ведь я её сожгла!.. — Вы сожгли свою, а эту мы нашли в личной папке Курта Мейера, которая среди прочих дел лежала в архиве гестапо. — Вы нашли архив гестапо? — воскликнула предательница. — А вы знаете, что он был спрятан? — поймал её майор на слове. — Нет!.. Нет!.. Я ничего не знаю! — отмахиваясь обеими руками, закричала она. — Вы многое знаете, — спокойно наблюдая за ней, сказал майор, — но вы, вероятно, ещё не знаете о судьбе Курта Мейера. — Что с ним? — Он в наших руках! Она ничего не ответила, только закрыла лицо руками. Майор переглянулся со Стремянным и стал перебирать бумаги на столе. — Почему вы не пытались уйти с Куртом Мейером? — выждав минуту, спросил он. — Он… он… меня не взял!.. — Не взял или… оставил? Оставил со шпионским поручением… Обещал скоро вернуться и вас наградить. Отвечайте! — строго сказал майор. — Да или нет? Она молчала. — Хорошо. Можете не отвечать. И так всё ясно. Стремянной поднялся с места: — Товарищ майор, разрешите и мне задать вопрос. — Пожалуйста. Стремянной вытащил из планшета документ и положил его перед собой на столе. — Вы работали переводчицей в гестапо? — Да. — А имели вы какое-нибудь отношение к городской управе? — Они меня часто приглашали переводить приказы командования с немецкого языка на русский. — Так. — Стремянной помолчал, обдумывая, как ему вести допрос дальше. — Это вы переводили приказ об отправке населения на постройку укрепленного района? — Не помню. Может быть. — Значит, вы знаете, где строились укрепления? — Приблизительно, — осторожно ответила Кузьмина. — Нет, не приблизительно, а совершенно точно, — вдруг уверенно сказал Воронцов. — Вы же ездили туда. Ну, говорите: ездили? — Меня посылали, — виновато сказала Кузьмина. — Я не могла отказаться. Это была моя служба. — Ну, так вот, — сказал Стремянной, раскладывая на столе карту: — покажите, где построены укрепления. Как они расположены? И он положил поверх карты красный карандаш. Кузьмина нагнулась над столом и, водя кончиками пальцев по карте, стала её разглядывать. — Очень хорошая карта, — сказала она как-то по-новому, деловито и сухо. — Я отмечу на ней все укрепления, но скажите: за это мне сохранят жизнь? Меня не расстреляют? — Ничего не могу обещать, — сказал майор Воронцов. — Но сообщу прокурору, что вы нам дали важные показания. Только говорите правду! — Да, да, правду. Одну только правду!.. Вот смотрите: здесь на юго-запад от города — роща-овал. На её северной опушке построены четыре дота. Маленькая холеная рука Кузьминой уверенно взялась за карандаш и нанесла на карту четыре условных значка — четыре дота. — Почему доты построены именно здесь? — спросил Воронцов. — Ну, это ясно, — ответил за Кузьмину Стремянной: — они держат под обстрелом шоссе и мешают танкам пройти в обход рощи… Дальше! Кузьмина обвела границы минных полей, показала, где должны стоять артиллерийские батареи, где проходят линии проволочных заграждений. Всё это было сделано умело, точно, можно сказать — профессионально. Воронцов и Стремянной невольно переглянулись: видна птица по полету! — Чисто работаете! — похвалил Воронцов. — Где это вы научились? — Практика, — ответила она лаконично. Стремянной сложил карту. — Хорошо, — сказал он. — Это мы всё ещё проверим. Больше вы ничего не можете добавить? — Ведь я рассказываю по памяти, — словно извиняясь, сказала Кузьмина. — Разумеется, если бы передо мной лежала карта вроде той, какую я видела у бургомистра Блинова, когда однажды сопровождала его на постройку укрепленного района, я бы могла сообщить больше подробностей… — А у него была такая карта? — спросил Стремянной. — Откуда? Ведь бургомистр ведает только городскими делами. Кузьмина насмешливо улыбнулась. — Бургомистр считал себя крупным военным специалистом, — сказала она. — Он не только посылал на постройку рабочую силу, но и желал руководить работами. Он был связан с Тодтом. Естественно, что он располагал и некоторыми нужными данными. — Где же он хранил такие материалы? Она слегка пожала плечами: — Как у многих пожилых людей, у него были свои причуды. Он всегда держал у себя в кабинете старый кованый сундук. Вот в этом сундуке они, очевидно, и лежали. Но сундук этот надежно охранялся, и, должно быть, его успели вывезти… — Нет, не успели, — сказал Воронцов. — Он в наших руках. — Так поищите в нем. Они, наверно, там. — Там было много чего, но только не то, о чём вы говорите, — сказал Стремянной. — А вы весь сундук осмотрели? — спросила женщина. — Разумеется, весь! До самого дна. Она многозначительно приподняла брови и сказала, обращаясь к Воронцову: — Господин майор!.. — Забудьте вы свои гестаповские привычки! — резко оборвал её Воронцов. — Я не господин. Для вас я гражданин следователь. — Гражданин следователь, — поправилась она, — очень прошу вас и об этом моем добровольном признании сообщить прокурору. — К чему такое многозначительное предисловие? — сказал Воронцов. — Я наперед знаю, о чем вы хотите сообщить. В сундуке имеется второе дно, не правда ли? — Да. А вы откуда знаете? — удивилась Кузьмина. Воронцов слетка улыбнулся: — Во-первых, вы это почти сказали. А во-вторых, это же элементарно — осмотреть сундук, который, кстати, уже стоит здесь, за стеной… Второе дно довольно трудно спрятать… Но возникает другой вопрос: вам-то как стало известно устройство сундука? Она секунду помолчала, как бы обдумывая ответ. — Мейер постоянно говорил, когда бывал недоволен бургомистром, что он человек с таким же двойным дном, как и его сундук. — Они были не в ладах? — Да, у них были неважные отношения. Бургомистр Блинов — очень жадный и хитрый человек… — Зато Курт Мейер сама честность! — насмешливо сказал Стремянной. — Бургомистр ограбил картинную галерею, а его, в свою очередь, — начальник гестапо! — Да ещё не своими руками, а подослал к нему одного своего агента, Т-А-87!.. — добавил Воронцов. Кузьмина вздрогнула. — Т-А-87!.. — повторила она. — Вы его знаете? — Может быть, — сказал Воронцов. Взгляд Кузьминой отяжелел. — Вот что: я буду говорить начистоту, — сказала она, как бы преодолев какое-то колебание. — Меня действительно оставили здесь с заданием — я должна была проникнуть в штаб вашей армии… Подробности потом… Курт Мейер предупредил меня, что агент Т-А-87 будет за мной всё время следить и если я не выполню задания, он меня уничтожит. — Она помолчала и добавила тихо: — Но я знаю также и другое. Они уничтожили бы меня и в том случае, если бы я выполнила задание. Гестапо не любит людей, которые много о нём знают… — Значит, Т-А-87 в городе? — спросил Воронцов. — Несомненно. — Вы знаете, кто это? Могли бы опознать его? Кузьмина покачала головой: — Что вы! Вообще о его существовании я знаю совершенно случайно. — Как же вы о нём узнали? — Однажды я видела записку, посланную на имя Курта Мейера. Она была подписана этим шифром. — А почерк вы могли бы узнать? — Нет. Я ведь эту записку видела только мельком в руках самого Мейера. Заметив, что я гляжу, он быстро спрятал её в стол. — А что вам ещё известно о Т-А-87? — Больше ничего. Этот агент очень хорошо замаскирован… — Ну, а мы его размаскируем! — сказал Воронцов и, пожав руку Стремянному, проводил его до порога комнаты.Стремянной шагал по снежной улице обратно к штабу и думал: «А ведь она права: в ящике должно быть второе дно… Но как проникнуть в это потайное нижнее отделение?..» Теперь он точно вспомнил один давний, казалось бы, совсем незначительный разговор с Соколовым. Он, Стремянной, предложил заменить громоздкий кованый сундук обычной несгораемой шкатулкой. Соколов решительно отказался. «Ну, зачем это? — сказал он. — Все у нас в финчасти привыкли к этому сундуку. Вы только посмотрите, какая работа. Искусство, можно сказать! А насчет прочности уж я за него ручаюсь! Из любого огня цел выйдет. Обратите внимание, какой толщины у него дно. Отличное железо, чуть ли не в палец толщиной!» В самом деле, дно было какое-то необыкновенно толстое. В нём вполне могло поместиться секретное отделение. Теперь понятно, почему Соколов так не хотел заменить этот трофейный сундук обыкновенным денежным ящиком… Может быть, он нарочно испортил старый ящик, когда узнал, что захвачен сундук, в котором есть секретное устройство. Да, но всё-таки, как же его открыть? Может, просто подорвать? Но тогда, само собой, пропадут все материалы… Он вернулся к себе в штаб и первым делом зашел к Ястребову. Ястребов, не перебивая, выслушал его. — Вот что, Стремянной, — сказал он: — надо во что бы то ни стало открыть сундук. Поговори с нашими инженерами. Подумайте, посоветуйтесь. Авось сладите как-нибудь. Не такие крепости брали!..
НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Зеленый дом, который еще недавно принадлежал бургомистру, был виден издалека. Двухэтажный, деревянный, но оштукатуренный снаружи, он казался каменным. Высокие, закругленные наверху окна, массивная дубовая дверь, балкон, лепной карниз… Словом, дом был просторный и даже богатый. От калитки в высоком железном заборе вглубь большого сада вела дорожка. Бургомистр любил прогуливаться по ней, венувшись вечерком из городской управы. Он любил также стоять на верхней ступеньке крыльца, заложив руки за спину. Затем он неторопливо открывал тяжелую дверь, входил в дом, и дверь наглухо закрывалась. Всего в доме было десять комнат — шесть внизу и четыре наверху, не считая кухонь, которых было две, и других подсобных помещений. Бургомистр свез к себе со всего города все, что только нашлось ценного и что не успел взять Мейер. Поэтому дом несколько напоминал мебельный магазин. В некоторых комнатах стояло по два громоздких кожаных дивана, в других — по нескольку столов красного дерева. Столы были расставлены по углам — скорее для симметрии, чем для удобства. Очевидно, всё это предполагалось рано или поздно перевезти в Германию. Конечно, когда в доме поселились ребята, многое пришлось перестроить, переделать, переставить. Музейные вещи отправили в музей, несколько письменных столов и диванов увезли в горсовет и другие учреждения, в которых пока не было ничего, кроме стен. Зато в доме появилось много кроватей, шкафчиков, тумбочек, которых прежде здесь не было. Одни были перенесены из тех домов, где ребята жили прежде, другие удалось разыскать в покинутых квартирах и в разрушенных домах. Часть мебели, собранной бургомистром, Клавдия Федоровна решила оставить в детском доме. Её разместили в столовой, в комнате отдыха, в библиотеке. Получилось очень хорошо, уютно, красиво, совсем не так, как было у бургомистра. То был мебельный склад, а теперь — жилые комнаты. Однако устроиться как следует было не так-то легко. Работе не видно было конца-краю. Но это была веселая и приятная работа. С шумом, со смехом, со спорами перетаскивали ребята с места на место столы, шкафы и диваны, перебирали посуду на полках, развешивали занавеси. Каждому хотелось придумать что-нибудь такое, чтобы другие удивились и похвалили. И только трое ребят почти не принимали участия в этой общей работе. Это были Коля Охотников, Витя Нестеренко и Мая Шубина. Они не ожидали благодарности за совершенную ими разведывательную операцию. Правда, операция эта дала вполне ощутимые результаты — они нашли самого Курта Мейера, они притащили с собой его вещевой мешок и «вальтер», — но всё-таки они хорошо знали, что нарушили дисциплину, ослушались Клавдию Федоровну, которая хотя и разрешила им походить по ближайшим улицам и порасспросить соседей, но совершенно безоговорочно запретила искать картины самим, шарить по всяким углам и закоулкам, а главное — выходить за черту города. И, однако, они даже не могли представить себе, какая над ними разразится гроза. — Я не затем больше полугода как могла старалась спасти вас от смерти, чтобы вы подорвались на первой попавшейся мине, — тихо сказала Клавдия Федоровна, когда они, разгоряченные, взволнованные, усталые, перебивая друг друга, рассказали ей обо всём, что с ними случилось. — И, кроме того, я надеялась, что на ваше слово можно положиться. Оказывается, оно не стоит гроша ломаного. Мне казалось, что вы почти взрослые, а вы маленькие и ещё очень глупые дети, которых надо водить за руку… Все трое молчали. Витя потупился. Мая быстро расплетала и заплетала кончик косы и тоже не смотрела на Клавдию Федоровну. Только Коля Охотников глядел на неё в упор. Лицо у него покрылось красными пятнами, а руки сжались в кулаки. — Это несправедливо, Клавдия Федоровна, — сказал он, как будто что-то глотая. — Мы же всё-таки нашли Курта Мейера… И мешок его принесли. — Вот то-то и плохо, что вы полезли в подвал к Мейеру, — безжалостно сказала Клавдия Федоровна. — Я уж не говорю о том, что вы без разрешения ходили к элеватору — ведь вы могли туда и не дойти, — но будь вы немного умнее, вы бы, услышав стоны, сразу вернулись и позвали первый встречный патруль. Солдаты спустились бы и вытащили Мейера живым. А ваше самоуправство привело только к тому, что он, вероятно, застрелился. Другими словами — ушел от расплаты и унес с собой ценные сведения, какие от него можно было получить. Понятно? А теперь вот что: с этой минуты я запрещаю вам выходить из дому дальше двора, пока я сама не отменю это распоряжение. И если я узнаю, что мое приказание нарушено, — она немного помедлила, — я просто с вами расстанусь. Вас переведут в другой детский дом. Ступайте. Они ушли совершенно подавленные. А она села возле стола, не менее взволнованная и потрясенная, чем они, и задумалась. Правильно ли она поступила, так жестоко развенчав их подвиг? Ведь что ни говори, а это было смело! И потом, они же не знали, кто стонет в подвале. Они просто услышали стон и бросились на помощь. За что же она их так разбранила да ещё наказала?! Нет, нет, это всё-таки было правильно. То, что сейчас обошлось благополучно, в другой раз может и не сойти с рук. В эти суровые дни, когда в городе и вокруг него ещё столько необезвреженных мин, она в первую очередь должна думать о безопасности ребят… Она подняла с полу вещевой мешок Курта Мейера, откинула верхний клапан и заглянула внутрь. Среди консервов, плиток шоколада и пачек с сигаретами темнела довольно толстая записная книжка в черном кожаном переплете. Она сунула в мешок «вальтер», затянула покрепче пряжку клапана, оделась и, взяв мешок, пошла в комендатуру. Часа через два к ней в детский дом пришел Воронцов и попросил разрешения поговорить с ребятами. Он побеседовал с ними минут сорок, а затем, крепко пожав каждому из них руку и поблагодарив, ушел. Это, конечно, с его стороны было не совсем педагогично. Но майор Воронцов, к сожалению, не знал о тревогах Клавдии Федоровны. У него были свои заботы… На другое утро Коля и Витя поднялись ещё затемно. Тихо ступая, чтобы никого не разбудить, прошли в столовую и сели за стол. Они старались спорить негромко, но оба всё больше и больше горячились. — Нет, — говорил Витя, слегка заикаясь от волнения, — н-нет, н-никуда я б-больше не пойду! Достаточно вчерашней истории… Ты что, в самом деле, хочешь, чтобы нас выгнали? — Никто нас не выгонит! — сердито отвечал Коля. — Это она так говорит. Не за что нас выгонять. Ничего мы такого не сделали. В глубине души Коля и сам считал себя виноватым. Больше всего мучило его то, что он не догадался кликнуть патруль. Подумать только: если бы ему пришло в голову послать Витьку вниз, в город, они бы взяли Курта Мейера живьем! Всю ночь он ворочался с боку на бок, мысленно споря с Клавдией Федоровной, представляя себе, как бы они принесли в комендатуру раненого Курта Мейера, если бы всё было сделано как надо и он бы не застрелился… К утру в голове у него созрел новый план. Они с Витькой в полной тайне будут продолжать поиски и докажут… Что докажут, он не договаривал даже себе. Но, кажется, больше всего ему хотелось доказать, что они вовсе не дети, могут довести начатое до конца и при этом поступать продуманно, толково, по-мужски. В городе есть ещё немало закоулков. Даже здесь, рядом… Конечно, всё это рискованно. Но если они найдут картины, то никто не скажет им ни слова. Больше того — и вчерашнее забудется… Предстоящий поход он решил назвать операция «КВ». Название это получилось от соединения начальных букв двух имен — «Коля — Виктор». Правда, правильнее бы было сказать «НВ», но в спешке Коля как-то упустил из виду, что по-настоящему его зовут Николай. После того как операция получила собственное название, ему стало даже весело, вчерашнее показалось пустяками, и ужасно захотелось поскорее всё начать. Улизнуть незаметно из дому — и айда!.. И вдруг все планы рушатся… Да ещё из-за чего? Из-за рассудительного, скучного, благоразумного Витьки! Из-за его лени и трусости! Коля просто задыхался от злости. Он бранился, спорил, убеждал, уговаривал, но всё было напрасно. Витька упрямо стоял на своём: — Сказал, что не пойду, и не пойду! Кончилось тем, что Коля крикнул: — Ну и оставайся! — накинул на плечи ватник и, хлопнув дверью, выбежал во двор. Витя минут десять молча сидел за столом. Пока они с Колей спорили, за окном уже совсем, рассвело. Ночной сумрак понемногу растворился в солнечном морозном сиянии. А дом между тем просыпался. За стеной смеялись девочки. В сенях плескалась вода. Кто-то, топоча ногами, пробежал по коридору. «До завтрака еще добрых полчаса, а то и час, — подумал Витя. — Пойти, что ли, посмотреть — может, он не ушел? Всё-таки одному идти на такое дело страшно…» Он надел своё пальтишко и вышел на крыльцо. Утро было тихое, безветренное. На перилах крыльца лежала полоска снега, такого нежного, пушистого, легкого, что хотелось его потрогать. Витя медленно спустился по заснеженным ступеням. Под ногами похрустывало. Дышалось как-то удивительно глубоко и спокойно. Пройдя несколько шагов, Витя остановился, близоруко оглядываясь. Где же Колька? Неужели всё-таки ушел? Он успел заметить, что в приоткрытую дверь высунулась голова Майи и тут же исчезла. И вдруг он услышал откуда-то из-за погреба голос товарища: — Витька, а Витька!.. Иди-ка сюда!.. Голос был не сердитый, в нем слышались только нетерпение и озабоченность. Почти счастливый оттого, что Коля здесь, во дворе, и никуда не ушел, Витя безропотно пересек двор. Он нашел своего друга в укромном углу между погребом и сараем, на гребне высокого сугроба. Коля стоял, держась за остроконечные доски забора, и смотрел в соседний сад, туда, где совсем ещё недавно среди старых лип и густых кустарников прятался страшный дом гестапо. — Вот что, Виктор, — сказал он деловито: — необходимо осмотреть пожарище. — Чего же там осматривать? — робко спросил Витя. — Всё же сгорело. — А может, не всё. — Всё равно нельзя. Говорю тебе — я не пойду со двора. Коля пожал плечами: — Так ведь это же и есть двор!.. Витя помотал головой: — Не наш. — Нет, наш. Тут теперь пустырь. Никто не живет. Мы даже можем попросить, чтобы забор сняли… Ну что, идешь?.. «Надо ему хоть в чём-нибудь уступить, — подумал Витя: — он же всё-таки не ушел со двора, а ведь ему так хотелось!» Он вздохнул и сказал нехотя: — Ну ладно, пойдем, пожалуй. — Кругом, что ли, или прямо через забор? — Прямо. Они быстро перелезли через забор и, спрыгнув, увязли по колена в глубоком снегу. Пожарище вблизи казалось ещё страшнее и непригляднее, чем издали. От дома сохранился только каменный фундамент. На нем беспорядочной грудой лежали обгорелые балки, куски штукатурки, лопнувшие от жара кирпичи. Мальчики обошли фундамент кругом и остановились. Перед ними были заваленные кирпичом ступеньки, ведущие в подвал, и низкая, обитая железом дверь с толстым незадвинутым засовом. Дверь была приоткрыта. — Войдем? — спросил Коля. — Лучше не надо, — нерешительно ответил Витя. — Сам понимаешь… Коля вдруг рассердился. — Что я понимаю? Ну что я понимаю? — закричал он. — Вот что я тебе скажу, Виктор: если бы эта несчастная Майка не увязалась вчера за нами, всё было бы по-другому. Ведь это она первая полезла вниз, а я бы сообразил, что надо позвать патруль… — Как же! Сообразил бы ты!.. — Говорю тебе — сообразил бы… И ты бы сообразил, только у нас не было времени думать. Она полезла, и нам пришлось лезть. Не оставлять же было её одну… Ух, попадись она мне теперь, я ей так дам!.. — Ну ладно, ладно. Пойдем лучше посмотрим, что там есть, пока Клавдия Федоровна из дому не вышла. Они потянули к себе тяжелую дверь. Она медленно, но плавно отворилась, и мальчики оказались в узком каменном коридоре. Должно быть, он разрезал подвал на две части по всей длине дома, но сейчас им удалось пройти по этому коридору всего пять или шесть шагов. Дальше коридор был завален осыпью кирпича, железа и штукатурки. Только одна дверь налево — ближайшая к входу — уцелела, хоть никакой надобности в ней уже не было: рядом зиял пролом, вдвое более широкий, чем эта тюремная низкая, обитая железом, злая дверь. Мальчики молча осмотрели её, пощупали, заглянули в окошечко. Им обоим было не по себе. — Уж если попадешь за такую дверь, так не выбраться, — тихо сказал Витя. — Бывает, и выбираются, — ответил Коля. Они пролезли в пролом и теперь стояли посреди камеры с серыми бетонными стенами и полом из больших каменных плит. Два узких, закрытых решеткой окошка почти не подымались над уровнем земли. Но в камере было совершенно светло. Бело-голубой зимний свет щедро лился сквозь разрушенный потолок. — Как ты думаешь, здесь расстреливали? — шопотом спросил Витя. — Нет, наверно. Уводили куда-нибудь, — так же тихо ответил Коля. — Представляешь себе: ночь, люди спят вот на этих нарах… Вдруг открывается дверь, кричат: «Выходи!» — и ведут убивать… Ой, смотри, что это?.. — Где? Где? Ничего не вижу… — Да вот, на стене! Над самыми нарами… Смотри, написано… — Верно. Мальчики взобрались на нары и стали внимательно разглядывать неровные, выцарапанные каким-нибудь гвоздем или осколком стекла, неуклюжие буквы. «Федя, молчи!» — приказывал кто-то кому-то. «Валечка, меня убили 27 окт. Вырасти детей» — и подпись. Только никак нельзя её разобрать… — Знаешь что, Витька? — сказал Коля. — Надо позвать Клавдию Федоровну, может она прочтет. Это надо передать. — Угу, — сказал Витя. — А вон там, выше, смотри, какая длинная надпись. Давай-ка прочитаем. И мальчики, привстав на цыпочки, принялись читать. Прошло добрых десять минут, пока они разобрались в этих неверных линиях, царапинах, щербинах, покрывавших бетон. «Товарищи, мы умираем, — было выведено на стене. — Осталось жить три часа. Боритесь, работайте, живите. Мы держались до конца». И пять фамилий: Шубин, Фомичев, Коробов, Самохин, Кондратенко. — Слушай-ка, — сказал вдруг Витя, — а ведь Шубин — это, наверно, отец нашей Маи. Помнишь, он был арестован, да так и пропал… Коля, ничего не отвечая, повернулся к Вите. Он смотрел на него большими потемневшими глазами. Ему вдруг представился отец Маи, ещё молодой худощавый человек в железнодорожной форме. Наверно, это он и писал. Потому и подпись его стоит первой. Да и написано очень высоко, а он как раз высокий был… Разыскивая новые надписи, Коля присел на корточки и с трудом стал разбирать почти скрытое тенью от нар слово, смысл которого полностью никак не мог до него дойти, а когда наконец дошел, Коля даже вздрогнул и невольно схватился за Витино плечо: — Витя, смотри, что здесь написано!.. — Что? Что? — Написано: «Опасайтесь…» Видишь? Виктор взглянул через его плечо, но так ничего и не увидел, кроме каких-то царапин на штукатурке. — Не вижу, — сказал он, поправляя очки. — Хоть убей, не вижу. — Да ты посмотри внимательнее… Ну куда ты смотришь? Вот внизу, у самых нар: «О-па-сай-тесь…» Последние буквы совсем вправо, под нары, ушли. И дальше что-то написано. Наверно, имя того, кого опасаться надо. Только там темно. Не видать ничего… Где бы нам спички достать?.. — Мальчики, вы тут? — вдруг услышали они сверху голос Маи. Подняв головы, они увидели в просвет между двумя балками её раскрасневшееся на морозе лицо. — Как вы туда забрались — по лестнице или через потолок? Я сейчас тоже к вам спущусь. — Нет! — не сговариваясь, крикнули Коля и Витя. И, соскочив с нар, они стремглав выбежали во двор. — Куда же вы? — подозрительно спросила Мая. — Нашли, небось, что-нибудь и прячете… — Просто там ничего хорошего нет, Мая, — как-то по-новому мягко и дружески сказал Коля. — Пойдем лучше отсюда. В других местах поищем. — И он соскочил на землю с кучи битого кирпича. — Ага! Вот тут кто!.. — вдруг послышался откуда-то из-за трубы знакомый голос. — И всюду-то они бегают, всюду бегают!.. Ребята оглянулись. В нескольких шагах от них, на обгорелой балке, стоял Якушкин, зябко поеживаясь в своем стареньком пальто. В руках он держал неизменную металлическую треногу от фотоаппарата, а самый фотоаппарат в потертом кожаном футляре висел у него на ремне через плечо. Темные выпуклые глаза его смотрели сквозь треснувшие очки удивленно, встревоженно и даже как будто недовольно. — Что это вы в подвалах делаете? — ворчливо сказал он, подходя к ним поближе. — Так и хочется вам, видно, на мине подорваться? — А мы только так — вошли, посмотрели и сразу назад, — виновато сказал Виктор. — Назад!.. — усмехнулся Якушкин. — Уж когда мина взорвется, назад не вылезешь!.. — А вы знаете, что мы там видели? — сказал Коля. — Ну что? Что? — не то покашливая, не то посмеиваясь, спросил Якушкин и поправил сбившиеся набок очки. — Цепи какие-нибудь страшные? — И вовсе не цепи, — сказал Виктор, — а стенку с надписями… Там осужденные на смерть свои имена оставили… Коля оттеснил Витю и взволнованно заговорил: — И ещё там о каком-то предателе написано… На стене, под самыми нарами… Сказано — опасайтесь, а кого опасаться, я не разобрал… Там темно. Спички у вас есть?.. Давайте посмотрим! Мая даже руками всплеснула: — Ну не стыдно вам самим всё видеть, а мне неправду говорить! — И она бегом бросилась к заваленной кирпичом лесенке. — Мая!.. Мая!.. Не ходи! — закричал Коля. Но девочка уже исчезла за дверью.
— Вот баловники! — покачал головой Якушкин. — Вот баловники! И ничего-то они не боятся!.. Ну ладно, пойду уж и я посмотрю, что там за надписи такие…
Мелкими шажками, чтобы не зацепиться за какой-нибудь камень, он вслед за Маей кряхтя стал спускаться в подвал.
Мальчики посмотрели друг на друга и медленно пошли вслед за ним.
Но девочка уже исчезла за дверью.
— Вот баловники! — покачал головой Якушкин. — Вот баловники! И ничего-то они не боятся!.. Ну ладно, пойду уж и я посмотрю, что там за надписи такие…
Мелкими шажками, чтобы не зацепиться за какой-нибудь камень, он вслед за Маей кряхтя стал спускаться в подвал.
Мальчики посмотрели друг на друга и медленно пошли вслед за ним.
 Они увидели Маю на нарах. Она стояла, вытянув шею, и читала выцарапанные на бетоне надписи. Её косынка сбилась на затылок, и косички болтались из стороны в сторону, когда она быстро поворачивала голову, выискивая всё новые и новые надписи. Лицо у неё было серьезное, а глаза почти не мигали. Она боялась пропустить хотя бы одно слово, которое могла разобрать на этой скорбной стене. «Хорошо, если бы не увидела», — подумал Коля, замирая от жалости и сочувствия. Но Мая уже всё увидела, всё прочитала и всё поняла. Она вдруг схватилась своими худенькими руками за стену, как раз в том месте, где виднелось глубоко и четко выцарапанное в цементе родное ей имя.
— Папа!.. Папа!.. — закричала она, и слезы ручьем потекли по её лицу.
Мальчики, побледнев, стояли рядом и не знали, что им делать, как утешить её.
— Ах, дети, дети! — сказал Якушкин. — Вот горе-то, вот горе!..
Он подошел к Мае, легонько приподнял и, сняв с нар, поставил на пол.
— Ну, девочка, не плачь. — Он погладил её по голове своей жесткой рукой с длинными узловатыми пальцами, коричневыми от табака. — Слезами не поможешь… А я вот сейчас сфотографирую эту стенку и подарю тебе карточку… Ну, успокойся, успокойся! Мальчики, — обратился он к растерянно стоявшим в стороне Коле и Вите, — отведите-ка вы её домой. Не нужно ей тут находиться.
— Пошли, Мая, — сказал Коля и взял девочку за руку.
Всхлипывая, Мая послушно пошла между Колей и Витей, а Якушкин, расставив треножник, стал приспосабливать аппарат, чтобы навсегда запечатлеть для истории эти последние слова погибших за родину людей.
Когда ребята подходили к пролому в заборе, они не заметили, что за ними, стоя на пороге проходной будки, наблюдает какой-то солдат. Постояв немного и оглядев пожарище, солдат скрылся в будке и захлопнул за собой дверь.
Дети вернулись домой и обо всем рассказали Клавдии Федоровне. Она посадила рыдавшую Маю рядом с собой и долго ласково утешала девочку.
А часа через полтора верный своему слову Якушкин принес Клавдии Федоровне большую, ещё влажную фотографию. На снимке все надписи на стене были видны отчетливо и казались высеченными на граните.
Клавдия Федоровна горячо поблагодарила Якушкина, хотела ему заплатить, но Якушкин от этого наотрез отказался и поспешил уйти, сказав, что он только выполнил свой долг перед маленькой девочкой.
— Пусть у неё останется память об отце. Он погиб как герой…
Подумав, Клавдия Федоровна решила пока не отдавать карточку Мае. Потрясение было слишком сильным, пусть пройдет время.
Они увидели Маю на нарах. Она стояла, вытянув шею, и читала выцарапанные на бетоне надписи. Её косынка сбилась на затылок, и косички болтались из стороны в сторону, когда она быстро поворачивала голову, выискивая всё новые и новые надписи. Лицо у неё было серьезное, а глаза почти не мигали. Она боялась пропустить хотя бы одно слово, которое могла разобрать на этой скорбной стене. «Хорошо, если бы не увидела», — подумал Коля, замирая от жалости и сочувствия. Но Мая уже всё увидела, всё прочитала и всё поняла. Она вдруг схватилась своими худенькими руками за стену, как раз в том месте, где виднелось глубоко и четко выцарапанное в цементе родное ей имя.
— Папа!.. Папа!.. — закричала она, и слезы ручьем потекли по её лицу.
Мальчики, побледнев, стояли рядом и не знали, что им делать, как утешить её.
— Ах, дети, дети! — сказал Якушкин. — Вот горе-то, вот горе!..
Он подошел к Мае, легонько приподнял и, сняв с нар, поставил на пол.
— Ну, девочка, не плачь. — Он погладил её по голове своей жесткой рукой с длинными узловатыми пальцами, коричневыми от табака. — Слезами не поможешь… А я вот сейчас сфотографирую эту стенку и подарю тебе карточку… Ну, успокойся, успокойся! Мальчики, — обратился он к растерянно стоявшим в стороне Коле и Вите, — отведите-ка вы её домой. Не нужно ей тут находиться.
— Пошли, Мая, — сказал Коля и взял девочку за руку.
Всхлипывая, Мая послушно пошла между Колей и Витей, а Якушкин, расставив треножник, стал приспосабливать аппарат, чтобы навсегда запечатлеть для истории эти последние слова погибших за родину людей.
Когда ребята подходили к пролому в заборе, они не заметили, что за ними, стоя на пороге проходной будки, наблюдает какой-то солдат. Постояв немного и оглядев пожарище, солдат скрылся в будке и захлопнул за собой дверь.
Дети вернулись домой и обо всем рассказали Клавдии Федоровне. Она посадила рыдавшую Маю рядом с собой и долго ласково утешала девочку.
А часа через полтора верный своему слову Якушкин принес Клавдии Федоровне большую, ещё влажную фотографию. На снимке все надписи на стене были видны отчетливо и казались высеченными на граните.
Клавдия Федоровна горячо поблагодарила Якушкина, хотела ему заплатить, но Якушкин от этого наотрез отказался и поспешил уйти, сказав, что он только выполнил свой долг перед маленькой девочкой.
— Пусть у неё останется память об отце. Он погиб как герой…
Подумав, Клавдия Федоровна решила пока не отдавать карточку Мае. Потрясение было слишком сильным, пусть пройдет время.
Раздобыв спички, Коля и Витя перед ужином, ни слова не сказав Мае, снова отправились в подвал гестапо. Было уже совсем темно, но мальчики шли по протоптанной тропинке и быстро оказались в камере. Они стали на колени перед нарами, и Коля чиркнул спичку. Неровный желтый свет выхватил из темноты край черных нар, запрыгал по серой шершавой стене. — Теперь видишь? — спросил Коля. Витя смотрел туда, где Коля водил спичкой. — Ничего не вижу, — ответил он. — Дай-ка я сам. Коля передал ему коробок, и Витя зажег вторую спичку. Теперь, водя ею у самой стены, он с трудом разобрал выцарапанное на ней слово: «Опасайтесь…» — Вижу, вижу! — взволнованно сказал он. — А теперь давай свети под самые нары… Что там? Тут спичка догорела и обожгла Витины пальцы. Но, не чувствуя боли, он взял из коробка сразу три спички, сложил их вместе и разом чиркнул. Спички с треском вспыхнули. Витя прикрыл их ладонью и нырнул под нары. — Ну, что там? Что там? — нетерпеливо спрашивал его Коля. Витя долго молчал, пыхтел, затем, когда свет совсем сник и в камере опять стало темно, вылез обратно. — Ничего там не разобрать, — сказал он. — Имя, может, и было, да там штукатурка осыпалась. Ничего не разберешь. — Ври! Коля сам забрался под нары, исчиркал чуть ли не целую коробку спичек, но так ничего и не разглядел. Белая осыпь штукатурки грядкой лежала на бетонном полу, и от окончания надписи на стене почти ничего не осталось. Ребята вернулись домой, и хотя, им было трудно признаться Клавдии Федоровне в том, что они нарушили её строгое приказание, всё-таки они рассказали ей обо всём, что видели. Клавдия Федоровна выслушала их молча, а потом сказала, что они поступили хорошо, ничего не утаив от неё. Ребята, довольные, пошли в свою комнату. Так окончилась операция «КВ».
СТРЕМЯННОЙ ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗАНИЕ
«И не такие крепости брали!..» — сказал Ястребов. Это-то верно, брали и не такие, а эту — маленькую, окованную железными полосами и усыпанную узорчатыми бляшками — взять пока не удавалось. В распоряжении Стремянного были орудия, снаряды, мины, гранаты — огромное количество взрывчатых веществ, — но среди них не было такого, которое могло бы помочь ему взломать проклятый сундук, не уничтожив содержимого. Даже танком его нельзя было раздавить. Танк просто-напросто сплющит его, и тогда уже совсем ничего не достанешь, пиши пропало. Стремянной собрал вокруг сундука небольшой, но весьма авторитетный совет. Он позвал старшего инженера, начальника артиллерии дивизии и командира саперного батальона. Все трое долго рассматривали сундук, измеряя толщину стенок, прикидывали так и этак, как бы его взломать. Начальник артиллерии покашлял, покачал головой, но мнения своего так и не высказал. Инженер предложил взрезать сундук автогеном, но тут же высказал предположение, что высокая температура может повредить бумаги. Только опытный в подрывных делах сапер, обстукав сундук со всех сторон и прикинув его габариты, заявил, что он берется взорвать сундук толом и ручается, что содержимое уцелеет. Стремянной приказал подготовить всё для взрыва и доложил об этом командиру дивизии. — Хорошо, — сказал Ястребов. — Взрывайте. Только смотрите рассчитайте точно — как бы не уничтожить бумаги вместе с сундуком. Да, Стремянной понимал это со всей ясностью, и поэтому, несмотря на то что решение было уже принято, он всё ещё продолжал думать, нельзя ли открыть сундук каким-нибудь менее опасным для документов способом. А думать уже было некогда. Время было горячее. Командующий армией прислал дополнительные указания. Штаб дивизии начал свертываться, чтобы вскоре покинуть город. Конечно, об укрепленном районе было собрано уже много данных — их доставляла разведка, войска с переднего края, сведения о нём сообщали из штаба армии и даже из Москвы, — но всё же карта — это важный документ, и нужно сделать всё, чтобы её получить. Собирая со стола бумаги, Стремянной наткнулся на перевод записок Курта Мейера, которые он так и не успел прочесть. Он мельком, стоя у стола, проглядел эти несколько зажатых скрепкой страниц, и вдруг что-то привлекло его внимание. Так ли уж они невинны, эти личные записи Курта Мейера? Нет ли в них чего-нибудь относящегося к делу? Он сел на стул и, положив перед собой листки, принялся перечитывать их сначала. Что ж, надо отдать справедливость этому Курту Мейеру — каждая его запись была черточкой, из которой постепенно складывался довольно выразительный портрет. Стремянной вспомнил фотографии, которые показал ему фотограф Якушкин, и другие, найденные в архивах гестапо. Белокурый плотный и плечистый человек. Крупная голова, широкий подбородок, короткий, чуть вздернутый нос… Лицо самодовольное, уверенное, грубое… Красноречивые снимки! И, однако, убористые строчки записной книжки говорят ещё больше, чем они. Вот совсем лаконичные записи: «11 сентября 1942 года расстреляно 150 человек». «25 сентября — 176 чел. Двое сопротивлялись. Убиты на месте». Далее Курт Мейер подробно описывал октябрьское наступление. Восхищался необычайной живописностью боевого зрелища, но тут же отмечал, что русские летчики его скоро испортили, и ругал какого-то капитана Фрея, который пришел к нему с письмом от умирающей жены и попросил отпуск. Он пообещал Фрею послать его вместо Мюнхена на передовую. «Слабость не для немецкого солдата. Умрет жена — будет другая. В Германии теперь много вдов». Но несколько записей привлекли внимание Стремянного. «4 ноября. Бургомистр начинает раздражать меня. Слишком много самомнения. Он уверен, что один на свете знает, как надо обращаться с русскими. Интриган! Однако в Берлине у него связи. Его признают одним из лучших специалистов по русскому вопросу и хотят, чтобы в России его продолжали считать русским. Я не возражаю. Пускай он здесь останется до смерти и даже после смерти со всеми своими столами, мехами и диванами… Но надо отдать справедливость — у него удивительный нюх. Я не предполагал, что в таком маленьком городе можно так много набрать». «15 декабря. Эта свинья бургомистр! Поручил ему организовать на базаре облаву, а он и этого не сумел. Идиот!.. А еще уверяет, что расправится со всеми подпольщиками и партизанами и что будто бы скоро добьется их полного доверия. Сегодня был в местном музее. На мой взгляд, ничего интересного, но Митци сказала, что некоторые картины имеют большую ценность». Дойдя до этого места, Стремянной невольно остановился. Вот как! Значит, Курт Мейер ещё два месяца назад приметил добычу. Интересно! Стремянной внимательно проглядел дневник до конца, выискивая записи, касающиеся военной обстановки. Нет, об этом больше ничего не было сказано. Зато всё чаще и чаще попадались заметки, касающиеся бургомистра. Очевидно, отношения этих двух гестаповцев портились с каждым днем. «Этому карьеристу решительно нельзя доверять! — писал Мейер. — Уверен, что он каждый день пишет на меня доносы. Но мы ещё посмотрим, кто кого». «На самом деле это просто дурак, — писал он в другом месте. — Провинциал! Напускает на себя таинственность, говорит загадками. Обыкновенный шпион, от которого отрекаются, когда он больше не нужен. Разгадать его так же легко, как открыть сундук, которым он так гордится. Я только один раз видел, как он его открывал, и с меня довольно. Большая Медведица! Малая Медведица!» Стремянной вдруг поднял голову. Внезапная догадка заставила его встать с места и раза два пройти из угла в угол. Всё это, конечно, может быть простая шутка. Ирония, так сказать. Но ведь Большая Медведица — не выдумка. Кнопки на сундуке расположены именно в этом порядке. А что, если Малая Медведица — ключ к потайному отделению? Следовало бы попробовать. Только как она выглядит, эта Малая Медведица? Придется спросить метеоролога. Вызвать его, что ли? Нет, лучше самому сходить. А потом сразу к Воронцову — сундук-то ведь теперь у него стоит. Что, если в самом деле?.. Стремянной сунул в карман листки дневника и вышел, на ходу натягивая полушубок.ВОРОНЦОВ УДИВЛЯЕТ СТРЕМЯННОГО
Когда Стремянной вошел в Особый отдел, Воронцов молча поднялся с места, бросил папиросу и, ни о чем не спрашивая, провел его в соседнюю маленькую комнатку. Там, придвинутый к стене, стоял на полу знаменитый кованый сундук. — А я думал, что вы уже решили взорвать его, — сказал Воронцов. — Решил, — ответил Стремянной, — но тут, видите ли, такое обстоятельство… Наткнулся случайно на несколько строчек в дневнике Курта Мейера, и вздумалось попробовать ещё раз. Да вот прочтите сами!.. — И он протянул Воронцову листок, на котором синим карандашом были подчеркнуты слова: «Большая Медведица» и «Малая Медведица». Воронцов медленно и сосредоточенно прочел покрытый частыми машинными строчками листок. — Н-да, может быть, может быть… — сказал он. — Ну что ж, колдуйте. Не буду вам мешать. Он присел на подоконник, закурил и, щуря от дыма один глаз, принялся издали наблюдать за Стремянным. Стремянной склонился над сундуком. Он открыл сундук обычным, знакомым ему способом. Третья кнопка в первом ряду, шестая — во втором, пятая — в третьем… Поворот ромашки, раковины — и всё готово. Крышка легко поднимается. Он заглянул внутрь. Ничто не изменилось. Гладкое полированное дно блестит, как зеркало. И в голову не придет, что его можно поднять. Он снова опустил крышку и, сверяясь со схемой созвездия, нарисованного метеорологом на листке бумаги, принялся осторожно, неторопливо подбирать кнопки так, как расположены звезды Малой Медведицы. Первые две кнопки нашлись сразу, и это были не те кнопки, какие надо было нажать, чтобы поднять верхнюю крышку. — Так, — с удовольствием сказал Стремянной. Очевидно, он находился на верном пути. Над поисками третьей кнопки ему пришлось порядком повозиться. Но это его уже не смущало. Курт Мейер все-таки навел его на правильный след. Просто интервалы между отдельными точками мастер соблюдал не совсем точно по звездному чертежу. Вот и четвертая кнопка и пятая… Все найдены и нажаты, а сундук всё равно не открывается. Железное дно не сдвинулось и на миллиметр. От досады и сознания своего бессилия Стремянной изо всех сил ударил кулаком по крышке. Каких-нибудь несколько сантиметров железа отделяли его от планов. Теперь-то он был совершенно убежден, что они там. Воронцов, до сих пор внимательно наблюдавший со своего места, как Стремянной, словно слепец, читающий на ощупь, касался кончиками пальцев разных кнопок, вдруг, словно потеряв терпение, встал и подошел к сундуку. — Есть одна странность в том, что вы делаете, — сказал он. Стремянной обернулся: — Какая же? — А вот сейчас объясню! Когда вы открывали верхнюю часть сундука, то сначала нажали семь кнопок, расположенных по контуру Большой Медведицы, а потом повернули раковину и ромашку. Так или не так? — Точно, — согласился Стремянной. — А сейчас вы почему-то отказались от этого принципа. Это сознательно? Стремянной взглянул на сосредоточенное лицо Воронцова и отрицательно тряхнул головой: — Нет. Просто мне почему-то показалось, что тут не может быть повторения. — А вы попробуйте, повторите. — Сейчас. Он опустился на колени, снова нажал все кнопки по порядку, а затем повернул раковину и ромашку. Но на этот раз, по какому-то наитию, он повернул их в другую сторону.
И вдруг в глубине сундука что-то щелкнуло.
Не помня себя от радости, Стремянной открыл крышку и увидел, что полированное, блестящее дно поднялось кверху. Он запустил в него руку, сначала по локоть, потом по плечо, затем нагнулся ещё ниже и стал шарить обеими руками. Воронцов со сдержанной улыбкой наблюдал за его стремительными движениями.
Он опустился на колени, снова нажал все кнопки по порядку, а затем повернул раковину и ромашку. Но на этот раз, по какому-то наитию, он повернул их в другую сторону.
И вдруг в глубине сундука что-то щелкнуло.
Не помня себя от радости, Стремянной открыл крышку и увидел, что полированное, блестящее дно поднялось кверху. Он запустил в него руку, сначала по локоть, потом по плечо, затем нагнулся ещё ниже и стал шарить обеими руками. Воронцов со сдержанной улыбкой наблюдал за его стремительными движениями.
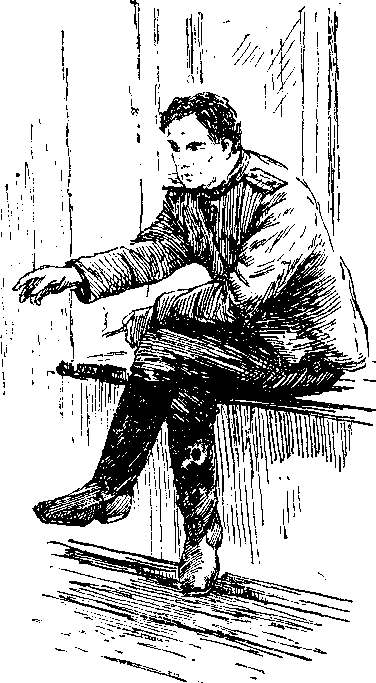 Наконец Стремянной в полной растерянности поднялся на ноги.
— Чорт знает что такое! Ничего не понимаю! — сказал он.
— Сундучок-то, оказывается, пуст, — спокойно произнес Воронцов, только теперь заглядывая внутрь. — В тайнике-то ничего и нет…
— Ничего! — сказал Стремянной. Он с шумом захлопнул верхнюю крышку и тяжело опустился на неё. — Ведь я был совсем уверен!..
Воронцов глубже затянулся дымом и снова отошел к окну.
— А вот я, по правде, так и думал, что мы здесь ничего не найдем, — сказал он. — Дело ведь гораздо сложнее, чем кажется…
— Что вы хотите сказать?
Воронцов показал папиросой в сторону сундука:
— Обнаружить второе дно и даже открыть его вот в этой трофейной рухляди не так уж, в конце концов, сложно, товарищ Стремянной. Гораздо сложнее бывает найти и открыть второе дно у человека. Тем более, что есть люди не только с двойным, но даже с тройным дном и гораздо хитрее замаскированным, чем у нашего сундука.
Стремянной встал.
— Теоретически вы правы, майор, но, к сожалению, от этого не легче. Планов-то ведь нет! Мы их не нашли…
— Потерпите ещё немного, — сказал Воронцов. — Может быть, и найдем. У меня есть ещё кое-какие надежды.
Стремянной опустился на сундук:
— Позвольте!.. Позвольте!.. Я что-то не понимаю…
Воронцов кивнул головой:
— Это потому, что вы всего не знаете.
— Чего же это я не знаю?
Воронцов не успел ответить. В комнату постучали, и на пороге появился сержант Анищенко. На этот раз лицо его радостно улыбалось, и, казалось, всего его так и распирало желание рассказать о чем-то важном.
— Разрешите доложить, товарищ майор?
— Ну что? Что? — спросил Воронцов, и глаза его блеснули.
— Всё в порядке, товарищ майор.
— Где же всё в порядке, когда он ко мне не звонит?
— Сейчас позвонит, товарищ майор… Как вы приказали, он пошлет его к вам за наградой…
— Ну, а карандаш затачивали?
— Затачивали, товарищ майор.
— Ну, и что?
— Да всё в порядке, товарищ майор. Как вы предполагали. — Анищенко потоптался на месте. — Можно мне вам сказать два слова по секрету?
Воронцов вышел вместе с ним за дверь и через минуту вернулся гораздо более оживленным, почти веселым, открыл стол и положил в него какой-то маленький сверточек, не больше чем со спичечную коробку.
— Я очень прошу вас, товарищ Стремянной, — сказал он, — побудьте здесь. Мне на минутку нужно сходить к Кузьминой. А вы послушайте, пожалуйста, телефон.
— Хорошо, — сказал Стремянной.
Он чувствовал, что готовится что-то важное и неожиданное, и с интересом ждал развязки.
Воронцов накинул шинель и ушел. И Стремянной несколько минут сидел в полной тишине.
Вдруг на столе загудел телефон.
— Слушаю, — сказал Стремянной в трубку.
Он услышал знакомый тенорок председателя городского совета.
— Товарищ Воронцов?
— Нет, не Воронцов, а Стремянной… Слушаю вас, Сергей Петрович.
— Что это, телефонист ошибся? Я же не к тебе звонил.
— Нет, нет, правильно. Воронцов вышел, а я его, так сказать, заменяю.
— Ну хорошо… К тебе я хотел звонить попозже! — Голос Иванова звучал как-то особенно радостно. — Поздравляю тебя, товарищ Стремянной!
— С чем, Сергей Петрович?
— Картины найдены!.. Они у меня в кабинете!.. Все десять штук.
— Кто же их нашел? — спросил Стремянной.
Туман начал проясняться: так вот чего ожидал Воронцов!..
— Фотограф Якушин! Я его сейчас к Воронцову послал за наградой.
— Почему к Воронцову? Разве он у нас наградами ведает?
— Не знаю. Так Воронцов распорядился. Это уж ты его спроси!.. Ну, прощай! Будь здрав!.. Заходи поглядеть на картины!..
Стремянной положил трубку. В комнату уже входил Воронцов, раскрасневшийся от быстрой ходьбы. Он обернулся на пороге и кому-то приказал:
— Кузьмину проводите в крайнюю комнату, а Якушкина — сразу ко мне!
— Ты что это, товарищ Воронцов, начальником наградного отдела стал? —улыбнувшись, спросил Стремянной.
— А что, Иванов звонил?
— Звонил.
Воронцов снял шинель и сел за стол.
— Конечно, тут есть некоторая неловкость, — улыбнулся он. — Но сейчас, как ты увидишь, это уже не имеет значения.
— А вот я ничего не понимаю, — сказал Стремянной — Какое отношение к нашему делу имеет Якушкин?
— Думаю, что прямое…
— Ах, вот как!.. Но если Якушкин в чем-то замешан, то ведь лучше всего было бы разоблачить его внезапно…
Воронцов покачал головой:
— Это не всегда правильно. Сейчас, когда он сюда идет, он предполагает, что я что-то знаю. Но что именно, вот этого он пока понять не может. Он даже убежден, что если я что-нибудь и знаю, то очень немногое.
— А вдруг он попытается убежать?
— Не побежит, — твердо оказал Воронцов. — Во-первых, его сопровождают, а во-вторых, попытка побега его окончательно разоблачит.
— А если он покончит жизнь самоубийством? — предположил Стремянной.
После постигших его неудач Стремянной боялся, что и эта вдруг возникшая возможность овладеть секретом укрепрайона ещё раз может в самый последний момент обмануть его ожидания.
— Нет, этого не случится, хотя бы по той простой причине, что у него связаны руки.
Стремянной рассердился:
— Товарищ Воронцов, прошу вас объяснить толком, что здесь, наконец, происходит!..
— Пожалуйста…
Но тут за стеной послышались голоса, дверь раскрылась, и в комнату вошел Анищенко, а за ним Якушкин со связанными за спиной руками; двое солдат с автоматами остановились на пороге, ожидая приказаний.
Наконец Стремянной в полной растерянности поднялся на ноги.
— Чорт знает что такое! Ничего не понимаю! — сказал он.
— Сундучок-то, оказывается, пуст, — спокойно произнес Воронцов, только теперь заглядывая внутрь. — В тайнике-то ничего и нет…
— Ничего! — сказал Стремянной. Он с шумом захлопнул верхнюю крышку и тяжело опустился на неё. — Ведь я был совсем уверен!..
Воронцов глубже затянулся дымом и снова отошел к окну.
— А вот я, по правде, так и думал, что мы здесь ничего не найдем, — сказал он. — Дело ведь гораздо сложнее, чем кажется…
— Что вы хотите сказать?
Воронцов показал папиросой в сторону сундука:
— Обнаружить второе дно и даже открыть его вот в этой трофейной рухляди не так уж, в конце концов, сложно, товарищ Стремянной. Гораздо сложнее бывает найти и открыть второе дно у человека. Тем более, что есть люди не только с двойным, но даже с тройным дном и гораздо хитрее замаскированным, чем у нашего сундука.
Стремянной встал.
— Теоретически вы правы, майор, но, к сожалению, от этого не легче. Планов-то ведь нет! Мы их не нашли…
— Потерпите ещё немного, — сказал Воронцов. — Может быть, и найдем. У меня есть ещё кое-какие надежды.
Стремянной опустился на сундук:
— Позвольте!.. Позвольте!.. Я что-то не понимаю…
Воронцов кивнул головой:
— Это потому, что вы всего не знаете.
— Чего же это я не знаю?
Воронцов не успел ответить. В комнату постучали, и на пороге появился сержант Анищенко. На этот раз лицо его радостно улыбалось, и, казалось, всего его так и распирало желание рассказать о чем-то важном.
— Разрешите доложить, товарищ майор?
— Ну что? Что? — спросил Воронцов, и глаза его блеснули.
— Всё в порядке, товарищ майор.
— Где же всё в порядке, когда он ко мне не звонит?
— Сейчас позвонит, товарищ майор… Как вы приказали, он пошлет его к вам за наградой…
— Ну, а карандаш затачивали?
— Затачивали, товарищ майор.
— Ну, и что?
— Да всё в порядке, товарищ майор. Как вы предполагали. — Анищенко потоптался на месте. — Можно мне вам сказать два слова по секрету?
Воронцов вышел вместе с ним за дверь и через минуту вернулся гораздо более оживленным, почти веселым, открыл стол и положил в него какой-то маленький сверточек, не больше чем со спичечную коробку.
— Я очень прошу вас, товарищ Стремянной, — сказал он, — побудьте здесь. Мне на минутку нужно сходить к Кузьминой. А вы послушайте, пожалуйста, телефон.
— Хорошо, — сказал Стремянной.
Он чувствовал, что готовится что-то важное и неожиданное, и с интересом ждал развязки.
Воронцов накинул шинель и ушел. И Стремянной несколько минут сидел в полной тишине.
Вдруг на столе загудел телефон.
— Слушаю, — сказал Стремянной в трубку.
Он услышал знакомый тенорок председателя городского совета.
— Товарищ Воронцов?
— Нет, не Воронцов, а Стремянной… Слушаю вас, Сергей Петрович.
— Что это, телефонист ошибся? Я же не к тебе звонил.
— Нет, нет, правильно. Воронцов вышел, а я его, так сказать, заменяю.
— Ну хорошо… К тебе я хотел звонить попозже! — Голос Иванова звучал как-то особенно радостно. — Поздравляю тебя, товарищ Стремянной!
— С чем, Сергей Петрович?
— Картины найдены!.. Они у меня в кабинете!.. Все десять штук.
— Кто же их нашел? — спросил Стремянной.
Туман начал проясняться: так вот чего ожидал Воронцов!..
— Фотограф Якушин! Я его сейчас к Воронцову послал за наградой.
— Почему к Воронцову? Разве он у нас наградами ведает?
— Не знаю. Так Воронцов распорядился. Это уж ты его спроси!.. Ну, прощай! Будь здрав!.. Заходи поглядеть на картины!..
Стремянной положил трубку. В комнату уже входил Воронцов, раскрасневшийся от быстрой ходьбы. Он обернулся на пороге и кому-то приказал:
— Кузьмину проводите в крайнюю комнату, а Якушкина — сразу ко мне!
— Ты что это, товарищ Воронцов, начальником наградного отдела стал? —улыбнувшись, спросил Стремянной.
— А что, Иванов звонил?
— Звонил.
Воронцов снял шинель и сел за стол.
— Конечно, тут есть некоторая неловкость, — улыбнулся он. — Но сейчас, как ты увидишь, это уже не имеет значения.
— А вот я ничего не понимаю, — сказал Стремянной — Какое отношение к нашему делу имеет Якушкин?
— Думаю, что прямое…
— Ах, вот как!.. Но если Якушкин в чем-то замешан, то ведь лучше всего было бы разоблачить его внезапно…
Воронцов покачал головой:
— Это не всегда правильно. Сейчас, когда он сюда идет, он предполагает, что я что-то знаю. Но что именно, вот этого он пока понять не может. Он даже убежден, что если я что-нибудь и знаю, то очень немногое.
— А вдруг он попытается убежать?
— Не побежит, — твердо оказал Воронцов. — Во-первых, его сопровождают, а во-вторых, попытка побега его окончательно разоблачит.
— А если он покончит жизнь самоубийством? — предположил Стремянной.
После постигших его неудач Стремянной боялся, что и эта вдруг возникшая возможность овладеть секретом укрепрайона ещё раз может в самый последний момент обмануть его ожидания.
— Нет, этого не случится, хотя бы по той простой причине, что у него связаны руки.
Стремянной рассердился:
— Товарищ Воронцов, прошу вас объяснить толком, что здесь, наконец, происходит!..
— Пожалуйста…
Но тут за стеной послышались голоса, дверь раскрылась, и в комнату вошел Анищенко, а за ним Якушкин со связанными за спиной руками; двое солдат с автоматами остановились на пороге, ожидая приказаний.
 — Ну, Якушкин, вот вы и пришли за наградой!.. — сказал Воронцов. — Анищенко, развяжите-ка ему руки… Садитесь, Якушкин!.. Давайте разговаривать.
Сержант положил на стол фотоаппарат, треногу, пакет с вещами, отобранными у Якушкина при личном обыске, быстро развязал ему руки и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Несмотря на приглашение сесть, Якушкин продолжал стоять, растирая затекшие ладони. Во всём его облике была такая растерянность и пришибленность, что Стремянной невольно подумал, не ошибся ли Воронцов. Ничего страшного не было в этом узкоплечем, бледном человеке.
— Ну, Якушкин, вот вы и пришли за наградой!.. — сказал Воронцов. — Анищенко, развяжите-ка ему руки… Садитесь, Якушкин!.. Давайте разговаривать.
Сержант положил на стол фотоаппарат, треногу, пакет с вещами, отобранными у Якушкина при личном обыске, быстро развязал ему руки и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Несмотря на приглашение сесть, Якушкин продолжал стоять, растирая затекшие ладони. Во всём его облике была такая растерянность и пришибленность, что Стремянной невольно подумал, не ошибся ли Воронцов. Ничего страшного не было в этом узкоплечем, бледном человеке.
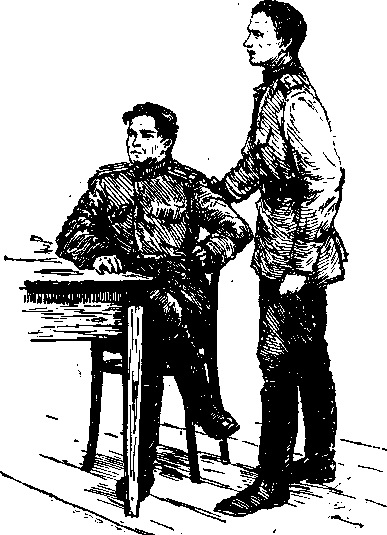 — Что же это такое, товарищ Воронцов? — жалобно спросил Якушкин. — Хватают у выхода из горсовета! Вяжут руки!.. И всё это за то, что я преданно разыскивал картины? И разыскал их… Не так ли?.. И не я ли помог разоблачению предателей? — Он повернулся к Стремянному: — А вот вы, товарищ начальник, вы же видели, как я бургомистра опознал? Так за что?.. За что?..
Якушкин закрыл лицо руками и так стоял несколько секунд, словно стремясь справиться с охватившим его отчаянием.
— Садитесь. Садитесь, Якушкин!.. — сказал Воронцов. — Сейчас мы во всём разберемся, допущена ошибка или нет…
Якушкин покорно подсел к столу, положил руки на колени, всем своим видом показывая, что готов помочь разобраться в этом горестном недоразумении.
— Вот что, Якушкин: от вас зависит очень многое… Во-первых, ваша собственная судьба. Поэтому отвечайте на вопросы правдиво, — сказал Воронцов, придвигая к себе поближе пакет с отобранными у него вещами. — Где вас обыскивали?
— В комнате при входе.
— Вы всё отдали?
— Всё.
— Ну, так посмотрим, что у вас…
Майор развернул газету, и Стремянной увидел смятый носовой платок, связку ключей, очевидно от дома, где жил Якушкин, сломанный перочинный нож, монеты, несколько десятирублевых кредиток. Тут же были какие-то сильно истрепанные удостоверения, паспорт… В общем, как будто ничего интересного. Воронцов развернул платок, осмотрел его, отложил в сторону, затем пересчитал монеты, одну из них он задержал в руках, поболтал в воздухе связкой ключей, не выпадет ли что-нибудь из горловинок, мельком взглянул на удостоверения и паспорт.
Якушкин спокойно наблюдал за тем, как Воронцов перебирает немудреное содержимое его карманов.
— И не стыдно вашим людям старого человека так обижать! — сказал он, когда осмотр закончился и, по всей видимости, не дал Воронцову ничего существенного. — Ну зачем вам всё это? Неужели уж я не могу иметь в кармане носовой платок и ключи от квартиры?
— Конечно, можете, — согласился Воронцов.
— Так верните мне всё это.
— Подождите, подождите, не сейчас… — Воронцов отодвинул вещи на край стола. — Скажите, Якушкин, — неожиданно спросил он, — где вы жили до войны?
Якушкин несколько растерялся:
— Я?.. До сорокового года жил в Западной Белоруссии, в городе Лида…
— Так… А потом? Как вы оказались здесь?
Якушкин подался вперед и горячо заговорил:
— Видите ли, при Пилсудском я очень нуждался. Много лет голодал. Когда стало возможно вернуться в Россию, я, одинокий, старый человек, решил поехать в один из маленьких степных городков, где много вишен, приволье, покой, и дожить здесь свои последние дни…
— Хорошо, — сказал Воронцов. — Складно у вас получилось, даже как-то поэтично… — Он оперся локтями о стол и подался грудью вперед. — А вот скажите, Якушкин, как к вам попали картины?.. Где вы их нашли?
Якушкин удивленно пожал плечами:
— Все искали, и я искал… Только, очеидно, я искал более удачливо, чем другие… А нашел я их в подвале гестапо, под нарами… Меня туда ребята из детского дома затащили показать стену с надписями погибших. Вот я случайно и обнаружил…
Воронцов взглянул на Стремянного и усмехнулся краешком губ, как бы призывая внимательно следить за ходом допроса. Стремянной всё это время пристально наблюдал за Якушкиным и заметил, что за его внешним спокойствием кроется настороженность.
— Значит, все искали, и вы искали, — сказал Воронцов. — Хорошо. — Он вдруг встал и, обойдя вокруг стола, сел напротив Якушкина. — А если я вам скажу, что картины вы взяли не в подвале гестапо, а в элеваторе?.. В тот самый вечер, когда там были ребята из детского дома, вы тоже побывали там и забрали оттуда картины, которые из машины перетащил туда Курт Мейер. Это было самое ценное из того, что он, раненый, мог унести с собой… Что бы вы на это ответили?
Якушкин пожал плечами:
— Это уж вы совсем зря! Ни в каком элеваторе я не был… Правда, я встретил на дороге детей, они мне рассказали о своем походе, но я не был… И зачем мне туда идти?..
— Мы не дети, — строго сказал Воронцов. — В ту же ночь вы перенесли картины в одно укромное место, а затем решили их «найти»… Сделать подарок советской власти!.. И могу вам сказать точно: до последнего дня их не было в подвале гестапо…
— Ну, а где они были раньше, мне неизвестно, — сказал Якушкин. — Где я их нашел, там и нашел.
Воронцов опять подался вперед:
— Хорошо. А зачем вы, Якушкин, соскребли под нарами имя предателя? Помните, там написано «Опасайтесь…» Это слово вы оставили, а вот имя стерли…
— Я ничего не стирал… Ничего не знаю… Какая надпись?.. Какое имя?..
Воронцов придвинул к себе газету с вещами и вытащил из неё нож со сломанным лезвием.
— Где вы сломали этот нож, Якушкин?
— Уж не помню, — наморщил лоб фотограф. — Как-то однажды неудачно открывал консервную банку…
Воронцов встал, вернулся на свое место, вытащил из ящика стола тот маленький сверточек и развернул его. Якушкин, вытянув шею, следил за тем, что делает майор, заглядывая в развернутый пакетик, но, должно быть, ничего не видел. Стремянной встал и подошел поближе. На бумаге лежал какой-то блестящий кусочек железа.
— Смотрите сюда, Якушкин. — Воронцов приложил сломанное лезвие к кусочку металла: сразу стало ясно, что кусочек металла был кончиком лезвия. — Вы очень торопились и сломали нож. И вот вам недостающая часть… Она была найдена под нарами. Что вы на это скажете?
Якушкин нервно потер ладонями свои колени.
— Ничего не скажу! — резко бросил он и вдруг глубоко закашлялся. — Дайте… дайте мой платок.
— Возьмите. — Воронцов вынул из кармана свой и протянул Якушкину. — Он совершенно чистый, только что из чемодана.
Но Якушкин уже перестал кашлять и с замкнутым лицом исподлобья наблюдал за Воронцовым.
— Товарищ Стремянной, подойдите-ка поближе, — сказал Воронцов, который в это время снова разглядывал вещи фотографа. — Вот интересное открытие… Смотрите. Воронцов разостлал перед собой старый платок Якушкина и кончиком лезвия безопасной бритвы, которое он хранил между листками своей записной книжки, осторожно отрезал один из уголков платка… Тотчас же из полой части широкого рубчика на стол выпала маленькая черная пилюля.
— Яд, — сказал Воронцов. — Стоит раздавить сквозь платок зубами пилюлю — мгновенная смерть! — Он закатал пилюлю в кусочек бумаги и спрятал в спичечную коробку. — Ну, Якушкин, теперь вы будете разговаривать?
Якушкин, не поворачивая головы, краем глаза посмотрел на Воронцова. Он как-то сгорбился и ещё больше постарел, голова глубоко ушла в плечи.
— Говорите же. Я слушаю, — спокойно сказал Воронцов.
— Да, действительно я был связан с гестапо, — глухо проговорил Якушкин. — Но только как фотограф… Они не давали мне покоя… Когда я отказывался снимать расстрелы советских людей, они грозили мне смертью… Из-за этого в городе стали считать меня предателем… Я мучительно переживал это, но не мог вырваться из-под власти гестапо… Но вот пришли вы, и я решил, что этот кошмар окончен навсегда. Я старался доказать, что я не предатель. Поэтому так активно стал вам помогать… Да, я старался завоевать доверие, мне казалось, что разоблачением врагов я хоть в малой степени этого добьюсь… Да, я стер имя предателя под нарами… Это было моё имя…
— Это всё, что вы имеете сказать? — спросил Воронцов.
— Всё, — ответил Якушкин.
— Всё до конца? — переспросил Воронцов, акцентируя на последнем слове.
— Всё до конца… Да, вот… что касается яда… Мне его подарил Курт Мейер из жалости, на случай, если партизаны схватят меня как предателя и я не смогу доказать свою невиновность.
— И пять минут назад вам показалось, что вы это не сможете сделать?
Якушкин испуганно поднял руку:
— Нет, нет, что вы!
— Однако вы просили у меня платок… Ну хорошо, хорошо, — словно поверив ему, сказал Воронцов. — Объяснения, которые вы мне дали, логичны…
Якушкин с облегчением вздохнул. Тыльной стороной ладони он отер со лба пот.
Стремянной с любопытством смотрел на этого человека.
«Вот и открылось второе дно», — подумал он и невольно взглянул на Воронцова.
Воронцов смотрел на Якушкина. Он перегнулся через стол, и во взгляде его было что-то такое пристальное, напряженное, острое, что Стремянной, поймав этот взгляд, невольно спросил себя: «Почему он так смотрит? Неужели тут есть и третье дно?»
В эту минуту Воронцов поднялся со своего места и коротким движением руки бросил перед Якушкиным какую-то монету — вернее, неправильно обрубленный кусок медной пятикопеечной монеты, вынутой из платка.
Увидев монету, Якушкин отшатнулся. Кровь отлила от его раскрасневшегося, потного лица.
— Ну что ж, Якушкин, кончайте свою игру, — негромко сказал Воронцов. — Кузьмина в соседней комнате — у неё другая половина монеты. Очную ставку хотите?
— Нет, не надо. — Якушкин обнажил свои желтые зубы. Можно было подумать, что он готов вцепиться в горло Воронцова.
— Товарищ Стремянной, — сказал Воронцов, — разрешите вам представить: перед вами агент гестапо Т-А-87!..
— Что же это такое, товарищ Воронцов? — жалобно спросил Якушкин. — Хватают у выхода из горсовета! Вяжут руки!.. И всё это за то, что я преданно разыскивал картины? И разыскал их… Не так ли?.. И не я ли помог разоблачению предателей? — Он повернулся к Стремянному: — А вот вы, товарищ начальник, вы же видели, как я бургомистра опознал? Так за что?.. За что?..
Якушкин закрыл лицо руками и так стоял несколько секунд, словно стремясь справиться с охватившим его отчаянием.
— Садитесь. Садитесь, Якушкин!.. — сказал Воронцов. — Сейчас мы во всём разберемся, допущена ошибка или нет…
Якушкин покорно подсел к столу, положил руки на колени, всем своим видом показывая, что готов помочь разобраться в этом горестном недоразумении.
— Вот что, Якушкин: от вас зависит очень многое… Во-первых, ваша собственная судьба. Поэтому отвечайте на вопросы правдиво, — сказал Воронцов, придвигая к себе поближе пакет с отобранными у него вещами. — Где вас обыскивали?
— В комнате при входе.
— Вы всё отдали?
— Всё.
— Ну, так посмотрим, что у вас…
Майор развернул газету, и Стремянной увидел смятый носовой платок, связку ключей, очевидно от дома, где жил Якушкин, сломанный перочинный нож, монеты, несколько десятирублевых кредиток. Тут же были какие-то сильно истрепанные удостоверения, паспорт… В общем, как будто ничего интересного. Воронцов развернул платок, осмотрел его, отложил в сторону, затем пересчитал монеты, одну из них он задержал в руках, поболтал в воздухе связкой ключей, не выпадет ли что-нибудь из горловинок, мельком взглянул на удостоверения и паспорт.
Якушкин спокойно наблюдал за тем, как Воронцов перебирает немудреное содержимое его карманов.
— И не стыдно вашим людям старого человека так обижать! — сказал он, когда осмотр закончился и, по всей видимости, не дал Воронцову ничего существенного. — Ну зачем вам всё это? Неужели уж я не могу иметь в кармане носовой платок и ключи от квартиры?
— Конечно, можете, — согласился Воронцов.
— Так верните мне всё это.
— Подождите, подождите, не сейчас… — Воронцов отодвинул вещи на край стола. — Скажите, Якушкин, — неожиданно спросил он, — где вы жили до войны?
Якушкин несколько растерялся:
— Я?.. До сорокового года жил в Западной Белоруссии, в городе Лида…
— Так… А потом? Как вы оказались здесь?
Якушкин подался вперед и горячо заговорил:
— Видите ли, при Пилсудском я очень нуждался. Много лет голодал. Когда стало возможно вернуться в Россию, я, одинокий, старый человек, решил поехать в один из маленьких степных городков, где много вишен, приволье, покой, и дожить здесь свои последние дни…
— Хорошо, — сказал Воронцов. — Складно у вас получилось, даже как-то поэтично… — Он оперся локтями о стол и подался грудью вперед. — А вот скажите, Якушкин, как к вам попали картины?.. Где вы их нашли?
Якушкин удивленно пожал плечами:
— Все искали, и я искал… Только, очеидно, я искал более удачливо, чем другие… А нашел я их в подвале гестапо, под нарами… Меня туда ребята из детского дома затащили показать стену с надписями погибших. Вот я случайно и обнаружил…
Воронцов взглянул на Стремянного и усмехнулся краешком губ, как бы призывая внимательно следить за ходом допроса. Стремянной всё это время пристально наблюдал за Якушкиным и заметил, что за его внешним спокойствием кроется настороженность.
— Значит, все искали, и вы искали, — сказал Воронцов. — Хорошо. — Он вдруг встал и, обойдя вокруг стола, сел напротив Якушкина. — А если я вам скажу, что картины вы взяли не в подвале гестапо, а в элеваторе?.. В тот самый вечер, когда там были ребята из детского дома, вы тоже побывали там и забрали оттуда картины, которые из машины перетащил туда Курт Мейер. Это было самое ценное из того, что он, раненый, мог унести с собой… Что бы вы на это ответили?
Якушкин пожал плечами:
— Это уж вы совсем зря! Ни в каком элеваторе я не был… Правда, я встретил на дороге детей, они мне рассказали о своем походе, но я не был… И зачем мне туда идти?..
— Мы не дети, — строго сказал Воронцов. — В ту же ночь вы перенесли картины в одно укромное место, а затем решили их «найти»… Сделать подарок советской власти!.. И могу вам сказать точно: до последнего дня их не было в подвале гестапо…
— Ну, а где они были раньше, мне неизвестно, — сказал Якушкин. — Где я их нашел, там и нашел.
Воронцов опять подался вперед:
— Хорошо. А зачем вы, Якушкин, соскребли под нарами имя предателя? Помните, там написано «Опасайтесь…» Это слово вы оставили, а вот имя стерли…
— Я ничего не стирал… Ничего не знаю… Какая надпись?.. Какое имя?..
Воронцов придвинул к себе газету с вещами и вытащил из неё нож со сломанным лезвием.
— Где вы сломали этот нож, Якушкин?
— Уж не помню, — наморщил лоб фотограф. — Как-то однажды неудачно открывал консервную банку…
Воронцов встал, вернулся на свое место, вытащил из ящика стола тот маленький сверточек и развернул его. Якушкин, вытянув шею, следил за тем, что делает майор, заглядывая в развернутый пакетик, но, должно быть, ничего не видел. Стремянной встал и подошел поближе. На бумаге лежал какой-то блестящий кусочек железа.
— Смотрите сюда, Якушкин. — Воронцов приложил сломанное лезвие к кусочку металла: сразу стало ясно, что кусочек металла был кончиком лезвия. — Вы очень торопились и сломали нож. И вот вам недостающая часть… Она была найдена под нарами. Что вы на это скажете?
Якушкин нервно потер ладонями свои колени.
— Ничего не скажу! — резко бросил он и вдруг глубоко закашлялся. — Дайте… дайте мой платок.
— Возьмите. — Воронцов вынул из кармана свой и протянул Якушкину. — Он совершенно чистый, только что из чемодана.
Но Якушкин уже перестал кашлять и с замкнутым лицом исподлобья наблюдал за Воронцовым.
— Товарищ Стремянной, подойдите-ка поближе, — сказал Воронцов, который в это время снова разглядывал вещи фотографа. — Вот интересное открытие… Смотрите. Воронцов разостлал перед собой старый платок Якушкина и кончиком лезвия безопасной бритвы, которое он хранил между листками своей записной книжки, осторожно отрезал один из уголков платка… Тотчас же из полой части широкого рубчика на стол выпала маленькая черная пилюля.
— Яд, — сказал Воронцов. — Стоит раздавить сквозь платок зубами пилюлю — мгновенная смерть! — Он закатал пилюлю в кусочек бумаги и спрятал в спичечную коробку. — Ну, Якушкин, теперь вы будете разговаривать?
Якушкин, не поворачивая головы, краем глаза посмотрел на Воронцова. Он как-то сгорбился и ещё больше постарел, голова глубоко ушла в плечи.
— Говорите же. Я слушаю, — спокойно сказал Воронцов.
— Да, действительно я был связан с гестапо, — глухо проговорил Якушкин. — Но только как фотограф… Они не давали мне покоя… Когда я отказывался снимать расстрелы советских людей, они грозили мне смертью… Из-за этого в городе стали считать меня предателем… Я мучительно переживал это, но не мог вырваться из-под власти гестапо… Но вот пришли вы, и я решил, что этот кошмар окончен навсегда. Я старался доказать, что я не предатель. Поэтому так активно стал вам помогать… Да, я старался завоевать доверие, мне казалось, что разоблачением врагов я хоть в малой степени этого добьюсь… Да, я стер имя предателя под нарами… Это было моё имя…
— Это всё, что вы имеете сказать? — спросил Воронцов.
— Всё, — ответил Якушкин.
— Всё до конца? — переспросил Воронцов, акцентируя на последнем слове.
— Всё до конца… Да, вот… что касается яда… Мне его подарил Курт Мейер из жалости, на случай, если партизаны схватят меня как предателя и я не смогу доказать свою невиновность.
— И пять минут назад вам показалось, что вы это не сможете сделать?
Якушкин испуганно поднял руку:
— Нет, нет, что вы!
— Однако вы просили у меня платок… Ну хорошо, хорошо, — словно поверив ему, сказал Воронцов. — Объяснения, которые вы мне дали, логичны…
Якушкин с облегчением вздохнул. Тыльной стороной ладони он отер со лба пот.
Стремянной с любопытством смотрел на этого человека.
«Вот и открылось второе дно», — подумал он и невольно взглянул на Воронцова.
Воронцов смотрел на Якушкина. Он перегнулся через стол, и во взгляде его было что-то такое пристальное, напряженное, острое, что Стремянной, поймав этот взгляд, невольно спросил себя: «Почему он так смотрит? Неужели тут есть и третье дно?»
В эту минуту Воронцов поднялся со своего места и коротким движением руки бросил перед Якушкиным какую-то монету — вернее, неправильно обрубленный кусок медной пятикопеечной монеты, вынутой из платка.
Увидев монету, Якушкин отшатнулся. Кровь отлила от его раскрасневшегося, потного лица.
— Ну что ж, Якушкин, кончайте свою игру, — негромко сказал Воронцов. — Кузьмина в соседней комнате — у неё другая половина монеты. Очную ставку хотите?
— Нет, не надо. — Якушкин обнажил свои желтые зубы. Можно было подумать, что он готов вцепиться в горло Воронцова.
— Товарищ Стремянной, — сказал Воронцов, — разрешите вам представить: перед вами агент гестапо Т-А-87!..
 Якушкин как-то странно рванулся с места и тут же бессильно привалился к краю стола. «Вот и третье дно открыто», — подумал Стремянной.
А Воронцов между тем поднялся с места и, заложив руки в карманы, остановился перед Якушкиным:
— А теперь скажите мне: куда вы дели планшет, который сняли с бургомистра, пока он лежал без сознания? Ну, знаете, там, в автобусе, который вы подорвали петардой. В этом планшете была карта укрепленного района.
Какой-то живой, хитрый огонек мелькнул в потускневших глазах Якушкина. Он пожал плечами:
— Зачем мне было хранить эту карту? Разумеется, я ее уничтожил.
— Нет, — сказал Воронцов, — вы её не уничтожили.
— Почему вы так думаете?
— Вы слишком расчетливы для этого. Вы знаете цену фотографиям, картинам. Знаете, чего стоят и военные карты, особенно если они нужны для предстоящих операций.
— Дорого стоят, — вдруг сказал Якушкин и весь как-то подобрался, словно готовился к прыжку. — Вы правы, я действительно знаю им цену и дешево не отдам.
— Какова же ваша цена? — усмехнулся Воронцов.
— Жизнь.
— Ну, этого я вам обещать не могу. Это не от меня зависит. Хотите рискнуть — рискуйте.
Якушкин минуту помедлил. Потом, прищурившись, посмотрел куда-то в угол, поверх головы Воронцова.
— Что ж, рискнем, пожалуй.
Он протянул руку к лежащему на столе штативу фотоаппарата.
— Разрешите?
— Подождите, — сказал Воронцов.
Он придвинул штатив к себе и разнял ножку на две части. Потом осторожно вынул из полой части трубки туго свернутую фотопленку.
— Это? — спросил он.
— Да, — ответил Якушкин, тяжело оперевшись о стол. — На ней всё отлично видно. Фотографировал сам. По квадратам. Посмотрите на свет. Подлинник уничтожен. Хранить его было неудобно и опасно.
Якушкин как-то странно рванулся с места и тут же бессильно привалился к краю стола. «Вот и третье дно открыто», — подумал Стремянной.
А Воронцов между тем поднялся с места и, заложив руки в карманы, остановился перед Якушкиным:
— А теперь скажите мне: куда вы дели планшет, который сняли с бургомистра, пока он лежал без сознания? Ну, знаете, там, в автобусе, который вы подорвали петардой. В этом планшете была карта укрепленного района.
Какой-то живой, хитрый огонек мелькнул в потускневших глазах Якушкина. Он пожал плечами:
— Зачем мне было хранить эту карту? Разумеется, я ее уничтожил.
— Нет, — сказал Воронцов, — вы её не уничтожили.
— Почему вы так думаете?
— Вы слишком расчетливы для этого. Вы знаете цену фотографиям, картинам. Знаете, чего стоят и военные карты, особенно если они нужны для предстоящих операций.
— Дорого стоят, — вдруг сказал Якушкин и весь как-то подобрался, словно готовился к прыжку. — Вы правы, я действительно знаю им цену и дешево не отдам.
— Какова же ваша цена? — усмехнулся Воронцов.
— Жизнь.
— Ну, этого я вам обещать не могу. Это не от меня зависит. Хотите рискнуть — рискуйте.
Якушкин минуту помедлил. Потом, прищурившись, посмотрел куда-то в угол, поверх головы Воронцова.
— Что ж, рискнем, пожалуй.
Он протянул руку к лежащему на столе штативу фотоаппарата.
— Разрешите?
— Подождите, — сказал Воронцов.
Он придвинул штатив к себе и разнял ножку на две части. Потом осторожно вынул из полой части трубки туго свернутую фотопленку.
— Это? — спросил он.
— Да, — ответил Якушкин, тяжело оперевшись о стол. — На ней всё отлично видно. Фотографировал сам. По квадратам. Посмотрите на свет. Подлинник уничтожен. Хранить его было неудобно и опасно.
 Стремянной быстро поднялся с места и через плечо Воронцова взглянул на негатив. Воронцов передал ему пленку, и он долго и внимательно рассматривал её.
Да, это была та самая карта, которую они так искали.
Через полчаса в штабе дивизии по этим пленкам были отпечатаны увеличенные фотографии всех квадратов карты. По этой карте можно было составить самое полное представление об укрепленном районе.
Стремянной быстро поднялся с места и через плечо Воронцова взглянул на негатив. Воронцов передал ему пленку, и он долго и внимательно рассматривал её.
Да, это была та самая карта, которую они так искали.
Через полчаса в штабе дивизии по этим пленкам были отпечатаны увеличенные фотографии всех квадратов карты. По этой карте можно было составить самое полное представление об укрепленном районе.
ЭПИЛОГ
С этого Памятного дня прошло больше недели. Дивизия успешно выполнила поставленную перед ней боевую задачу. Разгромив противника, она овладела укрепленным районом и теперь стремительно двигалась в направлении Белгорода. Среди многих дел Стремянному никак не удавалось поговорить с Воронцовым, чтобы выяснить некоторые интересовавшие его подробности разоблачения Т-А-87. Случай поговорить с Воронцовым по душам представился ему уже за Белгородом. Как-то они ехали в одной машине, направляясь в полк, и беседовали о положении на фронте. Вдруг Стремянной сказал: — Вот, товарищ Воронцов, много времени собираюсь спросить вас, да всё как-то некогда: каким образом вы разоблачили Т-А-87? Воронцов задумчиво посмотрел на пробегавшие мимо поля. — Началось всё как будто с мелочи, — задумчиво произнес он. — Помните, когда Якушкин в штаб фотографии принес?.. Тогда я обратил внимание на два момента. Во-первых, как вы, наверно, тоже заметили, фотографии Якушкина были отпечатаны на хорошей немецкой бумаге. Это навело меня на мысль, что у Якушкина с немцами были довольно приличные отношения. Впрочем, он ведь мог и купить эту бумагу у какого-нибудь офицера. Дальше. Вторым моментом, который меня насторожил ещё больше, был самый приход его в штаб. К,ак он узнал, где штаб находится? Ведь в городе никому не было известно, где мы расположились. Значит, у этого человека были кое-какие навыки разведчика… Но это были, так сказать, первоначальные впечатления, которые сами по себе значили ещё очень мало. Но вот когда вы позвонили мне из госпиталя и попросили прийти, захватив с собой Якушкина, чтобы взглянуть на человека, похожего на бургомистра, у меня появились уже новые, более серьезные данные. Я пошел к Якушкину и попросил его пойти со мной для этого дела, а он в первую минуту категорически отказался. Только при большой настойчивости мне удалось его заставить пойти со мной. А по дороге он вдруг, что-то сообразив, решительно изменился. Он стал прямо-таки лучиться ненавистью, гореть ею, пылать… Опять-таки это заставило меня о многом задуматься. Потом, когда я поговорил с ребятами из детского дома и они мне рассказали, что встретили Якушкина на дороге к элеватору, я решил проверить, не был ли он там. Дело в том, что Якушкин сказал ребятам, будто он ищет на пустынной дороге ящики из-под снарядов. Это же смешно! Ящики валялись почти на всех улицах в черте города. И, кроме того, Якушкин жил совсем в противоположной стороне. Ему совсем не нужно было так далеко ходить за ящиками. На рассвете, не теряя времени, захватив с собой сержанта и двух бойцов, я отправился на элеватор. Осмотрели мы его довольно подробно. И что же обнаружили? Ну, труп Курта Мейера, это само собой. Он выстрелил себе в висок. Но, кроме всего прочего, мы обнаружили свежие следы взрослого человека, который заходил в элеватор, а затем вернулся обратно. И вот очень важным обстоятельством явилось то, что около трупа Мейера не оказалось револьвера, из которого он застрелился. Ну так вот, после этого мои подозрения против Якушкина ещё более укрепились. Я установил за ним наблюдение. И вот было установлено, что он посетил развалины бывшего здания гестапо, лазил в подвал и что-то там делал, удалив оттуда ребят. Мой наблюдатель уже тогда сообщил, что он вел себя как-то странно: нервничал, удалил детей. Почти одновременно мы получили сообщение от заведующей детским домом о надписи «Опасайтесь» и о том, что имя предателя уничтожено. Ну, я должен тут сказать вот о чём. Подвал мы осмотрели ещё в день прихода в город — нам нужно было установить судьбу пятерых подпольщиков — и надписи эти видели, гестаповцам уже некогда было их уничтожить. И слово «опасайтесь» прочли. А вот имя предателя было выцарапано крайне неясно. Очевидно, гвоздь или какой-то другой острый предмет к этому моменту уже иступился. Тем не менее, когда мы во второй раз обследовали стену, то обнаружили, что кто-то стремился уничтожить все следы надписи, а под нарами в штукатурке был обнаружен кончик сломанного ножа. Решили проверить, не Якушкина ли это нож. Вот тогда Анищенко и попросил его одолжить ножичек, чтобы отточить карандаш. Ну, сразу всё окончательно и стало ясно… Якушкин — сволочь, шпион… Однако с арестом я не торопился — решил ещё понаблюдать за ним. А Якушкин всё больше набирал пары. Очень ему хотелось втереться к нам в доверие. Важным шагом в этом направлении он считал находку картин. Долго он ломал голову, где бы ему их «найти». Утащив картины из элеватора, он припрятал их в каменоломне, в одном из старых шурфов… И вот он наконец решил «найти» их в подвале гестапо. Курт Мейер был хозяином этого здания, и могло быть вероятным, что у него был здесь свой тайник… — А когда же вы всё-таки поняли, что Якушкин и Т-А-87 — одно и то же лицо? — спросил Стремянной. — Представьте себе, подозревал, но до самого последнего момента не имел доказательств. А вот когда в хламе, извлеченном из карманов Якушкина, я увидел половину разрубленной монеты, сразу стало окончательно ясно, с кем мы имеем дело. Как раз накануне этого дня Кузьмина дала показания, что у Т-А-87 находится вторая половина той монеты, которую ей вручил Курт Мейер. После произнесения известного им обоим пароля каждый из них должен был предъявить свою часть монеты, а затем сложить обе половинки вместе… Якушкин не ожидал столь быстрого ареста. Не предполагал, что кто-нибудь придаст значение маленькому кусочку металла… Он многое знал, но не знал решающего для себя обстоятельства: что мы арестовали Кузьмину… Воронцов замолчал. Машина завернута в лесок и остановилась у землянки, в которой расположился штаб полка.
Георгий Гуревич Второе сердце

Глава первая
 Прогремели заключительные аккорды, и узорный тканный занавес скрыл от глаз пёструю толпу. Последнее действие окончилось. Ожившая героиня, держа за руку убийцу, вышла кланяться.
Кудинова закрыла глаза: ей не хотелось портить впечатление. Она предпочла бы посидеть молча, вспоминая музыку. Но вокруг кричали и хлопали. Шум сбивал задумчивое настроение. Кудинова захлопала тоже, благодаря за пережитое волнение. Но в её голове уже всплыло профессиональное: «Вряд ли удар ножом был смертелен. Вероятно, в нашей клинике Кармен вернули бы к жизни».
— Товарищи, минуточку внимания! Доктора Кудинову, Марию Васильевну, просят пройти в дирекцию.
Что такое? Её — в дирекцию? Зачем? Кудинова никак не ожидала услышать здесь свою фамилию, даже усомнилась, о ней ли идет речь. Но худенький человек в черном костюме, пробравшийся между артистами, выкрикивал всё снова и снова:
— Товарищ Кудинова!.. Кудинова, Мария Васильевна, из клиники товарища Бокова, вас вызывают в дирекцию!.. Пропустите доктора Кудинову, товарищи!
Зрители расступились. Она пошла по проходу, ни на кого не глядя. Человек в черном костюме подал ей руку на лесенке, сказал скороговоркой:
— Вас просят к телефону по очень важному делу. Сюда, пожалуйста, за кулисы. И дайте мне номерок, я принесу ваше пальто.
— Что случилось? Кто заболел? Неужели профессору Бокову хуже?
Пересиливая волнение, она приложила трубку к уху:
— Кудинова слушает.
Прогремели заключительные аккорды, и узорный тканный занавес скрыл от глаз пёструю толпу. Последнее действие окончилось. Ожившая героиня, держа за руку убийцу, вышла кланяться.
Кудинова закрыла глаза: ей не хотелось портить впечатление. Она предпочла бы посидеть молча, вспоминая музыку. Но вокруг кричали и хлопали. Шум сбивал задумчивое настроение. Кудинова захлопала тоже, благодаря за пережитое волнение. Но в её голове уже всплыло профессиональное: «Вряд ли удар ножом был смертелен. Вероятно, в нашей клинике Кармен вернули бы к жизни».
— Товарищи, минуточку внимания! Доктора Кудинову, Марию Васильевну, просят пройти в дирекцию.
Что такое? Её — в дирекцию? Зачем? Кудинова никак не ожидала услышать здесь свою фамилию, даже усомнилась, о ней ли идет речь. Но худенький человек в черном костюме, пробравшийся между артистами, выкрикивал всё снова и снова:
— Товарищ Кудинова!.. Кудинова, Мария Васильевна, из клиники товарища Бокова, вас вызывают в дирекцию!.. Пропустите доктора Кудинову, товарищи!
Зрители расступились. Она пошла по проходу, ни на кого не глядя. Человек в черном костюме подал ей руку на лесенке, сказал скороговоркой:
— Вас просят к телефону по очень важному делу. Сюда, пожалуйста, за кулисы. И дайте мне номерок, я принесу ваше пальто.
— Что случилось? Кто заболел? Неужели профессору Бокову хуже?
Пересиливая волнение, она приложила трубку к уху:
— Кудинова слушает.
 — Это вы, Мария Васильевна?
Кудинова с облегчением узнала голос Александра Ильича Бокова, своего учителя, знаменитого хирурга, основателя и директора клиники, где она работала.
— Предстоит трудная операция, — сказал он. — Сейчас же берите такси и поезжайте на Внуковский аэродром. Дежурный врач с аппаратами уже выехал туда. Лететь надо на Северстрой.
— Но я в вечернем платье, — возразила Кудинова. — Можно мне заехать домой переодеться?
— Ни в коем случае! Положение тяжелое. Молодой человек стрелял в себя, и пуля затронула сердце. Может быть, понадобится самое радикальное, как с той женщиной из Белоруссии, у которой был осколок в груди.
У Кудиновой захватило дыхание.
— Александр Ильич, но я не смогу без вас. Я делала эту операцию только на собаках и то под вашим наблюдением. Нет, я не решусь.
В голосе профессора послышались сердитые нотки:
— Не говорите глупостей: «Не могу и не решусь»! Таких терминов хирурги не знают… Кого я пошлю? Доктор Игнатьев замещает меня в клинике. Доктор Севастьянов сейчас в поезде между Москвой и Сочи. Я сам поехал бы, но мне не разрешают вставать с постели. На Северстрое очень беспокоятся о больном. Это талантливый конструктор. Может быть, помните, в газетах писали: изобретатели Новиковы, Валентин и Сергей?.. Не помните? Впрочем, это не важно. У молодого человека вся жизнь впереди, и только мы можем спасти её.
Кудинова вздохнула. Она знала, что её учитель прав. В старых книгах писали, что раненные в сердце выживают только чудом. В клинике профессора Бокова это чудо стало правилом. Правда, до сих пор самые сложные операции Александр Ильич делал собственноручно. И на этот раз он сам поехал бы, не считаясь с болезнью. Он никому не отказывал в помощи. Но он болен тяжело. Ему предписано лежать. У него не хватит сил на многочасовую операцию. Даже если бы он захотел лететь, Кудинова сама протестовала бы.
— Вы думаете, я справлюсь, Александр Ильич?
И Боков сказал уже не сердито, а ласково:
— Конечно, справитесь. Вы настоящий хирург, Мария Васильевна! Я верю в вас, как в самого себя.
На улице шел весенний дождь. Мутные ручейки бежали вдоль тротуаров. В мокром асфальте дрожали желтые и голубые огни. Деревья ещё не распустились, стояли голые, но в воздухе уже по-весеннему пахло теплом, сыростью набухшей земли. Кудинова с удовольствием подставила ветру горящие щеки, глубоко вздохнула всей грудью.
— Какой чудак захотел покинуть этот замечательный мир?..
«Что ты наделал, Валентин, что же ты наделал?»
— Это вы, Мария Васильевна?
Кудинова с облегчением узнала голос Александра Ильича Бокова, своего учителя, знаменитого хирурга, основателя и директора клиники, где она работала.
— Предстоит трудная операция, — сказал он. — Сейчас же берите такси и поезжайте на Внуковский аэродром. Дежурный врач с аппаратами уже выехал туда. Лететь надо на Северстрой.
— Но я в вечернем платье, — возразила Кудинова. — Можно мне заехать домой переодеться?
— Ни в коем случае! Положение тяжелое. Молодой человек стрелял в себя, и пуля затронула сердце. Может быть, понадобится самое радикальное, как с той женщиной из Белоруссии, у которой был осколок в груди.
У Кудиновой захватило дыхание.
— Александр Ильич, но я не смогу без вас. Я делала эту операцию только на собаках и то под вашим наблюдением. Нет, я не решусь.
В голосе профессора послышались сердитые нотки:
— Не говорите глупостей: «Не могу и не решусь»! Таких терминов хирурги не знают… Кого я пошлю? Доктор Игнатьев замещает меня в клинике. Доктор Севастьянов сейчас в поезде между Москвой и Сочи. Я сам поехал бы, но мне не разрешают вставать с постели. На Северстрое очень беспокоятся о больном. Это талантливый конструктор. Может быть, помните, в газетах писали: изобретатели Новиковы, Валентин и Сергей?.. Не помните? Впрочем, это не важно. У молодого человека вся жизнь впереди, и только мы можем спасти её.
Кудинова вздохнула. Она знала, что её учитель прав. В старых книгах писали, что раненные в сердце выживают только чудом. В клинике профессора Бокова это чудо стало правилом. Правда, до сих пор самые сложные операции Александр Ильич делал собственноручно. И на этот раз он сам поехал бы, не считаясь с болезнью. Он никому не отказывал в помощи. Но он болен тяжело. Ему предписано лежать. У него не хватит сил на многочасовую операцию. Даже если бы он захотел лететь, Кудинова сама протестовала бы.
— Вы думаете, я справлюсь, Александр Ильич?
И Боков сказал уже не сердито, а ласково:
— Конечно, справитесь. Вы настоящий хирург, Мария Васильевна! Я верю в вас, как в самого себя.
На улице шел весенний дождь. Мутные ручейки бежали вдоль тротуаров. В мокром асфальте дрожали желтые и голубые огни. Деревья ещё не распустились, стояли голые, но в воздухе уже по-весеннему пахло теплом, сыростью набухшей земли. Кудинова с удовольствием подставила ветру горящие щеки, глубоко вздохнула всей грудью.
— Какой чудак захотел покинуть этот замечательный мир?..
«Что ты наделал, Валентин, что же ты наделал?»
 Стремительный самолет с отогнутыми назад крыльями несся над казахской степью с её причудливыми каменистыми холмами, над сибирской равниной, усеянной бесчисленными озерками, над Уралом с его частоколом заводских труб, цепью выстроившихся вдоль хребта.
Сергей рассеянно глядел за борт. Земля бежала под ним, как пестрый ковер. Он видел краски, но не понимал, что они означают. Голова была занята одной-единственной мыслью:
«Что же ты наделал, Валентин!»
Сергей получил телеграмму о несчастье в 17 часов по московскому времени. Он немедленно прекратил работу и через час вылетел на Северстрой. Из Караганды попробовал связаться по телефону, узнать, что, собственно, произошло. Ему ответили: «Состояние Новикова тяжелое, жизнь в опасности». Что значит: «Жизнь в опасности»? Обычно на запросы родных и знакомых принято отвечать, смягчая правду. Если говорят «в опасности», значит жизнь висит на волоске. Валентин может умереть завтра, сегодня… Возможно, его нет уже.
Сергей твердил слово «умереть», но никак не мог представить себе, что Валентин может не существовать. Валентин был другом, Валентин был соратником, он был частью самого Сергея.
Слабые люди умеют плакать — горе выходит у них слезами. Люди болтливые умеют жаловаться — они разменивают тоску на слова. Поэты рифмуют «печаль» и «даль» — им становится легче, когда горе уложено в четверостишия. Сергей не умел жаловаться ни в стихах, ни в прозе. Он смотрел правде в глаза, видел её во всей неприглядности, боролся с горем один на один.
«Валентин, Валентин! Половина жизни, всё лучшее связано с тобой!»
Они познакомились мальчишками, ещё в школе. Кажется, это было в восьмом классе. Валентин жил тогда на окраине Москвы, где город рос непрерывно, тесня пригородные поля.
Нарядные, новенькие дома наступали сомкнутым строем, клином врезались в огороды, брали в окружение допотопные дачки с террасками, сарайчиками, облупленные бараки, сокрушали их на своем пути. Вместе с домами возникали улицы, они обрастали асфальтом, фонарями, киосками, цветами и зеленью.
Там, где ещё весной буксовали самосвалы, свозившие в овраг желтую липкую глину, осенью трудились автокраны, устанавливая деревья, привезенные из лесу. Там, где весной экскаваторы рыли котлованы, осенью к свежеокрашенным дверям подъезжали грузовики с полосатыми матрацами, детскими колясками и стопками книг.
И, встречая эти грузовики, школьники, товарищи Валентина, уже знали, что через несколько, дней к ним придут новички — ребята из только что заселенного дома.
Так пришел в школу и Сергей. В его памяти возникает шумный класс. Посередине — он, новичок, настороженный, колючий, готовый к отпору. Ребята сказали: «У нас есть свой Новиков» — и притащили Валентина. Он прибежал веселый, с блестящими глазами, дружелюбно улыбнулся ощетинившемуся новичку, пригласил на свою парту, сказал: «Давай мы, Новиковы, вызовем весь класс на соревнование».
Дружба началась с пустяка, со случайного совпадения фамилий. Потом Новиковы начали заниматься вместе, вместе ходили в кружок авиамоделистов при Дворце пионеров, в музеи и на стадион.
Почему интересы их всегда совпадали? Может быть, потому, что жадный Валентин интересовался всем на свете. Его увлечения менялись каждый месяц. Со стороны казалось, что он руководит в этой паре, потому что это он говорил: «Давай поедем в планетарий!», «Давай поставим «Ревизор»!», «Давай сделаем модель самолета с бензиновым моторчиком!» Сергей не предлагал, но зато выбирал. Он соглашался ехать в планетарий, но категорически отказывался от драмкружка. И Валентин с легким сердцем шёл навстречу. Его интересовала и сцена и астрономия. Для компании он мог пожертвовать чем-нибудь одним.
Стремительный самолет с отогнутыми назад крыльями несся над казахской степью с её причудливыми каменистыми холмами, над сибирской равниной, усеянной бесчисленными озерками, над Уралом с его частоколом заводских труб, цепью выстроившихся вдоль хребта.
Сергей рассеянно глядел за борт. Земля бежала под ним, как пестрый ковер. Он видел краски, но не понимал, что они означают. Голова была занята одной-единственной мыслью:
«Что же ты наделал, Валентин!»
Сергей получил телеграмму о несчастье в 17 часов по московскому времени. Он немедленно прекратил работу и через час вылетел на Северстрой. Из Караганды попробовал связаться по телефону, узнать, что, собственно, произошло. Ему ответили: «Состояние Новикова тяжелое, жизнь в опасности». Что значит: «Жизнь в опасности»? Обычно на запросы родных и знакомых принято отвечать, смягчая правду. Если говорят «в опасности», значит жизнь висит на волоске. Валентин может умереть завтра, сегодня… Возможно, его нет уже.
Сергей твердил слово «умереть», но никак не мог представить себе, что Валентин может не существовать. Валентин был другом, Валентин был соратником, он был частью самого Сергея.
Слабые люди умеют плакать — горе выходит у них слезами. Люди болтливые умеют жаловаться — они разменивают тоску на слова. Поэты рифмуют «печаль» и «даль» — им становится легче, когда горе уложено в четверостишия. Сергей не умел жаловаться ни в стихах, ни в прозе. Он смотрел правде в глаза, видел её во всей неприглядности, боролся с горем один на один.
«Валентин, Валентин! Половина жизни, всё лучшее связано с тобой!»
Они познакомились мальчишками, ещё в школе. Кажется, это было в восьмом классе. Валентин жил тогда на окраине Москвы, где город рос непрерывно, тесня пригородные поля.
Нарядные, новенькие дома наступали сомкнутым строем, клином врезались в огороды, брали в окружение допотопные дачки с террасками, сарайчиками, облупленные бараки, сокрушали их на своем пути. Вместе с домами возникали улицы, они обрастали асфальтом, фонарями, киосками, цветами и зеленью.
Там, где ещё весной буксовали самосвалы, свозившие в овраг желтую липкую глину, осенью трудились автокраны, устанавливая деревья, привезенные из лесу. Там, где весной экскаваторы рыли котлованы, осенью к свежеокрашенным дверям подъезжали грузовики с полосатыми матрацами, детскими колясками и стопками книг.
И, встречая эти грузовики, школьники, товарищи Валентина, уже знали, что через несколько, дней к ним придут новички — ребята из только что заселенного дома.
Так пришел в школу и Сергей. В его памяти возникает шумный класс. Посередине — он, новичок, настороженный, колючий, готовый к отпору. Ребята сказали: «У нас есть свой Новиков» — и притащили Валентина. Он прибежал веселый, с блестящими глазами, дружелюбно улыбнулся ощетинившемуся новичку, пригласил на свою парту, сказал: «Давай мы, Новиковы, вызовем весь класс на соревнование».
Дружба началась с пустяка, со случайного совпадения фамилий. Потом Новиковы начали заниматься вместе, вместе ходили в кружок авиамоделистов при Дворце пионеров, в музеи и на стадион.
Почему интересы их всегда совпадали? Может быть, потому, что жадный Валентин интересовался всем на свете. Его увлечения менялись каждый месяц. Со стороны казалось, что он руководит в этой паре, потому что это он говорил: «Давай поедем в планетарий!», «Давай поставим «Ревизор»!», «Давай сделаем модель самолета с бензиновым моторчиком!» Сергей не предлагал, но зато выбирал. Он соглашался ехать в планетарий, но категорически отказывался от драмкружка. И Валентин с легким сердцем шёл навстречу. Его интересовала и сцена и астрономия. Для компании он мог пожертвовать чем-нибудь одним.
Их дружба прошла через школьные годы, сохранилась в институте (оба они выбрали Энергетический институт) и выдержала самое страшное испытание накануне дипломного проекта, когда между ними встала веселая девушка Зина. Это было на производственной практике, на строительстве гидростанции. Зина работала техником на землесосном снаряде. Нельзя сказать, чтобы она была красавицей. Круглое лицо, веснушки на вздернутом носу и рыжие кудри, не подчинявшиеся никакой прическе. Её называли «Огоньком» и не столько за волосы, сколько за характер. Никто не умел так заразительно смеяться, так звонко петь и лихо танцевать, с таким увлечением отдыхать и работать, с таким интересом и участием вести разговоры. Зина была в центре всех событий на строительном участке. И к этому «Огоньку» тянулись солидные прорабы и бетонщики, машинисты и студенты-практиканты. Сергей был сзади всех. Он был робок с девушками. Наверно, он так и не заговорил бы с Зиной, но однажды, во время танцев в клубе, она сама подошла к нему. Её девичье самолюбие было затронуто: кто этот равнодушный, который не замечает её? Сергей не умел вести занимательных разговоров, но Зина выбрала очень удачную тему: заговорила о его специальности. Сергей жил вдумчиво: он любил размышлять, неторопливо отыскивать суть явлений. Он выложил перед девушкой лучшие из своих мыслей. Зина слушала, затаив дыхание. Она умела ценить серьезный разговор. «Хотела бы я попасть в ваш институт!» — вздохнула она. Сергей сказал: «Подавайте». — «Не у всякого получается», — ответила Зина. Сергей настаивал: «В нашей стране открыты все дороги. Всё зависит от человека. Можно тратить силы на танцы и наряды, и можно тратить их на ученье. Хотите быть достойным человеком — добивайтесь!» Сам-то он умел добиваться. Он не знал, что значит «не выходит». «А вы мне поможете?» — спросила Зина робко. Сергей с готовностью согласился, и первый урок был назначен на следующий вечер. Всего состоялось два урока. И учитель и ученица, оба наслаждались занятиями. У Зины оказался быстрый ум — она схватывала на лету и запоминала навеки. Медлительный Сергей начинал издалека разворачивать объяснения, а Зина уже угадывала вывод. «Какой талант! — думал Сергеи с восхищением. — Она будет блестящим ученым!» Но Сергей ошибался. За два урока он не распознал недостатков Зины. Девушке не хватало усидчивости. Она не умела работать в одиночку, скучала над учебником. Лучше всего она училась на людях, беседуя, споря, объясняя подругам, проверяя их, повторяя вместе с ними. Возможно, с помощью постоянного учителя она продвинулась бы далеко, но их занятия с Сергеем прервались на третьем уроке. Они условились встретиться, как обычно, в клубе, издалека увидели друг друга и шли навстречу. Но вдруг откуда-то сбоку подлетел Валентин и беззастенчиво пригласил девушку на вальс. Зина заколебалась: она любила веселиться. «Только один танец», — сказала она. Сергей всегда удивлялся, откуда у Валентина столько слов. Для каждого тот находил разговоры. И Зине он что-то шептал с улыбкой, а Зина смеялась, оглядываясь на своего серьезного учителя, как будто хотела поделиться с ним веселыми шутками Валентина. Но Сергея уже не было — он ушел. Зина удивилась и обиделась. Обещал помогать ежедневно и не мог подождать десяти минут. Но танцевать ей расхотелось, и она попросила Валентина проводить её до общежития. У Валентина кружилась голова и в ушах звучали праздничные песни. Он не захотел возвращаться в клуб, понес радость другу-однофамильцу. Сергей встретил его на пороге общежития суровый и насупленный. Он сказал: «Зачем ты пристаешь к этой девушке?» — «Она мне нравится», — ответил Валентин. «Она хорошая девушка, а у тебя ветер в голове, — сказал Сергей. — Ты недостоин смотреть на неё». — «А с тобой она пропадет с тоски», — возразил Валентин. Сергей сжал кулаки. В эту минуту он ненавидел самодовольную физиономию этого красавчика и ловкача Валентина. Тогда Валентин положил на перила руку с часами. «Помолчим минуту», — попросит он. Такое было у них правило: когда начинаешь горячиться, надо помолчать минуту. Ровно минуту они следили за движением секундной стрелки. Затем Валентин сказал: «Сережка, сейчас мы поссоримся на всю жизнь. Мы дружили восемь лет. Без тебя я обойдусь, но мне жалко дружбы с восьмилетним стажем. Давай условимся: Зины не существует. Нет такого слова в русском языке. Практика кончается через неделю. Давай пожалеем дружбу».
И дружба осталась… а Зина была потеряна. Уезжая, Новиковы не простились, не писали девушке и между собой никогда не говорили о ней. Возможно, Валентин забыл о ней вскоре — так полагал Сергей. Сам он не умел забывать. Находя хорошую мысль, он откладывал её для Зины. Мысленно он рассказывал ей о хороших книгах; о первой научной работе; о летнем путешествии по Военно-Сухумской дороге; о своём дипломе, который был особо отмечен, как выдающийся; о том, как они защищали его; как их с Валентином направили в Новосибирск, в новый Институт экспериментальной энергетики. По существу, это был не институт, а целый городок, посвященный науке, где разрабатывались способы получения и использования всех видов энергии. Здесь изучался «голубой уголь» — энергия ветра; «желтый уголь» — энергия Солнца; «белый уголь» — энергия рек; «синий уголь» — энергия приливов; «жидкий уголь» — нефть; «черный» и «бурый уголь» — каменные угли; «серый уголь» — торф; «летучий уголь» — горючие газы; энергия подземного тепла; энергия разницы температур в теплых морях и в полярных. Специальный корпус был отведен для атомной энергии.
 Этот институт можно было назвать заводом открытий. Здесь было гораздо больше рабочих, инженеров, станков, машин, приборов, сложных аппаратов, чем на любом заводе. В наши дни наука всё больше становится исследовательской индустрией, ученым производством… Наука требует сложного оборудования и организации, совместной работы разнообразных специалистов. Часто говорят даже, что прежде открытия делали одиночки, а теперь — коллективы. Но это неверно. Открытия всегда создавались коллективным трудом. На равнине не бывает снежных пиков; величайшие в мире вершины все до единой находятся в горных странах. Величайшие в мире художники появлялись группами. Лучшие художники XV века работали в Италии, XVII века — в Голландии; лучшие художники XIX века входили в небольшую группу русских передвижников. Некрасов, Чернышевский, Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров жили одновременно в одном и том же городе, печатались в одних и тех же журналах, встречались между собой, советовались, показывали друг другу произведения. Все достижения человечества появились в коллективах; в искусстве говорят: «в школах».
В Новосибирске создавалась школа советских энергетиков. Здесь работали рядом лучшие энергетики в мире. Их намеренно собрали вместе — людей, занимающихся различными, иногда противоречивыми задачами, чтобы ветротехники соревновались с гелиотехниками, атомщики тянулись за гидротехниками, торфяники не отставали от угольщиков, подземщики поспевали за всеми остальными. Здесь все занимались большими проблемами; маститые ученые подталкивали молодежь, призывали её дерзать. И, увлеченные общим движением, Новиковы осмелились взяться за грандиозное дело — за проблему передачи энергии без проводов на любые расстояния.
Решение этой задачи было бы величайшей победой над природой. Советские энергетики получили бы возможность по своему усмотрению направлять потоки энергии в арктические льды, в пустыни, в океанские просторы; начинать стройку в любом месте, не дожидаясь, пока будут поставлены мачты, навешены провода, пущены новые электростанции. Можно было бы перебрасывать в большом количестве энергию из ночных часовых поясов в пояса вечерние, где тратится электричества больше всего; можно было бы помогать соседним дружественным странам, снабжая их растущую промышленность советским электричеством; можно было бы продавать излишки электричества в далекие страны, обменивая силу наших рек на заморские товары.
И Новиковы нашли путь к решению. Сейчас трудно вспомнить, кто именно: Сергей или Валентин. Вероятно, основную идею предложил Валентин. Он высказывал догадки по всякому поводу, щедро разбрасывая свои мысли: и правильные и неправильные. А когда Сергей проникся духом Новосибирского института и начал думать над главными задачами энергетики, он подобрал одну из брошенных вскользь мыслей Валентина. Сначала Сергей усомнился, взялся за расчеты, чтобы проверить и опровергнуть, просидел целую ночь со справочниками и понял, что в принципе идея верна — всё дело в технических средствах. И под утро, разбудив Валентина, он сказал ему хриплым голосом: «Знаешь, Валя, этой задаче можно посвятить всю жизнь».
А Валентин спросонок хлопа и глазами и не мог понять, в чём дело. Конечно, он уже забыл о своем собственном предложении.
Этот институт можно было назвать заводом открытий. Здесь было гораздо больше рабочих, инженеров, станков, машин, приборов, сложных аппаратов, чем на любом заводе. В наши дни наука всё больше становится исследовательской индустрией, ученым производством… Наука требует сложного оборудования и организации, совместной работы разнообразных специалистов. Часто говорят даже, что прежде открытия делали одиночки, а теперь — коллективы. Но это неверно. Открытия всегда создавались коллективным трудом. На равнине не бывает снежных пиков; величайшие в мире вершины все до единой находятся в горных странах. Величайшие в мире художники появлялись группами. Лучшие художники XV века работали в Италии, XVII века — в Голландии; лучшие художники XIX века входили в небольшую группу русских передвижников. Некрасов, Чернышевский, Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров жили одновременно в одном и том же городе, печатались в одних и тех же журналах, встречались между собой, советовались, показывали друг другу произведения. Все достижения человечества появились в коллективах; в искусстве говорят: «в школах».
В Новосибирске создавалась школа советских энергетиков. Здесь работали рядом лучшие энергетики в мире. Их намеренно собрали вместе — людей, занимающихся различными, иногда противоречивыми задачами, чтобы ветротехники соревновались с гелиотехниками, атомщики тянулись за гидротехниками, торфяники не отставали от угольщиков, подземщики поспевали за всеми остальными. Здесь все занимались большими проблемами; маститые ученые подталкивали молодежь, призывали её дерзать. И, увлеченные общим движением, Новиковы осмелились взяться за грандиозное дело — за проблему передачи энергии без проводов на любые расстояния.
Решение этой задачи было бы величайшей победой над природой. Советские энергетики получили бы возможность по своему усмотрению направлять потоки энергии в арктические льды, в пустыни, в океанские просторы; начинать стройку в любом месте, не дожидаясь, пока будут поставлены мачты, навешены провода, пущены новые электростанции. Можно было бы перебрасывать в большом количестве энергию из ночных часовых поясов в пояса вечерние, где тратится электричества больше всего; можно было бы помогать соседним дружественным странам, снабжая их растущую промышленность советским электричеством; можно было бы продавать излишки электричества в далекие страны, обменивая силу наших рек на заморские товары.
И Новиковы нашли путь к решению. Сейчас трудно вспомнить, кто именно: Сергей или Валентин. Вероятно, основную идею предложил Валентин. Он высказывал догадки по всякому поводу, щедро разбрасывая свои мысли: и правильные и неправильные. А когда Сергей проникся духом Новосибирского института и начал думать над главными задачами энергетики, он подобрал одну из брошенных вскользь мыслей Валентина. Сначала Сергей усомнился, взялся за расчеты, чтобы проверить и опровергнуть, просидел целую ночь со справочниками и понял, что в принципе идея верна — всё дело в технических средствах. И под утро, разбудив Валентина, он сказал ему хриплым голосом: «Знаешь, Валя, этой задаче можно посвятить всю жизнь».
А Валентин спросонок хлопа и глазами и не мог понять, в чём дело. Конечно, он уже забыл о своем собственном предложении.
Итак, задачу удалось решить. Стремительно летит самолет с отогнутыми крыльями, но мысль Сергея проворнее: за секунду она пролетает годы — от идеи к решению. А на самом деле, та ночь за расчетами была только первой из множества дней и ночей, когда Сергей спрашивал, а Валентин пробовал ответить; Валентин задумывал, а Сергей подсчитывал; Валентин доказывал — Сергей сомневался; Валентин предлагал — Сергей проверял, или же Сергей предлагал — Валентин проверял, и т. д., и т. д. Они начали работать вдвоем, а сейчас руководят целой лабораторией. Но и целая лаборатория не решила бы этой задачи, если бы советская наука не подошла к ней широким фронтом. Технические средства уже были, не требовалось их создавать, нужно было только взять их из разных наук, соединить, приспособить для дальних передач. На помощь Новиковым пришли советские конструкторы, метеорологи, электротехники, атомщики, металлурги, химики, летчики и многие другие. И наступил день, когда итоги совместной работы всех этих специалистов Новиковы докладывали в министерстве. Именно этот день вспоминает Сергей. Московская зима. Пухлый снег падает на выскобленные тротуары. Они с Валентином выходят из подъезда. Их ждет машина. Но с таким радостным волнением нельзя усидеть в машине — они идут пешком. Перед глазами Сергея циркуль, соединяющий две точки на глобусе; в ушах звучит голос начальника управления: «Мы даем вам первое задание, товарищи. Весной вступает в строй приливная электростанция на берегу Полярного моря. Расчетная мощность её — двадцать пять миллионов киловатт. Теперь на севере будет избыток энергии. Попробуйте доставить часть этой энергии на юг — в Туркмению». Доклад в министерстве делал Валентин. Сергей и сам не доверял своему красноречию. Но сейчас, на улице, он пересказывал всё своими словами — давно потерянной девушке с непокорной прической: «Слушай, Зина, ты ещё помнишь Сергея Новикова, студента-практиканта из Москвы, и его друга, который танцевал с тобой вальс? Знаешь, что они делают сейчас? Они передают ток без проводов на любое расстояние — даже из Мезени в Туркмению. Ты спрашиваешь, как это получается? Они поведут ток высоко-высоко, за облаками, за стратосферой, на высоте восьмидесяти-ста километров над землей. Там есть электропроводные слои воздуха. Эту область называют ионосферой. Нет, это не сказка и не мечта. Всё доказано на опыте, и ученые признали нас. Сегодня начальник управления сказал: «Мы даем вам первое задание…» В мае ты прочтешь в газетах, что задание выполнено. Удивишься ли ты, девушка Зина, скажешь ли с гордостью подругам: «А я знаю этих Новиковых! Они проходили у нас практику». Может быть, ты захочешь послать нам письмо?» Почему Сергей не может забыть эту девушку? Вот Валентин давно забыл, не думает ни о каких Зинах. Он брызжет радостью, он не хочет молчать и про себя повторять значительные слова. Валентин толкает друга, дергает его за рукав: «Сережка, мне хочется выкинуть что-нибудь. Давай играть в снежки!» «Стыдись, ты же кандидат наук, уважаемый изобретатель!» «А всё-таки молодцы мы с тобой!» «Только не задирай нос. Мы с тобой — обложка на книге. Подписи стоят наши, а работали тысячи людей… Не смей зазнаваться!» «Всё равно, я зазнаюсь! Я обязательно зазнаюсь!»
Глава вторая
(Отрывки из писем Валентина)«Сергей, дружище, здравствуй! Ты удивлен, конечно, получив от меня письмо на неделю раньше условленного срока. Ведь только утром мы расстались. Но я переполнен впечатлениями. Я должен поделиться с тобой, и меня не устраивает узкий бланк фототелеграммы, площадью в восемнадцать квадратных сантиметров. Началось с того, что мы заблудились, тоесть заблудился летчик, а мы ничего не подозревали — сидели в креслах и поглядывали в окошко на невеселый зимний пейзаж: белые поля да черная тайга. Потом, когда на поля набежали вечерние тени и снег стал тёмноголубым, мы заинтересовались, почему самолет запаздывает. Геннадий Васильевич послал летчику записку. А тот откровенно ответил, что мы попали в магнитную бурю: радиосвязь отказала, компас бунтует. И поскольку встречный ветер снижает скорость нашего самолета, мы, возможно, не долетим до аэродрома и сядем где-нибудь на таежной речушке, потому что без радио и без компаса трудно ориентироваться. «Ничего не поделаешь — год беспокойный, — сказал летчик. — На Солнце много пятен, и у нас в атмосфере непорядки: то и дело магнитные бури и полярные сияния». А тьма наступала быстро. Ведь мы летели на север, в страну многомесячных ночей. На небе одна за другой зажигались звезды. Снега и леса внизу под крыльями смешались в нечто единое, темносерое, бесформенное. Потом мы увидели свет, но не на юге, где зашло солнце, а на севере, словно там, за горизонтом, уже начинался новый день. Геннадий Васильевич засуетился и послал летчику записку: «Слева свет, вероятно, Северстрой». Минуты через две свет стал ярче, как будто над горизонтом поднялось освещенное солнцем облако. Потом из облака потянулся широкий луч соломенного цвета. Мгновение — и по всему небузаходили лучи, вспыхивая и угасая, расходясь и собираясы в пучок, как прожекторы в день салюта. Это продолжалось минут пять. Потом на небе появился занавес, сотканный из прозрачных лучей, бледножелтых и зеленых, с багровокрасной бахромой. Складки его волновались, как будто на небе был сильный ветер; желто-зеленые и малиновые полосы пробегали по сугробам. А впрочем, что тебе рассказывать о полярном сиянии!
 Пока я любовался небесным пожаром, летчик повел самолет на посадку. Сели мы не на аэродроме, а прямо на плотину, в самом сердце стройки. Место для посадки — удачное, гладкое, просторное и твердое, потому что плотину здесь строят изо льда. А мы-то с тобой не поверили, думали, что это надо понимать в переносном смысле.
Почувствовав твердую почву под ногами, Геннадий Васильевич накинулся на летчика. «Как вы смели, — кричал он, — так легкомысленно лететь во время магнитной бури? Да знаете ли вы, кого вы везете? Незаменимого человека, крупного ученого (это я-то!). Да если бы с ним произошло что-нибудь, вас расстреляли бы… да-да!.. Что, синоптики ошиблись? Синоптиков ваших тоже расстреляли бы».
Не правда ли, у моего заместителя есть какая-то старомодная чудаковатость? Таких типов видишь в старых пьесах. В наши дни так не относятся к начальству, верно?
Так мы прибыли в Мезень, с приключениями и даже с небесным фейерверком. Встреча была торжественная, хотя ожидали нас, собственно говоря, на аэродроме, за двадцать с лишним километров от плотины.
Мы попали в самое сердце стройки. И, выйдя из самолета, я мог видеть, как работает конвейер, сооружающий первую в мире ледяную плотину.
Впереди шли тяжелые ледоколы — они давили лед, раздвигали его, расширяли полынью. Далее, опустив чугунные хоботы в воду, двигались землесосные снаряды. Видимо, они готовили основание для плотины, выбирая со дна непрочный илистый грунт. Смешанная с водой земля с шумом выливалась из труб прямо на плотину и там замерзала, превращаясь в мерзлый монолит. Ближе ко мне плотину наращивали чистым льдом. Сотни судов, пловучих кранов, разного рода механизмов заняты были этим делом. По свободным ото льда каналам пыхтящие буксиры подтаскивали к плотине огромные ледяные поля. Здесь на них накидывали крюки и втаскивали на специальные баржи со срезанной кормой. Затем на палубе производилась разделка льда, как производится разделка туши на китобойном судне Специальным скребком со льдины счищали непрочный снег, а затем распиливали её гупыми, раскаленными докрасна пилами. Круглые пилы с громким шипеньем катились по льдине, отделяя ровные кубы и плиты. Плиты эти не задерживались ни на минуту — тут же их подхватывал подъемный кран и переправлял на плотину. Плита укладывалась на скользкий лед, обильно политый водой, и вскоре смерзалась с нижними рядами. На многие километры по обеим сторонам плотины рядами стояли краны, вытянув над водой железные руки. И повсюду колыхались в воздухе ледяные кубы, плиты и балки, окрашенные полярным сиянием в зеленый и красный цвета.
А цветной занавес ещё трепетал над нашей головой, зеленые и красные отсветы соперничали с желтыми электрическими огнями, и отдаленный треск ломающихся торосов покрывался стуком моторов, шипеньем пил, рокотом кранов, гудками буксиров.
Если бы я был художником, я нарисовал бы это на полотне и назвал бы картину «Атака на Арктику».
Пока я любовался небесным пожаром, летчик повел самолет на посадку. Сели мы не на аэродроме, а прямо на плотину, в самом сердце стройки. Место для посадки — удачное, гладкое, просторное и твердое, потому что плотину здесь строят изо льда. А мы-то с тобой не поверили, думали, что это надо понимать в переносном смысле.
Почувствовав твердую почву под ногами, Геннадий Васильевич накинулся на летчика. «Как вы смели, — кричал он, — так легкомысленно лететь во время магнитной бури? Да знаете ли вы, кого вы везете? Незаменимого человека, крупного ученого (это я-то!). Да если бы с ним произошло что-нибудь, вас расстреляли бы… да-да!.. Что, синоптики ошиблись? Синоптиков ваших тоже расстреляли бы».
Не правда ли, у моего заместителя есть какая-то старомодная чудаковатость? Таких типов видишь в старых пьесах. В наши дни так не относятся к начальству, верно?
Так мы прибыли в Мезень, с приключениями и даже с небесным фейерверком. Встреча была торжественная, хотя ожидали нас, собственно говоря, на аэродроме, за двадцать с лишним километров от плотины.
Мы попали в самое сердце стройки. И, выйдя из самолета, я мог видеть, как работает конвейер, сооружающий первую в мире ледяную плотину.
Впереди шли тяжелые ледоколы — они давили лед, раздвигали его, расширяли полынью. Далее, опустив чугунные хоботы в воду, двигались землесосные снаряды. Видимо, они готовили основание для плотины, выбирая со дна непрочный илистый грунт. Смешанная с водой земля с шумом выливалась из труб прямо на плотину и там замерзала, превращаясь в мерзлый монолит. Ближе ко мне плотину наращивали чистым льдом. Сотни судов, пловучих кранов, разного рода механизмов заняты были этим делом. По свободным ото льда каналам пыхтящие буксиры подтаскивали к плотине огромные ледяные поля. Здесь на них накидывали крюки и втаскивали на специальные баржи со срезанной кормой. Затем на палубе производилась разделка льда, как производится разделка туши на китобойном судне Специальным скребком со льдины счищали непрочный снег, а затем распиливали её гупыми, раскаленными докрасна пилами. Круглые пилы с громким шипеньем катились по льдине, отделяя ровные кубы и плиты. Плиты эти не задерживались ни на минуту — тут же их подхватывал подъемный кран и переправлял на плотину. Плита укладывалась на скользкий лед, обильно политый водой, и вскоре смерзалась с нижними рядами. На многие километры по обеим сторонам плотины рядами стояли краны, вытянув над водой железные руки. И повсюду колыхались в воздухе ледяные кубы, плиты и балки, окрашенные полярным сиянием в зеленый и красный цвета.
А цветной занавес ещё трепетал над нашей головой, зеленые и красные отсветы соперничали с желтыми электрическими огнями, и отдаленный треск ломающихся торосов покрывался стуком моторов, шипеньем пил, рокотом кранов, гудками буксиров.
Если бы я был художником, я нарисовал бы это на полотне и назвал бы картину «Атака на Арктику».
«Дорогой Сережа! Посылаю тебе полный отчет за истекшие десять дней. Мы подыскали место для вышки на Абрамовском берегу. Абрамовским берегом называется всё побережье от горла Белого моря до Мезени. За Мезенью идёт уже Конушинский берег, а ещё дальше — Канинский. На нашем участке есть прочный холм, а рядом осушная котловинка. «Осушная» — это значит высыхающая во время отлива. Мы её загородим, засыплем солью и превратим в лиман. У нас получится очень хорошее заземление, площадью в два квадратных километра. Вышка будет стандартная — девяносто метров высотой, из прочных керамических труб. Кабель прокладываем по воздуху, чтобы не долбить мерзлый грунт. В связи с этим меняем изоляцию… (Далее следуют на три страницы технические подробности и расчеты) Дело двигается медленно, потому что начальник стройки не дает рабочих. Сейчас сильные морозы, то-есть наилучшие условия для ледяной стройки, и все люди очень заняты. К весне, когда станет теплее, обещают дать сколько угодно народу. Я не спорю. В конце концов, нашу вышку можно смонтировать за две недели. В результате я почти свободен. Много читаю, кое-что подсчитываю, по вечерам брожу по стройке. Поражают удивительная четкость работы, замечательный ритм, оркестровая сыгранность. На ловле, подвозке, обработке, укладке льдин работают сотни судов, кранов, насосов — десятки тысяч людей. И всё это идет, как по ленте. Льдины укладываются одна за другой, как будто это не льдины, а кирпичи. Иногда за сутки плотина вырастает метра на полтора на всем протяжении. Весной, когда морозы будут меньше, мне дадут землесос имени 8 марта. Это самый знаменитый на стройке земснаряд. Его экипаж составлен сплошь из девушек. Я побывал там заранее, и угадай, кого я встретил? Нипочем не угадаешь, а может, и не припомнишь. Речь идет о Зине с землесоса 301, Зине-«Огонек», из-за которой мы с тобой чуть не поссорились на всю жизнь. Сейчас она здесь, работает на земснаряде старшим багермейстером; нисколько не изменилась, такая же краснощекая, с блестящими глазами и жесткими рыжими кудрями. Меня она вспомнила с величайшим трудом, а тебя, представь себе, сразу. Оказывается, ты сказал ей что-то очень мудрое. Как будто так: «В нашей стране человек получает всё, чего он достоин. И если он предпочитает танцульки и наряды умным книгам, никто в этом не виноват». Одним словом, твое изречение записано в сердце девушки, и каждый день, садясь за письменный стол (Зина учится заочно на третьем курсе), она доказывает себе, что ты её напрасно обидел. Впрочем, она взяла у меня твой адрес и, вероятно, сама напишет. Таким путем, Сережа, производят впечатление на девушку. Ты её разозлил, и она не может тебя забыть. А я и развлекал её, и смешил, и подарки дарил, а в результате я — только однофамилец того Новикова, о котором она думает каждый день».
«Здравствуй, Сережа! Время идет быстро. Уже март. Весна приближается, извещая о себе частыми бурями и оттепелями. К счастью, февральские морозы хорошо поработали на нас, и сейчас плотина сделана процентов на восемьдесят. Началась облицовка теплоизоляционными плитами. У Конушинского берега монтируют первую турбину. 1 мая Мезень дает ток. Итак, 1 мая я включаю атомный аппарат № 1 и соединяю Мезень с ионосферой; ты включаешь атомный аппарат № 2 и соединяешь ионосферу с Туркменией. Студеные мезенские воды начинают крутить моторы вентиляторов, опреснителей и насосов для ваших пустынь. Что мы будем делать дальше, задумывался ли ты? У тебя, конечно, есть ответ. «Надо изучать», — скажешь ты. Ты захочешь два года ездить взад и вперед, из Туркмении в Мезень и обратно, исследовать, как идет ток по ионосфере днем и ночью, летом и зимой, как он растекается в стороны, как действует на него магнитное поле Земли, как он сам влияет на компасы и магнитные приборы, какие на пути помехи и как с ними справляться. Пусть так. А через два года? Ведь скажут нам когда-нибудь: «Передача удалась. Развивайте это дело. Ведите ток не только в Туркмению, а еще куда-нибудь — в Свердловск, в Прагу или в Кантон». В ионосфере это легко. Там нет границ. Где встанет атомный аппарат № 3 — туда и пойдет ток. Но вот вопрос: как распределится ток на пути от одной электростанции к двум потребителям; от двух станций к двум потребителям; от сорока станций к ста потребителям? Именно об этом я пишу сейчас, в свободное время. Ты был бы доволен, Сережа, если бы увидел мои записи. Никаких описаний, никаких рассуждений, ии одного восклицательного знака — формулы, вычисления и таблицы, сплошные цифры, столбики цифр на целую страницу, всевозможные варианты, которые можно предположить. Я уже слышу твой трезвый голос. Ты, конечно, полагаешь, что я зарвался. «Сначала доведи до конца одно, потом принимайся за другое, — говоришь ты. — Сначала передай ток в Туркмению, там будет видно». Но я не уверен, что ты прав, о тормоз моей души! Пора подумать, что будет видно «там». Я согласен: нельзя сделать второй шаг раньше первого; но прежде чем сделать самый первый шаг, рекомендуется подумать, куда ты идешь. И вот сейчас за колонками цифр я разглядел цель наших двух жизней: твоей и моей. Пройдет два-три десятка лет. Все станции Союза соединены с ионосферой. Там, за облаками, на грани межпланетного пространства, — обширный склад энергии, общий котел, куда все станции вливают реки электричества, бескрайный электрический океан. И каждая область, включая, словно штепсель, атомный аппарат, «поит» свои города, села и заводы из этого океана. Техника не считается с расстоянием. Нет необходимости ставить новые заводы возле гидростанций. Холодные воды Байкала и Лены, жаркое солнце Кара-Кумов, уголь Кузбасса, урановые месторождения общими усилиями освещают дома москвичей и чукчей. Электричества будет вволю, оно будет доступно, как воздух и вода. Проектируя новые производства, машины, дома, дороги, стройки, инженеры не будут считаться с затратами энергии. Ты скажешь: я размечтался. Нет, я увидел это на плане реконструкции Мезени. Мощность здешней станции двадцать пять миллионов киловатт. По расчету: семь процентов — потери на станции, восемь процентов — потери в передаче. Наша ионосферная проводка сразу же уменьшает потери до семи с половиной процентов. Эти полпроцента разрешено использовать на нужды города. А мезенские полпроцента — это больше, чем Волховская гидростанция. Слишком долго пересказывать всё, что задумано в этом электрическом городе. Приведу один пример: я видел на проекте лимонную рощу. Это огромная оранжерея гектаров на десять, где, как в Москве, на выставке, при электрическом освещении и отоплении будут выращиваться цитрусы. Конечно, лимоны можно доставлять на самолетах — это так и делается, — но мезенцы полагают, что они, подобно жителям юга, имеют право отдыхать в тени апельсиновых деревьев. Сережа, это деталь, но за ней видится большое. Наши деды освободили нищую Россию; наши отцы сделали её страной изобилия. А мы уже позволяем себе роскошь, общественную роскошь, как этот зимний сад у Полярного круга. Но Мезень не одна. Приближаются времена электрической роскоши для всей страны. И когда будет создан электроокеан в ионосфере, возникнут не одинокие рощи, а целые города под прозрачным куполом — лимонная Воркута, Индига, Амдерма, Диксон. На улицах там будут цветущие вишни, больницы и жилые дома; в плодовых садах, вокруг школ, — сливы, персики, виноград. Все это я рассказал Зине. Как-то раз я зашел к ним на землесос и попал на аврал — не было электричества. Во время бури морская вода проникла в трюм и разъела изоляцию. Итак, было совершенно темно; в кромешной тьме мы ползали по трюму, по колено в холодной воде, разыскивая повреждения. Все промокли насквозь, закоченели, обозлились… и тут я рассказал про лимонные города. «Только я не знаю, стоит ли помещать школы в этих городах, — сказал я. — Боюсь, что там вырастут неженки». Я шутил, но Зина ответила совершенно серьезно: «Можно подумать, что в вашем доме не было крыши. Разве у вас не топили зимой? Разве в школе вы сидели в шубе? Чтобы закаляться, вовсе не нужно жить скверно. Среди наших девушек есть украинки, узбечки, туркменки. Никто из них не жалуется на мороз, работают, и отлично работают. Неженки — это прежде всего лентяи, а лень не зависит от климата». И я подумал, что Зина сама может служить примером. Она, если помнишь, родом с Херсонщины. Отец её садовод. Послушал бы ты, с каким вкусом она рассказывает о яблоках «апорт», «анис белый», «ранет», о грушах «бергамот», «бере Мичурина», об опылении, черенковании, прививках, окучивании! Кто ей мешал остаться в отцовском саду? Но Зина поехала туда, где ещё нет садов. Она работает в ледяной воде, мерзнет на ветру, для того чтобы появились удивительные города, где под электрическим солнцем будут цвести лимоны. Разве она будет жить в этих городах? Нет, она уедет ещё куда-нибудь: в Якутию, на Таймыр, на Землю Франца Иосифа — туда, где садов нет и в помине, где нужно их закладывать. О друг мой и однофамилец! В нашей жизни есть много такого, что будет восхищать наших потомков. Но мы привыкли и не замечаем».
«Здравствуй, Сережа! Шлю тебе пламенный полярный привет! (Может ли полярный привет быть пламенным?) Наконец нам дали рабочих, и строительство двинулось полным ходом. Вчера мы установили на верхушке аппарат. Послезавтра — опробование. Знаменитый девичий землесос имени 8 марта сейчас в нашем распоряжении — намывает вал вокруг заливчика, в котором мы будем укладывать заземление. Завтра начнем засыпку соли, и тогда я опять буду посвободнее, потому что эту «интеллектуальную» работу можно доверить Геннадию Васильевичу. Всё-таки мой заместитель удивляет меня. Он пунктуально исполнителен, и только. Инициативы в нём ни на грош. За все годы я ни разу не слышал от него ни одного предложения. Временами я задумываюсь, каким образом ему пришла в голову идея передачи энергии без проводов через ионосферу. Всё-таки, согласись, не будем скромничать, — это не заурядная, всем известная мысль. Зина посылает тебе привет. Я попрежнему провожу у них на земснаряде все вечера и возвращаюсь оттуда, как будто из дому. Какая-то хорошая атмосфера у них: дружная, легкая и веселая. Кажется, что три смены — одна семья, сорок две сестры, так дружно решаются все дела. Вчера распределяли роли в драмкружке; сегодня с таким же азартом обсуждают ремонт моторов; завтра выдают замуж электрика Клаву — и все принимают горячее участие. А Зина обязательно в центре, главный заводила и самый авторитетный советчик. Я спросил, почему все девушки обращаются к ней. Она говорит: «Я — комсорг. А другого выберут — к нему пойдут». Но, конечно, Зина скромничает. Может быть, она сама не замечает своей работы, у неё это получается органически. На земснаряде работают сорок два человека. Но, как говорит Зина, «сорок две проволочки — это ещё не канат, сорок два кирпича — не печка, сорок две девушки — не экипаж». Немало труда нужно положить, чтобы сплести стальной канат из сорока двух человеческих душ. Начальником землесоса работает Полина Дмитриевна — очень дельный инженер. Она знаток механизмов и при ремонте, не стесняясь, засучив рукава, берется за ломик или гаечный ключ, чтобы показать, как надо работать. Девушки уважают Полину Дмитриевну, но не любят, может быть, потому, что она всегда сурова, боится, что её не будут слушаться. Вчера Зина притащила её на вечер самодеятельности, и оказалось, что суровый инженер поет смешные песенки под гитару. Все смеялись до слез, а маленькая Танюшка — самый миниатюрный монтер в Мезени — объявила: «Я не знала, что вы такая прелесть». Не знаю, может быть, это пустяк, но отношение к Полине Дмитриевне изменилось. Сменный инженер Валя Полякова — в другом роде. Это скромная белокурая девушка, но балованая единственная дочь. Она никогда не стелила свою постель. Конечно, инженер она слабый. Она относится к числу тех девушек, которые так трогают нашего брата своей беспомощностью, так нуждаются в сильной мужской руке. Не может быть такой комсомолки, которая не выполнила бы распоряжений инженера. Валю слушаются плохо, потому что у неё есть знания, но нет уверенности в себе. И на работе Зина постоянно возле неё. А сегодня она специально разговаривала с Полиной Дмитриевной, чтобы Валю чаще оставляли одну, приучали её к самостоятельности. Лучшая подруга Зины — Клава. Клава грубовата на язык, но справедлива и поровну распределяет колкости. У неё смуглые щеки, черные брови и длинные ресницы. Клаву считают красавицей. Она знает это и смотрит на подруг снисходительно. В минуту раздражения она может больно оскорбить. Зина постоянно напоминает, чтобы Клава сдерживалась, и Клава дала торжественное обещание не гордиться. «По всё-таки она трудный человек», — говорит Зина со вздохом. У Нади Горбачевой не ладится личная жизнь. «Он» пишет ей редко и мало, и письма какие-то неопределенные: о чувствах ничего не говорится. Зина перечитывает с ней слинявшие строчки, толкует их вкривь и вкось, и Надя уходит утешенная, с высохшими слезами. У Вари Мироновой — больной ребенок в деревне. Зина организует ему посылку ко дню рождения — сорок два подарка. Есть ещё Айша Нур-Мухамедова, смуглая девушка с пятнадцатью косичками. Она трудно привыкает к морозам. За ней нужно следить, чтобы после смены она переодевалась в сухую одежду. Есть ещё Настя Соколова — могучая девица, и тебя и меня положит на обе лопатки. Этой всё нипочем. Она приходит в уныние лишь тогда, когда запаздывает обед. Настя очень хочет учиться на механика, но алгебра дастся ей с трудом. И Зина прикрепила к ней сообразительную бойкую Танюшку, крошечную девушку, которую никогда не пускают на сеансы, где «детям до 16 лет смотреть воспрещается». Есть ещё Маша, Маруся и Маня, Римма, Галя Беленькая и Галя Черная, Лена, Лёля, Лиля и три Люси. В общем, сорок два человека, все разные люди, со своими достоинствами и недостатками. И из этих сорока двух человек наша Зина строит образцовый комсомольский коллектив. Я хожу к ней учиться и наблюдать. Ты не подумай чего-нибудь — я хожу только наблюдать».
«Дорогой Сережа! Я сделал Зине формальное предложение (не пугайся!) перейти на работу к нам в лабораторию. Она очень смеялась: «Разве вам нужны багермейстеры?» А жаль. Очень пригодился бы в нашем институте такой организатор с живым огоньком, умеющий воспламенять души сотрудников. Мы с тобой не научились этого делать, а Геннадий Васильевич и подавно. Нельзя ли всё-таки выхлопотать нам штатную единицу багермейстера? Очень мне хочется перетащить к нам Зину. Ты не думай, что она такая же хохотушка, как была. Это всё в ней осталось — смех, шутки, веселье. Но вдруг из уст молоденькой девчонки срывается что-нибудь глубокое и мудрое…»
Валентин написал эти строки под впечатлением одного разговора, но даже закадычному другу Сергею он постеснялся поведать свои затаенные мысли. Произошло это накануне. Не застав Зину в клубе, Валентин отправился разыскивать её и нашел в каюте в обществе Клавы. Красивая и самоуверенная Клава как-то сразу невзлюбила Валентина. Всякий раз они пикировались и дразнили друг друга. Но на этот раз Клава даже не ответила на приветственную шутку. Когда Валентин вошел, она сразу встала и вышла за дверь. — А я говорю тебе — не бойся, — громко сказала Зина, провожая подругу. — Кто испугал нашу воинственную Клаву? — спросил Валентин, когда Зина вернулась к столу. Зина промолчала. — Неужели жестокая Клава влюблена и боится сказать ему? — А ты не смейся, — сказала Зина наставительно. — Дело серьезное. Решать надо не как-нибудь, а на всю жизнь. Он — инженер, хороший человек и любит её. А всё-таки боязно. Вот она и плачет, потому что не решается. Валентин вздохнул. Последнее время он часто думал о любви. Его растрогала насмешница Клава, которая, оказывается, так серьезно относится к браку. — Конечно, нелегко решиться, — сказал он. — Помню, я читал где-то древнюю легенду, будто некогда злые боги разрубили людей на две части и разбросали половинки по белу свету. И вот разбросанные половинки ищут друг друга, иногда встречаются, иногда проходят мимо, иногда ошибаются. Из-за этих ошибок происходят ссоры, несчастья и разочарования. Интересно, сумела ли Клава найти свою настоящую половинку? А ещё интереснее — где твоя половинка, Зина? Ты уже знаешь это? Но Зина не поняла намека или пропустила его мимо ушей. — Мне совсем не нравится эта сказка. Тут получается, что люди вроде облигаций. На счастливый номер выигрываешь сто тысяч, а на прочие — двести рублей. Если ты всерьез так думаешь, никудышный ты начальник. Прямо в глаза тебе скажу. Вот, например, наш земснаряд третий месяц держит красное знамя. Почему? Удачливые мы? Нет, работаем хорошо. Может быть, люди у нас необыкновенные? Нет, девушки как девушки. Может быть, очень хорошие работники? Да, очень хорошие, но никто из них не родился хорошим механиком или хорошим электриком. Их обучили, воспитали, сделали мастерами. И хорошую семью тоже можно сделать. Я так и сказала Клаве. Ведь она девушка красивая, гордая, избалованная. Всегда она выбирала, шутки шутила, а теперь полюбила — ей нужен только он один и больше никто. А я говорю: «Если любишь, не бойся. Кого боишься? Себя, своего характера боишься. Вдруг у тебя капризы, а муж не спустит, и пойдет всё врозь». И я говорю Клаве: «Ты себя сдерживай, потому что любовь любовью, а семейную жизнь нужно своими руками устраивать, учиться надо приносить счастье». — А если муж виноват? — Я про то и толкую, что муж не облигация с номером, а живой человек. Марусю знаешь? Та же Клава учила Марусю и сделала из неё дельного электрика. Так неужели она своего инженера не сможет сделать хорошим мужем? Валентин усмехнулся: — Хотел бы я посмотреть, как ты будешь воспитывать своего мужа. — Зависит, кто он будет, каков из себя. — Ну, например, если такой, как я. — Такого, как ты, я бы пилила, — объявила Зина решительно. — Я бы пилила тебя с утра до вечера, потому что ты лентяй и тратишь время па глупые разговоры с девушками. Так шутками кончился этот серьезный разговор. Но Валентин ушел с радостным сердцем, как будто его очень расхвалили или удивили приятным известием. К ночи мороз стал крепче; в ночной тишине далеко разносились ухающие удары — это громоздились торосы и сталкивались льдины в открытом море. В ответ раздавалась пальба. Торосы угрожали зданию электростанции, и, не дожидаясь их приближения, специальные команды взрывали их. Люди против льда — артиллерийская дуэль грохотала над заливом. Когда в воздух взлетали звенящие осколки, Валентину хотелось кричать по-мальчишески: «Ура, наша берёт!» «А что я радуюсь, собственно? — спросил он себя. — Зина сказала, что будет пилить меня. Что же тут хорошего — пилить?» Но это говорил язык, а в душе всё пело и смеялось: «Пилить… пилить она согласна, с утра до вечера, всю жизнь пилить тебя, тебя, Валентин, тебя одного…» Воображение тотчас нарисовало ему вечер в уютной комнате, лампу под зеленым абажуром, круг света на чертежном столе. На диване, обложенном вышитыми подушками, — Зина с учебником на коленях. На её круглом румяном лице — выражение, преувеличенной серьезности. «Сядь, Валентин! — говорит она. — Думать надо с карандашом в руке». «Но мне пришло в голову…» «Опять новая идея? А старую ты довел до конца?» Тут же Сергей. Он пришел в гости… со своей подругой… нет, вероятно, один. Сергей — сухарь и закоренелый холостяк. Вряд ли он соберется когда-нибудь жениться. Впрочем, если Зина возьмется за дело, вероятно и для Сергея найдется какая-нибудь худенькая черноглазая… Женатый Сергей! Любопытное будет зрелище. Развеселившись, Валентин поставил валенки в третью позицию, как учили его когда-го в танцевальном кружке, и сделал два-три круга вальса в тени забора. — Кто идет? — крикнул сторож. — Пропуск… В этот вечер Валентин влюбился окончательно.
Глава третья
Все решилось в один день — 11 апреля. Накануне Валентин получил вызов к начальнику строительства в одиннадцать ноль-ноль и обратил внимание на сочетание цифр: 11-го в 11 часов — четыре единицы подряд. Валентин проснулся в этот день рано. Светало. Из полутьмы доносился монотонный шум волн. Над морем висела латунная Луна. Валентин поглядел на неё и сказал шутливо: «Гуляешь, голубушка? Погоди, запрягут тебя, будешь крутить роторы, освещать полярную ночь, обогревать лимонные города». Эти слова должны были сбыться через двадцать дней — 1 мая, когда приливная станция обязалась дать ток. Ведь приливы, как известно, зависят от влияния Луны. Потом Валентин вспомнил о вчерашнем визите к Зине. Ей поручили сделать доклад о приливных электростанциях. Она просила подобрать литературу. Валентин достал с полки несколько книжек — гораздо больше, чем нужно, но подумал, что читать их слишком долго и трудно, и по собственному почину решил написать тезисы для доклада. Он взял чистый лист бумаги и написал: 1. Прежде всего рассказать о всемирном тяготении. Все тела притягивают друг друга: Солнце — Землю, Земля — Луну, а Луна со своей стороны — Землю. Чем ближе тела, тем сильнее между ними тяготение. Воды океана ближе к Луне, чем центр Земли. Луна притягивает океан сильнее, чем земной шар, и поэтому против Луны образуется водяной бугор. А другой бугор возникает на противоположной стороне земного шара — там, где притяжение Луны слабее всего и вода как бы отстает от твердой земли. 2. Таким образом, дважды в сутки Луна поднимает воду во всех океанах на полметра в среднем. Работа эта колоссальна. В поднятой воде таится огромный запас энергии, который мы и называем «синим углем», энергией прилива. 3. Если бы вся Земля была покрыта океаном, приливные бугры полуметровой высоты равномерно двигались бы вокруг земного шара с востока на запад. По океанам катилась бы плоская волна полуметровой высоты. Но материки, острова и заливы видоизменяют движение приливной волны. Она задевает за дно и за берега, застревает в узких проливах и особенно возрастает в постепенно сужающихся заливах, глубоко вдающихся в сушу. В таких заливах приливы доходят метров до пятнадцати и выше. 4. Приливы совсем незаметны в таких морях, как Черное и Балтийское. Моря эти связаны с океаном узкими проливами, через которые проникает слишком мало воды. Своеобразно получается в Белом море: подходя с севера, приливная вода попадает здесь в коридор между Кольским полуостровом и полуостровом Канин. Чем дальше на юг, тем уже коридор. Приливной волне становится тесно — она растет в вышину и в узкое горло Белого моря входит огромным валом четырехметровой высоты. Однако, пройдя горло, вал попадает на просторы Белого моря. И здесь приливная волна растекается в разные стороны. Бугор рассасывается, приливы почти незаметны. 5. Принцип приливной электростанции очень прост. Нужно отгородить плотиной часть узкого залива, проделать в плотине водоспуски, поставить в них турбины и пропускать через турбины воду четыре раза в сутки: во время прилива из океана в бассейн, во время отлива — из бассейна в океан. Количество энергии, которую можно получить, равно площади бассейна, умноженной на высоту прилива. Мезенская электростанция, которую мы строим, будет давать до сорока миллиардов киловатт-часов в год. 6. Затем на очереди у нас еще более мощная станция, в горле Белого моря. Но здесь свои трудности. Поставив плотину в горле, мы превратим Белое море в закрытый бассейн. Однако бассейн этот слишком велик — один прилив не успевает его наполнить. Поэтому наша станция будет работать с пользой только во время прилива, а во время отлива — вхолостую. Чтобы избежать этого, можно поставить в горле вторую плотину. Но строить две плотины — это вдвое больше работы…Валентин исписал несколько больших листов — приготовив материал по крайней мере на два доклада. Но времени до 11 часов было ещё много, и Валентин решил заехать на часок к Зине. Кстати, она работала сегодня в вечерней смене. Да и предлог был подходящий — нужно было отдать ей книжки и тезисы. Валентин внимательно оглядел себя в зеркало, решил, что брюки помялись, и поправил складку электрическим утюгом. Затем он завернул в газету розы, выписанные для Зины из московских оранжерей… но, поколебавшись, оставил букет на столе. Слишком нелепо было разгуливать по ледяной плотине в валенках, полушубке и с розами в руках. Да и Зина могла обидеться, подумать, что он хочет купить её роскошью, — дескать, вот какой я богатый, могу доставать розы зимой. Сдав ключ от комнаты, Валентин пошел в соседний коридор к Геннадию Васильевичу сказать, чтобы помощник заехал за ним к землесосу ровно в десять тридцать. Лузгин уже не спал. Он сидел в полосатой пижаме у стола и что-то писал. В комнате его было по-холостяцки не прибрано, пахло табаком и алкоголем; постель была скомкана; на столе, среди бумаг, стояли патефон и бутылка коньяку. Увидев входящего Валентина, Лузгин сложил недописанный лист бумаги и сунул его в ящик стола. — Что это вы прячете? Письмо к любимой женщине? — спросил Валентин. На лице Геннадия Васильевича мелькнуло смущение, потом уверенность, усмешка, и снова появилось смущение, на этот раз какое-то нарочитое, наигранное. Но Валентин ничего не заметил. Он был слишком занят Зиной, и настроения странноватого помощника мало интересовали его. — Развлекаюсь в неслужебное время, — сказал Лузгин. — Захотелось припомнить молодость, кое-что записать. Когда-то я питал слабость к литературе. Нет, не просите, не покажу. Это личное, интимное, лирическое, не для постороннего глаза. Вам это неинтересно. — Почему лирическое неинтересно? Наоборот. Наверно, вы про любовь пишете? Ведь была у вас любовь, Геннадий Васильевич? Глаза Лузгина сузились. На лице его появилось что-то злое. — Ничто человеческое мне не чуждо, — сказал он. — В десять лет я болел корью, в двадцать — любовью. А когда выздоровел, увидел рядом с собой обыкновенного человека, чуть пониже ростом, чуть поменьше весом, чуть глупее меня, чуть хитрее и гораздо беспомощнее, слишком беспомощного, чтобы стоять на своих ногах и потому желавшего ездить на мне верхом… К счастью, я во-время заметил это и успел убежать. Валентин был оскорблен до глубины души. А он-то приготовился слушать исповедь, сочувствовать неудачливому влюбленному! — Сейчас-то вы уж не болеете? — Ничто человеческое мне не чуждо! — высокопарно повторил Лузгин. — В тридцать лет я болел честолюбием. Мне хотелось стать великим ученым и великим писателем. Потом я узнал, что слава предпочитает преждевременно умерших, а умирать мне не хотелось. Сейчас мне сорок. Я научился ценить коньяк, музыку и покой. И я совершенно здоров. Валентин больше не мог сдерживаться. — Это дешевая поза, — крикнул он, — поза людей равнодушных и никчемных! Вы презираете любовь, потому что не умеете любить; презираете славу, потому что не умеете заслужить её. Так можно докатиться чорт знает до чего — до равнодушия к Родине даже. Покой, коньяк и патефон!.. Какой из вас научный работник, если наука вас не волнует, если вы не дорожите успехом, не ищете, не добиваетесь его, не желаете жертвовать своим покоем! Не нужны такие работники в институте… Лузгин испугался. Он залепетал какие-то извинения, начал оправдываться, ругать слишком крепкий коньяк, уверять, что Валентин его не так понял. Валентину стало неловко, даже стыдно. Зачем он смешивает неприязнь и служебные отношения, показывает свою власть, чуть ли не угрожает выгнать человека? Лузгин — хронический неудачник. Пусть утешает себя, что «виноград зелен». Конечно, он не ученый… но работник исполнительный. — Вы заезжайте за мной в десять тридцать. Я буду на землесосе, — сказал Валентин и вышел за дверь. Он вышел с неприятным чувством, но тут же подумал о Зине, и на душе его стало опять светло и празднично.
День был ясный и морозный. Но каютка Зины вся была залита солнцем, как будто туда уже пришла весна. Золотым огнем сияли медные рамы, ручки и медно-красные кудри Зины. Валентину казалось, что девушка светится — так ярко пылали её щеки, так блестели глаза. Она шумно обрадовалась Валентину, кинулась расспрашивать, звонко хохотала при каждой шутке и даже без повода. — Ты что такая… радужная сегодня? Весна действует? Зина почему-то смутилась: — Не знаю, с самого утра так. Проснулась — солнце в глаза. На стене зайчики. Радостно, так душа и поет. Лежу и пою. Девчонки надо мной смеются. А почему — не знаю. А впрочем, может, и знаю. Мы с тобой друзья, и я расскажу честно. Много лет назад у меня была одна встреча… Знаешь, бывают такие встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Вот и этот человек… Я с ним говорила всерьез один раз, потом мы расстались. Он нарочно избегал меня и уехал не простившись. А разговор с ним я запомнила, и все эти годы он жил рядом со мной. Прочту что-нибудь и ему рассказываю. А не знаю, как поступить, — стараюсь представить, что он сделал бы на моем месте. Если похвалят меня — хвастаюсь. «Видишь, — говорю, — какая я, а ты не понял — уехал не простившись». Конечно, сама себе говорю, потому что я даже не знала, где он живет. И вот, представь, вчера я получила письмо. И оказывается, всё время он тоже думал обо мне и так же со мной мысленно разговаривал. Как ты думаешь, хорошо это? Можно так дружить на расстоянии, или мы выдумали оба? Валентин мрачно смотрел на свои брюки со складками, твердыми и острыми, как нос парохода. — Так, — сказал он, — стало быть, так. Ну, я пошел, пожалуй. — Куда же ты, посиди, — сказала Зина радушно и вместе с тем равнодушно. — Ах да! У тебя работа. Приезжай тогда завтра вечером — у нас будет репетиция. Уже выходя в коридор, Валентин обернулся и зачем-то сказал то, что не выговаривалось так долго: — В общем, я пришел сказать, что люблю тебя. Но сейчас это не имеет значения. На лице у Зины появилась болезненная гримаса. Ей неприятно было обидеть, сделать несчастливым человека в такой солнечный день её жизни. — Да нет — это неправда! — произнесла она с убеждением. — Это тебе показалось. Просто ты скучал здесь. Вокруг морозы, тьма и тоска, и живешь ты в гостинице третий месяц, а у нас всегда весело и по-домашнему… Нет, я уверена, что тебе показалось. Про любовь ты всё выдумал. С Валей и с Танюшкой ты дружишь не меньше. И знаешь, ты очень нравишься Танюшке. Ты не смотри, что она маленькая ростом, она замечательный человек! Очень добрая и душевная. Ты приглядись к ней. — Хорошо, пригляжусь, — процедил Валентин и вышел из каюты.
Геннадий Васильевич приехал на семиместной роскошной машине. После утреннего разговора он чувствовал себя виноватым, суетился, заглядывал в глаза, а Валентин терпеть не мог угодничества. И он нарочно сел за руль, чтобы не разговаривать со своим помощником. Он был очень зол на Зину и ещё больше на самого себя. «Нет, каков! Выписывал розы, утюжил брюки, тезисы писал, чтобы был предлог поехать в гости к десяти утра. Сергея жалел: «Сергей — сухарь и закоренелый холостяк, как он будет жить бобылем, бедняжка?..» Всё будет в точности, исполнители те же, только роли по-иному: Зина — на диване, Сергей без пиджака ходит по комнате, а Валентин, в галстуке и манжетах, пьет чай. Его жалеют — он одинокий, бобыль, не нашел себе подруги. Зина из жалости сватает ему Танюшку. А потом, когда он уйдет, получив чайную ложечку чужого счастья, Зина скажет мужу: «Ты знаешь, он был влюблен в меня». И на лице у Сергея появится самодовольная усмешка победителя. Невыносимо было думать об этом. И Валентин, скрежеща зубами, нажимал на газ, словно хотел встречным ветром развеять боль. Но, подъехав к управлению строительства, Валентин взял себя в руки. Прочь любовные бредни! Он инженер, хозяин большого дела, и, кроме дела, его ничто не интересует. Начальником строительства был знаменитый профессор Чернов, крупнейший холодильщик Советского Союза, впервые применивший лед для постройки набережных, для перевозки грузов и для подъема затонувших судов. Профессор был очень многосторонним ученым, занятым и деятельным. Он дорожил временем, своим и чужим, и принял Валентина ровно в одиннадцать часов, минута в минуту. В кабинете были два человека: Чернов и Валентин. Совещались они вдвоем. Профессор пригласил Валентина присесть и спросил неожиданно: — А говорят, скучаешь, жалуешься, что нет работы? — Работы действительно нет. Сижу у моря и жду тока, — сказал Валентин. — Когда можешь принять ток? — Да хоть сейчас! — Это для красного словца сказано или на самом деле? Валентин вопросительно взглянул на профессора. — Обстановка такова, — сказал тот: — мы перехватили плотиной почти весь залив; остался проран около пятисот метров шириной. Весь прилив и отлив идет сейчас через эти ворота. Течение там бешеное. Нам нужно срочно сомкнуть плотину, закрыть эти ворота. — Он сложил указательные пальцы. — Чтобы сделать это, необходимо утихомирить течение. Чтобы утихомирить его, надо открыть готовые водоспуски. Но во многих уже стоят турбины. Зачем же им крутиться вхолостую, если они могут давать ток уже сегодня. Поэтому я и спрашиваю: на самом деле ты можешь принять ток сейчас или это краснобайство? Валентин подумал: — Приемная станция готова, передаточная — тоже. Мне нужно предупредить Туркмению, чтобы в назначенный час они приготовились к приему. Если я запрошу их по радио и получу положительный ответ, я могу принять ток сегодня в четырнадцать часов. — Для верности скажем: в шестнадцать часов, — решил профессор. — Значит, немедленно поезжай на радиостанцию, и через два часа я жду окончательный ответ.
В этот день Валентин был сух, деятелен и точен. Получив положительный ответ от Сергея, он ещё раз осмотрел вышку, заземление и всю аппаратуру. Он замучил Геннадия Васильевича и всех подчиненных своими распоряжениями и сам лично дважды заезжал к метеорологам. Валентин работал энергично, но без радости. Ему казалось, что над ним нависли черные тучи. А на небе были светлые облака и даже изредка проглядывало солнце. То и дело пробивались неуместные мысли о Зине, и тогда Валентин сжимал кулаки, как будто хотел раздавить ненужные сожаления. В стороне от передаточной станции, примерно за километр от вышки, был выстроен блиндаж управления — небольшая землянка, где целую стену занимал мраморный щит с приборами и рубильниками. В землянке сегодня было тесно — здесь собрались научные сотрудники, инженеры из штаба строительства, корреспонденты из Москвы, Архангельска и мезенской многотиражки. Войдя, Валентин поздоровался и взглянул на часы. Все сразу вздернули левый рукав. Было без двенадцати минут четыре. — Геннадий Васильевич, позвоните ещё раз на обсерваторию. Спросите, не появляются ли хромосферные вспышки? — Я звонил только что. Пасмурно. Не видно, что творится на Солнце. — Пусть ещё раз измерят количество ионов. Позвоните и доложите мне. Когда заместитель вышел, Валентин обратился к присутствующим: — Товарищи! Сейчас будет проведен исторический опыт. Нам поручено передать энергию по воздуху на расстояние в три тысячи четыреста километров. До сих пор на такое расстояние передавать энергию не удавалось ни по проводам, ни, тем более, без проводов. Ровно в шестнадцать часов я включу рубильник и введу в действие атомный аппарат системы Ахтубина — генератор искусственных космических лучей. Быстролетящие частицы вырвутся из него широким снопом; они понесутся вверх, оставляя на своем пути след из разбитых, наэлектризованных атомов и ионов. Мы создадим ионизированный мостик от Земли до ионосферы. Наши товарищи в Средней Азии создадут второй такой же мостик и тем самым замкнут цепь: Мезень — мостик — ионосфера — мостик — потребитель — Земля. По этой цепи пойдет ток, — Валентин взглянул на часы, — через семь минут.
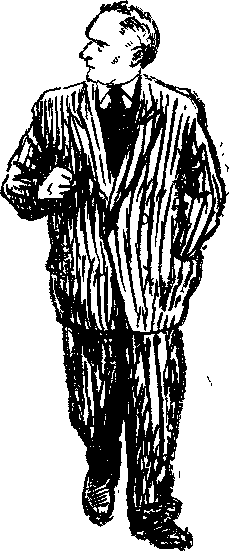 Корреспонденты окружили его, засыпали вопросами. Валентин отстранил их жестом:
— Товарищи, я рассказал вам сколько успел. Подробные объяснения после шестнадцати часов.
Вошел Геннадий Васильевич и шепнул что-то Валентину. Валентин кивнул головой и записал цифру.
— Сидите у телефона и держите связь до последней минуты, — сказал он. — Пусть продолжают измерения.
Корреспонденты окружили его, засыпали вопросами. Валентин отстранил их жестом:
— Товарищи, я рассказал вам сколько успел. Подробные объяснения после шестнадцати часов.
Вошел Геннадий Васильевич и шепнул что-то Валентину. Валентин кивнул головой и записал цифру.
— Сидите у телефона и держите связь до последней минуты, — сказал он. — Пусть продолжают измерения.
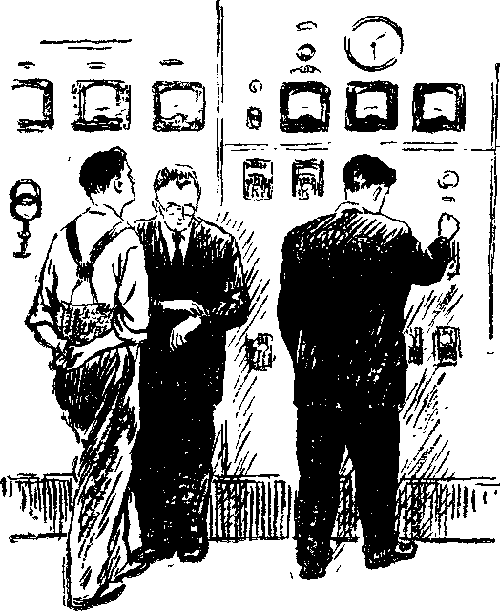 В глубокой тишине несогласно тикали полтора десятка часов. Тридцать глаз напряженно следили, как семенят по кругу пятнадцать секундных стрелок. Ровно в четыре часа на мраморном щите стала краснеть контрольная лампочка. Потом донесся гул выстрелов. Это береговые батареи салютовали первому мезенскому току. Запряженная Луна послушно принялась за работу.
Когда лампочка засветилась полным накалом, Валентин взялся за рубильник и рывком включил его.
В первую минуту ничего не произошло, только дрогнули стрелки приборов на мраморной доске, пошли вверх вольты и амперы в различных цепях. В блиндаже для безопасности вышку приходилось наблюдать на зеркальном экране с помощью коленчатой трубы вроде перископа. Но поток невидимых нейтронов, струившихся из атомного аппарата, не был виден на зеркале. Только стрелки приборов говорили о стремительных частицах, летящих с вышки в ионосферу.
— Ночью мы видели бы свет над башней, — сказал Валентин корреспонденту. — Впрочем, это от нас не уйдет. Вечером полюбуетесь.
И вдруг…
Позже очевидцы вспоминали, что вздрогнули от света. Свет был так силен, что им показалось: лопнуло зеркало. Затем появилась молния… но какая! За всю историю человечества не бывало таких молний. Столб ослепительного огня сошел с неба на землю. Не искра, не зарница, а целый водопад электричества. Как шапочка, с башни слетела сбитая целиком верхушка. Она была ещё в воздухе, когда до блиндажа долетел звук — невиданной силы гром, подобный взрыву, грохот рухнувшей скалы, взорванного вулкана, закончившийся басистым рычаньем. За первой молнией сверкнула вторая, третья, такие же яркие, потом несколько десятков вторичных обыкновенных молний, но грохочущие удары близкого грома уже казались не страшными после первого.
— Что это, почему? — послышались приглушенные голоса, похожие на шопот.
Потрясенные свидетели жались к стенкам. Геннадий Васильевич забился за щит. И только один из корреспондентов, смелый от неведения, взялся за дверь.
— Запрещаю выходить из блиндажа! — раздельно произнес Валентин.
Он был начальником здесь и первым должен был прийти в себя.
— Телефонная станция, — крикнул он в трубку, — диспетчера мне!.. Говорит Новиков. Срочно отключите электропередачу. Опыт неудачен. Катастрофа… Доложите начальнику строительства… Алло! Станция?.. Теперь дайте мне телеграф… Посылайте молнию, срочную, правительственную… Кто говорит? Я, Новиков. Диктую: «Туркменская ССР. Электрострой. Новикову». Текст. «Опыт кончился неудачей. Прекратить работу до выяснения…» Чья подпись? Моя. «Новиков Валентин».
Только после этого, повторив запрещение покидать блиндаж, Валентин один, без провожатых, выбрался на поверхность. Вышки не существовало. На месте озера вздулся холм с рванымикраями, как будто земля лопнула изнутри. Чадя, догорал кабель. Дымились горячие пузыри, оставшиеся от расплавленных стоек. Мачты электропередачи были скручены винтом и пригнуты к земле.
Так небо отбило первую попытку людей подчинить его силы.
В глубокой тишине несогласно тикали полтора десятка часов. Тридцать глаз напряженно следили, как семенят по кругу пятнадцать секундных стрелок. Ровно в четыре часа на мраморном щите стала краснеть контрольная лампочка. Потом донесся гул выстрелов. Это береговые батареи салютовали первому мезенскому току. Запряженная Луна послушно принялась за работу.
Когда лампочка засветилась полным накалом, Валентин взялся за рубильник и рывком включил его.
В первую минуту ничего не произошло, только дрогнули стрелки приборов на мраморной доске, пошли вверх вольты и амперы в различных цепях. В блиндаже для безопасности вышку приходилось наблюдать на зеркальном экране с помощью коленчатой трубы вроде перископа. Но поток невидимых нейтронов, струившихся из атомного аппарата, не был виден на зеркале. Только стрелки приборов говорили о стремительных частицах, летящих с вышки в ионосферу.
— Ночью мы видели бы свет над башней, — сказал Валентин корреспонденту. — Впрочем, это от нас не уйдет. Вечером полюбуетесь.
И вдруг…
Позже очевидцы вспоминали, что вздрогнули от света. Свет был так силен, что им показалось: лопнуло зеркало. Затем появилась молния… но какая! За всю историю человечества не бывало таких молний. Столб ослепительного огня сошел с неба на землю. Не искра, не зарница, а целый водопад электричества. Как шапочка, с башни слетела сбитая целиком верхушка. Она была ещё в воздухе, когда до блиндажа долетел звук — невиданной силы гром, подобный взрыву, грохот рухнувшей скалы, взорванного вулкана, закончившийся басистым рычаньем. За первой молнией сверкнула вторая, третья, такие же яркие, потом несколько десятков вторичных обыкновенных молний, но грохочущие удары близкого грома уже казались не страшными после первого.
— Что это, почему? — послышались приглушенные голоса, похожие на шопот.
Потрясенные свидетели жались к стенкам. Геннадий Васильевич забился за щит. И только один из корреспондентов, смелый от неведения, взялся за дверь.
— Запрещаю выходить из блиндажа! — раздельно произнес Валентин.
Он был начальником здесь и первым должен был прийти в себя.
— Телефонная станция, — крикнул он в трубку, — диспетчера мне!.. Говорит Новиков. Срочно отключите электропередачу. Опыт неудачен. Катастрофа… Доложите начальнику строительства… Алло! Станция?.. Теперь дайте мне телеграф… Посылайте молнию, срочную, правительственную… Кто говорит? Я, Новиков. Диктую: «Туркменская ССР. Электрострой. Новикову». Текст. «Опыт кончился неудачей. Прекратить работу до выяснения…» Чья подпись? Моя. «Новиков Валентин».
Только после этого, повторив запрещение покидать блиндаж, Валентин один, без провожатых, выбрался на поверхность. Вышки не существовало. На месте озера вздулся холм с рванымикраями, как будто земля лопнула изнутри. Чадя, догорал кабель. Дымились горячие пузыри, оставшиеся от расплавленных стоек. Мачты электропередачи были скручены винтом и пригнуты к земле.
Так небо отбило первую попытку людей подчинить его силы.
«Дорогой Сергей! У меня сегодня две беды: личная и научная. Даже не беды, а катастрофы. Не знаю, с каким лицом я приеду теперь к тебе в министерство, в институт… Всё разбито, всё надо начинать сначала. Надо с репутацией неудачника искать оправдания, бороться с предубеждением… Рад бы найти причину… Не знаю, как теперь жить и для чего…» Два часа Валентин сидел в своей комнате над начатым письмом. Мысли были тяжелее слов. Во всяком деле бывают ошибки и неудачи, но нельзя допускать неудачу ценой в полтора миллиона. Кто виноват? Он, Валентин. А в чём виноват, что просмотрел — это ещё неизвестно. Произошло короткое замыкание ионосферы. Она разрядилась. Сопротивление воздуха оказалось меньше, чем думали. Почему? Кто ошибся: атомщики, сделавшие слишком мощный аппарат, метеорологи, неправильно подсчитавшие проводимость воздуха? Так или иначе — за всё отвечает он… — Геннадий Васильевич, наш самолет наготове? — Путевку надо подписать, Валентин Николаевич. — Дайте сюда, я подпишу… Кто там звонит? — Вас спрашивает какая-то Зина. — Скажите, что я вышел… что я улетаю в Москву. Ох, как давно это было — солнечное утро, каюта, рыженькая девушка со своей маленькой радостью. Утренний Валентин показался сейчас таким детски-наивным. Он самонадеянно мечтал завоевать любовь и небо. И любовь и небо насмеялись над ним. Но всё-таки почему же? Хорошо было бы слетать к Сергею… только далековато. Интересно, когда он получит телеграмму? Лучше бы по радио, но почему-то радио не работало. Интересно, почему? Вряд ли из-за молнии. Обычно радио не работает, если в ионосфере непорядки. — Геннадий Васильевич, почему радио не работает? — Не знаю. Может быть, магнитная буря. В этом проклятом краю всегда помехи. — А северное сияние есть? — Нет, не было как будто. — Похоже на хромосферную вспышку… Геннадий Васильевич, что вам ответила метеостанция? Покажите мне журнал. Вы не записали телефонограмму? Почему? Вы же обязаны были записать! Как же мы найдем теперь причину?.. Ну хорошо, идите на аэродром, я сам позвоню им.
Десять минут спустя запыхавшаяся Зина прибежала в гостиницу. Она ещё не знала, что скажет Валентину, но понимала, что нужна ему… Именно сейчас, когда у него такое несчастье и рядом нет друзей, никого, кроме неё. — Да вы не тревожьтесь, он не уехал ещё, — сказал ей усатый дежурный. — Ключ мне не сдавали. Вот его дверь, в самом конце коридора. Зина на цыпочках пробежала по коридору и робко постучала. Но хотя из-под двери пробивался свет, никто не ответил ей. Зина подождала и постучала сильнее, потом ещё решительнее кулаком. Под ударами дверь тихонько приоткрылась, и Зина увидела Валентина, который сидел, положив голову на стол, как будто спал.
 Но почему он заснул в такой неудобной позе? Что это он писал? «Две беды… личная и научная… Всё разбито, всё надо начинать сначала… Не знаю, для чего теперь жить и как жить?» И что это красное, похожее на канцелярские чернила, течет по столу на недоконченное письмо? И что это лежит на полу, под свесившейся рукой, — черное, металлическое, вороненое?
Зина схватилась за голову и закричала не своим голосом:
— Что ты наделал, Валентин, что ты наделал!
Но почему он заснул в такой неудобной позе? Что это он писал? «Две беды… личная и научная… Всё разбито, всё надо начинать сначала… Не знаю, для чего теперь жить и как жить?» И что это красное, похожее на канцелярские чернила, течет по столу на недоконченное письмо? И что это лежит на полу, под свесившейся рукой, — черное, металлическое, вороненое?
Зина схватилась за голову и закричала не своим голосом:
— Что ты наделал, Валентин, что ты наделал!
Глава четвертая
«Вы настоящий хирург, Мария Васильевна! Я верю в вас, как в самого себя», — так сказал Боков на прощание. «Как в самого себя»!.. Приятно слышать похвалы, но Кудинова знает; далеко ей до учителя. Все годы после окончания института старый профессор был для неё идеалом врача и человека. Кудинова мечтала с такой же миллиметровой точностью оперировать сосуды и нервы, с такой же уверенностью вести больного по грани жизни и смерти, без колебаний идти на риск, как Боков, побеждать смерть мастерством и хладнокровием. Но хладнокровный профессор совсем не был равнодушным человеком. Он отзывчиво выполнял все просьбы — иные злоупотребляли этим. Ночью, зимой, в любое время, Александр Ильич отправлялся на окраину, за город, в соседнюю область, по просьбе знакомого врача, лаборантки, уборщицы, бывшего студента, любого человека, позвонившего по телефону. Боков любил художественную литературу, но пропускал страницы, где описывалась смерть. «Зачем смаковать страдания?» — говорил он. Боязнь страданий у хирурга! Это противоречие удивляло Кудинову. Потом она поняла, что Александр Ильич страстно ненавидит боль и смерть. И он сражается с болью там, где она сильнее, со смертью, где она ближе всего. Кудинова не обольщает себя — ей далеко до Бокова и как хирургу и как человеку. Она бывает нетерпелива, равнодушна, даже высокомерна, особенно с мужчинами. Её раздражает, что все они смотрят на её брови, губы, щеки. Поверхностный народ! Заняты внешностью, не думают, что перед ними хирург. И какой! Настоящий! Нет, всё-таки Боков перехвалил её — видимо, хотел подбодрить. Настоящий хирург давно спал бы, чтобы прийти на операцию свежим, отдохнувшим, полным сил. А она, как студентка перед экзаменом, вспоминает детали виденных операций, мысленно листает записи, заметки, будто в каких-нибудь конспектах описан тот больной, которого ей предстоит спасать! Рана в сердце! Не так давно это считалось верной смертью. «Раненые в сердце выживают только чудом», — писали триста лет назад. «Врач, который возьмется лечить такую рану, недостоин своего звания», — это было написано в прошлом веке. И всё-таки нашлись смелые люди, которые пытались лечить поврежденные сердца. Хирург Джанелидзе насчитал свыше пятисот таких попыток за два десятилетия… Кудинова хорошо помнит его книгу; лаконичные истории болезни так часто кончались словами: «Больной умер на 8-й день… на 12-й день… на операционном столе…» И всё же смерть отступала. Выяснилось, что даже остановка сердца — ещё не конец. Советскому профессору Неговскому удалось вернуть к жизни больных, у которых остановилось сердце в результате шока, потери крови, удушья, электрического разряда. Оказалось, что умершего ещё можно оживить через пять-шесть минут после смерти, если снова пустить в ход обессилевшее сердце. А потом появилась новая техника, и профессор Боков, начал свои операции, на которых Кудинова помогала ему несколько раз… Над темными лесами несется ревущий, словно грузовик, самолет. А в кабине, не думая о высоте, о ночи, о полете, сидит, раскачиваясь, женщина и, стараясь вспомнить все движения рук учителя, шепчет: «Аорта, венечные сосуды, блуждающий нерв…» Пусть не изменит ей память, не спутает и не собьет её, пусть не захватит у ней дыхание, пусть не дрогнет рука! От этих рук, от этих глаз, от этой памяти, от ровного дыхания зависит жизнь Валентина.Долгожданная встреча Сергея и Зины произошла в больнице. Они сидели рядышком в приемной палате, поджидая дежурного врача. В палате было очень светло из-за высоких окон, светлосерых стен, ещё пахнущих масляной краской, из-за ярко освещенного снега за окнами. По углам сидели коротко остриженные больные в голубовато-серых халатах, под цвет стен. Они разговаривали шопотом со своими посетителями; гости смотрели на больных серьезно и жалостливо. Зина показалась Сергею очень красивой, красивее, чем он представлял её. Но им обоим казалось неуместным думать о чувствах. Она рассказала о здоровье Валентина. Обо всём остальном говорить не хотелось. И они сидели молча, стесняясь друг друга, сидели рядом и думали про Валентина, каждый в одиночку. — Скажите, Валентин Николаевич писал вам про нашу дружбу, о том, как он относился ко мне? — спросила Зина, набравшись храбрости. — Да, писал. Я всё знаю. — А как вы думаете, неужели он сделал это из-за меня? Очевидно, Зина строго допрашивала себя: «Не виновата ли я в чем-нибудь?» Сергей вспомнил студенческую практику и поспешил её утешить. Нет, не мог жизнерадостный, полный сил и энергии Валентин кончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви, тот самый Валентин, который так решительно отказался от любви ради дружбы. Тогда из-за чего же? Из-за неудачи в работе? Но сколько у них было уже неудач, пускай не таких катастрофических! Кто находил выход? Почти всегда Валентин. Сергей обычно говорил: «Повторим, проверим ещё раз». А Валентин возражал: «Нет, придумаем что-нибудь новое». И действительно придумывал. Почему же он опустил руки сейчас, почему он сдался сразу? Наконец пришел дежурный врач — небольшого роста старичок, лысый, с очками на морщинистом лбу. Он долго присматривался из-под очков к Зине и пытливо выспрашивал, кем она приходится больному — сестра, жена, невеста… — Нет, просто знакомая, — сказала Зина краснея. Из этого допроса Сергей понял, что дела Валентина совсем плохи. — Да не тяните же! — сказал он с раздражением. — Что с ним? Он умер? — Нет-нет, мы не теряем надежды, — поспешил уверить его доктор. — Организм молодой и может справиться. Конечно, общий характер ранения не слишком благоприятный. Пробита нижняя доля левого легкого, внутреннее кровоизлияние, возможно — задето сердце. Мы обратились в Институт сердечной хирургии, к профессору Бокову. Вы, конечно, знаете Бокова. Это тот, что делал опыты по пересадке сердец. К сожалению, сам профессор нездоров, но его ассистент доктор Кудинова уже прилетела. Сейчас идет консилиум. Решается вопрос относительно операции. — А больной дал согласие? — Больной, к сожалению, без сознания. И поскольку родственников нет, только знакомые, нам придется взять ответственность на себя… тем более что общее положение настолько угрожающее, что тут… — он замялся, подыскивая слова, — просто риска нет никакого.
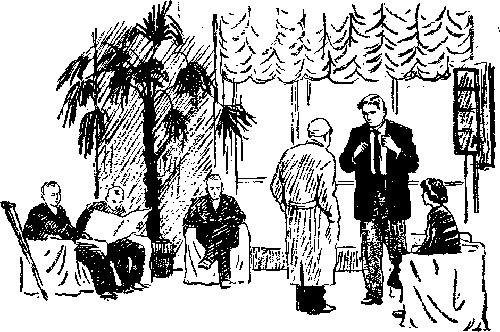 — А вы подумайте! — сказал Сергей строго. — Валентин Новиков — выдающийся ученый. Его необходимо спасти. Это ценный человек…
— Каждый человек — ценный у нас! — возразил врач сердито. — А для вашего друга мы вызвали доктора Кудинову. Вам эта фамилия ничего не говорит?.. Напрасно. Это тоже очень ценный человек.
Но здесь к Сергею подошел какой-то незнакомец и отозвал его в сторону.
— А вы подумайте! — сказал Сергей строго. — Валентин Новиков — выдающийся ученый. Его необходимо спасти. Это ценный человек…
— Каждый человек — ценный у нас! — возразил врач сердито. — А для вашего друга мы вызвали доктора Кудинову. Вам эта фамилия ничего не говорит?.. Напрасно. Это тоже очень ценный человек.
Но здесь к Сергею подошел какой-то незнакомец и отозвал его в сторону.
Это был высокий юноша в больничном халате и сапогах, свежий, румяный, со светлым хохолком. Сергей никогда не видел его и удивился, что незнакомый человек обратился к нему по имени-отчеству. — Разрешите побеспокоить вас, Сергей Федорович. — По какому делу? — Я от полковника Родионова. Он хочет побеседовать с вами. — Нельзя ли отложить на завтра? — Нет, нельзя. Он ждет вас немедленно. Это совсем близко, через улицу.
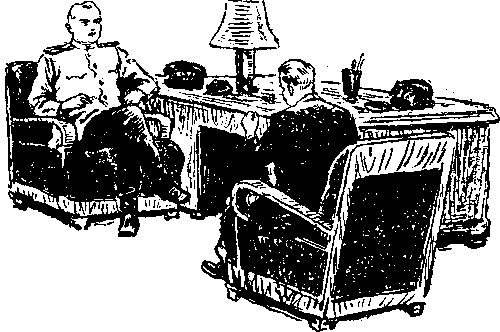 В жарко натопленном кабинете, на втором этаже стандартного бревенчатого дома, Сергея ожидал пожилой полковник. В отличие от юноши-лейтенанта, который держался с подчеркнутой строгостью, полковник обратился к Сергею очень приветливо.
— Извините, что пришлось побеспокоить вас, — сказал он. — Я возглавляю комиссию по расследованию этого… несчастного случая. Нам хотелось бы знать ваше мнение: какие могли быть причины?
— Но я ни с кем не разговаривал. Я прямо с аэродрома проехал в больницу.
— Пусть это будет предварительное мнение, — сказал полковник мягко, но настойчиво.
— Что я могу сказать предварительно… Дело новое, могли быть всякие неожиданности и каверзы со стороны природы. Но, вероятнее всего, произошло короткое замыкание. Дело в том, что воздух — не идеальный изолятор. Иногда электропроводность его может быть очень велика. Повидимому, и на этот раз она неожиданно повысилась — и произошел пробой, как на проводах, когда изоляция испорчена. Могли быть и другие причины, более сложные… Остальное сделал атомный аппарат, когда он свалился с вышки и разбился.
— А почему электропроводность могла повыситься? Какое-нибудь загрязнение, примеси?
— Нет, дым, пыль, даже самая сильная гроза не могли нам повредить. Большей частью наши неприятности связаны с Солнцем. Электризация воздуха повышается, когда на Солнце крупные пятна, факелы и особенно — хромосферные вспышки. Как раз вчера в середине дня была вспышка. В такой день ставить опыт было трудно, почти рискованно.
— Почему же вы назначили опыт на этот день?
— О вспышках нельзя знать заранее. Известно только, что в этом году много вспышек и пятен. Приходится быть начеку. Года через два пятен будет меньше, а вспышки исчезнут.
— Почему же вы не отложили все-таки опыт, когда вспышка появилась?
— Лично я не знал об этом. У нас наступил вечер, солнце зашло, и атмосфера была благоприятная.
— А Валентин Николаевич знал?
— По всей вероятности, знал. Это основа. Начиная работу, мы запрашиваем обсерваторию о состоянии Солнца и атмосферы.
— Может быть, он волновался и поэтому упустил, забыл?
— Нет, это просто невозможно!
— Почему же? Бывают ошибки по рассеянности. У Валентина Николаевича было много обязанностей. Его могли отвлечь, он мог забыть…
— Нельзя забыть, как тебя зовут! — сказал Сергей сердито. — Если я бегу на поезд, тороплюсь и волнуюсь, я могу забыть пальто, бумажник, даже билет… Но я никогда не забуду, что еду на вокзал. Чтобы начать передачу, мы включаем рубильник и поворачиваем рукоятку реостата. Перед рукояткой — цифры. Чтобы вычислить цифру, нужно знать сопротивление воздуха. Без этого мы не начнем.
— Значит, по-вашему, Валентин Николаевич знал, что день неудобный, трудный, рискованный, как вы говорите… и всё-таки рискнул. Почему же он пошел на это?
Сергей молчал.
— Кажется, вы давно знаете Валентина Николаевича? Расскажите нам, что он за человек.
Естественно, Сергей дал самую блестящую характеристику.
— Мы так и представляли его, — сказал полковник. — Но всё-таки, были у него какие-нибудь недостатки? Может быть, он любил выпить?
— Никогда. Он ненавидел пьянство. Говорил, что уважает свою голову и не намерен затемнять её вином.
— Может быть, он нуждался в деньгах, покупал дорогие вещи?
— Да что вы! Мы не знали, куда девать деньги. Нас поставили в исключительные условия. Да и к чему нам деньги? Времени не хватало.
— А с кем водил знакомство ваш друг?
Сергей назвал несколько десятков имен.
— Не было ли среди знакомых… таких людей, которые не вызывали ваших симпатий? Не наших людей?
Сергей вспылил.
— Послушайте! — крикнул он. — Я вижу, куда вы гнете. Это бессмыслица! Валентин не мог испортить нарочно. Вся жизнь его была в этой работе. Испортить работу! Это было бы самоубийством.
— Но ведь он пришел в итоге к самоубийству. Значит, были на то причины.
— Причины? Провал работы — достаточная причина! Человек он впечатлительный, преувеличил неудачу.
— Провал, неудача!..А разве вы, я, разве любой по-настоящему советский человек уйдет из жизни из-за того, что провалилась его работа?
— Не знаю… здесь всё сложилось вместе: Валентин очень нервничал. У него была неудачная любовь. В конце концов, бывают в жизни ошибки.
— Разве вы, я, разве по-настоящему советский человек уйдет из жизни из-за неудачной любви?
Сергей замялся:
— Я не знаю, товарищ полковник. Валентин чист и честен, в этом я уверен. Он мог ошибиться. Все мы ошибаемся. Вот всё, что я могу сказать. Может быть, я сумею выяснить ещё что-нибудь, когда поговорю с людьми, работавшими здесь, в Мезени, прежде всего с заместителем Валентина — Геннадием Васильевичем.
— Вы ещё не говорили с ним?
— Нет, я прямо с аэродрома в больницу. На аэродроме он не встречал меня почему-то.
— А что за человек этот Геннадий Васильевич?
Сергей недолюбливал заместителя Валентина, но в официальной комиссии не считал возможным говорить о своих симпатиях.
— Геннадий Васильевич — хороший работник, — сказал он, — деловой, исполнительный, точный, превосходный администратор. Вне службы я его не знаю. Кажется, он холостяк, живет один, ни с кем не встречается, любит балет… Ну, вот и всё, что мне известно.
— Он был заместителем Валентина Николаевича? Может быть, он вел переговоры с обсерваторией?
— Это могло быть, но лучше спросить у, него самого.
— А он мог допустить ошибку? Забыть, перепутать?
Сергей улыбнулся:
— Это совершенно исключается. Забывают люди, у которых занята голова. Я никогда не замечал у Геннадия Васильевича посторонних мыслей. Он образец точности, ходячая пунктуальность.
— А как он поступил в ваш институт?
— Это было в самом начале нашей работы. Ему пришла в голову та же идея. Он прочел в газетах о нас и пришел консультироваться. Мы предложили работать вместе. Валентин предложил, а я не возражал. Правда, после этого у Геннадия Васильевича больше не появлялось никаких идей. Мы даже удивлялись, как в его прозаической голове возникла ионосферная передача. И Валентин писал мне об этом недавно в письме.
— Значит, он казался вам странноватым?
— Да нет, не очень… — Сергей мысленно представил себе Геннадия Васильевича и придирчиво оценил все его поступки. — Откровенно говоря, я не очень люблю его. Мне казалось, что он работает без души. Возможно, я несправедлив. Валентин говорил, что он просто не очень способный человек.
— Стало быть, Геннадий Васильевич вне подозрений?
— Нет, подозрений у нас не было. Мы бывали недовольны… делали замечания, он старался исправить…
— Вы не знаете, где он сейчас?
— Здесь, в Мезени. Точнее, я не знаю. Прямо от вас я поеду разыскивать его.
Полковник пытливо посмотрел на Сергея.
— Вам не стоит терять время, — сказал он негромко. — Вчера поздно вечером Геннадий Васильевич вылетел в Москву. Путевку подписал Валентин Николаевич. Очевидно, это было его распоряжение. Самолет стартовал минут за двадцать до того, как нас известили о самоубийстве. Девушка какая-то звонила из гостиницы. В Москву самолет не прибыл до сих пор. Но вот наши пограничники сообщили, что ночью, часов в десять, какой-то самолет пролетел возле мыса Канин Нос. Это в стороне от трассы. Ваш Геннадий Васильевич заблудился. Пришлось снарядить погоню.
— Догнали… посадили? — спросил Сергей волнуясь.
Полковник развел руками:
— К сожалению, в вашем распоряжении находились самые лучшие самолеты, Сергей Федорович. Наши пограничники открыли огонь… Самолет был подбит, загорелся, упал в воду и утонул. Только часть крыла обнаружили утром на льдине. На нем есть номер. В общем, это самолет Валентина Николаевича. Очевидно, ваш Геннадий Васильевич был иностранным агентом и пытался бежать за границу.
Сергей широко раскрыл глаза. Вся жизнь Лузгина предстала перед ним в новом свете. Странное стало подозрительным; подозрительное получило объяснение. Лузгин жил одиноко и замкнуто, потому что боялся разоблачения, не находил общего языка с советскими людьми. Он работал без души, у него не было творческих идей, и это понятно — ведь он был агентом, а не изобретателем. А ионосферную передачу он никогда не придумывал. Вероятно, прочел в газете об идее Новиковых и пришел к ним, рассчитывая на жалость. Научных заслуг у него не было и быть не могло. Он цеплялся за место с помощью «старомодной предупредительности», как выражался Валентин. Конечно, он был старомоден — ведь душой он был с уходящей эпохой, с капитализмом. И это прорывалось в минуту откровенности. Со снисходительным презрением говорил он обо всём, потому что всё советское было для него неприемлемо. Многие годы жил этот волк, притворяясь человеком. Он влачил жизнь, пока не решился показать зубы. И тут ему пришел конец. Он заживо сгорел в украденном самолете.
— Слушайте! — вскричал Сергей. — Может быть, это он стрелял в Валентина?.. И никакого самоубийства не было?
— Мы тоже так думаем, — сказал полковник. — И врачи говорят, что стреляли с расстояния в два-три метра. Выстрела никто не слышал. Видимо, пистолет был какой-то бесшумный, не нашего образца. К сожалению, Валентин Николаевич всё время без сознания и ничего не может рассказать нам. Я вынужден просить вас изложить на бумаге ваше мнение о возможных причинах катастрофы. Это поможет нам выяснить обстоятельства дела.
В жарко натопленном кабинете, на втором этаже стандартного бревенчатого дома, Сергея ожидал пожилой полковник. В отличие от юноши-лейтенанта, который держался с подчеркнутой строгостью, полковник обратился к Сергею очень приветливо.
— Извините, что пришлось побеспокоить вас, — сказал он. — Я возглавляю комиссию по расследованию этого… несчастного случая. Нам хотелось бы знать ваше мнение: какие могли быть причины?
— Но я ни с кем не разговаривал. Я прямо с аэродрома проехал в больницу.
— Пусть это будет предварительное мнение, — сказал полковник мягко, но настойчиво.
— Что я могу сказать предварительно… Дело новое, могли быть всякие неожиданности и каверзы со стороны природы. Но, вероятнее всего, произошло короткое замыкание. Дело в том, что воздух — не идеальный изолятор. Иногда электропроводность его может быть очень велика. Повидимому, и на этот раз она неожиданно повысилась — и произошел пробой, как на проводах, когда изоляция испорчена. Могли быть и другие причины, более сложные… Остальное сделал атомный аппарат, когда он свалился с вышки и разбился.
— А почему электропроводность могла повыситься? Какое-нибудь загрязнение, примеси?
— Нет, дым, пыль, даже самая сильная гроза не могли нам повредить. Большей частью наши неприятности связаны с Солнцем. Электризация воздуха повышается, когда на Солнце крупные пятна, факелы и особенно — хромосферные вспышки. Как раз вчера в середине дня была вспышка. В такой день ставить опыт было трудно, почти рискованно.
— Почему же вы назначили опыт на этот день?
— О вспышках нельзя знать заранее. Известно только, что в этом году много вспышек и пятен. Приходится быть начеку. Года через два пятен будет меньше, а вспышки исчезнут.
— Почему же вы не отложили все-таки опыт, когда вспышка появилась?
— Лично я не знал об этом. У нас наступил вечер, солнце зашло, и атмосфера была благоприятная.
— А Валентин Николаевич знал?
— По всей вероятности, знал. Это основа. Начиная работу, мы запрашиваем обсерваторию о состоянии Солнца и атмосферы.
— Может быть, он волновался и поэтому упустил, забыл?
— Нет, это просто невозможно!
— Почему же? Бывают ошибки по рассеянности. У Валентина Николаевича было много обязанностей. Его могли отвлечь, он мог забыть…
— Нельзя забыть, как тебя зовут! — сказал Сергей сердито. — Если я бегу на поезд, тороплюсь и волнуюсь, я могу забыть пальто, бумажник, даже билет… Но я никогда не забуду, что еду на вокзал. Чтобы начать передачу, мы включаем рубильник и поворачиваем рукоятку реостата. Перед рукояткой — цифры. Чтобы вычислить цифру, нужно знать сопротивление воздуха. Без этого мы не начнем.
— Значит, по-вашему, Валентин Николаевич знал, что день неудобный, трудный, рискованный, как вы говорите… и всё-таки рискнул. Почему же он пошел на это?
Сергей молчал.
— Кажется, вы давно знаете Валентина Николаевича? Расскажите нам, что он за человек.
Естественно, Сергей дал самую блестящую характеристику.
— Мы так и представляли его, — сказал полковник. — Но всё-таки, были у него какие-нибудь недостатки? Может быть, он любил выпить?
— Никогда. Он ненавидел пьянство. Говорил, что уважает свою голову и не намерен затемнять её вином.
— Может быть, он нуждался в деньгах, покупал дорогие вещи?
— Да что вы! Мы не знали, куда девать деньги. Нас поставили в исключительные условия. Да и к чему нам деньги? Времени не хватало.
— А с кем водил знакомство ваш друг?
Сергей назвал несколько десятков имен.
— Не было ли среди знакомых… таких людей, которые не вызывали ваших симпатий? Не наших людей?
Сергей вспылил.
— Послушайте! — крикнул он. — Я вижу, куда вы гнете. Это бессмыслица! Валентин не мог испортить нарочно. Вся жизнь его была в этой работе. Испортить работу! Это было бы самоубийством.
— Но ведь он пришел в итоге к самоубийству. Значит, были на то причины.
— Причины? Провал работы — достаточная причина! Человек он впечатлительный, преувеличил неудачу.
— Провал, неудача!..А разве вы, я, разве любой по-настоящему советский человек уйдет из жизни из-за того, что провалилась его работа?
— Не знаю… здесь всё сложилось вместе: Валентин очень нервничал. У него была неудачная любовь. В конце концов, бывают в жизни ошибки.
— Разве вы, я, разве по-настоящему советский человек уйдет из жизни из-за неудачной любви?
Сергей замялся:
— Я не знаю, товарищ полковник. Валентин чист и честен, в этом я уверен. Он мог ошибиться. Все мы ошибаемся. Вот всё, что я могу сказать. Может быть, я сумею выяснить ещё что-нибудь, когда поговорю с людьми, работавшими здесь, в Мезени, прежде всего с заместителем Валентина — Геннадием Васильевичем.
— Вы ещё не говорили с ним?
— Нет, я прямо с аэродрома в больницу. На аэродроме он не встречал меня почему-то.
— А что за человек этот Геннадий Васильевич?
Сергей недолюбливал заместителя Валентина, но в официальной комиссии не считал возможным говорить о своих симпатиях.
— Геннадий Васильевич — хороший работник, — сказал он, — деловой, исполнительный, точный, превосходный администратор. Вне службы я его не знаю. Кажется, он холостяк, живет один, ни с кем не встречается, любит балет… Ну, вот и всё, что мне известно.
— Он был заместителем Валентина Николаевича? Может быть, он вел переговоры с обсерваторией?
— Это могло быть, но лучше спросить у, него самого.
— А он мог допустить ошибку? Забыть, перепутать?
Сергей улыбнулся:
— Это совершенно исключается. Забывают люди, у которых занята голова. Я никогда не замечал у Геннадия Васильевича посторонних мыслей. Он образец точности, ходячая пунктуальность.
— А как он поступил в ваш институт?
— Это было в самом начале нашей работы. Ему пришла в голову та же идея. Он прочел в газетах о нас и пришел консультироваться. Мы предложили работать вместе. Валентин предложил, а я не возражал. Правда, после этого у Геннадия Васильевича больше не появлялось никаких идей. Мы даже удивлялись, как в его прозаической голове возникла ионосферная передача. И Валентин писал мне об этом недавно в письме.
— Значит, он казался вам странноватым?
— Да нет, не очень… — Сергей мысленно представил себе Геннадия Васильевича и придирчиво оценил все его поступки. — Откровенно говоря, я не очень люблю его. Мне казалось, что он работает без души. Возможно, я несправедлив. Валентин говорил, что он просто не очень способный человек.
— Стало быть, Геннадий Васильевич вне подозрений?
— Нет, подозрений у нас не было. Мы бывали недовольны… делали замечания, он старался исправить…
— Вы не знаете, где он сейчас?
— Здесь, в Мезени. Точнее, я не знаю. Прямо от вас я поеду разыскивать его.
Полковник пытливо посмотрел на Сергея.
— Вам не стоит терять время, — сказал он негромко. — Вчера поздно вечером Геннадий Васильевич вылетел в Москву. Путевку подписал Валентин Николаевич. Очевидно, это было его распоряжение. Самолет стартовал минут за двадцать до того, как нас известили о самоубийстве. Девушка какая-то звонила из гостиницы. В Москву самолет не прибыл до сих пор. Но вот наши пограничники сообщили, что ночью, часов в десять, какой-то самолет пролетел возле мыса Канин Нос. Это в стороне от трассы. Ваш Геннадий Васильевич заблудился. Пришлось снарядить погоню.
— Догнали… посадили? — спросил Сергей волнуясь.
Полковник развел руками:
— К сожалению, в вашем распоряжении находились самые лучшие самолеты, Сергей Федорович. Наши пограничники открыли огонь… Самолет был подбит, загорелся, упал в воду и утонул. Только часть крыла обнаружили утром на льдине. На нем есть номер. В общем, это самолет Валентина Николаевича. Очевидно, ваш Геннадий Васильевич был иностранным агентом и пытался бежать за границу.
Сергей широко раскрыл глаза. Вся жизнь Лузгина предстала перед ним в новом свете. Странное стало подозрительным; подозрительное получило объяснение. Лузгин жил одиноко и замкнуто, потому что боялся разоблачения, не находил общего языка с советскими людьми. Он работал без души, у него не было творческих идей, и это понятно — ведь он был агентом, а не изобретателем. А ионосферную передачу он никогда не придумывал. Вероятно, прочел в газете об идее Новиковых и пришел к ним, рассчитывая на жалость. Научных заслуг у него не было и быть не могло. Он цеплялся за место с помощью «старомодной предупредительности», как выражался Валентин. Конечно, он был старомоден — ведь душой он был с уходящей эпохой, с капитализмом. И это прорывалось в минуту откровенности. Со снисходительным презрением говорил он обо всём, потому что всё советское было для него неприемлемо. Многие годы жил этот волк, притворяясь человеком. Он влачил жизнь, пока не решился показать зубы. И тут ему пришел конец. Он заживо сгорел в украденном самолете.
— Слушайте! — вскричал Сергей. — Может быть, это он стрелял в Валентина?.. И никакого самоубийства не было?
— Мы тоже так думаем, — сказал полковник. — И врачи говорят, что стреляли с расстояния в два-три метра. Выстрела никто не слышал. Видимо, пистолет был какой-то бесшумный, не нашего образца. К сожалению, Валентин Николаевич всё время без сознания и ничего не может рассказать нам. Я вынужден просить вас изложить на бумаге ваше мнение о возможных причинах катастрофы. Это поможет нам выяснить обстоятельства дела.
Глава пятая
Сидя в своем номере гостиницы, Сергей писал выводы для комиссии. С виду он был спокоен. Рука его двигалась слева направо неторопливо, но безостановочно, как будто Сергей писал под диктовку. Чистые, ровные строки с закругленными буквами ложились на широкий лист служебного блокнота. «…На основании предварительных данных причиной катастрофы послужила повышенная электропроводность воздуха, вызванная хромосферной вспышкой на Солнце. Вспышка наблюдалась в Западной Европе, но в Мезени ввиду пасмурной погоды её не было видно. Однако метеорологическая станция отметила повышенную ионизацию воздуха, о чем было сообщено по телефону в 15 часов 52 минуты, за восемь минут до начала опыта. Допускаю, что иностранный агент, известный нам под именем Геннадия Васильевича Лузгина, скрыл эту телефонограмму от Валентина Николаевича Новикова, желая вызвать катастрофу, подорвать доверие к нашему изобретению, сорвать возможность снабжения дружественных стран и будущую международную торговлю электричеством. В первые часы после катастрофы Валентин Новиков был занят ликвидацией её последствий. Прежде всего необходимо было обезопасить местность от излучения атомного реактора, свалившегося с разбитой вышки. Возможно, что в дальнейшем В. Новиков занялся бы расследованием причин катастрофы. Боясь разоблачения, агент стрелял в него и пытался скрыться на самолете. Так как хромосферные вспышки появляются неожиданно, агент не мог всё это подстроить заранее. Повидимому, он воспользовался благоприятными для себя обстоятельствами». Как случилось, что шпион пролез в институт? Сергей отложил перо и, сжав голову руками, в десятый раз вспоминал день появления Лузгина. Молодые инженеры, неожиданно поставленные во главе большого дела, только что приняли лабораторию. Всё казалось прекрасным и радостным. Они были счастливы и великодушны. И вот однажды к ним в лабораторию пришел хмурый, болезненный человек, неудачник, опоздавший на полгода. Он утверждал, что, лежа в больнице, высказал идею, такую же, как Новиковы, даже написал об этом в Москву, а потом прочел в газетах об их опытах. Он не претендовал ни на что, только жалобно просил позволить ему принимать участие в работе. Валентин сказал: «Мы не имеем права оттирать его. Он почти автор идеи». Сергей согласился. И отдел кадров не возражал. У мнимого Геннадия Васильевича были безукоризненные документы, возможно добытые преступлением. «…Будучи руководителем отдельной лаборатории, я отвечаю за проникновение агента в лабораторию. Никаких доводов в своё оправдание привести не могу, готов к суровому наказанию». Ах, как хотелось Сергею прожить жизнь безупречно! Как хотелось бы за каждый час своей работы отчитываться с гордостью, никогда не краснеть за себя, ничего не скрывать от детей и внуков, с высоко поднятой головой говорить: «Я всегда поступал так, как нужно!» Сергей всегда был честен, не гонялся за личной славой или за имуществом. Он очень хотел быть по-настоящему полезным человеком. И вот не вышло. С виду пустяк — неуместное великодушие, ошибка, небрежность. Можно сказать: «Со всяким бывает». Но Сергей знает: ему нет оправдания. Человек не всегда имеет право ошибаться. Если вы толкнули прохожего на улице — это неловкость. Извинитесь и идите дальше. Но когда шофер задевает прохожего машиной, его судят за это. Тут извинениями не отделаешься. Если вы уронили пепел и прожгли себе рукав, обругайте себя растяпой и идите в комбинат обслуживания штопать дырку. Но когда вы курите и роняете пепел возле бочки с бензином, вы не растяпа, а преступник. Сергей ошибся — принял на работу не слишком проверенного человека. Он допустил оплошность, оказался растяпой. Но из-за этого сорвана передача энергии из Мезени, под угрозой жизнь Валентина. И никому, и Сергею в том числе, не нужны жалкие слова о нечаянной небрежности. Не к чему искать оправданий, юлить, вилять, уклоняться, обманывать себя и других. И твердой рукой Сергей пишет на служебном блокноте: «Я несу ответственность… я готов к суровому наказанию». Одно смущает Сергея: его накажут и, вероятно, отстранят от работы. Валентин при смерти. В лучшем случае он будет долго лечиться. Кто будет отстаивать дело сейчас, когда оно поставлено под сомнение, когда снова поднимут головы маловеры, те, которые некогда говорили: «Не нужна нам передача энергии без проводов», потом писали: «Ничего не выйдет», а сейчас станут твердить: «Это неэкономно и небезопасно»? Теперь, как никогда, работа требует не только руководителя, но энтузиаста, горячего защитника, готового жизнь отдать за успех. Если бы только Валентин выздоровел! И в десятый раз в этот день Сергей снимает телефонную трубку: — Справочная?.. Как здоровье больного Новикова?.. Что? Кудинова будет делать операцию? Сейчас я приеду. Я хочу с ней поговорить.Сергей приехал в больницу в половине двенадцатого и несколько часов провел в приемной комнате, шагая из угла в угол. В одном углу висел плакат: «Мухи — источник заразы», в другом углу: «Берегите детей от кори». Шагая от плаката к плакату, Сергей машинально прочел их, выучил наизусть, рассмотрел каждую черточку на лице ребенка, каждый штрих на спинке мухи. По настоятельной просьбе Сергея дежурный врач — знакомый уже нам старик с острой бородкой — вызвал в приемную Кудинову. Поджидая её, Сергей представлял себе полную высокую седую женщину с большими, сильными руками и озабоченным лицом. Так выглядела женщина-хирург в районной поликлинике в Москве, когда Сергей последний раз лечился там десять лет назад. Когда Кудинова вошла, Сергей был разочарован и даже возмущен. Оказалось, что ассистентка профессора Бокова молода (ей было не больше двадцати восьми лет) и даже красива. У неё был высокий белый лоб, черные волосы, соболиные блестящие брови. Чернота волос подчеркивала нежный румянец. Всем своим видом Кудинова говорила: «Я знаю, что вы любуетесь мною, а мне до вас дела нет». Это чувствовалось в её походке, прямой спине, горделиво вздернутом подбородке, неподвижном взгляде прямо перед собой. Сергей заметил также, что Кудинова очень хорошо одета. Из-под белоснежного халата виднелось глухое темнозеленое шелковое платье с кружевным воротником; в ушах висели малахитовые серьги. Его разочарование переросло в беспокойство. Стоит ли доверять жизнь Валентина этой холеной женщине, которая так много думает о своей внешности? Лечащий врач представил их. Кудинова спросила: «Больной — ваш брат?» Этот привычный вопрос Сергей воспринял сегодня как оскорбление. У Валентина есть двоюродные сестры: Галя, Валя и Нина. Формально для них он брат, а на самом деле Сергей ему ближе, чем Галя, Валя и Нина. Узнав, что Сергей и Валентин — не братья, Кудинова оставила несвойственную ей мягкость, сказала четко и коротко: — Положение больного угрожающее. Операция начнется через десять минут. Возможно, мы пойдем на самые решительные и даже рискованные меры. — Пожалуйста, не рискуйте! — попросил Сергей. — Не забывайте, что Новиков — крупный ученый. Недаром враги хотели отнять его у нас. Подумайте, прежде чем рисковать. — Боюсь, мне некогда будет советоваться, — холодно ответила Кудинова и ушла, не подавая руки. Сергей задержал знакомого врача и шепнул ему на ухо: — Слушайте, доктор, неужели необходимо, чтобы оперировала эта особа? Какой это врач — ни внимания, ни жалости! На операцию надела серьги! Это же артистка какая-то, кинозвезда, а не хирург. Может быть, вы сами будете оперировать? Пусть она консультирует. Врач хотел похлопать Сергея по плечу, но не дотянулся. — Друг мой, — ласково сказал он, — не волнуйтесь! Серьги она не надевала — она их не снимала, потому что из театра её привезли на аэродром. Я тоже могу делать операцию, но я рядовой хирург, на все руки мастер, а Кудинова — специалист, артистка, как вы справедливо заметили, когда дело касается полостных операций. Вы же мужчина и крепкий человек. И, как мужчину я вам говорю откровенно: у вашего друга только один шанс на жизнь, и шанс этот — Мария Васильевна Кудинова!.. Сейчас без четверти двенадцать. Позвоните часа через три, и все будет ясно.
Нелегко дались Сергею эти три часа. Он не ушел из больницы и три часа провел в приемной, шагая из угла в угол, от плаката с корью к плакату с мухой, в то время как наверху шла борьба за жизнь Валентина и каждая минута могла окончиться трагически.. В просторной, светлой операционной собрались почти все хирурги Мезенского строительства — пришли посмотреть поучительную операцию. Они пришли заранее и, пока сестры готовили инструменты, с интересом рассматривали аппаратуру Кудиновой: новые портативные электроножи и электроотсосы с крошечными моторчиками, помещающимися в кармане халата; сверкающий никелем насос с двумя поршнями — большим и маленьким — и стеклянные банки с физиологическим раствором и кровью. В одной из них пульсировало человеческое сердце. Это сердце, прилетевшее из Москвы в Мезень, больше всего привлекало внимание врачей.
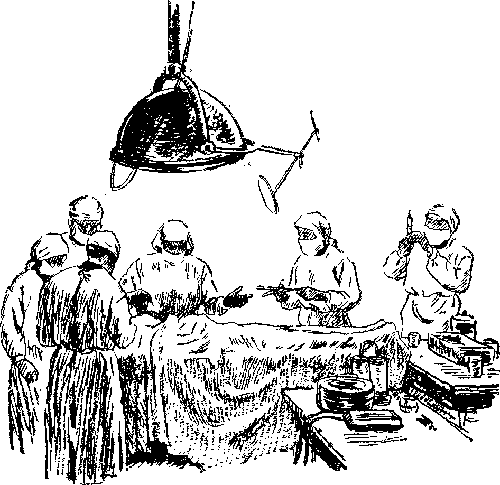 Валентина принесли в 11 часов 55 минут, и вслед за ним в операционную вошла Кудинова, держа на весу руки с растопыренными пальцами. На лице у неё была марлевая повязка; лоб туго затянут белоснежной косынкой; в промежутке между косынкой и марлей виднелись глянцевито-черные брови и черные глаза.
Она вошла неторопливо и уверенно, как будто все опасения оставила за дверью операционной. Возможно, она играла в спокойствие, как многие врачи, немножко для больного, немножко для окружающих, а больше всего — для самой себя. Врач и генерал должны быть уверены, чтобы их действия и предписания не вызывали ни тени сомнений.
Зрители отступили, очистив полукруг у стола для Кудиновой, её ассистента и сестры. Валентин был без сознания, лежал вялый, с полузакрытыми глазами Нос у него обострился, глаза ввалились, кожа туго натянулась на скулах. Пожалуй, он сам себя не узнал бы, если бы увидел свое отражение на металлическом колпаке рефлекторной лампы…
Ему прикрыли лицо наклонной занавеской, обложили грудь и живот простынями и салфетками, оставив только небольшой квадрат на груди, густо смазанный йодом. ОКудипова взяла в руки нож и, нахмурив брови, прикоснулась к желтой от йода коже. Зрители затаили дыхание. В наступившей тишине слышен был только один звук — мертвящее жужжание электрических моторчиков.
Кудинова, казалось, работала неторопливо, но на самом деле очень проворно. Её гибкие кисти всё время находились в движении. Пока правая рука работала, левая уже тянулась за следующим инструментом. Она порывисто произносила: «Нож… расширитель… тампон… салфетку… зажимы!» И, не оглядываясь, когда сестры вкладывали ей б руку нужный инструмент, резала, расширяла, осушала кровь, закрывала сосуды блестящими, серебряными зажимами…
Она вырезала в груди довольно большой квадрат, откинула лоскут с прилегающими мышцами, словно отворила окошко в грудную полость. Внутри все было затоплено кровью. Сердце билось очень часто, то показывая свою глянцевитую поверхность, то скрываясь в крови. Кудинова осушила кровь и очень ловким, точным движением вывела сердце из грудной клетки. Теперь оно билось у неё на ладони — единственный живой кусок в неподвижном теле Валентина, как бы последнее средоточие жизни.
— Сердечная оболочка порвана, — сказала Кудинова вслух, — сердце не задето, но, вероятно, контужено. Больного ожидают ещё осложнения, неожиданные и неприятные. Он должен будет жить с величайшей осторожностью. В таких обстоятельствах показана радикальная методика профессора Бокова. Но в данном случае мы не хотели применять её без крайней необходимости… Дайте иглодержатель.
Сестра вложила ей в руку держатель с кривой иголкой, похожей на рыбью кость. Кудинова поднесла её к сердцу…
И вдруг сердце остановилось. Оно перестало трепетать, словно не захотело жить у всех на виду. Жизнь ушла.
Валентина принесли в 11 часов 55 минут, и вслед за ним в операционную вошла Кудинова, держа на весу руки с растопыренными пальцами. На лице у неё была марлевая повязка; лоб туго затянут белоснежной косынкой; в промежутке между косынкой и марлей виднелись глянцевито-черные брови и черные глаза.
Она вошла неторопливо и уверенно, как будто все опасения оставила за дверью операционной. Возможно, она играла в спокойствие, как многие врачи, немножко для больного, немножко для окружающих, а больше всего — для самой себя. Врач и генерал должны быть уверены, чтобы их действия и предписания не вызывали ни тени сомнений.
Зрители отступили, очистив полукруг у стола для Кудиновой, её ассистента и сестры. Валентин был без сознания, лежал вялый, с полузакрытыми глазами Нос у него обострился, глаза ввалились, кожа туго натянулась на скулах. Пожалуй, он сам себя не узнал бы, если бы увидел свое отражение на металлическом колпаке рефлекторной лампы…
Ему прикрыли лицо наклонной занавеской, обложили грудь и живот простынями и салфетками, оставив только небольшой квадрат на груди, густо смазанный йодом. ОКудипова взяла в руки нож и, нахмурив брови, прикоснулась к желтой от йода коже. Зрители затаили дыхание. В наступившей тишине слышен был только один звук — мертвящее жужжание электрических моторчиков.
Кудинова, казалось, работала неторопливо, но на самом деле очень проворно. Её гибкие кисти всё время находились в движении. Пока правая рука работала, левая уже тянулась за следующим инструментом. Она порывисто произносила: «Нож… расширитель… тампон… салфетку… зажимы!» И, не оглядываясь, когда сестры вкладывали ей б руку нужный инструмент, резала, расширяла, осушала кровь, закрывала сосуды блестящими, серебряными зажимами…
Она вырезала в груди довольно большой квадрат, откинула лоскут с прилегающими мышцами, словно отворила окошко в грудную полость. Внутри все было затоплено кровью. Сердце билось очень часто, то показывая свою глянцевитую поверхность, то скрываясь в крови. Кудинова осушила кровь и очень ловким, точным движением вывела сердце из грудной клетки. Теперь оно билось у неё на ладони — единственный живой кусок в неподвижном теле Валентина, как бы последнее средоточие жизни.
— Сердечная оболочка порвана, — сказала Кудинова вслух, — сердце не задето, но, вероятно, контужено. Больного ожидают ещё осложнения, неожиданные и неприятные. Он должен будет жить с величайшей осторожностью. В таких обстоятельствах показана радикальная методика профессора Бокова. Но в данном случае мы не хотели применять её без крайней необходимости… Дайте иглодержатель.
Сестра вложила ей в руку держатель с кривой иголкой, похожей на рыбью кость. Кудинова поднесла её к сердцу…
И вдруг сердце остановилось. Оно перестало трепетать, словно не захотело жить у всех на виду. Жизнь ушла.
Это было в 12 часов 26 минут. Кудинова взглянула на часы. Она потратила одну секунду на это движение именно потому, что сейчас секунды решали все. Остановка сердца, прекращение дыхания носит название клинической смерти. Человек уже мертв. Но жизнь вернется к нему, если дыхание и работу сердца врач сумеет восстановить. На всё это отведено пять-шесть минут. Через пять-шесть минут после остановки сердца начинает умирать мозг. Это уже окончательная смерть — неотвратимая. Зная это, Кудинова прежде всего взглянула на часы. Все врачи видели, что сердце остановилось. Прошелестел единый вздох. — Адреналин! — потребовала Кудинова. Адреналин — секрет надпочечной железы — возбуждает сердце. Когда мы волнуемся, в нашей крови — избыток адреналина. Иногда он помогает при остановке сердца: дает нужный толчок. Не очень твердыми руками молоденькая сестра вручила Кудиновой заранее заготовленный шприц. Кудинова повторила впрыскивание несколько раз, но адреналин не помог. На это ушла одна минута. В некоторых случаях полезно вливать кровь небольшими порциями в ритме обычной работы сердца. Поступающая кровь толкает сердце, как бы побуждает его начать работу. На вливание ушло полторы минуты. Напрасно! Иногда помогает прямой массаж сердца: легкое сжатие или поглаживание. Смысл тот же: возбудить сердце, ввести его в привычный темп. На массаж ушли третья минута и начало четвертой. Никто не проронил ни слова. Медики молча следили за этой роковой борьбой: Кудинова против смерти один на один. Все лица застыли. Только глаза переходили с рук хирурга на часы и обратно. Старый врач, стоявший у стены справа, вздохнул и опустил голову. Он знал, как часто раненные в сердце кончают жизнь на операционном столе. Пошла четвертая минута. Это означало, что через три минуты Кудинова может положить инструменты и снять халат, забрызганный кровью. А сам он — лечащий врач — должен будет идти вниз и сообщить страшную правду Сергею, который сейчас, ничего не подозревая, мечется в маленькой приемной, как зверь, запертый в клетку, полный сил и беспомощный. — Ещё раз адреналин! — сказала Кудинова хрипловато. А четверть минуты спустя, когда и это впрыскивание не помогло, она метнула быстрый взгляд на часы, на неподвижное сердце и сказала громко: — Осталось полторы минуты. Откладывать нельзя! Включайте насос, сестра! Никелированный насос пришел в движение. Большой поршень с чавканьем потянул из сосуда консервированную кровь. Кудинова соединила шланг с аортой. Поворот крана — и кровь горячей струей побежала из резервуара в аорту Валентина. Та же операция производится с главной веной. И все видят, как начинают розоветь неестественно бледное лицо и синеватый кончик носа. А ещё через минуту вздрагивают губы, напрягаются мышцы шеи, как будто Валентин хочет глотнуть, и приоткрытым ртом он втягивает воздух. Это первый вдох в его новой, возвращенной жизни. Странные вещи творятся с Валентином: он лежит на столе без дыхания, но живой, а жизнью его заведует никелированный аппарат с двумя поршнями: большим и маленьким, — металлическое электросердце системы профессора Бокова. В организме человека сердце занимает особое место. Это единственный из внутренних органов, у которого ткани такие же, как у мускулов. Подобно мускулам сердце выполняет главным образом механическую работу — сжимается и разжимается. Именно поэтому создать искусственное сердце неизмеримо легче, чем искусственный желудок, почки или печень. По существу, сердце — насос, даже двойной насос. Одна половина гонит испорченную кровь в легкие для очистки, другая — чистую кровь в организм для питания клеток и тканей. Электросердце профессора Бокова представляло собой тоже двойной насос, который черпал кровь и глюкозу из специального резервуара. Но хотя многие машины сложнее сердца, сердце превосходит любую машину своей прочностью и работоспособностью. Ни одна металлическая машина не способна работать беспрерывно десятки лет без чистки, смазки, без ремонта и проверки, делая зимой и летом, днем и ночью около восьмидесяти движений в минуту. Поэтому блестящее, красивое на взгляд, металлическое электросердце осуществляло вспомогательную задачу — поддерживать жизнь, главным образом жизнь мозга, пока не возьмется за работу отдохнувшее, починенное сердце Валентина. Хотя Валентин уже дышал сам, в помощь искусственному сердцу работали и искусственные легкие. Они были устроены очень просто: в большую стеклянную банку сверху поступала отработанная кровь, а снизу вдувался кислород. Стекая по кислородной пене, темная кровь очищалась, становилась светлокрасной, обогащалась кислородом, а затем металлическое сердце всасывало её из стеклянных легких и направляло в аорту. Кудинова получила передышку: аппараты вернули жизнь Валентину, и она могла не торопясь починить сердце, зашить его шелковинкой и вложить в грудную клетку. Но зашитое сердце не шевелилось, хотя сквозь него беспрерывно текла свежая кровь. Можно было подумать, что оно нарочно дожидалось, пока придет Кудинова, и, истратив последние силы, остановилось, сложило с себя ответственность за жизнь Валентина, передало её врачу. А в распоряжении Кудиновой были те же самые противоречивые средства — либо возбуждение сердца: нагнетание крови, массаж, адреналин, либо полный покой, в надежде на то, что предоставленное самому себе сердце, отдохнув, по собственному почину возьмется за работу. Но через сколько минут возьмется? Кудинова знала: это может случиться не скоро. Бывали операции, когда сердце начинало работать через час. В опытах с животными — ещё позже. «Неужели целый час я буду с тревогой глядеть на сердце и гадать: оживет или не оживет?» — подумала Кудинова. И всё же она начала с лечения покоем. Всегда лучше, если организм справляется с бедой самостоятельно. Пятнадцать минут она ожидала, держа на весу руки в окровавленных перчатках и поглядывая то на часы, то на сердце, — но сердце Валентина бездействовало. Кудинова применила массаж… Без успеха. Адреналин… Впустую. Крайнее средство — электрический разряд… Никакого результата. Ещё двадцать минут полного покоя… Сердце лежало недвижно. Всё чаще слышались сдержанные вздохи врачей. Они понимали Кудинову и сочувствовали ей. Больной, очевидно, безнадежен, но, несмотря ни на что, врач обязан всё снова и снова пытаться спасти его всё теми же не оправдавшими себя средствами. И всё ниже опускал голову добродушный дежурный врач, которому предстояло утешать Сергея. Кудинова хранила маску спокойствия, но в душе её все кипело. Какая нелепая беспомощность! Упрямое сердце отказывается жить, а она не может заставить его работать, не умеет пустить в ход. Час уже прошел, начинается второй… Валентин дышит, лицо его порозовело. Но всё это держится на металлическом насосе. А насос работает с присвистом — эта машина не так долговечна, как сердце. Надо бы остановить его и показать механику. Но это значит остановить жизнь Валентина… Адреналин! Массаж! Повысить давление! При повышенном давлении проступает кровь. Значит, Кудинова не всё зашила, есть разрывы внутри. Но тогда не остается ничего, кроме… Кудинова берет в руки стеклянную банку, где бьется чужое сердце, единственное сердце, которое бьется спокойно и бесстрастно в этой комнате. — В сердце больного необратимые изменения, — говорит она вслух. — Я считаю, что его необходимо заменить другим, здоровым сердцем. Это единственный выход. Много путей связывают сердце с организмом: аорта, которая несет кровь из сердца; полые вены, несущие кровь в сердце; легочные вены и артерия, связывающие сердце с легкими; вены и артерии, снабжающие кровью сердечные мышцы, и, наконец, два главных нерва (не считая второстепенных): один — ускоряющий работу сердца при волнении, усиленной работе или во время болезни, другой — замедляющий. Все эти важные пути Кудинова должна была восстановить, чтобы связать организм Валентина с его новым сердцем. По существу, надо было сделать несколько сложных операций. Из них самой опасной была первая — сращивание аорты. Чужое сердце хорошо улеглось в груди Валентина; только когда Кудинова взяла его в руки, оно на секунду замерло, как бы испугалось. Но чтобы соединить это сердце с аортой Валентина, нужно было на полминуты прекратить движение крови — лишить питания и сердце и мозг. К счастью, в распоряжении Кудиновой был советский аппарат для сшивания сосудов. Ей не нужно было работать иголкой и ниткой — только вложить кончики сосудов в аппарат, нажать рукоятку, и металлические скобки прочно соединяли разрезанные сосуды. Так, одна за другой, прошли все нужные операции, в том числе самые сложные — соединение нервов. Впрочем, в отличие от сосудов, которые включались в работу сразу, нервы должны были ещё срастаться много недель. Всё это заняло около трех часов. Уже в начале четвертого, бросив последний взгляд на ровно бьющееся сердце, Кудинова закрыла грудь тем же лоскутом кожи. Самое тревожное прошло. Она чувствовала себя неимоверно усталой. У неё дрожали руки к колени. Ей очень хотелось присесть хотя бы на минутку… Но вот наконец шов наложен. Сестра прикладывает марлевую наклейку на желтую кожу. Валентин лежит с полузакрытыми глазами, дышит еле-еле, но лицо у него розовое, потому что его второе сердце работает отлично, усердно гонит кровь по сшитым венам и артериям. Кудинова в изнеможении садится на стул. — Будет жить!.. — говорит она усталым голосом. — Теперь главное — сон. Пусть спит двадцать часов в сутки. Старайтесь не давать снотворных. Темнота, тишина, черные занавески, ковер на полу. Никаких впечатлений, никаких разговоров — сон, сон, сон… Говоря о сне, она прикрывает веки. У неё слипаются глаза. Из театра её повезли на аэродром; половину ночи она провела в самолете; с утра готовила операцию. Врачи жмут ей руку, но она не слышит поздравлений. Больше всего ей хочется спать. — Мария Васильевна, вас к телефону! — Кто там ещё? Когда же можно отдохнуть? Но в трубке журчит такой родной и близкий голос любимого учителя: — Маруся, я так волновался за тебя! Мне сказали: всё уже кончено. — Александр Ильич, всёпрекрасно. Ваш метод оправдал себя полностью. Больной будет жить. — Спасибо, Марусенька, ты настоящий хирург! Теперь отдыхай хорошенько. Обнимаю тебя. А вокруг неё уже толпятся местные врачи: — Мария Васильевна, вы должны сделать нам доклад об этой операции! — Каким образом вы сохраняете сердца? — Можно ли выписывать их от вас? — Сколько лет можно прожить со вторым сердцем? И Кудинова отвечает всем сразу: — Доклад я прочту. О сердцах расскажу. Жить можно сколько угодно, как с нормальным сердцем. Выписывать от нас нельзя: мы сами получаем сердца из клиники. Храним их в физиологическом растворе. Один изобретатель обещает нам изготовлять заводские сердца — стальные и серебряные с гарантией на два года. Такие сердца были бы доступны всем. Но мы не знаем, сумеет ли он связать свой аппарат с живыми нервами. Пока это только проект, мечта. — Еще один вопрос, Мария Васильевна! Шесть минут — попрежнему предел? Для нас, практиков, это неудобно. Мы не всегда успеваем приехать за шесть минут. По существу, ваш метод пригоден только для умерших на операционном столе. — К сожалению, пока ещё шесть минут — предел, — терпеливо отвечает Кудинова. — Конечно, если организм очень силен и смерть наступила внезапно, можно вернуть к жизни и через десять минут. Но часто такие люди возвращаются к жизни с психической болезнью. Нежные клетки мозга уже начинают разрушаться необратимо. Работая без кислорода, они сами себя отравляют. Профессор Янковский из Киева полагал, что этого отравления можно избежать, прекратив работу клеток, как бы заморозив их. В этом направлении у нас работают, но пока что это удается только в клинике. — Скажите, Мария Васильевна, а можно всё-таки… — Товарищи, товарищи, дайте отдохнуть нашему гостю!.. Дежурный врач старается оттеснить своих коллег в коридор. Все возбуждены удачной операцией. Стоя в коридоре, врачи аплодируют. Победа Кудиновой — это их победа, победа медицинского искусства. Теперь даже смерть отступает перед хирургами! Кудинова остается одна в пустой палате. Наконец-то она может прилечь… Сестра стелет чистую простыню на кожаный диван, спрашивает — не хочет ли доктор поесть. Теперь можно лечь, но Кудинова медлит; она выходит в коридор и заглядывает в соседнюю палату, где окна занавешены черными шторами. Там только один больной. Он тяжело дышит. Лицо его как маска, руки лежат недвижно… Но Кудинова смотрит на окаменевшее лицо Валентина почти с нежностью. Этому человеку она подарила жизнь. Он всё начинает сначала. Сейчас он беспомощнее ребенка: он умеет только дышать… Потом у него появятся робкие движения, он начнет шевелиться; позже он научится слышать, видеть, поникать, говорить. Все это произойдет постепенно, как у растущего ребенка, только гораздо быстрее… А потом с постели встанет живой и сильный человек, изобретатель Валентин Новиков, творец каких-то сложных, неведомых Кудиновой конструкций. Жалко будет, если он уйдет и не вспомнит о ней. Интересно бы проследить за его успехами. И Кудинова с теплотой и гордостью думает о всех своих больных: ученых, колхозниках, рабочих, мужчинах и женщинах, о всех, которым она, как мать, подарит жизнь.
«…Виноват я, и я несу ответственность… Никаких доводов в свое оправдание привести не могу, готов к суровому наказанию». Вернувшись в гостиницу, Сергей подписал своё заявление, но почему-то сейчас эти слова, написанные с душевной болью несколько часов назад, не казались такими безнадежными. Да, он будет отвечать… но операция сошла благополучно. Он понесет суровое наказание… но Валентин будет работать. Дело не заглохнет — есть кому оставить его, есть кому исправлять и вносить новые предложения. Валентин будет жить. Сколько прекрасного он сделает в своей жизни! Он, Сергей, будет наказан. Возможно, его отстранят от должности, передадут его работу другому, но он тоже будет жить. Как бы сурово его ни наказали, его никогда не лишат чудесного права быть полезным. Он всегда будет делать дело, будет отвечать за сроки; с него будут требовать качество, спрашивать, почему он медлит; будут стоять над душой, возмущаться недоделками и рвать чертежи из рук. Где бы он ни работал, ему поручат нужное дело, и от него зависит делать это дело как следует… — Чему же вы улыбаетесь? — спросил полковник, внимательно прочтя заявление Сергея. — Операция прошла благополучно! — сказал Сергей. — Вы очень любили вашего друга? — Да, пожалуй, любил, если это слово обозначает мужскую дружбу. И ещё одно. Я радуюсь за дело. Валентин его не оставит… Полковник внимательно посмотрел на Сергея и, сложив заявление вдвое, провел несколько раз ногтем по сгибу. — Вы написали: «Готов к суровому наказанию», — сказал он после длительной паузы. — Правильно, вас нужно наказывать безжалостно! Какой вы руководитель? Вы шляпа, раззява, слепец!.. Столько лет вы работали рядом с врагом, советовались с ним, беседовали, пожимали ему руку и не могли понять, что перед вами не наш человек! У вас есть заслуги, но эти заслуги вы своими руками вручили врагу: «Нате, пользуйтесь, крадите и вредите!» По существу, вас надо снять с работы. Я уже запросил Москву насчет вас. Сергей побледнел. Ему показалось, что пол качается под его ногами. Он крепко сжал пальцы, чтобы взять себя в руки. Что поделаешь! Он действительно был виноват. — Я совершенно согласен с вами, товарищ полковник. Кому я должен сдать дела? — Новый руководитель лаборатории ещё не назначен. Но есть более срочное дело. Прежде всего надо выполнить задание. Мы обещали ток потребителям Средней Азии. Они ждут, подготовили электрическую сеть, нельзя отбирать у них обещанную энергию. До первого мая есть ещё время. Сможете вы восстановить передаточную станцию и своевременно отправить ток? Сергей не поверил своим ушам: — Значит… продолжать… мне? — Тут есть особые обстоятельства, и Москва учла их, — сказал полковник. Теперь он не казался уже таким суровым. — Когда ваш друг выздоровеет, мы разберемся во всех подробностях. Возможно, что Валентин Николаевич сам разоблачил врага. Всё это будет взвешено. А до той поры вам разрешается продолжать дело. Ваша работа будет проверкой. Мы посмотрим, глубоко ли вы поняли свою ошибку. Цените доверие и не злоупотребляйте им. Выйдя от полковника, Сергей ещё раз позвонил в больницу. — Больной спит, — ответили ему. — Температура тридцать пять и девять. Дыхание слабое… Но сердце бьется. Все будет в порядке. Сергей с облегчением вздохнул полной грудью… Сердце бьется… Впереди долгие годы. Ещё можно работать, думать, ещё можно принести пользу родной стране, исправить ошибку, довести дело до конца. Жизнь продолжается. Сердце бьется.

Валентин Иванов Повести древних лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
Одинец с размаху бросился в болото. Сильный и ловкий парень метко кидал с кочки на кочку тяжелое, но послушное тело. Вдруг он почувствовал, что нога ушла в пустоту, — на бегу не отличишь рыхлого, одетого мхом пня от матерой кочки! Ему вода пришлась лишь по пояс, хотя другому хватило бы и по грудь. Он рванулся, выскочил наконец-то на твердую землю и только тут посмотрел назад. Трое вершников, нахлестывая коней, спешили к болоту. На краю они остановились. Переговариваются. Прячась за землю, солнце посылало светлые стрелы прямо в глаза Одинцу. Он закрылся ладонью и рассматривал вершников. Двое были свои, городские ротники, посланные, как видно, старшинами для поимки парня. Третий — чужак, в котором Одинец узнал молодого нурманна. Нынче парень встретил на улице трех нурманнских гостей-купцов. Пожилой нурманн столкнул Одинца с дороги. Улица широка, иди, куда тебе надо. А позабавиться хочешь — давай. Ещё кто кого покрепче пнет! Нурманн больно рванул Одинца за бороду. Парень третье лето растил на лице «первую мужскую честь». Тут схватились уж не для удали, не в шутку. Нурманн вцепился Одинцу в горло, как клещами, и оба повалились на мостовую. Одинец вырвался и всей силой разгоревшейся злости хватил обидчика кулаком по лбу. Затылок нурманна пришелся на мостовой клади, и его голова, как глиняный горшок, треснула между жесткой древесиной и тяжелым, как молот, кулаком могучего парня. Неимущего убийцу-головника ждет горчайшая из всех бед. Рабом будешь жить, рабом вздохнешь последний раз. Этот-то страх и гнал Одинца, как кровожадно неотвязная гончая гонит робкого зайца. Одинец узнал нурманна: то был один из тех трех, которые ему так не к добру перешли дорогу в Новгороде. К седлу нурманна длинным ремнем был привязан громадный — с хорошего барана — лохматый пес. Если молодой нурманн был родович убитого, то он, по Правде, мог взять, как местьник, жизнь Одинца. Нурманн разрезал затянувшийся узел ремня на шее пса, ухватил его за высокий загривок и принялся свободной рукой драть против шерсти. Потом он показал на Одинца и заревел, как леший: — Ы-а! У-гу!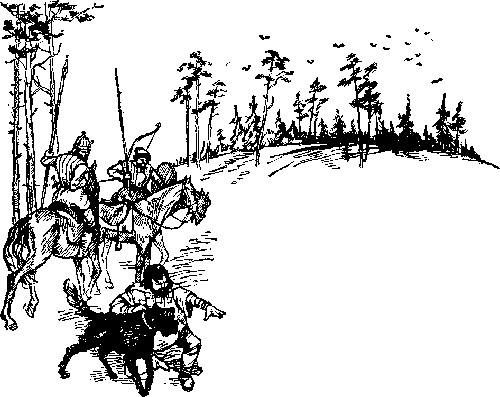 Пес рванулся. Не разбирая места, он взбивал брызги и на глубоких местах скрывался за вейником.
С тоской оглянулся затравленный парень. Ни камня, ни дубины! Но он тут же опомнился и сунул руку за голенище полного воды сапога. Не отрывая глаз от пса, он нащупал резную костяную рукоятку и выпрямился, зажав нож в кулаке. В обухе клинок был толщиной в полпальца, а к лезвию гладко спущен. Одинец сам его отковывал и калил.
Пес рванулся. Не разбирая места, он взбивал брызги и на глубоких местах скрывался за вейником.
С тоской оглянулся затравленный парень. Ни камня, ни дубины! Но он тут же опомнился и сунул руку за голенище полного воды сапога. Не отрывая глаз от пса, он нащупал резную костяную рукоятку и выпрямился, зажав нож в кулаке. В обухе клинок был толщиной в полпальца, а к лезвию гладко спущен. Одинец сам его отковывал и калил.
 Облепленный мокрой шерстью, с вставшей по хребту жесткой кабаньей щетиной, пес выскочил из болота и, как немой, бросился на парня. За болотом молодой нурманн опять завыл и засвистал. Одинец прыгнул в сторону, извернулся, как в кулачном бою, левой рукой на лету подхватил пса снизу за челюсть, а правой ударил ножом со всей силой.
Ему показалось, что нож ощутил на миг сопротивление, но затем железо ушло легко, как в воду, до самого кулака. Вцепившись в челюсть, Одинец швырнул пса от себя и одновременно вырвал нож. Пес рухнул.
Парень придавил ногой тушу в бурой шерсти и торжествующе поднял руку. Разгоряченный схваткой и своей победой, он успел всё позабыть. Он наклонился, вытер клинок о шерсть пса.
Ошибка! Не следовало бы спускать глаз с того берега болота. Он услышал знакомый звук спущенной тетивы, но поздно. В левое бедро впилась стрела. Одинец рванул за толстое древко, и стрела оказалась в руке. Дерево было окрашено красным, а оперение — черным. Нурманны любят черное с красным.
Облепленный мокрой шерстью, с вставшей по хребту жесткой кабаньей щетиной, пес выскочил из болота и, как немой, бросился на парня. За болотом молодой нурманн опять завыл и засвистал. Одинец прыгнул в сторону, извернулся, как в кулачном бою, левой рукой на лету подхватил пса снизу за челюсть, а правой ударил ножом со всей силой.
Ему показалось, что нож ощутил на миг сопротивление, но затем железо ушло легко, как в воду, до самого кулака. Вцепившись в челюсть, Одинец швырнул пса от себя и одновременно вырвал нож. Пес рухнул.
Парень придавил ногой тушу в бурой шерсти и торжествующе поднял руку. Разгоряченный схваткой и своей победой, он успел всё позабыть. Он наклонился, вытер клинок о шерсть пса.
Ошибка! Не следовало бы спускать глаз с того берега болота. Он услышал знакомый звук спущенной тетивы, но поздно. В левое бедро впилась стрела. Одинец рванул за толстое древко, и стрела оказалась в руке. Дерево было окрашено красным, а оперение — черным. Нурманны любят черное с красным.
Нурманн опять гнул лук. Одинец ловил миг, когда правая рука стрелка дернется назад, а нурманн, желая обмануть, медлил. Одинец скакнул влево и сам обманул нурманна, вызвав стрелу в пустое место. Но и нурманн был не так прост. Он держал запасную стрелу в зубах, и она скользнула над плечом парня. После шестого раза нурманн пожалел зря бросать стрелы и залез на коня. А один из ротников заехал, насколько мог, в болото и закричал, приставив ладони ко рту: — Остаешься без огня! Без угла! Это — изгнание. По Новгородской Правде, тот, кто не подчинялся ей, ставился вне закона, и никто не смел давать ему пристанище. «Лучше мне пропасть в лесах, как собаке, чем в рабы продану быть», — думал Одинец. Солнце уже запало на землю. На краю, за оврагами, из Города поднимались дымки. Всадники повернули коней. По болоту потянулся туман. Ветер утих. Одинец слышал, как в Городе стучали в била. Скоро затворят ворота в городском тыне. Об этом воротные стороны предупреждали гулкими ударами колотушек по звонким дубовым доскам, которые висели на плотных плетеных ремнях. Сердце парня сжалось горькой тоской. Пока его гнали, он не думал. Теперь же остался один, как выгнанная, худая собака… Он всё ещё держал стрелу в руке. Он заметил, что на ней нет наконечника. Железо, слабо прикрепленное к дереву, осталось в теле. Одинец собрал воткнутые в землю нурманнские стрелы и повернулся спиной к Городу. Сгоряча он забыл о ране. Бедро начало мозжить и напомнило о себе. Парень нащупал рану. Наконечник засел глубоко — и не захватить его ногтями. Чтобы достать железо, жди света. За можжевельником пошел редкий кряжистый дуб со ступенями крепких грибов на стволах. Совсем стемнело. Потянул ветерок, тревожно зашуршали уже подсушенные первыми заморозками жесткие дубовые листья. Железо в бедре мешало крепко наступить на левую ногу. Одинец прошел дубы и уходил всё глубже в сосновый бор, пока не выбрался на поляну. В середине чернели две высокие сосны, росшие от одного корня. Одинец нащупал глубокую дуплистую щель между стволами и выгреб набившиеся в неёшишки.
Изгнанник проснулся с первым светом. Ночной заморозок подернул поляну зябким инеем. Ноги в мокрых сапогах так окоченели, что Одинец не чувствовал пальцев. Он шевельнулся — боль в бедре напомнила о нурманнской стреле. Он с трудом встал на колени и одеревеневшими пальцами расстегнул пряжку пояса, стягивавшего кожаный кафтан. Шитые из льняной пестрядки штаны держались узким ремешком. В том месте, куда ударила стрела, пестрядь одубела от крови и прилипла к телу. Сама ранка была маленькая, но за ночь мясо вспухло и затвердело. Опухоль вздула бедро, а самую дырку совсем затянуло. Железо спряталось глубоко, а знать о себе давало, стучалось в кость. Если что в теле застряло, нужно сразу тащить или уж ждать, когда само мясо его начнет выталкивать… Небо высокое и чистое — без облачка. Быть и сегодня погожему, теплому дню. Куда же теперь деваться? Лес добрый: накормит, напоит, спать положит. Только без припаса, без нужной снасти не возьмешь лесное богатство. Нож есть — и то добро. Одинец снял сапоги, размотал длинные мокрые полотнища портянок, стащил кафтан и рубаху. От холода на парне вся кожа пошла пупырышками, как у щипаного гуся. Прикрыл кафтаном голое тело. Рубаха была длинная, по колено, шитая из целого куска толстой льняной ткани одним передним швом, наверху с дырой для головы. Было нетрудно зацепить крепкую льняную нить и вытянуть во всю длину. Одинец натаскал из подола пучок ниток. Сирота, с раннего детства жил он в учениках-работниках у знатного в Городе мстера Верещаги и учился всему железному делу. И как железо из руды варить, и как ковать ножи, копейные, рогатинные и стрелочные насадки-наконечники, гвозди гнуть, делать топоры, долотья, шилья, иглы, тесла, заступы, сошники и всю прочую воинскую, домашнюю и ловецкую снасть. Во всём Одинец уже был мастер. Не давалось одно, последнее и хитрое умельство: не мог он собрать по ровным кольцам, одно к одному, малыми молотами железную боевую рубаху-кольчугу. Верещага говорил, что парню мешает медвежья сила, от которой в руке Одинца лучше играл большой молот, чем малый, да ещё — дурь в голове. Дурь дурью, зато калить железо парень умел по-настоящему. Верещага своего умельства не держал в тайне, а у Одинца хватало ума, чтоб все и понять и запомнить. Верещага строг, у него всякая вина виновата. И укорял он ученика, и за волосы трепал, и по спине чем придется попадало. Учил: «Старайся, дурень, сдай кольчугу на пробу — выйдешь полным мастером». Одинец без обиды терпел трепку и колотушки. И вправду, плохо ли быть мастером и выпросить у Верещаги в жены дочку Заренку? Отдаст — земно поклонится, а не отдаст — убежит с ней. Решил Одинец сделать кольчугу за зиму, до первой воды. А теперь он остался ни при чем. Из Города его выгнала нежданная беда. Не видеть ему ни Верещаги, ни девушки. Размышляя, он сучил в ладонях нитки и свивал одну с другой. Навил несколько прядок, отскоблил от ствола сосны кусочек смолы, размягчил его теплом руки и скатал со смолой заготовленные прядки. Получилась веревочка, плотная и крепкая, как оленья жилка. На концах Одинец сделал по петле. Цепляясь за сосну, он поднялся. Трудно ходить. Ступишь — и в ноге боль бьет в колено и ступню, поднимается до пояса. Он кое-как добрел до холмика, лег грудью, набрал вялых брусничных ягод и набил себе рот. Мшистый холмик оказался вблизи диким камнем, выросшим из земли. За камнем открылась глубокая яма, налитая свежей водой. Одинца ломала лихорадка, он пил жадно и много. За камнем теснился густой орешник. Одинец вырезал несколько толстых стволиков, нарвал охапку тонких веток и потащился обратно к двойной сосне, как домой. Там он уселся на обжитом месте, ошкурил самый толстый стволик, острогал и к концам стесал заболонь. Он работал через силу, а всё же лук скоро поспел. Дерево сырое и слабое, ни вдаль не годится стрелять, ни крупного зверя не убьешь, вблизи лишь… Одинец натыкал кругом себя орешниковых веток и затаился за ними. Не то спал, не то грезил наяву. В чащах порхали рябчики, перелетали добрые птицы дятлы, пестря черно-белым пером. Веверица-белочка взбежала по сосне, завозилась в сучьях и сронила-бросила в человека старую шишку. Глупая синица-щебетуха слетела на воткнутую Одинцом ветку, закачалась и завертела носатой головкой — не понимает, что или кто это сидит под соснами… Грубо и громко захлопали крылья черного лесного петуха, глухого борового тетерева, который где-то сорвался с дерева. С утра Одинец рассмотрел на поляне глухариный помет. Здоровенная птица свалилась на брусничный холмик, огляделась и принялась жировать. Охотник выждал, пока глухарь не показал хвост, и выпустил тяжелую полутора аршинную стрелу.
Глава вторая
В Детинце били по воловьей коже, созывая людство на вече. Затянутая желтой выделанной кожей широченная бадья из дубовых клепок, стянутых железными обручами, стояла наверху высокой башни Детинца. Двое бирючей раз за разом взмахивали деревянными молотами на длинных рукоятках. Хозяева выходили из домов, низко кланяясь дверям, чтобы не разбить лоб о притолоку. Гремели калитными кованого железа кольцами и из своих дворов, мощенных сосновыми пластинами, плахами и тесаными бревнами, выбирались на общие улицы. На улицах чисто и твердо, улицы, как и дворы, мощены деревянными кладями. По ним всегда удобно и ходить и ездить. На улицах люди останавливались и перекликались с соседями. На вече собираются по своему ряду и стоят не зряшней толпой, а по улицам. Между собой улиц нельзя путать, а самим улицам следует расставляться по городским концам. Улице стоять за своим уличанским старшиной, под общим старшиной каждого городского конца. На вече у всех хозяев равное место. Так навечно положено по коренной Правде-закону, на том стоит Город, как на скале. Так пошло ещё со старого города Славенска. Один за всех обязан стоять всей своей силой и достоянием, и за него все так же стоят. Нет и не будет различия между людьми, будь они рода славяно-русского, кривичи, дреговичи, радимичи, или меряне, или чудины, или весяне, или печерины, югрины и другие. Нет голоса закупу, который продался за долг, пока он не отработается. Нет голоса тому, кто нарушил Правду, как и купленным рабам, которых нурманнские гости-купцы привозят па торг. А вольные люди все равны. Боярин Ставр, старшина Славенского конца, чинно шел, будто плыл, со своего двора. С ним приказчики и наемные работники — захребетники и подсуседники. Боярин Ставр красив и строг лицом, борода и усы короткие, подстриженные, а щеки бритые. Его догнал железокузнец Верещага, староста Щитной улицы Славенского конца. На груди Верещаги лежит лопатой густая черная борода. Он в усменном, кожаном кафтане, без шапки. Длинные, по плечи, волосы, чтобы не мешали в работе, стянуты узким ремешком-кольцом. Верещага, как видно, оторвался прямо от работы. Время теплое, а на кузнеце надеты валенные из овечьей шерсти сапоги, чтобы не попалить ноги при огненной работе. За Верещагой шла куча народа куда больше, чем за Ставром. Чуть ли не весь его двор. Пятеро сыновей, трое младших братьев, племянников больше десятка, ученики, подмастерья, работники. Народ почти всё крупный и дюжий, если не ростом, то плечами и грудью. С мужчинами шли и женщины. Средь них младшая Верещагина дочь Заренка. Она обликом в отца, черные косы, огневые глаза. Нынче девушка провожает свою пятнадцатую осень, а минет зима — и Заренка будет встречать шестнадцатую весну.Внутренняя городская крепость Детинец сидела на высоком месте. Дечинцевский тын высился аршин на двенадцать — в четыре человеческих роста. Снаружи был ров с переброшенными через него мостиками к воротам. Тын строился из отборных, ровных сосновых и еловых лесин, которые зарывались в землю почти на треть всей своей длины. Брёвна так плотно пригонялись, что между ними не было прозора. А был бы прозор — всё равно ничего не увидишь. За первым рядом, отступя шага на два, забивался второй, за ним — третий и четвертый. Междурядья были доверху заполнены землей. Поверху легла широкая сторожевая дорога, прикрытая зубцами и щитами, чтобы снизу было нельзя сбить ратников ни стрелой, ни камнем. Такой тын трудно сломать, а зажечь почти невозможно, разве только греческим огнём. Город стоит крепко. На своем языке нурманнские гости-купцы называют Новгород Хольмгардом, что значит Высокий, попросту сказать — неприступный город. Под Детинцем оставлена свободная от постройки широкая площадь — торговище. Здесь все новгородцы встречаются друг с другом и с иноземными купцами для купли, продажи, обмена. В торговище улицы вливаются, как весной ручьи талых вод в Ильмень. Иноземные купцы держали в Новгороде собственные гостиные дворы. Там гости и жили, там и хранили свои и купленные товары. Большая часть иноземных дворов выходила на торговище. Собрался народ, и смолкло било. По известным заранее местам люди расставились по торговищу за своими уличанскими старшинами. Кончанские старшины вышли на середину. Набольший из них — Ставр-боярин, старшина Славенского конца. Ставр поднял дубец, и говор утих. Старшина объявил людству, что сильно жалуются нурманнские гости, а на что — то скажут сами. Их было десятка три, в длинных, почти до пят, плащах черного и зеленого сукна с горностаевыми оторочками. Иные — в железных шлемах. Они подошли рядами к Ставру и подняли руки в знак приветствия. За ними двое рабов тащили длинные носилки под холстиной. Поднесли их к Ставру и откинули полотно с покойника, чтобы все могли увидеть — не праздно жалуются нурманны. Убитый был мужчина большого роста, а лежа казался ещё большим. Длинная борода и длинные волосы отливали огненно-рыжим цветом и были склеены запекшейся кровью. Старший нурманн заговорил громко и по-русски. Он рассказал, что убитый звался Гольдульфом Могучим, имел много земель и рабов, владел двумя морскими большими лодьями-драккарами, был ярлом — князем и что все его почитали. Он был знаменитого рода Юнглингов. Те Юнглинги ведут себя от бога Вотана, владыки небесного царства Азгарда. Кровь Юнглингов выше крови всех других людей, которые есть и которые будут… Новгородцы слушали терпеливо. Нурманны любят и умеют красно поговорить. Слыхали новгородцы и про Вотана и про Юнглингов. Всяк кулик своё болото хвалит. Однако у вотанских детей голова не крепче, чем у других. Плохое дело — вот он, покойник-то. Староста нурманнов от имени всех нурманнов требовал, чтобы убийцу поймали и выдали. По своему обычаю, нурманны сожгут убийцу на погребальном костре ярла Гольдульфа. Так убийца примет за кровь Юнглинга Гольдульфа на земле заслуженную кару. Ишь чего захотел! Зароптал народ. Нет в Новгороде такого закона, чтобы людей живьем жечь. Ставр позвал: — Верещага! Головник Одинец с твоей улицы и у тебя живет в захребетниках. — Вышло худое дело, — начал слово Верещага. — Велики и обильны новгородские земли, новгородские люди славны, Новгородская Правда крепка честным и строгим судом. Коль не будет порядка, коль вина пройдет без кары, земли стоять не будут. Судить же мы будем по нашей Правде, а не иноземным обычаем. Вызвали видоков. Видоки рассказали, как Гольдульф шел по Кончанской улице и, встретив Одинца, того сильно толкнул. Был Гольдульф будто бы пьян, но на ногах стоял крепко. Они оба задрались, но без оружия. Одинец лежачего Гольдульфа кулаком по лбу. А держал ли что в кулаке парень или не держал, этого видоки не заметили. Другие видоки показали, что парень Одинец был быстрого, непокорного и смелого нрава. Из юношей он недавно вышел, однако уже считался по городу в хороших кулачных бойцах. А с умыслом ли убил Гольдульфа или без умысла, того не знают. Работники, которых посылали за Одинцом, рассказали, как они его ловили и как он в лес ушел.
Боярин Ставр принадлежал к числу самых богатых новгородских купцов. Он получил большое именье от отца и сумел богатство ещё умножить. Ставру приходилось сплывать по Волхову в Нево-озеро, по Нево-реке — в Варяжское море и морем — в знаменитый город Скирингссал. В Скирингссале собирались купцы со всего света. Как и другие новгородцы, Ставр без опаски пускался в далекие, но прибыльные путешествия. В Новгороде и в пригородах постоянно гостили нурманнские и другие купцы. Они были как бы заложниками за новгородцев, которых забирали в чужие земли. Ставр знал, что нурманны правильно, по своему закону требуют выдачи Одинца. Чего бы тут спорить! Гольдульф был видным и знатным человеком, а Одинец хоть и вольный, но простолюдин, без рода, без имения. Мало ли таких молодых парней! Однако же нет в Новгородской Правде такого закона, чтобы можно было выполнить желание нурманнов. Ставр дорожил дружбой нурманнов, знал, что они злопамятны и мстительны, могут и на него затаить злобу. Если бы можно было решить суд без народа… И где его возьмешь, Одинца?.. Боярин задумался, оперся на дубец и пошатнулся. Свои подхватили Ставра под руки, и он сказал тихим голосом: — Мне неможется. Не то горячка, не то лихоманка напала. Домой ведите. Боярина бережно увели, а он голову опустил, будто сама не держится. Старшим после Ставра остался на вече Гюрята, старшина Плотнического конца. У Гюряты в Городе хороший двор, и людство его уважает. Гюрята не купец, а знатный огнищанин. У него за Городом на день пути заложены огнища, расчищенные палом от леса и удобные для пашней и пастбищ. Гюрята имел большие достатки и держал много работников. А видом и жизнью был прост, не то что Ставр. И на вече Гюрята пришел в простом усменном кафтане, валеной шапке и в конских сапогах. Он не стал тянуть дело: — Признаете ли, что молодой парень Одинец, и никто другой, лишил жизни этого нурманнского гостя Гольдульфа? — Признаем! — ответило людство. Если люди признали, то старшина обязан тут же объявить приговор. Знает закон Гюрята, ему думать нечего. — Нурманны у себя по-своему судят, нам к ним не вступать, и им к нам не мешаться. По нашей Правде судить будем. Нурманнам взять с Одинца пятнадцать фунтов серебра. А как он сам сбежал и как нет у него ни двора, ни прочего владения, то нурманнам не быть в накладе. Головник — из Славенского конца. Славенскому же концу из своей казны за него платить нурманнам, чтобы им не было обидно. Сам Одинец из Города изгоняется, пока долг не отдаст. Правильный ли суд? Принимаете ли? — Принимаем! — закричали люди. За криком не было слышно, как в голос зарыдала Верещагина дочь Заренка. Гюрята продолжал: — Коли нурманны захотят убитого в свою землю везти, им от Славенского конца будет дана дубовая колода и цеженого меда сколько нужно, чтобы тело залить и довезти в целости. Коли захотят здесь захоронить, им место отводится, и Славенский конец для костра дров подвезет сколько нужно. А цена всего — опять на Одинца. С тем людство и разошлось с судного веча-одрины. Общее дело решили — пора и к своему, зря времени не теряя.
Глава третья
Знатный железокузнец Верещага живет на Щитной улице, ближе к речному берегу, чем к Детинцу. Верещага давно правит старшинство своей улицы. Двор у него большой. Хозяин не выделил женатых сыновей, держит их при себе, как и двух старших дочерей с мужьями. Только одну на сторону отдал. Владение Верещаги обнесено высоким забором из получетвертного горбыля по дубовым столбам. Войдя во двор, сразу и не поймешь, где что находится: двери, крытые переходы, крыльца. Оконца малые, затянутые бычьим пузырем. Но в иных частые переплеты заполнены кусочками тонкой слюды. В холодных клетях для света прорублены узкие щели, а где и все стены глухие. Нужен свет — можно и двери распахнуть. Оконные наличники в красивой резьбе: уголки, крестики, дырочки, полумесяцы — деревянное кружево. По возвращении с судного веча Заренка так спряталась, что мать её насилу нашла. Хозяйка Верещаги родом чудинка. Она высокого роста, под стать мужу. Лицом белая, сероглазая, волосы льняные. Верещага от роду черноволосый, его лицо и руки навек темны от угля и железа. Муж и жена рядом — как ночь и день, а живут ладно, душа в душу. Заренка забилась в теплой избе за родительскую кровать и натащила на себя меховую рухлядь. Раскопала мать. Лежит девушка, дышит часто; слез нет, а плакать хочется. — Ой, матынька, — шепчет она, — горько мне! Навечно его из города выгнали, навечно нас разлучили!.. Мать легла на постель, притянула дочку, баюкает её как дитя, утешает: — Ты моя малая, ты моя неразумная, не один есть на свете такой парень, как Одинец, мы ещё лучшего тебе найдем. Самой же до слез жаль дочь, жаль пылкого и быстрого девичьего сердца, которое сразу не вылечишь никаким словом, никаким убеждением. А дочь жмется к матери, просит: — Помоли тятю! Он всё может, чего ни захочет… Легко сказать, а как сделать? Заренка — последнее дитя, самое любимое отцом. Ох, худо!.. А о чем отца молить? Сделанного назад не вернешь, нурманна не поднимешь, чтоб ему на свет не родиться было, окаянному… Верещагина хозяйка Светланка не любит нурманнов: у них что купец, то и боец-разбойник. Кто же не знает, что повсюду творят дикие нурманны во всех землях! Они если и с товарами придут для торга, то сами только и разглядывают, не сподручнее ли невзначай напасть и силой барыш взять, а не торгом. В Городе и в новгородских пригородах нурманны тихие, знают новгородскую силу. А дальше, во всех землях, по варяжскому берегу и другим — всюду, куда можно приплыть на лодьях (дракар) и в земли подняться по рекам, нурманны хуже черной чумы. Они, ничем не брезгая, грабят именье, бьют старых, а молодых ловят в рабство. Светланка была малой девочкой, когда на их село напали нурманны. Мало кто уцелел. После того отец Светланки бросил пепелище и ушел в Новгород. И этот ярл-князь Гольдульф был такой же разбойный купец. Две морские лодьи имел, как про него сказал нурманнский торговый староста. Немало зла наделал людям Гольдульф. Мать не может признаться дочери, что ей самой Одинец милее сделался после того, как разбил нурманнскую голову. Но как и парню и дочери помочь? За думами и утешениями хозяйка чуть было не пропустила свой час. Хорошо, что меньшая сноха спохватилась. Вбежала и зовет: — Маменька, не время ли мужиков к столу кричать? Светланка выскочила во двор и видит по солнышку — уже пришла пора.Столы длинные и узкие, поставлены в два ряда. С одной стороны к ним вплотную приставлен малый стол — для хозяина и его старшего сына. Остальные домочадцы садятся на скамьи, как кому вздумается. Женщины с мужиками вместе не едят, им не до того. Пока одни по дворам скликают мужиков, другие расставляют миски, по одной на четверых, раскладывают горками хлеб, резанный на ломти, и бросают ложки. В мисках дымится горячее варево из мяса, капусты и других кореньев. Голодные мужики собираются быстро, чуть не бегом, садятся, разбирают ложки и ждут, краем глаза следя за хозяином, когда он к своей миске протянет ложку. Тут же все разом берутся. Едят без спешки, однако и отставать друг от друга тоже не приличествует. За первым блюдом хозяйки без перерыва подают второе: крошенную ножами вареную говядину, или баранину, или свинину, или дичину, которые варились для горячего. За вторым блюдом следует третье — каша. Как всегда, утоляя первый голод, мужики ели горячее молча. За вторым блюдом заговорили и мужики и женщины. Об одном речь: об Одинце, который ещё вчера здесь сидел, за общим столом. Никто его не хулит — все жалеют. Такой шум поднялся, что Верещага не утерпел, прикрикнул. Заренка стояла, прижавшись к теплой печи, и не сводила глаз с отца. За третьим блюдом хозяйки начали поторапливать тех мужиков, которые отстали от других, но не могут от миски оторваться, хотя уже чуть дышат. Пусть едят, не жалко. Но женщинам самим хочется скорее сесть за стол. Они тоже с утра голодны. От душистого запаха горячего, от каши с только что давленным зеленым льняным маслом у них слюнки текут. Пора мужикам от стола да из избы, чтобы дать свободу хозяйкам с малыми детьми. Заренка к отцу молча приласкалась, как полевая повилика. А Светланка прямо спросила: — Как же мы теперь будем с Одинцом? Верещаге не понравилось, нахмурился. Ему и самому Одинец был люб, но теперь ничего не поделаешь. Добро ещё, что парень живой и на свободе остался, а в Город ему хода не будет. Он должен Городу пятнадцать фунтов серебра. Где же ему их взять? Заренка Шепчет: — А ты, тятенька, его выкупи! Выкупи, родимый!.. Верещага рассердился и даже отвел от себя рукой дочь: — Эк придумала! Где же я такое место серебра возьму? Горько заплакала Заренка. Отцовское сердце, как воск, тает от дочерних слез. — Опомнись, доченька… — сказал Верещага. Заренка вскипела, слезы пропали: — Коли так, я за ним побегу, найду его и с ним ещё дальше уйду! Ох уж вы, детушки! Малы вы — и заботы малые. Подросли — и заботы выросли. Не знает Верещага, что делать с дочерью — не то сердиться, не то ласкать. Подумал он, что пора бы девушку отдать замуж, но ничего не сказал, только покачал головой и пошел из избы.
Под могилу убитого нурманнского ярла Гольдульфа Город отвел место часах в двух хода от городского тына. Хорошее место, видное, на ильменском берегу, чтобы покойнику было свободно. Носилки с Гольдульфом везли четверо коротко остриженных рабов с железными ошейниками, одетых в грязные льняные кафтаны. И ещё пятерых рабов, связанных сыромятными ремнями, нурманны гнали с собой. Они двигались воинским строем, кабаньей головой. В первом ряду двое, за ними трое, потом четверо. В каждом ряду прибавлялся один боец — до десятка. Потом строй убавлялся по одному человеку и заканчивался, как впереди, двумя бойцами. Посторонних не было никого. Нурманны не любят, чтоб на их похоронные обряды смотрели чужие. Новгородские старшины сдержали слово. Березовые, сосновые и еловые стволы, очищенные от сучьев, были сложены костром. Он возвышался, как холм, на три человеческих роста и шагов на сорок в окружности. Для подтопки были готовы колотая щепа и береста. Все нурманны, кто находился в то время в Новгороде, пришли на похороны ярла Гольдульфа. Собралось до полутора сотен. Они встали перед костром полукругом. Друг и торговый товарищ Гольдульфа ярл Агмунд, владетель фиорда Хуммербакон, сбросил с носилок покрывало и посадил мертвеца, чтобы он видел всех и его видели все. Владетель фиорда Сноттегамн ярл Свибрагер, славившийся как скальд, певец — хранитель преданий, протянул руки к Гольдульфу и запел: — Дети Вотана, слушайте песнь, слушайте слова, Вотан с нами!.. Сильные Норны и воля Вотана измерили меру нам и дней и часов. Избегнуть судьбины никто не старайся, урочное время нам только дано… Скальд умолчал о битвах, в которых участвовал Гольдульф, о добыче, которую он захватывал, о богатстве, скопленном мечом и торговлей. Что во всём этом, когда Вотан отказал Гольдульфу в достойной смерти, не дал ему лечь в сражении! Свибрагер не мог воспеть смерть Гольдульфа и, напоминая холодному трупу о непреложности судьбы, которой боятся даже боги, он утешал ярла, убитого кулаком новгородского простолюдина: — Тайны не скрою от храброго мужа, что пользы не будет бороться с судьбою. Перед носилками поставили на колени связанного раба, молодого, светловолосого, сильного. Свибрагер вцепился в короткие волосы раба, поднял его опущенную голову и закричал: — Смотри, могущественный Гольдульф! Вот твой убийца! Вот русский Одинец! Насладись его кровью!
 Свибрагер проткнул острым толстым мечом шею нареченного Одинца. Кровь хлынула на труп.
Гольдульф бесстрастно смотрел тусклыми мертвыми глазами на ярла-скальда, который зарезал с теми же словами и второго раба.
Но Агмунд, который поддерживал труп ярла, воскликнул:
— Гольдульф принял жертвы и узнал убийцу! Смотрите, рана на голове ярла сделалась влажной!
Кровью трех последних рабов окропили костер, чтобы она поднялась в Валгаллу с Гольдульфом. Великий Вотан любит запах человеческой крови. Гольдульфа на черном суконном плаще подняли на костер. Рядом с ярлом положили его оружие, в ногах — тела зарезанных рабов.
Свибрагер проткнул острым толстым мечом шею нареченного Одинца. Кровь хлынула на труп.
Гольдульф бесстрастно смотрел тусклыми мертвыми глазами на ярла-скальда, который зарезал с теми же словами и второго раба.
Но Агмунд, который поддерживал труп ярла, воскликнул:
— Гольдульф принял жертвы и узнал убийцу! Смотрите, рана на голове ярла сделалась влажной!
Кровью трех последних рабов окропили костер, чтобы она поднялась в Валгаллу с Гольдульфом. Великий Вотан любит запах человеческой крови. Гольдульфа на черном суконном плаще подняли на костер. Рядом с ярлом положили его оружие, в ногах — тела зарезанных рабов.
 Снизу побежали огоньки и взвились наверх в черном и сером дыме. Солнышко заслонилось от нурманнов густым дымным облаком.
Дерево шипело и трещало и вдруг разом вспыхнуло. Так яро забушевал желто-красный огонь, так принялся палить, что нурманны прикрыли лица и отступили от костра.
…Огонь допылал, костер рассыпался пеплом. Нурманны дружно взялись за работу и набросали высокий, крутой холм. В нем навечно, до конца мира, должен сохраняться пепел сожженных тел.
День пошел на вторую половину, небо опустело от птиц. В воздухе на легких паутинах плыли по своим невидимым дорожкам легонькие, маленькие паучки. Нурманны шли вразброд и глядели на город.
Хороший город. Ни у самих нурманнов, ни у свеев, ни у датчан, фризонов, валландцев, саксов, бриттов и англов нет таких городов. Между собой нурманны называют русскую страну богатой Гардарикой, страной городов.
Через этот город идет торговая дорога к грекам. Тот, кто завладеет им, будет господином дороги.
Снизу побежали огоньки и взвились наверх в черном и сером дыме. Солнышко заслонилось от нурманнов густым дымным облаком.
Дерево шипело и трещало и вдруг разом вспыхнуло. Так яро забушевал желто-красный огонь, так принялся палить, что нурманны прикрыли лица и отступили от костра.
…Огонь допылал, костер рассыпался пеплом. Нурманны дружно взялись за работу и набросали высокий, крутой холм. В нем навечно, до конца мира, должен сохраняться пепел сожженных тел.
День пошел на вторую половину, небо опустело от птиц. В воздухе на легких паутинах плыли по своим невидимым дорожкам легонькие, маленькие паучки. Нурманны шли вразброд и глядели на город.
Хороший город. Ни у самих нурманнов, ни у свеев, ни у датчан, фризонов, валландцев, саксов, бриттов и англов нет таких городов. Между собой нурманны называют русскую страну богатой Гардарикой, страной городов.
Через этот город идет торговая дорога к грекам. Тот, кто завладеет им, будет господином дороги.
Одинец уже третий день сидел на лесной поляне под двумя сросшимися соснами. Не хуже, чем цепь прикованного к столбу дворового медведя, держала парня рана в бедре. Он не мог ступить на ногу. Бедро раздулось, и там, где застряло железо от нурманнской стрелы, поднялась шишка величиной с кулак. Он не был голоден. Ему удалось сбить ещё одного борового петуха-глухаря, но он и первого не доел. Последнюю ночь рана не дала спать. Он истомился, пожелтел, ослабел. Зато шишка вздулась острием и на ощупь сделалась мягче. Одинец наточил нож об огниво, направил на поле кожаного кафтана. Попробовал ногтем — остёр. Он уселся поудобнее, нацелился и разрезал нарыв вдоль. Разрезал — и белого света не взвидел. В глазах стало темно, и не будь за его спиной сосны, он повалился бы навзничь. Опомнившись, он обеими руками надавил. Из раны ещё сильнее хлынуло, боль стала ещё злее. Он стиснул зубы. Не чувствуя, как по лбу потек пот, он залез пальцами в рану, достал до железа, впился ногтями и потянул. Точно живую кость сам из себя тащил. От боли и от злости он завыл, но тащил: — Врешь! Я тебя дойду!.. И железо — в руке. Сразу сделалось легко, и боли почти нет. Он промыл рану холодной водой. Как хорошо!.. Ему так захотелось есть, будто бы он век ничего не ел. Он доел остатки первого глухаря, прикончил второго. Сгрыз все кости, запивая водой из туеска. Он рассматривал наконечник нурманнской стрелы. Такой же, как обычно. А это что? Так это же собственная Одинцова мета! Это он ковал этот наконечник у Верещаги для продажи. Мета его: буквица «О», первая его имени. И смешно и досадно Одинцу. Твоим добром тебе и челом! Чтоб пусто было нурманну: он нарочно не закрепил наконечник. Одинец бросил железо, которое так чудно к нему вернулось, сполз пониже и вытянулся. Он закрыл глаза — и перед ним хлынули, как с расшитого полотенца, маленькие-маленькие человечки, смешались, закрутились и разбежались перед Верещагиными воротами на Щитной улице. А он будто входит во двор — и Заренка перед ним. — Где ты был, непутевый? Где шатался? — так и жжет его в самое сердце огневыми глазами.
Глава четвертая
Когда Одинец очнулся, он не сразу понял, сколько времени спал — час, день или неделю. И не тотчас вспомнил, как в лес попал и почему. Вдруг шилом кольнуло в сердце. Он встал. Нога чуть болит и не мешает. Другая боль пришла. Стосковавшись по человеческому голосу, Одинец крикнул, чтобы хоть себя услышать. По лесу пошел гул и назад к Одинцу вернулся. Ещё сильнее заныло сердце. Что же делать, приходится и с этой болью бороться. И жить нужно, и искать пристанища. Одинец выбрал высокую сосну, разулся и полез, пока ствол не сделался гибким. Огляделся — глубоко же он, однако, забрел в леса! Одинец разглядел Город, который лежал дальней темной полосой; за ним будто бы светился Ильмень. На севере всё закрывали леса. Где-то за ними пряталось озеро Нево. На полудень лесной кряж обрывался пахотными землями, а на восход стоял лес и лес. Туда идти, дальше от города. Там должны сидеть большие и малые огнищане на чищенных палом полях. Но нигде не видно дымка над лесами.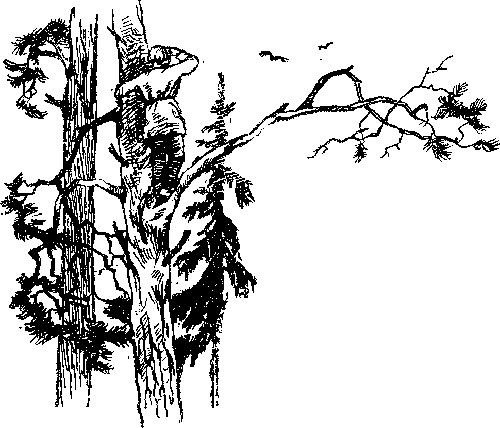 Шумит бор, и качается под Одинцом сосна. Он прижимал к груди гибкую вершину и качался вместе с ней. Пора решать. На восходе нужно искать месте. Вблизи от поляны на восход видно болото, за ним опять лес. И там будто бы видится слабый дымок.
Тоскливо, грустно осенью на болотах. Чахлые березки сронили последний лист, стоят голые и корявые, будто бы кто нарочно их гнул и корчил. Кет листвы, видны лишь сизый мох и бурый лишай, которые так густо закрыли стволы, что не рассмотришь бересты.
Можно любое болото одолеть на переносных кладях. Одинец нарезал жердей и пошел от деревца к деревцу. Он бросал жерди на слабые места, переходил по ним и опять бросал перед собой. Работа нудная, но нужная.
На мхах встречались ягоды. Будто бы кто шел и рассыпал полный туес. Нет, возьми — и заметишь, что каждая ягодка держится на тонкой живой ниточке. Клюква спеет лёжа, с одного бока — красна, с другого — бела. Эх, поел бы Одинец пирога с клюквой, запил бы клюквенным квасом!..
Не временем, а отлучкой из дома долги годы. Пешему легко, когда сердце свободно, а от беды и на коне трудно ехать.Одинец тешил себя мыслью, что сросся череп нурманна. Нет, не сросся. Как бы Верещаге весть подать?..
«А если поймают, если за виру продадут в рабы? Нет, не дамся живой».
Тут нашлась тропка. Такие следы пробивают бабы с ребятами, когда ходят по болотам за клюквой. Одинец отбросил надоевшие жерди. Тропка вышла на твёрдое место.
Он прислушался: не псы ли тявкают? И пустился на голос широким шагом. Солнышко уже опустилось в полдерева. Кого-то найдет бездомный бродяжка?..
Перед Одинцом открылся широкий поруб, на порубе палисад, а за ним соломенные крыши. В стороне стояла стайка стожков, прикрытых корьем и прижатых жердями. И поле землицы, вспаханное под озимые, с зеленой порослью всходов.
Из подворотни выкатилась собака-лайка с крючком поставленным правилом — хвостом, а за ней — вторая. Одинец пошел потихоньку и, когда сторожа заскочили дорогу, остановился.
Шумит бор, и качается под Одинцом сосна. Он прижимал к груди гибкую вершину и качался вместе с ней. Пора решать. На восходе нужно искать месте. Вблизи от поляны на восход видно болото, за ним опять лес. И там будто бы видится слабый дымок.
Тоскливо, грустно осенью на болотах. Чахлые березки сронили последний лист, стоят голые и корявые, будто бы кто нарочно их гнул и корчил. Кет листвы, видны лишь сизый мох и бурый лишай, которые так густо закрыли стволы, что не рассмотришь бересты.
Можно любое болото одолеть на переносных кладях. Одинец нарезал жердей и пошел от деревца к деревцу. Он бросал жерди на слабые места, переходил по ним и опять бросал перед собой. Работа нудная, но нужная.
На мхах встречались ягоды. Будто бы кто шел и рассыпал полный туес. Нет, возьми — и заметишь, что каждая ягодка держится на тонкой живой ниточке. Клюква спеет лёжа, с одного бока — красна, с другого — бела. Эх, поел бы Одинец пирога с клюквой, запил бы клюквенным квасом!..
Не временем, а отлучкой из дома долги годы. Пешему легко, когда сердце свободно, а от беды и на коне трудно ехать.Одинец тешил себя мыслью, что сросся череп нурманна. Нет, не сросся. Как бы Верещаге весть подать?..
«А если поймают, если за виру продадут в рабы? Нет, не дамся живой».
Тут нашлась тропка. Такие следы пробивают бабы с ребятами, когда ходят по болотам за клюквой. Одинец отбросил надоевшие жерди. Тропка вышла на твёрдое место.
Он прислушался: не псы ли тявкают? И пустился на голос широким шагом. Солнышко уже опустилось в полдерева. Кого-то найдет бездомный бродяжка?..
Перед Одинцом открылся широкий поруб, на порубе палисад, а за ним соломенные крыши. В стороне стояла стайка стожков, прикрытых корьем и прижатых жердями. И поле землицы, вспаханное под озимые, с зеленой порослью всходов.
Из подворотни выкатилась собака-лайка с крючком поставленным правилом — хвостом, а за ней — вторая. Одинец пошел потихоньку и, когда сторожа заскочили дорогу, остановился.
 В ворота просунулся невысокий человек с топором в руке. Завидя хозяина, собаки, зарабатывая кусок, ещё злее набросились на Одинца, обходили со спины.
Хозяин цокнул. Натасканные псы умолкли и отбежали. Одинец поднял навстречу хозяину руку — в знак того, что дурного не хочет.
Хозяин не торопился разговаривать. Он был на добрую четверть пониже Одинца, но с широченными плечами. Под длинной рубахой из домотканной крашенины бочкой выпячивалась грудь. На длинной жилистой шее сидела крупная голова в спутанных желтых волосах. Кожей был человек темноват, с редкой бородой.
«Мерянин», — подумал Одинец.
Мерянин без стеснения разглядывал гостя. Он, точно слепой руками, щупал пришельца внимательными глазами. Наконец-то сощурился и вымолвил:
— Здравствуй.
«Мерянин и есть», — решил Одинец по выговору.
— И ты здоров будь, — ответил он.
— Чего же стоишь? — спросил мерянин. — Ночь валит — ступай в избу, будешь гость, будешь спать. Твоё имя как?
Одинец назвал себя.
— Оди-нец, Одинец… — повторил мерянин запоминая. — А меня ты зови Тсарг.
Прислушиваясь к разговору, собаки ворчали. На лесном огнище гость был редок, и запах чужого тревожил сторожей.
Переступив порог, Одинец низко поклонился очагу. В сумерках лица различались плохо. В избе крепко пахло томлеными, держаными щами. Мужчины уже кончили паужинать, за столом сидели женщины.
У печи на углях раздули лучину, и Одинец разглядел девичье лицо. Не Тсаргова ли дочь?
Смуглокожая, со светлыми косами девушка потупилась от света и зацепила своей ложкой о ложку Одинца. Вскинула глаза и засмеялась. Миловидное лицо ожило и заиграло.
«Хороша!» — невольно подумал Одинец.
Девушка показалась ему свежей и крепкой, как спелая репка.
Мерянин уложил гостя рядом с собой, на полу. Одинец слышал, как о чем-то шушукались женщины. Куда-то вспрыгнула и сладко замурлыкала кошка. На дворе густо хрюкала свинья. Взвизгнули подравшиеся лошади.
В избе пахло сладковато-горькой сажей. Из приоткрытой двери тянула струйка прохлады. На постели из медвежьей шкуры было мягко и тепло.
Рядом ровно и глубоко дышал мерянин Тсарг, как человек, который улегся спать без заботы и тревоги.
В ворота просунулся невысокий человек с топором в руке. Завидя хозяина, собаки, зарабатывая кусок, ещё злее набросились на Одинца, обходили со спины.
Хозяин цокнул. Натасканные псы умолкли и отбежали. Одинец поднял навстречу хозяину руку — в знак того, что дурного не хочет.
Хозяин не торопился разговаривать. Он был на добрую четверть пониже Одинца, но с широченными плечами. Под длинной рубахой из домотканной крашенины бочкой выпячивалась грудь. На длинной жилистой шее сидела крупная голова в спутанных желтых волосах. Кожей был человек темноват, с редкой бородой.
«Мерянин», — подумал Одинец.
Мерянин без стеснения разглядывал гостя. Он, точно слепой руками, щупал пришельца внимательными глазами. Наконец-то сощурился и вымолвил:
— Здравствуй.
«Мерянин и есть», — решил Одинец по выговору.
— И ты здоров будь, — ответил он.
— Чего же стоишь? — спросил мерянин. — Ночь валит — ступай в избу, будешь гость, будешь спать. Твоё имя как?
Одинец назвал себя.
— Оди-нец, Одинец… — повторил мерянин запоминая. — А меня ты зови Тсарг.
Прислушиваясь к разговору, собаки ворчали. На лесном огнище гость был редок, и запах чужого тревожил сторожей.
Переступив порог, Одинец низко поклонился очагу. В сумерках лица различались плохо. В избе крепко пахло томлеными, держаными щами. Мужчины уже кончили паужинать, за столом сидели женщины.
У печи на углях раздули лучину, и Одинец разглядел девичье лицо. Не Тсаргова ли дочь?
Смуглокожая, со светлыми косами девушка потупилась от света и зацепила своей ложкой о ложку Одинца. Вскинула глаза и засмеялась. Миловидное лицо ожило и заиграло.
«Хороша!» — невольно подумал Одинец.
Девушка показалась ему свежей и крепкой, как спелая репка.
Мерянин уложил гостя рядом с собой, на полу. Одинец слышал, как о чем-то шушукались женщины. Куда-то вспрыгнула и сладко замурлыкала кошка. На дворе густо хрюкала свинья. Взвизгнули подравшиеся лошади.
В избе пахло сладковато-горькой сажей. Из приоткрытой двери тянула струйка прохлады. На постели из медвежьей шкуры было мягко и тепло.
Рядом ровно и глубоко дышал мерянин Тсарг, как человек, который улегся спать без заботы и тревоги.
Глава пятая
В узком окне Тсарговой избы чуть брезжил свет, а женщины уже были на ногах, истопили печь, и обед ждал мужчин. На Одинца никто не глазел и никто не тянулся с вопросом, будто парень век жил в семье. Тсаргова дочь стояла у печи рядом с матерью. Ока скромно, по-бабьи подхватила правой рукой локоть левой и положила щеку на ладонь. Нет-нет, а бросала на Одинца взгляд карих глаз. Во дворе Тсарг махнул рукой и сказал гостю: — Пришел в лес и сам делал… В середине двора стоял столб с надетым козьим черепом — для острастки шаловливому домовому. А над воротами была прибита пастью к лесу медвежья голова, чтобы и лешему не было хода мимо жилья. Тсарг молча пошел через рамень. За лесной поляной нашлось второе огнище, которое готовили для пала. Лежали срубленные лесины. Как видно, Тсарговы валили лес прошлой зимой. В студеную пору лучше рубить сонное дерево. А весной и летом хуже валить живое дерево — оно плачет под топором. Тсарговы возились на порубе. Ровные деревья идут под бревна, их чистят и вытаскивают на волокушах. Из тех, что похуже, отбирают дровяник. Не год и не два будет кормить очаг чищеное поле. Самое же дорогое — то, что останется на месте. После пала прогретая огнем и сдобренная золой лесная землица щедро даст и крупную рожь, и усатый ячмень, и остистый овес. Тсарг полез через поваленный лес и вывел Одинца к овражку. Из обложенного камнями бочажка выливался чистый, как слеза, ключ. Тсарг сказал парню: — Теперь всё говори. Кто ты? Зачем по лесу не в пору ходишь? Зачем тебя стрелой били? — Мерянин посмотрел парню в глаза и торжественно показал на небо и на ключ: — Правду скажи. Тебя небо видит. Земля слышит. Живая вода примет слово. Дай зарок! Одинец поклялся костями и прахом родителей, дымом очага, солнышком и, ничего не тая, открылся Тсаргу во всём. Слушая гостя, мерянин качал тяжелой лохматой головой — дурное дело у парня, худое, худое. Вздохнул: — Как жить будешь? — Дальше пойду. — Куда пойдешь? Одинец не ответил, с тоской слушая, как поет лес под холодным ветром-листодёром. — Тебе в лесу будет плохо, — сказал Тсарг. — Живи у меня. Пока. Ты сильный, не будешь зря есть хлеб. Потом я увижу.Вовремя Одинец нашел кров. Трех дней не прожил он у Тсарга, как без устали и без срока полил дождь. Ворчит Тсарг, что ныне кругом его огнища совсем не стало пушного зверя — соболя, горностая, выдры-подрешни, кидуса и куницы. Но нужно и на редкую добычу запасти колечки, сторожки и силки с грузиками, которые ставят над ручьями. Кожи вымокают в кислом тесте-квасе. Их мнут, мездрят тупыми ножами, дубят корой и сушат на распялках. Пора кроить готовые кожи на сапоги, на усменные кафтаны и на сбрую. Одинец умел не только ковать железо, но и работать по дереву. Из заготовленных с лета березовых и кленовых чурбаков он резал малым, остро заточенным топором и железной кривой ложкарней миски, ложки, солонки, плошки, зубья для борон, топорища. Они пойдут для дома и для продажи, когда откроется зимняя дорога. От Тсарга в Город летняя дорога и далекая и трудная. Через болота не пройдешь. Есть крупная тропа. Идя по ней, приходится ночевать в лесу две ночи, а груз вьючить на спины лошадей — ни телегой, ни волокушей не пробраться. Поэтому Тсарговы летом бывают в Городе три, много — четыре раза. Весной же и осенью совсем нет хода. Зато зимняя дорога через болота прямая. Выехав с ночи, можно поспеть в тот же день. Ждут не дождутся в доме Тсарга, когда же Зима-Морена засушит землю и закует воды. Своим обозом на трех, на четырех санях будут ездить. Весело! И Город хочется повидать, и послушать людей — узнать, что на свете делается. Откроется зимняя дорога, и Тсарг повидается с Верещагой, об Одинце посоветуется. Что-то будет?..
Дождь утомился. С сивера веет холодом. Тучное, сизо-черное небо плывет, томится, тужится тяжким бременем. Вот рваться оно начало, лопнуло — и посыпались белые хлопья. Поземный ветерок, играя, потянул небесный пух. Падают снежинки, падают. Нет им ни счета, ни конца. Постылая грязь, которую размесили люди и скотина, сохнет и твердеет. Почерневшие от непогоды соломенные кровли накрылись чистыми мягкими шапками, оделись белыми рубашками стожки сена и соломы. Морозец чуть щиплет. Проясняется разродившееся снегом небо. Славный денек! Из-за лесу, гляди-ка, встало солнышко! Зимой оно не греет землю, зато радует человеческое сердце. Лайки как взбесились! Прыгают на хозяина. Старая сука его лизнула в бороду, взвизгивает, по-своему говорит: «А ну, хозяин! Что же ты? А ну!» С собой в лес Тсарг взял Одинца и самого младшего сына. За воротами собаки поверили, что люди взаправду идут на охоту, и с них горячка соскочила. В сухих, плотного плетенья лычницах цепко ступает нога охотника. В лесу тихо, людских шагов на пороше не слышно, и нет никакого голоса — лишь синицы переговариваются между собой. Глупая птица. Все остальные лесные пичуги и пташки на зиму улетают в солнцеву страну, на полдень. А синица забыла дорогу. У других же птиц не спрашивает, гордится. За это она и мерзнет зимой без крова. Не-ет! Если у тебя в чем-либо не хватает своего ума, ты не стыдись у соседа занять. Так-то. Тсарг сынишке на ходу рассказал о синице. Сказка складная, и в ней есть наука для малых. На свежем снегу много следов. Ворона звездочек наделала. Глухарь пробил мохнатыми лапами рыхлый снежок до земли. А где махнул крыльями, чтобы взлететь, там как вениками провел. Видно, куда полетел. А здесь следок ниткой, частый, видны коготки. — Кто шёл? — допрашивает Тсарг сына. След — великое дело. Колдуны-арбуи вынимают человеческий след, чтобы наводить порчу. А доброму человеку птичьи и звериные следы служат для честной добычи. Ещё следок, парный. За ним снег чем-то поразметён. Не пушистым ли хвостом? След привел к кряжистой сосне. Парнишка отступил, наложил на тетиву стрелу с вырезанным наконечником и нацелился на сосну. У самого сердце ёкает, а глаза выпучил так, будто ими, а не стрелой хочет пустить из лука. Тсарг достал из-за пояса кнут на короткой держалке, с длинным ремнем и сильно щелкнул. Испуганная белка дрогнула, сунулась, не зная куда, и открыла себя. Парнишка ударил метко. Белка перевернулась и повисла на низком суку. На землю её спустила вторая стрела. Отец погладил сына по шапчонке. Парнишка опустил глаза, будто стыдится. Сам же счастлив. Первая добыча взята им. Тсарг вел сыновей заботливо и строго. Мерянин считал, что хуже нет праздной болтовни, и не любил, чтобы сыновья много говорили. Был он скуп на ласку, щедр на науку. Сейчас он был доволен. Недаром он заставлял сыновей стрелять в метки и попадать в подброшенную шапку. И недаром требует, чтобы они учились левой рукой держать перед собой подолгу палку. В руке охотника лук должен сидеть, как топор на топорище. Охотники пошли дальше. Вскоре собаки вернулись, повизгивают, оглядываются на лес. Хотят рассказать, что нашлась настоящая охота, для которой хозяин вышел в лес. Упавшая ель вывернула пласт земли высотой в три человеческих роста. Перед ним собаки уперлись. Припорошенный снегом и скрепленный корнями пласт навис, как крыша, прикрывая черный лаз. Здесь он, бурый лесной зверь, крепко спит. А наверху хлопочет Тсарг. В начале зимы самое лучшее время брать на берлогах медведей, пока они не вытерли лежкой мех и не отощали от спячки. Тсарг отогнал собак. Сынишку он посадил на дерево, откуда видна дыра. Сын должен крикнуть, как только медведь сунется из темени. Охотники срубили молодую ёлку, заострили вершинку и, глазом примеряясь к берлоге, укоротили сучья. Перед берлогой место шагов на пятнадцать в длину и на десять в ширину свободно от деревьев и кустов. По сторонам бурелом. Медведю будет одна дорога — в лоб на людей. Но людям некуда ступить. Тсарг уступил первое место Одинцу. Ему начинать бой. Охотники вдвоем подняли заготовленную елку, с размаху воткнули в лаз и отскочили. Одной рукой Одинец подхватил рогатку, а другой проверил, легко ли топор выхватить из-за пояса. А в земле уже взревело. Только миг торчал из лаза комель елочки, как его сдернуло вглубь. Заорал Тсаргов парнишка: «Держи!» — а медведь уж вон он, тут. Первый медвежий сон легок. Лесной хозяин не встал на дыбы, а пошел кабаном, на четырех лапах. Одинец не потерялся, хотя хуже нет, когда медведь так идет, свиньей. Тсарг не успел мигнуть, как парень всадил в медведя обеими руками и перевернул рогатину. И вот она торчит из медвежьего бока, ушла до самой перекладины. Крепкий на рану, медведь взметнулся на дыбы, и хрустнуло полуторачетвертное дерево. Одинец успел выпустить рогатину, еле удержался на ногах и встал перед медведем с топором. Одинец был высок ростом, но медведь пришелся почти на голову выше. Зверь махнул когтистой лапой, чтобы снять с человека череп вместе с шапкой, но топор Одинца уже засел по самый обух в медвежьей башке. И уснул сильномогучий лесной богатырь. Согнулся, сел перед человеком и ничком лег на матушку-землю. Но уж не видеть ему снов. Только сейчас услышали и Тсарг и Одинец звонкий голос парнишки. Он визжал без перерыва и из всех троих один всё видел: как отец метил рогатиной, чтобы подать Одинцу помощь, как псы старались медведя осадить на задние ноги и как Одинец размахнулся. А Одинец стоял с обломком топорища и говорил Тсаргу: — Слабовато топорище-то. Без ума выбирали дерево. Я тебе лучше сделаю. Тсарг ударил себя по бедрам и толкал Одинца в грудь кулаком: — Ты бьешь, парень, без ума. По-моему! Одинец и парнишка остались на месте ободрать и освежевать медведя, пока туша не остыла. Тсарг пошел ко двору за лошадьми и волокушами. Он пробирался по лесу, запоминал дорогу, где удобнее вытащить добычу, и думал, как дальше повести дело с Одинцом. Хорошо было бы доброго парня навек оставить во дворе. И для этого найдется верное средство. Дадут ему Одинец и дочка славных внучат. Эх, не висела бы над парнем напрасная смерть нурманнского гостя!.. Скорее бы съездить в Город, разузнать всё самому и решить наверняка, как и чего держаться. В Тсарговой избе лакомились свеженькой, сочной медвежатиной, нежным мозгом, сладкой печенью, жирными почками, мягким, легким тушеным салом. А медвежье сердце хозяйка на деревянном кружке-тарелке с особым поклоном поднесла Одинцу и вымолвила обычное присловье: — Будешь сильный, будешь смелый, будешь, как он, разумный. В медвежьем сердце лежит большая сила. Сам медведь и умен и хитер. Он, как человек, всё мог бы сделать, только он ленив и не хочет работать.
Глава шестая
Новгородцам зимой дела не меньше, чем летом. Из иноземных гостей для зимних торгов остаются не многие, а свои купцы и ремесленники начинают новые торги с теми, кто живет вдали от речек и рек, удобных для судоходства. Вместо легких водяных путей открываются санные. Не по корням волочить волокуши, не ломать в лесах покорные лошадиные спины. По первопутку в Город бегут груженые сани. Дальние жители собираются обозами, а ближние ездят в одиночку. Мерянин Тсарг проехал через городские ворота на четырех санях. Легкая поземка заснежила и сани и седоков. Однакоже мороз был не силен, да и поезжане одеты тепло. Поэтому Тсарг не свернул на заезжий двор, который содержал родной по жене дворник. Тсарг ехал прямо в Детинец, желая поскорее разделаться с податями. В прошлом году он задержался, и его навестили городские сборщики. Беды в том нет, но Тсарг беспокоился об Одинце. В широких и глубоких клетях Детинца собиралась подать со всех новгородских людей. В подати шла десятая часть всех доходов — хлеба, меда, льняной пряжи и кудели, рыбы соленой и сушеной, шкур, птичьего пуха, шерсти, драгоценной мягкой пушнины, изделий из железа, полотна, дерева, кости. Город брал подати всем, чем давали: и серебром, и золотом, и самими достатками. У Тсарга, как и у большинства людей, не бывало ни монет, ни слитков. Он привозил добычу своих рук. Приказчики отметили подать на бирках, а Тсаргу выдали кожаный ярлык — свидетельство того, что он от подати чист. Сани сильно облегчились, и утомленные лошади легко побежали из Детинца. Но Тсарг не жалел о подати. Город всех оберегает, содержит бойцов-ратников. Не будь того, нашлись бы сильные люди и обидели бы. Новгородская Правда хороша, по ней жить крепко. Поэтому и прибавляется людство на новгородских землях. На заезжем дворе Тсарг передал дворнику привезенные гостинцы. Приезжие попали ко столу и поели горячего. Без долгих споров Тсарг выменял у дворника соли, сушеной рыбы, железных изделий и сладких иноземных черных рожков. Для баб взял тонкого крашеного полотна и ярких лент-косоплёток. У огнищанина остались медвежья шкура и бочонок дорогого целебного медвежьего жира. Дворник сулил за них три хороших ножа, железный котел и обещал дать ещё рожков. Тсарг не согласился: это, мол, заказное, а ножи, котел и лакомые рожки он ещё возьмет, в усадьбе найдется довольно товара. На торговище и на городских улицах тесно от многолюдства. Меж возов бродят люди. Одни прицениваются, другие спорят, а иные просто ведут беседы, чтобы узнать, что и где делается и о чём идут в народе слухи. Нищие пели жалобные песни. Убогим не отказывали, и они грузили щедрое подаяние на ручные санки. Гудел и шумел Город. Звонко ржали кони, мычали коровы, лаяли собаки. За вдетое в нос кольцо поводырь тащил ручного медведя, и зверь жалобно ревел грубым голосом. Скоморохи играли на гудках и трубах. Слепые нараспев сказывали были. Над головами людей шныряли воробьи, сороки и вороны, норовя, что бы стащить. Под ногами, не боясь людей, ходили голуби, кормясь невзначай рассыпанными зернами хлеба. От непривычного многолюдства у Тсарга шумело в голове. Он пробирался между возами. Чтобы было удобнее, мерянин надел на голову медвежью шкуру. Бочонок с салом он держал подмышкой. Почуяв близкий запах медведя, лошади настораживались и шумно втягивали воздух вдруг раздувшимися ноздрями. Тсарг заслышал особый клич и откинул навалившуюся шкуру. — Эй, молодцы! Эй, удальцы-смельчаки! Кому тесно дома? Кому свой двор надоел? Кому теснота опостылела? Кому тесна старая шуба? Мерянин подошел к крикунам и слушал, о чем говорят. Сбивалась ватага вольников в дальние земли. Часто и охотно новгородцы уходят искать нового счастья и нового богатства и находят новые, богатые места. Тсаргу хорошо на его огнище и тепло в своей избе. А всё же поманило его послушать людей. Даже расспрашивал, кто и куда идет, кто поведет, когда выходят. Да, для молодых парней это хорошо. Пусть пытают счастья. Легко ходить по мощеным городским улицам. Тсарг не заметил, как добрался до Щитной улицы. Верещага встретил Тсарга во дворе: — Здоров будь. За каким делом пришел? — И ты здоров будь. Дай мне гвоздей. Кузнец, высокий, черный, в коротком нагольном тулупчике, а мерянин хоть ростом невелик, зато широк, как пень, и от медвежьей шкуры кажется ещё шире. В клети Тсарг поставил бочонок, сбросил медвежью шкуру и сказал: — От парня, от Одинца, тебе память и поклон, — и дал Верещаге кусок бересты, на котором Одинец выдавил свое имя гвоздем и втер в буквицы сажу, чтобы было лучше видно. Отцы сели на закром. Верещага рассказал о судном вече и о народном приговоре. А Тсаргу не пришлось много говорить. Он от досады крякнул: — Эк ты! Жаль парня… Оба призадумались. Потом Верещага ещё добавил горечи: — Бирючи кричали, чтоб никто не давал Одинцу крова. А кто знает, где он спрятался, пусть объявит. Парень должен отдать Городу виру. И Тсарг и Верещага понимала, что Город поступал правильно. Мерянин нашел один ответ: — Не слыхал я тех бирючей. — А если услышишь?.. — возразил Верещага. — Слушай, ты добрый человек, и я не желаю зла Одинцу. Не держи его — уходить ему надобно. И подалее. Верещага будто столкнул в воду камень. Хотел бы Тсарг услышать другое. Нет, кузнец говорит дельно. Обозлившись, Тсарг хватил по закрому кулаком. Лучше бы не приходил на его двор полюбившийся парень! — Куда же ты советуешь парню деваться? — спросил он кузнеца. — Не гнать же его со двора, как шелудивого пса! — К вольникам бы ему пристать! — чуть не крикнул Верещага. Он ходил по клети и, заглядывая в закрома, со злостью гремел железом. Непутевый парень приворожил и смутил Заренку. После его бегства будто кто на девушку навел порчу. Светланка вынимала след дочери пресным тестом и ходила к арбуям. Они колдовали над следом, проносили над огнем, жгли пахучие травы. Светланка купила наговоренную наузу-ладоику. Заренка её носила, но на делалась веселей. Родители знают, что девичье сердце забывчиво, но от этого не легче смотреть на тоску дочери. Верещага с ворчаньем рылся в железе. Он достал насадки для воинской рогатины, которая, в отличие от зверовой, куется без нижней крестовины, и подобрал кольца для древка. Отсчитал десятка три каленых стрелочных наконечников, отобрал широкий топор, пилу, трое долотьев и два тесла. Немного подумав, достал круглую бляху и полосы для щита. — Чтоб ему!.. Хватит, что ли? Да что тут, щит дал — так дай и шлем с железной рубахой… Леший бы ему голову на спину отвернул! Ещё что понадобится клятому бродяжке? Верещага старательно выбрал заготовку для лука. Без устали честя Одинца, он бормотал: — Непутевый, негодный! Дубовая голова, пустошный парень! Чтоб век тебе петуха не услышать, чтоб ты пожелтел, как золото!.. Верещага не скупился. Одинец жил в его дворе и работал на его двор. Не уходить же ему, как неприютному нищему, как безродному сироте! По народному обычаю, кузнец давал невольному беглецу выдел. Верещага сложил железо в лубяной короб: — Отвезешь, что ли, парню? Чтоб ему, окаянному! Кланяясь за Одинца щедрому хозяину, Тсарг достал рукой до пола: — Не много ли ему будет? Больно хорошо даешь! — Хватит с дурня, — возразил Верещага. — Я ему кое-что прикину из лопотинки. — Не надо, — сказал Тсарг и махнул рукой. — И у меня парень работал. Вскоре после посещения Тсарга все заметили, что Заренка повеселела. Родители успокоились за дочь. Как видно, и время и наговоры арбуев сделали своё, — рассуждали они. — Девичьему горю помогли колдовские силы.Вьюжит. С мутного неба на озера, болота, реки и леса сыплется сухой снежок. У боярина Ставра людно. Он принимал гостей не в верхних светлицах, как нурманнов, а внизу, в молодцовской избе. Они толковали о своём деле не спеша. Известный в городе охотник Доброга вернулся летом после долгой отлучки. Доброга ходил с тремя товарищами на восход от озера Нево, в Весьскую землю. Ушли четверо, а вернулся один. Тут ничего дивного нет. И большие ватаги пропадают без следа. Охотник отдышался и принялся мутить людство. Он рассказывал, как нашел вместе с товарищами реку на восходе от озера Онеги. Охотники наловили и набили такое богатство зверей, что для хранения шкурок поставили особые острожки на приметных местах. А какой там соболь! Черный, чистый, одна «головка» всех соболей. Охотники плавали вниз по той реке, но людей нигде не встречали. Реке тоже не нашли конца.
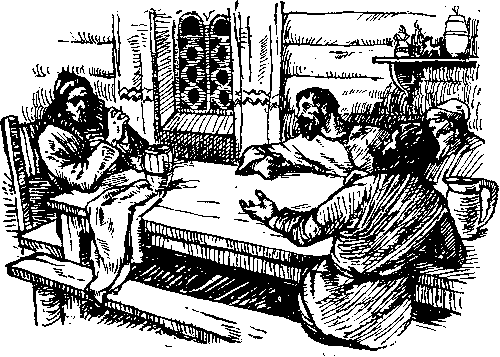 Зимовка получилась тяжелая. Начали болеть, чернели десны, опухали руки и ноги, шатались зубы. Охотники спасались отваром сосновой хвои и жевали смолку. К весне один помер.
На обратном пути другого, сонного, задрали медведи. Потом на безыменной речушке перевернулся берестяной челнок, и последний товарищ Доброги погиб под корягой.
Дальние дороги не прошли даром и самому Доброге. Исхудал, кашель привязался. Но Доброга не унялся. По его рассказам, и не было и нет лучших мест, где пропали его товарищи.
Около бывалого охотника сбивалась ватага. Молодые ребята, не выделенные отцами и бессемейные, решались быстро. Такие хоть сейчас готовы в любую ватагу. Иные подговаривали девушек: «Пойдем, любушка, будешь ходить в соболях». Новгородские девушки — тоже вольница.
К найденной Доброгой реке нет водной дороги. Ватага сбиралась ко времени санного пути. Они уже согласились между собой, выбрали старост. А договариваться о снастях и припасе ватажные выборные пришли к боярину Ставру.
Ставр хотел иметь в добыче равную долю с ватагой. Каждая вторая шкурка из всех взятых должна быть боярская.
— Много хочешь, — в ответ усмехался Доброга. — Знаешь, сколько там зверя?
— Много, много хочешь! Уступай, боярин, — поддерживали ватажного старосту другие.
Ставр поглаживал подстриженную холеную бороду и ласковым голосом убеждал мужиков:
— Где же много хочу? Вы люди разумные и бывалые, подумайте. Вы же не малые дети — вы хозяева.
Боярин льстил ватажникам. Больше половины было молодых парней. Ставр уговаривал:
— Думайте, думайте. А мясо, добытое на мою снасть? А рыба, ловленная моими же снастями? А дома, которые вы поставите моими же топорами, теслами, долотьями и стругами? Ведь всё ваше будет! В них не будет моей доли. А пашни, что засеете моим зерном? Что родится, то и ваше — я не прошу моей доли. Где же я хочу много получить?
Так и спорят час, другой. Ватажники — своё, а у боярина на каждое слово есть умный ответ.
Доброга начал сердиться:
— Ты дома, в тепле, в сытости, будешь сидеть, боярин. А нам ломаться в лесах и болотинах, в нужде, труде, голоде. Чего же ты с нами равняешься!
Ставр качал головой и укоризненно смотрел в глаза ватажному старосте.
— Да вы же думайте, люди, — вразумлял боярин: — без моей снасти-припаса ватага не дойдет до места, не наловит зверя. Знать, главное во всём — моя снасть.
Доброга махнул рукой, стал к двери. За ним тронулись и остальные выборные от ватаги.
— Стойте! — Боярин повысил голос. — Куда метнулись, экие шуты-обломы! Стой, вам говорят!
Ватажники вернулись и вновь расселись. Ставр кивнул своим молодцам, чтобы поднесли ячменного пива и меда. Ребята намочили усы и слушают — что-то ещё боярин скажет.
Ставр улыбнулся и понизил голос, будто хочет втайне сказать самые важные слова:
— Вы смекните, разумные, что не всем бывает удача. В лесах ли, в реках и болотах вы сгибнете, побьют ли вас чужие люди — и всё пропало. Мне не только что прибыли не будет — всё мое добро пойдет прахом.
Доброга ещё ласковее улыбнулся, чем боярин, и согласился:
— Тут-то мы с тобой, именитый боярин, и скажемся в равных долях. Наши кости и твои копья будут вместе лежать.
Боярин оспорил Доброгу:
— Не так ты судишь. Вам лежать в покое, а мне считать убытки.
Доброга так расхохотался, что закашлялся и еле отдышался:
— Мы, боярин, в нашу ватагу берем всех удалых людей. Нет отказа и тебе. Пойдем с нами! Ляжем вместе — и тебе не придется горевать от проторей.
Ставр потемнел и дернул себя за бороду.
— Меня ты не учи уму-разуму. Я ученый!
Опять Доброга встал, и все остальные за ним сгрудились к порогу. И опять Ставр их не отпустил.
Боярин повел ватажников по клетям, Под руками боярских молодцов загремели дорогие железные изделия, и у ватажников разгорелись глаза.
За первой клетью всей толпой ввалились во вторую. В ней хранились охотничьи снасти, проволочные силки, прочные звериные капканы и новгородского и иноземного дела. Шли дальше и осматривали котлы и котелки, окованные и кожаные ведра, оловянные и медные миски, конскую сбрую, кафтаны, штаны, сапоги, дубленые полушубки, тулупы, шубы, шапки, рукавицы.
Богатые товары у боярина. Ватажники мякнут. Чего ещё, пора с боярином бить в руки, там разберемся.
Ставр приговаривал:
— Я не поскуплюсь, дам всё, что нужно. И коней дам, и молодых коров, и двух бычков для приплода.
И всё же Ставр не уговорил. Ватажный староста молча пошел со двора. Ватажники потащились за Доброгою. Повесили они носы. Ведь иные первый раз в жизни держали в руках то, что до сих пор лишь видели.
Ставр налетел на Доброгу с поднятым дубцом:
— Эй, чтоб тебя Перун рассек молнией, забил в землю громом! Ты упрям и неподатлив, как дубовый корень. Моя половина в мехе, а ты говори срок!
Уступил-таки боярин и согласился иметь половину в добыче не вечно, а на время. Но и на это Доброга не пошел. Староста грозился, что пойдет к Котлу, к Полгу или к Чагоду. В Новгороде найдутся и другие богачи, кроме Ставра.
Закончили уже при свечах. Договорились, что ватага за всё, что заберет, заплатит четвертую цену против обычного торга. И пока ватага не выплатит долга, все добытые меха пойдут Ставру без всякой утайки. Когда же расчет закончится, то ватага свою добычу пять лет не будет никому продавать, кроме Ставра.
Боярин сам написал на коже договор. Под ним подписались Доброга и ещё один ватажник, Отеня. А остальные закоптили на свече большие пальцы и поставили печати.
Ставр не сумел навечно закабалить ватагу, но всё же остался доволен. Были довольны и ватажники. Боярин желал им удачи и счастья и поил медом досыта.
Зимовка получилась тяжелая. Начали болеть, чернели десны, опухали руки и ноги, шатались зубы. Охотники спасались отваром сосновой хвои и жевали смолку. К весне один помер.
На обратном пути другого, сонного, задрали медведи. Потом на безыменной речушке перевернулся берестяной челнок, и последний товарищ Доброги погиб под корягой.
Дальние дороги не прошли даром и самому Доброге. Исхудал, кашель привязался. Но Доброга не унялся. По его рассказам, и не было и нет лучших мест, где пропали его товарищи.
Около бывалого охотника сбивалась ватага. Молодые ребята, не выделенные отцами и бессемейные, решались быстро. Такие хоть сейчас готовы в любую ватагу. Иные подговаривали девушек: «Пойдем, любушка, будешь ходить в соболях». Новгородские девушки — тоже вольница.
К найденной Доброгой реке нет водной дороги. Ватага сбиралась ко времени санного пути. Они уже согласились между собой, выбрали старост. А договариваться о снастях и припасе ватажные выборные пришли к боярину Ставру.
Ставр хотел иметь в добыче равную долю с ватагой. Каждая вторая шкурка из всех взятых должна быть боярская.
— Много хочешь, — в ответ усмехался Доброга. — Знаешь, сколько там зверя?
— Много, много хочешь! Уступай, боярин, — поддерживали ватажного старосту другие.
Ставр поглаживал подстриженную холеную бороду и ласковым голосом убеждал мужиков:
— Где же много хочу? Вы люди разумные и бывалые, подумайте. Вы же не малые дети — вы хозяева.
Боярин льстил ватажникам. Больше половины было молодых парней. Ставр уговаривал:
— Думайте, думайте. А мясо, добытое на мою снасть? А рыба, ловленная моими же снастями? А дома, которые вы поставите моими же топорами, теслами, долотьями и стругами? Ведь всё ваше будет! В них не будет моей доли. А пашни, что засеете моим зерном? Что родится, то и ваше — я не прошу моей доли. Где же я хочу много получить?
Так и спорят час, другой. Ватажники — своё, а у боярина на каждое слово есть умный ответ.
Доброга начал сердиться:
— Ты дома, в тепле, в сытости, будешь сидеть, боярин. А нам ломаться в лесах и болотинах, в нужде, труде, голоде. Чего же ты с нами равняешься!
Ставр качал головой и укоризненно смотрел в глаза ватажному старосте.
— Да вы же думайте, люди, — вразумлял боярин: — без моей снасти-припаса ватага не дойдет до места, не наловит зверя. Знать, главное во всём — моя снасть.
Доброга махнул рукой, стал к двери. За ним тронулись и остальные выборные от ватаги.
— Стойте! — Боярин повысил голос. — Куда метнулись, экие шуты-обломы! Стой, вам говорят!
Ватажники вернулись и вновь расселись. Ставр кивнул своим молодцам, чтобы поднесли ячменного пива и меда. Ребята намочили усы и слушают — что-то ещё боярин скажет.
Ставр улыбнулся и понизил голос, будто хочет втайне сказать самые важные слова:
— Вы смекните, разумные, что не всем бывает удача. В лесах ли, в реках и болотах вы сгибнете, побьют ли вас чужие люди — и всё пропало. Мне не только что прибыли не будет — всё мое добро пойдет прахом.
Доброга ещё ласковее улыбнулся, чем боярин, и согласился:
— Тут-то мы с тобой, именитый боярин, и скажемся в равных долях. Наши кости и твои копья будут вместе лежать.
Боярин оспорил Доброгу:
— Не так ты судишь. Вам лежать в покое, а мне считать убытки.
Доброга так расхохотался, что закашлялся и еле отдышался:
— Мы, боярин, в нашу ватагу берем всех удалых людей. Нет отказа и тебе. Пойдем с нами! Ляжем вместе — и тебе не придется горевать от проторей.
Ставр потемнел и дернул себя за бороду.
— Меня ты не учи уму-разуму. Я ученый!
Опять Доброга встал, и все остальные за ним сгрудились к порогу. И опять Ставр их не отпустил.
Боярин повел ватажников по клетям, Под руками боярских молодцов загремели дорогие железные изделия, и у ватажников разгорелись глаза.
За первой клетью всей толпой ввалились во вторую. В ней хранились охотничьи снасти, проволочные силки, прочные звериные капканы и новгородского и иноземного дела. Шли дальше и осматривали котлы и котелки, окованные и кожаные ведра, оловянные и медные миски, конскую сбрую, кафтаны, штаны, сапоги, дубленые полушубки, тулупы, шубы, шапки, рукавицы.
Богатые товары у боярина. Ватажники мякнут. Чего ещё, пора с боярином бить в руки, там разберемся.
Ставр приговаривал:
— Я не поскуплюсь, дам всё, что нужно. И коней дам, и молодых коров, и двух бычков для приплода.
И всё же Ставр не уговорил. Ватажный староста молча пошел со двора. Ватажники потащились за Доброгою. Повесили они носы. Ведь иные первый раз в жизни держали в руках то, что до сих пор лишь видели.
Ставр налетел на Доброгу с поднятым дубцом:
— Эй, чтоб тебя Перун рассек молнией, забил в землю громом! Ты упрям и неподатлив, как дубовый корень. Моя половина в мехе, а ты говори срок!
Уступил-таки боярин и согласился иметь половину в добыче не вечно, а на время. Но и на это Доброга не пошел. Староста грозился, что пойдет к Котлу, к Полгу или к Чагоду. В Новгороде найдутся и другие богачи, кроме Ставра.
Закончили уже при свечах. Договорились, что ватага за всё, что заберет, заплатит четвертую цену против обычного торга. И пока ватага не выплатит долга, все добытые меха пойдут Ставру без всякой утайки. Когда же расчет закончится, то ватага свою добычу пять лет не будет никому продавать, кроме Ставра.
Боярин сам написал на коже договор. Под ним подписались Доброга и ещё один ватажник, Отеня. А остальные закоптили на свече большие пальцы и поставили печати.
Ставр не сумел навечно закабалить ватагу, но всё же остался доволен. Были довольны и ватажники. Боярин желал им удачи и счастья и поил медом досыта.
После договора со Ставром ватага спешила кончить последние сборы. За всем следили ватажные старшины. Ватажный староста получал большую власть, все были обязаны слушаться его приказов без споров и оговорок. Если спустить одному, другому дать потачку и третьего помиловать, то ватага могла пропасть. Слабость ватажного старшины приводила к тому, что ватага рассыпалась, как разлетался по ветру стог, сложенный дуром. На Доброгу полагались, и ему верили. Полагаясь на бывалого и честного Доброгу, даже строгий Верещага без шума отпустил одного из младших сыновей и племянника. В Верещагиной хозяйстве хватало рук — пусть молодые повидают дальние земли. Ещё до света ватага спустилась на волховский лёд. Старшины в последний раз оглядели обоз, сочли возы и людей. Забрезжил день. Ватажники начали класть земные поклоны Городу, родным и друзьям, которые вышли проводить. Кто смеялся, а кто и поплакал. — Э-гей! Пошли! — зашумел Доброга. Лошадушки влегли в хомуты и качнулись влево, вправо, чтобы оторвать примерзшие полозья. Обоз заскрипел, полозья заныли. Вслед махали и кричали: — Возвращайтесь! — Родных углов не забывайте! Ватажники откликались: — А вы к нам! — На хорошее житье! — На богатые ловли! Вот и голосов не стало слышно. Ватага большая. Уже не видать передних, а задние всё оглядываются и оглядываются. Придется ли ещё увидеть родных и Город? Всех ватажников набралось около двухсот, а возов — до пяти десятков. Впереди бегут лыжники, чтобы осматривать дорогу по запорошенному льду и прокладывать путь саням. В хвосте другие лыжники следят за обозом, который идет в середине ватаги. С обозом ехали двое Ставровых приказчиков для наблюдения за отдачей долга. А рядом с родным и двоюродным братьями шла Заренка. Отец и мать отпустили девушку проводить братьев и погостить у родных, которые жили в новгородском пригороде Ладоге, на Волхове, близ озера Нево.
Глава седьмая
От озера Ильменя до озера Нево волховские берега обжиты. На удобных местах лес сведен, и землица пошла под посевы. Весь Волхов течет под новгородским надзором. Летом береговой огнищанин любит причалить к каравану на челноке, чтобы послушать людей и сменять чего-нибудь для хозяйства. А зимой встречает обозы. Доброга хотел дойти до озера Нево за четыре дня. Староста наблюдал, чтобы передние держали правильный шаг, а задние не оттягивали. На ходу следовало присмотреться к людям. К ватагам всегда пристают и те, кто не знает своей силы. Таких нужно во-время отбить. Чем дальше, тем больше они будут в тягость и товарищам и себе. Поэтому-то Доброга с помощью походных старост с первого дня потянул ватагу во всю ночь. Поднимал людей затемно и вел до поздней ночи. Он берег не людей, а лошадей. Никому не позволялось присаживаться на тяжело груженные возы. В ватаге пришлось около двадцати девушек и молодых женщин. Им тоже не давали потачки — назвался груздем, так полезай в кузов. Все они бежали на лыжах, и по одежде их нельзя было отличить от мужчин. Ватага ночевала прямо на льду. Сани ставили в круг, лошадей — в середину. По очереди сторожили, а спали на снегу, как выводок серых куропаток. В первые дни не варили горячего, довольствовались домашними подорожниками. Ватажный уклад строже городского. За каждую малую провинность полагается строгое наказание. А за большую вину могут лишить и жизни. В Новгороде нет обычая казнить смертью: за каждую вину по Правде назначается вира. Но и в Городе бывает, что на вече обозленный народ забивает преступника насмерть.У Доброги распрямилась спина, и он больше не кашлял. Ватажный староста совсем оправился от осеннего недуга. Он среднего роста, такого же, как Заренка. У него широкая шелковая борода, не черная, но и не светлая, белое лицо, румяные щеки, глаза веселые, и на языке всегда готово умное слово. Он не знает ни устали, ни покоя. То остановится и, щупая рысьими глазами, пропустит мимо себя всю ватагу, то пристанет к кому-либо и пробежится рядом, поговорит. Знакомится со всеми. Доброга любит молодок и девушек, ему теплее около них. И они его любят. Он споет песню, сшутит шутку, расскажет небылицу. С веселым человеком хорошо — не хочешь, а рассмеешься. Доброга шутит не обидно. Его знают как мастера играть на гудке. — Гудок-то свой взял? — Взял, да не про вас он, — ответил староста. А сам примечал: этот парень что-то слабоват. Не прошло полдня, а он, как рыба на берегу, ловит ртом воздух. — А для кого же гудок? — не отстают молодки. Знают, что староста припас, чем повеселить людей. — Как придем на реку, буду играть в лесу. Там живут соболихи, они великие охотницы до гудка. Сейчас прискачет и с себя сама шкурку стянет. На, мол, тебе, охотничек, за то, что меня, забытую и печальную, хорошо потешил. — Знаем, уж знаем мы, какие тебе соболихи снятся! — посмеиваются женщины. А староста предлагает парню: — А ну, давай бежать наперегонки! Осилишь меня — гудок твой. А он у меня дорогой, заговоренный. Парень не признавался в своей слабости и отшучивался: — Ладно тебе, Доброга! Владей своим гудком, он мне не нужен, и так соболих наловлю. Слегка снежит. Небо затянуто, и большого холода нет. Люди греются на ходу, сбивают шапки на затылки, суют рукавички за пояса и развязывают завязки на тулупчиках. Тепло. По-над берегом кто-то бежал наперерез ватаге, на круче пригнулся и прыгнул вниз. Аж завился белей пылью и покатил по льду. Ловок! Он завернул и оказался в голове ватаги: — Кто староста? Доброга побежал вперед. Не один. С ним вместо слабого парня погналась Заренка. Рядом бегут. Нет, девушка вырвалась вперед, Доброга отстал. Всем развлеченье. Народ шумит: — Ай да девка! Ишь, шустрая! Наддай, наддай!
 Шалит Доброга, дает девушке поблажку. Во весь рот ухмыляются старые дружки ватажного старосты. Доброга известный мастак! Заренка же бежит и бежит. Девичьи ноги легкие.
Староста нажал и пошел рядом. Сказал Заренке:
— Не спеши, задохнешься.
Нет, девушка дышала ровно. Она только сверкнула на охотника черными глазами и прибавила ходу. И Доброга прибавил. Так и добежали в голову ватаги, будто в смычке.
Поиграли — и будет. Незнакомый-то человек сбежал к ватаге. Разочарованная Заренка остановилась, чтобы пропустить ватагу и встать на свое место.
— Ну девка! Хороша! С такой но пропадешь, — одобряли Заренку ватажники.
Она не отвечала, будто ей в привычку гоняться на лыжах с лучшим охотником.
Доброга на ходу беседовал с пришлым парнем, кто он, что умеет. Парень ещё с осени слыхал о ватаге и хочет с людьми идти.
Шалит Доброга, дает девушке поблажку. Во весь рот ухмыляются старые дружки ватажного старосты. Доброга известный мастак! Заренка же бежит и бежит. Девичьи ноги легкие.
Староста нажал и пошел рядом. Сказал Заренке:
— Не спеши, задохнешься.
Нет, девушка дышала ровно. Она только сверкнула на охотника черными глазами и прибавила ходу. И Доброга прибавил. Так и добежали в голову ватаги, будто в смычке.
Поиграли — и будет. Незнакомый-то человек сбежал к ватаге. Разочарованная Заренка остановилась, чтобы пропустить ватагу и встать на свое место.
— Ну девка! Хороша! С такой но пропадешь, — одобряли Заренку ватажники.
Она не отвечала, будто ей в привычку гоняться на лыжах с лучшим охотником.
Доброга на ходу беседовал с пришлым парнем, кто он, что умеет. Парень ещё с осени слыхал о ватаге и хочет с людьми идти.
Опять ватажный староста скользит лыжами рядом с Заренкой, рассказывает о далеких лесах, безыменных реках, о непуганых зверях и птицах. Бывалый охотник знает тайные озера в глухомани, где в лунные ночи удальцам случалось подсматривать белых водяниц. Водяницы играют, нежатся… Смельчак крадется в челноке, веслом не плеснет. Только руку протянет, чтобы схватить, а уж их и нет. Они обернулись белыми кувшинками, озерными розами, а в воде, где они плескались, ходит рыба. Потянешь кувшинку за длинный стебель, а водяница его снизу тянет, играет с тобой. А иной раз водяницы оборачиваются лебедями. Нужно знать слово. Это заветное слово на заре, после первой весенней грозы, раз, лишь один раз в своей жизни, молвит лебедке лебедь. Это верное слово знает и дикий гусь. Услышав, лебедка повторяет слово и на всю жизнь слюбляется с лебедем. Вот почему так крепко брачатся я лебеди и гуси. Если же человек подслушает это слово, запомнит и окажет водянице, она его станет. В ней сразу сердце заговорит, ей холодно сделается в воде, и она, больше ничего не боясь, сама вся потянется к человеку. Тут её и бери. Она сделается верной женой, откроет любимому все водяные и лесные тайны и любится с ним, не стареется, такая же, как в первую ночь на озере. Но с человеком она живет только летом. Когда вода начинает подергиваться первым льдом, любушка уходит вглубь и спит до весны. Водяница берет от человека зарок, чтобы он хранил ей верность и в деле и в мыслях. Кто нарушит зарок — больше не увидит любушки. Зимой он проживет спокойно. А летом, проснувшись, водяница ему не даст покоя, будет рядом невидимо плакать горькими слезами. От них неверный человек чахнет, пока не сгибнет совсем. Все, затаив дыхание, слушали Доброгу. Сам же бывалый охотник и вправду вспоминал лунные блики на озерах и весенние лебединые песий. Слышал и он слово, но не сумел ни запомнить его, ни повторить. — Ан ты, Доброгушка, водяницу-то покинул, по которой летом чахнул, а зимой она тебя отпустила? — задела старосту молодка. — На что мне водяницы? Я и без них хорошо проживу! — засмеялся Доброга и побежал вперед. Убежал староста, и Заренке сделалось скучно. Она не слыхала таких слов, какие знает ватажный староста, и не видела таких людей. Она задумывается, а о чем — сама не знает. Какая же девушка разберется в своем неопытном сердце?.. А Одинца всё нет как нет.
Глава восьмая
Одинец шел лесом и тащил за собой санки. Широкий лубок был высоко и круто загнут, и на нем был закреплен лубяной кузов. Такие санки на сплошном полозе легко тащить без дороги. В коробе лежало приданое молодца, запас еды на дорогу. Сверху были привязаны лыжи. Лыжницы шоркали, и под снегом похрустывал сушняк. Близкий звук не уходил, он как будто оставался на месте. В лесу тихо, словно нет никого. Морена сковала и воздух. Тсарг с меньшим парнишкой провожал Одинца. Девка было метнулась, но отец на неё цыкнул. Версты две они шли молча, каждый сам по себе. Тсарг с сыном то обгоняли Одинца, то отставали. До самой разлуки не сказали ни слова. Наконец Тсарг взял Одинца за плечо: — Иди так, — и мерянин показал на север. — Будешь идти так два дня или три дня, всё едино. Потом ещё три дня пойдешь на полуночник. Тогда опять ступай на сивер. Смело топчи и дни считай. Гляди, день на третий, на четвертый и выйдешь на большую реку Свирь. По ней ватага та пробежит… Ладно. Иди! Одинец упал на колени и ударил доброму человеку лбом. — Иди, иди, — тихо оказал мерянин, — ладно тебе. Он сам низко кланялся Одинцу, а парнишка от сердца отбил тому земной поклон. Встали, повернулись. Одинец — на сивер, Тсарг — на полуденник, и расстались. Тсарг оглянулся. Одинец шагал саженными шагами, и за ним прыгал лубок. Шибко идет!.. — А — от! — закричал Тсарг. — Шкурок накопишь — приходи! Откупишь виру, у меня жить будешь! Одинец запнулся, снял шапку и махнул — слышу, мол.Одинец шагал и шагал, окружая деревья и поросли, чтобы не цеплять санками. Он поглядывал на деревья, чтобы по мху и сучьям определять направление и не сбиваться в серенький денек.
 Встретилось широкое болото, куда шире того, через которое Одинец осенью пробирался к Тсаргу.
Не верь болоту и зимой.
Пора становиться на лыжи. Охотничьи лыжи короткие, шириной же в четверть. Передки распарены в бане, заострены и выгнуты. В них были высверлены дырочки для поводка, чтобы легче вертеться в лесу.
Зыбун ещё дышал, иногда на лыжном следу примятый снег серел, прихватывая санки. В таких местах не стой, ступай вперед. Но и бежать не беги, не зевай и сильно не дави — лыжи вынесут.
Вот и конец болоту. Одинец посмотрел назад. Широкий малик от лубяного полоза петлял, но нигде не рвался. Веревочка к Тсаргову огнищу.
До этого места мысли Одинца летели назад. Всё думалось о Тсарге и о его семье, как он жил с ними. Добрые люди. Думалось о возвращении Тсарга из Города, что он сказал и как, не медля часа, принялся собирать Одинца в путь. А девка, девка Тсарга? Пустое дело. Вот если бы подменить её на Заренку… Заренка!
Мысли Одинца оторвались от Тсарговой заимки и полетели вперед. Пятнадцать фунтов серебра — большое богатство, но ведь и оно собирается по золотникам. Тсарг сказал правду: набрать побольше мехов и оправдать виру.
Небо густо посерело. Одинец зашел в пихтач и выбрал дерево, подсохшее на корню. Чтобы не было жарко, он сбросил тулупчик и нарубил пихтовых лап на постель. Сухое дерево он свалил, сбил сучья и надколол бревно припасенными в поклаже клиньями. Потом он приподнял его на сучьях и развел костер под комлем.
Он расстелил пихтовые лапы вдоль готовой нодьи, чтобы не лежать на снегу.
Ночь сгустилась. Здравствуй, темная!
У нодьи светло и тепло. Он растопил в котелке чистого снега, бросил горсть крупной муки и щепоть соли, опустил кусок вяленого мяса. Каша поспела быстро, и самодельная ложка дочиста выскребла котелок.
Встретилось широкое болото, куда шире того, через которое Одинец осенью пробирался к Тсаргу.
Не верь болоту и зимой.
Пора становиться на лыжи. Охотничьи лыжи короткие, шириной же в четверть. Передки распарены в бане, заострены и выгнуты. В них были высверлены дырочки для поводка, чтобы легче вертеться в лесу.
Зыбун ещё дышал, иногда на лыжном следу примятый снег серел, прихватывая санки. В таких местах не стой, ступай вперед. Но и бежать не беги, не зевай и сильно не дави — лыжи вынесут.
Вот и конец болоту. Одинец посмотрел назад. Широкий малик от лубяного полоза петлял, но нигде не рвался. Веревочка к Тсаргову огнищу.
До этого места мысли Одинца летели назад. Всё думалось о Тсарге и о его семье, как он жил с ними. Добрые люди. Думалось о возвращении Тсарга из Города, что он сказал и как, не медля часа, принялся собирать Одинца в путь. А девка, девка Тсарга? Пустое дело. Вот если бы подменить её на Заренку… Заренка!
Мысли Одинца оторвались от Тсарговой заимки и полетели вперед. Пятнадцать фунтов серебра — большое богатство, но ведь и оно собирается по золотникам. Тсарг сказал правду: набрать побольше мехов и оправдать виру.
Небо густо посерело. Одинец зашел в пихтач и выбрал дерево, подсохшее на корню. Чтобы не было жарко, он сбросил тулупчик и нарубил пихтовых лап на постель. Сухое дерево он свалил, сбил сучья и надколол бревно припасенными в поклаже клиньями. Потом он приподнял его на сучьях и развел костер под комлем.
Он расстелил пихтовые лапы вдоль готовой нодьи, чтобы не лежать на снегу.
Ночь сгустилась. Здравствуй, темная!
У нодьи светло и тепло. Он растопил в котелке чистого снега, бросил горсть крупной муки и щепоть соли, опустил кусок вяленого мяса. Каша поспела быстро, и самодельная ложка дочиста выскребла котелок.
Телу стало холодно и дрожко. Одинец проснулся. Огонь по нодье отошел, пора перебираться за теплом. За лесом небо видно плохо, и нельзя рассмотреть, как звезды повернулись кругом своей матки. А нодья говорила, что минула уже немалая часть ночи. Теплая нодья тлела, как свеча, оставляя за собой голую, посыпанную пеплом землю. Одинец переполз по пихтовой постели против огня. Здесь хорошо, подставляй спину в одной рубашке, спереди прикройся тулупчиком и спи, как в избе. Первый сон силен и быстро берет человека. Второй ленивее и туманит понемногу, подходит, отскакивает. Нодья шипела и потрескивала под зубами огня. Огонь доберется до конца бревна иопять куда-то скроется, будет ждать, пока огниво не выбьет искорку из кремня на древесный гриб, варенный в печной золе. Кругом тихо. Кажется, что крикни — и голос пойдет до самого Тсаргова огнища, до Верещагина двора в Городе. Но попробуй крикнуть! Лес примет твой голос и спрячет. Лес быстро глушит человеческий голос, он любит другие голоса. Он подхватывает и далеко несет весенние птичьи свисты, щелканье, гульканье, тарахтенье и каждый вскрик жаркой и бурной птичьей любви. Зимой сонному лесу тешиться нечем. И он затягивает в дремоте тоскливую песню: «Холодно, голодно, ах, а-ах, уу-ах, тошно, у-о…» Злую песню тянет бездонное волчье брюхо, поет несытое волчье горло. Одинец слушал сквозь дремоту. Волчья ночь ещё не пришла, волки ещё боятся огня и человека. Пусть воют… Сон успокаивал человека, и он засыпал, пока огонь вновь не отходил по нодье. Нодья догорела одновременно с первым светом. Одинец поторопился сварить кашицу. Его сборы были недолги. Встал — и весь тут. Он чиркнул ножом по древку рогатины — поставил бирку за пройденный день. Он торопился. Лесные пути неровны. И быстро бежишь и зря теряешь время, когда, запутавшись в глухомани, петляешь зайцем. В красном сосновом раменье легко, в еловом — труднее, а в чернолесье приходится тащить санки на себе и лезть медведем напролом. Наломаешь спину — и ищи обхода. Для нодьи пригодно не каждое дерево. На всё нужно время и время, а зима шла к солнцевороту, и ночь борола день. Одинец старался не терять коротких дневных часов. Он дважды выходил к чьим-то огнищам. Он ничего не боялся, сидя у Тсарга. А теперь думал, что его могут опознать, и делал обходы. На шестой бирке Одинца застигла злая метель-поползуха. Он построил шалаш, укрылся ельником, чтобы не засыпало, и отсидел, как зверь в берлоге, два дня. Метель навалила по пояс рыхлого снега, а человеку приходилось тащить салазки. Просветы открылись на четырнадцатый день, и беглец вынырнул из лесов, как сом из водяной глуби. На пустошах торчали обгорелые пни после пала, издали поднимался живой дым. Починок был поставлен на высоком речном берегу. Одинец скинул рукавичку и посмотрел на руку — черная, закопченная дымом и сажей. Он подумал, что и лицом он весь почернел. Кто узнает такого? Он постучался. Мужиков не было: кто в лесу, кто пошел в Загубье — новгородский пригородок, кто возится на льду и достает сига, тайменя, ряпушку, хариуса, снетка, голавля-мирона, тарань, язя, плотву. Словоохотливая и радушная хозяйка объяснила, что не ошибся он, угодил как раз на реку Свирь. — А из Новгорода повольничья ватага проходила ли? — Не было такой, не было. Мы бы увидели. А слух ходил. Новгородские сильно сбивались идти зимним путем на восход от Онеги-озера. Так это, точно. А не видали ватагу. Ей мимо нас идти, одна дорога. Где же тебе ждать, как не здесь? Живи.
Глава девятая
Старый новгородский пригород Ладога стоял за тыном на высоком берегу Волхова, недалеко от озера Нево. Ватага прибыла в Ладогу на четвертый день. Старосты объявили дневку. Повольники рассыпались по дворам Ладоги. Заренка с родным и двоюродным братьями пришли к родным. Отрастив крылья, птенцы улетают из гнезд; набравшись сил, медвежата оставляют медведицу. У всех одинаково. Разрастается семья и бросает от второго корня новые побеги. Так по разуму, но сердце чувствует иначе. Заренка с тоской обнимала своего брата Яволода и, положив ему на плечо голову, говорила со слезами: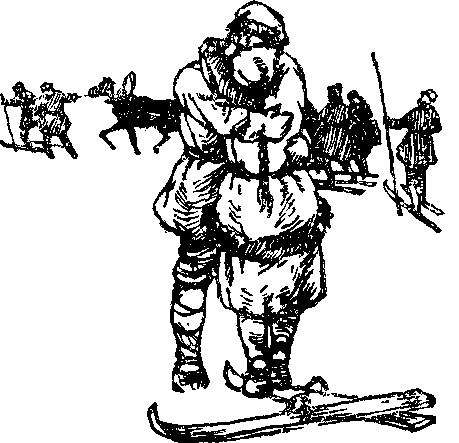 — Куда ты идешь? Как будешь жить с одним Радоком? — Девушка шептала брату: — Я не хочу возвращаться домой — хочу идти дальше с ватагой!
— А как же без спроса оставишь мать и отца?
— У них и без меня есть кого любить.
— Дорога будет тяжела, сил у тебя не хватит.
Заренка вспыхнула, у неё сразу высохли слезы:
— А сколько баб и девок идет с ватагой! Что я, хуже других?
Если ответить по совести, то Заренка не хуже, а лучше многих. Едва научившись ходить, она не отставала от Яволода. Он с топором, и она тут: «Дай я потяпаю!» Яволод с луком — и она тянет за тетиву с той же ухваткой. Они вместе гребли на челноках и вместе переплывали сажёнками Волхов, не боясь быстрого течения и мутной глыби широкой реки.
Сильная и упорная, Заренка следом за Яволодом проходила мужскую науку. Не мог брат ни отказать сестре, ни согласиться с нею и ждал, чтобы скорее минула короткая дневка.
— Куда ты идешь? Как будешь жить с одним Радоком? — Девушка шептала брату: — Я не хочу возвращаться домой — хочу идти дальше с ватагой!
— А как же без спроса оставишь мать и отца?
— У них и без меня есть кого любить.
— Дорога будет тяжела, сил у тебя не хватит.
Заренка вспыхнула, у неё сразу высохли слезы:
— А сколько баб и девок идет с ватагой! Что я, хуже других?
Если ответить по совести, то Заренка не хуже, а лучше многих. Едва научившись ходить, она не отставала от Яволода. Он с топором, и она тут: «Дай я потяпаю!» Яволод с луком — и она тянет за тетиву с той же ухваткой. Они вместе гребли на челноках и вместе переплывали сажёнками Волхов, не боясь быстрого течения и мутной глыби широкой реки.
Сильная и упорная, Заренка следом за Яволодом проходила мужскую науку. Не мог брат ни отказать сестре, ни согласиться с нею и ждал, чтобы скорее минула короткая дневка.
Но дневка затянулась. К утру закурились застрехи, и дым погнало обратно в избы. С каждым часом вьюжило всё сильнее. Наступил такой темный день, что впору зажигать свечи, лучину и носатые фитильные плошки, налитые маслом. Третий день крутила непогода. Доброга зашел в дом, где Заренка коротала время с братьями. Староста весело выбирал сосульки из бороды. С ним в избе сразу стало тесно и шумно. Хозяйка, по обычаю, поднесла гостю ковш. Доброга пил без опаски. У него голова крепкая, держаный хмельной мед ему придавал силы. Он запрокинул голову и вылил в себя мед, как в кувшин. Крикнул и пошутил с невеселой Заренкой: — Что ты, девонька, завесила глазки ресницами? Не печалься. Братцы вернутся и тебя, как боярышню, оденут соболями и бобрами. А осядут на новом месте, так ты приходи к ним. Они будут большими владельцами, поставят широкие дворы, а тебе приготовят доброго и богатого-пребогатого жениха! Беседа сошла на охотницкие были. Доброга говорил, не глядя на Заренку, но чувствовал, как девушка его слушала. Ватажный староста не ошибался — Заренка не встречала людей с таким ярким, будто дневной свет, словом, как у Доброги. Он говорил, а она как видела всё. Она невольно сравнивала Доброгу с молчаливым Одинцом, и тот казался мальчиком рядом со зрелым мужчиной. Ватажный староста не красил повольничью жизнь. Он не забывал сказать о мелкой мошке-гнусе, которая точит живую кожу, лезет в рот и в нос, не дает дышать. Воды не напьешься: пока успеешь донести к губам ковшик, гнус уже плавает поверху, как отстой сливок в молочном горшке. Лесной комар летит тучей, застилает небо, и его рукой не отмахнешь. В начале лета от комариных укусов у человека отекают руки, шея, лицо. Но потом привыкаешь. Комары жалят попрежнему, а опухоли нет. А лесные речки только и ловят, чтобы утопить. Омуты, бочаги, колодник… Яволод и Радок согласно кивали. Знаем, мол, не боимся. — Слышишь как? — спросил сестру Яволод. — Не всё же по ровному ходить, — коротко ответила Заренка. Как будто ничего не слыхав, Доброга продолжал рассказывать о ловлях и охотах, о звериных повадках. Он передавал сказания о медведях, которые похищали баб и девушек и усыпляли их корнем сон-травы, чтобы они не могли зимой убежать из берлоги. Он рассказывал о схватках с коварной рысью-пардусом, о поединках с медведями и летом и зимой. Говорил о том, как он четыре дня ходил по следу медведя, который погубил в Черном лесу его товарища, и как в отчаянной борьбе со зверем отомстил за друга. Он разгорался, но соблюдал свою честь: не привирал и не придумывал. Мало ли он повидал! Если всё вспомнить, ему одной чистой правды хватит на всю долгую зиму. Он собрался уходить, и Заренка вышла за ним. За дверью, с глазу на глаз, девушка спросила ватажного старосту: — Не прогонишь меня от ватаги, если я с вами пойду? Доброга усмехнулся: — Не боишься, что тебя медведь украдет? Девушка вспыхнула и топнула на старосту ногой: — Не смей, не пустоши! Другую украдет, а я не дамся! Дело говори! У Доброги пропал смех. Он протянул к девушке руку, будто о чем попросил, и тихо сказал: — Не в шутку говорю, а вправду, по чести: трудно будет нам, трудно… — Мне — не трудно, — отрезала Заренка. Староста взглянул, точно увидел её в первый раз: — Что же, иди. Я не препятствую. Он вышел на улицу. Пусто, темно, вьюжно. Всё живое попряталось, собаки и те молчат. Вымер пригород. Снег сечет лицо, а Доброге радостно, ему непогода — ничто! Он потянулся, расправился. Эта девушка, Заренка, родилась на свет не для шутки и не для легкой забавы. Такая и сильного согнет и на вольного наденет путы. И ладно!
Ватага, пережидая непогоду, отсидела в Ладоге три дня. К вечеру третьего дня метель прекратилась. Навалило рыхлого, пухлого снега. Под ним залегло озеро Нево, с зелеными водами, с бездонными ямами, со скользкими скалами, с серыми и желтыми песками. Ватага выползла на озеро. Построились и тронулись. Сильные птицы гуси тянут дружным косяком и беспрестанно меняются. Кто летел в острие клина — отстает, уступая свое место другому. Видно, и в небе, как в снегу, приходится пробивать путь, и умные птицы делят труд. Ватага полетела по озеру, как гусиный табун. Впереди трое повольников на широких лыжах пахали борозду. За ними трое других припахивали, а за теми остальные уминали и накатывали дорогу доплотна. И обоз катился, как по улице. Лошадкам было только и труда, что пятнать копытами твердую дорожку. Новгородцы умели ходить зимой, и им не были страшны никакие снега. Чем больше бывало в ватаге людей, тем скорее она шла. Головные менялись по очереди. Соскакивая с ходу в снег, они пропускали лыжников и, став перед обозом на умятый след, отдыхали на легком ходу, пока вновь не оказывались в голове. Издали казалось, что ватага бежит бегом, а по сторонам всё стоят и стоят столбиками люди. Всё белым-бело, засыпано серебряной пылью с синими искорками. Нет, не всё. — Глянь-ка! — показывал один из бывалых людей молодому парню. — Видишь? Парень смотрел, сомневаясь, и спрашивал: — Там? Чернеется. Не то рукавичку кто на снег бросил? — Рукавичка!.. Такая рукавичка будет с тебя ростом. Это водяная свинья — нерпа вылезла подышать. До неё знаешь сколько ходу будет? То-то. Повольники переговаривались, отдыхая, и Нево не молчало. Вздохнуло — и издали пошел гул. Ближе и ближе гудело, под ногами треснуло и смолкло. Заренка идет с братьями. Они в Ладоге сказались родным, что девушка ещё немного проводит парней. А на самом деле она переволила братьев и обошлась без разрешения Верещаги.
Река Свирь уже Волхова, берега пустыннее и лесисты. От Загубья ватага ночевала в лесах. Ватажный староста быстро сдружился с братьями Заренки. Яволод и Радок искренне гордились, что Доброга их отличал от других, между собой говорили о нем и старались ему подражать. С Заренкой Доброга говорил редко, зато с братьями беседовал так, чтобы его слова девушка слышала. И поглядывал на неё. Иной взгляд говорил не хуже слов. Девушка ушла из Новгорода ради Одинца. Она видела и ждала его в каждом новом человеке, который просился в ватагу. Кончился Волхов, Нево позади, ватага идет Свирью — Одинца нет и нет. Но хотя и не поздно, Заренка не думает о том, чтобы вернуться домой. — Утомилась, девушка? — ласково спросил Доброга, незаметно очутившись рядом. — Нет. — Добро. Они взглянули друг на друга, вот и весь разговор. Заренка не думала о возвращении, её не тяготила дорога. Она мужала с каждым днем. Быть может, теперь она пошла бы с ватагой и не для Одинца. Доброга договорился с Яволодом и Радоком: они на новых местах сядут вместе и будут вместе охотничать. Но почему он не советуется с ней? Глупой, что ли, считает? Заренка досадовала, но не могла не глядеть на Доброгу и не прислушиваться к его словам. Ей нравились и голос, и лицо, и вся ухватка Доброги. В нём было всё такое складное, ловкое, смелое. Красивое лицо, гладкая золотистая борода, серые большие глаза, то суровые, то добрые. Нельзя было понять, куда он речь повернет. А когда он говорил, Заренке хотелось слушать и слушать. Одинец был другой. Малословный и будто меньше Доброги. Большой и сильный парень казался девушке каким-то недорослем, когда она по памяти сравнивала его с Добротой. Вдруг девушка услышала, как Доброга сказал Яволоду: — Пристал один парень, который осенью в городе убил нурманна… Ей стало жарко. Она догнала братьев и, едва не наступая на концы их лыж, слушала. Ватажный староста говорил: — Он жил в доме вашего отца, зовется Одинцом. Что о нём скажете? Яволод обернулся и обнял Заренку: — Вот не ждали, не гадали, что по дороге найдем твоего любушку! И уже сам Одинец бежал к ним по чистому снегу рядом с ватажным маликом, таща за собой лубяные санки. Он оттолкнул Яволода и обнял Заренку. Молчит — не знает, что сказать, задыхается. Заренка вырвалась: — Пусти, какой ты скорый! Доброга же убежал в голову ватаги, будто его ничего не касается. На восьмой день после Загубья ватага остановилась на дневку в прибрежном лесу. Повольники валили деревья, ладили шалаши из вершин и лап, разметывали снег и устраивали постели. Вскоре закурились нодьи. В лесу стало шумно и весело. С первого дня, как зародился этот лес, в нём не бывало такого. Ватажники сушили и чинили одежду и обувь, варили горячее. Потом началось первое походное вече. Повольники выбирают своих старшин без срока. Так уж повелось, что старшины служат, пока угодны людям, и в самом Новгороде, и в его пригородах, и в ватагах. Доброга спросил, довольно ли или недовольно людство им самим и другими походными старостами. — Довольны, довольны! — Люди ответили дружно, и лес отозвался. Все старосты скинули шапки, поклонились и опять накрылись. Доброга без шапки забрался на поваленное для нодьи бревно и не торопясь начал речь: — Нам остается ровной дороги до двенадцати дней. Когда пробежим озеро Онегу, то простимся с гладкой дороженькой. С того дня мы пойдем тяжким путем, будем ломать ноги в лесах. Ныне день короток и будет ещё короче. Светлых часов нам терять нельзя. С ночи до ночи не будем брать в рот куска. Пора уже припрягаться к саням, нужно поберечь лошадей… Доброга никогда не прикрашивал и не подслащал будущие труды повольников. В ватаге один стоит за всех и все за одного. Однакоже никто за другого не сработает. Когда ватаги сбиваются в городе, такие речи обычны. Но в лесу они звучат иначе, чем дома, под крышей. Ватажный староста хотел смутить слабое сердце и укрепить сильное. Свыше десятка тех, кто не рассчитал своей силы, уже повернули домой. Старосты отбирали у отстающих всё, что было получено от Ставра на общий счет, и никого не удерживали. На то и повольничество. По Свири, по Нево, по Волхову до Города лежит пробитый путь. Но когда между домами и ватагой лягут лесные крепи, то слабый душой и телом человек будет для всех тяжелым бременем. Таких пора отбить и повернуть домой, если они сами не хотят уходить. И Доброга закончил призывом: — Называйте, кого не хотите иметь в ватаге! Люди отозвались не сразу, никому не хотелось лезть первым. Одно дело сгоряча, в ссоре, свернуть скулу, другое — выгнать человека без гнева. Отеня крякнул, прочищая горло, и назвал одно имя. Названный не ждал, что скажут другие, и закричал: — А я и сам не хочу идти! Отеня как в воду смотрел! Ватажники развязались. Порешили почти полтора десятка людей повернуть назад. О двоих спорили, расходились в две стороны и считались, чья кучка больше. Обсуждали и тех, кто пристал в дороге. Ватага отказалась от двоих новых товарищей, которые были выгнаны из Города за воровство по чужим дворам. А на Одинце запнулись, как о корень на лесной тропе. Ставров приказчик заявил: — Парня выдать назад в Город, чтобы на нем выправили виру городские старшины. Ватажники не могли понять, прав или неправ приказчик. Яволод и Радок начали защищать Одинца, а он сам онемел от нежданной беды. Доброга оборвал речи товарищей Одинца: — Вы не так и не то говорите. Нечего Ставрову приказчику входить в наши дела. Он не ватажник, а сборщик нашего долга, и ему нет голоса на нашем вече. Одинец же честно подрался с нурманном, это может случиться с каждым. Он не вор и не насильник, на нём нет бесчестья. Ватага — не городской пригород. И было и есть, что в ватаги уходили изгнанные из Города. Одинец к нам пришел с хорошим оружием и снастью. И сам он не будет ватаге в тягость, он может хорошо служить ватаге. Люб он нам или не люб, вот что решайте. А речи приказчика забудьте! После веча Доброга подсел к нодье Верещагиных. Одинец поблагодарил старосту за заступу, за доброту. — Не благодари, — возразил Доброга. — Я не тебя, а правду защитил. После прихода Одинца Доброга как будто охладел к Заренке и к её братьям. А сейчас он сделался таким, как в первые дни выхода из Ладоги: веселым, радостным. Одинец же сидел хмуро, как обиженный. Он нашел время и сказал: — Этот Ставров приказчик от меня ещё наплачется! — Поберегись, — предупредил Доброга. — Обоих приказчиков ватага взяла по слову. Обидишь его — тебя людство не помилует. Одинец замолчал. А когда староста ушел, он сказал ему вслед: — Боярский приспешник. Заренке не понравились слова Одинца, и сам парень вдруг ей показался совсем не тем, кем он был для неё прежде. И она его без стеснения осудила: — Глупый ты, непонятливый! И Заренка и Одинец оба были упрямые, неуступчивые. И раньше, дома, они спорили не раз, но мирились быстро и отходчиво. Теперь же между ними получилась долгая и холодная размолвка.
Глава десятая
Крепчают морозы. От холодов у солнышка «выросли уши». Оно малое время покажется на полуденном крае и надолго скрывается. Луна кутается в белое облако из небесного льна и не смотрит, а жмурится. От луны небо светлое, и на Свири светло, а в береговых лесах залег мрак, как в подполе. Стужа кусает щеки и носы, набивает льдом бороды, давит на людей и ищет места, чтоб пробраться к телу. Мороз сочится через дырку, протертую лыжным ремнем в шерстяной онуче или в валеном сапоге, ползет между рукавичкой и рукавом, лезет за ворот, томит, манит прилечь. Там, куда пробрался, жжет и кусает, мертвит и белит кожу. Голой рукой за железо не берись. Мороз сушит дерево, сушит человека и будит жажду. Ватага идет прежним порядком и строем, но в ней нет прежней силы. Головные меняются всё чаще и чаще и подолгу ждут, пока не протянется ватага. Никто не жалуется, но смех и шутки сделались редкими. На ночевках повольники засыпали с куском во рту, не чувствуя, как немеют пальцы. Многих сильно покусал мороз. Черные струпья на лицах не заживут до лета. Старостам прибавилось забот. По ночам приходилось следить за нодьями и кострами, чтобы держалось пламя. На ночлегах ватага сбивалась теснее. Однако появились обмороженные руки и ноги. Один ватажник ночью отошел и навечно замерз в снегу. И со вторым то же случилось. Доброга не знал усталости. Других зима морила, а его излечила от былой болезни. Ватажный староста спал меньше всех, соколом летал по ватаге. И всё с шуткой, с умным словом. Крепись, крепись, мало осталось! Пройдем Онегу — будем три дня отдыхать. В последнем прионежском починке сменяли лошадей на сушеную рыбу. Молодцы боярина Ставра сумели всучить шесть слабых коньков, им бы и так не дойти. В освободившиеся сани впряглись люди. Ватага — не город, в пути каждый человек на виду. Одинец и Яволод шли в первых десятках первой сотни. Радок и Заренка тащили сани. К ним постоянно припрягался Доброга. Он сдружился с Заренкой, и девушка перестала его дичиться. Между Одинцом и Заренкой размолвка продолжалась. Одинец не мог сделать первый шаг к примирению. Без расчета и без мысли о дальнейшем он замыкался в себе. Заренка его оттолкнула — так он понимал её. Ему было тяжело, но у него не было злобы ни на девушку, ни на Доброгу. Он считал, что в жизни, как в труде или как в кулачном бою, нужно быть честным. Гордость не позволяла Одинцу просить Заренку и навязываться девушке, которая, как он поспешно решил, отказалась от него. Девушка не хотела его — и он тоже отказался от неё уже в те дни, когда, быть может, ему было ещё не поздно бороться. И из той же гордости он не позволял себе ненавидеть Доброгу. Одинцу казалось, что ненависть к счастливому сопернику будет низкой завистью. Одинец сумел видеть в Доброге того, кем был в действительности ватажный староста. Как хороший конь на подъеме в гору сам влегает в хомут, так Одинец, не щадя себя, ломил вперед по целине, пробивая первый след. Ватага видела его труд и начинала высоко ценить могучего товарища. Наконец-то одолели реку Свирь и выбрались на онежский озерный простор. Лежали глубокие снега, небо было пасмурным, и в воздухе начинало теплеть. Быть перемене. Теперь ватага не летела и не бежала, а шла. Головы опущены, грудь налегает на постромки. Ременные тяги заспинных котомок-пестерей, саней и санок намяли натруженные плечи. Доброга хотел вывести ватагу на Онегу на тридцатый день, а вывел на тридцать второй. Почти не опоздали, но трудно далось. По озеру ползли туманы и серой мглой застилали даль. Тихо и глухо. Скажешь слово, а его будто бы и не было. Под широкими лыжами шуршал и шипел снежок, между людьми трусили собаки. И они повесили носы, и их притомила дорога. Зимний туман не сулит добра. Побежать бы, как бежали по озеру Нево, да сил нет. Из всех дней этот был самым тягостным. Доброга убеждал: «Ещё немного — скоро берег. Назначим долгую дневку в лесном затишье, у теплых нодей, на пихтовых постелях…» Ватажный староста уже не поминал о трудной лесной глухомани, которую придется ломать после дневки. К ночи ватага прибилась к нужному берегу озера. Черные камни уставились навстречу людям, как бараньи лбы. За ними стоял Черный лес. Новгородцы звали «черными лесами» те леса, где нет и не было человека.* * *
За ночь так растеплело, что утомленные ватажники заспались около потухших нодей и засыпанных пеплом костров. Снег сделался волглым. На сосновых иглах висели капли, и ветви елей и пихт подернуло росой. Было слышно, как бухали с мохнатых лап отяжелевшие пласты снега. После стужи наступило такое тепло, точно без времени пришла весна. Ватага пришла во-время в Черный лес. Домашние запасы кончились, и то, что осталось, следовало приберечь. Пришла пора проверить, каким кормильцем покажет себя Черный лес. Облава разделилась на две руки, правую и левую, чтобы ими облапить лес и прижать его к груди, к привалу. На привале оставили засаду, которая ничего, не пропустит. Собак переловили и посадили на крепкие привязки. На облаве собака — худшая помеха. Облавный закон — до времени молчать и не дышать. Оглядывались и запоминали места. Через сорок-пятьдесят шагов задний останавливался и оставался на следу. Шли глухоманью, никогда не хоженной человеком. В одних местах лежали сваленные буреломом деревья, в других лес был так тесен, что было впору пробраться лишь малому и юркому зверю. Под старыми елями темнело, как вечером. Облавные руки петляли, тянули нитку и вязали узелки. Узелок — это охотник. Оставшись один, он осматривался, оттаптывал на всякий случай снег и замирал. В ожидании он прочищал уши и вытягивал голову. Устав, переминался, перекладывал с руки на руку рогатину, поправлял топор за поясом, передергивал плечами. Охотника томила жажда, он подхватывал горсть снега, мял комок и понемногу сосал. Он забыл дорогу, Город и цель пути, он ни о чем не думает. Окликни его по имени — и он вздрогнет, как со сна. Его забрала наибольшая из всех страстей — молодецкая охота. Скорее бы!.. Туман копится на мерзлых колючих ветвях. Капля зреет, надувается, вытягивается и отрывается. Снег мякнет. В такую пору шаг человека не слышен, лесной зверь смирен. Огнем горят облавные старшины. В них тянется каждая жилка. Живчик забьется, сам собой подмигнет глаз. На старших легла вся охота. Они обязаны не просто равести охотников, а в голове облавы свести обе нитки. Пойди-ка сообрази. Обтяни живой веревкой нехоженый лес и свяжи концы. В самом глухом, неведомом лесу каждый пойдет в облаву. Но быть старшим облавы большинство отказывается, и не для вида, а по-честному. Это не торг; в таком деле, если человек не чувствует в себе силы, он не захочет срамиться. Доброга вывел свою облавную руку из чащи к просвету. Открылось большое болото с густым осинником. Пошли краем, огибая болото. За Доброгой оставалось всё меньше и меньше охотников, но и болотный берег уходил в нужную, по мысли старосты, сторону. Идут. Вдруг староста заметил краем глаза, как впереди что-то мелькнуло. Он поднял руку: стой! Опять взлетела еловая веточка. Это подавал знак старшой второй руки. Пора. Облавный старшой остался сам-четвертый с Одинцом, Заренкой и Яволодом. У брата и сестры горели глаза, им было всё хорошо и всё нравилось. Одинец же смотрел хмуро. Он пошел в облаву с мыслью, что вдруг Заренка захочет отстать и молвить ему желанное слово. Напрасно. И Одинец корил себя за глупую надежду. Нет, не его девушка, и нечего больше о ней думать. Пусть так и будет, как случилось. А Доброга ступил к Заренке и что-то шепнул. Девушка тонко, протяжно засвистела. И — пошло!Черный лес впервые услышал человечий посвист. Этот звук побежал от одного к другому по всем узелкам смертной веревки, которая опутала исконные зверовые обиталища. Каждый охотник свистел по-своему, тихо, не через пальцы, а губами. Но оттого было ещё страшнее. Отовсюду завился тайный, ползучий человеческий свист. Он звенел в звериных ушах, как назойливый летний комар. Он жалил не кожу, а тревогой жалил сердце. В снежной норе беляк-ушкан очнулся от легкого сна. В дупле дрогнул соболь. Замерла рыжая куница. Забыв пахучий беличий след, горностай прижался к суку змеистым телом. Глупая белка высунула усатую головку: это что такое, новое, неслыханное? Филин, забившись на день в темный ельник, распялил желтые глаза. Лоси разом перестали жевать, вздернули лопоухие головы и раздули вырезные черные ноздри. Все слушают. Где-то хрустнула сухая ветка, качнулась елочка. Свист приближался. В одном месте он прерывался, в другом начинался и опять повторялся. Страшно! Чу, стучит по стволам! Под обухами топоров отзывались закоченелые сосны и ели. Одна говорила звонко, другая дрябло принимала железо пухлой корой. Лесные звери стронулись в обе стороны от облавы. Тем, кто остался снаружи облавы, уходить хорошо. А кто захвачен? Они топтали след к засаде. Облавники не торопились, переходили, ждали, опять переходили. В начале облавы не нужно делать большого шума и нельзя кричать. Зверя не гонят, а отжимают. А следу, следу-то сколько! В осинниках кормились сохатые: как на скотном дворе, натоптано копытами; обглоданные ветки, лежит теплый помет. Здесь росомаха протащила толстое брюхо на коротких ногах, там — старые и новые волчьи пересеки. А что натоптали зайцы и наследили пушные зверьки, не сочтешь. Черный лес богат и может платить хорошую дань. Живая петля сжималась. Облавники видели, что следы мечутся в разные стороны. Пора, звери огляделись и опомнились. Если упустить срок, звери рванутся обратно, через облаву. Охотники закричали, заверещали, заулюлюкали, завыли. Каждый старался заорать погромче и пострашнее. Звери потеряли разум и ринулись на засаду. Облавники пустились бегом, засадные спустили собак: — Держи, держи, держи!.. Взяли тридцать семь голов лосей, десяток волков, восемь рысей-пардусов, пятнадцать оленей. Наловили собаками и побили стрелами больше восьми сороков зайцев. Досталось семь соболей, пять куниц — случайная добыча, это не облавные звери. Черный лес дал пушниной не дань, а задаток. Между делом облавники присмотрели две берлоги. После облавы, не теряя времени, ватажники горячей рукой взяли на первой берлоге медведицу с пестуном, а на второй — старика. Черный лес дал хорошо, но и взамен потребовал плату. Одного облавника нашли в цепи с разбитой головой и проломленной грудью. Кругом тела и на выходных следах было написано, как бык скакал на цепь и как облавник наставил рогатину. Эх, что же ты! Не так надо. В сторону отскочи и наставляй наискось, под лопатку. Нет, облавник хотел взять быка, как медведя. А бык — на дыбы. Он ловок, уклонился от рогатины, отвел рожон. Страшная сила, когда матерый лось ударит сверху передними копытами. Товарищи убитого пошли по следу, окропленному свежей кровью. На следу нашлась стрела. Здесь лось чесался о дерево и сбил занозу. Это ему кто-то другой засадил, а не убитый облавник. Дальше пошел чистый след. Сохатый справился и ушел, его не догонишь. На привале спешили ободрать и разрубить добычу, пока она не застыла. Свежинку варили и жарили, в охотку после сухой рыбы и вяленого мяса лакомились сочным мясом. Туго набитые лосиные и оленьи желудки делили на всех. Это невкусная, но дорогая еда. Она спасает от зимней болезни: опухоли тела, десен и выпадения зубов. Ватажники поминали тех товарищей, которые застыли в пути, и того, что погиб на облаве. От него осталась молодая жена. Вдове пойдет равная доля общей добычи — таков ватажный закон. Если она найдет нового мужа, это её дело. Но ватага никому не позволит неволить бабу. По Новгородской Правде, любовь — дело вольное.
Глава одиннадцатая
Оттепель опустила снег, он потемнел было, покрывшись узорной росписью хвойных игл, шелухой шишек и чешуйками коры. Вернулась стужа, упал свежий снег, и опять, как по первой пороше, писали звериные лапы и лапки свои рассказы. Не до них. Ватага текла. Короткий денек минул, солнышко повернуло на лето, а зима — на мороз. Мороз крепчал, крепчала и дружба между ватажниками. Они сбивались внутри общей ватаги своими ватажками-артелями, вместе ночевали, дневали и работали. Доброга, Яволод, Радок, Заренка, Карислав, Отеня и несколько других ватажников составили свою дружину. А Одинец отстал. Он не чуждался ни своих прежних друзей, ни Доброги, но и не искал с ними встречи. Он всё время шел в переднем дозоре и не нуждался в смене. Ватажный староста возвращался на ночевки в свою ватажку к обозу, а Одинец обычно и ночевал впереди, в лесу. После первой дневки в Черном лесу Одинец без договора сделался передовым помощником ватажного старосты. Доброга намечал, куда идти, а Одинец умел без ошибки пробивать стежку. К нему подбилась своя дружинка из самых сильных и бойких парней. Доброга видел, что на Одинца можно положиться. Парень имел лесное чутье, как видно, от роду. Одинцова дружинка умела на ходу подхватывать дичь и пушнину. Они походили и поймали полсорока соболей и куниц. Ватага проходила местами, богатыми пушным зверем. Ватажники заколебались. Чего тащиться дальше? И здесь хорошо. На дневке собралось ватажное вече. Почти половина ватаги, человек около сотни, захотели отделиться. Пусть кто хочет, тот бредет дальше, а нам хорошо и здесь. Согласные пошли на несогласных с кулаками. Ватажники схватились за топоры и рогатины. Новгородский мужик, когда разойдется, становится зверь зверем. Но когда успокоится, то нет человека разумнее его. Доброга убедил людей, что им нет расчета оставаться в лесу. Летом здесь шагу не ступишь из-за топей и болот. Негде пустить пал и сеять хлеб. Да и недолго спины ломать — заповедная река близко. Кто захочет, сможет оттуда легко бегать на зимние ловли и в эти места. — Что же ты раньше не говорил, что близок конец! Драчуны разошлись и пошучивали: — Что-то у тебя нос разросся! — Свой пощупай, у тебя не лучше. Минула темная волчья ночь, когда стая идет за волчицей и, не страшась ни топора, ни рогатины, ни человеческого духа, бросается на людей. Волки выходили к ватажным привалам, и за кострами горели волчьи глаза. Звери, которые никогда не видели человека, лязгали зубами и выли, но не боялись многолюдства. День прибавлялся. — А что же Доброгино обещанье? Где река? — начинали ворчать ватажники. Доброга шел впереди вместе с Одинцовыми ребятами, третий день не возвращался к обозу и ночевал у случайных людей. Он искал. Он говорил Одинцу — ступай туда, а сам брел, всматриваясь в деревья, будто спрашивая их — не те ли? Вырвавшись из чащи на полянку, он озирался — не здесь ли ходили мои ноги? Со старостой шла собака, чуяла хозяйскую заботу и хотела помочь, но без толку. У Доброги была и раньше собака, но пришлось и ей оставить свои кости в Черном лесу. Эта новая — ей не объяснишь, что нынче охотнику нужны не зверь и не птица. Вот на стволе кора сбита двумя ударами топора, стесана заболонь, и смола залила древесину. Охотничий затес — зеркало, хорошо видное издали. Доброга узнал место и побрел по затесам былым охотничьим путиком, проложил через знакомый березняк лыжню и выбрался на поляну. Он узнал пни от деревьев, которые рубил вместе с товарищами. Вот и острожки. Стены срублены не по-избяному, а тыном, торчмя, и прикрыты толстой кровлей из корья. Добрались, стало быть… Здесь было всё так, как оставил Доброга. У острожка вместо дверей вкопаны жерди. Всё цело. А кому трогать? Людей нет, зверь не сломает. Староста изо всей мочи свистнул сквозь пальцы. Вскоре в лесу замелькали люди. Первым прибежал Одинец. Ребята растащили жерди и вошли в острожек. Помещение имело в длину шагов двенадцать, а в ширину не больше четырех. Сверху нависали хвосты от тесно навешанных шкурок. Высекли огонь, загорелся берестяной факел. Показалось, что наверх не просунешь руки — так стиснулись соболя, бобры, куницы, выдры. Среди них горностаи были будто первый снег в борозде поля. Лисьи хвосты свешивались, как пучки чесаной кудели, но здесь кудель была черная, подернутая серебряным волосом… Береста догорела, пустила чад и потухла. А молодые повольники так и остались с задранными головами и разинутыми ртами. Второй-то острожек тоже полон пушнины! Великое богатство — такого не найдешь в Новгороде и у самого Ставра. — Великое-то великое, — сказал Доброга с тоской, — но оно не моё. — А чье же? — спросил Одинец. Доброга вывел его на волю и показал на дальний край поляны:
— Там один друг, в лесу — другой… Третий — в речке. Вот и соображай, чье богатство. Дорого за него заплачено, пропади оно пропадом!
— Чего же так? — удивился один из парней. — Да разве оно повинно, богатство?
Рассердился Доброга и притопнул ногой:
— Эх, дурень! Кто же повинен? Мы жадно гнались за этим богатством. Я его не хочу. Отрекаюсь от него. Я сюда шел не за ним. Отдаю всё Ставру. Снимем, оценим — и пусть приказчик принимает за долг. Моё слово крепко.
Доброга отошел в сторону и повесил голову. Не было у него таких товарищей, какие погибли в Черном лесу. Кто прожил двадцать лет, тот прав, ожидая от жизни нового и лучшего. Но кто прошел сороковой год, знает другое. У Доброги не будет больше таких товарищей.
Он смотрел на другой берег реки. В излучине стоял старый, сухой лес. Одни лесины упали, другие, потеряв хвою, ждали, пока и их не столкнет ветер. От мертвого места веяло тоской. Старый лес догниет, но земля, которая знала его молодым, не останется пустой. На вскормленной почве подымется и разрастется новая поросль, будет жить свой срок…
Доброга не слышал, как к нему подошел Одинец. Одинец, для которого девичье сердце было закрыто, разбирался в чувствах Доброги лучше, чем в своих.
— Что же ты, староста, повесил голову? К чему ты тоскуешь о былом? — говорил он Доброге. — Тех ты не воротишь. Что же, разве у тебя нет больше товарищей?
Ватажный староста оглянулся и посмотрел в глаза Одинцу. А тот продолжал своё:
— У тебя есть товарищи. Чем тебе плохи Яволод или Радок? И другие найдутся. Ты скажи — и за тебя каждый постоит. Ты захочешь — за тобой пойдет любой из нашей ватаги и свою кровь смешает с твоей.
«Нет, Одинец не парень, а мужчина», — думал Доброга. Староста постиг в один миг силу и гордость души Одинца и не знал, мог бы он сам так поступить. Они были равны, и между ними никто не стоял. Доброга мог бы не задавать Одинцу такого вопроса и всё же спросил:
— А ты хочешь быть моим братом?
— Да.
Доброга вывел его на волю и показал на дальний край поляны:
— Там один друг, в лесу — другой… Третий — в речке. Вот и соображай, чье богатство. Дорого за него заплачено, пропади оно пропадом!
— Чего же так? — удивился один из парней. — Да разве оно повинно, богатство?
Рассердился Доброга и притопнул ногой:
— Эх, дурень! Кто же повинен? Мы жадно гнались за этим богатством. Я его не хочу. Отрекаюсь от него. Я сюда шел не за ним. Отдаю всё Ставру. Снимем, оценим — и пусть приказчик принимает за долг. Моё слово крепко.
Доброга отошел в сторону и повесил голову. Не было у него таких товарищей, какие погибли в Черном лесу. Кто прожил двадцать лет, тот прав, ожидая от жизни нового и лучшего. Но кто прошел сороковой год, знает другое. У Доброги не будет больше таких товарищей.
Он смотрел на другой берег реки. В излучине стоял старый, сухой лес. Одни лесины упали, другие, потеряв хвою, ждали, пока и их не столкнет ветер. От мертвого места веяло тоской. Старый лес догниет, но земля, которая знала его молодым, не останется пустой. На вскормленной почве подымется и разрастется новая поросль, будет жить свой срок…
Доброга не слышал, как к нему подошел Одинец. Одинец, для которого девичье сердце было закрыто, разбирался в чувствах Доброги лучше, чем в своих.
— Что же ты, староста, повесил голову? К чему ты тоскуешь о былом? — говорил он Доброге. — Тех ты не воротишь. Что же, разве у тебя нет больше товарищей?
Ватажный староста оглянулся и посмотрел в глаза Одинцу. А тот продолжал своё:
— У тебя есть товарищи. Чем тебе плохи Яволод или Радок? И другие найдутся. Ты скажи — и за тебя каждый постоит. Ты захочешь — за тобой пойдет любой из нашей ватаги и свою кровь смешает с твоей.
«Нет, Одинец не парень, а мужчина», — думал Доброга. Староста постиг в один миг силу и гордость души Одинца и не знал, мог бы он сам так поступить. Они были равны, и между ними никто не стоял. Доброга мог бы не задавать Одинцу такого вопроса и всё же спросил:
— А ты хочешь быть моим братом?
— Да.
Глава двенадцатая
Кукушка прилетела и принесла золотой ключ от неба. Перун его отопрет. Небо накопило теплые весенние дожди и наготовило молнии, которые будут пить тучи и бить всё злое на земной груди. Над землей неслась весенняя Прия. Там, где она касалась правой рукой, расцветали белые цветики, где левой — желтые. Небо, отец новгородцев, приступило к браку с матушкой-землей. Иля, молодая вдова погибшего на облаве ватажника, бродила близ становища, собирала первые цветы и пела:Река ломала броню и открывала для новгородцев легкую дорогу. Шел матёрый лед, за ним протянется верховой, а там и пускай расшивы на свободную воду. Дорога ты, дорога, куда ты поведешь и сама бежишь откуда? Ватажники наблюдали за льдом. Весенний лед несет и зимнюю дорогу, и заборчик для рыбацкой проруби, и потерянное бревно, и брошенное полено, и многое другое. Но эта река несла одни звериные следы. Как видно, вверху не было людского жилья. Приходила пора общим умом решить, как разбиться для летнего труда. На вече Доброга предлагал выбор. Одним следовало остаться на месте, засеять огнище и разведать зверовые ловли около первой заимки. Другие должны были подняться вверх по реке и там присмотреть места. И поискать, нет ли ходов и переволоков в сторону Новгорода. А третьим плыть вниз до неведомого устья. Ватажники спокойно и уверенно обсуждали общие дела. Они снялись из Новгорода, поверив Доброге на слово. Это слово сбылось. Все были сыты, ватага накопила копченого мяса и рыбы. Успели набрать пушнины и птичьего пуха. Ставров приказчик составил и оценил хранившиеся в острожках шкурки, и больше четверти общего долга уже слетело с плеч. Ватажники уверенно смотрели вперед. Даже неудачливые бобыли и те парни, которых звали в Городе сопливыми ребятами, глядели боярами, вопреки перелатанным усменным кафтанам, драным, закоптелым шапкам и раскисшим сапогам. Они почитали своего старосту и не равнялись с охотником-умельцем. Но каждый соображал про себя: четыре охотника за две или три зимы сумели собрать большое богатство — и я буду стараться, есть над чем. Порой они подшучивали над Ставром: мог бы ещё больше запросить боярин за снаряжение ватаги, не обманулся бы… Вече внимательно слушало Доброгу, который говорил о новых трудах ватаги. — Кто останется, с того спросим хлеба и всего зимнего запаса. Им работать на огнище не щадя себя, наловить бобров и навялить рыбы. Им отыскать борти и набрать меда. Нужно найти горькие ключи, чтобы варить соль. Искать в болотах железную землю и построить на зиму теплое жилье. Тем же, кто пойдет вверх и вниз, тоже большие труды! Как всегда, ватажный староста жестко стелил. Он откашлялся и повел речь о том, что повольники забрели на новые земли не случайными бродягами. Не получится добра, если каждый будет думать лишь о том, чтобы поскорее разбогатеть и вернуться домой. Доброга предлагал навечно завладеть ничьей рекой и построить не временную заимку, а новгородский пригород и жить в нем по Новгородской Правде, а не как лесные звери. В новый пригород не пускать старых бояр. Сами повольники сумеют быть боярами не хуже городских! Быть пригороду, и под него поставить всю реку, с верховьями и низовьями! Меткие слова доходили до сердца ватажников, и им казалось, что они сами так думали. Кругом них теснился дикий Черный лес с болотами и безлюдными чащобами, поднималась безыменная река, заливая берега, а они кричали, гордясь собой: — Быть тому! Так сделаем! Доброга лелеял свою мечту в лесах долгими зимними ночами, под свист вьюги и под волчий вой. Он мечтал о новой вольности на новых землях. Наконец он открылся, и его никто не осудил. Он думал не о своём благе, но об общем.
Утренняя заря светлая и веселая. От одного слова «утрянка» на душе делается хорошо. Все птицы встречают утрянку песнями, но для человека самое сладкое время приходится на вечерние зори. И любовные песни и любовные речи человека звучат вечером, а не утром. На огнище пал разбился на костры, дотлевали толстые кряжи и пни. В сумерках угли рдели, как в печных жерлах. Запоздалое пламя струилось красными ручьями. Сытые огни не бегали, а ползли. Пал утомился и дремал. Одинец сидел на высоком берегу. Рядом с крупнымпарнем Иля казалась ребенком. Одинец молчал. Он уперся локтем в колено и смял бороду в кулаке. Длинные волосы упали на лоб и закрыли глаза. Иля сочиняла песню и мурлыкала, как сытая кошечка. Она ладила себе новую семью. — Слышишь, любый? Он слышал. Он чуть покачивался следом за тихой песнью. На реку падали птичьи табуны. Вместе с водой плыли темные стаи гоголей, чернеди, крохалей. В сутемках, как льдины, белели пары строгих лебедей. Доброга и Зарейка тоже сидели на берегу. Девушка строго спрашивала ватажного старосту: — Поклянись землей, что ты не говорил водянице лебединых слов! Доброга засмеялся: — Не было того. Я и слова-то не знаю. — А видал их? Признайся! — Видел. — Какие они? — Найдем тихое озеро, выберем лунную ночку — сама увидишь. Девушка рассердилась: — На что мне они? — И опять взялась за своё: — Поклянись! Доброга убеждал девушку, словно перед ним было дитя: — И чего они тебе дались? Что тебе в них? Любушка моя, ты сама лучше всех водяниц! Ты и красива, в тебе живет живое сердце, а в водяницах — только видится. — Но почему же ты, как только проснулась вода, начал кашлять, точно прошлой осенью? Твоя водяница проснулась и сушит тебя. Чего не сделаешь, чтобы успокоить любимую!.. Уважаемый людьми ватажный староста, простому слову которого свято верил каждый повольник, торжественно поклялся девушке, что на нём нет водяного зарока. Хворь же у людей бывает. Солнышко прогреет тело — и болезнь пройдет.
Глава тринадцатая
Доброга увел вниз по реке почти пять десятков повольников. Они плыли на трех расшивах и в них спали. Из дернин были устроены очаги, чтобы готовить горячее на ходу. Река разлилась широко. В петлях она била и рвала берега, на которых без конца и края толпился Черный лес. На каждой расшиве сидел свой выборный староста. Парни, которые зимой шли дозорными, выбрали Одинца. Яволод и Радок не узнавали в Одинце своего былого друга. До убийства нурманна он был горяч и скор на руку, любил мериться силой и в одиночном бою и в общем, стена на стену. Каким он был прежде — он не просто отдал бы Заренку Доброге. А сейчас Одинец согласился, сам взял Илю и не имеет зла на ватажного старосту. Одинец прежде всех брался за тяжелую работу и последним её оставлял. Другие трудились с отдыхом, а он был как железный. Ватажники научились почитать Одинца за труд и за скупое, веское слово. Его ровесников старшие звали парнями и малыми, а Одинца окликали по имени. Расшивы шли вниз от Доброгиной заимки, как называли своё первое пристанище ватажники, без отдыха четыре дня. Одинец старался перенять у Доброги его мастерство чертить на бересте. Сидя на корме своей расшивы, он рисовал речные петли и отмечал притоки. Понемногу получалось. Что же, и Доброга не в один день научился. Эх, Доброга!.. Одинец сказал себе, что у него с Заренкой была не любовь, а детская забава. И всё тут. Он не хотел думать о другом. Ватажный староста шел на передней расшиве. Вдруг там подняли весла, а Доброга замахал шапкой, торопя задних: — Наддай! Раз! Раз! Берега расходились, и на правом виднелся дымок. Расшивы разогнались, проскочили кусты и врезались в мягкую землю. Повольники соскочили в воду и выхватили расшивы подальше, чтобы их не утащила река. Неизвестно, что там за люди. Могут и побить, если подойти зря. Ватажники тихонько пошли берегом. Вдруг где-то впереди закричал человек; слов не разберешь. И в другом месте закричали. Повольники сошлись теснее и наставили рогатины. За березняком сразу открылось чистое место с широким обзором. На конце мыса лес был сведен, деревьев почти не осталось, торчали острые, будто срезанные бобрами, пеньки. Земля была утоптана, на жердях висела рыба, а из длинного берестяного балагана тянулся дым. Маленькие лодочки бежали далеко ниже мыса. В них люди махали тонкими веслами. На берегу лежала лодочка — такая легкая, что её бы поднял один человек. Лодочка была сплетена из прутьев и обтянута просаленной кожей.Никто не заметил, откуда среди ватажников оказался чужак.
 Трудно было понять, стар он или молод. Волосы были блестящие, со лба до темени тянулась лысина. Лицо же гладкое, без морщин, и походка легкая. На чужаке были штаны из оленя и меховой кафтан, а ноги босые.
Чужак подобрал палку с прикрученным острым и тяжелым оленьим рогом. Повольники смеялись: «Вот так топор!» — но сами расступились. Хватит по лбу — непоздоровится. Не драться же с ним!
— Чего грозишь, когда нет силы? Надоел, — сказал Яволод и взялся за рогатину.
Рыболов поймал рогатину за конец и так махнул рогом, что едва не достал Яволода.
Вмешался Доброга:
— Не тронь его, не дразни!
Яволод опустил рогатину; опомнился и рыболов.
Староста заговорил с чужаком.
Рыболов слушал, склонив голову набок. Чужой — что немой и глухой. С ним приходится говорить руками, и он должен понять, что его не хотят обижать.
Доброга вытащил нож и показал, как он режет. Пальцами и словами староста объяснил рыболову:
— Тебя не будут резать. Не бойся, не будут резать.
Рыболов сморщился, растолкал повольников и подобрал свой рог. Подражая Доброге, он тыкал в рог пальцем, а старосте в лоб и отмахивался:
— Ты меня, дескать, не будешь бить, и я тебя не буду!
Повольники смеялись:
— Ишь ты, понимает! Видать, не драчливый.
Рыболов совсем осмелел, распахнул кафтан и достал точеную кость вроде ножа. Ручка хорошая, красивая, но клинок костяной, не так режет, как железный. Чужак отдал нож Доброге.
Староста поцарапал кость своим ножом, чтобы чужак видел, как жесткая кость уступает железу, и подал нож рыболову. Тот прикусил клинок зубами — что это за вещь? Староста показал, что дарит. Чужак обрадовался и погладил Доброгу по руке.
На мысу назначили дневку. Повольники разложили костры и в охотку поели рыбы из ям — давно не пробовали соленого.
Доброга не отпускал рыболова. Показывая на себя, староста твердил свое имя:
— Доброга, Доброга, вот он. Я — Доброга, — и наконец-то добился своего.
Рыболов показал на него пальцем и затараторил:
— Добр-ога! Доб-ро-га! Доброга.
После этого было уже легко добиться от чужака, как его зовут: Биар.
Скажут «Биар» — он повернется и покажет на себя, кивнет и подтверждает:
— Биар, Биар!
Биара посадили к котлу, дали ложку и накормили. После еды Биар повел Доброгу и тех, кто из сотрапезников пришелся под рукой, вглубь березняка, мимо берестяных балаганчиков.
В лесу Биар залез в берлогу под кучей валунов. Вскоре он вышел из берлоги с тремя людьми. Вот что! Здесь тайник, в который укрылись те, кто не успел убежать по реке.
Из троих одна была молоденькая женщина, чем-то похожая на Заренку, смуглая кожей, темноволосая. Только глаза у неё чуть косили, и она была меньше ростом, чем Доброгина любушка.
По длинному, узкому ходу проползли на четвереньках в обширную сухую пещеру с песчаным полом. Вверху, для дыма и света, в щели меж камнями были вставлены обрезки березовых дуплистых стволов. Здесь люди зимовали. А зимуя, не одну рыбу ловили — в пещере было подвешено немало хороших, свежих шкурок пушного зверя.
Дорогие шкурки… Будь драка — они достались бы ватаге. А коль дело кончилось миром, так пусть каждый без помехи владеет тем добром, которое взял своим трудом.
Трудно было понять, стар он или молод. Волосы были блестящие, со лба до темени тянулась лысина. Лицо же гладкое, без морщин, и походка легкая. На чужаке были штаны из оленя и меховой кафтан, а ноги босые.
Чужак подобрал палку с прикрученным острым и тяжелым оленьим рогом. Повольники смеялись: «Вот так топор!» — но сами расступились. Хватит по лбу — непоздоровится. Не драться же с ним!
— Чего грозишь, когда нет силы? Надоел, — сказал Яволод и взялся за рогатину.
Рыболов поймал рогатину за конец и так махнул рогом, что едва не достал Яволода.
Вмешался Доброга:
— Не тронь его, не дразни!
Яволод опустил рогатину; опомнился и рыболов.
Староста заговорил с чужаком.
Рыболов слушал, склонив голову набок. Чужой — что немой и глухой. С ним приходится говорить руками, и он должен понять, что его не хотят обижать.
Доброга вытащил нож и показал, как он режет. Пальцами и словами староста объяснил рыболову:
— Тебя не будут резать. Не бойся, не будут резать.
Рыболов сморщился, растолкал повольников и подобрал свой рог. Подражая Доброге, он тыкал в рог пальцем, а старосте в лоб и отмахивался:
— Ты меня, дескать, не будешь бить, и я тебя не буду!
Повольники смеялись:
— Ишь ты, понимает! Видать, не драчливый.
Рыболов совсем осмелел, распахнул кафтан и достал точеную кость вроде ножа. Ручка хорошая, красивая, но клинок костяной, не так режет, как железный. Чужак отдал нож Доброге.
Староста поцарапал кость своим ножом, чтобы чужак видел, как жесткая кость уступает железу, и подал нож рыболову. Тот прикусил клинок зубами — что это за вещь? Староста показал, что дарит. Чужак обрадовался и погладил Доброгу по руке.
На мысу назначили дневку. Повольники разложили костры и в охотку поели рыбы из ям — давно не пробовали соленого.
Доброга не отпускал рыболова. Показывая на себя, староста твердил свое имя:
— Доброга, Доброга, вот он. Я — Доброга, — и наконец-то добился своего.
Рыболов показал на него пальцем и затараторил:
— Добр-ога! Доб-ро-га! Доброга.
После этого было уже легко добиться от чужака, как его зовут: Биар.
Скажут «Биар» — он повернется и покажет на себя, кивнет и подтверждает:
— Биар, Биар!
Биара посадили к котлу, дали ложку и накормили. После еды Биар повел Доброгу и тех, кто из сотрапезников пришелся под рукой, вглубь березняка, мимо берестяных балаганчиков.
В лесу Биар залез в берлогу под кучей валунов. Вскоре он вышел из берлоги с тремя людьми. Вот что! Здесь тайник, в который укрылись те, кто не успел убежать по реке.
Из троих одна была молоденькая женщина, чем-то похожая на Заренку, смуглая кожей, темноволосая. Только глаза у неё чуть косили, и она была меньше ростом, чем Доброгина любушка.
По длинному, узкому ходу проползли на четвереньках в обширную сухую пещеру с песчаным полом. Вверху, для дыма и света, в щели меж камнями были вставлены обрезки березовых дуплистых стволов. Здесь люди зимовали. А зимуя, не одну рыбу ловили — в пещере было подвешено немало хороших, свежих шкурок пушного зверя.
Дорогие шкурки… Будь драка — они достались бы ватаге. А коль дело кончилось миром, так пусть каждый без помехи владеет тем добром, которое взял своим трудом.
Глава четырнадцатая
С Биаром разговаривали на всех языках, какие только знали ватажники. С ним толковали и по-чудински, и по-еми, и по-веси, по-вепси. Из этих наречий большая часть повольников знала хоть несколько слов. Но нет. Будто что-то и похожее толковал Биар, но ни он не понимал, ни его не могли понять. Из разговоров с Биаром как будто разобрали, что вниз по реке живут ещё такие же люди, как рыболов. Узнали, что безыменная река, на которую вышла ватага, называется по-биарминовски Вагой, а та река, в которую втекала Вага у мыса, носит имя Двин-о — стало быть, Двина. Доброга велел плыть дальше. Биар вместе с молодой девушкой — её звали Бэва, и она была дочерью Биара — погрузился на расшиву старосты. Бэва принесла с собой корзинку, обмазанную глиной, и запас угольков, чтобы кормить огонь. И верно, без железного огнива из кремня не выбьешь искру на трут. Река Двина оказалась большой, полноводной, не как Вага, хотя и Вага в половодье казалась не меньше, чем Волхов. Биар знал Двину и показывал, как лучше срезать петли и держаться на стрежне. На третий день повольники отошли от ночлега и заметили, что снизу поднимается целое войско. Не менее двух десятков больших лодей заняли стрежень, а вблизи берегов, по слабому течению, бежали, как утки, вереницы малых лодок. Повольники затабанили вёслами и поставили расшивы рядом. Они спешили вооружиться. Одни хватались за шлемы, другие напяливали кольчуги. Нежданно получилось — никто не мог сразу найти нужное, вдвоем и втроем хватались за одно. Кто успел натянуть спущенную тетиву — у того нет стрел. Другой искал щит, а сам на нем топтался. Доброга кричал: — Береги гребцов! Прикрывайся щитами! А стрелы уже летят. На крайней расшиве опустились два весла с наружной стороны и не поднимались. Расшива повернулась, и её, как бревно, потащило течением. Еле справились. Кто не успел вооружиться, тот присел на дно, прячась за бортами. Большие лодьи приблизились, и от них, как рои шершней, помчались стрелы. — К берегу, к берегу греби! — распоряжался Доброга. Он стоял на носу своей расшивы в шлеме и в кольчуге, а Заренка двумя щитами прикрывала его и себя. Все три расшивы повернули дружно. Одна большая лодья оказалась между повольниками и берегом. Расшива Одинца ударила в нее и пробила легкий кожаный борт. Лодья перевернулась, и расшива прошла над ней. За кормой, как гагары, выскакивали из воды головы чужаков. Ватажники с размаху выбросились на пологий бережок, выскочили кто в мелкую воду, кто на сухое и повернули расшивы бортами к воде, чтобы укрыться. На твердой земле повольники опомнились, взялись за луки, начали выцеливать по-охотничьи и, выпустив десятка три стрел, отогнали чужаков от своего берега. А и много же чужаков! Обойдут лесом, набросятся разом с воды и суши — тут и конец. Ватажники бросились рубить деревья для засеки. Валили деревья и злились с каждым сбитым деревом, кляли друг друга за беспорядок, за растерянность. Расшивы захламили, многие только на берегу добрались до своего оружия. У четырех ватажников были прострелены шеи, у пятерых стрелы засели меж ребер, а трое были ранены в живот. Эти плохи, выживут или нет — неизвестно. На счастье, чужаки имели легкие стрелы не с железными, а с костяными насадками. Чужаки-лучники били метко и часто, но их стрелы не могли пробить головы и застревали в теплой одежде. Одинец вошел в воду по колено и до плеча растянул длинный, двухаршинный лук, подарок Верещаги. Тяжелая полуторааршинная стрела пролетела над водой, до перьев вошла в кожаный щит, и пораженный чужак упал в воду с большой лодьи.Из леса потянуло дымком, за засекой кто-то ходил. Два десятка повольников обошли засеку по воде, бросились в лес и заметили чужих. Одинец догнал одного и уложил краем щита. За остальными не погнались из страха попасть в засаду в незнакомом месте. Подобрали оружие, брошенное убежавшими чужаками: гладкую, как цепилка от цепа, палку со вставленным в толстый конец моржовым зубом, ещё дубинку с прикрученными жилами большим острым кремнем и олений рог на палке, похожий на тот, с которым Биар вышел к повольникам на мысу. Нашлась мазанная глиной корзинка с горячими углями, тоже похожая на биаровскую. Только тут хватились повольники: а где же сам Биар с девушкой Бэвой? Их не было. Они убежали, а как и когда — того в общей суматохе никто не видел. Повольники рассматривали оружие чужаков. Плохое. От него достаточно одной кожаной подкольчужной рубахи, не то что кольчуги. Сделано хорошо, прочно, но против железного ничего не стоит. Чужаки не выдержат рукопашного боя. А чтобы укрыться от стрел, Доброга придумал на борта расшив набить ещё по две доски, для весел прорубить дыры и сверху прикрыться плетнями из веток. Раненых уложили на хвойные постели и залили раны теплым жиром. Заренка держала на коленях голову своего двоюродного брата, Радока. Радоку стрела угодила в бок. Вырвали её. Парню плохо. Едва слышным голосом он просил, чтобы сестра спела любимую грустную новгородскую песнь:
Глава пятнадцатая
Далеко, за Черным лесом, за реками и озерами, остался Новгород. Повольники плыли вниз по Двине, к соленому морю. Вскоре ещё одна река, не меньше Ваги, втекла в Двину, но с правого берега, и Двина расширилась, покрылась лесистыми островами. Обиармившийся вепсин Анг, который толмачил при заключении мира с биарминами, показывал повольникам удобные протоки и рассказывал о биарминах: у биарминов нет города, они не нуждаются в городах. Они живут семьями и малыми починками по морю. С весной многие поднимаются за рыбой по Двине, но далеко не ходят. И зимуют у моря. Редко кто остается так далеко на Двине ловить зверей зимой, как отец Бэвы, Тшудд, которого ватажники по ошибке назвали Биаром. Расшивы повольников отошли от мирного стана, окруженные лодьями и лодками биарминов. Час от часу биармины отставали, оставались на местах, излюбленных для рыбной ловли. Через два дня не осталось никого, кроме нескольких человек на расшивах повольников. На четвертый день Двина расширилась ещё больше, ещё больше рассыпалась на рукава. Течения не чувствовалось. Расшивы прошли за последний остров, и повольники увидели, как берега загнулись вправо и влево, а прямо, на сивер, не было ничего, кроме воды, до самого края. Так они первые из всех новгородцев вплыли в новое море. Кто-то бежал из моря навстречу ватажникам и резал воду высоким черным плавником, пряча тело в море. Не спешило ли морское чудо, чтобы напасть на людей? Биармины заволновались и показывали руками, что не нужно биться. И вепсин приказал, чтобы повольники не трогали морское чудовище, а поворачивали к берегу. Бежать? Да и не убежишь, вот оно. Чудовище отвернуло и мчалось между расшивами, чуть выставив черную спину с плавником. Одинец что есть силы метнул тяжелую боевую рогатину. И другие не опоздали: кто ударил рогатиной, а кто зазубренной острогой. Чудовище взметнулось и взбило кровавую пену. Его подтянули за веревку, привязанную к остроге. Доброга вгляделся в свирепую морду со страшными зубами в пасти и пошутил: — Вот так касатушка-касатка! Расшивы потащили касатку к берегу. Вдали же виднелись какие-то большие рыбы, над ними взлетали тонкие струи. Вепсин объяснил, что это тоже морские чудовища, которые бывают и в десять, и в двадцать, и в тридцать раз больше касаток.Солнце белило небо и море. С земли подступал Черный лес, а между ним и морем оставалось ничейное место; голый, каменистый берег подходил к земле с мхами и травами, которые покрывали первые древесные корни. В заливе обнимались вода и земля, и земля струила из леса ручей сладкой воды. Море ворожило, колдовски тянуло повольников. На опушке стояли две вежи биарминов, обтянутые кожей. Хозяева моря подошли к гостям. Повольники как будто не заметили жилья на берегах, а вблизи жило немало биарминов. В залив вбехала лодка за лодкой. Биарминовский народ валом валил поглядеть на пришельцев. Давно ли засыпали стрелами? Добрые люди. Повольники кое-как вытащили на сушу касатку; биармины не помогали. К мертвому зверю не каждый биармин решался подойти и на сухом берегу — водяные люди считали касатку воплощением зла. Самые храбрые мялись, мялись, а всё же подошли. Они повытаскивали рогатины из жесткого тела и кое-как вырезали остроги костяными ножами. Они с громадным любопытством рассматривали железные насадки и щупали острые рожны. Поговорив между собой, биармины начали тыкать мертвую тушу и дивиться легкости, с которой железо вспарывало твердую шкуру. Они смеялись и махали тем, кто ещё не осмелился подойти. Один биармин взял рогатину Одинца и просил руками, чтобы ему позволили метнуть. Что же, для хорошего человека не жалко, мечи! Биармин отступил шагов на сорок и сбросил меховой кафтан. Сутуловат, тело смуглое, чистое, руки длинные. Сильный мужик. Примеряясь, он взвесил в руке тяжелую рогатину и метнул в тушу. Хороший охотник, он всадил рогатину чуть ли не как Одинец. Не веря своим глазам, биармин подошел поближе и охнул. Оп поднял свое копье с костяным рожном и ощупал его. Тут-то и поняли самые медленные умом повольники очевидную истину: биармины никогда не знали железа! Доброга подозвал Одинца, Отеню, Яволода, Вечёрко, Карислава, Игнача и Яншу и уселся с ними на опушке. Они за дорогу выделились умом и ухваткой, и староста хотел поговорить с ними. Чуть гудели сосны, биармины и повольники возились у расшив и около касатки. И белое море лежало без края, без конца до самого неба. Нашелся конец Черному лесу, земле и ватажной дороге. Доброге было и радостно и горестно. Теплый день, а его знобило. Он закашлялся, взявшись за грудь, а отдохнув, жарко заговорил с товарищами: — Богатые места, народ простой и добрый, с ним прожить без спора легко. Что же, браты, думаю, что не искать нам больше добра от добра. Смотрите, биармины совсем не знают железа. Мы им железо — они нам отплатят. Они богатые и своего богатства сами всего не соберут, нам позволят пользоваться всем. Думайте, думайте. Они со своим костяным оружием и припасом сколько зверя и рыбы берут, а сколько возьмут с железным! И мы сколько наловим! Здесь будем тоже садиться, у моря… Ума, ума, браты, приложим ко всему, — продолжал Доброга. — Я так смотрю, что мы сюда налетели не коршунами и не воронами, чтобы выбить добычу — и долой. Нужно следить, чтобы кто из нас сглупа не обидел биарминов. Медведя — рогатиной, соболя — силком, птицу — стрелой, землю — сохой, а соседа бери сердечной лаской. — Верно говоришь. Мы будем крепки биарминовской дружбой, — за всех согласился Одинец. — А железо бы здесь поискать! Болот много.
Глава шестнадцатая
В устье реки Двины берега и острова лесисты. А на правом от устья берегу моря, который тянется на восход солнца, лес слабеет. На бугристых холмах березняк не растет ввысь, а кустится. В низменностях расползлись травяные и моховые болотистые луга — здесь биармины пасут свою остророгую скотину. В своём хозяйстве биармины не держали лошадей, коров, овец, коз и свиней, к которым привыкли новгородцы. Для всего у биарминов была одна домашняя скотина — олень. Такие же олени водились в приильменских лесах, по Нево, Онеге и Свири. Новгородцы считали оленей диким зверем, а биармины сумели приручить их пуще собак. Биармины и ездили на оленях, и доили их, и брали с них мясо и шкуру. Строились повольники с помощью биарминов. Карислав намашется топором, разогнет спину, а биармин тут как тут, тянется за топором. — Попортишь железо, мужик. Оставь, — говорил Карислав. Мало-помалу биармины и новгородцы начинали понимать друг друга в простых делах, и приятель-биармин твердил Кариславу: — Нет, не попортишь. Нет, не попортишь. — То-то! Гляди у меня! Биармин смеялся, показывал на свои глаза и кричал: — Гляди меня, гляди меня! — Эх, да не так ты тяпаешь! Смотри, как нужно. Карислав показывал, как держать топор и как бить, чтобы щепа кололась крупно и железо не мяло, а резало древесину. А биармин вертелся около, припрыгивал в увлечении и крякал под удары: — Ах-а! Топ-пор! — Ему не терпелось: — Давай топ-пор. Я! Я! У всех заводились друзья, звали по именам. Отеня сидел на бревне верхом и ошкуривал стругом кору, а оба его приятеля, Киик и Дак, пристраивались рядом и не могли дождаться своей очереди. Бревно поспевало вмиг. Вечерко вырубал паз в стеновом бревне, и мелкая пахучая щепа летела в глаза Рубцу. Вечеркиного приятеля прозвали так за борозду, которую медвежий коготь пропахал от виска до подбородка биармина. Рубец мигал от щепы, отдувал губы, но не слезал с бревна. Вечерко передавал приятелю топор, Рубец плевал в ладони по-новгородски. Приходила Вечеркина очередь щуриться и мигать от щепы. По всему было видно, что биармины не знали злобы и вражды. Они привыкли к ватажникам, но к железу не могли привыкнуть. Они научились водить пилой, скрести стругом, тесать теслом и резать ножом, а всё же твердое железо для них оставалось чудом, как в первый день.Повольники справились со стройкой, и Доброга послал одну расшиву с десятком людей вверх по Двине, на Вагу, чтобы дать о себе весть товарищам и узнать, как у них идет жизнь. В острожке от семейных стаек тянуло теплым женским духом. Биарминка Бэва принесла новгородцу Яволоду в приданое не одни собольи меха. Что меха! Их Яволод отдал в общую добычу ватаги, для выплаты долга Ставру. Бэва училась от Заренки и Или хозяйству, перенимала навыки и равнялась ухваткой, теша мужа заботой. Кругом молодой пары не переводились Бэвины родичи. Сколько же их? Не весь ли каменистый берег моря? Биармины умели и любили считаться родством. Они находили свояков в самых дальних коленах и на досугах длинных зимних ночей, перебирая имена и прозвища, поднимались до двух первых людей, которых сотворила, по их преданиям, богиня Воды Йомала. Рубец сосватал Вечёрке свою сестру. Дак отдал за Отеню дочь. Браки скреплялись общими торжествами. То ли биарминам было любо родниться с железными людьми, то ли они стремились к закреплению союза — об этом мало кто думал, кроме Доброги, но все брали жен с охотой. Одинец же остался один. Его скорый брак был короток и нерадостен: Иля ушла к Кариславу — она не сжилась с Одинцом. На прощанье сказала бывшему мужу: — Ты скучный, всё молчишь. И слава о тебе идёт, и тебя почитают, а ты как холодянка-лягушка. Мне с тобой холодно. Как огонь не берет залитую головню, так и тебя не зажечь. Иля ушла к другому, а Одинцу нипочем, будто ничего не было. В одном Иля была права: с ней Одинец был холоден. Но другие не знали его холода. Верно говорится, что жене труднее угодить, чем миру. Одинец завладел кузнечной снастью, которую ватаги всегда берут с собой для нужных починок, и ему некогда было скучать за любимым делом. К нему приросли четыре биармина так прочно, что их не отлить бы водой и не оторвать клещами. Поглядел бы теперь Верещага на подмастерье, которого он не раз хулил за небреженье к мастерству! Вместе с помощниками-биарминами Одинец нажег угля, построил кузничку и наладил горновые мехи. Отпускал выщербленные пилы, зубрил и наново закаливал. Сваривал и перековывал треснувшие топоры, прямил и отгибал струги, острил долотья, правил ножи и делал любую работу. У повольников нашелся небольшой запас сырого кричного железа. Из него кузнец изготовлял самое нужное для биарминов — гарпунные и острожные насадки. Много другого наковал бы кузнец, а где взять железо? Не пустить ли в горн ненужные железные шлемы, броню, кольчуги, мечи и боевые топоры? Нет, нельзя. Ватажники решили сохранить дорогое оружие. Не ровен час, а новгородец без оружия — что медведь без когтей и зубов. Своих биарминов Одинец учил ремеслу строго, как его самого натаскивал суровый Верещага. И у Одинца всякая вина была виновата, и его подмастерьям-ученикам не было потачки. Среди мастеров строгость никогда не считалась обидной. Попались ли Одинцу особенно понятливые биармины или каждый человек может хорошо учиться, когда всей душой тянется к знанию, — биармины делали большие успехи. Ватажному старосте не пошли впрок дальние дороги, повольничья жизнь и морской берег. Не было здоровья Доброге: его не оставлял кашель, его знобило. Он слабел телом и уже не примером, а одним ясным разумом держал ватажников в руках. Бывалый охотник боролся с болезнью, не давая себе лечь в новой избе, на скамью и забыться на мягкой медвежьей шкуре. Доброга и с повольниками и с биарминами на расшивах и на кожаных лодьях рыскал по Двине и по морю. А что дальше, там, за морем?
Доброга любил зайти в кузницу, поглядеть, как в горне горит яркое пламя и как ярко рдеет железо. С наковальни, из-под большого молота, которым бьет подручный, сыплются звездочки искр, гаснут, за ними спешат новые. Малый молоток ходит указчиком. Одинец звякнет им по наковальне — подручный понимает. На кузнецов хорошо смотреть. Биармины позавесили грудь и ноги кожей, волосы стянули ремешками; руки голые, черные от угля и окалины. Заправские кузнецы. Научатся железному делу и не в шутку будут мастерами. Новгородской земли прибыло, новгородцы имеют в биарминах верных союзников, друзей и опору. Эх, подольше бы пожить! Здесь тоже будет пригород. Мал острожек, но дорог почин. Доброга подозвал Одинца. Они сидели рядом на сосновой плахе. Ватажный староста рассказывал, как он сызмальства бродил по Черному лесу, сколько троп топтал. Всякое бывало. Случалось по два и долее лета, кроме своих товарищей, не видеть человеческого лица. С чужими приходилось не одним добром считаться — делить дорогу рогатиной, ножом, стрелой, лить кровь. Сердце тешилось в схватках. Но теперь Доброга понимал, что нет хуже свары и боя между людьми. Много земли, до чего же много! Не обойдешь землю, не обоймёшь… Нужно жить на земле радостно и просторно, без всякой обиды другим людям. — Не так делаешь! — крикнул Одинец подмастерью. Показав Расту, что и как нужно, он вернулся к Доброге. А у того новое слово: — Мы с тобой хотели смешать кровь. — Смешаем. Перед вечером все ватажники собрались на морском берегу, на опушке Черного леса. Вырезали пласты мшистого дерна и в мягкой земле, между черными корнями, выкопали ямку. Товарищи стянули Доброге и Одинцу руки ремнем и острым ножом с одной руки на другую царапнули одним взмахом. Названые братья опустились на колени и вытянули над ямкой связанные руки. Кровь слилась в одну струечку и закапала в землю. Товарищи накрыли братьям головы дёрном и оба громко клялись Небом и Ветром, Солнцем и Месяцем, Лесом и Водой, Стрелой и Мечом, Сохой и Серпом быть верными, поровну делить и горе и радость, труды и добычу и всё, что или в руки придет, или навалится на спину. Сырая земля приняла братскую клятву вместе с кровью и навечно её сохранит. Не вставая, Доброга сказал тихим голосом, для одного Одинца: — Тебе оставлю всё. Всё и всех. Прими. — Приму. — Не разумом — сердцем прими. Не по клятве — возьми по любви. — Возьму, — шепнул брат брату. Вслед за ними другие совершали священный и чтимый обряд побратимства. И парами, как Доброга с Одинцом, и по четверо вытягивали наперекрест руки над общей ямкой. Ватага скреплялась братской кровью и торжественной клятвой. Ямку засыпали и обратно уложили дерн. Сверху полили сладкой водой, чтобы поскорее срослись травяные корешки, кругом поставили оградку из живых ивовых черенков.
Глава семнадцатая
С Ваги, от Доброгиной заимки, с вестями от братьев-повольников прибежала расшива: — На новом огнище не пропали хлебные семена: из трубки выкинули колос и сильно наливают зерно. Быть урожаю, а нам быть с хлебушком. Те товарищи, кто ходил вверх по реке от заимки, вернулись живы и здоровы. Они добрались до истока реки. Там, в озерах и болотах, среди сильных бобровых гонов, зачинается река. Там живет дикая весь. Весины с повольниками драться не дрались, но и дружбу не завязывали. Повольники спустились назад по реке — а на реке весинов нет. Идя обратно, на хороших; местах ставили избушки для охотничьих зимовок. Пушного зверя много. Вестники привезли гостинец — сладкого лесного темного меда в липовых долблениях. Ватажники поспешили собрать все пушные меха, которые выменяли у биарминов и сами добыли, и скорее погнали назад посыльные расшивы с тремя строгими наказами: — Чтобы обозные в Новгороде оповестили весь народ — шли бы охочие люди на новые богатые земли, на свободные широкие реки. Шли бы смело люди всякого рода и племени, кто живет дедовским обычаем и по Новгородской Правде. Зимнему обозу привезти побольше железа. Железо брать сырое, в крицах, а не в изделиях. Все нужное из железа сделаем сами. Вверх по Двине пошли обе расшивы, доверху груженные пышным, мягким золотом. Они повезли ещё один наказ, самый дорогой: поясные поклоны друзьям-товарищам, а родным — земно-любовные. Поминая Радока, плакали Заренка и Яволод. Ещё горше Заренка плакала, вымаливая теплое родительское прощение девичьему самовольству. А вытерев слезы, она просила передать отцу и матери, что их дочь счастлива с нечаянным и негаданным мужем — с ватажным старостой Доброгой — и не желает себе никакого иного счастья… И Доброга не желает другого счастья. Если бы человек мог заставить реки течь назад и сумел сам жить сначала, Доброга своей волей выбрал бы и повольничью жизнь и Заренку. Но в его сердце нет легкой радости. Где только не кропили храбрые новгородские охотники-повольники густой алой кровушкой лесные мхи и речные пески! Ничуть не страшно ложиться для вечного сна, но горько, мучительно-тягостно расставаться с любимой. И Доброга борол свою болезнь. Тшудд, отец Яволодовой жены Бэвы, заметил, что хиреет его сердечный друг Доброга, и призвал на помощь биарминовских колдунов-кудесников. Вскоре под вечер на большой кожаной лодье приехало сразу четверо. Три колдуна вытащили из лодьи четвертого, ветхого старца. У него было сухое тело, на плечах еле держалась большая, как котел, голова с голым черепом. К старости в бороде росло считанных три волоса. Кудесники взяли старосту на близкий морской берег, а остальным повольникам велели стать поодаль. Кудесники положили Доброгу ничком на одеяло, сшитое из белых с голубой подпушью песцов, и обвели вокруг старосты костяными копьями четверной круг, которым его заперли от лихой силы. А между морем и Доброгой набросали горку сухого мха. Тем временем на морской берег насела черная, густая ночь. Кудесники запалили моховой костер и набросали на него наговоренной морской травы. В огне затрещало. Запрыгали синие, желтые, красные звездочки. Трое колдунов уселись рядом и дико забили в бубны — старшему кудеснику собираться на бой против Главного Общего Зла — Лиха. Старый, бессильный старец расправлялся и надувался неведомой силой. Сила поднимала его от земли, и он рос, рос! Он сделался высоким, прямым и поднял могучие руки. Великий кудесник топнул и высоко подпрыгнул. Часто-часто ударили бубны, и мощный старец помчался кругом Доброги саженными прыжками. Он несся, будто летел по воздуху, и звал мощным, страшным голосом. Тшудд и все другие биармины повалились и закрыли головы руками. Костер вспыхнул и погас. Мороз драл по коже самых храбрых ватажников, волосы шевелились. Кудесник рявкал, призывая Лихо не трогать Доброгу. Лихо задыхалось, слабело, слабело… Вот и совсем смолкло. Ещё раз завопил кудесник, словно кнут рассек сухую кожу, и сделалось тихо. Раздули огонь. Старый кудесник сидел около Доброги и ласково гладил новгородца по голове сухой костяной рукой. Доброга встал, потянулся и промолвил звучным голосом: — Будто я спал… Младшие кудесники потащили старшего к лодье, как мешок с костями. Диво! И откуда в дряхлом старце нашлась такая сила? — Дары им поднести, отблагодарить надобно, — сказал Доброга жене. Вмешался Тшудд. Биармин объяснил, сколько умел, что нельзя давать дары, что кудесники потрудились для Доброги, как для доброго и родного человека.Повольники не забыли ожерелья из моржовых зубов на шее одного из кудесников, В ватаге никто, даже Доброга, не видывал живых моржей. Но знали, что моржи видом похожи на нерп и живут только в соленых морях, а в озерах и в реках моржей не бывает. Отеня допытывался у Киика и Дака, Вечёрко — у Рубца, Яволод — у Бэвы и её родичей, Одинец — у своих подмастерьев о том, где и как биармины достают моржовые зубы. Узнали, что зимами много моржей бывает на льду в море, у полыней и продушин. Но биармины редко били моржей на зимних охотах. У моржей кожа ещё тверже, чем у касаток, и костяным гарпуном трудно достать до сердца. А откуда же берут зуб? Биармины обещали показать. Повольники поплыли на расшиве вдоль морского берега, на восход солнца. Вместе с другими пошел и Доброга. Вошли в устье ручья, где Киик и Расту велели причаливать. Отсюда пошли пешком, будто бы удаляясь от моря. Поднимались вверх среди голых камней, зализанных морскими ветрами. Пролезли на гряду и замерли: круча обрывалась стеной, и вниз с горы было страшно взглянуть. Внизу от суши в море врезался гладкий берег, забросанный камнями и валунами. Было слышно, как шумели волны. А где же моржи? Среди больших камней лежали меньшие. Некоторые шевелились. Из моря плыл морж. Он скрылся в прибойной волне и остался на песке. Издали моржи казались маленькими, как бобрята. Сюда не подойдешь берегом, не подплывешь водой. В моржовый город был лишь один проход — спуск с кручи, похожий на богатырскую лестницу с поломанными ступенями. Спускались на канатах.
 Внизу повольники оглянулись. Коли моржи нападут, то деваться некуда. И много же здесь жило морских великанов! Вся галька между валунами была распахана. Вот лежит большой, как безрогий бычина, рядом с ним маленький. Детеныш, что ли? Близко не лезь — бросится.
Новгородцы не знали повадок моржей и никогда их не били. Они поглядывали на биарминов, что те будут делать.
Киик, Расту и Рубец смело подошли к большому моржу. Зверь приподнялся. Прыгнет? Нет, только задрал голову и ударил в гальку аршинными зубами. Камешки брызнули, как вода, и морж заревел грубым голосом. Видно, у моржей на сухом месте нет хода — им бы плавать нерпой, а на берегу они ленивы. Быть моржам под новгородскими рогатинами!..
Биармины объяснили:
— Не надо, не надо обижать моржей. Клыки лежат в другом месте.
— Где, где? Показывай!
Тут открылось невиданное и неслыханное. В левом крыле моржового города, там, где крутые скалы высокой грядой ушли далеко в море, лежал высокий берег. Сюда и в самые сильные бури не могла забежать волна. Между валунами были навалены кости, выбеленные ветром дочиста.
Повольники приблизились, и от костей с клекотом поднялся морской орел. Кладбище моржей. Чуя смерть, моржи сами приходили сюда. Они не хотели, чтобы волна мозжила о камни бессильное тело, не хотели, чтобы море мочалило кости на гальке и душило последний вздох соленой водой. Морской морж — не рыба. И он идет умирать на мать сырую землю.
Повольники примолкли и вдруг услышали тяжкий вздох. Среди костей лежал морж, большой, как валун. Он редко раздувал бока и со стоном дышал. Была видна дорога, которую он проложил через кости, чтобы подальше уйти на землю.
Осторожно, не нарушая покоя смертного часа, повольники подбирались к умирающему. Но он узнал их чутьем, шевельнул головой с седыми усищами и взглянул на людей.
Один клык в полсажени длиной, другой наполовину сломай. Морж смотрел, но видел ли он? Глаза уже затянула темная вода. Он уронил голову, вздохнул и больше не поднял бока.
Черная кожа исполосована шрамами. Богатырь немало побился на своем веку, да не сладил с последним врагом…
Сколько бы ни собирали биармины мертвого моржового зуба, но его много осталось. Везде валялись длинные, больше лошадиных, лобастые черепа с могучими зубами.
— Ныне мы, браты, не только рассчитаемся с боярином Ставром. На нас больше нет долга, и нам самим много останется, — сказал Доброга и закашлялся.
От натуги порвалось в груди старосты, и кровь пошла горлом.
Внизу повольники оглянулись. Коли моржи нападут, то деваться некуда. И много же здесь жило морских великанов! Вся галька между валунами была распахана. Вот лежит большой, как безрогий бычина, рядом с ним маленький. Детеныш, что ли? Близко не лезь — бросится.
Новгородцы не знали повадок моржей и никогда их не били. Они поглядывали на биарминов, что те будут делать.
Киик, Расту и Рубец смело подошли к большому моржу. Зверь приподнялся. Прыгнет? Нет, только задрал голову и ударил в гальку аршинными зубами. Камешки брызнули, как вода, и морж заревел грубым голосом. Видно, у моржей на сухом месте нет хода — им бы плавать нерпой, а на берегу они ленивы. Быть моржам под новгородскими рогатинами!..
Биармины объяснили:
— Не надо, не надо обижать моржей. Клыки лежат в другом месте.
— Где, где? Показывай!
Тут открылось невиданное и неслыханное. В левом крыле моржового города, там, где крутые скалы высокой грядой ушли далеко в море, лежал высокий берег. Сюда и в самые сильные бури не могла забежать волна. Между валунами были навалены кости, выбеленные ветром дочиста.
Повольники приблизились, и от костей с клекотом поднялся морской орел. Кладбище моржей. Чуя смерть, моржи сами приходили сюда. Они не хотели, чтобы волна мозжила о камни бессильное тело, не хотели, чтобы море мочалило кости на гальке и душило последний вздох соленой водой. Морской морж — не рыба. И он идет умирать на мать сырую землю.
Повольники примолкли и вдруг услышали тяжкий вздох. Среди костей лежал морж, большой, как валун. Он редко раздувал бока и со стоном дышал. Была видна дорога, которую он проложил через кости, чтобы подальше уйти на землю.
Осторожно, не нарушая покоя смертного часа, повольники подбирались к умирающему. Но он узнал их чутьем, шевельнул головой с седыми усищами и взглянул на людей.
Один клык в полсажени длиной, другой наполовину сломай. Морж смотрел, но видел ли он? Глаза уже затянула темная вода. Он уронил голову, вздохнул и больше не поднял бока.
Черная кожа исполосована шрамами. Богатырь немало побился на своем веку, да не сладил с последним врагом…
Сколько бы ни собирали биармины мертвого моржового зуба, но его много осталось. Везде валялись длинные, больше лошадиных, лобастые черепа с могучими зубами.
— Ныне мы, браты, не только рассчитаемся с боярином Ставром. На нас больше нет долга, и нам самим много останется, — сказал Доброга и закашлялся.
От натуги порвалось в груди старосты, и кровь пошла горлом.
Глава восемнадцатая
Обратный путь повольников был нерадостен, гребли без песен и без говора. Лишь бы поскорее вернуть домой живым любимого старосту. Они внесли Доброгу в острожек на руках. Заренка вся сжалась, увидев ослабевшего мужа, который ушел из избы на своих ногах, а вернулся на чужих. Но не уронила слезы и виду не подала. Она уложила Доброгу на мягкие шкуры, голубила его, утешала: — Тебе и в прошлом лете было с осени плохо. Зимой же вся хворость пройдет, как уже проходила. Заренка звала Зиму — и Морена послушалась, наступила тяжелым железным шагом. Ветер без устали выл в дымовых продухах, небо хлестало косыми студеными дождями, свистели избяные пазы. Пришла пора, пока не начнется ледостав, уходить из острожка тем повольникам, которые будут зимовать на двинских берегах и заниматься ловлей пушного зверя в Черном лесу. Доброге было душно, он не мог больше выносить привычного избяного дыма и запаха сажи. Его вынесли в холодную клеть, но и здесь ему плохо. Тогда во дворе срубили навес, чтобы под ним гулял вольный ветер, а дождями не захлестывало постель больного. Биарминовские колдуны наведались вновь, но кудесничать не стали. Древний старец, старший кудесник, погладил лицо Доброги тонкими темными пальцами, посидел около, глядя на больного, прошептал про себя какие-то слова — и только. После посещения кудесников другие биармины, и знакомые и незнакомые, принялись навещать Доброгу. Придут, молча посидят у постели больного и простятся. Иной раз весь день они тянулись один за другим, будто сговорились сменяться в очередь. А все длинные ночи Доброгу не оставляли Заренка и Одинец, ложились по бокам больного и не отходили до утра. Морена понеслась над морем, растолкала мокрые осенние тучи и расчистила небо. Выглянуло солнышко. Увидев, что нет хода теплым лучам, спрятало их до весны и смотрело не грея. Доброга приподнялся и попросился на волю. Ему стало душно и тесно уже и во дворе острожка. Одинец на руках вынес брата на двинский берег. Доброга посидел около стылой воды и попросился к морю. У соленой воды он стоял, опираясь на Одинца, и долго глядел в пустые дали. Тихо — громкой речи у него уж не было — старший брат спросил у младшего: — А что там-то? За морем? — Не знаю. — И биармины не знают. А ты узнай. — Узнаю. — Большие лодьи нужны. — Построим. Придет время. И они опять смотрели на море. На него можно вечно смотреть. Подошли трое ватажников и встали рядом. Ещё несколько человек подошли, глядели вдаль. Доброга постарался сказать погромче: — Стройте большие лодьи. Зовите умельцев и сами учитесь. В море, поднимаясь на круглых волнах и скрываясь между ними, мелькали темные точки. По морю бежали биармины в своих легких кожаных лодочках, часто махали двухлопастными веслами и правили к берегу. Водяные люди ничего не боятся. Прыгнули на гребень, а гребень взметнуло над берегом. Волна ломается. Могучая сила, как же с ней справиться? Биармин летит над пеной, как на крыльях, на него страшно смотреть. А он уж выскочил! За биармином гонится могучее море, а смельчак бежит по обледенелым камням, не споткнется, и лодочку несёт, как перо. Минуты не прошло — и все биармины высадились на берег, к повольникам прибыли в гости. — Пригород ставьте вместе с биарминами и берегите его, — сказал Доброга и оглянулся, будто его кто-то позвал голосом. Подходила Заренка. Тихо, одному Одинцу, Доброга шепнул: — Она меня держит. А то ушел бы уже…Доброга попросился в лес. Бывалый охотник иссох от болезни, и Одинец легко нёс его. Тянет не больше ребенка. Таких не одного, а троих унес бы Одинец. Вдали затих тяжкий гром морских волн. На еловых лапах висели бахромчатые лишайники, вековечные сосны мачтами лезли в небо. Доброга молча, как в знакомое лицо, вглядывался в каждое дерево, касался веток слабой рукой. На вырубке, откуда повольники брали лес для острога, староста затосковал и заскучал: — Домой, домой!.. Перед тыном поторопил брата: — Скорее… Во дворе Доброга захотел, чтобы его постель вынесли из-под навеса под открытое небо. С моря надвинулась лохматая тучка. Доброга смотрел вверх, а кругом него стеснились товарищи и биармины, ожидая чего-то. — Не обижайте их никогда, братья, — оказал Доброга ватажникам про биарминов. — С ними всегда живите по нашей Новгородской Правде… Передохнув, он продолжал: — Для них не скупитесь на железо, делитесь всем… Он начал задыхаться. Одинец приподнял его. — Помни, ты мне обещал принять… — начал Доброга речь к брату и кашлянул. Изо рта потекла алая кровь. Брат брата осторожно опустил на меховое изголовье. Доброга хотел говорить ещё, но не мог. Одни глаза говорили. Он протянул руки, обнял жену и брата и отошел далеко-далеко, куда уходят все, кто честно прожил свой век, смело брал всё припасенное матерью-землей для человека, кто зря не чинил обиды и врагу, а для друга себя не щадил. Застонали повольники, прощаясь со своим первым старостой, горестно завыли биармины, поминая Доброгу. С серого неба посыпались снежинки. Тихо-тихо каждая слетала в поисках места, где бы лечь поудобнее на всю долгую, темную зиму…
Глава девятнадцатая
Зимой в двинском острожке малолюдно, меньше трети народа осталось. Отеня ушел на зимние ловли. Он не один отправился — с ним пошли дочь Дака, Отенина женушка, биарминка, и сам Дак, тесть новгородца. С ними повольник не соскучится в Черном лесу. Янша и Игнач думали вдвоем топтать снежные путики, охотничьи дорожки и с глазу на глаз коротать ночи в тесной избушке. А ушли втроем. Карислав ушел вдвоем с женой Илей. Засев где-то в глухомани, молодец охотник проверяет силки и западни, настораживает сторожки и изготовляет из дерева и жилок капканчики, как прочие повольники. Вернувшись с обхода, он снимает шкурки со зверушек и распяливает дорогие меха на мерных щепочках. Для каждого зверя полагается пялка своей мерки. Кариславу во всем помогает молодая жена, которая и песню ему споет и согреет сердце мужа доброй лаской. По доверию от ватаги мену на железо с биарминами вел Одинец. Кричал как-то один повольник, что слишком дешево отдают биарминам каленые гарпунные насадки. В ватаге заспорили, но согласились, что Одинец прав. До самого жадного дошло, что если бы хотели поменяться и уйти — другое дело. А коль порешили усесться у моря навечно, так для чего же с биарминов драть десять шкур? Хватит и четверной цены против новгородского торга, как сами платили боярину Ставру. Тяжелый долг боярину Ставру сначала облегчился щедрым даром покойного старосты, а после находки клада моржовых зубов и совсем свалился с повольничьих спин. Ещё не прошел полный год, а уже кончилась кабала. Не на боярина — на себя работает ватага, сами себе хозяева. И добрым словом лишний раз поминают Доброгу за то, что он отказался платить Ставру долю во всей ватажной добыче. Оставшиеся на зиму в острожке повольники любят, сбившись в холостую избу, посудить о будущих делах: — Надобны морские лодьи, как Доброга наказывал… — Железо всего нужнее. — К Новгороду искать пути-переволоки. — Готовить огнище под хлеб. — Налаживать кожевни. — Умельцев заманивать. — Побольше раздобыться рогатым скотом к лошадьми. — Железо в болотах найти. — Не пускать купцов, не пускать бояр — все торги самим вести! — Не всем же жениться на биарминках, девок достать бы из Новгорода! — Ишь, девушник! Люди о деле, а ты о девках. Девку себе ищи сам, ватага тебе не сват.Всё нужное, не обойдешься. Кричат, шумят. Разгорячившись, начинают толкаться. Одинец, выбранный старостой после Доброги, поднимется со скамьи, задевая шапкой за потолочную матицу, пригнется, скажет: — Э-эй, вы! — И достаточно. От рук, от голов по стенам и потолку ходят корявые черные тени. В деревянных плошках горит яркий нерпичий жир. Биармины научили новгородцев, как этот жир резать, раскладывать в плошках и зажигать. Сами биармины плетут фитили из тонкой песцовой шерсти, травы и мхов. Льняные фитили лучше. В плошках нерпичий жир растапливает сам себя и дает сильное, высокое пламя. Без хорошего света у моря не прожить. И в Новгороде коротенек зимний денек, а в двинских устьях его почти совсем нет. Ночь чуть ли не сплошная. Зима жмёт. Небо железное, звезды медные, белокаменный морской лед светится слабым светом. Луна сидит в дымном облаке. Небо спит, земля спит, море спит. А живое живо, и человек и зверь. На морском берегу биармины, взяв в ученики новгородцев, настораживали капканы с деревянными и костяными пастями и брали на мороженое мясо и рыбу лисичек-песцов. Песцовый мех мягок и ценен. Он бывает тёмносерый с голубизной и белый с голубой подпушью. Борясь с Мореной, море наломалось вволю и, пока не угомонилось, нагородило льдины и навалило стены. По морским льдам трудно ходить. Биармин Онг, из кузнечных учеников, и Одинец, добравшись до отдушины, сели ждать большую нерпу. Охотники закутаны в белый медвежий мех, открыты одни глаза. У одного черные, у другого серые, а кажутся одинаковыми. Мороз сушит грудь, давит тело, а шевельнуться нельзя, не то спугнешь чуткую добычу. Целую зиму, что ли, придется сидеть у отдушины?.. Биармин может. Биармин целыми месяцами сидит и вытачивает на кости острым камнем фигурки людей и животных, черточки, глаза и разный красивый узор. Биармин трёт кость, пока не наточит её для гарпунной или другой насадки. Биармины терпеливы. «Терпением много можно взять», — думал Одинец. Есть и у него терпение. Он помнит свою жизнь во дворе доброго Верещаги, помнит каждый шаг, помнит Заренку, когда она ещё бегала маленькой девчушкой… В отдушине будто плеснуло? Нет, это помнилось. Вспомнился убитый нурманнский гость. Глупость была, мальчишеский задор. Да и было всё это будто давно, будто не с ним. Одинец — ныне вольный человек, он из своей доли зимней добычи сможет выкупить в Городе виру. Он отдаст свой долг, но в Новгород не вернется. Вода вправду плеснула. Надо льдом поднялась круглая голова. Гарпуны на ременных поводках ударили с двух сторон, и охотники вытащили тяжелую морскую нерпу. Большой зверина, куда до него невским нерпам! — С добычей! Но Онг не хочет уходить: — Мало сидели. Ещё будет хорошо. — Ладно, ещё посидим. Пусть на каждого придется по целой нерпе или по две. Одинец так же терпелив, как Онг. Он может долго ждать. Одинец не торопится домой. А дом у него есть, есть и свой очаг. У других жены, а у него сестра, завещанная братом. Как она захочет, так и будет. Её воля. Яволод, Бэва, Заренка и Одинец живут одной семьей. Былой друг, товарищ Верещагиных детей, былой возлюбленный Заренки, Одинец без жалобы сделался кровным братом Доброги. Он честно, от души соблюдает братство, и он брат молодой вдовы. С ними живет и пятый. Заренка ждет своего срока. Женщина бережно носит дитя.
После долгих ночей для человеческого сердца большая радость видеть, как нарастает солнечный день. Всё выше ходит солнышко над Черным лесом. Оно живо, как и прежде. Оно не забыло людей. Ещё с осени Онг и Расту обещали своему другу и наставнику, Одинцу, показать какое-то чудо. Они пустились в путь на низких санях в оленьих упряжках. На летних оленных пастбищах биармины отвернули от моря вглубь земли. Ехали долго, оленям давали роздых, а сами спали в меховых мешках на снегу. Биармины рассказывали, что в этих местах нет летних дорог из-за топей. Наконец добежали до холмов. Здесь. На одном из бугров заступами раскопали снег и увидели кости, которые, как камни, торчали из мерзлой земли. Странно и дико было видеть их. Ещё раздолбили землю. Открылся серой глыбой чудовищный череп, а в нем два загнутых зуба по сажени длиной. Кость белая с прожелтью, не хуже моржовой. — Моржи, что ли, такие живут здесь? — Нет, не моржи и не живут, — толковали биармины. Они как умели объяснили своему большому новгородскому другу, что на этих местах и летом земля оттаивает лишь четверти на три, а бугры внутри всегда мерзлые. В них спрятаны чудовища, по имени Хиги. Хиги обижали древних биарминов. Йомала помогла своим детям победить Хигов. Расту и Онг выломали четыре длинных загнутых клыка, тяжелых, словно железные. Они поклонились Одинцу и просили принять дар. Здесь ещё очень много такой кости, и они всю её отдадут своему новгородскому другу. — Твоё, всё будет твоё, только ты учи нас. Ой, учи делать железо, ещё учи, сильно бей нас, открой все тайны! Жена Яволода, Бэва, нянчит маленького живулечку. Ладный живулечка, занятный. На голове темный пушок, а глазенки голубенькие, в Яволодову мать Светланку, в бабушку. Тельце с желтизной, как дареные Одинцу Хиговы клыки, и личико чуть скуластое, в дедушку Тшудда. Повольники рады первому новгородскому мужику, рожденному в острожке. За зиму биармины дали жен ещё шести повольникам… Старший биарминовский кудесник захотел взглянуть на Верещажку, для этого он приехал из недоступного святилища Йомалы. Парнишку распеленали перед очагом. Древний старец пощупал тельце, убедился, что у него есть всё нужное для правильной жизни, и сказал что-то, не сразу понятое ватажниками, а для биарминов ясное: — Когда две реки слились в одну реку, их никто не может разделить — ни великая Йомала, ни боги железных людей!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Приливной вал, разбитый и рассеченный скалами, входил в устье фиорда и послушно нёс длинный драккар, который принадлежал нидаросскому ярлу Оттару, сыну Рёкина, внуку Гундера. Ярл стоял на короткой носовой палубе драккара «Дракон». Под его ногами поднималась искусно вырезанная позолоченная чешуистая шея чудовища. Она оканчивалась задранной головой, похожей и на голову крокодила и на голову змеи. «Дракон» повсюду нес тяжелый, неизгладимый запах смолы, разлагающейся крови и прогорклого сала. Кожаными канатами, толщиной в руку человека, «Дракон» тащил за собой пять громадных туш тупорылых кашалотов. Сплетенные из китовой кожи, эти канаты были крепче железных цепей. Они держались за толстые кольца гарпунов, глубоко всаженных в туши. За устьем, в широкой части фиорда, прилив поднимал воду спокойно, без волн. Кормчий Эстольд находился на своём месте, на короткой кормовой палубе. Двое викингов, учеников и помощников Эстольда, держали длинное правило руля, направляя драккар по кратким приказам кормчего. Перед Эстольдом в круглой железной раме висел вогнутый бронзовый диск. Из дыр в бортах высовывались лапы и плавники «Дракона» — по четырнадцати длинных весел с каждого бока. Гребцы сидели на поперечных скамьях в открытой средней части так низко, что их головы не были видны над бортами.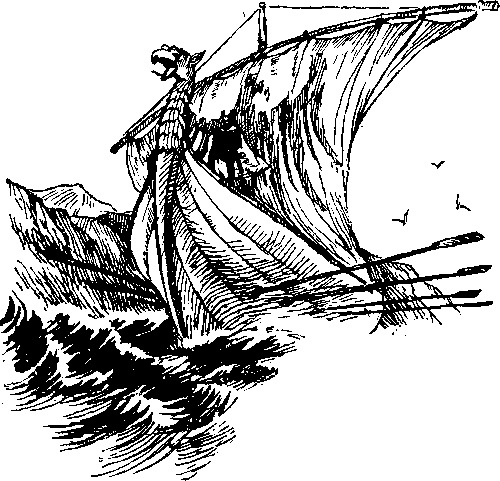 Эстольд часто бил в диск. Звонкие, пронзительные удары задавали гребцам стремительный темп. Вдруг кормчий ударил дважды подряд. Правая сторона продолжала грести, а на левой все вёсла, точно связанные, одновременно опустились и уперлись в воду. «Дракон» повернул на хвосте, как рыба.
Тяжелые туши кашалотов, разогнанные быстрым бегом драккара, устремились к берегу. На «Драконе» освободили канаты, и громадные морские звери, теснясь, как живые, выскочили на мель.
Эстольд безошибочно метко нацелился на широкую скалистую площадку, которую покрывал прилив, а отлив оставлял сухой. Это место служило для приема добычи, предназначенной для разделки.
На берегу ждали сто двадцать, а может быть, и сто пятьдесят рабов — траллсов, одетых в короткие грязные рубахи, с коротко остриженными головами и железными обручами, заклепанными на шее. Траллсы смело бросились в воду, ловили канаты и подтаскивали кашалотов повыше. Работая дружно, они разумно пользовались последним дыханием прилива, чтобы облегчить свой труд.
Берега фиорда были завалены тысячами черепов китов и кашалотов, накопившихся за много лет.
В фиорде стояло густое, тяжелое, удушающее зловоние.
Шло горячее время охоты на китов и кашалотов. Рук траллсов едва хватало, чтобы брать с добычи нужные части — кожу и лучшее сало.
Дань моря… Киты и кашалоты плавали стадами в водах Гологаланда — Страны Света. Владения Оттара носили это имя потому, что, расположенные дальше всех к северу, они дольше всех пользовались бесконечными летними днями.
Поблизости от владений племени фиордов нигде не было столько морских зверей, как здесь. Оттар никому не позволил бы охотиться в его водах. Первым из всех ярлов он брал дары моря и выбирал лучших животных из тех, что паслись на его лугах или спускались к югу.
Кожа кита лучше, и кит дает лучшее сало. Но в кашалоте есть драгоценный кашалотовый воск — нежный, плотный, чистый белый жир. Его жадно берут и платят за него золотом арабские и греческие купцы, которые приезжают в Скирингссал через страну русских — Гардарику, через город Хольмгард.
Эстольд часто бил в диск. Звонкие, пронзительные удары задавали гребцам стремительный темп. Вдруг кормчий ударил дважды подряд. Правая сторона продолжала грести, а на левой все вёсла, точно связанные, одновременно опустились и уперлись в воду. «Дракон» повернул на хвосте, как рыба.
Тяжелые туши кашалотов, разогнанные быстрым бегом драккара, устремились к берегу. На «Драконе» освободили канаты, и громадные морские звери, теснясь, как живые, выскочили на мель.
Эстольд безошибочно метко нацелился на широкую скалистую площадку, которую покрывал прилив, а отлив оставлял сухой. Это место служило для приема добычи, предназначенной для разделки.
На берегу ждали сто двадцать, а может быть, и сто пятьдесят рабов — траллсов, одетых в короткие грязные рубахи, с коротко остриженными головами и железными обручами, заклепанными на шее. Траллсы смело бросились в воду, ловили канаты и подтаскивали кашалотов повыше. Работая дружно, они разумно пользовались последним дыханием прилива, чтобы облегчить свой труд.
Берега фиорда были завалены тысячами черепов китов и кашалотов, накопившихся за много лет.
В фиорде стояло густое, тяжелое, удушающее зловоние.
Шло горячее время охоты на китов и кашалотов. Рук траллсов едва хватало, чтобы брать с добычи нужные части — кожу и лучшее сало.
Дань моря… Киты и кашалоты плавали стадами в водах Гологаланда — Страны Света. Владения Оттара носили это имя потому, что, расположенные дальше всех к северу, они дольше всех пользовались бесконечными летними днями.
Поблизости от владений племени фиордов нигде не было столько морских зверей, как здесь. Оттар никому не позволил бы охотиться в его водах. Первым из всех ярлов он брал дары моря и выбирал лучших животных из тех, что паслись на его лугах или спускались к югу.
Кожа кита лучше, и кит дает лучшее сало. Но в кашалоте есть драгоценный кашалотовый воск — нежный, плотный, чистый белый жир. Его жадно берут и платят за него золотом арабские и греческие купцы, которые приезжают в Скирингссал через страну русских — Гардарику, через город Хольмгард.
Бревенчатый настил длинной пристани, сложенный из целых, неошкуренных стволов, опирался на лес свай из лиственницы, которая способна долго стоять в воде, не подвергаясь гниению. У пристани покачивались три других драккара, собственность Оттара. Кожаные причальные канаты были закреплены за прикованные к столбам кольца величиной с колесо телеги. Другие борты заботливо оттягивались на якорях, чтобы драккары не помяло о пристань. Самое драгоценное состояние викинга — его драккары. Умело направленный кормчим Эстольдом «Дракон» медленно и точно разворачивался правым бортом. Его ожидали три-четыре десятка викингов. Они носили полное вооружение — одни в броне с набедренниками и поножами, другие в кольчугах с железными юбками, надетых на кожаные кафтаны, сшитые из бычачьих хребтин, все в простых или в рогатых шлемах. Шумная толпа направилась вверх по дороге, брошенной змеиными петлями на крутой берег фиорда. Стража осталась на пристани. Нет часа, когда на Гологаланд и на Нидарос не может налететь флотилия любого свободного ярла, привлеченного запахом известного богатства Оттара. На далеких мысах и вершинах, командующих подступами к фиорду, ждут дозоры. На берегах заготовлены нацеленные камнеметы и самострелы, готовые послать камни и дротики в драккары нападающего, когда они появятся в горле фиорда. В фиордах нет ни войны, ни мира. Всё зависит от трезвого, делового расчета ярлов, стремящихся к своей выгоде. Здесь каждый за себя и каждый на страже с ранней весны и до поздней осени, до темных дней зимы, которые делают море слишком свирепым даже для морских драконов и приносят суше не мир, а передышку.
Глава вторая
Дорога от пристани делала четыре крутых витка и переваливала в долину, которая, сужаясь и расширяясь, врезалась в горы. Это было надежное гнездо среди то голых, то одетых суровым темным лесом возвышенностей. Они закрывали солнце. В долине утро наступало позже, а ночь приходила раньше, чем в открытом море. Кто первым осел здесь? Кто построил первую стену из брёвен и кто пробил дорогу в скалах? Ярлу Гундеру, отцу Рёкина и деду Оттара, понравился дальний северный фиорд в те дни, когда кровавая ссора с ярлом Гальфданом Старым вынудила Гундера, не менее храброго, но слабейшего, покинуть юг страны фиордов. Ярлы Гундер и Гальфдан Старый оба происходили из великого рода Юнглингов, от отца племени фиордов Вотана их отделяло сорок семь сосчитанных поколений. Однако даже родные братья воюют и проливают кровь, не теряя чести и славы. Итак, Гундер искал свободных мест, и до сих пор у его внука Оттара есть только дальние соседи, а ближних нет. Ближайший свободный ярл, такой же владетель своего фиорда и всех прилегающих к нему земель, сидел в трех днях пути к югу от Нидароса, пути по морю: через леса и горы не было настоящей дороги. Гундер строил мало, у него было мало траллсов. Он ограничился возведением палисада, бревенчатого дома для себя и для викингов и несколькими хижинами для траллсов. Гундер был убит в набеге на варяжский берег. Рёкин нападал на земли фризонов, готов, саксов, англов, на франкский и кельтский Валланд, на острова Зеленого Эрина. Господин многочисленных траллсов, взятых в удачных походах, Рёкин возвел двойную стену, за которой потерялся первый маленький горд нидаросских ярлов. На его место Рёкин построил длинный прямоугольный дом, вытянутый с востока на закат, с дверями на обоих концах: на восход — для женщин, которые должны подниматься раньше мужчин, и на закат — для мужчин, обладателей женщин. Рёкин умел отбирать за морем, в низких странах, траллсов, знающих мастерство. Он устроил кузницы, кожевни, столярни и поставил ткацкие станы, чтобы траллсы работали, и склады для изделий, предназначенных для продажи. Дружина богатого и сильного гологаландского ярла достигала внушительного числа в двести восемьдесят викингов, для которых были построены удобные дома. Надо знать, что в те времена двести викингов брали и грабили такие западные города, как Нант, Руан, Шербур. Гундер учил Рёкина с трехлетнего возраста играть с птицами, ломать им крылья и лапки, выщипывать пух и вырывать перья. Ребенку приносили птенцов бакланов, гаг, чаек и крачек. Когда он подрос, ему доставали взрослых птиц. В десятилетнем возрасте Рёкин «взял» своего первого человека стрелой, одиннадцати лет — мечом, а после тринадцати лет он потерял «благородный» счет. Так все ярлы и все викинги старались воспитывать своих сыновей. В свою очередь, и Рёкин был настойчивым и внимательным отцом. Оттар оказался способнее Рёкина. В семилетнем возрасте он для шутки пробил череп траллса из пращи. Восьми лет он смертельно ранил на поединке мальчика, который был старше его на два года. Викинг, отец убитого, признал честность боя. Его сын славно поднялся в Валгаллу сказать Вотану, что в стране фиордов нет недостатка в героях. Оттару было десять лет, когда, раздраженный шуткой отца, он бросился с драккара в море и доплыл до берега, хотя вода была холодна, а берега не видно. Одиннадцати лет Оттар участвовал в кровавом походе на англов и, ещё не имея силы мужчины, вел себя взрослым викингом. Рёкин умер от раны, нанесенной стрелой, когда его сыну исполнилось пятнадцать лет. Отец оставил Оттару фиорд с обширными землями, данников — лапонов-гвеннов и дружину, поклявшуюся на оружии хранить молодому ярлу ту же верность, с которой она служила отцу. С тех пор минуло одиннадцать лет.Оттар прошел через ворота в бревенчатом тыне по подъемному мосту. Старый Гундер неудачно выбрал место для горда, и Рёкин не сумел исправить ошибку — ров оставался почти сухим. Его питал отвод из пробегавшей по долине речки, но почему-то вода уходила в почву, не успев как следует наполнить ров. Легкий ветер тащил смрад из фиорда. Из рва остро разило болотом и нечистотами. Цепляясь за скученные строения богатого горда, вонь смешивалась и застаивалась. Молодой ярл устал и его желудок сжимался от голода, однако он пошел взглянуть, как подвигается работа в кузнечной мастерской. Оттар хотел отвести в Скирингссал несколько броней, изготовленных по образцу, захваченному при последнем набеге на Валланд. При разделе добычи между викингами и ярлом эта броня обошлась Оттару в сорок траллсов. Её оценили бы ещё выше, но она оказалась слишком малого размера, как для юноши или для женщины. В Нидаросе имелись самые умелые кузнецы-траллсы из всех фиордов до Варяжского моря. Две брони уже были откованы. Они настоящего размера, за каждую дадут по крайней мере цену шестидесяти траллсов. Ярл хотел взглянуть, как подвигается украшение доспехов. Красота имеет высокую цену. В кузнечной мастерской шла усиленная работа. Ударяли большие молоты, четко звенели малые. В горнах пылало сине-желтое пламя. Кто-то крикнул, и все замерли в тех положениях, в каких каждого застало появление господина. Оттар подошел к высокому полуголому человеку с коротко остриженной головой. Длинная черная борода траллса лежала на его тощей грязной груди, как кусок свалявшейся шерсти. — Почему же ты бездельничаешь? — крикнул ярл. Он сразу заметил, что на верстаке среди инструментов для гнутья и чеканки металлов лежал темный череп брони в точно таком же виде, в каком ярл видел его два дня назад. Подскочил траллс, на обязанности которого лежало наблюдение за работами в мастерской. Ярл хлестнул его по щеке концами пальцев. — Он не хочет. Я наказывал его плетями. Я лишил его воды и пищи, но он не хочет! — оправдывался надсмотрщик с таким лицом, точно Оттар и не ударял его. Ярл медленно поднял руку над присевшим в ужасе надзирателем. Надсмотрщик дешевле мастеров. Один удар кулаком в висок… Спасая свою жалкую жизнь, траллс успел прошептать: — Он говорит, что хочет умереть! Это было серьезное обстоятельство, и рука ярла медленно опустилась. Иногда среди траллсов вспыхивало особенное безумие, заразительное и разорительное. Иной раз было достаточно одному показать пример — и начиналась страшная болезнь. Траллсы вешались, резались, кидались с круч, топились с камнями на шее, набрасывались на вооруженных викингов. Они даже восставали, бессмысленно, без надежды на успех, разоряя господина. — Веди его за мной! — приказал надсмотрщику Оттар. За дверями кузницы ярл остановился размышляя. Он страстно желал наказать непослушного. Он вырвет ему зубы и вобьет их в череп, сорвет ногти, сломает кости, вывернет суставы, сдерет кожу. Умелой и медленной пыткой он заставит выть каждую жилку этого ничтожного, грязного тела… Но… всё же это будет исполнением воли траллса, и траллс умрет. А кто будет работать над доспехами, когда не станет лучшего мастера, которым владел Нидарос? От злобы Оттар прикусил ноготь большого пальца. Взбунтовавшийся раб стоял, согнув спину, как за верстаком, вялый и безразличный. Он терпеливо ожидал прихода желанной смерти в любой форме, самой ужасной, лишь бы не жить. — Нет, ты очнешься! Любопытные викинги ждали решения ярла. — Веревок и лошадей! — приказал Оттар. — Четырех лошадей! Радостно оживившиеся викинги побежали в конюшню. Вот и потеха! Готовя на ходу скользящие петли на ременных веревках, викинги подошли к траллсу. Другие набрасывали упряжь на лошадей, таких же безразличных, как траллс. Останавливая приготовления к забаве, Оттар поднял руку: — Привести всех остальных кузнецов! Оттар наблюдал за осужденным. Траллс поднял голову и посмотрел на товарищей. Жизнь мелькнула в тусклых глазах кузнеца, и он чуть кивнул кому-то в жалкой кучке. Оттар поймал движение и заметил лицо юноши, который плакал не таясь. — Этого! — ярл указал пальцем. — Этого! Сюда его! Когда надсмотрщик выхватил юношу из кучки траллсов, кузнец сделал движение, будто бы он мог помешать. Оттар, казалось, лишь прикоснулся к груди осужденного траллса — тот отлетел и упал на спину. Один из викингов поставил рабу ногу на грудь и не дал подняться. Надсмотрщик подтащил юношу и, стараясь угадать волю господина, заглядывал Оттару в глаза. Надсмотрщик выделялся среди остальных траллсов сильным телом. Ему доставался первый кусок, он ел больше своих подчиненных. Щека, по которой ударил Оттар, успела вздуться, и опухоль подошла к глазу. Казалось, что надсмотрщик хитро подмигивает.
 — Сначала этого — лошадьми, — спокойно сказал Оттар.
Радуясь усложнению забавы, викинги сбили юношу с ног и затянули петли на щиколотках и на запястьях.
Телохранители ярла Свавильд и Галль яростно заспорили. Каждый вздумал заменить собой лошадь и тянуть вместо неё. Богатыри толкались и свирепо задирали бородатые головы.
— Тащите оба наперекрест. Мы и увидим, кто кого перетянет!
И тут же викинги начали выкрикивать ставки на Свавильда и на Галля, чтобы ещё больше их раззадорить.
— Ну, ты будешь громко петь! — обратился к юноше Эстольд. — Я присмотрю, чтобы они не слишком торопились.
Из дома вышла Гильдис, жена Оттара. Такой же благородной крови, как нидаросский ярл, высокая, со светлыми толстыми косами, перевитыми шелковыми лентами и закинутыми на грудь, с золотым обручем на лбу, окруженная свитой из дочерей и жен викингов, она казалась королевой.
Право же, в этом далеком фиорде так мало развлечений…
— Меня, меня казните! — вопил непослушный траллс-кузнец, хватаясь за тяжелую ногу викинга. — Не троньте мальчишку, он ни в чем не виноват!
— Поставьте его на ноги, пусть он видит, — приказал ярл и обратился к мастеру: — Ты первый подал пример неповиновения. Но ты умрешь последним. Сначала — все они. — Оттар указал на товарищей траллса.
Среди женщин раздались дружные вздохи и восклицания восхищения.
С неожиданной силой кузнец вырвался, бросился к ярлу и обнял ноги господина.
— Прости, прости! — молил он с дикой силой и красноречием отчаяния. — Они невиновны. Я был безумным, но я опомнился. Клянусь, клянусь! Я буду работать, я сделаю тебе лучшие доспехи, лучшее оружие. Таких не видел ещё ни один человек. Я умею, я умею!
— Уведите лошадей, — сказал ярл. — Справедливое наказание отложено на время.
Оттар не гордился победой. Он искренне презирал траллсов, которые и на своих землях были способны лишь работать. Презренный труд человеческих рук, он хорош только для тех, кто пользуется его результатами, но не для того, кто трудится сам.
Сам нидаросский ярл умел делать многое. В набегах и походах не приходится таскать с собой слуг. Викинг сам гребет на драккаре, пока не отвалятся руки, чинит оружие и доспехи, рубит деревья, обдирает и варит дичину. Но это благородный труд сына Вотана.
Женщины удалились, не скрывая своего разочарования. Оттар посмотрел им вслед с очевидной, но молчаливой иронией. Женщина легкомысленна даже в том случае, когда она рождена от Вотана. Страсть к развлечениям угнетает женщину и лишает её разума. Только мужчина способен познать чистую радость наслаждения победой ума и выгодным делом.
Когда ярл ушел, кормчий Эстольд, друг преждевременно погибшего Рёкина, связанный с родом Гундера клятвой крови, торжественно обратился к другим викингам:
— Клянусь священными браслетами Вотана, молотом Тора и моим мечом! Наш ярл так же мудр, как смел. И так же смел, как мудр.
— Сначала этого — лошадьми, — спокойно сказал Оттар.
Радуясь усложнению забавы, викинги сбили юношу с ног и затянули петли на щиколотках и на запястьях.
Телохранители ярла Свавильд и Галль яростно заспорили. Каждый вздумал заменить собой лошадь и тянуть вместо неё. Богатыри толкались и свирепо задирали бородатые головы.
— Тащите оба наперекрест. Мы и увидим, кто кого перетянет!
И тут же викинги начали выкрикивать ставки на Свавильда и на Галля, чтобы ещё больше их раззадорить.
— Ну, ты будешь громко петь! — обратился к юноше Эстольд. — Я присмотрю, чтобы они не слишком торопились.
Из дома вышла Гильдис, жена Оттара. Такой же благородной крови, как нидаросский ярл, высокая, со светлыми толстыми косами, перевитыми шелковыми лентами и закинутыми на грудь, с золотым обручем на лбу, окруженная свитой из дочерей и жен викингов, она казалась королевой.
Право же, в этом далеком фиорде так мало развлечений…
— Меня, меня казните! — вопил непослушный траллс-кузнец, хватаясь за тяжелую ногу викинга. — Не троньте мальчишку, он ни в чем не виноват!
— Поставьте его на ноги, пусть он видит, — приказал ярл и обратился к мастеру: — Ты первый подал пример неповиновения. Но ты умрешь последним. Сначала — все они. — Оттар указал на товарищей траллса.
Среди женщин раздались дружные вздохи и восклицания восхищения.
С неожиданной силой кузнец вырвался, бросился к ярлу и обнял ноги господина.
— Прости, прости! — молил он с дикой силой и красноречием отчаяния. — Они невиновны. Я был безумным, но я опомнился. Клянусь, клянусь! Я буду работать, я сделаю тебе лучшие доспехи, лучшее оружие. Таких не видел ещё ни один человек. Я умею, я умею!
— Уведите лошадей, — сказал ярл. — Справедливое наказание отложено на время.
Оттар не гордился победой. Он искренне презирал траллсов, которые и на своих землях были способны лишь работать. Презренный труд человеческих рук, он хорош только для тех, кто пользуется его результатами, но не для того, кто трудится сам.
Сам нидаросский ярл умел делать многое. В набегах и походах не приходится таскать с собой слуг. Викинг сам гребет на драккаре, пока не отвалятся руки, чинит оружие и доспехи, рубит деревья, обдирает и варит дичину. Но это благородный труд сына Вотана.
Женщины удалились, не скрывая своего разочарования. Оттар посмотрел им вслед с очевидной, но молчаливой иронией. Женщина легкомысленна даже в том случае, когда она рождена от Вотана. Страсть к развлечениям угнетает женщину и лишает её разума. Только мужчина способен познать чистую радость наслаждения победой ума и выгодным делом.
Когда ярл ушел, кормчий Эстольд, друг преждевременно погибшего Рёкина, связанный с родом Гундера клятвой крови, торжественно обратился к другим викингам:
— Клянусь священными браслетами Вотана, молотом Тора и моим мечом! Наш ярл так же мудр, как смел. И так же смел, как мудр.
Глава третья
Между горами и пригорками, между речками, реками и ручьями, около озер и болот, в долинах и ущельях, среди корявых сосен, густых низкорослых елей, чахлых берёз, ив и черной ольхи живут желтокожие и черноволосые лапоны-гвенны. Зимой они выбирают закрытые от ветра долины, чтобы олени могли достать себе из-под снега пищу — белый мох ягель и сухую траву. Летом они кочуют на пастбищах, где олени откармливаются и набираются сил для вынужденной зимней голодовки. Олени — всё для лапонов, и их хозяева сами себя зовут не лапонами и не гвеннами, а оленными людьми. Для оленных людей в ручьях, речках, озерах и болотах есть разные рыбы и выдра. Среди деревьев живут тетерева, белые куропатки, красные и белые лисицы, черные медведи, бурые соболя, рыжие куницы. Весной прилетает много птиц с перепончатыми лапками, которые дают яйца и пух. Всё это друзья или почти друзья. Враги — это волки. Летом одиночные волки нападают на стада и похищают малых, слабых оленят. Зимней ночью волки сбиваются в большие стада и стараются сразу лишить человека всех оленей. Нельзя крепко спать, нужно сторожить оленей с помощью верных товарищей — чутких и зорких собак. Когда человек не ленится, даже волки не в силах сделать слишком много зла… Рядом с землей течет большая соленая вода. На высоких, крутых берегах гнездятся прилетные птицы. Их так много, что скалы белеют от помета. Птицы устилают гнезда мягким пухом и кладут вкусные яйца. Ловкий и смелый человек лазит по скалам. По соленой воде плавает много громадных зверей. Очень умелый и храбрый человек с очень острой острогой может подплыть к морскому зверю, ударить его под лопатку и достать сердце. На такое дело решается не каждый. У зверей толстая шкура и много жира под шкурой, их трудно пробить. И нелегко увернуться, когда раненый зверь бьет хвостом… На китов нападают с железными гарпунами. Железные гарпуны, железные ножи, котлы для варки пищи, наконечники для копий и стрел, которыми хорошо валить медведей и бить волков, оленные люди доставали у людей фиордов, обитающих на юге. Прежде оленные люди летом кочевали на юг и там менялись с высокими светловолосыми людьми фиордов, с густыми волосами на лицах, а не с черными и редкими, как у оленных людей. Так было до того времени, когда в Нидарос приплыл Гундер на больших деревянных лодьях, похожих на чудовищ, которых человек видит только в страшном сне голодовки. Гундер построил дом над берегом Нидароса и менял железные вещи на меха, пух и кожи, которые приносили оленные люди. Он требовал больше, чем те люди, похожие на Гундера, к которым прежде ходили на юг оленные люди. Но Гундер жил ближе, и пути на юг шли через Нидарос. И Гундер приказал, чтобы оленные люди не смели ходить дальше его дома. Несколько семей не послушались. И никто не вернулся — ни люди, ни олени, ни собаки. Когда же другие оленные люди навестили Гундера, они увидели на острых кольях его ограды ужасные сухие головы и узнали своих исчезнувших братьев. Гундер сказал, что злые духи преградили прежнюю дорогу на юг. Злые духи убили людей и прислали ему головы, чтобы он показал их лапонам-гвеннам и предупредил никогда больше не ходить южнее Нидароса. Не Гундер ли убил людей? Нет, конечно нет! Ведь он сказал, что злое дело совершили злые духи. Не выдумал же он! Ноанды-колдуны били в бубны, раскрашенные кровью медведя, сваренной вместе с корой черной ольхи и оленьей кровью. Ноанды надевали священные маски из березовой коры, устрашающие злых, навешивали гремучие пояса и ожерелья из сухих позвонков осторожных выдр, смелых горностаев и свирепых соболей и произносили заклинания. Ноанды зажгли священные костры, вызвали злых духов и победили их. Пять семей отправились первыми на юг по освобожденным путям через горы. Скоро и их головы оказались на высоких кольях вокруг дома Гундера… Гундер призвал лапонов и объяснил, что злые духи очень обиделись на непослушных людей. Злые духи хотят перебить всех лапонов, и только Гундер может их спасти, потому что злые духи боятся его одного. А за свое спасение каждая семья обязана давать Гундеру в год пять соболей, или песцов, или выдр, одну шкуру медведя, трех оленей и пять полных мер отборного гагачьего пуха. Сначала лапоны думали, что за всё это Гундер будет давать им хорошие железные вещи. Но они ошиблись. Пока оленные люди раздумывали и ждали, Гундер пришел вместе со своими викингами и напал на лапонов. Из числа попавших в его руки Гундер убил каждого пятого мужчину и объяснил оставленным в живых, что такова воля злых духов. Иначе злые духи сами бы набросились на лапонов. Они хотят перебить у лапонов всех женщин. Кто же тогда будет рожать детей? Тогда лапоны поняли, что они обязаны слушаться Гундера, и привыкли платить ему дань.Гундер, который спас пленных людей от злых духов, исчез где-то в соленой воде. Его сын Рёкин сохранил дань в тех же размерах, и лапоны без спора платили дань. Так же было вначале и с сыном Рёкина, но внезапно Оттар потребовал больше — да, гораздо больше. Оттар захотел получать от каждой семьи, где есть взрослый мужчина, не пять, а пятнадцать соболей, или песцов, или выдр, вторую шкуру медведя, двойное количество пуха. И десять оленей. И, сверх того, по два каната, сплетенных из китовой кожи, толщиной в руку и длиной в сто двадцать брассов, в двести сорок полных шагов. Непонятно! Разве опять появились злые духи, как при Гундере? Но, может быть, злых духов уже и нет? Как и люди, духи могли состариться и умереть. Не ошибается ли внук Гундера? Оленные люди пришли к стенам горда и спросили ярла обо всем этом. Оттар ответил, что злой дух лапонов — это он сам. И он станет ещё злее, если они откажут в послушании. И ещё сказал Оттар, что лапоны бьют морских зверей железными гарпунами, которые они получили от Гундера, Рёкина и продолжают получать от него, от Оттара. Они ловят пушных зверей железными капканами, едят пищу из железных котлов. Откуда у лапонов всё это: и железные копья для медведей и железные стрелы, которыми лапоны защищают от волков свои стада? Сказав, что они будут думать, лапоны ушли — и ярл отпустил их мирно. Это случилось недавно — быть может, всего за месяц до дня, когда Оттар потушил искру начавшейся было опасной болезни неповиновения среди траллсов-кузнецов. Оленные люди думали и думали. И нидаросский ярл, вернувшись с охоты на морских зверей, думал о лапонах-гвеннах за трапезой в большой зале общего дома своего горда. Кресло ярла стояло на помосте, устроенном вдоль короткой стены зала. Ниже него поместились кормчие Эстольд и Эйнар. Напротив, в другом конце зала, на таком же помосте стояло точно такое же кресло, предназначенное для почетного гостя или гостей. Редко-редко в далекий Гологаланд заплывали другие ярлы. Нужно было сделать почти сто шагов, чтобы пройти от одного почетного места до другого, — таким большим построил дом викингов Рёкин руками своих траллсов. Острая двускатная крыша, обычная во времена, когда очаги не имели труб, а были, в сущности, кострами, имела необходимое в те годы устройство. Средняя, она же и верхняя, часть своими скатами не доходила до стен, а от стен ниже верхней части были устроены навесы, которые не достигали середины зала. Таким образом, по всей длине и с обеих сторон открывались длинные продухи, куда не мог попадать дождь и свободно вытягивался дым очагов. Продольная матица верхней крыши опиралась на столбы. Ряды столбов принимали навесы, проходили через них и служили опорами верхней крыше. Зал был истинным сердцем горда. В нём, перед очагами, викинги ели, развлекались, обсуждали свои дела, слушали ярлов. На стенах и на столбах висело оружие, как в арсенале. У каждого викинга, входившего в возглавляемое ярлом военное братство, было своё место на скамье, перед столом, собранным из толстых досок. Траллсы, под наблюдением женщин благородной крови, приносили на деревянных блюдах жареную и вареную рыбу, говядину, конину, дичину. Тащили миски с ржаной и овсяной кашей, с овощами, обходили гостей с бочонками меда и ячменного пива.
 Между столами бродили волкодавы; псы рычали на траллсов и приставали к викингам, дрались из-за подачек, привлекая общее внимание. Все говорили сразу, и пронзительный визг побежденного пса не всегда покрывал людской крик и гам.
Молча и жадно утоляя голод, Оттар рвал рыбу руками и отхватывал ножом большие куски мяса. Птичьи косточки хрустели на его крепких зубах. Не вытирая жирных губ, ярл опорожнял добытую у саксов золоченую чашу для причастия по католическому обряду, взятую в набеге из аббатства в устье Темзы. Нидаросский ярл насыщался так, как едят викинги, умеющие поститься неделями, но способные поглотить сразу количество пищи, показавшееся бы чудовищно неправдоподобным обыкновенному человеку.
В кресле ярла хватало места на троих, но Гильдис, недовольная несостоявшимся развлечением, сердилась на мужа и устроилась в другом конце зала, на помосте почетных гостей.
Оттар забыл о женщине. Он весь ушел в процесс насыщения своего здорового, могучего тела. Постепенно сознание туманилось от мяса, меда, пива, но ярл, отбрасывая опьянение силой воли, превращал хмель в буйство мысли. В его возбужденном мозгу неслись образы яростных погонь, схваток, поголовных истреблений. Он думал о непокорных лапонах-гвеннах, он искал, и он наконец нашел. Ярл с восторгом оттолкнул обеими руками серебряные блюда с обглоданными хребтами рыб, костями конины, оленя, диких птиц. Он лег животом на грязный стол и крикнул вниз Эстольду:
— Я знаю, как укротить лапонов! Понимаешь? Без драки. К чему уменьшать доходы от данников? Ха-ха, слушай… — И ярл тихим голосом сказал своему лучшему кормчему и помощнику несколько слов.
Эстольд оторвался от свиного бока, который он обгладывал. Слова Оттара постепенно проникали в его сознание. В густой рыжей бороде кормчего «Дракона», покрытой салом и кусками пищи, открылась широкая пасть с твердыми желтыми клыками.
— Хо-хо-хо! — закричал Эстольд. — Клянусь Бальдуром, ты прав, мой ярл, ты прав, Оттар! Ы-ах!
И оба, глядя друг на друга, оглушительно хохотали. Постепенно они привлекли к себе общее внимание. Крепкие напитки кружили головы, викинги заражались весельем, не зная, к чему оно. Раскаты хохота потрясали крышу.
Заинтересованная Гильдис решила сменить гнев на милость и узнать причину радости мужа. Но пока она пробиралась среди столов, пачкая длинный бархатный подол о кучи объедков, с которыми не могли справиться обожравшиеся псы, Оттар в последний раз опорожнил чашу и улегся спать прямо на помосте.
Сказались и утомление, и бессонница, и пресыщение. Молодой ярл дышал могуче и ровно, как кузнечный мех. Сейчас его могло бы разбудить только раскаленное железо.
Зал успокаивался. Одни викинги вышли, другие, как Оттар, заснули там, где ели. Тишина нарушалась жужжаньем мушиных роев, лязгом собачьих челюстей, ловивших муху, храпом и вскрикиваниями тех, кого давили вызванные хмелем и обжорством кошмары.
Как всегда, сочился тленный смрад из фиорда и из рва, смешиваясь под крышей зала с вонью грязных человеческих тел и запахом жирной пищи. Это был своеобразный аромат, знакомый викингам, — многообещающий запах богатого и процветающего горда.
Между столами бродили волкодавы; псы рычали на траллсов и приставали к викингам, дрались из-за подачек, привлекая общее внимание. Все говорили сразу, и пронзительный визг побежденного пса не всегда покрывал людской крик и гам.
Молча и жадно утоляя голод, Оттар рвал рыбу руками и отхватывал ножом большие куски мяса. Птичьи косточки хрустели на его крепких зубах. Не вытирая жирных губ, ярл опорожнял добытую у саксов золоченую чашу для причастия по католическому обряду, взятую в набеге из аббатства в устье Темзы. Нидаросский ярл насыщался так, как едят викинги, умеющие поститься неделями, но способные поглотить сразу количество пищи, показавшееся бы чудовищно неправдоподобным обыкновенному человеку.
В кресле ярла хватало места на троих, но Гильдис, недовольная несостоявшимся развлечением, сердилась на мужа и устроилась в другом конце зала, на помосте почетных гостей.
Оттар забыл о женщине. Он весь ушел в процесс насыщения своего здорового, могучего тела. Постепенно сознание туманилось от мяса, меда, пива, но ярл, отбрасывая опьянение силой воли, превращал хмель в буйство мысли. В его возбужденном мозгу неслись образы яростных погонь, схваток, поголовных истреблений. Он думал о непокорных лапонах-гвеннах, он искал, и он наконец нашел. Ярл с восторгом оттолкнул обеими руками серебряные блюда с обглоданными хребтами рыб, костями конины, оленя, диких птиц. Он лег животом на грязный стол и крикнул вниз Эстольду:
— Я знаю, как укротить лапонов! Понимаешь? Без драки. К чему уменьшать доходы от данников? Ха-ха, слушай… — И ярл тихим голосом сказал своему лучшему кормчему и помощнику несколько слов.
Эстольд оторвался от свиного бока, который он обгладывал. Слова Оттара постепенно проникали в его сознание. В густой рыжей бороде кормчего «Дракона», покрытой салом и кусками пищи, открылась широкая пасть с твердыми желтыми клыками.
— Хо-хо-хо! — закричал Эстольд. — Клянусь Бальдуром, ты прав, мой ярл, ты прав, Оттар! Ы-ах!
И оба, глядя друг на друга, оглушительно хохотали. Постепенно они привлекли к себе общее внимание. Крепкие напитки кружили головы, викинги заражались весельем, не зная, к чему оно. Раскаты хохота потрясали крышу.
Заинтересованная Гильдис решила сменить гнев на милость и узнать причину радости мужа. Но пока она пробиралась среди столов, пачкая длинный бархатный подол о кучи объедков, с которыми не могли справиться обожравшиеся псы, Оттар в последний раз опорожнил чашу и улегся спать прямо на помосте.
Сказались и утомление, и бессонница, и пресыщение. Молодой ярл дышал могуче и ровно, как кузнечный мех. Сейчас его могло бы разбудить только раскаленное железо.
Зал успокаивался. Одни викинги вышли, другие, как Оттар, заснули там, где ели. Тишина нарушалась жужжаньем мушиных роев, лязгом собачьих челюстей, ловивших муху, храпом и вскрикиваниями тех, кого давили вызванные хмелем и обжорством кошмары.
Как всегда, сочился тленный смрад из фиорда и из рва, смешиваясь под крышей зала с вонью грязных человеческих тел и запахом жирной пищи. Это был своеобразный аромат, знакомый викингам, — многообещающий запах богатого и процветающего горда.
Глава четвертая
В горде Оттара находилось лишь двадцать лошадей, пригодных под верх, и в поход большетрех сотен викингов вышли пешком. Они двигались широким шагом; его называли волчьим шагом викинга. Викинги умели ходить: на ровном месте они опережали лошадей, и всадники ехали рысью, чтобы не отставать. А на подъемах, на пересеченной местности, в лесу и среди кустов конница не поспевала за детьми фиордов, владеющими искусством похода. Дорога поднималась по долине мимо пастбища свиного стада, принадлежащего Оттару. Заслышав чужих, одичавшие животные поднимали длиннорылые морды и вглядывались маленькими, подслеповатыми глазками. Сторожевые кабаны подали сигнал тревоги звучным фырканьем. Стадо выстраивалось подобно отряду воинов. В середину сбились самки с детенышами — драгоценностью рода. Их окружили подросшие кабаны и холостые свиньи. Матерые секачи уперлись головным отрядом, готовым не только дать отпор, но и перейти в наступление. Это очень походило на боевой строй хорошего, обученного войска. Приближаться к стаду было опасно, и викинги далеко обошли его. Один Оттар подъехал поближе. Ярл с удовольствием рассматривал свиней, он видел в них сильное племя, смелое, готовое к драке. И они принадлежали ему. В этом месте долины стадо обитало круглый год под присмотром нескольких траллсов, белобрысых саксов-свинопасов. Саксы жили здесь же, во врытой в склон горы хижине-пещере. Свиньи считали это место своей собственностью и из всех людей признавали только сторожей. В летнюю пору ловли китов и кашалотов свиней подкармливали мясом морских зверей, зимой — рыбой и тем же мясом, которое хранилось в глубоких ямах. Там оно медленно разлагалось, делаясь для стада всё более заманчивым лакомством. Свиньям же бросали тела умерших траллсов; эти животные были своеобразным ходячим кладбищем. По мере надобности свиней брали стрелами. Особый вид охоты был сопряжен с риском, что делало заготовку свинины любимым развлечением викингов. Любопытство всадника надоело одному из секачей. Громадный, черный от налипшей грязи, он шагом вышел из строя и замер, шевеля ноздрями носа, который был шире человеческой ладони; секач ловил запах Оттара. За матерым кабаном пронзительно взвизгивали теснимые старшими поросята, огрызались матки. Тревожно и густо хрюкали свиньи, взволнованные воспоминанием о стрелах. Раздраженный секач решил предложить человеку поединок, победить его и съесть. Он бросился для одновременного удара клыками и всей своей массой, равной массе лошади. Оттар подпустил секача на несколько шагов, вздернул коня на дыбы и повернул его на задних ногах. Когда обманутый секач остановился, потеряв противника, ярл был уже далеко. Присев и спрятавшись за стадом, траллсы-свинопасы следили за ярлом. Саксы жили вместе со свиньями, питались одной пищей, привыкли к животным и понимали их. Когда стадо успокоилось и разбрелось, один из свинопасов издал ласковый, напоминающий хрюканье зов. Секач ответил чем-то напоминающим длинный вздох, и человек приблизился к чудовищному зверю. Кося умным серо-зеленым глазом с белыми ресницами, кабан приподнял губы, ещё больше обнажив кинжалы изогнутых бивней. Сакс чесал бок развалившемуся кабану. Он чесал изо всей силы острым концом можжевеловой дубинки — иначе кабан не почувствовал бы дружеской ласки. — А если бы ярл не увернулся от тебя, Джиг? А? Джиг, что бы ты с ним сделал? — спрашивал человек на саксонском языке, налегая на дубинку. Джиг ответил внушительным ворчаньем. — Эх, Джиг, глупый Джиг! — говорил человек своему любимцу. — Если бы ты пустил меня под свою шкуру! Если бы я был колдуном и мог поменяться с тобой телом!..За пастбищем для свиней, на обратном скате возвышенности, лежали возделанные поля. Здесь выращивали рожь для лепешек, овёс для каши и коней, ячмень, из которого делали солод для пива — любимого напитка викингов, предпочитаемого многими виноградному вину и меду. Отсюда горд получал морковь, брюкву, редьку и вкусную желтую репу. На окраине усадьбы были поселены траллсы, взятые на самых дальних берегах Валланда, к югу от саксонского острова. Они говорили на своем особом языке, на их головах росли такие же черные волосы, как у лапонов-гвеннов, но кожа была белой, а не желтоватой. На их лбах, как и на лбах всех траллсов Нидароса, была выжжена руна «R» — ридер, начальная буква имени Рёкина. Их женщины, как и дети, носили тот же знак. Весной полевые траллсы на себе пахали поля. Летом они оберегали посевы от птиц и зверей и ухаживали за ними, пропалывая всходы и таская воду для поливки. Им было позволено возделывать для себя небольшие клочки вдали от полей ярла, один раз в неделю ходить к морю ловить рыбу своими средствами и пользоваться остатками мяса убитых морских животных, однако без малейшего ущерба для полей ярла. На зиму полевые траллсы оставались в землянках около полей и жили под снегом как умели. Иногда недовольный плохой работой ярл вешал кого-нибудь на высоком столбе среди полей. Тело запрещалось снимать. Для назидания. Все остальные траллсы горда, кроме свинопасов, завидовали полевым траллсам. Застигнутые викингами земледельцы опускались на колени и, прижав крестом руки к груди, низко опускали головы. Черные головы торчали, как пеньки, среди высоких колосящихся злаков. Викинги, вытянувшись по одному, проходили полями по тропинкам. Вид хлебов обещал хороший урожай. Изредка кто-либо из викингов нагибался и срывал василек. Цветы были редки — поля тщательно пропалывались. Виселица с задранной опорой для веревки имела вид руны «Y» — каун. Не боясь викингов, вороны продолжали сидеть вблизи. Тело повешенного слегка поворачивалось, воздух сочил запах тления. Под виселицей рос особенно сильный и густой хлеб; резко выделяясь своей высотой среди поля, он уже наклонял наливавшиеся колосья. Когда, замыкая строй, последним проехал ярл, стебли под виселицей зашевелились. Показалась голова ребенка. Худое личико с неестественно громадным лбом, изуродованным растянутым клеймом, повернулось вслед господину. Черные глаза смотрели странным взором. — Ссс… Жанна! Спрячься, дитя мое, спрячься! — тихонько позвал женский голос. Голова ребенка скрылась. Женщина, обнимая руками страшный столб виселицы, произносила слова погребальной службы на латинском языке. Ребенок повторял их, не понимая.
На вторые сутки похода викинги заметили первые стада лапонских оленей. Здесь викинги разделились на отряды по восемь — десять человек, разошлись и продолжали движение на север. Они быстро проходили сквозь рощу сосен и кривых берез с темными, уродливыми стволами, в наростах и язвах. В сырых низинах приходилось обходить частые заросли ломкой черной ольхи. Каменные склоны были покрыты густыми мхами, кустиками костяники, облепихи, черники, брусники, морошки с незрелыми ягодами. Горы разрезали Гологаланд сетью невысоких хребтов, между которыми прятались сочные зеленые долины. Солнце длинно кружило по небу, только прикасаясь к краю земли. Иногда тучи закрывали неутомимое светило, падали быстрые летние дожди, и капли сверкали на листьях и траве. Когда тучи стояли высоко, а солнце светило снизу, с неба протягивались прекрасные радужные дороги валькирий. Небо чернело, рокотал гром, и рыжий бог Тар играл золотым молотом, пока не разгонял тучи. Чем дальше викинги удалялись на север от Нидароса, тем чаще встречались лапоны и стада оленей. Лапоны выбегали из своих переносных кожаных чумов и спрашивали друг друга: — Куда они идут? Зачем идут? Почему они так торопятся? Кто же мог знать!.. Стада нагулявшихся оленей паслись в радушных долинах. Что же ещё нужно для счастья оленных людей? Викинги спешили волчьей поступью; за ними гнались тучи серых комаров, как за оленьими стадами и за всеми, у кого в жилах течет теплая кровь. Викинги стремились на север.
Костер из сучьев и бересты был разложен на вершине. Когда пламя разгорелось, в костёр бросили охапки сырой травы, и в небо поднялся столб густого дыма. Четверо викингов растянули свежую шкуру оленя и накрыли костер. Они походя убивали лапонских оленей и ели сырое мясо, как часто делали в походах. Дым оторвался и унесся черным клубом. Чуть выждав, викинги сбросили шкуру, не давая огню задохнуться. Так они повторяли раз за разом. Вскоре такие же клубы дыма показались в разных местах. Повсюду отряды викингов играли с огнем оленьими шкурами. Приказ летел по цепи, охватившей земли лапонов-гвеннов. Каждый отряд по пути замечал долины и луга, где паслись стада лапонов. Начав обратное движение, викинги напали на оленей. Они их не убивали. Криком, улюлюканьем и мастерским подражанием волчьему вою они спугивали стада, и олени бежали перед загонщиками. Викингам помогали ощетинившиеся волкодавы. Поджарые злые лапонские собаки храбро бились с пришельцами. Неравная борьба: тяжелые псы были защищены широкими ошейниками с остриями; они сбивали защитников стад своей тяжестью и убивали.
 Навстречу викингам выбегали лапоны и умоляли прекратить жестокую забаву. Тщетная просьба. Следовало сражаться. Разрозненные и застигнутые врасплох лапоны не смели и подумать о бое. Не в силах расстаться с оленями, лапоны бессильно бежали за викингами, на что-то надеясь. Викинги шли и шли неутомимым волчьим шагом.
На громадной площади Гологаланда сотни тысяч оленей пришли в движение. Их гнали на юг и одновременно оттесняли к морю. Загонщики не давали отдыха животным, олени не успевали есть и пить. Первыми гибли молодые оленята.
В сутках пути до Нидароса в условленном месте сошлись дороги всех отрядов. Сколько оленей загнали викинги в громадную долину? Никто из них не мог бы сосчитать, никто не знал таких чисел. Колыхалось море рогов. Земли не было видно. Кое-где среди серо-коричневых тел измученных животных выдавались скалы, как островки в океане. Ни пищи, ни воды… А дальше, к западу, ждали головокружительные обрывы морского берега. Ещё одно усилие — и олени потекут вниз.
К ярлу робко приблизилась толпа отчаявшихся лапонов. Они поняли смысл страшной затеи Оттара.
Запуганные, безоружные, оленные люди ничком повалились перед ярлом. Они бормотали, рыдая:
— Отдай добрых олешков, отдай! На что тебе они? Мы принесем тебе дань, которую ты назначил. Прости нас, господин…
Глядя на лапонов, которые корчились от горя, Оттар вспоминал деда. Гундер запугивал легковерных лапонов злыми духами, и Рёкин воспользовался тем же средством. Но он, Оттар, сумел пойти дальше: он покорил лапонов силой своего ума и своей воли, ни на кого не опираясь. Покорил навсегда. Навсегда — хорошее, звучное слово.
Ярл подошел к лапону, который был впереди других, и приподнял ногой его голову. Да, это один из лапонских вождей, как они называют глав родов.
— Возьмите оленей. И помните: я ваш господин, навсегда!
Оттар издали следил за лапонами, которые пытались разобраться в грандиозной массе животных. Слышались горестные и пронзительные крики — хозяева звали своих любимых вожаков.
Олени волновались, между животными могла вспыхнуть губительная паника. Часть лапонов зашла со стороны моря, образуя цепь. Эти люди жертвовали собой, если бы олени всё же бросились к берегу. Другие старались разделить животных и вытеснить их из страшного места, где была похоронена навеки, навсегда мечта о свободе лапонов.
Ночи уже побеждали дни, приближалась зима. В Нидаросе к пристани тянулись вереницы траллсов. Кипы пушнины, корабельные канаты, плетенные из китовой и кашалотовой кожи, связки шкур, бочки топленого сала и бочонки кашалотового воска, оленьи рога, копченое и вяленое мясо, пресная и соленая сушеная рыба, железные изделия, оружие, доспехи, деревянная посуда, выделанная кожа, моржовые клыки, тюки, ящики, товары, товары…
С началом отлива флотилия Нидароса тронулась от пристани. Первым отвернул «Морской змей» на десяти парах весел, вторым двинулся «Волк» на восьми парах.
Эти старые драккары не раз повидали берега Валланда, Саксонского острова, островов Эрипа, берегов фризонов, датчан, готов, варягов.
Гундер без пощады гонял «Змея» и «Волка», но не мог утопить их. Сменяли бортовые доски, пробитые камнями из камнемётов и дротиками — из самострелов, расщепленные зубами кашалотов, клыками моржей, хвостами китов. Изношенное дубовое дерево заменяли другим, драккары наново пропитывались горячей смолой и жиром, «Змей» и «Волк» молодели. Они имели уже третьего господина; именно им и был обязан властью и богатством род Гундера.
Самым старым был «Змей». Будучи первым достоянием деда Оттара, «Змей» участвовал в первом походе молодого Гундера. Сорок семь викингов пустились на «Змее» в отчаянно смелый набег, ярл был сорок восьмым.
Кормчий имел право на три доли добычи, «Змей» — на двадцать, по две на каждый рум, и все остальные бойцы — на одну долю.
К земле фиордов вернулись двадцать четыре викинга из сорока семи, но «Змей» был цел, а добыча заслуживала потерь. На обратном пути Гундер один греб парой вёсел. Все доли разделенной добычи увеличились, доля «Змея» — тоже. Из добычи «Змея» родился «Волк». Рёкин дал им товарища — «Орла» с двенадцатью румами, с двенадцатью парами весел, а Оттар сумел прибавить «Дракона» с четырнадцатью румами. Драккары Нидароса составляли семью из трех поколений. Они выходили в море в порядке старшинства.
В суженном устье фиорда отливное течение бурлило, как из-под мельничного колеса. Требовалось всё искусство кормчих, задача которых осложнилась и тяжелой нагрузкой драккаров и баржами, которые тянулись на канатах.
На баржах находились менее ценные товары: сало, шкуры, вяленое мясо, рыба, изделия столярен. Баржи были грубо и крепко сколочены траллсами-плотниками, их продадут вместе с другими товарами. Викинги считали для себя унижением плавать на баржах. Там у рулей были прикованы траллсы, обязанные следить за условными знаками кормчих.
Северный ветер катил крутую короткую волну, срывал гребни, белил море. Баржи то натягивали канаты, резко вырывая их из воды, то опять топили. Чтобы смягчить рывки, кормчие меняли темп гребли.
Флотилия уходила в открытое море; порывистая, короткая береговая волна сменилась размеренной и длинной. Северный ветер благоприятствовал. На драккарах поднимали мачты, обычно лежавшие вдоль на дне, чтобы не мешать гребцам.
Драккары несли по одной мачте с парусом, прикрепленным к рее более узкой стороной, а широкой обращенным вниз. Паруса сшивались из черных и красных полос толстого полотна, привозимого из Хольмгарда — Новгорода или тканного в Скирингссале из новгородского льна.
Быть кормчим — высокое искусство. Берега земли изрезаны мысами, заливами, бухтами, а в воде сидят рифы и мели, опасные, как враг, затаившийся в засаде. Одни нетерпеливо высовывают в часы отлива зеленоволосые морды и серые спины, другие никогда не показываются, но они здесь и жадно ждут.
От движения драккара берега меняют очертания подобно бегущим тучам, а кормчие должны знать их, как знают лица друзей и уловки врагов.
Викинги гребут сменяясь. На каждом руме сидят четыре викинга, по два на весло. Прикоснуться к веслу драккара — это высокая честь. Если случай, необходимость или воля ярла посадят на рум даже клейменого траллса, он, взявшись за весло, делается свободным человеком.
Скальды воспевают героев, которые умели грести от восхода и до восхода солнца. О Гундере, Великом Гребце, который мог сразу грести парой весел, сложены длинные саги.
Рассказывают, что греки и арабы сажают к веслам рабов и приковывают их к румам, как викинги приковывают траллсов к рулям барж. Слыша об этом, дети фиордов презрительно издеваются над воинами с нежными ладонями, боящимися весла. Таких легко побеждать. В решительную минуту, когда от гребца зависит всё, раб не будет грести до последнего вздоха, как викинг. Держать на румах траллсов — готовить врага, который ждет минуты, чтобы перерезать господину подколенную жилу.
Слово «вик» значит «вертеть», «инг» — тот, кто держит весло. Соединение этих двух слов образует название людей, плавающих по морям за добычей.
Навстречу викингам выбегали лапоны и умоляли прекратить жестокую забаву. Тщетная просьба. Следовало сражаться. Разрозненные и застигнутые врасплох лапоны не смели и подумать о бое. Не в силах расстаться с оленями, лапоны бессильно бежали за викингами, на что-то надеясь. Викинги шли и шли неутомимым волчьим шагом.
На громадной площади Гологаланда сотни тысяч оленей пришли в движение. Их гнали на юг и одновременно оттесняли к морю. Загонщики не давали отдыха животным, олени не успевали есть и пить. Первыми гибли молодые оленята.
В сутках пути до Нидароса в условленном месте сошлись дороги всех отрядов. Сколько оленей загнали викинги в громадную долину? Никто из них не мог бы сосчитать, никто не знал таких чисел. Колыхалось море рогов. Земли не было видно. Кое-где среди серо-коричневых тел измученных животных выдавались скалы, как островки в океане. Ни пищи, ни воды… А дальше, к западу, ждали головокружительные обрывы морского берега. Ещё одно усилие — и олени потекут вниз.
К ярлу робко приблизилась толпа отчаявшихся лапонов. Они поняли смысл страшной затеи Оттара.
Запуганные, безоружные, оленные люди ничком повалились перед ярлом. Они бормотали, рыдая:
— Отдай добрых олешков, отдай! На что тебе они? Мы принесем тебе дань, которую ты назначил. Прости нас, господин…
Глядя на лапонов, которые корчились от горя, Оттар вспоминал деда. Гундер запугивал легковерных лапонов злыми духами, и Рёкин воспользовался тем же средством. Но он, Оттар, сумел пойти дальше: он покорил лапонов силой своего ума и своей воли, ни на кого не опираясь. Покорил навсегда. Навсегда — хорошее, звучное слово.
Ярл подошел к лапону, который был впереди других, и приподнял ногой его голову. Да, это один из лапонских вождей, как они называют глав родов.
— Возьмите оленей. И помните: я ваш господин, навсегда!
Оттар издали следил за лапонами, которые пытались разобраться в грандиозной массе животных. Слышались горестные и пронзительные крики — хозяева звали своих любимых вожаков.
Олени волновались, между животными могла вспыхнуть губительная паника. Часть лапонов зашла со стороны моря, образуя цепь. Эти люди жертвовали собой, если бы олени всё же бросились к берегу. Другие старались разделить животных и вытеснить их из страшного места, где была похоронена навеки, навсегда мечта о свободе лапонов.
Ночи уже побеждали дни, приближалась зима. В Нидаросе к пристани тянулись вереницы траллсов. Кипы пушнины, корабельные канаты, плетенные из китовой и кашалотовой кожи, связки шкур, бочки топленого сала и бочонки кашалотового воска, оленьи рога, копченое и вяленое мясо, пресная и соленая сушеная рыба, железные изделия, оружие, доспехи, деревянная посуда, выделанная кожа, моржовые клыки, тюки, ящики, товары, товары…
С началом отлива флотилия Нидароса тронулась от пристани. Первым отвернул «Морской змей» на десяти парах весел, вторым двинулся «Волк» на восьми парах.
Эти старые драккары не раз повидали берега Валланда, Саксонского острова, островов Эрипа, берегов фризонов, датчан, готов, варягов.
Гундер без пощады гонял «Змея» и «Волка», но не мог утопить их. Сменяли бортовые доски, пробитые камнями из камнемётов и дротиками — из самострелов, расщепленные зубами кашалотов, клыками моржей, хвостами китов. Изношенное дубовое дерево заменяли другим, драккары наново пропитывались горячей смолой и жиром, «Змей» и «Волк» молодели. Они имели уже третьего господина; именно им и был обязан властью и богатством род Гундера.
Самым старым был «Змей». Будучи первым достоянием деда Оттара, «Змей» участвовал в первом походе молодого Гундера. Сорок семь викингов пустились на «Змее» в отчаянно смелый набег, ярл был сорок восьмым.
Кормчий имел право на три доли добычи, «Змей» — на двадцать, по две на каждый рум, и все остальные бойцы — на одну долю.
К земле фиордов вернулись двадцать четыре викинга из сорока семи, но «Змей» был цел, а добыча заслуживала потерь. На обратном пути Гундер один греб парой вёсел. Все доли разделенной добычи увеличились, доля «Змея» — тоже. Из добычи «Змея» родился «Волк». Рёкин дал им товарища — «Орла» с двенадцатью румами, с двенадцатью парами весел, а Оттар сумел прибавить «Дракона» с четырнадцатью румами. Драккары Нидароса составляли семью из трех поколений. Они выходили в море в порядке старшинства.
В суженном устье фиорда отливное течение бурлило, как из-под мельничного колеса. Требовалось всё искусство кормчих, задача которых осложнилась и тяжелой нагрузкой драккаров и баржами, которые тянулись на канатах.
На баржах находились менее ценные товары: сало, шкуры, вяленое мясо, рыба, изделия столярен. Баржи были грубо и крепко сколочены траллсами-плотниками, их продадут вместе с другими товарами. Викинги считали для себя унижением плавать на баржах. Там у рулей были прикованы траллсы, обязанные следить за условными знаками кормчих.
Северный ветер катил крутую короткую волну, срывал гребни, белил море. Баржи то натягивали канаты, резко вырывая их из воды, то опять топили. Чтобы смягчить рывки, кормчие меняли темп гребли.
Флотилия уходила в открытое море; порывистая, короткая береговая волна сменилась размеренной и длинной. Северный ветер благоприятствовал. На драккарах поднимали мачты, обычно лежавшие вдоль на дне, чтобы не мешать гребцам.
Драккары несли по одной мачте с парусом, прикрепленным к рее более узкой стороной, а широкой обращенным вниз. Паруса сшивались из черных и красных полос толстого полотна, привозимого из Хольмгарда — Новгорода или тканного в Скирингссале из новгородского льна.
Быть кормчим — высокое искусство. Берега земли изрезаны мысами, заливами, бухтами, а в воде сидят рифы и мели, опасные, как враг, затаившийся в засаде. Одни нетерпеливо высовывают в часы отлива зеленоволосые морды и серые спины, другие никогда не показываются, но они здесь и жадно ждут.
От движения драккара берега меняют очертания подобно бегущим тучам, а кормчие должны знать их, как знают лица друзей и уловки врагов.
Викинги гребут сменяясь. На каждом руме сидят четыре викинга, по два на весло. Прикоснуться к веслу драккара — это высокая честь. Если случай, необходимость или воля ярла посадят на рум даже клейменого траллса, он, взявшись за весло, делается свободным человеком.
Скальды воспевают героев, которые умели грести от восхода и до восхода солнца. О Гундере, Великом Гребце, который мог сразу грести парой весел, сложены длинные саги.
Рассказывают, что греки и арабы сажают к веслам рабов и приковывают их к румам, как викинги приковывают траллсов к рулям барж. Слыша об этом, дети фиордов презрительно издеваются над воинами с нежными ладонями, боящимися весла. Таких легко побеждать. В решительную минуту, когда от гребца зависит всё, раб не будет грести до последнего вздоха, как викинг. Держать на румах траллсов — готовить врага, который ждет минуты, чтобы перерезать господину подколенную жилу.
Слово «вик» значит «вертеть», «инг» — тот, кто держит весло. Соединение этих двух слов образует название людей, плавающих по морям за добычей.
Глава пятая
Дни быстро укорачивались, море портилось. По ночам, чтобы не потерять друг друга, драккары палили факелы из китового жира. Дымное пламя чадило на корме, на носу зажигали фонарь. Огонь толстой свечи новгородского воска был защищен от ветра и брызг слюдяными пластинками в медных рамках. На короткой носовой палубе «Дракона» разбили низкую палатку из плотной тюленьей кожи. В ней жили Гильдис и две сопровождавшие её женщины. Туда вползали и спали на белых медвежьих шкурах, под теплыми одеялами из светлого мягкого пуха пушистого северного волка. На рассвете Гильдис высовывала белокурую голову и видела раздутый черно-красный парус, который выпячивался брюхом и скрывал корму. Тюки и ящики, загромождавшие дно «Дракона», были уложены плотно и правильно, не нарушая равновесия драккара. Всё было влажно от брызг и ночного дождя, и повсюду спали викинги. Попутный ветер — отдых. Не день и не ночь устанавливали на драккарах часы сна и бодрствования, а ветер и очередь на вёслах. Оттар был где-то там, среди скорченных или вытянутых тел, в такой же одежде и так же остро пахнущий потом и мокрой шерстью козьей шкуры. Гильдис вставала, потягивалась, закручивала вокруг головы распустившиеся во сне косы и спускалась вниз. Здесь, за высокими бортами и под прикрытием паруса, ветер не чувствовался. Чуть кружилась голова от густого запаха драккара, от смолы, сала и нечистот, которыми были набиты поры черного, блестящего, как сажа, дерева. Гильдис прикасалась нежным пальцем к толстым рукояткам положенных по бортам весел и вглядывалась в чью-то раскрытую ладонь, громадную, бурую от смолы и застаревшей грязи, с жесткими валами поперечных мозолей от гребли. Рука викинга — твердая, как кожа моржа, падежная и мощная, как клешня гигантского краба или кузнечные щипцы. Женщина смотрела на знакомые бородатые лица. Когда мужчина спит, у него совсем другое лицо, часто смешное… Поднимая платье, чтобы не задевать спящих, Гильдис смело перепрыгивала с рума на рум. Ловкая и сильная, она не скользила на скамьях, отполированных гребцами до блеска. Парус преграждал путь, под ним приходилось пролезать. Как только Гильдис исчезала за парусом, из-под носовой палубы высовывался траллс с глубоким ковшом на длинной рукоятке. Он ловко размахивал им и, не теряя ни капли, выплескивал за борг воду и нечистоты. В носу и в корме драккаров были устроены особые углубления — черпальни для сбора воды. Сильный мужчина — его достаточно щедро кормили, — этот траллс лет десять просидел под короткой носовой палубой «Дракона». Прикованный за ногу длинной цепью, не мешавшей работать, траллс был необходимой и ценной частью «Дракона». Даже во время схватки он умел выбрать время и, не мешая викингам, выскочить с полным ковшом, сделать своё дело. Ни за что он не мог бы допустить переполнение черпальни. Кельт по происхождению, он был ребенком захвачен фризонами и сделан рабом. А юношей он попал к Рёкину, сменил один ошейник на другой и был заклеймен. Он забыл свой собственный язык и не научился иному. Он сделался почти или совсем животным, приученным на всю жизнь выполнять одни и те же движения, как лошадь или осел, запряженные в жернов, или как мул… Он не обращал внимания на викингов и не боялся их. Но эта белокурая женщина и притягивала его и внушала ужас. Где-то в его отупевшем сознании бродили смутные, чудовищные образы-воспоминания. Массы людей, собравшихся ночью к подножию холмов. Первый рассвет. Первый луч солнца, прорвавшийся в ущелье. И женщины с длинными косами, в длинных белых одеждах. Они золотыми серпами взрезывали грудь у мужчин, чтобы вырвать живое сердце, показать его восходящему солнцу и сжечь в огне, который был разложен на высоком жертвеннике из четырех громадных каменных плит, поставленных торчком и прикрытых пятой. Эти женщины были прекрасны и невыразимо страшны. У него не было имени, он был черпальщик. Когда он слышал голос Гильдис, он цепенел, не зная почему. Плеск воды в переполненной черпальне приводил его в себя… Под кормовой палубой «Дракона» обитало такое же существо — двойник по жизненному назначению и почти двойник телом и духом. Каждый драккар имел двух черпальщиков, по числу черпален. Их кормили досыта, лучше, чем других траллсов, потому что драккар — самое ценное и любимое имущество ярлов, а черпальщики — часть драккаров. Когда черпальщик заболевал или впадал в безумие, мешавшее ему быть полезным, его, как сломанное весло, выбрасывали за борт, и на освободившуюся — вернее сказать, на опорожнившуюся — цепь сажали нового. Когда черпальщики оставались одни на драккарах, поставленных у пристаней, они могли выползать на палубы и, подняв голову над бортом, видеть других черпальщиков. Это их развлечение — они не одни. Они могли вспоминать, что на свете есть другие черпальщики. Это помогало им вычерпывать воду. Ощущение присутствия другого человека, не викинга, сознание общности судьбы… Черпальщики молчали. Им не о чем было говорить, если они ещё умели произносить слова.Глава шестая
Скирингссальский фиорд вдается далеко в сушу многочисленными заливами, извилистыми, как щупальца кольмаров. Он глубок и закрыт от волнений открытого моря. Здесь суша и море вместе постарались подготовить надежные пристанища для драккаров викингов и для лодей иноземных купцов. Ложился первый снег. Не успев почернеть от копоти очагов, снег лежал на крышах домов чистыми пластами. Холодная вода заливов, темная и тусклая, как спина кашалота, чуть плескалась, лениво очищая от снега береговую линию. У пристаней и причалов и во всех удобных местах было тесно. Драккары, лодьи купцов, баржи и лодки образовывали острова, островки и целые пловучие мосты. Их связывали канатами, перекидывали с борта на борт трапы и ставили теплые будки для сторожей. В Скирингссале вечный мир. Даже кровные враги не смеют нападать одни на других, не говоря уже о покушении на чужое имущество. Назначенные тингом особые выборные следят за порядком с помощью хорошо вооруженной стражи. Нарушение мира в Скирингссале иногда карается смертью и всегда — изгнанием. Дозволены лишь судебные поединки и встречи в кругу для разрешения вражды на равном оружии и с равным числом бойцов с каждой стороны. В Скирингссале все дома, стены, склады и заборы деревянные. Камень и глина употребляются только для очагов. В сухие летние дни Скирингссал серый, в дожди — черный, а зимой — грязно-бурый, как болотный мох, которым траллсы забивают пазы между бревен. С удалением от береговой линии дома редеют и улицы обрываются, сменяясь проездами между расположившимися в совершенном беспорядке большими и малыми усадьбами. Вокруг Скирингссала все удобные земли хорошо возделаны. К югу, до самых проливов, и по северному берегу, и к востоку, и вглубь земли преобладают владения бондэров. Свободные землепашцы — бондэры по рождению равны ярлам, они такие же потомки Вотана. Кровь одна. Племя фиордов. Но бондэры не занимаются набегами — они сами обрабатывают землю, и купленные траллсы в хозяйствах бондэров трудятся наравне с хозяевами. Будучи заняты землей только летом, и то не каждую неделю, бондэры не сидят без дела и владеют многими ремеслами. Они добывают железные руды; изготовленные ими оружие и железные изделия имеют обеспеченный сбыт. Бондэры ткут, выделывают меха, гончарные вещи и многое другое. Среди береговых бондэров есть отличные судостроители. Они принимают заказы на драккары, купеческие лодьи и баржи. И без заказов торгуют легкими лодками и челноками. Бондэры ведут торг своим зерном и своими изделиями. Бондэры носят оружие и умеют владеть им, хотя не так хорошо, как викинги. Те свободные ярлы, чьи владения вкраплены в районы, заселенные бондэрами, считаются с сильными и дружными бондэрами и остерегаются обидеть землепашца, ремесленника, рыболова. Бондэры дружны. Их старейшины говорят на тингах полным голосом, не стесняются угрожать и приводят в исполнение свои угрозы. Некогда один король, раздраживший народ насилиями и распутством, был избран для принесения Вотану кровавой искупительной жертвы. Суровый приговор был вынесен голосами бондэров и приведен в исполнение их руками.Рёкин оставил Оттару в наследство усадьбу на дальней окраине Скирингссала. На участке длиной шагов в четыреста и шириной в триста остались несколько десятков высоких тонких сосен с жидкими кронами. Под ними приютились длинный и низкий общий дом викингов с двойной крышей — зал, как в нидаросском горде, семейные домики, как соты, дома для холостых, где викинги спали на двухъярусных полатях, склады, конюшни, избушки-загоны траллсов, тюрьмы для предназначенных к продаже и хлева для слуг. По мере расширения богатства нидаросских ярлов появлялись наспех срубленные, безобразные низкие кладовые с односкатными крышами и с дверями-воротами. Дом самого ярла поднимался на столбах среди беспорядка кладовых. Старый викинг-домоправитель Грам встретил своего ярла и его жену перед воротами усадьбы и, по праву побратимства с Рёкином, обнял Оттара единственной рукой. Грам знал Оттара с первой минуты его рождения, когда Рёкин внес в общую залу нидаросского горда красное голое тельце мальчика и высоко поднял его, чтобы все викинги могли видеть и засвидетельствовать законное рождение мужчины благородной крови. Грам побежал вперед — его старые, кривые ноги ещё отлично слушались, — как медведь, взобрался по лестнице и исчез в доме ярла. Когда Оттар и Гильдис вошли, Грам сидел на корточках перед громадным камином, в котором уже давно были приготовлены сухие дрова, подтопка и береста. Зажав кремень и прут коленями, Грам успел высечь огонь и раздувал пламя маленьким мехом, одну ручку которого он придерживал ступней. Грам произносил заклинания, призывающие счастье к семейному очагу. Камин с трубой, поднимающейся над крышей, был новшеством. Высокое сооружение из колотого гранита целиком занимало торцовую стену дома, который весь состоял из одной комнаты. Везде в домах земли фиордов находились очаги без труб. Считали, что дым, копоть и сажа так же очищают, как огонь и вода, что они полезны для здоровья и поддерживают силы. Люди фиордов привыкли сидеть в дыму, пока огонь в очаге не разгорался и не появлялась тяга через дыру в крыше.
 Покончив с разжиганием камина, Грам уселся на мужскую постель и притянул к себе своего ярла. Говорят, что в старом пне не найдешь свежего сока и что нечего искать улыбку на тупой, безжалостной морде кашалота. Но лицо Грама с коричневыми щеками, рассеченными, как сухая глина, морщинами, с бесформенным шишковатым носом, с глазами в красных веках без ресниц и с длинной грязно-серой бородой всё же умело выражать радость.
— Как ты плавал? — спросил он Оттара.
— Как всегда. Хорошо.
Граму не были нужны рассказы Оттара. Всё интересное он успеет услышать от Эстольда, Эйнара и других. Мажордом хотел сам говорить:
— Из богатой страны русских городов Гардарики привезли ещё больше льна, пушнины и меда, чем прошлым летом. Они богатеют, да, они богатеют… И ещё из Хольмгарда привезли много отличного воска, и очень много прочных железных изделий и оружия, горшков, посуды, тканей… Да, это не нравится нашим бондэрам, ха-ха! Но и мне не нравится… А за китовое сало и кожи дают меньше, чем в прошлом году. Мясо и рыбу берут как всегда, сколько ни предложи. И вино и мед, конечно!..
Грам быстро и точно передавал торговые новости. Нидаросский ярл внимательно слушал, мгновенно соображая возможные выгоды или потери по сравнению со своими предварительными расчетами.
— Мало кашалотового воска. Не знаю почему. Говорят, что кашалоты остались на севере. Арабы и греки ищут и хорошо дают за кашалотовый воск, очень хорошо… А?
Грам взглядом уперся в Оттара. Ярлу нечего было таить. Восхищенный Грам хлоппул его по колену:
— Хорошо! Это очень хорошо! Но слушай, — продолжал старый викинг: — от русских опять привезли моржовые клыки — много моржовых клыков, больших, твердых, как железо, чистых и пригодных для лучших работ. И длинные клыки неизвестного зверя толщиной с мою руку. Русские опять сбили цену на моржовую кость, проклятье на них! Подумай, прежде они никогда не имели моржовой кости. Откуда они её берут? Я не мог узнать, не мог… Ты получишь за твои клыки меньше, чем прошлым летом… А ты не встречал русских в твоих водах или за нашим Гологаландом?
— Нет. Если бы я встретил их, я привез бы эту кость, а не они.
— Ты прав, ты прав. Я должен узнать тайну русских, должен, должен! — внушал Грам самому себе. И он перескочил к другим новостям: — Бондэры требуют отмены страндхуга. Они все уже сговорились между собой. И чтобы никто действительно не давал убежища изгнанным тингом… — Грам невольно понизил голос: — Среди других они особенно часто называли тебя, да… — Оттар не шевельнулся, и Грам продолжал: — И бондэры не хотят, чтобы ярлы держали мастерские с траллсами. Я говорю верно, верно, верно. Всё это правда. Слушай же… Ярл Гальфдан на их стороне. С ним Лодин, Троллагур, Тгорфред, Торольф, Сивенд, Эрлинг… — Грам перечислял сильных южных ярлов, чьи фиорды были окружены землями бондэров. — И слушай ещё! На тинге Черный Гальфдан будет избран. Да, будет. Он будет королем!
Дрова в камине пылали жарким огнем. Оттару стало душно. Он распахнул дверь и остановился на верхней ступеньке лестницы. Старый Грам выглядывал из-за плеча ярла. Рядом они казались героем и гномом из саг, которые рассказывают скальды.
Пора спешить с заказами новых драккаров…
Сколько заказать и каких? Но есть ли время?
Гальфдан Старый, дед Гальфдана Черного, выгнал Гундера с юга. Для себя и для своего рода Гундер сумел свить гнездо в далеком Гологаланде. Гундер сумел забиться на север дальше всех свободных ярлов и расширить землю племени фиордов. Но навсегда ли потомки Гундера обеспечены и достаточно ли далеко отступил Гундер? Гальфдан старше Оттара на десять или одиннадцать лет. В жизненных успехах он продвинулся дальше Оттара. Черный — друг бондэров? Ложь, Оттар не мог поверить этому! Черный Гальфдан хитер, а бондэры легковерны, хотя и упорны. Гатьфдан льстит им, чтобы подняться на их плечах. Его дед выжил Гундера с помощью бондэров. Внук идет по стопам деда.
Рёкин мечтал о прочном союзе всех свободных ярлов и передал сыну врожденное презрение к бондэрам. Бондэры — по крови потомки Вотана — трудились, как траллсы, и они, по словам Рёкина, сами избрали свою долю. Кто мешает им стать викингами! И разве мало викингов родилось под крышами бондэров! Пока сын Вотана — бондэр, он не лучше траллса, учил Рёкин.
Это верно. Но мечты Рёкина о союзе ярлов были праздны. Для деятельности и прочности союза нужна власть одного, на что свободные ярлы никогда добровольно не согласятся.
Сыну Рёкина мыслилось иное. Он хотел перетянуть к себе побольше викингов, ослабить и перебить по одному свободных ярлов. В мире были Александр — великий король греков, Этцель — великий король гуннов, Шарлемань — великий король франков. Когда у Оттара будет достаточно силы, он сделается королем викингов, но не бондэров, каким хочет быть Гальфдан. Бондэры будут усмирены. Часть их превратится в викингов, а другие или будут истреблены, или станут траллсами.
Оттар видел фиорды полными послушных его воле драккаров и обширные земли, обрабатываемые траллсами и бондэрами в ошейниках рабов. Какие набеги, походы и завоевания! Покорена богатая Гардарика. Греки покорены и платят дань. За Валландом лежит Рим — страна роскоши, достойная добыча.
Нидаросский ярл видел весь мир у ног страны фиордов и себя — его повелителем.
Но Черный Гальфдан будет королем. Будет!.. Оттар знал силу бондэров и обреченную раздробленность свободных ярлов. Его мысли — лишь мечты. Чтобы передавить свободных ярлов и сделаться королем викингов, нужно иметь в своём распоряжении десять лет и воспользоваться ими без помехи.
Покончив с разжиганием камина, Грам уселся на мужскую постель и притянул к себе своего ярла. Говорят, что в старом пне не найдешь свежего сока и что нечего искать улыбку на тупой, безжалостной морде кашалота. Но лицо Грама с коричневыми щеками, рассеченными, как сухая глина, морщинами, с бесформенным шишковатым носом, с глазами в красных веках без ресниц и с длинной грязно-серой бородой всё же умело выражать радость.
— Как ты плавал? — спросил он Оттара.
— Как всегда. Хорошо.
Граму не были нужны рассказы Оттара. Всё интересное он успеет услышать от Эстольда, Эйнара и других. Мажордом хотел сам говорить:
— Из богатой страны русских городов Гардарики привезли ещё больше льна, пушнины и меда, чем прошлым летом. Они богатеют, да, они богатеют… И ещё из Хольмгарда привезли много отличного воска, и очень много прочных железных изделий и оружия, горшков, посуды, тканей… Да, это не нравится нашим бондэрам, ха-ха! Но и мне не нравится… А за китовое сало и кожи дают меньше, чем в прошлом году. Мясо и рыбу берут как всегда, сколько ни предложи. И вино и мед, конечно!..
Грам быстро и точно передавал торговые новости. Нидаросский ярл внимательно слушал, мгновенно соображая возможные выгоды или потери по сравнению со своими предварительными расчетами.
— Мало кашалотового воска. Не знаю почему. Говорят, что кашалоты остались на севере. Арабы и греки ищут и хорошо дают за кашалотовый воск, очень хорошо… А?
Грам взглядом уперся в Оттара. Ярлу нечего было таить. Восхищенный Грам хлоппул его по колену:
— Хорошо! Это очень хорошо! Но слушай, — продолжал старый викинг: — от русских опять привезли моржовые клыки — много моржовых клыков, больших, твердых, как железо, чистых и пригодных для лучших работ. И длинные клыки неизвестного зверя толщиной с мою руку. Русские опять сбили цену на моржовую кость, проклятье на них! Подумай, прежде они никогда не имели моржовой кости. Откуда они её берут? Я не мог узнать, не мог… Ты получишь за твои клыки меньше, чем прошлым летом… А ты не встречал русских в твоих водах или за нашим Гологаландом?
— Нет. Если бы я встретил их, я привез бы эту кость, а не они.
— Ты прав, ты прав. Я должен узнать тайну русских, должен, должен! — внушал Грам самому себе. И он перескочил к другим новостям: — Бондэры требуют отмены страндхуга. Они все уже сговорились между собой. И чтобы никто действительно не давал убежища изгнанным тингом… — Грам невольно понизил голос: — Среди других они особенно часто называли тебя, да… — Оттар не шевельнулся, и Грам продолжал: — И бондэры не хотят, чтобы ярлы держали мастерские с траллсами. Я говорю верно, верно, верно. Всё это правда. Слушай же… Ярл Гальфдан на их стороне. С ним Лодин, Троллагур, Тгорфред, Торольф, Сивенд, Эрлинг… — Грам перечислял сильных южных ярлов, чьи фиорды были окружены землями бондэров. — И слушай ещё! На тинге Черный Гальфдан будет избран. Да, будет. Он будет королем!
Дрова в камине пылали жарким огнем. Оттару стало душно. Он распахнул дверь и остановился на верхней ступеньке лестницы. Старый Грам выглядывал из-за плеча ярла. Рядом они казались героем и гномом из саг, которые рассказывают скальды.
Пора спешить с заказами новых драккаров…
Сколько заказать и каких? Но есть ли время?
Гальфдан Старый, дед Гальфдана Черного, выгнал Гундера с юга. Для себя и для своего рода Гундер сумел свить гнездо в далеком Гологаланде. Гундер сумел забиться на север дальше всех свободных ярлов и расширить землю племени фиордов. Но навсегда ли потомки Гундера обеспечены и достаточно ли далеко отступил Гундер? Гальфдан старше Оттара на десять или одиннадцать лет. В жизненных успехах он продвинулся дальше Оттара. Черный — друг бондэров? Ложь, Оттар не мог поверить этому! Черный Гальфдан хитер, а бондэры легковерны, хотя и упорны. Гатьфдан льстит им, чтобы подняться на их плечах. Его дед выжил Гундера с помощью бондэров. Внук идет по стопам деда.
Рёкин мечтал о прочном союзе всех свободных ярлов и передал сыну врожденное презрение к бондэрам. Бондэры — по крови потомки Вотана — трудились, как траллсы, и они, по словам Рёкина, сами избрали свою долю. Кто мешает им стать викингами! И разве мало викингов родилось под крышами бондэров! Пока сын Вотана — бондэр, он не лучше траллса, учил Рёкин.
Это верно. Но мечты Рёкина о союзе ярлов были праздны. Для деятельности и прочности союза нужна власть одного, на что свободные ярлы никогда добровольно не согласятся.
Сыну Рёкина мыслилось иное. Он хотел перетянуть к себе побольше викингов, ослабить и перебить по одному свободных ярлов. В мире были Александр — великий король греков, Этцель — великий король гуннов, Шарлемань — великий король франков. Когда у Оттара будет достаточно силы, он сделается королем викингов, но не бондэров, каким хочет быть Гальфдан. Бондэры будут усмирены. Часть их превратится в викингов, а другие или будут истреблены, или станут траллсами.
Оттар видел фиорды полными послушных его воле драккаров и обширные земли, обрабатываемые траллсами и бондэрами в ошейниках рабов. Какие набеги, походы и завоевания! Покорена богатая Гардарика. Греки покорены и платят дань. За Валландом лежит Рим — страна роскоши, достойная добыча.
Нидаросский ярл видел весь мир у ног страны фиордов и себя — его повелителем.
Но Черный Гальфдан будет королем. Будет!.. Оттар знал силу бондэров и обреченную раздробленность свободных ярлов. Его мысли — лишь мечты. Чтобы передавить свободных ярлов и сделаться королем викингов, нужно иметь в своём распоряжении десять лет и воспользоваться ими без помехи.
Глава седьмая
Тинг открылся на льду Маэларского озера. Громадные толпы людей густо окружили остров, где разместились старейшие. Король умер весной. Кому быть королем? Всё лето, всю осень и первую половину зимы жители озер, рек, гор, долин и морских берегов судили: кому быть? Об этом говорили, встречаясь на дорогах, навещая соседей, на рынках, на общинных тингах. Свободные ярлы сидели в своих фиордах и носились в открытых морях за добычей. Свободные ярлы смотрели из земли фиордов в другие земли, и им не было дела до короля, до земли, которая видела их рождение. А бондэрам был нужен король, который понимал бы их желания. Бондэры нуждались в мире, а ярлы со своими викингами — в войне. Ярлы, отправляясь за добычей, выжимали из бондэров страндхуг. Бондэры не знали и не хотели знать, откуда взялось это чудовищное, несправедливое право ярлов. Ярлы привозили из набегов траллсов, возделывали их руками свои поля, заставляли траллсов изготовлять всевозможные товары и, торгуя, сбивали цены на хлеб и на вещи. Бондэры не могли соперничать с ярлами на рынке, так как труд траллса, которого выжимают, как болотный мох, и спешат уничтожить и заменить новым, когда он уже не может работать, но ещё хочет есть, — труд траллса дешевле труда свободного человека. Бондэры знали, чего они хотят. Старейшие знали желания и выбор бондэров, и бондэры были уверены в старейших. Горд ярла Гальфдана Черного лежал среди земель бондэров, и ярл был добрым соседом. На его полях и в его мастерских работали отпущенники и вольные рабочие, среди которых траллсы были не слишком заметны. Часть своих обширных владений Гальфдан сдавал бондэрам в вечную, от отца к сыну, аренду. Бондэры-арендаторы платили Черному скромную дань, и это было справедливо, так как они получили от ярла-владетеля очищенную от леса, пригодную для пашни землю. Никакой викинг не осмеливался выжимать страндхуг вблизи владений Черного Гальфдана. Строгий ярл поклялся, что он будет преследовать воспользовавшегося жестоким и несправедливым законом до края моря и ещё дальше, до черной ямы Утгардалоки. Свободные ярлы знали способность Гальфдана держать клятву и остерегались раздражать Черного. Оттар и другие приехавшие на тинг ярлы собрались маленькой кучкой за пределом тесной толпы. До них не доходило ни слова из того, что говорили старейшие, но, по обычаю тингов, стоявшие впереди передавали по цепи суть произносимых речей: — Черный Гальфдан, Гальфдан, страндхуг, народ, Гальфдан, интересы народа, сграндхуг, грабеж, повиновение закону, Гальфдан и опять Гальфдан… Да… Чем дальше от берега, тем больше изменяются люди. Семьи прибрежных бондэров, привыкшие к морю, давали викингам не только страндхуг, но и свежее пополнение, новых воинов. Дети Вотана, осевшие уже в четверти дня от моря, думали о всех вещах, кроме жизни на драккарах и славной добычи. Оттар обошел толпу — для этого потребовалось немало времени — и проник в священную рощу, где находился храм Отца Вотана. Снег под вечными дубами был вытоптан, как на улицах. Всюду виднелись следы ночевок: в ожидании тинга неприхотливые люди проводили здесь одну, две или три ночи на снегу, закутавшись в шкуры зверей. Что-то белело высоко среди голых черных ветвей. На могучем суку дуба висело обнаженное тело человека. Оттар подошел ближе и с любопытством взглянул на скорченный труп. Мертвое лицо сохраняло выражение ужаса. Глазницы были пусты — дело воронов. Эта жертва великим богам висела с краю. Ближе к храму трупы были подвешены целыми гроздьями — не только человеческие, а также лошадей, коз, оленей, кабанов Боги принимали всех, в ком текла теплая кровь. Заметив угол громадной стены, сложенной из дубовых стволов чудовищной толщины, нидаросский ярл остановился. Жрецы Вотана жалуются — дети Вотана охладели к культу богов. Некогда для жертв не хватало ветвей на деревьях священной рощи, а в храме — места для приношений. Оттар отвернулся от храма, у него не было желания войти внутрь. Это не храм, а кладбище богов. Здесь они, лишенные чистого воздуха открытых морей, задыхаются и умирают. Оттар прислонился к дубу и скрестил руки под плащом. Свободный ярл очнулся от хруста снега под ногами людей. Несколько человек в длинных плащах с тащившейся по снегу бахромой медленно и молча двигались к храму среди дубов. Впереди, опустив голову, шел мужчина среднего роста, с короткой завитой бородой. Темнозеленый плащ, удерживаемый бронзовой застежкой, свисал с одного плеча и волочился по снегу. Голова с копной слишком темных для потомка Вотана волос была обнажена, и длинные пряди падали па плечи. Латы покрывали грудь. Человек прошел в трех шагах от Оттара, не заметив нидаросского ярла. Черный ярл Гальфдан с сыном Гаральдом… Спокойный, хитрый и осторожный. Он не расстается с латами. Наверно, и меховая шапка, которую он несет в руке, подбита не гагачьим пухом, а железом Под его плащом и под плащами его спутников найдутся не только латы, но и мечи. Любимец бондэров. Король не моря, а земли. Оттар вышел на опушку священной рощи в ту минуту, когда раздались первые торжествующие крики: — Гальфдан! Гальфдан! Вначале нестройные, как треск грома в ущельях, крики делались ритмичными. Дружный и мощный выкрик «Гальф!» сменялся могучим ударом «дан», от которого, как от молота, казалось, сейчас треснет лед Маэларского озера. Над священной рощей поднимались встревоженные вороны, которые жили на дубах и кормились жертвами. Крупные, черные, как уголь, птицы крутыми спиралями взвивались. в пасмурное зимнее небо и сбивались в стаю. Следуя за вожаком, стая вытянулась и понеслась над рощей и над тингом круговым полетом, почти замыкая кольцо. Живой браслет Вотана… Гальфдан избран. Церемония коронации не интересовала Оттара. Черный даст обещание уничтожить страндхуг, смирить непокорных ярлов, уничтожить убежище преступников и другие обещания, подобные первым трем. Толпа втягивалась в рощу. Тинг шел к храму. Здесь были все дети Вотана, обрабатывающие землю, дерево, металлы. Если не сами, то их представители. Чей-то голос позвал: — Эй, ярл! Эй! Оттар не пошевелился. Внезапно перед ним оказались несколько бондэров, и один подошел к нему вплотную. — Ты не узнаешь меня? — спросил он ярла. Не ожидая ответа, бондэр злобно выдохнул почти в лицо ярлу густой запах пива и злобные слова: — Ха! А я тебя узнал! Я помню тебя, проклятая акула! Страндхуг сдох, понимаешь? Сдох! Если ты ещё раз попробуешь явиться к нам, — и бондэр захлебнулся от ярости, — мы встретим тебя топорами! А если ты обидишь нас — король выжжет твою берлогу, и ты будешь висеть, висеть, висеть! Молчишь? Ага, здесь ты молчишь! Бондэр размахнулся для удара. Сейчас же товарищи, безгласно внимавшие его крикам, набросились на потерявшего голову нарушителя мира тинга. Бондэр ворчал и пытался стряхнуть с себя друзей, как медведь — собачью стаю.
Оттар холодно смотрел на возню. Ярл мог бы одними кулаками расправиться с неловким богатырем, тело которого одеревенело от однообразного труда. Он мог бы расправиться и с его товарищами, прежде чем они сообразят, откуда рушатся удары на их бородатые челюсти.
Владетель Нидароса помнил, какими глазами этот бондэр смотрел на викингов, свежевавших взятую из его хлева свинью, одну из двух по праву страндхуга. Тогда, прельщенный ростом и шириной груди богатыря, Оттар предложил ему бросить недостойную жизнь земляного червя, сменить заступ и соху на весло и меч. Бондэр не ответил. Здесь он нашел язык.
Бондэр размахнулся для удара. Сейчас же товарищи, безгласно внимавшие его крикам, набросились на потерявшего голову нарушителя мира тинга. Бондэр ворчал и пытался стряхнуть с себя друзей, как медведь — собачью стаю.
Оттар холодно смотрел на возню. Ярл мог бы одними кулаками расправиться с неловким богатырем, тело которого одеревенело от однообразного труда. Он мог бы расправиться и с его товарищами, прежде чем они сообразят, откуда рушатся удары на их бородатые челюсти.
Владетель Нидароса помнил, какими глазами этот бондэр смотрел на викингов, свежевавших взятую из его хлева свинью, одну из двух по праву страндхуга. Тогда, прельщенный ростом и шириной груди богатыря, Оттар предложил ему бросить недостойную жизнь земляного червя, сменить заступ и соху на весло и меч. Бондэр не ответил. Здесь он нашел язык.
Глава восьмая
Этой зимой мастера-судостроители получили немало заказов на новые драккары. Оттар заказал два драккара, которые он назвал заранее «Акулами». Все ярлы, кроме Оттара, проявляли обдуманную требовательность лишь к форме украшений. Что касается торговли, то каждый ярл вел себя с возможной для каждого расчетливостью и старался не продешевить. Взятые в добыче золото, серебро, бронза, оружие, ценные вещи, ткани легко распределялись по долям. Но продукты охоты на морских зверей, траллсы и другие тяжелые товары было не так-то просто немедленно раздать по рукам. Сначала следовало их продать, а потом разделить выручку на доли между викингами-участниками и ярлами — владельцами драккаров. По обычаю, по естественному праву, торговля была делом ярла. Его нерасчетливость вела к уменьшению долей, заранее подсчитанных викингами, вызывала недовольство викингов, их переход к другим ярлам. В Скирингссале викинги проводили время в распутстве и кутежах, обогащая купцов и содержателей веселых домов. Спустив первую добычу, викинги требовали от ярлов остальных долей. И многие ярлы были вынуждены решать трудную задачу: и торговать без потерь, что требовало выдержки, и снабжать нетерпеливых викингов деньгами, для чего следовало иметь хорошие запасы денег и ценностей. Запас истощался, и начинались займы на тяжелых условиях. Своё свободное время ярлы тратили на такие же развлечения, как викинги. Богатый нидаросский ярл не испытывал общих затруднений — его викинги всегда имели деньги, а Оттар всё свое время тратил на «Акул». Шла вторая четверть зимы, дни увеличивались. Остовы «Акул» уже были видны. Оттар и его кормчие неусыпно следили за работой. Стремясь сохранить в тайне, Оттар приказал не подпускать посторонних к верфи: недобрые люди могли произнести тайные слова и взглянуть черным глазом, что повредило бы «Акулам». Ярл не боялся порчи — он не хотел появления подражателей.Приближалась весна. Тинг отменил страндхуг. Тинг принял закон о вечном изгнании каждого викинга, который попробует выжать страндхуг из берегового бондэра. Тинг вновь строго угрожал объявлением вне закона каждого свободного ярла, который даст пристанище изгнанникам. Черный Гальфдан обещал обуздать свободных ярлов. Бондэры поклялись слушаться короля. В домах Скирингссала ярлы и викинги издевались над Черным и бондэрами. Несколько викингов и охваченных военным безумием берсерков набросились на Черного, когда он проезжал на лесной дороге. Король был легко ранен в лицо, его сын Гаральд — в руку, а нападавшие перебиты. В мошны купцов уплывалипоследние остатки добычи викингов. Всё чаще вспыхивали злобные драки, чаще устраивались в кругу ожесточенные поединки на равном оружии. Нидаросский ярл выгодно сбывал свои товары. Он вёл торговлю лучше других, имел больше товаров, охотно давал золото и серебро под хорошие заклады, которые всегда оставались в его пользу, и щедро наделял своих викингов. Викинги Нидароса были богаче многих и многих, перед ними заискивали те, у кого уже опустел карман. Приближалась весна. Чаще в горде Оттара появлялись гости — чужие викинги, готовые покинуть своих ярлов. Они приходили и группами и поодиночке. Каждого встречало широкое, обдуманно внимательное гостеприимство. Для гостей здесь не жалели вин, приправленных греческими пряностями, и лучшего новгородского меда, и крепкого пива. Богатый горд, очень богатый. Нидаросский ярл понимает викинга, он великодушен и прост, не то что другие. Уже больше ста викингов перешли к Оттару. В общей зале горда новый товарищ перед огнем очага вкладывал в руки ярла свои руки в знак послушания и верности и клялся великими богами. Он вручал ярлу свой меч. Ярл возвращал оружие и клялся свято соблюдать интересы викинга, клялся защищать его всегда и от всех, а также против любых приговоров тинга и против короля. Приносили весло драккара, повторяли с ним тот же обряд, и присутствовавшие сопровождали возгласы торжественных обещаний ударами в щиты и криками: — Мы слышали! Мы видели! Клятва! Клятва! Вотан слышал, Вотан видел! Клятва! Клятва! Теплые западные ветры ломали рыхлеющий лёд в Скирингссальском фиорде и в открытом море. — Ты будешь слушать, Грам, будешь слушать! — напоминал Оттар своему мажордому. — Да, да, да, — мотал безобразной головой старый однорукий викинг. — Как всегда, как всегда. Я буду знать всё, всё. — Больше, чем всегда. Оставь купцов в покое, Грам. Слушай и знай, что будет делать Черный. Сумей знать о нём всё. — О-ах! Черный Гальфдан, проклятый! Да, да. Король и его друзья скупили много оружия. Новгородские купцы сделали этой зимой хорошие дела с Гальфданом Черным и его приспешниками. Бондэры посылали своих сыновей к королю.
Первыми из всех, кто зимовал в Скирингссале, вырвались драккары Нидароса. Впереди флотилии спешили «Акулы» с мордами страшных рыб на вздернутых носах. Оттар шел на «Черной акуле». Низкий, узкий драккар мог, не утомляя гребцов, замкнуть круг и опять опередить даже быстроходного «Дракона». Ярл любил сидеть на акульей морде своего детища. Когда волна покрывала низкие борты, вода легко скатывалась с кожаной палубы, а тяжелый киль придавал «Акуле» надежную стойкость. Во время остановок для пополнения запасов пресной воды Оттар навещал «Дракона», Иногда он перепрыгивал на его борт и на ходу. Гильдис надоела ему. Она потеряла красоту и стала слишком капризной. Женщины в ожидании детей чрезмерно преувеличивают свое значение в важном деле продолжения рода… Двуногий обитатель берлоги под носовой палубой «Дракона» мог бросить дурной взгляд на народившегося Рагнвальда. Перед палаткой жены ярла натянули полосу арабского шелка, почти такого же красивого, как небесная радуга. Черпальщик не мог больше видеть Гильдис. На знамени Нидароса был изображен могучий ворон. На алом полотнище выделялись крепкий клюв, тяжелые, цепкие лапы и острые крылья, которые впоследствии заимствовала для своей эмблемы одна европейская держава.
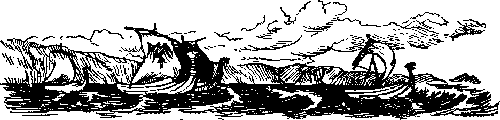 Драккары не тащили тяжелых барж, и их влекло попутное течение. За день флотилия делала переход, равный двум переходам всадника, но двигалась вчетверо быстрее него, так как по ночам драккары не нуждались в отдыхе, как лошади.
На шестнадцатые сутки «Акулы» первыми вбежали в горло фиорда Нидарос.
Драккары не тащили тяжелых барж, и их влекло попутное течение. За день флотилия делала переход, равный двум переходам всадника, но двигалась вчетверо быстрее него, так как по ночам драккары не нуждались в отдыхе, как лошади.
На шестнадцатые сутки «Акулы» первыми вбежали в горло фиорда Нидарос.
Глава девятая
Приближались длинные дни лета, когда на Варяжском море и в Хольмгарде почти не бывает ночной темноты. Это время было и всегда будет самым удобным для войны, для набега, для осады, для быстрых сражений, решающих судьбу похода одним или несколькими быстрыми ударами. А в Нидаросе уже шли длинные дни. Оттар собрал всех викингов в большом зале горда. Ярл напомнил им о годах, проведенных вместе, когда ни один день не был потерян без пользы для викингов, об удачных походах, об увеличении богатства каждого. Не открывая своих мыслей о неизбежности победы Черного Гальфдана над свободными ярлами, Отгар говорил об опасной для общей свободы ненависти бондэров и о том, что пришла пора нидаросскому ворону распустить крылья, поискать далеких, нетронутых земель. В поход пойдут «Дракон», «Орел» и обе «Акулы». На них — шестьсот пятьдесят викингов. «Змей» и «Волк» с остальными викингами будут ловить морских зверей и рыбу в водах Гологаланда. Но главная задача остающихся — это охранять горд с новорожденным юнглингом Рагнвальдом, сыном Оттара. Драккары плыли к таинственному северу мимо известных лежбищ моржей и не приставали к берегам, чтобы пополнить запасы дорогой белой кости в пустых складах Нидароса. Видели великолепных синих китов, которые, казалось, в два раза превосходили размерами «Дракона», и не гнались за ними. Без внимания оставляли и стада хищных, зубатых кашалотов, богатых ценным белым воском, похожих на хвостатые обрубки чудовищных деревьев, срубленных гигантами. Вскоре флотилия Нидароса вошла в незнакомые воды. Обе «Акулы» плыли впереди, разлучаясь не более чем на три полета стрелы. «Дракон» и «Орел» держались в струях «Акул». Направо, на востоке от пути драккаров, горы наступали на море сурово-злобными берегами, полными смутных, угрожающих образов, которые или вдруг прятались, или преследовали, меняя колдовские личины, всегда удивительные и всегда уродливые. Черный и серый камень, зеленые, синие пятна с белыми знаками, темные провалы ущелий в низкой кайме неумолчного прибоя — здесь берег не сулил ничего доброго. В нескончаемом дне неведомая северная часть земли фиордов туманилась и мерцала. Опасаясь узких лабиринтов между землей и островами, встревоженный мутью воды, в которой поджидали камни, старший кормчий Эстольд уводил флотилию в открытое море. И земля фиордов превращалась в тучи, клубившиеся под ясным сводом востока. Нельзя терять из виду берег. Миновав опасные места, драккары возвращались к земле. Больше нигде нет, как в первые дни плавания, дымков от кочевых стойбищ лапонов и их кожаных лодок, в которых они смело нападают на толстокожих морских зверей, чтобы вносить дань нидаросскому ярлу. Здесь море было ещё обильнее населено, чем вблизи Нидароса, а земли стали пустыней — места, пригодные для обитания богов и духов. Безыменные архипелаги островов бетели снегом птичьих гнездовий. Открывался глубокий фиорд в отвесных берегах невиданной высоты. Ни один викинг не мог бы здесь подняться на берег и построить горд. Страшную скалистую пасть прикрывала сползающая с гор багрово-сизая туча. Из неё Тор метал в гранит золотой молот. А в море над драккарами сияло солнце. Викинги молча искали амулеты под кафтанами. Гребцы же, чьи руки были заняты, шептали заклинания. А из следующей расщелины берега прямо в море лез глетчер, обрушивая в воду куски своего тела — ледяные горы, опасные, предательские айсберги.— Течение усиливается, — заметил Оттару кормчий Эстольд. «Черная Акула» приближалась к проливу. Несмотря на попутный ветер, все драккары шли на веслах. Прямым парусом не так легко управлять, и осторожный Эстольд не хотел доверяться ветру на неизвестной дороге. Драккары были верным оружием в руках кормчих лишь на веслах. — Течение ещё усилилось, — вновь заметил Эстольд через некоторое время. — Ты боишься? — спросил ярл. Такой вопрос не оскорбителен Из всех викингов драккара один кормчий имеет право испытывать и опасения и страх. Стихии сильнее даже сынов Вотана. Кормчий держит не правило руля, а жизнь и смерть драккара и воинов — Плыви, пока это действительно не сделается опасным, — спокойно сказал ярл. Драккары неслись к берегу. Эстольд заметил залив и направлял флотилию туда. «Черная Акула» подпустила другие драккары ближе. Оттар различил тревогу кормчих и свободных от гребли викингов. Большинство не воспользовались правом сна между сменами на веслах. Небольшой заливчик предложил удобный для причала берег Оттар в сопровождении четырех кормчих и нескольких десятков викингов вскарабкался на высокий берег. Поднимались тучи птиц, которые с оглушающим гамом заслоняли солнце. Со второго, ещё более высокого мыса открылась тайна северного моря.
 Шли часы прилива, и внизу, на колоссальной глубине, кипела черная яма Усиленное высоким приливным валом, могучее морское течение дико врывалось в пролив и из пролива — в фиорд. Не найдя выхода, вода, взлетая на вспененные берега, неслась в свирепом, грандиозном водовороте. Викинги чувствовали, будто гора содрогалась под напором моря.
Страшное зрелище притягивало, томило неиспытанным чувством. Хотелось и бежать, чтобы не видеть, и наклониться над бездной, повиснуть и выпустить опору!
В воде что-то мелькнуло. Нужно было вглядеться, чтобы понять. Кит, затянутый в ловушку, сражался с бездной за свою жизнь.
Могучий зверь хотел вырваться в открытое море, где вода так мягка и добра. Он греб против течения плавниками и хвостом, греб всей мощью опытного пловца, как никогда не греб до этой минуты. Он стоял скалой против тяжелого вихря воды, бурля и взбивая пену ещё выше, чем течение. Но он оставался на месте.
Зрелище борьбы живого существа со смертью помогло викингам справиться с головокружением.
Кит напряг силы и сдвинулся. Напрасный успех! Громадный зверь опять остановился, как драккар на канате.
Внезапно кит понесся вместе с течением. Трудно было уследить за его стремительным бегом. Хотел ли он использовать силу водоворота, чтобы вырваться, или он просто не хотел сдаваться, пока был ещё жив?
Бездна оказалась хитрее. Соединив силу течения с силой бега кита, она высунула ему навстречу камень. Она держала его наготове, прятала в пене, как убийца прячет короткий толстый меч под плащом.
Беспощадный удар! Таран в крепостные ворота. Над белой, взбитой пухом водой поднялось громадное тело. На мгновение кит встал на голову.
Затем он исчез и бессильно всплыл у другого края страшного фиорда-палача. Теперь кит безучастно несся в бурлящей воде, показывая то черную спину, то синевато-белое брюхо. Постепенно его затаскивало в серединную воронку водоворота.
Шум воды усиливался. Отражаемый стенами фиорда, усиливаемый тысячеголосым эхом, он преображался в дикий звериный рев. Так вот где едва не погиб древний король Гаральд! Он не солгал потомкам.
Ярл оглянулся и увидел искаженные страхом лица своих викингов. Мужество изменило им, и они не стыдились этого. А Эстольд и Эйнар были спокойны, как сам ярл. Они глядели вдаль. Прилив, который резко сужался между островами и фиордом, дальше расширялся, и за ним лежало свободное, открытое море.
— Древний Гаральд не был трусом, конечно, но… — и Оттар сделал паузу, — он был наверняка глупцом.
Эстольд ахнул от восхищения. Его ярл, его Оттар, вот это настоящий викинг!
Пока Оттар вместе с кормчими намечали, глядя с высокой точки берега на открытое море, дальнейший путь драккаров, прилив стал спадать. Грохот умолкал, сила водоворота падала.
…Через три дня ветер и течение понесли драккары на восток, а земля попрежнему была справа. Пять дней флотилия неслась на восток, бессознательно огибая северный край земли фиордов. Затем ветер потянул с севера, а перед носами драккаров лежало открытое море и земля попрежнему была на правой руке!
Викинги поняли, что они объехали землю фиордов. Где они? Не Гандвик ли это — таинственное море колдунов, о котором никто ничего не знал?
В воде теснились стада неисчислимых китов и кашалотов. А птицы, тюлени, моржи летели и плыли прямо на юг. Эстольд посоветовал оторваться от пустынного, безлюдного берега и последовать примеру животных. На пятый день с того утра, когда флотилия вошла в Гандвик, с высокой мачты «Дракона» был замечен берег и на воде — несколько лодок, похожих на лапонокие.
Шли часы прилива, и внизу, на колоссальной глубине, кипела черная яма Усиленное высоким приливным валом, могучее морское течение дико врывалось в пролив и из пролива — в фиорд. Не найдя выхода, вода, взлетая на вспененные берега, неслась в свирепом, грандиозном водовороте. Викинги чувствовали, будто гора содрогалась под напором моря.
Страшное зрелище притягивало, томило неиспытанным чувством. Хотелось и бежать, чтобы не видеть, и наклониться над бездной, повиснуть и выпустить опору!
В воде что-то мелькнуло. Нужно было вглядеться, чтобы понять. Кит, затянутый в ловушку, сражался с бездной за свою жизнь.
Могучий зверь хотел вырваться в открытое море, где вода так мягка и добра. Он греб против течения плавниками и хвостом, греб всей мощью опытного пловца, как никогда не греб до этой минуты. Он стоял скалой против тяжелого вихря воды, бурля и взбивая пену ещё выше, чем течение. Но он оставался на месте.
Зрелище борьбы живого существа со смертью помогло викингам справиться с головокружением.
Кит напряг силы и сдвинулся. Напрасный успех! Громадный зверь опять остановился, как драккар на канате.
Внезапно кит понесся вместе с течением. Трудно было уследить за его стремительным бегом. Хотел ли он использовать силу водоворота, чтобы вырваться, или он просто не хотел сдаваться, пока был ещё жив?
Бездна оказалась хитрее. Соединив силу течения с силой бега кита, она высунула ему навстречу камень. Она держала его наготове, прятала в пене, как убийца прячет короткий толстый меч под плащом.
Беспощадный удар! Таран в крепостные ворота. Над белой, взбитой пухом водой поднялось громадное тело. На мгновение кит встал на голову.
Затем он исчез и бессильно всплыл у другого края страшного фиорда-палача. Теперь кит безучастно несся в бурлящей воде, показывая то черную спину, то синевато-белое брюхо. Постепенно его затаскивало в серединную воронку водоворота.
Шум воды усиливался. Отражаемый стенами фиорда, усиливаемый тысячеголосым эхом, он преображался в дикий звериный рев. Так вот где едва не погиб древний король Гаральд! Он не солгал потомкам.
Ярл оглянулся и увидел искаженные страхом лица своих викингов. Мужество изменило им, и они не стыдились этого. А Эстольд и Эйнар были спокойны, как сам ярл. Они глядели вдаль. Прилив, который резко сужался между островами и фиордом, дальше расширялся, и за ним лежало свободное, открытое море.
— Древний Гаральд не был трусом, конечно, но… — и Оттар сделал паузу, — он был наверняка глупцом.
Эстольд ахнул от восхищения. Его ярл, его Оттар, вот это настоящий викинг!
Пока Оттар вместе с кормчими намечали, глядя с высокой точки берега на открытое море, дальнейший путь драккаров, прилив стал спадать. Грохот умолкал, сила водоворота падала.
…Через три дня ветер и течение понесли драккары на восток, а земля попрежнему была справа. Пять дней флотилия неслась на восток, бессознательно огибая северный край земли фиордов. Затем ветер потянул с севера, а перед носами драккаров лежало открытое море и земля попрежнему была на правой руке!
Викинги поняли, что они объехали землю фиордов. Где они? Не Гандвик ли это — таинственное море колдунов, о котором никто ничего не знал?
В воде теснились стада неисчислимых китов и кашалотов. А птицы, тюлени, моржи летели и плыли прямо на юг. Эстольд посоветовал оторваться от пустынного, безлюдного берега и последовать примеру животных. На пятый день с того утра, когда флотилия вошла в Гандвик, с высокой мачты «Дракона» был замечен берег и на воде — несколько лодок, похожих на лапонокие.
Глава десятая
Две тяжело груженные расшивы спускались вниз по реке Ваге. Поморянский старшина Одинец с товарищами — кузнецами, подмастерьями и работниками — возвращался из поездки за железной землей. Идет одиннадцатое лето с того времени, как Доброгина ватага новгородских повольников вышла на Вагу из Черного леса. Железная земля — руда была найдена умельцами на болотах выше, если считать по Ваге, памятных острожков с пушниной, подаренной ватаге первым старшиной Доброгой. Уже восьмое лето расшивы поморянских и других кузнецов приходят на железные болота. Место известное, обжитое. Стоят избушки, чтобы было где спать в рабочие недели, и берестяные вежи биарминов, которые тоже собирают руду. Здесь хранится рудная снасть: широкие, долбленные из комлей ступы, тяжелые песты. Для осушения болот прокопаны канавы. Всё лишнее — листву, щепу, корешки и перегной — выжигают из руды на кострах. Золу тщательно толкут в ступах и веют деревянными лопатами. В остатке, в крепком черном порошке, скрывается железо. Порошок собирают в лубяные короба и грузят в расшивы. Этой весной досадливые затяжные дожди мешали поморянам прокаливать и веять руду. Семейным, домовитым людям хотелось поскорее попасть домой, и они гребли вниз по течению без остановок, без заездов к знакомым и родичам. Пробежали мимо места, названного Доброгиной заимкой, против которой было выжжено первое памятное поле, огнище по старому сухостою. Местные жители подплывали к расшивам на лодках побеседовать с поморянами. Близ мыса, где новгородцы впервые встретились с биарминами и счастливо подружились с отцом жены Яволода, Бэвы, у слияния Ваги с Двиной, устроился второй починок, побольше первого. Вскоре поморянские расшивы прошли мимо третьего памятного места, где повольники сражались и мирились с биарминами. Здесь, на двинском берегу, отдали душу восемь повольников, с которыми уснул и Радок, брат ненаглядной для Одинца Заренки. Одинец торопил расшивы: ему было тошно, он стосковался вдали от своего двора. Поморянского старшину все почитают, все любят. И на поморье и на Двине нет у него врагов и недоброжелателей. Ему как будто в жизни удалось всё. Однакоже он невесел. Почему? Об этом трудно рассказать, он и сам об этом не сказал бы. Как бы человека ни мучила жажда, как бы ни томил голод — утолил их и забыл. Но чем Одинец утешит беспокойное сердце? Вскоре расшивы достигли Колмогор — местности, откуда нижнее течение Двины разливалось протоками, разделенными островами. Здесь расположилось самое большое поселение, Колмогорянский пригородок. Новгородцы привыкли звать пригородами или пригородками все свои города, кроме самого Новгорода. «Колмогоры» — биарминовское слово, и оно вошло в язык новгородцев, как и все названия новых для пришельцев мест. В Колмогорах нашлись отличные места для пашен, хорошие луга для нагула скота, доброе сено на зиму. Одинец помнил, как ватажники первый раз спускались к морю, помнил каждое слово Доброги. Явился бы первый старшина и порадовался вместе со всеми… Прочно осели новгородцы на новых местах, нашли не только железную руду, но и удобные речные пути-переволоки к Новгороду. Ниже Колмогор Двина еле течет, а в приливную морскую волну и совсем останавливается. Близится поморянокий городок.Городок Усть-Двинец стоял на месте первого острожка, поставленного при Доброге. Поморяне так и не построили укрепления, о котором заботился Доброга. Старый ров завалился, а бревна с тына люди понемногу растащили для других дел. С биарминами дружили и не думали ссориться, а никого другого здесь, на краю света, не было и быть не могло. Тем, кто знает новгородскую жизнь, просторный и богатый двор поморянского старшины Одинца сильно напоминал двор знатного железокузнеца Верещаги. Такого же вида теплые избы и клети, такое же мощенье двора плахами и крытый второй двор. Углы строений резаны в новгородский крюк и в прочную кривую лапу. Дворы Карислава, Яволода, Вечёрки, Янши и других тоже были очень похожи на новгородские. Поморянское строение рубилось из сосны да ели, а новгородское — из дуба. Для взора в этом-то и была, пожалуй, главная разница… Но всё же в укладе жизни у поморян есть большие отличия от Новгорода. Во дворе Верещаги живут его младшие братья с семьями, женатые сыновья, дочери с мужьями. Немало нанятых подмастерьев и работников, но своих кровных — больше. А у Одинца было бы пусто, не поселись с ним одним родом его бывшие первые подмастерья — биармины Онг, Тролл и Волту. Они обрусели и прижились к главному мастеру. Из четырех первых биарминов, постигших все тайны новгородского железного умельства, отстал один Расту. Овладев мастерством, он жил со своим родом по морю, на закат от Усть-Двинца. На дворе Одинца нашлось место и для Гинока — одного из первых повольников, который, как Яволод, женился на доброй, миловидной биарминке и через жену породнился чуть ли не с четвертью всех биарминов. Биармины уже не молятся железу. Водяные люди хорошо пообзавелись топорами, теслами, гарпунами и всей прочей железной снастью и оружием. По примеру новгородцев, биармины научились по-настоящему обрабатывать дерево. Усть-двинецкие поморяне выбежали к пристани встречать старшину и своих, всем людством дружно выносили тяжелые короба с рудой и уставляли их на телеги.
Одинцов двор богат, но что хозяину в богатстве! Он не искал богатства, не гнался за ним — оно само пришло. Тому минуло шесть лет, как Одинец ходил за переволоки, в Новгород, и отдал старшинам виру, что на нем тяготела за убийство нурманнского гостя Гольдульфа. Одинец ступал чужаком по мощеным улицам и площадям города и недолго загостился у тестя, Верещаги. Его тянуло поскорее вернуться домой, к двинским и морским берегам, к Заренке… И Заренка не просила мужа подольше погостить у кровных. Отрезанный ломоть не пристает к караваю — у родительского очага быстро холодеет место, оставленное девушкой. Самой же ей любо быть хозяйкой и править своим домом. Заренка держала свой дом властной рукой, жена Гинока и другие биарминки ей ни в чем не перечили. Жизнь шла без свар и помехи, твердым русским порядком и уставом. Заренка встретила мужа, по обычаю, низким поклоном, сняла с хозяина кафтан. Одинец знал, что хозяйка позаботилась и баню затопить, как только услышала о возвращении. Из печи торопились горшки, из погребов будто сами бежали моченые и соленые прикуски. Наполнялись ковши. Все усть-двинецкие прибежали почествовать счастливое прибытие своего старшины. Радостно сиял Ивор, Иворушка, приемный сын Одинца, дитя, рожденное Заренкой от крови Доброги. Все верили, что в теле Ивора, пришедшего в мир после смерти отца, жила смелая душа первого ватажного старосты. Но для Одинца он был не пасынком, а сыном. Кого же ещё нужно Одинцу, что нужно! Взгляни на него — радостен хозяин, радостен муж и отец. Но чем ему насытить сердце, если оно хочет самого простого, доступного в жизни для всех, а для него одного невозможного, — об этом он знает один. Принимая из рук Заренки ковш, Одинец встал, по русскому обряду поцеловал жену-хозяйку в губы и до дна осушил первую чашу.
Глава одиннадцатая
Чтобы уберечься от пожаров, и в Новгороде и во всех поселениях места для варки железа всегда отводились подальше от строений. Усть-двинецкие поморяне держали свои домницы выше городка, вблизи речного протока. Усть-двинецкие печи-домницы были сложены из диких колотых камней, на растворе песка с глиной. Снизу внутрь печей были проведены тонкие трубки из обожженной глины — для воздуха, гонимого мехами. Каждая домница была высотой по шею человеку, а толщиной в два обхвата. Домницу обряжали чистым и крупным березовым углем, отсеянным от пыли и мелочи, и железной рудой, смешанной с крупным речным песком и мытой в воде печной золой. На под печи уже был заложен зажженный древесный трут для запала угля. Домницу грузили в четыре ковша, раз за разом — как бы не задохнулся трут! Палить домницы, варить железо было таким же великим умельством, таким же тонким мастерством, как калить кованое железо. Плохой, небрежный мастер мог губить плавку за плавкой. Потому-то настоящие мастера всегда окружались почетом. Не счастьем, не удачей, как в иных делах, — успех в плавильном деле достигался сознательным умельством и по своей трудности считался доступным не каждому, а лишь очень способному человеку. Пока домница не доведена до конца, от неё нельзя ни отойти, ни прекратить работу мехов — дмание. В домницу не заглянешь, не пощупаешь железо. О творящейся тайне выделения из руды драгоценного металла, без которого в жизни не ступишь и шага, мастер соображал по времени, по горячему тяжелому духу из продуха в своде и, главное, по своему умельству. В полдень Заренка пришла кормить работников. Детишки, материны помощники, притащили горшки с горячим варевом, миски, ложки. Ивор в холстинном мешке принес каравай хлебушка. Близ домниц была построена работницкая изба с очагом, чтобы мастерам было где отдохнуть и согреться в холодные, непогожие дни. В избе — большой тесовый стол и лавки. Человеку пища дается трудом, и, как считали новгородцы, непристойно принимать пищу кое-как, без порядка-обряда. Сидя за выскобленным ножом и добела отмытым столом, работники ели чинно и строго. Они бережно держали ломти хлеба, чтобы ни крошки не сронить на землю, осторожно макали в солонку — не рассыпать бы соль. Из всего, что берут люди от матери-земли, самое честное и самое дорогое — хлеб. Он дорог не ценой: где запахло хлебным духом — там дом, там родной очаг. Ни о чём так не мечтает забредший в Черный лес охотник, как о хлебе. По русскому обычаю, гостю в почет подносят не золото, не самоцветные камни, не серебро и пушные меха, а хлеб. С хлебом подносят соль, потому что она от солнышка. Хлеб и соль — человеческий труд, согретый и порожденный добрым Солнцебогом.Первая смена кончила трапезовать, хозяйка кликнула другую. Ивор попросил: — Отче, позволь и мне подмать! Вместе с Ивором за мехи взялся Верещажонок, сын Явора и Бэвы. Мальчата-ровесники старались изо всех сил. И Гордик брался помогать. Малый совсем: тем двум по одиннадцатому лету пошло, а ему едва шестое лето минуло. Одинец взял сына на руки: — Погоди-ка малость, сынок, подрасти прежде. Мехи сипят и сопят, прогоняют воздух через трубки-сопла, вмазанные снизу в домницу. Паренькам мешают длинные волосы, падают на лицо, лезут в глаза. Малые встряхивают головами, но не выпускают рукояток — боятся, вдруг им скажут: «Будет вам, отходите». Заренка, глядя на ребят, стала на пороге работницкой избы. Лицо у жены поморянской старшины спокойное, взгляд прямой, строгий. Всегда такой, всегда, всегда… Одинец не знает другого взгляда. Гордик завозился на отцовских руках, мальчику уже надоело, просится к матери. Одинец пустил малого. Гордик любит мать, и Заренка любит Гордика — никто другого не скажет, нет… Старший мастер ощупал свод дойницы и, узнавая, что делается внутри, на себя отмахнул дух. За ним проверили домницу Тролл и Онг. Свод пылкий, дух чистый, острый, сухой. Над продухом воздух дрожит. — Теперь бросай дмать, — распорядился Онг. — Я не утомился, отче, — возразил Ивор. — Да уж домница-то поспела, Иворушка. Дошло железо. Докончили. Мальчонок знает, что муж матери — ему не кровный отец. Ивор любит слушать рассказы ватажников о Доброге, славном вожаке повольников, кому были наперед ведомы все пути-дороженьки и чье сердце было как море широкое. А Одинца без принуждения зовет отцом и на любовь отчима отвечает искренней сыновней любовью. Гордик больше тянется к матери, Иворушка к Заренке холоднее. Зоркие соседи-поморяне этому не дивятся: в мальчонке живет душа Одинцова побратима — Доброги. Гинок запустил в пасть домницы длинные, двухаршинные клещи. Руки мастера защищены кожаными рукавицами, лицо он отворачивает. Горячо-горячо… То-то у кузнецов бороды покороче, чем у других людей. Как ни берегись, волосы курчавеют и трещат. Гинок выдернул железную крицу — черный ноздреватый камень величиной с детскую голову, — перехватил клещи, крякнул и выставил крицу на наковальню, на валун — дикий камень. Тут же в два тяжелых молота Тролл и Онг принялись охаживать горячее, сырое железо. Ухают мастера и подлетают за молотами на раскоряченных здоровенных ногах, как в буйной пляске. Глаза горят, целя без ошибки, бороды вздыбились, а молоты — как богатырские кулаки. Эх, и любо же, весело смотреть на кузнецов, когда они спешат, пока крица горяча, осадить и уплотнить дорогое железо быстрой и могучей ковкой! По правилу, каждую крицу оковывают в шар и разрубают зубилом, чтобы проверить доброту железа.
Едва мастера разрубили крицу, как заслышался необычный шум голосов. К домницам от Усть-Двинска пришли свои поморяне и притащили двух незнакомых молодых биарминов, которые еле держались на ногах. — Старшина, старшина где? — Здесь старшина. За каким делом прибежали? Биармин, который был пободрее, объяснил, что их обоих прислал к Одинцу-старшине его друг, кузнец Расту. Послал сказать поморскому старшине весть — на море ходят невиданные лодьи. Расту велел с этой вестью бежать морем к Одинцу и нигде совсем не отдыхать. И они оба гребли два восхода солнца — сильно гребли, потому что никто не видывал таких лодей и самые старые старики-родовичи не слыхали. Таких лодей не бывало. — А какие же те лодьи? И хочет объяснить гонец, и нет у него нужных слов для рассказа о невиданной ранее вещи. Он старался, досадовал на своё неуменье, злился на поморян, что его не понимают. Биармин стучал по голове кулаком, но слова не шли. — Ты лодьи сам видел? — Сам, сам! Одинец захватил горсть углей и повел биармина в избу, к чистому трапезному столу. Биармины любят коротать длинные зимние ночи перед высокими огнями жировых светилен за причудливой резьбой по твердой кости. Пригодилось умельство. Глаз биармина был верен и рука послушна, хотя и дрожала от окровавившего ладони весла. Резчик наострил уголь об уголь, примерился, разделил белую столешницу двумя чертами на три равные части. В верхней он нарисовал длинную низкую лодью с приподнятым и тупым от рыбьей головы носом. На боку лодьи — двенадцать кружочков. Биармин объяснил: каждый кружок — большое весло; лодья машет двенадцатью большими веслами с каждого борта. Таких лодей две, совсем одинаковых, черных. На второй части стола биармин вырисовал лодью повыше и побольше, с птичьим носом и тоже с двенадцатью кружочками на борту. Третье место на белом столе заняла высокая, большая лодья со звериной головой. Она была вся как неизвестный злой зверь. Над бортами лодей биармин добавил много точек, как рои мух, — это люди. Заренка повела биарминов ко двору — накормить и уложить гостей. Второго гонца потащили под руки, он совсем ослабел. Тем временем погнали новую домницу; работа — она не ждёт.
Усть-Двинец взволновался. Пришли Карислав, Вечёрко и другие, кто был занят у себя во дворах. Рассматривали умелое биарминовское рисованье — нурманнские лодьи, самые настоящие нурманнские… Иворушка примчался из дому с куском бересты. На ней нарисована голова с двумя коровьими рогами. Биармину вспомнилось, будто такая не то была, не то не была на ближней низкой лодье. Одинец вспоминал забытого наглого нурманна Гольдульфа, стрелу в бедре. Вспоминал бегство, от которого вся его жизнь сложилась иначе, чем он мыслил, когда был веселым и пылким молодым парнем. Ничего он не мог изменить и не хотел менять. Юность не вернется, и ни к чему она сейчас. Поморянский старшина ушел далеко, глядит на бересту с нурманнским шлемом и не видит. — Чего голову мучить! — сказал Вечёрко. — То нурманны, никто более. Одинец не слышал. Бегом явилась взволнованная Заренка. Она помнит рассказы матери о родном селе, сожженном и разграбленном нурманнами. Не удалось бы Заренкину деду уйти от злых людей — быть бы Светланке не женой Верещаги, а нурманнской рабыней. Женщина встала перед мужем, скрестила руки на груди и, как никогда не бывало, зло и многословно спросила: — Что же ты, о чём задумался? Голову повесил!.. Нурманны пришли. Ты, что ли, не знаешь, они по морям не с добром ходят, проклятые морские волки! Кто того не знает? Ныне они добрались к нам. Ты что, испугался? Одинец очнулся. Он может ответить жене, что только однажды в жизни узнал страх — когда над ним нависло рабство в возмездие за убийство иноземного гостя. Может честно сказать, что больше никогда и ничего не пугался. Не испугался ведь он и не согнулся, когда она ушла к Доброге! У него один нестыдный страх — её, Заренки, лишиться, одна тягота — жена не любит. Но Одинец смолчал, не обиделся. Он встал, смело обнял Заренку, притянул к себе по-хозяйски, легко, как ребенка, приподнял и прямо глянул в гневно-строгие очи любимой: — Не бойся!
Глава двенадцатая
Человеку, не привыкшему причинять другим зло, свойственно до последней минуты утешать себя мыслью, что с ним беда не случится. И вправду, не приплыли ли нурманны с простой торговлей? Почему бы и нет? Но слишком хорошо новгородцы знают нурманнскую повадку легко мешать грабеж с торговлей и быть смирными лишь там, где они видели силу. Прошло четверть дня после прибытия тревожных гонцов Расту. Влево от двинских устьев, на закат солнца, и вправо, на восход, побежали в быстрых кожаных лодках гонцы с вестью для всего населения побережья: — По нашему морю плавают чужие, злые люди нурманны в особенных черных лодьях. Им нельзя ни в чем верить, и от них нужно прятаться. Гонцы везли и настоятельный наказ: — Всем мужчинам брать лучшее оружие и спешить в Усть-Двинец, где все люди будут вместе обороняться от нурманнов. Одинец послал вестников и к колмогорянам, не забыл летних рыболовов на двинских берегах и биарминов на глубинных оленьих пастбищах. На биарминовских стойбищах никак не брали в толк, что это за такие люди и лодьи, которых вдруг испугались братья биарминов, железные люди? Если у гонца был с собой рисунок на бересте, то, разглядывая его, соглашались: — Верно, лодьи нехорошие, злые. Биармины выходили на море и, прикрывая руками глаза от яркого блеска, впервые со дня рождения с опаской глядели на царство Йомалы. Оленьи пастухи не понимали: как же это им вдруг бросить оленей? Этого никогда не бывало. Коль поблизости находился друг-поморянин, железный человек, направлялись к нему посудить не спеша, общим умом: непонятно что-то… А поморянин уже собирался, немедля торопился к Усть-Двинцу.Неизвестное море, неизвестное дно полны опасностей для мореплавателей. Кормчий вглядывается; он напряжен, как охотничья собака на стойке. Как будто бы в этом неизвестном море, Гандвике, вода была всё время чуть-чуть преснее, чем у берегов земли фиордов. Как будто сегодня она сделалась ещё чуть-чуть преснее. Но реки ещё здесь не было. Эстольд осторожно вел в мелком море флотилию нидаросского ярла, не приближаясь к берегам. Близились к концу запасы пресной воды. Викинги устали, но берега оставались безлюдными. Неужели Гандвик действительно заселен колдунами, знающими тайные чары, чтобы делаться невидимыми? Викинги вспоминали саги о белокуром Зигфриде и о Нибелунгах — хранителях золотых кладов, скрывавшихся от глаз героя под маской из волшебных трав. Наконец с «Дракона» заметили несколько лодок у берега, и флотилия направилась к земле. Лес начинался сразу за поселком, и жители всех других земель давно исчезли бы, бросив дома и имущество. А из этих, как увидел Оттар, никто не убежал и не собирался бежать. Темные глаза и черные волосы жителей берегов Гандвика обличали для викингов их принадлежность к низшей расе и напоминали Оттару лапонов-гвеннов. Но их кожа была светлее, и ростом они были выше лапонов. Видимо, не зная, что делать, они отступили к своим домам — на берегу сделалось тесно от викингов. Люди переговаривались, и Оттар понял несколько слов. Ярл не случайно вспомнил лапонов: речь этих людей походила на лапонскую. Тем лучше… Оттар приказал охватить поселок. Жители бросились укрываться в домах, и викинги ломились за ними. Собаки накинулись на чужаков и падали под ударами — первые жертвы каждого набега. Люди пробовали защититься — их сопротивление было быстро подавлено. Викинги вытащили к ярлу живых и раненых, которые могли ходить. Вместе с пойманными загонщиками набралось около девяноста мужчин, женщин и детей.
 Глазом человека, привыкшего разбираться в толпе пленников, Оттар выбрал того, кто показался наиболее значительным, и спросил его по-лапонски:
— Как твоё имя?
Вопрос был понят, и Расту назвал себя выходцу из моря.
— Как называется твой народ?
— Мы — биармины, дети богини Воды Йомалы.
— Это хорошо, биармин, сын йомалы, что ты разумен и понимаешь меня. Ведь ты понимаешь мои слова?
— Да.
— И я тебя понимаю. Теперь ты скажешь мне, сколько вас, биарминов, где города биарминов, какие реки текут по земле биарминов и какие народы живут по соседству с биарминами. Ты скажешь мне всё это. Ты понял меня?
— Да, я тебя понял.
— Отвечай.
— Нет! — выкрикнул Расту. — Ты убийца! Я не буду говорить с тобой. Я не хочу.
— Но я хочу, — возразил Оттар. — Я — повелитель всех биарминов, и все биармины должны об этом узнать.
…Пылали костры, калились щипцы и крючья, страшно и гнусно пахло паленым мясом. Море услышало крики, каких никогда не слыхало, лес увидел то, чего никогда не видал.
Сын Вотана, ярл Оттар, узнал, что биарминов много и они живут на дни и дни пути по берегам моря. Узнал о реке Двин-о, текущей из глубины земли, в устье которой живут и биармины и железные люди, пришедшие издалека. Эти люди научили биарминов обрабатывать железо. Ярл узнал, что биармины богаты пушным и морским зверем и рыбой.
Узнав всё нужное, Оттар позволил желанной смерти-избавительнице прийти к Расту и к тем четырем биарминам, которые под раскаленным железом подтвердили правду слов Расту-кузнеца, первого ученика Одинца.
Из числа пленников Оттар отобрал десять самых сильных мужчин и приказал заклеймить их знаком Нидароса, руной «К» — ридер. Траллсы нового Нидароса будут носить клеймо старого гнезда. Чтобы внушить новым траллсам благодетельный страх, а также сознание удачного сохранения жизни, ярл позволил Галлю и Свавильду потешиться над остальными биарминами-мужчинами.
Новые траллсы смотрели, понимали, запоминали… Головы замученных были воткнуты на колья заборов. Отныне этот поселок будет долго указывать биарминам на необходимость послушания ярлу, и судьба непослушного Расту послужит примером для всех.
Оттар сказал клейменым траллсам, что он, их господин, не хочет гибели всех биармипов. Он, господин и повелитель, навеки остается здесь, биармины должны слушаться и платить ему дань, такую, какую он назначит, и исполнять работы по его приказу.
Тогда он позволит биарминам жить. А всех непослушных перебьет.
Ярл приказал клейменым известить всех биарминов о воле господина.
Траллсы-биармины взялись за весла. Истерзанные каленым железом лбы заставляли пылать мозг. Но биармины не чувствовали боли, их сердца онемели. Они быстро махали веслами: два раза справа, два — слева, и опять справа, и опять слева… Дурные вести летят.
Оттар объявил трехдневный отдых. Отныне время работало на него и страх разрушал сердца биарминов. Викинги разложили длинные дымные костры для защиты от мошек и комаров. В домах нашлись пушнина, моржовые клыки, кожа, рыба и другие ценности. Отряды, загонявшие биарминов, заметили домашних оленей и отправились за свежим мясом.
По нелепой случайности и небрежности викингов ярл потерял трех воинов во время короткой схватки. Он размышлял о будущих действиях. Он предпочел бы общую попытку к сопротивлению всех биарминов сразу. Тогда одним ударом он прочно закрепит за собой новые владения. Не продлить ли отдых сверх трех дней? Пусть биармины соберутся с силами.
Глазом человека, привыкшего разбираться в толпе пленников, Оттар выбрал того, кто показался наиболее значительным, и спросил его по-лапонски:
— Как твоё имя?
Вопрос был понят, и Расту назвал себя выходцу из моря.
— Как называется твой народ?
— Мы — биармины, дети богини Воды Йомалы.
— Это хорошо, биармин, сын йомалы, что ты разумен и понимаешь меня. Ведь ты понимаешь мои слова?
— Да.
— И я тебя понимаю. Теперь ты скажешь мне, сколько вас, биарминов, где города биарминов, какие реки текут по земле биарминов и какие народы живут по соседству с биарминами. Ты скажешь мне всё это. Ты понял меня?
— Да, я тебя понял.
— Отвечай.
— Нет! — выкрикнул Расту. — Ты убийца! Я не буду говорить с тобой. Я не хочу.
— Но я хочу, — возразил Оттар. — Я — повелитель всех биарминов, и все биармины должны об этом узнать.
…Пылали костры, калились щипцы и крючья, страшно и гнусно пахло паленым мясом. Море услышало крики, каких никогда не слыхало, лес увидел то, чего никогда не видал.
Сын Вотана, ярл Оттар, узнал, что биарминов много и они живут на дни и дни пути по берегам моря. Узнал о реке Двин-о, текущей из глубины земли, в устье которой живут и биармины и железные люди, пришедшие издалека. Эти люди научили биарминов обрабатывать железо. Ярл узнал, что биармины богаты пушным и морским зверем и рыбой.
Узнав всё нужное, Оттар позволил желанной смерти-избавительнице прийти к Расту и к тем четырем биарминам, которые под раскаленным железом подтвердили правду слов Расту-кузнеца, первого ученика Одинца.
Из числа пленников Оттар отобрал десять самых сильных мужчин и приказал заклеймить их знаком Нидароса, руной «К» — ридер. Траллсы нового Нидароса будут носить клеймо старого гнезда. Чтобы внушить новым траллсам благодетельный страх, а также сознание удачного сохранения жизни, ярл позволил Галлю и Свавильду потешиться над остальными биарминами-мужчинами.
Новые траллсы смотрели, понимали, запоминали… Головы замученных были воткнуты на колья заборов. Отныне этот поселок будет долго указывать биарминам на необходимость послушания ярлу, и судьба непослушного Расту послужит примером для всех.
Оттар сказал клейменым траллсам, что он, их господин, не хочет гибели всех биармипов. Он, господин и повелитель, навеки остается здесь, биармины должны слушаться и платить ему дань, такую, какую он назначит, и исполнять работы по его приказу.
Тогда он позволит биарминам жить. А всех непослушных перебьет.
Ярл приказал клейменым известить всех биарминов о воле господина.
Траллсы-биармины взялись за весла. Истерзанные каленым железом лбы заставляли пылать мозг. Но биармины не чувствовали боли, их сердца онемели. Они быстро махали веслами: два раза справа, два — слева, и опять справа, и опять слева… Дурные вести летят.
Оттар объявил трехдневный отдых. Отныне время работало на него и страх разрушал сердца биарминов. Викинги разложили длинные дымные костры для защиты от мошек и комаров. В домах нашлись пушнина, моржовые клыки, кожа, рыба и другие ценности. Отряды, загонявшие биарминов, заметили домашних оленей и отправились за свежим мясом.
По нелепой случайности и небрежности викингов ярл потерял трех воинов во время короткой схватки. Он размышлял о будущих действиях. Он предпочел бы общую попытку к сопротивлению всех биарминов сразу. Тогда одним ударом он прочно закрепит за собой новые владения. Не продлить ли отдых сверх трех дней? Пусть биармины соберутся с силами.
Глава тринадцатая
Вдоль берега гребли клейменые нурманнские траллсы, в кожаных лодках везли страх и смерть. Траллсы выходили на берег, и люди замирали, слушая их речь. Бежать, бежать от страшных рогатых голов, бежать, бежать от страшных морских убийц! Бежать куда глаза глядят, бросить всё достояние и забиться в лесные дебри! Но спасешься ли от злых? Как спастись? А братья со страшно изуродованными лицами говорят: — Пришлые убийцы требуют от биарминов дани. Кто даст, тому оставят жизнь, того не убьют. Никому и никогда биармины не платили дани. С плачем они спрашивали гонцов: — Быть как? Делать что? А вы, безликие, куда вы спешите, несчастные? — На Двину. К братьям — железным людям. Мы больше не биармины, у нас нет лица, нас не узнает Йомала. Нам нет жизни. Мы спешим за железным оружием. Убийцы так же смертны, как мы. Мы знаем. Клейменые смело бросаются в море через прибойные волны и так бьют веслами, будто хотят пробить море до дна. И на берег сквозь плеск прибоя доносится: — Убийцы смертны, как мы! Нужно убить убийц! Они гребли, а им навстречу торопились другие посыльные. И встретились клейменые гонцы нурманнов с вольными гонцами старшины Одинца. Флотилия Оттара покинула мертвое стойбище Расту лишь на шестой день, после хорошего отдыха. Драккары шли на восток, к устью реки Двин-о, не спеша прокладывая путь для многих предстоящих плаваний. Кормчие изучали берег, запоминали характерные особенности — приметы, промеряли глубины моря. Для оценки силы и направления течений драккары иногда прекращали греблю и отдавались морю. Темная пелена хвойных лесов подходила почти к черте прибоя и удалялась, оставляя широкие пространства, где над сочной травой торчали бесформенные спины валунов. Бесподобные леса очаровывали викингов. В домах биарминов нашлись даже шкурки черных соболей, оцениваемые на вес золота. Такие соболя бывали лишь у новгородских купцов, теперь будут и у викингов. Эти леса — настоящая сокровищница. Над болотами вились ястребы — верный признак обилия дичи. Море было несравненно богаче кашалотами, чем воды Гологаланда. Нерасчетливой торговлей можно сбить цены. Для извлечения полной выгоды придется самим возить к грекам кашалотовый воск. У устья ручьев и речек чаще встречались остовы чумов и бревенчатые дома. Были заметны следы свежих пожарищ. Берег же был безлюдным. Здесь проплыли первые траллсы-биармины, и Оттар не удивлялся отсутствию людей: страх наносил полезные удары по воображению биарминов. Сначала бегство, быть может попытка к сопротивлению, потом наступит время постоянного повиновения. Зимой в старом Нидаросе будут построены баржи, и на следующее лето начнется переселение в Новый Нидарос. Сам Оттар проведет последнюю зиму в Скирингссале. Пришла пора заставить работать все богатства, собранные Гундером, Рёкином и самим Оттаром: он закажет шесть новых драккаров, четыре таких же, как «Дракон», и ещё две «Акулы». Он сумеет отнять своей щедростью у других ярлов не меньше двух тысяч викингов за одну зиму. Викинги, викинги, ещё викинги… Открыватель новых морей, первый из племени фиордов победивший страх перед северной Утгардой, господин новых земель, Оттар одним прыжком наверстал десять лет, на которые его опередил Черный Гальфдан. Пусть же Черный и тинг бондэров давят свободных ярлов, для их викингов всегда найдется место. Чем больше будет объявленных вне закона, тем лучше для Оттара. И до установления власти Гальфдана находилось много изгнанников, отверженных законами племени фиордов. Викинги и другие смелые, необузданные люди, виновные в насилии над женщиной, в похищении людей, в злоупотреблении доверием, в грабежах, поджогах и убийствах, прятались в лесистых горах и жили, как дикари, охотой, рыбной ловлей в горных озерах, нападениями на путешественников и дома бондэров. Перед отплытием из Скирингссала Оттар поручил нескольким ловким викингам вербовку объявленных вне закона. Он приказал им бродить всё лето, а к осени выйти к пустынным фиордам севернее мыса Хиллдур. Они, несомненно, соберут несколько сот викингов. Оттару понравились биармины. Хотя их язык похож на лапонский, но они гораздо сильнее, выше ростом, с более крепкими мускулами. Расту и четверо умерших под раскаленным железом были стойкими, мощными мужчинами и могли бы вертеть весло драккара. Люди низших рас недостойны сесть на румы, но биармины будут способны выполнять тяжелые работы. Оттару нужно много траллсов для постройки домов и укреплений первого горда. Уже на эту зиму он оставит здесь викингов для сбора дани. В поселке Расту нашлись не одни железные изделия, но и настоящая кузница, с мехами, инструментами, запасом сырого железа. Гологоландские лапоны-гвенны не умеют обрабатывать железо. Биармины смогут платить и большую и разнообразную дань. Описывая длинные петли, флотилия медленно приближалась к лесистым островам. Вода сделалась почти пресной. Проливы среди островов — это устья Двин-о, о которых говорил Расту и другие биармины. Здесь всё — острова, берег и блестящие протоки — так нравилось ярлу, будто бы он сам их создал. Он перешел на «Черную Акулу», желая первым познакомиться с устьем реки Двин-о — местом, где он думал построить новый горд, Новый Нидарос, столицу короля викингов.Глава четырнадцатая
Смутно в Усть-Двинце. Нет скрипа люльки и писка младенца, не стало веселого детского гомона, не слышно женского голоса, не мычит коровушка-кормилица, не ржет работница-лошадь. Смутно в Усть-Двинце. Смутно, но не пусто и не тихо. В городок сбиваются поморяне и биармины с морского берега, который протянулся влево от двинского устья, на закат. Подобно другим старшим на стойбищах, поморянский старшина не медлил после прихода клейменых. Одинецприказал всем женщинам с детьми и малосильными парнишками уходить вместе со стадом, с лошадьми и с добром, которое подороже. Старшина дал короткий срок, чтобы хозяева вырыли ямы и схоронили лишнее. Беглецы направились к дальним оленьим пастбищам. Там, за лесами и болотинами, биармины помогут переждать безвременье. За Варяжским морем, в готских, фризонских и франкских землях, нурманны захватывали и грабили большие каменные города, с населением в несколько десятков тысяч человек, силами в несколько сот викингов. Нурманны — воины и учатся воинскому делу с раннего возраста. Сами они закованы в железо, у них туже луки, сильные мечи и копья, твердые щиты. У Одинца набралось пригодных к бою жителей Усть-Двинца восемь десятков, да с закатного берега подоспели шесть десятков. С восходного же берега прибыло всего двадцать три человека. Всех поморян насчитывалось сто шестьдесят три человека. Биар-минов же привалило почти пять сотен, и они продолжали прибывать. Сила ли это? Луки и стрелы есть у всех, а мечей мало. Топоров хватит, настоящие щитов почти нет. Иные биармины пришли со своими старыми кожаными щитами, годными лишь против костяной стрелы. Копья, рогатины и гарпуны хорошие, но доспехов — кольчуг, броней, шлемов, поручней, поножей и настоящих щитов, окованных твердым железом, — едва набралось на два десятка латников. В бой идти — не лес рубить и не зверя ловить. Свои кузнецы сумели бы наковать железных блях и полос для кафтанов из бычьей кожи и для щитов, сумели бы наделать шлемов и поножей с поручнями, набрать кольчуги. Работа на годы, а не на дни. Колмогоряне не оставят своих без помощи, но к ним едва поспели гонцы. Притечет сила с дальних ловель. Однако Одинец знал: своих поморян прибудет не больше сорока, зато биарминов придет ещё много. После вести о гибели рода Расту биармины обозлились, как растревоженные осы. Недаром, видно, они умеют между собой считаться родством до самой Йомалы. Женщины и дети расставались с Усть-Двинцом с горестным плачем. А Заренка совсем не хотела уходить и спорила с мужем: — Найдется кому приглядеть за Гордиком, за Ивором — не грудные ребята. А я не уйду. — Ступай. Тебя наши женщины привыкли слушаться. Ты старшей будешь. Все уходят. — Все для меня не указ! Своенравная, своевольная душа, никому и ни в чем не покорная. Сказала б, что любит, что его, мужа, не может оставить! Как вопит беленькая Иля, повиснув на своем Кариславе!.. Нет, не говорит и не скажет. «Не хочу» — и всё тут. Карислав силой оторвал от себя жену, Яволод потащил свою биарминку Бэву на руках. Уже все собрались, вытянулись из городка. Одна Заренка не идёт. Одинец нашел слово, но смелости сказать его в полную силу не собрал: — Коль любишь… детей и мужа, уходи. Заренка не сказала, что не любит мужа. Спросила: — Почему же мне уходить? Что же я, уйти не сумею и не успею, коли нурманны вас потеснят? Одинец никогда не умел много говорить, его речь была тяжелой и малословной. И перед Заренкой он впервые нашел в себе силу слова. — Слышишь? — Он махнул рукой, будто охватил все собравшееся в Усть-Двинце смятенное людство. — Народ гудит, в нем тоска, тревога, колебание. Сколько ныне сбежалось — все меня ждут, на меня смотрят. Я им нужен, для них я. Ныне мне надобно иметь свободное сердце. Ты в моём сердце… Коль видеть тебя буду, коль буду знать, что здесь ты, — не о людстве, о тебе буду думать. Ты уйдешь и мне вернешь покой. Необычно, непривычно опустились Заренкины глаза. Что спрятала в них гордая женщина? Она обняла мужа: — Прощай… — Сделала шаг и обернулась: — Страшно… Обещай, что себя сбережешь. Обещаешь? — Буду беречь. И ушла… Сказала бы: «Не из-за Иворушки, чтобы не быть ему сиротой-безотцовщиной и горемычным вдовьим сыном, — сама за тебя пошла». Сказала б: «Любый мой». Нет. Забыла, что ли, сказать? «Любый»… Экое слово чудесно-волшебное! Иные уста его легко произносят. От других же — не добьешься.Одна, другая, третья — замерещились лодьи на дальнем взморье. Скоро и четвертая поднялась из-за моря. С сивера тянул ветерок. Море дышало и гнало в устья приливной вал. С ним плыли нурманны. Не торопились. Нарастали медленно, подобно приливу. Люди различали, как петляли две передние лодьи, длинные, длиннее самых больших китов, узкие, низкие. Ищут дорогу. Оттуда, от нурманнов, Усть-Двинец ещё не виден. Ещё далеко нурманны, лодьи кажутся малыми. Тяжко ждать. Уж шли бы скорее, всё одно! Приближаются. Нурманны плыли верно; они нащупали стрежень большого протока, где надежно идти и в отливную, не только в приливную волну. Заметили! С низкой передней лодьи подали знаки руками, на других повторяли те же знаки. Нурманны переговаривались и сговаривались. Нечего им шарить по Двине — они нацеливаются на городок, чтобы принять покорность народа и взять первую дань. Не будет им ни покорности, ни дани! Нурманны уже проходили устье. Одинец торопил Карислава. На острове нурманнов ждала тайная засада, и Кариславу было поручено поддержать засадных стрелками с материкового берега. Перед Усть-Двинцом, у пристани, Одинец оставил двадцать поморян и около сотни биарминов. Со всем остальным народом старшина скрылся в городке выжидать время для удара на высадившихся нурманнов. …А женщины и детишки уже далеко — прошло четыре дня со времени ухода любимых. Что ни случись — нурманнам их не догнать, не разыскать. На сердце свободно.
От острова до материкового берега было шагов шестьсот, на полный полет стрелы. В засаде сидели Отеня — за старшого, четыре поморянина и пятнадцать биарминов. Они должны были выждать и бить нурманнов вблизи, но не теряться и зря не класть головы. С другой стороны острова, на берегу узкой протоки, ждала расшива. Нурманнская лодья медленно гребла по большой протоке между островом и материком, а расшива засадников ждала на другой стороне острова. Отеня щелкнул соловьем. Первое заливистое колено звучной птичьей песни раскатилось по тихой воде. С того берега каркнул Карислав. Соловей затюкал вторым коленом, ворон захрипел в ответ. — Вот мы им сейчас! — шепнул себе Отеня, погладив спаленную при поджоге собственного двора рыжую бороду. — Как раз среди протока тянут. Эк медленно гребут… Отеня различал головы гребцов в рогатых и в простых, гладких шлемах. На носу лодьи с опущенным к ноге длинным щитом стоял среднего роста крепкий нурманн в красных медных латах. На груди его доспеха был нарисован черный ворон. Ноги нурманна закрывали набедренники и поножи, правую руку защищали поручень и железная рукавица. Низкий наличник гладкого шлема без рогов, с двумя дырами для глаз мешал нурманну, и он, разглядывая берега, поворачивался всем телом. Отене послышалось, будто рядом грызут кость. Он оторвался от лодьи и оглянулся. Около стоял клейменый биармин, у которого от воспаленного ожога лоб выпячивался буграми. Отеня толкнул биармина, чтобы тот опомнился. Биармин повернул страшное лицо: — Он, этот, он, убийца! Сейчас акулья лодья покажет борт. Пора. Поразить её меткими стрелами, отбить охоту тащиться выше…
 Стрела толщиной в палец, длиной в полтора аршина. На стреле — каленый кованый рожон с усами в четверть для крепкой насадки на древко. С другого конца от прорези с четырех сторон тоже на четверть вставлены гусиные расколотые перья. Лук в два аршина, гнутый из пяти ясеневых пластин, склеенных варенным из копыт клеем и окрученный жилами.
Отеня, подавая знак, засипел:
— Ссс!..
Левые руки поднялись и вытянулись. Стрелки растянули тетивы до уха и правым глазом метили по стреле на цель: на шею, на бедро, на щеку, на колено нурманнам, где стрела смогла бы проскочить между доспехами. Целили не просто: считались с ветром, с движением лодьи и с дугой полета стрелы. А хорошо укрыты доспехами нурманнские тела…
Отеня крякнул — и пальцы разом сорвались с тетив. Крученые жильные тетивы звякнули и ударили по кожаным рукавичкам, которые стрелки носят на левой руке, чтобы не покалечить пальцы.
С двух сторон, с обоих берегов, летели тяжелые стрелы. Нурманны не ответили, закрылись щитами и вспенили воду веслами. Кажется, и мига не прошло, а они уже вырвались выше острова и ушли от засадных лучников.
А с материкового берега кричат:
— Отеня! Э-гей! На расшиву-у! Отенюш-ка! Вниз глянь… Мила-ай!
У Карислава голос, как у лешего. Отеня опомнился от боя. Он видел, как снизу к острову поспевала вторая акулья лодья и метилась приставать. Первая же, проскочив остров, развернулась к островному приверху. Нурманны хотели взять засаду клещами, войдя на остров с двух концов. Отеня не потерялся. Нет, нурманн, мы ещё поживем!
— Все к расшиве! Эй, засадные!
Тот проток узкий, за ним большой остров, потом старица, второй остров. Ищи до зимы — не найдешь.
Стрелки вмиг оказались у воды. Расшиву не нужно толкать, ждет на воде. Из затончика ничего не видно.
А Карислав всё торопит:
— Поспешай, э-ге-ге-гей, поспешай!
И горло же у человека!
Оглянулся засадный старшой посчитаться, все ли здесь. Будто бы мало народа… Эх, да что же это? Половины биарминов нет как нет!
Чу! С нижнего конца острова биармины вопят, визжат по-своему, как на волчьей охоте:
— Убей! Убей!
Сердце Отени сжалось смертной тоской. Не брать бы с собой тех биарминов! Клялись клейменые и с ними другие, близкие по крови роду Расту, что они при первой же встрече с нурманнами свою смерть примут, но возьмут нурманнскую жизнь…
Не бросать же товарищей! И нельзя долго думать.
— Эй, — прохрипел Отеня, — побежим, выручим сразу, тогда уплывем!.. — И у него заперло горло, присох язык.
Засадники побежали меж сосен и елей к ухвостью, к нижнему по течению голому концу острова. Выскочили на чистое место, а нурманны уже здесь и толпой добивают биарминов.
Стрела толщиной в палец, длиной в полтора аршина. На стреле — каленый кованый рожон с усами в четверть для крепкой насадки на древко. С другого конца от прорези с четырех сторон тоже на четверть вставлены гусиные расколотые перья. Лук в два аршина, гнутый из пяти ясеневых пластин, склеенных варенным из копыт клеем и окрученный жилами.
Отеня, подавая знак, засипел:
— Ссс!..
Левые руки поднялись и вытянулись. Стрелки растянули тетивы до уха и правым глазом метили по стреле на цель: на шею, на бедро, на щеку, на колено нурманнам, где стрела смогла бы проскочить между доспехами. Целили не просто: считались с ветром, с движением лодьи и с дугой полета стрелы. А хорошо укрыты доспехами нурманнские тела…
Отеня крякнул — и пальцы разом сорвались с тетив. Крученые жильные тетивы звякнули и ударили по кожаным рукавичкам, которые стрелки носят на левой руке, чтобы не покалечить пальцы.
С двух сторон, с обоих берегов, летели тяжелые стрелы. Нурманны не ответили, закрылись щитами и вспенили воду веслами. Кажется, и мига не прошло, а они уже вырвались выше острова и ушли от засадных лучников.
А с материкового берега кричат:
— Отеня! Э-гей! На расшиву-у! Отенюш-ка! Вниз глянь… Мила-ай!
У Карислава голос, как у лешего. Отеня опомнился от боя. Он видел, как снизу к острову поспевала вторая акулья лодья и метилась приставать. Первая же, проскочив остров, развернулась к островному приверху. Нурманны хотели взять засаду клещами, войдя на остров с двух концов. Отеня не потерялся. Нет, нурманн, мы ещё поживем!
— Все к расшиве! Эй, засадные!
Тот проток узкий, за ним большой остров, потом старица, второй остров. Ищи до зимы — не найдешь.
Стрелки вмиг оказались у воды. Расшиву не нужно толкать, ждет на воде. Из затончика ничего не видно.
А Карислав всё торопит:
— Поспешай, э-ге-ге-гей, поспешай!
И горло же у человека!
Оглянулся засадный старшой посчитаться, все ли здесь. Будто бы мало народа… Эх, да что же это? Половины биарминов нет как нет!
Чу! С нижнего конца острова биармины вопят, визжат по-своему, как на волчьей охоте:
— Убей! Убей!
Сердце Отени сжалось смертной тоской. Не брать бы с собой тех биарминов! Клялись клейменые и с ними другие, близкие по крови роду Расту, что они при первой же встрече с нурманнами свою смерть примут, но возьмут нурманнскую жизнь…
Не бросать же товарищей! И нельзя долго думать.
— Эй, — прохрипел Отеня, — побежим, выручим сразу, тогда уплывем!.. — И у него заперло горло, присох язык.
Засадники побежали меж сосен и елей к ухвостью, к нижнему по течению голому концу острова. Выскочили на чистое место, а нурманны уже здесь и толпой добивают биарминов.
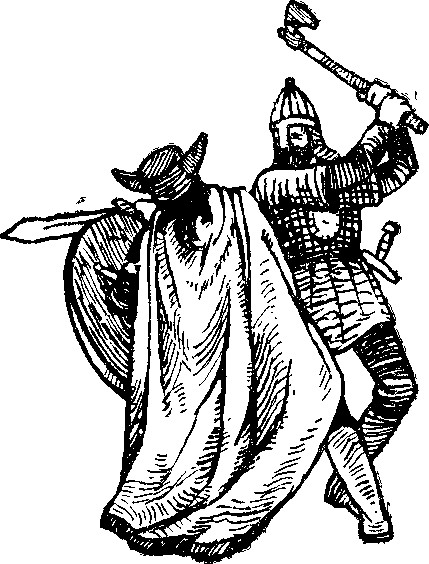 Отенины глаза просветлели, всё-то он видит, до черточки. Горло чистое, голос вернулся. Нет тоски, и совсем ничего не жаль.
— Ну, берегись! — выдохнул удалой охотник, взмахнул топором на длинном топорище и наискось, между латным плечом доспеха и низким краем завешенного кольчужной сеткой рогатого шлема, врубился в первую жилистую нурманнскую шею.
Отенины глаза просветлели, всё-то он видит, до черточки. Горло чистое, голос вернулся. Нет тоски, и совсем ничего не жаль.
— Ну, берегись! — выдохнул удалой охотник, взмахнул топором на длинном топорище и наискось, между латным плечом доспеха и низким краем завешенного кольчужной сеткой рогатого шлема, врубился в первую жилистую нурманнскую шею.
Глава пятнадцатая
Усть-Двинецкая пристань — длинная и широкая. Сваи забиты на десяток аршин от берега, чтобы и в приливную и в отливную волну было удобно причаливать тяжело груженным расшивам. От тесаного бревенчатого настила пристани устроен помост для съезда телег на дорогу, ведущую к городку. Выставленные Одинцом защитники не скрывались. Их дело застрельное: они ввяжутся, втянут нурманнов, а старшина всей силой и ударит из Усть-Двшща. Здесь управлял Карислав, который вернулся из своей засады против острова. После истребления островной засады обе рыбьеголовые лодьи пошли вверх, к пристани. Выше острова река расширялась, нурманны держались подальше от материкового берега, и их нельзя было достать стрелой. Нурманны опять гребли не спеша, разглядывали Усть-Двинец, пристань и её защитников. Помедлив против пристани, обе лодьи ушли вверх версты на две с лишним. Там одна лодья осталась на реке, а другая побежала вниз, к устью, где ждали две большие лодьи. Время же шло и шло. Летний день долог. От устья тронулись две лодьи, низкая повела большую, с птичьей головой на носу. Самая же большая лодья, со звериной головой, осталась на якоре одна. Низкая лодья быстро проскочила мимо пристани, а орлиноголовая приближалась. Над её высокими бортами не было видно голов гребцов, и весла ходили будто сами собой. Готовясь к бою стрелами, защитники встали за вытащенными на берег расшивами поморян и лодками биарминов. Рулевая доска на лодье шевелилась как бы без кормчего. По левому борту корму прикрывал деревянный щит из досок, такой же просмоленный и черный, как вся лодья. Биармины, вызывая нурманнов, закричали изо всей мочи. В кормовом щите что-то мелькало — нурманны глядели в щель. Карислав воткнул стрелу в черную доску, другие лучники спустили тетивы, иные стрелы скользнули в рулевые дыры, но лодья шла и шла, как железная. На её носу сам собой поднялся такой же щит, как на корме. Лодья подошла уже на половину полета стрелы. Громадная, величиной с барана, орлиная голова носа наставила загнутыи клюв на речной берег. Знатная работа, вырезано каждое перышко. Дерево вызолочено. Когда лодья подплыла ближе, стало заметно, что пооблезшая позолота выпестрила орла. Над щитом, прикрывавшим нос, взметнулся якорь и бухнул в Двину. Что это? Нурманны не пойдут на берег! Не пойдут. Лодью потащило, якорь зацепился за дно, и тихое течение уложило по борту брошенные гребцами весла. И хоть бы показался один нурманн! Спать они, что ли, пришли? И вверху на воде застыли обе низкие лодьи. Дружина Карислава перестала попусту метать стрелы. Бить в черную лодью было всё равно, как в пень или в глину. По двинским протокам рыскали чайки. Что им до поморян, до биарминов, до нурманнов! Бездумные птицы приподнимались над неподвижной лодьей и летели дальше, вверх — вниз, вверх — вниз, поднимаясь и падая с каждым взмахом гнутых крыльев. Ветерок приносил к берегу тяжкую вонь с лодьи; от навязчивого чужого запаха делалось тошно. Нурманны, видно, ждали чего-то, и защитников от тревоги брала усталость. Один, не желая спать, невольно зевал, другой ковырял пальцем петлю тетивы. Забыв осторожность, люди вставали на поваленные расшивы и вглядывались, вслушивались. Вода плеснет — это выбросили ковш из черпальни. Слышится и храп спящего. Нурманны живы и ждут, но чего? Нижней, самой большой, звериноголовой лодьи не стало видно, она куда-то ушла от входа в устье.Карислав всё больше терял власть над своей сборной бездеятельной дружиной. — Поберегись! — покрикивал он. — Придерживайся за расшивами, не выставляйся так! Свои поморяне кое-как слушались, а биармины совсем отбились от рук. Их у Карислава почти сто человек, и все они горели великим гневом на нурманнов за неслыханное злодейство, совершенное над родом Расту. Им думалось, что пришельцы постоят, постоят и уйдут, не решившись выйти на берег. «Раз нурманны не хотят, боятся идти на берег, следует столкнуть на воду лодки и расшивы и напасть самим», — требовали биармины. «Нельзя, — уговаривал их Карислав. — Будем ждать. Сюда нурманны приплыли не спать, на воде мы их не возьмем». …Далеко-далеко будто бы застучал биарминовский бубен. Все сразу затихли и насторожились. Сделался слышен тонкий комариный звон. Через этот такой привычный звон, что его никогда не замечает человеческое ухо, пробивался сухой стук по натянутой коже. Дальний бубен бил к тревоге и будил в сердцах сомнение и тоску. Невольно Кариславу вспомнились бубны при первой кровавой встрече с биарминами. К первому бубну прибавился второй и третий. Стучали откуда-то из устья. Карислава осенило — не напрасно ушла самая большая нурманнская лодья! А не пошли ли нурмапны на высадку за устьем, на самом морском берегу, сзади Усть-Двинца? И оттуда же, от взморья, что-то затрубило. Звук доходит едва-едва, но понять можно — это рог, и у поморян не такие рога. Карислав закричал: — Готовься! Оружайся! Нурманны словно ждали его приказа. На лодье упали дощатые черные щиты, на берег полетели стрелы и камни. Глядя поверх края окованного щита, Карислав видел на лодье густую толпу лучников и пращников. — Укрывайся! За расшивы, за расшивы! Поздно… Поморяне как будто целы за бортами расшив, а где биармины? Кариславу показалось, что их побили сразу всех. Нет, кое-кто успел присесть за укрытие, но не половина ли их уже полегла? Кто сразу уснул, кто ещё корчится с головой, разбитой пращным ядром, или пробует встать со стрелой, выставившей железное жало из спины. Об окованный край Кариславова щита ударилось и раскололось ядро из обожженной глины. Карислава ослепило пылью, и щит ударил его по щеке. Пригнувшись, он протер глаза и опять выглянул. Из-за лодьи отходили две лодки, спущенные с борта, обращенного к другому берегу. С орлиноголовой лодьи попрежнему целили лучники и пращники, но не били — все живые попрятались. Карислав приподнялся — и тут же о его щит сломалась стрела, а глиняное ядро ухнуло по шлему. В ушах Карислава зашумело, и он на миг оглох, однако новгородский шлем на упругом кожаном наголовнике выдержал. Защитники пристани попали в капкан. Они не могли напасть на нурманнов, когда те начнут выходить на берег из лодок. Пока они добегут туда, их перебьют стрелки с лодьи. Не могли они и дожидаться, чтобы высадившиеся набросились на них сзади. Карислав понял, что не может рассчитывать на помощь Одинца, раз нурманны высадились на берег моря. Неудачливым застрельщикам несостоявшегося боя следовало отходить. Но как отходить под метким боем нурманнов? У поморян ещё были кое-какие доспехи: у кого шлем с кольчугой, у кого хороший щит, — но биармины были голы, в одних кожаных кафтанах. Две нурманнские лодки приближались к берегу ниже пристани. Карислав закричал, чтобы все перебегали поближе к нему, под укрытие расшив. Зоркие нурманнские стрелки ловили перебегающих, некоторых побили. Карислав велел всем изготовиться, разом вскочить и бить стрелами. Биармины и поморяне завопили, чтобы смутить нурманнов, и послали свои стрелы навстречу нурманнским. Упал ли кто на черной лодье — не глядели, и своих не считали. А внизу другие нурманны уже выскакивали на берег из своих двух лодок… Поморяне составили щиты и наспех оторванные от расшив доски и, прикрывая бездоспешных, пятились от пристани. Долог же показался путь! Теряли и теряли своих, пока не вырвались из-под стрел и пращных ядер. А всего-то было три сотни шагов! В дружине Карислава выжило всего тридцать два человека из ста двадцати с лишним здоровых и сильных людей, которые, кажется, ещё и мига не прошло, как дышали, жили. И Карислав понимал, что нурманны не станут гоняться за жалкими остатками его дружины. Люди видели, как один из нурманнов нагнулся над телом, что-то с ним сделал, и услышали страшный крик, от которого у них внутри все перевернулось. Нурманн, воин громадного роста, не ниже Одинца или Карислава, в блестящем рогатом шлеме, разогнулся и высоко подбросил кровавый ком. Биармины не знали, а новгородцам приходилось слышать, что нурманны хвастаются своим уменьем одним поворотом острого меча вырезать из живой спины ребра. Уже из трех мест звучали гнусливые рога — от моря, от пристани и сверху, с реки. Как видно, и там высадились нурманны с двух низких лодей с головами акул на носах.
Нечаянный воин, Карислав наблюдал за другими и за собой, как издали. Он не растерял своего оружия. Лук в налучье и колчан со стрелами висели за спиной, щит — на левой руке, а длинный нож — за сапогом. И топор был с ним. Он по-хозяйски проверил, не ослабла ли насадка. Держится хорошо. А как у других с оружием? Четверо поморян остались с одними щитами, а пятеро биарминов были совсем с голыми руками. Карислав отнял щиты и отдал другим, а девяти безоружным сказал без упрека, но и без жалости: — Найдете себе оружие — придете. Уходите. Что зря стоите? Между захваченной нурманнами пристанью и Усть-Двинцом лежал ровный, обширный пустырь, на версту по берегу и больше чем на половину версты вглубь. Через него наискось шла дорога к городку. Выше пристани от сведенного на постройки леса остался заросший кустами поруб, с пнями и отдельными соснами, с пробитыми людьми и скотом тропками, за порубом — овраг, и за оврагом лес, который было несподручно брать из-за кручи. Где-то там высадились нурманны с низких лодей. Карислав провел остаток своей дружины задами Усть-Двинца на поруб. В кустарниках Карислав заметил двух безоружных поморян. На ходу он строго прикрикнул: — Отстань! Сказано ж вам! Те возразили: — Мы с ножами. Карислав хотел ещё строже зашуметь на ненужных людей, но передумал: — Поспешайте оба вперед. Как заметите нурманнов — бегите назад и предупреждайте криком. Двадцать три дружинника засели в кустах над оврагом. Вскоре они услышали выкрики: — Ой, ой! Идут, идут! От леса скат оврага опускался полого, к этой стороне — круто. С лесной опушки выкатились, оглядываясь, безоружные поморяне. Карислав свистнул, давая знать. Сразу за поморянами из-за деревьев высыпали нурманны. Каждый нес полные доспехи: латы или кольчугу, поножи, поручни, шлем и щит. На перевязках висели топоры, мечи и дубины с шипастыми головами, в руках были тяжелые копья, за спинами — луки и колчаны. Они легко тащили на себе большую, но привычную тяжесть и бежали споро. На открытом месте несколько нурманнов взялись за луки. Безоружные поморяне побежали, прыгая из стороны в сторону. И всё же одного куснула стрела, и он, охромев, побежал медленнее. А первый уже скрылся в кустах, догнал своих. Нурманны перестали стрелять — раненого догонял один из бойцов, громадный, в черненых доспехах, с медвежьими ухватками. Раненый, найдя знакомую тропку, не давался. Слышалось, как в тяжелом беге нурманн грузно топтал тропу. Звякали доспехи, меч и дубина стучали о поножи. Нурманн одолел подъем и гнал, как собака, по горячему следу, пока не налетел на Карислава. Он не мог перебросить щит из-за спины, крикнуть не успел или не захотел, но меч выхватил из ножен. В руке, которая с раннего детства училась владеть топором, каленое железо летело молнией в темное, выдубленное ветром и солью лицо нурманиа. Высекая искры, оно пало на нурманнский меч; меч опустился, но отклонился и топор. Удар рухнул не на шлемное темя, куда метил Карислав… Верхний угол лезвия вошел между двумя светлыми, как морская вода, глазами, рассек лицо богатыря Галля, надвое разделил подбородок под светлорусой длинной бородой и остановился, увязнув в высокой латной груди. Вмиг размягшее железное тело само собой пошло назад. И на лету, не дав нурманну лечь, Карислав выдернул топор. Безоружные поморяне, как волки, жадно набросились на тело. Один подхватил меч с зазубриной от топора, другой захватил железную дубину и завладел щитом. Разыскивая, как сорвать доспехи, они перевернули тяжелое тело нурманна. Упершись ногой в плечо Галля, Карислав схватил шлем за оба рога и дернул, разорвав подбородные ремни и зацепившуюся за латы кольчужную навеску-бармицу, служившую для защиты шеи. Карислав поднял шлем на кулаке над кустами, заманивая отстававших нурманнов. И по одному, и по двое, и по трое накидывались поморяне и биармины на нурманнов, стремились ударить сзади, подсечь ногу, старались достать лицо под шлемом, находили шею под латами. Скольких валили и как сами валились — никто не видел и не считал. Воины бились с бешеными воплями. Дикая схватка металась между пней, в путанице ольховника и тальника. Карислав взял ещё одного нурманна в одиночном бою. Третьему просек шлем и череп, но железо завязло в железе. У Карислава едва хватило мощи вырвать топор вместе со шлемом. Оглушенный нурманнскими криками, Карислав отступил, отмахиваясь топором, на котором торчал заклинившийся шлем, и сам закричал: — Отходи! Отходи-и! С этим криком вожак дружины бежал от реки вверх по оврагу, в лес, и беспрестанно кричал, чтобы уцелевшие знали, куда им уходить.
Глава шестнадцатая
Судя о нурманнах, Одинец и другие поморяне были уверены, что пришельцы будут высаживаться против Усть-Двинца, на реке. Нурманны первым делом нацелятся брать городок, перед ним и будет бой. Не успела ещё лодья с орлиной головой на носу бросить перед пристанью якорь, а уже прибежали со взморья: — Самая большая лодья по морю! Вскоре, пока застрельная дружина Карилава без дела ждала у пристани, к Одинцу пришла новая весть: — Нурманны на большой лодье подошли ближе к берегу, спустили лодки и мерят воду. От взморья до Усть-Двинца путь близкий. Понял Одинец, что нельзя принимать бой перед городком на двинском берегу: здесь нурманны зажмут между своими отрядами поморское войско. Самая большая лодья нурманнов нацелилась на взморье — там их наибольшая сила, там и быть бою. Старшина послал предупредить Карислава, но посыльный лег под стрелой нурманна. С Одинцом тронулись все силы: больше ста поморян и около шестисот биарминов. Что ни час, то всё больше подходило народа с несходного берега. Вблизи Усть-Двинца встретились новые. Ближе к морю лес редел. В дороге Одинец узнал, что нурманны успели высадиться на берег числом свыше двух сотен. Лес кончался в тысяче шагов от соленой воды. Нурманны уже подходили к опушке на расстояние полета стрелы, но, завидя, как им навстречу сыпалось войско, опешили и попятились.
«Хотели пробраться незаметно, ударить исподтишка, напасть врасплох — не вышло у них!» — так думали и так восклицали защитники Усть-Двинца.
Отступая и отступая, нурманны пятились до самого прибоя. Остановленные водой, враги сжались, сбившись тесной кучей. Впереди поставили четырех, затем шестерых, за ними не то восемь, не то девять воинов. Так они с каждым рядом расширяли тесный строй. Казалось, что нурманнов совсем мало, горстка. Где уж там больше двухсот, как доносили Одинцу! Наберется ли и сотня?
В море стояла большая звериноголовая, совсем пустая лодья, вблизи берега качались три лодки. В них нурманны будут спасаться, как только их прижмут на берегу.
Выходя из лесу и одним своим видом оттесняя врагов, поморяне и биармины разворачивались длинным и свободным строем, чтобы не мешать друг другу размахиваться, — не то что нурманны.
У нурманнов тоскливо и гнусаво взвыл рог. Смолк и взвыл ещё громче. Видно, они боялись начинать бой со всей силой поморян и биарминов одной своей горсткой и звали на помощь других.
Перед боем биармины и поморяне закричали и завизжали страшными голосами. Нурманны отступили к самой воде, бежать им некуда. Уходя отливной волной, море оттягивало дальше от берега звериноголовую лодыо. Кучка нурманнов попятилась уже на оставленный морем песок.
Видя близких и ныне беспомощных убийц, погубивших их кровных, биармины не утерпели.
Многие воины, освобождая плечо, побросали луки и колчаны — их подберут после победы. Толпой, наставив копья, гарпуны, зверовые и боевые рогатины, остроги, замахнувшись топорами и дубинами, поморское войско ударило на плотный нурманнский строй.
Но под ударом, который казался подобным удару грозного осеннего морского вала, нурманны не смялись и не разбились. Передние и боковые, закрывшись щитами, подняли мечи. Неизвестно откуда выставились вдруг длинные тяжелые копья. И последнее, что в своей жизни увидели передовые из нападающих, был стремительный размах нурманнского железа.
Порыв защитников земли разбился пеной. Одинец видел, как развернулся строй врагов, как сразу их сделалось много. Часто-часто замелькало оружие, нурманны быстро надвинулись, и поморяне и биармины таяли перед ними, как тает ранний, до времени выпавший снег.
Видя быструю гибель своих, поморянский старшина ужаснулся: нурманны, охватив широким полукольцом поморское войско, секут людство мечами, секут, как спелое поле!..
Молодым парнем Одинец не раз терял голову в кулачном бою на волховском льду. Но здесь он вышел в поле с ясным разумом и понял — не выстоять, народ гибнет напрасно.
Старшина криком собрал кого мог, повел их тесными рядами, сам гвоздил нурманнов не мечом или топором, а крепко скованной дубиной с тяжелым бугристым шаром. На него нацелились нурманны — он их отбросил, не дал соединить смертное кольцо, помешал окончательной гибели поморского войска.
Стонала, вопила, рыдала и кричала на голом морском берегу битва — не битва, бой — не бой: бойня!
Остатки недобитых поморян и биарминов добрались до лесной опушки, нашли ещё в себе силы подобрать кинутые луки и колчаны и пустить стрелы в нурманнов. А те мигом свернулись, как еж.
Так навеки и запомнилось: берег, заваленный телами, и нурманнский строй, который ни стрелой и ни копьем не пробить, не пробить и кузнечным зубилом.
Лес кончался в тысяче шагов от соленой воды. Нурманны уже подходили к опушке на расстояние полета стрелы, но, завидя, как им навстречу сыпалось войско, опешили и попятились.
«Хотели пробраться незаметно, ударить исподтишка, напасть врасплох — не вышло у них!» — так думали и так восклицали защитники Усть-Двинца.
Отступая и отступая, нурманны пятились до самого прибоя. Остановленные водой, враги сжались, сбившись тесной кучей. Впереди поставили четырех, затем шестерых, за ними не то восемь, не то девять воинов. Так они с каждым рядом расширяли тесный строй. Казалось, что нурманнов совсем мало, горстка. Где уж там больше двухсот, как доносили Одинцу! Наберется ли и сотня?
В море стояла большая звериноголовая, совсем пустая лодья, вблизи берега качались три лодки. В них нурманны будут спасаться, как только их прижмут на берегу.
Выходя из лесу и одним своим видом оттесняя врагов, поморяне и биармины разворачивались длинным и свободным строем, чтобы не мешать друг другу размахиваться, — не то что нурманны.
У нурманнов тоскливо и гнусаво взвыл рог. Смолк и взвыл ещё громче. Видно, они боялись начинать бой со всей силой поморян и биарминов одной своей горсткой и звали на помощь других.
Перед боем биармины и поморяне закричали и завизжали страшными голосами. Нурманны отступили к самой воде, бежать им некуда. Уходя отливной волной, море оттягивало дальше от берега звериноголовую лодыо. Кучка нурманнов попятилась уже на оставленный морем песок.
Видя близких и ныне беспомощных убийц, погубивших их кровных, биармины не утерпели.
Многие воины, освобождая плечо, побросали луки и колчаны — их подберут после победы. Толпой, наставив копья, гарпуны, зверовые и боевые рогатины, остроги, замахнувшись топорами и дубинами, поморское войско ударило на плотный нурманнский строй.
Но под ударом, который казался подобным удару грозного осеннего морского вала, нурманны не смялись и не разбились. Передние и боковые, закрывшись щитами, подняли мечи. Неизвестно откуда выставились вдруг длинные тяжелые копья. И последнее, что в своей жизни увидели передовые из нападающих, был стремительный размах нурманнского железа.
Порыв защитников земли разбился пеной. Одинец видел, как развернулся строй врагов, как сразу их сделалось много. Часто-часто замелькало оружие, нурманны быстро надвинулись, и поморяне и биармины таяли перед ними, как тает ранний, до времени выпавший снег.
Видя быструю гибель своих, поморянский старшина ужаснулся: нурманны, охватив широким полукольцом поморское войско, секут людство мечами, секут, как спелое поле!..
Молодым парнем Одинец не раз терял голову в кулачном бою на волховском льду. Но здесь он вышел в поле с ясным разумом и понял — не выстоять, народ гибнет напрасно.
Старшина криком собрал кого мог, повел их тесными рядами, сам гвоздил нурманнов не мечом или топором, а крепко скованной дубиной с тяжелым бугристым шаром. На него нацелились нурманны — он их отбросил, не дал соединить смертное кольцо, помешал окончательной гибели поморского войска.
Стонала, вопила, рыдала и кричала на голом морском берегу битва — не битва, бой — не бой: бойня!
Остатки недобитых поморян и биарминов добрались до лесной опушки, нашли ещё в себе силы подобрать кинутые луки и колчаны и пустить стрелы в нурманнов. А те мигом свернулись, как еж.
Так навеки и запомнилось: берег, заваленный телами, и нурманнский строй, который ни стрелой и ни копьем не пробить, не пробить и кузнечным зубилом.
 Рога нурманнов воют и хрипят уже в Усть-Двинце. Оттуда надвигаются новые нурманны, чтобы охватить и добить защитников. Кто же не понимал теперь, что дружина Карислава не могла удержаться! Одно осталось — лес. Спешите!
Рога нурманнов воют и хрипят уже в Усть-Двинце. Оттуда надвигаются новые нурманны, чтобы охватить и добить защитников. Кто же не понимал теперь, что дружина Карислава не могла удержаться! Одно осталось — лес. Спешите!
Нападением на Усть-Двинецкую пристань руководил кормчий «Орла» Эйнар; кормчий «Черной акулы» Гатто и кормчий «Синей акулы» Рустер руководили высадкой выше пристани; сам же ярл вышел с «Дракона» на берег моря. Мелкая ссора разлучила телохранителей Оттара, и Галль пошел с Гагто. Свавильд нашел полуголое неузнаваемое тело друга и был безутешен. Вместе с несколькими викингами он бродил по полю боя у моря. На телах не было ценностей или дорогого оружия, как в других местах, и Свавильд разыскивал следы жизни. Найдя тяжело раненного, умирающего, богатырь-викинг каждый раз выдумывал новую забаву. Он молчаливо, упорно, сосредоточенно терзал ещё живых. Вслушиваясь в вопли очередной жертвы, он злобно отвергал помощь спутников. Принять совет — быть может, но делать он будет сам. Свавильд знал — Галль его одобряет. Побратим предложил бы ему, Свавильду, такую же тризну. Ярл прислал приказ доставить раненых, которые могли бы ходить. После яростного спора Свавильд уступил пятерых, сбереженных на конец поминок Галля. Ярл звал и Свавильда — богатырю пришлось поторопиться прикончить тех, кто был под рукой. «Дракон» и «Орел» пришвартовались к пристани. Она не имела достаточной длины для всех четырех драккаров, и «Акулы» стояли на якорях, перекинув трапы на борта «Дракона» и «Орла». Пристань охранялась особым отрядом. Свободные викинги шарили по Усть-Двинцу. Им не впервые доставались города, у них был опыт заманчивого, увлекательного розыска. Из них не один действительно обладал особым чутьем и не без оснований хвастался способностью слышать запах ценностей сквозь камень, землю и дерево. Без труда в клетях и погребах нашли пиво, мед, соленую и копченую рыбу и мясо, медвежьи окорока, лосятину, оленину, зерно и помольные жернова. Молчаливые и терпеливые кладоискатели топтались во дворах. Мысленно разделив площади на участки, они уминали землю пятками и щупали шаг за шагом древками копий. Кто-то первым нашел желанное рыхлое место и добрался до досок над ямой. Наградой явились теплая одежда и меха, два глиняных сосуда с вином, выделанные кожи, льняная ткань и сукно. Находки умножались для общего блага — теснота на драккарах не давала возможности припрятать что-либо от общего дележа, даже перстень или ожерелье были бы замечены. Не зная того, Оттар выбрал для себя дом поморянского старшины Одинца. Ярл взглянул на приведенных раненых пленных. У одного перерублено плечо и рука безжизненно висела ниже другой. Было трудно понять, были ли у другого глаза на раздробленном лице. Третий… У всех были целы ноги, в большем ярл не нуждался. Он говорил ласково, вкрадчиво даже, с убедительно многословным красноречием племени фиордов, с изящными жестами и клятвами. Они были неправы, люди земли, которая лежала в устье Двин-о. Своей опрометчивостью они, и никто другой, причинили себе столько неприятностей и неудобств. Он, ярл Оттар, послал к ним гонцов из их племени предупредить, что, изъявив покорность, биармины не должны бояться. К чему же они напали первыми? Да, именно они зачинщики! К чему они устроили засаду на острове, хотели помешать вестфольдингам причалить к пристани и напали на ярла на берегу моря? Какая ошибка с их стороны! Они виновны, и они, неразумные, враждебные люди, вынудили его убивать и убивать, пока он не утомился… Ярл приказал дать пленникам меда, пива и мяса; пусть они подкрепят свои силы, он не сделает им ничего дурного. Пусть же они пойдут к своим и понесут им слова господина: если биармины и все остальные не признают власти господина, он не даст им выхода ни к реке, ни к морю. Он будет охотиться за ними, как за зайцами, и истреблять их, как мышей. Пусть никто не думает, что он, господин, пришел сюда на время. Нет, ему нравится эта земля, и он останется здесь навечно. Клеймо Нидароса было раскалено, но ярл великодушно отстранил Свавильда: — Пусть эти идут так. Они достаточно наказаны своими ранами. Совет Нидароса составляли кормчие драккаров, из которых сейчас с Оттаром были Эстольд, Эйнар, Гатто и Рустер. К ним примыкали викинги Лодин, Бранд, Бьёрн, Канут, Олаф, Скурфва и несколько других, испытанных в уменье управлять действиями отдельных отрядов. — Хорошая земля! — сказал кормчий «Черной акулы» Гатто. — И способна платить хорошую дань. — Они не беднее других низких земель, — согласился Рустер. — Они припрятали золото и серебро, но их меха стоят металла. Вошел викинг с громадными моржовыми клыками — по три штуки на два пуда. В городке только что обнаружили целый склад драгоценной белой кости. — Кто биармины? Кто здешние люди? — спросил Оттар, отвлекая внимание от добычи. Эстольд ответил первым: — Здесь я вижу два племени, в устье этой реки, мой ярл. Одно похоже на тех, которых мы нашли в первом поселении, — они биармины. А в городе среди них мы встретили других — я считаю их хольмгардцами. Я узнал их в бою на берегу, я взглянул на убитых в бою. Ярл, я не ошибаюсь: я бывал в Хольмгарде. Мы находимся на окраине Гардарики. Оттар кивнул кормчему «Дракона»: — Ты прав, Эстольд. Теперь я знаю, откуда у хольмгардских купцов появились моржовые клыки. Я вижу здесь меха, знакомые мне по Скирингссалу. И кашалотовый воск был отсюда же. — Я думал о том же, — признался Лодин. — А как далеко отсюда Хольмгард? — спросил Канут. Кормчие должны были ответить. Им знакомы все пути от Нидароса, измеренные в днях постоянной гребли, с поправками на ветер и на течение. О дороге через Гандвик никто не знал до настоящего времени. Помогая один другому, кормчие чертили на досках углем дорогу, пройденную драккарами Оттара. Кормчие обогнули северный конец земли фиордов и шли по Гандвику, опускаясь ниже Нидароса, если бы их можно было соединить чертой через землю фиордов. Путь свернул на восток и окончился в устье Двин-о. Чтобы найти Хольмгард, кормчие зашагали от Нидароса к югу, миновали проливы, Скирингссал и Варяжским морем, рекой Невой, озером Нево и рекой Волховом вошли в столицу Земли Городов — Хольмгард. Концы наброшенной цепи расходились далеко, приходилось прикладывать новые и новые доски к началу чертежа. Хольмгард пришелся к западу и к югу от устья Двин-о. Никто никогда не слышал, чтобы к востоку и к северу от Хольмгарда лежало удобное для быстрого сообщения море. Отсюда до Хольмгарда месяцы трудного пути через леса. Встреченные хольмгардцы — не более как малочисленный дальний выселок. Пользуясь опытом походов в низкие земли Запада, викинги обсуждали дальнейшее. Им приходилось и на Западе встречать ожесточенное сопротивление. После поражения наступал упадок; разбитые в сражении обвиняли и проклинали вождей, разделялись, мечтали о переговорах с победителями и наконец любой ценой соглашались спасти своё существование. Людям низких рас безразлично, кому платить дань. — Не пойти ли на «Акулах» узнать, что есть выше на Двин-о? — спросил Канут. Все взглянули на своего ярла. — Нет, подождем покорности устья. Жареного тетерева глотают по кускам.
Глава семнадцатая
По левому берегу Двины, на половину дня пути водой от моря, залегло священное угодье биарминов. Тайное от всех людей стойбище кудесников, по народному прозвищу — хранителей дома Йомалы, сокрыто в непроходимых лесных дебрях. С берега к нему, тайному месту, есть одна дорожка, а остальные заказаны. От нависшей над речной кручей опушки во мхах протоптана, как выжжена, стежка в один след. Ступая по ней, гляди под ноги, чтобы не запнуться о корни вековечного соснового бора. Из бора придешь в еловый лес. Седые великие ели подперли небо и затмили день. Стежка глубоко врезалась в хвою, которую насыпали ели. Снизу, от земли, ничто не пробивается — ни деревце, ни куст, ни гриб. Ели взяли всю земную силу, не растят себе на смену ни одной молодой елочки. У елей нет рода-племени, чтобы их помянуть, когда повалит смерть. Да и нужны ли им дети? Сколько помнит народ биарминов, они всегда были. Не стоят ли вечные ели сами собой, без рождения и без умирания?.. Тропка тебя поводит под старыми елями, покружит — и ты потеряешься. Ты забудешь, на какой руке приходится река Двина, где осталось море, и тебе будет мниться, будто бы ты петляешь давным-давно и будто отсюда никуда и нет выхода. Не бойся, ступай по следу. Тропочка тебя приведет к высокому мшистому камню; на нем сидит голый медвежий череп: серо-желтая кость, в пустых глазницах пучится бурый лишайник, с челюсти бородой обвис мох. У камня собери твои мысли: задумал ли ты просить хранителей Йомалы о деле и не лезешь ли к ним с глупым, пустым словом? Надумав, иди дальше, но с тропы не сбивайся ни на шаг, кругом тебя запрет! В этом лесу, заповедном для всякой охоты, звери не боятся людей. Белка подпустит, куница не прыгнет с низкой ветки, олень и лось от тебя не побегут и медведь тебя не тронет. Смело иди до Хиговой поляны, где древний зверь выставил громадную голову с двумя гнутыми вверх тяжелокаменными зубами. Черные кости Хига связаны ремнями, а не жилами с мясом. Прежде в приморских лесах, на двинских берегах, у болот жили могучие и мудрые, но злые к человеку Хиги. Их погубила Йомала и последнего их родовича поставила здесь для памяти биарминов. Перед Хигом тропочка сворачивает к навесу из корья, и след кончается. Под навесом висит доска. В неё ударь четыре раза камнем или обухом топора, четыре раза прокричи имя Йомалы и жди. Йомала слышала, и она не любит нетерпеливых. Жди молча. Увидишь непуганых зверей, а под Хигом появится человек и подойдет к тебе. У него на голове острая шапка из рыбьей кожи. Хранитель примет дары: рыбу, мясо, дичину. Если же не сразу ответит на твой вопрос и уйдет, дожидайся: он вернется. Сам же ты не забудь, что обязан принести хранителям дар правдивых слов. Расскажи, кто родился, кто женился, из-за чего были ссоры, каковы охоты, рыбные ловли, как олени и море, что делают железные люди. Йомале нужно знать всё. Одни птицы и звери ведают, откуда на Хигову поляну выходят к гостям хранители.На повернутых чьей-то великой силой каменных плитах лежат грузные, как избы, валуны. В разломах торчат сизые мхи, на каменных лбах курчавятся многоцветные лишаи. Здесь живет священная сосна. В борах найдется много деревьев выше неё, но старше нет нигде. Одинокую не обнимешь и вшестером, в щелистой коре спрячется зверь, ветви сами как деревья, а корни Великой раздвинули камни. Ей нипочем самые злые ветроломы, потому что сама Йомала заветным малым семенем посадила сосну. Из её корней течёт чистая струйка, наливает глубокий бочаг и вновь уходит под корни. Это ручей Йомалы. По приказу богини два морских гоголя, черный и белый, доставили со дна моря камни и землю для сотворения угодий. А создавая первого биармина с бчарминкой, Йомала оживила их тела водой этого ручья. Течёт ручей, стоит сосна — и живы биармины. Святыню кольцом окружают островерхие вежи хранителей. Во многих жилищах пусто: ни один молодой хранитель не вернулся — нурманны перебили всех. И сюда придут злые убийцы, срубят сосну, осквернят ручей. Кончатся биармины, умрет народ. Старший хранитель сидел на корне сосны и смотрел в глубокое зеркало бочага. Наливающая его струйка была слаба и тонка, подобно непрочной человеческой жизни. — Йомала, Йомала, мы бродим во мраке! Для нас всё непонятно, мы гибнем… В памяти хранителей, как кольца в древесных стволах, копилось и приумножалось завещанное опытом поколений, хранилось в строгом порядке, как снасти и охотничий припас. Были под рукой, наготове, многократно проверенные советы и указания на все случаи житейских невзгод. А в самой глубине лежали страшные, опасные тайны, которых без разрешения богини нельзя было не только открыть, но даже и вспомнить. На хвойную крышу пал ливень. Сосна пролила избыток воды на своего хранителя. Он, не чувствуя холода, застыл, как камень. Тяжелые капли возмутили зеркало священной воды — он не видел. Он следил за войной биарминов с Хигами. Хиг гнался за малым, как белка, человеком. Биармин оборачивался, но что он мог сделать костяным копьем и оленьим рогом, как мог защищаться? Его оружие едва царапало толстую волосатую шкуру великана, а Хиг вдавливал биармина в мох, как муравья. — Мы бессильны, Йомала! — шептал хранитель. Хиг одним зубом поднимал чум, находил ребенка и беспощадно губил нагого человечка. — Йомала!.. Отец ребенка крался к опушке и тайно ждал приближения Хига, ждал и ждал с бесконечным, великим терпеньем. Вот Хиг повернулся бурым боком к биармину, и в губу великана угодила стрела. Злой достал длинным носом колючую игрушку. Он поискал глупого биармина, но человек успел скрыться, а Хиг забыл ничтожную занозу. Он пасся день, другой, третий… Но почему он слабеет? Его глаза мутнеют, толстые, как сосны, ноги подгибаются, могучий ложится и стонет. Он не может пошевелиться; муравьи лезут в пасть, в уши. В последний раз приподнялся волосатый бок. К вздутому брюху крадутся пушистые острозубые волки. Биармины втыкали в спины тухлых красных рыб наконечники стрел и кололи Хигов. Если Хиг и догонял и убивал биармина, то всё же сам великан неизбежно умирал. Так богиня указала хранителю на нужную тайну и позволила воспользоваться запретно-зловещим оружием для спасения народа биарминов. Виденье исчезло. — Ты научила людей победить злых Хигов. И ты поможешь своему народу избавиться от убийц-нурманнов со злобной душой Хига в теле человека. Йомала, Йомала, Йомала, Йомал. а!.. — молился очнувшийся хранитель.
Глава восемнадцатая
— Нурманны пойдут вверх и разорят колмогорян, как нас! — жалобно ныл Янша. — Разорят, — отзывался Яволод, брат жены Одинца. Поморянского старшину вывели из боя целым и невредимым доспехи, когда-то присланные ему Верещагой через Тсарга-мерянина. На Яволоде были тоже хорошие доспехи, но он не сумел сберечь лицо — оно раздулось от удара, ираненый глядел одним глазом, а что с другим — не разберешь. Как туча на море, свалились на поморье нурманны, разбросали буреломом поморян и биарминов. Горе и отчаяние разбитого войска неизмеримо. Вольно и невольно его скрывали и сами воины и тот, кто принимал на себя нерадостный труд рассказчика. Летописец испуганно отворачивался, взглянув в темную глубину. Кто же издали и после времени прикладывал свой аршин, у того получалось, что и песни пели люди, и ели и спали, как всегда, а отступали лишь потому, что это было нужно. Нет, падали честные сердца, людей гнуло и вбивало в землю отчаяние. Отчаяние побежденного — не порок, а болезнь души. Один оправится, другой захиреет. Живые думали о погибших; живым будет стыдно перед сиротами и вдовами. Они не сдвинулись с места, куда прибежали после разгрома, и сидели в бездорожном лесу в половине дня ходьбы от Усть-Двинца. И что в городке, что делают нурманны — об этом не спрашивали своего старшину. — Надо быть, колмогоряне плывут по Двине. Их на реке нурманны подушат, как утят! — стонал Янша. — Подушат, — отзывался другой раненый. — Будет вам! — оборвал Одинец. С Янши, как и с Яволода, много не спросишь. Одинец, испытывая свое умельство, как-то укрепил даренную Верещагой кольчугу коваными железными оплечьями и бляхами. Янша же под простой кольчугой был так избит и иссечен, что казался не жильцом на свете. Поморянский староста не боялся за колмогорян, он посылал к ним гонца после разгрома. И что нурманны сидят в Усть-Двинце без дела, Одинец тоже знал. — Нурманнам выкуп дать, не уйдут ли? — едва внятно прошамкал Игнач. Ему было трудно говорить. Тело сберегли не то твердые доспехи, не то прыть — этого не знал сам Игнач. Его задели мечом по шлейному наличью, смяли нос и ссекли с подбородка бороду с мясом. Страшная по виду рана была не опасна для жизни. — Тебя им отдать, безносый! — зло оговорил Игнача Карислав. — Нурманнам выкуп, что рыбе — привада. А чего и отдашь-то? Они сами всё взяли. После боя у Карислава левая рука опухла до плеча, как полено. И всё же он бегал вместе с другими к Усть-Двинцу наблюдать за нурманнами. Он ходил в безрукавной рубахе. На избитое тело не то что кольчуги — нельзя было надеть и кожаной подкольчужницы. Нынче, на четвертый день, тело начало подживать, и опухоль на руке опадала. Израненный Карислав — не воин, одни ноги. Таким надо помалкивать. И всё же его раззадорило чужое нытье: — Биться и биться! — Ого! — поддакнул Тролл. Из Одинцовых друзей-кузнецов с общего двора в живых остался один Тролл. Онг, Болту, Гинок там же, где Отеня, Расту, Вечёрко и столько других! — Биться, но как?.. Одинец пошел по стойбищу считать живых. Поморяне собрались все, около семидесяти. А биармины всё ещё собираются — их пришло до тысячи человек, больше, чем в день злосчастного боя. Биармины говорили об обещанной богиней Йомалой победе над нурманнами со слов хранителей, переданных из святилища богини. А где же клеймёные? Их ещё нет, они обходят дальние стоянки биарминов. Но без тяжелых доспехов и без правильного строя нурманны посекут всех. Нурманны приравнивают каждого своего воина к десяти чужим. Чего хвалиться! Одному латнику не диво разогнать и двадцать бездоспешных. Янша бредил в забытьи. Незнакомый биармин кормил Яволода и Игнача, которые сами были не в силах жевать. Как мамка, биармин разжевывал мясо и совал поморянам в рот. Получили в биарминах золотых друзей, обжились на поморье, добились достатков… Не бежать ли к колмогорянам и не обороняться ли вместе? Нет, не выстоять против нурманнского строя. А не бросить ли всё и, как встарь, не поискать ли ватагой нового счастья в Черном лесу? Одинец вспоминал свое бегство из Новгорода, свою бездумную и беззаботную молодость. Нельзя бросить Двину и предать биарминов. А сделать так — не глядеть больше Заренке в глаза. Надо просить помощи у Новгорода. И придет городская дружина будущим летом на пустое место: нурманны дочиста разорят и поморье и Колмогорье. Или ещё хуже: они, как хвалились через клейменых, укрепятся в устьях Двины. Они умеют, найдя легкую добычу, сосать её раз за разом, пока не бросят сухую кожу. Страшно, страшно! После укрепления первых нурманнов к ним по морю приплывет такая сила, что с ней не справится и помощь от Города… Люди зашумели и прервали мысли Одинца. Зовут старшину. У Одиица ещё больше упало сердце: он научился бояться вестей. Собравшись, как на вече, слушали после нурманнского князя своих пятерых раненых, передававших слова, сходные с теми, которые принесли клейменые биармины из рода Расту. Но те хвастливые угрозы звучали не так, как произносимые после побоища. Заершенными гвоздями входило в головы: — Все люди, поморяне и биармины, отныне будут нурманнскими рабами. Будут платить дань, сколько спросит князь-нурманн, жить у него в послушании, под страхом неминуемой и мучительной смерти… Очнувшись от забытья, Янша завопил диким голосом: — Идут! Идут! Люди шарахнулись кто куда. — Не идут! — закричал Одинец. — Не идут, не слушайте бреда! Будем же судить, как нам выйти из темноты. Несчастный Янша вправду ошибся: то не нурманны, а поморянские стосковавшиеся женщины выходили к лесному приюту.Викингам достались обильные запасы в погребах и клетях Усть-Двинца. Море и речное устье кишели рыбой. «Акулы» для развлечения протаскивали невод. Вновь и вновь уловы оказывались сказочно богатыми. Викинги наслаждались, как крысы, вгрызшиеся в круг сыра, и, умея длительно поститься, поглощали на отдыхе колоссальное количество пищи, обнаруживая удивительное сходство с четвероногими хищниками. Нидаросский ярл был требователен к охране — и охрана была бдительна. Но лишь на седьмой день после боя, когда Оттар подумывал о разведках в лесу и в верхнем течении Двин-о, дозорный с мачты «Дракона» заметил на материковом берегу реки, значительно выше пристани, несколько человек. Дозорный считал фигурки, показавшиеся на речной отмели: восемь. Но вот они исчезли. Вскоре какие-то люди опять вышли к реке, уже ближе, и их было не менее пятнадцати. Звук рога известил ярла о появлении биарминов. Оттар пришел на пристань вместе с Эстольдом. Быть может, биармины хотят выразить покорность? Вероятно… Человек двадцать пробирались в кустарнике и остановились на границе пустыря перед пристанью — на расстоянии приблизительно в два полета стрелы. В кучке были люди и с густыми бородами, по которым викинги отличали хольмгардцев от биарминов. Все были одеты легко, без доспехов, но вооружены. Чтобы в их намерениях не было сомнений, один из них, молодой и безбородый, выбежал вперед и пустил стрелу, сильно натянув тетиву и целясь вверх. Стрела упала шагах в ста от пристани, словно делая вызов. Ярл приказал Лодину, Бранду и Кануту вернуться в городок. Каждый возьмет по пятьдесят викингов и скрыто выйдет в лес позади городка. Три отряда войдут в лес и, описав широкие дуги, отрежут кучку дерзких. — Брать больше живых, — заметил Оттар. Сам он будет отвлекать внимание биарминов. Не сомневаясь в своей конечной победе, Отгар считал Новый Нидарос основанным — завоеванный городок стоял на удобном месте, и нечего было искать другого. Ярл не собирался гадать о ближайших действиях побежденных биарминов. После почти пятидневного плавания от стоянки Расту до устья Двин-о Оттар сделал правильный вывод о рассеянности мелких поселений биарминов. Они будут ещё выжидать, каждый в своей норе, на что-то надеяться, бессмысленно и тупо, как люди, у которых в жилах нет благородной крови и в руках — оружия для победы. Оттар приблизился к кустам почти на полет стрелы и уже различал лица. Выделялся один человек, высокий, как Свавильд, и русобородый. Этого следует поймать живым. Вообще пора брать живых и больше не истреблять подданных. Оттар остановил рукой викингов, которые приближались, натягивая луки. Викинги хотели, как они это умели, выиграть расстояние одним броском и стрелять на ходу. Рано, условленное время ещё не истекло. Где-то далеко застучал биарминовский бубен. Что это значит? Как по сигналу, кучка биарминов и хольмгардцев скрылась в кустах. Викинги начали погоню. Оттар бежал легко и обогнал своих воинов. Подпрыгивая, ярл различал в кустах головы беглецов. Биармины увеличивали расстояние. Викинги тоже ускорили бег, прыгали через пни, проскакивали кусты. Погоня захватывала. Ноги топали — раз-раз-раз-раз… Эстольд не отставал от своего ярла. Вот настоящий викинг с железным сердцем, сильный на море и на суше! Он был лет на двадцать старше Оттара. Ещё усилие и ещё… Уже можно добросить стрелу. Среди кустов было неудобно стрелять, и биармины опять оторвались. Да, они сильнее лапонов-гвеннов, хотя и говорят одной речью. Кусты сразу оборвались, и вниз покатился крутоватый травянистый откос. Там, в овраге, протекал ручеек, справа — река, а на другом, пологом склоне оврага биармины прыгали, как зайцы, к густому лесу, стоявшему стеной над оврагом. Кто там в лесу? Бранд, Лодин? Или Канут сумел опередить своих товарищей? В несколько прыжков — он ощущал легкость полета — Оттар оказался перед ручьем и с разбегу взял препятствие. Навстречу вестфольдингам из лесу вышло сразу много людей, не тех, кого ждал ярл. Взвилась и упала туча стрел Оттар закрыл лицо щитом. Погоня захлебнулась, раздались громкие ругательства. Вырвавшиеся вперед отступили. Тот, кто бросил щит, оказался в тяжелом положении. В щит и в шлем ярла ударялись и ломались о резьбу тяжелые стрелы. Одна застряла в подвижных пластинах поножи и уколола бедро. Викинги опомнились и ответили стрелами на стрелы. Не защищенные доспехами биармины, продолжая стрелять, прятались за стволами сосен. Но где же хотя бы один из облавных отрядов? Стук биарминовских бубнов, напоминая камни, катящиеся по доскам, послышался совсем рядом. Оттар приказал нападать, но биармины не стали ждать и исчезли в чаще. Дальнейшее преследование не имело смысла. Первым появился Канут. Он оправдывался: — Лес оказался полон биарминов, мы не могли пройти незамеченными. Ничего нельзя поделать, они не принимали боя. Они отступали и не жалели стрел. Мы гнали их, гнали, отклонялись и задерживались. — Хорошо бы охватить лес большим числом викингов, — заметили опоздавшие Бранд и Лодин. Сто пятьдесят викингов! Достаточно для победы, но в лесу они терялись. Никто не сумел поймать пленников. Викинги уверяли, что не все их стрелы были попусту потеряны, однако ярлу не были предъявлены обычные доказательства в виде руки или головы врага. Биармины умели пользоваться луком. Все викинги, попавшие в их засаду вместе с Оттаром, были попятнаны. Особенно пострадали бросившие щиты. Стрелами в лицо и в шею были убиты девять воинов. Отряды Лодина, Канута и Бранда потеряли все вместе четырнадцать воинов. Они вынесли трупы, как обычно. Биармины умели бить исподтишка. Проклятый лес!
Глава девятнадцатая
Шел дождь. На растоптанной ногами земле, у пристани и в городке, стало скользко; мох наполнялся водой, стволы сосен почернели. В начале второй половины дня дозорные вновь заметили биарминов. Отступив перед викингами, биармины вернулись почти сразу. Ярл решил повторить до мельчайших подробностей всё, что было только что проделано, и этим обмануть биарминов. Вновь Оттар руководил преследованием вдоль реки, а отряды Канута, Брэнда и Лодина пытались осуществить охват. Ни один биармин не был отрезан и захвачен, хотя на этот раз три отряда викингов прошли лесом по знакомым местам. Отряды заметили, что биармины не только отступали перед ними, но и шли следом. Все викинги были хорошо защищены доспехами, ни один не бросил щита. Потери уменьшились, четверо были убиты и один тяжело ранен в горло. Отряд Канута нашел два трупа биарминов, викинги принесли в доказательство кисти правых рук. Лодин слышал стук бубнов сверху — биармины прятали своих наблюдателей на высоких деревьях. В чаще было невозможно разобрать — где. В последней части дня биармины предложили викингам и в третий раз ту же игру. И опять, изучая биарминов, ярл повторил те же приемы. Оттар не ждал, что биармины догадаются. Но на этот раз он послал кормчего «Черной акулы» Гатто с семьюдесятью викингами вслед за первыми тремя отрядами. Пока те, без большой надежды на успех, в третий раз проделают обходное движение, Гатто должен будет продвинуться глубже в лес и устроить засаду. Гатто выполнил приказ, но вскоре был обнаружен. Засада сорвалась. Вместо того чтобы дождаться биарминов и захватить людей, ничего не ожидающих после прохода первых трех отрядов, Гатто был вынужден надавить на биарминов. Они так же легко отступили перед отрядом кормчего «Черной акулы», как перед другими. Но, отходя, биармины затянули викингов Гатто в болото, через которое они сами, конечно, знали проходы. А тяжело вооруженные викинги завязли и не сумели участвовать в охвате, который в третий раз ничего не дал Оттару. Отряды Канута, Бранда и Лодина потеряли всего двух викингов, но Гатто лишился десяти воинов, из которых пятеро утонули в трясине. Биармины же остались неуловимыми. Викинги были раздражены. В открытом поле они могли истребить тысячи биарминов, без хвастовства, в лесах же не было противника для удара могучей силой железного строя. К концу дня биармины вынудили ярла ввести в бесплодную игру больше трехсот викингов. За день было разбросано около двух тысяч стрел, а собрано меньше тысячи. Биармины пользовались стрелами викингов, выкрикивали проклятья и угрожали местью Йомалы. Кто знал язык лапонов-гвеннов, понимал брань биарминов.Летний день в устье Двин-о был не так длинен, как в Гологаланде, а ночь — темнее. В мглистых сумерках, сгущенных туманом, охрана драккаров заметила движение на реке выше пристани. Очертания были неопределенны, и только сразу вспыхнувший свет пожара открыл опасность. На пристань надвигались шесть больших лодок, нагруженных сучьями и сеном выше носа «Дракона» и охваченных жарким пламенем. Наибольшая опасность грозила крайнему драккару — «Черной акуле». Викинги охраны в последнюю минуту успели поднять якоря. Вслед за ними течение медленно понесло «Синюю акулу», на которой обрубили якорные канаты. Пловучие костры подходили к пристани, и «Дракону» грозила опасность. «Орел» был причален сзади «Дракона», и лучший драккар Нидароса не мог отойти, не навалившись на «Орла». Викинги встретили пламя, ощетинившись веслами и абордажными баграми. Если бы ярл не удвоил на ночь охрану, «Дракон» бы не спасся. Викингам удалось удержать и оттолкнуть горящие лодки. Когда Оттар вскочил на борт, «Орел» отходил, освобождая «Дракону» отступление, в котором уже не было нужды. Пламя попортило гордую голову «Дракона», его янтарные глаза лопнули, выпали белые зубы из моржовых клыков. По правому борту драккара выступила смола, но самое дерево не пострадало. Горящие лодки, ярко освещая темные берега реки, медленно удалялись к морю, следуя за отливным течением полуночи. «Акулы» и «Орел» возвращались. Огонь уничтожил связывавшие лодки канаты, и они разделились.
 Оттар был в ярости. Он никогда не простит биарминам покушения на его драккары! Ярл строго судил себя. Увеличив на ночь охрану, он спас драккары. Он поступил так, лишь следуя своему общему правилу — быть всегда зорким, всегда готовым ко всему. Но он не думал о подобной попытке биарминов, нет, не думал. Случай, а не сознательное действие ярла, спас «Дракона» и другие драккары. Оттар был унижен, создавалось какое-то подобие равенства между ним и каким-то биармином или хольмгардцем, сумевшим придумать и осуществить нападение, не предвиденное им, господином.
«Одно это — поражение, поражение, поражение!» — повторял про себя Оттар. Нет, он никогда не признает равенства.
Но холодный расчет короля моря, стремящегося к основанию Нового Нидароса, сменялся ненавистью к тем, кто осмеливался сопротивляться.
В серой мгле над городком замелькали желтые светлячки. Опускаясь, они — новая выдумка биарминов — вспыхивали огоньками.
То были стрелы, обмотанные под наконечником полосками пропитанной тюленьим жиром бересты и сухой травы. Многие огни гасли ещё в полете, другие стрелы падали во дворах. Огни потухали на тесе и даже в соломе кровли, не найдя пищи под затянувшим крышу мхом и в сыром после дневного дождя дереве. Но стрелков было много. Когда ярл прибежал в городок, пожары от стрел, проникших под застрехи крыш и в дымовые продухи, начались в нескольких местах.
В Усть-Двинце сгорели дворы Одинца, Карислава и нескольких других поморян. Сгорели вместе с добычей, доставшейся было Оттару и его дружине.
Дозорные поморянского старшины перехватили плывших сверху колмогорян и спрятали их расшивы в затоне, в заросшей двинской старице.
Колмогоряне прислали малую помощь — всего пятьдесят человек. Прибывшие рассказывали, как колмогоряне спешно укрепляют свой пригородок, собрав к себе всех новгородских посельников с Доброгиной заимки на Ваге и с реки. Извещая, что будут биться против нурманнов за земляными валами, колмогоряне просили:
— Чтобы все поморяне и биармины, которые себя не отстояли, шли к нам бороть нурманнов общей силой.
Оттар был в ярости. Он никогда не простит биарминам покушения на его драккары! Ярл строго судил себя. Увеличив на ночь охрану, он спас драккары. Он поступил так, лишь следуя своему общему правилу — быть всегда зорким, всегда готовым ко всему. Но он не думал о подобной попытке биарминов, нет, не думал. Случай, а не сознательное действие ярла, спас «Дракона» и другие драккары. Оттар был унижен, создавалось какое-то подобие равенства между ним и каким-то биармином или хольмгардцем, сумевшим придумать и осуществить нападение, не предвиденное им, господином.
«Одно это — поражение, поражение, поражение!» — повторял про себя Оттар. Нет, он никогда не признает равенства.
Но холодный расчет короля моря, стремящегося к основанию Нового Нидароса, сменялся ненавистью к тем, кто осмеливался сопротивляться.
В серой мгле над городком замелькали желтые светлячки. Опускаясь, они — новая выдумка биарминов — вспыхивали огоньками.
То были стрелы, обмотанные под наконечником полосками пропитанной тюленьим жиром бересты и сухой травы. Многие огни гасли ещё в полете, другие стрелы падали во дворах. Огни потухали на тесе и даже в соломе кровли, не найдя пищи под затянувшим крышу мхом и в сыром после дневного дождя дереве. Но стрелков было много. Когда ярл прибежал в городок, пожары от стрел, проникших под застрехи крыш и в дымовые продухи, начались в нескольких местах.
В Усть-Двинце сгорели дворы Одинца, Карислава и нескольких других поморян. Сгорели вместе с добычей, доставшейся было Оттару и его дружине.
Дозорные поморянского старшины перехватили плывших сверху колмогорян и спрятали их расшивы в затоне, в заросшей двинской старице.
Колмогоряне прислали малую помощь — всего пятьдесят человек. Прибывшие рассказывали, как колмогоряне спешно укрепляют свой пригородок, собрав к себе всех новгородских посельников с Доброгиной заимки на Ваге и с реки. Извещая, что будут биться против нурманнов за земляными валами, колмогоряне просили:
— Чтобы все поморяне и биармины, которые себя не отстояли, шли к нам бороть нурманнов общей силой.
 Колмогоряне звали к себе, а сами, как видно, больше всего боялись, как бы нурманны к ним не приплыли. Колмогоряне-то и посоветовали сжечь нурманнские лодьи. Для этого дела они отдали три расшивы, на которых пришли, а поморяне дали три своих — из запрятанных в речных тайниках.
На воде нурманнов не удалось сжечь, зато над ними попалили крыши — поморянам было не жаль ничего. С этой ночи почувствовали все поморяне и биармины, что переломилась на лучшее их горькая жизнь.
Утром же из тайного места — святилища Йомалы — пришли двое кудесников-хранителей и начали учить всех особому способу воевать с нурманнами. Кудесники принесли котлы вонючего жидкого студня, велели людям собирать пустые косточки и из них резать трубочки с затычками. В трубочки кудесники накладывали студня и учили:
— Сюда макай лишь самое острие стрелы. Уколотый такой стрелой нурманн заболеет и умрет. Но сам берегись: поцарапаешься — и тоже умрешь. И в рот не бери: умрешь. Стрелу же макай перед делом.
Что это за колдовское снадобье, кудесники никому не сказали. Приказали ещё, чтобы люди ловили красную рыбу, осетра и стерлядь, и приносили к ним в вежу.
Колмогоряне звали к себе, а сами, как видно, больше всего боялись, как бы нурманны к ним не приплыли. Колмогоряне-то и посоветовали сжечь нурманнские лодьи. Для этого дела они отдали три расшивы, на которых пришли, а поморяне дали три своих — из запрятанных в речных тайниках.
На воде нурманнов не удалось сжечь, зато над ними попалили крыши — поморянам было не жаль ничего. С этой ночи почувствовали все поморяне и биармины, что переломилась на лучшее их горькая жизнь.
Утром же из тайного места — святилища Йомалы — пришли двое кудесников-хранителей и начали учить всех особому способу воевать с нурманнами. Кудесники принесли котлы вонючего жидкого студня, велели людям собирать пустые косточки и из них резать трубочки с затычками. В трубочки кудесники накладывали студня и учили:
— Сюда макай лишь самое острие стрелы. Уколотый такой стрелой нурманн заболеет и умрет. Но сам берегись: поцарапаешься — и тоже умрешь. И в рот не бери: умрешь. Стрелу же макай перед делом.
Что это за колдовское снадобье, кудесники никому не сказали. Приказали ещё, чтобы люди ловили красную рыбу, осетра и стерлядь, и приносили к ним в вежу.
День после ночного пожара прошел спокойно, биармины не показывались и не тревожили викингов. Но вечером они выступили с новым упорством. Биармины пытались выманить викингов в лес. В сумерках на всех подступах к полусгоревшему городку и к пристани появились лучники. Подпуская к себе викингов на полет стрелы, они убегали. Оттар заметил, что у биарминов подходил к концу запас настоящих стрел. Ярл нашел в городке печи для выплавки железа и кузницы. Лишившись их, как думал Оттар, биармины потеряли возможность пополнять запасы своего оружия. Биармины начали пользоваться стрелой с костяным наконечником, прикрепленным жилкой к тонкому и легкому древку, — стрелой охотника на птицу и мелкого зверя, но не стрелой воина. Изготовленная из чистой, ровной сосны, хорошо уравновешенная, с длинным и низким четырехсторонним оперением, стрела охотника обладала точным и дальним полетом. Острая кость хрупко ломалась о резьбу щита, шлем и латную перчатку и втыкалась лишь в подлатную кожаную рубаху. Удар по кольчуге не чувствовался, а настоящая стрела зачастую оставляла на теле пятно. Оттар убедился в потере биарминами настоящих стрел. Отныне биармины могли поражать только незащищенное тело и на близком расстоянии. Но они боялись приближаться. И всё же не жалели стрел… В течение всей короткой ночи они дразнили викингов. Бесполезные стрелы ударяли в латы сторожевых викингов, падали в поселке. Изредка они, как укусы комаров, царапали кожу, задевали щеку или руку, шею, щиколотку, находили сочленение доспеха. Так длилось и весь следующий день. Оттар не пытался выходить в лес. Биармины заметно смелели. Иной удалец, презирая опасность от стрел и пращных ядер, подходил поближе. Рискуя жизнью, он натягивал длинный лук. Костяной наконечник царапал руку викинга, ловко хватавшего стрелу в полете, и биармин отбегал с криком: — Смерть, смерть, смерть! В глубине зеленой крепости биарминов вызывающе стучали бубны… В туманных сумерках Оттар приказал готовиться, и с мглой, когда первая стрела невидимого ночного лучника-биармина упала у ног сторожевого викинга, из городка вышли два сильных отряда. Викинги — их пошло больше трехсот пятидесяти — надели легкие доспехи, оставили щиты и копья. Почти непроглядная темнота леса скрыла вспышки коротких, беспощадных схваток, слепых, призрачных и страшных, как во сне. Не разрываясь, две цепи викингов прочесали гребнем лес вблизи городка, стремясь наловить дерзких стрелков. Они добыли шесть или семь бесполезных трупов и привели двух пленников, застигнутых врасплох. Оба пленника оказались знакомыми: их выдали руны «R» — ридер, подживавшие на опаленных клеймом Нидароса лбах. Их пытали порознь и не спеша, с терпеливым уменьем викинга добиться от самого упрямого обитателя низких земель указания места, где он зарыл свои ценности при слухе о том, что черные драккары вестфольдингов вновь показались в море. Клейменые молчали, что дало цену их показаниям после того, как Огтар победил упорство пленников. Оттар узнал, что лагерь биарминов — настоящий лагерь, с запасами и женщинами — расположился всего в половине дня ходьбы от городка. Ярл оставил своим клейменым траллсам достаточно жизни в теле, чтобы они могли провести его в лагерь биарминов.
Клейменые уверенно вели викингов. «Даже когда жизнь больше ничего не обещает, кроме возможности дышать и умереть на один день позже, человек низкой крови все же цепляется за неё», — думал Оттар о своих проводниках. Проводники знали дорогу, и ни один биармин не встречался в старом лесу, удобном для ходьбы. На стволах виднелись затески охотников, приметы зимних капканов. Клейменые объясняли, что вблизи протекает впадающая в Двин-о речка. Неожиданно головной отряд Оттара наткнулся на трех или четырех биарминов, которые убежали в страхе, забыв о стрелах. — Лагерь близко, — сказал один траллс. Другой подтвердил, как эхо: — Близко… С руками, истерзанными утонченной пыткой, они безразлично глядели на повелителя. — Сейчас, после ельника, будут поляны… — начал один. — Да, лагерь там, — подтвердил другой. Они не смотрели друг на друга, как чужие. — Так близко? — спросил Эстольд. — Да, это здесь, — сказал первый траллс. — Еще тысяча шагов, — подтвердил второй. Они не смотрели на Эстольда, они глядели только на господина. Клейменые не могли пошевелить изломанными пыткой руками. Они угодливо показывали направление движением головы. — Чего ещё хочет господин? — Ничего. «Неужели они ещё думают о жизни и хотят жить?» — брезгливо подумал Оттар. Викинги развернулись для широкого охвата. Будет много, много пленников. Викинги молча сужали кольцо в мелколесье, пока не встретили длинный завал из свежерубленного леса. Хвоя казалась живой, а листья берез и ольхи ещё не увяли. В завале были оставлены широкие проходы, рядом с которыми лежали горы сучьев и лохматых вершин, чтобы закрыть ход в случае надобности. Обо всём среди вызванных пыткой стонов рассказывали клейменые. Лагерь здесь! Из-за завала раздались тревожные крики, и викинги бросились в проходы. Внезапно первые ряды исчезли в ямах, прикрытых сучьями и пластами мха. Такие ловушки, длинные, узкие, глубокие, устраивают на оленей и лосей. Изредка ловится медведь, а волки не попадаются — они слишком чутки и недоверчивы. Настоящие охотничьи ловушки устраиваются тщательнее. Но эти сделали своё дело. За каждым проходом было несколько рядов ям. Сколько — Оттар не мог определить. Рядом с ярлом стоял клейменый траллс, измученный изощренной пыткой, с безразлично повисшей головой. Оттар ударил его кулаком в латной перчатке. Он отнял у этого траллса лицо и жизнь, а тот сумел взять плату викингами! Через проходы завязалась перестрелка. Оттар не мог двинуться с места, пока не будут вытащены викинги, попавшие в биарминовскме западни. Биармины напали и сзади. Стычка длилась недолго. Викинги разметали завал, и биармины отошли. Никакого лагеря, даже его следов, не оказалось. Не нашлось и трупов. Биармины успели унести своих. Напавшие с тыла были отброшены после беспорядочного боя. Среди биарминов был замечен небольшой отряд хорошо вооруженных латников. И всё же они не захотели упорного правильного боя. Они отступали, растягивали строй викингов, который было трудно соблюдать из-за деревьев. А бездоспешные биармины осыпали викингов и костяными и настоящими стрелами. Поле боя осталось за Оттаром. В лесу же стучали и стучали сухие биарминовские бубны. «Обманули, обманули, обманули!» — издевались бубны. Оттар не решился рисковать, преследуя биарминов в лесах. В дно земляных биарминовских западней были забиты частые крепкие колья с закаленными на огне остриями. Кольчуги и латы прикрывают тело от ударов с боков и сверху, но не снизу. Из ловушек извлекли больше трупов и умирающих, чем живых. Спаслись те викинги, которые падали сверху на своих товарищей. Ещё несколько вестфольдингов легли от стрел биарминов, и шесть викингов были зарублены биарминовскими латниками. «Они взяли больше, чем один за одного», — думал Оттар. Биармины второй раз устроили ему неожиданное. Он не разгромил лагеря биарминов и попрежнему не знал, где они прячут свои силы, припасы и женщин. Отныне придется относиться осторожнее к показаниям пленников. Кто бы мог подумать! Они вынесли такие пытки!.. Клейменый, которого ярл ударил латным кулаком, ещё дышал. Душа держится прочно в теле биармина… — Добейте их, — приказал ярл, указывая на клейменых. Больше их не к чему было пытать — и пытка не была властна над ними. Оттар не презирал их. Он молча оценил мужество людей низкого племени, сумевших совершить подвиг, достойный сына Вотана. Медленно, опасаясь засад, викинги возвращались в городок. Их провожал удручающе-назойливый стук бубнов, вызывающие вопли и визг. Откуда-то скользили стрелы. И когда викинги втянулись в полусгоревший городок, на опушках и в кустах показались биармины. Они что-то кричали, неразборчивое на расстоянии. Они не боялись вестфольдингов — им, казалось, был приятен моросящий дождь. Они делали понятные жесты: звали к себе, в лес.
Глава двадцатая
В Усть-Двинце и пожарища и уцелевшие дворы были одинаково черны от дождя. Для топки очагов викинги ломали заборы и стены домов и надворных построек, попорченных огнем или целых — безразлично. Городок имел дикий, печальный вид места, осужденного на смерть безжалостной болезнью. Викинг Канут, один из любимцев ярла, тяжело заболел, ослабел, не хотел есть. Могучая воля викингов побеждает болезни. Канут хотел пойти со своим ярлом и завладеть лагерем биарминов, чтобы кончить завоевание Нового Нидароса, и не смог. Не послушались ноги, боль во внутренностях согнула кольцом мускулистое тело. Пухлый, красноватый отек натянул кожу под светлой бородой Канута, спустился на шею и поднимался к глазу. Опыт более чем тридцатилетних плаваний на драккарах научил многому кормчего «Дракона» Эстольда. Он разбирался в болезнях, умел врачевать опасные лихорадки, знал, что делать при кровотечении из кишок. Эстольд издали распознавал опасную белую проказу, оспу и черную чуму, умел ухаживать за ранами, извлекать стрелы, мог отделить, для спасения всего тела, раздробленную руку или ногу. Эстольд чувствовал, что болезнь Канута связана с опухолью лица, и рассмотрел след укола или царапины. Он допрашивал больного. Канут вспоминал: да, кажется, третьего дня его уколола костяная стрела. Он забыл. Стоит ли помнить каждую царапину! Это недостойно викинга. Пусть Эстольд даст ему пить и оставит в покое. Пить! Его мучит жажда. Не воды — пива, чтоб тебя взял Локи! Почему пиво сладкое? Неужели же здесь больше нет настоящего, горького пива?.. К возвращению Оттара сознание оставило Канута. Ярл с грустью посмотрел на обезображенное лицо старого товарища. Глаза Канута провалились, нос заострился. Он ещё дышал, но его уже не было. Не один Канут покидал своего ярла. Больше двадцати викингов проявляли ясные признаки той же убийственной болезни, все жаловались на такие же страдания, как Канут. И у каждого озабоченный кормчий «Дракона» находил одинаковые опухоли: на руке, на ноге, на шее, на затылке или на лице. Эстольд молчал о своих подозрениях, приины болезни не понимал никто. Чума, встречавшаяся викингам на землях Запада, не походила на эту болезнь. Черная смерть выдавала себя большими опухолями подмышками и рождалась среди массы трупов. Мертвые франки и трупы жителей Валланда бывали для вестфольдингов страшнее живых… Вскоре Канут успокоился и похолодел. Ночью умерли ещё девять викингов, и к утру число больных достигло пятидесяти. Захворали Лодин и Бранд. После осмотра больных кормчий «Дракона» поспешил прийти к Оттару. Эстольд не пытался скрывать тревогу: — Биармины умеют отравлять свои стрелы, мой ярл. Я убежден в этом. Их стрелы отравлены. У каждого умершего и больного есть укол стрелой. И у каждого — опухоль в месте укола. Купцы, греки и арабы, рассказывали о южных народах, умеющих посылать смерть на кончике стрелы. Но могут ли биармины быть способны на это? У Эстольда не было никаких сомнений. Его самого вчера уколола стрела. Или ветка. Кормчий не мог вспомнить — в этом проклятом лесу не знаешь, на что наткнешься. Поняв причину болезни викингов, Эстольд раскалил на огне очага нож и выжег свою ранку, трижды повторив болезненную операцию. Разговаривая с ярлом, кормчий «Дракона» не мог избавиться от навязчивотягостной мысли об отраве, которая, быть может, уже растёт и в его теле. — Уверен ли ты, Эстольд? — Да, клянусь тебе мужеством Рёкина, мой ярл! Не знаю, многие ли наши уже отравлены. Канут прав: какой викинг обращает внимание на укол или царапину!Итак, внезапно наступил час платежей и размышлений о деле. Только трезвые подсчеты могли помочь нидаросскому ярлу понять значение происходящей борьбы за Новый Нидарос, сделать выводы и принять решение. Оттар не нуждался в усилии памяти или в подсказах — он обладал совершенной памятью полководца, знал каждого своего викинга не только по имени, но и по способностям. Первая высадка в поселке Расту, когда клеймились биармины и по берегам Гандвика был пущен страх, стоила Оттару трех викингов — случайность и небрежность самих убитых. Трое были тяжело ранены стрелами на «Черной акуле» из засады на острове, и девять погибли в схватке, уничтожившей засаду. А сама засада биарминов оставила девятнадцать трупов. Девять за девятнадцать — невероятно дорого. Викинги были повинны в том, что сражались без строя, пренебрегая биарминами. Эйнар отлично провел высадку с «Орла». Взятие пристани обошлось в одного викинга, а тел биарминов было найдено около восьмидесяти. Кормчий «Орла» заслужил великую славу настоящего воина. Оттар сам встретился на морском берегу со всеми силами биарминов и хольмгардцев и вынудил их к правильному бою. Ярл потерял двадцать шесть викингов, а на поле боя было сосчитано около пяти сотен тел противника. Правильное соотношение: за одного почти двадцать. Но в тот же день высадка с «Акул», закончившаяся схваткой в кустарниках, где погиб Галль, стоила двенадцати викингов, за которых биармины заплатили шестнадцатью телами! Повторилось то же, что произошло на острове: викинги сражались без строя. Первый день появления биарминов после шестидневного перерыва, когда они начали войну по-своему, обошелся в сорок викингов, а чего он стоил биарминам, ярл не знал. Во всяком случае, не больших потерь, чем ему. За второй день войны по-биарминовски ярл расплатился восемью викингами. Ночная вылазка и поимка клейменых обошлись в два викинга. Но клейменые отняли у Оттара сорок семь викингов. Сорок семь! Стычка в лесу, у ложного лагеря с западнями, обошлась почти вдвое дороже, чем настоящая, большая победа на морском берегу, а самим биарминам стоила, несомненно, совсем дешево. Всего в боях и стычках потерян сто пятьдесят один викинг… Оттар считал, что большая часть викингов была у него не взята биарминами за настоящую цену (эта цена — победа), а украдена. Сто пятьдесят один викинг… Дружина, прибывшая на четырех драккарах, уже уменьшилась с шестисот пятидесяти до пятисот воинов. Что будет дальше? При каждой встрече в лесу биармины умели брать викингов дешевой ценой. И даже в лесу, как во время нападения на ложный лагерь, они отказывались от правильного боя. Они не повторят сражения на берегу, они сумели оценить свою ошибку, понять силу лат и непобедимость строя викингов. Латы, спасая от удара, не всегда спасают от укола. Ярл вспомнил стрелу, которая поцарапала ему бедро шесть дней назад, и спросил Эстольда: — Как скоро ты считаешь, начинает действовать яд биарминов? — На следующий день или на третий, мой ярл, — ответил кормчий «Дракона». Он сам думал, что ему придется ждать ещё два скверных дня, чтобы узнать свою судьбу. Вслед за Канутом уже умерли, заболев от яда, девять викингов. Эстольд сообщил — есть ещё пятьдесят отравленных. После их гибели на румах четырех драккаров едва ли останутся полные смены гребцов. А кто знает, сколько викингов уже носят в своей крови яд биарминовской стрелы… Шумел дождь. В лесу, казалось совсем близко, стучали бубны биарминов.
Глава двадцать первая
Не спины траллсов — здесь не нашлось траллсов, — викинги гнули собственные широкие спины. Они сами, раскорячившись и уткнув в землю носы, переносили на драккары добычу. Уцелевшие дворы поморян вычищались, как метлой. Не только меха, ткани, кожи, припасы и одежду — вестфольдинги хватали и прялку, точенную любовной рукой поморянина — дорогой, от сердца, подарок молодой хозяйке. Солонка, на ручке которой пристроился петух или голубь, ковшик утицей, с коготком, чтобы цепляться за борт кадушки, и сама кадушка — им годилось всё. Не зря, не из пустой жадности… В каждую вещь вложен человеческий труд, переводимый в серебро и в золото. Около домниц и в кузницах нашлись большие и малые молоты, клещи, зубила. Викинги подбирали и сырые крицы, рвали из стен крюки — железо высоко ценилось в продаже. Они не забыли бы и короба с очищенной рудой, будь на драккарах больше места. Одни таскали добычу, другие ломали ещё уцелевшие дома, клети и заборы, а третьи охраняли работающих. Биармины не скрывались — толпились в кустах и на опушках. Повсюду блестело оружие — с места на место передвигались латники биарминов. Биармины кучками подходили на полет стрелы, и начиналось состязание. Стрелок-викинг с луком или пращой целился под прикрытием двух своих товарищей. И все трое не могли избавиться от угнетающей мысли о стреле с костяным наконечником, которая может чуть-чуть уколоть тело, открытое размахом руки. Летели стрелы — и викинги, считая слабые места в сочленениях своих доспехов, сжимались за щитами. Сильная цепь постов защищала викингов, занятых переносом добычи и разрушением городка. Когда стрелы летели слишком густо, охрана невольно пятилась, уменьшая площадь, которая ещё принадлежала Оттару. Из леса выходило всё больше биарминов, выступал отряд латников, подражая викингам своим тесным строем. Рога на драккарах трубили тревогу, викинги-носильщики бросали где придется свои ноши. Никто из них больше не снимал доспехов. Противники сближались. Если бы только биармины уперлись и приняли правильный бой! Оттар не желал ничего другого. Но малый латный отряд биарминов начинал отход. Стрелы ломались о шлемы, латы, щиты, поножи викингов. И каждая, каждая могла задеть лицо, ступню, запястье, открытое панцырной рукавицей… И задевала! Биармины отступали, стараясь затянуть викингов подальше в лес. Снова провалиться в западни? Чтобы железная стена строя разбилась среди пней, деревьев и кустов? Нет, ярл не повторяет своих ошибок. Оттар приказал собирать отравленные стрелы биарминов и пользоваться ими: тела лесных людей не были защищены доспехами. Как видно, биармины истощили свои запасы; теперь они пользовались сделанными наспех и грубо оперенными стрелами. Или, как подозревал Оттар, они стали хитрее. Отравленная биарминовская стрела имела слишком узкую для тетивы викинга прорезь, лишенную закрепа. Тетива лука вестфольдинга раскалывала древко стрелы вдоль основных волокон и застревала. Отравленная рыбья кость была слабо привязана жилкой или лишь воткнута в дерево. Стрела биарминов не годилась викингу. Ярл не ждал открытого нападения биарминов. И всё же, когда биармины накапливались, он, теряя спокойствие, принимал бой. Потеряв инициативу, ярл безотчетно опасался чего-то нового, что могли придумать биармины. На крайней опушке за городком появился большой щит, укрывавший с головой нескольких человек. Биармины метали стрелы через щели и поверх щита и вынудили отойти сторожевой пост викингов. Оттар с двумя десятками викингов сам напал на дерзких противников. Биармины убежали, бросив ярлу в добычу нехитрое дощатое сооружение. Дозорные с мачты «Дракона» сообщили о появлении новых больших щитов, которые биармины двигали в кустах и в лесу. Вот они вытащили и составили вместе сразу три щита. Это могло быть началом сооружения своеобразной крепости, откуда биармины смогут угрожать и пристани и сообщению между городком и драккарами. Эстольд сумел уцелеть после раны, и, пользуясь его опытом, викинги спешили выжигать каждую царапину. Почувствовав укол стрелы — иной раз это была лишь игра возбужденного страхом воображения, — вестфольдинг, не задумываясь, бросал свой пост и бежал искать спасения. Для этой цели железо постоянно калилось в огне двух очагов городка и в очаге на «Драконе». Не морщась от боли, викинг выжигал ранку; злобно скрипя зубами, он вдавливал в собственное живое мясо, а не в тело пытаемого пленника, рдеющий конец тупого меча. Потом он медленно, неохотно возвращался на свой пост, под стрелы биарминов.Оттар захватил оленей у гологаландских лапонов-гвеннов и навсегда подчинил их страхом. Население городов низких западных земель склонялось после разгрома и само предлагало вестфольдингам условия своего подчинения и спасения жизни — выкуп и рабов. Здесь, в устье Двин-о, Оттар не нашел ничего, чтобы сломить волю биарминов и хольмгардцев. Он попрежнему был убежден, что в мире нет людей, которых нельзя сделать мягкими, как пчелиный воск, смятый рукой. Но он так и не мог узнать, как сделать лесных людей рабами страха, и в этом винил только самого себя. В устье Двин-о Оттар завладел пустым городом. Вверх по Двин-о могут найтись поселения с женщинами и детьми — хорошими заложниками. Ярл беседовал со своими подчиненными. Он хотел не советов, а подтверждения своих мыслей, и получил его. Эстольд, Эйнар, Гатто, Олаф и Окурфва боялись оставлять в тылу непокоренных биарминов. Лодин и Бранд не могли ничего сказать своему ярлу — сила таинственного яда прикончила их. Биармины кричали: — Смерть, смерть, смерть, смерть! Оттар молчаливо признавал, что по достоинству своего мужества лесные люди могли бы сесть на румы драккаров вестфольдингов. Для основания Нового Нидароса следует перебить их всех до одного. Если это и возможно, то кто же будет питать корни горда? Нидарос в пустыне не был нужен ни Оттару, ни любому свободному ярлу. Викинги спешили разрушить городок. В пыли и в саже откатывались бревна стен последних домов, трещали ограды. Всё дерево сносилось в одно место и укладывалось костром с продухами для воздуха. Среди остатков разваленных очагов, черных от доброго домашнего огня, среди куч мха из пазов и обломков утвари, над отвратительным безобразием уничтоженного гнезда поморян возвысился холм, похожий на те, которые завоеватели насыпают в память кровавых побед, в знак унижения слабейших и для удовлетворения пошлого самомнения тупого хищника. Оттар не оставил биарминам ни одного тела вестфольдинга. Один за другим викинги вносили по помосту на погребальный костер сбереженные трупы товарищей. Убитые поднялись в Валгаллу, оставив друзьям последнюю заботу. Ярл прощался, называя каждого по имени. С высоты колоссального холма ярл видел море, широкую реку с островами и протоками, зеленые леса, уходившие в синие дали. Новый Нидарос, которого не будет… Трупы ложились тесно, один на другой. Погибших вестфольдингов провожали слова ярла и крики биарминов, суливших ту же участь живым. Оттар не считал тел. После Канута и первых умерщвленных ядом ушел ещё шестьдесят один викинг. Гору дерева подожгли со всех сторон. Хриплым голосом Эстольд начал песнь Великою Скальда:
В ту тревожную ночь, когда колмогоряие пробовали сжечь драккары и под короткую носовую палубу «Дракона» заглядывали отблески пламени горящих расшив, к черпальщику свалился нож, потерянный одним из викингов. Черпальщик подобрал странную вещь, попробовал пальцем острие и увидал свою кровь. Эта вещь сама резала и колола. Человек без имени и без речи был болен, но не знал этого. Ему стало трудно выполнять обязанности, о смысле которых он забыл. В его памяти навязчиво хранились лицо и фигура женщины, страшной жрицы. Она могла разрезать его грудь и достать кусок живого мяса. В ушах черпальщика звучал её голос. Сама она появлялась по ночам, а днем пряталась в дальнем черном углу под палубой, в основании шеи зверя. Он боялся этой белой женщины притягивающим страхом; он возненавидел всегда полную жидкости черпальню и черпало на длинной рукоятке. Такое тяжелое, тяжелое, зачем оно?.. Он брался обеими руками за медный ошейник, пробовал просунуть под него подбородок и, быть может, пытался что-то вспомнить. Для чего же этот жесткий обруч и откуда он взялся? Жидкость из переполненной черпальни холодила босые ноги. Он не обращал внимания на комаров, которые густо сидели на его лице и на всех не прикрытых лохмотьями частях тела и язвили огрубелую кожу. Эстольд заметил небрежность траллса. Черпальщик услышал непонятные звуки и почувствовал удары. Не боль — только удары. Кормчий «Дракона» заключил, что черпальщик износился. Слишком долго просидев на цепи под палубой, черпальщик сам превратился в дерево, тем закончив свой срок. Заменить его было некем. «Дракон» спокойно отдыхал у пристани. Его кормчего, ближайшего помощника ярла, всецело поглощали трудности войны с биарминами. Угнетенный мыслью об уколе стрелой, Эстольд совсем забыл об отупевшем траллсе. Черпальщик припрятал нож, зачем — он не знал. Он поглаживал лезвие, лизал железо. Холод металла и острота клинка напоминали не сознанию, а пальцам рук о свойствах ножа. Во время стоянки у причала никто не пользовался неудобной черпальней под низкой палубой. Черпальщик мог бы вырезать вбитый в киль крюк, державший цепь на ноге, и скользнуть через борт не без надежды на успех. Так он мог бы поступить десять лет назад, быть может — и пять лет. Ныне для прихода такой мысли было слишком поздно. Он захотел проникнуть сквозь днище драккара. Когда и как он на это решился, он не знал. Он выздоровел и во-время выбрасывал жидкость за борт и ковырял ножом жесткое дубовое дерево. Сидя на корточках, он что-то бормотал. В тихих, как жужжанье шмеля, звуках голоса человека, сделанного зверем, вряд ли кто смог бы уловить сейчас ритмы песен светловолосой красавицы Гильдис. Черпальщик точил днище «Дракона» с инстинктом мыши, которая грызет половицу без особого расчета. Когда ему казалось, что кто-нибудь может заглянуть под палубу, он прятал нож и замирал — скорченный и бесформенный кусок — не как человек, а как мышь, почуявшая запах кошки.
 И всё же не совсем мышь… Чтобы пройти, он нуждался в круглой дыре и долбил дерево не сплошь, а канавкой, пытаясь описать окружность. Он узнавал глубину пальцем и точил древесину везде на одинаковую глубину. Потом он толкнет дерево и выскочит. И чем дальше он вырвется от драккара, тем лучше. Поэтому он протачивал не бок, а самый низ днища. Мешало толстое бревно киля — он дважды прорезал его.
Мелкие кусочки дерева и труха попадали в черпальню. Переполнявшая черпальню вода разливалась, мешала работать. Он опорожнял черпальню. О том, что кругом драккара вода, он не знал.
Из «Дракона» выбрасывали каменный балласт, и драккар поднимался. Затем он ушел глубоко в воду под тяжестью добычи. Черпальня быстро переполнялась и отрывала черпальщика от его дела. Добычи было очень много, траллс сидел в темноте; ему оставили ровно столько места, чтобы он мог размахнуться черпалом.
И всё же не совсем мышь… Чтобы пройти, он нуждался в круглой дыре и долбил дерево не сплошь, а канавкой, пытаясь описать окружность. Он узнавал глубину пальцем и точил древесину везде на одинаковую глубину. Потом он толкнет дерево и выскочит. И чем дальше он вырвется от драккара, тем лучше. Поэтому он протачивал не бок, а самый низ днища. Мешало толстое бревно киля — он дважды прорезал его.
Мелкие кусочки дерева и труха попадали в черпальню. Переполнявшая черпальню вода разливалась, мешала работать. Он опорожнял черпальню. О том, что кругом драккара вода, он не знал.
Из «Дракона» выбрасывали каменный балласт, и драккар поднимался. Затем он ушел глубоко в воду под тяжестью добычи. Черпальня быстро переполнялась и отрывала черпальщика от его дела. Добычи было очень много, траллс сидел в темноте; ему оставили ровно столько места, чтобы он мог размахнуться черпалом.
Глава двадцать вторая
Готовые к бою лучники и пращники стояли на палубах драккаров и на румах между гребцами. Ещё поднимали якоря и не успели освободить заброшенные на пристань причальные канаты из китовых ремней, а уж надвигались Поморянские латники — их Оттар насчитал до пятидесяти — и спешили бездоспешные воины с дощатыми щитами. Со звуком первых ударов кормчих в бронзовые диски в драккары и с драккаров полетели стрелы. Помня об отравленных стрелах, кормчие избегали никчемного состязания в меткости и спешили отвернуть от материкового берега. Вестфольдинги владели водой, на речных островах ниже пристани не было засад. Бессильные стрелы уже лишь на излете достигали «Дракона», отошедшего последним. Предстоял долгий путь по пустынному Гандвику и вокруг северной оконечности земли фиордов. Викинги надолго спускали тетивы ненужных луков и прятали в колчаны неразбросанные стрелы. Пращники складывали в сумки ядра из обожженной глины. Несколько одиночек, особенно сильных и жадных до боя, ещё крутили над головами ремни и следили за полетом сорвавшегося в цель тяжелого яблока. И биармины, как видно, были не сыты. Они преследовали драккары по берегу, мечтая поймать миг, когда струя поднесет поближе какую-нибудь черную звериноголовую вонючую лодью. Вдали пылал погребальный костер. Огню хватит ещё на полдня пищи — разрушенных поморянских домов. Ярл помнил каждый день и каждый свой шаг с того момента, когда Гандвик открыл ему землю. Дней было немного, около тридцати, но он прожил их долго-долго. Длинные дни, каждый стоил десяти, как каждый вестфольдинг стоит десяти воинов любого другого племени — быть может, кроме этого… Хотя эти дни были длинны, он, свободный ярл Нидароса, король открытых морей, не сумел, не успел найти у биарминов нужное ему место — то место, овладев которым вестфольдинг ломает спину любого племени. Он, Оттар, покидал удобное для Нового Нидароса устье Двин-о лишь из-за того, что не нашел этого места. Оно есть у каждого, в это Оттар будет верить всегда. И эти люди должны чего-то бояться. Их страх перед смертью недостаточен — так и только так Оттар умел понять встреченное неслыханное упорство сопротивления. Пришлось уйти… Они слишком сильны для него. Биармины провожали драккары. На берегу, вдоль которого двигалась флотилия, Оттар насчитал уже больше тысячи воинов. Все ли здесь? Нет, они, наверно, хранят в своём лесу запас боевой силы. Их можно побеждать в бою — и он побеждал их, он истреблял их; при каждой встрече с ними он заставлял их отступать — они всегда убегали перед силой вестфольдингов. И всё же это они оказались сильными. И ушел он, а не они. Поле осталось за ними. Ничтожны победы, после которых победитель отступает и отказывается от своего замысла. Ни настоящий воин, ни настоящий купец не лгут сами себе. Оттар был откровенен с собой: гнездо короля викингов не будет свито на берегу Гандвика. Оттар думал: он мог бы начать по-иному, не пускать призрак страха, не стремиться стать господином и властителем с первого шага. Протянуть руку дружбы, искать союзников… Быть может, быть может… По рассказам греков и арабов, люди жарких стран юга владеют искусством приручать таких свирепых и сильных зверей, каких нет в странах зимнего льда. Говорят, чем сильнее зверь, тем легче его приручить. Лев скорее и надежнее, чем тигр, смягчается дружбой человека. Слон делается другом, дикий кот — никогда. Это правда: можно приручить медведя, но не лису. Начав иначе, Оттар сумел бы — он был уверен теперь — стать другом биарминов. А где оказались бы данники и траллсы для создания богатств Нового Нидароса? На что было бы вербовать и содержать викингов и строить драккары для осуществления великих замыслов? Что думать о пустом! Невозможное не существует. И всё же ярл не мог забыть и не забудет своей радости при первом виде богатых берегов, открытых его волей и его разумом. Какие были минуты! Он не забудет горечи поражения, он поборет её и извлечет уроки — так он говорил себе.Проток расширялся. Дым погребального костра, стелющийся над лесами, остался далеко позади. Под ногами ярла «Дракон» дрогнул — и Оттар вернулся к действительности. Он не успел сделать и четырех шагов, отделявших его от края короткой носовой палубы, как гребцы уже бросили весла и вскочили с румов. Вода ворвалась с носа драккара. «Дракон» сразу осел — он был тяжело нагружен добычей. Течь была настолько яростной, что следовало думать лишь о собственном спасении. «Акулы» и «Орел» развернулись с чудесной скоростью, свойственной драккарам вестфольдингов, и возвращались к гибнущему «Дракону». Ни кормчий Эстольд, ни Оттар не потеряли присутствия духа. Не сговариваясь, они отдавали одни и те же приказания. Обе «Акулы» одновременно пристали к бортам «Дракона». Викинги вцепились абордажными баграми в борта тонущего драккара. Но вода вливалась уже и снаружи в весельные дыры лучшего драккара Нидароса. Викинги «Дракона», исполняя приказы ярла и Эстольда, перескакивали на «Акулы» и налегали на противоположные борта, чтобы весом своих тел уравновесить тяжесть, которая могла перевернуть «Акул». «Орел» подошел кормой и бросил петли. Оттар сам надел их на обгорелую шею чудовища. И всё же «Дракон» погружался. Если бы подхватить и корму, зацепить хвост… Но «Волк» или «Змей», которые могли бы спасти своего младшего брата, охраняли воды далекого Гологаланда! На кормовой палубе Эстольд одиноко держался за правило руля. Река утопила его выше колен. Тяжесть «Дракона» побеждала усилия «Акул» и «Орла». — Уходи! — приказал ярл кормчему. Добычи было слишком много. «Дракон» принял всё железо, взятое в городке. И сало, и бочки меда, и вяленое мясо, и меха, которые сейчас напитывались водой… Оттар не хотел терять лучшего кормчего фиордов. Он опять крикнул Эстольду, напоминая клятву: — Повиновение ярлу! Уходи! Уходи на «Черную», Эстольд! Изогнутый хвост «Дракона» скрылся, вода достигла пояса кормчего. Над поверхностью мутной воды оставались правило руля и бронзовый диск перед кормчим. Эстольду было некуда уходить. С «Черной акулы» метнули ременную петлю. Эстольд надел её вокруг груди, сделал шаг, другой и исчез в реке. Его, задыхающегося, втащили на корму «Черной акулы». Борьба за «Дракона» продолжалась. Течение увлекало три драккара, вцепившихся в четвертого, на стрежень реки, ближе к крутому правому берегу. Если бы удалось вытащить «Дракона» на мель! Но кормчий «Орла» не знал, где лежали мели под водой чужой реки. Эйнару была нужна не предательская, сосущая илисто-топкая мель речного устья, а твердая, песчано-галечная. Промеры с носа «Орла» говорили о слишком большой глубине, для того чтобы попытаться разгрузить «Дракона» под водой и потом заставить его всплыть. Весь под водой, «Дракон» держался лишь усилиями обеих «Акул» и «Орла». Нос тяжело груженного «Орла» задрался высоко над водой, будто бы «Орел», как гусь, хотел взять разбег и взлететь. На драккаре перебрасывали добычу на нос, разгружая корму, и продолжали грести. Вся надежда возлагалась теперь лишь на Эйнара, который искал мель и не находил её. На «Драконе» оставался один ярл. Он переговаривался с Эйнаром. Не выброситься ли на правый берег и не отогнать ли биарминов? Правый берег был крутым, под ним глубоко, «Орел» не мог вытащить на него «Дракона». А если попытаться всё же — он мог легко перевернуться. Слева лежали топкие, грязные берега. Борясь с отливным течением в устье, «Орел» тащил влево. Все драккары были слишком перегружены, слишком. Низкие и длинные «Акулы» медленно кренились. Веса викингов, которые надавили на обратные борты, было явно недостаточно, чтобы уравновесить мертвую тяжесть «Дракона». Река неумолимо приближалась к весельным дырам в борту «Синей акулы». Достаточно «Синей» ещё немного увеличить свой крен, и вода начнет вливаться в неё, нагрузка на борт «Черной акулы» сразу увеличится, и обе станут тонуть вслед за «Драконом». Одной рукой Оттар держался за канат, которым «Орел» поддерживал над водой голову «Дракона», а другой опирался на его шею. Медлить ещё — потерять и «Акул». — На «Акулах» — слушай! — громко предупредил ярл. — На баграх — слушай! Все вместе на баграх — опускай! Раз! Ещё раз! Ещё! Ещё! Сразу все! Опускай! Люди моря — викинги понимали ярла и перехватывали багры с совершенным единством. Больше не было видно ни правила руля, ни диска на погрузившейся корме «Дракона». Оттар чувствовал, как под его ногами палуба круто перекосилась. «Акулы» не выпрямлялись. Быть может, удастся найти мель и вытащить «Дракон»? Биармины не дадут поднять его. Стрелы, стрелы и стрелы, днем и ночью, с отравленной костью на дереве… Оттар отогнал мелькнувшую на миг мысль. Как Эстольд, он продел подмышки, поверх тяжелых боевых лат, поданную с «Орла» ременную петлю. Вода проникала под поножи, в латные сапоги, под кирасу на груди. Оттар не чувствовал холода. — Все на баграх, — командовал ярл, — сразу! Слушай! На «Орле» — канат, на «Акулах» — багры!.. «Дракон» должен уйти сразу; он перевернет того, кто опоздает. — Канат — руби! Багры — бросай! Черная, обгорелая голова чудовища — всё, что ещё оставалось от «Дракона», — исчезла, как если бы река рванула к себе драккар. Ярл ощутил исчезновение опоры под ногами. Он повис рядом с рулем «Орла». Через мгновение его, тяжелого, как гиря, вытащили на палубу. Из этой схватки он вышел победителем, Оттар-вестфольдинг, сын Рёкина, внук Гундера. Он сделал всё, чтобы спасти «Дракон», и сумел не погубить «Акул» неразумной жадностью, которую, это он твердо знал, проявил бы на его месте любой ярл, погубив бы и своих викингов и самого себя, цепляясь с глупым упрямством за богатую землю биарминов.
Борьба с неожиданным бедствием, гибель любимого драккара, мысли, рожденные в битве с рекой за «Дракона», заслонили значение великой неудачи, постигшей Оттара на берегах Двин-о. Нидаросский ярл ощутил силу своей воли и могущество разума. Вновь утвердилась в нём поколебленная было вера в себя и в способность побеждать. Оттар был живуч, как кошка. Три драккара уходили рядом в широко открывающееся устье Двин-о. Стирались берега. Лесистые острова, разделявшие реку биарминов, мутнели и теряли четкость очертаний. Земля стала такой же пустынной, как в первый день. Ничей взгляд уже не мог различить на ней человека. На носу «Черной акулы» сидел Эстольд, жалкий, несчастный, бессильный. Кормчий без драккара, викинг без меча, боец без руки, стрелок без правого глаза… Оттар подозвал «Черную» и прыгнул на неё с «Орла». Он обнял Эстольда закованной в железо рукой. Точно дождавшись разрешения, кормчий погибшего «Дракона» громко заплакал, не стыдясь своих рыданий. — Я любил его! Он был так красив… И он будет спать один в иле чужой реки!.. — причитал Эстольд. — Проклятый Гандвик, море колдунов! — жаловался Эстольд. — В нас кидали колдовские стрелы. «Дракон» был так прочен! Он мог бы дожить до дня, когда твой сын, Рагнвальд, ступил бы на его рум. Да, Рагнвальд бы взялся за весло, как ты. Но моего «Дракона» погубили колдовством… Оттар видел, как вода выбросила из-под носовой палубы черпальщика с трухлявой доской в руках, но ничего не сказал Эстольду. Не потому, что не хотел бесполезно упрекнуть несчастного кормчего, недоглядевшего, что днище драккара съедено червями. Нет, пусть вину за гибель «Дракона» возлагают на колдунов. — Вестфольдинг переносит и беду и удачу с твердым сердцем, — утешал Оттар Эстольда. — Успокойся, я дам тебе нового «Дракона». Не такого же, а прекраснейшего. Он будет обладать быстрым ходом, будет сильнее и устойчивее на волнах. Я построю его вместе с тобой, и ещё много лет мы будем пенить море и писать на волнах наши руниры. Драккары повернули влево от устья Двин-о. Теперь они пойдут до стоянки Расту и свернут прямо на север, по пройденному пути, чтобы не потеряться в Гандвике и вернуться в Нидарос. Берег с лесами, полными соболей и других ценных зверей, для сбора шкурок которых не нашлось рук послушных данников, оставался на юге синеватой полосой. На море было тихо.
ЭПИЛОГ
Тревога Оттара оказалась не напрасной: в числе других свободных ярлов был выброшен с земли фиордов и владетель Нидароса. Путешествие к устьям реки Двин-о отбило у него охоту к открытиям и к поискам на Востоке. Пользуясь политической разрухой в Западной Европе, викинг обосновался в устьях Луары. Долгие годы он терзал атлантическое побережье. Он не боялся подниматься по Луаре на сотни километров, брал штурмом, грабил и жег такие большие города, как Тур, Нант, Орлеан. Хроники тех лет не находят достаточно слов для описания бедствий, причиненных Оттаром-вестфольдингом. Некоторое время он был близок к королю саксов Альфреду Великому. Просвещенный король составил описание жизни Оттара в Нидаросе и его похода на Двин-о. Так Оттар вошел в историю. Затем Оттар ворвался в Сену и захватил землю Брэй, расположенную в бассейнах рек Эптэ и Анделль, притоков Сены. Он стал независимым сеньором-королем, но никогда не оставлял замашек морского разбойника. Уже глубоким стариком, в 911 году Оттар пал в битве при Бодансфиэльде, в Англии, близ реки Северн. В начале XIII века королевство Брэй, управлявшееся более трех столетий потомками Оттара, было завоевано королем французов Филиппом Августом. Ни одна хроника, ни одна летопись не может сообщить ни одного дела, которое Оттар или его потомки совершили для блага людей…До нурманнского разоренит биармины и поморяне смотрели на море, как на обширное неисчерпаемое угодье, где рыбы, тюленей, моржей, китов и прочего морского зверя хватит на всех и до скончания веков. Нурманны научили думать иначе. Поморяне и биармины общими силами отстраивали Усть-Двинец, спешили до зимы поставить теплые избы. Однакоже одновременно с этим они рыли рвы, готовили брёвна для крепкого тына. Кто знал, не вернутся ли нурманны? Нурманны убили прежнее спокойствие души, больше оно не вернулось. Но люди упрямо строились на прежнем месте. Общая беда, страшные общие испытания теснее сплотили новгородских выходцев и биарминов. Им нечего было делить, не о чём было спорить. Новгородское Небо-Сварог и Земля-Берегиня хорошо сжились с биарминовской Йомалой-Водой. В новом Усть-Двинце оседали новые семьи биарминов, ставили дворы по новгородскому примеру, перенимали новгородские обычаи. Поморяне же воспринимали биарминовские навыки. Слияние происходило незаметно, так как отношение к роду, к взаимной поддержке родичей, к пользе послушания старшему в роде было общее у новгородцев и биарминов. Всем были понятны основы доброй Новгородской Правды, заключавшиеся в человечном признании равного права всех людей на вольность и на блага земли. Во дворе старшины Одинца жил новый, особенный человек. Его нашли едва живым на берегу Двины, ниже того места, где затонул наибольший драккар вестфольдингов.
 Человек, как зверь шерстью, зарос черным волосом и, как зверь, — без речи. На его шее был медный обруч с нурманнской буквицей «R», а на ноге — цепь, прикованная к вырезанной из днища драккара дубовой доске. По доске-го поморяне лучше Оттара поняли причину гибели «Дракона».
Черпальщик до самой зимы молча и дико, не боясь холода и дождя, просидел в углу двора. С наступлением морозов он забился под лавку.
Ребятишки боялись человека-зверя, потом привыкли; и он, как видно, привык. К середине зимы черпальщику сделалось легче. Он, как маленький, ходил повсюду за хозяйкой Заренкой, таскал воду, дрова.
И горько и радостно было наблюдать, как в изувеченной нурманнами душе затеплилась живая искорка. Диво: он пытался учиться говорить!
С весны черпальщик мог делать простую мужскую работу. На работе он окончательно освоил человеческую речь, но лишь через два лета стал припоминать и складывать слова рассказа о своей прежней, страшной жизни.
В год нурманнского разорения Одинцу шло тридцать четвертое лето, а Заренке — двадцать восьмое. Они чисто прожили свою первую жизнь и вторую сумели начать со зрелой силой познания себя и других.
Не скоро возобновились в Одинцовом дворе прежние достатки. А жизнь спорилась. Помощники Ивор и Гордик подрастали, за ними шли другие. Теперь Заренка не скупилась для мужа на доброе, любовное слово и, в счастливом браке, больше не отказывала Одинцу в сыновьях и дочерях. Одинец жил без былой тоски, со спокойным, сытым сердцем. Чего ещё нужно человеку!..
И ещё по-иному увеличился род Одинца и Заренки. После нурманнского разорения осталось много вдов и сирот. Не разбираясь в племени, поморяне и биармины подбирали безотцовщину. Заренка жадно тянулась пригреть несчастных. В семье Одинца воспитывались шесть ребятишек из рода замученного вестфольдингами Расту и трое Отениных.
Большой и крепкий, как земля, род, хотя без титулов и без родословных. Не каждый ли, разглядывая нетленную ткань истории родины, захочет найти таких предков!
Человек, как зверь шерстью, зарос черным волосом и, как зверь, — без речи. На его шее был медный обруч с нурманнской буквицей «R», а на ноге — цепь, прикованная к вырезанной из днища драккара дубовой доске. По доске-го поморяне лучше Оттара поняли причину гибели «Дракона».
Черпальщик до самой зимы молча и дико, не боясь холода и дождя, просидел в углу двора. С наступлением морозов он забился под лавку.
Ребятишки боялись человека-зверя, потом привыкли; и он, как видно, привык. К середине зимы черпальщику сделалось легче. Он, как маленький, ходил повсюду за хозяйкой Заренкой, таскал воду, дрова.
И горько и радостно было наблюдать, как в изувеченной нурманнами душе затеплилась живая искорка. Диво: он пытался учиться говорить!
С весны черпальщик мог делать простую мужскую работу. На работе он окончательно освоил человеческую речь, но лишь через два лета стал припоминать и складывать слова рассказа о своей прежней, страшной жизни.
В год нурманнского разорения Одинцу шло тридцать четвертое лето, а Заренке — двадцать восьмое. Они чисто прожили свою первую жизнь и вторую сумели начать со зрелой силой познания себя и других.
Не скоро возобновились в Одинцовом дворе прежние достатки. А жизнь спорилась. Помощники Ивор и Гордик подрастали, за ними шли другие. Теперь Заренка не скупилась для мужа на доброе, любовное слово и, в счастливом браке, больше не отказывала Одинцу в сыновьях и дочерях. Одинец жил без былой тоски, со спокойным, сытым сердцем. Чего ещё нужно человеку!..
И ещё по-иному увеличился род Одинца и Заренки. После нурманнского разорения осталось много вдов и сирот. Не разбираясь в племени, поморяне и биармины подбирали безотцовщину. Заренка жадно тянулась пригреть несчастных. В семье Одинца воспитывались шесть ребятишек из рода замученного вестфольдингами Расту и трое Отениных.
Большой и крепкий, как земля, род, хотя без титулов и без родословных. Не каждый ли, разглядывая нетленную ткань истории родины, захочет найти таких предков!
Поправляясь от нурманнского разорения, поморяне, памятуя заветы своего первого старшины, Доброги, заглядывались на море: — А дальше там что же? Учились строить и строили глубокодонные, устойчивые под парусом на морской волне, широкобокие лодьи, не боялись надолго уходить в море. В их речи появлялись названия новых мест и морских мысов: Май Наволок, Крипун, Земляной, Кекурский, Шаронов, Кола, Колгуев, Жогжин, Кончаловский Наволок, Кара, Терский берег, Вайгач, Моржовец-остров, Грумант и другие…

Кирилл Андреев Три жизни Жюля Верна

главы из книги
КТО ОН?
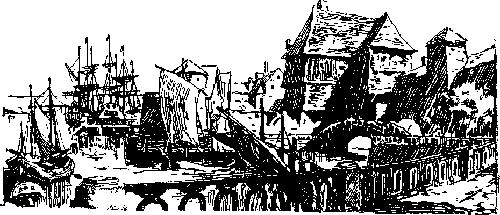 — Да кто же такой, в конце концов, Жюль Верн? — воскликнул в отчаянии один американский репортер, прибывший в Париж, чтобы побеседовать со знаменитым писателем. — Быть может, его вовсе не существует?
Действительно, было от чего прийти в отчаяние. Все, кого он расспрашивал, сообщали ему самые противоречивые сведения.
— Жюль Верн — неутомимый путешественник! — оказал один. — Он объехал Европу, Азию, Африку, обе Америки, Австралию и сейчас плавает где-то в Океании. В своих романах он описывает только собственные приключения и наблюдения.
— Жюль Верн никогда и никуда не выезжал! — возразил другой. — Он живет где-то в провинции и строчит там свои романы, не выходя из кабинета. Всё, что он издает, списано с книг знаменитых географов и путешественников.
— Жюль Верн вовсе не француз! — сообщил третий. — Он уроженец города Плоцка, близ Варшавы. И его настоящее имя Юлий Ольшевич — от слова «ольха», по-старофранцузски «вернь». Свою карьеру он начал литературным секретарем знаменитого Александра Дюма. Это Жюль Верн является подлинным автором романов «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».
— Жюль Верн — это миф! — объявил четвертый. — Это просто коллективный псевдоним, под которым пишет целое географическое общество.
— Жюль Верн действительно существовал, но он умер несколько лет назад! — заключил пятый. — Это английский капитан, старый морской волк, командир корабля «Сен Мишель». Первые его романы были изданы предприимчивым издателем Этцелем, который до сих пор, используя популярное имя, продолжает выпускать ежегодно два тома сочинений под маркой «Жюль Верн».
Этим анекдотом вполне уместно начать биографию знаменитого писателя. Анекдоты и легенды окружали его при жизни, заслоняя от читателей подлинное лицо писателя. Но он не сердился, не протестовал, только улыбался. Скромный, пожалуй даже скрытный, он никогда не говорил о себе. Только однажды, указывая на карту Земли, украшавшую стену его кабинета, он сказал одному из своих друзей:
— Я довольствуюсь вот этим. Я иду по следам своих героев. От настоящих путешествий мне всегда приходится отказываться.
— Как, вы не совершили ни одного кругосветного плавании? — спросил изумленный посетитель.
— Нет, никогда!
— И никогда не видели людоедов?
— Что вы! Я боялся, что они меня съедят!
И постепенно в умах современников укоренилась легенда о писателе, который только по книгам изучает другие страны и совершает необыкновенные путешествия лишь в мечтах.
После смерти Жюля Верна торопливые биографы из этих легенд сложили историю его жизни.
В этом, конечно, нет ничего удивительного, и об этом можно было бы не говорить, если бы эти легенды не были так живучи. После половины столетия, прошедшей со дня смерти писателя, забвению преданы преимущественно факты, и в памяти потомков миф заменил реальность.
И, однако, существует подлинный Жюль Верн, проживший уже больше столетия (его первое произведение было опубликовано в 1851 году) — тот самый, кого Менделеев назвал «научным гением», а Лев Толстой — «удивительным мастером», тот, кого десятки ученых, изобретателей, путешественников считали своим вдохновителем, определившим их профессию и пути жизни.
Вот он сидит за своим письменным столом. Он стар и очень болен; левая нога, в которой застряла пуля, не сгибается. Он работает, и лист за листом, исписанные дрожащим, старческим почерком, ложатся в папку с названием: «Необыкновенные путешествия. Новый роман».
Он сед, одет в старомодный черный сюртук, держится прямо, как принято было держаться в дни его молодости. Его окружают очень старые вещи: рояль — ровесник французской революции, мебель в стиле Людовика пятнадцатого, книги XVIII века. Но он не видит их: он слеп.
Не видит? Нет, видит! Пусть скрыты от него окружающие предметы, но видит он больше и дальше многих своих современников. Ослепительный электрический прожектор освещает глубины моря, где кипит работа. Подводные корабли пересекают океаны. Ввысь взлетают воздушные корабли без крыльев, несомые полупрозрачными винтами. Каналы пересекают материки, и пустыни становятся морями. Высоко над облаками, с почти космической скоростью, проносятся снаряды, готовые превратиться в спутников нашей планеты. Почти за пределы земного тяготения вылетают сверкающие космические ракеты.
Вооруженный силой, скрытой в недрах материи, человек вступает во владение земным шаром.
Это наш сегодняшний день и наше грядущее, увиденные старым писателем в безысходной темноте его рабочего кабинета.
— Да кто же такой, в конце концов, Жюль Верн? — воскликнул в отчаянии один американский репортер, прибывший в Париж, чтобы побеседовать со знаменитым писателем. — Быть может, его вовсе не существует?
Действительно, было от чего прийти в отчаяние. Все, кого он расспрашивал, сообщали ему самые противоречивые сведения.
— Жюль Верн — неутомимый путешественник! — оказал один. — Он объехал Европу, Азию, Африку, обе Америки, Австралию и сейчас плавает где-то в Океании. В своих романах он описывает только собственные приключения и наблюдения.
— Жюль Верн никогда и никуда не выезжал! — возразил другой. — Он живет где-то в провинции и строчит там свои романы, не выходя из кабинета. Всё, что он издает, списано с книг знаменитых географов и путешественников.
— Жюль Верн вовсе не француз! — сообщил третий. — Он уроженец города Плоцка, близ Варшавы. И его настоящее имя Юлий Ольшевич — от слова «ольха», по-старофранцузски «вернь». Свою карьеру он начал литературным секретарем знаменитого Александра Дюма. Это Жюль Верн является подлинным автором романов «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».
— Жюль Верн — это миф! — объявил четвертый. — Это просто коллективный псевдоним, под которым пишет целое географическое общество.
— Жюль Верн действительно существовал, но он умер несколько лет назад! — заключил пятый. — Это английский капитан, старый морской волк, командир корабля «Сен Мишель». Первые его романы были изданы предприимчивым издателем Этцелем, который до сих пор, используя популярное имя, продолжает выпускать ежегодно два тома сочинений под маркой «Жюль Верн».
Этим анекдотом вполне уместно начать биографию знаменитого писателя. Анекдоты и легенды окружали его при жизни, заслоняя от читателей подлинное лицо писателя. Но он не сердился, не протестовал, только улыбался. Скромный, пожалуй даже скрытный, он никогда не говорил о себе. Только однажды, указывая на карту Земли, украшавшую стену его кабинета, он сказал одному из своих друзей:
— Я довольствуюсь вот этим. Я иду по следам своих героев. От настоящих путешествий мне всегда приходится отказываться.
— Как, вы не совершили ни одного кругосветного плавании? — спросил изумленный посетитель.
— Нет, никогда!
— И никогда не видели людоедов?
— Что вы! Я боялся, что они меня съедят!
И постепенно в умах современников укоренилась легенда о писателе, который только по книгам изучает другие страны и совершает необыкновенные путешествия лишь в мечтах.
После смерти Жюля Верна торопливые биографы из этих легенд сложили историю его жизни.
В этом, конечно, нет ничего удивительного, и об этом можно было бы не говорить, если бы эти легенды не были так живучи. После половины столетия, прошедшей со дня смерти писателя, забвению преданы преимущественно факты, и в памяти потомков миф заменил реальность.
И, однако, существует подлинный Жюль Верн, проживший уже больше столетия (его первое произведение было опубликовано в 1851 году) — тот самый, кого Менделеев назвал «научным гением», а Лев Толстой — «удивительным мастером», тот, кого десятки ученых, изобретателей, путешественников считали своим вдохновителем, определившим их профессию и пути жизни.
Вот он сидит за своим письменным столом. Он стар и очень болен; левая нога, в которой застряла пуля, не сгибается. Он работает, и лист за листом, исписанные дрожащим, старческим почерком, ложатся в папку с названием: «Необыкновенные путешествия. Новый роман».
Он сед, одет в старомодный черный сюртук, держится прямо, как принято было держаться в дни его молодости. Его окружают очень старые вещи: рояль — ровесник французской революции, мебель в стиле Людовика пятнадцатого, книги XVIII века. Но он не видит их: он слеп.
Не видит? Нет, видит! Пусть скрыты от него окружающие предметы, но видит он больше и дальше многих своих современников. Ослепительный электрический прожектор освещает глубины моря, где кипит работа. Подводные корабли пересекают океаны. Ввысь взлетают воздушные корабли без крыльев, несомые полупрозрачными винтами. Каналы пересекают материки, и пустыни становятся морями. Высоко над облаками, с почти космической скоростью, проносятся снаряды, готовые превратиться в спутников нашей планеты. Почти за пределы земного тяготения вылетают сверкающие космические ракеты.
Вооруженный силой, скрытой в недрах материи, человек вступает во владение земным шаром.
Это наш сегодняшний день и наше грядущее, увиденные старым писателем в безысходной темноте его рабочего кабинета.
ПЛОВУЧИЙ ОСТРОВ
Бретонский город Нант, один из крупнейших портов Франции, лежит на правом берегу полноводной Луары, в пятидесяти километрах от её устья. В пределах города широкая река разделяется на пять рукавов, через которые перекинуты бесчисленные мосты. Маленькая речушка Эрдр, текущая с севера на юг, отделяет старый Нант от новых кварталов. Нант — город кораблестроителей и мореходов, судовладельцев и купцов, ведущих заморскую торговлю. Аристократию города составляют надменные потомки работорговцев и плантаторов, владевших некогда почти всей Вест-Индией. Остальные жители — матросы, рыбаки, плотники, канатные и парусные мастера — также тесно связаны с морем. Оно не видно из города, но дыхание его чувствуется на всех улицах — и в богатых и в бедных кварталах. В 1721 году группа из восьмидесяти четырех плантаторов и судовладельцев пожелала поселиться на песчаной отмели, лежащей прямо против Биржи и нанесенной течением речки Эрдр. Единственный обитатель пустынного островка, расположенного в центре города, — мельник Гроньяр пытался протестовать, но правитель Бретани, кавалер Фейдо де Бру, подписал указ, повелевавший разрушить мельницу и выселить её владельца. Скоро восемьдесят четыре роскошных дома-дворца выросли на безыменной отмели, получившей название «остров Фейдо». Пышность этих дворцов была плодом торговли «черной костью», как стыдливо называли свою профессию работорговцы. Плантаторы Вест-Индии так быстро истребили индейцев в бассейне Караибского моря, что некому стало возделывать плантации, дававшие сказочные доходы их владельцам. Тогда-то и возникла страшная торговля живыми людьми. Испанские, португальские, английские, французские и голландские корабли регулярно совершали рейсы между Гвинейским побережьем и Америкой. За сломанные ружья, за виски, красные ткани, бусы и зеркала работорговцы покупали в Африке рабов у местных вождей. Некогда в Западной Африке были цветущие мирные области, где не знали грабежей и население собиралось со всей округи на веселые праздники. Теперь европейцы стали натравливать одни племена на другие и снаряжать экспедиции для охоты на людей. Не меньше восьмидесяти тысяч рабов, по самым скромным подсчетам, попадало ежегодно на невольничьи корабли, и это, видимо, представляло собой только десятую часть туземцев, остающихся в живых после массовых избиений. После такой чудовищной бойни оставались лишь вытоптанные поля и дымящиеся развалины пустых селений. Революция, наполеоновские войны, отмена рабовладения и запрещение работорговли разрушили благосостояние владельцев острова Фейдо. Великолепные дома с классическими кариатидами и открытыми балконами, обставленные мебелью красного дерева, украшенные индийскими коврами и китайскими безделушками, затихли и опустели. В некоторых из них появились новые хозяева — рыбопромышленники и владельцы верфей. Вместе с новыми модами изменилась обстановка, но воздух на маленьком островке казался воздухом далеких стран, а Вест-Индский архипелаг, как и раньше, — более близким, чем департаменты Франции. Нелегко было новому человеку проникнуть в этот замкнутый мирок, отгороженный от города и всей страны быстрыми водами Луары. Но молодой Пьер Верн, поселивийся в Нанте в 1824 году, в год запрещения работорговли, помощник адвоката метра Пакето, очевидно, обладал непреклонной настойчивостью. 19 февраля 1827 года состоялась его свадьба с Софи Анриеттой Аллот де ля Фюйе — прямой наследницей обедневшей семьи нантских арматоров. Жениху было двадцать восемь, невесте двадцать шесть лет. Молодые поселились в огромном доме родителей Софи Анриетты: улица Оливье де Клиссон, номер четыре, остров Фейдо… В этом доме 8 февраля 1828 года, в полдень, родился великий мечтатель и путешественник в неизвестное — Жюль Габриель Верн. Сохранились портреты родителей будущего писателя, относящиеся к этому времени. Даже по фотографиям этих старых полотен, потемневших от времени, мы можем восстановить дух эпохи. …Вот Пьер Верн, сын провинциального судьи из Прованса — Габриеля Верна, адвокат, владелец маленькой конторы, купленной после женитьбы, очевидно, на деньги жены, в доме номер два по набережной Жан Бар, на стрелке реки Эрдр и Луары. Он очень прямо сидит на стуле в своем домашнем кабинете, и предметы, его окружающие, раскрывают его мир — мир мужчины, занятого делами где-то вне дома: в конторе, на бирже, в магазине. Книжный шкаф наполнен аккуратно расставленными книгами, лишь одна из них вынута и лежит на бюро. Рядом с книгой мы видим чернильницу, песочницу, папки, внизу — корзину для бумаги. Сам хозяин кабинета одет во всё черное. В правой руке он держит какой-то документ. Рядом с ним на стуле лежит конверт. По всему видно, что это человек бумажного мира, кабинетного мышления, гордящийся даже мелкими, бытовыми атрибутами своей профессии. На стене висит картина, открывающая из тесного и душного кабинета окно в широкий мир: морской пейзаж, оживленный волнами, освещенными солнцем. Но Пьер Верн повернут к пейзажу спиной и его не видит. Золоченая рама контрастирует со всей строгой, стильной обстановкой; скорее всего, эта картина — наследство рода Аллот, мятежный дух острова Фейдо, проникший сквозь раму картины, словно через окно, в этот мир деловых бумаг и судебных протоколов.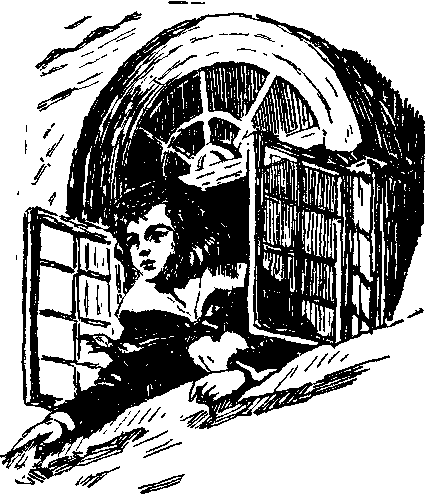 Лицо метра Верна — холодное, с правильными чертами, окаймленное бакенбардами, — обличает черствого педанта. Но есть ли это подлинное выражение молодого адвоката или просто результат недостаточного мастерства провинциального художника? Таким ли был отец писателя? Что мы вообще знаем об этом человеке?
Профессия юриста была наследственной в семье Вернов. Со дня рождения мальчика для Пьера Верна не было ни малейшего сомнения в том, что его сын станет адвокатом. Он окончит школу в Нанте, пройдет практику в конторе отца и поедет в Париж, чтобы закончить свое образование. Как только мальчик научился ходить, отец взял его в свою контору на Кэ Жан Бар. И всю жизнь во всех своих письмах — а эта переписка сохранилась — он давал сыну мелочные советы, пространные пояснения, и никогда у него не возникало ни малейшего сомнения ни в своей правоте, ни в своем превосходстве.
…Софи Анриетта Верн, урожденная Аллот де ля Фюйе.
Она сидит лицом к зрителю на самом краешке мягкого кресла, обитого цветным шелком. Черное бархатное платье с белым кружевным воротничком; черная бархотка вокруг шеи; строгая прическа с ровным проборам; маленькие руки сложены на груди… Её окружает ограниченный мир женщины XIX века: раскрытый клавесин с развернутыми нотами, тусклое зеркало на стене, коврик под ногами. Тяжелая портьера скрывает дверь и словно отделяет Софи Анриетту от внешнего мира, как бы замыкая её в круге домашних дел. Но для того, кто знает её биографию, в её спокойной позе чувствуется принужденность: кажется, что она сейчас соскочит с кресла, чтобы оказаться через минуту на свежем ветру острова Фейдо. Настойчивое упорство, живость, остроумие — вот наследство, переданное ею своим сыновьям от бретонских и нормандских предков: моряков, кораблестроителей, негоциантов, представителей морского народа, для которого равно близки и знакомы все океаны и материки.
Остров Фейдо был тем миром, где мальчик рос до двенадцати лет. Одетый в гранит, удлиненный, этот остров походил на огромный каменный корабль, плывущий вниз по Луаре, между набережными, носящими имена адмиралов, мореплавателей, корсаров и полководцев. В «носовой» части этого пловучего острова зеленел крохотный садик, называвшийся «Маленькой Голландией», где росли все тропические растения, которые могли выдержать влажный и ветреный климат Нижней Луары. На «корме» разместился небольшой рыбный рынок. С углового балкона, выходившего на главную улицу острова — Рю Кервеган, можно было видеть весь «корабль»: четыре горбатых моста, соединяющих его с материком, городские кварталы на севере и зеленые луга заречья. Из слухового окна на чердаке вид был ещё более широким и мир казался безграничным.
Для мальчика, уроженца большого портового города, улица Рю Кервеган, идущая вдоль всего «пловучего острова», казалась капитанским мостиком, а позиция у слухового окна — «вороньим гнездом» на вершине мачты. С шуршаньем протекали вдоль каменных бортов «корабля» воды Луары; медленно проплывали рыбацкие лодки с квадратными парусами; вдали виднелись океанские корабли, уставшие от плавания в дальних морях и ошвартовавшиеся прямо у набережных…
В большом восьмиугольном зале со сводчатыми входами мальчик видел два больших портрета, висящих по бокам камина: Франсуа Гильоше де Лапейрера, нормандского навигатора, и Александра Аллот де ля Фюйе, арматора из Нанта, — его предки. И снова они напоминали ребенку о широком мире, о безбрежном океане, соединяющем далекие материки.
Софи любила гулять с сыном по набережной, усаженной магнолиями, где разгружались океанские парусники, совершающие рейсы в Вест-Индию и на Гвинейский берег. В те годы целый флот в две с половиной тысячи судов был приписан к Нантскому порту. На пристани грудами возвышались бочонки с ромом, мешки с кофе и какао, связки сахарного тростника. Бородатые матросы продавали любопытным горожанам ананасы и кокосовые орехи, торговали канарейками, попугаями, обезьянами. Маленький Жюль читал названия кораблей: «Сирена», «Милая Роза», «Павлиньи перья», «Морская раковина», «Чудесные яблоки»… Снова — в который раз! — его обступал романтический мир безграничного океана.
Жюль не был единственным ребенком в семье. Брат Поль, всего лишь на шестнадцать месяцев моложе, был его лучшим другом, товарищем его детских игр, поверенным несложных детских тайн. Затем шли сестры: Матильда, Анна и Мари, по прозвищу Ле Шу, что можно перевести и «капуста», и «пирожное с кремом», и «пышный бант».
Затем следовали кузины Тронсон — Каролина и Мари, ровесницы Жюля и Поля, постоянные участницы их детских игр.
Наиболее близкими из чужого и насмешливого мира взрослых были: дядя Прюдан Аллот, брат матери; Шагобур, муж её старшей сестры, и мадам Самбэн.
Мадам Самбэн, жена капитана дальнего плавания, пропавшего без вести, была первой учительницей маленького Жюля. Она показывала братьям Верн буквы, исправляла палочки и кружочки в их детских тетрадях и читала им вслух удивительные истории о путешественнике Синдбаде и несчастном Робинзоне Крузо. Она рассказывала им о своём исчезнувшем муже, в гибель которого она не верила и мечтала когда-нибудь накопить достаточно денег, чтобы отправиться на его поиски.
Шатобур, любитель-художник, двоюродный брат знаменитого Шатобриана, любил рассказывать трогательные и романтические истории из жизни благородных краснокожих индейцев и об экспедициях, одна за другой отправлявшихся на поиски Северо-западного прохода.
Дядя Прюдан был антиподом мадам Самбэн: коммерсант, путешественник, он объехал полсвета, «бывал даже в Бразилии», говорили дети, но его рассказы всегда носили шутливый, иронический характер. Любитель фарсов, поклонник Рабле, мастер галльских шуток, ценитель хорошего стола и доброго погреба, он раскрывал мальчику ещё одну Францию.
Это был домашний мир. Кроме того, время от времени возобновлялись посещения маленькой конторы на Кэ Жан Бар.
Рядом с отцом, одетым в черный сюртук с широкими отворотами, торжественно вышагивал маленький веснушчатый мальчик с серьезным лицом. В крошечном кабинете, окна которого выходили на узкую набережную реки Эрдр, мальчик углублялся в холодные томы римского права и наполеоновского кодекса или пытался постигнуть тайны судебного делопроизводстве — ни дать ни взять, будущий нотариус или адвокат, по мнению отца, а может быть, и по собственному представлению.
Таков был маленький мир, окружавший Жюля Верна в раннем детстве и формировавший его характер. Но что можно сказать о самом мальчике?
Дошедшие до нас сведения об этом периоде жизни писателя скудны и в значительной степени легендарны. Мастерил ли он из щепок и лоскутков крохотные кораблики, чтобы бежать за ними вместе с Полем, пока их не увлечет течение Луары? Вероятно… но так, без сомнения, поступали все нантские мальчики, хотя только один из них стал Жюлем Верном… Ловил ли он рыбу, сидя на каменном парапете и болтая ногами? Возможно… Исчезал ли он из дому, чтобы, смешавшись с группой бородатых рыбаков, слушать с широко раскрытыми глазами старые нантские легенды: повести о бретонском мальчике Жане Кассаре, ставшем великим мореплавателем, или о Жилле де Лавале Синей Бороде, который был за свои преступления сварен в масле вблизи своего замка, расположенного в окрестностях города? В этом нет ничего невозможного, но и ничего достоверного.
Из документально подтвержденных фактов этого периода можно лишь зарегистрировать ветреную оспу, корь и «сенную болезнь». Впрочем, стоит отметить мелкую, неважную подробность, показывающую, что мальчик был мечтателем немного особого склада: он любил шутки и веселые мистификации. И не случайно поэтому его любимой книгой был «Мюнхаузен».
Лицо метра Верна — холодное, с правильными чертами, окаймленное бакенбардами, — обличает черствого педанта. Но есть ли это подлинное выражение молодого адвоката или просто результат недостаточного мастерства провинциального художника? Таким ли был отец писателя? Что мы вообще знаем об этом человеке?
Профессия юриста была наследственной в семье Вернов. Со дня рождения мальчика для Пьера Верна не было ни малейшего сомнения в том, что его сын станет адвокатом. Он окончит школу в Нанте, пройдет практику в конторе отца и поедет в Париж, чтобы закончить свое образование. Как только мальчик научился ходить, отец взял его в свою контору на Кэ Жан Бар. И всю жизнь во всех своих письмах — а эта переписка сохранилась — он давал сыну мелочные советы, пространные пояснения, и никогда у него не возникало ни малейшего сомнения ни в своей правоте, ни в своем превосходстве.
…Софи Анриетта Верн, урожденная Аллот де ля Фюйе.
Она сидит лицом к зрителю на самом краешке мягкого кресла, обитого цветным шелком. Черное бархатное платье с белым кружевным воротничком; черная бархотка вокруг шеи; строгая прическа с ровным проборам; маленькие руки сложены на груди… Её окружает ограниченный мир женщины XIX века: раскрытый клавесин с развернутыми нотами, тусклое зеркало на стене, коврик под ногами. Тяжелая портьера скрывает дверь и словно отделяет Софи Анриетту от внешнего мира, как бы замыкая её в круге домашних дел. Но для того, кто знает её биографию, в её спокойной позе чувствуется принужденность: кажется, что она сейчас соскочит с кресла, чтобы оказаться через минуту на свежем ветру острова Фейдо. Настойчивое упорство, живость, остроумие — вот наследство, переданное ею своим сыновьям от бретонских и нормандских предков: моряков, кораблестроителей, негоциантов, представителей морского народа, для которого равно близки и знакомы все океаны и материки.
Остров Фейдо был тем миром, где мальчик рос до двенадцати лет. Одетый в гранит, удлиненный, этот остров походил на огромный каменный корабль, плывущий вниз по Луаре, между набережными, носящими имена адмиралов, мореплавателей, корсаров и полководцев. В «носовой» части этого пловучего острова зеленел крохотный садик, называвшийся «Маленькой Голландией», где росли все тропические растения, которые могли выдержать влажный и ветреный климат Нижней Луары. На «корме» разместился небольшой рыбный рынок. С углового балкона, выходившего на главную улицу острова — Рю Кервеган, можно было видеть весь «корабль»: четыре горбатых моста, соединяющих его с материком, городские кварталы на севере и зеленые луга заречья. Из слухового окна на чердаке вид был ещё более широким и мир казался безграничным.
Для мальчика, уроженца большого портового города, улица Рю Кервеган, идущая вдоль всего «пловучего острова», казалась капитанским мостиком, а позиция у слухового окна — «вороньим гнездом» на вершине мачты. С шуршаньем протекали вдоль каменных бортов «корабля» воды Луары; медленно проплывали рыбацкие лодки с квадратными парусами; вдали виднелись океанские корабли, уставшие от плавания в дальних морях и ошвартовавшиеся прямо у набережных…
В большом восьмиугольном зале со сводчатыми входами мальчик видел два больших портрета, висящих по бокам камина: Франсуа Гильоше де Лапейрера, нормандского навигатора, и Александра Аллот де ля Фюйе, арматора из Нанта, — его предки. И снова они напоминали ребенку о широком мире, о безбрежном океане, соединяющем далекие материки.
Софи любила гулять с сыном по набережной, усаженной магнолиями, где разгружались океанские парусники, совершающие рейсы в Вест-Индию и на Гвинейский берег. В те годы целый флот в две с половиной тысячи судов был приписан к Нантскому порту. На пристани грудами возвышались бочонки с ромом, мешки с кофе и какао, связки сахарного тростника. Бородатые матросы продавали любопытным горожанам ананасы и кокосовые орехи, торговали канарейками, попугаями, обезьянами. Маленький Жюль читал названия кораблей: «Сирена», «Милая Роза», «Павлиньи перья», «Морская раковина», «Чудесные яблоки»… Снова — в который раз! — его обступал романтический мир безграничного океана.
Жюль не был единственным ребенком в семье. Брат Поль, всего лишь на шестнадцать месяцев моложе, был его лучшим другом, товарищем его детских игр, поверенным несложных детских тайн. Затем шли сестры: Матильда, Анна и Мари, по прозвищу Ле Шу, что можно перевести и «капуста», и «пирожное с кремом», и «пышный бант».
Затем следовали кузины Тронсон — Каролина и Мари, ровесницы Жюля и Поля, постоянные участницы их детских игр.
Наиболее близкими из чужого и насмешливого мира взрослых были: дядя Прюдан Аллот, брат матери; Шагобур, муж её старшей сестры, и мадам Самбэн.
Мадам Самбэн, жена капитана дальнего плавания, пропавшего без вести, была первой учительницей маленького Жюля. Она показывала братьям Верн буквы, исправляла палочки и кружочки в их детских тетрадях и читала им вслух удивительные истории о путешественнике Синдбаде и несчастном Робинзоне Крузо. Она рассказывала им о своём исчезнувшем муже, в гибель которого она не верила и мечтала когда-нибудь накопить достаточно денег, чтобы отправиться на его поиски.
Шатобур, любитель-художник, двоюродный брат знаменитого Шатобриана, любил рассказывать трогательные и романтические истории из жизни благородных краснокожих индейцев и об экспедициях, одна за другой отправлявшихся на поиски Северо-западного прохода.
Дядя Прюдан был антиподом мадам Самбэн: коммерсант, путешественник, он объехал полсвета, «бывал даже в Бразилии», говорили дети, но его рассказы всегда носили шутливый, иронический характер. Любитель фарсов, поклонник Рабле, мастер галльских шуток, ценитель хорошего стола и доброго погреба, он раскрывал мальчику ещё одну Францию.
Это был домашний мир. Кроме того, время от времени возобновлялись посещения маленькой конторы на Кэ Жан Бар.
Рядом с отцом, одетым в черный сюртук с широкими отворотами, торжественно вышагивал маленький веснушчатый мальчик с серьезным лицом. В крошечном кабинете, окна которого выходили на узкую набережную реки Эрдр, мальчик углублялся в холодные томы римского права и наполеоновского кодекса или пытался постигнуть тайны судебного делопроизводстве — ни дать ни взять, будущий нотариус или адвокат, по мнению отца, а может быть, и по собственному представлению.
Таков был маленький мир, окружавший Жюля Верна в раннем детстве и формировавший его характер. Но что можно сказать о самом мальчике?
Дошедшие до нас сведения об этом периоде жизни писателя скудны и в значительной степени легендарны. Мастерил ли он из щепок и лоскутков крохотные кораблики, чтобы бежать за ними вместе с Полем, пока их не увлечет течение Луары? Вероятно… но так, без сомнения, поступали все нантские мальчики, хотя только один из них стал Жюлем Верном… Ловил ли он рыбу, сидя на каменном парапете и болтая ногами? Возможно… Исчезал ли он из дому, чтобы, смешавшись с группой бородатых рыбаков, слушать с широко раскрытыми глазами старые нантские легенды: повести о бретонском мальчике Жане Кассаре, ставшем великим мореплавателем, или о Жилле де Лавале Синей Бороде, который был за свои преступления сварен в масле вблизи своего замка, расположенного в окрестностях города? В этом нет ничего невозможного, но и ничего достоверного.
Из документально подтвержденных фактов этого периода можно лишь зарегистрировать ветреную оспу, корь и «сенную болезнь». Впрочем, стоит отметить мелкую, неважную подробность, показывающую, что мальчик был мечтателем немного особого склада: он любил шутки и веселые мистификации. И не случайно поэтому его любимой книгой был «Мюнхаузен».
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ЛУАРЫ
Подлинная биография Жюля Верна, автора «Необыкновенных путешествий», начинается с его первой экспедиции, предпринятой им в одиннадцатилетнем возрасте… Каждый год, с наступлением июня, семья Вернов переселялась на дачу в Шантеней — пригород Нанта. Там были зеленые луга, пышные поля, буковая роща, старый дуб на берегу Луары и спокойная тишина французской деревни. Всё в этом мире оставалось неизменным, и лишь сама Луара, рамка этой идиллической картины, жила особой жизнью. Океанские парусники, отчалившие от набережной де ля Фосс, беззвучно, как призраки, проплывали вниз по реке, направляясь к открытому морю. Сохраняя всё обаяние сельской местности, Шантеней лежал в то же время достаточно близко от города, чтобы метр Верн мог каждый день посещать набережную Кэ Жан Бар. Огромный омнибус — сенсационное изобретение тех дней — только недавно начал регулярные рейсы между Нантом и Сен-Назером, и ежедневно метр Верн, в высокой черной шляпе и с неизменным черным зонтиком, сдержанно попрощавшись с семьей, взбирался на скрипучее сиденье экипажа, носившего романтическое название «Белая дама». Кондуктор в белой ливрее протягивал ему билет; кучер в белой ливрее взмахивал кнутом; и огромное сооружение, запряженное четырьмя белыми лошадьми-першеронами, снова с торжественным бренчаньем и звоном катилось по дороге со скоростью одного лье в час. В 1838 году Жюль и Поль поступили в «Малую семинарию Сент-Донатьен». География и чтение открыли перед мальчиками карту огромного мира, который они до сих пор знали лишь по рассказам. Путешествия и дальние страны овладели их воображением. В этом не было ничего удивительного: такова была судьба почти всех нантских школьников, за очень редким исключением. Но дальше снова начинаются легенды. Были ли книги Жюля «исчерчены грубыми картами»? Рисовал ли он в своих тетрадях «схемы летательных и подводных аппаратов»? Создал ли он уже в эти годы свой «фантастический проект парового омнибуса в форме гигантского слона»? В этом можно усомниться хотя бы потому, что в школе Жюль не отличался успехами в науках. Значительно больших результатов он добился в эти годы в беге на ходулях и, по отзыву учителей, был подлинным «королем школьного двора во время перемен». В школе впервые развилась предприимчивость юного Жюля. «На школьных пикниках по зеленым речным отмелям, — если верить биографам, — он предпринимал поиски сокровищ, организовывал экспедиции в заморские страны. Деревья тогда становились мачтами, а обломки скал превращались в кареты, увлекаемые скачущими лошадьми…» В Шантеней, вместе сПолем, он расширил круг своих экскурсий. Не довольствуясь старой, заброшенной каменоломней, где они ловили ящериц, юный Жюль, подобно тому как его любимые герои-путешественники открывали необитаемые острова, открыл придорожную харчевню под вывеской «Человек, приносящий три несчастья». Ее посетителями преимущественно были матросы. Содержатель харчевни — отставной моряк Жан Мари Кабидулен — славился по всей округе тем, что он якобы своими глазами видел легендарного морского змея. Болтливый старик, давно надоевший местным рыбакам, обрел в лице двух мальчиков благодарную аудиторию, которая, затаив дыхание, внимала его небылицам, расточаемым с чисто бретонской серьезностью и обстоятельностью. Однажды метр Верн в одну из своих деловых поездок в местечко Эндре, лежащее на полпути к Сен-Назеру, захватил с собой сына Жюля. На обратном пути они осмотрели машиностроительные заводы вблизи Эндре, где изготовлялись первые паровые механизмы для нового французского флота. Гигантские паровые молоты с грохотом и шипеньем превращали железные слитки в листы и брусья. Огромные механические станки жужжали и пели в тесных мастерских, как пленные чудовища. Очарованный мальчик следил за тем, как отдельные детали непонятной, ни на что не похожей формы под руками опытных механиков превращались в сложные паровые машины, предназначенные для первых во французском флоте паровых фрегатов и корветов. Блестящие, новенькие локомотивы — первые, которые в жизни видел Жюль, — медленно двигались по стальным путям, проложенным по улицам местечка. Султаны дыма, клубы пара, ритмическое дыхание машины — весь этот фантастический мир был так не похож на старый Нант, на луга и рощи Шантеней! И люди с копотью на лицах, в засаленных комбинезонах показались мальчику гораздо более романтичными, чем рыбаки и матросы, такие привычные с детства. Теперь была разгадана тайна «пироскафов» — первых паровых судов, которые Жюль изредка наблюдал с балкона старого дома в Шантеней. Как они могли мчаться против течения и ветра без парусов и весел? Они как будто катились на огромных колесах по волнам Луары — неуклюжие по сравнению с легкими парусниками, но величественные. Жюль теперь мог как знаток рассказывать своим юным друзьям — в школе, на острове Фейдо и в Шантеней — о чудесах того мира будущего, завеса над которым приподнялась ему в Эндре… Ранним летним утром 1839 года, сложив в маленький парусиновый мешок немного одежды, несколько книг и две пригоршни сухарей — «настоящих морских галет», — одиннадцатилетний Жюль прокрался через спящий дом и кружным путем выбрался на большую дорогу. У харчевни дядюшки Кабидулена уже толпились бородатые рыбаки, матросы в полосатых фуфайках, морские офицеры с золотым шитьем. Несколько часов подряд юный мечтатель, теребя свою фуражку, предлагал свои услуги боцманам и офицерам, шкиперам и командирам. Мальчик был небольшого роста, но коренаст и хорошо знал морской жаргон. Поэтому капитан Кур-Грандмезон, шкипер трехмачтовой шхуны «Корали», нуждавшийся в мальчике для посылок, критически оглядев юного бретонца, наконец кивнул головой и молча указал трубкой на свой корабль, стоявший недалеко от берега. Шхуна снялась с якоря в полдень. К вечеру она должна была быть в Пэмбёфе, в устье Луары, чтобы с утренним отливом выйти в открытое море. Она отплывала в Индию… Исчезновение мальчика было не сразу замечено в большом доме в Шантеней; его привычка проводить летние дни в бесконечных исследованиях окрестностей была хорошо известна, и только тогда, когда он не явился к двенадцатичасовому завтраку, мать стала беспокоиться. Воспоминание об утопленниках, вытащенных рыбацким неводом три года назад, с каждым часом становилось в её памяти всё более ярким. Она представляла также обрывистые, кремнистые стены старой каменоломни, перебирала в уме несчастные случаи на охоте в то время, как все домашние занимались розысками. Неожиданно кто-то из соседей указал след беглеца: его видели в харчевне «Человек, приносящий три несчастья», а затем в обществе двух юнг «Корали» отплывающим в шлюпке на шхуну. Более подробное расследование подтвердило это сообщение и принесло известие, что корабль капитана Кур-Грандмезона снялся с якоря в полдень и в настоящее время находится на пути в Индию… Пьер Верн узнал о случившемся только в шесть часов вечера. В чрезвычайных обстоятельствах он показал себя человеком решительным и находчивым. За какие-нибудь полчаса был снаряжен паровой катер — новинка и гордость Нантского порта, — который, чудовищно дымя, помчался вниз по Луаре. На мостике, рядом с капитаном, стоял бледный, но решительный метр Верн. Беглец был настигнут неподалеку от Пэмбёфа. Возвращение отца и сына на сен-назерском почтовом дилижансе было торжественным и мрачным. Никто из пассажиров не мог ошибиться в своих предположениях при виде непреклонного отца и кающегося сына… В большом доме в Шантеней Жюль ничего не рассказал о своем первом путешествии. Даже его лучший друг Поль не узнал подробностей. Юный грешник упорно молчал, лишь матери он дал обещание: «Я никогда больше не отправлюсь путешествовать иначе, как в мечтах…» Два года спустя Жюль, однако, с энтузиазмом согласился на предложение Поля отправиться в далекое плавание на самодельной лодке. Ещё ранней весной, на городской квартире, братья приступили к составлению маршрута. Жюль помогал Полю чертить карты и прокладывать курс. Остановки были намечены в Пэмбёфе, Сен-Назере, Порнике — маленькой рыбацкой деревушке на западном побережье Франции. Дальше перед путешественниками открывался бурный простор Бискайского залива и открытое море… Жюль относился к предполагаемой экспедиции, пожалуй, более серьезно, чем Поль. Он мог на память проложить курс на карте и знал наизусть все достопримечательности, которые предстояло осмотреть. Им был составлен длинный список необходимого оборудования, и ни одна деталь не ускользнула от его систематического ума. Но по мере того как проходили дни, он всё реже заговаривал о волнах Бискайского залива, бризах, муссонах и пассатах, а работа над самодельной лодкой всё замедлялась. Наконец он совсем перестал вспоминать о проекте, и Поль понял, что Жюль решил не ехать, что он уже совершил путешествие в своём воображении… Зимой, однако, Жюль снова стал подниматься ночью и работать при свечах. Но Поль уже не участвовал в этих занятиях. Незаметно пути братьев начали расходиться. Сочувствовал ли Поль новому увлечению Жюля? Во всяком случае, мы можем быть уверены в том, что он был первым ценителем литературных опытов старшего брата. Первое произведение молодой поэт посвятил своей матери. Это был романс «Прощай, мой славный корабль!» Сохранилась картина, писанная де Шатобуром в 1842 году. На ней изображены Жюль и Поль Верны на фоне прекрасного английского сада — вероятно, в Шантеней. Четырнадцатилетний Жюль, голубоглазый, светловолосый, одетый по последней моде — в короткий фрак и цветной жилет, — правой рукой сжимает запястье младшего брата, положив левую руку ему на плечо. Юный Поль, одетый почти так же, держит в левой руке обруч для игры в серсо. Он выглядит более хрупким, более интеллектуальным. Расчищенные дорожки уходят на задний план и теряются в тусклозелёной листве сада… Ещё в 1840 году семья Верное переселилась из большого дома на улице Клиссон, населенного несколькими поколениями Аллотов и Лапейреров, на «Большую землю» — в свою собственную квартиру в старом доме на улице Жан Жака Руссо. Широкая улица, вымощенная белыми каменными плитами, соединяла площадь Граслен с набережной де ля Фосс, обсаженной магнолиями. В нескольких шагах от дома, на площади Биржи, была остановка омнибуса, идущего в Шантеней. В начале набережной помещалась пристань пироскафов, отправляющихся в Пэмбёф. Каменный нос огромного «пловучего острова» Фейдо был виден с любой стороны улицы. Но юный Жюль всё реже появлялся на набережной Луары и в порту. Гораздо чаще его можно было видеть на площади Граслен, созерцающим огромный фасад нантского театра, или в воротах исторического Отеля де Франс. И его всегда можно было найти у подъезда гостиницы в тот час, когда прибывала почта. Тяжелая почтовая карета появлялась со стороны площади Рояль, и усталые лошади мчали её по улице Кребийон и затем вокруг сквера площади Граслен. Жюль, затаив дыхание, разглядывал запыленных путешественников, одетых в дорожные костюмы, и молчаливого почтальона, усаживающегося за обед, чтобы через два часа снова мчаться на юг по городам Франции. В 1844 году, когда Жюлю исполнилось шестнадцать лет, а Полю пятнадцать, братья поступили в нантский Королевский лицей. Систематический ум и превосходная память позволили старшему брату очень скоро занять в лицее одно из первых мест. В 1846 году он был удостоен второй премии по риторике — для родных и друзей верный признак того, что Жюль твердо и неуклонно идет вперед по пути, намеченному его отцом. Через год или два он должен был отправиться в Париж, чтобы завершить там своё образование и занять место в маленькой конторе на Кэ Жан Бар как компаньон и помощник метра Верна. Но настойчивость, методичность, усидчивость в работе, унаследованные Жюлем от отца, не составляли ещё всего его характера. Вечерами природная живость и стремление к чему-то необыкновенному увлекали его в «Театр Рикики» — театр марионеток, расположенный невдалеке от дома, или в библиотеку на другом конце города, на левом берегу Эрдр. Библиотекарь, известный всему Нанту под фамильярной кличкой «папаша Бодэн», любил этого русого, веснушчатого мальчика с быстрыми светлыми глазами, поглощавшего книги с юной жадностью. Когда-то страстью Жюля были робинзонады. «Робинзонады, — писал он больше чем через полвека спустя, — были книгами моего детства, и я сохранил о них неизгладимое воспоминание. Я много раз перечитывал их, и это способствовало тому, что они запечатлелись в моей памяти. Никогда впоследствии, при чтении других произведений, я не переживал больше впечатлений первых лет. Не подлежит сомнению, что любовь моя к этому роду приключений инстинктивно привела меня на дорогу, по которой я пошел впоследствии…» Но теперь не только робинзонады, но и другие книги, где говорилось о путешествиях или приключениях, а в особенности романы морские, стали его любимым чтением. Весь Купер и романы его французских подражателей: «Пират Кернок», «Атар Гулль» и «Кукарача» Эжена Сю, повести Эдуарда Корбьера, Огюста Жаля и Жюля Леконта — все это было проглочено и переварено с необыкновенной быстротой. Затем внимание юноши привлек Александр Дюма, создатель нового типа романа приключений, находившийся в то время на вершине славы. «Монте-Кристо» уже был переведен на бесчисленное количество языков. Только что вышли в свет знаменитые «Мушкетеры». А поэзия? Разделял ли юноша пристрастие своего отца к классикам? Увы, нет! С самого начала битвы, которую дал старой литературе молодой романтизм, Жюль стал на сторону юности. Вот первый бунт против отца, против авторитетов, быть может более серьезный, чем бегство в Индию, предпринятое в детстве! Вождем всей молодой литературной Франции в эти годы был Виктор Гюго, только что ставший академиком и пэром Франции, но всё ещё не признанный старшим поколением. Дюма тоже причислял себя к романтикам. Великолепные стихи Гюго или романы Дюма, полные блеска и движения? Между этими полюсами колебалось сердце юноши. Поль продолжал оставаться самым близким человеком, но пути братьев постепенно расходились: адвокат и моряк, черная мантия законника и шитый золотом офицерский мундир — каждый шёл своей дорогой. Часто вечерами Жюль засиживался в библиотеке, пристроившись на краю стола, по своей привычке, и исписывая мелким почерком огромные листы бумаги. Из-под его пера появлялись преимущественно трагедии в стихах, но единственным терпеливым слушателем этих произведений был Аристид Иньяр, товарищ по лицею. Кузина Жюля, Каролина Тронсон — прекрасная Каролина, «роза Прованса» — была, увы, равнодушна к его трагической музе и именовала эти произведения «торжественной замазкой». Дядя Прюдан, любитель фарсов, галльских шуток и Рабле, высмеивал молодого поэта и предлагал свою помощь, чтобы отнести эти пьесы владельцу «Театра Рикики». Только младшая кузина, Мари Тронсон, маленькая верная Мари, обливаясь слезами, втихомолку переписывала их в заветную девическую тетрадь. …Шел последний год пребывания Жюля в лицее. Каждый день после полудня и вечерами он работал в конторе отца, и у него уже не хватало времени ни на прогулки по набережным, ни на театр, ни даже не посещение папаши Бодэна Только письма Иньяра развлекали юношу. Аристид уже год жил в Париже, где учился музыке. Он в самых заманчивых красках описывал столичную жизнь. «Приезжай скорей, — писал он, — вот город, где действительно можно жить!» В апреле 1847 года Поль Верн отплыл на шхуне «Лютэн» («Домовой») на Антильские острова, в свою первую навигацию. В том же месяце Жюль Верн выехал в Париж, чтобы держать первый экзамен для получения адвокатского звания. Пироскаф доставил его до Тура, где он пересел на поезд. В те годы железная дорога ещё не доходила до Нанта. Юноше было девятнадцать лет. Он первый раз в жизни покидал родной город. Что ждало его в Париже? Об этом он думал в полудреме, раскачиваясь на неудобной скамейке крохотного вагончика, похожего на дилижанс, поставленный на рельсы. За окнами бежали тучные поля, пышные зеленые рощи; вдали синели холмы с мягкими очертаниями и, как серебро, сверкали светлые реки Турени, Орлеанэ, Иль де Франса. Это было сердце Франции — той Франции, которую он так любил и… так мало знал. Юность Жюля Верна совпала с удивительной эпохой — великим сорок восьмым годом, годом первого в мире восстания пролетариата и национальных революций во многих странах Европы. Это был рубеж великого века, ставшего непосредственным предшественникам нашего времени. Пока юный Жюль Верн нараспев читал стихи Корнеля, Расина, Мольера или мечтал о далеких странах, склонившись над географическими картами, вокруг него зрела революция, бушевала Франция — молодая, борющаяся, яростная, но… ещё не понятая молодым мечтателем из Нанта. Ведь для того, чтобы понять, нужно было раньше увидеть и узнать свою страну. Воспитанный в маленьком мирке острова Фейдо и провинциального Нанта, сын строгого легитимиста[4] метра Верна и ревностной католички Софи Верн, молодой Жюль Верн очень мало знал о великой революции, которая потрясла мир несколько десятков лет назад, ещё до рождения его родителей, и чьё эхо ещё звучало на всю Францию — ту Францию, которой он не знал. Да и откуда он мог что-либо узнать о революции 1789 года? Об этом умалчивали его воспитатели и учителя, об этом ничего не говорили его учебники; об этом не принято было упоминать в кругу его семьи. Страна, лежащая вокруг него и словно плывущая назад за окнами вагона, казалась ему не имеющей истории, за исключением смены королей — ведь так утверждали его учебники. За тысячу лет в ней ничего не изменилось, за исключением разве только костюмов. Правда, могучие локомотивы, увиденные им в Эндре ещё в детстве, пироскафы, тревожащие его воображение, вот эта железная дорога — с ударами колокола на каждой станции, с сигнализацией цветными флагами и огнями, с рожками стрелочников — как будто говорили о том, что, кроме дальних материков и бушующих океанов, кроме парусных кораблей, почтовых карет и дилижансов, существует какая-то неведомая ему страна. Но впечатления эти были так смутны, что юноша вряд ли смог их отчетливо сформулировать. Молодому мечтателю открылся Париж, ещё полный сна, казалось, живущий только вчерашним днем. Таким, по крайней мере, его увидел Жюль Верн за краткие пятнадцать дней своей столичной жизни. Жюль должен был прослушать курс права, сдать первые экзамены. И в эту поездку он даже не успел осмотреть город. В памяти лишь остался туман, обволакивающий остроконечные кровли домов с высокими фронтонами и башнями, вросшие друг в друга крыши, ажурные решетки, увитые плющом балконы, позеленевшие статуи в нишах, таинственные изображения на гербах… Молодой провинциал, в соответствии с домашними наставлениями, остановился в полуразвалившемся доме, у мадам Шаррюэль, тетки отца — чопорной и старомодной дамы. «Колодец без воздуха и без вина», — писал юноша родным. Но дома бывать почти не приходилось. С самого утра юноша, наскоро позавтракав, убегал на левый берег Сены, в Латинский квартал, чтобы возвратиться лишь поздно вечером. В эти февральские темные вечера громада дворца Тампль, неожиданно для пешехода возникающая из тумана, невольно возвращала мысль молодого провинциала к прошлому. В его уме рождались картины из истории Франции; оживала тень короля Генриха II, который был убит здесь на турнире с Монтгомери. Огромная ротонда, полуразрушенная и таинственная, ныне населенная старьевщиками, была сердцем этого квартала. Юноше казалось, что здесь всё ещё продолжается XV век и что сейчас на темной мостовой появится королевский палач или ковыляющая стая страшных бродяг… Перед самым отъездом Жюль всё же побывал на площади Вогезов. Начинающий поэт хотел видеть дом номер шесть, где с 1830 года жил Виктор Гюго, властитель его мечты. Уснувшие стены, высокие окна, наглухо закрытые белыми жалюзи, дремлющие крыши старых домов, окружавших площадь, — всё это заставило Жюля вспомнить, что он в самом сердце старого Парижа. В этом уснувшем мире, где лишь чудовищные дымовые трубы казались бодрствующими, он вспоминал тех людей, что некогда обитали на этой площади, носившей тогда название Королевской. Дом № 6, именовавшийся ранее отелем Геменэ, принадлежал Марион де Лорм. Кардинал Ришелье, Корнель, Мольер, мадам де Савиньи жили в соседних дворцах. Площадь в те годы была местом встреч элегантного общества… Молодому Верну это прошлое казалось таким живым, таким могущественным! Вероятно, он не смог бы поверить, что королевская Франция доживает свой последний год… Лето Жюль провел в Провансе, у представителей старшего поколения семьи Вернов. Это был заслуженный отдых после успешно выдержанного экзамена. Зима должна была пройти в усиленных занятиях, в подготовке к последнему экзамену. В следующем феврале Жюль должен был получить ученую степень лиценциата и звание адвоката. Двадцатилетний адвокат метр Жюль Верн! Контора Верн и Верн на Кэ Жан Бар! В феврале 1848 года весь Нант был потрясен известиями из Парижа: на улицах столицы баррикады, король бежал в Англию, во Франции провозглашена республика! С лихорадочным возбуждением молодой Жюль Верн следил за событиями этого великого года по доходившим в Нант столичным газетам, по слухам, по рассказам приезжих из Парижа. Всё это было смутно и неопределенно и не вмещалось сразу в его голову. Перед ним сразу открылись два новых измерения — прошлое и будущее Франции — и возник призрак девяносто третьего года: великий и ужасный, по определению Виктора Гюго. Впереди смутно сверкали очертания грядущего, которое молодому мечтателю казалось лишенным пятен, как солнце, по мнению Аристотеля. …10 ноября 1848 года, в девять часов вечера, почтовая карета компании «Мессажери Паризьен», запряженная четырьмя першеронами, тронулась со своей стоянки на площади Граслен. Последним впечатлением путешественников был гранитный фонтан на площади Рояль с большой мраморной статуей — аллегорией города Нанта — и тринадцатью бронзовыми статуэтками, изображающими тринадцать рек, впадающих в Луару на территории города… Карета должна была прибыть в Тур рано утром, чтобы поспеть к первому поезду, отправляющемуся в Париж. Среди пассажиров почтового экипажа было двое молодых людей, уезжающих в столицу для окончания образования: Эдуар Бонами и Жюль Верн.Молодые люди спешили 4 ноября. Учредительное собрание приняло новую конституцию Второй французской республики, и 12-го на площади Согласия должно было состояться её торжественное провозглашение. И правительство вновь рожденной Второй республики, во главе с президентом принцем Луи Бонапартом, деятельно готовилось, чтобы торжественно отметить этот день.
 Но был ли это праздник французского народа? В то время как французская буржуазия ликовала — она праздновала свою победу, кровавую расправу над парижским пролетариатом, впервые в мире поднявшим красное знамя социальной революции, — простые люди Парижа: ремесленники, рабочие, безработные, смотрели на этот «праздник» как на траурное событие. Он напоминал им о жертвах, о крови, пролитой на мостовых Парижа.
Молодой Жюль Верн этого не знал. Для него слова «революция», «республика», «свобода» были всеобъемлющими понятиями, за которыми он не видел живых людей, их произносивших и придававших им разный смысл. Ведь по-разному они звучали для рабочего Альбера, члена Временного правительства, пришедшего на заседание во дворец в рабочей блузе прямо из мастерской, для буржуазного республиканца Ледрю Роллена и для принца Луи Бонапарта, ставшего президентом, чтобы задушить молодую республику своими руками.
Но чем меньше знали о республике Жюль Верн и его друг Бонами, тем нетерпеливее они стремились в Париж — сердце Франции, чтобы увидеть всё своими глазами.
Однако на вокзале в Туре путешественники увидели только специальный поезд, предназначенный для национальных гвардейцев
— Где ваши сабли и мундиры, господа? — спросил блистающий парадной формой жандарм.
— В наших чемоданах! — с апломбом заявил Жюль.
— А депутаты вашей коммуны, которых вы должны сопровождать?
Увы, молодые люди попали в ловушку. Улизнув в темный угол, они наблюдали, как вагоны наполнялись вооруженными гвардейцами армии победившей буржуазии, как уполномоченный префектуры отдал сигнал к отправлению. Пассажирский поезд шел только через несколько часов, и друзья опасались, что они не успеют на церемонию, которая для них, родившихся после реставрации, была символическим завершением тысячелетней истории королевской Франции.
Они прибыли в Париж в воскресенье, 12 ноября, поздно вечером. На площади Согласия догорали последние факелы, холодный ветер рвал намокшие и потемневшие флаги, падал мокрый снег. Ярче всего запомнились отряды солдат, занявшие все соседние улицы, и бледные лица парижан: для обитателей мансард ранняя зима была почти что общественным бедствием. Всё это слишком походило на похороны революции, которой Жюлю Верну не пришлось увидеть…
В первые же дни пребывания в Париже юноша буквально набросился на газеты, журналы и памфлеты великого революционного года, чтобы восстановить всю его историю, весь путь революции, лишь эхо которой доносилось в родной ему Нант. И события, о которых он ранее не знал, теперь прошли перед его глазами.
Но был ли это праздник французского народа? В то время как французская буржуазия ликовала — она праздновала свою победу, кровавую расправу над парижским пролетариатом, впервые в мире поднявшим красное знамя социальной революции, — простые люди Парижа: ремесленники, рабочие, безработные, смотрели на этот «праздник» как на траурное событие. Он напоминал им о жертвах, о крови, пролитой на мостовых Парижа.
Молодой Жюль Верн этого не знал. Для него слова «революция», «республика», «свобода» были всеобъемлющими понятиями, за которыми он не видел живых людей, их произносивших и придававших им разный смысл. Ведь по-разному они звучали для рабочего Альбера, члена Временного правительства, пришедшего на заседание во дворец в рабочей блузе прямо из мастерской, для буржуазного республиканца Ледрю Роллена и для принца Луи Бонапарта, ставшего президентом, чтобы задушить молодую республику своими руками.
Но чем меньше знали о республике Жюль Верн и его друг Бонами, тем нетерпеливее они стремились в Париж — сердце Франции, чтобы увидеть всё своими глазами.
Однако на вокзале в Туре путешественники увидели только специальный поезд, предназначенный для национальных гвардейцев
— Где ваши сабли и мундиры, господа? — спросил блистающий парадной формой жандарм.
— В наших чемоданах! — с апломбом заявил Жюль.
— А депутаты вашей коммуны, которых вы должны сопровождать?
Увы, молодые люди попали в ловушку. Улизнув в темный угол, они наблюдали, как вагоны наполнялись вооруженными гвардейцами армии победившей буржуазии, как уполномоченный префектуры отдал сигнал к отправлению. Пассажирский поезд шел только через несколько часов, и друзья опасались, что они не успеют на церемонию, которая для них, родившихся после реставрации, была символическим завершением тысячелетней истории королевской Франции.
Они прибыли в Париж в воскресенье, 12 ноября, поздно вечером. На площади Согласия догорали последние факелы, холодный ветер рвал намокшие и потемневшие флаги, падал мокрый снег. Ярче всего запомнились отряды солдат, занявшие все соседние улицы, и бледные лица парижан: для обитателей мансард ранняя зима была почти что общественным бедствием. Всё это слишком походило на похороны революции, которой Жюлю Верну не пришлось увидеть…
В первые же дни пребывания в Париже юноша буквально набросился на газеты, журналы и памфлеты великого революционного года, чтобы восстановить всю его историю, весь путь революции, лишь эхо которой доносилось в родной ему Нант. И события, о которых он ранее не знал, теперь прошли перед его глазами.
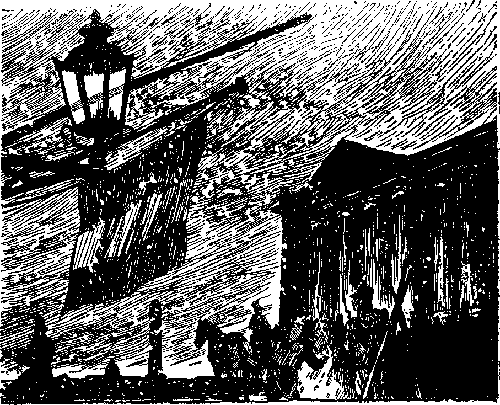 …22 февраля, возмущенное и доведенное до отчаяния политикой королевского правительства, парижское население вышло на улицы, и могучая демонстрация народа прошла по улицам столицы. К вечеру на некоторых окраинах, где ютились рабочие и ремесленники, стихийно выросли баррикады.
Но даже и тогда король Луи Филипп, лицо которого было похоже на сгнившую грушу, а карикатуристы изображали его не иначе, как в нижнем белье и с большим зонтиком, — даже тогда король не понял, что это не мятеж группы недовольных, а демонстрация французского народа, восставшего против ненавистного ему королевского правительства.
— Вы называете баррикадами опрокинутый кабриолет? — иронически спросил он своего министра полиции.
Нет, это не был мятеж, это была революция. 23 февраля в Сент-Антуанском предместье, населенном рабочим людом, прогремели первые выстрелы. В ответ на провокационный выстрел человека, оставшегося неизвестным, прозвучал залп королевских солдат.
На парижскую мостовую пролилась первая кровь, и пять убитых пожертвовали своей жизнью за торжество республики. Но тотчас же они были положены на телегу, которая медленно двигалась по бульварам при свете факелов. На телеге стоял рабочий, который время от времени приподнимал труп молодой женщины, залитой кровью, и кричал:
— Мщение! Убивают народ!
— К оружию! — грозно отвечала толпа.
Над Парижем, как грозовое облако, висел набат, призывающий строить баррикады. Улицы были перекопаны и усыпаны битым стеклом. Неумолчный барабанный бой призывал всех к оружию.
…После бегства короля народ ворвался во дворец. Рабочие сели на трон, на карнизе которого чья-то рука вывела надпись: «Парижский народ ко всей Европе: свобода, равенство, братство. 24 февраля 1848 года».
Затем трон вынесли на улицу. Торжествующая толпа пронесла его по всему городу. На каждой баррикаде организовывался летучий митинг, причем трон павшего короля превращался в трибуну народных ораторов. Потом трон был сожжен под ликующие клики толпы, пляшущей карманьолу.
Свобода, равенство, братство! Молодому Жюлю Верну казалось, что эти слова имеют магическую силу: достаточно провозгласить их, чтобы мгновенно исчезли ненавистные королевские троны, сословия, церковь, голодные получили хлеб, безработные — работу, чтобы бесследно исчезли нищета и эксплуатация человека человеком. Разве не стала правительством страны вся нация после введения всеобщей подачи голосов? Разве не уничтожено рабство во французских колониях? Разве не французская революция послужила примером для восстания других народов: немцев, итальянцев, поляков?
Но как со всем этим вязались восстание парижского пролетариата в июльские дни и кровь народа, пролитая республиканским правительством, Жюль Верн не мог этого понять.
Шел конец ноября. Молодой Верн по-настоящему познакомился с революцией сорок восьмого года на десять месяцев позже, чем любой другой парижанин.
…22 февраля, возмущенное и доведенное до отчаяния политикой королевского правительства, парижское население вышло на улицы, и могучая демонстрация народа прошла по улицам столицы. К вечеру на некоторых окраинах, где ютились рабочие и ремесленники, стихийно выросли баррикады.
Но даже и тогда король Луи Филипп, лицо которого было похоже на сгнившую грушу, а карикатуристы изображали его не иначе, как в нижнем белье и с большим зонтиком, — даже тогда король не понял, что это не мятеж группы недовольных, а демонстрация французского народа, восставшего против ненавистного ему королевского правительства.
— Вы называете баррикадами опрокинутый кабриолет? — иронически спросил он своего министра полиции.
Нет, это не был мятеж, это была революция. 23 февраля в Сент-Антуанском предместье, населенном рабочим людом, прогремели первые выстрелы. В ответ на провокационный выстрел человека, оставшегося неизвестным, прозвучал залп королевских солдат.
На парижскую мостовую пролилась первая кровь, и пять убитых пожертвовали своей жизнью за торжество республики. Но тотчас же они были положены на телегу, которая медленно двигалась по бульварам при свете факелов. На телеге стоял рабочий, который время от времени приподнимал труп молодой женщины, залитой кровью, и кричал:
— Мщение! Убивают народ!
— К оружию! — грозно отвечала толпа.
Над Парижем, как грозовое облако, висел набат, призывающий строить баррикады. Улицы были перекопаны и усыпаны битым стеклом. Неумолчный барабанный бой призывал всех к оружию.
…После бегства короля народ ворвался во дворец. Рабочие сели на трон, на карнизе которого чья-то рука вывела надпись: «Парижский народ ко всей Европе: свобода, равенство, братство. 24 февраля 1848 года».
Затем трон вынесли на улицу. Торжествующая толпа пронесла его по всему городу. На каждой баррикаде организовывался летучий митинг, причем трон павшего короля превращался в трибуну народных ораторов. Потом трон был сожжен под ликующие клики толпы, пляшущей карманьолу.
Свобода, равенство, братство! Молодому Жюлю Верну казалось, что эти слова имеют магическую силу: достаточно провозгласить их, чтобы мгновенно исчезли ненавистные королевские троны, сословия, церковь, голодные получили хлеб, безработные — работу, чтобы бесследно исчезли нищета и эксплуатация человека человеком. Разве не стала правительством страны вся нация после введения всеобщей подачи голосов? Разве не уничтожено рабство во французских колониях? Разве не французская революция послужила примером для восстания других народов: немцев, итальянцев, поляков?
Но как со всем этим вязались восстание парижского пролетариата в июльские дни и кровь народа, пролитая республиканским правительством, Жюль Верн не мог этого понять.
Шел конец ноября. Молодой Верн по-настоящему познакомился с революцией сорок восьмого года на десять месяцев позже, чем любой другой парижанин.
ПАРИЖ
Узкий мир, в котором вырос и воспитался молодой Верн, — это не вся Франция и даже не весь Нант. Детство и юность бретонского подростка из большого портового города, рассказанные выше, — это лишь мир, увиденный глазами самого писателя (в те годы, впрочем, всего лишь сына состоятельных родителей, не больше). Пусть этот маленький мир очарователен, но он был опасен для героя тем, что его искаженные пропорции надолго связали его мировоззрение. Не зная ничего другого, он мир капли воды, положенной под стекло микроскопа, мог считать единственной реальной вселенной. Ведь для того, чтобы стать подлинным патриотом всей Франции и ощутить себя братом всех угнетенных народов, нужно было сначала перерасти свой крохотный мирок. Тесный? Душный? Нам он, вероятно, показался бы таким, но сам молодой Верн не мог чувствовать этой тесноты и духоты, как растение, выросшее в парнике, не замечает окружающей его тепличной атмосферы… Тем хуже для растения, если оно окажется слишком слабым к моменту высадки в грунт! Из чего слагается биография писателя? Из тех произведений, что сделали его имя бессмертным. Ведь именно они заставляют нас рыться в пыли архивов, перебирать связки полуистлевших писем, перелистывать пачки пожелтевших газет, чтобы восстановить живой образ писателя и с его помощью раскрыть полнее и глубже ту бессмертную жизнь, что до сих пор — быть может, спустя несколько столетий — яростно бушует под непрочными переплетами его книг.
Но из чего слагается биография писателя в тот период, когда он не написал ещё ни одной книги?
Париж следующего года был для юноши большой и серьезной школой. Однако биографию писателя за этот период очень трудно восстановить. Многие биографы его тщательно собрали и сохранили все подробности его успехов в деле подготовки к экзамену (как будто это важно для жизнеописания человека, имевшего, правда, диплом юриста, но никогда не занимавшегося практикой), составили исчерпывающий список его литературных знакомств и связей, но ничего не рассказали нам о развитии мировоззрения молодого Жюля Верна. Сам писатель не оставил никаких автобиографических записей, раскрывающих историю формирования его идей. Но, к счастью, у нас в руках сто томов его произведений, в которых отразились и все великие события его века, поразившие воображение писателя, и все его мечты.
Но мир писателя расширялся очень медленно. В первые годы своего ученичества (ведь для того, чтобы стать писателем, недостаточно одного таланта), в эти первые годы Жюль Верн был всего-навсего молодым провинциалом с жадно раскрытыми глазами, прибывшим завоевать Париж.
Мадам Шаррюэль при первых же раскатах революционной грозы променяла Париж на солнечный Прованс, и Жюль уже не мог остановиться у тетки на улице Терезы. Ещё в Нанте было решено, что он поселится у её сестры, мадам Гарсе, — вернее, у её сына, своего двоюродного брата Анри Гарсе, профессора лицея Генриха IV. Но Аристид Иньяр, который давно готовился к встрече, уже нанял своим нантским друзьям две смежные комнатки в доме номер двадцать четыре по улице Ансьен Комеди. Впервые в жизни Жюль Верн имел собственный дом. И где же? В республиканском Париже, на левом берегу Сены, в квартале, до сих пор жившем памятью о Робеспьере и Марате!
Здесь, на Левом берегу, человека с воображением легко может охватить иллюзия, что он живет в большом приморском городе. Подозрительные шумные кофейни, угловые здания с острыми фасадами, похожими на носы кораблей, в вечерние часы — туман и людской сброд на улицах. Иногда ветер доносит пронзительный вой настоящей сирены и влажное дыхание Сены. Для молодого провинциала это был иной, не королевский Париж, а город, живущий идеями великого сорок восьмого года.
Обстановка его студенческой комнатки состояла из древней кровати, стола, двух стульев и комода, а из окна открывался вид на городские крыши и великое разнообразие печных труб. И Жюль Берн быстро почувствовал себя настоящим парижанином. Он не хотел думать об экзамене — ведь до него оставалось по крайней мере три месяца. А дальше? «О делах — завтра», — отвечал Жюль Верн своей любимой поговоркой.
Его первое письмо из Парижа домой было кратко, но шутливо выразительное: «У меня длинные зубы, хлеб дорог, пришлите денег». Но за шуткой скрывалась истина. Семидесяти пяти франков, которые он получал ежемесячно от отца, хватало только на квартиру, завтрак, но не всегда на обед, который частенько состоял из бутылки молока и двух маленьких хлебцев; но Жюлю было только двадцать лет!
Пьер Верн в своих пространных и холодных письмах, написанных каллиграфическим почерком, давал сыну всевозможные советы и подробные инструкции: чем завтракать, где обедать и как разумно развлекаться парижскому студенту. Он основывался на опыте своей молодости, на годах своего студенчества, окончившегося в 1824 году.
«Харчевни, тобой рекомендованные, давно исчезли, — отвечал Жюль. — Другие, уцелевшие, находятся на расстоянии двух лье…» Всё это было бесспорной правдой. Но рядом с дневным расходом, который колебался от двух франков тридцати пяти сантимов до двух франков сорока сантимов, Бонами время от времени записывал: «Спектакль 5 фр.». Ведь настоящий парижанин, как бы он ни был беден, не может обойтись без театра, даже в ущерб обеду!..
Далеко не все театры Парижа работали в этом сезоне. На Тампльском бульваре огромное здание Исторического театра, на постройку которого Александр Дюма, его основатель, затратил около миллиона, стояло темное и заколоченное. Не открылось ни одной художественной выставки. Литературные салоны бездействовали. На устах всех — писателей, художников, музыкантов, актеров — была политика.
Несколько месяцев назад Жюль Верн вместе со всем Нантом потешался над помещенной в журнале «Шаривари» сатирической заметкой «Первая глава истории, как ее преподают теперь во Франции»:
Из чего слагается биография писателя? Из тех произведений, что сделали его имя бессмертным. Ведь именно они заставляют нас рыться в пыли архивов, перебирать связки полуистлевших писем, перелистывать пачки пожелтевших газет, чтобы восстановить живой образ писателя и с его помощью раскрыть полнее и глубже ту бессмертную жизнь, что до сих пор — быть может, спустя несколько столетий — яростно бушует под непрочными переплетами его книг.
Но из чего слагается биография писателя в тот период, когда он не написал ещё ни одной книги?
Париж следующего года был для юноши большой и серьезной школой. Однако биографию писателя за этот период очень трудно восстановить. Многие биографы его тщательно собрали и сохранили все подробности его успехов в деле подготовки к экзамену (как будто это важно для жизнеописания человека, имевшего, правда, диплом юриста, но никогда не занимавшегося практикой), составили исчерпывающий список его литературных знакомств и связей, но ничего не рассказали нам о развитии мировоззрения молодого Жюля Верна. Сам писатель не оставил никаких автобиографических записей, раскрывающих историю формирования его идей. Но, к счастью, у нас в руках сто томов его произведений, в которых отразились и все великие события его века, поразившие воображение писателя, и все его мечты.
Но мир писателя расширялся очень медленно. В первые годы своего ученичества (ведь для того, чтобы стать писателем, недостаточно одного таланта), в эти первые годы Жюль Верн был всего-навсего молодым провинциалом с жадно раскрытыми глазами, прибывшим завоевать Париж.
Мадам Шаррюэль при первых же раскатах революционной грозы променяла Париж на солнечный Прованс, и Жюль уже не мог остановиться у тетки на улице Терезы. Ещё в Нанте было решено, что он поселится у её сестры, мадам Гарсе, — вернее, у её сына, своего двоюродного брата Анри Гарсе, профессора лицея Генриха IV. Но Аристид Иньяр, который давно готовился к встрече, уже нанял своим нантским друзьям две смежные комнатки в доме номер двадцать четыре по улице Ансьен Комеди. Впервые в жизни Жюль Верн имел собственный дом. И где же? В республиканском Париже, на левом берегу Сены, в квартале, до сих пор жившем памятью о Робеспьере и Марате!
Здесь, на Левом берегу, человека с воображением легко может охватить иллюзия, что он живет в большом приморском городе. Подозрительные шумные кофейни, угловые здания с острыми фасадами, похожими на носы кораблей, в вечерние часы — туман и людской сброд на улицах. Иногда ветер доносит пронзительный вой настоящей сирены и влажное дыхание Сены. Для молодого провинциала это был иной, не королевский Париж, а город, живущий идеями великого сорок восьмого года.
Обстановка его студенческой комнатки состояла из древней кровати, стола, двух стульев и комода, а из окна открывался вид на городские крыши и великое разнообразие печных труб. И Жюль Берн быстро почувствовал себя настоящим парижанином. Он не хотел думать об экзамене — ведь до него оставалось по крайней мере три месяца. А дальше? «О делах — завтра», — отвечал Жюль Верн своей любимой поговоркой.
Его первое письмо из Парижа домой было кратко, но шутливо выразительное: «У меня длинные зубы, хлеб дорог, пришлите денег». Но за шуткой скрывалась истина. Семидесяти пяти франков, которые он получал ежемесячно от отца, хватало только на квартиру, завтрак, но не всегда на обед, который частенько состоял из бутылки молока и двух маленьких хлебцев; но Жюлю было только двадцать лет!
Пьер Верн в своих пространных и холодных письмах, написанных каллиграфическим почерком, давал сыну всевозможные советы и подробные инструкции: чем завтракать, где обедать и как разумно развлекаться парижскому студенту. Он основывался на опыте своей молодости, на годах своего студенчества, окончившегося в 1824 году.
«Харчевни, тобой рекомендованные, давно исчезли, — отвечал Жюль. — Другие, уцелевшие, находятся на расстоянии двух лье…» Всё это было бесспорной правдой. Но рядом с дневным расходом, который колебался от двух франков тридцати пяти сантимов до двух франков сорока сантимов, Бонами время от времени записывал: «Спектакль 5 фр.». Ведь настоящий парижанин, как бы он ни был беден, не может обойтись без театра, даже в ущерб обеду!..
Далеко не все театры Парижа работали в этом сезоне. На Тампльском бульваре огромное здание Исторического театра, на постройку которого Александр Дюма, его основатель, затратил около миллиона, стояло темное и заколоченное. Не открылось ни одной художественной выставки. Литературные салоны бездействовали. На устах всех — писателей, художников, музыкантов, актеров — была политика.
Несколько месяцев назад Жюль Верн вместе со всем Нантом потешался над помещенной в журнале «Шаривари» сатирической заметкой «Первая глава истории, как ее преподают теперь во Франции»:
ПЯТЬ ЛЕТ, ПОТЕРЯННЫХ ДЛЯ БИОГРАФОВ
Пять лет жизни Жюля Верна после женитьбы — самые трудные для биографа. Неверно было бы утверждать, что они бедны внешними происшествиями. Нет, событий здесь достаточно — может быть, даже больше, чем в предыдущий период, — но они как-то отступают на второй план перед более крупными внутренними конфликтами, перед могучим поздним созреванием этого своеобразного ума. Разве мало мальчиков, родившихся на острове Фейдо, бродили в детстве по Кз де ля Фосс, мечтали о море и дальних странствованиях, а затем уезжали в Париж изучать юриспруденцию! Но Жюлем Верном, мечтателем и путешественником в неизвестное, стал только один. Биография писателя, художника, музыканта, ученого состоит из его произведений, его трудов. Но в эти решающие пять лет Жюль Верн не написал почти ничего и во всяком случае ничего стоящего внимания. Перед нами портрет Жюля Верна в тридцать лет. Он бесспорно красив — той красотой XIX века, что неотделима от длинных сюртуков, цветных жилетов, клетчатых панталон и касторовых шляп. Светлая пышная борода скрывает подбородок, но линия носа и особенно лба очерчена резко и мужественно. Руки его, наоборот, женственны: с длинными, тонкими пальцами. Он сидит в свободной позе, легко подперев голову рукой, взор его устремлен вдаль. Но и поза эта принадлежит его веку: так снимался Виктор Гюго; таким остался в нашей памяти Миклухо-Маклай. Напрасно мы будем искать в этом портрете, как, впрочем, и в биографии Жюля Верна, то неповторимое, что сделало его бессмертным.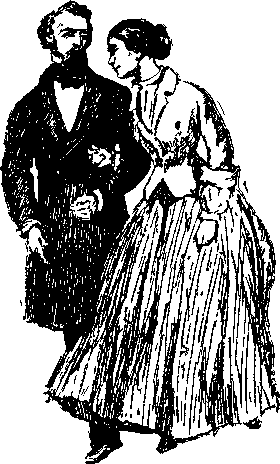 Новая жизнь, собственно говоря, была продолжением прежней, так как Жюль Верн, женившись, не переменил привычек и даже квартиры. Две комнаты на самом верхнем этаже дома № 18 по бульвару Бон Нувелль, которые вот уже шесть лет он занимал вместе с Иньяром, стали семейной квартирой супругов Верн. Иньяр был выселен, но переехал всего лишь на другой этаж. Вслед за устройством жилища был раз и навсегда заведен порядок, который Жюль Верн соблюдал с педантичностью, вероятно восхитившей бы его отца.
Молодой «финансист», работавший в это время на Парижской бирже, вставал в пять часов утра — и зимой и летом, — завтракал небольшим количеством фруктов и чашкой шоколада и садился за письменный стол. В эти утренние часы он был только писателем, автором ненаписанного «романа о науке», и никакая посторонняя мысль не смела отвлекать его от любимого труда.
Онорина появлялась около восьми часов. Жюль слышал, как она хлопотала в крохотной кухне. И наконец, в девять часов, как результат её трудов, в маленькой столовой — она же рабочий кабинет — появлялся завтрак. И Жюль Верн садился за стол с приятным ощущением четырех рабочих часов за спиной.
Завтрак и тщательный туалет занимали почти час. Это было время отдыха, час весёлой болтовни, обсуждения событий дня и рабочих планов. За несколько минут до десяти молодой писатель, успевший превратиться в финансиста, брал шляпу, чтобы с последним ударом часов появиться на бирже.
Долгий день на бирже был полон отголосков событий, происходящих во всем мире. Не шум Парижа, а гул земного шара наполнял первое время сны Жюля Верна… или лишал его сна.
В 1857 году во Франции и во всей Европе разразился экономический кризис, отразившийся на настроениях рабочих и ремесленников и совпавший с первыми успехами республиканской оппозиции.
В том же году в Индии вспыхнуло восстание против английского владычества. На Дальнем Востоке продолжала свирепствовать опиумная война против Китая, которую Англия вела при поддержке Франции.
Все эти события отражались на курсе ценных бумаг и оценивались в цифрах, как сила морских бурь определяется в баллах. Жюль Верн должен был следить за колебаниями ценных бумаг, всегда быть в курсе состояния любого иностранного казначейства, знать прибыли промышленности, железных дорог, торгового флота…
Новая жизнь, собственно говоря, была продолжением прежней, так как Жюль Верн, женившись, не переменил привычек и даже квартиры. Две комнаты на самом верхнем этаже дома № 18 по бульвару Бон Нувелль, которые вот уже шесть лет он занимал вместе с Иньяром, стали семейной квартирой супругов Верн. Иньяр был выселен, но переехал всего лишь на другой этаж. Вслед за устройством жилища был раз и навсегда заведен порядок, который Жюль Верн соблюдал с педантичностью, вероятно восхитившей бы его отца.
Молодой «финансист», работавший в это время на Парижской бирже, вставал в пять часов утра — и зимой и летом, — завтракал небольшим количеством фруктов и чашкой шоколада и садился за письменный стол. В эти утренние часы он был только писателем, автором ненаписанного «романа о науке», и никакая посторонняя мысль не смела отвлекать его от любимого труда.
Онорина появлялась около восьми часов. Жюль слышал, как она хлопотала в крохотной кухне. И наконец, в девять часов, как результат её трудов, в маленькой столовой — она же рабочий кабинет — появлялся завтрак. И Жюль Верн садился за стол с приятным ощущением четырех рабочих часов за спиной.
Завтрак и тщательный туалет занимали почти час. Это было время отдыха, час весёлой болтовни, обсуждения событий дня и рабочих планов. За несколько минут до десяти молодой писатель, успевший превратиться в финансиста, брал шляпу, чтобы с последним ударом часов появиться на бирже.
Долгий день на бирже был полон отголосков событий, происходящих во всем мире. Не шум Парижа, а гул земного шара наполнял первое время сны Жюля Верна… или лишал его сна.
В 1857 году во Франции и во всей Европе разразился экономический кризис, отразившийся на настроениях рабочих и ремесленников и совпавший с первыми успехами республиканской оппозиции.
В том же году в Индии вспыхнуло восстание против английского владычества. На Дальнем Востоке продолжала свирепствовать опиумная война против Китая, которую Англия вела при поддержке Франции.
Все эти события отражались на курсе ценных бумаг и оценивались в цифрах, как сила морских бурь определяется в баллах. Жюль Верн должен был следить за колебаниями ценных бумаг, всегда быть в курсе состояния любого иностранного казначейства, знать прибыли промышленности, железных дорог, торгового флота…
 Был ли Жюль Верн хорошим финансистом? Мы этого не знаем, но, во всяком случае, научиться на бирже он мог многому: он научился видеть бушующую жизнь не только Франции, но и всего мира.
Но и здесь, в суматохе и шуме биржи, существовал уголок, где можно было узнать последние литературные новости или просто перекинуться шуткой с приятелем. В краткие минуты отдыха несколько «эмигрантов из литературы и театра», как они себя называли, нашедших себе пристанище на бирже, собирались справа от колоннады. Часто сюда заглядывал Шарль Валлю, глава не слишком процветавшего журнала «Семейный музей», где печатались первые рассказы Жюля Верна, и Филипп Жилль, секретарь Лирического театра. И, конечно, вождем этих сборищ был Жюль Верн.
Короткие вечера, которые Жюль всегда проводил дома, также были посвящены работе или чтению. Только воскресенья были неприкосновенными, и Жюль и Онорина проводили их в зоологическом саду, в Аквариуме или, запасшись бутербродами и жареными каштанами, отправлялись на загородный пикник.
Был ли Жюль Верн хорошим финансистом? Мы этого не знаем, но, во всяком случае, научиться на бирже он мог многому: он научился видеть бушующую жизнь не только Франции, но и всего мира.
Но и здесь, в суматохе и шуме биржи, существовал уголок, где можно было узнать последние литературные новости или просто перекинуться шуткой с приятелем. В краткие минуты отдыха несколько «эмигрантов из литературы и театра», как они себя называли, нашедших себе пристанище на бирже, собирались справа от колоннады. Часто сюда заглядывал Шарль Валлю, глава не слишком процветавшего журнала «Семейный музей», где печатались первые рассказы Жюля Верна, и Филипп Жилль, секретарь Лирического театра. И, конечно, вождем этих сборищ был Жюль Верн.
Короткие вечера, которые Жюль всегда проводил дома, также были посвящены работе или чтению. Только воскресенья были неприкосновенными, и Жюль и Онорина проводили их в зоологическом саду, в Аквариуме или, запасшись бутербродами и жареными каштанами, отправлялись на загородный пикник.
 Новый, 1858 год принес новые события: покушение Орсини на жизнь Наполеона III, высадку французских войск в Аннаме и вступление англо-французского корпуса в Кантон. Битва в Индии не затихла. Восставшие были покорены лишь в следующем году, но уже в апреле война вспыхнула в самой Европе: выдавая себя за друга угнетенных национальностей, Наполеон напал на Австрию с целью завладеть Италией.
Всё лето биржу трясло, как в лихорадке, и Жюлю Верну пришлось даже на время изменить свой распорядок дня, так как он иногда целыми ночами просиживал в конторе Эггли. Наконец наступил кризис болезни Европы, завершившийся миром, заключенным в Виллафранке.
11 июля Жюль Верн неожиданно увидел себя совершенно свободным, по крайней мере на месяц. Биржа была закрыта. Жалюзи в доме номер семьдесят два по Прованской улице были заперты наглухо и дверь заперта на замок — на бирже царил мертвый штиль.
Детская мечта о путешествиях, казалось, уснувшая навсегда, последние годы почти не тревожила Жюля Верна, погруженного в тайны электричества, исследующего другие планеты солнечной системы, странствующего по всему миру, не выходя из своего кабинета. Но неожиданно судьба, так часто посылающая нам слишком запоздалое исполнение наших желаний, вновь разбудила в нём этот юношеский жар, тлеющий под остывшими углями.
Альфред Иньяр, агент мореходной компании в Сен-Назере, предложил своему брату Аристиду, а также Жюлю Верну, его неразлучному другу, бесплатное путешествие в Шотландию. Пароход компании должен был посетить Ливерпуль, Гебридские острова, надолго задержаться в Эдинбурге и на обратном пути взять груз в Лондоне. Плавание по трем морям и через три пролива, вокруг всего Великобританского острова! Пожалуй, это стоило путешествия в Мексику, полета на аэростате или экспедиции в Арктику, совершенных в воображении и ставших темами его первых рассказов.
«А Онорина?» — спросил Иньяр.
«О, она поймет!..»
Верная жена, заперев парижскую квартиру, отправилась в Амьен навестить своих дочерей, живших на попечении стариков де Виан, её родителей, а друзья, словно летящие с попутным ветром, выехали на юг. 25 июля Жюль Верн проездом посетил Нант. «Жюль был здесь, обезумевший от радости», — записала его мать. И — наконец-то! — он увидел открытое море, океан и увидел не как мечту, встающую на горизонте, но с палубы настоящего корабля.
Бурное Бискайское море было по-летнему великолепным. Жюль больше половины времени проводил не на палубе, с пассажирами, а внизу, с командой. Он задавал офицерам и матросам один вопрос за другим. В какое время года бывают в Ла-Манше бури? Плавал ли кто-нибудь из экипажа в открытом океане? А в Арктике? Нападают ли киты на большие суда? Узнав, что одному седобородому матросу «посчастливилось» потерпеть кораблекрушение, Жюль весь день ходил за ним с карандашом и записной книжкой. Где это произошло? От какой причины погиб корабль? Каким образом людям удалось достичь земли? О чём думаешь, когда считаешь себя погибшим?
Шотландия, страна Оссиана и Вальтера Скотта… Жюль Верн чувствовал себя, как поэт, попавший на родину своей мечты. И в то же время Иньяр был очень удивлен, когда увидел, что его друг интересуется не средневековыми замками и старинными легендами, а угольными и железорудными копями Ланарка и ткацкими фабриками Глазго. На обратном пути они несколько дней пробыли в Лондоне. Записная книжка Жюля была переполнена заметками и очерками. Больше всего его поразили верфи Темзы и строящийся там корабль «Грейт Истерн» — величайшее судно мира. «Когда-нибудь я совершу путешествие на нём», — написал он жене.
Никогда еще Жюлю Верну не работалось так хорошо, как в ту осень. После большого перерыва он снова начал писать. Правда, это были безделушки, которым он сам не придавал большого значения. Шутя он подчеркивал два пути, по которым одновременно шло его творчество. В своем «кабинете» он поставил секретер с двумя ящиками: один «для ученых трудов», другой — «для комедий». За зиму в одном ящике появилось две статьи: очерк о творчестве Эдгара По и заметки об аэростатах. В другой ящик Жюль Верн положил оперетту «Гостиница в Арденнах», написанную совместно с неизменным Иньяром, и фарс «Мсье Шимпанзе».
После пяти лет перерыва Жюль Верн снова возвратился к литературе — так, по крайней мере, думали его друзья, — и это было почти событием в том маленьком литературно-театральном мирке, квинтэссенцию которого составляли «одиннадцать холостяков» — одиннадцать друзей Жюля Верна, неизменно собиравшихся каждый месяц на холостяцкие пирушки.
Исчезновение и неожиданное возвращение сделали Жюля Верна модным, превратили его едва ли не в литературного метра. Карвальо, директор Лирического театра, требовал новой оперетты Верна и Иньяра. «Буфф» и «Водевиль» засылали к колоннаде биржи представителей.
И в 1860 году Жюль Верн должен был, кроме основных своих занятий — биржи, науки и литературы, — успевать ещё на репетиции своих пьес, которые ставились почти одновременно: «Гостиница» — в Лирическом театре и «Шимпанзе» — в «Буффе», где оркестром дирижировал молодой и популярный музыкант Жак Оффенбах. Для старых друзей, веривших в Верна-драматурга, это лето было его торжеством.
Осенью, буквально в несколько дней, Жюль Верн вместе с Шарлем Валлю написал комедию в трех актах «Одиннадцать дней осады». Это была последняя пьеса Жюля Верна, и поэтому можно сказать откровенно: она была столь же бледной, лишенной характеров и исполненной общих мест, как и все его драматические произведения, и так же правилась «одиннадцати холостякам», и так же к ней был равнодушен сам её автор.
Он имел право быть равнодушным: именно к этому времени окончательно сформировались идея и план его «романа о науке». Пятилетний курс его ученичества был завершен.
Он перечитывал Эдгара По, идеи которого так часто совпадали с его собственными, особенно его «Утку о баллоне», которая пятнадцать лет назад взволновала всю Европу, попавшую в плен к безукоризненному рассказчику и всерьез поверившую, что трансатлантический перелет на воздушном шаре действительно совершен.
«Я не рассчитываю отчалить на моем баллоне в ближайшие месяцы, — писал Жюль Верн отцу в феврале 1861 года. — Этот аэростат ещё должен быть снабжен безупречными механизмами».
Он был в расцвете сил, но не торопился выступать со своим первым настоящим романом. Мир вокруг него также был в расцвете, и казалось, что прогресс и дальше будет вести человечество к счастью и свободе (именно такова была фразеология XIX века, и тогда эти слова казались почти огненными). Италия была объединена и освобождена от иноземного ига. В России было отменено крепостное право. В Соединенных Штатах началась война за освобождение черных невольников. Во Франции Наполеон объявил о новой эре «либеральной империи», и это наполняло сердца всех прекраснодушных либералов энтузиазмом. Ленуар сконструировал первый двигатель, действующий сжатым воздухом. Появилась первая практически применимая динамомашина «Альянс», что было преддверьем грядущего века электричества. И, наконец, Фердинанд Лессепс приступил к сооружению Суэцкого канала — величайшего инженерного сооружения XIX века.
Премьера комедии «Одиннадцать дней осады» состоялась в театре «Водевиль» 1 июня 1861 года. Тотчас же после нее Жюль Верн выехал в Прованс, где собралась вся большая семья Вернов, чтобы провести там лето, но его отдых был нарушен письмом Иньяра.
Новый, 1858 год принес новые события: покушение Орсини на жизнь Наполеона III, высадку французских войск в Аннаме и вступление англо-французского корпуса в Кантон. Битва в Индии не затихла. Восставшие были покорены лишь в следующем году, но уже в апреле война вспыхнула в самой Европе: выдавая себя за друга угнетенных национальностей, Наполеон напал на Австрию с целью завладеть Италией.
Всё лето биржу трясло, как в лихорадке, и Жюлю Верну пришлось даже на время изменить свой распорядок дня, так как он иногда целыми ночами просиживал в конторе Эггли. Наконец наступил кризис болезни Европы, завершившийся миром, заключенным в Виллафранке.
11 июля Жюль Верн неожиданно увидел себя совершенно свободным, по крайней мере на месяц. Биржа была закрыта. Жалюзи в доме номер семьдесят два по Прованской улице были заперты наглухо и дверь заперта на замок — на бирже царил мертвый штиль.
Детская мечта о путешествиях, казалось, уснувшая навсегда, последние годы почти не тревожила Жюля Верна, погруженного в тайны электричества, исследующего другие планеты солнечной системы, странствующего по всему миру, не выходя из своего кабинета. Но неожиданно судьба, так часто посылающая нам слишком запоздалое исполнение наших желаний, вновь разбудила в нём этот юношеский жар, тлеющий под остывшими углями.
Альфред Иньяр, агент мореходной компании в Сен-Назере, предложил своему брату Аристиду, а также Жюлю Верну, его неразлучному другу, бесплатное путешествие в Шотландию. Пароход компании должен был посетить Ливерпуль, Гебридские острова, надолго задержаться в Эдинбурге и на обратном пути взять груз в Лондоне. Плавание по трем морям и через три пролива, вокруг всего Великобританского острова! Пожалуй, это стоило путешествия в Мексику, полета на аэростате или экспедиции в Арктику, совершенных в воображении и ставших темами его первых рассказов.
«А Онорина?» — спросил Иньяр.
«О, она поймет!..»
Верная жена, заперев парижскую квартиру, отправилась в Амьен навестить своих дочерей, живших на попечении стариков де Виан, её родителей, а друзья, словно летящие с попутным ветром, выехали на юг. 25 июля Жюль Верн проездом посетил Нант. «Жюль был здесь, обезумевший от радости», — записала его мать. И — наконец-то! — он увидел открытое море, океан и увидел не как мечту, встающую на горизонте, но с палубы настоящего корабля.
Бурное Бискайское море было по-летнему великолепным. Жюль больше половины времени проводил не на палубе, с пассажирами, а внизу, с командой. Он задавал офицерам и матросам один вопрос за другим. В какое время года бывают в Ла-Манше бури? Плавал ли кто-нибудь из экипажа в открытом океане? А в Арктике? Нападают ли киты на большие суда? Узнав, что одному седобородому матросу «посчастливилось» потерпеть кораблекрушение, Жюль весь день ходил за ним с карандашом и записной книжкой. Где это произошло? От какой причины погиб корабль? Каким образом людям удалось достичь земли? О чём думаешь, когда считаешь себя погибшим?
Шотландия, страна Оссиана и Вальтера Скотта… Жюль Верн чувствовал себя, как поэт, попавший на родину своей мечты. И в то же время Иньяр был очень удивлен, когда увидел, что его друг интересуется не средневековыми замками и старинными легендами, а угольными и железорудными копями Ланарка и ткацкими фабриками Глазго. На обратном пути они несколько дней пробыли в Лондоне. Записная книжка Жюля была переполнена заметками и очерками. Больше всего его поразили верфи Темзы и строящийся там корабль «Грейт Истерн» — величайшее судно мира. «Когда-нибудь я совершу путешествие на нём», — написал он жене.
Никогда еще Жюлю Верну не работалось так хорошо, как в ту осень. После большого перерыва он снова начал писать. Правда, это были безделушки, которым он сам не придавал большого значения. Шутя он подчеркивал два пути, по которым одновременно шло его творчество. В своем «кабинете» он поставил секретер с двумя ящиками: один «для ученых трудов», другой — «для комедий». За зиму в одном ящике появилось две статьи: очерк о творчестве Эдгара По и заметки об аэростатах. В другой ящик Жюль Верн положил оперетту «Гостиница в Арденнах», написанную совместно с неизменным Иньяром, и фарс «Мсье Шимпанзе».
После пяти лет перерыва Жюль Верн снова возвратился к литературе — так, по крайней мере, думали его друзья, — и это было почти событием в том маленьком литературно-театральном мирке, квинтэссенцию которого составляли «одиннадцать холостяков» — одиннадцать друзей Жюля Верна, неизменно собиравшихся каждый месяц на холостяцкие пирушки.
Исчезновение и неожиданное возвращение сделали Жюля Верна модным, превратили его едва ли не в литературного метра. Карвальо, директор Лирического театра, требовал новой оперетты Верна и Иньяра. «Буфф» и «Водевиль» засылали к колоннаде биржи представителей.
И в 1860 году Жюль Верн должен был, кроме основных своих занятий — биржи, науки и литературы, — успевать ещё на репетиции своих пьес, которые ставились почти одновременно: «Гостиница» — в Лирическом театре и «Шимпанзе» — в «Буффе», где оркестром дирижировал молодой и популярный музыкант Жак Оффенбах. Для старых друзей, веривших в Верна-драматурга, это лето было его торжеством.
Осенью, буквально в несколько дней, Жюль Верн вместе с Шарлем Валлю написал комедию в трех актах «Одиннадцать дней осады». Это была последняя пьеса Жюля Верна, и поэтому можно сказать откровенно: она была столь же бледной, лишенной характеров и исполненной общих мест, как и все его драматические произведения, и так же правилась «одиннадцати холостякам», и так же к ней был равнодушен сам её автор.
Он имел право быть равнодушным: именно к этому времени окончательно сформировались идея и план его «романа о науке». Пятилетний курс его ученичества был завершен.
Он перечитывал Эдгара По, идеи которого так часто совпадали с его собственными, особенно его «Утку о баллоне», которая пятнадцать лет назад взволновала всю Европу, попавшую в плен к безукоризненному рассказчику и всерьез поверившую, что трансатлантический перелет на воздушном шаре действительно совершен.
«Я не рассчитываю отчалить на моем баллоне в ближайшие месяцы, — писал Жюль Верн отцу в феврале 1861 года. — Этот аэростат ещё должен быть снабжен безупречными механизмами».
Он был в расцвете сил, но не торопился выступать со своим первым настоящим романом. Мир вокруг него также был в расцвете, и казалось, что прогресс и дальше будет вести человечество к счастью и свободе (именно такова была фразеология XIX века, и тогда эти слова казались почти огненными). Италия была объединена и освобождена от иноземного ига. В России было отменено крепостное право. В Соединенных Штатах началась война за освобождение черных невольников. Во Франции Наполеон объявил о новой эре «либеральной империи», и это наполняло сердца всех прекраснодушных либералов энтузиазмом. Ленуар сконструировал первый двигатель, действующий сжатым воздухом. Появилась первая практически применимая динамомашина «Альянс», что было преддверьем грядущего века электричества. И, наконец, Фердинанд Лессепс приступил к сооружению Суэцкого канала — величайшего инженерного сооружения XIX века.
Премьера комедии «Одиннадцать дней осады» состоялась в театре «Водевиль» 1 июня 1861 года. Тотчас же после нее Жюль Верн выехал в Прованс, где собралась вся большая семья Вернов, чтобы провести там лето, но его отдых был нарушен письмом Иньяра.
 Новое предложение его старшего брата, Альфреда, было ещё более соблазнительным. Правда, на этот раз агент не мог устроить Аристида и его друга на пассажирское судно, но маленький угольщик, на котором была одна незанятая каюта, отправлялся в плавание на целых три месяца. Он должен был посетить множество мелких портов Норвегии, Швеции и Дании.
Скандинавские страны всегда привлекали Жюля Верна. Он любил читать о плаваниях норманнов, побывавших в Северной Америке за пять столетий до Колумба; интересовался географией Севера; мечтал о плавании к Северному полюсу. И, несмотря на то что Онорина ждала ребенка, он принял заманчивое предложение.
15 июня маленькое суденышко, казалось до верхушек мачт нагруженное углем, отплыло из Сен-Назера.
Как зачарованные, друзья любовались берегами Скандинавии, изрезанными глубокими фиордами, восхищались холодными островами, омываемыми печальным морем. Невольно в воображении вставала Исландия, остров огня и льда, родина первых открывателей Америки… Подножия гор, выбегающих к самому берегу, были подернуты мягкой дымкой зелени: потемнее там, где сосны и ели, и посветлее там, где березы. Дома каждой деревни были выкрашены в какую-нибудь одну краску: зеленую, розовую, желтую, яркокрасную. Крыши из березовой дранки, проложенной дерном, цвели, как крошечные луга… Это был Телемарк — захолустье Норвегии. Но для Жюля Верна этот край был как бы всем миром, увиденным через «бэконовский кристалл» — волшебное стекло средневековых алхимиков, сквозь которое можно видеть одновременно все края света. Здесь были горы и глетчеры, как в Швейцарии, грандиозные водопады, как в Америке. Крестьяне были одеты в национальные костюмы былых веков — совсем как в Голландии… И, главное, как бы ни мелькали эти пестрые картины, всегда неизменным оставалось море, которое гудело, и ревело, и лизало борта корабля…
Но закончить это путешествие Жюлю Верну не удалось. В Копенгагене друзья расстались: Иньяр, работавший в это время над оперой «Гамлет», отправился осматривать Эльсинор, легендарный замок датских королей, а Жюль на пассажирском пакетботе возвратился во Францию.
3 августа 1861 года у Онорины родился сын, получивший имя Мишель Жюль. Ему суждено было остаться единственным ребенком Жюля Верна.
Отец! Глава семьи! Неужели он не думал о своих новых обязанностях, о новой квартире, о дополнительном заработке? Нет, пристанище на бульваре Бон Нувелль, где он обитал больше десяти лет, вполне его устраивало. А деньги? Он не искал их. Он даже отказывался от театральных заказов: ни одной новой пьесы не появлялось больше в ящике его стола, предназначенном для «безделок». Зато лист за листом ложились в другой ящик. Это был «роман о науке», созревавший так долго. Аэростат уже был оборудован совершенными механизмами и готовился к отлету.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что именно в эту зиму в маленькой квартирке время от времени появлялись новые люди. Чаще всего они пролетали сквозь крохотную столовую, как метеоры, но иногда они оседали в ней более прочно, словно путешественники, осматривающие какой-либо пункт, отмеченный в путеводителе Кука тремя крестиками.
Особенно запомнились Онорине двое. Альфред де Бреа, бретонец, земляк Жюля Верна, утопая в облаках дыма, любил пространно разглагольствовать об Индии, где он прожил много лет. Другой имел несколько имен и, казалось, несколько лиц. Когда он появлялся в доме на бульваре Бон Нувелль, то казалось, что в маленьких комнатках бушует ветер. Его жизнь была ещё более необычной, чем его неправдоподобные рассказы. О нём стоило написать книгу или сделать героем романа. Его настоящее имя было Феликс Турнашон, но весь Париж знал его под именем Надара.
Его большая голова с целой копной рыжих волос напоминала львиную… или голову Александра Дюма. Широкое лицо со щетинистыми усами и пучками рыжих волос, с круглыми, с фосфорическим блеском глазами довершало его сходство с хищником кошачьей породы — ягуаром или леопардом. Высокий, умный лоб весь был изборожден морщинами, что говорило о постоянной напряженной работе мысли. Бывший секретарь Лессепса, талантливый художник-карикатурист, прославленный фотограф, превративший Новорожденную фотографию в подлинное искусство, — он готов был бросить любое дело, чтобы очертя голову ринуться на поиски необычайного. Фантазия у него работала беспрерывно, увлекая его в самые отчаянные предприятия. Он смотрел на всё особенными глазами, видел всё в особенном, фантастическом свете. Жажда деятельности была в нём неутолимой, так как он не мог — да и не хотел — укладываться в рамки обыденной жизни.
В этот год Надар увлекался аэронавтикой, мечтал о воздушном шаре, состоящем из двух баллонов, помещенных один в другой, — о шаре-гиганте, объемом в двести тысяч кубических футов. В этот год Жюль Верн заканчивал свой роман — задуманный уже давно «роман о науке», героем которого был шар-гигант, состоящий из двух баллонов, находящихся один в другом, и с удивительным приспособлением, составляющим секрет автора… Знакомился ли Надар с рукописью Жюля Верна? Мы не знаем этого. Но бесспорно, что между кабинетиком писателя в доме на бульваре Бон Нувелль и квартирой авиатора на улице Дофина существовала тесная связь.
Бреа или Надар — точно не установлено, об этом до сих пор спорят биографы — познакомил Жюля Верна с Жюлем Этцелем.
Новое предложение его старшего брата, Альфреда, было ещё более соблазнительным. Правда, на этот раз агент не мог устроить Аристида и его друга на пассажирское судно, но маленький угольщик, на котором была одна незанятая каюта, отправлялся в плавание на целых три месяца. Он должен был посетить множество мелких портов Норвегии, Швеции и Дании.
Скандинавские страны всегда привлекали Жюля Верна. Он любил читать о плаваниях норманнов, побывавших в Северной Америке за пять столетий до Колумба; интересовался географией Севера; мечтал о плавании к Северному полюсу. И, несмотря на то что Онорина ждала ребенка, он принял заманчивое предложение.
15 июня маленькое суденышко, казалось до верхушек мачт нагруженное углем, отплыло из Сен-Назера.
Как зачарованные, друзья любовались берегами Скандинавии, изрезанными глубокими фиордами, восхищались холодными островами, омываемыми печальным морем. Невольно в воображении вставала Исландия, остров огня и льда, родина первых открывателей Америки… Подножия гор, выбегающих к самому берегу, были подернуты мягкой дымкой зелени: потемнее там, где сосны и ели, и посветлее там, где березы. Дома каждой деревни были выкрашены в какую-нибудь одну краску: зеленую, розовую, желтую, яркокрасную. Крыши из березовой дранки, проложенной дерном, цвели, как крошечные луга… Это был Телемарк — захолустье Норвегии. Но для Жюля Верна этот край был как бы всем миром, увиденным через «бэконовский кристалл» — волшебное стекло средневековых алхимиков, сквозь которое можно видеть одновременно все края света. Здесь были горы и глетчеры, как в Швейцарии, грандиозные водопады, как в Америке. Крестьяне были одеты в национальные костюмы былых веков — совсем как в Голландии… И, главное, как бы ни мелькали эти пестрые картины, всегда неизменным оставалось море, которое гудело, и ревело, и лизало борта корабля…
Но закончить это путешествие Жюлю Верну не удалось. В Копенгагене друзья расстались: Иньяр, работавший в это время над оперой «Гамлет», отправился осматривать Эльсинор, легендарный замок датских королей, а Жюль на пассажирском пакетботе возвратился во Францию.
3 августа 1861 года у Онорины родился сын, получивший имя Мишель Жюль. Ему суждено было остаться единственным ребенком Жюля Верна.
Отец! Глава семьи! Неужели он не думал о своих новых обязанностях, о новой квартире, о дополнительном заработке? Нет, пристанище на бульваре Бон Нувелль, где он обитал больше десяти лет, вполне его устраивало. А деньги? Он не искал их. Он даже отказывался от театральных заказов: ни одной новой пьесы не появлялось больше в ящике его стола, предназначенном для «безделок». Зато лист за листом ложились в другой ящик. Это был «роман о науке», созревавший так долго. Аэростат уже был оборудован совершенными механизмами и готовился к отлету.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что именно в эту зиму в маленькой квартирке время от времени появлялись новые люди. Чаще всего они пролетали сквозь крохотную столовую, как метеоры, но иногда они оседали в ней более прочно, словно путешественники, осматривающие какой-либо пункт, отмеченный в путеводителе Кука тремя крестиками.
Особенно запомнились Онорине двое. Альфред де Бреа, бретонец, земляк Жюля Верна, утопая в облаках дыма, любил пространно разглагольствовать об Индии, где он прожил много лет. Другой имел несколько имен и, казалось, несколько лиц. Когда он появлялся в доме на бульваре Бон Нувелль, то казалось, что в маленьких комнатках бушует ветер. Его жизнь была ещё более необычной, чем его неправдоподобные рассказы. О нём стоило написать книгу или сделать героем романа. Его настоящее имя было Феликс Турнашон, но весь Париж знал его под именем Надара.
Его большая голова с целой копной рыжих волос напоминала львиную… или голову Александра Дюма. Широкое лицо со щетинистыми усами и пучками рыжих волос, с круглыми, с фосфорическим блеском глазами довершало его сходство с хищником кошачьей породы — ягуаром или леопардом. Высокий, умный лоб весь был изборожден морщинами, что говорило о постоянной напряженной работе мысли. Бывший секретарь Лессепса, талантливый художник-карикатурист, прославленный фотограф, превративший Новорожденную фотографию в подлинное искусство, — он готов был бросить любое дело, чтобы очертя голову ринуться на поиски необычайного. Фантазия у него работала беспрерывно, увлекая его в самые отчаянные предприятия. Он смотрел на всё особенными глазами, видел всё в особенном, фантастическом свете. Жажда деятельности была в нём неутолимой, так как он не мог — да и не хотел — укладываться в рамки обыденной жизни.
В этот год Надар увлекался аэронавтикой, мечтал о воздушном шаре, состоящем из двух баллонов, помещенных один в другой, — о шаре-гиганте, объемом в двести тысяч кубических футов. В этот год Жюль Верн заканчивал свой роман — задуманный уже давно «роман о науке», героем которого был шар-гигант, состоящий из двух баллонов, находящихся один в другом, и с удивительным приспособлением, составляющим секрет автора… Знакомился ли Надар с рукописью Жюля Верна? Мы не знаем этого. Но бесспорно, что между кабинетиком писателя в доме на бульваре Бон Нувелль и квартирой авиатора на улице Дофина существовала тесная связь.
Бреа или Надар — точно не установлено, об этом до сих пор спорят биографы — познакомил Жюля Верна с Жюлем Этцелем.
В ПОЛЕТЕ
Был ясный октябрьский полдень 1862 года, когда Жюль Верн, прижимая к себе рукопись, позвонил у подъезда старинного дома № 18, по улице Жакоб. Рослый слуга отворил дверь. — Мсье Этцель ждет вас, — лаконично сообщил он. Лестница, ведущая на второй этаж, казалась бесконечной. Беззвучно раскрылась и захлопнулась массивная дверь. Ощущение покоя охватило посетителя: тусклый свет едва струился сквозь плотно закрытые жалюзи, тишина казалась почти ощутимой. В полумраке он едва разглядел тяжелые кресла из резного дуба, темные ковры по стенам, мощные балки, заменяющие потолок… — Простите, что я не встаю. Жюль обернулся. На низкой кровати, под огромным балдахином, лежал немолодой уже человек с длинными волосами, откинутыми назад, и необыкновенно блестящими глазами. — Пьер Жюль Этцель, — сказал человек, протягивая руку. — Народ требует, чтобы я бодрствовал по ночам, выпуская газету, так что мне приходится красть эти несколько утренних часов, чтобы прочитать новые рукописи. Он взял сверток, который Жюль Верн протянул ему дрожащей рукой. Затем наступило молчание. Такова была встреча двух людей, имена которых остались в литературе навеки связанными. Этцель не был обыкновенным издателем. «Издатель-художник», — говорили про него. Он был старше Жюля Верна на четырнадцать лет и ещё до 1848 года был журналистом, писателем и издателем иллюстрированных книг. Смелый человек, с горячим темпераментом, он очень рано примкнул к республиканцам и после февральской революции, неожиданно для себя самого, оказался политическим деятелем. Во Временном правительстве он занимал посты начальника канцелярии министра иностранных дел, позже — морского министра и, наконец, генерального секретаря кабинета. Избрание принца Луи Наполеона президентом лишило его должности; государственный переворот Наполеона лишил Этцеля родины: ему пришлось бежать за границу. Апрельская амнистия 1859 года застала Этцеля в Брюсселе. «Я вернусь только вместе со свободой», — ответил на наполеоновскую амнистию Виктор Гюго. К писателю-трибуну присоединились Эдгар Кине, Луи Блан, Барбес. Но Этцель вернулся. Теперь он был увлечен грандиозными издательскими проектами. Он затевал большой журнал для семейного чтения и две серии книг под общим названием «Библиотека просвещения и отдыха». Но пока всё это существовало лишь в его воображении. Единственным автором, на которого он мог вполне положиться, был Сталь. Имя Сталь было хорошо известно Жюлю Верну. Прекрасный рассказчик, Сталь, к сожалению, был лишен воображения. Поэтому лучше всего ему давались пересказы и переделки чужих вещей. Его переделка детской книги «Серебряные коньки» была гораздо больше известна, чем сам оригинальный роман Мэри Додж. С некоторым изумлением Жюль узнал от Надара и Бреа, что Сталь лишь псевдоним и что настоящее имя писателя — Пьер Жюль Этцель. «Публика хочет, чтобы её занимали, а не обучали». Это изречение Этцеля — всё, что сохранилось для потомства от достопамятной беседы. Бесспорно, этого слишком недостаточно для того, чтобы восстановить разговор целиком. Тем не менее такие попытки делались, а выводы, извлеченные из этой гипотетической беседы, легли в основу одной из легенд «жюльверновского цикла». Достоверно известно, что Жюль Верн покинул дом на Рю Жакоб с той же рукописью, которую принес. Не менее точно установлено, что ровно через две недели писатель снова доявился в старом особняке издателя, тоже с рукописью подмышкой. Остается только уточнить: были ли эти манускрипты идентичны или нет? «Жюль Верн принес в своё первое посещение лишь популярную брошюру о воздушных шарах, — гласит, легенда. — Но гениальный Этцель возвратил её писателю, сопроводив это действие вышеприведенной исторической фразой. И что же! Ровно через две недели Жюль Верн, переработав свою рукопись в роман, снова появился в кабинете (вернее, спальне) издателя. Таким образом, не столько Жюль Верн создал новый жанр, сколько Этцель создал Жюля Верна». Стоит ли опровергать эту легенду? Поистине недостаточно быть Шерлоком Холмсом, для того чтобы из столь малых данных сделать столь далеко идущие выводы; здесь, скорее, нужно воображение Тартарена или Мюнхаузена. А двенадцать лет, затраченных Жюлем Верном на подготовку к этой работе? А его мечты о «научном романе»? А его переписка с Пьером Верном, наконец? Так или иначе, но рукопись под названием «Путешествие в баллоне» была в руках Этцеля. Тонкий ценитель сразу понял достоинства романа и сделал из этого самый смелый, самый удивительный вывод: он предложил Жюлю Верну длительный контракт. Два тома в год: два однотомных романа или один двухтомный — таковы были обязательства писателя. Издатель брал на себя обязательство выпускать книги и целиком получать всю чистую прибыль. За указанную выше работу издатель обязан уплачивать автору двадцать тысяч франков в год. Срок действия договора двадцать лет. Риск издателя был велик: никто не знал Жюля Верна как романиста, а для нового журнала нужен был писатель «первого рага» — так определил сам Этцель. И тем не менее он решился. Писатель же был ошеломлен. Двадцать тысяч франков! Двадцать лет спокойной жизни! Дом для семьи и отдельный кабинет для себя! Летний отдых в Шантеней! И все это лишь за то право писать, за которое он сам много лет платил бессонными ночами, жизнью впроголодь, удобствами семьи… Вероятно, он имел странный: вид, когда появился в этот день на бирже. Но ещё более странной была та маленькая речь, с которой он обратился к своим друзьям. Стоит привести её дословно — точнее, так, как она сохранилась в памяти его друга Дюкенеля:
«Дети мои, я вас покидаю. У меня есть идея. У всякого человека, по мнению Жирардена, идеи рождаются каждый день, но моя идея — одна на всю жизнь, идея, которая сама по себе является счастьем. Я написал роман нового жанра, удовлетворяющий меня. Если он будет иметь успех, он станет жилой в золотой копи. Тогда я буду не переставая писать, писать без устали, между тем как вы будете оплачивать наличными бумаги накануне их понижения и продавать их накануне повышения. Я бросаю биржу. Добрый день, дети мои!»
Шутливый тон, биржевой жаргон — всё это очень характерно для молодого Жюля Верна. Молодого… Увы, ему уже почти исполнилось тридцать пять лет, но у него всё было в будущем, в близком будущем, впрочем.
Этцель был не только издателем-художником — он был также превосходным дельцом. Прошло всего лишь немногим больше месяца после того, как он получил рукопись, а первый роман Жюля Верна был уже напечатан и переплетен. Талантливый художник Риу сделал к книге восемьдесят иллюстраций. И 1 января 1863 года, как новогодний подарок, роман «Пять недель на воздушном шаре» появился на прилавках книжных магазинов Парижа и провинции.
Первое впечатление читающей Франции было изумление, о котором мы можем составить только очень смутное представление. Успех? Да, это был настоящий успех, и даже нечто большее, не похожее на удачу обычного литературного произведения.
Дело в том, что в этой книге Жюль Верн напал на тему, волнующую весь читающий мир, — вернее, на две темы: в своем романе писатель смело объединил и облек в художественную форму две научные проблемы — управляемое воздухоплавание и исследование Центральной Африки.
Серьезным тоном Жюль Верн рассказал читателям о том, что втайне ото всех Лондонским географическим обществом была организована воздушная экспедиция на управляемом аэростате «Виктория» под руководством доктора Фергюсона, которая проникла в неисследованные районы Африки, открыла таинственные истоки Нила и, пересекши весь материк, достигла Атлантического океана.
Вероятно, он имел странный: вид, когда появился в этот день на бирже. Но ещё более странной была та маленькая речь, с которой он обратился к своим друзьям. Стоит привести её дословно — точнее, так, как она сохранилась в памяти его друга Дюкенеля:
«Дети мои, я вас покидаю. У меня есть идея. У всякого человека, по мнению Жирардена, идеи рождаются каждый день, но моя идея — одна на всю жизнь, идея, которая сама по себе является счастьем. Я написал роман нового жанра, удовлетворяющий меня. Если он будет иметь успех, он станет жилой в золотой копи. Тогда я буду не переставая писать, писать без устали, между тем как вы будете оплачивать наличными бумаги накануне их понижения и продавать их накануне повышения. Я бросаю биржу. Добрый день, дети мои!»
Шутливый тон, биржевой жаргон — всё это очень характерно для молодого Жюля Верна. Молодого… Увы, ему уже почти исполнилось тридцать пять лет, но у него всё было в будущем, в близком будущем, впрочем.
Этцель был не только издателем-художником — он был также превосходным дельцом. Прошло всего лишь немногим больше месяца после того, как он получил рукопись, а первый роман Жюля Верна был уже напечатан и переплетен. Талантливый художник Риу сделал к книге восемьдесят иллюстраций. И 1 января 1863 года, как новогодний подарок, роман «Пять недель на воздушном шаре» появился на прилавках книжных магазинов Парижа и провинции.
Первое впечатление читающей Франции было изумление, о котором мы можем составить только очень смутное представление. Успех? Да, это был настоящий успех, и даже нечто большее, не похожее на удачу обычного литературного произведения.
Дело в том, что в этой книге Жюль Верн напал на тему, волнующую весь читающий мир, — вернее, на две темы: в своем романе писатель смело объединил и облек в художественную форму две научные проблемы — управляемое воздухоплавание и исследование Центральной Африки.
Серьезным тоном Жюль Верн рассказал читателям о том, что втайне ото всех Лондонским географическим обществом была организована воздушная экспедиция на управляемом аэростате «Виктория» под руководством доктора Фергюсона, которая проникла в неисследованные районы Африки, открыла таинственные истоки Нила и, пересекши весь материк, достигла Атлантического океана.
 В те годы таинственная пелена, многие тысячелетия покрывавшая Черную Африку, казалось, начала рассеиваться. Одна за другой отправлялись научные экспедиции, стремящиеся, преодолев пустыни, тропические леса с хищными зверями, проникнуть в сердце материка, где находились никому неведомые истоки Нила.
Многоводный Нил был колыбелью одной из величайших цивилизаций древности. Но его истоки терялись далеко на юге, куда не могли проникнуть египтяне. И вопрос о том, откуда Нил берет свои воды, оставался в течение нескольких тысячелетий предметом бесплодных размышлений и туманных догадок.
Древнегреческий историк Геродот, который в V веке до нашей эры поднимался вверх по Нилу до его первых порогов, считал, что Нил начинается далеко на западе, где-то в области озера Чад. Александрийский ученый Эратосфен через два века после Геродота рассказывал о двух озерах близ экватора, питающих великую реку. Спустя ещё два столетия Птолемей приводил рассказ о том, что воды Нила вытекают из озера, лежащего на западе, что они двадцать пять дней текут под землей и выходят на поверхность только в Египте. Арабы, завладевшие в средние века всей Северной Африкой, утверждали, что Нил падает с неба, «истоки его — в раю»…
Во второй половине XIX века европейцы начали «открытие Африки»: развивалась европейская промышленность, и нужны были новые рынки и новые источники сырья. Если на первую половину столетия падает всего двадцать одно путешествие европейцев по Африке, то во вторую половину состоялись двести две экспедиции. В неисследованную и никем ещё не завоеванную часть света устремились колонизаторы, торговцы, миссионеры, авантюристы, но среди путешественников были и настоящие ученые, бескорыстно преданные интересам науки.
В 1849–1854 годах к истокам Нила пытался проникнуть доктор Генрих Барт, первый настоящий ученый, посетивший дебри Африки. Он шел с севера. С юга, навстречу ему, в 1852 году вышел доктор Давид Ливингстон. С востока, имея опорной базой Занзибар, в 1857 году отправилась экспедиция Лондонского географического общества, во главе которой стояли Ричард Бартон и Джон Спик. На скрещении путей этих трех экспедиций лежала неведомая страна, где не бывал ни один европеец, — сердце Африки с таинственными истоками Нила. Но ни одной экспедиции не удалось достигнуть желанной цели — трудности были слишком велики: спутники Барта умерли в пути, а сам он едва не был убит враждебными туземцами; силы Ливингстона истощили тропическая лихорадка и цинга; Бартон и Спик страдали от голода, жажды и едва не ослепли от болезни глаз.
В те годы таинственная пелена, многие тысячелетия покрывавшая Черную Африку, казалось, начала рассеиваться. Одна за другой отправлялись научные экспедиции, стремящиеся, преодолев пустыни, тропические леса с хищными зверями, проникнуть в сердце материка, где находились никому неведомые истоки Нила.
Многоводный Нил был колыбелью одной из величайших цивилизаций древности. Но его истоки терялись далеко на юге, куда не могли проникнуть египтяне. И вопрос о том, откуда Нил берет свои воды, оставался в течение нескольких тысячелетий предметом бесплодных размышлений и туманных догадок.
Древнегреческий историк Геродот, который в V веке до нашей эры поднимался вверх по Нилу до его первых порогов, считал, что Нил начинается далеко на западе, где-то в области озера Чад. Александрийский ученый Эратосфен через два века после Геродота рассказывал о двух озерах близ экватора, питающих великую реку. Спустя ещё два столетия Птолемей приводил рассказ о том, что воды Нила вытекают из озера, лежащего на западе, что они двадцать пять дней текут под землей и выходят на поверхность только в Египте. Арабы, завладевшие в средние века всей Северной Африкой, утверждали, что Нил падает с неба, «истоки его — в раю»…
Во второй половине XIX века европейцы начали «открытие Африки»: развивалась европейская промышленность, и нужны были новые рынки и новые источники сырья. Если на первую половину столетия падает всего двадцать одно путешествие европейцев по Африке, то во вторую половину состоялись двести две экспедиции. В неисследованную и никем ещё не завоеванную часть света устремились колонизаторы, торговцы, миссионеры, авантюристы, но среди путешественников были и настоящие ученые, бескорыстно преданные интересам науки.
В 1849–1854 годах к истокам Нила пытался проникнуть доктор Генрих Барт, первый настоящий ученый, посетивший дебри Африки. Он шел с севера. С юга, навстречу ему, в 1852 году вышел доктор Давид Ливингстон. С востока, имея опорной базой Занзибар, в 1857 году отправилась экспедиция Лондонского географического общества, во главе которой стояли Ричард Бартон и Джон Спик. На скрещении путей этих трех экспедиций лежала неведомая страна, где не бывал ни один европеец, — сердце Африки с таинственными истоками Нила. Но ни одной экспедиции не удалось достигнуть желанной цели — трудности были слишком велики: спутники Барта умерли в пути, а сам он едва не был убит враждебными туземцами; силы Ливингстона истощили тропическая лихорадка и цинга; Бартон и Спик страдали от голода, жажды и едва не ослепли от болезни глаз.
 Доктор Фергюсон, герой Жюля Верна, вместе с двумя спутниками совершил за несколько недель то, на что его действительным предшественникам понадобилось много лет мучительного труда. Его экспедиция отправилась из Занзибара 18 апреля 1862 года; 23 апреля была у истока Нила, а 24 мая, пересекши всю Африку, достигла французских владений на реке Сенегал.
Это, конечно, была фантастика, но не уводящая читателя в отдаленное будущее или на другие планеты, а фантастика научная, реалистическая мечта того самого дня, когда вышла в свет книга «Пять недель на воздушном шаре».
В описании Африки Жюль Верн следовал запискам путешественников по Африке; в описании воздушного шара «Виктория» и его эволюции — истории воздухоплавания, которую хорошо знал.
Удивительное путешествие оказалось возможным благодаря управляемому воздушному шару — фантастическому изобретению доктора Фергюсона. Мечта писателя воплотилась в жизнь через два десятилетия, когда появились первые управляемые воздушные корабли — дирижабли, могущие летать против ветра.
В годы, когда писался роман Жюля Верна, внимание Франции было приковано к воздухоплаванию. Изобретатель Гюйтон-Морво предложил особые весла и руль для управления воздушными шарами; Петен — для той же цели — четыре шара, соединенные воедино и снабженные горизонтальными парусами; Анри Жиффар еще в 1852 году показывал парижанам свой «летающий пароход» — продолговатый аэростат с длинной гондолой, снабженный паровой машиной. Но увы! Ни один аэронавт не мог справиться с ветром. Поэтому, вместо того чтобы бороться с ним, появилась мысль использовать ветер: поднимаясь и опускаясь, отыскивать в разных слоях атмосферы воздушные потоки нужного направления.
Но как заставить шар подниматься и опускаться, не расходуя газ и не тратя балласт? Менье стремился достигнуть этого, накачивая в оболочку шара сжатый воздух; Ван-Гекке проектировал вертикальные крылья и винты. Но всё было безуспешным. Решить эту задачу, в плане фантастики конечно, удалось только Жюлю Верну.
Идея его температурного управления воздушным шаром, подробно описанная в романе, чрезвычайно проста и технически совершенно правильна, за исключением лишь одной «мелочи»: разложение воды в нужном количестве потребовало бы таких огромных батарей, которые шар не смог бы поднять в воздух.
Доктор Фергюсон, герой Жюля Верна, вместе с двумя спутниками совершил за несколько недель то, на что его действительным предшественникам понадобилось много лет мучительного труда. Его экспедиция отправилась из Занзибара 18 апреля 1862 года; 23 апреля была у истока Нила, а 24 мая, пересекши всю Африку, достигла французских владений на реке Сенегал.
Это, конечно, была фантастика, но не уводящая читателя в отдаленное будущее или на другие планеты, а фантастика научная, реалистическая мечта того самого дня, когда вышла в свет книга «Пять недель на воздушном шаре».
В описании Африки Жюль Верн следовал запискам путешественников по Африке; в описании воздушного шара «Виктория» и его эволюции — истории воздухоплавания, которую хорошо знал.
Удивительное путешествие оказалось возможным благодаря управляемому воздушному шару — фантастическому изобретению доктора Фергюсона. Мечта писателя воплотилась в жизнь через два десятилетия, когда появились первые управляемые воздушные корабли — дирижабли, могущие летать против ветра.
В годы, когда писался роман Жюля Верна, внимание Франции было приковано к воздухоплаванию. Изобретатель Гюйтон-Морво предложил особые весла и руль для управления воздушными шарами; Петен — для той же цели — четыре шара, соединенные воедино и снабженные горизонтальными парусами; Анри Жиффар еще в 1852 году показывал парижанам свой «летающий пароход» — продолговатый аэростат с длинной гондолой, снабженный паровой машиной. Но увы! Ни один аэронавт не мог справиться с ветром. Поэтому, вместо того чтобы бороться с ним, появилась мысль использовать ветер: поднимаясь и опускаясь, отыскивать в разных слоях атмосферы воздушные потоки нужного направления.
Но как заставить шар подниматься и опускаться, не расходуя газ и не тратя балласт? Менье стремился достигнуть этого, накачивая в оболочку шара сжатый воздух; Ван-Гекке проектировал вертикальные крылья и винты. Но всё было безуспешным. Решить эту задачу, в плане фантастики конечно, удалось только Жюлю Верну.
Идея его температурного управления воздушным шаром, подробно описанная в романе, чрезвычайно проста и технически совершенно правильна, за исключением лишь одной «мелочи»: разложение воды в нужном количестве потребовало бы таких огромных батарей, которые шар не смог бы поднять в воздух.
 Об этом, конечно, хорошо знал сам Жюль Верн. Но это фантастическое допущение ему было необходимо для того, чтобы его мечта стала реальностью хотя бы на страницах романа. А то, что мечта эта имела огромную силу, говорит биография К. Э. Циолковского, который, как он сам признавался, заимствовал у Жюля Верна идею температурного управления и применил её для своего цельнометаллического дирижабля, но, конечно, на базе совсем другой техники — техники XX века.
Как использовал писатель историю воздухоплавания, говорит хотя бы такой пример. Аэронавты Бланшар и Джеффис, первыми перелетевшие в 1785 году из Дувра в Кале, плохо рассчитали подъемную силу своего шара. Поэтому, уже находясь над морем, они побросали вниз не только балласт, но инструменты, провизию и даже одежду.
«— Бланшар, — сказал Джеффис, когда и этого оказалось недостаточно, — вам следовало одному совершить этот полет. Вы согласились взять меня, и я пожертвую собой: я брошусь в воду, и облегченный шар опять поднимется!
— Нет, нет, это ужасно!
— Прощайте, друг мой! — сказал доктор Джеффис».
Бланшар удержал его.
«— Нам осталось ещё одно средство, — сказал он. — Мы можем перерезать веревки, на которых укреплена корзина, и ухватиться за сетку. Может быть, тогда шар поднимется…»
Эту сцену мы почти дословно встречаем в романе.
За исключением фантастической горелки, Жюль Верн в остальном почти не уклонялся от реальной действительности того времени. «Виктория», объемом в три тысячи триста кубических метров, даже меньше, чем «Гигант», объемом в шесть тысяч кубических метров, который строил в то время Надар.
Основываясь преимущественно на рассказах европейских путешественников, Жюль Верн сильно преувеличил дикость и воинственность многих африканских племен. Местное население недружелюбно встречало только таких чужеземцев, в которых видело своих врагов. И не случайно был убит «бешеный белый путешественник» Мунго Парк: он был так свиреп, что жители берегов Нигера пятьдесят лет после его смерти с ужасом вспоминали о его злодеяниях. С другой стороны, негры боготворили доктора Ливингстона, который всю свою жизнь положил на борьбу с работорговлей. Жюль Верн позже, ближе познакомившись с биографией Ливингстона, в романе «Пятнадцатилетний капитан» выступил со страстной защитой туземного населения и с обвинением европейских держав в организации африканской работорговли.
Географическая фантастика Жюля Верна обогнала реальную жизнь лишь на один год. В- 1863 году Спик и Грант, вышедшие из Занзибара в конце 1860 года, достигли того места, где Нил вытекает из озера Виктория, образуя ряд водопадов, — совсем так, как описано в романе. Однако позже выяснилось, что это не настоящие истоки Нила: подлинной родоначальницей великой реки оказалась речка Кагера, открытая и исследованная Генри Стэнли в 1875 году.
Окончательно проблему водораздела главных африканских рек — Нила, Конго и Нигера — решил русский путешественник В. В. Юнкер, пробывший в Восточном Судане, над которым пролетели герои Жюля Верна, в общей сложности десять лет — с 1875 года, когда он отправился в свою первую экспедицию, и кончая 1887 годом, когда он прибыл в Петербург, где его давно считали погибшим.
Жюль Верн сумел буквально загипнотизировать своих читателей, заставив их поверить в свою мечту. И не случайно многие верили в реальность этого фантастического путешествия и в существование доктора Фергюсона. Под волшебным пером романиста карта Африки ожила на глазах у читателей, а подробности её исследования, выглядевшие в подлинных записках африканских путешественников такими скучными, оказались увлекательнейшими страницами романа. Нужно было поистине удивительное сочетание фантазии и трудолюбия, чтобы переварить огромный материал, собранный писателем, превратить все эти отдельные детали в однородный сплав.
Но если успеху романа в момент его появления способствовала злободневность, то в чем тайна его успеха в наши дни, почти через столетие, когда Африка изрезана железными и автомобильными дорогами и воздушные линии связывают между собой Занзибар и Сенегал — начальный и конечный пункты путешествия «Виктории»?
Успех этот — не только успех одной книги, но победа созданного Жюлем Верном нового литературного жанра. Впервые в литературе он сумел технические и научные проблемы сделать не только фоном или деталью, но основным материалом и темой произведения. Это — торжество новых героев, впервые введенных в литературу Жюлем Верном.
Когда Жюль Верн излагал в первой главе биографию доктора Фергюсона, своего героя, то он — сознательно или бессознательно — сравнивал её с историей своей жизни. «Рано пристрастился он к чтению книг о смелых похождениях и изысканиях. Со страстью изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XIX века. Он мечтал о славе Мунго Парка, Брюса, Каллье, Левальсена и, наверно, не мог немного не помечтать о славе Робинзона Крузо, рисовавшейся ему не менее заманчивой. Сколько чудесных часов провел мальчик с Робинзоном на его острове Хуан Фернандес!..» Всё это можно было сказать не только о герое романа, но и об авторе. Но: «Самюэлю было двадцать два года, и он уже успел совершить кругосветное плавание. После смерти отца он поступил на службу в бенгальский инженерный корпус и отличился в нескольких сражениях». В эти годы Жюль Верн был лишь автором слабой комедии в стихах «Сломанные соломинки». Служба Верна в театре соответствует участию Фергюсона в арктической экспедиции Мак-Клюра; работа в конторе у Фернана Эггли — экспедиции в Тибет вместе с братьями Шлагинвейт.
Все эти экспедиции были для Фергюсона лишь годами ученичества. Ему было тридцать пять лет, когда он, став «настоящим типом путешественника», предпринял полет на «Виктории».
Но что означают слова «тип настоящего путешественника»? Всем романом Жюль Верн отвечает на этот вопрос. Доктор Фергюсон — не купец, не миссионер, не завоеватель и не колонизатор. Он — путешественник-ученый. Он — один из тех бескорыстных героев, что проложили человечеству дороги в суровые, неисследованные страны. «Мы не затем сюда отправились», — просто говорит он на предложение своих спутников нагрузить воздушный корабль слоновой костью и золотом.
И читатели полюбили доктора Фергюсона за великое изобретение, открывающее перед человечеством новую эру, за смелую мечту, за бескорыстную преданность науке, которая, по мнению Жюля Верна, разрешит в будущем все социальные противоречия и даст людям свободу и изобилие. И образ Фергюсона потому и покорял сердца читателей, что он был первой, пусть робкой, попыткой воплотить черты человека завтрашнего дня…
Ну, а «Гигант», воздушный шар Надара, двойник или близнец «Виктории», — какова была его судьба?
Сходство между аэростатами было так велико, что в умах парижан разница давно стерлась. И когда 4 октября 1863 года «король аэростатов» поднялся в воздух, многие зрители дружно кричали: «Да здравствует доктор Фергюсон!» В числе многочисленных пассажиров, разместившихся в двухэтажной корзине «Гиганта», зеваки заметили негра. Почему негр? Для многих журналистов это было непонятно, но зеваки, присутствовавшие на старте, приветствовали чернокожего пассажира как представителя черного материка столь же дружным «ура».
Первый полет был неудачным: аэростат совершил вынужденную посадку в Мо. Только в третий полет «Гигант» совершил гигантский прыжок в Ганновер. Существует легенда, ни на чем не основанная, что во время третьего полета в числе пассажиров воздушного корабля Надара был и Жюль Верн.
В те дни, когда воздушный шар «Виктория» и роман о нём завоевывали мир, Жюлю Верну только что исполнилось тридцать пять лет — как раз середина жизни, по мнению Данте: именно в этом возрасте, в день своего рождения, великий флорентиец отправился в свое путешествие по девяти кругам Ада. Но для французского писателя этот день был только утром новой жизни.
В полете! Это необыкновенное ощущение стремительного движения не оставляло Жюля Верна весь год.
В середине зимы его новая слава перешагнула границы Франции: с далекого севера пришла весть, что Жюль Верн стал и русским писателем. Очень бережно он поставил на полку маленький томик, напечатанный буквами непривычного рисунка. Титул книги гласил:
«Воздушное путешествие через Африку. Составлено по запискам доктора Фергюсона Жюлем Верном. Перевод с французского. Издание А. Головачева. Москва, 1864 год. Цена один рубль».
Французский карикатурист был вправе изобразить Жюля Верна в полете: стоящим на катящемся по воздуху крылатом колесе, рядом с Фортуной, богиней счастья, осыпающей своего любимца дарами из рога изобилия.
Об этом, конечно, хорошо знал сам Жюль Верн. Но это фантастическое допущение ему было необходимо для того, чтобы его мечта стала реальностью хотя бы на страницах романа. А то, что мечта эта имела огромную силу, говорит биография К. Э. Циолковского, который, как он сам признавался, заимствовал у Жюля Верна идею температурного управления и применил её для своего цельнометаллического дирижабля, но, конечно, на базе совсем другой техники — техники XX века.
Как использовал писатель историю воздухоплавания, говорит хотя бы такой пример. Аэронавты Бланшар и Джеффис, первыми перелетевшие в 1785 году из Дувра в Кале, плохо рассчитали подъемную силу своего шара. Поэтому, уже находясь над морем, они побросали вниз не только балласт, но инструменты, провизию и даже одежду.
«— Бланшар, — сказал Джеффис, когда и этого оказалось недостаточно, — вам следовало одному совершить этот полет. Вы согласились взять меня, и я пожертвую собой: я брошусь в воду, и облегченный шар опять поднимется!
— Нет, нет, это ужасно!
— Прощайте, друг мой! — сказал доктор Джеффис».
Бланшар удержал его.
«— Нам осталось ещё одно средство, — сказал он. — Мы можем перерезать веревки, на которых укреплена корзина, и ухватиться за сетку. Может быть, тогда шар поднимется…»
Эту сцену мы почти дословно встречаем в романе.
За исключением фантастической горелки, Жюль Верн в остальном почти не уклонялся от реальной действительности того времени. «Виктория», объемом в три тысячи триста кубических метров, даже меньше, чем «Гигант», объемом в шесть тысяч кубических метров, который строил в то время Надар.
Основываясь преимущественно на рассказах европейских путешественников, Жюль Верн сильно преувеличил дикость и воинственность многих африканских племен. Местное население недружелюбно встречало только таких чужеземцев, в которых видело своих врагов. И не случайно был убит «бешеный белый путешественник» Мунго Парк: он был так свиреп, что жители берегов Нигера пятьдесят лет после его смерти с ужасом вспоминали о его злодеяниях. С другой стороны, негры боготворили доктора Ливингстона, который всю свою жизнь положил на борьбу с работорговлей. Жюль Верн позже, ближе познакомившись с биографией Ливингстона, в романе «Пятнадцатилетний капитан» выступил со страстной защитой туземного населения и с обвинением европейских держав в организации африканской работорговли.
Географическая фантастика Жюля Верна обогнала реальную жизнь лишь на один год. В- 1863 году Спик и Грант, вышедшие из Занзибара в конце 1860 года, достигли того места, где Нил вытекает из озера Виктория, образуя ряд водопадов, — совсем так, как описано в романе. Однако позже выяснилось, что это не настоящие истоки Нила: подлинной родоначальницей великой реки оказалась речка Кагера, открытая и исследованная Генри Стэнли в 1875 году.
Окончательно проблему водораздела главных африканских рек — Нила, Конго и Нигера — решил русский путешественник В. В. Юнкер, пробывший в Восточном Судане, над которым пролетели герои Жюля Верна, в общей сложности десять лет — с 1875 года, когда он отправился в свою первую экспедицию, и кончая 1887 годом, когда он прибыл в Петербург, где его давно считали погибшим.
Жюль Верн сумел буквально загипнотизировать своих читателей, заставив их поверить в свою мечту. И не случайно многие верили в реальность этого фантастического путешествия и в существование доктора Фергюсона. Под волшебным пером романиста карта Африки ожила на глазах у читателей, а подробности её исследования, выглядевшие в подлинных записках африканских путешественников такими скучными, оказались увлекательнейшими страницами романа. Нужно было поистине удивительное сочетание фантазии и трудолюбия, чтобы переварить огромный материал, собранный писателем, превратить все эти отдельные детали в однородный сплав.
Но если успеху романа в момент его появления способствовала злободневность, то в чем тайна его успеха в наши дни, почти через столетие, когда Африка изрезана железными и автомобильными дорогами и воздушные линии связывают между собой Занзибар и Сенегал — начальный и конечный пункты путешествия «Виктории»?
Успех этот — не только успех одной книги, но победа созданного Жюлем Верном нового литературного жанра. Впервые в литературе он сумел технические и научные проблемы сделать не только фоном или деталью, но основным материалом и темой произведения. Это — торжество новых героев, впервые введенных в литературу Жюлем Верном.
Когда Жюль Верн излагал в первой главе биографию доктора Фергюсона, своего героя, то он — сознательно или бессознательно — сравнивал её с историей своей жизни. «Рано пристрастился он к чтению книг о смелых похождениях и изысканиях. Со страстью изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XIX века. Он мечтал о славе Мунго Парка, Брюса, Каллье, Левальсена и, наверно, не мог немного не помечтать о славе Робинзона Крузо, рисовавшейся ему не менее заманчивой. Сколько чудесных часов провел мальчик с Робинзоном на его острове Хуан Фернандес!..» Всё это можно было сказать не только о герое романа, но и об авторе. Но: «Самюэлю было двадцать два года, и он уже успел совершить кругосветное плавание. После смерти отца он поступил на службу в бенгальский инженерный корпус и отличился в нескольких сражениях». В эти годы Жюль Верн был лишь автором слабой комедии в стихах «Сломанные соломинки». Служба Верна в театре соответствует участию Фергюсона в арктической экспедиции Мак-Клюра; работа в конторе у Фернана Эггли — экспедиции в Тибет вместе с братьями Шлагинвейт.
Все эти экспедиции были для Фергюсона лишь годами ученичества. Ему было тридцать пять лет, когда он, став «настоящим типом путешественника», предпринял полет на «Виктории».
Но что означают слова «тип настоящего путешественника»? Всем романом Жюль Верн отвечает на этот вопрос. Доктор Фергюсон — не купец, не миссионер, не завоеватель и не колонизатор. Он — путешественник-ученый. Он — один из тех бескорыстных героев, что проложили человечеству дороги в суровые, неисследованные страны. «Мы не затем сюда отправились», — просто говорит он на предложение своих спутников нагрузить воздушный корабль слоновой костью и золотом.
И читатели полюбили доктора Фергюсона за великое изобретение, открывающее перед человечеством новую эру, за смелую мечту, за бескорыстную преданность науке, которая, по мнению Жюля Верна, разрешит в будущем все социальные противоречия и даст людям свободу и изобилие. И образ Фергюсона потому и покорял сердца читателей, что он был первой, пусть робкой, попыткой воплотить черты человека завтрашнего дня…
Ну, а «Гигант», воздушный шар Надара, двойник или близнец «Виктории», — какова была его судьба?
Сходство между аэростатами было так велико, что в умах парижан разница давно стерлась. И когда 4 октября 1863 года «король аэростатов» поднялся в воздух, многие зрители дружно кричали: «Да здравствует доктор Фергюсон!» В числе многочисленных пассажиров, разместившихся в двухэтажной корзине «Гиганта», зеваки заметили негра. Почему негр? Для многих журналистов это было непонятно, но зеваки, присутствовавшие на старте, приветствовали чернокожего пассажира как представителя черного материка столь же дружным «ура».
Первый полет был неудачным: аэростат совершил вынужденную посадку в Мо. Только в третий полет «Гигант» совершил гигантский прыжок в Ганновер. Существует легенда, ни на чем не основанная, что во время третьего полета в числе пассажиров воздушного корабля Надара был и Жюль Верн.
В те дни, когда воздушный шар «Виктория» и роман о нём завоевывали мир, Жюлю Верну только что исполнилось тридцать пять лет — как раз середина жизни, по мнению Данте: именно в этом возрасте, в день своего рождения, великий флорентиец отправился в свое путешествие по девяти кругам Ада. Но для французского писателя этот день был только утром новой жизни.
В полете! Это необыкновенное ощущение стремительного движения не оставляло Жюля Верна весь год.
В середине зимы его новая слава перешагнула границы Франции: с далекого севера пришла весть, что Жюль Верн стал и русским писателем. Очень бережно он поставил на полку маленький томик, напечатанный буквами непривычного рисунка. Титул книги гласил:
«Воздушное путешествие через Африку. Составлено по запискам доктора Фергюсона Жюлем Верном. Перевод с французского. Издание А. Головачева. Москва, 1864 год. Цена один рубль».
Французский карикатурист был вправе изобразить Жюля Верна в полете: стоящим на катящемся по воздуху крылатом колесе, рядом с Фортуной, богиней счастья, осыпающей своего любимца дарами из рога изобилия.
ЕГО ВСЕЛЕННАЯ
Каждый из нас живет в своей собственной вселенной, масштабы которой он часто склонен считать измерениями великого и безграничного мира звезд, планет и людей. Для некоторых она ограничена стенами коммунальной квартиры, события в которой они склонны рассматривать как мировые. Иные мыслят в масштабах своей деревни, родного города и, в крайнем случае, своей страны. Конечно, сейчас это исключения, но в XIX веке редко кто мыслил масштабами материков. Вселенная Жюля Верна была огромна: она охватывала весь земной шар — все страны, все части света, включала в себя прошлое и будущее, в неё были включены не только Земля, но и другие планеты солнечной системы, и она достигала таинственной и недоступной до того времени сферы звезд… Эта вселенная была не стационарной, она росла и расширялась с каждым днем: сначала это был крохотный островФейдо, затем — Нант и его окрестности, потом — Париж, Франция, другие материки… Созревание таланта Жюля Верна шло очень медленно, но тем увереннее он включал в пределы своего кругозора другие страны и далёкие материки… Биографам Жюля Верна кажется странным перелом, происшедший в нем в эти годы, — точнее, после наполеоновского переворота. Двадцатитрехлетний гамен, душа сборищ «одиннадцати холостяков», вдруг превратился в замкнутого и молчаливого человека, почти мизантропа, не бывающего в обществе и проводящего время наедине с книгами. Но беда французских, немецких, американских, итальянских и иных биографов состоит в том, что они рисуют жизнь своего героя не на фоне событий того времени, а превращают его в какого-то «обитателя Страны мечты» — человека, оторванного от мировых событий. А между тем достаточно было бы обратиться от личных писем и дневников Жюля Верна к газетам и политическим памфлетам его времени, чтобы перед нами сразу раскрылась иная, высшая реальность — огромный и тревожный мир, в котором жил писатель Жюль Верн. Эта биография, полная движения и скрытой жизни, для нас важнее всего, так как именно она вошла как составная часть в сто томов его сочинений. Подлинную биографию Жюля Верна нужно начинать с 1848 года, с его второго приезда в Париж. В этот год Париж господствовал над Францией, а Франция возвышалась над Европой и всем миром. Голос Парижа звучал во всех углах земного шара. Парижское восстание нашло себе отклик в победоносных восстаниях Вены, Милана, Берлина. Вся Европа, вплоть до русской границы, была вовлечена в движение. И для зоркого наблюдателя не могло быть сомнений в том, что началась великая решительная борьба, которая должна была составить один длинный и богатый событиями революционный период, могущий найти завершение лишь в окончательной победе народа. Жюль Верн стоял на самом ветру эпохи. Но был ли он таким зорким наблюдателем? Будем к нему справедливы и не станем награждать его врожденной гениальностью политического мыслителя. Для юноши двадцати лет, провинциала, впервые попавшего в Париж, вполне естественно быть полным иллюзий и рассчитывать на скорую и окончательную победу «народа» над «угнетателями». Кто в его представлении были эти угнетатели? Король, аристократия, церковь. А народ? Все остальные… Годы, прошедшие над Францией после революции сорок восьмого, были заполнены жестокой борьбой антагонистических сил, которые таились как раз в этом самом «народе»: буржуазии, крестьян, ремесленников, рабочих. Но Жюль Верн всю жизнь не хотел этого видеть. Весна его, его молодость, удивительно совпала с пробуждением от окоченения и спячки его родной страны. Пусть революция раздавлена, затоплена в крови, он мог себе сказать: «Я дышал воздухом республики, она была возможна!» И вот теперь, после переворота 1 декабря 1851 года, когда президент Луи Бонапарт задушил республику, чтобы стать императором Наполеоном III, Жюль Верн очутился с ним лицом к лицу. Лицо, похожее на лицо провинциального парикмахера, смотрело на молодого писателя со страниц газет и журналов, со стен и заборов, оно преследовало его даже во сне. И оно всё время говорило: нужно выбирать, нужно действовать, нужно решать свою судьбу. Эти дни были для Жюля Верна днями битвы, днями единоборства. Пусть оно совершалось в тишине маленького кабинета писателя — вернее, в его душе, но тем сильнее оно опустошало это поле боя, тем страшнее оно было для молодого человека, почти юноши, который внезапно почувствовал себя совершенно одиноким. Перед ним лежало два пути: раболепное подчинение или борьба. Но подчиниться — означало отдать свое перо на службу Наполеону малому, стать слугой палача. А борьба? Для этого нужно было верить в борющуюся Францию, знать её. Жюль Верн её не видел. А страна тем временем продолжала жить и бороться. Генрих Гейне, побывавший во Франции незадолго до этого, писал: «Я посетил несколько мастерских в предместье Сен-Марсо и увидел, что читали рабочие, самая здоровая часть низшего класса. Я нашел там несколько новых изданий речей старика Робеспьера, а также памфлетов Марата, изданных выпусками по два су, историю революции Кабе, ядовитые пасквили Корменена, сочинение Буонаротти «учение и заговор Бабефа», — все произведения, пахнущие кровью. И тут же я слышал песни, сочиненные как будто в аду, припевы которых свидетельствовали о самом диком волнении умов. Нет, о демонических звуках, которыми полны эти песни, составить себе понятие в нашей нежной сфере невозможно; надо их слышать собственными ушами, например, в тех громадных мастерских, где занимаются обработкой металлов и где полунагие суровые люди во время пения бьют в такт большими железными молотами по вздрагивающим наковальням. Такой аккомпанемент в высшей степени эффектен, точно так же как и освещение в то время, как живые искры вылетают из печей. Всё — только страсть и пламя!..» В эти годы в муках и труде рождался новый Париж. Над городом висела белая кменная пыль, падающая на листву каштанов, как седина. Рушились старинные дома, разбирались средневековые стены и решетки, сносились целые кварталы, чтобы дать место новым блистательным и строгим проспектам нового города. Стоя на перекрестке, Жюль Верн часто следил за рождением новых бульваров, пересекающих груды битого камня, ещё недавно бывшего бушующим хаосом средневековых кварталов, следил за появлением, как по волшебству, новых великолепных вокзалов, зданий, церквей. И звезды улиц, расходящихся во все стороны от звонких площадей, всё чаще напоминали ему кем-то брошенное крылатое прозвище вновь рождающегося Парижа — город Светоч. Перестройка французской столицы не была делом Сенского префекта барона Осман, как то казалось императору Наполеону. В этом плане, составленном республиканским правительством еще в 1793 году, были воплощены мечты многих поколений зодчих и градостроителей, мечтателей и поэтов — всех тех, кто, любя прошлое великого города, хотел для него ещё более блистательного и счастливого будущего. Это был великий труд скованной Франции, ищущей обновления. Вся жизнь Франции походила на пародию. Палата депутатов заседала в Париже, но она не имела права ни предлагать законопроекты, ни вносить поправки в правительственные предложения. Заседания её были публичны, но печатать прения было запрещено. Все представители интеллигенции находились под надзором полиции. Университет существовал, но преподавание было обращено главным образом на древние языки; кафедры философии и истории были упразднены. И всем профессорам было приказано брить усы, чтобы «уничтожить в костюме и нравах последние следы анархии»… Но скованный гигант продолжал трудиться и бороться. Железные пути всё дальше протягивались во все концы страны; всё гуще становился дым паровозов, пароходов, заводов и фабрик. И всё сильнее приливала кровь народа к центру страны — к Парижу. Это была не только столица императора и его своры, жандармов, спекулянтов, шпионов, — это был центр промышленности и торговли, столица науки и мысли, подлинное сердце Франции. То было время быстрого развития промышленности, расцвета техники. Ещё недавно, в 1838 году, первый пароход пересек Атлантику, и то проделав часть пути под парусами, а в шестидесятые годы железные паровые суда установили регулярные рейсы, соединяющие Францию со всем светом, и гигантский «Грейт Истерн», в девятнадцать тысяч тонн водоизмещения, проложил первый телеграфный кабель между Европой и Америкой. Жюль Верн в 1848 году приехал в Париж на почтовых лошадях, а через пятнадцать лет в Лондоне появился первый метрополитен, и сквозь горный проход Мон-Сенис была начата прокладка тоннеля, соединяющего Францию с Италией. Открытие в 1831 году Фарадеем электрической индукции стало для электротехники началом новой эры. Всё глубже опускались ещё неуклюжие подводные лодки и всё выше поднимались аэростаты, движением которых в воздухе пытались управлять их изобретатели. В 1881 году «русский свет» инженера Яблочкова залил всю территорию Парижской Всемирной выставки. Это было целое море света — почти полмиллиона электрических свечей, больше, чем во всем остальном Париже со всеми его восковыми, сальными и стеариновыми свечами, керосиновыми лампами и газовыми фонарями. И, наконец, сами машины — грандиозные паровые молоты, гидравлические прессы, мощные токарные станки — стали производиться при помощи машин. Наступила последняя фаза промышленного переворота. Всё это создало питательную почву для бурного развития науки, которая во второй половине XIX века переживала счастливый расцвет. Это был период великих побед не только частных теорий, но и могучего синтеза, начавшего объединять воедино разрозненные прежде науки. Майер, Джоуль, Гельмгольц завершили доказательство всемирного закона сохранения энергии, впервые высказанного ещё Ломоносовым. Бертло окончательно изгнал из химии понятие «жизненной силы». Менделеев обосновал единство всех химических элементов. Пастер опроверг теорию самозарождения. Дарвин воздвиг гигантское здание теории эволюции и посягнул на божественное происхождение человека… Наука в эти годы даже вооружила человечество возможностью видеть будущее. Леверье «на кончике пера» — сидя за столом и вычисляя, — открыл новую планету, Нептун, не видимую простым глазом. Менделеев с поразительной точностью описал свойства ещё не найденных элементов. Гамильтон чисто математическим путем обнаружил существование конической рефракции. Максвелл, на языке дифференциальных уравнений, предсказал существование и свойства электромагнитных волн, открытых лишь после его смерти… И Жюлю Верну казалось, что весь облик грядущих дней можно увидеть сквозь волшебную призму науки. Надар, ставший в эти годы близким другом Жюля Верна, незадолго до этого был секретарем Шарля Лессепса, знаменитого строителя Суэцкого канала. Лессепс был страстным последователем Сен-Симона, и его взгляды разделял и Надар. Сенсимонистом был и другой друг писателя — композитор Алеви. Они-то и ввели молодого человека в светлый мир утопического социализма. Неизгладимое впечатление на Жюля Верна произвели идеи Сен-Симона. Вероятно, от него писатель заимствовал великую веру в науку, способную, как ему казалось, изменить весь политический строй человечества. Фурье открыл писателю радость творческого труда, освобожденного от принуждения и эксплуатации и воедино слитого с творческой мыслью. Роберт Оуэн, отправившийся за океан, чтобы основать там социалистическую колонию, стал для Жюля Верна прототипом капитана Гранта. Но политические идеи Жюля Верна не были зрелыми и четкими: он был писатель, а не политический мыслитель, и художественный образ действовал на него сильнее, чем отвлеченная идея. Поэтому наибольшее впечатление произвела на него книга Кабе «Путешествие в Икарию». В ней писатель увидел светлое видение будущего мира, свободного не только от политического, но и от экономического угнетения. В сложной политической обстановке того времени Жюль Верн обрел себе светоч в лице науки: в ней он нашел ту романтику, которой ему не хватало в окружающей его жизни; в науке он нашел содержание своей жизни. Так он встретился с той Францией, к которой стремился, но которой до этого не знал. Местом, где встретились две Франции — Наполеона малого и французского народа, — была Всемирная выставка 1855 года, великий праздник человеческого труда. …Это было какое-то государство машин, страна, населенная тысячами механизмов. Гремели паровые молоты, жужжали веретена текстильных машин, работали токарные станки, вертелись исполинские мельницы, тяжко дышали медлительные и шумные насосы, пыхтели трудолюбивые локомобили. Паровые автомобили, паровозы-великаны, готовые ринуться в путь по всем дорогам и путям земного шара, говорили, казалось, о полной победе над природой. Гигантские паровые машины бились, как металлические сердца, дающие жизнь современной промышленности, душой которой был пар. Много лет назад, ещё при посещении Эндре, маленького мальчика поразила бездушная мощь паровых механизмов. Теперь Жюль Верн видел воочию, что с помощью этих слуг человек может стать великаном, шагать через моря, пробивать дороги сквозь горы и прокладывать пути через пустыню. Но пар вдруг показался ему детской романтикой перед другим миром — заманчивым и таинственным. Это были несовершенные проекты газовых двигателей, мечты о применении недавно открытого керосина, грубые чертежи фантастических летательных машин тяжелее воздуха и удивительные электрические приборы и механизмы. Жюлю Верну казалось, что в этих неясных, смутных набросках он мог прочесть будущее человечества: здесь спала та волшебная куколка, что обещала всем, кто обладал активным зрением, вылететь когда-нибудь ослепительной бабочкой, способной подняться до самых звезд. Так, на скрещении всех ветров века родился великий замысел «Необыкновенных путешествий»: взять в своё владение всю гигантскую область науки, одухотворить её новыми героями и их руками завоевать блистающий мир грядущего. На смену герою-аристократу, герою-мещанину, герою-обывателю в романах Жюля Верна пришел новый герой — инженер, изобретатель, творец. Сцена, где действует этот герой, не узкий домашний круг, не светский салон или даже придворный круг, но его мастерская, его лаборатория — воздушная, подземная, пусть даже межпланетная — и открываемый им заново огромный мир. Но герои первых романов Жюля Верна были одиночками, как и сам писатель в те годы. Когда же из скромного служащего парижской биржи, лишь на досуге занимающегося литературой, он стал знаменитым писателем, властителем дум молодого поколения, необыкновенно расширился круг его знакомств и его кругозор. Жюль Верн воочию сталкивается с той молодой борющейся Францией, в которую он верил. В конце шестидесятых годов писатель знакомится и сближается со многими, кто несколько лет спустя стали руководителями и участниками первого в мире опыта создания государства пролетарской диктатуры. В числе его ближайших друзей были Паскаль Груссе, страстный революционер, последователь Фурье, ведавший в правительстве Коммуны внешними сношениями, Луиза Мишель, «Красная Дева Коммуны», и знаменитый географ Элизе Реклю, член Интернационала и будущий участник парижского восстания. Именно в эти годы сложился у писателя план знаменитой трилогии, герои которой отличаются новыми чертами. Это не просто ученые или путешественники, но страстные борцы против всех видов национального и колониального гнета, против эксплуатации человека человеком. Если это изобретатели или люди науки, то их творческая деятельность направлена уже не на достижения счастья человечества лишь в отдаленном будущем, а служит непосредственно насущным задачам трудового человеческого коллектива или делу освобождения угнетенных, борьбе против ненавистного Жюлю Верну колониального гнета, делу свободы. Свобода! Как часто встречается это слово на страницах книг французского писателя! «Море, музыка и свобода — вот всё, что я люблю», — сказал однажды Жюль Верн своему племяннику. Неудивительно, что в последующих книгах Жюля Верна, написанных уже после падения второй империи, мы встретимся с изображением готовящейся венгерской революции, тайпинского движения в Китае, восстания индийского народа против английского владычества, с мятежом Джона Бруно и войной Севера против Юга в Америке за освобождение негров. Жюль Верн рассказал о колониальном рабстве в Африке и Австралии, о захватнических войнах Англии против народа Новой Зеландии, о восстании греков против турецкого ига, о русском, революционном движении. Такова тематика «Необыкновенных путешествий» и кругозор Жюля Верна. Патриот, считающий Францию вождем мирового прогресса, Жюль Верн в то же время был чужд национальной и расовой ограниченности. Ему мало было Франции и Европы — ему нужен был весь земной шар, чтобы показать могущество труда человека — любой национальности, с любым цветом кожи. Охотник-готтентот Мокум, рабыня Зерма, негр Геркулес, австралийский туземец Толине, индианка Ауда, турок Керабан, действующие лица романа «Треволнения одного китайца» — все они стоят наравне с европейцами и американцами. А индиец Немо и негр Наб поставлены даже выше: один — как великий борец за свободу, другой — как участник утопической коммуны на Таинственном острове. Сейчас, по прошествии многих десятилетий, нам приходится с большим трудом расшифровывать намеки, разбросанные по страницам книг Жюля Верна, говорящие о его политических взглядах, о его мечтах о светлом будущем человечества, освобожденного от всех цепей. Но современники писателя, близкие к революционному движению, мечтающие о социальном равенстве, принадлежащие к лагерю демократии, ненавидящие, как и сам Жюль Верн, корыстный и жестокий буржуазный строй, отлично понимали его с полуслова. Великий фантаст не забавлял своих читателей, как утверждают его буржуазные биографы, а звал их вперед, к лучшему будущему. Поэтому-то его слава и выросла так стремительно. Один из биографов писателя, Шарль Лемир, рассказывает, что в 1875 году, в одной из жалких хижин «поселенцев Новой Каледонии», он обнаружил на стене портрет Жюля Верна, повидимому вырезанный из какого-то журнала. Лемир не говорит, что это за хижины, но мы знаем, что это поселок сосланных коммунаров. И ясно становится, что Жюль Верн был дорог героям пролетарской революции, что они любили его, как близкого по духу человека, и не забывали о нем в горьчайшие годы каторги и ссылки.„КАПИТАН ВЕРН"
В маленькой рыбацкой деревушке Ле Кротуа, лежащей в устье Соммы, в пяти километрах от открытого моря и в пятидесяти от Амьена, ранней весной 1866 года появился новый обитатель. Это был статный мужчина небольшого роста, похожий на капитана дальнего плавания, светлоглазый и светловолосый. Вместе с четырехлетним сыном Мишелем незнакомец поселился на берегу, в крохотном домике — не больше фургона для перевозки мебели. Из окон этого жилища открывался широкий вид на песчаные дюны, покрытые редкой травой, крохотные лодочки рыбаков, вытащенные на прибрежный песок, и холодное зеркало Ла-Манша. Незнакомец очень скоро подружился с двумя рыбаками, пенсионерами французского военного флота. Александр Лелонг, или просто Сандр, бывший боцман, был участником крымской и итальянской компаний. Биография Альфреда Берло была более запутанной: по его словам, он объехал весь свет — все известные и неизвестные его части, сражался с дикарями и даже побывал в плену у канаков, которые собирались его съесть… Новые друзья учили мальчика ловить креветок и рассказывали своему гостю нормандские легенды и старинные матросские небылицы о морском змее. Они показывали ему то место, откуда отправился в свое последнее плавание амьенский инженер Пети, построивший подводный корабль и погибший на нем в 1850 году. Креветки были главной добычей местных рыбаков. Они называли свои лодки с открытой кормой и широким корпусом «кузнечиками». Одна из таких шхун стояла на якоре, недалеко от берега, а на рее у неё красовалось объявление: «Продается. Спросить у мсье Рене». Незнакомец заинтересовался. Старый Сандр был призван в качестве советчика и консультанта, и после его тщательного и придирчивого осмотра и долгой торговли сделка была совершена. С помощью местного плотника — единственного в Ле Кротуа — меньше чем в месяц рыбачья лодка была превращена в некоторое подобие яхты. В честь небесного покровителя нормандских рыбаков суденышко получило имя «Сен-Мишель», чему немало радовался маленький сын нового хозяина, а на первой странице судового журнала корабля гордо красовалась надпись: «Судовладелец и капитан Жюль Верн». Писатель в это время находился на вершине своей славы. Его герои уже совершили путешествие на воздушном шаре в Центральную Африку, побывали в центре Земли, облетели вокруг Луны. Вместе с капитаном Гаттерасом они открыли Северный полюс и в поисках капитана Гранта объехали вокруг света. Теперь сам писатель стал капитаном, и это звание в иные минуты было для него, быть может, дороже его литературной славы. Его корабль представлял собой удивительную смесь яхты и рыбачьей лодки. Если для жителей Ле Кротуа «Сен-Мишель» всё ещё оставался «кузнечиком», то для нового владельца это была реализация многолетней мечты, воплощение грёз детства и юности. Восемь тонн водоизмещения; впереди кубрик — вернее, дыра — для команды; на корме — каюта для капитана и пассажиров, высотой и шириной меньше полутора, длиной около двух метров, — разве этого мало для человека с воображением? Правда, обставлена каюта была не слишком роскошно: две лавки с тюфяками из морской травы — сиденья днем и спальные койки ночью; доска на шарнирах, заменяющая письменный стол; висячий шкаф, где хранились судовой журнал и «корабельная библиотека», состоящая из астрономического альманаха, морских карт и нескольких географических словарей… В матросском берете и простой блузе из толстого синего сукна или вязаной фуфайке в ясные дни, в непромокаемом плаще и клеёнчатой рыбацкой шляпе в непогоду, «капитан Верн» вел журнал плавания, определял по солнцу местоположение судна и наносил его на карту, следил за «хронометром» и, стоя на крохотном мостике, с достоинством командовал своим экипажем, состоящим всё из тех же двух рыбаков — Лелонга и Берло, молчаливо взиравших на мир с флегматичностью истых морских волков. Очень часто встречные корабли первые салютовали маленькому паруснику, храбро пробирающемуся между волнами, а капитаны пакетботов выкрикивали в рупор слова привета. Эти знаки внимания относились, конечно, не к «Сен-Мишелю», а к его владельцу. И «капитан Верн» неизменно вежливо отвечал им, салютуя своим собственным флагом — трехцветным со звездой.
Порядок на судне царил образцовый, матросы беспрекословно исполняли приказания своего командира, но лишь до поры до времени. Стоило разразиться шторму, как седой Сандр брал на себя команду, а разжалованный капитан вместе с Альфредом крепил паруса, тянул снасти, становился у штурвала, подчиняясь всем приказаниям, произносимым хриплым голосом старого морского волка…
Экипаж обожал своего капитана. «У него только один недостаток, — говаривал Сандр: — он ничего не понимает в рыбной ловле и не считает рыбу пойманной до тех пор, пока она не очутилась у него на вилке. Он, правда, не запрещает нам забрасывать удочки и даже сети, но в «Сен-Мишеле» есть, должно быть, что-то роковое. Когда мы ловим со своих рыбачьих судов, то ловим любую рыбу, она хватает всякую приманку. Тут накорми её хоть трюфелями — не берет! И при каждой нашей попытке он еще смеется над нами.
Очень часто встречные корабли первые салютовали маленькому паруснику, храбро пробирающемуся между волнами, а капитаны пакетботов выкрикивали в рупор слова привета. Эти знаки внимания относились, конечно, не к «Сен-Мишелю», а к его владельцу. И «капитан Верн» неизменно вежливо отвечал им, салютуя своим собственным флагом — трехцветным со звездой.
Порядок на судне царил образцовый, матросы беспрекословно исполняли приказания своего командира, но лишь до поры до времени. Стоило разразиться шторму, как седой Сандр брал на себя команду, а разжалованный капитан вместе с Альфредом крепил паруса, тянул снасти, становился у штурвала, подчиняясь всем приказаниям, произносимым хриплым голосом старого морского волка…
Экипаж обожал своего капитана. «У него только один недостаток, — говаривал Сандр: — он ничего не понимает в рыбной ловле и не считает рыбу пойманной до тех пор, пока она не очутилась у него на вилке. Он, правда, не запрещает нам забрасывать удочки и даже сети, но в «Сен-Мишеле» есть, должно быть, что-то роковое. Когда мы ловим со своих рыбачьих судов, то ловим любую рыбу, она хватает всякую приманку. Тут накорми её хоть трюфелями — не берет! И при каждой нашей попытке он еще смеется над нами.
 Однажды, когда «Сен-Мишель» лавировал у мыса Антифер, мы забросили свои удочки, и наконец рыба клюнула. Удочка дрогнула, мы вытащили её, и на крючке оказалась крупная макрель — первая макрель, которую нам удалось увидеть со дня отплытия. Вы представляете себе, как мы были довольны! Мы поглядели на капитана, торжествуя, что убедили его наконец. Он улыбался и молчал. Макрель лежала на палубе. Альфред взял её за жабры и хотел снять с крючка. Бац! Этот дьявол вдруг ударил хвостом, отцепился сам от крючка и прыгнул за борт. Такая досада! А капитан надрывался от смеха. Так мы и не доказали ему, что не только та рыба твоя, которая у тебя на вилке!»
Когда наступала осень, писатель с помощью экипажа и местных рыбаков вытаскивал свою яхту на берег и отправлялся в Париж. Но каждую весну он неизменно снова возвращался в Ле Кротуа.
«Сен-Мишель» обычно крейсировал вдоль побережья, от берегов Бретани на юге до северных берегов Франции, заплывая иногда в бельгийские и голландские воды. Изредка он даже отваживался пересекать пролив и посещать меловые берега Англии. Однажды во время подобного рейса у устья Темзы мимо них промчалось чудовищное видение — корабль с пятью трубами и шестью мачтами, знаменитый и несравненный «Грейт Истерн».
Во время этих летних плаваний на любимой яхте Жюль Верн, сидя в свой тесной, похожей на карцер, каюте, много работал. И в ясные утра, когда первый луч восходящего солнца, пронизывающий толщу океана, окрашивает всё в зеленый цвет; в прозрачные вечера, свежие от берегового бриза; в короткие летние ночи, украшенные жемчужной лентой Млечного Пути и вышитые созвездиями; в долгие дни — одни лишь моряки знают, какими длинными они кажутся, — писателя посещали мечты.
О чём мог он думать, лежа на палубе, рядом с маленькой медной пушкой, предметом любви и гордости маленького Мишеля? Что чудилось ему, когда он пристально всматривался в зеленые волны? Видел ли он в глубине моря необыкновенный подводный корабль в ореоле электрического сияния? Проносились ли над его головой чудесные воздушные и межпланетные корабли? Или он рисовал в своем воображении идеальный остров-коммуну где-то в Тихом океане, или преображенный мир будущего?
«Когда-нибудь я совершу путешествие на нём», — написал Жюль Верн, увидев в Лондоне строящийся корабль «Грейт Истерн». Прошло восемь лет. Он уже был капитаном и судовладельцем, но его мореходный опыт ограничивался лишь прибрежными морями. А мечта о кругосветном путешествии? Она всё ещё оставалась мечтой.
Но Жюль Верн был упрям и умел ждать. И наконец настал день, когда он отправился в заокеанское плавание — самое большое путешествие в своей жизни, на самом большом в мире корабле.
27 марта 1867 года в лондонском «Таймсе» появилось следующее сообщение:
«Грейт Истерн» отправился из устья Мерсеей в Нью-Йорк вчера в полдень… На борту его находится значительное число пассажиров, среди которых м-р Сайрес Филд и м-р Уоррен Барбер, директора Грейт Истерн Стимшип Компени».
Однажды, когда «Сен-Мишель» лавировал у мыса Антифер, мы забросили свои удочки, и наконец рыба клюнула. Удочка дрогнула, мы вытащили её, и на крючке оказалась крупная макрель — первая макрель, которую нам удалось увидеть со дня отплытия. Вы представляете себе, как мы были довольны! Мы поглядели на капитана, торжествуя, что убедили его наконец. Он улыбался и молчал. Макрель лежала на палубе. Альфред взял её за жабры и хотел снять с крючка. Бац! Этот дьявол вдруг ударил хвостом, отцепился сам от крючка и прыгнул за борт. Такая досада! А капитан надрывался от смеха. Так мы и не доказали ему, что не только та рыба твоя, которая у тебя на вилке!»
Когда наступала осень, писатель с помощью экипажа и местных рыбаков вытаскивал свою яхту на берег и отправлялся в Париж. Но каждую весну он неизменно снова возвращался в Ле Кротуа.
«Сен-Мишель» обычно крейсировал вдоль побережья, от берегов Бретани на юге до северных берегов Франции, заплывая иногда в бельгийские и голландские воды. Изредка он даже отваживался пересекать пролив и посещать меловые берега Англии. Однажды во время подобного рейса у устья Темзы мимо них промчалось чудовищное видение — корабль с пятью трубами и шестью мачтами, знаменитый и несравненный «Грейт Истерн».
Во время этих летних плаваний на любимой яхте Жюль Верн, сидя в свой тесной, похожей на карцер, каюте, много работал. И в ясные утра, когда первый луч восходящего солнца, пронизывающий толщу океана, окрашивает всё в зеленый цвет; в прозрачные вечера, свежие от берегового бриза; в короткие летние ночи, украшенные жемчужной лентой Млечного Пути и вышитые созвездиями; в долгие дни — одни лишь моряки знают, какими длинными они кажутся, — писателя посещали мечты.
О чём мог он думать, лежа на палубе, рядом с маленькой медной пушкой, предметом любви и гордости маленького Мишеля? Что чудилось ему, когда он пристально всматривался в зеленые волны? Видел ли он в глубине моря необыкновенный подводный корабль в ореоле электрического сияния? Проносились ли над его головой чудесные воздушные и межпланетные корабли? Или он рисовал в своем воображении идеальный остров-коммуну где-то в Тихом океане, или преображенный мир будущего?
«Когда-нибудь я совершу путешествие на нём», — написал Жюль Верн, увидев в Лондоне строящийся корабль «Грейт Истерн». Прошло восемь лет. Он уже был капитаном и судовладельцем, но его мореходный опыт ограничивался лишь прибрежными морями. А мечта о кругосветном путешествии? Она всё ещё оставалась мечтой.
Но Жюль Верн был упрям и умел ждать. И наконец настал день, когда он отправился в заокеанское плавание — самое большое путешествие в своей жизни, на самом большом в мире корабле.
27 марта 1867 года в лондонском «Таймсе» появилось следующее сообщение:
«Грейт Истерн» отправился из устья Мерсеей в Нью-Йорк вчера в полдень… На борту его находится значительное число пассажиров, среди которых м-р Сайрес Филд и м-р Уоррен Барбер, директора Грейт Истерн Стимшип Компени».
 Чопорная английская газета считала достойными внимания читателей лишь лиц, занимающих официальное положение. Она не сообщила, что в числе тысячи трехсот пассажиров гигантского корабля был всемирно известный писатель Жюль Верн.
«Грейт Истерн» — настоящее чудо техники своего времени — сделал всего лишь двадцать рейсов между Англией и Америкой. Невозможно было набрать на каждый рейс три тысячи пассажиров, составляющих комплект этого огромного плавающего города, и корабль был заброшен. О нём вспомнили только тогда, когда начались неудачи с прокладкой подводного телеграфного кабеля между Старым и Новым Светом. Девять лет инженер Сайрес Филд, главный организатор и вдохновитель работ, терпел неудачи. Тогда он вспомнил о «Грейт Истерне»: лишь он один мог вместить три тысячи четыреста километров проволоки, весившей четыре тсячи пятьсот тонн. На корабле были поставлены огромные резервуары с водой, где проволока предохранялась от доступа воздуха и прямо из этих пловучих озер поступала в океан. В 1866 году кабель наконец был проложен, и президент Соединенных Штатов Эндрью Джонсон послал английской королеве Виктории первую телеграмму с текстом из евангелия: «Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение».
В следующем, 1867 году, в связи с открытием новой Всемирной выставки, «Грейт Истерн» был снова переоборудован и отделан с небывалой роскошью — он превратился в настоящий пловучий дворец для предполагаемых заокеанских посетителей. Первый его рейс после ремонта превратился в настоящее событие.
В эту зиму Жюль Верн очень много работал. Кроме очередного романа из серии «Необыкновенные путешествия», он взялся за очень крупное предприятие: географ Теофиль Левалле, начавший большую работу по изданию огромной «Иллюстрированной географии Франции», умер в самом её разгаре, и Этцель предложил своему лучшему автору закончить книгу. Имя Жюля Верна было бы для неё лучшей рекламой, и поэтому он готов был платить щедро. Жюль долго колебался, прежде чем дал согласие: труд был тяжелый, ремесленный, но он сулил в будущем независимость. «Эта дополнительная работа даст Онорине несколько тысяч франков, необходимых для того, чтобы нанять новый дом и немного приодеться, — писал он отцу. — Мне же позволит совершить вместе с Полем путешествие на «Грейт Истерне», о котором я последнее время прожужжал тебе все уши…»
Поль Верн насчитывал за своими плечами уже двадцать лет плавания по морям. Океан стал его родиной, и он очень редко ступал на твердую землю и ещё реже мог видеться со своим братом. Неразлучные в детстве, братья много лет мечтали о том, чтобы как-нибудь провести свой отпуск вместе. И вот наконец, полные радости, как школьники, вырвавшиеся на каникулы, два брата, два «капитана Верна», стояли на набережной Ливерпуля, пытаясь что-либо рассмотреть сквозь утренний туман.
Маленький пароходик, предназначенный для перевозки пассажиров, принял наконец братьев на борт и ровно в семь утра отчалил от берега.
«Грейт Истерн» стоял на якорях почти в трех милях от Ливерпуля вверх по реке, — так рассказал об этой памятной встрече Жюль Верн. — С набережной Нью Принс его не было видно. Только когда мы обогнули берег в том месте, где река делает поворот, он появился перед нами. Казалось, что это был небольшой остров, наполовину окутанный туманом. Сначала мы увидели только носовую часть корабля, но когда пароход наш повернул, «Грейт Истерн» предстал перед нами во всю свою величину и поразил нас своей громадностью. Около него стояло три или четыре угольщика, которые ссыпали ему свой груз. Перед «Грейт Истерном» эти трехмачтовые суда казались небольшими баржами. Трубы их не доходили даже до первого ряда портов, а брам-стеньги не превышали его бортов. Гиганту ничего не стоило взять их в качестве паровых шлюпок. Тендер наш всё приближался к «Грейт Истерну» и наконец, подойдя к бак-борту корабля, остановился около широкого трапа, спускавшегося с него. Палуба тендера пришлась в уровень с ватерлинией «Грейт Истерна», на два метра поднимавшейся над водой вследствие его неполной нагрузки».
Заметки, беглые зарисовки и цифры заполнили записную книжку писателя. В первый день он сделал лишь самую лаконичную характеристику корабля:
Длина — больше двух гектометров (600 футов).
Тоннаж — 18 915.
Пассажиров–2186.
Мощность — 11 000 лошадиных сил.
Давление пара — 30 фунтов на квадратный дюйм.
Скорость — 13 узлов.
Мачт — 6.
Труб — 5.
Стоимость — 750 000 фунтов стерлингов.
Поль, для которого самое путешествие по морю было скучными буднями, ухаживал за красивыми пассажирками, организовывал веселые игры, эксцентрические концерты и танцы с переодеваниями, принимал участие в любительских спектаклях… Жюль же был озабочен поисками среди команды людей, принимавших участие в прокладке кабеля. Он хотел знать всё о жизни в морских глубинах, о течениях, проливах и тайфунах. Он добился интервью у самого Сайреса Филда, хотя трудно сказать, кто из двоих больше восхищался своим собеседником: создатель ли «Необыкновенных путешествий» или знаменитый автор «длинного кабеля» — как считают некоторые, прототип главного героя «Таинственного острова».
Вечерами писатель отправлялся на «бульвар» — так он шутливо именовал палубу. Он кичился, что, как истый парижанин, не мыслит жизни без бульваров, — и, опершись на поручни, глядел на безбрежное море…
«В воздухе чувствовался острый запах морокой воды, волны были покрыты пеной, в которой в виде радуги отражались переломленные лучи солнца. Внизу работал винт, свирепо разбивая волны своими сверкающими медными лопастями.
Чопорная английская газета считала достойными внимания читателей лишь лиц, занимающих официальное положение. Она не сообщила, что в числе тысячи трехсот пассажиров гигантского корабля был всемирно известный писатель Жюль Верн.
«Грейт Истерн» — настоящее чудо техники своего времени — сделал всего лишь двадцать рейсов между Англией и Америкой. Невозможно было набрать на каждый рейс три тысячи пассажиров, составляющих комплект этого огромного плавающего города, и корабль был заброшен. О нём вспомнили только тогда, когда начались неудачи с прокладкой подводного телеграфного кабеля между Старым и Новым Светом. Девять лет инженер Сайрес Филд, главный организатор и вдохновитель работ, терпел неудачи. Тогда он вспомнил о «Грейт Истерне»: лишь он один мог вместить три тысячи четыреста километров проволоки, весившей четыре тсячи пятьсот тонн. На корабле были поставлены огромные резервуары с водой, где проволока предохранялась от доступа воздуха и прямо из этих пловучих озер поступала в океан. В 1866 году кабель наконец был проложен, и президент Соединенных Штатов Эндрью Джонсон послал английской королеве Виктории первую телеграмму с текстом из евангелия: «Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение».
В следующем, 1867 году, в связи с открытием новой Всемирной выставки, «Грейт Истерн» был снова переоборудован и отделан с небывалой роскошью — он превратился в настоящий пловучий дворец для предполагаемых заокеанских посетителей. Первый его рейс после ремонта превратился в настоящее событие.
В эту зиму Жюль Верн очень много работал. Кроме очередного романа из серии «Необыкновенные путешествия», он взялся за очень крупное предприятие: географ Теофиль Левалле, начавший большую работу по изданию огромной «Иллюстрированной географии Франции», умер в самом её разгаре, и Этцель предложил своему лучшему автору закончить книгу. Имя Жюля Верна было бы для неё лучшей рекламой, и поэтому он готов был платить щедро. Жюль долго колебался, прежде чем дал согласие: труд был тяжелый, ремесленный, но он сулил в будущем независимость. «Эта дополнительная работа даст Онорине несколько тысяч франков, необходимых для того, чтобы нанять новый дом и немного приодеться, — писал он отцу. — Мне же позволит совершить вместе с Полем путешествие на «Грейт Истерне», о котором я последнее время прожужжал тебе все уши…»
Поль Верн насчитывал за своими плечами уже двадцать лет плавания по морям. Океан стал его родиной, и он очень редко ступал на твердую землю и ещё реже мог видеться со своим братом. Неразлучные в детстве, братья много лет мечтали о том, чтобы как-нибудь провести свой отпуск вместе. И вот наконец, полные радости, как школьники, вырвавшиеся на каникулы, два брата, два «капитана Верна», стояли на набережной Ливерпуля, пытаясь что-либо рассмотреть сквозь утренний туман.
Маленький пароходик, предназначенный для перевозки пассажиров, принял наконец братьев на борт и ровно в семь утра отчалил от берега.
«Грейт Истерн» стоял на якорях почти в трех милях от Ливерпуля вверх по реке, — так рассказал об этой памятной встрече Жюль Верн. — С набережной Нью Принс его не было видно. Только когда мы обогнули берег в том месте, где река делает поворот, он появился перед нами. Казалось, что это был небольшой остров, наполовину окутанный туманом. Сначала мы увидели только носовую часть корабля, но когда пароход наш повернул, «Грейт Истерн» предстал перед нами во всю свою величину и поразил нас своей громадностью. Около него стояло три или четыре угольщика, которые ссыпали ему свой груз. Перед «Грейт Истерном» эти трехмачтовые суда казались небольшими баржами. Трубы их не доходили даже до первого ряда портов, а брам-стеньги не превышали его бортов. Гиганту ничего не стоило взять их в качестве паровых шлюпок. Тендер наш всё приближался к «Грейт Истерну» и наконец, подойдя к бак-борту корабля, остановился около широкого трапа, спускавшегося с него. Палуба тендера пришлась в уровень с ватерлинией «Грейт Истерна», на два метра поднимавшейся над водой вследствие его неполной нагрузки».
Заметки, беглые зарисовки и цифры заполнили записную книжку писателя. В первый день он сделал лишь самую лаконичную характеристику корабля:
Длина — больше двух гектометров (600 футов).
Тоннаж — 18 915.
Пассажиров–2186.
Мощность — 11 000 лошадиных сил.
Давление пара — 30 фунтов на квадратный дюйм.
Скорость — 13 узлов.
Мачт — 6.
Труб — 5.
Стоимость — 750 000 фунтов стерлингов.
Поль, для которого самое путешествие по морю было скучными буднями, ухаживал за красивыми пассажирками, организовывал веселые игры, эксцентрические концерты и танцы с переодеваниями, принимал участие в любительских спектаклях… Жюль же был озабочен поисками среди команды людей, принимавших участие в прокладке кабеля. Он хотел знать всё о жизни в морских глубинах, о течениях, проливах и тайфунах. Он добился интервью у самого Сайреса Филда, хотя трудно сказать, кто из двоих больше восхищался своим собеседником: создатель ли «Необыкновенных путешествий» или знаменитый автор «длинного кабеля» — как считают некоторые, прототип главного героя «Таинственного острова».
Вечерами писатель отправлялся на «бульвар» — так он шутливо именовал палубу. Он кичился, что, как истый парижанин, не мыслит жизни без бульваров, — и, опершись на поручни, глядел на безбрежное море…
«В воздухе чувствовался острый запах морокой воды, волны были покрыты пеной, в которой в виде радуги отражались переломленные лучи солнца. Внизу работал винт, свирепо разбивая волны своими сверкающими медными лопастями.
 Море казалось беспредельной массой расплавленного изумруда. Бесконечный след корабля, беловатой полосой выделявшийся на поверхности моря, походил на громадную кружевную вуаль, наброшенную на голубой фон. Белокрылые чайки то и дело проносились над нами…»
Когда открылись американские берега, пассажиры стали ожидать лоцмана. Начались безумные пари американцев, возвращающихся на родину:
— Десять долларов за то, что лоцман женат!
— Двадцать, что он вдовец!
— Тридцать, что у него рыжие бакенбарды!
— Шестьдесят, что у него на носу бородавка!
— Сто долларов за то, что он вступит на палубу правой ногой!
— Держу пари, что он будет курить!
— У него будет трубка во рту!
— Нет, сигара!
— Нет! Да! Нет! — раздавалось со всех сторон.
Наконец столь нетерпеливо ожидаемый лоцман прибыл. Он был маленького роста и совсем не походил на моряка. На нем были черные брюки, коричневый сюртук с красной подкладкой и клеенчатая фуражка. В руках он держал большой дождевой зонтик.
Его встретили радостные приветствия выигравших и крики неудовольствия проигравших.
Оказалось, что лоцман был женат, что у него не было бородавки и что усы у него светлые. На палубу же он спрыгнул обеими ногами.
За его спиной — там, совсем рядом, — лежал Новый Свет.
Корабль ошвартовался у нью-йоркской набережной 9 апреля. Братья остановились в отеле «Пятое авеню». Им предстояло осмотреть Америку в одну неделю.
Дни эти пролетели, как феерия. Путешественники посетили Олбани, Рочестер и Буффало и пересекли канадскую границу. В общем, они сделали за эту неделю больше километров, чем многие нью-йоркские жители за всю жизнь. Они успели даже посмотреть в театре Финеаса Барнума сенсационную драму «Улицы Нью-Йорка». В четвертом акте её был изображен пожар, который тушили настоящие пожарные с применением парового насоса. «Этим, вероятно, и объясняется успех пьесы», — иронически записал Жюль Верн.
Но зато Ниагара привела его в восторг:
«Эта местность — одна из прекраснейших в целом мире; тут природа соединила всё, чтобы блеснуть своей красотой. На повороте Ниагара отличается удивительно разнообразными оттенками. Около острова вода покрыта белой пеной, похожей на снег; в центре водопада она зеленого цвета морской волны, что доказывает значительную глубину её в этом месте; около же канадского берега она имеет вид расплавленного золота. Внизу можно рассмотреть огромные льдины, похожие на чудовищ, в раскрытой пасти которых исчезает Ниагара. В полумиле от водопада река опять спокойна, и поверхность её покрыта льдом, не успевшим ещё растаять от первых лучей апрельского солнца».
В полдень 16 апреля «Грейт Истерн» отправился в обратный путь. К величайшему неудовольствию компании, на борту его находился всего лишь сто девяносто один пассажир.
Через две недели корабль ошвартовался в Бресте, а еще через два дня Жюль уже был в Ле Кротуа, где его ждали Онорина с детьми и «Сен-Мишель» на якоре, блестевший новой краской и готовый к новому плаванию.
«Капитан Верн» вступил на мостик своего корабля походкой старого морского волка — шутка ли, он за месяц два раза пересёк океан и сделал много тысяч миль на самом большом судне в мире!.. Но когда он поднял на мачте свой флаг — трехцветный со звездой, он вдруг почувствовал, что «Сен-Мишель» не может сравниться ни с одним парусником или пароходом земного шара, потому что это был его корабль.
«Теперь, когда я сижу за своим письменным столом, — записал он, — мое путешествие на «Грейт Истерне» и дивная Ниагара могли бы показаться мне сном, если бы передо мною не лежали мои путевые заметки.
Нет на свете ничего лучше путешествий!»
Море казалось беспредельной массой расплавленного изумруда. Бесконечный след корабля, беловатой полосой выделявшийся на поверхности моря, походил на громадную кружевную вуаль, наброшенную на голубой фон. Белокрылые чайки то и дело проносились над нами…»
Когда открылись американские берега, пассажиры стали ожидать лоцмана. Начались безумные пари американцев, возвращающихся на родину:
— Десять долларов за то, что лоцман женат!
— Двадцать, что он вдовец!
— Тридцать, что у него рыжие бакенбарды!
— Шестьдесят, что у него на носу бородавка!
— Сто долларов за то, что он вступит на палубу правой ногой!
— Держу пари, что он будет курить!
— У него будет трубка во рту!
— Нет, сигара!
— Нет! Да! Нет! — раздавалось со всех сторон.
Наконец столь нетерпеливо ожидаемый лоцман прибыл. Он был маленького роста и совсем не походил на моряка. На нем были черные брюки, коричневый сюртук с красной подкладкой и клеенчатая фуражка. В руках он держал большой дождевой зонтик.
Его встретили радостные приветствия выигравших и крики неудовольствия проигравших.
Оказалось, что лоцман был женат, что у него не было бородавки и что усы у него светлые. На палубу же он спрыгнул обеими ногами.
За его спиной — там, совсем рядом, — лежал Новый Свет.
Корабль ошвартовался у нью-йоркской набережной 9 апреля. Братья остановились в отеле «Пятое авеню». Им предстояло осмотреть Америку в одну неделю.
Дни эти пролетели, как феерия. Путешественники посетили Олбани, Рочестер и Буффало и пересекли канадскую границу. В общем, они сделали за эту неделю больше километров, чем многие нью-йоркские жители за всю жизнь. Они успели даже посмотреть в театре Финеаса Барнума сенсационную драму «Улицы Нью-Йорка». В четвертом акте её был изображен пожар, который тушили настоящие пожарные с применением парового насоса. «Этим, вероятно, и объясняется успех пьесы», — иронически записал Жюль Верн.
Но зато Ниагара привела его в восторг:
«Эта местность — одна из прекраснейших в целом мире; тут природа соединила всё, чтобы блеснуть своей красотой. На повороте Ниагара отличается удивительно разнообразными оттенками. Около острова вода покрыта белой пеной, похожей на снег; в центре водопада она зеленого цвета морской волны, что доказывает значительную глубину её в этом месте; около же канадского берега она имеет вид расплавленного золота. Внизу можно рассмотреть огромные льдины, похожие на чудовищ, в раскрытой пасти которых исчезает Ниагара. В полумиле от водопада река опять спокойна, и поверхность её покрыта льдом, не успевшим ещё растаять от первых лучей апрельского солнца».
В полдень 16 апреля «Грейт Истерн» отправился в обратный путь. К величайшему неудовольствию компании, на борту его находился всего лишь сто девяносто один пассажир.
Через две недели корабль ошвартовался в Бресте, а еще через два дня Жюль уже был в Ле Кротуа, где его ждали Онорина с детьми и «Сен-Мишель» на якоре, блестевший новой краской и готовый к новому плаванию.
«Капитан Верн» вступил на мостик своего корабля походкой старого морского волка — шутка ли, он за месяц два раза пересёк океан и сделал много тысяч миль на самом большом судне в мире!.. Но когда он поднял на мачте свой флаг — трехцветный со звездой, он вдруг почувствовал, что «Сен-Мишель» не может сравниться ни с одним парусником или пароходом земного шара, потому что это был его корабль.
«Теперь, когда я сижу за своим письменным столом, — записал он, — мое путешествие на «Грейт Истерне» и дивная Ниагара могли бы показаться мне сном, если бы передо мною не лежали мои путевые заметки.
Нет на свете ничего лучше путешествий!»
ГЕНИЙ МОРЯ
Ранней весной 1868 года «Сен-Мишель» снова снялся с якоря. Его видели далеко в открытом море и в маленьких рыбацких деревушках у устья Соммы. Дважды он пересекал Ла-Манш и снова возвращался к берегам Франции. Он рыскал то туда, то сюда, казалось потеряв направление, и почти всегда его «капитанский мостик» был пуст; только трехцветный флаг со звездой говорил о том, что «капитан Верн» находился на борту.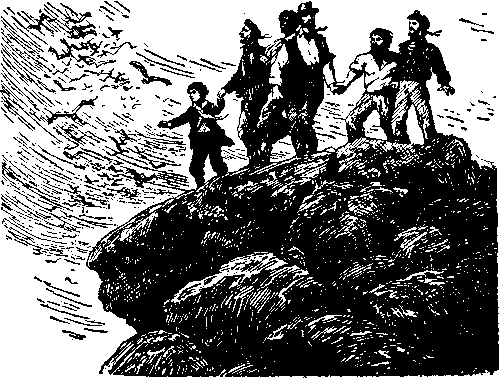 …Он почти не покидал каюты и, только когда его усталые глаза отказывались служить, позволял себе подняться на несколько минут на палубу. А на откидной доске, заменяющей стол, каждый день росла стопка листов, исписанных карандашом, мелким ровным почерком.
«1866 год ознаменовался странным событием, которое, без сомнения, до сих пор ещё памятно многим, — так начиналась рукопись. — Это событие встревожило в особенности моряков… Дело в том, что с некоторого времени многие корабли встречали в море что-то огромное, какой-то длинный веретенообразный предмет, порою светившийся в темноте, своими размерами значительно превосходивший кита и поражавший быстротою своих движений».
На первой странице было выведено заглавие: «Путешествие под водой».
Мечта о море не могла быть страстью, пока не превратилась в действительность. Замечательный роман «Дети капитана Гранта» был всё же произведением жителя суши. Новая книга Жюля Верна была рождена не картой полушарий и не географическим лексиконом. Мятежный дух моря бьет в тесные рамки каждой страницы, и никакая сила воображения не смогла бы заставить голос океана так петь в наших ушах, если бы автор не прослушал эту песню один на один со стихией. Жюлю Верну было в это время сорок лет — вершина его позднего расцвета, и все свои силы, все мечты, что накопились за много лет, он вложил в эту самую любимую, быть может свою лучшую книгу.
Подводный корабль капитана Немо тоже не был плодом одного воображения. Он имеет свою длинную историю, которую подлинный его конструктор изучал в эту зиму в светлом зале Национальной библиотеки на улице Ришелье.
Служащие Национальной библиотеки не успевали выполнять заказы своего постоянного посетителя. Его излюбленный стол в дальнем углу зала был завален пожелтевшими, старыми томами, картами, техническими справочниками, журналами, газетами. Жюль Верн со страстью исследователя искал предков своего подводного корабля, который медленно строился в его воображении.
В старом морском журнале за 1820 год он нашел статью лейтенанта Монжери, который описал первые в мире «подводные лодки».
Запорожские казаки, засевшие в своей неприступной Сечи на острове Хортица, издавна славились выдумкой и военными хитростями. Побывавший у них французский иезуит Фурнье рассказал о «подводных пирогах», которыми запорожцы пользовались во время своих набегов. Просмоленный челнок перевертывался, причем к бортам его для погружения привязывались мешки с песком. Оставшегося под дном лодки воздуха было достаточно, чтобы под её прикрытием несколько человек могли незаметно подобраться по неглубокому месту к ничего не подозревавшему противнику.
Затем Жюль Верн стал листать запыленные отчеты английского Королевского общества. В 1620 году работавший в Англии голландский ученый Корнелиус ван Дреббель построил для короля Якова настоящую подводную лодку. Это была длинная бочка, обтянутая кожей и снабженная кожаными мехами. Для погружения в мехи пускали воду, и лодка уходила вниз. Чтобы всплыть, достаточно было выкачать воду из мехов. Пятнадцать человек команды приводили её в движение обыкновенными веслами. Первое подводное судно могло опускаться на глубину в четырнадцать метров и довольно долго оставаться под водой, но практического значения оно не имело никакого. Некоторое время придворные забавлялись подводными прогулками, и даже сам король однажды отважился совершить с ван Дреббелем путешествие под водами Темзы. Однако смерть изобретателя остановила его работу.
Англичане и голландцы после работ ван Дреббеля делали целый ряд попыток и создали много неудачных проектов и моделей. Английский изобретатель Дей даже погиб при испытании своего тридцатитонного судна — это была первая жертва подводного плавания. Прошло полтора столетия, прежде чем был построен настоящий подводный корабль.
Американский инженер Башнелл, талантливый изобретатель, создал свой корабль не для развлечения, а для войны. Его вдохновляла любовь к родине, освобожденной от английского владычества. Он был фанатиком свободы и через много лет, при первых же зорях французской революции, переплыл океан, чтобы погибнуть в сражениях с врагами молодой республики.
«Черепаха» Башнелла была первой в мире металлической подводной лодкой. Её корпус, похожий на огромное яйцо, состоял из двух железных половинок, свинченных болтами. Входной люк был закрыт медным колпаком со стеклянными окошечками. За шестьдесят лет до появления винтовых судов изобретатель применил на своем корабле не весла или колеса, а гребной винт, но, не имея другого двигателя — ведь в те годы даже на больших судах не удавалось установить паровую машину, — он вынужден был приводить его в движение вручную.
Экипаж «Черепахи» состоял из командира, минера и матросов. Все эти должности занимал лишь один человек — сержант Эзра Ли, первый в мире подводник.
В темную февральскую ночь 1777 года английская эскадра, стоящая на рейде Нью-Йорка, была атакована «Черепахой». Первая в мире подводная мина, взорвавшаяся близ борта флагманского корабля «Орел» («Игл»), однако, не принесла ему вреда, а подводное судно при этом погибло.
В 1797 году, в разгар революционной войны против Англии, американский инженер Роберт Фультон представил французскому республиканскому правительству проект подводного судна. «При помощи моей подводной лодки, — писал он, — можно заставить англичан не только снять блокаду с французских берегов, но, может быть, даже перенести самый театр военных действий на берега Великобритании».
Корабль Фультона был удлиненной, сигарообразной формы. Его медный корпус был скреплен железным каркасом. Гребной винт вращали четыре человека, а когда судно поднималось на поверхность, то складная мачта с парусом превращала его в обычный надводный корабль.
В тропических морях существует моллюск, живущий в спирально закрученной раковине и умеющий погружаться и всплывать, меняя объем внутренних камер своего жилища. Раскрыв свою кожистую мантию, он может довольно быстро двигаться по ветру. Моллюск этот носит название «кораблик», или, по-латыни, «наутилус». Это название Фультон и избрал для своего корабля.
В 1800 и 1801 годах в Париже, на Сене, а также в Гавре и Бресте происходили испытания подводного корабля. «Наутилус» опускался на глубину в сорок метров. Впервые примененный Фультоном сжатый воздух в стальных баллонах позволял ему держаться под водой четыре часа. Подводной миной, которую Фультон назвал торпедой, была взорвана старая баржа, стоявшая на рейде Гавра…
Но, с другой стороны, Фультон и его помощники, работая как гребцы, не могли двигать корабль со скоростью больше трех километров вчас. Выйдя в поисках противника в открытое море, «Наутилус» не смог угнаться за быстроходным английским парусником. Освещение этого подводного судна составляла… обыкновенная сальная свеча!
Генерал Бонапарт, впоследствии император Наполеон, стоявший в те годы во главе Франции, на докладе комиссии, в которую, между прочим, входили знаменитые ученые Лаплас и Монж, наложил следующую резолюцию:
«Дальнейшие опыты с подводной лодкой американского гражданина Фультона прекратить».
Но это не было ни концом работ Фультона, ни гибелью идеи. «Наутилус» продолжал жить в умах изобретателей. В 1810 году братья Куэссен построили новый подводный корабль по чертежам Фультона и снова назвали его «Наутилус», но судно погибло по неизвестной причине при первом же погружении.
Пятьдесят лет прошло в опытах и испытаниях. Подводные лодки строились в России, Англии, Америке и даже в Испании. Один из таких проектов был предназначен для бегства Наполеона с острова святой Елены. Но все эти суда были подлинными потомками ван дреббелевской лодки: весла и паруса, в лучшем случае — винт, приводимый в движение вручную, — вот и всё их нехитрое машинное оборудование. Нет, это не были «наутилусы», но лишь «черепахи», или, вернее, морские кроты, обреченные на подводную слепоту.
Но эти незрелые творения человеческого гения, ещё не научившиеся ходить, уже были обречены сражаться. Полуподводные торпедные лодки «Давиды» участвовали в американской гражданской войне, и одна из них, «Ханли», 17 февраля 1864 года в Чарльстонской гавани взорвала двенадцатипушечный шлюп «Хаузатоник» с командой в триста человек. Жюлю Верну особенно запомнилась деталь: маленький «давид», пожертвовавший своей жизнью, был втянут хлынувшей водой в пробоину и, словно протаранив корпус гиганта, вместе с ним опустился на дно бухты.
А совсем недалеко от Национальной библиотеки, в Морском музее, помещающемся в Луврском дворце, Жюль Верн мог воочию видеть последнее слово подводной техники — модель корабля-гиганта «Плонжер» («Водолаз»).
Спроектированный адмиралом Буржуа и построенный инженером Шарлем Брюн, «Водолаз», спущенный на воду в Рошфоре в 1863 году, был для своего времени настоящим чудом техники. Он был огромен — четыреста пятьдесят тонн водоизмещения! — снабжен горизонтальными рулями, вооружен шестовой миной и впервые в мире имел механический двигатель, но…
Двигатель, приводимый в действие сжатым воздухом, мог обеспечить скорость всего лишь в четыре узла, а запаса воздуха хватало всего лишь… на полтора часа, и, как и все его подводные предки, «Водолаз» был слеп.
Опыты с этим подводным судном были прекращены в 1866 году, но великолепно сделанная модель осталась в музее. Жюль Верн неоднократно изучал её, припав к стеклу витрины. От его внимательного взора не ускользнула даже такая деталь, как маленькая «дочерняя» подводная шлюпка, убирающаяся в корпус корабля и могущая самостоятельно всплывать на поверхность.
Нет, подводное судно не было идеей Жюля Верна; он даже не был первым, кто ввел эту тему в литературу. Подводный корабль уже фигурировал в «Новой Атлантиде» Бекона, и всего лишь за несколько лет до того, как была начата работа над рукописью, озаглавленной «Путешествие под водой», в Париже вышла никем не замеченная книга Роберта Рангад «Под волнами», снабженная подзаголовком: «Необычайное путешествие доктора Тринитуса на подводном корабле «Молния».
Нужно ли зачислить чудодейственную «Молнию» в список предков великого «Наутилуса» французского романиста? Попробуем вчитаться в эту маленькую, ныне всеми забытую книжечку:
«Они увидали посреди комнаты блестящую медную машину величиной с вагон; она имела форму огромного яйца, несколько сплюснутого снизу и с боков. По сторонам было устроено по два больших окна, служащих в то же время и дверями. Они состояли из цельных кусков стекла, чрезвычайно толстого, но удивительно прозрачного. Снизу и с боков выходили широкие лопатки, похожие на плавники рыб, а под рулем, устроенным назади, находился Архимедов винт».
Что же было сердцем этого удивительного корабля? Какая сила оживляла его и приводила в движение?
Голос доктора Тринитуса должен был звучать для ушей Жюля Верна почти как откровение — ведь это было сказано в середине XIX века:
«Под нашими ногами находится сила, которая движет лодку. Это огромные гальванические батареи, доставляющие громадное количество электричества. Большие спирали гораздо сильнее румкорфовых и во сто раз увеличивают силу тока».
«Молния», зрячая «Молния», одушевленная электрическими механизмами, не предназначалась для военных целей. Отправляясь в кругосветное путешествие, в поисках жены и дочери, пропавших без вести, Тринитус мечтал и о научной работе. «Мы будем иметь возможность спуститься в море столь же легко, как с помощью водолазного колокола», — говорил он своим спутникам. И действительно, подводные путешественники во время плавания, одевшись в скафандры, покидали корабль и совершали необыкновенные экскурсии по дну океана. Они наблюдали за жизнью рыб и морских животных, присутствовали при извержении подводного вулкана и сражались с чудовищами.
Всё это было настолько близко интересам Жюля Верна, что мечта Тринитуса не могла не стать его собственной мечтой.
«Я хотел на этой лодке пройти через полюс, плывя подо льдом!» — говорит доктор Тринитус.
Как, разве Жюль Верн не был романистом-прорицателем, писателем-пророком, далеко заглянувшим в будущее и создавшим свой фантастический подводный корабль задолго до рождения реальных подводных лодок? Разве он не был пролагателем новых путей в науке?
Увы, нет! Приходится опровергнуть и эту легенду, быть может наиболее живучую из всех. Но это разоблачение ничуть не унижает нашего героя, так как место легенды занимает правда. И, отодвинув нарядные покровы, мы видим Жюля Верна гораздо более великого, чем знали до сих пор. Ведь литературный предок «Наутилуса» всего лишь на четыре года моложе весельной подводной лодки ван Дреббеля. В утопии Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» уже был описан океанский корабль, способный опускаться под воду и плавать под волнами, где ему не были страшны ни ветры, ни бури. Так почему же должны были пройти два с половиной столетия до рождения «Наутилуса» Жюля Верна, ставшего бессмертным?
Да, Жюль Верн стоял в центре научных интересов и идей своего времени, он видел науку и технику не застывшими, но в тенденциях их развития, которые он понимал лучше, чем многие его современники. Но ведь со времени опубликования романа о «Наутилусе» прошло три четверти века, техника неимоверно шагнула вперед, подводное плавание из первых попыток и романтической мечты давно уже превратилось в обыденность. Почему же именно подводное судно Жюля Верна, единственный из всех «Наутилусов», не стареет до сих пор? Почему роман великого мечтателя всё ещё не потерял своего обаяния? Почему и в наши дни он чарует читателей всех стран?
Секрет Жюля Верна в том, что впервые в художественной литературе — и это нужно подчеркнуть — у него научно-техническая тема стала не только фоном или деталью, но и самым материалом и основной темой произведения.
Но и этого ещё недостаточно. Главное — в том, что техника и человек составили у него одно неделимое целое. В центре повествования у него становится не бездушная машина, но действенная научная идея, душой которой является человек.
Человек — это не только ключ к произведениям Верна, но и пробный камень для всех подлинно художественных произведений любого жанра. Это универсальный ключ ко всей нашей гуманистической культуре. Именно поэтому «Наутилус» жив в нашей стране, жив бессмертием своего создателя и гения — капитана Немо.
…Он почти не покидал каюты и, только когда его усталые глаза отказывались служить, позволял себе подняться на несколько минут на палубу. А на откидной доске, заменяющей стол, каждый день росла стопка листов, исписанных карандашом, мелким ровным почерком.
«1866 год ознаменовался странным событием, которое, без сомнения, до сих пор ещё памятно многим, — так начиналась рукопись. — Это событие встревожило в особенности моряков… Дело в том, что с некоторого времени многие корабли встречали в море что-то огромное, какой-то длинный веретенообразный предмет, порою светившийся в темноте, своими размерами значительно превосходивший кита и поражавший быстротою своих движений».
На первой странице было выведено заглавие: «Путешествие под водой».
Мечта о море не могла быть страстью, пока не превратилась в действительность. Замечательный роман «Дети капитана Гранта» был всё же произведением жителя суши. Новая книга Жюля Верна была рождена не картой полушарий и не географическим лексиконом. Мятежный дух моря бьет в тесные рамки каждой страницы, и никакая сила воображения не смогла бы заставить голос океана так петь в наших ушах, если бы автор не прослушал эту песню один на один со стихией. Жюлю Верну было в это время сорок лет — вершина его позднего расцвета, и все свои силы, все мечты, что накопились за много лет, он вложил в эту самую любимую, быть может свою лучшую книгу.
Подводный корабль капитана Немо тоже не был плодом одного воображения. Он имеет свою длинную историю, которую подлинный его конструктор изучал в эту зиму в светлом зале Национальной библиотеки на улице Ришелье.
Служащие Национальной библиотеки не успевали выполнять заказы своего постоянного посетителя. Его излюбленный стол в дальнем углу зала был завален пожелтевшими, старыми томами, картами, техническими справочниками, журналами, газетами. Жюль Верн со страстью исследователя искал предков своего подводного корабля, который медленно строился в его воображении.
В старом морском журнале за 1820 год он нашел статью лейтенанта Монжери, который описал первые в мире «подводные лодки».
Запорожские казаки, засевшие в своей неприступной Сечи на острове Хортица, издавна славились выдумкой и военными хитростями. Побывавший у них французский иезуит Фурнье рассказал о «подводных пирогах», которыми запорожцы пользовались во время своих набегов. Просмоленный челнок перевертывался, причем к бортам его для погружения привязывались мешки с песком. Оставшегося под дном лодки воздуха было достаточно, чтобы под её прикрытием несколько человек могли незаметно подобраться по неглубокому месту к ничего не подозревавшему противнику.
Затем Жюль Верн стал листать запыленные отчеты английского Королевского общества. В 1620 году работавший в Англии голландский ученый Корнелиус ван Дреббель построил для короля Якова настоящую подводную лодку. Это была длинная бочка, обтянутая кожей и снабженная кожаными мехами. Для погружения в мехи пускали воду, и лодка уходила вниз. Чтобы всплыть, достаточно было выкачать воду из мехов. Пятнадцать человек команды приводили её в движение обыкновенными веслами. Первое подводное судно могло опускаться на глубину в четырнадцать метров и довольно долго оставаться под водой, но практического значения оно не имело никакого. Некоторое время придворные забавлялись подводными прогулками, и даже сам король однажды отважился совершить с ван Дреббелем путешествие под водами Темзы. Однако смерть изобретателя остановила его работу.
Англичане и голландцы после работ ван Дреббеля делали целый ряд попыток и создали много неудачных проектов и моделей. Английский изобретатель Дей даже погиб при испытании своего тридцатитонного судна — это была первая жертва подводного плавания. Прошло полтора столетия, прежде чем был построен настоящий подводный корабль.
Американский инженер Башнелл, талантливый изобретатель, создал свой корабль не для развлечения, а для войны. Его вдохновляла любовь к родине, освобожденной от английского владычества. Он был фанатиком свободы и через много лет, при первых же зорях французской революции, переплыл океан, чтобы погибнуть в сражениях с врагами молодой республики.
«Черепаха» Башнелла была первой в мире металлической подводной лодкой. Её корпус, похожий на огромное яйцо, состоял из двух железных половинок, свинченных болтами. Входной люк был закрыт медным колпаком со стеклянными окошечками. За шестьдесят лет до появления винтовых судов изобретатель применил на своем корабле не весла или колеса, а гребной винт, но, не имея другого двигателя — ведь в те годы даже на больших судах не удавалось установить паровую машину, — он вынужден был приводить его в движение вручную.
Экипаж «Черепахи» состоял из командира, минера и матросов. Все эти должности занимал лишь один человек — сержант Эзра Ли, первый в мире подводник.
В темную февральскую ночь 1777 года английская эскадра, стоящая на рейде Нью-Йорка, была атакована «Черепахой». Первая в мире подводная мина, взорвавшаяся близ борта флагманского корабля «Орел» («Игл»), однако, не принесла ему вреда, а подводное судно при этом погибло.
В 1797 году, в разгар революционной войны против Англии, американский инженер Роберт Фультон представил французскому республиканскому правительству проект подводного судна. «При помощи моей подводной лодки, — писал он, — можно заставить англичан не только снять блокаду с французских берегов, но, может быть, даже перенести самый театр военных действий на берега Великобритании».
Корабль Фультона был удлиненной, сигарообразной формы. Его медный корпус был скреплен железным каркасом. Гребной винт вращали четыре человека, а когда судно поднималось на поверхность, то складная мачта с парусом превращала его в обычный надводный корабль.
В тропических морях существует моллюск, живущий в спирально закрученной раковине и умеющий погружаться и всплывать, меняя объем внутренних камер своего жилища. Раскрыв свою кожистую мантию, он может довольно быстро двигаться по ветру. Моллюск этот носит название «кораблик», или, по-латыни, «наутилус». Это название Фультон и избрал для своего корабля.
В 1800 и 1801 годах в Париже, на Сене, а также в Гавре и Бресте происходили испытания подводного корабля. «Наутилус» опускался на глубину в сорок метров. Впервые примененный Фультоном сжатый воздух в стальных баллонах позволял ему держаться под водой четыре часа. Подводной миной, которую Фультон назвал торпедой, была взорвана старая баржа, стоявшая на рейде Гавра…
Но, с другой стороны, Фультон и его помощники, работая как гребцы, не могли двигать корабль со скоростью больше трех километров вчас. Выйдя в поисках противника в открытое море, «Наутилус» не смог угнаться за быстроходным английским парусником. Освещение этого подводного судна составляла… обыкновенная сальная свеча!
Генерал Бонапарт, впоследствии император Наполеон, стоявший в те годы во главе Франции, на докладе комиссии, в которую, между прочим, входили знаменитые ученые Лаплас и Монж, наложил следующую резолюцию:
«Дальнейшие опыты с подводной лодкой американского гражданина Фультона прекратить».
Но это не было ни концом работ Фультона, ни гибелью идеи. «Наутилус» продолжал жить в умах изобретателей. В 1810 году братья Куэссен построили новый подводный корабль по чертежам Фультона и снова назвали его «Наутилус», но судно погибло по неизвестной причине при первом же погружении.
Пятьдесят лет прошло в опытах и испытаниях. Подводные лодки строились в России, Англии, Америке и даже в Испании. Один из таких проектов был предназначен для бегства Наполеона с острова святой Елены. Но все эти суда были подлинными потомками ван дреббелевской лодки: весла и паруса, в лучшем случае — винт, приводимый в движение вручную, — вот и всё их нехитрое машинное оборудование. Нет, это не были «наутилусы», но лишь «черепахи», или, вернее, морские кроты, обреченные на подводную слепоту.
Но эти незрелые творения человеческого гения, ещё не научившиеся ходить, уже были обречены сражаться. Полуподводные торпедные лодки «Давиды» участвовали в американской гражданской войне, и одна из них, «Ханли», 17 февраля 1864 года в Чарльстонской гавани взорвала двенадцатипушечный шлюп «Хаузатоник» с командой в триста человек. Жюлю Верну особенно запомнилась деталь: маленький «давид», пожертвовавший своей жизнью, был втянут хлынувшей водой в пробоину и, словно протаранив корпус гиганта, вместе с ним опустился на дно бухты.
А совсем недалеко от Национальной библиотеки, в Морском музее, помещающемся в Луврском дворце, Жюль Верн мог воочию видеть последнее слово подводной техники — модель корабля-гиганта «Плонжер» («Водолаз»).
Спроектированный адмиралом Буржуа и построенный инженером Шарлем Брюн, «Водолаз», спущенный на воду в Рошфоре в 1863 году, был для своего времени настоящим чудом техники. Он был огромен — четыреста пятьдесят тонн водоизмещения! — снабжен горизонтальными рулями, вооружен шестовой миной и впервые в мире имел механический двигатель, но…
Двигатель, приводимый в действие сжатым воздухом, мог обеспечить скорость всего лишь в четыре узла, а запаса воздуха хватало всего лишь… на полтора часа, и, как и все его подводные предки, «Водолаз» был слеп.
Опыты с этим подводным судном были прекращены в 1866 году, но великолепно сделанная модель осталась в музее. Жюль Верн неоднократно изучал её, припав к стеклу витрины. От его внимательного взора не ускользнула даже такая деталь, как маленькая «дочерняя» подводная шлюпка, убирающаяся в корпус корабля и могущая самостоятельно всплывать на поверхность.
Нет, подводное судно не было идеей Жюля Верна; он даже не был первым, кто ввел эту тему в литературу. Подводный корабль уже фигурировал в «Новой Атлантиде» Бекона, и всего лишь за несколько лет до того, как была начата работа над рукописью, озаглавленной «Путешествие под водой», в Париже вышла никем не замеченная книга Роберта Рангад «Под волнами», снабженная подзаголовком: «Необычайное путешествие доктора Тринитуса на подводном корабле «Молния».
Нужно ли зачислить чудодейственную «Молнию» в список предков великого «Наутилуса» французского романиста? Попробуем вчитаться в эту маленькую, ныне всеми забытую книжечку:
«Они увидали посреди комнаты блестящую медную машину величиной с вагон; она имела форму огромного яйца, несколько сплюснутого снизу и с боков. По сторонам было устроено по два больших окна, служащих в то же время и дверями. Они состояли из цельных кусков стекла, чрезвычайно толстого, но удивительно прозрачного. Снизу и с боков выходили широкие лопатки, похожие на плавники рыб, а под рулем, устроенным назади, находился Архимедов винт».
Что же было сердцем этого удивительного корабля? Какая сила оживляла его и приводила в движение?
Голос доктора Тринитуса должен был звучать для ушей Жюля Верна почти как откровение — ведь это было сказано в середине XIX века:
«Под нашими ногами находится сила, которая движет лодку. Это огромные гальванические батареи, доставляющие громадное количество электричества. Большие спирали гораздо сильнее румкорфовых и во сто раз увеличивают силу тока».
«Молния», зрячая «Молния», одушевленная электрическими механизмами, не предназначалась для военных целей. Отправляясь в кругосветное путешествие, в поисках жены и дочери, пропавших без вести, Тринитус мечтал и о научной работе. «Мы будем иметь возможность спуститься в море столь же легко, как с помощью водолазного колокола», — говорил он своим спутникам. И действительно, подводные путешественники во время плавания, одевшись в скафандры, покидали корабль и совершали необыкновенные экскурсии по дну океана. Они наблюдали за жизнью рыб и морских животных, присутствовали при извержении подводного вулкана и сражались с чудовищами.
Всё это было настолько близко интересам Жюля Верна, что мечта Тринитуса не могла не стать его собственной мечтой.
«Я хотел на этой лодке пройти через полюс, плывя подо льдом!» — говорит доктор Тринитус.
Как, разве Жюль Верн не был романистом-прорицателем, писателем-пророком, далеко заглянувшим в будущее и создавшим свой фантастический подводный корабль задолго до рождения реальных подводных лодок? Разве он не был пролагателем новых путей в науке?
Увы, нет! Приходится опровергнуть и эту легенду, быть может наиболее живучую из всех. Но это разоблачение ничуть не унижает нашего героя, так как место легенды занимает правда. И, отодвинув нарядные покровы, мы видим Жюля Верна гораздо более великого, чем знали до сих пор. Ведь литературный предок «Наутилуса» всего лишь на четыре года моложе весельной подводной лодки ван Дреббеля. В утопии Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» уже был описан океанский корабль, способный опускаться под воду и плавать под волнами, где ему не были страшны ни ветры, ни бури. Так почему же должны были пройти два с половиной столетия до рождения «Наутилуса» Жюля Верна, ставшего бессмертным?
Да, Жюль Верн стоял в центре научных интересов и идей своего времени, он видел науку и технику не застывшими, но в тенденциях их развития, которые он понимал лучше, чем многие его современники. Но ведь со времени опубликования романа о «Наутилусе» прошло три четверти века, техника неимоверно шагнула вперед, подводное плавание из первых попыток и романтической мечты давно уже превратилось в обыденность. Почему же именно подводное судно Жюля Верна, единственный из всех «Наутилусов», не стареет до сих пор? Почему роман великого мечтателя всё ещё не потерял своего обаяния? Почему и в наши дни он чарует читателей всех стран?
Секрет Жюля Верна в том, что впервые в художественной литературе — и это нужно подчеркнуть — у него научно-техническая тема стала не только фоном или деталью, но и самым материалом и основной темой произведения.
Но и этого ещё недостаточно. Главное — в том, что техника и человек составили у него одно неделимое целое. В центре повествования у него становится не бездушная машина, но действенная научная идея, душой которой является человек.
Человек — это не только ключ к произведениям Верна, но и пробный камень для всех подлинно художественных произведений любого жанра. Это универсальный ключ ко всей нашей гуманистической культуре. Именно поэтому «Наутилус» жив в нашей стране, жив бессмертием своего создателя и гения — капитана Немо.
 Герой нового романа Жюля Верна был не только гениальным изобретателем и инженером, географом и натуралистом — это человек, противопоставивший себя всем жителям Земли, поклявшийся никогда не ступать ногой на сушу, приговоривший себя к пожизненному существованию под водой. Но, став обитателем мирового океана, капитан Немо не проклял своей тюрьмы. Океан стал для него целым миром, который он покорил силой человеческого ума и полюбил его как ученый и как борец за свободу всего человечества.
«— Вы любите море, капитан? — спрашивает создателя «Наутилуса» его спутник профессор Аронакс.
— О да, я люблю его, — отвечает Немо. — Море — это всё. Оно покрывает семь десятых земного шара. Его испарения свежи и живительны. В его огромной пустыне человек не чувствует себя одиноким, потому что всё время ощущает дыхание жизни вокруг себя. В самом деле, ведь в море есть все три царства природы: минеральное, растительное и животное.
Море — обширный резервуар природы. Жизнь на земном шаре началась в море, и, кто знает, не в море ли она и кончится? В море высшее спокойствие… Море не принадлежит деспотам. На его поверхности они ещё могут сражаться, истреблять друг друга, повторять весь ужас жизни на суше. Но в тридцати футах под водой их власть кончается. Ах, профессор, живите в глубине морей! Только здесь полная независимость, только здесь человек поистине свободен, только здесь его никто не может угнетать!»
Но кто же был он, таинственный незнакомец, назвавшийся латинским словом Немо — «Никто»? Даже для других героев романа, своих спутников по подводному путешествию, он казался каким-то сверхчеловеком. «В моем воображении, — писал Аронакс, — он гигантски вырастал. Это был уже не человек, подобный всем людям, но какой-то таинственный обитатель вод, гений океана».
Роман был написан уже наполовину, но тайна капитана Немо всё ещё была непроницаемой. И пока «Сен-Мишель» скитался по волнам или отстаивался в крохотных рыбачьих деревушках фландрского побережья, рукопись в каюте неуклонно росла… И осенью, прежде чем начались равноденственные бури, «капитан Верн» уверенной рукой повел свой корабль в устье Сены и затем вверх по её течению. 20 августа 1868 года он причалил в самом сердце Парижа — у моста Искусств, где тысячи французов, собравшихся на набережной, приветствовали своего любимого писателя.
В этот день в кабинете Этцеля в старом доме на Рю Жакоб состоялись крестины: издатель торжественно дал имя новому детищу писателя и собственной рукой надписал на первом листе рукописи название: «Двадцать тысяч лье под водой».
Зиму Жюль Верн провел в Париже. И утром и днем его можно было застать за столиком в Национальной библиотеке; только вечер он посвящал семье. А в апреле следующего года «Сен-Мишель», подновленный и подкрашенный, с начищенной медной пушкой и с командой в том же составе, уже вышел из гавани Ле Кротуа. Флаг со звездой развевался на мачте, сообщая всем, что «судовладелец и капитан» на борту.
Страшный призрак императорской Франции стоял перед глазами писателя все двадцать лет его парижской жизни. Он не мог уйти от этой действительности ни в облака, ни в полярные страны, ни в подземный мир, ни в межпланетное пространство, ни в глубину океана. Не мог, да и не пытался, — наоборот, он голосом капитана Немо говорил с народом Франции и всего мира: через головы парламентов, правительств, императоров и королей. Это был чистый, простой голос, звучащий в защиту свободы.
«— До последнего вздоха я буду на стороне всех угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет мне братом!»
Так сказал капитан Немо, когда, рискуя своей жизнью, спас бедного водолаза-индийца из пасти хищной акулы.
Сокровища, разбросанные по дну океана, он собирал не для себя: «— Кто вам сказал, что я не делаю с их помощью добрых дел? Я знаю, что на земле существует неисходное горе, угнетенные народы, несчастия, требующие помощи, и жертвы, взывающие о мести! Разве вы не понимаете, что…
Тут капитан Немо умолк… Но я уже и так всё понял. Каковы бы ни были причины, заставившие его искать независимости под водой, но прежде всего он оставался человеком. Его сердце обливалось кровью от страданий человечества, и он щедрой рукой оказывал помощь угнетенным народам!..»
Помощь… Нет, этого было бы слишком мало для такого человека, как капитан Немо. Он был не только благодетель человечества, но борец и мститель за поруганные права людей. Да, человек неизвестной национальности, но гражданин свободного мира будущего. Все народы были ему близки, и лица борцов за свободу всегда смотрели на него со стен его кабинета.
«Это были портреты исторических деятелей, посвятивших свою жизнь какой-либо великой идее. То были портреты: борца за свободу Польши Костюшко; Боцариса — Леонида современной Греции; О'Коннеля — борца за независимость Ирландии; Георга Вашингтона — основателя Северо-Американского союза; Линкольна, павшего от пули фанатика-рабовладельца, и, наконец, мученика за дело освобождения негров от рабства Джона Броуна, вздернутого на виселицу».
Среди этих имен нет ни одного француза; но разве мог Жюль Верн говорить о борьбе за свободу Франции в её самые чёрные дни? Ведь он хорошо знал, что ждало в наполеоновской Франции человека, осмелившегося воскликнуть: «Да здравствует республика!»
И, однако, даже эти запретные слова прозвучали со страниц, исписанных мелким почерком Жюля Верна. История корабля «Марселец», погибшего в 1794 году в неравном бою с английской эскадрой, никак не связана с историей приключений профессора Аронакса. Но в названии корабля друзья свободы читали запретное слово «Марсельеза», а голос капитана Немо звучал в этой главе на всю Францию:
«После героического боя полузатопленное, потерявшее все мачты и треть своего экипажа судно предпочло погрузиться в воду, чем сдаться… Триста пятьдесят шесть оставшихся в живых бойцов, подняв на корме флаг Республики, пошли ко дну, громко возглашая: «Да здравствует Республика!»
Но корабль этот имел и другое имя, которое хорошо знал профессор Аронакс.
«— Это «Мститель»? — вскричал я.
— Да, сударь, это «Мститель». Прекрасное имя, — прошептал капитан Немо, скрестив руки».
Книга «Двадцать тысяч лье под водой» в издании Этцеля и в серийной обложке появилась в продаже в начале следующего, 1870 года. Роман о «Наутилусе»? Нет, это был роман о капитане Немо — ученом и революционере, человеке, проникнувшем в тайны океана и ставшем пленником моря ради свободы всего человечества!
Художник Невилль, иллюстрировавший этот роман Жюля Верна, изобразил его героя на мостике подводного корабля:
«Он был высок, с широким лбом, прямым носом, красиво очерченным ртом, превосходными зубами, тонкими, длинными, изящными руками, достойными пламенной души… Глаза его, довольно далеко отстоящие один от другого, могли одновременно обнимать целую четверть горизонта. Когда незнакомец устремлял взор на какой-нибудь предмет, брови его сжимались, широкие веки сближались, окружая зрачок и сокращая, таким образом, поле зрения, и он смотрел. Какой взгляд! Как он увеличивал отдаленные предметы, уменьшенные расстоянием! Как он читал в вашей душе! Как он проникал в жидкие слои, столь непрозрачные на наш взгляд, и как ясно он видел в глубине морей!..»
Портрет, нарисованный Невиллем, был удачен не только потому, что художник глубоко проник в замысел автора романа. Просто Невилль, рисуя капитана Немо, изобразил самого Жюля Верна.
Герой нового романа Жюля Верна был не только гениальным изобретателем и инженером, географом и натуралистом — это человек, противопоставивший себя всем жителям Земли, поклявшийся никогда не ступать ногой на сушу, приговоривший себя к пожизненному существованию под водой. Но, став обитателем мирового океана, капитан Немо не проклял своей тюрьмы. Океан стал для него целым миром, который он покорил силой человеческого ума и полюбил его как ученый и как борец за свободу всего человечества.
«— Вы любите море, капитан? — спрашивает создателя «Наутилуса» его спутник профессор Аронакс.
— О да, я люблю его, — отвечает Немо. — Море — это всё. Оно покрывает семь десятых земного шара. Его испарения свежи и живительны. В его огромной пустыне человек не чувствует себя одиноким, потому что всё время ощущает дыхание жизни вокруг себя. В самом деле, ведь в море есть все три царства природы: минеральное, растительное и животное.
Море — обширный резервуар природы. Жизнь на земном шаре началась в море, и, кто знает, не в море ли она и кончится? В море высшее спокойствие… Море не принадлежит деспотам. На его поверхности они ещё могут сражаться, истреблять друг друга, повторять весь ужас жизни на суше. Но в тридцати футах под водой их власть кончается. Ах, профессор, живите в глубине морей! Только здесь полная независимость, только здесь человек поистине свободен, только здесь его никто не может угнетать!»
Но кто же был он, таинственный незнакомец, назвавшийся латинским словом Немо — «Никто»? Даже для других героев романа, своих спутников по подводному путешествию, он казался каким-то сверхчеловеком. «В моем воображении, — писал Аронакс, — он гигантски вырастал. Это был уже не человек, подобный всем людям, но какой-то таинственный обитатель вод, гений океана».
Роман был написан уже наполовину, но тайна капитана Немо всё ещё была непроницаемой. И пока «Сен-Мишель» скитался по волнам или отстаивался в крохотных рыбачьих деревушках фландрского побережья, рукопись в каюте неуклонно росла… И осенью, прежде чем начались равноденственные бури, «капитан Верн» уверенной рукой повел свой корабль в устье Сены и затем вверх по её течению. 20 августа 1868 года он причалил в самом сердце Парижа — у моста Искусств, где тысячи французов, собравшихся на набережной, приветствовали своего любимого писателя.
В этот день в кабинете Этцеля в старом доме на Рю Жакоб состоялись крестины: издатель торжественно дал имя новому детищу писателя и собственной рукой надписал на первом листе рукописи название: «Двадцать тысяч лье под водой».
Зиму Жюль Верн провел в Париже. И утром и днем его можно было застать за столиком в Национальной библиотеке; только вечер он посвящал семье. А в апреле следующего года «Сен-Мишель», подновленный и подкрашенный, с начищенной медной пушкой и с командой в том же составе, уже вышел из гавани Ле Кротуа. Флаг со звездой развевался на мачте, сообщая всем, что «судовладелец и капитан» на борту.
Страшный призрак императорской Франции стоял перед глазами писателя все двадцать лет его парижской жизни. Он не мог уйти от этой действительности ни в облака, ни в полярные страны, ни в подземный мир, ни в межпланетное пространство, ни в глубину океана. Не мог, да и не пытался, — наоборот, он голосом капитана Немо говорил с народом Франции и всего мира: через головы парламентов, правительств, императоров и королей. Это был чистый, простой голос, звучащий в защиту свободы.
«— До последнего вздоха я буду на стороне всех угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет мне братом!»
Так сказал капитан Немо, когда, рискуя своей жизнью, спас бедного водолаза-индийца из пасти хищной акулы.
Сокровища, разбросанные по дну океана, он собирал не для себя: «— Кто вам сказал, что я не делаю с их помощью добрых дел? Я знаю, что на земле существует неисходное горе, угнетенные народы, несчастия, требующие помощи, и жертвы, взывающие о мести! Разве вы не понимаете, что…
Тут капитан Немо умолк… Но я уже и так всё понял. Каковы бы ни были причины, заставившие его искать независимости под водой, но прежде всего он оставался человеком. Его сердце обливалось кровью от страданий человечества, и он щедрой рукой оказывал помощь угнетенным народам!..»
Помощь… Нет, этого было бы слишком мало для такого человека, как капитан Немо. Он был не только благодетель человечества, но борец и мститель за поруганные права людей. Да, человек неизвестной национальности, но гражданин свободного мира будущего. Все народы были ему близки, и лица борцов за свободу всегда смотрели на него со стен его кабинета.
«Это были портреты исторических деятелей, посвятивших свою жизнь какой-либо великой идее. То были портреты: борца за свободу Польши Костюшко; Боцариса — Леонида современной Греции; О'Коннеля — борца за независимость Ирландии; Георга Вашингтона — основателя Северо-Американского союза; Линкольна, павшего от пули фанатика-рабовладельца, и, наконец, мученика за дело освобождения негров от рабства Джона Броуна, вздернутого на виселицу».
Среди этих имен нет ни одного француза; но разве мог Жюль Верн говорить о борьбе за свободу Франции в её самые чёрные дни? Ведь он хорошо знал, что ждало в наполеоновской Франции человека, осмелившегося воскликнуть: «Да здравствует республика!»
И, однако, даже эти запретные слова прозвучали со страниц, исписанных мелким почерком Жюля Верна. История корабля «Марселец», погибшего в 1794 году в неравном бою с английской эскадрой, никак не связана с историей приключений профессора Аронакса. Но в названии корабля друзья свободы читали запретное слово «Марсельеза», а голос капитана Немо звучал в этой главе на всю Францию:
«После героического боя полузатопленное, потерявшее все мачты и треть своего экипажа судно предпочло погрузиться в воду, чем сдаться… Триста пятьдесят шесть оставшихся в живых бойцов, подняв на корме флаг Республики, пошли ко дну, громко возглашая: «Да здравствует Республика!»
Но корабль этот имел и другое имя, которое хорошо знал профессор Аронакс.
«— Это «Мститель»? — вскричал я.
— Да, сударь, это «Мститель». Прекрасное имя, — прошептал капитан Немо, скрестив руки».
Книга «Двадцать тысяч лье под водой» в издании Этцеля и в серийной обложке появилась в продаже в начале следующего, 1870 года. Роман о «Наутилусе»? Нет, это был роман о капитане Немо — ученом и революционере, человеке, проникнувшем в тайны океана и ставшем пленником моря ради свободы всего человечества!
Художник Невилль, иллюстрировавший этот роман Жюля Верна, изобразил его героя на мостике подводного корабля:
«Он был высок, с широким лбом, прямым носом, красиво очерченным ртом, превосходными зубами, тонкими, длинными, изящными руками, достойными пламенной души… Глаза его, довольно далеко отстоящие один от другого, могли одновременно обнимать целую четверть горизонта. Когда незнакомец устремлял взор на какой-нибудь предмет, брови его сжимались, широкие веки сближались, окружая зрачок и сокращая, таким образом, поле зрения, и он смотрел. Какой взгляд! Как он увеличивал отдаленные предметы, уменьшенные расстоянием! Как он читал в вашей душе! Как он проникал в жидкие слои, столь непрозрачные на наш взгляд, и как ясно он видел в глубине морей!..»
Портрет, нарисованный Невиллем, был удачен не только потому, что художник глубоко проник в замысел автора романа. Просто Невилль, рисуя капитана Немо, изобразил самого Жюля Верна.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ УТОПИЯ
Старый писатель жил очень уединенно, вдали от шумного Парижа, на окраине тихого, провинциального городка Амьена. Массивный двухэтажный дом выходил своим фасадом на широкий двор. Позади дома лежал сад, тянувшийся вдоль Лонгевильского бульвара. Высокая каменная стена отгораживала сад от взоров прохожих. Для того чтобы проникнуть в дом, нужно было или позвонить в большой медный колокол у главного входа, или войти в маленькую калитку со стороны улицы Шарля Дюбуа. Посетителю, входившему со двора, нужно было пройти через большую оранжерею и через просторную гостиную с широкими окнами, чтобы попасть в кабинет писателя. Кабинет этот помещался на втором этаже большой круглой башни, возвышавшейся над одним из углов дома. Обстановка была простой: узкая железная кровать, тяжелое кожаное кресло, большой круглый стол и старенькая конторка, за которой были написаны почти все романы Жюля Верна. Украшение комнаты состояло лишь из двух бюстов на каминной полке: Мольера и Шекспира. Дверь налево вела из кабинета в библиотеку. На простых полках теснились тысячи книг. На стенах в строгом порядке были развешаны портреты знаменитых ученых и путешественников. А в отдельном шкафу помещались переводы сочинений Жюля Верна: сотни томов разного формата на многих языках мира. У окна стоял очень старый рояль — ровесник дней великой французской революции. День старого Жюля Верна был строго размерен, и раз заведенный порядок никогда не нарушался. В пять часов утра — и летом и зимой — он уже был на ногах. Легкий завтрак, всегда один и тот же: немного фруктов, сыр, чашка шоколада — и писатель уже за своей старой конторкой. В восемь часов в первом этаже начиналось движение — это вставала жена писателя. В девять часов супруги садились за утренний завтрак. После завтрака Жюль Верн уже не писал ничего нового, лишь начисто переписывал свои черновики, отвечал на письма, принимал посетителей. Когда морской колокол на дворе отбивал восемь склянок, сигнализируя о наступлении полудня, Жюль Верн брал шляпу и, какая бы ни была погода, выходил на прогулку. Он шел, сильно хромая, тяжело опираясь на палку — тоже своего рода достопримечательность. Это был подарок группы английских школьников, поклонников его «Необыкновенных путешествий», вырезавших на ней свои имена. «Мы очень счастливы, что можем послать Вам эту палку с подписями, которые покажут Вам, каким уважением Вы пользуетесь со стороны многих тысяч мальчиков Великобритании, — писали они в сопроводительном письме. — У нас, конечно, никогда не бывает денег в кармане. Вы это знаете. Но наш подарок не должен быть оценен по его стоимости. Мы знаем, что для Вас дороже всего большое количество участников нашей складчины…» От перекрестка писатель поворачивал на улицу Порт-Пари, где некогда находились Парижские ворота средневекового Амьена; затем следовал новый поворот, на улицу Виктора Гюго, и перед ним открывался великолепный силуэт Амьенского собора — чуда готического искусства XIV века. А далеко внизу, как серебро, блестела Сомма, вместе с притоками Арне и Селль образующая многочисленные каналы в нижней части города. Ровно в половине первого Жюль Верн появлялся в большом зале библиотеки Промышленного общества. Тут на столе уже лежали приготовленные свежие газеты. И большое кресло, которое никто не смел занимать, было подвинуто: Летом — к окну, зимой — к камину. С карандашом и записной книжкой в руках писатель просматривал газеты, журналы, бюллетени и отчеты разных научных и географических обществ. Иногда раньше, но никогда не позже пяти часов он захлопывал свою записную книжку и кружным путем возвращался домой. Два раза в неделю Жюль Верн посещал заседания Амьенской академии — старейшего научного общества Пикардии, действительным членом которого он был. Иногда писатель вместе с женой ходил в театр, но это бывало редко: в пять часов для него уже начинался вечер, в восемь он уже спал. Эта размеренная жизнь, которая многим показалась бы скучной, была идеальным условием для работы, а работа для Жюля Верна была жизнью. «У меня потребность работы, — говорил Жюль Верн посетившему его итальянскому писателю де Амичису. — Работа — это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в себе никакой жизни». Да, работа была для него не только необходимостью — она была его основной жизненной страстью. Именно она и составляет подлинную биографию писателя. Но почему произошел такой резкий перелом в биографии писателя? Почему, живой, общительный балагур превратился в затворника, почти что мизантропа, живущего в провинциальном Амьене, как на необитаемом острове? Ответ на это дают события 1870–1871 годов: война и Парижская Коммуна. …Прусские войска, вооруженные до зубов, ворвались во Францию, грабя и убивая на своем пути мирное население. Французская армия в двести пятьдесят тысяч человек, плохо вооруженная, руководимая неспособными генералами, со слабым и бездарным императором во главе, должна была остановить военную машину, насчитывающую шестьсот тысяч солдат. Жюль Верн, призванный в армию и зачисленный в береговую стражу, следил за событиями молниеносной войны с яростью и тоской в сердце. Ничтожный Наполеон III позорно капитулировал при Седане вместе со всей армией. Париж, осажденный немцами, после пяти месяцев героической обороны, не получая помощи извне, был сдан новым «правительством национальной измены». Попав в Париж после заключения перемирия, писатель видел немецкие войска, вступившие во французскую столицу, видел провозглашение Парижской Коммуны 18 марта, вторую осаду Парижа и кровавую расправу генерала Галифе. Да, эти годы заставили уже знаменитого писателя очень многое пересмотреть в своем мировоззрении.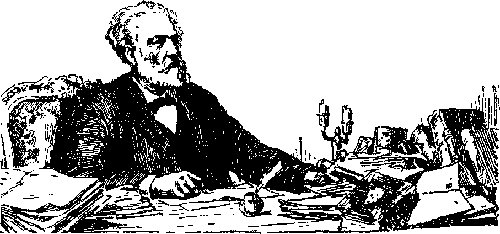 Идеи великого 1848 года были идеями его юности. Переворот и тирания сделали его фанатическим поборником свободы, врагом всего старого, порабощающего человечество, тянущего его назад: монархии, сословий, милитаризма.
Но теперь он возненавидел всю окружающую его жизнь и бежал от неё во внутреннюю эмиграцию — сделал тихий Амьен своим необитаемым островом.
В 1872 году, сейчас же после переезда в Амьен, Жюль Верн приступил к работе над огромным трехтомным романом «Таинственный остров», служащим завершением трилогии: «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой».
В романе «Таинственный остров» рассказана история нескольких человек, занесенных на воздушном шаре на необитаемый остров, затерянный в бескрайных просторах южной части Тихого океана. Новая робинзонада? Нет, Робинзон Крузо, заброшенный бурей на остров Отчаяния, имел в своем распоряжении целый корабль — с набором инструментов, запасом продовольствия и снаряжения. Герои Жюля Верна во время полета выбросили в море, как балласт, всё, вплоть до карманных ножей и спичек. Робинзону, окруженному изобилием тропической природы, достаточно было протянуть руку за её дарами; поселенцам Таинственного острова приходилось самим создавать свое благополучие. Но Робинзон был одинок, а герои Жюля Верна — сплоченная группа людей, коллектив.
Потерпевшие крушение, попав на остров, не приходят в уныние. Они принимают гордое имя колонистов и неустанным трудом создают свое благополучие. Роман Жюля Верна — это подлинный гимн вдохновенному труду, быть может самый высокий во всей литературе XIX века. Труд их — не первоначальное накопление Робинзона Крузо, это творческое преображение косной природы, это вся история цивилизации, но на более высокой ступени идеального человеческого общества.
Труд!.. Какой непривычной была эта тема для писателя XIX века! И если мы встречаем в тогдашней литературе лабораторию, фабрику, мастерскую, то только лишь как вариант одного из кругов дантова ада: как место муки, позора, отчаяния и гибели. Романтика труда, красота труда, пафос труда — сами такие словосочетания были сто лет назад для писателей оскорбительной нелепостью, не имеющей смысла. Нужно было поистине огненное перо, чтобы перенести из реальной жизни в книгу романтику кирки и мотыги, красоту угля и металла, пафос победы над природой.
Идеи великого 1848 года были идеями его юности. Переворот и тирания сделали его фанатическим поборником свободы, врагом всего старого, порабощающего человечество, тянущего его назад: монархии, сословий, милитаризма.
Но теперь он возненавидел всю окружающую его жизнь и бежал от неё во внутреннюю эмиграцию — сделал тихий Амьен своим необитаемым островом.
В 1872 году, сейчас же после переезда в Амьен, Жюль Верн приступил к работе над огромным трехтомным романом «Таинственный остров», служащим завершением трилогии: «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой».
В романе «Таинственный остров» рассказана история нескольких человек, занесенных на воздушном шаре на необитаемый остров, затерянный в бескрайных просторах южной части Тихого океана. Новая робинзонада? Нет, Робинзон Крузо, заброшенный бурей на остров Отчаяния, имел в своем распоряжении целый корабль — с набором инструментов, запасом продовольствия и снаряжения. Герои Жюля Верна во время полета выбросили в море, как балласт, всё, вплоть до карманных ножей и спичек. Робинзону, окруженному изобилием тропической природы, достаточно было протянуть руку за её дарами; поселенцам Таинственного острова приходилось самим создавать свое благополучие. Но Робинзон был одинок, а герои Жюля Верна — сплоченная группа людей, коллектив.
Потерпевшие крушение, попав на остров, не приходят в уныние. Они принимают гордое имя колонистов и неустанным трудом создают свое благополучие. Роман Жюля Верна — это подлинный гимн вдохновенному труду, быть может самый высокий во всей литературе XIX века. Труд их — не первоначальное накопление Робинзона Крузо, это творческое преображение косной природы, это вся история цивилизации, но на более высокой ступени идеального человеческого общества.
Труд!.. Какой непривычной была эта тема для писателя XIX века! И если мы встречаем в тогдашней литературе лабораторию, фабрику, мастерскую, то только лишь как вариант одного из кругов дантова ада: как место муки, позора, отчаяния и гибели. Романтика труда, красота труда, пафос труда — сами такие словосочетания были сто лет назад для писателей оскорбительной нелепостью, не имеющей смысла. Нужно было поистине огненное перо, чтобы перенести из реальной жизни в книгу романтику кирки и мотыги, красоту угля и металла, пафос победы над природой.
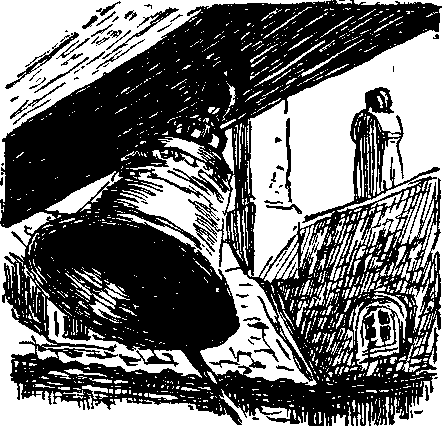 Великий сорок восьмой год пробил первую брешь в старом представлении, впервые в мире провозгласив право на труд. Но должно было пройти ещё четверть века, включивших в себя рождение Интернационала и великолепную вспышку Парижской Коммуны, чтобы Жюль Верн ощутил в себе силы сделать человеческий труд центральной темой своего нового произведения.
Но что означало завоевание права на труд? За правом на труд стояла власть над капиталом, за властью над капиталом — овладение средствами производства, их подчинение объединенному рабочему классу и тем самым уничтожение наемного труда, равно как и капитала и их взаимных отношений. Это означало открытие нового мира победившего социализма, смутное сияние которого уже серебрило лица первой шеренги людей, ведущих человечество в страну будущего.
Жюль Верн не был в их числе. И вряд ли он смог бы так формулировать свои неясные мечты — тем более, конечно, в таких терминах. Но он не мог не ощущать ветра эпохи, не мог не чувствовать как художник, быть может до конца не понимая, той взрывчатой силы, которая содержалась в выбранной им теме.
Почему Жюль Верн избрал своими героями американцев? Почему он отнес время действия своего романа на десять лет назад, несмотря на то что видел в нем прообраз будущего?
Несомненно, что он хотел взять людей, свободных от традиций и европейских условностей. Неверным было бы думать, что Жюль Верн видел Америку в розовых красках: иначе он не противопоставил бы жестокой действительности гражданской войны идеальную дружбу своих героев, институту рабства — героя-негра, свободного товарища других колонистов. Америке действительной он хотел противопоставить Америку Вашингтона, Джефферсона, Линкольна — страну свободы, лучших представителей которой он с такой любовью изобразил в своих романах.
Остров Линкольна, как называют его колонисты, действительно таинственный остров. Он словно специально приспособлен для потерпевших крушение… и словно специально написан для критиков, избравших своей профессией нахождение научных ошибок Жюля Верна.
В самом деле, на островах Тихого океана не живут — да и не могли бы жить человекообразные обезьяны оранги, однокопытные онагры, кенгуру. Невероятно присутствие на острове и таких животных, как ягуар, дикий баран, пекари, агути, водосвинка, шакаловая лисица.
Нет и не может быть на вулканических островах, далеких от материка, тетеревов, глухарей, якамары, куруку. Не могли расти в этой климатической зоне бамбуки, эвкалипты, саговая пальма.
Неправдоподобно богат минеральный мир острова. Колонисты находят гончарную глину, известь, колчедан, серу, селитру.
«Его животные и растения — пестрая смесь животных и растений чуть ли не всего мира, — резюмирует критика. — Это своего рода зоопарк и ботанический сад, таинственным образом очутившиеся на небольшом необитаемом острове в Тихом океане».
Но как могло случиться, что Жюль Верн, столь начитанный в научной литературе своего времени, всегда столь щепетильный относительно деталей своих произведений, мог допустить такие грубые промахи?
Приходится допустить лишь одно объяснение.
Да, Жюль Верн знал о всех противоречиях, допущенных им в романе! И не только знал, но сознательно их вводил. Таинственный остров — это символ всего мира, аллегория нашего земного шара, отданного во владение человеку.
Нет, не сентиментально-патриархальную робинзонаду, типа «Швейцарского Робинзона», хотел он написать! «Таинственный остров» — это новая утопия, идеальное человеческое общество, поставленное лицом к лицу с природой.
Люди разных профессий, разного социального положения, разных рас собраны в романе Жюля Верна. Но ни малейшего антагонизма не возникает между ними; даже споры их носят лишь производственный, научный или творческий характер. Сила их — в сплоченности, в могучем творческом горении, воодушевляющем их, в безграничной вере во всемогущество науки.
Герой книги инженер Сайрес Смит — это сам дух науки, не только пытливый исследователь, но и великий труженик. Ведь недаром самое имя его «Смит» значит «кузнец». А вся история победы колонистов над природой — прообраз борьбы освобожденного человечества за великое овладение всей вселенной.
Великий преступник, бывший каторжник и пират, Айртон попадает на остров. Что превращает его в помощника, друга и брата колонистов? Милосердие, товарищество, труд — вот ответ Жюля Верна тем, кто утверждает извечную порочность человеческой натуры.
Остается нераскрытой только таинственная сила острова, невидимый помощник колонистов, их верховный покровитель и защитник. Его почти сверхъестественное вмешательство до самого конца тревожит колонистов и интригует читателей. Тайна острова раскрывается только на последних страницах романа, и в её разгадке — разгадка другой книги писателя: «Двадцать тысяч лье под водой».
Невидимым покровителем острова был капитан Немо, постаревший, но не утративший силы своего неукротимого духа, уставший от бесконечных странствований по подводному миру и нашедший себе убежище в пещере Таинственного острова. Перед смертью он раскрывает колонистам свою тайну.
Настоящее имя капитана Немо — принц Даккар. Индиец по рождению, европеец по воспитанию, он руководил восстанием своего народа против иноземного владычества. Неудача не сломила его мятежного духа: покинув землю, он с горстью товарищей, разных по национальности, но таких же борцов за свободу, как и он, поселился в глубинах моря. Сокровища океана послужили ему фондом для оказания помощи народам, борющимся за свою свободу.
Дух свободы и гений моря первого романа превратился в «Таинственном острове» в олицетворение науки будущего, делающей освобожденное человечество поистине непобедимым. Через жестокие битвы — к будущему! — такова скрытая идея романа.
Социалистические идеи Жюля Верна были, без сомнения, очень смутны, но ближе всего они к великим идеям Фурье.
Не разделение труда, навязанное людям капитализмом, а разностороннее развитие человека, уничтожение противоположности между умственным и физическим трудом — вот идея Фурье. Именно таков вдохновенный труд колонистов Таинственного острова.
«Таинственный остров» писался в 1872 году. На этот год падает столетний юбилей Шарля Фурье.
Роман этот завершает трилогию. Первые две части — «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой» — вышли в свет ещё в годы империи.
Трилогия — вершина творчества Жюля Верна. В ней он достиг наивысшего художественного мастерства, создал наиболее яркие образы положительных героев. В ней он наиболее полно выразил свое мировоззрение лучшей поры жизни, полное социального оптимизма.
В первом романе Жюль Верн показал мир колониального угнетения; во втором — борца против этого гнета; в третьем — воплощение своей мечты о будущем. В единстве этих трёх тем и содержится секрет единства трилогии.
Великий сорок восьмой год пробил первую брешь в старом представлении, впервые в мире провозгласив право на труд. Но должно было пройти ещё четверть века, включивших в себя рождение Интернационала и великолепную вспышку Парижской Коммуны, чтобы Жюль Верн ощутил в себе силы сделать человеческий труд центральной темой своего нового произведения.
Но что означало завоевание права на труд? За правом на труд стояла власть над капиталом, за властью над капиталом — овладение средствами производства, их подчинение объединенному рабочему классу и тем самым уничтожение наемного труда, равно как и капитала и их взаимных отношений. Это означало открытие нового мира победившего социализма, смутное сияние которого уже серебрило лица первой шеренги людей, ведущих человечество в страну будущего.
Жюль Верн не был в их числе. И вряд ли он смог бы так формулировать свои неясные мечты — тем более, конечно, в таких терминах. Но он не мог не ощущать ветра эпохи, не мог не чувствовать как художник, быть может до конца не понимая, той взрывчатой силы, которая содержалась в выбранной им теме.
Почему Жюль Верн избрал своими героями американцев? Почему он отнес время действия своего романа на десять лет назад, несмотря на то что видел в нем прообраз будущего?
Несомненно, что он хотел взять людей, свободных от традиций и европейских условностей. Неверным было бы думать, что Жюль Верн видел Америку в розовых красках: иначе он не противопоставил бы жестокой действительности гражданской войны идеальную дружбу своих героев, институту рабства — героя-негра, свободного товарища других колонистов. Америке действительной он хотел противопоставить Америку Вашингтона, Джефферсона, Линкольна — страну свободы, лучших представителей которой он с такой любовью изобразил в своих романах.
Остров Линкольна, как называют его колонисты, действительно таинственный остров. Он словно специально приспособлен для потерпевших крушение… и словно специально написан для критиков, избравших своей профессией нахождение научных ошибок Жюля Верна.
В самом деле, на островах Тихого океана не живут — да и не могли бы жить человекообразные обезьяны оранги, однокопытные онагры, кенгуру. Невероятно присутствие на острове и таких животных, как ягуар, дикий баран, пекари, агути, водосвинка, шакаловая лисица.
Нет и не может быть на вулканических островах, далеких от материка, тетеревов, глухарей, якамары, куруку. Не могли расти в этой климатической зоне бамбуки, эвкалипты, саговая пальма.
Неправдоподобно богат минеральный мир острова. Колонисты находят гончарную глину, известь, колчедан, серу, селитру.
«Его животные и растения — пестрая смесь животных и растений чуть ли не всего мира, — резюмирует критика. — Это своего рода зоопарк и ботанический сад, таинственным образом очутившиеся на небольшом необитаемом острове в Тихом океане».
Но как могло случиться, что Жюль Верн, столь начитанный в научной литературе своего времени, всегда столь щепетильный относительно деталей своих произведений, мог допустить такие грубые промахи?
Приходится допустить лишь одно объяснение.
Да, Жюль Верн знал о всех противоречиях, допущенных им в романе! И не только знал, но сознательно их вводил. Таинственный остров — это символ всего мира, аллегория нашего земного шара, отданного во владение человеку.
Нет, не сентиментально-патриархальную робинзонаду, типа «Швейцарского Робинзона», хотел он написать! «Таинственный остров» — это новая утопия, идеальное человеческое общество, поставленное лицом к лицу с природой.
Люди разных профессий, разного социального положения, разных рас собраны в романе Жюля Верна. Но ни малейшего антагонизма не возникает между ними; даже споры их носят лишь производственный, научный или творческий характер. Сила их — в сплоченности, в могучем творческом горении, воодушевляющем их, в безграничной вере во всемогущество науки.
Герой книги инженер Сайрес Смит — это сам дух науки, не только пытливый исследователь, но и великий труженик. Ведь недаром самое имя его «Смит» значит «кузнец». А вся история победы колонистов над природой — прообраз борьбы освобожденного человечества за великое овладение всей вселенной.
Великий преступник, бывший каторжник и пират, Айртон попадает на остров. Что превращает его в помощника, друга и брата колонистов? Милосердие, товарищество, труд — вот ответ Жюля Верна тем, кто утверждает извечную порочность человеческой натуры.
Остается нераскрытой только таинственная сила острова, невидимый помощник колонистов, их верховный покровитель и защитник. Его почти сверхъестественное вмешательство до самого конца тревожит колонистов и интригует читателей. Тайна острова раскрывается только на последних страницах романа, и в её разгадке — разгадка другой книги писателя: «Двадцать тысяч лье под водой».
Невидимым покровителем острова был капитан Немо, постаревший, но не утративший силы своего неукротимого духа, уставший от бесконечных странствований по подводному миру и нашедший себе убежище в пещере Таинственного острова. Перед смертью он раскрывает колонистам свою тайну.
Настоящее имя капитана Немо — принц Даккар. Индиец по рождению, европеец по воспитанию, он руководил восстанием своего народа против иноземного владычества. Неудача не сломила его мятежного духа: покинув землю, он с горстью товарищей, разных по национальности, но таких же борцов за свободу, как и он, поселился в глубинах моря. Сокровища океана послужили ему фондом для оказания помощи народам, борющимся за свою свободу.
Дух свободы и гений моря первого романа превратился в «Таинственном острове» в олицетворение науки будущего, делающей освобожденное человечество поистине непобедимым. Через жестокие битвы — к будущему! — такова скрытая идея романа.
Социалистические идеи Жюля Верна были, без сомнения, очень смутны, но ближе всего они к великим идеям Фурье.
Не разделение труда, навязанное людям капитализмом, а разностороннее развитие человека, уничтожение противоположности между умственным и физическим трудом — вот идея Фурье. Именно таков вдохновенный труд колонистов Таинственного острова.
«Таинственный остров» писался в 1872 году. На этот год падает столетний юбилей Шарля Фурье.
Роман этот завершает трилогию. Первые две части — «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой» — вышли в свет ещё в годы империи.
Трилогия — вершина творчества Жюля Верна. В ней он достиг наивысшего художественного мастерства, создал наиболее яркие образы положительных героев. В ней он наиболее полно выразил свое мировоззрение лучшей поры жизни, полное социального оптимизма.
В первом романе Жюль Верн показал мир колониального угнетения; во втором — борца против этого гнета; в третьем — воплощение своей мечты о будущем. В единстве этих трёх тем и содержится секрет единства трилогии.
„СЕН-МИШЕЛЬ III"
В глазах всего мира Жюль Верн, добровольно похоронивший себя в амьенской глуши, очень скоро превратился в «путешественника, который никогда не покидает своего кабинета». Сам писатель охотно поддерживал эту легенду. И всё же каждую весну в нём просыпалась неукротимая тоска о море, и каждое лето он покидал свое почти отшельническое уединение и отправлялся в Ле Кротуа. Маленький «Сен-Мишель» в начале войны был реквизирован правительством, превращен в «грозный» военный корабль с экипажем из двенадцати ветеранов Крымской войны, вооруженный тремя кремневыми ружьями и медной пушкой «величиной с пуделя». После поражения Франции он был сожжен пруссаками. После заключения мира соединенными усилиями Сандра, Альфреда и плотника из Ле Кротуа был рожден новый «Сен-Мишель», получивший, как коронованная особа, прозвище «второй». Он так же верно служил своему хозяину, каждый год храбро отправляясь в открытое море. Но Жюля Верна обуревали гордые замыслы. Он мечтал уже не о каботажных плаваниях, но о далеких путешествиях. Наряду с людьми такими же живыми героями его романов становились корабли: яхта «Дункан» лорда Гленарвана, «Форвард» капитана Гаттераса, «Наутилус», шлюп «Благополучный», построенный колонистами острова Линкольн своими руками, даже «Анриетта», купленная Филеасом Фоггом, — сколько любви вложил Жюль Верн в описание этих — таких различных — кораблей! Ведь каждый из них был его собственным судном, хотя бы в мечтах, и каждым из них командовал «капитан Верн». И когда грянул час славы и золотой дождь обрушился на плечи писателя, сделав возможными самые затаенные мечты, только одно магическое слово «корабль», как и в детстве, волновало его. Ведь в своём кабинете он бережно хранил потрепанный журнал, где на первой странице каллиграфическим почерком было выведено: «Судовладелец и капитан Жюль Верн». Но он был терпелив, он ждал, он присматривался, он выбирал. И случай наконец представился — и какой случай! Маркиз де Прео пожелал продать свою великолепную паровую яхту, «судно, достойное императора», как он её оценивал. Маркиз не преувеличивал: это была одна из лучших в мире яхт, построенная по заказу бельгийского короля Леопольда I и только из-за его смерти в 1865 году перешедшая в другие руки. Посетитель, навестивший маркиза в Нанте, отвечал его требованиям: он был знаменит не менее, чем любой император, знал и любил море, как ученый и как моряк. Сделка заняла всего двадцать минут, и корабль перешел в собственность Жюля Верна за шестьдесят тысяч франков. Шестьдесят тысяч франков! Вспоминал ли писатель в ту минуту, когда отсчитывал деньги, те шестьсот франков в год, которые он получал в конторе Гимара двадцать пять лет назад? Почувствовал ли он хоть на мгновение ту дрожь, которую он ощутил при виде своего первого рассказа, напечатанного в «Семейном музее»? Корабль был настоящим красавцем. Построенный в Нанте прославленными инженерами-судостроителями Жолле и Бабеном, он имел железный корпус длиной в пятьдесят три метра, и его водоизмещение равнялось шестидесяти семи тоннам. Белая, сильно наклоненная назад труба и две мачты с полным рангоутом придавали судну необыкновенное изящество. Паровая машина мощностью в двадцать пять сил позволяла развивать скорость в девять-одиннадцать узлов (семнадцать-двадцать километров в час). Кают-компания была отделана красным деревом, остальные каюты — светлым дубом. — На этом судне мы сможем совершить путешествие вокруг света, — сказал Жюль своему брату, когда они осматривали новое приобретение. Жюль Верн вступил во владение кораблем в 1876 году и дал ему название «Сен-Мишель III». Но годы шли, а кругосветное путешествие всё откладывалось. «Сен-Мишель» совершал только каботажные рейсы, и лишь в 1878 году, в ознаменование своего пятидесятилетия, Жюль Верн решил отправиться в дальнее плавание. На борту яхты были: сам писатель, его брат Поль, Этцель младший и молодой депутат Рауль Дюваль, друг семьи Вернов. Команда состояла из капитана Оллив, также уроженца Нанта, штурмана Оллив — сына капитана, машиниста, двух кочегаров, трех матросов, юнги и повара. «Великий романтик на море», — писали газеты Франции, Испании и Португалии. Каждый маленький порт надеялся, что «Сен-Мишель» его посетит. Корабль плыл вдоль западного побережья Европы и Северо-африканского берега, но бросал якорь лишь в больших городах: Виго, Лиссабоне, Кадиксе, Танжере, Гибралтаре, Малаге, Тетуане, Алжире. «Описать прелесть этого путешествия было бы очень трудно, — вспоминал позже Поль Верн. — Может быть, мой брат когда-нибудь напишет мемуары «Сен-Мишеля»… Но эти мемуары так и не были написаны. Воображение писателя блуждало в межпланетном пространстве вместе с кометой Галлия, унесшей с собой отважного Гектора Сервадака, создавало фантастический подземный город «Углеград» в заброшенных копях «Черной Индии», бродило по свету с китайцем Кин-фо, пересекало Индию на сказочном паровом слоне, герое романа «Паровой дом». Замыслы превращались в беглые заметки, но теперь Жюль Верн уже не работал во время путешествий. На море он лишь отдыхал и мечтал, зная, что в тишине амьенского кабинета его ждет старая конторка, стопка аккуратно нарезанной бумаги и связка тонко, отточенных карандашей. Даже такие морские романы, как «Ченслер» и «Пятнадцатилетний капитан», были написаны на суше. Но море жило в его воображении — не синие океаны географических карт, но живые зеленые волны, бьющие в борт корабля, «Море, музыка и свобода — вот всё, что я люблю», — сказал он когда-то своему племяннику. И эта любовь ждала от него воплощения.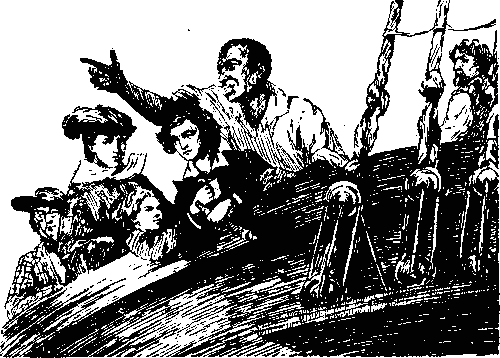 Весной 1880 года «Сен-Мишель» крейсировал у берегов Норвегии, Ирландии и Шотландии. Писатель работал над новым романом — «Зеленый луч». Это было произведение, не похожее на прежние книги Жюля Верна. Его героями были не смелые путешественники, исследователи, инженеры или изобретатели. По сути дела, единственным действующим лицом романа было море.
Трудно даже назвать «Зеленый луч» романом — скорее, это поэма о водной стихии. На его страницах писатель, обычно столь сдержанный, даже скрытный, раскрыл своё сердце и рассказал о своей затаенной любви.
«У моря нет собственного цвета; это только громадное отражение неба. Синее оно? Его синей краской не изобразить. Зеленое? Зеленой не изобразить. Его легче схватить в его ярости, когда оно мрачно, бледно, когда кажется, что небо в нем смешало все облака, которые развесило над ним… Ах, чем больше я смотрю на этот океан, тем все величественнее он мне представляется! Океан! Одним этим словом сказано всё! Океан! Это громада! На недосягаемых глубинах он скрывает безграничные луга, рядом с которыми наши луга — пустыни, как говорит Дарвин. Что материки, даже самые обширные, по сравнению с ним! Простые острова, которые он окружает своими водами. Он покрывает четыре пятых земного шара. Путем непрерывного круговращения, словно живое существо, сердце которого бьется на экваторе, он питается парами, которые сам же испускает, которыми питает источники, которые к нему возвращаются реками или которые он воспринимает непосредственно в виде дождей, из его же недр вышедших! Да, океан — это бесконечность, которой не охватить, но которую чувствуешь по выражению цвета. Бесконечность, подобная тому небесному пространству, которое он отражает в своих водах!»
Быть может, впервые Жюль Верн сам наяву следовал за своими героями. Он не совершал воздушных полетов, когда писал «Пять недель на воздушном шаре», не спускался в кратеры вулканов, чтобы увидеть внутренность земли, не бывал в Арктике, не блуждал в дебрях Африки и Южной Америки и не парил в межпланетных безднах. До сих пор его мечта обгоняла его любимый корабль. Но сейчас каждый залив, каждая бухта, каждый полуостров скалистого шотландского побережья навеки становился бессмертным под его волшебным пером.
На маленьком базальтовом островке Стаффа — одном из группы Гебридских — Жюль Верн спустился в удивительную пещеру «Грот Фингала». Двадцать лет назад он не захотел её видеть; теперь она стала для него олицетворением моря.
«Вода, вся облитая светом, не препятствовала видеть дно, состоявшее из оконечностей столбов, имевших от четырех до семи граней, прильнувших друг к другу и образовавших подобие мозаики. На боковых дверях отражалась удивительная игра света и теней. Всё это гасло, когда против отверстия пещеры останавливалось облако, подобное газовому занавесу на сцене театра. И наоборот, когда сноп лучей врывался в пещеру и отражался от кристаллов на дне пещеры и потом поднимался длинными лучами к своду, вся пещера начинала сиять и сверкать всеми семью цветами призмы…
Весной 1880 года «Сен-Мишель» крейсировал у берегов Норвегии, Ирландии и Шотландии. Писатель работал над новым романом — «Зеленый луч». Это было произведение, не похожее на прежние книги Жюля Верна. Его героями были не смелые путешественники, исследователи, инженеры или изобретатели. По сути дела, единственным действующим лицом романа было море.
Трудно даже назвать «Зеленый луч» романом — скорее, это поэма о водной стихии. На его страницах писатель, обычно столь сдержанный, даже скрытный, раскрыл своё сердце и рассказал о своей затаенной любви.
«У моря нет собственного цвета; это только громадное отражение неба. Синее оно? Его синей краской не изобразить. Зеленое? Зеленой не изобразить. Его легче схватить в его ярости, когда оно мрачно, бледно, когда кажется, что небо в нем смешало все облака, которые развесило над ним… Ах, чем больше я смотрю на этот океан, тем все величественнее он мне представляется! Океан! Одним этим словом сказано всё! Океан! Это громада! На недосягаемых глубинах он скрывает безграничные луга, рядом с которыми наши луга — пустыни, как говорит Дарвин. Что материки, даже самые обширные, по сравнению с ним! Простые острова, которые он окружает своими водами. Он покрывает четыре пятых земного шара. Путем непрерывного круговращения, словно живое существо, сердце которого бьется на экваторе, он питается парами, которые сам же испускает, которыми питает источники, которые к нему возвращаются реками или которые он воспринимает непосредственно в виде дождей, из его же недр вышедших! Да, океан — это бесконечность, которой не охватить, но которую чувствуешь по выражению цвета. Бесконечность, подобная тому небесному пространству, которое он отражает в своих водах!»
Быть может, впервые Жюль Верн сам наяву следовал за своими героями. Он не совершал воздушных полетов, когда писал «Пять недель на воздушном шаре», не спускался в кратеры вулканов, чтобы увидеть внутренность земли, не бывал в Арктике, не блуждал в дебрях Африки и Южной Америки и не парил в межпланетных безднах. До сих пор его мечта обгоняла его любимый корабль. Но сейчас каждый залив, каждая бухта, каждый полуостров скалистого шотландского побережья навеки становился бессмертным под его волшебным пером.
На маленьком базальтовом островке Стаффа — одном из группы Гебридских — Жюль Верн спустился в удивительную пещеру «Грот Фингала». Двадцать лет назад он не захотел её видеть; теперь она стала для него олицетворением моря.
«Вода, вся облитая светом, не препятствовала видеть дно, состоявшее из оконечностей столбов, имевших от четырех до семи граней, прильнувших друг к другу и образовавших подобие мозаики. На боковых дверях отражалась удивительная игра света и теней. Всё это гасло, когда против отверстия пещеры останавливалось облако, подобное газовому занавесу на сцене театра. И наоборот, когда сноп лучей врывался в пещеру и отражался от кристаллов на дне пещеры и потом поднимался длинными лучами к своду, вся пещера начинала сиять и сверкать всеми семью цветами призмы…
 Свет, проникавший снаружи, играл на этих блестящих гранях. Отражаясь в воде внутри пещеры, как в зеркале, он придавал сверкающий блеск этой воде и в то же время доходил до подводных камней и водорослей, которые давали отблеск ровных цветов, от зеленого и тёмнокрасного, до светложелтого; от волн свет отражался, в свою очередь, выступающими участками базальта, которые громоздились неправильными грудами на своде этого единственного в мире подземелья, где царило какое-то звонкое безмолвие, — если только возможно сочетать эти два слова».
…А кругосветное путешествие? Оно всё откладывалось. Не напоминало ли это Полю давнюю историю их несостоявшегося бегства?..
В следующем году «Сен-Мишель» посетил Роттердам и Копенгаген. Нет, он не искал новых путей — скорее, наоборот: всё снова и снова его владелец направлял путь корабля по знакомым маршрутам, казалось отыскивая в этих водах годы молодости и свои мечты…
В 1884 году Жюль Верн впервые почувствовал себя очень усталым. Нужно было сделать большой перерыв в работе. Прогулка вдоль побережья не казалась уже достаточной; большие моря и заморские страны снова, как в юности, стали манить стареющего писателя.
«Сен-Мишель» отправлялся в плавание более длительное, нежели обычно.
— Вы отправляетесь в Бразилию?.. — спрашивали любопытные. — Жюль Верн едет открывать остров Линкольн?.. Вы плывете к истокам Амазонки?
— Ба! — отвечал капитан Оллив, не вынимая трубку изо рта. — Гораздо дальше! Мы отплываем в страну мечты…
В это путешествие Жюль Верн пригласил только самых близких людей: Поля и его сына Гастона. Онорина и Мишель присоединились к ним в Оране.
Плавание превратилось в ряд триумфов: в Лиссабоне их посетил португальский министр; в Гибралтаре писателя чествовала группа молодых английских офицеров; тунисский бей прислал за прославленным романистом экипаж, украшенный цветами; губернатор Мальты лорд Симмонс устроил праздник в честь гостей. Перед путешественниками прошли берега Франции, Португалии, Испании, Марокко, Алжира, Туниса, Италии. В Сицилии они поднимались на вершину Этны; в Неаполе осматривали Везувий и пресловутую Собачью пещеру.
В Чивитта-Веккиа Онорина почувствовала себя нездоровой, и Жюль решился на время расстаться со своим кораблем. Супруги побывали в Риме, где писатель был принят воинственным папой Львом XIII. Затем направились во Флоренцию, Милан и Венецию. Венецианцы устроили им встречу, похожую на фантасмагорию. Город был иллюминован, балконы и карнизы украшены светящимися транспарантами. «Эвива Джулио Верне!» — кричала толпа. Маленькая девочка поднесла герою празднества лавровый венок…
Однако здоровье Онорины всё ухудшалось, и муж и жена решили возвратиться в Амьен по железной дороге. Путешествие было прервано — на время.
…В феврале 1895 года, в день рождения Жюля Верна, в доме на Лонгевильском бульваре был устроен костюмированный бал. У входа висела большая афиша: «Гостиница для путешественников вокруг света. Разрешается бесплатно пить, есть и танцевать». Хозяин был одет трактирщиком, хозяйка — трактирщицей. Они несли огромный котел с вареными овощами и большими ложками раздавали угощение желающим. На галерее был организован уже настоящий великолепный буфет.Гости были одеты китайцами, русскими, неграми, американцами, шотландцами, турками, арабами, испанцами, индийцами… Все народы мира окружали творца «Необыкновенных путешествий»!
Свет, проникавший снаружи, играл на этих блестящих гранях. Отражаясь в воде внутри пещеры, как в зеркале, он придавал сверкающий блеск этой воде и в то же время доходил до подводных камней и водорослей, которые давали отблеск ровных цветов, от зеленого и тёмнокрасного, до светложелтого; от волн свет отражался, в свою очередь, выступающими участками базальта, которые громоздились неправильными грудами на своде этого единственного в мире подземелья, где царило какое-то звонкое безмолвие, — если только возможно сочетать эти два слова».
…А кругосветное путешествие? Оно всё откладывалось. Не напоминало ли это Полю давнюю историю их несостоявшегося бегства?..
В следующем году «Сен-Мишель» посетил Роттердам и Копенгаген. Нет, он не искал новых путей — скорее, наоборот: всё снова и снова его владелец направлял путь корабля по знакомым маршрутам, казалось отыскивая в этих водах годы молодости и свои мечты…
В 1884 году Жюль Верн впервые почувствовал себя очень усталым. Нужно было сделать большой перерыв в работе. Прогулка вдоль побережья не казалась уже достаточной; большие моря и заморские страны снова, как в юности, стали манить стареющего писателя.
«Сен-Мишель» отправлялся в плавание более длительное, нежели обычно.
— Вы отправляетесь в Бразилию?.. — спрашивали любопытные. — Жюль Верн едет открывать остров Линкольн?.. Вы плывете к истокам Амазонки?
— Ба! — отвечал капитан Оллив, не вынимая трубку изо рта. — Гораздо дальше! Мы отплываем в страну мечты…
В это путешествие Жюль Верн пригласил только самых близких людей: Поля и его сына Гастона. Онорина и Мишель присоединились к ним в Оране.
Плавание превратилось в ряд триумфов: в Лиссабоне их посетил португальский министр; в Гибралтаре писателя чествовала группа молодых английских офицеров; тунисский бей прислал за прославленным романистом экипаж, украшенный цветами; губернатор Мальты лорд Симмонс устроил праздник в честь гостей. Перед путешественниками прошли берега Франции, Португалии, Испании, Марокко, Алжира, Туниса, Италии. В Сицилии они поднимались на вершину Этны; в Неаполе осматривали Везувий и пресловутую Собачью пещеру.
В Чивитта-Веккиа Онорина почувствовала себя нездоровой, и Жюль решился на время расстаться со своим кораблем. Супруги побывали в Риме, где писатель был принят воинственным папой Львом XIII. Затем направились во Флоренцию, Милан и Венецию. Венецианцы устроили им встречу, похожую на фантасмагорию. Город был иллюминован, балконы и карнизы украшены светящимися транспарантами. «Эвива Джулио Верне!» — кричала толпа. Маленькая девочка поднесла герою празднества лавровый венок…
Однако здоровье Онорины всё ухудшалось, и муж и жена решили возвратиться в Амьен по железной дороге. Путешествие было прервано — на время.
…В феврале 1895 года, в день рождения Жюля Верна, в доме на Лонгевильском бульваре был устроен костюмированный бал. У входа висела большая афиша: «Гостиница для путешественников вокруг света. Разрешается бесплатно пить, есть и танцевать». Хозяин был одет трактирщиком, хозяйка — трактирщицей. Они несли огромный котел с вареными овощами и большими ложками раздавали угощение желающим. На галерее был организован уже настоящий великолепный буфет.Гости были одеты китайцами, русскими, неграми, американцами, шотландцами, турками, арабами, испанцами, индийцами… Все народы мира окружали творца «Необыкновенных путешествий»!
Тяжелая болезнь приковала писателя к его уединенному кабинету, расположенному в высокой башне. Но он всё же продолжал путешествовать в своих книгах. Смелые и неутомимые герои Жюля Верна исколесили весь земной шар. Но они были не только отважными людьми: они были борцами за свободу, они верили в могущество науки и овладевшего ею человека. И многие из них искали путей на обетованный остров Утопия.
ДВА МИРА
Утопия — это мир, созданный без борьбы, счастливая страна, не завоеванная, а упавшая с неба. Но неужели Жюль Верн, так ненавидевший угнетение и громко заявивший об этом устами своего любимого героя капитана Немо, — неужели он не видел в окружающей его действительности двух лагерей, стоящих лицом к лицу? Ответ на этот вопрос дают многие произведения Жюля Верна, посвященные Америке, и в первую очередь роман «Пятьсот миллионов бегумы». Первые романы, посвященные Соединенным Штатам: «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны», — были написаны ещё до путешествия писателя в Америку. Соединенные Штаты, в них описанные, не были реальной Америкой. Эта условная страна, где нет разлада между идеей и исполнением, страна неограниченных технических возможностей, была лишь воплощением мечты Жюля Верна — мечты о таком мире, где общество не связано никакими условностями — религиозными, сословными, историческими, где нет ненавистного монархического строя, подобного наполеоновской империи, сковывавшей в те годы всю мыслящую и борющуюся Францию. Поездка в Америку открыла Жюлю Верну глаза: Соединенные Штаты не были похожи на благословенный край; напротив, это была страна свирепого капитализма, жестокого порабощения человека человеком. Чтобы впечатление это окрепло, понадобились события 1870–1871 годов: война и Парижская Коммуна. Роман «Пятьсот миллионов бегумы» — воспоминание о франко-прусской войне, и в то же самое время это картина будущего. За прошедшие годы от зорких глаз писателя не укрылось, что на смену германскому идет американский империализм, что именно на северо-американском материке капитализм должен принять самые агрессивные формы. Героями своего нового романа Жюль Верн сделал мечтателя-ученого доктора Саразена и его антагониста — ученого-капиталиста профессора Шульце. Вдали от европейских бурь, на берегу Тихого океана, там, где когда-то создавал свои коммуны Кабе, доктор Саразен, наследник миллионов индийской княгини, строит идеальный город Франсевилль. «Мы сделаем гражданами нашего города честных людей, которых душат нужда и безработица, — говорит он. — У нас же найдут убежище и те, кого чужестранцы-победители обрекли на жестокое изгнание. У нас изгнанники, добровольные и невольные, найдут применение своим способностям, своим знаниям, они внесут в наше дело духовный вклад, более драгоценный, чем все сокровища мира. Мы построим прекрасные школы, которые будут воспитывать молодежь, руководствуясь мудрыми принципами высокой моральной, умственной и физической культуры, и это обеспечит нам в будущем здоровое, сильное и цветущее поколение». План этого идеального города принадлежит самому Жюлю Верну, воплотившему в нём самые гуманные, самые передовые идеи Сен-Симона, Фурье, Кабе о городах будущего. А в словах его об изгнанниках «добровольных и невольных» легко угадать затаенную мысль о судьбе мучеников Парижской Коммуны. Ведь среди четырнадцати тысяч заключенных и изгнанных коммунаров были и его друзья.
Второй герой романа, профессор Шульце, — олицетворение свирепых сил капитализма. Урвав половину наследства Саразена, профессор Шульце рядом с Франсевиллем строит капиталистический «идеальный город» — чудовищный военный завод с тюремной дисциплиной, где всё поставлено на службу разрушению. С какой ненавистью говорит Шульце о строителях утопического города, с какой жестокой радостью мечтает он о массовых убийствах ни в чём не повинных мирных жителей, женщин и детей! В своих арсеналах он накапливает невиданные снаряды — своего рода атомные бомбы XIX века, «способные охватить пожаром и смертью целый город, объять его со всех сторон бушующим неугасимым огнем». И в самом сердце своего Стального города, на вершине циклопической Башни Быка, словно символ «творческих сил» капитализма, он ставит чудовищную пушку, направленную на Франсевилль. Один её выстрел должен наполнить город огнем и смертью и превратить в трупы сто тысяч человек!
Но центральная фигура романа не Саразен и не Шульце. Ведущий образ книги — молодой француз, инженер Марсель Брукман. Марсель — это мечта Жюля Верна о поколении завтрашнего дня. Недаром он сделал его ровесником своего сына Мишеля. Смело, бесстрашно проникает Марсель в самое логово зверя, чтобы выведать страшные тайны Стального города. Но он думает не о том, чтобы уничтожить город капитализма, а мечтает овладеть им, сочетать мирные стремления жителей Франсевилля с промышленным могуществом Стального города: изготовлять на его заводах не пушки и другие орудия истребления, но сельскохозяйственные машины, промышленное оборудование и предметы широкого потребления.
Будущий мир должен опираться не на мечту, а на реальное могущество техники и промышленности, созданных при капитализме, утверждает Марсель Брукман, а вместе с ним и Жюль Верн.
Таким предстало будущее перед глазами писателя — призрак грядущего империализма, развившегося из ядовитых семян, уже замеченных Верном в середине XIX века.
Прошло более двадцати пяти лет со дня путешествия Жюля Верна в Америку. За это время он видел много стран. Но теперь с путешествиями было покончено: он был стар, хром и начал слепнуть — один глаз уже почти ничего не видел.
Больной писатель редко выходил из башни, где помещался его рабочий кабинет.
Но чем дальше уходил от него внешний мир, тем зорче становилось внутреннее зрение писателя, тем острее он видел не только борющиеся силы мира, но и различал противоречия внутри того самого капитализма, который казался монолитным и незыблемым большинству его современников.
В эти годы, либо диктуя внучкам, либо работая с самодельным транспарантом, Жюль Верн написал один из наиболее политически острых своих романов — «Самоходный остров».
С одной стороны, это было воспоминание о своем путешествии на знаменитом «Грейт Истерне», уже давно проданном к тому времени на слом, с другой — сатирическая картина будущего, аллегория паразитического капитализма завтрашнего дня.
Подлинным воплощением этой фантастической страны является самоходный остров Стандарт Айленд, населенный королями промышленности и биржи.
Остров этот, длиной в семь и шириной в пять километров, целиком построенный из металла, имеет водоизмещение в двести пятьдесят девять миллионов тонн. Могучие фабрики энергии приводят в движение его циклопические моторы мощностью в шесть миллионов лошадиных сил, что дает самоходному острову скорость до восьми узлов.
На этом искусственном острове, покрытом слоем чернозема, имеются луга, парки и огороды, течет река Серпентайн, падает искусственный дождь и светит алюминиевая луна. В центре острова расположен город с чудесными домами из алюминия — этого металла будущего, — пластмасс и стеклянных пустотелых кирпичей. На острове устроены движущиеся тротуары и круговая электрическая железная дорога. По целой сети проводов и труб в дома подается горячая и холодная вода, свет, холод, пар, электричество и точное время. На острове выходят две газеты — два бульварных листка, дающих пищу не только для ума, но и для желудка: они печатаются шоколадными чернилами на съедобной бумаге. Город носит гордое имя Миллиард-сити и населен исключительно миллиардерами. Это подлинный рай богачей, у которых наиболее частое по употреблению и любимое слово — «миллион».
Где-то там, на материках, бьют нефтяные источники, работают фабрики и заводы, фермеры возделывают землю, рыбаки ловят рыбу, но никто из людей труда не допускается на остров. Здесь живут одни лишь «повелители мира», погруженные в вечную праздность.
Но этот безмятежный покой лишь кажущийся. В недрах кучки капиталистов зреют внутренние противоречия: одни хотят использовать самоходный остров для перевозки коммерческих грузов, другие — как пловучий курорт. Промышленники борются с финансистами, и католики косо смотрят на протестантов. Наконец всеобщее недовольство друг другом вырывается наружу. Правая сторона острова открыто поднимает мятеж против левой, причем одну партию возглавляет банкир Нат Коверлей, другую — нефтяной король Джемс Такердон. Могучие моторы пущены в противоположные стороны, и металлический остров, представляющий чудо техники XX века, гибнет, разорванный на части своими собственными машинами!
Так больше полувека назад Жюль Верн предсказал обреченность капитализма, воплощенного в образе «идеального города» Миллиард-сити.
Погруженный в безысходную тьму своего рабочего кабинета, который он уже никогда не покидал, Жюль Верн не видел путей к достижению того светлого идеала человеческого братства, о котором он мечтал всю жизнь. Оторванный от реального борющегося мира, он не видел тех сил, которые могли бы сломить ненавистный ему капитализм. Но он страстно верил в эту будущую победу и своими уже незрячими глазами видел смутные очертания блистающего мира грядущего.
План этого идеального города принадлежит самому Жюлю Верну, воплотившему в нём самые гуманные, самые передовые идеи Сен-Симона, Фурье, Кабе о городах будущего. А в словах его об изгнанниках «добровольных и невольных» легко угадать затаенную мысль о судьбе мучеников Парижской Коммуны. Ведь среди четырнадцати тысяч заключенных и изгнанных коммунаров были и его друзья.
Второй герой романа, профессор Шульце, — олицетворение свирепых сил капитализма. Урвав половину наследства Саразена, профессор Шульце рядом с Франсевиллем строит капиталистический «идеальный город» — чудовищный военный завод с тюремной дисциплиной, где всё поставлено на службу разрушению. С какой ненавистью говорит Шульце о строителях утопического города, с какой жестокой радостью мечтает он о массовых убийствах ни в чём не повинных мирных жителей, женщин и детей! В своих арсеналах он накапливает невиданные снаряды — своего рода атомные бомбы XIX века, «способные охватить пожаром и смертью целый город, объять его со всех сторон бушующим неугасимым огнем». И в самом сердце своего Стального города, на вершине циклопической Башни Быка, словно символ «творческих сил» капитализма, он ставит чудовищную пушку, направленную на Франсевилль. Один её выстрел должен наполнить город огнем и смертью и превратить в трупы сто тысяч человек!
Но центральная фигура романа не Саразен и не Шульце. Ведущий образ книги — молодой француз, инженер Марсель Брукман. Марсель — это мечта Жюля Верна о поколении завтрашнего дня. Недаром он сделал его ровесником своего сына Мишеля. Смело, бесстрашно проникает Марсель в самое логово зверя, чтобы выведать страшные тайны Стального города. Но он думает не о том, чтобы уничтожить город капитализма, а мечтает овладеть им, сочетать мирные стремления жителей Франсевилля с промышленным могуществом Стального города: изготовлять на его заводах не пушки и другие орудия истребления, но сельскохозяйственные машины, промышленное оборудование и предметы широкого потребления.
Будущий мир должен опираться не на мечту, а на реальное могущество техники и промышленности, созданных при капитализме, утверждает Марсель Брукман, а вместе с ним и Жюль Верн.
Таким предстало будущее перед глазами писателя — призрак грядущего империализма, развившегося из ядовитых семян, уже замеченных Верном в середине XIX века.
Прошло более двадцати пяти лет со дня путешествия Жюля Верна в Америку. За это время он видел много стран. Но теперь с путешествиями было покончено: он был стар, хром и начал слепнуть — один глаз уже почти ничего не видел.
Больной писатель редко выходил из башни, где помещался его рабочий кабинет.
Но чем дальше уходил от него внешний мир, тем зорче становилось внутреннее зрение писателя, тем острее он видел не только борющиеся силы мира, но и различал противоречия внутри того самого капитализма, который казался монолитным и незыблемым большинству его современников.
В эти годы, либо диктуя внучкам, либо работая с самодельным транспарантом, Жюль Верн написал один из наиболее политически острых своих романов — «Самоходный остров».
С одной стороны, это было воспоминание о своем путешествии на знаменитом «Грейт Истерне», уже давно проданном к тому времени на слом, с другой — сатирическая картина будущего, аллегория паразитического капитализма завтрашнего дня.
Подлинным воплощением этой фантастической страны является самоходный остров Стандарт Айленд, населенный королями промышленности и биржи.
Остров этот, длиной в семь и шириной в пять километров, целиком построенный из металла, имеет водоизмещение в двести пятьдесят девять миллионов тонн. Могучие фабрики энергии приводят в движение его циклопические моторы мощностью в шесть миллионов лошадиных сил, что дает самоходному острову скорость до восьми узлов.
На этом искусственном острове, покрытом слоем чернозема, имеются луга, парки и огороды, течет река Серпентайн, падает искусственный дождь и светит алюминиевая луна. В центре острова расположен город с чудесными домами из алюминия — этого металла будущего, — пластмасс и стеклянных пустотелых кирпичей. На острове устроены движущиеся тротуары и круговая электрическая железная дорога. По целой сети проводов и труб в дома подается горячая и холодная вода, свет, холод, пар, электричество и точное время. На острове выходят две газеты — два бульварных листка, дающих пищу не только для ума, но и для желудка: они печатаются шоколадными чернилами на съедобной бумаге. Город носит гордое имя Миллиард-сити и населен исключительно миллиардерами. Это подлинный рай богачей, у которых наиболее частое по употреблению и любимое слово — «миллион».
Где-то там, на материках, бьют нефтяные источники, работают фабрики и заводы, фермеры возделывают землю, рыбаки ловят рыбу, но никто из людей труда не допускается на остров. Здесь живут одни лишь «повелители мира», погруженные в вечную праздность.
Но этот безмятежный покой лишь кажущийся. В недрах кучки капиталистов зреют внутренние противоречия: одни хотят использовать самоходный остров для перевозки коммерческих грузов, другие — как пловучий курорт. Промышленники борются с финансистами, и католики косо смотрят на протестантов. Наконец всеобщее недовольство друг другом вырывается наружу. Правая сторона острова открыто поднимает мятеж против левой, причем одну партию возглавляет банкир Нат Коверлей, другую — нефтяной король Джемс Такердон. Могучие моторы пущены в противоположные стороны, и металлический остров, представляющий чудо техники XX века, гибнет, разорванный на части своими собственными машинами!
Так больше полувека назад Жюль Верн предсказал обреченность капитализма, воплощенного в образе «идеального города» Миллиард-сити.
Погруженный в безысходную тьму своего рабочего кабинета, который он уже никогда не покидал, Жюль Верн не видел путей к достижению того светлого идеала человеческого братства, о котором он мечтал всю жизнь. Оторванный от реального борющегося мира, он не видел тех сил, которые могли бы сломить ненавистный ему капитализм. Но он страстно верил в эту будущую победу и своими уже незрячими глазами видел смутные очертания блистающего мира грядущего.
ТАЙНА ЖЮЛЯ ВЕРНА
Ну что ж, книга закончена, как закончена жизнь её героя, и можно было бы поставить точку. Но ведь осталась нераскрытой главная тайна Жюля Верна: успех его и в наши дни, его бессмертие. Попытаемся же ещё раз подытожить всё нами найденное, ещё раз обернуться и окинуть одним общим взглядом обыкновенную жизнь этого необыкновенного человека.
Ещё при жизни стареющего писателя многие его фантастические проекты стали уходить в прошлое и действительность стала перерастать его мечты.
Первая в мире электрическая подводная лодка русского изобретателя Джевецкого на деле доказала всему миру преимущества нового, небывалого до тех пор вида энергии. Профессор Московского университета Жуковский уже создал теорию полета, и юные, воздушные корабли тяжелее воздуха, созданные русскими, французскими, английскими и американскими авиаконструкторами, уже делали первые попытки взлететь к небу. Созданный гением Александра Столетова фотоэлемент открывал дорогу новому веку — веку телемеханики и автоматики. Петербургский профессор Попов не только передавал телеграммы без проводов, но и намечал пути для радиолокации при помощи электромагнитных волн. И в далекой Калуге Константин Эдуардович Циолковский уже проектировал первые в мире межпланетные корабли…
И тем не менее книги Жюля Верна продолжали владеть тысячами и десятками тысяч умов и сердец. Больше того, его слава всё возрастала, и целый дождь писем падал на специальный стол его кабинета, расположенного в уединенной башне, пролетев множество зеленых лье и тёмносиних миль.
После смерти писателя прошло почти полвека. Свыше столетия отделяет нас от дня опубликования его первого произведения. Над обоими полюсами проносятся огромные воздушные корабли, ввысь взлетают сверкающие вертолеты, в темные пучины океана спускаются подводные лодки и батисферы, высоко над земной поверхностью проносятся гигантские ракеты, но уже не тысячи, а миллионы читателей всё с тем же волнением раскрывают книги Жюля Верна, чтобы следовать по ледяной пустыне к полюсу за капитаном Гаттерасом, лететь вокруг земного шара на «Альбатросе» инженера Робура, бродить по подводным лесам вместе с капитаном Немо и стоять рядом с Мишелем Арданом в гигантском алюминиевом ядре, летящем в межпланетном пространстве.
Читателей книг Жюля Верна влекли к ним — и продолжают увлекать и в наши дни — не «Наутилус», потому что подводные лодки существовали и до него, не «Альбатрос» — ведь в эту эпоху все, кто интересовался техникой, знали проект аэродромической машины Ломоносова, чертежи геликоптеров Косею, Лаланделя, и Понтон д'Амекура, — и даже не межпланетный корабль пушечного клуба — в старых книгах, которые сам Жюль Верн читал в детстве, можно было прочитать по крайней мере о двух десятках путешествий на Луну и другие планеты. Молодых читателей больше всего влекли к себе те, кто создал все эти чудесные машины и вдохнул в них жизнь, люди, полные веры в науку и безграничное могущество человека, не выдуманные идеальные и положительные герои, но живые люди, которым можно и должно было подражать!
Своей долгой жизнью книги Жюля Верна обязаны не только его литературному таланту. Нет, это победа созданного им нового литературного жанра, торжество новых героев, воплотивших в себе многие черты человека завтрашнего дня.
Ушли в прошлое фантастические проекты Жюля Верна, и действительность переросла его мечты. Но живы и по сей день его герои, и до сих пор они волнуют молодых читателей.
Юноши, девушки, дети, раскрывая книги Жюля Верна, входят, как сквозь широко распахнутую дверь, в великолепный мир, полный красок, движения и жизни. В его чистых, прозрачных далях они видят сразу все страны света и все человечество — борющееся с силами зла и всегда их побеждающее, завоевывающее подземные, подводные, заоблачные и надзвездные края, неудержимо стремящееся вперед, в ещё более великолепный мир будущего.
Греческое слово «география» буквально значит: описание Земли. Сто томов сочинений Жюля Верна — это тоже география, но ожившая, одухотворенная обаятельными героями, которые идут по земному шару не как каталогизаторы или собиратели коллекций, но как открыватели и завоеватели Вселенной, которую они отдают во владение освобожденному человечеству. И эта география никогда не устареет, как никогда не стареет история подвигов человеческого ума.
Мы любим живой и легкий язык французского писателя, полный юмора, блестящих, сравнений и чудесных лирических отступлений. Мы никогда не устаем следить за необычайными приключениями его героев — находчивых, бесстрашных и благородных. И каждый раз, закрывая его книгу, мы чувствуем, что он вдохнул в нас оптимизм и веру в беспредельное могущество человека.
Мы любим Жюля Верна за то, что он был первым, кто открыл читателям поэзию науки, романтику и героику научных подвигов, кто повел читателей в творческую лабораторию ученого, изобретателя, кто позвал людей завоевывать будущее.
Красоту природы и искусства он дополнял новой красотой: он открыл читателям поэзию науки, красоту и романтику творческого труда. То, что казалось другим серым, обыденным, слишком отвлеченным, он заставил стать необыкновенным, засверкать всеми красками, сумел показать полным блеска и движения. Романтика обыкновенного — вот постоянный, вечно меняющийся и всегда прекрасный пейзаж его «Необыкновенных путешествий».
Но всёже больше всего мы любим Жюля Верна за то, что он широко распахнул дверь в литературу новым героям — созидателям и борцам.
В своих романах Жюль Верн обращался преимущественно к молодежи и людям будущего, которые, как он верил, будут читать его произведения. Эти будущие поколения он хотел научить любить свободу и верить в грядущую победу освобожденного человечества над силами зла и косной природой.
Вот почему мы продолжаем и сейчас считать его великим воспитателем.
Он поднял к солнцу, к свету и заставил идти вперед многие сотни, если не тысячи, людей, которые стали строителями нового мира, пролагателями неведомых до того путей в науке, смелыми изобретателями, инженерами-творцами, просто вдохновенными тружениками.
Тысячи людей — ученых, путешественников, изобретателей — с гордостью признавали ту роль, которую сыграл Жюль Верн в формировании их мировоззрения, в выборе ими профессии. А сколько их, ещё не названных и безыменных, великих и малых, чьё творческое воображение было впервые разбужено книгами Жюля Верна! Скольким он указал — и ещё укажет — путь в науке и в жизни! Не потому, что он лучше других видел дорогу к цели, но потому, что он верил в грядущую победу.
Ещё не собран и даже весь ещё не взошел этот великий посев в умах стремящегося вперед человечества.
Попытаемся же ещё раз подытожить всё нами найденное, ещё раз обернуться и окинуть одним общим взглядом обыкновенную жизнь этого необыкновенного человека.
Ещё при жизни стареющего писателя многие его фантастические проекты стали уходить в прошлое и действительность стала перерастать его мечты.
Первая в мире электрическая подводная лодка русского изобретателя Джевецкого на деле доказала всему миру преимущества нового, небывалого до тех пор вида энергии. Профессор Московского университета Жуковский уже создал теорию полета, и юные, воздушные корабли тяжелее воздуха, созданные русскими, французскими, английскими и американскими авиаконструкторами, уже делали первые попытки взлететь к небу. Созданный гением Александра Столетова фотоэлемент открывал дорогу новому веку — веку телемеханики и автоматики. Петербургский профессор Попов не только передавал телеграммы без проводов, но и намечал пути для радиолокации при помощи электромагнитных волн. И в далекой Калуге Константин Эдуардович Циолковский уже проектировал первые в мире межпланетные корабли…
И тем не менее книги Жюля Верна продолжали владеть тысячами и десятками тысяч умов и сердец. Больше того, его слава всё возрастала, и целый дождь писем падал на специальный стол его кабинета, расположенного в уединенной башне, пролетев множество зеленых лье и тёмносиних миль.
После смерти писателя прошло почти полвека. Свыше столетия отделяет нас от дня опубликования его первого произведения. Над обоими полюсами проносятся огромные воздушные корабли, ввысь взлетают сверкающие вертолеты, в темные пучины океана спускаются подводные лодки и батисферы, высоко над земной поверхностью проносятся гигантские ракеты, но уже не тысячи, а миллионы читателей всё с тем же волнением раскрывают книги Жюля Верна, чтобы следовать по ледяной пустыне к полюсу за капитаном Гаттерасом, лететь вокруг земного шара на «Альбатросе» инженера Робура, бродить по подводным лесам вместе с капитаном Немо и стоять рядом с Мишелем Арданом в гигантском алюминиевом ядре, летящем в межпланетном пространстве.
Читателей книг Жюля Верна влекли к ним — и продолжают увлекать и в наши дни — не «Наутилус», потому что подводные лодки существовали и до него, не «Альбатрос» — ведь в эту эпоху все, кто интересовался техникой, знали проект аэродромической машины Ломоносова, чертежи геликоптеров Косею, Лаланделя, и Понтон д'Амекура, — и даже не межпланетный корабль пушечного клуба — в старых книгах, которые сам Жюль Верн читал в детстве, можно было прочитать по крайней мере о двух десятках путешествий на Луну и другие планеты. Молодых читателей больше всего влекли к себе те, кто создал все эти чудесные машины и вдохнул в них жизнь, люди, полные веры в науку и безграничное могущество человека, не выдуманные идеальные и положительные герои, но живые люди, которым можно и должно было подражать!
Своей долгой жизнью книги Жюля Верна обязаны не только его литературному таланту. Нет, это победа созданного им нового литературного жанра, торжество новых героев, воплотивших в себе многие черты человека завтрашнего дня.
Ушли в прошлое фантастические проекты Жюля Верна, и действительность переросла его мечты. Но живы и по сей день его герои, и до сих пор они волнуют молодых читателей.
Юноши, девушки, дети, раскрывая книги Жюля Верна, входят, как сквозь широко распахнутую дверь, в великолепный мир, полный красок, движения и жизни. В его чистых, прозрачных далях они видят сразу все страны света и все человечество — борющееся с силами зла и всегда их побеждающее, завоевывающее подземные, подводные, заоблачные и надзвездные края, неудержимо стремящееся вперед, в ещё более великолепный мир будущего.
Греческое слово «география» буквально значит: описание Земли. Сто томов сочинений Жюля Верна — это тоже география, но ожившая, одухотворенная обаятельными героями, которые идут по земному шару не как каталогизаторы или собиратели коллекций, но как открыватели и завоеватели Вселенной, которую они отдают во владение освобожденному человечеству. И эта география никогда не устареет, как никогда не стареет история подвигов человеческого ума.
Мы любим живой и легкий язык французского писателя, полный юмора, блестящих, сравнений и чудесных лирических отступлений. Мы никогда не устаем следить за необычайными приключениями его героев — находчивых, бесстрашных и благородных. И каждый раз, закрывая его книгу, мы чувствуем, что он вдохнул в нас оптимизм и веру в беспредельное могущество человека.
Мы любим Жюля Верна за то, что он был первым, кто открыл читателям поэзию науки, романтику и героику научных подвигов, кто повел читателей в творческую лабораторию ученого, изобретателя, кто позвал людей завоевывать будущее.
Красоту природы и искусства он дополнял новой красотой: он открыл читателям поэзию науки, красоту и романтику творческого труда. То, что казалось другим серым, обыденным, слишком отвлеченным, он заставил стать необыкновенным, засверкать всеми красками, сумел показать полным блеска и движения. Романтика обыкновенного — вот постоянный, вечно меняющийся и всегда прекрасный пейзаж его «Необыкновенных путешествий».
Но всёже больше всего мы любим Жюля Верна за то, что он широко распахнул дверь в литературу новым героям — созидателям и борцам.
В своих романах Жюль Верн обращался преимущественно к молодежи и людям будущего, которые, как он верил, будут читать его произведения. Эти будущие поколения он хотел научить любить свободу и верить в грядущую победу освобожденного человечества над силами зла и косной природой.
Вот почему мы продолжаем и сейчас считать его великим воспитателем.
Он поднял к солнцу, к свету и заставил идти вперед многие сотни, если не тысячи, людей, которые стали строителями нового мира, пролагателями неведомых до того путей в науке, смелыми изобретателями, инженерами-творцами, просто вдохновенными тружениками.
Тысячи людей — ученых, путешественников, изобретателей — с гордостью признавали ту роль, которую сыграл Жюль Верн в формировании их мировоззрения, в выборе ими профессии. А сколько их, ещё не названных и безыменных, великих и малых, чьё творческое воображение было впервые разбужено книгами Жюля Верна! Скольким он указал — и ещё укажет — путь в науке и в жизни! Не потому, что он лучше других видел дорогу к цели, но потому, что он верил в грядущую победу.
Ещё не собран и даже весь ещё не взошел этот великий посев в умах стремящегося вперед человечества.

Говард Фаст Тони и волшебная дверь
Моим детям и всем ребятам, которые не перестают спрашивать меня, почему я больше не пишу для них книжек.

Глава 1 ТОНИ И УЧИТЕЛЬНИЦА
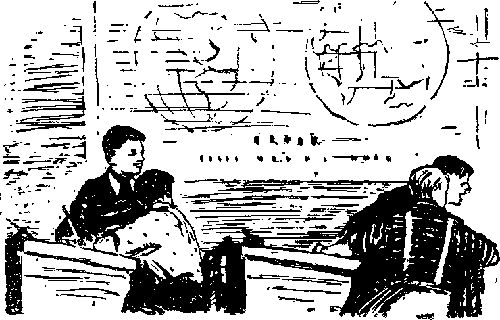 — Почему… — спросил Тони Мак-Тэвиш Ливи, — почему вы всё время называете их дикими? Они совсем не дикие. Они такие же хорошие, мирные люди, как и все другие.
— Ах, вот как! — сказала мисс Клэтт, и на её лице появилось то особенное выражение, которое Тони так хорошо знал. — Ты хочешь оказать, Тони, что знаешь об индейцах больше меня.
Все в классе засмеялись — не тому, что сказала учительница, но тому, как она это сказала, — и все взгляды обратились на Тони. Все знали, что сейчас начнется обычное представление, и приготовились поразвлечься; один Тони будто окаменел за своей партой, сжал губы и упорно смотрел прямо перед собой.
— Ну так как же, Тони, — повторила мисс Клэтт: — ты знаешь об индейцах больше меня?
— Нет.
— Но ты так самонадеянно заявил, что они не дикие, а просто хорошие, мирные люди, как и все другие. Очевидно, ты знаешь об индейцах больше меня, раз так решительно мне возражаешь.
В наше время учитель, быть может, нашел бы более тонкий подход к одиннадцатилетнему мальчику, но и этот разговор и все другие события, о которых я расскажу в этой книге, произошли в 1924 году. К тому же Тони Мак-Тэвиш Ливи доставлял мисс Клэтт немало неприятных минут. Всякий раз, когда только можно было, она старалась отплатить ему тем же; не упустила случая и на этот раз. Тони уже ступил на зыбкую почву, и мисс Кдэтт твердо решила, что не оставит этого разговора до тех пор, пока он не увязнет ещё глубже.
— Я вовсе не знаю об индейцах больше вашего, — очень медленно, тщательно подбирая слова, сказал Тони, — но кое-что я о них знаю.
— Каждый из нас может оказать то же самое, — улыбнулась мисс Клэтт и вызвала этим в классе новый взрыв ехидного смеха. — Но ты, я вижу, очень много знаешь об индейцах. Откуда же это ты их так хорошо знаешь?
— Просто знаю, и всё.
— А, понимаю! — сказала мисс Клэтт. — У тебя, наверно, есть друзья среди индейцев.
— Да, есть.
Мисс Клэтт утихомирила снова разразившийся смехом класс, и те из учеников, кто хорошо знал её и Тони, почувствовали, что наступает критическая минута, и напряженно ждали развязки.
— Так, значит, у тебя есть друзья среди индейцев, Тони? Может быть, целое племя?
— Просто я знаю одну индейскую деревню, — ответил Тони.
— Ах, вот что! И где же находится эта деревня, Тони?
— На северной окраине города, — решительно и в то же время безнадежно ответил Тони.
Мисс Клэтт прищурилась. Она часто повторяла, что готова простить ребенку всё, кроме лжи. К тому же она считала нужным «воспитывать на примере» и предпочитала не щадить чувства одного ребенка, лишь бы остальные всё поняли.
— Почему… — спросил Тони Мак-Тэвиш Ливи, — почему вы всё время называете их дикими? Они совсем не дикие. Они такие же хорошие, мирные люди, как и все другие.
— Ах, вот как! — сказала мисс Клэтт, и на её лице появилось то особенное выражение, которое Тони так хорошо знал. — Ты хочешь оказать, Тони, что знаешь об индейцах больше меня.
Все в классе засмеялись — не тому, что сказала учительница, но тому, как она это сказала, — и все взгляды обратились на Тони. Все знали, что сейчас начнется обычное представление, и приготовились поразвлечься; один Тони будто окаменел за своей партой, сжал губы и упорно смотрел прямо перед собой.
— Ну так как же, Тони, — повторила мисс Клэтт: — ты знаешь об индейцах больше меня?
— Нет.
— Но ты так самонадеянно заявил, что они не дикие, а просто хорошие, мирные люди, как и все другие. Очевидно, ты знаешь об индейцах больше меня, раз так решительно мне возражаешь.
В наше время учитель, быть может, нашел бы более тонкий подход к одиннадцатилетнему мальчику, но и этот разговор и все другие события, о которых я расскажу в этой книге, произошли в 1924 году. К тому же Тони Мак-Тэвиш Ливи доставлял мисс Клэтт немало неприятных минут. Всякий раз, когда только можно было, она старалась отплатить ему тем же; не упустила случая и на этот раз. Тони уже ступил на зыбкую почву, и мисс Кдэтт твердо решила, что не оставит этого разговора до тех пор, пока он не увязнет ещё глубже.
— Я вовсе не знаю об индейцах больше вашего, — очень медленно, тщательно подбирая слова, сказал Тони, — но кое-что я о них знаю.
— Каждый из нас может оказать то же самое, — улыбнулась мисс Клэтт и вызвала этим в классе новый взрыв ехидного смеха. — Но ты, я вижу, очень много знаешь об индейцах. Откуда же это ты их так хорошо знаешь?
— Просто знаю, и всё.
— А, понимаю! — сказала мисс Клэтт. — У тебя, наверно, есть друзья среди индейцев.
— Да, есть.
Мисс Клэтт утихомирила снова разразившийся смехом класс, и те из учеников, кто хорошо знал её и Тони, почувствовали, что наступает критическая минута, и напряженно ждали развязки.
— Так, значит, у тебя есть друзья среди индейцев, Тони? Может быть, целое племя?
— Просто я знаю одну индейскую деревню, — ответил Тони.
— Ах, вот что! И где же находится эта деревня, Тони?
— На северной окраине города, — решительно и в то же время безнадежно ответил Тони.
Мисс Клэтт прищурилась. Она часто повторяла, что готова простить ребенку всё, кроме лжи. К тому же она считала нужным «воспитывать на примере» и предпочитала не щадить чувства одного ребенка, лишь бы остальные всё поняли.
 — Так, значит, у нас в городе есть индейская деревня, Тони; у тебя там живут друзья, и все это в Нью-Йорке, в 1924 году? Скажи же нам: где именно находится эта деревня и какое индейское племя там живет?
— До этой деревни часа три ходу, — ответил Тони печально, но упрямо. — Там живут индейцы, по имени весквейстики, и они совсем не дикие, а очень хорошие и добрые люди. Можете не верить, мне всё равно.
— Я не потерплю лжи! — сказала мисс Клэтт. — Тони, ты останешься в школе после уроков.
И Тони остался в школе после уроков. Значит, сегодня он не сумеет побывать за дверью, а это даже хуже, чем написать на классной доске триста раз «я больше не буду лгать».
Потом Тони отпустили домой и дали записку к отцу — и это, конечно, было хуже всего.
— Так, значит, у нас в городе есть индейская деревня, Тони; у тебя там живут друзья, и все это в Нью-Йорке, в 1924 году? Скажи же нам: где именно находится эта деревня и какое индейское племя там живет?
— До этой деревни часа три ходу, — ответил Тони печально, но упрямо. — Там живут индейцы, по имени весквейстики, и они совсем не дикие, а очень хорошие и добрые люди. Можете не верить, мне всё равно.
— Я не потерплю лжи! — сказала мисс Клэтт. — Тони, ты останешься в школе после уроков.
И Тони остался в школе после уроков. Значит, сегодня он не сумеет побывать за дверью, а это даже хуже, чем написать на классной доске триста раз «я больше не буду лгать».
Потом Тони отпустили домой и дали записку к отцу — и это, конечно, было хуже всего.
Между Тони и мисс Клэтт постепенно разгоралась настоящая война, потому что никогда ни о чём на свете они не думали одинаково. Порознь они были совсем другие, чем вместе. А оказавшись вместе, они доставляли только неприятности друг другу и развлечение всему классу. Мисс Клэтт, довольно миловидная женщина, для Тони оставалась только учительницей, а значит, её следовало остерегаться. Сам Тони, курносый, коренастый, веснушчатый мальчишка, в своей жизни испытал ещё не так много неприятностей — где же ему было тягаться с мисс Клэтт, у которой их было куда больше! В остальном силы противников были примерно равны. Борьба началась в первый день занятий, в первый же день, когда мисс Клэтт, как она выражалась, знакомилась с учениками. Преподавая в школе в Ист-Сайде, она считала себя обязанной знать, как живут, из какой семьи происходят ее ученики. Под этим предлогом она задавала каждому вопрос о его национальности. — У меня её нет, — сказал Тони, когда пришел его черед отвечать. И это было началом первой стычки между Тони Мак-Тэвиш Ливи и мисс Клэтт. — У каждого человека есть национальность, — строго сказала мисс Клэтт. Говоря так, мисс Клэтт, конечно, имела в виду учеников, а не себя, потому что такие люди, как она, никогда не думают о своей собственной национальности. — Откуда родом твои родители? — Мои отец из Бруклина, — ответил Тони, что, по мнению мисс Клэтт, прозвучало не как объяснение, а как вызов. — Моя мать из штата Вашингтон. Ее фамилия Мак-Тэвиш, но ёе мать была наполовину индианка и наполовину шведка. Её отец был шотландец; только его мать была гаитянка. А моя бабушка — это, значит, мать моего отца — итальянка, и меня назвали Тони в честь её отца. Только он-то был француз из Марселя, но его отец и мать до того, как приехали в Марсель, были итальянцами — там вообще много итальянцев, — но только его отец был наполовину немец…
 — Чей отец? — воскликнула мисс Клэтт.
— Его дедушка, — ответил Тони, не переводя дыхания. — А мой отец еврей, то-есть его отец был еврей, а не моя бабушка — она была француженка, немка и итальянка, а дедушка был русский и литовец, и еще он был еврей, а литовец женился на польке… Вот почему у меня её нет.
— Чего нет? — прошептала мисс Клэтт, чувствуя, что пол под её ногами колеблется, как зыбучий песок.
— Национальности нет, — сказал Тони, — кроме того, что мой отец переехал сюда из Бруклина в 1912 году.
Мисс Клэтт не стала продолжать этот разговор, но именно тогда в её отношениях с Тони впервые появилась трещина, которая никак не исчезала, а, напротив, день ото дня всё расширялась. Мисс Клэтт так и не могла решить, какой же Тони: очень глупый или не по летам умный, очень наивный или чересчур хитрый. На самом же деле Тони не был ни тем, ни другим. Он был мальчиком одиннадцати лет, обыкновенным во всем, что не касалось двери. И хотя дверь была совершенно необыкновенной, волшебной, это никогда не приходило в голову Тони. Дверь просто находилась на заднем дворе дома, где он жил, — вот и всё.
— Чей отец? — воскликнула мисс Клэтт.
— Его дедушка, — ответил Тони, не переводя дыхания. — А мой отец еврей, то-есть его отец был еврей, а не моя бабушка — она была француженка, немка и итальянка, а дедушка был русский и литовец, и еще он был еврей, а литовец женился на польке… Вот почему у меня её нет.
— Чего нет? — прошептала мисс Клэтт, чувствуя, что пол под её ногами колеблется, как зыбучий песок.
— Национальности нет, — сказал Тони, — кроме того, что мой отец переехал сюда из Бруклина в 1912 году.
Мисс Клэтт не стала продолжать этот разговор, но именно тогда в её отношениях с Тони впервые появилась трещина, которая никак не исчезала, а, напротив, день ото дня всё расширялась. Мисс Клэтт так и не могла решить, какой же Тони: очень глупый или не по летам умный, очень наивный или чересчур хитрый. На самом же деле Тони не был ни тем, ни другим. Он был мальчиком одиннадцати лет, обыкновенным во всем, что не касалось двери. И хотя дверь была совершенно необыкновенной, волшебной, это никогда не приходило в голову Тони. Дверь просто находилась на заднем дворе дома, где он жил, — вот и всё.
* * *
Тони жил на Мотт-стрит, в двух кварталах от Хустон-стрит. Мотт-стрит начинается у Хустон-стрит, тянется от неё к югу до самого конца острова Манхэттен, и её южный конец — уже в Чайнатауне, где живут китайцы. Тони очень интересовал этот район: если уж в человеке смешалось столько национальностей, то даже странно, почему в нем нет ещё и китайской крови. Уже два раза Тони бывал в Чайнатауне с отцом и матерью, ел здесь настоящий семейный обед из девяти блюд всего за шестьдесят центов и, до того как обнаружил дверь, считал Чайнатаун самым интересным местом на свете. Однако та часть Мотт-стрит, где он жил, находилась далеко от Чайнатауна. Она представляла собой ряд тесно прижатых друг к другу совершенно одинаковых, узких и старых, жилых домов из красного кирпича. Тони жил в одном из таких домов, в квартире из трех небольших комнат, на втором этаже, окнами во двор. Все три комнатки были очень маленькие, но каморка Тони — меньше всех. Здесь спал Тони; другая комната, чуть-чуть побольше, служила спальней его родителям, а в третьей — она же кухня — все они ели, разговаривали, работали и занимались; словом, здесь протекала вся жизнь семьи. Семья жила очень бедно, но Тони не так уж ощущал это, потому что все, кого он знал, жили так же бедно или ещё беднее, а у него всё-таки была отдельная комната. В других семьях, где росли по трое, четверо, пятеро, а иногда и по десяти детей, ни у кого никогда не было своей отдельной комнаты. А у Тони, единственного ребенка в семье, была своя комната, и свое окно, и за окном — своя пожарная лестница. Он мог вылезти из окна на эту лестницу и по ней в три минуты добраться до двери, не двери дома, а той, в заборе, огораживавшем задний двор. Видите ли, в доме, где жил Тони, был и задний двор. Этот двор был огорожен забором примерно в десять футов вышиной. Вот в этом-то заборе, отделявшем задний двор дома, где жил Тони, от заднего двора дома, выходившего на другую улицу, и находилась маленькая дверь.
Это и была волшебная дверь Тони. Для того чтобы добраться до неё из окна комнаты, нужно было только вылезти на пожарную лестницу, спуститься по ней вниз и повиснуть на руках, затем соскочить на старую пружинную сетку от кровати, попрыгать на ней немножко, вскочить на старую железную печку, обойти кучу старых консервных банок, сломанный туалетный столик, старый холодильник и волосяной матрац, пройти два шага по ржавой канализационной трубе, перелезть через сиденье фургона. Затем оставалось только одолеть диван, из которого во все стороны торчали куски обивки, пакля и пружины, — и вы оказывались перед волшебной дверью.
Видите ли, в доме, где жил Тони, был и задний двор. Этот двор был огорожен забором примерно в десять футов вышиной. Вот в этом-то заборе, отделявшем задний двор дома, где жил Тони, от заднего двора дома, выходившего на другую улицу, и находилась маленькая дверь.
Это и была волшебная дверь Тони. Для того чтобы добраться до неё из окна комнаты, нужно было только вылезти на пожарную лестницу, спуститься по ней вниз и повиснуть на руках, затем соскочить на старую пружинную сетку от кровати, попрыгать на ней немножко, вскочить на старую железную печку, обойти кучу старых консервных банок, сломанный туалетный столик, старый холодильник и волосяной матрац, пройти два шага по ржавой канализационной трубе, перелезть через сиденье фургона. Затем оставалось только одолеть диван, из которого во все стороны торчали куски обивки, пакля и пружины, — и вы оказывались перед волшебной дверью.
* * *
По дороге домой Тони всё время размышлял, отдать ли записку мисс Клэтт отцу или лучше открыть конверт, прочитать записку и изорвать её на мелкие-мелкие кусочки. Не то чтобы Тони боялся отца — отец никогда его не порол, — но у него была привычка смотреть на Тони, когда тот провинится, таким взглядом, что любая порка была бы лучше. Он смотрел на Тони и как будто говорил этим взглядом: всё, что я делаю, я делаю для тебя, а вот ты меня подвел. Тони очень любил отца, но не мог быть с ним так безоговорочно и безгранично откровенен, как с матерью. Тони знал: только нужно, чтобы отцу повезло, и всё пойдет на лад. Но всем другим отцам во всех других домах на их улице нужно было то же самое. Как и отец Тони, они много работали, приходили домой очень усталые, и поэтому у них не хватало терпения с детьми. Тони не очень хорошо понимал, что значит «повезло». Всякий раз, когда профсоюз объявлял забастовку и отец начинал приходить домой в самое неурочное время, а на лице его появлялась то мрачное, то порой и торжествующее выражение, которое всегда бывает у пикетчиков, Тони думал: «Может быть, теперь отцу наконец повезет?» Но этого не случалось, и Тони так и не узнал, как же это бывает, когда человеку везет. Однако он чувствовал, что, может быть, потому отец и бывает порой таким суровым, что ему не везет. И, уж конечно, отцу было бы куда приятнее не получать записку от мисс Клэтт. Но Тони знал и мисс Клэтт. Большая часть его времени уходила на то, чтобы угадать, какой следующий ход сделает мисс Клэтт, и во-время предупредить его своим ходом. Он знал, что мисс Клэтт непременно спросит, где ответ от его отца, и понимал, что если отец не прочтет записки, между мисс Клэтт и им, Тони, начнется долгая и не сулящая ничего хорошего борьба. Итак, он собрался с духом и, придя домой, передал записку матери.
— Это папе, — сказал он.
— Ты опять набедокурил?
Тони молча кивнул. Мать дала ему ломоть хлеба с маслом и послала гулять. Он вышел на задний двор, но солнце уже садилось, и две маленькие девочки Сантини играли там в «дочки-матери». Он увидел, что сегодня нечего и думать о двери, и вышел на улицу перед домом, где ребята играли в «кошки-мышки».
После ужина отец сказал:
— Пойдем к тебе, сынок, нам надо поговорить.
— Ладно.
Они пошли в комнату Тони: сначала отец, за ним Тони. Оглянувшись, Тони увидел, что мать озабоченно смотрит им вслед, вытирая руки о кухонное полотенце, и её черные волосы, гладко зачесанные назад, красиво блестят в свете лампы. Даже в эту минуту Тони подумал о том, какие у матери красивые волосы. Жалко, что она не может восхищаться им, Тони, так, как он всегда восхищается ею!
Тони сел на кровать, а отец опустился на единственный в комнате стул. Тони видел, что отец встревожен и не знает, с чего начать разговор. Наконец он сказал:
— Ты знаешь, Тони, как я на тебя надеюсь?
— Угу!
— Может быть, если бы у нас с мамой была куча детей, все было бы иначе. Но ты у нас один. Я много работаю и хочу, чтобы, когда ты вырастешь, тебе везло в жизни больше, чем мне.
— Я знаю, папа.
— Так вот, как ты думаешь, каково мне получить от учительницы записку о том, что ты опять лгал?
— Наверно, тебе очень неприятно, папа.
— И так глупо солгал… Ты сказал учительнице, что у тебя есть знакомые индейцы, целая деревня… Зачем ты это сказал?
— Потому, что это правда. А она говорила нам об индейцах много неправды, и я так ей и сказал.
— Откуда ты знаешь, что она говорила об индейцах неправду?
— Потому что я знаю этих индейцев и очень дружу с ними, — ответил Тони.
— С какими индейцами?
— Из племени вексвейстиков.
— Ну, уж мне-то ты не рассказывай сказки, Тони! Мне надоели твои выдумки!
— Да нет же, папа, я не лгу тебе и не лгал мисс Клэтт. Я ходил в индейскую деревню с Питером Ван-Добеном.
— Кто такой Питер Ван-Добен?
Тони судорожно глотнул, глубоко вздохнул и сказал:
— Голландский мальчик.
— Какой голландский мальчик?
— У них есть ферма, и он мой товарищ.
— Довольно, Тони! Ты что, не понимаешь, что говоришь? Индейская деревня, ферма, голландский мальчик… Одна ложь за другой… Зачем ты выдумываешь? Неужели ты воображаешь, что я поверю этим сказкам?
— Нет, — ответил Тони, — наверно, не поверишь.
— Тогда зачем ты их рассказываешь?
— Потому что всё это правда, — безнадежно ответил Тони.
Отец начал терять терпение:
— То-есть как правда? Я знаю, что всё это выдумка! Видно, только хорошая порка может исправить тебя, Тони. Как ты можешь врать мне в лицо, что был в индейской деревне и на голландской ферме? Где ты их нашел?
— Там, — ответил Тони упавшим голосом, показывая на окно.
— Тони!
— Я прохожу через дверь во дворе… — быстро сказал Тони, чтобы поскорее всё выложить и покончить с этим, — я прохожу через дверь во дворе и выхожу у амбара на ферме Питера Ван-Добена. Там всё по-другому. Кругом только фермы и лес, и совсем нет улиц и таких домов, как наш. А если пойти по дороге на север, там будет индейская деревня, как раз посреди маленькой долины, которая тянется до Северной реки. Нужно спуститься в эту долину, и там есть тропа, проложенная индейцами через лес. Когда подбегаешь к деревне, начинают лаять собаки. Солнце светит сквозь листья, и от этого тропа вся желтая, и собаки — желтые тоже, прямо как солнечные зайчики; они прыгают и возятся вокруг тебя, но не кусаются, а только лижут руки. А потом уже видно деревню: там вигвамы из древесной коры, и пахнет вкусной едой, и повсюду лежат груды белых раковин и расхаживают голландские купцы. Они покупают меха и всё время курят свои длинные трубки…
— Довольно, Тони! Я больше не хочу слушать!
— Но ведь ты меня сам спросил. Ты просил меня сказать тебе…
— Неправду?
Тони молча взглянул на отца.
— Видишь, — сказал отец уже мягче, — как одна ложь тянет за собой другую и как ты сам, сынок, осложняешь всё дело. Лучше и вовсе не начинать, так ведь?
— Наверно, так.
— Зачем же ты сочиняешь эти небылицы? Ведь мы с тобой знаем, что дверь в заборе ведет на соседний двор. Верно?
Тони покачал головой. Ему до смерти не хотелось заводить этот разговор с отцом, но теперь, когда про дверь уже рассказано, он должен объяснить отцу, что говорит правду!
— Нет, дверь ведет на ферму Питера Ван-Добена, — упрямо повторил он.
Отец встал и, угрожающе помахав своим длинным пальцем, сказал:
— Ладно, Тони, хватит! Мы с тобой сейчас же пойдем во двор и откроем дверь, и если всё окажется так, как говорю я, ты получишь такую взбучку, что тебе уже больше не захочется врать. Пошли!
Тони пошел за отцом. Они молча прошли через кухню, мимо матери, спустились по лестнице, черным ходом вышли во двор и, лавируя среди наваленного всюду хлама, добрались до двери в заборе.
— Открой! — сказал отец.
Тони открыл дверь, и они увидели соседний двор, знакомые груды всякого хлама и красную кирпичную стену соседнего дома. Целую минуту, показавшуюся обоим очень долгой, они стояли, глядя на заваленный всяким старьем двор. Потом отец закрыл дверь и повел Тони в дом.
Когда они поднимались по лестнице, отец сказал:
— Забудем про порку, сынок. Скажи только, что ты больше не будешь лгать.
— Но я сказал правду, папа. Я знал, что при тебе ничего не получится, потому что ты не веришь.
— Ты продолжаешь утверждать, что не лгал?
— Я не лгал.
— Тогда придется тебя выпороть. Иначе тебе, видно, не втолкуешь.
Но Тони знал и мисс Клэтт. Большая часть его времени уходила на то, чтобы угадать, какой следующий ход сделает мисс Клэтт, и во-время предупредить его своим ходом. Он знал, что мисс Клэтт непременно спросит, где ответ от его отца, и понимал, что если отец не прочтет записки, между мисс Клэтт и им, Тони, начнется долгая и не сулящая ничего хорошего борьба. Итак, он собрался с духом и, придя домой, передал записку матери.
— Это папе, — сказал он.
— Ты опять набедокурил?
Тони молча кивнул. Мать дала ему ломоть хлеба с маслом и послала гулять. Он вышел на задний двор, но солнце уже садилось, и две маленькие девочки Сантини играли там в «дочки-матери». Он увидел, что сегодня нечего и думать о двери, и вышел на улицу перед домом, где ребята играли в «кошки-мышки».
После ужина отец сказал:
— Пойдем к тебе, сынок, нам надо поговорить.
— Ладно.
Они пошли в комнату Тони: сначала отец, за ним Тони. Оглянувшись, Тони увидел, что мать озабоченно смотрит им вслед, вытирая руки о кухонное полотенце, и её черные волосы, гладко зачесанные назад, красиво блестят в свете лампы. Даже в эту минуту Тони подумал о том, какие у матери красивые волосы. Жалко, что она не может восхищаться им, Тони, так, как он всегда восхищается ею!
Тони сел на кровать, а отец опустился на единственный в комнате стул. Тони видел, что отец встревожен и не знает, с чего начать разговор. Наконец он сказал:
— Ты знаешь, Тони, как я на тебя надеюсь?
— Угу!
— Может быть, если бы у нас с мамой была куча детей, все было бы иначе. Но ты у нас один. Я много работаю и хочу, чтобы, когда ты вырастешь, тебе везло в жизни больше, чем мне.
— Я знаю, папа.
— Так вот, как ты думаешь, каково мне получить от учительницы записку о том, что ты опять лгал?
— Наверно, тебе очень неприятно, папа.
— И так глупо солгал… Ты сказал учительнице, что у тебя есть знакомые индейцы, целая деревня… Зачем ты это сказал?
— Потому, что это правда. А она говорила нам об индейцах много неправды, и я так ей и сказал.
— Откуда ты знаешь, что она говорила об индейцах неправду?
— Потому что я знаю этих индейцев и очень дружу с ними, — ответил Тони.
— С какими индейцами?
— Из племени вексвейстиков.
— Ну, уж мне-то ты не рассказывай сказки, Тони! Мне надоели твои выдумки!
— Да нет же, папа, я не лгу тебе и не лгал мисс Клэтт. Я ходил в индейскую деревню с Питером Ван-Добеном.
— Кто такой Питер Ван-Добен?
Тони судорожно глотнул, глубоко вздохнул и сказал:
— Голландский мальчик.
— Какой голландский мальчик?
— У них есть ферма, и он мой товарищ.
— Довольно, Тони! Ты что, не понимаешь, что говоришь? Индейская деревня, ферма, голландский мальчик… Одна ложь за другой… Зачем ты выдумываешь? Неужели ты воображаешь, что я поверю этим сказкам?
— Нет, — ответил Тони, — наверно, не поверишь.
— Тогда зачем ты их рассказываешь?
— Потому что всё это правда, — безнадежно ответил Тони.
Отец начал терять терпение:
— То-есть как правда? Я знаю, что всё это выдумка! Видно, только хорошая порка может исправить тебя, Тони. Как ты можешь врать мне в лицо, что был в индейской деревне и на голландской ферме? Где ты их нашел?
— Там, — ответил Тони упавшим голосом, показывая на окно.
— Тони!
— Я прохожу через дверь во дворе… — быстро сказал Тони, чтобы поскорее всё выложить и покончить с этим, — я прохожу через дверь во дворе и выхожу у амбара на ферме Питера Ван-Добена. Там всё по-другому. Кругом только фермы и лес, и совсем нет улиц и таких домов, как наш. А если пойти по дороге на север, там будет индейская деревня, как раз посреди маленькой долины, которая тянется до Северной реки. Нужно спуститься в эту долину, и там есть тропа, проложенная индейцами через лес. Когда подбегаешь к деревне, начинают лаять собаки. Солнце светит сквозь листья, и от этого тропа вся желтая, и собаки — желтые тоже, прямо как солнечные зайчики; они прыгают и возятся вокруг тебя, но не кусаются, а только лижут руки. А потом уже видно деревню: там вигвамы из древесной коры, и пахнет вкусной едой, и повсюду лежат груды белых раковин и расхаживают голландские купцы. Они покупают меха и всё время курят свои длинные трубки…
— Довольно, Тони! Я больше не хочу слушать!
— Но ведь ты меня сам спросил. Ты просил меня сказать тебе…
— Неправду?
Тони молча взглянул на отца.
— Видишь, — сказал отец уже мягче, — как одна ложь тянет за собой другую и как ты сам, сынок, осложняешь всё дело. Лучше и вовсе не начинать, так ведь?
— Наверно, так.
— Зачем же ты сочиняешь эти небылицы? Ведь мы с тобой знаем, что дверь в заборе ведет на соседний двор. Верно?
Тони покачал головой. Ему до смерти не хотелось заводить этот разговор с отцом, но теперь, когда про дверь уже рассказано, он должен объяснить отцу, что говорит правду!
— Нет, дверь ведет на ферму Питера Ван-Добена, — упрямо повторил он.
Отец встал и, угрожающе помахав своим длинным пальцем, сказал:
— Ладно, Тони, хватит! Мы с тобой сейчас же пойдем во двор и откроем дверь, и если всё окажется так, как говорю я, ты получишь такую взбучку, что тебе уже больше не захочется врать. Пошли!
Тони пошел за отцом. Они молча прошли через кухню, мимо матери, спустились по лестнице, черным ходом вышли во двор и, лавируя среди наваленного всюду хлама, добрались до двери в заборе.
— Открой! — сказал отец.
Тони открыл дверь, и они увидели соседний двор, знакомые груды всякого хлама и красную кирпичную стену соседнего дома. Целую минуту, показавшуюся обоим очень долгой, они стояли, глядя на заваленный всяким старьем двор. Потом отец закрыл дверь и повел Тони в дом.
Когда они поднимались по лестнице, отец сказал:
— Забудем про порку, сынок. Скажи только, что ты больше не будешь лгать.
— Но я сказал правду, папа. Я знал, что при тебе ничего не получится, потому что ты не веришь.
— Ты продолжаешь утверждать, что не лгал?
— Я не лгал.
— Тогда придется тебя выпороть. Иначе тебе, видно, не втолкуешь.
* * *
В тот вечер Тони долго не мог уснуть. Он не плакал, но чувствовал себя очень несчастным. А тем временем его родители сидели на кухне и разговаривали. — Сегодня первый раз в жизни ты выпорол его по-настоящему, — сказала мать. — Да, и мне самому тяжело, но как же иначе доказать ему, что врать нельзя! Он так складно рассказывает эти небылицы… Иногда мне даже кажется, что он и сам в них верит. Даже я чуть было не поверил ему, и это очень плохо. Дойдет до того, что он не сможет отличить ложь от правды. — Но он ведь хороший мальчик! — Конечно, хороший. Я и хочу, чтобы он остался хорошим. Подумай только, рассказывает эту сказку об индейцах и даже придумал название для племени — весквейстики! — Что, что? — Он так назвал племя индейцев — весквейстики. Что и говорить, у мальчишки живое воображение. — Да, правда. Но, по-моему, не стоит так расстраиваться из-за этого. Вы, мужчины, очень быстро забываете, что сами когда-то были мальчишками. Ты ведь признаешь, что тебе и твоим товарищами по работе тяжело живется; почему ты не хочешь понять, что Тони, да и любому ребенку, трудно жить и расти в такой вот каменной трущобе! Через несколько минут отец надел пиджак и сказал, что пойдет вниз выкурить сигару и подышать свежим воздухом. Поиски «свежего воздуха» привели его к старому доктору Форбсу, местному врачу, который увлекался собиранием предметов индейского быта и историей индейских племен. Старый доктор Форбс сам был на одну четверть индеец и всё свободное время посвящал тому, чтобы узнать что-нибудь новое об этой своей четверти. Он объездил все индейские резервации в Америке и даже написал о них книгу. Отец Тони застал доктора в его маленьком кабинете. Доктор, в домашних туфлях и куртке, читал книгу об Ирокезской лиге. Вздохнув, он отложил книгу и снял очки. — Здравствуйте, Ливи. Кто болен — жена или Тони? — Нет, нет, на этот раз мы все здоровы. Я хотел вас спросить насчет индейцев. Доктор Форбс с облегчением улыбнулся и снова надел очки: — Отлично! Усаживайтесь поудобнее… Не тревожат ли индейцы Мотт-стрит своими набегами? — По-моему, давно не тревожат, — ответил отец Тони, усаживаясь в глубокое, удобное кресло. — А скажите, доктор, какие племена устраивали тут набеги в старину? Доктор Форбс кивнул головой и усмехнулся: — Если вы пришли, чтобы выяснить именно это, то должен сказать, что вы столкнетесь с самым запутанным вопросом истории индейцев. По правде говоря, нет ничего сложнее и загадочнее, чем вопрос о том, какие индейские племена жили здесь в ту пору, когда голландцы поселились на Манхэттене. Мы знаем об этом очень мало, а то, что знаем, не так уж достоверно. Возьмем, к примеру, первый вопрос: старожилам этих мест, вроде меня, известна легенда о том, что Питер Минуэт купил остров Манхэттен у индейцев за двадцать четыре доллара. В своём дневнике он записал, что заключил эту сделку с индейцами племени канарси. Нью-йоркцы и до сего дня подшучивают над бруклинским племенем, продавшим то, что никогда ему не принадлежало; это было, очевидно, первое жульничество в истории нашего острова. А на самом деле ни канарси, ни другие индейские племена, конечно, никогда не продавали Манхэттен. — Почему? — спросил отец Тони. — Потому что он им никогда не принадлежал. Ни одно из живших здесь племен не имело ни малейшего представления о том, что такое собственность на землю. Они не могли продавать то, чего не имели. Индейцы канарси никого не обманули, они просто считали деньги Минуэта подарком. Индейцы не говорили по-голландски, а Минуэт не говорил по-индейски — они подумали, что он дает им деньги в подарок, и приняли их. Племя это платило дань Союзу шести племен — Ирокезской лиге, так же как монтауки и рокавеи, хотя раританы, населявшие Статен-Айланд, возможно, не принадлежали к алгонкинам. Есть, знаете ли, ещё одна легенда, тоже украшающая репутацию нашего старого города: говорят, что жульничество было у раританов в крови — они продали Статен-Айланд по крайней мере пять раз пяти разным покупателям. На самом-то деле, как и все другие индейские племена, они не имели в то время ни малейшего представления о том, что вообще совершают какую-то торговую сделку. Считалось, что эта территория принадлежит могаукам, и все небольшие племена, жившие здесь, должны были время от времени платить могаукам дань. — Минуточку, доктор Форбс, — сказал отец Тони, подумав, что если мальчик знает хотя бы четверть рассказанного сейчас доктором, придется изменить мнение о сыне. — Вы сказали «Союз шести племен», а потом «ирокезы». Что такое Союз шести племен и кто такие ирокезы?
Доктор Форбс рассмеялся:
— Это одно и то же. Прямо обидно, что у нас так мало знают о коренных американцах — об индейцах! Союз шести — это лига шести больших племен. Посмотрим, сумею ли я перечислить их по памяти: кайюги, онодаги, могауки, потом, конечно, сенеки, онейды и… кто же остается? — да, тускароры. Насколько нам известно, это первое крупное объединение наших индейцев, стоявших на пути к более высоким формам цивилизации, если можно так выразиться. Многие считают, что племена не могут стать на путь настоящей цивилизации — строить города и так далее — до тех пор, пока не объединятся и тем самым не образуют нацию. Что ж, ирокезы уже стояли на этом пути, когда сюда пришли белые. У них уже существовало настоящее политическое объединение. Они строили большие деревянные дома и общественные здания. Они сеяли хлеб. Естественно, что поэтому они были достаточно сильны, чтобы навязывать свою волю соседним племенам, населявшим эти края, вплоть до нынешней Мотт-стрит.
— А кто такие алгонкины?
— Это языковая группа. Мы к ней относим все племена, говорившие на родственных языках, и таким образом пытаемся проследить крупные перемещения и переселения племен по территории Америки. Очень интересно, что пять из шести племен, входивших в Союз, не принадлежали к этой группе. Среди специалистов существует мнение, что шесть племен, или, по крайней мере, пять из них, пришли сюда из Мексики. Видите ли, под властью мексиканских ацтеков жить было не очень-то приятно: они жестоко угнетали многие племена. Мы считаем, что эти пять племен ушли из Мексики и принесли с собой секреты многих ремесел. Они с боями проложили себе путь на север, где теперь штат Нью-Йорк, в долину могауков.
— Но какие же племена жили на острове Манхэттен? — настойчиво повторил отец Тони.
— Это тоже спорный вопрос, — ответил доктор Форбс. — Вот хотя бы само название: «Манхэттен». В книгах вы найдете различные толкования этого слова. Пишут, что оно означает «Остров гор», «Большой водоворот» и многое другое. Но всё это догадки. Доподлинно нам известно только, что так, или примерно так, называлось небольшое племя индейцев, жившее где-то в районе Сорок второй улицы…
— Они назывались манхэттены? — перебил отец Тони.
— Или манахэттаны, или манахуттаны, или что-то в этом роде. Мы точно не знаем… Кажется, мой рассказ вас успокоил?
— Да, успокоил, — сказал отец Тони. — Значит, других племен здесь не было?
— Нет, были, — ответил доктор Форбс. — Здесь жило племя гораздо более сильное и многочисленное, его селения находились между Бронксом и Вашингтон-Хайтс…
— Минутку… — снова перебил его отец Тони. — А как они назывались: не весквейстики?
— Весквейстики? — Доктор Форбс вдруг оживился. — Это необычное произношение, но оно гораздо логичнее того, которое нам известно. Мы обычно пишем «векквейсгики», и это почти невозможно произнести. Где вы услышали такое произношение?
— Когда-нибудь я расскажу вам, — сказал отец Тони. — Но, наверно, об этом племени можно прочитать в Публичной библиотеке?
— Хороший исследователь мог бы раскопать упоминание о нём, — сказал доктор Форбс. — Мы, пожалуй, кроме названия, ничего о нем не знаем, разве только, что это был необычайно добрый и справедливый народ. Можно сказать, хороший народ!
— Понятно, — сказал отец Тони, встал, попрощался и пошел домой.
— Ну как, выкурил сигару? — спросила мать Тони, когда он появился на пороге.
— По правде говоря, я про неё забыл.
Потом он зашел к Тони. Мальчик спал. Комната была залита лунным светом, и Тони улыбался во сне, как будто ему снилось что-то очень хорошее и поистине необыкновенное.
— Минуточку, доктор Форбс, — сказал отец Тони, подумав, что если мальчик знает хотя бы четверть рассказанного сейчас доктором, придется изменить мнение о сыне. — Вы сказали «Союз шести племен», а потом «ирокезы». Что такое Союз шести племен и кто такие ирокезы?
Доктор Форбс рассмеялся:
— Это одно и то же. Прямо обидно, что у нас так мало знают о коренных американцах — об индейцах! Союз шести — это лига шести больших племен. Посмотрим, сумею ли я перечислить их по памяти: кайюги, онодаги, могауки, потом, конечно, сенеки, онейды и… кто же остается? — да, тускароры. Насколько нам известно, это первое крупное объединение наших индейцев, стоявших на пути к более высоким формам цивилизации, если можно так выразиться. Многие считают, что племена не могут стать на путь настоящей цивилизации — строить города и так далее — до тех пор, пока не объединятся и тем самым не образуют нацию. Что ж, ирокезы уже стояли на этом пути, когда сюда пришли белые. У них уже существовало настоящее политическое объединение. Они строили большие деревянные дома и общественные здания. Они сеяли хлеб. Естественно, что поэтому они были достаточно сильны, чтобы навязывать свою волю соседним племенам, населявшим эти края, вплоть до нынешней Мотт-стрит.
— А кто такие алгонкины?
— Это языковая группа. Мы к ней относим все племена, говорившие на родственных языках, и таким образом пытаемся проследить крупные перемещения и переселения племен по территории Америки. Очень интересно, что пять из шести племен, входивших в Союз, не принадлежали к этой группе. Среди специалистов существует мнение, что шесть племен, или, по крайней мере, пять из них, пришли сюда из Мексики. Видите ли, под властью мексиканских ацтеков жить было не очень-то приятно: они жестоко угнетали многие племена. Мы считаем, что эти пять племен ушли из Мексики и принесли с собой секреты многих ремесел. Они с боями проложили себе путь на север, где теперь штат Нью-Йорк, в долину могауков.
— Но какие же племена жили на острове Манхэттен? — настойчиво повторил отец Тони.
— Это тоже спорный вопрос, — ответил доктор Форбс. — Вот хотя бы само название: «Манхэттен». В книгах вы найдете различные толкования этого слова. Пишут, что оно означает «Остров гор», «Большой водоворот» и многое другое. Но всё это догадки. Доподлинно нам известно только, что так, или примерно так, называлось небольшое племя индейцев, жившее где-то в районе Сорок второй улицы…
— Они назывались манхэттены? — перебил отец Тони.
— Или манахэттаны, или манахуттаны, или что-то в этом роде. Мы точно не знаем… Кажется, мой рассказ вас успокоил?
— Да, успокоил, — сказал отец Тони. — Значит, других племен здесь не было?
— Нет, были, — ответил доктор Форбс. — Здесь жило племя гораздо более сильное и многочисленное, его селения находились между Бронксом и Вашингтон-Хайтс…
— Минутку… — снова перебил его отец Тони. — А как они назывались: не весквейстики?
— Весквейстики? — Доктор Форбс вдруг оживился. — Это необычное произношение, но оно гораздо логичнее того, которое нам известно. Мы обычно пишем «векквейсгики», и это почти невозможно произнести. Где вы услышали такое произношение?
— Когда-нибудь я расскажу вам, — сказал отец Тони. — Но, наверно, об этом племени можно прочитать в Публичной библиотеке?
— Хороший исследователь мог бы раскопать упоминание о нём, — сказал доктор Форбс. — Мы, пожалуй, кроме названия, ничего о нем не знаем, разве только, что это был необычайно добрый и справедливый народ. Можно сказать, хороший народ!
— Понятно, — сказал отец Тони, встал, попрощался и пошел домой.
— Ну как, выкурил сигару? — спросила мать Тони, когда он появился на пороге.
— По правде говоря, я про неё забыл.
Потом он зашел к Тони. Мальчик спал. Комната была залита лунным светом, и Тони улыбался во сне, как будто ему снилось что-то очень хорошее и поистине необыкновенное.
Глава 2 ТОНИ И СТАРЫЙ ДОКТОР ФОРБС
Мисс Клэтт была терпелива, но её мучили бесконечные заботы. Она преподавала в то время, когда в наших школах ещё не существовало современных учебных пособий. На её уроках в переполненном классе сидели за партами живые и подвижные дети — сорок четыре человека. Поэтому в том, что произошло между ней и Тони, мисс Клэтт виновата так же мало, как и он. Быть может, она всё же справилась бы с сорока тремя учениками, но сорок четвертый оказался последней каплей, переполнившей чашу; к тому же сорок четвертый был Тони Мак-Тэвиш Ливи. Вот почему нельзя осуждать мисс Клэтт за то, что в тотсолнечный день её раздражало мечтательное настроение Тони, глядевшего не отрываясь в окно. Мечтательная рассеянность скоро охватила весь класс, точно какое-то поветрие. Ведь это был первый весенний солнечный денек, словно созданный на радость ребятам и на беду тем, кто их учит. Хотя мисс Клэтт рассказывала урок, Тони её не слушал, мысли его были далеко. Если схематически изобразить, как совпадали, или, вернее, не совпадали, мысли Тони с тем, что говорила мисс Клэтт, получится примерно так: Мисс Клэтт. Капитан Гендрик Гудзон провел свой корабль «Полумесяц» мимо Сэнди Хук в Лоуэр Бэй в сентябре 1609 года. Тони. (Интересно, как называется старое, высохшее дерево вон там, за окном?) Мисс Клэтт. «Полумесяцу» удалось добраться до самого острова Касл. Тони. (Наверно, это платан. Только платаны и могут расти на Мотт-стрит.) Мисс Клэтт. Дело в том, что капитан Гудзон искал легендарный морской путь через наш континент. Тони. (А вот воробей. Забавная птичка! Даже в сильные холода в Нью-Йорке всегда увидишь воробья.) Мисс Клэтт. «Полумесяц» был первым европейским кораблем, вошедшим в устье Северной реки. Тони. (Он называется «английский воробей». Наверно, потому, что его вывезли из Англии. Ни разу не видал таких птичек по ту сторону двери. Ну-ка, а какие же там птицы?) Мисс Клэтт. Но когда капитан Гудзон убедился, что нашел не морской пролив, а только реку, это было для него величайшим разочарованием. Тони. (Ведь по ту сторону двери очень много птиц. Я видел, там есть и каменные и синие дрозды, и малиновки, и поползни, и колибри, и дятлы…)
Мисс Клэтт. Тони!
Тони. (А вот английских воробьев там нет. Значит, правда, что их вывезли из Англии. Интересно, что получится, если такой воробей залетит за мной через дверь? Он будет там, когда его там ещё не было, и совсем не нужно будет вывозить его из Англии.)
Мисс Клэтт (гораздо громче и строже). Тони!
Имейте в виду: не один Тони размечтался и не слушал урока. В классе было ещё сорок три человека — и всех до единого, мальчиков и девочек, тоже охватила весенняя лихорадка, но у них она проявлялась иначе. Они ерзали и вертелись за партами, почесывались, перешептывались и гримасничали. Если бы и Тони делал что-нибудь в этом же роде, мисс Клэтт терпеливо перенесла бы это. Её раздраженный оклик был вызван именно тем, что Тони застыл на месте и уставился в окно неподвижным взглядом лунатика.
— А?.. Да, мисс Клэтт, — отозвался он, приходя в себя.
Мисс Клэтт в своем рассказе уже успела уйти на несколько столетий вперед от того дня, когда капитан Гудзон открыл Северную реку. Она только что задала вопрос и поэтому спросила сердито:
— Тони, если ты слышал мой вопрос, отвечай, пожалуйста!
Мисс Клэтт спрашивала про Уолл-стрит и постройку стены, от которой улица получила своё название. В наше время Уолл-стрит, расположенная в центре Нью-Йорка, — это улица огромных домов, где вершат свои дела крупные монополии. Мисс Клэтт только что рассказала о том, что давным-давно, Когда Нью-Йорк был ещё всего-навсего маленькой голландской деревушкой, Питер Стайвесант выстроил стену вдоль всего поселка, от реки до реки, для защиты голландских поселенцев от набегов индейцев. После этого мисс Клэтт и задала вопрос о том, когда и зачем была построена стена.
Тони. (Ведь по ту сторону двери очень много птиц. Я видел, там есть и каменные и синие дрозды, и малиновки, и поползни, и колибри, и дятлы…)
Мисс Клэтт. Тони!
Тони. (А вот английских воробьев там нет. Значит, правда, что их вывезли из Англии. Интересно, что получится, если такой воробей залетит за мной через дверь? Он будет там, когда его там ещё не было, и совсем не нужно будет вывозить его из Англии.)
Мисс Клэтт (гораздо громче и строже). Тони!
Имейте в виду: не один Тони размечтался и не слушал урока. В классе было ещё сорок три человека — и всех до единого, мальчиков и девочек, тоже охватила весенняя лихорадка, но у них она проявлялась иначе. Они ерзали и вертелись за партами, почесывались, перешептывались и гримасничали. Если бы и Тони делал что-нибудь в этом же роде, мисс Клэтт терпеливо перенесла бы это. Её раздраженный оклик был вызван именно тем, что Тони застыл на месте и уставился в окно неподвижным взглядом лунатика.
— А?.. Да, мисс Клэтт, — отозвался он, приходя в себя.
Мисс Клэтт в своем рассказе уже успела уйти на несколько столетий вперед от того дня, когда капитан Гудзон открыл Северную реку. Она только что задала вопрос и поэтому спросила сердито:
— Тони, если ты слышал мой вопрос, отвечай, пожалуйста!
Мисс Клэтт спрашивала про Уолл-стрит и постройку стены, от которой улица получила своё название. В наше время Уолл-стрит, расположенная в центре Нью-Йорка, — это улица огромных домов, где вершат свои дела крупные монополии. Мисс Клэтт только что рассказала о том, что давным-давно, Когда Нью-Йорк был ещё всего-навсего маленькой голландской деревушкой, Питер Стайвесант выстроил стену вдоль всего поселка, от реки до реки, для защиты голландских поселенцев от набегов индейцев. После этого мисс Клэтт и задала вопрос о том, когда и зачем была построена стена.
 По правде говоря, Тони не слыхал вопроса, как не слыхал и предшествовавших ему пояснений мисс Клэтт, так что он и сам не знал, почему он сказал в ответ:
— Незачем было строить стену для защиты от индейцев. Индейцы никогда никого не трогали, пока минхер Ван-Дайк не убил бедную Драмаку из-за персика. Он был дурной человек, и если бы поселенцы выдали его индейцам, как предлагал отец Питера, всё обошлось бы хорошо и не пришлось бы строить стену.
— Что такое? — воскликнула мисс Клэтт. — О чём ты говоришь?
— О стене на Уолл-стрит.
— Тони Мак-Тэвиш Ливи, какое отношение имеет вся эта чепуха к стене на Уоллстрит?
— Я думал, вы спросили меня, зачем построили эту стену, — сказал Тони. — Вот я и объяснил, что старик… ну, то-есть Стайве-сант — Деревянная нога… построил её потому, что поселенцы были недовольны им. А поселенцам стена была вовсе не нужна. Минхер Ван-Дайк не имел права застрелить женщину из-за персика. Всегда все обвиняют во всём индейцев, но предположим…
Класс покатывался со смеху, а мисс Клэтт закричала в полном отчаянии:
— Довольно, Тони, хватит!
По правде говоря, Тони не слыхал вопроса, как не слыхал и предшествовавших ему пояснений мисс Клэтт, так что он и сам не знал, почему он сказал в ответ:
— Незачем было строить стену для защиты от индейцев. Индейцы никогда никого не трогали, пока минхер Ван-Дайк не убил бедную Драмаку из-за персика. Он был дурной человек, и если бы поселенцы выдали его индейцам, как предлагал отец Питера, всё обошлось бы хорошо и не пришлось бы строить стену.
— Что такое? — воскликнула мисс Клэтт. — О чём ты говоришь?
— О стене на Уолл-стрит.
— Тони Мак-Тэвиш Ливи, какое отношение имеет вся эта чепуха к стене на Уоллстрит?
— Я думал, вы спросили меня, зачем построили эту стену, — сказал Тони. — Вот я и объяснил, что старик… ну, то-есть Стайве-сант — Деревянная нога… построил её потому, что поселенцы были недовольны им. А поселенцам стена была вовсе не нужна. Минхер Ван-Дайк не имел права застрелить женщину из-за персика. Всегда все обвиняют во всём индейцев, но предположим…
Класс покатывался со смеху, а мисс Клэтт закричала в полном отчаянии:
— Довольно, Тони, хватит!
* * *
Тони играл во дворе, когда мисс Клэтт в тот же день пришла поговорить с его матерью. Мисс Клэтт считала своим долгом зайти к миссис Ливи. Она объяснила: — Если бы Тони был, что называется, просто скверный мальчишка, я бы не стала беспокоиться. Думаю, что я уж сумела бы справиться с ним. — Тони — не плохой мальчик, — сказала миссис Ливи. — Конечно, не плохой, совсем не плохой. Только у него уж слишком живое воображение, поэтому он рассказывает самые дикие небылицы. Не знаю, откуда он их берет и где слышит, но беда в том, что он срывает дисциплину в классе. «Кроме того, он ставит меня в дурацкое положение», — мысленно добавила мисс Клэтт, но не сказала этого вслух. — Да, у нас были с ним неприятности из-за этого, — согласилась миссис Ливи. — Не понимаю, зачем он так сочиняет, ведь во всем остальном он хороший мальчик.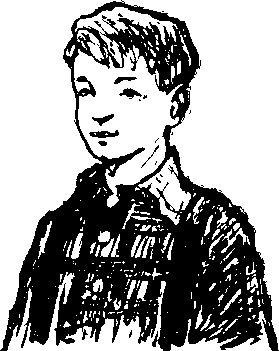 «Может быть, и в этом он остается хорошим», — подумала она про себя. Её обижало, что мисс Клэтт называет Тони лгуном. Люди, не способные понять душу ребенка, всегда готовы считать детей лгунами. Но ведь ребенку очень часто кажется, что воображаемый мир существует на самом деле и он совсем не лжет, рассказывая об этом мире. Миссис Ливи спрашивала себя, правильно ли говорит её муж, что такие люди, как мисс Клэтт, до тех пор не смогут любить детей и заниматься ими по-настоящему, пока они не добьются, чтобы им самим жилось лучше. В самом деле, ведь учителя зарабатывают такие жалкие гроши — может быть, этим всё и объясняется?
«Может быть, и в этом он остается хорошим», — подумала она про себя. Её обижало, что мисс Клэтт называет Тони лгуном. Люди, не способные понять душу ребенка, всегда готовы считать детей лгунами. Но ведь ребенку очень часто кажется, что воображаемый мир существует на самом деле и он совсем не лжет, рассказывая об этом мире. Миссис Ливи спрашивала себя, правильно ли говорит её муж, что такие люди, как мисс Клэтт, до тех пор не смогут любить детей и заниматься ими по-настоящему, пока они не добьются, чтобы им самим жилось лучше. В самом деле, ведь учителя зарабатывают такие жалкие гроши — может быть, этим всё и объясняется?
 — Вот на сегодняшнем уроке истории… — снова заговорила мисс Клэтт и рассказала всё, что произошло. — И он говорил с такой убежденностью! — закончила она.
Мать Тони подумала о двери в заборе, о которой говорил ей муж, и хотела уже рассказать о ней мисс Клэтт, но в последнюю минуту раздумала и промолчала. Позже она поняла, почему: она была почти уверена, что, услышав о волшебной двери Тони, мисс Клэтт будет смеяться. А она считала, что никто не имеет права смеяться над этим.
— Нужно отучить его от таких выдумок! — решительно сказала мисс Клэтт.
— Хорошо, — согласилась мать Тони. — Я поговорю с мужем.
— Этого мало. Я полагаю, что вам понадобится помощь, — сказала мисс Клэтт.
— Помощь? Какая помощь? Мы всегда воспитывали Тони без посторонней помощи.
— Помощь врача, — назидательно сказала мисс Клэтт.
— Вы хотите сказать, что Тони нездоров? Нет, Тони — нормальный, здоровый мальчик. Просто у него чересчур развито воображение, вот и всё.
— И всё же лучше такие вещи прекращать в зародыше. Я бы на вашем месте подумала об этом.
— Я подумаю, — холодно сказала мать Тони.
И после ухода мисс Клэтт она действительно долго обдумывала этот разговор.
— Вот на сегодняшнем уроке истории… — снова заговорила мисс Клэтт и рассказала всё, что произошло. — И он говорил с такой убежденностью! — закончила она.
Мать Тони подумала о двери в заборе, о которой говорил ей муж, и хотела уже рассказать о ней мисс Клэтт, но в последнюю минуту раздумала и промолчала. Позже она поняла, почему: она была почти уверена, что, услышав о волшебной двери Тони, мисс Клэтт будет смеяться. А она считала, что никто не имеет права смеяться над этим.
— Нужно отучить его от таких выдумок! — решительно сказала мисс Клэтт.
— Хорошо, — согласилась мать Тони. — Я поговорю с мужем.
— Этого мало. Я полагаю, что вам понадобится помощь, — сказала мисс Клэтт.
— Помощь? Какая помощь? Мы всегда воспитывали Тони без посторонней помощи.
— Помощь врача, — назидательно сказала мисс Клэтт.
— Вы хотите сказать, что Тони нездоров? Нет, Тони — нормальный, здоровый мальчик. Просто у него чересчур развито воображение, вот и всё.
— И всё же лучше такие вещи прекращать в зародыше. Я бы на вашем месте подумала об этом.
— Я подумаю, — холодно сказала мать Тони.
И после ухода мисс Клэтт она действительно долго обдумывала этот разговор.
* * *
А пока они разговаривали, Тони сидел на сетке от кровати на заднем дворе и разглядывал дверь. Это была обыкновенная дверь из сосновых досок, скрепленных планками сверху, снизу и наискось. В общем, это был простейший тип двери, известный человечеству, и эта конструкция совсем не изменилась за последнее тысячелетие. Тони не очень ясно представлял себе, что такое тысяча лет, но он хорошо помнил, что другая сторона двери, та, которая видна со двора фермы отца Питера Ван-Добсна, сделана точно так же. А впрочем, это странно: ведь все другие двери в усадьбе Ван-Добенов устроены на голландский манер — из двух половинок, одна над другой, так что получаются как будто две двери в одном проеме.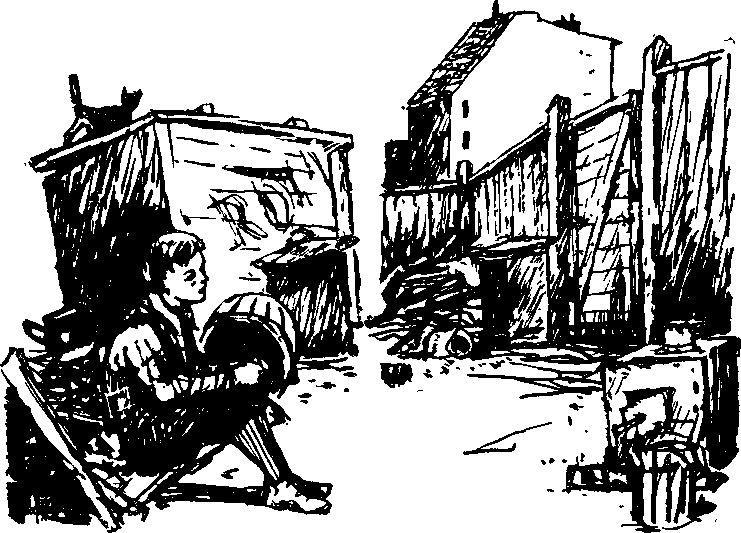 Но дверь в заборе была обыкновенной дощатой дверью, и, рассматривая её, Тони волей-неволей признал, что в ней нет ничего особенного. Она вела с их двора на примыкавший к забору двор дома, выходившего на соседнюю улицу, и сделали её ещё в то время, когда проход из двора во двор был необходим и удобен. Дверь давно стала ненужной; железная щеколда заржавела и поднималась с трудом, а металлические петли громко и жалобно скрипели всякий раз, когда дверь открывали. Как и забор, дверь была выкрашена зеленой краской, выцветшей и облупившейся. Такого зеленого цвета не увидишь больше нигде в мире — только на заборах задних дворов Нью-Йорка. Точно так же нигде больше не встретишь сумах — деревце нью-йоркских дворов, — смело пробившееся сквозь старую сетку от кровати.
Конечно, признался себе Тони, каждый разумный человек, особенно эти поразительно неразумные разумные люди, которые перестали быть детьми и стали взрослыми, уверен в том, что, открыв дверь, можно увидеть только двор за забором. Так и случилось, когда дверь открыл отец. Однако Тони казалось вполне естественным, что дверь ведет не только в совершенно другое место, но и в совершенно другое время.
Вопрос о месте и времени никогда не смущал Тони. Можно открывать эту дверь тысячу раз и всякий раз видеть только кучу хлама — неотъемлемую принадлежность всех задних дворов этого района. Сколько раз с ним так бывало! Но однажды наступил день, когда у Тони появилось какое-то особенное чувство, и с этого времени он уже не открывал дверь, пока не появлялось это чувство. Когда это случилось впервые, он пошел прямо к двери и открыл её — и там увидел… Увиденное не поразило его, не озадачило и даже ничуть не удивило. Так оно и должно было быть: дверь вдруг превратилась из обыкновенной в волшебную и открывалась в далекое прошлое, в то прошлое, когда остров Манхэттен был одним из прекраснейших уголков земли, когда его ещё не безобразили высокие, уродливые здания и не пересекали грязные улицы; нет, кругом расстилались только зеленые пастбища и густые леса и были разбросаны маленькие фермы голландских поселенцев.
Тони знал, что из всех чудесных вещей, которые он видел в своей жизни, самая чудесная — это волшебная дверь. И он спрашивал себя: зачем он стал рассказывать про неё? Что-то подсказывало ему, что путь через дверь очень ненадежен: тут есть какое-то хрупкое равновесие, и даже разговоры о двери могут разрушить его, особенно разговоры с людьми, которые не верят Тони и не понимают его.
И всё же волшебная дверь была так реальна, что Тони не мог не говорить о ней. Вот, например, сейчас перед ним дверь. Он смотрит на неё, и в нём, Тони Мак-Тэвиш Ливи, возникает странное чувство: тут и волнение, и ожидание, и радостное предвкушение. Когда у него появлялось такое чувство, он знал, что таит за собой дверь. У него не было никаких сомнений в том, что произойдет, если он сейчас её откроет.
Тони лениво растянулся на сетке. С улицы доносились топот и голоса играющих детей. Но Тони не хотелось к ним; он даже жалел этих ребят. Разве можно сравнить их игры с его волшебной дверью! И нет у него среди них ни одного такого хорошего и верного друга, как Питер Ван-Добен.
«Интересно, — думал Тони, — что делает сейчас Питер?» Что ж, на этот вопрос можно ответить, только посмотрев своими глазами. Тони встал и направился к двери. Улыбка ожидания осветила его лицо; он открыл дверь и вошел.
Но дверь в заборе была обыкновенной дощатой дверью, и, рассматривая её, Тони волей-неволей признал, что в ней нет ничего особенного. Она вела с их двора на примыкавший к забору двор дома, выходившего на соседнюю улицу, и сделали её ещё в то время, когда проход из двора во двор был необходим и удобен. Дверь давно стала ненужной; железная щеколда заржавела и поднималась с трудом, а металлические петли громко и жалобно скрипели всякий раз, когда дверь открывали. Как и забор, дверь была выкрашена зеленой краской, выцветшей и облупившейся. Такого зеленого цвета не увидишь больше нигде в мире — только на заборах задних дворов Нью-Йорка. Точно так же нигде больше не встретишь сумах — деревце нью-йоркских дворов, — смело пробившееся сквозь старую сетку от кровати.
Конечно, признался себе Тони, каждый разумный человек, особенно эти поразительно неразумные разумные люди, которые перестали быть детьми и стали взрослыми, уверен в том, что, открыв дверь, можно увидеть только двор за забором. Так и случилось, когда дверь открыл отец. Однако Тони казалось вполне естественным, что дверь ведет не только в совершенно другое место, но и в совершенно другое время.
Вопрос о месте и времени никогда не смущал Тони. Можно открывать эту дверь тысячу раз и всякий раз видеть только кучу хлама — неотъемлемую принадлежность всех задних дворов этого района. Сколько раз с ним так бывало! Но однажды наступил день, когда у Тони появилось какое-то особенное чувство, и с этого времени он уже не открывал дверь, пока не появлялось это чувство. Когда это случилось впервые, он пошел прямо к двери и открыл её — и там увидел… Увиденное не поразило его, не озадачило и даже ничуть не удивило. Так оно и должно было быть: дверь вдруг превратилась из обыкновенной в волшебную и открывалась в далекое прошлое, в то прошлое, когда остров Манхэттен был одним из прекраснейших уголков земли, когда его ещё не безобразили высокие, уродливые здания и не пересекали грязные улицы; нет, кругом расстилались только зеленые пастбища и густые леса и были разбросаны маленькие фермы голландских поселенцев.
Тони знал, что из всех чудесных вещей, которые он видел в своей жизни, самая чудесная — это волшебная дверь. И он спрашивал себя: зачем он стал рассказывать про неё? Что-то подсказывало ему, что путь через дверь очень ненадежен: тут есть какое-то хрупкое равновесие, и даже разговоры о двери могут разрушить его, особенно разговоры с людьми, которые не верят Тони и не понимают его.
И всё же волшебная дверь была так реальна, что Тони не мог не говорить о ней. Вот, например, сейчас перед ним дверь. Он смотрит на неё, и в нём, Тони Мак-Тэвиш Ливи, возникает странное чувство: тут и волнение, и ожидание, и радостное предвкушение. Когда у него появлялось такое чувство, он знал, что таит за собой дверь. У него не было никаких сомнений в том, что произойдет, если он сейчас её откроет.
Тони лениво растянулся на сетке. С улицы доносились топот и голоса играющих детей. Но Тони не хотелось к ним; он даже жалел этих ребят. Разве можно сравнить их игры с его волшебной дверью! И нет у него среди них ни одного такого хорошего и верного друга, как Питер Ван-Добен.
«Интересно, — думал Тони, — что делает сейчас Питер?» Что ж, на этот вопрос можно ответить, только посмотрев своими глазами. Тони встал и направился к двери. Улыбка ожидания осветила его лицо; он открыл дверь и вошел.
* * *
— Мисс Клэтт любит совать свой нос в чужие дела, — сказал отец Тони вечером, когда, придя домой, узнал о посещении учительницы. — Пусть так, — сказала миссис Ливи. — Но у неё и так много хлопот, а тут ещё Тони… — Почему он лжет? — спросил отец. — Может быть, ему кажется, что он говорит правду, — ответила мать. — Ты же знаешь: у детей это бывает. — Знаю. Но у других детей не так. Другие дети играют… — Тони тоже играет. — В эту дверь и в свои небылицы? Что за человек из него вырастет, если он будет так завираться? — Не так уж страшно он завирается, — возразила мать. — Очень даже страшно. Мне совестно слушать его! Я мог бы понять, если бы мальчик лгал по необходимости, чтобы избавиться от наказания. Скверно, но, по крайней мере, понятно. Но ему, как видно, просто нравится лгать. И ведь вот беда: иногда он лжет так убедительно, что я сам почти начинаю верить ему. Теперь, когда я смотрю на эту дверь, у меня каждый раз появляется какое-то странное чувство. — Понимаю, — кивнула мать, — но это совсем не значит, что мальчик болен. Не надо делать глупостей. Это игра; он сам скоро забудет про свою дверь. — Ты думаешь, не надо вести его к врачу? — Конечно, нет! Он ведь здоровый мальчик. И хороший мальчик… Куда он делся, хотела бы я знать! Как будто в ответ на её слова в комнату вошел Тони; штаны его были порваны на коленях, один чулок спустился. Его лицо пылало радостью и торжеством, которых он не в силах был скрыть, а через всю щеку шла яркокрасная царапина.
— Вот и я! — сказал он. — Добрый вечер.
— Ты дрался, Тони? — спросил отец.
— Нет.
— Откуда же эта царапина?
— Поцарапался, и всё, — ответил Тони, пожав плечами.
— А как это случилось? Ты не хочешь рассказать?
— Ты все равно не поверишь, — ответил Тони.
— Почему?
— Потому что я поцарапался там, за дверью.
— За какой дверью? — спокойно спросил отец.
— За дверью в заборе.
— Ты хочешь сказать, что поцарапался на соседнем дворе?
Тони замялся на секунду, потом сказал:
— Нет, я поцарапался, когда играл с индейцами в «сум-во».
— Так, — сказал отец. — Теперь всё ясно. Мы сегодня же идем к доктору Форбсу.
Как будто в ответ на её слова в комнату вошел Тони; штаны его были порваны на коленях, один чулок спустился. Его лицо пылало радостью и торжеством, которых он не в силах был скрыть, а через всю щеку шла яркокрасная царапина.
— Вот и я! — сказал он. — Добрый вечер.
— Ты дрался, Тони? — спросил отец.
— Нет.
— Откуда же эта царапина?
— Поцарапался, и всё, — ответил Тони, пожав плечами.
— А как это случилось? Ты не хочешь рассказать?
— Ты все равно не поверишь, — ответил Тони.
— Почему?
— Потому что я поцарапался там, за дверью.
— За какой дверью? — спокойно спросил отец.
— За дверью в заборе.
— Ты хочешь сказать, что поцарапался на соседнем дворе?
Тони замялся на секунду, потом сказал:
— Нет, я поцарапался, когда играл с индейцами в «сум-во».
— Так, — сказал отец. — Теперь всё ясно. Мы сегодня же идем к доктору Форбсу.
* * *
Тони, как и почти все ребята с Мотт-стрит, любил старого доктора Форбса. Есть люди, которые, старея, отдаляются от детей; другие, наоборот, приближаются к ним. Таким был доктор Форбс. И вот Тони с отцом пришли в кабинет доктора Форбса. Вся обстановка этой комнаты — дипломы доктора и предметы одежды и обихода индейцев, развешанные по стенам, книги, банки и бутылки с какими-то странными препаратами — удивительно подходила самому хозяину. Доктор сидел в большом черном кожаном кресле; из него — не из доктора, а из кресла — повсюду торчала набивка, и везде — на кресле и на других вещах — лежал толстый слой пыли: доктор давно овдовел, и это сразу видно было всякому, кто входил к нему в дом. Доктор сдвинул очки на лоб, сложил свои пухлые руки на круглом брюшке, придававшем ему весьма почтенный вид, и с интересом, даже с восхищением стал разглядывать Тони. — Давайте-ка мы с Тони поговорим с глазу на глаз, — сказал он мистеру Ливи. — Вы посидите в приемной и почитайте «Географический журнал», а мы с Тони побеседуем об этой самой двери, как мужчина с мужчиной. Я больше всего на свете люблю беседовать про двери, особенно про те, которые открываются. В наши дни слишком много дверей закрыто наглухо. Отец Тони согласился, чувствуя при этом некоторое облегчение. Он вышел в приемную и начал читать в «Географическом журнале» про Тибет, а доктор Форбс улыбнулся и вытащил коробку драже.
— Я их прячу, — объяснил он, — по привычке. Мне приходилось прятать конфеты от дочерей. Мои две дочери всегда боялись, что я располнею и у меня вырастет брюшко. Они уже замужем, и у меня уже давно брюшко, а я всё прячу драже по привычке… Возьми красные. Они с анисом… Так, значит, никто не верит тебе, когда ты рассказываешь про дверь?
— Кажется, никто, — ответил Тони, набивая рот конфетами.
— Насколько я понимаю, — сказал доктор Форбс серьезно, без тени насмешки в голосе, — дело происходит так: у тебя появляется какое-то особенное чувство, и ты уже знаешь, что тебя ждет. Ты открываешь дверь, проходишь через неё и оказываешься во дворе Питера Ван-Добена, который жил очень-очень давно, когда Нью-Йорк был ещё маленькой голландской деревушкой. Правильно, Тони?
— Да, сэр, — кивнул Тони.
— Таким образом, ферма Ван-Добена должна находиться на углу нынешней Мотт-стрит и Хустон-стрит. Это можно проверить, — сказал доктор Форбс, хотя после того, как мистер Ливи рассказал ему о племени весквейстиков, он сомневался, стоит ли проверять утверждения Тони. — Это ферма, Тони?
— Вы бы назвали её фермой, доктор. Питер её называет иначе.
— А как её называет Питер?
— «Баувери», — ответил Тони.
Доктор Форбс в замешательстве поперхнулся и протянул Тони коробку с драже. Тони взял две красные и одну зеленую и стал грызть их с видимым удовольствием. Давно он уже не чувствовал себя так спокойно.
— Ну, а сегодняшние неприятности на уроке, — продолжал доктор Форбс, — начались из-за Уолл-стрит? Как я понял, ты сказал, что незачем было бы строить стену, если бы этот дурак и подлец Ван-Дайк не застрелил бедную индианку. Я с тобой согласен, хотя есть люди, которые воображают себя специалистами по истории Нью-Йорка и притом утверждают, что стена была выстроена до этого случая. Всё это ты мог узнать за какой-нибудь час в Публичной библиотеке. Но ты, кажется, знаешь даже, как звали эту индианку. Хотя до сих пор её имя оставалось неизвестным.
— Всем известно её имя, — ответил Тони. — Питер рассказал мне всё на другой же день. её звали Драмака.
«Алгонкинское имя», — подумал доктор Форбс. Он всегда подозревал, что на острове Манхэттен жили индейцы алгонкинской группы. Но уже через секунду доктор рассмеялся про себя, поняв, что всерьез поддался игре.
— Она была дочерью вождя, — продолжал Тони.
— Погоди-ка! — воскликнул доктор Форбс, которому впервые изменили спокойствие и невозмутимость. — У них не было вождей! Весквейстики не имели вождей!
— Нет, у них были вожди! — настойчиво повторил Тони. — Я знаю, потому что это случилось, когда вожди пришли от ирокезов. Старик послал за ними.
— Какой старик?
— Стайвесант. Мой голландский товарищ всегда его так называет — старик.
— Ты ешь, ешь драже, — сказал доктор Форбс, подходя к шкафчику и наливая себе стаканчик брэнди.
Он залпом проглотил брэнди, спрятал бутылку и, повернувшись к Тони, уставил на него пухлый указательный палец:
— Правда, я слышал легенду, будто три ирокезских вождя приходили к Питеру Стайвесанту по его приглашению, но я ей никогда не верил. Зачем им было приходить?
— Не знаю, — ответил Тони. — Знаю только, что я их видел.
— Где? Наверно, за этой твоей проклятой дверью?
Тони кивнул.
— Их военная лодка стояла на канале, — сказал он безнадежным тоном, думая про себя, что теперь и доктор Форбс, как все остальные, перестанет верить ему.
А доктор Форбс в это время мысленно отчитывал себя.
«Ну вот, — говорил он себе, — теряешь самообладание из-за мальчишеской фантзии! Как же ты ему поможешь, если сам начинаешь кричать на него! Нужно опровергнуть его выдумку, проколоть её, как мыльный пузырь, чтобы она лопнула сама собой. Покажи ему, что всё это существует только в его воображении. Не называй его лгуном, но сделай так, чтобы он понял, что это выдумка».
Сказав себе всё это, доктор Форбс опустился в черное кожаное кресло и взял одну конфетку.
— Что ж, Тони, — сказал он. — Ты нашел чудесную дверь, действительно волшебную. Я бы сам хотел пройти через неё на ту сторону. Но, конечно, там трудно договориться. Ведь они говорят по-голландски, правда? Даже твой приятель Питер Ван-Добен, наверно, говорит по-голландски?
— Да, — сказал Тони.
— Значит, с ним нельзя разговаривать, не зная голландского языка?
— Нельзя, — кивнул Тони.
— Но ведь ты не умеешь говорить по-голландски? — спросил доктор.
— Немножко умею, — ответил Тони — Я научился немного говорить по-голландски, а Питер — по-английски. Так мы и разговариваем.
— Понятно, — сказал доктор Форбс, и глазом не моргнув. — Ты, наверно, и со мной можешь поговорить по-голландски?
— А вы знаете голландский язык? — спросил Тони.
— Я говорю по-немецки и понимаю по-голландски. Если ты что-нибудь мне скажешь, я пойму. Ну, спроси, скажем, как меня зовут.
— Хо хеет у? — спросил Тони.
Доктор Форбс поперхнулся от неожиданности, потом опять потянулся за драже.
— Хо маакт у хет? — сказал Тони.
— Что?
— Простите, доктор. Вы изменились в лице, я и спросил, что с вами. Я как-то забыл, что больше не надо говорить по-голландски.
— Ты и впрямь нашел волшебную дверь, — медленно сказал доктор Форбс. — Она даже меня на минуту заставила забыть, что я доктор, такая она волшебная… У тебя на щеке изрядная царапина. Дай-ка я её промою.
Отец Тони согласился, чувствуя при этом некоторое облегчение. Он вышел в приемную и начал читать в «Географическом журнале» про Тибет, а доктор Форбс улыбнулся и вытащил коробку драже.
— Я их прячу, — объяснил он, — по привычке. Мне приходилось прятать конфеты от дочерей. Мои две дочери всегда боялись, что я располнею и у меня вырастет брюшко. Они уже замужем, и у меня уже давно брюшко, а я всё прячу драже по привычке… Возьми красные. Они с анисом… Так, значит, никто не верит тебе, когда ты рассказываешь про дверь?
— Кажется, никто, — ответил Тони, набивая рот конфетами.
— Насколько я понимаю, — сказал доктор Форбс серьезно, без тени насмешки в голосе, — дело происходит так: у тебя появляется какое-то особенное чувство, и ты уже знаешь, что тебя ждет. Ты открываешь дверь, проходишь через неё и оказываешься во дворе Питера Ван-Добена, который жил очень-очень давно, когда Нью-Йорк был ещё маленькой голландской деревушкой. Правильно, Тони?
— Да, сэр, — кивнул Тони.
— Таким образом, ферма Ван-Добена должна находиться на углу нынешней Мотт-стрит и Хустон-стрит. Это можно проверить, — сказал доктор Форбс, хотя после того, как мистер Ливи рассказал ему о племени весквейстиков, он сомневался, стоит ли проверять утверждения Тони. — Это ферма, Тони?
— Вы бы назвали её фермой, доктор. Питер её называет иначе.
— А как её называет Питер?
— «Баувери», — ответил Тони.
Доктор Форбс в замешательстве поперхнулся и протянул Тони коробку с драже. Тони взял две красные и одну зеленую и стал грызть их с видимым удовольствием. Давно он уже не чувствовал себя так спокойно.
— Ну, а сегодняшние неприятности на уроке, — продолжал доктор Форбс, — начались из-за Уолл-стрит? Как я понял, ты сказал, что незачем было бы строить стену, если бы этот дурак и подлец Ван-Дайк не застрелил бедную индианку. Я с тобой согласен, хотя есть люди, которые воображают себя специалистами по истории Нью-Йорка и притом утверждают, что стена была выстроена до этого случая. Всё это ты мог узнать за какой-нибудь час в Публичной библиотеке. Но ты, кажется, знаешь даже, как звали эту индианку. Хотя до сих пор её имя оставалось неизвестным.
— Всем известно её имя, — ответил Тони. — Питер рассказал мне всё на другой же день. её звали Драмака.
«Алгонкинское имя», — подумал доктор Форбс. Он всегда подозревал, что на острове Манхэттен жили индейцы алгонкинской группы. Но уже через секунду доктор рассмеялся про себя, поняв, что всерьез поддался игре.
— Она была дочерью вождя, — продолжал Тони.
— Погоди-ка! — воскликнул доктор Форбс, которому впервые изменили спокойствие и невозмутимость. — У них не было вождей! Весквейстики не имели вождей!
— Нет, у них были вожди! — настойчиво повторил Тони. — Я знаю, потому что это случилось, когда вожди пришли от ирокезов. Старик послал за ними.
— Какой старик?
— Стайвесант. Мой голландский товарищ всегда его так называет — старик.
— Ты ешь, ешь драже, — сказал доктор Форбс, подходя к шкафчику и наливая себе стаканчик брэнди.
Он залпом проглотил брэнди, спрятал бутылку и, повернувшись к Тони, уставил на него пухлый указательный палец:
— Правда, я слышал легенду, будто три ирокезских вождя приходили к Питеру Стайвесанту по его приглашению, но я ей никогда не верил. Зачем им было приходить?
— Не знаю, — ответил Тони. — Знаю только, что я их видел.
— Где? Наверно, за этой твоей проклятой дверью?
Тони кивнул.
— Их военная лодка стояла на канале, — сказал он безнадежным тоном, думая про себя, что теперь и доктор Форбс, как все остальные, перестанет верить ему.
А доктор Форбс в это время мысленно отчитывал себя.
«Ну вот, — говорил он себе, — теряешь самообладание из-за мальчишеской фантзии! Как же ты ему поможешь, если сам начинаешь кричать на него! Нужно опровергнуть его выдумку, проколоть её, как мыльный пузырь, чтобы она лопнула сама собой. Покажи ему, что всё это существует только в его воображении. Не называй его лгуном, но сделай так, чтобы он понял, что это выдумка».
Сказав себе всё это, доктор Форбс опустился в черное кожаное кресло и взял одну конфетку.
— Что ж, Тони, — сказал он. — Ты нашел чудесную дверь, действительно волшебную. Я бы сам хотел пройти через неё на ту сторону. Но, конечно, там трудно договориться. Ведь они говорят по-голландски, правда? Даже твой приятель Питер Ван-Добен, наверно, говорит по-голландски?
— Да, — сказал Тони.
— Значит, с ним нельзя разговаривать, не зная голландского языка?
— Нельзя, — кивнул Тони.
— Но ведь ты не умеешь говорить по-голландски? — спросил доктор.
— Немножко умею, — ответил Тони — Я научился немного говорить по-голландски, а Питер — по-английски. Так мы и разговариваем.
— Понятно, — сказал доктор Форбс, и глазом не моргнув. — Ты, наверно, и со мной можешь поговорить по-голландски?
— А вы знаете голландский язык? — спросил Тони.
— Я говорю по-немецки и понимаю по-голландски. Если ты что-нибудь мне скажешь, я пойму. Ну, спроси, скажем, как меня зовут.
— Хо хеет у? — спросил Тони.
Доктор Форбс поперхнулся от неожиданности, потом опять потянулся за драже.
— Хо маакт у хет? — сказал Тони.
— Что?
— Простите, доктор. Вы изменились в лице, я и спросил, что с вами. Я как-то забыл, что больше не надо говорить по-голландски.
— Ты и впрямь нашел волшебную дверь, — медленно сказал доктор Форбс. — Она даже меня на минуту заставила забыть, что я доктор, такая она волшебная… У тебя на щеке изрядная царапина. Дай-ка я её промою.
 Чувствуя, что необходимо поскорее переменить разговор, доктор Форбс поднялся, нашел бутылку перекиси водорода и промыл царапину на щеке Тони.
— Где это ты поцарапался? — спросил он.
— Играл в «сум-во».
— «Сум-во»?
— Это индейцы так играют, — стал смущенно объяснять Тони. — Сегодня мы с Питером ходили в индейскую деревню. Сперва они нас не принимали в игру. Потом приняли. Там я и поцарапался.
— А как играют в «сум-во»? — спросил доктор Форбс.
— Мячом, — ответил Тони. — Мяч величиной с большой апельсин. В каждой команде по двадцать два игрока; играют иногда ребята, а иногда взрослые, но всегда начинается с того, что «патрия» бросает на поле мяч…
Чувствуя, что необходимо поскорее переменить разговор, доктор Форбс поднялся, нашел бутылку перекиси водорода и промыл царапину на щеке Тони.
— Где это ты поцарапался? — спросил он.
— Играл в «сум-во».
— «Сум-во»?
— Это индейцы так играют, — стал смущенно объяснять Тони. — Сегодня мы с Питером ходили в индейскую деревню. Сперва они нас не принимали в игру. Потом приняли. Там я и поцарапался.
— А как играют в «сум-во»? — спросил доктор Форбс.
— Мячом, — ответил Тони. — Мяч величиной с большой апельсин. В каждой команде по двадцать два игрока; играют иногда ребята, а иногда взрослые, но всегда начинается с того, что «патрия» бросает на поле мяч…
 — Как ты его назвал?
— «Патрия». Так его называет Питер, и отец Питера тоже. Он старый-старый и считается отцом всей деревни. Ему почти ничего не приходится делать — он только сидит на солнышке и разрешает споры, особенно когда ребята заспорят. А иногда он ещё начинает игру. Вот как в «сум-во» — бросает мяч. Индейцы называют его «патало», а мы с Питером зовем его «патрия». Он дает нам кусочки рыбы, сладкой, как конфеты, потому что она сварена в кленовом сиропе… Ну вот, он начинает игру — бросает мяч в воздух, а кто-нибудь подхватывает мяч своей клюшкой и отбивает его…
— А как выглядит эта клюшка, Тони? — перебил доктор Форбс.
— Да просто ореховая палка. С одного конца она загнута, как ручка у трости. И между самой палкой и загнутой частью натянута сетка из полосок сыромятной кожи — ею ловят и бросают мяч.
— Ага, травяной хоккей. Где ты видел эту игру, Тони?
— Я не знаю, что такое травяной хоккей, — ответил Тони. — Но сегодня они приняли нас с Питером в игру. Тогда я и поцарапался.
Доктор Форбс долго сидел молча, склонив голову набок, потирал лысину и задумчиво глядел на Тони. Наконец он сказал:
— Давай доедим драже, Тони.
Оба принялись грызть конфетки, а когда съели все до единой, доктор Форбс опустил очки на нос и, задержав свой взгляд на Тони ещё на мгновение, произнес:
— Ты собираешься опять пойти туда, через дверь?
— А вы никому не скажете?
— Ну, друг мой, ты и представить себе не можешь, сколько секретов хранится в моей старой голове!
— Не могу, — признался Тони.
— А что, если ты мне принесешь что-нибудь оттуда?
— Из-за двери? — спросил Тони.
— Ага.
— По-моему, это будет нехорошо.
— Ты ведь знаешь, что я собираю предметы обихода индейцев, — продолжал доктор Форбс. — Мне бы очень хотелось иметь пару таких клюшек, да и мячик не помешал бы…
Тони смотрел на него озадаченно.
— Подумай об этом, Тони, подумай. И если решишь оказать услугу мне, старому чудаку, я буду тебе весьма благодарен. А теперь беги домой, а я потолкую с твоим отцом.
Но когда Тони выходил из кабинета, доктор Форбс остановил его вопросом, задав который он тотчас почувствовал себя дураком, что уж вовсе не к лицу почтенному домашнему врачу.
— Тони, — сказал он, — помнишь, ты говорил, что три ирокезских вождя приплыли по реке повидаться с Стайвесантом — Деревянной ногой?
— Он терпеть не мог, когда его называли «Деревянная нога». Его так дразнили ребята, и он всегда гонялся за ними с палкой.
— Так, так. Но вернемся к ирокезским вождям. Как они были одеты? Ты ведь сказал, что видел их?
— На них были длинные плащи… — начал рассказывать Тони, стараясь вспомнить все подробности, и даже наморщил лоб. — По-моему, из белых оленьих шкур. Вожди совсем не такие, как нам теперь рассказывают. Я сразу подумал, что они короли: плащи на них были прямо королевские, все расшитые бисером и маленькими кусочками оленьих рогов. На ногах надето что-то вроде краг. А волосы у них были длинные и белые как снег.
— И на голове, конечно, убор из перьев?
— Вовсе нет! — вскричал Тони. — Никаких перьев. А такие короны, только из дерева, и по бокам приделаны оленьи рога. Знаете, совсем как у древних викингов на картинках…
— Как ты его назвал?
— «Патрия». Так его называет Питер, и отец Питера тоже. Он старый-старый и считается отцом всей деревни. Ему почти ничего не приходится делать — он только сидит на солнышке и разрешает споры, особенно когда ребята заспорят. А иногда он ещё начинает игру. Вот как в «сум-во» — бросает мяч. Индейцы называют его «патало», а мы с Питером зовем его «патрия». Он дает нам кусочки рыбы, сладкой, как конфеты, потому что она сварена в кленовом сиропе… Ну вот, он начинает игру — бросает мяч в воздух, а кто-нибудь подхватывает мяч своей клюшкой и отбивает его…
— А как выглядит эта клюшка, Тони? — перебил доктор Форбс.
— Да просто ореховая палка. С одного конца она загнута, как ручка у трости. И между самой палкой и загнутой частью натянута сетка из полосок сыромятной кожи — ею ловят и бросают мяч.
— Ага, травяной хоккей. Где ты видел эту игру, Тони?
— Я не знаю, что такое травяной хоккей, — ответил Тони. — Но сегодня они приняли нас с Питером в игру. Тогда я и поцарапался.
Доктор Форбс долго сидел молча, склонив голову набок, потирал лысину и задумчиво глядел на Тони. Наконец он сказал:
— Давай доедим драже, Тони.
Оба принялись грызть конфетки, а когда съели все до единой, доктор Форбс опустил очки на нос и, задержав свой взгляд на Тони ещё на мгновение, произнес:
— Ты собираешься опять пойти туда, через дверь?
— А вы никому не скажете?
— Ну, друг мой, ты и представить себе не можешь, сколько секретов хранится в моей старой голове!
— Не могу, — признался Тони.
— А что, если ты мне принесешь что-нибудь оттуда?
— Из-за двери? — спросил Тони.
— Ага.
— По-моему, это будет нехорошо.
— Ты ведь знаешь, что я собираю предметы обихода индейцев, — продолжал доктор Форбс. — Мне бы очень хотелось иметь пару таких клюшек, да и мячик не помешал бы…
Тони смотрел на него озадаченно.
— Подумай об этом, Тони, подумай. И если решишь оказать услугу мне, старому чудаку, я буду тебе весьма благодарен. А теперь беги домой, а я потолкую с твоим отцом.
Но когда Тони выходил из кабинета, доктор Форбс остановил его вопросом, задав который он тотчас почувствовал себя дураком, что уж вовсе не к лицу почтенному домашнему врачу.
— Тони, — сказал он, — помнишь, ты говорил, что три ирокезских вождя приплыли по реке повидаться с Стайвесантом — Деревянной ногой?
— Он терпеть не мог, когда его называли «Деревянная нога». Его так дразнили ребята, и он всегда гонялся за ними с палкой.
— Так, так. Но вернемся к ирокезским вождям. Как они были одеты? Ты ведь сказал, что видел их?
— На них были длинные плащи… — начал рассказывать Тони, стараясь вспомнить все подробности, и даже наморщил лоб. — По-моему, из белых оленьих шкур. Вожди совсем не такие, как нам теперь рассказывают. Я сразу подумал, что они короли: плащи на них были прямо королевские, все расшитые бисером и маленькими кусочками оленьих рогов. На ногах надето что-то вроде краг. А волосы у них были длинные и белые как снег.
— И на голове, конечно, убор из перьев?
— Вовсе нет! — вскричал Тони. — Никаких перьев. А такие короны, только из дерева, и по бокам приделаны оленьи рога. Знаете, совсем как у древних викингов на картинках…
* * *
— Дети, — сказал старый доктор Форбс отцу Тони, — живут в своем собственном мире. Этот мир соприкасается с нашим миром, но не по их желанию, а по необходимости. Беда в том, что мы, взрослые, с утра до ночи бьемся, стараясь заработать на жизнь и обеспечить крышу над головой, вот и забываем об этом детском мире, даже начисто отвергаем его, а иногда отталкиваем этим и наших детей. — Значит, вы не считаете, что Тони нужно показать… — …психиатру? Чепуха! Он нуждается в психиатре не больше, чем мы с вами, а может быть, и меньше. Ему нужны понимание и любовь. Неужели вы не видите, что с ним происходит? Есть много такого, чего ему не может дать жизнь на Мотт-стрит, поэтому он создал свой собственный мир. Если я или вы пройдем через его дверь, мы попадем на свалку мусора. А он попадает через неё туда, где ему хочется быть, — в Нью-Йорк, который существовал почти триста лет назад. Его живое воображение населило город людьми, настолько близкими к действительности, насколько он представляет себе эту действительность. Его выдумка в своём роде весьма примечательна, и он воссоздал жизнь Нового Амстердама с мельчайшими подробностями. Но тут нет ничего необъяснимого или таинственного, все эти сведения можно почерпнуть в любой публичной библиотеке. И я навряд ли ошибусь, если скажу, что Тони не раз и не два часами рылся в старых, пыльных книгах. — Но что же нам с ним делать? — спросил отец Тони. — Ведь нельзя, чтобы он всем рассказывал свои выдумки. — Во-первых, для него это не выдумки. Они существуют в его воображении, и он верит в них, как умеют верить только дети. Для него всё это так же реально, как для нас — многие вещи, в которые верим мы, взрослые. Разница лишь в том, что мы доживаем до могилы, не переставая верить в свои пустые иллюзии, а для Тони наступит день, когда он откроет свою волшебную дверь и увидит за ней только грязный двор. Но от этого сам он хуже не станет. И мой совет вам — ничего не делайте, предоставьте мальчика самому себе.* * *
Но когда отец Тони ушел домой, сказав обычное «Спасибо, доктор», которое старик Форбс слышал уже почти полстолетия, доктор снова уселся в свое черное кожаное кресло, поднял очки на лоб, закрыл глаза и задумался о волшебной двери Тони Мак-Тэвиш Ливи. Просто удивительно, что сочинил этот малыш, который так точно и не колеблясь отвечал на все вопросы. Он заставил доктора Форбса перенестись в далекое-далекое прошлое, когда он сам был мальчишкой. Доктор Форбс родился в Нью-Йорке в те времена, когда северная часть острова Манхэттен была ещё покрыта лугами, лесами и уютными маленькими фермами. В ту пору, отправившись в экипаже к форту Джордж Хилл или к Инвуду, вы попадали за город, на лоно природы — самой настоящей природы. Всё было так славно, красиво: небольшие холмы, долины, реки, — не хуже, чем в любом другом уголке земного шара. А со скалистого, обрывистого берега форта Трайон в то время, куда ни глянь, можно было увидеть лишь зеленовато-синие холмы, и только на юге лежал город. «Но всё это, — подумал доктор Форбс, — ушло навсегда, а сейчас всюду город — улицы, дома…» У доктора не было такой двери, как у Тони, — двери, которую он мог бы открыть, чтобы вернуться в своё далекое детство. В те давние дни в зеленой долине, выходившей к берегам Спайтен Дайвил, жила одна-единственная индейская семья, и старый доктор Форбс, тогда ещё мальчик, часто навещал её. Здесь зародился в нём сохранившийся и поныне интерес к предметам обихода, обычаям, образу жизни краснокожих, которые когда-то, давно-давно, населяли эту страну и правили ею. Доктор Форбс вспоминал прошлое без сожаления — он жил настоящим и любил свой город, как любят его лишь немногие. Но всё же его не оставляла мысль — как хорошо было бы, если б он мог хоть один-единственный раз пройти в волшебную дверь Тони. — Чорт побери! — произнес он вслух, ни к кому не обращаясь. — Кажется, я начинаю верить мальчугану. А всё-таки доктор Форбс хорошо понимал, что он слишком стар, обладает слишком практическим умом и имеет слишком много пациентов среди бедняков, чтобы поверить даже на миг хотя бы одному слову о волшебной двери Тони. Поэтому он решил больше не заниматься чепухой и принялся за чтение толстой книги в зеленом переплете, скучной, усыпляющей книги о внутренних болезнях, которая могла успокоить любое разыгравшееся воображение. Однако мысли его все время возвращались к волшебной двери — и наконец он закрыл книгу и снял телефонную трубку, чтобы позвонить своему закадычному другу. Этого друга звали Айзэк Гилмен, и был он хранителем музея, то-есть большую часть своего времени проводил в музее, беспокоился о его экспонатах, почему-то переставлял их с места на место, одни уносил в подвал, другие ставил в витрины и всё время думал о том, что у музея не хватает денег, чтобы купить новые экспонаты и отнести побольше старых в подвал. Музей, хранителем которого был Айзэк Гилмен, назывался Музеем американских индейцев. Это один из лучших музеев Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка. Если вам интересно, вы можете посетить его — он и до сих пор существует на углу Бродвея и Сто пятьдесят пятой улицы, но там уже новый хранитель: ведь история с волшебной дверью Тони произошла много лет назад. Старый доктор Форбс и Айзэк Гилмен были большими друзьями, то-есть они беспрестанно спорили, кричали друг на друга, обвиняли друг друга в самых невероятных и ужасных грехах и… оставались друзьями. Спорили они главным образом об индейцах. Вот этому-то своему другу и позвонил по телефону доктор Форбс. — Айк, — начал он, — что ты скажешь, если я сообщу тебе, что индейцы племени весквейстиков играли в травяной хоккей?
— Скажу, что ты знаешь об индейцах даже меньше, чем я предполагал,
— А что, ты думаешь, они не знали этой игры?
— Конечно, нет. Ни у одного очевидца нет упоминаний о ней, а вряд ли они могли не заметить такую массовую игру.
— Айк, — начал он, — что ты скажешь, если я сообщу тебе, что индейцы племени весквейстиков играли в травяной хоккей?
— Скажу, что ты знаешь об индейцах даже меньше, чем я предполагал,
— А что, ты думаешь, они не знали этой игры?
— Конечно, нет. Ни у одного очевидца нет упоминаний о ней, а вряд ли они могли не заметить такую массовую игру.
 — Конечно, — ехидно сказал доктор Форбс, — тебя там не было.
— А ты был, старый болван? — заревел Айк Гилмен. — Надо же: звонит человеку среди ночи, чтобы узнать, играли ли весквейстики в травяной хоккей!
— Тише, тише, а то у тебя, пожалуй, повысится кровяное давление, — предостерег доктор Форбс. — Веди себя если не как джентльмен, то хотя бы как ученый и ответь-ка на один вопрос. Как выглядел головной убор великого вождя Ирокезской лиги?
— Это всякий дурак знает.
— Нет, не всякий, только ты, я да ещё человек шесть. Но, может быть, ты ответишь на вопрос? Представь себе, что ты вежливо беседуешь с миллионером, который может дать денег на новое крыло для твоего заплесневелого музея.
— Ну ладно. Это корона из дерева, наклеенного на змеиную кожу; корона украшена разноцветными камнями. Два оленьих рога, каждый с четырьмя отростками, укреплены на ней, как крылья на шлеме викингов. Это сходство приводило к некоторой путанице, но к викингам корона не имеет никакого отношения. Это традиционный ирокезский убор.
— Поистине красочное описание! — сказал доктор Форбс. — Сколько таких корон в твоей коллекции?
— Ни одной! — сердито отрезал Айк Гилмен. — Их нет ни у кого. И ты, старый дурак, прекрасно это знаешь! Может быть, ты наткнулся на такую корону в лавке подержанной мебели на Мотт-стрит?
— Нет, но, может быть, я наткнусь на пару хоккейных клюшек.
— И только из-за этого ты ко мне привязался на ночь глядя?
— Айк, серьезно, где можно выяснить, как выглядел головной убор ирокезского вождя?
— Он упоминается в кое-каких рукописях, его описание было в статье Исторического общества. В нашей коллекции гравюр есть одно его древнее изображение. Морган и другие специалисты о нём не пишут.
— А ты не заметил: в ваших гравюрах не рылся маленький веснушчатый мальчик?
— Что?
— Ничего, ничего. Ещё один вопрос — и ты свободен, можешь опять лодырничать. Мог простой индейский вождь носить такой головной убор?
— Ни в коем случае.
— Почему ты знаешь?
— Почему знаю? Да потому, что это королевский головной убор великого, а не простого вождя. Вот почему.
Старый доктор Форбс повесил трубку и принялся расхаживать взад и вперед по своему заставленному мебелью кабинету. Наконец он пробормотал вслух, впрочем ни к кому не обращаясь:
— Кажется, я, а не Тони Мак-Тэвиш Ливи, попаду в сумасшедший дом!
— Конечно, — ехидно сказал доктор Форбс, — тебя там не было.
— А ты был, старый болван? — заревел Айк Гилмен. — Надо же: звонит человеку среди ночи, чтобы узнать, играли ли весквейстики в травяной хоккей!
— Тише, тише, а то у тебя, пожалуй, повысится кровяное давление, — предостерег доктор Форбс. — Веди себя если не как джентльмен, то хотя бы как ученый и ответь-ка на один вопрос. Как выглядел головной убор великого вождя Ирокезской лиги?
— Это всякий дурак знает.
— Нет, не всякий, только ты, я да ещё человек шесть. Но, может быть, ты ответишь на вопрос? Представь себе, что ты вежливо беседуешь с миллионером, который может дать денег на новое крыло для твоего заплесневелого музея.
— Ну ладно. Это корона из дерева, наклеенного на змеиную кожу; корона украшена разноцветными камнями. Два оленьих рога, каждый с четырьмя отростками, укреплены на ней, как крылья на шлеме викингов. Это сходство приводило к некоторой путанице, но к викингам корона не имеет никакого отношения. Это традиционный ирокезский убор.
— Поистине красочное описание! — сказал доктор Форбс. — Сколько таких корон в твоей коллекции?
— Ни одной! — сердито отрезал Айк Гилмен. — Их нет ни у кого. И ты, старый дурак, прекрасно это знаешь! Может быть, ты наткнулся на такую корону в лавке подержанной мебели на Мотт-стрит?
— Нет, но, может быть, я наткнусь на пару хоккейных клюшек.
— И только из-за этого ты ко мне привязался на ночь глядя?
— Айк, серьезно, где можно выяснить, как выглядел головной убор ирокезского вождя?
— Он упоминается в кое-каких рукописях, его описание было в статье Исторического общества. В нашей коллекции гравюр есть одно его древнее изображение. Морган и другие специалисты о нём не пишут.
— А ты не заметил: в ваших гравюрах не рылся маленький веснушчатый мальчик?
— Что?
— Ничего, ничего. Ещё один вопрос — и ты свободен, можешь опять лодырничать. Мог простой индейский вождь носить такой головной убор?
— Ни в коем случае.
— Почему ты знаешь?
— Почему знаю? Да потому, что это королевский головной убор великого, а не простого вождя. Вот почему.
Старый доктор Форбс повесил трубку и принялся расхаживать взад и вперед по своему заставленному мебелью кабинету. Наконец он пробормотал вслух, впрочем ни к кому не обращаясь:
— Кажется, я, а не Тони Мак-Тэвиш Ливи, попаду в сумасшедший дом!
* * *
А в это время Тони Мак-Тэвиш Ливи внезапно проснулся. Ему снилось, что он и другие ребята гонятся по Фронт-стрит за жирной визжащей свиньей, и они поймали бы свинью, если бы их не увидел караульный. Он погнался за ними, и тут Тони проснулся. То-есть он проснулся не в Нью-Йорке 1654 года, который ему снился, а в Нью-Йорке 1924 года. Ему снилось, что караульный большими прыжками несется именно за ним. Тони во сне и не думал, что попытка поймать свинью такое уж тяжкое преступление, но караульный, как видно, был другого мнения. А если вы думаете, что караульный в Новом Амстердаме (тогда он ещё не назывался Нью-Йорком) в 1654 году был добрым дяденькой, то лучше спросите Тони. Правда, вы не можете этого сделать. Но предположим, будто это возможно. Вот поговорите с Тони — он только что видел во сне Новый Амстердам. — Уф… ф… — с облегчением вздохнул Тони. — Он чуть меня не поймал. Предположим, что вы спросили бы его: «Что такое караульный?» «Старый Доопер де Гроот», — ответил бы Тони. «Но всё-таки, что же такое караульный?» «В те времена не было полиции, — пояснил бы Тони. — Вместо этого несколько жителей каждую ночь обходили улицы дозором. В этом участвовали почти все по очереди. Их-то и называли караульными» «Самый страшный из них, — подумал Тони, — старый Доопер де Гроот. У него такие длинные рыжие усы, широкополая шляпа, широченные сапожищи, такой огромный изогнутый меч на красно-желтой перевязи. А главное, он терпеть не может детей. Это хоть кого испугает!» Теперь вам должно быть ясно, почему у Тони были все основания радоваться, что он проснулся как раз в ту минуту, когда Доопер де Гроот схватил его за шиворот. Проснувшись, Тони продолжал тихо лежать на своей узкой железной кровати. Из кухни через приоткрытую дверь в темную комнату проникал луч света и доносились голоса отца и матери. Тони прислушался — сначала спросонок, просто от нечего делать, но потом он стал слушать внимательно. — Старику Форбсу легко говорить, — услышал он голос отца: — Тони не его сын. — Но он любит Тони. Ведь нельзя сказать, что Тони ему безразличен. — Я и не говорю этого. Доктор Форбс, вероятно, заботится о Тони столько же, сколько и о других детях, которых ему приходится лечить. Я просто говорю, что Тони — не его сын. — Он — наш сын, — ответила мать. — Вот именно. И ты не можешь винить меня за то, что я хочу, чтобы Тони оправдал мои надежды. Будь у нас много денег — может быть, всё было бы иначе. Но у нас их нет. Тони придется самому пробивать себе дорогу. — Ты думаешь, он её не пробьет? Почему? Он хороший, добрый и умный мальчик. — Как ты не понимаешь почему! А его дикие выдумки? Похоже, что он рассказывает их просто ради удовольствия. Какой же из него выйдет человек, если он всё время лжет? — Ты несправедлив! — воскликнула мать. — Тони — хороший мальчик. Он лжет вовсе не всё время, только… — Только насчет этой двери. — Ну что ж, он придумывает всякие сказки об этой старой двери. И я не вижу в этом большой беды. — Может быть, ты и права, — пробормотал отец. Он не хотел признаваться, что дверь беспокоит его и даже немного пугает. Слишком уж правдоподобны эти выдумки Тони. — Может быть, может быть… Но что же будет с мальчиком, если он не умеет отличить правду от вымысла? — А ты попробуй поговори с ним ещё раз об этой двери. — Нет, хватит с меня! Я уже говорил с ним. Знаешь, что я думаю сделать? Я достану доски и гвозди и заколочу эту дверь, чтобы он никогда больше не смог открыть её. Вот тут-то Тони, как был, в пижаме, с торчащими во все стороны каштановыми вихрами, соскочил с кровати и выбежал на кухню.
— Лучше не трогай мою дверь! — крикнул он. — Если ты заколотишь мою дверь, я уйду через неё и не вернусь к вам… никогда.
Вот тут-то Тони, как был, в пижаме, с торчащими во все стороны каштановыми вихрами, соскочил с кровати и выбежал на кухню.
— Лучше не трогай мою дверь! — крикнул он. — Если ты заколотишь мою дверь, я уйду через неё и не вернусь к вам… никогда.
Глава 3 ТОНИ И ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ
В этот день Тони не пошел в школу. На Мотт-стрит это было не в диковинку — здешние ребята любили побездельничать, но Тони прежде никогда не отлынивал от занятий. А всего удивительнее, что он и сам не очень понимал, почему он так поступил сегодня. Конечно, дело тут не обошлось без волшебной двери. Тони почти верил в то, что выполнит свою вчерашнюю угрозу: уйдет через дверь и никогда больше не вернется; то-есть он и верил в это и вместе с тем не верил. Он любил отца и мать — они у него были очень хорошие. Но теперь он чувствовал себя таким обиженным и отвергнутым ими, что мысль навсегда уйти из дому не оставляла его, хоть от неё больно сжималось его сердце. По ту сторону волшебной двери все почему-то понимали его и всё происходило именно так, как ему хотелось. На старом, милом Манхэттене, куда Тони попадал через волшебную дверь, никогда не шел дождь. Там всегда сияло солнце, и славный Новый Амстердам, похожий на игрушечную деревушку, так уютно лежал в южной части острова. Дети голландских поселенцев весь день проводили в играх; вертелись крылья ветряных мельниц, и по небу плыли белые пушистые облака. Всё было таким, каким и должно быть, каким и хотел все видеть Тони. И когда сегодня он решил не ходить в школу и пойти туда, через дверь, он снова представил себе, как там хорошо. Но, с другой стороны, он остался дома не только из-за двери. Ему казалось, что он не может больше войти в класс и встретиться с мисс Клэтт и ребятами. Да и зачем ему идти к ним? — спрашивал он себя. Вот почему Тони принял такое решение. А приняв его, разбил свою маленькую глиняную копилку и набил карманы центами — сбережениями всей своей жизни.* * *
Мать Тони тревожилась. Как объяснить мальчику, что они с отцом сердятся и резко разговаривают с ним, потому что любят его и беспокоятся о нем? Ребята понимают любовь и заботу по-своему, совсем не так, как взрослые. Кроме того, Тони не мог разделять их беспокойства по поводу волшебной двери. Эта дверь — самое замечательное, самое интересное, что есть в его жизни, зачем же отцу с матерью огорчаться из-за неё? Мать Тони отчасти понимала сына. Ей хотелось сказать Тони, как много он значит для неё и отца, ведь в нём — все их надежды и чаяния. Но как объяснить всё это одиннадцатилетнему мальчику? В это утро она должна была навестить свою больную сестру, у которой было двое маленьких детей. Собираясь в дорогу, она думала: «Вот если бы помочь чем-нибудь сестре! Послать бы её и ребят в горы, чтобы все они отдохнули и погрелись на солнышке». Ей и в голову не приходило, что она сама так же бедна, как и сестра, что ей тоже не мешает пожить несколько недель за городом. Такой уж человек была мать Тони. Отец Тони только что ушел на работу. Пока Тони одевался, мать приготовила ему завтрак: поставила на стол миску с овсяной кашей, стакан молока, намазала кусок хлеба маслом; и всё время она повторяла про себя слава, которые собиралась сказать сыну. Тони сел к столу и принялся за свой завтрак, а мать села напротив и смотрела на него, на его круглое лицо и курносый нос. Она так любит его! Ей даже захотелось заплакать, но она сдержалась и сказала: — Не обижайся на папу, Тони. Он очень беспокоится и поэтому так с тобой разговаривает. — А зачем он грозится заколотить мою дверь? — пробормотал Тони. — Он не сделает этого. Просто у него так много забот, а тут ещё ты начинаешь говорить про свою дверь. Это его совсем выводит из себя. — Никому я ничего плохого не делаю моей дверью, — ответил Тони, набивая рот горячей сладкой кашей. — Но, Тони, неужели ты не понимаешь, что все эти сказки о двери — просто чепуха? Неужели ты думаешь, что тебе кто-нибудь поверит? — Старый доктор Форбс верит. Он даже попросил меня принести что-нибудь оттуда, из-за двери. — Ох, лучше уж оставим эту дверь в покое, Тони. Мне нужно сходить в больницу. Когда кончишь завтракать, собери посуду в таз и беги в школу. Мать ушла, а Тони остался один и медленно, в задумчивости доел свой завтрак. Потом собрал посуду, взял книги и пошел вниз. Но решение не ходить в школу уже созрело в нём — и он отправился на задний двор.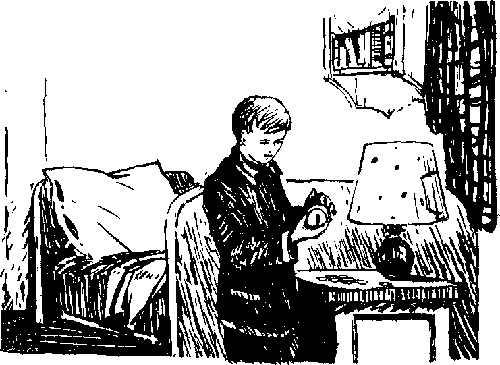 Двор был залит ярким утренним солнцем. Тони уселся на старой кроватной сетке. Пусть поэты говорят всё что угодно, но весеннее солнце на заднем дворе на Мотт-стрит, пожалуй, светит ярче, чем в любом другом уголке земного шара; ведь, наверно, нигде больше солнце так не украшает жизнь, как на заднем дворе на Мотт-стрит. А если ценность явления измеряется нуждой в нём, то не остается никаких сомнений в качестве солнечного света на Мотт-стрит.
Сидя на сетке и не сводя глаз с двери в заборе, Тони погрузился в раздумье. Почему все так враждебно относятся к волшебной двери? То-есть все, кроме старого доктора Форбса. В сущности, они ведут себя так, будто боятся её. Но почему бы им бояться?
Сам Тони боялся многого. И сейчас, греясь на солнышке на заднем дворе, он вслух обсуждал сам с собой, чего он боится сильнее всего.
— Майка Грэди с Хустон-стрит? Да, боюсь. И потом, он ведь больше меня, на год старше. Мисс Клэтт? Кажется, не боюсь. — И он действительно не боялся мисс Клэтт. — Маму и папу? — Тони с радостью обнаружил, что их он совсем не боится. — А темноты боюсь? Да, и мне не стыдно признаться в этом… А стать взрослым? — спросил он себя и призадумался. Боялся ли он стать взрослым? — Хочу ли я вырасти? — снова спросил он вслух и, не находя ответа,недоумевающе помотал головой. — А почему бы мне не хотеть вырасти? — громко задал он себе еще один вопрос. Но от горькой правды никуда не уйдешь — он не хотел стать взрослым.
Тони пожал плечами и поглядел на свою волшебную дверь — старую, видавшую виды дощатую дверь, выкрашенную зеленой краской. Сейчас дверь вся сверкала на солнце и обещала столько чудес…
Отмахнувшись от мыслей, от которых у него даже голова разболелась, Тони вскочил, несколько раз подпрыгнул на пружинах сетки и, раскачавшись, перепрыгнул на старую печку; соскочив с нее, он обежал груду ржавых консервных банок, отбросив одну, как всегда, ногой, оттолкнул разбитый туалетный столик и обежал вокруг холодильника. Потом промчался по ржавой трубе и одним прыжком очутился на сиденье фургона. Оттуда он перескочил на старый диван; на нем тоже подпрыгнул три раза — и вот он у волшебной двери, распахивает её и мчится на другой двор.
Двор был залит ярким утренним солнцем. Тони уселся на старой кроватной сетке. Пусть поэты говорят всё что угодно, но весеннее солнце на заднем дворе на Мотт-стрит, пожалуй, светит ярче, чем в любом другом уголке земного шара; ведь, наверно, нигде больше солнце так не украшает жизнь, как на заднем дворе на Мотт-стрит. А если ценность явления измеряется нуждой в нём, то не остается никаких сомнений в качестве солнечного света на Мотт-стрит.
Сидя на сетке и не сводя глаз с двери в заборе, Тони погрузился в раздумье. Почему все так враждебно относятся к волшебной двери? То-есть все, кроме старого доктора Форбса. В сущности, они ведут себя так, будто боятся её. Но почему бы им бояться?
Сам Тони боялся многого. И сейчас, греясь на солнышке на заднем дворе, он вслух обсуждал сам с собой, чего он боится сильнее всего.
— Майка Грэди с Хустон-стрит? Да, боюсь. И потом, он ведь больше меня, на год старше. Мисс Клэтт? Кажется, не боюсь. — И он действительно не боялся мисс Клэтт. — Маму и папу? — Тони с радостью обнаружил, что их он совсем не боится. — А темноты боюсь? Да, и мне не стыдно признаться в этом… А стать взрослым? — спросил он себя и призадумался. Боялся ли он стать взрослым? — Хочу ли я вырасти? — снова спросил он вслух и, не находя ответа,недоумевающе помотал головой. — А почему бы мне не хотеть вырасти? — громко задал он себе еще один вопрос. Но от горькой правды никуда не уйдешь — он не хотел стать взрослым.
Тони пожал плечами и поглядел на свою волшебную дверь — старую, видавшую виды дощатую дверь, выкрашенную зеленой краской. Сейчас дверь вся сверкала на солнце и обещала столько чудес…
Отмахнувшись от мыслей, от которых у него даже голова разболелась, Тони вскочил, несколько раз подпрыгнул на пружинах сетки и, раскачавшись, перепрыгнул на старую печку; соскочив с нее, он обежал груду ржавых консервных банок, отбросив одну, как всегда, ногой, оттолкнул разбитый туалетный столик и обежал вокруг холодильника. Потом промчался по ржавой трубе и одним прыжком очутился на сиденье фургона. Оттуда он перескочил на старый диван; на нем тоже подпрыгнул три раза — и вот он у волшебной двери, распахивает её и мчится на другой двор.
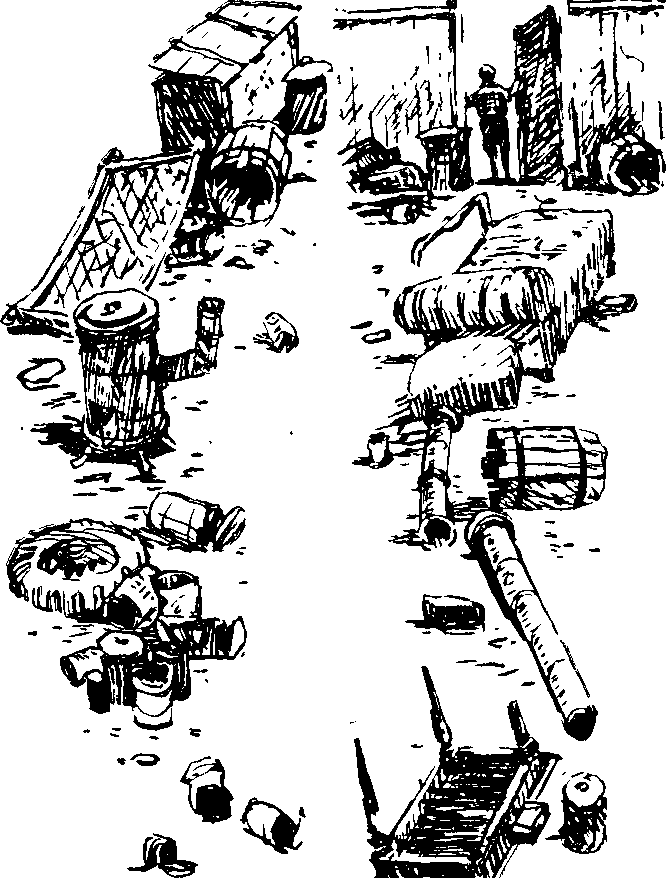
* * *
В свои приемные часы — с двенадцати до двух часов дня — старый доктор Форбс обычно принимал более двадцати больных. Иногда его даже расстраивало, что практика с годами росла и ему приходилось работать всё больше. Его доходы не увеличивались, но число больных явно росло. — А хуже всего, — часто говорил он себе, — что я не становлюсь умнее. По правде говоря, старому доктору иногда казалось, что происходит как раз обратное, потому что всё чаще он думал о волшебной двери Тони Мак-Тэвиш Ливи, всё чаще и чаще ловил себя на том, что погружается в мир фантазий маленького мальчика. Он думал об этом и сегодня, когда пробило два часа и помогавшая ему медицинская сестра объявила, что в приемной остался лишь один маленький курносый мальчган. — Он болен? — спросил доктор Форбс. — По-моему, он просто запыхался от быстрого бега. Похоже, что он пробежал целую милю, а больному это, пожалуй, не под силу. — Ну-ну, не будем спорить. Пошлите его ко мне, — ответил доктор. И он ничуть не удивился, когда в комнату вошел Тони, пряча руки за спиной и всё ещё немного задыхаясь от быстрого бега. Старый доктор почему-то воображал, что теерь Тони ничем уже не может его удивить. Но, как вы увидите, он глубоко заблуждался. — Что с тобой? Заболел? — спросил доктор Форбс. — Нет… — А что, разве сегодня праздник? — Святого лентяя, — честно ответил Тони. — Что там у тебя за спиной? Пара клюшек для травяного хоккея? — Я не смог раздобыть их, — сказал Тони, — зато вот что я вам принес. — И он протянул доктору Форбсу украшенный оленьими рогами головной убор великого вождя Ирокезской лиги. Куда только девалась выдержка и полная достоинства осанка почтенного, пожилого врача! Очки сползли с его носа, и он едва успел подхватить их на лету и прочно водрузить на лоб. Точно скряга, внезапно очутившийся перед уходящей ввысь башней из золотых монет, он протянул свои пухлые задрожавшие руки к убору, выхватил его у Тони и, совсем потеряв голову от восторга, принялся судорожно вертеть его из стороны в сторону. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что это не подделка. Деревянные части убора были сделаны из высушенного на солнце орешника и отполированы до того, что стали походить на камень. Они соединялись друг с другом кусочками резной кости, и все вместе было наклеено на змеиную кожу. Обесцвеченные, почти белые, оленьи рога прикреплялись к дереву при помощи какой-то смолы и костяных зажимов. Убор украшали кусочки цветного камня.
Доктор вновь и вновь поворачивал его в руках, а затем поднес к окну, чтобы осмотреть ещё внимательнее на свету.
Наконец он обернулся к Тони:
— Где ты раздобыл это, Тони Мак-Тэвиш Ливи?
— Просто взял, — помедлив, ответил Тони.
— То-есть украл?
Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что это не подделка. Деревянные части убора были сделаны из высушенного на солнце орешника и отполированы до того, что стали походить на камень. Они соединялись друг с другом кусочками резной кости, и все вместе было наклеено на змеиную кожу. Обесцвеченные, почти белые, оленьи рога прикреплялись к дереву при помощи какой-то смолы и костяных зажимов. Убор украшали кусочки цветного камня.
Доктор вновь и вновь поворачивал его в руках, а затем поднес к окну, чтобы осмотреть ещё внимательнее на свету.
Наконец он обернулся к Тони:
— Где ты раздобыл это, Тони Мак-Тэвиш Ливи?
— Просто взял, — помедлив, ответил Тони.
— То-есть украл?
 — Нет, взял, — упрямо повторил Тони.
— Хотел бы я знать, где на белом свете можно взять такую штуку?
— Я взял его в Гилдхолле! — выпалил Тони, и слова полились бурным потоком. — Я пришел к Питеру Ван-Добену, и мы хотели пойти к индейцам, но отец послал его в Гилдхолл передать плату за охрану, и я пошел с ним. Мы прошли через поселок, и Питер зашел в Гилдхолл внести свои три талера, а я заглянул в комнату заседаний совета, а там на большом столе, за которым сидят бургомистры, лежала эта корона — её оставил старый индейский вождь в залог за стальной военный шлем, и я взял её. В комнате никого не было, никто меня не видел, и я взял её. Не знаю почему, но я взял. Я знал, что она вам понравится. Я хотел только показать её вам, а потом отнести назад. Что же тут плохого? Но они, наверно, заметили, что она исчезла, потому что караульный поднял крик, и я побежал один, без Питера, я побежал мимо стены и спрятался в конюшне Гофмана, а потом бежал всю дорогу, почти до самой двери. Но Питер, наверно, рассказал про меня, потому что прискакали двое верховых, и мне пришлось убежать через дверь, и теперь я не могу вернуться туда, я никогда больше не смогу вернуться…
И Тони заплакал.
— Садись, — сказал доктор Форбс.
Тони сел на жесткий металлический табурет — такие табуреты всегда стояли в кабинетах врачей — и продолжал плакать, а стрый доктор Форбс терпеливо ждал. Наконец Тони успокоился.
— Вот что, Тони, — сказал доктор, — я больше не буду расспрашивать тебя, где ты взял эту корону: я ещё не совсем потерял рассудок и понимаю, что ничего более путного ты мне не расскажешь. Я не собираюсь также обсуждать, следует ли возвращать её людям, которые перестали существовать несколько столетий тому назад… Знаешь что? Съездим-ка мы с тобой к моему другу Айку.
Это внезапное решение было подсказано не благоразумием, а, скорее, отчаянием. Сейчас доктору Форбсу совсем не хотелось оставаться наедине со своими мыслями: он им не доверял. Он хотел, чтобы корону осмотрел человек с пытливым и проницательным глазом, способный высказать веское суждение о ней, — а когда речь шла об индейцах, трудно было найти человека, более трезвого и сведущего, чем Айк Гилмен.
— Кстати, — обратился доктор к Тони, — ты был когда-нибудь в Музее американских индейцев?
Тони покачал головой.
— Не был? Ладно, сейчас мы туда поедем.
С этими словами доктор Форбс схватил целый ворох папиросной бумаги и неумело, но старательно завернул в неё корону; потом надел свое черное, позеленевшее от старости пальто, нахлобучил на лысину котелок и вышел с Тони на улицу.
— Нет, взял, — упрямо повторил Тони.
— Хотел бы я знать, где на белом свете можно взять такую штуку?
— Я взял его в Гилдхолле! — выпалил Тони, и слова полились бурным потоком. — Я пришел к Питеру Ван-Добену, и мы хотели пойти к индейцам, но отец послал его в Гилдхолл передать плату за охрану, и я пошел с ним. Мы прошли через поселок, и Питер зашел в Гилдхолл внести свои три талера, а я заглянул в комнату заседаний совета, а там на большом столе, за которым сидят бургомистры, лежала эта корона — её оставил старый индейский вождь в залог за стальной военный шлем, и я взял её. В комнате никого не было, никто меня не видел, и я взял её. Не знаю почему, но я взял. Я знал, что она вам понравится. Я хотел только показать её вам, а потом отнести назад. Что же тут плохого? Но они, наверно, заметили, что она исчезла, потому что караульный поднял крик, и я побежал один, без Питера, я побежал мимо стены и спрятался в конюшне Гофмана, а потом бежал всю дорогу, почти до самой двери. Но Питер, наверно, рассказал про меня, потому что прискакали двое верховых, и мне пришлось убежать через дверь, и теперь я не могу вернуться туда, я никогда больше не смогу вернуться…
И Тони заплакал.
— Садись, — сказал доктор Форбс.
Тони сел на жесткий металлический табурет — такие табуреты всегда стояли в кабинетах врачей — и продолжал плакать, а стрый доктор Форбс терпеливо ждал. Наконец Тони успокоился.
— Вот что, Тони, — сказал доктор, — я больше не буду расспрашивать тебя, где ты взял эту корону: я ещё не совсем потерял рассудок и понимаю, что ничего более путного ты мне не расскажешь. Я не собираюсь также обсуждать, следует ли возвращать её людям, которые перестали существовать несколько столетий тому назад… Знаешь что? Съездим-ка мы с тобой к моему другу Айку.
Это внезапное решение было подсказано не благоразумием, а, скорее, отчаянием. Сейчас доктору Форбсу совсем не хотелось оставаться наедине со своими мыслями: он им не доверял. Он хотел, чтобы корону осмотрел человек с пытливым и проницательным глазом, способный высказать веское суждение о ней, — а когда речь шла об индейцах, трудно было найти человека, более трезвого и сведущего, чем Айк Гилмен.
— Кстати, — обратился доктор к Тони, — ты был когда-нибудь в Музее американских индейцев?
Тони покачал головой.
— Не был? Ладно, сейчас мы туда поедем.
С этими словами доктор Форбс схватил целый ворох папиросной бумаги и неумело, но старательно завернул в неё корону; потом надел свое черное, позеленевшее от старости пальто, нахлобучил на лысину котелок и вышел с Тони на улицу.
* * *
Когда Тони увидел, что ему предстоит прокатиться на фордике доктора Форбса, модель «Т», слезы его мгновенно высохли и все страхи были забыты. Ведь его ждало такое удовольствие! Ему не часто случалось ездить на автомобиле, да ещё таком шикарном, как форд, модель «Т». Правда, автомобиль был старый, но Тони ощущал в машине то же ласковое дружелюбие и достоинство, что и в её хозяине. Доктор Форбс любил свою машину; фордик напоминал ему о тех временах, когда он ездил в запряженной лошадью бричке. Фордик этой марки можно было считать и открытым и закрытым. К тому же он был высокий, как цирковой, клоун на ходулях Для езды в темноте у него были большие медные фары. Когда доктор бросал в мотор горсть графитового порошка — именно это, а не заправка бачка бензином, заставляло его вспоминать, как он задавал корм лошади. Пока доктор ручкой заводил мотор, Тони забрался в машину. Доктор крутил ручку очень ловко, но когда мотор наконец заводился, он так поспешно бросался на место, что обязательно по дороге терял свой котелок, а пока он гонялся за ним и, поймав, наконец усаживался на шоферское сиденье, мотор, деликатно и стыдливо покашляв, затихал. — Знаешь, Тони, когда-нибудь я оставлю котелок в машине и буду заводить мотор без него, — сказал доктор Форбс. — Но тогда я уже буду не очень хорошим доктором: какой же может быть доктор без котелка, верно? Тони, с увлечением следивший за этой маленькой драмой, понимающе кивнул. Это так понравилось доктору, что он тут же дал себе клятву: он вынесет все муки неудовлетворенного любопытства, но никогда, никогда больше не спросит Тони, где он взял ирокезскую корону. В глубине души доктор подозревал, что как бы долго и серьезно он ни расспрашивал Тони, ответ будет неизменным. Если бы речь шла о чём-либо другом, а не об этой короне, можно было бы подозревать воровство. Но Тони принес единственный в Соединенных Штатах предмет, который никто не мог украсть, потому что он не существовал, — а как можно украсть то, что не существует? От этих мыслей у доктора голова шла кругом, что совсем не пристало почтенному домашнему врачу, но наконец доктор Форбс отогнал их от себя и решил насладиться прогулкой наравне с Тони. А Тони поистине наслаждался этой поездкой. Ведь он так редко ездил на автомобиле! Прогулка на гондоле по Венеции вряд ли порадовала бы его больше, чем их путешествие по Хустон-стрит и Шестой авеню — это было задолго до того, как она стала называться проспектом Америки. Вот по-весеннему свежий Сентрал-парк, весь в молодой нежнозеленой листве и золотисто-желтых весенних цветах. Тут доктор Форбс, как бы невзначай, спросил: — Совсем как там, за дверью, правда, Тони? Тони, улыбаясь, кивнул; всё равно ведь он не мог никому передать словами, каким волшебно-зеленым был когда-то остров Манхэттен; даже весенний Сентрал-парк не мог сравниться с ним! Через Сто десятую улицу они выехали на набережную Риверсайд-драйв и поехали вдоль широкой, красивой, сверкающей на солнце реки Гудзон. У могилы Гранта фордик вел себя весьма благопристойно, и его мотор покашливал совеем тихонько. Тони с нескрываемым восхищением смотрел на красивые дома и просторную площадь, которая открылась перед ним на углу Сто пятьдесят пятой улицы. — Приехали, — сказал доктор Форбс, направляя фордик на стоянку. — Теперь мы храбро войдем в логово старого льва. Если Айк Гилмен вдруг проявит человеческие чувства, не попадайся на эту удочку, мой мальчик. Говорить буду я, а когда наступит твой черёд, следуй моим указаниям. Он вылез из фордика и, повернувшись к Тони, добавил, словно это только что пришло ему в голову: — Знаешь… на твоем месте я не стал бы говорить об этой двери… Нам с тобой это понятно, но Айк Гилмен… — Хорошо, — сказал Тони. Они торжественно пожали друг другу руки, а старый доктор Форбс даже подмигнул Тони и исполнил несколько па какого-то старинного танца. — Тони, — произнес он, — ты, наверно, и не подозреваешь, что сегодняшний день бдет самым счастливым в моей жизни!* * *
Они сидели в кабинете хранителя музея. У Тони кружилась голова от всего того, что он увидел, пока они дошли до этой комнаты. Никогда в жизни он не подумал бы, что музей может быть таким чудесным местом — где что ни шаг, то новое приключение. Если ему разрешат, он скоро придет сюда опять, побродит здесь несколько часов и всё, всё осмотрит. В его уме стала зарождаться совершенно новая мысль — может быть, на свете существует не одна волшебная дверь? Но сейчас, когда он сидел в большом кресле в просторном солнечном кабинете хранителя музея, заставленном предметами, которые еще не нашли себе места ни на стенах, ни в витринах, ни в подвале и, казалось, колебались, какой же выбор им сделать, Тони некогда было думать об этом. Ведь вокруг красовались боевые головные уборы из перьев, большие луки, барабаны и палицы, мокасины из оленьей кожи, маленькие каноэ из бересты, пояса, расшитые раковинами, томагавки, трубки мира. А вот доктор Форбс как будто ничуть не интересовался всем этим — он сидел, видимо очень довольный собой, нежно, как ребенка, укачивая на коленях завернутый в папиросную бумагу ирокезский головной убор.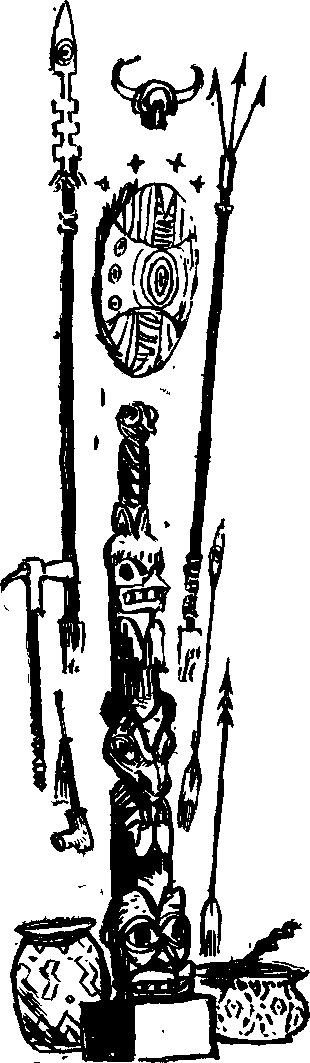 Хозяин кабинета был высокий, худой, с длинными руками и ногами и бледноголубыми глазами.
Доктор Форбс представил ему Тони без всяких околичностей:
— Мой друг и коллега Тони Мак-Тэвиш Ливи.
Айк Гилмен мигнул раза два, кивнул и с самым серьезным видом пожал Тони руку. Чем-то он походил на доктора и чем-то отличался от него. Но Тони сразу почувствовал себя с ним легко и просто, и страх, шевельнувшийся было в нё1 м, быстро рассеялся.
— Вам, врачам, — сказал Айк Гилмен, когда знакомство состоялось, — или, вернее, таким шарлатанам, как ты, видно, нечего делать, раз ты позволяешь себе отнимать у меня время не только по вечерам, но и днем.
— Лучше уж я отниму у тебя время — всё равно ты его зря тратишь один в этом морге, — ответил старый доктор.
— В этом морге, как тебе угодно называть его, хранятся сокровища ушедшей навсегда эпохи и великого народа.
— Подумаешь!
— Что?..
— Я сказал: подумаешь! Разве непонятно?
— К чему это ты клонишь, старый козёл?
— Сокровища! — воскликнул доктор Форбс. — Какие у тебя тут сокровища! Набор изъеденных молью древностей. И они даже не единственные в своем роде. Луки, стрелы, палицы, расшитые раковинами пояса! Да на Западе в любом крошечном музее для туристов есть всё это.
Хозяин кабинета был высокий, худой, с длинными руками и ногами и бледноголубыми глазами.
Доктор Форбс представил ему Тони без всяких околичностей:
— Мой друг и коллега Тони Мак-Тэвиш Ливи.
Айк Гилмен мигнул раза два, кивнул и с самым серьезным видом пожал Тони руку. Чем-то он походил на доктора и чем-то отличался от него. Но Тони сразу почувствовал себя с ним легко и просто, и страх, шевельнувшийся было в нё1 м, быстро рассеялся.
— Вам, врачам, — сказал Айк Гилмен, когда знакомство состоялось, — или, вернее, таким шарлатанам, как ты, видно, нечего делать, раз ты позволяешь себе отнимать у меня время не только по вечерам, но и днем.
— Лучше уж я отниму у тебя время — всё равно ты его зря тратишь один в этом морге, — ответил старый доктор.
— В этом морге, как тебе угодно называть его, хранятся сокровища ушедшей навсегда эпохи и великого народа.
— Подумаешь!
— Что?..
— Я сказал: подумаешь! Разве непонятно?
— К чему это ты клонишь, старый козёл?
— Сокровища! — воскликнул доктор Форбс. — Какие у тебя тут сокровища! Набор изъеденных молью древностей. И они даже не единственные в своем роде. Луки, стрелы, палицы, расшитые раковинами пояса! Да на Западе в любом крошечном музее для туристов есть всё это.
 — И ребенку позволяют водить с тобой знакомство! — воскликнул хранитель музея и повернулся к Тони: — Извини меня, мальчик, но у твоего коллеги не очень-то много ума и еще меньше такта.
— Такта! — презрительно усмехнулся доктор Форбс.
— А что у тебя в этом пакете? — спросил Айк Гилмен.
— Ничего особенного. Так, небольшая безделушка, которую мы с коллегой сейчас изучаем.
— И которую ты совершенно случайно захватил с собой, а? — съязвил Гилмен.
— Да, да, чисто случайно!
— Нет, старый козел, меня не проведешь! Я тебя знаю. Привел с собой ребенка, чтобы усыпить мою осторожность, а потом постараешься подсунуть мне какую-нибудь дешевую подделку под старинный военный головной убор, да ещё будешь уверять, что его носил сам Сидячий Бык. Не выйдет! Тащи-ка его обратно к старьевщику, у которого купил.
— Военный головной убор? Да что ты, бог с тобой! — с невинным видом произнес доктор Форбс. — Ты думаешь, я хочу тебе что-нибудь продать?
— Пока что ты мне ещё ничего не подарил.
— Тони, нам, кажется, лучше уйти, — обиделся доктор. — Мой друг, мистер Гилмен, ведет себя по меньшей мере невежливо.
Тони, совершенно ошеломленный этой перепалкой, поднялся было со своего кресла, но мистер Гилмен знаком велел ему снова сесть и, угрожающе помахивая длинным костлявым пальцем перед носом у доктора, громовым голосом спросил:
— Что у тебя в этом пакете?
— Ничего. Абсолютно ничего. — С этими словами доктор Форбс развернул корону и поставил её на стол хранителя музея. — Так, пустяки.
Больше всего Тони поразило то, что хранитель музея повел себя точно так же, как доктор, когда тот впервые увидел корону. Сначала он лишился речи и, несмотря на все усилия, не мог вымолвить ни слова. Отказавшись от бесплодных попыток сказать что-либо, он склонился над столом и стал так пристально смотреть на корону, что Тони испугался, как бы у него глаза не вылезли из орбит. Потом осторожно коснулся её. Потом схватил, перевернул и принялся жадно осматривать. Потом, отбросив всякую солидность, подобающую человеку, сорок лет жизни отдавшему ученой деятельности, бросился к дверям кабинета, и его громовой голос разорвал торжественную тишину залов музея, которую ещё никогда никто не нарушал столь бесцеремонно.
— Эткинс! — кричал он. — Мисс Моррисон! Голдстейн!
Через несколько минут все сотрудники музея столпились в кабинете вокруг головного убора ирокезских великих вождей. А старый доктор Форбс, преспокойно сидя в своем кресле, тихонько посмеивался и подмигивал Тони.
— И ребенку позволяют водить с тобой знакомство! — воскликнул хранитель музея и повернулся к Тони: — Извини меня, мальчик, но у твоего коллеги не очень-то много ума и еще меньше такта.
— Такта! — презрительно усмехнулся доктор Форбс.
— А что у тебя в этом пакете? — спросил Айк Гилмен.
— Ничего особенного. Так, небольшая безделушка, которую мы с коллегой сейчас изучаем.
— И которую ты совершенно случайно захватил с собой, а? — съязвил Гилмен.
— Да, да, чисто случайно!
— Нет, старый козел, меня не проведешь! Я тебя знаю. Привел с собой ребенка, чтобы усыпить мою осторожность, а потом постараешься подсунуть мне какую-нибудь дешевую подделку под старинный военный головной убор, да ещё будешь уверять, что его носил сам Сидячий Бык. Не выйдет! Тащи-ка его обратно к старьевщику, у которого купил.
— Военный головной убор? Да что ты, бог с тобой! — с невинным видом произнес доктор Форбс. — Ты думаешь, я хочу тебе что-нибудь продать?
— Пока что ты мне ещё ничего не подарил.
— Тони, нам, кажется, лучше уйти, — обиделся доктор. — Мой друг, мистер Гилмен, ведет себя по меньшей мере невежливо.
Тони, совершенно ошеломленный этой перепалкой, поднялся было со своего кресла, но мистер Гилмен знаком велел ему снова сесть и, угрожающе помахивая длинным костлявым пальцем перед носом у доктора, громовым голосом спросил:
— Что у тебя в этом пакете?
— Ничего. Абсолютно ничего. — С этими словами доктор Форбс развернул корону и поставил её на стол хранителя музея. — Так, пустяки.
Больше всего Тони поразило то, что хранитель музея повел себя точно так же, как доктор, когда тот впервые увидел корону. Сначала он лишился речи и, несмотря на все усилия, не мог вымолвить ни слова. Отказавшись от бесплодных попыток сказать что-либо, он склонился над столом и стал так пристально смотреть на корону, что Тони испугался, как бы у него глаза не вылезли из орбит. Потом осторожно коснулся её. Потом схватил, перевернул и принялся жадно осматривать. Потом, отбросив всякую солидность, подобающую человеку, сорок лет жизни отдавшему ученой деятельности, бросился к дверям кабинета, и его громовой голос разорвал торжественную тишину залов музея, которую ещё никогда никто не нарушал столь бесцеремонно.
— Эткинс! — кричал он. — Мисс Моррисон! Голдстейн!
Через несколько минут все сотрудники музея столпились в кабинете вокруг головного убора ирокезских великих вождей. А старый доктор Форбс, преспокойно сидя в своем кресле, тихонько посмеивался и подмигивал Тони.
* * *
Час спустя доктор, сохраняя всё то же спокойствие и невозмутимость, ласково улыбался кричавшему на него Айку Гилмену. — Ты не доктор! — кричал Гилмен. — Ты не ученый! Ты разбойник с большой дороги! — Хочешь — бери, не хочешь — не надо, — мягко отвечал доктор. — Цена — семьсот пятьдесят долларов и ни цента меньше. А там как хочешь. — Да пойми ты, у нашего музея нет таких фондов! — У всех музеев вечно нет фондов. Я назначил очень низкую цену. Меня даже мучает совесть — не обманул ли я моего коллегу Тони Мак-Тэвиш Ливи из дружеских чувств к тебе. Давай не тратить зря наше и твое время. Ведь есть и другие музеи. И Музей естественной истории, и Смитсоновский… Наконец, есть частные коллекцинеры; да, пожалуй, я и сам могу купить его. Неплохо быть владельцем единственного в мире головного убора ирокезских великих вождей. Кажется, я так и сделаю. В конце концов, и дружба имеет свои пределы. — Дружба! — фыркнул Гилмен. — Пошли, Тони! — скомандовал доктор Форбс. — Подождите! — вскрикнул Гилмен, схватив корону, снова и снова жадно осматривая её. — Очень похоже на тебя — отдать ее Джонсону в Музей естественной истории. А ведь мы с тобой дружим уже полстолетия! Нельзя же так. Скажи мне хотя бы, где ты раздобыл его. — Я уже сказал: у моего коллеги Тони Мак-Тэвиш Ливи. — Ты уже сказал! А откуда я знаю, что он не поддельный? — За это тебе платят жалованье, — невозмутимо ответил доктор Форбс. — Когда человек болен, я это сразу вижу. Если ты не видишь, что это настоящая корона великого вождя Ирокезской лиги, — грош тебе цена. Как бы не слыша этих слов, Гилмен повернулся к Тони: — Где ты взял эту корону, сынок? — Я не могу вам это сказать, сэр, — ответил Тони. — То-есть ты не знаешь? — То-есть я посоветовал ему не говорить, — сладким голосом произнес доктор Форбс. — Что ты на это скажешь? — А может быть, она краденая? — Откуда е могли украсть? — с неумолимой логикой ответил доктор вопросом на вопрос. — Если бы такая штука существовала где-нибудь в Америке, ты знал бы об этом. А если она не существует — её нельзя украсть, не правда ли? — Но ведь она существует! — закричал хранитель музея. — Разумеется, — улыбнулся доктор Форбс. — Она существует! Вот она! — продолжал кричать Гилмен, хватая головной убор. — Весьма логично. Но меня ждут больные, а Тони пора домой. Нам надо идти. — Пятьсот! — взмолился мистер Гилмен. — Айк, — серьезно сказал доктор Форбс, — наша цена — семьсот пятьдесят долларов. Ни центом больше, ни центом меньше, а там — как знаешь. — Ну ладно, грабитель… — пробормотал Гилмен. — Твоя взяла. Но теперь корона моя. Не смей даже прикасаться к ней! — Выпиши чек на имя Тони Мак-Тэвиш Ливи, — сказал доктор Форбс, мило улыбаясь. И вот они снова едут домой в старом фордике, и, глядя прямо перед собой, доктор Форбс говорит: — Один вопрос, сынок. Мы с тобой стали вроде как компаньонами, а хорошие компаньоны должны всегда говорить друг другу правду. Я хочу все-таки знать, не украл ли ты эту корону. Конечно, не у человека, умершего триста лет назад, а у кого-нибудь, кто живет и здравствует сейчас. Ты мне скажешь правду? — Нет, не украл, — ответил Тони. — Вот и хорошо. Может быть, когда-нибудь ты расскажешь мне об этом поподробнее. А сейчас я больше не буду расспрашивать тебя. Но теперь у тебя много денег, и это может привести к осложнениям. Вот что: отвезу-ка я тебя домой и поговорю с твоими родителями. — Большое вам спасибо, доктор! — ответил Тони. — И знаете что, — продолжал он с запинкой: — вы мой лучший друг, такого друга у меня никогда не было. Даже не знаю, как вас благодарить.
Доктор широко улыбнулся.
— И не надо благодарить, — сказал он. — Никогда в жизни я не получал столько удовольствия. Но знаешь, Тони, мне почему-то кажется, что ты больше не попадешь туда, за свою волшебную дверь.
Как ни странно, но Тони тоже так думал.
— Большое вам спасибо, доктор! — ответил Тони. — И знаете что, — продолжал он с запинкой: — вы мой лучший друг, такого друга у меня никогда не было. Даже не знаю, как вас благодарить.
Доктор широко улыбнулся.
— И не надо благодарить, — сказал он. — Никогда в жизни я не получал столько удовольствия. Но знаешь, Тони, мне почему-то кажется, что ты больше не попадешь туда, за свою волшебную дверь.
Как ни странно, но Тони тоже так думал.
* * *
Пожалуй, можно считать, что на этом и кончается история волшебной двери, хотя Тони, вспоминая обо всём происшедшем, сказал бы, что она тут только и начинается. Что ж, это решай ты сам, читатель. Видишь ли, оказалось, что Тони доставил много радости двум самым дорогим для него людям — матери и отцу. И дело тут вовсе не в деньгах. Деньги сами по себе еще ничего не решают. Дело в новой стороне характера и поведения Тони. Конечно, деньги тоже очень пригодились. Большую часть их отложили для того, чтобы заплатить за ученье Тони в колледже, а на остальные мать Тони, её сестра и двое племянников отдохнули две недели за городом.
Эти две недели Тони оставался с отцом, и за это время они подружились как-то по-новому, между ними возникла такая же дружба, как между Тони и старым доктором Форбсом. В Тони что-то менялось. Доктора скажут вам, что он становился взрослым или что он переставал быть ребенком, но лучше назвать это ростом, развитием, чудесной переменой, которая делает жизнь прекрасной и увлекательной. Тони начал понимать, что жизнь — борьба и что в этой борьбе много радости и удовлетворения — больше, чем в мире детских фантазий.
Конечно, всё это он понял и осознал не сразу, но начало было положено, а последовавшая вскоре смерть старого доктора Форбса заставила Тони серьезнее отнестись к жизни. Хотя доктор Форбс был стар, его смерть глубоко потрясла мальчика: впервые он терял близкого, горячо любимого человека. И тогда он принял решение — во всём быть таким, каким был старый доктор Форбс.
Так вот, читатель, Тони так и не рассказал доктору Форбсу всю правду о короне индейских вождей… а впрочем, может быть, и рассказал. Решай сам. Я же хочу рассказать о том, как спустя неделю после смерти доктора Форбса Тони сидел на заднем дворе своего дома на Мотт-стрит и вдруг почувствовал, что ему хочется ещё хоть раз пройти через волшебную дверь. Он так и сделал: подошел к двери, открыл её — и очутился во дворе соседнего дома, среди хлама и мусора. Несколько раз он повторял свою попытку, но всё понапрасну. Волшебная дверь перестала быть волшебной, она стала обыкновенной калиткой.
Как раз во время одной из безуспешных попыток Тони снова очутиться за волшебной дверью во двор вошла мисс Клэтт. Увидев её, Тони и удивился и немного встревожился: он больше не учился в её классе и не мог понять, зачем она пришла.
— Твоя мама сказала, что ты во дворе, — начала мисс Клэтт.
— Угу!
— Мне захотелось повидаться с тобой, Тони. — Она не могла бы толком объяснить почему, она и сама не очень понимала, почему Тони, доводивший её в классе до исступления, несмотря на это, был ей по душе. Она была его учительницей, а ей захотелось стать ему другом.
— Угу! — снова промычал Тони.
Тогда мисс Клэтт прямо перешла к делу:
— Давай будем друзьями, Тони! Согласен?
— Да.
Полгода назад это было бы невозможно, а сейчас стало вполне естественно. И Тони вдруг понял, что вырасти и стать взрослым совсем не страшно, а, наоборот, очень интересно.
— Можно мне сесть где-нибудь? — спросила мисс Клэтт.
— Я всегда сижу там. — Тони кивком показал на старую сетку от кровати. — Но…
— Я попробую, — сказала мисс Клэтт и, к удивлению Тони, действительно уселась на сетку.
Она вдруг показалась Тони молоденькой и хорошенькой — словом, совсем не такой, какой в представлении Тони должна быть учительница. (Это тоже было одним из признаков того, что Тони становился взрослым.)
Они славно провели время: болтали о самых различных вещах и ни разу не поспорили. На прощанье мисс Клэтт спросила:
— Ты будешь иногда навещать меня, Тони?
— Буду, — сказал Тони — и выполнил своё обещание.
После этого Тони больше не пытался проникнуть через волшебную дверь в чудесную страну далекого прошлого. Ему самому уже не верилось, что он когда-то бывал там, и постепенно он почти забыл о своих замечательных приключениях в старом Нью-Йорке.
Но хоть, может быть, это и странно — волшебная дверь оставила свой след. Пока Тони рос и отстаивал свое право стать, подобно своему старому доброму другу, доктором, он узнал, что жизнь, настоящая жизнь и состоит в том, чтобы открывать одну за другой волшебные двери. Только мужественным людям это удается. Некоторые двери не откроешь ни ключом, ни ручкой — их нужно взламывать, а для этого требуется величайшее мужество, потому что это двери в стенах невежества и предрассудков, страха и несправедливости. Но если у человека есть мужество, чтобы пройти через эти двери, его ждет не меньшая награда, чем та, которую получил мальчик, прошедший через свою первую волшебную дверь. Ибо есть двери, ведущие к таким удивительным и прекрасным приключениям, о которых маленький мальчик и мечтать не мог…
А что касается правды о первой двери и о том, откуда взялся ирокезский головной убор, то лучше спросите об этом самого Тони. Впрочем, это было уж очень давно, и он, наверно, улыбнется и ответит, что этой тайны никому не откроет.
Но тебе, читатель, ничто не мешает, если хочешь, строить любые догадки, и пора тебе знать, как в своё время узнал Тони, что самые замечательные чудеса совешаются разумными людьми, а не при помощи волшебства и черной магии. Кстати, я ничуть бы не удивился, узнав, что Тони на все свои центы, которые собирал долго и тщательно, купил одну вещь в лавке на Бауэри-стрит, где торгуют всяким старьем. А как туда попала эта вещь? Ну, если ты знаешь Нью-Йорк — ты знаешь также, что в лавчонку на Бауэри-стрит может попасть всё что угодно.
Но это только догадка. Тони хорошо хранит свою тайну.
Видишь ли, оказалось, что Тони доставил много радости двум самым дорогим для него людям — матери и отцу. И дело тут вовсе не в деньгах. Деньги сами по себе еще ничего не решают. Дело в новой стороне характера и поведения Тони. Конечно, деньги тоже очень пригодились. Большую часть их отложили для того, чтобы заплатить за ученье Тони в колледже, а на остальные мать Тони, её сестра и двое племянников отдохнули две недели за городом.
Эти две недели Тони оставался с отцом, и за это время они подружились как-то по-новому, между ними возникла такая же дружба, как между Тони и старым доктором Форбсом. В Тони что-то менялось. Доктора скажут вам, что он становился взрослым или что он переставал быть ребенком, но лучше назвать это ростом, развитием, чудесной переменой, которая делает жизнь прекрасной и увлекательной. Тони начал понимать, что жизнь — борьба и что в этой борьбе много радости и удовлетворения — больше, чем в мире детских фантазий.
Конечно, всё это он понял и осознал не сразу, но начало было положено, а последовавшая вскоре смерть старого доктора Форбса заставила Тони серьезнее отнестись к жизни. Хотя доктор Форбс был стар, его смерть глубоко потрясла мальчика: впервые он терял близкого, горячо любимого человека. И тогда он принял решение — во всём быть таким, каким был старый доктор Форбс.
Так вот, читатель, Тони так и не рассказал доктору Форбсу всю правду о короне индейских вождей… а впрочем, может быть, и рассказал. Решай сам. Я же хочу рассказать о том, как спустя неделю после смерти доктора Форбса Тони сидел на заднем дворе своего дома на Мотт-стрит и вдруг почувствовал, что ему хочется ещё хоть раз пройти через волшебную дверь. Он так и сделал: подошел к двери, открыл её — и очутился во дворе соседнего дома, среди хлама и мусора. Несколько раз он повторял свою попытку, но всё понапрасну. Волшебная дверь перестала быть волшебной, она стала обыкновенной калиткой.
Как раз во время одной из безуспешных попыток Тони снова очутиться за волшебной дверью во двор вошла мисс Клэтт. Увидев её, Тони и удивился и немного встревожился: он больше не учился в её классе и не мог понять, зачем она пришла.
— Твоя мама сказала, что ты во дворе, — начала мисс Клэтт.
— Угу!
— Мне захотелось повидаться с тобой, Тони. — Она не могла бы толком объяснить почему, она и сама не очень понимала, почему Тони, доводивший её в классе до исступления, несмотря на это, был ей по душе. Она была его учительницей, а ей захотелось стать ему другом.
— Угу! — снова промычал Тони.
Тогда мисс Клэтт прямо перешла к делу:
— Давай будем друзьями, Тони! Согласен?
— Да.
Полгода назад это было бы невозможно, а сейчас стало вполне естественно. И Тони вдруг понял, что вырасти и стать взрослым совсем не страшно, а, наоборот, очень интересно.
— Можно мне сесть где-нибудь? — спросила мисс Клэтт.
— Я всегда сижу там. — Тони кивком показал на старую сетку от кровати. — Но…
— Я попробую, — сказала мисс Клэтт и, к удивлению Тони, действительно уселась на сетку.
Она вдруг показалась Тони молоденькой и хорошенькой — словом, совсем не такой, какой в представлении Тони должна быть учительница. (Это тоже было одним из признаков того, что Тони становился взрослым.)
Они славно провели время: болтали о самых различных вещах и ни разу не поспорили. На прощанье мисс Клэтт спросила:
— Ты будешь иногда навещать меня, Тони?
— Буду, — сказал Тони — и выполнил своё обещание.
После этого Тони больше не пытался проникнуть через волшебную дверь в чудесную страну далекого прошлого. Ему самому уже не верилось, что он когда-то бывал там, и постепенно он почти забыл о своих замечательных приключениях в старом Нью-Йорке.
Но хоть, может быть, это и странно — волшебная дверь оставила свой след. Пока Тони рос и отстаивал свое право стать, подобно своему старому доброму другу, доктором, он узнал, что жизнь, настоящая жизнь и состоит в том, чтобы открывать одну за другой волшебные двери. Только мужественным людям это удается. Некоторые двери не откроешь ни ключом, ни ручкой — их нужно взламывать, а для этого требуется величайшее мужество, потому что это двери в стенах невежества и предрассудков, страха и несправедливости. Но если у человека есть мужество, чтобы пройти через эти двери, его ждет не меньшая награда, чем та, которую получил мальчик, прошедший через свою первую волшебную дверь. Ибо есть двери, ведущие к таким удивительным и прекрасным приключениям, о которых маленький мальчик и мечтать не мог…
А что касается правды о первой двери и о том, откуда взялся ирокезский головной убор, то лучше спросите об этом самого Тони. Впрочем, это было уж очень давно, и он, наверно, улыбнется и ответит, что этой тайны никому не откроет.
Но тебе, читатель, ничто не мешает, если хочешь, строить любые догадки, и пора тебе знать, как в своё время узнал Тони, что самые замечательные чудеса совешаются разумными людьми, а не при помощи волшебства и черной магии. Кстати, я ничуть бы не удивился, узнав, что Тони на все свои центы, которые собирал долго и тщательно, купил одну вещь в лавке на Бауэри-стрит, где торгуют всяким старьем. А как туда попала эта вещь? Ну, если ты знаешь Нью-Йорк — ты знаешь также, что в лавчонку на Бауэри-стрит может попасть всё что угодно.
Но это только догадка. Тони хорошо хранит свою тайну.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1956 №2

АЛЬМАНАХ
2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Детской Литературы
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА
1956
Г. Цирулис, А. Имерманис КВАРТИРА БЕЗ НОМЕРА Повесть

1
Начальник рижского отделения гестапо Вильгельм Банге сидел за письменным столом, уставившись в одну точку. Прошло несколько томительных минут, пока он наконец поднял свои бесцветные глаза на оберштурмфюрера, удобно развалившегося в кресле. Поза оберштурмфюрера не выражала ни малейшего почтения. “Что за манеры!” — недовольно подумал Банге. Однако резкое замечание, готовое сорваться с его уст, все же осталось невысказанным. С Рауп-Дименсом, сыном рурского магната, даже ему, начальнику гестапо, не хотелось ссориться. — Так что же вы думаете об этом деле? — спросил Банге. Оберштурмфюрер оживился: — Поручите его мне, и я через три месяца ликвидирую типографию. — У вас уже есть какая-нибудь нить? — Нет, пока мной руководит только чутье. И, надо сказать, оно меня редко обманывает. По-моему, за типографией кроется этот самый Жанис. Поймать Жаниса — значит уничтожить гнездо коммунистической пропаганды. — Итак, надеюсь, он скоро будет в наших руках?.. — Полагаю, что торопиться не стоит. Главное — типография, а Жанис от нас не уйдет. Одному из моих лучших агентов уже удалось установить с ним связь. Сегодня они впервые встретятся… Человек, которым так интересовалось гестапо, стоял в это время у газетного киоска. Он купил “Тевию”[5] за 23 октября 1942 года и сунул газету в карман серого плаща. На небольшом отрезке улицы, от угла до угла, можно было встретить по меньшей мере пять—шесть мужчин в точно таких же плащах. Своим видом этот человек ничем не выделялся в толпе прохожих. Среднего роста, широкоплечий, но не слишком коренастый, с гладко зачесанными светлыми волосами и чисто выбритым лицом, Янис Даугавиет казался самым заурядным молодым человеком. Приподняв воротник, втянув голову в плечи, Даугавиет смешался с толпой. Сам не привлекающий внимания, незаметный, он видел все: ведь любая случайность могла оказаться для него роковой. Невидимая паутина гестапо опутывала улицы, дома, людей. Проскальзывать между ее тонкими нитями, оставаться неприметным — вот его постоянная задача! Каждый шаг сопряжен с опасностью. Но так же как боец, долго провоевавший на передовой, привыкает к близости смерти, так и Янис постепенно свыкся с подстерегающей его всегда и везде опасностью. Подобно столяру за верстаком, бухгалтеру за конторкой, крестьянину за плугом, Даугавиет изо дня в день делал свое дело, и ему самому оно вовсе не казалось необычным: его работа, пожалуй, труднее любой другой — вот и вся разница. Янис научился быть всегда начеку. Целых шесть лет он пробыл в подполье и ни разу не попался в лапы ульманисовской[6] охранки. Это было одной из причин, почему партия оставила Даугавиета в оккупированной Риге. Позади на мостовой послышался гулкий неровный топот. Люди на тротуарах замедляли шаг, одни отворачивались, другие останавливались и ждали приближения колонны. Должно быть, шуцманы опять гонят военнопленных или арестованных. Сердце сжимается от боли, но мешкать нельзя. Сейчас кто-нибудь попытается передать им хлеб или сказать несколько слов, эсэсовцы заметят, и поднимется переполох. Из предосторожности Даугавиет юркнул в ближайшие ворота. Только очутившись в квадратном дворике, он узнал этот дом. Всего несколько лет назад Янис здесь работал на стройке. Невольно он взглянул на свои сильные руки; ему даже почудилось, будто ноздри защекотал едкий запах известкового раствора, а под ногами запружинили доски лесов, по которым он ежедневно перетаскивал на голой, ноющей от усталости спине тысячи и тысячи кирпичей. Вон там, где теперь красуется вычурный балкончик, он как-то спрятал в отверстии стены пачку листовок. В семь часов вечера старый мастер, погладив седые усы, бывало, торжественно объявлял: “Шабаш”. Каменщики снимали забрызганные известью бумажные колпаки и отправлялись по домам, обсуждая по дороге ход военных действий в Польше или поездку Мунтера[7] в Германию. Янис тоже спешил домой на улицу Маза Калну. Там, в семье староверов, он снимал угол. Дома Янис окунал голову в ведро с холодной водой, переодевался и потом, несмотря на сковывающую усталость, уходил на явки, разносил листовки. Домой он возвращался поздно, но и ночью не приходилось отдыхать. Янис ставил перед собой стакан крепкого чая и принимался за учебу. Он не отрывался от книг до тех пор, пока буквы не превращались в непонятные, таинственные иероглифы. Только по воскресеньям он разрешал себе отдых. Ему нравилось бродить по песчаным улочкам Московского форштадта, на которых козы щипали пыльную траву. Он любил сесть наугад в какой-нибудь трамвай, который увозил его на рабочую окраину, где дым фабричных труб расписывает небо расплывчатыми желтовато-серыми узорами. Янис заглядывал в каждый двор, осматривал каждый закоулок, и вскоре он, лиепаец, недавно приехавший в Ригу, знал город лучше многих старых рижан. Знание Риги Янису теперь очень пригодилось: ремесло каменщика — для того, чтобы выстроить потайное помещение типографии, умение ориентироваться в городе — чтобы в случае необходимости замести следы, петляя по запутанной сети переулков, проскальзывая через проходные дворы. — Эй, Даугавиет! Снова в Риге? — раздался вдруг за его спиной чей-то громкий голос. Только очень внимательный глаз заметил бы, что Янис чуть вздрогнул и ускорил шаг, словно вот-вот пустится бежать. Но он сразу же овладел собой и спокойно зашагал дальше, даже не повернув головы. В стекле витрины он увидел отражение окликнувшего. Янис тотчас узнал старого мастера, которого на стройке прозвали Шабаш. Большими шагами старик нагонял его. — Ишь загордился! Со старыми друзьями и знаться не хочешь? Даугавиет спокойно повернулся. Смерив старика холодным взглядом с головы до пят, он вежливо приподнял шляпу и спросил: — Что вам угодно? Старик растерялся. И впрямь, с чего это ему взбрело в голову, будто перед ним тот славный паренек, что когда-то работал у него подручным? Тот, помнится, тоже был светловолосый, но разве мало этаких белобрысых парней по свету бродит? Ведь он как следует и не запомнил лица Даугавиета. — Должно быть, обознался, вы уж, пожалуйста, не взыщите. — Ничего, с каждым может случиться… — равнодушно ответил Янис, снова чуть приподнял шляпу и зашагал дальше. Встреча со старым мастером лишний раз подтвердила Янису, что его наружность плохо запоминается… В прошлом это обстоятельство не раз спасало его от ареста, помогало благополучно выпутываться из самых рискованных положений. И все же лоб Яниса покрылся испариной. Он сунул руку в карман, чтобы достать платок. Там что-то звякнуло — должно быть, ключ от его прежней квартиры, где он жил после вступления в Латвию Красной Армии. Он все еще носил этот ключ с собой. Интересно, кто там поселился теперь? Тогда, после телефонного разговора с секретарем райкома Авотом, Даугавиет еще не знал, что он больше не вернется домой. Никогда? Нет, он еще вернется. Но теперь только этот ключ и напоминал ему о довоенной жизни. Все другие нити были порваны. На фронте протяжением в тысячи километров грохочут орудия, пылают села и деревни, на площадях городов маячат виселицы, а он, Янис Даугавиет, затаив в сердце ненависть и надежду, шагает по улицам оккупированной фашистами Риги. Как был бы прекрасен этот город под холодным ясным солнцем, в пестром осеннем наряде садов, в золотистой дымке, плывущей над Даугавой! Да, он был бы прекрасен, если б коричневая чума не душила его… Почти на каждом шагу мелькают мрачные фигуры в форме с ненавистной свастикой и черепом, повсюду слышится топот подбитых гвоздями сапог и гром фашистских маршей. У встречных серые, измятые лица, словно людей всю ночь мучил кошмар. Янис это хорошо понимал. Ему самому часто снился один и тот же сон: будто он прячется от врагов, бежит, мчится, карабкается по крышам, падает… Обычно Даугавиет тут же просыпался, и как отрадно было сознавать, что в соседней комнате мирно тикают часы, что в “квартире без номера” продолжают трудиться и жить!.. У хлебного магазина извивается длинная очередь. В лучах послеполуденного солнца над дверями золотится металлический крендель. Но это осеннее солнце уже не в силах согреть людей, которые стоят тут, переминаясь с ноги на ногу, вот уже несколько долгих часов. Большинство стоящих в очереди — женщины. Некоторые переговариваются друг с другом, и в их словах звучат забота и беспокойство, иные, прислонясь к сырой стене, вяжут чулок или варежку. Какая-то девочка в гимназической шапочке прилежно читает учебник. Чтобы миновать очередь, Даугавиету пришлось сойти с тротуара. Но в этот момент на улице показалось несколько машин, которые резко затормозили у магазина. Из них выскочили шуцманы и, прежде чем люди успели разбежаться, окружили очередь. Даугавиет вместе с другими оказался в кольце автоматов. — Живей! Залезайте в машины! — по-немецки скомандовал лейтенант. Раздались негодующие возгласы, крики: — Что вам от нас нужно? Что мы сделали? — Опять останемся без хлеба! — Мерзавцы! Нигде от них нет спасения! Старушка в сползающих с носа очках попыталась проскользнуть между двумя полицейскими. Один из них грубо толкнул ее. Старушка упала, стекла очков с тихим звоном разбились о камни. Лейтенант слегка смешался — должно быть, впервые руководил такой “акцией”. Он выхватил револьвер. — Спокойно! — крикнул он. — Волноваться нечего! Далеко не повезем. Разгрузите вагоны и отправитесь по домам! — Мне через полчаса надо кормить ребенка, — взмолилась молодая женщина. В глазах ее стояли слезы. — Ему только два месяца. Господин офицер, отпустите меня домой! Командир шуцманов был латыш, но он притворился, что не понимает родного языка, и закричал по-немецки: — Молчать! Или говорите человеческим языком!.. Ребенка кормить… Вы же знаете, что в военное время продовольственные нормы урезаны для всех, независимо от возраста. — Видимо, весьма довольный своей остротой, он принялся загонять людей в машины. Наконец грузовики наполнились. Можно было трогаться в путь. — Скоты! Как их только земля терпит! — пробормотала старушка. Из носа у нее еще сочилась кровь, по дрожащему подбородку стекали темные капли. Стоявший рядом пожилой мужчина ответил: — Слезами да причитаниями делу не поможешь. Их надо… — И он сжал руку в кулак. Некоторые одобрительно откликнулись. Но какой-то мужчина, до сих пор угрюмо молчавший, сказал: — Вам, кажется, жизнь надоела? Мою жену замучили в Саласпилсе[8] за несколько неосторожных слов… Даугавиет ехал молча. Он улавливал каждое выражение протеста, впитывал каждое слово гнева и ненависти. В мыслях его они связывались друг с другом, превращались в пламенные призывы к борьбе. Слова простых людей давали неиссякаемый материал для листовок. А в этих листовках народ черпал силы для тяжелой борьбы с оккупантами. Разве мог бы Янис так смело шагать вперед, если б не чувствовал, что за ним идут тысячи простых людей. Закаляясь в беде и страданиях, эти люди постепенно превращаются в бойцов неисчислимой армии народного сопротивления. Когда машины въехали на территорию товарной станции, Даугавиет понял, почему оккупантам так спешно понадобилась рабочая сила. Станцию недавно бомбили. Боясь повторения налета, фашисты спешили разгрузить уцелевшие вагоны. На товарную станцию согнали жителей со всех концов города. Среди развалин и обломков сновали люди. Странно выглядели металлические остовы вагонов, колеса без платформ, опрокинутый паровоз. Какой-то состав, очевидно, был гружен химикалиями: к горькому чаду пожарища примешивалась отвратительная едкая вонь, напоминавшая запах сероводорода. Мрачная картина разрушения явно обрадовала привезенных сюда людей. Их лица оживились, то и дело слышались насмешливые замечания… Из здания управления вышел немец в штатском. Обменявшись несколькими словами с офицером, он повел колонну к третьему пути. Находившийся там состав весь уцелел, за исключением последнего вагона, который стоял недалеко от разбомбленного паровоза. Осколок пробил в крыше этого вагона большое отверстие и наполовину разворотил стену. Мелкие клочья бумаги, похожие на осыпавшиеся цветы яблони, устилали землю. Бумага! Быть может, здесь удастся пополнить запасы для типографии? Доставать бумагу становилось все труднее и опаснее. Когда офицер начал разделять людей на группы, Даугавиет нарочно встал так, чтобы остаться у полуразбитого вагона. Вместе с ним оказался человек, у которого в Саласпилсе убили жену. Двери вагона со скрежетом раздвинулись. Проявлять особое усердие, работая на фашистов, никому не хотелось, но все же люди спешили разгрузить вагон, потому что стремились как можно скорее попасть домой. Только молодая мать не двигалась с места. С бессильным отчаянием она думала об оставшемся дома младенце. Пальто ее было расстегнуто. На груди сквозь тонкое ситцевое платье просачивалось молоко. Офицер схватил ее за локоть. — За работу! Марш туда! — И он указал в конец состава. Женщина вырвалась и кинулась к штатскому, надеясь хоть у него найти сочувствие. — Отпустите меня! Умоляю вас, мне надо кормить ребенка! — Она показала руками, какой он маленький. Штатский внимательно выслушал ее, затем ответил на ломаном латышском языке: — Понимайт, все понимайт. Абер вам тоже надо понимайт: для фюрер и фатерланд ни один жертв не есть достаточно велик. Женщина наконец поняла, что в сердцах этих зверей тщетно искать человечности. Точно слепая, шатаясь, побрела она к вагону. Даугавиет поманил ее пальцем. Он заметил, что другая группа, по соседству, уже заканчивает выгрузку ящиков. — Бегите к ним! Быстрее! Пока офицер стоит спиной. Вместе с ними вы сможете выйти со станции. Женщина благодарно посмотрела на Яниса и тотчас последовала его совету. В этот момент офицер повернулся. Взгляд его скользнул вдоль ряда вагонов. Сейчас он заметит беглянку. Даугавиет инстинктивно приготовился к прыжку. Броситься бежать в другую сторону, отвлечь внимание офицера, спасти молодую мать! Но ведь он подпольщик и не имеет права так рисковать собой. Взгляд офицера остановился на конце состава, там, где за последней платформой только что скрылось светлое пальто. — Стой! — дико взревел офицер и дрожащими пальцами выхватил из кобуры револьвер. Однако окрик вовсе не относился к молодой матери — женщина уже успела скрыться. Это товарищ Даугавиета, с которым он разгружал бумагу, вовремя выскочил из вагона и сделал то, от чего был вынужден воздержаться Янис. Увидев, что его замысел удался, человек остановился. Офицер подошел к нему, ударил рукояткой револьвера и грубо толкнул к вагону: — Марш на место! Мужчина что-то проворчал и нехотя принялся за работу. Кипы с надписью “Остланд Фазер” были не круглые, как обычно, а плоские и продолговатые. Вдвоем их было нетрудно поднять. Надорвав с краю обертку, Даугавиет увидел, что внутри тонкая печатная бумага. Янису тотчас пришло в голову, что под грудой выломанных, беспорядочно наваленных досок можно легко спрятать такую кипу. Но сделать это нужно незаметно. К счастью, в вагоне он был только со своим напарником, остальные принимали бумагу и относили кипы к машине, стоявшей в нескольких шагах. Некоторое время мужчины работали в вагоне молча. “Можно ли довериться этому человеку? — подумал Даугавиет. — А почему бы и нет? Своим поступком он доказал, что на него можно положиться”. И все же, затрудняясь начать разговор, Янис только заметил: — Не вредно слегка передохнуть… Может, выйдем покурить? — Покурить можно и здесь, — ответил тот, и в полутьме вагона сверкнул огонек. Янис достал сигарету, порылся в карманах и, не найдя спичек, собрался прикурить у товарища. Тот стоял с зажженной спичкой в руке и, словно зачарованный, смотрел на кипы. — Эх, подпустить бы огонька, — чуть слышно процедил он сквозь зубы, — хоть меньше будет бумаги для их вранья. Янис больше не сомневался. Быстро решив, что теперь у этого человека куда больше оснований опасаться его самого, он сказал: — На этой бумаге можно печатать и правду. Надо лишь позаботиться о том, чтобы она попала в надежные руки. Мужчина сначала удивленно уставился на Даугавиета, но потом лицо его приняло лукавое выражение. — Да, но как это сделать? — Помогите мне спрятать вот ту кипу. Остальное уж вас не касается. Товарищ, все время работавший с такой апатией, вдруг оживился. Он быстро помог Даугавиету оттащить кипу в самый темный угол и запрятать ее под досками и рваной бумагой. — Эй вы, долго будете там прохлаждаться? — раздался у дверей нетерпеливый женский голос. — Надо же хоть засветло домой попасть… Они снова принялись за работу. Куренберг — так звали напарника Даугавиета — совсем преобразился, повеселел, начал шутить. Янис тоже внезапно почувствовал прилив сил. Так было всегда: в самый трудный момент неожиданно находились добровольные помощники. Вагон быстро пустел. — Последняя кипа, — объявил Даугавиет, спрыгивая на землю. Не доверяя им, лейтенант сам влез в вагон. “Если найдет, — стиснув зубы, подумал Янис, — все наши труды пропали даром!” Он успокоился только тогда, когда в дверях снова появился офицер и объявил: — Можете идти. На углу улицы Валдемара, прощаясь, Куренберг крепко пожал Янису руку. “Человек стоящий”, — решил Даугавиет, шагая по сумеречным улицам. Потом мысли его сосредоточились на главном. Бумага еще не в его руках. Вынести кипу с территории станции и доставить в типографию — дело нелегкое. Кому бы поручить такое задание? Ему самому появляться на станции больше нельзя. Это ясно. Видимо, и теперь самую сложную часть операции придется поручить Наде. Не хочется подвергать ее опасности, но что поделаешь… Ведь для Нади с ее характером просто невыносимо томиться в четырех стенах. В тот раз, когда нужно было освободить товарищей из лагеря военнопленных, Даугавиет тщетно пытался отговорить ее. И как хорошо, что это ему не удалось! Одного из бежавших ранили, и ведь только благодаря медицинскому опыту Нади удалось спасти ему жизнь. Память подсказывала один эпизод за другим, и, думая о Наде с восхищением и благодарностью, Янис почти забыл о бумаге. Но вдруг встревожился. А что, если пустой состав сегодня же угонят? А что, если какой-нибудь железнодорожник случайно заметит спрятанную бумагу? Сотни непредвиденных обстоятельств могут испортить все дело. Надо торопиться. И Янис Даугавиет ускорил шаг.2
Дежурный по товарной станции переставил белую ладью с поля b8 на b2 и объявил черным шах. За неимением партнера дежурному приходилось думать за обе сражающиеся стороны, и обычно получалось так, что черные — фашисты — всегда проигрывали. Лампа под зеленым абажуром уютно освещала ряды фигур и пешек. Весь день комнату дежурного заполняли разные офицеры и начальники из интендантства. С утра до вечера они распоряжались, приказывали, ругались. Теперь воздух наконец очистился — рабочее время приближалось к концу, и дежурный мог предаться своему любимому занятию. Вдруг снаружи раздался автомобильный гудок и вслед за этим стук в дверь. Не успев вынудить черных к сдаче, дежурный поднялся со стула. В комнату вошла женщина. Из-под зеленой шапочки выбивались белокурые вьющиеся волосы, цвет лица напоминал слоновую кость шахматных фигур. Но резкий властный тон посетительницы тотчас нарушил приятное впечатление, которое она произвела с первого взгляда. — Я из “Остланд Фазер”. Вот удостоверение. Дежурный с явным неудовольствием повертел в руках темно-синюю книжечку. Куда приятнее было бы послать эту заносчивую особу ко всем чертям, но… служба есть служба. — Сегодня мы получили бумагу из Лигатне, — заявила женщина. — При проверке оказалось, что не хватает 95 килограммов. Должно быть, одна кипа осталась в вагоне… — Этого не может быть! — запротестовал дежурный. — Начальник вашей секции снабжения господин Шенегер расписался в получении груза сполна. — Это еще ничего не значит. Ошибиться может каждый. Что ж, долго мне придется ждать? Идемте проверять вагоны. Тоскливо взглянув на шахматную доску, дежурный взял фонарь. Придется пойти. Пока эта мамзель не убедится собственными глазами, она все равно не отвяжется. Зазвонил телефон. Дежурный снял трубку. На лице его вдруг отразилось явное недоумение. Что-то не ладно! “Держись, Надя!” — словно прозвучал в ушах женщины голос Яниса Даугавиета. Во рту у нее пересохло, и по спине пробежали мурашки. Она сделала шаг к двери. Хорошо, что во дворе ждет Силинь с грузовиком завода ВЭФ. Дежурный, держа в руке трубку, обернулся: — Говорит господин Шенегер. Я сказал, что вы приехали… Но он меня, как видно, не понял… Пожалуйста, поговорите с ним сами… За те несколько секунд, пока дежурный с ней говорил, Надя выдержала напряженную внутреннюю борьбу. Говорить с представителем “Остланд Фазер” — означало выдать себя. Бежать — значит отказаться от бумаги. А ведь она знала, что Янис надеется пополнить их скудный запас. Кроме того, если ворота станции закрыты, машине все равно отсюда не выбраться. Тогда и Силинь попадется. Еще секунда — и ее неуверенность покажется дежурному подозрительной. Но тут ей в голову пришла новая мысль. Да, надо действовать именно так. И она решительно подошла к столу. “Только бы не заметил, как у меня дрожат руки”, — подумала Надя, прикладывая трубку к уху. — Алло! Сердитый голос что-то ответил по-немецки. Надя не поняла ни слова, но, чтобы обмануть дежурного, несколько раз утвердительно кивнула. Голос в трубке стал еще более раздражительным. Чуть-чуть помедлив, Надя решительным “Jawohl!” закончила разговор и осторожно положила трубку так, чтобы не нажать на контакт. Теперь пусть Шенегер беснуется — абонент занят. С улыбкой, адресованной, однако, вовсе не дежурному, она сказала: — Шеф хочет, чтобы я еще заехала в управление. Нам надо поторопиться. Они вышли во двор. Было темно, только кое-где, точно светлячки, поблескивали фонари железнодорожников, из паровозных труб вылетали красные и желтые искры. Подав Силиню знак, чтобы он ехал следом за ними, Надя направилась к последнему вагону, о котором ей говорил Янис. — Тут пусто, — проворчал дежурный и уже собрался спрыгнуть наземь. — А что там, в том углу? — Просто мусор, вы же сами видите. — И, чтобы убедить несносную упрямицу, дежурный ткнул ногой в поломанные доски. К величайшему своему удивлению, он увидел нетронутую кипу бумаги. — Да, вы правы, — сказал он с досадой и помог поднять кипу в машину. При этом он испытывал такое чувство, словно вдруг по глупости проиграл партию в шахматы, когда победа казалась уже вполне обеспеченной. Пока Надя выпутывалась из опасного положения, Даугавиет набросал текст воззвания. Он не был литератором. Выражать свои мысли ярко, убедительно ему было совсем нелегко. И все же он непременно должен найти именно яркие, убедительные слова, иначе листовка будет не чем иным, как просто бумажкой. Подбадривая себя, Янис в таких случаях обычно вспоминал где-то вычитанное изречение: “Возьмите в руки карандаш, постарайтесь быть правдивым до конца, и из вас выйдет писатель”. Так он и делал. Горькая, но не лишавшая надежды правда жизни направляла его руку. “…23 октября жителям Риги еще раз пришлось убедиться в жестокости фашистских захватчиков. По всему городу оккупанты устраивали охоту на людей. Их отвезли на товарную станцию, где заставили разгружать вагоны. Люди, часами стоявшие в очереди у дверей магазина, снова оказались без хлеба. Не пощадили ни молодую мать, оставившую дома грудного младенца, ни престарелую женщину, едва державшуюся на ногах. Тот, кто знает, что такое фашизм, поймет, что это только начало. Сегодня вас увезли на товарную станцию, завтра увезут на каторгу в Германию. Сегодня вас увезли на несколько часов, завтра увезут навсегда. Одно лишь средство может спасти от гибели вас и ваших детей. Это средство — активная борьба…” Даугавиет поднял голову. Его натренированный слух уловил знакомые шаги. Наконец-то Надя вернулась. И хотя Янис не сомневался в успехе, он с чувством необычайного облегчения нежно пожал ее руки. — Ну как? Надя шутя вытянулась, как по команде “смирно”. — Докладывает майор Цветкова: ваше приказание выполнено. — Затем уже серьезно добавила: — Но могло получиться и не так. Подумай, какое досадное стечение обстоятельств! Когда я говорила с дежурным, позвонил кто-то из “Остланд Фазер”… И она вкратце рассказала о случившемся. Даугавиет нахмурился. От одной только мысли о том, что Наде грозила опасность, у него болезненно сжалось сердце. — А ты сколько написал? — спросила она. — Почти половину. Вот посмотри. Надя внимательно прочла написанное и кое-что выправила. — Спасибо, Надюша. — И, взглянув на часы, Янис поднялся. — А теперь мне надо торопиться на явку. — Что-нибудь важное? — Еще не знаю, что из этого выйдет. Апсе из Восточной группы установил связь с рабочими бумажной фабрики в Слоке. Мы теперь на некоторое время обеспечены бумагой, а все же не к чему упускать и эту возможность. — Иди. Я тем временем нарежу бумагу для листовок. Хорошо бы к утру уже отпечатать. — Правильно. Поработаем ночью. Пусть люди прочитают листовки, пока событие еще свежо в памяти. Часы над магазином Валдмана на углу улиц Марияс и Дзирнаву уже тонули в сумраке, когда Янис подошел к условленному месту встречи. Он нырнул в темный проход. Лампочка под синим стеклянным колпаком отбрасывала тусклый свет на закопченную стену. Отсюда во все стороны расходились темные туннели, узкие, похожие на шахты, дворы — стиснутый между четырьмя улицами лабиринт, называемый базаром Берга. Днем здесь стоял невообразимый гомон, в мастерских гудел автоген, скрежетала жесть, шипели рубанки, в лавках покупатели торговались с хозяевами, во дворе пыхтели мотоциклы, ржали лошади приехавших в город крестьян, ребятишки шумно играли в пятнашки. Сейчас здесь царили тишина и мрак. Только порой по земле мелькнет какая-то тень — это удирает крыса, испуганная шумом шагов. Трудно вообразить, что над этими четырьмя туннелями, за этими пыльными, тусклыми окнами, которые никогда не видят солнца, живут люди. Мрачное место… Всякого, кто приходил сюда вечером, невольно пробирала дрожь. Даугавиет уже не раз бывал здесь. Он не случайно выбрал это место для встречи. Тут можно чувствовать себя почти в безопасности — с базара Берга есть выход на улицы Дзирнаву, Марине и Елизаветинскую. Про запас у Яниса был еще четвертый, только ему одному известный путь, который вел на улицу Кришьяна Барона. В подворотне Янис взглянул на карманные часы. Светящаяся стрелка показывала ровно половину десятого. Сейчас должен явиться человек, рекомендованный Апсе. Кто-то прошел мимо и неуверенно повернул обратно. В темноте лицо прохожего нельзя было разглядеть. Да это и неважно — ведь они ни разу не встречались. Узнать друг друга можно только по условленному паролю. Даугавиет сделал несколько шагов и приподнял шляпу: — Скажите, пожалуйста, который час? Мои часы остановились. Ответ последовал без промедления: — Половина одиннадцатого по пулковскому времени. Они пожали друг другу руки. В темноте можно было лишь заметить, что незнакомец маленького роста, полный, в кожаном пальто. — Ну, расскажите, как у вас там в Слоке идут дела. Незнакомец сообщил, что сам он мастер каландровочного цеха бумажной фабрики, в их группе всего девять человек, но народ надежный. Разговаривая, он потихоньку отступал к узкому палевому кругу света под синей лампочкой в дальнем конце прохода. Возможно, что это была просто случайность. Тем не менее Янис, инстинктивно избегая света, снова увлек своего собеседника в темноту. Но когда товарищ из Слоки по собственному побуждению вдруг предложил бумагу для листовок, у Даугавиета зародилось подозрение: “Апсе вовсе не знает, что я связан с подпольной типографией, почему же этот человек предлагает мне бумагу?” — Это было бы очень хорошо, но я ничего не знаю о типографии, — сказал он и принялся расспрашивать мастера о работе. Чем дальше шла беседа, тем сомнительнее казалось ему существование слокской группы. Что-то здесь не так. Надо было сначала поручить Апсе поехать в Слоку, как следует проверить этого человека, и только тогда можно было устанавливать связь. А теперь нужно поскорее от него отделаться. Поняв, что разговор окончен, мастер из Слоки остановился. — Закурим на прощание, — предложил он и, не дожидаясь ответа, чиркнул спичкой.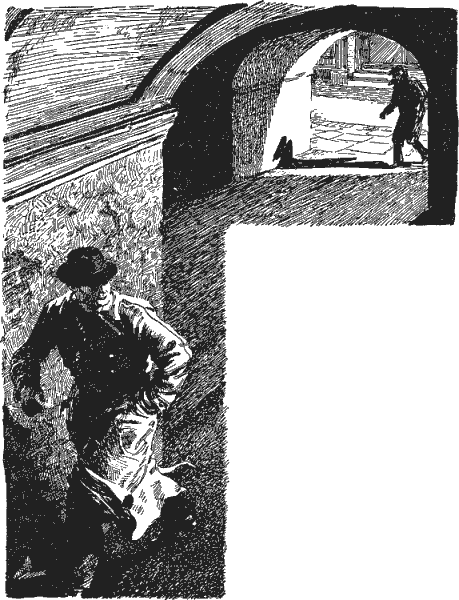 Но Янис, не растерявшись, тут же прикрыл ладонью лицо.
Все ясно! Этот человек хочет увидеть лицо собеседника, чтобы потом суметь опознать его, но нельзя подавать виду, что провокатор разоблачен… Кто знает, может быть, следом за ним идут гестаповцы, и если шпик заподозрит провал, Яниса могут тут же схватить. Поэтому нужно притвориться, что все в порядке, условиться о встрече, подать надежду, что в следующий раз может пойти разговор и о типографии.
Дружелюбно взяв собеседника под руку, Янис сказал:
— Нам необходимо еще раз встретиться. Скажем, во вторник, на этом самом месте. Вы сможете еще раз приехать?
— Конечно. Могу и раньше.
— Нет, раньше не имеет смысла: за это время я успею установить связь с типографией.
Они расстались. Не оглядываясь, Даугавиет вышел на улицу Дзирнаву. Уже через несколько кварталов он убедился, что провокатор идет за ним. Теперь необходимо сбить его со следа. Нырнув в проходной двор, откуда можно выйти на две улицы, Янис спрятался за полуоткрытыми воротами. Через минуту показался шпик и тут же метнулся через второй выход, который, очевидно, был ему тоже известен. Даугавиет вышел из своего укрытия и на всякий случай, прежде чем направиться домой, некоторое время петлял по лабиринту улочек Старой Риги. Когда он открывал ключом дверь, часы на башне ближайшей церкви пробили десять — час, после которого в оккупированной Риге можно было показываться на улицах только по особым пропускам.
Но Янис, не растерявшись, тут же прикрыл ладонью лицо.
Все ясно! Этот человек хочет увидеть лицо собеседника, чтобы потом суметь опознать его, но нельзя подавать виду, что провокатор разоблачен… Кто знает, может быть, следом за ним идут гестаповцы, и если шпик заподозрит провал, Яниса могут тут же схватить. Поэтому нужно притвориться, что все в порядке, условиться о встрече, подать надежду, что в следующий раз может пойти разговор и о типографии.
Дружелюбно взяв собеседника под руку, Янис сказал:
— Нам необходимо еще раз встретиться. Скажем, во вторник, на этом самом месте. Вы сможете еще раз приехать?
— Конечно. Могу и раньше.
— Нет, раньше не имеет смысла: за это время я успею установить связь с типографией.
Они расстались. Не оглядываясь, Даугавиет вышел на улицу Дзирнаву. Уже через несколько кварталов он убедился, что провокатор идет за ним. Теперь необходимо сбить его со следа. Нырнув в проходной двор, откуда можно выйти на две улицы, Янис спрятался за полуоткрытыми воротами. Через минуту показался шпик и тут же метнулся через второй выход, который, очевидно, был ему тоже известен. Даугавиет вышел из своего укрытия и на всякий случай, прежде чем направиться домой, некоторое время петлял по лабиринту улочек Старой Риги. Когда он открывал ключом дверь, часы на башне ближайшей церкви пробили десять — час, после которого в оккупированной Риге можно было показываться на улицах только по особым пропускам.
3
Осенняя Рига в этом году частыми туманами и ранними заморозками слегка напоминала Харальду Рауп-Дименсу Лондон. Уже в конце сентября приходилось топить. Радиаторы центрального отопления в кабинете оберштурмфюрера на улице Реймерса щедро излучали тепло. И все же Рауп-Дименс не раз тосковал по большому камину, придававшему его комнате в Кембридже аристократическую изысканность и уют. Да, эти три года в старинном университетском городке Англии он считал лучшим периодом своей жизни. Неожиданно получив от отца телеграмму с требованием немедленно прервать занятия и вернуться в Германию, Рауп-Дименс с большой неохотой покинул Кембридж. Он чувствовал себя в Англии как дома и вовсе не хотел ехать на родину, где за последние годы побывал всего дважды. Сыну рурского магната, усвоившему в Кембриджском университете “джентльменский” образ мыслей английской аристократии, претила прямолинейная грубость нацизма, плебейские сборища в пивных, трескучая барабанная дробь, тупорылые молодчики в коричневых рубашках, вообразившие себя хозяевами Вселенной. Пошлым фразам о превосходстве германского духа он противопоставлял общность интересов “деловых людей” всего мира. Человек, имеющий на текущем счету в банке миллион рейхсмарок, на родине английских фунтов встретит такой же радушный прием, какой оказывают в лучшем берлинском обществе шахтовладельцу из Бирмингема. Подобные взгляды отец внушил ему с самого детства. Не зря двадцать процентов акций сталеплавильных заводов “Рауп-Дименс” принадлежали банкирскому дому Моргана в Нью-Йорке. Это было сделано с расчетом. В то время, когда другие, менее дальновидные фирмы оказались на краю банкротства, предприятия Бодо Рауп-Дименса благодаря американским кредитам непрерывно расширялись. Тем сильнее было изумление Харальда, когда отец без лишних слов приказал ему вступить в нацистскую партию. И только значительно позднее сын понял, что, побуждая рурских промышленников поддерживать Гитлера и внося три миллиона марок в личный фонд фюрера, старик руководствовался все теми же “принципами реальной политики”. Популярность и влияние социал-демократов падали быстро и неотвратимо. Эти болтуны в парламенте были уже не способны сдерживать растущий напор черни. Приход к власти Гитлера означал уничтожение коммунистов, а главное — гигантские военные заказы и прибыльную войну с Советской Россией. Следуя примеру старшего брата, Зигфрида, Харальд Рауп-Дименс вступил в гитлеровский моторизованный корпус, которым командовал бывший кронпринц. Природное лицемерие, солидно возросшее за годы пребывания в Кембриджском университете, помогло Харальду скрывать свое презрение к мелким лавочникам и мясникам, напялившим черную форму со свастикой и решившим, что отныне им принадлежит весь мир. Усилия молодого Рауп-Дименса окупились с лихвой. Скоро Харальда направили с особой миссией в Англию, где ему надлежало завязать как можно более обширные и тесные связи в правящих кругах, чтобы добиться доброжелательного отношения к нацистскому режиму и его агрессивным замыслам. Это задание достойный отпрыск Бодо Рауп-Дименса выполнил небезуспешно, ибо на берегах Темзы у Гитлера нашлось немало явных, а еще более тайных сторонников. Деньги, которые проходили через руки Рауп-Дименса, давали возможность Мосли организовать фашистские митинги в самых роскошных концертных залах Лондона; Рауп-Дименс сопровождал Эдуарда, принца Уэльского, во время его паломничества к Гитлеру. Рауп-Дименс щедро раздавал восхищенным лордам и леди портреты фюрера с автографами. Вскоре ни один прием в лондонском высшем обществе не мог считаться фешенебельным, если на нем не появлялся стройный немец в форме офицера СС, сшитой у лучшего портного Бонд-стрита. Головокружительная карьера Харальду Рауп-Дименсу, казалось, была обеспечена. Но, вопреки ожиданиям, все получилось иначе. Когда гитлеровцы вторглись в Польшу, Англия под давлением общественного мнения объявила Германии войну. Только благодаря связям с членами английского кабинета Рауп-Дименсу в последний момент удалось через Швецию вернуться в Германию. В рейхсканцелярии его ожидал приказ об отправке на фронт… Даже отец на этот раз ничем не смог ему помочь. Неожиданный ход английского партнера совершенно ошеломил его. Конечно, Европа нужна как плацдарм и источник сырья для подготовки военного похода на Восток, но все же с Англией и Америкой пока никто не собирался затевать драку. Наоборот, на эти державы смотрели как на союзников в подготовляемой войне против России. Когда Рауп-Дименс появился в Варшаве, польская кампания уже закончилась. Весной 1940 года его послали во Францию, но уже не рядовым офицером, а работником армейской контрразведки. Через год в той же должности он подвизался в Греции. Когда началось нападение на Советский Союз, молодой штурмфюрер СС получил задание отправиться в Ригу, чтобы подготовить условия для прихода фашистских войск. 25 июня 1941 года с военного аэродрома в Кенигсберге поднялся в воздух аэропоезд. В одном из транспортных планеров, переодетый в форму советского милиционера, находился Рауп-Дименс. В его распоряжении были ручные пулеметы, автоматы, взрывчатка, гранаты и отряд из десяти отборных головорезов. В условленном месте их встретил бывший командир полка айзсаргов[9] Кисис со своими молодчиками. Рауп-Дименс до сих пор отлично помнил квартиру на шоссе Бривибас, куда их привел Кисис. Им предстояла ожесточенная борьба, и все же он чувствовал себя в этом доме вполне уютно. Окинув взглядом роскошную обстановку спальни, штурмфюрер успел заметить все: и круглое зеркало на туалетном столике, в котором отражалась полуоткрытая дверь, а за ней сверкающая белизной ванная, и дорогое женское кимоно на постели, и ящичек из карельской березы, полный папирос, которым он особенно обрадовался, потому что запас сигарет был у него на исходе. Затем Рауп-Дименс задернул штору, оставив только узкую щель, сквозь которую можно было наблюдать за тем, что делается на улице, пододвинул к окну кресло, занял удобное положение для стрельбы, установил ручной пулемет и, закурив папиросу, стал ждать. Кисис и остальные тоже стали по местам. Рауп-Дименс заметил, как Шварц, один из членов его диверсионной группы, тайком сунул в карман золотую пудреницу. “Мы были и останемся навсегда чужими”, — подумал Рауп-Дименс, с нескрываемым чувством превосходства оглядев своих сообщников, лица которых выражали либо тупое равнодушие, либо лихорадочную жажду добычи. С людьми этой породы он уже встречался. Во Франции они полагали, что эта страна завоевана лишь для того, чтобы можно было безнаказанно вламываться в квартиры, развлекаться и, уходя, прикарманивать на память ручные часы. Идиотской страсти к мелким трофеям Рауп-Дименс решительно не понимал. Иное дело — копи Эльзаса, трансильванская пшеница, бакинская нефть… В ратных походах его пленяло и нечто другое. Это был опьяняющий запах крови. Одурманив Харальда однажды, он манил его все сильней и сильней. Рауп-Дименс наслаждался ощущением власти, которой в мирных условиях не могли дать даже отцовские миллионы. Ни вино, ни женщины, ни азарт игры не способны были заменить то сладостное чувство, которое он испытывал, когда перед ним стоял коммунист и он, Харальд Рауп-Дименс, одним лишь мановением пальца мог отправить его на тот свет. На шоссе показались группы вооруженных рабочих. Выплюнув сигарету на пол, штурмфюрер открыл по ним огонь. Во время перестрелки он ни на минуту не утратил спокойствия, хотя с улицы пули все чаще залетали в окно, вонзаясь в широкий трехстворчатый шкаф за его спиной. Из-за угла вынырнули танки. Рассудок подсказывал Рауп-Дименсу, что надо немедленно отступить. “Жаль, черт возьми! Столько живых мишеней!..” Штурмфюрер просто не в силах был уйти, не нажав еще пару раз на спусковой крючок. Последняя пуля ранила какую-то женщину в военной форме. И тогда Рауп-Дименс заметил, что орудийный ствол танка медленно поворачивается в сторону его окна. Не дожидаясь дальнейших событий, штурмфюрер бросился вон из квартиры. Грянул удар гигантского молота, Рауп-Дименса швырнуло наземь и засыпало кусками штукатурки. Вскарабкавшись по изуродованной лестнице, он добрался до крыши. Теперь некогда думать о Кисисе и его людях. Прежде всего — спастись самому. К счастью, от крыши соседнего дома его отделял пролет шириною не более метра. Он прыгнул, а затем ползком, на животе, добрался до люка и попал на чердак. Оставаться здесь было нельзя. Бойцы истребительного батальона, наверно, будут обыскивать чердаки во всем районе. Выйти на улицу в таком виде тоже опасно — милицейская форма теперь не устранит подозрений, а, наоборот, только усилит их. Надо пробраться в какую-нибудь пустую квартиру и спрятаться там, пока не минует опасность. Спускаясь по лестнице черного хода, Рауп-Дименс увидел за окном балкон, открытая дверь которого вела в квартиру. Он перегнулся через перила и на всякий случай бросил в кухню горсть патронов — они громко застучали по полу, но никто не вышел. Измерив на глаз расстояние, штурмфюрер протиснулся в узкое окно и, схватившись руками за подоконник, легко спрыгнул. Осторожно притворив за собой дверь балкона и даже заперев ее на задвижку — хотя это было совершенно излишним, — он с облегчением вздохнул. Теперь можно было осмотреть квартиру. На окнах всюду спущены черные шторы. В комнате прохлада и сумрак. Не привыкший к темноте глаз с трудом разглядел пузатый комод и старомодную кровать с горой перин и пуховиков. Даже не взглянув в ту сторону, штурмфюрер двинулся к шкафу. Только когда за спиной раздался визгливый вопль: “Помогите! Воры! Воры!” — он заметил седую голову старухи, вынырнувшую из-за горы подушек. — Молчать, старая ведьма! — И Рауп-Дименс поднес револьвер к самому ее носу. Оружие еще больше перепугало старуху. Штурмфюреру казалось, что ее крик слышно за километр… Он уже хотел выстрелить, но, вспомнив, что выстрел может привлечь внимание истребителей, отбросил револьвер и обеими руками вцепился в тощую, жилистую шею. Старуха захрипела и утихла. Рауп-Дименс вытер пальцы носовым платком, еще пахнущим одеколоном. Впервые он убил человека голыми руками. Штурмфюрер был вынужден признать, что это не слишком приятно. …Вспоминая теперь, спустя целый год, страшное, посиневшее лицо старухи, Рауп-Дименс поморщился. Но как ничтожны были эти отвратительные воспоминания в сравнении со всеми радостями, которыми так щедро наделяла его жизнь. Он получил чин оберштурмфюрера; к двум железным крестам за Францию и Грецию прибавился орден за рижскую операцию. Этот город у Балтийского моря, с его чистыми улицами и зелеными парками, Рауп-Дименсу понравился. Правда, латыши доставляли немало хлопот — они частенько не желали верить в превосходство западной цивилизации. Но все же и здесь порой можно было встретить людей, сносно говоривших по-английски и ценивших Джемс-Джойса. Здесь Рауп-Дименс обзавелся уютно обставленной солнечной квартирой, которую он унаследовал от прежнего владельца, расстрелянного в первые же дни оккупации. Здесь у него появилась и некая Мери, с которой, несмотря на ее вульгарные манеры, все же можно было проводить время. Что касается общего хода событий, то дела как будто шли неплохо. После зимних неудач гитлеровская армия снова стремительно наступала и теперь уже угрожала Сталинграду. С тех пор как до бакинской нефти стало рукой подать, сдержанный тон писем отца, появившийся после разгрома войск фюрера под Москвой и вступления Америки в войну, исчез, уступив место более оптимистическим ноткам. В свое время и молодой Рауп-Дименс поругивал этого растяпу Риббентропа, у которого не хватило мозгов удержать Соединенные Штаты в роли негласного партнера в акционерном обществе по разделу мира. Но мало-помалу негодование его улеглось. Конечно, ему хотелось, чтобы победила Германия, но и в случае поражения с Англией и особенно с Америкой, видимо, удалось бы столковаться. По крайней мере, для капитала Рауп-Дименсов такой исход особой опасности не представлял, так как Морган сумел бы вступиться за интересы своего немецкого компаньона. Но если победит Советский Союз — вот это было бы настоящей непоправимой катастрофой. Поэтому главное — разбить русских! Да, главное — окончательно разгромить Советы. И оберштурмфюрер, нещадно преследуя коммунистов, делал все от него зависящее, чтобы приблизить день своего торжества. Он просиживал ночи напролет в кабинете, милостиво беседуя со шпиками, которым при других обстоятельствах не подал бы и руки, терпеливо допрашивал арестованных, упрямое молчание которых могло бы любого свести с ума. Он отстаивал интересы дома Рауп-Дименсов и с гордостью сознавал, что находится здесь на передовом посту борьбы за мировые рынки. Оберштурмфюрер откинул голову на спинку кресла и едва заметным движением губ выпустил безупречное кольцо дыма. Столбик пепла от ароматной сигареты упал на листок, лежавший перед ним на столе. Это вернуло его к действительности. По иронии судьбы Рауп-Дименс, злейший враг коммунистов, вынужден был чуть ли не ежедневно прилежно читать сводки Советского Информбюро. Вот и в этой листовке дана такая сводка. В ней говорится об огромных потерях вермахта, о положении на фронте… Да, листовки эти опасны, чертовски опасны… Рауп-Дименс не стал читать дальше. Не стоило сравнивать эту листовку с другими, хранившимися в специальном сейфе, чтобы понять, что и она отпечатана в той же коммунистической типографии, которую оберштурмфюрер тщетно ищет уже в течение полугода. Вошедший в кабинет Рауп-Дименса шарфюрер Ранке, не решаясь заговорить без приказания, уже несколько раз щелкнул каблуками. Оберштурмфюрер по-прежнему не обращал на него внимания. Иногда бывает приятно чувствовать свою власть над таким вот верзилой, который может одним ударом кулака сбить человека с ног. — Ну, Ранке, — Рауп-Дименс, иронически улыбаясь, соизволил наконец обратиться к подчиненному, — у вас, кажется, отсох язык? Докладывайте, что там еще. — Господин оберштурмфюрер, нам удалось арестовать человека, который поднял эту листовку. Изволите допросить? — Ладно, пусть войдет. Но арестованный войти не мог. Он был так избит, что Ранке и надзирателю Озолу пришлось самим втащить его безжизненное тело. Оберштурмфюрер побагровел от злости. О допросе не могло быть и речи. Слова Рауп-Дименса стегали побледневшего Ранке словно кнутом. — Шарфюрер! Сколько раз вам было сказано, что тренироваться вы можете только после допроса! — Я ничего… — оправдывался Ранке. — Только слегка приложил руку. Это Озол… Он как начнет, так его уж не остановишь… Еще долго у Рауп-Дименса от ярости тряслись руки. С какими скотами ему приходится работать! Удовольствие свернуть кому-нибудь скулу для этих мясников превыше всего. В случае необходимости оберштурмфюрер сам не прочь прибегнуть к пыткам, но обычно он все же старался сначала воздействовать на арестованного угрозами. Рауп-Дименс взглянул на платиновые ручные часы. Пять минут пятого. Значит, Кисис, его лучший агент, уже прибыл. Он поднял трубку внутреннего телефона. — Пусть зайдет номер шестнадцатый. Кисис, одетый в простую рабочую спецовку, сел без приглашения. Шпионская работа в гестапо пошла ему на пользу: в погоне за коммунистами он спустил по крайней мере килограммов десять лишнего жира. И все же, докладывая своему начальнику, он задыхался и голос его дрожал. — Жанис ускользнул. — Что?! — Рауп-Дименс выпрямился во весь рост. — Вы упустили этого парня? Зная, что, по всем данным, он один из руководителей рижской подпольной организации?! Еще неделю назад вы хвастались, что установили с ним связь! — Да. Так оно и было. Мы с ним встретились…
Оберштурмфюрер жадно затянулся.
— Ну и дальше?
— Ничего существенного. Ни имени, ни адреса узнать не удалось. Он был так осторожен, что я не смог даже выследить его. Я главным образом рассчитывал на вторую явку, но он не пришел. Должно быть, почуял что-то неладное.
Рауп-Дименс вырвал из блокнота листок бумаги, на котором, слушая Кисиса, нервно чертил какие-то фигурки, и приготовился записывать.
— Парень, видно, тертый. Надо его поймать во что бы то ни стало. Рост? Цвет волос? Глаза?
— Среднего роста…
— Так, дальше! Что же вы молчите, Кисис?
— Боюсь, что это все. Мы встретились поздно вечером. Когда я зажег спичку, чтобы закурить, он прикрыл лицо рукой. Я заметил только, что он среднего роста, в сером плаще и низко надвинутой коричневой шляпе. Вот и все, что я могу сказать.
— А тот, через которого вы восстановили связь?
— Тоже исчез…
Рауп-Дименс отбросил карандаш.
— Проворонили!.. Эх, вы… Ну ладно, идите.
Как только дверь затворилась, оберштурмфюрер подошел к большой карте Риги. Этот таинственный Жанис свободно разгуливает по городу, а он, Рауп-Дименс, лучший работник гестапо, до сих пор не заполучил его! Такое положение просто нетерпимо.
— Да. Так оно и было. Мы с ним встретились…
Оберштурмфюрер жадно затянулся.
— Ну и дальше?
— Ничего существенного. Ни имени, ни адреса узнать не удалось. Он был так осторожен, что я не смог даже выследить его. Я главным образом рассчитывал на вторую явку, но он не пришел. Должно быть, почуял что-то неладное.
Рауп-Дименс вырвал из блокнота листок бумаги, на котором, слушая Кисиса, нервно чертил какие-то фигурки, и приготовился записывать.
— Парень, видно, тертый. Надо его поймать во что бы то ни стало. Рост? Цвет волос? Глаза?
— Среднего роста…
— Так, дальше! Что же вы молчите, Кисис?
— Боюсь, что это все. Мы встретились поздно вечером. Когда я зажег спичку, чтобы закурить, он прикрыл лицо рукой. Я заметил только, что он среднего роста, в сером плаще и низко надвинутой коричневой шляпе. Вот и все, что я могу сказать.
— А тот, через которого вы восстановили связь?
— Тоже исчез…
Рауп-Дименс отбросил карандаш.
— Проворонили!.. Эх, вы… Ну ладно, идите.
Как только дверь затворилась, оберштурмфюрер подошел к большой карте Риги. Этот таинственный Жанис свободно разгуливает по городу, а он, Рауп-Дименс, лучший работник гестапо, до сих пор не заполучил его! Такое положение просто нетерпимо.
4
Покинув здание гестапо через тайный выход, Кисис проходными дворами добрался до улицы Валдемара, переименованной в ту пору в улицу Германа Геринга. Взглянув на часы, он пошел быстрее, так как ровно в пять обещал быть у Граудниеков, а до этого нужно было еще зайти домой переодеться. Принадлежащую Виестуру Граудниеку импортно-экспортную фирму знала вся Рига, но мало кому было известно, что недавно он стал также владельцем ювелирного магазина Шапиро. Что говорить, Граудниек жить умеет да и друзьям своим скучать не дает! Кисис не сомневался, что и сегодня прием будет устроен на широкую ногу: редкие вина, красивые женщины… Это как раз то, что ему сейчас нужно. Развлечься, забыть неудачу с Жанисом… Увидев в дверях ресторана “Фокстротдиле” знакомого швейцара, агент усмехнулся. Да, было время, когда он, Кисис, командир полка айзсаргов, только засветло завершал здесь попойки. Теперь ночные дансинги закрыты, после десяти часов ходить по городу запрещено, приходится устраивать приемы после обеда — прямо-таки вроде ученических вечеров в гимназии. Хотя мысли о предстоящем кутеже доставляли Кисису несомненное удовольствие, забыть о своей неудаче с Жанисом он все же не мог. Еще подозрительнее, чем обычно, вглядывался он в лица прохожих. А что, если повезет и Жанис вдруг случайно попадется ему на улице? Конечно, на это мало шансов, а все же… как знать… Чего не бывает на свете! На сей раз он не даст этому молодчику ускользнуть из-под носа. А если к тому же обнаружится, что Жанис действительно связан с типографией, то ему, Кисису, перепадет немалый куш. И уж он-то сумеет пустить свои денежки в оборот! Вдруг агент насторожился. Впереди мелькнула мужская фигура в сером плаще и коричневой шляпе и тут же исчезла в толчее у автобусной остановки. Жанис?! Когда Кисис добежал до остановки, автобус уже тронулся. Рискуя попасть под колеса, агент одной ногой вскочил на подножку, грубо оттолкнул стоявшую в дверях женщину и протиснулся в переполненную машину. — Вам куда? — спросил кондуктор. — До конца, — предусмотрительно ответил Кисис, сверля глазами коричневую шляпу, которая продвигалась все дальше к выходу. Позабыв о билете и сдаче, агент, энергично работая локтями, стал пробивать себе путь. Это было вовсе не легко — приходилось отвоевывать каждый шаг. Недовольные пассажиры осыпали его бранью. Вот наконец и остановка. Обладатель коричневой шляпы спокойно вышел, а Кисис, как назло, застрял в узкой щели между двумя спинами. Тут он и вовсе перестал церемониться — пустил в ход кулаки, кое-как пробился к выходу и яростно забарабанил в кабину шофера. В конце концов водитель остановил машину. Кисис выскочил на мостовую. Какое счастье! Человек в сером плаще и коричневой шляпе еще не успел скрыться! “Теперь не уйдешь!” — злорадно прошептал Кисис и тут же успокоился. Он, правда, не убавил шагу, но из предосторожности перешел на другую сторону улицы и продолжал свой путь с таким видом, будто спешил по срочному делу. И вдруг Кисису показалось почему-то, что он ошибся… Так они прошли, преследователь и преследуемый, метров сто. Агент внимательно разглядывал незнакомца в сером плаще и коричневой шляпе. Охватившие его сомнения как будто подтверждались. Непохоже что-то на Жаниса. Уж очень у этого типа расслабленная походка… С каждым шагом сомнения Кисиса росли, а когда преследуемый спокойно остановился у особняка Граудниеков, агент почти убедился в том, что ошибся. И все же он решил довести это дело до конца. Надо заговорить с незнакомцем. Если он все-таки окажется Жанисом, можно будет снова выдать себя за подпольщика из Слоки. Однако стоило лишь взглянуть на лицо незнакомца, чтобы исчезла всякая надежда. Агента вдруг охватила дикая злоба и на себя самого, и на этого бездельника в коричневой шляпе и дурацком пенсне, и больше всего на Жаниса, из-за которого он чуть было не попал под автобус, дрался с пассажирами и потерял зря столько времени. Когда человек в сером плаще, которому Кисис мешал пройти, проворчал что-то насчет нахалов, агента прорвало. — Придержи язык! А то не поздоровится! — Что-о-о-о? — Человек в пенсне лишь постепенно обретал дар речи. — Да как вы смеете? — Господин Граве! — раздался вдруг возмущенный женский голос. — Что вы церемонитесь с этим хамом? Зовите шуцмана! У калитки появилась моложавая особа, блондинка с ярко накрашенными губами и в ярко-красных туфлях на толстой подошве. При других обстоятельствах Кисис бы за словом в карман не полез, но на сей раз сдержался. Ведь оскорбляют не его, Арнольда Кисиса, а человека в спецовке, простого рабочего, за которого он себя выдавал. К тому же эта блондинка недурна собой… Утешившись мыслью, что скоро он познакомится с этой женщиной у Граудниеков, агент отправился домой. Полчаса спустя, целуя руку блондинки, Кисис с удовлетворением убедился в том, что она не узнала его. Да и как могло ей прийти в голову, что этот изысканно одетый господин и наглый рабочий в поношенной спецовке, которого она недавно видела, одно и то же лицо? В гостиной у Граудниеков, по обыкновению, собралось большое общество. Деревянные жалюзи были опущены, стоячие лампы и окутанные красным муаром неоновые светильники разливали в комнате мягкий свет. Гости в непринужденных позах расположились на низких диванах. В одном углу было устроено нечто вроде бара. Старший сын Граудниека, наряженный барменом, орудовал у стойки. Ловкими, привычными к лабораторным опытам руками студент-химик смешивал коктейли, а две хорошенькие горничные в коротких юбках предлагали напиток дамам. Мужчины оказывали предпочтение “белой”. Все чаще звучал игривый смех, радиоприемник, включенный на предельную мощность, наполнял комнату оглушительным ревом джаза. Настроение, царившее в гостиной, напоминало Кисису времена в “Фокстротдиле” и предвещало занятный вечер. То же и, пожалуй, многое другое сулила улыбка Мелсини — так звали блондинку — и томный жест, которым она пригласила Кисиса сесть возле нее. И только чопорность, с которой хозяйка дома, ведя гостя под руку, представила его всем присутствующим, напомнила агенту, что он находится среди людей высшего круга, допущенных госпожой Граудниек в ее “салон”. — Господин Нариетис, адвокат… Юрист вынул изо рта толстую сигару, но, собираясь пробормотать ничего не говорящее “очень рад”, поперхнулся дымом. — Надежда нашей оперы… Склонившись к руке пожилой дамы, Кисис услышал продолжение беседы адвоката с хозяином дома: — …У вас имеется вполне законное основание предъявить свои права на этот земельный участок… — Мадемуазель Лония Сэрде. Отец мадемуазель Лонии — вы, разумеется, слышали о господине Сэрде, директоре, — так вот, отец ее получил ответственный пост в Белоруссии и оставил свою дочь на мое попечение. У Кисиса чуть заметно дрогнули уголки губ. Лония Сэрде еще училась в последнем классе лицея, но слава о ее образе жизни уже грозила затмить репутацию папаши. — Господин Мартынь Каулс, писатель… Кисис лихо щелкнул каблуками, как того требовала выправка бывшего командира полка айзсаргов. Агенту гестапо было известно, что вовсе не гонорары за статейки для “Тевии” дают Каулсу возможность вести широкий, светский образ жизни, а куда более солидные доходы от принадлежавшего ему пятиэтажного дома на улице Калькю. — Господин Гигут — штабс-капитан в отставке… Мадемуазель Атлане, начинающая поэтесса. Господин Регерт, наш родственник из Залмиеры, директор банка… Кисис старался запомнить каждую фамилию. Хотя все эти люди, числившиеся в архивах гестапо “сочувствующими”, находились вне сферы его деятельности, он все же был уверен, что Банге охотно выслушает доклад о мелких грешках присутствующих здесь господ. — Господин Граве, приват-доцент, — продолжала хозяйка дома. Как и Мелсиня, обладатель серого плаща и коричневой шляпы не узнал Кисиса, но агент, вспомнив о напрасной погоне за мнимым Жанисом, снова почувствовал раздражение. — Господин Граве — ужасный оригинал, — защебетала жена Граудниека, — представьте, но не выносит немцев. Из-за него я не пригласила полковника фон Планту… — Какая жалость! — откликнулась Мелсиня. — По-моему, полковник фон Планта страшно интересный мужчина. Вообще я обожаю немцев. Они такие галантные кавалеры, так вежливы, так тонко воспитаны! За стеклами пенсне блеснул насмешливый взгляд господина Граве. — Ваш опыт безусловно дает возможность лучше судить о галантности кавалеров… Но ведь нельзя же закрывать глаза на то, что за этим тонким воспитанием кроется жестокость и властолюбие. “Ах, вот ты что за птичка!” — подумал Кисис. Недаром он с первого взгляда почувствовал неприязнь к этому типу. Агент уже собрался было задать приват-доценту ехидный вопрос, но тут его опередил инженер Калтуп: — Может, вам больше по душе большевики? — Не забывайте, что немцы спасли вас от Сибири, — с упреком заметил Мартынь Каулс. — Что вы, что вы, господа! — вспыхнул Граве. — Дайте же человеку высказать свою мысль до конца. История показывает, что в известных условиях отрицательное явление может превратиться в свою противоположность, то есть стать положительным. Бронированный кулак — вот единственная сила, способная сокрушить коммунистов и защитить частную собственность. — Но лично у вас, насколько мне известно, недвижимой собственности не имеется, — съязвил Граудниек. — Разве в этом дело? — возразил Граве. — Чтобы жить целеустремленно, мне нужно знать, что в любое время я могу таковой обзавестись… — В таком случае выпьем за частную собственность вообще и за будущую собственность господина Граве в частности! — провозгласил директор банка. Он был уже заметно навеселе и, наполняя рюмки, изрядную долю спиртного проливал мимо. Но это никого не смущало — не хватит “белой”, найдется еще французский коньяк. Агент гестапо был явно разочарован. Здесь, видно, улова не будет. Граве вовсе не враг нацизма, как можно было предположить по его первым высказываниям, а такой же “истинный латышский патриот”, как и все здесь присутствующие. Примирившись с этой неудачей, Кисис сосредоточил все внимание на своей обворожительной соседке. Тост следовал за тостом. В гостиной становилось все оживленней и шумней, так что вначале никто даже не расслышал телефонного звонка. Наконец горничная сняла трубку и позвала Граудниека. Окончив разговор, он обратился к гостям: — Господин Озол просит его извинить. Сегодня он опять работает сверхурочно. Кисис заметил, как некоторые из гостей переглянулись. Все знали, что Озол служит в гестапо и что в тех случаях, когда уничтожали очередную партию заключенных, он появлялся у Граудниеков с опозданием. — Какая жалость! — Мелсиня огорченно вздохнула. И опять, как в тот раз, когда она упомянула фон Планту, в сердце Кисиса шевельнулась ревность. Но он тут же успокоился, так как Мелсиня продолжала улыбаться и даже придвинулась к нему еще ближе. Между ними очень скоро установилось отличное взаимопонимание, которое росло с каждой выпитой рюмкой. Кисис уже не сомневался в том, что Мелсиня с лихвой вознаградит его за все сегодняшние неудачи. Подогреваемое алкоголем веселье все нарастало. Лония Сэрде вскочила на стол и принялась лихо дирижировать орущим хором: Эх, житье, эх, житье Развеселое мое! Пьяные вопли не утихли, даже когда в дверях показался Озол. Он, видно, тоже был основательно навеселе, глаза его лихорадочно блестели. Опоздавший гость, уже с порога заметив Кисиса, приветствовал его взмахом руки. Кисис и Озол были знакомы с детства — усадьбы их отцов находились по соседству. Кроме того, в своевремя друзья состояли в одной корпорации “Селония”, где студент-медик Озол сумел даже дослужиться до чина фуксмайора.[10] Он мог бы жить припеваючи на средства своего папаши или же исцелять легковерных глупцов от воображаемых недугов, однако вместо этого, “из чисто идейных соображений”, предпочел работу в гестапо, куда по старой дружбе ему помог устроиться Кисис. Наконец и Лония заметила Озола. — Ученик Озол опоздал на целый час, — громогласно объявила она. — За это он понесет суровое наказание. — А если я откуплюсь? — спросил Озол, кинув Лонии дамские ручные часики на серебряной браслетке. — Что за прелесть! — воскликнула Лония. — В таком случае ты прощен! Она даже собралась поцеловать Озола в знак благодарности, но Граудниек уже уводил его в соседнюю комнату. — Господин Озол! Подождите же минутку, — позвала Мелсиня, — я должна с вами посоветоваться. — Потом, потом, — отмахнулся Озол и вышел. Притворив двери, Граудниек с нетерпением сказал: — Ну, показывайте товар! На полированный столик красного дерева посыпалось содержимое карманов Озола: несколько пар часов, кольца, серьги, золотые зубы. Из руки его выскользнул золотой крестик на серебряной цепочке и, тихонько звякнув, упал на пол. …Озол не стал пересчитывать деньги. Такому порядочному дельцу, как Граудниек, можно полностью довериться. — Господин Озол! — снова позвала его Мелсиня, когда гестаповец присоединился к остальным гостям. Но Озол опять отмахнулся. — Погодите, погодите, — буркнул он, — мне надо прежде всего промочить горло. — И он осушил одну за другой полдюжины рюмок водки. — Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? — спросил свою даму Кисис, уже успевший выпить с ней на брудершафт. — Но ведь ты не работаешь в гестапо, — ответила Мелсиня. — Конечно, нет, но если дело политическое… С первых же слов своей новой приятельницы Кисис навострил уши. Мелсиня рассказала, что в ее магазине работает некая Земите. Она, должно быть, сочувствует коммунистам, так как в 1940 году, после национализации магазина, была назначена старшей продавщицей. За последнее время Мелсиня стала примечать, что покупатели — рабочие с больших предприятий — никогда не обращаются к другим продавщицам. — И представь, — удивлялась Мелсиня, — если Земите занята, они всегда ждут, пока она освободится, потом о чем-то с ней шепчутся. Я понимаю, была бы еще молодая, интересная… Мне все это кажется подозрительным. Не знаю, о чем они там шушукаются, но, по-моему, тут что-то не то… — Какая ты умница!.. Ты мне все больше и больше нравишься, — сказал Кисис. — Послушай, сейчас не имеет смысла обращаться в гестапо, пока у тебя нет никаких доказательств. Но с твоей продавщицы глаз не спускай. Если что-нибудь заметишь, расскажи мне, и я сделаю все, что требуется. — Какой ты добрый, — нежно прильнув к нему, прошептала Мелсиня. Она и не подозревала, что за подобную “доброту” Кисис получит солидную награду. Неутомимый директор банка снова провозгласил тост. Звон бокалов слился с трелью звонка в прихожей. В гостиную вбежала бледная, встревоженная горничная. — Там… Там… на дверях… Всполошившиеся гости бросились вниз. На темных дубовых дверях белела листовка: “КТО ЭТОТ ГОСПОДИН? Этот господин ежедневно выходит из директорского кабинета с импортной сигарой в зубах и самодовольной улыбкой на лице; Этот господин с откормленной физиономией часами просиживает в кафе или ресторане в обществе холеных женщин, пока ты зябнешь в очереди за хлебом; Этот господин называет себя “истинным латышским патриотом”, но везде и всюду славословит фашистских оккупантов. Кто же он, этот господин? Ты, латышский рабочий, знаешь его уже давно. Это за твой счет он ведет развратную, праздную жизнь, проводит ночи в ресторанах, днем нежится в мягкой постели, лодырничает в конторе своего папаши или распоряжается слугами в отцовском имении. Неважно, как его зовут — Арайс, Кактынь, Лиепинь или Озол, — он всегда был кровопийцей и палачом трудового народа. Взгляни на его руки — они обагрены кровью тысяч людей. Взгляни на его одежду — недавно она принадлежала человеку, которого этот субъект собственноручно убил. Последи за ним, и ты поймешь, где он добывает средства для привольной жизни. После десяти часов, когда тебя уже загнали домой, закрытые машины везут по улицам Риги сотни людей, обреченных на смерть. Там, где у свежевырытых ям машины останавливаются, ты всегда увидишь его. Выполнив обязанности палача, он спешит прибрать к рукам добычу — одежду убитых, часы, золотые зубы, а затем до зари устраивает оргии со своими хозяевами — гестаповцами. Следы его преступлений ты можешь найти в сосновых борах Бикерниеков, Дрейлиней и в Румбульском лесу, где за первые пятнадцать месяцев оккупации было убито свыше 80 000 мужчин, женщин и детей. Вот каков этот “истинный латышский патриот”, который зарится и на твою жизнь, и на твое имущество”.5
Почти одновременно точно такая же листовка была доставлена Рауп-Дименсу. Оберштурмфюрер повертел ее в руках, даже понюхал, словно ищейка, бегущая по следу. От бумаги еще пахло типографской краской. Значит, только что отпечатана. Проклятье! Где же находится эта типография? Если бы Кисис не оказался таким разиней, уже сегодня, быть может, эту загадку можно было разгадать. Девять. Пора кончать работу. Спрятав секретные документы в сейф, тщательно вычистив ногти и надев сшитую в Риге шинель, которая всякий раз заставляла с тоской вспоминать об искусстве портного с Бонд-стрита, оберштурмфюрер вышел на улицу. В его распоряжении, конечно, была машина, но Мери жила недалеко, и после дня, проведенного в душном, накуренном кабинете, Рауп-Дименс любил пройтись пешком. Дождь прекратился, но асфальт бульвара и лакированные кузова лимузинов все еще поблескивали от влаги. То здесь, то там мерцали синие огоньки карманных фонариков. Слышалась главным образом немецкая речь: латыши после наступления темноты остерегались появляться на улице. Мери, наверно, уже накрыла на стол. Ведь она знает, как ему нужна женская забота и ласка после напряженного рабочего дня. Да, поистине неисповедимы пути судьбы. Когда Шварц еще в планере упомянул о какой-то певичке Марлене из рижского кабаре “Альгамбра”, Рауп-Дименсу и в голову не могло прийти, что он с ней когда-нибудь встретится. Их знакомство началось случайно. Как-то вечером оберштурмфюрер от скуки зашел в ресторан. Там выступала певица с крашеными волосами, пылавшими в луче прожектора, точно красный сигнал светофора. Эта женщина, чей возраст было трудно определить, ибо лицо ее покрывал искусно наложенный слой румян и пудры, довольно сносно исполнила несколько пародий на английские песенки. Когда выступление окончилось, певица подсела к столу оберштурмфюрера. Ее не смутили отвергающий взгляд и холодное молчание гестаповца. Певица осушала бокал за бокалом и с напускной откровенностью рассказывала о себе: раньше она работала в кабаре “Альгамбра”, ее зовут Марлена, и сейчас она одинока… Вежливо, но решительно отклонив ее недвусмысленное предложение, Рауп-Дименс уплатил по счету и ушел. Через несколько недель оберштурмфюреру случилось вызвать в гестапо некую Марию Лиену Заринь, которая, по сведениям агентуры, продолжительное время была любовницей английского военного атташе. Она оказалась той самой Марленой, только на сей раз без грима. Когда певичка, бледная и дрожащая, стояла перед ним, Рауп-Дименса вдруг охватило сладострастное чувство власти над этой женщиной. Конечно, оберштурмфюрер вскоре убедился, что у бывшей девицы из кабаре давно уже нет никаких связей с англичанами, все же ему было приятно держать ее в страхе. Пусть знает, что жизнь ее полностью в его руках. Так началось их знакомство, которое скорее напоминало отношения дрессировщика и запугиваемой бичом пантеры. Певица жила в четырехэтажном доме, на одной из улочек Старой Риги. Это было старинное здание с затейливыми украшениями и завитушками в стиле Людовика XVI. В темноте оно выглядело весьма внушительным, но по утрам, когда беспощадный свет открывал взору некогда коричневые, а ныне облупившиеся стены с проплешинами обвалившейся штукатурки, Рауп-Дименс смотрел на него с гримасой отвращения. Должно быть, у домовладельца Бауманиса, который недавно произвел капитальный ремонт, не хватило средств на отделку фасада. Ходили слухи, что старый Бауманис, бывший когда-то простым рабочим, втайне пьет. Рауп-Дименс узнал, что старику посчастливилось стать домовладельцем совершенно случайно, после смерти дальнего родственника, у которого не оказалось других наследников. Неожиданно разбогатев и не зная, куда девать деньги, вчерашний безработный решил купить дом. Но забыть прежние привычки он так и не мог: сам подметал двор и тротуар перед домом, ходил в потертом костюме… Рауп-Дименс из предосторожности собрал сведения и об остальных жильцах дома. Квартиру первого этажа напротив Бауманиса занимала вдова Скоростина, тихая молодая женщина; жила она тем, что сдавала комнату студенту Калныню да, по слухам, распродавала семейные драгоценности. На втором этаже была квартира Мери, а напротив — частное книжное агентство, принадлежавшее какому-то Буртниеку. В верхних этажах располагались кредитное общество, склад мануфактуры и зубоврачебный кабинет. Солидный дом с солидными жильцами, в котором работник гестапо мог чувствовать себя в полной безопасности. — Хелло, Мери, ужин готов? — спросил Рауп-Дименс, сбрасывая с себя шинель. В полуоткрытой двери показались огненные кудри Марлены. — Милый, пожалуйста, называй меня моим настоящим именем, — сказала она с упреком и вытянула губы для поцелуя. — Когда ты зовешь меня Мери, мне так и кажется, что ты вспоминаешь какую-нибудь прежнюю свою знакомую, англичанку. Ну иди же, чай остынет. Да сотри губную помаду со щеки. Харальд посмотрел в зеркало. У него были густые темные волосы, светло-карие глаза, черные брови, сеть мелких морщинок вокруг глаз, прямой нос с едва заметной горбинкой, тонко очерченные, слегка подергивающиеся губы и короткий, точно обрубленный подбородок. Мери находила, что лицом он похож на известного киноактера Вольфа Албаха-Рети. Это в некоторой мере льстило Харальду. Однако он был уверен, что наследник Рауп-Дименса мог быть похожим и на Квазимодо — все равно успех у женщин был бы ему обеспечен. Когда они уселись за столик под красивой стоячей лампой (подарок Харальда) и оберштурмфюрер уже собирался включить большой девятиламповый приемник (тоже его подарок), Мери вдруг принялась изливать ему свои горести. Ее жалобы, правда, не встречали должного сочувствия, потому что Рауп-Дименса сейчас занимало другое: как раз в это время из Лондона передавали последние известия. И хотя Харальд считал, что в них тоже немало измышлений, все же он доверял им больше, чем напыщенному бахвальству Ганса Фриче.[11] Марлена негодовала. Только из боязни размазать тушь с ресниц она удерживалась от слез. — Представь себе! Когда я сегодня утром покупала в магазине шелк на халат, какие-то старухи начали за моей спиной шептаться: “Вот эта девка с немцами шляется. У нее небось купонов хватает”. Эти латыши наглеют с каждым днем. Рауп-Дименс иронически усмехнулся: — Будто ты сама не латышка… — Да, но ведь у меня нет ничего общего с простым народом, который вас ненавидит. Харальд! — И она порывисто обняла его. — Нельзя ли поскорее истребить большевиков?.. Харальд стряхнул пепел с сигареты. — Не волнуйся. Всему свое время… Недавно, правда, один из кандидатов на виселицу ускользнул от нас. Но ничего, рано или поздно я затяну петлю и у него на шее…6
В том же доме, только этажом ниже, жил Янис Даугавиет, записанный в домовой книге как Дзинтар Калнынь. Его комната была обставлена лишь самыми необходимыми вещами. Только на стенах, как это часто бывает в мещанских квартирах, красовались репродукций картин и фотографий знаменитых кинозвезд. Эту безвкусную коллекцию, над которой Янис сам частенько посмеивался, пополняли несколько открыток со слащавыми любовными парочками. На старомодной этажерке стояли сборники песен, рядом с учебниками студента инженерного факультета — собрание сочинений Порука[12] и несколько романов издательства “Друг книги”. Янис долго размышлял над тем, какое занятие помогло бы ему лучше всего скрыть свою настоящую работу, и наконец решил остановиться на учебе в университете. Студенту легче располагать своим временем, посещать лекции можно по собственному усмотрению, сокурсникам можно сказать, что зарабатываешь на жизнь частными уроками… На лекции Даугавиет ходил довольно редко, потому что типография и организационная работа отнимали много времени, но все же он старался сдавать экзамены в срок, чтобы ничем не отличаться от остальных студентов. Вот и сейчас Янис склонился над учебником аналитической геометрии. Трудно сосредоточиться, когда мысли все время заняты делами, связанными с подпольной работой. Порой Даугавиету казалось, что он не выдержит напряжения, не сможет больше вести жизнь, требующую постоянной мобилизации всех сил. Никогда, ни на секунду не выходить из роли, даже во сне быть начеку — такая жизнь, конечно, основательно расшатывала нервы. Но всякий раз, когда Яниса охватывало желание попросить, чтобы на его место назначили другого, а самому разрешили уйти к партизанам, он вспоминал разговор с секретарем Центрального Комитета. Разговор этот происходил в один из последних дней июня 1941 года в освещенном настольной лампой большом кабинете. Их все время прерывали: то бойцы рабочей гвардии входили за приготовленными для эвакуации бумагами, то телефон непрерывным звонком оповещал, что Москва на проводе. За окнами, закрытыми черными шторами, слышался необычный для столь позднего часа шум уличного движения. Свет лампы под зеленым абажуром отбрасывал на стену два гигантских силуэта, и Даугавиету казалось, что никогда в жизни ему не забыть ни этих теней, ни испытующих умных глаз, следящих за ним из-под густых нависших бровей. Вдалеке протяжно завыла сирена, ей тотчас стали вторить воющие голоса других сирен. Это был зловещий оркестр, своей пронзительной увертюрой предвещавший очередной налет вражеской авиации. — Мы позаботимся о том, чтобы у вас была постоянная связь с Центральным Комитетом, где бы он ни находился, — сказал секретарь. — Ни на минуту не забывайте, что главный участок вашей работы — типография. Не делайте ничего такого, что могло бы поставить под угрозу типографию… Сами понимаете, работать будет нелегко, — заметил секретарь после небольшой паузы. — Выдержите?.. …Из кухни доносилось тихое шипение чайника. Надя, должно быть, начала готовить ужин. Янис представил себе, как она раздувает огонь, как мягким женственным движением приглаживает растрепавшиеся волосы. Даугавиету вспомнилось, как он впервые увидел майора медицинской службы Надежду Цветкову. Он нашел ее на мостовой, раненную. Сквозь гимнастерку сочилась кровь. Бледное, искаженное болью лицо, мягкие, цвета льна волосы, разметавшиеся на грязных камнях, рука, судорожно сжимающая санитарную сумку. Рядом лежал красноармеец, которого она хотела перевязать. У бойца были раздроблены обе ноги. Он уже не дышал. Даугавиет тщетно пытался носовым платком перевязать раненую и приостановить кровь. Молодая женщина подняла тяжелые веки. Глаза ее казались удивительно прозрачными, точно две большие капли из горного озера. — В моей сумке бинт, — с трудом проговорила она. Неловкими пальцами, боясь резким движением причинить ей боль, Янис перевязал рану. Надежда с трудом заговорила, даже пыталась улыбнуться. — Так… теперь ничего… только… вряд ли поможет… Сама врач, знаю… ранение тяжелое. В кармане записная книжка… На всякий случай выньте. Там адрес мужа… Напишите ему… Фашисты уже форсировали Даугаву. Янис решил отнести раненую к себе домой. Не так-то легко было с ношей на руках пробираться несколько кварталов под обстрелом. Часто приходилось делать передышку. Домой Даугавиет добрался уже затемно. Это было к лучшему — никто не заметил, как он внес Надежду в квартиру соседей. Старая Элиза Свемпе принялась самоотверженно за ней ухаживать. Янис достал для нее паспорт, и Надежда Цветкова превратилась в Ядвигу Скоростину из Резекне. Цветкова поправилась как раз к тому времени, когда вся работа по устройству типографии была закончена и Даугавиету понадобился надежный помощник. Ему приходилось подолгу отлучаться из дому, а оставлять квартиру без присмотра нельзя ни на минуту. Кто-то должен был постоянно охранять вход в подпольную типографию и в случае тревоги предупредить сигналом об опасности тех, кто внизу печатал листовки. Надя оказалась отличным помощником и добрым другом. Без нее жизнь была бы намного труднее. Как и всегда, думая о Наде, Янис в душе стеснялся своей сентиментальности. Он зашагал по комнате, вполголоса напевая любимую старую песенку, слова которой понемногу стирались из памяти: Не ветвь оливы, а ружье сжимаешь, И вместо кастаньет — орудий гром. “No passaran!” — упрямо повторяя, В бой за Мадрид с любимой мы идем. Быть может, навсегда умолкнет сердце, Но нам с тобой неведом жалкий страх. Пусть знает враг — любовь сильнее смерти, Живет Испания у нас в сердцах. Дверь отворилась, и вошла Надежда. — Янис, что это за песенка? В первый раз ее слышу, — удивленно сказала она. Надежда уже довольно хорошо говорила по-латышски. Тем не менее Янис иногда урывал время, чтобы позаниматься с ней. — Этой песне меня научил друг юности, Крауя, командир роты Интернациональной бригады. Помню, как, слушая его, я пытался представить себе раскаленное полуденное небо Испании, пулеметное гнездо в горах Гвадаррамы и черноволосого бойца, который в минуту короткого отдыха перебирает струны гитары и поет о своей любви… Даже слезы на глаза навернулись, может, от мыслей о героях Испании, может, от чего другого… Надежда удивилась: — Слезы? У тебя? Вот уж никогда бы не поверила! При твоем характере… Янис опустил голову. Да, суровым он стал теперь, скрытным, замкнутым. В особенности при Наде… Этого требовали тяжелые условия борьбы. Но в глубине души он знал, как трудно не дать чувству вырваться на волю! “Вам придется отказаться от личной жизни”, — сказал ему тогда секретарь. — К чему рассуждать о том, каков я на самом деле и каким кажусь… Ты лучше скажи, понравилась ли тебе песенка. — Грустная немножко, но красивая. Слушала ее и вспоминала Сережу, всю нашу прошлую жизнь. Увидимся ли мы когда-нибудь? — Я в это верю, Надя, — твердо сказал Янис. — Ты просто хочешь меня успокоить. Вот уже пять месяцев прошло с тех пор, как я послала письмо через партизанский штаб. Ведь за это время мы получали из Москвы сообщения, а о Сереже ни слова. Он летчик… сам понимаешь, что это значит… Янис молчал. Он знал, что никакими словами тут не поможешь. Лучше отвлечь Надю от тяжелых мыслей, развеять тоску песней. Но, как это бывает со многими, напевая любимую песенку, Янис превращался из подпольщика, взвешивающего каждое слово, каждый жест, каждый свой шаг, в простого человека с открытой душой. И снова в песне прозвучал отголосок чувства, в котором сам Янис еще не отдавал себе отчета. Надежда отвернулась. То, чего Даугавиет еще не понимал, она чувствовала уже давно и, чтобы отвлечь его, сказала деловым тоном: — Слушай, Янис, позволь мне все же работать в типографии. Я быстро выучусь. — Нет, — резко ответил Даугавиет, — тебе с простреленным легким туда нельзя. До прихода нового товарища я сам справлюсь. — И, не желая продолжать разговор, вышел из комнаты.7
В том же доме в соседней квартире Скайдрите Свемпе расчесывала свои густые каштановые волосы. — Ты, доченька, уже заходила к соседу? — спросила Элиза, устраиваясь на старомодной кушетке, чтобы дать хоть небольшой отдых усталым, больным ногам. — Сейчас, мама, сейчас побегу спрошу… Девушка отворила дверь и недовольно сморщила нос. Опять показалось… Но что поделать, если даже теперь ей всюду чудится противный запах рыбьего жира. В этом отношении Скайдрите не изменилась — она по-прежнему, как и в детстве, терпеть не могла этого снадобья. Напрасно мать в свое время внушала девочке, что от трех столовых ложек рыбьего жира в день щеки у нее станут круглые и румяные. Скайдрите всегда казалась такой хрупкой и слабенькой, что невольно хотелось обнять худые плечики девочки и оградить ее от суровых ветров жизни. Но зато посмотрели бы вы на нее в праздник Лиго! В венке из ромашек и васильков, украшавшем ее непокорные кудри, она становилась на редкость привлекательной. А как бесстрашно прыгала она через костер! Только искры разлетались во все стороны. И тогда все видели, что Скайдрите совсем не такое уж хрупкое создание. Сейчас рыбьего жира не достать ни за какие деньги. Лицо Скайдрите вытянулось, черты его заострились, и все же оно оставалось по-юному свежим, несмотря на тяготы теперешней жизни. Что касается праздника Лиго, то с 1941 года у нее именно с этим днем связаны самые мрачные воспоминания. Как раз в день праздника она, сидя в переполненном автобусе, с недоумением и тревогой смотрела на зреющие нивы, на тучные налитые колосья. Неожиданное нападение фашистов прервало ее отдых у родных в деревне. Девушка-кондуктор в блузке, покрытой темными пятнами пота, рассказывала, что им всем велено взять одежду и трехдневный запас продовольствия. Стемнело. Автобус медленно пробирался между телегами и военными машинами. Двое юношей на переднем сиденье запели песню, ставшую особенно популярной за последнее время: “Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути”. Песня так верно выражала общее настроение, что даже Скайдрите, не отличавшаяся особой музыкальностью, принялась громко подтягивать. Увлеченные песней, пассажиры автобуса вначале не обратили внимания на прерывистый, постепенно нарастающий гул. Только когда автобус остановился и внезапно наступившую тишину вдруг прервали оглушительные взрывы, они поняли, что вражеские самолеты бомбят шоссе. Где-то загорелся лес. “Костер в праздник Лиго…” — с горечью подумала Скайдрите. Она не испытывала страха и неохотно послушалась кондуктора, приказавшего всем выйти и залечь в канаве. Но едва она успела улечься, как рокот вдруг превратился в жуткий пронзительный вой. В траве засвистели пули, совсем низко, над ее головой, промелькнуло крыло с черным крестом. Не помня себя от страха, она уткнулась лицом прямо в грязь. Когда земля перестала содрогаться и Скайдрите открыла глаза, первое, что она увидела, был пылающий автобус, а рядом с машиной — тело шофера. — Доченька, что с тобой? На кого ты похожа! — спрашивала вконец перепуганная мать, когда Скайдрите в порванной юбке, в мокрых и грязных туфлях ночью ввалилась в комнату. Лицо Скайдрите отмыла в каком-то ручье, но запекшаяся возле царапины кровь темнела, точно пятно на белой ткани. — Ничего, ничего, — пыталась она успокоить мать, но сама, обессилев, упала на стул. Элиза Свемпе зажгла свет, но тотчас в страхе повернула выключатель. А что, если фашисты заметят свет с самолета и бросят бомбу? За короткое мгновение Скайдрите успела заметить, что обычно такая уютная комната стала совсем чужой. Только спустя некоторое время, когда глаз привык к белесому сумраку июньской ночи, девушка поняла, в чем дело. Это заклеенные бумажными крестами окна придавали, комнате сходство с клеткой. — Мамочка, ты уже уложила вещи? — Какие вещи, Скайдрите? — в недоумении спросила мать. — Мы же не собираемся никуда уезжать… — Как, мама, разве ты хочешь остаться?! — Уехать… Я бы с радостью, но… В наружной двери почти бесшумно повернулся ключ, и в комнату вошел дядя Скайдрите, старый Донат Бауманис. Несмотря на волнение, девушка все же обратила внимание на то, что теперь, в дни войны, дядя Донат вернулся к своей давнишней странной привычке бродить по ночам. Помнится, когда Скайдрите была еще подростком, ее часто будили осторожные шаги — это дядя Донат под утро возвращался домой. Многое ей было непонятно в этом спокойном, добродушном, замкнутом человеке. До установления Советской власти ему принадлежал четырехэтажный дом, и все же у него никогда не было ни гроша за душой. Матери, ведавшей скромным хозяйством своего брата, приходилось наниматься на поденную работу, чтобы раздобыть средства на учебу дочери. Куда же он девал деньги, полученные от жильцов? Уж не играл ли дядя Донат по ночам в карты? Эта мысль не раз приходила девочке в голову. Но если это было так, то дядя очень ловко умел скрывать свою страсть. Ведь когда к ним изредка приходили гости и кто-нибудь, случалось, предлагал перекинуться в подкидного дурака или в “свои козыри”, старый Бауманис всегда отказывался, уверяя, что он ничего в картах не смыслит и не умеет отличить короля от валета. Скайдрите обратилась к дяде за поддержкой: — Дядя Донат, ты ведь тоже поедешь с нами, правда? Скажи маме, чтобы она поскорее собиралась. Мать и дядя переглянулись. Скайдрите тщетно пыталась понять, что это значило. Потом старик кашлянул, погладил племянницу по голове и, вынув изо рта трубку, сказал: — Нет, Скайдрите, мы с матерью уже старики. Мы никуда не поедем. Всякий раз, когда Скайдрите вспоминала эту роковую ночь, ей казалось, что один только дядя Донат виноват в том, что они остались. С тех пор Скайдрите не могла найти с ним общего языка. С каждым днем старик становился все более странным. То у него вдруг непонятно откуда появлялись деньги на капитальный ремонт дома, то не хватало нескольких марок, чтобы выкупить скудный паек. Правда, по ночам дядя перестал исчезать, но зато он теперь целыми днями торчал на улице с метлой в руках, хотя, по мнению Скайдрите, на тротуаре уже нечего было подметать, так как не осталось ни единой соринки. …Пригладив еще раз и без того аккуратно причесанные волосы, Скайдрите постучала в дверь соседней квартиры. Девушку впустила Надежда, которую Скайдрите знала как Ядвигу Скоростину. Эта молодая женщина была единственным человеком, с которым Скайдрите могла делиться своими мыслями и чувствами. Мать всегда была занята — она следила за порядком в доме, а кроме того, работала уборщицей в гостинице. Студента Калныня Скайдрите никак не могла понять. Вначале он показался ей очень славным. Однако Скайдрите довольно скоро почувствовала, что Калнынь всячески избегает серьезных разговоров. Временами девушке даже казалось, что он ей в чем-то не доверяет. Словом, единственным ее другом и поверенным оставалась Надя. — Мама велела узнать, нужно ли ей завтра убирать квартиру? — спросила Скайдрите, входя в комнату. Янис пожал гостье руку. — Попроси ее прийти… Ну, что нового на свете? — Что же может быть нового? — с досадой ответила девушка. — Мария Заринь опять щеголяет в новом пальто. Наверное, ее гестаповец получил еще одну премию за какое-нибудь злодейство. Не понимаю, как дядя может терпеть такую тварь в своем доме! — Это не наше дело, Скайдрите, — заметила Надежда. — Что пользы, если она поселится в другом месте? Горячность Скайдрите радовала Яниса. Из этой девушки выйдет толк. Но ей не к чему знать, что старый Донат уже давно собирался выселить Марию Заринь из квартиры. Янис с этим не согласился. Выследив немецкого офицера, по вечерам посещавшего квартиру Заринь, он узнал, что это крупный работник гестапо, и тогда Янис припомнил старую пословицу о том, что злая собака только на чужих лает, а своих не кусает. Шпикам нечего вынюхивать в доме, который постоянно посещает их начальник. Даугавиет все еще не мог простить себе встречу с человеком, рекомендованным Апсе. Он даже не мог ручаться, что не попался на удочку. Как настойчиво провокатор старался рассмотреть его лицо! Следы удалось замести, Апсе предупрежден. А что, если провокатору при свете спички все же удалось увидеть его лицо? Проклиная вынужденное бездействие, Янис все же решил хотя бы неделю не показываться на улице. Вот почему он до сих пор не установил связь с приехавшим в Ригу юношей, который прислан для работы в типографии. Янис ушел в ванную комнату, и если через несколько минут кому-нибудь вздумалось бы тайком обыскать квартиру, то в ней нашли бы только Надежду.8
В том же доме, только этажом выше, Элиза Свемпе нажала кнопку звонка у дверей книжного агентства. Дверь открыл Висвальд Буртниек, единственный владелец фирмы, одновременно исполняющий обязанности “служебного персонала”. Заказов он, правда, не разносил, поручая это ответственное дело матери Скайдрите. — Добрый вечер, господин Буртниек. Сегодня много книг надо разнести? — громко спросила Элиза Свемпе, едва успев переступить порог. — Кое-что есть. Потом еще придется сходить на почту: надо отправить несколько бандеролей клиентам из провинции. Дверь затворилась. На прилавке перед Элизой лежало несколько аккуратных пакетов, обернутых в толстую бумагу со штемпелем “Печатные издания”. Одни пакеты перевязаны черным шнурком, другие — белым. Сосчитав заказы, старая Элиза тяжело опустилась в потрепанное кожаное кресло. — Уж годы не те! Бывало, поднималась на шестой этаж без всякой одышки. А теперь вот к вечеру ноги так и подкашиваются. Буртниек снял очки и стал протирать их носовым платком. — Знаю, знаю, Элиза, тебе еще труднее, чем всем нам. Но что поделаешь? Сегодня непременно надо отнести. Ведь люди ждут. — Да разве я жалуюсь… Много сегодня приходило клиентов? — Как всегда, — ответил Буртниек, пряча застенчивые близорукие глаза за толстыми стеклами очков. — Приезжал шофер генерала Хартмута, заходил Макулевич… Одним словом, все та же карусель. — Макулевич?.. Тот чудак, что сочиняет французские стишки? У бедняги, кажется, в голове винтиков не хватает. Элиза принялась складывать бандероли в свою большую базарную сумку, а сверху прикрыла их немецкими иллюстрированными журналами. Висвальд Буртниек запер за ней дверь и уселся в то же самое кресло, с которого только что поднялась Элиза. Он тоже неважно чувствовал себя по вечерам. Пошаливало сердце. Sclerosis aortae[13] — это звучало красиво, почти как гекзаметр Горация. Но если наступала “цезура” — как, иронизируя над собой, называл Буртниек свои сердечные припадки, — он горько упрекал себя за то, что весной 1941 года отказался от путевки на Кавказ в санаторий. Теперь уж лечиться было невозможно. Неудивительно, что сердце Буртниека часто бастовало. Он мало берег его в дни молодости. Буртниек родился в бедной трудовой семье. Приобрести знания, чтобы передавать их другим, стало целью и смыслом его жизни. Перебиваясь случайными заработками, он благодаря необычайному упорству умудрился окончить университет. Но случилось так, что диплом, торжественно врученный ему самим ректором, не внес в его жизнь ни малейшего облегчения. Все оказалось напрасным: долгие годы лишений, когда приходилось перебиваться е хлеба на воду, бессонные ночи за книгами, ставшие причиной хронических головных болей… Как и многие окончившие университет в буржуазной Латвии, Висвальд так и не смог найти работу по специальности. Но именно пережитое вывело его на правильный путь… Буртниек был человеком общительным. Однако теперь, в силу особых обстоятельств, он безропотно отказался от многих довоенных знакомств. Единственные люди, с которыми ему случалось поговорить, были соседи да немногочисленные посетители агентства. Взять, к примеру, генерала Хартмута, который собирал детективную литературу на разных языках. Просто непонятно, что он делал с этими книгами, потому что, кроме немецкого, генерал ни одним другим языком не владел. Сам он редко появлялся в конторе Буртниека, но зато часто посылал за книгами своего шофера Бауэра, который казался Буртниеку куда образованней своего начальника. Бауэра хотя бы потому можно было причислить к приятным посетителям, что он никогда не кричал на пороге: “Хайль Гитлер!” Заказанные начальником книги его ничуть не интересовали, зато сегодня он выпросил у Буртниека запрещенный в фашистской Германии сборник стихотворений Гейне и новеллы Стефана Цвейга. — Это же не арийские авторы, — иронически заметил Буртниек. — Лучше почитайте Ницше “Так говорил Заратустра”.
Ефрейтор Бауэр усмехнулся:
— Так говорил фюрер… Для меня “нечеловек” Гейне все же милее “сверхчеловека” Ницше с его философией насилия.
Уходя, ефрейтор Бауэр столкнулся в дверях с Макулевичем. Последний, как обычно, изысканно аристократическим жестом снял старую, протертую до подкладки шляпу и отвесил низкий поклон. Затем он положил шляпу под стул, как это было принято делать в прошлом веке, швырнул в нее неизъяснимого цвета перчатки и стал скромно ждать, когда Висвальд первым протянет руку.
Буртниека всегда немного забавлял этот чудак, все поведение которого было до удивления странным. Однако тех, кто знал прошлое Макулевича, не очень уж удивляли странности этого человека. Отцу Макулевича некогда принадлежал небольшой ювелирный магазин на улице Тиргоню, что дало ему возможность отправить сына учиться во Францию. Старый ювелир неожиданно обанкротился и, будучи не в силах перенести позор, повесился в день аукциона. Мать Макулевича от горя вскоре умерла, а ее сын Антон, совершенно не подготовленный к обрушившимся на него жестоким ударам судьбы, слегка помешался. Ему казалось, что рухнули самые основы бытия. Он влачил жалкое существование и постепенно пришел к выводу, что жизнь человека — лишь сплошное недоразумение.
— Как изволите сегодня чувствовать себя, досточтимый господин Буртниек? — спросил Макулевич пискливым женским голосом, обнажая в любезной улыбке неровный ряд зубов. — Не беспокоит ли сердце?
— Нет, пока работает сносно, — коротко ответил Буртниек.
Макулевич удовлетворенно кивнул головой, покрытой редкими волосами такого же неопределенного цвета, как и его изношенные перчатки.
— Благодарение богу, высокочтимый друг. Кстати, все гениальные люди были подвержены этому недугу. Так, например, великий мыслитель Монтангардо умер от разрыва сердца, узнав, что его жена родила двойню.
— Но, по-моему, это весьма радостное известие!
— Вы глубоко заблуждаетесь, высокочтимый господин Буртниек. Жизнь есть лишь трагическое недоразумение. Любовь между представителями обоих полов преступна, ибо ведет к продолжению сего недоразумения. Единственное, что может быть приемлемым для человечества, — это уничтожение, смерть! Вот что меня примиряет с фашистами. Они несут человечеству неизмеримые страдания, уничтожают памятники культуры, но ведь важен конечный результат — исход. Нацисты сначала уничтожат своих противников, затем начнут уничтожать самих себя, пока наконец в мире не останется ни одного человека. И тогда абсолютная смерть вступит в свои извечные права, только смерть воцарится в космосе.
— Интересно знать, откуда вы эту кровожадную философию выкопали? — спросил Буртниек.
— Кровожадную? Как раз наоборот, уважаемый коллега. Разве вы не видите, что за этими воззрениями скрывается величайший гуманизм? Смерть — избавительница, и я желаю смерти всем своим ближним.
— Но ведь сами-то вы, насколько я понимаю, вовсе не собираетесь умирать?
— Мне прежде нужно закончить сборник сонетов “Le bonheur des morts”.[14] Он будет состоять из пятнадцати венков сонетов, первые строки которых, в свою очередь, составят сплетенный из них последний, шестнадцатый венок. Пока я написал всего лишь третью часть сборника. Однако это не единственная причина. Дело в том, что меня страшит сознание того, что мои бренные останки смешаются с землей, которая вновь порождает жизнь.
— Это же не арийские авторы, — иронически заметил Буртниек. — Лучше почитайте Ницше “Так говорил Заратустра”.
Ефрейтор Бауэр усмехнулся:
— Так говорил фюрер… Для меня “нечеловек” Гейне все же милее “сверхчеловека” Ницше с его философией насилия.
Уходя, ефрейтор Бауэр столкнулся в дверях с Макулевичем. Последний, как обычно, изысканно аристократическим жестом снял старую, протертую до подкладки шляпу и отвесил низкий поклон. Затем он положил шляпу под стул, как это было принято делать в прошлом веке, швырнул в нее неизъяснимого цвета перчатки и стал скромно ждать, когда Висвальд первым протянет руку.
Буртниека всегда немного забавлял этот чудак, все поведение которого было до удивления странным. Однако тех, кто знал прошлое Макулевича, не очень уж удивляли странности этого человека. Отцу Макулевича некогда принадлежал небольшой ювелирный магазин на улице Тиргоню, что дало ему возможность отправить сына учиться во Францию. Старый ювелир неожиданно обанкротился и, будучи не в силах перенести позор, повесился в день аукциона. Мать Макулевича от горя вскоре умерла, а ее сын Антон, совершенно не подготовленный к обрушившимся на него жестоким ударам судьбы, слегка помешался. Ему казалось, что рухнули самые основы бытия. Он влачил жалкое существование и постепенно пришел к выводу, что жизнь человека — лишь сплошное недоразумение.
— Как изволите сегодня чувствовать себя, досточтимый господин Буртниек? — спросил Макулевич пискливым женским голосом, обнажая в любезной улыбке неровный ряд зубов. — Не беспокоит ли сердце?
— Нет, пока работает сносно, — коротко ответил Буртниек.
Макулевич удовлетворенно кивнул головой, покрытой редкими волосами такого же неопределенного цвета, как и его изношенные перчатки.
— Благодарение богу, высокочтимый друг. Кстати, все гениальные люди были подвержены этому недугу. Так, например, великий мыслитель Монтангардо умер от разрыва сердца, узнав, что его жена родила двойню.
— Но, по-моему, это весьма радостное известие!
— Вы глубоко заблуждаетесь, высокочтимый господин Буртниек. Жизнь есть лишь трагическое недоразумение. Любовь между представителями обоих полов преступна, ибо ведет к продолжению сего недоразумения. Единственное, что может быть приемлемым для человечества, — это уничтожение, смерть! Вот что меня примиряет с фашистами. Они несут человечеству неизмеримые страдания, уничтожают памятники культуры, но ведь важен конечный результат — исход. Нацисты сначала уничтожат своих противников, затем начнут уничтожать самих себя, пока наконец в мире не останется ни одного человека. И тогда абсолютная смерть вступит в свои извечные права, только смерть воцарится в космосе.
— Интересно знать, откуда вы эту кровожадную философию выкопали? — спросил Буртниек.
— Кровожадную? Как раз наоборот, уважаемый коллега. Разве вы не видите, что за этими воззрениями скрывается величайший гуманизм? Смерть — избавительница, и я желаю смерти всем своим ближним.
— Но ведь сами-то вы, насколько я понимаю, вовсе не собираетесь умирать?
— Мне прежде нужно закончить сборник сонетов “Le bonheur des morts”.[14] Он будет состоять из пятнадцати венков сонетов, первые строки которых, в свою очередь, составят сплетенный из них последний, шестнадцатый венок. Пока я написал всего лишь третью часть сборника. Однако это не единственная причина. Дело в том, что меня страшит сознание того, что мои бренные останки смешаются с землей, которая вновь порождает жизнь.
 Буртниек закусил губу, стараясь скрыть усмешку. Самым забавным казалось, что Макулевич совершенно искренне верил в свою “теорию”. Что толку спорить с этим человеком, чьи подчеркнуто изысканные манеру пресыщенного жизнью аристократа являли столь вопиющий контраст с его внешним видом: потрепанной одеждой и много раз заплатанной обувью.
После пространного, длившегося чуть ли не целый час вступления Макулевич наконец сообщил о цели своего визита.
— Скажите, пожалуйста, не могу ли я затруднить вас одним вопросом? Быть может, вы уже получили заказанный мною сборник стихотворений Мориса Керковиуса, изданный самим автором в 1827 году в количестве двадцати пяти экземпляров?
Буртниек снова подавил улыбку. Значит, этот чудак спустя год все еще не потерял надежды получить книгу, отыскать которую было так же трудно, как найти здравую мысль в голове самого Макулевича.
…Так, сидя в кресле, бывший аспирант кафедры древних языков Висвальд Буртниек, закрыв ладонями изрытое оспой лицо, казавшееся высеченным из пористого камня, перебирал в памяти события дня. Когда он поднялся, чтобы перейти в соседнюю комнату, служившую спальней, раздался звонок.
За дверью стоял Янис Даугавиет.
Буртниек закусил губу, стараясь скрыть усмешку. Самым забавным казалось, что Макулевич совершенно искренне верил в свою “теорию”. Что толку спорить с этим человеком, чьи подчеркнуто изысканные манеру пресыщенного жизнью аристократа являли столь вопиющий контраст с его внешним видом: потрепанной одеждой и много раз заплатанной обувью.
После пространного, длившегося чуть ли не целый час вступления Макулевич наконец сообщил о цели своего визита.
— Скажите, пожалуйста, не могу ли я затруднить вас одним вопросом? Быть может, вы уже получили заказанный мною сборник стихотворений Мориса Керковиуса, изданный самим автором в 1827 году в количестве двадцати пяти экземпляров?
Буртниек снова подавил улыбку. Значит, этот чудак спустя год все еще не потерял надежды получить книгу, отыскать которую было так же трудно, как найти здравую мысль в голове самого Макулевича.
…Так, сидя в кресле, бывший аспирант кафедры древних языков Висвальд Буртниек, закрыв ладонями изрытое оспой лицо, казавшееся высеченным из пористого камня, перебирал в памяти события дня. Когда он поднялся, чтобы перейти в соседнюю комнату, служившую спальней, раздался звонок.
За дверью стоял Янис Даугавиет.
9
Когда Эрик проснулся у себя в номере, ему стало не по себе. Чужими казались эти когда-то безвкусно окрашенные, а теперь поблекшие стены в темных пятнах от выплеснутого пива или вина. Чужим было это запыленное тусклое окно, хмуро взиравшее на закопченные крыши, и этот таз с грязной мыльной водой, в которой плавала дохлая муха, и эта источенная жучком, неудобная кровать, всем своим видом словно старавшаяся напомнить приезжим, что они не дома. Чужой и пустой была вся эта комната в третьеразрядной захудалой гостинице, где Эрик Краповский жил уже несколько дней. Эрик поднялся, застелил постель, умылся, оделся и снова лег. Ничего другого не оставалось, как только ждать и ждать. После кипучей, полной напряжения и борьбы жизни, которую он вел в Елгаве, несколько дней вынужденного безделья казались ему теперь целой вечностью. Лежа на скрипучей кровати, Эрик перебирал в памяти прошлое: он вспомнил школьных товарищей, жаркий грохочущий прокатный цех Лиепайского металлургического завода, куда он носил отцу обед, многоголосый гомон в порту, где мальчишки так любили слоняться и глазеть на суда. Он вспомнил, как набирал заголовок передовой для газеты “Коммунист”: “Трудящиеся Лиепаи, к оружию!”, а через несколько часов сам уже держал в руках винтовку и, укрываясь от пуль, полз, прижимаясь к земле. Ноздри его щекотала такая мягкая и сочная трава, небо без единого облачка казалось таким ярким и близким, что Эрику совсем не хотелось умирать. Двадцать лет — не такой уж солидный возраст, а ведь в любую минуту он может расстаться с жизнью на залитом кровью Шкедском шоссе, где полегло уже немало героических защитников Лиепаи. И хотя Эрик Краповский совсем не хотел умирать, он, как и все комсомольцы Иманта Судмалиса,[15] сражался до последней минуты. Только чудом удалось ему вырваться из фашистского окружения. Когда Эрик, шагая по тенистой лесной тропе, вместо выстрелов услышал треск сухого хвороста под своими отяжелевшими ногами, лишь тогда он понял, что остался один. …Выбравшись из лесов и болот, Эрик некоторое время скрывался в деревне. Подпольная борьба началась для Эрика в Елгаве, где ему удалось связаться с подпольной коммунистической организацией. И вот неделю назад он получил новое задание; отправиться в Ригу, остановиться в этой гостинице и ждать человека, который за ним придет. Но рижского товарища все не было. А вдруг его арестовали, может быть, даже убили? А вдруг гестапо известно, для чего он, Эрик Краповский, прибыл в Ригу?.. Быть может, он сейчас упускает последнюю возможность спастись… Эрик встал с кровати и подошел к окну. Крыши, крыши, насколько видит глаз. И только кое-где, стиснутый каменными стенами, — одинокий каштан, на котором еще держатся последние порыжевшие листья. Моросит дождь. Мелкий серый дождик. Он наигрывает на железном карнизе однообразную мелодию, которой вторят соседние крыши. Дождь журчит в водосточных трубах. Дождь бьет по черным куполам зонтов, придающим улице такой мрачный вид. Кажется, дождю не будет конца. Эрик отошел от окна и снова лег. Он старался заснуть, но сон не шел. Медленно досчитал до тысячи. И это не помогло. Тогда он принялся разглядывать засиженный мухами потолок, разводы и пятна сырости; веки наконец отяжелели и сомкнулись. Но когда он повернулся на бок, пружины заскрипели, как несмазанные колеса, и сон прошел. Надев пальто, Эрик спустился в грязный вестибюль. Рядом со старым обтрепанным диваном в кадке, утыканной обгорелыми спичками и папиросными окурками, стояла пыльная пальма. Все помещение окутывал мглистый полумрак, только за стеклянной загородкой, где сидел швейцар, горела лампочка под матовым абажуром. На мгновение взгляд Эрика остановился на окне, в которое ударялись капли дождя и скатывались по тусклым стеклам, оставляя на них светлые бороздки, потом на расписании поездов, висящем на стене. Эрику вдруг представилось, что он находится в помещении какой-то маленькой дальней станции: вот сейчас придет поезд и увезет его куда-то далеко-далеко отсюда. Отогнав от себя эти ненужные мысли, Эрик обратился к швейцару: — Опять надо идти по делам. Попрошу мою командировку. — Сию минуту, пожалуйста… — Порывшись в пачке документов, старик вынул удостоверение. — Краповский? Из девятнадцатого номера? Вот, будьте любезны. Вы еще долго у нас пробудете? — Сами знаете, в наше время не так-то легко достать запасные части. Один посылает к другому, а наша фабрика тем временем вынуждена сокращать производство. Швейцар сочувственно кивнул головой. Выйдя из вестибюля, Эрик увидел молоденькую девушку. Капли дождя, словно прозрачные бусинки росы, блестели на ее волосах и лице. Следом за нею шагал эсэсовец. У дверей гостиницы девушка на мгновение, словно в нерешительности, остановилась. Офицер нагонял ее и уже собрался с нею заговорить, как вдруг девушка положила свою маленькую влажную ладонь на руку Эрика и произнесла торопливо: — Вот и я,Андр. Прости, милый, что заставила тебя ждать!10
В доме Доната Бауманиса почти одновременно отворились двери двух квартир. Сегодня Скайдрите встала позднее обычного. Шарканье метлы, доносившееся с улицы, давало знать, что старый Донат уже на посту. Мать давно ушла в гостиницу. Увидев, что она забыла на столе свой бутерброд, Скайдрите, сама не успев поесть, поспешила в гостиницу, чтобы отнести матери завтрак. Рауп-Дименс проснулся сегодня раньше обычного. Слышавшиеся из ванной плеск и журчание воды означали, что Мери уже приступила к ритуалу утреннего туалета. Когда бы Рауп-Дименс ни проснулся, оказывалось, что Мери уже успела “отделать лицевой фасад”. Оберштурмфюреру в этот день предстояло много работы. Нужно допросить арестованного, который, вероятно, уже в состоянии говорить, нужно написать официальное донесение в Берлин и частное — отцу. Кроме того, он решил лично проконтролировать работу рижских агентов. В этакий дождь, надо сказать, — малоприятное развлечение. Харальд не выносил дождливой погоды. Он просто не понимал, как это иным людям нравится гулять под дождем. Вот, например, этой девушке, что идет впереди. Судя по тому, как она время от времени встряхивает головой, откидывая назад свои мокрые волосы, этот дождь, по-видимому, даже доставляет ей удовольствие. С ее каштановых кудрей, потемневших от влаги, каждый раз во все стороны разлетается множество брызг. У девушки легкая, упругая походка. Интересно, сколько ей может быть лет? Двадцать, не больше. С подола плаща капает вода и по простым коричневым чулкам затекает в дешевые синие туфли. Чулки не в его вкусе, но у девушки стройные ноги. Оберштурмфюрер зашагал быстрее. Девушка почувствовала, что за ней кто-то идет, и оглянулась. Рауп-Дименс увидел ее профиль. Красивой ее не назовешь, но естественная весенняя свежесть этого лица, столь резко отличающаяся от искусственно отдаляемого увядания Марлены, манила его. Маленький, чуть вздернутый нос, маленький рот, удивленные недоверчивые глаза. Заметив, что за ней увязался гестаповец, девушка ускорила шаг, но Рауп-Дименс не отставал. Должно быть, эта из тех, что ненавидит немцев. Тем лучше. Он ей покажет, что значит власть завоевателя! С этой девчонкой непременно нужно познакомиться! Почему бы не поохотиться на эту нежную серну? Когда девушка свернула направо, Рауп-Дименс заколебался лишь на мгновение. Он отлично знал, что стоит ему завертеться в карусели служебных дел, как он тотчас позабудет о своей прихоти. Надо завести с ней разговор сейчас же. Незнакомка замедлила шаги у дверей гостиницы. Рауп-Дименс подошел к ней совсем близко, заранее приготовив полульстивую, полуироническую фразу. Но не успел он и рта раскрыть, как она заговорила с каким-то парнем, стоявшим у дверей.
В первое мгновение Эрик растерялся. Но, тут же сообразив, в чем дело, постарался помочь девушке отделаться от преследователя. Она взяла Эрика под руку, точно старого знакомого, и они перешли на другую сторону. Некоторое время шли молча. Эрик был неразговорчив по натуре, а Скайдрите после внезапной смелой выходки вдруг оробела и замолчала, не зная, что сказать. Но, взглянув через плечо и убедившись, что на расстоянии нескольких шагов их преследует назойливый гестаповец, прошептала:
— Не знаю, что этой гадине вздумалось?
Юноша продолжал молчать.
Скайдрите испытующе покосилась на спутника: волосы цвета потускневшей меди клином падают на лоб. Брови редкие, гораздо светлее волос. Глаза голубые, прозрачные, поблескивают, точно вода из глубины колодца. Верхняя губа тонкая, энергичная, нижняя — полная, по-юношески нежная. От левого уголка рта до носа, странно нарушая симметричность черт лица, пролегает глубокая борозда шрама…
Эрик все еще молчал. Разговаривать с незнакомыми было для него вообще делом нелегким. Скайдрите стала нервничать.
— Вы, наверно, приезжий? — спросила она, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Почему вы так думаете?
— Я вижу, что вы читаете названия улиц, и потом, вы ведь вышли из гостиницы.
— Я приехал в командировку, — сказал Эрик, а про себя отметил, что девушка сообразительна. — По целым дням обиваю пороги разных учреждений и не знаю, сколько еще придется здесь проторчать.
Эти фразы Эрик по меньшей мере раз в день говорил швейцару. Вот и теперь он счел за лучшее повторить их, чтобы не вызвать подозрений. С командировочным удостоверением в руках, которым его снабдила елгавская подпольная организация, Эрик чувствовал себя довольно спокойно в гостинице и на улице.
— А вы где работаете? Или, может быть, учитесь? — в свою очередь, спросил Эрик, чтобы приостановить дальнейшие расспросы.
— Я уже кончила школу. А работать на фашистов — радости мало… Вы ведь тоже, верно, не по доброй воле это делаете?
Эрик сделал вид, что не расслышал ее вопроса.
— Ну хорошо, хорошо, я больше не стану мучить вас такими вопросами, — пообещала Скайдрите, почувствовав, что он не хочет отвечать. — Ну, а как вам нравится этот солдат в юбке? — спросила она, чтобы переменить тему, и указала глазами на идущую им навстречу пожилую немку в военной форме.
Эрик уже заметил, что для улиц оккупированной Риги характерны полупустые тротуары и переполненные мостовые. По мостовым маршируют гитлеровские солдаты, горланя свое оглушительное “Холри холра са-са”, громыхают грузовики, груженные боеприпасами и провиантом, скользят офицерские лимузины. На тротуарах совсем мало прохожих. Все спешат по своим делам, лишь “желтые фазаны”, как называли гитлеровских тыловиков, назло дождю лениво фланируют по улицам, наглым, оценивающим взглядом окидывая проходящих мимо женщин. Какая-то старушка в мокром платке хотела было войти в мануфактурный магазин. Увидев надпись “Только для вермахта и имперских немцев”, она в сердцах сплюнула и, что-то проворчав, пошла дальше.
“Фашистская зараза всюду, куда ни глянь, — подумал Эрик. — Честному человеку нечем дышать”. Словно прочитав его мысли, девушка вдруг тихо сказала:
— Никому не нравится такая жизнь.
— Да, погода просто отвратительная, — ответил Эрик, упрямо избегая разговоров о политике. — Сейчас, по-моему, польет как из ведра, — заметил он, посмотрев на серое небо, по которому плыла огромная черная туча.
Скайдрите шутливо нахмурила брови.
— Вы, должно быть, служите в метеорологическом бюро, раз так умело предсказываете погоду, — сказала она, но тут же спохватилась, что с незнакомым человеком неудобно разговаривать таким тоном, и, смутившись, прибавила: — Я, впрочем, должна перед вами извиниться. Ведь это из-за меня вы тут мокнете. Одно только утешение: завтра у того фашиста будет насморк.
Через несколько минут прогноз Эрика оправдался. Стоки по краям мостовой затопило водой. Пенящиеся потоки хлынули на тротуар, увлекая за собой пустые папиросные коробки, кожуру от яблок, клочки бумаги. Какая-то женщина делала отчаянные попытки раскрыть зонт. Редкие прохожие искали спасения в подворотнях или теснились у стен, под карнизами, которые кое-как защищали от дождя. Отряхивая блестящий прорезиненный плащ, оберштурмфюрер тоже укрылся в подворотне. Стоило ему там появиться, как она сразу же опустела: люди предпочитали ливень такому соседу.
Добежав до следующего угла, Скайдрите оглянулась. Дождь помог ей наконец избавиться от преследователя. Она протянула Эрику руку:
— Большое спасибо за помощь.
На мгновение задержав ее мокрую ладонь в своей руке, Эрик еще раз взглянул на незнакомку. Должно быть, из рабочей семьи… Ненавидит фашистов… Ему вдруг захотелось поговорить с ней еще. Он раскрыл рот, но, к собственному удивлению, смог пробормотать лишь что-то невнятное.
— Простите, пожалуйста, я не поняла, что вы сказали. — И Скайдрите посмотрела на него смеющимися глазами.
Эрик смутился.
— Может, пойдем погуляем? — несмело предложил он. — Дождь сейчас перестанет.
— В такую погоду? Что вы! Да к тому же… — Скайдрите хотела добавить, что ей надо отнести матери завтрак, но вовремя спохватилась. — Да к тому же мы ведь еще даже не знакомы. Меня зовут Скайдрите. — И, слегка покраснев, она в третий раз за этот короткий промежуток времени протянула ему руку.
— А меня зовут… — Он уже хотел было назвать себя Андрисом, но после недолгого колебания сказал свое настоящее имя. Зачем скрывать то, что легко можно узнать в гостинице?
С минуту они молча разглядывали друг друга, уже не как посторонние, которых свел неожиданный случай, а как люди, собирающиеся стать друзьями. Скайдрите чувствовала, что понравилась этому молчаливому, серьезному парню. Поэтому всю дорогу — ну, право же, чистое безумие гулять в такую дождливую осеннюю погоду! — она старалась воздерживаться от своих обычных шутливо-насмешливых выражений.
Так незаметно они дошли до парка.
— Может быть, посидим? — робко предложил Эрик, указывая на мокрую скамейку с вырезанным на спинке сердцем.
Эрик расстегнул пальто и покрыл им скамейку. Он сделал это не только из обычной вежливости. Его заботливость была проявлением нежности к девушке, которая казалась такой хрупкой и слабенькой. Впрочем, если судить по ее откровенным словам и по тому, как ловко она отделалась от фашистского офицера, Скайдрите, должно быть, не из трусливых. Ах, если б и он мог говорить так же свободно и непринужденно, как девушка! Как жаль, что нельзя продлить это знакомство. Нечто похожее чувствовала и Скайдрите. Она честно призналась себе в том, что Эрик ей понравился с первого взгляда.
…Девушка задрожала от холода. Сырость пробиралась сквозь тонкое пальто Эрика. Перед ними — пустая заброшенная детская площадка, желтый песок, почерневший от грязи. Только воробьи, по старой привычке, прыгали вокруг, в тщетных поисках хлебных крошек. Один из них с жадностью поглядывал маленькими глазками на бутерброд, торчавший из кармана Скайдрите.
На мгновение из-за туч вынырнуло солнце. Косые лучи его, похожие на столбы пыли, ярко окрасили серовато-желтые клубы дыма из заводских труб и усеявшие траву рыжие листья кленов. Каштановые волосы Скайдрите отливали золотом.
Эрик пристально вгляделся в лицо девушки.
— Мне почему-то казалось, что у вас серые глаза, — вдруг сказал он.
— А какие же они на самом деле?
— Не знаю, — ответил он и, помолчав, добавил: — Порой они кажутся карими, порой зелеными. А вокруг зрачков будто две тычинки, как у цветка. — Эрик смутился от столь поэтического сравнения. — Это очень редкое явление, — серьезно добавил он.
— Я весьма польщена! — засмеялась Скайдрите, но тут же изменила тон. — Нечего смеяться надо мной, а то я уйду. Ну ладно — “мир на земле”…
— “…и в человецех благоволение”, — иронически улыбаясь, закончил Эрик.
Вдруг Скайдрите тихонько вскрикнула и схватила Эрика за руку. Сзади, из-за кустов, выскочил какой-то человек без шапки, в расстегнутом пальто, с развевающимися концами кашне. Он пересек газон, перемахнул через обвитую проволокой ограду, оглянулся по сторонам, как затравленный зверь, и помчался дальше. Как только он исчез из виду, показались его преследователи: эсэсовец в сопровождении двух латышских шуцманов. Один из них, тяжело отдуваясь, на ходу выдохнул:
— Вы его видели? В какую сторону он побежал?
Руки Эрика и Скайдрите почти одновременно указали противоположную сторону. И в тот же миг их взгляды встретились. Эрик тотчас опустил глаза, но Скайдрите успела заметить в них то, что он старался скрыть.
Этот миг, когда они инстинктивно стали вместе плечом к плечу против общего врага, сблизил их больше, чем могло бы сблизить долгое знакомство.
Грянул выстрел. Скайдрите зажала ладонями уши.
— Все-таки поймали!..
Она вырвалась из рук Эрика, пытавшегося ее успокоить.
— Пустите меня! Спасибо, не надо провожать…
Когда девушка свернула направо, Рауп-Дименс заколебался лишь на мгновение. Он отлично знал, что стоит ему завертеться в карусели служебных дел, как он тотчас позабудет о своей прихоти. Надо завести с ней разговор сейчас же. Незнакомка замедлила шаги у дверей гостиницы. Рауп-Дименс подошел к ней совсем близко, заранее приготовив полульстивую, полуироническую фразу. Но не успел он и рта раскрыть, как она заговорила с каким-то парнем, стоявшим у дверей.
В первое мгновение Эрик растерялся. Но, тут же сообразив, в чем дело, постарался помочь девушке отделаться от преследователя. Она взяла Эрика под руку, точно старого знакомого, и они перешли на другую сторону. Некоторое время шли молча. Эрик был неразговорчив по натуре, а Скайдрите после внезапной смелой выходки вдруг оробела и замолчала, не зная, что сказать. Но, взглянув через плечо и убедившись, что на расстоянии нескольких шагов их преследует назойливый гестаповец, прошептала:
— Не знаю, что этой гадине вздумалось?
Юноша продолжал молчать.
Скайдрите испытующе покосилась на спутника: волосы цвета потускневшей меди клином падают на лоб. Брови редкие, гораздо светлее волос. Глаза голубые, прозрачные, поблескивают, точно вода из глубины колодца. Верхняя губа тонкая, энергичная, нижняя — полная, по-юношески нежная. От левого уголка рта до носа, странно нарушая симметричность черт лица, пролегает глубокая борозда шрама…
Эрик все еще молчал. Разговаривать с незнакомыми было для него вообще делом нелегким. Скайдрите стала нервничать.
— Вы, наверно, приезжий? — спросила она, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Почему вы так думаете?
— Я вижу, что вы читаете названия улиц, и потом, вы ведь вышли из гостиницы.
— Я приехал в командировку, — сказал Эрик, а про себя отметил, что девушка сообразительна. — По целым дням обиваю пороги разных учреждений и не знаю, сколько еще придется здесь проторчать.
Эти фразы Эрик по меньшей мере раз в день говорил швейцару. Вот и теперь он счел за лучшее повторить их, чтобы не вызвать подозрений. С командировочным удостоверением в руках, которым его снабдила елгавская подпольная организация, Эрик чувствовал себя довольно спокойно в гостинице и на улице.
— А вы где работаете? Или, может быть, учитесь? — в свою очередь, спросил Эрик, чтобы приостановить дальнейшие расспросы.
— Я уже кончила школу. А работать на фашистов — радости мало… Вы ведь тоже, верно, не по доброй воле это делаете?
Эрик сделал вид, что не расслышал ее вопроса.
— Ну хорошо, хорошо, я больше не стану мучить вас такими вопросами, — пообещала Скайдрите, почувствовав, что он не хочет отвечать. — Ну, а как вам нравится этот солдат в юбке? — спросила она, чтобы переменить тему, и указала глазами на идущую им навстречу пожилую немку в военной форме.
Эрик уже заметил, что для улиц оккупированной Риги характерны полупустые тротуары и переполненные мостовые. По мостовым маршируют гитлеровские солдаты, горланя свое оглушительное “Холри холра са-са”, громыхают грузовики, груженные боеприпасами и провиантом, скользят офицерские лимузины. На тротуарах совсем мало прохожих. Все спешат по своим делам, лишь “желтые фазаны”, как называли гитлеровских тыловиков, назло дождю лениво фланируют по улицам, наглым, оценивающим взглядом окидывая проходящих мимо женщин. Какая-то старушка в мокром платке хотела было войти в мануфактурный магазин. Увидев надпись “Только для вермахта и имперских немцев”, она в сердцах сплюнула и, что-то проворчав, пошла дальше.
“Фашистская зараза всюду, куда ни глянь, — подумал Эрик. — Честному человеку нечем дышать”. Словно прочитав его мысли, девушка вдруг тихо сказала:
— Никому не нравится такая жизнь.
— Да, погода просто отвратительная, — ответил Эрик, упрямо избегая разговоров о политике. — Сейчас, по-моему, польет как из ведра, — заметил он, посмотрев на серое небо, по которому плыла огромная черная туча.
Скайдрите шутливо нахмурила брови.
— Вы, должно быть, служите в метеорологическом бюро, раз так умело предсказываете погоду, — сказала она, но тут же спохватилась, что с незнакомым человеком неудобно разговаривать таким тоном, и, смутившись, прибавила: — Я, впрочем, должна перед вами извиниться. Ведь это из-за меня вы тут мокнете. Одно только утешение: завтра у того фашиста будет насморк.
Через несколько минут прогноз Эрика оправдался. Стоки по краям мостовой затопило водой. Пенящиеся потоки хлынули на тротуар, увлекая за собой пустые папиросные коробки, кожуру от яблок, клочки бумаги. Какая-то женщина делала отчаянные попытки раскрыть зонт. Редкие прохожие искали спасения в подворотнях или теснились у стен, под карнизами, которые кое-как защищали от дождя. Отряхивая блестящий прорезиненный плащ, оберштурмфюрер тоже укрылся в подворотне. Стоило ему там появиться, как она сразу же опустела: люди предпочитали ливень такому соседу.
Добежав до следующего угла, Скайдрите оглянулась. Дождь помог ей наконец избавиться от преследователя. Она протянула Эрику руку:
— Большое спасибо за помощь.
На мгновение задержав ее мокрую ладонь в своей руке, Эрик еще раз взглянул на незнакомку. Должно быть, из рабочей семьи… Ненавидит фашистов… Ему вдруг захотелось поговорить с ней еще. Он раскрыл рот, но, к собственному удивлению, смог пробормотать лишь что-то невнятное.
— Простите, пожалуйста, я не поняла, что вы сказали. — И Скайдрите посмотрела на него смеющимися глазами.
Эрик смутился.
— Может, пойдем погуляем? — несмело предложил он. — Дождь сейчас перестанет.
— В такую погоду? Что вы! Да к тому же… — Скайдрите хотела добавить, что ей надо отнести матери завтрак, но вовремя спохватилась. — Да к тому же мы ведь еще даже не знакомы. Меня зовут Скайдрите. — И, слегка покраснев, она в третий раз за этот короткий промежуток времени протянула ему руку.
— А меня зовут… — Он уже хотел было назвать себя Андрисом, но после недолгого колебания сказал свое настоящее имя. Зачем скрывать то, что легко можно узнать в гостинице?
С минуту они молча разглядывали друг друга, уже не как посторонние, которых свел неожиданный случай, а как люди, собирающиеся стать друзьями. Скайдрите чувствовала, что понравилась этому молчаливому, серьезному парню. Поэтому всю дорогу — ну, право же, чистое безумие гулять в такую дождливую осеннюю погоду! — она старалась воздерживаться от своих обычных шутливо-насмешливых выражений.
Так незаметно они дошли до парка.
— Может быть, посидим? — робко предложил Эрик, указывая на мокрую скамейку с вырезанным на спинке сердцем.
Эрик расстегнул пальто и покрыл им скамейку. Он сделал это не только из обычной вежливости. Его заботливость была проявлением нежности к девушке, которая казалась такой хрупкой и слабенькой. Впрочем, если судить по ее откровенным словам и по тому, как ловко она отделалась от фашистского офицера, Скайдрите, должно быть, не из трусливых. Ах, если б и он мог говорить так же свободно и непринужденно, как девушка! Как жаль, что нельзя продлить это знакомство. Нечто похожее чувствовала и Скайдрите. Она честно призналась себе в том, что Эрик ей понравился с первого взгляда.
…Девушка задрожала от холода. Сырость пробиралась сквозь тонкое пальто Эрика. Перед ними — пустая заброшенная детская площадка, желтый песок, почерневший от грязи. Только воробьи, по старой привычке, прыгали вокруг, в тщетных поисках хлебных крошек. Один из них с жадностью поглядывал маленькими глазками на бутерброд, торчавший из кармана Скайдрите.
На мгновение из-за туч вынырнуло солнце. Косые лучи его, похожие на столбы пыли, ярко окрасили серовато-желтые клубы дыма из заводских труб и усеявшие траву рыжие листья кленов. Каштановые волосы Скайдрите отливали золотом.
Эрик пристально вгляделся в лицо девушки.
— Мне почему-то казалось, что у вас серые глаза, — вдруг сказал он.
— А какие же они на самом деле?
— Не знаю, — ответил он и, помолчав, добавил: — Порой они кажутся карими, порой зелеными. А вокруг зрачков будто две тычинки, как у цветка. — Эрик смутился от столь поэтического сравнения. — Это очень редкое явление, — серьезно добавил он.
— Я весьма польщена! — засмеялась Скайдрите, но тут же изменила тон. — Нечего смеяться надо мной, а то я уйду. Ну ладно — “мир на земле”…
— “…и в человецех благоволение”, — иронически улыбаясь, закончил Эрик.
Вдруг Скайдрите тихонько вскрикнула и схватила Эрика за руку. Сзади, из-за кустов, выскочил какой-то человек без шапки, в расстегнутом пальто, с развевающимися концами кашне. Он пересек газон, перемахнул через обвитую проволокой ограду, оглянулся по сторонам, как затравленный зверь, и помчался дальше. Как только он исчез из виду, показались его преследователи: эсэсовец в сопровождении двух латышских шуцманов. Один из них, тяжело отдуваясь, на ходу выдохнул:
— Вы его видели? В какую сторону он побежал?
Руки Эрика и Скайдрите почти одновременно указали противоположную сторону. И в тот же миг их взгляды встретились. Эрик тотчас опустил глаза, но Скайдрите успела заметить в них то, что он старался скрыть.
Этот миг, когда они инстинктивно стали вместе плечом к плечу против общего врага, сблизил их больше, чем могло бы сблизить долгое знакомство.
Грянул выстрел. Скайдрите зажала ладонями уши.
— Все-таки поймали!..
Она вырвалась из рук Эрика, пытавшегося ее успокоить.
— Пустите меня! Спасибо, не надо провожать…
11
— Ну, доктор, мне уже можно выходить на улицу? — шутливо спросил Янис, входя в комнату Надежды. — Сперва следует посоветоваться с моим консультантом Донатом, — в том же тоне ответила Надежда. — Кроме шуток, Янис, не лучше ли подождать еще денька два? — Нет, откладывать больше нельзя. Сама понимаешь, как тяжело этому пареньку сидеть в гостинице и ждать. Такая бездеятельность здорово треплет нервы. А “квартире без номера” нужен жилец с крепкими нервами. Надежда придвинула стул поближе: — Можно поручить Элизе Свемпе привести его сюда. — Я уже думал об этом. Но лучше сперва самому посмотреть, что он собой представляет. Для этой работы нужен человек особой закалки. По-моему, куда легче взорвать поезд, чем на долгие месяцы отказаться от встреч с людьми, от солнца. А ведь он еще молод, Надя… — Ты прав. — И Надежда пригладила волосы женственным, мягким движением, которое так трогало Яниса. — Ты сегодня собираешься пойти к нему? А все-таки лучше бы еще денька два выждать, — снова повторила Надя и озабоченно посмотрела на Яниса. — Нечего меня без конца опекать! — буркнул Янис. — Хотя, быть может, ты и права… Ладно, пусть Элиза отнесет ему записку… Ну что, теперь ты довольна? — усмехнулся он.
Надежда не обиделась, отлично понимая, почему Янис с ней порой бывает так нарочито резок. Она спокойно продолжала гладить платье, светло-голубое, с белым воротничком, которое получила в подарок от Скайдрите. Оно выглядело чересчур детским и было ей узко. И хотя старый Донат утверждал, что в этом платье она выглядит, как гимназистка на выпускном вечере, Надежда никогда не скрывала от Яниса своих лет. Наоборот, она всякий раз старалась подчеркнуть это и держалась с ним, как старшая сестра. Под светло-карими, цвета янтаря глазами — они-то и дали мужу повод шутливо называть ее русалкой — уже пролегли мелкие морщинки, и, когда Надежда причесывалась, в волосах ее с каждым днем прибавлялась еще одна серебряная нить. Впрочем, когда она как-то взяла старую, случайно сохранившуюся фотографию и сравнила ее со своим отражением в зеркале, то увидела, что все-таки за эти годы почти не изменилась.
В школе, а потом в университете Надя всегда верховодила веселой компанией товарищей. Как чудесно было бродить по набережной Невы, мимо старинных дворцов и зданий, мимо Медного всадника, который, казалось, рвался в розовые предзакатные облака, мимо военных катеров, лениво покачивавшихся на волнах! Как чудесно было мечтать о будущем, читать вслух Маяковского… Вскоре Надежда вышла замуж. В новой квартире на шумном Литейном проспекте каждый день собирались Сережины друзья — летчики, которые любили поболтать и пошутить с хозяйкой дома. Один из них — штурман бомбардировщика Никита Петроцерковский — даже тайно вздыхал по Наде и мечтательно читал ей стихи: “Свою любовь ты отдала другому, как мне забыть прекрасные черты!” В полку мужа Надежда тоже чувствовала себя, как в большой дружной семье, а командир полка, усатый полковник Алексеев, не раз по-отечески говорил ей: “Ну что бы мы без вас делали, Надежда Викторовна? Вы не врач, а прямо-таки универсальное средство от любой болезни”.
Теперь Надежда почти не выходила из дому. Мучительно было целыми днями томиться в четырех стенах, чувствовать себя оторванной от людей, от любимой работы. Чего бы только не отдала она, чтобы вновь очутиться в госпитале, вдыхать сладковато-приторный запах хлороформа, держать в руках скальпель, делать сложные операции. Но ведь работа, которую она выполняет теперь, тоже необходима. Мало-помалу Надежда привыкла к жизни в постоянном вражеском окружении. Быть может, вон тот человек, что прогуливается сейчас мимо ее окон, — агент гестапо. Быть может, на лестнице сейчас застучат кованые сапоги. Быть может, через минуту ударами прикладов выломают дверь и в комнату ворвется банда эсэсовцев.
…Может быть, ей уже не видать родного Ленинграда, не любоваться луной, будто насаженной на золотой шпиль Адмиралтейства, не гулять по тенистым дорожкам Летнего сада, где дети веселой гурьбой окружают продавщицу мороженого, не сидеть в переполненном зале оперы, не любоваться затаив дыхание легкой, точно пушинка, Дудинской, танцующей в “Лебедином озере”…
В дверь постучали. Это пришла Скайдрите.
— Здравствуйте, Ядвига! Можно вас побеспокоить?
Надежда теперь уже привыкла к чужому имени, хотя вначале оно ей казалось странным.
— Входи, входи, девочка. Где ты все эти дни пропадала? Не иначе, как влюбилась.
Скайдрите вспыхнула и покосилась на зеркало.
— А разве заметно? — наивно спросила она.
Надежда улыбнулась.
— Конечно. Можешь положиться на диагноз врача. Такой румянец бывает только от рыбьего жира или от любви.
— Но ведь мы с ним слишком мало знакомы! Разве настоящая любовь возникает так быстро?
— Иногда бывает и так. Главное, чтобы взгляды на жизнь совпадали, чтобы вы понимали друг друга.
— Ну, в этом я не сомневаюсь! — ответила девушка.
— Нечего меня без конца опекать! — буркнул Янис. — Хотя, быть может, ты и права… Ладно, пусть Элиза отнесет ему записку… Ну что, теперь ты довольна? — усмехнулся он.
Надежда не обиделась, отлично понимая, почему Янис с ней порой бывает так нарочито резок. Она спокойно продолжала гладить платье, светло-голубое, с белым воротничком, которое получила в подарок от Скайдрите. Оно выглядело чересчур детским и было ей узко. И хотя старый Донат утверждал, что в этом платье она выглядит, как гимназистка на выпускном вечере, Надежда никогда не скрывала от Яниса своих лет. Наоборот, она всякий раз старалась подчеркнуть это и держалась с ним, как старшая сестра. Под светло-карими, цвета янтаря глазами — они-то и дали мужу повод шутливо называть ее русалкой — уже пролегли мелкие морщинки, и, когда Надежда причесывалась, в волосах ее с каждым днем прибавлялась еще одна серебряная нить. Впрочем, когда она как-то взяла старую, случайно сохранившуюся фотографию и сравнила ее со своим отражением в зеркале, то увидела, что все-таки за эти годы почти не изменилась.
В школе, а потом в университете Надя всегда верховодила веселой компанией товарищей. Как чудесно было бродить по набережной Невы, мимо старинных дворцов и зданий, мимо Медного всадника, который, казалось, рвался в розовые предзакатные облака, мимо военных катеров, лениво покачивавшихся на волнах! Как чудесно было мечтать о будущем, читать вслух Маяковского… Вскоре Надежда вышла замуж. В новой квартире на шумном Литейном проспекте каждый день собирались Сережины друзья — летчики, которые любили поболтать и пошутить с хозяйкой дома. Один из них — штурман бомбардировщика Никита Петроцерковский — даже тайно вздыхал по Наде и мечтательно читал ей стихи: “Свою любовь ты отдала другому, как мне забыть прекрасные черты!” В полку мужа Надежда тоже чувствовала себя, как в большой дружной семье, а командир полка, усатый полковник Алексеев, не раз по-отечески говорил ей: “Ну что бы мы без вас делали, Надежда Викторовна? Вы не врач, а прямо-таки универсальное средство от любой болезни”.
Теперь Надежда почти не выходила из дому. Мучительно было целыми днями томиться в четырех стенах, чувствовать себя оторванной от людей, от любимой работы. Чего бы только не отдала она, чтобы вновь очутиться в госпитале, вдыхать сладковато-приторный запах хлороформа, держать в руках скальпель, делать сложные операции. Но ведь работа, которую она выполняет теперь, тоже необходима. Мало-помалу Надежда привыкла к жизни в постоянном вражеском окружении. Быть может, вон тот человек, что прогуливается сейчас мимо ее окон, — агент гестапо. Быть может, на лестнице сейчас застучат кованые сапоги. Быть может, через минуту ударами прикладов выломают дверь и в комнату ворвется банда эсэсовцев.
…Может быть, ей уже не видать родного Ленинграда, не любоваться луной, будто насаженной на золотой шпиль Адмиралтейства, не гулять по тенистым дорожкам Летнего сада, где дети веселой гурьбой окружают продавщицу мороженого, не сидеть в переполненном зале оперы, не любоваться затаив дыхание легкой, точно пушинка, Дудинской, танцующей в “Лебедином озере”…
В дверь постучали. Это пришла Скайдрите.
— Здравствуйте, Ядвига! Можно вас побеспокоить?
Надежда теперь уже привыкла к чужому имени, хотя вначале оно ей казалось странным.
— Входи, входи, девочка. Где ты все эти дни пропадала? Не иначе, как влюбилась.
Скайдрите вспыхнула и покосилась на зеркало.
— А разве заметно? — наивно спросила она.
Надежда улыбнулась.
— Конечно. Можешь положиться на диагноз врача. Такой румянец бывает только от рыбьего жира или от любви.
— Но ведь мы с ним слишком мало знакомы! Разве настоящая любовь возникает так быстро?
— Иногда бывает и так. Главное, чтобы взгляды на жизнь совпадали, чтобы вы понимали друг друга.
— Ну, в этом я не сомневаюсь! — ответила девушка.
12
Сколько людей останавливалось в этом номере до него? Наверно, многие из них вот так же, без сна, ворочались на этой кровати?.. Каким-то странным специфическим запахом пропитались стены этой комнаты и мебель. Пахнет не то паркетной мастикой, не то прогорклым маслом, затхлым дымом сигар и дешевым мылом. Проветрить номер было невозможно. Наоборот, стоило лишь открыть окно, как угольная пыль и бензинный перегар тотчас присоединялись к странной смеси запахов, которыми был насыщен воздух комнаты. Прошло еще двое суток, целых сорок восемь часов, бесчисленное количество томительных минут. Снова Эрик Краповский по утрам делал вид, будто уходит по неотложным делам, снова болтал о них со швейцаром, снова торопил официантку в ресторане при гостинице, притворяясь, что и сам очень спешит. А между тем его дело не двигалось с места. Еще два вечера провел он в напряженном ожидании, прислушиваясь то к тихим, то к громким шагам, к каждому шороху, шарканью, стуку и топоту ног в коридоре. К десяти часам обычно все затихало, и Эрик понимал, что сегодня к нему никто уже не придет. Тогда он раздевался и с чувством опустошенности и тоски ложился в постель, чтобы опять вступить в поединок с бессонницей, вновь перебрать в уме всевозможные причины и непредвиденные обстоятельства, помешавшие связному прийти. Сегодня, как ни странно, дождя нет. Солнце оживило мрачную комнату яркими красками золотой осени. Хорошая погода всегда поднимает настроение. Так, значит, пока все по-старому… Эрик прислушался к своему сердцу и понял, что это не так. Кое-что все же изменилось: появилась Скайдрите! Хорошо мечтать об этой чудесной девушке, представлять себе ее худенькое миловидное лицо, ее глаза, которые кажутся то карими, то зеленоватыми!.. Подчеркнуто небрежный, чуть насмешливый тон, выражения, должно быть заимствованные из школьного жаргона, — но за всем этим отзывчивое, по-юному горячее сердце. Кто-то постучал в дверь. Неужели товарищ, которого он ожидает? Нет, днем он не придет. Скайдрите? Нет, наверно, уборщица. Эрик угадал. Вошла Элиза Свемпе. — Добрый день, господин Краповский, — сказала она Эрику. — Кто-то оставил у швейцара для вас письмо. Она протянула ему зеленый конверт и, сказав, что уберет комнату попозже, вышла. Краповский нетерпеливо разорвал конверт. В записке были только две фразы: “Оставайтесь в гостинице. Зайду через три дня”. Вот и все. Ни обращения, ни подписи. Когда Эрик поднес письмо к горящей спичке, он заметил, что и на конверте ничего не написано. Наконец-то пришла ясность! Значит, ничего дурного не произошло. Теперь ожидание уж больше не будет таким томительным. Эрик вытянулся на кровати, которая вдруг перестала казаться неудобной, и впервые за эти дни взял в руки книгу. Но почитать ему так и не удалось — в дверь снова постучали. — Войдите! — откликнулся Эрик, думая, что это опять уборщица. Дверь растворилась, и сквозняк развеял по воздуху черные хлопья сожженной бумаги. — Можно войти? — раздался робкий голос. Эрик одним рывком вскочил на ноги. — Скайдрите! — Да, это я, — ответила девушка. Второпях она никак не могла снять с правой руки тугую перчатку и недолго думая принялась стягивать ее зубами. “Сколько в ней еще детского!” — подумал Эрик, наблюдая за гостьей. Скайдрите села у стола так, чтобы спрятать ноги: сегодня она надела свои лучшие чулки, но по дороге какая-то машина, как назло, забрызгала их грязью. Эрик молчал. Но вовсе не оттого, что ему нечего было сказать. Просто переполнявшие его сердце чувства еще не находили выхода. С тех пор как Скайдрите впервые пришла в эту комнату — плутовка притворилась тогда, будто разыскивает мать, — они еще ни разу не расставались дольше чем на несколько часов. Он готов был не отрываясь смотреть на ее лицо, которое с каждым днем становилось все более родным и близким, без конца отыскивать в нем все новые и новые черточки. Оробев от счастья, Эрик вначале даже не заметил, что Скайдрите все еще в плаще. Юноша вскочил, чтобы помочь ей раздеться. Как он был знаком ему, этот старый плащ с маленькой заплаткой на левом рукаве, с треснувшей верхней пуговицей и протертой на спине материей, шероховатую поверхность которой он чувствовал под ладонью всякий раз, когда обнимал Скайдрите. Девушка легко отстранила его руку и поднялась. — Не надо… Мне сегодня как-то беспокойно. И все кажется, что в комнате мало воздуха… Выйдем лучше на улицу! Город в те дни жил двойной жизнью. По ночам в Бикерниекском лесу тишину прорезали автоматные очереди. Затемненными улицами, неизвестно куда и зачем, мчались вооруженные пулеметами мотоциклы; в помещении гестапо, за плотно занавешенными окнами, до утра горел свет. Пробуждаясь, жители города с дрожью в сердце торопились узнать, не проглотил ли “новый порядок” кого-либо из их родственников или друзей. И в то же время по ночам на улицах появлялись расклеенные невидимой рукой листовки, где-то за тщательно запертыми ставнями шептались люди, где-то, накрыв подушкой приемник, слушали последние известия из Москвы. Днем Рига снова превращалась в спокойный и с виду мирный город. На окраинах дымились трубы заводов, женщины стояли в очередях у продовольственных магазинов, в киосках газеты и журналы источали запах свежей типографской краски, офицеры сдавали на почте тяжеловесные посылки для отправки в Германию, в центре города яркие плакаты рекламировали последнюю кинокартину “УФА”,[16] элегантные дамы прогуливались по бульварам с откормленными собачками. Будто сговорившись, Скайдрите и Эрик свернули в один из тихих переулков Старого города. Вместо пышных липовых аллей на бульварах здесь по обе стороны вздымались черные закоптелые стены. В воздухе ощущался легкий запах тления, исходивший от старинных ганзейских складов. На подоконниках увядали герань и настурции. На остроконечных черепичных крышах скрипели флюгера. На шпиле одной из башен притаился огромный чугунный кот, неподвижно уставившийся на молодую пару зелеными стеклянными глазами. Скайдрите повела Эрика в Домский музей. Медленно проходили они мимо затупившихся рыцарских мечей, покрытых зеленой окисью древних монет, поблекших знамен ремесленных гильдий, — два человека будущего среди пыльного царства прошлого. В углу одного из залов они сели возле подвешенной к потолку модели старинной каравеллы. Скайдрите неосторожным движением задела модель, и парусник с длинным бушпритом закачался, как в двенадцатибалльный шторм. — И я когда-то собирал модели, — тихо заметил Эрик. Впервые за дни их знакомства он рассказывал Скайдрите о себе. — Больше всего я гордился “Святой Анной”. Знаешь, это одна из тех трех каравелл, на которых Колумб впервые пересек Атлантический океан. Модель вырезал из дерева мой дед. Он служил в русском флоте. — И ты, наверное, мечтал стать моряком? — Нет. Как ни странно, я был почти единственным среди товарищей, кто об этом не думал. Я очень любил книги. Читал их даже на улице, возвращаясь из школы. Прохожие усмехались, глядя на меня. Однажды из-за этакого чтения попал под машину. Видишь, здесь, на левой руке, еще маленький шрам… Девушка осторожно и нежно провела пальцем по красному рубцу. — Бедняжка! Ведь тебя могли задавить насмерть… Эрик улыбнулся. “Если б ты знала, — подумал он про себя, — как часто бывал я на волосок от смерти!.. В тот раз на море, когда яхта перевернулась и я чуть не утонул; потом на залитом кровью Шкедском шоссе, потом в сарае, где прятался от шуцманов. Да и теперь ежечасно и ежеминутно я в опасности… Как и каждый подпольщик… И все же я жив и счастлив, что сижу здесь с тобой”. Скайдрите не ответила на улыбку друга. С угрызением совести она подумала о том, что эта внезапная любовь захватила ее целиком. Сколько дней прошло уже с тех пор, как она перестала следить за событиями на фронте. Лишь сейчас, торопясь на свидание с Эриком, она на минутку задержалась у газетной витрины, чтобы пробежать глазами жирные заголовки, громогласно вещавшие о новых победах фашистов. Доброй половине прочитанного Скайдрите, конечно, не верила, и все же нельзя было отрицать, что положение на фронте тяжелое — гитлеровские полчища приближаются к Баку, угрожают Сталинграду. — Послушай меня, Эрик. Пусть между нами все будет высказано до конца. Я знаю, ты избегаешь разговоров о политике, но ведь ты любишь меня, правда? — И чтобы не сбиться, а высказать все, что она хотела, Скайдрите не стала ждать, ответа. — Тогда пойми правильно, пойми, что мучит меня! Конечно, я счастлива, что мы встретились. Но это еще не все… Помоги мне найти выход. Я больше не могу так жить, слышишь, не могу! Всюду страдания и смерть, а мы с тобой сидим и воркуем, как голуби… Эрик понял, о чем она собирается заговорить. Как и прежде в такие минуты, желание быть опорой, старшим товарищем боролось в нем с железным законом конспирации. Очень осторожно приходилось выбирать средний путь, чтобы не выдать себя и вместе с тем не оттолкнуть девушку равнодушием. — Я слыхала, что в Риге действует подпольная организация, — продолжала Скайдрите. — Если бы я работала на какой-нибудь фабрике, мне б, наверно, удалось установить с ней связь. А теперь как мне быть? Не могу же я выйти на улицу и крикнуть: “Хочу бороться с фашистами! Дайте мне оружие!” Долго я размышляла и наконец пришла к выводу, что у меня только один путь… — Поддавшись внезапному порыву, она обняла Эрика за плечи и прошептала: — Сколько бы ты ни притворялся, мне достаточно посмотреть тебе в глаза, они не умеют лгать. Ты тоже ненавидишь фашистов. Знаешь что? Убежим в Латгалию, к партизанам!13
Сгущались сумерки. Эрик сидел у себя в номере и думал о Скайдрите. Почему эта девушка стала ему такой близкой? Может быть, при других условиях все было бы иначе? Может быть, виной всему одиночество? Непривычная праздность породила странную пустоту в душе, и ее необходимо было заполнить. И, может быть, теперь, мечтая о Скайдрите, он растрачивает жар души, который отдал бы без остатка работе?.. С самого начала Эрик почувствовал, что мог бы всю жизнь идти с ней одной дорогой. И это их сближало. Все поведение Скайдрите говорило о том, что нужна лишь надежная рука, чтобы направить ее по верному пути. Осторожно, не выдавая себя, полунамеками, порой иронизируя над девушкой, он старался помочь ей найти свое место в строю. И старания его не пропали даром. Об этом свидетельствовал их сегодняшний разговор. А этот ее горячий призыв отправиться в Латгалию и бродить там по лесам, пока не встретятся партизаны, просто-напросто ребячески наивен и смешон! В Елгаве Эрик без колебания связал бы ее с подпольем, но здесь он пока не вправе этого сделать — в Риге его ожидает особое задание. Рижский товарищ все еще не появлялся. Сегодня — день, указанный в записке. Опыт подпольщика развил в Краповском особую настороженность: каждое опоздание он считал сигналом тревоги. Подавляя волнение, Эрик вышел в коридор, прислушался к шуму гостиницы, снова вернулся в комнату. Она показалась еще более пустой и темной. Но если бы здесь, в поломанном плюшевом кресле, положив ногу на ногу, сидела Скайдрите, комната выглядела бы совсем иной. В коридоре послышались шаги. Эрик насторожился, чуть приотворил дверь. Перед ним стоял человек лет тридцати, лицо которого было чуть скрыто полями коричневой шляпы. Плечи незнакомца показались Эрику необычайно широкими; голос звучал как-то особенно твердо и властно. — Вы Эрик Краповский?.. Я пришел предложить вам работу. Что вы умеете делать? Эрик ответил условным паролем: — Полоть сорняки. Даугавиет кивнул головой. Прежде чем начать разговор, Янис внимательно оглядел нового товарища. Ясные глаза, энергичный подбородок, открытое лицо… Эрик спокойно ждал, пока с ним заговорят. — Ну, товарищ Эрик, расскажи мне о своем прошлом. Не пропуская ни одной мелочи, Эрик старался упомянуть обо всем, что могло интересовать Даугавиета. Янис отметил, что Эрик, рассказывая о своей подпольной работе, строго соблюдает правила конспирации. Только одно имя он упомянул — имя Иманта Судмалиса, который первым указал ему дорогу в комсомол. Янис одобрительно улыбнулся. Да, видно, это паренек судмалисовской школы. — Ну, а как со здоровьем? — спросил Даугавиет, когда Эрик кончил рассказ. — Сердце, легкие, нервы? — Кажется, все в порядке. А что касается нервов, то вы сами знаете, какие у подпольщика нервы. По-моему, ничто так не успокаивает, как определенное задание. — Да, но задания бывают нелегкие. Тебе придется работать в подпольной типографии. — Тем лучше. В типографии я работал два года. — Но не в такой. Представь себе погреб, наполовину меньше этой комнаты. Воздух сырой, спертый… — Меня это не пугает. — Я еще не все сказал. Ты станешь подпольщиком в полном смысле этого слова, добровольным узником. Тебе придется от многого отказаться, ты не сможешь выходить на улицу. Кроме меня и еще одной женщины, нашего товарища — она живет в той же квартире, — ты ни с кем не сможешь разговаривать. И это может длиться год, два, до тех пор, пока Красная Армия не освободит Ригу. Эрик, обычно не куривший, попросил у Яниса папиросу и жадно затянулся. “Так… А Скайдрите?..” Он едва удержался, чтобы не высказать вслух все то, что созрело в нем за многие часы размышлений, мечтаний, поисков ясности: “Я больше не могу представить себе жизнь без этой девушки. Скайдрите стала частью меня самого. Разве может человек сам себя разрезать пополам? Никто этого не вправе от меня потребовать…” Даугавиет не торопил Эрика. Видя, что у того потухла папироса, он молча подал ему спички. Эрик машинально взял коробок в руки, зажег спичку, закурил, но забыл задуть желтый огонек, который горел, точно маленький факел, обжигая пальцы. Разве кто-нибудь спрашивает, от чего приходится отказываться бойцу? Разве сам он знает, от чего отказался товарищ, что сидит с ним рядом? Скайдрите — это счастье… Но ведь это лишь его, Эрика Краповского, счастье… Какое он имеет право пренебрегать общим делом миллионов людей ради своего счастья? Надо сделать выбор… И Эрик перестал колебаться. Он выбрал. Эта минута стала для него переломной — юность осталась позади. Впереди — суровая зрелость.14
— Я привел нового жильца в “квартиру без номера”, — сказал Янис, знакомя Надежду с Эриком, — Не дашь ли нам чего-нибудь перекусить? Поставив на стол скудное угощение, Надежда внимательно посмотрела на молодого человека. “Этот, пожалуй, выдержит, — подумала она, — только тяжело ему будет…” Эрик окинул взглядом комнату. В ней не было ни малейших признаков того, что где-то здесь скрыта типография. Но где же вход в “квартиру без номера”? Судя по словам Жаниса, типография находится в каком-то погребе. — Спать ты будешь здесь, — сказал Даугавиет, указывая на узкую кушетку. — Но чаще, правда, придется ночевать внизу. Эрик кивнул. Ему понравились эти сдержанные люди, которые обращались с ним, как со старым другом — без излишних церемоний, просто и сердечно. Хорошо, что они дают ему возможность помолчать и преодолеть застенчивость, обычно сковывающую его первое время в обществе незнакомых людей. Комната всей обстановкой напоминала квартиру родителей на улице Капу в Лиепае. Глядя со стороны, можно было подумать, что за таким вот столом по вечерам собирается какое-нибудь благополучное семейство. Однако именно здесь, острее чем когда-либо, Краповский ощутил накаленную атмосферу подпольной борьбы. И когда кто-то постучал в дверь, он вздрогнул. Янис поднял голову и спокойно сказал Надежде: — Погоди, не впускай. Никто, ни один человек не должен его видеть… Идем! — И он повел юношу в ванную комнату. Ничего примечательного не было в этой маленькой комнатушке. У стены стояла небольшая ванна. Высокий человек мог бы поместиться в ней только сидя. Никелированный кран плотно не закручивался, и вода, падая из крана капля за каплей, проложила по белой, местами потрескавшейся эмали узкую ржавую дорожку. В углу стояла черная железная печурка с поломанными дверцами. Над умывальником, под старым тусклым зеркалом, висела полочка. На ней — мыльница, зеленый стаканчик из пластмассы с двумя зубными щетками, бритвенные принадлежности и полупустая бутылочка с одеколоном. Комнату освещала матовая лампочка.
Даугавиет отодвинул ванну от стены. Но и за ванной ничего нельзя было обнаружить. Янис опустился на колени и толкнул стену плечом. Только тогда Эрик увидел квадратное отверстие на высоте примерно пятидесяти сантиметров над полом.
— Здорово придумано! — воскликнул он. — Но мне кажется, при тщательном обыске это отверстие можно обнаружить.
— Ничего подобного. Здесь кладка толщиной в четыре кирпича. При выстукивании пустоту в стене не обнаружат. А изнутри вход запирается так, что его и десятку человек не сдвинуть с места.
— Как же вам удалось устроить такой тайник?
— Я — строительный рабочий, а Донат в молодости был каменщиком. Чтобы не вызвать подозрений, мы затеяли капитальный ремонт всего дома, а сами тем временем потихоньку работали здесь. А теперь полезай первым, я запру вход.
— А как же ванна?
— Надя ее поставит на место. Вот возьми карманный фонарик. Ползи осторожно, спуск очень крутой.
Эрик вдруг почувствовал, что задыхается. Наверно, Янис закрыл люк…
Фонарик осветил небольшое помещение. Теперь можно встать на ноги.
Эрик очутился в низком продолговатом каземате. Печатный станок, столик с наборными кассами, стул, большая кипа бумаги, полочка с книгами, радиоприемник, железная койка, на ней набитый соломой тюфяк, такая же подушка, свернутое одеяло. Вот и все, что тут есть. Щелкнул выключатель — Янис включил свет.
Эрик осмотрел шрифт.
— Тут, я вижу, все нужно набирать корпусом. А где краска? Ага, вот там в углу.
Рядом с коробками краски стояли консервные банки.
— Это твой неприкосновенный запас, — пояснил Янис. — На случай, если наверху что-нибудь произойдет. Сухари под кроватью. Дней на десять еды хватит. Но если вход все же обнаружат, ты сможешь выбраться иным путем. Видишь отверстие? Это не только вентилятор, но и узкий подземный ход, который ведет к развалинам у набережной Даугавы.
— Неужели вы и этот ход вырыли вдвоем? Тут ведь работы на много месяцев.
— Нет, мы на него наткнулись совершенно случайно. Это, должно быть, часть старой канализационной сети.
— Судя по твоим рассказам, я думал, что “квартира без номера” много хуже. Тут даже радио есть.
— Да. Можешь слушать Москву сколько хочешь. Теперь условимся так: если порой тебе станет невмоготу, говори прямо, я всегда смогу тебя на время сменить.
— Спасибо. Сегодня есть какая-нибудь работа?
— Да. Набери вот это воззвание. Завтра сделаем оттиск.
Эрик остался один. За год его пальцы не утратили прежней гибкости, и, держа в левой руке верстатку, он начал набирать.
…Наверху сейчас ночь. В небе мерцают светлячки звезд, луна озаряет крыши… А может быть, небо затянуто тучами. Шелестят деревья, на воде легкая рябь, люди полной грудью вдыхают прохладный осенний воздух.
Сколько дней, месяцев, быть может, лет нужно будет бороться, чтобы очистить воздух родины от фашистского угара? Сколько еще придется прожить здесь без весны, без солнца, без Скайдрите?
Моя хорошая, что ты подумаешь, когда завтра я не приду на свидание? Ты пойдешь в гостиницу, но и там не найдешь меня ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю… Я пропаду без вести… Но ведь ты должна сердцем понять, что мы живем в такое время, когда любящим приходится расставаться, не попрощавшись. Ты поймешь, Скайдрите, поймешь, что каждый из нас своим путем идет к общей цели. Я твердо верю, что ты не свернешь с пути. Рано или поздно ты найдешь свое место в наших рядах. Я знаю, наши дороги еще встретятся, и тогда мы найдем друг друга, чтобы никогда не расставаться…
Ты даже письма от меня не получишь… Я ведь не знаю твоего адреса, а если бы и знал, все равно не стал бы писать тебе… Так лучше… Я не принадлежу себе.
Но если б можно было, что бы я написал тебе? Может быть, вот это: “Сегодня, когда узнал, что мы расстаемся надолго, я понял, как сильно люблю тебя. Мне было бесконечно трудно скрывать от тебя свои подлинные чувства и мысли. Прощаясь с тобой, раскрою правду. Я коммунист, подпольщик. Это значит, что на время нам нужно расстаться. Жди меня, я верю в твою любовь. Твой Эрик”.
Вот так он написал бы ей… Но вместо письма любимой Эрик набирал листовку, начинавшуюся словами: “Товарищи! Сегодня мы празднуем 25-летие победы Октябрьской революции…”
Ничего примечательного не было в этой маленькой комнатушке. У стены стояла небольшая ванна. Высокий человек мог бы поместиться в ней только сидя. Никелированный кран плотно не закручивался, и вода, падая из крана капля за каплей, проложила по белой, местами потрескавшейся эмали узкую ржавую дорожку. В углу стояла черная железная печурка с поломанными дверцами. Над умывальником, под старым тусклым зеркалом, висела полочка. На ней — мыльница, зеленый стаканчик из пластмассы с двумя зубными щетками, бритвенные принадлежности и полупустая бутылочка с одеколоном. Комнату освещала матовая лампочка.
Даугавиет отодвинул ванну от стены. Но и за ванной ничего нельзя было обнаружить. Янис опустился на колени и толкнул стену плечом. Только тогда Эрик увидел квадратное отверстие на высоте примерно пятидесяти сантиметров над полом.
— Здорово придумано! — воскликнул он. — Но мне кажется, при тщательном обыске это отверстие можно обнаружить.
— Ничего подобного. Здесь кладка толщиной в четыре кирпича. При выстукивании пустоту в стене не обнаружат. А изнутри вход запирается так, что его и десятку человек не сдвинуть с места.
— Как же вам удалось устроить такой тайник?
— Я — строительный рабочий, а Донат в молодости был каменщиком. Чтобы не вызвать подозрений, мы затеяли капитальный ремонт всего дома, а сами тем временем потихоньку работали здесь. А теперь полезай первым, я запру вход.
— А как же ванна?
— Надя ее поставит на место. Вот возьми карманный фонарик. Ползи осторожно, спуск очень крутой.
Эрик вдруг почувствовал, что задыхается. Наверно, Янис закрыл люк…
Фонарик осветил небольшое помещение. Теперь можно встать на ноги.
Эрик очутился в низком продолговатом каземате. Печатный станок, столик с наборными кассами, стул, большая кипа бумаги, полочка с книгами, радиоприемник, железная койка, на ней набитый соломой тюфяк, такая же подушка, свернутое одеяло. Вот и все, что тут есть. Щелкнул выключатель — Янис включил свет.
Эрик осмотрел шрифт.
— Тут, я вижу, все нужно набирать корпусом. А где краска? Ага, вот там в углу.
Рядом с коробками краски стояли консервные банки.
— Это твой неприкосновенный запас, — пояснил Янис. — На случай, если наверху что-нибудь произойдет. Сухари под кроватью. Дней на десять еды хватит. Но если вход все же обнаружат, ты сможешь выбраться иным путем. Видишь отверстие? Это не только вентилятор, но и узкий подземный ход, который ведет к развалинам у набережной Даугавы.
— Неужели вы и этот ход вырыли вдвоем? Тут ведь работы на много месяцев.
— Нет, мы на него наткнулись совершенно случайно. Это, должно быть, часть старой канализационной сети.
— Судя по твоим рассказам, я думал, что “квартира без номера” много хуже. Тут даже радио есть.
— Да. Можешь слушать Москву сколько хочешь. Теперь условимся так: если порой тебе станет невмоготу, говори прямо, я всегда смогу тебя на время сменить.
— Спасибо. Сегодня есть какая-нибудь работа?
— Да. Набери вот это воззвание. Завтра сделаем оттиск.
Эрик остался один. За год его пальцы не утратили прежней гибкости, и, держа в левой руке верстатку, он начал набирать.
…Наверху сейчас ночь. В небе мерцают светлячки звезд, луна озаряет крыши… А может быть, небо затянуто тучами. Шелестят деревья, на воде легкая рябь, люди полной грудью вдыхают прохладный осенний воздух.
Сколько дней, месяцев, быть может, лет нужно будет бороться, чтобы очистить воздух родины от фашистского угара? Сколько еще придется прожить здесь без весны, без солнца, без Скайдрите?
Моя хорошая, что ты подумаешь, когда завтра я не приду на свидание? Ты пойдешь в гостиницу, но и там не найдешь меня ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю… Я пропаду без вести… Но ведь ты должна сердцем понять, что мы живем в такое время, когда любящим приходится расставаться, не попрощавшись. Ты поймешь, Скайдрите, поймешь, что каждый из нас своим путем идет к общей цели. Я твердо верю, что ты не свернешь с пути. Рано или поздно ты найдешь свое место в наших рядах. Я знаю, наши дороги еще встретятся, и тогда мы найдем друг друга, чтобы никогда не расставаться…
Ты даже письма от меня не получишь… Я ведь не знаю твоего адреса, а если бы и знал, все равно не стал бы писать тебе… Так лучше… Я не принадлежу себе.
Но если б можно было, что бы я написал тебе? Может быть, вот это: “Сегодня, когда узнал, что мы расстаемся надолго, я понял, как сильно люблю тебя. Мне было бесконечно трудно скрывать от тебя свои подлинные чувства и мысли. Прощаясь с тобой, раскрою правду. Я коммунист, подпольщик. Это значит, что на время нам нужно расстаться. Жди меня, я верю в твою любовь. Твой Эрик”.
Вот так он написал бы ей… Но вместо письма любимой Эрик набирал листовку, начинавшуюся словами: “Товарищи! Сегодня мы празднуем 25-летие победы Октябрьской революции…”
15
В книжное агентство Висвальда Буртниека один за другим приходили посетители: иные заказывали учебники, другие — редкие издания. Потом явился человек с длинными колючими усами. Буртниек видел его впервые. Руки у незнакомого посетителя были мозолистые, как у чернорабочего, а название немецкой газеты он произнес с таким невероятным акцентом, что сразу стало ясно, как невелики его познания в немецком языке. — У вас есть “Volkischer Beobachter”? — спросил усач. — Нет, но я мог бы вам предложить учебник по алгебре для пятого класса. — Не годится. Мне надо завернуть селедку. — Ах, вот как! А я думал, вы хотите прочитать речь фюрера… Слова пароля совпали, и незнакомец вытащил из-под подкладки пиджака записку. — Передайте Жанису. Он уже был у выхода, когда Висвальд окликнул его. — Погодите минутку. На всякий случай дам несколько номеров “Сигнала”. Усач, что-то пробурчав, засунул пестрые журналы в карман пальто и, не попрощавшись, ушел. Под вечер явился Макулевич. Он никогда не выходил днем, не желая показываться при дневном свете в обтрепанной одежде. После обычного вступления, занявшего не менее десяти минут, автор венка сонетов заявил: — Любезнейший господин Буртниек, спешу уведомить вас, что сегодня — величайший день в моей жизни! Мне удалось решить проблему, которая без конца мучила меня. — А именно? — Я никак не мог прийти к ясности в вопросе о существовании бога. — Какое же открытие вы наконец сделали? — Я открыл, что бог есть… но он отъявленный негодяй! — торжественно объявил Макулевич. — Ибо, в противном случае, он не допустил бы подобных ужасов. Вчера мне привелось увидеть, как гитлеровцы убили русского военнопленного. Живого человека кололи штыками, пока он не перестал двигаться! — По-моему, вы не последовательны, господин Макулевич, — с горькой иронией заметил Буртниек. — Ведь этот военнопленный умер, а вы сами лишь неделю тому назад утверждали, что уничтожение есть величайшее благо… — Да, я продолжаю считать смерть единственным счастьем человека… — смущенно пролепетал Макулевич. — Но если для достижения этого счастья нужно пройти через такие жестокие мучения, то, право, даже смерть не может их искупить… Когда на улицах я вижу эту варварскую форму со свастикой и черепом, мне хочется куда-нибудь спрятаться, закрыть глаза. Единственное место, где я еще могу спокойно творить, — это мое фамильное владение, доставшееся по наследству моей матери от ее дядюшки. — Как, господин Макулевич, вам принадлежит недвижимая собственность? — недоверчиво спросил Буртниек, оглядывая неоднократно штопанные брюки Макулевича. — Совершенно верно, — с гордостью подтвердил поэт. — Это очень красивое сооружение в стиле Ренессанс. Местность вокруг живописная и спокойная. Я уже давно мечтаю показать его вам. — Где же находится ваш особняк? — Особняк? — удивился Макулевич. — Да нет же, это наша фамильная усыпальница… Высокочтимый, любезнейший господин Буртниек… уважаемый друг… — От волнения Макулевич начал заикаться. — Окажите мне честь… соблаговолите поехать со мной сейчас туда… Я буду счастлив принять столь почетного гостя в месте упокоения моих предков… Буртниек едва удержался от смеха. Старая Элиза Свемпе не ошиблась: у несчастного проповедника философии уничтожения, который в этом мире беден, как церковная крыса, а во владениях своих покойных предков чувствует себя богатым собственником, действительно не хватает каких-то винтиков в голове. Висвальд хотел было отговориться тем, что занят. Но вдруг у него мелькнула неожиданная мысль: а что, если эту усыпальницу как-нибудь использовать? Поэтому он весьма любезно ответил: — Сегодня, к сожалению, не смогу. Но завтра с удовольствием поеду с вами. Это обещание привело Макулевича в такой восторг, что он позабыл даже осведомиться о заказанном год назад сборнике стихов. Последним посетителем оказался сам Донат Бауманис, которого все считали домовладельцем. Только немногие знали о нем правду. В свое время, еще при буржуазном режиме, партии понадобилось помещение для подпольной работы. На помощь пришел случай. В газетах появилось сообщение о том, что какой-то Бауманис получил большое наследство. По заданию партии Донат Бауманис должен был выдать себя за богатого наследника и купить дом на улице Грециниеку. В этом доме не раз происходили собрания рижской организации. Когда понадобилось надежное место для подпольной типографии, Бауманису, по распоряжению Центрального Комитета, снова пришлось на время превратиться в домовладельца. Донат поднимался наверх, в книжное агентство, уже несколько раз и в каждый приход извлекал из-под пальто тугонабитый пакет…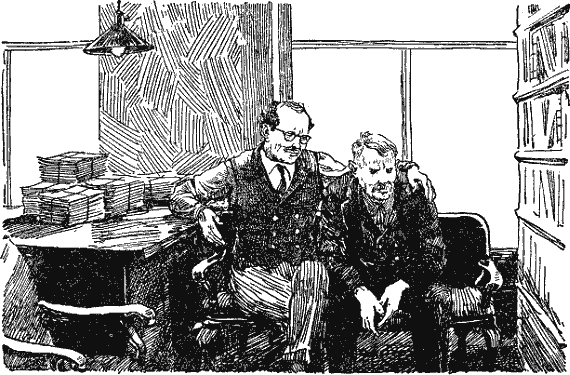 Пока Висвальд раскладывал листовки в одинаковые по величине пачки, надписывая вымышленные адреса на бандеролях, и обвязывал их шпагатом, старый Донат с комическим отчаянием изливал все свои горести и накопившиеся обиды:
— Ну вот, подумай… Сестра моя — поденщица, наш Янис числится студентом, другие товарищи трудятся у станка или пашут землю, только мы с тобой, профессор, работаем “буржуями”. Тебе-то еще ничего, ты как-никак интеллигент, лицо свободной профессии. А я кто? Домовладелец, паразит… Родная племянница, эта егоза Скайдрите, считает меня эксплуататором, бездельником, пьянчужкой, пропивающим все деньги… Стыдно людям в глаза смотреть! Будто я не знаю, что у каждого из них на уме! “Вон идет старый Бауманис, хозяин четырехэтажного дома. У самого мешки с деньгами припрятаны, а сестру голодом морит”. Нет уж, профессор, с меня хватит. Вот что я тебе скажу: как только разделаемся с фашистами, никто меня больше не заставит в бездельниках ходить.
Буртниек не прерывал монолога Доната, чтобы дать ему отвести душу. Наконец упаковав все листовки, Висвальд положил руку на плечо приятеля.
— Побольше бы таких домовладельцев! Скажи Элизе, чтобы утром пришла пораньше… Теперь у нее будет много работы. Видишь, сколько пакетов!
Старый Донат с удовлетворением крякнул и, волоча ноги, пошел обратно в свою квартиру.
Четырехэтажный дом, казалось, погрузился в сон. Однако многие из его обитателей бодрствовали. Не спал старый Донат, стороживший вход на лестницу; не спал Эрик, слушавший в своей “квартире без номера” последние известия из Москвы; не спала Скайдрите, мучительно думавшая о загадочном исчезновении Эрика; не спал и Висвальд Буртниек, представлявший себе опасный и трудный путь, по которому отправятся завтра воззвания партии к народу.
Пока Висвальд раскладывал листовки в одинаковые по величине пачки, надписывая вымышленные адреса на бандеролях, и обвязывал их шпагатом, старый Донат с комическим отчаянием изливал все свои горести и накопившиеся обиды:
— Ну вот, подумай… Сестра моя — поденщица, наш Янис числится студентом, другие товарищи трудятся у станка или пашут землю, только мы с тобой, профессор, работаем “буржуями”. Тебе-то еще ничего, ты как-никак интеллигент, лицо свободной профессии. А я кто? Домовладелец, паразит… Родная племянница, эта егоза Скайдрите, считает меня эксплуататором, бездельником, пьянчужкой, пропивающим все деньги… Стыдно людям в глаза смотреть! Будто я не знаю, что у каждого из них на уме! “Вон идет старый Бауманис, хозяин четырехэтажного дома. У самого мешки с деньгами припрятаны, а сестру голодом морит”. Нет уж, профессор, с меня хватит. Вот что я тебе скажу: как только разделаемся с фашистами, никто меня больше не заставит в бездельниках ходить.
Буртниек не прерывал монолога Доната, чтобы дать ему отвести душу. Наконец упаковав все листовки, Висвальд положил руку на плечо приятеля.
— Побольше бы таких домовладельцев! Скажи Элизе, чтобы утром пришла пораньше… Теперь у нее будет много работы. Видишь, сколько пакетов!
Старый Донат с удовлетворением крякнул и, волоча ноги, пошел обратно в свою квартиру.
Четырехэтажный дом, казалось, погрузился в сон. Однако многие из его обитателей бодрствовали. Не спал старый Донат, стороживший вход на лестницу; не спал Эрик, слушавший в своей “квартире без номера” последние известия из Москвы; не спала Скайдрите, мучительно думавшая о загадочном исчезновении Эрика; не спал и Висвальд Буртниек, представлявший себе опасный и трудный путь, по которому отправятся завтра воззвания партии к народу.
16
 Рано утром, когда улицы еще окутывала тьма, Элиза Свемпе вышла из дому. Сегодня вместо одной базарной сумки она несла две. Элиза держалась поближе к стенам домов, по временам останавливалась у витрин магазинов, чтобы дать отдых усталым ногам, делая вид, что разглядывает цены товаров. Наконец она добралась до почты. В большом зале толпились люди. Как только Элиза заняла очередь у окошка, где принимали пакеты и бандероли, какая-то девушка поднялась со скамейки и встала рядом. Свемпе быстро взглянула на нее, но не промолвила ни слова. С медлительностью старого человека она стала раскладывать у окошка все свои посылки. Пока Элиза наклеивала марки, девушка потихоньку оглянулась, ловко схватила пакет, обвязанный коричневым шнурком, и положила его в портфель.
…Пакет с листовками, взятый девушкой на почте, продолжал свой путь. Сперва он попал в бакалейный магазин, неподалеку от Воздушного моста. Через несколько часов туда заглянул рабочий завода ВЭФ Юрис Курцис. Подождав, пока освободится старшая продавщица, он спросил у нее:
— Нет ли у вас зубного порошка?
— Я бы вам посоветовала зубную пасту.
— Паста не годится для чистки туфель, — ответил Курцис.
— Ах, вот как. А я думала, вам для зубов… Погодите, может быть, у нас еще найдется коробочка. — И продавщица подала ему несколько коробок “Хлородонта”.
Напевая веселую песенку, Курцис отправился на завод. Он работал во вторую смену. Во дворе завода Курцис встретил шофера Силиня.
— Принес? — шепотом спросил тот.
— Да. Оставлю, где всегда.
Перед уходом домой, после работы, механик Калнапур нашел в кармане пальто какой-то листок бумаги. “Да ведь это листовка! — в испуге подумал он. — Увидит кто-нибудь — и конец. Куда бы ее сунуть?” Он уже собирался бросить листок прямо на пол, но в эту минуту в гардероб вошли рабочие. Во дворе листовку тоже не удалось выкинуть, потому что вокруг были люди. В трамвае Калнапуру все время казалось, что кондуктор подозрительно поглядывает на его карман, который будто так и прожигала опасная листовка. Запыхавшийся и потный, Калнапур прибежал домой. У дверей его уже поджидала младшая дочка Модите.
— А ты мне что-нибудь вкусное принес? — спросила она отца.
Обычно для каждого ребенка у Калнапура находился и гостинец, и ласковое слово, но сегодня, не взглянув на детей, он бросился прямо на кухню.
— Хорошо, что у тебя уже топится плита! Брось-ка в огонь этот листок, Мирдза, да поживей!
— Отчего это мой старик сегодня не в духе? И что же это за страшный листок?
— Кажется, листовка! Знала бы ты, сколько страху я натерпелся!
— Постой, постой. Сжечь ее мы всегда успеем. Надо сначала прочитать!
— Прочитать! Да ты что, жена, в своем уме? А если вдруг кто войдет и увидит…
— Не бойся ты, заячья душа. Дверь же на запоре.
Калнапур немного успокоился. Видя, что Мирдза ничуть не боится, он тоже решил, что напрасно перепугался. И он стал читать вслух:
— “Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипятилетие победы социалистической революции в нашей стране. Прошло двадцать пять лет с того времени, как установился у нас советский строй…”
Все, что Мирдзе раньше представлялось расплывчатым, как в тумане, обретало теперь ясные очертания. Слушая слова о том, что народы оккупированных стран Европы охвачены пламенем ненависти к захватчикам, что они на каждом шагу, где только возможно, стараются причинять ущерб фашистам, она еще острее почувствовала и прежде мучившие ее укоры совести.
— Правильно! — перебила она мужа. — Они вовсе не так сильны, как кажется. Мы сами виноваты в том, что Дрекслеры[17] и Данкеры[18] все еще сидят у нас на шее!
Калнапур снял очки и покосился на жену.
— Ну что ты раскудахталась! Дай же дочитать!
— “…Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер…”
— Старая Андерсоне, что жила на улице Бикерниеку, — снова прервала мужа Мирдза, — говорила, что своими глазами видела огромную яму, заваленную трупами. Эти мерзавцы не потрудились даже закопать несчастных. Тогда, как раз на пасху, исчез мой брат… — И Мирдза стала всхлипывать.
Калнапур сочувственно поглядел на жену, но Мирдза уже утерла слезы.
— Ну читай, читай дальше!
— “…Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую “систему заложников”. Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных граждан, взятых “в залог” из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или грабить обывателей… — Листок выскользнул из рук. Калнапур вспомнил о судьбе селения Аудрини. За то, что крестьяне укрыли двух бойцов Красной Армии, фашисты учинили кровавую расправу: они убили 330 жителей — мужчин, женщин, стариков и детей. Голосом, полным возмущения, он продолжал читать: — Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — “новый порядок в Европе”. Мы знаем виновников этих безобразий, создателей “нового порядка в Европе”, всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов”. Ну, что ты обо всем этом скажешь? — спросил Калнапур, прочитав листовку до конца.
— Что скажу? Слово в слово то же самое… Тут все, как в зеркале. Разве не правда, что фашисты грабят нашу землю… Не считают нас за людей…
— Да, так оно и есть, — подтвердил Калнапур. — Такой же гитлеровец и наш директор. Рабочего не считает за человека, орет, как на собаку. Все соки выжимает… Сколько еще это может продолжаться?
— Если каждый будет только так вот спрашивать, а сам и пальцем о палец не ударит, то, конечно, от этого нам лучше не станет. Надо как-то действовать, Микель…
— Надо, надо, будто я сам не знаю. Но ты забываешь, что я отец троих детей! Ты совсем не думаешь о малышах…
— Неужели же будет лучше, если тебя отправят в Саласпилс только потому, что какому-то гитлеровцу не понравится твоя физиономия? Наш сосед Эвальд не уступил места немецкому офицеру, и теперь жена не знает, куда он исчез.
Калнапур поднялся.
— Ладно. Будь что будет. Погоди, я скоро вернусь.
— Куда ты собрался, Микель? Обед готов.
— Я недалеко. Брошу листовку в ящик Карлису Эмберу. Пусть тоже прочитает.
Машинист-железнодорожник Карлис Эмбер уже обедал, когда из школы пришел его сын Индрик.
— Посмотри, отец, что я нашел в почтовом ящике. — И он показал отцу листовку.
— Опять, наверное, какая-нибудь реклама, — пробурчал Эмбер и, даже не взглянув на листовку, продолжал есть суп.
— Нет, тут написано: “Центральный Комитет…”
— Что? А ну-ка, дай сюда! — И Эмбер вырвал листок из рук мальчика.
Совсем позабыв об остывшем супе, машинист несколько раз прочитал листовку. Вот уже вторая попадает в его руки. Первую ему показал товарищ по работе, теперь листовка вдруг очутилась у него дома. Это походило на вторичное напоминание, на вторичный призыв к его совести. Тысячи встали на борьбу, красноармейцы в Сталинграде сражаются за каждый дом, за каждую пядь земли, партизаны взрывают железнодорожные пути и мосты, а он? Что делает он, машинист Карлис Эмбер? При случае старается задержать движение поездов, нарушить график. Но этого слишком мало. Хоть и с опозданием, но фашистские эшелоны все же попадают на фронт… Активный саботаж — вот единственно правильный путь. Эмбер решил завтра же поговорить кое с кем из товарищей.
— Что тут написано? — спросил Индрик, нетерпеливо ожидая, когда наконец отец кончит читать.
— Вот посмотри сам. Ты уже не маленький, начинай разбираться в жизни.
Затаив дыхание мальчик прочитал листовку. Казалось, он старается заучить весь текст наизусть.
— Отец, я отнесу это в школу и покажу ребятам, — сказал Индрик. — Знаешь, недавно у нас по всем коридорам были рассыпаны красные звезды.
— Так-так, сынок. Выходит, вы тоже не спите… Но листовку в школу носить не стоит, там тебя кто-нибудь может выдать. Лучше перескажи ее ребятам.
Когда отец ушел на работу, Индрик решился: он положил свернутую трубочкой листовку в карман и прихватил с собой тюбик клея. Только — куда бы листовку приклеить?
К соседнему дому в это время подъехал “опель-адмирал”. Из машины вышел шофер и скрылся в дверях. На миг позабыв о задуманном, мальчик остановился поглядеть на красивую машину. И вдруг ему пришло в голову, что из нее получится неплохой афишный столб. Индрик огляделся по сторонам, повернулся к машине спиной и прилепил листовку к крышке багажника. В следующее мгновение мальчик шмыгнул в ворота. Довольный и веселый, он помчался вверх по лестнице.
Почти столько же времени понадобилось шоферу Бауэру, чтобы подняться на второй этаж. Генерал Хартмут приказал подать машину к зданию гестапо на улице Реймерса. Этот дом вызывал у Бауэра отвращение. Занятый своими невеселыми мыслями, шофер не обратил внимания на то, что возле машины собралась кучка людей, и сел за руль. Опять, видимо, придется ждать несколько часов — можно не торопиться. Бауэр ехал так медленно, что его обгоняли даже велосипедисты. В зеркале над рулем скользили дома, машины, люди. Прохожие почему-то останавливались и долго провожали машину взглядом. “Уж не случилось ли чего с покрышками?” — подумал Бауэр. Он свернул в тихий переулок и осмотрел машину. Так! Вот почему люди смотрят на нее. Коммунистическая листовка на роскошной машине самого генерала Хартмута! Вот это здорово!
Рано утром, когда улицы еще окутывала тьма, Элиза Свемпе вышла из дому. Сегодня вместо одной базарной сумки она несла две. Элиза держалась поближе к стенам домов, по временам останавливалась у витрин магазинов, чтобы дать отдых усталым ногам, делая вид, что разглядывает цены товаров. Наконец она добралась до почты. В большом зале толпились люди. Как только Элиза заняла очередь у окошка, где принимали пакеты и бандероли, какая-то девушка поднялась со скамейки и встала рядом. Свемпе быстро взглянула на нее, но не промолвила ни слова. С медлительностью старого человека она стала раскладывать у окошка все свои посылки. Пока Элиза наклеивала марки, девушка потихоньку оглянулась, ловко схватила пакет, обвязанный коричневым шнурком, и положила его в портфель.
…Пакет с листовками, взятый девушкой на почте, продолжал свой путь. Сперва он попал в бакалейный магазин, неподалеку от Воздушного моста. Через несколько часов туда заглянул рабочий завода ВЭФ Юрис Курцис. Подождав, пока освободится старшая продавщица, он спросил у нее:
— Нет ли у вас зубного порошка?
— Я бы вам посоветовала зубную пасту.
— Паста не годится для чистки туфель, — ответил Курцис.
— Ах, вот как. А я думала, вам для зубов… Погодите, может быть, у нас еще найдется коробочка. — И продавщица подала ему несколько коробок “Хлородонта”.
Напевая веселую песенку, Курцис отправился на завод. Он работал во вторую смену. Во дворе завода Курцис встретил шофера Силиня.
— Принес? — шепотом спросил тот.
— Да. Оставлю, где всегда.
Перед уходом домой, после работы, механик Калнапур нашел в кармане пальто какой-то листок бумаги. “Да ведь это листовка! — в испуге подумал он. — Увидит кто-нибудь — и конец. Куда бы ее сунуть?” Он уже собирался бросить листок прямо на пол, но в эту минуту в гардероб вошли рабочие. Во дворе листовку тоже не удалось выкинуть, потому что вокруг были люди. В трамвае Калнапуру все время казалось, что кондуктор подозрительно поглядывает на его карман, который будто так и прожигала опасная листовка. Запыхавшийся и потный, Калнапур прибежал домой. У дверей его уже поджидала младшая дочка Модите.
— А ты мне что-нибудь вкусное принес? — спросила она отца.
Обычно для каждого ребенка у Калнапура находился и гостинец, и ласковое слово, но сегодня, не взглянув на детей, он бросился прямо на кухню.
— Хорошо, что у тебя уже топится плита! Брось-ка в огонь этот листок, Мирдза, да поживей!
— Отчего это мой старик сегодня не в духе? И что же это за страшный листок?
— Кажется, листовка! Знала бы ты, сколько страху я натерпелся!
— Постой, постой. Сжечь ее мы всегда успеем. Надо сначала прочитать!
— Прочитать! Да ты что, жена, в своем уме? А если вдруг кто войдет и увидит…
— Не бойся ты, заячья душа. Дверь же на запоре.
Калнапур немного успокоился. Видя, что Мирдза ничуть не боится, он тоже решил, что напрасно перепугался. И он стал читать вслух:
— “Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипятилетие победы социалистической революции в нашей стране. Прошло двадцать пять лет с того времени, как установился у нас советский строй…”
Все, что Мирдзе раньше представлялось расплывчатым, как в тумане, обретало теперь ясные очертания. Слушая слова о том, что народы оккупированных стран Европы охвачены пламенем ненависти к захватчикам, что они на каждом шагу, где только возможно, стараются причинять ущерб фашистам, она еще острее почувствовала и прежде мучившие ее укоры совести.
— Правильно! — перебила она мужа. — Они вовсе не так сильны, как кажется. Мы сами виноваты в том, что Дрекслеры[17] и Данкеры[18] все еще сидят у нас на шее!
Калнапур снял очки и покосился на жену.
— Ну что ты раскудахталась! Дай же дочитать!
— “…Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер…”
— Старая Андерсоне, что жила на улице Бикерниеку, — снова прервала мужа Мирдза, — говорила, что своими глазами видела огромную яму, заваленную трупами. Эти мерзавцы не потрудились даже закопать несчастных. Тогда, как раз на пасху, исчез мой брат… — И Мирдза стала всхлипывать.
Калнапур сочувственно поглядел на жену, но Мирдза уже утерла слезы.
— Ну читай, читай дальше!
— “…Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую “систему заложников”. Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных граждан, взятых “в залог” из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или грабить обывателей… — Листок выскользнул из рук. Калнапур вспомнил о судьбе селения Аудрини. За то, что крестьяне укрыли двух бойцов Красной Армии, фашисты учинили кровавую расправу: они убили 330 жителей — мужчин, женщин, стариков и детей. Голосом, полным возмущения, он продолжал читать: — Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — “новый порядок в Европе”. Мы знаем виновников этих безобразий, создателей “нового порядка в Европе”, всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов”. Ну, что ты обо всем этом скажешь? — спросил Калнапур, прочитав листовку до конца.
— Что скажу? Слово в слово то же самое… Тут все, как в зеркале. Разве не правда, что фашисты грабят нашу землю… Не считают нас за людей…
— Да, так оно и есть, — подтвердил Калнапур. — Такой же гитлеровец и наш директор. Рабочего не считает за человека, орет, как на собаку. Все соки выжимает… Сколько еще это может продолжаться?
— Если каждый будет только так вот спрашивать, а сам и пальцем о палец не ударит, то, конечно, от этого нам лучше не станет. Надо как-то действовать, Микель…
— Надо, надо, будто я сам не знаю. Но ты забываешь, что я отец троих детей! Ты совсем не думаешь о малышах…
— Неужели же будет лучше, если тебя отправят в Саласпилс только потому, что какому-то гитлеровцу не понравится твоя физиономия? Наш сосед Эвальд не уступил места немецкому офицеру, и теперь жена не знает, куда он исчез.
Калнапур поднялся.
— Ладно. Будь что будет. Погоди, я скоро вернусь.
— Куда ты собрался, Микель? Обед готов.
— Я недалеко. Брошу листовку в ящик Карлису Эмберу. Пусть тоже прочитает.
Машинист-железнодорожник Карлис Эмбер уже обедал, когда из школы пришел его сын Индрик.
— Посмотри, отец, что я нашел в почтовом ящике. — И он показал отцу листовку.
— Опять, наверное, какая-нибудь реклама, — пробурчал Эмбер и, даже не взглянув на листовку, продолжал есть суп.
— Нет, тут написано: “Центральный Комитет…”
— Что? А ну-ка, дай сюда! — И Эмбер вырвал листок из рук мальчика.
Совсем позабыв об остывшем супе, машинист несколько раз прочитал листовку. Вот уже вторая попадает в его руки. Первую ему показал товарищ по работе, теперь листовка вдруг очутилась у него дома. Это походило на вторичное напоминание, на вторичный призыв к его совести. Тысячи встали на борьбу, красноармейцы в Сталинграде сражаются за каждый дом, за каждую пядь земли, партизаны взрывают железнодорожные пути и мосты, а он? Что делает он, машинист Карлис Эмбер? При случае старается задержать движение поездов, нарушить график. Но этого слишком мало. Хоть и с опозданием, но фашистские эшелоны все же попадают на фронт… Активный саботаж — вот единственно правильный путь. Эмбер решил завтра же поговорить кое с кем из товарищей.
— Что тут написано? — спросил Индрик, нетерпеливо ожидая, когда наконец отец кончит читать.
— Вот посмотри сам. Ты уже не маленький, начинай разбираться в жизни.
Затаив дыхание мальчик прочитал листовку. Казалось, он старается заучить весь текст наизусть.
— Отец, я отнесу это в школу и покажу ребятам, — сказал Индрик. — Знаешь, недавно у нас по всем коридорам были рассыпаны красные звезды.
— Так-так, сынок. Выходит, вы тоже не спите… Но листовку в школу носить не стоит, там тебя кто-нибудь может выдать. Лучше перескажи ее ребятам.
Когда отец ушел на работу, Индрик решился: он положил свернутую трубочкой листовку в карман и прихватил с собой тюбик клея. Только — куда бы листовку приклеить?
К соседнему дому в это время подъехал “опель-адмирал”. Из машины вышел шофер и скрылся в дверях. На миг позабыв о задуманном, мальчик остановился поглядеть на красивую машину. И вдруг ему пришло в голову, что из нее получится неплохой афишный столб. Индрик огляделся по сторонам, повернулся к машине спиной и прилепил листовку к крышке багажника. В следующее мгновение мальчик шмыгнул в ворота. Довольный и веселый, он помчался вверх по лестнице.
Почти столько же времени понадобилось шоферу Бауэру, чтобы подняться на второй этаж. Генерал Хартмут приказал подать машину к зданию гестапо на улице Реймерса. Этот дом вызывал у Бауэра отвращение. Занятый своими невеселыми мыслями, шофер не обратил внимания на то, что возле машины собралась кучка людей, и сел за руль. Опять, видимо, придется ждать несколько часов — можно не торопиться. Бауэр ехал так медленно, что его обгоняли даже велосипедисты. В зеркале над рулем скользили дома, машины, люди. Прохожие почему-то останавливались и долго провожали машину взглядом. “Уж не случилось ли чего с покрышками?” — подумал Бауэр. Он свернул в тихий переулок и осмотрел машину. Так! Вот почему люди смотрят на нее. Коммунистическая листовка на роскошной машине самого генерала Хартмута! Вот это здорово!
 Клей еще не успел застыть, и шоферу удалось снять листовку, не разорвав бумаги. Тревожно и радостно забилось сердце…
Бауэр вспомнил Большого Теда — так немецкие рабочие называли своего любимого вождя Эрнста Тельмана. В памяти всплыли дни юности, бурные митинги, драки с молодчиками в коричневых рубашках, пикеты забастовщиков у заводских ворот Борзика, вспомнились замученные в Дахау товарищи. Как далеко то время, когда он, сжав кулаки, со слезами восторга слушал пламенную речь Тельмана на первомайской демонстрации!.. Как далеко то время, когда он сам разносил листовки и участвовал в избирательной кампании! Потом был гитлеровский переворот, годы террора, массовые аресты…
Бауэр чудом спасся — главным образом потому, что еще не успел вступить в партию… Поток сопротивления постепенно иссякал. Одни, запуганные топором палача, сами сложили оружие, другие попали в тюрьмы, и наконец пришел день, когда Бауэр потерял последние связи.
Здесь, в оккупированной Латвии, он сильнее, чем когда-либо, ощущал необходимость выйти из состояния пассивного наблюдателя и связаться с коммунистическим подпольем. Вот уже три месяца, как он здесь, но еще ничего не удалось сделать: местные жители видели в нем лишь ненавистного оккупанта. Неужели и вправду нет выхода?
Клей еще не успел застыть, и шоферу удалось снять листовку, не разорвав бумаги. Тревожно и радостно забилось сердце…
Бауэр вспомнил Большого Теда — так немецкие рабочие называли своего любимого вождя Эрнста Тельмана. В памяти всплыли дни юности, бурные митинги, драки с молодчиками в коричневых рубашках, пикеты забастовщиков у заводских ворот Борзика, вспомнились замученные в Дахау товарищи. Как далеко то время, когда он, сжав кулаки, со слезами восторга слушал пламенную речь Тельмана на первомайской демонстрации!.. Как далеко то время, когда он сам разносил листовки и участвовал в избирательной кампании! Потом был гитлеровский переворот, годы террора, массовые аресты…
Бауэр чудом спасся — главным образом потому, что еще не успел вступить в партию… Поток сопротивления постепенно иссякал. Одни, запуганные топором палача, сами сложили оружие, другие попали в тюрьмы, и наконец пришел день, когда Бауэр потерял последние связи.
Здесь, в оккупированной Латвии, он сильнее, чем когда-либо, ощущал необходимость выйти из состояния пассивного наблюдателя и связаться с коммунистическим подпольем. Вот уже три месяца, как он здесь, но еще ничего не удалось сделать: местные жители видели в нем лишь ненавистного оккупанта. Неужели и вправду нет выхода?
17
Пока услужливый швейцар помогал Кисису снять пальто, агент успел окинуть взором зал за стеклянной дверью. В этот ранний послеобеденный час кафе уже было переполнено. Хорошо, что Мелсиня пришла пораньше и успела занять столик. Самодовольно улыбаясь, Кисис подошел к зеркалу, провел расческой по волосам, поправил галстук и слегка окропил его “Шипром” из флакона, который всегда носил с собой. Затем он направился в зал. Голубоватый от папиросного дыма воздух, жужжание голосов и пиликанье струнного оркестра — все это сразу же слегка одурманило Кисиса. Среди немногих кафе, еще не превращенных оккупантами в увеселительные заведения для вермахта, это считалось самым фешенебельным. И неудивительно, что Кисис встретил тут множество знакомых. Раскланиваясь направо и налево, он пробирался между столиками. Официально в кафе было разрешено подавать только суррогат кофе с сахарином. Но возбужденные лица и непринужденные речи посетителей недвусмысленно говорили о том, что из-под полы тут можно получить и кое-что покрепче. — Здорово, Кисис! Идемте-ка в нашу компанию. Присоединяйтесь, пока живительная влага не высохла, — поднимая стакан с водкой, пригласил его управляющий банком Регерт. Но агент не поддался искушению и прошел прямо к столику Мелсини. Чтобы оградить себя от нежелательных соседей, которые могли бы нарушить интимную обстановку, она заняла все три свободных стула различными предметами своего туалета. — Ах, если бы ты знал, как я тебя ждала! — нежно шепнула Мелсиня. — Сердце билось так сильно, будто мне всего шестнадцать лет… — И мне не терпелось тебя снова увидеть, — ответил Кисис и поцеловал ей руку. — Скажи, ты узнала что-нибудь еще об этой Земите? — добавил он, понизив голос. Мелсиня вздохнула. — Знаешь, Арнольд, — и она погладила руку Кисиса, — любовь, кажется, ослепила меня. Я не заметила ничего, абсолютно ничего предусмотрительного. Они все время говорят только о зубном порошке. — О зубном порошке? Агент навострил уши. — Да. И покупают всегда “Хлородонт”. Кисис на минуту задумался: — Подозрительно, подозрительно… На твоем месте я бы посмотрел, что это за порошок. Вернувшись в свой магазин, Мелсиня решила тут же последовать совету Кисиса. Вечером она снова встретится с возлюбленным и, может быть, уже сумеет его чем-нибудь порадовать. Инстинктом женщины Мелсиня почувствовала, что Кисис придает этому делу большое значение. Войдя в контору, хозяйка магазина уселась за столом так, чтобы через приоткрытую дверь можно было наблюдать за старшей продавщицей. Ей повезло. К Земите как раз подошел один из постоянных покупателей. Слов, которыми они обменивались, Мелсиня, правда, не расслышала, но видела, как продавщица протянула рабочему коробку с зубным порошком. “За этим, видимо, в самом деле что-то кроется”, — решила хозяйка и недолго думая направилась к прилавку. Елейным тоном, каким в последнее время всегда говорила со старшей продавщицей, Мелсиня сказала: — Вы сегодня, вероятно, очень устали, дорогая Земите… Мне кажется, вам было бы полезно подышать свежим воздухом. Вот заказ, поезжайте-ка на склад за товаром. — Но теперь так много покупателей, госпожа Мелсиня, — возразила Земите. — Мы и так не справляемся… — Ничего, ничего… Я поработаю за вас… — И хозяйка магазина сунула бланк заказа в руку продавщице. Как только Земите вышла, Мелсиня приступила к делу. Одну за другой она открывала все коробки с “Хлородонтом”. Ничего! Все они содержали чистый, белый порошок. Затем она проверила сложенные под прилавком пустые ящики. И там не было ничего подозрительного. Тогда она принялась обшаривать ящик с деньгами. Но, помимо кредитных билетов, выданных немецким банком, и здесь обнаружить ничего не удалось. Мелсиня собиралась уже закрыть ящик, и тут вдруг произошла одна из тех мелких случайностей, которые часто ведут к серьезным последствиям. Измятая, засаленная десятимарковая бумажка упала на пол. Мелсиня нагнулась, подняла ее и при этом заметила под верхней доской прилавка несколько коробок “Хлородонта”. Сначала она не могла понять, на чем же они там держатся. Потом ей все стало ясно — коробки приклеены! Дрожащими пальцами Мелсиня раскрыла одну из них, извлекла вчетверо сложенный листок бумаги и от волнения чуть не разорвала его. “…Их имена знают десятки тысяч замученных людей…” — прочла она. Лицо Мелсини побурело от злости. Большевистская листовка! И где? В ее магазине! Была бы Земите поблизости, она бы ей показала! — Будьте любезны, мне коробочку зубного порошка, — раздался в это мгновение голос за ее спиной. Уверенная, что имеет дело с одним из этих красных ублюдков, Мелсиня резко обернулась и… изумилась настолько, что не знала, верить ли ей своим глазам: по другую сторону прилавка с раскрытым кошельком стоял приват-доцент Граве… — Что с вами, госпожа Мелсиня?! Вы не больны? — озабоченно осведомился приват-доцент. — Если бы вы только знали, что я сейчас обнаружила! Коммун… — Тише, тише! — Граве прижал указательный палец к губам и увлек Мелсиню в ее контору. Прочитав листовку, приват-доцент заволновался еще больше, чем сама владелица магазина: — Сейчас же звонить в гестапо! Сейчас же, не теряя ни одной минуты! — И он лихорадочно стал перелистывать телефонную книгу. — Но ведь я обещала своему другу… Мне прежде всего надо поговорить с Кисисом, — колебалась Мелсиня. — Что там Кисис! Что он понимает в таких делах?.. Здесь дорога каждая секунда! — И Граве энергично набрал номер. …Вечером, на очередном приеме у Граудниеков, приват-доцент стал героем дня. Его чествовали и поздравляли так бурно, будто он по крайней мере спас всех присутствующих от смерти.18
Оберштурмфюрер Рауп-Дименс нажал кнопку звонка. Ввели арестованную. Это была светловолосая женщина лет тридцати, в рабочем халате продавщицы. На серовато-синей материи белели пятна муки. — Вы уже давно работаете в бакалейном магазине на улице Адольфа Гитлера, сто семьдесят восемь? — Третий год. — Если не ошибаюсь, при большевиках вас назначили старшей продавщицей? Арестованная не ответила. — Впрочем, это не имеет значения… — небрежно заметил Рауп-Дименс и продолжал более вежливым тоном: — Поймите меня правильно, фрейлейн Земите, я вовсе не считаю вас коммунисткой. Вы просто попались на удочку и поддались большевистской агитации. Еще не поздно одуматься. Я готов посмотреть сквозь пальцы даже на то, что у вас нашли листовки. Скажите мне только, кто дал вам их на хранение? — Мне их никто не давал. Я нашла эти листовки на улице, думала, пригодятся в магазине, вот я их и взяла. Вы же сами знаете, что бумага сейчас очень дорогая. Для обертки товаров одной “Тевии” не хватает. Оберштурмфюрер усмехнулся: — Ах, вот как!.. Значит, отпускаете покупателям товар, завернутый в антигосударственные листовки? Недурной способ пропаганды! Продавщица в отчаянии сжимала руки. — Но я же не знала, что там написано! Оберштурмфюрер, как бы погрузившись в глубокое раздумье, вертел карандаш. — Да, да, все это звучит весьма правдоподобно. Что же, кажется, придется вас освободить… — И вдруг резким голосом, точно топором отрубая слова, спросил: — Почему же моему знакомому вы отпустили товар в обычной оберточной бумаге? Арестованная побледнела. “Сейчас она сознается”, — подумал Рауп-Дименс. И когда она сказала: “Можно мне задать вам вопрос?” — гестаповец вежливо ответил: — Пожалуйста, прошу вас. — Что покупал ваш знакомый? — Килограмм крупы. — Ну подумайте сами, разве можно целый килограмм завернуть в такую маленькую бумажку! “Что? Она еще надо мной смеется! Хорошо же, я ей сейчас покажу!” Он нажал под столом кнопку звонка и закурил сигарету. В кабинет уверенной походкой вошла Мелсиня. Начиная с вызывающе накрашенных губ и кончая ярко-красными туфлями на толстой подошве — все в этой особе было утрированным. Увидев Земите, она отпрянула к дверям. — Но, господин оберштурмфюрер, вы же обещали, что… — Не волнуйтесь! Тому, кто побывал в моем кабинете, больше не представится случая болтать. Ну, рассказывайте… Все, что вам известно. — Эту Земите я всегда считала коммунисткой. Я слышала, как она говорила, будто при большевиках хорошо жилось… Рауп-Дименс резко оборвал свидетельницу: — Это я уже слышал. Ближе к делу! — Земите мне уже давно казалась подозрительной. Я заметила, что с некоторыми покупателями она потихоньку шушукается и те потом всегда покупают зубной порошок. В тот день, когда вам позвонили, я срочно послала ее за товаром, а сама тем временем проверила ее отделение и нашла несколько пустых коробок из-под зубного порошка “Хлородонт”. В них оказались листовки… — Благодарю вас. Пока вы мне больше не нужны. Оберштурмфюрер закурил другую сигарету и, удобно откинувшись в кресле, молча стал наблюдать за арестованной. Эту сигарету он курил с необычайным наслаждением. Она казалась ему еще приятней, чем бывает первая затяжка поутру или сигара после изысканного обеда. Рауп-Дименс наслаждался своей властью над Земите. Она была в его руках, точно пойманная стрекоза, трепещущая, тщетно бьющая крыльями. Достаточно росчерка пера, и завтра эта продавщица будет расстреляна. Но сперва нужно выжать из нее все, что ей известно. — Ну-с, напишем протокол… Когда вы начали распространять листовки? Кто их вам приносил? Кому вы их отдавали? Женщина молчала. Оберштурмфюреру слишком хорошо были знакомы такие вот упрямые, полные решимости глаза и крепко сжатые губы. Он знал, что не к чему утруждать себя повторением вопроса. Добром от нее ничего не добьешься — незачем понапрасну портить нервы. — Ничего, у нас в гестапо и немые начинают говорить, — сказал он, злобно усмехнувшись. — Мой помощник сейчас продемонстрирует разнообразие наших методов. Арестованная еще больше побледнела и обеими руками крепко ухватилась за ручки кресла. Когда появился дюжий детина с опухшей от пьянства физиономией, она поняла по одному его виду, что ее ждет. Озол прославился в гестапо как лучший заплечных дел мастер благодаря некоторым познаниям в анатомии. Рауп-Дименс подмигнул Озолу. Помощник снял пиджак, засучил рукава и с явной поспешностью натянул перчатки. Нетерпеливое выражение на его лице говорило о том, с каким наслаждением этот садист продемонстрирует сейчас свое искусство. — Имей в виду: на лице не оставлять ни единого следа. Понятно? — тихо приказал Рауп-Дименс. — Она еще нам пригодится. Испробуй все номера по порядку, но я думаю — двух хватит. Действительно, после второго “номера” женщина не выдержала. Сквозь стоны и крики Рауп-Дименс ясно различил слова: — Пустите меня… не мучайте… я все… расскажу… — Отлично! Озол, прекратить! Оберштурмфюрер дал Земите немного прийти в себя. Арестованная судорожно хватала ртом воздух. — Ну-с, теперь начнем записывать. Итак… Но вместе со способностью говорить к арестованной вернулась и сила воли. — Я ничего не знаю… Ничего не могу сказать… Так продолжалось почти час. Потом Земите потеряла сознание. Озол хотел было сбегать за водой и нашатырным спиртом, но Рауп-Дименс остановил его: — Хватит. Мы все равно с ее помощью все узнаем. Скажи доктору Холману, чтобы завтра к утру арестованная была на ногах. Озол, еще не чувствуя ни малейшей усталости, с явной неохотой повиновался приказу начальника. Когда два эсэсовца грубо схватили Земите, чтобы отнести ее в камеру, она открыла глаза. Оберштурмфюрер подошел к ней вплотную. — Вы меня слышите, да? Так вот знайте: завтра вы будете стоять за прилавком как ни в чем не бывало. Два моих работника будут следить за каждым вашим движением. Если вы попытаетесь предупредить тех, кто принесет вам листовки, или тех, кто за ними явится, на быструю смерть не рассчитывайте. Мы будем пытать вас неделями, месяцами — до тех пор, пока вы сможете чувствовать боль. Ясно?19
Три дня Кристина Земите провела в непрерывных мучениях. Правда, ее больше не истязали, но стоять у прилавка и с замиранием сердца ждать, что в любую минуту дверь магазина отворится и войдет кто-нибудь из связных, было куда страшнее физических пыток. Три дня агенты оберштурмфюрера, переодевшись продавцами, не спускали с нее глаз, следили за каждым ее движением. Три дня Рауп-Дименс нервничал, шагая из угла в угол в своем кабинете. Но никто не появлялся. Через пять часов после ареста Земите в книжном агентстве Буртниека снова появился неразговорчивый рабочий и попросил “Volkischer Beobachter”. Янис своевременно получил от него записку. Элиза Свемпе, в свою очередь, предупредила девушку на почте, и так по невидимой цепочке весть об аресте Земите дошла до тех, кто обычно приходил за листовками. Тем не менее прорыв важного звена ставил под угрозу всю сеть. Необходимо было срочно найти новый распределительный пункт. Даугавиет принялся обдумывать создавшееся положение, отвергая один проект за другим. Они казались ему слишком рискованными. В это время в дверь постучала Скайдрите. Девушке долго не открывали, потому что потребовалось по крайней мере две-три минуты, чтобы Эрик скрылся в “квартире без номера”. — Почему сегодня такая печальная? — спросил Янис. — Ничего, просто так… голова болит. — Скайдрите провела языком по губам и, набравшись храбрости, заявила: — Не обижайтесь на меня, я хотела поговорить с Ядвигой с глазу на глаз. Надежда тотчас встала и повела Скайдрите в свою комнату. — Что с тобой, расскажи мне. Может быть, смогу помочь? — Ах, если б вы только знали! Я ведь вам уже рассказывала о своем друге… — Да. И что же? — В субботу мы условились встретиться, но он… — Скайдрите проглотила подступивший к горлу комок, — он не пришел. — Ну, это еще не беда. Придет в другой раз. — Сначала я тоже так думала… Но сегодня не выдержала и пошла к нему в гостиницу. — И оказалось, что он тебя и знать не хочет. Что ж, бывает и так… Но ведь это значит, что он не стоит твоей любви! — Нет, все гораздо хуже. Его вообще больше нет… — Как так — нет? — удивилась Надежда. — В том-то и дело. Он вышел из гостиницы и больше не вернулся. Исчез. Понимаете? Точно в воду канул. — Может быть, ему срочно понадобилось уехать? Я бы на твоем месте спокойно ждала письма. — Вы так думаете? Как знать, может быть… Спасибо вам, все же как-то легче стало. …Да, Ядвига права. Остается только одно: ждать письма. И Скайдрите стала ждать. Весь следующий день она провела у окна, то и дело подбегая к дверям. Всякий раз, когда на лестнице слышались шаги, ей казалось, что несут желанное письмо. Каждое синее пальто, появлявшееся из-за угла, казалось ей форменной одеждой почтальона. Когда наконец почтальон принес вечернюю почту, Скайдрите не выдержала и выбежала ему навстречу. — Мне письмо есть? — Нету, барышня. — Но ведь должно же быть! Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Почтальон порылся в сумке. — Нету, милая, я же говорю — нету. Кавалер-то ваш, верно, адрес перепутал и послал письмецо другой, — добродушно пошутил он. Медленно, очень медленно ступая, Скайдрите вернулась домой. Славный старичок этот почтальон! Но что за нелепая мысль, будто Эрик мог перепутать адрес! И вдруг она выронила из рук книгу. Только теперь она сообразила, что Эрик вовсе и не знает ее адреса. Значит, ждать нечего… Письмо не придет… Как, неужели она не получит весточки от Эрика? Нет! Этого не может быть, он непременно найдет способ известить ее. Если только захочет, он сможет ей написать. И Скайдрите стала думать о том, как бы она сама поступила на его месте. Верно! Эрик знает, что ее мать работает в гостинице. Он мог бы написать ей и попросить передать письмо Скайдрите… У девушки снова появилась надежда. Когда Элиза поздним вечером вернулась домой, Скайдрите все же не решилась спросить ее, только по глазам матери она старалась понять, не принесла ли та письма. Проходил день за днем, вечер за вечером. По ночам Скайдрите все думала, думала, думала… Порою девушка впадала в отчаяние, порою опять старалась убедить себя, что ничего страшного не случилось и завтра улыбающийся Эрик откроет дверь и скажет: “Скайдрите, я передумал, едем вместе к партизанам”. Но когда прошла целая неделя, стало ясно: с Эриком что-то произошло. Что же с ним могло случиться? Внезапное исчезновение людей обычно означало, что они попали в гестапо. Чем чаще Скайдрите возвращалась к этой мысли, тем обоснованнее казалось подобное предположение. Перебрав в памяти каждую мелочь, связанную с Эриком, она только сейчас многое увидела в истинном свете. Эрик ненавидел фашистов — это ей было ясно. Достаточно вспомнить тот случай в парке… Но почему же он становился таким равнодушным, как только она пыталась завести разговор о политике? Возможно, он что-то скрывал?.. Скайдрите вспомнила серые хлопья пепла, летавшие по комнате, когда она пришла к Эрику в гостиницу. И вдруг ее осенила догадка: это было сожженное письмо! Но ведь обычно письма не сжигают, а хранят… Все говорило о том, что Эрик был вынужден жить двойной жизнью. Одна жизнь была явной, другая — тайной. И об этой второй жизни Скайдрите ничего не должна была знать. Но почему? Разве она не заслуживает доверия? Она столько раз давала ему понять, что сама хочет принять участие в борьбе!.. Как видно, одного желания недостаточно. Чтобы заслужить доверие, следует сперва доказать на деле свою смелость и выдержку. Эрик был прав. До сих пор она вела себя, как глупая девчонка. Еще в первые дни войны, когда мать захотела остаться в Риге, надо было настоять на своем и уехать. Вместо того чтобы действовать, она плакала, словно ребенок, и в конце концов все-таки дала себя уговорить. А теперь? Что она сделала, чтобы доказать свою готовность встать в ряды борцов? Ждала, чтобы кто-нибудь взял ее за руку, повел и сказал: “Вот твое место”? А когда в ее жизнь вошел Эрик, она предложила ему отправиться с ней к партизанам. Конечно, Эрик только посмеялся над ее наивностью. Нет, настоящая борьба — это вовсе не какая-нибудь романтическая выдумка… Теперь-то Скайдрите это понимает. Теперь она должна твердо и неуклонно идти своим путем и только где-то вдали, на солнечном перекрестке, может быть, встретит Эрика… Да, Эрика, должно быть, арестовали, быть может, фашисты уже убили его… К чему слезы, жалкие слезы бессилья! Их нужно стереть, пусть глаза будут сухими, как высохшая ветвь, готовая вспыхнуть от первой искры и превратиться в пылающий факел. Скайдрите не имеет права плакать. У нее только одно право, одна обязанность — бороться, мстить! Заменить Эрика, бороться за двоих!.. Приняв твердое решение, Скайдрите час спустя вошла в комнату Надежды. — Помогите мне уйти к партизанам, — прямо сказала девушка. — О чем ты говоришь? — поразилась Надя. — Ядвига, вы единственный человек, которому я могу довериться! Я хочу вам сказать… я… Словом, теперь я стала взрослой, я готова бороться… — Я тебе верю, Скайдрите. Но не слишком ли ты торопишься? — Нет, я уже давно об этом думала. А теперь, после того как исчез мой друг, я твердо решила не оставаться в Риге ни одного лишнего дня… — Как, разве ты не получила письма? — Никакого письма я не получила. Я почти уверена, что Эрика арестовали. И Скайдрите рассказала Надежде обо всем, что навело ее на эту мысль. Надя насторожилась. Неужели это Эрик, тот самый Эрик?.. Не может быть! Надо расспросить Скайдрите, но так, чтобы она не догадалась. — Эрик… красивое имя… — пробормотала Надежда. — А каков он из себя? Наверно, тоже красивый? — Почему обязательно красивый?.. Он… Он милый, вот какой он. Нос такой большой, смешной… А глаза светлые-пресветлые… И все мне в нем нравится, даже складка… Знаете, у него на левой щеке такая морщинка… Надежда вздрогнула и невольно оглянулась: ведь здесь лишь час назад сидел Эрик. Подумать только! Из тысяч молодых людей именно Эрику суждено было встретиться с нашей Скайдрите. Бедная девочка! Тебе еще долго придется мучиться неведением о судьбе твоего друга. — Эрик, говоришь ты? Был у меня один знакомый, Эрик Озолинь. И описание как будто совпадает… — Да нет, какой там Озолинь! Краповский, Эрик Краповский. Надежде больше не удалось скрыть волнение. Не выдержав, она крепко прижала Скайдрите к груди и расцеловала в обе щеки, как это делают русские женщины, провожая близкого человека в опасный и дальний путь.
— Ладно, Скайдрите. Приходи завтра. Мы непременно найдем какой-нибудь выход. А насчет твоего Эрика… Я уверена, что с ним ничего дурного не случилось… Вот ты говоришь, он что-то скрывал от тебя, сжигал какие-то письма. Видимо, по той же причине он сейчас должен скрываться. Придет время, и вы опять встретитесь…
…Этот день потребовал от Надежды Цветковой большого терпения и выдержки. Молчать невыносимо трудно, и все же в присутствии Эрика она должна молчать. Когда Эрик ушел к себе, Янис отправился по делам. Только поздно вечером Надя и Янис смогли поговорить. Обычно смелая и прямая, на этот раз Надежда никак не решалась начать. Женская чуткость подсказывала ей, что она может разбередить рану в сердце Даугавиета. И главное, она сама не знала, как в этом случае следует поступить.
— Знаешь, Янис, мне нужно тебе кое-что рассказать. Поразительное совпадение…
— Что случилось?.. За нашим домом слежка? Говори же скорей, в чем дело?
— Да нет, совсем другое. Это касается Эрика и… Скайдрите.
— Эрика и Скайдрите?.. Что это значит?
— Ну хорошо, я тебе все объясню. Помнишь, Эрик говорил, что у него есть любимая девушка?
— Да.
— Эта девушка — Скайдрите.
Даугавиет вскочил со стула.
— Да, да, это и есть Скайдрите, и она любит нашего Эрика.
— Ей известно, что Эрик здесь?
— Конечно, нет. Скайдрите думает, что его арестовали. Янис, мне так ее жаль… Может быть, все же сказать ей?
— Нет, нет и еще раз нет! — Янис зашагал взад и вперед по комнате. — То, что мы любим Скайдрите, не дает нам права делать исключение. И Эрик в нашей жалости не нуждается. Я был рядом с ним тогда и видел, какую трудную борьбу он выдержал с самим собой. Подпольщик не может проявлять слабохарактерность. Наше счастье, Надя, — не легкое счастье. Оно требует жертв…
Надежда схватила его руку.
— Ты прав, совершенно прав! А знаешь, почему Скайдрите сегодня приходила ко мне? Она хочет уйти в партизаны.
— В партизаны? — Янис последний раз глубоко затянулся и отбросил сигарету. — Нет, Скайдрите нужно оставаться в Риге.
Надежде больше не удалось скрыть волнение. Не выдержав, она крепко прижала Скайдрите к груди и расцеловала в обе щеки, как это делают русские женщины, провожая близкого человека в опасный и дальний путь.
— Ладно, Скайдрите. Приходи завтра. Мы непременно найдем какой-нибудь выход. А насчет твоего Эрика… Я уверена, что с ним ничего дурного не случилось… Вот ты говоришь, он что-то скрывал от тебя, сжигал какие-то письма. Видимо, по той же причине он сейчас должен скрываться. Придет время, и вы опять встретитесь…
…Этот день потребовал от Надежды Цветковой большого терпения и выдержки. Молчать невыносимо трудно, и все же в присутствии Эрика она должна молчать. Когда Эрик ушел к себе, Янис отправился по делам. Только поздно вечером Надя и Янис смогли поговорить. Обычно смелая и прямая, на этот раз Надежда никак не решалась начать. Женская чуткость подсказывала ей, что она может разбередить рану в сердце Даугавиета. И главное, она сама не знала, как в этом случае следует поступить.
— Знаешь, Янис, мне нужно тебе кое-что рассказать. Поразительное совпадение…
— Что случилось?.. За нашим домом слежка? Говори же скорей, в чем дело?
— Да нет, совсем другое. Это касается Эрика и… Скайдрите.
— Эрика и Скайдрите?.. Что это значит?
— Ну хорошо, я тебе все объясню. Помнишь, Эрик говорил, что у него есть любимая девушка?
— Да.
— Эта девушка — Скайдрите.
Даугавиет вскочил со стула.
— Да, да, это и есть Скайдрите, и она любит нашего Эрика.
— Ей известно, что Эрик здесь?
— Конечно, нет. Скайдрите думает, что его арестовали. Янис, мне так ее жаль… Может быть, все же сказать ей?
— Нет, нет и еще раз нет! — Янис зашагал взад и вперед по комнате. — То, что мы любим Скайдрите, не дает нам права делать исключение. И Эрик в нашей жалости не нуждается. Я был рядом с ним тогда и видел, какую трудную борьбу он выдержал с самим собой. Подпольщик не может проявлять слабохарактерность. Наше счастье, Надя, — не легкое счастье. Оно требует жертв…
Надежда схватила его руку.
— Ты прав, совершенно прав! А знаешь, почему Скайдрите сегодня приходила ко мне? Она хочет уйти в партизаны.
— В партизаны? — Янис последний раз глубоко затянулся и отбросил сигарету. — Нет, Скайдрите нужно оставаться в Риге.
20
В ту ночь мастер судоремонтного завода “Цизе” Куренберг дежурил на судне в плавучем доке. Если бы эту старую посудину по ночам не стерегли, то на ней бы не осталось ни одного болтика. Даже обычный шестидюймовый гвоздь стал теперь невесть какой драгоценностью. В полночь Куренберг услышал странный шум. Стряхивая сон, мастер выбежал из теплого машинного отделения. С залива дул четырехбалльный северо-западный ветер. Черная волна тяжело ударяла о борт… Неподалеку от дока в темноте смутно вырисовывался силуэт огромного корпуса. Это “Фредерикус Рекс”, бывший пассажирский пароход компании “Северогерманский Ллойд”. Теперь его использовали для перевозки раненых солдат вермахта. Густые клубы дыма указывали на то, что пароход скоро отчалит. Куренберг снова прислушался к многоголосому гомону, гулко разносившемуся над водой. Нет, это не стоны раненых. Слышны выкрики, брань, плеск воды, женские голоса, снова яростная брань, топот бесчисленных ног по трапу и равнодушный голос судового офицера: — Сто сорок шесть, сто сорок семь… сто пятьдесят… Стоп! Хватит, лейтенант, подождите, пока первую партию загонят в трюм. Куренбергу все стало ясно — отправляют в Германию гражданское население. Фашисты называли эту процедуру громким словом “arbeitsdienst”,[19] но от этого людям не становилось легче. Погрозив кому-то кулаком, мастер хотел было вернуться в машинное отделение, но в этот миг в общем шуме он различил всплеск, словно что-то тяжелое плюхнулось в воду. Должно быть, человек упал или прыгнул за борт. Боясь опоздать, Куренберг тотчас сорвал ближайший спасательный круг и быстро привязал к нему конец. Перегнувшись через борт, он размахнулся и швырнул круг в том направлении, где на поверхности воды показалась темная точка… …Наутро в маленькой, жарко натопленной кухоньке Куренберга сидели двое — женщина в старой солдатской шинели и в синих, слишком широких для нее брюках и сам хозяин квартиры. Неловкими пальцами держа остро отточенный карандаш, он выводил на папиросной бумаге мелкие, почти микроскопические буковки. Пока мастер писал, спасенная, уже в который раз, рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Слушая ее, Куренберг живо представлял себе, как людей хватали на улицах, загоняли в машины и отвозили в порт. Ведь нечто похожее однажды произошло и с ним самим. Вместе со многими его отвезли на товарную станцию и заставили разгружать вагоны. Все это было описано в листовке, которую Куренберг через несколько дней получил от одного товарища. И верно, там говорилось, что это только начало — сегодня везут на товарную станцию, а завтра — в Германию. Ему именно эта листовка помогла найти путь в подполье. — …Так вот, значит, поймали меня как мышь в мышеловку, — продолжала свой рассказ женщина. — Куда денешься, куда побежишь, когда вокруг шуцманы. “Ваше удостоверение!” — “Но послушайте, где же мне взять удостоверение, если я только через три дня должна приступить к работе!” Они в ответ только зубы скалят. А ведь это чистая правда. Я договорилась с одним дальним родственником — он какой-то там начальник над газетными киосками. Вообще-то мы с ним давно не в ладах. Сами знаете, как приходится с богатыми родственниками. Но на этот раз он все же мне помог. Предчувствие у меня такое было… Думаю, надо куда-нибудь пристроиться. А в Германию — ни за что! Лучше уж с собой покончить… Что же мне теперь делать?.. Куренберг не торопился с ответом. Слова “газетный киоск” глубоко заинтересовали его. Лучшего места для распространения листовок нельзя было и придумать! Если бы только удалось посадить туда своего человека!.. Куренберг боролся с соблазном убедить эту женщину покинуть Ригу, уговорить ее, чтобы она предложила свое место кому-нибудь другому… — Чего же вы волнуетесь? Вам больше ничто не угрожает. Через несколько дней начнете работать, получите удостоверение, и все будет в порядке. А до тех пор можете прятаться у меня. — Остаться в Риге? — возмутилась женщина. — Ни за что! Кто знает, еще забудешь удостоверение дома и, не ровен час, опять схватят. Пусть думают, что я утонула! Лучше поеду в деревню, наймусь работать за одни харчи, а в Риге не останусь… Все время будешь тут вспоминать эту страшную ночь… Нет, ни за что я здесь не останусь!.. Теперь мастер с чистой совестью мог изложить ей свою просьбу. Устроить на это место его родственницу? Конечно! Ведь Куренберг ей спас жизнь… Пожалуйста! Она с удовольствием окажет эту услугу! Довольный успехом, Куренберг спустился вниз по скрипучей лестнице. На дворе сильный ветер вырвал из мундштука сигарету. Пришлось бегом догонять уносимый ветром окурок. Но он теперь вымок и никуда не годился. Мастер в сердцах сплюнул — не надо было во время дежурства столько дымить, может, хватило бы курева на весь день. Увидев издали толчею у автобусной остановки, он решил пройтись пешком. Времени было достаточно, и к тому же мастер надеялся, что прогулка по свежему воздуху прогонит усталость после тяжелой ночи. Подняв воротник пальто и засунув руки глубоко в карманы, он зашагал быстрее. К воротам завода Куренберг подошел как раз в ту минуту, когда они открылись, чтобы выпустить людей, отработавших смену. Мастер задержался у ворот ровно столько, чтобы сложенная вчетверо папиросная бумажка незаметно очутилась в ладони у одного из выходивших товарищей. Часом позже этот рабочий завернул в тихий переулок на окраине города и со двора постучал в окошко одноэтажного дома. Его впустил угрюмый человек с пышными усами пожарного. Он молча принял донесение и затем снова тщательно запер дверь.21
Ночью у Висвальда Буртниека был сердечный припадок. Он впрыснул себе камфару и потом долго не мог заснуть: как известно, это лекарство — злейший враг сна. Скорей бы кончилась война! Тогда он непременно начнет серьезно лечиться. А пока все идет по-старому. И каждое утро Висвальд пытался успокоить неровно колотившееся сердце старинным изречением: “In tenebris lucet lux”. Недаром еще древние римляне верили, что именно во тьме брезжит свет. Чувствуя себя совершенно разбитым, Буртниек встал, чтобы приняться за работу. Но около одиннадцати к нему явился мужчина с пышными усами пожарного, и сообщение, принесенное связным, сразу же разогнало усталость. Висвальда охватила лихорадочная жажда деятельности. Хотелось тут же побежать вниз к Янису, но,увы, это запрещал закон конспирации. К счастью, следующим посетителем оказался сам Даугавиет. — Пришел за советом… — начал Янис, но тут же осекся, заметив темные круги под воспаленными от бессонницы глазами друга. — Опять сердце? — Он скорее утверждал, чем спрашивал. — Ерунда! — махнул Буртниек рукой. — Нечего притворяться, старина! — Янис обнял Буртниека за плечи. — От меня не скроешь, у меня глаз наметан. Слова Даугавиета тронули Висвальда. По сути дела, они ведь на поле боя, тут не до вздохов и громких соболезнований. Если товарищ ранен, его перевязывают и идут дальше… И все-таки Янис, на чьи плечи ложились заботы о типографии, о доставке бумаги и красок, о связи с корреспондентами подпольных изданий, о распространении нелегальной литературы, о жизни всех этих людей, всегда находил время, чтобы ободрить друга ласковым словом. Но попробуй-ка позаботься о нем — сразу же ощетинится, как еж. — Вот еще, не хватало, чтобы больной осведомлялся о здоровье больного, — уклоняясь от прямого ответа, отшутился Буртниек. — Ты обо мне? — удивленно переспросил Янис. — Но я ведь не болен! Висвальд бросил эти слова просто так, без определенного намерения, но теперь ему уже не хотелось отступать. — А сердце? Не пытайся меня убедить, что у тебя с сердцем все в порядке. — Он говорил искренне и серьезно. — Будто я не вижу, как тебе тяжело… Почему бы не сказать Наде обо всем открыто… Янис покраснел, отдернул руку от плеча Буртниека. — Не болтай чепухи! — резко прервал он Висвальда. Но потом вполголоса добавил: — У Нади муж… Кроме того… ты сам понимаешь, что… Вообще все это ерунда! — И он решительно перевел разговор на другую тему: — А ты держишься молодцом!.. Ничего, старина, потерпи еще годик… Кончится война, и мы поедем с тобой на юг, в теплые края… Надя рассказывала мне о Кавказе — она там как-то отдыхала с мужем… Представь себе, какая красота — кругом пальмы, настоящие пальмы, солнца сколько угодно и ни одного фашиста! Вот там мы с тобой и подлечимся. — И, вздохнув, Янис добавил: — И забудем все свои невзгоды… — Согласен! — улыбнулся Буртниек. — Вместе с тобой и с Надей! — подчеркнул он. — Если у мужа не будет возражений, почему бы и нет? Буртниек снова стал серьезным: — Слушай, Янис, ты веришь, что он жив? — Откровенно говоря — нет. Ведь мы запрашиваем всякий раз, когда посылаем отчеты в центр. Будь уверен, товарищи там, в Москве, сделали все возможное, чтобы найти его… Но что поделаешь? “Для веселия планета наша мало оборудована — надо вырвать радость у грядущих дней”. — В эту ночь жизнь действительно не казалась мне раем. Но вот только что я получил добрую весть и снова чувствую себя отлично. Взгляни-ка — разве это не удача?! Даугавиет прочитал донесение Куренберга. Дойдя до последних строчек, он оживился. — Замечательно! Ведь это устраняет все наши трудности. Газетный киоск лучше любого магазина. Кто может мне запретить покупать хоть по две “Тевии” в день?.. Нет, покупать две — это было бы, конечно, подозрительно, — пошутил он. — Этого не стал бы делать даже самый ярый националист. Тогда уж лучше одну “Тевию” и одну “Deutsche Zeitung im Ostland”… Шуцманы будут в восторге от столь горячих приверженцев “нового порядка”, а мы тем временем распространим свои листовки! — Таким веселым я тебя давно уже не видел, — обрадовался Буртниек. — А теперь давай подумаем, кого посадить в киоск? — Да, верно, кого же туда посадить? Даугавиет задумался, перебирая в уме фамилии многих подпольщиков, — все они и без того уже были перегружены заданиями. Но брешь, которую пробил в их рядах арест Земите, надо заполнить. Погрузившись в размышления, Янис остановился у окна. Внизу, убирая остатки первого снега, энергично орудовал метлой Донат. Даугавиет знал — на этого старика можно смело положиться: в случае опасности он немедленно предупредит товарищей. “Побольше бы таких людей”, — подумал Янис. Правда, врагов фашизма в Риге сколько угодно. Янис не сомневался, что среди людей, проходивших сейчас по улице, многие жили надеждой на освобождение. Но пойти на подпольную работу, которая ежеминутно грозит смертью, — на это не каждый способен. Надежных помощников было сравнительно мало, а работа развертывалась все шире и шире. Поэтому Даугавиет так радовался появлению каждого нового члена в дружной семье подпольщиков. — Да, для выполнения этого задания пригоден не каждый, — снова заговорил Янис. — Быть может, направим Куренберга? — предложил Буртниек. — Что ты? Подумай сам! Здоровый мужчина, в нем на расстоянии можно узнать рабочего!.. И вдруг такой станет торговать газетами в киоске! Сразу покажется подозрительным! Так легко этот вопрос решить не удастся… Прежде всего подумаем, что делать с нашей Скайдрите. Именно поэтому я и пришел к тебе. Выслушав рассказ Даугавиета, Висвальд свистнул. — Вот так сюрприз для Доната и Элизы! Они ведь считают ее совсем ребенком. — И мы с тобой не намного лучше. Проглядели, что под носом у нас вырастает смена. — О tempora, о mores![20] — воскликнул Буртниек. — В иные времена Скайдрите собиралась бы на первый университетский бал. А теперь… Что будет она делать теперь? Может быть, сидеть в киоске и распространять листовки?.. — Ты что, всерьез? — спросил Даугавиет. — А почему бы и нет?.. Скайдрите смелая, находчивая девушка. Она словно создана для этой работы. Ты ведь сам говорил, что после встречи с Эриком она стала вполне сознательным человеком. И к тому же девушка из семьи старых подпольщиков. Это тоже немаловажное обстоятельство… — А если наша девочка провалится? — все еще колебался Янис. — Мы должны считаться со всеми возможностями. Нет, нет!.. — поспешил он опередить возражения Буртниека. — Я не сомневаюсь в том, что Скайдрите будет молчать. Но гестапо может заподозрить Элизу и Доната, и тогда весь наш дом будет в опасности… — А что, если девушке куда-нибудь переехать? — Тогда пожалуй, — согласился Даугавиет. — Лучше, если она будет находиться подальше от “квартиры без номера”. О нас ей пока незачем знать. — Кто же, в таком случае, передаст ей это поручение? Даугавиет задумался. — Куренберг! Без его посредничества мы так или иначе не обойдемся. — Но доверится ли Скайдрите чужому человеку? — Правильно. Об этом я даже не подумал… Тогда у нас остается только один выход… Эрик многое ей объяснил, и, сославшись на него… — Ясно! — прервал его Буртниек. — Завтра же я встречусь с Куренбергом и обо всем договорюсь. Последние дни Скайдрите думала только об одном: как пробраться к партизанам. Получить оружие, чтобы воевать с фашистами, — вот теперь единственная ее цель! И Скайдрите наметила план. Во-первых, она уедет в Резекне. Вблизи этого города, как известно, действуют бесстрашные “лесные братья”.[21] Затем, как бы в поисках работы, она обойдет все окрестные села, постарается выведать у крестьян о местопребывании партизан. Самым трудным казался последний шаг — отправиться одной в лесную чащу, идти до тех пор, пока не доберется до цели. Но чтобы попасть в Резекне, необходимо разрешение на проезд. И Скайдрите вышла из дому, дав себе слово без этого разрешения не возвращаться. — Минуточку, девушка! — услышала она за спиной чей-то голос. Не оборачиваясь, Скайдрите бросила через плечо: — Я не знакомлюсь на улице! — и ускорила шаги. Однако мужчина догнал Скайдрите и зашагал с нею рядом. Девушка, повернув голову, увидела просто одетого человека лет пятидесяти. — Вы — Скайдрите Свемпе, не правда ли? — Да. Ну и что же? — Я должен передать вам привет от Эрика, — тихо сказал он. Скайдрите остановилась. У нее перехватило дыхание. — Эрик… Где он? — едва прошептала она. Куренберг взял девушку под руку и заставил продолжать путь. — Этого я не знаю. Товарищ, с которым я встретился, просил только передать вам привет. Скайдрите не расспрашивала дальше. Она сразу же поняла — Эрик несомненно получил такое задание, о котором говорить нельзя. Но даже его скупого привета было достаточно, чтобы бледные щеки девушки порозовели и в глазах вспыхнула радость. Эрик жив и здоров! Он ее не забыл! Чего еще можно было желать? То есть желать, конечно, можно многого. Например, чтобы сейчас он шел с ней рядом и хоть раз прикоснулся к ее руке… Эрик ради дела, за которое борется, пошел на разлуку с любимой. Значит, и она, Скайдрите, должна быть стойкой! Подождав, пока девушка несколько успокоится, Куренберг продолжал: — Хотите нам помочь? Нам — это значит и Эрику… Скайдрите слегка отстранилась от него. — Но кто вы такой? — Только теперь ей пришло на ум, что тут возможна и провокация. Однако она мгновенно отбросила эту мысль. Провокатор выдумал бы бог знает какие подробности об Эрике. Да и как-то не хотелось думать, что этот человек, с простым, добродушным, покрытым сетью мелких морщинок лицом, лжет ей. — Кто я такой — не имеет значения. Я говорю… от имени коммунистов, — тихо и торжественно произнес Куренберг. Слезы волнения заволокли глаза девушки. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она обняла мастера. Понятно, настоящая подпольщица так бы не поступила, но, в конце концов, Скайдрите было всего девятнадцать лет! Перед конторой газетных киосков Скайдрите распрощалась с женщиной, спасенной Куренбергом. — Ну, большое вам спасибо и счастливого пути, — сказала девушка. — А вам — счастливо оставаться! Правда, заработок в киоске будет невелик, зато и работа пустяковая. Продавать газеты может ведь и малый ребенок. Скайдрите улыбнулась. Легкая работа! После разговора с Куренбергом она знала, как это будет трудно. Возможно, даже труднее, чем у партизан. Там она бы все время находилась среди товарищей, там ее скрывало бы каждое дерево, каждый куст. А здесь в минуту опасности она совершенно одна. Только от ее смелости и находчивости будет зависеть и собственная ее жизнь, и жизни многих других… Шагая по улице, Скайдрите напевала задорную песенку. Наконец-то у нее появилась определенная цель в жизни, общее с Эриком дело! Только вернувшись домой, где каждый предмет казался таким близким и дорогим, Скайдрите почувствовала, что у нее защемило сердце. Как тяжело расставаться с матерью, с дядей Донатом! И что скажут домашние, когда узнают о ее внезапном переезде? Скайдрите долго бродила по комнате, не решаясь заговорить. То без всякой надобности расправляла скатерть, то чистила дядину трубку. Наконец, набравшись духу, присела рядом с матерью, взяла ее руки, прижала их к своим пылающим щекам. — Мама… Ты ведь не будешь сердиться… Я не хочу быть вам обузой… Теперь я сама нашла работу… Киоск очень далеко отсюда, а на работу надо выходить спозаранку. — Скайдрите отвернулась, чтобы мать не могла заглянуть ей в глаза. — Сама понимаешь, как это неудобно. Поэтому я нашла себе угол неподалеку от работы… Девушка ждала возражений, упреков, по крайней мере удивления, но, как ни странно, Элиза Свемпе только молча погладила дочь по голове. — Мама… — снова начала Скайдрите, но, взглянув на мать и увидев в ее глазах только безграничную любовь, замолчала… — Поступай, как знаешь, дочка. — Элиза привлекла Скайдрите к себе. — Ты уже не ребенок. Только не забывай нас, стариков. Будет время, зайди навестить, рассказать, как твои дела… Вещи Скайдрите собрала еще в тот день, когда решила отправиться к партизанам. Теперь она возьмет их с собой на новое место. Понимая, что так будет лучше, девушка без колебаний согласилась на предложение Куренберга поселиться у его товарища по работе, домик которого находился на окраине города. Закрыв за собой дверь, Скайдрите вышла из дому. По темной улице — в городе давно уже не горели фонари — устало шагали редкие прохожие. В низко нависшем небе, где-то в просвете между облаками, мерцала одинокая звезда. И девушке казалось, что она манит, зовет в далекий путь. Что ждет ее в конце пути? Этого Скайдрите не знала, только чувствовала, что ей будет нелегко.22
Второй год в подземелье… В Эрике почти ничего не осталось от прежнего юноши. Щеки ввалились, глаза лихорадочно блестят, веки подергиваются. Приходится постоянно носить очки, но и это не помогает. Почти все время болят глаза. Особенно мучителен яркий электрический свет. Эрик скрывает свой недуг от Яниса, опасаясь, что Даугавиет немедленно его сменит. Но этого допустить нельзя: сейчас столько работы, а людей мало! Пока Даугавиет найдет замену, пройдут месяцы. Порою становилось так нестерпимо тяжко, что Эрика охватывало непреодолимое желание растворить двери и выбежать на улицу. Но появляться на улице ему нельзя. К внешнему миру у него был один только путь — радио. Волны несли Эрику вести о судьбах миллионов людей, он слышал глухой рокот моторов, раздававшийся в цехах огромных уральских заводов, волны дарили ему смех и слезы, страдания и радость, они давали ему возможность ощутить напряженное дыхание большой жизни. И всегда слушал Москву — этот великий город, возвращавший ему веру и мужество… Эрик подолгу лежал на своей койке, пытаясь заменить мечтами действительность. Он представлял себе, будто бродит по улицам Риги и сухой снег скрипит у него под ногами, в прозрачном морозном воздухе вьются голубые столбы дыма, дышится так легко… Он сидит на скамье Зиедонского парка. Вот воробей вприпрыжку все ближе подбирается к нему и поглядывает своими маленькими глазками на его пустую ладонь. Мимо проходят люди — высокие и низенькие, удрученные и равнодушные, женщины в платочках и мужчины в фетровых шляпах, дети со школьными ранцами за плечами — люди, люди, по которым он так стосковался. И среди них, быть может, он встретит Скайдрите… Если он не увидит ее в парке, то пойдет дальше, пока не найдет. Вдоль и поперек он исходит этот большой город с тысячами домов, скрывающих в себе сотни тысяч людей. В одном из этих домов — может быть, вот в том кирпичном здании со множеством труб на крыше или где-нибудь в Задвинье, в маленьком домике с окошками, закопченными дымом проходящих поездов, — где-то в одном из этих домов живет Скайдрите… Он отыщет ее, непременно отыщет!.. В то самое время, когда Эрик, сделав последний оттиск листовки, наконец прилег, Скайдрите проснулась. Она действительно жила в маленьком домике, только не в Задвинье, а в Милгрависе.[22] Уже ранним утром до нее доносился шум реки — тарахтенье рыбачьих моторок, звонок парома, рев пароходных гудков. За год жизни у приятеля Куренберга она научилась различать все эти звуки: сирены немецких военных судов звучали иначе, пронзительнее, чем гудки торговых пароходов; когда вблизи все затихало, до окна Скайдрите долетали сигналы подъемных кранов из порта и непрерывный приглушенный гул клинкерных печей цементного завода. Этот гул не прекращался и ночью — нацисты круглые сутки производили здесь бетонные бронеколпаки. Круглые, приземистые, с четырьмя узкими щелями для пулеметных стволов, эти бронеколпаки были разбросаны на огромном пространстве от дальнего Севера до Черного моря. Но они не спасали гитлеровцев от мощных ударов Красной Армии, наступавшей теперь на всех фронтах. Надев туфли на босу ногу и набросив на плечи пальто, Скайдрите выбежала в сарай за топливом. В темноте поблескивали тихие воды Даугавы. Сейчас речная вода была черной и блестящей, словно смола. Днем же она всегда казалась коричневой, мутной. Но Скайдрите любила свою реку, и одна лишь мысль о том, что на ее волнах качаются немецкие подводные лодки, причиняла ей боль. Накануне вечером столяр, как обычно, закинул в реку перемет. Почти каждый житель Милгрависа таким образом пытался пополнить свой скудный рацион. Склонившись над водой, Скайдрите вздрогнула от холода. Сквозь стоптанные подошвы дешевеньких туфель она чувствовала мерзлую землю, а тонкая одежда не защищала от сырого, леденящего дыхания реки и близкого моря. Один за другим она вытаскивала поводки перемета и разочарованно снова опускала их в воду. Жаль… Так хотелось обрадовать добродушного столяра хорошей наваристой ухой. Да к тому же, откровенно говоря, Скайдрите и сама давно уже не ела ничего сытного. Не снимая пальто — термометр в комнате показывал всего несколько градусов выше нуля, — девушка затопила печь. Вместо дров она пользовалась прогнившими досками из обшивки корабля, которые столяр ежедневно приносил с завода. Скайдрите поставила чугунок в печь. Пока картошка варилась, она прибрала квартиру. Пусть старик после ночной смены хоть немного отдохнет… Автобус довез Скайдрите до газетного киоска. Начинался очередной рабочий день, каких у нее за спиной было уже почти четыре сотни. В первые недели девушка волновалась и в каждом человеке видела шпика. Когда кто-либо из покупателей произносил пароль, у нее замирало сердце, и только большим напряжением воли ей удавалось скрыть волнение и равнодушно подать товарищу газету с вложенными в нее листовками. Теперь чувство опасности притупилось; на смену ему пришла спокойная уверенность в себе, сознание того, что она, Скайдрите, помогает распространять в народе слова правды. Со столяром у девушки сложились хорошие, товарищеские отношения. По вечерам они часто обсуждали сообщения о победах Красной Армии, вместе радовались успехам партизан, вместе печалились, возмущаясь новыми злодеяниями фашистов. После таких разговоров Скайдрите обычно долго не могла уснуть. Она всегда вспоминала Эрика. Где он теперь и что с ним? Но на этот вопрос никто не мог ответить. Однако Скайдрите была уверена, что друг ее жив и они обязательно встретятся, как только оккупанты будут изгнаны с территории Латвии. Жаль только, что Эрик — ведь именно он помог ей найти правильный путь в жизни — не видит новую Скайдрите, не знает девушку, которая теперь уж не побежит от эсэсовского офицера, которая прямо под носом у гестапо спокойно и смело выполняет опасное задание… Привычным движением Скайдрите отомкнула дверь киоска, подняла деревянную штору, закрывавшую окошко, и зажгла керосиновую лампу. Затем она разложила на прилавке пестрые немецкие журналы и, ожидая прибытия свежих газет, заняла свое место, с которого можно было одним взглядом окинуть всю улицу. Уже издали она заметила старушку, которую про себя звала “подпольной мамашей”, и на ощупь нашла спрятанную в углу хозяйственную сумку. Точно такую же сумку старушка поставила на прилавок киоска, когда искала деньги, чтобы уплатить за иллюстрированный журнал “Die Woche”. Повернувшись спиной к киоску, покупательница притворилась, будто не заметила, как Скайдрите, заслонив собою лампу, ловко обменяла сумки. Это не могли бы заметить и случайные прохожие, так как улица была темной, окошко киоска маленьким, а базарные сумки очень похожими. — Деньжонок-то, оказывается, не хватает, — в конце концов пробормотала старушка. — Пожалуйста, отложите для меня этот журнал. Зайду дня через три. — Хорошо, отложу, — ответила Скайдрите. Они никогда не обменивались больше чем двумя—тремя словами. Куренберг сразу предупредил девушку, что конспирация не терпит многословия. Скайдрите повиновалась ему беспрекословно. И все же ей очень хотелось спросить у старушки, почему так часто в сумке вместе с листовками она находит то бутерброд, то яблоко, а однажды — это было как раз в день ее двадцатилетия — даже пирог с повидлом. Когда развозчик привез на велосипеде свежие газеты, Скайдрите точно так же, как это делали другие продавцы газет, закрыла киоск, чтобы спокойно, без помех рассортировать свой товар. Двадцать экземпляров “Тевии”, в каждый из которых было вложено по пять листовок, она отложила на полку. Ну что ж, теперь товарищи могут приходить за ними. И вот первый из них уже подходит к киоску. Скайдрите не знает, как зовут этого широкоплечего мужчину, который зимой и летом носит брезентовую куртку. Она лишь догадывается, что он работает в порту. — Сегодня в газете что-нибудь новое? — спросил портовик. — Смотря по тому, что вас интересует. — Девушка и во сне не перепутала бы слова пароля. — Только добрые вести. Получив “Тевию”, он спрятал ее во внутренний карман куртки и дружески улыбнулся девушке. Зимние дни летят особенно быстро. И вот Скайдрите снова приходится зажечь керосиновую лампу. Девятнадцать экземпляров “Тевии”, лежавших на полке, она уже продала. Теперь там остался лишь один номер. Все товарищи давно явились, и только последнего все нет и нет. Что-то задерживается ее постоянный покупатель — один из тех, кому девушка и без пароля выдала бы листовки. Часто он подъезжал к киоску на грузовике и тормозил возле самого ее окошка. Мотор он никогда не выключал, но у окошка обычно задерживался дольше остальных. Он был единственным, кто время от времени перекидывался с ней шуткой или просто добрым словом, расспрашивал о жизни, а иногда даже рассказывал о настроении рабочих на заводе. Девушка начала волноваться. Скоро нужно закрывать киоск, а шофера все нет и нет. Что же делать? Оставлять листовки до утра в киоске нельзя. Тогда уж лучше взять их домой. Но она ведь хотела после работы навестить мать, поговорить с Ядвигой… Ничего не поделаешь. Придется посидеть дома. Скайдрите уже убрала с прилавка все журналы, когда из-за угла показался грузовик. Только увидев перед собой знакомое лицо шофера, девушка поняла, как она волновалась за него. — На нашем заводе ночью раскрыли крупный акт саботажа, — взволнованно объяснил ей Силинь. — Четыре часа нас допрашивали. Хорошо, что меня вообще отпустили… Эта новость доставила Скайдрите тройное удовольствие: во-первых, рабочие снова нанесли удар по фашистам, во-вторых, никто из товарищей не попался и, в-третьих, она могла теперь со спокойной совестью запереть киоск и отправиться к родным. Девушка обычно шла домой по улице Валдемара. Она даже не сознавала, что делала это, вспоминая Эрика. Широкий проспект со своеобразными домами, украшенными причудливыми башенками, статуями и барельефами, ему нравился гораздо больше улицы Бривибас. У бульвара на тротуаре перед мольбертом сидел на корточках художник и посиневшими от холода пальцами водил кисточкой по холсту. Скайдрите увидела, что он пытается изобразить неоготический фасад Академии искусств. Теперь вход в ее светлые залы был для него закрыт. Здесь находилось одно из учреждений оккупантов, а студенты академии вынуждены были работать в темном сыром погребе. Скайдрите разделяла любовь художника к родной Риге, но никак не могла взять в толк, как может человек в такое время заниматься писанием идиллических пейзажей. Скайдрите нарочно сделала небольшой круг. Здесь, на мостике Бастионной горки, она стояла вместе с Эриком. Каждый порыв ветра срывал тогда с деревьев пожелтевшие листья, а теперь покрытые инеем ветки совсем голые и зыбкую воду канала сковывает лед. Девушка повернула к Старому городу, где она родилась и выросла. Декабрьские сумерки сгущались. В стенах Пороховой башни уже нельзя было различить застрявшие в ней каменные ядра. Только на круглой крыше башни, напоминавшей шапку, еще удерживался последний отблеск дневного света. Каждый шаг по лабиринту узких улочек был связан с воспоминаниями об Эрике. Здесь она поскользнулась и Эрик впервые обнял ее; в этом подъезде они укрылись, когда вдруг начался ливень. Ударяясь о низкий карниз, струи дождя превращались в сплошной занавес серебристых живых нитей. Но они ничего не замечали и, обнявшись, долго сидели на стоптанной каменной ступеньке, хотя дождь давно перестал и уже сияло солнце. Скайдрите жила не только воспоминаниями. За этот год девушка привыкла внимательно следить и наблюдать за всем окружающим. Чтобы убедиться, что никто за ней не следит, она и сейчас направилась не по оживленной улице Смилшу, а пошла более далеким, обходным путем. На маленькой тихой улочке Торню Скайдрите остановилась и нагнулась, чтобы завязать шнурок туфли. При этом она незаметно оглянулась. Никого! Нырнув в Шведские ворота, пробитые в древней городской стене, через улицу Алдару она вышла на большую площадь. Над нею, почти сливаясь с темным небом, возвышалась тяжелая громада Домского собора. Здесь 18 ноября была выстроена трибуна, с которой чужеземные властители Остланда[23] собирались приветствовать организованную ими же антисоветскую демонстрацию. Бомба, которую неизвестные герои спрятали под трибуной, взорвалась, к сожалению, слишком рано, но все же взрыв этот достаточно громко выразил подлинные чувства латышского трудового народа. А вот и красная кирпичная стена Домского музея с гербом города и непонятной латинской надписью. Это произошло именно здесь — взбалмошная девчонка предложила когда-то своему любимому отправиться вместе с ней на поиски партизан. К партизанам Скайдрите не попала, и все же она очутилась там, где хотела быть, где люди борются и побеждают… Если после войны им случится зайти с Эриком в этот музей, то рядом с бронзовыми пушками, которыми рижане некогда обороняли свой город от иноземных захватчиков, они увидят здесь и листовки с лозунгом “Смерть фашистским оккупантам!”…23
Еще на лестнице Скайдрите услышала голос матери: — Донат, кажется, кто-то подошел к дверям. Пойди посмотри. Послышались шаркающие шаги, звякнула цепочка, и вдруг раздался радостный возглас: — Элли, Элли, Скайдрите пришла! Позабыв наказ врача, старая Элиза поднялась с постели, но после нескольких шагов вынуждена была опуститься на стул. — Иди же сюда, доченька, обними меня… Как ты выросла! Как похорошела! И не узнать… А у нас тут все по-старому, только вот ноги у меня что-то совсем ослабли. — Лежи, мамочка, лежи. Ведь я теперь дома. Только скажи, что надо, — я мигом все сделаю. Скайдрите сразу же занялась хозяйством. Она выстирала белье и навела во всей квартире образцовый порядок, даже трубка старого Доната не избежала чистки. Потом Скайдрите сварила кофе. Это был предлог, чтобы вытащить из сумки гостинец.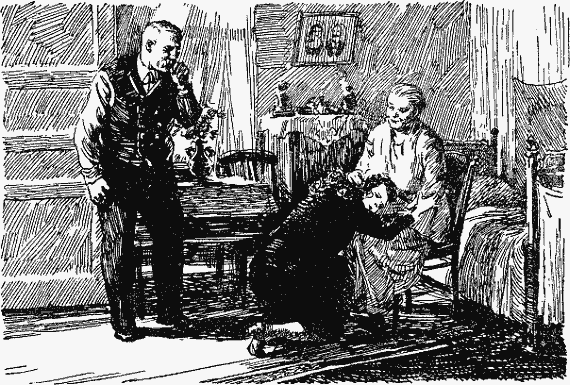 — Зачем же, доченька, ты лучше сама поешь! Ты ведь так любишь ливерную колбасу.
— Как ты угадала, что у меня бутерброды с ливерной колбасой? — удивилась Скайдрите, которая еще не успела развернуть сверток.
Элиза, спохватившись, тут же заговорила о другом. Девочка не должна знать, что еду, которую она находит в сумке, посылает ей мать. Даугавиет строго-настрого наказал не открывать Скайдрите правды, и Элиза беспрекословно подчинялась. Но как трудно скрывать от дочери материнскую тревогу!
— Будь осторожна, доченька! — не удержалась Элиза на прощание.
— А чего мне бояться! — беспечно сказала девушка.
Она позвонила в соседнюю квартиру. Каждый раз, когда Скайдрите навещала своих, она заходила к соседке. Ведь это был единственный человек, который знал о ее любви к Эрику.
Секунду спустя Надежда тоже нажала кнопку звонка, и в “квартире без номера” раздался сигнал тревоги.
— Зачем же, доченька, ты лучше сама поешь! Ты ведь так любишь ливерную колбасу.
— Как ты угадала, что у меня бутерброды с ливерной колбасой? — удивилась Скайдрите, которая еще не успела развернуть сверток.
Элиза, спохватившись, тут же заговорила о другом. Девочка не должна знать, что еду, которую она находит в сумке, посылает ей мать. Даугавиет строго-настрого наказал не открывать Скайдрите правды, и Элиза беспрекословно подчинялась. Но как трудно скрывать от дочери материнскую тревогу!
— Будь осторожна, доченька! — не удержалась Элиза на прощание.
— А чего мне бояться! — беспечно сказала девушка.
Она позвонила в соседнюю квартиру. Каждый раз, когда Скайдрите навещала своих, она заходила к соседке. Ведь это был единственный человек, который знал о ее любви к Эрику.
Секунду спустя Надежда тоже нажала кнопку звонка, и в “квартире без номера” раздался сигнал тревоги.
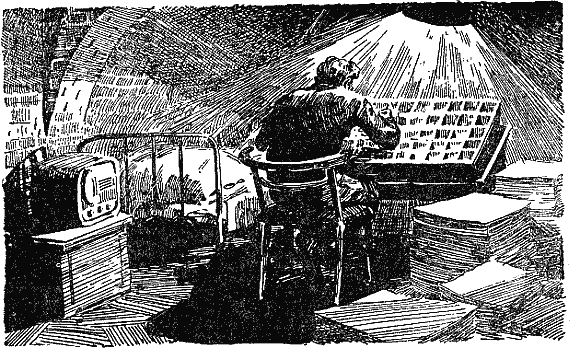 Неоштукатуренный кирпичный свод. С него спускается стосвечовая лампочка, заливающая все помещение ярким светом. Едкий, пронизывающий запах типографской краски. Раскаленная докрасна чугунная печурка. На койке книга “Мои университеты” с необычной закладкой — соломинкой, выдернутой из матраца. В верстатке Эрика, складываясь в строки, чуть поблескивают матовые свинцовые столбики литер.
Некоторое время Даугавиет молча смотрит на ссутулившуюся спину юноши. Нервные, порывистые движения его говорят об усталости. Рука то вдруг бесцельно повисает в воздухе, не достигнув наборной кассы, то снова лихорадочно хватает буквы. А порою свинцовые столбики даже выскальзывают из пальцев.
— Хватит, Эрик. Нужно отдохнуть, — предложил Янис, хотя знал, что дорога каждая минута.
— Да, надо бы чуточку передохнуть, а то будет много опечаток.
Эрик прилег на койку, снял очки и закрыл воспаленные глаза. Бледное лицо, казалось, застыло, но пальцы рук все еще шевелились. Даугавиет потушил свет и включил приемник. Пока лампы приемника нагревались, в комнате царила тишина. Порой ее прерывал треск и шум, но вот зазвучали позывные — первые такты песни “Широка страна моя родная”. Эрик повернул голову и приподнялся на локтях. Этот сигнал предвещал радостные вести. И действительно, мгновение спустя раздался голос диктора, знакомый миллионам людей:
“Товарищи радиослушатели! Через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение…”
— Житомир? — взволнованно предположил Эрик.
— Нет, скорее Кировоград, — ответил Янис. — Здесь наши развивают мощное наступление. — И, снова повернув выключатель, он приготовил бумагу и карандаш.
“Приказ Верховного Главнокомандующего.
На днях войска Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 20 километров.
За пять дней напряженных боев нашими войсками освобождено более 500 населенных пунктов… В боях разгромлены 87-я, 129-я и 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия и несколько охранных частей немцев.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Швецова…”
— Ура, ура! — закричал Эрик хриплым от волнения голосом. — Ну, начинается… На даугавпилском направлении! — И Эрик снова схватил верстатку. — Такое известие — для меня лучшее лекарство! Между прочим, хорошо бы использовать последнюю сводку в листовке, правда?
— Конечно. Добавь сам. Когда ты думаешь закончить?
— Примерно через час управлюсь.
— Ладно, тогда через час приду читать корректуру и делать оттиски.
Даугавиет опустился на четвереньки, чтобы влезть в узкий проход. Вдруг снова послышался сигнальный звонок. Эрик спокойно продолжал работу, а Янис сел на кровать и стал перелистывать книгу. Нужно подождать, пока посетитель уйдет.
Через несколько минут Надежда двумя звонками дала знать, что все в порядке. Даугавиет поднялся к ванной комнате и громко постучал в стену.
Оказалось, что приходил старый Донат.
— Буртниек прислал вот эту записку, — сказала Надежда.
Янис прочитал написанное и задумчиво стал вертеть бумажку в пальцах.
— Опять угнали людей. На этот раз из Лиепаи. Товарищи просят напечатать для них специальную листовку. Просьба обоснованная. Но как нам управиться, когда столько работы? Эрика жаль…
Надежда удивленно подняла глаза. Таким тоном Даугавиет разговаривал редко.
— Сегодня он даже не возражал, когда я предложил ему передохнуть, — продолжал Янис. — А ты, как врач, что скажешь по этому поводу?
Лицо Надежды стало озабоченным. Она пожала плечами.
— Ты же знаешь мое мнение.
— Да, да. Я и сам отлично знаю, что Эрику нужно. Санаторий, солнце, но… Послать его к партизанам? Оттуда он мог бы полететь в Москву. Неужели ты думаешь, я бы этого не сделал, если бы было кем его заменить? Да он и сам это понимает так же хорошо, как ты и я. — Даугавиет повернулся к Надежде спиной и молча уставился на “Остров мертвых” Беклина. — Эх, Надя, как трудно нести двойную ответственность! — вдруг сказал он. — Отвечать за доверенную тебе работу и одновременно за людей… — Он снова повернулся к ней лицом и стал расправлять бумажку, которую все время сжимал в кулаке. — Ничего не поделаешь. Еще не время отдыхать. Лиепайцев нельзя оставлять без листовок.
Задание было срочное, и поэтому Янису пришлось самому писать текст листовки. Посоветовавшись с Надеждой, он принялся за дело.
“Лиепайцы! В ночь на 17 декабря под покровом тьмы из зимнего порта был отправлен транспорт с живым грузом — 800 человек гитлеровцы угнали на каторгу в Германию. Угнанные из Латвии рабы должны заменить тех стариков и подростков, которыми отчаявшиеся фашисты пытаются восполнить гигантские потери на Восточном фронте…”
Неоштукатуренный кирпичный свод. С него спускается стосвечовая лампочка, заливающая все помещение ярким светом. Едкий, пронизывающий запах типографской краски. Раскаленная докрасна чугунная печурка. На койке книга “Мои университеты” с необычной закладкой — соломинкой, выдернутой из матраца. В верстатке Эрика, складываясь в строки, чуть поблескивают матовые свинцовые столбики литер.
Некоторое время Даугавиет молча смотрит на ссутулившуюся спину юноши. Нервные, порывистые движения его говорят об усталости. Рука то вдруг бесцельно повисает в воздухе, не достигнув наборной кассы, то снова лихорадочно хватает буквы. А порою свинцовые столбики даже выскальзывают из пальцев.
— Хватит, Эрик. Нужно отдохнуть, — предложил Янис, хотя знал, что дорога каждая минута.
— Да, надо бы чуточку передохнуть, а то будет много опечаток.
Эрик прилег на койку, снял очки и закрыл воспаленные глаза. Бледное лицо, казалось, застыло, но пальцы рук все еще шевелились. Даугавиет потушил свет и включил приемник. Пока лампы приемника нагревались, в комнате царила тишина. Порой ее прерывал треск и шум, но вот зазвучали позывные — первые такты песни “Широка страна моя родная”. Эрик повернул голову и приподнялся на локтях. Этот сигнал предвещал радостные вести. И действительно, мгновение спустя раздался голос диктора, знакомый миллионам людей:
“Товарищи радиослушатели! Через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение…”
— Житомир? — взволнованно предположил Эрик.
— Нет, скорее Кировоград, — ответил Янис. — Здесь наши развивают мощное наступление. — И, снова повернув выключатель, он приготовил бумагу и карандаш.
“Приказ Верховного Главнокомандующего.
На днях войска Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 20 километров.
За пять дней напряженных боев нашими войсками освобождено более 500 населенных пунктов… В боях разгромлены 87-я, 129-я и 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия и несколько охранных частей немцев.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Швецова…”
— Ура, ура! — закричал Эрик хриплым от волнения голосом. — Ну, начинается… На даугавпилском направлении! — И Эрик снова схватил верстатку. — Такое известие — для меня лучшее лекарство! Между прочим, хорошо бы использовать последнюю сводку в листовке, правда?
— Конечно. Добавь сам. Когда ты думаешь закончить?
— Примерно через час управлюсь.
— Ладно, тогда через час приду читать корректуру и делать оттиски.
Даугавиет опустился на четвереньки, чтобы влезть в узкий проход. Вдруг снова послышался сигнальный звонок. Эрик спокойно продолжал работу, а Янис сел на кровать и стал перелистывать книгу. Нужно подождать, пока посетитель уйдет.
Через несколько минут Надежда двумя звонками дала знать, что все в порядке. Даугавиет поднялся к ванной комнате и громко постучал в стену.
Оказалось, что приходил старый Донат.
— Буртниек прислал вот эту записку, — сказала Надежда.
Янис прочитал написанное и задумчиво стал вертеть бумажку в пальцах.
— Опять угнали людей. На этот раз из Лиепаи. Товарищи просят напечатать для них специальную листовку. Просьба обоснованная. Но как нам управиться, когда столько работы? Эрика жаль…
Надежда удивленно подняла глаза. Таким тоном Даугавиет разговаривал редко.
— Сегодня он даже не возражал, когда я предложил ему передохнуть, — продолжал Янис. — А ты, как врач, что скажешь по этому поводу?
Лицо Надежды стало озабоченным. Она пожала плечами.
— Ты же знаешь мое мнение.
— Да, да. Я и сам отлично знаю, что Эрику нужно. Санаторий, солнце, но… Послать его к партизанам? Оттуда он мог бы полететь в Москву. Неужели ты думаешь, я бы этого не сделал, если бы было кем его заменить? Да он и сам это понимает так же хорошо, как ты и я. — Даугавиет повернулся к Надежде спиной и молча уставился на “Остров мертвых” Беклина. — Эх, Надя, как трудно нести двойную ответственность! — вдруг сказал он. — Отвечать за доверенную тебе работу и одновременно за людей… — Он снова повернулся к ней лицом и стал расправлять бумажку, которую все время сжимал в кулаке. — Ничего не поделаешь. Еще не время отдыхать. Лиепайцев нельзя оставлять без листовок.
Задание было срочное, и поэтому Янису пришлось самому писать текст листовки. Посоветовавшись с Надеждой, он принялся за дело.
“Лиепайцы! В ночь на 17 декабря под покровом тьмы из зимнего порта был отправлен транспорт с живым грузом — 800 человек гитлеровцы угнали на каторгу в Германию. Угнанные из Латвии рабы должны заменить тех стариков и подростков, которыми отчаявшиеся фашисты пытаются восполнить гигантские потери на Восточном фронте…”
24
О листовках для лиепайцев думал не только Даугавиет. О них заботились и в ЦК Компартии Латвии. Находясь за сотни километров от родного края, работники ЦК знали о том, что происходило в оккупированной Латвии, не хуже, чем Даугавиет. Он еще не успел написать последнее слово, как в агентство Буртниека явился партизанский связной с письмом. Висвальд вскрыл конверт, но письмо оказалось шифрованным. Он уже собирался отнести его Даугавиету, когда с улицы послышался троекратный гудок: это постоянный посетитель агентства, шофер Бауэр, как обычно, заранее уведомлял Буртниека о своем прибытии. — Жаль, что ничем сегодня не могу услужить генералу, — сообщил Буртниек, протягивая шоферу руку. — Я приехал не для того, — ответил Бауэр. — Я хотел вернуть ваши книги. — Стоило ли из-за этого тратить время? Вы могли бы вернуть мне книги при случае и в другой раз. — Мало ли что может случиться. — Бауэр как-то странно улыбнулся. — А вдруг мы сегодня видимся в последний раз! Я не из тех, кто ради спорта пополняет свою библиотеку чужими книгами. — Это приятно слышать, — сказал Буртниек, которому Бауэр с каждым разом казался все симпатичнее. — Но отчего вы так пессимистически настроены? Похмелье? — Пожалуй, похмелье, но только моральное. Не хочется говорить об этом. Я уезжаю. — Надолго? — Неизвестно… — сказал Бауэр. — Мой генерал через несколько дней отправится в инспекционную поездку по Латгалии. Говорят, там в последнее время неспокойно. Вы ведь сами знаете — там, где партизаны, все может случиться… Заметив, что шофер не назвал партизан “бандитами”, как обычно говорят гитлеровцы, Буртниек подумал: “Сдается мне, что этому человеку ничуть не подходит мундир “покорителей мира”. Это один из тех, кто еще не утратил человеческого облика. Надо бы о нем поговорить с Жанисом”. — Ну, а вам не страшно? — спросил он Бауэра. — Мне-то нет. А вот мой генерал уже трое суток пьет для храбрости… В минуту опасности я не растеряюсь… Еще раз спасибо вам за книги и до свиданья, а может, прощайте. — И, снова как-то странно улыбнувшись, Бауэр вышел. Всю дорогу до здания гестапо на улице Реймерса, где Бауэр должен был дожидаться генерала Хартмута, эта странная улыбка не сходила с его губ. В ней были одновременно и горечь, и радость… Поездка генерала Хартмута в Латгалию все решит. Если задуманный им план осуществится, то не пройдет и недели, как Рудольф Бауэр встанет в ряды борцов. Генералу Хартмуту пришлось подождать, пока Рауп-Дименс освободится. Оберштурмфюрер передавал дела на время своего отпуска следователю Вегезаку. Это была довольно утомительная работа, так как все приходилось подробнейшим образом объяснять. Особенно неприятно почувствовал себя Рауп-Дименс, когда Вегезак открыл папку дела с надписью: “Жанис. Начато 15/Х-42. Закончено…” Да, это задание не удалось выполнить и по сей день. — Может быть, вам повезет… — из вежливости заметил Рауп-Дименс. — Не беспокойтесь, все будет в порядке, — заверил его Вегезак. — Как я вам завидую! Вы же едете домой! Целых десять дней сможете делать все, что заблагорассудится. Эти два часа были не из приятных, и Рауп-Дименс даже обрадовался, когда ему доложили о приходе генерала Хартмута. Когда-то генерал учился в Бонне вместе с его отцом и своей карьерой в значительной мере был обязан старому Бодо Рауп-Дименсу. В дверях показалась ухмыляющаяся круглая физиономия генерала. Рауп-Дименс даже не поднялся: несмотря на свой чин капитана, он полагал, что его положение в обществе выше положения любого генерала. — Чем могу служить, господин генерал? — учтиво осведомился Рауп-Дименс, выпустив в воздух кольцо дыма. — Здравствуйте, Харальд. Зачем же так официально? Что новенького дома? Что пишет ваш уважаемый отец? — Благодарю вас. Все по-старому. Много заказов. Отец приобрел новый завод в протекторате, недалеко от военных заводов Шкода. Им сейчас ведает брат, Зигфрид. Генерал почесал кончик носа. — Отлично! Великолепно! Ваш отец — человек с размахом. Надеюсь, что и после войны я не потеряю его доверия. Прошу вас, не забудьте в письме засвидетельствовать ему мое почтение. Да, между прочим, я хотел спросить… Вылетело из головы!.. Ах да, а как же с воздушными налетами? Ваши заводы не пострадали? Рауп-Дименс усмехнулся: — Не прикидывайтесь простаком, Хартмут. При вашем посредничестве отец в свое время продал американцам двадцать процентов акций. Можете быть уверены, что они дают своим пилотам соответствующие инструкции… Кстати, я слышал, что вы уезжаете в инспекционную поездку? — Да, да. Я, собственно, за этим и пришел. Вы, Харальд, лучше нас информированы: правда ли, что в Латгалии бандиты особенно активизировались?.. — А вы их боитесь? — Чего же мне, старому вояке, бояться? Я просто так… К слову пришлось. — По правде говоря, генерал, эти слухи имеют основание. Шайки в лесах растут, как грибы после дождя. Карательные экспедиции малоэффективны, потому что партизаны пользуются поддержкой населения. По-моему, лично вам особая опасность не грозит — они обычно нападают только на поезда и автоколонны. Генерал вздохнул и большим клетчатым платком вытер со лба пот. — Я и сам думал, что разумнее не брать вооруженной охраны. До свиданья, Харальд. Я позвоню вам, когда вернусь… Пожалуйста, не забудьте передать привет вашему отцу.25
Снег падал крупными хлопьями, сплошь облепляя деревья, и казалось, будто на ветвях развешаны белые мохнатые полотенца. Снежинки бесшумно слетали на хвою ветвей, на заросшую мхом землю, на пригорки. Партизанский лес, кутаясь в пушистый белый платок, словно замаскировался для зимних боев. Снег, снег, снег… О следах, правда, нечего беспокоиться — их начисто замела белая метла пурги. Поэтому Лабренцис, который вместе с Длинным Августом вел захваченного в плен фашиста, направился прямо в штаб. Захваченного в плен? Это, положим, было не совсем так, потому что немец уверял, будто сам хотел разыскать партизан. Ладно, ладно, там видно будет, начальство разберется. Уж их командир сумеет узнать, перебежчик это или шпион. Командир партизанской бригады Янсон слушал сводку Совинформбюро, жадно ловя каждое слово диктора. Тем временем санитарка перевязала ему рану. Уже месяц не заживало плечо, потому что у Янсона не было таких отличных лекарств, как отдых и покой. В другой раз командир стиснул бы зубы от боли, но сейчас он напряженно слушал сводку и даже не заметил, как санитарка перевязала рану. Передача известий кончилась. Командир повернулся к санитарке: — Слышала? Фашисты снова окружены! Ну, сегодня будет чем ребят порадовать… Плащ-палатка, закрывавшая вход в землянку, приподнялась. Появился Лабренцис.
— Товарищ командир! Фрица привели! В полном обмундировании, при автомате. Длинный Август его в лесу заметил. Немец был один, следы искал. Мы на него накинулись, а он и не думает сопротивляться. Наоборот, говорит, рад, что нас встретил, заявил, будто он только нас и ищет. Просил отвести к командиру.
— А вы что сделали?
— Ну мы и привели. Сперва, ясное дело, завязали ему глаза и проверили, не идет ли кто следом.
— Ведите сюда…
Пленный выглядел не слишком воинственным. В землянке, где Длинный Август стоял согнувшись, голова пленного даже не достигала потолка. Янсон окинул гитлеровца пытливым взглядом: волосы светлые, редкие, небольшой острый нос, кирпичного цвета лицо, обветренное и потрескавшееся, глаза живые, умные. Пленный стоял спокойно и не проявлял никаких признаков страха. Не ожидая вопроса Янсона, он представился:
— Бывший ефрейтор немецкой армии Рудольф Бауэр. До сих пор служил шофером у генерала Хартмута.
— Что вам понадобилось в лесу? — спросил командир.
— В Риге я слышал, что в здешнем округе есть партизаны. Задумал уйти к вам, но раньше не представлялось возможности. Мне нужно было дождаться, чтобы генерал отправился в Латгалию. Он откладывал свою поездку с недели на неделю…
— Почему вы задумали перейти к нам? Верно, последние поражения вермахта отбили аппетит к завоеванию мира?
— Нет, я всегда ненавидел фашистов.
— Но, как я вижу, это вам ничуть не помешало надеть форму вермахта и воевать с нами, — иронически заметил Янсон.
— Если б я отказался, меня бы расстреляли. Какая бы от этого была польза? Бороться в одиночку я не мог, потому и пришел к вам. Я не член коммунистической партии, но некоторое время вел подпольную работу.
— Всему этому мне, конечно, приходится верить на слово…
Бауэр почувствовал, как на лбу у него от волнения проступил пот. Шофер и не представлял, что все окажется так сложно. Но, конечно, командир прав, не доверяя солдату гитлеровской армии. Как же доказать, что он не шпион и не провокатор? Чем подтвердить свои слова?..
— Я вовсе не рассчитываю, что вы меня тут же примете в отряд. Пожалуйста, проверьте меня. Я сделаю все возможное…
— Хорошо, мы подумаем… — Янсон провел рукой по небритому подбородку. — Где, говорите вы, находится этот генерал Харнрут?
— Хартмут, — поправил Бауэр. — Он остановился в ближнем селе, в доме волостного старосты. Завтра хотел ехать дальше, да вряд ли без меня далеко уедет…
— Охрана большая?
— Генерала сопровождают только два эсэсовца. Но вы, должно быть, знаете, что гарнизон в селе усилен?
Янсон с минуту что-то молча обдумывал. Он впервые имел дело с перебежчиком, хотя недавно Криш рассказывал, что среди курземских партизан есть два немецких антифашиста. Вполне возможно, что этот шофер и в самом деле враг нацистов. Но что, если гитлеровцы нарочно прислали его в лес, чтобы заманить партизан в ловушку? Риск чересчур велик, Янсон отвечает за жизнь своих людей. Но, с другой стороны, этот немец может оказать партизанам немалые услуги… Хорошо, его надо проверить, а дальше видно будет.
— Разве ваше отсутствие не покажется генералу подозрительным? — спросил Янсон.
— Нет. Я и не думал, что мне удастся вас сразу найти, поэтому сказал, что отправляюсь на поиски спиртного…
— Сколько дней пробудет генерал в этом селе? — перебил Бауэра Янсон. — Когда и кудавы отправитесь дальше?
— Генерал приказал мне подготовить машину к завтрашнему утру. Я слышал, как он говорил сопровождающим нас эсэсовцам, что мы поедем по шоссе в южном направлении, — охотно ответил шофер.
Янсон задумался, раскрыл планшет с картой района и уткнулся в нее. Через несколько минут он поднялся и, подойдя к перебежчику вплотную, сказал:
— Слушайте меня внимательно. Вам завяжут глаза и выведут на шоссе. Через два часа вы дойдете до села. Утром, когда выедете с генералом, доехав до пятого километра, убавьте газ и поезжайте медленно. Старайтесь ехать так километра два—три. После первого выстрела остановите машину. Помните, нам нужно заполучить генерала живым. Вам все ясно?
— Да, — ответил Бауэр.
— Чтобы вас не заподозрили, дадим вам две бутылки спирта. Глотните немножко и притворитесь подвыпившим… Товарищ Лабренцис, — обратился Янсон к стоявшему рядом партизану. — На шоссе отдадите ему автомат! Желаю успеха!
Плащ-палатка, закрывавшая вход в землянку, приподнялась. Появился Лабренцис.
— Товарищ командир! Фрица привели! В полном обмундировании, при автомате. Длинный Август его в лесу заметил. Немец был один, следы искал. Мы на него накинулись, а он и не думает сопротивляться. Наоборот, говорит, рад, что нас встретил, заявил, будто он только нас и ищет. Просил отвести к командиру.
— А вы что сделали?
— Ну мы и привели. Сперва, ясное дело, завязали ему глаза и проверили, не идет ли кто следом.
— Ведите сюда…
Пленный выглядел не слишком воинственным. В землянке, где Длинный Август стоял согнувшись, голова пленного даже не достигала потолка. Янсон окинул гитлеровца пытливым взглядом: волосы светлые, редкие, небольшой острый нос, кирпичного цвета лицо, обветренное и потрескавшееся, глаза живые, умные. Пленный стоял спокойно и не проявлял никаких признаков страха. Не ожидая вопроса Янсона, он представился:
— Бывший ефрейтор немецкой армии Рудольф Бауэр. До сих пор служил шофером у генерала Хартмута.
— Что вам понадобилось в лесу? — спросил командир.
— В Риге я слышал, что в здешнем округе есть партизаны. Задумал уйти к вам, но раньше не представлялось возможности. Мне нужно было дождаться, чтобы генерал отправился в Латгалию. Он откладывал свою поездку с недели на неделю…
— Почему вы задумали перейти к нам? Верно, последние поражения вермахта отбили аппетит к завоеванию мира?
— Нет, я всегда ненавидел фашистов.
— Но, как я вижу, это вам ничуть не помешало надеть форму вермахта и воевать с нами, — иронически заметил Янсон.
— Если б я отказался, меня бы расстреляли. Какая бы от этого была польза? Бороться в одиночку я не мог, потому и пришел к вам. Я не член коммунистической партии, но некоторое время вел подпольную работу.
— Всему этому мне, конечно, приходится верить на слово…
Бауэр почувствовал, как на лбу у него от волнения проступил пот. Шофер и не представлял, что все окажется так сложно. Но, конечно, командир прав, не доверяя солдату гитлеровской армии. Как же доказать, что он не шпион и не провокатор? Чем подтвердить свои слова?..
— Я вовсе не рассчитываю, что вы меня тут же примете в отряд. Пожалуйста, проверьте меня. Я сделаю все возможное…
— Хорошо, мы подумаем… — Янсон провел рукой по небритому подбородку. — Где, говорите вы, находится этот генерал Харнрут?
— Хартмут, — поправил Бауэр. — Он остановился в ближнем селе, в доме волостного старосты. Завтра хотел ехать дальше, да вряд ли без меня далеко уедет…
— Охрана большая?
— Генерала сопровождают только два эсэсовца. Но вы, должно быть, знаете, что гарнизон в селе усилен?
Янсон с минуту что-то молча обдумывал. Он впервые имел дело с перебежчиком, хотя недавно Криш рассказывал, что среди курземских партизан есть два немецких антифашиста. Вполне возможно, что этот шофер и в самом деле враг нацистов. Но что, если гитлеровцы нарочно прислали его в лес, чтобы заманить партизан в ловушку? Риск чересчур велик, Янсон отвечает за жизнь своих людей. Но, с другой стороны, этот немец может оказать партизанам немалые услуги… Хорошо, его надо проверить, а дальше видно будет.
— Разве ваше отсутствие не покажется генералу подозрительным? — спросил Янсон.
— Нет. Я и не думал, что мне удастся вас сразу найти, поэтому сказал, что отправляюсь на поиски спиртного…
— Сколько дней пробудет генерал в этом селе? — перебил Бауэра Янсон. — Когда и кудавы отправитесь дальше?
— Генерал приказал мне подготовить машину к завтрашнему утру. Я слышал, как он говорил сопровождающим нас эсэсовцам, что мы поедем по шоссе в южном направлении, — охотно ответил шофер.
Янсон задумался, раскрыл планшет с картой района и уткнулся в нее. Через несколько минут он поднялся и, подойдя к перебежчику вплотную, сказал:
— Слушайте меня внимательно. Вам завяжут глаза и выведут на шоссе. Через два часа вы дойдете до села. Утром, когда выедете с генералом, доехав до пятого километра, убавьте газ и поезжайте медленно. Старайтесь ехать так километра два—три. После первого выстрела остановите машину. Помните, нам нужно заполучить генерала живым. Вам все ясно?
— Да, — ответил Бауэр.
— Чтобы вас не заподозрили, дадим вам две бутылки спирта. Глотните немножко и притворитесь подвыпившим… Товарищ Лабренцис, — обратился Янсон к стоявшему рядом партизану. — На шоссе отдадите ему автомат! Желаю успеха!
26
Гулянье было в полном разгаре. Танцы устроили в большом, украшенном хвойными ветками сарае волостного старосты. Староста не пожалел ни трудов, ни самогона. Этому генералу Хартмуту надо угождать, а не то свернут шею! Все же к полуночи запасы спиртного иссякли. Но генерал и тут не растерялся. Недолго думая он собрал тех, кто еще держался на ногах. — Обойти все дома деревни и освободить крестьян от излишков самогона и пива! В случае сопротивления реквизировать силой. Заодно прихватить девиц. Вперед, марш! Солдаты гарнизона ревностно кинулись исполнять приказ. Они взламывали все комоды и сундуки, топали грязными сапогами по закромам, перерывали все вверх дном в сараях, конюшнях, клетях. Водки нигде не было, но зато на сеновалах то и дело находили девушек, которые попрятались, узнав о затеваемой оккупантами попойке. Напрасно девушки пытались сопротивляться — пьяные солдаты, издевательски хохоча, силой тащили их с собой. Не церемонясь, они заодно прихватывали и замужних женщин. Музыканты играли модный немецкий танец “Как-то на лугу зеленом целовались мы под кленом”. А кларнетист, выпивший больше других, упорно выдувал свое: “Heute gehort uns Deutschland und morgen die ganze Welt”.[24] Солдаты вертелись и прыгали, а девушки с отчаянием поглядывали на дверь. Если иной удавалось вырваться из объятий своего кавалера и убежать из сарая, то в погоню бросалось не меньше дюжины солдат, и горе той, которая не успевала скрыться. “Гулянье на славу”, — подумал про себя Хартмут и поднял большой дубовый кубок, из которого, как утверждал волостной староста, некогда пил сам генерал фон дер Гольц. Но тут же Хартмут поморщился — кубок оказался пустым, так же как и вся посуда, которой был уставлен длинный крестьянский стол. Вот почему спирт, принесенный Бауэром, оказался весьма кстати… На следующее утро разбудить генерала было нелегко. Эсэсовские офицеры, страдавшие от тяжелого похмелья, тоже охотнее всего отоспались бы в селе. И только обещание Бауэра заехать по пути в деревню, где он достал вчера спирт, наконец расшевелило сонное начальство. Усевшись в машину, генерал закутался в меховую шубу, откинулся на сиденье и тут же задремал. Офицеры охраны, в чьих отяжелевших с перепоя головах каждый толчок на ухабах отзывался особенно болезненно, были угрюмее обычного и не скупились на едкие замечания насчет шоферского мастерства Бауэра. Шофер не отвечал. Слова эсэсовцев, по сути дела, даже не доходили до его сознания, так как мозг все время сверлила одна мысль: “Завтра начнется новая жизнь, а сегодня я должен доказать, что достоин ее”. С трудом сдерживая волнение, шофер глядел на лес, безмолвно и грозно раскинувшийся по обе стороны дороги. Быть может, за этим поворотом машину поджидают его новые друзья, быть может, они прячутся вот в этом кустарнике… Может быть, уже в следующее мгновение тишину прорежет сигнальный выстрел и настанет время действовать… Бауэр так ясно представлял себе ночью весь план действий, что ему казалось, будто он все это уже однажды проделал. Сразу остановить машину, конечно, нельзя. Наоборот, надо прибавить скорость, как этого в таких случаях требует инструкция. Следовательно, нужно создать впечатление, что пуля попала в мотор и что-то в нем повредила. Запал гранаты, который он специально для этой цели соединил с педалью акселератора, несомненно произведет нужный эффект. А дальше?.. Как справиться с эсэсовцами, прежде чем они успеют открыть огонь? В этом вопросе у Бауэра не было ясности. Он знал только одно: нельзя допустить, чтобы они из своих автоматов поранили хотя бы одного партизана! Видимо, придется выскочить из машины и стрелять первому… Внезапно его размышления прервал выстрел. Нет, это был даже не отдельный выстрел, а очередь из автомата. Последующие события развернулись с такой быстротой, что Бауэр даже не успел опомниться. Он нажал на педаль акселератора, машина рванулась вперед, но в то же мгновение раздался резкий, хотя и не очень громкий удар, мотор чихнул несколько раз и заглох. Но прежде чем шофер успел выскочить из машины, из-за деревьев появились гитлеровские солдаты, прочесывавшие лес. Это был излюбленный фашистами тактический прием — окружив лес, где, по их мнению, должен был находиться враг, они развертывались в длинную цепь и, продвигаясь вперед, вели вслепую непрерывный огонь. Если при этом случалось пристрелить какого-нибудь мирного крестьянина, собиравшего в лесу хворост, то его тут же объявляли партизаном, и на этом дело кончалось. Увидев генерала, командир подразделения, долговязый обер-лейтенант, накануне вечером оравший громче всех, подбежал к машине и, запыхавшись, спросил: — Простите, генерал, что произошло? Надо было что-то сказать, спасти положение… Случившееся недоразумение совершенно потрясло Бауэра. Как быть, что придумать? Неожиданно ему на выручку пришел сам генерал: — На нас напали бандиты! Меня чуть не застрелили! — завопил он. — Ловите их!.. Чего же вы ждете, черт побери?! — Сейчас, господин генерал, обыщем лес по ту сторону дороги. Разрешите только предупредить вас: если услышите еще выстрелы, ни в коем случае не останавливайтесь! — И обер-лейтенант, позабыв даже отдать честь, нырнул в лес, откуда уже раздавались беспорядочные выстрелы его подчиненных. На сей раз Бауэр был спасен, и все же остановка машины вызвала подозрение. — Если ты еще раз затормозишь, я всажу тебе в ребра всю обойму! — злобно проворчал сидящий рядом с Бауэром эсэсовец и положил затянутую в перчатку руку на рукоятку пистолета. — Прежде всего надо посмотреть, что случилось с мотором, — спокойно ответил шофер и вылез из машины. Но его спокойствие было только внешним. Ясно, что эсэсовцы ни в коем случае не дадут ему больше остановиться. При первой же попытке его пристрелят, как собаку… Шофера охватил безудержный гнев на свое бессилие, на тех, кто преграждал ему путь к свободе. И вдруг из этой вспышки гнева родилось единственно правильное решение: от эсэсовцев надо избавиться, и притом немедленно! Солдаты карательной экспедиции успели порядком углубиться в лес. Пока они подоспеют, машина будет уже далеко, за много километров. Соединив порванные провода, шофер обратился к эсэсовцам; — Аккумулятор сел… Придется подтолкнуть машину. Сопровождающие генерала не двинулись с места. Очевидно, они чувствовали себя в машине куда безопаснее, чем на дороге, где на них в любой момент могли напасть партизаны. И снова объятый паникой генерал пришел на выручку Бауэру: — Вылезайте! Разве вы не слышали, что машину надо подтолкнуть? Я предам вас всех военному трибуналу! Эсэсовцы неохотно повиновались. Бауэр не торопился включать зажигание. Он хотел притупить внимание эсэсовцев, утомить их. Так он заставил офицеров толкать машину несколько десятков метров, пока они, потные и усталые, не остановились передохнуть. Теперь настало время действовать. Бауэр включил зажигание, нажал на стартер, и несколько секунд спустя машина уже мчалась по заснеженной дороге. Растерянные эсэсовцы в первое мгновение ничего не поняли — размахивая руками, они бежали вслед за машиной. Да и сам генерал спохватился, когда они уже успели проехать несколько сот метров. — Стой! — закричал Хартмут и вцепился в левую руку Бауэра. Вместо ответа ефрейтор размахнулся и изо всех сил ударил генерала кулаком по лицу. Хартмут, застонав, опустился на сиденье. Бауэру нужно было убедиться, действительно ли он потерял сознание. Но шофер не мог этого сделать: позади слышалась стрельба, пули попадали в кузов машины. Бауэр знал, что эсэсовцы не посмеют целиться в окно, так как побоятся ранить генерала. Но они могли пробить шины, и тогда — конец. Жалеть врага было бы не только глупостью, а просто самоубийством. Шофер резко развернул машину поперек шоссе и выпустил из своего автомата несколько очередей в ту сторону, где, увязая в сугробах, следом за машиной бежали две черные фигурки. Все последующее казалось Бауэру фильмом, который он сам смотрит. Только что на белом экране еще двигались две черные фигуры. А вот они уже лежат в кювете, и пушистые крупные хлопья снега падают на их неподвижные тела. И ведь это он, Рудольф Бауэр, грозит генералу автоматом, разоружает его, связывает ему руки и заставляет сесть рядом с собой. Затем он продолжает путь на юг — как ему приказал командир партизанского отряда. Неожиданно на перекрестке дорог появился немецкий моторизированный патруль. К ошеломленному Бауэру, однако, довольно быстро вернулась способность трезво мыслить. — Одно слово, и я отправлю вас на тот свет! — прошептал шофер и, повернув ствол автомата в сторону генерала, положил оружие к себе на колени. — Вы сами понимаете — мне терять нечего! Хартмут, уже раскрывший было рот, чтобы крикнуть, снова съежился на сиденье. Он, генерал Хартмут, без малейших колебаний или угрызений совести посылавший на верную смерть тысячи людей, не осмелился поставить на карту свою собственную драгоценную жизнь… И машина полным ходом пронеслась мимо солдат, вытянувшихся по стойке “смирно” при виде генерала. Бауэр затормозил только через десять километров, когда из кустов раздалось несколько выстрелов и на дороге появилась могучая фигура Длинного Августа. Рудольф Бауэр, правда, не понял слов, сказанных партизанским разведчиком, но крепкое, товарищеское рукопожатие было для него в ту минуту ценнее, чем самая громкая похвала.27
По запорошенной снегом дороге шагал человек. В сером суконном полушубке, в сапогах и барашковом треухе с кожаным козырьком, он походил на крестьянина, отправившегося куда-то по делу. Только походка у него была легкая и упругая, не такая тяжелая, как обычно у крестьян, привыкших ходить за плугом. Увидев огоньки села, человек свернул с дороги, дал порядочный крюк по глубоким сугробам и приблизился к заднему крыльцу дома, стоявшего на отшибе. — Бог в помощь, — сказал одинокий путник, входя в комнату и стараясь при слабом свете коптилки разглядеть сидящих за столом. — Здорово, — по-латгальски откликнулся Езуп Баркан. — Скидывай одежду — да к печке. Сегодня мороз. Вон сколько градусов, как у водки: без малого сорок будет!.. — Спасибо, Езуп, никак не могу, тороплюсь дальше… А что, наши еще на прежнем месте? — спросил гость, стягивая рукавицы, чтобы согреть застывшие пальцы. — Почти что на том же, только этак километров десять дальше к югу. После боев с карателями пришлось забраться поглубже в лес. Но молодцы ребята! Эх, и молодцы! Важную птицу поймали. Генерала, да еще в придачу с машиной. Я эту колясочку своими глазами видел — завидная штучка… — Ладно, ладно, приятель, — перебил гость хозяина. — Расскажешь все по дороге. Пришлось идти добрых четыре часа, прежде чем они наткнулись на первые партизанские посты. Езуп Баркан распрощался, а его гость направился дальше, к штабу партизанской бригады. В землянке Янсона он скинул полушубок. Но и здесь путник пробыл недолго — столько, сколько потребовалось, чтобы согреться у железной печурки и размять онемевшие от холода ноги. Добравшись до места назначения, Даугавиет так устал, что, почти не раздеваясь, повалился на нары и тут же уснул. Только на следующий день он явился к уполномоченному Центрального Комитета. В землянке пахло крепкой махоркой, дымилась коптилка, освещавшая своим дрожащим пламенем небольшое пространство. Уполномоченный встал. Пламя коптилки слегка осветило его лицо, и Янис узнал бывшего секретаря райкома партии Авота. Вот так удача — встретиться с другом после стольких лет! Они обнялись, посмотрели друг другу в глаза, похлопали один другого по плечу и снова обнялись. Да, суровыми были будни войны с их непрерывными боями и тяготами. Тем более радостной казалась эта неожиданная встреча. — Помнишь, где мы виделись в последний раз? — воскликнул Даугавиет. — А как же! В ночь перед эвакуацией Риги, в ЦК, — сурово сдвинув брови, ответил Авот. — Ты рекомендовал меня на эту работу. А знаешь, если бы я мог тогда представить себе, с какими трудностями она связана, может, я бы и не согласился, — улыбнулся Янис. — Обязательно согласился бы! Будто я тебя не знаю… Ты же у нас парень крепкий… Мы в Москве получаем каждую твою листовку, и, надо сказать, все довольны твоей работой… Конечно, надо бы писать поживее, оперативнее откликаться на события. Вот хотя бы в тот раз, когда студенты отказались поехать в Германию на работу, — ведь и это можно было использовать для листовки. — Это верно… Но в то время я был один. С тех пор как начал работать Краповский, мы выпускаем листовок вдвое больше. — Мало, слишком мало… Но об этом потом, а сейчас давай-ка свернем по цигарке, — спохватился Авот. Он нагнулся, чтобы вынуть из-за голенища кисет с махоркой, и только теперь Даугавиет заметил две большие звезды на его погонах. — Так вот оно что! Ты уже в подполковниках ходишь. Тебе бы следовало курить что-нибудь получше. — Может быть, “Спорт”? — отшутился Авот. В его памяти всплыл вечер в конце июня 1941 года, когда он вместе с Даугавиетом сидел в приемной секретаря Центрального Комитета. В ожидании важного разговора оба они нервничали. Даугавиет, по всей вероятности, думал о предстоящем ответственном задании. Авот еще и еще раз взвешивал, правильно ли поступил, рекомендуя именно этого человека на такую опасную работу. Оба много курили: он — “Казбек”, Даугавиет — “Спорт”. Авот еще помнит слегка помятую пачку с мчавшимся велосипедистом, из которой Янис вынимал папиросу за папиросой. Когда у него самого кончились папиросы привычной марки, пришлось взять у Яниса. Затягиваясь едким дымом, он тогда упрекнул Даугавиета, что тот курит такие скверные папиросы. Янис пожал плечами: “Что поделаешь, привычка подпольщика — не бросаться в глаза”. При Ульманисе из ста курильщиков восемьдесят покупали “Спорт”. Только тогда Авот по-настоящему понял, какой удивительной способностью обладал Даугавиет: он умел быть незаметным даже в мельчайших деталях быта, умел не привлекать к себе внимания ни при каких условиях. И Авот окончательно решил, что поступает правильно, рекомендуя именно Даугавиета для подпольной работы в оккупированной Риге… Толстые цигарки, свернутые из грубой газетной бумаги, они выкурили молча. В полутьме землянки тлели два маленьких огонька. Даугавиет и Авот вспоминали прошлое, мысленно оглядывали настоящее, стремились проникнуть в будущее. Когда самокрутки стали жечь губы, Авот снова заговорил: — Теперь я скажу, зачем тебя вызвал… Фронт приближается к Латвии. Мы должны быть готовы к тому, что фашисты попытаются вывезти все, что можно, а остальное уничтожить. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Надо позаботиться, чтобы к моменту отступления гитлеровцев на каждом предприятии были надежные люди, которые сохранили бы народное добро. Все это надо разъяснить массам. Поэтому нужно больше листовок, воззваний… Так… подумай, кого можно было бы дать в помощь Краповскому. А ты… ты поедешь в Лиепаю и создашь там новую типографию… Вот посмотри, — Авот вытащил из-под нар тяжелый чемодан и раскрыл его. Тускло поблескивая, перед взором Даугавиета предстала целая армия букв — тысячи и тысячи свинцовых столбиков, которые завтра должны быть брошены в решающий бой. Глаза Даугавиета засверкали, будто перед ним открылся сказочный клад. Он взял несколько литер, повертел их в пальцах, внимательно разглядел, как колхозник — золотистые зерна нового урожая, даже погладил и бережно положил на место. Еще долго они сидели, оживленно беседуя. Речь зашла о будущем помощнике Эрика, и уполномоченный Центрального Комитета, подробно расспросив Даугавиета, согласился с предложенной им кандидатурой Скайдрите. Затем обсудили положение на фронтах — целые немецкие дивизии во главе с генералами сдаются в плен… — Да, гитлеровские генералы теперь товар недорогой, — усмехнулся Авот. — Такой трофей имеется и у нас. — Я уже слышал. Нельзя ли взглянуть на эту птицу? — Что ж ты так долго спал? Ночью мы его на самолете отправили в Москву. А вот на шофера взглянуть можешь. Он сам привез к нам генерала Хартмута и теперь хочет остаться с нами. Похоже, что надежный парень. — Шофер генерала Хартмута? Ну, так я о нем кое-что знаю. Нельзя ли мне взглянуть на него так, чтобы он меня не видел? Авот повел Даугавиета к одной из землянок и чуть приподнял плащ-палатку, закрывавшую вход. Вокруг чугунной печурки сидели шесть человек. В одном из них Янис действительно узнал постоянного посетителя книжного агентства. Бауэр все еще был в немецкой военной форме, только без погон и нашивок. Вернувшись обратно, друзья некоторое время молчали. Прежде чем рассказать о своем замысле, Даугавиет хотел учесть и взвесить все возможности. Как и любое дело в подпольной работе, замысел его непременно связан с риском. Но ведь Бауэр выдал в руки партизан генерала и лично застрелил двух эсэсовцев — этим он отрезал себе пути назад. Совершенно невероятно, чтобы гитлеровцы могли нарочно пожертвовать генералом и двумя эсэсовцами, лишь бы любой ценой разведать местонахождение партизан. Даугавиет был уверен, что Бауэр не шпион. — Ну, что у тебя на уме? Говори, — сказал Авот. — Кажется, я догадываюсь, что ты задумал. Уж не тот ли это человек, о котором ты мне сообщал? — Да. Он часто приходил в книжное агентство. Наш Профессор долго за ним наблюдал и пришел к заключению, что Бауэра наверняка можно будет привлечь к работе. — А тем временем этот Бауэр, парень смекалистый, не стал ждать, пока вы, умники, выспитесь, и явился сам. — Считаю критику необоснованной. Русские недаром говорят: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. Авот сдвинул очки на лоб и пальцами протер усталые глаза. — Правильно. Я просто пошутил. Бауэр производит хорошее впечатление. В Германии в свое время работал в подполье, но потом долгие годы был оторван от движения. Конечно, ему не хватает опыта. Может провалиться. — Понимаю, — ответил Даугавиет. — Сначала будем поручать ему лишь самые простые задания, проверим его. Все же, по-моему, нельзя упускать эту редкую возможность. Ведь Бауэр шофер, он свободно разъезжает по городу. Кому придет в голову, что в немецкой автомашине перевозят нелегальную литературу? — Мысль неплохая! Поговори с ним. — Я не хочу ему показываться. В Риге он будет держать связь только с Профессором. — Хорошо, тогда иди прогуляйся. Я прикажу позвать Бауэра. Когда Бауэр явился, Авот спросил у него: — Ну, как вам у нас нравится? — У меня такое чувство, будто после долгих лет тюрьмы я вырвался на волю. Вы и представить себе не можете, что это значит — десять лет прожить среди фашистов и копить в себе бессильную ненависть. — Да, это нелегко. Но, к сожалению, вам придется еще пожить среди фашистов. Там вы тоже сможете быть полезным. — Как! Разве я не останусь у партизан? — с горьким разочарованием спросил Бауэр. — Опять придется вытягиваться перед каким-нибудь надутым арийцем, зная, что руки его обагрены кровью твоих товарищей, кровью коммунистов! Вместо того чтобы дать ему по спесивой роже, снова услужливо отворять перед ним дверцу машины и говорить: “Пожалуйста, господин генерал…” Если бы вы знали, как это отвратительно! Боюсь, что больше не выдержу. — Я вас понимаю. Но вам нужно взять себя в руки, как положено каждому подпольщику. Вы нам нужны в Риге гораздо больше, чем здесь. Вы будете развозить листовки. Это очень ответственное задание. Бауэру вспомнился тот день, когда на багажнике машины он обнаружил листовку. В известной мере это ознаменовало поворот в его жизни. Что ж, надо продолжать начатое дело до конца, тем более что он, немецкий солдат, не вызовет подозрений. — Когда мне отправляться в путь? — спросил Бауэр. — Чем быстрее, тем лучше. Но все это не так просто. Подумайте! Исчезли генерал и два эсэсовца, а шофер через несколько дней возвращается обратно жив-здоров и заявляет; “Здравствуйте, я ваша тетя!” Нет, тут нужно что-нибудь придумать. Хорошо еще, что наши люди догадались сейчас же убрать трупы эсэсовцев. Какие у вас самого на этот счет предположения? — спросил он после недолгого молчания. — Придется пофантазировать. Ну, вот так, например: допустим, всех четырех захватили в плен, мучили, пытали и тому подобное… Чем страшнее, тем лучше — гитлеровцы охотно поверят таким басням. Сегодня, в честь последних побед советских войск, партизаны перепились, вам удалось бежать… — Можно и так… Я застрелил постового, но меня ранили… Будет правдоподобней… — Бауэр вынул револьвер. — Вот так… В землянке грянул выстрел. — Что вы сделали? Да вы с ума сошли! С поврежденной ногой вы же до села не доберетесь! Бауэр тяжело упал на скамью. В лице его не было ни кровинки, оно казалось гипсовой маской. — Доберусь! Доберусь! Ведь надо добраться!.. На следующий день в село, к дому, где жил начальник гарнизона, приполз окровавленный немецкий солдат. Корка обледенелого снега, покрывавшая его изодранную одежду, доказывала, что он долго передвигался ползком. В том, что Рудольф Бауэр убежал от партизан, не могло быть ни малейшего сомнения, и начальство решило наградить отважного ефрейтора железным крестом второй степени.28
Надежда, как обычно, поставила на стол три стакана. Потом улыбнулась, заметив свою рассеянность, и убрала один стакан обратно на полку. Ведь Янис у партизан. Чайник зашипел, заклокотал. Кидая в кипящую воду листки сушеной мяты, Надежда вдруг подумала о том, что муж ее пил только настоящий грузинский чай. Когда Сергей возвращался домой после ночных вылетов, он обычно первым долгом опорожнял большую кружку душистого чая. Вот уже скоро два года, как она ничего не знает о Сереже. Мало надежды на то, что он жив. Ведь письма, которые она время от времени посылала через партизанский штаб, оставались без ответа. В первый год Надежда много и часто думала о муже, но с каждым пролетающим днем образ его словно заволакивало туманом. Новые условия и новые обязанности заполняли всю ее жизнь, вытесняя прошлое. У Нади был мягкий характер, и она сама считала, что не создана для роли героини. Надежда остро ощущала отсутствие Даугавиета. Часть работы она теперь выполняла сама и не всегда была уверена, что поступает наиболее разумно. Если бы Янис был в Риге, он сумел бы поручить организацию побега красноармейцев из лагеря военнопленных самым надежным людям. Правильно ли она поступила, что доверила это задание Куренбергу? Надежда очень волновалась. Если бы сегодня ночью все сошло гладко, ее давно бы уведомили. Надежда уже была готова нарушить закон конспирации и, оставив Эрика одного в квартире, подняться к Буртниеку, чтобы разузнать, как дела, но в эту минуту кто-то громко постучал. Нажав кнопку сигнала тревоги, она отворила дверь. Старый Донат даже не переступил порога и громко сказал: — Возьмите счет квартирной платы! Тут же в передней Надежда развернула записку и прочла первую строчку: “Все в порядке”. У нее тотчас отлегло от сердца. Она прошла на кухню, выпила стакан чаю и дочитала сообщение до конца. Все пятеро бежавших находятся в безопасности. Один из них, Никита Петроцерковский, ранен. Но ранение легкое, и он вместе с остальными уже сегодня ночью отправится к партизанам. Надежда бросила записку в плиту, где еще тлели угли, и побежала в ванную комнату — звать Эрика. На полпути она вдруг повернула обратно. Какое счастье, бумага еще не догорела! Да, там так и написано: летчик Никита Петроцерковский. Как это она сразу не сообразила! Это же и есть тот самый Никита, Сережин однополчанин! Тут и сомневаться нечего: Петроцерковский — фамилия очень редкая. Никита, бывало, всегда шутил, что его фамилия хоть и звучит не слишком идеологически выдержанно, но все же имеет свои преимущества: в телефонной книжке ленинградских абонентов она единственная и поэтому его никогда зря не беспокоят по телефону, разыскивая какого-нибудь однофамильца. Милый, хороший Никита! Она помнит, как он был влюблен в нее и, шутливо тараща глаза, читал ей стихи. Ко дню рождения он подарил ей “Евгения Онегина”; она всегда хранила эту книгу, как приятное воспоминание. Надя сняла с полки томик в синем сафьяновом переплете. А вот и надпись, сделанная рукой Никиты: Пусть скажут строки благодарные, Как я любил глаза янтарные… С Никитой надо во что бы то ни стало повидаться! Должно быть, он что-нибудь знает о судьбе Сережи. По крайней мере, сможет рассказать, когда и где погиб ее муж… А если Сережа жив и только находится где-нибудь далеко, за Полярным кругом или в Иране, куда не доходят ее письма, то Никита рано или поздно сумеет связаться с ним. Она надела пальто, взглянула в зеркало, быстро поправила волосы, стерла со щеки сажу. Надо повидать Никиту! Сказать бы Элизе — пусть пока постережет квартиру. И Эрика надо предупредить, что она уходит. Эрик метался в бреду. Он задыхался от жары, страшной жары. Он стоит в кочегарке на судне и швыряет в буйное пламя одну пачку листовок за другой. Чем больше он кидает в топку, тем жарче разгорается огонь. Но капитан кричит: “Еще, еще!” Зной становится невыносимым, пылающая пасть топки вдруг превращается в раскаленный докрасна солнечный диск. Эрик в пустыне… Жажда, невыносимая жажда… Солнце превратилось в красную бочку пожарного. Ее вращает связной из Курземе. “Пить!” — “Сперва дай мне листовки…” Болезнь подкралась к Эрику в самый разгар работы. До трех часов ночи, пока он набирал текст листовки для лиепайцев, его мучила сильная головная боль и острая ломота в ногах, но когда он стал печатать, лихорадка зажгла огнем все тело, словно спичка бензиновый бак. Еще какое-то время Эрик заставлял себя работать. Потом, чувствуя, что теряет силы, на минуту прилег, но так и не смог подняться. В таком состоянии его и застала Надежда. Кинув удивленный взгляд на тонкую пачку отпечатанных листовок, она нетерпеливо принялась будить спящего. Эрик со страшным трудом поднял тяжелые веки. — Эрик, вставай! Завтрак готов. Поешь до прихода Элизы. А мне надо бежать. — И Надя рассказала ему о записке, о Никите и о своих планах. Думать Эрику было нестерпимо трудно. В голове гудело. Но он все же понял, что Надежде надо уйти. Повидаться с товарищем мужа очень важно. Но кто же напечатает листовки? Связному из Курземе нельзя ждать. Ну конечно же, он сам это сделает. Ему лучше. Хорошо еще, что он не проболтался Наде о своей болезни, а то она, наверно, осталась бы. Пытаясь не показать своей слабости и желая убедить себя самого, что ему не так уж плохо, Эрик попробовал подняться, но тотчас упал. — Ты болен!.. Надежда сейчас же сбросила пальто, заботливо укутала Эрика одеялом, поспешила за чаем и аспирином и, не слушая его возражений, принялась сама печатать листовки. Так, без отдыха, она проработала до самого вечера, и только следы слез на первых листовках свидетельствовали о том, как тяжело ей было отказаться от встречи с Никитой.29
— Ну как, мастер, прибавить пару? Мы уже и так на сорок минут опаздываем, — спросил кочегар своим, по обыкновению, равнодушным тоном. Сбивая колесами снежное месиво, поезд, то изгибаясь дугой, то снова вытягиваясь ровной линией, мчался сквозь декабрьскую ночь. Синий фонарь локомотива отбрасывал прозрачный свет на темную стену леса, который вместе с мелькающими телеграфными столбами бежал навстречу. В топке рычало белое пламя. Машинист Карлис Эмбер глянул на манометр, засунул руку в карман брюк и вытащил из его глубины книжечку с потрепанными листками папиросной бумаги и несколько крошек самосада. — А куда спешить? В военное время уголь надо беречь… — сказал он с чуть заметной усмешкой. — Мне-то все равно… Да только как бы нас самих за такую, бережливость не вздумали приберечь за решеткой, — с равнодушным спокойствием процедил кочегар. — Оставь “сорок”, мастер. — Он ловко подхватил лопатой горячий уголек и, поплевав на пальцы, поднес машинисту. В полном молчании оба затягивались по очереди. Эмбер ладил со своим молчаливым помощником, который, правда, изредка любил поворчать, но в общем был “свой парень”. Они работали вместе уже полгода, и ни разу за это время кочегар не проявлял излишнего любопытства, хотя кое-что, очевидно, примечал. В черных грязных пальцах самокрутка становилась все черней. К последним затяжкам примешался неприятный привкус угля и машинного масла. Но табак нынче так дорог, что привередничать не приходится, и Эмбер выкинул крошечный окурок, только когда начало жечь пальцы. Оранжевое пятнышко затерялось в рое искр из трубы, гнавшихся друг за другом, словно играя в пятнашки. Высунувшись из окна, машинист с минуту следил за их игрой. Он вспомнил своих детей. Еще две недели назад в их семье было всего трое: он сам, больная жена, которая нигде не работала, и четырнадцатилетний Индрик. Но вот арестовали их соседей Калнапуров, которые почти десять лет жили в одном с ними доме, на одной площадке. Дети Калнапуров остались без присмотра, без крова; младшая Модите совсем маленькая и одеться сама еще не умеет. Эмберу вспомнилось, как он тогда целый день боролся с самим собой — ведь и так еле-еле сводишь концы с концами! Наконец он все же решил послушаться голоса совести. Но что скажет жена, согласится ли она взвалить на себя такое бремя? Когда он вернулся из очередной поездки и пришел домой с намерением сказать жене о своем решении, маленькие Калнапуры уже сидели за столом в кухоньке и, склонив головы, усердно хлебали суп из большой миски. Эмбер переглянулся с женой. Никогда еще ее лицо не казалось ему таким прекрасным, как в то мгновение, хотя длительный недуг давно уже стер с него следы былой красоты. Так в семье Эмбера прибавилось три едока, а вместе с ними прибавилось и заботы. Весь этот груз лег на плечи машиниста и, возможно, совсем придавил бы его, если бы не особая сила, помогавшая ему выдерживать. Эту силу давала ему борьба. Вот и теперь, назло всем заботам, назло непогоде и темной ночи, Эмбер испытывал приятное чувство удовлетворения. Он ни за что не поменялся бы местом с теми, кто безмятежно дремлет в купе, кого во сне не мучит страх перед арестом. Никогда еще он не получал такого опасного задания, как теперь. В угольном бункере в такт ритмичному перестуку колес покачивался тяжелый чемодан, который необходимо доставить в Ригу. По весу Эмбер понял, что на сей раз там не листовки. Но он не знал, что находится в чемодане, не знал он и того, что отправитель едет тем же поездом, в третьем вагоне, зажатый между окном и толстой владелицей усадьбы, которая даже во сне не выпускала из рук корзину с провизией. Вдали замелькал бледный огонек. Когда поезд резко затормозил, голова толстой соседки повалилась на плечо Даугавиета. Проснувшись от внезапного толчка, она прежде всего удостоверилась, не исчезло ли что-нибудь из ее корзинки, затем повернулась к окну, за которым, проносимые невидимыми руками, мелькали синие фонарики обходчиков. — Как, уже Крустпилс? — Она поспешно поднялась и стала вытаскивать из-под скамейки свои бесчисленные пожитки. В другом конце вагона показалась проводница: — Прошу оставаться на местах. Через десять минут тронемся. — Что случилось? — спросил чей-то голос. — Я ничего не знаю. Мне только велено сказать, что через десять минут поезд тронется. Неожиданная остановка вызвала оживленные толки. Разбуженные пассажиры, перебивая друг друга, рассказывали о пережитых ими подобного рода случаях. Даугавиет молчал. Он был так погружен в свои мысли, что даже забыл, что его молчание может показаться подозрительным. Прижавшись к стеклу, он старался прислушаться к доносившимся снаружи звукам, которые наполняли его тревогой. Что там могло случиться? Партизаны разобрали путь? А может, с Эмбером что-нибудь неладное? А вдруг поезд остановили, чтобы сделать внезапный обыск? В чемодане комплект шрифта — сказочное сокровище при теперешних условиях. С огромными трудностями шрифт доставлен сюда. Люди, привезшие его к партизанам, поставили на карту свою жизнь, так же как теперь это делает Карлис Эмбер. Эгоистичный страх за свою жизнь был чужд Даугавиету. И все же ему случалось не раз испытывать минуты лихорадочного волнения, когда страх, словно тисками, сжимает сердце и не дает думать ни о чем другом. Боязнь не выполнить задание — ведь тогда лиепайская подпольная организация останется без типографии — отодвигала на задний план опасение за судьбу Эмбера. Жизнь машиниста, так же как и собственная жизнь, не показалась бы Янису слишком дорогой ценой, если бы ее нужно было отдать для спасения шрифта. Даугавиет не слышал ни слова из того, что кругом рассказывали пассажиры. Он слышал только собственный голос, все время задававший один и тот же вопрос: “Что случилось?” Янис чувствовал, что не может больше выдержать неизвестности. И все же надо было себя побороть. Если бы он только один вышел из вагона, это привлекло бы внимание попутчиков. Наконец еще кое-кому надоело сидеть. Один за другим пассажиры стали выходить из вагона, чтобы поразмяться. Выйдя, Янис по колено утонул в мокром снегу. Вскоре он добрался до паровоза. В темноте поблескивали медные части, клапан, шипя, выпускал тонкую струйку пара. Из кабины машиниста высунулась голова: — Эй, начальство, сколько еще дожидаться? В Резекне перед отходом поезда Даугавиет подходил к паровозу, чтобы посмотреть на Эмбера. Поэтому теперь он сразу узнал чуть насмешливый голос машиниста, и у него отлегло от сердца. Теперь, когда все его опасения оказались напрасными, он больше не думал о чемодане с ценным грузом, он лишь радовался тому, что у Эмбера все в порядке. Хотелось как-то выразить товарищу свою радость, крепко-крепко пожать его шершавую, почерневшую от угольной пыли руку, хлопнуть по плечу или сделать что-нибудь в равной мере безрассудное, чего Даугавиет не мог себе позволить. Но ничего подобного он не сделал. И все же какая-то частица глубоко скрытого тепла невольно передалась его голосу, когда он, бессознательно повторив любимое выражение машиниста, ответил: — Спешить некуда. До конечной станции все равно доберемся. — Добраться-то доберемся, только куда? — откликнулся Эмбер. Но тут же осекся. Если лесные братья станут ежедневно взрывать поезда, то весь график движения полетит к чертям… Даугавиет внимательно посмотрел туда, где мелькали огоньки фонарей. В темноте неясно вырисовывались хаотические груды каких-то обломков. Человеку несведущему никогда бы не пришло в голову, что все это еще недавно было воинским эшелоном. На обратном пути Даугавиет увидел в снегу продолговатый предмет. Поднял его. Это была сплющенная гильза 76-миллиметрового снаряда, заброшенная сюда взрывной волной. Значит, состав с боеприпасами! Ничего не скажешь, чистая работа! Авот прав — гитлеровская военная машина напоминает сейчас выброшенную на берег акулу. Она еще борется, неистово бьет хвостом и тем не менее уже обречена. Сейчас нечего и думать об отдельных группах сопротивления. Теперь речь идет о широком массовом движении, которое должно охватить весь народ, — тут-то и придется поработать. Избавившись от своих сомнений по поводу Эмбера, радостно возбужденный и полный энергии, Даугавиет вернулся в вагон, где никто еще ничего не подозревал о случившемся. Дородная соседка, которой опять пришлось потесниться, кинула на Яниса негодующий взгляд и, словно продолжая прерванный разговор, ядовито промолвила: — Мой сын уже второй год проливает свою кровь. В последнем письме сообщил о повышении, теперь он обер-лейтенант. А тут некоторые разгуливают по тылам и захватывают чужие места, которые надо бы занимать честным латышам… Янис мог бы пропустить это замечание мимо ушей, но укоренившаяся привычка приспосабливаться к обстановке, как бы это ни было противно его истинной натуре, вынуждала ответить. Преувеличенно вежливым, почти льстивым тоном, в котором все же звучало характерное для корпорантов бахвальство, Даугавиет произнес, повернувшись к своей язвительной соседке: — Совершенно с вами согласен, уважаемая сударыня. Если бы это от меня зависело, я бы уже давным-давно воевал на фронте. Но рейхскомиссар полагает, что на фабрике отца я просто незаменим… И вдруг толстуха, еще мгновение назад не знавшая, куда разместить свои расплывшиеся телеса, как-то поджалась из уважения к столь важному соседу. — Ради бога, не подумайте, что я намекала на вас. Я сразу поняла, с кем имею дело… Знаете, мой Эгон тоже не из простых офицеришек. Он занимает важный пост в интендантстве… До самого Крустпилса она была счастлива, что может болтать о корпорации сына и об общих знакомых в высших кругах общества. И если бы чиновникам гестапо вздумалось вызвать на очную ставку собственницу усадьбы и коммуниста Даугавиета, толстуха ни за что не поверила бы, что очаровательный сын фабриканта, о котором она столько рассказывала приятельницам, не кто иной, как “большевистское чудовище”. Только после Крустпилса Янису наконец удалось сесть поудобнее и кое-как распрямить затекшие ноги. С каждым оборотом колес поезд приближался к Риге. Янис отличался редкой силой воли, но все же он не смог заставить себя заснуть. В нетопленном вагоне, несмотря на скопление пассажиров, было очень холодно. У Яниса не было полушубка, как у соседа напротив, или трех шерстяных платков, в которые куталась старушка на другом конце скамейки. Он попробовал поглубже забиться в угол и втянуть голову в воротник демисезонного пальто, но это не помогало. Сон все не шел. В голове возникало множество мыслей. Жажда тепла почему-то связывалась с образом Надежды. С поразительной ясностью он вспоминал все: цвет ее глаз, фигуру, движения, манеру говорить, редкие улыбки. — Следующая станция — Рига, — раздался голос проводницы в другом конце вагона. Хотя Даугавиет отсутствовал всего несколько дней, Надежда и Эрик встретили его как человека, возвратившегося из далекого путешествия. Да и сам Янис при виде друзей почувствовал себя как-то особенно уютно, по-домашнему. Да, эта опасная квартира стала его настоящим домом, а Надежда и Эрик — его семьей. Для такого торжественного случая Надя приберегла несколько кусочков сахару, и Даугавиет, наслаждаясь теплом, разлившимся по всему телу, выпил чуть ли не полчайника. — Ну, теперь я готов слушать… — наконец проговорил Янис. Надежда рассказала о Петроцерковском: — Подумай только, если бы Эрик не заболел, я теперь уже знала бы что-нибудь о Сереже! Хорошее настроение Даугавиета сразу же испортилось. — И отлично, что не пошла! Петроцерковский ничего не должен знать о тебе. Не забывай, что ты теперь не жена своего мужа, а подпольщица, прежде всего — подпольщица! Глаза Надежды затуманились от обиды: — Ты знаешь только одно — конспирация, конспирация… Как бы ты сам поступил, если бы речь шла о любимом тобой человеке? Неужели тебе чужды всякие человеческие чувства? Даугавиет понурил голову. В том-то и беда, что он никак не мог преодолеть свои чувства. Еще год назад, будучи у партизан, он получил сообщение, адресованное Цветковой. В 1941 году муж Нади, вылетев на боевое задание из Мурманска, не вернулся и долгое время считался пропавшим без вести. Только много месяцев спустя на одном из пустынных островов Ледовитого океана был обнаружен его сбитый самолет и изуродованный, замерзший труп. Целый год Янис хранил эту скорбную весть про себя и молчал, молчал… Не потому, что опасался причинить Наде боль — в это суровое время несметное число женщин постигла такая участь и Цветкова, конечно, перенесла бы свое горе. Нет, он молчал, опасаясь, что эта весть может в какой-то мере изменить их отношения. Янису казалось, что сказать правду, сообщить Надежде, что она свободна, означало бы воспользоваться чужим несчастьем. Пусть все останется по-прежнему — он будет молчать, не проронит ни слова о гибели Сергея, так же как не проронил до сих пор ни слова о своей любви. Вот почему рассказ Надежды так взволновал его. Как легко могло случиться, что Надежда узнала бы от Петроцерковского то, что он, Янис, с таким трудом от нее скрывал! Горько было сознавать, что Надя так превратно поняла его суровые слова. Одна-единственная фраза могла бы опровергнуть все ее упреки, но он стиснул зубы и молчал. Надежда ничего не знала о переживаниях Яниса, но женским чутьем понимала, как он страдает. К тому же она чувствовала, что действительно чуть было не совершила оплошности. — Прости, Янис! — И она схватила руку Даугавиета. — Ты прав, я не должна была забывать требований конспирации! Янис отвел ее руку, но в его взгляде, вопреки собственной воле, отразилась нежность: — Ну-ну, ладно, не стоит об этом… Конспирация служит человеку, а не наоборот… Бывают случаи, когда и подпольщик ошибается… И именно потому, что он человек. — Даугавиет обратился к Эрику: — А ты, я вижу, уже на ногах! — Это был всего лишь пустяковый грипп, — быстро ответил Краповский. — Для тебя все — пустяк, — отечески пожурил его Даугавиет, в разговоре с Эриком никогда не старавшийся скрыть свое отношение к нему. — А мы думаем иначе. Ты получишь помощника. В присутствии Эрика об этом больше не говорилось. Но как только тот спустился в “квартиру без номера” и Даугавиет собрался было назвать имя этого помощника, Надежда взволнованно произнесла: — Снашей Скайдрите случилась беда!30
На улице было еще темно, когда Элиза, вернувшись из своего обычного утреннего похода, поднялась к Буртниеку. Она не жаловалась, но выглядела такой усталой, что Висвальд с грустью заметил про себя: “Элизе с каждым днем все труднее выполнять обязанности разносчика листовок”. — Придется еще немного потерпеть, Элиза. От Яниса добрые вести… Голос Буртниека за последнее время окреп и стал звучать куда энергичней. Правда, больное сердце по-прежнему пошаливало, но зато каждый день и даже каждый час приносил все новые радостные вести о победах Красной Армии, об успешных боях партизан, о расширении подпольной деятельности. Словом, в воздухе чувствовалось приближение весны. — Скоро будем перевозить листовки на машинах, — весело продолжал он. — Тогда и ты наконец отдохнешь. Ты уже давно заслужила это. Элиза покачала седой головой. — Это было бы неплохо. Ноги отказываются служить, и силой их не заставишь… Но как же я стану жить без работы? Нет, я без дела не усижу… — Ничего, найдется и для тебя работа. Пока что будешь помогать Донату следить за домом. Это были не только слова утешения. Буртниек отлично понимал, как необходимо теперь соблюдать особую осторожность. Чем шире росли ряды подпольщиков, тем упорнее и свирепее действовало гестапо. Надо было удвоить бдительность, ежечасно, ежеминутно помнить, что их дом — огневая точка в постоянном вражеском окружении. Как бы откликаясь на эту мысль, в дверях тревожно затрещал звонок. Буртниек и Элиза вздрогнули… Заказчики обычно не приходили в такой ранний час, а своих они узнали бы по условному сигналу. Но вот раздался и знакомый сигнал — два коротких звонка, один длинный и снова два коротких. Значит, посетитель сильно взволнован и забыл о сигнале. Это объяснение оказалось правильным — женщина, принесшая записку, так торопилась, что не назвала даже пароля. — Вот заказ! Самый срочный! — запыхавшись, произнесла она, бросила на стол письмо и убежала. Буртниек торопливо разорвал конверт, на котором пальцы связной оставили черные отпечатки типографской краски. Пробежав глазами несколько строчек, он, как бы не веря себе, еще раз прочитал сообщение вслух: — “В сегодняшней “Тевии” напечатана статья предателя приват-доцента Граве. Требуя самой безжалостной расправы с партизанами, он упоминает о нескольких “ужасающих фактах”, в том числе об убийстве генерала Хартмута и сопровождающих его лиц. Гитлеровская цензура не вычеркнула это сообщение, однако Данкер решил, что оно может подорвать престиж оккупантов. Издано распоряжение конфисковать “Тевию”, хотя большая часть тиража уже развезена по киоскам”. Элиза побледнела и ухватилась за стул. “Скайдрите! — была ее первая мысль. — Скайдрите в опасности!” Она хотела сказать это Буртниеку, но слова застряли у нее в горле. Висвальд, очевидно, думал о том же. Ничего не видя и не слыша, он в лихорадочной спешке надевал пальто. Как это обычно бывает в таких случаях, руки почему-то не попадали в рукава. Наконец он с силой сунул руку в отверстие, истрепанная подкладка с треском разорвалась, но Буртниек этого даже не заметил. Он вихрем сбежал вниз по лестнице и, наталкиваясь на прохожих, помчался к остановке трамвая. Скайдрите была в опасности, в серьезной опасности. Ничего не подозревая, она, как обычно, вложит листовки в номера “Тевии”. Приедет полиция, чтобы конфисковать газеты, и найдет… Тяжело дыша, Буртниек добежал до трамвайной остановки. В этот час, когда большинство рижан едет на работу, тут собралась целая толпа. Дребезжа окрашенными в синий цвет оконными стеклами, подошел наконец трамвай. Все вагоны были переполнены. У входа на площадку образовался сплошной клубок человеческих тел. Люди отчаянно боролись за место на подножках, потому что опоздавших на работу строго наказывали. Поняв, что у него нет никакой надежды обычным путем пробраться в вагон, Буртниек втянул голову в плечи и боком втиснулся в толпу. Ему посчастливилось нащупать опору под ногой, но в это мгновение стоявший на ступеньке гитлеровец, до которого Висвальд случайно дотронулся, повернулся и начищенным до блеска сапогом пихнул его в живот. Буртниек пошатнулся и, если бы несколько рук своевременно не поддержали его, наверняка попал бы под колеса. Оглушенный, он встал. Некогда было отряхнуть испачканное пальто. Надо торопиться, быстрее, быстрее! Прихрамывая на левую ногу, которую он, очевидно, повредил при падении, Висвальд продолжал бежать, но уже через несколько кварталов был вынужден замедлить шаг. Не добраться ему вовремя! Быть может, еще раз попытаться сесть в трамвай? Но сколько же придется ждать? Минут пятнадцать, может быть, двадцать?.. Поздно, поздно! Буртниек отскочил в сторону: погрузившись в свои тревожные мысли, он только в последнее мгновение успел заметить грузовик, крыло которого едва не сбило его с ног. “Уж не Силинь ли за рулем?” Громко окликая водителя, Буртниек бросился вперед за машиной. Когда Силинь наконец услышал знакомый голос, у Буртниека уже почти не хватило сил залезть в кабину. Что поделаешь! Его сердце не создано для марафонского бега… Момент был весьма неподходящий для философских размышлений о собственном здоровье. Буртниек попросил Силиня выжать из машины все, что только можно. Шофер сразу же свернул на соседнюю улицу, где движение было тише, и это оказалось весьма разумным. Скорость грузовика далеко превышала разрешенную, дома и деревья сливались перед окном кабины в мелькающую бесформенную темную массу. Торопя Силиня и с отчаянием думая о том, что они могут опоздать, Буртниек все же утешал себя надеждой: весь тираж газеты пока еще не развезен. Может быть, Скайдрите сегодня не успела получить “Тевию”?.. Получив “Тевию”, Скайдрите разложила газеты при тусклом свете керосиновой лампы. Она не особенно торопилась: первые покупатели, как обычно, появятся через полчаса, не раньше. Девушка успела даже прочитать статью о похищении генерала Хартмута. Впервые она почувствовала что-то вроде зависти. Там в Латгалии партизаны совершали героические подвиги, в то время как здесь жизнь текла однообразно, без особых событий. В обычное время пришла “подпольная машина”, перелистала журналы, дала Скайдрите возможность поменять сумки и снова ушла. Сегодня в сумке оказалось яблоко, и это маленькое красное яблоко как бы окрасило своим румянцем щеки Скайдрите. Почему-то в голову опять лезла фантастическая мысль, что эти маленькие подарки ей посылает Эрик. И девушке вдруг стало легко и радостно на душе. Тихо напевая песенку о Катюше, ожидающей далекого друга, она сунула газету на полку. Да, в ее жизни ничего особенного не происходит, и, пожалуй, ц данных условиях этому можно только радоваться. Нет ничего особенного и в том, что возле киоска остановился грузовик. Но когда из кабины выскочили два шуцмана, Скайдрите заволновалась. — Давайте-ка все “Тевии”! И пошевеливайтесь быстрее, мамзель! — приказал грубый голос. — А что же случилось? — спросила Скайдрите, пытаясь выиграть время. — Без разговоров! Газета конфискована! Девушка вздохнула свободнее. Схватив поданную ему пачку газет, шуцман уже собирался закинуть ее в машину, но второй остановил его движением руки: — Погоди, сперва сосчитаем, — и вытащил из кармана какой-то список. Сравнив количество полученных от девушки газет с указанным типографией числом, он сказал: — Не хватает двадцати номеров. — Они уже проданы, — героически солгала Скайдрите, хотя у самой от волнения подкашивались ноги. Первый только удивился: — Так рано? Но второго этот ответ не удовлетворил. Рванув дверь киоска с такой силой, что из нее вылетел ключ, он окинул взглядом все внутреннее устройство будки. — А это что? — указал он пальцем на отложенные двадцать номеров. С отчаянием думая, что же ей делать, Скайдрите на всякий случай продолжала вдохновенно врать: — Я же вам сказала: они уже проданы! Эти покупатели платят мне за месяц вперед. — Не наше дело!.. — И жилистая рука, на среднем пальце которой красовалось кольцо с выгравированным черепом, потянулась за газетами. Скайдрите однажды где-то читала, что в смертельной опасности человеческая мысль работает с лихорадочной быстротой. То же произошло и сейчас. За миг, пока рука шуцмана еще тянулась к газетам, в мозгу девушки промелькнуло множество мыслей. Бросить листовки, а самой бежать?.. Ударить шуцмана и попытаться исчезнуть вместе с листовками?.. Просто ждать, в надежде, что шуцманы бросят газеты в машину, не заметив листовок?.. Нет, настоящий подпольщик не имеет права надеяться на чудо! Но что же делать? Что? Что?.. И вдруг она услышала собственный, но показавшийся ей совершенно чужим голос, спокойно произнесший: — Но, быть может, вы хотя бы разрешите мне сообщить своим покупателям, что газета конфискована? Шуцман на мгновение замешкался. Этого мгновения было достаточно. Лампа опрокинулась, керосин пролился, и газеты воспламенились. Огонь молниеносно перекинулся на журналы и тонкие дощатые стенки киоска. Защищая лицо, шуцман выбежал, захлопнув за собой дверь, и Скайдрите, в опаленном пальто, ослепшая от дыма, обожженными руками пыталась нащупать выход. Ее последней мыслью было: “Будь что будет! Листовки уничтожены!” Потом все расплылось перед ее глазами, улетучилось, исчезло… Когда до киоска осталось всего три квартала, Буртниек спохватился, что Скайдрите даже не знает, кто он в действительности. “Но ничего, — утешал он себя. — Разве простой знакомый не мог услышать о конфискации “Тевии”? А если девушка все же догадается, что я — один из подпольщиков? Черт возьми, пусть догадается! В конце концов, жизнь человека дороже всего!” Как только Силинь резко повернул за угол и машина подлетела к киоску, Висвальд с ужасом понял, что все его размышления были излишни. Он опоздал — один из шуцманов стоял возле будки, второй как раз входил в нее. Но прежде чем Буртниек успел решиться что-нибудь предпринять, шуцман вдруг выскочил из киоска и вслед за ним из окошка вырвался густой клуб дыма. Чутье подпольщика сразу же подсказало Висвальду — Скайдрите подожгла киоск, чтобы листовки не попали в руки полиции. Не думая о том, что и его могут арестовать, Буртниек бросился вперед, хотел открыть дверь, но она не поддавалась. Тогда он ударом ноги проломил тонкие доски и вытащил из охваченной пламенем будки потерявшую сознание Скайдрите. Тут подоспел и Силинь. Вдвоем они сорвали с девушки дымившееся, тлевшее пальто и швырнули его в снег. Только теперь Висвальд вспомнил о шуцманах. — Быстрее в машину! — крикнул он Силиню, готовясь сам защищать Скайдрите. Но этого не потребовалось. Шуцманы сразу же побежали вызывать пожарных. Буртниек, словно сквозь туман, успел заметить, как огонь с будки перекинулся на полицейскую машину и как вспыхнули брошенные в нее газеты. Словно сквозь туман, увидел он и все последующее: искаженные контуры летящих навстречу домов, отскакивающие тени людей, промчавшуюся мимо пожарную машину. Висвальд сидел рядом с девушкой. Он гладил ее обгоревшие волосы и непрерывно повторял полушепотом: — Бедная девочка! Смелая наша девочка! Только спустя некоторое время, когда к нему вернулась способность трезво мыслить, Буртниек понял, почему видит все точно сквозь пелену тумана, — спасая Скайдрите, он потерял очки. И тут же всплыла другая мысль — где поместить обожженную девушку? — Куда же мы едем? — спросил он. — В ближайшую больницу, куда же еще, — ответил Силинь. — В ближайшую больницу? Ни в коем случае! Шуцманы, должно быть, сообщат о случившемся в гестапо. Скайдрите будут разыскивать… Прочь из Риги, по возможности дальше! Это единственно верный путь… Сколько у тебя бензина? — Километров на пятьдесят. — Ну, тогда едем… — Куда же?.. — Едем в Елгаву!31
— Ну, Ранке, что нового? Сколько выудили коммунистов за время моего отсутствия? — спросил Рауп-Дименс, вернувшись на работу после десятидневного отпуска. Ранке вздрогнул. В ироническом тоне начальника явно слышалось: “Одно то, что я с вами разговариваю, для вас великая честь”. — Разрешите доложить, господин оберштурмфюрер. Мы-то ни с чем, но у них богатый улов: генерал Хартмут попал в руки партизан. Оберштурмфюрер закурил сигарету и с минуту спокойно пускал дым. “Железные нервы”, — подумал шарфюрер Ранке, знавший, что генерал Хартмут — хороший знакомый оберштурмфюрера. Но вдруг совершенно неожиданно Рауп-Дименс швырнул на пол сигарету и, быстро вскочив, опрокинул кресло. Размахивая руками, оберштурмфюрер заорал: — Что?! Схватили Хартмута?! Ну, за это вы мне ответите! Ранке невольно попятился. Он еще никогда не видел своего начальника в таком состоянии. — Я не виноват, господин оберштурмфюрер, — заикаясь, оправдывался он. — Дело расследовал штурмфюрер Вегезак. Нам сначала показалось подозрительным, что из четырех человек спасся один только шофер Бауэр. — И каковы результаты расследования? — несколько спокойнее спросил начальник. — Все в порядке. Шофер действительно бежал из плена. Партизаны подстрелили его, ранили в ногу. Он еще лежит в военном госпитале. — Что он рассказывает о судьбе генерала? — Когда Бауэр бежал, генерал еще был жив. Но нет ни малейшего сомнения в том, что теперь они его уже прикончили. — Почему же не догадались сейчас же послать солдат и освободить генерала? — Послали. Шофер подробно описал местонахождение партизан. Но карательная экспедиция опоздала, там нашли только несколько пустых землянок… Бедный господин генерал, представляю себе, как его терзали большевики. — Молчать! — рявкнул Рауп-Дименс. — Ну, чем еще вы меня порадуете? — Наш работник в тукумском поезде арестовал некоего Берзиня, который заявил, что после Сталинграда Гитлеру капут. При большевиках этот Берзинь получил землю в Тукумской волости. Изволите допросить сейчас? — Ладно, можете привести… Но как только Ранке направился к дверям, его вдруг остановил окрик Рауп-Дименса: — Какого черта допрос! Расстрелять на месте! Всех перестрелять! Всех! Вон! Ранке, пятясь, добрался до дверей и выскочил из кабинета. Рауп-Дименс неподвижно сидел в кресле. “Нет, не стоило проводить отпуск в Германии. Сплошная трепка нервов. Непрерывные налеты, перепуганные мужчины, истеричные женщины. Только соберешься куда-нибудь выйти, как сразу же начинается воздушная тревога! Отца просто не узнать — ходит с таким видом, будто жабу проглотил. О бакинской нефти в его присутствии лучше и не заикаться. Да, таковы дела, мы теряем одну позицию за другой. Но пусть большевики не думают, что мы так просто уйдем отсюда. Мы призваны выполнить историческую миссию — уничтожить все, что пахнет коммунизмом. Быть может, наше поколение и сложит при этом голову, но зато мы обеспечим существование нашим потомкам. Нет сомнения в том, что фюрер свернет себе шею. А вот Рауп-Дименсы, Круппы, Тиссены останутся, ибо на них зиждется мир”. Марлена тщательно готовилась к встрече Харальда после его десятидневного отсутствия. Она надела тончайшее кружевное белье, выбрала самое элегантное, только что сшитое платье, обильно надушилась самыми дорогими французскими духами, которые на днях ей преподнес испанский полковник из Голубой дивизии. Кроме того, Харальда ожидало его любимое блюдо — кровавый бифштекс, приготовленный на английский манер. Харальд съел бифштекс с отменным аппетитом. Злобное раздражение, не оставлявшее его эти дни, улеглось, а сигара после ужина показалась особенно ароматной. Да и сама Мери, порядком надоевшая ему до отъезда, снова казалась соблазнительной. Марлена заметила, как заблестели глаза Харальда. “Ну, теперь он будет мягким как воск”, — подумала она и, скользнув к нему на колени, слегка почесала фиолетовыми ногтями его затылок. — Дарлинг, почему ты ничего не скажешь о моем новом платье? Разве оно тебе не нравится? Ты же сам подарил мне этот материал — тот, что твой брат прислал из Чехословакии. Внезапно в глазах Рауп-Дименса все потемнело. Чехи! Эти проклятые выродки! — Сейчас же выбрось эту тряпку! — прохрипел он, задыхаясь от ярости. — Но, мой милый, что с тобой? — Я тебе покажу, что со мной! — заорал Рауп-Дименс и одним рывком разорвал платье от ворота до подола. В первый момент Марлена остолбенела, но потом, видя, что Харальд успокоился, она принялась в истерике рвать на себе волосы. — Самое красивое платье! Ты сошел с ума! Я позову полицию. Не трогай меня, я буду кричать! — Ну успокойся, успокойся, Мери, — просил Рауп-Дименс, придя в себя. — Прости меня, но, когда ты упомянула об этой материи, я вспомнил своего брата. Его убили чехи среди бела дня, когда он ехал на свою фабрику. — Мне очень жаль твоего брата, — всхлипывая, проговорила Марлена, — но все же где я теперь достану такое красивое платье? — Я подарю тебе два новых взамен, только ради бога перестань плакать. Ты знаешь — я не выношу слез. Но Марлена не успокаивалась. С этого дня ей частенько приходилось запудривать следы слез, потому что настроение Харальда все ухудшалось.32
Скайдрите вышла в тамбур и стала у незатемненного окна. Серебристый снег, устилавший землю, придавал вечернему пейзажу мертвенный, холодный отсвет. За окном мелькали призрачно бледные деревья. Ветер подхватывал желто-красные искры из трубы паровоза. Они образовывали целые созвездия и мчались вслед за вагоном. Паровоз свистел, мосты гудели, сбивчиво, неритмично постукивали колеса, а в природе царило безмятежное спокойствие, такая благородная нетронутая красота — не хотелось и думать о том, что поезд идет по оккупированной фашистами земле. Но Скайдрите не могла об этом забыть ни на одно мгновение. Она вспомнила свою поездку в Ригу летом 1941 года, когда на шоссе обрушились “штукасы”.[25] Тогда в паническом страхе она пряталась в канаве; в ту пору она была лишь беспомощной жертвой фашистов. Прошло два с половиной года, и все изменилось. Не жертвой, а борцом она возвращается в родную Ригу. Ей, вероятно, нельзя будет оставаться в городе, но ведь и в других местах существовали нелегальные организации, и работа для нее найдется везде… Так же как и в тот раз, когда ей пришлось расстаться с домом, Скайдрите ощущала острую боль. Было жаль покинуть родной город, но долгими ночами, когда девушка неподвижно лежала на больничной койке и ноющие ожоги не давали ей заснуть, она так часто рисовала себе будущее, что наконец привыкла и к мысли о предстоящем отъезде из Риги. Так же часто Скайдрите слово за словом воскрешала в памяти свой разговор с шуцманами, свою выдумку о двадцати спрятанных экземплярах “Тевии”. Если они заметили, что она нарочно опрокинула лампу, ее, конечно, разыскивают. Поэтому она не писала матери, поэтому не пыталась узнать у врача, кто ее сюда привез. Случайные свидетели пожара? Но почему же в далекую Елгаву? Нет, это, должно быть, сделали товарищи. Но кто?.. Ответы на все эти вопросы можно было получить только в Риге. Ответы на вопросы и новое задание… Сойдя с поезда, Скайдрите уже собралась пойти к остановке милгравского автобуса, но тут же вспомнила, что на прежнюю квартиру являться нельзя: там ее, пожалуй, будут искать прежде всего. Мгновение девушка пребывала в нерешительности, затем тряхнула головой и направилась в Старый город, к матери. Дойдя до улицы Грециниеку, она увидела шуцмана и невольно спряталась в подворотне. Затем, усмехнувшись своей наивности, пошла дальше. Вот и родной дом! Но сразу же войти в квартиру девушка не посмела. Минут пять она ходила по тротуару на противоположной стороне улицы, поглядывая на темные окна. Мать наверняка озабочена, хотя и ничего не знает о грозящей дочери опасности. А если знает? А что, если уже целую неделю в их квартире, угрюмо поглядывая на дверь, сидит агент гестапо и ожидает ее, Скайдрите, возвращения?.. Являться домой, пожалуй, не следует… Но можно зайти к соседям. Они должны знать, разыскивают ее или нет. Ядвига всегда была ей такой хорошей подругой… На цыпочках Скайдрите пробралась к двери соседей и тихонько позвонила. Дверь открыл Даугавиет. Увидев девушку, он за руку потянул ее к свету, повернул во все стороны и, радостно улыбаясь, сказал: — Видно, что ты прошла сквозь огонь и воду. Особенного вреда это тебе не причинило… Жаль лишь, что пришлось подстричь волосы. — Что поделаешь, несчастный случай… — пробормотала Скайдрите. — А мне вот почему-то кажется, ты нарочно подожгла киоск! Скайдрите ухватилась за спинку стула. Провокация!.. Ловушка!.. Только приехала — и уже попалась… Она изо всех сил старалась сохранить спокойствие и даже заставила себя улыбнуться. — Зачем мне это делать? Я еще не спятила с ума! — Чтобы уничтожить листовки… — Вам, наверное, мерещится, — ответила девушка с упорством отчаяния. Даугавиету нравилось это упорство Скайдрите. Как долго она будет держаться? — Почему бы и нет?.. Двадцать экземпляров “Тевии”, и в каждом по пяти листовок… Если бы Янис предвидел, как подействуют на Скайдрите эти слова, он не стал бы так донимать девушку. Вместо ответа она рванулась к двери, но Янис, смеясь, загородил ей дорогу: — Ну, успокойся, успокойся!.. Тебе ничего не грозит. Вчера пришло сообщение: тебя уволили с работы за несоблюдение противопожарных правил. Значит, опасность миновала. — Я ничего не знаю… Я ничего не знаю… — непрерывно повторяла девушка. Пришлось позвать Надежду. Только ей удалось рассеять сомнения Скайдрите. — Это для тебя сюрприз, правда? — улыбнулся Янис. — А теперь садись, мне нужно многое тебе разъяснить… Еще не пришедшая в себя от растерянности и изумления, Скайдрите слушала Яниса затаив дыхание. Но мозг сверлила неотступная мысль: как могло случиться, что она, живя рядом столько времени, не знала по-настоящему всех этих людей, что она могла считать Калныня обыкновенным студентом, Буртниека — книжным червем, дядю — скаредным домовладельцем, который тайком проигрывает деньги в карты… А мать, тихая милая мать, которой пришлось выслушивать от дочери немало горьких упреков за то, что не хотела эвакуироваться?.. Думая об этом, Скайдрите краснела от стыда. — Так… А теперь я скажу главное. Я решил тебе поручить дело, которое мало кому можно доверить. Видишь ли, подпольная типография находится здесь. Товарищ, который там работает, не в силах управиться со всеми листовками. Наде нужно всегда быть наверху, чтобы в случае опасности подать сигнал тревоги, а я на целый месяц уезжаю в Лиепаю. Теперь ты вместо меня будешь помогать в типографии, ты живешь в этом же доме и можешь бывать у нас, не вызывая подозрений. Иди за мной, я тебе покажу, где находится наша “квартира без номера”… В первый момент Скайдрите не узнала человека, согнувшегося над наборной кассой. Но когда она подошла ближе, какая-то могучая сила отогнала всю кровь к сердцу и лицо ее застыло и побелело. Скайдрите стояла в оцепенении, она даже не могла улыбнуться, огромное счастье сковывало все ее существо. Когда Эрик наконец несмело протянул к ней руки, она, смеясь и плача, бросилась к нему. Они даже не слышали, как ушел Янис. Весь огромный мир был для них заключен в этом узком полутемном подземелье, которое озарилось вдруг несказанно ярким светом… Но там наверху, над городом, все еще нависала фашистская ночь и оберштурмфюрер Рауп-Дименс, точно крот, прорывал ходы к их подземному убежищу.33
Необычайно жарким выдалось это сентябрьское воскресенье. В другие времена в Тиргартене было бы полно народу, теперь же берлинцы отсиживались в сырых бомбоубежищах, которые, конечно, избавляли от жары, но не всегда спасали от бомб. Берлинское гестапо перенесло всю работу в подземные этажи. Там термометр показывал четырнадцать-пятнадцать градусов, однако следователь Мартин Рейнгольд потел, как в бане. Опять пропадает воскресенье, и всему виной проклятые коммунисты! Чем ближе к границе Германии фронт, тем напряженнее атмосфера в Берлине. В последнее время фюреру всюду мерещатся заговоры и покушения. Ежедневно по малейшему подозрению хватают сотни людей. Работы столько, что просто некогда вздохнуть!.. Среди ста невинных обычно попадался по крайней мере один, из которого можно было кое-что выжать. Вот, например, и этого Вейса арестовали совершенно случайно: во время массовых обысков у него на квартире обнаружили десять килограммов тола. “Непонятно, откуда еще такие берутся? — с досадой думал следователь. — Уже одиннадцать лет мы огнем и мечом искореняем большевизм, но у него, точно у многоголовой гидры, вместо отрезанной головы вырастают все новые… Куда проще и приятнее поставить всех подозрительных к стенке и разом расстрелять. Так нет же, мучайся тут целыми днями, чтобы узнать имена и адреса соучастников!” Вот уже четырнадцать часов Рейнгольд, поочередно со своим коллегой, допрашивает Вейса. Какие только методы они не применяли! Но старый металлист пока молчит. Рейнгольд взглянул на часы. Если за четыре часа удастся вырвать у него признание, то можно еще съездить на Ванзее поудить рыбку. А на Вейсе надо испробовать новый термоэлектрический метод. Вот только выдержит ли у него сердце? Наплевать, будь что будет… И, приняв это решение, Рейнгольд вернулся в камеру для допросов. Арестованный лежал без сознания. По выражению лица коллеги Рейнгольд понял, что тот еще ничего не добился. Он перешел в герметически закрывающееся соседнее помещение и привел в действие сложный аппарат. Электрический ток тысячами игл впился в обнаженное тело и заставил Вейса очнуться. От нестерпимой боли арестованный корчился на металлической скамье, к которой был привязан широкими ремнями. Вдруг ледяной холод сдавил ему горло. Рейнгольд переключил рычаг. В течение пяти минут следователь держал стрелку прибора на тридцати градусах ниже нуля, затем снова перевел рычаг, и камера наполнилась тропическим зноем. Только что Вейс словно погружался в ледяную воду, а теперь невыносимо горячий сухой воздух жег кожу. Ледяная вода — раскаленное железо… Лед — огонь, огонь — лед и снова огонь… Когда Рейнгольд через полчаса выключил аппарат и вошел в камеру, арестованный уже не дышал, но сердце его еще билось. Следователь отстегнул ремни и вспрыснул Вейсу сильно возбуждающее средство. Дыхание возобновилось, и спустя мгновение Вейс поднял красные, обожженные веки. — Ну, Вейс, как вам нравится наш новый метод? — спросил Рейнгольд спокойным, деловым тоном. — Не придется ли повторить? Предупреждаю, до сих пор я ограничивался тридцатью градусами ниже нуля и сорока градусами жары!.. Впредь буду набавлять по десять градусов… Я думаю, разумнее все же рассказать, кто вам дал взрывчатку. Больше от вас ничего не требуется. Вы сегодня же сможете вернуться домой. — И для того чтобы арестованный поверил его словам, Рейнгольд добавил: — Конечно, вы должны будете дать расписку, что никому не расскажете о том, что здесь видели. “Что, если это правда? — размышлял Вейс, как только пришел в себя настолько, что смог связно думать. — Может быть, меня и вправду отпустят домой? Они же знают, что я никогда не занимался политикой… Если я скажу им, что тол дал мне на хранение брат, им незачем будет меня держать здесь… Но предать Герхардта, который верит мне, как самому себе? Нет, никогда! Однако я больше не выдержу… Если мне еще раз придется испытать эти адские муки, я не выдержу… я проговорюсь против своей воли… И тогда уже поздно будет спасать брата… Я не выдержу… Что же делать?.. Что сказать?.. Надо сказать… надо назвать кого-нибудь другого… Человека, которому эти убийцы ничего не смогут сделать… Но кто от них может спастись?.. Разве что мертвецы… Сказать, что Вильгельм?.. Нет, они замучили Вильгельма еще пять лет назад… Они не поверят, что я хранил тол все это время…” Вейс думал так долго, как стал бы думать человек, знающий, что от нескольких слов зависит его жизнь. И вдруг он вспомнил бывшего товарища по работе, Рудольфа Бауэра. Недавно он прочел его имя в списках погибших на Восточном фронте… До него-то гитлеровцы не доберутся. — Ну, Вейс, что вы решили? Ах, вы молчите! Тогда приступим… Опять совершим путешествие на Северный полюс и в пустыню Сахару? — И Рейнгольд стал уже пристегивать ремни. — Подождите, ради бога, подождите! Я все скажу… Тол мне дал на хранение ефрейтор Рудольф Бауэр, когда он последний раз приезжал в отпуск… Он живет на Гогенцоллерндам, 49… Я не знал, что находится в этом ящике… В тот же вечер Вейса отправили из гестапо, но только не домой, а в камеру смертников тюрьмы Моабит. В ушах его все еще звучал злорадный, издевательский смех следователя, когда Вейс напомнил ему об обещанном освобождении. Теперь все кончено. Хорошо еще, что брат спасен. Вместо него теперь ищут Бауэра. Долго им придется искать… Рудольф Бауэр погиб на Восточном фронте. Тщетно Вейс пытался уснуть. Все тело его было точно освежевано. Чтобы хоть на миг забыть о невыносимой боли, арестованный стал разглядывать надписи на стенах. Вдруг его передернуло так, словно по нему опять пустили электрический ток. Прямо перед ним были начертаны слова; “Сегодня меня приговорили к смертной казни. Будь проклят тот, кто меня предал”. И под этим неровные буквы подписи: “Бауэр”. Та же фамилия, что у Рудольфа! Но ведь Бауэров в Германии что деревьев в лесу… Глупец! Как он смел об этом забыть! Может быть, в списке убитых значился совсем не тот Рудольф Бауэр, его довоенный товарищ по работе, а какой-то чужой человек… однофамилец… Значит, он, Вейс, — предатель, низкий, подлый предатель… Утром следователю Рейнгольду сообщили, что арестованный ночью повесился. На следователя это событие не произвело никакого впечатления. Теперь перед ним был новый объект — ефрейтор Рудольф Бауэр, ранее проживавший в Берлине, по Гогенцоллерндам, 49, ныне военный шофер в рижской комендатуре. Следователь привел в действие все имеющиеся в распоряжении гестапо средства, чтобы разузнать о прошлом этого человека, и через несколько дней перед ним лежала пухлая пачка донесений, из которых следовало, что Бауэр когда-то принимал участие в коммунистическом движении.34
“Бои на берегах Даугавы продолжаются с неослабевающим напряжением, большевики бросают в бой все новые материальные и людские резервы. Нанося врагу уничтожающий урон, наши войска после удачного тактического маневра оторвались от противника и заняли заранее подготовленные позиции. Во Франции наши войска перешли в контрнаступление и выбили неприятеля из семидесяти трех населенных пунктов… 26-я американская мотодивизия полностью уничтожена…” В порыве внезапной ярости Рауп-Дименс скомкал газету и, громко выругавшись, бросил ее в корзину для мусора. “Удачный тактический маневр”! — со злобой мысленно передразнил он. — “Заранее подготовленные позиции”! Неужели эти писаки неспособны выдумать ничего нового? Да еще в придачу, будто в насмешку, упомянули семьдесят три населенных пункта во Франции… Куда умнее было бы бросить все силы против большевиков и заключить мир на Западе! Сегодня шестнадцатое сентября. Сколько еще удастся продержаться в Риге?.. Кто знает, встретим ли мы здесь Новый год… Но оставшееся время надо использовать полностью — нужно действовать, действовать!..” Зазвонил телефон. Несколько раз произнеся “так точно”, Рауп-Дименс повесил трубку. “Что это Банге вдруг понадобилось?” — подумал он, застегивая френч с новыми нашивками штурмбанфюрера. Банге показал ему длинную телеграмму из Берлина. — Возьмите это дело в свои руки, Рауп-Дименс… Как вы думаете, может быть, для большей верности арестовать всех военнослужащих Рудольфов Бауэров, находящихся в Риге? Штурмбанфюрер внимательно перечитал директиву гестаповского центра. — По-моему, это излишне. Здесь ясно сказано, что данные тщательно проверены… Местожительство — Берлин, Гогенцоллерндам, 49… До мобилизации работал на заводе Борзига… Далее… прохождение службы — сначала в штабе 125-го егерского полка, затем откомандирован в распоряжение генерала Хартмута… — В голове Рауп-Дименса неожиданно блеснула догадка. — Вы помните трагическую гибель генерала Хартмута?.. Бауэр был его шофером, и он единственный, кто вернулся из этой поездки. Не удивлюсь, если окажется, что его побег от партизан был просто инсценировкой. Если Бауэр действительно долгое время связан с подпольем, мы можем через него напасть на важный след. Я предлагаю пока ограничиться слежкой. — Отлично, Рауп-Дименс, действуйте по своему усмотрению! Штурмбанфюрер вышел из кабинета довольный собой. Если его подозрения подтвердятся, может получиться громкий процесс. Наконец-то представился случай показать свое превосходство над этим сыном сапожника Вегезаком, которого после ликвидации подпольной группы Судмалиса считали в гестапо наиболее способным следователем! В этот вечер к штурмбанфюреру после долгой хандры снова вернулось хорошее настроение. Зато Марлена после концертной поездки на фронт была капризнее обычного. Она немедленно принялась докучать Харальду своими жалобами. — Что мне делать? Завтра я не смогу спеть ни одной ноты. Даже разговаривать мне трудно. В этой кошмарной поездке я совсем потеряла голос! — Как это ты умудрилась? По-моему, терять тебе было нечего, — поддразнивал ее Харальд, которого раздражало это вечное нытье. — Хорошо тебе смеяться надо мной, а мне каково? Да к тому же в машине так трясло, что чуть все пломбы не вылетели. Спасибо еще, что фронт недалеко, не пришлось долго мучиться. Харальд вскочил на ноги. — Ах ты, шваль латышская, ты тоже радуешься, что большевики близко?! — заорал он на весь дом. — Ну, так знай, тебя-то они повесят, об этом уж я позабочусь. Марлена затряслась от страха. — Ах, Харальд, милый, зачем ты говоришь такие ужасные вещи! Ты же меня не оставишь, ты возьмешь меня с собой в Германию?.. — Это мы еще увидим. Раздался звонок. В дверях появился Ранке. Марлена поспешно запахнула полы халата. Шарфюрер щелкнул каблуками. — Извините за беспокойство, господин штурмбанфюрер, — выпалил Ранке, косясь одним глазом на длинные ноги Марлены в тонких шелковых чулках. — Вы сами приказали уведомить, если при обыске что-нибудь обнаружат. — Хорошо, Ранке, иду. В своем кабинете штурмбанфюрер долго и внимательно рассматривал через лупу кусок коричневой оберточной бумаги, найденной шарфюрером Ранке в машине Бауэра при тайном обыске гаража. — Оказывается, Ранке не такой уж болван, — тихо процедил он сквозь зубы, — другой бы не догадался прихватить это. Перед ним лежал кусок простой оберточной бумаги, которую обычно употребляют для упаковки. Но Рауп-Дименсу эта бумага говорила очень многое. Кое-где на ней отпечатались буквы. Такие следы может оставить свежая газета. Однако на этот раз следы типографской краски остались не от газеты. Судя по сгибам, еще видневшимся на бумаге, в нее было завернуто какое-то печатное издание значительно меньшего формата. Штурмбанфюрер не сомневался в том, что Бауэр завертывал в эту бумагу листовки. А вот и последнее доказательство — в самом низу можно ясно различить буквы “Ц… ра… Ко…” Центральный Комитет! Ничего другого это не могло означать.
Мысль штурмбанфюрера напряженно работала. Он распутывал сплетенные нити и снова свивал их. Конечно, это Бауэр заманил генерала в заранее расставленную ловушку и выдал его партизанам. Затем, используя легкомысленную доверчивость начальства, шофер продолжал свою преступную деятельность. Подумать только, какой козырь в руках коммунистов! Шофер немецкой комендатуры развозит большевистские прокламации! Но теперь можно побить этот козырь. Погоди, голубчик, ты еще попрыгаешь в петле, но сперва ты мне поможешь раскрыть все их карты…
Рауп-Дименс достал из сейфа одну из листовок, которые собирал уже в течение трех лет, и сравнил шрифт с отпечатавшимися на оберточной бумаге буквами. Итак, шрифт и формат совпадают… Значит, выходит, что листовки Бауэра напечатаны в той же подпольной типографии, которую, по данным агентуры, возглавлял Жанис. Тем лучше!
Только не следует спешить. Необходимо взвесить каждую мелочь. Расставить сети с таким расчетом, чтобы в них попали не только Бауэр, но и Жанис и все работники типографии.
Прежде всего Рауп-Дименс приказал вызвать тайного агента номер шестнадцать.
Хлопнув ладонью по обложке папки, на которой было написано “Жанис”, штурмбанфюрер самодовольно воскликнул:
— Ну, Кисис, наконец-то у нас появилась возможность довести до конца это проклятое дело! Выжмите из себя все, что можете, а я уж позабочусь о том, чтобы наша бухгалтерия по достоинству оценила голову Жаниса.
Кисиса новое задание в восторг не привело. Чем ближе подходила Красная Армия, тем менее пылким становилось его рвение. По ночам ему мерещились кошмары, он кричал и стонал, но вознаграждение его, несомненно, прельщало. И Кисис согласился, твердо решив про себя, что это будет последнее рискованное дело, в котором он участвует. А затем он возьмет все, что загреб за три года, и отправится куда глаза глядят — в Германию, в Швецию, в любое место, только подальше отсюда!
Отпустив Кисиса, Рауп-Дименс вызвал Ранке.
— С этой минуты слежку за Бауэром надо усилить. Чтоб он и шагу не мог ступить без нашего ведома. Пусть шарфюрер Гессен возьмет в помощь трех… по мне, хоть пятерых человек. Фотографию Бауэра размножить и раздать всем нашим агентам… Да, еще одна вещь. Какая у Бауэра машина?
— “Хорьх”, восемь цилиндров, максимальная скорость сто тридцать километров в час, — отрапортовал Ранке.
— Я поговорю с Банге. Пусть предоставит в наше распоряжение две машины “мерседес-компрессор”. На таких вы легко сможете за ним следовать. Кроме того, слежка поручена тайному агенту номер шестнадцать. Бауэр, возможно, натолкнет нас на Жаниса, а этот агент — единственный, кто его хоть сколько-нибудь знает.
Через двенадцать часов фотография Рудольфа Бауэра и подробное описание всех его примет были получены официальными и тайными агентами гестапо. С этой минуты немецкий антифашист не мог сделать ни одного шага, о котором бы тотчас не узнал Рауп-Дименс.
Перед ним лежал кусок простой оберточной бумаги, которую обычно употребляют для упаковки. Но Рауп-Дименсу эта бумага говорила очень многое. Кое-где на ней отпечатались буквы. Такие следы может оставить свежая газета. Однако на этот раз следы типографской краски остались не от газеты. Судя по сгибам, еще видневшимся на бумаге, в нее было завернуто какое-то печатное издание значительно меньшего формата. Штурмбанфюрер не сомневался в том, что Бауэр завертывал в эту бумагу листовки. А вот и последнее доказательство — в самом низу можно ясно различить буквы “Ц… ра… Ко…” Центральный Комитет! Ничего другого это не могло означать.
Мысль штурмбанфюрера напряженно работала. Он распутывал сплетенные нити и снова свивал их. Конечно, это Бауэр заманил генерала в заранее расставленную ловушку и выдал его партизанам. Затем, используя легкомысленную доверчивость начальства, шофер продолжал свою преступную деятельность. Подумать только, какой козырь в руках коммунистов! Шофер немецкой комендатуры развозит большевистские прокламации! Но теперь можно побить этот козырь. Погоди, голубчик, ты еще попрыгаешь в петле, но сперва ты мне поможешь раскрыть все их карты…
Рауп-Дименс достал из сейфа одну из листовок, которые собирал уже в течение трех лет, и сравнил шрифт с отпечатавшимися на оберточной бумаге буквами. Итак, шрифт и формат совпадают… Значит, выходит, что листовки Бауэра напечатаны в той же подпольной типографии, которую, по данным агентуры, возглавлял Жанис. Тем лучше!
Только не следует спешить. Необходимо взвесить каждую мелочь. Расставить сети с таким расчетом, чтобы в них попали не только Бауэр, но и Жанис и все работники типографии.
Прежде всего Рауп-Дименс приказал вызвать тайного агента номер шестнадцать.
Хлопнув ладонью по обложке папки, на которой было написано “Жанис”, штурмбанфюрер самодовольно воскликнул:
— Ну, Кисис, наконец-то у нас появилась возможность довести до конца это проклятое дело! Выжмите из себя все, что можете, а я уж позабочусь о том, чтобы наша бухгалтерия по достоинству оценила голову Жаниса.
Кисиса новое задание в восторг не привело. Чем ближе подходила Красная Армия, тем менее пылким становилось его рвение. По ночам ему мерещились кошмары, он кричал и стонал, но вознаграждение его, несомненно, прельщало. И Кисис согласился, твердо решив про себя, что это будет последнее рискованное дело, в котором он участвует. А затем он возьмет все, что загреб за три года, и отправится куда глаза глядят — в Германию, в Швецию, в любое место, только подальше отсюда!
Отпустив Кисиса, Рауп-Дименс вызвал Ранке.
— С этой минуты слежку за Бауэром надо усилить. Чтоб он и шагу не мог ступить без нашего ведома. Пусть шарфюрер Гессен возьмет в помощь трех… по мне, хоть пятерых человек. Фотографию Бауэра размножить и раздать всем нашим агентам… Да, еще одна вещь. Какая у Бауэра машина?
— “Хорьх”, восемь цилиндров, максимальная скорость сто тридцать километров в час, — отрапортовал Ранке.
— Я поговорю с Банге. Пусть предоставит в наше распоряжение две машины “мерседес-компрессор”. На таких вы легко сможете за ним следовать. Кроме того, слежка поручена тайному агенту номер шестнадцать. Бауэр, возможно, натолкнет нас на Жаниса, а этот агент — единственный, кто его хоть сколько-нибудь знает.
Через двенадцать часов фотография Рудольфа Бауэра и подробное описание всех его примет были получены официальными и тайными агентами гестапо. С этой минуты немецкий антифашист не мог сделать ни одного шага, о котором бы тотчас не узнал Рауп-Дименс.
35
Рудольф Бауэр ехал к Буртниеку за листовками. Ему не нужно было скрывать частые посещения книжного агентства, потому что его новый начальник, заместитель рижского коменданта, под влиянием шофера заинтересовался редкими изданиями с сугубо натуралистическими иллюстрациями. Все эти месяцы нелегальная работа шла гладко. Рудольф занимался ею с увлечением; ей он самозабвенно отдавал всю накопившуюся за годы бездеятельности энергию. Теперь он больше не чувствовал себя лишним, подпольная борьба с фашизмом дала ему цель в жизни, чувство собственного достоинства, веру в свое светлое будущее и будущее своего народа. Теплое рукопожатие латышских товарищей как бы говорило простым, ясным языком: мы боремся с фашистами, а каждый честный немец — наш друг. Поднятая рука шуцмана остановила машину. Шофер терпеливо ждал, пока не иссякнет поток прохожих. Неподалеку остановился синий лимузин “мерседес-компрессор”. Не без зависти Бауэр оглядел мощную машину — вот на такой можно ездить! Интересно, чья она?.. Наверно, какого-нибудь начальства. Шуцман снова взмахнул палочкой. Можно ехать. Приближаясь к дому, где находилось книжное агентство, Бауэр убавил скорость. В одном из окон квартиры Висвальда спущена штора — значит, сегодня листовок не будет. В это мгновение мимо проехал синий “мерседес”. В третий раз Бауэр заметил синюю машину через час, когда приближался к гаражу. Трудно предположить, что это простая случайность. Чтобы проверить свои подозрения, Бауэр поехал дальше. В городской толчее он не замечал, чтобы за ним следили, но стоило ему выехать на взморское шоссе, как в зеркале сразу же отразилась синяя машина, вынырнувшая из-за поворота. Бауэр свистнул. Значит, влип — за ним явно следят. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Что им надо? Острое чувство опасности овладело всем его существом, и совершенно инстинктивно Рудольф довел скорость до ста двадцати километров в час, хотя отлично знал, что от мощного “мерседеса” ему не уйти. С особой прозорливостью, часто появляющейся в такие минуты, он вдруг вспомнил про оберточную бумагу, оставленную им несколько дней назад на ночь в машине. Наутро бумага исчезла. Тогда Бауэр не придал этому значения, теперь же он понял, что кто-то ночью обыскал его машину и прихватил с собой бумагу. Гестапо! Это слово внушало каждому немцу панический страх! Но Бауэр уже не одинокий путник, сгибающийся под непосильным бременем слепой ненависти… Теперь он борец, он чувствует за собой силу более могущественную, чем гестапо. Смерти он не боится. Гестаповцы могут растерзать его самого, но они не в силах убить идею, за которую он борется, ибо эта идея бессмертна. И она ко многому обязывает. Необходимо подумать о товарищах. Надо немедленно предупредить Буртниека. Увидев перед собой определенную цель, Бауэр обрел прежнее хладнокровие. Возвращаться в город сейчас нельзя: гестаповцы поймут, что поездка по шоссе — всего лишь уловка, чтобы проверить, следят ли за ним. Нет, надо действовать обдуманно, иначе его план провалится. И Бауэр спокойно доехал до булдурского пляжа. Вода была очень холодная, но он все же выкупался, выпил бутылку пива и только после этого отправился в обратный путь. Хотя до самой Риги синий лимузин больше не показывался, Бауэр был уверен, что он все время следовал за ним окольным путем. Подъехав к зданию комендатуры, Бауэр не спеша вылез из кабины, тряпкой вытер с машины дорожную пыль и вошел в дом. Он рассчитывал, что гестаповцы подумают, будто его задержали у начальника, и будут спокойно ждать на улице. Это даст ему возможность выиграть время и отделаться от преследователей. Через проходной двор Бауэр попал на Экспортную улицу. Он пересек парк Виестура, убедился в том, что никто за ним не следит, и возле ликерного завода Вольфшмита сел в трамвай. …Буртниек был занят беседой со своим постоянным посетителем Макулевичем. — Здравствуйте, господин Бауэр, — приветствовал шофера хозяин книжного агентства. — Чем могу служить? Бауэр незаметно подмигнул ему, и Висвальд тотчас сказал: — A-a, вы, должно быть, за книгами для полковника? Они в соседней комнате. Пройдите, пожалуйста. Господин Макулевич нас, конечно, извинит. Поэт склонился чуть не до земли: — Прошу вас, прошу вас. Не обращайте на меня ни малейшего внимания… — Ну, что случилось? — спросил Буртниек, тщательно затворив дверь. — За мной следят. Пришел тебя предупредить. И Бауэр вкратце рассказал все, что с ним произошло. — Да, положение очень серьезное, — сказал Висвальд. — Пока неясно, как они все это пронюхали. Заподозрили, что ты связан с партизанами? — Не верится, чтобы они вдруг опомнились через девять месяцев… — Что же тогда остается? За нашим домом не следят, в этом я уверен. Тут беда где-то в другом месте. Сколько машин стоит в твоем гараже? — Около дюжины. — Ну, вот видишь. Может быть, гестаповцы подозревали кого-нибудь другого. А когда стали обыскивать гараж, случайно в твоей машине обнаружили эту злополучную бумагу. — Это же простая оберточная бумага. — На ней могли остаться оттиски текста. В прошлый раз, когда ты брал листовки, краска была совсем свежая… Одним словом, тебе надо скрыться, пока не поздно. Но куда тебя девать? — Переправить к партизанам. — Это само собой понятно. Но на поезд без увольнительной записки ты все равно не попадешь. — А пешком?.. Я бы мог переодеться в штатское… Нет, в провинции тоже на каждом шагу военная жандармерия. — Знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Этому Макулевичу принадлежит фамильный склеп, он мне его однажды показывал. Я сразу подумал, что склеп можно будет в случае необходимости использовать. Кто в царстве мертвых вздумает искать живых людей? Достать второй ключ тоже оказалось нетрудно. Там у меня сейчас спрятаны боеприпасы для курземских партизан. Через несколько дней кто-нибудь из них придет и заодно захватит и тебя. Тем временем мы достанем фальшивые документы. Вот с продовольствием будет трудно… Больше, к сожалению, ничего не могу тебе дать с собой. — И Буртниек засунул в портфель все, что было у него съестного. — Постой, я нарисую тебе план кладбища. Смотри: здесь вот, по этой дорожке, до конца… Здесь усыпальница. Уже темнеет, тебе надо сейчас же отправиться в путь. Видя, что Бауэр прощается, Макулевич поднял с пола свою трость и потрепанную шляпу. — Разрешите и мне откланяться, любезный господин Буртниек. Я знаю, что все великие люди обычно очень заняты… Я забежал лишь на минуту, осведомиться, не удалось ли вам отыскать стихи Мориса Керковиуса… Таким образом случилось, что Бауэр вышел из дома в сопровождении Макулевича и отделался от автора венка сонетов только возле здания гебитскомиссариата.36
Услышав пронзительный звонок, Ранке помчался в кабинет штурмбанфюрера. На него излился поток отборных ругательств. Рудольф Бауэр исчез. Эти ослы, эти дегенераты упустили из рук человека, с которым он, Рауп-Дименс, уверенный в своей силе, намеревался играть, как кошка с мышью! Даже трепет насмерть перепуганного шарфюрера не доставлял ему теперь удовольствия. Когда Ранке пулей вылетел из кабинета, штурмбанфюрер вынул дрожащими пальцами сигарету, уже пятую или шестую за этот час. Взять себя в руки! Так больше нельзя — он сам чувствует, что с нервами неладно. Куда девался хладнокровный психолог, следователь, чье ироническое спокойствие и выдержка поражали всех работников гестапо? Теперь он превратился в желчного неврастеника, который даже с Мери не может управиться. Но штурмбанфюрер не думал сложить оружие. После шестой сигареты Рауп-Дименс настолько успокоился, что мог уже просматривать донесения. Шарфюрер Гессен сообщал: “…Следовали за Бауэром до комендатуры. Когда он через два часа не вернулся от полковника, я зашел в комендатуру и установил, что Бауэр там вовсе не был…” Донесение обершарфюрера Клюгенхейма: “…В девять часов тридцать пять минут Бауэр вышел из квартиры и направился в гараж. Дальнейшее наблюдение за ним продолжал шарфюрер Гессен. Я оставался на посту перед домом до восьми утра. Бауэр за это время в свою квартиру не возвращался…” Агент номер шестнадцать (Кисис): “В 21.18 заметил человека, которого опознал по фотографии и описанию. Это был Рудольф Бауэр. Рядом с ним шел какой-то субъект, привлекавший внимание своей нищенской одеждой. Он мне сразу показался подозрительным. Оба оживленно беседовали, но расслышать, о чем шла речь, не удалось. У здания гебитскомиссариата Бауэр попрощался и исчез в освещенном вестибюле. Зная, что для слежки за Бауэром выделены специальные агенты, я отправился следом за подозрительным и выследил его до дома, где он проживает (улица Рихарда Вагнера, 6, кв. 19). От дворника я узнал, что это некий Антон или Антуан Макулевич, по национальности латыш, без определенных занятий. От соседей мне удалось добыть дополнительные сведения. Все считают Макулевича подозрительным типом. Днем он почти никогда не появляется на улице, а выходит только с наступлением темноты. Никто не знает, на какие средства он живет. По словам жены дворника, которая раз в месяц убирает его комнату, на письменном столе Макулевича лежат листы бумаги, исписанные симметричными строчками. Текст непонятен, по всем признакам — шифрованный”. Рауп-Дименс медленно опустил на стол прочитанный лист бумаги. В его глазах снова появилось выражение, какое бывает у гончей, учуявшей след дичи. Кисиса непременно следует наградить! Его донесение лишний раз доказало, что гестапо способно найти даже иголку в стоге сена, не то что человека… При помощи Макулевича он снова разыщет Бауэра. Штурмбанфюрер вызвал Ранке, приказал ему немедленно арестовать Макулевича и произвести обыск в его квартире. Через час на столе штурмбанфюрера лежала целая кипа исписанных каллиграфическим почерком страниц. Читать их он не стал. Прежде всего надо узнать, где скрывается Бауэр. Ранке на этот раз спешил и не успел еще обработать арестованного по своему излюбленному методу. Только несколько синяков на физиономии Макулевича свидетельствовали о том, что арестованный познакомился с процедурой приема в гестапо. Эта физиономия была весьма своеобразна: пятнистая кожа обтягивала широкие, монгольского типа скулы; глубокие глазные впадины производили отталкивающее Впечатление; и вместе с тем огромный лоб и тонкие губы придавали этому лицу особую утонченность. Смятение, безграничное удивление, полнейшее непонимание, чего от него, собственно, хотят, выражалось не только во взгляде Макулевича, не только в каждой черте его лица, но и в суетливых, робких движениях. Сначала он положил свой котелок и перчатки на пол, но тут же снова их поднял. Прежде чем Рауп-Дименс успел задать первый вопрос, в кабинете прозвучал срывающийся, как у подростка, фальцет арестованного: — Простите, сударь, что беспокою вас, но меня сюда привели… Я сам никогда бы не отважился явиться сюда без уведомления, ибо я знаю, что у всех выдающихся деятелей мало времени. В первый момент штурмбанфюрер даже опешил. Эти фразы казались заимствованными из книги о хорошем тоне. Перед ним, должно быть, продувная бестия! Ну ничего, покамест поддадимся игре, а потом поразим его неожиданным вопросом. И, в свою очередь, преувеличенно любезным тоном Рауп-Дименс ответил: — Как раз наоборот, это мне следует просить прощения, что обеспокоил вас, вызвав сюда. Но я уже давно собирался справиться о вашем здоровье. Арестованный, как видно, не почувствовал в этих словах насмешки, так как с весьма серьезным видом отвесил изысканный поклон. — Покорнейше благодарю за любезность. Я бы не хотел жаловаться — ведь жаловаться в наше время запрещается. Но по ночам меня мучит бессонница… И потом, моя работа, которую во что бы то ни стало нужно довести до конца… Врач признал, что у меня neurosis generalis.[26] Вы же сами понимаете… — Да, да, мне известны ваши труды. — И, сунув Макулевичу под нос листовку, Рауп-Дименс вдруг загремел: — Это плод вашего вдохновения?! Макулевич, на которого приемы штурмбанфюрера не произвели ни малейшего впечатления, принялся спокойно разглядывать листовку. — К величайшему прискорбию, — напыщенно произнес он, — вынужден признать, что это не мое произведение. Я принципиально пишу только по-французски. Латышский язык, равно как и немецкий, представляется мне чересчур варварским, не способным облечь тончайшие чувства в изысканную художественную форму… На сей раз Рауп-Дименс просто опешил — это было выше его сил. — Падаль этакая! — взревел он. — Вы думаете, мы тут все идиоты?! Не забывайте, что вы в гестапо! Сознавайтесь, иначе вы немедленно на своей шкуре испытаете, что все ужасы, которые о нас рассказывают, ничто по сравнению с истиной! — Достопочтенный сударь… простите, пожалуйста, не имею чести знать ваше имя… Зачем вы так волнуетесь? У вас же полная возможность ознакомиться с моими произведениями! Там, на вашем столе, лежит венок сонетов, над которым я тружусь вот уже тринадцать лет… “Совершенно непонятный субъект! То ли это великолепная игра, то ли он и в самом деле рехнулся? Как его заставить говорить?” И, обдумывая новый ход, Рауп-Дименс стал проглядывать принесенные Ранке бумаги. Штурмбанфюрер достаточно владел французским языком, чтобы с первого взгляда определить, что перед ним действительно венок сонетов, написанный по всем классическим канонам. Рауп-Дименс увидел множество поправок и перечеркнутых строк. Именно это и убедило его, что Макулевич действительно автор сего опуса. Теперь многое прояснилось. Перед ним — помешанный. Это подтверждалось содержанием творений Макулевича. Считать этого юродивого коммунистом столь же бессмысленно, как искать подпольную организацию в сумасшедшем доме. С ним нет нужды хитрить, добиться толку можно только прямыми вопросами. Сделав помощнику знак, чтобы тот стенографировал ответы арестованного, Рауп-Дименс принялся допрашивать Макулевича. — Вы знаете Рудольфа Бауэра? Вам известно, где он сейчас находится? — Мне выпала честь и удовольствие время от времени обмениваться с господином Бауэром несколькими словами. Весьма интеллигентный человек, с хорошим поэтическим вкусом. Но сказать, что мы по-настоящему знакомы, к сожалению, нельзя. Мы встречались только у господина Буртниека. — У какого Буртниека? — У моего друга Буртниека. Он владелец книжного агентства в Старой Риге. — Бауэр часто посещает Буртниека? — быстро спросил Рауп-Дименс, который почувствовал, что теперь нащупал нить. — К величайшему сожалению, ничего не могу об этом сказать. Насколько я в состоянии судить, они, по-видимому, добрые знакомые. И неудивительно, что два человека выдающегося интеллекта находят общий язык… Штурмбанфюрер снова прервал рассуждения Макулевича. — Когда вы видели Бауэра у Буртниека в последний раз? — Вчера вечером. Господин Бауэр пришел за книгами, и они оба вышли в соседнюю комнату о чем-то поговорить. За это время я прочитал последний номер “Volkischer Beobachter”. Господин Геббельс очень способный журналист, но, должен заметить, писатель из него никогда не выйдет… — Бауэр взял свои книги? — продолжал спрашивать Рауп-Дименс, подозрения которого становились все определеннее. — Делая заключение дедуктивным путем, можно сказать, что да. Из соседней комнаты он вышел с портфелем под мышкой. “Часто бывает у Буртниека… Хорошо знакомы… Полный портфель… Бауэр был там последний раз перед исчезновением… Ясно, что Макулевич рассказал все, что знает… Но и этого достаточно. Теперь ясно — прямой путь ведет в агентство Буртниека! Пропади я пропадом, если это агентство не что иное, как вывеска, скрывающая центр распространения коммунистической литературы. Простая логика заставляет сделать вывод: побег Бауэра организовал Буртниек…” — Господин Макулевич, будьте любезны, расскажите все, что вы знаете о Буртниеке. Допрашиваемый принялся рассказывать длинно и обстоятельно. Как только он упомянул о совместном посещении кладбища, штурмбанфюрер вскочил. — Значит, вы сказали, что ключ от дверей, ведущих в склеп, был неисправен, а Буртниек взял его, чтобы починить? — И Рауп-Дименс быстро снял телефонную трубку. — Гараж! Две машины в мое распоряжение! — Затем быстро набрал другой номер. — Ранке! Дать десять человек. Да, команду Озола тоже. Немедленно ехать на кладбище Святого Петра! — И он снова повернулся к Макулевичу. — Вы тоже поедете и покажете, где находится ваша усыпальница.37
Бауэр уже привык к мраку, к запаху тлена. В подземной части склепа столько ниш, что легко можно спрятаться, если придет Макулевич. К тому же густой, многолетний слой пыли говорил о том, что хозяин никогда не спускается вниз. Буртниек спокойно может использовать этот необычный тайник. Рядом, в пустом цинковом гробу, Бауэр нашел оружие для партизан: два ручных пулемета, патроны, ручные гранаты и динамит с бикфордовым шнуром. Сырое, холодное, мрачное помещение все же не навевало мыслей о смерти. Бауэр думал о жизни, о той жизни, которая расцветет в Германии, освобожденной от ига нацизма. Рудольф представил себе один из теплых тихих вечеров… 1950 года. После дневной смены на заводе Борзига, который уже больше не является собственностью одного хозяина, а принадлежит всему народу, он на Александерплац встречается с Ингеборг. Липы в цвету, и кажется, даже волосы Ингеборг пахнут липами. Теперь они с Ингеборг муж и жена. И вот они гуляют по бывшей Курфюрстендам, ныне улице Эрнста Тельмана, заходят в кафе выпить по стакану рислинга. Вокруг за столиками оживленно беседуют свободные, счастливые люди… Ингеборг гладит его по плечу и говорит: “Рудольф, расскажи мне еще раз, как ты тогда прятался в склепе…” Царапанье ключа в замке прервало его мысли. Макулевич! В три прыжка Бауэр неслышно соскочил с лестницы, ведущей в склеп, и спрятался в самой темной нише. Нет никаких оснований беспокоиться, и все же лучше, чтобы этот чудак не слишком долго засиживался у своих предков. Но это был вовсе не владелец усыпальницы… Топот ног, стук подбитых гвоздями сапог по каменным плитам, бряцанье автоматов, команда: “Обыскать склеп!” — не вызывали сомнений в том, кто пришел.
Гестапо! Окружен… Конец… Бежать некуда. Но он еще волен сделать выбор между смертью на виселице и гибелью в бою, он еще свободен, он еще может бороться! Ведь у него есть динамит… В этот миг Бауэр желал только одного: чтобы гестаповцев было как можно больше. Один он не погибнет! “Я не хочу умирать молча. Десять лет я молчал, потому что не хватало смелости говорить. Еще можно искупить свою вину. Товарищи, вы слышите меня? Так много хочется сказать, а времени осталось так мало…”
Услышав, как внизу чиркнула спичка, Озол выстрелил. Это был его последний выстрел. В тот же миг, взметая увядшие венки, сотрясая замшелые памятники, оглушительный взрыв волной прокатился по кладбищу.
Рудольф Бауэр сказал свое последнее слово.
Макулевич проснулся с таким чувством, словно он все еще лежит между двумя могильными холмиками, куда его швырнула взрывная волна. Но нет, он лежит одетый на своей постели, и это вовсе не взрыв, а просто ветер ворвался в отворенное окно и опрокинул китайскую вазу. От старинного произведения искусства осталась лишь груда синих осколков, и это как нельзя более соответствовало настроению хозяина… Все в комнате перевернуто вверх дном: бронзовые часы с аллегорическими фигурами муз повалены, книги с полок сброшены на пол, миниатюры XVII столетия сорваны со стен. В таком виде оставили комнату гестаповцы после обыска.
Когда Макулевич доплелся домой с кладбища, у него не было сил даже закрыть окно. Он лишь с трудом дотащился до кровати. Потом все закружилось, заколыхалось, в ушах зазвенело, его стошнило, но и после рвоты не наступило облегчения. Его стал мучить кошмар. Это был полубред-полусон. Порою Макулевич просыпался, непонимающим взором окидывал комнату, не узнавал ее и снова погружался в долгий беспокойный сон.
И вот наконец пробуждение… холодный ветер… груда осколков фарфора. В другое время Макулевич пришел бы в отчаяние из-за разбитой вазы. Это была самая красивая вещь в его коллекции антикварных редкостей. В ту пору, когда от денег отца еще кое-что оставалось, он отказывал себе в куске хлеба, лишь бы пополнить унаследованную коллекцию. Все эти бронзовые и фарфоровые часы, из которых ни одни не ходили, эти терракотовые и фаянсовые вазы, строгие, застывшие формы которых не оживлялись даже цветами, эти бесчисленные кубки из потемневшего серебра и зеленого хрусталя, которые никогда не наполнялись вином, он берег и лелеял. Одна лишь мысль о продаже какого-нибудь фонаря XVIII века или старинной картины всегда представлялась ему варварской, преступной.
Каким же он был глупцом, отдавая всю свою любовь этим мертвым, пыльным вещам, сочиняя никому не нужный венок сонетов о счастье усопших, в то время как его окружали живые люди, люди большой души! Безмерны их страдания, но и безмерно их величие. Что представляет собой его жалкая философия по сравнению с таким взглядом на мир, который дал возможность шоферу и в смерти торжествовать над своими врагами!
Взрыв на кладбище разрушил не только фамильный склеп Макулевича, он взорвал и опрокинул весь круг его мыслей и представлений. В тот миг, когда его величайшая гордость — строение выдающегося архитектора превратилось в груду щебня и пыли, похоронив под своими развалинами десяток злодеев и одного героя, Макулевич понял, что Человек бессмертен. Тщетно фашисты, опираясь на свою абсурдную философию уничтожения, проповедуемую такими же, как и они, слепцами, пытаются истребить Человека. Жизнь невозможно уничтожить!..
Теперь вся прежняя жизнь Макулевича оказалась разбитой вдребезги, и он сомневался, хватит ли у него сил построить новую. Но одно он еще в силах сделать, и сделать это абсолютно необходимо! Нужно предупредить Буртниека! Несмотря на всю свою наивность, Макулевич в конце концов понял, что Буртниек спрятал Бауэра в склепе. Ах, почему он не сообразил этого на допросе? Он ни за что бы не упомянул о ключе. Сожалеть об этом поздно! Но, может быть, не поздно исправить то, что еще можно исправить? Гестаповцы погубили Бауэра, теперь в опасности жизнь Буртниека. И он, Макулевич, может спасти его, он знает, что Буртниек на подозрении у следователя гестапо.
А если чудовища с улицы Реймерса узнают, что он предупредил своего друга? Ведь его заставили дать подписку, что он будет молчать. Его будут избивать, мучить, рвать его тело по жилке, пока не умертвят… Бывшему проповеднику философии уничтожения так хотелось жить… Может быть, Буртниек как-нибудь все узнает сам, и тогда не к чему ставить свою жизнь на карту…
И, точно страус под крыло, Макулевич спрятал голову под подушку. Ничего не видеть, ничего не знать — это самое лучшее. Но бурная жизнь все время стучала в двери и окна, напоминала о себе, побуждала к действию. Целый день Макулевич старался преодолеть свою трусость. Даже взяв в руки шляпу и перчатки, он все еще не был уверен, что пойдет к Буртниеку. Однако перед уходом Макулевич не забыл на всякий случай вверить попечению соседки своего черного кота, которого в честь повелителя царства мертвых некогда окрестил Плутоном.
Топот ног, стук подбитых гвоздями сапог по каменным плитам, бряцанье автоматов, команда: “Обыскать склеп!” — не вызывали сомнений в том, кто пришел.
Гестапо! Окружен… Конец… Бежать некуда. Но он еще волен сделать выбор между смертью на виселице и гибелью в бою, он еще свободен, он еще может бороться! Ведь у него есть динамит… В этот миг Бауэр желал только одного: чтобы гестаповцев было как можно больше. Один он не погибнет! “Я не хочу умирать молча. Десять лет я молчал, потому что не хватало смелости говорить. Еще можно искупить свою вину. Товарищи, вы слышите меня? Так много хочется сказать, а времени осталось так мало…”
Услышав, как внизу чиркнула спичка, Озол выстрелил. Это был его последний выстрел. В тот же миг, взметая увядшие венки, сотрясая замшелые памятники, оглушительный взрыв волной прокатился по кладбищу.
Рудольф Бауэр сказал свое последнее слово.
Макулевич проснулся с таким чувством, словно он все еще лежит между двумя могильными холмиками, куда его швырнула взрывная волна. Но нет, он лежит одетый на своей постели, и это вовсе не взрыв, а просто ветер ворвался в отворенное окно и опрокинул китайскую вазу. От старинного произведения искусства осталась лишь груда синих осколков, и это как нельзя более соответствовало настроению хозяина… Все в комнате перевернуто вверх дном: бронзовые часы с аллегорическими фигурами муз повалены, книги с полок сброшены на пол, миниатюры XVII столетия сорваны со стен. В таком виде оставили комнату гестаповцы после обыска.
Когда Макулевич доплелся домой с кладбища, у него не было сил даже закрыть окно. Он лишь с трудом дотащился до кровати. Потом все закружилось, заколыхалось, в ушах зазвенело, его стошнило, но и после рвоты не наступило облегчения. Его стал мучить кошмар. Это был полубред-полусон. Порою Макулевич просыпался, непонимающим взором окидывал комнату, не узнавал ее и снова погружался в долгий беспокойный сон.
И вот наконец пробуждение… холодный ветер… груда осколков фарфора. В другое время Макулевич пришел бы в отчаяние из-за разбитой вазы. Это была самая красивая вещь в его коллекции антикварных редкостей. В ту пору, когда от денег отца еще кое-что оставалось, он отказывал себе в куске хлеба, лишь бы пополнить унаследованную коллекцию. Все эти бронзовые и фарфоровые часы, из которых ни одни не ходили, эти терракотовые и фаянсовые вазы, строгие, застывшие формы которых не оживлялись даже цветами, эти бесчисленные кубки из потемневшего серебра и зеленого хрусталя, которые никогда не наполнялись вином, он берег и лелеял. Одна лишь мысль о продаже какого-нибудь фонаря XVIII века или старинной картины всегда представлялась ему варварской, преступной.
Каким же он был глупцом, отдавая всю свою любовь этим мертвым, пыльным вещам, сочиняя никому не нужный венок сонетов о счастье усопших, в то время как его окружали живые люди, люди большой души! Безмерны их страдания, но и безмерно их величие. Что представляет собой его жалкая философия по сравнению с таким взглядом на мир, который дал возможность шоферу и в смерти торжествовать над своими врагами!
Взрыв на кладбище разрушил не только фамильный склеп Макулевича, он взорвал и опрокинул весь круг его мыслей и представлений. В тот миг, когда его величайшая гордость — строение выдающегося архитектора превратилось в груду щебня и пыли, похоронив под своими развалинами десяток злодеев и одного героя, Макулевич понял, что Человек бессмертен. Тщетно фашисты, опираясь на свою абсурдную философию уничтожения, проповедуемую такими же, как и они, слепцами, пытаются истребить Человека. Жизнь невозможно уничтожить!..
Теперь вся прежняя жизнь Макулевича оказалась разбитой вдребезги, и он сомневался, хватит ли у него сил построить новую. Но одно он еще в силах сделать, и сделать это абсолютно необходимо! Нужно предупредить Буртниека! Несмотря на всю свою наивность, Макулевич в конце концов понял, что Буртниек спрятал Бауэра в склепе. Ах, почему он не сообразил этого на допросе? Он ни за что бы не упомянул о ключе. Сожалеть об этом поздно! Но, может быть, не поздно исправить то, что еще можно исправить? Гестаповцы погубили Бауэра, теперь в опасности жизнь Буртниека. И он, Макулевич, может спасти его, он знает, что Буртниек на подозрении у следователя гестапо.
А если чудовища с улицы Реймерса узнают, что он предупредил своего друга? Ведь его заставили дать подписку, что он будет молчать. Его будут избивать, мучить, рвать его тело по жилке, пока не умертвят… Бывшему проповеднику философии уничтожения так хотелось жить… Может быть, Буртниек как-нибудь все узнает сам, и тогда не к чему ставить свою жизнь на карту…
И, точно страус под крыло, Макулевич спрятал голову под подушку. Ничего не видеть, ничего не знать — это самое лучшее. Но бурная жизнь все время стучала в двери и окна, напоминала о себе, побуждала к действию. Целый день Макулевич старался преодолеть свою трусость. Даже взяв в руки шляпу и перчатки, он все еще не был уверен, что пойдет к Буртниеку. Однако перед уходом Макулевич не забыл на всякий случай вверить попечению соседки своего черного кота, которого в честь повелителя царства мертвых некогда окрестил Плутоном.
38
Буртниек был чрезвычайно удивлен тем, что Макулевич начал разговор без обычного пространного вступления. Однако удивление Висвальда еще более возросло, когда его гость тщательно запер дверь на засов. — Скажите, кроме нас с вами, в квартире никого нет? — шепотом спросил Макулевич. Висвальд отрицательно покачал головой. — А в соседних комнатах? — не отставал поэт. — Никого. Если угодно, удостоверьтесь сами. Только теперь Макулевич схватил его за руку: — Как хорошо, что вы еще живы, уважаемый друг!.. Я так беспокоился за вас… — Но зачем же вам беспокоиться, господин Макулевич? Я вовсе не собираюсь умирать. Тут Макулевич, кажется впервые в жизни, неучтиво прервал речь собеседника: — Я пришел, чтобы открыть вам великую тайну. — Он так понизил голос, что Буртниек едва улавливал его слова: — Ваша жизнь в большой опасности… Гестапо… Больше не спрашивайте, это все, что я могу сказать. Словно ничего не случилось, Буртниек снял очки и стал протирать стекла платком. Подумать только, кто таился под личиной мечтателя! Значит, бессмысленная философия смерти была лишь маской, под которой скрывался гитлеровский агент, интересующийся не абстрактной смертью, а вполне конкретной и реальной! Теперь Макулевич хочет его поймать на удочку. А усыпальница? Выходит, это была ловушка? Бауэр, быть может, уже пойман… Неужели Рудольф что-нибудь открыл своим палачам? Нет, Рудольфу Бауэру Висвальд верил до конца. Такой не предаст товарищей. — Дражайший господин Буртниек, почему вы ничего не предпринимаете? — все более волнуясь, продолжал Макулевич. — Вам следует немедля собрать саквояж и бежать за границу. Висвальд заставил себя улыбнуться: — Уважаемый друг, ведь сегодня не первое апреля. — Это вовсе не шутка… Умоляю вас принять все меры! — Ну что вы, что вы, господин Макулевич! Я владелец частной фирмы, и мне нечего опасаться гестапо. Они преследуют коммунистов, и хорошо делают. — А я — то, признаться, думал, что вы тоже коммунист… — разочарованно протянул Макулевич. — Как могла вам прийти в голову такая нелепая мысль? — Видите ли, штурмбанфюрер — тот самый господин, что меня допрашивал, — сказал, что господин Бауэр якобы коммунист… — бессвязно начал рассказывать Макулевич. — И вот, ничего не подозревая, я рассказал про ключ… И потом этот же господин насильно усадил меня в машину и отвез на кладбище Святого Петра… Кое-что я понял из их разговоров. И я видел, как они окружили склеп… А потом страшный взрыв… Подумать только, как раз накануне я беседовал с господином Бауэром, не подозревая, что он герой, ничуть не уступающий героям Плутарха… А потом я был очень долго болен. Мне и сейчас очень страшно… Вы ведь никому не расскажете, что я к вам приходил… Пожалуйста, прошу вас, уезжайте. Я никогда не простил бы себе, если бы с вами что-нибудь случилось, мой дорогой господин Буртниек. Рассказ этот был весьма сумбурен, однако Буртниек все понял, а недосказанное можно было легко домыслить. В голосе Макулевича звучало такое отчаяние, такой неподдельный страх, что невозможно было заподозрить притворство. Гость и теперь еще весь дрожал. Самопожертвование этого человека так растрогало Буртниека, что на миг он забыл о гибели Бауэра и о грозящей ему самому опасности. Впервые за время знакомства он пожал руку Макулевичу от всего сердца. — Спасибо! Вы хорошо сделали, что подумали о живых… Обо мне не тревожьтесь, идите спокойно домой. Когда достану стихи Керковиуса, я вам сообщу. — Благодарю вас, господин Буртниек. Но они мне больше уже не нужны… С прошлой жизнью навсегда покончено… а начать новую жизнь… не знаю, сумею ли… К Янису Буртниек собирался со всеми предосторожностями. Он был взволнован более, чем хотел себе в этом признаться: даже ни одна успокоительная латинская поговорка, вопреки обыкновению, не приходила на ум. Ведь из-за него следят за всем домом. А это ставит под угрозу типографию. Сквозь узкую щель он сначала понаблюдал за лестницей, подождал, пока кассир Общества взаимного страхования поднимется в свою контору, и только тогда сошел вниз. В это время Янис обдумывал очередные задачи подпольной организации. Свобода близка. Прикладами советских винтовок она уже стучится в ворота Риги. Нужно встретить ее с честью. На многих заводах существуют охранные группы. В тот день, когда фашисты начнут эвакуацию Риги, рабочие достанут спрятанные винтовки и будут охранять свои цехи от подрывников. Там, где гитлеровцы начали вывозить оборудование, эти группы уже проводят большую работу — зарывают в землю станки, а в Германию отправляют ящики с камнями. Когда Буртниек вкратце пересказал свой разговор с Макулевичем, Янис помрачнел: — Жаль Бауэра. Замечательный человек… Но как мы сами не заметили, что за домом следят?! — Неудивительно, — ответил Буртниек и подвел Яниса к окну, выходящему на улицу. — Я только теперь догадался. Посмотри-ка, ничего подозрительного не замечаешь? Янис слегка отодвинул плотную занавеску, всегда скрывавшую комнату от любопытных глаз. Но он напрасно высматривал шпиков. Обычно их было легко распознать: лениво прохаживались они взад и вперед, делая вид, будто кого-то ждут или читают вывески. Таких перед домом не видно. На углу тоже никого нет. По улице торопливо снуют редкие прохожие. У дома напротив дворник подметает тротуар. — Уж не думаешь ли, что дворник? — с сомнением спросил Янис. — Он самый. Погляди, как он метет. Теперь Янис и сам заметил, что дворник вот уже сколько времени водит метлой все по одному и тому же месту и при этом смотрит не на тротуар, а на их дом. Да, Висвальд прав. — Ну и растяпы же мы! Нам следовало догадаться, почему вдруг сменили дворника! — Это еще не все, — сказал Буртниек. — Со двора за домом тоже следят. Пойдем на кухню, я тебе покажу. На этот раз Янис почти сразу обнаружил агента гестапо. В соседнем доме у окна второго этажа сидел какой-то тип и читал газету. Время от времени он позевывал, уставясь во двор их дома. — Я наблюдал за ним довольно долго, — сказал Висвальд. — Он даже ни разу не перевернул листа газеты. — На этот раз негодяи взялись всерьез, — сказал Янис, вернувшись в комнату. — Видно, твердо решили не упустить тебя. Должно быть, вокруг дома торчат и другие шпики. Но оставаться тебе тоже нельзя. — Ну, чего там обо мне… За типографию боязно. Не лучше ли пока прекратить работу? — Нет, мы не можем этого допустить. Пойми, сейчас надо работать днем и ночью. Разве можно на решающем этапе складывать оружие? Нужно призывать рижан уклоняться от принудительной отправки в Германию, спасать свой город от разграбления, не давать фашистам вывозить транспорт, саботировать распоряжения оккупационных учреждений, всеми средствами облегчать приход советских вооруженных сил. Листовки нужны ежедневно. Нет, мы не вправе прекращать работу… А ты как думаешь, Надя? Известие, сообщенное Буртниеком, не застигло Надежду врасплох. В условиях подпольной работы нужно быть ко всему готовым! Но нельзя допустить, чтобы “квартиру без номера” обнаружили именно теперь, когда победа так близка. Конечно, трудно сказать, когда именно наши войска освободят Ригу, потому что гитлеровцы будут отчаянно сопротивляться, чтобы удержать последний крупный опорный пункт в Прибалтике. Все же Надя твердо верила: в годовщину Октябрьской революции башни Риги обязательно украсятся алыми знаменами. — Все это так, — ответила Надежда. — Но именно поэтому надо особенно остерегаться провала. Наш долг — быть на посту до конца. Нужно считаться с тем, что за домом следят, и поэтому выносить листовки обычным путем нам не удастся. — Я уже подумал об этом, — подхватил Янис. — Ведь у нас есть еще запасной путь — подземный ход, который ведет к развалинам у реки. Там, правда, трудно вылезать, но ничего не поделаешь… Тебе, Висвальд, тоже придется воспользоваться этим ходом. Некоторое время проживешь у Силиня. Ты знаешь, в Чиекуркалне… А пока нельзя терять времени. Надевай мои старые туфли, а твои мне потребуются. Я задумал военную хитрость. Заметив, что Буртниек удивился, Янис пояснил: — Ты исчезнешь, но шпики не будут знать о твоем уходе из дому. Понятно, возникнет подозрение, что ты прячешься в чьей-нибудь квартире. Для предотвращения повального обыска инсценируем побег с чердака, по крыше. Попрощавшись с Надеждой, Буртниек в сопровождении Яниса спустился в “квартиру без номера”. Там он впервые встретился с Эриком, о котором так много слышал. Буртниеку стало как-то стыдно уходить, оставлять товарищей, которых, быть может, он больше не увидит. Но… “dum spiro, spero” — “пока дышу, надеюсь”! Все будет хорошо, они непременно еще встретятся в тесном кругу друзей и, беседуя, будут переворачивать листок за листком в календаре воспоминаний. Крепко пожав руку товарищам, Висвальд Буртниек, низко пригнувшись, нырнул в подземный ход. Янис поднялся наверх, а Эрик снова принялся за работу. Думать о нагрянувшей опасности не было времени, нужно как можно скорее набрать текст листовки. Подпольная типография продолжала работать.39
Октябрь… Вот уже третью осень Рауп-Дименс в Риге. На бульварах — золотые липы, по ночам заморозки, днем под усталыми лучами солнца мутно-коричневая гладь канала превращается в блестящее стекло. На воде — мозаика из желтых, красных, оранжевых листьев, в садах — печальные вздохи ветра, бледное солнце над Бастионной горкой… Всюду приметы осени, увядания, но на лицах рижан сквозь горе и печаль пробиваются первые робкие ростки радости. Эта радость в глазах прохожих приводила Рауп-Дименса в бешенство. Рига больше не казалась ему приятной. За последнее время все шло вкривь и вкось. Эхо взрыва, погубившего Ранке, Озола и еще восемь человек, докатилось от кладбища Святого Петра до самого Берлина. Там эти столичные болваны вдруг вообразили, что Бауэр был замешан в подготовке покушения на Гитлера, и поэтому не могли простить штурмбанфюреру его промах. Только благодаря влиянию отца и тому, что в Риге гестаповцам сейчас приходилось работать с двойной нагрузкой, штурмбанфюреру удалось спастись от отправки на передовые позиции. Да, Бауэр каким-то дьявольским образом проскользнул между пальцами. Зато теперь в закинутых сетях барахтается Буртниек! Его стерегут днем и ночью, из соседнего дома в бинокль наблюдают за окнами книжного агентства… За каждым посетителем Буртниека немедленно устанавливается слежка. Со дня на день можно ожидать, что следы приведут Рауп-Дименса в подпольную типографию, а оттуда — в центр рижской подпольной организации. Воображению штурмбанфюрера уже рисовались сотни арестованных, целая аллея виселиц от памятника Свободы до Видземского рынка… Пусть эти мертвецы будут единственными, кто дождется возвращения большевиков! Уже во всех деталях был разработан план насильственной эвакуации жителей Риги, в котором не только каждому шуцману и жандарму, но и каждой полицейской собаке отводилась своя роль. Ни одной живой души они не оставят большевикам, ни одного дома! Но грезы подобного рода лишь на краткий миг убаюкивали Рауп-Дименса. После малейшей неудачи он терял самообладание, и у шарфюрера Гессена, сменившего Ранке, были все основания беспокоиться о здоровье своего начальника. Внезапные переходы от злобного отчаяния к преувеличенно восторженным надеждам вызывали у Рауп-Дименса прилив лихорадочной энергии. Никогда еще он столь безжалостно не гонял своих подчиненных, никогда еще его действия не были столь хитроумными и всесторонне продуманными. Теперь, когда осталось так мало времени, нельзя ошибаться, каждый удар должен попадать в цель. Рауп-Дименс приказал Гессену дважды в день докладывать о результатах наблюдения за Буртниеком. На этот раз шарфюрер появился ранее назначенного часа. — Господин штурмбанфюрер! Сейчас сообщили по телефону, что книжное агентство Буртниека посетил какой-то человек. Судя по описанию, это Макулевич. — И Гессен из предосторожности попятился к двери. — Значит, кроме меня, ни у кого мозги не работают? Какого черта эти кретины дали ему войти? Надо было арестовать сумасшедшего прямо на улице, если нет иного выхода! — Осмелюсь доложить, господин штурмбанфюрер, вы сами изволили категорически запретить задерживать посетителей агентства и приказали только следить за ними и докладывать вам. Мои люди думали… — Нужно думать головой! Немедленно арестовать Макулевича! — Уже исполнено, господин штурмбанфюрер. На этот раз вспышка злобы у Рауп-Дименса была скорее внутренней, чем внешней, ибо он сознавал, что сам в значительной мере повинен в этой непростительной оплошности. Банге прав! Тот, кто однажды попадет в гестапо, не должен выходить оттуда живым, будь он трижды ни в чем не виновен. Теперь Макулевич сам подписал свой смертный приговор… Ничего, Буртниек еще не успел удрать. Он не сможет удрать — агенты гестапо пойдут за ним следом хоть на край света. Пришло время начинать! Буртниека нужно немедленно арестовать, а в его квартире устроить ловушку. Через десять минут Рауп-Дименс в сопровождении всех имеющихся в его распоряжении людей подъехал к углу улицы Грециниеку. Чтобы захватить Буртниека врасплох, гестаповцы в штатском по одному входили в парадное и поднимались в контору Общества взаимного страхования. Выставленным на постах агентам было приказано задерживать любого, Кто попытается выйти из дому. Несмотря на троекратный звонок, двери книжного агентства никто не отворил. Штурмбанфюрер шепотом приказал отомкнуть замок. Обыскали каждый угол, все обшарили, но Буртниека и след простыл. “Улизнул, мерзавец! — подумал Рауп-Дименс, проглотив проклятье. — Спокойно! Без истерики! Нужна ясная голова! Итак, если Буртниек вышел из дому, агенты бы его заметили. Значит, он где-то в доме, прячется в погребе, или на чердаке, или у кого-нибудь из соседей. Хорошо, что мы не подняли шума”. Он обернулся к Гессену: — Привести Лео! Несколько минут спустя в дом вошел полный, с виду добродушный мужчина в сдвинутом на затылок котелке. Его старомодный длинный пиджак был расстегнут, и на животе поблескивала массивная цепочка от часов. Такой же добродушной выглядела огромная овчарка, помахивавшая хвостом и неторопливо шагавшая рядом со своим хозяином. Никому бы не могло прийти в голову, что этот добродушный пес и есть Лео — знаменитая ищейка гестапо. В квартире Буртниека инструктор пристегнул к ошейнику собаки поводок и резко дернул его. Это был знак начать работу. Лео тут же преобразился. Его тело напряглось, уши поднялись и даже шерсть взъерошилась. Обнюхав одежду Буртниека, пес направился в заднюю комнату, затем вернулся в контору и, принюхиваясь к невидимым следам, сбежал вниз по лестнице. “…Красная Армия у ворот Риги. Наступает решительный момент. Фашисты приняли все меры к тому, чтобы после их бегства в нашем городе не осталось ни одного целого дома, на котором можно было бы водрузить знамя свободной Советской Латвии… Фабрики, учреждения, мосты заминированы…” Нить мысли оборвалась. Даугавиет погрыз карандаш, снова начал писать, потом посмотрел на Надежду, которая стояла у окна, спрятавшись за занавеской, и наблюдала за улицей. Старый Донат с метлой в руках появлялся то во дворе, то в парадном. Посты расставлены, меры предосторожности приняты. Все же обстановка окружения, хотя и не относящаяся пока непосредственно к типографии, подавляла Яниса. Быть может, поэтому сегодня так медленно пишется? Но ведь самое позднее к завтрашнему утру листовки должны быть готовы! Времени так мало, в любую минуту гитлеровцы могут приняться взрывать важнейшие объекты. Янис заставил себя продолжать работу. Вдруг из ванной донесся глухой стук… Даугавиет торопливо дописал фразу, вырвал из блокнота исписанную страничку, отдал ее Эрику и, словно извиняясь за спешку, сказал: — Сегодня придется ударным темпом. Когда кончишь — постучи. Как только придет Скайдрите, пошлю ее на подмогу. Вернувшись в комнату, Янис вопросительно взглянул на Надежду. — Скайдрите все нет, — сказал он озабоченно. — Будем надеяться, что ничего плохого не случилось… Подождем еще?.. — Даугавиет посмотрел на часы. — Нет, больше ждать нельзя. В шесть вечера к Буртниеку придет рабочий с ВЭФа. Его нужно предупредить. Ничего не поделаешь, придется пойти к Донату. Я сейчас ему скажу. Янис отворил дверь на лестницу, но выйти ему не удалось. Едва не опрокинув Даугавиета, в коридор проскочил большой серый пес. Следом за ним выросла фигура высокого гестаповца. — Руки вверх!
Эти произнесенные шепотом слова прозвучали в ушах Яниса подобно раскату грома. Выхода не было, пришлось повиноваться. Подталкивая Даугавиета дулом револьвера, гестаповец вошел за ним в квартиру. Услышав шаги, из кухни прибежала Надежда. Ей тоже приказали встать к стене с поднятыми руками.
— Обыскать комнаты! — скомандовал Рауп-Дименс.
Тысяча вопросов промелькнула в мозгу Яниса, но все они так и остались без ответа. С чем связано появление гестаповцев? Ищут Буртниека или стало что-нибудь известно о типографии? А он даже не успел предупредить Эрика сигналом тревоги! Это непростительно! Нужно это сделать сейчас, как-нибудь ухитриться. Штурмбанфюрер, будто назло, закрыл своей спиной как раз то место, где под обоями замаскирована кнопка звонка. Достаточно гестаповцу услышать стук Эрика, и он тут же поймет, что за ванной комнатой есть еще какое-то помещение. Примутся выстукивать все стены, потолки, полы и, наконец, обнаружат типографию. Этого допустить нельзя! Нельзя ни в коем случае! Секунда летит за секундой… Быть может, Эрик сейчас набирает последние слова… Янису почудилось, что он слышит, как Эрик карабкается по узкому проходу… Сейчас раздастся стук… Нет, лучше умереть, чем погубить типографию.
Одним прыжком Янис очутился возле гестаповца и, с силой толкнув его в стену, привел в действие сигнал тревоги.
Не дав Рауп-Дименсу опомниться, Янис кинулся на кухню, распахнул окно и выпрыгнул во двор. Но в этот миг кто-то оглушил его сильным ударом по голове, и он упал. Оба агента, дежурившие во дворе, скрутили беглецу руки за спиной и втащили обратно в квартиру. Потом его дубасили кулаками, пинали ногами, били рукояткой револьвера по голове. И все-таки с лица его не исчезла торжествующая усмешка.
“Квартира без номера” была теперь вне опасности!
— Руки вверх!
Эти произнесенные шепотом слова прозвучали в ушах Яниса подобно раскату грома. Выхода не было, пришлось повиноваться. Подталкивая Даугавиета дулом револьвера, гестаповец вошел за ним в квартиру. Услышав шаги, из кухни прибежала Надежда. Ей тоже приказали встать к стене с поднятыми руками.
— Обыскать комнаты! — скомандовал Рауп-Дименс.
Тысяча вопросов промелькнула в мозгу Яниса, но все они так и остались без ответа. С чем связано появление гестаповцев? Ищут Буртниека или стало что-нибудь известно о типографии? А он даже не успел предупредить Эрика сигналом тревоги! Это непростительно! Нужно это сделать сейчас, как-нибудь ухитриться. Штурмбанфюрер, будто назло, закрыл своей спиной как раз то место, где под обоями замаскирована кнопка звонка. Достаточно гестаповцу услышать стук Эрика, и он тут же поймет, что за ванной комнатой есть еще какое-то помещение. Примутся выстукивать все стены, потолки, полы и, наконец, обнаружат типографию. Этого допустить нельзя! Нельзя ни в коем случае! Секунда летит за секундой… Быть может, Эрик сейчас набирает последние слова… Янису почудилось, что он слышит, как Эрик карабкается по узкому проходу… Сейчас раздастся стук… Нет, лучше умереть, чем погубить типографию.
Одним прыжком Янис очутился возле гестаповца и, с силой толкнув его в стену, привел в действие сигнал тревоги.
Не дав Рауп-Дименсу опомниться, Янис кинулся на кухню, распахнул окно и выпрыгнул во двор. Но в этот миг кто-то оглушил его сильным ударом по голове, и он упал. Оба агента, дежурившие во дворе, скрутили беглецу руки за спиной и втащили обратно в квартиру. Потом его дубасили кулаками, пинали ногами, били рукояткой револьвера по голове. И все-таки с лица его не исчезла торжествующая усмешка.
“Квартира без номера” была теперь вне опасности!
40
Нападение Даугавиета было таким неожиданным, что человек, державший собаку, невольно выпустил из рук поводок. Предоставленный самому себе, Лео, однако, продолжал поиск. В столовой пес как бы в нерешительности остановился. Запах привел его в ванную комнату. Но точно такой же запах, и даже несколько более сильный, вел назад, к выходу. Следуя за ним, Лео выбежал из квартиры, помчался вверх по лестнице и, мордой толкнув дверь, попал на чердак — одним словом, проделал тот же путь, что и Даугавиет, относивший туфли Буртниека. На чердаке люди Рауп-Дименса нашли неопровержимые доказательства побега — открытый люк, под ним перевернутый ящик и туфли, которые беглец, очевидно, снял, чтобы лучше удержаться на скользкой крыше. К тому же и владелец дома, Бауманис, подтверждал, что незадолго до прихода гестаповцев Буртниек приходил к нему за ключом от чердака. Пришлось дать команду разыскивать Буртниека по всей Риге и ее окрестностям. Рауп-Дименса снова постигла неудача. Пытаясь скрыть свой провал, штурмбанфюрер сообщил начальству, что арестованные им жильцы квартиры № 1 — студент Дзинтар Калнынь и Ядвига Скоростина (без определенных занятий) — являются ответственными работниками коммунистической партии. Сам Рауп-Дименс отлично сознавал, что его заявление не подтверждается никакими убедительными фактами, если не считать нападения Калныня и его попытки к бегству. Но отсутствие веских улик ничуть не тревожило Рауп-Дименса. “Раз улик нет, их нужно добыть!” И он днем и ночью допрашивал арестованных, в надежде, что они запутаются в сетях каверзных допросов. Но и Калнынь, и Скоростина, несмотря на все ухищрения следователя, стояли на своем: с Буртниеком имели только добрососедские отношения, политикой не интересуются. Свою попытку к бегству Калнынь объяснял внезапным помутнением рассудка: после перенесенного в детстве менингита такие приступы у него повторяются довольно часто. Штурмбанфюрер не унимался, стараясь собрать исчерпывающие сведения о прошлом арестованных. В соответствии с паспортом и показаниями самой арестованной, Скоростина раньше проживала в Резекне. Этот город уже в руках большевиков, но Рауп-Дименсу посчастливилось найти бывшего начальника резекненской охранки, сбежавшего в Ригу. Однако и он ничего дельного сообщить не смог. — Неужели ничего, так-таки ничего? — упорствовал штурмбанфюрер. — Посмотрите-ка еще раз на это лицо. Неужели оно вам ничего не говорит? Начальник охранки повертел в руках резко контрастный снимок, изготовленный гестаповским фотографом, и выразительно пожал плечами. — Быть может, старая фотография вам больше пригодится? — И Рауп-Дименс протянул ему паспорт Скоростиной. — За эти годы ее внешность ведь могла измениться… На маленькую фотографию начальник охранки взглянул лишь мельком, но зато долго изучал вторую страницу паспорта. — Фальшивый! — воскликнул он вдруг. — Видите, документ выдан в марте, а я хорошо помню: Васараудзис, который якобы подписал этот паспорт, начал работать у нас только в ноябре… Паспорт фальшивый! В этом нет никаких сомнений! Наконец-то лед тронулся! Пока начальник резекненской охранки находился в кабинете, Рауп-Дименс ничем не выдал своей радости. Не к чему этому латышу знать, какую он оказал услугу штурмбанфюреру. Но как только тот ушел, Рауп-Дименс вызвал Гессена. — Ну, Гессен, можете меня поздравить! Мое предчувствие оправдалось. Эта Скоростина вовсе не Скоростина, а подпольщица, у нее фальшивый паспорт. Как вы думаете, Гессен, что это означает? Шарфюрер щелкнул каблуками, продолжая хранить молчание. — Это значит, что Калнынь тоже подпольщик! Да, Гессен, мы с вами поймали крупную дичь. Немедленно сообщу Банге. Попрошу, чтобы меня освободили от всех других заданий и дали возможность заняться исключительно этим делом. Я не удивлюсь, если этот Калнынь окажется тем, кого я уже давно ищу… Ну, что вы стоите без толку и пялите на меня глаза? Дайте знать агенту номер шестнадцать, чтобы немедленно явился ко мне. Уже несколько суток Янис не смыкал глаз. В тесной бетонной камере в подвале гестапо все время горит нестерпимо яркий свет. Из-за этой щедрой иллюминации он никак не мог уснуть. Таким способом гестаповцы надеялись ослабить волю арестованного. Но Даугавиет не давал сломить себя. Он знал, что должен придерживаться первоначальныхпоказаний. Только таким путем, может быть, удастся спасти Надежду. Возможно, придется еще раз изобразить приступ “помутнения рассудка”. Мог ли он себя в чем-нибудь упрекнуть? Конечно, в работе не обошлось без ошибок… Пожалуй, роковым оказалось именно то обстоятельство, что агентство Буртниека находилось в том же доме, где и тайная типография. Но разве в сложнейших условиях подпольной работы можно абсолютно все предвидеть? Многое, очень многое было тщательно обдумано и взвешено. Три года “квартира без номера” работала бесперебойно — это ли не лучшее тому доказательство? О своей участи Янис не горевал. Главное сделано: типография вне опасности. Если бы еще удалось спасти Надежду от смерти, он бы считал, что долг его выполнен до конца. Сегодня в камере впервые потушили свет. Янис достаточно знал приемы гестаповцев, чтобы понять: надо быть готовым к очередной хитрости. Но усталость взяла верх, он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Янису снилось, что в “квартире без номера” воет сигнал тревоги. Нет, это вовсе не сигнал тревоги, это рев фашистского танка. Сейчас он подомнет под свои гусеницы все живое. Стальное чудовище нужно остановить… Янис хочет кинуть гранату, но вдруг замечает, что к танку привязана Надя. Пряди ее мягких, светлых, как лен, волос разметались… Если кинуть гранату, Надя погибнет… Нет, он не может этого сделать… А гусеницы танка все вращаются, вращаются, перемалывая все новые жертвы. Ревущий танк ближе, ближе. Надежда видит Яниса и кричит ему: “Не думай обо мне, бросай гранату!..” Он стискивает зубы, замахивается… Граната летит… Слепящая вспышка, оглушительный взрыв… Даугавиет проснулся. Необычайно яркий, режущий свет заливает камеру и, точно раскаленными иглами, колет глаза. Спасаясь от него, Янис инстинктивно отвернулся и прикрыл рукою лицо. В тот же миг свет погас. В кабинете Рауп-Дименса Кисис взволнованно уверял штурмбанфюрера: — Это он! Он! Теперь я не сомневаюсь! — Но ведь вчера вы сомневались? — возразил Рауп-Дименс, хотя сам был уверен в том, что Калнынь и есть не кто иной, как Жанис. — Вот поэтому я и предложил такой эксперимент. Точно так же он и в тот раз закрыл лицо, когда я зажег спичку. Это Жанис! Господин Рауп-Дименс, разрешите напомнить, что мне полагается обещанная награда за поимку Жаниса… — Это я его поймал, а не вы! Я, я, только я, поняли?! Целый год вы не могли его разыскать! Штурмбанфюрер злобно выругался — теперь ругань стала для него привычкой. Но даже крича на Кисиса, он уже обдумывал дальнейшие шаги. Нужно устроить очную ставку Жаниса и этой женщины, попытаться кого-нибудь из них загнать в тупик. Самые большие надежды Рауп-Дименс возлагал на подпольщицу. Недаром женщин именуют слабым полом… …Рано или поздно это должно было случиться… Холодную камеру, издевательства эсэсовцев, ежедневную порцию пыток Надежда считала логическим продолжением ареста. И таким же логическим его завершением будет смерть от руки палача. Надежда ни о чем не жалела. Жить — означало бороться, а борьбы не бывает без жертв. Ничего от нее не добьются, ничего она им не скажет, она будет молчать. В эти дни она много думала о Янисе, думала с нежностью сестры и гордостью друга. Как самоотверженно он поступил, когда в последнюю минуту спас типографию и Эрика! Для себя Надежда ничего не желала, но Янису она желала всего: жизни, победы, счастья. А еще она желала ему любви лучшей девушки на свете. Янис это заслужил. И все же Надежда понимала, что всем этим мечтам не суждено сбыться: из гестапо на свободу ведет лишь один путь — позорный путь предательства. Быть может, их поведут вместе на казнь, быть может, удастся тайком пожать руку друга и сказать: “Янис, я всегда знала, что ты меня любишь. Спасибо тебе”. В ночь на седьмое октября Цветкову опять вызвали на допрос. На этот раз штурмбанфюрер принял ее необычайно любезно и сам подал стул. — Почему вы стоите? Садитесь, пожалуйста. Вам больше нечего опасаться — мне уже все известно… Последовала долгая пауза, во время которой Рауп-Дименс не сводил пристального взгляда с ее лица. Но лицо арестованной оставалось таким же бесстрастным, как и прежде. Можно было подумать, что она даже не поняла смысла его слов. Наконец гестаповец прервал молчание. — Я больше не хочу мучить вас загадками. Шарфюрер Гессен, приведите Жаниса. Надежда едва заметно вздрогнула, но это не ускользнуло от глаз Рауп-Дименса. “Первое попадание!” — с удовлетворением отметил он про себя и заговорил притворно-дружелюбным тоном: — Я вижу, вы поражены. Признаться, я и сам был поражен, я считал вашего друга человеком железной воли… Но, оказывается, даже у коммуниста есть сердце… Когда я ему сообщил, что от его признания зависит ваша жизнь, Жанис заговорил. О вас мы тоже теперь все знаем: что у вас фальшивый паспорт, что вы помогали Жанису в подпольной типографии. Мы даже знаем ваше настоящее имя… Надежде хотелось крикнуть; “Это ложь, ложь! Янис никогда не станет предателем!” Но разум неумолчно твердил другое. Откуда же гестаповцы все узнали? Ведь, кроме Даугавиета, в Риге больше никто не знает ее настоящей фамилии. Янис, неужели это правда? Неужели ты, спасая меня, сказал о типографии? Ты же сам говорил, что подпольщик должен отказаться от личной жизни, от личных чувств. Нет, не может быть… Любовь не заставит Яниса забыть свой долг. Этому она, Надежда, никогда не поверит. Рауп-Дименс не дал арестованной прийти в себя от потрясения. — Если вы поможете мне довести дело до конца, — сказал он, — я сделаю для вас все, что в моих силах. Свободу, конечно, не обещаю, но смягчение наказания гарантирую. Для того чтобы и теперь несколько облегчить ваше положение, я приказал привезти ваши теплые вещи. Прошу расписаться в получении. Рядом на стуле и в самом деле лежали ее вещи: пальто и подарок Скайдрите — голубое шерстяное платье. Все еще продолжая мысленный разговор с Янисом, Надежда машинально взяла в руки протянутую авторучку. Написав первую букву, она спохватилась — чуть было не попалась на удочку, едва не подписалась своей настоящей фамилией. Мгновенно Надя поняла, что именно этого ждет от нее гестаповец, и тут же исправила первую букву. Рауп-Дименс вырвал бумагу у нее из рук. Разочарование на лице гестаповца подтвердило, что она не ошиблась. Штурмбанфюрер вскочил с кресла. — Теплой одежды захотелось? — злобно усмехнулся Рауп-Дименс. — Подождите, скоро вам и без одежды станет жарко! — И он повернулся к Гессену. — Шарфюрер, вывести арестованную в соседнюю комнату! Когда дверь закрылась, он начал пытливо вглядываться в подпись… Тонко разработанный маневр не дал ожидаемых результатов. Скоростина! Те же самые, пожалуй, чересчур ровные буквы, что и в паспорте. А это что такое? Рауп-Дименс взял лупу. Буква “С”. Но под ней другой штрих. Явно буква “Ц”. Значит, сначала она хотела подписать свою настоящую фамилию, но потом спохватилась. “Ц”, “Ц”, “Ц”! Эта буква могла бы открыть секрет, если бы только за ней следовали недостающие… Какие русские фамилии начинаются на “Ц”? Царицына, Циолковская, Цветкова… Цеткина, Цветкова… Цветкова, Цветкова… Цветкова… Почему эта фамилия все время вертится в голове? Рауп-Дименс выкурил сигарету, другую, не ощущая вкуса, не замечая даже, что стряхивает пепел на брюки. Цветкова, Цветкова — ведь эту фамилию он совсем недавно где-то прочел. Конечно же! Штурмбанфюрер снял трубку внутреннего телефона… — Штурмфюрер Бурхарт! Материалы, взятые в квартире Скоростиной, немедленно доставить ко мне… Через две минуты в кабинет Рауп-Дименса внесли большую корзину. Вывалив ее содержимое на пол, Рауп-Дименс принялся лихорадочно отбрасывать в сторону учебники, конспекты лекций, старые рецепты, таблицы логарифмов, романы в пестрых обложках. Вот! Вот то, что он ищет. Маленькая книжка в красивом переплете. На синей коже золотое тиснение — “Евгений Онегин”. Он раскрыл книгу. На первой странице наискось было написано: “Надежде Викторовне Цветковой. Пусть скажут строки благодарные, Как я любил глаза янтарные…” Рауп-Дименс больше не сомневался, что настоящая фамилия Скоростиной — Цветкова. Достаточно вспомнить посвящение, где упоминается цвет ее глаз! Конечно же, эти строки посвящены ей! Теперь-то он достаточно вооружен для поединка с Жанисом. …Он заговорил повелительным тоном, будто и не замечая, что арестованного уже ввели в комнату. — Гессен, пяти человек вам хватит для обыска нелегальной типографии? — Так точно, господин штурмбанфюрер. — Хорошо, тогда отнесите Цветковой пальто. Пусть одевается! Она вам покажет вход. У Яниса замерло сердце. Значит, гестапо уже известна его связь с типографией… “Даже фамилию Нади они сумели выведать”, — подумал Даугавиет, совсем позабыв, что только он один знает ее настоящую фамилию. Все остальное отступило на задний план. Штурмбанфюрер, казалось, только теперь заметил арестованного: — А, вы уже тут? Ну, отлично, поговорим, Жанис. — Это имя Рауп-Дименс произнес небрежно, точно давным-давно привык так называть Даугавиета. — Сигарету? Смелей, смелей! У нас больше нет никакой нужды вас мучить: Цветкова во всем призналась. Учитывая ее полное признание, мы решили отправить вашу сообщницу в концентрационный лагерь. Но, к сожалению, она упрямо берет всю вину на себя. Только вы можете теперь спасти ее от виселицы. Янис молчал. Еще с детства у него вошло в привычку молчать, пока в мыслях нет полной ясности. “Это ловушка!” — предостерегал инстинкт подпольщика. Но как же объяснить то, что гестаповцам все известно? И кличка Жанис, и его связь с типографией? Ничему нельзя верить, и в то же время нелепо из принципа не верить очевидным фактам… — Вы, кажется, думаете, что это ловушка?.. Хорошо, сейчас я вас ознакомлю с показаниями Цветковой. — И Рауп-Дименс начал читать заранее приготовленный текст: — “Я, член ВКП (б), Цветкова Надежда Викторовна, сознаюсь…” Цветкова Надежда Викторовна… Дальше он уже не слушал… Все затмила страшная правда: ведь, кроме него, никто в Риге не знал настоящего имени и фамилии Надежды. Ни Элиза, ни Скайдрите, ни Буртниек… Даже Эрик не знал… Никто… Значит… Надя созналась — вот единственный вывод. “Надя, Надя, как ты могла так поступить? Какими нечеловеческими пытками им удалось вырвать у тебя правду? Может быть, в бреду ты выдала себя и меня? Это я могу тебе простить. Но даже в бреду ты не смела открывать местонахождение типографии!.. Надежда предала типографию! Надежда покажет им потайной ход! Этого не может быть, я сам брежу… Три года вместе, три года совместной подпольной работы значат больше, чем целая долгая жизнь…” Янис знал все мысли Надежды, все черточки ее характера. Такой человек, как она, даже потеряв рассудок, не может стать предателем. Даже, как утверждает этот гестаповец, ради спасения другого. Эту непоколебимую уверенность ничто не может расшатать. Впервые за все время допроса Янис заговорил: — Дайте мне самому прочитать. Я верю только собственным глазам. Позабыв о своей хитроумной тактике, Рауп-Дименс в бешенстве вскочил с кресла. — Как ты смеешь, проклятый коммунист! Раз я сказал, что это написала Цветкова, чего же еще надо! От ярости Рауп-Дименс забыл об осторожности, и сидевшая в соседней комнате Надежда услышала его слова. Прежде чем караульные успели опомниться, она кинулась к двери: — Ложь! Не… Она умолкла на полуслове — подскочивший эсэсовец сдавил ей горло. Но Янис и так все понял. Подняв голову, он прошептал: — Надя, Наденька… Раздался резкий голос Рауп-Дименса: — Ведите сюда… Привязать обоих к стульям! Пытать их! Они у меня заговорят! Штурмбанфюрера невозможно было узнать. Лицо побагровело, глаза вылезли из орбит. Он походил в этот момент на эпилептика. Эсэсовцы, уже видевшие его припадки, на сей раз ждали какой-то особенно бурной вспышки. Но Рауп-Дименс вскоре опомнился. Жажда личной мести не должна влиять на поступки. Сперва надо узнать, где находится типография, а потом можно будет рассчитаться… Обычными пытками от них ничего не добьешься — это ясно. Но у каждого человека есть свое больное место, своя слабость. Нужно только отыскать их. И Рауп-Дименс показал, что не зря за ним утвердилась слава отличного психолога. Итак, только что Жанис прошептал: “Наденька!” Очевидно, он любит эту женщину. И то, что никогда не пришло бы в голову звероподобному мяснику Ранке, придумал дикарь с дипломом Кембриджского университета. — Итак, Жанис, слушайте меня внимательно. Мне нужна типография. В вашем присутствии Цветкову будут пытать до тех пор, пока вы не скажете, где эта типография находится. Вас никто не тронет, чтобы не мешать вам любоваться приятным зрелищем. Ненависть, молнией сверкнувшая в глазах Яниса, подтвердила Рауп-Дименсу, что он на правильном пути. — Она красивая женщина не правда ли? — продолжал он с издевкой. — Останется ли что-нибудь от ее красоты через несколько часов — зависит всецело от вас… Гессен, приготовьте инструменты… Звериные лапы сорвали с Нади одежду. Она сидела не шевелясь. Даже когда раскаленный шомпол прижался к ее белой коже и комнату наполнил горький запах горящего тела, она не закрыта глаза. Они были такими же, какими Янис видел их во сне. Эти глаза, казалось, говорили: “Ничего, Янис. Я выдержу. Выдержи и ты”. Палачи делали свое дело, и Янису пришлось смотреть до конца. Он видел, как грудь и дорогое, искаженное болью лицо Надежды покрывались кровавыми пузырями. Он ничем не мог ей помочь… Он должен молчать. И Янис кусал губы до крови. Надя не сказала ни слова. Только сквозь стиснутые губы вырывались глухие стоны. Потом и они затихли… И все, кто находился в кровавых стенах гестапо, ясно расслышали далекий гул артиллерийских орудий.41
Перевод из застенков гестапо в Центральную тюрьму означал, что Янису осталось жить всего лишь несколько дней. После пережитого смерть представлялась ему огромным облегчением. И вовсе не потому, что он желал смерти. Ему хотелось жить, жить хоть сто лет. Но все же лучше умереть, чем видеть, как выродки калечат любимого человека. Чем больше шрамов искажало Надины черты, тем горячей любил он это до неузнаваемости изуродованное лицо. Только теперь, в самые черные дни своей жизни, Янис осмелился признаться себе, что любил и любит Надежду. Но любовь подпольщика — это песня без слов, далекий огонек, мерцающий в ночи… Теперь самое страшное позади. Гестаповцы прекратили бесплодную борьбу. Надежду Цветкову больше не мучили. Подпольщики победили! …Гитлеровцы отступали, и это чувствовалось даже в тюрьме. Казалось, самый воздух насыщен лихорадочным ожиданием. Надзиратели рыскали по камерам, то и дело без всякого повода набрасывались на любого, кто попадался под руку. Фашисты явно нервничали. А заключенные жили надеждой. И, невзирая на побои и карцеры, вся тюрьма по ночам гудела от перестуков. Казалось, будто слышится глухая барабанная дробь. Заключенные делились сведениями о продвижении Красной Армии. Эти известия проникали даже сквозь каменные стены и чугунные решетки. Было известно, что гитлеровцы решили всех умертвить перед отступлением, и все же многие верили в чудо. Ибо там, где сражаются советские люди, возможны чудеса. Последняя ночь перед казнью… Надеяться на чудо Янис уже не мог. В эту ночь он мысленно хотел проститься со всем, что в жизни было ему дорого и близко: со звездами, что сверкали здесь, в рижском небе, и там, над Москвой; с землей, на которой так чудесно жить; с товарищами, связанными с ним большой, мужественной дружбой борцов за общее дело; с Надей…
Было бы куда лучше провести эту ночь одному. Но как раз сегодня в камеру привезли еще одного смертника. Это был знакомый Буртниека — Макулевич. Бедняга лежал на нарах и все время тихонько всхлипывал.
Янис большими шагами мерил камеру: от окна до дверей, от дверей до окна. Потом он остановился. Проведя ногтем по прутьям решетки, точно по струнам, он вдруг вспомнил свою любимую песенку. Ту, что часто пел Надежде. Ту, в которой каждый раз взамен позабытых слов придумывал новые.
Он и сам не заметил, как начал вполголоса напевать:
Быть может, навсегда умолкнет сердце,
Но нам с тобой неведом жалкий страх.
Пусть знает враг — любовь сильнее смерти,
И Родина живет у нас в сердцах.
Макулевич зашевелился на своих нарах.
— Простите, сударь, за беспокойство, но, право же, я не могу постичь, как можно петь в такую минуту. Неужели вы ничуть не боитесь смерти?
— Не надо бояться… Ведь смерть лишь естественное завершение жизни.
— Но я не могу не бояться, — прохныкал Макулевич голосом перепуганного ребенка. — Мне так страшно… Подумайте только: сегодня я жив и мы с вами ведем беседу, а завтра меня засыплют землей, я сгнию, превращусь, в прах, и после меня ничего, ровно ничего не останется. Ах, это так ужасно, даже думать об этом невозможно!..
Слушая Макулевича, Янис несколько раз кивнул головой:
— Да, я вас понимаю. Человеку, который ни во что не верит, трудно умирать.
Точно ища спасения, осужденный на смерть схватил руку Даугавиета своими тонкими костлявыми пальцами:
— Вы изволили совершенно правильно сформулировать эту проблему… Я все время стремлюсь убедить себя, что существует загробная жизнь… Но, простите меня, я больше уж не могу, не могу в это верить… — Макулевич чуть не заплакал.
— Я в это тоже не верю, — успокоительно сказал ему Янис. — Но мы, коммунисты, верим, что жизнь человека продолжается в его делах.
— Впервые слышу подобные идеи! Но даже если б я с ними согласился, меня бы это нисколько не утешило. Вы, наверно, успели многое совершить за свою жизнь? Вы коммунист, господин Калнынь, а я, чего я достиг? Ничего после меня не останется, не считая никому не нужного венка сонетов…
— Да, Макулевич, о таких вещах каждому надо подумать заблаговременно, чтобы в смертный час жизнь не оказалась сплошным неоплаченным долгом перед народом, перед человечеством, перед будущим…
— А вы, господин Калнынь, вы идете на смерть со спокойной совестью?
— Совесть — это, пожалуй, не то слово. Я считаю, что прожил жизнь правильно. Правда, многого еще не сумел довести до конца. Но я знаю, что товарищи довершат то, чего мне сделать не удалось, и в этом я нахожу утешение. Они построят здание, фундамент которого заложили мы, они доживут до коммунизма… Вам, Макулевич, наверно, трудно это понять… И если б мне не пришлось умереть, то и я, наверно, своими глазами увидел бы то, о чем люди мечтали с незапамятных времен.
Слушая Даугавиета, Макулевич перестал думать о смерти. Удивительно! Вот человек, которому не суждено прожить и дня, а он способен накануне казни размышлять о далеком будущем. Уразуметь этого Макулевич никак не мог!
— Но предположим, что то, о чем вы говорите, сбудется, — робко спросил он. — Какая же нам с вами от этого польза? Мы-то ведь уже не увидим этого!..
— Мы не увидим, но зато другие доживут, те, за счастье которых мы боролись. Они не забудут павших в борьбе. И это нам послужит наградой.
Тюрьма, только что глухо гудевшая от перестуков, вдруг затихла. Все замерли, прислушиваясь. В наступившей тишине Янис вместе с другими услышал рокот моторов. Это были советские самолеты.
Перепуганный Макулевич вскочил с нар и бросился к окну, хотя сквозь него даже неба не было видно.
— Скажите, господин Калнынь, — жалобно спросил он Яниса, — ведь бомбы не сбросят на тюрьму? Мы же тогда все погибнем…
На этот раз Даугавиет ничего не ответил. Он даже не улыбнулся в ответ на эти слова. Гул бомбардировщиков слышен и в корпусе, где находится Надежда… И ей голоса моторов покажутся дружеским приветствием. Да, пришло время попрощаться с Надей. Так хотелось поблагодарить ее за героическую стойкость, о многом сказать Может быть, на казнь их поведут вместе и удастся обменяться парой слов. Но в присутствии палачей он не смог бы открыть ей то, что сам от себя скрывал все эти годы. И зная обычаи заключенных, он стал шарить по всем углам, по всем щелям, надеясь найти хоть клочок бумаги.
— Вы что-нибудь потерли? — услужливо осведомился Макулевич.
— Нет, я просто смотрю, не запрятан ли где-нибудь клочок бумаги.
— Кажется, я смогу вам помочь. Меня, правда, обыскивали, но надзиратель каким-то чудом не заметил моего последнего сонета… Прошу вас, возьмите его, мне он больше не нужен.
Янис сел к столу и в призрачном синем свете лампочки стал писать крошечным кусочком графита:
“Наденька, друг мой! Нам немного осталось жить. Иначе я продолжал бы молчать. Ты знаешь, я часто говорил, что подпольщик не должен думать о личной жизни, но сам же нарушил это правило. Признаюсь, что виноват перед тобой: все эти годы я любил тебя. Ты ничего об этом не знала. Так было лучше… Но теперь ты должна знать как много тепла и сил ты мне давала. С тобой вместе мне легко умирать. Мы идем на смерть ради того, чтобы жили другие”.
В эту минуту Надежды уже не было в живых. Тюремный врач констатировал, что смерть наступила от внутреннего кровоизлияния после пыток. Тело Надежды Цветковой вынесли из камеры, а на стене осталась неоконченная темно-красная надпись, начертанная единственными чернилами, которые узнику доступны в застенке:
Я умираю за Советскую Латвию, умираю за …
Последняя ночь перед казнью… Надеяться на чудо Янис уже не мог. В эту ночь он мысленно хотел проститься со всем, что в жизни было ему дорого и близко: со звездами, что сверкали здесь, в рижском небе, и там, над Москвой; с землей, на которой так чудесно жить; с товарищами, связанными с ним большой, мужественной дружбой борцов за общее дело; с Надей…
Было бы куда лучше провести эту ночь одному. Но как раз сегодня в камеру привезли еще одного смертника. Это был знакомый Буртниека — Макулевич. Бедняга лежал на нарах и все время тихонько всхлипывал.
Янис большими шагами мерил камеру: от окна до дверей, от дверей до окна. Потом он остановился. Проведя ногтем по прутьям решетки, точно по струнам, он вдруг вспомнил свою любимую песенку. Ту, что часто пел Надежде. Ту, в которой каждый раз взамен позабытых слов придумывал новые.
Он и сам не заметил, как начал вполголоса напевать:
Быть может, навсегда умолкнет сердце,
Но нам с тобой неведом жалкий страх.
Пусть знает враг — любовь сильнее смерти,
И Родина живет у нас в сердцах.
Макулевич зашевелился на своих нарах.
— Простите, сударь, за беспокойство, но, право же, я не могу постичь, как можно петь в такую минуту. Неужели вы ничуть не боитесь смерти?
— Не надо бояться… Ведь смерть лишь естественное завершение жизни.
— Но я не могу не бояться, — прохныкал Макулевич голосом перепуганного ребенка. — Мне так страшно… Подумайте только: сегодня я жив и мы с вами ведем беседу, а завтра меня засыплют землей, я сгнию, превращусь, в прах, и после меня ничего, ровно ничего не останется. Ах, это так ужасно, даже думать об этом невозможно!..
Слушая Макулевича, Янис несколько раз кивнул головой:
— Да, я вас понимаю. Человеку, который ни во что не верит, трудно умирать.
Точно ища спасения, осужденный на смерть схватил руку Даугавиета своими тонкими костлявыми пальцами:
— Вы изволили совершенно правильно сформулировать эту проблему… Я все время стремлюсь убедить себя, что существует загробная жизнь… Но, простите меня, я больше уж не могу, не могу в это верить… — Макулевич чуть не заплакал.
— Я в это тоже не верю, — успокоительно сказал ему Янис. — Но мы, коммунисты, верим, что жизнь человека продолжается в его делах.
— Впервые слышу подобные идеи! Но даже если б я с ними согласился, меня бы это нисколько не утешило. Вы, наверно, успели многое совершить за свою жизнь? Вы коммунист, господин Калнынь, а я, чего я достиг? Ничего после меня не останется, не считая никому не нужного венка сонетов…
— Да, Макулевич, о таких вещах каждому надо подумать заблаговременно, чтобы в смертный час жизнь не оказалась сплошным неоплаченным долгом перед народом, перед человечеством, перед будущим…
— А вы, господин Калнынь, вы идете на смерть со спокойной совестью?
— Совесть — это, пожалуй, не то слово. Я считаю, что прожил жизнь правильно. Правда, многого еще не сумел довести до конца. Но я знаю, что товарищи довершат то, чего мне сделать не удалось, и в этом я нахожу утешение. Они построят здание, фундамент которого заложили мы, они доживут до коммунизма… Вам, Макулевич, наверно, трудно это понять… И если б мне не пришлось умереть, то и я, наверно, своими глазами увидел бы то, о чем люди мечтали с незапамятных времен.
Слушая Даугавиета, Макулевич перестал думать о смерти. Удивительно! Вот человек, которому не суждено прожить и дня, а он способен накануне казни размышлять о далеком будущем. Уразуметь этого Макулевич никак не мог!
— Но предположим, что то, о чем вы говорите, сбудется, — робко спросил он. — Какая же нам с вами от этого польза? Мы-то ведь уже не увидим этого!..
— Мы не увидим, но зато другие доживут, те, за счастье которых мы боролись. Они не забудут павших в борьбе. И это нам послужит наградой.
Тюрьма, только что глухо гудевшая от перестуков, вдруг затихла. Все замерли, прислушиваясь. В наступившей тишине Янис вместе с другими услышал рокот моторов. Это были советские самолеты.
Перепуганный Макулевич вскочил с нар и бросился к окну, хотя сквозь него даже неба не было видно.
— Скажите, господин Калнынь, — жалобно спросил он Яниса, — ведь бомбы не сбросят на тюрьму? Мы же тогда все погибнем…
На этот раз Даугавиет ничего не ответил. Он даже не улыбнулся в ответ на эти слова. Гул бомбардировщиков слышен и в корпусе, где находится Надежда… И ей голоса моторов покажутся дружеским приветствием. Да, пришло время попрощаться с Надей. Так хотелось поблагодарить ее за героическую стойкость, о многом сказать Может быть, на казнь их поведут вместе и удастся обменяться парой слов. Но в присутствии палачей он не смог бы открыть ей то, что сам от себя скрывал все эти годы. И зная обычаи заключенных, он стал шарить по всем углам, по всем щелям, надеясь найти хоть клочок бумаги.
— Вы что-нибудь потерли? — услужливо осведомился Макулевич.
— Нет, я просто смотрю, не запрятан ли где-нибудь клочок бумаги.
— Кажется, я смогу вам помочь. Меня, правда, обыскивали, но надзиратель каким-то чудом не заметил моего последнего сонета… Прошу вас, возьмите его, мне он больше не нужен.
Янис сел к столу и в призрачном синем свете лампочки стал писать крошечным кусочком графита:
“Наденька, друг мой! Нам немного осталось жить. Иначе я продолжал бы молчать. Ты знаешь, я часто говорил, что подпольщик не должен думать о личной жизни, но сам же нарушил это правило. Признаюсь, что виноват перед тобой: все эти годы я любил тебя. Ты ничего об этом не знала. Так было лучше… Но теперь ты должна знать как много тепла и сил ты мне давала. С тобой вместе мне легко умирать. Мы идем на смерть ради того, чтобы жили другие”.
В эту минуту Надежды уже не было в живых. Тюремный врач констатировал, что смерть наступила от внутреннего кровоизлияния после пыток. Тело Надежды Цветковой вынесли из камеры, а на стене осталась неоконченная темно-красная надпись, начертанная единственными чернилами, которые узнику доступны в застенке:
Я умираю за Советскую Латвию, умираю за …
42
Эрик поднял кулак, чтобы постучать в стену ванной комнаты. Но рука его вдруг повисла в воздухе — он услышал негромкий, как звонок будильника, сигнал тревоги. Он уже давно привык к этим кратким перерывам в работе, которые случались по крайней мере раз десять в день. Вечно погруженный в работу, он как-то полностью еще не осознал всей важности последних событий, о которых рассказывал Даугавиет. “Наверно, пришла Скайдрите, — подумал он, — или, может быть, Донат”. Растянувшись на животе в узком проходе, Эрик терпеливо ждал “отбоя”. Но минуты шли, а звонка все не было. Пожалуй, нет смысла здесь торчать, лучше пойти поработать. Спустившись к себе, Эрик оттиснул гранки и начал тщательно вычитывать корректуру — не хотелось попусту терять время. Нашел несколько опечаток, быстро исправил ошибки. Звонок молчал. Эрик начал нервничать. Он знал, что задание исключительно срочное. Вынужденный отдых впрок не шел, наоборот — только выбивал из колеи. Ничего не поделаешь, приходится терпеливо ждать… Его мучительно клонило ко сну. Чтобы превозмочь себя, он включил радио. Эрик сегодня дважды слушал последние известия, и все же он опять надеялся услышать что-нибудь новое. Красная Армия гигантскими шагами устремлялась вперед, и каждый час мог принести значительные изменения в положении на фронтах. Но, как назло, в приемнике гудело, трещало, выло — наверно, зубной врач на четвертом этаже снова включил бормашину. Звонок молчал. Мысленно проклиная назойливого посетителя, Краповский вытянулся на койке. Взгляд его упал на бутылку, в ней стояли красные кленовые листья — подарок Скайдрите. С тех пор как она появилась в “квартире без номера”, душный подвал всегда оживляла какая-нибудь зелень. Зимой — ветки хвои, в марте — пушистая верба, в мае — первые фиалки, потом сирень, жасмин, васильки, астры и, наконец, осенние листья. Да, время неудержимо мчалось вперед, и, кажется, вместе с полетом времени росла его любовь к этой хрупкой девушке, проявлявшей столько воли и выдержки. Однажды, много-много месяцев назад, он снисходительно улыбался, слушая ее ребяческие рассуждения о бегстве к партизанам. Но ведь она все-таки добилась своего. Вот какая у него подруга! Звонок молчал… Теперь Эрик физически ощущал мучительную тишину. Он взглянул на часы, но тут же вспомнил, что не засек времени, когда раздался сигнал тревоги. Полчаса наверняка уже прошло, а может быть, и больше… Скайдрите давно бы следовало вернуться, ей надо сделать оттиски. Почему же она не идет? Что случилось наверху? Ведь за домом слежка, ищут Буртниека… Что бы он сам стал делать на месте гестаповцев? Прежде всего обыскал бы весь дом. Да, да, именно так; теперь Эрик точно знал, что звонок был не обычным предупреждением, а настоящим сигналом тревоги. Сигналом тревоги, после которого нет отбоя… Наверху гестаповцы! Яниса и Ядвигу арестовали, может быть, и Скайдрите! Жизнь товарищей в опасности, а он, оторванный от внешнего мира, ничем не может им помочь. Сознание собственной безопасности заставляло его еще острее тревожиться о друзьях. Найти “квартиру без номера” фашистам так легко не удастся. Запаса консервов и сухарей хватит на неделю, даже больше. Он дождется Красной Армии. А типография, а листовки? Кто их будет писать, распространять?.. Какой толк в том, что он, Эрик Краповский, спасет свою жизнь, если погибнет типография? Опять он остался один, как в тот раз, на Шкедском шоссе. Такое же отчаяние, то же безвыходное положение. Но тогда вопреки всему борьба продолжалась, и теперь он тоже не может, не смеет ее прекращать. Недаром Янис говорил, что воля человека не знает преград. Волнение не давало Эрику покоя, побуждало действовать. Он снова добрался по проходу до ванной комнаты и приложил ухо к стене. Ни звука… Сквозь толстую стену не доносилось ни малейшего шума… Вдруг Эрик вздрогнул — он услышал тихие шаги. Нервы у него были так напряжены, что ему сначала показалось, будто шаги раздаются по ту сторону стены, в ванной комнате. Нет, кто-то ходит внизу, в типографии. Но кто? Тихо, стараясь не шуметь, он стал спускаться, вниз и вдруг ощутил на лице чье-то горячее дыхание. Чья-то рука нащупала его руку… Скайдрите! Ну конечно, она пробралась по запасному ходу… — Что же нам теперь делать? — спросил потрясенный Эрик, после того как Скайдрите рассказала ему о случившемся. Девушка сбросила забрызганный грязью плащ и вынула из Элизиной сумки хлеб и бидончик с молоком. — Будем работать, Эрик. Листовки нужно выпустить. Ведь Жанис сказал, что завтра люди должны их прочитать. Пусть гестаповцы увидят, что нас не одолеть. Голос Скайдрите был так же спокоен, как всегда. Да, эту девушку, прошедшую суровую школу подполья, ничто не могло сломить. Сейчас нет времени скорбеть. Горе переплавлялось в ненависть. Борьба продолжалась с удвоенным напряжением. В этот миг Эрик понял яснее, чем когда-либо, как неузнаваемо изменился характер его любимой и как вместе с этим изменились и их отношения. Прежде Скайдрите была необходима поддержка и руководство, теперь же сам Эрик черпал надежду в ее суровом спокойствии. — Я и сам уже об этом думал. Но Жанис успел написать только половину. Видишь, на чем кончается текст?.. — И Эрик показал ей еще мокрый оттиск. “…Списки подлежащих расстрелу уже составлены. В этих списках, может быть, есть и твое имя или имя твоих близких. А те, кому посчастливится спастись от эсэсовской пули и душегубок здесь, в Латвии, будут насильно увезены в гибнущую под бомбами Германию. Екельн и Дрекслер обещали фюреру, что не оставят в Риге ни одного человека, который бы дождался освободителей…” — Тебе, Эрик, самому придется дописать воззвание, — строго сказала Скайдрите. — Я помогу. Эрик взял толстый карандаш, который столько раз держали пальцы Яниса, когда он записывал последние известия из Москвы. Эрик быстро набросал первые фразы: “Чтобы спасти свою жизнь и свободу, перед тобой, рижанин, только один путь…” Эрик и Скайдрите сидели рядом, сдвинув головы, крепко прижавшись друг к другу, и казалось, что карандаш водят две руки. “Рижские рабочие! Организуйте на своих заводах отряды охраны! Спасайте машины и средства транспорта, не давайте вывозить их в Германию. Оказывайте вооруженное сопротивление шуцманам, которые хотят угнать в неволю вас и ваши семьи. Безжалостно бейте гитлеровских бандитов, закладывающих мины под здания города. С оружием в руках помогайте Красной Армии быстрее освободить родной город!” — Как ты думаешь, не написать ли в конце какой-нибудь лозунг? — спросила Скайдрите, когда воззвание было написано. — Например: “Нет победы без борьбы!” — Идет, — согласился Эрик. — А в самом конце дадим четверостишие из “Песни латышских стрелков”: Чтоб Рига песни пела вновь, Пролей, не дрогнув, вражью кровь, А тот, кто в рабство нас ведет, От пули не уйдет. Назавтра, в восемь часов утра, Скайдрите выбралась из хорошо замаскированного отверстия старой канализационной сети среди развалин на берегу Даугавы. Дневной свет слепил глаза. Скайдрите спрятала грязный плащ и вытерла туфли. Неся тяжелую сумку с листовками, она осторожно пробиралась вдоль полуразрушенной стены, которая скрывала ее от прохожих. В то же время сквозь отверстия в стене Скайдрите могла видеть почти всю улицу Грециниеку. Она подождала, пока мимо протащится рота немецких солдат в пыльных касках, со скатками поверх вещевых мешков, и решительным шагом направилась в сторону почты. В девять часов листовки были уже у Висвальда Буртниека в Чиекуркалне. В двенадцать жители Риги видели листовки на стенах домов, находили их в почтовых ящиках своих квартир, на скамейках скверов и садов. В четыре часа дня одна из них попала в особый ящик, где Рауп-Дименс держал по одному экземпляру листовок, выходящих (по агентурным сведениям) из типографии, возглавляемой Жанисом.43
В шесть часов утра в коридоре у дверей камеры звякнула связка ключей. Обычно в это время осужденных уводили на казнь. Попрощавшись с Макулевичем, Янис твердым шагом вышел из камеры. Даугавиета посадили в закрытую тюремную машину. “Разве виселица находится в самом центре?” — подумал Янис, прислушиваясь к приглушенному шуму уличного движения. Он различал скрежет гусениц танков и самоходных орудий, резкие гудки легковых машин, тяжелый стук множества подкованных сапог. Рига превратилась в прифронтовой город. Вот раздался громкий лай собак. По хмурому лицу охранника-эсэсовца промелькнула злорадная усмешка. — Слышишь, Ганс? Жаль, что нам не пришлось участвовать в охоте. Дрекслер сказал, что ни одного латыша не оставит в Риге… “Пусть ухмыляются, — подумал Янис. — Завтра они сами будут качаться в тех же петлях, которые сегодня приготовили для нас”. Он по-прежнему не испытывал страха, наоборот — он чувствовал даже какую-то горькую радость от того, что еще раз увидит Надежду. Но когда машина остановилась и дверцу отворили, Янис понял, что его привезли не на казнь, а снова в гестапо. …Все окна в кабинете штурмбанфюрера были тщательно занавешены. Портьеры из плотного черного бархата слегка приглушали непрерывный гул канонады. Рауп-Дименс ее не слышал с 1941 года. Гул орудий действовал на нервы, мешал сосредоточиться. Однако это совсем не означало, что Рауп-Дименс трусил. Он лично уведомил Банге о своем намерении остаться в Риге и закончить дело Жаниса. Конечно, Жаниса можно было увезти с собой. Но это означало бы потерю времени. Кроме того, Рауп-Дименс давно решил, что допрос Жаниса должен состояться именно в Риге. В глубине сознания гестаповец опасался, как бы арестованному в суматохе поспешного отступления не представился случай совершить побег. Штурмбанфюрер смотрел на Жаниса не только как на обычного арестованного коммуниста, а как на своего личного врага, которого никому не хотел уступать. Недавно удалось пронюхать, что в Лиепае тоже работает подпольная типография. Учитывая новую обстановку на фронте, лиепайскую типографию необходимо немедленно ликвидировать. Рауп-Дименс был уверен, что именно Жанис знает о ее существовании. Надо заставить арестованного выдать руководителей типографии и ее местонахождение. В предстоящем поединке во что бы то ни стало нужно выйти победителем. Ожидая арестованного, гестаповец помогал своим подчиненным подготавливать бумаги для эвакуации. Окинув взглядом толстые кипы папок, он решил, что ему не в чем себя упрекнуть. Сделано немало, работал он хорошо, как и полагается истинному Рауп-Дименсу. Только в одном деле его постоянно преследуют неудачи: Бауэр кончил жизнь самоубийством и погубил десять его лучших помощников, Буртниек скрылся, Цветкова умерла, так и не сказав ни слова. Но Жанис у него в руках! Уж с ним-то он рассчитается за все! В дверях показался шарфюрер Гессен: — Хайль Гитлер! — Этим приветствием Гессен как бы хотел подчеркнуть в эту тяжелую пору свою веру в фюрера. Рауп-Дименс небрежно махнул рукой. — Ну, что у вас, Гессен? — Осмелюсь доложить, господин штурмбанфюрер, доктор Банге только что изволили отбыть. Он приказал передать, чтобы вы взяли Жаниса с собой, если здесь не удастся заставить его говорить. В отношении нашей эвакуации все подготовлено. Комендант позвонит, когда последние учреждения будут уезжать из города. В наше распоряжение предоставят три машины. — Спасибо, Гессен. Где Жанис? — Уже доставлен, господин штурмбанфюрер. Лицо Рауп-Дименса исказила уродливая гримаса. — Должно быть, радуется, что вылез из петли. Ничего, у него эта радость быстро пройдет. Он еще на коленях будет умолять меня, чтоб его повесили. — Господин штурмбанфюрер, я забыл доложить вам, что при обыске у него обнаружили вот это. Мне кажется, там что-то ценное. Рауп-Дименс схватил протянутый листок бумаги. — Как, опять какие-то стихи?! — заорал он. — Да знаете ли вы, кто их написал, идиот вы этакий? Решетки и замки… То жизнью называют… О жители могил, лишь вам подвластно счастье… Усопшие, я к вам бегу от самовластья, На вас в сей скорбный час я уповаю! — На другой стороне тоже что-то написано, — извиняющимся тоном робко заметил Гессен. Рауп-Дименс перевернул листок. — Да, это Жанис, — сказал он с циничной усмешкой. — Объяснение в любви с петлей на шее. “Мы идем на смерть ради того, чтобы жили другие”. Ничего подобного! Ты будешь жить для того, чтобы из-за тебя другие умирали… Через десять минут можете его ввести.44
“Пожалуй, стоило промучиться три невыразимо тяжелых года ради этого дня”, — думал Буртниек, прислушиваясь к громким раскатам орудий. Казалось, они гневно переговариваются: с одной стороны доносился глухой, полный отчаяния, уже охрипший голос гитлеровской артиллерии, с другой — гремел ликующий клич наступающей Красной Армии, все ближе, все громче… Но не все встретят этот праздничный день победы. Буртниек узнал о гибели Надежды Цветковой, знал и о том, что Яниса Даугавиета сегодня казнят, а может быть, уже казнили… Буртниек сидел на грязном, усыпанном железными опилками токарном станке, зажав меж колен винтовку. Пятна ржавчины на ее стволе говорили о том, что оружие долго хранилось в сыром месте. Висвальд неусыпно наблюдал за заводским двором, где в беспорядке валялись части разобранных машин, и за широкой улицей с редкими деревцами у тротуаров, по которой в таком же беспорядке шагали, бежали, ехали и мчались фашистские части. Большинство их двигалось на запад, к центру города, но порою какое-нибудь подразделение направлялось на восток, к близкой линии фронта. И тогда узкая струя зелено-синих касок сталкивалась с откатывающимся потоком, все сливалось и смешивалось, образовывался затор, слышалась брань офицеров, выстрелы, пока клубок наконец не распутывался. В панике отступления, казалось, не было места для обдуманных действий. Однако Буртниек не сомневался, что фашисты при малейшей возможности примутся уничтожать все крупнейшие фабрики и заводы, в том числе и завод, который рабочие взялись охранять под его руководством. Висвальд Буртниек всю свою жизнь провел в мире книг. На заводах и фабриках ему случалось бывать не часто, его всякий раз раздражал и отпугивал заводской шум и грохот, казавшийся чем-то хаотическим, стихийным. Сегодня же он поймал себя на том, что болезненно ощущает мертвую тишину цеха. Огромное помещение выглядело совсем опустевшим. Светлые четырехугольники на цементном полу указывали места, где прежде стояли машины. Часть из них уже на пути в Германию, остальные группе Силиня удалось закопать. Остались только старые негодные станки да старомодные приводные ремни, беспомощно свисающие с потолка, как поникшие паруса при полном штиле. Грохот канонады все приближался. В громовых раскатах артиллерии уже можно было различить гневное рычание танков, глухие разрывы мин, вой “катюш”. Буртниек надеялся, что фашисты позабыли о заводе. Но вот совсем рядом грянул выстрел, из окон цеха вылетели стекла, и почти в это же мгновение на улице показалась зелено-бурая автомашина. Подъехала команда фашистских подрывников — к счастью, их было только четверо… Гитлеровцы соскочили с машины и бросились во двор. Они волокли за собой длинные шнуры. Несмотря на волнение, Буртниек все же заметил, что первым выстрелил старый рабочий. Бежавший впереди гитлеровец странно выгнулся, выпустил из рук свою ношу и тяжело плюхнулся на землю. Фрицы бросили взрывчатку и, в свою очередь, открыли огонь. Пуля просвистела мимо уха Буртниека и, рикошетом отскочив от потолка, ранила одного из защитников завода. Через несколько минут автоматы фашистов смолкли. Посреди заводского двора лежали четыре немецких солдата; гудел мотор машины подрывников. Буртниек заметил, как Силинь побежал выключить его, и услышал слова, сказанные старым рабочим: — Первый раз в жизни человека убил… Но разве таких назовешь людьми?
— “Если враг не сдается, его…” — Буртниек хотел процитировать Горького, но буквально на полуслове глаза его закрылись и он уснул.
Затем, будто сквозь туман, он услышал голос Силиня: “Проснись!” Висвальд почувствовал, как его трясут сильные руки. С большим напряжением он открыл глаза и инстинктивно схватил винтовку:
— Фашисты?
— Сообщение о Жанисе!
Только теперь Буртниек заметил женщину, принесшую новую весть.
Сегодня утром Жаниса перевезли из Центральной тюрьмы в гестапо!
Висвальд тут же стряхнул с себя сон. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться последней, единственной возможностью спасти Даугавиета…
— Как ты думаешь? — робко спросил он товарища.
Силинь понял Буртниека с полуслова.
— Но как? У нас ведь никаких шансов…
Да, шансов действительно было мало. Отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, какую-нибудь лазейку, Буртниек молча уставился в окно. Его взгляд бессознательно скользил по неподвижным телам подрывников, остановился на немецкой военной машине, окрашенной в маскировочный цвет, затем снова вернулся к темно-зеленым мундирам убитых фашистов. И тут вдруг его осенила мысль переодеться в немецкую форму! Безумная мысль, но чего только не сделаешь ради спасения товарищей! Силинь поведет машину. Сам он, свободно владея немецким языком, постарается провести их в здание гестапо, а когда нужно будет, все четверо сумеют за себя постоять.
Буртниек не думал об опасности, он думал о Янисе и о других неведомых ему узниках гестапо, которые, быть может, тоже погибают в этот час победы. И не сомневался, что товарищи пойдут за ним.
Кисис сидел в нагруженном до предела грузовике. Только благодаря хорошим связям ему удалось раздобыть машину. Теперь он уезжает из Риги, прочь от большевиков, снаряды которых, как ему казалось, зловеще вопрошали: “Где ты, Кисис? Где ты, Кисис?” Нет, он не дастся в руки большевикам. Кисис торопил шофера, сулил ему золотые горы.
Проехав мимо здания гестапо — оно теперь казалось каким-то заброшенным, в дверях не видно даже охраны, — машина Кисиса чуть не столкнулась с воинским грузовиком, мчавшимся с бешеной скоростью. Перед ним мгновенно промелькнуло изрытое оспой продолговатое лицо в очках. Опытный глаз агента успел опознать в немецком солдате Висвальда Буртниека, Буртниека, которого гестапо так долго разыскивало! Буртниека, за голову которого была обещана крупная награда!..
Ноздри Кисиса дрогнули. В других условиях он, разумеется, не упустил бы такого солидного куша, но сейчас колебался не более секунды. Где-то за спиной гулко раздавались выстрелы, и Кисис погнал машину вперед.
Остановиться ему пришлось уже далеко за пределами города, и то лишь потому, что образовавшаяся на шоссе пробка не давала возможности проехать дальше.
— Первый раз в жизни человека убил… Но разве таких назовешь людьми?
— “Если враг не сдается, его…” — Буртниек хотел процитировать Горького, но буквально на полуслове глаза его закрылись и он уснул.
Затем, будто сквозь туман, он услышал голос Силиня: “Проснись!” Висвальд почувствовал, как его трясут сильные руки. С большим напряжением он открыл глаза и инстинктивно схватил винтовку:
— Фашисты?
— Сообщение о Жанисе!
Только теперь Буртниек заметил женщину, принесшую новую весть.
Сегодня утром Жаниса перевезли из Центральной тюрьмы в гестапо!
Висвальд тут же стряхнул с себя сон. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться последней, единственной возможностью спасти Даугавиета…
— Как ты думаешь? — робко спросил он товарища.
Силинь понял Буртниека с полуслова.
— Но как? У нас ведь никаких шансов…
Да, шансов действительно было мало. Отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, какую-нибудь лазейку, Буртниек молча уставился в окно. Его взгляд бессознательно скользил по неподвижным телам подрывников, остановился на немецкой военной машине, окрашенной в маскировочный цвет, затем снова вернулся к темно-зеленым мундирам убитых фашистов. И тут вдруг его осенила мысль переодеться в немецкую форму! Безумная мысль, но чего только не сделаешь ради спасения товарищей! Силинь поведет машину. Сам он, свободно владея немецким языком, постарается провести их в здание гестапо, а когда нужно будет, все четверо сумеют за себя постоять.
Буртниек не думал об опасности, он думал о Янисе и о других неведомых ему узниках гестапо, которые, быть может, тоже погибают в этот час победы. И не сомневался, что товарищи пойдут за ним.
Кисис сидел в нагруженном до предела грузовике. Только благодаря хорошим связям ему удалось раздобыть машину. Теперь он уезжает из Риги, прочь от большевиков, снаряды которых, как ему казалось, зловеще вопрошали: “Где ты, Кисис? Где ты, Кисис?” Нет, он не дастся в руки большевикам. Кисис торопил шофера, сулил ему золотые горы.
Проехав мимо здания гестапо — оно теперь казалось каким-то заброшенным, в дверях не видно даже охраны, — машина Кисиса чуть не столкнулась с воинским грузовиком, мчавшимся с бешеной скоростью. Перед ним мгновенно промелькнуло изрытое оспой продолговатое лицо в очках. Опытный глаз агента успел опознать в немецком солдате Висвальда Буртниека, Буртниека, которого гестапо так долго разыскивало! Буртниека, за голову которого была обещана крупная награда!..
Ноздри Кисиса дрогнули. В других условиях он, разумеется, не упустил бы такого солидного куша, но сейчас колебался не более секунды. Где-то за спиной гулко раздавались выстрелы, и Кисис погнал машину вперед.
Остановиться ему пришлось уже далеко за пределами города, и то лишь потому, что образовавшаяся на шоссе пробка не давала возможности проехать дальше.
45
Штурмбанфюрер начал допрос заранее приготовленными словами: — Вы, кажется, горячо любили Цветкову… В таком случае могу вас порадовать приятной вестью: ваша возлюбленная отправилась, как говорится, в лучший мир. Но не рассчитывайте, что я вам тоже выдам туда билет. Вы слишком много знаете, чтобы я мог с вами так легко расстаться… Скажу ясно и прямо: мне нужна лиепайская типография. У вас стальная воля, но, как известно, алмазом режут даже сталь… Я прикажу вас пытать дни и ночи, без перерыва, без отдыха… Четверо эсэсовцев будут заниматься только вами. — Все равно я не скажу ни слова. А вот вам бы лучше подумать над тем, как вы будете оправдываться перед судом народа. Вас не станут пытать, но все равно вы все расскажете. У вас нет той идеи, которая дает нам силу молчать… Даугавиет ждал, что гестаповец прервет его ударом кулака, но тот лишь иронически усмехнулся. — Вы правы. Такой идеи у меня нет. Зато у меня есть другие, куда более полезные идеи. Я вам еще не все сказал… Мы вас увезем в Германию, а здесь, в моем кабинете, случайно забудем написанное вашей рукой донесение, которое будет весьма красноречиво свидетельствовать о том, что вы были нашим агентом и провокатором. Вот этого нежного любовного послания вполне достаточно для того, чтобы наши специалисты могли воспроизвести ваш почерк, причем они не ошибутся ни в одной буковке, ни в едином штрихе. Если же вы дадите мне необходимые сведения, то все останется между нами и это письмецо я вам, разумеется, отдам. Никакими ужасами и пытками нельзя было запугать Яниса, но это дьявольское измышление его потрясло. Они это сделают! В глазах сотен товарищей Янис Даугавиет будет подлейшим негодяем, предавшим Бауэра и Буртниека, продавшим палачам Надежду Цветкову… Почти во всех провалах, происшедших в Риге за три года, будут обвинять его. Быть может, скажут, что на его руках кровь Иманта Судмалиса и Джемса Банковича… Нет, этого допустить нельзя. Выход только один: убить гестаповца! Вошел Гессен. — Господин штурмбанфюрер, только что звонил комендант. Русские пытаются прорваться в город с северо-запада. В любую минуту может поступитьприказ об эвакуации… Какие будут распоряжения? — Пока можете идти. — И, повернувшись к Янису, Рауп-Дименс заметил спокойно и деловито: — Сами видите, мало осталось времени. Так что выбирайте! От напряжения на лбу Даугавиета вздулись жилы. Как исполнить задуманное? Нужно остаться с гестаповцем наедине, но за машинкой сидит молодой эсэсовец, готовый записывать каждое слово. Рауп-Дименс не спускал с Даугавиета глаз, пытаясь распознать, увенчался ли его маневр успехом. Он не знал, что в этот момент советские танки-амфибии, зайдя в тыл гитлеровским войскам, форсируют Киш-озеро, что рижская телефонная станция взорвана и комендант уже не может больше звонить в гестапо. Грохот боя нарастал. Где-то вдали играл наводящий ужас орган “катюш”, где-то с глухим взрывом взлетали в воздух склады боеприпасов, совсем близко трещали отдельные выстрелы… Молодой эсэсовец прислушивался к тому, что доносилось с улицы. Он побелел как бумага, но не смел обнаружить страх перед начальством. — Выбирайте! — повторил штурмбанфюрер. Янис, как бы в отчаянии, закрыл лицо руками. Сквозь пальцы он следил за Рауп-Дименсом, который правой рукой сжимал лежавший на столе револьвер. Медленно, словно борясь с самим собой, Даугавиет промолвил: — Тут нечего выбирать… Вы загнали меня в тупик… Я вынужден принять ваш ультиматум… Я все скажу… Наконец-то Жанис прижат к стене!.. Какая победа! Внезапно почувствовав себя словно на десять лет моложе, Рауп-Дименс крикнул эсэсовцу: — Вернер, записывайте! Не отнимая ладоней от лица, Янис сказал: — Вы обещали, что это останется между нами… — Правильно! Вернер, выйдите. Эсэсовец скорее вылетел, чем вышел из кабинета. Рауп-Дименс выпустил из руки револьвер и, вынув из нагрудного кармана авторучку, приготовился записывать. — Пишите… Руководитель подпольной типографии в Лиепае… — Дальше, дальше, — подгонял Рауп-Дименс. Но прежде чем он успел поднять голову, руки Яниса сдавили ему горло. В этот миг длинные портьеры на окнах зашевелились, из-за них выскочили двое гестаповцев и кинулись на Яниса. Штурмбанфюрер, не в силах вымолвить ни слова, несколько раз судорожно глотнул ртом воздух и в безумной ярости забарабанил кулаками по кнопкам звонков. В коридоре послышался топот. — Увести убийцу! — прорычал Рауп-Дименс. Однако автоматы вбежавших солдат обратились против всей стоящей в комнате группы. Один из солдат — это был Буртниек — шагнул вперед и, глядя в упор на Рауп-Дименса, сказал: — Об этом вы можете не заботиться, убийцы от нас никуда не уйдут!
Остолбеневшие эсэсовцы отпустили свою жертву, и Янис в последнее мгновение успел выхватить у Рауп-Дименса пистолет, который штурмбанфюрер уже собирался поднести к своему виску.
Теперь они стояли лицом к лицу. Янис мог бы отплатить ему за все пытки и муки, за смерть тысяч людей, за утрату любимой женщины. Почти каждый на его месте именно так бы и поступил, и никто не посмел бы осудить его за это. Но Даугавиет выпустил бессильно повисшую руку гестаповца. Отвернувшись, он шепотом произнес:
— Уведите! Пусть их судит народ!
Затем он подошел к Буртниеку и просто сказал:
— Спасибо, друг!
— Об этом вы можете не заботиться, убийцы от нас никуда не уйдут!
Остолбеневшие эсэсовцы отпустили свою жертву, и Янис в последнее мгновение успел выхватить у Рауп-Дименса пистолет, который штурмбанфюрер уже собирался поднести к своему виску.
Теперь они стояли лицом к лицу. Янис мог бы отплатить ему за все пытки и муки, за смерть тысяч людей, за утрату любимой женщины. Почти каждый на его месте именно так бы и поступил, и никто не посмел бы осудить его за это. Но Даугавиет выпустил бессильно повисшую руку гестаповца. Отвернувшись, он шепотом произнес:
— Уведите! Пусть их судит народ!
Затем он подошел к Буртниеку и просто сказал:
— Спасибо, друг!
46
Улыбаясь сквозь слезы, Рига осыпала своих освободителей золотом осенних листьев. Листья падали на каски и погоны бойцов, прилипали к стволам орудий. Не один солдат смахивал набежавшую слезу, принимая это приветствие родного города. Оставив товарищей стеречь Рауп-Дименса, Янис вышел на улицу один. Попытки разбудить тут же уснувшего Буртниека не увенчались успехом. Висвальда наконец окончательно свалил сон. После дней, проведенных в тюрьме, улицы казались Янису необычайно широкими. На набережной еще рвались снаряды, горели дома, но в центре, на перекрестке улиц Кришьяна Барона и бульвара Райниса, уже стояла девушка в красноармейской форме. Помахивая красным флажком, она указывала колоннам победителей путь на запад. Своими белокурыми длинными волосами регулировщица напоминала Надежду. Но, подойдя ближе, Янис увидел, что она совсем другая — краснощекая, курносенькая. На тротуарах толпилось множество людей. То тут, то там, полыхая, точно пламя, на резком октябрьском ветру, развевались сбереженные красные флаги. У разрушенного здания почты стоял приземистый подполковник и наблюдал за тем, как бойцы протягивают телефонный кабель. — Прямой провод с Москвой налажен! — доложил подполковнику сержант-связист. Даугавиет споткнулся о кабель и, стараясь удержать равновесие, невольно ухватился за рукав подполковника. — Товарищ Авот! — вскричал он. — Вот так встреча! Авот долго вглядывался в лицо Яниса, которого никак не мог узнать. — Даугавиет? — неуверенно спросил он наконец. — Как ты изменился! — Гестапо, — кратко пояснил Янис и вспомнил, что уже две недели не курил. — Нет ли у тебя папиросы? Авот поспешно вытащил пачку “Беломора”. Ему вдруг вспомнилась Центральная тюрьма. Тогда товарищи курили самодельный табак: смесь из раскрошенных, пропитанных никотином трубок и соломы из тюремных матрацев. — Долго? — спросил он. — Ты совсем поседел… — Как сказать… Четырнадцать дней, а может, и четырнадцать лет… Еще час, и вы бы не застали меня в живых. А Надежду замучили. — Голос его дрогнул. — Да ты ведь ее не знал… Мимо проехала зенитная батарея. Круглые глаза прожекторов отражали небо. Чей-то детский голос спросил: — Посмотри, мама, какая большущая миска! Разве из нее стреляют?.. — Ты представить себе не можешь, как я рад видеть тебя, Ригу… Ну сам подумай, какое замечательное совпадение: мы были вместе в первый день войны и теперь — в первый день освобождения!.. Если не очень торопишься, пойдем к нам. Спешу домой, хочется поскорей узнать, что с товарищами… — Пошли! Ну, рассказывай же! На улице Грециниеку им преградил дорогу сапер. В руке он держал миноискатель с торчащими металлическими усиками. — Товарищ подполковник, дальше идти опасно. С того берега фрицы палят. Авот отмахнулся — не впервой, а Янис и вовсе не слышал предупреждения. Чем ближе к дому, тем сильнее мучило беспокойство за Эрика, Скайдрите, старого Доната и Элизу. Застанет ли он их в живых? Неужели они погибли в последнюю минуту? В клубах черного дыма, поднимавшегося с набережной, виднелся дом Бауманиса, по-прежнему целый и невредимый. В парадном Даугавиет и Авот услышали сердитое ворчание Доната, доносящееся с площадки второго этажа. В следующее мгновение старик, точно юноша, легко сбежал по ступеням. — Удрала все-таки, проклятая фашистская га… Последнее слово так и застряло у него в горле. От изумления из рук Доната выпала метла и покатилась к ногам Яниса. — Глядите! Да ведь это Жанис! И, даже не поздоровавшись, он стрелой влетел в квартиру: — Эрик! Скайдрите! Элли, чего ты там возишься? Скорее! Наш Жанис жив! …Они сидели вокруг стола, за которым, бывало, Янис так часто сидел с Надей. На стене еще висела ее кофточка, на комоде разбросаны ее заколки, и только теперь Янис по-настоящему ощутил, что навсегда потерял верного друга и любимую женщину. Он отвернулся, чтобы скрыть слезы, но потом, взяв себя в руки, сказал: — Ну, товарищ подполковник, позволь выпить рюмку за твое здоровье. Вам, освободителям, честь и слава! Сейчас спущусь в “квартиру без номера” и принесу бутылку. Три года я хранил ее там ради этого дня. Авот ничего не ответил, но, поглядев на Скайдрите и Эрика, нежно соединивших руки, на старую Элизу, утиравшую платком слезы, на взволнованного Доната, усердно заталкивавшего в трубку предложенную подполковником папиросу “Беломор”, на седые виски Яниса, на простую ситцевую кофточку Нади, висевшую на стене, подумал: “Вы, герои подполья, достойны не меньшей славы. В самые черные дни сохранили вы незапятнанной честь трудового народа, Советская Латвия вас никогда не забудет!”


Г. Кубанский ГРИНЬКА - «КРАСНЫЙ МСТИТЕЛЬ» Повесть
НЕОБЫЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО
Базарный день подходил к концу. Длинные ряды мажар[27] с отпряженными конями сильно поредели. Немного оставалось на них лоснящихся арбузов, душистых узорчатых дынь и помидоров. Редкие покупатели неторопливо бродили по затихающему привозу. Опустевшая улица, по которой далеко — к самому взморью — тянулся привоз, стала широкой и бесконечно длинной. Ослепительно белели под августовским солнцем саманные хаты. Стремительный степной ветерок, словно обрадовавшись простору, стлался низко, по самой земле, сметая пыль и соломинки под колеса мажар и к дощатым заборам. А то вдруг высоко взмахнет он густой пыльной завесой и бросит ее наземь, разобьет на маленькие, бойко вертящиеся вихорьки. А сам помчится дальше, погонит по широкой улице пыльные волны. Все больше мажар оставалось на попечении мальчишек. Гордо восседали казачата на солнцепеке. В черных бешметах, туго перехваченных узкими сыромятными поясками с серебряным набором, в смушковых кубанках, надвинутых на самые брови, они грозно поглядывали на прохожих. Жизнь базара перешла с привоза в торговые ряды. Там станичники шли густой толпой. Отцы семей — важные бородатые казаки — спешили в хозяйственные и кожевенные лавки. Женщины постарше заполнили мануфактурный ряд. Молодые шумно толпились возле галантерейных лотков. Свисавшие с навесов разноцветные ленты, кружева и горящие на солнце мониста привлекали девчат, хотя на любой из них было столько бус, что с каждым ее шагом слышалось тяжелое, густое бряканье. Галантерейный ряд растянулся почти по всему базару. Последние лотки его стояли у переезда через полотно железной дороги. Дальше уже шли добротно сколоченные будки кожевников. На переезде, у черно-белого полосатого шлагбаума, сидел на столбике чумазый оборванный мальчишка. Не успел Роман Петрович поравняться со шлагбаумом, как беспризорник соскочил со столбика и окликнул его: — Дяденька! Роман Петрович откинул полу рабочего фартука и сунул руку в карман за кошельком. — Не надо мне денег, — остановил его мальчишка. — Отойдем в сторону. Дело есть. Роман Петрович присмотрелся к пареньку. Лицо его было в копоти и лоснилось, запыленные космы жестко торчали во все стороны из-под большой фуражки, вылинявшей, без козырька, с четким следом ополченческого креста. Быть может, поэтому влажный, яркий рот мальчугана и серые чистые глаза казались чужими на его чумазом лице. — Дело? — переспросил Роман Петрович. — Какое же у тебя ко мне дело? — Пойдем! — шепнул мальчуган и показал глазами в сторону. — Потолкуем. — Пойдем… Они свернули с переезда на железнодорожную насыпь, поросшую иссохшей, жесткой травой. Мальчуган остановился. Внимательно осмотрел он фартук Романа Петровича и спросил: — Ты, дядь, рабочий? — Рабочий. Паренек еще раз взглянул на фартук, испещренный разноцветными пятнами: — Маляр? — А ты что, — усмехнулся Роман Петрович, — собрался собственный дом красить? Мальчишка не смутился. Все так же деловито огляделся он по сторонам. Поблизости никого не было. — Скажи… — Он придвинулся к Роману Петровичу почти вплотную и дрогнувшим голосом спросил: — Скажи, где теперь большевики? Роман Петрович опешил. Если бы оборвыш действительно сказал, что ему требуется выкрасить собственный дом, то он, пожалуй, удивил бы его не больше, чем вопросом о большевиках. — Зачем они тебе? — спросил Роман Петрович, стараясь выиграть время и обдумать, как держать себя. Паренек понял, что собеседник его уклоняется от ответа. — Ты, дядь, не бойся меня, — быстро зашептал он. — Не бойся. Я парень хороший. Свой парень! — И он стукнул себя в оголенную загорелую грудь грязным кулаком. Услышав, что бояться нечего, Роман Петрович чуть не засмеялся. Ростом мальчишка был ему немного выше пояса. В дыры серых обтрепанных брюк проглядывало смуглое тело. Рваный офицерский френч с большими накладными карманами и наполовину подрезанными рукавами свисал до колен. Роман Петрович сдержал себя, не засмеялся. — Большевики, малец, далеко сейчас, — ответил он серьезно. — Где-то за Ростовом. — Насчет Ростова любой знает, — махнул рукой мальчуган. — Ты мне про здешних скажи. Где они? — Про здешних? — переспросил Роман Петрович. Настойчивость оборванца уже не нравилась ему. — Ничего, малец, не могу тебе сказать. Я даже не слышал, есть ли в городе большевики. — Ты не слышал, зато я… — Беспризорник оборвал фразу и выжидающе посматривал на собеседника. — Слышал, что ли? — Слышал. — Где? — В Общественном собрании. — Ты? — Роман Петрович осмотрел собеседника от босых, почти черных ног до громадной измятой фуражки. — В Общественном собрании? — Я! — гордо ответил мальчуган. — Сижу и слушаю, как там беляки разговаривают. — Где ж ты сидел там? — не выдержал Роман Петрович. — А на заборе. В аккурат против балкона. Беляки курили, а я слушаю… Один говорит: “Теперь здешним большевикам крышка”. А другой отвечает: “Генерал Тугаевский не зря приехал сюда. Он еще себя покажет!” А потом как пошли чесать языками! Я такое узнал! — Он зорко взглянул на собеседника, проверяя, какое впечатление произвели его слова. — А потом ихний хор пел. Я этому хору такого рака печеного приготовил! Всю ночь думал. Такое придумал! — Что же ты придумал такое? — спросил Роман Петрович с самым безразличным видом, хотя, услышав о генерале Тугаевском, он насторожился. Мало ли что мог услышать бойкий беспризорный мальчишка, с утра до ночи бегающий по городу паренек заметил, что собеседник заинтересовался его рассказом, и плутовато подмигнул ему: — Интересно? — Расскажи. — А ты прежде скажи: где теперь большевики? — Мальчуган вдруг сорвался с деловитого тона и как-то очень по-ребячьи произнес: — Я их, дядь, который день ищу. — Как же ты ищешь? — А так. Увижу, идет по улице рабочий посурьезнее — я к нему: “Скажи, где тут большевики?” Ну, как и тебе говорю. — И что же они? Мальчуган вздохнул: — Ни черт-ма толку! Кто смеется, а кто и серчает, прочь гонит. А один нашелся чудило, говорит: “Большевики сейчас в подполье”. Обдурить захотел. — Почему же обдурить? — остановил Роман Петрович нахмурившегося паренька. — Если в городе и остались большевики, так только в подполье. — В подполье? — вспыхнул мальчуган. — Да я сам который уж день в подпольях да сараях ночую, — никого там нету. Одни крысы! Он круто повернулся, соскочил на откос насыпи и на широко расставленных ногах съехал по сухой, скользкой траве вниз. Роман Петрович окликнул его, но тот даже не обернулся, юркнул в проход между будками, стоявшими тыльной стороной к полотну железной дороги. Просьба мальчонки удивила Романа Петровича и встревожила. В городе, где прочно обосновались деникинцы, за одно лишь знакомство с человеком, состоявшим в партии большевиков, можно было сесть за тюремную решетку. И вдруг… бездомный паренек останавливает прохожего в людном месте и спрашивает, как ему разыскать большевиков! Размышляя об этом, Роман Петрович все еще смотрел в сторону будок, за которыми скрылся оборвыш. Кто он и почему ищет большевиков? Не зря же парнишка завел такой разговор! Скользя по иссохшей траве, Роман Петрович спустился с крутой насыпи и пошел по кожевенному ряду. Он бродил между будками, увешанными ботинками, туфлями и громадными рыбацкими сапогами. Останавливался у прилавков, на которых были разложены подошвы, стельки, хром, юфта. Внимание его привлекла кучка людей. Роман Петрович подошел к ним и увидел, что они обступили его недавнего собеседника. Мальчуган поднял руки над головой и, звучно щелкая зажатыми в пальцах гладкими бараньими ребрышками, собирал публику. Потом он опустил руки, деловито осмотрел обступивших его людей и звонко прокричал: — Граждане дорогие! Дяденьки и тетеньки! Братишки и сестрицы! Не жалости жду я вашей, а уважения к моему таланту и голому сиротству. С малолетства остался я без отца; без матери, сиротою безродным и никому не нужным. Не знаю я ни материнской ласки, ни отцовского уважения. И пропасть бы мне в пучине жизненной, если б не открылся во мне счастье-талант бесценный. И теперь только он, талант мой, кормит меня и поит, одевает и обувает… Многие слушатели улыбались, глядя на худую, тонкую шею и рваный френч певца. Видно было, что “талант” кормил и одевал его обладателя очень неважно. Не обращая внимания на улыбки и шутки, оборванец кашлянул в кулак и запел, ловко прищелкивая костяшками о колено: Котенок Васька— Зелены глазки, Любил на теплой печке спать. Его поймали, Винтовку дали, На фронт послали воевать. Усы обрили И глаз подбили. Теперь не Васька он — солдат… Хлеборобы и солдаты, торговцы-разносчики и ремесленники внимательно вслушивались в слова наивной и злой песенки. Она высмеивала порядки, при которых даже безобидного серого котенка Ваську заставили воевать неизвестно за что. Кое-кто из слушателей испробовал на себе унтерские кулаки и понимал, о чем идет речь в песенке. Беспризорник закончил песенку. Широким жестом он сорвал с головы фуражку: — Граждане! Кто сколько не пожалеет! В измятую фуражку посыпались монеты. — Тоже работа! — обернулся к Роману Петровичу немолодой солдат с темным лицом, изрытым глубокими, редкими оспинами. — Кормится!.. — А ну подходи, подходи! — закричал уличный “артист”, доставая из-за пазухи листки, исписанные тусклым химическим карандашом. — Кому слова новой песни “Котенок серый”? Бери, хватай! Торговля шла бойко. Роман Петрович тоже взял грязноватый листок, исписанный неровным почерком. Уличный певец поднял вверх пустые руки, показывая, что песен у него больше нет. Слушатели уже собрались расходиться, когда в его руках как-то особенно звучно щелкнули костяшки. Оборвыш наморщил острый, чуть облупившийся носик. Часто и коротко оглядываясь по сторонам, он запел дерзкую, озорную песенку: Эй вы, буржуи! Отдайте-ка мильоны, Теперь наше право и наши законы, Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки. Пока еще не поздно — тикайте без оглядки. Пожилой фельдфебель, грузный, с багровым, одутловатым лицом и пышными, старательно расчесанными усами, решительно расталкивал слушателей, пробиваясь к уличному певцу. Роман Петрович быстро шагнул в сторону и загородил ему путь. Но мальчишка был зорок. Не успел фельдфебель отодвинуть плечом Романа Петровича, как мальчонка оборвал песенку и скрылся в узком простенке между будками. Фельдфебель бросился за ним, но будки стояли тут тесно, и он застрял в узком простенке. Старый служака не успокоился. Придерживая рукой шашку, он припустил бегом вокруг будок. Фельдфебелю не повезло: на повороте он грузно, всем телом налетел на выходившего из-за будки седого есаула. От толчка дородного фельдфебеля офицер еле устоял на ногах. — С ума спятил! — крикнул он. — Пьяная м-морда! — Фулигана ловлю! — впопыхах ответил фельдфебель. Он хотел было вновь пуститься в погоню, но есаул понял движение фельдфебеля как попытку сбежать от него. А тут еще заметил улыбающиеся лица окружающих и пришел в ярость. — Стой! — крикнул он. — Разрешите, вашбродь? — шагнул к нему фельдфебель. — Как стоишь? — процедил сквозь зубы есаул. — Кто тебе разрешил разговаривать? Два наряда! — Осмелюсь, вашбродь… — Не раз-ре-шаю раз-го-ва-ри-вать! — Шея есаула стала пунцовой. — Три наряда! Лицо фельдфебеля от гнева и стыда налилось кровью: — Господин есаул!.. — М-молчать! — оборвал его есаул и топнул ногой, обутой в мягкую козловую ноговицу. — Пять суток ареста! Смирно! Кругом! Фельдфебель четко повернулся, щелкнул каблуками. А в спину его ударила злая, издевательская команда: — На гарнизонную гауптвахту шаго-ом… арш! Фельдфебель гулко топнул огромным сапогом и двинулся четким шагом старого строевика. На лбу и подбородке у него нависли крупные капли пота. Они скользили по лицу и падали на грубое сукно гимнастерки, украшенной георгиевскими крестами на черно-оранжевых полосатых бантах. Есаул проводил его злым взглядом и пошел своей дорогой. Роман Петрович посмотрел вслед офицеру и зашел в простенок между будками. Там стоял рябой солдат в мешковатом английском мундире. За ним виднелся молодой рыбак в грубой холщовой блузе. Оба они недоверчиво покосились на Романа Петровича. — Что ж, — сказал Роман Петрович, — почитаем новую песенку? — И показал им листок. Вместо ответа рыбак вытащил из-за пазухи большой костистый кулак и раскрыл его. На мозолистой, в смоляных пятнах ладони лежал такой же, как и у Романа Петровича, смятый листок. На одной стороне его была записана песня, а на другой большими буквами выведено: ТОВАРИЩИ! Не верьте буржуям недобитым. Продают они Россию, губят народ ни за что. Осиротят они вас и деток ваших, как осиротили и меня. Отца моего забрали белые в солдаты. Только он понял ихнюю злую душу и убежал до красных. За отца белые забрали мою мать. Пятый месяц живу я на улице, ночую где ни попало, танцую, как говорится, за печенку и жду не дождуся, когда наступит крышка распроклятым белым генералам. Красный Мститель Прочитав это не очень-то грамотное обращение, Роман Петрович задумался. Перед его глазами все еще стояло лобастое, живое лицо паренька с выцветшими тонкими бровями и чуть выдающимся вперед задиристым подбородком. Роман Петрович решил разыскать уличного певца. Он обошел базар. Заглянул на пристань. Постоял возле обгорелого дома полицейского участка, где ночевали бездомные ребята… Поиски были неудачны. Роман Петрович чувствовал себя несколько виноватым. Разве нельзя было осторожнее расспросить мальчонку, кто он и зачем ему большевики? Да кто знает этих мальчишек! Как с ними разговаривать! Дома Роман Петрович поделился своими огорчениями с хозяйкой квартиры Анастасией Григорьевной. Она долго расспрашивала о мальчике, и ее темное лицо в прямых, резких морщинах выглядело строго, осуждающе. И это еще больше усиливало у Романа Петровича смутное ощущение своей вины. Соборный колокол пробил полночь, когда Роман Петрович лег в постель. Он все еще видел наморщенный, облупившийся носик, слышал звонкий, с легкой хрипотцой голос уличного певца: Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки. Пока еще не поздно — тикайте без оглядки. И никак не удавалось отделаться от мыслей: “Что это за мальчонка? Недолго побегает он на воле со своими песенками”. Долго еще ворочался Роман Петрович. Он сердился на себя, и на скрипучую кровать, и на писк под половицами, и на нестерпимо яркий луч луны, прорезавший комнату наискосок — от окна до кровати. Надо было заснуть, чтобы утром встать со свежей головой. Завтра предстояло серьезное испытание. Третий день уже местная газетка “Рупор Отечества” оповещала город о торжественной встрече представителей “Добровольческой армии и народа”. Встречу эту устраивал доверенный человек самого Антона Ивановича Деникина — генерал Тугаевский. Было это в дни, когда Деникин собирал силы для решительного наступления на Москву. По поручению Деникина генерал Тугаевский объезжал Северный Кавказ, вербуя казаков в Добровольческую армию. Делать это было нелегко. Трудовое казачество Кубани уже начало роптать. “Хватит нас гонять да натравливать, как цепных псов! — говорили казаки. — С турками дрались, с японцами, немцами. Теперь, изволь-ка, со своими дерись, с русскими! А хозяйства наши порушились за войну. Семьи от рук отбились. Господам да офицерам большевики не нравятся? Так нехай же они сами и разбираются с ними. А нам до их споров дела нема”. От разговоров казаки переходили к делу. Уже были случаи, когда они самовольно бросали фронт. В одиночку, а то и группами они оставляли свои части и верхами, с оружием тянулись за сотни верст в родные станицы. Вот почему Тугаевский ездил из станицы в станицу, собирал казаков и уговаривал их “постоять за единую, неделимую Россию”. На днях ему удалось убедить ближайшие станицы помочь Деникину. Старики обещали ему выставить на фронт несколько сотен казаков с конями и оружием. Но этого было мало. Деникин спешил с наступлением на Москву. Подгоняли снабжавшие его оружием и обмундированием англичане и американцы. Да и на Кубани всё громче звучали голоса недовольных Деникиным и офицерством. Приходилось не только собирать силы для фронта, но и успокаивать тыл. Это и было поручено Тугаевскому. Но объездить все станицы в короткий срок было невозможно. Тугаевский осел в городе и стал готовить торжественную встречу “представителей армии и народа”. По станицам разъезжали его люди, подбирая подходящих “народных представителей”. Из типографии (большевики имели там своих людей) сообщили партийному комитету, что уже отпечатано обращение “народных делегатов” ко всему населению Северного Кавказа с призывом поддерживать Деникина как единственного “законного правителя и главу вооруженных сил Юга России”. У партийного комитета были связи с рабочими, интеллигенцией. Не хватало одного: опыта подпольной работы. Почти все коммунисты были новички, пришедшие в партию за последние полгода. Приходилось учиться опасному и сложному искусству подпольной борьбы в очень тяжелых условиях, зная, что за каждую ошибку придется платить очень дорогой ценой — ценой жизни смелых, самоотверженных людей, для которых счастье народа было дороже всего.ИСПОРЧЕННОЕ ТОРЖЕСТВО
На следующий день Роману Петровичу было не до уличного певца. После работы надо было спешно приготовиться к торжеству: тщательно отмыть руки от краски, побриться, одеться во все лучшее. Потом пришлось сходить в типографию, где надежные люди отпечатали тайком десяток лишних пригласительных билетов для подпольщиков. К назначенному времени Роман Петрович вошел в Общественное собрание — лучшее здание города. Широкой лестницей, устланной ковровой дорожкой, поднялся он в ярко освещенное, людное фойе. Больше всего было тут стариков-станичников в серых и коричневых черкесках домотканного сукна, надетых на сатиновые бешметы, обшитые по вороту золотым шнурком. Бородачи-казаки сидели в обитых плюшем креслах, выставляя напоказ старинные серебряные с чернеными узорами кинжалы, медали и кресты, полученные во все войны России за последние полвека. Стараясь не выдавать своего удивления, они украдкой рассматривали играющие разноцветными огоньками хрустальные люстры, стены, расписанные масляными красками, лепной потолок. Почти все они с оружием в руках побывали за границей, видели снежные горы Турции и поросшие розами долины Болгарии, дрались с японцами в Маньчжурии… Но здесь, в Общественном собрании, бывали очень немногие — станичные атаманы да богачи. И теперь рядовые казаки поспешили первыми явиться на званый вечер, чтобы занять местечко получше и не пропустить чего интересного. Иногородние встречались в толпе значительно реже. Их отбирали очень осторожно, зная, что они почти поголовно сочувствуют большевикам. Держались иногородние в стороне, будто забрели они сюда случайно и все происходящее здесь их нисколько не интересует. Резко выделялись худощавые, жилистые горцы. Один из них, в белой с золотом черкеске, носил погоны полковника и на рукаве эмблему “Дикой дивизии” — череп со скрещенными берцовыми костями. Горящими глазами разглядывали казаки его старинную шашку, богато украшенную ярко-голубой бирюзой. Вооруженные спутники знатного горца были одеты гораздо скромнее. Это были нукеры — слуги. В пестрой толпе приглашенных совершенно затерялись несколько рыбаков и рабочих, завербованных в “делегаты” их хозяевами. Они забились в укромные уголки, чтобы при первой возможности показаться на глаза хозяевам, а затем незаметно улизнуть домой. По людному фойе стремительно проносились молодцеватые распорядители вечера. Одеты они были в строгие черные костюмы с трехцветной повязкой на рукаве. По четким поворотам нетрудно было узнать офицеров. В фойе уже стало тесно, а приглашенные всё прибывали. Но вот один из распорядителей вышел на легкий полукруглый балкончик и поднял руку: — Господа! — Он выждал, пока затих говор внизу. — Пра-а-шу в зал! Распахнулись высокие двустворчатые двери. Медленно рассаживались “делегаты”, оглядывая необычное убранство зала. Стены его украшены трехцветными царскими флагами. Над сценой распростерся громадный золотой орел. На огромной карте Юга России широкая трехцветная лента показывала расположение деникинских войск на фронте. Ложа у сцены и балкон, нависший огромной подковой над партером, были задрапированы коврами и гирляндами живых цветов. Все было ярко, празднично, торжественно. В ложе у самой сцены поместился генерал Тугаевский со своим адъютантом и почетными гостями: горцем в белой черкеске, несколькими богатыми казаками и местными градоправителями. Роману Петровичу удалось пробраться на балкон. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило в зале и на сцене. Пока он осматривался, стараясь разыскать своих товарищей, люстры погасли. Публика притихла. Малиновый плюшевый занавес чуть колыхнулся и выпустил на авансцену инспектора гимназии. Это был сухонький серенький человечек с узкой, негнущейся спиной и водянистыми, бесцветными глазами. Гимназисты метко прозвали его “Оловянным солдатиком”. “Оловянный солдатик” остановился перед рампой, с опаской посмотрел себе под ноги, на частую цепочку электролампочек, потом выпрямился и обратился к собравшимся с длинной и скучной речью. Он говорил громко, ровно и скрипуче, как на уроке. Казалось, вот-вот он обратится к застывшему в показном внимании генералу Тугаевскому и скажет: “Пожалуйте к доске! Посмотрим… много ли вы знаете”. Слова его, громкие и пустые, прославляли “доблестную Добровольческую армию”, а лицо оставалось таким же, как и на уроках, внимательным и настороженным, будто он не говорил, а подслушивал кого-то. В публике нетерпеливо покашливали. Внимательно слушали лишь в ложе Тугаевского да несколько горцев, сидевших в первом ряду. Они плохо понимали по-русски, а потому им было все равно, что слушать. Каждое знакомое слово оратора горцы радостно повторяли вслух и тут же громко объясняли его товарищам. “Оловянный солдатик” закончил речь поздравлением командованию “Добровольческой армии”, “сумевшей поднять на ратный подвиг все население Северного Кавказа”, и низко поклонился. Зрители увидели круглую глянцевитую лысину, спереди старательно прикрытую прядкой серых волос. Медленно пятясь и продолжая раскланиваться, он как-то незаметно пропал за занавесом. Не успела еще успокоиться легкая рябь на тяжелом плюше, как на смену “Оловянному солдатику” вышел конферансье — подпоручик Курнаков. Публика встретила его легким одобрительным гулом. Курнакова знали не только в городе, но и в окрестных станицах как весельчака и балагура. Скажет бывало Курнаков что-нибудь — умное или глупое, не важно, — и все рассмеются. За это его даже исключили из гимназии, так как Курнаков, отвечая урок, постоянно вызывал хохот всего класса и мучительную гримасу на лице учителя. Выбор конферансье был на редкость удачен. Стоило только посмотреть на его круглую, беспечно улыбающуюся физиономию, как сразу же становилось смешно. У Курнакова было широкое, в мелких морщинках лицо, маленький, приплюснутый носик, круглые черные глазки и огромный рот с тонкими, бледными губами. Он был похож на мопса. Казалось, что он вот-вот высунет длинный, тонкий язык и облизнет им свою курносую морду. Едва он остановился у рампы, как зал довольно загудел. Курнаков стоял улыбаясь, потом обратился к публике: — Думаете, я петь буду?.. В зале засмеялись. Конферансье, потирая руки, приподнял белесые брови, собираясь сообщить нечто очень интересное. И вдруг густой бас с балкона испортил подготовленную Курнаковым минуту: — Как заплатят, так споешь! Сказано было не в бровь, а в глаз. В городе знали, что Курнаков постоянно нуждался в деньгах, должал встречному и поперечному. Но в публике даже не улыбнулись. Все ждали, чем ответит на такую дерзость признанный остряк. Курнаков понимал это, а потому и не торопился с ответом. Он опустил руки и широко улыбнулся. — Браво, браво, коллега! Хорошо сказано! Покажитесь нам. Выходите сюда. Но “коллега”, конечно, и не думал показываться. Генерал Тугаевский приподнялся, всматриваясь в сторону балкона. Туда уже стягивались молодцеватые распорядители вечера. Курнаков оглянулся на генерала, поймал еле заметное движение головой и сказал: — Наш вечер мы откроем… — он щелкнул каблуками, стал в положение “смирно” и неожиданно строго объявил: — …боевой песней партизанского отряда полковника Чернецова. Запевает наш общий знакомый — штабс-капитан Бейбулатов. За сценой сводный солдатский хор нашего гарнизона — сто сорок человек! Капитан Бейбулатов вышел на сцену в черном костюме с белым галстуком и хризантемой в петлице. На сцене он коротко задержался, улыбнулся своим знакомым, кому-то отдельно кивнул головой. Его знали в городе как беспутного гуляку и ловкача, ухитрившегося всю мировую войну просидеть в воинском присутствии на какой-то канцелярской работе. Теперь он служил в контрразведке, чем еще больше поднял свою известность. Казаки окрестных станиц относились неприязненно к офицерику, избегавшему фронта. Горожане остерегались его и ненавидели, как жестокого и опасного человека. За сценой тихо вступил солдатский хор: Жур-жура-журавель, Журавушка молодой… Бейбулатов поднял сухое лицо с крючковатым, острым носом и круглыми черными глазами, что делало его похожим на хищную птицу, и запел тоненьким горловым тенорком: Храбрейший из храбрецов — Наш полковник Чернецов… И тогда хор за сценой подхватил припева лихо, с присвистом и неистовым, разбойным гиканьем: Жур-жура-журавель, Журавушка молодой! — Подпевайте, господа! — пригласил публику Курнаков. Бейбулатов вздохнул, сделал шаг вперед. Только собрался он запеть, как неожиданно, откуда-то сверху, с потолка, его опередил звонкий и озорной мальчишеский голос: Вот страшила, хулиган — Бейбулатов капитан! Бейбулатов так и застыл в нелепой позе: грудь выпячена, нога отставлена, рот полуоткрыт. А хор за сценой, не разобрав ни слова из запевки, грянул так, что на сцене закачалось полотнище с грубо намалеванным лесом: Жур-жура-журавель, Журавушка молодой! Вспыхнули люстры, заиграли разноцветными огоньками. Зрители подняли головы и замерли… У самого потолка, расписанного масляной краской, в круглом вентиляционном оконце, окаймленном рисованным венком из роз, лежал мальчишка. Большая мятая фуражка съехала ему на глаза. Защитного цвета хламида открывала голую смуглую грудь. На выручку к растерявшемуся запевале подоспел Курнаков. Еще не поняв толком, что случилось, он нес публике как верное успокоительное средство свою широкую улыбку рубахи-парня Но едва Курнаков подошел к рампе, как сразу же потерял свою улыбку и отшатнулся назад, отброшенный раздавшейся сверху песенкой: Вот дурак из дураков - Подпоручик Курнаков! А хор за сценой растерянно гудел, постепенно угасая: Жур-жура-журавель… Но мальчишке и не нужен был хор. Он, дирижируя себе обеими руками, прокричал: Тугаевский генерал Свою тетку обокрал!
В публике негромко засмеялись. Сотни глаз уставились на Тугаевского, ожидая, что же теперь будет.
Тугаевский побагровел от гнева и злости так, что нельзя было различить, где кончается его красный генеральский воротник и начинается шея. Никогда еще не был он так беспомощен перед сотнями глаз — улыбающихся, любопытных, сердитых. Даже горцы в первом ряду и те, ничего не понимая по-русски, довольно блестели мелкими белыми зубами. Они видели: в зале скандал. Это им нравилось.
— Эт-то что такое? — погрозил кулаком вверх один из распорядителей.
Мальчишка сорвал с головы измятую фуражку и, широко взмахнув ею, представился, как французский граф в кино:
— Гринька! Красный мститель!
В руках его мелькнули костяшки. Озорная песенка зазвенела под потолком, как боевой клич:
Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки.
Пока еще не поздно — тикайте без оглядки.
Гринька прощально взмахнул фуражкой и исчез в оконце. В зале поднялся шумный говор.
Свою тетку обокрал!
В публике негромко засмеялись. Сотни глаз уставились на Тугаевского, ожидая, что же теперь будет.
Тугаевский побагровел от гнева и злости так, что нельзя было различить, где кончается его красный генеральский воротник и начинается шея. Никогда еще не был он так беспомощен перед сотнями глаз — улыбающихся, любопытных, сердитых. Даже горцы в первом ряду и те, ничего не понимая по-русски, довольно блестели мелкими белыми зубами. Они видели: в зале скандал. Это им нравилось.
— Эт-то что такое? — погрозил кулаком вверх один из распорядителей.
Мальчишка сорвал с головы измятую фуражку и, широко взмахнув ею, представился, как французский граф в кино:
— Гринька! Красный мститель!
В руках его мелькнули костяшки. Озорная песенка зазвенела под потолком, как боевой клич:
Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки.
Пока еще не поздно — тикайте без оглядки.
Гринька прощально взмахнул фуражкой и исчез в оконце. В зале поднялся шумный говор.
 — Всыпать бы ему! — ворчали одни. — Да погорячее! Чтоб батьку и маты забув!
— Добре, хлопчик! — смеялись другие. — Удружил! В цирке такого не бачили!
Неожиданно в круглом оконце, где только что видели Гриньку, появилось усатое лицо. Блеснули погоны. Разговоры в зале оборвались. Лишь теперь все заметили, что распорядителей вечера в зале осталось очень мало. Генерал сидел ровно, положив перед собой большие белые руки, резко выделявшиеся на малиновом плюще ложи.
Свет погас. На сцену вышел Курнаков. Искусственно улыбаясь, он потирал руки, выжидая, пока спадет возбуждение зрителей.
Роман Петрович осмотрелся. Поблизости никого из распорядителей вечера не было.
“Время! — решил он. — Лучшего момента не будет”, — и опустил через барьер руки с зажатыми в них пачками листовок.
Никто не смотрел на него. Все лица были обращены к гневному Тугаевскому и выжидающему Курнакову.
— Итак, продолжаем! — произнес Курнаков.
“Продолжим!” — подумал Роман Петрович и разжал пальцы.
Весело порхнули с балкона и рассыпались в воздухе листовки. Белой стайкой летали они над партером, опускались к удивленным людям…
Один листок, подхваченный сквознячком, мягко скользнул в воздухе над пораженными горцами и, вызывающе покачиваясь, опустился на барьер генеральской ложи.
Тугаевский сидел неподвижно, словно окаменел. Он не мог собраться с мыслями, решить, как следует держаться, чем спасти вечер. “Какой позор! — думал он. — На вечере единения!.. Красный мститель! Листовки! Позор, позор!..” Немногие оставшиеся в зале распорядители метались в полумраке между рядами. Кого-то тащили к выходу…
— Всыпать бы ему! — ворчали одни. — Да погорячее! Чтоб батьку и маты забув!
— Добре, хлопчик! — смеялись другие. — Удружил! В цирке такого не бачили!
Неожиданно в круглом оконце, где только что видели Гриньку, появилось усатое лицо. Блеснули погоны. Разговоры в зале оборвались. Лишь теперь все заметили, что распорядителей вечера в зале осталось очень мало. Генерал сидел ровно, положив перед собой большие белые руки, резко выделявшиеся на малиновом плюще ложи.
Свет погас. На сцену вышел Курнаков. Искусственно улыбаясь, он потирал руки, выжидая, пока спадет возбуждение зрителей.
Роман Петрович осмотрелся. Поблизости никого из распорядителей вечера не было.
“Время! — решил он. — Лучшего момента не будет”, — и опустил через барьер руки с зажатыми в них пачками листовок.
Никто не смотрел на него. Все лица были обращены к гневному Тугаевскому и выжидающему Курнакову.
— Итак, продолжаем! — произнес Курнаков.
“Продолжим!” — подумал Роман Петрович и разжал пальцы.
Весело порхнули с балкона и рассыпались в воздухе листовки. Белой стайкой летали они над партером, опускались к удивленным людям…
Один листок, подхваченный сквознячком, мягко скользнул в воздухе над пораженными горцами и, вызывающе покачиваясь, опустился на барьер генеральской ложи.
Тугаевский сидел неподвижно, словно окаменел. Он не мог собраться с мыслями, решить, как следует держаться, чем спасти вечер. “Какой позор! — думал он. — На вечере единения!.. Красный мститель! Листовки! Позор, позор!..” Немногие оставшиеся в зале распорядители метались в полумраке между рядами. Кого-то тащили к выходу…
ИЗ ОГНЯ… ДА В ПОЛЫМЯ
Гринька был вовсе не так прост и беспечен, как казалось тем, кто видел его из зала. Беспечность его была напускной. На самом же деле он зорко следил за всем, что делалось внизу, видел, как побежали к выходам распорядители вечера и, конечно, повял, куда они спешат. И все же он чуть было не опоздал. Гринька хорошо знал громадный чердак Общественного собрания, много раз ночевал здесь. Отсюда смотрел он репетиции солдатского хора, и здесь надумал он принять “участие” в предстоящем вечере. Знал он, что ход из дома на чердак заколочен, после того как беспризорные пробрались ночью в зал и ободрали плюш с нескольких кресел. И сейчас Гринька рассчитывал, что пока отобьют трехвершковые гвозди, которыми заколочен ход на чердак, он будет уже далеко от Общественного собрания. Но получилось совсем не так. Враги его поднялись на чердак тем же путем, что и он сам, — по пожарной лестнице. Тяжелые шаги загрохотали по железной крыше неожиданно. Мальчуган выбрался из оконца. Вытянув вперед руки, чтоб не наткнуться в темноте на столб, направился он к слуховому окну. Но там, на фоне звездного неба, появилась чья-то голова. Гринька круто повернул в другую сторону. Но и здесь перекликались преследователи. В темноте чердак уже казался тесным, переполненным врагами. Чужие, злые голоса слышались со всех сторон. Грохот шагов по крыше сливался на чердаке в непрерывный, сплошной гул. — Здесь он! — крикнули, как показалось Гриньке, совсем рядом. — Здесь! Сердце беглеца заколотилось часто и сильно. Неужели заметили? Нет. Уже в другом конце чердака кто-то зовет: — Сюда, сюда! Вспыхнул яркий глазок электрического фонарика. За ним еще. Бледные лучи скользнули по серым брусьям, поддерживающим стропила, и расплылись в глубине чердака. Спотыкаясь о плоские потолочные балки, Гринька спешил в тот конец чердака, где кончался скат крыши. Скоро руки его коснулись шершавой дощатой опалубки. Подгоняемый вражескими голосами, ползком подбирался он к хорошо знакомому углу. Руки глубоко уходили в мягкую, скопившуюся за десятилетия пыль. Густые, удушливые клубы поднимались от каждого движения рук, забивали нос, рот. Нестерпимо хотелось чихнуть; так хотелось, что Гринька до боли прижал подбородок к груди. Но и это не помогало. Какая-то непреодолимая сила щекотала в носу, приподнимала голову. Задыхаясь от пыли, добрался Гринька до ската крыши. Ощупью нашел в углу отодранный от опалубки лист железа и облегченно вздохнул: “Здесь!” А фонариков на чердаке становилось все больше. Один из них скользнул к углу, куда забился мальчуган. Гринька сжался в комок и замер. Сердце колотилось так… даже больно стало. Однако белый луч растаял в пыли и не нащупал Гриньку. Надо было спешить. Мальчуган приподнял оторванный с края ржавый лист и высунул голову в открывшееся отверстие. В лицо пахнуло свежим вечерним воздухом. Глубоко и часто дыша, Гринька всматривался вниз. Метрах в полутора под ним должна была быть не видная в темноте крыша двухэтажного дома, прижавшегося к Общественному собранию. Ногами вперед выбрался Гринька в лаз. Он осторожно соскочил на нижнюю крышу, но не устоял на ногах и поехал вниз на животе. Пришлось покрепче прижать ладони к скользкой жести, чтобы затормозить и не свалиться с крыши. С двухэтажного дома Гринька спустился по водосточной трубе и очутился в большом саду. Там он наткнулся на стоящий под водосточной трубой бочонок и радостно опустил в затхлую дождевую воду горящие ладони. По пути он набрал полную пазуху сочных груш и направился дальше. Из сада в сад, легким стуком в заборпроверяя, нет ли впереди спущенной на ночь собаки, перебрался Гринька на отдаленную улицу. Если не считать слегка саднящих ладоней, двух заноз и лопнувших еще в нескольких местах штанов, вечер прошел вполне благополучно. Гринька с радостью представлял себе, что творилось в Общественном собрании и как белогвардейцы ловят “Красного мстителя” на пустом чердаке. Он постоял на пустынной улице, потом запахнулся в просторный френч и зашагал на край города. Там на днях он присмотрел брошенную саманную хату — надо же иметь и запасное жилье! Две стены ее рухнули, прелая камышовая крыша свалилась на печь. Но в хате было подполье. Если натаскать туда камыша с крыши, очень неплохое получится жилье. Такого Гринька не имел за всю свою вольную жизнь.***
Утром Гринька выбрался из подполья. Отряхнул налипшую на волосы соломенную труху и привычно направился в сторону базара. Едва он вышел на улицу, ведущую к привозу, как заметил у калитки одного дома кучку любопытных. Со двора слышался отчаянный хриплый рев. На всякий случай Гринька перемахнул через ближайший забор и присел в густых кустах крыжовника. В саду было тихо, окна небольшого дома еще прикрыты зелеными решетчатыми ставнями. Старательно прячась за кустами, Гринька отыскал в заборе щелку пошире и стал наблюдать за происходящим на улице. Плечистый казак с нависшим на глаза черным чубом волоком вытащил из калитки яростно отбивающегося, оборванного мальчишку. Беспризорник ревел, старался извернуться так, чтобы достать зубами крепкую волосатую руку казака. — Иди, иди! — прикрикнул казак и рывком поставил мальчонку на ноги. — Ишь, горластый! Сразу видать артиста! Мальчишка хотел было лечь на спину, но казак приподнял его и так поддал ногой в зад, что тот замер с раскрытым ртом и пошел, безвольно переставляя дрожащие, негнущиеся ноги. Гринька лег на редкую росистую травку. Слова казака “видать артиста” напомнили вчерашний вечер, гневного генерала, погоню на чердаке… “Не меня ли поминал казак? — подумал он. — Мне-то попадать белякам совсем не с руки”. За спиной скрипнула калитка. Женщина в просторной домашней кофте, зевая, прошла в сад, приоткрыла один ставень. Так же не спеша, мягко ступая по земле босыми полными ногами, она вернулась в дом. Дела оборачивались неважно. На улице творилось что-то неладное. В доме проснулись… Отвлекло Гриньку стройное пение на улице. По мостовой с песней шли юнкера. Шли четко — шаг в шаг. Мальчуган невольно засмотрелся на стройную колонну. В четкой поступи, в рядах блестящих штыков было что-то грозное. Громкая команда оборвала песню. Юнкера с винтовками наперевес рассыпались по улице, окружая угловой горелый дом, где когда-то помещался полицейский участок. Скоро из дома стали выводить оборванных и грязных беспризорных мальчишек. На улице их строили по два. Часть юнкеров окружила задержанных и повела в сторону тюрьмы. Оставшиеся юнкера построились. Запевала снова затянул песню. Остальные подхватили. Колонна двинулась к базару. Гринька задумался. Уж если юнкера охотятся за беспризорными на улицах, идти на базар нечего и думать. К морю тоже… Там всегда людно. Спокойнее всего отсидеться в саду. А там видно будет. Лежа в кустах, Гринька следил за улицей. Городок просыпался быстро. По кирпичным тротуарам спешили на базар хозяйки. Стоит им увидеть перелезающего через забор оборванца — поднимут такой крик!.. А залитая солнцем улица — не чердак, далеко не убежишь. Лежать у забора скоро надоело. Хотелось есть. От скуки Гринька решил погадать. Если первый воробей, который сядет на дорогу, будет самец, надо удирать из сада, если самочка — лучше остаться здесь до темноты. Первый воробей сел далеко и притом хвостиком к забору. Какая у него грудка — серая или черная, — разобрать издали не удалось. Гаданье не состоялось. Тогда Гринька загадал иначе. Если из-за угла первым выйдет мужчина, это хорошо, если женщина — плохо. “Тут уже не запутаешься! — подумал он. — Сразу увижу”. И все-таки запутался. Из-за угла вышли двое — видимо, муж и жена. “Ни хорошо, ни плохо! — решил Гринька. — Буду сидеть на месте”. Потом появился толстый гимназистик с удочкой. Опять было непонятно: можно ли считать малыша-гимназиста мужчиной? Пока мальчуган решал, как быть, он заметил вдалеке пестрый от пятен рабочий халат Романа Петровича. Сразу вспомнил он разговор на железнодорожной насыпи и как Роман Петрович загородил его от фельдфебеля в кожевенном ряду. “Дядька хороший! — оживился Гринька. — Не продаст!”ДРУЗЬЯ
Роман Петрович услышал рядом голос. Обернулся. Вблизи никого не было. И снова кто-то еле слышно окликнул его: — Дядь! А дядь! Лишь теперь Роман Петрович заметил широкую щель в заборе. Между досками проглядывали кончики тонких грязных пальцев. Он нагнулся, как бы поправляя шнурок ботинка, и увидел в щели знакомые серые глаза. — Тебя ищут по всему городу, — шепнул Роман Петрович. — Забирают всех бездомных ребят, без разбора. Подряд. — А мне хоть бы что! — ответил Гринька тоже шепотом, что совсем не подходило к его беззаботным словам. И уже менее задорно попросил: — Дай чего покушать… — Сиди тут, — строго сказал Роман Петрович. — Я вернусь минут через десять и уведу тебя в надежное место. — Вернешься! — недоверчиво протянул Гринька. Разговаривать на улице, поправляя шнурок, было неудобно. Роман Петрович решил быть откровенным: — Слушай меня, хлопчик. Вчера я был в Общественном собрании. Хорошо ты им пропел. Лучше, чем тогда, на базаре. Зато сейчас тебя ищут по всему городу. Понял? А теперь — сиди тихо и жди меня. Роман Петрович присмотрелся к забору, приметил на улице акацию с отпиленным толстым суком и зашагал к товарищу, у которого был сынишка одних лет с Гринькой. Спустя полчаса Роман Петрович вернулся и слегка постучал кулаком в знакомый забор. — Тише! — зашептал за досками Гринька. — Тут тетка какая-то. Три раза в сад выходила. Белье вешала. — Лови сверток, — так же шепотом ответил Роман Петрович. — Переоденешься и вылезай из сада. Сверток с одеждой перелетел через забор. За досками еле слышно зашуршали кусты. Роман Петрович прошелся по тротуару до угла. Прочитал на столбе старую афишу и объявление о пропавшей телке. Не спеша покурил. В полуденный зной улица опустела, а Гринька все не появлялся. Пришлось Роману Петровичу вернуться к забору. — Что ты возишься там? — строго спросил он. — Никак не перелезть, — все так же шепотом пожаловался Гринька. — Не перелезть? — удивился Роман Петрович. — Тебе? — Никак! — повторил Гринька. — Одежа мешает. — Какая одежа? — Моя. Френч. Штаны… — Бросай свой хлам. Лезь живее! — “Бросай”! Ты потом свою одежу заберешь, а как же я ходить стану? — Лезь быстро! Пока на улице никого нет! Гринька ловко спрыгнул с забора на кирпичный тротуар. Одет он был в старенькие, но чистые бумажные брюки, в коричневую косоворотку и тупоносые башмаки свиной кожи. Правда, серые в черную полоску брюки были на нем широковаты, а башмаки с надорванными носками — велики, однако после рваного френча новый наряд Гриньки был бы вовсе шикарным, если бы не досадный промах Романа Петровича. Впопыхах он забыл захватить кепку. Давно немытые волосы Гриньки воинственно торчали во все стороны над грязным лицом. — Ты, я вижу, год не мылся? — нахмурился Роман Петрович. — Го-од! — обиделся Гринька. — Только три месяца! Пришлось Роману Петровичу прикрыть волосы мальчугана своим картузом, а чумазую физиономию и шею он крепко, не жалея кожи, протер носовым платком. — Хорош! — довольно подмигнул Гринька. — Хоть в артисты! И они свернули в ближайший переулок, поросший цепкой, ползучей травой. Здесь было безопаснее идти.***
Дверь открыла им хозяйка дома, Анастасия Григорьевна, женщина лет шестидесяти, с темным, строгим лицом и седыми волосами, собранными позади в тугой узел. Тихая на вид старушка была очень полезным человеком в подпольной организации. Любое поручение она выполняла спокойно и бесстрашно. Кому могло прийти в голову, что в кошелке старушки, аккуратно, повязанной черным кашемировым платком, и в длинной муслиновой юбке, лежат большевистские газеты и листовки! Анастасия Григорьевна или, как звали ее свои люди, “мамаша”, встретила Гриньку как старого знакомца. Стоило ей взглянуть на лобастого мальчонку с зоркими, ясными глазами, и она сразу догадалась, кто это. Желая доставить гостю удовольствие, она принялась рассказывать о том, что произошло вчера в Общественном собрании.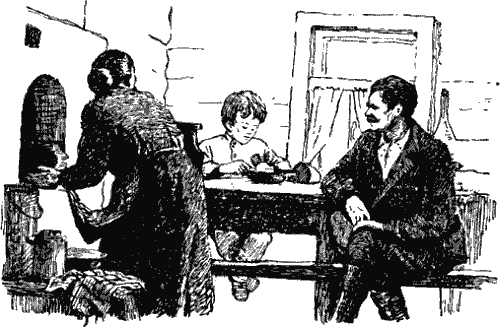 Гринька слушал и краснел от удовольствия. Говоря по совести, он и сам не ожидал, что так здорово получится. Шутка ли — насолил самому Тугаевскому! Но эту большую радость покрыла другая, еще большая: он уже не один, у него есть друзья! Они волновались за него, а теперь радуются вместе с ним. Гринька смущенно потупился и довольно посматривал исподлобья то на “мамашу”, то на Романа Петровича.
— Что ж это я разболталась? — спохватилась Анастасия Григорьевна. — Соловья, говорят, баснями не кормят.
Она отошла к печке. Громыхнула заслонкой. Комнату заполнил крепкий запах борща.
Гринька скромно сидел на кончике табуретки. С удовольствием разглядывал он давно позабытую обстановку жилой комнаты.
Все здесь казалось необычайно красивым и чистым: ситцевые занавески на окнах, цветы с промытыми листьями на подоконниках, постель с горкой округлых, упругих, будто надутых подушек…
Анастасия Григорьевна поставила перед гостем миску. Из нее валил пар, такой вкусный, что Гринька, сам того не замечая, облизнулся. Борщ был действительно хорош! Густой, жирный, с толченым свиным салом и жгучими стручками красного перца.
Гринька ел не спеша, старательно облизывая деревянную ложку. Комната, борщ, миска с крупными красными цветами напомнили мамкин черный чугун, голубятню, вислоухого поросенка. Стало грустно-грустно. Но голод от воспоминаний не убавился.
Анастасия Григорьевна догадалась, о чем думал мальчонка, и по-своему выразила свое сочувствие. Несколько раз подходила она к нему с половником в одной руке и с кастрюлей — в другой.
— Добавить? — спрашивала она. И, не дожидаясь ответа, подливала в миску.
— Чудно! — вздохнул Гринька и удивленно посмотрел на “мамашу”. — Если мне муторно, так я кушаю, кушаю…
— А когда у тебя все хорошо, весело, — спросила Анастасия Григорьевна, — тогда как?
— Когда весело? Тогда меня и вовсе не накормить!
Старательно выбирая ложкой остатки борща, Гринька поймал на себе мягкий взгляд “мамаши”. Подражая отцу, он пристукнул ложкой по столу и солидно похвалил хозяйку:
— Золотые руки!
Гринька не знал, что и Анастасию Григорьевну одолевали сейчас невеселые мысли. Глядя на гостя, она думала о своих трех сыновьях, погибших в мировую войну. Как она молила бога за них! Сколько церквей обошла, свечей переставила! Каким только святым и чудотворцам не кланялась! Даже дома часами простаивала она на коленях перед маленькой, темной иконой, украшенной бумажными цветами и рушником с вышитыми на концах черно-красными петушками. И ничто не могло избавить ее от серых казенных конвертов с траурной рамкой и коротких, но страшных слов: “Погиб смертью героя на поле брани”. Последний сын, старший, бросил фронт в конце шестнадцатого года и бежал в свой родной город. Его перехватили на каком-то разъезде, не доезжая станции Хасав-Юрт, и расстреляли как дезертира. В виде особой милости ему, как георгиевскому кавалеру, разрешили написать матери. Письмо было путаное, бессвязное. Лишь последняя строка все объяснила, дошла до сердца матери. “Будь проклята война, — писал сын, — и те, кто ее выдумали, кому она нужна”.
Эти слова Анастасия Григорьевна приняла как завещание, как последнюю волю своего погибшего сына.
С тех пор к уголкам ее губ сбежались жесткие морщинки. Она отвернулась от бога и возненавидела всякое упоминание о нем так же горячо, как и верила в него совсем недавно. Вся жизнь ее осталась в ненавистном прошлом. Помогая большевикам, Анастасия Григорьевна не думала о своем будущем, считая, что для нее в жизни осталось лишь одно: стремиться к тому, чтобы другим жилось лучше, чем ей самой. И теперь, глядя на сидящего перед ней Гриньку, Анастасия Григорьевна задумалась: а не ее ли будущее пришло в дом в виде лохматого мальчонки, уписывающего борщ?..
Анастасия Григорьевна убрала со стола посуду. Громыхнула в кухоньке жестяной лоханью.
— А ну… господин хороший, — с шутливой торжественностью пригласила она Гриньку, — пожалуйте мыться.
И жесткие морщинки возле уголков губ разбежались в доброй, материнской улыбке.
Гринька слушал и краснел от удовольствия. Говоря по совести, он и сам не ожидал, что так здорово получится. Шутка ли — насолил самому Тугаевскому! Но эту большую радость покрыла другая, еще большая: он уже не один, у него есть друзья! Они волновались за него, а теперь радуются вместе с ним. Гринька смущенно потупился и довольно посматривал исподлобья то на “мамашу”, то на Романа Петровича.
— Что ж это я разболталась? — спохватилась Анастасия Григорьевна. — Соловья, говорят, баснями не кормят.
Она отошла к печке. Громыхнула заслонкой. Комнату заполнил крепкий запах борща.
Гринька скромно сидел на кончике табуретки. С удовольствием разглядывал он давно позабытую обстановку жилой комнаты.
Все здесь казалось необычайно красивым и чистым: ситцевые занавески на окнах, цветы с промытыми листьями на подоконниках, постель с горкой округлых, упругих, будто надутых подушек…
Анастасия Григорьевна поставила перед гостем миску. Из нее валил пар, такой вкусный, что Гринька, сам того не замечая, облизнулся. Борщ был действительно хорош! Густой, жирный, с толченым свиным салом и жгучими стручками красного перца.
Гринька ел не спеша, старательно облизывая деревянную ложку. Комната, борщ, миска с крупными красными цветами напомнили мамкин черный чугун, голубятню, вислоухого поросенка. Стало грустно-грустно. Но голод от воспоминаний не убавился.
Анастасия Григорьевна догадалась, о чем думал мальчонка, и по-своему выразила свое сочувствие. Несколько раз подходила она к нему с половником в одной руке и с кастрюлей — в другой.
— Добавить? — спрашивала она. И, не дожидаясь ответа, подливала в миску.
— Чудно! — вздохнул Гринька и удивленно посмотрел на “мамашу”. — Если мне муторно, так я кушаю, кушаю…
— А когда у тебя все хорошо, весело, — спросила Анастасия Григорьевна, — тогда как?
— Когда весело? Тогда меня и вовсе не накормить!
Старательно выбирая ложкой остатки борща, Гринька поймал на себе мягкий взгляд “мамаши”. Подражая отцу, он пристукнул ложкой по столу и солидно похвалил хозяйку:
— Золотые руки!
Гринька не знал, что и Анастасию Григорьевну одолевали сейчас невеселые мысли. Глядя на гостя, она думала о своих трех сыновьях, погибших в мировую войну. Как она молила бога за них! Сколько церквей обошла, свечей переставила! Каким только святым и чудотворцам не кланялась! Даже дома часами простаивала она на коленях перед маленькой, темной иконой, украшенной бумажными цветами и рушником с вышитыми на концах черно-красными петушками. И ничто не могло избавить ее от серых казенных конвертов с траурной рамкой и коротких, но страшных слов: “Погиб смертью героя на поле брани”. Последний сын, старший, бросил фронт в конце шестнадцатого года и бежал в свой родной город. Его перехватили на каком-то разъезде, не доезжая станции Хасав-Юрт, и расстреляли как дезертира. В виде особой милости ему, как георгиевскому кавалеру, разрешили написать матери. Письмо было путаное, бессвязное. Лишь последняя строка все объяснила, дошла до сердца матери. “Будь проклята война, — писал сын, — и те, кто ее выдумали, кому она нужна”.
Эти слова Анастасия Григорьевна приняла как завещание, как последнюю волю своего погибшего сына.
С тех пор к уголкам ее губ сбежались жесткие морщинки. Она отвернулась от бога и возненавидела всякое упоминание о нем так же горячо, как и верила в него совсем недавно. Вся жизнь ее осталась в ненавистном прошлом. Помогая большевикам, Анастасия Григорьевна не думала о своем будущем, считая, что для нее в жизни осталось лишь одно: стремиться к тому, чтобы другим жилось лучше, чем ей самой. И теперь, глядя на сидящего перед ней Гриньку, Анастасия Григорьевна задумалась: а не ее ли будущее пришло в дом в виде лохматого мальчонки, уписывающего борщ?..
Анастасия Григорьевна убрала со стола посуду. Громыхнула в кухоньке жестяной лоханью.
— А ну… господин хороший, — с шутливой торжественностью пригласила она Гриньку, — пожалуйте мыться.
И жесткие морщинки возле уголков губ разбежались в доброй, материнской улыбке.
ГРИНЬКИНА ТАЙНА
Гринька вбежал в комнату в белой рубашке с чужого плеча. Трудно было узнать мальчишку после купанья. Волосы у него оказались русыми, мягкими, а глаза на чистом лице — уже не светлыми, а темно-серыми. И мальчуган лишь только теперь присмотрелся к своему новому другу. Понравились ему оголенные по локоть мускулистые руки Романа Петровича, его крепкая шея и туго обтянутая выцветшей ситцевой рубахой широкая грудь. “Здоровенный дядька!” — с уважением подумал Гринька и с еще большей симпатией посмотрел на обветренное лицо Романа Петровича с выгоревшими бровями и золотистыми редкими усиками. Как и каждому мальчугану, ему нравились сильные люди. — Присаживайся рядком… — Роман Петрович подвинулся. — Вот так. Теперь рассказывай: кто ты и откуда? Гринька устроился на кушетке поудобнее — поджал босые ноги под рубашку — и плутовато прищурился: — А ты кто? Почему меня выручил? — Обо мне речь впереди, — остановил его Роман Петрович. — Зовут тебя?.. — Гринька. — Григорий, стало быть? Гриша. Грицько! — повторил Роман Петрович, будто выбирая, как звучит лучше. — Хорошее имя! Рассказывай, Григорий, Гриша, Грицько, Гринька! Кто ты такой? — Я большевик-одиночка. — Что-о? Роман Петрович от удивления даже приподнялся с кушетки. — Большевик-одиночка, — твердо повторил Гринька. — Вот это да! — развел руками Роман Петрович. — Сколько живу… Первый раз слышу о такой партии! — Такой партии нету, — серьезно поправил его Гринька. — Просто я сам, один — большевик. Без партии. Потому и одиночка. А вот подрасту немного, запишусь в партию. Тогда уже стану настоящим большевиком. — Рановато тебе в партию, — сказал Роман Петрович. — В самый раз! — решительно отрезал Гринька. — Видал, какого я генералу рака испек? — Видел. — И думаешь, меня в большевики не примут? — Нет. — Почему? — Маловат. Подрастешь немного — пойдешь в комсомол. — Куда? — насторожился Гринька. — В Коммунистический союз молодежи. — Нет! — мотнул головой Гринька. — Я лучше в большевики. — В большевики! — усмехнулся Роман Петрович. — Экой торопыга! А знаешь ты, к примеру, что такое классовая борьба? Гринька неловко замялся. — Вот! — продолжал Роман Петрович. — Какой же ты большевик, если даже не слышал о классовой борьбе? Гриньке стало неловко под ласковым взглядом Романа Петровича. — Ничего! — смущенно протянул он. — Я выучусь. — Когда еще ты выучишься! — не уступал Роман Петрович, уверенно направляя разговор к своей цели. — А сейчас? Кто за тебя бороться будет? — Я французскую борьбу знаю! — буркнул Гринька. — И кавказскую. С подножкой. Теперь уже опешил Роман Петрович. Человек он был холостой, беседовать с ребятами по-серьезному ему еще не приходилось. “Как же это я?.. — думал он. — Заговорил о комсомоле и не подумал, что здесь и взрослые-то многие не знают, что полгода назад в Советской России организован комсомол. О классовой борьбе заговорил! Додумался!” Стараясь скрыть свое смущение, он круто повернул разговор: — Сколько тебе лет? — Двен… — Гринька запнулся и быстро поправился. — Тринадцать. — И для большей убедительности добавил: — В аккурат. — Что ж… тринадцать лет — возраст подходящий. Роман Петрович обдумывал, как бы ему незаметно снова повернуть беседу в нужную сторону. Неожиданно помог ему сам Гринька. — А где этот коммунистический союз? — спросил он. — В России. — О-о! — разочарованно протянул Гринька. — А здесь нету его? — Покамест нет. Прогоним беляков — и здесь комсомол будет. Так-то, друг ситный! Придется тебе ехать в Советскую Россию. — Не поеду! — буркнул Гринька. — Не поедешь? — удивился Роман Петрович. Всего ожидал он, только не этого. — Почему? — Не поеду! — упорно повторил Гринька, избегая встречаться взглядом с Романом Петровичем. — Пойми, хлопец, тебя ищут по всему городу. — Пускай… — На тебя беляки злы так, что хватают всех бездомных ребят. — Ну и пусть хватают! Опущенное лобастое лицо Гриньки стало вдруг упрямым, далеким от собеседника. — Поймают тебя. Мальчуган упорно молчал. — Попадают в тюрьму люди более опытные, чем ты. Гринька отвернулся к окну, притворяясь, будто очень заинтересовался большой синей мухой, трепетавшей на стекле. — В Советской России тебя возьмут в детский дом, — продолжал Роман Петрович. — Получишь ты кровать, чистую постель. Ребят там много. Пойдешь с ними в школу. В комсомол тебя примут. Гринька поднял наконец голову. Он посмотрел так, словно Роман Петрович своими уговорами причинял ему боль. И опять смолчал, не ответил. Но Роман Петрович твердо решил настоять на своем. Надо было спасти парнишку от неизбежного провала. И он пошел на крайнее средство: — Ты говорил, что отец твой перешел в Красную Армию? — Перешел. По голосу мальчика, по тому, как он оживился, Роман Петрович решил, что разговор идет к желаемой цели. — Слушай, хлопец, — продолжал он, — и подумай как следует. А вдруг отец твой ранен, лежит где-то в госпитале? Один. Без родных. И даже не знает, жив ли ты… — Не поеду! — Гринька вскочил с кушетки. Бледный, с вытянувшимся упрямым лицом, он сразу показался старше своих лет. — У меня… мамка… в здешней тюрьме. — Он тяжело перевел дыхание и еле слышно добавил: — За отца ее взяли… Гринька хотел сдержаться… и не смог. По щекам его медленно сползли две крупные слезы. За ними по блестящему влажному следу покатились еще… Он отвернулся к окну и плакал, притворяясь, будто бы очень занят бьющейся о стекло мухой. Слова мальчугана сбили Романа Петровича. Значит, Гриньку удерживает в городе не только мальчишеская удаль, задор, а большое чувство сына. Мать в беде… Как же это забыл он о том, что мельком прочел в листовке? Так вот почему Гринька оказался на улице и стал “Красным мстителем”!.. В комнате стояла такая тишина, что жужжание мухи, бьющейся о стекло, стало неправдоподобно громким…РЕШЕНО
Настроение мальчугана — горестное, тягостное — передалось и Роману Петровичу. Неловко было сидеть и молчать. Но и спорить невозможно. И все же следовало что-то предпринять Дом “мамаши” не мог быть надежным убежищем для Гриньки. Слишком уж шустр и предприимчив паренек. Такого в четырех стенах не удержишь. А на что еще может пойти мальчуган, подстегиваемый жгучей тревогой за арестованную мать? Как ни ломал голову Роман Петрович, придумать ничего не удавалось. Поэтому он облегченно вздохнул, когда в приоткрытую дверь заглянула Анастасия Григорьевна и вызвала его из комнаты. Во дворе, на толстом чурбане, заменявшем лавочку, сидел сухощавый, крепко сбитый человек. Серенький бумажный костюм с простеньким галстуком как-то не шел к его скуластому лицу с двумя резкими морщинами вдоль щек. — Меня зовут Сергей. — Незнакомец протянул широкую, крепкую руку. — Тебе говорили о моем приходе? Говор у него был не здешний, а круглый, чуть окающий. Сергей назвал имя человека, поручившего Роману Петровичу перебросить его морем в Ростов-на-Дону. — Был такой разговор, — подтвердил Роман Петрович. — Что ж, раз надо, сделаем… Сговорились они быстро. Отъезд назначили на завтра. Перед тем как проститься, Сергей вырвал из записной книжки листок, написал столбиком названия разных лекарств и поручил закупить их до отхода лодки. Теперь Роман Петрович понял, почему Сергей пробирается в Ростов морем. Почти по всему низменному кубанскому побережью Азовского моря широко раскинулись необъятные зеленые плавни. Там, в непролазных зарослях камыша, гнездилась чуткая болотная птица, бродили выводки свирепых диких кабанов. Там же укрывались и отряды красных партизан, люди, бежавшие от преследования контрразведки, беглецы из белогвардейских частей. Плавни служили надежным убежищем каждому, кому нельзя было жить в родных местах, кто боролся с деникинцами пробраться в плавни было нелегко. Сунулись было туда белогвардейцы раз, другой — и отстали. Дорого обошлось! Партизаны же в плавнях были неуязвимы. Даже городским подпольщикам-коммунистам было нелегко поддерживать связь с ними. Приходилось пробираться морем, на легких рыбачьих лодках. По азовскому мелководью иначе к плавням не подойдешь. Роман Петрович решил потолковать с Сергеем о Гриньке. — Зайдем-ка в сад, — пригласил он. — Тут случай подвернулся… сложный. Хочу посоветоваться с тобой. На скамье под старым кронистым абрикосом Роман Петрович рассказал Сергею все, что знал о мальчонке. Сергей облокотился на круглый садовый стол. Внимательно выслушал он Романа Петровича и забарабанил пальцами по толстым, грубо оструганным доскам стола. — Да-а! — протянул он. — Действительно случай! — Что делать с пареньком? — спросил Роман Петрович. — Не оставлять же его на улице! На погибель! Пальцы Сергея остановились. — Тут плохо, — медленно произнес он, поняв, куда клонит Роман Петрович, — и со мной… тоже нехорошо. Еду я в Ростов морем не зря. — К партизанам заедешь? — понял Роман Петрович. — Придется по пути заглянуть в плавни. — Сергей опустил стриженую голову, помолчал. — А паренька надо убрать из города. — Надо! — подхватил Роман Петрович. — Да сделать это не просто. Очень уж привязан он к матери. — Тем более. Жаль мальчонку. Такого вырастить — человеком будет. — Это верно, — в раздумье произнес Роман Петрович. — Но ведь он не грудной младенец. Силой его не увезешь. — Надо увезти, — твердо сказал Сергей. — Здесь, в городе, делать ему нечего. Не сегодня, так завтра поймают его. — Поймают, — снова согласился Роман Петрович, довольный тем, что разговор пошел именно так, как ему и хотелось. — Сам попадется, да еще и мать свою подведет, — продолжал Сергей, незаметно для себя подбирая всё новые и новые доводы, подтверждающие необходимость вывезти Гриньку. — Попадет мальчонка в контрразведку — они нажмут на мать. Быть может, она знает товарищей мужа или слышала их разговоры. Наши-то не очень осторожны… — И, будто подведя итог сказанному, он пристукнул ладонью по столу: — Надо убрать парнишку отсюда!.. Как у вас связь с тюрьмой? — Есть… — Тогда все можно устроить. Достаньте письмо от матери. Пусть она сама, своей рукой, напишет сыну: “Поезжай в Советскую Россию”. И для сына слова матери — покрепче наших уговоров, и мать будет спокойна за него. — Достать письмо можно, — согласился Роман Петрович. — А как мы вывезем хлопца? О железной дороге нечего и думать: проверка документов… — Раз лучшего пути нет, — перебил его Сергей, — пускай едет со мной. — Он поднялся со скамьи и протянул руку: — Решено? Роман Петрович вернулся в комнату. Гринька стоял на прежнем месте, у окна, все еще наблюдая за ползающей по стеклу мухой. Услышав скрип двери, он обернулся и сказал: — Вечером я уйду отсюда. — Никуда ты не уйдешь. — Уйду! За окном, трепеща крылышками, уселась на яблоню шумливая стайка воробьев. Они кричали изо всех сил, кричали так старательно, что даже приседали от усердия… Гринька безразлично следил за бойкой птичьей возней. Роман Петрович взял его за плечи и возможно внушительнее сказал: — Вот что, молодец, выбирай: либо ты уедешь в Советскую Россию, либо сам пропадешь и невольно подведешь свою мать. В городе тебя многие знают в лицо. За тобой охотятся. Сам видел! Роман Петрович подождал, не ответит ли Гринька. Но мальчик молчал. — Имей в виду, — продолжал Роман Петрович, — это не только мое мнение. Так же думают и мои товарищи. Гринька возил пальцем по подоконнику. Роман Петрович повернул его лицом к себе: — Если желаешь убедиться, что я прав, так обещаю тебе… Гринька настороженно приподнял брови. — …обещаю, что завтра получишь от матери письмо. В нем она тоже потребует, чтобы ты немедленно уехал отсюда. Роман Петрович рассчитывал на письмо как на самое сильное средство. И все же он не ожидал такого впечатления. Он почувствовал, как под его руками вздрогнули плечи мальчика. Глаза его широко раскрылись. В них виднелись радость и сомнение, изумление и благодарность. Письмо от нее! Голос Романа Петровича звучал так уверенно, что мальчуган поверил. — Ладно! — Он проглотил что-то мешавшее ему говорить. — За письмо поеду. Только пускай она сама напишет. Своей рукой. — Обязательно своей рукой, — подтвердил Роман Петрович и протянул ему руку: — Крепко? Гринька ответил ему: пожал руку сильно, как мужчина.ИСТОРИЯ ГРИНЬКИ
Долго не спалось Гриньке в эту душную ночь. И неудивительно: впервые ему предстояло самому принять важное решение. До сегодняшнего дня жизнь Гриньки складывалась как-то сама собой. Жил он с родителями в богатой, сытой станице. Отец работал машинистом на большой мельнице, мать хозяйничала дома. Гринька занимался своими делами: ходил в школу, гонял голубей, лазил под обрыв за раками. И вдруг эта жизнь рухнула. Началось с того, что деникинцы взяли отца на войну. Остался Гринька с матерью вдвоем. Скоро к ним пришел урядник и увез мать в город. Станичные ребята передали Гриньке подслушанное дома: отец его вместе с другими солдатами перешел к красным. “Убежал от беляков и правильно сделал! — рассудил Гринька. — А за что же мать забрали?” После ареста матери Гриньку вместе со всем его имуществом взял к себе сторож мельницы, Поликарп Потапыч. Поликарп Потапыч был большой политик и дипломат. Когда в станицу пришли красные, он вовсю ратовал за передел земли, ругмя ругал царя Николку и урядника Филимона Иовича. Красные продержались в станице недолго. Снова пришли кадеты. В тот же день Поликарп Потапыч уехал в город. Разыскал там хозяина мельницы. Обстоятельно доложив ему о делах на мельнице, о понесенных при красных убытках и припрятанном в потайном месте зерне, Поликарп Потапыч получил от хозяина в награду за преданность чувал муки, десять пудов мельничной пыли и вернулся в станицу уже горячим сторонником кадетов. И теперь на сходках он шумел тем громче, чем дальше отходили красные части от Кубани. — К бисову батькови краснопузых голоштанцив с их комиссарами! Свит баламутят! Жить не дают! Робить не дают честным хлеборобам! Как только Поликарп Потапыч перетащил в свою каморку Гринькины пожитки, а главное — швейную машину и толстощекого курносого поросенка, он круто изменил свое отношение к мальчугану. Сперва он поругивал его. Потом стал попрекать куском хлеба и даже мельничной пылью, которой откармливал присвоенного поросенка. Узнал Гринька, что и в сытой станице можно быть голодным. А Поликарп Потапыч все чаще жаловался соседям на приемыша. И характер-то у хлопца худой, и ленив, и смотрит волком. Все это Гринька терпел, понимая, что живет у чужих. Но когда Поликарп Потапыч разошелся и крикнул ему: “Эх ты, казак!.. Тюремного роду, грабительского племени!” — Гринька не выдержал и ответил словами, слышанными когда-то от отца: “А ты… ты продажная душа. КВД![28]” Что такое “КВД”, Поликарп Потапыч не понял, но обиделся страшно и снял с себя толстый ремень. Гринька схватился за топор. Поликарп Потапыч посмотрел в широко раскрытые, блестящие глаза приемыша и… опустил руку. — Волчонок! — бормотал он, свертывая трясущимися руками грубый солдатский ремень. — Волчонок! И, только отступив от Гриньки на приличное расстояние, Поликарп Потапыч осмелел. Широко распахнул дверь и крикнул: — Геть, пащенок! Щоб духу твоего здесь не було! Щоб я бильше не бачил тебе! Геть! Поликарп Потапыч выбросил в окно Гринькину праздничную курточку рубчатого бархата, стоптанные, но еще крепкие сапожки и отцовскую черную папаху карачаевской овчины. Следом полетели тыквенные бутылки, ссохшийся ушат, утюги, всякий домашний хлам. Унести все это Гринька не мог. Да и на что ему, скажем, ушат или утюги? Мальчуган свернул в узелок курточку, башмаки, отцовскую папаху и пошел. Вечер стоял теплый, тихий. Возле хат толпились хлопцы и девчата. Они грызли семечки, смеялись. Пряча от чужих глаз свое горе, Гринька шел серединой улицы. Шел и сам не знал куда. Старательно обходил он не только шумные посидки, но и редких одиноких прохожих. Незаметно мальчуган очутился на дороге, ведущей в город. И тут он решил: надо уйти из станицы. Совсем уйти. Мать — в городской тюрьме. В городе можно найти большевиков — людей, о которых так много говорят в станице. Они-то и помогут выручить мать. В городе Гринька скоро понял, что найти большевиков вовсе не так просто, как казалось. А еще быстрее он понял, что, не имея пристанища, незачем беречь и бархатную курточку. На обладателя такой нарядной штуки все смотрят как на богача, за все требуют платы. Недолго думая, Гринька сменял свою курточку на старый офицерский френч и два кружка колбасы. Папаху он проел еще в пути. В городе Гринька попал в компанию бездомных ребят. Верховодил ими широкий в плечах и не по возрасту крепкий паренек лет тринадцати, Митька Клещ. Так его прозвали за сильную хватку рук и настойчивость. Гринька не задумывался над тем, где и как добывают его новые приятели хлеб, колбасу и даже сладости. Говорили они между собой на каком-то тарабарском языке. Прислушаешься к ним — будто по-русски говорят, а непонятно. Но признаться в том, что не понимаешь товарищей, было неловко. Поэтому Гринька держался с ними так, словно он все знал и понимал, но просто не желал вмешиваться в беседу. Утром Митька Клещ повел свою ватагу на базар. Юркие оборванцы рассыпались по привозу. Одни из них держались шумно, приставали к прохожим, лезли к лошадям, другие незаметно пробирались за возами, стараясь не привлекать к себе внимание. — Видишь тетку? — спросил Митька Клещ у Гриньки. — Вижу. — Подойди к ней и гляди на нее во все глаза. Станет она тебя гнать — не уходи. По шее дадут — отойди чуток и снова гляди на нее. И так покуда не услышишь, как крикнут: “Жара!” Тогда тикай сразу. Понял? Дуй! Гриньке очень хотелось выполнить наказ Митьки точно и умело. Хотелось, чтобы Клещ похвалил его. Он подошел к немолодой женщине и уставился на нее. — Чего тебе? — недовольно спросила она. — Проходи… Гринька не шелохнулся и только еще усерднее таращил глаза на сердитую тетку. — Уйдешь ты или нет? — Женщина грозно подалась к нему. Гринька не двинулся с места. — Я тебя!.. Гринька еле успел увернуться от протянутой к нему сильной загорелой руки. И тут за спиной у него крикнули: — Жара! Быстро шмыгнул он за ближнюю мажару, мельком увидел за спиной тетки деловито насупленное, грязное лицо Клеща и еще какую-то юркую фигурку в рванье. Можно было бежать. Остановил Гриньку отчаянный вопль. В хриплом голосе было столько отчаяния, что мальчуган не мог двинуться с места. В воющем крике Гринька уловил слова о каком-то узле, проданной корове… Не сразу сообразил он, что эта женщина, солдатка, продала свою единственную корову, чтобы купить детям хлеба на зиму, и теперь у нее украли узелок с деньгами. — …Что ж делать мне?.. Что делать? — кричала она и рвала на себе ветхую кофту. — Детушки мои! Несчастные!.. Голодные!.. Лишь теперь понял Гринька, что он наделал! Он помог обворовать солдатку и ее ребят. Не помня себя, Гринька побежал разыскивать Клеща. Может быть, это не кража, а шутка? Ребята посмеются и вернут женщине узел? Компания Митьки Клеща сидела на пустыре, в тени, падающей от стены обгорелого полицейского участка. На пыльной траве лежала горка смятых пирожных, копченая рыба, горячий рубец и печенка. Посередине стояла бутылка водки. Мальчишки шумно хвалили Митьку Клеща. Ловко выхватил он узел с деньгами у той тетки и передал его своим! — Садись, корешок! — издали крикнул Клещ, увидев Гриньку. — Сегодня гуляем. Фарт наш! Гринька смотрел невидящими глазами поверх Митькиной головы. — Отдай тетке узел, — сказал он и сам не узнал своего голоса. — Отдать? — Клещ поднялся с травы. — Тетке?.. Отдать узел? Вся шайка смотрела на Гриньку удивленными глазами. И вдруг воры расхохотались. Смеялись они так, будто Гринька сказал что-то очень смешное. — Отдать? — кричали они. — Тетке? Вот сказанул! Ой, не могу!.. — У нее же дети голодные! — крикнул Гринька. Хохот стал еще громче. Воры теребили свои лохмотья, хватались от восторга за бока, живот и колени, задыхались от смеха. А двое повалились на спину и дрыгали загорелыми, в черных цыпках ногами. — Где узел? — не обращая внимания на гогот воров, спросил Гринька у вожака. — Где? Митька Клещ встал. Взял с травы пирожное. На грязном лице его появилась нехорошая, кривая усмешка. — Вот узел! — громко сказал он и с размаху залепил пирожным в лицо Гриньки. Это было сигналом. Вся шайка бросилась на Гриньку. Били его так, что в глазах закружились радужные пятна, а от боли в разбитом носу, в животе и в колене перехватило дыхание. …Гринька поднялся на ноги. Посмотрел на валявшееся в пыли пирожное, уже черное от облепивших его мух, сплюнул кровью и пошел с пустыря, обтирая с лица слезы, кровь и липкий крем. Больше Гринька не ходил ночевать в разрушенный полицейский участок. Теперь он держался в стороне от беспризорных. Особенно остерегался он встреч с шайкой Клеща. Впрочем, клещевские воры уже не обращали внимания на него. Разве крикнут издали: — Эй, Тетка! Хочешь еще “узла”? Однако надо было чем-то кормиться. Попрошайничать Гринька не умел. Стыдился, Пришлось расстаться с сапогами. Их взял “за науку” бездомный паренек с больными ногами. Он обучил Гриньку зазывать публику и петь песенки, выбивая такт костяшками. Так Гринька превратился в уличного певца. Все эти события шли сами собой и тащили за собой мальчугана, не давая ему ни опомниться, ни подумать о будущем. Единственное, что шло от самого Гриньки и толкнуло его в город, — это боязнь за арестованную мать. Гринька шел в город, уверенный в том, что ему удастся повидать ее или же, на худой конец, узнать, что с ней. В жизни он не видел тюрьмы, не слышал о контрразведке. Гринька представлял себе тюрьму, как огромный дом из крепкого камня, со множеством маленьких зарешеченных окошек. У окошек день и ночь сидят арестанты и поют очень грустные песни. Вокруг дома ходят тюремщики с заряженными ружьями. Оказалось, что тюрьма вовсе не высока. Из-за дощатой ограды выглядывали только бурые железные крыши да деревянные сторожевые вышки. А подойти поближе мешали не столько часовые, которых и не видно было с улицы, сколько колючая проволока и широкая канава, полная затхлой воды. Не раз Гринька часами кружил около тюрьмы, но так и не мог додуматься, куда упрятали его мать, как бы подать ей знак, что он тут, близко, возле нее. И все же в городе Гринька чувствовал себя куда лучше, чем в станице. Здесь не было Поликарпа Потапыча, а главное — ничто не напоминало об отцовском доме, жил он, не зная забот, никого и ничего не боясь. К тому же в городе случалось слышать разговоры о том, что “они работают, разве их задавят?” Гринька понимал, что это говорили о большевиках, о людях, с которыми были связаны все его надежды на освобождение матери. Скоро он и сам нашел, чем помочь большевикам. Жаль только, не успел развернуться. И теперь, когда таинственное слово “большевик” обратилось в живых, хороших людей — в Романа Петровича и Анастасию Григорьевну, — от него требуют: “уезжай из города”. Было от чего загрустить! Советская Россия! Гринька пробовал представить себе, как выглядит Советская Россия и чем она отличается от остальной России. “Красные флаги на домах — это раз! — думал он. — Ленин там — два! Рабочие там всех главнее — три! Комиссары… А какие бывают комиссары? Что они делают, если беляки так ненавидят их?..” Так и заснул Гринька, не поняв, какие бывают комиссары и чем они занимаются…СТРАШНАЯ ВЕСТЬ
Утром Гринька поднялся поздно. Выбежал во двор и спросил у Анастасии Григорьевны, не пришел ли Роман Петрович. — Успеешь еще наспориться. Вояка! — ответила “мамаша”. — Поди-ка лучше помоги мне. Они вошли в маленькие сени. Анастасия Григорьевна открыла огромный, обитый медными листами сундук. В сенях запахло нафталином и особым, душным запахом старых вещей. Анастасия Григорьевна достала из сундука суконные брюки, куртку, старомодный картуз с большим козырьком и башмаки на резинках. Это были вещи ее младшего сына. Много лет бережно хранились они в сундуке. Когда Роман Петрович вошел в комнату, Гринька сидел на кушетке. Старательно поджимая под себя босые ноги, он следил за узловатыми пальцами Анастасии Григорьевны. Она укорачивала брюки. Мелкие стежки ровно ложились по серому сукну. В аккуратной строчке, в мягких движениях пальцев было нечто такое, что Гриньке напомнило мать. Хотелось сидеть и смотреть на эти руки долго-долго. Гринька радостно вскочил навстречу Роману Петровичу. Но, взглянув в его лицо, мальчик сразу притих. — Не принес? — сказал он. — Такие дела сразу не делаются, — успокоил его Роман Петрович. — Мамка твоя не в гостях — в тюрьме! Туда, брат, не сразу проберешься. Анастасия Григорьевна, перекусывая нитку, украдкой взглянула на Романа Петровича, стараясь угадать, какие вести он принес. — Готово! — сказала она, сложила брюки и поднялась, разминая усталую спину. — А теперь — услуга за услугу, — обратилась она к насупившемуся Гриньке. — Порубай мне дровишек. Топки на две… Гринька взял в углу колун и молча вышел. — Садись, Роман Петрович, — сказала “мамаша”. — Рассказывай… ………………………………. С утра Роман Петрович отправился на розыски Христи Ставранаки. Это был отважный парень, настоящий рыбак — смелый и веселый, как почти все люди, занимающиеся опасным трудом. Весь поселок знал его как одного из лучших добытчиков. Умел Христя и гулять. Живой и общительный, он всегда был душой компании. Но Христя обладал еще одним очень ценным качеством. Трезвый или же под хмельком, он был неудержимый болтун, но в то же время ухитрялся никогда и ничего не сболтнуть лишнего. Зато всегда выуживал у своих менее разговорчивых собеседников все, что они знали. Партийный комитет нередко получал от него очень ценные сведения. Ведь рыбаки в приморском городе видят и знают очень многое. Нечего и говорить, что шустрого молодого рыбака, любившего посидеть в харчевне или в кафе, никто, даже его приятели, не могли заподозрить в связях с большевиками. Никто не знал, как умел держать себя в руках весельчак и балагур Христя. Роман Петрович нашел Христю на взморье. Там же и договорился, что тот перебросит Сергея и Гриньку морем в Ростов-на-Дону. — Когда выйдем? — спросил Христя так, словно речь шла о небольшой прогулке. Условились завтра, в восемь часов вечера, собраться поодиночке у его шаланды. От Христи Роман Петрович направился на окраину города. В небольшом, крытом камышом домике он застал хозяина конспиративной квартиры, Акима Семеновича. Это был старый моряк-пенсионер, высокий и несколько сутулый человек с тяжелыми, покатыми плечами. Роман Петрович рассказал ему о Гриньке и обещанном письме. Старый моряк задумчиво поглаживал свои волнистые седые волосы. Он уже слышал о похождениях бесстрашного “Красного мстителя” и даже одобрял боевого мальчонку. — Мать, говоришь, сидит пятый месяц? — спросил он. — Пятый месяц. — Крепко! — Так как же, Аким Семеныч? — спросил Роман Петрович. — Можно надеяться? — Уж больно спешишь ты! — Случай такой. Аким Семенович помолчал, что-то обдумывая. Степенно раскурил он трубку с медной узорчатой крышечкой: — Заходи завтра. Сделаем. — Можно утречком? — Заходи. ………………………………. — Вот и хорошо! — сказала “мамаша”, выслушав рассказ Романа Петровича. — Завтра же сплавим паренька. Не место ему тут. Но голос ее прозвучал грустно и совсем не соответствовал сказанному. За окном звонко щелкали раскалываемые поленья. Гринька усердно колол розовую хрупкую вербу. Остаток дня ушел на беготню по аптекам. Партизаны скрывались в болотистых лиманах Кубани и очень нуждались в медикаментах. Злокачественная лихорадка приносила им больше вреда, чем оружие деникинцев. Карательные отряды боялись забираться в непролазную чащу камышей. Малярия же проникала в любую глушь. До поздней ночи “мамаша” и Гринька зашивали в клеенчатые, непроницаемые для воды мешочки бинты, дерматол и хинин. Рассовали они по мешочкам и несколько советских газет. Правда, газеты были старые, но это никого не смущало. Партизаны радовались каждому клочку газеты, где можно было прочитать о жизни Советской России. Упаковка медикаментов затянулась допоздна. Гринька заснул за столом с иголкой в руках. Пришлось перенести его на кровать. Ночью он спал плохо — вскидывался с постели, что-то бормотал. Из сонного лепета можно было разобрать лишь несколько слов: “…Я сам… сам прочту…” Даже и во сне его не оставляла мысль об обещанном письме. Утром Роман Петрович поднялся рано и тихо, боясь разбудить Гриньку, вышел на улицу. Едва он переступил порог знакомой хатки под камышовой крышей, как сразу заметил неладное. Старый моряк притворился, будто не замечает его. Он сидел за столом, усердно ковыряя проволочкой в трубке. Роман Петрович напомнил о себе — кашлянул. Аким Семенович поднял широкое морщинистое лицо и проворчал: — Стоишь над душой!.. Опасения Романа Петровича усилились. Он знал, что, если Аким Семенович отвечает неохотно,значит, новости скверные. — Письмо получил? — спросил Роман Петрович. — “Письмо, письмо”! — рассердился старик. — Наобещали там!.. “Письмо”! Он запнулся и стал раскуривать люльку, откинув с чубука узорчатую медную крышечку. Это еще больше встревожило Романа Петровича. — Я спрашиваю тебя, Аким Семенович, — резко бросил он, — где письмо? Старик занялся своей трубкой еще усерднее. Густые клубы дыма окутали его морщинистое лицо. — Что случилось с женщиной? — Голос Романа Петровича звучал беспокойно. — Скажешь ты или нет? — Умерла, вот что! — выпалил Аким Семенович. И добавил тише: — Еще два месяца назад. — Умерла?! Всего ожидал Роман Петрович, но только не этого. — От тифа, — хмуро добавил Аким Семенович. — В неделю сгорела… Наконец он выпустил из зубов свою трубку. Разогнал рукой окутавшие его клубы табачного дыма. — Вот… — Он протянул Роману Петровичу на громадной, заскорузлой ладони маленькое серебряное кольцо. — Просили передать парнишке. Мать оставила. Когда ее выносили из камеры в санитарный околоток, она очнулась и передала. Сказала — сыну оставляет. Роман Петрович растерянно взял кольцо, не зная, что с ним делать. Колечко было старое. Края его стерлись настолько, что стали острыми. Аким Семенович поднял дымящуюся трубку и, держа ее на отлете, медленно произнес: — Уж теперь, Роман, не оставляй мальца. Раз взялся, приберег… так сохрани. Вывези его из города прочь. — “Вывези”! — бросил в сердцах Роман Петрович. — Легко сказать — вывези. Знал бы ты, что за характер у хлопца! Видел же ты его в Общественном собрании? — А у нас-то что… характеров нету? У нас… Роман Петрович не дослушал его. Со злостью запустил он кольцо в угол хаты и повернулся к выходу. — Стой! Аким Семенович поднялся за столом — огромный, тяжелый, грозный — и строго показал пальцем в угол: — Не швыряй. Это тебе не безделка — память замученной матери! Что она еще могла оставить сыну? В тюрьме-то! Ты должен передать мальчонке кольцо. Не сейчас, так после. Мальчонку-то мать… ласкала. Кольцо на руке было. Малец узнает его. Беречь будет. Память! Роман Петрович отыскал взглядом блестевшее у стены колечко, быстро поднял его и вышел из хаты. Аким Семенович яростно курил. Серые облака едкого махорочного дыма заполнили хатку.ПРОЩАНЬЕ
После работы Роман Петрович прошел к стоянке рыбачьих лодок. На взморье было тихо. Ясное, до боли в глазах, небо сливалось на горизонте с ослепительно блестящим неподвижным морем. В тишине оглушительно громко звучали скрипучие голоса чаек. Шаланда Христи Ставранаки отличалась от остальных широкой, крепкой кормой и сильно приподнятым острым носом. Сидела она на воде плотно, как сытая гусыня. Шаланда пропахла рыбой, смолой и особым крепким запахом Азовского моря. На носу было выведено яркой киноварью: “Кефаль”, хотя сама шаланда ничем не походила на эту стройную серебристую рыбку. Еще вчера было решено: собираться у шаланды поодиночке. И сейчас Роман Петрович присматривал, как подойти вечером к стоянке, чтобы не сбиться в темноте с пути. Из города лучше всего было идти напрямик, минуя дорогу через рыбачий поселок. Все было подготовлено к отъезду. Лишь одно беспокоило Романа Петровича: Гринька. Хлопчик спросит: где письмо? Дать ему кольцо? Об этом нечего и думать. Он сразу догадается, что с матерью что-то произошло. Еще надумает отомстить контрразведчикам за гибель матери. Занятый своими размышлениями, Роман Петрович не заметил, как вошел в город. Машинально шагал он по улице, пока не наткнулся на ларек с красной, похожей на помидоры хурмой. — Яваш, яваш![29] — закричал торговец-перс с сухим, коричневым лицом и выкрашенными в красный цвет бородой и ногтями. Обеими руками оттолкнул он Романа Петровича от лотка и нагнулся за скатившимися на пыльную мостовую сочными плодами. Роман Петрович осмотрелся. Рядом с лотком он увидел вывеску харчевни “Париж”. Роман Петрович толкнул дверь харчевни и, войдя, уселся за пустой столик. К нему подошел хозяин — черный, усатый и мрачный, с крючковатым, цепким носом. Молча принял он заказ, скрылся за стойкой и спустя минуту поставил на стол стакан вина, прикрытый от мух желтым блюдцем. Не спеша потягивая кислое, вяжущее рот вино, Роман Петрович посматривал в окно. По-прежнему сверкало под солнцем море. Над ним белыми лоскутами парили чайки. Все напоминало о скорой разлуке. И нельзя было пойти домой, провести последний час с Гринькой. О чем стали бы они говорить? Только о письме, которого нет и не будет. …Соборный колокол пробил семь часов, когда Роман Петрович вернулся домой. Гринька сидел возле окна, безразлично глядя в сад. — Досадная штука вышла, дружище! — сказал Роман Петрович, стараясь опередить его вопрос и держаться непринужденно. — Письмо принесут только к лодке. — Кто принесет? — настороженно спросил Гринька. — Человек, с которым ты поедешь в Советскую Россию. Гринька ничего не ответил. Он сидел напряженно выпрямившись и строго смотрел в глаза Роману Петровичу. — Ну вот!.. — Роман Петрович смущенно потрепал его по плечу. — Теперь скоро. Гринька медленно поднялся со стула. — Я пойду на шаланду, — сказал он, упрямо пригнув голову, — в море пойду… куда хочешь, но если не будет письма… не поеду никуда. Силком не увезете. Я не маленький. Вырвусь. В воду прыгну, а не поеду. — Будет тебе весть от матери! — Роман Петрович пытался строгостью прикрыть свое смущение. — Будет! А Гринька быстро, спеша закончить свою мысль, добавил: — Я и сам сумею повидать мамку. Если не на воле, так хоть в тюрьме. Острое беспокойство, не оставлявшее Романа Петровича с утра, охватило его еще сильнее. Мальчуган явно задумал что-то. Но что? Как он будет вести себя, когда придет время садиться в шаланду? Ведь рано или поздно, но узнает он, что обещанного письма нет. Анастасия Григорьевна вошла в комнату своей неслышной поступью. Незаметно показала Роману Петровичу глазами на дверь. Роман Петрович вышел из комнаты. В сенях он подождал “мамашу”. — Шебаршит малец! — шепнула она и оглянулась на плотно прикрытую дверь. — Весь день какой-то чудной ходит, думает. Не знаю, право, как и быть с ним. Может, оставить его? Пускай поживет со мной. Не объест. — А если он узнает, что мать его умерла в тюрьме от тифа? — Умерла? “Мамаша” испуганно отступила от Романа Петровича. — Тогда что будет? — жестко спросил Роман Петрович. — Что ж… — Анастасия Григорьевна вытерла глаза уголком белой косынки и коротко ответила: — Вези. Помолчала и грустно добавила: — Такая, видно, судьба… Чью судьбу она имела в виду — Гринькину, Гринькиной матери или свою, — Роман Петрович так и не понял. Из пятидесяти восьми лет жизни Анастасии Григорьевны почти сорок ушло на заботы о детях. Нужды нет, что старший сын погиб бородатым ополченцем. — для матери он по-прежнему оставался Васей. Быстроглазый, бойкий Гринька с новой громадной силой поднял в старой женщине живучее материнское чувство. Забота о чистой рубашке, беспокойство за перестоявший в печи обед, мелкие хозяйские хлопоты всколыхнули старое. Лохматый, колючий мальчишка стремительно ворвался в жизнь, стал нужен и дорог. Роман Петрович понял это и стал говорить об отъезде Гриньки суховато, тоном человека, не допускающего и мысли об отмене принятого решения. Анастасия Григорьевна сурово соглашалась с ним. Давалось это нелегко. Снова сбежались к уголкам ее губ острые морщинки. …Солнце опустилось за курчавые сады. Под деревьями стало темно. Роман Петрович вышел с Гринькой из дому. Анастасия Григорьевна проводила их до калитки. — Прощай, Гриня! — сказала она и положила свою большую руку на голову потупившегося мальчика. — Может, еще свидимся… Гринька вздохнул, хотел ответить… И вдруг он схватил ее ладонь обеими руками и прижался к ней щекой. Потом отвернулся и быстро зашагал за Романом Петровичем, стараясь не оглядываться. Анастасия Григорьевна облокотилась на забор, глядя, как уходит Гринька из ее маленького домика. Закатное солнце вызолотило вершины деревьев и крыши. Улица, поросшая редкой травкой, казалась сегодня особенно ухабистой. Роман Петрович и Гринька несли корзины, в которых под помидорами были спрятаны мешочки с медикаментами. Улица подходила к концу. Уже видна была памятная обоим акация с отпиленным суком. Вот и забор, за которым Роман Петрович нашел Гриньку… На углу Гринька не выдержал, оглянулся. “Мамаша” все еще стояла у забора и смотрела вслед уходящим.ПРОВАЛ
Они вышли на дорогу, ведущую к морю. До стоянки шаланды было еще далеко. Над морем, там, где недавно скрылось солнце, пылало огромное багровое зарево — предвестник ветреной погоды. Скоро Роман Петрович свернул с пыльной дороги и повел Гриньку по кукурузному полю. Двигались они медленно, осторожно ступая меж торчащими из земли кукурузными пеньками. По сторонам часто виднелись бахчи. Можно было нарваться на хозяина поля, вооруженного двустволкой, заряженной крупной солью, а то и дробью. Поля кончились у сырого овражка. Дальше пошел густой кустарник. Пробираться стало труднее. Корявые ветки хлестали по лицу и плечам, цеплялись за дужки корзин… Когда Роман Петрович с Гринькой выбрались к взморью, закатное зарево погасло. С берега надвигался стремительный южный вечер — теплый, темный, звездный. Лишь на высоких и редких перистых облачках задержались нежные розовые блики. А уже через все небо громадным серебряным поясом перекинулся Млечный Путь. Тысячи и тысячи звезд, неподвижных и мерцающих, нависли над землей и морем. Размеренно и глухо бились о берег волны. Отступая, вода сердито шипела и громко шуршала мелкими камешками. Неподалеку от шаланды Христи Ставранаки Роман Петрович еще днем приметил три крупных серых валуна. Между ними он устроился с Гринькой и стал ждать.
Лежали они неподвижно, наблюдая, как вспыхивают в воздухе и медленно плывут жуки-светляки, порой теряясь среди ярких звезд. Сперва робко, а затем все смелее и громче зазвенели цикады. Скоро эти звуки слились в негромкий мелодичный хор, в который неприятно врезался далекий сдавленный вопль, шакала…
Гринька толкнул Романа Петровича в бок:
— Слушай!
Роман Петрович насторожился, но ничего, кроме однообразного шума моря да звона цикад, не услышал.
Маленькая крепкая рука сжала его локоть:
— Идут!
Роман Петрович приподнял голову — так кажется, что лучше слышишь в темноте. Но как ни напрягал он слух, ничего напоминающего шаги человека не уловил. Лишь редкие всплески волн да легкий шум ветерка в кустах.
А Гринька привалился к его плечу и, жарко дыша в ухо, шепнул:
— Слышишь?
Гринька не был трусом. Многие ночи, проведенные им в темноте и одиночестве, научили его разбираться в мельчайших шорохах. Понимая это, Роман Петрович замер, стараясь не скрипнуть галькой, на которой они лежали.
Густо ударил соборный колокол. Раз! Два! Три!.. А когда замер его последний, восьмой удар, кругом еще громче заверещали цикады, заглушая уже и глухие удары волн о берег, и шипение отступающей воды, и шорох ветра в кустах…
Неподалеку от шаланды Христи Ставранаки Роман Петрович еще днем приметил три крупных серых валуна. Между ними он устроился с Гринькой и стал ждать.
Лежали они неподвижно, наблюдая, как вспыхивают в воздухе и медленно плывут жуки-светляки, порой теряясь среди ярких звезд. Сперва робко, а затем все смелее и громче зазвенели цикады. Скоро эти звуки слились в негромкий мелодичный хор, в который неприятно врезался далекий сдавленный вопль, шакала…
Гринька толкнул Романа Петровича в бок:
— Слушай!
Роман Петрович насторожился, но ничего, кроме однообразного шума моря да звона цикад, не услышал.
Маленькая крепкая рука сжала его локоть:
— Идут!
Роман Петрович приподнял голову — так кажется, что лучше слышишь в темноте. Но как ни напрягал он слух, ничего напоминающего шаги человека не уловил. Лишь редкие всплески волн да легкий шум ветерка в кустах.
А Гринька привалился к его плечу и, жарко дыша в ухо, шепнул:
— Слышишь?
Гринька не был трусом. Многие ночи, проведенные им в темноте и одиночестве, научили его разбираться в мельчайших шорохах. Понимая это, Роман Петрович замер, стараясь не скрипнуть галькой, на которой они лежали.
Густо ударил соборный колокол. Раз! Два! Три!.. А когда замер его последний, восьмой удар, кругом еще громче заверещали цикады, заглушая уже и глухие удары волн о берег, и шипение отступающей воды, и шорох ветра в кустах…
 Неподалеку скрипнула под ногами галька. Кто-то шел к шаланде.
Роман Петрович приподнялся, стараясь в темноте узнать малознакомую фигуру Сергея. Христя должен был захватить с собой парус и воду, а потом собирался подойти к шаланде на маленькой гребной лодке. Человек подошел к шаланде. Остановился. Роман Петрович решил подползти поближе и убедиться, что возле нее действительно Сергей, а не кто-либо из рыбаков, иногда проверявших свои лодки. Подполье приучило его к осторожности. Да и настойчивость Гриньки, что-то слышавшего, обеспокоила.
Не успел он отползти от укрывавших его валунов, как в стороне, из темных кустов, послышался негромкий резкий голос:
— Руки вверх!
Окрик был настолько неожидан, что Роман Петрович, не размышляя, прижался всем телом к теплой еще гальке. И тут же он услышал знакомый голос — окающий, округлый:
— Что такое?
— Не валяйте дурака, — все так же негромко ответил первый. — Вы пойманы, опознаны и сидите на прицеле десяти винтовок.
Роман Петрович отполз обратно, за камни, и положил руку на спину Гриньки. Мальчуган дрожал.
— Я протестую! — громко сказал Сергей, очевидно рассчитывая предупредить своих об опасности. — Кто вам дал право?..
— Молчать! — прошипели в кустах. Расплывающийся круг света от фонарика выхватил из темноты Сергея.
К нему подошел офицер-контрразведчик. За ним, с винтовками наперевес, — несколько солдат.
— Я хочу выяснить наконец… — по-прежнему громко начал Сергей. Договорить ему не дали. Роман Петрович услышал глухой удар, тяжелое дыхание, придушенные выкрики и грубые угрозы.
Теперь Роман Петрович понял, почему упорствовал Гринька, утверждая, что слышит шаги. Сейчас Гринька дрожал, но не от страха: на его глазах в лапы контрразведчиков попал человек вместе с письмом матери. Гринька уже не думал ни о провале поездки, ни о возможном аресте. Письмо! Оно было так близко и вместе с тем недоступно, уходило от него вместе с человеком, которого тащат связанным в кусты.
Контрразведчики с Сергеем скрылись в темноте.
Снова все притихло, кроме шума волн и трескотни цикад.
Сколько прошло времени? Минута? Десять? А быть может, и час? Никто не смог бы ответить. Слишком велико было напряжение.
С моря донесся слабый всплеск. Еще раз… Совсем, казалось, близко взвизгнуло весло в уключине. И сразу же из кустов послышался отчаянный крик Сергея.
Крик перешел в глухое мычанье.
Но и этого было достаточно. С моря ответил голос Христи Ставранаки:
— Э-эй! Наза-ад! Э-эй!.. — Христя кричал громко, постепенно удаляясь от берега. — Э-эй!.. Засада-а!..
На берегу послышалась громкая брань.
По взбешенному, полному ярости голосу Роман Петрович узнал офицера. Рука невольно потянулась к браунингу, спрятанному в подкладке рукава. И остановилась.
“А кто сообщит нашим о провале? — подумал он. — Лежи, Роман! Влипни в камень. Сам окаменей, а товарищей предупреди…” От кустов отделилась группа людей. На фоне звездного неба четко выделялись их черные силуэты. Впереди — Сергей. За ним — офицер. Позади — несколько солдат с винтовками наперевес.
— Чего вы от меня хотите? — спросил Сергей.
— Прежде чем задавать вопросы, — холодно произнес офицер, — потрудитесь ответить, что привело вас сюда.
— Вышел пройтись, подышать свежим воздухом.
— Нам известно все: место назначения, ваши спутники и даже то, что спрятано в этой шаланде.
— Не выдумывайте. Ничего я не прятал и никуда не собираюсь.
— Быть может, вы не знаете Христю Ставранаки? — насмешливо спросил офицер.
— И даже имени такого не слыхали?
— Нет.
Голос Сергея звучал уверенно. Он понял, что офицер не знает ни кого он задержал, ни тех, кто собирались у шаланды, иначе он не стал бы запугивать задержанного, а сразу отвел бы его в тюрьму. Контрразведчик хотел дождаться других пассажиров шаланды, если они придут. А куда направлялась шаланда, догадаться было нетрудно. Все знали, что связь с плавнями коммунисты поддерживали морем. Но… контрразведчик назвал Христю Ставранаки. Значит, он все же что-то знает!
— Нам нужен ваш партийный билет, явки и пароль, — сухо потребовал офицер.
— Какой партийный билет? — развел руками Сергей и подумал: “Так и есть! Контрразведчик знает очень немного. Прощупывает меня. Партийный билет, явки и пароль они требуют у любого задержанного. Топорная, грубая работа”.
— Если вы будете запираться, — все так же ровно, не повышая голоса, продолжал офицер, — я не ручаюсь, что с вами по пути в тюрьму не произойдет несчастный случай.
— Я же вам русским языком сказал… — начал Сергей.
— Семенчук! — перебил его офицер. — Ко мне!
Один из солдат выступил вперед.
— Подойди поближе. Опусти винтовку. Ниже. Приставь ее к колену арестованного. Так. Если он сойдет с места хоть на шаг, стреляй. Без предупреждения. Понял?
— Так точно! — гаркнул солдат.
— Господин путешественник! — Офицер снова обернулся к задержанному. — Настоятельно советую вам подумать о своем поведении. Малейшее неточное движение, и вы останетесь без ноги.
Сергей молчал.
— Надеюсь, вы понимаете, что в темноте возможны всякие случайности. Скажем… нечаянный толчок. Вы сойдете с места, а солдат…
— Вы хотите сознательно искалечить меня? — перебил его Сергей. — Убить?
— Такие действия называются одинаково во всех карательных ведомствах мира: убит при попытке к бегству.
— Господин!..
— Даю минуту на размышление. Если через минуту…
Контрразведчик запнулся. Кто-то шел по берегу, насвистывая уличную песенку.
Рука Романа Петровича потянулась к Гриньке… и нащупала камень. Мальчика рядом не было. Это он шел прямо на замершую в ожидании группу.
Сергей замычал, схваченный сильными руками солдат.
Мальчишка метнулся в кусты и там нарвался на тускло отсвечивающую полоску штыка. Рядом грохнул предупредительный выстрел. Копоткая вспышка осветила пригнувшегося Гриньку. Ветерок донес к Роману Петровичу сладковатый запах пороховой гари.
— Брать живым! — крикнул офицер. — Живым брать!
Два солдата уже волокли кричащего Гриньку. Он вопил во все горло, отчаянно упирался, пробовал сесть на землю.
Солдаты подняли его и понесли, не выпуская из рук винтовок.
— Собрать людей! — приказал офицер. Резкая трель свистка вызвала притаившихся в темноте солдат. Медленно разгораясь, тускло светил фонарь “летучая мышь”. В большой желтый круг света попали: Гринька, связанный Сергей, офицер, несколько солдат и высокий нос шаланды.
— Дяденька! — взмолился Гринька. — Я не буду! Ну ей-богу же не буду-у!
Офицер широко расставил ноги в мягких козловых ноговицах и пристально всматривался в Гриньку:
— Из молодых, да ранний!
— Ой, никогда больше… никогда не бу-ду-у!
— Что не будешь?
— А ничего не буду-у!
Неожиданно офицер схватил мальчугана обеими руками за плечи и рывком притянул его к себе:
— Зачем ты шел сюда? Говори! Правду!
— Не буду-у! — сипло тянул Гринька.
— Скажи, зачем ты шел сюда, и я сейчас же отпущу тебя на все четыре стороны.
— Ночева-ать.
— На шаланде?
— Ага-а!
— И давно ты ночуешь здесь?
— Третью но-очь!
— Прекрасно! Прошлой ночью сюда пришли люди и спрятали на шаланде документы, бумаги. Понимаешь?
На этот раз контрразведчику удалось обмануть мальчугана. Гринька принял его выдумку о бумагах за правду. “Так или иначе, — думал он, — а надо, чтобы меня арестовали и в тюрьму увезли. Может, там мамку увижу…”
— Если ты найдешь документы, — продолжал офицер, заметив замешательство Гриньки, — я отпущу тебя сейчас же. Отпущу и дам кое-что.
Гринька, думая о “бумагах”, перестал хныкать и спросил:
— А если найду… чего дашь?
— Что ты хочешь?
— Дашь?.. — Гринька задумался. — Дашь колокольчик?[30]
— Дам, — щедро пообещал офицер. — Ищи!
Гринька поднялся на шаланду. Сунулся в корму. Искал он там довольно долго, раздумывая, как ему быть. Потом приподнял рыбину.
— Долго ты будешь там копаться? — прикрикнул офицер.
Не отвечая ему, Гринька полез на мачту.
За ним скользнул вверх луч карманного электрофонарика.
Мальчуган поднимался все выше, добрался до сигнального фонаря. Принялся раскручивать ржавую, скрипучую проволоку, прикреплявшую фонарь к флагштоку. Снял фонарь. Широко размахнулся и забросил его в море.
— Ой! — крикнул он. — Обронил!
— Снять его! — приказал офицер.
— Ой, дяденька-а!.. — затянул наверху Гринька.
Солдаты взялись за шаланду. Легкое суденышко качнулось. Заскрипела под днищем галька. Мачта наклонялась все ниже, вместе с мальчишкой, голосившим во всю мочь:
— Не буду! Ой, не буду больше-е!..
Два солдата скинули сапоги, рубахи и ныряли в темной воде, стараясь нащупать заброшенный Гринькой фонарь.
Скрежеща по голышам железными шинами, подкатила тачанка. Гриньку связали. В рот ему сунули подобранную в шаланде грязную тряпку, скверно пахнущую лежалой рыбой. Один из солдат легко поднял связанного мальчишку и положил его в кузов.
— Построиться! — подал команду офицер. Крепкие кони не стояли на месте. Они рыли копытами гальку, высекая мелкие белые искры.
— Оцепить тачанку! — приказал офицер. Медленно двинулась тачанка, окруженная солдатами с винтовками наперевес. Двигались молча. В темноте слышен был лишь скрип колес, шорох тяжелых шагов да нетерпеливое фырканье коней, сдерживаемых сильной рукой ездового. А яркие южные звезды спокойно отсвечивали на стволах винтовок.
Неподалеку скрипнула под ногами галька. Кто-то шел к шаланде.
Роман Петрович приподнялся, стараясь в темноте узнать малознакомую фигуру Сергея. Христя должен был захватить с собой парус и воду, а потом собирался подойти к шаланде на маленькой гребной лодке. Человек подошел к шаланде. Остановился. Роман Петрович решил подползти поближе и убедиться, что возле нее действительно Сергей, а не кто-либо из рыбаков, иногда проверявших свои лодки. Подполье приучило его к осторожности. Да и настойчивость Гриньки, что-то слышавшего, обеспокоила.
Не успел он отползти от укрывавших его валунов, как в стороне, из темных кустов, послышался негромкий резкий голос:
— Руки вверх!
Окрик был настолько неожидан, что Роман Петрович, не размышляя, прижался всем телом к теплой еще гальке. И тут же он услышал знакомый голос — окающий, округлый:
— Что такое?
— Не валяйте дурака, — все так же негромко ответил первый. — Вы пойманы, опознаны и сидите на прицеле десяти винтовок.
Роман Петрович отполз обратно, за камни, и положил руку на спину Гриньки. Мальчуган дрожал.
— Я протестую! — громко сказал Сергей, очевидно рассчитывая предупредить своих об опасности. — Кто вам дал право?..
— Молчать! — прошипели в кустах. Расплывающийся круг света от фонарика выхватил из темноты Сергея.
К нему подошел офицер-контрразведчик. За ним, с винтовками наперевес, — несколько солдат.
— Я хочу выяснить наконец… — по-прежнему громко начал Сергей. Договорить ему не дали. Роман Петрович услышал глухой удар, тяжелое дыхание, придушенные выкрики и грубые угрозы.
Теперь Роман Петрович понял, почему упорствовал Гринька, утверждая, что слышит шаги. Сейчас Гринька дрожал, но не от страха: на его глазах в лапы контрразведчиков попал человек вместе с письмом матери. Гринька уже не думал ни о провале поездки, ни о возможном аресте. Письмо! Оно было так близко и вместе с тем недоступно, уходило от него вместе с человеком, которого тащат связанным в кусты.
Контрразведчики с Сергеем скрылись в темноте.
Снова все притихло, кроме шума волн и трескотни цикад.
Сколько прошло времени? Минута? Десять? А быть может, и час? Никто не смог бы ответить. Слишком велико было напряжение.
С моря донесся слабый всплеск. Еще раз… Совсем, казалось, близко взвизгнуло весло в уключине. И сразу же из кустов послышался отчаянный крик Сергея.
Крик перешел в глухое мычанье.
Но и этого было достаточно. С моря ответил голос Христи Ставранаки:
— Э-эй! Наза-ад! Э-эй!.. — Христя кричал громко, постепенно удаляясь от берега. — Э-эй!.. Засада-а!..
На берегу послышалась громкая брань.
По взбешенному, полному ярости голосу Роман Петрович узнал офицера. Рука невольно потянулась к браунингу, спрятанному в подкладке рукава. И остановилась.
“А кто сообщит нашим о провале? — подумал он. — Лежи, Роман! Влипни в камень. Сам окаменей, а товарищей предупреди…” От кустов отделилась группа людей. На фоне звездного неба четко выделялись их черные силуэты. Впереди — Сергей. За ним — офицер. Позади — несколько солдат с винтовками наперевес.
— Чего вы от меня хотите? — спросил Сергей.
— Прежде чем задавать вопросы, — холодно произнес офицер, — потрудитесь ответить, что привело вас сюда.
— Вышел пройтись, подышать свежим воздухом.
— Нам известно все: место назначения, ваши спутники и даже то, что спрятано в этой шаланде.
— Не выдумывайте. Ничего я не прятал и никуда не собираюсь.
— Быть может, вы не знаете Христю Ставранаки? — насмешливо спросил офицер.
— И даже имени такого не слыхали?
— Нет.
Голос Сергея звучал уверенно. Он понял, что офицер не знает ни кого он задержал, ни тех, кто собирались у шаланды, иначе он не стал бы запугивать задержанного, а сразу отвел бы его в тюрьму. Контрразведчик хотел дождаться других пассажиров шаланды, если они придут. А куда направлялась шаланда, догадаться было нетрудно. Все знали, что связь с плавнями коммунисты поддерживали морем. Но… контрразведчик назвал Христю Ставранаки. Значит, он все же что-то знает!
— Нам нужен ваш партийный билет, явки и пароль, — сухо потребовал офицер.
— Какой партийный билет? — развел руками Сергей и подумал: “Так и есть! Контрразведчик знает очень немного. Прощупывает меня. Партийный билет, явки и пароль они требуют у любого задержанного. Топорная, грубая работа”.
— Если вы будете запираться, — все так же ровно, не повышая голоса, продолжал офицер, — я не ручаюсь, что с вами по пути в тюрьму не произойдет несчастный случай.
— Я же вам русским языком сказал… — начал Сергей.
— Семенчук! — перебил его офицер. — Ко мне!
Один из солдат выступил вперед.
— Подойди поближе. Опусти винтовку. Ниже. Приставь ее к колену арестованного. Так. Если он сойдет с места хоть на шаг, стреляй. Без предупреждения. Понял?
— Так точно! — гаркнул солдат.
— Господин путешественник! — Офицер снова обернулся к задержанному. — Настоятельно советую вам подумать о своем поведении. Малейшее неточное движение, и вы останетесь без ноги.
Сергей молчал.
— Надеюсь, вы понимаете, что в темноте возможны всякие случайности. Скажем… нечаянный толчок. Вы сойдете с места, а солдат…
— Вы хотите сознательно искалечить меня? — перебил его Сергей. — Убить?
— Такие действия называются одинаково во всех карательных ведомствах мира: убит при попытке к бегству.
— Господин!..
— Даю минуту на размышление. Если через минуту…
Контрразведчик запнулся. Кто-то шел по берегу, насвистывая уличную песенку.
Рука Романа Петровича потянулась к Гриньке… и нащупала камень. Мальчика рядом не было. Это он шел прямо на замершую в ожидании группу.
Сергей замычал, схваченный сильными руками солдат.
Мальчишка метнулся в кусты и там нарвался на тускло отсвечивающую полоску штыка. Рядом грохнул предупредительный выстрел. Копоткая вспышка осветила пригнувшегося Гриньку. Ветерок донес к Роману Петровичу сладковатый запах пороховой гари.
— Брать живым! — крикнул офицер. — Живым брать!
Два солдата уже волокли кричащего Гриньку. Он вопил во все горло, отчаянно упирался, пробовал сесть на землю.
Солдаты подняли его и понесли, не выпуская из рук винтовок.
— Собрать людей! — приказал офицер. Резкая трель свистка вызвала притаившихся в темноте солдат. Медленно разгораясь, тускло светил фонарь “летучая мышь”. В большой желтый круг света попали: Гринька, связанный Сергей, офицер, несколько солдат и высокий нос шаланды.
— Дяденька! — взмолился Гринька. — Я не буду! Ну ей-богу же не буду-у!
Офицер широко расставил ноги в мягких козловых ноговицах и пристально всматривался в Гриньку:
— Из молодых, да ранний!
— Ой, никогда больше… никогда не бу-ду-у!
— Что не будешь?
— А ничего не буду-у!
Неожиданно офицер схватил мальчугана обеими руками за плечи и рывком притянул его к себе:
— Зачем ты шел сюда? Говори! Правду!
— Не буду-у! — сипло тянул Гринька.
— Скажи, зачем ты шел сюда, и я сейчас же отпущу тебя на все четыре стороны.
— Ночева-ать.
— На шаланде?
— Ага-а!
— И давно ты ночуешь здесь?
— Третью но-очь!
— Прекрасно! Прошлой ночью сюда пришли люди и спрятали на шаланде документы, бумаги. Понимаешь?
На этот раз контрразведчику удалось обмануть мальчугана. Гринька принял его выдумку о бумагах за правду. “Так или иначе, — думал он, — а надо, чтобы меня арестовали и в тюрьму увезли. Может, там мамку увижу…”
— Если ты найдешь документы, — продолжал офицер, заметив замешательство Гриньки, — я отпущу тебя сейчас же. Отпущу и дам кое-что.
Гринька, думая о “бумагах”, перестал хныкать и спросил:
— А если найду… чего дашь?
— Что ты хочешь?
— Дашь?.. — Гринька задумался. — Дашь колокольчик?[30]
— Дам, — щедро пообещал офицер. — Ищи!
Гринька поднялся на шаланду. Сунулся в корму. Искал он там довольно долго, раздумывая, как ему быть. Потом приподнял рыбину.
— Долго ты будешь там копаться? — прикрикнул офицер.
Не отвечая ему, Гринька полез на мачту.
За ним скользнул вверх луч карманного электрофонарика.
Мальчуган поднимался все выше, добрался до сигнального фонаря. Принялся раскручивать ржавую, скрипучую проволоку, прикреплявшую фонарь к флагштоку. Снял фонарь. Широко размахнулся и забросил его в море.
— Ой! — крикнул он. — Обронил!
— Снять его! — приказал офицер.
— Ой, дяденька-а!.. — затянул наверху Гринька.
Солдаты взялись за шаланду. Легкое суденышко качнулось. Заскрипела под днищем галька. Мачта наклонялась все ниже, вместе с мальчишкой, голосившим во всю мочь:
— Не буду! Ой, не буду больше-е!..
Два солдата скинули сапоги, рубахи и ныряли в темной воде, стараясь нащупать заброшенный Гринькой фонарь.
Скрежеща по голышам железными шинами, подкатила тачанка. Гриньку связали. В рот ему сунули подобранную в шаланде грязную тряпку, скверно пахнущую лежалой рыбой. Один из солдат легко поднял связанного мальчишку и положил его в кузов.
— Построиться! — подал команду офицер. Крепкие кони не стояли на месте. Они рыли копытами гальку, высекая мелкие белые искры.
— Оцепить тачанку! — приказал офицер. Медленно двинулась тачанка, окруженная солдатами с винтовками наперевес. Двигались молча. В темноте слышен был лишь скрип колес, шорох тяжелых шагов да нетерпеливое фырканье коней, сдерживаемых сильной рукой ездового. А яркие южные звезды спокойно отсвечивали на стволах винтовок.
***
…Едва затих шум, Роман Петрович подхватил обе корзины и быстро направился к городу. Пробираться в темноте через кусты было тяжело. Пришлось припрятать корзины в колючем терновнике, а самому поспешить к Акиму Семеновичу. Надо было спешно предупредить товарищей о провале. И опять, как несколько дней назад, в ушах у него настойчиво звучала задорная боевая песенка Гриньки. За минувшие дни Роман Петрович успел привязаться к смелому мальчонке, оценить его горячее сердце. Особенно его трогала любовь Гриньки к матери, толкавшая мальчонку на отважные поступки. Так любить мог только хлопчик с хорошей, искренней душой. Роману Петровичу казалось, что именно он-то и виноват в случившемся. Кто настаивал на том, чтобы Гриньку вывезли из города? Кто остановил “мамашу”, когда она пожелала оставить хлопчика у себя? Что сказать ей? Как объяснить то, что произошло на взморье? Как ни объясняй, легче не станет. Приближаясь к знакомой камышовой крыше, Роман Петрович, сам того не замечая, несколько замедлил шаг. Он старался не думать ни о Гриньке, ни о “мамаше”. Сейчас надо было предупредить товарищей о провале Сергея и выяснить, случайной была облава на взморье или контрразведчики пронюхали о поездке. …Аким Семенович дремал за столом, не выпуская из зубов своей люльки. Стук двери разбудил его. Медленно приподнял он старчески припухшие веки. И сразу его будто встряхнул кто. По внешнему виду Романа Петровича, по его изорванной в кустах косоворотке старый моряк понял: произошло что-то неладное. Взгляд его будто подгонял Романа Петровича: “Что случилось? Не тяни. Говори сразу”. Но Роман Петрович остановился, чувствуя, что не может произнести ни слова. Из-за широкой спины Акима Семеновича поднялась Анастасия Григорьевна. “Мамаша” ждала здесь вестей с моря. И она первая поняла: плохие вести.ВСТРЕТИЛИСЬ
Лежа в кузове тряской тачанки, стиснутый пахнущими дегтем грубыми сапогами конвоиров, Гринька притих. В глухом стуке колес ему все время чудилось одно и то же слово: “Арестант! Арестант! Арестант!” Тачанка загрохотала по мощенному булыжником шоссе. Голова Гриньки подскакивала на дне кузова. Тряска и толчки мешали думать о возможной встрече с матерью. Хотелось лишь одного: поскорее выбраться из-под солдатских сапог. Только раз Гриньке удалось приподнять голову. Он увидел нависшие над шоссе черные кроны деревьев и вдалеке несколько желтых прямоугольников окон. …Тачанка остановилась. Завизжали железные петли. Колеса загрохотали под сводчатыми воротами с грязной, местами облупившейся штукатуркой. Гриньку сняли с тачанки. Грубые руки освободили его от веревок. Вонючая тряпка вывалилась изо рта еще дорогой, от тряски. Развязанный мальчуган еле стоял. Затекшие руки и ноги стали непослушны и тяжелы. Один из конвоиров повел Гриньку вдоль длинного кирпичного строения. Когда-то здесь помещались склады. Контрразведка превратила старые, добротно выстроенные купеческие склады в тюрьму. Гринька шел, озираясь по сторонам. Так вот какая тюрьма! Его вели узким мощеным двором, между низким кирпичным зданием и высокой дощатой стеной. На здании еще сохранились старые надписи: “Езда шагом”, “За курение расчет”. Оконца, пробитые почти под крышей бывшего склада, были так малы, что их даже не прикрыли решетками. В такое оконце не пролез бы и ребенок. Увидеть же изнутри здания можно было лишь застреху да узкую полоску неба. Проход освещали большие керосиновые фонари, укрепленные на железных крюках, вделанных в кирпичные стены. Возле них стояли часовые с винтовками. Гриньке не удалось осмотреть двор как следует. Сильная рука конвоира завернула его в двустворчатую дверь. Неширокой лестницей поднялись они на второй этаж и остановились в пустынной комнате, освещенной большой электрической лампочкой. — Садись! — приказал конвоир. Гринька чинно опустился на единственную скамью. Солдат-конвоир неприязненно покосился на него, достал из-за голенища короткую трубку с потемневшим медным колечком и принялся набивать ее махоркой. Гринька осмотрелся. Комната была просторна и хорошо освещена. Окна и двери — высокие и чисто вымыты. Стало легче. Он ожидал увидеть в тюрьме какие-то особенные коридоры — узкие, темные, длинные, с выходящими в них дверями, окованными железом. Здесь же было просторно, светло, и даже кто-то совсем близко бренчал на мандолине. Ждать пришлось долго. Но вот в дверях появился комендант тюрьмы — высокий, тощий офицер с орденом, подвешенным к жесткому стоячему воротнику. Конвоир звякнул подковками и вытянулся, ожидая приказаний. Офицер махнул рукой: — Веди! Пряча в кулак непогашенную трубку, солдат подтолкнул мальчугана в открытую дверь, а сам остался в большой комнате. С трудом переставляя внезапно отяжелевшие ноги, Гринька переступил порог кабинета. Он стоял перед комендантом тюрьмы. Разделял их огромный письменный стол. На столе лежали бумаги и синие папки с черными завязками. Из-под бумаг выглядывал вороненый ствол нагана с большой полукруглой мушкой. — Подойди поближе, — приказал комендант. Гринька нерешительно шагнул к столу и остановился. Они настойчиво, не отводя глаз, разглядывали друг друга — белобрысый лобастый мальчонка, вцепившийся тонкими пальцами в краешек стола, и пожилой офицер с треугольным плоским лицом и припухшей, будто ушибленной верхней губой. Комендант еле заметно улыбнулся. И Гринька широко ухмыльнулся. “Отпустит! — подумал он. — Ей право же, отпустит, вражий нос! Ну на что я ему сдался?” — Скажи, — обратился к нему комендант, почесывая на щеке красную круглую родинку, похожую на клопа, — почему ты забросил в море документы? — Документы? — Гринька простодушно поднял брови. — Какие документы? — Документы, которые были спрятаны в фонаре. — В фонаре? — Деланое удивление мальчугана все росло. — А там ничего и не было. — Не было? — Комендант откинулся на спинку стула, присматриваясь к мальчугану. — Зачем же ты забросил фонарь? — Я не бросал его. Обронил. Качнуло меня… и обронил. — Качнуло, говоришь? — Лопни глаза, качнуло! — осмелел Гринька. — Мачта зыбкая. На земле-то ничего ветерок, а наверху мотает ой-ой! Да вы зря на меня так глядите. Завтра волна выбросит фонарь на берег. Сами увидите. Пустой он. Вовсе пустой. Даже свечки в нем не было. — А ты, я вижу, парень разговорчивый. — Ничего! — охотно согласился Гринька. Комендант уже не казался ему страшным. — Шутник! — Шутник! — улыбнулся Гринька. Комендант встал за столом и неожиданно скрипучим, каким-то жестяным голосом спросил: — А тогда… в Общественном собрании… ты тоже шутил? Гринька растерялся. — Что ж молчишь? — холодно бросил комендант. — Отвечай. Гринька стоял бледный, поникший. Никак не ожидал он, что его узнают. И так быстро! Сразу припомнилось, как предупреждали его Роман Петрович и Анастасия Григорьевна… Тюремщик увидел, что мальчуган растерялся. Не давая ему опомниться, он сел, придвинул к себе лист чистой бумаги, аккуратно обмакнул перо в чернильницу. Делалось это уверенно, словно Гриньке только и оставалось рассказать все, что он знает. — Начнем с того… — комендант попробовал перо на бумаге, — что ты расскажешь, кто тебя ждал у шаланды. Гринька насупился и принялся внимательно разглядывать свои ногти. Были они, как и всегда, розовые, блестящие, с белыми пятнышками — “счастьем”. — Ну! — резко поторопил его комендант. Он знал свое дело, тощий тюремщик с пухлой, словно ушибленной верхней губой. Молча, не спуская с мальчугана холодного взгляда, он ждал ответа. Молчание его давило Гриньку больше, чем любые угрозы и крики. Однако давать допрашиваемому думать не полагается. Поэтому, не слыша ответа, комендант повел допрос иначе. — Впрочем… — Он положил ручку на место. — Начнем мы с того, что ты споешь мне песенку, которую пел тогда… в Общественном собрании. Помнишь? Гринька понял: над ним смеются. Он стоял с опущенной головой и поникшими плечами. Нижняя губа его опустилась. Казалось, вот-вот — и он разревется во все горло, по-ребячьи. Комендант следил за ним, ждал, когда арестованный “дозреет”. Тогда он живо сломит ослабшего мальчонку и вытянет из него все. И вдруг… Гринька, ловко пришлепывая ладошками о поднятое колено, дерзко, глядя прямо в лицо тюремщику, срывающимся от волнения голосом запел свою боевую песенку: Эй вы, буржуи! Отдайте-ка мильёны, Теперь наш-ше право и наши законы… Коменданта словно отбросило к стене. Задержанный и уличенный мальчишка посмел здесь, в комендатуре тюрьмы, пропеть песенку, за которую его искали по всему городу! Офицер ударил кулаком по столу, хотел прикрикнуть… и осекся. Да ведь он сам приказал мальчишке петь! А Гринька, выколачивая такт по колену, выкрикивал все с большим азартом: Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки. Пока еще не поздно — тикайте без оглядки. В приоткрытую дверь заглянул конвоир. Многое слышал он в этих стенах, но чтобы задержанный пел на допросе — такого еще не случалось. От удивления солдат даже позабыл вытащить из зубов трубку и дымил в кабинете некурящего коменданта вонючей махоркой.
На его счастье, коменданту было не до трубки. Офицер сообразил, как глупо выглядит сейчас он в глазах солдата, и, еле сдерживая себя, жестко приказал конвоиру:
— В особую камеру. Веди.
И тут же, быстро обойдя стол, отстранил рукой подскочившего к Гриньке конвоира и злобно процедил:
— С тобой очень желает познакомиться поближе генерал Тугаевский. Знаешь такого? Он даже выразил желание лично допросить тебя.
В приоткрытую дверь заглянул конвоир. Многое слышал он в этих стенах, но чтобы задержанный пел на допросе — такого еще не случалось. От удивления солдат даже позабыл вытащить из зубов трубку и дымил в кабинете некурящего коменданта вонючей махоркой.
На его счастье, коменданту было не до трубки. Офицер сообразил, как глупо выглядит сейчас он в глазах солдата, и, еле сдерживая себя, жестко приказал конвоиру:
— В особую камеру. Веди.
И тут же, быстро обойдя стол, отстранил рукой подскочившего к Гриньке конвоира и злобно процедил:
— С тобой очень желает познакомиться поближе генерал Тугаевский. Знаешь такого? Он даже выразил желание лично допросить тебя.
 Комендант остановился, наблюдая, как примет это грозное известие дерзкий мальчишка.
Гринька весь напыжился — выпятил грудь, широко расставил ноги, — очень уж хотелось ему показать тюремщику, что парень он отчаянный, такого и генералом не испугаешь. Все равно его опознали. Терять-то больше нечего. Хотелось сказать этому тощему офицеру с прыгающим под воротником орденом что-то обидное; такое обидное, чтоб на всю жизнь запомнилось злодею. Тут Гринька вспомнил, что этот же тюремщик допрашивал его мать, быть может, издевался над ней. Он вспыхнул от гнева… и не мог подобрать ни одного обидного слова. Все выскочили из головы!
А солдат уже взял его за плечо. Но уйти от врага и не ответить ему Гринька не мог. Он презрительно сплюнул в сторону и сказал коменданту первое, что пришло в голову, сказал важно, как равный равному:
— Будь жив, парнишка!
Конвоир грубо повернул его и ударил коленом в спину:
— А ну иди-и!..
Придерживая руками ноющий крестец, Гринька вылетел из кабинета. Остерегаясь второго удара, он невольно пробежал пустынную комнату с одинокой скамьей у стены. На лестнице он остановился, все еще морщась от боли.
Из темноты к нему подошел какой-то офицер и посмотрел на него так, что Гринька невольно попятился назад. Это был высмеянный им в Общественном собрании капитан Бейбулатов…
“Так вот почему комендант тюрьмы не назвал фамилию офицера, арестовавшего нас! — догадался Гринька. — Вот кто узнал меня. Наверно, по голосу. Вот это влип!”
Комендант остановился, наблюдая, как примет это грозное известие дерзкий мальчишка.
Гринька весь напыжился — выпятил грудь, широко расставил ноги, — очень уж хотелось ему показать тюремщику, что парень он отчаянный, такого и генералом не испугаешь. Все равно его опознали. Терять-то больше нечего. Хотелось сказать этому тощему офицеру с прыгающим под воротником орденом что-то обидное; такое обидное, чтоб на всю жизнь запомнилось злодею. Тут Гринька вспомнил, что этот же тюремщик допрашивал его мать, быть может, издевался над ней. Он вспыхнул от гнева… и не мог подобрать ни одного обидного слова. Все выскочили из головы!
А солдат уже взял его за плечо. Но уйти от врага и не ответить ему Гринька не мог. Он презрительно сплюнул в сторону и сказал коменданту первое, что пришло в голову, сказал важно, как равный равному:
— Будь жив, парнишка!
Конвоир грубо повернул его и ударил коленом в спину:
— А ну иди-и!..
Придерживая руками ноющий крестец, Гринька вылетел из кабинета. Остерегаясь второго удара, он невольно пробежал пустынную комнату с одинокой скамьей у стены. На лестнице он остановился, все еще морщась от боли.
Из темноты к нему подошел какой-то офицер и посмотрел на него так, что Гринька невольно попятился назад. Это был высмеянный им в Общественном собрании капитан Бейбулатов…
“Так вот почему комендант тюрьмы не назвал фамилию офицера, арестовавшего нас! — догадался Гринька. — Вот кто узнал меня. Наверно, по голосу. Вот это влип!”
В КАМЕРЕ
Конвоир подтолкнул Гриньку через порог. Толстая дубовая дверь закрылась. За спиной лязгнул засов. Большая камера освещалась одной тусклой лампочкой, ввинченной под самым потолком. Прикрывающая ее металлическая сетка была густо заткана паутиной, покрытой толстым слоем пыли. Издалека казалось, что лампочка вставлена в матовый грязный колпак. Свет ее был настолько слаб, что таял, не добираясь до дальних углов, и оттого камера казалась больше, чем была на самом деле. Примерно половину помещения занимали выстроенные в два яруса нары. У двери стояла “параша” — опиленная наполовину бочка, распространявшая страшное зловоние. На нарах пели вполголоса: Вечерний звон! Вечерний звон! Как много дум наводит он… — А ты як попал до нас? — окликнул Гриньку с нар рыжебородый пожилой казак. — Арестовали, — ответил Гринька и почему-то добавил: — Сам не знаю за что. — Не знаешь? — Станичник удивленно разглядывал мальчонку и ворошил тугую, жесткую бороду. — Так, так! Не знаешь! — А тебя за что взяли? — в свою очередь, спросил Гринька. — За чалого жеребчика. — Как это — за жеребчика? — не понял Гринька. Старый казак обрадовался собеседнику и охотно принялся рассказывать историю своего ареста. — Пришли до мене чекалкины[31] души куплять коней для той армии. — Белогвардейской, — подсказал Гринька. — Эге ж! Добровольческой, — повторил казак. — Шоб ей ни дна, ни покрышки, той Добровольческой. Приступили до мене: “Продай жеребчика чалого. А не продашь добром, так мы силой возьмем”. И пошли зараз до конюшни. — Отнять хотели? — догадался Гринька. — Снял я со стены дидову рушницу,[32] — продолжал старый казак, так и не ответив Гриньке, — и сказал им так: “Мои диды и батько цей рушницей Кавказ под царскую руку привели. Отстоит она и мое добро”. — А они что? — заинтересовался Гринька. — Забрали чалого. И меня взяли, — ответил казак. — Сижу я тут який уж день… А в степу пшеница осыпается. Бахча перестояла. Умолк старый казак. Уставился неподвижным взглядом в грязную стену. Не видел он ни облупившейся штукатурки, ни карандашных надписей на стене. Перед глазами его стояла хата с навалившейся на крышу тяжелой кроной старой груши. Он слышал звенящий шелест сухой, перестоявшей пшеницы и, медленно покачивая большой нечесаной головой, приговаривал: — Пропала пшеница! Бахча перестояла! Порушилось хозяйство!.. Он забыл о Гриньке, тюрьме, соседях по нарам. Нет! Совсем не того ожидал Гринька, когда его вели в камеру. “Здесь, — думал он, — встречу большевиков, распевающих боевые песни”. Что же оказалось? Поют о каком-то вечернем звоне! Станичник занят думами о чалом жеребчике. Подальше на нарах сидели и лежали люди. Их липа смутно маячили в полумраке. Кто они? Помогут ли повидать мамку? Да и могут ли чем-нибудь помочь? В стороне несколько человек вели неторопливый тюремный разговор. Придвинулся к ним поближе и Гринька. — …Вывели их на кручу. Над рекой. — Знаю… Рассказчик — солдат с одутловатым бабьим лицом — сидел, обхватив руками худые, острые колени. В сумраке выделялись его неестественно белые босые ноги и штрипки летних брюк. — Поставили их в ряд, — продолжал он, — всех семерых. Казнить стали по очереди. Одного казнят — другие смотрят. Второго казнят — обратно остальные смотрят… — Да как же это?.. — не выдержал Гринька. — Их убивали по одному, а они что? — Кто — они? — переспросил рассказчик, всматриваясь в Гриньку. — Ну те, которых казнили! — вспыхнул Гринька. — Да пускай меня только тронут — я… я зубами в них вцеплюсь! Он разгорячился и не заметил, как проснулись соседи, обернулись к нему. Даже с верхних нар свесились головы любопытных. — Неужели так они и сидели здесь, покуда их не вывели на кручу? — не унимался Гринька. — Голубь на что тихая птица, а и та, когда берешь ее с гнезда, крылом бьет. А то ж люди!.. — Когда ведут под ружьем, ничего ты зубками своими не поделаешь, — уверенно пояснил рассказчик. — Сделаю! — Гринька разгорался все больше, забыв, где он находится. — Сделаю! Не боюсь я их! — А кто не боится, — внушительно возразил ему солдат, почесывая поясницу, — тот должон уметь помереть с честью. — С честью? — разозлился Гринька. — Баран умеет помирать с честью! Его, дурака, кинжалом режут, а он только курдюком мотает. С честью! — А ведь парнишка прав! Все посмотрели в сторону, откуда прозвучал голос — окающий, чуть поющий. Гринька узнал этот голос. Сразу вылетел из головы спор о чести. Хотелось спросить, немедленно, сейчас же, где обещанное письмо. Но он уже понял, что в тюрьме следовало быть осторожным. Опасно было выдавать свое знакомство с большевиком, не зная, кто сидит рядом на наре. Нельзя же доверять казаку, думающему только о своем хозяйстве! Но если б кто знал, как трудно было Гриньке сдержать себя!.. — Меня вот тоже удивляет, — неторопливо начал Сергей, — как могут люди сидеть в тюрьме и ждать, пока с ними расправятся. — Я извиняюсь! — обратился к Сергею из темного пространства в глубине нар сладенький голосок. — Вы не из адвокатов будете? А то заметьте себе, между прочим, для памяти: тут защитников не полагается. Законы и суд в наше время простые: одних — за дверь, других — в расход. — Тем более! — живо откликнулся Сергей. — Чего ж ты сам тут сидишь? — перебил его дрожащий, нервный голос. — Попробуй, уйди. После срывающихся, злых слов ответ Сергея прозвучал особенно спокойно и уверенно: — На своем веку мне довелось повидать разных людей. Встречал я храбрецов и трусов, хороших товарищей и шкурников. Но впервые вижу, чтобы люди были так беспомощны, подавлены, как здесь… — Позволь, приятель!.. — остановил Сергея солдат с бабьим лицом. — Да, да! Подавлены! — настойчиво повторил Сергей. — А ведь этого только тюремщикам и надо. Ради этого они поведут нас завтра на кручу, заставят смотреть, как будут казнить таких же, как и мы с вами. — Ты-то почем знаешь, что поведут? — спросил солдат. — Знаю. Тюремный телеграф сообщил. Из сумрака несколько голосов подтвердили: — Верно, верно! Поведут! — Мы с вами не ребята, — продолжал Сергей, — знаем, куда попали и что нас ожидает. На верхних нарах кто-то заворочался так, что заскрипели наспех сколоченные доски. Показалась черная кудлатая голова, за ней — широкие, округлые плечи в полосатой тельняшке и наброшенном сверху измятом бушлате. Матрос прислушался к словам Сергея. Лицо его, обросшее черной жесткой щетинкой, было серьезно. Сергей говорил тише. Теперь слушали его внимательно. — Люди бегали и не из таких тюрем. Из питерских “Крестов” бегали, из орловского централа, даже из московских Бутырок… — Хорошо было бегать в царское время! — мечтательно протянул сладенький голосок. — Бывало удрал — твое счастье. А попался — добавят за попытку к бегству годик, и сиди кукарекай, жди нового случая. А теперь? Только сунься, а тебя пулей в лоб. — Что ж, — сухо возразил Сергей, — если вы чувствуете себя здесь лучше, чем на воле, дело ваше. Сидите. — Прежде чем мы разберемся, кому где лучше, — ответил голосок, — надо нам познакомиться поближе. Меня зовут Франек. Из темной глубины нар появилось помятое, безбородое лицо, острый, с горбинкой носик и старательно расчесанные на прямой пробор жидкие светлые волосики. Странное лицо! На вид ему можно было дать и двадцать пять лет, и все сорок. — Вы, собственно, по какому делу здесь? — спросил Сергей. — Несчастный случай! — ответил Франек. — Попался! Снимал с одной бабочки пальтушку. Она крик подняла. Пришлось ее… успокоить. Потом, когда меня взяли, оказалось, что я прикончил жену какого-то подполковника. Несчастный случай! Гринька изумленно таращил глаза на будто жеваное, серое лицо Франека и его ровный, зализанный пробор. Мальчуган всегда думал, что бандиты — люди огромного роста и воловьей силы, с громоподобным голосом и уродливой, зверской физиономией. Этот же человечек с каким-то сдавленным голоском и неприятной, деланой вежливостью казался слабым и уступчивым. — Давай, браток, устраивайся на ночь возле нас, — прогудел глубоким, грудным басом молчавший все время черный матрос, обращаясь к Сергею. — Тут народ подобрался сурьезный: морячки да подозреваемые в большевизме. — Вот и меня подозревают в том же! — ответил Сергей и бросил наверх свой пиджак. На вторых нарах потеснились и пустили Сергея. Полез за ним и Гринька. — А я тебя знаю, — шепнул он. — И я тебя знаю, — так же шёпотом ответил Сергей. — Но не смей и виду подавать, что знаешь меня. Так надо. — А ты, салажонок, — вмешался в их беседу черный матрос, — устраивайся в другом месте. Тут места плацкартные! Сергей поймал тревожный взгляд Гриньки. — Ложись, спи, — сказал он. — Мы с тобой утречком потолкуем. Гринька уже не чувствовал себя одиноким. Присмотрел он себе местечко рядом со старым казаком и стал устраиваться на ночь. Станичник громко чмокал во сне губами, будто понукал коня. Иногда он принимался ожесточенно скрести бороду. Жесткие волосы громко шуршали под его крепкими ногтями. Засыпая, мальчуган видел, как Сергей и черный матрос спустились с верхних нар и исчезли в сумраке среди спящих. Очень хотелось ему узнать, почему они не спят, что замышляют. А веки слиплись… Не разжать их… Разбудил Гриньку зычный оклик: — Подымайсь! С трудом открыл он глаза. Спросонок даже не понял, где находится и кто кричит сорванным, хриплым голосом: — На поверку стройся! Протирая кулаками глаза, Гринька сполз с нар. Заключенные построились в две шеренги — лицом к двери. На правом фланге, по привычке развернув широченную грудь, туго обтянутую рваной тельняшкой, стоял огромный черноволосый матрос. На левом виднелась невозмутимо вежливая физиономия Франека. За ним, последним, пристроился Гринька. У дверей стояличетверо солдат. Один из них, пожилой, имел на красном погоне три белые нашивки — старший унтер-офицер. Остальные были помоложе — рядовые. — На молитву шапки долой! — приказал старшой. Десятки рук недружно взлетели вверх и обнажили головы. Несколько голосов нестройно повели мотив молитвы: — “Отче наш! Иже еси на небесах, да святится имя твое…” — Дружнее! — прикрикнул унтер-офицер. — Послушать вас, чертей, так большевиков в камере нема, а молитву петь некому! Окрик его подогнал кое-кого из заключенных. Торжественный мотив молитвы зазвучал стройнее, заполнил затхлое, вонючее помещение: — “…да прийдет царствие твое, да будет воля твоя…” Под шумок Франек пропел Гриньке, широко раскрывая рот, будто был очень увлечен пением молитвы: — Дер-жись, па-цан, во-зле нас. Дело бу-у-удет. И, поймав на себе недоверчивый взгляд унтер-офицера, запел по-настоящему. Один матрос, на правом фланге, стоял с крепко сжатыми губами. По его черным горячим глазам было видно: такого, что ни делай, молитву петь не заставишь. Унтер-офицер выждал, пока закончилось пение, надел фуражку и крикнул: — Староста! Из строя вышел высоченный верзила — тощий, нескладный. Его арестовали в памятный для Гриньки вечер в Общественном собрании. Верзила упорно запирался, не признавал себя виновным в разбрасывании листовок, спорил с уличавшими его свидетелями. Свой арест он простодушно объяснял недоразумением. — Меня еще мальчонкой вечно наказывали за других, — уверял он. — Сами видите, какой я человек: заметный! В школе бывало, кто бы чего ни натворил, а меня за ухо. Такого, как я, издали видно и ухватить легче, Да я и сам привык уже, что мне попадает за других. Заметного человека назначили старостой камеры. Трудно было понять: был ли этот нескладный парень с добродушными выпуклыми глазами простоват или же плутоват, робок или смел. Свои обязанности он выполнял хорошо. Начальства не боялся. Это помогало ему скрывать от тюремщиков то, что надо было скрыть из происходившего в камере. А если надзиратель узнавал что-либо стороной, староста огорчался так искренне, что начальство погрозит только пальцем и скажет: — Ты, староста, слухай. Слухай больше! Эвон какими тебя господь лопухами наградил! Ими слухать надобно, а ты хлопаешь. Немногие из заключенных догадывались, что староста — свой человек. С ним всегда можно было сговориться. И они незаметно поддерживали старосту, когда ему приходилось трудно. Унтер-офицер уставился своими крохотными, тусклыми глазками на вытянувшегося перед ним старосту: — Наряжай людей! Староста пошел перед строем, показывая пальцем: — Этот и этот — нужник чистить. Солдат с матросом — парашу выносить. Эти двое — убирать камеру. Из строя вышли: Франек, черноволосый матрос, Сергей, солдат-дезертир с бабьим лицом и какой-то молодой парень с лицом в старых, уже пожелтевших синяках. — А ну… господа комиссары, — ухмыльнулся унтер-офицер, — бери парашу в обнимочку — и гулять. Это была его единственная шутка. Повторялась она каждое утро. Покончив с нарядом, унтер-офицер обратился к заключенным с такой речью: — По приказанию их высокоблагородия господина начальника арестного дома подполковника Майбороды… — Он перевел дыхание и внушительно помолчал. — Предупреждаю всех: имеется приказ свыше! — Опять грозное молчание. — Приказ таков: разобраться с подследственными в двое суток. Стало быть, кого куда пустить. Сегодня еще можете подумать. А завтра начнется разборка. А чтобы думалось вам полегче, поведут вас сегодня на кручу. Поглядите там, как расправляются у нас с изменниками отечеству. Это будет для вас, чертей, и прогулка и образование. К концу этой длинной речи лоб унтер-офицера покрылся частыми капельками пота. — Вот тебе, староста, список. — Он протянул лист, исписанный крупным почерком. — Тут обозначены все, кто пойдет к месту казни. Остальным сидеть в камере тихо. Просьбами караулу не докучать, потому как для вас, чертей, нянек не положено. Понятно? — Так точно! — вразброд ответили арестанты. — Все понятно! Староста заглянул в полученный список и объявил, что из сорока шести заключенных в камере на кручу пойдут тридцать два. Унтер-офицер еще раз окинул мрачным взглядом строй и вышел. За ним, гулко топая сапогами, направились и солдаты. Заключенные подхватили парашу и потянулись за конвоем. По-прежнему тускло светила под потолком лампочка, вся в паутине, как в грязном матовом колпаке. На дворе светало, но крохотные оконца пропускали в камеру так мало света, что электричество горело здесь круглые сутки. Двое заключенных возили по сухому полу пучками истертых прутьев, заменявших им метлу. С пола клубами поднималась удушливая, вонючая пыль. Первыми вернулись в камеру матрос и солдат с бабьим лицом. Они втащили опорожненную парашу. Позднее пришли Сергей и парень с лицом, покрытым синяками. Все они собрались в углу. Солдат подошел к нарам и стал опоражнивать карманы шинели, туго набитые золой. За ними и остальные стали выкладывать из карманов песок, пыль — кому что удалось набрать. — Всё! — сказал матрос. — Подходи. Разбирай. Заключенные подходили к горке золы, смешанной с песком. Каждый брал по две полные горсти и отходил в сторону. Некоторые не жалея примешивали к золе с песком остатки растертого в пыль табака, приговаривая: — Так крепче будет. Сунулся было к песку и Гринька. — Не тронь, салажонок, — остановил его матрос. — Твое дело особое. — Почему особое? — взъерошился Гринька. — Да я сам… Сергей мягко, но сильно обнял его за плечи и отвел в сторону. — Поведут нас по дороге, — сказал он. — Держи ушки на макушке. Как услышишь свист — беги. Да так лупи, чтобы зайцы от зависти покраснели… Перебил его матрос. — Отставить разговоры! — бухнул он глубоким, грудным басом. — Справки переносятся на завтра. Он вышел на середину камеры и властно бросил: — Садись! Заключенные расселись по нарам. В камере стояла такая тишина, какой не бывало даже ночью. — Ты, ты и вот ты, — стоя посередине камеры, матрос показал пальцем на троих заключенных, — ложитесь спать. — Да мы что, — обиженно протянул один из них, — стукачи, что ли? — Были бы вы предатели, — хмуро ответил матрос, не повторяя воровского слова, — мы бы из вас сделали покойников. Помните Ваську Бугая? — Бугай — шкура! Своих продавал! — нестройно возразили обиженные. — А про нас кто скажет?.. — Спать! — резко оборвал их матрос. — Спиной к двери. И если кто взглянет только на надзирателя или конвойного… больше не увидит он белого света. К каждому из вас наш человек приставлен. Запомните! В камере мы закон и мы судьи.ПРОЩАЙ, ГОРОД!
Ночь после облавы была тревожной. Уже перед рассветом к Роману Петровичу пришел Христя. Трудно было узнать веселого, разговорчивого рыбака. Неподвижно сидел он возле окна, посматривая из-под занавесок на пустынную улицу. Даже черные, задорно вьющиеся волосы его как будто поблекли после минувшей беспокойной ночи. …Вчера окрик Сергея вовремя предупредил Христю об опасности. Он налег на весла и поспешил прочь от шаланды. Неподалеку от поселка Христя загнал лодку в камыши. Раздвигая перед собой сухие, звонкие стебли, выбрался на берег. Издали он увидел, что окна его хаты освещены необычно ярко. Укрываясь за плетнями, Христя осторожно пробирался к дому. Возле знакомой изгороди с надетыми на колья глиняными крынками он задержался, обдумывая, как бы не нарваться на засаду. И тут в вечерней тишине необычайно громко прогрохотала по иссохшей земле пустая бочка. “У нас! — отметил про себя Христя. — Во дворе”. И услышал тоненький голос сестренки Нади: — Тузик! Тузик! “Какой Тузик? — насторожился Христя. — Собаки у нас нет. И почему Надя зовет собаку в чужом саду?” А зов сестренки звучал тревожно, предостерегающе: — Тузик! Тузик! Тузик! Перебегая от дерева к дереву и зорко всматриваясь в темень, Христя скоро заметил на прогалине тонкую фигурку сестренки: — Надя! Девочка бросилась к нему. Срывающимся от волнения голосом рассказала она, что в хату пришли солдаты. Раскидали постели. Из сундука вывернули на пол белье и зимнюю одежду. Даже домотканные коврики со стен посрывали. Что-то ищут. А офицер все спрашивает: “Где Христя?” Сейчас солдаты добрались до сарая. Всё выбрасывают во двор, осматривают с фонарями. Двое солдат пробуют лопатами землю в сарае и за домом. Мама перепугалась, заплакала, а потом шепнула, чтобы Надя пошла в соседский сад и там звала какую-нибудь собаку. Христя услышит и поймет, что к дому подходить нельзя. Христя не стал расспрашивать девочку. Что она могла знать? Желая успокоить сестренку, он крепко обнял ее и сказал: — Ступай домой. Скажи маме: все будет хорошо. А в хату мне возвращаться нельзя. Христю обыск не беспокоил. Он был всего лишь связным, а потому в хате у него ничего запретного не было. И все же дело обернулось скверно. Садами и огородами выбрался Христя из поселка. Поднял воротник брезентовой куртки и зашагал напрямик, убранными полями, в город. Всю дорогу ему не давала покоя назойливая мысль: как могло случиться, что возле его шаланды оказалась засада? Почему пришли в его дом с обыском? Думал об этом не один только Христя Ставранаки. Партийный комитет ночью поднял на ноги всех, кто мог чем-либо помочь организации выяснить причины провала. Разобраться в этом помог комитету денщик капитана Бейбулатова. Не раз уже этот веснушчатый и внешне простоватый солдат передавал подпольщикам все, что удавалось ему услышать, когда Бейбулатов болтал с приятелями за бутылкой вина. На этот раз денщик услышал о том, что контрразведка напала на след экспедиции в плавни. …Когда Роман Петрович сообщил Христе, что ему поручено перебросить в плавни, а затем и в Ростов-на-Дону Сергея и Гриньку, Христя вернулся домой и принялся чинить парус. Нина увидела мужа за работой и удивилась. Куда он собирается? Зачем? Ведь завтра день рождения дяди Кости. Неужели Христя не пойдет на семейный праздник, обидит дядю? Христя и сам не помнил, что ответил жене. Потом настойчивость Нины рассердила его. Он прикрикнул на нее и решил, что этого достаточно. Оказалось же совсем не так. Нина уже давно была недовольна тем, что Христя иногда надолго исчезает из дому. Возвращается он из своих поездок усталый, довольный, но без рыбы и денег. Попробовала как-то Нина узнать, где он бывает. Христя отшутился, ничего толком не сказал. Тогда Нина решила, что муж ее ездит в Керчь погулять с друзьями. Скрепя сердце она помалкивала. Но на этот раз поведение мужа ее обидело. Почему она должна идти на семейный праздник одна, когда у нее есть муж? Нина побежала жаловаться родственникам, подругам. Слух о близком отъезде Христи дошел до контрразведки. Там о его путешествиях были осведомлены лучше, чем Нина. Контрразведчики знали, что рыбачья шаланда “Кефаль” несколько раз уходила в море на длительные сроки и в сторону от разрешенных властями мест лова рыбы. Знали, что ни в одной из азовских или ближайших черноморских стоянок “Кефаль” не появлялась. Припомнили, что Христя Ставранаки — бывший военный моряк, служил в Севастополе в “неблагонадежном” экипаже. Его взяли под наблюдение. И сейчас, когда пошли слухи о новой поездке Христи, в контрразведке решили организовать облаву. Был нанесен двойной удар — на побережье и в доме Ставранаки. Нину арестовали. Вызвали в контрразведку и друзей Христи. Все они горячо отрицали всякую возможность близости Христи с большевиками. Но куда он ездил раньше и где скрывается сейчас, никто сказать не мог. — Загулял, должно быть, — неопределенно отвечали рыбаки. — А теперь испугался и прячется. — И тут же поясняли: — Одно дело — жена серчает, другое дело — тюрьма скучает. Выяснив это, комитет решил, что все имевшие какое-либо отношение к провалившейся поездке должны немедленно скрыться из города. Надо было сразу отрубить ниточку, за которую удалось ухватиться контрразведке. Уехать должны были Христя, поддерживавший с ним связь Роман Петрович и “мамаша”. Чтобы окончательно замести следы, решили оставить на пустынном берегу одежду Христи и распустить слух, что он утонул, купаясь в море. Отъезд назначили на завтра. Соседям “мамаша” сказала, что едет к сестре, в Баку. Рано утром она, Роман Петрович и Христя должны были разными дорогами выйти из города. В пяти верстах от окраины, на условленном месте побережья, их будет ждать прогулочная шлюпка. А дальше, как говорил Христя, море не выдаст. Тяжелее всех было “мамаше”. Ей приходилось расставаться с домом, где она жила со дня замужества. Здесь она растила своих сыновей. Каждая вещь в доме была связана с каким-либо семейным событием. Блестящий никелированный самовар приобрел старший сын на деньги, полученные за спасение утопающей дачницы. Будильник купил младший на свой первый самостоятельный заработок. Круглое зеркало — подарок мужа к свадьбе. Швейную машину приобрели сыновья вскладчину и подарили матери перед уходом на войну. Перебирая вещи, Анастасия Григорьевна как бы перебирала всю свою долгую жизнь, с ее радостями и огорчениями. И все это придется через несколько часов оставить здесь и, быть может, больше не увидеть. С собой “мамаша” взяла лишь три конверта с траурной рамкой. В них хранились извещения о гибели сыновей.ПОБЕГ
Во дворе тюрьмы, кроме тридцати двух заключенных из особой камеры, собралось еще человек сорок. Несколько позднее вывели из соседнего корпуса шестерых женщин. Сергей заметил, как Гринька насторожился, и крепко взял его за руку. — Пустите! — шепнул Гринька. — Я только спрошу. — Не ходи. — Сергей сжал его плечо. — Твоей матери в тюрьме нет. — Как — нет? — опешил Гринька. Он хотел спросить еще что-то, но Сергей опередил его: — Ее нет в тюрьме. Где она? Это знает Роман. Вырвемся отсюда — спросим у него. Больше я ничего не знаю. Гринька нетерпеливо всматривался в женщин, сбившихся в кучку. Все они были молоды, в простеньких измятых платьях. Очень хотелось Гриньке подойти и спросить, не видели ли они его мать. Но уверенное приказание Сергея властно держало его на месте. Последние дни убедили мальчугана, что друзья его зря ничего не говорят. — По четыре стройся! — подал команду Бейбулатов. Сергей потянул Гриньку в медленно строящуюся колонну. Рядом с ними оказался черноволосый матрос. — Тут еще наша братва есть, — тихо прогудел он Сергею. — С “Андрея Первозванного” трое и душ восемь с других судов. Я шепнул им. Готовятся. Гринька заметил, как один из матросов нагнулся, поправил шнуровку ботинка и украдкой спрятал в рукав бушлата булыжник. Мальчик понял, зачем незнакомый моряк спрятал камень. Значит, его друзья умеют сговариваться, несмотря на все тюремные строгости. Он облизнул пересохшие от волнения губы. Они стали шершавы и неприятны, словно покрылись остывшим жиром. — Шевелись! — покрикивали на вяло строящихся арестантов унтер-офицеры. — Живо там! Конвой окружил заключенных плотно, почти касаясь их штыками винтовок. Лязгнули затворы, загоняя в стволы патроны. — Шаго-ом… — певуче протянул Бейбулатов и резко оборвал: — …арш! Колонна вытянулась из широких ворот. Впереди — унтер-офицеры с обнаженными шашками, за ними — Бейбулатов, позади — заключенные, окруженные цепочкой конвоиров. Арестанты двинулись по пыльной дороге, мимо окраинных хат и черных прямоугольников огородов. — Шире шаг! — крикнул Бейбулатов. Заключенные тянулись неторопливо, еле переставляя ноги. Замыкающие колонну конвоиры почти упирались штыками в спины последних арестантов, но не могли заставить их идти быстрее. Это не удивляло Бейбулатова: не на праздник он вел людей. Навстречу колонне по дороге шла мажара. Шагавшие впереди унтер-офицеры замахали обнаженными клинками. — С дороги! — кричали они. — Сворачивай! Мажара свернула и остановилась на обочине, пропуская колонну. Станичники привстали, разглядывая помятые, обросшие лица заключенных. Сидевшая на передке старуха опустила вожжи на колени и стала широко креститься. Чем дальше отходила колонна от тюрьмы, тем больше горячился Бейбулатов. Наконец он не выдержал. — Шевелись! — зло закричал он на еле шагавших людей. — А то я сумею подогнать вас!.. Они опаздывали к месту казни. Бейбулатов злился, ругал арестантов, конвоиров. Наконец не выдержал и сошел на обочину. Пропуская мимо себя колонну, он всматривался черными ненавидящими глазами в лица заключенных, время от времени властно покрикивая: — А ну, рыжий!.. Веселее! Я вот тебя запомню, лупоглазый! А ты, орел в бушлате! Еле ноги тянешь? Я тебе добавлю прыти… Угрозы Бейбулатова как будто подействовали. Арестанты пошли быстрее. Теперь плохо пришлось конвоирам. Солдаты шли по сторонам колонны, направив винтовки на арестантов. Приходилось идти почти боком. Спешить в таком положении, да еще по ухабистой дороге, было неудобно. Но сказать об этом разъяренному Бейбулатову никто не осмеливался. А заключенные всё ускоряли шаг. Солдаты задыхались от жары и спешки. Ровное кольцо конвоиров расстроилось. …Гринька почувствовал легкий толчок в бок. Оглянулся, перехватил короткий взгляд Сергея и понял: сейчас начнется! Волнение охватывало все сильнее, стеснило дыхание. Ноги дрожали. Стараясь не выдавать себя, Гринька отвернулся от Сергея, стал присматриваться к местности. Слева тянулся городской выгон. За выгоном поднималось яркое, чистое солнце. Оно слепило глаза, мешало смотреть. Коровы разбрелись по пастбищу, позванивая боталами. Несколько саманных хаток растянулось по выгону. Чистые, беленые стены, залитые утренним солнцем, казались розовыми… В конце колонны раздался условный резкий свист. Гринька не успел толком сообразить, как вместе со всеми рванулся в сторону выгона. Мельком увидел он упавшего конвоира, подошвы его сапог, подбитые крупными гвоздями. Как во сне, перепрыгнул через валяющуюся в пыли винтовку. В спину его ударил многоголосый нестройный крик. Несколько запоздавших выстрелов подогнали мальчугана. Стремительно мчался он к стаду, рассыпавшемуся по выгону… Сговор был выполнен блестяще. Заключенные заранее распределили между собой конвоиров и бросились на них одновременно. Часть солдат сбили с ног, другим засыпали глаза смесью песка и золы. Нападение было настолько внезапным, что даже те, кто не готовились к побегу, тоже пустились наутек. Недружные, редкие выстрелы не остановили беглецов. Напрягая все силы, они старались поскорее укрыться за недалекими хатами и за коровами… Замешательство конвоя было настолько сильным, что растерялся даже сам Бейбулатов. Забыв о своих солдатах, он выхватил из кобуры браунинг и открыл огонь по бегущим. Конвоиры никак не могли протереть засыпанные глаза. Стреляли очень немногие, да и то почти наудачу. Низкое, утреннее солнце слепило, отражаясь на стволах и штыках винтовок. Дико кричал Бейбулатов, бегая между конвоирами с разряженным браунингом и только мешая им… Гринька летел по ровному выгону во всю прыть. Перед собой он видел лишь округлые бока коров, их синие мутные глаза. С ходу мальчуган забежал за одну из них. Жадно хватая ртом воздух, остановился. Осмотрелся. По выжженному солнцем полю веером рассыпались беглецы. На ветру бились легкие платья женщин. Кое-где темными пятнами выделялись на траве упавшие. Трое лежали неподвижно. Возле хаты, крытой камышом, споткнулся Сергей. Он выпрямился, вытянул вперед руки и мелкими, неточными шагами, как слепой, двинулся дальше. Его руки загребали воздух, пока не уперлись в беленую стену. Постоял возле нее Сергей, потом опустил голову, медленно сел на землю и повалился навзничь, широко раскинув большие, сильные руки. Глядя на упавшего Сергея, Гринька даже не заметил, что корова, прикрывавшая его, испуганно взбрыкнула и понеслась вслед за бегущими. Прямо на него набежал черноволосый матрос. Дышал он часто и громко. — Тикай! — прохрипел матрос и подтолкнул замершего мальчонку вперед. — Тикай, дурень! Гринька опомнился, увидел, что стоит на открытом месте, ничем не прикрытый от выстрелов, и припустил к реке. Рядом с ним, неуклюже выбрасывая вперед ноги, скакали перепуганные стрельбой коровы. Напружив тугие хвосты, бежали они по выпасу, как слепые, сталкиваясь одна с другой. Большая красная корова повалилась перед Гринькой и заскребла землю вытянутыми, несгибающимися ногами. Не размышляя, перескочил Гринька через убитую корову и увидел впереди широкую мутную реку. Высокий глинистый берег спускался к ней большими увалами. Прыгая с уступа на уступ, мальчишка спустился к воде. На ходу скинул с себя ботинки, одежду и бросился вниз головой в теплую утреннюю воду. Рассекая воду саженками, спешил Гринька к длинному, низменному островку, заросшему густым, высоким камышом. Пока Гринька переплыл протоку, стрельба затихла. Вот и желанный островок! Все ближе волновался под легким утренничком камыш, покачивал пушистыми рыжими метелочками. Тяжело дыша, мальчик встал на ноги. Мутная вода еле слышно журчала выше колен. Усталые мускулы на руках покраснели и мелко дрожали. Зеленая стена камышей с легким шорохом расступилась и скрыла мальчугана.СНОВА ОДИН
Долго сидел Гринька в камышах, посматривая на высокий ступенчатый берег. Никак не мог он решить, что делать дальше. Вернуться на берег? Но тюремщики, наверно, уже рыщут кругом, ищут беглецов. Теперь-то они не скоро успокоятся! Сидеть в камышах, конечно, безопаснее. Но сколько же так сидеть? В городе Гринька нашел бы где спрятаться. Но как туда добраться? Голым! Сентябрьская вода уже не казалась ему такой теплой. От долгого пребывания в ней и от свежего утреннего ветерка кожа стала шершавой, как у ощипанного гуся. На реке появились двое мальчишек. Обгоняя друг друга, они с разбегу бросились в мутную воду. Гринька вышел из камышей. Еще раз осмотрел противоположный берег. Ничего подозрительного там не было. Мальчуган вошел в воду. Течение подхватило его и понесло к морю. Плыть по течению было легко. А вот смотреть вперед надо было зорко. Здесь, в устье реки, в мутной воде, можно было напороться на карчу — затонувшее дерево. Незаметно доплыл Гринька до высокого деревянного моста. Перед ним, разбиваясь о бревна ледореза, громко бурлила вода. На мосту солдаты обыскивали мажару. Один ворошил сено на возу, а второй строго допрашивал старушку в низко надвинутом на глаза черном платочке, очень похожую на “мамашу”. К мужчинам, сидевшим в мажаре, Гринька не пригляделся. Не до них было. Приближаясь к мосту, он настороженно измерял глазом расстояние, оставшееся до кипящих бурунов. Стоило пловцу попасть в один из них — закружит его, утянет на дно… Бревна ледореза, обшитые толстой черной жестью, быстро приближались. Уже видно, как клокочет вода, разбиваясь о них. “Пора”! — решил Гринька. Сильно и часто загребая воду полусогнутыми руками, рванулся он между бурунами. Вода приподняла его. Клокочущий шум ее, отражаясь от широкого дощатого настила, стал оглушительно гулок. Еще несколько гребков — и течение вынесло Гриньку на речной простор. За мостом река сразу успокоилась. Лишь клочья грязноватой пены да быстро вертящиеся маленькие воронки напоминали о пройденных водоворотах.
Гринька проплыл немного и выбрался на сухую отмель. Крупный желтый песок успел уже прогреться. Спину приятно припекало солнце.
Всем было бы хорошо на отмели, удаленной от чужих глаз, если б не голод. Он гнал мальчугана с безопасного места.
Перебираясь с отмели на отмель, вышел он к взморью. Тут уже бояться было нечего. Кто мог опознать его, если на нем всей одежды — один узенький ремешок? Такие же пояски носили и все остальные ребята на случай, если придется тонуть или же спасать другого.
А голод усиливался. Гринька направился к пристани.
У пристани еще не было ни рабочих, ни купающихся. Пусто и на привалившемся к пристани буксире и возле навесов со штабелями рогожных тюков. Лишь одинокий рыболов-гимназист высматривал местечко да возле навеса стоял сторож с берданкой. Чуть подальше из труб стоящего на якоре английского парохода поднимался дымок.
Оставаться на берегу, привлекая к себе внимание, Гриньке не хотелось. Он заплыл под пристань, забрался на поперечный брус, скреплявший бревенчатые устои. Обомшелое четырехгранное бревно было скользкое. Темно-зеленый, похожий на волосы мох шевелился по легкой волне. В прозрачной воде резвились стайки головастых мальков-бычков. Они то замирали наверху, еле трепеща паутинно-тонкими плавниками, то сразу, как по команде, уходили в глубину. На каменистом берегу суетился большой круглый краб. Краб был голоден. Он заглядывал под камни, бестолково кружился, разыскивая добычу. Бегал краб быстро и смешно: не вперед и не назад, а боком, часто-часто перебирая кривыми, крепкими лапками.
Сидя под пристанью, Гринька подумал, что он и сам вроде краба — голый и голодный.
Неожиданно недалеко от Гриньки шлепнулся в воду поплавок.
Мальчуган прижался к бревну, но тут сверху свесились ноги в коломянковых брюках и сандалиях. По ногам Гринька узнал бродившего по пристани рыболова и успокоился.
От нечего делать он принялся рассматривать удочку. Крепкое складное удилище с блестящими никелированными скрепами ему понравилось. Одобрил он и шелковую леску. Такая не размочалится в воде.
Поплавок разглядеть не пришлось: он быстро ушел в воду. Леска туго натянулась и, мелко вздрагивая, пошла в сторону. Удилище упруго выгнулось. Крючок взяла крупная рыба.
Рыболов неловко, но старательно водил рыбу.
Сидя под пристанью, Гринька отмечал каждую ошибку рыболова. Кто же так выпускает леску? Всю! Ни кусочка запаса не оставил. Хоть бы догадался помаленьку подводить рыбу к берегу, а там можно выбросить ее на мелкое место.
Рассуждая так, Гринька всматривался в воду. Скоро он заметил черную спину рыбы, широкую, тупую морду и брезгливо сплюнул. На крючок попала морская собака — маленькая черноморская акула, сильная и хищная рыба.
— Ну и поймал! — поморщился Гринька. Морская собака металась в воде, ходила широкими кругами. Уже трижды она обернула леску вокруг одного из устоев пристани.
— Ах ты ведьма! — горестно ругнулся наверху рыболов.
— Плохо дело! — согласился внизу Гринька.
Рыболов заметил его и обрадовался:
— Эй, малец! Помоги вытащить рыбу!
— А что дашь за это? — не растерялся Гринька.
— Рыбу отдам, — пообещал рыболов, думая больше о своей удочке, чем о добыче.
— Куда мне ее? — ответил Гринька и подумал: “На что мне сдалась твоя собака?”
— А ты чего хочешь? — снова окликнул Гриньку рыболов.
— Покушать бы чего…
— Хорошо. Держи!
Над головой Гриньки свесилась рука с полуразвернутым пакетом. Между двумя толстыми ломтями полубелого хлеба вкусно выглядывали розоватые ломти свиного сала.
Лучшего нечего было и желать. Гринька соскользнул с бруса в воду. Нырнул. Достал со дна небольшой камень. Морская собака, спасаясь от него, обернула леску вокруг сваи до конца. Гринька ловко прижал ее голову к бревну и ударил камнем по тупой черной морде.
Размотать леску было недолго. Гринька передал наверх оглушенную рыбу.
— Собака! — разочарованно протянул рыболов. — На что она мне?
— Ничего! — утешил его Гринька и принялся за хлеб с салом. — Поганая рыба, зато здоровенная. Я еще такой и не видал.
— А-а! — закричал вдруг рыболов.
Вытаскивая глубоко заглотанный рыбой крючок, он сунул пальцы в широко разинутую пасть морской собаки. Рыба крепко сомкнула челюсти. Острые, вогнутые внутрь зубы впились в палец неудачника-рыболова. Он мотал рукой, стараясь стряхнуть рыбу.
Но у морской собаки действительно собачья хватка. Она висела на пальце, пока рыболов не навалился коленом на ее челюсти. Красная пасть раскрылась и выпустила палец.
Так и ушел рыболов с пристани, громко ругая морскую собаку, все еще болтавшуюся на удочке.
А Гринька позавтракал душистым салом с мягким хлебом и перебрался на берег. Надо было подумать, как пробраться к домику Анастасии Григорьевны.
Начинался шумный день.
На пристани появились грузчики с острыми крюками в руках и мягкими седелками на широких спинах. Загрохотали лебедки английского парохода, опуская в трюмы зашитые в рогожу кипы сыромятных кож.
По набережной важно выступали лошади ломовиков в широкополых соломенных шляпах, украшенных цветными лоскутками. Купающихся мальчишек на берегу становилось все больше.
Гринька всматривался пристально в лица прохожих, но знакомых не находил. Теперь он уже не спрашивал, где найти большевиков, — стал умнее…
Солнце поднялось высоко. Рабочие потянулись с пристани на обед. Гринька понял, что если ему раз повезло, сидя в саду, увидеть Романа Петровича, то на вторую такую удачу рассчитывать нельзя. И он бесцельно зашагал вдоль берега, шлепая ногами по теплой, ласковой воде…
За мостом река сразу успокоилась. Лишь клочья грязноватой пены да быстро вертящиеся маленькие воронки напоминали о пройденных водоворотах.
Гринька проплыл немного и выбрался на сухую отмель. Крупный желтый песок успел уже прогреться. Спину приятно припекало солнце.
Всем было бы хорошо на отмели, удаленной от чужих глаз, если б не голод. Он гнал мальчугана с безопасного места.
Перебираясь с отмели на отмель, вышел он к взморью. Тут уже бояться было нечего. Кто мог опознать его, если на нем всей одежды — один узенький ремешок? Такие же пояски носили и все остальные ребята на случай, если придется тонуть или же спасать другого.
А голод усиливался. Гринька направился к пристани.
У пристани еще не было ни рабочих, ни купающихся. Пусто и на привалившемся к пристани буксире и возле навесов со штабелями рогожных тюков. Лишь одинокий рыболов-гимназист высматривал местечко да возле навеса стоял сторож с берданкой. Чуть подальше из труб стоящего на якоре английского парохода поднимался дымок.
Оставаться на берегу, привлекая к себе внимание, Гриньке не хотелось. Он заплыл под пристань, забрался на поперечный брус, скреплявший бревенчатые устои. Обомшелое четырехгранное бревно было скользкое. Темно-зеленый, похожий на волосы мох шевелился по легкой волне. В прозрачной воде резвились стайки головастых мальков-бычков. Они то замирали наверху, еле трепеща паутинно-тонкими плавниками, то сразу, как по команде, уходили в глубину. На каменистом берегу суетился большой круглый краб. Краб был голоден. Он заглядывал под камни, бестолково кружился, разыскивая добычу. Бегал краб быстро и смешно: не вперед и не назад, а боком, часто-часто перебирая кривыми, крепкими лапками.
Сидя под пристанью, Гринька подумал, что он и сам вроде краба — голый и голодный.
Неожиданно недалеко от Гриньки шлепнулся в воду поплавок.
Мальчуган прижался к бревну, но тут сверху свесились ноги в коломянковых брюках и сандалиях. По ногам Гринька узнал бродившего по пристани рыболова и успокоился.
От нечего делать он принялся рассматривать удочку. Крепкое складное удилище с блестящими никелированными скрепами ему понравилось. Одобрил он и шелковую леску. Такая не размочалится в воде.
Поплавок разглядеть не пришлось: он быстро ушел в воду. Леска туго натянулась и, мелко вздрагивая, пошла в сторону. Удилище упруго выгнулось. Крючок взяла крупная рыба.
Рыболов неловко, но старательно водил рыбу.
Сидя под пристанью, Гринька отмечал каждую ошибку рыболова. Кто же так выпускает леску? Всю! Ни кусочка запаса не оставил. Хоть бы догадался помаленьку подводить рыбу к берегу, а там можно выбросить ее на мелкое место.
Рассуждая так, Гринька всматривался в воду. Скоро он заметил черную спину рыбы, широкую, тупую морду и брезгливо сплюнул. На крючок попала морская собака — маленькая черноморская акула, сильная и хищная рыба.
— Ну и поймал! — поморщился Гринька. Морская собака металась в воде, ходила широкими кругами. Уже трижды она обернула леску вокруг одного из устоев пристани.
— Ах ты ведьма! — горестно ругнулся наверху рыболов.
— Плохо дело! — согласился внизу Гринька.
Рыболов заметил его и обрадовался:
— Эй, малец! Помоги вытащить рыбу!
— А что дашь за это? — не растерялся Гринька.
— Рыбу отдам, — пообещал рыболов, думая больше о своей удочке, чем о добыче.
— Куда мне ее? — ответил Гринька и подумал: “На что мне сдалась твоя собака?”
— А ты чего хочешь? — снова окликнул Гриньку рыболов.
— Покушать бы чего…
— Хорошо. Держи!
Над головой Гриньки свесилась рука с полуразвернутым пакетом. Между двумя толстыми ломтями полубелого хлеба вкусно выглядывали розоватые ломти свиного сала.
Лучшего нечего было и желать. Гринька соскользнул с бруса в воду. Нырнул. Достал со дна небольшой камень. Морская собака, спасаясь от него, обернула леску вокруг сваи до конца. Гринька ловко прижал ее голову к бревну и ударил камнем по тупой черной морде.
Размотать леску было недолго. Гринька передал наверх оглушенную рыбу.
— Собака! — разочарованно протянул рыболов. — На что она мне?
— Ничего! — утешил его Гринька и принялся за хлеб с салом. — Поганая рыба, зато здоровенная. Я еще такой и не видал.
— А-а! — закричал вдруг рыболов.
Вытаскивая глубоко заглотанный рыбой крючок, он сунул пальцы в широко разинутую пасть морской собаки. Рыба крепко сомкнула челюсти. Острые, вогнутые внутрь зубы впились в палец неудачника-рыболова. Он мотал рукой, стараясь стряхнуть рыбу.
Но у морской собаки действительно собачья хватка. Она висела на пальце, пока рыболов не навалился коленом на ее челюсти. Красная пасть раскрылась и выпустила палец.
Так и ушел рыболов с пристани, громко ругая морскую собаку, все еще болтавшуюся на удочке.
А Гринька позавтракал душистым салом с мягким хлебом и перебрался на берег. Надо было подумать, как пробраться к домику Анастасии Григорьевны.
Начинался шумный день.
На пристани появились грузчики с острыми крюками в руках и мягкими седелками на широких спинах. Загрохотали лебедки английского парохода, опуская в трюмы зашитые в рогожу кипы сыромятных кож.
По набережной важно выступали лошади ломовиков в широкополых соломенных шляпах, украшенных цветными лоскутками. Купающихся мальчишек на берегу становилось все больше.
Гринька всматривался пристально в лица прохожих, но знакомых не находил. Теперь он уже не спрашивал, где найти большевиков, — стал умнее…
Солнце поднялось высоко. Рабочие потянулись с пристани на обед. Гринька понял, что если ему раз повезло, сидя в саду, увидеть Романа Петровича, то на вторую такую удачу рассчитывать нельзя. И он бесцельно зашагал вдоль берега, шлепая ногами по теплой, ласковой воде…
ШЛЮПКА ИДЕТ В ПЛАВНИ…
Весть о большом побеге заключенных захватила Романа Петровича, Анастасию Григорьевну и Христю врасплох. Они уже приготовились к отъезду, когда неожиданно получили записку: “Сегодня, на рассвете, заключенные опрокинули конвой и разбежались. Рассеялись в окрестностях города. Идут обыски. Будьте настороже. Записку уничтожьте”. Подписи под запиской не было. Да ее и не нужно было. Почерк был знакомый — крупный, с сильным нажимом. Так писал Аким Семенович. Обитатели дома “мамаши” притаились за опущенными занавесками. По улице шли слухи противоречивые и непонятные. К Анастасии Григорьевне забежала соседка. Ахая и причитая, она рассказала, что в тюрьме взбунтовались все арестанты, перебили охрану и разбежались кто куда. Час спустя та же соседка прибежала снова и сбивчивым шепотком сообщила: арестованные пытались бежать, но их всех перестреляли, до единого. Из путаных рассказов можно было понять лишь одно: произошло нечто серьезное, взбаламутившее весь город. За рекой контрразведчики шарили в камышах и кустарниках. На дорогах они останавливали прохожих, проверяли документы, обыскивали подводы. На улицах появились патрули. Раза два прошли они и мимо дома Анастасии Григорьевны. Уже под вечер заглянул к ней один из партийных товарищей. Его прислали взять бинты и медикаменты из приготовленного для партизан запаса. От него узнали, что комитет послал своих людей разыскивать беглецов. Пока нашли двенадцать человек, из них трое ранены. Сергей был убит шагах в пятидесяти от дороги. Многие из беглецов, наверно, уже добрались до окрестных станиц и хуторов, а быть может, направились пешим ходом в плавни. О Гриньке посетитель ничего не знал. Кто-то из беглецов поминал о каком-то мальчике. Но куда тот делся… В доме волновались всё больше. Поездка отложена. О них словно забыли. Христя, еле сдерживая бурлящее в нем нетерпение, посматривал из-за занавесок на улицу. Анастасия Григорьевна неизвестно зачем и для кого убирала комнату… — Роман! — позвал Христя, не отходивший от окна, и молча кивнул головой на прохожего, медленно идущего по улице. Роман Петрович выглянул в окно. Издали по пушистым седым волосам и черной с медным колпачком трубке он узнал Акима Семеновича и выбежал во двор. Аким Семенович прошел мимо калитки, Все так же неторопливо он остановился и принялся выколачивать трубку о забор. Роман Петрович подошел и увидел в щели записку. Молча взял ее. Аким Семенович пошел дальше все той же развалистой, неторопливой походкой старого человека, которому некуда спешить. В доме возвращения Романа Петровича ждали с нетерпением. “К десяти часам вечера, — прочел он, — выходите к Черным Сваям. Дорогу знает Христя. Идите без вещей. Записку уничтожьте”. — Все-таки едем! — тихо произнесла “мамаша” и задумалась. Черные Сваи!.. Много лет назад какой-то купец выстроил рыбную приемку не внутри бухты, где расположен город, а на открытом берегу. В кипучие дни путины рыбаки, вместо того чтобы гнать шаланды в городскую бухту, огибать длинную отмель, выдающуюся далеко в море, охотно сдавали улов по дешевке на близком к месту промысла открытом берегу. Слишком дорог был каждый час в горячее время хода рыбы. Росли барыши скупщика, росла и жадность. Рассчитываясь с рыбаками, он постоянно обвешивал их, обсчитывал. А зимой, когда мороз сковал у берегов мелкое море, приемка вспыхнула. Пока прискакали из города пожарные, от пристани и склада остались только сваи. Этот низменный берег, заваленный гниющими водорослями, в серых кружевах морской пены, не посещали ни горожане, ни станичники. Не заглядывали сюда и рыбаки. Лишь морские ветры привольно гуляли здесь, теребили редкий камыш и гнали длинные, плоские волны на такой же плоский и скучный берег… — Роман! Как же с Гринькой-то? — вырвалось у Анастасии Григорьевны. — У него, кроме нас с тобой, ни одной души знакомой нет в городе. Пропадет парнишка! Роман Петрович только вздохнул в ответ. Время тянулось тягостно. За окнами смеркалось. Подходил час отъезда. Но никто не решался напомнить о нем первым. Легкий стук калитки сорвал всех с места и бросил к окну. По двору быстро прокатился какой-то странный комок. Тихо раскрылась дверь… и все увидели Гриньку. Вернее, догадались, что это он. Узнать мальчугана было нелегко. Поиски одежды на берегу были безуспешны. Отчаявшийся Гринька подобрал возле пристани старую рогожу и завернулся в нее. Он походил сейчас на бумажный фунтик, поставленный хвостиком вверх. — Гринька! — опомнилась “мамаша”. — Живой! Мальчуган смущенно переступил с ноги на ногу. — Дайте чего-нибудь надеть, — попросил он. — У меня… ни рубашки, ни брюк. Одна рогожа! Анастасия Григорьевна подбежала к нему, обняла его вместе с рогожей: — Сыночек ты мой! Цел!.. Живехонек! Еще раз выручил старый семейный сундук. Нашлись в нем и брюки, и рубашка, и даже теплый пиджак — в дорогу. Пахнущую соленой рыбой рогожу сунули в печку. — Ишь ты! — удивленно присматривался Христя к Гриньке. — Грозен! Красный мститель! Гринька его не слышал. Он переоделся и, сидя за столом, уплетал остатки пирога с тыквой, запивая его желтым топленым молоком. Анастасия Григорьевна стояла возле него с крынкой в руке. Гринька откинулся на спинку стула и, улыбаясь, похлопал себя кулаком по животу: — Ого-го! Набарабанился! Христя поднялся первым. — Пора! — сказал он и кивнул на будильник. За ним заторопились и остальные. В последний раз осмотрели они комнату. И странно — почему-то теперь, после появления Гриньки, исчезло тягостное настроение. Как будто все тут только и ждали этого мальчонку в рогоже, свернутой фунтиком. Роману Петровичу и Христе передалось оживление “мамаши”. С появлением Гриньки поездка в Ростов обрела для нее еще и второе серьезное значение. Анастасия Григорьевна решила: нужно сохранить мальчонку, пока она не сможет передать его с рук на руки отцу. А кто сможет лучше нее позаботиться о мальчике? Не раз она говорила Роману Петровичу о Гриньке: “Это не такой паренек, чтобы по базарам бегать. Ему семья нужна!” Слушая ее, Роман Петрович прекрасно понимал, что дело тут не только в Гриньке, но и в материнском сердце “мамаши”. …Они вышли со двора попарно. Впереди — Роман Петрович и Христя, за ними — “мамаша” с Гринькой. Лампу в доме оставили непогашенной, только прикрутили фитиль. Придет время, выгорит керосин — сама погаснет. Посмотрели в последний раз на тускло святящиеся окна. Прислушались к шуму ветерка в саду. — Пошли! — сказал Роман Петрович. Шли они темной, окраинной улочкой. Изредка освещенное окно вырывало из тьмы клочок мощенного кирпичом тротуара. А дальше становилось еще темнее, непрогляднее. Опасливо обходили беглецов редкие прохожие. За последнее время в городе участились грабежи. Люди боялись нарваться на бандитов. За городом белели в темноте зыбкие полосы тумана. Но Христя вел маленькую группу уверенно. Ровно к условленному времени они вышли к Черным Сваям. В темноте они скорее угадали, чем увидели, торчащие из воды обугленные столбы. Спокойная вода лоснилась, казалась густой и маслянистой, как нефть. Вдалеке, где кончалась бесконечно длинная отмель, мигал одинокий маяк. Вспыхнет яркий белый глазок, бросит на воду искрящуюся дорожку и закроется… Скоро на море появился тусклый огонек. За ним проступили еле приметные в темноте очертания косого паруса. — “Чайка”! — сказал Христя. — Прогулочная шлюпка. С парусом. Он знал все городские лодки. Первым забрался в “Чайку” Гринька. — А-а! — встретил его знакомый голос. — Старый приятель! Гринька еле разглядел в темени долговязого тюремного старосту. Рядом со старостой громадной темной глыбой сидел матрос с подвешенной на бинте рукой. Остальных в темноте узнать не удалось. Шлюпка была крепкая и просторная. Христя быстро проверил, хорошо ли закреплены мачта, парус. Роман Петрович сменил на руле Акима Семеновича. Анастасия Григорьевна с Гринькой устроились посередине лодки, под парусом. Легко ступая по зыбкой шлюпке и на ходу пожимая руки товарищам, Аким Семенович выбрался на берег. — На корме глядите в оба, — приговаривал он. — Там ящик с медикаментами. И другой — с продовольствием. Аким Семенович помог оттолкнуть шлюпку от берега. — Передайте хлопцам в плавнях, что мы ждем их! Над головой Гриньки захлопал парус, важно надулся. Шлюпка слегка накренилась и направилась в открытое море. …Под носом лодки шипела вода. Изредка всплескивала о борт мелкая волна. Далекие городские огни появились из-за мыса и растаяли. Осталось от них еле приметное розовое зарево. Звезды нависли над морем — крупные, яркие, спелые. Казалось, дунет ветерок покрепче и отряхнет их в лениво колышущуюся воду. Гринька пробрался на корму. — Дядя Роман! — позвал он. — Я здесь, Гриня. Мальчуган подошел к нему, сел рядом. — Мне в тюрьме тот… которого забрали со мной, говорил, что ты знаешь про мамку. — Знаю, Гриня, — тихо ответил Роман Петрович. — Знаю. Он достал из кармана серебряное кольцо и протянул его мальчику: — Узнаешь? Гринька взял кольцо и, не отвечая на вопрос, срывающимся голосом спросил: — Что с мамкой? — Слушай, Гриня, — Роман Петрович говорил осторожно, подбирая слова, — это кольцо мать поручила тебе передать отцу. Обязательно. Поедешь в Советскую Россию, вместе с Анастасией Григорьевной… Там помогут разыскать твоего батьку. А сперва поживете в Ростове. Кольцо не теряй, помни мамкин наказ… — А сама она? — еле шевеля непослушными губами, спросил Гринька, уже угадывая ответ Романа Петровича. — Где она? — Нет ее больше. — Расстреляли? — Умерла. От тифа. В наступившей тишине Роман Петрович слышал лишь тяжелое, как у больного, дыхание мальчика да бульканье воды под днищем. Гринька отошел от него и лег ничком на запасной парус. Он думал о погибшей матери. В последнюю минуту она помнила о нем, об отце. А вот сам Гринька все это время мало думал об отце. В горле у него рос какой-то ком, мешал дышать… Осторожно ступая по непривычно шатким доскам, подошла к нему Анастасия Григорьевна. Опустилась возле него на парус и положила руку на вздрагивающее плечо мальчонки: — Ты же большевик! Гринька не смог ответить ей. Он и сам ещё не разобрался в охвативших его чувствах. Он лишь сейчас смутно понял, из какой беды выручили его люди, сидящие рядом в шлюпке: и дядя Роман, и Анастасия Петровна, и Христя… Сам того не замечая, Гринька ткнулся лицом в колени “мамаши” и почувствовал, как ласковая, теплая рука легла на его голову. …Небо на горизонте слегка окрасилось багрянцем. Из моря выглянула большая оранжевая луна, щедро рассыпала по морю золотые живые блестки. Шлюпка мягко покачивалась на растущих волнах. Христя повернул ее и поставил прямо по ветру. Захлюпала под бортом вода. Лодка пошла быстрее… Луна поднялась и уже светила ярко, играла с волной, заливала серебристым светом упруго выгнувшийся парус, шлюпку, море. Вдалеке ровной черной полоской тянулся низменный кубанский берег. Христя протянул к нему руку и сказал: — Плавни начались. Гринька всмотрелся туда, куда показала рука Христи. Неужели там, в сплошной темени, живут люди? И не только живут, но и воюют, держат в постоянном страхе тех, кого так ненавидел он, — белогвардейцев! Гриньке нестерпимо захотелось скорее попасть туда, к своим, к партизанам. С ними не страшны ни контрразведка, ни тюремные стены, ни вражеское оружие. Он, Гринька, мальчик из Советской России, будет таким же, как Роман Петрович, Сергей, Христя и черный матрос.



Я. Волчек ПРОВОДНИК СРС Повесть
ЗНАКОМСТВО В ГОРАХ
Летом 1953 года мне довелось принять участие в туристском походе по Армении. Мы шли через Баргушатский хребет. На подступах к вершине горы Капуджих я сильно натер себе ногу и стал тяжелой обузой для моих спутников. Наша маленькая группа — две женщины и трое мужчин, включая и меня, — посовещавшись, решила сделать привал на склоне горы. Тут нам повезло. Ева Жамкочян, ереванская студентка, разглядела среди каменных нагромождений нечто похожее на домик. Это было грубое строение из камней, с крышей, которая вот-вот могла обвалиться, без окон, с круглой дырой вместо входа. Такие будки обычно складывают чабаны, перегоняющие летом колхозный скот на альпийские пастбища. Мы осмотрели будку. Пол в ней, по счастью, был устлан прошлогодней соломой. Мы решили тут заночевать. Капуджих — неприятная гора. Ее обдувают назойливые ветры. Сначала это даже нравится — утомленное лицо отдыхает, кожа легко дышит, — потом начинает надоедать, раздражать. Ловишь себя на том, что хочется пойти и закрыть какую-то ненужную форточку; закроешь ее — и наступит успокоение. Но ветер дует и дует. На той высоте, куда мызабрались, все кажется серым, даже снег, лежащий кое-где на камнях. И подумать только, что еще сегодня утром мы, изнывая от жары, дружно ругали пылающее в небе солнце и отдыхали в тени зеленых деревьев… Неподалеку от кочевья на камнях лежала зола. Видимо, тут чабаны жгли свои костры. Нашлась полуобгоревшая коряга. Семен Мостовой, одесский моряк, неофициальный начальник нашего похода, расколол ее ледорубом, подложил соломки и с одной спички запалил костер. На такие вещи он был мастер. Из Еревана мы тащили с собой в мешке железный треножник и солдатский котелок. Москвичка Галина Забережная установила треножник над костром, наполнила котелок снегом и принялась открывать банку какао. — Ну, больному болеть и поправляться, — приказал Мостовой, — девушкам варить целебный напиток, под названием “какао”, а мужчинам, которые не раскисли и не свалились, — настоящим мужчинам! — им заготовлять топливо для предстоящего ночлега. Настоящих мужчин теперь у нас осталось только двое: сам Мостовой и Эль-Хан, маленький азербайджанец из Баку, инженер по профессии. Настоящие мужчины торжественно пожали друг другу руки, и пошли искать хворост. И вот я лежу на соломе, покрывшись бушлатом Семена Мостового, смотрю, как язычок пламени огибает котелок, ползет все выше и выше по его закопченной стенке и наконец, изогнувшись, заглядывает в котелок сверху, почти окунается в кипящую жидкость, и думаю: “Что ж это наши девушки не следят? Какао будет пахнуть дымом…” Вероятно, я задремал. — Костя, проснитесь! — говорила Галя, легонько подталкивая меня своим дорожным посохом. — Разве вы не чуете, как замечательно пахнет какао? Меня одолевал сон. Я хотел пробормотать: “Чую, чую!” — и не успел. За каменной стеной будки внезапно прозвучал незнакомый хриплый бас: — Замечательно, замечательно пахнет какао! Встречи в горах не всегда бывают приятными. Кажется тебе, что ты пришел на край света и камни тут лежат недвижно с той самой поры, как их нагромоздили доисторические землетрясения, и вдруг — человек… Много существует рассказов об опасных встречах в горах… Я подкатился поближе к выходу. Перед костром, спиной ко мне, стоял незнакомец в обтрепанном лыжном костюме. Хорошо были видны его ноги — одна в старом ботинке с шипами, другая — без обуви, в грязной мешковине, перетянутой бечевкой от щиколотки до колена. Он повернулся — стала видна густая, всклокоченная борода такого же серого цвета, как снег, лежащий на камнях. — Эге-гей! — крикнул он. — Сюда, ко мне! Здесь варят какао! — Эге-гей! Иду, иду! — ответил другой голос. Посыпались мелкие камешки. По крутому склону горы к нашему костру размеренными прыжками спускался еще какой-то человек. Он стал рядом с первым и потянул носом воздух: — Да, соблазнительно… Этот — совсем молодой — выглядел получше: брезентовая куртка с капюшоном, который сейчас был откинут на плечи, брезентовые штаны, впрочем, очень затасканные, зато на ногах у него я разглядел новенькие, туго зашнурованные желтые ботинки. Прямо из магазина ботиночки! — Такой запах на высоте в три тысячи метров над уровнем моря! — сказал тот, кто пришел первым. — С ума сойти можно! — Угощать будут? — осторожно спросил второй. — Кажется, не расположены. Я высунул голову из будки: — Кто вы такие, товарищи? Откуда вы здесь появились? Бородатый и его спутник в брезентовой куртке повернулись в мою сторону, с любопытством уставились на меня. И я глядел на них. Глядел и старался понять, почему лицо этого бородатого казалось мне таким знакомым… Снова покатились мелкие камешки. Семен Мостовой с охапкой сучьев появился на выступе скалы и спросил: — Что тут у вас происходит? Галя начала говорить, что вот явились какие-то люди и что хотят — непонятно. Но Ева не дала ей закончить. До сих пор она сидела тихо — похоже было, что испугалась. Теперь, осмелев, подступила к бородатому. — Эти люди хотят отнять у нас какао! — крикнула она. Мы все засмеялись. Человек в брезентовой куртке встряхнул светловолосой головой, улыбнулся всем своим добрым лицом — толстыми губами, чуть выпуклыми глазами, каждой морщинкой — и тронул спутника за плечо: — Как бы нам, Сергей Вартанович, в конце концов, не пришлось убегать отсюда! — и сел на камень, протянув ноги к костру. С горки спрыгнул маленький Эль-Хан — он опоздал к началу нашего разговора, — всмотрелся в лица незваных гостей и торжественно провозгласил: — Товарищи, среди вас находится профессор Сергей Вартанович Малунц! В ту же секунду я понял, откуда знаю бородатого. Ну да, профессор Малунц! Я же был на его лекциях. Мне рассказывали о нем: крупный ученый, превосходный спортсмен, остроумный тамада за праздничным столом. Этого человека на все хватало. Через пять минут мы все мирно сидели вокруг костра и пили какао из невыносимо горячих кружек. Сверху падал мелкий снежок и таял в солдатском котелке. Ветер дул не переставая и сгонял огонь к одному боку костра. — Да здравствует походная алюминиевая кружка! — говорил Сергей Вартанович. — Вот мы сейчас нальем в эти кружечки напиток погорячее вашего какао! — И он попросил своего спутника — того звали Андреем — принести рюкзаки, которые были ими оставлены где-то на горе. Андрей мягко улыбнулся, сказал: “Сейчас!” — и полез на гору. “Вероятно, они давнишние знакомые”, — подумал я. — Скажите, Сергей Вартанович, этот Андрей — он ваш сослуживец? — С чего вы взяли? Впервые его вижу. И профессор Малунц стал рассказывать нам, как он попал в эти края. Оказывается, совершил восхождение с группой альпинистов, дважды сваливался в пропасть, весь обтрепался. На склоне Капуджиха он встретил Андрея, познакомились и продолжали путь вместе. — И вот мы шли, — говорил Сергей Вартанович, — и развлекались тем, что старались побольше угадать друг о друге. Представьте, этот человек положил меня на обе лопатки. “Вы, говорит, ученый, вернее всего — геолог или физик”. И еще множество всяких подробностей. А я, седая борода, не смог ничего угадать. Бился, бился — даже профессию не узнал! Тут мы все посмотрели на Андрея, который ловко спускался по склону, неся в одной руке два дорожных мешка. Лицо у него было крупное, угловатое — выдавались скулы, надбровные дуги. Эта угловатость и создавала, видимо, впечатление мужественности. В общем, обыкновенное лицо, если не считать глаз — чуть выпуклых, серых, очень спокойных. Все его движения на этот раз показались мне неторопливыми, и, пожалуй, вкрадчивыми. — Вы, конечно, раньше знали или видели Сергея Вартановича? — спросил Андрея Эль-Хан, когда из рюкзака была вытащена бутылочка юбилейного коньяка и мы все получили полагающуюся порцию. — Да нет, не видел. — Как же вы угадали, кто он? — А ничего особенного, — серьезно сказал Андрей. — Такая у меня профессия. Я заметил, что он очень внимательно выслушивает собеседника, не перебивает и отвечает, только подумав. Мы все налетели на него. Ну как же можно по внешнему облику человека догадаться о роде его занятий? Андрей улыбнулся. — Как не угадать? — мягко проговорил он. — Человек в летах, а по горам ходит легко; человек интеллигентный, знающий, притом все время камни рассматривает… Надо иметь наблюдательность — и все поймешь. А моя профессия — она требует наблюдательности. — Вот-вот, все его профессия, о чем ни заговори! — насмешливо заметил профессор Малунц. — Я ему комплимент: “Вы хорошо по горам ходите!” А он опять свое, что это, мол, надо для успеха в его профессии. — И надо! — Разносторонняя у вас профессия. — Да хотите — откроюсь? — Нет уж, извините! Игра так игра. Я и сам угадаю. Похоже, дорогой товарищ, что вы пограничник. — Хорошая работа, — уважительно сказал Андрей, — только, к сожалению, не моя. Сергей Вартанович принялся сыпать вопросами: — Педагог? Астроном? Музыкант? Инженер? Моряк? Семен Мостовой кашлянул и нравоучительно сказал: — Если вы встретите человека, который может в вашем присутствии сделать вот так… — он поставил на свою широченную ладонь двухпудовый рюкзак и, вытянув руку, покачал его в воздухе, — то вот тогда смело говорите: это одесский моряк! И вообще знайте: какая рука — такой человек. Дай-ка мне, дружок, твою лапку! Андрей опять подумал немного, встряхнул светлыми волосами и протянул Мостовому ладонь. — Ого-о! Солидная рука. Молодец! Ну, посмотрим, как умеешь терпеть. И они стали жать друг другу руки. Через минуту наш начальник, изменившись в лице, проговорил: — Дело, как видно, идет на ничью… Андрей чуть заметно улыбнулся. — Крепкая ручка! — признал Мостовой. — Хоть я и не моряк, но опять-таки это принадлежность профессии. — Цирковой борец, что ли? — Промах! — усмехнулся Андрей. Мы все приняли участие в этом угадывании. — Преподаватель физкультуры? — спросила Галя. — Нет, он доктор! — крикнул Эль-Хан. — Ему знакомы все секреты сохранения силы и здоровья! — Колхозник? — попытал счастья и я. — Геолог? Географ-путешественник? Андрей отрицательно покачал головой. — Вы работник искусства! — выпалила Ева. — Человек искусства, артист. Вы так хорошо пугали нас, когда пришли сюда просить какао… — К сожалению, нет, не артист, — подумав, проговорил Андрей. — Но иногда, впрочем, приходится и к этому применяться. …В горах быстро темнеет. Гуще стал воздух, еще ниже спустилось небо, и сразу наступила ночь. Холодные крупные звезды выползли на небо. Никогда до этого не видел я таких крупных звезд! Сперва их было мало, не с каждой минутой становилось все больше и больше. Искры, подгоняемые ветром, взлетали кверху. Я лежал на подстилке у костра, и мне хотелось думать, что искры, долетев до неба, не гаснут — превращаются в звезды… У костра время течет незаметно. Все сгруппировались вокруг Сергея Вартановича. Только Ева и Андрей беседовали в стороне о чем-то. Я подполз ближе к ним и услышал, что Андрей говорит по-армянски. Это было так странно: совершенно русское лицо — и трудно произносимые армянские слова, с необычным для русского человека обилием согласных звуков! Ева слушала и заливисто смеялась. Я отполз на прежнее место. Мне рядом с ними делать было нечего. Начальник похода скомандовал “отбой”. Ночь была трудная. В непривычной обстановке все спали плохо. То и дело кто-нибудь выползал из каменной будки, чтобы погреться у костра. Утром, едва рассвело, Семен Мостовой крикнул: — Кончай ночевать! Наши спутницы разложили еду на двух мохнатых полотенцах, разлили по кружкам какао — семь кружек, по числу людей, — но, когда начали завтракать, одна кружка оказалась лишней. — Позвольте, — удивилась Галя, — кто это не пьет какао? Стали считать. Выяснилось, что у костра нет Андрея. — Эй, профессия, отзовись! — кричал Семен Мостовой, взобравшись на большой камень. Мы тоже ходили по скалам и звали Андрея. — Не иначе, как подмерз ночью и пошел вперед, а сейчас ждет нас где-нибудь на пути, — сказал наш начальник и распорядился готовиться к выступлению. Но тут произошла непредвиденная заминка. Все уже были готовы, а я никак не мог найти своих башмаков. Поставил их на камень возле будки и хорошо помнил, куда именно поставил, а теперь их не было. — Одну минуту, — укоризненно сказал Эль-Хан. — Как же можно быть таким забывчивым! Вы их вовсе не туда поставили. — И он снял с плоской крыши будки новенькие желтые ботинки. — Это не моя обувь. — Как так — не ваша? — Конечно, не его! — закричал профессор Малунц. — Не заставляйте человека присваивать себе чужое имущество. Под присягой свидетельствую, что это ботинки Андрея! Все столпились вокруг пары желтых башмаков. Большинством голосов было установлено, что они действительно принадлежат Андрею. — Позвольте! — возмутилась Галя. — Это какая-то глупость. Ведь Андрей не мог уйти босиком! — Да все ясно! — Сергей Вартанович усмехнулся. — Это еще, понимаете ли, продолжается игра в загадки-разгадки: ““Угадай-ка”, “угадай-ка” — интересная игра!” Он где-то здесь и радуется, что мы не можем его найти. Такое объяснение на секунду показалось нам правдоподобным, и мы уже готовы были возобновить поиски. Разумнее нас всех оказалась Ева. — Какие же вы недогадливые! — проговорила она с сожалением. — Разве трудно понять, что эти желтые и совсем новые ботинки оставлены взамен тех черных и старых, которые пропали? Так оно и было. Вот где оказалась разгадка! Я вспомнил, что вечером Андрей, осмотрев мою опухшую ногу, сказал: “Посвободнее обувь надеть, только и всего”. Потом он спросил, какой номер ботинок я ношу. И вот оставил мне свои ботинки, которые были ему немного велики, а сам ушел, чтобы избежать моих благодарственных излияний. Вот это парень! И я стал надевать желтые башмаки, а товарищи торопили меня: — Не копайся! Надо догнать Андрея. Он ждет нас где-нибудь на дороге и мерзнет, бедняга! Больше всех волновалась Ева… Ботинки пришлись впору. Я сразу почувствовал себя хорошо. Все вещи уже были собраны. Вдруг Ева замахала дорожным посохом и закричала: — Волк! Волк! Мы увидели, что снизу по горной тропинке бежит огромный серый зверь — лобастый, с настороженными острыми ушами и опущенным хвостом. Сергей Вартанович знал все обо всем. Он сказал: — Только бешеный волк может мчаться так безбоязненно прямо на людей. Зверя нельзя подпускать близко.
И он схватил наш котелок и швырнул его на тропинку.
Ева, зажмурив глаза, бросила туда же свой посох. Маленький Эль-Хан взял камень и мужественно пошел навстречу волку.
— Э, кто там хулиганит? — закричал снизу незнакомый голос.
И мы все застыли в недоумении.
Тем временем зверь выскочил прямо к нашему костру — молчаливый, свирепый, с шерстью, поднятой дыбом на загривке. Я первый увидел широкий черный ошейник на желтой шерсти.
— Только бешеный волк может мчаться так безбоязненно прямо на людей. Зверя нельзя подпускать близко.
И он схватил наш котелок и швырнул его на тропинку.
Ева, зажмурив глаза, бросила туда же свой посох. Маленький Эль-Хан взял камень и мужественно пошел навстречу волку.
— Э, кто там хулиганит? — закричал снизу незнакомый голос.
И мы все застыли в недоумении.
Тем временем зверь выскочил прямо к нашему костру — молчаливый, свирепый, с шерстью, поднятой дыбом на загривке. Я первый увидел широкий черный ошейник на желтой шерсти.
 — Собака! — крикнул я.
— Конечно, собака, — спокойно сказал Сергей Вартанович. — Волк никогда не пойдет на костер.
Ева крикнула:
— Брысь!
Неудивительно, что мы приняли эту собаку за волка — она была действительно очень крупная, но не серая, как показалось нам вначале, а чепрачная: черная с блеском спина, ярко-рыжая грудь и оранжевого цвета лапы. Глаза, окруженные светлыми пятнами, похожими на очки, смотрели на нас без страха — со спокойной враждебностью. Уши, по струночке вытянутые кверху, все время шевелились, ловя каждый звук. Острая морда с высунутым языком и белыми клыками могла напугать кого угодно: пасть то и дело открывалась и закрывалась.
— Карай! — крикнул голос снизу. — Ко мне!
Пес осторожно потянул воздух и вдруг, пригнув голову к земле, стелющейся, неслышной рысью обежал всю нашу стоянку. Он явно чего-то искал здесь и не мог найти.
Семен Мостовой презрительно фыркнул:
— Мы его за серьезного зверя приняли, а он — Бобик из подворотни!
— Какой Бобик? — возмутился Эль-Хан. — Какой это Бобик? Ты, Семен, гляди хорошенько. Это служебная собака.
Пес обошел испуганную Еву, равнодушно пробежал мимо Мостового, который на всякий случай угрожающе выставил вперед посох. Возле меня пес остановился. Он уставился, на меня немигающими злыми глазами и тревожно трижды пролаял.
— Зверюга, — удивился я, — что это с тобой?
Поведение животных, если его не понимаешь, внушает тревогу. Вдруг этот пес ни с того ни с сего начнет кусаться? Мало ли что может прийти ему в голову! Я решил тихонько отойти в сторону, но пес грозно зарычал, обрекая меня на неподвижность. Его черный мокрый нос все время вздрагивал, шевелился. Он обнюхал мои башмаки и заскулил.
— Что это он? — спросил я жалобно.
— Он приказывает тебе стоять на месте, — глубокомысленно объяснил Эль-Хан.
— Это я и сам понимаю!
Семен Мостовой захохотал:
— Как видно, служебный Бобик нашел-таки преступника!
В это время к нашему костру подбежал запыхавшийся милиционер, худощавый и стройный парень, которому только форменная фуражка и темная гимнастерка придавали некоторую солидность. Он крикнул:
— Не бойтесь, граждане!
— Страха нет в моей душе, товарищ милиционер, — сказал Эль-Хан, — страха нет, поскольку этот пес атакует не меня, а всего лишь моего соседа.
— Ерунда! — Милиционер оглядывал нас всех поочередно и делал это так, словно фотографировал глазами: подержит одного человека несколько секунд под прицелом и отворачивается к следующему. — Никого он не атакует…
— Но вы все же уберите его куда-нибудь подальше, — попросил Сергей Вартанович.
— Карай, сидеть!
Пес послушно сел, не спуская с меня непримиримо враждебных глаз.
— На кого он лаял?
— На меня, — сконфуженно признался я.
— Он еще молодой пес, мы пользуемся каждым случаем, чтоб его подучить, — сказал милиционер, держа меня под прицелом своих внимательных черных глаз. — Может быть, вы замахнулись на него?
— Замахнулся! Мне еще жизнь не надоела.
Милиционер, наконец, отвел от меня глаза и зорко оглядел нашу стоянку.
— Вы не видели здесь человека в брезентовом костюме?
Сергей Вартанович нахмурился и сказал, что такой человек здесь недавно был, но ночью ушел, оставил одному из нас свою обувь, а чужую надел.
— Ага! — с торжеством воскликнул милиционер. — Тогда ошибки нет: Карай лаял на эти ботинки… А сам, вы говорите, надел чужую обувь? Хитро сделано! Другая обувь — другой запах. — Он прицепил к ошейнику собаки длинный поводок. — Не волнуйтесь, товарищи! Чьи ботинки унес тот человек?
— Мои, — сказал я, отстраняясь, потому что пес стал чересчур внимательно меня обнюхивать и рычать при этом. — Но вы объясните, пожалуйста, что случилось?
— Ищем одно лицо, — нехотя проговорил милиционер. И спросил, склонившись к собаке: — Найдем, Карай?
Пес отрывисто залаял. Это прозвучало как ответ: “Найдем”.
— Вперед, Карай!
Собака рванулась на тропинку, милиционер побежал за ней. Минуту спустя они скрылись за выступом скалы.
Мы в недоумении смотрели друг на друга. Сергей Вартанович выпятил свои толстые губы. Это означало, что он напряженно думает. В его деятельном уме, очевидно, рождалась какая-то догадка, которая должна была нам все объяснить. Эль-Хан пыхтел и пожимал плечами, он ничего не мог понять.
— Ну, — заговорил Семен Мостовой голосом мудреца, презирающего тупость окружающих, — теперь я могу вам раскрыть профессию этого Андрея и могу объяснить, для чего ему нужны сильные руки и особенно быстрые ноги… В горах наш профессор Сергей Вартанович познакомился с жуликом, а может, этот человек еще и похуже, чем простой жулик. И профессор дал обвести себя вокруг пальца. Привел жулика сюда, к нам. Мы не обворованы только потому, что этого темного человека преследуют, и он торопился скрыться.
— Все ясно! — Профессор Малунц сконфуженно улыбнулся. — Готов нести наказание за ротозейство.
— Ничего не ясно! — враждебно сказала Ева. — И он не жулик! Пожалуйста, не говорите! Вы ничего не понимаете.
Все посмотрели на нее с удивлением. Кажется, один только я уяснил себе причину ее запальчивости.
— Вы можете разбить эту логическую схему? — холодно усмехнулся профессор Малунц.
— Могу!
— Разбейте, пожалуйста.
— Просто он не такой человек, как вы говорите.
— Очень убедительно! — Сергей Вартанович поклонился и приложил руку к груди.
— Однако, — вмешался Семен Мостовой, — последнее слово в этом споре скажет служебный Бобик. А какое это будет слово — мы никогда не узнаем…
Вот так разговаривая, мы тронулись в путь. Вспоминали, что говорил и как держался этот Андрей и как ловко он всех нас обманул.
Теперь мы шли вниз по крутой горной тропке. Проклятый рюкзак становился все тяжелее. Слева возвышалась скала, закрывающая половину неба, справа зияла пропасть — упадешь, и костей не собрать. Под нами были леса, и мы видели просеки — следы недавних лавин.
В середине дня мы вышли на более широкую дорогу. Потянулась линия телеграфных столбов. На одном из них сидел горный орел. Большая птица нахохлилась, наклонилась вперед, прикрыв круглый злой глаз голым веком.
Галина Забережная остановилась, помотала в восхищении головой и проговорила:
— Ах, Кавказ!
К вечеру на случайной машине мы добрались до маленького города — одного из центров Зангезура.
В горах нас окружала величественная тишина. Скалы такие огромные, пропасти такие глубокие, тысячелетиями там господствовало безмолвие, наши голоса словно растворялись в воздухе — они были чуть слышны. Теперь же мы попали в удивительно шумный, веселый городок. Тротуары выложены большими плитами. Вдоль тротуаров по узеньким канавкам с журчанием устремляется вода, весь город наполнен этим журчанием. Тепло, но не душно. Из глубины ночи доносятся голоса, под электрическим фонарем на перекрестке мелькнет то белое платье, то мужская соломенная шляпа. Возле своих домов на складных табуретах, а то и прямо на тротуарах сидят мужчины и играют в нарды. Игральные косточки со стуком падают на доску.
Но из всех звуков самым громким является звук песни. Репродукторы, установленные на железных столбах, разносят по всему городу песню о журавле, летящем на родину. А из всех запахов, которыми дышит город, самым могучим является запах яблок. Потому что за каждым домом есть сад и из каждого сада тянет на улицу свои ветви яблоня.
Первым делом мы все пошли в баню. И никогда прежде баня не казалась мне такой благотворной, а горячая вода такой живительной, как после этого похода. Надевая в предбаннике желтые ботинки, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Мало ли в Армении черных глаз, но эти черные глаза показались мне знакомыми. Милиционер, хозяин Карая, стоял у входа в парное отделение с мочалкой в руке.
— Как дела? — крикнул я. — Удачным был ваш поиск в горах?
— Кое-какие успехи имеются, — загадочно ответил он и ушел мыться, помахав на прощание мочалкой.
“Ну, поймал!” — решил я и все вспоминал этого Андрея и думал, что вот как бывает: столкнет нас жизнь на мгновение с каким-нибудь человеком, а дальше он исчезнет из виду навсегда, и уж больше о нем ничего не узнаешь. Кто он, этот Андрей? Как жил до встречи с нами? Почему его выслеживал милиционер с собакой?
После бани мы устроили совещание. Тут окончательно выяснилось, что наша группа распадается. Ева хотела с месяц поработать в больнице этого маленького городка, считала, что будущему врачу (она училась в медицинском институте) очень полезно увидеть как можно больше больниц и амбулаторий. Галина Забережная получила на почтамте письмо, которое пришло сюда “до востребования”. Друзья по заводу сообщали ей, что в цехе устанавливаются новые станки отечественного производства. Ей хотелось поскорее попасть в Москву, чтобы начать работать на новом станке. Семен Мостовой торопился в Одессу: его теплоход уходил в большое заграничное плавание. Эль-Хан и Сергей Вартанович решили пешком идти дальше — до лагеря какой-то горной научной экспедиции, которую возглавлял профессор Малунц. Эти два человека, кажется, очень понравились друг другу. На мое имя пришла телеграмма из Еревана: вызывал редактор газеты, в которой я работал.
Мы переночевали в гостинице, все номера которой выходили на шаткую дощатую веранду. Утром, попрощавшись с товарищами, я пошел на аэродром. Самолет в Ереван уходил через час.
— Погуляйте пока, — приветливо сказал мне дежурный.
Я обогнул ограду и пошел в поле. Лягу на траву, погреюсь на солнышке, оно утром ласковое, раскрою книгу, а там уж и время подойдет.
Но одно обстоятельство изменило мои намерения. Я услышал грозный собачий лай и пошел на этот звук, приминая ногами густую траву.
Собака с ярко-рыжей грудью и острой мордой была привязана к столбику. Она сидела, выставив вперед могучую грудь, и чуть шевелила по земле хвостом. Перед ней на траве лежали бумажник и ручные часы — лежали, словно на прилавке магазина. Как я понял, пес охранял эти вещи. Я и раньше слышал, что обученная собака хоть целый день будет самоотверженно нести свою сторожевую вахту, но считал все это пустыми россказнями. Теперь я видел это собственными глазами. И в какой момент я попал! Бедному псу приходилось туго. Два парня подозрительного вида пытались завладеть вещами. Один из них — в клетчатой рубахе — подтаскивал к себе бумажник длинной, гонкой палкой. Другой отвлекал пса резкими движениями и выкриками.
“Да ведь это Карай! — подумал я. — Но где же его хозяин?!” И тут я увидел, что в стороне, на траве, лежит какой-то человек, укрывшись с головой ватной телогрейкой. Вот он где, черноглазый милиционер, хозяин Карая! Набегался, устал и спит теперь, а Карай за него отдувайся.
— Эй, что вы делаете! — крикнул я, подходя ближе.
Увидев меня и приняв еще за одного врага, пес непримиримо залаял, заскулил, вытянув морду в сторону своего беззаботного хозяина. Но тот даже не шевельнулся под ватной телогрейкой.
Парень в клетчатой рубахе встретил меня веселой улыбкой.
— Не шуми, — дружелюбно приказал он, — тут наш дружок спит, не мешай ему. Мы над ним подшутим.
— Какие ж это шутки — дразнить собаку?
— Да вот шутим, как умеем. — И он снова взял палку.
Пес рычал. Он зорко глядел на врагов. Подняв верхнюю губу, показывал страшные клыки. Один из парней быстро продвинул палку вперед, другой в это время затопал ногами. Карай, ощетинившись, рванулся на всю длину своей цепи. Казалось, он забыл про вещи, которые должен был охранять.
— Ох! — Парень взмахнул рукой.
Теперь Карай налетел на второго своего врага — и как раз вовремя: схватил палку и вмиг перегрыз ее пополам.
— Вот черт! — сказал парень в клетчатой рубахе и, подняв с земли пиджак, накинул его на плечо.
— Оставьте в покое эту собаку! — потребовал я.
— Да уж и так оставляем…
Карай внимательно смотрел на нас и время от времени трогал лапой бумажник — будто хотел убедиться, что выполнил свой долг.
— Мы уходим, — проговорил один из нападавших, неизвестно к кому обращаясь. — Пусть с этой собачкой кто-нибудь другой поиграет. К ней с пулеметом надо подступать.
И они пошли к аэродрому, посмеиваясь и переговариваясь.
Милиционер все еще спал под телогрейкой. Теперь я остался один с глазу на глаз с собакой. Наконец я смог как следует ее рассмотреть. Красавец зверь! Шерсть густая, чистая, блестящая; глаза овальные, черные, небольшие, но удивительно сторожкие, лапы — толщиной каждая в мужскую руку; посадка головы горделивая; спина широкая, как гладильная доска.
Карай проводил взглядом своих врагов, деланно зевнул и улегся на траву, положив острую морду на вытянутые лапы. Меня он, видимо, разгадал: я не представлял серьезной опасности.
— Ты собачка хорошая, — сказал я ему, — но хозяин у тебя неважный. В этом смысле тебе не повезло.
— Чем это не угодил вам его хозяин? — послышался вдруг насмешливый голос из-под телогрейки.
Ага, проснулся милиционер.
— Что ж вы бросаете свою собаку на произвол судьбы?
— И не думал бросать. Ложное обвинение.
— Как же ложное, когда я собственными глазами видел: тут двое каких-то пытались вас обокрасть!
— Да это знакомые ребята с аэродрома.
— Рассказывайте! Зачем же они хотели стянуть ваш бумажник?
— А я сам попросил, чтоб они это сделали. Ну где вы видели, чтобы человек, ложась спать, выставлял наружу ценные вещи?
Конечно, я не мог поверить ему. Заснул человек, попал в дурацкое положение, а теперь выдумывает всякие небылицы, чтобы оправдаться.
— Вы лучше скажите: нашли вы того, кого искали в горах?
Телогрейка отлетела в сторону. Человек поднялся, потянулся и хитровато посмотрел на меня серыми выпуклыми глазами. В ту же секунду я узнал его. Передо мной был Андрей.
— Кого я искал? — весело переспросил он. — Это как будто меня искали. И, как видите, нашли. Такой пес да чтоб не нашел!
Он приблизился к Караю. Тот завизжал, бросился к нему и положил на плечи передние лапы, пытаясь лизнуть в нос. Андрей отстранился.
Теперь он выглядел совсем иначе, чем при нашей встрече в горах. Вместо брезентовой куртки на нем была красная футболка с короткими рукавами. Чисто выбритое лицо словно еще больше помолодело. Он определенно наслаждался моим замешательством. Вероятно, весь мой вид свидетельствовал о крайней растерянности, потому что Андрей, взглянув на меня, засмеялся.
— Впору пришлись вам мои ботиночки? — лукаво спросил он.
Я все еще ничего не понимал. Собака его преследовала, теперь ласкается к нему. Если его поймали, то почему выпустили?
— Кто вы такой?
— До сих пор не угадываете? — с сожалением спросил Андрей. — Ну, вы сопоставьте факты. Вот один факт — собачку дрессирую. На ваших глазах знакомые ребята хотели у Карая отнять бумажник. Потом другой факт: я ушел в горы, а приятель, милиционер из здешнего отделения — вы его видели, — отправился с Караем спустя несколько часов, чтобы разыскать меня по следу. — Он чуть смущенно почесал затылок. — По правде говоря, не очень рекомендуется пускать молодую собаку по своему следу. Да мне хотелось узнать — найдет меня Карай в такой сложной обстановке или не найдет…
— Так кому же, в конце концов, принадлежит Карай?
— Карай — он мой пес, вернее сказать — доверен мне государством. Мы с ним находимся тут в командировке. А тот милиционер, который его вел в горах, — он одно время, еще когда жил в Ереване, в очередь со мной работал с этой собакой. Карай его хорошо знает. Ну, теперь делайте выводы.
— Вы собаковод?
Андрей гулко похлопал Карая по боку и отвязал цепь.
— Моя профессия называется иначе: проводник служебно-розыскной собаки, “проводник С.Р.С.”, как пишут в ведомости на выдачу зарплаты. — Он взял Карая за короткий поводок, скомандовал: — Рядом!.. Пойдемте, — сказал он мне, — наш самолет вывели на беговую дорожку.
И мы, приглядываясь друг к другу, пошли к самолету.
— Собака! — крикнул я.
— Конечно, собака, — спокойно сказал Сергей Вартанович. — Волк никогда не пойдет на костер.
Ева крикнула:
— Брысь!
Неудивительно, что мы приняли эту собаку за волка — она была действительно очень крупная, но не серая, как показалось нам вначале, а чепрачная: черная с блеском спина, ярко-рыжая грудь и оранжевого цвета лапы. Глаза, окруженные светлыми пятнами, похожими на очки, смотрели на нас без страха — со спокойной враждебностью. Уши, по струночке вытянутые кверху, все время шевелились, ловя каждый звук. Острая морда с высунутым языком и белыми клыками могла напугать кого угодно: пасть то и дело открывалась и закрывалась.
— Карай! — крикнул голос снизу. — Ко мне!
Пес осторожно потянул воздух и вдруг, пригнув голову к земле, стелющейся, неслышной рысью обежал всю нашу стоянку. Он явно чего-то искал здесь и не мог найти.
Семен Мостовой презрительно фыркнул:
— Мы его за серьезного зверя приняли, а он — Бобик из подворотни!
— Какой Бобик? — возмутился Эль-Хан. — Какой это Бобик? Ты, Семен, гляди хорошенько. Это служебная собака.
Пес обошел испуганную Еву, равнодушно пробежал мимо Мостового, который на всякий случай угрожающе выставил вперед посох. Возле меня пес остановился. Он уставился, на меня немигающими злыми глазами и тревожно трижды пролаял.
— Зверюга, — удивился я, — что это с тобой?
Поведение животных, если его не понимаешь, внушает тревогу. Вдруг этот пес ни с того ни с сего начнет кусаться? Мало ли что может прийти ему в голову! Я решил тихонько отойти в сторону, но пес грозно зарычал, обрекая меня на неподвижность. Его черный мокрый нос все время вздрагивал, шевелился. Он обнюхал мои башмаки и заскулил.
— Что это он? — спросил я жалобно.
— Он приказывает тебе стоять на месте, — глубокомысленно объяснил Эль-Хан.
— Это я и сам понимаю!
Семен Мостовой захохотал:
— Как видно, служебный Бобик нашел-таки преступника!
В это время к нашему костру подбежал запыхавшийся милиционер, худощавый и стройный парень, которому только форменная фуражка и темная гимнастерка придавали некоторую солидность. Он крикнул:
— Не бойтесь, граждане!
— Страха нет в моей душе, товарищ милиционер, — сказал Эль-Хан, — страха нет, поскольку этот пес атакует не меня, а всего лишь моего соседа.
— Ерунда! — Милиционер оглядывал нас всех поочередно и делал это так, словно фотографировал глазами: подержит одного человека несколько секунд под прицелом и отворачивается к следующему. — Никого он не атакует…
— Но вы все же уберите его куда-нибудь подальше, — попросил Сергей Вартанович.
— Карай, сидеть!
Пес послушно сел, не спуская с меня непримиримо враждебных глаз.
— На кого он лаял?
— На меня, — сконфуженно признался я.
— Он еще молодой пес, мы пользуемся каждым случаем, чтоб его подучить, — сказал милиционер, держа меня под прицелом своих внимательных черных глаз. — Может быть, вы замахнулись на него?
— Замахнулся! Мне еще жизнь не надоела.
Милиционер, наконец, отвел от меня глаза и зорко оглядел нашу стоянку.
— Вы не видели здесь человека в брезентовом костюме?
Сергей Вартанович нахмурился и сказал, что такой человек здесь недавно был, но ночью ушел, оставил одному из нас свою обувь, а чужую надел.
— Ага! — с торжеством воскликнул милиционер. — Тогда ошибки нет: Карай лаял на эти ботинки… А сам, вы говорите, надел чужую обувь? Хитро сделано! Другая обувь — другой запах. — Он прицепил к ошейнику собаки длинный поводок. — Не волнуйтесь, товарищи! Чьи ботинки унес тот человек?
— Мои, — сказал я, отстраняясь, потому что пес стал чересчур внимательно меня обнюхивать и рычать при этом. — Но вы объясните, пожалуйста, что случилось?
— Ищем одно лицо, — нехотя проговорил милиционер. И спросил, склонившись к собаке: — Найдем, Карай?
Пес отрывисто залаял. Это прозвучало как ответ: “Найдем”.
— Вперед, Карай!
Собака рванулась на тропинку, милиционер побежал за ней. Минуту спустя они скрылись за выступом скалы.
Мы в недоумении смотрели друг на друга. Сергей Вартанович выпятил свои толстые губы. Это означало, что он напряженно думает. В его деятельном уме, очевидно, рождалась какая-то догадка, которая должна была нам все объяснить. Эль-Хан пыхтел и пожимал плечами, он ничего не мог понять.
— Ну, — заговорил Семен Мостовой голосом мудреца, презирающего тупость окружающих, — теперь я могу вам раскрыть профессию этого Андрея и могу объяснить, для чего ему нужны сильные руки и особенно быстрые ноги… В горах наш профессор Сергей Вартанович познакомился с жуликом, а может, этот человек еще и похуже, чем простой жулик. И профессор дал обвести себя вокруг пальца. Привел жулика сюда, к нам. Мы не обворованы только потому, что этого темного человека преследуют, и он торопился скрыться.
— Все ясно! — Профессор Малунц сконфуженно улыбнулся. — Готов нести наказание за ротозейство.
— Ничего не ясно! — враждебно сказала Ева. — И он не жулик! Пожалуйста, не говорите! Вы ничего не понимаете.
Все посмотрели на нее с удивлением. Кажется, один только я уяснил себе причину ее запальчивости.
— Вы можете разбить эту логическую схему? — холодно усмехнулся профессор Малунц.
— Могу!
— Разбейте, пожалуйста.
— Просто он не такой человек, как вы говорите.
— Очень убедительно! — Сергей Вартанович поклонился и приложил руку к груди.
— Однако, — вмешался Семен Мостовой, — последнее слово в этом споре скажет служебный Бобик. А какое это будет слово — мы никогда не узнаем…
Вот так разговаривая, мы тронулись в путь. Вспоминали, что говорил и как держался этот Андрей и как ловко он всех нас обманул.
Теперь мы шли вниз по крутой горной тропке. Проклятый рюкзак становился все тяжелее. Слева возвышалась скала, закрывающая половину неба, справа зияла пропасть — упадешь, и костей не собрать. Под нами были леса, и мы видели просеки — следы недавних лавин.
В середине дня мы вышли на более широкую дорогу. Потянулась линия телеграфных столбов. На одном из них сидел горный орел. Большая птица нахохлилась, наклонилась вперед, прикрыв круглый злой глаз голым веком.
Галина Забережная остановилась, помотала в восхищении головой и проговорила:
— Ах, Кавказ!
К вечеру на случайной машине мы добрались до маленького города — одного из центров Зангезура.
В горах нас окружала величественная тишина. Скалы такие огромные, пропасти такие глубокие, тысячелетиями там господствовало безмолвие, наши голоса словно растворялись в воздухе — они были чуть слышны. Теперь же мы попали в удивительно шумный, веселый городок. Тротуары выложены большими плитами. Вдоль тротуаров по узеньким канавкам с журчанием устремляется вода, весь город наполнен этим журчанием. Тепло, но не душно. Из глубины ночи доносятся голоса, под электрическим фонарем на перекрестке мелькнет то белое платье, то мужская соломенная шляпа. Возле своих домов на складных табуретах, а то и прямо на тротуарах сидят мужчины и играют в нарды. Игральные косточки со стуком падают на доску.
Но из всех звуков самым громким является звук песни. Репродукторы, установленные на железных столбах, разносят по всему городу песню о журавле, летящем на родину. А из всех запахов, которыми дышит город, самым могучим является запах яблок. Потому что за каждым домом есть сад и из каждого сада тянет на улицу свои ветви яблоня.
Первым делом мы все пошли в баню. И никогда прежде баня не казалась мне такой благотворной, а горячая вода такой живительной, как после этого похода. Надевая в предбаннике желтые ботинки, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Мало ли в Армении черных глаз, но эти черные глаза показались мне знакомыми. Милиционер, хозяин Карая, стоял у входа в парное отделение с мочалкой в руке.
— Как дела? — крикнул я. — Удачным был ваш поиск в горах?
— Кое-какие успехи имеются, — загадочно ответил он и ушел мыться, помахав на прощание мочалкой.
“Ну, поймал!” — решил я и все вспоминал этого Андрея и думал, что вот как бывает: столкнет нас жизнь на мгновение с каким-нибудь человеком, а дальше он исчезнет из виду навсегда, и уж больше о нем ничего не узнаешь. Кто он, этот Андрей? Как жил до встречи с нами? Почему его выслеживал милиционер с собакой?
После бани мы устроили совещание. Тут окончательно выяснилось, что наша группа распадается. Ева хотела с месяц поработать в больнице этого маленького городка, считала, что будущему врачу (она училась в медицинском институте) очень полезно увидеть как можно больше больниц и амбулаторий. Галина Забережная получила на почтамте письмо, которое пришло сюда “до востребования”. Друзья по заводу сообщали ей, что в цехе устанавливаются новые станки отечественного производства. Ей хотелось поскорее попасть в Москву, чтобы начать работать на новом станке. Семен Мостовой торопился в Одессу: его теплоход уходил в большое заграничное плавание. Эль-Хан и Сергей Вартанович решили пешком идти дальше — до лагеря какой-то горной научной экспедиции, которую возглавлял профессор Малунц. Эти два человека, кажется, очень понравились друг другу. На мое имя пришла телеграмма из Еревана: вызывал редактор газеты, в которой я работал.
Мы переночевали в гостинице, все номера которой выходили на шаткую дощатую веранду. Утром, попрощавшись с товарищами, я пошел на аэродром. Самолет в Ереван уходил через час.
— Погуляйте пока, — приветливо сказал мне дежурный.
Я обогнул ограду и пошел в поле. Лягу на траву, погреюсь на солнышке, оно утром ласковое, раскрою книгу, а там уж и время подойдет.
Но одно обстоятельство изменило мои намерения. Я услышал грозный собачий лай и пошел на этот звук, приминая ногами густую траву.
Собака с ярко-рыжей грудью и острой мордой была привязана к столбику. Она сидела, выставив вперед могучую грудь, и чуть шевелила по земле хвостом. Перед ней на траве лежали бумажник и ручные часы — лежали, словно на прилавке магазина. Как я понял, пес охранял эти вещи. Я и раньше слышал, что обученная собака хоть целый день будет самоотверженно нести свою сторожевую вахту, но считал все это пустыми россказнями. Теперь я видел это собственными глазами. И в какой момент я попал! Бедному псу приходилось туго. Два парня подозрительного вида пытались завладеть вещами. Один из них — в клетчатой рубахе — подтаскивал к себе бумажник длинной, гонкой палкой. Другой отвлекал пса резкими движениями и выкриками.
“Да ведь это Карай! — подумал я. — Но где же его хозяин?!” И тут я увидел, что в стороне, на траве, лежит какой-то человек, укрывшись с головой ватной телогрейкой. Вот он где, черноглазый милиционер, хозяин Карая! Набегался, устал и спит теперь, а Карай за него отдувайся.
— Эй, что вы делаете! — крикнул я, подходя ближе.
Увидев меня и приняв еще за одного врага, пес непримиримо залаял, заскулил, вытянув морду в сторону своего беззаботного хозяина. Но тот даже не шевельнулся под ватной телогрейкой.
Парень в клетчатой рубахе встретил меня веселой улыбкой.
— Не шуми, — дружелюбно приказал он, — тут наш дружок спит, не мешай ему. Мы над ним подшутим.
— Какие ж это шутки — дразнить собаку?
— Да вот шутим, как умеем. — И он снова взял палку.
Пес рычал. Он зорко глядел на врагов. Подняв верхнюю губу, показывал страшные клыки. Один из парней быстро продвинул палку вперед, другой в это время затопал ногами. Карай, ощетинившись, рванулся на всю длину своей цепи. Казалось, он забыл про вещи, которые должен был охранять.
— Ох! — Парень взмахнул рукой.
Теперь Карай налетел на второго своего врага — и как раз вовремя: схватил палку и вмиг перегрыз ее пополам.
— Вот черт! — сказал парень в клетчатой рубахе и, подняв с земли пиджак, накинул его на плечо.
— Оставьте в покое эту собаку! — потребовал я.
— Да уж и так оставляем…
Карай внимательно смотрел на нас и время от времени трогал лапой бумажник — будто хотел убедиться, что выполнил свой долг.
— Мы уходим, — проговорил один из нападавших, неизвестно к кому обращаясь. — Пусть с этой собачкой кто-нибудь другой поиграет. К ней с пулеметом надо подступать.
И они пошли к аэродрому, посмеиваясь и переговариваясь.
Милиционер все еще спал под телогрейкой. Теперь я остался один с глазу на глаз с собакой. Наконец я смог как следует ее рассмотреть. Красавец зверь! Шерсть густая, чистая, блестящая; глаза овальные, черные, небольшие, но удивительно сторожкие, лапы — толщиной каждая в мужскую руку; посадка головы горделивая; спина широкая, как гладильная доска.
Карай проводил взглядом своих врагов, деланно зевнул и улегся на траву, положив острую морду на вытянутые лапы. Меня он, видимо, разгадал: я не представлял серьезной опасности.
— Ты собачка хорошая, — сказал я ему, — но хозяин у тебя неважный. В этом смысле тебе не повезло.
— Чем это не угодил вам его хозяин? — послышался вдруг насмешливый голос из-под телогрейки.
Ага, проснулся милиционер.
— Что ж вы бросаете свою собаку на произвол судьбы?
— И не думал бросать. Ложное обвинение.
— Как же ложное, когда я собственными глазами видел: тут двое каких-то пытались вас обокрасть!
— Да это знакомые ребята с аэродрома.
— Рассказывайте! Зачем же они хотели стянуть ваш бумажник?
— А я сам попросил, чтоб они это сделали. Ну где вы видели, чтобы человек, ложась спать, выставлял наружу ценные вещи?
Конечно, я не мог поверить ему. Заснул человек, попал в дурацкое положение, а теперь выдумывает всякие небылицы, чтобы оправдаться.
— Вы лучше скажите: нашли вы того, кого искали в горах?
Телогрейка отлетела в сторону. Человек поднялся, потянулся и хитровато посмотрел на меня серыми выпуклыми глазами. В ту же секунду я узнал его. Передо мной был Андрей.
— Кого я искал? — весело переспросил он. — Это как будто меня искали. И, как видите, нашли. Такой пес да чтоб не нашел!
Он приблизился к Караю. Тот завизжал, бросился к нему и положил на плечи передние лапы, пытаясь лизнуть в нос. Андрей отстранился.
Теперь он выглядел совсем иначе, чем при нашей встрече в горах. Вместо брезентовой куртки на нем была красная футболка с короткими рукавами. Чисто выбритое лицо словно еще больше помолодело. Он определенно наслаждался моим замешательством. Вероятно, весь мой вид свидетельствовал о крайней растерянности, потому что Андрей, взглянув на меня, засмеялся.
— Впору пришлись вам мои ботиночки? — лукаво спросил он.
Я все еще ничего не понимал. Собака его преследовала, теперь ласкается к нему. Если его поймали, то почему выпустили?
— Кто вы такой?
— До сих пор не угадываете? — с сожалением спросил Андрей. — Ну, вы сопоставьте факты. Вот один факт — собачку дрессирую. На ваших глазах знакомые ребята хотели у Карая отнять бумажник. Потом другой факт: я ушел в горы, а приятель, милиционер из здешнего отделения — вы его видели, — отправился с Караем спустя несколько часов, чтобы разыскать меня по следу. — Он чуть смущенно почесал затылок. — По правде говоря, не очень рекомендуется пускать молодую собаку по своему следу. Да мне хотелось узнать — найдет меня Карай в такой сложной обстановке или не найдет…
— Так кому же, в конце концов, принадлежит Карай?
— Карай — он мой пес, вернее сказать — доверен мне государством. Мы с ним находимся тут в командировке. А тот милиционер, который его вел в горах, — он одно время, еще когда жил в Ереване, в очередь со мной работал с этой собакой. Карай его хорошо знает. Ну, теперь делайте выводы.
— Вы собаковод?
Андрей гулко похлопал Карая по боку и отвязал цепь.
— Моя профессия называется иначе: проводник служебно-розыскной собаки, “проводник С.Р.С.”, как пишут в ведомости на выдачу зарплаты. — Он взял Карая за короткий поводок, скомандовал: — Рядом!.. Пойдемте, — сказал он мне, — наш самолет вывели на беговую дорожку.
И мы, приглядываясь друг к другу, пошли к самолету.
ИСПЫТАНИЕ
В этот воскресный день я собирался с утра поехать на высокогорное озеро Севан. На побережье было много интересного для журналиста. Под землей, на большой глубине, работали агрегаты Озерной гидроэлектростанции — первой ступени севанского каскада. Рыбные заводы выращивали в искусственных условиях молодь форели и выпускали в водную глубь миллионы мальков. А посредине озера на куполообразном острове, похожем на погруженный в воду футбольный мяч, открылись этим летом новые дома отдыха, и сюда приехали на лето люди со всех концов страны, даже с Дальнего Востока. Но я не успел выйти из дому вовремя. Ко мне пришел Андрей. Он был в белом выходном костюме, свежевыбритый и усталый. Походил по комнате, неловко переставляя ноги в новых коричневых туфлях, потрогал книги на этажерке. — Надо сделать одно дело, — сказал он строго и сжал в воздухе кулак. Мы с Андреем в последнее время очень подружились. Как-то встретились в публичной библиотеке; вечер у обоих был свободный — вместе пошли в кино. Затем, уже заранее сговорившись, ловили форель на реке Зангу. Участвовали в городском шахматном турнире, где, впрочем, ни одному из нас не удалось занять призовое место. А совместные неудачи, как известно, тоже сближают людей. — Что случилось? — спросил я. — Понимаешь, Костя, я чувствую, что в моих руках серьезная ценность: Карай! Такой собаки никогда прежде в нашем питомнике и не бывало. Может, ты мне не веришь? — Нет, верю, верю! — горячо отозвался я. И правда, я верил, что Карай — необыкновенная собака, с большим будущим. — Но сегодня ночью Карай провалился. — Карай? Ты выдумываешь! Андрей усмехнулся. Многое должна была сказать мне его усмешка. — Я всю ночь не спал, — сообщил он. — Ты расстроился? Нет, он не расстроился. Он устал. В питомнике проводились испытания. Привезли собак из всех районов. А недели две назад доставили нового пса, по кличке “Маузер”. Странная кличка, но она должна обозначать, что собака действует так же точно, безошибочно, как пистолет этой системы. Маузера отдали Геворку. — Геворку? — переспросил я. — Почему не тебе? Разве это справедливо? Андрей внимательно посмотрел на меня, как бы удивляясь, что я не понимаю таких простых вещей. — Во-первых, — терпеливо сказал он; — я Карая менять не собираюсь, хотя бы мне давали взамен него другую собаку из чистого золота. Во-вторых, — тут он поднял кверху палец, — это сделано по личному распоряжению капитана Миансарова. В питомнике я еще не бывал ни разу, но имя капитана Миансарова знал хорошо. Капитан был там начальником. Андрей считал его самым справедливым человеком на свете. Так что, если новая собака отдана Геворку капитаном Миансаровым, — значит, говорить больше не о чем! — Что ж, — заметил Андрей, — у Геворка есть чему поучиться! О Геворке я слышал очень много всякого. Сейчас он являлся непосредственным начальником Андрея и свою новую собаку также решил проверить в испытаниях, на которых провалился Карай. Испытания были трудные и проводились по обширной программе. Карай и Маузер шли вровень до самого последнего этапа. В заключение определялась чистота работы собаки по следу. Пятнадцать человек — среди них был и Андрей, он шел впереди — отправились в лес; двигались гуськом: идущий сзади должен был точь-в-точь наступать на след шагающего впереди. Таким образом, след Андрея был затоптан четырнадцатью парами других ног. У самого леса Андрей и с ним еще семь человек свернули влево и точно так же, как ранее — след в след, — углубились в заросли деревьев. Остальные семеро продолжали путь в противоположном направлении. Обе группы тщательно спрятались. Затем выпустили Карая. Ну-ка, пес, найди хозяина! Карай быстро разыскал начало следа и, уткнув нос в землю, пошел виражами к лесу. Но, когда след раздвоился, он заскулил и сел. Кто знает, что с ним произошло, но он не нашел хозяина. А новая собака хорошо почуяла след Геворка и обнаружила кустарник, где он спрятался. И она взяла на испытаниях первое место, а Карай — только второе… — Ну, второе! Это же не значит, что Карай провалился. — Может быть, Карай не виноват, — смущенно проговорил Андрей, — а все это моя вина. Я иду, например, с ним на поиск, и он находит. А может, у него не отработана точность и он чует лишь общее направление? Я ведь не всегда имею возможность его контролировать. Возможно, преступник два часа стоит в каком-нибудь парадном, а потом идет дальше, но Карай даже не забежит в это парадное, а прямо тянет по следу, как будто след не прерывался. И тем самым он не дает мне полной картины. Все может быть! Андрей пошел в ванную, открыл кран, вылил себе на голову ведра два воды, вернулся и сказал, отфыркиваясь: — Удивительная все же эта новая собака! — Хорошая? — Этого я не знаю. Могу только повторить, что удивительная. Правда, люди утверждают, что она в таких делах давно натренирована. А Карай — он что? — молодняк! Но этот Карай еще себя покажет! Он вытерся мохнатым полотенцем и сказал, как будто мы обо всем уже условились: — Ну, собирайся, Костя! — Куда? Я на Севан хочу съездить. — Пойдем, я познакомлю тебя с Геворком. И, может быть, ты даже увидишь эту новую собаку… Устоять перед таким искушением я не смог. Питомник помещался далеко за городом. Сквозь ограду чугунного литья, увитую плющом, были видны различные сооружения, напоминающие спортивную площадку. Среди деревьев стояла лестница со спуском на обе стороны; в аллее я увидел бум — толстое бревно, установленное на распорах в полутора метрах от земли. Собак в питомнике содержали в вольерах с дверцами из проволочных переплетений. Собаки лаяли, били лапами по сетке. Мы быстро прошли мимо них. Чисто выметенная дорожка привела нас на круглую площадку. Андрей схватил меня за руку: — Смотри! Перед барьером с вкладными досками — высоту можно было увеличивать или уменьшать по желанию — спиной к нам стоял человек. Мне бросилось в глаза, что у него очень широкие плечи. Крепкая, дочерна загорелая шея подпирала плоский, аккуратно подстриженный затылок. — Это Геворк, — шепнул мне Андрей. В трех шагах от барьера в безразличной позе сидела черная собака. Человек молча вытянул руку, собака поднялась и без видимых усилий, без разбега, перемахнула через двухметровый барьер, только на секунду зацепившись когтями передних лап за край верхней доски. — Видел? — шепотом спросил Андрей. — Вот это легкость! Собака обогнула барьер и вернулась к дрессировщику. Да, она была побольше Карая. Каждый любитель-собаковод с первого взгляда почувствовал бы в ней породу. Пушистый черный хвост спускался чуть ниже скакательного сустава, грудь была могучая, широкая, движения лениво-вкрадчивые. Но морда меня несколько разочаровала: при очень маленьких глазках она казалась слишком уж заостренной, вытянутой и отличалась тем особенным лисье-шакальим выражением, которое иногда встречается у овчарок и бывает тем отчетливее, чем меньше люди с ними занимаются. Карай безусловно красивее! — Говоришь! — пожал плечами Андрей, выслушав мою оценку. — Говорить все можно. Но я видел, что он доволен и готов слушать похвалу своему Караю без конца. А мне хотелось хвалить Карая. И я повторил: — Карай куда красивее! — Ладно, будет тебе, ценитель! — проворчал Андрей. Мы пошли к барьеру. Собака не обратила внимания на наше появление. Она угрюмо смотрела своими маленькими глазками то на барьер, то на руку хозяина. Для нее во всем свете сейчас только и существовали эти две вещи: рука хозяина, которая должна была подать сигнал к прыжку, и барьер, который предстояло перепрыгнуть. Геворк обернулся нам навстречу — невысокий, но очень плотный человек; такие часто бывают силачами. Вьющиеся черные волосы стояли надо лбом стеной. У него были удивительные глаза. Такие глаза иногда рисуют куклам: в полукружиях мохнатых густо-черных бровей и ресниц на широком лазурном поле сидели черные лакированные пуговки. При первом знакомстве всегда хочется сказать человеку что-то приятное. И я, покривив душой, сказал: — Замечательная у вас собака! И рослая какая! — А по мне, пусть будет хоть на воробья похожа, абы нюхать умела, — презрительно проговорил Геворк. — Ну, эта, правда, нюхает подходяще. Он толкнул собаку сапогом и небрежно бросил: — Барьер! И опять собака легко прыгнула через двухметровый барьер и медленно вернулась на место. — Послушная! — восхитился я. — Вернулась и сразу села! — У нее сзади есть местечко, называется “круп”. Будете хорошо нажимать на круп — всегда увидите послушание, — снисходительно разъяснил Геворк. — У них же разума нет, а только одни рефлексы, как доказывается наукой. Он снова движением руки послал собаку взять барьер. Затем кинул на пригорок палку, утолщенную с обоих концов, и громко скомандовал: — Маузер, апорт! Собака устремилась за палкой. Она бежала быстро, хорошей машистой рысью, но делала это, как, впрочем, и все другое, без огонька. Послушно, но без внутреннего желания, без интереса. Геворк выбросил правую руку вперед выше уровня плеча, и, повинуясь этому жесту, собака уселась на пригорке, шагах в тридцати от нас, все еще держа в зубах палку. — Маузер, брось! Собака разжала зубы, палка покатилась с пригорка вниз. — Великолепно! — сказал я, и на этот раз совершенно искренне. Геворк мимолетно взглянул на меня и снова повернулся к собаке. — Маузер! — грозно позвал он и указал пальцем на меня. — Фас! Команда “фас” означает “возьми”. На эту команду служебная собака должна реагировать без промедления. Черное чудовище с устрашающим рычанием понеслось прямо на меня. — Что вы делаете! — закричал я, отступая к барьеру. Андрей нахмурился и со словами: — Геворк, оставь это дело, — шагнул ко мне и стал рядом. Геворк усмехнулся. Черная собака приближалась огромными прыжками. Ударит с ходу передними лапами в грудь — любого собьет с ног. — Только не беги, — прошептал Андрей, удерживая меня на месте своей крепкой рукой. — Маузер, сидеть! — приказал Геворк. И в ту же минуту собака остановилась, притормозив задними лапами. Она почти что ткнулась мордой мне в грудь и сразу отвернулась. Я не увидел в ее глазах ни злости, ни ненависти. Она выполняла приказ — и только! Приказ изменился, и весь ее интерес ко мне тотчас пропал. Медлительный зевок раздвинул огромные челюсти, а затем они со стуком сомкнулись, хлопнув, как крышка вместительного чемодана. — А вы все же испугались, — насмешливо сказал Геворк. — Неужели я такой уж глупый, что стану на людей натравливать! Это было испытание дисциплины для Маузера. Я все еще не мог прийти в себя и пробормотал что-то невразумительное: дисциплину, мол, испытывайте как-нибудь иначе… Геворк не дослушал меня: — Маузер, место! Черная собака неторопливо пошла в свой вольер, угрюмо улеглась на подстилку из соломы. Теперь Андрей выпустил на выгул Карая. Пес давно уже учуял присутствие своего хозяина, возбужденно лаял и нетерпеливо бил рыжей лапой по проволоке. Когда Андрей стал отворять дверцу, пес протиснулся в узкое отверстие, обдирая бока. — Подожди, открою, — ворчал Андрей. Но Карай, заложив уши на затылок, уже носился около вольера взад и вперед, посматривая на хозяина озорным золотистым глазом. Вдруг он прыгнул — прямо-таки взвился в воздухе — и лизнул Андрея от подбородка к носу, оставив на лице мокрый след. — Заиграл, заиграл, дурень, — счастливым голосом проговорил Андрей, утираясь рукавом белой рубахи. Геворк сказал осуждающе: — Вот тут бы и стегануть его как следует! Между тем Карай подхватил молодое деревце с ветками и листьями, видимо недавно срубленное, и потащил его в зубах. Он то подкидывал деревце кверху, то волочил по земле. — Молод еще! — Андрей явно любовался им. — Молод-то он, конечно, молод, — возразил Геворк, — но, во всяком случае, глуп… Барьер! — крикнул он. Служебная собака не имеет права выполнять распоряжения посторонних. Карай бросил деревце и насторожился. — Реагирует, — пренебрежительно сказал Геворк. — Маузер, тот никакого бы внимания не обратил. Андрей чуть слышно, почти шепотом, приказал: — Карай, барьер! И, хотя мы стояли тесной группой, пес тотчас различил голос хозяина и помчался со всех ног кбарьерному щиту. Он легко оттолкнулся от земли задними лапами, взлетел на воздух, мигом очутился по другую сторону щита и весело подбежал к Андрею, всем своим видом как бы говоря: “Ну, что еще надо сделать? Я готов!” Андрей повел его обратно к вольеру, повторяя: — Место! Место! Пес шел нехотя и скулил. Геворк стоял, широко расставив ноги, и смотрел им вслед. — Слаба, слабовата дисциплина! — Может, вы и правы, — заметил я, — но все же, какой чудесный пес, согласитесь! — А чем именно чудесный? — Ну, красавец, умница, преданный! — Красота в нашем деле роли не играет; преданность — это ерунда; нужно послушание, а не преданность; а насчет ума — так это даже смешно слышать от культурного человека. Андрей вернулся к нам очень возбужденный и вместе с тем какой-то сияющий. — На капитана Миансарова наскочил, — зашептал он. — Иду и, как на грех, разговариваю с Караем, а капитан навстречу. “Очеловечиваете собачку, лейтенант Витюгин!” И начал, как по книге: “Разговор с собакой затрудняет, чтоб вы знали, выработку условных рефлексов. Звуки команды у вас смешиваются с лишними словами. А лишние слова, к вашему сведению, вызывают ориентировочную реакцию, собака как бы спрашивает: "Что такое?“- и тормозит выполнение приказа. Ясно вам? Чтоб этого больше не было!” Я проглотил замечание и молчу. Он осмотрел Карая. “Добрый пес, — говорит. — Ты не переживай, Витюгин, что на испытаниях он взял второе место. Дай срок, этот пес самого Маузера обставит!” — Интересно! — Геворк блеснул своими лакированными глазами. — А мне говорит: “Твой Маузер не только в нашем питомнике, он и в Москве всегда будет первым”. — Ну и что? — Андрей взял Геворка за руку. — Маузер замечательный в работе, что и говорить! Но и то, что капитан Миансаров высоко оценил Карая, — это тоже чего-нибудь стоит. У нашего капитана ласкового слова, как у зимы солнышка, не скоро допросишься. — Ладно, — сказал Геворк, — пусть так и будет. Капитан хитрый, знает, кому что говорить… — Он повел на меня глазами-пуговками. — Ты объяснил уже товарищу про наши планы? — Нет. — Андрей вдруг взял меня за плечо. — Слушай, Костя, помоги нам по дружбе, помоги проконтролировать Карая! Геворк побудет в твоей квартире, потопчет там, потом вы вместе выйдете, и ты посмотришь, как Геворк проложит след, затем вернешься к себе. Ты не будешь знать, где Геворк спрячется. Ближе к вечеру я приду к тебе с Караем. Из твоей квартиры мы пойдем на поиск Геворка — ну, будто он преступник, который обобрал твою квартиру. И ты будешь мне говорить, какие ошибки и в каком месте делает мой Карай. Согласись, друг! — попросил он горячо. Я согласился. Геворк пробыл у меня недолго, выпил пива и после этого стал называть меня на “ты”. — Вот видишь, — сказал он, — как это плохо, когда человек чересчур предан своему делу. Воскресенье, все люди отдыхают, а у бедного Геворка опять одна думка: дело поднять, свой богатый опыт другим передать… И он стал мне рассказывать, какой у него большой опыт. Его приглашает иногда для консультации сам полковник. В министерстве очень видные люди уважительно называют его: “Товарищ офицер, Геворк Айрапетович!” Он дважды повторил, что является прямым начальником Андрея и мог бы более строго к нему относиться. Ну, да уж ладно! — А что, разве Андрей плохой работник? — спросил я. — Работник хороший, но только фантазии много. Перед уходом Геворк деятельно потоптал мой ковер. — Для Маузера, — объяснил он, — достаточно было бы просто войти и тут же выйти, а для Карая надо посильнее след оставить… Он потрогал еще мое одеяло, какие-то вещи на этажерке, и мы вышли на улицу. Как заранее было условлено, он зашагал по одной стороне, а я — по другой, стараясь запомнить все до мельчайших подробностей: по какому краю тротуара Геворк идет, где останавливается. Вот он прислонился к стене дома и зашаркал ногой по асфальту, оставляя метку. Какая-то женщина испуганно бросилась в сторону, приняв его за пьяного. — Наблюдай, присматривайся! — крикнул он мне и завернул в парадный вход большого дома. Там он пробыл недолго и, появившись на улице, опять приказал мне: “Запоминай!” На углу в киоске у старика продавца в барашковой папахе он купил пачку папирос. После этого вошел в сквер, побродил по его аллеям и направился за город — на пустырь. Я все время следовал за ним и делал отметки в блокноте. — На свою память, значит, не надеешься! — осуждающе проговорил Геворк. Он дошел до края пустыря и повернул обратно, под острым углом. Тут он сказал мне с некоторой долей злорадства: — Посмотрим, как этот ваш превосходный Карай будет прорабатывать острые углы! Мне уже было известно от Андрея, что работа по следу на острых углах для молодой собаки всегда затруднительна. Собака горячится, не доходит до конца угла и срезает его — она чувствует более сильный запах с ближайшей линии следа. Обычно от собаки не требуют полной и детальной проработки острых углов. Но проводники знают: высший шик состоит в том, чтобы ищейка все же дошла до конца следа — до вершины острого угла — и только после этого точно показала изменившуюся линию. — Маузер классно показывает острый угол, — не преминул сообщить Геворк, — словно тушью на бумаге вычерчивает! Мы вернулись в город по другой улице. Тут Геворк отпустил меня. Оказывается, я не должен был знать, куда он пойдет дальше, а то вдруг скажу Андрею и испорчу все дело. Я вернулся домой, полез под холодный душ и лег спать. Пропала моя чудесная поездка на Севан! Под вечер пришел Андрей. Карая он держал на коротком поводке. Пес вел себя совсем иначе, чем днем. Его привели работать, и он знал это. Не осталось и следа прежней оживленности — он был подтянут, напряжен и зол. Меня он как будто даже и не заметил, хотя, по моим представлениям, он пришел ко мне в гости. Желая улучшить или хотя бы закрепить наши былые отношения, я льстиво назвал его “собаченькой” и положил перед его мокрым черным носом горбушку копченой колбасы. Я сам с удовольствием съел бы эту горбушку. Пес с презрением отвернулся. — Трудно будет, — вздохнул Андрей, — ведь солнце, жара. На асфальте запахи долго не держатся… — Он озабоченно показал Караю на ковер под ногами, все еще, оказывается, хранивший следы Геворка, и сухо приказал: — Карай! След! Карай потянул носом. Шерсть на загривке стала приподниматься — верный признак большого возбуждения. Он с шумом вбирал в себя запахи, будто хотел вместе с ними втянуть в себя и весь мой ковер. Андрей наклонился к нему: — Найдем, Карай? Пес гулко пролаял два раза. — Это я его приучил, — сказал Андрей. — Мы с ним всегда так начинаем работу, хотя меня и поругивают за это, говорят — “лишнее”. — Он махнул рукой, предлагая мне отойти в сторону, и распорядился: — Открой дверь! Тут он отстегнул короткий поводок и заменил его длинным, пятнадцатиметровым тесьмяным шнуром, свободный конец которого намотал на левую руку. Служебная собака всегда должна идти с левой стороны от своего хозяина. Карай рванулся в открытую дверь и помчался вниз по лестнице, увлекая за собой Андрея. Я захлопнул дверь и побежал их догонять. Когда я выскочил из парадного, они уже перебегали улицу. Поводок был отпущен на половину своей длины. Карай сильно тянул, прижимая нос почти к самому тротуару. Несмотря на то что прошло уже немало времени, он хорошо чуял след и с таким рвением втягивал в себя запахи, что бока у него раздувались. У огороженного забором участка нашей улицы ему попалась желтая кошка — не успела вскочить на забор. “Конец тебе, кошка!” — подумал я. Она отчаянно зашипела, готовясь к обороне. Карай, кажется, ее даже не заметил. Повернув за угол, он толкнул женщину с кошелкой. — Боже мой! — прошептала женщина, прижав кошелку к сердцу. Карай и на нее не обратил внимания. Но Андрей, пробегая мимо, бросил: — Прошу прощения! Двое мужчин стояли на тротуаре лицом к лицу и разговаривали. Карай вклинился между ними — что делать, такова была линия следа! — растолкал их своими крутыми боками; и они в ужасе отпрянули друг от друга. — Виноват! — четко проговорил Андрей, пробегая вслед за Караем. Я тоже бежал, я спешил изо всех сил. Люди останавливали меня, спрашивали: “Что случилось?” Мне некогда было давать им объяснения. Обернувшись, я увидел, что за мной устремляется орава мальчишек. Они не могли упустить такое событие.
— Сыскная собака! — кричали они. — Овчарка! Ищейка!
Я услышал, как один из них разъяснял прохожим.
— Жуликов ловим — ограблена аптека!
Про аптеку он говорил, вероятно, потому, что никакого другого более внушительного учреждения на этой улице не было.
Мне стало стыдно: взрослый человек, уже волосы седеют — и бежит в толпе мальчишек. Я потихоньку начал отставать.
— Э-гей, контролер! — крикнул Андрей. — Правильно ли мы идем?
Этот призыв вернул меня к исполнению обязанностей. Действительно, взялся контролировать, ну и контролируй!
— Пока правильно, — сообщил я.
На счастье, постовой милиционер задержал мальчишек, полагая, что происходит серьезный поиск и они мешают важному делу.
Парадное большого дома, в которое заходил Геворк, Карай сгоряча проскочил — он сильно чуял продолжение свежего следа.
— Ну, вот видишь! — огорчился Андрей, когда я сказал ему об этом. — Практического значения, правда, это не имеет, особенно в данном случае, лишь бы тянул в нужном направлении, но ведь это значит, что у него, подлеца, нету точности.
Зато, когда Карай полез передними лапами прямо на прилавок табачного киоска и зарычал на перепуганного продавца — в этом киоске Геворк покупал папиросы, — Андрей обрадовался.
— Я ж тебе говорил, что это замечательный пес! Все чует! — Он приподнял фуражку и извинился перед продавцом.
Тот в ответ, ничуть не уступая Андрею в вежливости, приподнял свою барашковую папаху.
Мы быстро пробежали сквер. На пустыре Карай неважно проработал острый угол, но я не захотел огорчать Андрея и не сказал ему об этом. Дальше пошли места, для меня незнакомые. Моя контролерская деятельность кончилась. Но Карай уверенно тянул все вперед и вперед, и мы бежали за ним во всю прыть.
— Да придержи ты его немного, — сказал я Андрею, потому что уже начинал задыхаться.
— По инструкции не полагается придерживать, — тяжело дыша, заявил Андрей. Но все же подал команду: “Тише!”
Тут мы внезапно увидели, что опять, сделав круг, выходим к моему дому. Получалось что-то странное. Неужели Геворк спрятался где-то по соседству с моим жильем? Вы, мол, будете думать, что я за тридевять земель, а я у вас под боком! Но Карай промчался мимо моего дома и с прежней стремительностью рванулся, как нам показалось, по старому следу. Теперь он по временам глухо рычал, а шерсть то и дело приподнималась, топорщилась у него на загривке.
— Ничего не понимаю, — признался Андрей, подбирая поводок.
— Чего ж не понимать! У собаки плохое чутье, она сбилась со следа.
— Ну да, плохое чутье! А почему рычит?
— А почему трава растет? — возразил я. — Почему солнце светит? Собака для того и рождена, чтобы рычать.
— Но ведь в первый раз он шел здесь и не рычал!
— Так это он на себя злится, что оказался таким раззявой.
— Да нет же! — закричал Андрей и сияющими, совершенно счастливыми глазами посмотрел на меня. — Ты обрати внимание: он нюхает дерево. А раньше не нюхал — это что-нибудь да значит! И я тебе скажу, что это значит: Геворк прошел здесь второй раз с целью затруднить наш поиск. И он прошел не один. Если Карай рычит, то, следовательно, к Геворку здесь присоединился кто-то особенно неприятный для нашего Карая…
Такой ход рассуждений показался мне логичным. Мы с новой решимостью пошли за Караем и почти в точности повторили предыдущий маршрут. Но на этот раз наш пес забежал в парадное. Он обнюхал площадку за наружной дверью и злобно залаял.
— Чувствуешь? — сказал я. — Он исправляет свою ошибку. Он унюхал, что Геворк в первый раз заходил сюда, и сам тоже зашел.
Но Андрей озабоченно смотрел на собаку, обхватив широкой ладонью свой крутой подбородок.
— Твердо скажи, — потребовал он, — Геворк поднимался по лестнице?
— Нет, не поднимался.
— А Карай поднимается. И лает. Это означает, что Геворк был здесь и во второй раз и что второй след сильнее. Но вот что-то раздражает Карая, а что — я пока не пойму…
Мы вышли из парадного и двинулись дальше. Возле папиросного ларька Карай заскулил, бросился было вперед, потом вернулся и потащил нас вбок по темной, неприглядной уличке. Тут уж новый след окончательно разошелся со старым.
— Ну, не зевать! — скомандовал Андрей. — Когда мы были возле папиросного ларька в первый раз, Карай не сворачивал в эту уличку. И, значит, это свежий след, и проложен он Геворком совсем недавно. Мне вот что представляется: в тот момент, как мы вышли из твоего дома, Геворк был где-то позади нас. Может, он нас даже и видел. Затем он пошел за нами и не больше как минут десять назад свернул в эту уличку. Знаешь, как в сказке: охотник ходит за тигром, а тигр — за охотником…
Мы прошли еще несколько шагов. Внезапно Карай стал описывать круги, принюхиваясь теперь уже не к земле, а прямо-таки к воздуху — он все поднимал нос к небу. По объяснениям Андрея я понял, что это начало работать верхнее чутье.
— Геворк где-то здесь, близко! — возбужденно закричал Андрей.
Но, повертевшись на месте в течение нескольких секунд, Карай заскулил, подбежал к нам и ткнулся мокрым носом в ногу своего хозяина.
— Потерял след, — мрачно объявил Андрей.
Мы стояли неподалеку от киоска и с грустью смотрели на Карая. Становилось все темнее. Подул ветерок, который в Ереване обычно возникает с наступлением темноты. Сегодня ветерок немного запоздал и был пока еще легким и ласковым. Скоро он начнет дуть с ураганной силой, поднимая со всех тротуаров, пустырей и строительных площадок тучи пыли. Кажется, день был кончен…
— Можно идти домой? — спросил я.
— Перекурим это дело, — предложил Андрей и вытащил из кармана портсигар, до отказа набитый папиросами.
Мы закурили.
— Может быть, ты устал, — сказал Андрей, — так иди домой. А я намерен продолжать поиск.
Я чувствовал, что ноги меня не держат. Говорить о моей усталости, начиная этот разговор со слов “может быть”, было нелепо. Никаких “может быть”! Я на ногах не стою. Ужасно, просто невозможно устал…
— Я устал? — переспросил я презрительно. — За кого ты меня принимаешь? Я готов ходить по следам хоть всю ночь. Только вот вопрос: где эти следы?
Андрей быстро взглянул на меня, уловив, по-видимому, некоторое противоречие между моими словами и той интонацией, с которой они были произнесены.
— У нас, видишь ли, — начал он не очень уверенно, — есть две возможности: можно, раз уж след прервался, пустить Карая на свободный обыск местности. След может прерваться, если люди, например, сели в автомашину. Но где-нибудь они сойдут с нее! Где-нибудь след начнется снова! Верно, друг?
— Это и есть наша первая возможность? — грустно спросил я.
Андрей энергично задвигал скулами.
— Ох, Геворк! — сказал он. — Ну не может без хитростей! Ведь что-то каверзное придумал — и теперь рад.
— Что ж, — уныло предложил я, — пойдем обыскивать местность.
— Подожди… — Андрей перекатил папиросу из одного угла рта в другой. — Проводнику служебной собаки предписано в момент поиска поддерживать контакт с местным населением. Это наша вторая возможность… — И Андрей решительно направился к папиросному киоску.
— Две пачки “Авроры”! — потребовал он.
Продавец, старый человек с горбатым, очень внушительным носом, сидел возле киоска на раскладном стуле и неторопливо перебирал янтарные четки. Островерхая барашковая папаха была шире, чем его плечи. С такими папахами горцы не любят расставаться ни зимой, ни летом, ни в поле, ни дома. Продавец с интересом смотрел на Карая и на этот раз не испугался.
— Опять пришли? — дружелюбно спросил он.
— Да, мы пришли, — с достоинством ответил Андрей, начиная тот неторопливый разговор, который считается у кавказцев-стариков признаком хорошего тона.
Можно было подумать, что нам и вправду некуда торопиться.
— Ты, как видно, овец держишь? — спросил старик.
— Нет, я не держу овец, — терпеливо ответил Андрей.
— Но вот я вижу у тебя волкодава. Для чего тебе волкодав?
Старик, хотя и носил барашковую папаху, был, конечно, городским жителем. Настоящие горцы очень хорошо разбираются в собаках и ценят их. За хорошую собаку не пожалеют десятка баранов. Этот старик ничего в собаках не понимал, хотя вел разговор о них с большой важностью. Он сразу принялся называть нашего Карая неопределенным словом “это”.
— Чем “это” надо кормить? — спросил он.
— Мы кормим его по рациону.
— Очень хорошо кормить собаку по рациону, — мудро согласился старик. — А как “это” зовут?
Андрей ответил то, что всегда отвечал в таких случаях: Джульбарс. Капитан Миансаров считал, что настоящая кличка служебной собаки должна, по возможности, храниться в секрете.
— Это очень хорошее имя, красивое имя, — сказал старик.
Видно было, что перечень вопросов, которые он собирается нам задать, еще далеко не исчерпан.
Но ему помешали. Подошел молодой человек, чтобы купить пачку папирос.
— Удивляюсь я на таких покупателей, — говорил старик, получив деньги. — Приходит, берет, что нужно, и уходит. Нет того чтобы поговорить! А я много чего полезного помню — басни всякие, сказки, истории, случаи. От меня много чего можно узнать.
Я испугался.
— Скажите, пожалуйста, — торопливо начал я, — вы не видели тут одного человека…
Старик с неудовольствием посмотрел на меня и отмахнулся высохшей коричневой рукой.
— Я видел тут много людей! — отрезал он и снова обратился к Андрею: — Я мог бы не работать. У меня два сына — один инженер, другой учитель, они меня хорошо держат. Но мне скучно. И я рад, когда покупать папиросы приходят такие люди, как ты.
— Мне тоже приятно, — со вздохом сказал Андрей.
— Присядь… Сколько лет этой собаке?
— Два года.
Старик зацокал языком, как цокали когда-то извозчики, подгоняя лошадей. Этот звук в Армении выражает все: удивление, ужас, радость, злость. Дело только в том, как цокать. В глазах его впервые появилось живое любопытство, и после всех вопросов, заданных из вежливости, он спросил о том единственном, что его интересовало:
— А для чего тебе “это” надо?
Мне надоели расспросы. Вмешавшись в разговор, я сказал, что собаку мы откармливаем на мясо — к Новому году откормим и зарежем. Старик слушал, кивал головой и перебирал четки. Но Андрей сердито взглянул на меня.
— Это сыскная собака, собака-сыщик.
— Так, — сказал старик. — Из твоих ответов я вижу, что сюда пришли двое умных — это ты сам и твоя собака — и один глупый: это твой приятель. Его глупость заключается в том, что он думает, будто старый человек может поверить, что собаку откармливают на мясо.
Я молча проглотил этот комплимент.
— Теперь, — продолжал старик, — ты можешь задавать мне вопросы, так как я думаю, что ты хотел меня о чем-то спросить.
И Андрей спросил. Он задал вопрос, который своей определенностью удивил меня куда больше, чем старика:
— Недавно тут прошел человек с большой черной собакой. Куда они направились?
— Ты ищешь этого человека?
— Да.
— Ты кто?
— Ну, я, как видите, милиционер, — улыбнулся Андрей. — А этот человек, будем говорить, преступник.
— Для чего преступнику собака?
Андрей был удивительно терпелив. Он начал рассказывать старику всю историю, предшествующую нашему поиску.
— Я уважаю милицию! — Старик прижал руку к груди. — Человек, которого ты ищешь, пошел вон по той улице, но возле красного дома сел в машину и посадил туда свою черную собаку.
— Прервал след! — воскликнул Андрей.
— Что значит “прервал след”? — с любопытством спросил старик.
Боясь, что Андрей вступит по этому поводу в длительные разговоры, я сам взялся дать объяснение и ограничился буквально десятком слов. Как ни странно, старик выслушал меня благосклонно.
— Так, — протянул он, — но мне показалось, что в конце этой маленькой улицы тот человек вышел из машины вместе со своей собакой. И я подумал: “Разве стоило садиться в машину, чтобы проехать такое ничтожное расстояние?”
Через минуту мы уже бежали по улице к красному дому.
Карай делал свободные виражи на поводке, отпущенном во всю длину.
— Как ты узнал, что Геворк ведет с собой Маузера?
— Но ты же видел, как злился Карай! Такая реакция у него бывает только на собак, и то не на всех. А какая же собака может идти рядом с Геворком, если не Маузер?
Это было логично и убедительно. Но где он взял Маузера?
— А ему привели! Помощник привел из питомника. Я думаю, это было между ними заранее условлено. И знаешь, где они встретились? В том месте, где Карай в первый раз зарычал…
Мы пробежали всю улицу. В конце ее Карай начал принюхиваться и быстро нашел утерянный след. Теперь он вел нас по каким-то закоулкам. Вдруг он свернул в неприметную калиточку. Андрей еле сдерживал его. Мы оказались в темном саду. Пахло дозревающими персиками. Я шел почти на ощупь. Но вдали мелькнул свет. Карай ринулся вперед. Андрей что-то закричал, и я внезапно очутился на ступеньках веранды. За столом сидели мужчины — играли в нарды и пили пиво. Один из них, держа в руке игральные косточки, обернулся. Это и был Геворк.
Карай мгновенно перемахнул через перила веранды. Геворк едва успел намотать на правую руку телогрейку, чтобы пес не причинил ему повреждений. Карай схватил его за эту руку и сжал, глухо рыча. На веранде раздались крики. Андрей, подбирая поводок, тянул собаку назад.
Только теперь я увидел Маузера. Он лежал в углу на подстилке и тяжелым взглядом следил за всем происходящим на веранде. Он не получил приказа действовать — защищать хозяина — и потому оставался равнодушным свидетелем событий.
— Ну… — сказал Андрей счастливым голосом, когда все, наконец, уладилось — опрокинутые стулья были подняты, а Карай пристроен в углу напротив Маузера, — ну, прошу прощения у хозяев! Наделали мы вам здесь шуму.
Хозяин и хозяйка, близкие знакомые Геворка, стали радушно усаживать нас за стол. Появилось вино, принесли фрукты. Хозяин предложил нам шашлык, зажаренный на шампурах.
В саду шумел ветер. На веранде мирно светилась электрическая лампочка. Карай и Маузер, как и предписано добрыми правилами служебного собаководства, дремали каждый в своем углу и не обращали друг на друга никакого внимания. Можно было лаять, рычать и злиться, почуяв след чужой собаки, но, встретившись с ней нос к носу, нужно ее игнорировать. Это они хорошо знали!
Обратно мы шли садами. Геворк, знаток здешних мест, вел нас кратчайшим путем. Мы горячо обсуждали подробности минувшего поиска.
— Все же ты не должен был садиться в машину, — утверждал Андрей.
— Вон что! — подмигнул Геворк. — А преступник не спросит тебя — ехать ему в машине или идти пешком. Он сядет и поедет. И ты обязан его найти!
Нельзя было не признать правды в этих словах.
— Ох, запутал я вас! — хвастался Геворк. — В смысле времени вы, конечно, не уложились.
Андрей возражал. Я восхищался Караем и все рассказывал, как он быстро нашел прерванный след.
— Маузер — тот в данном случае даже и не запнулся бы, — сказал Геворк. — Конечно, Карай тоже со временем будет приличной собачкой, — добавил он великодушно.
Когда за оградой под электрическим фонарем послышалось страшное рычание, мы не сразу сообразили, что это значит. Огромный пушистый белый ком перекатился через ограду.
— Берегись, Геворк! — крикнул Андрей.
Но было уже поздно. Пушистый ком налетел на Геворка и сбил его с ног.
Кавказская овчарка — сторожевая собака, которую всю жизнь держат на цепи, — это страшная собака. Огромные запасы нерастраченной ярости, широкая грудь, рост с теленка, клыки, как тяжелые плотничные гвозди, — вот что это за зверь. Сорвавшаяся с цепи кавказская овчарка свалила Геворка на землю и теперь подбиралась к его горлу.
Я кричал и бегал вокруг них с камнем в руке. Андрей торопливо нашаривал на бедре пистолет, один только Маузер был угрюмо спокоен. Чужую собаку нужно игнорировать, а он не получал отмены этого приказа.
Зато Карай, наш горячий и бурный Карай, рванулся навстречу опасности и, позабыв все, чему его учили, злобно вцепился в пушистый ком своими клыками. А когда кавказская овчарка, испугавшись натиска, оставила на секунду свою жертву, Карай ударил снизу всем своим могучим, отлично тренированным телом, сбил белую собаку с ног, оседлал и стал грызть.
К нам уже бежали хозяева. Но помощи не требовалось.
Белая овчарка вырвалась из-под Карая, съежилась, сразу стала меньше и с жалобным визгом помчалась домой, за спасительную ограду. Карай метнулся было за ней, но строгий голос хозяина остановил его. Он сразу сник. Он сделал то, что было запрещено всем предыдущим воспитанием!
Владельцы сада извинялись перед Геворком. Он молча отстранил их, и мы пошли дальше. К счастью, никаких серьезных повреждений у Геворка не оказалось, только щека была в крови.
Я тоже бежал, я спешил изо всех сил. Люди останавливали меня, спрашивали: “Что случилось?” Мне некогда было давать им объяснения. Обернувшись, я увидел, что за мной устремляется орава мальчишек. Они не могли упустить такое событие.
— Сыскная собака! — кричали они. — Овчарка! Ищейка!
Я услышал, как один из них разъяснял прохожим.
— Жуликов ловим — ограблена аптека!
Про аптеку он говорил, вероятно, потому, что никакого другого более внушительного учреждения на этой улице не было.
Мне стало стыдно: взрослый человек, уже волосы седеют — и бежит в толпе мальчишек. Я потихоньку начал отставать.
— Э-гей, контролер! — крикнул Андрей. — Правильно ли мы идем?
Этот призыв вернул меня к исполнению обязанностей. Действительно, взялся контролировать, ну и контролируй!
— Пока правильно, — сообщил я.
На счастье, постовой милиционер задержал мальчишек, полагая, что происходит серьезный поиск и они мешают важному делу.
Парадное большого дома, в которое заходил Геворк, Карай сгоряча проскочил — он сильно чуял продолжение свежего следа.
— Ну, вот видишь! — огорчился Андрей, когда я сказал ему об этом. — Практического значения, правда, это не имеет, особенно в данном случае, лишь бы тянул в нужном направлении, но ведь это значит, что у него, подлеца, нету точности.
Зато, когда Карай полез передними лапами прямо на прилавок табачного киоска и зарычал на перепуганного продавца — в этом киоске Геворк покупал папиросы, — Андрей обрадовался.
— Я ж тебе говорил, что это замечательный пес! Все чует! — Он приподнял фуражку и извинился перед продавцом.
Тот в ответ, ничуть не уступая Андрею в вежливости, приподнял свою барашковую папаху.
Мы быстро пробежали сквер. На пустыре Карай неважно проработал острый угол, но я не захотел огорчать Андрея и не сказал ему об этом. Дальше пошли места, для меня незнакомые. Моя контролерская деятельность кончилась. Но Карай уверенно тянул все вперед и вперед, и мы бежали за ним во всю прыть.
— Да придержи ты его немного, — сказал я Андрею, потому что уже начинал задыхаться.
— По инструкции не полагается придерживать, — тяжело дыша, заявил Андрей. Но все же подал команду: “Тише!”
Тут мы внезапно увидели, что опять, сделав круг, выходим к моему дому. Получалось что-то странное. Неужели Геворк спрятался где-то по соседству с моим жильем? Вы, мол, будете думать, что я за тридевять земель, а я у вас под боком! Но Карай промчался мимо моего дома и с прежней стремительностью рванулся, как нам показалось, по старому следу. Теперь он по временам глухо рычал, а шерсть то и дело приподнималась, топорщилась у него на загривке.
— Ничего не понимаю, — признался Андрей, подбирая поводок.
— Чего ж не понимать! У собаки плохое чутье, она сбилась со следа.
— Ну да, плохое чутье! А почему рычит?
— А почему трава растет? — возразил я. — Почему солнце светит? Собака для того и рождена, чтобы рычать.
— Но ведь в первый раз он шел здесь и не рычал!
— Так это он на себя злится, что оказался таким раззявой.
— Да нет же! — закричал Андрей и сияющими, совершенно счастливыми глазами посмотрел на меня. — Ты обрати внимание: он нюхает дерево. А раньше не нюхал — это что-нибудь да значит! И я тебе скажу, что это значит: Геворк прошел здесь второй раз с целью затруднить наш поиск. И он прошел не один. Если Карай рычит, то, следовательно, к Геворку здесь присоединился кто-то особенно неприятный для нашего Карая…
Такой ход рассуждений показался мне логичным. Мы с новой решимостью пошли за Караем и почти в точности повторили предыдущий маршрут. Но на этот раз наш пес забежал в парадное. Он обнюхал площадку за наружной дверью и злобно залаял.
— Чувствуешь? — сказал я. — Он исправляет свою ошибку. Он унюхал, что Геворк в первый раз заходил сюда, и сам тоже зашел.
Но Андрей озабоченно смотрел на собаку, обхватив широкой ладонью свой крутой подбородок.
— Твердо скажи, — потребовал он, — Геворк поднимался по лестнице?
— Нет, не поднимался.
— А Карай поднимается. И лает. Это означает, что Геворк был здесь и во второй раз и что второй след сильнее. Но вот что-то раздражает Карая, а что — я пока не пойму…
Мы вышли из парадного и двинулись дальше. Возле папиросного ларька Карай заскулил, бросился было вперед, потом вернулся и потащил нас вбок по темной, неприглядной уличке. Тут уж новый след окончательно разошелся со старым.
— Ну, не зевать! — скомандовал Андрей. — Когда мы были возле папиросного ларька в первый раз, Карай не сворачивал в эту уличку. И, значит, это свежий след, и проложен он Геворком совсем недавно. Мне вот что представляется: в тот момент, как мы вышли из твоего дома, Геворк был где-то позади нас. Может, он нас даже и видел. Затем он пошел за нами и не больше как минут десять назад свернул в эту уличку. Знаешь, как в сказке: охотник ходит за тигром, а тигр — за охотником…
Мы прошли еще несколько шагов. Внезапно Карай стал описывать круги, принюхиваясь теперь уже не к земле, а прямо-таки к воздуху — он все поднимал нос к небу. По объяснениям Андрея я понял, что это начало работать верхнее чутье.
— Геворк где-то здесь, близко! — возбужденно закричал Андрей.
Но, повертевшись на месте в течение нескольких секунд, Карай заскулил, подбежал к нам и ткнулся мокрым носом в ногу своего хозяина.
— Потерял след, — мрачно объявил Андрей.
Мы стояли неподалеку от киоска и с грустью смотрели на Карая. Становилось все темнее. Подул ветерок, который в Ереване обычно возникает с наступлением темноты. Сегодня ветерок немного запоздал и был пока еще легким и ласковым. Скоро он начнет дуть с ураганной силой, поднимая со всех тротуаров, пустырей и строительных площадок тучи пыли. Кажется, день был кончен…
— Можно идти домой? — спросил я.
— Перекурим это дело, — предложил Андрей и вытащил из кармана портсигар, до отказа набитый папиросами.
Мы закурили.
— Может быть, ты устал, — сказал Андрей, — так иди домой. А я намерен продолжать поиск.
Я чувствовал, что ноги меня не держат. Говорить о моей усталости, начиная этот разговор со слов “может быть”, было нелепо. Никаких “может быть”! Я на ногах не стою. Ужасно, просто невозможно устал…
— Я устал? — переспросил я презрительно. — За кого ты меня принимаешь? Я готов ходить по следам хоть всю ночь. Только вот вопрос: где эти следы?
Андрей быстро взглянул на меня, уловив, по-видимому, некоторое противоречие между моими словами и той интонацией, с которой они были произнесены.
— У нас, видишь ли, — начал он не очень уверенно, — есть две возможности: можно, раз уж след прервался, пустить Карая на свободный обыск местности. След может прерваться, если люди, например, сели в автомашину. Но где-нибудь они сойдут с нее! Где-нибудь след начнется снова! Верно, друг?
— Это и есть наша первая возможность? — грустно спросил я.
Андрей энергично задвигал скулами.
— Ох, Геворк! — сказал он. — Ну не может без хитростей! Ведь что-то каверзное придумал — и теперь рад.
— Что ж, — уныло предложил я, — пойдем обыскивать местность.
— Подожди… — Андрей перекатил папиросу из одного угла рта в другой. — Проводнику служебной собаки предписано в момент поиска поддерживать контакт с местным населением. Это наша вторая возможность… — И Андрей решительно направился к папиросному киоску.
— Две пачки “Авроры”! — потребовал он.
Продавец, старый человек с горбатым, очень внушительным носом, сидел возле киоска на раскладном стуле и неторопливо перебирал янтарные четки. Островерхая барашковая папаха была шире, чем его плечи. С такими папахами горцы не любят расставаться ни зимой, ни летом, ни в поле, ни дома. Продавец с интересом смотрел на Карая и на этот раз не испугался.
— Опять пришли? — дружелюбно спросил он.
— Да, мы пришли, — с достоинством ответил Андрей, начиная тот неторопливый разговор, который считается у кавказцев-стариков признаком хорошего тона.
Можно было подумать, что нам и вправду некуда торопиться.
— Ты, как видно, овец держишь? — спросил старик.
— Нет, я не держу овец, — терпеливо ответил Андрей.
— Но вот я вижу у тебя волкодава. Для чего тебе волкодав?
Старик, хотя и носил барашковую папаху, был, конечно, городским жителем. Настоящие горцы очень хорошо разбираются в собаках и ценят их. За хорошую собаку не пожалеют десятка баранов. Этот старик ничего в собаках не понимал, хотя вел разговор о них с большой важностью. Он сразу принялся называть нашего Карая неопределенным словом “это”.
— Чем “это” надо кормить? — спросил он.
— Мы кормим его по рациону.
— Очень хорошо кормить собаку по рациону, — мудро согласился старик. — А как “это” зовут?
Андрей ответил то, что всегда отвечал в таких случаях: Джульбарс. Капитан Миансаров считал, что настоящая кличка служебной собаки должна, по возможности, храниться в секрете.
— Это очень хорошее имя, красивое имя, — сказал старик.
Видно было, что перечень вопросов, которые он собирается нам задать, еще далеко не исчерпан.
Но ему помешали. Подошел молодой человек, чтобы купить пачку папирос.
— Удивляюсь я на таких покупателей, — говорил старик, получив деньги. — Приходит, берет, что нужно, и уходит. Нет того чтобы поговорить! А я много чего полезного помню — басни всякие, сказки, истории, случаи. От меня много чего можно узнать.
Я испугался.
— Скажите, пожалуйста, — торопливо начал я, — вы не видели тут одного человека…
Старик с неудовольствием посмотрел на меня и отмахнулся высохшей коричневой рукой.
— Я видел тут много людей! — отрезал он и снова обратился к Андрею: — Я мог бы не работать. У меня два сына — один инженер, другой учитель, они меня хорошо держат. Но мне скучно. И я рад, когда покупать папиросы приходят такие люди, как ты.
— Мне тоже приятно, — со вздохом сказал Андрей.
— Присядь… Сколько лет этой собаке?
— Два года.
Старик зацокал языком, как цокали когда-то извозчики, подгоняя лошадей. Этот звук в Армении выражает все: удивление, ужас, радость, злость. Дело только в том, как цокать. В глазах его впервые появилось живое любопытство, и после всех вопросов, заданных из вежливости, он спросил о том единственном, что его интересовало:
— А для чего тебе “это” надо?
Мне надоели расспросы. Вмешавшись в разговор, я сказал, что собаку мы откармливаем на мясо — к Новому году откормим и зарежем. Старик слушал, кивал головой и перебирал четки. Но Андрей сердито взглянул на меня.
— Это сыскная собака, собака-сыщик.
— Так, — сказал старик. — Из твоих ответов я вижу, что сюда пришли двое умных — это ты сам и твоя собака — и один глупый: это твой приятель. Его глупость заключается в том, что он думает, будто старый человек может поверить, что собаку откармливают на мясо.
Я молча проглотил этот комплимент.
— Теперь, — продолжал старик, — ты можешь задавать мне вопросы, так как я думаю, что ты хотел меня о чем-то спросить.
И Андрей спросил. Он задал вопрос, который своей определенностью удивил меня куда больше, чем старика:
— Недавно тут прошел человек с большой черной собакой. Куда они направились?
— Ты ищешь этого человека?
— Да.
— Ты кто?
— Ну, я, как видите, милиционер, — улыбнулся Андрей. — А этот человек, будем говорить, преступник.
— Для чего преступнику собака?
Андрей был удивительно терпелив. Он начал рассказывать старику всю историю, предшествующую нашему поиску.
— Я уважаю милицию! — Старик прижал руку к груди. — Человек, которого ты ищешь, пошел вон по той улице, но возле красного дома сел в машину и посадил туда свою черную собаку.
— Прервал след! — воскликнул Андрей.
— Что значит “прервал след”? — с любопытством спросил старик.
Боясь, что Андрей вступит по этому поводу в длительные разговоры, я сам взялся дать объяснение и ограничился буквально десятком слов. Как ни странно, старик выслушал меня благосклонно.
— Так, — протянул он, — но мне показалось, что в конце этой маленькой улицы тот человек вышел из машины вместе со своей собакой. И я подумал: “Разве стоило садиться в машину, чтобы проехать такое ничтожное расстояние?”
Через минуту мы уже бежали по улице к красному дому.
Карай делал свободные виражи на поводке, отпущенном во всю длину.
— Как ты узнал, что Геворк ведет с собой Маузера?
— Но ты же видел, как злился Карай! Такая реакция у него бывает только на собак, и то не на всех. А какая же собака может идти рядом с Геворком, если не Маузер?
Это было логично и убедительно. Но где он взял Маузера?
— А ему привели! Помощник привел из питомника. Я думаю, это было между ними заранее условлено. И знаешь, где они встретились? В том месте, где Карай в первый раз зарычал…
Мы пробежали всю улицу. В конце ее Карай начал принюхиваться и быстро нашел утерянный след. Теперь он вел нас по каким-то закоулкам. Вдруг он свернул в неприметную калиточку. Андрей еле сдерживал его. Мы оказались в темном саду. Пахло дозревающими персиками. Я шел почти на ощупь. Но вдали мелькнул свет. Карай ринулся вперед. Андрей что-то закричал, и я внезапно очутился на ступеньках веранды. За столом сидели мужчины — играли в нарды и пили пиво. Один из них, держа в руке игральные косточки, обернулся. Это и был Геворк.
Карай мгновенно перемахнул через перила веранды. Геворк едва успел намотать на правую руку телогрейку, чтобы пес не причинил ему повреждений. Карай схватил его за эту руку и сжал, глухо рыча. На веранде раздались крики. Андрей, подбирая поводок, тянул собаку назад.
Только теперь я увидел Маузера. Он лежал в углу на подстилке и тяжелым взглядом следил за всем происходящим на веранде. Он не получил приказа действовать — защищать хозяина — и потому оставался равнодушным свидетелем событий.
— Ну… — сказал Андрей счастливым голосом, когда все, наконец, уладилось — опрокинутые стулья были подняты, а Карай пристроен в углу напротив Маузера, — ну, прошу прощения у хозяев! Наделали мы вам здесь шуму.
Хозяин и хозяйка, близкие знакомые Геворка, стали радушно усаживать нас за стол. Появилось вино, принесли фрукты. Хозяин предложил нам шашлык, зажаренный на шампурах.
В саду шумел ветер. На веранде мирно светилась электрическая лампочка. Карай и Маузер, как и предписано добрыми правилами служебного собаководства, дремали каждый в своем углу и не обращали друг на друга никакого внимания. Можно было лаять, рычать и злиться, почуяв след чужой собаки, но, встретившись с ней нос к носу, нужно ее игнорировать. Это они хорошо знали!
Обратно мы шли садами. Геворк, знаток здешних мест, вел нас кратчайшим путем. Мы горячо обсуждали подробности минувшего поиска.
— Все же ты не должен был садиться в машину, — утверждал Андрей.
— Вон что! — подмигнул Геворк. — А преступник не спросит тебя — ехать ему в машине или идти пешком. Он сядет и поедет. И ты обязан его найти!
Нельзя было не признать правды в этих словах.
— Ох, запутал я вас! — хвастался Геворк. — В смысле времени вы, конечно, не уложились.
Андрей возражал. Я восхищался Караем и все рассказывал, как он быстро нашел прерванный след.
— Маузер — тот в данном случае даже и не запнулся бы, — сказал Геворк. — Конечно, Карай тоже со временем будет приличной собачкой, — добавил он великодушно.
Когда за оградой под электрическим фонарем послышалось страшное рычание, мы не сразу сообразили, что это значит. Огромный пушистый белый ком перекатился через ограду.
— Берегись, Геворк! — крикнул Андрей.
Но было уже поздно. Пушистый ком налетел на Геворка и сбил его с ног.
Кавказская овчарка — сторожевая собака, которую всю жизнь держат на цепи, — это страшная собака. Огромные запасы нерастраченной ярости, широкая грудь, рост с теленка, клыки, как тяжелые плотничные гвозди, — вот что это за зверь. Сорвавшаяся с цепи кавказская овчарка свалила Геворка на землю и теперь подбиралась к его горлу.
Я кричал и бегал вокруг них с камнем в руке. Андрей торопливо нашаривал на бедре пистолет, один только Маузер был угрюмо спокоен. Чужую собаку нужно игнорировать, а он не получал отмены этого приказа.
Зато Карай, наш горячий и бурный Карай, рванулся навстречу опасности и, позабыв все, чему его учили, злобно вцепился в пушистый ком своими клыками. А когда кавказская овчарка, испугавшись натиска, оставила на секунду свою жертву, Карай ударил снизу всем своим могучим, отлично тренированным телом, сбил белую собаку с ног, оседлал и стал грызть.
К нам уже бежали хозяева. Но помощи не требовалось.
Белая овчарка вырвалась из-под Карая, съежилась, сразу стала меньше и с жалобным визгом помчалась домой, за спасительную ограду. Карай метнулся было за ней, но строгий голос хозяина остановил его. Он сразу сник. Он сделал то, что было запрещено всем предыдущим воспитанием!
Владельцы сада извинялись перед Геворком. Он молча отстранил их, и мы пошли дальше. К счастью, никаких серьезных повреждений у Геворка не оказалось, только щека была в крови.
 Выйдя на первую же асфальтированную улицу, мы остановились. Тут было светло. Геворк стал приводить себя в порядок. Он угрюмо сбивал ладонью пыль со своих серо-клетчатых широченных брюк.
— Лейтенант Витюгин! — позвал он хрипло.
Андрей вытянулся по форме:
— Слушаю вас, товарищ старший лейтенант.
— Получаете взыскание с отметкой в послужном списке.
— Есть взыскание!
Мы пошли дальше. Ничего не понимая, я тихонько спросил у Андрея:
— За что взыскание?
Оба мои спутника промолчали. Но я не мог молчать.
— Геворк, — сказал я, — возможно, я вашу службу плохо понимаю. Что было бы с вами, если б Карай не вмешался?
Никто не ответил мне на этот вопрос. И я почувствовал, что больше спрашивать не следует. “Что-то еще должно между ними произойти”, — думал я.
И произошло.
На подходе к людной части города Андрей начал разговор:
— Геворк…
— Для вас — старший лейтенант.
— Геворк, — настойчиво повторил Андрей, — ты что дурака валяешь? За что мне приклеил взыскание?
— Все еще непонятно?
— Нет, товарищ старший лейтенант!
— За плохое воспитание собаки.
— Так, — спокойно сказал Андрей. — Слышишь, Карай, как за тебя страдает твой хозяин?
Мы прошли еще квартал, и Геворк, сухо попрощавшись, свернул налево.
Выйдя на первую же асфальтированную улицу, мы остановились. Тут было светло. Геворк стал приводить себя в порядок. Он угрюмо сбивал ладонью пыль со своих серо-клетчатых широченных брюк.
— Лейтенант Витюгин! — позвал он хрипло.
Андрей вытянулся по форме:
— Слушаю вас, товарищ старший лейтенант.
— Получаете взыскание с отметкой в послужном списке.
— Есть взыскание!
Мы пошли дальше. Ничего не понимая, я тихонько спросил у Андрея:
— За что взыскание?
Оба мои спутника промолчали. Но я не мог молчать.
— Геворк, — сказал я, — возможно, я вашу службу плохо понимаю. Что было бы с вами, если б Карай не вмешался?
Никто не ответил мне на этот вопрос. И я почувствовал, что больше спрашивать не следует. “Что-то еще должно между ними произойти”, — думал я.
И произошло.
На подходе к людной части города Андрей начал разговор:
— Геворк…
— Для вас — старший лейтенант.
— Геворк, — настойчиво повторил Андрей, — ты что дурака валяешь? За что мне приклеил взыскание?
— Все еще непонятно?
— Нет, товарищ старший лейтенант!
— За плохое воспитание собаки.
— Так, — спокойно сказал Андрей. — Слышишь, Карай, как за тебя страдает твой хозяин?
Мы прошли еще квартал, и Геворк, сухо попрощавшись, свернул налево.
 — Все получили по заслугам, — сказал Андрей. — Геворк — покусанную щеку, я — взыскание, Маузер — звание лучшей собаки, ты, Костя, набрал интересных впечатлений. Один бедный Карай ничего не получил.
Андрей подошел к киоску, купил порцию сливочного мороженого. Мы завернули в сквер, поставили на скамейку вафельный стаканчик, и Карай принялся выбирать розовым языком мороженое, а покончив с этим, съел и стаканчик.
— Все получили по заслугам, — сказал Андрей. — Геворк — покусанную щеку, я — взыскание, Маузер — звание лучшей собаки, ты, Костя, набрал интересных впечатлений. Один бедный Карай ничего не получил.
Андрей подошел к киоску, купил порцию сливочного мороженого. Мы завернули в сквер, поставили на скамейку вафельный стаканчик, и Карай принялся выбирать розовым языком мороженое, а покончив с этим, съел и стаканчик.
ПРЕРВАННЫЙ СЛЕД
Позвонили из районного центра и потребовали: — Пришлите служебную собаку! — Да разве у вас своих собак нет? — возмутился оперативный дежурный. — Есть, но не справляются. — Что у вас там случилось? Голос в трубке помедлил, потом коротко сообщил: — Убийство. В питомнике решили, что надо послать Андрея с Караем. Во-первых, Андрей — человек толковый и не растеряется, если будут трудности; во-вторых, Карай — собака молодая, нужно приучать к делу. — А в-третьих, — сказал Геворк, словно подводя черту, — не Маузера же им туда посылать, в самом деле! Слишком будет… Андрей неторопливо вывел из гаража мотоцикл. Как всегда перед работой, он был озабочен и медлителен. Такая его медлительность неизменно раздражала капитана Миансарова. Капитан даже потихонечку устроил хронометраж, когда в питомнике была объявлена учебная тревога. Но оказалось, что при своей неторопливости Андрей успел одеться по форме, и мотоцикл вывести, и собаку обрядить — и все это раньше, чем многие другие. Капитан успокоился. “Перед фактами я замолкаю”, — сказал он. И только уходил подальше, когда Андрей собирался на поиск. “Потому что факты фактами, — говорил капитан, — но нервы нервами!” Карай без принуждения вспрыгнул в коляску и с достоинством устроился на пассажирском месте. — Пристегни ему поводок, — посоветовал дежурный. При езде на мотоцикле считалось обязательным брать собаку на поводок. Но Андрей знал, что Карай и так не выскочит раньше времени из коляски. — Ничего, обойдется, — сказал Андрей, заводя машину. Мотор сразу запыхтел, зачастил. — Оружие при вас? — сухо спросил дежурный, переходя по традиции на “вы”. Андрей кивнул и погнал машину вперед. Но его тотчас же остановили: — Подожди! Давай назад! — Что еще? — Капитан вызывает. Андрей сошел на землю и, приказав Караю сидеть в коляске, отправился искать начальника. Капитан Миансаров стоял возле строящегося щенятника и следил за тем, как плотники вырубают деревянную ограду. Кажется, он был недоволен их работой. — Что ж, — ворчливо обратился он к Андрею, — уезжаешь на поиск, а к начальнику не зайдешь, совета не спросишь! — Я думал, вы заняты, товарищ капитан. Миансаров отобрал у одного из плотников топор и сам принялся обтесывать колышки для забора. — В деревню едешь, в колхоз, — говорил он, ловко постукивая топориком. — Там у нас народ гостеприимный, щедрый. Угощать будут. А в нашем деле необходима воздержанность. — Я не пью, товарищ капитан. — Ну хорошо, если так. И еще: вы, молодые, чуть не в каждом подозреваете преступника, которого требуется отыскать. Наша работа такая, что мы видим жизнь с изнанки. Вот ты едешь в деревню — там сейчас уборка идет. У всех на уме — как бы укрепить колхоз. В этом районе, к примеру, нынешним летом впервые самоходные комбайны начали работать. Лучшие колхозники в Герои выйдут. А твоя задача — темное дело раскрыть, преступника выявить. По следам хороших людей наши собаки нас не водят, а водят по следам плохих. Я к тому говорю, что на жизнь надо широко смотреть, а не только из своей щелочки. — Ясное дело, товарищ капитан! — Вот то-то! Людей надо понимать, и с людьми надо по возможности советоваться… — Миансаров отбросил колышек и с улыбкой посмотрел на Андрея. — Ну, что ж ты стоишь? Тебе давно ехать пора. На шоссе свистел ветер. Карай со вздохом лег, пристроив острую морду на краю коляски. Он смотрел на зеленые кустики, мелькавшие по обочинам дороги. Сколько бы он ни ездил, ему все это было интересно. По накатанному, чистому, прямо-таки вымытому асфальту мотоцикл то выскакивал на пригорки, то опускался в лощинки. После городского — раскаленного и пыльного — воздух на шоссе был свежий, пахучий. Мальчишки бежали за мотоциклом, крича: “Сыскная собака!” Карай с отвращением зевал, когда слышал эти крики. Он не любил шума. Село, куда ехал Андрей, вытянулось в стороне от шоссе. Маленькая горная речка, скатываясь с камня на камень, делила село на две части. На правом берегу, в долинке, виднелись ряды светлых каменных домов, среди них было немало двухэтажных. Левый берег казался издали почти отвесным. В скалах Андрей увидел отверстия причудливой формы — круглые, прямоугольные, треугольные. Одни были настолько велики, что в них свободно могла въехать грузовая автомашина; другие, наоборот, так малы, что пробраться в них можно было только ползком. Они напоминали птичьи гнезда. “Да ведь это человеческое жилье!” — понял Андрей. Он вспомнил все, что слышал прежде об этом селении. Люди столетиями жили в пещерах, выбитых среди скал, жили до тех пор, пока колхоз не начал строить дома на другом берегу реки. В стороне от дороги Андрей увидел длинный навес, подпертый столбиками. Там копошились люди. Андрей остановил мотоцикл, приказал Караю лечь у колеса и, похлопав руками по коленям, пошел к навесу. Колхозницы — все в платочках, чтобы пыль не попадала в волосы, — нанизывали длинными иглами на шнуры зеленые табачные листья. В таком виде листья вносятся в сушилки. На солнце они желтеют. Ни с чем не сравнить запах такого листа, растертого на ладони! — Доброй удачи, работники! — Андрей снял фуражку. — Здравствуйте! — приветливо отозвалось несколько голосов. Колхозницы сидели на пенечках, на скамеечках, а то и прямо на земле, на соломе. Звеньевая, совсем еще молодая женщина, ходила с клубком шпагата в руках взад и вперед вдоль толстого бревна. В бревно на расстоянии двух метров друг от друга были вбиты огромные гвозди. Женщина наматывала на них шпагат. Затем она прорезала намотанный шпагат у обоих гвоздей острой косой и ловко разбросала колхозницам разрезанные куски. — Расследовать приехали? — спросила звеньевая низким, почти мужским голосом. — Точно, — сказал Андрей. — Тут с утра много вашей профессии побывало. И даже во главе с начальником районного отдела. — Так говорят же, что у вас произошло убийство! Звеньевая нахмурилась: — Мало ли что говорят… Кто-то пододвинул Андрею чурбачок. Старушка, которая сидела на соломе и, казалось, работала ловчее всех других, бросила ему большое яблоко. — Зачем это, бабушка? Я ведь не гость. — Из наших колхозных садов, — строго сказала звеньевая. — Вы покушайте. Андрей смущенно вертел яблоко в руках. — Мне надо бы поскорее попасть к месту происшествия. — И-и-и, — тоненьким голосом проговорила старушка, — давно уж в нашем селе не было таких происшествий! Вот беда нежданная нагрянула… — Кого же убили? — насторожился Андрей. — Убитого пока не нашли. Больше Андрею не пришлось ни о чем спрашивать. Колхозницы разговорились и сами спешили рассказать ему о происшедших событиях. Вот какое случилось дело. Группа колхозников собиралась выехать в Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Сельский магазин привез много товаров — пусть участники выставки приоденутся поизряднее. Мужчины хотели купить новые костюмы повиднее, женщины требовали шелковых платьев и модельных туфель. Поговаривали даже, что надо выписать из Еревана портных: как-никак люди в Москву собираются. Целый день магазин бойко торговал, но всего распродать не успел. И вот минувшей ночью магазин ограбили. Самое удивительное, что исчез сторож. Подозревают, что его убили. — Сторожа как звали? — Вахтангом, — сказала старушка. — Он мой ровесник был. Бедный Вахтанг! — Семью имел этот сторож? — Нет, он одинокий. — Товарищ милиционер, — звучно проговорила звеньевая, — этот сторож — мой дядя. Так что вы про него плохого не думайте. Старушка тут же начала объяснять Андрею, что звеньевая Марьямик — Героиня Труда и участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Лучший во всей Армении табак именно она выращивает. Уж к тому, что она говорит, надо прислушаться. Марьямик спокойно прервала ее: — Вы меня, тетя Парандзем, перед милицией не расхваливайте. Милиции даже вовсе и не к чему знать, кто я такая. А вот чтобы милиция не путалась на ложном следу, я сама скажу: сторож не при чем. Он чистый человек, вечный труженик. Мог бы по своим летам и не работать — в моем доме для него всегда нашелся бы и теплый угол и вкусный кусок. У меня всего хватает. — Марьямик вскинула голову. — Да он никому не хотел быть в тягость. Так что пусть милиция в другом закоулке поищет. — В Москву когда собираетесь? — спросил Андрей. — Задержалась я, — независимо ответила Марьямик. Видно было, что эта женщина знает себе цену. — Теперь моя поездка от вас зависит. Вы должны мне обелить дядю Вахтанга, живой он или мертвый. Может, кто-нибудь на него плохую мысль в уме держит: мол, не действовал ли он заодно с преступниками? Так чтобы эта глупая мысль ушла без остатка! — властно закончила она. — Постараемся выяснить правду, — пообещал Андрей, — а уж потом посмотрим, приятная будет эта правда или нет… Он попрощался, пошел к мотоциклу. Карай заскулил, увидев его. Поехали дальше. Дурманный абрикосовый дух висел над деревней. Почти все домики с пристроенными позади них деревянными верандами были окружены садами. На плоских земляных крышах сушились абрикосы. У края села, возле дома с каменными приступочками, валялись бочки из-под керосина и пустые ящики. Тут стояла толпа. Наметанным глазом Андрей определил: “Вот оно, место происшествия. Сельский магазин!” Он остановил мотоцикл в сотне шагов от магазина, вылез и взял на поводок Карая. — Милиция прибыла, — приветливо объявил он колхозникам, которые оказались поближе. — Какие у вас тут происшествия?
Люди заговорили разом:
— Убийство у нас… Ограбление было… Ночью в магазин залезли…
Морщинистый старик в шевиотовом пиджаке с круто подложенными плечами — видно, сыновний пиджак — спросил:
— Найдет ли преступников эта твоя ученая собака?
— Приложим силы, — сказал Андрей.
— Ну, я сомневаюсь. Она, конечно, хорошая собака, ничего не скажешь, но у нас земля легкая, духа не держит. Собака, которую привели из района, ничего не смогла найти.
Расталкивая толпу, к Андрею шли трое. По их властным жестам, по осанке он понял, что это представители власти. Один из них, в милицейской форме, вел на поводке небольшую серую овчарку. Видимо, это и была та собака, которую прислали из районного центра. Другой, с орлиным взглядом, весь седой до той тонкой белизны, которая напоминает снег, но с густыми черными бровями, шел посредине. Его-то Андрей и принял за главного начальника. Но главным оказался третий — председатель сельсовета, высокий и толстый человек, гололобый, давно уже не бритый и очень уставший.
— Здравствуйте, — сердито проговорил он.
Андрей приложил руку к козырьку фуражки:
— Добрый день!
— Почему остановились, не дойдя до места?
Ответить Андрею помешали колхозники. Чей-то голос в толпе с достоинством объяснил:
— Товарищ беседовал с нами.
— Для бесед мы вызываем агитаторов. Милиция же приезжает, чтобы работать. Каждый приезжий должен первым делом явиться к председателю Сельсовета.
Андрей выслушал эту нотацию с мягкой улыбкой и попытался оправдаться:
— Граждане дали мне информацию…
— Информироваться нужно не от граждан, а от властей. У нас произошло убийство.
— Это как будто еще не доказано, — сказал Андрей.
Председатель сельсовета потер кулаком небритую щеку.
— Произошло, значит, убийство. Притом — с ограблением магазина… Мкртчян! — позвал он негромко, и к нему сразу же подскочил парень в парусиновом кителе. — Мкртчян, надо обеспечить, чтоб была хорошо накормлена эта сыскная собака.
— Накормим, товарищ Зарзанд! — отчеканил парень.
Председатель назидательно поднял кверху палец:
— Пусть поработает, потом пусть покушает. Еды не пожалеем. Правильно я говорю?
— Вот уж это никак не выйдет, — сказал Андрей, подбирая поводок. — Посторонние не должны кормить собаку.
Председатель на секунду задумался. В его заплывших глазах промелькнуло выражение обиды и беззащитности.
— Ты ко мне, в мое село приехал и еще говоришь, что я посторонний! Ладно, пусть твоя собака голодная ходит. Ты, значит, нашего гостеприимства не оцениваешь.
— Не обижайтесь, товарищ председатель… — Андрей был немного смущен этим натиском. Не понимает человек, надо ему объяснить. — Вот среди вас я вижу милиционера. Пусть хоть он скажет: можно кормить служебную собаку в такой обстановке или не полагается? А за гостеприимство — большая благодарность…
— А что ему говорить! — Председатель пренебрежительно махнул рукой в сторону районного милиционера. — Его собака накормлена. Раз поработала, хоть и безрезультатно, — пускай ест. Мы хотели, чтоб и твоей собаке то же самое было, но ты, видно, очень высоко свою собаку ставишь.
Степенный, дородный милиционер, с такой прической, будто ему на голову наклеили кусок из каракулевой шубы, сконфуженно покашлял в кулак.
— Вообще, конечно, кормить не полагается, особенно в период работы. Но я думаю, что среди своих людей, как наш уважаемый товарищ Зарзанд или товарищ Микаэл, это ничего плохого не составляет.
Андрей почувствовал, что от него пахнет водкой, и сухо проговорил:
— Дело ваше. Я свою собаку кормить не позволю. Да и сам во время работы не пью и не ем.
Седой с черными бровями — это его и звали Микаэлом — внимательно слушал председателя сельсовета и кивал одобрительно головой; затем он выслушал милиционера и тоже кивнул; на последние слова Андрея он опять закивал, как бы одобряя в равной степени и претензии председателя, и оправдания милиционера, и отповедь Андрея.
— Вот так и надо работать — и будет толк! — воскликнул он, двигая черными бровями. — А то ведь некоторые приезжают в колхоз, как в ресторан, — поесть, попить. — Он светло улыбнулся, адресуя улыбку одному только Андрею, и Андрей не смог не улыбнуться ему в ответ. — Наш товарищ Зарзанд… — начал Микаэл интимно, понизив голос почти до шепота (но все равно председатель сельсовета мог его очень хорошо слышать), — наш Зарзанд. — это самый золотой человек в селе. Большой руководитель! Когда и поругает, не надо обижаться. Учит. Учение — не обида… — Тут он потянул председателя сельсовета за рукав. — Надо бы, товарищ Зарзанд, показать человеку место происшествия.
Председатель все еще был сердит.
— Что показывать! Место происшествия — это наш магазин, — мрачно объявил он и пошел к дому с приступочками.
Андрей шел позади, сдерживая Карая. А за ними стеной двигались любопытные. Толпа становилась все больше и больше. Мальчишки громко обсуждали достоинства двух служебных собак и единодушно пришли к выводу, что Карай лучше. Такую оценку Андрей выслушал с серьезным видом и суровым лицом, но не без удовольствия.
Пока шли, Микаэл несколько раз оборачивался к Андрею — всякий раз с доброй улыбкой — и спрашивал, не помешает ли сыскной собаке абрикосовый дух.
— Я распорядился, — говорил он, — чтобы подозреваемое место, то есть, где побывал ночью преступный мир, было под охраной и чтобы там никто не топтался. Наш народ любопытный, прямо беда! Но следы сохранены в неприкосновенности.
— Вот и хорошо, — поощрил его Андрей. — Это вы проявили довольно-такиумную предусмотрительность.
Судя по тому, как властно распоряжался Микаэл, он был здесь одним из первых людей. Приятный человек — деловой, понимающий. Интересная у него улыбка — мягкая и открытая, словно у ребенка. И при седых волосах — такие черные брови… “Этого человека я где-то раньше видел”, — думал Андрей.
Чуть поотстав от своих спутников, Андрей спросил у ближайшего из подростков:
— Этот Микаэл — он кто у вас?
— Микаэл — это его имя, — сказал мальчик, видимо не поняв вопроса. — Микаэл-дядя. А меня зовут Карлос, — добавил он общительно в надежде, что такой важный человек, как Андрей, будет отныне его знакомым.
— Должность у него какая?
Карлос обернулся назад и поговорил с другими мальчиками. Каждый из них что-то сказал. Потом что-то сказал старик в шевиотовом пиджаке. Наконец Андрей получил ответ.
— У него нет должности.
— А почему же он распоряжается?
На этот вопрос никто не смог ответить.
“А все же я его где-то видел”, — пытался вспомнить Андрей. И улыбка, и голос, и седые волосы — все казалось знакомым. Но, видно, очень уж короткой была встреча, если она оставила такой туманный след.
Еле державшиеся на покореженных петлях двери магазина оказались на запоре. Зарзанд отомкнул висячий замок и первым вошел внутрь помещения. Любопытные остановились на улице у крылечка.
— Убийство, надо полагать, случилось на крылечке, — объяснил милиционер, виновато поглядывая на Андрея. — Насколько можно понять, сторожа ударили сзади. Потому он и не успел зашуметь.
— А почему вы уверены, что это было убийство? Труп ведь не обнаружен. Нельзя ли предположить, что никакого убийства не было и этот Вахтанг действовал заодно с преступниками?
Андрей чувствовал себя неловко, задавая этот вопрос. Он вспомнил горячие, гневные глаза Марьямик и ее слова: “Пусть эта глупая мысль уйдет без остатка!” Но, в конце концов, он приехал сюда, чтобы раскрыть преступление, и его работе не должно мешать ничье мнение.
— Предположить все можно, — недовольно сказал милиционер из районного отдела. — Только прежде, чем предполагать, надо узнать, кто такой дед Вахтанг. Уж одного того хватит, что он родственник Марьямик. И кто его знал, тот плохого о нем не подумает.
— Где же он?
— Если бы знать, где он, — хрипло проговорил председатель сельсовета, — так, может, все бы вопросы сразу разъяснились…
Андрей пошел по магазину, переступая через груды сваленных на полу товаров. Милиционер стоял у дверей и курил папиросу.
— Вы пускали по следу свою собаку?
— Пускал, — неохотно отозвался милиционер. — Тут, понимаете, такие условия…
— Пускать-то он пускал, — проговорил председатель сельсовета, — но у него ничего не вышло. Эта собака искать преступников не может.
— Что значит — не может? Не было бы у вас так натоптано, и мой Аслан взял бы след.
— Позвольте, — сказал Андрей, — мне говорили, что следы сохранены в неприкосновенности.
— Где ж сохранены, если тут топталась не меньше половины деревни!
Андрей вопросительно взглянул на Микаэла; тот с сожалением причмокнул языком и тронул милиционера за пуговицу гимнастерки.
— Говорит, э-э! — с досадой воскликнул он. — Зачем так необоснованно говоришь, вводишь в заблуждение людей? Разве я не давал указание, чтоб очистили местность?
— Это верно, — согласился милиционер, — я не буду зря болтать. Когда товарищ Микаэл пришел, местность очистили.
— По моему указанию!
— Точно, товарищ Микаэл. Но к тому моменту сколько тут ног прошло — это даже сосчитать невозможно.
— Ну, это уже другой вопрос! — Микаэл высоко поднял и опустил черные брови. — Ты кляузу не разводи.
— Да я ничего, я только говорю, что в такой обстановке Аслан все же унюхал и повел…
Серая овчарка, словно чувствуя, что разговор идет о ней, шевелила настороженными ушами и все старалась пробраться поближе к Караю. Карай же сохранял позицию величавой неприступности и лишь по временам судорожно зевал.
Микаэл осмотрел его взглядом знатока.
— Этот найдет! Этот из-под земли преступника выкопает! Вы представляете, — сказал он, обращаясь к Андрею, — вот эта бедненькая собачка из районного отдела — она сотню шагов пробежала и потеряла след. Три раза дуру такую пускали — как до того большого камня дойдет, так и садится.
— Следы затоптаны, — бубнил милиционер, — потому и садится.
— Э-э, друг, не говори! — Микаэл вытащил из кармана грязноватый кусок сахара и на раскрытой ладони протянул Караю. Пес отшатнулся и заворчал. — Видишь, не берет! Умница, дивный пес, воспитанный! А теперь смотри! — Он бросил тот же кусок сахара серой овчарке. Собака подпрыгнула, ловко поймала сахар, в одну секунду раздробила его белыми зубами и с хрустом сожрала. — И ты хочешь, чтоб твоя несчастная собака с этим львом равнялась? Теперь понимаешь разницу? Такая собака, как эта твоя, не может служить народу!
— Вот уж и не может… — сконфуженно возразил милиционер. — Аслан себя еще проявит.
Андрей оборвал эти препирательства.
— Почему не видно здесь продавца вашего магазина? — спросил он строго. — Разве его не касается розыск преступников?
Микаэл потупился.
— Что можно ответить? Говори лучше ты, товарищ Зарзанд.
— Заболел продавец. Грикором звать, Грикор Самвелян. Вчера к вечеру захворал и лежит дома. Звали — не может прийти.
Микаэл тихонько подергал Андрея за рукав:
— Сильно болеет. Есть такая болезнь — температуру не показывает, опухоль не дает, ничего не дает, ничего не показывает. Только сам человек знает, что он больной. Люмбаго называется…
Андрей внимательно посмотрел на него. Микаэл выдержал этот взгляд и покачал головой:
— Люмбаго!
Надо было приступать к работе. Но, чем больше Андрей узнавал о предстоящем деле, тем меньше понимал его. В магазине он видел много ценных товаров — дорогих отрезов, готового платья. Почему грабители все это не взяли? Может, им кто-нибудь помешал?
— Удалось вам уже установить, что именно похищено?
— В магазине был ералаш: полки с дорогими материями перевернуты, костюмы, пальто валялись прямо на полу.
— Да уж видно, что тут хорошо поработали, — покрутил головой Микаэл.
— Надо сделать инвентаризацию и точно определить, чего не хватает.
Председатель уловил в голосе Андрея упрек.
— Ну, ждали указаний от вышестоящих! — сердито отозвался он. — Ждали инструкций, директив — что можно, что нельзя. Мы хоть и сами с головой, но во всем должен быть порядок.
— Все же я предупреждал, товарищ Зарзанд, что необходимо сделать инвентаризацию, — скромно заметил Микаэл.
— Ну и сделаем!
Вот еще — этот Микаэл! Сначала он понравился Андрею, но теперь возбуждал неприязнь. Очень уж старается выставить себя в лучшем виде и очернить всех других. Нет, верно, верно говорил капитан Миансаров: по неопытности начинаешь в каждом видеть преступника…
Андрей еще раз осмотрел магазин, дал Караю обнюхать пол возле прилавков и приказал взять след. Карай принюхался. Обычное в таких случаях возбуждение овладело им. Он рванулся к выходу.
— Почуял! — с уважением сказал Микаэл. — Сейчас найдет.
С крыльца Карай прыгнул в траву. Андрей прыгнул вслед за ним. Сзади бежали милиционер со своей собакой, председатель сельсовета, товарищ Микаэл, а чуть в отдалении — мальчишки. Микаэл крикнул им:
— Не топтаться на следу! Держитесь в стороне!
Карай уверенно взял направление. “Ведь вот молодец какой, — думал Андрей, следуя за ним по краю оврага, — никогда не подведет!” Он чуть сдерживал собаку.
Внезапно он почувствовал, что поводок ослаб в его руке. Карай стоял возле большого камня и с недоумением его обнюхивал.
— Вот на этом месте и та собачка остановилась, — сочувственно проговорил Микаэл, подбегая ближе. — Тут какая-то хитрость есть. Но этот твой пес — он преодолеет.
— Ищи, Карай, ищи!
Пес бессильно тыкался носом во все стороны, потом виновато вернулся к камню, полез на него передними лапами с недоумением посмотрел на хозяина. Озабоченный Андрей обошел камень вокруг, налег на него плечом и чуть откатил в сторону. Камень как камень. “Почему же Карай не идет дальше? Этого еще никогда не бывало…” Он отвел собаку шагов на двадцать назад и снова пустил по следу. И опять Карай добежал до камня — и остановился. Микаэл с сожалением зацокал языком. Мальчишки сзади захихикали. Карлос кричал на них и все старался как-нибудь выразить Андрею свое сочувствие. Председатель угрюмо сказал:
— Одну собаку кормили — говорят: “Сытая, потому и не нашла”; другую не кормили — тоже не нашла. Может быть, потому не нашла, что голодная?
— Что ты, товарищ Зарзанд, торопишься? — сказал милиционер из районного отдела. — Кобелек еще только начал работать. Он найдет! Лев и орел!
— Где у вас тут телефон? — спросил Андрей, делая вид, что не слышит всех этих разговоров.
Из помещения сельского совета Андрей позвонил в Ереван и, как было приказано, доложил обстановку. Оперативный дежурный выслушал его и сказал, что сейчас же свяжется с начальником — капитаном Миансаровым. “Трубку не бросай, жди!”
— Лейтенант Витюгин! — услышал Андрей хрипловатый голос начальника. — Что ж там у вас происходит?
Андрей снова повторил, что результатов пока нет, случай довольно затруднительный, след запутан.
— И ты уже растерялся?
— Собака не находит, товарищ начальник! Но еще не все шаги сделаны. Поиск продолжаю. Звоню, только чтобы вас проинформировать, помощи не прошу.
— А найдешь?
— Ручаться, конечно, не могу…
В трубке помолчали.
— Ладно, — проговорил, наконец, капитан Миансаров, — оставайтесь на месте. К тебе едет Геворк со своей собакой. Поступишь в его распоряжение.
— Есть! — воскликнул Андрей по возможности веселым голосом и положил трубку на рычаг.
Председатель сельсовета сидел, полузакрыв глаза, за письменным столом, к которому был приставлен другой стол, покрытый кумачом.
— Что теперь будем делать? — спросил он.
— Новую собаку пришлют.
— Будет ли эта новая собака лучше, чем эти две собаки, которые не смогли ничего найти?
— Ну, — огрызнулся Андрей, — не станут же к двум плохим собакам добавлять третью плохую!
Он страдал оттого, что Карай так оскандалился. Карая сравнивают с каким-то Асланом! Но что можно возразить? Он с жалостью смотрел на пса, клубком свернувшегося у его ног. “Эх, Карай, Карай! Надо же тебе было оказаться таким дурнем!”
В сельсовете не было никого из посторонних, только сам председатель, милиционер из районного отдела со своей собакой да еще Микаэл. Людям, которые заглядывали сюда по какому-нибудь делу, председатель с важным видом приказывал явиться позднее.
— Ясно одно, — сказал Андрей, — если даже здесь действовали приезжие преступники, они все равно были связаны с кем-нибудь из местных жителей.
Микаэл на каждое слово одобряюще кивал седой головой. Председатель открыл глаза и осторожно произнес:
— Допустим.
— Кого из местных людей можно заподозрить?
Оказалось, что подозревать особенно некого. В селе таких случаев прежде не бывало. Есть, правда, двое-трое с судимостями в прошлом, но сейчас все работают, все живут честно. Да и как сказать плохое о человеке, если нет фактов, чтобы подтвердить свои слова!
— Я хотел бы повидать продавца вашего магазина Грикора Самвеляна, — объявил Андрей.
Председатель сельсовета переглянулся с Микаэлом и опять стал тереть кулаком небритую щеку.
— Человек, как я уже указывал, болен, — нерешительно проговорил он. — Больного не вызовешь.
— Мы пойдем к нему на квартиру.
Идти решили все вместе. Только милиционер из районного отдела отказался.
— Я Грикора Самвеляна давно знаю и подозревать не могу, — твердил он угрюмо. — Грикор ни в чем не виноват. Мое мнение, что здесь наезжие элементы работали — награбили, погрузили в машину и увезли. Вот и весь разговор. И искать преступников надо уже не здесь, а в Ереване и, может, еще подальше…
Продавец магазина Грикор Самвелян жил на краю села, в чистеньком одноэтажном домике. Перед домом был разбит молодой сад.
— Вот богатство! — восхищался Микаэл, трогая еще зеленые плоды на персиковых деревьях. — За этот сад, знаете, наш Грикор кучу денег отвалил. Но стоит, стоит!
— Да будет тебе! — прикрикнул на него милиционер, который все-таки увязался за остальными. — Почему не купить, если он от сына деньги получил!
— Ну, я ничего и не говорю, — сконфузился Микаэл.
— А сын у него, ты же знаешь, военный человек!
— Пускай… пускай хоть сам генерал! — Микаэл улыбнулся. — Плохого в моих словах не было.
И опять его детская улыбка показалась до того знакомой Андрею, что он не выдержал и спросил:
— Мы с вами раньше не встречались где-нибудь?
— Вспомнили наконец, — сказал Микаэл, не проявляя, впрочем, особенного энтузиазма. — Коротка у нас встреча была…
— Но где? Когда?
— И помнить не стоит… — Микаэл говорил нехотя, как бы раздумывая, продолжать или остановиться. — На базаре это было, в Ереване… Да вы, наверно, помните. Просто вам хочется, чтоб я первый признался…
— Ага, — сухо сказал Андрей. — Теперь вспомнил.
Две недели назад, в воскресенье, Андрей встретился на базаре с Геворком. В Армении мужчины ходят на базар чаще, чем женщины. Дело мужчины купить, то есть “сделать базар”, дело женщины — вкусно приготовить. Геворк “делал базар” по всем правилам: ходил по мясному, овощному, фруктовому рядам, присматривался и приценивался к продуктам и наполнял свою корзину неторопливо и обдуманно. Андрей пришел покупать абрикосы. На базаре он всегда чувствовал себя беспомощным — старался купить там, где толпилось меньше народа. Однажды пошел покупать мясо и с торжеством принес домой буйволиную шею…
Встретив его, Геворк вызвался ему помочь: “Самые лучшие абрикосы купим!” Они уже два раза обошли фруктовые ряды. Геворк придирчиво осматривал выставленные плоды. Одни абрикосы казались ему недозрелыми, другие, наоборот, перезрелыми, те были слишком маленькие, а эти хоть и крупные, да чересчур дорогие.
“Что уж там, — смущенно бормотал Андрей, держась позади, — всего два кило надо… какие есть, такие и взять…”
Базар шумел. Колхозники, привезшие в город фрукты, наперебой хвалили свой товар.
“Душистый, пушистый, приятный, ароматный — анютины глазки!” — кричал краснощекий мужчина, адресуя все эти комплименты маленькому абрикосу, который он подбрасывал кверху и снова ловил в картуз.
“Пойдешь мимо — пожалеешь, вернешься — поздно будет!” — ласково уговаривал другой.
“Стоп! — сказал Геворк. — Вот то, что тебе нужно. Лучший сорт и обойдется дешево. Это знакомый человек — он мне уступит”.
Возле огромной плетеной корзины стоял с равнодушным видом хозяин — седой человек с черными бровями, одетый в белый парусиновый китель. Абрикосы у него были отборные, один к одному, — желтые, словно само солнце, крупные, как гусиные яйца. Штучный товар. Но покупателей не находилось. Отпугивала цена, жирно выписанная на листочке, прикрепленном к ручке плетеной корзины. Продавец не торговался, не уступал и только, если ему предлагали другую цену, указывал непреклонно пальцем на свой листочек.
“Здорово!” — приветствовал его Геворк.
“A-a, дорогой Геворк! — воскликнул продавец и протянул обе руки. — Почет тебе и уважение! Как дела?”
“Как ты поживаешь?”
“Что я, а? Зачем обо мне говорить! Маленький человек!”
“Из своего сада абрикосы?”
“Да, привез вот эту хурду-ерунду! — презрительно сказал продавец. — А ты что ищешь?”
“Хочу для друга абрикосы купить, которые получше”.
Продавец подарил Андрея приятной улыбкой.
“Получше ищете? — Продавец притянул Геворка к себе и понизил голос: — Если хочешь хорошие купить, у меня не покупай”.
“Почему?”
“Тш-ш-ш! Пусть никто не слышит… Эти абрикосы — один только вид. Дорогие и плохие. Как своему человеку говорю…”
Вот этот торговец абрикосами и был тот самый Микаэл, который теперь вел Андрея на квартиру к продавцу сельского магазина Грикору Самвеляну.
Низкая деревянная тахта была покрыта ковром. Грикор Самвелян лежал на тахте под толстым зимним одеялом и все-таки мерз. Глаза его беспокойно забегали, когда он увидел входящих в комнату людей. Он сделал попытку приподняться — и застонал.
Андрей поздоровался:
— Приходится вас беспокоить, несмотря на вашу болезнь. Вы что же, не хотите, значит, принять участие в инвентаризации?
— Милиция прибыла, — приветливо объявил он колхозникам, которые оказались поближе. — Какие у вас тут происшествия?
Люди заговорили разом:
— Убийство у нас… Ограбление было… Ночью в магазин залезли…
Морщинистый старик в шевиотовом пиджаке с круто подложенными плечами — видно, сыновний пиджак — спросил:
— Найдет ли преступников эта твоя ученая собака?
— Приложим силы, — сказал Андрей.
— Ну, я сомневаюсь. Она, конечно, хорошая собака, ничего не скажешь, но у нас земля легкая, духа не держит. Собака, которую привели из района, ничего не смогла найти.
Расталкивая толпу, к Андрею шли трое. По их властным жестам, по осанке он понял, что это представители власти. Один из них, в милицейской форме, вел на поводке небольшую серую овчарку. Видимо, это и была та собака, которую прислали из районного центра. Другой, с орлиным взглядом, весь седой до той тонкой белизны, которая напоминает снег, но с густыми черными бровями, шел посредине. Его-то Андрей и принял за главного начальника. Но главным оказался третий — председатель сельсовета, высокий и толстый человек, гололобый, давно уже не бритый и очень уставший.
— Здравствуйте, — сердито проговорил он.
Андрей приложил руку к козырьку фуражки:
— Добрый день!
— Почему остановились, не дойдя до места?
Ответить Андрею помешали колхозники. Чей-то голос в толпе с достоинством объяснил:
— Товарищ беседовал с нами.
— Для бесед мы вызываем агитаторов. Милиция же приезжает, чтобы работать. Каждый приезжий должен первым делом явиться к председателю Сельсовета.
Андрей выслушал эту нотацию с мягкой улыбкой и попытался оправдаться:
— Граждане дали мне информацию…
— Информироваться нужно не от граждан, а от властей. У нас произошло убийство.
— Это как будто еще не доказано, — сказал Андрей.
Председатель сельсовета потер кулаком небритую щеку.
— Произошло, значит, убийство. Притом — с ограблением магазина… Мкртчян! — позвал он негромко, и к нему сразу же подскочил парень в парусиновом кителе. — Мкртчян, надо обеспечить, чтоб была хорошо накормлена эта сыскная собака.
— Накормим, товарищ Зарзанд! — отчеканил парень.
Председатель назидательно поднял кверху палец:
— Пусть поработает, потом пусть покушает. Еды не пожалеем. Правильно я говорю?
— Вот уж это никак не выйдет, — сказал Андрей, подбирая поводок. — Посторонние не должны кормить собаку.
Председатель на секунду задумался. В его заплывших глазах промелькнуло выражение обиды и беззащитности.
— Ты ко мне, в мое село приехал и еще говоришь, что я посторонний! Ладно, пусть твоя собака голодная ходит. Ты, значит, нашего гостеприимства не оцениваешь.
— Не обижайтесь, товарищ председатель… — Андрей был немного смущен этим натиском. Не понимает человек, надо ему объяснить. — Вот среди вас я вижу милиционера. Пусть хоть он скажет: можно кормить служебную собаку в такой обстановке или не полагается? А за гостеприимство — большая благодарность…
— А что ему говорить! — Председатель пренебрежительно махнул рукой в сторону районного милиционера. — Его собака накормлена. Раз поработала, хоть и безрезультатно, — пускай ест. Мы хотели, чтоб и твоей собаке то же самое было, но ты, видно, очень высоко свою собаку ставишь.
Степенный, дородный милиционер, с такой прической, будто ему на голову наклеили кусок из каракулевой шубы, сконфуженно покашлял в кулак.
— Вообще, конечно, кормить не полагается, особенно в период работы. Но я думаю, что среди своих людей, как наш уважаемый товарищ Зарзанд или товарищ Микаэл, это ничего плохого не составляет.
Андрей почувствовал, что от него пахнет водкой, и сухо проговорил:
— Дело ваше. Я свою собаку кормить не позволю. Да и сам во время работы не пью и не ем.
Седой с черными бровями — это его и звали Микаэлом — внимательно слушал председателя сельсовета и кивал одобрительно головой; затем он выслушал милиционера и тоже кивнул; на последние слова Андрея он опять закивал, как бы одобряя в равной степени и претензии председателя, и оправдания милиционера, и отповедь Андрея.
— Вот так и надо работать — и будет толк! — воскликнул он, двигая черными бровями. — А то ведь некоторые приезжают в колхоз, как в ресторан, — поесть, попить. — Он светло улыбнулся, адресуя улыбку одному только Андрею, и Андрей не смог не улыбнуться ему в ответ. — Наш товарищ Зарзанд… — начал Микаэл интимно, понизив голос почти до шепота (но все равно председатель сельсовета мог его очень хорошо слышать), — наш Зарзанд. — это самый золотой человек в селе. Большой руководитель! Когда и поругает, не надо обижаться. Учит. Учение — не обида… — Тут он потянул председателя сельсовета за рукав. — Надо бы, товарищ Зарзанд, показать человеку место происшествия.
Председатель все еще был сердит.
— Что показывать! Место происшествия — это наш магазин, — мрачно объявил он и пошел к дому с приступочками.
Андрей шел позади, сдерживая Карая. А за ними стеной двигались любопытные. Толпа становилась все больше и больше. Мальчишки громко обсуждали достоинства двух служебных собак и единодушно пришли к выводу, что Карай лучше. Такую оценку Андрей выслушал с серьезным видом и суровым лицом, но не без удовольствия.
Пока шли, Микаэл несколько раз оборачивался к Андрею — всякий раз с доброй улыбкой — и спрашивал, не помешает ли сыскной собаке абрикосовый дух.
— Я распорядился, — говорил он, — чтобы подозреваемое место, то есть, где побывал ночью преступный мир, было под охраной и чтобы там никто не топтался. Наш народ любопытный, прямо беда! Но следы сохранены в неприкосновенности.
— Вот и хорошо, — поощрил его Андрей. — Это вы проявили довольно-такиумную предусмотрительность.
Судя по тому, как властно распоряжался Микаэл, он был здесь одним из первых людей. Приятный человек — деловой, понимающий. Интересная у него улыбка — мягкая и открытая, словно у ребенка. И при седых волосах — такие черные брови… “Этого человека я где-то раньше видел”, — думал Андрей.
Чуть поотстав от своих спутников, Андрей спросил у ближайшего из подростков:
— Этот Микаэл — он кто у вас?
— Микаэл — это его имя, — сказал мальчик, видимо не поняв вопроса. — Микаэл-дядя. А меня зовут Карлос, — добавил он общительно в надежде, что такой важный человек, как Андрей, будет отныне его знакомым.
— Должность у него какая?
Карлос обернулся назад и поговорил с другими мальчиками. Каждый из них что-то сказал. Потом что-то сказал старик в шевиотовом пиджаке. Наконец Андрей получил ответ.
— У него нет должности.
— А почему же он распоряжается?
На этот вопрос никто не смог ответить.
“А все же я его где-то видел”, — пытался вспомнить Андрей. И улыбка, и голос, и седые волосы — все казалось знакомым. Но, видно, очень уж короткой была встреча, если она оставила такой туманный след.
Еле державшиеся на покореженных петлях двери магазина оказались на запоре. Зарзанд отомкнул висячий замок и первым вошел внутрь помещения. Любопытные остановились на улице у крылечка.
— Убийство, надо полагать, случилось на крылечке, — объяснил милиционер, виновато поглядывая на Андрея. — Насколько можно понять, сторожа ударили сзади. Потому он и не успел зашуметь.
— А почему вы уверены, что это было убийство? Труп ведь не обнаружен. Нельзя ли предположить, что никакого убийства не было и этот Вахтанг действовал заодно с преступниками?
Андрей чувствовал себя неловко, задавая этот вопрос. Он вспомнил горячие, гневные глаза Марьямик и ее слова: “Пусть эта глупая мысль уйдет без остатка!” Но, в конце концов, он приехал сюда, чтобы раскрыть преступление, и его работе не должно мешать ничье мнение.
— Предположить все можно, — недовольно сказал милиционер из районного отдела. — Только прежде, чем предполагать, надо узнать, кто такой дед Вахтанг. Уж одного того хватит, что он родственник Марьямик. И кто его знал, тот плохого о нем не подумает.
— Где же он?
— Если бы знать, где он, — хрипло проговорил председатель сельсовета, — так, может, все бы вопросы сразу разъяснились…
Андрей пошел по магазину, переступая через груды сваленных на полу товаров. Милиционер стоял у дверей и курил папиросу.
— Вы пускали по следу свою собаку?
— Пускал, — неохотно отозвался милиционер. — Тут, понимаете, такие условия…
— Пускать-то он пускал, — проговорил председатель сельсовета, — но у него ничего не вышло. Эта собака искать преступников не может.
— Что значит — не может? Не было бы у вас так натоптано, и мой Аслан взял бы след.
— Позвольте, — сказал Андрей, — мне говорили, что следы сохранены в неприкосновенности.
— Где ж сохранены, если тут топталась не меньше половины деревни!
Андрей вопросительно взглянул на Микаэла; тот с сожалением причмокнул языком и тронул милиционера за пуговицу гимнастерки.
— Говорит, э-э! — с досадой воскликнул он. — Зачем так необоснованно говоришь, вводишь в заблуждение людей? Разве я не давал указание, чтоб очистили местность?
— Это верно, — согласился милиционер, — я не буду зря болтать. Когда товарищ Микаэл пришел, местность очистили.
— По моему указанию!
— Точно, товарищ Микаэл. Но к тому моменту сколько тут ног прошло — это даже сосчитать невозможно.
— Ну, это уже другой вопрос! — Микаэл высоко поднял и опустил черные брови. — Ты кляузу не разводи.
— Да я ничего, я только говорю, что в такой обстановке Аслан все же унюхал и повел…
Серая овчарка, словно чувствуя, что разговор идет о ней, шевелила настороженными ушами и все старалась пробраться поближе к Караю. Карай же сохранял позицию величавой неприступности и лишь по временам судорожно зевал.
Микаэл осмотрел его взглядом знатока.
— Этот найдет! Этот из-под земли преступника выкопает! Вы представляете, — сказал он, обращаясь к Андрею, — вот эта бедненькая собачка из районного отдела — она сотню шагов пробежала и потеряла след. Три раза дуру такую пускали — как до того большого камня дойдет, так и садится.
— Следы затоптаны, — бубнил милиционер, — потому и садится.
— Э-э, друг, не говори! — Микаэл вытащил из кармана грязноватый кусок сахара и на раскрытой ладони протянул Караю. Пес отшатнулся и заворчал. — Видишь, не берет! Умница, дивный пес, воспитанный! А теперь смотри! — Он бросил тот же кусок сахара серой овчарке. Собака подпрыгнула, ловко поймала сахар, в одну секунду раздробила его белыми зубами и с хрустом сожрала. — И ты хочешь, чтоб твоя несчастная собака с этим львом равнялась? Теперь понимаешь разницу? Такая собака, как эта твоя, не может служить народу!
— Вот уж и не может… — сконфуженно возразил милиционер. — Аслан себя еще проявит.
Андрей оборвал эти препирательства.
— Почему не видно здесь продавца вашего магазина? — спросил он строго. — Разве его не касается розыск преступников?
Микаэл потупился.
— Что можно ответить? Говори лучше ты, товарищ Зарзанд.
— Заболел продавец. Грикором звать, Грикор Самвелян. Вчера к вечеру захворал и лежит дома. Звали — не может прийти.
Микаэл тихонько подергал Андрея за рукав:
— Сильно болеет. Есть такая болезнь — температуру не показывает, опухоль не дает, ничего не дает, ничего не показывает. Только сам человек знает, что он больной. Люмбаго называется…
Андрей внимательно посмотрел на него. Микаэл выдержал этот взгляд и покачал головой:
— Люмбаго!
Надо было приступать к работе. Но, чем больше Андрей узнавал о предстоящем деле, тем меньше понимал его. В магазине он видел много ценных товаров — дорогих отрезов, готового платья. Почему грабители все это не взяли? Может, им кто-нибудь помешал?
— Удалось вам уже установить, что именно похищено?
— В магазине был ералаш: полки с дорогими материями перевернуты, костюмы, пальто валялись прямо на полу.
— Да уж видно, что тут хорошо поработали, — покрутил головой Микаэл.
— Надо сделать инвентаризацию и точно определить, чего не хватает.
Председатель уловил в голосе Андрея упрек.
— Ну, ждали указаний от вышестоящих! — сердито отозвался он. — Ждали инструкций, директив — что можно, что нельзя. Мы хоть и сами с головой, но во всем должен быть порядок.
— Все же я предупреждал, товарищ Зарзанд, что необходимо сделать инвентаризацию, — скромно заметил Микаэл.
— Ну и сделаем!
Вот еще — этот Микаэл! Сначала он понравился Андрею, но теперь возбуждал неприязнь. Очень уж старается выставить себя в лучшем виде и очернить всех других. Нет, верно, верно говорил капитан Миансаров: по неопытности начинаешь в каждом видеть преступника…
Андрей еще раз осмотрел магазин, дал Караю обнюхать пол возле прилавков и приказал взять след. Карай принюхался. Обычное в таких случаях возбуждение овладело им. Он рванулся к выходу.
— Почуял! — с уважением сказал Микаэл. — Сейчас найдет.
С крыльца Карай прыгнул в траву. Андрей прыгнул вслед за ним. Сзади бежали милиционер со своей собакой, председатель сельсовета, товарищ Микаэл, а чуть в отдалении — мальчишки. Микаэл крикнул им:
— Не топтаться на следу! Держитесь в стороне!
Карай уверенно взял направление. “Ведь вот молодец какой, — думал Андрей, следуя за ним по краю оврага, — никогда не подведет!” Он чуть сдерживал собаку.
Внезапно он почувствовал, что поводок ослаб в его руке. Карай стоял возле большого камня и с недоумением его обнюхивал.
— Вот на этом месте и та собачка остановилась, — сочувственно проговорил Микаэл, подбегая ближе. — Тут какая-то хитрость есть. Но этот твой пес — он преодолеет.
— Ищи, Карай, ищи!
Пес бессильно тыкался носом во все стороны, потом виновато вернулся к камню, полез на него передними лапами с недоумением посмотрел на хозяина. Озабоченный Андрей обошел камень вокруг, налег на него плечом и чуть откатил в сторону. Камень как камень. “Почему же Карай не идет дальше? Этого еще никогда не бывало…” Он отвел собаку шагов на двадцать назад и снова пустил по следу. И опять Карай добежал до камня — и остановился. Микаэл с сожалением зацокал языком. Мальчишки сзади захихикали. Карлос кричал на них и все старался как-нибудь выразить Андрею свое сочувствие. Председатель угрюмо сказал:
— Одну собаку кормили — говорят: “Сытая, потому и не нашла”; другую не кормили — тоже не нашла. Может быть, потому не нашла, что голодная?
— Что ты, товарищ Зарзанд, торопишься? — сказал милиционер из районного отдела. — Кобелек еще только начал работать. Он найдет! Лев и орел!
— Где у вас тут телефон? — спросил Андрей, делая вид, что не слышит всех этих разговоров.
Из помещения сельского совета Андрей позвонил в Ереван и, как было приказано, доложил обстановку. Оперативный дежурный выслушал его и сказал, что сейчас же свяжется с начальником — капитаном Миансаровым. “Трубку не бросай, жди!”
— Лейтенант Витюгин! — услышал Андрей хрипловатый голос начальника. — Что ж там у вас происходит?
Андрей снова повторил, что результатов пока нет, случай довольно затруднительный, след запутан.
— И ты уже растерялся?
— Собака не находит, товарищ начальник! Но еще не все шаги сделаны. Поиск продолжаю. Звоню, только чтобы вас проинформировать, помощи не прошу.
— А найдешь?
— Ручаться, конечно, не могу…
В трубке помолчали.
— Ладно, — проговорил, наконец, капитан Миансаров, — оставайтесь на месте. К тебе едет Геворк со своей собакой. Поступишь в его распоряжение.
— Есть! — воскликнул Андрей по возможности веселым голосом и положил трубку на рычаг.
Председатель сельсовета сидел, полузакрыв глаза, за письменным столом, к которому был приставлен другой стол, покрытый кумачом.
— Что теперь будем делать? — спросил он.
— Новую собаку пришлют.
— Будет ли эта новая собака лучше, чем эти две собаки, которые не смогли ничего найти?
— Ну, — огрызнулся Андрей, — не станут же к двум плохим собакам добавлять третью плохую!
Он страдал оттого, что Карай так оскандалился. Карая сравнивают с каким-то Асланом! Но что можно возразить? Он с жалостью смотрел на пса, клубком свернувшегося у его ног. “Эх, Карай, Карай! Надо же тебе было оказаться таким дурнем!”
В сельсовете не было никого из посторонних, только сам председатель, милиционер из районного отдела со своей собакой да еще Микаэл. Людям, которые заглядывали сюда по какому-нибудь делу, председатель с важным видом приказывал явиться позднее.
— Ясно одно, — сказал Андрей, — если даже здесь действовали приезжие преступники, они все равно были связаны с кем-нибудь из местных жителей.
Микаэл на каждое слово одобряюще кивал седой головой. Председатель открыл глаза и осторожно произнес:
— Допустим.
— Кого из местных людей можно заподозрить?
Оказалось, что подозревать особенно некого. В селе таких случаев прежде не бывало. Есть, правда, двое-трое с судимостями в прошлом, но сейчас все работают, все живут честно. Да и как сказать плохое о человеке, если нет фактов, чтобы подтвердить свои слова!
— Я хотел бы повидать продавца вашего магазина Грикора Самвеляна, — объявил Андрей.
Председатель сельсовета переглянулся с Микаэлом и опять стал тереть кулаком небритую щеку.
— Человек, как я уже указывал, болен, — нерешительно проговорил он. — Больного не вызовешь.
— Мы пойдем к нему на квартиру.
Идти решили все вместе. Только милиционер из районного отдела отказался.
— Я Грикора Самвеляна давно знаю и подозревать не могу, — твердил он угрюмо. — Грикор ни в чем не виноват. Мое мнение, что здесь наезжие элементы работали — награбили, погрузили в машину и увезли. Вот и весь разговор. И искать преступников надо уже не здесь, а в Ереване и, может, еще подальше…
Продавец магазина Грикор Самвелян жил на краю села, в чистеньком одноэтажном домике. Перед домом был разбит молодой сад.
— Вот богатство! — восхищался Микаэл, трогая еще зеленые плоды на персиковых деревьях. — За этот сад, знаете, наш Грикор кучу денег отвалил. Но стоит, стоит!
— Да будет тебе! — прикрикнул на него милиционер, который все-таки увязался за остальными. — Почему не купить, если он от сына деньги получил!
— Ну, я ничего и не говорю, — сконфузился Микаэл.
— А сын у него, ты же знаешь, военный человек!
— Пускай… пускай хоть сам генерал! — Микаэл улыбнулся. — Плохого в моих словах не было.
И опять его детская улыбка показалась до того знакомой Андрею, что он не выдержал и спросил:
— Мы с вами раньше не встречались где-нибудь?
— Вспомнили наконец, — сказал Микаэл, не проявляя, впрочем, особенного энтузиазма. — Коротка у нас встреча была…
— Но где? Когда?
— И помнить не стоит… — Микаэл говорил нехотя, как бы раздумывая, продолжать или остановиться. — На базаре это было, в Ереване… Да вы, наверно, помните. Просто вам хочется, чтоб я первый признался…
— Ага, — сухо сказал Андрей. — Теперь вспомнил.
Две недели назад, в воскресенье, Андрей встретился на базаре с Геворком. В Армении мужчины ходят на базар чаще, чем женщины. Дело мужчины купить, то есть “сделать базар”, дело женщины — вкусно приготовить. Геворк “делал базар” по всем правилам: ходил по мясному, овощному, фруктовому рядам, присматривался и приценивался к продуктам и наполнял свою корзину неторопливо и обдуманно. Андрей пришел покупать абрикосы. На базаре он всегда чувствовал себя беспомощным — старался купить там, где толпилось меньше народа. Однажды пошел покупать мясо и с торжеством принес домой буйволиную шею…
Встретив его, Геворк вызвался ему помочь: “Самые лучшие абрикосы купим!” Они уже два раза обошли фруктовые ряды. Геворк придирчиво осматривал выставленные плоды. Одни абрикосы казались ему недозрелыми, другие, наоборот, перезрелыми, те были слишком маленькие, а эти хоть и крупные, да чересчур дорогие.
“Что уж там, — смущенно бормотал Андрей, держась позади, — всего два кило надо… какие есть, такие и взять…”
Базар шумел. Колхозники, привезшие в город фрукты, наперебой хвалили свой товар.
“Душистый, пушистый, приятный, ароматный — анютины глазки!” — кричал краснощекий мужчина, адресуя все эти комплименты маленькому абрикосу, который он подбрасывал кверху и снова ловил в картуз.
“Пойдешь мимо — пожалеешь, вернешься — поздно будет!” — ласково уговаривал другой.
“Стоп! — сказал Геворк. — Вот то, что тебе нужно. Лучший сорт и обойдется дешево. Это знакомый человек — он мне уступит”.
Возле огромной плетеной корзины стоял с равнодушным видом хозяин — седой человек с черными бровями, одетый в белый парусиновый китель. Абрикосы у него были отборные, один к одному, — желтые, словно само солнце, крупные, как гусиные яйца. Штучный товар. Но покупателей не находилось. Отпугивала цена, жирно выписанная на листочке, прикрепленном к ручке плетеной корзины. Продавец не торговался, не уступал и только, если ему предлагали другую цену, указывал непреклонно пальцем на свой листочек.
“Здорово!” — приветствовал его Геворк.
“A-a, дорогой Геворк! — воскликнул продавец и протянул обе руки. — Почет тебе и уважение! Как дела?”
“Как ты поживаешь?”
“Что я, а? Зачем обо мне говорить! Маленький человек!”
“Из своего сада абрикосы?”
“Да, привез вот эту хурду-ерунду! — презрительно сказал продавец. — А ты что ищешь?”
“Хочу для друга абрикосы купить, которые получше”.
Продавец подарил Андрея приятной улыбкой.
“Получше ищете? — Продавец притянул Геворка к себе и понизил голос: — Если хочешь хорошие купить, у меня не покупай”.
“Почему?”
“Тш-ш-ш! Пусть никто не слышит… Эти абрикосы — один только вид. Дорогие и плохие. Как своему человеку говорю…”
Вот этот торговец абрикосами и был тот самый Микаэл, который теперь вел Андрея на квартиру к продавцу сельского магазина Грикору Самвеляну.
Низкая деревянная тахта была покрыта ковром. Грикор Самвелян лежал на тахте под толстым зимним одеялом и все-таки мерз. Глаза его беспокойно забегали, когда он увидел входящих в комнату людей. Он сделал попытку приподняться — и застонал.
Андрей поздоровался:
— Приходится вас беспокоить, несмотря на вашу болезнь. Вы что же, не хотите, значит, принять участие в инвентаризации?
 — Жена пошла вместо меня, — сказал продавец, натягивая одеяло до самого подбородка. — Я болен.
— Когда началась болезнь?
— Вчера вечером. Сразу скрутило меня. Я запер магазин и ушел.
Он вдруг шмыгнул носом. Андрей заметил, что у него очень узкий нос. Будто вырезали ему треугольник из фанеры и прилепили острым углом вперед на широкое белое лицо с печальными глазами.
— К врачу обращались?
— А что врач! Велел гладить поясницу горячим утюгом. А оно не помогло.
— И часто у вас это бывает?
— Первый раз.
— Он здоровый мужчина, — одобрительно проговорил Микаэл, — никогда не хворает… Верно, Грикор? Привезут в магазин товары, так он пятипудовые мешки словно камешки бросает. На него болезней не было. Только вчера заболел в первый раз. Простудился ты, что ли, Грикор?
— Может, и простыл. Кто знает!
— Кашель или чихоту не имеешь?
Продавец беспокойно вздохнул:
— Ничего нет — ни жару, ни кашля, только вот повернуться невозможно.
— Ты смотри, какая болезнь!
Андрей заглянул в другую комнату. На тумбочке стоял новенький радиоприемник, на окнах висели тюлевые занавески. Комната была светлая, чистая, недавно побеленная.
— Хороший у него дом! — похвалил Микаэл таким тоном, словно он ставил это в вину Грикору Самвеляну.
— Дом ничего… Товарищи, — вдруг с натугой произнес Грикор и покраснел, — ведь я должен вам одну вещь заявить…
— Ну! — подогнал его Андрей.
— Вчерашний день мы с утра хорошо торговали, большая выручка была. Но я, когда заболел и ушел, все оставил в магазине. Все деньги. Я думал, что скоро вернусь…
— Ну! — еще строже, чем прежде, проговорил Андрей.
“Сейчас врать начнет”, — с отвращением подумал он, но тут же остановил себя. Тысячу раз капитан Миансаров говорил: “Не проявляйте подозрительности раньше времени — это вред делу…”
Председатель сельсовета сопел и молчал.
— Как мы узнали утром, что убит сторож, — сказал Грикор, и его жилистая рука забегала по шелковому верху одеяла, — так моя жена сразу пошла в магазин. Но уже тех денег не оказалось… — Он скорбно взглянул на людей, обступивших его постель.
Милиционер из районного отделения вздохнул. Председатель сельсовета с шумом оттолкнул стул.
— Разве вы имели право… — начал он гневно.
Грикор попытался перебить его:
— Товарищ Зарзанд…
— Подождите! Сейчас я говорю. Какое вы себе взяли право оставлять денежные суммы в магазине? Вам известно, что деньги полагается сдавать?
— Так ведь болезнь…
— Сколько там денег было?
— Много… — Грикор всхлипнул. — Почти что двадцать тысяч…
Андрей поднялся со стула. Тотчас вскочил и Карай, который лежал на брюхе у дверей, вытянув передние лапы и подобрав под себя задние.
— Так, — сказал Андрей, — с вами еще разговоры впереди. Большие разговоры! А мы сейчас пойдем в магазин и точно установим, что еще похищено, кроме денег.
Первый человек, кого они встретили, выйдя на улицу, был колхозный бухгалтер. Его включили в комиссию по инвентаризации, и он торопился доложить о результатах проверки. Он был озадачен.
— Странные грабители — ничего не взяли! Почти все товары налицо, кроме мужского костюма — пятидесятый размер — и двух бутылок водки. Из-за чего убит дед Вахтанг, а? — спрашивал он, пристально глядя из-под очков.
— Всё точно подсчитали?
— Можете не сомневаться!
Теперь уже заходить в магазин было незачем.
— Товарищи, — сказал Андрей, — вы меня извините, я от вас отстану…
Микаэл взял его под локоть. “Старик, старик, а какая у него крепкая рука…”
— Да брось! Не огорчайся, — сказал Микаэл. — Не все же работать! Пойдем ко мне, полчаса посидим под деревом в моем садике.
— Не могу, спасибо.
— Что за дела отвлекают?
Андрей освободил свой локоть:
— Никаких особенных дел. Хочу походить, подумать…
— Ну, так и мы с тобой пойдем, в случае чего — поможем.
— Какая уж тут помощь… — Андрей коснулся козырька милицейской фуражки. — Я скоро вернусь.
Он быстро пошел по улице. Карай деловито шел у его левой ноги.
Мальчишки, которые неотступно следовали за полюбившейся им собакой, правда сохраняя на всякий случай приличную дистанцию, и теперь остались верны себе. Они отвернулись от серой овчарки и милиционера из районного отделения, от Микаэла, от самого товарища Зарзанда и дружно повернули за Андреем. Впереди бежал Карлос. Андрей позвал его. Мальчик отделился от сверстников и стал приближаться — сначала быстро, потом все медленнее. Он боялся собаки.
— Просьба будет к тебе… — начал Андрей.
— Скажите, дядя!
— Проводи меня, пожалуйста, в правление колхоза.
Карлос опасливо покосился на собаку:
— Рядом с вами идти или с мальчиками?
— Конечно, мне было бы приятней, чтоб ты шел со мной.
Карлос кивнул головой. Он воспринял эти слова как должное. Только спросил:
— А не укусит?
— Нет, он не кусается.
Сперва мальчик шел возле Андрея, потом осмелел и перебрался поближе к Караю.
— Можно, я его поведу?
Андрей чмокнул языком — он уже перенял от других эту привычку.
— Очень я хотел бы выполнить твою просьбу, но ты пойми меня: не полагается! Хорошая служебная собака должна признавать только своего хозяина.
Они приближались к центру села. На улице людей встречалось мало — колхозники были в поле, на уборке. Стоял дремотный полдень. Журчали арыки, по которым вода текла в сады. На площади возле клуба совсем маленькие мальчики гоняли футбольный мяч; ребята постарше бегали друг за другом на ходулях.
— Что это у вас, ходулями увлекаются?
— Еще как! Только ходят плохо! — Карлос презрительно сплюнул. — Было бы время, я показал бы этой мелюзге, как надо ходить! Лучше меня здесь никто не ходит.
Из-за угла вывернулась бабка, недовольно покосилась на собаку и принялась отчитывать Карлоса.
— Что это она? — спросил Андрей.
Карлос покраснел:
— Ругает меня…
— Это я понял. А почему?
— Кто-то ночью ходил на ходулях, а она придирается — думает, что я. “Днем, говорит, вам времени мало”. Это такая бабушка — ей всегда кто-нибудь пять копеек должен!
Вход в колхозную контору был устроен с веранды. Карлос поднялся по ступенькам, Андрей остался ждать — неудобно входить в помещение с собакой. Около веранды стояла на привязи оседланная лошадь. Карай редко видел лошадей, ему казалось, что к этому большому зверю безопаснее всего подходить сзади, — и он натянул поводок, ворча и принюхиваясь к лошадиным запахам.
— Эх, не очень ты у меня образованный! — сказал Андрей, осаживая собаку. — Знай на будущее: к лошади надо подходить сбоку, к овце — спереди, а уж к корове — сзади.
Лошадь топнула ногой — Карай отпрыгнул назад на полметра.
На веранде показался Карлос.
— Председатель в поле, другие тоже все разъехались. Один Галуст здесь — прискакал вон на этой лошади.
— Кто такой Галуст?
— Партийный секретарь.
— Очень хорошо. Вот его мне больше всех и нужно.
— Его на молочную ферму вызвали, — сказал Карлос. — Хотите, провожу?
Ферма помещалась на краю села. Оттуда доносился быстрый перезвон молотков и лязг железа, тонкий, пронзительный скрежет пилы. В этом конце села были сосредоточены мастерские и животноводческие постройки. Над всем главенствовала силосная башня — пузатая, красная, выстроенная с такой фундаментальной прочностью, что стоять ей века и века. Неподалеку от нее тянулись опрятные, свежебеленные хлевы, хоть невысокие, но очень длинные — не хлев, целая улица! Повеяло душистыми запахами скошенных трав. Карай насторожил уши, непрестанно шевелил мокрым черным носом.
Андрей отвел собаку в холодок, поближе к копне сена, и приказал лежать. Теперь, что бы ни случилось, пес не поднимется с места, пока хозяин не отменит своего приказа.
Секретаря колхозной парторганизации удалось найти в одном из коровников. Тут было прохладно и пусто. Скот еще весной перегнали на эйлаг — высокогорное пастбище. Только в двух стойлах находились коровы, их и обступили люди.
В коровнике только что закончились какие-то строительные работы. Тут и там лежали обтесанные камни. У одной стены были сложены металлические трубы. У бревенчатого потолка висели толстые тросы, на них покачивалась вагонетка. Карлос чуть прикоснулся к ней рукой, и она легко покатилась по тросу.
Галуст, крепкий, дочерна обожженный солнцем, пошел навстречу Андрею, приветственно подняв кверху руку. Он начал с извинений: пусть не думает лейтенант милиции, что мы не интересуемся розысками. Просто время такое — идет уборка, все в поле. Вот всего на минутку удалось прискакать в село. Ведь такое событие сегодня! Галуст обвел рукой коровник, и глаза у него засияли. Но он тут же притушил их блеск.
— Я слушаю вас, товарищ лейтенант…
— А какое у вас сегодня событие? — вежливо спросил Андрей.
— Вообще-то, может, не ко времени говорить об этом… — неохотно начал Галуст, но глаза у него опять засияли. — Первая в нашем районе полная комплексная механизация животноводства. Только что закончили. Подвесная дорога — корм будет подаваться механизированно. Толкнешь пальчиком — и вагонетка в полтонны весом едет себе спокойненько. Кто потаскал пятипудовые мешки на своей спине, как, например, я в свое время, тот оценит! Да это что! — Галуст махнул рукой. — Это уже во многих колхозах есть. А вот механизированное кормоприготовление — это новинка. Или такая вещь — электричеством доить коров. Или автопоилки… Специально с гор пригнали двух коров, чтобы посмотреть, как они будут пить.
Галуст постеснялся сказать, что это он сам пригнал коров — выехал за ними в горы ни свет ни заря. Он повел Андрея к стойлу. Сколько было хлопот с этой механизацией! Нашлись люди, говорили, что все это преждевременная затея. Можно, мол, разумнее истратить деньги. Галуст никак не мог с ними согласиться. Теперь дело само скажет за себя.
В каждом стойле к столбику была прикреплена металлическая раковинка с педалью на донышке. Белая корова сунула в раковину нос и чуть прижала педаль. Сразу же снизу пошла вода, раковинка наполнилась. При торжественном молчании всех присутствующих корова напилась. Подняла голову. Вода исчезла.
— Условный рефлекс, — значительно сказал Галуст. — Захочет пить — нажмет педальку. Раньше не так было — терпи, корова, пока о тебе не вспомнят!
— Это дело знакомо, — улыбнулся Андрей. — У нас в питомнике все воспитание собак основано на условном рефлексе. — Он не хотел уступить Галусту в понимании всех этих важных вопросов и потому добавил: — Учение академика Павлова…
— Вот именно! — подхватил Галуст. — Теперь мы в районе по животноводству и табаку на первое место выйдем. — Он взглянул на Андрея и смутился: человек его на ферме разыскал, чтобы о деле поговорить, а он ему и слова не дал вымолвить. — Извините… — Галуст озабоченно покашлял в кулак. — Пройдемте сюда… — Он повел Андрея в дальний конец коровника. — Одно скажу, — Галуст серьезно посмотрел на Андрея, — колхозники наши очень возмущены, что у нас в селении такой случай. Будет большое разочарование, если не удастся открыть преступника.
— Запутанное дело, знаете ли… — Андрей попытался улыбкой прикрыть смущение. Человеку легко рассказывать о своих удачах, а для объяснения неудач всегда хочется найти какие-нибудь послабляющие обстоятельства. Нет, ты умей быть мужественным, когда у тебя ничего не получается!
— Трудно будет, — признался Андрей, глядя прямо в лицо своему собеседнику. — Пока что просто ничего не выходит.
Галуст нахмурился:
— Председатель сельсовета вам не помогает?
— Нет, почему… Да что он может сделать! Задержка во мне, а не в нем. Видите ли, я пока что молодой работник, и главная моя беда — что я еще не так хорошо разбираюсь в людях. То они все у меня очень уж милые, то всех подозреваю… — Андрей заметил беспокойство в глазах Галуста и поторопился добавить: — Но это ничего не значит. К вам едет старший лейтенант, толковый человек и с большим опытом, а я остаюсь в помощниках…
— Опыт — дело наживное, — сочувственно сказал Галуст. — Вы с Микаэлом говорили?
— Говорил и с Микаэлом и с председателем сельсовета. И хочу спросить: что они за люди?
— Микаэла вы должны знать. Он прежде работал в вашей системе — в милиции.
— Не знал.
— Только его за что-то отчислили. Теперь у нас живет. Считается, что колхозник…
— Считается?
— Ну да. Он в колхозе не заинтересован. Имеет замечательный сад. Старший сын от него отделился, получил приусадебный участок и тоже тишком передал отцу. Деньги у них всегда есть. Выращивают фрукты, продают в городе. Что им колхоз!
— И вы терпите?
— Пока Зарзанд при должности, Микаэл будет изворачиваться. Они друг друга понимают. Но это долго не протянется. Зарзанд досидит не больше, как до ближайших выборов. Ошиблись мы в нем. Народ его на дальнейшее правление избирать не захочет. — Галуст закурил, угостил Андрея. — Но хорошие ли они, плохие ли, а вам должны помочь. Если съездить куда надо, председатель выделит транспорт, все сделает, что понадобится. Это вы будьте спокойны. А Микаэл может советом помочь. Он все же опытный человек.
— А что вы скажете о продавце магазина Грикоре Самвеляне? Я главным образом его хочу раскусить…
Галуст на мгновение задумался.
— Мало знаю, — проговорил он твердо. — Ничего верного сказать не могу. — Он протянул Андрею руку. — Извините, поеду в поле. Вы не сдавайтесь!
— А насчет сторожа, который исчез, — нерешительно начал Андрей, — как вы думаете… он не может оказаться причастным?
— Нет, это золотой старик был, — отвечал Галуст, выходя на середину коровника. — Вы уж его оставьте!
Карай истомился, ожидая хозяина. Он дрогнул всем телом — так ему хотелось вскочить, — но снова замер. Приказа вставать не было. Андрей взял его на поводок и пошел обратной дорогой — мимо клуба, мимо спортивной площадки, к дому Грикора Самвеляна.
Войдя в сад, он услышал за спиной тяжелые шаги. Его догонял милиционер из районного отделения.
— Так я и знал, что вы сюда вернетесь, — сказал милиционер сердито. — Что вас здесь интересует?
— Просто хочу поговорить с человеком, — небрежно ответил Андрей.
— Он ни в чем не виноват!
— Вот и хорошо, если так.
Андрей перепрыгнул через канавку. Милиционер, не отставая, следовал за ним. Караю это не понравилось, он глухо зарычал. Серая овчарка в ответ тоже зарычала, но тут же трусливо поджала хвост.
— Идите и займитесь своим делом, — спокойно приказал Андрей.
— У меня дело такое же самое, как у вас. Мы вместе пойдем к Грикору.
— Извините! У меня пока что план — пойти одному.
Милиционер пожевал губами, тряхнул своей каракулевой головой и задумался.
— Так вы знайте, — сказал он, наконец, с оттенком угрозы, — Самвелян — честный человек! И еще знайте, что он мой родственник. Я за него ручаюсь, как за самого себя.
— Учтем, — проговорил Андрей и, легонько отстранив милиционера, вошел в дом.
Ему показалось, что за окном что-то мелькнуло. Открыв дверь в комнату, он увидел, что Самвелян торопливо натягивает на себя одеяло.
— Так, — сказал Андрей и помолчал немного. — Вы один в доме?
— Да, — тихо ответил Самвелян.
Андрей заметил, что он при этом несколько смутился.
— А кто здесь только что ходил по комнате?
— Никто не ходил. Но это я пытался встать. Я думал, если удастся, пойти в магазин и еще раз поискать деньги.
— Значит, вы при такой вашей сильной болезни можете все-таки вставать с постели?
Испуганные черные глаза на секунду задержались на лице Андрея, потом вильнули в сторону.
— Но я же не смог встать…
— А почему вы смущаетесь?
Самвелян ответил упавшим голосом:
— Я всегда смущаюсь, когда вижу, что мне не верят… — Он еще больше понизил голос. — Мне делается стыдно…
— Ах, вон что! — возмутился Андрей. — Вам, значит, стало стыдно за меня?
Он не дождался ответа, властно открыл дверь в другую комнату и вместе с Караем обошел весь дом. Ему хотелось убедиться, что в доме пусто. Потом он вернулся к постели больного. Разговор с Грикором Самвеляном все же заставил его задуматься. Вряд ли закоренелый преступник будет так себя вести…
— Милиционер из районного отделения — он ваш родственник? — строго спросил Андрей.
— Да, он родственник — двоюродный брат.
— Но вы же знаете, что никакое родство не спасает от ответственности!
Грикор бессильно усмехнулся.
— Ладно, — сказал Андрей. — Теперь я задам один вопрос. Очень многое будет зависеть от вашего ответа. Отвечайте подумав… Кто-нибудь, кроме вас, знал, что деньги оставлены в магазине?
Продавец задумался.
— Никто не должен был знать. Я никому не говорил. Даже и жена не знала.
— Вот видите! А грабители из товаров почти ничего не взяли. Значит, они пришли специально за деньгами. Как же это получается?
Грикор Самвелян молчал, только теребил бахрому ковра.
— Другой вопрос: вы просили своего родственника-милиционера, чтобы он вас спасал?
— Не спасал! — Грикор от волнения даже приподнялся на локте. — Но мне не верят… Я просил его, чтобы он поговорил…
— Напрасно просили! — Андрей поднялся со стула. — Вы еще подумайте над моими вопросами, а я подумаю над вашими ответами. Пока что до свиданья.
Держа Карая на поводке, Андрей вышел на окраину села. Он решил описать вокруг деревни большое кольцо. Если прерванный след где-нибудь поблизости возобновляется, то Карай его почует. Исчезновение следа возле большого камня надо было как-нибудь объяснить.
Примерно через час Андрей вошел в селение с другой стороны. Карай вывалил из пасти чуть не весь язык. Они прошли немалое расстояние. На сапогах Андрея лежала густая пыль, но сам он был с виду бодр и, как всегда, подтянут. Возле магазина его остановил рыжий парень с плотничным топором в руках:
— Товарищ лейтенант, важная новость! Сторож нашелся!
Андрей присвистнул. Вот это действительно новость!
— Живой?
— Покалечен, но жив. В больницу отправили. С ним уже начальник районного отделения беседовал.
Андрей собирался пойти к Микаэлу — умыться, отдохнуть, полежать в саду под деревом. Теперь уж было не до отдыха.
— Где у вас больница?
— На том конце. Я могу проводить… — Рыжий застенчиво улыбнулся: — Ведь я бригадмилец, товарищ лейтенант.
Андрей знал, что в селах существуют добровольные бригады содействия милиции. Участники их называли себя бригадмильцами.
— Вот повезло — на коллегу наткнулся… Ну, веди и рассказывай.
Оказывается, бригадмильца — он был по специальности плотником — прислали починить дверь в магазине, сорванную грабителями с петель. Он работал и вдруг услышал тихий стон, доносившийся как будто из-под крылечка. Там была довольно глубокая яма, в которую продавец обычно складывал пустые бочки и ящики. В яме под ящиками рыжий плотник и обнаружил деда Вахтанга.
— Теперь дед пришел в себя и все одно повторяет: “Ничего не знаю”.
— Как тебя звать? — спросил Андрей.
— Оник.
— Вот, Оник, — строго сказал Андрей, — я у тебя как у бригадмильца спрашиваю: кто-нибудь особенно взволновался, когда нашли сторожа?
Оник задумался.
— Особенно я взволновался, товарищ лейтенант, — простодушно признался он. — Как я услышал стон из ямы, так даже топор бросил…
Больница помещалась в новеньком, словно только что вымытом каменном двухэтажном домике. За оградой росли молодые деревца, дорожки были посыпаны желтым песком.
— Всего месяц назад открыли больницу, — сообщил Оник, — такие строгости развели… — У ограды он попрощался с Андреем. — Все равно меня туда не пустят…
Андрей шел с Караем по песчаной дорожке, когда его окликнули. Остренькая старушка в чистом белом халате насмешливо смотрела на него:
— С собакой в больницу? Очень разумно.
— Да я собаку привяжу.
— Нет уж! Животные на территорию не допускаются. Неужели товарищ милиционер никогда не бывал в больнице, порядков не знает?
Андрей безропотно вернулся к воротам и уложил Карая в тени ограды.
— Доктор, — начал он, вернувшись, — мне надо…
Старушка перебила его, брезгливо поджав губы:
— Наперед всего вам надо после собаки вымыть руки.
В умывальной комнате, выложенной по стенам белыми кафельными плитками, Андрей сказал, покрутив головой:
— Строгости у вас…
Вытирая руки мягким вафельным полотенцем, он попробовал было изложить свою просьбу, но старушка перебила его:
— Я знаю, что вам надо. Вы хотите повидать больного Мнацаканяна.
— Сторожа, — подтвердил Андрей, — деда Вахтанга.
— Он и есть Мнацаканян. Видеть его нельзя.
— То есть как это нельзя? — Андрей недоверчиво улыбнулся. — Это же нужно для розыска. Почему нельзя?
— По состоянию его здоровья.
Насладившись своей властью, старушка смилостивилась:
— Впрочем, можно будет доложить доктору.
— А вы кто? — удивился Андрей.
— Я здесь при другой должности, — весело сказала старушка. — Я уборщица.
Она легко поднялась по лестнице, но довольно долго не возвращалась. Наконец появилась совсем с другой стороны, подала Андрею белый халат. Конфузясь, Андрей завязал тесемки. По коридору, в котором пол был устлан коричневым линолеумом, а двери мерцали матовой белизной, он прошел в кабинет к доктору.
Доктор, молоденькая румяная девушка, улыбнулась, увидев, как неловко Андрей чувствует себя в больничном халате. Халат ему дали очень большой, и он боялся наступить на белоснежную полу тяжелым и пыльным солдатским сапогом.
— Вы, пожалуй, утомите мне больного, — озабоченно проговорила она. — Постарайтесь, чтобы ваша беседа была покороче. Вообще, я не разрешила бы вам беспокоить больного, но он сам сказал, что хочет с вами поговорить.
В палате, куда вошел Андрей, стояло несколько коек, но занятой оказалась только одна. Дед Вахтанг лежал у окна с туго перебинтованной головой. Возле него на белом табурете сидела Марьямик. Она тоже была в халате. Тяжелые черные волосы сплетались на затылке в клубок. Андрей обратил внимание, что глаза у нее молодые, ясные.
— Вы простите, пожалуйста… — Андрей смотрел туда, где из-под белых бинтов выступали полуприкрытые глаза и обросшие седой щетиной щеки деда Вахтанга. — Нехорошо беспокоить человека в таком состоянии. Но у меня выхода нет — надо узнать от вас какие-нибудь подробности насчет ограбления. Сможете ли вы дать ответ на несколько вопросов?
— Молодой, — хрипло сказал дед Вахтанг, — посмотри в окно. Что ты там видишь?
Андрей обернулся. Из окна был виден дальний берег реки и пещеры, выбитые в скалах.
— Вон в этой пещере, третьей справа, — по-прежнему хрипло говорил дед Вахтанг, — там я родился, прожил половину жизни. Теперь там никто не живет. Бывало, я смотрел из той пещеры на этот берег и думал: что здесь будет через сто лет? Эх, думал, мне до хорошего не дожить! Но дожил, дожил. Увидел дом, в котором живет Марьямик. И сам живу в хорошем доме. И лечат меня теперь в хорошей больнице… Так вот, молодой офицер, — торжественно сказал дед Вахтанг, — если человека переселили из пещеры в дом, он не будет пакостить в своем доме. Это я говорю тебе, потому что ты меня не знаешь и чтобы ты поверил в мою честность.
— Что вы, дедушка! — Андрей смутился и быстро-быстро заморгал глазами, стараясь не встретиться взглядом с Марьямик.
Та неподвижно и строго сидела на табурете.
— Теперь, офицер, спрашивай, что тебе нужно. И быстрее: я устал.
— Да вы просто расскажите, дедушка, как все это произошло. Может, вы что-нибудь слышали, кого-нибудь видели?
Сторож махнул своей высохшей рукой. Никого он не видел, ничего не слышал. Сидел на крылечке. Внезапно почувствовал удар. Больше ничего не помнит.
— Видно, хотели убить! — сердито сказал он. — Но нас, Мнацаканянов, с одного удара в гроб не укладывают!
— Сколько приблизительно было времени, когда вас ударили?
Дед Вахтанг задумался.
— Пожалуй, часа три ночи. Петухи еще не пели.
— Попробуйте припомнить, дедушка, не было ли света в каком-нибудь доме? Может, везде было темно — и вдруг среди ночи зажегся свет в каком-нибудь окошке?
— Нет, молодой, — с сожалением проговорил старик, — ничем не могу тебе помочь. Не было этого.
— Ладно, дедушка. — Андрей, по привычке, поднес руку к козырьку, чтоб попрощаться, но фуражки на нем не было, и он опустил руку. — Поправляйтесь скорее!
Он вышел в коридор, заглянул в кабинет, поблагодарил врача и спустился вниз. Услышав за спиной шаги, он остановился и обернулся. Его догоняла Марьямик.
— Мне доктор сказала, что я могу спокойно ехать в Москву. Теперь я у вас хочу спросить: могу я спокойно ехать в Москву?
Она стояла двумя ступеньками выше, и Андрею неудобно было так разговаривать. Он жестом пригласил ее сойти. Но Марьямик осталась стоять на своем месте.
— Тяжелая у вас работа, — сказала она с холодной усмешкой, — подозревать хороших людей, чтоб только выискать плохих…
Белый халат распахнулся, Андрей увидел у нее на груди Золотую Звезду Героя.
— Да, есть работа и получше моей, — с достоинством признал он, — только мне вот моя нравится. В определенном смысле и я “ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный…” — Андрею вдруг стало неловко: не ко времени вырвались любимые строки. — Это так у Маяковского, — смущенно объяснил он.
— Ну и что? — пренебрежительно сказала Марьямик. — При чем тут эти стихи?
Андрей усмехнулся:
— Я полагал, что будет понятно… Я тоже, знаете ли, делаю всякую черную работу, чтобы моим согражданам жилось почище, получше…
Андрей снова поднял было руку к козырьку, но вспомнил, что он все еще без фуражки.
— А в Москву вы можете ехать с легким сердцем.
И пошел из больницы.
— Постойте! — негромко позвала Марьямик. Теперь она весело глядела на Андрея своими ясными глазами. —Хоть бы счастливого пути пожелали, товарищ лейтенант!
Андрей кивнул ей головой. Ну что ж, счастливого пути! С сурово сведенными бровями он вышел на улицу.
У ограды его поджидал посыльный из сельсовета, который сообщил, что лейтенанта милиции просят прийти в дом к Микаэлу.
Каменный опрятный домик, принадлежащий Микаэлу, стоял в сотне шагов от магазина и был словно стеной прикрыт фруктовыми деревьями. Андрей так устал, что с трудом прошел это пустяковое расстояние.
Среди деревьев на траве лежал толстый ковер с цветными узорами, на нем дымилось огромное фаянсовое блюдо с бараньей долмой, грудой были насыпаны абрикосы, а в ведре холодной воды плавал, охлаждаясь, кувшин с вином. По краям ковра, поджав ноги, сидели председатель сельсовета, Микаэл и представитель районного отделения милиции, то и дело бросавший кости своей серой овчарке. Женщины на ковер не допускались — они только обслуживали обедающих.
Микаэл поднялся и, оказывая все полагающиеся в таких случаях знаки внимания и гостеприимства, повел Андрея к ковру.
— Спасибо! — говорил он с чувством. — Спасибо тебе, что ты не прошел мимо моего дома. Почет тебе и уважение! Микаэл — скромный человек, но он любит гостей, и гости тоже его любят…
— Верно! — крикнул милиционер.
— Ты устал — отдохни. — Микаэл сделал едва заметное движение черными бровями, и толстая, рыхлая женщина — очевидно, его жена — торопливо подала Андрею граненый стаканчик.
Микаэл испытующе посмотрел на Андрея:
— Мы не спрашиваем тебя, удачным ли был твой поход. Если бы обнаружилось что-нибудь интересное, ты и сам сказал бы. Мы также не спрашиваем, что сказал тебе сторож дед Вахтанг. Мы знаем, что он ничего не смог рассказать…
Микаэл выждал паузу и налил в стаканчик вино.
— Собаке надо бы дать напиться, — попросил Андрей, чувствуя, что он не в силах двинуться с места.
— Не беспокойся! — Новое движение густых черных бровей, легкий кивок седой головы — и под деревом появился черепок с холодной водой. Очевидно, в этой семье хозяина умели понимать без слов.
Карай принялся напористо и жадно лакать воду, а потом тяжко вздохнул и уютно пристроился под абрикосовым деревом. Он тоже устал.
— Мы пьем за здоровье товарища Зарзанда, — сказал Микаэл. — Выпей с нами… Товарищ Зарзанд! За тебя можно выпить как за прекрасного руководителя, видного советского работника. Под твоим руководством и благодаря тебе, и именно тебе, наше село процветает. Ты строишь дома, товарищ Зарзанд, ты поднимаешь колхозное садоводство…
Председатель сельсовета молчал и, по-бычьи склонив голову, внимательно слушал, как его хвалят. Когда Микаэл заговорил про садоводство, он оживился и буркнул:
— Животноводство тоже! Потому что это теперь главный вопрос!
— Вот! — подхватил Микаэл. — Животноводство тоже поднимаешь, правильно. Ты, Зарзанд, клянусь богом, самый уважаемый из руководителей нашего села. Тебе в районном центре работать. И это будет! Но я не за это пью…
Он поднялся на ноги и заговорил еще более торжественно:
— Наш дорогой Зарзанд… — тут Микаэл подтолкнул Андрея, как бы приглашая повнимательнее слушать, — наш Зарзанд — замечательный семьянин. У него шестеро деток, один другого лучше. Клянусь богом, прекрасные дети! Будь здоров и счастлив со своими шестью детками, дорогой Зарзанд! Но я не за это пью…
— Жена пошла вместо меня, — сказал продавец, натягивая одеяло до самого подбородка. — Я болен.
— Когда началась болезнь?
— Вчера вечером. Сразу скрутило меня. Я запер магазин и ушел.
Он вдруг шмыгнул носом. Андрей заметил, что у него очень узкий нос. Будто вырезали ему треугольник из фанеры и прилепили острым углом вперед на широкое белое лицо с печальными глазами.
— К врачу обращались?
— А что врач! Велел гладить поясницу горячим утюгом. А оно не помогло.
— И часто у вас это бывает?
— Первый раз.
— Он здоровый мужчина, — одобрительно проговорил Микаэл, — никогда не хворает… Верно, Грикор? Привезут в магазин товары, так он пятипудовые мешки словно камешки бросает. На него болезней не было. Только вчера заболел в первый раз. Простудился ты, что ли, Грикор?
— Может, и простыл. Кто знает!
— Кашель или чихоту не имеешь?
Продавец беспокойно вздохнул:
— Ничего нет — ни жару, ни кашля, только вот повернуться невозможно.
— Ты смотри, какая болезнь!
Андрей заглянул в другую комнату. На тумбочке стоял новенький радиоприемник, на окнах висели тюлевые занавески. Комната была светлая, чистая, недавно побеленная.
— Хороший у него дом! — похвалил Микаэл таким тоном, словно он ставил это в вину Грикору Самвеляну.
— Дом ничего… Товарищи, — вдруг с натугой произнес Грикор и покраснел, — ведь я должен вам одну вещь заявить…
— Ну! — подогнал его Андрей.
— Вчерашний день мы с утра хорошо торговали, большая выручка была. Но я, когда заболел и ушел, все оставил в магазине. Все деньги. Я думал, что скоро вернусь…
— Ну! — еще строже, чем прежде, проговорил Андрей.
“Сейчас врать начнет”, — с отвращением подумал он, но тут же остановил себя. Тысячу раз капитан Миансаров говорил: “Не проявляйте подозрительности раньше времени — это вред делу…”
Председатель сельсовета сопел и молчал.
— Как мы узнали утром, что убит сторож, — сказал Грикор, и его жилистая рука забегала по шелковому верху одеяла, — так моя жена сразу пошла в магазин. Но уже тех денег не оказалось… — Он скорбно взглянул на людей, обступивших его постель.
Милиционер из районного отделения вздохнул. Председатель сельсовета с шумом оттолкнул стул.
— Разве вы имели право… — начал он гневно.
Грикор попытался перебить его:
— Товарищ Зарзанд…
— Подождите! Сейчас я говорю. Какое вы себе взяли право оставлять денежные суммы в магазине? Вам известно, что деньги полагается сдавать?
— Так ведь болезнь…
— Сколько там денег было?
— Много… — Грикор всхлипнул. — Почти что двадцать тысяч…
Андрей поднялся со стула. Тотчас вскочил и Карай, который лежал на брюхе у дверей, вытянув передние лапы и подобрав под себя задние.
— Так, — сказал Андрей, — с вами еще разговоры впереди. Большие разговоры! А мы сейчас пойдем в магазин и точно установим, что еще похищено, кроме денег.
Первый человек, кого они встретили, выйдя на улицу, был колхозный бухгалтер. Его включили в комиссию по инвентаризации, и он торопился доложить о результатах проверки. Он был озадачен.
— Странные грабители — ничего не взяли! Почти все товары налицо, кроме мужского костюма — пятидесятый размер — и двух бутылок водки. Из-за чего убит дед Вахтанг, а? — спрашивал он, пристально глядя из-под очков.
— Всё точно подсчитали?
— Можете не сомневаться!
Теперь уже заходить в магазин было незачем.
— Товарищи, — сказал Андрей, — вы меня извините, я от вас отстану…
Микаэл взял его под локоть. “Старик, старик, а какая у него крепкая рука…”
— Да брось! Не огорчайся, — сказал Микаэл. — Не все же работать! Пойдем ко мне, полчаса посидим под деревом в моем садике.
— Не могу, спасибо.
— Что за дела отвлекают?
Андрей освободил свой локоть:
— Никаких особенных дел. Хочу походить, подумать…
— Ну, так и мы с тобой пойдем, в случае чего — поможем.
— Какая уж тут помощь… — Андрей коснулся козырька милицейской фуражки. — Я скоро вернусь.
Он быстро пошел по улице. Карай деловито шел у его левой ноги.
Мальчишки, которые неотступно следовали за полюбившейся им собакой, правда сохраняя на всякий случай приличную дистанцию, и теперь остались верны себе. Они отвернулись от серой овчарки и милиционера из районного отделения, от Микаэла, от самого товарища Зарзанда и дружно повернули за Андреем. Впереди бежал Карлос. Андрей позвал его. Мальчик отделился от сверстников и стал приближаться — сначала быстро, потом все медленнее. Он боялся собаки.
— Просьба будет к тебе… — начал Андрей.
— Скажите, дядя!
— Проводи меня, пожалуйста, в правление колхоза.
Карлос опасливо покосился на собаку:
— Рядом с вами идти или с мальчиками?
— Конечно, мне было бы приятней, чтоб ты шел со мной.
Карлос кивнул головой. Он воспринял эти слова как должное. Только спросил:
— А не укусит?
— Нет, он не кусается.
Сперва мальчик шел возле Андрея, потом осмелел и перебрался поближе к Караю.
— Можно, я его поведу?
Андрей чмокнул языком — он уже перенял от других эту привычку.
— Очень я хотел бы выполнить твою просьбу, но ты пойми меня: не полагается! Хорошая служебная собака должна признавать только своего хозяина.
Они приближались к центру села. На улице людей встречалось мало — колхозники были в поле, на уборке. Стоял дремотный полдень. Журчали арыки, по которым вода текла в сады. На площади возле клуба совсем маленькие мальчики гоняли футбольный мяч; ребята постарше бегали друг за другом на ходулях.
— Что это у вас, ходулями увлекаются?
— Еще как! Только ходят плохо! — Карлос презрительно сплюнул. — Было бы время, я показал бы этой мелюзге, как надо ходить! Лучше меня здесь никто не ходит.
Из-за угла вывернулась бабка, недовольно покосилась на собаку и принялась отчитывать Карлоса.
— Что это она? — спросил Андрей.
Карлос покраснел:
— Ругает меня…
— Это я понял. А почему?
— Кто-то ночью ходил на ходулях, а она придирается — думает, что я. “Днем, говорит, вам времени мало”. Это такая бабушка — ей всегда кто-нибудь пять копеек должен!
Вход в колхозную контору был устроен с веранды. Карлос поднялся по ступенькам, Андрей остался ждать — неудобно входить в помещение с собакой. Около веранды стояла на привязи оседланная лошадь. Карай редко видел лошадей, ему казалось, что к этому большому зверю безопаснее всего подходить сзади, — и он натянул поводок, ворча и принюхиваясь к лошадиным запахам.
— Эх, не очень ты у меня образованный! — сказал Андрей, осаживая собаку. — Знай на будущее: к лошади надо подходить сбоку, к овце — спереди, а уж к корове — сзади.
Лошадь топнула ногой — Карай отпрыгнул назад на полметра.
На веранде показался Карлос.
— Председатель в поле, другие тоже все разъехались. Один Галуст здесь — прискакал вон на этой лошади.
— Кто такой Галуст?
— Партийный секретарь.
— Очень хорошо. Вот его мне больше всех и нужно.
— Его на молочную ферму вызвали, — сказал Карлос. — Хотите, провожу?
Ферма помещалась на краю села. Оттуда доносился быстрый перезвон молотков и лязг железа, тонкий, пронзительный скрежет пилы. В этом конце села были сосредоточены мастерские и животноводческие постройки. Над всем главенствовала силосная башня — пузатая, красная, выстроенная с такой фундаментальной прочностью, что стоять ей века и века. Неподалеку от нее тянулись опрятные, свежебеленные хлевы, хоть невысокие, но очень длинные — не хлев, целая улица! Повеяло душистыми запахами скошенных трав. Карай насторожил уши, непрестанно шевелил мокрым черным носом.
Андрей отвел собаку в холодок, поближе к копне сена, и приказал лежать. Теперь, что бы ни случилось, пес не поднимется с места, пока хозяин не отменит своего приказа.
Секретаря колхозной парторганизации удалось найти в одном из коровников. Тут было прохладно и пусто. Скот еще весной перегнали на эйлаг — высокогорное пастбище. Только в двух стойлах находились коровы, их и обступили люди.
В коровнике только что закончились какие-то строительные работы. Тут и там лежали обтесанные камни. У одной стены были сложены металлические трубы. У бревенчатого потолка висели толстые тросы, на них покачивалась вагонетка. Карлос чуть прикоснулся к ней рукой, и она легко покатилась по тросу.
Галуст, крепкий, дочерна обожженный солнцем, пошел навстречу Андрею, приветственно подняв кверху руку. Он начал с извинений: пусть не думает лейтенант милиции, что мы не интересуемся розысками. Просто время такое — идет уборка, все в поле. Вот всего на минутку удалось прискакать в село. Ведь такое событие сегодня! Галуст обвел рукой коровник, и глаза у него засияли. Но он тут же притушил их блеск.
— Я слушаю вас, товарищ лейтенант…
— А какое у вас сегодня событие? — вежливо спросил Андрей.
— Вообще-то, может, не ко времени говорить об этом… — неохотно начал Галуст, но глаза у него опять засияли. — Первая в нашем районе полная комплексная механизация животноводства. Только что закончили. Подвесная дорога — корм будет подаваться механизированно. Толкнешь пальчиком — и вагонетка в полтонны весом едет себе спокойненько. Кто потаскал пятипудовые мешки на своей спине, как, например, я в свое время, тот оценит! Да это что! — Галуст махнул рукой. — Это уже во многих колхозах есть. А вот механизированное кормоприготовление — это новинка. Или такая вещь — электричеством доить коров. Или автопоилки… Специально с гор пригнали двух коров, чтобы посмотреть, как они будут пить.
Галуст постеснялся сказать, что это он сам пригнал коров — выехал за ними в горы ни свет ни заря. Он повел Андрея к стойлу. Сколько было хлопот с этой механизацией! Нашлись люди, говорили, что все это преждевременная затея. Можно, мол, разумнее истратить деньги. Галуст никак не мог с ними согласиться. Теперь дело само скажет за себя.
В каждом стойле к столбику была прикреплена металлическая раковинка с педалью на донышке. Белая корова сунула в раковину нос и чуть прижала педаль. Сразу же снизу пошла вода, раковинка наполнилась. При торжественном молчании всех присутствующих корова напилась. Подняла голову. Вода исчезла.
— Условный рефлекс, — значительно сказал Галуст. — Захочет пить — нажмет педальку. Раньше не так было — терпи, корова, пока о тебе не вспомнят!
— Это дело знакомо, — улыбнулся Андрей. — У нас в питомнике все воспитание собак основано на условном рефлексе. — Он не хотел уступить Галусту в понимании всех этих важных вопросов и потому добавил: — Учение академика Павлова…
— Вот именно! — подхватил Галуст. — Теперь мы в районе по животноводству и табаку на первое место выйдем. — Он взглянул на Андрея и смутился: человек его на ферме разыскал, чтобы о деле поговорить, а он ему и слова не дал вымолвить. — Извините… — Галуст озабоченно покашлял в кулак. — Пройдемте сюда… — Он повел Андрея в дальний конец коровника. — Одно скажу, — Галуст серьезно посмотрел на Андрея, — колхозники наши очень возмущены, что у нас в селении такой случай. Будет большое разочарование, если не удастся открыть преступника.
— Запутанное дело, знаете ли… — Андрей попытался улыбкой прикрыть смущение. Человеку легко рассказывать о своих удачах, а для объяснения неудач всегда хочется найти какие-нибудь послабляющие обстоятельства. Нет, ты умей быть мужественным, когда у тебя ничего не получается!
— Трудно будет, — признался Андрей, глядя прямо в лицо своему собеседнику. — Пока что просто ничего не выходит.
Галуст нахмурился:
— Председатель сельсовета вам не помогает?
— Нет, почему… Да что он может сделать! Задержка во мне, а не в нем. Видите ли, я пока что молодой работник, и главная моя беда — что я еще не так хорошо разбираюсь в людях. То они все у меня очень уж милые, то всех подозреваю… — Андрей заметил беспокойство в глазах Галуста и поторопился добавить: — Но это ничего не значит. К вам едет старший лейтенант, толковый человек и с большим опытом, а я остаюсь в помощниках…
— Опыт — дело наживное, — сочувственно сказал Галуст. — Вы с Микаэлом говорили?
— Говорил и с Микаэлом и с председателем сельсовета. И хочу спросить: что они за люди?
— Микаэла вы должны знать. Он прежде работал в вашей системе — в милиции.
— Не знал.
— Только его за что-то отчислили. Теперь у нас живет. Считается, что колхозник…
— Считается?
— Ну да. Он в колхозе не заинтересован. Имеет замечательный сад. Старший сын от него отделился, получил приусадебный участок и тоже тишком передал отцу. Деньги у них всегда есть. Выращивают фрукты, продают в городе. Что им колхоз!
— И вы терпите?
— Пока Зарзанд при должности, Микаэл будет изворачиваться. Они друг друга понимают. Но это долго не протянется. Зарзанд досидит не больше, как до ближайших выборов. Ошиблись мы в нем. Народ его на дальнейшее правление избирать не захочет. — Галуст закурил, угостил Андрея. — Но хорошие ли они, плохие ли, а вам должны помочь. Если съездить куда надо, председатель выделит транспорт, все сделает, что понадобится. Это вы будьте спокойны. А Микаэл может советом помочь. Он все же опытный человек.
— А что вы скажете о продавце магазина Грикоре Самвеляне? Я главным образом его хочу раскусить…
Галуст на мгновение задумался.
— Мало знаю, — проговорил он твердо. — Ничего верного сказать не могу. — Он протянул Андрею руку. — Извините, поеду в поле. Вы не сдавайтесь!
— А насчет сторожа, который исчез, — нерешительно начал Андрей, — как вы думаете… он не может оказаться причастным?
— Нет, это золотой старик был, — отвечал Галуст, выходя на середину коровника. — Вы уж его оставьте!
Карай истомился, ожидая хозяина. Он дрогнул всем телом — так ему хотелось вскочить, — но снова замер. Приказа вставать не было. Андрей взял его на поводок и пошел обратной дорогой — мимо клуба, мимо спортивной площадки, к дому Грикора Самвеляна.
Войдя в сад, он услышал за спиной тяжелые шаги. Его догонял милиционер из районного отделения.
— Так я и знал, что вы сюда вернетесь, — сказал милиционер сердито. — Что вас здесь интересует?
— Просто хочу поговорить с человеком, — небрежно ответил Андрей.
— Он ни в чем не виноват!
— Вот и хорошо, если так.
Андрей перепрыгнул через канавку. Милиционер, не отставая, следовал за ним. Караю это не понравилось, он глухо зарычал. Серая овчарка в ответ тоже зарычала, но тут же трусливо поджала хвост.
— Идите и займитесь своим делом, — спокойно приказал Андрей.
— У меня дело такое же самое, как у вас. Мы вместе пойдем к Грикору.
— Извините! У меня пока что план — пойти одному.
Милиционер пожевал губами, тряхнул своей каракулевой головой и задумался.
— Так вы знайте, — сказал он, наконец, с оттенком угрозы, — Самвелян — честный человек! И еще знайте, что он мой родственник. Я за него ручаюсь, как за самого себя.
— Учтем, — проговорил Андрей и, легонько отстранив милиционера, вошел в дом.
Ему показалось, что за окном что-то мелькнуло. Открыв дверь в комнату, он увидел, что Самвелян торопливо натягивает на себя одеяло.
— Так, — сказал Андрей и помолчал немного. — Вы один в доме?
— Да, — тихо ответил Самвелян.
Андрей заметил, что он при этом несколько смутился.
— А кто здесь только что ходил по комнате?
— Никто не ходил. Но это я пытался встать. Я думал, если удастся, пойти в магазин и еще раз поискать деньги.
— Значит, вы при такой вашей сильной болезни можете все-таки вставать с постели?
Испуганные черные глаза на секунду задержались на лице Андрея, потом вильнули в сторону.
— Но я же не смог встать…
— А почему вы смущаетесь?
Самвелян ответил упавшим голосом:
— Я всегда смущаюсь, когда вижу, что мне не верят… — Он еще больше понизил голос. — Мне делается стыдно…
— Ах, вон что! — возмутился Андрей. — Вам, значит, стало стыдно за меня?
Он не дождался ответа, властно открыл дверь в другую комнату и вместе с Караем обошел весь дом. Ему хотелось убедиться, что в доме пусто. Потом он вернулся к постели больного. Разговор с Грикором Самвеляном все же заставил его задуматься. Вряд ли закоренелый преступник будет так себя вести…
— Милиционер из районного отделения — он ваш родственник? — строго спросил Андрей.
— Да, он родственник — двоюродный брат.
— Но вы же знаете, что никакое родство не спасает от ответственности!
Грикор бессильно усмехнулся.
— Ладно, — сказал Андрей. — Теперь я задам один вопрос. Очень многое будет зависеть от вашего ответа. Отвечайте подумав… Кто-нибудь, кроме вас, знал, что деньги оставлены в магазине?
Продавец задумался.
— Никто не должен был знать. Я никому не говорил. Даже и жена не знала.
— Вот видите! А грабители из товаров почти ничего не взяли. Значит, они пришли специально за деньгами. Как же это получается?
Грикор Самвелян молчал, только теребил бахрому ковра.
— Другой вопрос: вы просили своего родственника-милиционера, чтобы он вас спасал?
— Не спасал! — Грикор от волнения даже приподнялся на локте. — Но мне не верят… Я просил его, чтобы он поговорил…
— Напрасно просили! — Андрей поднялся со стула. — Вы еще подумайте над моими вопросами, а я подумаю над вашими ответами. Пока что до свиданья.
Держа Карая на поводке, Андрей вышел на окраину села. Он решил описать вокруг деревни большое кольцо. Если прерванный след где-нибудь поблизости возобновляется, то Карай его почует. Исчезновение следа возле большого камня надо было как-нибудь объяснить.
Примерно через час Андрей вошел в селение с другой стороны. Карай вывалил из пасти чуть не весь язык. Они прошли немалое расстояние. На сапогах Андрея лежала густая пыль, но сам он был с виду бодр и, как всегда, подтянут. Возле магазина его остановил рыжий парень с плотничным топором в руках:
— Товарищ лейтенант, важная новость! Сторож нашелся!
Андрей присвистнул. Вот это действительно новость!
— Живой?
— Покалечен, но жив. В больницу отправили. С ним уже начальник районного отделения беседовал.
Андрей собирался пойти к Микаэлу — умыться, отдохнуть, полежать в саду под деревом. Теперь уж было не до отдыха.
— Где у вас больница?
— На том конце. Я могу проводить… — Рыжий застенчиво улыбнулся: — Ведь я бригадмилец, товарищ лейтенант.
Андрей знал, что в селах существуют добровольные бригады содействия милиции. Участники их называли себя бригадмильцами.
— Вот повезло — на коллегу наткнулся… Ну, веди и рассказывай.
Оказывается, бригадмильца — он был по специальности плотником — прислали починить дверь в магазине, сорванную грабителями с петель. Он работал и вдруг услышал тихий стон, доносившийся как будто из-под крылечка. Там была довольно глубокая яма, в которую продавец обычно складывал пустые бочки и ящики. В яме под ящиками рыжий плотник и обнаружил деда Вахтанга.
— Теперь дед пришел в себя и все одно повторяет: “Ничего не знаю”.
— Как тебя звать? — спросил Андрей.
— Оник.
— Вот, Оник, — строго сказал Андрей, — я у тебя как у бригадмильца спрашиваю: кто-нибудь особенно взволновался, когда нашли сторожа?
Оник задумался.
— Особенно я взволновался, товарищ лейтенант, — простодушно признался он. — Как я услышал стон из ямы, так даже топор бросил…
Больница помещалась в новеньком, словно только что вымытом каменном двухэтажном домике. За оградой росли молодые деревца, дорожки были посыпаны желтым песком.
— Всего месяц назад открыли больницу, — сообщил Оник, — такие строгости развели… — У ограды он попрощался с Андреем. — Все равно меня туда не пустят…
Андрей шел с Караем по песчаной дорожке, когда его окликнули. Остренькая старушка в чистом белом халате насмешливо смотрела на него:
— С собакой в больницу? Очень разумно.
— Да я собаку привяжу.
— Нет уж! Животные на территорию не допускаются. Неужели товарищ милиционер никогда не бывал в больнице, порядков не знает?
Андрей безропотно вернулся к воротам и уложил Карая в тени ограды.
— Доктор, — начал он, вернувшись, — мне надо…
Старушка перебила его, брезгливо поджав губы:
— Наперед всего вам надо после собаки вымыть руки.
В умывальной комнате, выложенной по стенам белыми кафельными плитками, Андрей сказал, покрутив головой:
— Строгости у вас…
Вытирая руки мягким вафельным полотенцем, он попробовал было изложить свою просьбу, но старушка перебила его:
— Я знаю, что вам надо. Вы хотите повидать больного Мнацаканяна.
— Сторожа, — подтвердил Андрей, — деда Вахтанга.
— Он и есть Мнацаканян. Видеть его нельзя.
— То есть как это нельзя? — Андрей недоверчиво улыбнулся. — Это же нужно для розыска. Почему нельзя?
— По состоянию его здоровья.
Насладившись своей властью, старушка смилостивилась:
— Впрочем, можно будет доложить доктору.
— А вы кто? — удивился Андрей.
— Я здесь при другой должности, — весело сказала старушка. — Я уборщица.
Она легко поднялась по лестнице, но довольно долго не возвращалась. Наконец появилась совсем с другой стороны, подала Андрею белый халат. Конфузясь, Андрей завязал тесемки. По коридору, в котором пол был устлан коричневым линолеумом, а двери мерцали матовой белизной, он прошел в кабинет к доктору.
Доктор, молоденькая румяная девушка, улыбнулась, увидев, как неловко Андрей чувствует себя в больничном халате. Халат ему дали очень большой, и он боялся наступить на белоснежную полу тяжелым и пыльным солдатским сапогом.
— Вы, пожалуй, утомите мне больного, — озабоченно проговорила она. — Постарайтесь, чтобы ваша беседа была покороче. Вообще, я не разрешила бы вам беспокоить больного, но он сам сказал, что хочет с вами поговорить.
В палате, куда вошел Андрей, стояло несколько коек, но занятой оказалась только одна. Дед Вахтанг лежал у окна с туго перебинтованной головой. Возле него на белом табурете сидела Марьямик. Она тоже была в халате. Тяжелые черные волосы сплетались на затылке в клубок. Андрей обратил внимание, что глаза у нее молодые, ясные.
— Вы простите, пожалуйста… — Андрей смотрел туда, где из-под белых бинтов выступали полуприкрытые глаза и обросшие седой щетиной щеки деда Вахтанга. — Нехорошо беспокоить человека в таком состоянии. Но у меня выхода нет — надо узнать от вас какие-нибудь подробности насчет ограбления. Сможете ли вы дать ответ на несколько вопросов?
— Молодой, — хрипло сказал дед Вахтанг, — посмотри в окно. Что ты там видишь?
Андрей обернулся. Из окна был виден дальний берег реки и пещеры, выбитые в скалах.
— Вон в этой пещере, третьей справа, — по-прежнему хрипло говорил дед Вахтанг, — там я родился, прожил половину жизни. Теперь там никто не живет. Бывало, я смотрел из той пещеры на этот берег и думал: что здесь будет через сто лет? Эх, думал, мне до хорошего не дожить! Но дожил, дожил. Увидел дом, в котором живет Марьямик. И сам живу в хорошем доме. И лечат меня теперь в хорошей больнице… Так вот, молодой офицер, — торжественно сказал дед Вахтанг, — если человека переселили из пещеры в дом, он не будет пакостить в своем доме. Это я говорю тебе, потому что ты меня не знаешь и чтобы ты поверил в мою честность.
— Что вы, дедушка! — Андрей смутился и быстро-быстро заморгал глазами, стараясь не встретиться взглядом с Марьямик.
Та неподвижно и строго сидела на табурете.
— Теперь, офицер, спрашивай, что тебе нужно. И быстрее: я устал.
— Да вы просто расскажите, дедушка, как все это произошло. Может, вы что-нибудь слышали, кого-нибудь видели?
Сторож махнул своей высохшей рукой. Никого он не видел, ничего не слышал. Сидел на крылечке. Внезапно почувствовал удар. Больше ничего не помнит.
— Видно, хотели убить! — сердито сказал он. — Но нас, Мнацаканянов, с одного удара в гроб не укладывают!
— Сколько приблизительно было времени, когда вас ударили?
Дед Вахтанг задумался.
— Пожалуй, часа три ночи. Петухи еще не пели.
— Попробуйте припомнить, дедушка, не было ли света в каком-нибудь доме? Может, везде было темно — и вдруг среди ночи зажегся свет в каком-нибудь окошке?
— Нет, молодой, — с сожалением проговорил старик, — ничем не могу тебе помочь. Не было этого.
— Ладно, дедушка. — Андрей, по привычке, поднес руку к козырьку, чтоб попрощаться, но фуражки на нем не было, и он опустил руку. — Поправляйтесь скорее!
Он вышел в коридор, заглянул в кабинет, поблагодарил врача и спустился вниз. Услышав за спиной шаги, он остановился и обернулся. Его догоняла Марьямик.
— Мне доктор сказала, что я могу спокойно ехать в Москву. Теперь я у вас хочу спросить: могу я спокойно ехать в Москву?
Она стояла двумя ступеньками выше, и Андрею неудобно было так разговаривать. Он жестом пригласил ее сойти. Но Марьямик осталась стоять на своем месте.
— Тяжелая у вас работа, — сказала она с холодной усмешкой, — подозревать хороших людей, чтоб только выискать плохих…
Белый халат распахнулся, Андрей увидел у нее на груди Золотую Звезду Героя.
— Да, есть работа и получше моей, — с достоинством признал он, — только мне вот моя нравится. В определенном смысле и я “ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный…” — Андрею вдруг стало неловко: не ко времени вырвались любимые строки. — Это так у Маяковского, — смущенно объяснил он.
— Ну и что? — пренебрежительно сказала Марьямик. — При чем тут эти стихи?
Андрей усмехнулся:
— Я полагал, что будет понятно… Я тоже, знаете ли, делаю всякую черную работу, чтобы моим согражданам жилось почище, получше…
Андрей снова поднял было руку к козырьку, но вспомнил, что он все еще без фуражки.
— А в Москву вы можете ехать с легким сердцем.
И пошел из больницы.
— Постойте! — негромко позвала Марьямик. Теперь она весело глядела на Андрея своими ясными глазами. —Хоть бы счастливого пути пожелали, товарищ лейтенант!
Андрей кивнул ей головой. Ну что ж, счастливого пути! С сурово сведенными бровями он вышел на улицу.
У ограды его поджидал посыльный из сельсовета, который сообщил, что лейтенанта милиции просят прийти в дом к Микаэлу.
Каменный опрятный домик, принадлежащий Микаэлу, стоял в сотне шагов от магазина и был словно стеной прикрыт фруктовыми деревьями. Андрей так устал, что с трудом прошел это пустяковое расстояние.
Среди деревьев на траве лежал толстый ковер с цветными узорами, на нем дымилось огромное фаянсовое блюдо с бараньей долмой, грудой были насыпаны абрикосы, а в ведре холодной воды плавал, охлаждаясь, кувшин с вином. По краям ковра, поджав ноги, сидели председатель сельсовета, Микаэл и представитель районного отделения милиции, то и дело бросавший кости своей серой овчарке. Женщины на ковер не допускались — они только обслуживали обедающих.
Микаэл поднялся и, оказывая все полагающиеся в таких случаях знаки внимания и гостеприимства, повел Андрея к ковру.
— Спасибо! — говорил он с чувством. — Спасибо тебе, что ты не прошел мимо моего дома. Почет тебе и уважение! Микаэл — скромный человек, но он любит гостей, и гости тоже его любят…
— Верно! — крикнул милиционер.
— Ты устал — отдохни. — Микаэл сделал едва заметное движение черными бровями, и толстая, рыхлая женщина — очевидно, его жена — торопливо подала Андрею граненый стаканчик.
Микаэл испытующе посмотрел на Андрея:
— Мы не спрашиваем тебя, удачным ли был твой поход. Если бы обнаружилось что-нибудь интересное, ты и сам сказал бы. Мы также не спрашиваем, что сказал тебе сторож дед Вахтанг. Мы знаем, что он ничего не смог рассказать…
Микаэл выждал паузу и налил в стаканчик вино.
— Собаке надо бы дать напиться, — попросил Андрей, чувствуя, что он не в силах двинуться с места.
— Не беспокойся! — Новое движение густых черных бровей, легкий кивок седой головы — и под деревом появился черепок с холодной водой. Очевидно, в этой семье хозяина умели понимать без слов.
Карай принялся напористо и жадно лакать воду, а потом тяжко вздохнул и уютно пристроился под абрикосовым деревом. Он тоже устал.
— Мы пьем за здоровье товарища Зарзанда, — сказал Микаэл. — Выпей с нами… Товарищ Зарзанд! За тебя можно выпить как за прекрасного руководителя, видного советского работника. Под твоим руководством и благодаря тебе, и именно тебе, наше село процветает. Ты строишь дома, товарищ Зарзанд, ты поднимаешь колхозное садоводство…
Председатель сельсовета молчал и, по-бычьи склонив голову, внимательно слушал, как его хвалят. Когда Микаэл заговорил про садоводство, он оживился и буркнул:
— Животноводство тоже! Потому что это теперь главный вопрос!
— Вот! — подхватил Микаэл. — Животноводство тоже поднимаешь, правильно. Ты, Зарзанд, клянусь богом, самый уважаемый из руководителей нашего села. Тебе в районном центре работать. И это будет! Но я не за это пью…
Он поднялся на ноги и заговорил еще более торжественно:
— Наш дорогой Зарзанд… — тут Микаэл подтолкнул Андрея, как бы приглашая повнимательнее слушать, — наш Зарзанд — замечательный семьянин. У него шестеро деток, один другого лучше. Клянусь богом, прекрасные дети! Будь здоров и счастлив со своими шестью детками, дорогой Зарзанд! Но я не за это пью…
 Микаэл помолчал и обвел гостей глазами — у всех ли наполнены бокалы, все ли готовы по его знаку осушить единым духом вино, чтобы с честью поддержать провозглашенный им тост.
— А вот за что я пью, — сказал он чуть потише, но еще более значительно, чем прежде, — за человека, за друга, за отзывчивую душу! Ты живешь, дорогой Зарзанд, и мы при тебе живем. С большим чувством пью! Будь здоров и живи, наш дорогой Зарзанд, долго живи и процветай!
Все чокнулись с Зарзандом. Он мрачно кивнул головой и одним глотком опорожнил свой стаканчик.
В просвете между деревьями была видна площадка, посыпанная песком. Там стоял турник, а на перекладине висели кольца. Подросток в белой майке с трудом подошел на слишком высоких для него ходулях к турнику и уцепился за перекладину. Затем он исчез, но вскоре появился с другой стороны, теперь уже на ходулях красного цвета.
— Один сынок или несколько? — спросил Андрей, глядя на мальчишку, который все еще путешествовал вокруг турника.
— Один! — Микаэл зажмурил глаза и затряс седой головой. — Старший от меня отделился, а этот при мне. Ничего для него не жалею. Видишь, площадку ему сделал.
— Так у вас при клубе есть как будто спортивная площадка?
— То общая, а это своя!
Микаэл вдруг поднялся и пошел к каменному забору, с вытянутыми вперед руками. В сад входил Геворк, держа на поводке Маузера.
— Здравствуй, дорогой Геворк! — Микаэл сладко жмурился. — Почет тебе и уважение! Милости просим под мой кров!.. Жена, стакан!
— Здравствуй, Микаэл, — сухо проговорил Геворк.
— Дорогой гость, ах, вовремя приехал! Прошу на ковер… Товарищи! — кричал Микаэл. — Товарищ Зарзанд! Вы знаете, кто это приехал? Это наш дорогой Геворк приехал!
Председатель сельсовета угрюмо бросил:
— Ну, приехал — пусть выпьет.
Геворк, расставив ноги в желтых крагах, коротко со всеми поздоровался и отстранил хозяйку, которая несла ему стакан.
— Я на работе. На работе не пьют. Лейтенанта Витюгина прошу проследовать за мной и доложить обстановку.
Они отошли вглубь сада. Хозяин и гости, казалось, были недовольны.
— Работа! — фыркнул Зарзанд. — Как будто мы не на работе… Еще и не такие люди приезжали к нам — из центра даже приезжали и то не отказывались выпить стаканчик…
— Дорогой Зарзанд! — подхватил Микаэл. — Вот за это люблю, что ты своим проницательным глазом всегда правду видишь. Я этого Геворка давно знаю. Что могу сказать? А ты одну секунду посмотрел на него — и сразу все понял. Твое здоровье, дорогой Зарзанд!
Говоря так, Микаэл поставил два граненых стаканчика на свою широкую ладонь и наполнил их вином из кувшина. “Все же гости, — он пожал плечами, — надо отнести гостям вина…”
Зарзанд удержал его:
— Что это ты за ними бегаешь? Захотят выпить — сами к нам придут.
Между тем Геворк уводил Андрея все дальше от пирующих. Собаки шли возле своих хозяев и даже не переглядывались. Но видно было, что им очень хочется обнюхать друг дружку, порычать, а может, и подраться.
— Что ж ты, — осуждающе произнес Геворк, — к бутылочке потянуло?
— Да я не пил. У меня свои соображения.
— Вон оно что — соображения! Ну, у тебя было время действовать по своему соображению. Результатов что-то мы не увидели. Теперь я приехал — попробуем действовать по моему соображению. Доложи обстановку!
Андрей сказал: “Есть!” — и начал рассказывать о камне, у которого теряется след, об инвентаризации в магазине, о продавце Грикоре Самвеляне.
— Грабители могли на машине уехать, — перебил Геворк, — потому и следа нет.
— Машины не было, — твердо возразил Андрей. — Во-первых, почти ничего не взято в магазине, и не взяли потому, что на руках тяжело нести; а если б была машина, то в нее уж обязательно положили бы кое-какие ценные вещи. Там, например, есть драп. Знаешь, сколько стоит? Во-вторых, к тому месту, где прерывается след, машину не подведешь.
— Значит, по-твоему, грабители шли в магазин специально за деньгами?
— Вот уж не знаю… Тогда получается, что виноват продавец — только он один знал насчет денег.
Геворк решил сам осмотреть место происшествия. Чтобы не возвращаться назад и не беспокоить хозяев, они перелезли через каменную ограду. Собаки легко взяли такую высоту. По прямой через овраг от дома Микаэла до магазина было очень близко. Но еще раньше они дошли до камня, возле которого исчезал след.
— Вот здесь, — сказал Андрей.
Геворк внимательно осмотрел камень.
— Человек не может встать на камень и улететь, — заявил он. — Что Карай не учуял, — это еще не доказательство. Вот я сейчас пущу по следу Маузера, тогда посмотрим.
Он пошел к магазину уводя на поводке свою собаку. Карай нервно скулил — он тоже хотел работать; передней лапой просительно заскреб Андрея по животу. С собакой разговаривать не полагается. Но Андрей не стерпел:
— Молчи уж! Сам оскандалился и меня оскандалил. Теперь хочешь другому, более толковому псу перейти дорогу?
Карай поглядел на него, прижал уши, вильнул пушистым хвостом и лег в траву.
Андрею было видно, как от дверей магазина бежит по следу Маузер и как за ним, пригнувшись, бежит, прыгая через кочки, Геворк. Они быстро приближались. Маузер шел стелющейся рысью, зло поблескивая маленькими глазками. Геворк громко топал ботинками.
— Видишь! — с торжеством крикнул он Андрею, когда Маузер пробежал мимо камня.
Но Маузер тотчас же вернулся, обнюхал камень и сел.
— След! — приказал Геворк.
Пес угрюмо поднялся и, поминутно оглядываясь, сделал несколько шажков. Как только Геворк перестал его понукать, он вернулся на прежнее место. Геворк озабоченно походил вокруг камня, вынул папиросу и стал закуривать.
— Я, конечно, не имею готовых решений, — сказал Андрей, — есть только подозрение…
— Да подожди ты со своими подозрениями! — с досадой оборвал его Геворк. — Капитан Миансаров тысячу раз нам говорил: “Вы сперва объективно расследуйте, потом начинайте подозревать”.
Было видно, что Андрей обиделся.
— Все же я кое-что расследовал, — проговорил он упрямо. — Может, вы все-таки разрешите, товарищ старший лейтенант, поделиться с вами моими соображениями?
Геворк смотрел назад через плечо. Из дома Микаэла к ним спешили люди.
— Ты свои соображения держи пока что при себе…
Андрей вытянулся перед начальником по всей форме. Серые глаза сузились, скулы на щеках заиграли и напряглись.
— Прошу разрешения, товарищ старший лейтенант, отлучиться на полчаса!
— Не разрешаю. — Геворк насупился. — Оставайтесь при мне. Все, какие надо, указания будут вам даны. Для этого меня сюда и прислали. Сейчас вы поведете меня к продавцу.
Первым к камню подошел Микаэл. Еще издали он кричал:
— Как дела, дорогой Геворк, как дела?
Председатель сельсовета спросил, глядя в землю:
— Имеются ли какие успехи в смысле розыска преступных элементов? Прошу доложить!
Геворк внимательно посмотрел на него, достал двумя пальцами новую папироску из кармана гимнастерки, закурил и сдвинул ее в уголок рта.
— Мы сейчас все вместе пойдем к продавцу Грикору Самвеляну.
Микаэл сообщил, что отсюда есть ближний путь, и вызвался проводить. Они пересекли овраг и очень быстро оказались перед домом Самвеляна. Но на этот раз они подошли к дому с другой стороны. Перед ними возникла застекленная веранда с полом, немного приподнятым над землей. Внезапно Маузер, который шел впереди, забеспокоился, прижал нос к земле и натянул поводок. Забеспокоился и Карай. Глухо заворчал и рванулся на поводке Аслан и чуть не сшиб с ног милиционера — своего хозяина.
— Стоп! — крикнул Геворк. — Пусть одна собака работает. Остальных — долой со следа! — Он обернулся к Андрею. — Вы были до моего приезда в этом доме или не были?
— Ну, были…
— И Карай ничего подозрительного не учуял?
— Так ведь мы с другой стороны подходили!
— Это не оправдание. Надо было сделать полное обследование, вокруг всего дома. Только то вас выручит, если это новый след и преступник лишь сейчас вошел в дом.
Он отпустил поводок. Маузер бросился к крыльцу, но в дом не пошел. Он принялся отрывисто и гулко лаять, просовывая морду в тот просвет, который образовался между землей и настланным на столбиках полом веранды. Все сгрудились вокруг крыльца. Геворк достал пистолет и, присев на корточки, крикнул, заглядывая под крыльцо:
— Выходи!
Никто не отозвался. Тогда Геворк, придерживая Маузера за ошейник, полез в щель.
— Геворк, дорогой, опасно! — волновался Микаэл. — Пусти вперед собаку…
Геворк отмахнулся. Маузер рвался у него из рук. Карай скулил, Аслан лаял. Из дома на веранду выглядывала испуганная худенькая женщина в платочке.
— Хозяйка, — объяснили Андрею, — жена продавца Грикора Самвеляна.
Первым из щели выскочил Маузер. Пес держал в зубах секиру с деревянной рукояткой. За ним выполз Геворк.
Микаэл помолчал и обвел гостей глазами — у всех ли наполнены бокалы, все ли готовы по его знаку осушить единым духом вино, чтобы с честью поддержать провозглашенный им тост.
— А вот за что я пью, — сказал он чуть потише, но еще более значительно, чем прежде, — за человека, за друга, за отзывчивую душу! Ты живешь, дорогой Зарзанд, и мы при тебе живем. С большим чувством пью! Будь здоров и живи, наш дорогой Зарзанд, долго живи и процветай!
Все чокнулись с Зарзандом. Он мрачно кивнул головой и одним глотком опорожнил свой стаканчик.
В просвете между деревьями была видна площадка, посыпанная песком. Там стоял турник, а на перекладине висели кольца. Подросток в белой майке с трудом подошел на слишком высоких для него ходулях к турнику и уцепился за перекладину. Затем он исчез, но вскоре появился с другой стороны, теперь уже на ходулях красного цвета.
— Один сынок или несколько? — спросил Андрей, глядя на мальчишку, который все еще путешествовал вокруг турника.
— Один! — Микаэл зажмурил глаза и затряс седой головой. — Старший от меня отделился, а этот при мне. Ничего для него не жалею. Видишь, площадку ему сделал.
— Так у вас при клубе есть как будто спортивная площадка?
— То общая, а это своя!
Микаэл вдруг поднялся и пошел к каменному забору, с вытянутыми вперед руками. В сад входил Геворк, держа на поводке Маузера.
— Здравствуй, дорогой Геворк! — Микаэл сладко жмурился. — Почет тебе и уважение! Милости просим под мой кров!.. Жена, стакан!
— Здравствуй, Микаэл, — сухо проговорил Геворк.
— Дорогой гость, ах, вовремя приехал! Прошу на ковер… Товарищи! — кричал Микаэл. — Товарищ Зарзанд! Вы знаете, кто это приехал? Это наш дорогой Геворк приехал!
Председатель сельсовета угрюмо бросил:
— Ну, приехал — пусть выпьет.
Геворк, расставив ноги в желтых крагах, коротко со всеми поздоровался и отстранил хозяйку, которая несла ему стакан.
— Я на работе. На работе не пьют. Лейтенанта Витюгина прошу проследовать за мной и доложить обстановку.
Они отошли вглубь сада. Хозяин и гости, казалось, были недовольны.
— Работа! — фыркнул Зарзанд. — Как будто мы не на работе… Еще и не такие люди приезжали к нам — из центра даже приезжали и то не отказывались выпить стаканчик…
— Дорогой Зарзанд! — подхватил Микаэл. — Вот за это люблю, что ты своим проницательным глазом всегда правду видишь. Я этого Геворка давно знаю. Что могу сказать? А ты одну секунду посмотрел на него — и сразу все понял. Твое здоровье, дорогой Зарзанд!
Говоря так, Микаэл поставил два граненых стаканчика на свою широкую ладонь и наполнил их вином из кувшина. “Все же гости, — он пожал плечами, — надо отнести гостям вина…”
Зарзанд удержал его:
— Что это ты за ними бегаешь? Захотят выпить — сами к нам придут.
Между тем Геворк уводил Андрея все дальше от пирующих. Собаки шли возле своих хозяев и даже не переглядывались. Но видно было, что им очень хочется обнюхать друг дружку, порычать, а может, и подраться.
— Что ж ты, — осуждающе произнес Геворк, — к бутылочке потянуло?
— Да я не пил. У меня свои соображения.
— Вон оно что — соображения! Ну, у тебя было время действовать по своему соображению. Результатов что-то мы не увидели. Теперь я приехал — попробуем действовать по моему соображению. Доложи обстановку!
Андрей сказал: “Есть!” — и начал рассказывать о камне, у которого теряется след, об инвентаризации в магазине, о продавце Грикоре Самвеляне.
— Грабители могли на машине уехать, — перебил Геворк, — потому и следа нет.
— Машины не было, — твердо возразил Андрей. — Во-первых, почти ничего не взято в магазине, и не взяли потому, что на руках тяжело нести; а если б была машина, то в нее уж обязательно положили бы кое-какие ценные вещи. Там, например, есть драп. Знаешь, сколько стоит? Во-вторых, к тому месту, где прерывается след, машину не подведешь.
— Значит, по-твоему, грабители шли в магазин специально за деньгами?
— Вот уж не знаю… Тогда получается, что виноват продавец — только он один знал насчет денег.
Геворк решил сам осмотреть место происшествия. Чтобы не возвращаться назад и не беспокоить хозяев, они перелезли через каменную ограду. Собаки легко взяли такую высоту. По прямой через овраг от дома Микаэла до магазина было очень близко. Но еще раньше они дошли до камня, возле которого исчезал след.
— Вот здесь, — сказал Андрей.
Геворк внимательно осмотрел камень.
— Человек не может встать на камень и улететь, — заявил он. — Что Карай не учуял, — это еще не доказательство. Вот я сейчас пущу по следу Маузера, тогда посмотрим.
Он пошел к магазину уводя на поводке свою собаку. Карай нервно скулил — он тоже хотел работать; передней лапой просительно заскреб Андрея по животу. С собакой разговаривать не полагается. Но Андрей не стерпел:
— Молчи уж! Сам оскандалился и меня оскандалил. Теперь хочешь другому, более толковому псу перейти дорогу?
Карай поглядел на него, прижал уши, вильнул пушистым хвостом и лег в траву.
Андрею было видно, как от дверей магазина бежит по следу Маузер и как за ним, пригнувшись, бежит, прыгая через кочки, Геворк. Они быстро приближались. Маузер шел стелющейся рысью, зло поблескивая маленькими глазками. Геворк громко топал ботинками.
— Видишь! — с торжеством крикнул он Андрею, когда Маузер пробежал мимо камня.
Но Маузер тотчас же вернулся, обнюхал камень и сел.
— След! — приказал Геворк.
Пес угрюмо поднялся и, поминутно оглядываясь, сделал несколько шажков. Как только Геворк перестал его понукать, он вернулся на прежнее место. Геворк озабоченно походил вокруг камня, вынул папиросу и стал закуривать.
— Я, конечно, не имею готовых решений, — сказал Андрей, — есть только подозрение…
— Да подожди ты со своими подозрениями! — с досадой оборвал его Геворк. — Капитан Миансаров тысячу раз нам говорил: “Вы сперва объективно расследуйте, потом начинайте подозревать”.
Было видно, что Андрей обиделся.
— Все же я кое-что расследовал, — проговорил он упрямо. — Может, вы все-таки разрешите, товарищ старший лейтенант, поделиться с вами моими соображениями?
Геворк смотрел назад через плечо. Из дома Микаэла к ним спешили люди.
— Ты свои соображения держи пока что при себе…
Андрей вытянулся перед начальником по всей форме. Серые глаза сузились, скулы на щеках заиграли и напряглись.
— Прошу разрешения, товарищ старший лейтенант, отлучиться на полчаса!
— Не разрешаю. — Геворк насупился. — Оставайтесь при мне. Все, какие надо, указания будут вам даны. Для этого меня сюда и прислали. Сейчас вы поведете меня к продавцу.
Первым к камню подошел Микаэл. Еще издали он кричал:
— Как дела, дорогой Геворк, как дела?
Председатель сельсовета спросил, глядя в землю:
— Имеются ли какие успехи в смысле розыска преступных элементов? Прошу доложить!
Геворк внимательно посмотрел на него, достал двумя пальцами новую папироску из кармана гимнастерки, закурил и сдвинул ее в уголок рта.
— Мы сейчас все вместе пойдем к продавцу Грикору Самвеляну.
Микаэл сообщил, что отсюда есть ближний путь, и вызвался проводить. Они пересекли овраг и очень быстро оказались перед домом Самвеляна. Но на этот раз они подошли к дому с другой стороны. Перед ними возникла застекленная веранда с полом, немного приподнятым над землей. Внезапно Маузер, который шел впереди, забеспокоился, прижал нос к земле и натянул поводок. Забеспокоился и Карай. Глухо заворчал и рванулся на поводке Аслан и чуть не сшиб с ног милиционера — своего хозяина.
— Стоп! — крикнул Геворк. — Пусть одна собака работает. Остальных — долой со следа! — Он обернулся к Андрею. — Вы были до моего приезда в этом доме или не были?
— Ну, были…
— И Карай ничего подозрительного не учуял?
— Так ведь мы с другой стороны подходили!
— Это не оправдание. Надо было сделать полное обследование, вокруг всего дома. Только то вас выручит, если это новый след и преступник лишь сейчас вошел в дом.
Он отпустил поводок. Маузер бросился к крыльцу, но в дом не пошел. Он принялся отрывисто и гулко лаять, просовывая морду в тот просвет, который образовался между землей и настланным на столбиках полом веранды. Все сгрудились вокруг крыльца. Геворк достал пистолет и, присев на корточки, крикнул, заглядывая под крыльцо:
— Выходи!
Никто не отозвался. Тогда Геворк, придерживая Маузера за ошейник, полез в щель.
— Геворк, дорогой, опасно! — волновался Микаэл. — Пусти вперед собаку…
Геворк отмахнулся. Маузер рвался у него из рук. Карай скулил, Аслан лаял. Из дома на веранду выглядывала испуганная худенькая женщина в платочке.
— Хозяйка, — объяснили Андрею, — жена продавца Грикора Самвеляна.
Первым из щели выскочил Маузер. Пес держал в зубах секиру с деревянной рукояткой. За ним выполз Геворк.
 — Людей там, во всяком случае, нету…
Он отнял у собаки секиру и показал окружающим:
— Понятно? Вот это и есть предмет, которым сделано покушение на убийство. Видите — кровь! Остальное пусть нам расскажет Грикор Самвелян.
Председатель сельсовета, гневно отстранив людей, которые мешали ему подняться на веранду, шагнул сразу через несколько ступенек и с силой рванул дверь. Микаэл шел за ним и, чмокая языком, повторял:
— Ай, Грикор, ай, Грикор!..
Продавец стоял в нижнем белье, держась рукой за спинку кровати. Лицо его было еще белее, чем обычно. Худенькая женщина в платочке стояла рядом с ним и поддерживала его под локоть.
— В чем дело? — с вызовом спросил Самвелян.
Геворк показал ему секиру. Хотя в дом набралось много народу, все молчали.
— Ну, — сказал Геворк, — теперь вы станете меня убеждать, что резали вчера теленка или барана?
— Нет, мы не резали, — прошептала женщина помертвевшими губами. Но в глазах ее загорался гнев. — Это не наш топор! — крикнула она.
— Ай, соседка! — с жалостью воскликнул Микаэл. — Топор не твой, почему же он под твоим крыльцом?
Грикор Самвелян покачнулся, схватился рукой за поясницу и застонал.
— Сволочь! — Председатель сельсовета придвинулся к нему, раздувая небритые щеки. — Ты имел мое доверие. Тебе все было мало? Больной! Кончилась твоя болезнь?
— Ай, ай, Грикор! — качал головой Микаэл.
Продавец заговорил с той суровой смелостью, которой никто не ожидал от него в эту минуту.
— Деньги пропали — моя вина, не должен был оставлять их в магазине. За деньги отвечу. Еще чего хотите? За ограбление, за нападение на сторожа пусть отвечает тот, кто грабил…
— Ладно! — оборвал его Геворк. — Ясно, что у тебя были сообщники. Может, и не ты напал на сторожа. Собака твой след не обнаружила. Ну, ты сам, для своей же пользы, назовешь тех, кого мы пока не нашли.
Он стал пристегивать поводок к ошейнику Маузера, всем своим видом показывая, что дело закончено.
Жена Самвеляна, не боясь собаки, подошла к нему вплотную.
— У нас есть наши, советские законы! — Она гневно блеснула глазами. — Вы по закону действуйте! А так — нельзя. Ни в чем не разобрались, а уже произвели в преступники. — Она обернулась к мужу: — Ты почему в землю смотришь? Подними голову! На тебе нет вины.
— Ладно, ладно… — Геворк пошел к дверям. — С вами теперь поговорит следователь. Чистые люди — оправдаетесь!.. Вот сейчас, — проговорил он, обращаясь к Микаэлу, — я не отказался бы посидеть у тебя на ковре…
Андрей не мог так просто уйти из этого дома. Он чуть задержался.
— Если не виноваты, ничего не бойтесь, — шепнул он женщине, которая укладывала в постель своего мужа. — Правда выплывет… — Ничего более определенного он не мог им сказать и побежал догонять Геворка.
Геворк шел в окружении большой группы людей. Все наперебой его хвалили.
— Вот это работа! — говорил Микаэл. — Вот это собака!
Милиционер из районного отдела молчал, только крутил головой.
Андрея остановил старик в шевиотовом пиджаке.
— Бывает ли, — спросил он строго, — что сыскная собака ошибается?
— Случается иногда.
— Так вот, эта черная собака — обманщик! Я никогда не поверю, что такой человек, как наш Грикор, стал преступником.
— Все выяснится, — бросил на ходу Андрей и быстро догнал Геворка.
Идя рядом, он шепнул Геворку, что хочет с ним поговорить. Тот на секунду приостановился:
— Что надо?
— Можешь ли ты меня хоть теперь выслушать?
— A-a, “особые соображения”! — Геворк засмеялся. — Пойдем к Микаэлу, там отдохнем и поговорим.
— Геворк, — тихо сказал Андрей, — ты не хочешь меня выслушать. Ладно, не надо. Могу я отлучиться на часок?
— Чудак! — благодушно ответил Геворк. — Поиск закончен, делай что хочешь. Я позвоню в Ереван, сообщу о результате. Через час будь на месте — поедем домой. И не расстраивайся. Ты работник молодой. Успех не сразу приходит. Все же я люблю тебя, Андрюшка, хотя у тебя вечные фантазии… — Он снисходительно посмотрел на Карая. — Смотри, как вырос! Скоро Маузера догонит.
Андрей стал тихонько отставать, потом свернул за угол. Стоя за домом, он сделал знак Карлосу. Но вместе с мальчиком пришел Микаэл.
— Куда вы? — Микаэл потянул Андрея за рукав. — Теперь без разговоров ко мне! Выпьем за благополучное окончание дела. Не обижайте, прошу вас, не отказывайтесь!
— Скоро приду, — пообещал Андрей.
— И не думайте — не отпущу! Что у вас за дела такие?
— Да никаких особенных дел нету. Хочу собаку проверить. Вот мальчик мне поможет.
— Все у вас только о работе мысли, — ласково упрекнул Микаэл. — Нельзя так! Измотаетесь начисто.
— Ничего, вы не беспокойтесь. — Андрей вежливо коснулся рукой козырька фуражки и, оставив Микаэла на дороге, перешел вместе с Карлосом на теневую сторону. Уж очень жарко было стоять под солнцем.
— Значит, это Грикор-дядя обокрал магазин? — спросил Карлос. — А деда Вахтанга кто ударил?..
— Подожди, — нетерпеливо прервал его Андрей. — Ты покажи мне лучше, где живет та бабушка, которая тебя ругала за ходули.
Этот вопрос показался Карлосу неинтересным. Подумаешь, какая-то бабка! Стоит ли о ней думать в такой день? Да Карлос вовсе и не ходил ночью на ходулях, все она выдумывает…
Старушка, как выяснилось, жила неподалеку от дома Грикора Самвеляна. Андрей постучал; она тут же появилась в окне меж двух горшков с цветами.
— Простите, — сказал Андрей. — Вы, кажется, жаловались, что этот мальчик помешал вам спать сегодня ночью?
Увидев незнакомого городского милиционера, старушка смутилась. Одно дело — поругать мальчика, другое — вмешивать милицию. Что уж такого особенного — помешал спать!
— Нет, я не жалуюсь, — оправдывалась она. — Зачем жаловаться? Просто я говорю, что нет покоя с тех пор, как мальчишки этими ходулями занялись. — Она обернулась к Карлосу: — Ночью, чтоб ты знал, хороший молодой человек должен спать, вот что!
Карлос во все глаза смотрел то на нее, то на Андрея.
— Еще раз простите, — допытывался Андрей, — вы уверены, что это было именно сегодня ночью? Вот мальчик отрицает…
— Как же отрицает! Я всегда около трех часов просыпаюсь. Да он не один был, с ним еще товарищ пришел. — Она погрозила пальцем мальчику: — Кто это был с тобой?
Карлос фыркнул.
— Видите, еще смеется!
Андрей взял мальчика за руку и отвел от окна.
— Вы его не очень строго! — крикнула вслед старушка. — На первый случай можно простить.
— Жалеет еще! — обиженно проговорил Карлос. Он ничего не понимал и вопросительно глядел на Андрея.
— Видишь ли… — Андрей нерешительно помялся. — Уж не знаю, говорить тебе или нет…
— Не доверяете?
— Как можно не доверять! Просто мал ты еще… Вот, видишь ли, ночью тут ходили какие-то люди на ходулях, возле дома Грикора Самвеляна. Почему ночью на ходулях? Ответ может быть лишь один: хотели прервать свой след, боялись, что их по этому следу могут найти. Кто может этого бояться? Только преступники. Правильно я рассуждаю?
Карлос слушал его, округлив глаза, еле смог кивнуть головой и прошептать: “Правильно…”
— Теперь смотри: мы пускаем собак из магазина по следу — возле большого камня след прерывается. Как говорит мой начальник, человек не может встать на камень и улететь. Имею я право предположить, что тут опять сыграли свою роль ходули? Логично это будет?
Конечно, Андрей предпочел бы, чтобы не мальчик, а взрослый, умный, рассудительный человек выслушал его и признал неопровержимыми его доводы. Тем не менее, когда Карлос с восхищением прошептал незнакомое слово “логично”, Андрей обрадовался.
— Пойдем дальше. Преступники возле большого камня встали на ходули — кто доставил им туда ходули, это другой разговор, — затем на ходулях же, прервав таким образом след, они подошли к дому Грикора Самвеляна. Тут их и увидела наша бабушка. Тебя она приняла за одного из них — простим ей эту ошибку. Но почему преступники пришли сюда? Им нужно бежать, скрываться, а они ходят по селу. Для чего такой риск? Затем возле дома Грикора Самвеляна один из них, а может, и оба временно бросают ходули. Иначе Маузер на подходе к дому не смог бы почуять их след! Для чего же они это делают? В чем разгадка? Опять ответить можно только одно: преступники явились со специальной целью запутать розыск — навести подозрение на другого человека, на невиновного, но на такого, которого легко заподозрить. Короче сказать, это именно они подложили секиру под крыльцо.
— Значит, дядя Грикор не виновен? — быстро спросил Карлос.
— Да, я думаю, что он не виновен. Мы с тобой, — торжественно проговорил Андрей, — можем восстановить честное имя человека!
— Пойти сказать ему?
От такого внезапного предложения Андрей даже вздрогнул.
— Да ну тебя! Ты все дело испортишь. До поры до времени никто ничего не должен знать. Вон ты какой нетерпеливый!
Карлос смутился.
Они стояли теперь на холме за селом. Слева от них бушевала на камнях речка. Если взглянуть направо, то можно было увидеть магазин, а за ним большой камень, возле которого прерывался след.
— Ну, дальше ты со мной не ходи! — приказал Андрей. — И смотри никому ни слова!
— Вы рассердились? — Карлос печально опустил голову.
— Нет, что ты! — Андрей пожал ему руку. — Просто тебе не нужно со мной идти. Это может оказаться опасным.
Видимо, этих слов не стоило говорить. У мальчика блеснули глаза.
— Вы идете искать преступников?
— Да, я попытаюсь. Старушка говорит, что видела их около трех часов ночи. Вряд ли в такое время — до рассвета уже было недалеко — они рискнули бы идти, скажем, в Ереван. Ведь они понимают, что, как только преступление обнаружится, первым делом сообщат на все дороги, связывающие ваше село с городом. Машины у них не было — пришлось бы топать по дорогам пешком, что для них особенно опасно… Потом, еще одна странная вещь: грабители берут двадцать тысяч и не брезгают захватить из магазина две бутылки водки. Не в город же им нести эту водку! С другой стороны, не захотят же они после такого дела пускаться в дорогу пьяными! Вот одно к одному — и выходит, мне думается, что они всё еще скрываются где-то здесь. Располагают пересидеть день в каком-нибудь укрытии, а к вечеру спокойно унести ноги. Ну, а где лучше можно спрятаться, чем в этих пещерах? — Андрей махнул рукой в сторону горного склона, изрытого отверстиями.
— Я пойду с вами! — загорелся Карлос.
— Ни в коем случае. Ты только покажи мне, где можно перейти вброд эту речку. Понимаешь, я думаю, что, подложив секиру под крыльцо, преступники снова встали на ходули, а когда перешли реку, ходули бросили. Значит, Карай сможет их почуять. Вот я и собираюсь поискать их следы.
Карлос повел его вдоль берега.
Река кипела и пенилась. Она была неглубока, но вода скатывалась по камням с такой быстротой и силой, что могла сбить человека с ног.
— Вот здесь мы всегда переходим.
Русло загораживал огромный плоский камень, оставляя для прохода воды лишь узкую, но очень глубокую канавку вдоль левого берега. По камню можно было пройти, почти не замочив ног, а перепрыгнуть канавку мог любой подросток. Карай без колебаний ступил на камень и первым оказался на другом берегу. Андрей последовал за ним и помахал Карлосу рукой.
Вдоль берега шла полоса выгоревшей от солнца травы. Андрей осмотрел место возле перехода — может быть, где-нибудь здесь спрятаны ходули? Он ничего не нашел и пустил Карая на свободный поиск.
Карай пошел виражами, как идет охотничья собака по перепелиному полю. Вдруг он остановился, осторожно принюхался к траве. Шерсть у него стала вздыматься от загривка до хвоста. Уткнув нос в траву, он потянул вперед с огромной силой. Теперь Андрей уже не шел за ним, а бежал. Они выбрались на горную тропинку. Тут Андрей обернулся и увидел приближающуюся черную фигуру. Их догонял Карлос. “Вот мальчишка!” — с досадой подумал Андрей и придержал собаку.
— Что тебе надо? — вполголоса спросил он, когда Карлос подбежал ближе.
Мальчик виновато отвел глаза в сторону.
— Я нашел… — проговорил он, с трудом переводя дыхание, — вот это… было в воде, возле камня, где переход. Я подумал, что вам нужно об этом знать…
Он протянул Андрею круглую палку — обломок ходули. Виднелись даже следы, где к палке была прикреплена перекладина. Вон оно что! Перешли речку, изломали ходули и побросали обломки в воду. Ищи, мол, теперь ветра в поле…
— Рассказывай! — сурово сказал Андрей. — Из-за этого ты меня догонял? Ты просто решил, что это дает тебе возможность пойти вместе со мной!
Карлос не стал отпираться. Он умоляющими глазами посмотрел на Андрея:
— А что будет, пойду, да?
Андрей только рукой махнул.
Карай, тихонько повизгивавший от нетерпения, снова потянул вперед по тропке. Он вел с такой уверенностью, будто уже не раз бывал здесь и все знал заранее. Показались первые пещеры. Карай без колебаний миновал их. Видимо, следы говорили ему все, что требовалось знать.
Андрей на ходу принялся доставать из кобуры пистолет, переложил его поближе — в правый карман. Во время предстоящей встречи могли случиться всякие неожиданности.
— Тихо, тихо! — уговаривал он собаку.
Карлос, казалось, был готов ко всему. В руке он все еще держал обломок ходули и воинственно им размахивал.
В пещерах, конечно, темно. Андрей достал карманный электрический фонарик. И, когда Карай прямо с ходу завернул в круглое отверстие одной из пещер — к счастью, достаточно высокое, — Андрей включил свет. Пес втянул его в пещеру, словно на вожжах. Заметались тени на каменном полу, послышался яростный лай, испуганные голоса. Андрей отпустил поводок.
В пещере было двое людей. Один лежал на земле, другой, прижавшись к стене, размахивал ножом. Они, очевидно, только что проснулись. Нападение застало их врасплох.
— Бросай нож! — крикнул Андрей. Он больше всего боялся, как бы Карай не напоролся на лезвие.
Но недаром он так тщательно учил Карая всему тому, что предписано знать служебной собаке. Карай прыгнул вперед и своими безжалостными клыками захватил правую руку преступника, прежде чем она успела нанести удар. Финский нож упал на камни.
— Людей там, во всяком случае, нету…
Он отнял у собаки секиру и показал окружающим:
— Понятно? Вот это и есть предмет, которым сделано покушение на убийство. Видите — кровь! Остальное пусть нам расскажет Грикор Самвелян.
Председатель сельсовета, гневно отстранив людей, которые мешали ему подняться на веранду, шагнул сразу через несколько ступенек и с силой рванул дверь. Микаэл шел за ним и, чмокая языком, повторял:
— Ай, Грикор, ай, Грикор!..
Продавец стоял в нижнем белье, держась рукой за спинку кровати. Лицо его было еще белее, чем обычно. Худенькая женщина в платочке стояла рядом с ним и поддерживала его под локоть.
— В чем дело? — с вызовом спросил Самвелян.
Геворк показал ему секиру. Хотя в дом набралось много народу, все молчали.
— Ну, — сказал Геворк, — теперь вы станете меня убеждать, что резали вчера теленка или барана?
— Нет, мы не резали, — прошептала женщина помертвевшими губами. Но в глазах ее загорался гнев. — Это не наш топор! — крикнула она.
— Ай, соседка! — с жалостью воскликнул Микаэл. — Топор не твой, почему же он под твоим крыльцом?
Грикор Самвелян покачнулся, схватился рукой за поясницу и застонал.
— Сволочь! — Председатель сельсовета придвинулся к нему, раздувая небритые щеки. — Ты имел мое доверие. Тебе все было мало? Больной! Кончилась твоя болезнь?
— Ай, ай, Грикор! — качал головой Микаэл.
Продавец заговорил с той суровой смелостью, которой никто не ожидал от него в эту минуту.
— Деньги пропали — моя вина, не должен был оставлять их в магазине. За деньги отвечу. Еще чего хотите? За ограбление, за нападение на сторожа пусть отвечает тот, кто грабил…
— Ладно! — оборвал его Геворк. — Ясно, что у тебя были сообщники. Может, и не ты напал на сторожа. Собака твой след не обнаружила. Ну, ты сам, для своей же пользы, назовешь тех, кого мы пока не нашли.
Он стал пристегивать поводок к ошейнику Маузера, всем своим видом показывая, что дело закончено.
Жена Самвеляна, не боясь собаки, подошла к нему вплотную.
— У нас есть наши, советские законы! — Она гневно блеснула глазами. — Вы по закону действуйте! А так — нельзя. Ни в чем не разобрались, а уже произвели в преступники. — Она обернулась к мужу: — Ты почему в землю смотришь? Подними голову! На тебе нет вины.
— Ладно, ладно… — Геворк пошел к дверям. — С вами теперь поговорит следователь. Чистые люди — оправдаетесь!.. Вот сейчас, — проговорил он, обращаясь к Микаэлу, — я не отказался бы посидеть у тебя на ковре…
Андрей не мог так просто уйти из этого дома. Он чуть задержался.
— Если не виноваты, ничего не бойтесь, — шепнул он женщине, которая укладывала в постель своего мужа. — Правда выплывет… — Ничего более определенного он не мог им сказать и побежал догонять Геворка.
Геворк шел в окружении большой группы людей. Все наперебой его хвалили.
— Вот это работа! — говорил Микаэл. — Вот это собака!
Милиционер из районного отдела молчал, только крутил головой.
Андрея остановил старик в шевиотовом пиджаке.
— Бывает ли, — спросил он строго, — что сыскная собака ошибается?
— Случается иногда.
— Так вот, эта черная собака — обманщик! Я никогда не поверю, что такой человек, как наш Грикор, стал преступником.
— Все выяснится, — бросил на ходу Андрей и быстро догнал Геворка.
Идя рядом, он шепнул Геворку, что хочет с ним поговорить. Тот на секунду приостановился:
— Что надо?
— Можешь ли ты меня хоть теперь выслушать?
— A-a, “особые соображения”! — Геворк засмеялся. — Пойдем к Микаэлу, там отдохнем и поговорим.
— Геворк, — тихо сказал Андрей, — ты не хочешь меня выслушать. Ладно, не надо. Могу я отлучиться на часок?
— Чудак! — благодушно ответил Геворк. — Поиск закончен, делай что хочешь. Я позвоню в Ереван, сообщу о результате. Через час будь на месте — поедем домой. И не расстраивайся. Ты работник молодой. Успех не сразу приходит. Все же я люблю тебя, Андрюшка, хотя у тебя вечные фантазии… — Он снисходительно посмотрел на Карая. — Смотри, как вырос! Скоро Маузера догонит.
Андрей стал тихонько отставать, потом свернул за угол. Стоя за домом, он сделал знак Карлосу. Но вместе с мальчиком пришел Микаэл.
— Куда вы? — Микаэл потянул Андрея за рукав. — Теперь без разговоров ко мне! Выпьем за благополучное окончание дела. Не обижайте, прошу вас, не отказывайтесь!
— Скоро приду, — пообещал Андрей.
— И не думайте — не отпущу! Что у вас за дела такие?
— Да никаких особенных дел нету. Хочу собаку проверить. Вот мальчик мне поможет.
— Все у вас только о работе мысли, — ласково упрекнул Микаэл. — Нельзя так! Измотаетесь начисто.
— Ничего, вы не беспокойтесь. — Андрей вежливо коснулся рукой козырька фуражки и, оставив Микаэла на дороге, перешел вместе с Карлосом на теневую сторону. Уж очень жарко было стоять под солнцем.
— Значит, это Грикор-дядя обокрал магазин? — спросил Карлос. — А деда Вахтанга кто ударил?..
— Подожди, — нетерпеливо прервал его Андрей. — Ты покажи мне лучше, где живет та бабушка, которая тебя ругала за ходули.
Этот вопрос показался Карлосу неинтересным. Подумаешь, какая-то бабка! Стоит ли о ней думать в такой день? Да Карлос вовсе и не ходил ночью на ходулях, все она выдумывает…
Старушка, как выяснилось, жила неподалеку от дома Грикора Самвеляна. Андрей постучал; она тут же появилась в окне меж двух горшков с цветами.
— Простите, — сказал Андрей. — Вы, кажется, жаловались, что этот мальчик помешал вам спать сегодня ночью?
Увидев незнакомого городского милиционера, старушка смутилась. Одно дело — поругать мальчика, другое — вмешивать милицию. Что уж такого особенного — помешал спать!
— Нет, я не жалуюсь, — оправдывалась она. — Зачем жаловаться? Просто я говорю, что нет покоя с тех пор, как мальчишки этими ходулями занялись. — Она обернулась к Карлосу: — Ночью, чтоб ты знал, хороший молодой человек должен спать, вот что!
Карлос во все глаза смотрел то на нее, то на Андрея.
— Еще раз простите, — допытывался Андрей, — вы уверены, что это было именно сегодня ночью? Вот мальчик отрицает…
— Как же отрицает! Я всегда около трех часов просыпаюсь. Да он не один был, с ним еще товарищ пришел. — Она погрозила пальцем мальчику: — Кто это был с тобой?
Карлос фыркнул.
— Видите, еще смеется!
Андрей взял мальчика за руку и отвел от окна.
— Вы его не очень строго! — крикнула вслед старушка. — На первый случай можно простить.
— Жалеет еще! — обиженно проговорил Карлос. Он ничего не понимал и вопросительно глядел на Андрея.
— Видишь ли… — Андрей нерешительно помялся. — Уж не знаю, говорить тебе или нет…
— Не доверяете?
— Как можно не доверять! Просто мал ты еще… Вот, видишь ли, ночью тут ходили какие-то люди на ходулях, возле дома Грикора Самвеляна. Почему ночью на ходулях? Ответ может быть лишь один: хотели прервать свой след, боялись, что их по этому следу могут найти. Кто может этого бояться? Только преступники. Правильно я рассуждаю?
Карлос слушал его, округлив глаза, еле смог кивнуть головой и прошептать: “Правильно…”
— Теперь смотри: мы пускаем собак из магазина по следу — возле большого камня след прерывается. Как говорит мой начальник, человек не может встать на камень и улететь. Имею я право предположить, что тут опять сыграли свою роль ходули? Логично это будет?
Конечно, Андрей предпочел бы, чтобы не мальчик, а взрослый, умный, рассудительный человек выслушал его и признал неопровержимыми его доводы. Тем не менее, когда Карлос с восхищением прошептал незнакомое слово “логично”, Андрей обрадовался.
— Пойдем дальше. Преступники возле большого камня встали на ходули — кто доставил им туда ходули, это другой разговор, — затем на ходулях же, прервав таким образом след, они подошли к дому Грикора Самвеляна. Тут их и увидела наша бабушка. Тебя она приняла за одного из них — простим ей эту ошибку. Но почему преступники пришли сюда? Им нужно бежать, скрываться, а они ходят по селу. Для чего такой риск? Затем возле дома Грикора Самвеляна один из них, а может, и оба временно бросают ходули. Иначе Маузер на подходе к дому не смог бы почуять их след! Для чего же они это делают? В чем разгадка? Опять ответить можно только одно: преступники явились со специальной целью запутать розыск — навести подозрение на другого человека, на невиновного, но на такого, которого легко заподозрить. Короче сказать, это именно они подложили секиру под крыльцо.
— Значит, дядя Грикор не виновен? — быстро спросил Карлос.
— Да, я думаю, что он не виновен. Мы с тобой, — торжественно проговорил Андрей, — можем восстановить честное имя человека!
— Пойти сказать ему?
От такого внезапного предложения Андрей даже вздрогнул.
— Да ну тебя! Ты все дело испортишь. До поры до времени никто ничего не должен знать. Вон ты какой нетерпеливый!
Карлос смутился.
Они стояли теперь на холме за селом. Слева от них бушевала на камнях речка. Если взглянуть направо, то можно было увидеть магазин, а за ним большой камень, возле которого прерывался след.
— Ну, дальше ты со мной не ходи! — приказал Андрей. — И смотри никому ни слова!
— Вы рассердились? — Карлос печально опустил голову.
— Нет, что ты! — Андрей пожал ему руку. — Просто тебе не нужно со мной идти. Это может оказаться опасным.
Видимо, этих слов не стоило говорить. У мальчика блеснули глаза.
— Вы идете искать преступников?
— Да, я попытаюсь. Старушка говорит, что видела их около трех часов ночи. Вряд ли в такое время — до рассвета уже было недалеко — они рискнули бы идти, скажем, в Ереван. Ведь они понимают, что, как только преступление обнаружится, первым делом сообщат на все дороги, связывающие ваше село с городом. Машины у них не было — пришлось бы топать по дорогам пешком, что для них особенно опасно… Потом, еще одна странная вещь: грабители берут двадцать тысяч и не брезгают захватить из магазина две бутылки водки. Не в город же им нести эту водку! С другой стороны, не захотят же они после такого дела пускаться в дорогу пьяными! Вот одно к одному — и выходит, мне думается, что они всё еще скрываются где-то здесь. Располагают пересидеть день в каком-нибудь укрытии, а к вечеру спокойно унести ноги. Ну, а где лучше можно спрятаться, чем в этих пещерах? — Андрей махнул рукой в сторону горного склона, изрытого отверстиями.
— Я пойду с вами! — загорелся Карлос.
— Ни в коем случае. Ты только покажи мне, где можно перейти вброд эту речку. Понимаешь, я думаю, что, подложив секиру под крыльцо, преступники снова встали на ходули, а когда перешли реку, ходули бросили. Значит, Карай сможет их почуять. Вот я и собираюсь поискать их следы.
Карлос повел его вдоль берега.
Река кипела и пенилась. Она была неглубока, но вода скатывалась по камням с такой быстротой и силой, что могла сбить человека с ног.
— Вот здесь мы всегда переходим.
Русло загораживал огромный плоский камень, оставляя для прохода воды лишь узкую, но очень глубокую канавку вдоль левого берега. По камню можно было пройти, почти не замочив ног, а перепрыгнуть канавку мог любой подросток. Карай без колебаний ступил на камень и первым оказался на другом берегу. Андрей последовал за ним и помахал Карлосу рукой.
Вдоль берега шла полоса выгоревшей от солнца травы. Андрей осмотрел место возле перехода — может быть, где-нибудь здесь спрятаны ходули? Он ничего не нашел и пустил Карая на свободный поиск.
Карай пошел виражами, как идет охотничья собака по перепелиному полю. Вдруг он остановился, осторожно принюхался к траве. Шерсть у него стала вздыматься от загривка до хвоста. Уткнув нос в траву, он потянул вперед с огромной силой. Теперь Андрей уже не шел за ним, а бежал. Они выбрались на горную тропинку. Тут Андрей обернулся и увидел приближающуюся черную фигуру. Их догонял Карлос. “Вот мальчишка!” — с досадой подумал Андрей и придержал собаку.
— Что тебе надо? — вполголоса спросил он, когда Карлос подбежал ближе.
Мальчик виновато отвел глаза в сторону.
— Я нашел… — проговорил он, с трудом переводя дыхание, — вот это… было в воде, возле камня, где переход. Я подумал, что вам нужно об этом знать…
Он протянул Андрею круглую палку — обломок ходули. Виднелись даже следы, где к палке была прикреплена перекладина. Вон оно что! Перешли речку, изломали ходули и побросали обломки в воду. Ищи, мол, теперь ветра в поле…
— Рассказывай! — сурово сказал Андрей. — Из-за этого ты меня догонял? Ты просто решил, что это дает тебе возможность пойти вместе со мной!
Карлос не стал отпираться. Он умоляющими глазами посмотрел на Андрея:
— А что будет, пойду, да?
Андрей только рукой махнул.
Карай, тихонько повизгивавший от нетерпения, снова потянул вперед по тропке. Он вел с такой уверенностью, будто уже не раз бывал здесь и все знал заранее. Показались первые пещеры. Карай без колебаний миновал их. Видимо, следы говорили ему все, что требовалось знать.
Андрей на ходу принялся доставать из кобуры пистолет, переложил его поближе — в правый карман. Во время предстоящей встречи могли случиться всякие неожиданности.
— Тихо, тихо! — уговаривал он собаку.
Карлос, казалось, был готов ко всему. В руке он все еще держал обломок ходули и воинственно им размахивал.
В пещерах, конечно, темно. Андрей достал карманный электрический фонарик. И, когда Карай прямо с ходу завернул в круглое отверстие одной из пещер — к счастью, достаточно высокое, — Андрей включил свет. Пес втянул его в пещеру, словно на вожжах. Заметались тени на каменном полу, послышался яростный лай, испуганные голоса. Андрей отпустил поводок.
В пещере было двое людей. Один лежал на земле, другой, прижавшись к стене, размахивал ножом. Они, очевидно, только что проснулись. Нападение застало их врасплох.
— Бросай нож! — крикнул Андрей. Он больше всего боялся, как бы Карай не напоролся на лезвие.
Но недаром он так тщательно учил Карая всему тому, что предписано знать служебной собаке. Карай прыгнул вперед и своими безжалостными клыками захватил правую руку преступника, прежде чем она успела нанести удар. Финский нож упал на камни.
 — Выходите! — скомандовал Андрей. Он подобрал поводок и с трудом оттянул назад разъяренную собаку. При этом он одновременно увидел две вещи: человек, лежащий на земле, потянулся рукой за ножом; Карлос бросился к нему и выхватил нож из-под его руки. — Молодец! — сказал Андрей, нахмурившись. — Спасибо тебе, но больше никогда так не делай…
Карай все еще рвался у него из рук и лаял.
— Встать на ноги! — приказал Андрей. — Смотри, не то собака за тебя возьмется… — Он подождал, пока человек поднялся с каменного пола. — Теперь выходите на волю. Руки держать над головой.
Он пропустил вперед Карлоса, затем вышел сам и стал у отверстия, держа пистолет наготове.
Задержанные им люди опасливо поглядывали на собаку. Один из них — с черными усиками на широком лице и с каким-то нелепым подобием бакенбардов — был в приплюснутой кепке и в новеньком черном костюме. Андрей внимательно вглядывался — нет, он не знал этого человека. Зато другой — маленький ростом и тоже с усиками, с густыми жесткими волосами над низким лбом — показался ему знакомым.
— Выходите! — скомандовал Андрей. Он подобрал поводок и с трудом оттянул назад разъяренную собаку. При этом он одновременно увидел две вещи: человек, лежащий на земле, потянулся рукой за ножом; Карлос бросился к нему и выхватил нож из-под его руки. — Молодец! — сказал Андрей, нахмурившись. — Спасибо тебе, но больше никогда так не делай…
Карай все еще рвался у него из рук и лаял.
— Встать на ноги! — приказал Андрей. — Смотри, не то собака за тебя возьмется… — Он подождал, пока человек поднялся с каменного пола. — Теперь выходите на волю. Руки держать над головой.
Он пропустил вперед Карлоса, затем вышел сам и стал у отверстия, держа пистолет наготове.
Задержанные им люди опасливо поглядывали на собаку. Один из них — с черными усиками на широком лице и с каким-то нелепым подобием бакенбардов — был в приплюснутой кепке и в новеньком черном костюме. Андрей внимательно вглядывался — нет, он не знал этого человека. Зато другой — маленький ростом и тоже с усиками, с густыми жесткими волосами над низким лбом — показался ему знакомым.
 — Ага, приятель! — сказал ему Андрей. — Не узнаешь? Сколько раз я тебя в милицию водил. Три года назад ты возле кино на площади вечные ручки у прохожих воровал. Теперь, значит, вот до чего дошел!
Карай зарычал, услышав негодующие нотки в голосе хозяина.
— Держи своего кобеля, — сказал человек в черном костюме.
— Оружие есть?
— Пошел ты… — отозвался маленький, заметно наглея.
Они уже переглядывались друг с другом и, видимо, что-то замышляли. Андрей взял за руку парня в черном костюме и повел в сторону, чтобы обыскать. Тот рванулся. Андрей придавил его к камню. В ту же секунду Карай ударил бандита передними лапами в грудь. Оттаскивая собаку, Андрей услышал предупреждающий возглас Карлоса и быстро обернулся. Второй бандит пытался подкрасться к нему.
— Не дури! — спокойно приказал Андрей. — Тут такой пес, что и один справится с вами двумя. Для его зубов ваших костей будет маловато…
Он быстро обыскал второго преступника.
— Что ж вы, — насмешливо сказал он, — вам двадцать тысяч мало показалось! Вы еще и на костюм позарились!
— Да будь он проклят, этот костюм! — мирно проговорил парень с бакенбардами. — Там в магазине я на гвоздь напоролся — пиджак порвал, ну, решил по дешевке переодеться… — Он подмигнул Андрею: — Тебя как зовут?
— Проводник служебной собаки.
— Нет, ты имя скажи! — вступил в разговор маленький. — Ты про Мишку-Зверя случайно не слышал?
Эта кличка была знакома Андрею, как и многим другим работникам милиции. Кличка скрывала крупного бандита, держащего под своим влиянием шайку более мелких преступников-рецидивистов. К нему тянулось много ниточек…
— Так вот, милиционер: ты учти, что мы от Мишки-Зверя работаем. Тебе лучше с нами разойтись по-хорошему. Как ты знаешь, люди один лишь раз живут на белом свете.
— Испугали! — холодно произнес Андрей. — Вот объясните-ка лучше: вы за товаром шли или за деньгами? Почему из вещей почти ничего не взято?
Бандиты переглянулись:
— Шли за барахлом. А деньги попались — и с барахлом не стали связываться. Ты ведь не следователь, зачем допытываешься?
— Много ли вы могли унести на руках! — с нарочитым презрением сказал Андрей. Он хотел заставить преступников разговориться.
— И носить бы не стали! — Парень с бакенбардами плюнул со скалы вниз. — Зачем носить? Мы не амбалы. С нами такой хозяин работал, что нашел бы тут же, в селе, куда спрятать.
— Ты помолчи! — строго оборвал его маленький.
— А что? Этот милиционер — человек свойский. Он нас отпустит. Верно я говорю?
Андрей не стал им отвечать.
— А что ж за человек с вами работал?
— Да ты его не знаешь.
— А где деньги? У него?
— Вон чего тебе надо! Денег нету.
— А кто из вас сторожа убил? — Андрей решил пока не говорить им, что дед Вахтанг жив.
Парень в черном костюме старательно разглаживал свои бакенбарды.
— Кто же будет убивать? Разве мы не знаем, что за мокрое теперь полагается высшая мера.
— Любопытный какой милиционер! — с усмешкой проговорил маленький.
Карлос стоял чуть в стороне и внимательно следил за бандитами. Он все-таки побаивался их. В руке он держал большой камень. Андрей подозвал его.
— Сходи в пещеру. Посмотри, нет ли там для нас чего-нибудь интересного.
Мальчик бросил камень и юркнул в темный проход.
— Да ничего там нету, — лениво сказал маленький. — Ну, милиционер, идти нам или как?
Андрей держал в руке пистолет.
— Охраняй! — приказал он собаке.
Карай обошел бандитов и лег в напряженной позе поперек горной тропки. Все было в порядке.
Карлос вышел из пещеры, брезгливо держа кончиками пальцев какую-то ветошь.
— Вот что я нашел, а интересного ничего нету.
Парень с бакенбардами забеспокоился:
— Гляди, что отыскал! Мой старый костюм, который порвался. А ну, давай сюда!
Карлос даже не взглянул на него.
— Разверни, пожалуйста, — попросил Андрей.
Мальчик развернул — и отшатнулся. На рукаве и правой поле пиджака были следы крови.
— На гвоздь напоролся! — с гневом сказал Андрей. — Этот пиджак — он против тебя покажет на суде… Стоять! — крикнул он, когда заметил резкое движение бандита. — Вы разве люди? В вас ничего человеческого нет! — Он снова обернулся к Карлосу. — Придется тебе обыскать карманы.
Мальчик стал выворачивать карманы пиджака. Из внутренних карманов посыпались какие-то свертки. Андрей надорвал газетную бумагу и на одном из свертков — под ней были деньги. Он снова уложил пачку с деньгами в карманы и передал Карлосу.
— Ага, приятель! — сказал ему Андрей. — Не узнаешь? Сколько раз я тебя в милицию водил. Три года назад ты возле кино на площади вечные ручки у прохожих воровал. Теперь, значит, вот до чего дошел!
Карай зарычал, услышав негодующие нотки в голосе хозяина.
— Держи своего кобеля, — сказал человек в черном костюме.
— Оружие есть?
— Пошел ты… — отозвался маленький, заметно наглея.
Они уже переглядывались друг с другом и, видимо, что-то замышляли. Андрей взял за руку парня в черном костюме и повел в сторону, чтобы обыскать. Тот рванулся. Андрей придавил его к камню. В ту же секунду Карай ударил бандита передними лапами в грудь. Оттаскивая собаку, Андрей услышал предупреждающий возглас Карлоса и быстро обернулся. Второй бандит пытался подкрасться к нему.
— Не дури! — спокойно приказал Андрей. — Тут такой пес, что и один справится с вами двумя. Для его зубов ваших костей будет маловато…
Он быстро обыскал второго преступника.
— Что ж вы, — насмешливо сказал он, — вам двадцать тысяч мало показалось! Вы еще и на костюм позарились!
— Да будь он проклят, этот костюм! — мирно проговорил парень с бакенбардами. — Там в магазине я на гвоздь напоролся — пиджак порвал, ну, решил по дешевке переодеться… — Он подмигнул Андрею: — Тебя как зовут?
— Проводник служебной собаки.
— Нет, ты имя скажи! — вступил в разговор маленький. — Ты про Мишку-Зверя случайно не слышал?
Эта кличка была знакома Андрею, как и многим другим работникам милиции. Кличка скрывала крупного бандита, держащего под своим влиянием шайку более мелких преступников-рецидивистов. К нему тянулось много ниточек…
— Так вот, милиционер: ты учти, что мы от Мишки-Зверя работаем. Тебе лучше с нами разойтись по-хорошему. Как ты знаешь, люди один лишь раз живут на белом свете.
— Испугали! — холодно произнес Андрей. — Вот объясните-ка лучше: вы за товаром шли или за деньгами? Почему из вещей почти ничего не взято?
Бандиты переглянулись:
— Шли за барахлом. А деньги попались — и с барахлом не стали связываться. Ты ведь не следователь, зачем допытываешься?
— Много ли вы могли унести на руках! — с нарочитым презрением сказал Андрей. Он хотел заставить преступников разговориться.
— И носить бы не стали! — Парень с бакенбардами плюнул со скалы вниз. — Зачем носить? Мы не амбалы. С нами такой хозяин работал, что нашел бы тут же, в селе, куда спрятать.
— Ты помолчи! — строго оборвал его маленький.
— А что? Этот милиционер — человек свойский. Он нас отпустит. Верно я говорю?
Андрей не стал им отвечать.
— А что ж за человек с вами работал?
— Да ты его не знаешь.
— А где деньги? У него?
— Вон чего тебе надо! Денег нету.
— А кто из вас сторожа убил? — Андрей решил пока не говорить им, что дед Вахтанг жив.
Парень в черном костюме старательно разглаживал свои бакенбарды.
— Кто же будет убивать? Разве мы не знаем, что за мокрое теперь полагается высшая мера.
— Любопытный какой милиционер! — с усмешкой проговорил маленький.
Карлос стоял чуть в стороне и внимательно следил за бандитами. Он все-таки побаивался их. В руке он держал большой камень. Андрей подозвал его.
— Сходи в пещеру. Посмотри, нет ли там для нас чего-нибудь интересного.
Мальчик бросил камень и юркнул в темный проход.
— Да ничего там нету, — лениво сказал маленький. — Ну, милиционер, идти нам или как?
Андрей держал в руке пистолет.
— Охраняй! — приказал он собаке.
Карай обошел бандитов и лег в напряженной позе поперек горной тропки. Все было в порядке.
Карлос вышел из пещеры, брезгливо держа кончиками пальцев какую-то ветошь.
— Вот что я нашел, а интересного ничего нету.
Парень с бакенбардами забеспокоился:
— Гляди, что отыскал! Мой старый костюм, который порвался. А ну, давай сюда!
Карлос даже не взглянул на него.
— Разверни, пожалуйста, — попросил Андрей.
Мальчик развернул — и отшатнулся. На рукаве и правой поле пиджака были следы крови.
— На гвоздь напоролся! — с гневом сказал Андрей. — Этот пиджак — он против тебя покажет на суде… Стоять! — крикнул он, когда заметил резкое движение бандита. — Вы разве люди? В вас ничего человеческого нет! — Он снова обернулся к Карлосу. — Придется тебе обыскать карманы.
Мальчик стал выворачивать карманы пиджака. Из внутренних карманов посыпались какие-то свертки. Андрей надорвал газетную бумагу и на одном из свертков — под ней были деньги. Он снова уложил пачку с деньгами в карманы и передал Карлосу.
 — Смотри, милиционер! — значительно произнес маленький.
— А ну, вперед! — Андрей поднял пистолет. — И не оглядываться! Бежать не думайте — положу на месте. Шагом марш!
Спускаться вниз по такой крутизне было труднее, чем подниматься. Шли быстро.
— Куда мы их теперь поведем? — шепнул Карлос. Глаза у него блестели, ноздри раздувались. — Это разве люди! — презрительно повторил он вслед за Андреем.
— Сдадим их на руки оперативникам из районного отделения милиции. Пусть их в город отправят…
Карай шел за преступниками, яростно рыча каждый раз, как только кто-нибудь из них пытался обернуться назад…
— Какая у вас собака! — Мальчик восхищенно качал головой.
— Ну, не завидуй! — Андрей потрепал Карлоса по плечу. — Я посмотрю, подумаю, может, смогу для тебя щенка раздобыть…
…Гости Микаэла все еще угощались шашлыком и долмой, когда Андрей подошел к ковру.
— Явился наконец! — Микаэл испытующе глядел на него. — Ну, выпить, закусить…
— Выпить и закусить можно, — согласился Андрей, но сам отклонил стаканчик, который поднес ему Микаэл. — Вот ведь как случилось, — говорил он и все время глядел на Микаэла, — пришли грабители в магазин, думали товаров набрать и укрыть в знакомом доме поблизости. Пришли, а в магазине наткнулись на деньги. Почему не взять деньги вместо товаров?
— Да ты выпей! — раздраженно настаивал Микаэл. — Эту всю историю мы знаем.
Андрей снова отвел его руку со стаканчиком.
— Сторожа хотели убить, потому что честный человек, мог бы оказать сопротивление. Для чего жалеть старика? А к большому камню были заранее принесены ходули… Вот хотелось бы узнать, кто это принес туда ходули? — Андрей обратился прямо к Микаэлу: — Как вы думаете?
— Что ж мне об этом думать, — угрюмо отмахнулся Микаэл. — Пусть об этом Грикор Самвелян думает.
— Нет! — Андрей поднялся с места и схватил Микаэла за руку. — Теперь уж тебе не выкрутиться, не свалить свою вину на другого…
Через полчаса Андрей заводил свой мотоцикл во дворе сельсовета. Геворк стоял рядом и курил папиросу.
— Видишь ли, — говорил Андрей, — все было так запутанно, что я решил: путает опытный человек, который знает, как оберегаться от сыскной собаки. А кто здесь это знает? Только Микаэл. Но это было лишь подозрение, а на правильную линию меня навели ходули, которые я увидел у сына Микаэла. Для чего подростку две пары ходуль, когда он и на одной как следует ходить не умеет? Ну, я улучил момент, спросил у мальчика, а он отвечает: “Папа много ходуль сделал, но мне только две пары дал”. Дальше уж клубок сам стал разматываться. Бандиты эти, видишь ли, они давно поддерживают с Микаэлом связь. Кто знает, сколько у них совместных преступлений сделано… Такие, как Микаэл, любят загребать жар чужими руками.
— Почему ты раньше мне этого не рассказал? — сухо спросил Геворк.
— Ну, тогда я и сам не все знал. Были только некоторые соображения. И ты разве давал говорить?
Андрей наконец завел мотоцикл, но тут же выключил мотор. Было еще одно дело, которое он решил выполнить, прежде чем уедет из села. Он вышел за ворота. На улице, под тенистым деревом, сидели мальчики.
— Карлос! — крикнул он. — Вот не хотел уезжать, пока с тобой не попрощаюсь. — Он подошел ближе. — Спасибо за помощь!
Карлос даже побледнел — он не ожидал такого признания своих заслуг в присутствии чуть ли не всех мальчишек села.
— А будет то, что вы обещали?
— Обязательно! Пришлю тебе хорошего щенка. Вырастет — станет не хуже Карая. И книгу пришлю, как его надо выращивать и воспитывать. А ты мне пиши!
Он обнял мальчика. Потом откозырнул всей компании и пошел во двор сельсовета. Тут он сел за руль, приказал Караю прыгнуть в коляску.
— Так, — сумрачно проговорил Геворк, как только увидел его. — Ты у меня подучился, теперь, выходит, мне начинать у тебя учиться… — Он не выдержал этого тона и легонько ткнул Андрея в грудь кулаком. — Молодец! Честное слово, молодец!
Андрей смутился, стал шарить по карманам. Вот не вовремя куда-то пропали папиросы…
— Ну, поехали, — сказал Геворк.
И два мотоцикла с колясками, в каждой из которых сидела собака, выехали из села на шоссе.
— Из этого дела надо извлечь уроки, — говорил на следующий день капитан Миансаров на собрании проводников служебных собак своего питомника.
Собрания устраивались раз в неделю и, так же как на заводах и в учреждениях, именовались “производственными совещаниями”.
Капитан Миансаров строго оглядел всех присутствующих, а их было здесь немало: двенадцать испытанных проводников служебных собак — начиная с самого юного, младшего лейтенанта Ашота Енгибаряна, и кончая самым пожилым, сорокашестилетним капитаном Хореном Топчибашевым. Он остановил взгляд на Андрее.
— Лейтенант Андрей Витюгин подошел к этому делу ответственно и умно! — Это была высшая похвала в устах капитана Миансарова. — Лейтенант Витюгин не удовлетворился выводами, которые лежали сверху, а, словно бурав сквозь дерево, начал пробиваться вглубь… — Миансаров перевел свой строгий взгляд на Геворка, — чего, к сожалению, нельзя сказать о старшем лейтенанте Геворке. Этот вел себя так, будто очень стремился получить от меня дисциплинарное взыскание! Как это не выслушать совета или мнения своего товарища, хотя бы он даже был младше тебя по званию! Неподобающее для офицера милиции самомнение и чванство! А результат? Офицер чуть было не подтвердил ложное обвинение!
Оба — и Андрей и Геворк — сидели, низко склонив голову: один от смущения, другой от стыда.
— Ну, перейдем к более серьезным выводам, — сказал начальник. — Хотелось бы спросить у Андрея Витюгина: понимает ли он, по каким следам шел вчера?
Андрей поднялся. Он не любил выступать на таких собраниях. Но уж тут ничего не поделаешь, надо было говорить.
— Я навел справки насчет этого Микаэла, — сказал он, — и вот я узнал, за что он был отчислен из милиции. Оказывается, он использовал свою милицейскую форму — и если видел, что где-нибудь стоит очередь за дефицитным товаром, так все брал без очереди: например, новейшие радиоприемники — на них всегда большой спрос. И тут же перепродавал с выгодой. Начал с малого, а потом приловчился спекулировать. Его выгнали с работы. В селе он тоже жил так, чтобы урвать лишнее, поживиться за счет чужого труда. Некоторые там были ему деньги должны. Он стремился советских людей опутать копейкой. И вот он из-за своего корыстолюбия докатился до злостных преступлений. Так что теперь одним преступником будет меньше…
Капитан Миансаров одобрительно кивнул.
— И это еще раз подтверждает, — сказал он, закрывая собрание, — что каждый проводник служебно-розыскной собаки — хотя люди о нем почти ничего не знают — тоже работает для нашего будущего.
— Смотри, милиционер! — значительно произнес маленький.
— А ну, вперед! — Андрей поднял пистолет. — И не оглядываться! Бежать не думайте — положу на месте. Шагом марш!
Спускаться вниз по такой крутизне было труднее, чем подниматься. Шли быстро.
— Куда мы их теперь поведем? — шепнул Карлос. Глаза у него блестели, ноздри раздувались. — Это разве люди! — презрительно повторил он вслед за Андреем.
— Сдадим их на руки оперативникам из районного отделения милиции. Пусть их в город отправят…
Карай шел за преступниками, яростно рыча каждый раз, как только кто-нибудь из них пытался обернуться назад…
— Какая у вас собака! — Мальчик восхищенно качал головой.
— Ну, не завидуй! — Андрей потрепал Карлоса по плечу. — Я посмотрю, подумаю, может, смогу для тебя щенка раздобыть…
…Гости Микаэла все еще угощались шашлыком и долмой, когда Андрей подошел к ковру.
— Явился наконец! — Микаэл испытующе глядел на него. — Ну, выпить, закусить…
— Выпить и закусить можно, — согласился Андрей, но сам отклонил стаканчик, который поднес ему Микаэл. — Вот ведь как случилось, — говорил он и все время глядел на Микаэла, — пришли грабители в магазин, думали товаров набрать и укрыть в знакомом доме поблизости. Пришли, а в магазине наткнулись на деньги. Почему не взять деньги вместо товаров?
— Да ты выпей! — раздраженно настаивал Микаэл. — Эту всю историю мы знаем.
Андрей снова отвел его руку со стаканчиком.
— Сторожа хотели убить, потому что честный человек, мог бы оказать сопротивление. Для чего жалеть старика? А к большому камню были заранее принесены ходули… Вот хотелось бы узнать, кто это принес туда ходули? — Андрей обратился прямо к Микаэлу: — Как вы думаете?
— Что ж мне об этом думать, — угрюмо отмахнулся Микаэл. — Пусть об этом Грикор Самвелян думает.
— Нет! — Андрей поднялся с места и схватил Микаэла за руку. — Теперь уж тебе не выкрутиться, не свалить свою вину на другого…
Через полчаса Андрей заводил свой мотоцикл во дворе сельсовета. Геворк стоял рядом и курил папиросу.
— Видишь ли, — говорил Андрей, — все было так запутанно, что я решил: путает опытный человек, который знает, как оберегаться от сыскной собаки. А кто здесь это знает? Только Микаэл. Но это было лишь подозрение, а на правильную линию меня навели ходули, которые я увидел у сына Микаэла. Для чего подростку две пары ходуль, когда он и на одной как следует ходить не умеет? Ну, я улучил момент, спросил у мальчика, а он отвечает: “Папа много ходуль сделал, но мне только две пары дал”. Дальше уж клубок сам стал разматываться. Бандиты эти, видишь ли, они давно поддерживают с Микаэлом связь. Кто знает, сколько у них совместных преступлений сделано… Такие, как Микаэл, любят загребать жар чужими руками.
— Почему ты раньше мне этого не рассказал? — сухо спросил Геворк.
— Ну, тогда я и сам не все знал. Были только некоторые соображения. И ты разве давал говорить?
Андрей наконец завел мотоцикл, но тут же выключил мотор. Было еще одно дело, которое он решил выполнить, прежде чем уедет из села. Он вышел за ворота. На улице, под тенистым деревом, сидели мальчики.
— Карлос! — крикнул он. — Вот не хотел уезжать, пока с тобой не попрощаюсь. — Он подошел ближе. — Спасибо за помощь!
Карлос даже побледнел — он не ожидал такого признания своих заслуг в присутствии чуть ли не всех мальчишек села.
— А будет то, что вы обещали?
— Обязательно! Пришлю тебе хорошего щенка. Вырастет — станет не хуже Карая. И книгу пришлю, как его надо выращивать и воспитывать. А ты мне пиши!
Он обнял мальчика. Потом откозырнул всей компании и пошел во двор сельсовета. Тут он сел за руль, приказал Караю прыгнуть в коляску.
— Так, — сумрачно проговорил Геворк, как только увидел его. — Ты у меня подучился, теперь, выходит, мне начинать у тебя учиться… — Он не выдержал этого тона и легонько ткнул Андрея в грудь кулаком. — Молодец! Честное слово, молодец!
Андрей смутился, стал шарить по карманам. Вот не вовремя куда-то пропали папиросы…
— Ну, поехали, — сказал Геворк.
И два мотоцикла с колясками, в каждой из которых сидела собака, выехали из села на шоссе.
— Из этого дела надо извлечь уроки, — говорил на следующий день капитан Миансаров на собрании проводников служебных собак своего питомника.
Собрания устраивались раз в неделю и, так же как на заводах и в учреждениях, именовались “производственными совещаниями”.
Капитан Миансаров строго оглядел всех присутствующих, а их было здесь немало: двенадцать испытанных проводников служебных собак — начиная с самого юного, младшего лейтенанта Ашота Енгибаряна, и кончая самым пожилым, сорокашестилетним капитаном Хореном Топчибашевым. Он остановил взгляд на Андрее.
— Лейтенант Андрей Витюгин подошел к этому делу ответственно и умно! — Это была высшая похвала в устах капитана Миансарова. — Лейтенант Витюгин не удовлетворился выводами, которые лежали сверху, а, словно бурав сквозь дерево, начал пробиваться вглубь… — Миансаров перевел свой строгий взгляд на Геворка, — чего, к сожалению, нельзя сказать о старшем лейтенанте Геворке. Этот вел себя так, будто очень стремился получить от меня дисциплинарное взыскание! Как это не выслушать совета или мнения своего товарища, хотя бы он даже был младше тебя по званию! Неподобающее для офицера милиции самомнение и чванство! А результат? Офицер чуть было не подтвердил ложное обвинение!
Оба — и Андрей и Геворк — сидели, низко склонив голову: один от смущения, другой от стыда.
— Ну, перейдем к более серьезным выводам, — сказал начальник. — Хотелось бы спросить у Андрея Витюгина: понимает ли он, по каким следам шел вчера?
Андрей поднялся. Он не любил выступать на таких собраниях. Но уж тут ничего не поделаешь, надо было говорить.
— Я навел справки насчет этого Микаэла, — сказал он, — и вот я узнал, за что он был отчислен из милиции. Оказывается, он использовал свою милицейскую форму — и если видел, что где-нибудь стоит очередь за дефицитным товаром, так все брал без очереди: например, новейшие радиоприемники — на них всегда большой спрос. И тут же перепродавал с выгодой. Начал с малого, а потом приловчился спекулировать. Его выгнали с работы. В селе он тоже жил так, чтобы урвать лишнее, поживиться за счет чужого труда. Некоторые там были ему деньги должны. Он стремился советских людей опутать копейкой. И вот он из-за своего корыстолюбия докатился до злостных преступлений. Так что теперь одним преступником будет меньше…
Капитан Миансаров одобрительно кивнул.
— И это еще раз подтверждает, — сказал он, закрывая собрание, — что каждый проводник служебно-розыскной собаки — хотя люди о нем почти ничего не знают — тоже работает для нашего будущего.
СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР
Мне давно уже хотелось побывать на одном из производственных совещаний, которые раз в неделю проводились в питомнике. Надо было получить разрешение от капитана Миансарова. Андрей обещал это устроить. Но ждать мне пришлось довольно долго. Обычно дня не проходило, чтоб Андрей не забежал ко мне. Вдруг он пропал — не появлялся почти неделю. Я звонил по телефону в питомник, все не мог его застать. Наконец, по моей просьбе, к телефону подозвали Геворка. — Жив и здоров твой Андрей, — сказал Геворк. — Скоро увидитесь. Чем дольше разлука, тем радостней будет свидание… Андрей пришел в пятницу после обеда. Было в нем что-то необычное. Он похудел, скулы выдавались еще больше, чем всегда. Мне бросился в глаза его галстук — красный с зелеными разводами. Он не терпел никакой стесняющей одежды, но нацепил в эту жару костюм из желтоватой китайской чесучи, туго зашнуровал белые туфли из лосевой кожи. — По какому это поводу ты нарядился? — спросил я. Он покраснел. — Разве нехорошо? — проговорил он, выкатывая свои и без того выпуклые глаза. — Не всегда же ходить по казарменному… — Да уж чего лучше! Поставить тебя на витрину, под стекло: образцово-показательный, милиционер Андрей Витюгин в час заслуженного отдыха… — Я был сердит и потому дразнил его. — Где ты пропадал? Андрей внимательно рассматривал себя в большом зеркале. — Имел пять суток домашнего ареста, — сообщил он как бы между прочим, протирая одеколоном порезанную во время бритья щеку. — За что? — За очеловечивание собачки, — объяснил он очень серьезно. — Правильно дали. Что правда, то правда — я Карая иной раз балую… — Он критически прищурился. — Слушай, нет ли такого способа завязать галстук, чтоб он не топорщился? Я стал перевязывать ему галстук. — Ты свободен сегодня вечером? — спросил он. — Не сможешь ли пойти со мной в одно местечко? Я был свободен. Кроме того, я всегда любил ходить с ним, особенно если мы брали с собой Карая. Но меня интересовало, куда мы пойдем. — Тут близко, — ответил он неопределенно. — Хорошо будет, если ты переоденешься. У тебя есть, кажется, белый костюм? — У меня есть белый костюм, — сказал я. — У меня есть десяток галстуков, и среди них можно даже найти красный с зелеными разводами. Но в такую жару я ничего не надену, кроме рубашки с открытым воротом. И если в таком виде я тебе не подхожу, то ты можешь не брать меня с собой. Он задумчиво посмотрел на меня, потрогал рукой подбородок. — Ладно… — Удивительно покладистым он был сегодня. — Надень свою рубаху с открытым воротом. Только, если возможно, поскорее. Мы должны еще зайти на часок в питомник. Капитан Миансаров разрешил тебе присутствовать на производственном совещании. Услышишь, как меня будут ругать… Вопреки ожиданию, на производственном совещании Андрея не ругали. Капитан Миансаров сказал только, не называя фамилий, что в последнее время отмечены случаи неправильного отношения проводников к служебным собакам. Если это не пресечь, то собака в трудную минуту может подвести своего хозяина. Затем он начал разбор дела, которое в питомнике считалось крупной победой. Героем дня оказался младший лейтенант Ашот Енгибарян, получивший по приказу благодарность и денежную премию. Коротко говоря, делосводилось к следующему. На одной из окраин города был обворован ювелирный магазин. Кражу обнаружили только утром. На розыск прибыл из питомника младший лейтенант Енгибарян со служебной собакой Русланом. Следы преступников привели на вокзал и затерялись на перроне. Енгибарян пришел к выводу, что грабители уехали из Еревана по железной дороге. На этом он мог бы приостановить поиск — раз следы прерывались, то собака становилась бесполезной. Преследование грабителей надо было передать в руки других оперативных работников милиции. — Но младший лейтенант Енгибарян, — торжественно провозгласил капитан Миансаров, — наш Ашот Енгибарян не склонил голову перед трудностями! У него возник остроумный план. “Преступники далеко не уехали”, — решил он, и у него были основания так думать: ограбление носило случайный характер, потери ограничивались сравнительно небольшой суммой. Вряд ли так действовали бы преступники, намеревающиеся уехать в дальние края. А раз так, раз преступники находятся поблизости, то собака должна их отыскать! Ашот Енгибарян начал осматривать все пригородные поезда, которые возвращались из рейса на станцию. Он переходил с Русланом из одного вагона в другой, и всюду Руслан искал потерянные следы. В первый день не удалось добиться успеха. А чем больше проходит времени, тем собаке работать труднее — ведь следы выветриваются. Но на второй день утром Руслан в одном из только что прибывших вагонов подал голос. Он почуял след преступников. Теперь часть дела была сделана. Однако оставалось самое трудное — выяснить, на какой станции сошли преступники. Ашот Енгибарян поехал на машине вдоль железнодорожной линии. На каждой станции, на каждом полустанке он выводил Руслана и, покружив в тех местах, где люди обычно сходили с поездов, ехал дальше. Следов пока что не обнаруживалось. А на беду начался дождичек. Для розыска это горе — дождь ослабляет запахи. По счастью, на ближайшей станции Руслан, выведенный из машины, зарычал. Вот он, след! Руслан повел своего хозяина к пустующему строению. И накрыли преступников в тот момент, когда они чувствовали себя в полной безопасности. — Вот что значит разумно подойти к делу, — заключил капитан Миансаров. Ашот Енгибарян стал говорить, что именно капитан помог ему разработать весь план. Но Миансаров, махнув на него рукой, уже читал приказ о награждении проводника служебной собаки младшего лейтенанта Енгибаряна премией за проявленную смекалку. …— Теперь пойдем за мной, — предложил Андрей, когда мы оставили за собой ворота питомника. Мы шли по улице, и я задавал бесчисленное количество вопросов, а Андрей отвечал на них то утвердительным, то отрицательным покачиванием головы. В результате такой содержательной беседы мне удалось выяснить, что мы идем в дом, где живет девушка, которую я немного знаю. — Кто такая? Нет, заранее объяснять не стоит. Как только я увижу ее, так сразу вспомню, потому что, кто ее хоть раз видел, тот никогда не забудет. Затем выяснилось, что и сам Андрей идет в этот дом впервые, хотя с девушкой он очень хорошо знаком. И вот для чего я ему нужен: если там присутствует кто-нибудь из родни, я должен поддерживать разговор с тетушками и дядюшками и постараться произвести на них хорошее впечатление. Андрей один среди чужих всегда чувствует себя неловко. Если же там никого нет, то я должен сейчас же уйти. Быть может, там произойдет объяснение, которое переменит всю жизнь Андрея. — Ах вот как! — воскликнул я тоном глубокого изумления. — Как бы это узнать, что за перемены такие готовятся? Он искоса взглянул на меня, хмыкнул, и мы пошли дальше по улице. На людном перекрестке шла бойкая торговля цветами. Андрей остановился. Старичок продавец держал свой товар в оцинкованном ведре с водой. Андрей с глубоким презрением осмотрел все эти яркие букетики и, видимо, ни один из них не счел достойным внимания. Он снова хмыкнул. Мы решительно зашагали дальше по улице, застроенной новенькими особняками. Но через несколько секунд он остановился. — Знаешь что, — попросил он, — купи какую-нибудь из этих штук, что плавают там, в ведре… Над влюбленными всегда почему-то принято подшучивать. И я не видел причин изменять эту традицию. — Может быть, все ведро возьмем? Он испытующе взглянул на меня, так как принял мое предложение всерьез. — Нет! Зачем нам целое ведро? Достаточно будет одного или двух букетов. Когда я принес цветы, он не сделал никакой попытки взять их. — Ну уж нет! — возмутился я. — Твои цветы, ты и неси… Он вошел в парадное, завернул цветы в газетный кулек и понес его так, как носят семечки или конфеты. Чем дальше мы продвигались по этой улице, застроенной одноэтажными и двухэтажными коттеджами из розового вулканического туфа, тем Андрей становился озабоченнее. — Слушай, Костя, — сказал он хмуро, — ты, конечно, очень остроумный человек, и все такое. Но в том доме, куда мы идем, твое гениальное остроумие может не понравиться. Так ты уж будь, пожалуйста, как все люди, — закончил он язвительно. Я вздохнул и пообещал. — Мне будет трудно, — сказал я, — сдерживать свою гениальность, но я постараюсь. Твоя девушка, — сказал я смиренно, — видно, очень уж требовательна, если ей могут не понравиться мои шутки. — Требовательна! — воскликнул он с негодованием. — Пожил бы ты так, как живет она! Ей со всех сторон достается. Прошлой осенью у нее родители умерли, так она оставила медицинский институт и пошла работать. — Могла бы и учиться, если б захотела. Там дают стипендию. — Ты же не знаешь, — у нее на иждивении брат. Она его воспитывает. Пусть брат кончит школу, поступит в вуз, тогда и она возобновит учение. Можешь представить себе такую самоотверженность? — Нет, нет, не могу, — сказал я. Андрей с подозрением взглянул на меня. Но, начав говорить на эту тему, он уже не был в состоянии остановиться. Он с восхищением покрутил головой. — Ну и брат у нее!.. Этот парень, я тебе скажу, — он свое возьмет. Академиком будет. — Ты знаешь его? — Нет, она рассказывала. В уме какие хочешь числа множит, стихи сочиняет. Голова у него, дай бог! — Да, — сказал я, — каждому бы такого родственничка… Он бросил на меня быстрый взгляд — и умолк. Мы подошли к розовому домику, — он стоял за железной оградой, заслоненной деревьями. — Здесь? — Да, это здесь! — торжественно проговорил Андрей. — “Привет тебе, приют священный…” — запел я. — Слушай! — Андрей с сомнением взглянул на меня. — Может быть, ты вообще не пойдешь? Возвращайся-ка лучше домой. — Нет уж, извини! — возразил я с возмущением. — Человека вытаскивают из дома, заставляют одеваться, бриться. А теперь — “иди домой”! Где ж справедливость? — Ладно, — угрюмо согласился Андрей. — Я так просто сказал. Пойдешь. Только веди себя сколько можешь прилично. По чистенькой деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж. Андрей долго рассматривал дверь и улыбался. Звонок был на виду, на своем обычном месте, а мой друг все не мог найти его. Тогда я протянул руку и нажал кнопку. Андрей нахмурился. За дверью послышались громкие голоса, потом прозвучали легкие шаги. Нам открыли. На пороге стояла черненькая девушка — черные волосы, черные глаза, смуглое лицо, белым было только ее платье. Конечно, я сразу узнал ее. Это была моя спутница по прошлогоднему переходу через гору Капуджих — Ева Жамкочян. И она меня узнала. Я хотел было сказать что-нибудь веселое: мол, гора с горой не сходится, а турист с туристом обязательно сойдутся. Но в этот миг я заметил кое-что — и сбился. Во-первых, я заметил, что у Евы заплаканные глаза, а лицо смущенное и растерянное; во-вторых, что Андрей глупо улыбается и излучает сияние и потому не может увидеть и понять, что мы пришли не вовремя. Он неловко разрывал кулек, пытаясь достать свои цветы, но я остановил его.
— Кажется, — сказал я, — нам лучше явиться в другой раз…
Андрей с великим удивлением уставился на меня.
— Нет-нет, — проговорила Ева, — вы останетесь. Но у нас случилась беда. Бывает горе, бывает простая неприятность. У нас — неприятность… — Она попыталась улыбнуться, но губы у нее дрогнули. — Нас обокрали.
В то время я, обогащенный рассказами Андрея, считал себя специалистом по раскрытию всякого рода преступлений.
— Ну, если так, — снисходительно сказал я, — то мы обязательно войдем.
Ева привела нас в большую круглую комнату. На стенах висели ковры. Тут толпилось много людей — видимо, соседи. На все лады обсуждалось происшедшее событие.
Кража была довольно серьезная и, главное, непонятная. Днем в доме производилась уборка. Вещи вынесли в коридор. И вот отсюда, из коридора, воры похитили два чемодана с платьями, бельем и отрезами материи. Самое странное заключалось в том, что Ева все время держала дверь на запоре, замок оказался целым, а никто из посторонних в квартиру не заходил.
— Здесь, наверняка, отмычка поработала, — говорили соседи. — Надо было вам сделать цепочку, как у нас сделано.
— Никакая цепочка не поможет, если нет у людей осторожности, — говорили другие. — Как же это вы не услышали? Ведь, главное, все дома были!
— И откуда берется это жулье? — возмущался инженер, которого я сразу узнал: он часто печатал статьи в нашей газете. — Ведь это не от нужды. Работы сколько угодно. Мы вот строим гидроэлектростанцию, так можем принять хоть сейчас тысячу человек. И специальность даем, обучаем… — Он повторял это, переходя от одной группы к другой.
Соседи оценивали стоимость похищенного имущества. Пропало все лучшее из того, что оставили Еве и ее брату их покойные родители.
— Ничего, ничего, это не так важно, — говорила Ева и храбро улыбалась. — Это не горе, это только неприятность.
За дверью послышались громкие голоса, потом прозвучали легкие шаги. Нам открыли. На пороге стояла черненькая девушка — черные волосы, черные глаза, смуглое лицо, белым было только ее платье. Конечно, я сразу узнал ее. Это была моя спутница по прошлогоднему переходу через гору Капуджих — Ева Жамкочян. И она меня узнала. Я хотел было сказать что-нибудь веселое: мол, гора с горой не сходится, а турист с туристом обязательно сойдутся. Но в этот миг я заметил кое-что — и сбился. Во-первых, я заметил, что у Евы заплаканные глаза, а лицо смущенное и растерянное; во-вторых, что Андрей глупо улыбается и излучает сияние и потому не может увидеть и понять, что мы пришли не вовремя. Он неловко разрывал кулек, пытаясь достать свои цветы, но я остановил его.
— Кажется, — сказал я, — нам лучше явиться в другой раз…
Андрей с великим удивлением уставился на меня.
— Нет-нет, — проговорила Ева, — вы останетесь. Но у нас случилась беда. Бывает горе, бывает простая неприятность. У нас — неприятность… — Она попыталась улыбнуться, но губы у нее дрогнули. — Нас обокрали.
В то время я, обогащенный рассказами Андрея, считал себя специалистом по раскрытию всякого рода преступлений.
— Ну, если так, — снисходительно сказал я, — то мы обязательно войдем.
Ева привела нас в большую круглую комнату. На стенах висели ковры. Тут толпилось много людей — видимо, соседи. На все лады обсуждалось происшедшее событие.
Кража была довольно серьезная и, главное, непонятная. Днем в доме производилась уборка. Вещи вынесли в коридор. И вот отсюда, из коридора, воры похитили два чемодана с платьями, бельем и отрезами материи. Самое странное заключалось в том, что Ева все время держала дверь на запоре, замок оказался целым, а никто из посторонних в квартиру не заходил.
— Здесь, наверняка, отмычка поработала, — говорили соседи. — Надо было вам сделать цепочку, как у нас сделано.
— Никакая цепочка не поможет, если нет у людей осторожности, — говорили другие. — Как же это вы не услышали? Ведь, главное, все дома были!
— И откуда берется это жулье? — возмущался инженер, которого я сразу узнал: он часто печатал статьи в нашей газете. — Ведь это не от нужды. Работы сколько угодно. Мы вот строим гидроэлектростанцию, так можем принять хоть сейчас тысячу человек. И специальность даем, обучаем… — Он повторял это, переходя от одной группы к другой.
Соседи оценивали стоимость похищенного имущества. Пропало все лучшее из того, что оставили Еве и ее брату их покойные родители.
— Ничего, ничего, это не так важно, — говорила Ева и храбро улыбалась. — Это не горе, это только неприятность.
 Я принялся разглядывать присутствующих. У окна стоял сутулый юноша лет семнадцати—восемнадцати. Двумя пальцами он неумело прижимал к черным тонким усикам папиросу, то и дело ладонью приглаживая длинные волосы, расчесанные на пробор. На мизинце левой руки он носил красный наперсток. Я показал Андрею на этот наперсток. Андрей недобро усмехнулся:
— Ноготь, значит, отращивает. Красоту находит в том, чтоб у него ноготь на мизинце был длиннее, чем у других людей. Это же стиляга! Посмотри на его ботинки… — Ботинки этого юноши возвышались на подошве толщиной в два пальца и были разукрашены немыслимыми узорами. — Посмотри на эти усики! — пробурчал Андрей.
Усики были как две ниточки с черной катушки.
Ева увидела, что мы разглядываем юношу, шепнула:
— Это мой брат.
Андрей с удивлением переспросил:
— Вот этот?
— Да, это Арсен. Я потом вас познакомлю.
Мы с Андреем переглянулись, помолчали.
— Так, — сказал Андрей. — Хотелось бы в точности узнать, что же все-таки украдено?
Выяснилось, что Арсен, перед тем как вытащить чемоданы в коридор, достал из них, по счастью, два отреза. Эти отрезы были предназначены ему на костюмы. Таким образом, в чемоданах остались главным образом вещи Евы.
— В театр не в чем будет зимой пойти, — сказала Ева с деланно беспечной улыбкой и пожала плечами.
Кто-то из присутствующих посоветовал вызвать сыскную собаку.
Арсен пренебрежительно усмехнулся:
— Стоит ли? Эти собаки ничего не находят. Но за вызов, говорят, надо очень дорого платить. — Он стряхнул пепел и развинченной походкой пошел к столу, чтобы бросить окурок в пепельницу. — Кража — не смерть, — сказал этот юнец с мудрой усмешкой. — Переживем и забудем.
Он явно старался казаться старше своих лет.
— Нет, мы все же попробуем поискать, — мягко проговорил Андрей. — Вот я сейчас приведу собаку…
— Позвольте! — высокомерно возразил юноша. — Я не знаю, кто вы и что вы… Но дайте уж хозяевам самим распоряжаться в своем доме! Я вовсе не хочу, чтобы Ева из своего заработка платила за эту бесполезную собаку. Можно подумать, что она очень много зарабатывает!
— Платить ничего не придется! — отрезал Андрей и потянул меня к выходу.
Мы быстро прошли к трамвайной остановке.
— Что-то по твоим рассказам я себе этого братца совсем иначе представлял, — говорил я, едва поспевая за Андреем. — Во-первых, выглядит старше, чем я думал…
— Ты по внешности не суди. Мальчишки всегда прибавляют себе солидности.
— Ноготь отращивает в наперсточке… Это уж, знаешь, не внешность, а характеристика!
— Мы в такси сядем! — оборвал меня Андрей и жестом подозвал свободную машину, которая проезжала мимо.
Через двадцать минут мы уже ехали обратно. На этот раз с нами был и Карай, удобно расположившийся на мягком сиденье. При всей суровости режима, существовавшего в питомнике, при всех спартанских принципах тамошнего собачьего воспитания этот пес умел ценить комфорт…
Возле розового домика нас поджидал Арсен. Он по-прежнему неумело прижимал к черным усикам папиросу.
— Одну минуту, — сказал он и с опаской поглядел на Карая. — Собака не кусается?
— Не надо трогать — не укусит.
Арсен отодвинулся подальше.
— Только что я узнал от Евы, что вы работаете в собачьем питомнике, — объяснил он. — Но Ева не может принимать от вас такие услуги. Сколько это будет стоить? Может быть, слишком дорого?
— Это ничего не будет стоить.
— Почему? Назовите цену! Я или заплачу, или откажусь.
Андрей засмеялся и направился в дом. Юноша шел сзади, пожимая щуплыми плечами.
— Ты лучше думай о том, как облегчить поиск, — говорил ему Андрей, поглядывая через плечо назад. — В коридоре, наверно, натоптали так, что и след не возьмешь…
— Да, там натоптано, — согласился Арсен. — А что, разве такая собака не умеет искать в людных местах?
— Ну, труднее, меньше шансов на успех, — сказал Андрей. — Ты давно куришь? — вдруг спросил он.
Юноша высокомерно усмехнулся:
— Курю…
— Нет, я потому спрашиваю, что не получается у тебя. Даже и держать папироску как следует не умеешь. И вредно это в твоем возрасте. Сколько тебе лет?
— “Моя милиция меня бережет”! — враждебно сказал Арсен.
— Ты не сердись. Ноготь этот длинный, он тебе для чего нужен? — Андрей насмешливо прищурился. — Может, скажешь — для занятий?
— Да, ноготь, представьте себе, мне нужен для занятий.
— Ботиночки тоже у тебя… — Андрей покрутил головой.
— Да, и ботиночки у меня есть, это вы правильно заметили, товарищ милиционер!
Андрей уловил в его голосе вызывающую интонацию, нахмурился.
Мы вошли в дом. Все притихли, когда появился Карай. Ему торопливо уступали дорогу, а он словно и не замечал людей.
Ева, округлив глаза, показала нам место в коридоре, где стояли украденные чемоданы. Карай уже понял, что предстоит работа. Всегда в таких случаях им овладевала целеустремленная сосредоточенность, он переставал суетиться и даже по сторонам не глядел. Что ему теперь до людей, до вкусных запахов, до незнакомой обстановки! Он только терся рыжеватым боком о ногу хозяина, чтобы обратить на себя внимание: не пора ли начинать работу? Андрей подвел его поближе и приказал взять след.
— Эти собаки не очень-то находят, — произнес вдруг Арсен. Он стоял у окна и усмехался. — И даже они часто ошибаются. Смешно было бы, чтобы она нашла. Она просто кинется на первого попавшегося — вот и вся ее работа.
— Ну, посмотрим, — добродушно отозвался Андрей. Он любил, когда перед началом работы ему предсказывали неудачу. Торжество было тем сильнее, чем больше выражалось перед поиском сомнений и недоверия.
Карай потянул носом и забеспокоился.
— Откройте дверь! — попросил Андрей.
Дверь открыли, но это оказалось излишним. Карай не пошел к выходу. Он повертелся на месте, внезапно с грозным рычанием набросился на Арсена и загнал его в угол. Только туго натянутый поводок спас юношу от этой яростной атаки. Карай повернул к хозяину свою острую морду, как бы говоря: “Вот я сделал свое дело — нашел преступника. Бери его, хозяин! А мне дай сахару…” Так уж повелось, что после каждого удачного поиска Андрей подкармливал его сахаром.
Я никогда еще не видел Андрея таким сконфуженным. Он тянул к себе поводок и ни на кого не смотрел. Но даже и теперь он не ударил собаку, как это делают некоторые проводники в минуту злости. Он только подтянул Карая к ноге и шепотом приказал ему:
— Молчать!
Арсен словно прилип к стене. Он был возмущен до предела. И, хотя его папироса упала на пол, он все еще прижимал два дрожащих пальца к своим черным усикам.
— Что же это такое! — заговорил он обиженным и совсем уже детским голосом. — В своем же доме… Уберите эту собаку! Я хочу выйти на улицу.
— Да-да! — с упреком сказала Ева. — Дайте же ему выйти. Эта собака такая страшная… Любой испугается!
— Кто испугался? — фыркнул юноша. — Я, что ли, испугался? — Он подождал, пока Андрей схватил Карая за ошейник, и после этого вышел из угла. — Подумаешь, обыкновенный глупый блохастый кобель!
Андрей молчал.
Мальчишка вышел в парадное, но я заметил, что он не спустился по лестнице, а остановился на площадке. Пришел мой черед вмешаться в это дело…
— В коридоре слишком уж натоптано, — сказал я. — Наверно, когда хозяева узнали о пропаже чемоданов, то бросались искать их и туда и сюда. Собака взяла следы последних ног, которые тут ступали. Давайте попробуем еще раз.
Андрей вопросительно взглянул на Еву. Она кивнула головой и мягко улыбнулась. Значит, не сердится! Андрей весело заговорил:
— След, Карай, след!
С величайшим рвением Карай уткнул свой мокрый нос в угол, долго принюхивался и наконец, полный решимости, обернулся к выходу. Теперь-то уж он не ошибется! Однако он не пробежал и трех шагов, вопросительно посмотрел на хозяина и вдруг принялся — не от души, а как бы нехотя, по обязанности — облаивать Еву.
— Собака безошибочно находит преступников! — насмешливо крикнул Арсен из парадного и помахал в воздухе своим красным наперстком.
Андрей только засопел, но ничего не ответил. Видимо, Ева поняла его состояние.
— Что ж такого, — ободряюще проговорила она, — мы с Арсеном все равно не надеялись вернуть то, что пропало. Пожалуйста, вы не расстраивайтесь!
— Нет, я надеялся! — с вызовом сказал Арсен. — Но теперь я перестал надеяться.
Андрей властно взял Карая левой рукой за ошейник и повел к выходу. Я шел позади и шептал:
— Неудобно! Что ж, мы так и уйдем, ничего не сделав?..
В эту минуту я чувствовал себя ответственным за все розыскное дело в нашем городе. Сам капитан Миансаров не мог бы страдать больше, чем я.
Но, оказывается, я плохо знал Андрея.
— Кто уйдет? — воскликнул Андрей, и я увидел, что в его серых глазах засветилось упрямство. — Поиск не кончился, а лишь только начинается, к вашему сведению.
Мы вышли в парадное. Я не знал, что задумал мой приятель, и собирался сойти по лестнице. Но он остановился. Тут я увидел, что он осторожно подмигнул мне. Это должно было означать, что мы с ним знаем нечто такое, чего не знает никто из окружающих. Он явно переоценивал мои силы, но я на всякий случай мигнул ему в ответ и закивал головой. Он шепнул:
— Дело, как видно, будет серьезнее, чем мерещилось вначале.
Я ничего не понимал, но все же сделал понимающее лицо и еще раз со значением мигнул: мол, я согласен, что дело будет серьезное.
Андрей приказал Караю обнюхать площадку.
— Ага! — заговорили соседи, которые все высыпали из своих квартир и, надо сказать, мешали нам, принимая слишком горячее участие в организации поиска. — Теперь-то уж пес почуял. Смотрите, как внюхивается! Ведите его, товарищ проводник, а то он новые запахи почувствует и опять собьется.
— Граждане, граждане! — укоризненно сказал Андрей. — Поверьте, что в этих делах я, хотя, может, и не на сто процентов, но все же разбираюсь. Дайте уж мне руководить служебной собакой.
Он заставил Карая обнюхать последовательно одну за другой почти все ступеньки, а сам при этом внимательно наблюдал за поведением собаки.
— Понимаешь? — спросил он у меня, когда Карай заворчал и натянул поводок.
Я все еще ничего не понимал…
Мы вышли на улицу. Карай потянул. Я думал, что нам, как всегда в таких случаях, придется бежать за ним. Но, вопреки обычаю, Андрей его сдерживал и все глядел по сторонам.
— Куда девался этот Арсен?
— Вот уж не знаю, — сказал я. — Ты лучше объясни, почему это ты так значительно глядел на меня в парадном?
— Почему глядел? — Андрей усмехнулся. — Потому что люди, которые взяли чемоданы, — они даже не заходили в квартиру. Я думал, что тебе это понятно.
— Откуда ты знаешь?
Андрей ответил серьезно:
— Это мне Карай доложил. Они стояли за дверью на лестничной площадке и ждали, пока им вынесут чемоданы.
— Кто вынесет?
— Вот это нам предстоит установить, — уклончиво проговорил Андрей и огляделся по сторонам.
Мы шли теперь мимо зеленого сквера. На нас пахнуло прохладой. За сквером начинались многоэтажные дома, магазины с зеркальными витринами. По асфальту сновали автомашины. Карай рвался вперед, но ему мешал укороченный поводок.
— Да пусти ты его, а то он след потеряет.
— Не потеряет, — возразил Андрей и опять оглянулся.
Мне показалось, что он кого-то ждет. Но кого? Может быть, он вызвал милиционера, который должен усилить нашу группу?
Тот, кого ждал Андрей, появился неожиданно. Из подъезда монументального пятиэтажного дома, стоящего за сквером, вышел Арсен и, слабо, вымученно улыбаясь, направился к нам. И следа не осталось от былой его наглости.
Я думал, что Карай опять кинется на него. Но Карай шел по другим следам и не обратил на этого мальчишку никакого внимания.
— Постойте… — Арсен несколько раз подергал тощей шеей, словно хотел проглотить непомерно большой кусок. — Дальше не ходите, пожалуйста…
— Почему же? — строго спросил Андрей, сдвинув выжженные солнцем брови.
— Я вам все объясню, но зайдемте сначала в этот подъезд. Если меня увидят с вами, это будет нехорошо…
— Пойдем, — угрюмо согласился Андрей. — Ну? — проговорил он, когда мы все оказались в недавно отремонтированном парадном, где пахло мелом и олифой.
— Вас никто не приглашал! — с ненавистью заговорил Арсен. — Вы сами навязались…
— Ты осторожнее выбирай выражения!
Карай уловил угрожающую интонацию в голосе хозяина и глухо заворчал.
— Да, да, да, вы сами навязались! — упрямо повторил Арсен, но отошел все же в сторону — так, чтобы я оказался между ним и собакой. — Вам что надо? Вы хотите сделать приятное моей сестре Еве? Так вы знайте, что если вы найдете эти чемоданы, то ей будет совсем не приятно… — Он облизнул пересохшие губы и с вызовом добавил: — И даже наоборот! Ей будет большое горе, если она узнает, как произошла кража. — Он поднял на нас глаза, в них стояли слезы. — Нету этих чемоданов, и всё! Не у вас украли. А мы с Евой это переживем. Вы в нашу жизнь не вмешивайтесь!
Я смотрел, слушал и удивлялся: вся напускная солидность слетела с Арсена. Перед нами был теперь худенький и жалкий подросток.
— Мальчишка! — гневно сказал Андрей. — Говори же все до конца. Что ты трусишь?
— Я не трус. Мне нечего говорить… И вы меня не оскорбляйте!
— Ну, слушай, я скажу! Ты открыл им дверь и передал из рук в руки чемоданы.
— Ничего подобного! — закричал Арсен.
— Ну, не ври. И знаешь, что самое противное? То, что свои личные вещи ты все-таки предварительно вытащил из чемодана. Пусть страдает сестра!.. Видишь, — Андрей толкнул меня локтем в бок, — он чувствует, что попался, так хочет свою слабость обратить в силу: не говорите, мол, Еве, ей будет горько… Вот его козырь! Папа был жив — его баловали. Как же, наследник! Мать баловала, сестра балует, жизнь за него кладет. Внушили ему, что он гений, — видишь ли, числа в уме множит! А того не видели, что он на всем свете, кроме самого себя, никого не любит. Да еще трус… Ну, говори, в чьи руки ты попался?
Арсен осторожно выглянул на улицу, потом вернулся в подъезд и сел на мраморную ступеньку широкой лестницы. Он упрямо сжал губы и отвернулся.
Меня все это возмутило.
— Вот сообщить бы об этих делах в твою школу!
— Сообщайте.
— И надо бы! Только твою сестру жалко.
— А вы не жалейте. В школе вам скажут, что это их не касается, только и всего…
Он явно наслаждался нашим замешательством.
— Почему это — не касается?
— Школа отвечает за своих учеников… — Он не торопясь закурил и выпустил дым колечком. — Я уже год не учусь. И Ева знает. Так что можете сообщать…
Андрей все теснее сдвигал свои светлые брови, скулы у него шевелились и подергивались.
— Ева бросила свою учебу ради того, чтобы ты учился, — произнес он медленно. — А ты, значит, не учишься?
— Нет. И она знает. После того как она бросила — и я бросил. Сначала ей не говорил — жалко было. А потом она узнала…
— Почему же ты не учишься?
Арсен пренебрежительно фыркнул.
— Если бы я захотел, то лучше всех учился! — сообщил он с таким видом, словно это была установленная и многократно проверенная истина. — Очень мне нужно! Может быть, я подготовлюсь и прямо в вуз поступлю.
— Да, — с горечью сказал Андрей, — ты же гений… Ну, теперь говори, с кем это ты связался.
Арсен снова поднялся, подошел к двери и выглянул на улицу. Вероятно, он увидел там что-то обнадеживающее. На последний вопрос Андрея он не стал отвечать, насмешливо посмотрел на нас и пошел по улице своей развинченной походкой.
— Стой! — приказал ему Андрей. — Вернись!
Мальчишка нагло помахал нам рукой:
— Все, что здесь говорилось, будем считать шуткой, товарищи милиционеры…
— Вернись!
Арсен продолжал идти своей дорогой.
Тогда Андрей снял поводок, и Карай в два прыжка догнал мальчишку. Пес, слегка приподнимая верхнюю губу и показывая клыки, теснил его назад к парадному.
— Возьмите свою собаку! — крикнул Арсен, отступая шаг за шагом. — Возьмите собаку! — Он вернулся в подъезд и злобно взглянул на нас.
— Тебе, видно, очень хочется попасть в милицию за соучастие в краже? — спросил Андрей.
— Нет, не думайте и не надейтесь — вы мне ничего не можете сделать! Я отдал свои вещи, а не чужие. Такой статьи нету, чтобы меня за это судить. Человек имеет право распоряжаться своим собственным имуществом.
— Видишь, — сказал Андрей, — он уже и уголовный кодекс знает, все статьи изучил! К воровской карьере готовится. Он только не понимает, что изображает из себя такого труса, какого еще свет не видел, и такого дурака, что мне даже противно на него смотреть…
— Не смотрите! — взвизгнул Арсен. — Что вы меня здесь держите? Меня только одна Ева может обвинять. А она не будет! А вас в милиции даже и слушать не захотят.
Он решительно шагнул к выходу, но Карай стал у него на пути и зарычал.
— Не торопись, — спокойно сказал Андрей.
Арсен скрипнул зубами.
— Вы думаете, я очень боюсь, что вы скажете Еве? Говорите, пожалуйста! — Он отвернулся к стене, плечи у него задергались, и он умолк.
— Попал в руки каких-то бандюг, — прежним спокойным голосом продолжал Андрей, как будто ничего не случилось. — Его повели в ресторан, разок—другой угостили. Всегда так делают. Вот, мол, какая у нас красивая и легкая жизнь. Много ли мальчишке надо? Он глуп, ему это понравилось. Стал играть с ними и, конечно, проигрался. Надо платить, а платить нечем. Вот он уже и завербован. А тут еще пригрозили, что призовут к расчету. Знают ведь, что имеют дело с трусом. Сказали: “Отдай, что есть из вещей!” Он и отдал. Так я говорю или нет? — Андрей чуть тронул парня за локоть. — Много ли проиграл?
Худенькие плечи мальчишки еще сильнее задергались.
— Ну, я и сам знаю, что правильно говорю. Сейчас плачет, а то каким наглым был! Не хотел, чтобы собаку приводили, — ведь это грозит разоблачением. “Эти собаки никогда ничего не находят”! А сам дрожит: вдруг найдет собака! Перед сестрой все-таки стыдно, перед людьми стыдно. Отец ему свое доброе имя передал, а он это имя испоганил.
— Я не испоганил! — прошипел Арсен.
— Нет? Ну, объясни, чем ты прославил это имя? Может, хорошей учебой? Или сестре помогаешь жить, работать, дом вести?
Я решил вмешаться в этот разговор:
— Оставь его. Лучше скажи, на что он мог надеяться после того, как мы привели Карая?
— А вот надеялся, что собака не найдет. Сам все время следил за нами — видит, что мы идем правильно, и дал знать своим дружкам: спасайтесь, мол, а то можете попасться!.. Эй, почему ты это сделал?
Арсен даже не шевельнулся.
— Из той же трусости! — подождав, объяснил Андрей. — Боялся — бандюги обвинят его, что он их выдал. Ему мужчиной предстоит быть, а он заяц! Ведь если он к нам вышел из этого парадного, так лишь потому, что мы очень уж приблизились к тому месту, где спрятаны чемоданы. А то бы он ни за что не вышел. И в парадное нас завел, чтобы его друзья успели перепрятать чемоданы в другое место. Ты обратил внимание, что он все время выглядывает на улицу? Это он высматривает — унесли чемоданы или еще нет? И при этом ему, молокососу, кажется, что нам ничего не понятно! Как ты видишь, теперь он опять начал наглеть. Это означает, что чемоданы уже перепрятаны.
— Это они мне так велели сделать — задержать вас… — шепотом проговорил Арсен.
Лицо у него было таким заплаканным, беспомощным, что мне на минутку стало жалко: ну ребенок, мальчишка! Но Андрей, казалось, не почувствовал никакой жалости.
— Вот мы уходим, — жестко сказал он, — вернемся с чемоданами! А ты жди нас здесь. И, если не хочешь, чтоб тебе было плохо, ни шагу из парадного!
И мы ушли. Андрей повел собаку к тому месту, где нас встретил Арсен. Тут Карай снова взял след. Я стал упрекать Андрея: уж если он знал, что жулики уносят чемоданы, чтобы перепрятать их, то надо было действовать, а не тратить время на разговоры с Арсеном.
— Ничего, — отбивался Андрей, — чемоданы от нас не уйдут!
Видимо, в нем говорило сейчас чувство мастера-виртуоза, который подчас усложняет слишком простую работу, чтобы затем сделать ее с поражающим эффектом. Капитан Миансаров называл такие поступки пижонством.
— Смотри, Андрей, — предостерег я, — как бы нам не пожалеть об этом потерянном времени.
Карай тянул нас наискосок через дорогу.
На другой стороне улицы стоял старый дом, огороженный каменным забором. Дом безусловно подлежал сносу, но пока еще жил в окружении многоэтажных зданий из розового туфа. Карай ударил передними лапами по деревянной калитке и ворвался на маленький дворик, распугав возившихся тут кур. Дворик был чисто подметен. Под тутовым деревом стояла широкая тахта, сбитая из досок. Карай кинулся к этой тахте.
Яростный собачий лай вызвал из домика хозяина — невзрачного старика с перевязанной щекой. Старик кротко осведомился, что нам здесь надо.
Андрей заглянул под тахту и выпрямился:
— Давно унесли чемоданы, которые лежали под этой тахтой?
— Какие чемоданы? — удивился старик.
— Не знаете?
— Не знаю, товарищ. Откуда мне знать?
— Не знаете — надо будет объяснить. Вот на суде вам и объяснят, что значит скрывать краденые вещи.
— Почему краденые? — заволновался старик. — Знакомые ребята принесли, положили под тахту. А я даже крышку не поднимал у этих проклятых чемоданов. Какое мне дело?
— Что за ребята? Имена давайте!
Старик смутился:
— Кто их запомнит? Может, Серен… может, Шихан… Мало ли сюда людей ходит!
— Ну, хватит! — Андрей рассердился. — Дожил до старости, а чем занимаешься — жульничеством! При этом врешь, ворюг покрываешь! Старый пакостник ты, а не человек!
— Ай, напрасно, товарищ… — Старик прикрыл глаза и замотал головой на длинной, тонкой шее. — Ай, напрасно, напрасно… Зачем обижать?
Андрей махнул рукой и вывел собаку за порожек.
— След, след, Карай! — говорил он.
И наш Карай, жадно принюхиваясь, потянул за угол, в маленький переулок. Мы побежали за ним.
— Ты не опасаешься, что этот старый жулик удерет? — спрашивал я.
— От своего дома не уйдет, — спокойно отвечал Андрей. — Ведь дом-то он с собой не унесет… Хитрый старик, да он давно у нас на примете!
Карай заскочил в проходной двор, за которым начинался огороженный пустырь. Тут должны были строить новое здание. То и дело мы натыкались ни груды камня, песчаные насыпи. Андрей кричал мне: “Не отставать!”
Но разве угонишься за Караем! Я остановился возле груды толченых камней, как вдруг увидел, что Андрей отстегивает поводок у Карая.
— Стой! — кричал Андрей.
В конце пустыря я увидел двоих людей. Каждый из них тащил по чемодану.
— Стой! — еще раз крикнул Андрей и спустил Карая.
Пес пошел крупными прыжками, пригнув к земле свою огромную голову с прижатыми к затылку ушами. Он бежал молча — так идет на задержание преступников только очень тренированная, уверенная в своих силах собака. У Карая был безошибочный прием: с разгона он бил врага в грудь или в спину могучими передними лапами, валил с ног и садился на него верхом. Тут уж он не скупился на лай, на яростное рычание…
Один из преследуемых обернулся, бросил чемодан и полез через высокий забор. Другой попытался перекинуть через забор чемодан, но не смог. Он выхватил финский нож и, держа его в зубах, тоже полез на забор. Я понял, что это значит: если Карай возьмет барьер, — а такую высоту он взял бы без труда, — его будет ждать по другую сторону забора лезвие острого ножа. Но и Андрей понял это.
— Назад, Карай! — крикнул он.
Запыхавшись, мы подбежали к тому месту, где валялись брошенные ворами чемоданы. Я заглянул сквозь щелку забора — никого уже не было видно.
— Так, — с облегчением вздохнул Андрей, — еще минутка — и упустили б чемоданы. Был бы я и вправду пижоном.
Я принялся разглядывать присутствующих. У окна стоял сутулый юноша лет семнадцати—восемнадцати. Двумя пальцами он неумело прижимал к черным тонким усикам папиросу, то и дело ладонью приглаживая длинные волосы, расчесанные на пробор. На мизинце левой руки он носил красный наперсток. Я показал Андрею на этот наперсток. Андрей недобро усмехнулся:
— Ноготь, значит, отращивает. Красоту находит в том, чтоб у него ноготь на мизинце был длиннее, чем у других людей. Это же стиляга! Посмотри на его ботинки… — Ботинки этого юноши возвышались на подошве толщиной в два пальца и были разукрашены немыслимыми узорами. — Посмотри на эти усики! — пробурчал Андрей.
Усики были как две ниточки с черной катушки.
Ева увидела, что мы разглядываем юношу, шепнула:
— Это мой брат.
Андрей с удивлением переспросил:
— Вот этот?
— Да, это Арсен. Я потом вас познакомлю.
Мы с Андреем переглянулись, помолчали.
— Так, — сказал Андрей. — Хотелось бы в точности узнать, что же все-таки украдено?
Выяснилось, что Арсен, перед тем как вытащить чемоданы в коридор, достал из них, по счастью, два отреза. Эти отрезы были предназначены ему на костюмы. Таким образом, в чемоданах остались главным образом вещи Евы.
— В театр не в чем будет зимой пойти, — сказала Ева с деланно беспечной улыбкой и пожала плечами.
Кто-то из присутствующих посоветовал вызвать сыскную собаку.
Арсен пренебрежительно усмехнулся:
— Стоит ли? Эти собаки ничего не находят. Но за вызов, говорят, надо очень дорого платить. — Он стряхнул пепел и развинченной походкой пошел к столу, чтобы бросить окурок в пепельницу. — Кража — не смерть, — сказал этот юнец с мудрой усмешкой. — Переживем и забудем.
Он явно старался казаться старше своих лет.
— Нет, мы все же попробуем поискать, — мягко проговорил Андрей. — Вот я сейчас приведу собаку…
— Позвольте! — высокомерно возразил юноша. — Я не знаю, кто вы и что вы… Но дайте уж хозяевам самим распоряжаться в своем доме! Я вовсе не хочу, чтобы Ева из своего заработка платила за эту бесполезную собаку. Можно подумать, что она очень много зарабатывает!
— Платить ничего не придется! — отрезал Андрей и потянул меня к выходу.
Мы быстро прошли к трамвайной остановке.
— Что-то по твоим рассказам я себе этого братца совсем иначе представлял, — говорил я, едва поспевая за Андреем. — Во-первых, выглядит старше, чем я думал…
— Ты по внешности не суди. Мальчишки всегда прибавляют себе солидности.
— Ноготь отращивает в наперсточке… Это уж, знаешь, не внешность, а характеристика!
— Мы в такси сядем! — оборвал меня Андрей и жестом подозвал свободную машину, которая проезжала мимо.
Через двадцать минут мы уже ехали обратно. На этот раз с нами был и Карай, удобно расположившийся на мягком сиденье. При всей суровости режима, существовавшего в питомнике, при всех спартанских принципах тамошнего собачьего воспитания этот пес умел ценить комфорт…
Возле розового домика нас поджидал Арсен. Он по-прежнему неумело прижимал к черным усикам папиросу.
— Одну минуту, — сказал он и с опаской поглядел на Карая. — Собака не кусается?
— Не надо трогать — не укусит.
Арсен отодвинулся подальше.
— Только что я узнал от Евы, что вы работаете в собачьем питомнике, — объяснил он. — Но Ева не может принимать от вас такие услуги. Сколько это будет стоить? Может быть, слишком дорого?
— Это ничего не будет стоить.
— Почему? Назовите цену! Я или заплачу, или откажусь.
Андрей засмеялся и направился в дом. Юноша шел сзади, пожимая щуплыми плечами.
— Ты лучше думай о том, как облегчить поиск, — говорил ему Андрей, поглядывая через плечо назад. — В коридоре, наверно, натоптали так, что и след не возьмешь…
— Да, там натоптано, — согласился Арсен. — А что, разве такая собака не умеет искать в людных местах?
— Ну, труднее, меньше шансов на успех, — сказал Андрей. — Ты давно куришь? — вдруг спросил он.
Юноша высокомерно усмехнулся:
— Курю…
— Нет, я потому спрашиваю, что не получается у тебя. Даже и держать папироску как следует не умеешь. И вредно это в твоем возрасте. Сколько тебе лет?
— “Моя милиция меня бережет”! — враждебно сказал Арсен.
— Ты не сердись. Ноготь этот длинный, он тебе для чего нужен? — Андрей насмешливо прищурился. — Может, скажешь — для занятий?
— Да, ноготь, представьте себе, мне нужен для занятий.
— Ботиночки тоже у тебя… — Андрей покрутил головой.
— Да, и ботиночки у меня есть, это вы правильно заметили, товарищ милиционер!
Андрей уловил в его голосе вызывающую интонацию, нахмурился.
Мы вошли в дом. Все притихли, когда появился Карай. Ему торопливо уступали дорогу, а он словно и не замечал людей.
Ева, округлив глаза, показала нам место в коридоре, где стояли украденные чемоданы. Карай уже понял, что предстоит работа. Всегда в таких случаях им овладевала целеустремленная сосредоточенность, он переставал суетиться и даже по сторонам не глядел. Что ему теперь до людей, до вкусных запахов, до незнакомой обстановки! Он только терся рыжеватым боком о ногу хозяина, чтобы обратить на себя внимание: не пора ли начинать работу? Андрей подвел его поближе и приказал взять след.
— Эти собаки не очень-то находят, — произнес вдруг Арсен. Он стоял у окна и усмехался. — И даже они часто ошибаются. Смешно было бы, чтобы она нашла. Она просто кинется на первого попавшегося — вот и вся ее работа.
— Ну, посмотрим, — добродушно отозвался Андрей. Он любил, когда перед началом работы ему предсказывали неудачу. Торжество было тем сильнее, чем больше выражалось перед поиском сомнений и недоверия.
Карай потянул носом и забеспокоился.
— Откройте дверь! — попросил Андрей.
Дверь открыли, но это оказалось излишним. Карай не пошел к выходу. Он повертелся на месте, внезапно с грозным рычанием набросился на Арсена и загнал его в угол. Только туго натянутый поводок спас юношу от этой яростной атаки. Карай повернул к хозяину свою острую морду, как бы говоря: “Вот я сделал свое дело — нашел преступника. Бери его, хозяин! А мне дай сахару…” Так уж повелось, что после каждого удачного поиска Андрей подкармливал его сахаром.
Я никогда еще не видел Андрея таким сконфуженным. Он тянул к себе поводок и ни на кого не смотрел. Но даже и теперь он не ударил собаку, как это делают некоторые проводники в минуту злости. Он только подтянул Карая к ноге и шепотом приказал ему:
— Молчать!
Арсен словно прилип к стене. Он был возмущен до предела. И, хотя его папироса упала на пол, он все еще прижимал два дрожащих пальца к своим черным усикам.
— Что же это такое! — заговорил он обиженным и совсем уже детским голосом. — В своем же доме… Уберите эту собаку! Я хочу выйти на улицу.
— Да-да! — с упреком сказала Ева. — Дайте же ему выйти. Эта собака такая страшная… Любой испугается!
— Кто испугался? — фыркнул юноша. — Я, что ли, испугался? — Он подождал, пока Андрей схватил Карая за ошейник, и после этого вышел из угла. — Подумаешь, обыкновенный глупый блохастый кобель!
Андрей молчал.
Мальчишка вышел в парадное, но я заметил, что он не спустился по лестнице, а остановился на площадке. Пришел мой черед вмешаться в это дело…
— В коридоре слишком уж натоптано, — сказал я. — Наверно, когда хозяева узнали о пропаже чемоданов, то бросались искать их и туда и сюда. Собака взяла следы последних ног, которые тут ступали. Давайте попробуем еще раз.
Андрей вопросительно взглянул на Еву. Она кивнула головой и мягко улыбнулась. Значит, не сердится! Андрей весело заговорил:
— След, Карай, след!
С величайшим рвением Карай уткнул свой мокрый нос в угол, долго принюхивался и наконец, полный решимости, обернулся к выходу. Теперь-то уж он не ошибется! Однако он не пробежал и трех шагов, вопросительно посмотрел на хозяина и вдруг принялся — не от души, а как бы нехотя, по обязанности — облаивать Еву.
— Собака безошибочно находит преступников! — насмешливо крикнул Арсен из парадного и помахал в воздухе своим красным наперстком.
Андрей только засопел, но ничего не ответил. Видимо, Ева поняла его состояние.
— Что ж такого, — ободряюще проговорила она, — мы с Арсеном все равно не надеялись вернуть то, что пропало. Пожалуйста, вы не расстраивайтесь!
— Нет, я надеялся! — с вызовом сказал Арсен. — Но теперь я перестал надеяться.
Андрей властно взял Карая левой рукой за ошейник и повел к выходу. Я шел позади и шептал:
— Неудобно! Что ж, мы так и уйдем, ничего не сделав?..
В эту минуту я чувствовал себя ответственным за все розыскное дело в нашем городе. Сам капитан Миансаров не мог бы страдать больше, чем я.
Но, оказывается, я плохо знал Андрея.
— Кто уйдет? — воскликнул Андрей, и я увидел, что в его серых глазах засветилось упрямство. — Поиск не кончился, а лишь только начинается, к вашему сведению.
Мы вышли в парадное. Я не знал, что задумал мой приятель, и собирался сойти по лестнице. Но он остановился. Тут я увидел, что он осторожно подмигнул мне. Это должно было означать, что мы с ним знаем нечто такое, чего не знает никто из окружающих. Он явно переоценивал мои силы, но я на всякий случай мигнул ему в ответ и закивал головой. Он шепнул:
— Дело, как видно, будет серьезнее, чем мерещилось вначале.
Я ничего не понимал, но все же сделал понимающее лицо и еще раз со значением мигнул: мол, я согласен, что дело будет серьезное.
Андрей приказал Караю обнюхать площадку.
— Ага! — заговорили соседи, которые все высыпали из своих квартир и, надо сказать, мешали нам, принимая слишком горячее участие в организации поиска. — Теперь-то уж пес почуял. Смотрите, как внюхивается! Ведите его, товарищ проводник, а то он новые запахи почувствует и опять собьется.
— Граждане, граждане! — укоризненно сказал Андрей. — Поверьте, что в этих делах я, хотя, может, и не на сто процентов, но все же разбираюсь. Дайте уж мне руководить служебной собакой.
Он заставил Карая обнюхать последовательно одну за другой почти все ступеньки, а сам при этом внимательно наблюдал за поведением собаки.
— Понимаешь? — спросил он у меня, когда Карай заворчал и натянул поводок.
Я все еще ничего не понимал…
Мы вышли на улицу. Карай потянул. Я думал, что нам, как всегда в таких случаях, придется бежать за ним. Но, вопреки обычаю, Андрей его сдерживал и все глядел по сторонам.
— Куда девался этот Арсен?
— Вот уж не знаю, — сказал я. — Ты лучше объясни, почему это ты так значительно глядел на меня в парадном?
— Почему глядел? — Андрей усмехнулся. — Потому что люди, которые взяли чемоданы, — они даже не заходили в квартиру. Я думал, что тебе это понятно.
— Откуда ты знаешь?
Андрей ответил серьезно:
— Это мне Карай доложил. Они стояли за дверью на лестничной площадке и ждали, пока им вынесут чемоданы.
— Кто вынесет?
— Вот это нам предстоит установить, — уклончиво проговорил Андрей и огляделся по сторонам.
Мы шли теперь мимо зеленого сквера. На нас пахнуло прохладой. За сквером начинались многоэтажные дома, магазины с зеркальными витринами. По асфальту сновали автомашины. Карай рвался вперед, но ему мешал укороченный поводок.
— Да пусти ты его, а то он след потеряет.
— Не потеряет, — возразил Андрей и опять оглянулся.
Мне показалось, что он кого-то ждет. Но кого? Может быть, он вызвал милиционера, который должен усилить нашу группу?
Тот, кого ждал Андрей, появился неожиданно. Из подъезда монументального пятиэтажного дома, стоящего за сквером, вышел Арсен и, слабо, вымученно улыбаясь, направился к нам. И следа не осталось от былой его наглости.
Я думал, что Карай опять кинется на него. Но Карай шел по другим следам и не обратил на этого мальчишку никакого внимания.
— Постойте… — Арсен несколько раз подергал тощей шеей, словно хотел проглотить непомерно большой кусок. — Дальше не ходите, пожалуйста…
— Почему же? — строго спросил Андрей, сдвинув выжженные солнцем брови.
— Я вам все объясню, но зайдемте сначала в этот подъезд. Если меня увидят с вами, это будет нехорошо…
— Пойдем, — угрюмо согласился Андрей. — Ну? — проговорил он, когда мы все оказались в недавно отремонтированном парадном, где пахло мелом и олифой.
— Вас никто не приглашал! — с ненавистью заговорил Арсен. — Вы сами навязались…
— Ты осторожнее выбирай выражения!
Карай уловил угрожающую интонацию в голосе хозяина и глухо заворчал.
— Да, да, да, вы сами навязались! — упрямо повторил Арсен, но отошел все же в сторону — так, чтобы я оказался между ним и собакой. — Вам что надо? Вы хотите сделать приятное моей сестре Еве? Так вы знайте, что если вы найдете эти чемоданы, то ей будет совсем не приятно… — Он облизнул пересохшие губы и с вызовом добавил: — И даже наоборот! Ей будет большое горе, если она узнает, как произошла кража. — Он поднял на нас глаза, в них стояли слезы. — Нету этих чемоданов, и всё! Не у вас украли. А мы с Евой это переживем. Вы в нашу жизнь не вмешивайтесь!
Я смотрел, слушал и удивлялся: вся напускная солидность слетела с Арсена. Перед нами был теперь худенький и жалкий подросток.
— Мальчишка! — гневно сказал Андрей. — Говори же все до конца. Что ты трусишь?
— Я не трус. Мне нечего говорить… И вы меня не оскорбляйте!
— Ну, слушай, я скажу! Ты открыл им дверь и передал из рук в руки чемоданы.
— Ничего подобного! — закричал Арсен.
— Ну, не ври. И знаешь, что самое противное? То, что свои личные вещи ты все-таки предварительно вытащил из чемодана. Пусть страдает сестра!.. Видишь, — Андрей толкнул меня локтем в бок, — он чувствует, что попался, так хочет свою слабость обратить в силу: не говорите, мол, Еве, ей будет горько… Вот его козырь! Папа был жив — его баловали. Как же, наследник! Мать баловала, сестра балует, жизнь за него кладет. Внушили ему, что он гений, — видишь ли, числа в уме множит! А того не видели, что он на всем свете, кроме самого себя, никого не любит. Да еще трус… Ну, говори, в чьи руки ты попался?
Арсен осторожно выглянул на улицу, потом вернулся в подъезд и сел на мраморную ступеньку широкой лестницы. Он упрямо сжал губы и отвернулся.
Меня все это возмутило.
— Вот сообщить бы об этих делах в твою школу!
— Сообщайте.
— И надо бы! Только твою сестру жалко.
— А вы не жалейте. В школе вам скажут, что это их не касается, только и всего…
Он явно наслаждался нашим замешательством.
— Почему это — не касается?
— Школа отвечает за своих учеников… — Он не торопясь закурил и выпустил дым колечком. — Я уже год не учусь. И Ева знает. Так что можете сообщать…
Андрей все теснее сдвигал свои светлые брови, скулы у него шевелились и подергивались.
— Ева бросила свою учебу ради того, чтобы ты учился, — произнес он медленно. — А ты, значит, не учишься?
— Нет. И она знает. После того как она бросила — и я бросил. Сначала ей не говорил — жалко было. А потом она узнала…
— Почему же ты не учишься?
Арсен пренебрежительно фыркнул.
— Если бы я захотел, то лучше всех учился! — сообщил он с таким видом, словно это была установленная и многократно проверенная истина. — Очень мне нужно! Может быть, я подготовлюсь и прямо в вуз поступлю.
— Да, — с горечью сказал Андрей, — ты же гений… Ну, теперь говори, с кем это ты связался.
Арсен снова поднялся, подошел к двери и выглянул на улицу. Вероятно, он увидел там что-то обнадеживающее. На последний вопрос Андрея он не стал отвечать, насмешливо посмотрел на нас и пошел по улице своей развинченной походкой.
— Стой! — приказал ему Андрей. — Вернись!
Мальчишка нагло помахал нам рукой:
— Все, что здесь говорилось, будем считать шуткой, товарищи милиционеры…
— Вернись!
Арсен продолжал идти своей дорогой.
Тогда Андрей снял поводок, и Карай в два прыжка догнал мальчишку. Пес, слегка приподнимая верхнюю губу и показывая клыки, теснил его назад к парадному.
— Возьмите свою собаку! — крикнул Арсен, отступая шаг за шагом. — Возьмите собаку! — Он вернулся в подъезд и злобно взглянул на нас.
— Тебе, видно, очень хочется попасть в милицию за соучастие в краже? — спросил Андрей.
— Нет, не думайте и не надейтесь — вы мне ничего не можете сделать! Я отдал свои вещи, а не чужие. Такой статьи нету, чтобы меня за это судить. Человек имеет право распоряжаться своим собственным имуществом.
— Видишь, — сказал Андрей, — он уже и уголовный кодекс знает, все статьи изучил! К воровской карьере готовится. Он только не понимает, что изображает из себя такого труса, какого еще свет не видел, и такого дурака, что мне даже противно на него смотреть…
— Не смотрите! — взвизгнул Арсен. — Что вы меня здесь держите? Меня только одна Ева может обвинять. А она не будет! А вас в милиции даже и слушать не захотят.
Он решительно шагнул к выходу, но Карай стал у него на пути и зарычал.
— Не торопись, — спокойно сказал Андрей.
Арсен скрипнул зубами.
— Вы думаете, я очень боюсь, что вы скажете Еве? Говорите, пожалуйста! — Он отвернулся к стене, плечи у него задергались, и он умолк.
— Попал в руки каких-то бандюг, — прежним спокойным голосом продолжал Андрей, как будто ничего не случилось. — Его повели в ресторан, разок—другой угостили. Всегда так делают. Вот, мол, какая у нас красивая и легкая жизнь. Много ли мальчишке надо? Он глуп, ему это понравилось. Стал играть с ними и, конечно, проигрался. Надо платить, а платить нечем. Вот он уже и завербован. А тут еще пригрозили, что призовут к расчету. Знают ведь, что имеют дело с трусом. Сказали: “Отдай, что есть из вещей!” Он и отдал. Так я говорю или нет? — Андрей чуть тронул парня за локоть. — Много ли проиграл?
Худенькие плечи мальчишки еще сильнее задергались.
— Ну, я и сам знаю, что правильно говорю. Сейчас плачет, а то каким наглым был! Не хотел, чтобы собаку приводили, — ведь это грозит разоблачением. “Эти собаки никогда ничего не находят”! А сам дрожит: вдруг найдет собака! Перед сестрой все-таки стыдно, перед людьми стыдно. Отец ему свое доброе имя передал, а он это имя испоганил.
— Я не испоганил! — прошипел Арсен.
— Нет? Ну, объясни, чем ты прославил это имя? Может, хорошей учебой? Или сестре помогаешь жить, работать, дом вести?
Я решил вмешаться в этот разговор:
— Оставь его. Лучше скажи, на что он мог надеяться после того, как мы привели Карая?
— А вот надеялся, что собака не найдет. Сам все время следил за нами — видит, что мы идем правильно, и дал знать своим дружкам: спасайтесь, мол, а то можете попасться!.. Эй, почему ты это сделал?
Арсен даже не шевельнулся.
— Из той же трусости! — подождав, объяснил Андрей. — Боялся — бандюги обвинят его, что он их выдал. Ему мужчиной предстоит быть, а он заяц! Ведь если он к нам вышел из этого парадного, так лишь потому, что мы очень уж приблизились к тому месту, где спрятаны чемоданы. А то бы он ни за что не вышел. И в парадное нас завел, чтобы его друзья успели перепрятать чемоданы в другое место. Ты обратил внимание, что он все время выглядывает на улицу? Это он высматривает — унесли чемоданы или еще нет? И при этом ему, молокососу, кажется, что нам ничего не понятно! Как ты видишь, теперь он опять начал наглеть. Это означает, что чемоданы уже перепрятаны.
— Это они мне так велели сделать — задержать вас… — шепотом проговорил Арсен.
Лицо у него было таким заплаканным, беспомощным, что мне на минутку стало жалко: ну ребенок, мальчишка! Но Андрей, казалось, не почувствовал никакой жалости.
— Вот мы уходим, — жестко сказал он, — вернемся с чемоданами! А ты жди нас здесь. И, если не хочешь, чтоб тебе было плохо, ни шагу из парадного!
И мы ушли. Андрей повел собаку к тому месту, где нас встретил Арсен. Тут Карай снова взял след. Я стал упрекать Андрея: уж если он знал, что жулики уносят чемоданы, чтобы перепрятать их, то надо было действовать, а не тратить время на разговоры с Арсеном.
— Ничего, — отбивался Андрей, — чемоданы от нас не уйдут!
Видимо, в нем говорило сейчас чувство мастера-виртуоза, который подчас усложняет слишком простую работу, чтобы затем сделать ее с поражающим эффектом. Капитан Миансаров называл такие поступки пижонством.
— Смотри, Андрей, — предостерег я, — как бы нам не пожалеть об этом потерянном времени.
Карай тянул нас наискосок через дорогу.
На другой стороне улицы стоял старый дом, огороженный каменным забором. Дом безусловно подлежал сносу, но пока еще жил в окружении многоэтажных зданий из розового туфа. Карай ударил передними лапами по деревянной калитке и ворвался на маленький дворик, распугав возившихся тут кур. Дворик был чисто подметен. Под тутовым деревом стояла широкая тахта, сбитая из досок. Карай кинулся к этой тахте.
Яростный собачий лай вызвал из домика хозяина — невзрачного старика с перевязанной щекой. Старик кротко осведомился, что нам здесь надо.
Андрей заглянул под тахту и выпрямился:
— Давно унесли чемоданы, которые лежали под этой тахтой?
— Какие чемоданы? — удивился старик.
— Не знаете?
— Не знаю, товарищ. Откуда мне знать?
— Не знаете — надо будет объяснить. Вот на суде вам и объяснят, что значит скрывать краденые вещи.
— Почему краденые? — заволновался старик. — Знакомые ребята принесли, положили под тахту. А я даже крышку не поднимал у этих проклятых чемоданов. Какое мне дело?
— Что за ребята? Имена давайте!
Старик смутился:
— Кто их запомнит? Может, Серен… может, Шихан… Мало ли сюда людей ходит!
— Ну, хватит! — Андрей рассердился. — Дожил до старости, а чем занимаешься — жульничеством! При этом врешь, ворюг покрываешь! Старый пакостник ты, а не человек!
— Ай, напрасно, товарищ… — Старик прикрыл глаза и замотал головой на длинной, тонкой шее. — Ай, напрасно, напрасно… Зачем обижать?
Андрей махнул рукой и вывел собаку за порожек.
— След, след, Карай! — говорил он.
И наш Карай, жадно принюхиваясь, потянул за угол, в маленький переулок. Мы побежали за ним.
— Ты не опасаешься, что этот старый жулик удерет? — спрашивал я.
— От своего дома не уйдет, — спокойно отвечал Андрей. — Ведь дом-то он с собой не унесет… Хитрый старик, да он давно у нас на примете!
Карай заскочил в проходной двор, за которым начинался огороженный пустырь. Тут должны были строить новое здание. То и дело мы натыкались ни груды камня, песчаные насыпи. Андрей кричал мне: “Не отставать!”
Но разве угонишься за Караем! Я остановился возле груды толченых камней, как вдруг увидел, что Андрей отстегивает поводок у Карая.
— Стой! — кричал Андрей.
В конце пустыря я увидел двоих людей. Каждый из них тащил по чемодану.
— Стой! — еще раз крикнул Андрей и спустил Карая.
Пес пошел крупными прыжками, пригнув к земле свою огромную голову с прижатыми к затылку ушами. Он бежал молча — так идет на задержание преступников только очень тренированная, уверенная в своих силах собака. У Карая был безошибочный прием: с разгона он бил врага в грудь или в спину могучими передними лапами, валил с ног и садился на него верхом. Тут уж он не скупился на лай, на яростное рычание…
Один из преследуемых обернулся, бросил чемодан и полез через высокий забор. Другой попытался перекинуть через забор чемодан, но не смог. Он выхватил финский нож и, держа его в зубах, тоже полез на забор. Я понял, что это значит: если Карай возьмет барьер, — а такую высоту он взял бы без труда, — его будет ждать по другую сторону забора лезвие острого ножа. Но и Андрей понял это.
— Назад, Карай! — крикнул он.
Запыхавшись, мы подбежали к тому месту, где валялись брошенные ворами чемоданы. Я заглянул сквозь щелку забора — никого уже не было видно.
— Так, — с облегчением вздохнул Андрей, — еще минутка — и упустили б чемоданы. Был бы я и вправду пижоном.
 — Так и так пижон, — заявил я. — Воры-то ушли!
Он нахмурился, хотел рассердиться, но свойственная ему справедливость и на этот раз восторжествовала.
— Ну, верно, — сказал он виновато. — Вышли б мы пораньше — и захватили их. Будет мне теперь от капитана Миансарова!
— Да откуда он узнает? Ты же не на работе. И не думаешь ведь ты, что я ему расскажу!
— Нет, зачем… — Андрей мягко улыбнулся. — Я сам скажу ему!
Он взял собаку на поводок:
— Только еще не все кончено. Ты побудь здесь около чемоданов. Я скоро вернусь…
Он пришел через полтора часа — спокойный, как всегда, но растрепанный и усталый. За это время я, сидя на чемоданах возле кучи битого камня, выучил наизусть все слова и цифры, которые были написаны на моей папиросной коробке. Никакой другой литературы у меня под руками не оказалось. Я проклял все чемоданы, которые пропадают, и всех сыскных собак на свете, которые эти чемоданы разыскивают. Когда пришел Андрей, я был очень зол. Он понял это и, не дожидаясь упреков, сообщил:
— Рецидивисты. Вот в какую компанию попал этот мальчишка!
Моя злость сразу прошла.
— Ты поймал их?
— Одного задержал. Главное дело было, что мне пришлось его в отделение вести… — Он нагнулся и подхватил чемодан. — Пойдем побыстрее, а то мальчишка засохнет в том подъезде.
— Ты думаешь, что он еще не ушел?
— Не бойся. — Андрей подмигнул. — Ждет.
Арсен сидел на нижней ступеньке лестницы. Он уже не плакал, но в лице его была какая-то обреченность. Он даже не удивился, когда увидел чемоданы.
— Оставьте меня, — сказал он тихо. — Мне домой нельзя идти.
— Пойдешь, — возразил Андрей. — Ты пойдешь с нами. Поднимайся, ну-ка!
Арсен встал. Лицо его исказила усмешка.
— Вы меня еще не знаете… — начал он. — Если я что-нибудь задумал…
Но Андрей не стал его слушать. Мы пошли вперед, унося чемоданы, и мальчишка поплелся за нами.
— Я не могу идти домой! Слышите? — вдруг крикнул он. — Мне будет стыдно… соседи узнают… Вы слышите или нет?
Андрей остановился возле столба с объявлениями. Я думал, что он хочет переложить чемодан из одной руки в другую. Но он стал присматриваться к объявлениям.
— Вот! — проговорил он с удовлетворением и поманил Арсена к себе. — Вот что тебе надо!
Крупный строящийся завод извещал о наборе рабочей силы. Принимались и неквалифицированные рабочие — на заводских курсах они могли получить квалификацию.
Арсен прочитал и попытался улыбнуться.
— Это вы мне предлагаете?
— Именно!
— Что же я буду там делать?
— Как — что? Камни таскать, тачки возить, бетон замешивать. Там есть вечерняя школа. Поступишь на учебу без отрыва от производства.
— Вы что, смеетесь? — возмутился Арсен. Но, увидев недоброе лицо Андрея, умолк. — Для чего это вам надо?
— Это надо тебе, а не мне.
Арсен угрюмо пожал плечами:
— Очень уж вы распоряжаетесь…
Мы двинулись дальше. Но вскоре Андрей снова остановился. На этот раз — возле парикмахерской. Он достал пять рублей и протянул Арсену:
— Пойди постригись. Наголо. Лучше всего — побрей голову.
Арсен мрачно сказал:
— У меня есть деньги. Но я оставлю чубик спереди. Я всегда оставляю чубик…
— Нет! — непреклонно отрезал Андрей. — Все сбривай, наголо. Подожди, я вместе с тобой пойду.
И он ушел, снова оставив на мое попечение чемоданы да еще в придачу Карая. В парикмахерской он пробыл довольно долго, а когда вышел оттуда, то сообщил:
— Бреют наголо.
— Ты герой, — сказал я.
Мы не стали ждать Арсена, взяли такси и поехали. И снова Карай лег на мягкое сиденье.
Когда Ева открыла нам дверь, Андрей молча внес в переднюю оба чемодана. Мне он не доверил ни одного из них. А ведь с пустыря я нес этот тяжелый чемодан, и он даже не думал взять его у меня…
Ева что-то говорила, смеялась, звала нас пить чай. Но, оказывается, — так, во всяком случае, утверждал Андрей, — мы не могли остаться…
— Андрей, — девушка потупилась, — вы моего брата не видели?
По тому, как был задан этот вопрос, я почувствовал, что она хочет узнать больше, чем спрашивает.
— Арсена? — переспросил Андрей. — Нет, мы его не видели. Но я думаю, что скоро он будет дома. Вероятно, сейчас явится.
— Он хороший мальчик, — робко сказала Ева. — Может быть, немножко избалован…
— Да, пожалуй, что есть немного, — вежливо согласился Андрей.
Ева никак не могла успокоиться:
— Понимаете, я не хотела говорить, но я недавно узнала, что он бросил школу. — У Евы дрогнули губы. — В этом я виновата…
— Вы ни в чем не виноваты! — Андрей ласково взял ее за руку. — И все теперь будет хорошо. Ни о чем, прошу вас, не тревожьтесь…
Я оставил их. Мне пришлось довольно долго ждать Андрея в парадном. Мимо меня прошмыгнул Арсен. Я попытался заговорить с ним, он не ответил. Наконец появился Андрей, и мы — в который уже раз! — вышли из этого дома на улицу.
Андрей повертел перед моим носом красным наперстком.
— Я срезал ему ноготь! — объявил он с торжеством, как объявляют о большой победе, и бросил наперсток в урну.
— Для начала и это дело, — сказал я.
— А что! Мальчишка еще будет человеком!
— Так и так пижон, — заявил я. — Воры-то ушли!
Он нахмурился, хотел рассердиться, но свойственная ему справедливость и на этот раз восторжествовала.
— Ну, верно, — сказал он виновато. — Вышли б мы пораньше — и захватили их. Будет мне теперь от капитана Миансарова!
— Да откуда он узнает? Ты же не на работе. И не думаешь ведь ты, что я ему расскажу!
— Нет, зачем… — Андрей мягко улыбнулся. — Я сам скажу ему!
Он взял собаку на поводок:
— Только еще не все кончено. Ты побудь здесь около чемоданов. Я скоро вернусь…
Он пришел через полтора часа — спокойный, как всегда, но растрепанный и усталый. За это время я, сидя на чемоданах возле кучи битого камня, выучил наизусть все слова и цифры, которые были написаны на моей папиросной коробке. Никакой другой литературы у меня под руками не оказалось. Я проклял все чемоданы, которые пропадают, и всех сыскных собак на свете, которые эти чемоданы разыскивают. Когда пришел Андрей, я был очень зол. Он понял это и, не дожидаясь упреков, сообщил:
— Рецидивисты. Вот в какую компанию попал этот мальчишка!
Моя злость сразу прошла.
— Ты поймал их?
— Одного задержал. Главное дело было, что мне пришлось его в отделение вести… — Он нагнулся и подхватил чемодан. — Пойдем побыстрее, а то мальчишка засохнет в том подъезде.
— Ты думаешь, что он еще не ушел?
— Не бойся. — Андрей подмигнул. — Ждет.
Арсен сидел на нижней ступеньке лестницы. Он уже не плакал, но в лице его была какая-то обреченность. Он даже не удивился, когда увидел чемоданы.
— Оставьте меня, — сказал он тихо. — Мне домой нельзя идти.
— Пойдешь, — возразил Андрей. — Ты пойдешь с нами. Поднимайся, ну-ка!
Арсен встал. Лицо его исказила усмешка.
— Вы меня еще не знаете… — начал он. — Если я что-нибудь задумал…
Но Андрей не стал его слушать. Мы пошли вперед, унося чемоданы, и мальчишка поплелся за нами.
— Я не могу идти домой! Слышите? — вдруг крикнул он. — Мне будет стыдно… соседи узнают… Вы слышите или нет?
Андрей остановился возле столба с объявлениями. Я думал, что он хочет переложить чемодан из одной руки в другую. Но он стал присматриваться к объявлениям.
— Вот! — проговорил он с удовлетворением и поманил Арсена к себе. — Вот что тебе надо!
Крупный строящийся завод извещал о наборе рабочей силы. Принимались и неквалифицированные рабочие — на заводских курсах они могли получить квалификацию.
Арсен прочитал и попытался улыбнуться.
— Это вы мне предлагаете?
— Именно!
— Что же я буду там делать?
— Как — что? Камни таскать, тачки возить, бетон замешивать. Там есть вечерняя школа. Поступишь на учебу без отрыва от производства.
— Вы что, смеетесь? — возмутился Арсен. Но, увидев недоброе лицо Андрея, умолк. — Для чего это вам надо?
— Это надо тебе, а не мне.
Арсен угрюмо пожал плечами:
— Очень уж вы распоряжаетесь…
Мы двинулись дальше. Но вскоре Андрей снова остановился. На этот раз — возле парикмахерской. Он достал пять рублей и протянул Арсену:
— Пойди постригись. Наголо. Лучше всего — побрей голову.
Арсен мрачно сказал:
— У меня есть деньги. Но я оставлю чубик спереди. Я всегда оставляю чубик…
— Нет! — непреклонно отрезал Андрей. — Все сбривай, наголо. Подожди, я вместе с тобой пойду.
И он ушел, снова оставив на мое попечение чемоданы да еще в придачу Карая. В парикмахерской он пробыл довольно долго, а когда вышел оттуда, то сообщил:
— Бреют наголо.
— Ты герой, — сказал я.
Мы не стали ждать Арсена, взяли такси и поехали. И снова Карай лег на мягкое сиденье.
Когда Ева открыла нам дверь, Андрей молча внес в переднюю оба чемодана. Мне он не доверил ни одного из них. А ведь с пустыря я нес этот тяжелый чемодан, и он даже не думал взять его у меня…
Ева что-то говорила, смеялась, звала нас пить чай. Но, оказывается, — так, во всяком случае, утверждал Андрей, — мы не могли остаться…
— Андрей, — девушка потупилась, — вы моего брата не видели?
По тому, как был задан этот вопрос, я почувствовал, что она хочет узнать больше, чем спрашивает.
— Арсена? — переспросил Андрей. — Нет, мы его не видели. Но я думаю, что скоро он будет дома. Вероятно, сейчас явится.
— Он хороший мальчик, — робко сказала Ева. — Может быть, немножко избалован…
— Да, пожалуй, что есть немного, — вежливо согласился Андрей.
Ева никак не могла успокоиться:
— Понимаете, я не хотела говорить, но я недавно узнала, что он бросил школу. — У Евы дрогнули губы. — В этом я виновата…
— Вы ни в чем не виноваты! — Андрей ласково взял ее за руку. — И все теперь будет хорошо. Ни о чем, прошу вас, не тревожьтесь…
Я оставил их. Мне пришлось довольно долго ждать Андрея в парадном. Мимо меня прошмыгнул Арсен. Я попытался заговорить с ним, он не ответил. Наконец появился Андрей, и мы — в который уже раз! — вышли из этого дома на улицу.
Андрей повертел перед моим носом красным наперстком.
— Я срезал ему ноготь! — объявил он с торжеством, как объявляют о большой победе, и бросил наперсток в урну.
— Для начала и это дело, — сказал я.
— А что! Мальчишка еще будет человеком!
ВСТРЕЧА С ЭЛЬ-ХАНОМ
Камень качнулся, осел и сорвался вниз. Он прыгал с уступа на уступ. Только и слышалось: цок! цок! Горное эхо подхватило и размножило этот звук. Уже камня и видно не было, а снизу все доносилось сухое щелканье, будто орехи падали с буфета на пол. Карай заглянул в пропасть, попятился назад и отрывисто залаял. Этот собачий бас, который всегда вызывал довольную усмешку на лице Андрея, теперь едва слышался. Когда Карай лаял дома, в шкафу дребезжала посуда. Ева сердилась: “Оглохнуть можно из-за этой собаки!” Тут, в горах, среди скал, засыпанных снегом, басовитый лай снова напоминал беспомощное щенячье тявканье, хорошо знакомое Андрею: когда-то маленький Карайка вот так же удивленно лаял на мир, забравшись в голенище хозяйского сапога… Андрей вытащил из кармана кусочек сахара и дал собаке. Он с удовольствием почувствовал деликатное прикосновение холодного носа к своей ладони. Карай взял сахар осторожно, не торопясь — сначала обнюхал, потом захватил зубами. Он никогда не вырывал лакомства из руки, как это делают некоторые собаки. Ева говорила, что Карай понимает приличия… Было холодно и пустынно. Далеко внизу стояли домики научной экспедиции. Еще ниже виднелось горное озеро с необычным названием: “Черная вода”, хотя оно было светлым и прозрачным. В домиках шла какая-то своя жизнь: вился дымок над крышами, пробежала повариха с ведром. Приближалось время обеда. Андрей поежился, плотнее запахнул телогрейку. Подумать только: лето! Он потер озябшие пальцы. Какое, к черту, лето! Как бы Карай не замерз… Пес сильно вылинял перед наступлением жарких дней, выбросил весь свой подшерсток, и теперь его пробирал холод. Он прижал уши к затылку и, дурачась, принялся носиться по скалам. То и дело посматривал на хозяина: ну-ка, мол, поймай! Сегодня утром Андрей еще и думать не мог, что окажется здесь. Человек не поспевает приспосабливаться к таким быстрым переменам. Ты уже среди льдов, а все тебе помнится жара… Однажды Андрею пришлось лететь на самолете из Еревана в Москву. Вылетели в лютый мороз. Пассажиры прыгали с ноги на ногу, ожидая посадки. Облачка пара поднимались от дыхания над аэродромом. Спустя два часа в Сухуми, во время стоянки, пассажиры вынесли из ресторана столик прямо на поле аэродрома и завтракали под солнышком, сняв пальто, расстегнув воротники. Кругом шныряли загорелые мальчишки и разносили в корзинах лимоны и мандарины. Еще спустя несколько часов самолет сел в Харькове. В глаза бил колючий снег, ветер пригибал людей к земле, к наметанным сухим сугробам. В таких резких переменах всегда есть нечто чудодейственное. Трудно поверить, что только два часа отделяют лето от зимы. Сейчас в голове у Андрея все копошились ленивые мысли. Что делает Ева? Судя по времени, недавно вернулась с базара, готовит обед. Господи, она же уходила на базар, когда Андрей собирался ехать на гору! Неужели это было только сегодня утром?.. Сегодня утром Андрея вызвал к себе капитан Миансаров. — Ты здоров? — Здоров, товарищ капитан. Что мне делается! — Твоя собака здорова? — Так точно. — По моим расчетам, твой медовый месяц кончился. Сколько уже, как вы с Евой поженились? — Двадцать три дня, товарищ капитан! — улыбаясь, отрапортовал Андрей. — Ого, стаж! Ну, придется на время расстаться с молодой женой. Пойдешь сейчас со мной к майору. Майор — молодой, но уже очень заслуженный человек, вся грудь в орденах — принял их сразу, хотя в приемной было много ожидающих. — Выздоровы? — первым делом спросил он у Андрея. — Хочу выяснить, можете ли вы выполнить трудное задание. — Поручайте, товарищ майор! — Вы, кажется, альпинист? Имеете навык в хождении по нашим горам? — Приходилось, товарищ майор! И ходил по горам, и падал с гор. Все было. — Пойдемте, товарищ Витюгин. Вас сейчас примет полковник… В большом кабинете окна были задернуты шторами. Только маленький луч солнца проложил дорожку на желтом паркетном полу, на красном ворсистом ковре. Тут Андрей в третий раз услышал вопрос о своем здоровье — и забеспокоился. Никогда еще его не заставляли так много говорить о состоянии своего здоровья, как в это утро. — Я вполне здоров, товарищ полковник. — Как чувствует себя ваша собака — кажется, Карай? — чуть улыбнувшись спросил полковник. О Карае Андрей мог говорить только с полной серьезностью. Эта тема не допускала улыбки. Андрей ответил сдержанно: — Собака находится в удовлетворительной форме. — Ну, прекрасно. Вам и вашей собаке, товарищ Витюгин, придется крепко поработать. Капитан Миансаров считает, что только вы сможете выполнить наше поручение. Вот видите, — полковник положил ладонь на карту, висящую на стене, — вот здесь, на склоне горы, работает в нашей республике научная экспедиция. Все это — пограничная зона. Вы представляете себе эту зону, товарищ Витюгин? Скалы, каменные осыпи, пропасти… Отойдя от карты, полковник занял место за письменным столом и жестом приказал Андрею сесть напротив себя в мягкое кресло. — В этой экспедиции, товарищ Витюгин, произошло несчастье: несколько дней назад пропал один из научных сотрудников. Вам на месте расскажут все подробности. Главное же в том, что найти этого человека пока не удалось. Он ушел в горы утром в субботу, а сегодня у нас, как вы знаете, среда. Вообще, человек этот, который пропал, он как будто надежный. И все же не скрою от вас, что возникли всякого рода опасения. Ну, вам не надо объяснять, что, когда человек бесследно исчезает в пограничной зоне, ничего в этом хорошего нету… — Полковник нахмурился. — В общем, вы должны подняться на эту гору, товарищ Витюгин. Вы должны осмотреть, обнюхать и, если понадобится, перевернуть там каждый камень. С пограничниками все согласовано. Побывайте и в окрестных селениях. Надо отыскать этого человека, если он где-нибудь там, — живой он или мертвый. На худой конец, вы должны нам доложить, но только со всей определенностью, что его там ни на камне, ни под камнем, ни в снегу, ни в земле, ни в воде, ни в воздухе — нигде нету. Тогда уж мы будем знать, что думать об этом деле. И на все это, товарищ Витюгин, вам дается не больше трех суток. Справитесь? — Можно приступить к выполнению задачи? — спросил Андрей. — Выполняйте. Андрей еще раз взглянул на каменные нагромождения. Все было белым от снега. Тут и там, насколько проникал взгляд, высились пики, торчали скальные обломки, выставив к небу острые углы. Нет конца и края этой каменной пустыне… — Найдем, Карай? Пес завилял хвостом, залаял. — У тебя всегда один ответ. Во всяком случае, Андрей имел теперь представление о том, в какой обстановке будет происходить поиск. Он вздохнул, свистнул собаку и пошел к домикам экспедиции. Возле первого финского домика, сбитого из узеньких белых досок, он остановился. Всего таких домиков, включая столовую и клуб, он насчитал восемь. В этом первом домике жили и работали зимовщики метеорологической станции. У входа висела табличка: “Шоссе Энтузиастов, дом № 1”. Зимовщики развлекались как умели. Андрей взошел на крыльцо и толкнул дверь. Карай последовал за ним. В маленькой комнатке, где на стенах висели наушники, а на столе были расставлены какие-то аппараты с измерительными шкалами, Андрей разыскал радиста. Карай бесцеремонно протиснулся и в эту маленькую комнату. Он привык к тому, что его везде встречают дружелюбно. — Можно отправить радиограмму в Ереван? — спросил Андрей. — В Ереван — пожалуйста! — Радист восхищенно покосился на собаку и сдвинул кепку на затылок. — Ему можно что-нибудь предложить? — осведомился он у Андрея. — Попробуйте. — А возьмет? У меня есть замечательная колбаса. — Вот уж не могу поручиться… Пока радист тщетно пытался соблазнить Карая любительской колбасой и сахаром, Андрей писал радиограмму. “Дорогая Ева! — начал он, но покраснел и слово "дорогая“ вычеркнул. Все равно не скажешь всего, что хочется. — Получилось так, — писал он, — что я уехал, не простившись. Такая у нас служба. Ты не беспокойся, вернусь через три или четыре дня. Помни и не скучай…” Эти последние слова он опять вычеркнул. Написал: “Я буду сильно скучать” — и тоже вычеркнул. Эфир не был приспособлен для таких объяснений. Он покусывал карандаш и страдал оттого, что не мог подобрать нужные слова. Написать, бы сто раз: “Милая, милая, милая!” Но надо писать по-деловому. “Последи за Арсеном — как бы не начал прогуливать. И пусть подаст заявление в вечернюю школу, а то как бы время не упустить…” Теперь со всем тем, что оставалось незавершенным в городе, было покончено. Надо приступать к работе. Радист начал выстукивать на ключе свои точки и тире — радиограмма пошла в Ереван. — У вас все время такие холода? — Это что! — Радист распечатал папиросную коробку и предложил Андрею закурить. — У нас была настоящая буря и злой мороз был, когда пропал Эль-Хан. — Кто пропал? — Инженер один. — Радист чиркнул спичкой. — Этого человека, инженера, который пропал, — его имя Эль-Хан. — Так… — медленно проговорил Андрей. — Я знал одного Эль-Хана. Маленький такой ростом? — Точно. Маленький, но отчаянный. Я думал, что он и в воде не утонет и в огне не сгорит… А вы что, не беседовали еще с начальником экспедиции? — Нет, я с ним еще не говорил. Когда я приехал, его не было на горе. Сейчас пойду к нему. — Андрей поднялся, и Карай, который лежал у дверей, прикрыв глаза, тотчас вскочил на ноги. — Вот ведь интересное дело… Начальника экспедиции профессора Малунца я тоже знаю. И познакомился я с ним в тот самый день, когда впервые увидел Эль-Хана. Они друг с другом, по-моему, тоже только тогда познакомились… — Да, правильно, — сказал профессор Малунц, — мы с Эль-Ханом познакомились на горе Капуджих и, кажется, при вашем участии. Помните, как мы требовали, чтобы нам дали какао? Сергей Вартанович Малунц ходил из угла в угол своей большой комнаты. Доски некрашеного пола поскрипывали под его ногами. Андрей, сидя в кресле, провожал его глазами то в одну, то в другую сторону. Они встретились только пять минут назад, но уже вспомнили туристский поход, ночь у костра, исчезновение Андрея. Сергей Вартанович все удивлялся: как это он не смог сразу все разгадать? И ведь действительно принимал Андрея за жулика… Сейчас профессор Малунц почти ничем не напоминал того человека, которого Андрей впервые увидел прошлым летом на склоне Капуджиха. Не было, конечно, ни старых ботинок, ни густой всклокоченной бороды. Темно-серый костюм, небрежно повязанный галстук, чисто выбритые щеки, бритая голова. Не альпинист, каким знали его немногие и в том числе Андрей, а большой ученый, крупный организатор, озабоченный множеством важных дел. Время такого человека надо было ценить. — Должен сказать вам, что Эль-Хан оказался хорошим инженером. — Профессор Малунц на секунду остановился посреди комнаты. — Он был взят мной в штат экспедиции. До сих пор мне не приходилось жалеть об этом, хотя насчет Эль-Хана ходят теперь странные разговоры. Профессор стоял перед креслом, заложив руки в карманы пиджака, и Андрей решил, что ему тоже нужно подняться с места; но в этот момент Сергей Вартанович снова начал ходить по комнате. — Сергей Вартанович, нельзя ли мне посмотреть вещи, которые остались после Эль-Хана? — Вам покажут. Вы слышали эту болтовню насчет Эль-Хана: будто бы он воспользовался непогодой, чтобы перейти границу? Искать, мол, его теперь уже бесполезно… Андрей кивнул. Он уже слышал такие разговоры. — Так вот, знайте: я не верю, что Эль-Хан перешел границу. Прикрыв свои выпуклые глаза желтоватыми веками, Андрей проговорил: — Вещи Эль-Хана надо дать обнюхать моей собаке. Еще полезно было бы узнать от вас, как был организован предварительный поиск. — Позвольте! — Профессор Малунц опять остановился и нахмурился. — Я вам говорю, что отрицаю виновность Эль-Хана, а вы переводите разговор на другие рельсы… — Эль-Хана я помню, — сказал Андрей, приглаживая ладонью светлые волосы. — Эль-Хан мне понравился. Но у нас такая работа, что мы отбрасываем свои симпатии и антипатии. Мы не можем подходить к делу с готовыми выводами. — У нас тоже такая работа! — быстро подхватил профессор Малунц и широко, открыто улыбнулся. На секунду в нем проглянул альпинист с горы Капуджих. — К черту готовые выводы! — озорно воскликнул он, но тут же согнал с лица улыбку. — Готовых выводов не надо. Но есть же вера в человека! — Вера в человека есть, — медленно повторил Андрей. — Но пока что нам полезней будет сомнение… Сергей Вартанович пожевал своими толстыми губами. Улыбка ушла из его глаз, которые только что смеялись. В глазах проступило выражение неприязненности. — Вы спрашиваете, как был организован поиск? — холодно начал он. — Сначала мы искали Эль-Хана силами участников экспедиции, затем привлекли на помощь жителей из ближних сел. Наконец искала милиция. Теперь вот — и вас прислали. Ищите, пожалуйста! — Он взглянул на часы. — К сожалению, я должен заняться другими делами. Андрей поднялся с места: — Вы не скажете мне несколько слов о том, при каких обстоятельствах Эль-Хан ушел из лагеря? Сергей Вартанович помедлил. — Вы что-нибудь об этом уже слышали? — Хотелось бы узнать от вас… — Ну, а мне не хотелось бы об этом рассказывать. Дело в том, что факты свидетельствуют против Эль-Хана. Начать с того, что он ушел в горы без моего разрешения… Да, штрих за штрихом вырисовывалась неприятная картина. С неделю назад Сергей Вартанович приказал сфотографировать некоторые места на горе. Сделать это вызвался Эль-Хан — он еще школьником участвовал в кружке фотолюбителей и брал призы за хорошие снимки. Но дурная погода помешала. Отложили эту работу — кстати, не очень срочную — на более поздний срок. Но вот в пятницу вечером метеорологи предсказали благоприятную погоду. Сергей Вартанович уезжал в Ереван. Он оставил задания всем сотрудникам. Эль-Хану было поручено дело, не имеющее отношения к фотографированию. Тем не менее, в субботу, воспользовавшись погожим утром, Эль-Хан ушел в горы, прихватив фотоаппарат. И вместе с ним пошел, тоже без разрешения, Вадим Борисов… — Одну минуту, — перебил Андрей. — Кто такой Борисов? Сергей Вартанович сделал неопределенный жест: — Молодой человек. Способный молодой человек, научный сотрудник нашей экспедиции. Я рекомендую вам поговорить с ним… Итак, в субботу Эль-Хан и Борисов вышли в горы. Во второй половине дня разыгралась буря. Температура резко пошла вниз. В воскресенье Сергей Вартанович получил с горы радиограмму, что пропали два сотрудника экспедиции. Он сразу же приехал в лагерь. Вскоре Борисова нашли в пограничном селении Урулик. Он пришел туда обмерзший в ночь на воскресенье. Его напоили водкой, растерли ему тело спиртом. Он проспал до полудня, а когда проснулся, то спросил: “Где Эль-Хан?” Оказывается, Эль-Хан шел вслед за ним. Мороз и вьюга были Эль-Хану нипочем. Он отобрал у Борисова рюкзак, фотоаппарат и другие тяжелые вещи и послал его налегке вперед: “Я иду следом, обо мне не беспокойся!” С тех пор больше никто не видел Эль-Хана… В комнате, похожей на пароходную каюту, Андрею показали вещи Эль-Хана. В шкафу висел серый костюм, несколько отглаженных до хруста сорочек и два невозможно помятых галстука. Под кроватью стояли черные ботинки с шипами на подошве. В чемодане, который завхоз лагеря, кряхтя, вытащил на середину комнаты, лежали навалом книги. Синей ленточкой была перевязана связка писем. — Это все она ему писала, — пробурчал завхоз, показывая на портрет миловидной девушки, который стоял в рамке на письменном столе. — В Баку где-то живет… Нашлась еще записная книжка в кожаном переплете, исписанная до последней страницы. На первом ее листочке значилось: Бросай меня крепче, жизнь! Пусть слабых удача нежит… Андрей перевернул страничку. Тут шли какие-то рисунки карандашом. Насколько можно было судить, Эль-Хан пытался, в меру своих сил и способностей, воспроизвести образ черненькой девушки из Баку. То, что получилось, видимо, ужаснуло его самого, и он заштриховал свою девушку с головы до ног. На третьей страничке Андрей прочитал: Вода! Я пил ее однажды. Она не утоляет жажды. — Может быть, Эль-Хан в субботу, когда пошел в горы, был пьяный? — Кто был пьяный? — не понял завхоз. — Я говорю с вами об Эль-Хане. Много он пил? — Что вы! Он вообще не пил. Только воду. Он был очень собранный человек. — Почему “был”? — Да ведь сейчас его нету… — Завхоз понизил голос. — Говорят, границу перешел. — Кто говорит? — Пущен такой слух. Но я лично не верю. Не тот человек. В нем подлости не было. Он ученый, комсомолец… И потом, если человек уходит с намерением не вернуться, то вот такие вещи, как личные письма, он берет с собой. На худой конец — уничтожает, но не оставляет для всеобщего сведения. Об этом говорит нам наука психология… Письма Андрей не стал читать. Он только взвесил на ладони тяжелую связку. На листке, который лежал без конверта сверху под ленточкой, он увидел примерно те самые слова, что вычеркнул из радиограммы, адресованной Еве, и с чувством смущения бросил связку обратно в чемодан. — Мне хотелось бы теперь повидать научного сотрудника экспедиции Борисова. Завхоз непонимающе взглянул на него. — Ах, Вадима! — воскликнул он наконец. — Этот человек у нас под фамилией не фигурирует. Он — Вадим. — Что ж так? Ученый, а даже себе фамилии не выслужил. — Ученый он, положим, еще не большой — до кандидата не дошел. И вообще несолидный, насмешник, себя выше всех ставит… — Завхоз неодобрительно покрутил головой. — Вадим сейчас обязательно будет в клубе. Несмотря на послеобеденное время, на территории лагеря все еще чувствовалось рабочее оживление. Возле склада выгружалась машина, только что прибывшая из Еревана. Вероятно, грузы были важные, потому что сам Сергей Вартанович не отходил от них ни на шаг. Двое молодых людей — один черноволосый, другой белобрысый — на руках несли в горы какой-то прибор, отдаленно напоминающий швейную машину. — Это наши кандидаты наук, оба — Рафики, — сказал завхоз. — Один — белый Рафик, другой — черный Рафик. Сейчас будут погружать свой прибор в озеро. — Для чего? — По требованию науки, — строго объяснил завхоз. Такой же финский домик, как и другие, назывался клубом. На дверях висело множество объявлений: “Состоится радиоперекличка с Памирской экспедицией Академии наук СССР”, “Будет проведено испытание новых приборов, сконструированных молодежной группой”… Внутри домика были сняты все переборки и перегородки — образовалась одна большая комната. Тут стояли пианино, бильярд, два шахматных столика. — Когда у нас пропал Эль-Хан, — говорил завхоз, пропуская Андрея в двери клуба, — в лагере словно траур объявился. Так мы все переживали! Уж Вадим на что легкомысленный, а больше всех горевал. Поверите, я даже слышал, как он плакал ночью! А потом, как этот нехороший слух прошел, настроение переменилось. Большинство, конечно, не верит. А некоторые говорят: “Подлец Эль-Хан!” Группа молодых людей и девушек — все они были в лыжных костюмах — толпилась в углу. Андрей не понял, что они там делают, но завхоз ворчливо объяснил: — Прыгают через стул. Это Вадим нынче придумал такое развлечение. То плакал, а сегодня словно ему вожжа под хвост попала… Кто-то из молодых людей предложил составить вместе два стула. Однако желающих взять прыжком такую преграду не нашлось. — Ну что ж, товарищи академики? — насмешливо спросил беленький и пухлый молодой человек с ямочками на щеках; голос у него был бархатный, мужественный, очень выразительный. — Никто не решается прыгнуть через два маленьких стула? Тогда попрошу прибавить сюда еще один — третий! — стул. Музыка, туш! — Вадим, — закричала девушка с двумя черными косами, — я не позволю! Тут нельзя прыгать. Ты стукнешься носом об пол! Казалось, веселье здесь бьет через край. Но Андрей уловил метнувшийся к двери напряженный и ищущий взгляд Вадима, — и им овладело странное ощущение. Он почувствовал, что этому человеку совсем не так уж весело, что затеянная здесь забава его не увлекает. Глаза, в которые Андрей заглянул на одно мгновение, заглянул почти случайно и врасплох, таили какое-то непонятное выражение — это было не то упрямство, не то злость. В ту же секунду Вадим отвел свои глаза. — Женщина! — с суровой торжественностью возвестил Вадим, явно пародируя кого-то, потому что все захохотали. — Женщина, отойди в сторону и не мешай мужчине делать его мужское дело! Завхоз потолкал Андрея в бок: — Жена у меня здесь поварихой работает, так я называю ее “женщина”. Что он в этом нашел смешного? Вадим чуть присел и, хотя был грузноват, легко перепрыгнул через препятствие. Все стали аплодировать. Он отвел протянувшиеся к нему руки и пошел к дверям, возле которых все еще стояли Андрей и завхоз. — Ну, — сказал Вадим добродушно, — я давно уже вас заметил и знаю, что вы пришли по мою душу. Чего ж вы таитесь? Спрашивайте, — он вздохнул, — десятый раз буду отвечать на одни и те же вопросы.
Андрей мягко улыбнулся:
— Ничего, время терпит. Вы очень ловко прыгаете.
— Стараюсь… — Вадим шутливо вытянулся, как солдат в строю. — Буду в дальнейшем еще больше стараться, раз вам понравилось.
— Да, очень понравилось, — вежливо подтвердил Андрей. — Теперь, если с прыжками покончено, может быть, мы уединимся на минутку и поговорим?
— Зачем уединяться? — Вадим притянул поближе к себе девушку с двумя косами. — У меня нет секретов от моих друзей.
— Тем лучше. У меня тоже нет секретов от ваших друзей. Будьте любезны рассказать, как это получилось, что вы пошли с Эль-Ханом в горы?
Вадим обвел всех присутствующих торжествующим взглядом.
— Разве я не говорил, — воскликнул он, — что первый вопрос будет именно этот? До чего же тонкая и, прямо сказать, ювелирная эта милицейская работа! — Он весело посмотрел на Андрея. — Впрочем, извините, может быть, вы не милиционер?
— Я милиционер.
— Надо вам сказать, что тут уже побывало несколько милиционеров, и все они начинали свою исследовательскую деятельность именно с этого вопроса.
— Значит, вам легко будет на него ответить.
— В десятый раз! — Вадим вздохнул. — Можно начинать! Вы разве не будете записывать?
— Нет, зачем же записывать! — Андрей был удивлен. — Это не допрос…
— Ну ладно. В то утро у меня было довольно неинтересное задание. Мне не хотелось его выполнять. А уж если мне чего не хочется — товарищи это знают! — то я обязательно сделаю по-своему. — Вадим усмехнулся. — Есть у меня такая дурная черта в характере.
Никто его не поддержал, хотя ему, кажется, этого хотелось. Только девушка с косами горячо воскликнула:
— Да, мы это знаем, Вадим! Но мы не считаем, что это дурная черта.
Вадим снисходительно потрепал ее по плечу.
— Так вот, понимаете ли, товарищ милиционер, наш Сергей Вартанович уезжал в Ереван, а в такие дни можно несколько ослабить дисциплинку. Я отложил свое неинтересное задание, переоделся и догнал Эль-Хана, который взбирался на скалу с фотоаппаратом.
— Дальше, пожалуйста.
— Дальше? — Вадим прищурился. — Дальше мы пошли вместе.
— Постой, Вадим… — с упреком сказала та же девушка. — Почему ты не рассказываешь, что Эль-Хан не хотел брать тебя с собой?
— Марлена, Марлена! — Вадим пожал и оттолкнул ее смуглую руку. — Неужели то, что я тебе говорю, должно быть известно всем? Мне не хотелось об этом рассказывать!.. Да! — проговорил он, открыто взглянув на Андрея. — Раз уж Марлена не утерпела, приходится вам сообщить, что так оно и было. Эль-Хан не имел намерения принимать меня в компанию. У меня даже сложилось впечатление, что он обязательно хочет идти один и я ему мешаю. Но тут снова вступила в действие плохая черта моего характера — все делать по-своему, и мы пошли вместе.
— Выходит, вы прямо-таки навязались ему в спутники? — с улыбкой спросил Андрей.
— Почти что так…
Людей, слушающих Вадима, теперь уже осталось немного. Ушел завхоз. Ушел толстый молодой человек, весь испещренный молниями-застежками.
— Вадим, не волнуйся, — сказал он, уходя. — Больше хладнокровия! Мы все знаем, что тебе пришлось пережить. Спрячь свои чувства и помоги расследовать дело до конца.
Рядом с Вадимом все еще оставалась девушка с черными косами. Облокотившись на пианино, стоял худой, длинный молодой человек в роговых очках.
Пришли два Рафика — черный и белый, — им не удалось погрузить в озеро свой прибор. Сергей Вартанович отложил эту процедуру на завтра. Они ввалились в клуб с криком:
— Засеките время! Исторический момент! В восемнадцать тридцать у нас на горе испытание нового электромагнита! Теперь можно будет показать работу! — Но, увидев, что происходит в клубе, они притихли, сели рядышком на бильярдный стол и стали слушать, не вмешиваясь в разговор.
— …Мы ушли довольно далеко, — продолжал Вадим, — когда началась буря. Тут самое отвратительное — ветер. Дорога неровная, бугры, оледеневшие камни. Мы падали. Снег залепляет рот и глаза. Вдруг потеряли направление. Стало темнеть. Я говорю: “Надо возвращаться”. Эль-Хан требует, чтобы мы шли вперед. Предлагает: “Возвращайся один”. Не знаю, что было у него на уме, но он все время утверждал, будто мы выйдем к какому-нибудь селению. Он вел себя немного странно…
— Одну минуту! — Андрей долго двигал скулами, прежде чем смог сформулировать свой вопрос. — Значит, вы утверждаете, что Эль-Хан действовал по заранее обдуманному плану, а вам об этом плане не говорил?
— Не знаю… — протянул Вадим. — С уверенностью не могу этого сказать. Позвольте уж, я буду говорить о том, что происходило в действительности, и оставлю пока в стороне всякие творческие вымыслы.
— Если вымыслы, то ваши, — мягко заметил Андрей.
— Нет, извините, ваши! Я ничего подобного не говорил! — Вадим замахал руками, как бы открещиваясь от напрасного обвинения.
Девушка негодующе обернулась к Андрею:
— Вадим таких вещей не говорил!
Черный Рафик махнул на нее рукой:
— Подожди, Марлена! Я уже третий раз слушаю эту историю. Получается, что Вадим как бы обвиняет Эль-Хана. Но это касается нас всех! И я, и белый Рафик, и тот же Вадим — все мы с Эль-Ханом, как говорится, и водку пили и песни пели… — Он обернулся к Вадиму. — Если обвиняешь, прямо говори!
— Кто обвиняет? — Вадим высоко поднял брови. — Разрешите мне оставаться на почве фактов!
— Ладно, — сказал Андрей, — излагайте дальнейшие факты.
— А, собственно, это уже почти все, что я могу рассказать. Мы плутали, падали. Я ушиб ногу и стал хромать. Надо честно признаться, что этот маленький Эль-Хан держался лучше меня… Ты, Марлена, пожалуйста, не презирай меня за это! Вы понимаете, — Вадим усмехнулся, — трудно сделать такое признание в присутствии женщины… Но, честное слово, это так! Я раскис, как вишня в компоте. Я думал, что мы уже не выберемся живыми. Когда мы увидели огоньки и поняли, что это селение, Эль-Хан пожалел меня — взял себе все тяжелые вещи и сказал: “Ты иди. Не можешь идти — ползи! А я пристрою поудобней весь этот груз и пойду следом за тобой. Теперь мы спасены!” И я пополз. Мне казалось, что у меня отморожены руки и ноги, и уши, и даже язык. Я не могу вам рассказать, что это за ощущение… Дважды такую вещь пережить невозможно… Я постучался в первое же окно на краю села. Оказалось, что я попал в Урулик. Колхозники мне потом рассказывали, что я плакал. Представляете, плакал! А я ничего не помню… Говорят, что я попросил водки — и сразу заснул непробудно. На другой день я узнал, что Эль-Хан так и не пришел.
— Значит, — спросил Андрей, — вы, как только попали в дом, в тепло, так и перестали интересоваться судьбой Эль-Хана?
— Господи! — нетерпеливо воскликнула девушка с черными косами. — Мог ли он думать, что этот здоровый Эль-Хан не придет в село, если уж добрался он сам — больной и слабый?
Вадим задумчиво посмотрел на нее.
— Нет, Марлена, ты меня не защищай. Я об этом не раз уже думал. Но вы понимаете, — он тронул Андрея за рукав, — у меня было ощущение, что Эль-Хан все время ползет за мной, мне даже казалось, что я слышу его дыхание. Потом я психологически как-то настроился, что помощь нужна не ему, а мне. Он держался так уверенно…
Черный Рафик засмеялся и проговорил, обращаясь к одному только белому Рафику:
— Большой, толстый Вадим ждал помощи от щупленького Эль-Хана, от того самого Эль-Ханчика, которого носил под мышкой в столовую…
Рафики переглянулись, спрыгнули с бильярдного стола и пошли к выходу. У них были какие-то неотложные дела. Андрей проводил их взглядом. Вадим даже не взглянул на них, он смотрел только на Марлену.
— Скажите мне точно, — спросил Андрей, — мы временно отбросим в сторону все злые умыслы, — мог ли Эль-Хан на виду этих огоньков потерять силы и не дойти до места спасения?
— Категорически отвечаю: не мог! Дорога там уже была куда легче, чем среди гор.
— Но если с ним что-нибудь случилось? Скажем, он сломал себе ногу?
— Категорически: нет! Мы нашли бы его в том месте, где я с ним расстался. Но был обследован весь этот район, и там никого не оказалось.
— Итак, — заключил Андрей, — надо сделать вывод, что если Эль-Хан не пришел, то, значит, он не хотел прийти?
— Не знаю! — Вадим снова, как бы защищаясь, поднял руку. — Делайте выводы, какие вам угодно. Только давайте будем осторожнее в этих выводах, когда речь идет о добром имени человека.
Он поднялся, взял за руку Марлену и вопросительно взглянул на Андрея. Разговор, по его мнению, был окончен.
— Ладно. — Андрей тоже поднялся со стула. — Придется вам еще немного потрудиться, товарищ Борисов. Вы должны будете показать мне то место, где вы в последний раз говорили с Эль-Ханом.
— Должен? — Вадим прищурился; голос у него изменился, стал скрипучим. — Дорогой друг, я никому ничего не должен! Если вы хотите, чтоб я показал вам это место, меня надо будет попросить…
— Да, конечно. Прошу! Я просто неудачно выразился.
— Что ж, покажу. Шесть раз уже показывал, покажу и в седьмой. Когда понадоблюсь, сообщите. А сейчас, прошу прощения, у меня есть свои дела.
Возле выхода Андрея догнал высокий молодой человек в роговых очках. Первым делом он сообщил, что его зовут Бабкен Ахвердян.
— Бабкен Ахвердян, — повторил он и поднял палец. — Запомните, я надеюсь? Вам, может, понадобится помощь, и вы тогда постарайтесь меня разыскать. У нас здесь много комсомольцев, много альпинистов. Я организую вам группочку таких спортсменов, что всю гору метр за метром исследуют!
— Но ведь это уже делалось, и ничего не вышло, — сказал Андрей. — Нет, видно, тут надо как-то иначе…
Молодой человек склонил голову на плечо.
— И вы уже знаете, как надо?
— Нет, — признался Андрей, — пока еще ничего не знаю.
— Ну, так я вам скажу: возьмите свою собаку и уезжайте домой. Вы зря теряете время. Я, правда, мало знал Эль-Хана — я приехал сюда недавно, — но Вадим знал его хорошо. Вадим не хочет никого порочить — это не такой парень! — но мне он дал понять, что Эль-Хана, по его мнению, никогда не найдут. А Вадим, знаете ли, слов на ветер не бросает…
Поиски решили начать не с территории лагеря, а из села Урулик. В это село проще всего было пробраться не по горе, а низом. Туда вела круговая автомобильная дорога, протянувшаяся вдоль подножия горного хребта. Сергей Вартанович предложил Андрею свой “виллис”.
Поехали втроем: на заднем сиденье — Андрей с Караем, впереди — шофер и Вадим Борисов. Ехали молча. Только когда “виллис”, преодолев значительную часть пути, стал подниматься по горному склону, на котором лежало селение Урулик, Андрей сказал:
— Как же вы все-таки не бережетесь, товарищ Борисов…
— А что?
— Ушибли ногу во время похода с Эль-Ханом, а сами прыгаете на этой ушибленной ноге через стулья…
Вадим обернул к Андрею свое пухлое лицо с ямочками на щеках и насмешливо прищурился.
— Клянусь честью, я ребятам говорил, что такой вопрос обязательно будет задан! — Он достал пачку папирос и предложил закурить Андрею. — Дело в том, дорогой товарищ, что меня возили в Ереван и два дня держали в больнице. В больницах, как вам известно, лечат. И иногда вылечивают.
— Да, это бывает, что вылечивают. Только зачем же вы сердитесь?
— Мне не нравятся ваши вопросы, — хмуро проговорил Вадим.
— Так это вы сами виноваты. Мне все кажется, что вы знаете о намерениях Эль-Хана значительно больше, чем говорите…
Андрей затянулся, выпустил дым и снова затянулся. Он все еще ждал ответа своего спутника. Ответа он так и не услышал.
Селение Урулик — это камни. Из камней дома; из камней все постройки для скота. Деревьев мало. Какое дерево захочет расти среди скал? Когда палит солнце, все тут выглядит однородно желтым; когда солнце заходит, все начинает казаться черным.
Большие цепные псы с обрезанными ушами свирепо лаяли на Карая из-за каменных оград. Карай их не замечал. Он отобрал у Андрея планшетку и горделиво нес ее в своих белых зубах, вызывая восхищение мальчишек, — те уже шли толпой за невиданной собакой.
На середину желтой улицы вышел высокий сухопарый человек в полотняном кителе и приветливо поднял кверху руку. Он оказался председателем колхоза. С достоинством протянул ладонь сначала Андрею, потом Вадиму и вежливо спросил:
— Будете искать?
— Да, — Андрей сдвинул на затылок милицейскую фуражку, — попытаемся. Попытка не пытка.
— Помощь не нужна ли?
— Пока что нет.
— Очень хорошо, — сказал председатель, потрогав толстыми пальцами свой горбатый нос. — Трудно будет найти.
— Почему?
— Горы — это не лес и не море. Море выносит пропажу к берегу, лес — к дереву. Горы того, что пропало, не отдают.
Вадим пренебрежительно усмехнулся:
— Было бы что отдавать…
— Ну, там видно будет, — сказал Андрей. — Если придется заночевать, где я смогу?
— Вон там же, где Вадим ночевал, — ответил председатель и скупо улыбнулся. — Это теперь будет наша уруликская гостиница.
В селении снега не было, но сразу за селом он лежал на скалах грязноватыми пятнами. Значит, давно уже не бушевали снегопады.
— Давно! Со времени той бури, — коротко подтвердил Вадим. Он теперь в разговоры вступал неохотно и на все вопросы отвечал односложно: “Да”, “Нет”.
Чем выше они поднимались в горы, тем снег казался чище и тем его было больше. Карай сбежал с тропы, прыгнул — и провалился в сугроб; виднелись только его острые уши и взметнувшийся к небу черный нос…
Примерно через полчаса после такого подъема Вадим ступил на маленькую площадку, с которой ветры сдули снег, и угрюмо проговорил:
— Вот здесь.
Андрей обернулся назад. Селение было хорошо видно. Когда зажгутся огни, оно станет видно еще лучше. И вот отсюда не дойти до спасительных огоньков, не дойти, когда дело идет о твоей жизни! Да пусть ноги будут перебиты, переломаны — на локтях поползешь!
— Пожалуйста, покажите, где стояли вы, где стоял Эль-Хан, когда вы расставались?
Вадим взглянул исподлобья, ответил недоброжелательно:
— Вам представляется что-то не то. Разве я был тогда в таком состоянии, чтоб запомнить все эти мелочи?
— Но то, что это происходило именно здесь, вы хорошо помните? Тут нет ошибки?
— Хорошо помню.
— И вот здесь Эль-Хан взял у вас фотоаппарат и рюкзак?
— Именно здесь.
Вадим вытащил папиросы, но на этот раз не предложил закурить Андрею.
Андрей тоже достал свою коробку. Каждый закурил от своей спички — Андрей сразу с первой спички, Вадим испортил штук пять-шесть, заслоняя огонек ладонями от ветра.
— Вы, кажется, решили остаться здесь ночевать? — спросил Вадим, попыхивая папироской. — Надо думать, я больше вам не нужен… Иными словами, могу ли я вернуться в лагерь?
— Да, конечно. Если вас не интересует поиск, уезжайте.
— Поиски меня интересуют, — огрызнулся Вадим, — но у меня есть свои задания, и не менее важные. Я должен их выполнять.
Он круто повернулся, спрыгнул с площадки и быстро пошел к селу.
— До свиданья! — крикнул ему вслед Андрей и помахал планшеткой его удаляющейся спине.
Не стоило заставлять Карая обнюхивать площадку. За пять дней выветрились все запахи, да и следы Эль-Хана были теперь похоронены где-то в глубине снегов. Мало ли снегов намела буря! Искать Эль-Хана по следам было бы бессмысленно. Нет, уж лучше всего пустить Карая на обыск местности, прочесать все вокруг в километровом радиусе, а там уж что найдет, то и найдет.
Андрей решил вести кольцевой поиск. Площадка должна была стать центром, а вокруг нее надо описывать круги — каждый последующий шире, чем предыдущий. Можно надеяться, что при таком поиске ничто стоящее не ускользнет от внимания. Если Эль-Хан все еще находится на горе, то где-нибудь поблизости: ведь он, вероятно, все время держал курс на уруликские огоньки. Андрея не смущало то, что поиски, которые производились силами населения, представителей милиции и самих участников экспедиции, не дали результатов. Что ж удивительного! Пропавший человек лежит где-нибудь поблизости под глубоким заносом снега. Его не увидишь. Но Карай учует…
— Ищи, Карай, ищи!
Пес тычется носом в снег. Вместе со своим хозяином он то спускается в ложбинки, то карабкается на выступы скал. Он не упустит ничего мало-мальски подозрительного. Нюхает снег, разгребает его лапами, лает и выжидательно смотрит на хозяина: так ли надо делать?
— Ищи, ищи, Карай!
Поздно вечером Андрей со своей собакой приходит в дом на краю села, где ему отведен ночлег. Тут хозяин колхозник, которого все зовут не Мукуч — это его имя, — а фермач, потому что он заведует одной из животноводческих ферм колхоза. Мукуч-фермач еще не спит, хотя его жена и дети спят уже давно. Под ярким светом электрической лампочки он составляет какую-то сводку. Теперь он сгребает со стола бумаги и ставит на клеенку миску с мацони.
— Жену будить? — спрашивает он неуверенно.
— Зачем?
— Чтобы обслуживала гостя. Так у нас полагается.
— Сами обойдемся, — говорит Андрей.
Кряхтя, он стаскивает с ног сапоги. Каждое движение доставляет мучительную боль. Он с вожделением смотрит на белую, словно сам снег, простыню, покрывающую тахту. Спать! Потом он смотрит на стол, где рядом с мацони появилась холодная баранина и бутылка водки. Нет, все-таки сначала поесть, затем уже спать. Только нужно еще подкормить Карая…
— Что ты думаешь ему дать? — спрашивает Мукуч.
— Не найдется ли молока?
— Как не найтись? И ты хочешь налить ему молока?
— Вообще-то это не очень хорошо, — озабоченно отвечает Андрей. — Лучше бы кашу на мясном бульоне…
Мукуч внимательно смотрит на него, стараясь понять, что говорится в шутку, а что всерьез. Нет, гостю не до шуток…
— Значит, ему нужно давать мясной бульон? А может быть, он любит черную икру? И где он будет спать? Найдется ли у нас для него подходящая мягкая постель? — недоброжелательно спрашивает Мукуч, который убежден, что хорошая собака должна сама добывать себе дневное пропитание, не утруждая этими заботами хозяина.
— Он будет спать в комнате возле тахты, — объясняет Андрей.
— Это мне уже ясно, что в комнате. Где ж еще! — говорит Мукуч с максимальной вежливостью. — Но, может быть, ему тоже нужна тахта? И ковер? И белая простыня?
Карай сам отвечает на эти вопросы. Стуча согнутыми лапами, мокрый, взъерошенный и измученный, с высунутым языком, он ползет под тахту и сворачивается там клубком. Теперь его не выманить оттуда ни лакомой пищей, ни ласковым словом.
— Если так устала собака, то как же должен был устать человек! — восклицает Мукуч-фермач и заботливо придвигает к Андрею миску с холодной бараниной.
Пока Андрей не начал есть, он не чувствовал голода. Теперь он не может оторваться.
— Мне еще не ясно, где Эль-Хан. Но, во всяком случае, — Андрей очерчивает рукой большой круг, — теперь уже я знаю, где нет Эль-Хана.
Мукуч придвигает к нему блюдце с зелеными травками и сыр — без этих вещей не обходится ни один армянский стол. В граненые стаканчики льется желтоватая тутовая водка: один стаканчик Андрею, другой, за компанию, — самому Мукучу.
— Знаешь, в каком виде ко мне в ту ночь Вадим заявился? — рассказывает Мукуч-фермач. — Его трясло, как арбу на плохой дороге. Я растер его водкой. Честное слово, он плакал! Тут мне вздумалось пошутить: “Вот бы, говорю, снова отправить тебя сейчас в горы…” Он взглянул, точно как сумасшедший, свалился на тахту — уснул. Сильно был испуган человек.
— Про Эль-Хана он в тот вечер не говорил?
— Какой Эль-Хан! Человек свое собственное имя и то выбросил из памяти. Про Эль-Хана он сказал на другой день. “Как же ты, дорогой Вадим, не сообщил нам, что в горах человек пропадает? Надо было помощь дать”. — “Какой человек пропадает? Что ты, фермач, глупость говоришь!” Пошли искать — ничего не нашли. Пропал Эль-Хан!
Утром Карай все же получил свою порцию молока с размоченными сухарями и несколько бараньих косточек. После еды Андрей дал ему полежать с часок — собаке полагается, приняв пищу, отдыхать — и позвал с собой.
В питомнике Карая каждый день расчесывали щетками, протирали суконкой. Тут Андрей чуть разровнял руками свалявшуюся шерсть. Не время нежиться! По команде “рядом” пес пошел без поводка у ноги своего хозяина. Андрей ускорит шаг — и Карай торопится, Андрей приостановится — и Карай стоит. И всегда старается сделать так, чтобы его передние лапы находились примерно на одной линии с левой ногой хозяина.
Андрей привел собаку к вчерашней площадке и начал поиск по правую ее сторону. Обследованный вчера район — от площадки до села — он уже не затрагивал: там Эль-Хана не было.
С помощью Карая Андрей осматривал каждую впадину, каждый выступ. Время от времени он заставлял Карая подавать голос. На что он надеялся? Разве мог бы человек, которого он искал, уцелеть после пятидневного пребывания в горах?
Через несколько часов Карай стал захватывать зубами снег. Он хотел пить. Андрей лег на выступ скалы.
Сейчас же и Карай лег рядом, свесив набок свой розовый тонкий язык.
Отдохнув, они перешли на левую сторону площадки.
День стоял удивительно тихий и мирный. Снег под ногами был пушистым и ласковым. Дым от папиросы долго висел причудливым клубочком в неподвижном воздухе.
…Андрей не сразу понял, что произошло. Как будто короткий вихрь прошумел у него над самым ухом. Гулкий лай Карая донесся откуда-то сверху. Андрей сначала почувствовал ушиб в колене, потом ощутил неловкость во всем теле — и только после этого увидел, что он лежит в узкой и темной расселине, а сверху, откуда проникает свет, заглядывает в расселину испуганная морда Карая.
— Оступился, — виновато сказал ему Андрей; пес радостно завыл, услышав голос хозяина. — Вот так в другой раз зазеваемся — и будет нам с тобой конец…
Карай искал передними лапами спуск в расселину — не находил, отступал назад и лаял, припадая грудью к снегу.
— Замолчи, пожалуйста! — с досадой приказал Андрей.
Надо подумать, как выбраться отсюда. Расселина казалась неглубокой, но стены ее круто поднимались вверх. Андрей не находил выступов, чтобы стать на них ногами и добраться до края. Он вытянулся во весь рост. Не хватало примерно метра высоты, чтобы вылезти на свободу. Андрей поискал на дне расселины больших камней: встать на такой камень — и вылезешь. Камней не было. Он подпрыгнул, но не достал до края, только ударился плечом о стенку.
Вот в такую же расселину мог свалиться Эль-Хан. Присыпало человека сверху снежком. Может, он кричал, звал на помощь… Кто услышит? Разве найдешь его в этой снежной пустыне!
— Где тут собака моя? — ласково позвал Андрей.
Карай тотчас же сунул в щель узкую морду и жалобно завизжал. Скажи ему только слово — и он, не колеблясь, спрыгнет вниз, чтобы составить хозяину компанию.
— Назад! — крикнул Андрей. — Как бы заставить тебя сбегать в Урулик и привести помощь?..
Карай забегал вокруг расселины. На голову Андрея посыпались мелкие камешки, смешанные со снегом.
— Домой, домой, Карай!
Пес продолжал бегать и визжать.
— Домой! Иди домой! Не понимаешь? Домой!
Карай сел у расселины, протяжно, по-волчьи завыл.
— Нет, видно, ты у меня для таких дел не приспособлен, — с сожалением сказал Андрей. — Попробуем что-нибудь другое…
Он достал перочинный нож, раскрыл его и принялся лезвием выдалбливать в стене ступеньку. Сломал лезвие, а сделал всего-навсего маленький выступ — нога смогла бы удержаться на нем лишь ничтожную долю секунды. Андрей попробовал вылезти, но ему некуда было поставить другую ногу, и он сорвался вниз.
Нет, так дело не пойдет. Надо придумывать что-то другое…
Карай опять завыл.
В кармане своей походной куртки Андрей нащупал длинный тесьмяный шнур — поводок, на котором он водил Карая. Вот эта штука может пригодиться.
— Сейчас, Карай, сейчас! — Андрей подбадривал собаку голосом и жестами.
В ту же секунду Карай вскочил и забегал вокруг расселины, приближаясь к самому ее краю. Лишь бы не свалился, черт такой, в яму. Тогда все пропало…
Одним концом поводка Андрей обвязался вокруг пояса. Другой конец он кинет Караю. Со щенячьего возраста Карай привык к игре — “кто кого перетянет”. Сколько раз Андрей бросал ему веревку, сам брался за свободный ее конец, и они таскали друг друга по всему питомнику. Капитан Миансаров считал, что у щенка вырабатывается таким образом могучая хватка, сила прикуса. Не поможет ли теперь эта игра? Ведь всего и дела — поддержать на секунду Андрея в тот момент, когда он поставит ногу на выступ, — поддержать и тем самым облегчить ему возможность схватиться руками за край расселины.
— Возьми, Карай, возьми!
Поводок летит кверху. Карай не дает ему упасть, ловит зубами в воздухе и тут же перехватывает поудобнее.Андрей чуть натягивает поводок. Пес, почувствовав сопротивление, пятится от расселины и тянет, тянет конец шнура. Ему это дело знакомо. Он знает, что главное — это не выпустить веревки из зубов. Он рычит от возбуждения. Нет, он не отпустит шнура! Но, если он не очень крепко уперся лапами в снег, тогда Андрей своей тяжестью стащит его в яму. И все же, делать нечего, надо рискнуть…
— Держи, Карай, отниму! — как можно беспечнее кричит Андрей и, натянув поводок, быстро ставит ногу на выдолбленную ступеньку.
— Ну, — сказал Вадим добродушно, — я давно уже вас заметил и знаю, что вы пришли по мою душу. Чего ж вы таитесь? Спрашивайте, — он вздохнул, — десятый раз буду отвечать на одни и те же вопросы.
Андрей мягко улыбнулся:
— Ничего, время терпит. Вы очень ловко прыгаете.
— Стараюсь… — Вадим шутливо вытянулся, как солдат в строю. — Буду в дальнейшем еще больше стараться, раз вам понравилось.
— Да, очень понравилось, — вежливо подтвердил Андрей. — Теперь, если с прыжками покончено, может быть, мы уединимся на минутку и поговорим?
— Зачем уединяться? — Вадим притянул поближе к себе девушку с двумя косами. — У меня нет секретов от моих друзей.
— Тем лучше. У меня тоже нет секретов от ваших друзей. Будьте любезны рассказать, как это получилось, что вы пошли с Эль-Ханом в горы?
Вадим обвел всех присутствующих торжествующим взглядом.
— Разве я не говорил, — воскликнул он, — что первый вопрос будет именно этот? До чего же тонкая и, прямо сказать, ювелирная эта милицейская работа! — Он весело посмотрел на Андрея. — Впрочем, извините, может быть, вы не милиционер?
— Я милиционер.
— Надо вам сказать, что тут уже побывало несколько милиционеров, и все они начинали свою исследовательскую деятельность именно с этого вопроса.
— Значит, вам легко будет на него ответить.
— В десятый раз! — Вадим вздохнул. — Можно начинать! Вы разве не будете записывать?
— Нет, зачем же записывать! — Андрей был удивлен. — Это не допрос…
— Ну ладно. В то утро у меня было довольно неинтересное задание. Мне не хотелось его выполнять. А уж если мне чего не хочется — товарищи это знают! — то я обязательно сделаю по-своему. — Вадим усмехнулся. — Есть у меня такая дурная черта в характере.
Никто его не поддержал, хотя ему, кажется, этого хотелось. Только девушка с косами горячо воскликнула:
— Да, мы это знаем, Вадим! Но мы не считаем, что это дурная черта.
Вадим снисходительно потрепал ее по плечу.
— Так вот, понимаете ли, товарищ милиционер, наш Сергей Вартанович уезжал в Ереван, а в такие дни можно несколько ослабить дисциплинку. Я отложил свое неинтересное задание, переоделся и догнал Эль-Хана, который взбирался на скалу с фотоаппаратом.
— Дальше, пожалуйста.
— Дальше? — Вадим прищурился. — Дальше мы пошли вместе.
— Постой, Вадим… — с упреком сказала та же девушка. — Почему ты не рассказываешь, что Эль-Хан не хотел брать тебя с собой?
— Марлена, Марлена! — Вадим пожал и оттолкнул ее смуглую руку. — Неужели то, что я тебе говорю, должно быть известно всем? Мне не хотелось об этом рассказывать!.. Да! — проговорил он, открыто взглянув на Андрея. — Раз уж Марлена не утерпела, приходится вам сообщить, что так оно и было. Эль-Хан не имел намерения принимать меня в компанию. У меня даже сложилось впечатление, что он обязательно хочет идти один и я ему мешаю. Но тут снова вступила в действие плохая черта моего характера — все делать по-своему, и мы пошли вместе.
— Выходит, вы прямо-таки навязались ему в спутники? — с улыбкой спросил Андрей.
— Почти что так…
Людей, слушающих Вадима, теперь уже осталось немного. Ушел завхоз. Ушел толстый молодой человек, весь испещренный молниями-застежками.
— Вадим, не волнуйся, — сказал он, уходя. — Больше хладнокровия! Мы все знаем, что тебе пришлось пережить. Спрячь свои чувства и помоги расследовать дело до конца.
Рядом с Вадимом все еще оставалась девушка с черными косами. Облокотившись на пианино, стоял худой, длинный молодой человек в роговых очках.
Пришли два Рафика — черный и белый, — им не удалось погрузить в озеро свой прибор. Сергей Вартанович отложил эту процедуру на завтра. Они ввалились в клуб с криком:
— Засеките время! Исторический момент! В восемнадцать тридцать у нас на горе испытание нового электромагнита! Теперь можно будет показать работу! — Но, увидев, что происходит в клубе, они притихли, сели рядышком на бильярдный стол и стали слушать, не вмешиваясь в разговор.
— …Мы ушли довольно далеко, — продолжал Вадим, — когда началась буря. Тут самое отвратительное — ветер. Дорога неровная, бугры, оледеневшие камни. Мы падали. Снег залепляет рот и глаза. Вдруг потеряли направление. Стало темнеть. Я говорю: “Надо возвращаться”. Эль-Хан требует, чтобы мы шли вперед. Предлагает: “Возвращайся один”. Не знаю, что было у него на уме, но он все время утверждал, будто мы выйдем к какому-нибудь селению. Он вел себя немного странно…
— Одну минуту! — Андрей долго двигал скулами, прежде чем смог сформулировать свой вопрос. — Значит, вы утверждаете, что Эль-Хан действовал по заранее обдуманному плану, а вам об этом плане не говорил?
— Не знаю… — протянул Вадим. — С уверенностью не могу этого сказать. Позвольте уж, я буду говорить о том, что происходило в действительности, и оставлю пока в стороне всякие творческие вымыслы.
— Если вымыслы, то ваши, — мягко заметил Андрей.
— Нет, извините, ваши! Я ничего подобного не говорил! — Вадим замахал руками, как бы открещиваясь от напрасного обвинения.
Девушка негодующе обернулась к Андрею:
— Вадим таких вещей не говорил!
Черный Рафик махнул на нее рукой:
— Подожди, Марлена! Я уже третий раз слушаю эту историю. Получается, что Вадим как бы обвиняет Эль-Хана. Но это касается нас всех! И я, и белый Рафик, и тот же Вадим — все мы с Эль-Ханом, как говорится, и водку пили и песни пели… — Он обернулся к Вадиму. — Если обвиняешь, прямо говори!
— Кто обвиняет? — Вадим высоко поднял брови. — Разрешите мне оставаться на почве фактов!
— Ладно, — сказал Андрей, — излагайте дальнейшие факты.
— А, собственно, это уже почти все, что я могу рассказать. Мы плутали, падали. Я ушиб ногу и стал хромать. Надо честно признаться, что этот маленький Эль-Хан держался лучше меня… Ты, Марлена, пожалуйста, не презирай меня за это! Вы понимаете, — Вадим усмехнулся, — трудно сделать такое признание в присутствии женщины… Но, честное слово, это так! Я раскис, как вишня в компоте. Я думал, что мы уже не выберемся живыми. Когда мы увидели огоньки и поняли, что это селение, Эль-Хан пожалел меня — взял себе все тяжелые вещи и сказал: “Ты иди. Не можешь идти — ползи! А я пристрою поудобней весь этот груз и пойду следом за тобой. Теперь мы спасены!” И я пополз. Мне казалось, что у меня отморожены руки и ноги, и уши, и даже язык. Я не могу вам рассказать, что это за ощущение… Дважды такую вещь пережить невозможно… Я постучался в первое же окно на краю села. Оказалось, что я попал в Урулик. Колхозники мне потом рассказывали, что я плакал. Представляете, плакал! А я ничего не помню… Говорят, что я попросил водки — и сразу заснул непробудно. На другой день я узнал, что Эль-Хан так и не пришел.
— Значит, — спросил Андрей, — вы, как только попали в дом, в тепло, так и перестали интересоваться судьбой Эль-Хана?
— Господи! — нетерпеливо воскликнула девушка с черными косами. — Мог ли он думать, что этот здоровый Эль-Хан не придет в село, если уж добрался он сам — больной и слабый?
Вадим задумчиво посмотрел на нее.
— Нет, Марлена, ты меня не защищай. Я об этом не раз уже думал. Но вы понимаете, — он тронул Андрея за рукав, — у меня было ощущение, что Эль-Хан все время ползет за мной, мне даже казалось, что я слышу его дыхание. Потом я психологически как-то настроился, что помощь нужна не ему, а мне. Он держался так уверенно…
Черный Рафик засмеялся и проговорил, обращаясь к одному только белому Рафику:
— Большой, толстый Вадим ждал помощи от щупленького Эль-Хана, от того самого Эль-Ханчика, которого носил под мышкой в столовую…
Рафики переглянулись, спрыгнули с бильярдного стола и пошли к выходу. У них были какие-то неотложные дела. Андрей проводил их взглядом. Вадим даже не взглянул на них, он смотрел только на Марлену.
— Скажите мне точно, — спросил Андрей, — мы временно отбросим в сторону все злые умыслы, — мог ли Эль-Хан на виду этих огоньков потерять силы и не дойти до места спасения?
— Категорически отвечаю: не мог! Дорога там уже была куда легче, чем среди гор.
— Но если с ним что-нибудь случилось? Скажем, он сломал себе ногу?
— Категорически: нет! Мы нашли бы его в том месте, где я с ним расстался. Но был обследован весь этот район, и там никого не оказалось.
— Итак, — заключил Андрей, — надо сделать вывод, что если Эль-Хан не пришел, то, значит, он не хотел прийти?
— Не знаю! — Вадим снова, как бы защищаясь, поднял руку. — Делайте выводы, какие вам угодно. Только давайте будем осторожнее в этих выводах, когда речь идет о добром имени человека.
Он поднялся, взял за руку Марлену и вопросительно взглянул на Андрея. Разговор, по его мнению, был окончен.
— Ладно. — Андрей тоже поднялся со стула. — Придется вам еще немного потрудиться, товарищ Борисов. Вы должны будете показать мне то место, где вы в последний раз говорили с Эль-Ханом.
— Должен? — Вадим прищурился; голос у него изменился, стал скрипучим. — Дорогой друг, я никому ничего не должен! Если вы хотите, чтоб я показал вам это место, меня надо будет попросить…
— Да, конечно. Прошу! Я просто неудачно выразился.
— Что ж, покажу. Шесть раз уже показывал, покажу и в седьмой. Когда понадоблюсь, сообщите. А сейчас, прошу прощения, у меня есть свои дела.
Возле выхода Андрея догнал высокий молодой человек в роговых очках. Первым делом он сообщил, что его зовут Бабкен Ахвердян.
— Бабкен Ахвердян, — повторил он и поднял палец. — Запомните, я надеюсь? Вам, может, понадобится помощь, и вы тогда постарайтесь меня разыскать. У нас здесь много комсомольцев, много альпинистов. Я организую вам группочку таких спортсменов, что всю гору метр за метром исследуют!
— Но ведь это уже делалось, и ничего не вышло, — сказал Андрей. — Нет, видно, тут надо как-то иначе…
Молодой человек склонил голову на плечо.
— И вы уже знаете, как надо?
— Нет, — признался Андрей, — пока еще ничего не знаю.
— Ну, так я вам скажу: возьмите свою собаку и уезжайте домой. Вы зря теряете время. Я, правда, мало знал Эль-Хана — я приехал сюда недавно, — но Вадим знал его хорошо. Вадим не хочет никого порочить — это не такой парень! — но мне он дал понять, что Эль-Хана, по его мнению, никогда не найдут. А Вадим, знаете ли, слов на ветер не бросает…
Поиски решили начать не с территории лагеря, а из села Урулик. В это село проще всего было пробраться не по горе, а низом. Туда вела круговая автомобильная дорога, протянувшаяся вдоль подножия горного хребта. Сергей Вартанович предложил Андрею свой “виллис”.
Поехали втроем: на заднем сиденье — Андрей с Караем, впереди — шофер и Вадим Борисов. Ехали молча. Только когда “виллис”, преодолев значительную часть пути, стал подниматься по горному склону, на котором лежало селение Урулик, Андрей сказал:
— Как же вы все-таки не бережетесь, товарищ Борисов…
— А что?
— Ушибли ногу во время похода с Эль-Ханом, а сами прыгаете на этой ушибленной ноге через стулья…
Вадим обернул к Андрею свое пухлое лицо с ямочками на щеках и насмешливо прищурился.
— Клянусь честью, я ребятам говорил, что такой вопрос обязательно будет задан! — Он достал пачку папирос и предложил закурить Андрею. — Дело в том, дорогой товарищ, что меня возили в Ереван и два дня держали в больнице. В больницах, как вам известно, лечат. И иногда вылечивают.
— Да, это бывает, что вылечивают. Только зачем же вы сердитесь?
— Мне не нравятся ваши вопросы, — хмуро проговорил Вадим.
— Так это вы сами виноваты. Мне все кажется, что вы знаете о намерениях Эль-Хана значительно больше, чем говорите…
Андрей затянулся, выпустил дым и снова затянулся. Он все еще ждал ответа своего спутника. Ответа он так и не услышал.
Селение Урулик — это камни. Из камней дома; из камней все постройки для скота. Деревьев мало. Какое дерево захочет расти среди скал? Когда палит солнце, все тут выглядит однородно желтым; когда солнце заходит, все начинает казаться черным.
Большие цепные псы с обрезанными ушами свирепо лаяли на Карая из-за каменных оград. Карай их не замечал. Он отобрал у Андрея планшетку и горделиво нес ее в своих белых зубах, вызывая восхищение мальчишек, — те уже шли толпой за невиданной собакой.
На середину желтой улицы вышел высокий сухопарый человек в полотняном кителе и приветливо поднял кверху руку. Он оказался председателем колхоза. С достоинством протянул ладонь сначала Андрею, потом Вадиму и вежливо спросил:
— Будете искать?
— Да, — Андрей сдвинул на затылок милицейскую фуражку, — попытаемся. Попытка не пытка.
— Помощь не нужна ли?
— Пока что нет.
— Очень хорошо, — сказал председатель, потрогав толстыми пальцами свой горбатый нос. — Трудно будет найти.
— Почему?
— Горы — это не лес и не море. Море выносит пропажу к берегу, лес — к дереву. Горы того, что пропало, не отдают.
Вадим пренебрежительно усмехнулся:
— Было бы что отдавать…
— Ну, там видно будет, — сказал Андрей. — Если придется заночевать, где я смогу?
— Вон там же, где Вадим ночевал, — ответил председатель и скупо улыбнулся. — Это теперь будет наша уруликская гостиница.
В селении снега не было, но сразу за селом он лежал на скалах грязноватыми пятнами. Значит, давно уже не бушевали снегопады.
— Давно! Со времени той бури, — коротко подтвердил Вадим. Он теперь в разговоры вступал неохотно и на все вопросы отвечал односложно: “Да”, “Нет”.
Чем выше они поднимались в горы, тем снег казался чище и тем его было больше. Карай сбежал с тропы, прыгнул — и провалился в сугроб; виднелись только его острые уши и взметнувшийся к небу черный нос…
Примерно через полчаса после такого подъема Вадим ступил на маленькую площадку, с которой ветры сдули снег, и угрюмо проговорил:
— Вот здесь.
Андрей обернулся назад. Селение было хорошо видно. Когда зажгутся огни, оно станет видно еще лучше. И вот отсюда не дойти до спасительных огоньков, не дойти, когда дело идет о твоей жизни! Да пусть ноги будут перебиты, переломаны — на локтях поползешь!
— Пожалуйста, покажите, где стояли вы, где стоял Эль-Хан, когда вы расставались?
Вадим взглянул исподлобья, ответил недоброжелательно:
— Вам представляется что-то не то. Разве я был тогда в таком состоянии, чтоб запомнить все эти мелочи?
— Но то, что это происходило именно здесь, вы хорошо помните? Тут нет ошибки?
— Хорошо помню.
— И вот здесь Эль-Хан взял у вас фотоаппарат и рюкзак?
— Именно здесь.
Вадим вытащил папиросы, но на этот раз не предложил закурить Андрею.
Андрей тоже достал свою коробку. Каждый закурил от своей спички — Андрей сразу с первой спички, Вадим испортил штук пять-шесть, заслоняя огонек ладонями от ветра.
— Вы, кажется, решили остаться здесь ночевать? — спросил Вадим, попыхивая папироской. — Надо думать, я больше вам не нужен… Иными словами, могу ли я вернуться в лагерь?
— Да, конечно. Если вас не интересует поиск, уезжайте.
— Поиски меня интересуют, — огрызнулся Вадим, — но у меня есть свои задания, и не менее важные. Я должен их выполнять.
Он круто повернулся, спрыгнул с площадки и быстро пошел к селу.
— До свиданья! — крикнул ему вслед Андрей и помахал планшеткой его удаляющейся спине.
Не стоило заставлять Карая обнюхивать площадку. За пять дней выветрились все запахи, да и следы Эль-Хана были теперь похоронены где-то в глубине снегов. Мало ли снегов намела буря! Искать Эль-Хана по следам было бы бессмысленно. Нет, уж лучше всего пустить Карая на обыск местности, прочесать все вокруг в километровом радиусе, а там уж что найдет, то и найдет.
Андрей решил вести кольцевой поиск. Площадка должна была стать центром, а вокруг нее надо описывать круги — каждый последующий шире, чем предыдущий. Можно надеяться, что при таком поиске ничто стоящее не ускользнет от внимания. Если Эль-Хан все еще находится на горе, то где-нибудь поблизости: ведь он, вероятно, все время держал курс на уруликские огоньки. Андрея не смущало то, что поиски, которые производились силами населения, представителей милиции и самих участников экспедиции, не дали результатов. Что ж удивительного! Пропавший человек лежит где-нибудь поблизости под глубоким заносом снега. Его не увидишь. Но Карай учует…
— Ищи, Карай, ищи!
Пес тычется носом в снег. Вместе со своим хозяином он то спускается в ложбинки, то карабкается на выступы скал. Он не упустит ничего мало-мальски подозрительного. Нюхает снег, разгребает его лапами, лает и выжидательно смотрит на хозяина: так ли надо делать?
— Ищи, ищи, Карай!
Поздно вечером Андрей со своей собакой приходит в дом на краю села, где ему отведен ночлег. Тут хозяин колхозник, которого все зовут не Мукуч — это его имя, — а фермач, потому что он заведует одной из животноводческих ферм колхоза. Мукуч-фермач еще не спит, хотя его жена и дети спят уже давно. Под ярким светом электрической лампочки он составляет какую-то сводку. Теперь он сгребает со стола бумаги и ставит на клеенку миску с мацони.
— Жену будить? — спрашивает он неуверенно.
— Зачем?
— Чтобы обслуживала гостя. Так у нас полагается.
— Сами обойдемся, — говорит Андрей.
Кряхтя, он стаскивает с ног сапоги. Каждое движение доставляет мучительную боль. Он с вожделением смотрит на белую, словно сам снег, простыню, покрывающую тахту. Спать! Потом он смотрит на стол, где рядом с мацони появилась холодная баранина и бутылка водки. Нет, все-таки сначала поесть, затем уже спать. Только нужно еще подкормить Карая…
— Что ты думаешь ему дать? — спрашивает Мукуч.
— Не найдется ли молока?
— Как не найтись? И ты хочешь налить ему молока?
— Вообще-то это не очень хорошо, — озабоченно отвечает Андрей. — Лучше бы кашу на мясном бульоне…
Мукуч внимательно смотрит на него, стараясь понять, что говорится в шутку, а что всерьез. Нет, гостю не до шуток…
— Значит, ему нужно давать мясной бульон? А может быть, он любит черную икру? И где он будет спать? Найдется ли у нас для него подходящая мягкая постель? — недоброжелательно спрашивает Мукуч, который убежден, что хорошая собака должна сама добывать себе дневное пропитание, не утруждая этими заботами хозяина.
— Он будет спать в комнате возле тахты, — объясняет Андрей.
— Это мне уже ясно, что в комнате. Где ж еще! — говорит Мукуч с максимальной вежливостью. — Но, может быть, ему тоже нужна тахта? И ковер? И белая простыня?
Карай сам отвечает на эти вопросы. Стуча согнутыми лапами, мокрый, взъерошенный и измученный, с высунутым языком, он ползет под тахту и сворачивается там клубком. Теперь его не выманить оттуда ни лакомой пищей, ни ласковым словом.
— Если так устала собака, то как же должен был устать человек! — восклицает Мукуч-фермач и заботливо придвигает к Андрею миску с холодной бараниной.
Пока Андрей не начал есть, он не чувствовал голода. Теперь он не может оторваться.
— Мне еще не ясно, где Эль-Хан. Но, во всяком случае, — Андрей очерчивает рукой большой круг, — теперь уже я знаю, где нет Эль-Хана.
Мукуч придвигает к нему блюдце с зелеными травками и сыр — без этих вещей не обходится ни один армянский стол. В граненые стаканчики льется желтоватая тутовая водка: один стаканчик Андрею, другой, за компанию, — самому Мукучу.
— Знаешь, в каком виде ко мне в ту ночь Вадим заявился? — рассказывает Мукуч-фермач. — Его трясло, как арбу на плохой дороге. Я растер его водкой. Честное слово, он плакал! Тут мне вздумалось пошутить: “Вот бы, говорю, снова отправить тебя сейчас в горы…” Он взглянул, точно как сумасшедший, свалился на тахту — уснул. Сильно был испуган человек.
— Про Эль-Хана он в тот вечер не говорил?
— Какой Эль-Хан! Человек свое собственное имя и то выбросил из памяти. Про Эль-Хана он сказал на другой день. “Как же ты, дорогой Вадим, не сообщил нам, что в горах человек пропадает? Надо было помощь дать”. — “Какой человек пропадает? Что ты, фермач, глупость говоришь!” Пошли искать — ничего не нашли. Пропал Эль-Хан!
Утром Карай все же получил свою порцию молока с размоченными сухарями и несколько бараньих косточек. После еды Андрей дал ему полежать с часок — собаке полагается, приняв пищу, отдыхать — и позвал с собой.
В питомнике Карая каждый день расчесывали щетками, протирали суконкой. Тут Андрей чуть разровнял руками свалявшуюся шерсть. Не время нежиться! По команде “рядом” пес пошел без поводка у ноги своего хозяина. Андрей ускорит шаг — и Карай торопится, Андрей приостановится — и Карай стоит. И всегда старается сделать так, чтобы его передние лапы находились примерно на одной линии с левой ногой хозяина.
Андрей привел собаку к вчерашней площадке и начал поиск по правую ее сторону. Обследованный вчера район — от площадки до села — он уже не затрагивал: там Эль-Хана не было.
С помощью Карая Андрей осматривал каждую впадину, каждый выступ. Время от времени он заставлял Карая подавать голос. На что он надеялся? Разве мог бы человек, которого он искал, уцелеть после пятидневного пребывания в горах?
Через несколько часов Карай стал захватывать зубами снег. Он хотел пить. Андрей лег на выступ скалы.
Сейчас же и Карай лег рядом, свесив набок свой розовый тонкий язык.
Отдохнув, они перешли на левую сторону площадки.
День стоял удивительно тихий и мирный. Снег под ногами был пушистым и ласковым. Дым от папиросы долго висел причудливым клубочком в неподвижном воздухе.
…Андрей не сразу понял, что произошло. Как будто короткий вихрь прошумел у него над самым ухом. Гулкий лай Карая донесся откуда-то сверху. Андрей сначала почувствовал ушиб в колене, потом ощутил неловкость во всем теле — и только после этого увидел, что он лежит в узкой и темной расселине, а сверху, откуда проникает свет, заглядывает в расселину испуганная морда Карая.
— Оступился, — виновато сказал ему Андрей; пес радостно завыл, услышав голос хозяина. — Вот так в другой раз зазеваемся — и будет нам с тобой конец…
Карай искал передними лапами спуск в расселину — не находил, отступал назад и лаял, припадая грудью к снегу.
— Замолчи, пожалуйста! — с досадой приказал Андрей.
Надо подумать, как выбраться отсюда. Расселина казалась неглубокой, но стены ее круто поднимались вверх. Андрей не находил выступов, чтобы стать на них ногами и добраться до края. Он вытянулся во весь рост. Не хватало примерно метра высоты, чтобы вылезти на свободу. Андрей поискал на дне расселины больших камней: встать на такой камень — и вылезешь. Камней не было. Он подпрыгнул, но не достал до края, только ударился плечом о стенку.
Вот в такую же расселину мог свалиться Эль-Хан. Присыпало человека сверху снежком. Может, он кричал, звал на помощь… Кто услышит? Разве найдешь его в этой снежной пустыне!
— Где тут собака моя? — ласково позвал Андрей.
Карай тотчас же сунул в щель узкую морду и жалобно завизжал. Скажи ему только слово — и он, не колеблясь, спрыгнет вниз, чтобы составить хозяину компанию.
— Назад! — крикнул Андрей. — Как бы заставить тебя сбегать в Урулик и привести помощь?..
Карай забегал вокруг расселины. На голову Андрея посыпались мелкие камешки, смешанные со снегом.
— Домой, домой, Карай!
Пес продолжал бегать и визжать.
— Домой! Иди домой! Не понимаешь? Домой!
Карай сел у расселины, протяжно, по-волчьи завыл.
— Нет, видно, ты у меня для таких дел не приспособлен, — с сожалением сказал Андрей. — Попробуем что-нибудь другое…
Он достал перочинный нож, раскрыл его и принялся лезвием выдалбливать в стене ступеньку. Сломал лезвие, а сделал всего-навсего маленький выступ — нога смогла бы удержаться на нем лишь ничтожную долю секунды. Андрей попробовал вылезти, но ему некуда было поставить другую ногу, и он сорвался вниз.
Нет, так дело не пойдет. Надо придумывать что-то другое…
Карай опять завыл.
В кармане своей походной куртки Андрей нащупал длинный тесьмяный шнур — поводок, на котором он водил Карая. Вот эта штука может пригодиться.
— Сейчас, Карай, сейчас! — Андрей подбадривал собаку голосом и жестами.
В ту же секунду Карай вскочил и забегал вокруг расселины, приближаясь к самому ее краю. Лишь бы не свалился, черт такой, в яму. Тогда все пропало…
Одним концом поводка Андрей обвязался вокруг пояса. Другой конец он кинет Караю. Со щенячьего возраста Карай привык к игре — “кто кого перетянет”. Сколько раз Андрей бросал ему веревку, сам брался за свободный ее конец, и они таскали друг друга по всему питомнику. Капитан Миансаров считал, что у щенка вырабатывается таким образом могучая хватка, сила прикуса. Не поможет ли теперь эта игра? Ведь всего и дела — поддержать на секунду Андрея в тот момент, когда он поставит ногу на выступ, — поддержать и тем самым облегчить ему возможность схватиться руками за край расселины.
— Возьми, Карай, возьми!
Поводок летит кверху. Карай не дает ему упасть, ловит зубами в воздухе и тут же перехватывает поудобнее.Андрей чуть натягивает поводок. Пес, почувствовав сопротивление, пятится от расселины и тянет, тянет конец шнура. Ему это дело знакомо. Он знает, что главное — это не выпустить веревки из зубов. Он рычит от возбуждения. Нет, он не отпустит шнура! Но, если он не очень крепко уперся лапами в снег, тогда Андрей своей тяжестью стащит его в яму. И все же, делать нечего, надо рискнуть…
— Держи, Карай, отниму! — как можно беспечнее кричит Андрей и, натянув поводок, быстро ставит ногу на выдолбленную ступеньку.
 На мгновение поводок подается. Вот-вот Андрей снова слетит на дно ямы… Но Карай рычит и тянет. Молодец! Андрей освобождает руки — конец, шнура привязан к его поясу — и, чувствуя, что сейчас свалится, нашаривает ладонью, за что бы можно уцепиться. Во что бы то ни стало нужно найти какую-нибудь опору. Рукой он ощущает круглый камень — видно, врос в землю, не шатается, держится крепко. Андрей хватает его, подтягивается повыше на руках. Вот наконец он уже может поставить колено на край расселины. И первое, что он видит, — это то, как Карай, отходя все дальше и дальше, тянет зубами тесьмяный шнур…
Андрей ложится у самого края расселины. Надо отдохнуть. Карай подбегает к нему, трогает его передней лапой, лижет ему лицо горячим языком, звонко лает.
— Расчувствовался! — говорит ему Андрей и прижимает его мохнатую шею к своей груди. — С чего это ты? Стыдись! Ничего особенного не было…
Ночью они оба приходят на квартиру к фермачу, еще более усталые, мокрые и грязные, чем вчера. Андрея ждет шашлык на шампуре, для Карая сварена овсянка на мясном бульоне. Несмотря на поздний час, за столом рядом с Мукучем сидит председатель колхоза.
— Нашел? — спрашивает он.
— Нет.
— Помощь нужна?
— Какую ты мне можешь оказать помощь?
— Ну, людей дам, — щедро обещает председатель, — сколько хочешь дам людей.
— Нет, людей не нужно. Зачем их отрывать от работы. Вы и так искали, ничего не смогли найти.
Председатель, соглашаясь, кивает головой и нежно теребит свой горбатый нос.
— Совет могу подать, если хочешь…
— Совет давай, спасибо скажу!
— Ты искал там, где указывал Вадим. Искал там, откуда видны огоньки нашего Урулика. Вадим хороший человек, я ничего не говорю. Но теперь ты поищи там, где он не указывал… Совсем в других местах ищи!
— Так, понимаю, — говорит Андрей, усмехнувшись. — Вам кажется, что Вадим меня обманывает…
В разговор вмешивается Мукуч:
— Зачем обманывает? Человек, который в ту ночь мог позабыть про товарища, что его товарищ находится в горах, все на свете может позабыть, перепутать!
— Нет, нет! — Андрей с сомнением качает головой. — Он не позабыл, вы напрасно о нем так думаете. Но, кажется, он больше знает об этом Эль-Хане, чем хочет говорить людям. Что-то он скрывает… Возможно, что Эль-Хан и вправду негодяй. Может быть, Эль-Хан подбивал Вадима вместе перейти границу, Вадим пытался удержать его — и не смог. Представляете? Вадим, когда постучался в это окно, уже знал, что Эль-Хана найти невозможно. Потому и сам не пошел в горы в ту ночь и вас не послал. А теперь чувствует свою ответственность и таится от людей…
Председатель слушает, чмокает губами, и нельзя понять: то ли он соглашается с Андреем, то ли посмеивается над ним.
Мукуч вздыхает:
— Чужая душа — потемки!
Утром Андрей проснулся с неприятной мыслью: третий день поисков, а результатов никаких. Придется пойти в лагерь экспедиции и оттуда радировать капитану Миансарову, чтобы дали дополнительные сроки. Кстати, можно будет поговорить с Вадимом.
Эта идея его увлекла: обязательно поговорить с Вадимом! Откровенно поговорить, по-дружески. Пусть скажет все, что ему известно.
Андрей вышел на каменный дворик. Двое хозяйских детей — мальчик лет восьми и девочка немного постарше — играли среди больших камней, обросших травой. На шее у мальчика была веревка, он стоял на четвереньках и лаял.
— Что вы делаете, ребята?
Девочка повела круглыми черными глазками.
— Мы играем в Карая, — застенчиво объяснила она. — Рубик — Карай… Карай, голос, голос!
Мальчик залаял.
— Теперь я буду учить тебя, чтоб ты искал, — важно сказала девочка.
Они побежали за ограду, скрылись за камнями. Оттуда донесся приказ:
— Карай, ищи!
Потом Андрей услышал приговор:
— Ты не можешь искать. Ты можешь только лаять!
“Мне бы ваши заботы!” — с завистью думал Андрей, возвращаясь в дом.
Карай еще спал в комнате под тахтой. Андрей окликнул его и стал готовить в поход.
Та же девочка, заглянув в комнату, позвала его:
— Иди, тебя там спрашивают.
— Кто?
— Твоя невеста, — серьезно ответила девочка и поскакала верхом на палочке во двор.
На застекленном балконе Андрея ждала девушка. Он увидел две черные косы и стал, вспоминать ее имя.
— Марлена! Вы одни? Вадим не приехал?
Девушка строго посмотрела на него:
— Вадим не должен знать, что я поехала к вам. — Она шагнула вперед, насупилась. — Он бы этого ни за что не разрешил… Что вы хотите от Вадима? Нельзя же так мучить человека!
Андрей искренне удивился.
— Да я его с тех пор не видел! — воскликнул он.
— У вас был какой-то неприятный разговор с ним… О чем вы говорили? Что вы ему сказали? Вы можете себе представить, что на свете есть люди с тонкой душой и с ними нужно обращаться бережно?
Андрей начинал сердиться. Зачем приехала эта непрошеная заступница? Видимо, почувствовала, что Вадим неспокоен. Вот бы Вадим показал ей, если б узнал, что она выдает его настроения!
— Незачем сжигать меня своими глазами, — пошутил Андрей. — Лучше скажите, что случилось?
— Нет, это вы должны сказать мне, что случилось! Может быть, Вадим убил этого Эль-Хана или съел его по частям? В каких преступлениях вы обвиняете Вадима?
— Ни в каких, — мягко возразил Андрей. — Но Вадим был последним человеком, который видел Эль-Хана. Как, по-вашему, должен я был расспрашивать Вадима или нет?
— Расспрашивать! Вы довели человека до того, что он не спит и не работает. Он стал истериком. Вчера он опять плакал. А в чем он виноват? Только в том, что не хочет очернить другого человека… И напрасно! — Марлена понизила голос. — Вы знаете, Вадим заявление подал Сергею Вартановичу, чтоб его перевели в другое место!
— При чем же тут я?
— Ах, ни при чем? — Марлена с негодованием потянула себя за черную косу. — В общем, мы решили добиться от вас ответа. Вы не увиливайте!
— Кто это “мы”? Вы и Вадим? Только что, кажется, было сказано, что Вадим не знает о вашей поездке.
Девушка начала краснеть.
— Ладно, я понимаю, что хотя это и ложь, но ложь не ваша, то есть не вами придумана. Вы всего-навсего исполнительница. Так это он подучил вас сказать, что страдает и плачет?
— Все это совсем не так… — беспомощно проговорила Марлена.
— Ладно. Поезжайте обратно. Я сегодня приду в лагерь.
Андрей повернулся, чтобы уйти в комнату. Тоскливый взгляд девушки задержал его. Он остановился, не зная, о чем еще с ней говорить.
— Ничего, все обойдется. Плохо только, что он вас послал. Лучше бы сам приехал. Теперь мне надо к нему идти…
— Ну, пусть меня послал Вадим, — проговорила девушка с горечью, — это правда. Я лгать не умею… Но вы знаете, — голос у нее дрогнул, — я хочу связать с ним свою жизнь… — Она заторопилась. — Вас, конечно, это совершенно не касается, я понимаю! Но если вы что-нибудь знаете, то должны мне сказать.
Андрею очень захотелось утешить ее.
— Поверьте, я ничего не знаю, — заговорил он как можно мягче. — Я только думаю, что Вадим мог бы нам помочь разъяснить все это дело. Он, конечно, знает больше, чем говорит. И если Эль-Хан негодяй и мерзавец, так не стоит щадить Эль-Хана!
Марлена внимательно слушала его.
— Что ж, — начала она, — если Вадиму есть о чем рассказать… — Она вдруг переменила тон. — Хотите поехать вместе со мной на машине?
— Нет, благодарю. Мне лучше пойти пешком…
Андрей вышел из села довольно поздно. Карай, хорошо отдохнувший за ночь, бежал бодро. Дорога по горам — самая кратчайшая дорога к лагерю экспедиции — была Андрею известна. Накануне он подробно расспросил Мукуча о маршруте и взял с собой карту. Найти лагерь нетрудно. Но главная задача заключалась в другом: надо попытаться поискать Эль-Хана подальше от села. Ведь дорога, предстоящая сейчас Андрею, примерно та самая, только в обратном направлении, по которой в субботу шли Эль-Хан и Вадим Борисов…
Чуть подувал ветерок, но такой слабый, что даже не трогал снежинок, лежащих на камнях. Чем выше забирался Андрей, тем снега становилось меньше — буря смела его во впадины и котловины. Дорога была скучная — скалы, похожие одна на другую, бесконечные нагромождения камней. Карай убегал вперед, потом возвращался или ждал хозяина за каким-нибудь выступом — в самый неожиданный момент выскакивал навстречу, виляя пушистым хвостом. Редко ему доставалось столько свободы. Пожалуй, не понравится после такой жизни хождение на поводке.
Андрей продвигался вперед не торопясь, обследуя скальные поля, прилегающие справа и слева к его тропинке. Карай заглядывал во все щели. Уж он даст знать, если встретится что-нибудь необычное…
Внезапно Андрей услышал яростный лай. Выскочив на валун, он увидел, что Карай гонит в снега большую рыжую лису. “Ох, как бежит! Провалится еще, дурень, в какую-нибудь расселину!”
— Назад, Карай!
Может быть, пес не услышал, а может, не обратил внимания на окрик хозяина. “Нет, надо его, подлеца, немного приструнить. Разболтался! Маузер сейчас же повернул бы обратно”.
— Карай, Карай! Назад!
Андрей соскочил с валуна и побежал по тропинке. Теперь он уже не видел ни лисы, ни собаки. Он шел и звал:
— Карай, ко мне! Ко мне!
По его расчетам, пес должен был находиться чуть слева от тропинки. Но лай вдруг донесся откуда-то сзади. Андрей остановился, прислушался и пошел на этот звук. Карай лаял совсем иначе, чем прежде. Тот лай был азартный, в нем больше слышалось задора, чем тревоги; сейчас Карай лаял деловито, зло и тревожно. Андрей ускорил шаги, свернул вбок и побежал, прыгая через снежные наметы, через камни.
Карай стоял возле обломка скалы и лаял, всовывая нос в раскопанную им ямку. Увидев хозяина, он замолк.
“Ну, лисья нора, только и всего!” — с разочарованием подумал Андрей и, уже не торопясь, подошел ближе.
Никакой лисьей норы тут не было. На дне ямки, раскопанной лапами Карая, лежало что-то черное. Андрей наклонился и поднял фотоаппарат. Он с недоумением смотрел на свою находку. Неужели это тот самый аппарат, который Эль-Хан взял у Вадима Борисова, когда перед их глазами блеснули огоньки Урулика? Почему же аппарат оказался так далеко от селения? Андрей только задал этот вопрос и тут же все понял. Ясное дело! Эль-Хан не пошел в Урулик, да и не собирался туда идти. Как и намекал Вадим, у Эль-Хана был свой маршрут. Он шел к границе. По дороге он потерял фотоаппарат. А для чего он взял аппарат? Тоже ясно: на пленке были снимки, сделанные в пограничной полосе…
Все ясно! Остается лишь понять, почему Вадим не обвиняет Эль-Хана впрямую, а отделывается намеками. И это легко понять: Вадим не стал задерживать преступника — значит, сам является косвенным соучастником преступления…
Андрей сел на снег и вытащил карту. Он отыскал пик Димац, похожий на лезвие кинжала, и, ориентируясь на него, быстро понял, где сейчас находился он со своей собакой. После этого он перестал вообще что-либо понимать. Место, где был обнаружен фотоаппарат, оказалось самым удаленным от границы. Следовательно, Эль-Хан все время продвигался дальше и дальше от границы, вместо того чтоб идти к ней. Куда же он шел? И если он в ту страшную ночь действительно искал спасения, то почему же отвернулся от близких огней Урулика?
— Ну-ка, ищи, Карай!
На мгновение поводок подается. Вот-вот Андрей снова слетит на дно ямы… Но Карай рычит и тянет. Молодец! Андрей освобождает руки — конец, шнура привязан к его поясу — и, чувствуя, что сейчас свалится, нашаривает ладонью, за что бы можно уцепиться. Во что бы то ни стало нужно найти какую-нибудь опору. Рукой он ощущает круглый камень — видно, врос в землю, не шатается, держится крепко. Андрей хватает его, подтягивается повыше на руках. Вот наконец он уже может поставить колено на край расселины. И первое, что он видит, — это то, как Карай, отходя все дальше и дальше, тянет зубами тесьмяный шнур…
Андрей ложится у самого края расселины. Надо отдохнуть. Карай подбегает к нему, трогает его передней лапой, лижет ему лицо горячим языком, звонко лает.
— Расчувствовался! — говорит ему Андрей и прижимает его мохнатую шею к своей груди. — С чего это ты? Стыдись! Ничего особенного не было…
Ночью они оба приходят на квартиру к фермачу, еще более усталые, мокрые и грязные, чем вчера. Андрея ждет шашлык на шампуре, для Карая сварена овсянка на мясном бульоне. Несмотря на поздний час, за столом рядом с Мукучем сидит председатель колхоза.
— Нашел? — спрашивает он.
— Нет.
— Помощь нужна?
— Какую ты мне можешь оказать помощь?
— Ну, людей дам, — щедро обещает председатель, — сколько хочешь дам людей.
— Нет, людей не нужно. Зачем их отрывать от работы. Вы и так искали, ничего не смогли найти.
Председатель, соглашаясь, кивает головой и нежно теребит свой горбатый нос.
— Совет могу подать, если хочешь…
— Совет давай, спасибо скажу!
— Ты искал там, где указывал Вадим. Искал там, откуда видны огоньки нашего Урулика. Вадим хороший человек, я ничего не говорю. Но теперь ты поищи там, где он не указывал… Совсем в других местах ищи!
— Так, понимаю, — говорит Андрей, усмехнувшись. — Вам кажется, что Вадим меня обманывает…
В разговор вмешивается Мукуч:
— Зачем обманывает? Человек, который в ту ночь мог позабыть про товарища, что его товарищ находится в горах, все на свете может позабыть, перепутать!
— Нет, нет! — Андрей с сомнением качает головой. — Он не позабыл, вы напрасно о нем так думаете. Но, кажется, он больше знает об этом Эль-Хане, чем хочет говорить людям. Что-то он скрывает… Возможно, что Эль-Хан и вправду негодяй. Может быть, Эль-Хан подбивал Вадима вместе перейти границу, Вадим пытался удержать его — и не смог. Представляете? Вадим, когда постучался в это окно, уже знал, что Эль-Хана найти невозможно. Потому и сам не пошел в горы в ту ночь и вас не послал. А теперь чувствует свою ответственность и таится от людей…
Председатель слушает, чмокает губами, и нельзя понять: то ли он соглашается с Андреем, то ли посмеивается над ним.
Мукуч вздыхает:
— Чужая душа — потемки!
Утром Андрей проснулся с неприятной мыслью: третий день поисков, а результатов никаких. Придется пойти в лагерь экспедиции и оттуда радировать капитану Миансарову, чтобы дали дополнительные сроки. Кстати, можно будет поговорить с Вадимом.
Эта идея его увлекла: обязательно поговорить с Вадимом! Откровенно поговорить, по-дружески. Пусть скажет все, что ему известно.
Андрей вышел на каменный дворик. Двое хозяйских детей — мальчик лет восьми и девочка немного постарше — играли среди больших камней, обросших травой. На шее у мальчика была веревка, он стоял на четвереньках и лаял.
— Что вы делаете, ребята?
Девочка повела круглыми черными глазками.
— Мы играем в Карая, — застенчиво объяснила она. — Рубик — Карай… Карай, голос, голос!
Мальчик залаял.
— Теперь я буду учить тебя, чтоб ты искал, — важно сказала девочка.
Они побежали за ограду, скрылись за камнями. Оттуда донесся приказ:
— Карай, ищи!
Потом Андрей услышал приговор:
— Ты не можешь искать. Ты можешь только лаять!
“Мне бы ваши заботы!” — с завистью думал Андрей, возвращаясь в дом.
Карай еще спал в комнате под тахтой. Андрей окликнул его и стал готовить в поход.
Та же девочка, заглянув в комнату, позвала его:
— Иди, тебя там спрашивают.
— Кто?
— Твоя невеста, — серьезно ответила девочка и поскакала верхом на палочке во двор.
На застекленном балконе Андрея ждала девушка. Он увидел две черные косы и стал, вспоминать ее имя.
— Марлена! Вы одни? Вадим не приехал?
Девушка строго посмотрела на него:
— Вадим не должен знать, что я поехала к вам. — Она шагнула вперед, насупилась. — Он бы этого ни за что не разрешил… Что вы хотите от Вадима? Нельзя же так мучить человека!
Андрей искренне удивился.
— Да я его с тех пор не видел! — воскликнул он.
— У вас был какой-то неприятный разговор с ним… О чем вы говорили? Что вы ему сказали? Вы можете себе представить, что на свете есть люди с тонкой душой и с ними нужно обращаться бережно?
Андрей начинал сердиться. Зачем приехала эта непрошеная заступница? Видимо, почувствовала, что Вадим неспокоен. Вот бы Вадим показал ей, если б узнал, что она выдает его настроения!
— Незачем сжигать меня своими глазами, — пошутил Андрей. — Лучше скажите, что случилось?
— Нет, это вы должны сказать мне, что случилось! Может быть, Вадим убил этого Эль-Хана или съел его по частям? В каких преступлениях вы обвиняете Вадима?
— Ни в каких, — мягко возразил Андрей. — Но Вадим был последним человеком, который видел Эль-Хана. Как, по-вашему, должен я был расспрашивать Вадима или нет?
— Расспрашивать! Вы довели человека до того, что он не спит и не работает. Он стал истериком. Вчера он опять плакал. А в чем он виноват? Только в том, что не хочет очернить другого человека… И напрасно! — Марлена понизила голос. — Вы знаете, Вадим заявление подал Сергею Вартановичу, чтоб его перевели в другое место!
— При чем же тут я?
— Ах, ни при чем? — Марлена с негодованием потянула себя за черную косу. — В общем, мы решили добиться от вас ответа. Вы не увиливайте!
— Кто это “мы”? Вы и Вадим? Только что, кажется, было сказано, что Вадим не знает о вашей поездке.
Девушка начала краснеть.
— Ладно, я понимаю, что хотя это и ложь, но ложь не ваша, то есть не вами придумана. Вы всего-навсего исполнительница. Так это он подучил вас сказать, что страдает и плачет?
— Все это совсем не так… — беспомощно проговорила Марлена.
— Ладно. Поезжайте обратно. Я сегодня приду в лагерь.
Андрей повернулся, чтобы уйти в комнату. Тоскливый взгляд девушки задержал его. Он остановился, не зная, о чем еще с ней говорить.
— Ничего, все обойдется. Плохо только, что он вас послал. Лучше бы сам приехал. Теперь мне надо к нему идти…
— Ну, пусть меня послал Вадим, — проговорила девушка с горечью, — это правда. Я лгать не умею… Но вы знаете, — голос у нее дрогнул, — я хочу связать с ним свою жизнь… — Она заторопилась. — Вас, конечно, это совершенно не касается, я понимаю! Но если вы что-нибудь знаете, то должны мне сказать.
Андрею очень захотелось утешить ее.
— Поверьте, я ничего не знаю, — заговорил он как можно мягче. — Я только думаю, что Вадим мог бы нам помочь разъяснить все это дело. Он, конечно, знает больше, чем говорит. И если Эль-Хан негодяй и мерзавец, так не стоит щадить Эль-Хана!
Марлена внимательно слушала его.
— Что ж, — начала она, — если Вадиму есть о чем рассказать… — Она вдруг переменила тон. — Хотите поехать вместе со мной на машине?
— Нет, благодарю. Мне лучше пойти пешком…
Андрей вышел из села довольно поздно. Карай, хорошо отдохнувший за ночь, бежал бодро. Дорога по горам — самая кратчайшая дорога к лагерю экспедиции — была Андрею известна. Накануне он подробно расспросил Мукуча о маршруте и взял с собой карту. Найти лагерь нетрудно. Но главная задача заключалась в другом: надо попытаться поискать Эль-Хана подальше от села. Ведь дорога, предстоящая сейчас Андрею, примерно та самая, только в обратном направлении, по которой в субботу шли Эль-Хан и Вадим Борисов…
Чуть подувал ветерок, но такой слабый, что даже не трогал снежинок, лежащих на камнях. Чем выше забирался Андрей, тем снега становилось меньше — буря смела его во впадины и котловины. Дорога была скучная — скалы, похожие одна на другую, бесконечные нагромождения камней. Карай убегал вперед, потом возвращался или ждал хозяина за каким-нибудь выступом — в самый неожиданный момент выскакивал навстречу, виляя пушистым хвостом. Редко ему доставалось столько свободы. Пожалуй, не понравится после такой жизни хождение на поводке.
Андрей продвигался вперед не торопясь, обследуя скальные поля, прилегающие справа и слева к его тропинке. Карай заглядывал во все щели. Уж он даст знать, если встретится что-нибудь необычное…
Внезапно Андрей услышал яростный лай. Выскочив на валун, он увидел, что Карай гонит в снега большую рыжую лису. “Ох, как бежит! Провалится еще, дурень, в какую-нибудь расселину!”
— Назад, Карай!
Может быть, пес не услышал, а может, не обратил внимания на окрик хозяина. “Нет, надо его, подлеца, немного приструнить. Разболтался! Маузер сейчас же повернул бы обратно”.
— Карай, Карай! Назад!
Андрей соскочил с валуна и побежал по тропинке. Теперь он уже не видел ни лисы, ни собаки. Он шел и звал:
— Карай, ко мне! Ко мне!
По его расчетам, пес должен был находиться чуть слева от тропинки. Но лай вдруг донесся откуда-то сзади. Андрей остановился, прислушался и пошел на этот звук. Карай лаял совсем иначе, чем прежде. Тот лай был азартный, в нем больше слышалось задора, чем тревоги; сейчас Карай лаял деловито, зло и тревожно. Андрей ускорил шаги, свернул вбок и побежал, прыгая через снежные наметы, через камни.
Карай стоял возле обломка скалы и лаял, всовывая нос в раскопанную им ямку. Увидев хозяина, он замолк.
“Ну, лисья нора, только и всего!” — с разочарованием подумал Андрей и, уже не торопясь, подошел ближе.
Никакой лисьей норы тут не было. На дне ямки, раскопанной лапами Карая, лежало что-то черное. Андрей наклонился и поднял фотоаппарат. Он с недоумением смотрел на свою находку. Неужели это тот самый аппарат, который Эль-Хан взял у Вадима Борисова, когда перед их глазами блеснули огоньки Урулика? Почему же аппарат оказался так далеко от селения? Андрей только задал этот вопрос и тут же все понял. Ясное дело! Эль-Хан не пошел в Урулик, да и не собирался туда идти. Как и намекал Вадим, у Эль-Хана был свой маршрут. Он шел к границе. По дороге он потерял фотоаппарат. А для чего он взял аппарат? Тоже ясно: на пленке были снимки, сделанные в пограничной полосе…
Все ясно! Остается лишь понять, почему Вадим не обвиняет Эль-Хана впрямую, а отделывается намеками. И это легко понять: Вадим не стал задерживать преступника — значит, сам является косвенным соучастником преступления…
Андрей сел на снег и вытащил карту. Он отыскал пик Димац, похожий на лезвие кинжала, и, ориентируясь на него, быстро понял, где сейчас находился он со своей собакой. После этого он перестал вообще что-либо понимать. Место, где был обнаружен фотоаппарат, оказалось самым удаленным от границы. Следовательно, Эль-Хан все время продвигался дальше и дальше от границы, вместо того чтоб идти к ней. Куда же он шел? И если он в ту страшную ночь действительно искал спасения, то почему же отвернулся от близких огней Урулика?
— Ну-ка, ищи, Карай!
 Пес осторожно принюхивается к камням, на которых нет снега. Он ложится на брюхо и ползет вперед. Так он приучен делать, если ожидается опасность. Но откуда она может здесь грозить? Андрей озирается. Ну да, служебная собака предупреждает о возможной встрече с людьми. Люди — опасность! Шерсть у Карая на загривке поднимается дыбом, затем полоска шерсти поднимается по всей спине вплоть до хвоста. Ого, дело серьезное! Андрей на всякий случай вытаскивает из кобуры пистолет. Рычание собаки становится басовитым, угрожающим. Карай останавливается у выступа скалы, медленно поднимается с брюха на все свои четыре лапы и хрипло лает. В этом лае Андрей подслушивает недоумевающую интонацию.
Под скалой никого и ничего нет.
— Что ж ты, звереныш? Что с тобой случилось?
Пес заунывно воет. Нет, он не станет так выть без причины. Андрей планшеткой разгребает снег. Ему не приходится долго трудиться. Под тонким слоем снега скрыта расселина. Луч карманного фонарика разгоняет темноту. Расселина неглубока, набита снегом. На дне ее лежит человек. Так вот, значит, как погиб Эль-Хан!
Карай воет.
Андрей спускается вниз, переворачивает тело на спину. Нет никаких признаков жизни на этом белом лице, лежащем на белом снегу. Рука со скрюченными пальцами тверже дерева, холоднее льда…
В финском домике шло собрание. Доклад только что был сделан. За председательским столом рядом с профессором Малунцем сидел черный Рафик. Он вел собрание.
Тихонечко войдя в зал, Андрей увидел несколько знакомых ему лиц. Впереди возле завхоза сидел радист. Стульев не хватало. Белый Рафик устроился, как всегда, на бильярдном столе. В первом ряду, положив руку на спинку кресла Марлены, занимал место Вадим Борисов.
Хотя Андрей вошел тихо, на него оглянулись. Он задержался у дверей.
— Что тут происходит?
— Комсомольское собрание, — шепнули ему. — Сергей Вартанович сделал доклад о моральном облике советского ученого, о борьбе за дисциплину.
Видимо, прения еще не начинались. Черный Рафик тщетно взывал к собравшимся, отыскивая среди них желающего выступить.
— Я хочу выступить, — объявил Андрей и пошел вперед.
Сапоги его громко стучали по полу, он старался умерить их стук. Лицо его было в подтеках грязи.
— Хоть бы умылся, — прошептал кто-то.
Но сзади цыкнули — и сразу установилась тишина.
— У вас комсомольское собрание, — сказал Андрей. — Я тоже комсомолец… — Он вытащил из кармана куртки и положил на председательский столик свой комсомольский билет. — Я прошу слова!
— Что с вами? — шепнул ему профессор Малунц.
Андрей не ответил.
— Этого не нужно, — мягко сказал черный Рафик, возвращая комсомольский билет. — Выступить может каждый желающий.
— Да, — сурово проговорил Андрей. — Но я хочу выступить как комсомолец на комсомольском собрании. У вас стоит вопрос о моральном облике. Вот об этом я буду говорить…
Он гневно посмотрел в притихший зал. Скулы на его лице шевелились. Он с натугой произнес свои первые слова:
— Два человека вышли в горы. Есть у нас такой закон, чтобы помогать в горах друг другу?
Люди в зале зашептались.
— Есть! — крикнул кто-то.
— Да, товарищи, такой закон у нас есть. Но вот в горах поднялась буря. И один человек, спасая свою жизнь, бросил другого с поврежденной ногой. Как это назвать?
— Он говорит об Эль-Хане! — громко сказала Марлена. — Эль-Хан бросил Вадима с поврежденной ногой.
Никто не отозвался на ее слова.
— Этот человек спасся! — гневно продолжал Андрей. — Он пришел в село, он попал в теплый дом. Но он так любил и жалел себя, он был в таком ужасе от того, что пережил… Словом, он побоялся снова вернуться в горы и показать место, где бросил товарища.
Тишину в зале разорвал резкий звук быстро отодвинутого стула. Вадим вскочил на ноги.
— Это ложь! — крикнул он, наклонив по-бычьи голову и выставив перед грудью кулаки. Можно было подумать, что он готовится к драке.
— Нет, это правда! — отрезал Андрей.
— Откуда вы можете знать? Эль-Хан не хотел идти в село…
— Слушайте, — с угрозой проговорил Андрей, — вы бросьте это! Вы лучше всех знаете, что это клевета. Вы распустили слух, будто Эль-Хан перешел границу!
Марлена, которая пыталась усадить Вадима на стул, теперь поднялась и встала рядом с ним.
— Нельзя же так! — крикнула она звенящим голосом, который, казалось, вот-вот оборвется. — Такие обвинения надо доказывать!
Андрей с сожалением посмотрел на нее.
— Несколько часов назад, — сказал он, обращаясь ко всему залу, — я верил, что этот человек не виновен или, во всяком случае, не очень виновен, так же, как верит в него сейчас эта девушка. Теперь у меня есть доказательства… Да! — с ненавистью бросил он в лицо Вадиму. — Это вы распустили пакостный слух… Вам надо было спасти не только свою драгоценную жизнь, но и обелить свое имя. Раз вы, струсив, бросили товарища, значит, уж не стоит посылать людей ему на выручку. Пусть гибнет! Зато никто не узнает, что вы трус. Да еще оклеветать товарища!.. Вы надеялись, что мертвец не сможет оправдаться, сколько бы на него ни наговорить!
За спиной Андрея прозвучал суровый голос:
— Вы нашли Эль-Хана?
Вопрос задал профессор Малунц. Он сидел — суровый, прямой и странно спокойный — за своим столиком.
— Да, я нашел мертвеца с поврежденной ногой… нашел далеко от границы замерзшего в горах человека… Укрывшись в расселине, он ожидал помощи… — Андрей снова обернулся к Вадиму и увидел, что тот жадно ловит каждое его слово. — У Вадима Борисова могло бы быть лишь одно оправдание: он мог думать, что Эль-Хан идет вслед за ним…
— Я так и думал! — с вызовом крикнул Вадим и поднял голову. — Я был уверен, что он идет за мной.
— Но прошло десять минут, двадцать минут, час, два часа — он не пришел. Вы должны были поднять тревогу. Ведь вы знали, что у него повреждена нога.
— Я этого не знал! Я считал, что он может так же прийти в село, как пришел я.
— Довольно! — с презрением сказал Андрей. — Вы всё знали! Вы бросили Эль-Хана не вблизи селения Урулик, а возле пика Димац. Потом вы стали выкручиваться, клеветать, врать. — Андрей снова обратился к залу: — Зато, видите ли, он плакал по ночам! Вот какой он чувствительный!
Вадим, спотыкаясь, вышел вперед. Он отбросил руку Марлены, которая его удерживала. Губы у него дрожали.
— Вы же знаете, в каком состоянии я добрался до села… — Он подошел вплотную к председательскому столику и уперся в него руками. — А если бы Эль-Хан шел один? Ведь я случайно оказался с ним… Кто бы его спасал? Чего вы от меня хотите?
— Долой его! Довольно! — загремели голоса из зала.
Вадим съежился.
— Вы должны понять, — закричал он, — я пришел в село и свалился без сознания! Провалы памяти… Я забыл обо всем!
— Кроме себя, — холодно произнес профессор Малунц. — Как вы смели забыть о человеке, который погибал в горах?
Андрей увидел возбужденные лица в зале, услышал, как с грохотом отодвигаются стулья и как вразнобой кричат люди, заметил выражение ужаса на лице Марлены — и быстро пошел к выходу.
— Благодарю за службу, лейтенант Витюгин! — Капитан Миансаров перегнулся через стол и пожал Андрею руку. — На днях получишь звание старшего лейтенанта, — пообещал он.
Этот разговор происходил в маленьком служебном кабинетике капитана Миансарова. Капитан угощал Андрея своим табаком особой высадки.
— А ведь исключительный случай для нашего времени! Человек бросает своего товарища в горах… Помирай, черт с тобой! Лишь бы мне еще раз не подставить свои щечки под снежок, под ветерок… Откуда столько гнили в молодом человеке?
— Да, я тоже сначала не понял этого Вадима, товарищ капитан. С виду он не хуже других — ученый, спортсмен… А когда прислал ко мне свою девушку, чтоб о его страданиях рассказала, — нет, думаю, внутри-то ты червяк! Главное дело — непомерное себялюбие. Он — в центре мира, все хуже его. Из той породы, что для него, скажем, тайфун в Японии имеет только один интерес — касается он его лично или нет. Эгоизм, одним словом.
— Эгоизм уголовно не наказуем, — вздохнул капитан Миансаров. — Нет у нас такой статьи…
— Статьи нет. А какое наказание может быть хуже презрения товарищей!
Они помолчали.
— Значит, не послушал тебя Карай, когда погнался за лисой?
— Нет. — Андрей нахмурился. — Зову, зову, а он будто не слышит.
— Долго звал?
— Порядочно.
— Так… — Капитан принялся раскуривать трубку. — Все же много еще времени пройдет, пока из тебя получится хороший проводник служебной собаки…
Андрей кивнул. Он был с этим согласен.
— Разрешите считать себя свободным?
— Иди, пожалуйста.
Приложив руку к козырьку, Андрей вышел из кабинета. Он торопился к вольеру. В кармане у него была сахарная косточка из супа, которую Ева велела передать Караю…
Пес осторожно принюхивается к камням, на которых нет снега. Он ложится на брюхо и ползет вперед. Так он приучен делать, если ожидается опасность. Но откуда она может здесь грозить? Андрей озирается. Ну да, служебная собака предупреждает о возможной встрече с людьми. Люди — опасность! Шерсть у Карая на загривке поднимается дыбом, затем полоска шерсти поднимается по всей спине вплоть до хвоста. Ого, дело серьезное! Андрей на всякий случай вытаскивает из кобуры пистолет. Рычание собаки становится басовитым, угрожающим. Карай останавливается у выступа скалы, медленно поднимается с брюха на все свои четыре лапы и хрипло лает. В этом лае Андрей подслушивает недоумевающую интонацию.
Под скалой никого и ничего нет.
— Что ж ты, звереныш? Что с тобой случилось?
Пес заунывно воет. Нет, он не станет так выть без причины. Андрей планшеткой разгребает снег. Ему не приходится долго трудиться. Под тонким слоем снега скрыта расселина. Луч карманного фонарика разгоняет темноту. Расселина неглубока, набита снегом. На дне ее лежит человек. Так вот, значит, как погиб Эль-Хан!
Карай воет.
Андрей спускается вниз, переворачивает тело на спину. Нет никаких признаков жизни на этом белом лице, лежащем на белом снегу. Рука со скрюченными пальцами тверже дерева, холоднее льда…
В финском домике шло собрание. Доклад только что был сделан. За председательским столом рядом с профессором Малунцем сидел черный Рафик. Он вел собрание.
Тихонечко войдя в зал, Андрей увидел несколько знакомых ему лиц. Впереди возле завхоза сидел радист. Стульев не хватало. Белый Рафик устроился, как всегда, на бильярдном столе. В первом ряду, положив руку на спинку кресла Марлены, занимал место Вадим Борисов.
Хотя Андрей вошел тихо, на него оглянулись. Он задержался у дверей.
— Что тут происходит?
— Комсомольское собрание, — шепнули ему. — Сергей Вартанович сделал доклад о моральном облике советского ученого, о борьбе за дисциплину.
Видимо, прения еще не начинались. Черный Рафик тщетно взывал к собравшимся, отыскивая среди них желающего выступить.
— Я хочу выступить, — объявил Андрей и пошел вперед.
Сапоги его громко стучали по полу, он старался умерить их стук. Лицо его было в подтеках грязи.
— Хоть бы умылся, — прошептал кто-то.
Но сзади цыкнули — и сразу установилась тишина.
— У вас комсомольское собрание, — сказал Андрей. — Я тоже комсомолец… — Он вытащил из кармана куртки и положил на председательский столик свой комсомольский билет. — Я прошу слова!
— Что с вами? — шепнул ему профессор Малунц.
Андрей не ответил.
— Этого не нужно, — мягко сказал черный Рафик, возвращая комсомольский билет. — Выступить может каждый желающий.
— Да, — сурово проговорил Андрей. — Но я хочу выступить как комсомолец на комсомольском собрании. У вас стоит вопрос о моральном облике. Вот об этом я буду говорить…
Он гневно посмотрел в притихший зал. Скулы на его лице шевелились. Он с натугой произнес свои первые слова:
— Два человека вышли в горы. Есть у нас такой закон, чтобы помогать в горах друг другу?
Люди в зале зашептались.
— Есть! — крикнул кто-то.
— Да, товарищи, такой закон у нас есть. Но вот в горах поднялась буря. И один человек, спасая свою жизнь, бросил другого с поврежденной ногой. Как это назвать?
— Он говорит об Эль-Хане! — громко сказала Марлена. — Эль-Хан бросил Вадима с поврежденной ногой.
Никто не отозвался на ее слова.
— Этот человек спасся! — гневно продолжал Андрей. — Он пришел в село, он попал в теплый дом. Но он так любил и жалел себя, он был в таком ужасе от того, что пережил… Словом, он побоялся снова вернуться в горы и показать место, где бросил товарища.
Тишину в зале разорвал резкий звук быстро отодвинутого стула. Вадим вскочил на ноги.
— Это ложь! — крикнул он, наклонив по-бычьи голову и выставив перед грудью кулаки. Можно было подумать, что он готовится к драке.
— Нет, это правда! — отрезал Андрей.
— Откуда вы можете знать? Эль-Хан не хотел идти в село…
— Слушайте, — с угрозой проговорил Андрей, — вы бросьте это! Вы лучше всех знаете, что это клевета. Вы распустили слух, будто Эль-Хан перешел границу!
Марлена, которая пыталась усадить Вадима на стул, теперь поднялась и встала рядом с ним.
— Нельзя же так! — крикнула она звенящим голосом, который, казалось, вот-вот оборвется. — Такие обвинения надо доказывать!
Андрей с сожалением посмотрел на нее.
— Несколько часов назад, — сказал он, обращаясь ко всему залу, — я верил, что этот человек не виновен или, во всяком случае, не очень виновен, так же, как верит в него сейчас эта девушка. Теперь у меня есть доказательства… Да! — с ненавистью бросил он в лицо Вадиму. — Это вы распустили пакостный слух… Вам надо было спасти не только свою драгоценную жизнь, но и обелить свое имя. Раз вы, струсив, бросили товарища, значит, уж не стоит посылать людей ему на выручку. Пусть гибнет! Зато никто не узнает, что вы трус. Да еще оклеветать товарища!.. Вы надеялись, что мертвец не сможет оправдаться, сколько бы на него ни наговорить!
За спиной Андрея прозвучал суровый голос:
— Вы нашли Эль-Хана?
Вопрос задал профессор Малунц. Он сидел — суровый, прямой и странно спокойный — за своим столиком.
— Да, я нашел мертвеца с поврежденной ногой… нашел далеко от границы замерзшего в горах человека… Укрывшись в расселине, он ожидал помощи… — Андрей снова обернулся к Вадиму и увидел, что тот жадно ловит каждое его слово. — У Вадима Борисова могло бы быть лишь одно оправдание: он мог думать, что Эль-Хан идет вслед за ним…
— Я так и думал! — с вызовом крикнул Вадим и поднял голову. — Я был уверен, что он идет за мной.
— Но прошло десять минут, двадцать минут, час, два часа — он не пришел. Вы должны были поднять тревогу. Ведь вы знали, что у него повреждена нога.
— Я этого не знал! Я считал, что он может так же прийти в село, как пришел я.
— Довольно! — с презрением сказал Андрей. — Вы всё знали! Вы бросили Эль-Хана не вблизи селения Урулик, а возле пика Димац. Потом вы стали выкручиваться, клеветать, врать. — Андрей снова обратился к залу: — Зато, видите ли, он плакал по ночам! Вот какой он чувствительный!
Вадим, спотыкаясь, вышел вперед. Он отбросил руку Марлены, которая его удерживала. Губы у него дрожали.
— Вы же знаете, в каком состоянии я добрался до села… — Он подошел вплотную к председательскому столику и уперся в него руками. — А если бы Эль-Хан шел один? Ведь я случайно оказался с ним… Кто бы его спасал? Чего вы от меня хотите?
— Долой его! Довольно! — загремели голоса из зала.
Вадим съежился.
— Вы должны понять, — закричал он, — я пришел в село и свалился без сознания! Провалы памяти… Я забыл обо всем!
— Кроме себя, — холодно произнес профессор Малунц. — Как вы смели забыть о человеке, который погибал в горах?
Андрей увидел возбужденные лица в зале, услышал, как с грохотом отодвигаются стулья и как вразнобой кричат люди, заметил выражение ужаса на лице Марлены — и быстро пошел к выходу.
— Благодарю за службу, лейтенант Витюгин! — Капитан Миансаров перегнулся через стол и пожал Андрею руку. — На днях получишь звание старшего лейтенанта, — пообещал он.
Этот разговор происходил в маленьком служебном кабинетике капитана Миансарова. Капитан угощал Андрея своим табаком особой высадки.
— А ведь исключительный случай для нашего времени! Человек бросает своего товарища в горах… Помирай, черт с тобой! Лишь бы мне еще раз не подставить свои щечки под снежок, под ветерок… Откуда столько гнили в молодом человеке?
— Да, я тоже сначала не понял этого Вадима, товарищ капитан. С виду он не хуже других — ученый, спортсмен… А когда прислал ко мне свою девушку, чтоб о его страданиях рассказала, — нет, думаю, внутри-то ты червяк! Главное дело — непомерное себялюбие. Он — в центре мира, все хуже его. Из той породы, что для него, скажем, тайфун в Японии имеет только один интерес — касается он его лично или нет. Эгоизм, одним словом.
— Эгоизм уголовно не наказуем, — вздохнул капитан Миансаров. — Нет у нас такой статьи…
— Статьи нет. А какое наказание может быть хуже презрения товарищей!
Они помолчали.
— Значит, не послушал тебя Карай, когда погнался за лисой?
— Нет. — Андрей нахмурился. — Зову, зову, а он будто не слышит.
— Долго звал?
— Порядочно.
— Так… — Капитан принялся раскуривать трубку. — Все же много еще времени пройдет, пока из тебя получится хороший проводник служебной собаки…
Андрей кивнул. Он был с этим согласен.
— Разрешите считать себя свободным?
— Иди, пожалуйста.
Приложив руку к козырьку, Андрей вышел из кабинета. Он торопился к вольеру. В кармане у него была сахарная косточка из супа, которую Ева велела передать Караю…
ПОСЛЕДНИЙ ПОИСК
Чепрачная сука Дианка принесла шестерых щенят. Все они были пузатые, большелобые, коротконогие и очень пискливые. Хотя заведующий отделением молодняка Сисак Телалян уверял, что щенки похожи на Карая, Андрей не мог с этим согласиться. — Только то сходство, что у каждого по четыре лапы, — посмеивался он. Больше всего Андрея возмущало, что у щенков висят уши, словно лопушки. И при таких ушах они смеют претендовать на сходство с Караем! Но Сисак уверял, что все образуется. Вырастут настоящие служебные собаки. — Ты для них вроде как бы крестного отца, — шутил Сисак. Он регулярно извещал Андрея обо всех событиях в жизни собачьего семейства. На третий день щенков стали выносить на свежий воздух; на десятый день их начали подкармливать; еще через двое суток они прозрели; к исходу третьей недели у них отросли острые коготки на передних лапах. Андрей держал меня в курсе событий: — Вот, Костя, наш Карай уже потомство заимел. Одного щенка Андрей хотел отправить в деревню, в дар Карлосу. Подарок был обещан уже давно — с того времени, когда Карлос помогал Андрею в поимке преступников, пользовавшихся ходулями. Капитан Миансаров разрешил: “Дай мальчику щенка!” Андрей велел мне купить толстую книгу “Служебная собака”, в которой рассказывалось, как надо кормить, растить, воспитывать и обучать щенят. Он подобрал красивый ошейник и ременный коричневый поводок. Все это мы решили отвезти Карлосу. Я как раз собирался съездить в это село, в кратковременную командировку. — Приходи и приводи с собой Карая, — сказал Сисак Андрею на сорок пятый день, когда все потомство было отнято у Дианки и переведено на жительство в щенятник. — Пусть посмотрит на своих деток. Щенятник — чистенький, низенький, словно игрушечный домик, и при нем выгульная площадка, огороженная забором, — находился на краю питомника. Мы пришли сюда в полдень. Андрей вел Карая на поводке. Мохнатые бурые комочки, неуклюже ковыляя на своих шатких лапках, крутились возле забора. Все щенки были похожи друг на друга. Однако Сисак без труда различал их, указывал, какой лучше, какой хуже. — Вот этот для твоего Карлоса, — объявил он, извлекая из кучи мохнатых тел существо, похожее на игрушечного плюшевого медвежонка. Щенок лежал тугим брюшком на ладони Сисака, задние лапки беспомощно барахтались в воздухе. Но он не пищал, не жаловался, а мужественно переносил неудобства своего положения. — Хороший будет? — придирчиво спросил Андрей. — Не беспокойся. Может, не самый лучший, но очень хороший. Мы уложили щенка в специально приготовленную плетеную корзинку. В этой корзинке песику предстояло совершить первое в своей жизни путешествие. Теперь Сисак взял на руки самого толстого из щенят. — А вот это — будущий чемпион. Предсказываю тебе — медали и слава обеспечены. При рождении вытянул шестьсот двадцать граммов. Смотри, какие лапы! Он побольше Карая будет, когда вырастет. Это заявление вызвало недоверчивую усмешку на лице Андрея. Как бы не так! Карай стоял рядом — огромный, могучий — и брезгливо посматривал на щенка. — Вот, Карай, ты уже папашей стал. Веди себя солидно. Поздоровайся с сынком, ну-ка! Щенок с растопыренными лапами, толстым хвостиком, висячими ушками и мутно-зелеными глазами, которые не могли уловить даже неторопливого движения пальца в воздухе, явно не понравился Караю. У щенка еще не было шерсти, один подшерсток, мягкий, как козий пух. Карай осторожно понюхал этот подшерсток и, сморщив нос, с отвращением чихнул. — Не хочет видеть сыночка, — сказал Сисак. — Как бы не задрал. У них это бывает. Но Андрей видел, что Карай, который никого и ничего на свете не боялся, просто-напросто боится этого беспомощного щенка. Пушистый комочек, попискивая, надвигался на него, подняв кверху толстый хвостик, а Карай, опасливо кося глазом сверху вниз, все отступал и пятился. Он попробовал зарычать, но это была всего только самооборона. Щенок подкатился к его передним лапам. Карай, взвизгнув, пустился наутек. Сисак поднял щенка с земли. В этом маленьком существе все было еще неопределенно. Вот он вырастет, а какой будет масти — неизвестно. Подшерсток должен выпасть, и лишь после этого определится цвет его шкуры. Молочно-мутные глаза только через полтора — два месяца смогут приобрести ясное выражение. Все в будущем!
Андрей осторожно погладил щенка, потрепал двумя пальцами его тупую мордочку. Щенок зубками-булавочками захватил его палец и прикусил. Это было не больно, а приятно.
— Как назовешь? — спросил Андрей, легонько тыкая пальцем в тучное брюшко зверька.
— Видишь ли, — Сисак хитро прищурился, — надо, чтобы в имени были буквы и отца и матери. От Дианки возьмем “Ди”, от Карая — “Кар” или “К”. Кличка получится “Дик” или “Дикарь”.
— Дикарь — это подойдет, — сказал Андрей, уже любуясь милым зверьком, который весело терзал его палец. — Правда, ты хороший песик, хороший песик…
С такими словами Андрей не раз обращался к Караю. Теперь, услышав знакомое обращение, Карай, сидевший под деревом, ревниво завыл.
Хотя Андрей воспитывал Карая со щенячьего возраста, он плохо помнил его детство. Ему казалось, что теперешний могучий Карай и тот кругленький и мягонький, как подушка на тахте, зверек, которого ему три с лишним года назад вручили во владение, — это две разные собаки. Помнилось только, что, передавая щенка, ему сказали: “Вот это будет твой Джульбарс. Расти и учи!” “Джульбарсами” капитан Миансаров называл всех щенков подвластного ему питомника до тех пор, пока они не совершали первых своих подвигов. Кличка была ироническая — так котят называют тиграми…
Карай перестал быть “Джульбарсом” в восьмимесячном возрасте. В питомнике производились тогда испытания молодых собак “на выстрел”. Инструктор, одетый для безопасности в просмоленный брезентовый комбинезон, вызывал на площадку поочередно проводников с молодыми собаками. Он замахивался на проводника или толкал его — и после этого убегал в кустарниковые заросли. Собака рвалась на поводке, грозя отомстить за хозяина. Ух, какие все они были страшные в ту минуту! Но капитан Миансаров хорошо их знал: “На поводке да при хозяине они смелые. Посмотрим, что будет на деле”. Когда инструктор отбегал шагов на тридцать, щенка пускали в погоню. В несколько прыжков щенок догонял врага. Инструктор приостанавливался и стрелял из пистолета в воздух или в землю. Это и было “испытание на выстрел” — одно из самых серьезных испытаний для будущей служебной собаки. Далеко не каждая из них его выдерживала. Были такие собаки, что всем хороши, а вот до зрелого возраста не могли отделаться от ужаса перед дулом пистолета, перед звуком выстрела. Таких беспощадно браковали.
Чего же требовать от щенков? Трое из них в тот день с визгом повернули обратно, растеряв весь свой боевой пыл. Проводники этих собак получили от капитана Миансарова крепкую нахлобучку — надо уметь вырабатывать мужество у щенка! Две другие молодые собаки, когда пришла их очередь, помедлили и все-таки вцепились в оскорбителя, но робко, с оглядкой, без того сокрушающего азарта, которым должен обладать серьезный боевой пес. Карай при выстреле только ушами прянул и с разлета, грозно рыча, прыгнул инструктору на плечи. Он свалил человека на землю, разодрал брезентовую куртку.
“Да уберите вы этого черта!” — кричал инструктор. А когда поднялся и стер кровь с лица, то сказал: “Это не собака, а золото!” — “Так зато мы и дали ее золотому парню!” — объявил капитан Миансаров и пожал Андрею руку.
Теперь, вспоминая об этом, Андрей с гордостью смотрел на Карая. Вон какой пес вырос! Лучший в питомнике. Даже Маузера обошел, а уж тот рекордсмен, медалист. Может, этот щенок Дикарь обойдет в будущем и Маузера и Карая. Лучшему конца нет…
На дорожке, ведущей к щенятнику, показался дежурный и с ходу закричал:
— Лейтенанта Витюгина к начальнику!
— Что там еще? — заворчал Андрей.
— Торопитесь! Капитан ждет!
Взяв Карая на поводок, Андрей пошел из щенятника. Я нес рядом плетеную корзинку, в которой спал сын Карая, предназначенный для Карлоса. Неподалеку от учебной площадки нас встретил другой посыльный:
— Скорее к начальнику!
— Да вот только собаку в вольер поставлю, — недовольно сказал Андрей.
— Приказано явиться вместе с собакой.
Это означало, что предстоит работа. Андрей ускорил шаги.
— Видишь, Костя, что получается, — сказал он. — А как хотелось поскорее доставить мальчишке щенка…
— Хочешь, я отвезу? Мне все равно надо туда ехать. К вечеру вернусь обратно и все тебе расскажу.
— Это уж будет не то. Мне самому охота… Да и мальчик будет разочарован… — Он сдвинул брови. — Но все-таки поезжай! И скажи Карлосу, что при первом случае я заеду и проинструктирую его, как надо со щенком обращаться. Пусть не перекармливает, не балует!
И он быстро пошел по дорожке.
Капитан Миансаров ждал Андрея в своем кабинете.
— Оружие при тебе? — коротко спросил он.
— Так точно! — Андрей сразу же подтянулся в ожидании предстоящего ему дела. — Разрешите, товарищ капитан, обратиться?
— Давай обращайся.
— Разрешите узнать: что случилось?
Капитан Миансаров посмотрел на Андрея, как бы еще раз оценивая стоявшего перед ним человека.
— Серьезная тебе предстоит работа, — сообщил он, прищурившись. — Надо взять опасного преступника… Мишка-Зверь убежал!
Человек с кличкой Мишка-Зверь, или Копченый, давно уже перестал быть человеком. Он утверждал, что не знает своего настоящего имени, не знает, где родился, кто его отец и кто мать. Он дожил до тридцати с лишним лет, называя себя, в зависимости от обстоятельств, то русским, то цыганом, то армянином. У него не было национальности, как не было имени.
Надо сделать много страшного, чтобы среди жуликов, бандитов, убийц — настоящих зверей, его окружавших, — заслужить кличку Зверя. Он заслужил такую кличку.
Копченым же его прозвали за устойчивый грязновато-красный цвет лица, который не менялся ни зимой, ни летом. Ему приписывали много самых гнусных преступлений — и он ни от одного из них не отказывался. Говорили, что он осужден разными судами в общей сложности лет на сто. Сердобольные судьи, к которым он попадал в руки, всё надеялись, что его еще можно исправить…
В воскресенье утром Мишка-Зверь с двумя приятелями вышел из своего логова в город, чтобы разыскать нужного им человека. Точный адрес был им неизвестен. Они вошли во двор нового дома, где на высоком шесте висел флажок. Дети с красными галстуками толпились вокруг шеста. Мишка-Зверь в последнее время никогда не бывал трезвым. Его раздражали люди, которые веселились или работали. “Слишком все стали чистенькие!” — говорил он.
Теперь он остановился посреди двора и долго смотрел, как веселятся ребята. Приятели пытались увести его, он оттолкнул их, потом вышел на площадку и ударом ноги свалил шест.
Дети притихли, девочки шарахнулись в сторону. Но вперед протиснулся мальчик в белой блузе, с горячими глазами, с тоненькими и еще слабыми руками, обнаженными по локоть. Он привык жить среди мужественных, добрых, справедливых людей и думал, что правдивое слово имеет безграничную власть. Он с укором, и удивлением произнес слова, которые могли бы устыдить всякого:
— Здесь пионерский лагерь, дядя!
Копченому это было все равно. Никакие слова давно уже не имели доступа к его сердцу.
— Вон что! — глумясь, проговорил он и притянул мальчика к себе за пионерский галстук. — А ты тут чья собака?
— Бросьте! Вы меня не пугайте! — Глаза у мальчика блестели, он и правда не боялся Копченого. — Вы нам мешаете проводить сбор.
Тогда Копченый, легко приподняв это худенькое тельце, с силой швырнул его на землю. Он думал, что теперь нагонит ужас на всех детальных. Но к нему уже с криком бежала вожатая — она была на другом конце двора. Из дома выскочил пожилой мужчина с разгневанным лицом. Собралась толпа. И Копченый с удивлением подумал, что тут его не испугались, — бояться должен он сам.
Его друзья, прижимаясь к стенам, потихоньку ускользнули. Копченого задержали. В отделении милиции в нем без труда опознали Мишку-Зверя, который не раз ускользал от наказания. Нашлось много дел, за которые его надо было судить. Грозил суровый приговор. Мишка-Зверь ждал суда спокойно. “Все равно убегу”, — ласково извещал он следователя.
Но в тюрьме, после приговора, Мишка-Зверь держался скромно. Он безропотно подчинялся всем правилам внутреннего распорядка и даже написал трогательное письмо на имя начальника, в котором уверял, что завяжет узелок на своей прежней жизни — начнет жить честно.
— Такое время пришло, — говорил он, вздыхая, — надо менять профессию. У кого я беру? — спрашивал он. — У трудящего человека! Он месяц работает, а я в две минуты его заработок отбираю. Я для него выхожу настоящим паразитом!
Эти его высказывания начали даже ставить в пример другим уголовникам…
До отправки на место заключения Мишку-Зверя ввиду его хорошего поведения решили временно перевести из тюрьмы в пригородную исправительно-трудовую колонию. Он попал туда вечером. Неподалеку от ворот в землю была вкопана деревянная вышка, на ней посменно дежурили часовые.
— Да, — сказал Мишка-Зверь, покрутив носом, — крепко охраняют, отсюда не убежишь!.. — и засмеялся.
На другой день ему дали работу на территории колонии — за ограду его все-таки решили не выводить. Ему было поручено делать черепицу на маленьком кирпично-черепичном заводике, существовавшем при колонии.
— Это дело как раз по мне! — сказал он.
Считалось, что из колонии убежать невозможно. Местность вокруг на несколько десятков шагов была открытая. Выход только один — ворота, которые тщательно охранялись часовыми на сторожевой вышке. Куда денешься?
Копченый все не начинал работать, он ходил по дорожкам и, как бы случайно, вышел к воротам, возле которых стояла вышка.
— Стой! — крикнул ему часовой. — Приближаться нельзя. Давай назад!
— Да уж я знаю, что нельзя, — ласково говорил Копченый и, улыбаясь, подходил все ближе к воротам.
Часовой угрожающе вскинул винтовку:
— Давай назад!
Укоризненно покачав головой, Копченый остановился. Он повернулся к воротам спиной, что несколько успокоило часового.
— Чего ты боишься? У тебя винтовка. Ты видишь — со мной никто не разговаривает, так я хоть к тебе поговорить пришел… — Копченый выразительно играл глазами и посмеивался.
— Какие разговоры! — строго сказал часовой. — Идите на свое место! — И опустил винтовку.
Тогда Копченый, все еще стоя спиной к воротам, сделал быстрый прыжок назад. Никто не умел так прыгать. Это был его прием, разработанный с давних пор. Человек как будто собирается прыгнуть вперед, а прыгает назад… Часовой не успел вскинуть винтовку. Копченый прыгнул еще раз — и оказался за воротами. Гулкий выстрел, казалось, свалил его с ног. Он покатился под откос. Часовой решил, что он ранен, и не стал больше стрелять. Но Копченый поднялся на ноги. За ворота ловить его выбежало несколько бойцов вооруженной охраны. Уйти ему было некуда.
Внимательно осмотрели мятую траву в том месте, где упал Копченый, и не нашли ни одного пятнышка крови. Значит, и его падение было обманом. Пуля пролетела мимо…
В полусотне шагов от ворот лежала старая, неизвестно кем привезенная сюда огромная труба. Она лежала здесь давно и уже вросла в землю. Копченый заполз в эту трубу.
Теперь его песенка была спета. У обоих концов трубы встали люди. Копченый попадет в их руки, куда бы он ни сунулся. Но, прежде чем извлечь его оттуда, с ним попробовали завязать переговоры.
— Выходи! — крикнул, заглядывая в трубу, боец вооруженной охраны Епрем Коджоян. — Выходи, Зверь. Твой номер не прошел.
Копченый молчал.
Надо было что-то предпринимать. Полезешь в трубу, а там в темноте и тесноте борись с бандитом, которому убить человека — все равно что стакан воды выпить. Да и зачем это делать, когда и так Копченому некуда деваться? Все равно он рано или поздно окажется в руках ожидающих его людей. На этом-то, как выяснилось позднее, он и строил свои расчеты.
Прошло около получаса, Копченый все не выходил. Его звали — он не откликался.
Наконец людям надоело ждать. Первым потерял терпение Епрем Коджоян и решительно вошел в трубу. Он полз, держа наперевес штык. У Копченого могло оказаться какое-нибудь оружие, встреча с ним грозила опасностью. Но Епрем надеялся на свои силы. Кроме того, с другого конца трубы пополз навстречу Епрему еще один боец, так что Копченому пришлось бы туго, если б он решил оказать сопротивление.
С Епремом все время поддерживали связь, кричали ему: как, мол, идут дела? И он отвечал: “Ползу, пока ничего не обнаружил”. Потом перестал отвечать. Снаружи люди ждали в тревоге, не донесется ли из трубы шум, свидетельствующий о борьбе. Но вот, наконец, двое бойцов выползли из трубы на вольный воздух. У них были сконфуженные лица. К ним кинулись люди. Отстранив их, Епрем Коджоян подошел к начальнику охраны и доложил:
— Никого там нету.
— Как же так? Да вы хорошо ли смотрели?
— Проползли из конца в конец, — сконфуженно сказал Епрем. — Там пусто, товарищ начальник…
Андрей прибыл на место происшествия, когда взбудораженные бойцы, один за другим побывавшие в трубе, уже поняли, куда исчез Копченый. Примерно посредине трубы они нашли пролом, уходящий в землю. Трубу откатили. Яма, которая под ней открылась, была глубокая, темная, и дна ее не было видно. Неужели Копченый и до сих пор сидит в этой яме?
Пока думали да гадали, один из отбывающих наказание рецидивистов попросил разрешения поговорить с начальником охраны колонии. Очевидно, он сообщил начальнику нечто такое, что меняло всю обстановку. Начальник вернулся к трубе с очень серьезным лицом.
— Вы думаете, — сказал он бойцам, — что Мишка-Зверь все сидит тут, в яме?
— А где же ему еще быть!
— Не знаю где, — сказал начальник, — только не здесь.
Оказалось, что яма под трубой была началом подземного хода, выкопанного примерно год назад. Шайка рецидивистов, оставшаяся на воле, пыталась устроить побег своему товарищу, заключенному в колонии. Побег не удался. Но секрет уголовники сохранили.
Они сообщили о нем в тюрьму Мишке-Зверю: “Старайся попасть в колонию!” На этом Копченый и построил план своего освобождения. Теперь он был, видимо, далеко.
— Крупный преступник убежал, — объяснил Андрею начальник вооруженной охраны колонии. — Наша вина, признаю. Но ты подумай, сколько он может бед натворить, сколько невинных жизней унесет! На ребенка руку поднял! Разве это человек?
— Вы меня не агитируйте! — зло сказал Андрей. — Надо было раньше смотреть, как следует!
Он внимательно исследовал пролом в трубе, приказал Караю сидеть под деревом и полез в яму. Необходимо выяснить, где кончается подземный ход.
— Собаку вперед пусти, — советовали ему, — опасно!
— Что тут сделает собака? — застенчиво улыбнулся Андрей. — Уж лучше я сам…
Спуск в яму был довольно трудным. Андрей полз, держа в левой руке карманный электрический фонарик. Сначала ему показалось, что ход невероятно узкий. “Ничего, протиснуться можно”, — думал он. Недостаток свежего воздуха затруднял дыхание. Вдруг он явственно услышал, что впереди кто-то ползет, и пожалел, что не взял с собой Карая. Направил прямо перед собой луч карманного фонарика. Нет, никого нет, это просто осыпалась земля.
Свободно Андрей вздохнул только тогда, когда ход стал подниматься вверх. Он высунул голову, осмотрелся и выбрался наружу. Вход был скрыт большим камнем. Этот камень Копченый, вылезая, очевидно, отодвинул в сторону, и теперь на его месте зияла черная дыра.
Андрею казалось, что он полз очень долго. Но когда он осмотрелся, то увидел, что находится всего в нескольких десятках шагов от трубы. Он негромко окликнул Карая. Пес послушно сидел под деревом и глядел на трубу. Услышав зов, он со всех ног кинулся к хозяину. Вслед за ним подбежали и бойцы.
— Вот, — сказал Андрей, — отсюда Копченый пополз — видите, трава примята? А вы его и не заметили за деревьями!
— Действительно! — Бойцы приглядывались к траве. — Совсем недавно был здесь…
Андрей взял собаку на длинный поводок.
— Карай! След!
Пес потянул влажным носом и повел хозяина по прямой — к строениям, которые виднелись вдали. Не успели они отойти и сотню шагов, как их нагнал Епрем Коджоян.
— Парень надежный, — кричал начальник охраны, — возьми его с собой! Поможет в случае чего…
Дальше пошли вместе.
— Много ты их, верно, переловил в своей жизни? — говорил Епрем, едва поспевая за собакой.
— Приходилось…
— И в схватках бывал?
— Бывал.
— И убитые есть на твоей совести?
— Вот представь, — сказал Андрей, — что я, при моей довольно-таки жестокой профессии, до сих пор никого не убил.
— Просто случая не было, не налетал на настоящих.
— Во-первых, действительно случая не представлялось. А случая не представлялось потому, что пускать в ход оружие — дело самое легкое. Преступник должен быть взят живым.
— Ну, с этим, которого ловим, ты держись начеку. Он-то тебя не пожалеет. Недаром кличка — Зверь!
— Будем начеку, — сказал Андрей. — Но теперь, друг, ты не сердись — давай прекратим разговоры. Правило есть: по следу иди — молчи! И также, будь любезен, придерживайся инструкции — отойди подальше в сторону, шагов на тридцать, чтобы не мешать служебно-розыскной собаке.
Вскоре Епрем стал отставать. Карай сильно тянул по свежему следу, и Андрей еле мог бежать за ним. Дорогу преградил высокий дощатый забор. Карай хотел его перепрыгнуть, но потом раздумал ипрополз под доской. Надо было бросать поводок или ползти за ним. Андрей пополз. На свой новый китель он уж рукой махнул. Будет Еве работа!
След снова уклонился от строений. Копченый, видно, забегал сюда лишь на секунду, чтобы передохнуть. Карай привел Андрея к оврагу. Дорога теперь шла по склону, густо поросшему лесом. Под ногами шуршали желтые листья. Внизу были видны розовые и желтые городские здания.
Карай с вздыбленной шерстью подступил к могучему тополю и облаял его. Что ж это значит? Может, Копченый где-нибудь здесь? Андрей осторожно осмотрелся, но ни внизу, на желтеющей траве, ни наверху, на ветвях дерева, ничего подозрительного не заметил. Видимо, Копченый тут приостановился, отдыхал. До чего же точно стал Карай работать по следу! Андрей наклонился и поднял окурок, лежащий под деревом. Огонек уже погас, но окурок был теплый — только что брошен.
— След, Карай!
Однако Карай не пошел вперед. Он завертелся на месте, подняв кверху черный нос и втягивая в себя воздух. Затем медленно, пригнув шею, злобно рыча, он ступил в траву и пошел по ней, осторожно и как бы с натугой переставляя свои напружиненные лапы. В стороне за деревьями лежал большой черный камень. К нему и направился Карай. Андрей еле сдерживал его на поводке. Пес то и дело оглядывался на хозяина: “Ну, хозяин, разве ты не понимаешь?” Андрей тихонько потащил из кобуры пистолет…
Мишка-Зверь поднялся из-за камня, когда понял, что ему все равно не скрыться. Красное лицо с низко надвинутой на лоб кепкой было злым и сосредоточенным, маленькие, словно птичьи, глазки смотрели зорко и непримиримо. В ладони он держал тяжелый булыжник.
— У тебя камень, у меня пистолет, — сказал Андрей. — На что надеешься? Руки вверх!
Копченый быстро взметнул вверх руки. В его ладони что-то блеснуло. Андрей не уловил момента, когда камень вылетел из руки бандита, почувствовал только ожог на шее и отер пальцами кровь. Чуть бы точнее — и страшный удар пришелся в лицо.
Стоять было трудно — Андрей сел на пенек. В глазах у него потемнело. Конечно, можно выстрелить и положить бандита на месте. Так и полагается поступать в порядке самообороны. Но Андрей не выстрелил. Сжав зубы, он приказал:
— А ну, теперь полуоборот налево и вперед — шагом марш!
Он только услышал, как скулит Карай, и почувствовал прикосновение горячего собачьего языка к своей щеке. Открыл глаза. Мишка-Зверь торопливо спускался вниз по откосу.
— Не валяй дурака! — крикнул Андрей. — Положу!
— Клади!
Копченый уходил, скрываясь за деревьями. Андрей выстрелил в воздух — бандит даже не оглянулся. Надо подниматься и идти за ним. Все еще чувствуя слабость в коленях, Андрей сделал несколько шагов. Нет, он идет слишком медленно…
— Фас, Карай! Фас!
Карай, давно уже сдерживающий нетерпение, только и ожидал приказа хозяина. Он сорвался с места и помчался по откосу, делая широкие, могучие прыжки. Андрей шел за ним. Ну что ж, теперь беспокоиться нечего, Карай догонит преступника…
Копченый раза два с тревогой оглянулся. Наконец он понял, что ему не уйти. Он остановился под деревом и повернулся к преследователям лицом. В руке у него блеснул нож.
— Назад, Карай!
Но Карай уже присел, спружинил и не смог удержаться — прыгнул на врага.
Служебную собаку учат, чтобы, вступая в схватку, она следила за руками преступника. Карай умел с налета захватывать своими страшными зубами ту руку врага, которая держит оружие. Стиснет зубы — и бандит со стоном роняет нож или пистолет. Так бывало не раз.
Но Мишка-Зверь тоже знал повадки служебных собак. Почти неуловимым движением он переложил нож из правой руки в левую. И, когда Карай, ударив его лапами в грудь, свалил на траву и впился зубами в его правую руку, другая — левая рука бандита нанесла короткий и страшный удар. Лезвие ножа прошло сквозь густую шерсть, раздвинуло ребра…
Андрей увидел, что Карай странно дернулся, тоскливо взвыл, потом недвижно распластался на траве, бессильно щелкая зубами. Острые уши опали, и он уткнул морду в землю. Еще несколько раз шевельнулся пушистый хвост, но и тот затих.
Мишка-Зверь поднялся, опять отступил к дереву, раздувая губы и прежним зорким птичьим взглядом осматриваясь по сторонам. Он был сильно помят, покусан. У него уже не было ножа. Он поднял с земли большой камень.
Сисак поднял щенка с земли. В этом маленьком существе все было еще неопределенно. Вот он вырастет, а какой будет масти — неизвестно. Подшерсток должен выпасть, и лишь после этого определится цвет его шкуры. Молочно-мутные глаза только через полтора — два месяца смогут приобрести ясное выражение. Все в будущем!
Андрей осторожно погладил щенка, потрепал двумя пальцами его тупую мордочку. Щенок зубками-булавочками захватил его палец и прикусил. Это было не больно, а приятно.
— Как назовешь? — спросил Андрей, легонько тыкая пальцем в тучное брюшко зверька.
— Видишь ли, — Сисак хитро прищурился, — надо, чтобы в имени были буквы и отца и матери. От Дианки возьмем “Ди”, от Карая — “Кар” или “К”. Кличка получится “Дик” или “Дикарь”.
— Дикарь — это подойдет, — сказал Андрей, уже любуясь милым зверьком, который весело терзал его палец. — Правда, ты хороший песик, хороший песик…
С такими словами Андрей не раз обращался к Караю. Теперь, услышав знакомое обращение, Карай, сидевший под деревом, ревниво завыл.
Хотя Андрей воспитывал Карая со щенячьего возраста, он плохо помнил его детство. Ему казалось, что теперешний могучий Карай и тот кругленький и мягонький, как подушка на тахте, зверек, которого ему три с лишним года назад вручили во владение, — это две разные собаки. Помнилось только, что, передавая щенка, ему сказали: “Вот это будет твой Джульбарс. Расти и учи!” “Джульбарсами” капитан Миансаров называл всех щенков подвластного ему питомника до тех пор, пока они не совершали первых своих подвигов. Кличка была ироническая — так котят называют тиграми…
Карай перестал быть “Джульбарсом” в восьмимесячном возрасте. В питомнике производились тогда испытания молодых собак “на выстрел”. Инструктор, одетый для безопасности в просмоленный брезентовый комбинезон, вызывал на площадку поочередно проводников с молодыми собаками. Он замахивался на проводника или толкал его — и после этого убегал в кустарниковые заросли. Собака рвалась на поводке, грозя отомстить за хозяина. Ух, какие все они были страшные в ту минуту! Но капитан Миансаров хорошо их знал: “На поводке да при хозяине они смелые. Посмотрим, что будет на деле”. Когда инструктор отбегал шагов на тридцать, щенка пускали в погоню. В несколько прыжков щенок догонял врага. Инструктор приостанавливался и стрелял из пистолета в воздух или в землю. Это и было “испытание на выстрел” — одно из самых серьезных испытаний для будущей служебной собаки. Далеко не каждая из них его выдерживала. Были такие собаки, что всем хороши, а вот до зрелого возраста не могли отделаться от ужаса перед дулом пистолета, перед звуком выстрела. Таких беспощадно браковали.
Чего же требовать от щенков? Трое из них в тот день с визгом повернули обратно, растеряв весь свой боевой пыл. Проводники этих собак получили от капитана Миансарова крепкую нахлобучку — надо уметь вырабатывать мужество у щенка! Две другие молодые собаки, когда пришла их очередь, помедлили и все-таки вцепились в оскорбителя, но робко, с оглядкой, без того сокрушающего азарта, которым должен обладать серьезный боевой пес. Карай при выстреле только ушами прянул и с разлета, грозно рыча, прыгнул инструктору на плечи. Он свалил человека на землю, разодрал брезентовую куртку.
“Да уберите вы этого черта!” — кричал инструктор. А когда поднялся и стер кровь с лица, то сказал: “Это не собака, а золото!” — “Так зато мы и дали ее золотому парню!” — объявил капитан Миансаров и пожал Андрею руку.
Теперь, вспоминая об этом, Андрей с гордостью смотрел на Карая. Вон какой пес вырос! Лучший в питомнике. Даже Маузера обошел, а уж тот рекордсмен, медалист. Может, этот щенок Дикарь обойдет в будущем и Маузера и Карая. Лучшему конца нет…
На дорожке, ведущей к щенятнику, показался дежурный и с ходу закричал:
— Лейтенанта Витюгина к начальнику!
— Что там еще? — заворчал Андрей.
— Торопитесь! Капитан ждет!
Взяв Карая на поводок, Андрей пошел из щенятника. Я нес рядом плетеную корзинку, в которой спал сын Карая, предназначенный для Карлоса. Неподалеку от учебной площадки нас встретил другой посыльный:
— Скорее к начальнику!
— Да вот только собаку в вольер поставлю, — недовольно сказал Андрей.
— Приказано явиться вместе с собакой.
Это означало, что предстоит работа. Андрей ускорил шаги.
— Видишь, Костя, что получается, — сказал он. — А как хотелось поскорее доставить мальчишке щенка…
— Хочешь, я отвезу? Мне все равно надо туда ехать. К вечеру вернусь обратно и все тебе расскажу.
— Это уж будет не то. Мне самому охота… Да и мальчик будет разочарован… — Он сдвинул брови. — Но все-таки поезжай! И скажи Карлосу, что при первом случае я заеду и проинструктирую его, как надо со щенком обращаться. Пусть не перекармливает, не балует!
И он быстро пошел по дорожке.
Капитан Миансаров ждал Андрея в своем кабинете.
— Оружие при тебе? — коротко спросил он.
— Так точно! — Андрей сразу же подтянулся в ожидании предстоящего ему дела. — Разрешите, товарищ капитан, обратиться?
— Давай обращайся.
— Разрешите узнать: что случилось?
Капитан Миансаров посмотрел на Андрея, как бы еще раз оценивая стоявшего перед ним человека.
— Серьезная тебе предстоит работа, — сообщил он, прищурившись. — Надо взять опасного преступника… Мишка-Зверь убежал!
Человек с кличкой Мишка-Зверь, или Копченый, давно уже перестал быть человеком. Он утверждал, что не знает своего настоящего имени, не знает, где родился, кто его отец и кто мать. Он дожил до тридцати с лишним лет, называя себя, в зависимости от обстоятельств, то русским, то цыганом, то армянином. У него не было национальности, как не было имени.
Надо сделать много страшного, чтобы среди жуликов, бандитов, убийц — настоящих зверей, его окружавших, — заслужить кличку Зверя. Он заслужил такую кличку.
Копченым же его прозвали за устойчивый грязновато-красный цвет лица, который не менялся ни зимой, ни летом. Ему приписывали много самых гнусных преступлений — и он ни от одного из них не отказывался. Говорили, что он осужден разными судами в общей сложности лет на сто. Сердобольные судьи, к которым он попадал в руки, всё надеялись, что его еще можно исправить…
В воскресенье утром Мишка-Зверь с двумя приятелями вышел из своего логова в город, чтобы разыскать нужного им человека. Точный адрес был им неизвестен. Они вошли во двор нового дома, где на высоком шесте висел флажок. Дети с красными галстуками толпились вокруг шеста. Мишка-Зверь в последнее время никогда не бывал трезвым. Его раздражали люди, которые веселились или работали. “Слишком все стали чистенькие!” — говорил он.
Теперь он остановился посреди двора и долго смотрел, как веселятся ребята. Приятели пытались увести его, он оттолкнул их, потом вышел на площадку и ударом ноги свалил шест.
Дети притихли, девочки шарахнулись в сторону. Но вперед протиснулся мальчик в белой блузе, с горячими глазами, с тоненькими и еще слабыми руками, обнаженными по локоть. Он привык жить среди мужественных, добрых, справедливых людей и думал, что правдивое слово имеет безграничную власть. Он с укором, и удивлением произнес слова, которые могли бы устыдить всякого:
— Здесь пионерский лагерь, дядя!
Копченому это было все равно. Никакие слова давно уже не имели доступа к его сердцу.
— Вон что! — глумясь, проговорил он и притянул мальчика к себе за пионерский галстук. — А ты тут чья собака?
— Бросьте! Вы меня не пугайте! — Глаза у мальчика блестели, он и правда не боялся Копченого. — Вы нам мешаете проводить сбор.
Тогда Копченый, легко приподняв это худенькое тельце, с силой швырнул его на землю. Он думал, что теперь нагонит ужас на всех детальных. Но к нему уже с криком бежала вожатая — она была на другом конце двора. Из дома выскочил пожилой мужчина с разгневанным лицом. Собралась толпа. И Копченый с удивлением подумал, что тут его не испугались, — бояться должен он сам.
Его друзья, прижимаясь к стенам, потихоньку ускользнули. Копченого задержали. В отделении милиции в нем без труда опознали Мишку-Зверя, который не раз ускользал от наказания. Нашлось много дел, за которые его надо было судить. Грозил суровый приговор. Мишка-Зверь ждал суда спокойно. “Все равно убегу”, — ласково извещал он следователя.
Но в тюрьме, после приговора, Мишка-Зверь держался скромно. Он безропотно подчинялся всем правилам внутреннего распорядка и даже написал трогательное письмо на имя начальника, в котором уверял, что завяжет узелок на своей прежней жизни — начнет жить честно.
— Такое время пришло, — говорил он, вздыхая, — надо менять профессию. У кого я беру? — спрашивал он. — У трудящего человека! Он месяц работает, а я в две минуты его заработок отбираю. Я для него выхожу настоящим паразитом!
Эти его высказывания начали даже ставить в пример другим уголовникам…
До отправки на место заключения Мишку-Зверя ввиду его хорошего поведения решили временно перевести из тюрьмы в пригородную исправительно-трудовую колонию. Он попал туда вечером. Неподалеку от ворот в землю была вкопана деревянная вышка, на ней посменно дежурили часовые.
— Да, — сказал Мишка-Зверь, покрутив носом, — крепко охраняют, отсюда не убежишь!.. — и засмеялся.
На другой день ему дали работу на территории колонии — за ограду его все-таки решили не выводить. Ему было поручено делать черепицу на маленьком кирпично-черепичном заводике, существовавшем при колонии.
— Это дело как раз по мне! — сказал он.
Считалось, что из колонии убежать невозможно. Местность вокруг на несколько десятков шагов была открытая. Выход только один — ворота, которые тщательно охранялись часовыми на сторожевой вышке. Куда денешься?
Копченый все не начинал работать, он ходил по дорожкам и, как бы случайно, вышел к воротам, возле которых стояла вышка.
— Стой! — крикнул ему часовой. — Приближаться нельзя. Давай назад!
— Да уж я знаю, что нельзя, — ласково говорил Копченый и, улыбаясь, подходил все ближе к воротам.
Часовой угрожающе вскинул винтовку:
— Давай назад!
Укоризненно покачав головой, Копченый остановился. Он повернулся к воротам спиной, что несколько успокоило часового.
— Чего ты боишься? У тебя винтовка. Ты видишь — со мной никто не разговаривает, так я хоть к тебе поговорить пришел… — Копченый выразительно играл глазами и посмеивался.
— Какие разговоры! — строго сказал часовой. — Идите на свое место! — И опустил винтовку.
Тогда Копченый, все еще стоя спиной к воротам, сделал быстрый прыжок назад. Никто не умел так прыгать. Это был его прием, разработанный с давних пор. Человек как будто собирается прыгнуть вперед, а прыгает назад… Часовой не успел вскинуть винтовку. Копченый прыгнул еще раз — и оказался за воротами. Гулкий выстрел, казалось, свалил его с ног. Он покатился под откос. Часовой решил, что он ранен, и не стал больше стрелять. Но Копченый поднялся на ноги. За ворота ловить его выбежало несколько бойцов вооруженной охраны. Уйти ему было некуда.
Внимательно осмотрели мятую траву в том месте, где упал Копченый, и не нашли ни одного пятнышка крови. Значит, и его падение было обманом. Пуля пролетела мимо…
В полусотне шагов от ворот лежала старая, неизвестно кем привезенная сюда огромная труба. Она лежала здесь давно и уже вросла в землю. Копченый заполз в эту трубу.
Теперь его песенка была спета. У обоих концов трубы встали люди. Копченый попадет в их руки, куда бы он ни сунулся. Но, прежде чем извлечь его оттуда, с ним попробовали завязать переговоры.
— Выходи! — крикнул, заглядывая в трубу, боец вооруженной охраны Епрем Коджоян. — Выходи, Зверь. Твой номер не прошел.
Копченый молчал.
Надо было что-то предпринимать. Полезешь в трубу, а там в темноте и тесноте борись с бандитом, которому убить человека — все равно что стакан воды выпить. Да и зачем это делать, когда и так Копченому некуда деваться? Все равно он рано или поздно окажется в руках ожидающих его людей. На этом-то, как выяснилось позднее, он и строил свои расчеты.
Прошло около получаса, Копченый все не выходил. Его звали — он не откликался.
Наконец людям надоело ждать. Первым потерял терпение Епрем Коджоян и решительно вошел в трубу. Он полз, держа наперевес штык. У Копченого могло оказаться какое-нибудь оружие, встреча с ним грозила опасностью. Но Епрем надеялся на свои силы. Кроме того, с другого конца трубы пополз навстречу Епрему еще один боец, так что Копченому пришлось бы туго, если б он решил оказать сопротивление.
С Епремом все время поддерживали связь, кричали ему: как, мол, идут дела? И он отвечал: “Ползу, пока ничего не обнаружил”. Потом перестал отвечать. Снаружи люди ждали в тревоге, не донесется ли из трубы шум, свидетельствующий о борьбе. Но вот, наконец, двое бойцов выползли из трубы на вольный воздух. У них были сконфуженные лица. К ним кинулись люди. Отстранив их, Епрем Коджоян подошел к начальнику охраны и доложил:
— Никого там нету.
— Как же так? Да вы хорошо ли смотрели?
— Проползли из конца в конец, — сконфуженно сказал Епрем. — Там пусто, товарищ начальник…
Андрей прибыл на место происшествия, когда взбудораженные бойцы, один за другим побывавшие в трубе, уже поняли, куда исчез Копченый. Примерно посредине трубы они нашли пролом, уходящий в землю. Трубу откатили. Яма, которая под ней открылась, была глубокая, темная, и дна ее не было видно. Неужели Копченый и до сих пор сидит в этой яме?
Пока думали да гадали, один из отбывающих наказание рецидивистов попросил разрешения поговорить с начальником охраны колонии. Очевидно, он сообщил начальнику нечто такое, что меняло всю обстановку. Начальник вернулся к трубе с очень серьезным лицом.
— Вы думаете, — сказал он бойцам, — что Мишка-Зверь все сидит тут, в яме?
— А где же ему еще быть!
— Не знаю где, — сказал начальник, — только не здесь.
Оказалось, что яма под трубой была началом подземного хода, выкопанного примерно год назад. Шайка рецидивистов, оставшаяся на воле, пыталась устроить побег своему товарищу, заключенному в колонии. Побег не удался. Но секрет уголовники сохранили.
Они сообщили о нем в тюрьму Мишке-Зверю: “Старайся попасть в колонию!” На этом Копченый и построил план своего освобождения. Теперь он был, видимо, далеко.
— Крупный преступник убежал, — объяснил Андрею начальник вооруженной охраны колонии. — Наша вина, признаю. Но ты подумай, сколько он может бед натворить, сколько невинных жизней унесет! На ребенка руку поднял! Разве это человек?
— Вы меня не агитируйте! — зло сказал Андрей. — Надо было раньше смотреть, как следует!
Он внимательно исследовал пролом в трубе, приказал Караю сидеть под деревом и полез в яму. Необходимо выяснить, где кончается подземный ход.
— Собаку вперед пусти, — советовали ему, — опасно!
— Что тут сделает собака? — застенчиво улыбнулся Андрей. — Уж лучше я сам…
Спуск в яму был довольно трудным. Андрей полз, держа в левой руке карманный электрический фонарик. Сначала ему показалось, что ход невероятно узкий. “Ничего, протиснуться можно”, — думал он. Недостаток свежего воздуха затруднял дыхание. Вдруг он явственно услышал, что впереди кто-то ползет, и пожалел, что не взял с собой Карая. Направил прямо перед собой луч карманного фонарика. Нет, никого нет, это просто осыпалась земля.
Свободно Андрей вздохнул только тогда, когда ход стал подниматься вверх. Он высунул голову, осмотрелся и выбрался наружу. Вход был скрыт большим камнем. Этот камень Копченый, вылезая, очевидно, отодвинул в сторону, и теперь на его месте зияла черная дыра.
Андрею казалось, что он полз очень долго. Но когда он осмотрелся, то увидел, что находится всего в нескольких десятках шагов от трубы. Он негромко окликнул Карая. Пес послушно сидел под деревом и глядел на трубу. Услышав зов, он со всех ног кинулся к хозяину. Вслед за ним подбежали и бойцы.
— Вот, — сказал Андрей, — отсюда Копченый пополз — видите, трава примята? А вы его и не заметили за деревьями!
— Действительно! — Бойцы приглядывались к траве. — Совсем недавно был здесь…
Андрей взял собаку на длинный поводок.
— Карай! След!
Пес потянул влажным носом и повел хозяина по прямой — к строениям, которые виднелись вдали. Не успели они отойти и сотню шагов, как их нагнал Епрем Коджоян.
— Парень надежный, — кричал начальник охраны, — возьми его с собой! Поможет в случае чего…
Дальше пошли вместе.
— Много ты их, верно, переловил в своей жизни? — говорил Епрем, едва поспевая за собакой.
— Приходилось…
— И в схватках бывал?
— Бывал.
— И убитые есть на твоей совести?
— Вот представь, — сказал Андрей, — что я, при моей довольно-таки жестокой профессии, до сих пор никого не убил.
— Просто случая не было, не налетал на настоящих.
— Во-первых, действительно случая не представлялось. А случая не представлялось потому, что пускать в ход оружие — дело самое легкое. Преступник должен быть взят живым.
— Ну, с этим, которого ловим, ты держись начеку. Он-то тебя не пожалеет. Недаром кличка — Зверь!
— Будем начеку, — сказал Андрей. — Но теперь, друг, ты не сердись — давай прекратим разговоры. Правило есть: по следу иди — молчи! И также, будь любезен, придерживайся инструкции — отойди подальше в сторону, шагов на тридцать, чтобы не мешать служебно-розыскной собаке.
Вскоре Епрем стал отставать. Карай сильно тянул по свежему следу, и Андрей еле мог бежать за ним. Дорогу преградил высокий дощатый забор. Карай хотел его перепрыгнуть, но потом раздумал ипрополз под доской. Надо было бросать поводок или ползти за ним. Андрей пополз. На свой новый китель он уж рукой махнул. Будет Еве работа!
След снова уклонился от строений. Копченый, видно, забегал сюда лишь на секунду, чтобы передохнуть. Карай привел Андрея к оврагу. Дорога теперь шла по склону, густо поросшему лесом. Под ногами шуршали желтые листья. Внизу были видны розовые и желтые городские здания.
Карай с вздыбленной шерстью подступил к могучему тополю и облаял его. Что ж это значит? Может, Копченый где-нибудь здесь? Андрей осторожно осмотрелся, но ни внизу, на желтеющей траве, ни наверху, на ветвях дерева, ничего подозрительного не заметил. Видимо, Копченый тут приостановился, отдыхал. До чего же точно стал Карай работать по следу! Андрей наклонился и поднял окурок, лежащий под деревом. Огонек уже погас, но окурок был теплый — только что брошен.
— След, Карай!
Однако Карай не пошел вперед. Он завертелся на месте, подняв кверху черный нос и втягивая в себя воздух. Затем медленно, пригнув шею, злобно рыча, он ступил в траву и пошел по ней, осторожно и как бы с натугой переставляя свои напружиненные лапы. В стороне за деревьями лежал большой черный камень. К нему и направился Карай. Андрей еле сдерживал его на поводке. Пес то и дело оглядывался на хозяина: “Ну, хозяин, разве ты не понимаешь?” Андрей тихонько потащил из кобуры пистолет…
Мишка-Зверь поднялся из-за камня, когда понял, что ему все равно не скрыться. Красное лицо с низко надвинутой на лоб кепкой было злым и сосредоточенным, маленькие, словно птичьи, глазки смотрели зорко и непримиримо. В ладони он держал тяжелый булыжник.
— У тебя камень, у меня пистолет, — сказал Андрей. — На что надеешься? Руки вверх!
Копченый быстро взметнул вверх руки. В его ладони что-то блеснуло. Андрей не уловил момента, когда камень вылетел из руки бандита, почувствовал только ожог на шее и отер пальцами кровь. Чуть бы точнее — и страшный удар пришелся в лицо.
Стоять было трудно — Андрей сел на пенек. В глазах у него потемнело. Конечно, можно выстрелить и положить бандита на месте. Так и полагается поступать в порядке самообороны. Но Андрей не выстрелил. Сжав зубы, он приказал:
— А ну, теперь полуоборот налево и вперед — шагом марш!
Он только услышал, как скулит Карай, и почувствовал прикосновение горячего собачьего языка к своей щеке. Открыл глаза. Мишка-Зверь торопливо спускался вниз по откосу.
— Не валяй дурака! — крикнул Андрей. — Положу!
— Клади!
Копченый уходил, скрываясь за деревьями. Андрей выстрелил в воздух — бандит даже не оглянулся. Надо подниматься и идти за ним. Все еще чувствуя слабость в коленях, Андрей сделал несколько шагов. Нет, он идет слишком медленно…
— Фас, Карай! Фас!
Карай, давно уже сдерживающий нетерпение, только и ожидал приказа хозяина. Он сорвался с места и помчался по откосу, делая широкие, могучие прыжки. Андрей шел за ним. Ну что ж, теперь беспокоиться нечего, Карай догонит преступника…
Копченый раза два с тревогой оглянулся. Наконец он понял, что ему не уйти. Он остановился под деревом и повернулся к преследователям лицом. В руке у него блеснул нож.
— Назад, Карай!
Но Карай уже присел, спружинил и не смог удержаться — прыгнул на врага.
Служебную собаку учат, чтобы, вступая в схватку, она следила за руками преступника. Карай умел с налета захватывать своими страшными зубами ту руку врага, которая держит оружие. Стиснет зубы — и бандит со стоном роняет нож или пистолет. Так бывало не раз.
Но Мишка-Зверь тоже знал повадки служебных собак. Почти неуловимым движением он переложил нож из правой руки в левую. И, когда Карай, ударив его лапами в грудь, свалил на траву и впился зубами в его правую руку, другая — левая рука бандита нанесла короткий и страшный удар. Лезвие ножа прошло сквозь густую шерсть, раздвинуло ребра…
Андрей увидел, что Карай странно дернулся, тоскливо взвыл, потом недвижно распластался на траве, бессильно щелкая зубами. Острые уши опали, и он уткнул морду в землю. Еще несколько раз шевельнулся пушистый хвост, но и тот затих.
Мишка-Зверь поднялся, опять отступил к дереву, раздувая губы и прежним зорким птичьим взглядом осматриваясь по сторонам. Он был сильно помят, покусан. У него уже не было ножа. Он поднял с земли большой камень.
 Андрей бросился к собаке, тронул Карая рукой. Это гибкое, могучее тело, так благодарно отзывавшееся на каждую ласку хозяина, теперь молчало. Передние лапы беспомощно лежали на траве, задние уперлись в ствол дерева. Красный язык был прикушен мертвыми зубами. По кончику черного носа полз муравей. Андрей взял большую лапу собаки в обе ладони.
Но тут он увидел, что Копченый, все еще держа в руках камень, упрямо спускаемся по откосу вниз.
Надо было исполнять свой долг. Андрей поднялся на ноги, взвел курок.
— Стой!
Бандит отбежал немного в сторону и встал за деревом.
— Выходи на дорогу!
Ответа не последовало.
— Выходи! — яростно крикнул Андрей.
Копченый осторожно выглянул из-за дерева. Видно, и он понял, что больше с ним нянчиться не будут. Но он не вышел на зов своего преследователя. Андрей резко шагнул к нему, увернулся от камня, просвистевшего мимо уха. Одной рукой он вытащил бандита из-за кустов. Ничего не стоило бросить это вертлявое тело на землю и растоптать ногами, как змею…
— Выходи на дорогу!
Копченый сидел на земле, низко пригнув голову к коленям. Впервые за весь сегодняшний день в его глазах появилось выражение испуга. Он почувствовал силу, с которой не мог бороться.
— Я с тобой не пойду.
— Почему?
— Ты убьешь.
Андрей потрогал пальцами курок. Он даже забыл, что у него в руке пистолет. Только одно сознание непоправимости того, что случилось, все больше заполняло его.
— Да, лучше тебе пойти с кем-нибудь другим, — спокойно проговорил он. — Подожди, пусть кто-нибудь придет.
Епрем Коджоян появился совсем не оттуда, откуда его можно было ждать. Он сократил дорогу и теперь, тяжко дыша, спускался к Андрею сверху.
— Ай-яй-яй, — заговорил он, цокая языком. — Что ж это? Собака-то, а?
Андрей не мог ему отвечать. Он снова сел в траву и взял холодную лапу Карая в свои ладони.
— Отведи задержанного.
— А ты как же? — участливо спросил Епрем.
Андрей отвернулся и опустил голову, чтоб не встретиться с ним взглядом.
— Отведи! Потом мы с тобой составим акт насчет гибели собаки…
— За тобой выслать ребят? Хочешь, в питомник сообщу?
— Ничего мне не нужно…
Епрем снял с плеча винтовку.
— Эй ты, гад! — скомандовал он грозно. — Выходи на дорогу! Руки над головой!
Их шаги скоро смолкли. Теперь Андрею уже никто не мешал. Он положил острую морду собаки к себе на колени и подержал ее несколько секунд под руками. Так он ласкал прежде Карая, когда бывал им очень доволен. Потом он поднялся, нашел нож, валявшийся в траве, — нож, которым был убит Карай, — и принялся копать яму. Работал он сосредоточенно, землю выгребал ладонями. Ни разу не закурил. Яма становилась все глубже. Андрей снял китель, разорвал его по швам и полотнищами обернул Карая. Держа эту тяжелую ношу на руках, он подошел к яме и опустил туда Карая. Потом присыпал могилу землей и придавил камнями.
Теперь все было сделано. Он еще вернется сюда. Он будет часто приходить…
…Отдав Карлосу щенка, я приехал в питомник. Тут уже знали обо всем, что случилось с Андреем. И, когда Андрей появился, его окружили товарищи. Геворк пробился вперед и взял его под руку.
— Андрюшка! — сказал он, как называл товарища в детские годы. — Ну, ничего! — Он заглянул Андрею в глаза. — Все уже сделано. Капитан Миансаров согласен. Не грусти!
— Что сделано?
— Что? — переспросил Геворк и широким жестом подчеркнул свою щедрость. — Маузер теперь твой!
Он пожал товарищу руку. Но Андрей слабо улыбнулся и отстранился.
— Не нужно мне Маузера, — горько сказал он.
Еще кто-то из друзей говорил с ним, все его утешали. Он со всеми соглашался, кивал головой — и молчал.
Наконец Андрея оставили одного. Тут я тихонько подошел к нему. Что я мог ему сказать? По счастью, он заговорил первый.
— Вот, Костя, больше нет нашего Карая…
Я молча пожал ему локоть. Мне было трудно говорить.
— Баловал я его очень, очеловечивал, — горько признался Андрей. — Есть моя вина… расслабил дисциплину… Ведь я крикнул ему: “Назад!” — а он не послушался… Послушался бы — может, остался бы жить.
— Брось! — сказал я. — Зачем ты себя растравляешь?
Он все еще стоял у вольера и перебирал толстые прутья решетки. Вот отсюда, едва лишь откроешь дверцы, Карай выскакивал на волю, обдирая бока. Веселый и горячий, как язычок огня. Всегда норовил подпрыгнуть и лизнуть в нос…
Когда стемнело, мимо вольера прошел Сисак Телалян. Он нес в корзине щенят. Он тоже все знал, но не стал, как другие, разговаривать с Андреем о происшедших событиях.
— Вот окрестили, — сказал он, показывая на щенят, — в паспорта вписали. Это Кадя, это Дикарь, это Дик…
Было темно, и никто, кроме меня, не видел, как съежилось скуластое лицо Андрея, когда он взял из корзинки толстого и мягкого щенка.
— Карай, — позвал он чуть слышно.
Сисак поправил:
— Это Дикарь.
— Нет, это Карай, — сказал Андрей. — Карай, Карай! — еще раз позвал он, поглаживая мягкую шерстку. — Эх ты, мой Карай…
Щенок пополз к нему на грудь, прижался теплым бочком к лицу.
— Ты будешь со мной работать?
Маленький Карай полез еще выше и торопливо зачмокал, захватив острыми зубками ухо своего будущего хозяина.
Андрей бросился к собаке, тронул Карая рукой. Это гибкое, могучее тело, так благодарно отзывавшееся на каждую ласку хозяина, теперь молчало. Передние лапы беспомощно лежали на траве, задние уперлись в ствол дерева. Красный язык был прикушен мертвыми зубами. По кончику черного носа полз муравей. Андрей взял большую лапу собаки в обе ладони.
Но тут он увидел, что Копченый, все еще держа в руках камень, упрямо спускаемся по откосу вниз.
Надо было исполнять свой долг. Андрей поднялся на ноги, взвел курок.
— Стой!
Бандит отбежал немного в сторону и встал за деревом.
— Выходи на дорогу!
Ответа не последовало.
— Выходи! — яростно крикнул Андрей.
Копченый осторожно выглянул из-за дерева. Видно, и он понял, что больше с ним нянчиться не будут. Но он не вышел на зов своего преследователя. Андрей резко шагнул к нему, увернулся от камня, просвистевшего мимо уха. Одной рукой он вытащил бандита из-за кустов. Ничего не стоило бросить это вертлявое тело на землю и растоптать ногами, как змею…
— Выходи на дорогу!
Копченый сидел на земле, низко пригнув голову к коленям. Впервые за весь сегодняшний день в его глазах появилось выражение испуга. Он почувствовал силу, с которой не мог бороться.
— Я с тобой не пойду.
— Почему?
— Ты убьешь.
Андрей потрогал пальцами курок. Он даже забыл, что у него в руке пистолет. Только одно сознание непоправимости того, что случилось, все больше заполняло его.
— Да, лучше тебе пойти с кем-нибудь другим, — спокойно проговорил он. — Подожди, пусть кто-нибудь придет.
Епрем Коджоян появился совсем не оттуда, откуда его можно было ждать. Он сократил дорогу и теперь, тяжко дыша, спускался к Андрею сверху.
— Ай-яй-яй, — заговорил он, цокая языком. — Что ж это? Собака-то, а?
Андрей не мог ему отвечать. Он снова сел в траву и взял холодную лапу Карая в свои ладони.
— Отведи задержанного.
— А ты как же? — участливо спросил Епрем.
Андрей отвернулся и опустил голову, чтоб не встретиться с ним взглядом.
— Отведи! Потом мы с тобой составим акт насчет гибели собаки…
— За тобой выслать ребят? Хочешь, в питомник сообщу?
— Ничего мне не нужно…
Епрем снял с плеча винтовку.
— Эй ты, гад! — скомандовал он грозно. — Выходи на дорогу! Руки над головой!
Их шаги скоро смолкли. Теперь Андрею уже никто не мешал. Он положил острую морду собаки к себе на колени и подержал ее несколько секунд под руками. Так он ласкал прежде Карая, когда бывал им очень доволен. Потом он поднялся, нашел нож, валявшийся в траве, — нож, которым был убит Карай, — и принялся копать яму. Работал он сосредоточенно, землю выгребал ладонями. Ни разу не закурил. Яма становилась все глубже. Андрей снял китель, разорвал его по швам и полотнищами обернул Карая. Держа эту тяжелую ношу на руках, он подошел к яме и опустил туда Карая. Потом присыпал могилу землей и придавил камнями.
Теперь все было сделано. Он еще вернется сюда. Он будет часто приходить…
…Отдав Карлосу щенка, я приехал в питомник. Тут уже знали обо всем, что случилось с Андреем. И, когда Андрей появился, его окружили товарищи. Геворк пробился вперед и взял его под руку.
— Андрюшка! — сказал он, как называл товарища в детские годы. — Ну, ничего! — Он заглянул Андрею в глаза. — Все уже сделано. Капитан Миансаров согласен. Не грусти!
— Что сделано?
— Что? — переспросил Геворк и широким жестом подчеркнул свою щедрость. — Маузер теперь твой!
Он пожал товарищу руку. Но Андрей слабо улыбнулся и отстранился.
— Не нужно мне Маузера, — горько сказал он.
Еще кто-то из друзей говорил с ним, все его утешали. Он со всеми соглашался, кивал головой — и молчал.
Наконец Андрея оставили одного. Тут я тихонько подошел к нему. Что я мог ему сказать? По счастью, он заговорил первый.
— Вот, Костя, больше нет нашего Карая…
Я молча пожал ему локоть. Мне было трудно говорить.
— Баловал я его очень, очеловечивал, — горько признался Андрей. — Есть моя вина… расслабил дисциплину… Ведь я крикнул ему: “Назад!” — а он не послушался… Послушался бы — может, остался бы жить.
— Брось! — сказал я. — Зачем ты себя растравляешь?
Он все еще стоял у вольера и перебирал толстые прутья решетки. Вот отсюда, едва лишь откроешь дверцы, Карай выскакивал на волю, обдирая бока. Веселый и горячий, как язычок огня. Всегда норовил подпрыгнуть и лизнуть в нос…
Когда стемнело, мимо вольера прошел Сисак Телалян. Он нес в корзине щенят. Он тоже все знал, но не стал, как другие, разговаривать с Андреем о происшедших событиях.
— Вот окрестили, — сказал он, показывая на щенят, — в паспорта вписали. Это Кадя, это Дикарь, это Дик…
Было темно, и никто, кроме меня, не видел, как съежилось скуластое лицо Андрея, когда он взял из корзинки толстого и мягкого щенка.
— Карай, — позвал он чуть слышно.
Сисак поправил:
— Это Дикарь.
— Нет, это Карай, — сказал Андрей. — Карай, Карай! — еще раз позвал он, поглаживая мягкую шерстку. — Эх ты, мой Карай…
Щенок пополз к нему на грудь, прижался теплым бочком к лицу.
— Ты будешь со мной работать?
Маленький Карай полез еще выше и торопливо зачмокал, захватив острыми зубками ухо своего будущего хозяина.

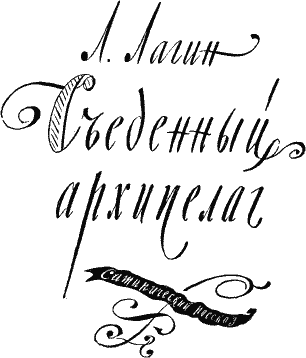

Л. Лагин СЪЕДЕННЫЙ АРХИПЕЛАГ Сатирический рассказ
 Вот краткий перечень событий, имевших место на архипелаге Блаженного Нонсенса за время с 23 июня 1919 года по март текущего, 1956 года. Одновременно это будет самым сжатым очерком истории цивилизации семнадцати больших и малых островов, составляющих этот архипелаг, и повестью о блистательных делах и феерическом возвышении торгового дома “Урия Свитмёрдер и сыновья”, которому архипелаг обязан всем, без которого местные аборигены по сей день пребывали бы на стадии самого раннего неолита, ковыряли бы землю каменными мотыгами, убирали бы урожай деревянными серпами с кремневыми вкладышами и готовили бы пищу в убогой посуде из плетеных прутьев, обмазанных глиной.
23 июня 1919 года на берег острова Дурку — самого большого острова архипелага — впервые ступила нога господина Свитмёрдера.
Время было зимнее. Шел дождь. Сквозь его отвесные струи остров напоминал экзотический пейзаж, неряшливо отпечатанный крупной сеткой в дешевой провинциальной газете. Пальмы покорно стояли под теплыми потоками, словно солдаты под душем. Неподвижный и неслышный, океан был неприветливого белесого цвета и казался густым и вязким, как тесто. Прибрежный песок потемнел от влаги, дождь смыл с него человеческие следы, и он стал безжизненно гладким. За пальмами, по склонам холмов, уходила вверх и тонула в низких тучах темная стена леса, и не верилось, что он состоит из деревьев редчайших и драгоценнейших пород, — так мрачно, серо и сыро было вокруг.
Прибавьте ко всему этому дурную славу, которая шла о жителях архипелага, — их вожди и старейшины баловались людоедством, — и вы поймете чувства, которые испытали четыре молодых человека, сопровождавших Свитмёрдера на остров Дурку в этот промозглый, ненастный день.
Что касается самого господина Свитмёрдера, то он прибыл на архипелаг не для того, чтобы любоваться пейзажем. Он прибыл на архипелаг, чтобы разбогатеть.
Остальное его не касалось.
Итак, шел дождь, когда люди племени Зум-Зум впервые увидели из-за кустов, за которыми они притаились, пятерых белых, сошедших на берег. Мы не будем описывать прочих обстоятельств этой примечательной встречи, церемоний, которыми она сопровождалась, восторга, вызванного грошовыми подарками господина Свитмёрдера. Все это было очень похоже на то, что уже описано в сотнях отчетов путешественников и тысячах и тысячах колониальных романов. По той же причине мы не будем испытывать терпение читателей изложением меню торжественного обеда, заданного в честь щедрых бледнолицых гостей.
Правда, кое-какие обстоятельства этого обеда заставили гостей пережить несколько тревожных минут: старейшины племени то и дело о чем-то перешептывались с вождем, возбужденно хлопали себя по голым коленкам, выразительно поглаживали свои голые и тощие животы и облизывались, как бы в предвкушении особо лакомого и редкого блюда. Этим блюдом, если речь действительно шла о лакомстве, мог быть какой-нибудь местный деликатес, но мог быть и господин Свитмёрдер с его спутниками.
Впрочем, гостям недолго пришлось беспокоиться. Вскоре один из старейшин, жилистый, долговязый и весьма жизнерадостный мужчина лет шестидесяти, резко вскочил на ноги и без долгих слов размозжил боевой палицей голову ничего не подозревавшего соседа, которому он, кстати сказать, только что нашептывал на ухо какую-то веселую историю.
Это было в высшей степени страшное и омерзительное зрелище, и даже господина Свитмёрдера, не говоря уже о его молодых спутниках, чуть не стошнило. И возможно, что будь у него чуть послабее нервы и чуть побольше самой обычной человечности, он воспользовался бы поднявшимся восторженным воем и радостной суматохой для того, чтобы незаметно покинуть остров и больше на него никогда не возвращаться. Но господин Свитмёрдер прибыл на острова Блаженного Нонсенса не для того, чтобы давать волю своим нервам. Он прибыл сюда с твердым намерением проявить — во что бы то ни стало и на чём-бы то ни стало — свой деловой гений и разбогатеть. Поэтому он сейчас пэр Пуритании и несметно богат, а тысячи других не более совестливых, но менее удачливых рыцарей фортуны вынуждены ограничиваться завистливым рассматриванием фотографий новоявленного графа Свитмёрдера, которыми щедро пичкают своих неразборчивых читателей самые распространенные газеты и журналы высокопросвещенной Пуритании.
Итак, господин Свитмёрдер остался на месте и попробовал разобраться в обстановке.
Ему было, во-первых, неясно, случайно или преднамеренно была избрана жертва. Ни по поведению на пиру, ни по украшениям, ни, тем более, по упитанности (все люди племени Зум-Зум, не исключая и их вождя, были весьма средней упитанности) убитый ничем не отличался от остальных туземцев. Удивляло также и то, что в то время как большинство участников пиршества всяческими способами выражали свой бурный восторг по поводу только что совершенного убийства, несколько человек, опять-таки ничем не отличавшихся от остальных, сидели с понуро опущенными головами, и было видно, что только страх не позволял им выражать свое отчаяние и ужас воплями и рыданиями. Были ли они противниками людоедства? Сомнительно. Может быть, это были близкие родственники убитого? (Дальними родственниками были все люди племени.)
Свитмёрдер так и не смог дать себе ответ на эти вопросы. Тогда он обратился за разъяснениями к Джигу-браху — вождю племени, который по случаю предстоявшего лакомства был в несколько приподнятом и весьма общительном настроении. Сначала этот простодушный господин никак не мог взять в толк, о чем идет речь, почему белокожий сын небес расспрашивает о том, что известно любому мальчишке. Решив наконец, что вопросы заданы из вежливости — для того, чтобы дать гостеприимным хозяевам возможность пощеголять своим умом, обычаями и доблестями, Джигу-браху в пространной речи изложил перед Свитмёрдером то, что мы, экономя время читателей, расскажем в нескольких словах.
Вот краткий перечень событий, имевших место на архипелаге Блаженного Нонсенса за время с 23 июня 1919 года по март текущего, 1956 года. Одновременно это будет самым сжатым очерком истории цивилизации семнадцати больших и малых островов, составляющих этот архипелаг, и повестью о блистательных делах и феерическом возвышении торгового дома “Урия Свитмёрдер и сыновья”, которому архипелаг обязан всем, без которого местные аборигены по сей день пребывали бы на стадии самого раннего неолита, ковыряли бы землю каменными мотыгами, убирали бы урожай деревянными серпами с кремневыми вкладышами и готовили бы пищу в убогой посуде из плетеных прутьев, обмазанных глиной.
23 июня 1919 года на берег острова Дурку — самого большого острова архипелага — впервые ступила нога господина Свитмёрдера.
Время было зимнее. Шел дождь. Сквозь его отвесные струи остров напоминал экзотический пейзаж, неряшливо отпечатанный крупной сеткой в дешевой провинциальной газете. Пальмы покорно стояли под теплыми потоками, словно солдаты под душем. Неподвижный и неслышный, океан был неприветливого белесого цвета и казался густым и вязким, как тесто. Прибрежный песок потемнел от влаги, дождь смыл с него человеческие следы, и он стал безжизненно гладким. За пальмами, по склонам холмов, уходила вверх и тонула в низких тучах темная стена леса, и не верилось, что он состоит из деревьев редчайших и драгоценнейших пород, — так мрачно, серо и сыро было вокруг.
Прибавьте ко всему этому дурную славу, которая шла о жителях архипелага, — их вожди и старейшины баловались людоедством, — и вы поймете чувства, которые испытали четыре молодых человека, сопровождавших Свитмёрдера на остров Дурку в этот промозглый, ненастный день.
Что касается самого господина Свитмёрдера, то он прибыл на архипелаг не для того, чтобы любоваться пейзажем. Он прибыл на архипелаг, чтобы разбогатеть.
Остальное его не касалось.
Итак, шел дождь, когда люди племени Зум-Зум впервые увидели из-за кустов, за которыми они притаились, пятерых белых, сошедших на берег. Мы не будем описывать прочих обстоятельств этой примечательной встречи, церемоний, которыми она сопровождалась, восторга, вызванного грошовыми подарками господина Свитмёрдера. Все это было очень похоже на то, что уже описано в сотнях отчетов путешественников и тысячах и тысячах колониальных романов. По той же причине мы не будем испытывать терпение читателей изложением меню торжественного обеда, заданного в честь щедрых бледнолицых гостей.
Правда, кое-какие обстоятельства этого обеда заставили гостей пережить несколько тревожных минут: старейшины племени то и дело о чем-то перешептывались с вождем, возбужденно хлопали себя по голым коленкам, выразительно поглаживали свои голые и тощие животы и облизывались, как бы в предвкушении особо лакомого и редкого блюда. Этим блюдом, если речь действительно шла о лакомстве, мог быть какой-нибудь местный деликатес, но мог быть и господин Свитмёрдер с его спутниками.
Впрочем, гостям недолго пришлось беспокоиться. Вскоре один из старейшин, жилистый, долговязый и весьма жизнерадостный мужчина лет шестидесяти, резко вскочил на ноги и без долгих слов размозжил боевой палицей голову ничего не подозревавшего соседа, которому он, кстати сказать, только что нашептывал на ухо какую-то веселую историю.
Это было в высшей степени страшное и омерзительное зрелище, и даже господина Свитмёрдера, не говоря уже о его молодых спутниках, чуть не стошнило. И возможно, что будь у него чуть послабее нервы и чуть побольше самой обычной человечности, он воспользовался бы поднявшимся восторженным воем и радостной суматохой для того, чтобы незаметно покинуть остров и больше на него никогда не возвращаться. Но господин Свитмёрдер прибыл на острова Блаженного Нонсенса не для того, чтобы давать волю своим нервам. Он прибыл сюда с твердым намерением проявить — во что бы то ни стало и на чём-бы то ни стало — свой деловой гений и разбогатеть. Поэтому он сейчас пэр Пуритании и несметно богат, а тысячи других не более совестливых, но менее удачливых рыцарей фортуны вынуждены ограничиваться завистливым рассматриванием фотографий новоявленного графа Свитмёрдера, которыми щедро пичкают своих неразборчивых читателей самые распространенные газеты и журналы высокопросвещенной Пуритании.
Итак, господин Свитмёрдер остался на месте и попробовал разобраться в обстановке.
Ему было, во-первых, неясно, случайно или преднамеренно была избрана жертва. Ни по поведению на пиру, ни по украшениям, ни, тем более, по упитанности (все люди племени Зум-Зум, не исключая и их вождя, были весьма средней упитанности) убитый ничем не отличался от остальных туземцев. Удивляло также и то, что в то время как большинство участников пиршества всяческими способами выражали свой бурный восторг по поводу только что совершенного убийства, несколько человек, опять-таки ничем не отличавшихся от остальных, сидели с понуро опущенными головами, и было видно, что только страх не позволял им выражать свое отчаяние и ужас воплями и рыданиями. Были ли они противниками людоедства? Сомнительно. Может быть, это были близкие родственники убитого? (Дальними родственниками были все люди племени.)
Свитмёрдер так и не смог дать себе ответ на эти вопросы. Тогда он обратился за разъяснениями к Джигу-браху — вождю племени, который по случаю предстоявшего лакомства был в несколько приподнятом и весьма общительном настроении. Сначала этот простодушный господин никак не мог взять в толк, о чем идет речь, почему белокожий сын небес расспрашивает о том, что известно любому мальчишке. Решив наконец, что вопросы заданы из вежливости — для того, чтобы дать гостеприимным хозяевам возможность пощеголять своим умом, обычаями и доблестями, Джигу-браху в пространной речи изложил перед Свитмёрдером то, что мы, экономя время читателей, расскажем в нескольких словах.

 Оказалось, что боги племени Зум-Зум запрещают употреблять в пищу мясо своих соплеменников. К тому же, как говорят боги, мясо людей племени Зум-Зум невкусное, вызывает изжогу, колики, несварение желудка и самые страшные и мучительные болезни, неминуемо ведущие к смерти. Совсем не то мясо иноплеменников. Оно вкусно, питательно, изобилует полезными соками, придает силу, храбрость, долголетие и представительную внешность. Все другие племена, населяющие мир, то-есть архипелаг Блаженного Нонсенса, враги племени Зум-Зум, и он, вождь этого единственного в мире достойного и угодного богам племени, глубоко сомневается, можно ли тех двуногих, которые принадлежат к другим племенам, считать людьми в полном смысле этого слова. И обычаи у них нелепые, и одеваются они не так, как нормальные люди, и украшения у них не те, и прически, и дома строятся не так, как у нормальных людей, то-есть людей племени Зум-Зум, и вместо человеческого языка, понятного даже самому несмышленому ребенку племени Зум-Зум, у них какой-то несуразно-нелепый набор звуков.
Подведя таким образом достаточную идеологическую базу под уже варившееся блюдо и объяснив, что варится, упаси боги, человек не племени Зум-Зум, Джигу-браху счел было вопрос исчерпанным. Но господину Свитмёрдеру было непонятно, почему же, в таком случае, убитый участвовал в первой половине пиршества с людьми племени Зум-Зум? И почему не все радовались по поводу его молниеносной кончины?
Джигу-браху удивился: почему пленнику не попировать перед тем, как его съедят? Это даже в какой-то степени человеколюбиво. Тем более, что так же поступают люди других племен с пленными людьми Зум-Зум. А не радуются товарищи убитого, которые вместе с ним были два года назад взяты в плен во время кровопролитной войны с племенем Мете. Какая уж тут может быть радость, когда они сегодня еще раз убедились в том, что за незавидная судьба их неминуемо ожидает? Ничего удивительного. Но убьют их не всех сразу, а по очереди. И не так скоро. Вот будут летом строить большую лодку, чтобы пойти войной на людей соседнего острова, — тогда по случаю счастливого окончания постройки убьют одного. Но кого именно, никто из пленных не знает. Смерть к нему придет неожиданно. А то у него, того и гляди, опустятся руки и он не сможет участвовать в постройке.
Господин Свитмёрдер любезно осведомился, хватит ли одного убитого для того, чтобы накормить все племя Зум-Зум.
Джигу-браху посмотрел на него как на сумасшедшего. Почему все племя? Боги запрещают употреблять человеческое мясо кому бы то ни было, кроме вождя и старейшин племени. Остальным людям человеческое мясо вредно.
Почему же, в таком случае, радуются не старейшины, а все люди племени Зум-Зум? Да потому, что, во-первых, они получат на пиру все то, что не съедят старейшины и вождь племени, насытившиеся пленником. А во-вторых, потому, что им приятно, что старейшины в результате съедения пленника станут еще более умными, храбрыми, долголетними и представительными.
Оказалось, что боги племени Зум-Зум запрещают употреблять в пищу мясо своих соплеменников. К тому же, как говорят боги, мясо людей племени Зум-Зум невкусное, вызывает изжогу, колики, несварение желудка и самые страшные и мучительные болезни, неминуемо ведущие к смерти. Совсем не то мясо иноплеменников. Оно вкусно, питательно, изобилует полезными соками, придает силу, храбрость, долголетие и представительную внешность. Все другие племена, населяющие мир, то-есть архипелаг Блаженного Нонсенса, враги племени Зум-Зум, и он, вождь этого единственного в мире достойного и угодного богам племени, глубоко сомневается, можно ли тех двуногих, которые принадлежат к другим племенам, считать людьми в полном смысле этого слова. И обычаи у них нелепые, и одеваются они не так, как нормальные люди, и украшения у них не те, и прически, и дома строятся не так, как у нормальных людей, то-есть людей племени Зум-Зум, и вместо человеческого языка, понятного даже самому несмышленому ребенку племени Зум-Зум, у них какой-то несуразно-нелепый набор звуков.
Подведя таким образом достаточную идеологическую базу под уже варившееся блюдо и объяснив, что варится, упаси боги, человек не племени Зум-Зум, Джигу-браху счел было вопрос исчерпанным. Но господину Свитмёрдеру было непонятно, почему же, в таком случае, убитый участвовал в первой половине пиршества с людьми племени Зум-Зум? И почему не все радовались по поводу его молниеносной кончины?
Джигу-браху удивился: почему пленнику не попировать перед тем, как его съедят? Это даже в какой-то степени человеколюбиво. Тем более, что так же поступают люди других племен с пленными людьми Зум-Зум. А не радуются товарищи убитого, которые вместе с ним были два года назад взяты в плен во время кровопролитной войны с племенем Мете. Какая уж тут может быть радость, когда они сегодня еще раз убедились в том, что за незавидная судьба их неминуемо ожидает? Ничего удивительного. Но убьют их не всех сразу, а по очереди. И не так скоро. Вот будут летом строить большую лодку, чтобы пойти войной на людей соседнего острова, — тогда по случаю счастливого окончания постройки убьют одного. Но кого именно, никто из пленных не знает. Смерть к нему придет неожиданно. А то у него, того и гляди, опустятся руки и он не сможет участвовать в постройке.
Господин Свитмёрдер любезно осведомился, хватит ли одного убитого для того, чтобы накормить все племя Зум-Зум.
Джигу-браху посмотрел на него как на сумасшедшего. Почему все племя? Боги запрещают употреблять человеческое мясо кому бы то ни было, кроме вождя и старейшин племени. Остальным людям человеческое мясо вредно.
Почему же, в таком случае, радуются не старейшины, а все люди племени Зум-Зум? Да потому, что, во-первых, они получат на пиру все то, что не съедят старейшины и вождь племени, насытившиеся пленником. А во-вторых, потому, что им приятно, что старейшины в результате съедения пленника станут еще более умными, храбрыми, долголетними и представительными.
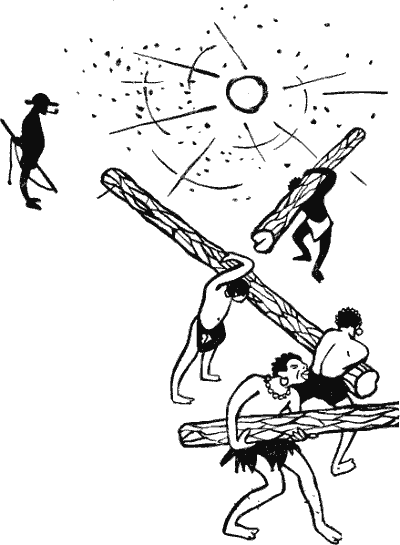 Так, вопрос за вопросом, Свитмёрдер выпытал у Джигу-браху, что вожди племени Зум-Зум, как и всех остальных племен, населяющих архипелаг, ограничены в своих людоедских аппетитах наличием пленных, которых не убивают всех сразу, потому что этак пленных не напасешься, и что поэтому их обычно оставляют в живых и содержат в своих селениях, чтобы при каком-нибудь торжественном случае убить и пожрать одного—двух, не больше. А до этого рокового часа пленные пользуются сравнительной свободой, им даже разрешают до поры до времени жениться и обзаводиться потомством, и по образу своей жизни они ничем почти не отличаются от тех, которые их в конце концов съедят: работают наравне с ними, питаются также наравне с ними, потому что труд человеческий тяжек и его едва хватает для того, чтобы прокормить самого работника. Поэтому все они — и люди племени Зум-Зум и их несчастные пленники — обычно одинаково тощи и полуголодны.
Автору ничего не стоило бы написать, что господин Свитмёрдер хоть раз за время этой чудовищной лекции содрогнулся от ужаса или, на худой конец, от отвращения.
Но этого не было. А автор хочет писать только о том, что было. Особенно в тот примечательный день. Деловому человеку, будущему украшению “свободного мира”, прекрасному образчику “свободного предпринимательства”, как о нем писали и пишут по сей день, некогда и не к чему было вздрагивать от отвращения, а тем более от ужаса.
Он молча выслушал объяснения Джигу-браху, молча поразмышлял минут пять, почесывая гладко выбритый подбородок. Потом он спросил у Джигу-браху:
— И всюду, на всех ваших островах, едят таких тощих пленных?..
С этих слов начинается история цивилизации острова Дурку и остальных шестнадцати больших и малых островов архипелага Блаженного Нонсенса.
Так, вопрос за вопросом, Свитмёрдер выпытал у Джигу-браху, что вожди племени Зум-Зум, как и всех остальных племен, населяющих архипелаг, ограничены в своих людоедских аппетитах наличием пленных, которых не убивают всех сразу, потому что этак пленных не напасешься, и что поэтому их обычно оставляют в живых и содержат в своих селениях, чтобы при каком-нибудь торжественном случае убить и пожрать одного—двух, не больше. А до этого рокового часа пленные пользуются сравнительной свободой, им даже разрешают до поры до времени жениться и обзаводиться потомством, и по образу своей жизни они ничем почти не отличаются от тех, которые их в конце концов съедят: работают наравне с ними, питаются также наравне с ними, потому что труд человеческий тяжек и его едва хватает для того, чтобы прокормить самого работника. Поэтому все они — и люди племени Зум-Зум и их несчастные пленники — обычно одинаково тощи и полуголодны.
Автору ничего не стоило бы написать, что господин Свитмёрдер хоть раз за время этой чудовищной лекции содрогнулся от ужаса или, на худой конец, от отвращения.
Но этого не было. А автор хочет писать только о том, что было. Особенно в тот примечательный день. Деловому человеку, будущему украшению “свободного мира”, прекрасному образчику “свободного предпринимательства”, как о нем писали и пишут по сей день, некогда и не к чему было вздрагивать от отвращения, а тем более от ужаса.
Он молча выслушал объяснения Джигу-браху, молча поразмышлял минут пять, почесывая гладко выбритый подбородок. Потом он спросил у Джигу-браху:
— И всюду, на всех ваших островах, едят таких тощих пленных?..
С этих слов начинается история цивилизации острова Дурку и остальных шестнадцати больших и малых островов архипелага Блаженного Нонсенса.
II
Приобщение к цивилизации целого архипелага оказалось настолько многообещающим делом, что господин Свитмёрдер принесшему в жертву свою надежду, свою гордость — трех своих сыновей. Это были рослые, красивые и здоровые парни, один в одного. Господин Свитмёрдер женил их на самых богатых старых девах Пуритании. Таким путем фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” укрепила свою денежную базу и приобрела весьма серьезные связи в министерстве колоний. Архипелаг Блаженного Нонсенса был в некотором роде бельмом на глазу министра колоний. Было уже давно известно, что на островах этого отдаленного архипелага обнаружены большие массивы ценнейших древесных пород, что некоторые его бухты самим господом богом уготованы для устройства в них военно-морской базы. Все это было подсчитано специалистами министерства еще задолго до того, как в 1918 году война закончилась поражением Германии и архипелаг перешел под опеку Пуритании. Но на пути использования естественных богатств архипелага лежали два серьезнейших препятствия: во-первых, жестокая болотная лихорадка, выматывающая здоровье местных жителей и буквально косившая приезжих; во-вторых, людоедство туземных вождей. По подсчету тех же специалистов, в среднем за год только на прибрежной полосе островов архипелага поедалось в год от двадцати одного до двадцати восьми человек. Рубить леса, прокладывать дороги и строить военно-морские сооружения можно было только при условии применения местной рабочей силы. Туземцы же с радостью принимали подарки, угощали белых гостей кокосовым молоком и варварскими лепешками из еле ободранного проса, охотно исполняли перед ними свои танцы, трубили в трубы, извлекая из них ужасающие, не поддающиеся описанию звуки, но работать на белых никак не соглашались. Пробовали заставлять силой — они убегали в горы. Гоняться за ними было занятием для самоубийц. Урия Свитмёрдер, судя по наведенным справкам, был солидным, хотя и небогатым (до женитьбы его сыновей) коммерсантом, человеком слова и добрым сыном церкви. Поэтому, а также по изложенным выше двум другим причинам в министерстве колоний в высшей степени внимательно отнеслись к его предложению. Способы, при помощи которых он собирался выполнить свой высокий замысел, господин Урия наотрез отказался сообщить, опасаясь, что они смогут стать достоянием конкурирующих фирм. Но он торжественно подписался под обязательством ни в коем случае не применять во взаимоотношениях с населением островов огнестрельного оружия, кроме самых крайних обстоятельств, вызванных необходимостью разумного умиротворения. Выговорив своей фирме широкие налоговые льготы и другие далеко идущие права и преимущества в освоении естественных богатств архипелага и получив внушительную правительственную субсидию и гарантию невмешательства министерства в ее деятельность, Урия Свитмёрдер приступил к работе. И вот, в сентябре того же года, с наступлением ранней тропической весны, произошло чудо: племя Зум-Зум первым из племен архипелага дружно вышло на работу и приступило к сооружению временной деревянной пристани в бухте острова Дурку. Это была, пожалуй, самая дорогая из временных деревянных пристаней, когда-либо возводившихся под руководством инженеров Пуритании: на ее строительство пошли грубо обтесанные бревна черного и сандалового дерева, из которых далеко не каждый преуспевающий негоциант мог себе в самой Пуритании позволить заказать мебель. Впрочем, вскоре в столичный порт пришли первые два зафрахтованные фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья” лесовоза с первыми тысячами балансов этих драгоценных пород.
Прошло четыре месяца, и в министерство колоний пришло от Свитмёрдера сообщение о том, что еще три племени, населяющие остров Дурку, и восемь племен с шести других островов также вышли на работу, что ими уже заготовлено много драгоценных бревен, приступлено к сооружению четырех лесопильных заводов, начаты работы по прокладке дорог.
Сообщение это показалось в министерстве настолько невероятным, что под приличным и не обидным для фирмы предлогом была послана на архипелаг комиссия. Она провела на островах Блаженного Нонсенса месяца полтора и вернулась обратно с еще более волнующим докладом: ко времени ее отплытия с архипелага все его население, за исключением двух незначительных горных племен, усиленно работало на лесосеках и стройках фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”.
Это была, пожалуй, самая дорогая из временных деревянных пристаней, когда-либо возводившихся под руководством инженеров Пуритании: на ее строительство пошли грубо обтесанные бревна черного и сандалового дерева, из которых далеко не каждый преуспевающий негоциант мог себе в самой Пуритании позволить заказать мебель. Впрочем, вскоре в столичный порт пришли первые два зафрахтованные фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья” лесовоза с первыми тысячами балансов этих драгоценных пород.
Прошло четыре месяца, и в министерство колоний пришло от Свитмёрдера сообщение о том, что еще три племени, населяющие остров Дурку, и восемь племен с шести других островов также вышли на работу, что ими уже заготовлено много драгоценных бревен, приступлено к сооружению четырех лесопильных заводов, начаты работы по прокладке дорог.
Сообщение это показалось в министерстве настолько невероятным, что под приличным и не обидным для фирмы предлогом была послана на архипелаг комиссия. Она провела на островах Блаженного Нонсенса месяца полтора и вернулась обратно с еще более волнующим докладом: ко времени ее отплытия с архипелага все его население, за исключением двух незначительных горных племен, усиленно работало на лесосеках и стройках фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”.
 Было в высшей степени приятным, что фирма по собственному почину и на собственные средства организовала на одиннадцати островах из семнадцати малярийные станции и медицинские пункты, пока что, правда, только для персонала фирмы. Но уже отмечены два случая, когда была оказана медицинская помощь и туземцам: известному нам вождю племени Зум-Зум господину Джигу-браху, и старейшине другого племени — господину Колоку-саму. Старший сын Урии Свитмёрдера, Эрнест, давно уже увлекавшийся фотографией, запечатлел эти примечательные события в целом ряде любопытнейших фотоснимков, которые были предложены газетным агентствам на самых доступных условиях. Со стороны господина Эрнеста это было весьма любезно, если учесть, что он был монополистом, так как никакие сторонние фотографы на архипелаг не допускались.
Уже самый факт появления медицинских пунктов и малярийных станций на этом забытом богом и людьми архипелаге был достоин всяческого удивления. В деловых кругах господин Урия Свитмёрдер никогда не опорочил себя особенным расточительством, и если он все же счел возможным отважиться на столь крупные расходы, значит, они бесспорно составляли ничтожнейшую часть его доходов.
Удивляло, что весь технический, административный и медицинский персонал подбирался лично кем-либо из владельцев фирмы и что жалованье, выплачивавшееся служащим, процентов на тридцать превышало обычный уровень. Был, значит, какой-то основательный расчет платить персоналу дороже. За что? Этого никто не знал.
Возможно, что за особо трудные условия работы. А может быть, за то, что они обязывались что-то хранить в тайне? Никто не мог высказать по этому поводу ничего, кроме догадок, ибо, по условиям концессии, подписанным Свитмёрдером-старшим с министерством колоний, никто не имел права высаживаться на архипелаг без письменного разрешения, выдаваемого в столице — только в столице метрополии вторым сыном главы фирмы.
А сын этот, мистер Герберт Свитмёрдер, бывал в столице чрезвычайно редко, но пропусков не давал даже и тогда, когда он на короткое время в ней появлялся. Он обосновывал свой отказ — в тех случаях, когда считал нужным его обосновывать, тем, что фирма не может отвечать за жизнь разных зевак, которые любопытства ради будут шляться по архипелагу и мешать людям работать. Если же ей потребуется что-нибудь сообщить читателям газет, она это сделает, минуя посредничество господ репортеров, которых она, кстати сказать, весьма уважает и ценит.
Тот, кто помнит бурные события 20-х годов текущего века, поймет, почему “тайна архипелага Блаженного Нонсенса”, как прозвали ее изобретательные газетчики, не могла долго интересовать пуританийское, а тем более мировое общественное мнение. В Пуритании аккуратно приходили к власти и уходили либералы, консерваторы, муниципалисты, социал-монархисты. Менялись в связи с этим программы правительства. Но либералы и консерваторы, муниципалисты и социал-монархисты — министры колоний одинаково положительно расценивали ход освоения архипелага и деятельность фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Год от году рос вывоз в Пуританию и другие страны ценной древесины; росла на островах архипелага сеть относительно благоустроенных дорог; возникали и ширились год от году поселки, основанные фирмой большей частью на пустом месте; уже завершена была силами фирмы первая очередь строительства военно-морской базы в бухте острова Дурку. Словом, все шло вполне удовлетворительно.
Было в высшей степени приятным, что фирма по собственному почину и на собственные средства организовала на одиннадцати островах из семнадцати малярийные станции и медицинские пункты, пока что, правда, только для персонала фирмы. Но уже отмечены два случая, когда была оказана медицинская помощь и туземцам: известному нам вождю племени Зум-Зум господину Джигу-браху, и старейшине другого племени — господину Колоку-саму. Старший сын Урии Свитмёрдера, Эрнест, давно уже увлекавшийся фотографией, запечатлел эти примечательные события в целом ряде любопытнейших фотоснимков, которые были предложены газетным агентствам на самых доступных условиях. Со стороны господина Эрнеста это было весьма любезно, если учесть, что он был монополистом, так как никакие сторонние фотографы на архипелаг не допускались.
Уже самый факт появления медицинских пунктов и малярийных станций на этом забытом богом и людьми архипелаге был достоин всяческого удивления. В деловых кругах господин Урия Свитмёрдер никогда не опорочил себя особенным расточительством, и если он все же счел возможным отважиться на столь крупные расходы, значит, они бесспорно составляли ничтожнейшую часть его доходов.
Удивляло, что весь технический, административный и медицинский персонал подбирался лично кем-либо из владельцев фирмы и что жалованье, выплачивавшееся служащим, процентов на тридцать превышало обычный уровень. Был, значит, какой-то основательный расчет платить персоналу дороже. За что? Этого никто не знал.
Возможно, что за особо трудные условия работы. А может быть, за то, что они обязывались что-то хранить в тайне? Никто не мог высказать по этому поводу ничего, кроме догадок, ибо, по условиям концессии, подписанным Свитмёрдером-старшим с министерством колоний, никто не имел права высаживаться на архипелаг без письменного разрешения, выдаваемого в столице — только в столице метрополии вторым сыном главы фирмы.
А сын этот, мистер Герберт Свитмёрдер, бывал в столице чрезвычайно редко, но пропусков не давал даже и тогда, когда он на короткое время в ней появлялся. Он обосновывал свой отказ — в тех случаях, когда считал нужным его обосновывать, тем, что фирма не может отвечать за жизнь разных зевак, которые любопытства ради будут шляться по архипелагу и мешать людям работать. Если же ей потребуется что-нибудь сообщить читателям газет, она это сделает, минуя посредничество господ репортеров, которых она, кстати сказать, весьма уважает и ценит.
Тот, кто помнит бурные события 20-х годов текущего века, поймет, почему “тайна архипелага Блаженного Нонсенса”, как прозвали ее изобретательные газетчики, не могла долго интересовать пуританийское, а тем более мировое общественное мнение. В Пуритании аккуратно приходили к власти и уходили либералы, консерваторы, муниципалисты, социал-монархисты. Менялись в связи с этим программы правительства. Но либералы и консерваторы, муниципалисты и социал-монархисты — министры колоний одинаково положительно расценивали ход освоения архипелага и деятельность фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Год от году рос вывоз в Пуританию и другие страны ценной древесины; росла на островах архипелага сеть относительно благоустроенных дорог; возникали и ширились год от году поселки, основанные фирмой большей частью на пустом месте; уже завершена была силами фирмы первая очередь строительства военно-морской базы в бухте острова Дурку. Словом, все шло вполне удовлетворительно.
III
Уже в 1924 году на острове Дурку была торжественно открыта школа для туземцев, пока что только аристократического происхождения, с отделениями: бухгалтерским, полицейским и строительных десятников. Четыре года спустя на архипелаг прибыла первая партия домашних холодильников для вождей и старейшин племен, сто двадцать пять детекторных радиоприемников и первые десять тысяч легкомысленных открыток. Еще годом позже прибыл в Пуританию и был принят в колледж Иисуса Спасителя принц Оливер Джигу-браху — старший сын и наследник бывшего вождя племени Зум-Зум, а ныне короля вновь образованного фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья” королевства Джигубрахии. Школа, холодильники, радиоприемники, пылесос (пока что только в единственном экземпляре — у короля), туземец — воспитанник самого аристократического учебного заведения Пуритании, королевство вместо разрозненных племен — все это там, где еще десяток лет назад люди жили в обстановке каменного века! Нет, право же, все шло в высшей степени благополучно. Не хватало только, как шутливо выразился один из влиятельных друзей господина Свитмёрдера-старшего, чтобы на архипелаге было сделано хотя бы одно научное открытие мирового значения. Эта шутка чуть не оказалась пророческой. В начале 1931 года доктор Сидней Бэрд, недавно законтрактованный на работу в больнице острова Бассанука, что в семи милях к северо-западу от острова Дурку, столкнулся с событиями, которые перевернули вверх дном его привычные представления о восьмом отряде второго подкласса четвертого класса типа червей. Речь идет об отряде власоглавых — точнее, о трихинелле, или, как ее называют чаще, рихине, относящейся к семейству трихин. За несколько дней до этого в больницу был доставлен в тяжелом состоянии один из старейшин местного племени Сой с признаками болезни, напоминающей брюшной тиф. Несмотря на все принятые меры, больной умер В этой печальной истории само по себе не было ничего из ряда вон выходящего, если бы за последние две недели это не был уже пятый случай смерти от брюшного тифа. Во всех пяти случаях, по какому-то удивительному совпадению, жертвами оказались исключительно старейшины племени Сой — народ влиятельный, чрезвычайно нужный для поддержания дисциплины и порядка на важном строительстве портовой электростанции. Администрация не на шутку всполошилась. Возникло подозрение, что никакого брюшного тифа здесь не было, а что люди племени Сой, недовольные старейшинами, гонявшими их на изнурительные работы, подсыпали им в пищу яд. Немедленно вскрыли покойного старейшину, но ни яда, ни брюшнотифозных бактерий не обнаружили. Зато в мышцах его тела были найдены еще не инкапсулированные трихины, а в кишечнике — множество половозрелых особей этого же червя. Той же ночью тайком, чтобы не оскорблять религиозных чувств туземцев, сняли с погребальных вышек остальных четырех старейшин, вскрыли и обнаружили в их мышцах те же трихины, но уже успевшие обрасти известковыми капсулами. Теперь уже нетрудно было догадаться, что все пятеро старейшин погибли не от яда и не от брюшного тифа, а от заражения трихинами в результате потребления трихинозного мяса свиней. Но тут-то и началось самое удивительное, Не было никаких оснований предполагать, что покойные не только накануне своего смертельного заболевания, но и вообще когда бы то ни было в их жизни отведали хоть самый крошечный кусочек свинины: ни в диком, ни в одомашненном виде свиньи никогда на архипелаге Блаженного Нонсенса не водились. Между тем последние семьдесят лет считалось, на основании ряда опытов Пенкерта, Лейкарта и Вирхова, твердо доказанным, что единственным путем заражения человека трихинами является потребление трихинозной свинины. Самые тщательные обследования, произведенные доктором Бэрдом, неоднократные и подробнейшие опросы членов семей умерших начисто исключили возможность того пути заражения трихинами, который наука до сего дня считала единственным. Перед молодым доктором, лишенным у себя на родине доступа к научной работе, таким образом, неожиданно открылась возможность первостепенного научного открытия. Ясно было, что заражение произошло каким-то другим, пока еще неизвестным путем. И именно ему, доктору Сиднею Бэрду, выпало счастье заняться этим многообещающим исследованием. Не будем винить молодого доктора за то, что он скрыл волновавшую его загадку от своих коллег. Он боялся соперников. Он боялся, что у него украдут единственную возможность пробиться в науку. Поэтому он промолчал, ограничившись актом вскрытия, где было без всяких толкований засвидетельствовано, что смерть во всех пяти случаях произошла от трихин. Администрацию, не блиставшую особыми познаниями в области учения о паразитических нематодах, вполне удовлетворило, что старейшины погибли не от руки своих соплеменников. Не могло быть речи и о том, чтобы заявить хозяевам фирмы о возникшей научной проблеме и просить разрешения и средств для ее разработки. Целый ряд обстоятельств говорил о том, что все это кончилось бы в лучшем случае презрительным отказом, в худшем — увольнением с работы. Поэтому доктор Бэрд решил заняться разведкой путей заражения трихинами пятерых старейшин племени Сой самостоятельно и в глубоко секретном порядке. Не скроем, он почувствовал облегчение, узнав, что потребление копченой и консервированной свинины так же неизвестно людям племени Сой, как и свежей. Тайна, к великому его удовлетворению, оставалась тайной. Анализы местной питьевой воды, как он и предполагал с самого начала, не дали никаких признаков трихин, ни инкапсулированных, ни неинкапсулированных. Десятки анализов почвы, взятой поблизости хижин, в которых проживали покойные, также не навели его хотя бы на малейший след заразы. Тогда доктор Бэрд, потратив на это несколько недель, стал под разными предлогами посещать семьи злосчастных старейшин, вошел к ним в доверие и стал с ними вести задушевные беседы на разные житейские темы. И здесь ему удалось выведать, что старейшины племени — люди особенные; что мудрость и сила их требует особого и повседневного подкрепления; что служит этой высокой цели особое их питание; что если рядовым людям племени Сой за глаза достаточно поесть изредка собачьего мяса, то старейшинам, а тем более вождю племени, собачьего мяса недостаточно. Все попытки доктора Бэрда выяснить, какое же именно питание является преимущественным правом верхушки племени, наталкивалось на испуганное молчание собеседников. Оставался еще один путь, по которому можно было выяснить этот вопрос. Существовал у племени Сой, как, впрочем, и у всех остальных племен архипелага, освященный тысячелетней давностью обычай. Устраивая покойника на погребальной вышке, родные обеспечивали его всем необходимым для будущей, потусторонней жизни. Рядом с ним клали его оружие, но не всегда, а только если он был неискусным в изготовлении оружия. Другое дело посуда. Изготовление посуды было делом женщин. Мужчине было неприлично заниматься изготовлением сосудов. Поэтому считалось необходимым обеспечивать умершего достаточным количеством посуды, и именно той, которой он при жизни пользовался. Теперь, когда фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” завела в Пуритании собственный завод эмалированной посуды, все чаще сопровождали туземцев архипелага в их последний путь не неуклюжие и хрупкие изделия из плетеных прутьев, обмазанных глиной, а изящные и прочные изделия упомянутого завода. И вот доктор Бэрд рискнул как-то ночью взобраться на одну из мрачных вышек, вызывавших суеверный ужас не только у туземцев, но и у местных белых надсмотрщиков. Он нащупал большую эмалированную кастрюлю, накрепко привязанную к жердям, чтобы ее не сдуло ветром, и наскреб из нее кучку застывших остатков пищи, которой питался покойный старейшина. Не откладывая до завтра, он сразу заперся в своей крохотной лаборатории. Исследование остатков пищи под микроскопом заняло у доктора не менее часа — не потому, что это была какая-то особенно сложная работа, а потому, что Бэрд, у которого от ужаса встали волосы дыбом, долгое время никак не мог заставить себя поверить микроскопу. И все же он должен был наконец признать, что он не ошибается, что микроскоп не обманывает его. На стекле, под объективом микроскопа, лежало пораженное трихинами волокно человеческой мышцы… Теперь все становилось на место. Наука не ошибалась, утверждая, что единственным путем заражения человека трихинами является потребление зараженной свинины. Другой возможный путь казался для человека абсолютно невозможным; для этого человек должен съесть человека, в мышцах которого после перенесенной им болезни, вызванной заражением трихинозной свининой, сохранились в известковых капсулах трихины. Бэрд вспомнил, как он вместе со всеми остальными студентами смеялся, когда хитро улыбавшийся профессор говорил об этой второй, фантастической возможности. И вот он сейчас столкнулся именно с таким, казавшимся ему фантастическим, случаем. И даже не со случаем, а, случаями. Потому что их было, по крайней мере, пять. Почему же он никогда и ни от кого не слышал до сих пор ни слова о том, что на острове, а может быть, и на всем архипелаге существует самое настоящее людоедство? Неужели за одиннадцать лет существования концессии фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” ни хозяева фирмы, ни их многочисленные служащие не заметили, что у них под носом (один из умерших старейшин жил на расстоянии не больше ста шагов от конторы строительства порта) люди занимаются людоедством? Сидней Бэрд не мог этому поверить. Он успел отлично ознакомиться с работой местной администрации и был уверен, что от ее внимания не ускользала ни одна подробность жизни туземцев, особенно таких видных и нужных, как старейшины племен. Значит, фирма знает о существовании людоедства, но смотрит на него сквозь пальцы? После бессонной ночи доктор Бэрд окончательно понял, что здесь, на архипелаге, на котором он по контракту должен отработать еще полтора года, ему, если он ценит свою жизнь, следует молчать, вести себя как всегда и продолжать расследование. С исследованием, увы, приходилось распрощаться. С научной точки зрения все стало абсолютно ясно, во всяком случае, с точки зрения естественных наук. Теперь нужно было узнать, каким образом попали в лапы к людоедам их несчастные жертвы. А это, скорее всего, относилось уже к области наук социальных. Итак, людоеды поплатились, съев людей, зараженных трихинами. Это, во всяком случае, не были люди племени Сой Каннибалы никогда не трогают своих соплеменников. Тем более, что никто из людей племени Сой никогда не ел свинины Не употребляли свинины и люди других племен архипелага. Кто же были жертвы пятерых умерших старейшин? Были ли они уроженцы архипелага или привозились откуда-то извне? А если они были местного происхождения, то каким образом они заразились трихинами? Этим вопросам доктор Сидней Бэрд посвятил весь свой досуг до истечения срока его контракта. Несмотря на выгодные условия, которые предлагала ему фирма, он не остался на архипелаге, а с первым пароходом компании отбыл в Пуританию. Будучи человеком молодым, он обладал и горячностью и наивностью, свойственными в большинстве случаев людям его возраста. Как человек горячий, он, не успев распаковать чемоданы, заперся в своем номере в гостинице и в течение всей ночи напролет писал отчет об итогах произведенного им расследования. Как человек наивный, Бэрд не придумал ничего умнее, как отправиться просить приема у министра колоний, чтобы раскрыть ему глаза на порядки, существующие на архипелаге Блаженного Нонсенса. Однако по дороге в министерство он случайно встретился со своим приятелем по университету, неглупым и неплохим парнем с железной журналистской хваткой, местным корреспондентом одной из немногих порядочных пуританийских газет.IV
Доктор Бэрд благоразумно послушался своего приятеля и не пошел раскрывать глаза министру колоний. Вместо этого в газете, которую представлял в Пуритании приятель Бэрда, и в местном “Рабочем слове” одновременно появилась за подписью доктора Сиднея Бэрда статья, которая произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Она называлась “Цифры, которые обжигают сердца”. Под заголовком было на всю ширину полосы крупно набрано: “ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ АРИФМЕТИКИ, ВОЗЬМИТЕ КАРАНДАШ И ПОДСЧИТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ!” Статья начиналась довольно сухо: “Всего несколько цифр. Я их взял из официальных отчетов, которые в разное время посылала в министерство колоний компания “Урия Свитмёрдер и сыновья”, имеющая с 1919 года концессию на освоение естественных богатств архипелага Блаженного Нонсенса и строительство на нем ряда военно-морских сооружений. Население всех семнадцати островов архипелага составляло на 1 января 1920 года63 000 чел. Родилось с 1920 по 1931 год включительно15 500 чел. Умерло от малярии, дизентерии, брюшного тифа и других эпидемических заболеваний на предприятиях компании, а также задавлено обрушившимися деревьями на лесосеках в тот же период34 200 чел. От старости и неэпидемических болезней умерло за то же время4100 чел. Возьмем себя в руки, сдержим справедливое возмущение по поводу ужасающей смертности, за которую целиком несет ответственность компания “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Давайте уясним для себя, сколько же при учете приведенных выше цифр должно насчитывать туземное население архипелага Блаженного Нонсенса на 1 января текущего года? Для этого нам не потребуется ни комптометр, ниарифмометр, ни логарифмическая линейка. Позовите вашего младшего сынишку, и если он владеет немудрящим искусством сложения и вычитания, он вам сразу подобьет итог: сорок тысяч двести. Почему же в сведениях о численности туземного населения, представленных недавно фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья”, значится цифра, меньшая только что полученного нами итога почти на десять тысяч человек — точнее, на девять тысяч семьсот пятьдесят человек? Эти недостающие десять тысяч значатся в сводке компании под рубрикой “эмигрировавшие с архипелага”. Где, кто, куда эмигрировал с островов архипелага Блаженного Нонсенса? На каких средствах передвижения? И на какие средства? Ни одно судно, зафрахтованное компанией за все время существования концессии, не увезло на своем борту ни единого туземца. Никак нельзя обвинить в этом и корабли флота Пуритании. А других судов ни разу за последние тринадцать лет не видела ни одна из бухт архипелага. Разыщите на земном шаре, на всех его материках, островах, морях и океанах хоть одного туземца, переселившегося с архипелага Блаженного Нонсенса (кроме, конечно, принца Оливера Джигу-браху), и я торжественно обязуюсь отдать нашедшему все мои сбережения, сделанные за время службы у компании Свитмёрдера. Но я, право же, ничем не рискую. Вы нигде и никогда не обнаружите следов этих десяти тысяч таинственных эмигрантов. Только мне привелось полтора года назад натолкнуться на следы одного из этих несчастных. Знаете, где я обнаружил эти следы? На внутренней стенке эмалированной кастрюли…” Дальше следовал рассказ доктора Бэрда о событиях, нам уже известных, и о том, как он полтора года кропотливо и со всеми необходимыми мерами предосторожности расшифровывал тайну происхождения людей, съеденных старейшинами племени Сой, и как все нити привели его к “лесосеке № 8” и в конечном счете — к главной конторе компании и младшему сыну Свитмёрдера Джем-су, который ведал этой страшной “лесосекой”. “Если все, что приносит несметные прибыли какой бы то ни было ценой, есть проявление свободного предпринимательского гения, — продолжал доктор Бэрд, — то “лесосека № 8” является высшим его колониальным достижением. Представьте себе обширную поляну, вырубленную в девственном тропическом лесу. На ней четыре ряда легких домиков, каждый на восемь — десять жильцов, вся работа которых заключается в том, чтобы ничего не делать, питаться до отвалу жирной и сытной пищей и толстеть, толстеть, толстеть. Начальник и научный руководитель “лесосеки”, доктор философии Геттингенского университета Гуго Шакт, каждодневно и подробно обсуждает с шефом-поваром “лесосеки” меню блюд, которыми будут кормить “наших толстяков”, чтобы они быстрее и побольше нагуливали жир. “Лесосека № 8” пополняется новыми питомцами обычно с началом сезона дождей, когда значительная часть туземцев по условиям погоды не может быть использована на работах компании. Да, все население “лесосеки”, кроме администрации, состоит из людей, которых вожди и старейшины их племени передали на откорм “лесосеке” с тем, чтобы вместо них получить потучневших, более лакомых, — по одному, по два человека в месяц в течение весеннего и летнего сезона. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” никогда не согласится выдать “заказчику” сразу более одной—двух жертв, потому что они-то как раз и являются средством нажима на старейшин и вождей племен, средством, постоянно подогревающим их заботу о своевременном выводе людей их племени на работы. Конечно, каждый откормленный пленник обходится компании сравнительно недешево, но только сравнительно, потому что затраты эти с лихвой окупаются рабским трудом десятков тысяч покорно и предельно нетребовательных рабочих. Теперь вы уловили “идею”, которая обогатила и возвеличила компанию “Урия Свитмёрдер и сыновья”? Она, как бы это выразиться поприличнее, поставила на культурную ногу, внесла конструктивную мысль, упорядочила людоедство, вложив в это дело весь недюжинный опыт главы фирмы, опыт всего лондонского Сити, всего нью-йоркского Уолл-стрита.
Вы понимаете? Сначала был полный мрак, дикость, невежество, каменный век…
Голые люди из этого нищего селения изредка, раз в пять — десять лет, нападали на голых людей из другого нищего селения, резали друг другу глотки кремневыми ножами, впопыхах хватали нескольких пленных и волокли к себе домой. Потом когда-нибудь, в особенно торжественный день, вожди и старейшины племени могли прикончить одного из пленников, сварить в хрупком, непрочном и некрасивом сосуде из обмазанных глиной прутьев и сожрать.
Но вот прибывает на архипелаг во всеоружии последних завоеваний науки и техники господин Урия Свитмёрдер и поражается отсталости местного населения.
Зачем им ходить голыми? Это безнравственно и некультурно. Человечество в своем вечном поступательном движении придумало брюки и трусики. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” ада предложить брюки и трусики любых фасонов и размеров на самых льготных условиях. Оптовым покупателям скидка по соглашению. Спешите убедиться!
Зачем пользоваться самодельной глиняной посудой, когда эмалированная гигиеничнее, прочнее и красивее? Фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” рада довести до всеобщего сведения, что она имеет в продаже эмалированную посуду высшего качества в любом количестве и любого назначения.
Теперь вы уловили “идею”, которая обогатила и возвеличила компанию “Урия Свитмёрдер и сыновья”? Она, как бы это выразиться поприличнее, поставила на культурную ногу, внесла конструктивную мысль, упорядочила людоедство, вложив в это дело весь недюжинный опыт главы фирмы, опыт всего лондонского Сити, всего нью-йоркского Уолл-стрита.
Вы понимаете? Сначала был полный мрак, дикость, невежество, каменный век…
Голые люди из этого нищего селения изредка, раз в пять — десять лет, нападали на голых людей из другого нищего селения, резали друг другу глотки кремневыми ножами, впопыхах хватали нескольких пленных и волокли к себе домой. Потом когда-нибудь, в особенно торжественный день, вожди и старейшины племени могли прикончить одного из пленников, сварить в хрупком, непрочном и некрасивом сосуде из обмазанных глиной прутьев и сожрать.
Но вот прибывает на архипелаг во всеоружии последних завоеваний науки и техники господин Урия Свитмёрдер и поражается отсталости местного населения.
Зачем им ходить голыми? Это безнравственно и некультурно. Человечество в своем вечном поступательном движении придумало брюки и трусики. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” ада предложить брюки и трусики любых фасонов и размеров на самых льготных условиях. Оптовым покупателям скидка по соглашению. Спешите убедиться!
Зачем пользоваться самодельной глиняной посудой, когда эмалированная гигиеничнее, прочнее и красивее? Фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” рада довести до всеобщего сведения, что она имеет в продаже эмалированную посуду высшего качества в любом количестве и любого назначения.
 Зачем подвергать скоропортящиеся продукты питания опасности гниения, когда человеческий гений изобрел холодильник? Фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” рада предложить всем интересующимся усовершенствованные и элегантные домашние холодильники ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, в которых вы можете спокойно хранить ЛЮБЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ в любое время. Масса хвалебных отзывов! Проспекты по первому требованию.
Кстати, о мясе. Зачем питаться тощим мясом, от которого и навара путного не бывает, когда людей можно предварительно откармливать согласно последнему слову науки о питании? Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” счастлива сообщить, что она полностью берет это хлопотливое и трудоемкое дело на себя. Кухня под руководством высококвалифицированных кулинаров. Масса благодарственных отзывов!
Кстати, о людях. Если уж кушать людей, то почему обязательно пленников? Пленных можно добыть только в бою. Бой связан с излишними жертвами. Войны между племенами отрывают их от работы на предприятиях концессии, тормозя продвижение культуры на островах архипелага, не говоря уже об опасности, которой во время войн подвергаются драгоценные жизни вождей и старейшин племен. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья”, тщательно продумав пятилетний опыт работы на архипелаге, выработала, при постоянной консультации виднейших экономистов, более культурный и мирный выход. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” привыкла всегда уважать законы и обычаи страны, в которой она разворачивает свою деятельность. Она знает и глубоко уважает законы архипелага, по которым в высшей степени разумно запрещается употреблять в пищу своих соплеменников. Она предлагает, чтобы в дальнейшем от каждого племени, в пределах среднегодовой потребности в пленниках, высылалось на откормочный пункт соответствующее число людей, взамен которых оно будет получать такое же количество уже откормленных иноплеменников вышесредней упитанности и распоряжаться ими в дальнейшем по собственному усмотрению. Оплата за услуги — по соглашению. Самые лестные отзывы от двадцати трех племен, уже пользующихся всеми преимуществами этого усовершенствованного метода обменно-откормочных операций!
Зачем подвергать скоропортящиеся продукты питания опасности гниения, когда человеческий гений изобрел холодильник? Фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” рада предложить всем интересующимся усовершенствованные и элегантные домашние холодильники ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, в которых вы можете спокойно хранить ЛЮБЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ в любое время. Масса хвалебных отзывов! Проспекты по первому требованию.
Кстати, о мясе. Зачем питаться тощим мясом, от которого и навара путного не бывает, когда людей можно предварительно откармливать согласно последнему слову науки о питании? Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” счастлива сообщить, что она полностью берет это хлопотливое и трудоемкое дело на себя. Кухня под руководством высококвалифицированных кулинаров. Масса благодарственных отзывов!
Кстати, о людях. Если уж кушать людей, то почему обязательно пленников? Пленных можно добыть только в бою. Бой связан с излишними жертвами. Войны между племенами отрывают их от работы на предприятиях концессии, тормозя продвижение культуры на островах архипелага, не говоря уже об опасности, которой во время войн подвергаются драгоценные жизни вождей и старейшин племен. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья”, тщательно продумав пятилетний опыт работы на архипелаге, выработала, при постоянной консультации виднейших экономистов, более культурный и мирный выход. Компания “Урия Свитмёрдер и сыновья” привыкла всегда уважать законы и обычаи страны, в которой она разворачивает свою деятельность. Она знает и глубоко уважает законы архипелага, по которым в высшей степени разумно запрещается употреблять в пищу своих соплеменников. Она предлагает, чтобы в дальнейшем от каждого племени, в пределах среднегодовой потребности в пленниках, высылалось на откормочный пункт соответствующее число людей, взамен которых оно будет получать такое же количество уже откормленных иноплеменников вышесредней упитанности и распоряжаться ими в дальнейшем по собственному усмотрению. Оплата за услуги — по соглашению. Самые лестные отзывы от двадцати трех племен, уже пользующихся всеми преимуществами этого усовершенствованного метода обменно-откормочных операций!
 …И это не было пустыми декларациями, — продолжал доктор Бэрд. — Все обещанное было дано населению: и эмалированная посуда (бесплатно верхушке племен и в принудительном порядке, вместо заработной платы и по дьявольски повышенным ценам, — всем остальным туземцам), и холодильники новейших моделей (в виде бескорыстного подарка вождям и старейшинам и в качестве последнего временного приюта для их вареных и жареных подданных), и бесперебойно действующий обменно-откормочный пункт, значащийся в официальной переписке под невинным названием “лесосека № 8”.
Вы скажите: а трихины?
Да, был такой грех. На “лесосеке” пущена была в котел небольшая партия сомнительного бекона. Она стоила жизни нескольким десяткам людей, которым посчастливилось умереть более или менее естественной смертью — от трихин. А оставшихся после болезни в живых доктор Шакт, блюдя интересы фирмы, так сказать, “пустил в оборот”. Он не хотел лишиться премии, которая ему полагалась на рождество. Кроме того, он был не совсем тверд в медицине. Но в остальном питание было выше всяких похвал.
В августе прошлого года вы могли увидеть во многих журналах серию фотографий, сделанных младшим компаньоном фирмы — Эрнестом Свитмёрдером. Разыщите их. Прелюбопытные снимки: несколько групп туземцев архипелага Блаженного Нонсенса, сфотографированных дважды: в начале 20-х годов и в июле прошлого года. Какой разительный контраст, не правда ли? Голые, тощие дикари — в первом случае, и прилично, хотя и несколько смешно, на взгляд европейца, одетые, упитанные джентльмены с лоснящимися физиономиями — во втором. Подлог? Фотомонтаж? Ничего подобного. Фотографии действительно сделаны с натуры. И подпись под ними не содержит прямой неправды. Она только несколько неполна. Сказано, что это туземцы архипелага, и это действительно так. Но не сказано, что это исключительно вожди и старейшины племен. Сказано, что они поправились в итоге деятельности концессии, и это истинная правда. Но не сказано, что именно помогло им так завидно потолстеть. Чувство омерзения не позволяет мне говорить о том, что вам, надеюсь, теперь уже и без моих пояснений понятно.
Поскребите ногтем любой гарнитур мебели, изготовленный из драгоценных пород на предприятиях компании “Урия Свитмёрдер и сыновья”, и из него брызнет кровь замученных и съеденных людей, несчастных аборигенов несчастного архипелага.
Помните! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ДВЕНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ островов Блаженного Нонсенса уже прошло через чудовищный мясокомбинат фирм “Урия Свитмёрдер и сыновья”!
Помните! И сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый другой день пока вы не поднимете свой голос против страшной “деловой” деятельности фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” — будут исчезать в человеческих желудках человеческие существа, и вы будете за это в ответе!
Аппетиты этой фирмы растут одновременно с аппетитами каннибальской аристократии островов! Пройдет немного лет, и будет съедено все население архипелага. Это не преувеличение — это реальная опасность!
Требуйте к ответу Урию Свитмёрдера и его сыновей!
Требуйте к ответу министерство колоний, которое не может не знать того, что делается на архипелаге!
Требуйте к ответу правительство, которое терпит у себя такое министерство!
20 января 1933 г.
Сидней Бэрд,
бывший врач больницы на острове Бассанука, Архипелаг Блаженного Нонсенса”.
…И это не было пустыми декларациями, — продолжал доктор Бэрд. — Все обещанное было дано населению: и эмалированная посуда (бесплатно верхушке племен и в принудительном порядке, вместо заработной платы и по дьявольски повышенным ценам, — всем остальным туземцам), и холодильники новейших моделей (в виде бескорыстного подарка вождям и старейшинам и в качестве последнего временного приюта для их вареных и жареных подданных), и бесперебойно действующий обменно-откормочный пункт, значащийся в официальной переписке под невинным названием “лесосека № 8”.
Вы скажите: а трихины?
Да, был такой грех. На “лесосеке” пущена была в котел небольшая партия сомнительного бекона. Она стоила жизни нескольким десяткам людей, которым посчастливилось умереть более или менее естественной смертью — от трихин. А оставшихся после болезни в живых доктор Шакт, блюдя интересы фирмы, так сказать, “пустил в оборот”. Он не хотел лишиться премии, которая ему полагалась на рождество. Кроме того, он был не совсем тверд в медицине. Но в остальном питание было выше всяких похвал.
В августе прошлого года вы могли увидеть во многих журналах серию фотографий, сделанных младшим компаньоном фирмы — Эрнестом Свитмёрдером. Разыщите их. Прелюбопытные снимки: несколько групп туземцев архипелага Блаженного Нонсенса, сфотографированных дважды: в начале 20-х годов и в июле прошлого года. Какой разительный контраст, не правда ли? Голые, тощие дикари — в первом случае, и прилично, хотя и несколько смешно, на взгляд европейца, одетые, упитанные джентльмены с лоснящимися физиономиями — во втором. Подлог? Фотомонтаж? Ничего подобного. Фотографии действительно сделаны с натуры. И подпись под ними не содержит прямой неправды. Она только несколько неполна. Сказано, что это туземцы архипелага, и это действительно так. Но не сказано, что это исключительно вожди и старейшины племен. Сказано, что они поправились в итоге деятельности концессии, и это истинная правда. Но не сказано, что именно помогло им так завидно потолстеть. Чувство омерзения не позволяет мне говорить о том, что вам, надеюсь, теперь уже и без моих пояснений понятно.
Поскребите ногтем любой гарнитур мебели, изготовленный из драгоценных пород на предприятиях компании “Урия Свитмёрдер и сыновья”, и из него брызнет кровь замученных и съеденных людей, несчастных аборигенов несчастного архипелага.
Помните! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ДВЕНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ островов Блаженного Нонсенса уже прошло через чудовищный мясокомбинат фирм “Урия Свитмёрдер и сыновья”!
Помните! И сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый другой день пока вы не поднимете свой голос против страшной “деловой” деятельности фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” — будут исчезать в человеческих желудках человеческие существа, и вы будете за это в ответе!
Аппетиты этой фирмы растут одновременно с аппетитами каннибальской аристократии островов! Пройдет немного лет, и будет съедено все население архипелага. Это не преувеличение — это реальная опасность!
Требуйте к ответу Урию Свитмёрдера и его сыновей!
Требуйте к ответу министерство колоний, которое не может не знать того, что делается на архипелаге!
Требуйте к ответу правительство, которое терпит у себя такое министерство!
20 января 1933 г.
Сидней Бэрд,
бывший врач больницы на острове Бассанука, Архипелаг Блаженного Нонсенса”.
V
Первые результаты статьи доктора Бэрда были совершенно неожиданны. Во всяком случае, если судить по некоторым пуританийским газетам. В столичные и провинциальные агентства фирмы Свитмёрдера, в заграничные представительства этой фирмы посыпались десятки и сотни заказов на самые дорогие и роскошные гарнитуры мебели. Маргарита Швайн — “звезда экрана”, одна из первых новых заказчиков фирмы, сказала репортерам: “Стоит только поскрести ногтем мебель этой фирмы, и из мебели брызнет кровь. Согласитесь, это в высшей степени оригинально и элегантно!” Руководство Ку-клукс-клана, Американского легиона. Дочерей американской революции и ряда тому подобных организаций особыми циркулярными письмами предложило своим низовым звеньям приобрести мебель фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” в демонстративном порядке. Кандидат в губернаторы штата Тарабама был запечатлен на пленке специально предупрежденными им фоторепортерами в тот момент, когда он пожимал руку агенту этой фирмы. Газеты “Четвинтаймс” и “Атлантик трибюн” отвели целые полосы портретам Урии Свитмёрдера, его сыновей и членов их семей, с приведением наиболее пикантных фактов из их жизни. Что же касается самого заявления доктора Бэрда, то о нем в обеих газетах было сказано, что это НАИБОЛЕЕ УДАЧНАЯ И ОРИГИНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ПОСЛЕДНИХ ДВУХ СЕЗОНОВ. В столице Пуритании репортеры первым делом бросились в колледж Иисуса Спасителя — интервьюировать принца Оливера Джигу-браху, сына короля архипелага Джигу-браху. Принц срочно заболел, но это ему не помогло. Репортеры прорвали линию обороны, и принц должен был сообщить свое мнение о статье доктора Бэрда. По наущению приставленного к нему дипломатического дядьки, он заявил, что не знает такого доктора Бэрда, что было правдой; что он газет, тем более коммунистических, не читает, что тоже было правдой; что он обещает при первой возможности ознакомиться со статьей доктора Бэрда и составить о ней свое мнение, но весьма сомневается, чтобы эта возможность представилась ему раньше осени, так как он несколько отстал в греческом, математике и истории искусств и обещал своему августейшему папаше подтянуться.
В то время как один отряд репортеров блокировал, взял штурмом и вскоре покинул почти без трофеев покои принца, другой, значительно усиленный отряд газетчиков оказал честь доктору Сиднею Бэрду.
“Этот доктор сам срочно нуждается во враче. Конечно, психиатрическом”, — написал о Бэрде на другой день один из репортеров в хлесткой заметке, полной недорого оплаченной иронии.
“Он производит впечатление маньяка, — рассказывалось о Бэрде в другой газете. — Можно себе представить, как трудно подобрать врача для работы на архипелаге, если фирме “Урия Свитмёрдер и сыновья” пришлось в свое время примириться с кандидатурой этого Бэрда!” Автору заметки не понравилось, что Бэрд в ответ на вопросы, не имевшие прямого отношения к поднятым в его статье, но именно по этой причине и интересовавшие редакцию, умоляюще говорил: “Друзья, уверяю вас, сейчас не время заниматься этой чепухой! В тот момент, когда мы с вами тут мирно беседуем, на архипелаге откармливают, убивают и пожирают людей”.
Репортерам угодно было видеть в этих его словах маниакальную одержимость, несерьезность и неуважение к свободной печати, потому что ничего другого им не позволено было видеть их начальниками.
Репортеры, посетившие контору компании Свитмёрдера, были радушно встречены ее столичным доверенным, который угостил их крепким кофе, отличными сигарами и несколькими анекдотами. Он сказал, что он слишком стар и слишком уважает представителей печати, чтобы серьезно разговаривать о статьях, подобных статье доктора Бэрда. Эту фразу можно было толковать как угодно. При желании ее могли считать подтверждением статьи Бэрда, в том смысле, что нечего, мол, серьезно говорить о разоблачениях колониальных порядков, которые никогда не имели ничего общего с учениями Фребеля и Песталоцци. Колонии остаются колониями, и жить в них туземцам нигде не радостно. Но можно было считать слова уважаемого доверенного и оценкой статьи Бэрда как настолько не соответствующей действительности, что она не заслуживает даже более или менее серьезного обсуждения. Недаром именно этот доверенный фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” был признан впоследствии наиболее подходящей кандидатурой для посылки в некое экзотическое королевство в качестве советника по вопросам продовольствия, морали и шпионажа. В 1948 году он был возведен правительством в дворянское достоинство.
Вечером того же дня на заседании парламента (кстати сказать, незадолго до этого роскошно и на очень льготных условиях отделанного черным деревом фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья”) выступил с ответом на устный запрос депутата-коммуниста парламентский секретарь министерства колоний. Он сказал:
— Меня поражает непоследовательность коммунистов. С одной стороны, их не устраивает то, что ими принято называть “империалистическим вмешательством во внутренние дела других государств”. С другой стороны очевидно, в результате отсутствия достаточного чувства юмора, достопочтенный депутат с серьезным видом спрашивал, почему правительство Пуритании терпит факты, якобы имеющие место в суверенном королевстве Джигубрахия.
Передохнув после этой изысканной фразы, он продолжал:
— Но нет никаких серьезных оснований проявлять в этом вопросе излишнюю суетливость и торопливость, которая была бы справедливо воспринята как внутри нашей страны, так и за ее пределами как косвенное подтверждение хоть ничтожной правдоподобности этого нелепого письма. Если парламенту будет угодно поддаться воздействию нелепого сочинения упомянутого Бэрда, он будет иметь полную возможность рассмотреть этот вопрос при обсуждении бюджета на будущий год…
Несколькими днями позже генеральный секретарь Международной Лиги послал правительству одной из южноамериканских республик, у которой вывоз ценных пород леса составляет значительную часть внешнеторгового баланса, ответ на ее требование расследовать сведения о фактах людоедства на архипелаге Блаженного Нонсенса.
В ответе было отмечено, что настояния этой республики “основаны на очевидном недоразумении, так как:
В столице Пуритании репортеры первым делом бросились в колледж Иисуса Спасителя — интервьюировать принца Оливера Джигу-браху, сына короля архипелага Джигу-браху. Принц срочно заболел, но это ему не помогло. Репортеры прорвали линию обороны, и принц должен был сообщить свое мнение о статье доктора Бэрда. По наущению приставленного к нему дипломатического дядьки, он заявил, что не знает такого доктора Бэрда, что было правдой; что он газет, тем более коммунистических, не читает, что тоже было правдой; что он обещает при первой возможности ознакомиться со статьей доктора Бэрда и составить о ней свое мнение, но весьма сомневается, чтобы эта возможность представилась ему раньше осени, так как он несколько отстал в греческом, математике и истории искусств и обещал своему августейшему папаше подтянуться.
В то время как один отряд репортеров блокировал, взял штурмом и вскоре покинул почти без трофеев покои принца, другой, значительно усиленный отряд газетчиков оказал честь доктору Сиднею Бэрду.
“Этот доктор сам срочно нуждается во враче. Конечно, психиатрическом”, — написал о Бэрде на другой день один из репортеров в хлесткой заметке, полной недорого оплаченной иронии.
“Он производит впечатление маньяка, — рассказывалось о Бэрде в другой газете. — Можно себе представить, как трудно подобрать врача для работы на архипелаге, если фирме “Урия Свитмёрдер и сыновья” пришлось в свое время примириться с кандидатурой этого Бэрда!” Автору заметки не понравилось, что Бэрд в ответ на вопросы, не имевшие прямого отношения к поднятым в его статье, но именно по этой причине и интересовавшие редакцию, умоляюще говорил: “Друзья, уверяю вас, сейчас не время заниматься этой чепухой! В тот момент, когда мы с вами тут мирно беседуем, на архипелаге откармливают, убивают и пожирают людей”.
Репортерам угодно было видеть в этих его словах маниакальную одержимость, несерьезность и неуважение к свободной печати, потому что ничего другого им не позволено было видеть их начальниками.
Репортеры, посетившие контору компании Свитмёрдера, были радушно встречены ее столичным доверенным, который угостил их крепким кофе, отличными сигарами и несколькими анекдотами. Он сказал, что он слишком стар и слишком уважает представителей печати, чтобы серьезно разговаривать о статьях, подобных статье доктора Бэрда. Эту фразу можно было толковать как угодно. При желании ее могли считать подтверждением статьи Бэрда, в том смысле, что нечего, мол, серьезно говорить о разоблачениях колониальных порядков, которые никогда не имели ничего общего с учениями Фребеля и Песталоцци. Колонии остаются колониями, и жить в них туземцам нигде не радостно. Но можно было считать слова уважаемого доверенного и оценкой статьи Бэрда как настолько не соответствующей действительности, что она не заслуживает даже более или менее серьезного обсуждения. Недаром именно этот доверенный фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья” был признан впоследствии наиболее подходящей кандидатурой для посылки в некое экзотическое королевство в качестве советника по вопросам продовольствия, морали и шпионажа. В 1948 году он был возведен правительством в дворянское достоинство.
Вечером того же дня на заседании парламента (кстати сказать, незадолго до этого роскошно и на очень льготных условиях отделанного черным деревом фирмой “Урия Свитмёрдер и сыновья”) выступил с ответом на устный запрос депутата-коммуниста парламентский секретарь министерства колоний. Он сказал:
— Меня поражает непоследовательность коммунистов. С одной стороны, их не устраивает то, что ими принято называть “империалистическим вмешательством во внутренние дела других государств”. С другой стороны очевидно, в результате отсутствия достаточного чувства юмора, достопочтенный депутат с серьезным видом спрашивал, почему правительство Пуритании терпит факты, якобы имеющие место в суверенном королевстве Джигубрахия.
Передохнув после этой изысканной фразы, он продолжал:
— Но нет никаких серьезных оснований проявлять в этом вопросе излишнюю суетливость и торопливость, которая была бы справедливо воспринята как внутри нашей страны, так и за ее пределами как косвенное подтверждение хоть ничтожной правдоподобности этого нелепого письма. Если парламенту будет угодно поддаться воздействию нелепого сочинения упомянутого Бэрда, он будет иметь полную возможность рассмотреть этот вопрос при обсуждении бюджета на будущий год…
Несколькими днями позже генеральный секретарь Международной Лиги послал правительству одной из южноамериканских республик, у которой вывоз ценных пород леса составляет значительную часть внешнеторгового баланса, ответ на ее требование расследовать сведения о фактах людоедства на архипелаге Блаженного Нонсенса.
В ответе было отмечено, что настояния этой республики “основаны на очевидном недоразумении, так как:
 а) непосредственно заинтересованное в архипелаге Блаженного Нонсенса правительство Пуритании не придает серьезного значения статье доктора Сиднея Бэрда;
б) не вдаваясь в рассмотрение степени достоверности обвинений, выдвигаемых в этой статье, можно все же видеть, что речь идет о якобы существующих фактах людоедства. Между тем правительству Республики должно быть известно, что никаких международных соглашений, в той или иной форме запрещающих применение человеческого мяса в пищу, в секретариате Лиги не зарегистрировано, вследствие чего секретариат Лиги не считает себя вправе предпринять по затронутому вопросу какие бы то ни было юридически обоснованные шаги;
в) более того, самое поверхностное изучение упомянутой выше статьи доктора Сиднея Бэрда показывает, что налицо юридическое недоразумение: вменяемые в вину фирме “Урия Свитмёрдер и сыновья” операции никак не могут быть квалифицированы как содействие людоедству. Запрошенные по этому вопросу консультанты Международного суда готовы скорее квалифицировать эти операции как гостинично-пансионатные, без оказания специального медицинского и бальнеологического лечения…”
30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. Последовавшие за этим события как в самой Германии, так и за ее пределами надолго отвлекли внимание от трагедии архипелага Блаженного Нонсенса.
а) непосредственно заинтересованное в архипелаге Блаженного Нонсенса правительство Пуритании не придает серьезного значения статье доктора Сиднея Бэрда;
б) не вдаваясь в рассмотрение степени достоверности обвинений, выдвигаемых в этой статье, можно все же видеть, что речь идет о якобы существующих фактах людоедства. Между тем правительству Республики должно быть известно, что никаких международных соглашений, в той или иной форме запрещающих применение человеческого мяса в пищу, в секретариате Лиги не зарегистрировано, вследствие чего секретариат Лиги не считает себя вправе предпринять по затронутому вопросу какие бы то ни было юридически обоснованные шаги;
в) более того, самое поверхностное изучение упомянутой выше статьи доктора Сиднея Бэрда показывает, что налицо юридическое недоразумение: вменяемые в вину фирме “Урия Свитмёрдер и сыновья” операции никак не могут быть квалифицированы как содействие людоедству. Запрошенные по этому вопросу консультанты Международного суда готовы скорее квалифицировать эти операции как гостинично-пансионатные, без оказания специального медицинского и бальнеологического лечения…”
30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. Последовавшие за этим события как в самой Германии, так и за ее пределами надолго отвлекли внимание от трагедии архипелага Блаженного Нонсенса.
VI
В феврале 1939 года Томас Кру, двадцатидвухлетний туземец из племени Кру, работавший после окончания школы помощником бухгалтера фанерного завода на острове Дурку, крупно повздорил со своим начальником и был немедленно уволен. Ему было заявлено, что он уволен без права обратного поступления на этот завод и любое другое предприятие фирмы. Томасу Кру предстояла каторжная судьба туземного чернорабочего. Нельзя сказать, чтобы сама фирма не терпела на увольнении Кру известного ущерба: он был смышленым парнем, способным бухгалтером, знал с десяток местных языков и наречий и мог быть в дальнейшем весьма полезным фирме. Господин Урия Свитмёрдер, как-то обратив на него свое внимание, остался самого лучшего мнения о его благоразумии. У него даже мелькнула мысль, что не худо бы сделать Томаса министром при этом старом болване Джигу-браху. Но он воздержался: Томас был все-таки слишком молод, а главное, он происходил из простой семьи, и его назначение на столь высокий пост вызвало бы недовольство как у короля, так и у туземной аристократии. И все же Томаса уволили без права обратного поступления, ибо надо было еще раз показать, что фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья” не прощает ни малейшего противоречия ее державной воле. На следующий день Томас вернулся на остров Бассанука, на котором он отсутствовал вот уже шесть с лишним лет. Он нашел родную хижину пустой и заброшенной. Мать давно умерла, а отца и обоих его братьев, как ему было объявлено вождем племени, всего два месяца назад отправили работать на отдаленные острова, и они уже больше никогда на Бассануку не вернутся. И еще много, очень много людей племени Кру отправили за минувшие шесть с лишним лет на те же роковые острова, и ни один из них не вернулся обратно. Печально, но такова воля мудрых старейшин и Бини-ра — вождя племени, которые действуют тоже не по своему усмотрению, а по повелению богов племени Кру и его величества — короля Джигу-браху. Бини-ра — моложавый ласковый старик с бегающими плотоядными глазками на жирной физиономии — сердечно обрадовался приезду Томаса. Он похвалил его за успехи в науках и сказал, что взгляд Томаса можно сравнить по красоте и ясности только с солнечным лучом, но телом он, увы, тощ и непригляден. Его отправят туда, куда уехали отец и братья Томаса, чтобы он мог там применить свои обширные познания, а перед тем отдохнуть на блаженном острове, где народ Джигубрахии, по неисчислимой милости белых, отдыхает и питается так, как ему никогда и не снилось. Томас не очень поверил словам Бини-ра о том, что его будут где-то бесплатно кормить, да еще такой пищей, которая ему и не снилась. Для этого он достаточно хорошо знал фирму “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Но в родном селении было пустынно и неуютно, а в сладких речах Бини-ра чувствовались фальшь, раздражение — было ясно, что он будет при любом случае всячески допекать Томаса, потому что подданный, работавший на должности белого человека, — плохой подданный и лучше от него избавиться заблаговременно. Так Томас Кру, которому сейчас уже было все равно, попал на “лесосеку № 8”. Потребовалось несколько дней, чтобы он понял, что его откармливают, как мясной скот. Он попытался покончить с собой, но его успели вынуть из петли и выпороли плетьми. Через неделю его снова вынули из петли и вторично выпороли, на этот раз до потери сознания. Теперь, когда Томас отлеживался, он имел вполне достаточно времени, чтобы всесторонне обсудить свое положение. За три дня до прихода парохода “Кембридж”, который должен был забрать с “лесосеки” и развезти по назначению очередную партию откормленных питомцев доктора Шакта, Томас уже успел договориться с большинством внушавших ему доверие товарищей по беде. Это оказалось легче, чем он предполагал, ибо в первую очередь на “лесосеку № 8” отправляли людей строптивых, отлынивавших от работ на предприятиях фирмы и тем или другим неудобных для вождей и старейшин племен. Первым пунктом назначения по пути следования зловещего парохода был остров Дурку, самый большой и населенный остров архипелага. На нем проживало свыше семидесяти процентов населения островов, и здесь высаживали на берег каждых трех из четырех питомцев “лесосеки № 8”. Они прибыли туда ночью. “Кембридж” во все гавани приходил только ночью, и его встречали только вожди и старейшины племен, приходившие за их ежемесячным рационом человечины. Никому, кроме них, под страхом гнева богов не разрешалось в эти часы покидать свои жилища. Выждав, пока “Кембридж” ошвартуется, заговорщики под предводительством Томаса Кру напали на охрану и белых из команды парохода, перевязали и побросали их в черную теплую воду залива. Один из кочегаров-туземцев открыл кингстоны, и судно вскоре скрылось под водой, загромоздив своим корпусом подступы к причалу. А повстанцы, к которым присоединились черные матросы с потопленного “Кембриджа”, захватили с собой все обнаруженное на нем оружие и продукты и ушли в горы. Это было проделано так тихо и неожиданно, что застигнутой врасплох охране не удалось сделать ни единого выстрела, а вожди и старейшины племен, которые нетерпеливо переминались с ноги на ногу, пока швартовался пароход, вдруг оказались лежащими на сырых досках пристани, обезоруженными и связанными. Когда с утренней короткой зарей кончился запрет и окрестные туземцы вышли из хижин на свежий воздух, они увидели своих владык и старейшин, валяющихся на пристани, весело и нежно розовевшей под первыми лучами солнца. Тут же на пристани понуро стояли или сидели, поджав под себя ноги, четырнадцать необычайно упитанных туземцев, которые не решились уйти с Томасом, потому что боялись гнева богов, опасались, как бы в будущих неминуемых стычках их не убили, и рассчитывали, что авось здесь не всех сразу убьют и пожрут, и тогда можно будет спокойно и сытно прожить еще недельки две—три, а то и весь месяц. Назавтра они были съедены своими адресатами.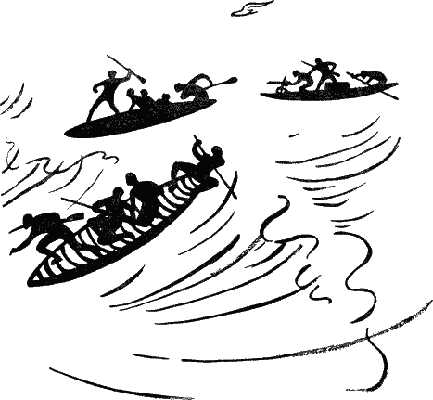 Несколько позже в некоторых европейских и американских газетах промелькнуло немногословное сообщение: “Группа туземцев архипелага Блаженного Нонсенса, подстрекаемая коммунистическими агентами, убила девятнадцать белых, ограбила и потопила принадлежащий компании “Урия Свитмёрдер и сыновья” пароход “Кембридж” и ушла в горы, сея по дороге смерть и разрушение. Ликвидация этой банды ожидается в ближайшие дни”.
С Томасом Кру ушло около семидесяти человек. Против этих семидесяти человек были двинуты двести двадцать полицейских, вооруженных винтовками, минометом и двумя легкими пулеметами. Свора овчарок быстро повела их по следам повстанцев. Но была середина зимы, на половине пути их застал ливень, зарядивший на много дней, и следов не стало. Да и вообще было немыслимо вести в этих широтах военные операции во время сезона дождей. Поэтому пришлось ограничиться тем, что выставлено было вокруг предполагаемого района базирования повстанцев кольцо постоянных застав, которые должны были блокировать район, а карательную экспедицию отложили до весны.
Несколько позже в некоторых европейских и американских газетах промелькнуло немногословное сообщение: “Группа туземцев архипелага Блаженного Нонсенса, подстрекаемая коммунистическими агентами, убила девятнадцать белых, ограбила и потопила принадлежащий компании “Урия Свитмёрдер и сыновья” пароход “Кембридж” и ушла в горы, сея по дороге смерть и разрушение. Ликвидация этой банды ожидается в ближайшие дни”.
С Томасом Кру ушло около семидесяти человек. Против этих семидесяти человек были двинуты двести двадцать полицейских, вооруженных винтовками, минометом и двумя легкими пулеметами. Свора овчарок быстро повела их по следам повстанцев. Но была середина зимы, на половине пути их застал ливень, зарядивший на много дней, и следов не стало. Да и вообще было немыслимо вести в этих широтах военные операции во время сезона дождей. Поэтому пришлось ограничиться тем, что выставлено было вокруг предполагаемого района базирования повстанцев кольцо постоянных застав, которые должны были блокировать район, а карательную экспедицию отложили до весны.
 Еще в самый разгар дождей небольшой отряд воинов Томаса Кру легко проскользнул сквозь жиденькое и неверное кольцо блокады, выбрался на побережье, на нескольких туземных лодках вышел в открытый океан, высадился на островке, где расположилась страшная “лесосека № 8”, уничтожил ее администрацию и охрану, сжег и разрушил все ее постройки и увел с собой в расположение отряда около ста человек.
С наступлением весны двинулась в горы столь долго подготовлявшаяся карательная экспедиция. У Томаса к этому времени уже было под командованием двести с лишним воинов. Два племени и шестнадцать селений, затерявшихся в труднопроходимых горных дебрях, признали Томаса своим вождем. Их прежним вождям и старейшинам удалось бежать в Дурку. Из этих беглецов в дальнейшем вербовались незаменимые проводники для карательных экспедиций, за что они и продолжали аккуратно получать свой ежемесячный паек с восстановленной “лесосеки № 8”.
Так начались на архипелаге военные действия, которые не прерывались вплоть до того дня, когда японцы вступили во вторую мировую войну и высадились, не встретив со стороны пуританийского гарнизона сколь нибудь серьезного сопротивления, на островах Блаженного Нонсенса; они продолжались именем короля Джигу-браху Первого под руководством и при деятельном участии японских войск, вплоть до того, как на борту линейного корабля “Миссури” был на рейде Токийского военного порта подписан акт капитуляции Японии.
К этому времени войска Томаса Кру насчитывали уже две с половиной тысячи человек, неплохо вооруженных пуританийским и японским трофейным оружием. Весь народ острова Дурку вышел встречать свою спускавшуюся с гор освободительную армию. Снова была торжественно уничтожена и сравнена с землей “лесосека № 8”, аккуратно функционировавшая и при японцах, так как предприятия компании “Урия Свитмёрдер и сыновья” все время войны исправно снабжали японскую армию фанерой, досками и деревянными деталями самолетов. Именно за эти свои заслуги граф Урия Свитмёрдер носит в торжественных случаях японский орден, усыпанный изумрудами.
Два месяца правительство Томаса Кру было хозяином положения на архипелаге. Затем последовала нашумевшая в те дни высадка отряда пуританийских войск, призванных установить на островах законный порядок и законную власть его величества Джигу-браху, с которым в столице Пуритании был заключен наступательный и оборонительный союз. Снова пришлось Томасу и его людям уйти в горы. Теперь с ним ушло уже около восьми тысяч человек воинов, стариков, женщин и детей. Это составило чуть меньше половины всего населения несчастного архипелага.
Во всяком случае, принц Оливер Джигу-браху, отправившийся через океан для переговоров о присылке на архипелаг помощи людьми и оружием, начал свою речь на обеде, посвященном борьбе в защиту малых наций, следующими словами:
— Народ Джигубрахии — малый народ. Он насчитывает всего около двадцати тысяч человек…
Таким образом, как следует из приведенного выше августейшего высказывания, за двадцать восемь лет, прошедших с того дня, как на архипелаге Блаженного Нонсенса обосновалась фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья”, убито и съедено три четверти его населения. В районах, на которые после двухмесячного перерыва снова распространяется власть концессии и короля Джигу-браху Первого, восстановлена и бесперебойно действует “лесосека № 8”, и есть все основания предполагать, что, если Томас Кру не победит, последней четверти населения островов недолго осталось существовать на земле.
Фирму “Урия Свитмёрдер и сыновья” это меньше всего беспокоит. Дешевых рабочих на ее век хватит. Уже принято соответствующими властями решение о переселении на архипелаг первой партии “перемещенных лиц” численностью около одиннадцати тысяч. Для них уже строятся подданными короля Джигу-браху Первого бараки в районах действия малярийных станций. Вслед за первой партией последует вторая в составе шести тысяч андерсовцев. Из них будут, в частности, сформированы и отряды для ликвидации “коммунистических банд Кру”, в которых нет и в которых никто и никогда даже и не видывал коммунистов.
На днях подписано соглашение о сдаче этого архипелага в аренду заокеанской Державе сроком на девяносто девять лет для организации на нем военно-морской базы…
Вот и все, что автор этих строк мог рассказать о ходе цивилизации архипелага Блаженного Нонсенса и о роли в этом столь далеко зашедшем процессе знаменитой фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Когда Томас Кру победит (а его победа несомненна, ибо люди, борющиеся за самое свое существование, непобедимы), мы сможем сообщить дальнейшие подробности о героических боях на архипелаге, который был на три четверти обглодан поступательным движением “западной цивилизации”, но все же воспрянул к жизни и будет жить.
Еще в самый разгар дождей небольшой отряд воинов Томаса Кру легко проскользнул сквозь жиденькое и неверное кольцо блокады, выбрался на побережье, на нескольких туземных лодках вышел в открытый океан, высадился на островке, где расположилась страшная “лесосека № 8”, уничтожил ее администрацию и охрану, сжег и разрушил все ее постройки и увел с собой в расположение отряда около ста человек.
С наступлением весны двинулась в горы столь долго подготовлявшаяся карательная экспедиция. У Томаса к этому времени уже было под командованием двести с лишним воинов. Два племени и шестнадцать селений, затерявшихся в труднопроходимых горных дебрях, признали Томаса своим вождем. Их прежним вождям и старейшинам удалось бежать в Дурку. Из этих беглецов в дальнейшем вербовались незаменимые проводники для карательных экспедиций, за что они и продолжали аккуратно получать свой ежемесячный паек с восстановленной “лесосеки № 8”.
Так начались на архипелаге военные действия, которые не прерывались вплоть до того дня, когда японцы вступили во вторую мировую войну и высадились, не встретив со стороны пуританийского гарнизона сколь нибудь серьезного сопротивления, на островах Блаженного Нонсенса; они продолжались именем короля Джигу-браху Первого под руководством и при деятельном участии японских войск, вплоть до того, как на борту линейного корабля “Миссури” был на рейде Токийского военного порта подписан акт капитуляции Японии.
К этому времени войска Томаса Кру насчитывали уже две с половиной тысячи человек, неплохо вооруженных пуританийским и японским трофейным оружием. Весь народ острова Дурку вышел встречать свою спускавшуюся с гор освободительную армию. Снова была торжественно уничтожена и сравнена с землей “лесосека № 8”, аккуратно функционировавшая и при японцах, так как предприятия компании “Урия Свитмёрдер и сыновья” все время войны исправно снабжали японскую армию фанерой, досками и деревянными деталями самолетов. Именно за эти свои заслуги граф Урия Свитмёрдер носит в торжественных случаях японский орден, усыпанный изумрудами.
Два месяца правительство Томаса Кру было хозяином положения на архипелаге. Затем последовала нашумевшая в те дни высадка отряда пуританийских войск, призванных установить на островах законный порядок и законную власть его величества Джигу-браху, с которым в столице Пуритании был заключен наступательный и оборонительный союз. Снова пришлось Томасу и его людям уйти в горы. Теперь с ним ушло уже около восьми тысяч человек воинов, стариков, женщин и детей. Это составило чуть меньше половины всего населения несчастного архипелага.
Во всяком случае, принц Оливер Джигу-браху, отправившийся через океан для переговоров о присылке на архипелаг помощи людьми и оружием, начал свою речь на обеде, посвященном борьбе в защиту малых наций, следующими словами:
— Народ Джигубрахии — малый народ. Он насчитывает всего около двадцати тысяч человек…
Таким образом, как следует из приведенного выше августейшего высказывания, за двадцать восемь лет, прошедших с того дня, как на архипелаге Блаженного Нонсенса обосновалась фирма “Урия Свитмёрдер и сыновья”, убито и съедено три четверти его населения. В районах, на которые после двухмесячного перерыва снова распространяется власть концессии и короля Джигу-браху Первого, восстановлена и бесперебойно действует “лесосека № 8”, и есть все основания предполагать, что, если Томас Кру не победит, последней четверти населения островов недолго осталось существовать на земле.
Фирму “Урия Свитмёрдер и сыновья” это меньше всего беспокоит. Дешевых рабочих на ее век хватит. Уже принято соответствующими властями решение о переселении на архипелаг первой партии “перемещенных лиц” численностью около одиннадцати тысяч. Для них уже строятся подданными короля Джигу-браху Первого бараки в районах действия малярийных станций. Вслед за первой партией последует вторая в составе шести тысяч андерсовцев. Из них будут, в частности, сформированы и отряды для ликвидации “коммунистических банд Кру”, в которых нет и в которых никто и никогда даже и не видывал коммунистов.
На днях подписано соглашение о сдаче этого архипелага в аренду заокеанской Державе сроком на девяносто девять лет для организации на нем военно-морской базы…
Вот и все, что автор этих строк мог рассказать о ходе цивилизации архипелага Блаженного Нонсенса и о роли в этом столь далеко зашедшем процессе знаменитой фирмы “Урия Свитмёрдер и сыновья”. Когда Томас Кру победит (а его победа несомненна, ибо люди, борющиеся за самое свое существование, непобедимы), мы сможем сообщить дальнейшие подробности о героических боях на архипелаге, который был на три четверти обглодан поступательным движением “западной цивилизации”, но все же воспрянул к жизни и будет жить.

Н. Москвин СЛЕД ЧЕЛОВЕКА Повесть

Глава первая НАЧАЛОСЬ ЭТО В МОСКВЕ…
1
В конце июня в отдел кадров Завьяловского строительства вошла полная, но статная, лет сорока женщина и с нею девушка и мальчик. В комнате за желтым столом, покусывая карандаш, сидел усатый озабоченный мужчина, а в стороне у окна — толстая, румяная девушка. Шурша синим пыльником, женщина подошла к этой девушке. — Скажите, пожалуйста, — спросила она, — не могу ли я у вас узнать, работает ли на строительстве Шувалов Михаил Михайлович? Я жена его… Или, может быть, работал когда… — Это разные вещи! — наставительно сказала толстая девушка. Смутившись своей строгости, она пригласила женщину присесть, переспросила имя, отчество и, узнав другие сведения о Шувалове, пошла к большому дубовому шкафу. Женщина обернулась к двери, где стояли вошедшие с нею девушка и мальчик. — Лиза! Витя! — тихо окликнула она их. — Подойдите, сядьте вот! Они подошли. Мальчик со светлым каштановым чубиком, свисающим на лоб, не походил на мать, но у девушки — лет шестнадцати — были такие же серые, широко расставленные глаза, что делало взгляд добродушным, рассеянным, как и у ее матери. Присев на краешек стула, мальчик, тотчас взял с пустого стола черный дырокол и принялся с силой нажимать на упругую ручку. Сестра, ничего не говоря и глядя в сторону, отобрала у него дырокол и молча положила на место. Шувалова пристально следила за толстой девушкой, которая рылась то в узких книгах, то в картотеке. Обернувшись, женщина встретила взгляд дочери, тоже устремленный к дубовому шкафу, и какая-то неловкая, не то тревожная, не то недоверчивая улыбка промелькнула на ее полных, чуть уже поблекших губах. Она вздохнула, посмотрела в окно и снова перевела взгляд на шкаф. Так они и сидели, мать и дочь, обе большелобые, — сероглазые, с одной мыслью и одним желанием. Для толстой же девушки это было другое — она просто наводила справку. Усатый мужчина шумно выдвинул ящик стола и с тем же озабоченным лицом стал рыться в нем — у него тоже было свое дело. За раскрытым окном пофыркивали самосвалы, едущие с бетонного завода на плотину; со звоном промчались два велосипедиста; по небу шли белые крутые облака — у всех было свое… Толстая девушка вернулась к своему столу. — Нет, такой не работает, — сказала она. — Есть двое Шуваловых, но имена другие и год рождения… — И не работал? — спросила женщина. — Я посмотрела и выбывших. Там тоже нет. Лиза быстро проговорила: — Как же так? — она даже привстала со стула. — Мы же видели его снятым на этой плотине… за работой! Мать не торопясь обернулась к дочери и строго подняла брови. — Минутку! — и снова обратилась к толстой девушке: — Вы сказали: “Нет среди выбывших”… Но за какое время? Та ответила, что она посмотрела за все время восстановления гидростанции, — это нетрудно, так как за четыре года среди инженерно-технических работников выбывших было ничтожное количество: ведь, окончив одну работу, люди переходили на другую на той же станции. — Сами понимаете, — сказала она, — как же уехать, бросить, если уже начали! — Правильно! Вот папа и должен быть тут теперь… — Лиза! Мать опять остановила дочь, и та, недовольная, сжав тонкие губы, отвернулась к стене. Заметив в руках брата пресс-папье с вывинченной ручкой, Лиза сразу отобрала его и положила на место. Женщина, подумав, помедлив, спросила, не мог ли Шувалов быть тут на какой-нибудь временной, нештатной работе. Девушка ответила, что это возможно — бывают экспертизы, комиссии обследования, — но к отделу кадров это уже не имеет отношения и следует обратиться к управляющему делами или к главному диспетчеру. Шурша синим пыльником, женщина встала. Больше спрашивать было не о чем. Поблагодарила девушку за поиски и кивнула детям. Те поднялись и пошли к двери впереди матери.***
Управляющий делами, худощавый высокий человек, вежливо склонив голову вправо, выслушал посетительницу и, не обращаясь ни к конторским книгам, ни к картотеке, сказал, что в экспертах или членах комиссий такого не было — он всех помнит. Шуваловы спустились по лестнице и вышли на улицу. Невольно остановились у подъезда. Вот и все… Зачем же они приехали в Завьяловск? Да, на лето, к дяде, но ведь, кроме того, таилась еще надежда. Впрочем, какая же надежда!.. Они медленно пошли по прибрежной улице, обсаженной тополями. Был летний полдень. Тополя в аллее стояли, подобрав под себя тень; за ними виднелась широкая река, бело-блестящая от солнца, с неразличимым от этого блеска течением. Сейчас покажется трамвай, на котором ехали сюда, ехали с ожиданием, волнением. Но чего можно было ждать! Не лучше ли было жить с тем, с чем жили эти четыре года…2
Весной 1944 года Софья Васильевна Шувалова получила извещение, что муж ее, Михаил Михайлович, инженер-химик по образованию, пропал без вести. Некрасовское “увы, утешится жена…” не оправдалось для нее: утешение не пришло, она помнила об утрате. Но все же четыре года, большая работа в школе, где она преподавала литературу, хлопоты с детьми — все это как-то помогло. Помогло, но не излечило, хотя окружающим и могло так казаться: она редко говорила о Михаиле. Софья Васильевна принадлежала к тем натурам, которые строги не столько к окружающим, сколько к самим себе: ей не хотелось, чтобы ее жалели, сочувствовали ей, ставили ее в какое-то особое положение, она желала быть как все. Ее не тянуло по-бабьи пригорюниться, вздохнуть… Впрочем, может быть… Но только не на людях, даже не при Лизе и Вите. Наверное, это было нелегко. Однажды она сидела у знакомых. Хозяйка решила показать ей какую-то гравюру и вытащила из-за шкафа сверток в пожелтевшей газете. Софья Васильевна сама его развернула. На сгибе газеты — строка, набранная крупным курсивом: “Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!” Оставив гравюру, Софья Васильевна подошла к окну и стояла там, продолжая общий разговор, стараясь говорить спокойным голосом… Люди одной цели, одного желания или чувства легче понимают друг друга. После войны и в следующие годы Софья Васильевна то там, то здесь слышала: такая-то получила известие, что муж жив, другая поехала отыскивать могилу мужа… Ранее не известная ей, а теперь ставшая близкой работница с “Дуката” Настасья Тимофеевна вернулась из Черниговщины заплаканная, но какая-то просветленная: нашла, где муж похоронен… Преподаватель математики из их школы только прошлым летом ездил на станцию Гусино Смоленской области. Отыскался там след его жены, тогда медицинской сестры. Трудно ему было найти, но жители помогли: вот этот холмик с серым камнем… Когда-то на камне было все написано, но время, дожди — остались только отдельные буквы… Нет, у Софьи Васильевны надежды на это не было: пропавшего без вести не сыщешь, места его не найдешь. Время шло, дети росли, в душе была строка: “Вечная слава…” Но этой весной появилось в их жизни новое, неожиданное, и вот они втроем здесь, в Завьяловске…3
Началось это в Москве майским вечером. Две подруги сидели в черно-белой полутьме зрительного зала. Фильм был длинный, составленный из кинохроник, и девушки, посмотрев немного на экран, стали шепотом переговариваться об экзаменах, о том, кто и где будет летом. Неожиданно Лиза воскликнула: — Папа! Варя вздрогнула, ничего не поняла: — Какой папа? Но, взглянув на Лизу, подавшуюся вперед, и заметив в полумраке ее заблестевшие глаза, устремленные на правую часть экрана, Варя, перехватив ее взгляд, увидела там человека в меховой безрукавке, который, стоя в какой-то дощатой, грубо сколоченной люльке, куда-то медленно спускался на тонком тросе. Под люлькой появилась чернота, которая поползла вверх, а люлька, казалось, остановилась. Когда чернота заполнила весь экран, человек неловко перелез через борт люльки и пошел в темноту. Там, в глубине, показались бледные фонари и какие-то люди в телогрейках и полушубках. Некоторые из них сидели на корточках и пальцами, осторожно, словно боясь наколоться, отгребали что-то сыпучее. На экране мелькнула надпись: “…и поднимались из пепла дома” — и вслед открылось небо, белые облака, косогор с расщепленными, обугленными деревьями, от которых в ряд шли новые высокие избы с не покрытыми еще ребрами стропил. Варя посмотрела на людей, которые ходили около ближнего дома или сидели с топорами на крыше, — того человека безрукавке тут не было. Она взглянула на Лизу и по ее глазам поняла: нет его. Да тут и в самом деле было все другое: и место, и люди, и время года — там в зимнем, а здесь в рубахах, в майках. — Ведь это кинохроника, — шепотом сказала Варя, объясняя не то себе, не то подруге, — из разных кусочков… — Да… да… А ты видела, как он спускался? — Узкие глаза Лизы были сейчас круглы и блестели. — Я его сразу узнала. — Но ведь его нет? — Нет… — Как же тогда? — Я не знаю… — Лиза снова стала смотреть на экран, точно ожидая объяснения. Но там все было другое и другое. — Ах, зачем мы болтали! Наверное, папа давно показался! — Вот совсем и не давно! Я смотрела… — Ничего ты не смотрела, а говорила! — Нет, и смотрела! Получалось, что Варя виновата, хотя Лиза говорила во время сеанса больше ее. На круглом, краснощеком лице Вари появилось недовольство, и полные губы ее вытянулись, но, понимая волнение Лизы, она легко взяла вину на себя. — Все равно, — сказала она примирительно, — тебе придется смотреть эту картину еще раз. Лизе это как-то не пришло в голову. Ей казалось, отец появился и исчез. А ведь можно смотреть еще и еще — с мамой, с Витькой. Они вышли из кинотеатра. Над городом лежали поздние и редкие для мая мглистые от жары сумерки. У белых тележек с газированной водой стояли молчаливые очереди, несмотря на поздний час, поливали улицы — пожилая дворничиха со строгим лицом обливала полуголых, в одних трусах, мальчишек, с визгом и смехом лезущих под белый, тугой жгут воды. Вода попала и на Варю, и она тоже вскрикнула и засмеялась, но, взглянув на озабоченную Лизу, смолкла. — Я не понимаю… Тебе радоваться надо, — сказала Варя, желая оправдать свой смех. — Ведь жив! — Не может этого быть! Давно известно… Лиза отвернулась и стала смотреть на витрину гастрономического магазина, мимо которого они проходили: картонные консервные банки, деревянные сосиски, окорок из папье-маше… А дальше — пуговицы, флаконы, чулки… Начался другой магазин. — Тогда, значит, ты перепутала, — тихо, в тон подруге, сказала Варя. — Это не он, а только похож на него, тем более что стоял в профиль. — Ну как не он! Когда улыбнулся, когда посмотрел вниз… Ну поворот головы, руки — все… — Погоди! — Варя, блестя глазами, смело схватила подругу за руку и остановила ее. — Погоди! Ведь эту картину составляли из разных хроник, и там мог попасться кусочек, где твой папа снят раньше. Понимаешь, раньше, на фронте. Лиза внимательно посмотрела на простодушное, полнощекое лицо подруги. — Папа пропал без вести в начале сорок четвертого года, — сказала она, продолжая путь, и Варя выпустила ее руку. — А здесь, в картине, восстановлениепосле войны. Это раз. А второе — ты же видела, он не в военной уже форме, а в гражданской. И там, в этом черном подвале, что ли… тоже все невоенные люди. — Ну, тогда, значит, он жив! — воскликнула Варя. — Я же тебе говорила! Жив! А ты говоришь-не может этого быть. Жив, и его можно найти. Лиза и сама видела, что она запуталась в догадках. И вдруг, несмотря ни на что, радость, что отец жив, радость, которую она все время от себя отгоняла, охватила ее. Неизвестно где, но жив. Папа!.. Она поедет к нему, увидит его… Но тут услышала: “…и его можно найти!” Она прошла несколько шагов, смотря себе под ноги, потом — на ограду университета, мимо которого они проходили. Ломоносов, стоя на низком темном пьедестале, молча читал бронзовую рукопись. — Нет, если он жив, — твердо сказала Лиза, — то ни я, ни мама его искать не будем. Зачем? Раз он сам… К дому Лизы они подошли молча, и Варя, которая, еще выходя из кино, мечтала первой, прямо с порога, выкрикнуть: “Софья Васильевна! Мы только что видели Михаила Михайловича!” — сейчас решила не идти в дом, хотя и очень хотелось посмотреть, какое впечатление произведет эта новость. Ей, как и Лизе, было шестнадцать лет, и женское любопытство жило в ней уже не первый год. Но Варя понимала: в семье у Лизы сейчас будет или напоминание о старом горе, или новое горе — она тут лишняя… …— Сколько сейчас времени? — быстро спросила Софья Васильевна, когда Лиза ей всё рассказала. Она посмотрела на столик, где лежала ее шляпа. Но Лиза остановила мать: начало последнего сеанса в десять, а сейчас уже было без пятнадцати. — Пока доберемся… Опять пропустим. Лучше прямо с утра… — Опять! — Софья Васильевна усмехнулась. — Я бы не пропустила… Ну, а что у меня завтра? — Опершись на колени, она тяжело встала с дивана, подошла к письменному столу, где под стеклом лежало школьное расписание. — В седьмом классе с часа пятнадцати, в восьмом с двух десяти… — Ну вот, значит, утром ты свободна. Прямо на первый сеанс. Они рано легли, но не сразу заснули — сперва говорили, потом так лежали, прислушиваясь к спокойному дыханию Вити.4
Наутро они вместе смотрели фильм “Снова жизнь”. Сперва показывали войну: грузовики с пехотинцами, перебежки солдат между кирпичными развалинами, многоствольные орудийные залпы. Лиза все это вчера видела и ждала того места, где она перестала смотреть на экран. — Скоро? — спросила Софья Васильевна. — Скоро, наверное. Вслед за откатывающейся войной потянулись жители. Они возвращались домой на лошадях, на баржах, по железной дороге, но всего больше пешком, толкая впереди себя самодельные тележки. Проехала тележка с узлом, на котором сидела кошка, и Лиза поняла: где-то тут она начала перешептываться с Варей — кошку эту она вчера не видела. Вскоре появилась надпись: “За возвращением начался труд”. Восстанавливались фабрики и заводы, мосты снова перешагивали через реки. После слов: “Возрождались плотины” — гигантской полудугой, напоминающей челюсть, показалась плотина, преграждающая реку. Чернели выбитые зубы бетонных бычков. Вот уцелевшие бычки вблизи, высокие, стройные. Минуя их, шел по плотине невысокий, узкоплечий человек в шинели. Он поравнялся с краном, снял шинель, остался в меховой безрукавке. — Вот! — Лиза сжала локоть матери. — Ты видишь? Ну конечно! Она его узнала, еще когда он шел по плотине невоенной, штатской походкой — руки неподвижны в ходьбе. Сквозь ограду в виде перекрещенных колосьев было видно, как он влезает во что-то, и вот кран выносит его в дощатой, грубо сколоченной люльке через ограду, через колосья и на тонком тросе медленно спускает куда-то… С этого места Лиза смотрит как на знакомое: сейчас люлька дойдет до черноты, откроется какой-то подвал, покажутся люди, что-то отгребающие… Когда на экране появилась надпись: “И поднимались из пепла дома” — и на косогоре опять выстроились в ряд новые избы, Лиза тихо сказала: — Все. Больше не будет… Но Софья Васильевна, возбужденная и молчаливая, досмотрела картину до конца: может быть, девочки вчера снова переговаривались и еще что-нибудь пропустили… В автобусе они говорили о шинели, которую он снял перед люлькой. Все становилось на прежнее место: кинооператор повстречал отца когда-то на фронте, а дальше было известное, уже пережитое — март сорок четвертого года… Однако Лизе не все было ясно. — Но то, что мы видели, — это же не фронт! — говорила она. Автобус шел по солнечной стороне улицы, близко к домам, и жар нагретого камня проникал в открытые окна машины. Софья Васильевна медленно обмахивалась газетой. Ей не хотелось говорить: увиденное еще стояло перед глазами, и она как бы вглядывалась в него. — Ну что ты! — Она ответила не сразу. — Почему не фронт? На фронте не только стреляли, но и строили. — Но ты, мам, помнишь надпись: “На освобожденной земле начинался труд”? Кто же начинал восстанавливать? Не военные же! Ведь война тогда еще не кончилась, а только дальше ушла. Военные-то на фронте были нужны, а папа вдруг тут! — Чем же тогда объяснишь, что на нем шинель с погонами? Лиза не ответила, отвернулась к окну. Автобус стоял, и в открытую дверь его медленно втягивалась очередь. Последним подошел худощавый человек с рулоном ватмана под мышкой. Он прихрамывал. — А знаешь, как Варин дядя! — вдруг сказала Лиза. — Из-за раны был демобилизован и стал работать. Пока пальто не сшил, ходил в шинели. — Без погон. — Ну да, без погон… — И Лиза, помолчав, вернулась к своей мысли: — Не мог папа восстанавливать какую-то плотину, если война не кончилась… Подожди, мама! — прервала она себя. — А не бывает, что военные части в мирное время, после войны, помогают каким-нибудь стройкам? Ведь если это бывает, то тогда и с шинелью и с погонами все правильно. Он сейчас на военной службе и где-то помогает. Может так быть? — Ну, вообще-то может быть… Но ты одного не понимаешь: отец, где бы он ни был, приехал бы, давно бы написал. Для Софьи Васильевны все было ясно: хроника эта старая, снята во время войны, потом пришло извещение. Нет, надежд никаких… Но вот на экране плотина, люди — видимое, живое место на земле, где Михаил действительно работал, жил… Может, это и было последним его местом. Тут даже яснее, чем у Настасьи Тимофеевны с “Дуката”. Та начинала со слов, с догадки, а здесь все явное, все верное… Софью Васильевну охватило чувство: вот сейчас же, немедля, поехать туда, узнать о нем, услышать… Она отвернулась к окну автобуса и стала смотреть на улицу. Нет, школа, занятия — не уедешь. Надо пока хоть разузнать.5
Это было начало. Потом навели справки: плотина, которая фигурировала в фильме, оказалась Завьяловской. Это далось легко — плотина была знаменитая. Но о том, когда снимали, узнали только общее, неопределенное: после освобождения Завьяловска, когда начали восстанавливать гидростанцию. Однако сюда могли войти кадры и из более позднего периода — ведь эта станция до сих пор восстанавливается. Послали запрос на имя начальника строительства. Долго не было ответа. На второй запрос какой-то канцелярский старатель любезно сообщил: “Ваше отношение получено и передано в ОДТК”. Что это за буквы, что они значат? Вскоре из этого “ОДТК” пришел ответ: “В названном отделе Шувалов М.М. не значится и не значился…” Лиза удивилась: “Разве ты спрашивала о каком-то отделе, а не о всей стройке?” Софья Васильевна ответила: “О всей. Напутали…” Но что же дальше? Только одно: надо оставить эту канцелярскую переписку, дождаться летних каникул в школе и самой поехать в Завьяловск. Михаил снят на плотине, значит, несмотря на всякие ОДТК, в Завьяловске он был, и по всем ее расчетам получалось, что там-то и были его последние дни… Может быть, есть люди, которые его помнят, есть дом, где он останавливался. Она войдет в дом. Может, что сохранилось: обрывок письма, карточка, пуговица — все дорого. И, может, прояснится, исчезнет это “без вести”… Она сказала об этом Лизе. Та тотчас согласилась — ну конечно! И она тоже поедет… У молодости всегда больше надежд, и надежды эти живучи. Возникнув, они тотчас укрепляются доводами, предположениями, и вскоре всякие зыбкие “может быть” отпадают. У Лизы не сразу так получилось. Надежда, что отец жив, привела к мысли: он оставил семью. Это было горько. Прямодушная, решительная по характеру, она сразу же сказала Варе: “Если так, то ни я, ни мама его искать не будем”. Но Лиза помнила отца, знала его по рассказам матери и потому не могла принять это объяснение. Оставить же надежду, согласиться с матерью, что отца нет, было еще невозможнее. Об этом она не хотела и думать, искала другую, не обидную для матери, для нее и Вити причину. И она была найдена. Вспомнила случай в книге: из-за непоправимого ранения человек не вернулся к семье, не хотел, чтобы его видели таким. И еще, как бы в подтверждение, случай уже у себя дома: пришел из домоуправления новый электромонтер, а щека у него от новой кожи блестящая, точно лежит квадрат прозрачного целлофана. Может быть, тоже родным не показывается. А у отца могло быть серьезнее, недаром он в люльке стоял в профиль, а когда по плотине шел, было все мелко, не разобрать… Довод был хороший, верный, хотя и непростительный для отца, и надежда стала прочной, не сбить. Теперь только одно — найти его, привезти домой. И, когда мать сказала, что она поедет в Завьяловск, Лиза тотчас и решительно ответила — и она тоже. — Курс — норд, мама! — сказала она улыбаясь. Отец любил Седова, рассказывал о его путешествии к полюсу, а перед отъездом оставил Лизе книгу, где на снимках со старых фотографий снег без конца и края и, наверное, такая тишина, что дыхание слышно. Книгу прочла много спустя после отцовского отъезда, и седовское смелое, безоглядное “курс — норд” запало в память. — В данном случае не норд, а зюйд! — сказала Софья Васильевна. — Все равно курс — норд! Ты меня понимаешь! Софья Васильевна подумала: “Что бы ни узнали в Завьяловске, Лиза имеет право там быть — не маленькая…” Дальше судьба благоприятствовала. Решено было, что летом, на каникулы, пока Витя будет в лагере, они вдвоем съездят на недельку в Завьяловск, а потом своим чередом куда-нибудь под Москву. Но недели за две до отъезда пришло письмо от Всеволода Васильевича, брата Софьи Васильевны. Инженер-механик, он был направлен министерством на вновь открытую в Завьяловске кондитерскую фабрику. В письме он звал к себе сестру с детьми на все лето. Живу я, — писал он, — как и полагается холостяку, в одной комнате, а вторая и кухня в полуобитаемом состоянии, скоро там заведутся привидения. Соседи по дому приличные, дом стоит в саду. Садов в Завьяловске вообще много, и каждую неделю что-нибудь цветет: то черемуха, то яблоня, то сирень… А наша фабрика совершенно бесплатно подбавляет к этому букету еще запах ванили и грушевой эссенции. Ну где ты еще подобное найдешь? А пляж на реке! А воздух! А плотина, которую надо показать и Вите и Лизе, — ведь дети ее только в учебнике видели… Софья Васильевна не знала, что ответить брату. Это было совсем другое — она хотела съездить ненадолго, узнать о Михаиле, а тут вот всей семьей, всем домом, будто на дачу… Как ни важно было то дело, ради которого она должна быть в Завьяловске, Софья Васильевна не могла не подумать, хватит ли денег на такую семейную, на все лето поездку. Но среди знакомых нашлись советчицы, которые рассчитали, что расходов там будет меньше, чем если это время прожить под Москвой. Если так, то чего же лучше — в розысках они не одни будут в чужом городе. И пристанище и помощь от брата. И Софья Васильевна с детьми тронулась в путь. Дорога была нетрудной, интересной и для ее дела полезной. Познакомились в пути с неким Павеличевым. Это был молодой человек с черными густыми бровями, в синей куртке с длинной молнией. Он был студентом третьего курса — будущий кинооператор — и ехал в Завьяловск на открытие восстановленного шлюза. Его съемочная группа была уже на месте, и он волновался: успеет ли? Шлюз могли открыть и раньше срока. Лизе, как многим в ее возрасте, профессия, связанная с кино, казалась необычайной, даже таинственной, а сам обладатель этой профессии — существом особым, недоступным. Но Павеличев оказался самым обыкновенным: играл, как и все в вагоне, в домино, бегал за кипятком на станциях, мягкой проволочкой ловко укрепил ручку на чемодане какой-то старухи из соседнего купе. Но самой главной обыкновенностью была взятая им из дому бутылка с кипяченым, желтым у горлышка молоком, из которой он, отвертываясь, потихоньку попивал. Свою профессию он любил, говорил о ней охотно, но без похвальбы, и тоже получалось “ничего особенного”. Конечно, частые переезды — это было интересно, и Лиза подумала: через год ей надо будет выбирать профессию, хорошо бы тоже с разъездами — новые места кругом, новые люди… Софья Васильевна, не любившая посвящать посторонних в свои дела, все же рассказала Павеличеву об увиденном на экране весной: это ему близкое, может быть, что знает. Тот сказал, что такие случаи — заметили кого-то из родных во фронтовой кинохронике — очень часто происходили во время войны, и, по словам старых операторов, всегда было много запросов на киностудию. — Но, по правде говоря, — сказал Павеличев, сводя черные брови к переносице, — найти выходные данные о каком-то трехметровом кадре из какой-то старой хроники — дело сложное, надо копаться в архиве. — А если из новой, недавней хроники? — спросила Лиза, думая о своем, о решенном для себя. Павеличев ответил, что это легче, и поскольку место уже установлено точно, то время можно узнать и на самом строительстве. Для этого только надо зайти в отдел кадров, где все известно. Тем более об инженерно-техническом работнике…6
Вот и Завьяловск! Лиза вышла на перрон со странным чувством: тут был отец. Давно или недавно, но этого вокзала он никак не миновал. Огибал здание, спускался, вот как и они, по этим ступенькам в город… Вот и дядя Сева! Он встретил их не на перроне, а вот тут, на ступеньках. — Ну, все здесь? Не растерялись? — громким, веселым голосом окликнул он их. — А я, как видите, запоздал. Голос у дяди Севы густой, и сам он высокий, плотный. Большими, сильными руками подхватил чемоданы и легко понес их к машине. Таким Лиза и помнила его раньше — большой, сильный… Он и чай-то тогда пил из тонкого стакана, опущенного в тяжелый, с крупной резьбой подстаканник, — иначе нельзя: незащищенное стекло в его руках сломалось бы. Введя приехавших в квартиру, дядя Сева обнял Витю за плечи и, пройдя с ним в левую небольшую комнату, сказал: — Тут будут спать мужчины. А тут, — вместе с Витей, который под его большим рукавом был еле виден, он вернулся в первую, просторную комнату, — а тут поместятся дамы, которые будут нас три раза в день кормить. Довольно нам с тобой бегать по столовым! Впрочем, если их лень одолеет, — он говорил, поглядывая на Витю, — то можно брать обед в нашей фабричной столовой. И это Лиза помнила: дядя Сева всегда был балагуром, и хорошо, что он не изменился, около него будет уютно, легко. Прежде чем снять шляпу перед тусклым от пыли зеркалом, Софья Васильевна перчаткой протерла на нем светлый овал. — Да у тебя, наверное, и кастрюль нет! — сказала она, приближая лицо к овалу. — И на чем ты готовишь? Всеволод Васильевич опять заглянул под свою руку. — Ты слышишь, Вить, какое странное мнение! У инженера — и нет кастрюли! А чай себе он, наверное, кипятит на свечке! А не знают того, что у него две настоящие кастрюли, один чайник, одна сковородка и три электрические плитки. Софья Васильевна вынула из кошелки дорожную салфетку и ею вытерла теперь уже все зеркало. — Плиток чересчур много, а кастрюль мало, — отозвалась она. — Ничего не много! Как раз хорошо, что три плитки! — бурно заговорил Витя, и дядя Сева даже чуть приподнял руку, чтобы дать Вите свободно высказаться. — У нас, когда перегорит плитка и пока я чиню, все останавливается, а мама меня торопит, а я спешу, а она говорит… — Абсолютно верно, Витенька! — примирительно сказал дядя Сева, опять обнимая мальчика. — Тем более простительно иметь три плитки, что находятся они рядом с таким источником электроэнергии, который твоей маме и не снился. Все заводы и фабрики вокруг вертятся на нем. А когда пустят последние турбины, то и на расстояние ток пойдет… Ну, а теперь давай посмотрим, как выглядит красивое стенное зеркало, когда на нем нет пыли. Пойдем и ты, Лиза!.. Да-да, удивительно! В сущности, все великие открытия очень просты. — Всеволод Васильевич подвел Витю и Лизу к зеркалу. — Н-да-а… очень просты, но бывают абсолютно ненужными, я бы сказал — бестактными! До вашего приезда мне было двадцать девять лет, теперь, после стараний вашей милой мамы, в зеркале отчетливо виден сорокадвухлетний человек. Как по паспорту. Такие открытия надо после открытия тут же и закрывать… К сожалению, пыли теперь долго не дадут сесть на прежнее место. Прощай, молодость! Лиза рассмеялась, тоже хотела что-то прибавить к дядиным шуткам, но Всеволод Васильевич, взглянув на часы, поспешно ушел в соседнюю комнату. Вернулся оттуда с портфелем, озабоченно похлопывая себя по карманам. — Я тебе, Соня, советую, — сказал он уже другим тоном, пристально посмотрев на сестру, — советую сегодня по своим делам не ходить. Устраивайтесь, отдыхайте от дороги, а уж завтра начнешь. Я буду к семи часам. Шуваловы устроились довольно быстро, но с обедом в первый день опоздали — надо было освоиться среди чужого и незнакомого: неизвестных магазинов и рынков, неизвестных дядиных полок и ящиков, где надо было найти соль, вилки, скатерть. Но уже на другой день, перед поездкой в отдел кадров, утренний завтрак был во всем возможном благолепии. — Ведь это смотрите что! — Всеволод Васильевич, не двигаясь, робко сложив на животе свои большие руки, окидывал взглядом стол. — Скатерть! Вполне белая. Ножи и вилки сияют. Колбаса почему-то не на газете, а на тарелке. А соль — обыкновенная, общеизвестная соль — не в миске и не в кружке, а в солонке… — Тебе жениться надо, — сказала Софья Васильевна. — При подрастающем поколении такой вывод делать не стоит, — сказал Всеволод Васильевич, обстоятельно усаживаясь за стол. — После твоих слов можно подумать, что это мероприятие существует только для того, чтобы соль была в солонке, хлеб — на тарелке. Этого даже мы, холостяки, не думаем… — Ну, конечно, не поэтому, а вообще… Дядя Сева не спеша постукал ложкой по яйцу и, смяв скорлупу, стал отщипывать ее. Когда показался голубоватый, влажно блестевший купол белка, он положил руки на скатерть, чего-то подождал и поднял на сестру большие серые глаза. — А если вообще, — сказал Всеволод Васильевич каким-то безразличным голосом, — то это сложно. Витя, кончивший завтрак, первый сказал “спасибо” и побежал в сад. Следом поднялась Лиза. Софья Васильевна предупредила ее, чтобы она не уходила далеко и приоделась, так как после завтрака они пойдут в город, в отдел кадров.7
После ухода детей Всеволод Васильевич рассказал, что у них на фабрике есть одна сотрудница, живущая на улице Шевченко. В этом же доме во время войны и позже жила ее сестра, у которой после освобождения Завьяловска останавливалось много военных и командированных. Город был разрушен, а у нее тогда сохранились две комнаты, и в одной, как в гостинице, менялись квартиранты… — Сейчас эта особа в Харькове, но по моей просьбе Наталья Феоктистовна написала ей. Кто знает, может быть, и Михаил тут останавливался… Все-таки какие-то сведения. “Все-таки какие-то сведения” — у него получилось невольно. Вчера, после разговора с Софьей Васильевной, он спрашивал о Михаиле Шувалове у одного инженера, давно работающего на строительстве. Но тот не знал такого. Сестре он этого не передал — пусть сходит в отдел кадров сама, убедится. Ей это нужно, за этим она и приехала. Да и узнает поточнее. Софья же Васильевна поняла слова брата “все-таки какие-то сведения” как убеждение, что все это давно было. — Да, я тебе то же говорила, — сказала она, отвечая на свою мысль. — Не мог он столько времени молчать… — И вдруг посмотрела на брата прямо, решительно, но с какой-то робкой, невеселой улыбкой. — А знаешь, что-то боязно мне туда идти… Будет что-то новое, чего я не знаю. Новое всегда беспокоит… Вчера как вышла с вокзала, иду и знаю, что вот по этому тротуару и Михаил когда-то ходил… И, как бы боясь, что брат станет ее жалеть, она повернулась к столу, махнула рукой, словно говоря: “Это я просто так”, и с беззаботным видом начала резать тяжелые, прохладные помидоры. — Если лето тут проживу, то я тебе невесту найду! — сказала она, возвращаясь к легкому, безобидному разговору о женитьбе. Всеволод Васильевич понял сестру. Он сам не любил печальных, сочувственных слов и охотно поддержал ее желание. Кроме того, для него это была такая тема… — Это сложно! — повторил он то, что говорил до ухода детей, но уже другим, доверительным тоном. — У меня есть приятель, Сергей Николаевич, тоже холостой. Он так говорит: “Представляешь, просыпаешься утром, открываешь глаза, а она — вот напасть! — уже тут!” Правда, Соня, это “уже” прелестно! — Глупо все это! — Софья Васильевна, оставив помидоры, наливала брату темно-красный, не просвечивающийся в стакане чай. — Чувствую, что никакого такого Сергея Николаевича нет. Это ты сам так думаешь! И глупо, повторяю! Он взял подстаканник с чаем за толстую ручку, положил сахару, не спеша размешал — ложечка скрылась в его большой руке. — Да нет, я ничего не говорю… — помедлив, сказал он. — Есть, конечно, очень милые женщины, достойные всяческого уважения… — Да что ты говоришь! — Есть, есть! — Но ты их еще не встречал? — Софья Васильевна спросила с сочувствием. — Нет, почему же… Он вдруг поднялся и стал что-то искать. Большой, плотный, он грузно ходил, посматривая вокруг и похлопывая себя по карманам. Пошел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с двумя пакетиками из вощеной бумаги. В пакетиках лежало штук по десять продолговатых горошин драже шоколадного цвета. — Вот попробуй из каждого пакетика, — сказал он, кладя их перед сестрой на стол, — и установи, какие лучше. Сегодня на партбюро это будем разбирать. Тут дело такое — умный человек с головотяпом борется… А я, ты знаешь, конфеты ел лет тридцать назад, да иногда потом в гостях, по принуждению. А Наталье Феоктистовне — есть у нас такая беспокойная особа — надо точно знать насчет этих пакетиков. Ты понимаешь, она предложила в драже для основы, или, как научно говорят, для “корпуса”, закатывать зерна пшеницы, специально ею приготовленные. Дешево и, говорят, вкусно… Это как раз та сотрудница, которая своей сестре написала… — Это она тебе дала? — спросила Софья Васильевна, вынимая драже из левого пакетика. — Она. А почему ты улыбаешься? — Да просто мне теперь понятен твой неожиданный переход с одной темы на другую — с “достойных женщин” на это. — Она кивнула на пакетики. — Значит, что же. Сева, получается: “она уже тут”? — Вот глупости какие! Ну, как ты находишь? Вкусно? — Сейчас… Ты пока иди одевайся, уже время. — Ты зря так понимаешь, — сказал он, присаживаясь на край дивана и поглаживая лацкан на пиджаке. — Это просто очень деловой технолог, энергичный, мы все его уважаем. — Кого это “его”? О ком ты говоришь?.. Ну вот, эти лучше! — сказала Софья Васильевна, показывая на правый пакетик. — А те почему-то горчат… — Ага… Значит, с пшеницей лучше? Отрадно слышать… Но почему лучше? Он взял одну коричневую горошину из этого пакетика и положил ее в рот. Осторожно и неохотно катая конфету во рту, он словно не знал, что с ней делать. — Ну что ты морщишься, будто какую-то гайку сосешь? — Софья Васильевна рассмеялась. Он покрутил головой и, сжав рот, молча подошел к остывшему чайнику, быстро налил полстакана воды и жадно, двумя большими глотками, запил конфету. — Уф-ф! Да… — Он снова присел на диван. — Ты говоришь: гайка! Гайка, конечно, лучше, в ней хоть этой противной сладости нет. — Я вспоминаю, что отец тоже не любил никаких конфет. — Ну конечно! Как могло быть иначе! — Да, но у тебя смешно получается! Работаешь на кондитерской фабрике… — Я имею дело только с техникой, с машинами… Ну ладно, мы заболтались, пора на работу Ты говори поскорее: почему эти лучше? Но обстоятельно, так сказать, научно. Этот вопрос будет на повестке. Софья Васильевна объяснила как могла, и он даже записал это на листке. — За авторством я не гонюсь, поэтому можешь сказать, что это твое мнение, — добавила она. — К чему врать! — Он поправил перед зеркалом галстук. — Скажу, что это мнение одной опытной, заслуженной, награжденной и так далее преподавательницы. — Если на бюро будет присутствовать и эта Наталья Феоктистовна, то для нее “опытная и заслуженная” будет маловато… Он обернулся, на лице его было выражение недовольного ожидания. — Не понимаю… По этому выражению недовольства Софья Васильевна догадалась, что он отлично понял, что она хотела сказать, и это притворство показалось ей не случайным. — Скажи лучше: твоя сестра, — добавила она кротко. — Это будет ей спокойнее. Он вдруг рассмеялся. Молча надел шляпу, положил в карман папиросы, взял портфель и лишь в дверях сказал: — Имей только, Соня, в виду, что в местных универмагах оренбургских платков и всяких полушалков не держат. Так что сваха рискует остаться без вознаграждения… После его ухода Софья Васильевна почувствовала: легкое, беззаботное ушло вместе с ним, а сейчас надо ехать, узнавать… Она оделась, позвала детей и на трамвае отправилась в управление строительства. И вот ответ! Они шли обратно по набережной, и просторный летний полдень, нарядная аллея тополей, бело-блестящая от солнца река не замечались. Только Витя был занят своим — нашел какую-то железку с двумя дырочками и все приноравливался посвистеть в нее… Когда вошли в дом, Софья Васильевна сняла шляпу, пыльник и присела на диван. А как хорошо начался день сегодня! Она вспомнила беспечные разговоры о женитьбе. Вот будто только сейчас веселый, в шляпе набекрень ушел Сева… Глаза остановились на сухарнице с хлебом, забытой на столе. “Впрочем, у Настасьи Тимофеевны тоже получилось не сразу, — вспомнила она свое утешение. — Раз он тут был, значит, есть же люди, кто видел, знал… Сегодня нет — может, завтра…” Опять посмотрела на сухарницу и теперь увидала там половину булки. — Лиза! — окликнула она дочь. — Надо сходить за хлебом. И заботы обступили ее. Софья Васильевна отправилась в магазины, на рынок, потом готовила обед, убирала квартиру. Вечером, когда пришел брат, утренняя неудача отошла еще дальше. Всеволод Васильевич, чтобы ободрить сестру, напустился на отдел кадров. — Обычные канцелярские штучки! — усмехаясь, сказал он. — Чем копаться в архиве, проще всего сказать “нет”! Софья Васильевна возражала: искали хорошо, но вот что дальше? — Да, конечно, надо расспросить людей! — Всеволод Васильевич крупными шагами расхаживал по комнате, и что-то стеклянное позвякивало в буфете. — Еще надо сходить в адресное бюро — может быть, там сохраняют карточки выбывших из города. Может быть, сестра Натальи Феоктистовны что-нибудь такое напишет… Впереди, Сонечка, еще много… — А где адресное бюро? — быстро спросила Лиза. — Я завтра одна схожу. Я уж докопаюсь! Дядя Сева вскоре ушел на собрание, Витя привел в дом Глебку, насупленного, неразговорчивого соседского мальчика, и они, захватив какие-то веревки, ушли в сад. Для Вити, который в Москве видел только двор, залитый асфальтом, сад — не где-нибудь, а свой, за дверью — был заманчив, тянул к себе… В доме стало тихо. Через открытые окна доносились далекие звуки оркестра, играющего в парке культуры. Из-за расстояния или из-за вечернего ветра звуки доходили неровно — то слышнее, то тише, — и оттого мелодия казалась грустной. Софья Васильевна и Лиза, не зажигая света, сидели рядом на диване. Небо потемнело, низкая и еще не яркая луна, перечеркнутая двумя линиями проводов, стояла в крайнем окне. Как начался сегодня день, так и продолжался, — говорили о Михаиле Михайловиче. От сегодняшнего, от поисков, перешли к прошлому. И тут воспоминания разошлись: у матери была большая жизнь с ним, у дочери — короткие воспоминания детства. Они сидели, прислонись к спинке дивана, одинаково вытянув ноги и глядя в одну точку — на крышку сахарницы, блестевшую под лунным светом. О ком же они вспоминали?Глава вторая МУЖ И ОТЕЦ. КУРС — НОРД
1
Встречаются в жизни неспокойные, мнительные люди, которые стремятся во все вмешаться, во всем посоветовать, указать. Они, вероятно, уверены, что только они одни знают, как лучше, правильнее поступить. Когда подобные люди руководят учреждением или заводом, они вникают во все, за всех думают, за всех отвечают. По прошествии времени в таком учреждении или заводе образуется свой стиль работы: большое или малое, главное или сущий пустяк требует директорского мнения, распоряжения, инструкции. Таким был директор завода, где химиком работал Шувалов. Долгое время Михаил Михайлович то потешался над работой Константина Кузьмича, то сердился. А однажды даже выступил на партсобрании. Это было для него событием — он не любил слов, которые могли кого-то обидеть. Но все же решился… Среднего роста, с белокурыми волосами, зачесанными назад, в светлом костюме, он чинно поднялся на трибуну и в вежливых выражениях, но точно и строго разобрал работу директора и назвал ее опекунской. Нельзя лишать людей инициативы, самостоятельности и ответственности… После собрания он шел со своей лаборанткой Аней Зайцевой и с препаратором лаборатории дядей Федей. Продолжали говорить о Константине Кузьмиче, вспоминали другие случаи, где показал себя директор-няня. Дядя Федя тоже что-то припомнил, но больше молчал, шел, посмеиваясь в усы, поглядывая на свои резиновые, с короткими голенищами сапоги. — Михаил Михайлович! — тихо, несмело сказал он, и вдруг в его прищуренных глазах мелькнуло что-то озорное. — А ведь в вас это тоже есть! — То есть как? — А так. Приходит азотная кислота — вы сейчас же к бутыли, к пробке: стеклянная или резиновая? А ведь это, — дядя Федя старался говорить ласково, не обидно, — мое дело — смотреть. Или вот бромистая соль или йодистый калий — опять проверка: в темноте или на свету держу? Штангласы после работы притерты или нет — за мною по пятам ходите. А микроскоп, Михаил Михайлович, и совсем не доверяете! Пылинка без вас на него не сядет! До футляра даже не допускаете… А разве я не понимаю, что это не самовар? Шувалов даже приостановился. Был теплый, но ветреный день. Плащ на Шувалове, зачесанные назад волосы трепало ветром. — Да разве я потому, что не доверяю? — Насупившись, он маленькой белой рукой пытался застегнуть скользкую пуговицу на плаще. Степенная, серьезная Аня Зайцева, только что осуждавшая опекунское поведение директора, вдруг громко, заливчато рассмеялась. — Верно, верно, Михаил Михайлович! — Она кивнула на дядю Федю. — Абсолютно верно! — Стала спиной к ветру и быстро заговорила: — Ну возьмите, например, градуировку на мензурках, на термометрах — ведь дня не проходит, чтобы вы не сказали: “Смотрите на уровне глаз…” — Ну да, — Шувалов смущенно улыбнулся, придерживая длинные волосы на голове. — Ну, чего мы стали на ветру? Ну да, — повторил он, когда пошли дальше, — иначе показания будут неправильные. Аня опять засмеялась и всплеснула руками: — Ну конечно, конечно! Так ведь нас, Михаил Михайлович, этому еще в техникуме учили! Или вот когда мы берем реактивы… Аня припоминала то и это, и Шувалов не защищался, а только молча и как-то неохотно посмеивался. Да, это было неожиданно для него. Он, конечно, не шел в сравнение с директором, но все же… Будучи вежливым, деликатным человеком, он решил, что его недоверие может обижать людей. Нет, с завтрашнего же дня надо это все прекратить… Он рассказал дома о разговоре с Зайцевой и дядей Федей, рассказал полуозабоченно, полушутливо: раз он сам понимает, что это нехорошо, значит, легко исправить. Но Софья Васильевна отнеслась к этому серьезно, как всегда относилась к делам мужа. Они были однолетки, познакомились, еще будучи студентами, но так получилось, что к тому времени, как они поженились, Софья Васильевна уже окончила педагогический институт и преподавала в школе, а Шувалов был еще на последнем курсе химического факультета. Она уже вела дом, а он, студент, только готовился вступить в жизнь. И, может быть, от этого или оттого, что когда-то, после смерти матери, она, пятнадцатилетняя, приглядывала за двумя младшими братьями, у Софьи Васильевны невольно появилось какое-то чувство ответственности за Михаила, которое, как обычно это бывает, выражается в заметном или незаметном присмотре, в советах. Это время давно прошло, у них было двое детей, у Михаила — большая работа в лаборатории, его любили, ценили на заводе, но для Софьи Васильевны он был как бы на положении младшего. Она выслушала его рассказ о Зайцевой и дяде Феде и задумалась. Ровной, размеренной походкой, как между партами, она прошлась по комнате. — Знаешь что, — сказала она, щуря серые красивые глаза, — это у тебя от малодушия, от слабоволия… — И, оживленно радуясь пришедшей правильной мысля, она продолжала: — Почему ты вмешиваешься в чужую работу? Да только потому, что у тебя нет выдержки, нет терпения подождать, когда человек сам это сделает. И сделает хорошо. — Все это, Сонечка, правильно, но при чем тут малодушие? — Он не понимал, зачем из безобидного в общем случая делать какие-то выводы. — Не в каждую же работу я вмешиваюсь. Ну, в домашнюю, например. Он хотел перевести разговор на шутку; не только она, а даже маленькая Лиза знала, что в домашних делах он беспомощен — ни шарфа ребенку завязать, ни на стол собрать… Софья Васильевна давно примирилась с этим и, если отлучалась из дому, оставляла в передней подробную инструкцию. — Это другое дело! — сказала она, не принимая шутку. — Я говорю о работе тебе близкой, о лабораторной… А если о том, как ты вмешиваешься в работу совсем тебе чужую, то, пожалуйста, вот возьми недавние бочки с этим… с алебастром или, помнишь, зимой дверь в театре… Тут он уж рассердился. Она заметила это по тому, что он перестал улыбаться и в глазах появился какой-то сухой блеск, точно он смотрел на что-то жаркое. — Слушай, что общего? — негромко, смотря в сторону, спросил он. — Ты соображаешь? Он припомнил, как это было, и несправедливость ее слов задела его еще больше. Да, он вмешался, но разве от нетерпения или недоверия? Или от этой самой слабой воли? Не надо быть химиком, чтобы знать, что под дождем алебастр схватится, пропадет. Конечно, проще всего пройти мимо: двор чужой, алебастр чужой, а он просто прохожий… Но он нашел кладовщика-растяпу с пустыми, мутными глазами и объяснил ему, что бочки надо перекатить в помещение или закрыть брезентом. Это было сделано, но он недоволен собой — другой бы на его месте распалился, накричал бы на кладовщика. А он перед кладовщиком со своим дурацким характером деликатничал, был как проситель: “Закройте, пожалуйста, будьте любезны!” Что может быть хуже равнодушного труда, всяких там “авось-небось сойдет”! Нет, он мямлил перед этим типом, а должен был требовать… А дверь! Сама же Софья Васильевна возмущалась, почему почти во всех театрах публику после спектакля выпускают не во все двери, а в одну, да еще с запертой одной створкой… Конечно, можно подождать, протиснуться, когда придет твой черед, и в эту щель и спокойно идти домой. Тут он вел себя значительно лучше — пристукнул кулаком по столу… Да, негромко, но пристукнул. Во всяком случае, толстый администратор с зеленым перстнем на безымянном пальце вскочил и побежал сам открывать вторую дверь.2
И все же этот разговор с женой имел для него значение. Он уже меньше вмешивался в работу своих сотрудников, однако это давалось ему с трудом. И, когда через два года его пригласили на станцию водной стерилизации и хлорирования, он все же нет-нет да и звонил в три часа ночи дежурному дозировщику: правильно ли поступает хлор? Ему так и казалось — дозировщик спит и вода идет без хлора. “Нет, если в меру, то это не мнительность, не недоверие, — убеждал он себя, — а правильное дело! Так и нужно относиться к работе”. С этим было, пожалуй, ясно, но в том памятном разговоре с женой было сказано о малодушии. Сказано совершенно не к месту, ни к чему, и он опроверг это по всем пунктам. Но все же возникли другие мысли, над которыми он позже стал раздумывать. …Ничего утешительного не было тут. Как, например, не любил он, пока был в заводской лаборатории, иметь дело с растворами, которые при нагревании могли воспламениться! Делал, конечно, сам, не доверял никому. И какие предосторожности предпринимал!.. Ни разу не загорелось, не взорвалось, а он все боялся. А как просто это делал в свою смену Акимов! Шутя, позевывая, будто это чай или газированная вода. Да что там лаборатория! Взять, к примеру, обыкновенный штепсель… Починить может, но вилку вставить — дрожь в руках: вдруг что-то не так и брызнет искра замыкания… Он как-то прочел о микробиологе, который сам привил себе чуму. Что из того, что бацилла была ослаблена… Нет, он бы не решился. И, может быть, поэтому он уважал, почитал сильных людей. …Благословенны беседы отца за столом — первое окно в мир. Тут Лиза услышала о Николае Островском, о Павлове, о Седове. Во время войны отец показал ей газетный снимок: под охраной двух каких-то серых, скрюченных от холода мерзавцев бесстрашно шла худенькая девушка, шла босиком по снегу… И среди любимых имен у Лизы прибавилось еще одно: Зоя Космодемьянская. Софья Васильевна поощряла это: детей надо воспитывать на больших примерах. Она нередко повторяла слова Петра Великого: “Детям следует дать образование большее, чем ты сам имеешь”. Но толковала по-своему: не только образование. Да, она все-таки считала, что Михаил в жизни был излишне робок. Она любила мужа, и, может, от требовательности, которую вызывает любовь у таких женщин, как Софья Васильевна, она хотела найти в Михаиле что-то более жизнестойкое, крепкое, — сила в человеке всегда привлекательна. Возможно, это желание осталось от первого года их супружества — она тогда уже работала в школе, вела дом, а он только кончал университет, ходил в младших…3
И однажды этот младший удивил. Случилось не такое большое, но все же по-своему мужественное. …Шуваловы жили в большом трехкорпусном доме и, конечно, не знали всех его обитателей. Но в сорок первом году, во время налетов немецкой авиации, общая опасность невольно сблизила людей. На одном из дежурств рядом с Михаилом Михайловичем оказалась незнакомая девушка — она заменила кого-то. Они сидели у полукруглого слухового окна на чердаке, которое, может быть впервые за время существования, оправдывало свое древнее название: действительно, через это окно они и прислушивались к гулу приближающихся самолетов. В серо-пепельном и тревожном свете Михаил Михайлович плохо различал товарища по дежурству — только черные блестящие глаза на смуглом лице. От нечего делать они разговорились. Анюта жила в третьем корпусе, была на втором курсе биологического факультета, занималась спортом — плавала, бегала и держала какое-то первенство по волейболу. Ну что мог рассказать о себе Михаил Михайлович какой-то девице чуть не на двадцать лет моложе его! Ну, научный работник, кабинетный житель, женат, двое детей… Да, они живут в первом корпусе, окнами на сквер… Нет, спортом не занимается — некогда. Так, при случае, на даче или в доме отдыха, играет в волейбол. Анюта напустилась на него: как это некогда заниматься спортом! Ведь спорт дает тонус всей жизни, ведь он… И она заговорила убежденно, наставительно, чувствуя, что слушатель ее дитя в этом вопросе. Шувалов равнодушно внимал: все это он читал, слышал по радио не раз. А “тонус” ему просто не понравился. — А зато я грибы прекрасно собираю! — отшутился он. — Ну просто поразительно! В это время начали хлопать зенитки. Сухие, быстрые и мелкие разрывы то там, то здесь замигали в вечернем небе. Неизвестно было, откуда летит самолет, а может быть, много их и со всех сторон. Справа, в соседнем квартале, что-то затрещало, и красивые, нарядные огоньки трассирующих пуль непостижимо медленно стали косо подниматься с темного и узкого, как башня, дома. Где-то за спиной Шувалова и Анюты ударил близкий разрыв бомбы, и Михаил Михайлович почувствовал, как их чердак и все девять этажей под ним плавно качнулись вперед. Так и казалось: еще немного — нажать, вот просто руками подтолкнуть — и дом плашмя, доской, упадет… Но взрывная волна отпустила, и чердак медленно, почти незаметно, вернулся на место. Раздался гулкий стук, словно мальчишки бросили на крышу камень, и нос, смуглая щека Анюты осветились резким, невероятным светом. Толкая друг друга, роняя клещи, просыпая песок, они выкарабкались через слуховое окно на крышу и побежали к “зажигалке”. Ослепительная, кипящая белым сухим огнем, она лежала на краю крыши у водостока. Бомба была одна, а их было двое и с разными намерениями: Анюта хотела клещами сбросить “зажигалку” вниз, во двор, а Шувалов — засыпать песком. И то я другое было хорошо, по правилам, но вмешалась шуваловская осторожность: неизвестно еще, куда упадет бомба, если сбросить ее во двор, — хорошо, если на асфальт, а вдруг там люди, дерево… И вообще лучше, когда сам, когда на глазах это будет прикончено. — Подождите! Подождите! — выкрикнул он. — Вот я сейчас! И он засыпал “зажигалку” песком. Злой белый свет, как живой, тотчас прорвался сквозь песок, но Шувалов, встряхивая спустившимися на лоб волосами, снова и гуще начал сыпать на бомбу. Вокруг сразу потемнело. Она, потухшая, оказалась маленькой, паршивой, и Анюта, легко подхватив ее клещами, с пренебрежением сбросила с крыши. Но чуть не упала через край —клещи были не легонькие. — Тише! Что вы! — Шувалов своей маленькой рукой порывисто схватил ее за локоть. — Вы видите, какое тут дурацкое ограждение. — Ничего… — Назад! — скомандовал он, не выпуская локтя. — Тоже мне… тонус! Сейчас, когда после ослепительно яркого глаза привыкли к пепельно-серому свету вокруг, он разглядел Анюту: рослая, стройная и, пожалуй, красивая со своим смуглым румянцем во всю щеку. Остальное время дежурства прошло спокойно, и они проговорили до отбоя о том о сем. Странное дело — у Анюты уже не было наставительного тона, когда она заговаривала о своем спорте. Улыбаясь, вспомнила, как он с силой оттащил ее от края крыши… Наступил рассвет, характерный для того времени: первыми осветились не кресты колоколен или верхние кромки высоких домов, а серебристые туловища привязанных аэростатов, высоко стоящих над Москвой. Из-за этих небесных сторожей рассвет для города был как бы более ранний, чем всегда. Приятно вылезти на крышу после отбоя! Посветлевшее, с проступившей уже голубизной небо, свежий, не пахнущий еще бензиновым перегаром ветер, милый домашний шум — шарканье первых дворницких метел… И радость, что город цел, что отогнали налетчиков, и эту дрянь сбросили с крыши — не прозевали, сделали как надо… Шувалов, откинув назад волосы, с удовольствием потянулся… — Вы посмотрите, что делается! — Анюта озабоченно показала на свои локоть: ниже кромки короткого рукава виднелись два голубых пятнышка. — Однако у вас и руки! Крепкие! — Простите, ради бога, — в голосе его было искреннее сожаление, — но я боялся, что вы… — Ну что вы, Михаил Михайлович! — Она дотронулась до его руки и ласково взглянула на него. — За это не извиняются. Наоборот! Мне даже понравилось. Сердито так, как маленькую, оттащили… …Вечером дома, пока он рассказывал об этом, на лице Софьи Васильевны было какое-то равнодушно-напряженное выражение. — Ты молодец! — просто сказала она. — Знаешь, Сонечка, — сказал он, — даже небольшие возвышенности принято измерять от уровня моря. А если измерять от дна оврага, я уж не говорю — от пропасти, то любой бугорок может показаться Казбеком.4
Михаил уже два дня ходил в военной форме — поскрипывали ремни, пахло кожей, новым сукном. Всеволод, который в эти дни был в Москве, говорил шурину: — Все хорошо, сапоги ты только не умеешь носить! Действительно, с непривычки было жарко и тесно икрам, и от этого походка Шувалова в чем-то изменилась. — И ремень! — громко добавлял дядя Сева. — Надо, чтобы только два пальца можно было просунуть. А ну-ка, покажись! — Своими большими, сильными руками он вертел его. — А у тебя, милый, и все пять войдут! Нет, не гвардия! Не орел! Но ты старайся… Как хорошо, что Всеволод был в эти дни! От его громкого, веселого голоса все шло как-то легче, незаметнее… Поезд уходил вечером. К раннему обеду Михаил пришел со свертками. Об этом Софья Васильевна узнала позже, так как свертки он запрятал в угол передней, под вешалку. За обедом говорили о войне, об оставленной работе, иногда Михаил, вдруг вспомнив, шел к себе, брал что-нибудь то из шкафа, то из ящиков стола и клал в чемодан. Дети сидели за обедом на необычных местах — дяде Севе пришлось отвести чуть не всю сторону стола. Пятилетний Витя, сидевший для высоты на подложенной подушке, да и Лиза, уже вытянувшаяся к своим двенадцати годам, были заняты не отъезжающим отцом, а дядей Севой, который вел разговор, балагурил. Витя, не понимая, как бы из вежливости, тоже улыбался. Его более занимал близкий к нему большой палец на правой дяди Севиной руке, державшей ложку: он был громадный и какой-то самостоятельный, как первый сук на дереве. Заметив его взгляд, Всеволод Васильевич тотчас показал Вите, как легко и просто можно оторвать этот палец, подбросить его кверху и снова приставить к руке. Это было поразительно! Витя, оставив ложку, стал дергать свой пальчик, который только назывался “большим”, а был крошечным. Мать, с укором взглянув на брата, остановила сына: это можно после обеда… — Соня! Надо еще вот соль положить, — сказал Михаил Михайлович, взглянув на солонку. — Почему-то соль в дорогу всегда забывается. — Это смотря как собирать чемодан! — отозвался Всеволод Васильевич, отставляя тарелку. — Ты, я вот вижу, собираешь по дамскому способу. А есть другой. Мужчины, которые понаторели на командировках, за день, за два составляют подробный список вещей. Тут записывается все, до мелочей, — вплоть до зубной щетки и карандаша. За час до отъезда все это спокойно складывается в чемодан. Вот и все… Больше того — в следующую поездку нового списка составлять не нужно, надо посмотреть в старый… Ну а дамский способ: перед отъездом открыть чемодан и бросать в него все, что попадается в комнате на глаза. Многое забывается, а то и лишнее берется. В сороковом году тетя Клава приехала на съезд невропатологов — открыла чемодан, а там под бельем оказался гипсовый бюстик Тургенева. Мы все, конечно, любим его, но тащить с собой полкило гипса, — это уж, понимаешь, чересчур! — Ну, ты всегда был женоненавистником! — сказала сестра. — Почему ненавистником? Я просто стараюсь их понять. Вот, по военному времени и по своему холостому положению, стою в очереди у булочной. Подходит женщина, за ней вторая… Они незнакомы, молчат, но через пять минут одна другой начинают рассказывать свою биографию! Да подробно! Да с удовольствием! Ты объясни — зачем? Софья Васильевна ответила, что она бы лично этого не сделала, но вообще женщины более общительны, зато они и более добросовестны. Заговорили о женском и мужском труде. — Добросовестность бывает трогательна, — Шувалов пододвинул к себе котлеты. — Помню, покупаю галстук, и продавщица заботливо так предупреждает: “Хранить галстук надо в сухом и прохладном месте”. — Это прелестно! — громко сказал дядя Сева. — Но это пустяки в сравнении с тем, что я встретил во время нэпа в Симферополе. Только что было крымское землетрясение, и вот на рынке какая-то небритая личность продавала… порошок от землетрясения. Так, белый, вроде аспирина. Надо было посыпать вокруг себя — и все… Обед прошел легко, весело, и Софья Васильевна была рада этому: пусть Михаил так и уедет — последнее воспоминание всегда живуче. Но не весь день был такой. После затянувшегося обеда Витю уложили спать, прилег и Всеволод, свесив большие ноги за край дивана, Лиза пошла на почту купить для отца конвертов на дорогу. — Ну, вот и хорошо, — сказал Михаил. — Все в отсутствии. Пойдем-ка ко мне. Он принес из передней в свой кабинет припрятанные свертки и развернул их. Книга в синем переплете с серебряной надписью “Седов”, отрез темно-синей шелковой материи и маленькие желтые ботинки. — Понимаешь, тут без меня будут дни рождения, и ребятам важно, чтобы и от отца тоже… Ну, а это тебе, — он показал на шелк, — к тридцатому сентября. Только Софья Васильевна, зная отвращение мужа к покупкам, к магазинной толкотне, могла оценить это. А тут было даже большее: по военному времени следовало еще раздобыть ордера, не забыть промтоварные “единички”… Блестя глазами, она обняла его и поцеловала, приговаривая: “Смотри, не забыл! Не забыл!” Чтобы сделать ему приятное, все рассмотрела отдельно, а материю даже приложила к себе, похвалила. Ботинки для Вити ей показались велики, но она тотчас успокоила Михаила: это не страшно — нога вырастет. — Погоди! Зачем ей вырастать? — Он остановил ее. — То есть она должна вырасти, но ты меня не поняла… Это к Витиному дню рождения, к маю. Чуть не год еще! Тогда дашь ему — и будет как раз по ноге. И это было трогательно: предусмотрел… Но она поняла и другое: сейчас август, значит, Михаила не будет и в мае. Как долго!.. Слезы подступили к глазам, и она, будто рассматривая подкладку на желтеньких ботинках, склонилась над ними. Он понял все, но ничего не сказал. С минуту они стояли молча друг против друга, оба одного роста, но Софья Васильевна, как женщина, казалась выше. — Ничего, Сонечка, ничего! — Он привлек ее к себе, и ботинок в ее руках чуть уперся ему в грудь. — Ехать надо. — Он поцеловал ее в склоненную голову. — Должен ехать… Все ведь так!.. Ну, а будет все хорошо. Война теперь уже легче — фашистов погнали. Ты ботинки спрячь, — может, я и сам Вите их подарю. …Милый! Успокаивал… Нет, дарила сыну она — еще в марте пришло извещение… Потом был вокзал, вагоны, неверный, раскачивающийся вокзальный свет. И последним видением — Михаил в мешковатой для него военной форме, стоящий на площадке, и Сева с протянутой бутылкой нарзана, шагающий за тронувшимся уже вагоном. И, когда вернулась домой, первым чувством было: дети остались одни, без отца… Так и было. Дети подросли, а от Михаила только одно: “Без вести”…5
У Лизы об отце были короткие, разрозненные воспоминания детства. Память приносила то одно, то другое: елка в Доме союзов, большой, необыкновенный гриб, найденный вместе, отец за микроскопом, а она подсовывает ему школьную задачку, или в отсутствие мамы они что-то готовят на кухне… Она видела отцов своих подруг. У Светланы был замкнутый, неразговорчивый и, наверное, решительный, строгий отец — Светлана его побаивалась. У Вари — шумный, веселый, все спорилось у него в руках: чинил дома электрические плитки, лихо красил забор на даче, ходил бойко, нараспашку. У нее же был совсем другой отец. Все, что порознь Лиза помнила о нем, сливалось в общее чувство: добрый и неумелый. Со слов матери она знала, что отца ценили на работе, по в малом было другое: на елке в Доме союзов отец подарок для Лизы прозевал, маляры и монтеры ему грубили, плиток и замков не чинил. Нет, на Вариного папу он совсем не был похож. А как они однажды стряпали с ним! Мама ушла с Витей в Сокольники на целый день и оставила инструкцию об обеде. И все же был чад от пригоревших макарон и сквозь чад мелкое — словно грызут семечки — потрескивание эмали в сухой, накаленной кастрюле. “Эх, что-то мы ничего не умеем!” — сказала Лиза. Она взяла вину на себя: ей было тогда одиннадцать лет, пора бы уже уметь. Но отец не принял ее великодушия. “Это все, Лизок, оттого, — сказал он, — что на настоящей военной службе я не был, всего-навсего призывался на переподготовку. А настоящая, говорят, для житейских дел просто университет. Уж если, например, солдат пуговицу пришьет — волк не отгрызет…” И все же он, конечно, был лучше тех, с плитками, с заборами, с пуговицами. Он был добрый, она любила его, и, главное, он был не чей-то, а ее. И не чей-то, а ее уехал. Походил с провожающими по платформе, поулыбался, как-то незаметно попрощался — и уже в вагоне на площадке… Поезд трогается, она и мама идут следом, догоняет дядя Сева с протянутой темной бутылкой, киоск, фонарь, косой свет, на миг его взгляд поверх очков — опять косой свет, мелькание вагонов. И вот уже красный глазок на последнем… Все… Прошло две недели, и он будто снова явился. Наступил Лизин день рождения, и мама положила ей на стол синюю книгу — от отца. Это было удивительно! Словно сам поздравил, обнял, поцеловал в волосы, как всегда… О Седове она уже знала — отец часто рассказывал — и тотчас стали рассматривать картинки. Ах, вот он какой! На снимке со старой фотографии стоял человек в короткой шубе с поднятым воротником. А вот его матросы — Линник и Пустошный. Тоже герои… А это уже не снимок, а рисунок художника: человек лежит на санях навзничь, и двое людей сквозь пургу на лямках волокут сани вперед, к полюсу. Курс — норд! Даже по картинкам было так, как рассказывал отец. Но не Седов, не книга, а вот то, что не забыл, оставил, будто сам сейчас подарил!.. Часто бывает с домашними книгами — положена, переложена, смахивается с нее пыль, а так и остается непрочитанной. Прочитала ее Лиза только этой весной, чуть не пять лет спустя, и вдруг заговорила о полярнике и дома и в школе… Мальчикам бы эту книгу, но и девочки в шестнадцать-семнадцать лет ищут, ждут смелых, необыкновенных дел… И Лиза стала налево-направо давать книгу подругам, каждый раз прибавляя: “Это папа мне подарил!” Да, спустя столько лет он опять напомнил о себе. Не было ничего общего между отцом и Седовым, но то, что он любил этого неустрашимого человека, как и она теперь полюбила его, сближало ее с отцом и как бы делало ее совсем взрослой: она думает так же, как и отец… Все подруги прочли книгу, кроме Светланы. И, может, только перед Светланой, длинноногой девочкой в очках, Лиза впервые вслух, от всего сердца, высказала свое отношение к прочитанному. Свое и отцовское вместе. Она запомнила этот день. Было воскресенье. Над парком культуры стояли белые круглые облака, и узкие голубые лодочки-качели свечкой взлетали к ним. Лиза и Варя, стоя по краям лодки и попеременно упираясь ногами, раскачивали ее все выше, все круче. Иногда от хохота, от изнеможения Лиза пропускала свой черед упереться и качнуть. На Светлану нельзя было смотреть без смеха: она сидела в середине лодки согнувшись, судорожно держась за голубые борта, и каждый раз, как лодка становилась вертикально, пронзительно взвизгивала и закрывала глаза. — Слушай, Светланка! Нет, слу… — Лиза давилась смехом. — Ну зачем ты глаза закрываешь? Ви… ви… визжи лучше с открытыми! Потом они играли в волейбол, купались. В парке стояло великое множество столбов с указателями и объявлениями, и даже было как-то досадно читать их: всего за день не увидишь, везде не побываешь. Лиза вдруг остановилась перед одной афишкой — в каком-то тут зале сегодня будет лекция о Седове. — Седов! — проговорила она, не двигаясь. — Ну и что? — простодушно спросила Светлана. Лиза молчала, а Варя, которая бывала у Шуваловых дома, сказала Светлане: — Ну как же! У нее портрет его висит над столом! Она сказала это улыбаясь, но как о непреложном, как о том, что должно быть. Она часто спорила с Лизой, не соглашалась с ней, но в душе чувствовала, что Лиза как-то старше ее, умнее, лучше. И, если Лиза что делала, значит, так и надо делать. Вот Седов… У Лизы над столом висело три портрета: Павлов с квадратной подстриженной бородой, худощавый, в форме бригадного комиссара Островский и человек в меховой куртке. Первые два портрета и Варя бы повесила — этих двух все знают, любят, — но вот тот, в меху, с глазами, сощуренными от яркого снега… Но то Варя, а у Лизы были свои доводы. — Почему? — опять спросила Светлана. Лиза посмотрела на нее и промолчала — после смеха и визга как-то трудно было начать говорить об этом. Они пошли по дорожке к павильону с мороженым, видневшемуся под купой деревьев. Зубчатый полотняный навес павильона трепетал под ветром и отсюда напоминал палубу парохода. — Жалко, что начало лекции в семь часов, — сказала Лиза, — придется второй раз приходить. Светлана, недоверчиво улыбаясь, пожала плечами, и тут Лиза бурно, быстро, блестя глазами, стала говорить о Седове. Она говорила путано — прочитанное перебивало друг друга, но можно было понять, что этот человек принадлежит к тому же неукротимому, настойчивому и благородному племени, к которому принадлежали и Павлов, и Островский, и Кошевой, и Зоя… И, может, не разбросанные слова Лизы, а живое воображение девушек помогло им увидеть бескрайний снежный простор, бескрайнюю белую тишину, освещенную морозным солнцем, и одинокие сани с лежащим на них человеком. — Понимаете, — Лиза разрумянилась и махала руками, — он уже больной, в цинге, матросы Линник и Пустотный его спрашивают, не вернуться ли обратно. А он одно твердит, одно: “Курс — норд…” Опять спрашивают: ведь его же жалеют, не довезут до полюса. А он… — Лиза замигала глазами и отвернулась. — А он, — голос прервался, — только одно: “Курс — норд…” Когда сели за мороженое, у всех троих были влажные глаза. Не поднимая головы, смотрели только на желтые, розовые, белые шарики у себя на блюдце. Но потом это прошло. Кусочек мороженого, упал Светлане за вырез платья, и она вскрикнула. Варя, покосившись на Лизу, неодобрительно посмотрела, на застенчиво улыбающуюся Светлану. Но лицо у самой Лизы было уже спокойное, светлое, обыкновенное. Лиза неожиданно сказала: — Нет, Светланка, я тебя люблю! Домой в тот день Лиза вернулась гордой, повзрослевшей и даже высокомерной: она заступилась за своего и отцовского героя. К вечеру подумала: “Путалась что-то, можно было бы лучше…” А через несколько дней и это забылось, синяя книга утихомирилась на полке, а девчонки теперь бегали в кино и обсуждали новую картину: красавицу любят трое, а она никого! Может ли так быть? Но, когда через месяц мать сказала о Завьяловске, Лиза увидела в этом не только поездку, а путешествие, так как была цель, — да, для них большая цель: отец… — И я с тобой! — сказала она. — Курс — норд…Глава третья “ША” ЛУЧШЕ “КА”. ПАВЕЛИЧЕВ
1
На следующий день Лиза распорядилась: пусть сегодня мама остается дома, занимается хозяйством, а она сама сходит в адресное бюро. …В прохладной, со сводчатым потолком комнате Лиза увидела несколько человек, сидящих за общими и отдельными столами. Она прошла вдоль желтого барьера — к кому же обратиться? Барьер привел ее к сухощавой молодой женщине, которая подняла на нее большие темные глаза. Тут, оказывается, и можно было узнать. Женщина быстро нашла и любезно сообщила: такой Шувалов не проживает в городе. Тогда Лиза спросила о выбывших. С благосклонной улыбкой, как о чем-то общеизвестном, женщина ответила, что о выбывших бюро справок не дает. — Ну что вы! — изумилась Лиза. — Почему же? — Не даем. — Но почему, раз надо? В голосе Лизы было недовольство, и женщина кивнула на розовощекого старичка в парусиновом костюме, который сидел у окна за отдельным столом. — Пройдите к Филиппу Степановичу. Подняв толстый барьерный брус, Лиза прошла. Но Филипп Степанович тоже сказал, что о выбывших сведений не дают. На кончике его носа держались странные очки — из половинок стекол. Лиза таких не видела еще. — Для этого, милая девушка, надо поднимать архивы, — наставительно сказал старичок, с уважением произнося слово “поднимать”. Лиза, разглядывая диковинные очки, видела его умные, добрые глаза. Да, добрые — почему же он отказывает? — Так поднимите, — простодушно сказала она. И, решив, что та сухощавая женщина и этот хилый старичок могут не справиться с тяжестью, добавила: — Я могу вам помочь. Я сильная… По комнате прошел смешок, Лиза покраснела, но тем смелее, настойчивее стала смотреть на старичка. Тот, добро улыбаясь, объяснил, что такое “поднимать архив”: все дело в труде и во времени, а ведь есть еще текущая работа… Ах, вот как! У нее такое дело, а им некогда!.. Сжав губы, покрутив поясок на клетчатом платье, она обвела взглядом комнату: нет ли тут еще какого-нибудь начальника поглавнее? Но нет, — склонившись над столами, сидели девушки, один юноша, в углу — красивая пожилая женщина, курящая папиросу. Не зная канцелярских законоположений, Лиза все же догадалась: и эта не начальник — красавица работала за общим столом… Лиза вдруг подсела к ближайшей от нее пухленькой белесой девушке. — Скажите, — негромко спросила она, — есть у вас комсомольская организация? — Ну конечно. — А кто комсорг? Девушка направила ее в соседнюю, небольшую комнату с длинным столом посередине. Тут Лиза нашла приземистого паренька с пышными волосами. Она рассказала ему, что ей нужно и почему. Он в раздумье подергал кончик своего острого носа. — Хорошо, конечно, что у вас “ша”, а не “ка”, — сказал он. — Пойдемте. Он оставил ее за барьером и направился к старичку в парусиновом костюме. Между ними начался неслышный, но, видимо, немирный разговор, так как комсорг хотя и держался почтительно, но что-то упрямо твердил, ероша волосы. Он вернулся к Лизе, покрасневший, но улыбающийся, — он даже чуть подмигнул ей. Лиза поняла, что этот крепыш отвоевал ее дело у парусинового старичка. — Вы, товарищ Шувалова, погуляйте полчасика, — сказал он уже официально, без всяких улыбок, — а мы этим займемся. Хорошо, что у вас “ша”… Катя! — окликнул он белесую девушку. — Пойдем-ка со мной в архив! Лиза вышла на улицу, думая: почему “ша” лучше “ка”? Было около одиннадцати часов утра. Трамваи и автобусы, развезя всех на работу, шли уже полупустые. На одном трамвайном вагоне Лиза прочла: “Ул. 1 Мая—Левый берег—Плотина”. Плотина! Да, отца нет в городе, теперь уж она и сама это понимает, но что он был тут, был на плотине, она видела своими глазами. Но когда? Бюро может ответить, до марта сорок четвертого года или после этого марта. Если после, можно надеяться, что жив. Он не тут, не в Завьяловске, но где-то есть, можно найти… Лиза прочла все афиши, которые были вокруг адресного бюро, потом посидела в чахлом скверике напротив. Рядом, на перекрестке, стояла круглая, стеклянная наверху будка с милиционером, который переводил светофор. Девочка, перебиравшая недалеко от Лизы пыльный песок, спросила у старушки на скамейке: — Зачем милиционера посадили в стеклянную банку? “Им весело!” — подумала Лиза, хотя никто не улыбнулся на слова девочки. Около сквера тоже оказались афиши. Лиза, поднявшись с лавочки, пошла их читать. По дороге попалась парикмахерская с овалами дешевых зеркал у входа. Лиза посмотрела в одно из них. “Неужели в таком виде была в бюро?” Каштановая прядь спустилась чуть не на щеку, и верхняя пуговка на клетчатом платье была расстегнута. Она незаметно привела себя в порядок. В бюро вошла с щемящим чувством: “До марта или после марта?” Захаров — так звали комсорга — вышел к ней с каким-то бланком в руках, и Лиза, скосив глаза, стала внимательно всматриваться в этот бланк. — Мы просмотрели выбывших, — сказал он, — за этот год, за прошлый, за позапрошлый и так далее, до сорок третьего, до немцев. Шувалова Михаила Михайловича нет. Не был… — Ну как не был! Мы же его видели! И она повторила комсоргу то, что говорила раньше. Говоря, она теперь разглядела бланк в его руках, — оказывается, это была та бумажка, на которой Захаров записал с ее слов сведения об отце: имя, отчество, год рождения… А она-то думала!.. — Я понимаю, — сказал Захаров, — но вот так… Мы с Катей на совесть искали. У Лизы подступили слезы. Она так надеялась… — Чего же вы говорили, — Лиза смотрела в пол, голос срывался, — чего же вы говорили, что хорошо, что “ша”, а не “ка”? Захаров не понял, вытянул губы в трубочку, подергал кончик носа. — Ах, это! — Он улыбнулся про себя и, подойдя, тихо обнял Лизу. — Так это просто о том, что легче найти фамилию на “ша”, чем на “ка”. Ведь на “ка” столько фамилий, ужас! А на “ша” совсем мало…2
Выйдя на улицу, Лиза постояла на тротуаре. Куда же теперь? “Так же, как вчера с мамой…” Обидно было и то, что дома она как бы обещала принести сведения. Возвращаться домой не хотелось, но и идти было некуда… Показался трамвай № 6 с надписью: “Ул. 1 Мая—Левый берег—Плотина”. Лиза, помедлив, пошла к остановке. Она толком не знала зачем, — не стоит же он там, не ждет ее! Но у плотины было несомненное — там его видели. Трамвай шел долго, особенно по последней длинной улице, выходящей к берегу. Были видны строящиеся и недавно построенные дома — она слышала, что во время войны гитлеровцы, убегая, взорвали все крупные здания. До сих пор то там, то здесь виднелись пустые коробки домов, затянутые заборами. “При нем заборов, наверное, еще не было… Впрочем, после сегодняшнего какое же “при нем”! Лиза отвернулась от трамвайного окна и стала думать о том, что она напишет Варе. Это ведь Варя первая сказала: “Можно найти”. А тут вот и следа нет… Трамвай приехал на круг и, пробежав половину его, остановился. Все пассажиры вышли, разбрелись, вагон постоял, подумал и, скрежеща на закругленных рельсах, ушел обратно. Лиза осталась одна в каком-то полугороде, полуполе. Улица и дома кончились, а поле еще не начиналось. Под жарким солнцем лежала выгоревшая, местами вытоптанная трава, на которой в разных местах виднелись крутые мотки ржавой проволоки, неповоротливые, грубо сколоченные катушки от кабеля, доски, бревна, рваные куски железобетона. Над всем этим в воздухе стоял какой-то неумолчный глухой шум. Но все же и тут была жизнь. Когда Лиза прошла немного вперед, за высокой и тяжелой кабельной катушкой объявился голубенький киоск с газированной водой. Белесенькая, Лизиных лет девушка, истомленная жарой и духотой в своем тесном фанерном домике, налила ей воды и сказала: — Шум слышите? Вот на него и идите. Не заблудитесь. Лиза прошла с полкилометра и вдруг в просвете между деревьями увидала необычайное. Широкая река и белая, высокая, зубчатая дуга, преграждающая воду. Она напомнила Лизе полукруглый гребень, который девочки носят в волосах, но гигантский — от берега до берега. Не волосы, а воду прочесывал этот гребень — белые, в пене и брызгах, каскады, пробиваясь сквозь зубья, падали в реку. У левых, ближе к тому берегу, каскадов держалось в воздухе что-то многоцветное, мерцающее на солнце, словно зарождение радуги. Она пошла дальше. Домики и сады на берегу скрыли от нее плотину, и когда она, пройдя эти домики, вышла на спускающуюся к берегу дорогу, по которой ехали грузовики и шел народ, плотины — могучей зубчатой дуги — уже не было. Было просто продолжение дороги, идущей из города и перешагивающей, как мост, реку. Она вместе с другими пешеходами двинулась по этой дороге, решив, что дойдет до того берега и вернется обратно. Лиза шла по проезжей части плотины — по ребру гребня, настолько широкому, что могли разъехаться два грузовика, да еще и место для пешеходов оставалось. То там, то здесь велись еще какие-то работы: женщины в брезентовых штанах и куртках укладывали металлические прутья с загнутыми концами, короткотелые грузовики, наклонив железный кузов, сваливали жидкий бетон, свистели краны… Лиза вдруг увидела ограду на плотине и тихо к ней подошла… Да, вот она, чугунная решетка в виде перекрещенных колосьев. Но где именно был отец? Ограда тянулась бесконечно, до того берега. Она пошла вдоль нее. Колосья шли за колосьями, одинаковые, неотличимые. Она остановилась и посмотрела за ограду. Далеко внизу, в шумной, наполненной брызгами пропасти, неслась кипящая белая пена. Каскады падающей воды, которые она видела с берега, были у нее под ногами невидимы, и только белая пена, разделенная на равные части покойной, темной водой, показывала, где они находятся. “Куда же он тут мог спускаться? — подумала она. — В воду? Но там была какая-то черная комната…” У нее потемнело в глазах, и она отвернулась. Постояла и пошла обратно. Чугунные колосья на решетке опять перекрещивались, неотличимые, один за одним, без конца — холодные и пустые. Пересекая реку, шли крутые белые облака, а над ними в вышине недвижно стояли мелкие, перистые. Лиза представила эти перистые как поднявшиеся в бездонный верх нижние большие облака и почувствовала страшную, удивительную — отчего даже чуть кружилась голова — высоту голубого неба. Она посмотрела на землю. На берегу пламенел на солнце строящийся дом. Черная высокая стрела крана мерно и легко подавала тяжелые кубы кирпича. Лиза удивилась, что трос, на котором висел оранжевый куб, был тонок, почти невидим, — как он не оборвется от такой тяжести! Пока она шла по плотине, все следила за краном. Он расторопно разносил свои кубы по всем уголкам стройки. Казалось, маленькая головка черной стрелы сверху заглядывает внутрь здания и видит, где и кому требуется кирпич. Лиза не заметила, как прошла плотину. Дорога по плотине неуловимо перешла в шоссе. У автобусной остановки стояла очередь, и это напомнило Лизе, что надо ехать обратно. Ехать обратно, ничего не узнав в бюро и увидев только чугунные колосья, о которых и без этого могло быть известно, что они существуют… Около Лизы раздался смех, и она увидела, что все люди, стоящие в автобусной очереди, улыбаясь смотрят наверх. Там — черная, знакомая ей стрела крана, которая подавала большие и тяжелые кубы кирпича, сейчас несла на тросе голубой пузатый чайник, удобно прикрепленный, — надо было только набросить полукруглую ручку на толстый крюк блока. Из чайника выбивался парок, и вид у него был такой мирный и обыкновенный, будто он не в первый раз совершает это путешествие. — Ну, это не дело! — кто-то хмуро сказал за спиной Лизы. — Кран поднимает три тонны, а тут такая чепуха… — Так там же, наверху, люди, надо им чаю попить. Сейчас же обеденный перерыв! — А электроэнергия? — отозвался тот же наставительный голос. Старик в белом картузе, стоявший перед Лизой, сказал, усмехаясь, ни на кого не глядя: — Комики! Экономы наизнанку! Не люди же для механизмов, а механизмы для людей! Чайник, перевалив через каменную кладку и сейчас весело поворачивая свои голубые бока, смело, но осмотрительно спускался на тонком тросе в чьи-то невидимые с земли руки. Мимо Лизы промелькнуло что-то бело-бурое, вынеслось на мостовую, остановилось, и Лиза увидела человека в коричневой куртке и белых брюках, который, широко расставив ноги, впился одним глазом в какой-то серебристый сучковатый шар. Шар этот подергался вправо, влево и вот опустился, открыв молодое, чернобровое и крайне разочарованное лицо. — Товарищ Павеличев! — невольно крикнула Лиза, сразу узнав вагонного попутчика. Она почувствовала, что люди из автобусной очереди обернулись. Она смутилась и, чтобы уйти от смущения, побежала на мостовую. Павеличев подходил к ней, нахмурив брови, держа в опущенной руке свой сучковатый матово-серебристый шар. — Прозевал! — сказал он, не здороваясь, все еще переживая неудачу. — Придется завтра покараулить. Хороший был бы кадр для оживления… Ну, как ваши успехи? Здравствуйте! Лиза начала рассказывать о вчерашнем посещении отдела кадров, но тут же заметила, что глаза Павеличева за чем-то следят. Она посмотрела в ту же сторону и увидела, что кран теперь поднимает какое-то черное пальтецо. Было непонятно, для кого это, ведь стоял жаркий, с открытым солнцем полдень. Над ухом у Лизы стало что-то жужжать, и она обернулась. Павеличев уже замер в боевой позе оператора, расставив ноги, впившись глазом в свой шар, ничего и никого не слыша. Лиза рассмотрела аппарат — это был, пожалуй, не шар, а какой-то, наверно, тяжелый, судя по металлу, клубок из окуляров, объективов и ручек, внутри которого что-то, потрескивая, жужжало. — Это, наверное, что-нибудь к чаю передают! — Он не отрывался от аппарата, и потому видна была только половина его лица, половина улыбки. И в самом деле, на высоте пятого этажа пальтецо на легком ветерке чуть повернулось, и показался желтый батон хлеба, криво засунутый в карман. — Здорово, что и небо в кадр попало! — блестя глазами, говорил Павеличев, когда они отошли от дома. — Вы смотрите, какое оно! Наверное, не понимаете? Облака-то на двух планах — внизу и наверху. Богатая штука! — похлопал он по футляру, висящему на ремне, куда скрылся сучковатый аппарат. — Ну, а дальше что? — спросил он Лизу. — На плотине вы были? Лиза рассказала, как она сейчас была в адресном бюро, как надеялась. — А на плотине я места не нашла, — добавила Лиза, понимая, о чем он спрашивал. — Там все одинаковое. Да если бы и нашла, то все равно… — Как это место не найти, если кадр известен! — не слушая дальше, воскликнул Павеличев, останавливаясь и поднимая черные брови. Коричневая куртка его отливала на солнце красноватым, бросая теплый свет на загорелое и сейчас удивленное лицо. — Ведь не дух святой снимал, а оператор. А оператор всегда выбирает такую точку. Идемте-ка! Вернемся… Лизе было приятно, что он так близко принял ее неудачу. Ей даже показалось, что найти место, где находился отец, очень важно для дальнейшего.3
По дороге к плотине Павеличев рассказал, что на открытие шлюза он, как опасался в вагоне, не опоздал. Шлюз уже готов, но еще идут последние испытания, и дня через два, если ничего не изменится, будет торжественное открытие. А пока что Павеличев снимает по городу, бывает и там и здесь — это тоже войдет в фильм. Он рассказывал просто, как о чем-то будничном, и Лиза порадовалась: “Не хвалится. А ведь дело-то у него какое!” Лизе никто еще не поручал важного дела — комсомольская работа по школе, конечно, в счет идти не могла. А тут вот человек на три—четыре года старше ее, и уже такое поручение! Это же на весь свет! Завьяловскую гидростанцию и шлюз все знают, за ними следят, и вот на это посылается Павеличев… Подойдя к плотине, Павеличев не пошел на нее, а, посматривая в ее сторону, уверенно взял влево по берегу. У нагроможденных кусков рваного бетона он остановился. Глядя на плотину, прищурился, потом, будто смотря во что-то, поднес две ладони к глазам. — Пошли! — скомандовал он и, обняв одной рукой тяжелый футляр, висящий на ремне, скользя по выгоревшей траве, стал спускаться к воде. Его уверенность передалась и Лизе. Она оправила свое темно-синее в белую клетку платье и, придерживая его у колен, тотчас стала спускаться следом, даже заспешила, будто Павеличев ей сейчас покажет что-то очень важное. Черные туфли на резиновой подошве при спуске скользили по траве, и она чуть даже присела, чтобы не упасть. “Мог бы дать руку”, — подумала она. И как только подумала, Павеличев обернулся: — Держитесь-ка! — И, взяв Лизину несмело протянутую руку, поднял ее, как обычно делают при спуске, на уровень лица, точно собирался танцевать кадриль. Пятясь боком, он взглянул на девушку, порозовевшую, смотрящую себе под ноги. — Слушайте, а как вас зовут? Ехали вместе, а я вот не помню… — Лиза, — сказала она, взглянув на него. — А вас? — спросила она, опять смотря под ноги и обходя блестевшую, как лыжня, полоску на траве, по которой только что съехала нога Павеличева. — Меня легко запомнить: Павел. Павел Павеличев… Ну, сразу! Бегом! Крутизна кончилась, и ноги, которые приходилось сдерживать, теперь сами побежали и вынесли на прибрежный песок. Павеличев выпустил руку Лизы и, не оборачиваясь, словно был он тут один, молча и медленно пошел к плотине. По дороге он опять, будто смотря во что-то, прикладывал две ладони к глазам, отступал вправо — коричневая куртка его мелькала среди кустарника, влево — к самой воде. Лиза шла в отдалении, шла тихо, словно производился какой-то опыт и она боялась помешать. На заднем кармане белых брюк Павеличева, заметила она, пуговка висела на одной ниточке, и под мышкой в куртке было чуть распорото по шву. Так хотелось — просто руки сами просились — это пришить и зашить, но она понимала, что для деловых людей, приехавших из Москвы снимать Завьяловский шлюз, это пустяки, лишнее… — Ну, пожалуйста! — окликнул ее Павел. — Вот! Лиза быстро подошла. — Примерно отсюда оператор снимал, — сказал он, поднося к ее глазам вынутый уже из футляра аппарат. — Смотрите сюда!.. Она плотно прижала глаз к серьезному, с острым блеском стеклу и вдруг с поразительной ясностью увидала то, что она видела весной на экране. Ну все то — два звена решетки из чугунных колосьев, за ней бетонный четырехгранный выступ, который, как бы пронизывая дорогу и решетку, шел вниз, к воде, напоминая обычный мостовой бык. Сразу под решеткой и дорогой был виден в брызгах и пене водослив. Вот водослива тогда там не было — отец спускался в какую-то комнату, а не в воду. Павеличев точно угадал ее недоумение. — Смотрите правее, между двумя бычками! — сказал он, стараясь плотно, недвижно держать аппарат. “Так они называются не быками, а бычками! — подумала Лиза, смотря на бетонные выступы. — Это, наверное, потому, что они поменьше мостовых и их много”. Но что же там, направо? Да, тут нет воды — бетонная стена между двумя бычками, не загороженная водосливом, отвесно опускается от решетки к реке. Вот тут, наверное, был подвал, черная комната. Но где же сейчас она? В стекле косо пронеслось небо, мелькнула вода, и все пропало. Павеличев, полагая, что Лиза уже насмотрелась, опустил аппарат. Лиза же подумала: “Устал держать свою тяжелую штуку”, — и не решилась попросить снова навести ее на плотину. — Место это то, но подвала, куда папа спускался, никакого нет! — медленно сказала она, смотря на освещенную боковым светом плотину. Она искала глазами то место, которое она видела через стекло, и не находила его: и звенья ограды и бычки однообразно повторялись. — Я к тому говорю, — продолжала она, — что если нет этого подвала, значит, тут что-то переделали. Значит, оператор снимал не недавно. Да даже не это! Ведь про папу никто не знает… Ну, пошли! — добавила она, поправляя поясок на платье. — Я вас, наверное, задержала? — Нет, ничего. Подвала, конечно, нет. Но это другое… Павел только сейчас понял, что у них разное было: она шла к следам отца, а он — просто так, из пустого молодечества, искал операторскую точку. Он и нашел ее, удивил народ, а Лизе надо было больше… Они поднялись по берегу. Жаркий воздух, который не чувствовался у реки, сейчас пахнул им в лицо. Облака, и верхние и нижние, разошлись, оголив солнце, желтоватую от зноя голубизну неба. От скрюченных тавровых балок шел жар, и трава рядом с балками казалась еще более сухой и темной, чем вокруг.
— Мы вот что сделаем, — сказал Павеличев, когда они подошли к автобусной остановке.
Широкие брови его были озабоченно сведены, и в глазах проглядывало выражение не то вины, не то участия.
“Не собирается ли он меня успокаивать, как маленькую? — Очень нужно!” — подумала Лиза, но все же ей приятно было это “мы” и “сделаем”.
Павеличев стал говорить о том, что ни отдел кадров, ни адресное бюро еще ничего не значат. Может быть, ее отец был тут в короткой командировке и не прописывался. “Я сам так ездил в Калугу, — уверенно выставил он такой довод, — а потом у военных, я слышал, вообще свой учет”.
Лиза понимала: да, успокаивает. Как это отдел и бюро не имеют значения! Но слушала, ибо всегда слушают человека, который пробуждает надежду. Но что же еще предпринять? Видно было, что тут Павеличев затруднялся, и Лизе было неудобно, что посторонний человек должен что-то придумывать для нее.
— Надо, по-моему, людей расспрашивать, — несмело сказал он.
Это было наивно. Каких людей? Вероятно, на лице Лизы он заметил недоверие и поспешил сказать: тех людей, которые давно работают на строительстве. А для этого он зайдет в отдел кадров. И, чтобы уж совсем убедить девушку, он из большого кармана на куртке вынул блокнот и записал сведения о Михаиле Михайловиче и местный Лизин адрес. Это и в самом деле как-то убедило Лизу. Может быть, этому помог широкий блокнот и особенный карман на куртке — большой, квадратный, с пуговкой в виде черного шарика. “Деловые люди!” — подумала Лиза. Но было и неловко: у него шлюз, дело, а она ему еще свои хлопоты…
Когда она пришла домой, соседка, живущая в квартире через площадку, передала ей ключ. Лиза знала, что дядя Сева на работе, — значит, это мама ушла и оставила ключ. Тогда должна быть записка от нее. На угловом столе, где находился письменный прибор, была открыта чернильница и лежал лист бумаги с начатым словом “Ли…”. Видимо, мать раздумала оставлять записку. Вид бумаги и открытой чернильницы напомнил Лизе, что надо написать Варе. Она села к столу, отложила “Ли” и взяла чистый лист. Но тут послышались шаги, и вошла Софья Васильевна с Витей.
Бросив кепку на стул, Витя вытащил из-под дивана какую-то кривую, с намотанной веревкой палку и убежал во двор. Софья Васильевна, снимая на пороге комнаты шляпу и пыльник, выжидательно и как-то строго поглядывала на дочь.
— Ну, что в бюро? — спросила она.
— Ничего нет. Ни сейчас, ни раньше. Ты была на плотине?
— Была. — Софья Васильевна усмехнулась. — Не усидела.
В голосе, в котором Лиза знала все интонации, слышалась какая-то досада. “Наверное, как я, пришла на плотину — пусто, и все”, — подумала Лиза.
— И ты была? — Со снятым пыльником Софья Васильевна все стояла на пороге комнаты.
— И я была. Но у меня лучше, — сказала Лиза уверенно. — Одного человека встретила, он поможет. Во всяком случае, обещал… — Она подошла, взяла из рук матери пыльник и отнесла его в переднюю. — Ну, входи. Сейчас расскажу. Павеличева встретила. Помнишь, с которым в вагоне ехали? Ну, который молоко из бутылки пил. Теперь он важный — шлюз будет снимать…
Они поднялись по берегу. Жаркий воздух, который не чувствовался у реки, сейчас пахнул им в лицо. Облака, и верхние и нижние, разошлись, оголив солнце, желтоватую от зноя голубизну неба. От скрюченных тавровых балок шел жар, и трава рядом с балками казалась еще более сухой и темной, чем вокруг.
— Мы вот что сделаем, — сказал Павеличев, когда они подошли к автобусной остановке.
Широкие брови его были озабоченно сведены, и в глазах проглядывало выражение не то вины, не то участия.
“Не собирается ли он меня успокаивать, как маленькую? — Очень нужно!” — подумала Лиза, но все же ей приятно было это “мы” и “сделаем”.
Павеличев стал говорить о том, что ни отдел кадров, ни адресное бюро еще ничего не значат. Может быть, ее отец был тут в короткой командировке и не прописывался. “Я сам так ездил в Калугу, — уверенно выставил он такой довод, — а потом у военных, я слышал, вообще свой учет”.
Лиза понимала: да, успокаивает. Как это отдел и бюро не имеют значения! Но слушала, ибо всегда слушают человека, который пробуждает надежду. Но что же еще предпринять? Видно было, что тут Павеличев затруднялся, и Лизе было неудобно, что посторонний человек должен что-то придумывать для нее.
— Надо, по-моему, людей расспрашивать, — несмело сказал он.
Это было наивно. Каких людей? Вероятно, на лице Лизы он заметил недоверие и поспешил сказать: тех людей, которые давно работают на строительстве. А для этого он зайдет в отдел кадров. И, чтобы уж совсем убедить девушку, он из большого кармана на куртке вынул блокнот и записал сведения о Михаиле Михайловиче и местный Лизин адрес. Это и в самом деле как-то убедило Лизу. Может быть, этому помог широкий блокнот и особенный карман на куртке — большой, квадратный, с пуговкой в виде черного шарика. “Деловые люди!” — подумала Лиза. Но было и неловко: у него шлюз, дело, а она ему еще свои хлопоты…
Когда она пришла домой, соседка, живущая в квартире через площадку, передала ей ключ. Лиза знала, что дядя Сева на работе, — значит, это мама ушла и оставила ключ. Тогда должна быть записка от нее. На угловом столе, где находился письменный прибор, была открыта чернильница и лежал лист бумаги с начатым словом “Ли…”. Видимо, мать раздумала оставлять записку. Вид бумаги и открытой чернильницы напомнил Лизе, что надо написать Варе. Она села к столу, отложила “Ли” и взяла чистый лист. Но тут послышались шаги, и вошла Софья Васильевна с Витей.
Бросив кепку на стул, Витя вытащил из-под дивана какую-то кривую, с намотанной веревкой палку и убежал во двор. Софья Васильевна, снимая на пороге комнаты шляпу и пыльник, выжидательно и как-то строго поглядывала на дочь.
— Ну, что в бюро? — спросила она.
— Ничего нет. Ни сейчас, ни раньше. Ты была на плотине?
— Была. — Софья Васильевна усмехнулась. — Не усидела.
В голосе, в котором Лиза знала все интонации, слышалась какая-то досада. “Наверное, как я, пришла на плотину — пусто, и все”, — подумала Лиза.
— И ты была? — Со снятым пыльником Софья Васильевна все стояла на пороге комнаты.
— И я была. Но у меня лучше, — сказала Лиза уверенно. — Одного человека встретила, он поможет. Во всяком случае, обещал… — Она подошла, взяла из рук матери пыльник и отнесла его в переднюю. — Ну, входи. Сейчас расскажу. Павеличева встретила. Помнишь, с которым в вагоне ехали? Ну, который молоко из бутылки пил. Теперь он важный — шлюз будет снимать…
Глава четвертая “СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ!”
1
В молодые годы есть тяга к необычным делам, которые потом оказываются, в сущности, обычными. Так Павеличев выбрал себе профессию. Занимаясь с детства фотографией, он еще до окончания школы решил стать кинооператором. Тут было все замечательно и необычно: поездки, новые места, новые люди и какая-то отчаянность… Да, сколько раз он читал, как оператор, зацепившись за выступ скалы, вися над пропастью, что-то снимает. Или на краю крыши, или лежа в болоте, или у огнедышащего мартена, или верхом на паровозе — ураганный ветер, свист, вопли на станциях и полустанках, а он этаким чертом, даже не держась за паровозную трубу, даже улыбаясь… И, когда он подростком читал о награждении кинооператоров премиями — а таких было немало, — когда видел их портреты внизу газетного листа, думал: “И за это, за отчаянность…” Еще на первом курсе операторского факультета он понял, что будет не совсем так. Когда же на летней практике поехал в первую экспедицию, то — да, новые места, новые люди, дорожные приключения, но опасности никакой не было. Все больше твердая земля была под ногами Павеличева. А если приходилось снимать с какого-нибудь необычного места, то он сам или руководитель съемочной группы должен был следить, чтобы операторская точка была, по возможности, покойной, удобной, ибо от оператора требовалось не удальство, а спокойный глаз и уверенная рука… Да, отчаянности не было. И кроме того, оказалось, столько надо терпения, выдержки: то облако нашло, то свет не тот, то в кадр какая-нибудь чепуха попала, то тяжкое и просто унизительное безделье в ненастье и пересъемки, пересъемки… Павел уже подумывал, не менять ли дело, но, когда спохватился, оказалось — уже полюбил его. Отец у него заведовал инструментальным складом на заводе. Сын ещемальчиком слышал воркотню матери: “У станка вон люди рекорды ставят, в почете, в славе. Да и денег больше приносят!” Отец усмехался: “Ты, мать, как дитя малое, только на видимость обращаешь внимание! Вот видишь, например, колесико катится — и все… А почему? Что его толкает? Ведь без любви-то к делу ничего как следует не движется… Павел и для себя понял: муторно, хлопотно это операторство, но предложи ему что другое — он не согласится. Значит, любит. Значит, все… И колесико покатилось дальше: вот он уже на третьем курсе, вот уже в съемочной группе… Сегодня же, после разговора с Лизой, он почувствовал: вот дело, которого ему не хватало. Тоже в своем роде отчаянное, эффектное. Мать с дочерью ищут отца и не находят. А он приходит к ним и с бесстрастным выражением говорит: “Следуйте за мной!” И приводит их к отцу… Историю о Шувалове он слышал еще в вагоне, но ничего не увидел для себя. То же самое, когда сегодня помогал Лизе найти операторскую точку. И, только когда стал утешать Лизу, вынул блокнот… Глаза у Лизы как-то посветлели. Да, вот это дело! После раннего обеда в гостинице он, не откладывая, отправился в отдел кадров, чтобы узнать фамилии людей, давно работающих на строительстве. Для верности он начал с того же, с чего вчера и мать Лизы. Нина Ельникова — так звали толстую девушку — ответила, что тут уже спрашивали о Михаиле Михайловиче Шувалове, что она разыскала двух Шуваловых, но не тех, что в выбывших тоже нет — чего же опять рыться? Но Павеличев, сделав официальное лицо, попросил все же посмотреть. Терпеливо дождавшись того же ответа, он спросил фамилии давнишних работников строительства. Некоего Трофима Ивановича он нашел тут же, в управлении, на третьем этаже. Не старый, с продолговатым лицом человек зеленым карандашом вычерчивал какие-то линии на плане, по которому наискось проходила голубая полоса реки. Павеличев догадался: “И тут будут лесопосадки”. Извинившись, Павел обратился к нему. Отложив карандаш, Трофим Иванович стал смотреть в окно. Нет, такого Шувалова он не помнит… Второго старожила, прораба Колосихина, Павеличев после долгих поисков нашел уже к вечеру, у пятого бычка. Рабочие хотели заделать пулевые выбоины в верхней части этого бычка. Сухощавый, загорелый, словно выжженный на солнце, прораб сердито остановил их: — Что вы, ребята, с ума, что ли, сошли! Слезайте! Слезайте! — Не отводя глаз от рабочих, он устало присел на бетонную плашку. — Я же вам говорил: везде заделать, кроме пятого. Кроме! Этот на память остается. Рабочие стали слезать с подмостков, а паренек в клетчатой кепке, повернутой козырьком назад, принимая сверху тяжелое ведро, бойко спросил: — На какую на память, Семен Палыч? Колосихин, устало покуривая, молчал с видом человека, который должен распоряжаться, а не входить в объяснения, почему и зачем. Но, заметив, что рабочие ждут ответа, да еще какой-то подошедший франт в белых брюках тоже выжидающе смотрит на него, он объяснил, что во время войны, когда немцы были на правом берегу, а мы на левом, наши разведчики, как люди рассказывали, по разрушенной тогда плотине ночью пробирались к правому берегу до самого пятого бычка, а то даже до крайнего, до нулевого. Во всяком случае, выбоины на пятом остались… — Их, конечно, фашисты пулеметом, — пояснял он. — А они, конечно, ничего, лезут вперед. Настойчивые! Вот пусть на память эти щербинки и остаются. Товарищ Аверьянов распорядился. Экскурсиям будут потом объяснять. Павеличев даже поморщился: как скверно человек рассказал! Павел сразу увидел черную ночь, отчаянных, смелых людей, пробирающихся к врагу, дождь бетонных осколков над головой, а может, и смерть… А тут “экскурсиям объяснять”! Будто для этого люди и ползли! Павел вынул из большого кармана куртки блокнот и быстро записал: “5-й бычок снять, расспросить, составить текст”. Блокнот, запись, а может, и белые брюки произвели на прораба впечатление, и он более охотно отозвался на обращение к нему Павеличева. — А что он тут делал? — спросил Колосихин, помигав выцветшими ресницами. Было видно, что он затруднялся вспомнить человека с фамилией Шувалов. Павеличев даже просиял. Правильно! С этого — с его работы — и надо было бы начинать! И Павел, тотчас простив Колосихину его “экскурсии”, рассказал, что было на экране: плотина, трос, люлька, какая-то черная комната внизу… — Так это донное отверстие! — сразу сказал прораб. — Когда это было? — И было и есть. Все отверстия заделали, а с четвертым вот возимся еще, наращиваем бетон. И он рассказал, что после бегства гитлеровцев, прежде чем приступить к восстановлению станции, надо было вскрыть донные отверстия, низом пропустить воду, а потом захлопнуть их со стороны верхнего бьефа — верхнего уровня воды — щитами, осушить и приступить к заделке бетоном. Павел слушал и понимал: ничего определенного — работа с отверстиями была и есть. Правда, Колосихин появился тут в конце сорок четвертого года и Шувалова не помнит, — значит, тот был раньше. Но ведь о “раньше” ни отдел кадров, ни бюро ничего не знали! Чем же это “раньше” достовернее “позже”, о котором тоже никто ничего не может сказать? Прораб увидел разочарование на лице человека с блокнотом, да еще посланному к нему, как к старожилу. И он постарался сказать определеннее. — Это было, несомненно, до меня! Почему? Первое: я его не помню, — начал Колосихин, загибая коричневые, сухие пальцы. — Второе: в организационный период, то есть в конце сорок третьего — в начале сорок четвертого, тут работали военные части. А ваш Шувалов военный, поэтому-то отдел кадров его и не знает. Тогда отдел-то этот только создавался. Вы обратитесь к Авдею Афанасьевичу Прохорову, — не без участия в голосе сказал он, заметив, что приезжий журналист (а он принял Павеличева именно за журналиста) погрустнел. — Сейчас канатная фабрика его к себе перетянула, а у нас он работал с самого первого дня. И память хорошая… Павел заглянул в свой блокнот: да, и Нина Ельникова указала ему на этого Прохорова. Он поблагодарил прораба и по пешеходной полосе, справа от проезжей части плотины, перебираясь через бетонные плашки и арматурное железо, медленно пошел к правому берегу.2
Еще зимой Витя прочел в какой-то своей книжке о том, как один наш разведчик во время войны, держа во рту полый камыш, невидимо перешел реку. Плыла по реке камышинка — поди догадайся, что под ней человек… Прочтя, Витя даже засмеялся от удовольствия: так интересно, хитро и так просто! Но это было не так просто, как казалось в Москве. Сейчас, в реке, ничего не получалось ни у него, ни у Глебки, сына дяди Севиной соседки по квартире, которого Витя уговорил быть пловцом-невидимкой. Была река, был камыш во рту, были два умеющих плавать человека, но ничего невидимого не получалось. Люди, лежащие на пляже, от нечего делать подавали им советы — надо начинать с глубокого места, другие говорили — с мелкого. Один из лежащих, накинув на плечи коричневую куртку, даже пошел к ним, чтобы что-то показать, но ребята бросились от него влево — ну вот еще, их будут учить! И они опять пробовали. Пробовали и на разных местах, но не получалось ни на глубоком, ни на мелком. На глубоком — тело тотчас всплывало, а на мелком, чтобы выставить конец камыша над водой, приходилось садиться на корточки под воду и так далеко назад запрокидывать голову, что голова перевешивала тело и камыш, а за ним и пловцы-невидимки захлебывались. Фыркая, отплевываясь, протирая глаза, узкоплечий, загорелый до синевы Глебка вдруг схватил Витю за руку. — Смотри! Смотри! — испуганно воскликнул он, показывая на середину реки. От середины реки к ним плыл камыш. Это было совершенно так, как Витя видел на рисунке в книжке: еле заметная наклоненная камышинка, точно кто-то из-под воды чуть высунул ружейное дуло. Потом за камышинкой показалось темное, величиной с блюдце пятно, которое тут же приподнялось. Появились из воды мокрые волосы, лоб, черные, сдвинутые у переносицы брови. И вот невидимка вышел весь. Они в нем признали того купальщика в куртке, который недавно подходил к ним. — Ну, поняли, головы садовые, как надо? — строго спросил появившийся, хлопая длинной камышинкой по воде. Они ничего еще не поняли, но это было прекрасно! Человек не отфыркивался, не тер глаза. Нет, спокойно, ровно дыша, прошел под водой, будто по земле. Синий Глебка осторожно коснулся камыша незнакомца. Нет, и камыш был обыкновенный, только подлиннее. Павеличев, раздумывая, повертел свою зеленую полую трубочку и вручил ее просиявшим ребятам. Рассказав, как держать камыш, как дышать, он с тем же строгим лицом вернулся на берег к своей одежде. — Какие ребята непонятливые! — сказал он ворчливо, чтобы не подумали, что он сам ходил забавляться с камышом. — Мы, помню, легко это делали. — Как только вы не забыли всего этого! — отозвался сосед по пляжу — белотелый, полный человек в желтых очках, поднятых на лоб. — Ведь небось с тех пор уж года два-три прошло. Павеличев посмотрел на его несмеющиеся, слишком уж серьезные глаза. — Побольше, побольше! — сказал он, поправляя в изголовье сложенную куртку. — Мне уже двадцать лет. — Грандиозные года! И сосед, опустив на глаза желтые очки, перевернулся на спину, раскинув по песку белые, полные руки, отвел вбок голову, собираясь, видимо, вздремнуть. “Что в этом человеке главное?” — подумал Павел, ложась на мохнатое узкое полотенце и смотря на соседа. Будучи кинооператором, он придерживался своего, как ему казалось, способа запечатления: искать в человеке, в пейзаже, в обстановке не эффектного, не красивого и даже не обыкновенного, а той главной приметы, которая выделяла этот объект из ему подобных. Вот в этом соседе главным, конечно, было белое тело. Это легко, само собой напрашивалось: все на пляже загорелые или смуглые, а он как молоко. “Наверное, приехавший”, — подумал Павел. Он перевел взгляд на женский пляж, увидал вдалеке девушку, которая торопливо поднималась от пляжа на берег. Когда она повернула голову, он подумал: “Не Лиза ли это?” Но нет, только похожа. “А у нее в лице главное — добродушие”, — вспомнил он Лизу и стал глядеть, как идет по гребню берега эта девушка. Тонкий нос, подбородок… Нет, совсем не похожа! У Лизы добродушие от расставленных глаз, а так-то у нее в лице что-то решительное. Павеличев, подставляя под солнце спину, опустился на полотенце, положил голову на сложенную куртку и стал думать о том, что он еще ничего не сделал для Лизы. …Вчера идти на канатную фабрику было уже поздно, сегодня с утра Геннадий Тихонович, руководитель группы, зачем-то решил отсылать в Москву заснятую пленку. Ну хорошо, после обеда он отправится к этому Авдею Афанасьевичу. Спину припекало, и Павеличев, перевернувшись, лег навзничь. Еще немножко так — и в воду. Когда переворачивался, заметил около белотелого соседа в желтых очках какого-то нового человека — длиннолицего, белокурого, который, раздевшись и сидя на песке, негромко о чем-то говорил с этим соседом. Бумажный фунтик с вишнями лежал между ними, и они не спеша ели, беря ягоды за бледные стройные веточки. Павеличев усмехнулся: “И этот похож!” Со вчерашнего дня, как он пообещал Лизе помочь в розысках, он невольно вглядывался во всех прохожих и — странное дело — то в одном, то в другом находил что-то общее с тем портретом, который Лиза показывала еще в вагоне. Одного даже остановил: “Простите, вы не товарищ Шувалов?” Лицо состроил официальное, озабоченное, но, чувствует, было глупо. Он смутился. — …Нет, для нашего времени это редкий, непонятный человек, — говорил длиннолицый, собирая вишневые косточки в кулак. — Весь в бумагах, в архивной пыли. А попробуй удивиться — он тебе ответит: “Я же ведь историко-архивный факультет окончил!” Надо же уметь выбрать такой факультет! — Если любить эту работу, то почему же не выбрать? — отозвался сосед в желтых очках. — Надо же кому-то и архивами заниматься. Это ведь большое дело! Есть хорошие стихи: “Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из тьмы веков на мировом погосте звучат лишь письмена…” — Он потянулся за вишней. — В хорошем архиве письмена действительно звучат. В сорок седьмом году перебираю материалы по истории одной дивизии, которая, кстати сказать, от Завьяловска фашистов дальше гнала, и вдруг вижу писарской, с завитушками почерк. Описывается ночной налет эсэсовских автоматчиков на штаб батальона. Как раз то, что мне нужно было! Никто до этого рассказать не мог. Такой случай, что, кроме писаря, никого в живых не осталось… Слушая это, Павел живым воображением вдруг увидел ночь, горстку людей, отчаянно отбивающихся от автоматчиков, и какого-то человека, залезшего куда-то под табуретку, под стол, — одни только подошвы видны. — Почему же он уцелел? — с пренебрежением спросил Павеличев. — Спрятался? Этот писарь, под табуреткой, созданный его воображением, был так гнусен ему, что он не заметил, как неделикатно вмешался в чужой разговор. Сосед не спеша поднял желтые очки на лоб и полуобернулся к Павеличеву, прижав полный подбородок к голому покатому плечу. — Это вы, дорогуша, литературы о писарях начитались, — сказал он не сразу и, видимо, неохотно. — Почерк с завитушками, лицо в прыщах, глуповат и трусоват… Было, но прошло. Только завитушки остались, да и то, если на машинке перепечатано, не заметно. И, видимо, считая, что одной нравоучительности достаточно для человека, который недавно еще забавлялся на реке с камышом, он снова обратился к светловолосому своему собеседнику, но первую фразу произнес громко, чтобы и этот “камышник” слышал: — Родионов сражался в первых рядах, раненые рассказывали, и это его счастье, что он уцелел… Так вот, говорю, подробно, обстоятельно Родионов описал, как каждый работник штаба сражался и погиб. Это для меня была находка! Он добрал последние вишни, и бумажный фунтик, пустой теперь и легкий, покатился под ветром к реке. Длиннолицый хотел что-то сказать, но белотелый сосед недовольным голосом стал говорить о каком-то другом, уже небрежном архиве: — Представляете! Клички собак, которые участвовали в одном деле, известны, запечатлены, так сказать, для истории: Нельма, Пират, Веста, Горошек, — а о человеке известна только одна его фраза: “У кого дети — уйдите!..” Фраза знаменательная, но этого мало. — Все это так, — ероша светлые волосы, быстро вставил его собеседник, которому, видимо, не терпелось продолжить разговор о каком-то общем их знакомом, — но, занимаясь архивами, нельзя же божьего света, жизни не видеть! А он весь там, в пыли. Книги читает только пожелтевшие. Очень уважает свечи. Трамвай не признает… Тут его окликнул с берега какой-то коренастый человек в синем рабочем комбинезоне. Ведя впереди себя велосипед, он, подпрыгивая, спускался к реке. Длиннолицый тотчас поднялся, захватил в руки одежду и пошел вдоль воды к вновь прибывшему. Когда он повернулся, было видно, что левое ухо у него сморщено, словно завязано в узелок, и от него идет к шее темный рубец. Павел снова перевернулся на спину, но, взглянув на часы, лежащие поверх куртки, вспомнил о канатной фабрике, стряхнул с колен песок и пошел купаться. Солнце стояло за спиной, резко освещая на том берегу белые коттеджи поселка, блестя в стеклянных рамах парников, видневшихся слева от домов, пронизывая светом липовую аллею, идущую между коттеджами и рекой. Маленький “Москвич” бесшумно мчался по аллее, и тень от лип так часто и равномерно мелькала на машине, что нельзя было определить, какого она цвета. Доплыв кролем до середины реки, Павел лег на спину и повернул обратно. Над ним стояло одинокое, какое-то крестообразное облако, словно белый трефовый туз. Следя за ним, Павел улыбнулся, представив, что облако, будто передразнивая его, тоже плывет на спине. Почувствовав приближение берега, он опустил ноги, и действительно было уже дно. Выходить не хотелось. Он пошлепал рукой по воде, взбурлил ее. Вода как вода, а ведь вот недавно, минуту назад, она навалилась, напряглась и, пройдя через турбины, дала ток. А сейчас снова как самая обыкновенная — пей, купайся, лови рыбу… Павлу было видно, как те двое, длиннолицый и его приземистый приятель с велосипедом, уже выкупались и теперь одевались на берегу. На приземистом была надета военная форма, и он сейчас влезал в свой синий комбинезон. Павеличев увидел, что на спине его комбинезон испачкан чем-то белым — известкой или цементом. “Постой! Постой! — Павел подергал мокрой рукой нос. — Есть же ведь еще военная часть. И этот оттуда!” Он только сейчас вспомнил, что стройке, по рассказам местных работников, уже не первые лето и осень кое в чем помогают саперы, находящиеся в лагере за правобережным поселком — вон там, за стеклами парников. Они, как непостоянные, временные работники, конечно, в отделе кадров не числятся, и потому эта Ельникова не могла сказать ни Лизиной матери, ни ему… И поэтому-то его и в адресном бюро нет! “Постой! Это что же? — Павел почувствовал какой-то озноб на спине. — Ведь это что же? Шувалов, может быть, тут, среди военных, живой, настоящий… Саперы — ведь это инженерные войска… И Лиза говорила: был в инженерных…” И сразу вернулся к прежней отчаянной мечте-удаче: не канатная фабрика с Авдеем Афанасьевичем, с его “был такой”, а идет он вон туда, за липовую аллею, — за парники, а потом к Лизе, к матери ее: “Следуйте за мной…” Он вылез из воды и, по коричневой куртке найдя свое место, быстро подошел к нему. Но не потянулся за полотенцем, не лег — стоял, поглаживая мокрое плечо, смотря на гребень берега, за которым скрылись те двое. “Да, теперь может получиться, — думал он, — что Лиза права: если отец за какой-то работой на плотине был снят в военной форме с погонами, это еще не значило, что его снимали во время войны…” — Ну, как вода? — мельком взглянув, спросил сосед. Он лежал на животе, с поднятыми на лоб желтыми очками и тонким карандашом что-то записывал в маленькую толстенькую книжицу в синем переплете. — Вода?.. Вода теплая, — не сразу отозвался Павел и, словно очнувшись, потянулся за полотенцем. — Теплая вода… Сосед посопел носом и продолжал писать, держа карандаш вертикально. На его макушке из-под черных волос проглядывала загорелая лысина. Большая белая спина была обожжена солнцем, но он, видимо, еще не заметил этого. — Вы, наверное, должны знать, — сказал он, не отрываясь от своих записей, — как называются щиты на плотине, которые регулируют уровень верхней воды. Ну, этого, как тут говорят, верхнего бьефа. — Щиты Стоннея? — Верно, верно! Стоннея!.. Молодец, дядя! Зашнуровывая белые парусиновые туфли, Павеличев покосился на собеседника, ожидая, когда он кончит писать. Но тот не кончал. — А откуда вы решили, — несмело спросил Павел, — что я должен это знать? — Кинооператоры обычно все видимое знают, — буркнул сосед и, посопев носом, добавил: — А то ведь потом спросят его: “Что это, милый, ты тут наснял?” И, видимо почувствовав новое удивление Павеличева, повернул к нему полное, с близорукими глазами лицо. — Ну, это легко догадаться, — сказал он, улыбаясь и кивая на куртку. — Только в одежде молодых кинооператоров можно встретить что-нибудь неожиданное… Ну вот, например, этот квадратный большой карман. А во-вторых, я вас, кажется, где-то тут видел на съемке… по-моему, на плотине. На вас тогда были голубые брюки. — Темно-голубые, почти синие… обычные, — хмуро поправил Павеличев. — Да вы не обижайтесь! В каждой профессии есть свои странности! — Помедлив, решив, видимо, задобрить юношу, сосед перевернул страничку в своей книжице. — Наш брат, например, любит записывать всякие мелочи, которые, может, даже не пригодятся ему… Ну вот: “На нулевом бычке плотины, — прочел он, — висит мемориальная, пока деревянная, доска с именами солдат Зайченко и Бутузова, которые в 1944 году, перерезав в этом месте немецкий кабель, спасли плотину от грандиозного взрыва…” Или вот: “У начальника строительства, тяжелого, грузного мужчины, ловкие, быстрые, по-женски хлопотливые руки…” — Если это у нашего начальника, — сказал Павеличев, почему-то делая серьезное лицо, — то верно замечено. — Какая прелесть! — пробурчал сосед. — Приехал человек на стройку на три дня — и начальник уже “наш”. Люблю таких! — Он не торопясь полистал страницы книжицы назад и, что-то найдя там в записях, гмыкнул. — Или вот из давнишних впечатлений… Ну вот, например: “Студент стриг ногти на ногах, не снимая носков…” Представляете, какие носки… Павел слушал, ему было приятно, что пожилой человек, вероятно журналист, который до этого разговаривал с ним снисходительно, сейчас читает ему, как равному. Но книжица была толстая, а надо еще в гостиницу, быстро пообедать — и туда, за парники, в лагерь… Однако, полистав еще свои записи, сосед закрыл книжицу, положил на песок. Тяжело перевернулся на спину и, встретив глазами солнце, опустил со лба желтые очки. На лице его сохранялось оживление, и Павеличев почувствовал, что надо что-то сказать или спросить: “Какая ваша профессия?”, или как-то иначе ответить на прочитанное. — Вы еще и архивами занимаетесь? — спросил он, вспомнив недавний его тут разговор с длиннолицым. — Нет, не занимаюсь… — Сосед недоуменно повернул голову. — Ах, вы об этом: “У кого дети…” — он кивнул на то место, где сидел его знакомый, с которым он разговаривал об архивах. — Это так, случай, пришлось… И вдруг озабоченно приподнялся на локте, оглянулся. — Он совсем ушел? — Наверное, совсем. Когда я купался, он поднялся на берег. — Черт ее… эту рассеянность! Ну конечно, совсем ушел, у него же обеденный перерыв был. А мне завтра наутро надо у него пропуск в лабораторию! — Он посмотрел на часы, которые лежали на его соломенной кепке. — Э-э, милые мои, и грузовик уже ждет! И позвонить в лабораторию неоткуда будет… Он стал быстро одеваться. На лице его появилось озабоченное выражение — видимо, он прикидывал в уме, как поступить. — Так я могу позвонить ему, — сказал Павеличев, надевая куртку с квадратным карманом и испытывая некое смущение после недавних слов о необычности. — Приеду сейчас в гостиницу и позвоню. — Дорогой мой! — под желтыми стеклами глаза соседа просияли. — Это замечательно! Именно из гостиницы лучше всего и дозвониться! — Он тотчас вырвал чистый листок из, книжки, быстро — написал на нем несколько строк и передал его Павеличеву. — Если его самого не будет, то тогда секретарша заказ на пропуск примет… Ну, большое вам спасибо! Я всегда знал, что с кинооператорами не пропадешь! Он торопливо и весело дошнуровывал ботинок. Они вместе поднялись на берег, дошли до первой улицы, на углу которой, около булочной, стоял пыльный грузовик с надписью: “Совхоз “Вешний луч”. — Вот она, таратайка! — сказал новый знакомый Павеличева, подходя к кабине и кому-то там улыбаясь. — Не опоздал, не опоздал! Ровно три тридцать. — Он открыл дверцу, обернулся к Павеличеву и приподнял соломенную кепку. — Очень буду надеяться! Машина отъехала. Павел, перебежав дорогу, вскочил в кузов, как тут все делали, первого встречного грузовика, направлявшегося на правый берег, и, задетый любопытством — кто же этот человек? — стоя вынул из кармана куртки его записку. Буквы стали прыгать — машина шла по булыжной мостовой, — и Павеличев, присев на неизбежное в каждом кузове запасное колесо, прочел: “Позв. т. Шувалову (37–00, доб. 191) и на 10 ч. утра зак. пропуск, на имя Никодимцева И.Л.” Он продолжал смотреть на записку, уже не видя ее. В дальней стороне кузова, как огромная скомканная бумага, лежал брезент. На несмятом углу его протянулась темная, вероятно от масла, полоса. Как тот рубец от уха к шее… Растерянно улыбаясь, Павел опять вернулся к записке. Да, конечно, имя Никодимцева он встречал под газетными очерками, но что значила эта фамилия в сравнении с первой! “И вот рядом был!..”Глава пятая У ЛИЗЫ — ТОЖЕ НОВОЕ
1
У Софьи Васильевны и у Лизы в тот день тоже было что-то новое. Природа всяких поисков такова: сперва ничего, потом человек идет не в том направлении, затем уже где-то начинает брезжить… Как у геологов: сперва просто земля, потом пробное бурение, которое напрасным не назовешь, и уже затем настоящее место. Если бы не было этого процесса, не было бы в языке и слова “поиск”, люди бы шли по прямой линии и сразу брали бы то, что им нужно. …Когда Лиза вошла в комнату, Софья Васильевна сидела за столом, обложенная книгами, и писала в толстой клеенчатой тетради. Журналы “Литература в школе” в голубых обложках стопкой лежали на диване. Лиза всегда удивлялась материнским занятиям: “Все знает, восемнадцать лет преподает одно и то же, а все готовится”. — Теперь я догадываюсь, отчего рыжий чемодан был тяжелый. — Лиза кивнула на книги и журналы. — Ты это все с собой притащила! Не понимаю: программа старая, а ты готовишься! — Программа старая, а жизнь каждый год новая. — Софья Васильевна писала, не оборачиваясь. — Кажется, уж о Пушкине все известно, а вот вышла новая книга о декабристах. О Маяковском в этом году три книги… Ты чего? — спросила она, заметив соломенную шляпу в руках дочери. — Я хочу к диспетчеру сама сходить. Представляешь, вдруг он знает, а мы тут сидим… Софье Васильевне посоветовали обратиться к главному диспетчеру строительства, который здесь работает только три года, но живет давно, знает город, людей. — Нет, пойду я! — твердо сказала Софья Васильевна. — Да и рано еще, надо к четырем. Ты лучше почитай. Тебе за лето столько книг по литературе надо прочесть! Как начнется учебный год, Константин Иванович сразу спросит. — Читаю… Со шляпой в руках, Лиза присела на край стула и посмотрела в окно. Напротив, через дорогу, стоял зеленый, косо освещенный солнцем забор, и глянцевитые листья груш свешивались над ним. — Мама, ты тоже считаешь, что Наташа Ростова — это положительный герой? — вдруг спросила она. Софья Васильевна, выпустив из руки карандаш, быстро повернулась на стуле. — Ты что? — Она помедлила. — Ну конечно… — Нет, по правде? А то у нас Константин Иванович говорит: вот этот положительный и вот этот тоже положительный. А начинаешь читать — это просто скучные, нудные люди. Только рассуждают… — Ну, про Наташу этого не скажешь! — Да я и не говорю! Нет, про Натащу другое. — Лиза села поудобнее на стул и положила шляпу на колени. — Вот говорят: добра, отзывчива, верна, благородна. А к кому это все направлено? Да только к дому, к родным. Это нехитро! Это и я могу… А вот для других-то что? Только одно и сделала, приказала с подвод свои чемоданы и узлы свалить и положить раненых. Это, конечно, хорошо, но мало. Софья Васильевна, ссылаясь на другое время и другие интересы, объяснила, как надо относиться к литературным героям прошлого. Но, когда Лиза ушла к себе, у Софьи Васильевны возникли, как это часто бывает, мысли более убедительные. Однако, развивая их и как бы про себя еще более убеждая Лизу, она невольно подумала: “А все-таки в этом Лизином “а для других что?” есть что-то такое…” Лиза, видимо, томилась без дела и вскоре вернулась с бумагой в руках. Это было последнее письмо отца, хорошо известное им обеим. — Что это за “мелкая работа” могла быть у папы? — спросила она, будто прочла там что-то новое. Припомнив письмо — о чем Лиза может спрашивать? — Софья Васильевна сказала, что отец был заместителем командира и, возможно, надо было какой-нибудь отчет или таблицу составить. — Да, но почему получается, что капитан жадный? — Откуда жадный? Слушай, ты мне заниматься не даешь. Я хотела до диспетчера окончить… Софья Васильевна все же протянула руку за письмом, и Лиза показала, с какого места надо читать. Пошли знакомые строки: “…разбил очки, а запасные забыл дома. Завтра мне предстоит очень мелкая работа, и без очков просто (тут одно слово было зачеркнуто) беда. Да не только для меня… Хочу сейчас съездить в штаб, к одному капитану, у которого стекла, кажется, кажется как у меня, может быть, даст на завтра. Должен дать. Кроме того, один дядя — добрая душа — тоже взялся мне их отыскать…” — Ну, почему же капитан жадный? — Софья Васильевна подняла глаза от письма. — Как ты не понимаешь! — Лиза и сама чувствовала, что ее трудно понять. — Папа так уверенно пишет, что капитан должен дать. Ну, понимаешь, будто дело такое важное, что даже жадный человек должен расщедриться… Никакого “жадного” Софья Васильевна в письме не нашла, но подумала о другом: “Странно, что так много об очках! И у капитана будет просить, и еще какой-то человек достает… Видно, что он о них только и думает… Да, пожалуй, это не отчет”. В подробностях об очках она вдруг почувствовала что-то тревожное, и ей было удивительно, что, столько раз читая это место в письме, она раньше ничего не замечала. — Впрочем, у него это бывало, — сказала она, отвечая на свои мысли. — Что-нибудь понадобится, так сейчас же вынь да положь. Лиза хотя и почувствовала, что “мелкая работа” — это не отчет, но ничего тревожного в этом не увидела. Она увидела другое, о чем и раньше думала: отцу без семьи, наверное, было тяжело, бесприютно. Даже вот какие-то разбитые очки его волновали, беспокоили — поэтому он так много, по-домашнему и пишет о них… Лиза вышла на кухню, чуть сдвинула там крышку над кипящим супом и, постояв, вернулась к матери. Села на диван, заметив рядом свою шляпу, посмотрела на часы: не пора ли к диспетчеру? Софья Васильевна почувствовала ее взгляд, обернулась, и они, поняв друг друга, заговорили об отце. — Ты все, мама, “был” да “был”! — сказала Лиза в середине разговора. Софья Васильевна отодвинула голубые журналы — нет уж, не заниматься! — и, тяжело ступая, перешла на диван. — Я тебе скажу так, — сказала она, строго и грустно смотря перед собой. — Толстой возмущался “Королем Лиром”. Он не мог и не хотел понять, почему старик внезапно усомнился в дочери, которая все время жила рядом с ним. Которую он знал!.. Это на самом деле странно. Я Толстого понимаю. Вот представь — о тебе говорят какую-нибудь чепуху, а я уши развесила и верю! Ведь я — то тебя знаю… Вот ты строишь предположения, что отец жив и из-за какого-то ранения не показывается. Но для меня это уже пройденное. После сорок четвертого года соседки нашептывали: “Для вас он “без вести”, а где-то, может, в полной известности!” И на примеры ссылались… Кто подобрее из этих тетей был, те о непоправимом ранении говорили… Нет, — Софья Васильевна встала, подошла опять к голубым обложкам, переложила их с места на место, — нет, я не верила ни первому, ни второму. А если бы было и третье, то и третьему не поверила бы… Ведь я же его знала. — Но какое же может быть третье? — вздохнув, проговорила Лиза. — Не знаю… Я так говорю, если бы было. — Софья Васильевна прислушалась. — Кажется, суп бежит… — И ушла в кухню. Оттуда почти следом послышался стук, потом тонкий голосок и хлопнула дверь. Лиза догадалась, что приходила Ниночка — девочка соседки, у которой есть телефон. По тишине в кухне Лиза поняла, что мать вышла. Она появилась снова минут через пять. На щеке дрожала какая-то жилка, но глаза были спокойные, строгие. — Первые вести, но ничего такого… — сказала Софья Васильевна, мерно проходя по комнате и останавливаясь у окна. — Звонил с фабрики дядя Сева. Эта его сослуживица Наталья Феоктистовна… ну, у которой сестра жила там же, где она теперь… — Ну, ну?! Лиза, соскочив с дивана, уже стояла около матери. — …получила ответ от этой сестры. Да, такой человек жил у нее в Завьяловске в начале сорок четвертого года. — Жил? А потом? — А потом не то переехал, не то уехал. Этого она не помнит — давно было. — А где письмо? — Лиза даже протянула руку. — Я же говорю — по телефону… Жил две или три недели. В военной форме, невысокий, светлые волосы… Представляешь, — Софья Васильевна, неловко улыбаясь, в упор посмотрела на Лизу, и Лиза увидала на ее глазах слезы, — представляешь, эта сестра запомнила: был вежливый, обходительный… — Еще что? — У Лизы в руках уже была ее соломенная шляпа.2
Через полчаса она подходила к воротам кондитерской фабрики. По словам матери, дядя Сева передал все, что было в письме об отце, но ей хотелось увидеть это письмо. Вчера, после встречи с Павеличевым, она как-то успокоилась — уж он-то что-нибудь узнает! Вечером все вчетвером, с дядей Севой и Витей, были в кино, потом зашли в летний сад, ели мороженое, играл духовой оркестр, который Витя первый раз видел, — до этого только слушал по радио. У Лизы было такое чувство, будто с нее и с мамы что-то переложено на другие плечи. Но сегодня с утра начала томиться от бездействия. Павеличев — это хорошо, но она-то что? Будет ждать? И вот письмо давало выход этому. Сначала ей захотелось позвонить дяде Севе, узнать адрес его сослуживицы и бежать к тому дому. Но Софья Васильевна сказала: кто же ее впустит, раз Наталья Феоктистовна на работе! Ну хорошо, тогда она прочтёт письмо собственными глазами. …У дяди Севы кто-то был, и он, увидев Лизу, кивнул на стул: “Посиди”. В маленькой комнате сильно пахло ванилью — как и на лестнице, пока Лиза поднималась, — а за стеной или под полом что-то глухо и равномерно урчало. Присев за столик, Лиза исподлобья взглянула на дядиного посетителя. Был тот темный, загорелый, с сединой на висках. Разговаривая, он медленно, будто нехотя, шевелил толстыми губами. — У нас в районе, — рассказывал он, — Ползуновский держится, как тенор на гастролях. Смотрит не на вас, а будто какую-то картину за вашей спиной рассматривает. Но со мной он теперь иначе: “Садитесь. Очень рад. Что угодно?” Я его как-то спросил: “Вы не замечали, Аркадий Семенович, как лауреатство меняет людей?” Он отвечает: “В каком смысле? Судя по вас, я не вижу никакой, перемены. Вы все такой же…” — “Я не о себе, — говорю я, — а о вас! До того как я получил звание лауреата, вы со мной скучно так, вя-яло разговаривали!” Дядя Сева любит смешное, и Лиза видит, что он выжидательно поглядывает на гостя: не будет ли еще чего? Но тот приподнимает со стола папиросную, с просвечивающимся фиолетовым шрифтом бумагу, и они говорят — видимо, продолжают ранее начатый разговор — о каких-то асинхронных и фланцевых двигателях. Вскоре посетитель поднялся. Провожая, дядя Сева подхватил с подоконника раскрытую белую коробку с коричневыми конфетами. — Вот новость у нас на фабрике! Попробуйте-ка! Драже на пшеницу накатали! Говорят, лучше ореха… Гость поблагодарил, но без охоты поднес коричневую горошину к толстым губам. Он кивнул Лизе — та, привстав, поклонилась — и вышел. — Вот, учись жить! — громко сказал Всеволод Васильевич, с шумом возвращаясь в комнату. — Обычно директор фабрики сидит на лишнем оборудовании, как жадюга, ни себе, ни людям, а этот вот, Кузнецов, предлагает и нам и “Новой заре”. Может, мы ему приятели? Нет, два раза в обкоме на совещаниях встречались. — Большой рукой он пододвинул Лизе ту же белую коробку. — Попробуй! Это Натальи Феоктистовны работа. Отстояла свое… Ты зачем пришла? Фабрику посмотреть? — Я хотела у Натальи Феоктистовны то письмо попросить. Если можно… — Так я же маме все по телефону передал. Он пошел к своему столу, и по тому, что он начал отодвигать ящики и посматривать туда, Лиза поняла, что письмо тут. Она взяла щепотку драже и подошла к нему, ожидая. На столе лежал какой-то чертеж, сделанный на листе ученической тетради. Чертеж напоминал не то мясорубку, не то лебедя с каким-то винтом. Приговаривая: “Да тут где-то сверху было”, — Всеволод Васильевич наконец нашел письмо и передал его Лизе. Потом пододвинул чертеж, взял карандаш и, теребя кончик уха, задумался. “Дорогая Наташа! Только что получила твою открытку и спешу ответить, так как один товарищ из нашего института едет в Завьяловск и там опустит это письмо. Помню человека, о котором ты спрашиваешь, хотя с освобождения Завьяловска до твоего приезда в маленькой комнате перебывало много квартирантов. И военные и командированные на строительство. Жили по неделе, по месяцу. Да я тебе говорила… Что я знаю о М.М.Шувалове? Очень мало. Как все мои квартиранты за эти годы, уходил утром и возвращался только спать. Я тоже, как ты знаешь, приходила из управления поздно. Ну, что я о нем знаю? До этого он жил где-то в поселке, далеко от работы. Переехал он ко мне в конце января или в начале февраля сорок четвертого года. Потому запомнила, что он появился сразу после Телегина (помнишь, я тебе говорила, который бренчал с шести утра на гитаре, ну тот, который предлагал мне руку, сердце и комнату на южную сторону, когда построят новый дом!). Приехал, значит, после Телегина. Среднего роста, в военной форме, белокурый, волосы зачесаны назад, большой лоб, обходительный, вежливый. Помню, сразу наступила по утрам и вечерам тишина. Пробыл недели три и уехал. Или переехал на новую квартиру — не помню. Вот и все. Твоя Клавдия” Лиза снова начала читать письмо. И, пока читала, все больше, все нетерпеливее хотелось узнать адрес и скорее к тому дому… Но к дяде Севе опять кто-то пришел. Она подняла глаза от письма и увидала за столом рядом с дядей остроносого паренька в белой спецовке. Лицо у него было оживленное, довольное, но смущенное. — Придумано здорово! — гулко, на всю комнату, гремел Всеволод Васильевич. — И хорошо, что для кегель-машины! Но ведь для кривошипа или коленчатого вала надо шарнирную связку! — Для лучшего обозрения Всеволод Васильевич ловко, одним движением, приколол чертеж на стену, и Лиза увидала, что в лебедя теперь воткнут второй винт. — А у тебя, милый, шатун на честном слове держится, на слюнях… Подумай! Я вот тут подправил, но посмотри, пройдет ли. Подумай! И, как только паренек, размахивая своим чертежом, ушел, Лиза спросила об адресе. Всеволод Васильевич, стоя среди комнаты, помигал глазами — в мыслях еще держался листок из ученической тетради. — Это ты зря, — сказал он, поняв, зачем Лиза спрашивает адрес. — Я уже узнавал у Натальи Феоктистовны — никаких следов. И народ там менялся, и вообще-то прожил человек три недели, как в гостинице. Но адрес сообщил, и Лиза записала: “Улица Шевченко, 15”. — Зеленый такой деревянный дом… — невнятно добавил он и стал поправлять хрустящие трубы ватмана, в порядке лежащие на этажерке. Всеволод Васильевич проводил Лизу до площадки второго этажа, где был проход на улицу. Пока он объяснял, как идти, где повернуть, из правой двери, ведущей из цеха, вышла группа людей и впереди них молодая миловидная женщина в очень белом, изящно скроенном халате и в такой же белой полотняной шапочке, легко держащейся на ее пушистых волосах. Тотчас дядя Сева стал говорить каким-то другим, неестественным голосом — кругло, отчетливо, вроде радиодиктора. Женщина полукивнула, полуулыбнулась ему, как бы говоря: “Видите вот, занята”, и более пристально посмотрела на девушку, с которой он говорил. Вместе с группой она — прошла в левую дверь, в другой цех, оттуда сильно потянуло запахом шоколада. — Комиссии обследования — это наша напасть! — сказал дядя Сева уже обычным голосом, который Лизе сейчас показался потухшим.3
Не откладывая, будто ее там что-то ждало, Лиза отправилась не домой, а на улицу Шевченко. Она чувствовала, что от нее пахнет ванилью, и невольно пожалела, что так налетом, наскоро была на фабрике: ведь угостили бы чем-нибудь”… Уехал или переехал? Если уехал — это значит вперед, на войну, и там все кончилось. Если переехал — значит, жил в Завьяловске и дальше. Может быть, и теперь тоже… Ни отдел, ни адресное бюро не подтверждали этого, но из надежд мы выбираем лучшую, да других надежд и не бывает. Несмотря ни на что, и Лиза думала: “Не на улице Шевченко, так где-то тут еще, надо только хорошо поискать”. Она вспомнила о Павеличеве, представила: он сейчас, в эту минуту, тоже ходит, ищет… Если только не забыл за своими делами. Но, если не забыл, ей хотелось бы через зявьяловские кварталы крикнуть ему: “Спасибо!” Улица была с каменными тротуарами, недавно тут прошел дождь, и прямоугольные плиты отливали то темно-лиловым, то темно-красным цветом. “Приехал в конце января или в начале февраля…” Да, тогда тут были сугробы, но все же он ходил по этим плитам. Вот и дом. “Улица Шевченко, № 15”, — прочла Лиза на домовом фонаре-табличке. Медленно идя по другой стороне улицы, она рассматривала зеленый двухэтажный дом, окна, занавески. Она приостановилась. “На первом или на втором этаже?” Да, без хозяйки войти нельзя, да и войдя, услышишь только: “Был”. Но она стояла перед домом — после недавних бюро и отделов, после всяких “нет” это было первое утверждение. Что делать дальше? Был бы рядом Павеличев, он бы придумал. Лиза вспомнила, как вчера, спускаясь с крутого берега к реке, он подал ей руку и она так легко, держась за нее, сбежала… Из ворот зеленого дома вышла маленькая девочка, с куском хлеба, намазанным чем-то розовым. Исподлобья глядя на тетю, стоящую на той стороне улицы, она начала откусывать от хлеба. Лизе стало неловко от этого взгляда, — может, и еще кто из окон смотрит на нее, удивляется: чего эта тут стоит? Лиза пошла дальше по улице. Вспомнив девочку с куском хлеба, она почувствовала, что хочет есть, но до обеда было далеко — пока не вернется мама от диспетчера, пока не придет дядя. Захотелось вдруг, чтобы рядом была Варя или Светлана, — уютнее, веселее было бы тут сейчас. Может быть, сегодня до обеда успеет наконец написать Варе. Но о чем? “Курс — норд” никуда еще ее не привел, а Варя, конечно, ждет продолжения того, что они увидели весной. …Улица, спускаясь, привела к реке недалеко от плотины. Опять во всей могучей красоте развернулась зубчатая бетонная дуга поперек реки. Вот и на это Варя со Светланой полюбовались бы… В прошлом году на кружке текущей политики Варя, говоря о пуске первых турбин на этой вот восстанавливаемой станции, передала на парты длинный и бледный снимок, вырезанный из газеты. Он был голый, пустой, без людей — не с чем было сравнить величину постройки. Нет, только вот сейчас, когда своими глазами… Вон какими крохотными кажутся люди наверху плотины, сгрудившиеся в одном месте около перил! А люлька, в которую они садятся, чуть побольше спичечнойкоробки! Лиза вдруг приостановилась. Знакомая картина! Не хватает только черной комнаты, куда тогда спускался отец. Она мысленно провела прямую — прямую отвеса, — по которой медленно начала спускаться люлька, и внизу, у воды, увидела и ее. Тут, ближе к левому берегу, у подножия плотины, зияла четырехугольная дыра. Странно, что прошлый раз ни она, ни Павеличев не заметили этого! Оглядев берег, Лиза поняла: тогда они смотрели с другого места и видели не всю плотину — выступ берега загораживал ближний край ее. То-то сегодня она показалась еще больше, длиннее. Люлька меж тем спустилась до черного четырехугольника, и три мешковатые фигурки, выйдя из нее, ушли в темноту дыры. Пустая люлька быстро пошла кверху, задержалась на кране и снова, нагруженная людьми, медленно двинулась вниз. — Дедушка, куда это они спускаются? Лиза стояла около плоского дощатого домика, крытого черным лоснящимся толем. Как у всех недолгих построек, заведенных строительством гидростанции то там, то здесь на берегу, у домика был какой-то запыленный, голый вид. Тщедушный старик в белой расстегнутой рубашке и в валенках сидел на ящике у входа. Он посмотрел туда, куда показывала Лиза. — В донные отверстия идут работать… Обеденный перерыв у бетонщиц кончился, вот и идут, — ответил он и вернулся к тому, что было у него в руках: откусанная баранка и эмалированная кружка с чаем. Видя, что девушка продолжает смотреть на эти отверстия, он добавил: — Название, конечно, неподходящее. Отверстие в заборе, в крыше бывает. А тут разве это! В эти донные отверстия на паровозе можно въезжать — и то кругом свободно будет. Пять на пять метров… Ничего себе дырочка-щелочка! У Лизы мелькнула мысль: ведь по работе можно определить время, когда снимал оператор. Как это она раньше не догадалась узнать у кого-нибудь! Лиза спросила у старика, давно ли тут идет эта работа. — С прошлого года начали их закрывать, — ответил старик, опуская кружку на колено. — Теперь вот бетон наращивают, чтоб уж полностью. Многие уже наглухо закрыты. Возня страсть какая была! Вода через эти самые, извиняюсь, отверстия хлестала наотмашь, ужас как! Попадись не человек, а слон — и его бы, милого, отбросила. Ведь это не бочку затычкой заткнуть, а самую реку! Без героев, конечно, такое дело обойтись не могло. Старик говорил дальше, а Лиза повторяла про себя первые его слова: “с прошлого года… с прошлого года…” — …А до этого была другая возня, — продолжал рассказывать старик. Отложив баранку и кружку, он, шаркая валенками, перенес свой ящик подальше от солнца, в тень. — Другая возня, может, почище первой. А может быть, и не почище. Но сказать, что легкая работа, тоже нельзя. Одним словом, после немцев надо было перво-наперво отверстия эти открыть. Пойдет тогда вода низом, верхушка плотины оголится — и чини ее, ремонтируй сколько хочешь… Из этого Лиза услышала только нужное для себя: “другая возня, после немцев”. Значит, сорок четвертый год, вернее — опять начиная с сорок четвертого года по нынешний… Впрочем, что дадут разговоры со стариком?.. Надо поговорить с кем-нибудь работающим на плотине. И не поговорить, а лучше бы такой человек увидел тот фильм. Вспомнил бы по мелочам — по люльке, по крану… ну, по облаку, что ли… вспомнил, когда это было… Но где эта картина? В Завьяловске ее не показывают. Вот о чем Павеличеву надо сказать! Старик, видимо, начал говорить о чем-то другом, потому что Лиза вдруг услышала: — Пойдемте-ка, я вам это безобразие докажу! — сказал он и дотронулся до ее локтя. В домике, который состоял из одной светлой, нагретой солнцем комнаты, расположились какие-то верстаки, столы с наколотой бумагой, банки с красками, у стены стопками лежали полированное дерево, мраморные плитки. Под ногами шуршало деревянное и каменное крошево. Старик подвел Лизу к стене, увешанной цветными рисунками. — Вот в какой красоте плотина нам от фашистов досталась! — сказал он, показывая на длинный рисунок акварелью. Это была не белая, сияющая на солнце зубчатая дуга, а челюсть с выщербленными зубами — многие бычки были взорваны. И не голубое небо, а серая муть стояла за ней. Лиза невольно обернулась от этого к окну, в котором во всей цельности и гармонии было видно настоящее. Сейчас оно показалось еще более красивым, завершенным, хотя Лиза знала, что работа на плотине еще не закончена. Отойдя от этой акварели, она осмотрела карандашные и цветные зарисовки людей, — вероятно, знатных строителей станции. Разглядывая портреты, она искала… Нет, знакомого лица не было. “Да и как бы он мог попасть в знатные строители, когда он не строитель!” — успокаивая себя, подумала она. Но тотчас пришло и другое: “Не потому, что не строитель, а просто не такой человек. У него и за войну-то был всего один орден”. Она вспомнила о разбитых очках, о которых было написано в последнем письме: что-то беспокойное, суетливое — понятное сожаление человека, привыкшего к тихой, усидчивой работе… Тут припомнились ей отцовские звонки в три часа ночи на станцию, светлый кружок микроскопа. Да, вот тут он мог бы показать себя, это его родное, любимое… “Все это пустяки! — подумала она, отходя от портретов. — Был бы жив… Папа!” У нее вдруг навернулись слезы на глаза. Может, от этого не сказанного, но как бы воскликнутого внутри “папа”, может, от какой-то жалости к отцу или недовольства собой: вдруг его нет в живых, а она чего-то спрашивает с него, будто осуждает его… Чтобы скрыть слезы, она подошла к окну и незаметно утерла их. Слышно было, как за спиной старик снова занялся чаем. Вот просохнут глаза, и она пойдет. За окном виднелся берег, ведущий к пляжу, пустая, без плотины, река, остановившееся в жарком небе облако. Вода отливала синевой, казалась холодной, и Лиза, заметив женщин, идущих к пляжу, пожалела, что не взяла с собой полотенца — рядом ведь совсем… “Да можно и без полотенца”. Она пошла к двери. Старик одним пальцем касался какой-то дощечки, лежащей на столе, касался осторожно, словно пробовал, не горячая ли. — Это что? — спросила Лиза, останавливаясь. Дощечка оказалась тонкой мраморной плиткой, на которой были выбиты и покрыты золотом слова: “Солдат Д.Зайченко”. Рядом лежала другая такая же плитка: “Солдат Ф.Бутузов”. — Да вот смотрю, золото высохло, не липнет ли, — отозвался старик. — Сейчас вот наши после обеда придут, будут доканчивать, — кивнул он на третью, в стороне, плитку, где было выбито, но еще не покрыто золотом: “Лейтенант А.Кузнецов”. — Послезавтра, к открытию шлюза, требуется. — Они шлюз строили? — Нет, милая, они ничего не строили, они станцию спасали! — В глазах старика был отблеск какого-то давнишнего волнения или испуга. — Если бы не они, то им бы, — он кивнул на портреты строителей, — и плотину, и шлюз, и всю станцию надо было бы заново строить. Не то что бычков там не хватило бы, а ровным счетом с гладкого места пришлось бы начинать! За дощатой стеной раздались голоса пришедших с обеда людей, и Лиза, простившись со стариком, поспешила выйти. Тут же, за домиком, началась тропинка на пляж, вскоре и он открылся — узкий, длинный, желто-зеленый: полоса песка и травы — обычный речной пляж. Лиза теперь вспомнила, что фамилии солдат “Зайченко” и “Бутузов” она видела на деревянной доске, прибитой к одному из бычков на правом берегу. И вспомнила, за что: перерезали взрывной немецкий кабель. Ей было приятно, что эту временную надпись сейчас перевели на мрамор. Она дошла до женского пляжа и, не выбирая места, разделась, села на горячий песок, положила подбородок на круглые колени и так, Алёнушкой, стала смотреть на воду, на мелкую речную волну…Глава шестая “У КОГО ДЕТИ — УЙДИТЕ!”
1
Когда Павеличев подходил к гостинице, он примеривался, как, передавая по телефону заказ Никодимцева на пропуск, поудобнее спросить у этого Шувалова: не он ли? Придя в гостиницу, он нашел у себя на кровати записку:“Куда ты пропал? Приехали цветники? Мы все у Ген. Тих. Сейчас же приходи!”
Это было, конечно, событие. Приезд на открытие шлюза новой киногруппы, которая будет делать цветную съемку, потребует перестановки сил. Видимо, приход Павеличева был услышан. На пороге, быстро распахнув дверь, показалась рыжеволосая, некрасивая, но статная девушка лет двадцати, в светло-зеленом комбинезоне с большим квадратным карманом на груди. Это была Лариса — тоже студентка кинооператорского факультета. — Ты что же стоишь? — накинулась она. — Цветники приехали! — Знаю, прочел. Я только что пришел. — Съемочные точки придется менять, уступать. Представляешь! — добавила она, блестя глазами. Сбросив с плеча полотенце, Павеличев перед мутным гостиничным зеркалом наскоро расчесывал густые, свалявшиеся на пляже черные волосы. — Догадываюсь… — Догадываешься? — Она зло усмехнулась и почему-то перешла на шепот: — А зачем? Мы первые приехали, мы выбрали точки. Пускай сами устраиваются! А наш Геннадий Тихонович расшаркивается: “Пожалуйста, пожалуйста!” Она склонила голову набок — рыжие волосы упали на плечо, — выпятила нижнюю губу и сделала рукой пригласительный жест. И этого уже было достаточно, чтобы Павел узнал в ее изображении невозмутимого, уступчивого руководителя своей съемочной группы. — Но у них, Лариса, тоже работа, — сказал он, куском мела натирая белые парусиновые туфли. — Очень хорошо! — Она пристально и лукаво посмотрела на его согнутую спину. — Стрельчатый кран им уступаешь? — вдруг спросила она. Павеличев, не добелив туфлю, разогнулся. — Почему же обязательно стрельчатый? — хмуро сказал он. — Нет, ты мне отвечай прямо: стрельчатый уступаешь? Место на кране, который они звали “стрельчатым”, стоящем на выходе из шлюза, давало возможность снимать и панораму, и общие, и даже средние планы. Выгодно было и направление: пароход, который первым проходил вновь открытый шлюз, шел прямо на оператора. Павел сразу по приезде облюбовал это место, и руководитель группы оставил его за ним. — Если цветникам надо высокую точку, — сказал он, неуверенно принимаясь за другую туфлю, — то пусть возьмут портальный кран. И места там хоть на сто человек хватит, и неплохо. Ты же на портальном будешь работать? Там неплохо! — повторил он. Лариса засмеялась, и некрасивое лицо ее стало круглым, в розовых ямках. — Ах, портальный! Все ясно! Все ясно! — Схватив Павла за волосы на макушке, она потянула вверх, как бы отстраняя Павеличева от туфель. — Ну что ты копаешься? Идем на собрание! К чему этот блеск? — Она не переставала смеяться и тянуть за волосы. — Идем, великодушный! Идем, гусь… стрельчатый! Павел резко, сердито мотнул головой, освобождая волосы, и, покраснев, сведя брови в линию, разогнулся. — Ну, хор-рошо! — Голос срывался. Павеличев со злостью бросил мел в угол комнаты. — Хорошо… Я уступаю им стрельчатый кран! Поняла? Уступаю… Она перестала смеяться, но на губах, как пенка на остывающем молоке, еще подергивалась неровная затихающая улыбка. — Ну и глупо! — помедлив, сказала она. — Да и кто тебе это позволит? Мы тоже снимаем не из личного интереса! Ты сейчас у Геннадия Тихоновича об этом и не заикайся! Ну, пошли же!2
Стрельчатый кран, конечно, сразу привлек “цветников”, но все сразу уладилось. Чернобородый режиссер, который руководил вновь приехавшей группой, повел себя неожиданно деликатно. Он не только не стал претендовать на “макушку” крана, но даже и не спросил, занята ли она. Зная, что, конечно, занята, он ловко, по-обезьяньи, перебирая и руками и ногами, поднялся на середину стрелы крана и, медленно поднося руку к глазам, огляделся. Потом, пятясь, стал спускаться. — Прекрасная будет точка! — сказал он, спрыгивая на землю. — И вам не помешаем. Сергей! — обратился он к одному из своих молодых операторов. — Возьмешь ее. Так всегда бывает: когда хвалят чужое, свое — не похваленное — кажется сомнительным. Сейчас, после слов Харитонова — так звали чернобородого — о середине крана, Павеличев усомнился в своей верхней позиции: не чересчур ли он хватил? Ведь Харитонов был куда опытнее его… Павлу захотелось тотчас же проверить и свой верх и чужую середину, но сейчас, при всех, делать это было как-то неудобно. Он присоединился к компании, которая теперь пошла вдоль берега шлюза. Внизу, по сухому днищу шлюзовой камеры, как по дну гигантского ящика, ходили, что-то перетаскивали рабочие. Их голоса не были ни на что похожи. Эхо со дна оврага не могло так изменить звук, как здесь, среди высоких вертикальных и параллельных стен. Полукруглые мощные двустворчатые ворота шлюза то закрывались, то открывались. Створки приходили на соединение не одновременно, и русобородый, в белой капитанской фуражке старик, стоя на зыбком деревянном мостике над пропастью шлюза, сипло подавал команду начинать снова. Вдоль берега шлюза раздавался стук молотков и топоров. Рабочие из сырых, неоструганных брусков и досок ладили ограждение. Оно, конечно, было временным, и рабочие не глядя устанавливали неказистые перильца или наотмашь, как попало, вбивая гвоздь, всем видом показывали, что делают неинтересную работу, которую не сегодня—завтра ломать придется. Однако, когда худощавая женщина, кинооператор из группы Харитонова, сказала, поводя своими большими усталыми глазами: “К чему эти балаганы?.. Весь вид портят!” — один из плотников с франтовато закрученными усами, который только что небрежно раскалывал вдоль суковатую сырую доску, сказал: — Вид, конечно, мадам, свою цену имеет. Но человеческая жизнь тоже не бесплатная. Вот как послезавтра вы тут, публика, соберетесь да толпой пойдете, вот этим “мраморным” балясинам спасибо скажете… Ну, два-три человека, — добавил он, незаметно для женщины подмигнув, — в шлюз, конечно, упадут. Без этого нельзя. Без этого даже неинтересно. Но не больше. Остальных эти вот перильца перехватят, удержат… Когда отошли от плотников, худощавая женщина, заговорившая о перилах, сказала: — Так-то оно так, но посмотрите, сколько этой осины! Ни один кадр без нее не обойдется! Я просто не знаю, как снимать… — Уж как-нибудь, Ирина Ивановна, — поводя вокруг притворно-озабоченными, но что-то знающими глазами, отозвался чернобородый Харитонов. — Как-нибудь устроим. Павеличев переглянулся с Ларисой, и та подошла к нему. — Так ведь это Чересчур! — шепнула она, догадываясь, о чем он хотел спросить. Павеличев мало знал цветников, но про операторшу Череда, которую за глаза звали “Чересчур”, он, конечно, слышал. Так вот она какая! Как в каждом искусстве, так и в искусстве кинорепортажа встречаются люди, которые следуют не за правдой жизни, а выбирают из жизни нечто произвольное, почему-то им понравившееся или почему-то признанное ими как могущее кому-то понравиться. Так Ирина Ивановна Череда выбирала из жизни только то, что имело ощутимый и своеобразно понятый ею вид избыточности или, что ли, счастья: тесные от мебели комнаты, девушки у раскрытых шкафов, где виднелись десятки платьев, студенты с башнями книг на столах… Снимая младенцев в яслях, Ирина Ивановна выбирала для “крупного плана” не самых красивых, веселых или осмысленных младенцев, а самых пухлых, толстеньких. Снимая колхозную семью за обедом, она заботилась, чтобы на столе было как можно больше блюд. Приехав однажды в Сочи, она прослышала, что одна знатная работница живет в гостинице и занимает номер люкс из пяти комнат. Череда помчалась туда. Так и грезилось: анфилада комнат, колонны, люстры и толстая, румяная девушка идет из комнаты в комнату… Но слухи не подтвердились — девушка занимала обычный номер и не отличалась пухлым телосложением. Однако отступать было неудобно, и пришлось известную работницу запечатлеть на пленку. Но не сразу, а обдуманно. Попросив девушку надеть лучшее платье, Ирина Ивановна вывела ее на скверик около гостиницы, где были толстые пальмы и белые пузатые вазы. Замысел съемки неожиданно обогатился. Поблизости оказался фруктовый ларек, где только что выставили решета с персиками. Какой-нибудь дурацкий пакет с персиками, конечно, не мог удовлетворить Череду. Было куплено все решето, и киноэтюд получился неплохой. Конечно, это не анфилада комнат, но все же… Позже, на просмотре хроники, Павеличев помнил, как кто-то сказал: “Нет, наша Чересчур, конечно, могла бы поучить Серова! Теперь я понимаю, как выиграла бы его “Девочка с персиками”, если бы у нее на столе лежали не какие-то жалкие два—три персика, а стояло бы полное решето!” …Легко было понять, как должна была отнестись Ирина Ивановна к осиновым неоструганным перильцам.3
Как только стали пробираться к последней камере шлюза, Павеличев незаметно отстал — гости обойдутся и без его сопровождения, а у него есть еще дела. Он вернулся к стрельчатому крану и поднялся на него. Нет, все было в порядке, верх был хорош, и Харитонов, конечно, деликатничал, называя середину “прекрасной”. Она неплоха, но все же не сравнишь. Павел выбрался на плотину, к попутным грузовикам. Приехав в гостиницу, Павеличев, не заходя в комнату, подошел к телефону и позвонил. Лаборатория не отзывалась. Когда позвонил второй раз, телефонистка коммутатора быстро сказала: “Там никого нет. Работают до шести”. Павел почувствовал, что покраснел. Это что же, человек просил заказать пропуск, понадеялся на него, а он прозевал время! Павеличев постоял у телефона, вертя круглую черную пуговку на кармане куртки. Нет, тут есть выход: встать завтра пораньше и с утра, до десяти часов, заказать пропуск Никодимцеву в лабораторию. Но встречу с Шуваловым никак не хотелось откладывать на завтра. Он снова взялся за трубку — толстая девушка из отдела кадров управления тоже могла знать о длиннолицем химике. И этот телефон не ответил. Павел вошел в свою комнату и повалился на кровать. Лежал, смотрел в потолок. Нет, о Шувалове он должен знать сегодня! И чего он поплелся на шлюз? Ну хорошо, из-за стрельчатого, но ведь можно было сразу, как Харитонов слез с крана, — к телефону… Что же теперь? Искать по городу? Ехать в лабораторию и там узнать у какого-нибудь сторожа или коменданта… Но где адрес самой лаборатории? Тогда — управление… Начать с управления? Он быстро встал с кровати, одернул куртку и, не дойдя до двери, вернулся. Присел у шкафчика, где стояла пол-литровая банка с молоком и лежал кусок хлеба с сыром. Сидя на корточках и прихлебывая из банки молоко, он вспомнил, что за сегодняшними делами он еще не обедал. Управление строительства было в том же поселке, где стояла и гостиница. Минут через двадцать, поднявшись на второй этаж управления, Павеличев вошел в полутемный, не проветренный еще после служебного дня коридор. Толкнул одну дверь, вторую, третью. “Ну конечно, — подумал он, — скоро ведь семь часов”. Но в конце коридора слышались голоса и какой-то негромкий, но резкий звук, будто грызли орехи. Павел пошел туда. В открытой двери был виден бритоголовый человек, быстро и ловко разграфлявший большой, в полстола, лист бумаги, и другой сотрудник — сутулый, резко отщелкивавший на счетах. На вопрос Павеличева об адресе сотрудника лаборатории они, не дослушав, дружно ответили: “Это в отделе кадров”. Заметив, что этот отдел, к сожалению, уже кончил работу, Павел спросил об адресе самой лаборатории. Бритоголовый сказал, что она помещается в конце города, на Кооперативной улице. Тогда Павеличев снова спросил о Шувалове, но не об адресе его, а об имени-отчестве, — может быть, случайно знают. Нет, ни случайно, ни нарочно они не знали — лаборатория у строительства на отшибе. И так как чернобровый молодец все еще маячил на пороге, то тот, щелкающий на счетах, буркнул: — В отделе кадров узнаете. “Наладили — отдел кадров!” — подумал Павел, возвращаясь обратно по коридору и невольно разыскивая на дверных табличках название этого отдела. Куда-то ведь сюда, на второй этаж, приходил он к толстой девушке… Павеличев дошел до лестницы и направился в правое крыло здания. Здесь одна стена коридора была застеклена наверху, и красные лучи заходящего солнца правильными квадратами лежали на другой, незастекленной, белой стене. Тут было светлее и шумнее — слышались то там, то здесь голоса. Открыв одну дверь, Павел увидел в большой комнате, заставленной канцелярскими, сейчас пустыми столами, двух немолодых женщин, которые, сидя рядом и держа в руках по листу бумаги, считывали их, недоверчиво заглядывая друг к другу. Павеличев ничего у них не спросил и пошел дальше. В машинном бюро дверь была открыта, и пышноволосая девушка, согнувшись над машинкой, что-то допечатывала, не зажигая света. Тут, слева от себя, он услышал шелест — будто осенние листья под ветром. — Посторонись, милый! Круглотелая, с веселыми глазами уборщица гнала шваброй бумажный листопад по коридору. Павел шагнул в сторону и прямо перед собой увидал табличку: “Отдел кадров”. Дверь была полуоткрыта, и он обрадованно — “Наверное, вернулась дорабатывать!” — широко открыл ее. Но вместо толстой девушки — зная из этого отдела только ее, он и ждал ее встретить, — он нашел в комнате пожилую худощавую уборщицу в синем халате. Обняв палку швабры, она мокрой тряпкой протирала большой, грузный, как кафедральный собор, письменный прибор, — видимо, прибор начальника толстой девушки. Во рту у нее дымилась тоненькая дешевая папироса. — Вам кого? — спросила она, морща от дыма левый глаз, и, не ожидая ответа, добавила: — Все ушли. Ведь восьмой час уже. — Я думал, может, задержались… — Товарищ Аверьянов этого не любит! — тотчас и с явным удовольствием отозвалась женщина. — Он правильно считает: кто не успел, не справился — значит, плохой работник. Остаются только вон, — она кивнула в сторону еще обитаемой комнаты, — по специальному уговору. Да вам кого надо-то? Павел знал, что Аверьянов — это парторг строительства и что его “не любит”, наверное, было разумным делом, но в данном случае… Он ответил уборщице, что ему нужна товарищ Ельникова, и продолжал стоять, не зная, что дальше предпринять. — Если вам по делу, то надо прийти завтра утром, — наставительно, будто посетитель сам об этом не догадается, сказала женщина. — А если по личному делу, — она, вынув папиросу изо рта, участливо оглядела его всего, чернобрового, франтоватого, — то небось сами знаете, где Ниночка живет! Павел не ответил, продолжая думать, к кому еще можно пойти. К Никодимцеву? Адрес нетрудно найти: в поселковой гостинице его нет, городских же гостиниц всего две — можно обойти их. Может, он еще не вернулся из совхоза? Проще всего, хоть и далеко, на Кооперативную улицу… “Вот загорелось! — подумал Павел, вспоминая, что эта Кооперативная черт знает где, в конце города. — Но здорово будет, если он!” И решил идти туда. — Вам кого? — спросила круглотелая уборщица, проходя по коридору с ведром горячей воды. — Они Ниночку спрашивают! — за Павеличева ответила из комнаты женщина с папиросой. — Да чего же спрашивать? — подошедшая уборщица поставила около Павла ведро. — Она тут рядом живет! — И, щуря добрые глаза, стала объяснять, как пройти к ней. Павеличев вдруг стал внимательно слушать. В самом деле, а почему не зайти к ней на дом? Если она недалеко, то, значит, ей нетрудно будет подняться в отдел кадров и по своей картотеке найти нужное. Ну, извиниться, попросить… — Все не так, — сказала уборщица с папиросой, выходя из комнаты. Она почему-то решила, что посетитель признался наконец в личном деле к Ельниковой, и потому охотно вмешалась в разговор. — Проходными дворами запутаетесь, не слушайте ее! Идите по Лермонтовской до первого квартала, сверните налево… Толстую девушку, Нину Ельникову, Павеличев нашел быстро. Уже из передней слышались звуки патефона и шарканье ног, которое бывает только при танце. “Рано здесь начинают! — недовольно подумал Павел. — С танцев неудобно как-то звать опять в канцелярию”. Запыхавшись, с улыбкой на полном, румяном лице, видимо ожидая кого-то, вбежала Ельникова в переднюю и остановилась. Улыбка ее стала уменьшаться, таять, и, как только она исчезла, рот ее снова приоткрылся. Но это уже было удивление… Попросив извинения и сказав, что пришел на минутку по делу, Павеличев кивнул на маленькую пустую комнату, которая виднелась слева. Они прошли туда. На столе — видимо приготовленное для гостей — стояло большое блюдо с винегретом и другое, еще большее, — с темно-красными вишнями. В углу на диване сидела старая женщина — вероятно бабушка, — которая не обратила на них внимания. Не присаживаясь, сохраняя официальный тон, Павеличев сказал, что прошлый раз, когда семья Шуваловых и потом он наводили у нее, у Ельниковой, справку, никто не знал, что у строительства есть еще на окраине города лаборатория, и не спросили тогда о ней. А именно там-то среди сотрудников, кажется, и находится тот человек… Павеличеву очень неудобно, что он отрывает товарища Ельникову от гостей, но тут до управления недалеко, и хорошо было бы посмотреть, справиться… Лицо Ельниковой было тоже строго, официально, но в душе она испытывала удовольствие: только к большим начальникам и в экстренных случаях приходят по делу на дом. Она уже представляла, как скажет, вернувшись к танцам: “Из управления приходили. Даже дома покоя нет!..” Кроме того, она краем глаза замечала, что подруги тайком заглядывали в комнату — значит, видели и ее серьезное лицо, с которым она принимала посетителя, и самого посетителя — ясное дело, москвича, да еще такого красивого. Поэтому она плохо слушала Павеличева и только после того, как поняла, что тот собирается тащить ее сейчас в управление — что было бы ужасно! — она стала слушать его внимательно. Но было уже поздно, он кончил и, сведя брови, выжидательно смотрел на нее. — Видите ли, сейчас я не могу пойти, — несмело начала она. — Вы говорите — лаборатория… Вам надо справку о лаборатории, что она есть? Да, да, она, конечно, у нас имеется, на Кооперативной улице! — сказала она, стараясь быть уверенной, деловой, но вдруг пунцово, что только бывает с полными и молодыми девушками, покраснела. Взяла с блюда одну вишню, уронив несколько ягод на пол. — Я, знаете, сразу от танцев и не все поняла. Повторите, пожалуйста! — добавила она тихим голосом, настороженно поглядывая на дверь. Павеличев повторил. Ельникова, еще не дослушав его, просияла: так просто, ясно и, главное, никуда от танцев ходить не надо! — Послушайте, ну как же так! Ну, не так вы меня тогда поняли! — Улыбаясь, она взяла еще вишню и ему кивнула на блюдо. — Когда я вам разыскивала этого Шувалова, то разыскивала не по отделам, не по объектам, а по общему алфавиту. Помните, я вам сказала про двух Шуваловых, но вы ответили, что это не то… — Значит, в алфавит и лаборатория входила? — Ну конечно! И там, в лаборатории, как раз есть один из этих Шуваловых… Василий Захарович. Павеличев почувствовал, что кто-то сбоку трогает его за куртку. Он обернулся. Это бабушка, протянув руку, щупала коричневую, похожую на замшу материю. — Почём материал брали? — спросила она. Павеличев, не понимая, посмотрел на нее и снова обратился к Ельниковой: — Вы хорошо знаете, помните, что именно Василий Захарович? — Ну, еще бы не знать! — весело, охотно, не обращая внимания на то, что посетитель погрустнел, говорила Ельникова. — Ведь Василий Захарович придумал цементацию бетона. Его портрет был в многотиражке. Например, бетон будто хорош, но, оказывается, от немецких взрывов в нем есть незаметные трещинки. И вот берут… Она говорила подробно, — вот теперь она сведущая и знающая сотрудница управления. Павеличев думал о своем: “Ну, тут, значит, все кончено, мимо…” Он думал уже о завтра, о батальоне — о новом пути. От блюда с винегретом, стоявшего на столе, вкусно пахло уксусом, и он вспомнил, что не обедал еще сегодня. Но не получилось бы с батальоном, как с лабораторией… — Ну, а вот на стройке есть еще военные? — спросил он, собираясь уходить. — Они-то уж отдельно от вас? — Ну конечно, отдельно! — сказала Нина, поняв, о чем он спрашивает. — Они же не в штате, просто так, иногда помогают. И тут она заметила его опечаленное лицо. Двумя руками подняла блюдо с вишнями и поднесла его к нему. Он взял несколько ягод и, потоптавшись, стал прощаться. Когда кивнул головой бабушке, та с дивана сказала: — Хорошая материя… И то ли от поднесенного, как гостю, блюда, то ли от приветливого любопытства бабушки, но Нине Ельниковой показалось, что перед ней уже не посетитель, а как бы гость, да и неплохой… — Знаете что, — сказала она, улыбаясь уже какой-то новой улыбкой, похожей на ту, с которой она недавно вбежала в переднюю, — оставайтесь танцевать…4
На следующий день после проведенного вечера у Ельниковых, в двенадцатом часу дня, Павеличев шел в батальон. Липовая прибрежная аллея и поселок остались позади. Впереди и чуть вправо от дороги блестели стекла парников, и от их режущего блеска некуда было деться — потухала одна рама, но тотчас, как Павел проходил несколько шагов, загорались другие… Появилась мошкара, о которой вчера у Ельниковых бабушка сказала, что “ей пора объявиться”. Коричнево-рыжими, тающими, как дым, клубами она то налетала, то под ветром исчезала. На дороге показался мальчик-пастух с десятком белых коз. Нежная и длинная шерсть под горлом коз просвечивала на солнце. Сзади важно шел черный козел с лохматой, какой-то неприбранной шерстью и, подняв голову с желтыми, чертячьими глазами, присматривал и за козами и за мальчиком-пастухом. …Младший лейтенант с розовым и нежным румянцем, дежуривший сегодня по батальону, принял Павеличева со старательной серьезностью, которой он хотел скрыть свою неопытность в приеме посетителей. Глядя на его внимательное и даже озабоченное лицо, Павеличев невольно стал говорить подробнее, чем хотел, однако, как только он произнес фамилию разыскиваемого им лица, лейтенант не удержался на своей серьезности и вдруг заулыбался. Павеличев приостановился. — Вы знаете Шувалова? — быстро спросил Павел, придвигая стул ближе к столу, за которым они сидели. — Он тут? — У нас нет Шувалова, то есть нужного вам Шувалова, — продолжая улыбаться, отвечал лейтенант. — Мне это легко вам сказать. — Почему же легко? — Да потому, что я уже наводил о нем справки. Вчера вечером, когда я заступил на дежурство, приходил один гражданин и тоже спрашивал этого же Шувалова. Ну вот, поэтому я и знаю, что нужного вам человека у нас нет. Да и не было. Павеличев, приоткрыв рот, замолчал, подняв широкие черные брови, смотрел на лейтенанта. Но тут же сообразил: “От Лизы же могли приходить. Ну этот… ее дядя”. Однако все же спросил, вспомнив Лизино описание этого человека: — Такой большой, крупный приходил? — Нет, среднего роста, обыкновенный. “Не дядя? Ну, тогда, значит, кого-нибудь попросили сходить!” — подумал Павел, удивляясь все же, что Лиза или кто-то из ее семьи догадался направить этого человека по тому же пути. — Ну что ж… — вздохнув, сказал Павеличев, вставая со стула и стряхивая с белой футболки мелкие коричневые точки раздавленной мошкары. — Вот этой саранчи на плотине, в городе еще нет, а у вас уже появилась. — И там сегодня она будет. Вы за нее не беспокойтесь! — весело отозвался лейтенант, но, видя, что Павеличев, занятый своими мыслями, не улыбнулся, вздохнув, добавил уже другим тоном: — Во время войны это бывало. У меня тоже вот те… одна родственница без вести пропала. — Он встал из-за стола, неловко одернув толстый ремень: — В общем, она мне тетей приходилась. Но, знаете, как-то неудобно говорить: “Тетя пропала…” Тетя Надя была младшим врачом. И вот не то жива, не то нет. Еще хорошо, что у вашего Шувалова детей не было, а тут остались муж и двое девочек. — Почему же вы думаете, что у Шувалова нет детей? Есть. Дочь и сын. Лейтенант, медленно потирая щеку, посмотрел на Павеличева. — Тогда, значит, вы не того Шувалова ищете, — сказал он. — Ну, как не того! — В голосе Павеличева было не то удивление, не то какая-то надежда. Он снова сел за стол и, взяв деревянное пресс-папье, стал пристукивать им, перечисляя: — Михаил Михайлович, тридцати девяти лет… теперь было бы сорок три… Был в звании майора… На нежном лице лейтенанта появилась озабоченность, смешанная с любопытством. — Нет, я не в том смысле, — сказал он, — а в том, что гражданин вчера, наверное, о другом Шувалове спрашивал. Хотя все совпадает, кроме детей. Для Павла это было странно: приходил человек от Лизы или от ее матери и не знал про детей! — Погодите! Он вам так прямо и сказал: “Детей нет”? — Нет, так он не говорил. — Лейтенант обошел стол и тоже сел. — Но косвенно легко можно было понять. У него о майоре были очень краткие сведения. Настолько краткие, что он даже не знал ни фамилии майора, ни его имени… — Как же он пришел к вам разыскивать, — усмехнувшись, перебил Павел, — не зная ни фамилии, ни имени? Майоров на земле много. — Нет, когда он пришел, то уже знал. Но недавно, только что, узнал. Да потом, он и не разыскивал, а только хотел узнать, нет ли у нас случайно каких-нибудь сведений об этом майоре. — Не понимаю… Павеличев, выпустив ручку пресс-папье, сидел, откинувшись на стуле, и, сведя брови в линию, смотрел в окно за спиной лейтенанта. Там перед опушкой леса виднелись желто-зеленые палатки и высокие ворота из темных столбов, на которых были прикреплены гимнастические кольца, шест, лестница. “Нет, это не от Лизы и не от них человек приходил, — думал Павел. — Но тогда от кого и зачем?” Лейтенант меж тем продолжал: — Сведения были короткие, и, как я понял с его слов, они касались какого-то боевого эпизода, где майор участвовал. Дело, видимо, было серьезное, но много людей не требовалось, потому что те, у кого имелись дети, от операции были отстранены. А майор участвовал в деле, поэтому я и полагаю, что детей у Шувалова не было. Вот мне и кажется, что речь идет о разных людях… Павеличев с шумом отодвинул стул, приподнялся. — Он был в очках? В желтых очках? Ну, тот, который вчера… — Нет, без всяких очков. — Ну да, конечно! — Павел поморщился. — Такие очки только для пляжа. Ну хорошо, на голове небольшая лысина? — Не заметил. — Ну как же так! Подождите! Ну, среднего роста, тело не загорелое, белое такое… Впрочем, он у вас тут был одетым, — Павеличев досадливо улыбнулся. — Ну, что же еще? — Память вдруг подсказала: на песке лежит соломенная кепка и в ней тикают часы. — Соломенная кепка? Да? — Да, в соломенной кепке был. — Еще синенькая записная книжка. Впрочем, мог ее не вынимать. — Нет, вынимал. — Синенькая и карандаш в металлической оправе? — Точно. — Ну, всё! Павеличев, вскинув брови, сияя глазами, быстро прошелся по комнате дежурного. — Ну, все, товарищ лейтенант! — повторил он. — Ну, все! Это Никодимцев был. Лейтенант припомнил: да, когда вчерашний гость буркнул свою фамилию, было что-то похожее на это. Но он не мог понять, что нового для Павеличева могла дать эта фамилия. Однако ему было приятно, что тот обрадовался ей. Павеличев же сам не знал, чему ему радоваться. Ну хорошо, он догадался, кто сюда приходил, но дальше что? Никодимцев так же ни с чем отсюда вчера ушел, как и он сейчас уйдет. Сведений о Шувалове у Никодимцева меньше, чем у него. Он даже фамилию Шувалова, если лейтенант не путает, недавно узнал! Но сведения у него какие-то другие. Да, видимо, другие, если он о майоре собирается писать. А это ясно, что собирается… Но о чем? Жил-был человек, поехал на войну и пропал? Нет, значит, есть то, чего он, Павеличев, не знает. И Павел снова вспомнил тот разговор об архивах, которые на пляже вел Никодимцев с длиннолицым химиком, с тем самым, след которого привел к Ельниковым, к танцам, — никуда… Странное дело — Павеличеву не хотелось уходить из дежурки, от лейтенанта. Вдвоем было как-то лучше, интереснее. “Да, так… Ну конечно, вот так! — размышлял Павел, расхаживая по комнате. — Значит, я не один. “…Лишь слову жизнь дана… звучат лишь письмена”… Любопытно, что там, в этих письменах, кроме “у кого дети — уйдите!”, еще есть? Интересно…” — А у вас тут хорошо! — вдруг сказал он, останавливаясь около окна, из которого был вид на лагерь. — В прошлом году, когда с экспедицией на Алтай ездили, мы тоже жили в палатках. Ночью как-то пришел медведь. Мы испугались, думали — на нас, а завхоз сказал, что это он сыр почуял. Знаете ведь, у сыра бакштейн какой силы запах! Полтораста лошадиных сил, не меньше!.. Масса цветов, помню, было. Просто на километры видно… Да… А Никодимцев о детях ничего не знает! — неожиданно и весело добавил он, отходя от окна. Лейтенанту все еще казалось, что вчера и сегодня говорили о разных лицах, но он не отозвался на слова Павеличева: в конце концов, тому виднее. Он только как человек военный легко догадался, что действия двух сил, наступающих в одном направлении, должны быть согласованы. Он и сказал это своему гостю. — Ну конечно! Конечно! — тотчас подхватил Павеличев, останавливаясь среди комнаты и поглядывая то в окно, то на лейтенанта. “Однако где же его найти?” На столе у дежурного увидал два телефона. “Ах, да, я же ему сегодня утром заказывал пропуск в лабораторию!” — Какой тут у вас городской телефон? — спросил он, быстро направляясь к столу. Секретарша из лаборатории словоохотливо сказала, что Никодимцев был тут в десять часов утра, смотрел опыты с цементацией старого бетона и полчаса назад ушел. На недовольный и наивный вопрос Павла: “Куда?” — она незатейливо пошутила: “К сожалению, он не доложил…” — Удивительно, как этот человек везде поспевает! — сказал Павеличев, еще вспомнив вчерашнюю поездку Никодимцева в совхоз. Тут же подумал, что и он, Павел, сегодня тоже должен много успеть: ведь завтра открытие шлюза, надо приготовиться к съемке. Громко стуча по дощатому полу, вошел высокий сержант и, отрапортовав, передал дежурному бумагу, крупно исписанную лиловыми чернилами. За эту минутную паузу Павеличев решил: если от подготовки останется время, то из своей гостиницы он позвонит в обе городские гостиницы и, может быть, что сомнительно, застанет Никодимцева в номере. Если нет, постарается найти его завтра на открытии шлюза. Или так: зайти сегодня к Лизе, так как возможно, что Никодимцев при его стремительности уже настиг детей майора… Вслед за уходом сержанта и Павел стал прощаться. Лейтенант, довольный тем, что посетитель видел, как хорошо вошел его сержант, как правильно и умно он отрапортовал, охотно выслушал несколько раз повторенное гостем “спасибо” (хотя неизвестно, за что) и даже проводил его до двери. — А о детях вы Никодимцева не так поняли! — сказал Павеличев на пороге. — Майор ведь не выполнял приказ, а сам отдавал его…Глава седьмая НЕКИЙ МАЙОР
1
Перед Аверьяновым, парторгом стройки, как перед каждым строителем, от руководителей до новичка бетонщика, стояло одно: полностью восстановить гидростанцию. Сейчас пущенные в ход турбины давали одну треть промышленного тока, вырабатываемого станцией до войны. Надо было пустить все турбины и послать ток окружающим заводам полном объёме. Но, как часто бывало в стране, когда из фашистских развалин возникала не копия прежнего, а лучшее, более совершенное. Восстанавливаемая гидростанция была запроектирована значительно более мощной, чем та, разрушенная. Это было общей заботой. Дальше шла своя профессия, свое участие в этом общем. У Аверьянова же тут было другое. Это, конечно, тоже было участие в общем деле, тоже своего рода профессия, но по-особому большая, широкая, охватывающая людей разных знаний, разного умения. Аверьянов не был универсалом — он не все знал и не все умел, — но он действовал, и уверенно действовал, в той области, где разные профессии, разные люди сближаются, говорят на одном языке. Это была область гражданских чувств, стремлений, любви к Родине. Область эта, хотя являлась объединяющей, была велика и разнообразна. Аверьянов как-то подсчитал сделанное им за день — в блокноте было двадцать восемь зачеркнутых строчек. Тут было все — и труд, и просвещение, и воспитание, и жилище, и жизнеустройство, и долг, и честь, и примирительный суд, и вехи на завтра, на будущее… Сейчас у парторга сидел Никодимцев и рассказывал о деле, которое родилось у них как-то сообща — Никодимцев надоумил, а Аверьянов подхватил… Собираясь написать для газеты очерк о прошлом и настоящем гидростанции и просматривая небогатый и разрозненный архив строительства, Никодимцев наткнулся на описание одной работы на плотине, где фигурировал некий майор инженерных войск. Действительно некий, ибо фамилии не было. Возможно, что доброхотный летописец не знал ее или считал, что в эпизоде, который занимал половину страницы в архиве, не к чему было приводить фамилии. Это, может, прошло бы незамеченным, но, перелистывая архив дальше, Никодимцев через несколько десятков страниц нашел новое упоминание об этом эпизоде на плотине. Судя по стилю, оно принадлежало другому летописцу и было еще более коротким, но живее: тут майор говорил. Правда, говорил только одну фразу: “У кого дети — уйдите!” — но она остановила, заинтересовала журналиста, он за ней что-то почувствовал… Несмотря на краткость упоминания, тут приводились некоторые фамилии. Но майор был опять некий — “майор инженерных войск”. Видимо, и этот и тот летописцы просто не знали его фамилии. И когда через несколько страниц, совсем в другом случае и у другого автора, были старательно перечислены клички собак, помогавших людям, то Никодимцев вначале обиделся за майора, а потом подумал: “Каждый летописец сделал что мог — один знал меньше, другой больше, вот и все”. Но майор уже как-то запал в память, заинтересовал, и Никодимцеву захотелось узнать о нем больше, чем поведал архив. Начать, конечно, следовало с выяснения: кто же это? Хотя тапки с бумагами, которые он рассматривал, и считались архивом, но они еще не обветшали, не затянулись пылью. Во всяком случае, на строительстве могли остаться люди, помнившие этот эпизод, или даже кое-кто из участников, а то — наудачу — и сам “майор инженерных войск”… Никодимцевстал наводить справки то там, то здесь, но ничего нового для себя не узнал. Да, конечно, про тот случай на плотине многие знали. Еще бы — в свое время об этом можно было прочесть в газетах. Но ни подробности, ни фамилии не были известны. Не говоря уж о том, что за прошедшие годы много людей на строительстве сменилось, но даже и работавшие тогда знали, в сущности, не больше новых строителей. Объяснялось это просто: майор да почти и все немногочисленные участники этого эпизода принадлежали к одной воинской части, которая некоторое время помогала строителям восстанавливать станцию. Жили же военные отдельно, пробыли недолго и когда были отозваны, то с ними ушло все — и участники и подробности. Остались только беглые записи в архиве. Называли одного лейтенанта Кузнецова, помогавшего тогда майору. У лейтенанта в то время брат работал нормировщиком на строительстве, их иногда видели вместе, поэтому лейтенант и запомнился. Для Никодимцева это было не новостью, ибо фамилия этого Кузнецова упоминалась в архиве. Упоминалась, но для получения сведений о майоре была бесполезна: лейтенант, как и воинская часть, давно отбыл. Называли еще заместителя начальника гидромонтажа Владыкина, который и на восстановлении давно работал и, главное, ближе всех тогда стоял к военным. Но сейчас он был в долгой командировке в Ленинграде. Никодимцев все же не оставил начатое. Поджидая открытие шлюза, почитывая материалы по истории строительства, он продолжал наводить справки о майоре. …Возвращаясь как-то вечером с диспетчерского собрания вместе с парторгом, Никодимцев сказал: — К графику этого Чеснокова столько набралось добавлений, что теперь неизвестно, чей же график! — Общий, — отозвался Аверьянов. Аверьянов был высок, худощав, с черными короткими усами. Серую фетровую шляпу носил щеголевато — чуть набок, чуть на лоб. Свет от уличных фонарей, проходя сквозь листву лип, мимо которых они шли, узорными пятнами скользил по его лицу. — Это дело обычное, — сказал он помолчав, и в его ясном, отчетливом голосе послышалась усмешка. — Я вот вчера читал статью одного архитектора. Обижается человек, что на домах, которые строит тот или другой архитектор, нет досок с их именами. Так сказать, дом не подписан… — А что же, Леонид Сергеевич, верно! — отвечал Никодимцев. — Музыкант, художник свои произведения подписывают, а дома стоят почему-то анонимные. — Так у музыканта, у художника все с начала до конца ему принадлежит, а в здании сколько участников! И не все же они исполняют только предписанное, многие и свое вносят. Впрочем, не берусь судить. — Ну конечно! — подхватил Никодимцев. — Замысел-то, идея его! — Возможно. Может быть. Но если взять нашу станцию, то тут столько отдельных частных замыслов, инициатив, изобретений, чего автор проекта и предусмотреть не мог, и справедливо было бы всем расписаться, — Аверьянов усмехнулся. — Ну, одним покрупнее, другим шрифтом помельче. И если для росписи взять, например, нашу плотину, то тут и места не хватит, хотя в ней больше чем полкилометра. — Хватит, — в тон ему отозвался Никодимцев. Аверьянов, чуть подскочив, сорвал веточку липы и, натягивая листья на губах, стал щелкать ими. — Да уж, думаю, что хватит! — сказал он и добавил: — Двое уже там расписались. Не сами, конечно, а за них расписались. Никодимцев, замедлив шаг, вопросительно посмотрел на попутчика. — Ну, солдаты эти — Зайченко и Бутузов! — ответил парторг. — А-а… Да, это верно. — Конечно, верно. Не создавали, так сохранили. Впереди показался яркий свет входа в кинотеатр. За белой решетчатой оградой, примыкавшей к театру, ходила публика в ожидании сеанса. Садик этот, заменявший летом фойе, был маленький, тесный, и только изредка среди движущихся фигур проглядывали клумбы и газоны. — Не только дома бывают анонимные, — заговорил Никодимцев, когда они прошли кинотеатр, — но и картины. Так и пишут в путеводителе по выставке: “Художник неизвестен”. — Обычно это что-нибудь среднее, неяркое, — сказал Аверьянов. — Автора настоящего полотна всегда найдут, откроют… А вы почему вдруг об этом? И Никодимцев рассказал о своей работе с архивом, о майоре, который его заинтересовал. — Вы вот говорили о разных шрифтах, — сказал он. — Этот вот майор имеет право расписаться на плотине. И не мелким шрифтом. Но не может даже и мелким — нет у него фамилии… — Еще до приезда сюда на работу, — отозвался парторг, — я из газет знал об этом эпизоде. Тоже как информацию, без фамилии. Но там это хоть было понятно: на фоне общих событий… Но наш архив, конечно, подгулял. Летний вечер переходил уже в ночь. Справа за крышами домов, где стояло далекое и от синих сумерек вишнево-лиловое зарево от домен, сейчас, при подходе ночи, лиловое в зареве отступало, а вишневое становилось все краснее и краснее. — У меня есть одна небольшая идея, — своим отчетливым, ясным голосом заговорил Аверьянов. — И я бы вас, Игнатий Львович, попросил о вашем майоре продолжать наводить справки… Да и шрифт тут будет не очень мелкий… Вы ведь и для себя хотели узнавать, так что не специально хлопотать. А я, может быть, вас на след наведу. Попробуйте-ка вы обратиться к одному старику на канатной фабрике. И он рассказал о некоем Прохорове Авдее Афанасьевиче, который только год назад, уже при Аверьянове, перешел из управления строительства работать в планово-финансовый отдел канатной фабрики. Старик, как передавали, работал на станции со дня ее освобождения от фашистов, помнил людей, которые при нем потом приходили и уходили. С военными, помогавшими станции, он был связан тем, что офицеры обращались к нему, имеющему много знакомых в городе, с просьбой найти на время комнату. Так сам Аверьянов да и другие, что приезжали позже, до окончания постройки жилого дома строительства, около года жил у одной хозяйки в городе, куда его направил этот Авдей Афанасьевич.2
Сейчас в кабинете парторга сидел Никодимцев и рассказывал. В большом дерматиновом кресле ему было жарко, и он сдвинулся к краю. Высокий, узкоплечий Аверьянов, держась очень прямо, похаживал по зеленой ковровой дорожке, лежащей по диагонали комнаты. Чтобы следить за ним глазами, Никодимцеву приходилось поворачивать короткую, полную шею, и это утомляло его. “Не будь этой зеленой тропинки, — мелькнуло у него как-то среди рассказа, — он бы сидел на месте”. — …Хотя я ваш архив и поругивал, — говорил Никодимцев, — но в нем любопытно то, что, с одной стороны, все тут по форме настоящего архива: занумерованные папки, краткое содержание каждой папки, и даже мне встретилось нечто классическое — пожелтевшая бумага… А с другой стороны, сегодня на строительстве находятся живые люди, которые тут и описаны. Вот, например, инженер левого берега Василович. Как он придумал открывать донные отверстия. Это интересный во всех отношениях человек. До двадцати лет пахал землю, учиться начал поздно… — А ведь Василович донных работает… Узнали у него что-нибудь? — Нет, майор инженерных войск он не знал. Разошлись во времени. — Никодимцев, приподнимая и опуская блестящую крышку на чернильнице, посмотрел на парторга исподлобья. — Впрочем, — добавил он, — теперь это, пожалуй, и не требуется. И без него известно… Аверьянов не дошел до конца зеленой дорожки. — Узнали? — он быстро обернулся. — Ну что вы, Игнатий Львович, тянете! Никодимцев снял руку со стола и поудобнее уселся в кресле. — Ну конечно! — Он широко улыбнулся. — Шувалов Михаил Михайлович. — Это ваше “конечно” замечательно!.. Ну, рассказывайте! Никодимцев рассказал, что увиденный им на канатной фабрике Авдей Афанасьевич оказался стариком любезным, приветливым, с хорошей памятью, но не настолько хорошей, чтобы запомнить фамилию человека, однажды обратившегося к нему, — их столько обращалось! Но так, по виду, помнит этого майора: среднего роста, волосы зачесаны назад, в очках. Майор был направлен стариком на улицу Шевченко, дом № 15. В этом доме жила сотрудница управления строительства Клавдия Овсеева. У нее было две комнаты, и в одной из них часто останавливались или командированные, или вновь приехавшие на строительство. Овсеева только просила направлять к ней тихих и одиноких людей. Вот почему старик запомнил, что он майору дал ее адрес. Но эта Овсеева уехала полтора года назад в Харьков, сестра ее Наталья, которая приехала много позже, чем был майор, конечно, его не видела и не знала, поэтому Никодимцеву надлежит обратиться в домоуправление этого дома, — может быть, остались какие-либо следы… Подробное указание старика, кто и где жил и кто и куда уехал, с последним наставлением обратиться в домоуправление, казалось, должно было привести к хорошему концу. Но бойкий управдом, в черной жилетке, надетой поверх рубашки апаш, заслышав, что некий майор когда-то прибыл в город не один, а вместе с частью, охотно, с явным удовольствием показывая знание законов, заявил: “В таком случае, уважаемый гражданин, военные не прописываются. У них свой учет-с!” Есть ли такой закон или этому в жилетке не хотелось рыться в своих книгах, но только Никодимцев ушел ни с чем. Так бы фамилия майора и осталась для него неизвестной, если бы Авдей Афанасьевич на всякий случай не дал ему второй адрес: совхоз “Вешний луч”, спросить Бутеева. Да, Аверьянов был прав: Прохоров оказался стариком обстоятельным — если не знал главное, то помнил мелочи. Вот, например, этот мимолетный случай с очками… Узнав, когда совхозные машины бывают в городе, Никодимцев вчера днем отправился в “Вешний луч” и нашел Бутеева. Это человек немолодой, с внешностью старого заводского мастера — неторопливые движения, внимательный взгляд поверх очков. Сейчас он там заведует тракторным парком. Бутеев рассказал, что в то время он работал на строительстве крановщиком и накануне дня, когда это произошло, стоял со своим краном на плотине и спускал в люльке военных вниз — в донные отверстия. Они то опускались, то поднимались. Внизу, недалеко по берегу, притопывал озябшими ногами человек в лохматой меховой куртке. Он похаживал около треножника. Бутеев догадался, что это кинооператор. Но снимать этому медведю нечего было — люлька стояла на месте. Тут оператора выручил майор — да, тот самый, которого уже описывал старик с фабрики: среднего роста, в очках, с негромким голосом. Оператор завертел своей машинкой, как только майор стал подходить к люльке, а потом снял и весь его спуск вниз. Бутеев, может быть, и не запомнил бы оператора, но и к нему пришлось обратиться насчет очков… Часов в шесть вечера, когда смерклось, солдаты пара за парой стали подниматься из отверстий. Последними Бутеев поднял лейтенанта Кузнецова и майора. Лейтенанта он, Бутеев, знал, так как брат Кузнецова в то время работал тут нормировщиком, иногда они показывались вместе. Майор же для крановщика был просто майор — один из военных, которые недавно появились и скоро уйдут. Как только поднятые вышли из люльки, майор попросил у Бутеева его очки. Но тут же вернул — стекла были не те. Крановщик заметил, что майор чем-то расстроен, и здесь увидал у него в руках разбитые очки. Майор постоял, подумал, поговорил с лейтенантом и, смущаясь, обратился к Бутееву: не может ли он, как местный тут человек, достать у кого-нибудь очки, только на один день, на завтра? Бутеев догадывался, что предстоит завтра, и спросил, какой требуется номер стекол. Майор сказал: “Один, двадцать пять, голубчик! Один, двадцать пять! Я вам сейчас запишу… Устройте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен!” Он вынул блокнот и на листке написал… Никодимцев не спеша достает плоский бумажник, не раскрывая, вытягивает из него, видимо, уже лежащий наготове листок и равнодушным жестом, который все же получился неравнодушным, кладет листок к парторгу на стол. Тот, взглянув на Никодимцева, берет бумагу в руки. На помятом по краям листе мелким, но отчетливым почерком написано: “1,25. На один день. Улица Шевченко, 15, кв. 4. Шувалов Мих. Мих.”. — Гм… адрес, фамилия… — Аверьянов трогает ногтем черные короткие усы. — Пунктуальный, деловой, видно, человек. — Это щепетильность… — Никодимцев полными пальцами делает какой-то неопределенный жест, будто берется за что-то тонкое, хрупкое. — Должник, видите ли, сообщает, кто он такой и где в случае чего его найти, чтобы владелец очков не беспокоился. — Ну, и кто же дал? Никодимцеву все же хочется, чтобы парторг посмотрел на этот листок внимательнее. Не знали, не знали, а вот и фамилия! И он рассказал и обо всём, что ему удалось узнать. Бутееву не сразу повезло. Рассудив, что не на стройке, а в управлении больше будет людей в очках, крановщик пошел туда и, как только видел блеск стекол, доверительно спрашивал: “У вас случайно не один, двадцать пять?” И шел дальше. Он обратился и к кинооператору, который попался ему где-то в коридоре. Тот не носил очков, но Бутеев подумал, что у этого человека, имеющего дело со стеклом, они должны быть. Так крановщик дошел до Авдея Афанасьевича. Тот ответил, что у него 1,50, которые, в сущности, равны 1,25. Но почему об этом речь? Бутеев ответил: “Срочно требуются военному майору, который занимается донными отверстиями”. Но на 1,50 Бутеев не согласился, надо искать дальше. Прохоров пошел вместе с Бутеевым, и они нашли нужные очки уже не в управлении, а в столовой, у кладовщицы. — Ну, в общем, Леонид Сергеевич, — нетерпеливо закончил Никодимцев — Бутеев вручил майору очки, записка осталась у Бутеева. Вот и все, что он мне рассказал. Аверьянов опять похаживал по зеленой дорожке. — Грустно, что так много об очках, — помедлив, сказал он, — и мало о майоре. Ведь и вам было бы интересно. — Ну еще бы! — Полной рукой Никодимцев огладил свою круглую голову и потянулся за папиросами. — Вчера же вечером был в батальоне. Так, на всякий случай: вдруг та же часть или знают Шувалова. Но никаких следов. Вам-то, Леонид Сергеевич, еще ничего. — Он кивнул на листок, который еще лежал на столе. — У вас есть все, чтобы внести эту фамилию в почётный список. Ну, а что у меня в активе? Средний рост, очки, вежливый, тихий… Не разгуляешься! — Он грузно встал, взял соломенную кепку и протянул руку за листком на столе. — Я его возьму, может быть, пригодится… — Пожалуйста… — Парторг бесшумно по ковровой дорожке подошел, чтобы проститься. Стоял прямой, высокий, вытянув руки вдоль своего тонкого тела. — Все же, Игнатий Львович, — сказал он, — этот листок кое-что дал. И очень хорошо, что вы его достали. Этого одобрения, которого Никодимцев ждал раньше, сейчас — после того, как он вслух высказал те мизерные сведения, которые он имеет о майоре, и этим невольно убедил себя в их мизерности, — этого одобрения он уже не заметил.3
Бывают дни, обычные будние дни, которые проходят под каким-то знаком. Таким был день, когда первый “щит-хлопушка” захлопнул со стороны верхнего бьефа одно из донных отверстий. Аверьянов помнил: сначала позвонил инженер Тельниченко, потом Василович, а потом день шел обычным ходом, но Аверьянов — да, наверное, и все на стройке — твердил про себя: “Захлопнул, захлопнул”… И не надо было бежать, спускаться туда, чтобы представить: большой, длинный коридор наполнен теперь не бешеной водой, а тихим воздухом… Был день и под другим знаком: по всем этажам, по всем комнатам управления ходила трехлетняя Леночка. Ее мать, сотрудница управления, повезла бабушку в больницу, а девочку не с кем было оставить. В управлении каждый занимался своим делом, но все помнили — Леночка тут. Поили ее, кормили, у Аверьянова в кабинете уложили спать. Особенным был и этот день для Аверьянова. После ухода Никодимцева парторг заглянул к начальнику строительства. И там речь была о безвестном майоре, получившем сегодня имя: Шувалов. Начальник напомнил и о лейтенанте Кузнецове, его помощнике. Да, конечно, и лейтенант, но о нем знали и раньше, а этого Шувалова узнали только сегодня… Вскоре, вернувшись к себе, Аверьянов звонил по телефону в подсобную мастерскую и опять упоминал имя Шувалова. И потом, когда день пошел большим, сложным, но обычным ходом, время от времени всплывал в памяти тщедушный, в чужих — женских! — очках человек, очень пристально всматривающийся в невидимое… Этого ни Никодимцев не говорил, ни в архиве не упоминалось, но так казалось, представлялось… Да и не обязанностью ли Аверьянова было понять то решение, которое Шувалов сам себе продиктовал? Ведь это решение было близко и Аверьянову и каждому… …И вдруг где-нибудь на совещании, или в теплом шелесте турбинного зала, или у прохладной камеры шлюза слышался далекий, негромкий голос: “Один, двадцать пять, голубчик! Один, двадцать пять!.. Я вам буду очень благодарен”. Аверьянов задумывался, хмурился: как ничтожно мало знают они об этом человеке, непростительно мало… В девять часов вечера позвонил из гостиницы Никодимцев и заговорил о том же — о майоре. Голос был шутливый, но беспокойный. — Вы оказались правы, Леонид Сергеевич, — начал Никодимцев. — Помните, несколько дней назад вы сказали, что “художник неизвестен” бывает только у неяркой картины, а автора настоящего полотна всегда отыщут… Помните? — Ну, помню… А к чему это? — А к тому, что не успели мы с вами открыть имя нашего майора, как и деяния его оказалась не средней, а настоящими, прекрасными! Дело в том, что у меня сейчас в комнате сидит молодой человек в голубых… в темно-голубых, почти синих… ну, в обычных брюках. — Игнатий Львович! Я что-то не пойму… Вы что, о Шувалове узнали что-нибудь смешное, веселое? Такой тон. Секунду на том конце провода было молчание. — Это не веселье, Леонид Сергеевич, а радость! — Голос был уже другой, чуть обиженный. — Профессиональная радость, что знаю больше, чем недавно знал. Думал, что и вы тоже… Короче говоря: у Шувалова есть семья, двое детей, и они тут, в Завьяловске. Теперь замолчал Аверьянов. Неизвестно зачем отодвинул от телефонного аппарата пресс-папье, бокальчик с карандашами, закрыл чернильницу. — И он с ними? — спросил Аверьянов. — Нет, он не с ними. Они не знают, где он… Но, понимаете, Леонид Сергеевич, как теперь, после этого, звучит та фраза: “У кого дети — уйдите!”? Аверьянов поднялся и, натянув шнур, пряча в карман папиросы, спички, договаривал: — Слушайте, Игнатий Львович! Не отпускайте, пожалуйста, этого человека в голубых… в обычных брюках, я сейчас на машине быстро к вам!..Глава восьмая ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПОПОЛУДНИ. “ТАМ ПАПА…”
1
На следующий день, в воскресенье, было открытие шлюза. Оно было назначено на четыре часа пополудни, но уже к трем стал стекаться народ на левый берег, где был шлюз, где стоял расцвеченный косыми флажками пароход — первый пароход, который, хитроумно поднявшись на ступень в тридцать метров, должен был обновить восстановленный шлюз. Хотя все шло, ехало на левый берег, но жизнь и работа продолжались, и по проезжей части плотины, как по мосту, двигались нагруженные грузовики и на правый берег. Это-то и переполошило машины, направившиеся было с правого берега на открытие шлюза и неожиданно оказавшиеся перед закрытым шлагбаумом. Проезд по плотине был пока одноколейный, и два шлагбаума — на левом и правом берегу, — переговариваясь по телефону, пускали поток движения то в одну, то в другую сторону. Машины обычно терпеливо ждали, шоферы, скрючившись, как только могут спать одни шоферы, ложились вздремнуть на свои двухместные дерматиновые диванчики. Но сегодня и легковые и грузовые машины ревели перед опущенным шлагбаумом. Еще бы: все — туда, на шлюз, а здесь — поперек дороги какая-то полосатая жердь! Третьей в очереди гудела сиреной машина киногруппы Геннадия Тихоновича. Лариса в комбинезоне песочного цвета, с большим, зеленым целлулоидовым козырьком на лбу, бросавшим на лицо зеленый свет, стояла в кузове и узкими, злыми глазами следила за пожилой сторожихой, которая за шлагбаумом, сидя на скамейке около своей дощатой будки, мирно вязала спицами не то чулок, не то шапочку. — Нет, это черт знает что! Вяжет! — Криво изогнувшись, Лариса наклонилась к кабине, где рядом с шофером сидел руководитель группы. — Геннадий Тихонович, может быть, вы с нею поговорили бы! Другие если опоздают, это ничего, но у нас же работа! — Не опоздаем! — донеслось из кабины. — Сейчас только пять минут четвертого. — Но цветники уже там! — Не уверен. Они должны были еще заехать на телеграф. Лариса вернулась к своему месту в кузове и взглянула на Павеличева и на высокого оператора Перелешина, тоже с беспокойством посматривавших то на часы, то на опущенную полосатую жердь. — Он не уверен! — кривя губы, негромко сказала она. — А я уверена, что они там и расхватают наши точки! — Ты опять за свое? — проговорил Павеличев, однако встал и, опустив зеленый козырек на самые брови, стал глядеть через шлагбаум на дорогу к аванкамерному мосту, к плотине. Нет, встречные машины еще не показались. Переступая через треножники и аппараты, лежащие на шершавом полу кузова, Лариса походила туда-сюда и, наверное, краем глаза опять увидела чулок в руках спокойной сторожихи. Она вдруг легко перемахнула через борт и, встряхивая рыжими волосами, которые удерживала резинка от козырька, побежала к полосатой жерди. Там уже был кое-кто из шоферов и публики, но она, потеснив всех, проникла туда, к этим невозмутимым спицам. Послышался ее голос, сперва негромкий, потом все сильнее и сильнее. Молчаливый долговязый Перелешин, прислушавшись к голосу, сказал: — Ничего у нее не выходит. — И не выйдет! — сказал Павеличев. — Со встречными машинами мы ведь на плотине разъехаться не можем. — Ну, мало ли… Как-нибудь проскочили бы. Нет, надо пойти ей помочь. И знаешь что? Захватим с собой кое-что. — Зачем? — Ну, так… солиднее. Вскоре перед сторожихой стояли трое. У всех были загадочные, просвечивающие зеленым цветом козырьки — одни козырьки, без фуражек, — и еще что-то в руках, чем они потрясали. Треножник у одного — это легко было понять, а вот у другого какой-то серебристый предмет, кое-где сучковатый от толстых коротких трубок. Старуха, опустив наконец чулок со спицами и встав, сказала ровным, наставительным голосом: — Пока машины с того берега не пройдут, эти не пойдут! Но тут перед шлагбаумом послышались крики, шум, шоферы побежали по своим местам. Сторожиха обернулась к плотине. Блестя ветровыми стеклами, показались идущие гуськом встречные машины. На большой скорости, нестерпимо пыля, они прошли под шлагбаумом. Пыль еще не осела, как сбоку, быстро и лихо зайдя в голову ожидающей колонне машин, появился бурый обшарпанный грузовичок, который тут же и открыл движение к шлюзу. Когда выехали из пыли, Лариса заметила на нем чернобородого Харитонова, и тот, тоже узнав ее, помахал ей приветливо рукой. — Видали? — Лариса, сняв через голову козырек, устало присела на один из ящиков с аппаратом. — Цветники все-таки прорвались! Павел рассмеялся. Они ждали, волновались, бегали к сторожихе, а эти прямо с ходу поехали — и первыми…2
Пригласительный билет на открытие шлюза был только у Всеволода Васильевича, но, по словам приглашенного, это ничего не значило и пойдут они все вчетвером. — Билет ведь только на место у третьей камеры, где пароход после шлюза выйдет на свободу, — сказал дядя Сева, — а так публика будет стоять по всему шлюзу. Да, вообще народу будет уйма. — Но ты пойдешь к третьей камере, а нас туда не пустят! — сказала Софья Васильевна. — Ну и что же, мама, — вмешалась Лиза, — будем стоять в другом месте. Не маленькие, не потеряемся. Всеволод Васильевич посмотрел на Лизу. Ему послышалась в ее голосе какая-то обида, а вместе с тем она будто поддерживала его. И он поспешил сказать: — Да я и не собирался идти к третьей камере без вас! Неужели это такое зрелище, что я вас бросил бы? — Он, помедлив, стал шарить по карманам. — Мы сейчас вот что сделаем… вот что мы сейчас устроим… Как говорится, “чтоб не было разлада между вольными людьми…” Билет с голубой каймой был найден в боковом кармане. Всеволод Васильевич вытащил его, разорвал на четыре части и, горьким басом приговаривая: “Волга-Волга, мать родная, на, красавицу прими!” — подошел к открытому окну и выбросил клочки билета в сад. Софья Васильевна и Лиза рассмеялись. — Глупо, Сева, — сказала Софья Васильевна, — ей богу, глупо! И все это из-за нас!.. В то мгновение, когда он рвал билет, Лиза почувствовала какую-то долю и своей вины. Но сейчас она забыла про это. Сияя глазами, Лиза подбежала к Всеволоду Васильевичу и порывисто обняла его. — Какой ты хороший, дядя Сева! Какой хороший! — приговаривала она. — И я бы так сделала! — Ну, довольно глупости говорить! — Всеволод Васильевич был смущен и потому старался отстранить Лизу. — Тут все очень просто объясняется. Если бы у меня остался билет, то твоя мать меня замучила бы. “Иди на третью камеру и иди!” Женщины ведь пунктуальны. А теперь я вольная птица, где хочу, там и буду… Это было первое воскресенье, которое Шуваловы проводили в Завьяловске. Оттого, что брат остался дома и неприкаянно ходил по комнатам, Софья Васильевна не знала, чем ей заняться, с чего начать. А вместе с тем надо было приготовить ранний обед, чтобы успеть к шлюзу. Но, как только брат, забрав полученные журналы и газеты, ушел в сад и в комнатах стало тихо, тотчас возник распорядок дня: она готовит обед, Лиза убирает комнаты, Витя идет в булочную и в овощную лавку. И работа пошла. Но через час она остановилась. Вместе с Витей, встретившись с ним на пороге, вошла с улицы какая-то худощавая, в синей косынке женщина и, спросив: “Кто тут Се Be Шувалова?” — передала Софье Васильевне конверт. Потом закурила от плитки тоненькую папироску и, сказав, что на рынке сегодня битой птицы много, быстро ушла. В конверте оказались три билета с голубой каймой, с надписанным от руки: “С.В.Шуваловой”, “Е.М.Шуваловой” и даже для Вити — “В.М.Шувалову”. Софья Васильевна перевернула конверт — там был гриф управления строительства гидростанции. Да, конечно, шлюз принадлежит станции, но почему вдруг им присланы билеты? Дети стали спрашивать, что это такое, но Софья Васильевна направилась с билетами в сад — Лиза и Витя пошли за ней следом, — где на разостланном одеяле, с разбросанными газетами и журналами, лежал брат. — Это ты хлопотал, что ли? — спросила она, присаживаясь и протягивая билеты. — Сейчас вот курьерша принесла. Всеволод Васильевич, приподнявшись на локте, взял билеты и, быстро перебрав их, усмехнулся. — Смотрите! Даже “В.М.Шувалову”! — Оттолкнувшись рукой, он сел на одеяло и проглядел еще раз билеты. — Нет, ей-богу, не я. Да и как я мог хлопотать! Чужое ведь учреждение… И он, как карты, роздал билеты — сестре, Лизе, Вите. Как только Лиза прочла, что это пригласительный билет на шлюз и тоже на третью камеру, она, не задумываясь, откуда этот билет, волнуясь, спросила: — А как же ты теперь, дядя Сева? Ну, хочешь, мы… я тоже… порвем это все? И пойдем куда хотим… — Она покраснела от мысли, что он может не поверить ей, и потому быстро, двумя руками взялась за середину своего билета. Но Всеволод Васильевич остановил ее. — Ну, что ты! — сказал он. — Мне как раз захотелось быть именно у третьей камеры. И у меня есть возможность: я думаю, что “Be Me” меня проведет. — Ну конечно! — тотчас отозвался Витя. — Я пройду первым, осмотрю забор, где доски расшатаны, дам два свистка, и ты быстро беги ко мне. — Прекрасный план! Одно, Витенька, плохо, что там нет забора. — А-а, там одни контролеры. Тогда я скажу, что ты идешь со мной, как дядя. — Вот это лучше! Ты можешь меня даже держать за руку, тем более что там будет толпа и меня могут затолкать… — Всеволод Васильевич дотянулся до Витиной ноги и, ухватив ее, повалил мальчика на себя. — Ну, а теперь скажи, — щекоча, он катал его по одеялу, — нет, нет, теперь ты скажи: кто тебе прислал билет? Кто знает, что в Завьяловск прибыл всемирно известный “В.М.Шувалов”? Визжа, Витя откатился подальше от рук дяди Севы, сел на траву с перекошенным воротом белой рубашки, с травинкой, косо приставшей к веснушчатому носу, и, передохнув, сказал: — Это Глебка… Я сказал Глебке, что хорошо бы поближе посмотреть, как пароход застрянет в шлюзе… Мы уже видели, примерили: шлюз узкий, а пароход, конечно, широкий. Когда он застрянет, тогда можно сверху легко на него спрыгнуть. Там невысоко… Вот Глебка и сказал своему отцу про меня. У него отец ведь старший арматурщик на плотине! Вот и прислали билет…3
Было половина четвертого, когда Наталья Феоктистовна вышла из дому. Жара чуть спала, желтая, знойная дымка на небе стала отходить, проступила голубизна. Наталья Феоктистовна осмотрела небо: не будет ли дождя, на ней было палевого цвета платье, белые туфли, и она не взяла ни плаща, ни зонтика. Нет, воздух был тих, спокоен. Когда вышла к реке, потянуло прохладой, как бы прослоенной струями жаркого воздуха, который то касался лица, то рук. Появились легкие бурые дымки мошкары. Они ловились вокруг и отлетели. Наталья Феоктистовна улыбнулась: гвоздичное масло, которым она протерла лицо, пока действует. С высокого берега открылась широкая панорама и реки, и плотины, и шлюза. Сегодня все ближнее к этому берегу, к шлюзу было неузнаваемо от пестроты одежд, от неуловимого, как бы на одном месте, движения этого тысячного скопища. Невнятный, но неумолчный гул толпы стоял в воздухе. Вскоре и Наталья Феоктистовна была среди толпы. Здесь, как на гулянье, среди тележек с газированной водой и мороженым прохаживалась стайками и парами молодежь. Выделялись густым каштановым загаром девушки со строительства. Они были в шелковых чулках, в платьях с длинными рукавами, но и сквозь чулки и рукава проступал загар. Наталья Феоктистовна набрела на группу людей. В середине находилась сухощавая женщина в просторном черном комбинезоне, перед которой на треножнике стоял киноаппарат. В двух-трех шагах от него очень полная и крайне смущенная девушка с большим букетом в руках. Овсеева признала в девушке Нину Ельникову из управления строительства и, улыбаясь про себя, пожалела ее: конечно, так вот сниматься на народе очень неловко. Операторша властным голосом попросила Нину, не оглядываясь на аппарат, пройти к тележке с газированной водой и выпить воды. Неловкой, какой-то смятой походкой, судорожно прижав букет, бедная Нина тронулась в путь. Тотчас, легко и изящно изогнувшись, женщина в черном комбинезоне повела глаз урчащего аппарата следом за толстой девушкой. Не то газировщица постаралась, не то такова была инструкция, но на железном столе тележки ждали Ельникову три налитых стакана воды. — Вот это Наталья Феоктистовна и есть! — услышала Овсеева сзади себя голос. Она обернулась и увидела Всеволода Васильевича в белых брюках и с белым пиджаком в руках, девушку, которую встретила на фабрике, на лестнице, и рядом с ними немолодую, но еще привлекательную статную женщину в синем костюме и мальчика, тут же побежавшего к киноаппарату. Они были чем-то оживлены, улыбались, и Овсеева поняла, что Всеволод Васильевич, обычно не очень с нею храбрый, сейчас из-за общего оживления так смело, непринужденно обратился к ней. Наталья Феоктистовна почувствовала, что Софья Васильевна неприметно разглядывает ее. Она усмехнулась про себя: у нее сейчас появилась такая же походка, как вот была у Нины Ельниковой. Тут она вспомнила про письмо сестры и даже обрадовалась: теперь легче, свободнее будет. Пропустила вперед Всеволода Васильевича и Лизу и пошла рядом с Софьей Васильевной. — Дало ли вам то письмо что-нибудь новое о вашем муже? — спросила Наталья Феоктистовна. — Да, спасибо… Во всяком случае, известно, где он тут жил, хотя и временно… Наталья Феоктистовна стала рассказывать, что она пыталась расспросить по дому, но многие жильцы еще находились тогда в эвакуации, а те, кто был, знали только, что у сестры останавливаются всякие командированные и военные, вот и все… Спрашивала и в домоуправлении — может быть, известно, куда человек выехал. Но там ответили, что военные часто не прописываются и, уж конечно, не извещают, куда направляются… Софья Васильевна вежливо поблагодарила ее за хлопоты. — Буду рада, если вы зайдете ко мне, посмотрите, — сказала Наталья Феоктистовна. — Хотя, конечно, никаких следов… — Спасибо! Я собиралась просить вас об этом. Нет, разговора не получалось с этой ставшей вдруг замкнутой женщиной. Наталья Феоктистовна обратилась к впереди идущим Лизе и Всеволоду Васильевичу, и разговор стал общим. …Да, Софье Васильевне не хотелось говорить о письме. Оно было написано чужим человеком — и спасибо ему, — но касалось тех чувств, которыми она не привыкла делиться. Как когда-то она одна, не ища участия, пережила март сорок четвертого года и позже отголосок — строку в газете: “Вечная слава…” — так и теперь ей не хотелось, чтобы кто-то посторонний, хотя, видимо, и милая, добрая женщина, обсуждал с ней её горе. В письме она нашла то, чего другой бы и не увидел, не почувствовал. Посторонний человек, какая-то Клавдия, говоря на ходу, мельком, вдруг словно осветила далекое. Так, например, слова в письме: “Волосы зачесаны назад…” И вот чужие слова вызвали образ Михаила не только последних лет, но и давнишних, молодых, когда они познакомились, — с тех студенческих еще лет носил он так волосы… Слова в письме “обходительный” и “сразу наступила тишина” напомнили тоже уже привычное в их прошлой жизни, незамечаемое… И в то же время еще острее ощутилась утрата. Да, она пойдет в тот дом, но что найдет там? Пустые стены…4
Вода в шлюзе, затененная стенами камеры, была черная, как в колодце, и, как из колодца, от нее, несмотря на жаркий день, тянуло холодом. Шлюзование начиналось. Расцвеченный косыми флажками белый пароход “Руслан” осторожно вошел в первую камеру. Тотчас белые бока парохода, цветные флажки, матросы, стоящие у поручней, отразились в черной воде. Так многому надо было отразиться, что на водной поверхности камеры не хватило места. Отображения тесно жались друг к другу, стараясь даже подняться с воды по стене камеры, но бетонная, шершавая, глухая к ним стена не принимала их. — Ворота пошли! — сказал Всеволод Васильевич. Лиза перехватила его взгляд и увидела две мощные дугообразные тяжелые створки, которые, отделившись от берегов камеры, медленно, не тревожа отражения в воде, пошли навстречу друг другу. Они замкнулись позади “Руслана”, как бы поймав его в ловушку. Тотчас вода через невидимые отверстия в камере стала прибывать и поднимать на себе пароход. У ворот, перед второй камерой, сейчас было обратное движение — они открывались. Створки разомкнулись и плавно пошли к берегам шлюза. Когда они разошлись, Лиза с удивлением увидела, что уровень воды во второй камере такой же, как теперь стал в первой. Пароход через открытые ворота медленно двинулся влево, ко второй камере. Тотчас вокруг раздался многоголосый гул, одобрительные вскрики — половина пути была пройдена! Дядя Сева и Софья Васильевна с детьми вслед за пароходом тоже стали передвигаться ко второй камере. Овсеева, еще раньше встретив какую-то свою подругу, отошла от них, и теперь ее палевое платье мелькало где-то впереди, в толпе. Всеволод Васильевич поскучнел, отвечал рассеянно… Медленно пробираясь среди отмахивающихся от мошкары людей, они набрели на чернобородого кинооператора с молодым, безусым помощником, которые, урча своим аппаратом на треножнике, пропускали мимо себя пароход и сейчас, коротко переговариваясь, почему-то очень внимательно ловили проходящую мимо них корму с развевающимся флагом. Лиза вспомнила о Павеличеве и поискала глазами коричневую куртку. За эти три дня он уж что-нибудь да узнал! Да и надо ему сказать про улицу Шевченко, № 15 — для нее с мамой это опустевшее место, а он может быть, что-нибудь там и найдёт. — Ты посмотри, куда люди забрались! — сказала Софья Васильевна. Лиза взглянула в ту сторону, куда ей показала мать, и увидела высокий и могучий железный остов, напоминающий стол на четырех ногах, стоящий наверху последних бычков плотины. Она знала еще со дня прогулки с Павеличевым, что это портальный кран. Но тогда кран был в работе, — черный и страшный, ходил поверх бычков влево и вправо, сейчас же, придвинувшись как можно ближе к шлюзу, он стоял разнаряженный флажками. На вершине его, как по столу, похаживали небольшие фигурки людей. Среди них Лиза различила девушку с развевающимися по ветру рыжими волосами, стоящую около киноаппарата. “А Павеличева и тут нет!” — подумала она. Но как только она перевела взгляд на шлюз, то увидела в конце его решетчатую, почти вертикальную стрелу другого крана и на верхушке его Павеличева. Он был одет во что-то темное и, удобно примостившись, сидел на перекладине, как на ступеньке лестницы, пока в бездействии, в ожидании. Ниже его, на середине стрелы, тоже чего-то поджидая, сидел другой оператор. Пароход меж тем прошел вторую камеру и сейчас входил в третью. Когда Всеволод Васильевич и Софья Васильевна с детьми подошли к пароходу, там уже стояло столько народа, что пройти было нельзя. Витя, держа свой билет наготове, искал глазами контролера и не мог найти — все стояли к нему спиной, совсем не по-контролерски. — Ну, Вить, ты обещал меня провести, — сказал Всеволод Васильевич, — так действуй! Витя вздохнул, покосился на него и, засопев носом, стал протискиваться вперед. Но дядя удержал его. Софья Васильевна неодобрительно посмотрела на брата. — Ты так дошутишься, что он тут потеряется! — сказала она, отмахиваясь платком от мошкары. — Вообще нет смысла туда, в сутолоку, пробираться. Тут хоть воздух, а там в жаре да в толпе… — Ну, а как же, мам, билеты? — обиженно спросил Витя. — Ну, так и билеты… Оставь себе на память. Они отошли даже чуть назад, ближе к перилам. На той стороне шлюза Всеволод Васильевич увидел палевое платье и невольно стал следить за ним. Сестра, заметив его внимательный взгляд, посмотрела в ту же сторону. — А ты знаешь, она ничего, хорошая! — тихо сказала Софья Васильевна. — Конечно, мы тут мельком увиделись, но, по-моему, хорошая. Было видно, что ему приятно это, он даже невольно кивнул головой, как бы вполне соглашаясь, но тут же скосил взгляд на сестру. — Насчет полушалков, матушка, я тебя предупреждал! — сказал он. — Они в продажу еще не поступали. Помни это! — А ты уже справлялся? И то хорошо: значит, шаг вперед…5
Меж тем около третьей камеры все придвинулись к перилам: сейчас будут последние ворота. На дощатую, обтянутую кумачом и пока пустую трибуну, застенчиво улыбаясь, стали подниматься женщины с детьми. Это надоумило и других матерей и отцов — у перил из-за чужих спин детям ведь ничего не видно. Вскоре на трибуне были только одни дети — взрослые спустились вниз и стояли около, поглядывая наверх: не упали бы. Но дети, подняв руки над головой к высоким для них кумачовым поручням, держались крепко. “Руслан” стоял в последней камере, у последних ворот, ведущих на простор реки. Операторы на портальном кране и на кране, стоящем на выходе из шлюза, приготовились. Павеличев, правым плечом привалившись к стреле крана и просунув руку в ее железные переплетения, держал перед собой серебристый аппарат, нацеленный на середину ворот. Он висел над рекой, над людьми, но был не одинок — в стороне, но еще выше его, на портальном кране, тоже нацелившись, застыла маленькая отсюда Лариса. Под ним на той же стреле примостился “цветник”. Павеличев вдруг почувствовал то воодушевляющее, веселящее дух товарищеское единение, которое бывает у людей, занятых одним общим делом. Отсюда, с вершины стрелы, открывался широкий вид на праздник. Среди шума, движения, пестроты платьев молча и многозначительно поблескивали на солнце никелированные трубы духового оркестра. Большой, добродушный бас-геликон светился ярче всех. Павел — который уж раз! — повел взглядом по перилам шлюза, надеясь увидеть Лизу, но это было невозможно — столько лиц… Он вспомнил вчерашний разговор в номере у Никодимцева, приезд в гостиницу Аверьянова — вот бы и ей знать… По невнятному гулу толпы Павеличев догадался: началось. Он приник к аппарату. Между створками ворот показалась узкая, сверху донизу, щель. Она стала медленно расширяться. Толстые, тяжелые ворота, разделившись надвое, плавно пошли к берегам камеры, чуть бороздя темную поверхность воды, тихую, спокойную, отражающую небо, облака. “Руслан” вспенил сзади себя воду и, дав гудок, тронулся вперед. Как только он прошел распахнутые ворота и корма его оказалась за камерон, раздалось дружное “ура” и, чуть запоздав, грянул оркестр. “Руслан”, давая веселые гудки, вышел на простор реки и, прибавив ходу, стал удаляться. Матросы, сгрудившись у кормы, махали фуражками, руками — прощались со шлюзом. Павеличев подождал — не мелькнет ли на пароходе в последний момент что-нибудь интересное — и опустил аппарат. Посмотрел на портальный кран — Лариса тоже собиралась уходить оттуда. Спускаясь по стреле, он повторял про себя неизвестно откуда появившуюся фразу: “Первый пароход проходит восстановленный шлюз”. Но, услышав в своем голосе какую-то напыщенную интонацию, улыбнулся: ведь так диктор будет читать текст перед этим кадром.6
Музыка продолжала играть. Дети с трибуны потянулись к оркестру. И вовремя: к трибуне подходили четверо — секретарь обкома, представитель министерства, приехавший на открытие шлюза, начальник строительства и Аверьянов. Поднявшись на дощатый помост, невысокий, с худощавым лицом представитель министерства положил на кумачовые поручни серо-зеленый плащ. — Товарищи! — произнес представитель, и тотчас рупоры во всех концах громко повторили: “Товарищи!” Представитель заговорил о человеческом труде, благословенном в лагере мира. После него говорил начальник строительства Лазарев. Осанистый, в широком светлом костюме, он с озабоченным лицом подошел к микрофону. Он и начал сних, поблагодарив за труд, за воодушевление, за мужество, за хозяйский интерес всех строителей шлюза. Потом он назвал имена передовиков строительства. Оркестр заиграл туш. В толпе зашумели, задвигались. — Кого это качают? — спросил секретарь обкома. И Лазареву и Аверьянову нелегко было ответить: люди появлялись в воздухе с поднятыми руками и ногами и тут же пропадали… — Это, Иван Капитонович, вон Нюша Ткаченко взлетает! — сказал Аверьянов, показывая секретарю обкома вправо. Он ее узнал только по рыжим локонам. — Пришла из колхоза и в бригаде бетонщиков сразу выдвинулась. Чуть левее, вон, посмотрите, пикирует Василович — инженер левого берега. Оркестр смолк, стихло и в толпе. Аверьянова кто-то снизу тронул за ногу. Он с трибуны посмотрел вниз — это был Гриша Горелов, секретарь бюро комсомола левого берега. — Леонид Сергеевич! — негромко сказал он, поднимая голову кверху. — Тут кое у кого дети потерялись, матери вот просят объявить по радио, — кивнул он на женщин группкой стоящих невдалеке. У женщин было какое-то одинаковое выражение лица, и они дружно, виновато улыбаясь — прерывают вот праздник! — закивали головами, когда Аверьянов посмотрел на них. Парторг пригнулся и взял у Гриши бумажку с записанными именами. — Внимание! — сказал он в микрофон. — Валю Найденову, Борю Глазунова, Игоря Величко, Петю Фурначева просят подойти к трибуне. Тут их ждут родители. — Аверьянов переглянулся с Лазаревым и добавил: — Также просят подойти к трибуне Софью Васильевну Шувалову с детьми. Лазарев, боком проходя к микрофону, чтобы объявить о выступлении Аверьянова, тихо сказал ему: — Кстати получилось! Аверьянов не торопясь установил головку микрофона по своему высокому росту и снял шляпу, открыв небольшие залысины на широком, не загорелом лбу. — Товарищи! — проговорил он, проводя рукой по волосам. — Мы восстановили анкамерныый мост, закончили основные работ на плотине, вслед за пуском первых турбин мы сегодня сдаем шлюз. И когда водрузился отмечали и отмечаем лучших наших строителей. Но мы не должны забывать и тех, кто с риском для жизни отстаивал от врага нашу гидростанцию, детище первых пятилеток. Я говорю о солдатах и офицерах Советской Армии сражавшихся на этих берегах, отбивавших плотину у врага. Мы не знаем их всех поимённо, но мы чтим их за их воинский подвиг. Враг хотел взорвать плотину, снести ее начисто. Но это ему, не удалось! Плотина вернулась к нам израненной, но живой. В этом заслуга многих воинов, но четыре имени. которые дошли до нас, я вам назову, имена четырёх человек, мужество и находчивость которых спасли плотину. Вот они… Отмахиваясь соломенной кепкой от налетавшей мошкары, Никодимцев стоял недалеко от трибуны и, слушая Аверьянова, поглядывал на тесный проход между киоском и тополем, где было какое-то движение — кто-то уходил и приходил. Из прохода появился мальчик, потом остроглазая, смешливая девочка в белых носочках. Они подбежали к матерям, все еще группкой стоящим около трибуны. Появлялись и взрослые, но не было женщины с двумя детьми. Когда Аверьянов, говоря о каждом из четырех защитников станции, дошел до лейтенанта Кузнецова Алексея Христофоровича, стоящая рядом с Никодимцевым девушка в кирзовых сапожках и с голубыми сережками в ушах не то шумно вздохнула, не то что-то сказала. Карие круглые, вдруг засветившиеся глаза ее искали участия. — А Кузнецов-то это, наверное, наш! — быстро сказала она Никодимцеву и тут же перевела взгляд на другого соседа, чтобы и ему сообщить это. — Ну, фамилия распространенная! — буркнул Никодимцев и, заметив в проходе Павеличева, пошел к нему. Он спросил у него, не видит ли он тут где-нибудь Шуваловых. Павеличев, тоже слышавший приглашение по радио, оглядел широкий круг людей, окаймляющий трибуну, и, не найдя ни Лизы, ни ее матери, сказал: нет, не видит. И, перекинув тяжелую сумку с аппаратом, пошел к трибуне. Меж тем люди с трибуны стали спускаться, и возле плоского постамента, на котором стояло что-то высокое, в светло-зеленом чехле, началось оживление. Несколько рабочих в брезентовых робах, разведя руки, стали теснить, расширять круг зрителей, стоящих около. Двое рабочих вытягивали какой-то шнур, идущий от чехла. Последним с трибуны сходил парторг, и Никодимцев заметил, как к нему несмело подошла та девушка с голубыми сережками, которая заговорила о лейтенанте Кузнецове. Сейчас с нею были еще девушки и паренек в черном новом костюме и в желтых ботинках. Они втроем обступили Аверьянова. И оттого, что девушка теперь была не одна, Никодимцев подумал: “А может, правда?” Он тут же вспомнил, что парторг ведь называл не только фамилию, но и имя и отчество. Он взглянул на проход между киоском и тополем, где появилось много новых людей, но тех, кого он поджидал, не было, и пошел к Аверьянову. Оркестр играл тихий вальс. Яснее всех была слышна флейта, которая тонким пунктиром выносила мелодию все выше и выше. На предвечернем небе еще больше появилось синевы, а белые облака, охотно приплывшие на остывающее небо, спокойно подставляли свои пухлые тела под красное, уже не жаркое, близкое к закату солнце.7
Третья камера, где играла музыка, куда у Вити был билет, манила его. И он наконец отпросился — ну как-нибудь проберется, не раздавят его, не маленький. Осмотревшись, Софья Васильевна показала ему на столб с крупными коричневыми изоляторами, недалеко от которого они теперь стояли, и приказала Вите вернуться к этому месту. От скопления людей, от безветрия было душно, трудно было стоять не двигаясь. Но музыка впереди привлекала, и народ около второй камеры стал постепенно редеть. Оставшиеся, расстелив газеты, с удовольствием сели на землю. Всеволод Васильевич хотел выбрать место подальше, на траве, но Софья Васильевна, вспомнив про Витю, попросила от столба с коричневыми изоляторами далеко не отходить. Они уселись тут, а Лиза сказала, что она пойдет поищет Павеличева, который, она видела, уже сошел с крана. Софья Васильевна и ей показала на столб. — Из тебя, Сонечка, хороший бы штурман вышел, любишь ты ориентиры! — уже отходя, услышала Лиза. Начало речей застало ее на первой камере. Тут тоже было много сидящих на газетах или прогуливающихся по свободным уже дорожкам. Лиза подходила к группам людей, думая, что люди сгрудились около кинооператора, — может быть, Павеличева, — но это были просто так группы. Одна группа, рассматривавшая первую камеру, привлекла ее внимание своеобразными расцветками костюмов. Кто-то рядом сказал, что это делегация зарубежных крестьян, только что приехавших на поезде. Среди них почему-то находился тот Кузнецов, которого она видела у дяди Севы на фабрике. Сделав круг, Лиза заметила чернобородого оператора, который недавно снимал пароход в первой камере. Он направлялся к грузовикам, стоявшим в стороне. Взяв из кузова одной машины что-то продолговатое, он быстро пошел к третьей камере. Лиза остановилась около мороженщицы, которая жестяной формочкой ловко выбивала кругляшки мороженого с вафлями, похожего на толстые деревянные колесики от кукольных колясок. Она купила мороженого и, присев на траву, стала есть и слушать, что говорил рупор на дереве. Слушая, она посматривала в сторону грузовиков, — может быть, и Павеличев за чем-нибудь сюда придет. Рядом, выставив из-под широкой, по-старомодному нарядной юбки начищенные башмаки, сидела старуха в белом платке в черный горошек и опрятно, со вкусом ела мороженое с булкой. — Ты мне, девонька, вот ответь, — сказала она, взглянув на радиорупор, слова которого о людях войны, наверное, и вызвали ее вопрос. — Предположим, вот человек имеет все, ну просто купается в роскоши. И дома, и деньги, и имущество… Говорят, даже свои железные дороги и свои пароходы у таких людей бывают… Ну, все есть. И не только на себя, но и на детей, и на внуков, и на правнуков хватит и еще останется. Ну хорошо, награбил, злодей, и живи тихо! Тебя никто не трогает! Не действуй только дальше — ни ты, ни правнуки в бедности не умрут. Нет, он опять действует — к награбленному еще грабит, войну вон даже затевает… Ты скажи — зачем? Зачем ему вокруг себя гнев и возмущение сеять? Что он, на четырех постелях будет спать? На пяти пароходах сразу ездить? Ведь, кажется, умный человек, а действует, как самый дурак! Старушка вытерла липкие после мороженого пальцы о молодой лопух, вынула платок и, обтирая им сморщенные губы, выжидательно посмотрела на Лизу. Ответить Лизе было и легко и трудно. Легко, если говорить обо всех таких людях, и трудно — об одном, ибо в действиях этого одного и в самом деле не было разумного расчета. И она решила, что понятнее, да и правильнее будет, если говорить обо всех, об общих их интересах. И она начала говорить, но вскоре рупор остановил ее — она услышала имя матери. Что такое? Прислушиваясь к радио, она молча просидела еще несколько минут, но тот же отчетливый голос стал говорить о чем-то другом. Рассеянно кивнув женщине, Лиза побежала к столбу с коричневыми изоляторами. Софья Васильевна и дядя Сева, стоя и смотря в разные стороны, искали ее глазами. — Ну, где ты пропадаешь? — воскликнула Софья Васильевна с побледневшим лицом. — С Витей что-то случилось! — Что? Всеволод Васильевич, который был спокоен и только недоуменно улыбался, взглянув на лицо Лизы, нахмурился. — Да не пуган ты, ради бога, Лизу! — сказал он сестре. — Ничего не случилось. — Пошли, пошли! — не слушая, Софья Васильевна двинулась вперед. Перед третьей камерой по-прежнему стояло много народу, и в широком, но тесном проходе еле заметно струилось движение. Продвигаясь, Всеволод Васильевич рассказал Лизе то, что она не слышала, разговаривая со старухой: по радио вызывали потерявшихся детей, а потом почему-то вызвали Софью Васильевну… — Вот мама и думает: что-нибудь с Витей… — Он, усмехнувшись, вдруг остановился. — А знаешь, Соня… — сказал он, поворачиваясь к сестре, но поток, как ни был слаб, не дал ему стоять и повлек дальше. — А знаешь. Соня, — повторил он, уже через чью-то голову, — Витя мог сдурить и для нашего удовольствия, для того, чтобы мы были на третьей камере, сказал там, что он потерялся! Может быть, даже жалобным голосом. — Ну, придумаешь! — Софья Васильевна тяжело дышала. — Ну как он мог! Как такая глупость пришла ему в голову! — добавила она не так уж уверенно. Впереди виднелась верхушка трибуны, флаги, развевающиеся по ветру, но до конца прохода было не так близко. Софья Васильевна прислушивалась к радио: нет ли еще чего? Но рупоры остались позади, и доносился громкий, однако невнятный гул их. Потом и он смолк. Через минуту уже не сзади, из рупоров, а впереди послышался тихий, плавный вальс. И, слушая спокойную, плавную музыку, она подумала, что не может быть плохого… Наконец они протиснулись сквозь толпу, стало видно свободное место вокруг трибуны, белым блеском замелькали никелированные трубы оркестра. И тут вдруг появился Витя. Энергично протискиваясь во встречном потоке неповоротливых взрослых. Увидев своих он бросился к ним. — Там папа… написан! — шумно дыша, выговорил он. Софья Васильевна, не слушая, что он говорит, просветлев лицом, но все же строго глядя на его каштановый чубик на лбу, двинулась к сыну. Но Лиза, схватив брата за руку, быстро устремилась вперед. Выбежав на свободное место, миновав слева трибуну, справа оркестр, теперь Витя повлек сестру к группе людей, чинно и молча стоящих около темно-серого гранитного обелиска. Лиза, заметив этих людей, смутилась, но потом, обняв брата за плечи, вместе с ним медленно подошла к четырехгранному, заостренному наверху граниту. Четыре бело-розовые, прикрепленные на больших позолоченных винтах мраморные таблички шли сверху вниз. Лиза сразу увидела самую нижнюю, четвертую: “Майор М.Шувалов”. Тогда она прочла по порядку эти золотые, врезанные в мрамор слова, чтобы снова дойти до четвертой строки. Солдат Ф.Бутузов Солдат Д.Зайченко Лейтенант А.Кузнецов Майор М.Шувалов Первые две она видела в мастерской, да и третью, тогда еще не покрытую золотом… Но как же, почему четвертая? Она стояла не шевелясь, перечитывая последнюю строку еще и еще раз, и слезы, которых она не могла понять — не то радостные, не то горькие, — подступали к глазам. Ну хорошо, герои, но что это — памятник погибшим? Или нет?.. Витя, начавший было оживленно рассказывать, как потянули за веревки чехол, и как он ловко раскрылся, и как потом упал, посмотрел на Лизу и, замолчав, тоже насупился. — Товарищ Аверьянов, вот дети майора Шувалова. Лиза повернулась на голос и увидела Павеличева, подходившего к ней. Двое из группы — высокий, с усами и полный, в соломенной кепке, — тотчас пошли за ним следом. Павел поздоровался с Лизой наскоро, как бы не желая ее отвлекать, и повернулся к тем двоим. Те тоже поздоровались — не наскоро, но с той неловкостью, когда не знаешь, о чем начать говорить. Аверьянов заметил влажные глаза девушки и, словно найдя, что надо делать, обнял Лизу. — Ну, а где же, Лиза, ваша мама? — просто, будто ничего не заметив, спросил он. — Она сейчас! Вот она… — Лиза, не поднимая непросохших глаз, кивнула на проход, где показались Софья Васильевна и дядя Сева. …Никодимцев смотрел на детей и думал о том, что вот тут, поблизости, на плотине, под тем же, только зимним небом человек заставил себя забыть об этой вот девушке и мальчике. Надо было забыть… У женщины, которая приближалась к обелиску, был большой лоб и такие же, как у Лизы, глаза — широко расставленные, узкие, серые, — и Никодимцев, который не слышал ответа Лизы, догадался, что это мать. Оркестр заиграл марш — окончание праздника. Свободное место вокруг трибуны, обелиска и музыкантов теперь заполнилось людьми, стоявшими до этого вокруг. Солнце шло к закату, и длинная тень от поднятой стрелы крана протянулась по воде далеко за третью камеру. Там же, прикасаясь к этой тени от железа, легло отражение розового небесного облака. Блики на никелированных трубах оркестра потухли, и только у толстого баса-геликона, поднятого над головами, серебрился ободок широкого раструба.Глава девятая ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ
1
На следующий день утром в обкоме было совещание по месячному плану. Вылезая с Лазаревым из машины, Аверьянов заметил около подъезда девушку с голубыми сережками — одну из трех, которые вчера на открытии шлюза заговорили с ним о Кузнецове. Она стояла около темно-бурой потертой “эмки” и стирала с дверцы серые брызги высохшей грязи. “У них в районе, значит, дожди прошли”, — подумал Аверьянов, подходя к девушке. — Что же, вы его вчера так и не нашли? — спросил он. — Нашла, да поздно, — сказала она, выпрямляясь и встряхивая тряпку. — Он иностранным крестьянам плотину объяснял, не мог отойти. — Он тут? — Аверьянов кивнул на здание. — Какой из себя ваш директор? Девушка положила тряпку на радиатор. — Ну, какой… — Она простодушно улыбалась, затрудняясь описать его. — Ну, обыкновенный, только неразговорчивый… Ну, не любит много говорить, тихий. Но на самом деле не тихий… — Да-а, приметы не тово… в глаза не бросаются! — Аверьянов усмехнулся и посмотрел на Лазарева, который его поджидал на ступеньках подъезда. — Сейчас иду! С этими приметами, милая, — сказал он девушке, — только в конце совещания человека найдешь: кто молчал, тот и есть! — И он пошел к подъезду. — Это, наверное, тот, из новых, который в прошлый раз лишнее оборудование “Новой заре” предлагал, — сказал Лазарев, открывая тяжелую дверь. Аверьянов не помнил этого… Узнав, что совещание еще не началось, он попросил секретаршу показать ему Кузнецова. Тот стоял у открытого окна и, покуривая, смотрел на улицу. — А мы вас вчера искали! — радушно сказал Аверьянов, здороваясь и незаметно рассматривая собеседника. Это был человек лет тридцати пяти, загорелый, с толстыми губами, которыми он двигал медленно, будто они у него уставали от движения. Говорил он не торопясь, поглаживая черные с рыжинкой волосы, стриженные коротким ежиком. На расспросы Аверьянова отвечал коротко: да, он тогда был в звании лейтенанта, да, ему говорили, что его вчера вызывали, но он не мог отойти… — Переводчица попросила. Все на открытии, и объяснять некому, — говорил он. — А крестьяне не виноваты, что в такое время приехали. Ну вот, я и взялся, что помнил — сказал… А когда все разошлись, я там был, видел… — Он краем толстых губ неловко улыбнулся. — Ну, если считаете, что я заслужил, то спасибо!.. Аверьянов вдруг почувствовал волнение. Хотя он подошел к человеку незнакомому и заговорил с ним запросто, но он не мог не вспомнить того дела, в котором тот участвовал. Короткие записи в архиве, что они прочли с Никодимцевым, как ни были скупы и официальны, все же дали какую-то пищу воображению. Но сейчас было не время для расспросов, надо успеть поговорить с Кузнецовым о главном. Прозвенел звонок, все тронулись к открытым дверям зала, из которых тянуло прохладным и еще не накуренным воздухом. — У меня к вам просьба, Алексей Христофорович, — проговорил Аверьянов и убавил шаг, как бы придерживая Кузнецова. — У нас есть один хороший обычай… И он рассказал о “вечерах молодых строителей”, которые у них собирают много народу. Вот и завтра будет такой вечер. Хорошо бы, если б Кузнецов в связи с открытием обелиска вспомнил, рассказал о военных днях гидростанции. Ведь это слава станции! — Ну, знаете, как в армии! — добавил Аверьянов. — Приходят молодые солдаты, а им говорят, чем полк до них занимался, чем славу свою заслужил. А то что же — фамилии на обелиске вчера все видели, а что за этим? Надо живое что-то… Кузнецов, выпятив толстые губы, слушал настороженно, — наверное, думал: уж не на новое ли заседание его хотят затащить? — Чикильдеева забыли! — неожиданно сказал он. — Водолаза, который по нижней потерне шел. Парторг понял это так: раз бывший лейтенант вспомнил какого-то своего соратника, значит, придет на вечер, расскажет. Считая дело решенным, он заметил Кузнецову, что упущенное можно исправить — дополнить новым именем — и снова вернулся к вечеру. Да, эти вечера у них проходят дружно, ребята хорошо слушают. Нет, на заседания это никак не похоже… И тут Кузнецов стал отказываться. И по мотиву, который Аверьянов после недавнего разговора с голубыми сережками — с шофером этого молчальника — легко мог предположить: не умеет, не любит говорить перед залом… Но Аверьянову поспособствовал неизвестный ему Чикильдеев. Почувствовав в неловком, замкнутом Кузнецове справедливого человека, парторг, косясь на председателя, пробиравшегося к своему зеленому столу, стал нашептывать бывшему лейтенанту о том, что вот об упомянутом им водолазе никто и ничего не знает, что в архиве ни строчки нет. Разве он, Кузнецов, знающий об этом человеке, не обязан сказать? И Кузнецов, вздохнув, согласился. Аверьянов решил, что, вернувшись к себе, он успеет до завтрашнего вечера строителей занести новое имя на обелиск. Но по заданию обкома ему пришлось сразу после совещания выехать в район, и вернулся он только к самому открытию вечера.2
Бывают такие встречи. Мы видим человека мельком, пусть даже сидим с ним рядом в долгом пути вагона, но вот он уходит, исчезает, мимоходный, случайный, даже память его не удерживает. Проходит время — и вдруг он возникает снова, уже другой для нас… Вот так и Кузнецов для Лизы. Она застала его у дяди на фабрике, она видела его с экскурсией на плотине — все был мимоходный. Но вот он стал приближаться — имя его на граните, а сейчас этот вот человек сядет за стол и расскажет о прошлых военных днях плотины и, может быть, об отце… Да, теперь он уже стал другим для нее. Но тогда и другое: если Кузнецов жив — вот он! — то гранит, к которому она позавчера подбежала с Витей, значит, не памятник погибшим! …Места на клубном вечере достались не в одном ряду, и Витя попросился на передние — он почему-то был уверен, что после всего будет кино, а в кино он любил сидеть на этих местах. Чтобы не оставлять мальчика одного, Софья Васильевна поручила его Лизе, а сама со Всеволодом Васильевичем и Натальей Феоктистовной села подальше. Лизе было неприютно одной с Витей, и она оглядывалась на мать, которая почему-то делала ей строгие глаза. Но, хотя и строгие, Лизе все же хотелось быть рядом с ней. Позже она заметила около нее Павеличева — тем более было бы лучше там, чем здесь одной с братишкой, который всё время вертится на стуле. Но, когда к круглому, покрытому темной тяжелой скатертью столу неловко, как бы боком, приблизился Кузнецов, Лиза, уже не оборачиваясь, забыв все, смотрела только на него, уже наперёд думая, волнуясь о том, что может рассказать тот, чье имя на одном граните с ее отцом. …Когда Кузнецов вчера пообещал Аверьянову рассказать молодым строителям о военных днях гидростанции, он надеялся на свои записи тех лет, которые недавно привел в порядок — переписал, дополнил. Конечно, лучше говорить, рассказывать, чем читать, и он все время досадовал на себя, что не может обойтись без записей. Но, когда он подошел к круглому, как бы домашнему столу, стоящему не на сцене, а среди небольшого зала, к столу, окруженному молодыми и немолодыми лицами, он подумал, что читать-то, пожалуй, будет лучше, удобнее. Он сел, надув губы, вздохнул и вытащил перегнутую надвое тетрадь. Придерживая пальцем синюю закладку, он открыл тетрадь где-то на середине. В это время Лиза заметила, что Витя, вынув что-то из кармана — не то отвертку, не то гвоздь, — отвинчивал медный номерок “14” на спинке переднего стула. Она, сжав его руку и даже пришлепнув по ней, отвела ее от номерка. — Да я хочу завинтить! — зашипел он. — А то отскочит, потеряется… — Все равно не надо! — не сразу, но решительным шепотом сказала Лиза, не выпуская его руки. — Слушай лучше… Читатель! Мы приближаемся к концу пути, и тут нас ждут перемены — и времени, и места, и людей. Всякие поиски долго идут на ощупь, неожиданно переходя с одной тропинки на другую, пока не откроется настоящий след, который иногда меняет многое… Так было и с той семьей, которая приехала в Завьяловск. Мать и дочь начали свой путь в погожий, мирный день недавней московской весны, начали наугад, имея только горячее желание — найти след мужа и отца. По пути подходили доброхотные помощники. Но вот к столу с дневником в руках выходит новый человек — и все меняется: и время, и люди, да и место. ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ КУЗНЕЦОВА “4 января 1944 г. По недавней сводке знали, что левый берег и Завьяловск мы отбили, но правый пока у немцев. О знаменитой Завьяловской плотине в сводке не говорилось, и мы гадали: цела ли? А если цела — чья же она? Но сегодня, когда наша часть прибыла в Завьяловск, увидели — плотина на месте. Да, на месте, но в каком виде! Восемнадцать бычков наверху взорваны, а между 27-м и 28-м бычками гитлеровцы даже выхватили кусок из тела плотины. Шлюз уничтожен. Больно смотреть. Помню, когда плотину построили, во всех газетах внизу страницы были длинные фотографии. Помню, из техникума, еще мальчишками, мы ездили сюда на экскурсию. В солнечный тогда день мы подошли к реке и все сразу замолчали. Какой-то озноб прошел по спине. Это была гордость… И вот теперь она — изуродованная, щербатая, опаленная взрывами. И небо над ней серое. Мы тоже, как и тогда, молча стояли на берегу, но это было уже другое молчание. Да и стояли мы не в открытую, а таясь — они ведь еще на том берегу. Но зато сегодня взята Белая Церковь. 9 января Сегодня меня и капитана Савицкого вызвали к полковнику в штаб. Удивило, что тут же были двое штатских. Один из них — инженер Владыкин, работавший во время строительства станции по гидромонтажу, другой — представитель того наркомата, который ведает гидросооружениями в стране. Они прибыли еще до нас, вместе с войсками, бравшими левый берег, но потом ездили в штаб фронта. Сошлись интересы: для нас плотина — как мост на тот берег, чтобы дальше гнать фашистов, для них же плотина — это плотина. Впрочем, конечно, и у нас и у них интерес один. Вчера ночью Владыкин с нашими саперами-разведчиками облазил плотину. Мы за это время кое-как, своими средствами, сделали ее проходимой. Но я знаю, что это за прогулка была у Владыкина! Тут надо быть акробатом — то идти по переброшенной обледенелой доске, то, как обезьяна, хвататься за перекинутый трос и перебирать руками. А под ногами ничего нет — ночь, пустота… До конца, до правого берега, Владыкин, понятно, не дошел. Немцы заметили, стали обстреливать. По словам Владыкина, разрушения ужасны, но поправимы. Это с точки зрения строителя, восстановителя. Примерно то же самое сказал капитан Савицкий. По нашим данным: при наступлении на разрушенных местах проезжей части плотины можно будет перекинуть заготовленные мосты. Полковник, выслушав все это, вынул из папки бумагу и сказал: — Если бы и дальше так было, то еще хорошо… Сейчас у гитлеровцев пока малая задача: разрушением проезжей части плотины отгородиться от нас, от нашего наступления. Да и то вот наши разведчики пробираются. Правда, только разведчики и только ночью. И до правого берега не доходят. Но, надо полагать, враг на этом не успокоится. — Он кивнул на бумаги. — В отчетах по опросу пленных, взятых на разных, даже далеких от гидростанции участках, везде решительно говорится, что при отступлении от реки плотина будет взорвана до основания. Значит, в ней есть заряды, заложенные, но еще не использованные… Мы затихли. Каждый из нас повторил про себя: “До основания…” Но гитлеровцы уже бегут, война не вечна — как же потом без гидростанции?.. 10 января Вчера же ночью приступили к поискам мин. Представитель наркомата привез чертежи плотины. Ну и хозяйство! Плотина кажется монолитной, а на самом деле в ней две потерны — два сквозных коридора — прорезают ее вдоль — от берега до берега. О верхней потерне мы знали, но о нижней — только теперь. Еще вентиляционные колодцы — это уж просто бетонные норы в теле плотины. К чертежу мы прибавили еще донные отверстия. В нашей плотине их не было, но гитлеровцы, когда овладели гидростанцией, прорубили их. Стали прикидывать: где могут быть мины? Владыкин сказал, что в любом месте плотины фашисты могли отбить бетон, положить заряд и замуровать его. А в плотине больше полукилометра. Поди ищи! Это было, конечно, верно, но Владыкин только строитель, а не сапер, который и строит и разрушает. Поэтому капитан Савицкий сказал: — Вспомним насчет “до основания”. Тут не каждая мина “сыграет”, а только далекая и глубокая. Чем больше сопротивление для взрывчатки, тем больше разрушение. Она как бы мстит: “Чем глубже меня прячешь, тем больше я разнесу…” И таких мест оказалось немного: верхняя и нижняя потерны, донные отверстия и вентиляционные колодцы. Все это находилось в глубине плотины. Фашистских подрывников должна была больше всего привлечь нижняя потерна. Судя по чертежу, эта узкая, не выше роста человека полукилометровая нора-коридор проходила ниже уровня воды, почти у самого основания плотины. Владыкин повел нас к нижней потерне, но и сам ее не узнал, может быть, поэтому и мы о ней не догадывались: вход в нее с нашей стороны был завален рваным бетоном, и между обломками стояла вода, подернутая сверху ледком. Может быть, фашисты нарочно затопили потерну, чтобы не дать возможности обнаружить спрятанные там мины, или вода сама прорвалась через трещины от взрывов в верхних частях плотины, — неизвестно. Савицкий приказал на завтра вызвать водолаза, а вчера же саперы-разведчики осмотрели, насколько могли, верхнюю потерну. Двигались медленно, шаг за шагом. Помогали и собаки. Нельма в одном месте что-то учуяла, но исследовали и даже взяли пробу — бетон оказался старый, нашей давнишней кладки. Сегодня повторяем маршрут. Если на гитлеровцев сильно нажмут с флангов, они должны будут откатываться от реки, от станции, а это значит — перед бегством мерзавцы разделаются с плотиной… 13 января За эти дни были повторные поиски в верхней потерне и начали исследование вентиляционных колодцев и донных отверстий. Была работка!.. К колодцам и к отверстиям — это не потерна — надо подходить в открытую. Не спасала и ночь — то луна светит, то снег заскрипит. Надо прятаться, ждать конца обстрела. Из десяти донных отверстий, пробитых фашистами, пять они забетонировали полностью, а пять — наполовину. Мы бурили и те и другие. Пробурили вглубь на два метра и ничего не нашли — сплошной бетон. Прибыл ефрейтор Чикильдеев. В первый раз вижу водолаза. Я думал, что это громадные люди, — оказалось, обычные. Среднего роста, коренастый, с усиками-колечками. Я в первый раз вижу водолаза, а Чикильдеев — в первый раз такую работу: спускаться не сверху вниз — это придется немного, — а главным образом идти по длинному горизонтальному коридору, наполненному до потолка ледяной водой. Он готовит шланг черт знает какой длины… 15 января Говорят — дисциплина, приказ. Бутузов мог бы пройти мимо вентиляционного колодца, которого ни Савицкий, ни я не заметили — был закрыт обломками. Но он разгреб их, и его спустили в колодец на тросе. И вот тоже: как тросу пришел конец, его могли бы вытянуть обратно. Но этот колодец оказался почему-то глубже других, и троса не хватило. Человек, у которого в голове только приказ, дал бы команду: “Поднимайте!” — и никто бы не узнал, что до дна колодца солдат не долез… Бутузов же попросил надвязать трос и пошел спускаться дальше — совсем уж в преисподнюю. Всем хочется спасти плотину, но итоги такие: ни в верхней потерне, ни в донных отверстиях, ни в вентиляционных колодцах мины не обнаружены. Посмотрим, что будет у Чикильдеева в нижней потерне. Сегодня он отправляется. За ним змеей потянется бесконечный шланг, составленный из обычных сорокаметровых кусков. 15 января, вечер По порядку, как было… Оделся Чикильдеев тепло — вода ледяная. Завинтили ему шлем на скафандре, проверили воздух, телефон, и он вошел в воду. За ним поползли воздушный шланг и сигнальный конец. Прошла минута, две. Он стал выбирать шланг. Много. Так было условлено. Он выбирает несколько кругов и на этом запасе идет дальше. Потом останавливается и опять выбирает. По отметкам на шланге видно, сколько уже прошел: 62, 64, 66, 68 метров… Черная змея все ползет и ползет за ним. По телефону — все спокойно, ровное дыхание, идет медленно, освещая стены фонарем. Света, конечно, мы не видим, но догадываемся. Стоим около воздушного насоса и курим. Медленно тянется время. Вдруг слышим по телефону: — На левой стене вижу квадрат свежего бетона. Размер — метр на метр. Нижний край на уровне груди, верхний — под потолком. Смотрите отметку! Ну, наконец! Она! Общее возбуждение. Отметку на шланге мы уже увидели: 204 метра. — На левой стене вижу квадрат свежего бетона… — Чикильдеев начинает повторять, но ему говорят, что все слышно, и он продолжает: — Провод заделан в бетон. Дорожка свежего бетона начинается с правого верхнего угла и идет под потолком к правому берегу. Без подмостков не достать. Иду дальше — может, дорожка будет спускаться. У Чикильдеева было с собой все, чтобы открыть замурованный в бетон, обычно неглубоко, провод и разомкнуть электровзрывную сеть. Но о высоте проводки мы не подумали. Кто-то посоветовал послать ему с сигнальной веревкой ящик или табуретку. Но тогда в случае порчи телефона он останется без сигнала. Может быть, и в самом деле провод где-нибудь опустится. Шланг уходил все дальше: 250, 252… И все медленнее — тяжесть шланга, которую надо тащить за собой, все увеличивалась. Но вот Чикильдеев передает радостным голосом: — Впереди себя, справа, вижу плашки бетона! Попробую перенести к левой стене и встать на них. У нас отлегло от сердца. Однако Чикильдеев чего-то медлит — шланг не выбирает. — Давайте шланг! Ему отвечают, что шланг свободен, но он опять его требует — не может дойти до этих плашек. Потом смолкает. Слышно тяжелое дыхание. Его спрашивают, что там. Он отвечает, что шланг, наверное, где-то заклинило и он его старается вытянуть. Минута, другая — что-то бормочет, опять слышно дыхание, и вдруг он быстро: — Разрыв шланга! Этого можно было ждать: в каком-нибудь из многих сорокаметровых кусков шланга при сильном потягивании, очевидно, сдала муфта крепления, и шланг разъединился. Значит, качаем воздух не Чикильдееву в скафандр, а в пустую воду, в потерну. Вода в тот кусок шланга, который остался у Чикильдеева, не должна прорваться — ее задержит клапан, но воздух — много ли его в скафандре? Сигнала от него нет. Запрашиваем. Слышна какая-то возня, сопение. Потом голос — глухой, разбираем с трудом: — Иду к разрыву! Выбирайте! Сигнальный конец начинают выбирать, помогать водолазу двигаться. Где разрыв шланга — в начале, в конце ли? Надолго ли хватит воздуха? В телефон уже не голос, а хрип… Вот уже не отзывается… Веревка вдруг тяжелеет. Слышен хрип — и тихо. Совсем тихо… Мы вытаскиваем мертвого Чикильдеева. Открываем шлем — узнать нельзя. Только усики колечками… 16 января На сегодня решили снарядить в нижнюю потерну на отметку 204 молодого водолаза Ярощука, прибывшего вместе с Чикильдеевым. Храбрый парень — после всего случившегося сам вызвался. Да и всем понятно: минная камера обнаружена, провод идет на вражеский берег, и каждый час, каждую минуту можно ждать… Хотел идти тут же, после Чикильдеева, но надо было заново осмотреть муфты соединения на шланге. Хотя виноваты, вероятно, не муфты, а куски рваного бетона, которые тут, в районе плотины, буквально всюду. Лежащие где-нибудь под водой, недалеко от входа в потерну, они и заклинили шланг. Разрыв-то произошел в сорока восьми метрах от насоса. Но фашисты, видимо, пронюхали нашу вчерашнюю возню в нижней потерне и с ночи со своего входа в потерну стали взрывать какие-то мелкие заряды. Из нашего хода вырвались бурные, сильные выплески воды — водолазу на ногах не устоять. И этого им показалось мало: с раннего утра открыли редкий огонь по району, где у нас вход в нижнюю потерну. Он укрыт, но все же немцы стараются отпугнуть. И она под такой охраной спокойно лежит на 204-м метре… 17 января Говорят, что между тремя и четырьмя часами ночи все на земле спит. И мир спит, и война спит. Это было бы верно, если бы эту истину знал кто-то один. Но на войне ее все знают, и кому надо — не спят. Не спали сегодня ночью и немцы — они продолжали редко, методично класть снаряды в районе нашего входа в потерну. Но от этого их часовые как бы дремали — орудийный голос отвлек их от плотины и заглушил шум на ней… Сегодня в 3.40 ночи саперы-разведчики Федор Бутузов и Данило Зайченко впервые проникли на правый берег и близ нулевого бычка перерезали толстый шланговый — четырехжильный кабель. Он шел в верхнюю потерну с отводом в нижнюю. Разомкнули искусно: вырезали жилы, оставив оболочку. Кабель казался нетронутым. (Теперь Ярощуку не надо лезть к 204-му метру.) Сейчас они докладывали полковнику. Прослышав о кабеле, в штабе собрались все штабные и нештабные. Еще бы — и первыми на правом берегу побывали, и такое дело!.. Рассказывает — в который уж раз! — разбитной, румяный Бутузов, а высокий Данило Зайченко, опустив длинные руки, молча слушает, слушает со вниманием, с любопытством, будто его там, рядом, не было!.. Полковник будет их представлять к орденам. Я бы дал им Героя! Их плотина! Под Ленинградом взято сорок населенных пунктов. 18 января Признаки были и раньше, но теперь все яснее — гитлеровцы собираются покидать гидростанцию, реку. На шоссе у них большое движение в западном направлении. Да и по карте видно — во многих местах с правого берега их вышибли, а в районе станции с минуты на минуту они могут ждать окружения… 19 января Взрывы и пожары на том берегу — обычное перед их бегством. Негодяи! Мы ведем артобстрел, чтобы разогнать поджигателей и взрывателей, но это не очень эффективно… Мы не знаем, где у них находятся подрывные станции. Но к нулевому бычку, к разомкнутой электровзрывной сети на плотине, они уже не подступятся! Вчера мы открыли беспокоящий — а для нас заградительный — огонь по району нулевого бычка, а этой ночью пулеметный взвод вместе с Зайченко и Бутузовым перебрался на край плотины и сейчас не умолкая чешет перед нулевым. Муха не пролетит… 25 января Много событий за эти шесть дней. Освобождены Новгород, Лигово, Царское Село, Красное Село, Павловск. У нас же события как бы мирные. Правый берег очищен, война ушла от гидростанции, и только темной ночью видны далекие зарницы на западе. Звук уже не доходит. Единственное — бомбежка. На второй же день, как фашисты откатились, был налет. В бессильной злобе метили в плотину — не могли уничтожить с земли, так вот теперь с воздуха. Наши зенитки дали им жару! Бомбы побросали в воду. Не меньше тонны каждая — гигантские столбы воды. И так три дня подряд. Приехал мой брат, работает на правом берегу нормировщиком. Из-за сгоревших домов теснота такая, что живем с Григорием в поселке врозь, видимся редко. Часть наша ушла вперед — и полковник, и Савицкий, и Бутузов с Зайченко. Меня временно оставили на станции по ходатайству “Группы строительства”, возглавляемой представителем наркомата Белугиным. Вот она, Советская власть! Сразу за войной — труд, за солдатами — строители. А у нас тут даже так: солдаты же и берутся за топор. Прибыла специальная часть подполковника Тоидзе, которая будет на первых порах помогать “Группе строительства”. Сама группа тоже разрослась — приехали не только недавние эксплуатационники, которым, как это ни странно, при неработающей станции тоже нашлась работа, но и давнишние строители. Что я, видевший гидростанцию на газетной картинке и раз — на экскурсии! Эти же люди создавали станцию или много лет работали по эксплуатации ее. Надо было видеть этих приезжих, когда они подошли к уничтоженному шлюзу, к плотине, когда ступили на правый берег… Там уж просто был железобетонный хаос. Нет ни турбин, ни корпуса управления, ни аванкамерного моста… Слезы выступали на глазах… Потом сели на куски рваного бетона, сели в кружок, закурили, как погорельцы. И в самом деле погорельцы — все сгоревшее было не чужое… Работа началась сразу же. Сперва общее — размеры разрушений, что в первую очередь делать и распределение сил по объектам. Меня оставили на плотине, как уже знакомого с работами на ней. Часть подполковника Тоидзе тоже была распределена, и на плотину была выделена группа под руководством заместителя командира — майора инженерных войск Шувалова. Я и был причислен к его группе. У нас две первоочередные работы: 1) разминировать плотину, 2) открыть донные отверстия. Месяца через два начнется паводок, и вода, идя через разрушенные водосливы на верху плотины, естественно, будет размывать ее, увеличивать разрушения. Воду надо спустить низом, через подножие плотины, открыв там забетонированные немцами донные отверстия. Начали, конечно, с разминирования — нельзя работать, жить рядом с взрывчаткой, с минами… На плотине все снова было осмотрено. На этот раз тщательнее — при дневном свете, без опасения обстрела. Бычки, водосливы, щиты Стоннея, опять вентиляционные колодцы. Сегодня весь день — в верхней потерне. Я рассказал Шувалову о событии 17 января, однако перерезанного кабеля около нулевого бычка мы не нашли: заградительный огонь в этом районе завалил или уничтожил тут проводку… Вообще-то кабель был — его нашли в стороне, — но как было проверить его направление? Бутузов с Зайченко не ошибались, говоря, что он идет к плотине, но они не могли, конечно, точно указать, куда он шел — в верхнюю или в нижнюю потерну, — ибо в любом скрытом месте кабель мог изменить свой путь. Относительно проводки к нижней потерне у нас не было сомнения: 204-й, до которого мы еще не добрались. Но второй конец? Он мог пойти не в верхнюю потерну, а свернуть в нижнюю, ко второму там заряду, или еще куда… Но мог проползти и в верхнюю. И вот сегодня в верхней. Шли шаг за шагом, с сильными фонарями, с собаками. Пять раз брали пробу — ничего. Нельма опять на том же месте что-то учуяла. Но пустили следом Весту — она прошла мимо. На всякий случай бурили. 27 января Сегодня вспомнили Чикильдеева. На 204-й метр пошли “легкие” водолазы подполковника Тоидзе. Воздушного шланга, который может заклиниться и разорваться, с ними нет, а сжатый воздух в баллонах они несут с собой за плечами. Были две неожиданности. Первая: квадрат свежего бетона водолазы нашли на 196-м метре. Решили, что Чикильдеев проглядел его. Стали ждать того, который на 204-м. Но того не оказалось ни дальше, ни ближе. Поняли, в чем дело: Чикильдеев, прежде чем заметить минную камеру, выбрал на себя шланг, по которому мы и вели измерение. Он стоял к нам ближе, чем выходило по шлангу. О второй неожиданности майор Шувалов сказал: “Это мог сделать только настоящий человек!” Что же Чикильдеев сделал? Плашки бетона, которые он тогда увидел справа и впереди себя, сейчас водолазы обнаружили у левой стены потерны, положенные друг на друга. Это значит, что, когда произошел разрыв шланга, Чикильдеев подумал не о себе, а о спасении плотины. На том ничтожном запасе воздуха, который у него был в скафандре и который ему пригодился бы для возвращения к выходу из потерны, он успел перенести плашки на левую сторону, положить друг на друга, встать на них и начать отколачивать бетон с замурованных проводов — водолазы нашли над плашками следы его работы — и, когда уж стал задыхаться, терять сознание, заторопился к разрыву: может, надеялся, что разрыв недалеко от него, что, получив воздух, он вернется, чтобы кончить с кабелем! Да, Чикильдеев… И по телефону ничего не сказал! Ему бы не разрешили оставаться. Водолазы довольно быстро вскрыли и очистили эту минную камеру. Заделка, по их словам, была неглубокая: сантиметров пятьдесят—шестьдесят бетона. Гитлеровцы, вероятно, считали, что вода в потерне будет служить дополнительным сопротивлением. При небольшом выходном отверстии —метр на метр — камера имеет около двух метров глубины. Стоял тол в ящиках. Сменив баллоны, водолазы осмотрели нижнюю потерну и дальше — до правого берега. Когда расходились, майор опять вспомнил водолаза с плашками: “Да, дядя… Какое самообладание! Позавидуешь!” — Сегодня радио — мы взяли Гатчину… Шагаем! 28 января На днях майор переехал на край города, на улицу Шевченко. До этого перебивался в поселке — и плохо и далеко от работы. А работа такая, что каждую минуту надо быть поблизости. Сегодня он пригласил к себе старшего лейтенанта Карнауха, лейтенанта Иванцова и меня. Сейчас только вернулся оттуда. Было как на новоселье. Сперва все чин чином, а уж после, как отсели от стола, начался разговор. Дома, без шинели и шапки, в роговых очках, майор был другой — подобрее, поласковее и будто поменьше ростом, подомашнее. И мы его как-то легко стали звать Михаилом Михайловичем. Когда встали от стола, он сказал: — Первую нашу задачу — разминировать плотину — мы не выполнили. То, что мы нашли в нижней потерне, — пустяк для такого мощного сооружения, как плотина. Это ясно по самым элементарным вычислениям. — Майор тут кивнул на стол в углу, где лежали раскрытые книги и исчерченные листы бумаги. — Этот заряд, — продолжал он, — мог играть роль только как сопутствующий, помогающий… Так что тот электрокабель, который при Алексее Христофоровиче, — тут он стал смотреть на меня, будто я за это отвечаю, — разомкнули Бутузов и Зайченко, пока что не имеет настоящего адреса. Куда и к чему он вел? Ведь не только к 196-му метру? — Надо мину искать дальше, — сказал Иванцов. Михаил Михайлович усмехнулся: — Золотые слова! Но где? Не всю же плотину перерывать… Мы поняли, что из-за этого-то майор и устроил новоселье. Голоса разделились: я считал, что надо осушить и спокойно осмотреть нижнюю потерну. Мотивы — за: 1) самая низкая, самая закрытая, а значит, и самая выгодная позиция для взрывчатки, “любящей” большое сопротивление, 2) немцы, заметив нашу возню в нижней потерне, когда ходил туда Чикильдеев, старались помешать дальнейшим нашим поискам, 3) чего нельзя сказать про донные отверстия: их, во-первых, уже бурили на два метра и ничего не нашли, а во-вторых, немцы особо их не охраняли. Лейтенант Иванцов промолчал, затрудняясь ответить, а старший лейтенант Карнаух стал говорить о донных отверстиях. Его мотивы: 1) донные отверстия, располагаясь поперек между верхней и нижней потернами, могут иметь позицию для взрывчатки; 2) маскировка минной камеры при бетонной заделке не проста, камера в нижней потерне была обнаружена по квадрату свежего бетона, но там немцы рассчитывали на воду — она не даст нам возможности проникнуть к камере, 3) поэтому они должны были расположить камеру там, где мог быть их свежий бетон, то есть в забетонированных ими донных отверстиях. Рассуждение старшего лейтенанта мне понравилось, но я напомнил, что в 1942 году, после нашего отступления от станции, немцы, как говорили жители, ремонтировали плотину, следовательно свежий бетон может быть и в других местах. — Верно, — сказал Карнаух. — Но давайте вспомним, где эти ремонтные пятна. Ведь только на верхних строениях плотины. В одном лишь месте свежий бетон спускается примерно до уровня верхней потерны. А мы ищем низкие камеры… Я мельком подумал об этом большом пятне над верхней потерной, вспомнил Нельму… И тот 17 января перерезанный кабель… Михаил Михайлович сидел в углу. Он улыбнулся, потер свои маленькие руки и сказал: — Я вас помирю вот на чем. Первую свою задачу мы не выполнили, так приступим прямо ко второй — к вскрытию донных отверстий, с чем нас очень торопят строители. С завтрашнего дня приступим. Но вот как? Если камера — в одном из донных отверстий, то чем раньше мы ее обнаружим, тем свободнее, безопаснее, а значит, скорее можно будет открывать другие. У нас две группы отверстий: одни забетонированы целиком, другие — наполовину. Сначала надо решить, с каких мы начнем. Где больше шансов найти минную камеру? Прошу вас завтра всех троих взять народ и осмотреть место действия и к 13.30 доложить. Хотя мой вариант нижней потерны не был принят — Михаил Михайлович деликатно его обошел, — я все же был уверен: там, где больше “забивка”, там и мина, то есть отверстия, полностью забетонированные, более подозрительны. Карнаух поддержал меня: “Да, да, конечно…” И стал говорить о том, что гитлеровцам не было смысла, поместив минную камеру в донном отверстии, забетонировать ее только наполовину. Почему? Бетона, что ли, не хватило? Старший лейтенант еще не кончил говорить, как румяный, с веселым желтым чубом на лбу Иванцов уже стал хитро улыбаться. До этого он хмурился, ему, видимо, было неловко, что он мало высказывается, и теперь решил что-то сказать. В нетерпении он даже пересел со стула на стул. И, когда Карнаух кончил, он быстро проговорил: — Вот именно поэтому-то они и могли поместить камеру в полузакрытом отверстии. Нарочно! Раз вы так думаете, раз многие так подумают, то они сделали наоборот. Так сказать, психология с обратной стороны. О ней еще писатель Достоевский говорил! Майор возразил: — Если уж сегодня мы дошли до психологии, то, по-моему, надо говорить не об “обратной”, а о самой обыкновенной психологии захватчиков. Гитлеровцы собирались навечно жить тут и владеть первоклассной гидроэлектростанцией. Что же они делают? Они ремонтируют разрушения, чтобы пустить станцию в ход. В частности, чтобы отстроить верхние строения плотины, они спускают воду низом, через донные отверстия, которые временно пробивают в теле плотины. Так? Так… Когда строительные работы наверху у них кончились и воду можно было пустить нормальным путем, через водосливы, то есть начать эксплуатировать плотину, надобность в донных отверстиях отпала, и они их закрыли, забетонировали. Но была ли у них полная уверенность в благополучном существовании здесь? После Курской битвы вряд ли на это можно было рассчитывать… Пока майор зажигал папиросу, Карнаух успел вставить: — Простите, Михаил Михайлович, но, если у них не было уверенности, зачем они закрывали отверстия, готовя тем самым плотину к нормальной эксплуатации? Это громадная работа, не для нас же они старались! — Но я и не говорю, что у них не было никакой уверенности, — продолжал Шувалов. — У них не было абсолютной. У них была большая, самонадеянная уверенность. “А вдруг?” — закрадывалось сомнение. Пять отверстий они закрывают, бетонируют полностью на тридцать метров. Пять же других отверстий они бетонируют не на всю глубину туннеля, а только там, где отверстия принимали воду со стороны верхнего бьефа… Для пользы дела одинаково: закрыть бочку с водой длинной затычкой или короткой. Всё равно это и для эксплуатации плотины: и при более тонкой заделке отверстия не пропустят воду. Но почему же все-таки не забетонировать полностью, как первые пять? Да вот из-за этого “а вдруг”. Может быть, к этому времени оно усилилось — было какое-то новое продвижение наших войск. Но уверенность у гитлеровцев, что их отступление не дойдет до реки, еще существует. Будь иначе — к чему им возиться с плотиной? Однако и “а вдруг?” уже существует… Как же они поступают? Как легче, как проще. Помещать минную камеру в наглухо заделанном отверстии — большая работа: надо ведь будет много метров бетона отбить и потом почти столько же метров снова заложить. Проще поместить заряд в одном из мало заделанных отверстий, поместить даже в последний момент, закрыть его бетоном и ждать этого “а вдруг”. Михаил Михайлович замолчал и обвел нас глазами. Я вернулся к своей мысли и спросил: — Почему же они это отверстие после закладки туда мины не забетонировали полностью? Для взрыва же выгоднее? — Мы, конечно, только гадаем. Но, может быть, потому, что они не успели. Это раз. А второе — чтобы быстрее извлечь мину, если опасность нашего наступления минует. А почему таких полузаделанных осталось пять, это понятно. Оставь они только одно такое из десяти — и мы сейчас и разведчики до нас сразу бы обратили на такое отверстие внимание. А гитлеровцы должны были подумать о маскировке мины, так как, собираясь взорвать ее в самый последний момент, они могли предположить, что плотина окажется в нейтральной зоне, то есть доступной для наших саперов-разведчиков. 29 января, утро Вчера, уже ложась спать, подумал: бывают люди, которые, напав на какую-то мысль, догадку, начинают к ней подтягивать факты, доводы. Многие из них легко ложатся, приходятся, как говорится, в масть — здание растет, крепнет, становится стройным. Но попадаются факты и доводы, которые не хотят ложиться. Тогда их поворачивают и загоняют насильно. И вот из-за этих кривых кирпичей здание или рушится, или припадает на один бок… Шувалов до войны, как передавали, был научным работником. А в кабинетной тиши это чаще всего, по-моему, и может быть. В самом деле, его рассуждение о минной камере в одном из полузаделанных отверстий мне вчера показалось стройным, убедительным, но сегодня вижу в нем натяжки, кривые кирпичи. Например, его довод: оставили все пять отверстий, в том числе и то, что с миной, полузаделанными из-за маскировки. Да почему? Ведь если отверстие минной камеры будет забетонировано полностью, оно тоже будет маскироваться присутствием других пяти таких же отверстий. Оно будет шестым полным. Следовательно, маскировка будет не хуже, а лучше: мы при разминировании должны были бы выбирать не из пяти, а из шести. А во-вторых, Михаил Михайлович почему-то обошел главное — действие мины при полном закрытии будет сильнее. И еще: можно, конечно, согласиться с майором, что мину гитлеровцы закладывали тогда, когда уже пять отверстий были наглухо закрыты. Конечно, они не отбивали тут метры бетона, чтобы положить заряд, а воспользовались как бы уже готовой камерой в одном из малозаделанных отверстий. Это так. Но, по-моему, ясно также и то, что после закладки мины они должны были этот туннель заложить до конца. Если так, то что же тогда получается со стройным рассуждением Михаила Михайловича о камере в каком-то из пяти полузакрытых? Иду на место… И вчера и сегодня об отверстиях. Не много ли? И ничего о потернах… 29 января, вечер У донных отверстии застал Карнауха и Иванцова с помощниками. Я не взял никого, так как меня интересовало то, что я мог и один увидеть. Дело в том, что, еще подходя к плотине, я подумал: времени, когда немцы закладывали мину, мы не знаем, но, может быть, об этом расскажет работа их бетонщиков? Если мы это будем знать, то многое прояснится… Спустившись сверху в люльке и выйдя на шаткие длинные мостки, проложенные вдоль отверстий, я стал переходить от одного к другому. Глядя с берега, эти квадратные дыры, пожалуй, можно было назвать “отверстиями” в сравнении с громадными размерами самой плотины. Но тут, вблизи!.. Это, конечно, туннели, да и не маленькие! В любой такой незаделанный туннель легко можно вдвинуть одноэтажный домик, впустить паровоз. Я шел, останавливался, входил в туннели, всматривался в бетон. Вот туннель полностью заделан. Все тут старательно, добросовестно, — видно, что опалубка была разбита на звенья, на прямоугольные блоки, работа аккуратная, неторопливая, бетон высокого качества. В полузаделанные туннели пришлось входить с фонарем — даже дневной свет плохо освещал заделку внутри. Тут была совсем другая работа — небрежная, наспех, будто бетонщиков подстегивали. И бетон дурацкий — ноздреватый, с большим количеством раковин. Мне кажется, можно было установить закономерность: первые пять заделывались раньше, когда у врага была полная уверенность во владении станцией, а вторые пять — уже тогда, когда ему стало мерещиться “а вдруг”. Значит, майор прав, мина может быть только в этих полузакрытых. Но тем не менее мне все казалось, что туннель с минной камерой, — если только вообще она могла быть в донных отверстиях, — гитлеровцы должны были заделать полностью… Я опять обошел закрытые туннели, стараясь найти наспех заделанные отверстия из того бросового, ноздреватого бетона. Попадись такой бетон на заделанном отверстии — почти стопроцентная гарантия, что заряд именно тут! В самом деле, подозрительно: и полностью заделано, и плохим бетоном. В сущности, и все доводы Михаила Михайловича оставались бы тогда нетронутыми, так как такое отверстие можно было бы рассматривать, как бывшее полузаделанное. Я искал ноздреватый бетон у закрытых туннелей, но нашел другое… Старший лейтенант и Иванцов с солдатами находились далеко от меня, почти у левого берега. Они бурили или готовились бурить. Я один тут стоял на шатких мостках и не отводил взгляда от тоненького рубчика на бетоне… Это было поразительно! Швы от опалубных досок на старом теле плотины, от досок, которые наши бетонщики убрали чуть не пятнадцать лет назад, и швы от досок на заделанном немцами отверстии совпадали, составляли продолжение один другого… Что это — немецкая аккуратность или маскировка? Правда, громадный квадрат — 5×5 метров — заделанного туннеля не скрыт, выделяется своим цветом. Но, может, маскировщики не рассчитали, маскировка со временем слезла, уничтожилась и я сейчас вижу остатки ее? Например, для сокрытия заделанных отверстий могла быть применена очистка сухим песком — в брошенных немцами складах мы ведь нашли пескоструйные аппараты! — всей нижней поверхности плотины, в том числе и пяти квадратов свежего бетона. Все становилось однообразным и по цвету и по фактуре. Но со временем от маскировочных работ сохранились только вот эти совпадающие швы, а новый бетон все же проступил. Так могло быть. По-моему, в моих доводах не было кривых кирпичей… Но что же тогда получается? Рассуждение о спокойных и торопливых бетонщиках — чепуха! Именно спокойные, с усердием, не спеша, замуровали тут или в другом таком же заделанном туннеле взрывчатку. Теперь выходит обратное: был прав я, а не Михаил Михайлович. Правда, и он и я строили вчера догадки, не зная об этих швах. Такую же старательную подгонку швов я нашел и на других четырех закрытых отверстиях. Ко мне по мосткам подошел хмурый высокий Карнаух, и я рассказал ему все, что заметил. Он выслушал и не торопясь сказал: — Так-то это так, но тогда получается, что фашисты совсем не верили в свой век! А ведь Гитлер говорил даже о тысячелетии… Я тоже вчера стоял за закрытые, но я не думал, что они такие разные с полузакрытыми и по времени и по работе. — Тут он вытащил из кармана шинели два обломка бетона — хорошего и ноздреватого. — Лаборатории у нас нет, но сержант Лебедев на глаз определил, что этот вот, халтурный, помоложе будет, а настоящий — постарше… — Ну, и что же вы думаете? — спросил я его. — Что собираетесь доложить майору? Карнаух подошел ко мне хмурый, но сейчас, после наших новых сомнений, он словно повеселел. — Я думаю, — сказал он, — что надо оставить всякую психологию. И прямую и обратную. Вчера, когда мы от майора разошлись, я голову себе тоже этим забивал. И сегодня с утра. А сейчас вижу, что мы с Иванцовым поступили правильно: начали просто бурить и будем бурить подряд все десять. До нас брали на два метра, а мы войдем буром на три. Если есть камера, то на трех-то метрах она, милая, покажется! В 13.30, когда мы явились к майору, он так и доложил: — Приступил к бурению и прошел пока четыре отверстия. Я рассказал, почему в течение дня менялись у меня доводы “за” и “против”. Майор сказал: — Ну хорошо, не будем больше гадать. Посмотрим, что покажет бурение. Пожалуйста, продолжайте его, Василий Тимофеевич! Он обратился к Карнауху, и, может быть, без этого невоенного “пожалуйста” я бы не позавидовал старшему лейтенанту… А тут подумал: и я бы мог предложить побурить на три метра. 30 января, вечер Пробурили все десять — ничего. Карнаух расстроен. Я его понимаю — была надежда все равно как у охотника или у кладоискателя. И все сегодня от него ждали… Как бы в оправдание, он стал поговаривать о потернах. В частности, заговорил о косом пятне свежего бетона на уровне верхней потерны. Об этом пятне я подумал еще на новоселье у Михаила Михайловича, но мы тогда быстро перешли на донные отверстия. Майор приказал, хотя и с прибавлением “будьте добры”, оставить поиски и умозаключения и начать вскрывать донные отверстия. Конечно, отбивку бетона вести осторожно — осторожно во всех десяти туннелях. Сейчас заняты планом работ, расстановкой сил. 31 января, ночь Сегодня в девять часов вечера неожиданно показались “юнкерсы”. Давно их не было. Опять на плотину, но опять зенитки перехватили их. Прорвался один и опять мимо положил, но все же наши мостки около донных сорвало. Плотники будут работать всю ночь. На днях освобождены Тосно и Ново-Сокольники. Брат когда-то в Ново-Сокольниках был на практике и теперь переживает: что осталось? Что-то от Савицкого нет писем. Как там наши? 1 февраля Фронт работ решили развернуть сразу на десяти участках. И по нескольку бурильных молотков на каждом. Их не хватало. Хорошо было бы достать и лишний перфоратор. Снарядили Иванцова в город — завьяловские заводы стали уже съезжаться на свои разоренные места, и в одном из них, по слухам, было нужное нам оборудование. То, что нам дадут, не было сомнений — еще бы, такое дело! Но майор выказал щепетильность. Мало того, что Иванцову была заготовлена официальная бумага, Михаил Михайлович еще от себя написал директору завода письмо, где в деликатных тонах просил одолжить и перфоратор, и бурильные молотки, обещая вернуть в срок, в целости и т. д. Но дело не в этом, а в том, что Иванцов, взяв два пакета и сговорившись с гаражом о высылке по его телефонному звонку грузовика к заводу, буквально через час, не вызвав машины, без всего явился к нам на плотину взбудораженный. Но по-особому взбудораженный. Смешливый, любивший с многозначительной улыбкой помолчать, если дело касалось серьезного, и сразу оживлявшийся при шутке, — тут Иванцов не был похож на себя: он был тих, строг, официален, и даже его желтый чуб был приглажен. Поэтому мы и поняли, что Иванцов взволнован и что-то произошло… По его словам, было так. В холодной приемной у директора завода оказался он и какой-то старик в овчинном полушубке, сидящий на табуретке. От нечего делать разговорились. Старик с грустью признался, что он сирота, ни отца, ни матери у него нет. Это понравилось смешливому Иванцову, так как старик говорил серьезно, и он охотнее стал расспрашивать “сироту” далее. Тот оказался плотником, пришедшим узнать у директора, который его лично знал, вернется ли его сын из эвакуации или останется на уральском заводе. Узнав, что старик при гитлеровцах жил недалеко от плотины, Иванцов спросил его, не видал ли он какой-либо их работы у донных отверстий. Старик сказал: — Работы не замечал… Редко тут бывал. Да и не подступишься — и днем и ночью охрана. А дыры эти, вроде окон, видел издалека, с левого берега, не раз. Их ведь в нашей плотине не было, а тут немцы, не спросясь, одиннадцать штук наковыряли! — Десять, дедушка, — поправил Иванцов. — Нет, одиннадцать! Верно говорю… Хоть сейчас пойдем проверим! Иванцову показалось это забавным: старик хочет вести к отверстиям его, Иванцова!.. И, надо полагать, отвечал с превосходством: — Да что ты, дедушка, — проверять! Ведь я же сейчас оттуда, мы там работаем. Мне-то не знать, сколько их! На этом стоим! Этот тон, вероятно, поколебал уверенность старика, но он все же сказал: — Ну, не знаю… Но только одиннадцать было. Считал, запомнил… Тут и Иванцов, как он говорит, замер, затих: а что, если правда?.. Вот с этим, не дождавшись приема у директора, забыв про поручение, он сейчас к нам и явился…” Аверьянову, сидевшему поодаль от Кузнецова, подали телеграмму. Он быстро прочел ее и, блеснув глазами, коротко взглянул на зал, как бы говоря: “И вы сейчас узнаете”. В первой же паузе он остановил Кузнецова, приглашая и его послушать. Он встал и ровным голосом, будто это была обыкновенная телеграмма, прочел поздравление правительства в ответ на вчерашний рапорт об открытии движения по шлюзу. Раздались аплодисменты. Когда шум смолк, Аверьянов, взглянув на Кузнецова, сказал, что Алексей Христофорович сейчас будет продолжать. Но началось не сразу. Кузнецов, кивнув на потемневшие окна, попросил лампу. Принесли настольную лампу. Но шнур оказался короток, и появилась другая лампа, с большой связкой шнура. Осторожно распуская шнур, белобрысый паренек, принесший лампу, пятясь, дошел до штепселя. Пока налаживали свет, Лиза не отрываясь смотрела на Кузнецова. Услышанное не предвещало надежды. Мины какие-то… Но поняла одно: и среди чужих людей, и на чужом месте отец был такой же, как дома. Но вчерашний гранит не за это же!.. И тут подступало какое-то новое чувство к отцу, которое она не могла понять. Она искала только отца, Павел — какого-то майора, но вчера — гранит, сегодня — люди в зале. Что же это, курс — норд?.. Рядом Витя говорил: — …надо было бы сделать сильный миноискатель. Ну, как ружье и пушка: ружье железо не пробивает, а пушка пробивает… — Ах, оставь, пожалуйста! Под рукой в кармашке платья Лиза вдруг нащупала две забытые конфеты, данные матерью ей и Вите. Она, не глядя, вынула их, подержала на ладони и снова спрятала. — А мне? — Витя потянулся к кармашку. — Чего? А!.. Да возьми! Лампа на столе зажглась. Лиза отдала конфеты и, строго взглянув на брата, отстранилась — Кузнецов с тетрадкой в руках подсаживался к лампе… ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 2 февраля 1944 г Мы стали ждать старика сироту. Жителей мы опрашивали и раньше, но никто из них близко не видал, что делали фашисты: стояла охрана. Говорили, что работа была и днем и ночью. Минную камеру, надо полагать, бетонировали не днем. Отверстии никто из них не считал, видели их издалека, мельком и на наши расспросы отвечали: “Много”. И вот какой-то старик сосчитал… Он явился на плотину вчера же, часа два спустя после Иванцова. Лейтенант Иванцов, как ни был взволнован, все же догадался записать его адрес и сказать — непременно прийти на плотину. Старика звали Тихон Савельевич. Мы встретили его ласково, расспрашивали внимательно, но, конечно, он не мог указать, где находится одиннадцатое. Единственное, что было в какой-то мере ценно, — это то, что все одиннадцать отверстий, по словам старика, “лежали в ряд”. Значит, одиннадцатое надо искать на том же уровне. Майор слушал Тихона Савельевича как-то странно: с одной стороны, любезно, внимательно, с другой — недоверчиво. Расставаясь со стариком, Михаил Михайлович распорядился, чтобы Тихону Савельевичу дали пообедать в нашей столовой, и, пожав ему руку, горячо поблагодарил за сведения. Вчера и сегодня были заняты поисками. Одиннадцатого или нет, или оно хорошо скрыто. Во всяком случае, цветом бетона, как пять заделанных отверстий, оно не отличается. Надо искать его границы. Но столько швов, и вертикальных и продольных, от старой, нашей еще опалубки!.. 4 февраля Одиннадцатого нет, но работа в десяти туннелях идет вовсю. Не знаю, не поверил майор Тихону Савельевичу или отложил поиски, но весь народ поставил на вскрытие донных отверстий. Иванцов еще раз съездил в город и действительно привез пневматику. Майор похаживает от отверстия к отверстию. У него такой вид, словцо он смущен тем, что руководит, а не сам отбивает бетон. 5 февраля Получил общее письмо от Бутузова и Зайченко. Спрашивают: когда я вернусь в часть, как жизнь на гидростанции, какие идут работы, нашли ли что в верхней потерне. Я показал письмо Михаилу Михайловичу. Он их не застал, не знал. — Хозяйственные мужики! — сказал он. — Перерезали кабель, сделали какую-то работу и теперь справляются, была ли от этого польза… Но почему-то, вроде вас, думают тоже о верхней потерне! 6 февраля Со вчерашнего дня перешли на трехсменную работу и в заделанных туннелях. Углубились уже настолько, что можно на ночное время позади себя ставить светомаскировку из фанеры и плащ-палаток. В полузаделанных ночная работа была и раньше. Трудно с вынимаемым бетоном. Самое, конечно, простое — сбрасывать его в нижний бьеф. Но зачем засорять реку! А лома немало и впереди еще больше будет. Но мелочь все же сыплем — это река унесет. Крупное поднимают в люльках краны, стоящие на проезжей части плотины. Но это двойная работа. Оттуда надо лом увозить машинами. Кроме того, строители препираются с нами из-за кранов. И это верно: два так стоят, что им мешают… Особенно смущает это майора. Говорят, что война всех равняет, накладывает общий отпечаток. Не замечал этого. По-моему, каждый приходит на войну со своим миром. Михаил Михайлович, вероятно, и раньше в жизни не мог представить, как это он живет, работает, двигается и кого-то стесняет, кому-то мешает. Так и тут он, с кранами… Иванцов с загадочным лицом, ничего не объясняя, отпросился с работы на два часа. Не привез бы он нам двенадцатое отверстие! 7 февраля, 3 часа ночи Только что вернулся домой. Ну и ночь! В одиннадцать часов вечера я сдал смену старшему лейтенанту Карнауху и в двенадцатом часу пришел к майору с обычным докладом о работе. У нас отставала работа на девятом и четвертом отверстиях (мы их пронумеровали подряд, начиная с левого берега). Майор также спросил о седьмом. Это было естественно — оно вчера тоже отставало. Я доложил, что дела там пошли лучше. Мы заговорили о транспортировке бетонного лома. Михаил Михайлович заметил, что лучше всего была бы проложенная по мосткам узкоколейка с вагонетками, и то и другое есть в немецких брошенных складах на правом берегу. Но куда дальше — берег крут и высок, а транспортера нет! Я сказал, что можно попытаться краном, стоящим уже не на плотине, а на берегу, вытаскивать вагонетки наверх, на берег. Это нехитрая идея, в которой, кстати, я был не очень уверен, так как отчетливо не представлял, как пойдет стрела крана, принесла истинное удовольствие Михаилу Михайловичу. И я понял, почему: он не будет “мешать жить” строителям. Он попросил меня завтра же попробовать, — конечно, пока без узкоколейки, с одной вагонеткой. Михаил Михайлович в мягких туфлях, надетых вместо сапог, похаживал по своей неуютной комнате: кровать, три стула, стол, столик с телефоном, голые стены… Только у стола было как-то потеплее — горела керосиновая лампа с зеленым абажуром, лежали книги, чертежи. Может быть, он поймал мой взгляд, устремленный на лампу, и потому тоже посмотрел на нее. — Да, вот под боком первоклассная, мировая гидростанция, — задумчиво произнес он, — а тут… керосин! Негодяи!.. Помолчав, он почему-то спросил о Чикильдееве: что это за человек был? Я знал того мельком и короткое время и ответил только: как многие водолазы, он был из матросов, довольно долго работал в Волжской флотилии, в партии с тридцать пятого года, женат, родился в Калуге. Ну, что же еще? К этим будто анкетным сведениям я прибавил и все остальное, что знал: играл на гитаре, сын учится в ремесленном на электрика. Михаил Михайлович, похаживая по комнате, вдруг сказал: — В Севастополе есть круглая панорама академика Рубо… Есть. Во всяком случае, была, не знаю, вывезли ли ее… Изображает она Севастопольскую оборону. Прежнюю оборону — от англо-французов, чуть не девяносто лет назад. Ни самолетов, ни танков, и круглые ядра летят не торопясь — их даже глазами видно… Но в общем, конечно, не солнечная лужайка, не праздник урожая! И убитые, и раненые, и атаки, и штурмы… Так вот, помню, старичок экскурсовод после объяснения важных и крупных событий, изображенных на панораме, обязательно просил обратить внимание на одно неприметное место. Тут, в стороне, на отшибе, на пустой желтой земле, была изображена одинокая траншейка и тщедушный солдат, который, перебросив через край траншейки свое ружье, вылезал в атаку. Лица солдата не было видно, только его рука с ружьем и спина, согнутая от напряжения. Маленький такой солдат, не страшный… Старичок экскурсовод говорил: “Он бы тут, в ямке, вполне мог пересидеть бой. Никто его не видит, не слышит — ни фельдфебеля, ни офицера рядом нет! Он один, сам с собой… А вот какая-то сила толкает его…” — Михаил Михайлович остановился в дальнем углу комнаты. — Вот и Чикильдеев вполне мог бы эти бетонные плашки не переносить, проводку не трогать, а скорее к воздуху, к жизни… Ну, идите отдыхать! Вы уже засыпаете!.. Это верно, глаза у меня слипались от усталости, но не было желания уходить от майора. Кроме того, мне тоже хотелось сказать о Чикильдееве что-нибудь хорошее — ведь я его хоть недолго, но видел. Но я уже все передал, что знал о нем, и, чтобы не уходить из комнаты, сказал то, что мог сказать и сам майор: — Тоже какая-то сила… — Да, и надо полагать, сильнее, чем там, в траншейке! Или, что ль, повиднее, поотчетливее: знал, что спасает… На столе он заметил мою заявку и, не надевая очков, спросил, что это такое. Я сказал, что бачки с кипяченой водой нам надо завести для каждого отверстия. И снова заговорили о работе, о мелочах. Тут на столике зазвонил телефон. Я был ближе к нему и взял трубку. — Лейтенант Кузнецов слушает! — сказал я. До меня донесся отрывистый голос ефрейтора Головчатого из седьмого отверстия. Вглядываясь в мое, наверное, изменившееся лицо, майор подошел к телефону. Я положил трубку и сказал: — Наткнулись на кабель. — В седьмом? — быстро спросил майор. — В седьмом. — Карнаух говорил? — Нет, Головчатый по приказанию Карнауха. Старший лейтенант в туннеле. — Вызовите Карнауха! Вызывая старшего лейтенанта, я вдруг подумал: “Как майор догадался, что в седьмом?” Шувалов взял у меня трубку. Он был спокоен, но голос другой, не Михаила Михайловича. — Товарищ Карнаух? Работу в седьмом до моего прихода прекратить! Вывести оттуда людей. Поставить охрану. Выполняйте! Пока мы, торопясь, надевали шинели, я успел спросить, почему майор подумал о седьмом туннеле. Он из-под книг на столе выдернул какой-то чертежик. На нем была изображена плотина со стороны нижнего бьефа, и внизу плотины десять заштрихованных и полузаштрихованных квадратов. На седьмом, полузаштрихованном, был поставлен синий крестик. — Это немецкий? — спросил я, кивнув на чертеж. — Почему немецкий? Просто мое предположение… Ну, это потом. Пошли! Было два пути: длинный — по берегу, через обледенелый, рваный бетон, к мосткам, и короткий — по плотине, к крану. Мы спустились в люльке как раз над седьмым и застали тут какую-то торжественную, напряженную и страшноватую тишину… Маленькой своей рукой майор резко откинул полог светомаскировки, и мы вошли в туннель, озаряемый аккумуляторными фонарями. Нас… встретил Карнаух и доложил майору о случившемся. Впрочем, и без доклада все было видно. Не дослушав, майор шагнул в левый нижний угол и, присев на корточки, дотронулся до двух толстых кабелей. Под куском отвороченного бетона они лежали открытые примерно на три четверти метра. Черные их тела лоснились при свете фонарей. На одном из них виднелась немецкая соединительная кабельная муфта марки “АЭФ”. Майор выпрямился и, помолчав, приказал заголить изоляцию и проверить омметром. Сержант Мухин и толстый ефрейтор Головчатый пришли с инструментом. Один из кабелей оказался бронированным и осмоленным сверху. Головчатый, желая блеснуть знанием кабельных марок, сказал: — Это, конечно, “СБС”, хотя и черный. Обнажились медные жилы проводки, — вот по этим безобидным проволочкам пошел бы ток, если бы не Зайченко и Бутузов… Карнаух с омметром в руках присел к оголенным и на всякий случай перерезанным жилам. — Есть мина! — сказал старший лейтенант, вставая и пряча в сумку-омметр. Он сказал это как бы весело. В самом деле, было какое-то облегчение: долго искали — и наконец вот она… Вот она! Перед нами была выщербленная нашими отбойщиками стена бетона в пять метров высоты и в пять ширины. По левому нижнему углу, закрываясь пятнадцатисантиметровым слоем бетона, подползали под стену черные провода, подползали к ней… Мы пробыли тут еще с час, совещаясь, как дальше вести выемку бетона. Сегодня ночью решено было все работы в седьмом прекратить, а с утра поставить здесь лучших отбойщиков. Я с Карнаухом поспорил из-за некоторых кандидатур. Надо было не просто лучших, умелых, но и неторопливых, чутких к мелкой работе. Когда мы с майором уходили, Карнаух, который оставался с ночной сменой — работа в остальных туннелях шла обычным ходом, — шепнул мне: — А все же она оказалась в полузаделанном!.. 7 февраля С утра в седьмом, после доклада майора, появился подполковник Тоидзе, потом несколько человек из строительной группы. Отбойка стены идет осторожно. Попутно вскрывается нижний левый угол — черные провода идут внутрь, никуда не сворачивая. Поездка Иванцова в город объяснилась. Нет, он привез транспортер! Молодец! Теперь мне не надо устраивать опыты с краном. И Михаил Михайлович очень доволен… 8 февраля Бетон кончился, пошли саперные мешки с песком. Черные провода уходят под мешки. Нашли обрезок запального шнура. Бетон снимали, можно сказать, хирургически. Или как на раскопках древнего города — не повредить бы какую-либо стенную живопись. Мы тоже рисковали “повредить”: и проводка и найденный шнур могли оказаться маскировкой, а мина взлетит от какого-нибудь терочного, ударного, натяжного (и несть им числа) взрывателя… Теперь вот мешки. На боках саперных мешков — овальные, как на доплатных письмах, черные немецкие штампы. И мешки вспарывали осторожно, но оказался только смерзшийся песок. Когда мешки убрали, опять встала стена бетона. Кабели — все туда же, в бетон, к минной камере… 9 февраля И этот бетон кончился. Итого, считая вместе с мешками, прошли пять погонных метров бетона. Теперь понятно, почему бурение на два и даже на три метра ничего не дало! Ширина и высота донного отверстия тоже 5×5. Значит, вынули правильный бетонный куб величиной с большую и высокую комнату. Но все ли это? Сейчас пошли высевки искусственного гранитного песка. Провода по-прежнему — вперед, теперь под песок. Кажется, это уже минная камера, но границы ее еще не видны. Из осторожности перешли на деревянный инструмент. Работают еще медленнее, осмотрительнее. Увеличили количество фонарей. По мосткам тянут узкоколейку. Иванцов обещает сегодня-завтра все пустить в ход. Майор почти все время тут. И, конечно, больше у седьмого. Февраль — бокогрей: слева солнце, справа мороз. А то — вьюга. 9 февраля, ночь И деревянный отбросили — саперы работают руками, голыми пальцами. Только на ощупь можно понять, что захватываешь — песок или в песке еще что-то. Инструмент, даже деревянный, не услышит, не поймет этого. Песок мокрый, полусмерзшийся, и у этих дурацких высевок острые края — пальцы у саперов бывают в крови. И холод — руки теряют чувствительность. Проводим частые смены. Начинают проступать контуры минной камеры. 11 февраля Песок убран, и вот она во всей красе! Пятнадцатиметровая комната с высотою потолка в пять метров. Что же находится внутри этих семидесяти пяти — 3×5×5 — кубических метров? Мы молча стоим внутри камеры. Михаил Михайлович потирает руки, будто говорит, представляет: “Ну вот, пожалуйста!” Карнаух молчит, посапывая носом. Перед нами черные штабели авиабомб. Аккуратная кладка: один ряд к нам тупыми мордами, другой — длинными телами. Взрыватели у бомб вынуты, и вставлены электродетонаторы. Каждый тщательно засмолен. Внутри штабелей те же высевки гранитного песка. Одни штабели выше, другие ниже, но бомбы везде одинаковы — по 500 килограммов. А всего их сто штук. Кроме того, тут 25 больших и 6 малых ящиков с толом. Вид у них мирный, будто с консервами или с табаком. Это “оживители” бомб. Сто штук полутонных бомб и эти ящики! И все это внутри тела плотины, в многометровой бетонной “забивке”. И внизу плотины, чтобы легче поднять ее на воздух. Неизвестно, что стало бы с окрестностями плотины, но сама она была бы снесена начисто и волны реки прошли бы через ее останки… — Смотрите, как паук! — говорит майор. В середине камеры на большом бомбовом штабеле лежит желтый, с восковым отливом, вероятно покрытый парафином, ящик, к которому — наконец-то их путь окончился! — подходят черные кабели. Это главный запал, от него все должно было взорваться… Через час соберется комиссия, которая опишет найденное в минной камере. А потом уж убирать все это. 12 февраля Если держать в руке конец нитки, то куда бы клубок ни покатился, по нитке можно найти его. Так было и с электровзрывной проводкой. Пока не было известно, в каком донном отверстии она начинается, трудно было найти тоненькую полоску нового бетона на громадной плотине, испещренной опалубными швами. Но вот конец нити в седьмом был ухвачен, и сразу стало ясно, куда и как покатился клубок. Пока шли работы в седьмом, вскрывалась и проводка, идущая отсюда. Два кабеля сразу от седьмого свернули направо, к правому берегу. Они шли по фасаду плотины, в узком желобке, прикрытые 10–15 сантиметрами бетона. Этот желобок обнажали шаг за шагом. И вдруг в пролете между 25-м и 26-м бычками все кончилось — ни полоски, ни желобка, ни кабелей… Проводка уходила в тело плотины. Но каким образом? Стали всматриваться и заметили чуть отличную от старого нашего бетона большую квадратную нашлепку. Заметили младший лейтенант Ольшевец и сержант Костюков. Когда узнал об этом Иванцов, он прибежал к месту события возбужденный. — Одиннадцатое отверстие! А моему старику сироте не поверили! Да, одиннадцатое, но куда меньше размером, чем остальные десять! Пробурили, исследовали — закладка бетона неглубокая. Стали вскрывать. Тоже с оглядкой — могла быть вторая минная камера. Сегодня все разъяснилось. Относительно разъяснилось. Саперы с Ольшевцом проникли в одиннадцатое через проломленную ими дыру наверху. Влезли, осветили фонарями. Это оказалось не донное отверстие — оно не пробито насквозь. Это небольшая и пустая штольня, похожая на ту камеру, которую мы нашли в нижней потерне. О назначении ее можно только гадать. У нас были сведения, что гитлеровцы в последнее время испытывали недостаток во взрывчатке. Возможно, по первому плану они собирались взорвать плотину рассредоточенными зарядами, — может, и еще где есть такие заготовленные камеры, — а потом всю взрывчатку, кроме содействующего заряда в нижней потерне, сосредоточили в седьмом отверстии. Объяснилось и с проводкой от седьмого. Полоска потерялась, потому что шла по новому бетону и желобок не был не виден. Но он не исчез — он оказался намного глубже, чем 15 сантиметров. Короче говоря, сейчас Ольшевец гонит желобок опять по фасаду плотины к правому берегу. Скоро он дойдет до места “имени Бутузова и Зайченко”. Да, темной ночью 17 января ребята резали проводку, спасали плотину от взрыва, но не знали от какого взрыва! Вот бы им зайти в седьмое, полюбоваться! Но они далеко на днях взяли Никополь. 13 февраля Однако не рано ли говорить о спасении плотины? Да, кабели перерезаны, нет ни источника тока, ни дороги для него, но ведь пока что весь заряд находится в теле плотины, и кто знает, что будет, если начнут его убирать оттуда! Можно представить гитлеровца, который хлопотал, распоряжался тут, приказывал поумнее расположить бомбы и ящики с толом, засмолить электродетонаторы, отвести провода от главного запала… Он, конечно, верил в свое имущество — в эти полутонки, которые разрушали наши города. Он верил, что электроток дойдет до его бомб и тола, но мог “на всякий случай” заложить где-то тут взрыватели-сюрпризы. И тогда то, что не удалось врагу, мы сделаем сами, своими руками… Вчера около нашей находки в седьмом Михаил Михайлович говорил об этом. Мы стояли возле главного запала. Желтый ящик все так же лежал на центральном бомбовом штабеле, но шнуры, идущие от него во все стороны, были уже перерезаны. Высевки гранитного песка по-прежнему доверху, до дна ящика, закрывали штабель. — Вот удачное место для психологической ловушки! — сказал майор. — Что мог предположить какой-нибудь немецкий обер-лейтенант, руководивший этим минированием? Кабель почему-либо выведен из строя, взрыв не состоялся, советские войска занимают плотину, находят минную камеру, и вот сюда входят люди. Мы с вами входим. Что мы видим? Ага, главный запал! Провода от него во все стороны, ко всей взрывчатке. Что мы, по мнению обер-лейтенанта, должны были бы сделать? Перерезать все эти паучьи лапки… С удовольствием перерезать и успокоиться. В самом деле, полная гарантия: подрывная станция, которая должна была по кабелю послать ток, не существует, сам кабель вышел из строя. И вот наконец перерезаны все шнуры от главного запала. Тройная гарантия, когда вполне достаточно обезвредить только одно — или станцию, или кабель, или запал. А тут все три! Что же дальше? А дальше, товарищи, давайте всю эту чертовщину выгребать отсюда. Давайте разбирать штабеля, как дрова. Ну, конечно, сперва ящик с перерезанными отводами. Был он страшный, был он главный запал, а теперь просто тара… Михаил Михайлович говорит шутливо, но я вижу, что ему невесело. Вдруг и я понимаю: “элемент неизвлекаемости”… Казенное, сухое, но правильное название. Есть взрыватели, рассчитанные только на неосторожность, а есть как бы посмеивающиеся над человеческой беспомощностью: и догадывается человек и даже, может быть, видит, а сделать ничего не в состоянии! Неизвлекаемое не извлекается… В самом деле! Все промежутки между бомбами в штабеле заполнены песком, и сам ящик плотно стоит на песке. Да, все шнуры усердно, с удовольствием перерезаны… А что под дном? И узнать нельзя. Какая-нибудь тонюсенькая проволочка, из-под дна ящика уходящая в песок, так и останется навсегда невидимой: не поднимая ящика, ее не увидишь, а подняв — все взлетит… Япосмотрел на майора, и мы молча поняли друг друга… — А может быть, ее там и нет! — сказал Михаил Михайлович и улыбнулся. Мне это, по правде говоря, не понравилось: кому это он говорит и зачем? Что он, сам не знает, что при разминировании имеет значение только “нет”, а всякие “может быть” — все равно что “да”? Вчера начали убирать из седьмого взрывчатку и бомбы, не имеющие скрытого соприкосновения со штабелем, на котором лежит бывший главный запал. Мы его уже назвали и “бывшим” и “тарой”, а он спокойно себе лежит, лоснится желтыми боками и не уходит из памяти. Сегодня даже видел его во сне… Вхожу в седьмое — там никого нет, полумрак, капает где-то вода. Запал еле виден, но все же заметно, что он желтый. В нем раздается какое-то постукивание, точно маленькие человечки хлопочут там… Ящик чуть шевелится, вздрагивает и озаряется изнутри тихим желтым светом. Оттуда доносится еле слышная и какая-то дурацкая музыка, вроде комариной чечетки, и свету все больше, все желтее… Будто бесшумная и медленная вспышка… 14 февраля, ночь Сегодня продолжали убирать из седьмого, кроме, конечно, центрального штабеля. Вчера заметил на берегу кинооператора в толстой медвежьей куртке… Долго скучал, мерз на снегу. Сегодня после обеда, когда проглянуло солнце, он что-то снимал. Иванцов, которому до всего дело, говорит, что оператор хотел снять выемку бомб из минной камеры. Но вчера ему мешала пурга, а сегодня, при солнце, эту работу он уже не застал. Снял только майора, когда тот опускался в люльке в седьмое отверстие. В словах Иванцова слышалось неприкрытое сожаление, что его в этот момент не было в люльке… Да, из седьмого вынесено все возможное. Центральный штабель и желтый запал на нем не тронуты. Что же дальше? Майор или молчит, или говорит о пустяках… В шесть часов вечера мы уходили из седьмого последними — оставалась только охрана. Майор зябко ежился, — может быть, потому, что, понадеясь на солнечный день, был в меховой безрукавке. По мосткам он обошел все остальные отверстия, где по-прежнему шла выемка бетона. Но обошел невнимательно, почти не глядя. Только сказал Иванцову, который оставался на вечернюю смену: — Сегодня получены сведения об опросе новых пленных. И удачно — тех самых, что работали тут. Подтверждают, что заряд только в седьмом, в других нет. Темпы можно ускорить, но внимание прежнее. Мало ли что… Когда подошли под кран и стали ждать люльки, Михаил Михайлович, протирая очки, уронил их и разбил одно стекло. Понятно, что может быть досадно, но он даже побледнел, будто невесть какая ценность! Стал спрашивать, где или у кого можно достать очки. За медсанбат я не ручался, аптека в городе пока небогатая, но, конечно, и там и здесь можно заказать новые стекла. Майор махнул рукой: “Да, но это когда-то!” У крановщика Бутеева, который поднял нас на плотину, Михаил Михайлович попросил примерить очки. Бутеев, ничего не понимая, дал. Стекла оказались не те. Надев оставленную тут шинель и застегнувшись, майор постоял, раздумывая. Не любивший обязываться, он вдруг попросил Бутеева поискать у кого-нибудь очки. — Вы тут местный, знаете людей, — может, удастся… Пожалуйста, Петр Никифорович, голубчик, устройте! Стекла 1,25… Я сейчас вам запишу. Скажите только на один день, на завтра. Потом я закажу себе. Буду очень благодарен. Он начал что-то писать на листке блокнота, а я стоял и повторял про себя: “На завтра, на завтра”. Не знаю почему, но я ничего у него не спросил. Впрочем, что же было спрашивать?.. Я пошел прямо к Карнауху посоветоваться. За эти два дня я передумал разное, и, по-моему, было только два средства — или выдуть песок воздухом, или вымыть его из гидропульта. Я рассказал Карнауху и про майора и про песок. Старший лейтенант проворчал: — До войны три дня скакать нужно, а у нас она дома! Мы проговорили с час и пошли на улицу Шевченко. Михаил Михайлович в синей полосатой пижаме сидел за столом и писал письмо. Без очков ему было трудно, и он сидел сильно откинувшись. Нашему приходу он был, по-моему, рад и, отодвинув письмо, просил садиться. Мы заранее обсудили, что будем говорить майору, Карнаух пространно стал говорить о том, что ему уже не раз приходилось иметь дело если не с такими, то с похожими случаями. Он даже привел эти случаи, бывшие с ним за войну. По его словам, они были похожи, но я — то знал, что это не так… После этого я сказал о воздухе и гидропульте. У майора должно было создаться впечатление, что есть люди сведущие и умелые, и именно они, а не кто другой, это и сделают. Мы замолчали, ожидая ответа. Лицо майора стало светлеть, на большом его лбу разгладилась хмурь. Он опустил глаза и отвернулся, стал смотреть в темное, уже ночное окно. Он подошел к нему, будто там, в черноте, было что-то интересное, и тут же вернулся к нам. Глаза его блестели. — Ах, дорогие мои! — Он обнял Карнауха и меня и так, молча, улыбаясь, стоял между нами. — Белые нитки видны! Но все равно хорошо… Но имейте в виду, что у майора самонадеянности по чину должно быть больше, чем у лейтенантов. Кроме того, ему поручены донные отверстия. Кроме того, в штатской своей жизни майор привык иметь дело с крайне хрупкими и крайне мелкими вещами. И еще одно, Василий Тимофеевич, — обратился он к Карнауху. — Риск бывает разный… В одном проиграл — жизни нет. А в другом — и жизни и еще чего-то… А у нас это “чего-то” — большое, длинное, в полкилометра. Сами строили… Он прошелся по холодной своей комнате и уже другой, словно успокоенный, остановился около меня. — Что касается воздушной или водяной струи… думал об этом. Но слабая струя эти гранитные высевки не тронет, а сильная может натянуть проволочку, если она там есть… А это, как говорят, нехорошо… Ну, идите спать! — Он прошел к столу. — Рисую вот письмо с птичьего полета, мучаюсь. Пишу домашним, чтобы выслали при случае запасные очки, которые я забыл. В удобной очень оправе… Когда мы вышли за ворота, улыбнулись. Высылка “при случае” очков — тоже белые нитки! Нас же он и подбадривает!.. Мы решили завтра все это продолжить, возобновить разговор. 15 февраля В 12 часов дня все работы в донных отверстиях, наверху плотины, на станции, на разборке рваного бетона — все работы радиусом на два километра были прекращены и люди уведены далеко от места работы. В седьмом туннеле почему-то собралось много народу. Правда, нашлась работа. Я следил за ней, так как она делалась по распоряжению майора, интересно было угадать: зачем? Иванцов со стариком сержантом Лебедевым установили свет — два аккумуляторных фонаря слева и справа освещали желтый ящик, находясь на уровне его дна. Это было разумно. Лейтенант Ольшевец с саперами плотно закрывали светомаскировочными щитами вход в отверстие. Был день, но, вероятно, майор опасался ветра. Толстый ефрейтор Головчатый принес три ведра горячей воды. С последним ведром — ручной гидропульт. Это тоже было понятно, но ведь вчера майор от этого отказался! И почему горячей?.. Майор легко похаживал по шершавому бетонному полу, распоряжался, пошучивал, посматривал поверх очков. Не хватало на нем белого халата — так все напоминало приготовление к операции. Я взглянул на его очки и улыбнулся — сегодня утром Бутеев просил меня: “Не говорите майору, что очки бабьи, только у кладовщицы нашёл, какой нужно!” Все было как-то легко, дружно, будто нет ни штабеля из полутонок, ни желтого дьявола на нем. И не надо было мне подходить к Иванцову. Но он позвал меня к выходу, подальше от народа. Иванцов будто просил меня в чем-то помочь ему. Но, когда я подошел, он сразу спросил, кто же останется у запала. И, не дожидаясь ответа, — может, в оправдание своего вопроса, — заговорил о том, что, если прикажут, он, конечно, останется, если же добровольно, то нет… — Я на Кавказе и под Синельниковом два раза подрывался на минах. Правда, повезло… И в третий раз пойду, хоть сейчас. Но там я, и всё! А тут — плотина… Думайте про меня что хотите, но я так говорю… Обычно румяное, готовое к улыбке лицо его было сейчас бледно. Я просто не знал, что ему сказать, но легкость, что была минуту назад, куда-то исчезла. В самом деле — плотина!.. Майор вчера то же самое говорил: не только жизнь, но и плотина… Я начал было отвечать Иванцову, но и он и я почувствовали, что за спиной что-то происходит, и мы обернулись. Мы увидели майора, окруженного теми, кто был в туннеле. Когда мы с Иванцовым подходили, я услышал слова Михаила Михайловича: — Нет, об этом и речи не будет… У кого дети, с теми не разговариваю, уходите! А из остальных мне надо одного помощника. Подходя, я переглянулся с Карнаухом, и тот, выдвинувшись вперед, хмуро глядя на майора, будто напоминая о вчерашнем отказе, глухим голосом сказал, что есть другой вариант: нас двоих — его и меня — оставить в туннеле. Оставить одних. Майор отступил на два шага и встал как бы перед строем. Лицо его было строго, сурово, руки он держал по швам. — Вариант один, и он не обсуждается! — Он сказал это, не глядя на Карнауха. — Кто из вас один хочет остаться со мной? Мы все сделали шаг вперед. И розовый, похожий на девушку младший лейтенант Ольшевец, и пожилой сержант Лебедев, и толстый, с красным лицом ефрейтор Головчатый, который, так же как Карнаух и Лебедев, из-за детей не должен был выходить вперед. Помедлив и выразительно взглянув на меня, как бы подтверждая все то, что он только что мне говорил, шагнул вперед и Иванцов. Майор, оглядев нас всех, криво усмехнулся, — нет, это было не вчерашнее: “Ах, дорогие мои!” — помедлил раздумывая. Этой паузой воспользовался какой-то сапер из роты Карнауха, круглоголовый, в рыжих веснушках. Он спросил: — Разрешите? И, когда майор кивнул, он не торопясь, с достоинством сказал: — Я, товарищ майор, понятия не имею что такое дети! Я абсолютно и совсем холостой… На лице Михаила Михайловича мелькнула вчерашняя добрая улыбка. Обходя взглядом тех, которые не должны были выходить, он оглядел нас, остальных. — Ну хорошо, остается лейтенант Кузнецов. Другие свободны. Я вышел из строя. Остальные не тронулись с места. — Выполняйте! — громче и строже сказал майор. Все ушли. Майор прошелся по туннелю. Сняв меховую перчатку, он попробовал пальцем горячую воду в ведре и снова сунул руку в перчатку. Я ему сказал: — Люди не уходили из-за несправедливости: все ведь знают, что у вас тоже есть дети! Он сказал: — Это верно. Но не так просто… Я отвечаю не за себя, и, если что случится с плотиной без меня, не только людям, но и детям на глаза не покажешься. У того вашего, что усы колечками, тоже был выбор… Впрочем, дорогой мой, ничего не случится! Это вы запомните! Одно вот только — пожалуйста, грейте руки! Тут тепло, но все равно грейте. Руки — это все… Он познакомил меня со своим планом. У него был расчет на то, что толстый слой гранитных высевок под дном ящика за долгое время лежания должен был осесть, и если от дна ящика отходит внутрь штабеля проволочка, то она ослабла. Следовательно, чуть приподняв запал, мы не натянем проволоки. Весь вопрос, насколько ящик осел, насколько ослабла проволока — можно ли ее перерезать? Чтобы увеличить осадку, надо попытаться разрыхлить холодный песок горячей водой. С этого мы и начали. Мы сняли шинели и, как слесари и монтеры, сложили их комом на пол. Остались в меховых безрукавках. Я наполнил гидропульт горячей водой и стал тихо накачивать его. Михаил Михайлович, поднявшись на низкий помост, который соорудили наши плотники вокруг штабеля, обходил со шлангом, как садовник клумбу, желтый запал и лил около дна. Ящик стал окутываться паром — так и казалось, что он, как во время фокуса, сейчас исчезнет. Но увы… С каждой стороны ящика майор сделал в песке небольшие желобки-углубления, и мы несильной струёй погнали воду под ящик. Михаил Михайлович повторил это несколько раз, прося давать струю все слабее и слабее. Скоро показалась вода у наших ног — из-под штабеля. Майор опустил шланг. Я перестал качать. — Ну, теперь посмотрим. Он сошел с помоста и прошелся вокруг запала, всматриваясь в него. Я вспомнил, что сейчас все живое отведено от нас на два километра. Майор погрел свои маленькие руки над горячим ведром и, подняв с пола, где лежали наши шинели, длинный сверток в парусине, взошел на помост. Я сделал то же самое — погрел руки и поднялся на помост с другой стороны. На мокром песке он развернул парусину. Там лежали тонкие ножницы с длинными ручками и стопка гладких фанерных дощечек. Мы условились, как будем поднимать запал. Михаил Михайлович посмотрел на фонари, слева и справа бросавшие резкий свет на низ ящика. Я тоже посмотрел. Спокойно и строго взглянув на меня поверх очков, майор, примяв песок, подвел указательные пальцы под свои два угла ящика. То же самое сделал и я с другой стороны запала. Голова майора плавно опустилась за ящик. Я видел только светлую прядь волос, блестевшую над его большим лбом. Я тоже опустил голову. Мы теперь из-за ящика между нами не видели друг друга. Желтый, проклятый, лоснящийся от парафина, он был от меня на расстоянии вытянутых рук. Пальцы чувствовали теплый, влажный песок, но внизу был холод — живот и колени касались промерзших за зиму черных полутонок. По сигналу майора мы стали приподнимать свои углы. С вниманием, которого не было и не будет в моей жизни, я смотрел в тонкий, не толще спички, просвет, образовавшийся между песком и дном ящика. Мы еще чуть увеличили расстояние. И вдруг справа и слева брызнули в просвет лучи наших фонарей. Я увидел в конце просвета острые, нечеловеческие, какие-то светящиеся глаза майора — наверное, и у меня такие! — и между нами тоненькую, какую-то бесцветную проволочку… Да, без очков такую невидимую майор не заметил бы… Она шла из-под середины дна ящика вниз, в песок. При свете было видно, что тут, под серединой, песок осел больше, чем под краями запала, и проволочка была оголена на большую длину, чем ширина нашего просвета. На такую длину, что можно было заметить состояние проволочки — она была ослаблена, чуть изогнута дужкой. В глазах майора, которые я видел за дужкой, произошла перемена — внимательные, но уже по-обыкновенному, даже с усмешкой. Я понял причину — дужка! И усмешку: обер-лейтенант не хотел дужки, а она есть… — Так держать! — тихо сказал майор. Я знал, что можно и не так держать: дужка давала возможность поднять ящик еще на несколько миллиметров, и ослабленная проволока не натянулась бы. Но я застыл в прежнем положении пальцев. Теплота песка прошла, и осталась холодная сырость. В просвет я видел, как Михаил Михайлович, освободив одну руку, подложил, следя за проволокой, фанерные дощечки под этот свободный угол ящика, затем — под другой. Освободив обе руки, он быстро и энергично потер их друг о друга, взял длинные тонкие ножницы, просунул их в просвет и медленно стал надвигать полураскрытые их ножи на проволочку. Как только они коснулись дужки, он с тихим хрупом перерезал ее. От авиабомб, которых мы сейчас касались телом, навсегда отлетела их страшная жизнь… Мы сняли ящик со штабеля и почему-то положили его не рядом, а отнесли к выходу. Теперь его разберут и выбросят. Может, потому и ближе к выходу, чтобы скорее выбросить. Мы присели на перевернутые ведра и закурили… Я смотрел на эту желтую гадину у выхода, которая мне даже во сне снилась, и думал. Мы несколько лет строили плотину — гигантский труд, средства, желание сделать по-своему жизнь… И вот приходит какой-то мерзавец, тихо накладывает штабели взрывчатки, ставит эту желтую дрянь и уходит. Почему? Мы ему мешали? Какое у него право? Мы сидели на ведрах, опустив руки, как землекопы, между колен. Странное дело — ничего не делали, а усталость… Вдруг Михаил Михайлович тихо засмеялся, я тоже, и тоже неизвестно чему… Он встал, будто конфузясь этого смеха, и пошел к нашим шинелям — становилось прохладно в одних безрукавках. Когда он в распахнутой шинели вернулся к ведрам, на лице его было счастье. Может быть, только сейчас пришло, почувствовалось настоящее облегчение. И тут захотелось скорее всех обрадовать, всем сказать — ведь за два километра все притихли и ждут. Мы распахнули фанерную дверь, вышли наружу. Какой сияющий свет! Солнце на снегу, голубое весеннее небо… Но полная тишина и безлюдье. Только не замеченный постовыми солдатами мальчик с собакой на берегу. Кому же сказать? — Так к нам же телефон проведен! — воскликнул Михаил Михайлович. И мы, смеясь, побежали обратно в туннель. 20 февраля После того дня все кажется спокойным, мирным. Даже болезнь майора. Был сегодня у него в госпитале. Болезнь — длинное латинское название, но так — перемежающаяся температура. Спрашивал меня, как дела в донных — какие впереди, какие отстают. Я наконец спросил его о том, о чем давно собирался, но как-то все были служебные разговоры. Ну, а тут, в палате, легко. Спросил, почему он угадал, что минная камера должна быть именно в седьмом. Он сказал: — Всякая работа начинается в кабинетах. Какой-то обер-фюрер, который решил снести нашу плотину, не пришел на место и не положил взрывчатку в первую попавшуюся на глаза дыру. Нет, он взял план плотины и засел в кабинете. Я начал с того же — взял план и подумал над ним. Конечно, он захочет расположить камеру в центре плотины — это раз, и второе, о чем мы много говорили, — в полузаделанном отверстии. Посмотрите на план — седьмое как раз и отвечает этим условиям. Кстати, когда вы смотрите с берега на седьмое, то перспективой оно сильно отодвигается от центра. А по плану оно центральное. Ну, а третье — немцы сами подтвердили это… Нет, не пленные, а раньше еще, немецкие летчики… Несколько раз бомбили и всё старались положить на седьмое отверстие или рядом. Рассчитывали на детонацию. Я опрашивал тех, кто застал первые после их отступления бомбежки, а последнюю я сам видел. Да, около седьмого, но далеко. Не получилось. Но полной уверенности, конечно, у меня не было. Помните, Иванцов сказал об “обратной психологии”? Могло быть и это… 23 февраля В военной жизни все быстро. Сегодня все офицеры вместе с подполковником Тоидзе ходили прощаться с майором — они уезжают без него. Часть получила новое назначение — завтра выступает. Да и надобность в специальной военной части прошла — собрались и каждый день прибывают прежние и новые строители гидростанции. Масса народа. Они и будут продолжать. В частности, работа в донных им уже сдана. Я тоже на днях возвращаюсь к себе. Конечно, не возвращаюсь, а догоняю. Они уже взяли Кривой Рог. Недавно оттуда было письмо. Спрашивали о плотине. Будет что рассказать! Срок прибытия мне дан такой, что если майора на днях выпишут из госпиталя, то будем догонять своих вместе. И на каком-то перекрестке разъедемся. А жаль — свыклись за это время… На прощание с Михаилом Михайловичем кое-что принесли. Главным образом — папиросы. Карнаух — зажигалку-полуавтомат, которые теперь в ходу. Один я ничего не принес, чтобы не было у Михаила Михайловича впечатления, что все завтра уезжают. 25 февраля Вчера отбыли. Был сейчас в госпитале. Михаил Михайлович спрашивал, как уезжали, не забыли ли чего. Я рассмеялся: это только в штатской жизни можно забыть чемодан! Ему лучше: врач говорит, что если и дальше так, то через три-четыре дня могут выписать. Прекрасно! Едем тогда с майором вместе хоть полдороги! 2 марта Сижу в вагоне один. Действительно, полдороги! И короткой! Что же говорить! Вспоминаю смех его в седьмом донном и счастливое лицо, когда он подошел в шинели нараспашку. И день солнечный, и мальчик с белой собакой, и мы, смеясь, бежим к телефону… Полдороги! И на станции Веснина, которую он сам же выбрал… Он выбрал эту узловую станцию, чтобы дальше и ему и мне ехать без пересадки. Всего пятьдесят пять верст по хорошей дороге. Машина довезла нас до привокзальной площади, и шофер уехал обратно. Кругом было разрушено и обожжено, но уцелел какой-то садик со скамейкой в снегу. Старуха в белом полушубке показала, где до немцев был забор у ее сада. Я оставил Михаила Михайловича здесь — после госпиталя ему было трудно еще ходить — и пошел в воинскую кассу. Прошло минут десять — пятнадцать. Я получил билеты… У станции не было сирен, были паровозы. Они замычали все разом, на всех путях. Я выбежал на перрон. Шестерку “юнкерсов” гнали наши истребители. Облегчая машины, гитлеровцы сбрасывали бомбы куда попало. Раздалось несколько взрывов — в линейку, грядой, друг за другом, и все исчезло. Меня воздухом отбросило к фасаду станции, на какие-то тюки. Я поднялся. С двумя билетами я подбежал к садику. Ничего нет. Даже скамейки. Дымятся обожженные деревья… Сперва я нашел наши обугленные чемоданы, потом в стороне — его. Хорошо одно — моментально… Случайно на снегу рядом подарок Карнауха — зажигалка-полуавтомат. Но ее некуда было и положить… Собрались люди. Старуху в белом полушубке так и не нашли. Может быть, потом, без меня… Я должен был спешить в часть, но задержался до утра — мне хотелось сделать последнее для Михаила Михайловича. Но что бы я мог один! Прекрасна, чиста да и необъяснима любовь! И к кому? К постороннему майору, который пятнадцать минут побыл где-то рядом, в одном поселке с ними! Помогли рабочие из железнодорожного депо, ну, и, конечно, женщины. И так породному… Когда опускали, я сказал то, что, знал, что думал об этом человеке. Нет, объяснима любовь, не пятнадцать минут был он в их поселке, он прожил с ними всю жизнь, большую жизнь соотечественника. Сижу в вагоне один. За окном снег и снег — все плывет в глазах…”Глава десятая НЕОТСТУПНЫЙ, КАК ТОТ НА САНЯХ…
1
Через три дня после вечера в клубе четырехугольная “эмка” катила по прохладной дороге с длинными, предзакатными тенями от столбов и кустарника. Большое красное солнце, подернутое тонкими золотистыми стежками облаков, опускалось над серо-синим неровным пологом, который пока не двигался, не поднимался от горизонта. То вечер ждал своего времени. “Эмка” вместила всех. Витя пристроился у Всеволода Васильевича на коленях и вертел треугольное, поставленное на ребро стекло кабины, забавляясь тем, что в одном положении стекла ветер сильно задувает внутрь кабины, в другом, хотя окно открыто, он куда-то исчезает. Лиза сидела у левого окна, обращенного к солнцу, и следила, за дорогой — за той последней дорогой… Вот и этот куст стоял, только тогда он был меньше и на снегу… Вот три клена мимо, и тогда мимо… Она отвела взгляд от окна. У сидящих впереди, шофера и Кузнецова, от закатного солнца розовела левая щека. А у Алексея Христофоровича и белая фуражка отливала розовым. Какой он теперь другой для нее… Хотя все знали, куда едут, но как-то так, будто по уговору, говорили о другом. Софья Васильевна расспрашивала Кузнецова о жене, о доме. Тот отвечал охотно, но иногда бегло, смущаясь неустройством жизни, не так, как у других: жена еще студентка, хотя и четвертого курса, видятся только летом и на студенческие каникулы, детей нет, семья пока условная. Потом заговорили о работе. Всеволод Васильевич спросил о конвейере, который на днях введен у Кузнецова на фабрике. Разговор пошел долгий и, видимо, для Кузнецова не новый. По его словам, руководству фабрики еще не было ясно, как при конвейере будет сочетаться личная, возрастающая производительность труда с общей работой конвейера. — Даже если предположим, что на конвейере одни передовики труда, — сказал он, — то и тогда вопрос еще не решен. Ведь они разные люди! Я могу сегодня выработать на десять процентов больше нормы, а вы уже можете на двадцать — вы меня ждите! Завтра я на тридцать — я вас буду ждать. Нельзя же вводить регламент на личную инициативу, умение, желание… — Если вы не против конвейера, то это, по-моему, можно разрешить, — улыбаясь, сказал Всеволод Васильевич. — Ну, кто же против! — Смотрите сюда! И Всеволод Васильевич, вынув блокнот и пересадив Витю на другое колено, всем своим большим телом нагнулся к Кузнецову. Тот с недоверием стал смотреть в блокнот на линейки и кружки, появляющиеся под карандашом дяди Севы. Некоторое время он и слушал рассеянно: все это известно, а дальше что? Но вот у каждого пятого кружочка стал появляться шестой. — Понимаете? Добавочная люлька для необязательной детали, — сказал Всеволод Васильевич. — Кто хочет, кто может, кто выиграл время на обработке обязательной детали. Это, возможно, еще не идеал, может, для дифференциации к добавочной надо еще добавочную, но обувь, я знаю, уже так делают… Вот пригодно ли это к вашей продукции? И тут Кузнецов, насупившись, стал внимательно смотреть в блокнот, на карандаш, от которого ходила длинная, перечеркивающая бумагу тень. Он сидел полуобернувшись к Всеволоду Васильевичу, и загорелое лицо его с толстыми губами было все, до белков глаз, в красном свете заката. Нижний край солнца потемнел, стал вишневым, и на него нашло узкое, как стрела, уже не золотое, а лиловое облако. Теперь на дорогу бросали тени не только столбы и кустарники, но и высокие травы, кучками стоящие за обочиной. Дорога была полосата, и голубоватая “Победа”, вынырнув слева “эмки”, как по шпалам, понеслась вперед, дымя розовой, тонкой, как пудра, красивой пылью. Следя за ней, Лиза первая заметила дымки впереди. Это, конечно, Весняна… У нее сжалось сердце… Слева от дальних домиков бесшумно взлетел султанчик пара, преобразился в гриб и растаял в воздухе. Только тут дошел гудок паровоза. Услышав его, Кузнецов не торопясь отвернулся от дяди Севы и, пригнув голову, всмотрелся в дорогу. Вскоре машина свернула влево, на проселок, и поехала прямо на закат. Запахло влажной травой, клевером, стало прохладнее. Небольшое взгорье с редкой рощицей заслонило солнце, и прямые клены, стоящие на краю взгорья, со всеми подробностями — с ветвями, с длинными ножками листьев и с пятипалым узором самих листьев, — отчетливым силуэтом обрисовались на темно-красном чистом и далеком фоне. Машина остановилась. Все молча вышли, и усатый шофер, откинув сиденье, стал подавать глиняные горшки с цикламенами и гиацинтами. По узкой, пологой тропинке вслед за Кузнецовым все стали подниматься в гору. Витя с шофером шли последними. У Вити руки были свободны, и он, сорвав травинку и натянув ее между сложенными большими пальцами, сильно подул на нее. Раздался дребезжащий писк. Софья Васильевна, морщась, оглянулась, и Витя быстро отнял руки от губ. Неопределенно улыбаясь, шофер погладил его по голове. Еще не останавливаясь, но уже замедляя шаг, Кузнецов, шедший первым, снял белую фуражку. Вслед за ним, ничего еще не различая, перехватив горшки с цветами одной рукой, обнажил голову и дядя Сева. Софья Васильевна приближалась к ним, пристально и озабоченно ловя взгляд Кузнецова, и когда она заметила, куда он смотрит, с тем же, только более напряженным выражением лица стала смотреть туда же. Лиза из-за спины матери все уже увидела и, закусив губы, шла, рассматривая пушистые, в бледных иголочках листья цикламенов, которые она, держа двумя руками, несла впереди себя. Прозрачная капля упала на лист, и из-за иголочек не скатилась, так и лежала, как роса. Холмик был аккуратно обложен свежим зеленым дерном, обсыпан кругом желтым песком. Тесовая скамейка без спинки стояла слева. …Когда прошли первые минуты, мужчины стали устанавливать цветы по краям дерна. Софья Васильевна сидела на скамейке и, отнимая платок от глаз, что-то шепча изменившимся голосом, показывала рукой с платком, куда лучше поставить тот или другой горшок. Привалившись к ней, пряча лицо, рядом сидела Лиза. Осторожно отстранившись от дочери, Софья Васильевна подошла к Кузнецову, который стряхивал с колен песок, и, смотря на него влажными, благодарными глазами, спросила все тем же невнятным, изменившимся голосом: — Это вы… скамейку, дерн? Да? Совсем свежий… Когда стали спускаться по тропинке к машине, вспомнили про Витю. Всем почему-то казалось, что он тоже был там, наверху. Его позвали. Он поднялся откуда-то из-за кустов и, прутом стегая впереди себя траву, отворачивая голову, пошел напрямик без тропинки — к машине. Как только уселись, Софья Васильевна испытующе взглянула на сына и с растерянной улыбкой привлекла его к себе, и он, никого не стыдясь, вдруг громко заплакал. Не успела машина тронуться, пошел дождь, все сразу заблестело вокруг. Лиза, нагнув голову, посмотрела наверх. Из машины был виден только край тучи, темно-багровый, но не страшный на чистом вечернем небе. Солнце почти зашло, на землю уже легла тень, но клены на взгорье еще держали закатный свет. Серо-синий полог вечера, медленно набирая высоту, стал охватывать небо. В кабине стоял полумрак, тишина, было слышно, как в левое окно задувает ветер, упругий, теплый. Взгорье с кленами давно скрылось, версты легли, а оно все стояло перед глазами… Софья Васильевна вдруг сказала как бы про себя: — Как странно, мы тогда прочли: “Без вести…” Она знала со слов Кузнецова, что, приехав в часть, он на второй же день был тяжело ранен и в безнадежном состоянии отправлен в далекий тыл. И тогда, когда он смог о событии, происшедшем на станции Веснина, написать в часть подполковника Тоидзе, вероятно, было или поздно — уже послали извещение родным, — или у части переменился номер почты. Возможно и другое: почта и канцелярия войны работали не безгрешно, но гибли, умирали и они… Она знала все это, но после строки на граните и сейчас, после свежего дерна, свежего песка, — после зримой памяти о нем, — как-то странно было то, давнишнее: “Без вести…” Лиза следила за мокрыми кустами, мелькавшими за окном машины. Мамины слова о “без вести” напомнили ей о той комнате у Натальи Феоктистовны. Были там, ничего, конечно, с мамой не нашли, все новое, все другое — остались лишь стены, когда-то видевшие его… Ничего в руках на память не унесли, но шли не пустые: память об отце за эти дни была уже другая, большая — не только для них, родных ему… То смутное, новое чувство к отцу, которое подступило, когда она слушала Кузнецова в клубе, вдруг стало сейчас ясным, светлым. Да, она гордится… Лиза вспомнила человека в меховой куртке — там, в Москве, над столом — и опять вернулась к мыслям об отце. Тут, в полумраке машины, отец возник строгий, сильный… Нет, сильный по-другому, решительный, неотступный… Неотступный, как тот, на санях, в меху, со стрелкой компаса на норд, только на норд… “Вариант один, и он не обсуждается!” — говорил отец. В этот миг он, конечно, видел и маму, и ее, и Витю, но было и другое, еще большее — огромная, бескрайняя страна, которая сейчас за минной камерой лежала в февральских снегах, под нежарким зимним солнцем. Она затихла, ждет его, верит ему. И он кладет руки на желтый ящик… Папа!.. …Когда подъехали к плотине, был уже вечер. Дождь давно прошел, на темном небе прорезались звезды, и блики их рябили на воде, у бычков. Низ плотины был погружен во тьму, но проезжая часть сияла огнями — шли отделочные работы. “Эмка” уперлась в полосатый шлагбаум, и при свете фар была видна пожилая сторожиха, что-то вязавшая быстрыми, блестевшими на ярком свету спицами. Кузнецов и Всеволод Васильевич вышли из автомобиля покурить. Их окликнули из “Москвича”, тоже ждущего переезда. Они еще не подошли к машине, как навстречу им из низкой дверцы показался высокий, в светлом костюме Аверьянов. Всеволод Васильевич спросил его, когда же будет двухстороннее движение, чтобы не ждать у шлагбаума. Тот, улыбаясь, ответил, что скоро — как зальют асфальтом. Но улыбка его относилась не к ответу, а к чему-то другому, так как он, продолжая улыбаться и уже не слушая, что ему говорят, подошел к фаре “Москвича” и, вынув из кармана бланк телеграммы, поманил к себе Всеволода Васильевича и Кузнецова. — Вот сейчас только получена, — сказал он. — Помните пароход “Руслан”, который первый прошел наш шлюз, обновил? Так вот, его капитан Рудниченко уже прислал телеграмму. — “Прибыли в порт Долгожданный, — стал читать Всеволод Васильевич, — выгрузили долго ожидаемое; грузимся долго лежащим. Завтра морская волна будет бить в корму. С попутным зефиром, так быстро на вашем шлюзе не ожидаемый Рудниченко”. Шлагбаум поднялся, навстречу проехали короткотелые, с порожними кузовами автокары, от которых потянуло теплом и запахом горячего асфальта. Те, кто стоял у переезда, разошлись по своим машинам. Миновав аванкамерный мост, “эмка” въехала на плотину. Лиза стала считать бычки, но сбилась. Была и другая примета: доска соревнования — от нее третий пролет… И, когда машина поравнялась с этим пролетом, Лиза представила, почувствовала: сейчас вот под ней, внизу, у воды, — седьмое донное… На следующий день после вечера в клубе, после Кузнецова, она с Павеличевым ходила к плотине, и он с берега показал — он все знает — седьмой туннель. Уже не его самого, а место, где он был. Туннель этот давно открыт, пропустил сквозь себя воду и теперь снова забетонирован. Но в четвертом — Павеличев сказал “трудном” — туннеле еще шла заделка, и по четвертому, по темному, ничего не говорящему огромному квадрату она увидела далекий февральский полдень в седьмом донном… Павеличев в тот вечер уезжал, и, помявшись, он спросил ее московский адрес. Это было впервые для нее — подруги и мальчики не спрашивали, и так знали. А тут было по-настоящему записано в большой блокнот… Они поднялись по берегу, и на скользком крутом месте Павел, как и в первый день, подал ей руку… Сейчас он уже в Москве или, может, в разъездах, и она вот едет над седьмым донным, едет от кленов, от свежего дерна… И мысли вернулись к сегодняшнему — к станции Весняна… Дома, после длинной, в оба конца, дороги, всем захотелось спать, и Лизе тоже, но она, наскоро выпив чаю, перебралась за угловой, укромный стол и засела за письмо к Варе и Светлане. Квартира затихала, а ее сон стал отходить. …Снова в потушенном зале возник человек, спускающийся в люльке. И последнее, сегодняшнее: машина едет на солнце — и вдруг взгорье, клены… Да, найден, но не тот, кто был в воспоминаниях и сомнениях. Она не счастлива — ведь его нет, — но она не может быть не счастливой, что узнала, нашла такого… Да, у него тоже был свой “курс — норд”, и она теперь в своей жизни желает только одного: быть такой же, не отстать… Это много, возможно ли это? Хотя бы только стараться… От нежданных мыслей письмо было путаным, а от волнения длинным. Но Лиза знала, что подруги и поймут его и дочитают до конца.2
Прошло месяца полтора. Стоял уже август, лето, перевалив через вершину, не убавило ни тепла, ни зелени, только перед рассветом у открытых окон несмело, будто просясь, появлялся ветерок и тут же уходил. Давно сошли желтая черешня, ягоды, держались еще абрикосы, много было яблок. Появлялись на базарных рогожах замыкающие лето и фруктовый караван толстые арбузы. Наталья Феоктистовна говорила Софье Васильевне, что все это пустяки, это и в Москве можно найти, а надо взять с собою местных помидоров. Маленькие, овальные, вроде слив, и, как сливы, с тонкой кожицей, они и в маринад, и в соленье, и так просто — прелесть… Они сдружились за это время. Наталья Феоктистовна поняла, что сестра Всеволода Васильевича обыкновенная женщина, только с какой-то душевной загородкой. И не на все личное, а только на то, где могут появиться слова сочувствия, грустный вздох… И Наталья Феоктистовна не затрагивала этого. И, если заходил разговор о станции Весняна, говорила об этом просто, как об обыкновенном. Так она порекомендовала плотника, который хорошо, добросовестно может сделать на могиле ограду… Софья Васильевна была благодарна ей не столько за то, что та поняла, чего не надо касаться, сколько за ту легкость, естественность и незаметность, с которой Наталья Феоктистовна обходила это. И как-то она сказала брату: — Вы ведь дураки, женитесь на молодых и красивых! А ведь надо на тонкой, благородной душе. И я не понимаю, чего ты медлишь. Всеволод Васильевич был некоторым образом задет, обижен: помимо всего, он считал ее и молодой и красивой. Но промолчал. Сестра, поняв его, стала оправдываться: он не так ее понял, она говорила о главном, чего он, может быть, и не видит. Брат даже возмутился: как не видит!.. Это возмущение и рассмешило Софью Васильевну и уверило: теперь скоро… …За полтора месяца Лиза получила от Павеличева на завьяловский адрес четыре письма — и все из разных мест. В последнем, уже из Москвы, он просил ответить. Это было трудно. Варе она писала одним махом, не перечитывая, а тут пришлось с тремя черновиками, так как не знала, что отвечать. Он сообщал о работе, о разъездах, о разных местах, в одном письме было сказано — в Завьяловске ему понравилось больше всего. А о чем писать ей? О пляже, о кино, о чтении книг для школы — в общем, о безделье. Но в третьем черновике письмо неожиданно получилось очень умное. Накануне, посмотрев с дядей и с Натальей Феоктистовной “Месяц в деревне”, она вдруг с жаром обрушилась на героев пьесы. Как можно целый месяц только то и делать, что выяснять, кто кого любит и кто кого не любит! Это ужасно! Это позорно! Да что месяц — это только одно название у пьесы, — а на самом деле у этих людей и вся жизнь была такая бездельная… Да, она тоже сейчас ничего не делает, если не считать помощи матери по хозяйству и чтения для школы, но, во-первых, у нее каникулы, а во-вторых, ей самой совестно… Тут Лиза по своему прямодушию почувствовала: нет, ей не совестно, — и зачеркнула это. Пришлось зачеркнуть и “во-первых” и “во-вторых” и написать просто: “потому что каникулы”. А у тех была вся жизнь такая… Нет, мы совсем другие люди, мы не можем, просто не умеем сидеть сложа руки! Наша эпоха… Письмо было большое, обстоятельное, Лизе оно очень понравилось — умное. Павел поймет, оценит — это не бантики, не цветочки! Испортил дядя Сева: когда письмо было уже отослано, он как-то в разговоре сказал, что писать письма на линованной бумаге — это пошло. А она как раз на линованной! Кто же знал! Но потом оказалось, что письмо подгуляло не только потому, что она писала по линейкам. Павел ответил: ведь это получается, что “месяц в деревне” был всеобщим, от мала до велика! А построенные города! А дворцы! А Великий Сибирский путь! А ученые? А тот же Лизин Седов?.. Она тотчас, уже без черновиков, принялась отвечать… Неужели она так написала? Или он так понял? Великий Сибирский путь — это была только подробность из географии не то в пятом, не то в шестом классе: желтой указкой надо было долго вести с запада на восток… Но Седов был живой, близкий, его любил отец, и неужели Павел подумал, что она могла так подумать?.. Письмо было начато в дни отъезда, и мать не дала дописать — то туда сходить, то это сделать. — Завтра с утра никуда не уходи! — сказала Софья Васильевна. — В десять часов Алексей Христофорович пришлет машину. Лиза знала: завтра, в последний раз — в последний перед отъездом — поедут к станции Весняна… Было условлено — Кузнецов предложил: в десять часов он приедет из района в обком, и, пока будет идти совещание, Софья Васильевна с детьми съездит туда на машине. Вечером позвонил со строительства Аверьянов: “Слышал, послезавтра уезжаете. Может быть, надо машину к Михаилу Михайловичу?” Софья Васильевна поблагодарила — уже есть. Наутро в своей не старой, но уже устаревшей для глаза четырехугольной “эмке” приехал сам Кузнецов. — Мой вопрос на совещании, оказывается, в самом конце, — сказал он, неторопливо двигая толстыми губами. — А у нас поговорить любят. Так что за три часа не спеша мы вполне… Там, как и в прошлые приезды, стояла затененная кленами тишина, изредка доносились со станции гудки паровозов. Пахло лесной земляникой — ягоды уже сошли, но где-то от их листьев, нагретых солнцем, тянуло прежним ароматом. Ограда, хотя и деревянная, получилась прочная, основательная, с засмоленными внизу столбами, маленькая калитка, ведущая внутрь, открывалась легко, без скрипа. Одни цветы осыпались, другие пошли в цвет: принялся, хотя и не вовремя посаженный, шиповник… Все было чисто, прибрано вокруг, цветы политы, и Софья Васильевна вспомнила про Аграфену Ивановну из железнодорожного поселка, которая все это — и не первый уж год — не забывала. Она ее видела в прошлые приезды, знала, что Алексей Христофорович давно договорился с ней, но теперь-то уж не Кузнецов, а она хотела бы поговорить с Аграфеной Ивановной. Но все откладывала этот разговор, не зная, как отнесется к нему Алексей Христофорович. На обратном пути к машине она заговорила об этом, и Кузнецов сказал: — Я вас понимаю, вам хочется самой заботиться… Да это и ваше право. Но я тут буду ближе, и надо ли с Аграфеной Ивановной заново договариваться? Она ко мне уже привыкла… А так — считайте меня только управляющим! — добавил он. Софья Васильевна приостановилась, пристально взглянула на Кузнецова и вдруг обняла его.3
На следующий день уезжали. Поезд формировался в Завьяловске: в вагоне было свободно, прохладно, пахло недавно вымытыми полами. Уложили вещи, будто примериваясь, сели на свои места. Софья Васильевна оправила салфетку на столике. Всеволод Васильевич пришел от проводника и объявил, что чаи будет, как только поезд тронется. Он сказал это, смотря не на сестру, а на Наталью Феоктистовну. Та рассмеялась и поспешила обратиться к Софье Васильевне: — На корзинку с помидорами ничего не надо класть! Кузнецов молчал, но потом сказал, что на станции Лахтино, которая будет через час, надо покупать не цыплят, а вареную кукурузу — умеют там делать. Затем все впятером сидели на нижних полках — Витя был уже на верхней, щелкал выключателями — и вели отрывистый, перебегающий с одного на другое разговор, обычный разговор перед прощанием. А потом наступили те неизбежные даже при расставании с близкими людьми минуты, когда все сказано, а поезд еще не уходит… И тут идут повторы. — Помидоры лучше на третью полку, — сказала Наталья Феоктистовна, — а тут они могут помяться. В коридоре послышался шум, и Всеволод Васильевич, сидящий ближе к выходу, заглянул задверь. Он встал, улыбаясь и кивая головой. У входа в купе появился высокий Аверьянов со шляпой и свертком в руке, за ним — полный, степенный, в сером костюме начальник строительства Лазарев. Позади черноволосый, черноглазый человек, в котором Всеволод Васильевич узнал Панайотова, известного по местной газете кессонщика с левого берега. У Аверьянова, видимо, были приготовлены какие-то официальные слова, но всякие возгласы: “пройдите”, “сядьте”, “как устроились”, помешали ему произнести. Кроме того, по вагону прошел вислоусый проводник, предупреждая о скором отходе поезда. Аверьянову надо было торопиться. Отложив шляпу и поглядывая на Софью Васильевну, он развернул серую холстинку на свертке и тут же отвел руку. Небольшая, в полметра длиною, модель плотины лежала у него на ладони. Она была искусно вырезана из какого-то светлого дерева и шла легкой полудугой, матово блестя рубчиками-бычками. Внизу, в середине модели, между двумя бычками, был пунктиром обведен крошечный квадратик и стояла цифра “7”… По коридору к выходу прошли провожающие, пробежал носильщик. Аверьянов поднес Софье Васильевне модель со словами: — Просим принять от строительства… Софья Васильевна и Лиза вместе протянули руки, но с верхней полки быстро спустилась другая, с обкусанными ногтями, и Витя, приговаривая: “Я только посмотрю!” — поднял модель к себе. Потом Софья Васильевна и Лиза стояли у спущенного окна, выходящего на перрон к провожающим. Оставалось две—три минуты. Всеволод Васильевич, украдкой и как бы подшучивая над собой, показал сестре глазами на локоть Натальи Феоктистовны, который он неловко, но бережно поддерживал, и улыбнулся, как бы говоря: “Вот видишь!” Но вслух сказал сестре другое: — Родственники, которые подхалимы, бегут за поездом до самого семафора. Но у тебя брат честный человек и будет стоять на месте. Неожиданно между палевым платьем Натальи Феоктистовны и темным костюмом Кузнецова появился загорелый хмурый мальчик в трусиках и майке. Софья Васильевна быстро обернулась назад, в купе: — Витя, Глеб пришел! Витя, оставив модель, скатился с полки: — Где он? — и подбежал к окну. Выяснилось, что Глебка на вокзал шел пешком. Аверьянов пригласил Софью Васильевну приезжать на будущее лето — станция будет во всей силе. Со значительным видом прошествовал по перрону главный кондуктор. Начальник строительства Лазарев внушительно, как бы приказывая, сказал Софье Васильевне, что в Лахтине надо купить новые дыни “колхозница” — маленькие, круглые, но необыкновенные. Кузнецов, неодобрительно выслушав это, повторил о кукурузе. Пробежала женщина с двумя белесыми одинаковыми девочками. Раздался свисток. Провожающие по всему перрону отступили от вагонов. Неожиданно слева в соседнем окне Витин выкрик: “Юриспруденция!” А вон Глебка, поднимаясь на цыпочки, громко, радостно-отчаянно в ответ: “Корпуленция!” Поезд трогается. На перроне мелькают платки, руки. У Софьи Васильевны все смешалось — все вместе: и со всеми ли простилась, и так ли поблагодарила Аверьянова, и не забыли ли чего из вещей, и почему это Глебку не догадались подвезти, и что это за дурацкие слова они выкрикивали… Втроем у окна. Как часто бывает в небольших городах, сразу за вокзалом показалась свежая зелень, редкие домики с огородами, переходящими в луга. Вскоре поезд подкатил к мосту через реку, и отсюда стала видна далекая плотина — маленькая, как эта, в купе. После моста уже свободно, просторно и надолго открылось чистое поле… Часто в семье моряка на шкафу стоит кораблик — модель того, на котором плавал отец. В Москве, в одной из квартир на Большой Якиманке, на верхней книжной полке светлой полудугой лежит крошечная плотина. Когда я бываю в этом доме, останавливаюсь перед нею. Там, у себя на родине, она уже в полной, даже в умноженной силе, а поблизости от нее и подальше нарождаются другие, новые. Куда же отнести эту, деревянную?.. Нет, не в тень воспоминаний, куда обычно причаливает шкафный кораблик, а вперед и дальше — к живым строителям и солдатам.
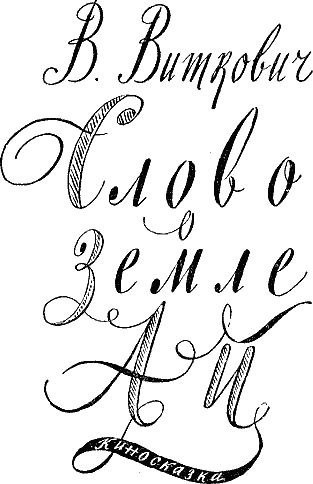

В. Виткович СЛОВО О ЗЕМЛЕ АЙ Киносказка
Прекрасна, благодатна, благословенна земля айдинского племени. Прозрачная, словно воздух, синяя речка Ай бежит по этой земле. Бежит она сквозь сосновый бор. Бежит, как песня народа — неведомо где началась, неведомо где кончается. На берегах речки, в кольце гор, белеют тысячи юрт, над ними — тысячи легких дымков. А вокруг земли Ай средь горных вершин медленно движутся облака. У речки, под сенью исполинского дуба, виднеется каменная чаша необыкновенной величины. По одну сторону ее стоит Кусмэс, старейшина племени айдинцев; он сед, коренаст; лицо его подобно дубовой коре, морщинистой, узловатой. Он держит за руку своего сына Алтын-дугу, мальчика лет семи. По другую сторону — Кусэр, старейшина племени табынцев; он высокий и большеносый, а черная борода его напоминает ласточкин хвост. Он держит за руку свою дочку Ай, девочку лет шести. Вокруг густое кольцо народа, верхового и пешего: мужчины в папахах, женщины в бархатных безрукавках и платках, ребятишки, взобравшиеся на деревья и скалы. Кусмэс торжественно говорит: — Счастливый день! Два наших племени — айдинцы и табынцы, забыв раздоры, соединяются сегодня навеки. Нас стало вдвое больше — значит, мы сделались вдесятеро сильней. Кусэр кивает: — Вместе нам не страшен даже Джангархан, от имени которого содрогается мир! Заиграли музыканты: задули в кураи — очень длинные пастушеские свирели; под пальцами глухо зарокотали струны тумр, бубнист звонко ударил в бубен. По знаку обоих старейшин два человека — айдинец и табынец (у обоих в руках по кожаному мешку с кумысом) — подходят к каменной чаше. Они наклоняют мешки, и кумыс льется в чашу двумя белыми струями. Позади гудящего, толпящегося народа на камешке стоит Гульбика. Ей лет пять. Она вытягивается на цыпочках, но ей ничего не видно. Тогда Гульбика подбегает сзади к всадникам. Ей страшно забираться под живой свод из конских животов, ног и хвостов. Робко протискивается она между крупами двух лошадей. Но над толпой прокатывается гул голосов, лошади взмахивают хвостами, и Гульбика отшатывается. На соловом, широколобом коне к ней подъезжает Абзаил, главный табунщик. У него седые усы, редкая бороденка, на голове пастушья шапка. Гульбика радостно берется руками за стремя. — Почтеннейший Абзаил, — говорит она тоненьким голосом, — вы повелеваете лошадьми! Скажите им, чтобы они меня пропустили! Усмехнувшись, Абзаил подхватывает Гульбику с земли, сажает перед собой на седло. И все лошади сами расступаются, пропуская их. А под дубом каменная чаша уже полна, и строгий Ханьяр, силач табынцев, перемешивает в ней палкой кумыс. Старейшины племен — седоголовый Кусмэс и чернобородый Кусэр подходят к чаше, делают по глотку. Одобрительно загудел народ. Кусмэс торжественно начинает: — Клянемся быть вместе навеки… Кусэр подхватывает: — Клянемся быть вместе навеки… Оба продолжают: — …если же мы клятву не сдержим, пусть наша ложь войдет к нам в кровь и станет отравой! Скрепляя клятву, они обнимаются через кинжал. Восторженными криками приветствует их народ. Многие айдинцы и табынцы обнимаются. Обнимаются пешие, обнимаются конные. Музыканты умолкли. И седоголовый Кусмэс обратился к народу: — Вот уже сорок весен прошло, как умер Киньж, несравненный наш богатырь. Вам ведомо его предсказание: когда старейшины наших племен свяжут детей своих священною клятвой, в тот же миг его дочь, — он показывает на Ай, что стоит рядом с Кусэром, — затмит своей прелестью всех красавиц земли. А мой сын сделается могучим богатырем. — И он кладет руку на голову своего сына. — А когда они вырастут и соединятся, наш народ станет непобедим. Так сказал нам перед смертью Киньжя. Сидя на коне, Абзаил снисходительно щурится и говорит Гульбике: — Глупые люди. Они надеются, что твой брат сейчас сделается богатырем. Какие в наше время богатыри! Вот Киньжя был богатырь так богатырь! — А вы видели Киньжя? — спрашивает Гульбика. — Я все видел и все знаю, — важно говорит табунщик. — Киньжя был великаном. Когда он открывал одну ноздрю, поднимался такой ветер, что вокруг все мельницы начинали крутиться. А усы его так разрослись, что в них завелась мышь. Кошка погналась за этой мышью, полгода бегала — и то не могла поймать. Вот какие у Киньжя были усы! Вновь заиграли музыканты. Алтын-дуга и Ай подходят к каменной чаше, делают по глотку. И когда они выпрямились, все увидели: Ай из курносой девчонки превратилась в девочку такой красоты, что не постигнуть уму. Будто подменили ее. Брови ее уподобились вороновым крылам, очи стали как прозрачнейшие озера, щеки — как цветники роз. И вся она видом своим могла теперь опечалить любую красавицу. — Подружка Ай! — звонко восклицает Гульбика, соскакивает с коня и бросается к ней в объятия. — Ай!.. Наша Ай!.. — звучат клики народа. Чернобородый Кусэр с важностью обращается к Кусмэсу: — Что моя дочь стала красавицей, это видно всем. Посмотрим теперь, обрел ли богатырскую силу твой сын. Пусть он… — Кусэр ищет взглядом, что бы такое мальчику сделать, — пусть он поднимет коня твоего пастуха Абзаила! Абзаил слезает с коня. Мальчик подходит, останавливается в смущении. Строгий Ханьяр вызывается: — Я покажу ему как. Ханьяр подлезает под коня и, натужившись, на своей спине приподнимает его. Слышны возгласы одобрения. Ханьяр опускает коня, горделиво выходит, говорит Алтын-дуге: — А теперь ты. Мальчик с готовностью бежит под коня, поднимает руки. Но он слишком мал, его спина не достает до конского брюха. Тогда Алтын-дуга выбегает, ловко, как ящерица, взбирается на скалу позади коня и, схватившись рукой за репицу лошадиного хвоста, поднимает коня кверху. Конь испуганно ржет, копыта его болтаются в воздухе. Затаив дыхание, смотрит народ. Мальчик опускает коня, спрыгивает со скалы. Пастух Абзаил говорит Гульбике: — Поистине твой брат сделался настоящим богатырем! И народ с восторгом хлынул к детям. Отовсюду несутся выкрики: — Алтын-дуга!.. Ай!.. Алтын-дуга!.. Прокопченный казан с сорока ушками стоит на очаге. Над ним, шепча заклинания, склонилась старуха Мясекай. На ее щербатом подбородке — один волосок, во рту — один зуб. В казане черная жидкость. В ней, как в волшебном зеркале, проступают отражения того, что мы только что видели: Алтын-дуга, поднимающий коня за хвост, и у чаши красавица Ай. — Алтын-дуга?! Ай?! — злобно шепчет старуха. С яростью швыряет она щепотку зелья, и над казаном взлетают клубы дыма. Старуха направляется к дверям своей колдовской кельи. У порога трое сыновей старухи, три джунгарских богатыря, свирепый Жургяк, хитрый Хултан-гол и сладкоязычный Янгызак, играют в ашик — бабки. — Сыночки, — гнусавит она, — не скажете, где пребывает гроза пяти частей света? Ей отвечает Хултан-гол: — Джангархан, покоритель царств, посылает сейчас войско на государство Чин-Мачн ограбить длиннокосых китайцев. — А вы, мои верблюжатки, почему дома? — Хан велел нам остаться охранять его благополучие, его сокровища и его жен. Старуха выходит на площадь. Широко раскинулась в степи джунгарская столица: юрты, шатры, повозки, заваленные награбленным добром. Меж них покачивается море конских и человечьих голов. Громко звучат удары барабана, от них раскатывается глухое, как бы подземное, эхо. Всадники вооружены копьями, палицами, луками. У всех воинов разбойничьи лица. А в самом центре джунгарской столицы, под черной причудливой горой, высится чешуйчатый дворец Джангархана. На открытой террасе восседает Джангархан. Он жирен, дрябл, и лицо его так заплыло, что зрачки еле видны сквозь узкие щелки глаз. Придворный кальянщик время от времени затягивается из кальяна и вдувает струю дыма в рот повелителя. — Пусть поклянутся! — приказывает главный везир, стоящий рядом с ханом. Знаменосец поднимает джунгарский флаг. И вся рать повторяет слова страшной клятвы: — Еду я, чтоб детей превратить в сирот!.. — Еду я, чтоб в раба превратить народ!.. — Еду я, чтоб нетленных жизни лишить!.. — Еду я, чтоб людей отчизны лишить!.. — Еду я — разгромить китайскую рать!.. — Еду — сокровища Чин-Мачина забрать!.. Еще несутся над джунгарской столицей слова клятвы, а старуха Мясекай уже около хана, шепчет что-то ему на ухо. Знаменосец опустил флаг. И джунгарская орда двинулась в поход, подняв к небесам облака пыли. Джангархан жестом отпускает везира и слуг. — О повелитель! — говорит старуха, оставшись наедине с ним. — У табынцев появилась красавица Ай, а у айдинцев — богатырь Алтын-дуга. — Алтын-дуга? — Да. Тот самый, о котором в книгах сказано, что он разрушит твое царство, когда соединится с красавицей Ай. Джангархан помолчал. Сказители говорят, он молчал так долго, что за это время мог свариться котел мяса. Потом он сказал: — Убить их. — Нет, — отвечает старуха. — Хотя они еще дети, убить их нельзя. Их тело не боится ни огня, ни воды, ни меча, ни копья, ни палицы, ни стрелы, ни львов, ни слонов! Их можно одолеть только хитростью. — Хитрость давай! — хрипло говорит Джангархан. — Пусть повелитель заманит Алтын-дугу и Ай к себе в гости. Их родители не посмеют отказаться от высокого приглашения. И пока здесь твои шуты будут их забавлять, там твои воины истребят их народ. Джангархан расплылся в улыбке, и голос его зажурчал подобно ручью: — Неразумно! На земле нет табунщика более искусного, чем Абзаил, выращивающий коней, рожденных от ветра. Каждый год айдинцы платят нам подать — двадцать тысяч этих коней. Истребив башкир, мы лишимся вместе с тем и башкирских коней. Другую хитрость давай! — Есть и другая, — говорит старуха. — Надо Ай и Алтын-дугу навсегда разлучить. Я опою Алтын-дугу травой, от которой меркнет память, и он забудет красавицу Ай и превратится в обжору и лежебоку. А к отцу Ай я подошлю моего сыночка, хитрого Хултан-гола… И вот уже Хултан-гол сидит в юрте чернобородого Кусэра. Его глаза глядят, как голодные волки, и никак не поймешь, который из этих глаз — волк, а который — волчица. — О мудрый Кусэр, — говорит Хултан-гол, — ты напрасно упрямишься! Всем известно могущество Джангархана: он может весь ваш народ прибить гвоздями за уши. Всем известно и чародейство Джангархана: он может проглотить расплавленный свинец и выпустить его через кишку в виде дроби. Прослышав, что ты очень мудр, великий хан Джангар предлагает тебе дружбу, а ты упрямишься… — Я дал священную клятву айдинцам, — говорит Кусэр, поглаживая свою черную бороду. — Я тебя не уговариваю, — пожимает плечами Хултан-гол и встает. — Конечно, путь далек и в пути тебе придется терпеть нужду, но ведь это тебя в конце концов приведет к благу. Джангархан поселит тебя и твой народ в лучшем месте нашей державы, там, где нижняя часть земли заворачивается кверху. И он сделает тебя главным везиром и во всем будет советоваться с тобой! Подумай! — Если бы я клятвы не дал, я бы подумал, — гордо говорит чернобородый Кусэр. Возле красивой, обшитой кусочками бархата юрты Кусэра сидит старуха Мясекай. Она одета по-башкирски. На голове ее простая деревенская шаль. Из юрты выходит Хултан-гол и удаляется. Старуха делает вид, что не знает его. Задумался внутри юрты чернобородый Кусэр. Старуха Мясекай приоткрывает дверную кошму, входит, обращается к Кусэру в крайнем волнении: — Я пришла тебя предупредить, о Кусэр! Старейшина Кусмэс задумал против тебя черное дело… — Кто ты? — прерывает ее Кусэр. — Я из его племени. Сегодня ночью я взбалтывала кумыс возле юрты Кусмэса. И слышала, он сказал: у одного народа не может быть две головы. Он хочет тебя убить! — Ты лжешь! — гневно говорит Кусэр. — Если я лгу, пусть ложе мое будет сложено из змей и жаб, пусть воды на моем пути будут отравлены и пусть встретится мне днем медведь, а ночью — дьявол! Я говорю правду. — Но Кусмэс дал мне священную клятву… — И ты поверил клятвам Кусмэса! О, несчастный! Да знаешь ли ты, что двадцать лет назад это он поверг тебя в безутешное горе, заставив оплакивать сына! — Что ты сказала?! — Кусэр вскакивает. — Да. Это он твоего сына украл и убил. — Убил?! — Кусэр замахивается на старуху, но рука его опускается, он говорит тихо: — На кончике языка у тебя мед, а во рту яд. Уходи прочь. Я не верю тебе. — Сейчас поверишь… Старуха Мясекай достает из складок своей одежды мешочек, расшитый разноцветными бусами, протягивает Кусэру: — Узнаёшь? Кусэр молча открывает мешочек — руки его дрожат — и вынимает алтын-ашык, золотую игральную бабку. — Где ты взяла, старуха? — говорит Кусэр сдавленным голосом. — Это было на шее моего сына двадцать лет назад, в тот день, когда он исчез… — Я сняла, когда омывала его, — рассказывает старуха. — Ему не было еще и трех месяцев, но Кусмэс не пожалел — убил его. Он испугался, что в твоем племени родился богатырь. И сердце его прожгла зависть. Кусэр переспрашивает тихо (в его глазах нет слез, но они в его голосе): — Значит, мой сын убит? — Видит небо, — восклицает старуха, — пока я тебе это говорю, в сердце мое поминутно прибывает караван скорби! Кусэр круто к ней поворачивается: — Я отомщу ему! — Что ты! — говорит старуха. — Кусмэс сильнее тебя: ведь айдинцев больше, чем табынцев. Уходи, пока не поздно, и уводи свой народ! — Я отомщу ему! — потрясает кулаками Кусэр. — Если бы у тебя был могущественный друг, тогда ты, конечно, мог бы вернуться с ним отомстить. А так… — Друг? — Кусэр сразу овладевает собой. — У меня есть такой друг. Ты права: чтобы приблизить час мести, я должен уйти. — И обращается к строгому Ханьяру, который вошел: — Ханьяр, если посол Джангархана не уехал, останови его! …Слышится странная музыка. Рассыпавшись по горным склонам, пасутся лошади. На поляне, под раздвоенной сверху осиной, сидит табунщик Абзаил и трое детей: Алтын-дуга, Ай и Гульбика. Пастух играет на своей волшебной дудке, сделанной из лошадиной кости. В его руке бич. Под звуки дудочки несколько коней кружатся в причудливом танце. Стук их копыт, фырканье, переливы бубенцов на сбруе и щелканье бича вплетаются в музыку. В гривах коней вьются яркие ленты. Распущенные хвосты их подобны шелковым волнам. Лоснящаяся шерсть расчесана гребнем, образуя на боках и ляжках рисунок неописуемой красоты. Кони делают три шага вперед, притопывают копытом, три шага назад, вновь притопывают. Начинают кружиться — сперва медленно, словно плывут в воздухе, потом с такой быстротой, что мелькающие головы их и хвосты сливаются и не разберешь, где хвост, где голова. Ай в восхищении шепчет Алтын-дуге: — Но как Абзаил выращивает таких коней?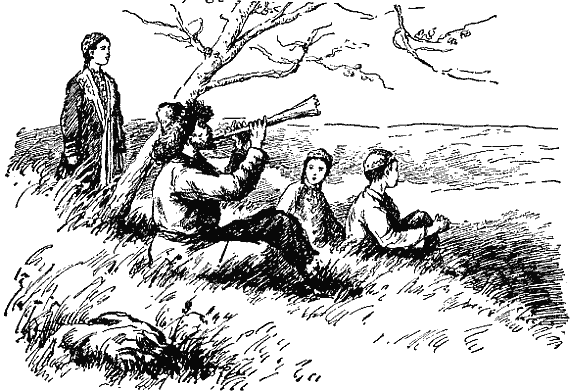

Мальчик громко ей отвечает: — Когда они были жеребятами, Абзаил давал им молоко козы, чтобы они высоко прыгали… — Пастух меняет мелодию, и кони начинают делать громадные прыжки. — Он давал им молоко змеи, чтобы они всюду проползали… — Повинуясь волшебной дудке пастуха, кони начинают по-змеиному ползать. — Он давал им молоко медведя, чтобы они были свирепыми… — Кони встают на дыбы, идут на задних ногах. — Он давал им молоко кошки, чтобы они были игривы… — Кони катаются по траве. — Он давал им молоко ястреба, чтобы они обгоняли ветер… — Косяк коней стремглав уносился вдаль. — Он давал им молоко собаки, чтобы они прибегали на его зов… — Кони возвращаются к пастуху, выстраиваются перед ним. Ай горячо шепчет мальчику: — Алтын-дуга, помнишь, тебе понравился мой белый камешек? Теперь я тебе его подарю. Кони Абзаила насторожили уши, тревожно фыркнули, отбежали в сторону. Пастух вынимает изо рта дудку. Из-за холма, поросшего травой, подъезжает на лошади чернобородый Кусэр, окликает: — Ай! Девочка оглянулась: “Отец зовет!” — и побежала к нему. Кусэр сажает дочь перед собой на седло, трогает лошадь. Ай обернулась, звонко крикнула: — Я принесу сегодня камешек тебе. Алтын-дуга! Вслед всаднику смотрят Абзаил, Гульбика и Алтын-дуга. Лошадь Кусэра скрывается за холмом, поросшим травой. Кусэр тихо говорит дочери: — Мы уезжаем из этой проклятой земли навсегда… Ай изумлена, оборачивается, кричит: — Алтын-дуга!! Мальчик услышал, срывается с места, бежит. Кусэр взмахнул плетью, конь поскакал… Бежит Алтын-дуга меж холмов, останавливается — не догнать! Он стоит, ловя ртом воздух. Откуда ни возьмись, старуха Мясекай с кувшином и глиняной чашкой в руке. — Алтын-дуга, — говорит она ласково, — выпей моего шербета, прохладись! Алтын-дуга жадно приникает к чаше. Вокруг юрт табынцев шумно и людно. Женщины снимают с юрт белые кошмы и скатывают. На месте юрт остаются лишь ажурные деревянные остовы. Чернобородый Кусэр сидит на коне возле своей юрты, с которой снимают кошмы, обшитые кусочками бархата. Он делает вид, что поглощен укладкой имущества. Рядом с ним, тоже на коне, — седоголовый Кусмэс, с ним несколько всадников. Кусмэс горячо говорит: — Остановись, Кусэр! Я не знаю твоей обиды, но она не может быть велика. Из-за одной блохи ты сжигаешь все одеяло. Ты уйдешь, разбредутся племена, брат пойдет на брата, и наш народ, эта горсточка на земле, станет дичью для охоты Джангархана… Кусэр не отвечает, приказывает своим джигитам: — Сундуки навьючьте на верблюдов! Кусмэс говорит: — Остановись, Кусэр! Подумай, что ждет тебя, твою дочь и весь табынский народ в джунгарских степях? На чужбине каждый камень стремится поранить ноги пришельцу, каждый куст — причинить ему вред и мирный воробей, завидев чужих, превращается в ястреба! Кусэр не отвечает, приказывает егетам: — Казан и чашки заверните в ковер! Табынцы убирают ажурные остовы юрт. На их месте остаются лишь выжженные плешины очагов да навьюченные верблюды и кони. Кусмэс говорит: — Остановись, Кусэр! Не режь расцветающую ветку! Не разлучай землю Ай и красавицу Ай! И не забирай у меня сына… — Сына?! — Кусэр не выдерживает, кричит: — Разве я с твоим сыном что-нибудь сделал? Разве я украл его у тебя и убил? — Нет, — говорит Кусмэс. — Но ты забыл: человек не живет в одиночестве. Судьба моего сына связана с судьбой твоей дочери священною клятвой. Он когда-нибудь вспомнит об этом. И он уйдет за нею в джунгарские степи. Уйдет от меня навсегда. — Ну, ты-то удержишь его! — насмешливо говорит Кусэр. — Нет. Он еще тигренок, но у него прорежутся клыки. Он еще не окрепший детеныш орла, но у него вырастут крылья. Он еще не отточенная стрела, но она станет острее иглы, и когда стрела полетит, как смогу я ее удержать? Кусэр с ненавистью смотрит на Кусмэса, говорит гневно: — Девяносто слов затемняют смысл! И, ударив коня плетью, уезжает. Слышен тягучий, напевный звон верблюжьего колокольчика. В узком ущелье, по обе стороны которого вздымаются ноздреватые скалы, появляется голова уходящего каравана табынцев. Впереди на коне — Хултан-гол, джунгарский посол. Рядом с ним на другом коне — чернобородый Кусэр; перед ним, в его же седле, — красавица Ай. Позади них едет строгий Ханьяр, держащий на руке сокола. Идут сквозь ущелье верблюды; с крутых боков их свешиваются сундуки, окованные медью. Едут табынцы с женами, матерями, детьми. Пастух на коне гонит отару овец — они заполняют ущелье живым кудрявым потоком. И еще, и еще едут табынцы… Покачиваясь в седле, Ай разжимает ладонь — в ней лежит белый камешек. — Алтын-дуга!.. Алтын-дуга!.. Седоголовый Кусмэс пытается растолкать сына, но Алтын-дуга в ответ только что-то мычит. Вокруг во дворике, обнесенном стеною из камня, стоят Гульбика, Абзаил, несколько егетов и старуха Мясекай. — Сыночек мой, — восклицает Кусмэс, — проснись! Алтын-дуга!.. Алтын-дуга!.. Старуха Мясекай говорит: — Вот что сделал Кусэр с твоим сыном: он его опоил. А сам уехал и народ свой увел! Кусмэс медленно выпрямляется, говорит глухо: — Да будут прокляты навеки чернобородый Кусэр, его дочь и весь их народ! Старуха подхватывает: — Пусть на их пути будут разлившиеся реки со снесенными мостами! Пусть на земле, которая их приютит, будет всегда неурожай и град! Пусть их ветер будет чумою, их солнце — смертью, их тучи — без влаги! Кусмэс опускает седую голову и говорит едва слышно, но внятно: — Пусть будет так! Вечер. Посреди почерневшей долины речка Ай блестит, будто расплавленное серебро. В дверях юрт стоят айдинцы. Всадник возглашает с коня: — Да будет ведомо всем: старейшина нашего племени — справедливый Кусмэс просит свой народ навеки забыть о чернобородом Кусэре, о его дочери Ай и обо всем табынском народе! Молча слушают айдинцы. Глашатай едет дальше. Слышен его голос: — Да будет ведомо всем… Прошло десять лет. В каменном дворике Кусмэса, под розовым кустом, на подушках дремлет Алтын-дуга, уже юноша. Вокруг него сосуды со сметаной и медом, кувшины с напитками и горы всяческой снеди: мяса, козьего сыра, лепешек, очищенных орехов, халвы и других сладостей. Легкий свист вырывается из губ дремлющего Алтын-дуги. По его щеке разгуливает муха. Алтын-дуга передергивает щекой, чтобы согнать муху, ему лень пошевелить рукой. Но муха не слетает. Тогда Алтын-дуга приоткрывает один глаз, вздыхает. Вялым жестом он сгоняет муху, сует в рот халву и снова закрывает глаза. Сделал движение челюстями, подремал, снова сделал движение челюстями. Так он одновременно и спит и жует. Во дворик вбегает Гульбика (она тоже стала уже девушкой), расталкивает брата: — Алтын-дуга! Алтын-дуга! — А-а… — спросонья мычит Алтын-дуга. — К нам приехал Янгызак! — Лицо девушки пылает от оживления. — Приехал сладкоязычный джунгарский богатырь Янгызак! — Ладно, — бормочет Алтын-дуга и поворачивается на другой бок. — Тот самый Янгызак, про которого говорят, что он побеждает, очаровывая людей своим голосом… — Не мешай! — бормочет Алтын-дуга. Гульбика забегает с другой стороны: — Тот самый Янгызак, про которого говорят, что даже конь его издает ноздрями звуки рожка: сорок печальных и сорок веселых ладов! И тотчас же раздается ржанье коня Янгызака: сорок веселых ладов на рожке, целая хроматическая лошадиная гамма. Он ржет, вытянув голову, — конь вороной, как смоль, украшенный сбруей с бирюзовыми и серебряными подвесками. И на его ржанье со всех сторон откликаются простым ржаньем айдинские кобылицы и кони. С удивлением слушает толпа айдинцев, сбежавшаяся поглазеть на чужеземного гостя. С удивлением слушают седоголовый Кусмэс и старейшины. Они восседают на кошмах. Перед ними стоит Янгызак, первый красавец вселенной. Он в черном бешмете, облегающем талию. Легкая улыбка блуждает на его губах. Уже давно умолк вороной конь, уже заговорил Янгызак, но айдинские кобылицы долго еще не могут успокоиться и перекликаются вдалеке. Янгызак говорит: — Моему повелителю Джангархану стало известно, что у тебя, о Кусмэс, есть священный розовый куст. Этот куст — так поведали нам чужеземцы — расцветает будто, когда соединяются сердца двух влюбленных. Джангархан повелевает отдать ему этот розовый куст! — Такой куст у меня есть, — говорит Кусмэс. — Но мы, айдинцы, свободный народ. Повеление джунгарского хана для нас подобно писку полевой мыши! Янгызак пожимает плечами: — Не отдашь — силой возьму! — и решительно поворачивает к калитке дворика. Кусмэс приказывает: — Схватить! Богатыри-егеты с дротиками в руках устремляются к Янгызаку. Но Янгызак запел — и сразу окаменели егеты, окаменела толпа, окаменел седоголовый Кусмэс и старейшины, каждый в том положении, в каком его застигла песня. Янгызак поет: Эх, перед тем, как в пропасть я попаду, В то раскаленное море что льется в аду В бездну седьмой преисподней черной земли, Я на тебя, земля башкир, нападу! Если ж пролью свою богатырскую кровь — Обогатится земля глоточком одним! Высохнут кости мои в далеком краю — Станет на горсточку праха богаче земля! Янгызак распахивает калитку. Перед ним в калитке Гульбика: она подглядывала сквозь щель и в этом положении окаменела и теперь загораживает собой вход во дворик. Чтобы освободить себе путь, Янгызак умолк. Девушка отшатывается от калитки. Бросились вперед егеты, вскочили на ноги седоголовый Кусмэс и старейшины, но тут же окаменели в новых положениях, ибо опять зазвучала песня Янгызака. С песней он идет по дворику мимо Гульбики, оглядывает Алтын-дугу, который лежит на подушках, окруженный всяческой снедью, и удивленно покачивает головой. Богатырской рукой взялся он за основание розового куста, рванул его. И от этого усилия на одно лишь мгновение прервалась песня Янгызака, одно лишь движение успели сделать Кусмэс, старейшины и егеты и окаменели вновь. Держа в руках вырванный с корнями розовый куст, Янгызак выходит из калитки, идет с песней сквозь строй окаменевших айдинцев, садится на своего вороного коня. Приторочив розовый куст к седлу, он стегнул коня и оборвал песню. И в то же мгновение его конь, полетевший птицею, заржал — всю гамму, все сорок веселых ладов. Айдинцы обернулись, поспешно вскакивают на коней, устремляются в погоню. И под удаляющиеся звуки ржанья вороного коня Янгызака Гульбика, выбежав из калитки и глядя вдаль, шепчет, вздыхая: — Да убережет аллах его от беды!.. Пустыня. Огромные песчаные барханы, как волны, взметенные на высоту страшными бурями. Нигде не видать ни куста, ни травинки. Меж барханов появляется голова печального каравана. Воины-джунгары возвращаются из похода, гонят пленных. Понуро идут пленные — мужчины, женщины. Пугливо оглядываются на полузанесенный песком человеческий череп, из которого выползает змея. Впереди на своем Сары-куше, жеребце гнедой масти, едет джунгарский богатырь Жургяк. У него свирепое лицо, глаза мутны, как меч, залежавшийся в ножнах. Серьга блестит в ухе. На луке седла висит боевой лук. Жургяк что-то увидел вдали, подает знак воинам. На горизонте меж барханов движется табун лошадей. Часть воинов снимают с седел свои луки, скачут во главе с Жургяком к табуну. И от табуна навстречу им отделяется группа вооруженных всадников. Жургяк и его воины натягивают тетивы своих луков. Внезапно Жургяк опускает лук и начинает смеяться. Он смеется безудержно, хрипло, свирепо, валится от смеха с коня, корчится и стонет на земле от смеха. К нему подъезжает во главе всадников, отделившихся от табуна, джунгарский богатырь Хултан-гол, говорит: — Здравствуй, брат Жургяк! Жургяк взбирается на своего коня, подъезжает к брату, говорит, задыхаясь от смеха: — Сделай я еще три вздоха, и моя стрела угодила бы тебе в глаз! Ха-ха-ха!.. я чуть… ха-ха-ха!.. я чуть по ошибке не убил тебя, брат Хултан-гол! Сидя на конях, братья обнимаются. Жургяк говорит: — Если бы я тебя убил, я бы умер от смеха!.. Откуда, брат? — С Алтая, — важно говорит Хултан-гол. — Я угнал у казахов десятитысячный табун серо-пегих коней!.. А ты откуда? — С берегов Волги. Я разрушил царство хазар, главный город превратил в пепел, а жителей его обратил в рабов! — Жургяк поворачивается к своим всадникам: — Гоните их к Солнечному колодцу! Я буду ждать там. — К Солнечному колодцу! — повелевает Хултан-гол своим егетам. Братья-богатыри скачут вдвоем по пустыне, о чем-то оживленно беседуя. Вдруг оба круто останавливаются, переглядываются. Перед ними на соседнем бархане стоит вороной конь. На спине коня розовый куст. Меж четырех копыт коня, в его тени, мирно спит Янгызак. Завидев чужих, конь фыркнул. Янгызак вскочил на ноги, взбирается на коня. Подъехавшие Жургяк и Хултан-гол заключают брата в объятия: — Откуда, брат Янгызак? — Из земли Ай. Я отнял у айдинцев их священный розовый куст! И снова перед всадниками панорама пустыни. Огромные песчаные барханы, как волны, взметенные на высоту страшными бурями. По ним тянутся вдаль колонны воинов и табунов. Впереди едут три брата, три джунгарских богатыря. Солнечный колодец. Вокруг безбрежная пустыня. Невдалеке от колодца — одинокая юрта. По бархату, по остаткам затейливого орнамента видно, что эта юрта некогда принадлежала знатному человеку. Теперь она вся в заплатах и дырах. Над нею вихрится легкий дым. У колодца сидит красавица Ай и поет. Она поет о том, что, лишенная своего возлюбленного, она стала возлюбленной печали. Далеко за спиною Ай из пустыни появились три джунгарских богатыря; они сдерживают коней, слушают песню девушки. Она поет о том, что жаждет видеть Алтын-дугу и что, когда он придет, она так крепко обнимет его, что, даже если хлынет ливень, он не увлажнит ее грудь… Увидев джунгар, Ай обрывает песню, испуганно бросается в юрту. Богатыри подъехали, соскакивают с коней. Из юрты выходит Кусэр: его раздвоенная черная борода поседела, стала сивой и уже не напоминает ласточкин хвост. Он низко кланяется. Хултан-гол говорит: — Десять лет назад Джангархан превратил всех твоих людей, о Кусэр, в пастухов и рабов, а тебя самого поставил сторожить этот колодец в песках. Но одну рабыню Джангархан у тебя проглядел… Кусэр хочет что-то ответить. Но из юрты выбежала красавица Ай, восклицает гневно: — Что вы тут разъезжаете, глупые джунгары! Что вам от меня нужно? В изумлении богатыри смотрят на нее. И опять Жургяк в припадке смеха опрокидывается навзничь, катается по земле, корчится. Ай глядит на него с недоумением. — Ой! — стонет Жургяк. — Ха-ха-ха!.. Что нужно?.. — И, вставая, утирая выступившие на глазах слезы, заключает: — Она стоит… ха-ха-ха!.. стоит и не знает… что не сделает и двенадцати вздохов, как станет моей женой! Жургяк хватает Ай за косы, чтобы поволочь ее в юрту. Кусэр сделал было движение к дочери, чтобы ее защитить, но тут Хултан-гол опускает руку на плечо Жургяка: — Постой, Жургяк! Эта красавица нравится не только тебе, но и мне! В ярости Жургяк оборачивается к брату. Хултан-гол продолжает: — По справедливости, ее следует разыграть в кости. Взревев от злобы, Жургяк выхватывает меч, заносит над головой Хултан-гола. Но в это мгновение запел Янгызак, и окаменела рука Жургяка с мечом, окаменели Хултан-гол и Ай. Янгызак вынимает меч из руки Жургяка, отбрасывает его в сторону, обрывает песню. Девушка скрылась в юрте. Жургяк хрипло говорит Янгызаку: — Мне надоели твои глупые шутки! Когда-нибудь я заткну тебе рот! Янгызак отвечает спокойно: — Зачем нам ссориться, брат Жургяк? Мне эта девушка тоже нравится. Если мы подеремся из-за нее, вся степь будет над нами смеяться. И Джангархан узнает о ней и отнимет ее для себя. Лучше пусть она выберет любого из нас… — …или станет нашей общей женой, — говорит Хултан-гол. А к Солнечному колодцу из-за песчаных барханов уже подходит караван с пленниками. С другой стороны вливаются первые косяки табуна серо-пегих коней. И сразу ожили, закипели вокруг колодца пески. Тревожно поглядывая в сторону юрты, Кусэр вытаскивает из колодца кожаным ведром воду, выливает ее в длинное глиняное корыто. Подгоняя его, покрикивая, пьют джунгарские егеты, черпая воду чашками из корыта. В стороне толпятся пленники, жадно смотрят на воду. Ай стоит в дверях юрты. Перед нею — три богатыря. Хултан-гол говорит: — Если ты станешь моей женой, красавица Ай, я подарю тебе этот табун. — К чему мне казахский табун, — отвечает Ай, — когда мои собственные кони, взращенные на лугах милой родины, жалобно ржут в табунах Джангархана! — Если ты станешь моею женой, красавица Ай, — говорит Жургяк, — я подарю тебе этих хозарских рабов и рабынь! — К чему мне хозарские рабы и рабыни, — говорит Ай, — когда мои табынские подружки, их матери и отцы томятся в неволе у Джангархана! — Если ты станешь моею женой, красавица Ай, — говорит Янгызак, — я подарю тебе этот розовый куст из Айдина! Девушка вздрогнула, подняла глаза на куст, укрепленный на спине вороного коня. Задыхаясь от волнения, она спрашивает Янгызака: — Ты был в земле Ай? — Да. И увез этот куст. Он обладает чудесным свойством — расцветать, когда соединяются сердца двух влюбленных. — И видал старейшину племени? — Видал. — Может быть, ты видел и его сына, богатыря Алтын-дугу? — Как же, видал. Этот жирный обжора и лежебока лежал на мягких подушках, и у него изо рта торчал недожеванный кусок бараньей ноги. — Ты лжешь! — гневно восклицает Ай. — Алтын-дуга — могучий богатырь! От одного его дыхания камни раскаляются и лед тает! Он… — Довольно болтать! — обрывает ее Жургяк. — За одного из нас выйдешь или за всех, отвечай! Ай бросила на него быстрый взгляд, один из тех взглядов, которым в сказках красавицы убивают витязей наповал. И она, нет, не стала упираться обеими ногами в один башмак, не стала кричать: “Не пойду за вас! Не пойду!” — а заговорила ласково: — О доблестные богатыри! Вы все трое мне нравитесь. Ни одного из вас я не хочу своим отказом гневить. Пусть же решит судьба, чьею женой мне стать. Ровно через шесть месяцев, в новолуние, назначьте здесь, у Солнечного колодца, большую байгу. Сердце мое покорит тот, чей скакун всех обгонит! — Всем известно, — гордо говорит Жургяк, — что там, где ступают копыта моего Сары-куша, не вырастает трава! Нет на свете коня, который обогнал бы его. Будь по-твоему, красавица. Через шесть месяцев, в новолуние, здесь будет большая байга! И тогда… — Жургяк вскакивает на коня, самодовольно заключает: — тогда, клянусь, я получу от тебя столько поцелуев, что в базарный день не найдется покупателя, который согласился бы купить эти поцелуи, если бы даже за один медный грош их предлагали десяток! Ха-ха-ха! Хултан-гол и Янгызак тоже вскочили на коней. Богатыри трогаются в путь, обгоняя косяки коней, что идут от колодца. Девушка, махнув им прощально рукой, переводит взгляд на пленников. Джунгар-егет щелкает бичом — пленники устремились к колодцу, жадно пьют, зачерпывая воду из корыта горстями. Джунгары торопят их, подгоняют плетьми. Ай задумчиво опускает глаза и разжимает ладонь: в ней лежит маленький круглый белый камешек. …Долго стоит Ай на пороге юрты. Вокруг колодца уже ни души. Слышен топот копыт. Ай тревожно скрывается в юрте. На порог выходит Кусэр. Всадник подъезжает вскачь, круто осаживает коня. Он в лохмотьях, конь его — в мыле. — Не узнаете, Кусэр? — Ханьяр! — восклицает Кусэр. — Строгий Ханьяр! Откуда? Ханьяр соскакивает с коня: — Десять лет просидел я на цепи вместе со сворой собак, охраняющих сокровища хана. Мне швыряли кости, чтобы развлечь Джангархана, и я дрался с собаками из-за них. Потом умер ханский палач, и Джангархан предложил мне стать у него палачом. Я согласился. Он освободил меня от цепи. В ту же ночь… — В ту же ночь он дерзко похитил коня и скрылся… — рассказывает трем братьям низенький джунгар с изрытым оспой лицом. Позади него семеро всадников. Рядом с ним на конях — Жургяк, Хултан-гол, Янгызак. Вслед бесконечною лентой тянется караван по ковыльной степи. — …Джангархан послал нас в погоню, — продолжает низенький, — и сказал: “Если встретишь одного из моих волков — Жургяка, Хултан-гола или Янгызака, передай дело погони в их руки. Ибо в силе с ними не сравнится никто, и кони их перегоняют ветер. На копытах скакуна, которого похитил этот презренный, вырезаны две скрещенные стрелы”. Жургяк говорит Янгызаку: — Я везу Джангархану хозарских рабов, Хултан-гол — тысячный табун казахских коней, ты — всего один розовый куст. Придется ехать тебе, брат Янгызак! На песке отпечаток копыта: ясно видны две скрещенные стрелы. Следы тянутся цепочкой меж барханов. По следу скачет Янгызак. Розовый куст приторочен у него за спиной, укрыт от ветра. Вороной конь Янгызака пластается в беге. Вот уже видна юрта Кусэра. Следы ведут к ней. Янгызак соскакивает с коня и ведет его в поводу, скрываясь за барханами. Тихо подкрадывается он к юрте, незаметно укрывается за кошмой. Красавица Ай, стоя на пороге юрты, передает строгому Ханьяру письмо, говорит: — Далеко земля Ай! Если послать туда сокола — он пролетит много дней, трижды выведет по дороге птенцов, и я не знаю еще — долетит или не долетит. Если послать туда скакуна, он пробежит три луны, и неизвестно еще — добежит или не добежит. Передай Алтын-дуге письмо и скажи — пусть поторопится! Скажи: ровно через шесть месяцев решается судьба его Ай! Скрываясь за юртой, подслушивает Янгызак. Ханьяр кладет письмо под шапку. Вскакивает на коня. Ай повторяет: — Через шесть месяцев. В новолуние!
 Строгий Ханьяр стегнул коня, поскакал. Глядя вслед, Ай запевает песню. В песне этой она обращается к природе, к зверям, к птицам, чтобы они помогли, донесли ее весточку милому другу Алтын-дуге.
За юртой вороной конь. Янгызак подошел к нему. Вскакивает в седло, вынимает из колчана стрелу, берет в руки лук.
Утихает песня Ай, и в то же мгновение из-за юрты выносится конь Янгызака. Девушка испуганно отшатывается. Конь промчался мимо и заржал: всю гамму, все сорок веселых ладов. Ай в ужасе смотрит вслед. А конь Янгызака… Но об этом лучше сказать устами сказителя: “Если взглянуть на коня сбоку, кажется — это заяц бегущий; вот он из-за барханов выскочил и скрылся вдали”.
Строгий Ханьяр стегнул коня, поскакал. Глядя вслед, Ай запевает песню. В песне этой она обращается к природе, к зверям, к птицам, чтобы они помогли, донесли ее весточку милому другу Алтын-дуге.
За юртой вороной конь. Янгызак подошел к нему. Вскакивает в седло, вынимает из колчана стрелу, берет в руки лук.
Утихает песня Ай, и в то же мгновение из-за юрты выносится конь Янгызака. Девушка испуганно отшатывается. Конь промчался мимо и заржал: всю гамму, все сорок веселых ладов. Ай в ужасе смотрит вслед. А конь Янгызака… Но об этом лучше сказать устами сказителя: “Если взглянуть на коня сбоку, кажется — это заяц бегущий; вот он из-за барханов выскочил и скрылся вдали”.
 Скачет Ханьяр, припав к луке седла. Вдалеке зазвенела, запела тоненько, по-пчелиному, приближающаяся стрела, вонзается в спину Ханьяра. Он валится наземь со своего скакуна. С его головы слетает шапка, перевертывается, в ней видно письмо.
Сделав круг, конь Ханьяра бежит назад. Подбегает к шапке, выхватывает губами письмо. Скачет с письмом в губах дальше. И опять тоненько зазвенела, запела стрела. Впивается в бок скакуну. Жалобно заржал, рухнул конь. Письмо падает на песок. Громадный орел направляет к нему свой ширококрылый полет.
С письмом в когтях орел взмывает ввысь, К облакам. Еще раз зазвенела, запела стрела. Пронзает письмо, застревает в нем. И орел улетает, унося в когтях пронзенное стрелою письмо.
Ай стоит у колодца, тоскливо вглядывается в море барханов, сливающихся вдали.
Изглубины песков появляется Янгызак на вороном скакуне и останавливается возле красавицы. Не глядя на нее, отвязывает розовый куст, соскакивает. Испуганно смотрит Ай. Янгызак разгребает вершину холмика, сажает куст, заваливает корни песком. В его движениях — мрачная решимость.
Все так же молча, не глядя, Янгызак подходит к колодцу, отстраняет Ай, зачерпывает ведро воды и, вернувшись, выливает его на розовый куст. Ай спрашивает, затаив дыхание:
— Ты догнал его?
Янгызак отвечает так, словно дело идет о неинтересном пустяке:
— Я пронзил его стрелой!
Ай отшатнулась, в глазах ее сверкнуло отчаяние.
Янгызак продолжает:
— Его конь выхватил твое письмо и понес его дальше…
Улыбка радости озаряет лицо красавицы.
— Я убил коня…
В ужасе Ай отступает еще на шаг.
— Но тут какой-то орел схватил письмо и унес его в облака.
— Слава аллаху! — прошептала Ай.
Янгызак гневно к ней поворачивается:
— Ты обманула нас!
Ай гордо выпрямляется, говорит со страстью:
— Да, я вас обманула! И я этим горжусь! Я люблю Алтын-дугу, и он прилетит, мой сокол, чтобы вызволить меня из беды!..
Янгызак пристально смотрит на нее. Ай осекается, бледнеет. Янгызак говорит:
— Я не трону тебя, ибо это было бы несправедливостью по отношению к моим братьям. Но знай, красавица: прямо отсюда, вот сейчас, я поеду в землю Ай. Разбужу, растолкаю твоего обжору и лежебоку, подниму его и отрублю ему голову в честном бою! — Он вскакивает на коня и, усмехнувшись, заключает: — Жди меня через шесть месяцев, в новолуние!..
Снова дворик родового старейшины. Алтын-дуга так же дремлет на подушках. Вокруг него горы всяческих яств. В стороне Гульбика вышивает узор на колчане для стрел, напевая про себя мелодию песни Янгызака. Несколько айдинцев входят, таща с превеликим трудом знакомую нам каменную чашу необыкновенной величины. Они ставят ее в углу дворика и удаляются. Алтын-дуга во сне застонал, перевернулся на другой бок, открыл один глаз. Увидел каменную чашу и в удивлении открыл второй глаз. Сонно зовет:
— Гульбика!
Девушка подходит к брату.
— Сплю я или не сплю? — вяло спрашивает Алтын-дуга.
— Ты вечно спишь.
— Я спрашиваю, — капризно говорит Алтын-дуга: — сейчас я сплю или не сплю?
— Я не понимаю тебя, брат.
— Эта чаша во сне или не во сне?
— Нет, она во дворике, Алтын-дуга. Ее принесли.
Она разговаривает с братом, как с маленьким.
— Я видел сон… — тяжело ворочая губами, говорит Алтын-дуга. — Эта чаша… И люди… И все кричали какое-то слово: “эй” или “ой”… Не помню…
— Спи, Алтын-дуга, — печально говорит Гульбика. — Спи! Это был сон.
— Но если это сон, чаша — тоже сон?
— Что с тобой, брат? — удивленно спрашивает девушка. — Ты давно так много не разговаривал.
— Нет… ничего… — говорит Алтын-дуга. — Это был сон… и я сплю… — закрывает глаза. — Сп…лю…
В небе, покачиваясь, летит пронзенное стрелою письмо. Гульбика увидала, издает изумленный возглас. Письмо падает посреди дворика, где рос раньше розовый куст.
— Алтын-дуга! — восклицает девушка, подбегает к письму и берет его. — Смотри, к нам прилетела стрела! И принесла из-за облака письмо!
— Не мешай… — бормочет Алтын-дуга. — Я сплю…
Девушка вынимает стрелу, разворачивает письмо. Из него выпадает маленький круглый белый камешек. Гульбика рассматривает его. Начинает читать вслух:
— “Алтын-дуга, спаси меня! Ай”.
Юноша вздрогнул, открывает сразу оба глаза. Приподнявшись, выхватывает из рук сестры письмо, перечитывает, сипло говорит:
— “Ай”! Вот это слово! Но кто такая Ай?
— Я не знаю, — говорит Гульбика. — Но, кажется, я тоже что-то подобное этому видела во сне. Вот еще камешек из письма.
Алтын-дуга рассматривает камешек, бормочет:
— Ай… Ай… — Он прикрывает ладонью глаза, силится что-то вспомнить, шепчет: — “Тебе понравился мой белый камешек?..” — Порывисто вскакивает на ноги, кричит: — Кто такая Ай? Где я? Что это? А? — и растерянно озирается.
У него дикий, встрепанный вид.
— Алтын-дуга, ты встал! — восторженно кричит Гульбика.
— Ай… — бормочет Алтын-дуга.
Он нелепо топчется вокруг себя, словно ищет что-то. Видно, что ему тесно, душно. На его лице напряжение и недоумение. Он бормочет все быстрей и быстрей:
— Ай?! Ай?! Ай?!
Алтын-дуга мечется по дворику, словно слепой. Остановился, обхватил голову руками, спрашивает кого-то невидимого:
— Почему?
Разрывает ворот своего камзола, повторяет хрипло:
— Почему?
Помолчал. Спрашивает жалобно:
— Гульбика… Скажи мне правду, я сплю или не сплю?
— Нет, Алтын-дуга, ты не спишь.
— Я не сплю, — говорит он тихо, словно силится понять, что значат эти слова. — Я не сплю… Я не сплю… — повторяет он уже механически, видно думая о другом.
Вдруг остановился, поднял голову вверх. В небе парит орел. Алтын-дуга кричит в небо:
— Кто такая Ай?
Тишина. Ни звука. Алтын-дуга стоит задрав голову.
В щель калитки заглядывает один из егетов. Увидел стоящего Алтын-дугу, ахнул, убегает.
В просторной юрте сидит седоголовый Кусмэс, пишет что-то. К нему вбегает егет, говорит:
— Алтын-дуга встал!
Между юртами, на кошме, женщины дробят в ступках зерно. Подбегает какой-то мальчишка, сообщает задыхаясь:
— Алтын-дуга встал!
В юрте-кузнице кузнец обтачивает наконечники для стрел. Взволнованно входит один из айдинцев, говорит шопотом:
— Алтын-дуга встал!
Кусмэс с несколькими егетами поспешно идет к калитке. Но калитка распахивается, в ней появляется Алтын-дуга. Он похож на безумного. За ним бежит Гульбика.
Алтын-дуга спрашивает:
— Отец, кто такая Ай?
— Мальчик мой, — восклицает Кусмэс, — ты встал! Великая радость!
— Кто такая Ай? — повторяет юноша.
— Милый сын, — говорит Кусмэс, — будь проклято это имя, да не осквернит оно никогда твоих уст!
— Кто такая Ай?! — рявкает юноша, поворачиваясь к одному из егетов.
Тот пятится, молчит. Алтын-дуга идет дальше. Гульбика бежит за ним, едва поспевая.
Седоголовый Кусмэс говорит егетам:
— Удержите его!
Егеты бросаются за Алтын-дугой. Догоняют его, стараются схватить за руки, остановить. Но Алтын-дуга даже не замечает их. Он идет, мерно размахивая руками. И при каждом взмахе егеты отлетают далеко в стороны, падают. Снова вскакивают, бегут за ним.
Весь народ, все айдинцы вышли из своих юрт, смотрят на приближающегося Алтын-дугу. Сверкает речка Ай за белыми юртами. Зеленеют сосновые рощи на горных вершинах.
Алтын-дуга останавливается перед стариками. Тотчас же егеты дружно бросаются, повисают на его руках и ногах. Но и теперь Алтын-дуга не замечает их. Спрашивает стариков:
— Кто такая Ай?
Старики молчат, опускают глаза. Алтын-дуга встряхнулся, и егеты ссыпаются с него, точно яблоки с дерева. Алтын-дуга пошел дальше. Переглянувшись, егеты поворачивают назад. Лишь один косоплечий егет увязался за ним.
— Алтын-дуга, подожди! — говорит Гульбика. Она бежит, задыхаясь, рядом. — Пойдем к Абзаилу! Он все знает. Пойдем к главному пастуху нашего табуна, Абзаилу!
К Кусмэсу подбегают егеты:
— Мы ничего с ним поделать не можем! Мы не в силах с ним совладать!
Подбегает косоплечий егет:
— О Кусмэс! Твой сын и твоя дочь пошли в горы, к пастуху Абзаилу. Они хотят спросить у него.
— Какой дорогой они пошли?
— Нижней дорогой.
— Коня! — приказывает седоголовый Кусмэс.
Табунщик Абзаил стоит, величественно опираясь на свой железный посох. Вокруг, рассыпавшись на горных склонах, пасется табун коней и кобылиц. В чистом воздухе звучит мелодия волшебной дудки старика.
Из лощины появляется скачущий Кусмэс. Здоровается, говорит, не слезая с седла:
— Большая радость, Абзаил! И большая беда! Алтын-дуга встал!
— Великая радость! — восклицает пастух. — А в чем же беда?
— Кто-то передал ему весть об Ай. И Алтын-дуга обезумел. Он идет сюда, хочет спросить у тебя. Хоть он и могуч, но силы своей не знает и угроз боится. Ты побей его, припугни и домой верни. А то Алтын-дуга уйдет от нас навсегда.
— Ладно, — говорит Абзаил.
Седоголовый Кусмэс уезжает.
По горной тропке поднимаются Алтын-дуга и Гульбика. Они подходят к Абзаилу.
— Здравствуйте, почтенный Абзаил, — говорит девушка.
— Кто такая Ай? — спрашивает Алтын-дуга.
Абзаил начинает орать:
— Какой шайтан тебя принес? Что ты тут шляешься возле коней? Живо убирайся!
— Но, почтенный Абзаил… — растерянно говорит Алтын-дуга.
Абзаил орет:
— Слушай старших, собачий сын! Убирайся или я тебе сейчас голову размозжу! — Бьет Алтын-дугу железным посохом, приговаривая: — Вот тебе Ай!
Алтын-дуга смущенно отступает, идет прочь.
Гульбика бежит за ним, говорит гневно:
— Алтын-дуга, ты трус!
— Трус? — останавливается Алтын-дуга.
— Ты испугался его палки! Он ведь знает, всё знает!
Алтын-дуга молча поворачивает обратно. Подходит к пастуху:
— Уважаемый Абзаил…
Абзаил вновь начинает кричать:
— Ты опять надоедаешь мне! Или я плохо тебя дубиной учил? — И замахивается железным сукмаром.
— Зачем драться?.. — начинает с обидой Алтын-дуга.
Но Абзаил ударил его. Не вытерпев, Алтын-дуга хватает Абзаила за пояс и подбрасывает вверх.
— Милостивый аллах! — изумленно восклицает Гульбика, задирая голову.
Абзаил летит все выше и выше, пока не скрывается в облаках.
Скачет Ханьяр, припав к луке седла. Вдалеке зазвенела, запела тоненько, по-пчелиному, приближающаяся стрела, вонзается в спину Ханьяра. Он валится наземь со своего скакуна. С его головы слетает шапка, перевертывается, в ней видно письмо.
Сделав круг, конь Ханьяра бежит назад. Подбегает к шапке, выхватывает губами письмо. Скачет с письмом в губах дальше. И опять тоненько зазвенела, запела стрела. Впивается в бок скакуну. Жалобно заржал, рухнул конь. Письмо падает на песок. Громадный орел направляет к нему свой ширококрылый полет.
С письмом в когтях орел взмывает ввысь, К облакам. Еще раз зазвенела, запела стрела. Пронзает письмо, застревает в нем. И орел улетает, унося в когтях пронзенное стрелою письмо.
Ай стоит у колодца, тоскливо вглядывается в море барханов, сливающихся вдали.
Изглубины песков появляется Янгызак на вороном скакуне и останавливается возле красавицы. Не глядя на нее, отвязывает розовый куст, соскакивает. Испуганно смотрит Ай. Янгызак разгребает вершину холмика, сажает куст, заваливает корни песком. В его движениях — мрачная решимость.
Все так же молча, не глядя, Янгызак подходит к колодцу, отстраняет Ай, зачерпывает ведро воды и, вернувшись, выливает его на розовый куст. Ай спрашивает, затаив дыхание:
— Ты догнал его?
Янгызак отвечает так, словно дело идет о неинтересном пустяке:
— Я пронзил его стрелой!
Ай отшатнулась, в глазах ее сверкнуло отчаяние.
Янгызак продолжает:
— Его конь выхватил твое письмо и понес его дальше…
Улыбка радости озаряет лицо красавицы.
— Я убил коня…
В ужасе Ай отступает еще на шаг.
— Но тут какой-то орел схватил письмо и унес его в облака.
— Слава аллаху! — прошептала Ай.
Янгызак гневно к ней поворачивается:
— Ты обманула нас!
Ай гордо выпрямляется, говорит со страстью:
— Да, я вас обманула! И я этим горжусь! Я люблю Алтын-дугу, и он прилетит, мой сокол, чтобы вызволить меня из беды!..
Янгызак пристально смотрит на нее. Ай осекается, бледнеет. Янгызак говорит:
— Я не трону тебя, ибо это было бы несправедливостью по отношению к моим братьям. Но знай, красавица: прямо отсюда, вот сейчас, я поеду в землю Ай. Разбужу, растолкаю твоего обжору и лежебоку, подниму его и отрублю ему голову в честном бою! — Он вскакивает на коня и, усмехнувшись, заключает: — Жди меня через шесть месяцев, в новолуние!..
Снова дворик родового старейшины. Алтын-дуга так же дремлет на подушках. Вокруг него горы всяческих яств. В стороне Гульбика вышивает узор на колчане для стрел, напевая про себя мелодию песни Янгызака. Несколько айдинцев входят, таща с превеликим трудом знакомую нам каменную чашу необыкновенной величины. Они ставят ее в углу дворика и удаляются. Алтын-дуга во сне застонал, перевернулся на другой бок, открыл один глаз. Увидел каменную чашу и в удивлении открыл второй глаз. Сонно зовет:
— Гульбика!
Девушка подходит к брату.
— Сплю я или не сплю? — вяло спрашивает Алтын-дуга.
— Ты вечно спишь.
— Я спрашиваю, — капризно говорит Алтын-дуга: — сейчас я сплю или не сплю?
— Я не понимаю тебя, брат.
— Эта чаша во сне или не во сне?
— Нет, она во дворике, Алтын-дуга. Ее принесли.
Она разговаривает с братом, как с маленьким.
— Я видел сон… — тяжело ворочая губами, говорит Алтын-дуга. — Эта чаша… И люди… И все кричали какое-то слово: “эй” или “ой”… Не помню…
— Спи, Алтын-дуга, — печально говорит Гульбика. — Спи! Это был сон.
— Но если это сон, чаша — тоже сон?
— Что с тобой, брат? — удивленно спрашивает девушка. — Ты давно так много не разговаривал.
— Нет… ничего… — говорит Алтын-дуга. — Это был сон… и я сплю… — закрывает глаза. — Сп…лю…
В небе, покачиваясь, летит пронзенное стрелою письмо. Гульбика увидала, издает изумленный возглас. Письмо падает посреди дворика, где рос раньше розовый куст.
— Алтын-дуга! — восклицает девушка, подбегает к письму и берет его. — Смотри, к нам прилетела стрела! И принесла из-за облака письмо!
— Не мешай… — бормочет Алтын-дуга. — Я сплю…
Девушка вынимает стрелу, разворачивает письмо. Из него выпадает маленький круглый белый камешек. Гульбика рассматривает его. Начинает читать вслух:
— “Алтын-дуга, спаси меня! Ай”.
Юноша вздрогнул, открывает сразу оба глаза. Приподнявшись, выхватывает из рук сестры письмо, перечитывает, сипло говорит:
— “Ай”! Вот это слово! Но кто такая Ай?
— Я не знаю, — говорит Гульбика. — Но, кажется, я тоже что-то подобное этому видела во сне. Вот еще камешек из письма.
Алтын-дуга рассматривает камешек, бормочет:
— Ай… Ай… — Он прикрывает ладонью глаза, силится что-то вспомнить, шепчет: — “Тебе понравился мой белый камешек?..” — Порывисто вскакивает на ноги, кричит: — Кто такая Ай? Где я? Что это? А? — и растерянно озирается.
У него дикий, встрепанный вид.
— Алтын-дуга, ты встал! — восторженно кричит Гульбика.
— Ай… — бормочет Алтын-дуга.
Он нелепо топчется вокруг себя, словно ищет что-то. Видно, что ему тесно, душно. На его лице напряжение и недоумение. Он бормочет все быстрей и быстрей:
— Ай?! Ай?! Ай?!
Алтын-дуга мечется по дворику, словно слепой. Остановился, обхватил голову руками, спрашивает кого-то невидимого:
— Почему?
Разрывает ворот своего камзола, повторяет хрипло:
— Почему?
Помолчал. Спрашивает жалобно:
— Гульбика… Скажи мне правду, я сплю или не сплю?
— Нет, Алтын-дуга, ты не спишь.
— Я не сплю, — говорит он тихо, словно силится понять, что значат эти слова. — Я не сплю… Я не сплю… — повторяет он уже механически, видно думая о другом.
Вдруг остановился, поднял голову вверх. В небе парит орел. Алтын-дуга кричит в небо:
— Кто такая Ай?
Тишина. Ни звука. Алтын-дуга стоит задрав голову.
В щель калитки заглядывает один из егетов. Увидел стоящего Алтын-дугу, ахнул, убегает.
В просторной юрте сидит седоголовый Кусмэс, пишет что-то. К нему вбегает егет, говорит:
— Алтын-дуга встал!
Между юртами, на кошме, женщины дробят в ступках зерно. Подбегает какой-то мальчишка, сообщает задыхаясь:
— Алтын-дуга встал!
В юрте-кузнице кузнец обтачивает наконечники для стрел. Взволнованно входит один из айдинцев, говорит шопотом:
— Алтын-дуга встал!
Кусмэс с несколькими егетами поспешно идет к калитке. Но калитка распахивается, в ней появляется Алтын-дуга. Он похож на безумного. За ним бежит Гульбика.
Алтын-дуга спрашивает:
— Отец, кто такая Ай?
— Мальчик мой, — восклицает Кусмэс, — ты встал! Великая радость!
— Кто такая Ай? — повторяет юноша.
— Милый сын, — говорит Кусмэс, — будь проклято это имя, да не осквернит оно никогда твоих уст!
— Кто такая Ай?! — рявкает юноша, поворачиваясь к одному из егетов.
Тот пятится, молчит. Алтын-дуга идет дальше. Гульбика бежит за ним, едва поспевая.
Седоголовый Кусмэс говорит егетам:
— Удержите его!
Егеты бросаются за Алтын-дугой. Догоняют его, стараются схватить за руки, остановить. Но Алтын-дуга даже не замечает их. Он идет, мерно размахивая руками. И при каждом взмахе егеты отлетают далеко в стороны, падают. Снова вскакивают, бегут за ним.
Весь народ, все айдинцы вышли из своих юрт, смотрят на приближающегося Алтын-дугу. Сверкает речка Ай за белыми юртами. Зеленеют сосновые рощи на горных вершинах.
Алтын-дуга останавливается перед стариками. Тотчас же егеты дружно бросаются, повисают на его руках и ногах. Но и теперь Алтын-дуга не замечает их. Спрашивает стариков:
— Кто такая Ай?
Старики молчат, опускают глаза. Алтын-дуга встряхнулся, и егеты ссыпаются с него, точно яблоки с дерева. Алтын-дуга пошел дальше. Переглянувшись, егеты поворачивают назад. Лишь один косоплечий егет увязался за ним.
— Алтын-дуга, подожди! — говорит Гульбика. Она бежит, задыхаясь, рядом. — Пойдем к Абзаилу! Он все знает. Пойдем к главному пастуху нашего табуна, Абзаилу!
К Кусмэсу подбегают егеты:
— Мы ничего с ним поделать не можем! Мы не в силах с ним совладать!
Подбегает косоплечий егет:
— О Кусмэс! Твой сын и твоя дочь пошли в горы, к пастуху Абзаилу. Они хотят спросить у него.
— Какой дорогой они пошли?
— Нижней дорогой.
— Коня! — приказывает седоголовый Кусмэс.
Табунщик Абзаил стоит, величественно опираясь на свой железный посох. Вокруг, рассыпавшись на горных склонах, пасется табун коней и кобылиц. В чистом воздухе звучит мелодия волшебной дудки старика.
Из лощины появляется скачущий Кусмэс. Здоровается, говорит, не слезая с седла:
— Большая радость, Абзаил! И большая беда! Алтын-дуга встал!
— Великая радость! — восклицает пастух. — А в чем же беда?
— Кто-то передал ему весть об Ай. И Алтын-дуга обезумел. Он идет сюда, хочет спросить у тебя. Хоть он и могуч, но силы своей не знает и угроз боится. Ты побей его, припугни и домой верни. А то Алтын-дуга уйдет от нас навсегда.
— Ладно, — говорит Абзаил.
Седоголовый Кусмэс уезжает.
По горной тропке поднимаются Алтын-дуга и Гульбика. Они подходят к Абзаилу.
— Здравствуйте, почтенный Абзаил, — говорит девушка.
— Кто такая Ай? — спрашивает Алтын-дуга.
Абзаил начинает орать:
— Какой шайтан тебя принес? Что ты тут шляешься возле коней? Живо убирайся!
— Но, почтенный Абзаил… — растерянно говорит Алтын-дуга.
Абзаил орет:
— Слушай старших, собачий сын! Убирайся или я тебе сейчас голову размозжу! — Бьет Алтын-дугу железным посохом, приговаривая: — Вот тебе Ай!
Алтын-дуга смущенно отступает, идет прочь.
Гульбика бежит за ним, говорит гневно:
— Алтын-дуга, ты трус!
— Трус? — останавливается Алтын-дуга.
— Ты испугался его палки! Он ведь знает, всё знает!
Алтын-дуга молча поворачивает обратно. Подходит к пастуху:
— Уважаемый Абзаил…
Абзаил вновь начинает кричать:
— Ты опять надоедаешь мне! Или я плохо тебя дубиной учил? — И замахивается железным сукмаром.
— Зачем драться?.. — начинает с обидой Алтын-дуга.
Но Абзаил ударил его. Не вытерпев, Алтын-дуга хватает Абзаила за пояс и подбрасывает вверх.
— Милостивый аллах! — изумленно восклицает Гульбика, задирая голову.
Абзаил летит все выше и выше, пока не скрывается в облаках.
 — Куда это я его дел? — в недоумении бормочет Алтын-дуга.
Но вот Абзаил показывается опять. Теперь он летит вниз. Летит и вопит с искаженным от страха лицом:
— Лови меня, Алтын-дуга, или я убьюсь оземь! Лови меня! Всё расскажу!..
Алтын-дуга подхватывает его, опускает на землю. Говорит, придавив ему грудь коленом:
— Это за то, что ты побил меня. А теперь рассказывай!
— Не дави так… — хрипит Абзаил. — Всё, всё расскажу. Только чуть отпусти грудь…
Алтын-дуга слегка приподнимает колено Абзаил, лежа на лопатках, начинает рассказывать:
— У Кусэра, старейшины табынского племени, была дочка Ай. Когда тебе исполнилось семь лет, тебя связали с нею священной клятвой. Но однажды случилось…
И он рассказал Алтын-дуге все, что знал сам.
— …С тех пор мы знаем о них мало. — закончил старик. — Говорят, Ай так хороша, что она даже солнцу может сказать: “Не всходи! Я взойду”. Так красива, что, увидев ее, даже ласточки останавливаются на лету!.. Теперь ты знаешь всё. Пусти меня, Алтын-дуга!
— Поймай мне раньше коня!
Пастух лежа свистнул. И кони с пастбищ скачут вниз к Абзаилу, подбегают, выстроились перед пастухом.
Абзаил встает, поднимает и протягивает Алтын-дуге корок — длинную жердь с петлей из волосяного аркана. Алтын-дуга размахивается, закидывает корок в гущу коней. Кони шарахаются в стороны. Остается только конь, на шею которого упал корок. Это неказистый серый конек, уродливый, толстый. Клочья шерсти висят у него на боках.
— Ну и красавец попался мне! — говорит Алтын-дуга. — На таком коне беды какой наделаешь или сам пропадешь! — И снимает корок с его шеи.
Стегнул его, свистнул — конек убегает. Алтын-дуга подходит к сгрудившимся коням, опять закидывает корок. Кони шарахаются. К великому удивлению Алтын-дуги, корок оказывается опять на шее того же уродливого конька.
— Чтоб ты пропал! Откуда ты взялся? — ругается Алтын-дуга и снимает корок. — Вот так конь! Ублюдок какой-то!
Стегнул его, конек снова убегает.
— Куда это я его дел? — в недоумении бормочет Алтын-дуга.
Но вот Абзаил показывается опять. Теперь он летит вниз. Летит и вопит с искаженным от страха лицом:
— Лови меня, Алтын-дуга, или я убьюсь оземь! Лови меня! Всё расскажу!..
Алтын-дуга подхватывает его, опускает на землю. Говорит, придавив ему грудь коленом:
— Это за то, что ты побил меня. А теперь рассказывай!
— Не дави так… — хрипит Абзаил. — Всё, всё расскажу. Только чуть отпусти грудь…
Алтын-дуга слегка приподнимает колено Абзаил, лежа на лопатках, начинает рассказывать:
— У Кусэра, старейшины табынского племени, была дочка Ай. Когда тебе исполнилось семь лет, тебя связали с нею священной клятвой. Но однажды случилось…
И он рассказал Алтын-дуге все, что знал сам.
— …С тех пор мы знаем о них мало. — закончил старик. — Говорят, Ай так хороша, что она даже солнцу может сказать: “Не всходи! Я взойду”. Так красива, что, увидев ее, даже ласточки останавливаются на лету!.. Теперь ты знаешь всё. Пусти меня, Алтын-дуга!
— Поймай мне раньше коня!
Пастух лежа свистнул. И кони с пастбищ скачут вниз к Абзаилу, подбегают, выстроились перед пастухом.
Абзаил встает, поднимает и протягивает Алтын-дуге корок — длинную жердь с петлей из волосяного аркана. Алтын-дуга размахивается, закидывает корок в гущу коней. Кони шарахаются в стороны. Остается только конь, на шею которого упал корок. Это неказистый серый конек, уродливый, толстый. Клочья шерсти висят у него на боках.
— Ну и красавец попался мне! — говорит Алтын-дуга. — На таком коне беды какой наделаешь или сам пропадешь! — И снимает корок с его шеи.
Стегнул его, свистнул — конек убегает. Алтын-дуга подходит к сгрудившимся коням, опять закидывает корок. Кони шарахаются. К великому удивлению Алтын-дуги, корок оказывается опять на шее того же уродливого конька.
— Чтоб ты пропал! Откуда ты взялся? — ругается Алтын-дуга и снимает корок. — Вот так конь! Ублюдок какой-то!
Стегнул его, конек снова убегает.
 В третий раз подходит Алтын-дуга к коням, в третий раз закидывает корок. Шарахаются кони. Алтын-дуга в полном изумлении протирает глаза. Перед ним опять все тот же уродливый конек.
— Видно, судьбою он предназначен тебе, — говорит Абзаил. — Наверно, это Табан ияхе Тарпан-буз, о котором говорил богатырь Киньжя перед смертью.
Гульбика подбегает к коньку, осматривает его, обмеривает четвертями. Смотрит в ноздри коню через свирель. Заглядывает ему под передние ноги и говорит Алтын-дуге:
— Поздравляю тебя, брат! Ты не разглядел его. Хоть он и неказист с виду, но это настоящий Тарпан! Подмышками он прячет два стальных крыла. Если ударить его плетью, конь Табан ияхе Тарпан-буз догонит летящую птицу. Удар его копыт как молния. Ни у кого в мире нет такого коня!
Алтын-дуга подошел к серому коньку, взнуздал, сел на него.
Абзаил говорит:
— Богатырь Киньжя перед смертью завещал тебе свой меч и другое оружие. Он сказал: придет время, и конь Табан ияхе Тарпан-буз сам их найдет.
Алтын-дуга стегнул толпара. Конек затрусил, уныло опустив морду. Гульбика пошла за братом…
Обросли лишайниками скалы возле дворика старейшины. Подъезжает к ним Алтын-дуга. Конек остановился, ударил оземь копытом. Алтын-дуга поднимает скалу; под нею богатырские меч, лук, щит, копье, седло и конская сбруя.
Поспешно подходит к сыну седоголовый Кусмэс. Алтын-дуга взял меч, рассматривает надпись на рукоятке.
— Сын мой! — говорит Кусмэс. — Куда ты собрался?
Не отвечая, Алтын-дуга протягивает меч:
— Отец — жизнь моя, отец — душа моя! Что тут написано?
Кусмэс берет меч в руки, сгибается под его неимоверной тяжестью и выпускает из рук. Алтын-дуга вновь поднимает меч с земли, поворачивает надписью к отцу.
Кусмэс читает:
— Герой умирает раз, трус умирает тысячу раз!
Алтын-дуга принимается седлать своего конька.
— Может, ты собрался, сынок, охотиться? — осторожно спрашивает Кусмэс.
Затягивая подпругу, юноша говорит:
— Я еду искать красавицу Ай!
В отчаянии Кусмэс восклицает:
— Сынок, остановись! Это ведь ее отец, да будет проклято его имя, тебя опоил! Коварство Кусэра и его дочери не имеет пределов. Подумай, что ждет тебя в джунгарских степях! Если туда случайно залетит птица, даже она вывихнет себе крылья. Куда ты, мальчик мой, мой барашек?!
Алтын-дуга в богатырских доспехах вскакивает на своего конька, говорит громко:
— Клянусь! Пока сияют солнце и луна, пока дуют ветры в горах и пасутся стада, пока я жив, я буду искать свою возлюбленную!
И, взмахнув плетью, он поехал.
Айдинцы стоят возле юрт. Мимо идет-торопится Гульбика. Навстречу ей трусит Алтын-дуга на своем коньке. Пригнувшись с седла, подхватывает сестру, целует, опускает на землю.
Гульбика говорит брату:
— Никогда не доверяй трусу! Рассердившись, не бей коня по голове! Не изнуряй в пути своего духа раздумьями! Веди себя так, чтобы солнце завидовало тебе! Будь счастлив, брат!
Алтын-дуга тронул своего коня, поехал. Гульбика кричит:
— Если встретится тебе богатырь Янгызак, пощади его красоту!
Алтын-дуга едет мимо юрт, за которыми сверкает речка Ай. Запевает песню:
Эй, друзья и братья! Есть ли
У кого о милой вести?
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга едет ущельем, по обе стороны которого вздымаются ноздреватые скалы. Он въезжает тропкой под прозрачную стену водопада: сквозь стекло воды он видит причудливо преломленные очертания скал. И вот он уже на другой стороне, выезжает из-под водопада:
Слух ко мне, друзья, склоните,
“Кто любовь твоя?” — спросите.
Узел странствий развяжите!
Кто видал ее — скажите!
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?
Алтын-дуга едет по дремучему, дикому лесу. По узкому горному карнизу он въезжает в облако…
А конь Алтын-дуги из лохматого, уродливого ублюдка постепенно превращается в статного скакуна. Он скачет все быстрей и быстрей. И все длиннее, все дальше пышут из его ноздрей струи пара.
Алтын-дуга выезжает из облака. И перед ним, внизу, ниже соснового бора, раскрывается грандиозная панорама равнины, изрезанной руслами рек.
Алтын-дуга скачет весенней, цветущей степью. Крупные цветы покачиваются меж пышным ковылем. От фырканья его коня ложатся травы…
Все отдам я, что имею,
За мгновенье встречи с нею,
В очи ей, вина чернее,
Я взгляну и опьянею.
Мира я не разумею.
Волею я не владею —
Милая одна всевластно
Правит волею моею.
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга мчится голой степью, по которой катятся огромные клубы перекати-поля. Мчится по белоснежному солончаку. Мчится по дюнам вдоль берега синего моря…
Был сражен я, как мечами,
Черными ее очами,
Возвращен я к жизни буду
Сладкими ее речами.
Веря в счастье, веря в чудо,
Я ищу ее повсюду.
Кто ж о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга несется во весь опор по пустыне; конь его, ставший необыкновенным красавцем, перескакивает через плоские гряды песков.
Несется богатырь по барханной пустыне, и возникает перед ним огромный город в развалинах. Повсюду, насколько хватает глаз, торчат стены разрушенных крепостей, замков, жилищ. Алтын-дуга сдерживает коня, осматривается, заканчивает песню:
Я скакал через пустыни,
Увязал в песке и глине,
Милую ищу я ныне,
Потерявши на чужбине.
Братья, где она, скажите,
Путь мне к милой укажите!
Какие-то люди прячутся меж развалин. Они исподтишка наблюдают за богатырем. Но Алтын-дуга их не видит: едва он поворачивается в сторону людей, как их головы исчезают.
Вдали показывается всадник. Это скачет Янгызак на своем вороном коне. И за ним из-за разрушенных стен тайно наблюдают десятки глаз. Богатыри съезжаются. Янгызак узнал Алтын-дугу:
— А, это ты, обжора и лежебока! Как раз тебя-то я и ищу! Мне нужна твоя голова, чтобы сделать себе из нее чашу!
— Болтуна хоть в сундук спрячь, он и там найдет, с кем поговорить, — спокойно говорит Алтын-дуга.
Янгызак восклицает:
— Клянусь, лишь одно мгновение тебе осталось смотреть на небо!
— То, что случится, находится впереди, — отвечает Алтын-дуга, поднимая копье.
Богатыри обнажают мечи. Янгызак восклицает:
— О обжора! Каким путем войдет в тебя мой меч, тем же путем из тебя выйдет душа!
— Твой меч остер, но мой меч тоже не из соломы! — говорит Алтын-дуга.
Богатыри медленно сходятся. Коротко лязгнув, встретились их мечи, посыпались искры. Сотни глаз наблюдают за поединком из-за разрушенных стен.
Поединок разгорается все ожесточеннее. И Алтын-дуга, подобно беркуту, пригвоздившему своей лапой джейрана к бархану, уже прижал Янгызака к земле, приставив меч к его горлу:
— Перед смертью скажи свое имя, чтобы я знал, как тебя поминать!
— Янгызак.
— Янгызак? — удивился Алтын-дуга.
— Да.
— Но если ты Янгызак, почему ты не воспользовался своим голосом, чтобы меня победить?
— Если бы я победил тебя голосом, — говорит Янгызак, — мне красавица Ай не простила бы. Я поклялся ей одолеть тебя в честном бою. Она любит тебя. И ты оказался победителем. Убей меня, Алтын-дуга!
— Нет, — говорит Алтын-дуга, отбросив меч и поднимая Янгызака. — На небе солнце только одно, но правда светлее солнца. Когда богатыри бьются за правду, они становятся братьями. Скрепим же клятву, побратаемся, друг!
Богатыри обнимаются через меч. Обитатели развалин наблюдают за богатырями.
— Теперь, — говорит Алтын-дуга, — докажи мне свою дружбу. Поезжай от меня сватом к красавице Ай. Непристойно жениху входить в юрту невесты, не послав вперед свата.
— На каком коне мне ехать? — спрашивает Янгызак.
— Поезжай на любом.
— Поскачу на своем. Твой уморился, пусть отдохнет.
— Красавица Ай тебе не поверит. Лучше скачи на моем.
Янгызак садится на Табан ияхе Тарпан-буза.
Алтын-дуга спрашивает:
— Близко ли Солнечный колодец?
— Три месяца пути, друг.
— Я проведу здесь ночь и наутро поскачу по твоему следу.
Янгызак тронул повод, гикнул на Табан ияхе и скрылся вдали.
Ведя под уздцы вороного коня, Алтын-дуга идет к глинобитной полуразрушенной, изборожденной гигантскими трещинами крепостной стене. На сохранившихся упорах ее угловых башен видны остатки орнамента. Ящерица пробегает по стене и скрывается в трещине.
В тени этих величественных развалин Алтын-дуга собирается расположиться на отдых. Неожиданно за стеной раздается музыка: мелодия курая и дробный перебор звонкого барабанчика. Алтын-дуга замер, идет к провалу крепостных ворот. — Остановился, видит — посреди крепости, на земле, усыпанной битыми черепками, полукругом сидят люди. На них потрепанные одежды. Играют музыканты. В центре сидит на камне величавый старик.
— Здравствуй, Алтын-дуга, — говорит старик. — Мы тебя ждем.
— Меня? Но кто вы? Что вы за люди?
— Мы — твое войско.
— Мое войско? — изумился Алтын-дуга. — Я пришел сюда с миром — не с войной. Я ищу мою возлюбленную. Зачем мне войско?
— Посмотри вокруг, — сурово отвечает старик. — Здесь был город Булгар: благоухала земля, журчала вода, яблоки тут валялись, как сор. А теперь… голос мужчины, песня женщины и плач ребенка покинули хижины.
— Кто же разрушил ваш город?
— Джангархан. Он предал разрушению еще шестьсот городов, захватил семьдесят две реки и восемнадцать свободных народов обратил в пастухов и рабов.
— Что же, у него очень большое войско?
— Не в войске дело. Есть у него войско, и есть еще сорок богатырей, и меж них трое сильнейших: свирепый Жургяк, хитрый Хултан-гол и сладкоголосый Янгызак — с ним ты побратался. Но и не в богатырях дело.
— Тогда, верно, сам Джангархан очень силен и могуч?
— Нет, он слаб, завистлив, зол и любит облизывать жирные горшки. Богатыри его давно перегрызлись бы, подобно собакам, если бы не боялись колдуньи Мясекай и исполина Таш-пша. Во рту старухи Мясекай живут тридцать мышей, которые питаются крошками на ее губах. И каждая мышь, попав на язык колдуньи, подсказывает хитрость. Сколько раз мыши пробегают по ее языку, столько у нее хитростей.
— Какие же ее хитрости? Скажи хоть об одной.
Старик помолчал, потом говорит:
— Известно ли тебе, что Янгызак, с которым ты побратался, это родной брат красавицы Ай?
Алтын-дуга изумлен:
— Джунгарский богатырь Янгызак?
— Да. Старуха Мясекай украла его из колыбели. И она внушила ему, что он ее сын. С тех пор Янгызак служит Джангархану столь же усердно, как и настоящие ее сыновья. А знаешь, кто опоил тебя? Колдунья Мясекай. И это она, прибегнув к хитростям, поссорила айдинцев и табынцев и подвергла несчастьям красавицу Ай!
Алтын-дуга восклицает пылко:
— Твой рассказ подобен воде, пролитой на горячую жаровню! Клянусь, я отрублю колдунье голову вместе с ее мышами и языком!
Величавый старик отвечает спокойно:
— Необъятный мир тебе кажется не шире ладони. Ты не сумеешь даже подойти к ней, ибо колдунью охраняет Таш-паш, которого зовут “черный меч Джянгархана”. Все дело в Таш-паше. Его дыхание порождает бурю. Каждый сапог на его ноге сшит из ста бычьих кож. Девяносто верблюдов в день съедает Таш-паш без остатка!
— Какая же женщина могла родить такого исполина? — в удивлении спрашивает Алтын-дуга.
— Он рожден не женщиной, а сделан мужчиной. Один ученый нашего когда-то цветущего города, — старик показывает на развалины, — долго думал, как вылепить из горы исполина и вдохнуть в него жизнь, чтобы исполин этот пригонял, издалека тучи и выжимал из них воду на наши поля. И он придумал, и вылепил исполина, и вдохнул в него жизнь. Но когда исполин стал просыпаться, этого ученого ножом в спину убил Джангархан. И, проснувшись, исполин спросил: “Кто вдохнул в меня жизнь?” — “Я”, — сказал Джангархан. “Слушаю и повинуюсь!” — сказал исполин. С тех пор исполин служит Джангархану, и добро обратилось во зло, и мир обратился в войну, и имя Таш-паша повергает всю, землю в трепет, страх и отчаяние!..
Словно мираж, возникла в степи джунгарская столица: юрты, шатры, повозки, постройки, украшенные награбленным добром. В самом центре, под черной причудливой горой, высится чешуйчатый дворец Джангархана. Сорок рядов копий, воткнутых в песок, окружают стеною город. Да это и не город, а огромный табор! Два джунгара-силача, сидя в грязи, стегают друг друга кнутом: кто дольше выдержит. Толпится кучка зевак вокруг дерущихся перепелов. Тут же пьют арак, пляшут, кто-то бьет в бубен. Рядом с брадобреем мясник втыкает нож в горло барана. Джунгар несет на руках вырывающуюся женщину. Торчит кол с головою казненного. Цепные псы грызутся из-за брошенной кости. Горят костры. Поют лягушки в пруду перед дворцом.
Старуха Мясекай в своей колдовской келье склонилась над казаном с сорока ушками, всматривается в черную жидкость. В казане видно: среди развалин города Булгара Алтын-дуга беседует с величавым стариком. Старуха отшатывается.
На террасе дворца восседает Джангархан. Перед ним на корточках главный везир:
— О владыка ханства, не умещающегося в пределах земли! Лицо красавицы Ай, говорят, излучает такой свет, что при нем табунщик мог бы в ночном мраке охранять целый табун. Если эта девушка бросит свой взор на воду, то можно сосчитать в море всех рыб и даже различить в глубине рождение их… Ее рот как наперсток. Ее косички, опущенные с одной стороны в золотую воду, с другой стороны в серебряную воду, высушены на утреннем ветерке. И сама она вся как глянцевитая, поблескивающая бумага!..
— Почему же Жургяк и Хултан-гол от меня эту красавицу скрыли? — спрашивает Джангархан.
— О упование и сновидение всех владык мира! Они скрыли, ибо эта девушка нравится им самим. Все сорок твоих богатырей в новолуние собираются ехать к Солнечному колодцу на байгу. Кто победит — заберет себе красавицу Ай.
— До чего же дошло распутство в нашем государстве, если богатыри забирают красавиц, не спрашиваясь у меня! — мрачно говорит Джангархан.
— Да позволено будет мне дать ничтожный совет…
— Говори!
— Пусть повелитель пошлет за красавицей Таш-паша, и исполин принесет ее тайно за пазухой. И пусть богатыри едут на байгу, не ведая об этом. В то время, когда повелитель завладеет красавицей, его богатыри будут рыскать по ханству, ища ее и задыхаясь от злобы.
Джангархан одобрительно кивнул и швырнул везиру кошелек. Подошла старуха Мясекай.
— О повелитель, — шепчет она на ухо Джангархану, — Алтын-дуга встал и ищет возлюбленную! Если он соединится с красавицей Ай, он будет непобедим!
Грузный Джангархан тяжело поднимается с подушек. Он выходит на кровлю дворца. Он кричит, приложив руку ко рту:
— Таш-паш!
Черная гора зашевелилась, поворачивается. Это, оказывается, спина лежащего исполина.
В джунгарском стане все бросают увеселения, задирают головы, смотрят на Таш-паша. Исполин наклонился ко дворцу, подставил ухо. По кровле к нему подходит Джангархан, что-то тихо говорит.
А на площади Жургяк подмигивает Хултан-голу:
— Наверно, хан Джангар снова отправляет Таш-паша к границам какой-нибудь дальней державы, дабы вселить в ее жителей страх!
В юрте у Солнечного колодца вокруг очага сидят Кусэр, Ай и строгий Ханьяр. Кусэр говорит:
— Не упрямься, дочка. Завтра новолуние, приедут джунгарские богатыри на байгу.
— Никуда я не поеду, отец!
— Но Ханьяр совсем оправился от раны. И если сейчас выехать…
— Нет, отец! — перебивает его Ай. — Я сегодня видала во сне Алтын-дугу! Он скакал сюда на священногривом коне, на своем Табан ияхе Тарпан-бузе! И я знаю: он примчится вовремя, Алтын-дуга, — мой коршун, несущий в клюве гнездо.
— Но это же во сне, — возражает Ханьяр.
Ай говорит горделиво:
— Пойди посмотри на розовый куст. На нем уже распускается бутон. Значит, это не только во сне!
Послышался далекий топот коня. Ай вскочила, кинулась к двери юрты, замерла. Говорит, задыхаясь:
— Кажется, он… Да, вот его конь — каким я его видела во сне! И на коне… Кто этот всадник?.. Это не Алтын-дуга… Это… это… Янгызак!.. Он убил Алтын-дугу! Конь не дался бы никому, если бы Алтын-дуга не был убит!.. — Ив отчаянии она распускает косы. — К чему мне теперь жить? Он убит! Горе мне!..
Янгызак подъезжает:
— Здравствуй, красавица Ай! Я привез счастливую весть…
— Что мне проку в твоей вести, — в отчаянии восклицает Ай, — если Алтын-дуга убит!..
— Он жив, осуши слезы. Я побратался с Алтын-дугой и приехал от него к тебе сватом.
Красавица Ай сначала дала волю слезам, но слез оказалось так много, что она решила их удержать.
— Ты лжешь! — гневно говорит она. — Конь не сдастся в плен, если богатырь не убит! Разве под тобой не конь Алтын-дуги?
— Да, это его конь Табан ияхе Тарпан-буз! Алтын-дуга послал меня к тебе на своем скакуне, чтобы ты мне поверила. А сам на вороном скачет по моему следу.
Ай пристально смотрит на Янгызака, говорит тихо:
— Зря ты приехал сватом ко мне, Янгызак. Я не люблю Алтын-дугу. С того дня, как я увидала тебя, в сердце моем вспыхнуло пламя! Я полюбила тебя, Янгызак! Да, полюбила за красоту, за отвагу…
— Что ты говоришь! — восклицает с упреком Янгызак.
— Я говорю то, что чувствую! Из всех богатырей мне по сердцу только ты. Зачем мне другой? Я хочу быть твоей женой! Хочу кормить, качать и растить твоих сыновей…
— Постыдись! — гневно обрывает ее Янгызак. — Алтын-дуга сорок гор и пустынь одолел, к тебе мчался! Он любит тебя так сильно, будто у него в груди не одно, а тысяча сердец! А ты…
В негодовании он поворачивает коня.
— Постой! — кричит Ай. — Постой, Янгызак!
Она подбегает, обнимает Табан ияхе Тарпан-буза за шею, сдерживает его:
— Видно, и впрямь я ослепла от горя! Не сердись на меня, Янгызак. Я хотела тебя испытать… — и кричит в юрту: — Отец, принимай гостя! Он приехал от Алтын-дуги!..
По пустыне идет исполин Таш-паш, шагая через десятки барханов. Перешагивает через отару овец, через караван идущих цепочкой верблюдов…
Ханьяр, Янгызак, Кусэр и Ай сидят вокруг очага. Раздаются шаги, подобные грому.
Ханьяр взволнованно вскакивает:
— Таш-паш?
— Да, черный меч Джангархана, — кивает Янгызак и тоже встает.
Исполин подошел к Солнечному колодцу и остановился невдалеке. Зычно окликает:
— Эй, там, в юрте!
Кусэр, дрожа, направился к выходу. Но Янгызак отстраняет его и выходит, крича:
— Чего тебе, Таш-паш?
— Это ты, Янгызак?
— Я.
Исполин добродушно засмеялся:
— Ха-ха-ха!.. Что ты тут делаешь? Ха-ха-ха!..
— Зачем ты пришел?
— Там есть красавица. Ну-ка, выведи ее на пригорок, чтобы мне удобнее ее было взять. Но почему ты здесь, Янгызак?
— Я здесь, чтобы оберегать честь этой девушки!
— Честь? Ха-ха-ха!.. — Исполин опять залился веселым смехом. — Теперь ты можешь уже больше не оберегать ее честь: девушку требует к себе Джангархан.
— Скорее верблюдица родит крысу, чем хан Джангар увидит эту девушку!
— Верблюдица — крысу… Ха-ха-ха!.. Но мне надоело с тобой попусту терять время. Давай красавицу или я сам ее заберу!
Таш-паш двинулся к юрте, но Янгызак запел: и сразу окаменел исполин в той позе, в какой застигла его песня.
Янгызак поет:
Эх, перед тем как в пропасть я попаду,
В то раскаленное море, что льется в аду,
В бездну седьмой преисподней черной земли,
Я на тебя, могучий Таш-паш, нападу!
Если ж пролью свою богатырскую кровь —
Обогатится земля глоточком одним!
Высохнут кости мои в далеком краю —
Станет на горсточку праха богаче земля.
Янгызак обрывает песню. Исполин похлопал глазами, постоял, что-то соображая, и спрашивает:
— Ну, кончил петь, что ли?
— Попробуй двинуться вперед — опять запою!
Таш-паш засмеялся:
— Зачем мне вперед! Ты глупец, Янгызак! Я назад пойду. Ха-ха-ха!
Он отступает на несколько исполинских шагов и неожиданно нагибается. Надул щеки, выпучил глаза, начинает дуть. Песчаный смерч взлетает над пустыней.
Янгызак попытался запеть, но голос его пропадает в вое ветра. Стена летящего песка валит его с ног; с трудом добирается он до юрты. В вихре несущегося песка срывается с коновязи Табан ияхе Тарпан-буз. Дует Таш-паш…
Колодца уже не видно, юрта засыпана песком почти доверху. В самуме мчится Табан ияхе Тарпан-буз. Дует Таш-паш…
Вот уже и макушка юрты скрывается под огромным песчаным барханом. Смерч затихает. Таш-паш выпрямился, подходит к месту, где были колодец и юрта. Вокруг лишь голые волны песков. Таш-паш бормочет: — Вот и сидите себе под землей, пока не вернусь! Попробуй кто-нибудь теперь отыщи вас! Ха-ха-ха!..
И пошел по барханам, очень довольный собой.
Алтын-дуга скачет по следу Янгызака на вороном скакуне. Навстречу мчится Табан ияхе Тарпан-буз. Седло его съехало набок, повод оборван. Подбежал к Алтын-дуге, остановился, заржал.
— Табан ияхе Тарпан-буз! — восклицает Алтын-дуга. — Откуда ты? Что случилось?
И опять заржал серый конь. Алтын-дуга соскакивает с вороного коня, поправляет на Табан ияхе Тарпан-бузе седло, садится на него. Взяв в повод коня Янгызака, скачет.
Голые волны песков там, где были колодец и юрта. Вдали показывается Алтын-дуга. Сдерживает коня, в недоумении спрашивает:
— Ну куда девались следы? Не мог же Янгызак провалиться сквозь землю!
Табан ияхе Тарпан-буз рвется вперед, Алтын-дуга пытается сдержать его. Конь рвется, храпит; хлопья пены обрываются с его удил. Алтын-дуга отпустил повод, и серый скакун понесся вперед. Вдруг остановился как вкопанный.
— Ччо! — попробовал сдвинуть его Алтын-дуга.
Конь ни с места. Алтын-дуга в недоумении слезает:
— Табан ияхе Тарпан-буз, что с тобой?
Поднимает его копыта, осматривает. Оборачивается и в изумлении замирает. Перед ним из песка торчит расцветшая роза. Алтын-дуга наклоняется, хочет ее поднять, но роза оказывается прикрепленной к стеблю, уходящему вглубь песка.
А Табан ияхе Тарпан-буз в стороне призывно заржал, роет копытом песок. Алтын-дуга подходит к нему, внимательно смотрит, порывисто наклоняется и начинает расшвыривать песок в стороны со всею богатырской силой.
Вот уже под руками Алтын-дуги обнажается макушка юрты. Он откидывает войлочную кошму, и среди песка, в дымовом отверстии юрты, появляется прекрасное лицо красавицы Ай. Она говорит нежно:
— Алтын-дуга!
Он откликается:
— Ай!
И, увидев их лица, вся земля вокруг покрывается цветами.
Ночь. На небе, меж звезд, народившийся месяц. Отрытая из-под бархана юрта уже установлена на новое место. Колодец очищен от песка. Раскопан розовый куст. У дотлевающего очага сидят Кусэр, Ай, Ханьяр, Янгызак и Алтын-дуга. Алтын-дуга кончает рассказывать:
— …И она внушила мальчику, что он ее собственный сын. Так старуха Мясекай всех перехитрила.
— Значит, мой сын жив! — восклицает Кусэр.
Алтын-дуга показывает на Янгызака:
— Вот он!
Все потрясены. Кусэр и Янгызак смотрят друг на друга, веря и не веря.
— Сын? — неуверенно говорит Кусэр.
— Отец…
Они встают, подходят друг к другу.
— О сынок! — восклицает Кусэр. — С тех пор как ты исчез, тьма и свет, день и ночь стали для меня одинаковыми! Но солнце твоего лица вновь засияло, и…
Янгызак обнял отца. Обнял так крепко, что Кусэр, застонав, упал.
Янгызак удивился:
— Отец, что с тобой?
Потирая ребра, Кусэр говорит восхищенно:
— Ты мне чуть все ребра не поломал! Поистине, сынок, вовек мне не встретить богатыря сильнее тебя!
Алтын-дуга уводит Ханьяра в сторону:
— Не будем мешать им, пусть предаются радости.
Прогуливаясь, они идут меж барханов. Ханьяр озабочен:
— Тебе и красавице Ай пора ехать. Скоро рассвет. Приедут сорок богатырей, и тогда…
— Что мне джунгарские богатыри! — говорит Алтын-дуга. — Если придется драться, я всех одолею. А мой Табан ияхе Тарпан-буз… не родился еще конь, который бы его обогнал на байге!
— Ты забыл об исполине Таш-паше, друг. Джангархан вернет его. А с черным мечом Джангархана никто в мире не совладает.
— Но если Янгызак смог остановить его голосом, почему он не может подойти с песней к нему и убить?
— Его нельзя убить, — отвечает Ханьяр. — Ведь Таш-паш вылеплен человеком из камня, из горы. Даже от глаз его вражеские стрелы отскакивают, как от щитов!.. — Помолчав, он продолжает. — Правда, говорят, что у Таш-паша есть слабое место. Будто, если поразить его в горло, жизнь покинет туловище исполина, а сам он рухнет и опять превратится в бездыханную гору.
— И в этот день царству Джангархана наступит конец?
— Да, — отзечает Ханьяр. — Но не забывай о застежке. На горле у исполина застежка, которую он в силах отстегнуть только сам. Она весит пять тысяч пудов. Сто сильнейших богатырей мира, взявшись вместе, не смогут ее отстегнуть… Уезжай, Алтын-дуга! Увози красавицу Ай, пока не поздно.
— Нет, Ханьяр. Только пес боится ступить на тигровый след. Не пристало богатырю показывать врагу пятки!
— Но ты погибнешь, и народ наш осиротеет!
— То, что случится, находится впереди, — говорит Алтын-дуга.
Беседуя, они уходят все дальше и дальше, пока не скрываются вдали меж барханов.
Сорок джунгарских богатырей скачут по пустыне. Жургяк вглядывается. Впереди, среди песков, показываются Солнечный колодец и юрта.
Ай и Янгызак встречают богатырей.
— Здравствуй, красавица! — хрипло говорит Жургяк. — Ну, соскучилась без меня? Теперь… — он захохотал, — я тебе не дам больше скучать. Сегодня на скачках мой Сары-куш из всех коней выпотрошит кишки! И за свадьбу!.. Здравствуй, брат Янгызак.
— Здравствуй, брат Жургяк.
Из-за холмов подходит Алтын-дуга.
— А это что за выкормок в башкирской одежде? — изумился Жургяк. — Мирный ты или враг?
— Если вы мирные, то и я мирный. Если вы враги, то и я враг, — отвечает Алтын-дуга.
— Это мой друг, — вмешивается Янгызак. — Он прибыл из земли Ай, чтобы вместе с нами состязаться в байге.
Жургяк развеселился:
— Состязаться? Сейчас я его схвачу за ухо, брошу на воздух, и когда он, падая, коснется земли, я ударю его ногой в зад, и он разлетится в золу!
— Хвастливому языку каждый день праздник, — спокойно говорит Алтын-дуга.
Жургяк посмотрел на него злобно, как верблюд на кузнеца:
— Да мне стоит тебя только кулаком шмякнуть, ты и вздохнуть не успеешь!
Алтын-дуга насмешливо говорит:
— У тебя кулак, но и у меня не клубок шерсти.
В ярости Жургяк замахнулся. Алтын-дуга — перехватил его руку. Они начинают бороться. Их окружили, глазеют богатыри. Взволнованно смотрит Ай.
Борются богатыри. Наконец Алтын-дуге удается приподнять Жургяка и бросить на землю. Алтын-дуга подходит к Ай. Девушка говорит нежно:
— Алтын-дуга!
Жургяк встал с земли, подходит к Алтын-дуге, покровительственно к нему обращается:
— А ты, оказывается, ничего. Сила есть в тебе. Если хочешь, я могу даже взять тебя в товарищи… Вот, говорят, есть такой город Гургандж. И там без толку торчит минарет. Будто, если обрушить его, десять тысяч людей можно задавить! Я все собираюсь туда. Поедем вместе, а? Обрушим его, посмеемся?..
— Замолчи! — в негодовании обрывает его Алтын-дуга.
— Эге, да ты рассердился! Зря. Все равно красавицы Ай тебе как своих ушей не видать! Думаешь, нечаянно поборол меня, так уже победил? Пусть-ка твой ублюдок попробует обогнать моего Сары-куша в байге!
Алтын-дуга отвечает:
— То, что случится, находится впереди.
У колодца джунгары поят коней, готовят к байге: вплетают тряпочки в гривы, подвязывают хвосты. Жургяк и Хултан-гол тоже взялись приводить в порядок своих скакунов.
В стороне Ай обхаживает Табан ияхе Тарпан-буза, протирает коню глаза шелковым платком, вытирает с него пыль и пот. Алтын-дуга разговаривает с Янгызаком.
— …Ну что ж, — говорит Алтын-дуга, — скачи ты на моем Табан ияхе Тарпан-бузе, выигрывай байгу за меня. Ты славный наездник!
— Спасибо, друг! — взволнованно говорит Янгызак.
— Как доедешь до горы Татывлы и начнется байга, отпусти поводья — конь сам полетит. Сто повадок он знает. Если ты будешь падать вперед, он поддержит тебя гривой, если назад — поддержит хвостом. Только смотри за ним, береги его.
— Не тревожься. Раз уж ты конем со мной поделился, плохого не жди!
Ай расчесывает Табан ияхе Тарпан-бузу гриву своим девичьим гребнем, прикалывает ему розу в челку.
Дворец Джангархана возле сидящего исполина. Исполин зевает. В джунгарском стане по-прежнему шумно, людно, разгульно, пестро. Джангархан восседает на дворцовой террасе. Рядом старуха Мясекай. Перед ханом на корточках главный везир.
— Можешь идти, — говорит Джангархан. Пятясь задом, с бесчисленными поклонами, везир удаляется.
У пруда выстроились приближенные хана. Подходит везир. Теперь он до ушей налит спесью. Один из приближенных вопрошает:
— Какие повеления соизволил отдать наш владыка на нынешний день?
— Он повелел выдать войску тысячу барабанов из ханской казны, — важно говорит везир.
— Мудрое решение, — говорит приближенный.
Остальные приближенные согласно кивают.
— Он повелел еще истребить за сегодняшний день всех лягушек в пруду.
— Мудрое решение. Приближенные снова кивают.
— Но самое важное — он повелел изготовить к вечеру две затычки для ушей исполина.
— Мудрое решение, — говорит приближенный. — Но зачем Таш-пашу потребовались затычки?
— Янгызак изменил… — отвечает везир. Помолчал, смотрит, какое впечатление произвела эта весть. — И Джангархан решил послать Таш-паша, дабы покарать этого сладкоголосого нечестивца. Повелитель поклялся повесить Янгызака на его собственном языке!
Нестройными кучками едут по пустыне джунгарские богатыри к месту, где должна начаться байга, — к горе Татывлы. На песке белеет лошадиный скелет. Мимо него вместе с другими богатырями проезжают Жургяк, Хултан-гол и Янгызак.
Подмигивая Хултан-голу, Жургяк говорит:
— Давай зарежем башкирского коня, брат Янгызак! Наедимся досыта конины…
— Что ты пристал к моему коню?
— Да ведь даровое мясо! Зря пропадает! Голову и сало я, так и быть, тебе отдам. А?
Янгызак усмехнулся:
— Твой Сары-куш не хуже. Режь его! Заодно и меня угостишь.
— Хуже, — не моргнув глазом, говорит Жургяк. — Мой Сары-куш хуже. Уж я — то в конине толк понимаю. Башкирский конь куда слаще на вкус. Давай, освежую его и разделаю вмиг!
— Да ты, я вижу, испугался, что твой конь от Табан ияхе Тарпан-буза отстанет, — насмешливо сказал Янгызак и, присвистнув, помчался быстрее.
— Смотри, Янгызак, — закричал ему вслед Жургяк. — Угодишь в могилу со своим башкирским конем!
Розовый куст. На нем сидит, подобно мрачной тени, ворона. Над юртой вьется дымок, слышен смех. Из двери весело выбегает Ай. Замерла. Смотрит в ужасе.
Ворона, нахохлившись, сидит на кусте.
— Алтын-дуга! — восклицает Ай.
Алтын-дуга выходит из юрты.
— Мне кажется, — говорит Ай тревожно, — мне чудится, чтонад Янгызаком нависла беда!
В ответ раздается зловещее карканье.
Джунгарские богатыри едут вразброд по полынной степи. Хултан-гол наклонился к Жургяку; змеиная улыбка играет на его губах.
— Я брата обгоню, — кивает он на едущего впереди Янгызака, — окликну его, заведу разговор. Тут его и кончай!
Жургяк неторопливо снимает с седла лук. Хултан-гол обгоняет Янгызака, останавливает коня, оборачивается и кричит:
— Янгызак!
Позади Жургяк поднимает лук, целится, а впереди виден остановившийся Хултан-гол. Он что-то говорит подъезжающему Янгызаку. Жургяк натягивает тетиву.
Янгызак улыбается. Хултан-гол говорит ему: “Если бы я тебя так не любил, брат…” Но тут Янгызак запел — и окаменел Хултан-гол с открытым ртом. Окаменел Жургяк, держа в руке натянутый лук.
Янгызак с песней отъехал в сторону, оглядывает братьев. Оборвал песню — и сразу прянула с лука Жургяка стрела, взвизгнула и влетела в открытый рот Хултан-гола. Он повалился навзничь с коня.
Жургяк остолбенело смотрит и тоже валится со своего скакуна. Он падает наземь, смеется безудержно, хрипло, свирепо. Корчится и стонет от смеха.
Съезжаются джунгары, молча смотрят на убитого. Жургяк, все еще в припадке хохота, катается по земле: “Ох!.. Ой!.. Ха-ха-ха!..” Встает и, утирая слезы, трясясь от смеха, взбирается на скакуна.
Подъезжает к Янгызаку:
— Дай я тебя обниму, брат Янгызак! Я метил в тебя, а он… он… — И опять закатился смехом, повалившись головой на холку коня.
Богатыри тронулись дальше.
— Нет, ты пойми! — восклицает Жургяк. — Я мог просто взять и выстрелить тебе в спину, а он… он… — И захохотал вновь.
Богатыри уезжают все дальше и дальше. Удаляется смех Жургяка. Среди высокой полыни лежит Хултан-гол со стрелой, торчащей изо рта.
Звуки труб возвещают начало байги. Раннее утро. Всадники, выстроившиеся цепью у подножия горы Татывлы, по знаку Жургяка, гикнули. Кони их понеслись птицами. Среди них Янгызак на Табан ияхе Тарпан-бузе. Всадники мчатся все дальше и дальше по холмистой равнине.
Алтын-дуга и Ай стоят у розового куста. Алтын-дуга говорит страстно:
— Зачем ты прячешь от меня свою любовь? Зачем тебе понадобилось, чтобы я бродил по пескам как безумный? Я — царь влюбленных, и сердце мое опутано локонами твоих волос! Не казни же меня своим равнодушием! Почему ты отстраняешься от моих поцелуев? Неужели ты хочешь обрадовать моих врагов?
Ай в ответ восклицает:
— О прекрасный, стройный, лунноликий, кудрявый! Ты — источник моей жизни, свет и радость моего сердца! Ты — свежий весенний воздух! Но я — только сухая ветвь! Как я могу зазеленеть, когда мои табынские подружки, их матери и отцы томятся в неволе у Джангархана? Освободи их, и каждый мой вздох будет лишь для тебя!
— Клянусь, — вскричал Алтын-дуга, — я их освобожу!..
Зазвучал топот копыт. Алтын-дуга и Ай поворачиваются, вглядываются. Меж песчаных барханов появляется всадник. Это Янгызак. Из юрты выходит отец красавицы Ай — Кусэр.
Табан ияхе Тарпан-буз подлетел к юрте, обежал вокруг нее и остановился как вкопанный.
— Спасибо, друг! — говорит Алтын-дуга Янгызаку.
Янгызак в изнеможении сползает с седла, встает на ноги пошатываясь! Облизывает языком пересохшие губы. Со лба его катятся ручьи пота.
— Что с тобой, сын мой? — спрашивает Кусэр.
— Да вот… — тяжело дыша, начинает Янгызак и умолкает, не в силах продолжать. Смущенно качает головой, отирает пот, протягивает руку к горлу, отстегивает застежку на вороте, говорит:
— Да вот…
— Янгызак, — взволнованно восклицает Ай, — что ты сделал сейчас?
— Я? Я приехал первым…
— Нет, сейчас, вот сейчас, что ты сделал?
Янгызак растерянно оглядывается:
— Не… не знаю.
— Ты отстегнул застежку на горле! — торжествующе говорит Ай. — Отстегнул, потому что тебе стало жарко. Теперь я знаю, как нам победить исполина!.
По пустыне идет исполин Таш-паш, шагая через десятки барханов. Из его ушей торчат концы двух огромных затычек.
Раздаются шаги, подобные грому.
Таш-паш подходит к Солнечному колодцу. Янгызак выступает вперед:
— Стой, Таш-паш!
Исполин не останавливается. Увидев Янгызака, он засмеялся:
— Ты тут, Янгызак? Ха-ха-ха!
Янгызак запел. Все окаменели. Но Таш-паш продолжает смеяться:
В третий раз подходит Алтын-дуга к коням, в третий раз закидывает корок. Шарахаются кони. Алтын-дуга в полном изумлении протирает глаза. Перед ним опять все тот же уродливый конек.
— Видно, судьбою он предназначен тебе, — говорит Абзаил. — Наверно, это Табан ияхе Тарпан-буз, о котором говорил богатырь Киньжя перед смертью.
Гульбика подбегает к коньку, осматривает его, обмеривает четвертями. Смотрит в ноздри коню через свирель. Заглядывает ему под передние ноги и говорит Алтын-дуге:
— Поздравляю тебя, брат! Ты не разглядел его. Хоть он и неказист с виду, но это настоящий Тарпан! Подмышками он прячет два стальных крыла. Если ударить его плетью, конь Табан ияхе Тарпан-буз догонит летящую птицу. Удар его копыт как молния. Ни у кого в мире нет такого коня!
Алтын-дуга подошел к серому коньку, взнуздал, сел на него.
Абзаил говорит:
— Богатырь Киньжя перед смертью завещал тебе свой меч и другое оружие. Он сказал: придет время, и конь Табан ияхе Тарпан-буз сам их найдет.
Алтын-дуга стегнул толпара. Конек затрусил, уныло опустив морду. Гульбика пошла за братом…
Обросли лишайниками скалы возле дворика старейшины. Подъезжает к ним Алтын-дуга. Конек остановился, ударил оземь копытом. Алтын-дуга поднимает скалу; под нею богатырские меч, лук, щит, копье, седло и конская сбруя.
Поспешно подходит к сыну седоголовый Кусмэс. Алтын-дуга взял меч, рассматривает надпись на рукоятке.
— Сын мой! — говорит Кусмэс. — Куда ты собрался?
Не отвечая, Алтын-дуга протягивает меч:
— Отец — жизнь моя, отец — душа моя! Что тут написано?
Кусмэс берет меч в руки, сгибается под его неимоверной тяжестью и выпускает из рук. Алтын-дуга вновь поднимает меч с земли, поворачивает надписью к отцу.
Кусмэс читает:
— Герой умирает раз, трус умирает тысячу раз!
Алтын-дуга принимается седлать своего конька.
— Может, ты собрался, сынок, охотиться? — осторожно спрашивает Кусмэс.
Затягивая подпругу, юноша говорит:
— Я еду искать красавицу Ай!
В отчаянии Кусмэс восклицает:
— Сынок, остановись! Это ведь ее отец, да будет проклято его имя, тебя опоил! Коварство Кусэра и его дочери не имеет пределов. Подумай, что ждет тебя в джунгарских степях! Если туда случайно залетит птица, даже она вывихнет себе крылья. Куда ты, мальчик мой, мой барашек?!
Алтын-дуга в богатырских доспехах вскакивает на своего конька, говорит громко:
— Клянусь! Пока сияют солнце и луна, пока дуют ветры в горах и пасутся стада, пока я жив, я буду искать свою возлюбленную!
И, взмахнув плетью, он поехал.
Айдинцы стоят возле юрт. Мимо идет-торопится Гульбика. Навстречу ей трусит Алтын-дуга на своем коньке. Пригнувшись с седла, подхватывает сестру, целует, опускает на землю.
Гульбика говорит брату:
— Никогда не доверяй трусу! Рассердившись, не бей коня по голове! Не изнуряй в пути своего духа раздумьями! Веди себя так, чтобы солнце завидовало тебе! Будь счастлив, брат!
Алтын-дуга тронул своего коня, поехал. Гульбика кричит:
— Если встретится тебе богатырь Янгызак, пощади его красоту!
Алтын-дуга едет мимо юрт, за которыми сверкает речка Ай. Запевает песню:
Эй, друзья и братья! Есть ли
У кого о милой вести?
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга едет ущельем, по обе стороны которого вздымаются ноздреватые скалы. Он въезжает тропкой под прозрачную стену водопада: сквозь стекло воды он видит причудливо преломленные очертания скал. И вот он уже на другой стороне, выезжает из-под водопада:
Слух ко мне, друзья, склоните,
“Кто любовь твоя?” — спросите.
Узел странствий развяжите!
Кто видал ее — скажите!
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?
Алтын-дуга едет по дремучему, дикому лесу. По узкому горному карнизу он въезжает в облако…
А конь Алтын-дуги из лохматого, уродливого ублюдка постепенно превращается в статного скакуна. Он скачет все быстрей и быстрей. И все длиннее, все дальше пышут из его ноздрей струи пара.
Алтын-дуга выезжает из облака. И перед ним, внизу, ниже соснового бора, раскрывается грандиозная панорама равнины, изрезанной руслами рек.
Алтын-дуга скачет весенней, цветущей степью. Крупные цветы покачиваются меж пышным ковылем. От фырканья его коня ложатся травы…
Все отдам я, что имею,
За мгновенье встречи с нею,
В очи ей, вина чернее,
Я взгляну и опьянею.
Мира я не разумею.
Волею я не владею —
Милая одна всевластно
Правит волею моею.
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга мчится голой степью, по которой катятся огромные клубы перекати-поля. Мчится по белоснежному солончаку. Мчится по дюнам вдоль берега синего моря…
Был сражен я, как мечами,
Черными ее очами,
Возвращен я к жизни буду
Сладкими ее речами.
Веря в счастье, веря в чудо,
Я ищу ее повсюду.
Кто ж о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга несется во весь опор по пустыне; конь его, ставший необыкновенным красавцем, перескакивает через плоские гряды песков.
Несется богатырь по барханной пустыне, и возникает перед ним огромный город в развалинах. Повсюду, насколько хватает глаз, торчат стены разрушенных крепостей, замков, жилищ. Алтын-дуга сдерживает коня, осматривается, заканчивает песню:
Я скакал через пустыни,
Увязал в песке и глине,
Милую ищу я ныне,
Потерявши на чужбине.
Братья, где она, скажите,
Путь мне к милой укажите!
Какие-то люди прячутся меж развалин. Они исподтишка наблюдают за богатырем. Но Алтын-дуга их не видит: едва он поворачивается в сторону людей, как их головы исчезают.
Вдали показывается всадник. Это скачет Янгызак на своем вороном коне. И за ним из-за разрушенных стен тайно наблюдают десятки глаз. Богатыри съезжаются. Янгызак узнал Алтын-дугу:
— А, это ты, обжора и лежебока! Как раз тебя-то я и ищу! Мне нужна твоя голова, чтобы сделать себе из нее чашу!
— Болтуна хоть в сундук спрячь, он и там найдет, с кем поговорить, — спокойно говорит Алтын-дуга.
Янгызак восклицает:
— Клянусь, лишь одно мгновение тебе осталось смотреть на небо!
— То, что случится, находится впереди, — отвечает Алтын-дуга, поднимая копье.
Богатыри обнажают мечи. Янгызак восклицает:
— О обжора! Каким путем войдет в тебя мой меч, тем же путем из тебя выйдет душа!
— Твой меч остер, но мой меч тоже не из соломы! — говорит Алтын-дуга.
Богатыри медленно сходятся. Коротко лязгнув, встретились их мечи, посыпались искры. Сотни глаз наблюдают за поединком из-за разрушенных стен.
Поединок разгорается все ожесточеннее. И Алтын-дуга, подобно беркуту, пригвоздившему своей лапой джейрана к бархану, уже прижал Янгызака к земле, приставив меч к его горлу:
— Перед смертью скажи свое имя, чтобы я знал, как тебя поминать!
— Янгызак.
— Янгызак? — удивился Алтын-дуга.
— Да.
— Но если ты Янгызак, почему ты не воспользовался своим голосом, чтобы меня победить?
— Если бы я победил тебя голосом, — говорит Янгызак, — мне красавица Ай не простила бы. Я поклялся ей одолеть тебя в честном бою. Она любит тебя. И ты оказался победителем. Убей меня, Алтын-дуга!
— Нет, — говорит Алтын-дуга, отбросив меч и поднимая Янгызака. — На небе солнце только одно, но правда светлее солнца. Когда богатыри бьются за правду, они становятся братьями. Скрепим же клятву, побратаемся, друг!
Богатыри обнимаются через меч. Обитатели развалин наблюдают за богатырями.
— Теперь, — говорит Алтын-дуга, — докажи мне свою дружбу. Поезжай от меня сватом к красавице Ай. Непристойно жениху входить в юрту невесты, не послав вперед свата.
— На каком коне мне ехать? — спрашивает Янгызак.
— Поезжай на любом.
— Поскачу на своем. Твой уморился, пусть отдохнет.
— Красавица Ай тебе не поверит. Лучше скачи на моем.
Янгызак садится на Табан ияхе Тарпан-буза.
Алтын-дуга спрашивает:
— Близко ли Солнечный колодец?
— Три месяца пути, друг.
— Я проведу здесь ночь и наутро поскачу по твоему следу.
Янгызак тронул повод, гикнул на Табан ияхе и скрылся вдали.
Ведя под уздцы вороного коня, Алтын-дуга идет к глинобитной полуразрушенной, изборожденной гигантскими трещинами крепостной стене. На сохранившихся упорах ее угловых башен видны остатки орнамента. Ящерица пробегает по стене и скрывается в трещине.
В тени этих величественных развалин Алтын-дуга собирается расположиться на отдых. Неожиданно за стеной раздается музыка: мелодия курая и дробный перебор звонкого барабанчика. Алтын-дуга замер, идет к провалу крепостных ворот. — Остановился, видит — посреди крепости, на земле, усыпанной битыми черепками, полукругом сидят люди. На них потрепанные одежды. Играют музыканты. В центре сидит на камне величавый старик.
— Здравствуй, Алтын-дуга, — говорит старик. — Мы тебя ждем.
— Меня? Но кто вы? Что вы за люди?
— Мы — твое войско.
— Мое войско? — изумился Алтын-дуга. — Я пришел сюда с миром — не с войной. Я ищу мою возлюбленную. Зачем мне войско?
— Посмотри вокруг, — сурово отвечает старик. — Здесь был город Булгар: благоухала земля, журчала вода, яблоки тут валялись, как сор. А теперь… голос мужчины, песня женщины и плач ребенка покинули хижины.
— Кто же разрушил ваш город?
— Джангархан. Он предал разрушению еще шестьсот городов, захватил семьдесят две реки и восемнадцать свободных народов обратил в пастухов и рабов.
— Что же, у него очень большое войско?
— Не в войске дело. Есть у него войско, и есть еще сорок богатырей, и меж них трое сильнейших: свирепый Жургяк, хитрый Хултан-гол и сладкоголосый Янгызак — с ним ты побратался. Но и не в богатырях дело.
— Тогда, верно, сам Джангархан очень силен и могуч?
— Нет, он слаб, завистлив, зол и любит облизывать жирные горшки. Богатыри его давно перегрызлись бы, подобно собакам, если бы не боялись колдуньи Мясекай и исполина Таш-пша. Во рту старухи Мясекай живут тридцать мышей, которые питаются крошками на ее губах. И каждая мышь, попав на язык колдуньи, подсказывает хитрость. Сколько раз мыши пробегают по ее языку, столько у нее хитростей.
— Какие же ее хитрости? Скажи хоть об одной.
Старик помолчал, потом говорит:
— Известно ли тебе, что Янгызак, с которым ты побратался, это родной брат красавицы Ай?
Алтын-дуга изумлен:
— Джунгарский богатырь Янгызак?
— Да. Старуха Мясекай украла его из колыбели. И она внушила ему, что он ее сын. С тех пор Янгызак служит Джангархану столь же усердно, как и настоящие ее сыновья. А знаешь, кто опоил тебя? Колдунья Мясекай. И это она, прибегнув к хитростям, поссорила айдинцев и табынцев и подвергла несчастьям красавицу Ай!
Алтын-дуга восклицает пылко:
— Твой рассказ подобен воде, пролитой на горячую жаровню! Клянусь, я отрублю колдунье голову вместе с ее мышами и языком!
Величавый старик отвечает спокойно:
— Необъятный мир тебе кажется не шире ладони. Ты не сумеешь даже подойти к ней, ибо колдунью охраняет Таш-паш, которого зовут “черный меч Джянгархана”. Все дело в Таш-паше. Его дыхание порождает бурю. Каждый сапог на его ноге сшит из ста бычьих кож. Девяносто верблюдов в день съедает Таш-паш без остатка!
— Какая же женщина могла родить такого исполина? — в удивлении спрашивает Алтын-дуга.
— Он рожден не женщиной, а сделан мужчиной. Один ученый нашего когда-то цветущего города, — старик показывает на развалины, — долго думал, как вылепить из горы исполина и вдохнуть в него жизнь, чтобы исполин этот пригонял, издалека тучи и выжимал из них воду на наши поля. И он придумал, и вылепил исполина, и вдохнул в него жизнь. Но когда исполин стал просыпаться, этого ученого ножом в спину убил Джангархан. И, проснувшись, исполин спросил: “Кто вдохнул в меня жизнь?” — “Я”, — сказал Джангархан. “Слушаю и повинуюсь!” — сказал исполин. С тех пор исполин служит Джангархану, и добро обратилось во зло, и мир обратился в войну, и имя Таш-паша повергает всю, землю в трепет, страх и отчаяние!..
Словно мираж, возникла в степи джунгарская столица: юрты, шатры, повозки, постройки, украшенные награбленным добром. В самом центре, под черной причудливой горой, высится чешуйчатый дворец Джангархана. Сорок рядов копий, воткнутых в песок, окружают стеною город. Да это и не город, а огромный табор! Два джунгара-силача, сидя в грязи, стегают друг друга кнутом: кто дольше выдержит. Толпится кучка зевак вокруг дерущихся перепелов. Тут же пьют арак, пляшут, кто-то бьет в бубен. Рядом с брадобреем мясник втыкает нож в горло барана. Джунгар несет на руках вырывающуюся женщину. Торчит кол с головою казненного. Цепные псы грызутся из-за брошенной кости. Горят костры. Поют лягушки в пруду перед дворцом.
Старуха Мясекай в своей колдовской келье склонилась над казаном с сорока ушками, всматривается в черную жидкость. В казане видно: среди развалин города Булгара Алтын-дуга беседует с величавым стариком. Старуха отшатывается.
На террасе дворца восседает Джангархан. Перед ним на корточках главный везир:
— О владыка ханства, не умещающегося в пределах земли! Лицо красавицы Ай, говорят, излучает такой свет, что при нем табунщик мог бы в ночном мраке охранять целый табун. Если эта девушка бросит свой взор на воду, то можно сосчитать в море всех рыб и даже различить в глубине рождение их… Ее рот как наперсток. Ее косички, опущенные с одной стороны в золотую воду, с другой стороны в серебряную воду, высушены на утреннем ветерке. И сама она вся как глянцевитая, поблескивающая бумага!..
— Почему же Жургяк и Хултан-гол от меня эту красавицу скрыли? — спрашивает Джангархан.
— О упование и сновидение всех владык мира! Они скрыли, ибо эта девушка нравится им самим. Все сорок твоих богатырей в новолуние собираются ехать к Солнечному колодцу на байгу. Кто победит — заберет себе красавицу Ай.
— До чего же дошло распутство в нашем государстве, если богатыри забирают красавиц, не спрашиваясь у меня! — мрачно говорит Джангархан.
— Да позволено будет мне дать ничтожный совет…
— Говори!
— Пусть повелитель пошлет за красавицей Таш-паша, и исполин принесет ее тайно за пазухой. И пусть богатыри едут на байгу, не ведая об этом. В то время, когда повелитель завладеет красавицей, его богатыри будут рыскать по ханству, ища ее и задыхаясь от злобы.
Джангархан одобрительно кивнул и швырнул везиру кошелек. Подошла старуха Мясекай.
— О повелитель, — шепчет она на ухо Джангархану, — Алтын-дуга встал и ищет возлюбленную! Если он соединится с красавицей Ай, он будет непобедим!
Грузный Джангархан тяжело поднимается с подушек. Он выходит на кровлю дворца. Он кричит, приложив руку ко рту:
— Таш-паш!
Черная гора зашевелилась, поворачивается. Это, оказывается, спина лежащего исполина.
В джунгарском стане все бросают увеселения, задирают головы, смотрят на Таш-паша. Исполин наклонился ко дворцу, подставил ухо. По кровле к нему подходит Джангархан, что-то тихо говорит.
А на площади Жургяк подмигивает Хултан-голу:
— Наверно, хан Джангар снова отправляет Таш-паша к границам какой-нибудь дальней державы, дабы вселить в ее жителей страх!
В юрте у Солнечного колодца вокруг очага сидят Кусэр, Ай и строгий Ханьяр. Кусэр говорит:
— Не упрямься, дочка. Завтра новолуние, приедут джунгарские богатыри на байгу.
— Никуда я не поеду, отец!
— Но Ханьяр совсем оправился от раны. И если сейчас выехать…
— Нет, отец! — перебивает его Ай. — Я сегодня видала во сне Алтын-дугу! Он скакал сюда на священногривом коне, на своем Табан ияхе Тарпан-бузе! И я знаю: он примчится вовремя, Алтын-дуга, — мой коршун, несущий в клюве гнездо.
— Но это же во сне, — возражает Ханьяр.
Ай говорит горделиво:
— Пойди посмотри на розовый куст. На нем уже распускается бутон. Значит, это не только во сне!
Послышался далекий топот коня. Ай вскочила, кинулась к двери юрты, замерла. Говорит, задыхаясь:
— Кажется, он… Да, вот его конь — каким я его видела во сне! И на коне… Кто этот всадник?.. Это не Алтын-дуга… Это… это… Янгызак!.. Он убил Алтын-дугу! Конь не дался бы никому, если бы Алтын-дуга не был убит!.. — Ив отчаянии она распускает косы. — К чему мне теперь жить? Он убит! Горе мне!..
Янгызак подъезжает:
— Здравствуй, красавица Ай! Я привез счастливую весть…
— Что мне проку в твоей вести, — в отчаянии восклицает Ай, — если Алтын-дуга убит!..
— Он жив, осуши слезы. Я побратался с Алтын-дугой и приехал от него к тебе сватом.
Красавица Ай сначала дала волю слезам, но слез оказалось так много, что она решила их удержать.
— Ты лжешь! — гневно говорит она. — Конь не сдастся в плен, если богатырь не убит! Разве под тобой не конь Алтын-дуги?
— Да, это его конь Табан ияхе Тарпан-буз! Алтын-дуга послал меня к тебе на своем скакуне, чтобы ты мне поверила. А сам на вороном скачет по моему следу.
Ай пристально смотрит на Янгызака, говорит тихо:
— Зря ты приехал сватом ко мне, Янгызак. Я не люблю Алтын-дугу. С того дня, как я увидала тебя, в сердце моем вспыхнуло пламя! Я полюбила тебя, Янгызак! Да, полюбила за красоту, за отвагу…
— Что ты говоришь! — восклицает с упреком Янгызак.
— Я говорю то, что чувствую! Из всех богатырей мне по сердцу только ты. Зачем мне другой? Я хочу быть твоей женой! Хочу кормить, качать и растить твоих сыновей…
— Постыдись! — гневно обрывает ее Янгызак. — Алтын-дуга сорок гор и пустынь одолел, к тебе мчался! Он любит тебя так сильно, будто у него в груди не одно, а тысяча сердец! А ты…
В негодовании он поворачивает коня.
— Постой! — кричит Ай. — Постой, Янгызак!
Она подбегает, обнимает Табан ияхе Тарпан-буза за шею, сдерживает его:
— Видно, и впрямь я ослепла от горя! Не сердись на меня, Янгызак. Я хотела тебя испытать… — и кричит в юрту: — Отец, принимай гостя! Он приехал от Алтын-дуги!..
По пустыне идет исполин Таш-паш, шагая через десятки барханов. Перешагивает через отару овец, через караван идущих цепочкой верблюдов…
Ханьяр, Янгызак, Кусэр и Ай сидят вокруг очага. Раздаются шаги, подобные грому.
Ханьяр взволнованно вскакивает:
— Таш-паш?
— Да, черный меч Джангархана, — кивает Янгызак и тоже встает.
Исполин подошел к Солнечному колодцу и остановился невдалеке. Зычно окликает:
— Эй, там, в юрте!
Кусэр, дрожа, направился к выходу. Но Янгызак отстраняет его и выходит, крича:
— Чего тебе, Таш-паш?
— Это ты, Янгызак?
— Я.
Исполин добродушно засмеялся:
— Ха-ха-ха!.. Что ты тут делаешь? Ха-ха-ха!..
— Зачем ты пришел?
— Там есть красавица. Ну-ка, выведи ее на пригорок, чтобы мне удобнее ее было взять. Но почему ты здесь, Янгызак?
— Я здесь, чтобы оберегать честь этой девушки!
— Честь? Ха-ха-ха!.. — Исполин опять залился веселым смехом. — Теперь ты можешь уже больше не оберегать ее честь: девушку требует к себе Джангархан.
— Скорее верблюдица родит крысу, чем хан Джангар увидит эту девушку!
— Верблюдица — крысу… Ха-ха-ха!.. Но мне надоело с тобой попусту терять время. Давай красавицу или я сам ее заберу!
Таш-паш двинулся к юрте, но Янгызак запел: и сразу окаменел исполин в той позе, в какой застигла его песня.
Янгызак поет:
Эх, перед тем как в пропасть я попаду,
В то раскаленное море, что льется в аду,
В бездну седьмой преисподней черной земли,
Я на тебя, могучий Таш-паш, нападу!
Если ж пролью свою богатырскую кровь —
Обогатится земля глоточком одним!
Высохнут кости мои в далеком краю —
Станет на горсточку праха богаче земля.
Янгызак обрывает песню. Исполин похлопал глазами, постоял, что-то соображая, и спрашивает:
— Ну, кончил петь, что ли?
— Попробуй двинуться вперед — опять запою!
Таш-паш засмеялся:
— Зачем мне вперед! Ты глупец, Янгызак! Я назад пойду. Ха-ха-ха!
Он отступает на несколько исполинских шагов и неожиданно нагибается. Надул щеки, выпучил глаза, начинает дуть. Песчаный смерч взлетает над пустыней.
Янгызак попытался запеть, но голос его пропадает в вое ветра. Стена летящего песка валит его с ног; с трудом добирается он до юрты. В вихре несущегося песка срывается с коновязи Табан ияхе Тарпан-буз. Дует Таш-паш…
Колодца уже не видно, юрта засыпана песком почти доверху. В самуме мчится Табан ияхе Тарпан-буз. Дует Таш-паш…
Вот уже и макушка юрты скрывается под огромным песчаным барханом. Смерч затихает. Таш-паш выпрямился, подходит к месту, где были колодец и юрта. Вокруг лишь голые волны песков. Таш-паш бормочет: — Вот и сидите себе под землей, пока не вернусь! Попробуй кто-нибудь теперь отыщи вас! Ха-ха-ха!..
И пошел по барханам, очень довольный собой.
Алтын-дуга скачет по следу Янгызака на вороном скакуне. Навстречу мчится Табан ияхе Тарпан-буз. Седло его съехало набок, повод оборван. Подбежал к Алтын-дуге, остановился, заржал.
— Табан ияхе Тарпан-буз! — восклицает Алтын-дуга. — Откуда ты? Что случилось?
И опять заржал серый конь. Алтын-дуга соскакивает с вороного коня, поправляет на Табан ияхе Тарпан-бузе седло, садится на него. Взяв в повод коня Янгызака, скачет.
Голые волны песков там, где были колодец и юрта. Вдали показывается Алтын-дуга. Сдерживает коня, в недоумении спрашивает:
— Ну куда девались следы? Не мог же Янгызак провалиться сквозь землю!
Табан ияхе Тарпан-буз рвется вперед, Алтын-дуга пытается сдержать его. Конь рвется, храпит; хлопья пены обрываются с его удил. Алтын-дуга отпустил повод, и серый скакун понесся вперед. Вдруг остановился как вкопанный.
— Ччо! — попробовал сдвинуть его Алтын-дуга.
Конь ни с места. Алтын-дуга в недоумении слезает:
— Табан ияхе Тарпан-буз, что с тобой?
Поднимает его копыта, осматривает. Оборачивается и в изумлении замирает. Перед ним из песка торчит расцветшая роза. Алтын-дуга наклоняется, хочет ее поднять, но роза оказывается прикрепленной к стеблю, уходящему вглубь песка.
А Табан ияхе Тарпан-буз в стороне призывно заржал, роет копытом песок. Алтын-дуга подходит к нему, внимательно смотрит, порывисто наклоняется и начинает расшвыривать песок в стороны со всею богатырской силой.
Вот уже под руками Алтын-дуги обнажается макушка юрты. Он откидывает войлочную кошму, и среди песка, в дымовом отверстии юрты, появляется прекрасное лицо красавицы Ай. Она говорит нежно:
— Алтын-дуга!
Он откликается:
— Ай!
И, увидев их лица, вся земля вокруг покрывается цветами.
Ночь. На небе, меж звезд, народившийся месяц. Отрытая из-под бархана юрта уже установлена на новое место. Колодец очищен от песка. Раскопан розовый куст. У дотлевающего очага сидят Кусэр, Ай, Ханьяр, Янгызак и Алтын-дуга. Алтын-дуга кончает рассказывать:
— …И она внушила мальчику, что он ее собственный сын. Так старуха Мясекай всех перехитрила.
— Значит, мой сын жив! — восклицает Кусэр.
Алтын-дуга показывает на Янгызака:
— Вот он!
Все потрясены. Кусэр и Янгызак смотрят друг на друга, веря и не веря.
— Сын? — неуверенно говорит Кусэр.
— Отец…
Они встают, подходят друг к другу.
— О сынок! — восклицает Кусэр. — С тех пор как ты исчез, тьма и свет, день и ночь стали для меня одинаковыми! Но солнце твоего лица вновь засияло, и…
Янгызак обнял отца. Обнял так крепко, что Кусэр, застонав, упал.
Янгызак удивился:
— Отец, что с тобой?
Потирая ребра, Кусэр говорит восхищенно:
— Ты мне чуть все ребра не поломал! Поистине, сынок, вовек мне не встретить богатыря сильнее тебя!
Алтын-дуга уводит Ханьяра в сторону:
— Не будем мешать им, пусть предаются радости.
Прогуливаясь, они идут меж барханов. Ханьяр озабочен:
— Тебе и красавице Ай пора ехать. Скоро рассвет. Приедут сорок богатырей, и тогда…
— Что мне джунгарские богатыри! — говорит Алтын-дуга. — Если придется драться, я всех одолею. А мой Табан ияхе Тарпан-буз… не родился еще конь, который бы его обогнал на байге!
— Ты забыл об исполине Таш-паше, друг. Джангархан вернет его. А с черным мечом Джангархана никто в мире не совладает.
— Но если Янгызак смог остановить его голосом, почему он не может подойти с песней к нему и убить?
— Его нельзя убить, — отвечает Ханьяр. — Ведь Таш-паш вылеплен человеком из камня, из горы. Даже от глаз его вражеские стрелы отскакивают, как от щитов!.. — Помолчав, он продолжает. — Правда, говорят, что у Таш-паша есть слабое место. Будто, если поразить его в горло, жизнь покинет туловище исполина, а сам он рухнет и опять превратится в бездыханную гору.
— И в этот день царству Джангархана наступит конец?
— Да, — отзечает Ханьяр. — Но не забывай о застежке. На горле у исполина застежка, которую он в силах отстегнуть только сам. Она весит пять тысяч пудов. Сто сильнейших богатырей мира, взявшись вместе, не смогут ее отстегнуть… Уезжай, Алтын-дуга! Увози красавицу Ай, пока не поздно.
— Нет, Ханьяр. Только пес боится ступить на тигровый след. Не пристало богатырю показывать врагу пятки!
— Но ты погибнешь, и народ наш осиротеет!
— То, что случится, находится впереди, — говорит Алтын-дуга.
Беседуя, они уходят все дальше и дальше, пока не скрываются вдали меж барханов.
Сорок джунгарских богатырей скачут по пустыне. Жургяк вглядывается. Впереди, среди песков, показываются Солнечный колодец и юрта.
Ай и Янгызак встречают богатырей.
— Здравствуй, красавица! — хрипло говорит Жургяк. — Ну, соскучилась без меня? Теперь… — он захохотал, — я тебе не дам больше скучать. Сегодня на скачках мой Сары-куш из всех коней выпотрошит кишки! И за свадьбу!.. Здравствуй, брат Янгызак.
— Здравствуй, брат Жургяк.
Из-за холмов подходит Алтын-дуга.
— А это что за выкормок в башкирской одежде? — изумился Жургяк. — Мирный ты или враг?
— Если вы мирные, то и я мирный. Если вы враги, то и я враг, — отвечает Алтын-дуга.
— Это мой друг, — вмешивается Янгызак. — Он прибыл из земли Ай, чтобы вместе с нами состязаться в байге.
Жургяк развеселился:
— Состязаться? Сейчас я его схвачу за ухо, брошу на воздух, и когда он, падая, коснется земли, я ударю его ногой в зад, и он разлетится в золу!
— Хвастливому языку каждый день праздник, — спокойно говорит Алтын-дуга.
Жургяк посмотрел на него злобно, как верблюд на кузнеца:
— Да мне стоит тебя только кулаком шмякнуть, ты и вздохнуть не успеешь!
Алтын-дуга насмешливо говорит:
— У тебя кулак, но и у меня не клубок шерсти.
В ярости Жургяк замахнулся. Алтын-дуга — перехватил его руку. Они начинают бороться. Их окружили, глазеют богатыри. Взволнованно смотрит Ай.
Борются богатыри. Наконец Алтын-дуге удается приподнять Жургяка и бросить на землю. Алтын-дуга подходит к Ай. Девушка говорит нежно:
— Алтын-дуга!
Жургяк встал с земли, подходит к Алтын-дуге, покровительственно к нему обращается:
— А ты, оказывается, ничего. Сила есть в тебе. Если хочешь, я могу даже взять тебя в товарищи… Вот, говорят, есть такой город Гургандж. И там без толку торчит минарет. Будто, если обрушить его, десять тысяч людей можно задавить! Я все собираюсь туда. Поедем вместе, а? Обрушим его, посмеемся?..
— Замолчи! — в негодовании обрывает его Алтын-дуга.
— Эге, да ты рассердился! Зря. Все равно красавицы Ай тебе как своих ушей не видать! Думаешь, нечаянно поборол меня, так уже победил? Пусть-ка твой ублюдок попробует обогнать моего Сары-куша в байге!
Алтын-дуга отвечает:
— То, что случится, находится впереди.
У колодца джунгары поят коней, готовят к байге: вплетают тряпочки в гривы, подвязывают хвосты. Жургяк и Хултан-гол тоже взялись приводить в порядок своих скакунов.
В стороне Ай обхаживает Табан ияхе Тарпан-буза, протирает коню глаза шелковым платком, вытирает с него пыль и пот. Алтын-дуга разговаривает с Янгызаком.
— …Ну что ж, — говорит Алтын-дуга, — скачи ты на моем Табан ияхе Тарпан-бузе, выигрывай байгу за меня. Ты славный наездник!
— Спасибо, друг! — взволнованно говорит Янгызак.
— Как доедешь до горы Татывлы и начнется байга, отпусти поводья — конь сам полетит. Сто повадок он знает. Если ты будешь падать вперед, он поддержит тебя гривой, если назад — поддержит хвостом. Только смотри за ним, береги его.
— Не тревожься. Раз уж ты конем со мной поделился, плохого не жди!
Ай расчесывает Табан ияхе Тарпан-бузу гриву своим девичьим гребнем, прикалывает ему розу в челку.
Дворец Джангархана возле сидящего исполина. Исполин зевает. В джунгарском стане по-прежнему шумно, людно, разгульно, пестро. Джангархан восседает на дворцовой террасе. Рядом старуха Мясекай. Перед ханом на корточках главный везир.
— Можешь идти, — говорит Джангархан. Пятясь задом, с бесчисленными поклонами, везир удаляется.
У пруда выстроились приближенные хана. Подходит везир. Теперь он до ушей налит спесью. Один из приближенных вопрошает:
— Какие повеления соизволил отдать наш владыка на нынешний день?
— Он повелел выдать войску тысячу барабанов из ханской казны, — важно говорит везир.
— Мудрое решение, — говорит приближенный.
Остальные приближенные согласно кивают.
— Он повелел еще истребить за сегодняшний день всех лягушек в пруду.
— Мудрое решение. Приближенные снова кивают.
— Но самое важное — он повелел изготовить к вечеру две затычки для ушей исполина.
— Мудрое решение, — говорит приближенный. — Но зачем Таш-пашу потребовались затычки?
— Янгызак изменил… — отвечает везир. Помолчал, смотрит, какое впечатление произвела эта весть. — И Джангархан решил послать Таш-паша, дабы покарать этого сладкоголосого нечестивца. Повелитель поклялся повесить Янгызака на его собственном языке!
Нестройными кучками едут по пустыне джунгарские богатыри к месту, где должна начаться байга, — к горе Татывлы. На песке белеет лошадиный скелет. Мимо него вместе с другими богатырями проезжают Жургяк, Хултан-гол и Янгызак.
Подмигивая Хултан-голу, Жургяк говорит:
— Давай зарежем башкирского коня, брат Янгызак! Наедимся досыта конины…
— Что ты пристал к моему коню?
— Да ведь даровое мясо! Зря пропадает! Голову и сало я, так и быть, тебе отдам. А?
Янгызак усмехнулся:
— Твой Сары-куш не хуже. Режь его! Заодно и меня угостишь.
— Хуже, — не моргнув глазом, говорит Жургяк. — Мой Сары-куш хуже. Уж я — то в конине толк понимаю. Башкирский конь куда слаще на вкус. Давай, освежую его и разделаю вмиг!
— Да ты, я вижу, испугался, что твой конь от Табан ияхе Тарпан-буза отстанет, — насмешливо сказал Янгызак и, присвистнув, помчался быстрее.
— Смотри, Янгызак, — закричал ему вслед Жургяк. — Угодишь в могилу со своим башкирским конем!
Розовый куст. На нем сидит, подобно мрачной тени, ворона. Над юртой вьется дымок, слышен смех. Из двери весело выбегает Ай. Замерла. Смотрит в ужасе.
Ворона, нахохлившись, сидит на кусте.
— Алтын-дуга! — восклицает Ай.
Алтын-дуга выходит из юрты.
— Мне кажется, — говорит Ай тревожно, — мне чудится, чтонад Янгызаком нависла беда!
В ответ раздается зловещее карканье.
Джунгарские богатыри едут вразброд по полынной степи. Хултан-гол наклонился к Жургяку; змеиная улыбка играет на его губах.
— Я брата обгоню, — кивает он на едущего впереди Янгызака, — окликну его, заведу разговор. Тут его и кончай!
Жургяк неторопливо снимает с седла лук. Хултан-гол обгоняет Янгызака, останавливает коня, оборачивается и кричит:
— Янгызак!
Позади Жургяк поднимает лук, целится, а впереди виден остановившийся Хултан-гол. Он что-то говорит подъезжающему Янгызаку. Жургяк натягивает тетиву.
Янгызак улыбается. Хултан-гол говорит ему: “Если бы я тебя так не любил, брат…” Но тут Янгызак запел — и окаменел Хултан-гол с открытым ртом. Окаменел Жургяк, держа в руке натянутый лук.
Янгызак с песней отъехал в сторону, оглядывает братьев. Оборвал песню — и сразу прянула с лука Жургяка стрела, взвизгнула и влетела в открытый рот Хултан-гола. Он повалился навзничь с коня.
Жургяк остолбенело смотрит и тоже валится со своего скакуна. Он падает наземь, смеется безудержно, хрипло, свирепо. Корчится и стонет от смеха.
Съезжаются джунгары, молча смотрят на убитого. Жургяк, все еще в припадке хохота, катается по земле: “Ох!.. Ой!.. Ха-ха-ха!..” Встает и, утирая слезы, трясясь от смеха, взбирается на скакуна.
Подъезжает к Янгызаку:
— Дай я тебя обниму, брат Янгызак! Я метил в тебя, а он… он… — И опять закатился смехом, повалившись головой на холку коня.
Богатыри тронулись дальше.
— Нет, ты пойми! — восклицает Жургяк. — Я мог просто взять и выстрелить тебе в спину, а он… он… — И захохотал вновь.
Богатыри уезжают все дальше и дальше. Удаляется смех Жургяка. Среди высокой полыни лежит Хултан-гол со стрелой, торчащей изо рта.
Звуки труб возвещают начало байги. Раннее утро. Всадники, выстроившиеся цепью у подножия горы Татывлы, по знаку Жургяка, гикнули. Кони их понеслись птицами. Среди них Янгызак на Табан ияхе Тарпан-бузе. Всадники мчатся все дальше и дальше по холмистой равнине.
Алтын-дуга и Ай стоят у розового куста. Алтын-дуга говорит страстно:
— Зачем ты прячешь от меня свою любовь? Зачем тебе понадобилось, чтобы я бродил по пескам как безумный? Я — царь влюбленных, и сердце мое опутано локонами твоих волос! Не казни же меня своим равнодушием! Почему ты отстраняешься от моих поцелуев? Неужели ты хочешь обрадовать моих врагов?
Ай в ответ восклицает:
— О прекрасный, стройный, лунноликий, кудрявый! Ты — источник моей жизни, свет и радость моего сердца! Ты — свежий весенний воздух! Но я — только сухая ветвь! Как я могу зазеленеть, когда мои табынские подружки, их матери и отцы томятся в неволе у Джангархана? Освободи их, и каждый мой вздох будет лишь для тебя!
— Клянусь, — вскричал Алтын-дуга, — я их освобожу!..
Зазвучал топот копыт. Алтын-дуга и Ай поворачиваются, вглядываются. Меж песчаных барханов появляется всадник. Это Янгызак. Из юрты выходит отец красавицы Ай — Кусэр.
Табан ияхе Тарпан-буз подлетел к юрте, обежал вокруг нее и остановился как вкопанный.
— Спасибо, друг! — говорит Алтын-дуга Янгызаку.
Янгызак в изнеможении сползает с седла, встает на ноги пошатываясь! Облизывает языком пересохшие губы. Со лба его катятся ручьи пота.
— Что с тобой, сын мой? — спрашивает Кусэр.
— Да вот… — тяжело дыша, начинает Янгызак и умолкает, не в силах продолжать. Смущенно качает головой, отирает пот, протягивает руку к горлу, отстегивает застежку на вороте, говорит:
— Да вот…
— Янгызак, — взволнованно восклицает Ай, — что ты сделал сейчас?
— Я? Я приехал первым…
— Нет, сейчас, вот сейчас, что ты сделал?
Янгызак растерянно оглядывается:
— Не… не знаю.
— Ты отстегнул застежку на горле! — торжествующе говорит Ай. — Отстегнул, потому что тебе стало жарко. Теперь я знаю, как нам победить исполина!.
По пустыне идет исполин Таш-паш, шагая через десятки барханов. Из его ушей торчат концы двух огромных затычек.
Раздаются шаги, подобные грому.
Таш-паш подходит к Солнечному колодцу. Янгызак выступает вперед:
— Стой, Таш-паш!
Исполин не останавливается. Увидев Янгызака, он засмеялся:
— Ты тут, Янгызак? Ха-ха-ха!
Янгызак запел. Все окаменели. Но Таш-паш продолжает смеяться:
 — Теперь ты от меня, Янгызак, никуда не уйдешь! Джангархан заткнул мне уши! Ха-ха-ха!
— Теперь ты от меня, Янгызак, никуда не уйдешь! Джангархан заткнул мне уши! Ха-ха-ха!
 Нагибается, хватает вскрикнувшего Янгызака, поднимает его, сует себе за пазуху. Выпрямляется. Вдруг хлопает себя по лбу:
— Да, чуть не забыл!.. Красавицу…
Алтын-дуга одним движением сажает Ай в седло, вскакивает сам. Хлестнул Табан ияхе Тарпан-буза плетью. Заржал скакун, взвился, полетел по барханам. Таш-паш постоял, похлопал глазами и бросился вслед.
Всадники слились с конем, конь — с воздухом. Они мчатся так, будто вся земля — это беглянка, и они решили ее настичь во что бы то ни стало.
Подобно буре, проносится Табан ияхе Тарпан-буз на горизонте. Одним прыжком перемахнул через реку. За ним, с той же скоростью перешагнув через реку, бежит исполин.
Он все ближе и ближе. Вот уже почти настиг. Наклоняется, чтобы схватить. Прижались к коню Алтын-дуга и Ай, и скакун ускользает из-под рук исполина, мчится дальше. Таш-паш опять бросается в погоню. Все ближе, ближе… Однако теперь Табан ияхе Тарпан-буз и Таш-паш бегут тише и тише; конь и преследователь — оба устали.
Бежит Таш-паш. Ручьи пота заливают его лицо; на бегу он отирает его ладонью. Тяжело дышит. Дохнул — одинокое облако в небе закачалось, взвилось.
Несется скакун по барханам, за ним бежит исполин. Вот он протягивает руку к своему вороту. Алтын-дуга на скаку передает Ай лук и стрелу. Обливаясь потом, исполин на бегу начинает расстегивать застежку.
Вдали виднеются развалины города Булгара — того самого, житель которого некогда вылепил исполина и вдохнул в него жизнь.
Раздается топот бегущего Таш-паша, шум его дыхания. Обитатели развалин выбегают, в удивлении смотрят. Исполин отстегнул застежку, распахнул ворот своего камзола.
Алтын-дуга гонит коня. Обнял, держит одной рукой Ай. А она позади Алтын-дуги стала ногой в стремя лицом к исполину, целится, натягивает тетиву лука.
Прянула с тетивы стрела, понеслась, зазвенела, запела. Впивается исполину в горло. Прокатывается гром. Голова исполина закачалась, падает с плеч, покатилась. Исполин без головы делает три шага в сторону, ложится. И туловище исполина превращается в черную гору, голова его — в скалистый камень, лежащий в стороне от горы.
Смотрят Алтын-дуга и Ай. Они стоят со своим скакуном у стены разрушенной крепости. Их окружила толпа. Знакомый нам величавый старик, житель Булгара, говорит-
— Нет больше Таш-паша! Вырван черный меч из рук Джангархана!
Старик, красавица Ай и народ идут к подножию черной горы. Ай прощально взмахнула рукой. Алтын-дуга и сотня всадников с копьями, луками и щитами уезжают. Ай и старик смотрят им вслед, поднимаясь по склону черной горы. Всадники все дальше и дальше. Вот они сливаются с горизонтом…
И тогда старик обращается к прекрасной Ай:
— Пройдут века, и люди назовут Алтын-дугу силой народа, тебя, красавица Ай, — его счастьем, Янгызака — его волшебною песней!
— Я не знаю, что будет через века, — раздается голос Янгызака; отвалив камень, он выходит из пещеры на склоне горы. — Но сидеть за пазухой у Таш-паша мне было не сладко. Уф, еле выбрался!
— Янгызак! — восклицает Ай.
— Где Алтын-дуга? — спрашивает богатырь.
Девушка отвечает:
— Он умчался в бой на Джангархана.
Янгызак встрепенулся:
— Я должен отомстить старухе Мясекай!
— Есть только один способ уничтожить колдунью, — говорит величавый старик. — Надо бросить старуху в ее волшебный казан, и она тотчас же превратится в глиняные черепки.
Янгызак запел. Он запел лошадиную песню: сорок веселых ладов. Окаменели Ай и величавый старик. А из пустыни в ответ раздалось ржанье вороного коня: сорок печальных и сорок веселых ладос на рожке.
В облаке пыли появляется конь Янгызака и подбегает к богатырю. Янгызак, оборвав свою песню, вскакивает на вороного коня.
У подножия горы Татавлы пасется отара овец. К чабану подбегает какой-то человек, сообщает:
— Убит Таш-паш!
Чабан говорит не спеша:
— Спасибо за весть.
Человек убегает. Чабан разгреб золу потухшего костра, достает из-под нее меч…
В реке два рыбака тащат невод. По берегу мчится какой-то мальчишка, говорит задыхаясь:
— Убит Таш-паш!
— Спасибо за весть.
Мальчик побежал. Рыбаки скрываются в камышах и выходят из них с двумя копьями…
По ковыльной степи скачет строгий Ханьяр с тремя десятками всадников. Навстречу ему едет Алтын-дуга во главе своей сотни.
Ханьяр подъезжает:
— Алтын-дуга! Следом за нами идет рать Джангархана!
— Сколько их?
— Несметное множество. Они прошли мимо озера Оло-Гарагайды-Гуль и выпили все озеро. Они прошли по степи и вытоптали всю траву.
— Спасибо за весть! — говорит Алтын-Дуга.
— Я привел с собой тридцать табынцев, — говорит Ханьяр, кивая на своих спутников, — и разузнал, где остальные!
— Значит, нас уже сто тридцать, — говорит Алтын-дуга.
Всадники Ханьяра примыкают к сотне, едут за Алтын-дугой. Но вот Алтын-дуга останавливается.
Перед ним, насколько хватает глаз, до самого горизонта движется рать Джангархана. Она так многочисленна, что, если бы дело было ночью, на каждую звезду на небе пришлось бы по одному джунгарскому воину на земле.
Зазвучали трубы, и рать Джангархана остановилась. Впереди войска сам Джангар на носилках. Рядом — старуха Мясекай; за ней несут ее черный казан. Вокруг — везиры, приближенные и конные богатыри.
— Пусть поклянутся! — повелевает Джангархан.
Знаменосец поднимает джунгарский флаг, и вся рать повторяет слова страшной клятвы:
— Еду я, чтоб детей превратить в сирот!..
— Еду я, чтоб в раба превратить народ!..
— Еду я, чтоб нетленных жизни лишить!..
— Еду я, чтоб людей отчизны лишить!..
— Еду я — разгромить богатырскую рать!..
— Еду Алтын-дугу в плен забрать!..
Знаменосец опускает флаг. Рать двинулась, обтекая носилки Джангархана, старуху Мясекай и везиров. Впереди рати скачут Жургяк и джунгарские богатыри.
Отряд Алтын-дуги рассыпается, выстраивается правильной фигурой — двумя крыльями: словно сокол в степи изготовился к бою, крылья расправил. Алтын-дуга поднимает свой лук, в который вложены сразу четыре стрелы, веером расходящиеся от пальцев. Его воины поднимают луки.
Алтын-дуга издает грозный клич:
— Красавица Ай!
Его воины подхватывают:
— Земля Ай!
Спускают тетивы. Вздрогнул, загудел воздух от стрел. Падают с коней несколько джунгар.
Но и джунгарская рать поднимает луки. Раздается гром. Алтын-дуга и его воины одним слитным движением опустили головы на шеи коней. Гром проносится над ними; почернело небо, исчезло солнце. Но гром уносится уже за их спины назад.
Алтын-дуга и воины выпрямились, пришпорили коней и, обнажив мечи, бросаются в бой. Навстречу Алтын-дуге скачет Жургяк.
Богатыри встретились, схватываются. Схватываются другие воины. Падают всадники. Ржут кони. И такая пыль поднялась в небо и стала сыпаться на головы воинов, что вороные кони превратились в белых, а юноши состарились.
Яростно бьются Алтын-дуга и Жургяк. Наконец Алтын-дуга внезапным ударом пронзает грудь Жургяка мечом.
Алтын-дуга устремляется на противников Ханьяра, спрашивает его:
— Сколько нас осталось?
Ханьяр глянул назад, говорит:
— Шестьдесят!
Алтын-дуга рубит вправо и влево с такой силой, что о каждом ударе его меча в этом бою сказители пели потом целые сутки.
Раздается зловещее карканье. По небу тучей летит воронье. Из кустов выглядывает полосатая гиена, хищно поводит носом.
Яростно рубится Алтын-дуга. На него наседают со всех сторон джунгары. Он спрашивает Ханьяра:
— Сколько нас осталось?
Тот глянул, сказал:
— Двадцать пять!
Алтын-дуга бросается с мечом в самую гущу джунгар.
Вдали появляются разрозненные кучки вооруженных людей, бегут по степи к полю боя. Скачет на коне чабан с мечом в руках. Бегут рыбаки с копьями. И еще, и еще люди…
Рубится Алтын-дуга, спрашивает:
— Сколько нас осталось?
Ханьяр обернулся, отвечает:
— Девяносто!
Рубится Алтын-дуга. А позади него из степи стекается все больше и больше народа, ханских рабов и пастухов. С хода они устремляются в бой. Рубится Алтын-дуга, ржут кони, падают всадники.
— Сколько нас осталось? — спрашивает Алтын-дуга.
Ханьяр посмотрел, отвечает:
— Несметное множество.
Алтын-дуга оглянулся. За ним до самого горизонта, насколько хватает глаз, видны спешащие на помощь вооруженные люди.
Ряды джунгар дрогнули. Передние в панике побежали, увлекая за собой остальных. Алтын-дуга и его воины преследуют джунгар по пятам. В беспорядке конные и пешие джунгары бегут мимо ханских носилок. Джангархан растерянно что-то кричит, но голоса его не слышно за ржаньем коней, лязгом щитов, криком людей.
Алтын-дуга преследует джунгар. Вдруг рядом раздается знакомое ржанье: сорок веселых ладов на рожке.
Рядом с Алтын-дугой появляется вороной конь, на нем Янгызак.
Янгызак кричит сквозь шум сечи:
— Кажется, опоздал?
И запел свою песню. Сразу окаменело, онемело все войско: и джунгары и ратники Алтын-дуги — каждый так, как его застигла песня.
Янгызак медленно проезжает с песней сквозь ратное поле, оглядывая его. Каждая фигура ратников Алтын-дуги на этом поле как памятник смелости и отваги. Каждая фигура окаменевших воинов Джангархана как памятник трусости. И завершают эту галерею старуха Мясекай и Джангархан, бледный как мертвец, которого хоронить некому. Он скривился, открыл в страхе рот, прикрыл ладонью лицо и так окаменел.
Янгызак подъезжает к нему, взмахом меча отрубает голову, потом склоняется над старухой Мясекай. Изо рта колдуньи выскакивают мыши, разбегаются во все стороны. Янгызак хватает старуху, швыряет в казан, и на дне казана остаются лишь черные черепки.
Земля Ай. Исполинский дуб. Под ним, глядя вдаль, сидит седовласый Кусмэс. Раздается топот копыт. Подъехал пастух Абзаил на взмыленном скакуне без седла.
— Что случилось? — взволнованно встает Кусмэс. — Не напали ли джунгары на табуны?
— Нет, нет… О Кусмэс, едет победитель джунгарского хана, освободивший восемнадцать народов!
— Кто же он?
— Твой сын, Алтын-дуга.
Во главе народа едут Алтын-дуга и Ай, за ними — Кусэр и Янгызак: к его седлу приторочен розовый куст. За ними — табынцы. Звучит необычайная музыка — это всадники держат в руках боевые луки и играют на их тетивах.
Из всех юрт выбегают айдинцы, радостно приветствуют прибывших. В сопровождении пестрой толпы они подъезжают к исполинскому дубу, соскакивают с коней.
— Алтын-дуга! — восклицает радостно седоголовый Кусмэс. — Мальчик мой!
Кусмэс бежит, чтобы обнять сына. Но Янгызак схватил подушку, всовывает ее между грудью Алтын-дуги и Кусмэса и говорит:
— Когда богатырь обнимает отца, надо опасаться, как бы он ему не поломал ребра!
Кусмэс и Алтын-дуга обнимаются. Седоголовый Кусмэс поворачивается к Кусэру. Они молча смотрят друг другу в глаза и тоже раскрывают объятья. Радостными возгласами приветствуют их айдинский и табынский народы.
Янгызак сажает розовый куст в землю.
Из дворцовой калитки выбегает Гульбика и кричит:
— Алтын-дуга! Подружка Ай!
Янгызак издает изумленный возглас. Все оборачиваются.
Гульбика прошептала:
— Янгызак!..
На розовом кусте расцветает роза.
— Когда же она успела? — в недоумении бормочет Янгызак. — Не успел посадить, а уже расцвела! И что это значит?
Алтын-дуга говорит добродушно:
— Значит, что встретились двое влюбленных! Наверно, сестра моя Гульбика и…
— Молчи! — зажимает ему рот Янгызак. — То, что случится, находится впереди.
Вокруг толпится народ: воины Алтын-дуги, женщины в платках и бархатных безрукавках. Ребятишки взобрались на деревья и скалы. Тысячи дымков поднимаются над белыми юртами. А посреди долины прозрачная, словно воздух, синяя речка Ай бежит по камням. Бежит она сквозь сосновый бор, бежит, как песня народа, — неведомо где началась, неведомо где кончается…
Нагибается, хватает вскрикнувшего Янгызака, поднимает его, сует себе за пазуху. Выпрямляется. Вдруг хлопает себя по лбу:
— Да, чуть не забыл!.. Красавицу…
Алтын-дуга одним движением сажает Ай в седло, вскакивает сам. Хлестнул Табан ияхе Тарпан-буза плетью. Заржал скакун, взвился, полетел по барханам. Таш-паш постоял, похлопал глазами и бросился вслед.
Всадники слились с конем, конь — с воздухом. Они мчатся так, будто вся земля — это беглянка, и они решили ее настичь во что бы то ни стало.
Подобно буре, проносится Табан ияхе Тарпан-буз на горизонте. Одним прыжком перемахнул через реку. За ним, с той же скоростью перешагнув через реку, бежит исполин.
Он все ближе и ближе. Вот уже почти настиг. Наклоняется, чтобы схватить. Прижались к коню Алтын-дуга и Ай, и скакун ускользает из-под рук исполина, мчится дальше. Таш-паш опять бросается в погоню. Все ближе, ближе… Однако теперь Табан ияхе Тарпан-буз и Таш-паш бегут тише и тише; конь и преследователь — оба устали.
Бежит Таш-паш. Ручьи пота заливают его лицо; на бегу он отирает его ладонью. Тяжело дышит. Дохнул — одинокое облако в небе закачалось, взвилось.
Несется скакун по барханам, за ним бежит исполин. Вот он протягивает руку к своему вороту. Алтын-дуга на скаку передает Ай лук и стрелу. Обливаясь потом, исполин на бегу начинает расстегивать застежку.
Вдали виднеются развалины города Булгара — того самого, житель которого некогда вылепил исполина и вдохнул в него жизнь.
Раздается топот бегущего Таш-паша, шум его дыхания. Обитатели развалин выбегают, в удивлении смотрят. Исполин отстегнул застежку, распахнул ворот своего камзола.
Алтын-дуга гонит коня. Обнял, держит одной рукой Ай. А она позади Алтын-дуги стала ногой в стремя лицом к исполину, целится, натягивает тетиву лука.
Прянула с тетивы стрела, понеслась, зазвенела, запела. Впивается исполину в горло. Прокатывается гром. Голова исполина закачалась, падает с плеч, покатилась. Исполин без головы делает три шага в сторону, ложится. И туловище исполина превращается в черную гору, голова его — в скалистый камень, лежащий в стороне от горы.
Смотрят Алтын-дуга и Ай. Они стоят со своим скакуном у стены разрушенной крепости. Их окружила толпа. Знакомый нам величавый старик, житель Булгара, говорит-
— Нет больше Таш-паша! Вырван черный меч из рук Джангархана!
Старик, красавица Ай и народ идут к подножию черной горы. Ай прощально взмахнула рукой. Алтын-дуга и сотня всадников с копьями, луками и щитами уезжают. Ай и старик смотрят им вслед, поднимаясь по склону черной горы. Всадники все дальше и дальше. Вот они сливаются с горизонтом…
И тогда старик обращается к прекрасной Ай:
— Пройдут века, и люди назовут Алтын-дугу силой народа, тебя, красавица Ай, — его счастьем, Янгызака — его волшебною песней!
— Я не знаю, что будет через века, — раздается голос Янгызака; отвалив камень, он выходит из пещеры на склоне горы. — Но сидеть за пазухой у Таш-паша мне было не сладко. Уф, еле выбрался!
— Янгызак! — восклицает Ай.
— Где Алтын-дуга? — спрашивает богатырь.
Девушка отвечает:
— Он умчался в бой на Джангархана.
Янгызак встрепенулся:
— Я должен отомстить старухе Мясекай!
— Есть только один способ уничтожить колдунью, — говорит величавый старик. — Надо бросить старуху в ее волшебный казан, и она тотчас же превратится в глиняные черепки.
Янгызак запел. Он запел лошадиную песню: сорок веселых ладов. Окаменели Ай и величавый старик. А из пустыни в ответ раздалось ржанье вороного коня: сорок печальных и сорок веселых ладос на рожке.
В облаке пыли появляется конь Янгызака и подбегает к богатырю. Янгызак, оборвав свою песню, вскакивает на вороного коня.
У подножия горы Татавлы пасется отара овец. К чабану подбегает какой-то человек, сообщает:
— Убит Таш-паш!
Чабан говорит не спеша:
— Спасибо за весть.
Человек убегает. Чабан разгреб золу потухшего костра, достает из-под нее меч…
В реке два рыбака тащат невод. По берегу мчится какой-то мальчишка, говорит задыхаясь:
— Убит Таш-паш!
— Спасибо за весть.
Мальчик побежал. Рыбаки скрываются в камышах и выходят из них с двумя копьями…
По ковыльной степи скачет строгий Ханьяр с тремя десятками всадников. Навстречу ему едет Алтын-дуга во главе своей сотни.
Ханьяр подъезжает:
— Алтын-дуга! Следом за нами идет рать Джангархана!
— Сколько их?
— Несметное множество. Они прошли мимо озера Оло-Гарагайды-Гуль и выпили все озеро. Они прошли по степи и вытоптали всю траву.
— Спасибо за весть! — говорит Алтын-Дуга.
— Я привел с собой тридцать табынцев, — говорит Ханьяр, кивая на своих спутников, — и разузнал, где остальные!
— Значит, нас уже сто тридцать, — говорит Алтын-дуга.
Всадники Ханьяра примыкают к сотне, едут за Алтын-дугой. Но вот Алтын-дуга останавливается.
Перед ним, насколько хватает глаз, до самого горизонта движется рать Джангархана. Она так многочисленна, что, если бы дело было ночью, на каждую звезду на небе пришлось бы по одному джунгарскому воину на земле.
Зазвучали трубы, и рать Джангархана остановилась. Впереди войска сам Джангар на носилках. Рядом — старуха Мясекай; за ней несут ее черный казан. Вокруг — везиры, приближенные и конные богатыри.
— Пусть поклянутся! — повелевает Джангархан.
Знаменосец поднимает джунгарский флаг, и вся рать повторяет слова страшной клятвы:
— Еду я, чтоб детей превратить в сирот!..
— Еду я, чтоб в раба превратить народ!..
— Еду я, чтоб нетленных жизни лишить!..
— Еду я, чтоб людей отчизны лишить!..
— Еду я — разгромить богатырскую рать!..
— Еду Алтын-дугу в плен забрать!..
Знаменосец опускает флаг. Рать двинулась, обтекая носилки Джангархана, старуху Мясекай и везиров. Впереди рати скачут Жургяк и джунгарские богатыри.
Отряд Алтын-дуги рассыпается, выстраивается правильной фигурой — двумя крыльями: словно сокол в степи изготовился к бою, крылья расправил. Алтын-дуга поднимает свой лук, в который вложены сразу четыре стрелы, веером расходящиеся от пальцев. Его воины поднимают луки.
Алтын-дуга издает грозный клич:
— Красавица Ай!
Его воины подхватывают:
— Земля Ай!
Спускают тетивы. Вздрогнул, загудел воздух от стрел. Падают с коней несколько джунгар.
Но и джунгарская рать поднимает луки. Раздается гром. Алтын-дуга и его воины одним слитным движением опустили головы на шеи коней. Гром проносится над ними; почернело небо, исчезло солнце. Но гром уносится уже за их спины назад.
Алтын-дуга и воины выпрямились, пришпорили коней и, обнажив мечи, бросаются в бой. Навстречу Алтын-дуге скачет Жургяк.
Богатыри встретились, схватываются. Схватываются другие воины. Падают всадники. Ржут кони. И такая пыль поднялась в небо и стала сыпаться на головы воинов, что вороные кони превратились в белых, а юноши состарились.
Яростно бьются Алтын-дуга и Жургяк. Наконец Алтын-дуга внезапным ударом пронзает грудь Жургяка мечом.
Алтын-дуга устремляется на противников Ханьяра, спрашивает его:
— Сколько нас осталось?
Ханьяр глянул назад, говорит:
— Шестьдесят!
Алтын-дуга рубит вправо и влево с такой силой, что о каждом ударе его меча в этом бою сказители пели потом целые сутки.
Раздается зловещее карканье. По небу тучей летит воронье. Из кустов выглядывает полосатая гиена, хищно поводит носом.
Яростно рубится Алтын-дуга. На него наседают со всех сторон джунгары. Он спрашивает Ханьяра:
— Сколько нас осталось?
Тот глянул, сказал:
— Двадцать пять!
Алтын-дуга бросается с мечом в самую гущу джунгар.
Вдали появляются разрозненные кучки вооруженных людей, бегут по степи к полю боя. Скачет на коне чабан с мечом в руках. Бегут рыбаки с копьями. И еще, и еще люди…
Рубится Алтын-дуга, спрашивает:
— Сколько нас осталось?
Ханьяр обернулся, отвечает:
— Девяносто!
Рубится Алтын-дуга. А позади него из степи стекается все больше и больше народа, ханских рабов и пастухов. С хода они устремляются в бой. Рубится Алтын-дуга, ржут кони, падают всадники.
— Сколько нас осталось? — спрашивает Алтын-дуга.
Ханьяр посмотрел, отвечает:
— Несметное множество.
Алтын-дуга оглянулся. За ним до самого горизонта, насколько хватает глаз, видны спешащие на помощь вооруженные люди.
Ряды джунгар дрогнули. Передние в панике побежали, увлекая за собой остальных. Алтын-дуга и его воины преследуют джунгар по пятам. В беспорядке конные и пешие джунгары бегут мимо ханских носилок. Джангархан растерянно что-то кричит, но голоса его не слышно за ржаньем коней, лязгом щитов, криком людей.
Алтын-дуга преследует джунгар. Вдруг рядом раздается знакомое ржанье: сорок веселых ладов на рожке.
Рядом с Алтын-дугой появляется вороной конь, на нем Янгызак.
Янгызак кричит сквозь шум сечи:
— Кажется, опоздал?
И запел свою песню. Сразу окаменело, онемело все войско: и джунгары и ратники Алтын-дуги — каждый так, как его застигла песня.
Янгызак медленно проезжает с песней сквозь ратное поле, оглядывая его. Каждая фигура ратников Алтын-дуги на этом поле как памятник смелости и отваги. Каждая фигура окаменевших воинов Джангархана как памятник трусости. И завершают эту галерею старуха Мясекай и Джангархан, бледный как мертвец, которого хоронить некому. Он скривился, открыл в страхе рот, прикрыл ладонью лицо и так окаменел.
Янгызак подъезжает к нему, взмахом меча отрубает голову, потом склоняется над старухой Мясекай. Изо рта колдуньи выскакивают мыши, разбегаются во все стороны. Янгызак хватает старуху, швыряет в казан, и на дне казана остаются лишь черные черепки.
Земля Ай. Исполинский дуб. Под ним, глядя вдаль, сидит седовласый Кусмэс. Раздается топот копыт. Подъехал пастух Абзаил на взмыленном скакуне без седла.
— Что случилось? — взволнованно встает Кусмэс. — Не напали ли джунгары на табуны?
— Нет, нет… О Кусмэс, едет победитель джунгарского хана, освободивший восемнадцать народов!
— Кто же он?
— Твой сын, Алтын-дуга.
Во главе народа едут Алтын-дуга и Ай, за ними — Кусэр и Янгызак: к его седлу приторочен розовый куст. За ними — табынцы. Звучит необычайная музыка — это всадники держат в руках боевые луки и играют на их тетивах.
Из всех юрт выбегают айдинцы, радостно приветствуют прибывших. В сопровождении пестрой толпы они подъезжают к исполинскому дубу, соскакивают с коней.
— Алтын-дуга! — восклицает радостно седоголовый Кусмэс. — Мальчик мой!
Кусмэс бежит, чтобы обнять сына. Но Янгызак схватил подушку, всовывает ее между грудью Алтын-дуги и Кусмэса и говорит:
— Когда богатырь обнимает отца, надо опасаться, как бы он ему не поломал ребра!
Кусмэс и Алтын-дуга обнимаются. Седоголовый Кусмэс поворачивается к Кусэру. Они молча смотрят друг другу в глаза и тоже раскрывают объятья. Радостными возгласами приветствуют их айдинский и табынский народы.
Янгызак сажает розовый куст в землю.
Из дворцовой калитки выбегает Гульбика и кричит:
— Алтын-дуга! Подружка Ай!
Янгызак издает изумленный возглас. Все оборачиваются.
Гульбика прошептала:
— Янгызак!..
На розовом кусте расцветает роза.
— Когда же она успела? — в недоумении бормочет Янгызак. — Не успел посадить, а уже расцвела! И что это значит?
Алтын-дуга говорит добродушно:
— Значит, что встретились двое влюбленных! Наверно, сестра моя Гульбика и…
— Молчи! — зажимает ему рот Янгызак. — То, что случится, находится впереди.
Вокруг толпится народ: воины Алтын-дуги, женщины в платках и бархатных безрукавках. Ребятишки взобрались на деревья и скалы. Тысячи дымков поднимаются над белыми юртами. А посреди долины прозрачная, словно воздух, синяя речка Ай бежит по камням. Бежит она сквозь сосновый бор, бежит, как песня народа, — неведомо где началась, неведомо где кончается…
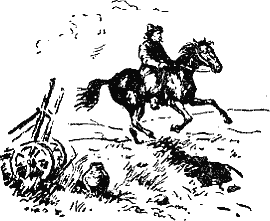
Переводы песен, включенных в киносказку, принадлежат Вл. Державину и С.Липкину.


Б. Baдецкий ОБРЕТЕНИЕ СЧАСТЬЯ Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ
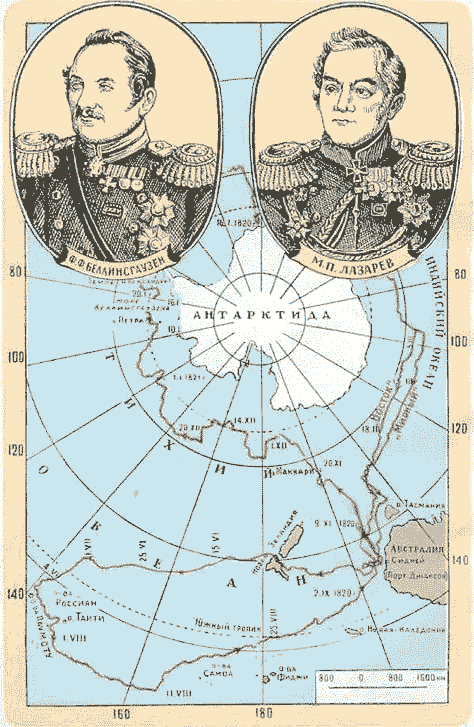 Дом Лазаревых мало чем отличался от соседних — такой же обширный, с зеленоватыми стеклами узких окон, отдающих сумрачным покоем, с бревенчатыми пристройками в глубине двора. Только сад был самым большим в городе, с беседками, похожими на часовни, с вишневыми чащами и глухими дорожками, напоминающими лесные просеки. Во Владимире, издавна славящемся садами, называли этот сад “сенаторским”, вероятно потому, что, по провинциальным представлениям, именно такой разросшийся сад пристало иметь умершему на рубеже нового столетия сенатору Лазареву.
Сад спускался к подножию холма, на котором стояла, сверкая золочеными шарами куполов, небольшая приземистая церковь. Одичавший сад, как бы взяв в полон церковь, тянулся яблоневыми ветвями к ветхому черному забору, который от времени накренился и кое-где лег. Вблизи высился монастырь и расходились венчиком улочки с шаткими дощатыми мостками. Почему-то именно здесь, на холме, поставили эту церквушку, как бы выделив из сонмища монастырских глав. Имение Лазаревых прикрывалось ею с холма, и когда солнце ударяло в купола, белые отсветы лучей ложились, подрагивая, в саду на скамейках и в сонной заводи пруда. А в праздник, чуть начинали благовестить, натужно раскачиваясь, монастырские колокола, стаи галок, спасаясь от звона, летели сюда, и сад шумел, словно на ветру.
Сенатор Лазарев избрал себе уделом одиночество, не пожелав оставаться в столице. Говорили, будто обиды и распри укоротили его век. Правитель Владимирского наместничества, он последние годы уже мало времени отдавал делам. Со смертью сенатора поместье его заметно пришло в упадок, дети разъехались, и в большом доме осталась только жена.
Сенатор прочил сыновьям нелегкую, но славную жизнь, если будут они держаться друг друга. До сих пор все шло, как он хотел: в один и тот же день покинули они отцовское поместье, вместе окончили морской корпус, вместе поступили на флот. Верный заповедям Петра, создателя русского флота, приверженец Ушакова, сенатор не помышлял об иной службе для сыновей. Средний уже ходил далеко на “Суворове” и, служа в Российско-американской компании, немало пользы принес русским землям в Америке. О нем в семье говорили: “Михаил повидал Россию и в Старом, и в Новом Свете!”
Сыновья собирались у матери во Владимире, прибывая сюда из тех “забытых богом” мест, из Ситхи и с островов Океании, которые местный дьяк не нашел бы и на карте.
Сыновья съезжались на тройках под заливистый лай собак, с баулами, полными петербургских гостинцев, усталые с дороги, и в тишайшем Владимире быстро разносилась весть о приезде сенаторских сыновей. Дня через два один за другим направлялись в старый дом Лазаревых горожане. Шли чиновники и мастеровые, помещики и их слуги, одни — без стеснения на барскую половину, другие — в людскую, ненароком увидеть приехавших. И тогда в саду, если молодые приехали летом, начинались долгие, по началу чуть церемонные беседы с гостями. Мать сидела в беседке с вязаньем в руках, помолодевшая, в строгом платье с воланами, дремали няньки в сползших на лоб чепцах, престарелый учитель, он же гувернер, чинно взирал на гостей. Были среди них участники не столь давних сражений с французами, именитые ратники владимирского ополчения, друзья сенатора. Разговор шел обо всем, что порой нежданно для молодых Лазаревых могло интересовать провинциалов: о последних днях Державина, о пребывании наших войск в Париже, о столичных ценах и о закладке новых судов на верфях, но больше всего — о плаваниях и путешествиях. Вероятно потому, что жизнь сенаторских сыновей вызывала представления о морских штормах, корабельных бедствиях и поисках неведомых земель. Случалось, кто-нибудь из гостей, мнивший себя просвещенным в мореплаваниях, спрашивал:
— А скажите, Михаил Петрович, правда ли, что есть на свете земля, никем пока не найденная, с коей наша, грешная и обетованная, не может сравниться ни климатом своим, ни богатствами?..
— И будто открыта эта земля, но не нами, — подхватывал владимирский почтмейстер, местный книголюб, — держат ее в тайне. Земля эта — южный материк — шестой по счету, о существовании коего еще Аристотель утверждал, исходя из законов равновесия… Земля эта чудесная, там…
— Молочные реки и кисельные берега! — перебивал его Михаил Лазарев. — Португальский моряк Кирос так и рассказывал об этой якобы открытой им земле. Он назвал один из Новогебридских островов Южной землей Духа Святого, приняв сей остров за южный материк, и заложил город Новый Иерусалим, все, как подобает истому католику.
— Новый Иерусалим окажется… во льдах! — смеясь, говорил старший брат Андрей Лазарев. — Можно ли сомневаться в том, что отнюдь не в тропиках лежит эта Южная земля? Но доколе все изыскания открывателей будут овеяны духом волшебных сказок? Или так легче стремиться к богатствам и чудесам, а втайне — к наживе? Купцам ведь нажива нужна, а не наука! А шестой материк, повторяю, ледовый, если есть такой. И что ждет храбрецов, которые пожелают туда проникнуть? Успокоительнее поверить Куку и не пытаться туда идти.
— Страсть-то! — вздыхала одна из нянек.
— Не обошлось и без участия морских разбойников в этих открытиях, — тихо, не повышая голоса, продолжал Михаил. — Английский корсар Френсис Дрейк объявил об открытии им южного материка. И что ж? В Голландии тут же в честь Дрейка выпустили медаль. Неизвестно, что дальше ждало Дрейка, но вскоре купец Якоб Лемер из Амстердама встал на его дороге. Он принял малоизвестный берег Огненной Земли за южный материк и заявил, что лежит сей материк в направлении к Новой Гвинее. Не подумайте, однако, что на этом кончились “открытия”.
Южный материк искали позже Ротчеван, Лозье, думали, что он находится за сороковой параллелью. Спасибо Куку, он решил, что такого материка вовсе нет, избавил, может быть, на время от праздных выдумок…
— Как же так? — Почтмейстер поднял глаза, поняв, что в своих представлениях о Южной земле тоже дал маху. — Но есть ли все же эта земля?
Михаил Лазарев с минуту молчал, как бы собираясь с мыслями.
— Много на сей предмет существует соображений: и потешных, и серьезных. Гаврила Андреевич Сарычев, например, знаменитый мореход наш и гидрограф, не склонен верить Куку. Однако, повторяю, предмет этот требует больших раздумий…
Светлое, обычно открытое лицо его, полное, с большими глазами и маленьким ртом, вдруг становилось настороженным. Как бы преодолевая нежелание говорить обо всем этом, потому что не раз приходилось убеждаться в бесплодности подобных разговоров, он добавил:
— По всей видимости, землю сию обретет страна, имеющая сильный флот, моряки коей будут действовать не из ложного упрямства или стремления к наживе, а ради науки и чести. А что есть сия земля, много предположений и догадок. Да не в ней, не в земле сей, видать, сейчас дело, а в государственных правителях да в моряках!
Невольно в речи его проскальзывало что-то назидательное и немного книжное. Ему хотелось пресечь надоевшие и невежественные толки, поднимавшиеся каждый раз при упоминании об этой земле. Памятна была ему эпиграмма, ходившая в Петербурге по поводу злополучных “открытий” южного материка.
Какая истине цена, Коли и эти вести ложны… И в мире есть земля одна, Открыть какую невозможно!
Раздражение вызывала в нем и тунеядческая мечтательность тех, кто грезил о новой земле как о прибежище скорбящих, как о неведомом земном рае, сулящем богатства и покой. А между тем, уже само плаванье к материку могло немало обогатить науку. Право же, для тех, кто мечтает как можно больше “разжиться” на этой земле, явится ударом, если южный материк, их Новый Иерусалим, окажется во льдах!
Младший Лазарев, Алексей, не вмешивался в разговор, но соглашался с братом: можно ли рассказать о всех трудностях открытия этой земли, если одна из трудностей в самом отношении царя и Адмиралтейства к этой великой задаче! Известно, что Крузенштерн и Сарычев давно представили свои предложения об организации экспедиции к Южному полюсу, в самые высокие широты, но морской министр маркиз де-Траверсе не спешит с решением. Да и ему ли, маркизу, торопиться опровергать Кука?
При дворе Алексею приходилось слышать и о сомнениях царя: стоит ли, мол, обрекать корабли экспедиции на неудачу и ронять престиж в тщетных попытках проверить заключения иноземных мореплавателей?
Подобный разговор в доме Лазаревых возникал не раз. Произошел он и в последний приезд братьев осенью 1818 года.
А на святки довелось приехать домой одному Михаилу Петровичу. Братья задержались в Петербурге. И тут получил он вскоре после рождества два письма: одно — от Адмиралтейства, другое — от брата Алексея. Адмиралтейский департамент сообщал лейтенанту Лазареву о назначении его в экспедицию к Южному полюсу под начальством капитан-командора Ратманова; брат писал о том, что решение об отправке этой экспедиции, наконец, состоялось, ждут Ратманова, который после пережитого им кораблекрушения у мыса Скагена лечится в Копенгагене, и поговаривают о нем, Михаиле, как о командире одного из кораблей отряда.
Посыльный матрос отдыхал вместе с ямщиком за чаем в людской. За окном мело, не видно было ни беседок в саду, ни погребенной в снегах церквушки. Пофыркиванье лошадей, редкий галочий крик и звон ведра у колодца изредка нарушали морозную тишину. Михаил Петрович прочитал оба письма, стоя у запорошенного инеем окна, и не решился сказать матери, зачем вызывают его в столицу. Как объяснить ей, что придется идти на поиски все той же неведомой Южной земли, о которой как-то беседовали они с гостями в саду? И легко ли скрыть, что путешествие может грозить гибелью.
Михаил открылся во всем сестре, передавая ей заботу о матери.
— Далеко ухожу. Может быть, надолго. Пути туда не ясны, но вернуться надо с честью,
— Что-то непонятное ты говоришь! — встревожилась сестра.
Ей недавно исполнилось двадцать четыре года. Помолвленная с одним из соседей, она втайне стремилась бежать отсюда в столицу, уйти от вязкого однообразия здешней жизни. И только брат Михаил знал ее помыслы и сочувствовал ей.
— Непонятное? — повторил он. — Помнишь, как-то я рассказывал о южном материке? Вот и иду туда…
Она всплеснула руками. В широко открытых синих глазах мелькнуло недоверие и тревога. Но тут же, сдерживая себя, тихо спросила:
— Так просто это все? Уйти так далеко? — И добавила в раздумье: — Ветер, море, парус!..
Он засмеялся, обнял сестру; они долго стояли у окна, охваченные горестным чувством разлуки и вместе с тем гордости за то, что предстоит совершить. Уже ей казалось, что в чем-то она сейчас больше нужна брату, а ему, — что эта разлука только объединит их и сделает ее взрослее. Она всегда относилась к нему как к самому старшему брату, хотя он был средний.
Потупившись, она попросила:
— Возьми меня с собой в Петербург. Я пробуду там до весны, а как вернусь, расскажу все маме.
В крещенские праздники на больших розвальнях, заваленных сеном и шубами, весело, под звон бубенцов, отправились в путь Михаил Петрович с сестрой, прижившийся посыльный матрос и ямщик, крепенький, бородатый старикашка в тулупе, закрывающем его с головой.
Мать, ничего не зная, проводила их до ворот и медленно побрела в церковь, чтобы постоять там в укромной тиши перед лампадами, отогревающими заледенелые иконы, и помолиться за сыновей.
Дом Лазаревых мало чем отличался от соседних — такой же обширный, с зеленоватыми стеклами узких окон, отдающих сумрачным покоем, с бревенчатыми пристройками в глубине двора. Только сад был самым большим в городе, с беседками, похожими на часовни, с вишневыми чащами и глухими дорожками, напоминающими лесные просеки. Во Владимире, издавна славящемся садами, называли этот сад “сенаторским”, вероятно потому, что, по провинциальным представлениям, именно такой разросшийся сад пристало иметь умершему на рубеже нового столетия сенатору Лазареву.
Сад спускался к подножию холма, на котором стояла, сверкая золочеными шарами куполов, небольшая приземистая церковь. Одичавший сад, как бы взяв в полон церковь, тянулся яблоневыми ветвями к ветхому черному забору, который от времени накренился и кое-где лег. Вблизи высился монастырь и расходились венчиком улочки с шаткими дощатыми мостками. Почему-то именно здесь, на холме, поставили эту церквушку, как бы выделив из сонмища монастырских глав. Имение Лазаревых прикрывалось ею с холма, и когда солнце ударяло в купола, белые отсветы лучей ложились, подрагивая, в саду на скамейках и в сонной заводи пруда. А в праздник, чуть начинали благовестить, натужно раскачиваясь, монастырские колокола, стаи галок, спасаясь от звона, летели сюда, и сад шумел, словно на ветру.
Сенатор Лазарев избрал себе уделом одиночество, не пожелав оставаться в столице. Говорили, будто обиды и распри укоротили его век. Правитель Владимирского наместничества, он последние годы уже мало времени отдавал делам. Со смертью сенатора поместье его заметно пришло в упадок, дети разъехались, и в большом доме осталась только жена.
Сенатор прочил сыновьям нелегкую, но славную жизнь, если будут они держаться друг друга. До сих пор все шло, как он хотел: в один и тот же день покинули они отцовское поместье, вместе окончили морской корпус, вместе поступили на флот. Верный заповедям Петра, создателя русского флота, приверженец Ушакова, сенатор не помышлял об иной службе для сыновей. Средний уже ходил далеко на “Суворове” и, служа в Российско-американской компании, немало пользы принес русским землям в Америке. О нем в семье говорили: “Михаил повидал Россию и в Старом, и в Новом Свете!”
Сыновья собирались у матери во Владимире, прибывая сюда из тех “забытых богом” мест, из Ситхи и с островов Океании, которые местный дьяк не нашел бы и на карте.
Сыновья съезжались на тройках под заливистый лай собак, с баулами, полными петербургских гостинцев, усталые с дороги, и в тишайшем Владимире быстро разносилась весть о приезде сенаторских сыновей. Дня через два один за другим направлялись в старый дом Лазаревых горожане. Шли чиновники и мастеровые, помещики и их слуги, одни — без стеснения на барскую половину, другие — в людскую, ненароком увидеть приехавших. И тогда в саду, если молодые приехали летом, начинались долгие, по началу чуть церемонные беседы с гостями. Мать сидела в беседке с вязаньем в руках, помолодевшая, в строгом платье с воланами, дремали няньки в сползших на лоб чепцах, престарелый учитель, он же гувернер, чинно взирал на гостей. Были среди них участники не столь давних сражений с французами, именитые ратники владимирского ополчения, друзья сенатора. Разговор шел обо всем, что порой нежданно для молодых Лазаревых могло интересовать провинциалов: о последних днях Державина, о пребывании наших войск в Париже, о столичных ценах и о закладке новых судов на верфях, но больше всего — о плаваниях и путешествиях. Вероятно потому, что жизнь сенаторских сыновей вызывала представления о морских штормах, корабельных бедствиях и поисках неведомых земель. Случалось, кто-нибудь из гостей, мнивший себя просвещенным в мореплаваниях, спрашивал:
— А скажите, Михаил Петрович, правда ли, что есть на свете земля, никем пока не найденная, с коей наша, грешная и обетованная, не может сравниться ни климатом своим, ни богатствами?..
— И будто открыта эта земля, но не нами, — подхватывал владимирский почтмейстер, местный книголюб, — держат ее в тайне. Земля эта — южный материк — шестой по счету, о существовании коего еще Аристотель утверждал, исходя из законов равновесия… Земля эта чудесная, там…
— Молочные реки и кисельные берега! — перебивал его Михаил Лазарев. — Португальский моряк Кирос так и рассказывал об этой якобы открытой им земле. Он назвал один из Новогебридских островов Южной землей Духа Святого, приняв сей остров за южный материк, и заложил город Новый Иерусалим, все, как подобает истому католику.
— Новый Иерусалим окажется… во льдах! — смеясь, говорил старший брат Андрей Лазарев. — Можно ли сомневаться в том, что отнюдь не в тропиках лежит эта Южная земля? Но доколе все изыскания открывателей будут овеяны духом волшебных сказок? Или так легче стремиться к богатствам и чудесам, а втайне — к наживе? Купцам ведь нажива нужна, а не наука! А шестой материк, повторяю, ледовый, если есть такой. И что ждет храбрецов, которые пожелают туда проникнуть? Успокоительнее поверить Куку и не пытаться туда идти.
— Страсть-то! — вздыхала одна из нянек.
— Не обошлось и без участия морских разбойников в этих открытиях, — тихо, не повышая голоса, продолжал Михаил. — Английский корсар Френсис Дрейк объявил об открытии им южного материка. И что ж? В Голландии тут же в честь Дрейка выпустили медаль. Неизвестно, что дальше ждало Дрейка, но вскоре купец Якоб Лемер из Амстердама встал на его дороге. Он принял малоизвестный берег Огненной Земли за южный материк и заявил, что лежит сей материк в направлении к Новой Гвинее. Не подумайте, однако, что на этом кончились “открытия”.
Южный материк искали позже Ротчеван, Лозье, думали, что он находится за сороковой параллелью. Спасибо Куку, он решил, что такого материка вовсе нет, избавил, может быть, на время от праздных выдумок…
— Как же так? — Почтмейстер поднял глаза, поняв, что в своих представлениях о Южной земле тоже дал маху. — Но есть ли все же эта земля?
Михаил Лазарев с минуту молчал, как бы собираясь с мыслями.
— Много на сей предмет существует соображений: и потешных, и серьезных. Гаврила Андреевич Сарычев, например, знаменитый мореход наш и гидрограф, не склонен верить Куку. Однако, повторяю, предмет этот требует больших раздумий…
Светлое, обычно открытое лицо его, полное, с большими глазами и маленьким ртом, вдруг становилось настороженным. Как бы преодолевая нежелание говорить обо всем этом, потому что не раз приходилось убеждаться в бесплодности подобных разговоров, он добавил:
— По всей видимости, землю сию обретет страна, имеющая сильный флот, моряки коей будут действовать не из ложного упрямства или стремления к наживе, а ради науки и чести. А что есть сия земля, много предположений и догадок. Да не в ней, не в земле сей, видать, сейчас дело, а в государственных правителях да в моряках!
Невольно в речи его проскальзывало что-то назидательное и немного книжное. Ему хотелось пресечь надоевшие и невежественные толки, поднимавшиеся каждый раз при упоминании об этой земле. Памятна была ему эпиграмма, ходившая в Петербурге по поводу злополучных “открытий” южного материка.
Какая истине цена, Коли и эти вести ложны… И в мире есть земля одна, Открыть какую невозможно!
Раздражение вызывала в нем и тунеядческая мечтательность тех, кто грезил о новой земле как о прибежище скорбящих, как о неведомом земном рае, сулящем богатства и покой. А между тем, уже само плаванье к материку могло немало обогатить науку. Право же, для тех, кто мечтает как можно больше “разжиться” на этой земле, явится ударом, если южный материк, их Новый Иерусалим, окажется во льдах!
Младший Лазарев, Алексей, не вмешивался в разговор, но соглашался с братом: можно ли рассказать о всех трудностях открытия этой земли, если одна из трудностей в самом отношении царя и Адмиралтейства к этой великой задаче! Известно, что Крузенштерн и Сарычев давно представили свои предложения об организации экспедиции к Южному полюсу, в самые высокие широты, но морской министр маркиз де-Траверсе не спешит с решением. Да и ему ли, маркизу, торопиться опровергать Кука?
При дворе Алексею приходилось слышать и о сомнениях царя: стоит ли, мол, обрекать корабли экспедиции на неудачу и ронять престиж в тщетных попытках проверить заключения иноземных мореплавателей?
Подобный разговор в доме Лазаревых возникал не раз. Произошел он и в последний приезд братьев осенью 1818 года.
А на святки довелось приехать домой одному Михаилу Петровичу. Братья задержались в Петербурге. И тут получил он вскоре после рождества два письма: одно — от Адмиралтейства, другое — от брата Алексея. Адмиралтейский департамент сообщал лейтенанту Лазареву о назначении его в экспедицию к Южному полюсу под начальством капитан-командора Ратманова; брат писал о том, что решение об отправке этой экспедиции, наконец, состоялось, ждут Ратманова, который после пережитого им кораблекрушения у мыса Скагена лечится в Копенгагене, и поговаривают о нем, Михаиле, как о командире одного из кораблей отряда.
Посыльный матрос отдыхал вместе с ямщиком за чаем в людской. За окном мело, не видно было ни беседок в саду, ни погребенной в снегах церквушки. Пофыркиванье лошадей, редкий галочий крик и звон ведра у колодца изредка нарушали морозную тишину. Михаил Петрович прочитал оба письма, стоя у запорошенного инеем окна, и не решился сказать матери, зачем вызывают его в столицу. Как объяснить ей, что придется идти на поиски все той же неведомой Южной земли, о которой как-то беседовали они с гостями в саду? И легко ли скрыть, что путешествие может грозить гибелью.
Михаил открылся во всем сестре, передавая ей заботу о матери.
— Далеко ухожу. Может быть, надолго. Пути туда не ясны, но вернуться надо с честью,
— Что-то непонятное ты говоришь! — встревожилась сестра.
Ей недавно исполнилось двадцать четыре года. Помолвленная с одним из соседей, она втайне стремилась бежать отсюда в столицу, уйти от вязкого однообразия здешней жизни. И только брат Михаил знал ее помыслы и сочувствовал ей.
— Непонятное? — повторил он. — Помнишь, как-то я рассказывал о южном материке? Вот и иду туда…
Она всплеснула руками. В широко открытых синих глазах мелькнуло недоверие и тревога. Но тут же, сдерживая себя, тихо спросила:
— Так просто это все? Уйти так далеко? — И добавила в раздумье: — Ветер, море, парус!..
Он засмеялся, обнял сестру; они долго стояли у окна, охваченные горестным чувством разлуки и вместе с тем гордости за то, что предстоит совершить. Уже ей казалось, что в чем-то она сейчас больше нужна брату, а ему, — что эта разлука только объединит их и сделает ее взрослее. Она всегда относилась к нему как к самому старшему брату, хотя он был средний.
Потупившись, она попросила:
— Возьми меня с собой в Петербург. Я пробуду там до весны, а как вернусь, расскажу все маме.
В крещенские праздники на больших розвальнях, заваленных сеном и шубами, весело, под звон бубенцов, отправились в путь Михаил Петрович с сестрой, прижившийся посыльный матрос и ямщик, крепенький, бородатый старикашка в тулупе, закрывающем его с головой.
Мать, ничего не зная, проводила их до ворот и медленно побрела в церковь, чтобы постоять там в укромной тиши перед лампадами, отогревающими заледенелые иконы, и помолиться за сыновей.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Михаил Петрович снимал квартиру на Выборгской стороне, недалеко от храма Сампсона Странноприимца. Рядом текла Невка, на пустынных берегах ее матросы-инвалиды держали лодки для перевоза. В этом году зима стояла в Петербурге теплая, хлюпкая. Невка еще не замерзла, и всем, кто оказывался в отдалении от плашкоутного моста, приходилось пользоваться перевозом. На рассвете Михаил Петрович с сестрой Машей, отпустив ямщика, ждали, пока подойдет лодка. Из-под дощатого навеса к ним вышел инвалид-лодочник и, признав офицера, сказал в замешательстве: — Не знаю, как и быть, ваше благородие! Рано еще, Паюсов не выходил из дома. Никто из лодочников не мог приступить к работе раньше старика Ивана Паюсова, старшего из них, так же как через Неву не смели начать перевоз, пока не проедет по мосту комендант города. — А мы сами, — предложила Маша, оглядывая берег. Лазарев сбежал вниз по упругой, скованной ночным холодком дорожке, подтащил лодку. Он выпрямился и тут же увидел подле себя Паюсова. Старик спокойно приминал пальцем в трубке богородскую травку и ласково глядел на офицера. На черной тужурке его поблескивали большие медали екатерининского времени. — Здравия желаю, ваше благородие, — неторопливо промолвил старик. — А я к вам, сударь Михаил Петрович, дело имею. Идемте, сам перевезу. — Он зажег трубку и, попыхивая ею, широким движением руки пригласил девушку в лодку. Другой лодочник принес вещи. Паюсов привычно взялся за весла, всматриваясь вдаль, где над холодной, недвижной рекой обозначился узкой полоской белесый нерадостный рассвет. — Завьюжит скоро! Пора бы! Ох, уж и зима выдалась у нас, сударь. Неужто в Москве такая? Не понимают нас, северных жителей, не понимают и города нашего. Все в Москве, словно ранее господом богом уготовано, все к месту, все ладно, и погода ко времени. — Да ведь Москва-то сожжена… Не обстроилась еще, — подала голос Маша, почувствовав в словах старика обидное снисхождение к тем, кто не живет в Петербурге. Словно издавна только северяне привычны к невзгодам. И почему-то подумала, что двухнедельный путь, проделанный ею из Владимира, в глазах Паюсова, наверное, не больше прогулки. — Знаю, что сожжена, милая барышня, — откликнулся старик. — Да только царь Петр знал, где город строить. Не Москва нам ныне указчица, не из Москвы пути в океаны ведут… — Какое дело у тебя ко мне? — перебил его Михаил Петрович. — Дело мое зачинается отсюда, из Петербурга, — также размеренно ответил старик. — Петербургу ныне перед отечеством ответ держать, в такое плаванье собирает моряков, какого еще свет не видел. Наслышан я, сударь Михаил Петрович, что вам в плаванье идти, шестой материк, стало быть, искать. Намерен я просить вас принять на корабль матроса одного, из экипажной казармы, довольны им будете… — Что за человек? — поинтересовался Лазарев, не удивляясь, что о предстоящей экспедиции Паюсову уже известно. — Родственник мой, проще сказать, племянник. Да только не поймите, сударь, будто потому хлопочу о нем. Очень он службу любит, грамотен и до дела способен. Да барину его невдомек… Нечто подобное уже не раз приходилось слышать Лазареву и от других матросов. Но Паюсову можно было верить. На верфях и в экипажных командах не было среди матросов более строгого, чем Паюсов, и просвещенного советчика, способного иной раз замолвить слово перед начальством. — Как звать его? — спросил Михаил Петрович. — Мафусаил Май-Избай, сударь! Лодка подошла к берегу. В конце тихой немощеной улицы, среди тяжелой кладки каменных домов, похожих на лабазы, был виден небольшой дом купца Голышева, у которого квартировал Лазарев. В утреннем тумане расплылось очертание лодки, звякнули уключины, и вскоре где-то посередине Невки раздалось: “На-чи-на-ай! Вре-мя!” Паюсов входил в свою роль и приказывал начать перевозить собравшихся на том берегу парголовских торговок и чухонок-молочниц… В квартире было еще не топлено. Прохор, денщик Лазарева, рябой увалень, спал в самоварной, возле кадушки с древесным углем. Разбудив его, Михаил Петрович провел сестру в кабинет. Над книжными полками висели изображения кораблей и виды Русской Америки. Большие исчерканные карандашом карты топорщились на отсыревших обоях. Над кожаным диваном — оленьи рога, чучело бобра, редька величиной с арбуз, индейские копья — все привезено из Ситхи. Маша устало прилегла, склонилась головой на подушку, пахнущую старыми книгами, и задремала. Брат бережно накрыл ее пледом и сел к письменному столу. Ее разбудили треск дров в камине и заунывные звуки шарманки под окном. Песочные часы на столике показывали полдень. Брат что-то писал, иногда в задумчивости точил гусиное перо, слишком нежное, казалось бы, для его коротких сильных пальцев. Маша, не шевелясь, наблюдала за ним. Он уже не был тем, каким привыкли его видеть дома: по-кроткому серьезным, мягким, чуть застенчивым. В чертах его лица появилась та именно суровость, которая сопутствует в делах, требующих выдержки и решительности. Подумать только, как мало о нем знали дома! Брат Алексей говорил, что в морских книгах его называют четвертым кругосветным путешественником после Крузенштерна, Лисянского, Головнина… Сейчас ему тридцать, мать говорит — пора бы подумать о женитьбе! Она вспомнила, каким он был в двенадцать лет, до поступления в кадетский корпус: раскачиваясь на качелях, палил из детского ружья и кричал ей, пугая деловитой своей серьезностью, что приучается к морской качке. Потом уводил ее вглубь сада и рассказывал о капитанах, морях и дальних плаваниях так занимательно и подробно, словно обо всем этом вычитал из книг. Но все рассказанное оказывалось придуманным им самим; даже большой сад был поделен им на участки — один назывался Атлантическим, другой — Тихим океаном. В городе, столь далеком от морей, он в детские годы грезил морем! Маше было приятно наблюдать за братом, зная, что он не видит этого. Чем-то он забавлял Машу, давнюю насмешницу: то ли манерой, сутулясь, закидывать круглую, с упрямым хохолком голову, то ли тем, как писал, держа перо криво, точно первоклассник. Михаил заметил, что сестра не спит. — Завтракать, Машенька, пора, — сказал он тихо, отрываясь от дела. Присутствие сестры делало его мягче и придавало холостяцкому жилью какую-то праздничность. — Тебе не должно быть скучно в Петербурге, но как знать? — проговорил он с сомнением в голосе и усмехнулся. — У нас опера, балы, катанья. Алексей займет тебя. А мне, сама знаешь, некогда, извини! — Скажи, а сам ты, кроме моря, нашел бы что-нибудь интересное для себя? — спросила вдруг Маша. — Кроме моря? Много есть, разумеется, интересного на свете, но без моря я заскучал бы, — признался Михаил. Он помедлил, стараясь догадаться, чем вызван вопрос сестры: не думает ли она, что, отдавая столько времени морю, он оторван от столичной жизни, от книг, от споров. — Я не люблю праздных рассуждений, — прибавил он. — Мне трудно мириться с тем, что мы еще мало знаем окружающий нас мир. А “рассуждателей”, Маша, много, может, утехи ради, а может, от безделья. Ей вдруг захотелось, чтобы брат ввел ее в круг столичных литераторов и музыкантов, рассказал бы о том, что лишь в отзвуках доходит до Владимира: о молодом Пушкине, о жизни при дворе. Но, желая понять брата и не докучать ему, она промолвила: — Разве мы мало знаем мир? Ведь уже столько звезд открыто и земель… Алексей видел три года назад первый пароход, пироскаф Берда. Михаил весело засмеялся: сестре кажется, что открыто много нового, и, наверно, людям, которые будут жить лет через сто, то же будет казаться, только с большим правом. Пытаясь объяснить сестре, что движет им самим и почему так занимает его предстоящее плаванье, он сказал: — Людям нужно знать, что там в высоких широтах, у Южного полюса. Нельзя не знать всех земель и климатов. Понимаешь? А без флота и не зная географии не шагнешь в будущее! Сестра неуверенно кивнула. — Подумай, какую славу принесет отечеству наш флот, если мы достигнем этой цели. Ну, а что касается морской службы… — Михаил помедлил. — Хочешь знать, что дает человеку корабль? Силу духа, отказ от мелочного, свободу, знание других стран, широту помыслов. Он вспомнил ее слова, ненароком оброненные во Владимире: “Ветер, море, парус!..” А между тем, это так много! — Ты хорошо говоришь, — заметила Маша. — Но все ли, идущие с тобой в плаванье, чувствуют и думают, как ты? — Все? Едва ли, а надо бы… Потому-то я и думаю о команде. Для любого из нас это плаванье должно быть не только обретением земли, но и обретением счастья. — Он поймал себя на том, что возвращается к памятным разговорам во Владимире. — Иначе плаванья не совершить. Ведь что обретаем? Ледники! Экое счастье! И в папском дворе, и в Петербурге, и в хижине бедняка о Южной земле, как о “манне небесной”, толкуют. Иные от лености, иные от жадности непомерной. А кто и от усталости и неустроенности… Так повелось. Ты можешь подумать, будто я в увлечении морским делом не вижу того, что томит нас — положения в стране, бесправия крестьян… Скажу тебе: в кавалергардском мундире не пойдешь к тем широтам; нищему духом нечего делать на корабле. И лежебокам, скопидомам тоже… Сжились люди с мечтой, будто должна быть на свете земля краше нашей. Вот и кронштадтский протоиерей Лукачев написал в благословение морякам книгу “О земле, не затронутой чревоугодием и земными пороками”. Только в помощь ли нам все это или в помеху? Подумав, не слишком ли поверяет сестре сокровенные свои мысли, он тут же оборвал: — Хватит, Машенька! Не пора ли к столу? Тебе нынче хозяйничать. С шутливой церемонностью он повел сестру в столовую, где давно уже клокотал на столе самовар, а денщик, выложив припасы, привезенные Михаилом Петровичем, одиноко сидел в углу. Часом позже на извозчичьих дрожках Лазарев отправился в Адмиралтейство. До Невского ехали долго. Впереди то и дело застревали в грязи чьи-то пролетки, преграждая путь. На Татарский остров, где были устроены бойни, татары вели сивых голодных коней. На Невские тони, так назывались в просторечье места рыбной ловли, спешили на двуколках, подняв удочки вверх, рыболовы. На углу обогнал Аракчеев в громадной зеленой коляске, запряженной четверкой крупных артиллерийских коней. Он сидел тяжелый, с воловьей шеей, с неподвижным мутным взглядом. На поношенном темно-зеленом мундире его висел медальон, похожий на образок, с портретом императора Павла. Городовой остановил всех, пропуская коляску. Наконец выехали по мосту к Адмиралтейству. Очертания Петропавловской крепости смутно белели справа, возвышаясь над берегом. Еще несколько минут, и Лазарев приблизился к главному входу под башней-колоннадой. На громадном барельефе изображен Нептун, передающий царю Петру свой трезубец — эмблему власти. Возле царя, рядом с Минервой и Победой, статная женщина с веслом — Нева принимает дары — якоря и мачты — от тритонов — от русских рек. Часовой в кивере устало берет на караул. Адмиралтейские корпуса перестраивают, земляные валы снимают, толпы рабочих видны в глубине двора. По гулким пустым коридорам Лазарев проходит в Адмиралтейств-департамент, ведающий постройкой кораблей, их снабжением, гидрографическими работами, морскими учебными заведениями, гравировальной палатой и мастерскими. По слухам, в скором времени должна произойти реформа, департамент разделится на морской учебный комитет и управление генерал-гидрографа, но пока всем, относящимся к плаванию кораблей занимаются здесь. Первый генерал-гидрограф, почетный академик Сарычев, принимает Лазарева в обширном своем кабинете, похожем на картографическую мастерскую. Он недавно вернулся с Балтийского моря, где командовал эскадрой, собирается на Камчатку, исследователем коей и преобразователем был много лет. Впрочем, всех обязанностей Сарычева не счесть. Он удивляет департаментских чиновников способностью заниматься одновременно наукой и плаваньем. О Сарычеве и Головнине говорили со слов адмирала Шишкова: “Труженики столь исступленные, что отдых почтут за оскорбление”. Лазарев застал Сарычева за просмотром составленного им учебника геодезии. Богатырски сложенный, с маленькой головой и стремительным, быстрым взглядом, Сарычев сидел за большим столом и выводил синим карандашом поверх тетради: “Метод определения расстояний на море по угловой высоте рангоута”. — Садитесь! — кивнул он Лазареву дружески и ворчливо добавил: — А карт-то нет… Заказал для вас, но верных карт мало. Сами знаете иностранцев: они врут, а мы верим. — Сарычев зашагал по кабинету, продолжая высказывать свои соображения: — Ваше плаванье должно быть заключительным! Поняли вы меня? Именно заключительным! После всего того, что сделано гидрографами, что снято на картах и в тех местах, куда вы направляетесь, вам следует установить: есть ли Южная земля? Это важно! Но, помимо задачи открытия земли, коли существует она, на вас возлагается еще задача правильной описи островов, заливов, с промером глубин, с изучением свойств воды, водных течений… А посему вы, друг мой, и сподвижники ваши по путешествию должны быть искуснейшими мореходцами! Говорил он все так же ворчливо, отрывисто, прямотой своей и стремлением подойти к делу без лишних и официальных слов выражая Лазареву свое доверие. Гидрография, по мнению Сарычева, не пользовалась должным вниманием молодых моряков. Больше чем когда-либо он “ревновал” сейчас к тому, насколько охотно будет заниматься Лазарев промеркой глубин, изучением льдообразования, температуры и всей той “черной работой”, которая столь необходима для науки. — Ратманов вряд ли сможет начальствовать в экспедиции, — продолжал Сарычев. — Здоровьем все еще слаб. Слыхал, будто просит назначить вместо него Беллинсгаузена. Уже сама боязнь идти в плаванье чревата неудачами. Думаю, министр примет во внимание немалое это обстоятельство. — Неясность с начальствованием удлинит срок подготовки экспедиции, — тихо сказал Лазарев. — Известно ли вашему превосходительству о готовности кораблей к выходу? Готовы ли инструкции для экспедиции в Адмиралтейств-коллегий? — Шлюп “Мирный” уступает в ходе “Востоку”. Несоответствие это может стать гибельным для дальней экспедиции. О том министру доложено. Рекомендую вам до вступления в должностьначальствующего в экспедиции позаботиться обо всем, дабы быть наготове. — Имею ли на то полномочия? — Само время, интересы дела и ваше достоинство дают их вам, — строго ответил Сарычев. — Корабли видели? — Не видел, ваше превосходительство. — Сперва корабли надо осмотреть, с портовыми служителями о всех нуждах переговорить, а потом сюда явиться, и тогда уже в запросах своих никому не уступать, — назидательно и резковато заметил Сарычев. — Посчитаю сегодняшнее ваше посещение предварительным. А ждать нельзя, сейчас уже надо команды набирать. Негласно он предупреждал лейтенанта о том, что может ждать его в Адмиралтействе. Сам не раз боролся с рутиной и не мог пересилить заведенных порядков. А в юности немало страдал от случайных флотских “опекунов”. Вдвоем с Беллинсгаузеном на байдаре отваживался, бывало, в малознакомых морях на отчаянные переходы и знал, что департаментские сановники не поймут его рвения. — Разрешу спросить, ваше превосходительство, подобрана ли команда? Без Ратманова смогли ли найти и обучить матросов? Можно ли принимать, не проверив, тех, кого пришлют из рот? — А ты не жди Ратманова. Коли знаешь кого из матросов да мастеровых, записывай, назначай. Команда на тебе. Так и штабу велю передать от моего имени, — незаметно для себя перейдя на “ты”, запросто сказал адмирал. И доверительно прибавил: — В свои руки коли дела не возьмешь, ничего не выйдет! Не так ли? И хотя этим признанием он как бы умалял честь Адмиралтейства, в котором служил, и свою, Лазарев благодарно улыбнулся и с облегчением ответил: — Слушаюсь, ваше превосходительство. Лазарев попрощался и вышел. В Адмиралтейств-коллегий он не нашел чиновников, ведающих отправкой экспедиции. Оставив рапорт о прибытии из отпуска, покинул здание. Итак, он властен один, не дожидаясь старшего по экспедиции, готовить корабли к походу! Тот же извозчик дотащил Лазарева на Выборгскую. Маша встретила вопросом: — Ну что? Видел корабли? Она знала о том, как не терпится Михаилу побывать на кораблях, назначенных в плаванье, и спрашивала об этом так, словно корабли стояли где-то поблизости на Невке. Она сидела на диване, совсем по-домашнему, в бархатном халате, опушенном беличьим мехом, как будто жила здесь не первый день. Это порадовало Михаила. А он-то думал, что сестре будет чуждовато, неприютно в его доме! Он вспомнил утренний разговор с ней и удивился: она была пытлива и насмешлива, а ведь, кажется, жила провинциалкой… Или некое шестое чувство помогает ей разбираться в том, что может отпугнуть другого своей необычностью, или попросту все скрашивает ее милая девичья простота. Он подумал о том, что мало знает женщин и потому удивляется этой женской способности везде скрашивать жизнь своим присутствием. Вспомнил он и слова Головкина, сказанные как-то в своем кругу: “Моряки пишут плохо, но чистосердечно, живут одиноко, но чувствуют остро, не избалованы и потому больше других стесняются женщин!” Потом сестра раскладывала на тарелки гречишники и заправленную в уксусе стерлядь, принесенные денщиком из кухмистерской, разливала вино. Он пообедал с сестрой, и только начало смеркаться, опять вышел из дома. Старик Паюсов ждал его и быстро повел лодку. В Рыбной слободе встретило их шумное сборище обитателей этого дальнего района. Возле полуразрушенного кирпичного завода, некогда при Петре поставлявшего кирпич на постройку столицы, сошлись мастеровые и требовали у старосты отрядить их на работу в Охтинские мастерские. Один из мастеровых, вскочив на поваленную будку, кричал о том, что на Охте снаряжают в плаванье четыре корабля и подрядчики-немцы уже ведут туда своих людей, а им, слободским, несмотря на милость государыни, нет на корабли доступа. Лазарев знал, о какой “государевой милости” идет речь. Лет тридцать назад, когда бились русские с турками на берегах Рымника, шведский король двинулся войной на Россию, и жители Рыбной слободы поголовно пошли в гребцы на гребную флотилию, охранявшую прибрежье и шхеры. С тех пор в слободе стоит поставленный Екатериной памятник рыбакам, и о нем, поглядывая в ту сторону, напоминал мастеровой. Лазарев присел на бревно, слушал. Староста, шустрый, остролицый старичок в чиновничьей фуражке, твердил: — Казенных людей хватает. — И разводил руками. Лазарев спросил мастеровых: — Тиммерманы[33] и купоры[34] есть среди вас? Голоса замолкли, из толпы не сразу ответили: — Есть, ваше благородие, а что до кузнецов, так нигде лучше наших не сыщешь! — То поглядеть надо, — намеренно недоверчиво протянул Лазарев. — А вы, ваше благородие, не бойтесь! Всей слободой ответим за своего мастера. Ни в чем иноземцам не уступим. — Так ли, староста? — Бывает, ваше благородие, что и не уступят, — поежился староста. — Но ведь голь перекатная, сами посудите, а те мастера — люди приличные! Иные из Лондона да Копенгагена… — А сам откуда? — прервал его Лазарев. — Сам я тутошний, — в замешательстве буркнул староста, колючим взглядом устремившись на офицера. И вдруг кто-то из толпы тоненьким голосом пропел: С деревни Лишней Барона Клишни, Приказчик верный И врун безмерный! — Прикажите им замолчать, ваше благородие! — робко сказал староста. — Сил моих нет. У Остзейского барона Клишни сколько работал, таких не встречал! — Завтра на Охту десять мастеров пришлешь ко мне! — приказал Михаил Петрович, указывая на собравшихся. — И пусть сами выберут лучших — тиммерманов да кузнецов! Спросить лейтенанта Лазарева. — Много благодарны, ваше благородие, — донеслось ему вслед. И как вздох раздалось где-то сзади: — Ла-за-рев. Он хотел лишь узнать о мастерах, можно ли будет заменить ими недостающих и нерадивых, а вышло так, что в ссоре со старостой принял их сторону. Оказывается, не один десяток мастеровых слоняется без дела по городу. Он поймал себя на том, что сам бы с удовольствием принялся вместе с ними за работу. Странная, казалось бы, тяга к плотницкому труду для человека, которому делом жизни стала мореходная наука. Один вид недостроенного корабля таил в себе столько заманчивого, призывного к труду и плаванью! На Охтинскую верфь прибыл Лазарев уже к вечеру. Шлюп “Восток” стоял в черной воде, — “полынной”, как говорили здесь, — едко пахнущей ворванью и канифолью. Пусто было на палубе, поблескивающей медью креплений, и, казалось, ветра просили приспущенные, поникшие паруса. Темные контуры опустевшего эллинга, из которого недавно вышел корабль, высились сзади и закрывали своей тенью палубу, как бы защищая ее от непогоды. Корабль стоял, возвышаясь над низенькими домами и заборами, словно один перед всем миром, и было в его очертаниях что-то неизъяснимо печальное, напоминающее отставшего в пути человека. Рабочие уже разошлись. Матрос-охранник дремал в натопленной до зноя избенке. Лазарев знал: зимой замирает верфь, но к весне во всем здешнем корабельном крае станет шумно. Явятся мастера в длиннополых сюртуках, похожие на купцов, каждый в сокровенном раздумье над закладкой нового корабля. Вспомнилось Лазареву, как, бывало, вычертит мастер на песке тростью “проэкторию” корабля, а подручный наложит жерди по этим его линиям, приволокут тяжелую колоду в киль, на месте шпангоута кинут голые ветви и позовут рабочих. “Ведаете ли?” — спросит мастер старших. И самые опытные ответят: “Что укажешь, тому быть, а судить после будем”. “Запоминайте”, — скажет мастер. Редко мастера разговаривают меж собой о закладке, но вспоминают отошедшие в прошлое бригантины и кочи, которые когда-то строили. Лазарев видел, что шлюп “Восток” построен по типу “Кастора” и “Полукса” — старых, давно знакомых ему кораблей. “Мирного” на Охте не было. Он находился где-то в пути и, по словам Сарычева, еще меньше, чем “Восток”, был приспособлен для дальнего плаванья. Лазарев долго ходил по палубе “Востока”, спускался в трюм, присматриваясь ко всему и свыкаясь с мыслью, что на этом корабле или на “Мирном” предстоит ему идти в плаванье, которое Сарычев назвал сегодня “заключительным для мореходной науки”.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Весть о том, что барин отдал его в рекруты, застала Абросима Скукку в Коломне, на службе у купца, торговавшего кожами. В столице немало жило переведенных на оброк крестьян, из Пошехонии — саечников, хлебников, из Ярославля — каменщиков, из Рязани, откуда был родом Абросим, — кожевников. В замшелой от сырости избе во дворе купеческого дома трудился Абросим над выделкой сыромятных кож. Был он здесь старшим, помогали ему Мафусаил Май-Избай и двое вольноотпущенных, но безземельных бедняков. — Это за что же меня? — спросил Абросим хромого фельдфебеля, передавшего ему какой-то пакет. — Вернешься — спросишь, — хмуро ответил фельдфебель и заковылял к выходу. — Лет через двадцать, — подсказал кто-то, — коли не помрет барин. Мафусаил Май-Избай оторвался от дела и сказал товарищу: — А ты не очень жалей… Может, дальние края повидаешь и деньгу скопишь! И пропел: Я семью и мать оставил Только б море повидать. Пел он хорошо. Абросим заслушался. Дня через два тот же фельдфебель принес и Мафусаилу барский приказ — отбывать рекрутчину. Староста в селе, видать, не нашел никого другого, барин согласился: зачем посылать в город людей, когда там уже есть Май-Избай и Скукка. Мафусаила Май-Избая прозвали “старцем”. Было ему не больше тридцати, но склонность к раздумию и медлительность движений соответствовали, по мнению товарищей, библейскому его имени. “Эх ты, Мафусаил, говорили ему, для тебя и двести лет не возраст, а по спокойствию твоему — всю тысячу проживешь”. “Старец” привык к подшучиванию над собой и в ответ добродушно ухмылялся, чем-то даже нравились ему эти шутки. Хоть именем своим, а стал он среди людей приметен! Помещик, пославший его на цареву службу, не знал его способностей к какому-либо ремеслу и числил в описке “пахотных мужиков”. Перед тем же, как отдать его в рекруты, помещик отпустил на оброк в город вместе с другими мужиками. Сделал ли он так для того, чтобы меньше было в деревне слез да хлопот на проводах, — понять было трудно. Прошла неделя и, простившись с приказчиком, они вдвоем — Май-Избай и Скукка — направились в экипажную казарму на Фонтанке, недалеко от Калинкина моста. — Жил я ладно, — с сожалением, как бы прощаясь с прошлым, говорил Абросим, — год, почитай, сам себе хозяином, даже грамоте у дьячка научился. Только б голова была, тогда и в городе не пропадешь, и себя, и барина, и дьячка прокормишь! В рыжих домотканных армяках, с мешком на веревочке, перекинутым через плечо, в чистых белых лаптях, сплетенных еще в деревне из березовой коры, были они приметны среди прохожих строгой своей бедностью, но в кармане хранили не малые для дворовых людей деньги, — каждый около полтины медью. В казарме унтер, принимавший рекрутов, косо поглядел на них и процедил в раздумье: — Пахотные? Ничего не умеете? Барин, небось, бедный… Известно, умельцев своих не отдаст. В солдаты бы, оно проще!.. Мафусаил Май-Избай согласился: — Конечно, в солдаты — чего проще! И всё — земля под ногами! Но им было предложено явиться к морякам, и они оробели. Похоже было, что Май-Избай забыл песню, которую недавно пел в доме купца. В то же время он испытывал чувство неловкости за себя, будто сам, никогда не видев моря, напрашивался во флот. Унтер сидел за грубым самодельным столом под большим портретом царя, рослый, в черной морской форме, с узкими погонами, которые топорщились дужками, говорил намеренно сурово, по глядел пытливо и снисходительно. Иногда он переводил взгляд на большую березу, видневшуюся из окна, она росла в конце двора, белея гладким, точно обструганным, стволом. — Идите за мной! — сказал унтер, привел их к березе и скомандовал: — А ну, наверх! Живо! И когда новички вмиг оказались на верхушке дерева, испуганно взирая оттуда, унтер удовлетворенно проговорил: — Ловки! Ничего не скажешь! Возвратясь с ними в комнату, унтер уже дружелюбно объяснил: — Иные не сумеют на березу влезть, и на мачту им, стало быть, трудно будет. Скажут: голова кружится. Да и по ловкости сразу поймешь, каков человек. Учить вас будем. Поучим — отдадим в экипаж. Ну, a там на корабли, захочет начальство — В тропики зашлет, захочет — в мартузы[35] пошлет. Новички с месяц не видели никого, кроме унтера. День уходил на шагистику и муштровку. Иногда казалось им, что на всем свете существует, кроме них, только один унтер. Вокруг казармы никли к земле покривившиеся срубы помещичьих особняков с чахлыми садами и дорожками, засеянными ромашкой. Тут же воздвигались новые кирпичные дома — застраивалась Коломна. По Неве медленно плыли какие-то шхуны, и лоцман, сняв шляпу, раскланивался перед гуляющими на берегу. Дальше, вверх по Фонтанке, тянулись за чугунными решетками заборов выложенные гранитом особняки “державного града”, с полосатыми, как шлагбаумы, будками сторожей. Там стояла деревенская тишина, а по воскресеньям чиновники ходили на болото стрелять куликов. Унтер однажды водил рекрутов на Невский. Они прошли строем — обитатели коломенской казармы, — рота поступивших на морское обучение помещичьих слуг. Было их человек сто. Бородатые кучера в длиннополых кафтанах, похожие на ряженых, продавцы сбитня да крикливые селедочницы с пахучими узкими корзинами за плечами приняли их за строителей Исаакия и быстро закрестились. Унтер заметил, велел подтянуться и петь. В первых рядах затянули: Царь да батюшка родимый Нас отправил на моря. Обманутые кучера рассердились на унтера. Прохожие оглядывались. С Лазаревского кладбища на Невский выползли какие-то старушки в черном и неодобрительно глядели на рекрутов. Можно ли петь на Невском? Новобранцы приумолкли, и унтер смирился. Прошел еще месяц, рекрутов одели матросами и распределили по экипажам. Перед отправкой из казармы они впервые увидели офицера и поняли, что унтер еще не такой большой чин. Май-Избая и Скукку направили в учебный отряд на Охту. Здесь оба они пристрастились к плотничьему делу. Первое знакомство с кораблем вызвало в Май-Избае чувство робости и скрытого обожания. Только так можно было оказать о том, что испытывал он, ступая по кораблю, поглаживая по ночам, чтобы никто не видел, точеные перила и ровное дерево мачт… Казалось, он давно стремился попасть на корабль, и та песня, которая однажды запала ему в душу, выражала самые затаенные его чувства. Его еще держали на обучении, приставив к тиммерману из шведов, человеку небольших помыслов, привязанному к небогатой своей дачке на берегу, которую сдавал на лето, к садику, к тихому, уютному жилью. И тогда Май-Избай вспомнил, что где-то в городе живет родственник его по матери — старый матрос Иван Паюсов, не очень любящий деревенскую свою родню, но безмерно ею чтимый. В отпускной день отыскал он Паюсова на Невке, у перевоза, в доме, построенном из толстых дубовых бревен, и предстал перед стариком, читавшим за самоваром номер “Русского инвалида”. — Что тебе? — спросил он матроса, оторвавшись от чтения. В доме никого не было, если не считать младенца, выглядывавшего из тряпья в деревянной люльке под потолком. Но именно на эту люльку и глядел сейчас в тяжелом недоумении Май-Избай, удивляясь про себя, неужели у старика Паюсова, до сих пор бездетного, завелся ребенок. — Кто ты? — повысил голос старик. — Сын Параши Кобзевой, что замужем за Игнатием из Дубков, двоюродным братом вашим… — Когда отвечаешь, чей сын, надо называть сперва отца, а не мать, — прервал Паюсов. — Стало быть, сын двоюродного моего брата Игнатия. Садись. Девять у меня двоюродных-то. Игнатия хуже всех помню. Жив, здоров? А ты? Давно в матросах? — Полугода нет. — И что ж? Небось, бежал бы, коль мог, на волю… — Зачем? — с обидой ответил Май-Избай. — Только на корабле и воля! — Воля? Что же у вас боцмана, что ли, нет на корабле? — почти возмутился Паюсов. — Я корабль полюбил, мне на корабле воля… На море служба куда лучше барщины! — твердо сказал Май-Избай, выдержав недобрый взгляд старика. Оба помолчали. Паюсов налил гостю чая, угостил баранками и отошел к люльке. — Чей же это у вас? — осмелился спросить Май-Избай, глядя на ребенка. — Чей? Мой! Раз живет у меня — стало быть, мой. — Живет, — повторил гость. — Ему с год. Знает он, где живет? А хозяйка где, мать? — Этого и я, брат, не знаю, — спокойно отозвался Паюсов. — Моих уже, считай, под тридцать набралось, моей фамилии, молодец к молодцу! Лет до трех держу, потом в деревню! Бывает четверо-пятеро в доме толкутся. Май-Избай силился понять, смешно моргал глазами, и старик, как бы пожалев его, объяснил: — Подкидыши они, понял? Что ни год подбираю на Невке. Родителям не нужны, а мне — забота… Иной, правда, за перевоз накинет: “На тебе, Иван Власьич, на сирот твоих”. Так и содержу. Вырастут — соберу у себя, на флот отдам. Люди будут! — На флот ведь!.. А надо мной смеялись! — с легким укором заметил Май-Избай. — Город наш такой, — помедлив, сказал старик в свое оправдание. — Трудно человеку верить. Князья у нас живут, цари, бродяги, чиновники… татары, немцы, шведы, финны, — город, что Вавилон. И о воле каждый по-своему судит. Ну, а ты правильно оказал: на корабле вольготней. Еще толкуют о “крестьянской воле”, но до той воли трудно дожить, а будет!.. — Неужто будет? — удивился Май-Избай. — А как же не быть, коли люди сами неволю, как личину сбросят, коли сами на ноги встанут. Попробуй, помешай им. А наш-то северный, архангелогородский, человек первый к воле тянется… Только о ком говорю? Не о барской челяди. Без барина что швейцару делать? За кем дверь закрывать? О тех говорю, кто себя в этой жизни нашел и за дешевой копейкой не погнался. Они много в этот день говорили о том, как понимать волю, и расстались довольные друг другом. Постепенно подружились. Обещал Паюсов вскоре помочь двоюродному племяннику, — выпросить для него место на корабле, уходящем в плаванье. И сделал это, встретив Михаила Петровича на перевозе. Летом выпало Май-Избаю и Скукке вместе плавать на корабле в балтийских водах, а осенью, возвратясь, числился Май-Избай в экипажной команде помощником тиммермана. Приходил он теперь запросто с товарищами своими к старику Паюсову. Кроме земляка Скукки, бывали с ним матрос Киселев из Казани и архангелогородец Данила Анохин. Анохин был из “зуйков”, — так обычно звали поморы мальчиков, поступивших в услужение, уподобляя их той ничем не приметной серенькой птичке, вечно кружащейся на промыслах, там, где ловят рыбу. Данилка — “зуек”, помогая рыбакам, получал за лето пуда два сушеных тресковых голов, старые сапоги и сколько хотел битой береговой птицы одного с собой имени. Птицу эту он всегда отгонял, думая, неужели и сам он такой же прожорливый и надоедливый. Попав в матросы, он обрел этакую показную степенность, стараясь ходить вразвалку, медленно, и все потому, чтобы не быть похожим на эту ненавистную, всегда мечущуюся птицу. О южном материке Данилка слышал много поморских сказаний и утверждал, что стоит лишь выследить, куда идет кит, — и подплывешь к этому материку. Анохин знал грамоту и читал Киселеву поморскую книгу в жестяных “щипках” на страницах — она пахла рыбой и морской солью — о мурманском рыбаке Фроле Жукове, ходившем во святые места и в Италию. Анохин был белокур, приземист, Киселев — смугл и тонок; сразу видно “с разных полюсов”, говорили о них. Но из каких только краев не было в экипажной казарме: татары, финны, эстонцы, — прав Паюсов, в Петербурге, как в Вавилоне!.. Киселев отнюдь не держал себя начальнически, но старик Паюсов чувствовал мягкую его, неусыпную власть над товарищами, потому ли, что было у юноши на душе спокойнее и устроеннее, чем у них, и в нужный момент спокойствие это заменяло опыт? Киселев оказался из тех “бывальцев”, которые, собственно, еще нигде и не бывали, но привыкли, ничему не удивляться, столь много постигли они по книгам. От этого была в нем чудесная ласковость к людям, ничем не омраченная чуткость и вместе с тем какая-то обостренность восприятия. По Невскому он ходил словно по первопутку, а здесь, в доме Паюсова, сидел, будто в глухом бору. Но был он великий умелец до всего “рукодельного”, мастерил даже деревянные часы. Все гости Паюсова любили песни. Собираясь в его доме, они особенно часто пели полюбившуюся старику “Матросокую заповедь”: На Васильевском славном острове Молодой матрос корабли снастил, Корабли снастил и загадывал, Как пойду, куда, где расстануся, Рыбаком ли где кончу век я свой, Иль в волнах морских обрету покой. Только знай, жена, на судьбу свою Никогда нигде не пожалуюсь, Что видал — видал, что терпел — терпел, Оттого ли мне столько в жизни дел, Оттого ли я лишь душой томлюсь, Коль корабль мой наплаву стоит? Плакал младенец в люльке, напуганный голосами, его брали на руки матросы. Боязливо жалась у дверей пришедшая к старику “баба-неуделка”, так звали Маркеловну, расторопную вдову из слободки, поочередно помогавшую в холостых матросских домах по хозяйству. Чадила лампа, косматые тени метались на стенах, завешанных иконами и лубками, хлопал ставнями ветер, и где-то на перевозе ожидали Паюсова. Но старику ни до чего не было дела! Он весь отдавался песне. Только проводив гостей, выходил на ночь к инвалидной своей команде, притихший и поласковевший, словно после молебствия. Прошел месяц с того дня, когда встретил Паюсов Михаила Петровича на перевозе. Зима, наконец, вошла в силу. Река лежала в снегу, свернувшись калачиком, отделенная от берега еле заметной кромкой. Снег завалил дороги, запорошил дома и поднялся над берегом огромной горой. В морозном воздухе стали отчетливее слышны гудки мастерских, расположенных на берегу, и звон колокольцев. Тройки мчались через Охту мимо верфи и экипажных казарм. Однажды лейтенанту Лазареву сказали, что его ждут выстроенные на палубе матросы, готовившие корабли в плаванье. — С вами просятся в вояж, добровольцами, — доложил дежурный офицер. Был вечер. Лазарев в шубе, накинутой поверх шинели, вышел к матросам и, вглядываясь в темную, замершую при его приближении шеренгу, спросил: — Знаете ли, что ждет вас, братцы? Куда проситесь, на что идете? — Так точно, ваше благородие, знаем! — раздалось в ответ. — Землю искать, ваше благородие! — ответил Абросим Скукка. Его поддержали: — Нашли же мы, русские, земли в Америке, населили их… — Мы, русские! — повторил вслед за ними Лазарев. Он твердо решил не брать на корабль иностранцев и теперь разговор с матросами как бы укреплял его в этом решении. — Есть ли среди вас матрос Май-Избай? Он помнил просьбу Паюсова и хотел, чтобы Май-Избай рассказал здесь о себе и своих товарищах. Май-Избай вышел вперед и вдруг в охватившем его волнении снял шапку. Сзади что-то шепнули ему, но он не слышал, голосом сильным и звонким, как бы давая клятву, сказал: — Крепостной я, помещика Топоркова дворовый, учился в городе, в матросы взят. Примите к себе, ваше благородие, ничего не страшусь, одного только: на берегу остаться… И они также… — Он показал взглядом на товарищей. Лейтенант понял, что всякие расспросы могут лишь обидеть этого человека, доверившего ему лучшие свои чувства и свою жизнь, которой, сложись все иначе, владел бы помещик Топорков, никогда бы не услышавший от своего дворового таких слов. — Надень шапку. Экий ты, братец! — проворчал лейтенант и скомандовал: — Разойдись! Он тут же приказал подать ему описок добровольцев.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Петербургские знакомства принесли Маше и радости, и огорчения. Хорошо было на катке в Петергофе, куда возил ее брат Алексей: роговая музыка, танцы на льду, маскарад, огни фейерверка, шутливо-светские разговоры, в которых надо не растеряться и не обнаружить свою провинциальность. Интересно на вечерах у Карамзиных, где довелось ей встретить адмирала Шишкова, Дениса Давыдова и мимоходом Пушкина. Пушкина лицейской поры, бурного, ясноглазого, с твердым, стремительно выдвинутым вперед подбородком и следами конфетти в рыжеватых волосах после бала, на котором уже успел побывать. Здесь бывали три брата Лазаревых, и надо было видеть, с какой ревнивой гордостью держали они возле себя сестру, статную, с открытым, смелым лицом, взволнованную ощущением своей молодости и красоты. С каким милым недоумением, не умея скрыть своих чувств, глядела она на чопорных старух, окаменело сидевших у камина, и на беззаботно болтливую княжну Чибисову, племянницу хозяина дома. Машу одинаково отпугивала и беспечность, и скаредность мысли. Проще было в обширном доме Крузенштерна, всегда заполненном приезжими моряками. Куда только не ехали нашедшие себе приют у Ивана Федоровича! На Аляску и на Азов. Самые разные люди собирались здесь, но всех их объединяла неуемная любовь к странствованию, и всем им, казалось, не было места в столице! Здесь гостили молодые мичманы Михаил Рейнеке и Павел Нахимов. Оба были хорошо знакомы Лазаревым: смуглый остролицый Рейнеке — моряк, ботаник и музыкант (необычайное сочетание этих качеств отнюдь не удивляло Машу); Нахимов был выше, стройнее товарища, внимательней и молчаливей. — Вы очень добрый, наверное, — сказала Маша как-то Рейнеке. — А говорят, будто чрезмерная доброта мешает на службе. — Что такое доброта? — заинтересовался он. — Я думаю, сейчас, например, самая большая доброта, которую можно проявить к людям, — это поставить на фиордах и мысах маяки, высокие башни с огнями. Сколько людей спасем… Необычайность его мыслей повергла Машу в смущение: вот о чем думает мичман! Павел Нахимов поспешил ей на выручку: — Не подумайте, однако, что он, кроме маяков, ничего не знает. У каждого из нас есть свое дело, которому мы поклялись посвятить жизнь. Иван Федорович когда-то вместе с Лисянским поклялся завершить начатое Витусом Берингом изыскание в северных водах, Рейнеке — поставить маяки, я же… — Что-то помешало ему, и он не договорил, а Маша не посмела докучать ему расспросами. В девятнадцать лет, — а старше, видно, никто из них не был, — клятвенное заверение дается особенно охотно и звучит всегда торжественно. Она прониклась значительностью сказанного ими и чувствовала себя осчастливленной их доверием. Ежедневно бывали здесь и другие незнакомые Маше моряки, по интересам своим и стремлениям подвижники одной и той же цели. Слушая их, Маша то загоралась их рассказами о дальних плаваниях, то пугалась пропасти, которая лежала, казалось ей, между ними и чиновным, занятым собою Петербургом. Столь необычным представлялось ей суровое братство моряков, привыкших к опасностям, рядом с ленивым, праздным существованием петербургских чиновников. Брат ничем we выражал своей неприязни чуждой ему столичной жизни. Но ей запомнился разговор с ним в первый день их приезда из Владимира, и теперь многое открылось в гостеприимном доме Крузенштерна. Иван Федорович как-то сказал ей смеясь: — Вы так следите за нами, словно все время ждете какого-то откровения. Вы смотрите на нас немного влюбленно, а мы этого не стоим. Хотите знать, так у нас те же пороки, что и в большом свете… — Не может быть! — вырвалось у нее. — А кого вы знаете в Петербурге? — просто спросил он. — Моряков и… светских бездельников, не так ли? Она не поверила, ее влюбленность в новый для нее круг людей не имела предела. От Ивана Федоровича она услышала об инженерах, промышленниках, ученых, по его словам, подвергающихся риску из-за вольнодумства попасть в опалу или остаться без средств. Он рассказывал ей об Афанасии Каверзневе, ученом-пчеловоде, естественнике, и даже вспомнил о крепостном Савве Морозове, откупившемся в этом году и открывшем свое мануфактурное производство. Иван Федорович говорил обо всем этом, строго и даже поучительно. Маша уже сумела связать в своем представлении деятельность этих людей с подвигами моряков и поняла, чем вызвала в Крузенштерне недовольство собой. Она неосторожно в разговоре с ним умалила одних, полезных для государства людей, и возвеличила других. Но так ли это? В глубине души она еще не совсем соглашалась с Крузенштерном, хотя и не смела с ним спорить. В доме Крузенштерна вставали рано, умывались по пояс ледяной водой, перед завтраком упражнялись на брусьях в пустой, отведенной для гимнастики комнате, дочери хозяина, гости, и среди них даже какие-то старики, оказавшиеся дальней родней Ивана Федоровича. Читали молитву все вместе, подойдя к большому киоту в столовой, но глядели больше не на иконы, а на портрет Петра, висевший на стене. Петра чтили в семье Крузенштерна, о царе-адмирале знали хорошо даже слуги. Сам Иван Федорович в свои пятьдесят лет был юношески подвижен, бодр и, что особенно поражало Машу, нескончаемо весел. Иногда он играл с ней в прятки, высокий, большеголовый, седой, прятался в громадные шкафы, которыми был заставлен этот неуютный, холодный дом. Но было в этом доме другое, не сразу уловленное ею в мелочах быта и в склонностях к суровому распорядку жизни: культ Севера, пристрастие к его природе и людям. Никак не выраженное в речах, пристрастие это сказывалось и в подборе слуг, преимущественно из северян, и в стиле тяжелой мебели, и в том, что на десерт в обед подавали морошку… Слуги отличались непозволительной, казалось бы, склонностью держаться на равной ноге с хозяином, отнюдь при этом не льстя ему и не впадая в какую-либо вольность. Убеждение, что все они “равны перед богом”, а Иван Федорович ответственен и перед ними, проступало с такой непоколебимостью, что Маша терялась. Адмиральский дом казался ей каким-то игуменским затвором, описанным Вальтер-Скоттом, в котором и повара, и привратники — все рыцари. В этом доме жизнь шла размеренно, и вечера часто кончались чтением вслух новых, только что вышедших книг. Бывало, Маше предлагали занять место за круглым простым столом, среди гостей и родных, и прочесть очередную главу из описания путешествия Беринга. Она не догадывалась, как волнуют собравшихся кажущиеся ей обычными слова: “Неусыпное старание бессмертной славы императора Петра Великого о учреждении морского флота возбудило в нем охоту искать счастья своего в России”. Для многих из гостей Крузенштерна, отцы которых подобно Берингу здесь “искали своего счастья”, эта фраза звучала присягой. Не раз при Маше спорили о южном материке, и ее удивляло, сколь важно, оказывается, открытие его для разрешения других вопросов: о теплом и холодном течениях, об уровне морей, о климатах, о прошлом земли. Иногда ей казалось, что, исходя из того, есть ли южный материк, можно прийти к еще более необычайным суждениям о современной жизни. Крузенштерн говорил об ученом Лангсдорфе, живущем в Бразилии, во многом уповая на его помощь экспедиции, об астрономе Симонове, приглашенном принять в ней участие, и Маша вспоминала беседы о неведомой Южной земле во Владимире, в саду, в дни приезда братьев. Загадочнее всех относился к экспедиции Юрий Лисянский. Маша так и ее могла поднять из отрывистых его замечаний, верит ли он в существование Южной земли. Он был очень близок с хозяином дома, вместе с ним плавал, но рано вышел в отставку и довольствовался теперь только изданием своих “Путешествий”, с трудом напечатанных лет семь назад и уже обошедших весь мир. Маша знала, что из присутствующих нет, пожалуй, кроме хозяина, более бывалого и сведущего в плаваньях человека. Он беседовал с Вашингтоном в Америке, был в Западной и Восточной Индии, в Южной Африке, он многое сделал, но рассорился с русским послом в Лондоне Воронцовым. Немало повредил Лисянскому и англоман адмирал Чичагов, бывший у власти и добившийся даже смены образованнейшего и могущественного одно время Мордвинова. Михаил Петрович особенно считался с его мнением, но Лисянский говорил обо всем желчно и неохотно: — Помните ли эпитафию на могиле Шелехова, написанную Державиным? — спросил он неожиданно Лазарева и, не дожидаясь ответа, прочитал: Колумб здесь русский погребен, Проплыл моря, открыл страны безвестны И зря, что все на свете тлен, Направил парус свой во океан небесный. — Да, “все на свете тлен”, — повторил он. — Вернетесь из плаванья, и будут ваши доклады лежать без толку в Адмиралтействе, коему меньше всего они потребны, милый Лазарев! И принесут они вам только пустые хлопоты. Какие богатства для науки уже оставили русские моряки! А кто воспользовался ими? Потому-то и думаю, что ваш успех не только от доблести вашей и вашего экипажа зависит. Нервное худое лицо его с большими глазами часто вздрагивало, он казался больным, а густые, вьющиеся волосы были разлохмачены. Лисянский тяжело переживал вынужденную свою отставку и втайне, может быть, завидовал Лазареву. Крузенштерн исподлобья наблюдал за ним не прерывая. Немного успокоившись, Лисянский сказал ласково, как бы желая смягчить горечь своих слов: — Справедливо будет привести сомнения адмирала Чичагова, касающиеся нашего флота. Они наигорше памятны мне. Коли не устраним повода для сомнений — не сможем быть уверены в собственных силах. Я имею в виду оказанную нам в кругосветном плавании помеху. Вот что писал Чичагов: “У них, сиречь у нас, — он с улыбкой взглянул на Крузенштерна, — недостаток во всем: не могут найти для путешествия ни астронома, ни ученого, ни натуралиста, ни приличного врача. С подобным снаряжением, даже если бы матросы и офицеры были хороши, какой из всего этого может получиться толк?” Памятуя эти неопровергнутые возражения, я опрашиваю Лазарева: а каково у него со снаряжением и подготовкой? — На подготовку ни сил, ни времени не пожалею! — коротко ответил Михаил Петрович. Маша знала, что опасения, высказанные Лисянским, разделял и брат. Больше к этому разговору не возвращались. Как-то при Маше возник разговор, не менее ее встревоживший. Случилось, капитан первого ранга Рикорд в добром своем слове об Иване Федоровиче сказал в Адмиралтействе, что “пронесет Россия в века славу первого путешествия русских вокруг света, и Крузенштерну обязана она не только организацией, но и первой мыслью этого путешествия, если не считать готовившейся, но так и не состоявшейся экспедиции Муловского”. Казалось бы, упомянул об этом Рикорд, и ладно! Мало прибавил нового к славе Крузенштерна, и морякам известно, что только из-за болезни глаз не может принять Крузенштерн участия в новом плаванье к Южному полюсу. Но нет, нашелся в государстве “блюститель истины” в лице Голенищева-Кутузова и заявил о прискорбном забвении Рикордом заслуг императрицы Екатерины. Не Крузенштерн, дескать, а она, матушка Екатерина, предпринимала кругосветное путешествие еще в 1786 году. И предлагала возглавить эту экспедицию Георгу Форстеру, сподвижнику Кука, но помешала война с Турцией. — Право, слава в нашем обществе в одном значении с гордыней! — зло заметил Лисянский. — Чего доброго Иван Федорович окажется посягающим на лавры государыни-императрицы, а Рикорд — в ослушниках. Крузенштерн, мрачновато усмехнувшись, оказал: — Обо мне толковать, пожалуй, неинтересно. Что касается Форстера, рекомендую Михаилу Петровичу чтить память этого человека и в морских записках его разобраться. Моряк был превосходный, а помыслами — человек необычайный, я судьбы поистине трагической. Жил он в Майнце, тамошний курфюрст пригласил его быть у него главным библиотекарем. Во произошла, как вы знаете, французская революция. Французы взяли Майнц, и немец Форстер поехал в Париж хлопотать о присоединении Майнца к восставшей Франции. Впоследствии Форстер, никому ненужный, в том числе и нашей государыне, умер объявленный изменником! Что бы сказал Кук об этом “якобинце”, своем сподвижнике, не знаю!.. А только знаю, что этот иностранец был не чета другим в России, и вольнолюбивым идеям, а не корысти привержен!.. Он повернулся к Михаилу Петровичу: — Моряка Форстера Голенищев-Кутузов правильно помянул. О плаваньях его знать надо! Расходились поздно. Едва пробьет двенадцать — слуга Крузенштерна Батарша Бадеев, татарин, старый матрос, с громким лязгом выбрасывает тяжелый лист большого железного календаря в прихожей и возглашает во всеуслышанье: “День прошел!” Маша внутренне поеживается: с покаянной ясностью возникает у нее ощущение безвозвратно ушедшего дня, который ничем полезным ей не пришлось отметить! Впрочем, и старик Бадеев, кажется Маше, больше всех чувствует уход еще одного дня. Лицо его печально. Этот Бадеев ходил с Иваном Федоровичем в дальние вояжи, а теперь причислен к экипажу “Востока”. Он был крепостным Крузенштерна, год назад жил в его поместье “Асе”, где-то в Эстляндии. Выслушав предложение хозяина идти в экспедицию, Бадеев подошел к карте, долго смотрел на нее и, перекрестившись, сказал: — Что ж. Или мы последние у бога? Конечно, идти надо! Однажды, сменив лист календаря и возвестив о часе, он подошел к Лазареву, приодетый, строгий, спросил: — Дозволите на корабль, ваше благородие? И ушел, сдав дворнику обязанности по дому. Постепенно Маша стала осведомлена почти во всех делах брата. Заметив это, он ей оказал: — Вот уж и для тебя нет больше мифов! Все очень трудно и очень просто! Кажется, тебе уже не быть провинциальной барышней, гадающей на воске о своем счастье… Она грустно ответила: — А ты не думаешь, что от этого мне все тяжелей? Мне тоже хочется что-нибудь самой уметь делать. Но ведь не может быть женщина штурманом или лоцманом! Остается только жалеть об этом! Так широко, кажется, на свете и вместе с тем — так тесно! Ты уйдешь в плаванье, а я… Не могу же я вернуться во Владимир. Пойми, мне нечего там делать. — Но что должна делать девушка твоих лет? — пробовал возразить брат, почувствовав вдруг, что доводы его неубедительны. — Вероятно, то же, что делают во Владимире другие?.. Он произнес эти слова неуверенно, скорее по сложившемуся обычаю отвечать именно так, и она, не обидевшись, рассмеялась: — А делать-то, выходит, там нечего… Брат молчал, поняв, что, привезя ее в Петербург, он явно в чем-то просчитался. Не в доме ли Крузенштерна передалось ей это томление по делу, по суровому подвижничеству в жизни? В мыслях его опять мелькнуло о домашней неустроенности моряков, и он почувствовал себя виноватым перед сестрой. — Вот привез тебя себе на беду! — сказал он. Но этому она воспротивилась изо всех сил и сделала вид, что готова вернуться во Владимир без всяких терзаний. — Я открою там ланкастерскую школу! — смирилась она. Она часто бывала у Паюсова на перевозе и слышала, что говорят матросы о ее брате. Лазарев водил на корабль охтинских мастеров и в спорах о продольной крепости судна, о “резвости” его на ходу выверял собственные представления о несовершенствах его постройки. И здесь поминали Крузенштерна, “Неву” и “Надежду”, какого-то именитого корабельщика Охтина, живущего в Кронштадте. Брат не забыл ни о сомнениях Лисянокого, ни о Форстере, — часами рылся в адмиралтейском архиве и подолгу бывал у каких-то подрядчиков, заготовлявших для кораблей продукты, удивляя Машу затянувшимися, как ей казалось, бесконечно долгими приготовлениями к выходу в море. Право, можно было подумать, что экспедиция уже началась с этих приготовлений и бесед с мастерами… Брат возил ее с собой на верфь, где переделывали транспорт “Ладогу”, переименованную в “Мирный”. Пришла весна, и первые проталины заголубели на снегу. Еще недели две — и покажутся в небе журавли, держа путь на Онегу, выкинут первые почки молодые березки, и зацветет во дворе верфи низкорослая с раскидистыми ветвями черемуха. Звонче забьют колокола церквей, — сейчас звон их приглушен мутной пеленой туманов, — прояснится даль та окажется, что верфь стоит не так уж далеко от города. Приблизится Рыбная слобода, в бревенчатых крепких избах ее девушки сядут плести сети и чинить старые паруса для баркасов. Придет пасха, в больших, пахнущих сельдью корзинах принесут на корабли тысячи крашеных яиц. В этот день на корабли будут допущены все женщины и дети из слободы, семьи мастеровых, начнутся песни и танцы на берегу. Маша представляла себя в их толпе и вспоминала праздники во Владимире, только здесь все приурочено к дням, когда спускают на воду или отправляют в море корабль. И Маше начинает казаться все навязчивей, что и она скоро куда-то поплывет… А в старой часовенке, излучающей ночью на весеннем ветру тихий, дремотный свет гниющего дерева, местный псаломщик из староверов будет читать “Триодь цветную” и думать о кораблях, унесших с новыми легкими парусами и все зимние тяготы. Деревья на берегу обвяжут вышитыми рушниками, и празднично убранной станет казенная верфь. Заткнув за пояс длинные русые косы, в байковых широких кофтах сойдут в лодку с пучками вербы зачахшие в домах мастерицы и возьмут весла онемевшими на холоде руками. И смотришь, лодками покроется река, а вечером зажгут фонарики, и робкое празднество это назовут карнавалом. Но “Мирному” и “Востоку” не дождаться этого дня, — кораблям идти в Кронштадт, а на них и мастеровым, нанятым Михаилом Петровичем. Он самовольничает, ссорится с чиновниками верфи, но добивается своего: до конца доведут все работы на кораблях местные мастеровые! Туда же перебираться и Маше, оставив обжитой дом на Выборгской стороне. Приезжал Андрей, старший из братьев, звал к себе, — тоже собирается в плаванье. Но Маша уже не в силах разобраться во всех их маршрутах и не решается оставить Михаила. Кончается тем, что незадолго до того, как вскрывается Нева, очищая путь кораблям, в легких беговых санках опешит она с братом в Кронштадт. Там Рейнеке, Нахимов и Сарычев, открывающий в этом году навигацию по новым, выпущенным им картам.ГЛАВА ПЯТАЯ
Беллинсгаузен прибыл в столицу в конце мая, оставив в Севастополе семью, обжитой дом на Корабельной стороне и полюбившийся ему фрегат “Флора”. На нем собирался Беллинсгаузен в это лето обойти Черное море, чтобы определить, наконец, с абсолютной верностью географическое очертание берегов, бухт и мысов. До сих пор не было такого точного описания, и это немало мешало операцияммолодого, набирающего силы Черноморского флота. Морокой министр вызывал Беллинсгаузена “для принятия некоторых поручений государя”. Он писал об этом и в письме к вице-адмиралу Грешу, главному командиру флота. Никто не знал, что это за поручение, но Грейг отпускал своего офицера неохотно, лишаясь в его лице верного помощника. О знании им дела, о способностях его к гидрографии писал Крузенштерн, с которым Беллинсгаузен вместе ходил в кругосветное плаванье на “Надежде”. Хорошей рекомендацией ему послужила и происшедшая три года назад стычка его с чиновниками из Депо карт Черноморского флота, жаловавшихся Адмиралтейству на то, что карты, утвержденные самим адмиралтейским департаментом, подвергнуты Беллинсгаузеном сомнению. Фаддей Фаддеевич отвечал: “Сочинить карту можно в департаменте, но утверждать, доказать верность оной не иначе как можно токмо опытом”. От затянувшихся споров с чиновниками отрывало сейчас Беллинсгаузена высочайшее повеление прибыть в столицу. Беллинсгаузен был лет на десять старше Лазарева, в этом году отмечалось его сорокалетие, но выглядел он очень молодо. С годами полнел, однако полнота не утяжеляла сильную, ладную его фигуру. Светлое круглое лицо его с высоким лбом я чуть выпуклыми глазами, казалось малоподвижным и даже ленивым, при этом он отличался неожиданной живостью характера. Он был прост с людьми и не терпел барственности. В небольшом селении, около города Куресааре, на острове Эзель, где родился Беллинсгаузен, все жители были моряками. Управлять парусной лодкой должен был каждый с малых лет, как должен казак держаться на коне. Бывало, в непогоду, когда шторм захватывал в море рыбаков, церковный колокол звал на помощь, и все от мала до велика выходили на берег, Беллинсгаузен-кадет спокойно выходил один в просторы Балтийского моря, ночевал в лодке, укачиваемый волной. И теперь, будучи капитаном второго ранга, мог спать в любую бурю, привязав себя к койке. Морской министр удивил его не назначением в плавание к Южному полюсу, — о такой экспедиции поговаривали давно, — а равнодушием, с каким, передавая ему инструкции, оказал: — Я знаю, вы сделаете все возможное. Ну, а что выше ваших сил, — никто не потребует… Министр как бы подготавливал его к возможной неудаче. Седенький, узкогрудый, с изящными тонкими руками, которые легко держал на столе, как пианист на клавишах, с лицом иезуита, в высоком вольтеровском кресле, он меньше всего походил на моряка, тем более на флотоводца. Впрочем, он и не старался им быть. Знатный эмигрант, беглец, отказавшийся от своей родины и принятый лишь царским двором, но не Россией, маркиз Жан-Франсуа де-Траверсе, ныне Иван Иванович (так сам окрестил себя), был произведен в российские адмиралы. Он был, собственно, больше придворным, чем министром, умело прислуживал Аракчееву, но побаивался в душе своих подчиненных, таких, как Крузенштерн или Сарычев. Они немногого хотели от маркиза, лишь бы не вздумал сам плавать и не выдвигал на флот своих ставленников из иноземцев. Чувствуя ли слабость своего положения, или по мягкости характера, Иван Иванович проявлял себя “человеком покладистым”, как говорил о нем старый Шишков, и по возможности старался не перечить вошедшим в славу морякам. — Заботами государя императора снаряжена не одна экспедиция, — скучно говорил он с заметным акцентом, испытующе поглядывая на рослого Беллинсгаузена. — Из них порученная вам — самая гадательная по результатам. Только от щедрости своей может государство наше разрешить сей вояж, идя навстречу желаниям ученых, а также памятуя, что дальние сии экспедиции уже вошли у нас в славный обычай. Государь обнадежен мною в ваших стараниях, коих не пожалеете во славу России, и соизволил пригласить вас к себе перед вашим отбытием. О дне том… Зевота скривила его, все в морщинах, чуть припудренное личико с маленькими, уныло торчащими усиками, и, подавляя зевоту, он быстро проговорил: — О дне том будете уведомлены. И вдруг, как бы желая расположить к себе моряка, стать тем самым Иван Ивановичем, о котором говорят, что “недаром француз может и в простачка сыграть”, он прищурился, качнул головой и, посмеиваясь, закончил: — Сочувствую, капитан, холодно, ветрено там, брр! Грациозно наклонил голову в знак того, что разговор окончен, и протянул немощную, тонкую руку с перстнем на указательном пальце. Вот он каков — маркиз Иван Иванович! Беллинсгаузен шел по коридорам Адмиралтейства и старался думать только о деле, отгоняя все неуместно сказанное маркизом. Его манера держаться, царедворческая выспренность я любезность, не таящая ничего, кроме желания покрасоваться, были столь неприятны, что Фаддей Фаддеевич помрачнел и в сердцах крикнул замешкавшемуся швейцару: — Ты, что же, братец? Шинель! Он побывал вечером у Крузенштерна, успокоился, побеседовав с ним. А на следующий день уже сновал по кронштадтским мастерским, требовал уменьшить рангоут на “Востоке”, сменить обшивку. Он успел узнать, как много сделано улучшений на кораблях по указаниям Михаила Лазарева. Собственно, осталось только еще раз проверить сделанное, вчитаться в реестровые книги, в отчеты и принять дивизию. Так официально назывался этот отряд из двух кораблей. Но оставалась непринятой… наука, — все то, что относилось к самой теории, к расчетам по проведению научных изысканий в море, к маршруту. По всем этим вопросам он беседовал с Сарычевым в его кабинете, беседовал о Гумбольте и Лапласе, о существовании годовых колебаний в морских течениях, о неведомой жизни в недрах океана, способах измерения его дна на глубинах, недосягаемых для лота, и еще о многом таком, что обоих приводило в волненье и что теперь представало во всей своей новизне и сложности. Оба, сняв мундиры и засучив рукава рубашек, забыв о различии в чинах и о времени, ползали по полу, расстилая огромные карты и громко споря, а иногда и запальчиво крича друг на друга: — Вы же за век не прорветесь сквозь туманы, если замешкаетесь здесь в июле… Эх, вы! Сарычев указывал толстым плотничьим карандашом севернее Новой Зеландии, грозно негодовал и слышал в ответ: — И вы не прорветесь, погибнете, упорствуя на своем… В эту минуту оба, казалось, забывали, что ведь Сарычев отнюдь не собирается сам к Южному полюсу. Тут же, приводя свои чувства в ясность, Беллинсгаузен вздыхал: — Простите, Гаврила Андреевич! Маршрут между тем все подробнее разрабатывался. Слышно было, как во дворе падает земля и молоты со звоном бьют по камню, заглушая их голоса. Императору было угодно видеть помещение Адмиралтейства иным, и рабочие трудились над возведением нового гранитного цоколя. Из окна виднелась Нева, несшая темно-сизые воды навстречу солнечному заходу, окрасившему розовым цветом булыжную мостовую набережной. Ощущение вечера отрезвляло и успокаивало в споре. Сарычев тоже что-то извинительно бормотал, отходя к окну. Отпуская Беллинсгаузена, он вспомнил о Михаиле Лазареве с нахлынувшей теплотой: — Держит себя в деле с достоинством… Передавали мне: во все входит, и, знаете, с характером этот морячок! Он будто хотел заметить: “Каково-то вам будет с ним”, но промолчал.ГЛАВА ШЕСТАЯ
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен встречался с Лазаревым и раньше, но близко знаком с ним не был. Лейтенант принял на себя всю подготовку экспедиции. Его знали все корабельные мастера на Охте и в Кронштадте, подрядчики и поставщики. Рассказывая Беллинсгаузену обо всем, что сделано им, он повторял: — Много ли, мало ли, готов вернуться к исходному… одному примеру следовали — “Камчатке” Головкина. Хронометров и секстанов еще нет. В Англии изготовляются, хотя сами англичане их и не пользуют… Должен ли он рассказать своему начальнику о том, как искал мастеровых в слободе, как набирал команду, о всем том, над чем размышлял, готовясь в плаванье? Он был краток, сдержан, о чем-то умалчивал. Однажды хотел было дать понять, что время ушло не только на переделку трюма и рангоута, сделано нечто не менее важное — подготовлены люди. Но как сказать обо всем этом? Об экипаже Лазарев сообщил: — Иностранцев — ни одного. Старых матросов немало, новичков — больше, однако из тех, кто к делу особо способен. И кроме того… — Он несколько замялся. — Больших чаяний люди! Беллинсгаузен успел перевести на “Восток” из своих сослуживцев с “Флоры” одного капитан-лейтенанта Завадовского и теперь в выборе людей должен был полагаться на Лазарева. Большинство офицеров на кораблях оказалось не “первокампанейцами”, и опыту их Беллинсгаузен мог доверять. Особенно выделялся лейтенант Торсон. Кто только не хвалил его из здешних знакомых Фаддея Фаддеевича за расторопность, ум и твердость характера! Сейчас Фаддей Фаддеевич сказал Лазареву: — Можете особо довериться этому офицеру… Ни Лазарев, ни Беллинсгаузен не могли знать и не знали о нем больше. Торсон, бывая в массонских кружках, занимался отнюдь не мистическим вычислением чисел и разгадыванием судьбы. Там, где он бывал, толковали о назревающих в Семеновском полку волнениях, о крестьянских бунтах на Украине, в Чугуевском уезде, об итальянских карбонариях и об усмирении Европы “Священным союзом”. Торсон, близко знакомый с моряком Бестужевым, братом литератора, и с Кондратием Рылеевым, вместе с ними зашел однажды на квартиру к Батенькову, бывшему еще недавно секретарем Сперанского. — Уходите в плаванье… От наших бурь к другим бурям, — шутил Батеныков. Он говорит медленно и так же медленно двигался по комнате. На пальце правой руки его поблескивало толстое серебряное кольцо с массонским знаком. Поглядывая на Торсона, словно тот был в ответе за то, что происходило на флоте, Батеныков сказал: — Мордвинова жаль. Куда годится по сравнению с ним маркиз де-Траверсе, на какие — преобразования способен? Любят ли на флоте Мордвинова? Старик, конечно, не только морскими прожектами увлечен. Ныне он пугает помещиков требованием применить в сельском хозяйстве многополье, молотилки, сеялки. Он заявляет, что слабое развитие промышленности — главная беда России, которая не должна быть только земледельческой страной. Книга его “Некоторые соображения по предмету мануфактур в России” очень смела. Вот это адмирал! Не только свой рейд-вымпел поднимать умеет, но и государственные вопросы! — С него бы нашим военным пример брать! — подтвердил Рылеев, приветливо глядя на Торсона, словно относя это свое замечание к нему. Бестужев молчал. Хозяин дома был зол, тяготился неопределенным своим положением в столице, приехав сюда из Сибири. Торсон, улыбнувшись, сказал: — Помимо Мордвинова есть достойные люди на флоте… Но Батеньков уже “выговорился”, подобрел и удивил Торсона осведомленностью о предстоящем плавании: — Пойдете в высокие широты и, если доберетесь до материка, навечно себя прославите. Только как во льдах будете идти? Нет ли средств таранить лед, ну, как крепостную стену, бывало, при осаде?.. Он усмехнулся собственному сравнению. — Откуда вы знаете обо всем этом, Григорий Степанович? — спросил Торсон. — Как же не знать, помилуйте? Коли б не это ваше плаванье, счел бы, что вы от больших тревог бежите. Ведь время-то, сударь мой, подходит… Уведомленный о настроениях Торсона, он не боялся при нем говорить откровенно. Торсон ушел от него, размышляя о событиях, ожидаемых Батеньковым. О них смутно уже приходилось ему слышать от товарищей. Странно, теперь, после случайного разговора с Батеньковым, он находил какую-то связь между грядущими событиями и тем, что ожидало его в плаванье. Словно в самой силе бунтующего духа и в стремлении вывести науку на волю было нечто объединяющее их. Ему довелось прочесть в рукописях, еще до напечатания в “Невском зрителе”, сатиру на Аракчеева. Ее написал Рылеев, переделав по-своему стихотворение Милона “К Рубеллию”: Надменный временщик, и подлый и коварный, Монарха хитрый льстец, и друг неблагодарный, Неистовый тиран родной страны своей… Возмущение вызывал царский указ о военных поселениях, и Рылеев писал о деревнях, лишенных прежней красоты. Торсон думал о том, в какое страшное для России время он уходит в плаванье. Впрочем, он ничего не хотел бы изменить в своей судьбе и с нетерпением ждал, пока последние приготовления к плаванию будут завершены, царь примет Беллинсгаузена, посетит корабли, и ничто больше не помешает им выйти в море. В таком настроении он прибыл на корабль и представился Лазареву. — Вас хорошо знает Беллинсгаузен! — приветливо сказал ему Михаил Петрович. — Откуда? Мне не приходилось служить под его началом. Лазарев помолчал. Откуда же тогда идет ранняя слава о молодом офицере? Угадывая его мысли, Торсон тихо произнес: — Рыбаков хельсинкских в отсутствие команды матросскому делу обучил, на новый корабль принял. Штрафов и наказаний за год не имел. Не это ли помнят? Действительно, об этом случае на флоте толковали на разные лады! Но фамилию офицера Лазарев не запомнил. Теперь, вспоминая слышанное, он удивился: — Так это вы были! Почли интересным проводить морские ученья с рыбаками? Или каждого матроса хотели знать, как своего человека? Эту задачу считаю на корабле непременной… — Что не могу на суше, то властен провести на море! — признался Торсон, что-то не договаривая. — Как высказали? — переспросил Лазарев. Торсон в затруднении смотрел на командира, не желая отступать от сказанного и не смея повторить. Он не решался довериться командиру. И хотя ему предстояло два года прожить бок о бок с этим человеком, к которому он питал приязнь, он боялся откровенностью поставить себя и его в неловкое положение: ведь не только командиром “Мирного” был Лазарев, в одном с ним чине, но и представителем Адмиралтейства, “государевым оком”!.. — Начали, так говорите! — усмехнулся Михаил Петрович. — Не хотите ли оказать, что в плаванье вы свободнее в ваших отношениях с людьми, чем в обществе, или у себя в поместье… И ближе, простите меня, к мужику, к народу… — Вот именно, Михаил Петрович! И доносчиков не увижу. — Он говорил о жандармском корпусе. И, помолчав, добавил неожиданно: — Жаль Головнина нет. А то ведь Крузенштерн считал его самым достойным для начальствования в экспедиции. — Вот что, Константин Петрович, — заключил Лазарев повеселев, — вы мне ничего не говорите, а выйдем в море — впрямь свободнее станет. Из друзей-то кого поверенным в своих делах оставляете? Слыхал я, семьи у вас нет… А поместье, дом? Кто друг-то ваш столичный и попечитель, от кого рекомендации исходят? — Кондратий Рылеев! — ответил Торсон с достоинством. Лазарев наклонил голову. Об управителе канцелярии Российско-американской компании и поэте Рылееве он был наслышан.ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В эти дни молодого казанского ученого Симонова, прибывшего в столицу для изучения новых астрономических приборов Шуберта, направили из Академии наук на корабль, идущий к высоким широтам. Астроном был второй раз в столице, питал умилявшую его петербургских друзей почтительность к учреждениям Академии, к Адмиралтейству и, хотя раньше не собирался уходить в плаванье, назначение это принял безропотно, как уготованное ему судьбой. Он не мог даже определить, какое чувство овладело им, когда ему сообщили президентское решение. Готовые было сорваться с языка доводы о том, что в Казани некому будет проводить наблюдения за одной из комет, которая вот-вот должна появиться, что дома ждет его невеста и, наконец, что его до одури укачивает в море, — так и не были произнесены. Он стоял перед большим столом секретаря Академии, украшенным с одной стороны бюстом Коперника, с другой — Ломоносова, глядел в широкое окно на просторную панораму заново отстраивающейся Петербургской стороны, в недавнем Березового острова, на лодки, снующие возле берега, и в мыслях был уже там — где-то за Южным полюсом. Этот скачок в те приближенные мечтой дали произошел раньше, чем возникли возражения, и родил столько заманчивых, мгновенно окрыляющих представлений, что, забыв обо всем, что следовало возразить, ученый пробормотал: — Там можно будет изучать звезды, за которыми пятьдесят лет назад наблюдал Лакайль. А изменение колебания ртути в барометре — это как раз то, о чем я недавно писал… Отдаленное и близкое соединялось. Находящееся где-то в немыслимом отдалении и отчуждении от всего привычного вдруг обрело не зыбкие и расплывчатые, а явственные и осязаемые формы. Ученый даже представил себе установленный на берегу телескоп, который должен проверить заключения Лакайля о звездных отсветах. И восторжествовало давнее, привитое наукой самозабвенное отношение к Академии. — Когда отправляться в путь? — спросил он. — Кажется, недели через две, — произнес секретарь, белесый старичок в парике, с узкими плечами, перетянутыми крест-накрест порыжевшими от времени лентами — наградами Екатерины. Ему было жаль астронома и оттого, что нельзя было выразить эту жалость, он стал чрезмерно важным, хмурился и не мог глядеть ученому в лицо. — Стало быть, не успею ни собрать вещи, ни проститься с домашними?.. — Не успеете, господин Симонов! — согласился секретарь. — Будете в Рио-де-Жанейро, благоволите передать академику Лангсдорфу, что присланные им в музеум предметы испорчены дорогой и выставлены быть не могут. Еще напомните ему о присылке живой обезьяны… Астроном не слушал. Он думал о другом. В прошлый раз, восемнадцатилетним магистром, благодарный попечителю своему профессору Разумовскому, он приезжал печатать в столице первое свое сочинение о притяжении однородных сфероидов, в котором изложил некоторые пояснения лапласовой небесной механики. На одной из дорожных станций влюбился в дочь смотрителя. Он не думал, почему на людях, на дороге, a не в городе, застигла его эта любовь и почему девушка из всех путников выбрала именно его. Теперь она ждала своего жениха в Казани. Симонова тяготила мысль о том, что ответит смотритель, когда дочь вновь вернется на станцию и скажет, что лишь через два года заедет за ней жених, возвращаясь откуда-то из заокеанья? — А может быть, я все же успею съездить в Казань? — повторил ученый. — Туда три недели пути на перекладных по отличной дороге! — снисходительно объяснил секретарь. — Небось, спешите к невесте? Вы молоды, а молодость нетерпелива и горяча. Впрочем, может ли быть сталь нетерпелив человек, отдавший себя звездному пространству?.. Старичок подсмеивался. Маленькая грудь его, увитая лентами, колыхнулась в смехе, и взгляд посветлел. — Садитесь, молодой человек, — заметил он. — Вы все время стоите предо мной, словно на смотру. Что вас еще интересует? Астроном знал о секретаре Академии немногое: старик пользовался полным доверием президента, знал на память все труды, адреса и даже родословную российских академиков, вершил дела по канцелярии и принимал молодых ученых. Сам он был архивариус и в этой должности угождал двору изучением материалов о Рюриковичах. Наверное, он мот бы без запинки и с увлечением рассказать Симонову о жизни любой сестры князя Владимира; он считал ее жизнь не менее важной для познаний прошлого, чем наблюдение над звездами для будущего. Может быть, по степени отдаленности этих предметов от жизни, он находил что-то общее между собой и астрономом, и поэтому был особо внимателен к ученому. Боясь как бы сказанное им о молодости не показалось Симонову обидным, он добавит: — Я не осуждаю, да и никто не осудит вас, особенно из моряков, участвующих в этой экспедиции. Ведь они все, кроме Беллинсгаузена да Завадовского, пожалуй, юноши. На этих кораблях идет сама молодость, а с ней и поэзия, и надежды!.. Оказывается, старичок умел говорить прочувствованно. Симонов поднял на него потемневший в тяжелом раздумье взгляд и, простившись, вышел. Он сосредоточенно шел по мосту через Неву, строгий, в бакенах, как бы закрывающих от всех его лицо, в узком, с длинными фалдами фраке, шитом казанским портным, в модной высокой шляпе. Люди были в черном, и чернота кабриолетов, ландо, извозчичьих карет вдруг вспыхивала на солнце, расплывалась, захватывала одним блеском набережную, мост; и тогда надо было взглянуть вниз, на Неву, чтобы убедиться, что, кроме черного, есть еще спокойный голубой цвет отраженного водой майского неба. Но когда Симонов перевел взгляд на реку, ему захотелось остановиться, столько радостного оживления кипело на солнечной ее глади: парусные лодки плыли рядами, закрывая одна другую своей тенью, легкие челноки водовозов и сбитенщиков проносились между ними, а в стороне, обойдя какие-то баржи, шел корабль, белея на солнце подрагивающей сплошной массой парусов, и с моста казалось, что внизу плывет облако… Симонов глядел, стоя у перил, и не сразу заметил, что возле него прохожие сбавляли шаг, кучера сдерживали лошадей. — “Мирный”. В конец света идет! — донеслось до Симонова. Астроном оглянулся. Какой-то мещанин в поддевке крестился, сняв плисовую шапку, и в счастливом изумлении следил за кораблем. — Поистине, на край света! Вернется ли? — заговорили другие, и возле Симонова образовался тесный круг людей, в котором он заметил рядом с мастеровыми в фартуках монахиню и какую-то чиновницу, закрывшую лицо черным крепом. Тогда, неловко выбравшись из толпы, Симонов опрометью бросился назад, к пристани, нанял на углу извозчика и, тяжело дыша, крикнул: — За кораблем! За ним вслед! Догоним ли? — Догнать немудрено, барин, — откликнулся старик извозчик и, быстро подобрав вожжи, стегнул лошадь. — А вдруг да на Кронштадт вышел? Что же мы до Кронштадта, барин, гнаться за ним будем? — До Кронштадта! — подтвердил, не задумываясь, Симонов. В этот час ему не терпелось скорее попасть на корабль, и он вдруг забеспокоился: может быть, не через две недели, а раньше уйдет экспедиция? Где тогда искать “Мирный”? Извозчик участливо покосился на седока, опросил: — Из сочинителей будете? Он не мог знать о том, что Симонов действительно некогда писал стихи и даже собирался посвятить себя литературе. — Почему, братец, думаешь?.. — Художников уже возил на корабль, на Охту, a сочинители — те всегда спешат и не поспевают вовремя. — Нет, не сочинитель я! — просто ответил Симонов и замялся: — По звездам я, по небу!.. Об астрономии слыхал, старина? — По звездам! — повторил извозчик. — Так ведь я и говорю: сочинитель, значит! Симонов не стал разубеждать его. Он увидел, как в одну сторону с ними, указывая рукой на корабль, пронеслись в колясках какие-то люди. — Ишь, тоже видать причастные к плаванью, — неодобрительно фыркнул извозчик. — Спешат, прости господи! К такому делу серьезный человек отправится спозаранку! Ехать долго не пришлось. Корабль остановился против здания Адмиралтейства. Вскоре дежуривший на пристани матрос доставил Симонова к борту “Мирного”, крикнул знакомому из марсовых: — Штатский тут, из господ, передай офицеру! Над бортом взметнулась и упала веревочная лестница. — Лезьте, ваше благородие! Да придержите шляпу, как бы не снесло, — оказал матрос. Симонов довольно ловко карабкался по легкому трапу и лишь раз, ощутив себя на высоте крыш, оглянулся: набережная зеленела газонами, поблескивал булыжник, у адмиралтейского подъезда плясали, выбивая искры из камня, рысаки. — Пожалуйте руку! — сказал кто-то Симонову сверху и помог ему вступить на палубу. В эту ночь астроном, засыпая на корабле, пробовал разобраться во всех впечатлениях дня, из которых самым сильным была встреча с Лазаревым. Ученый повторял слова лейтенанта о том, сколь нужен он, Симонов, на корабле и внушал себе, что сделал правильно, ничего не сказав Лазареву ни о невесте, ожидавшей его в Казани, ни о своих страхах перед морем. Симонову казалось, что он, физик-магистр, в чем-то уподобился всего лишь гардемарину и нет в этом печали: мир открывается перед ним заново, и звезды, которые рассматривает он в телескоп, все более становятся для него путеводными! Корабль шел в Кронштадт.ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Не пышна, но уютна была здесь прибранная к рукам северная природа: аккуратные садики с деревьями-недоростками и подрезанной травой вокруг кирпичных домиков с островерхими крышами, чистенькие перелески на взморье… Толкуют, что будут возведены крепостные стены в Кронштадте и увеличен гарнизон, но пока тих и малолюден этот мощенный булыжником чинный городок. Пахнет смоляными канатами, дымом береговых костров, хвоей и… цветниками. Только в дни прихода кораблей городок походит на бивуак. На улицах толпятся кучера и дворовые. Коляски заполняют небольшую Александровскую площадь. Сбитенщики стоят в ряд возле ограды. И сейчас провожать корабли приехали из разных городов родственники и друзья уходящих в плаванье. В местной газете поэт, скрывшийся под инициалами “Н.П.”, возгласил: Моряков российских провожая, Честь России им Кронштадт вверял. В далекий путь отправлялись две экспедиции: шлюпы “Открытие” и “Благонамеренный” под командованием Васильева и Шишмарева на поиски морского пути в обход Северной Америки от Берингова пролива в Атлантический океан и вторая, руководимая Беллинсгаузеном и Лазаревым, к загадочному Южному полюсу. В ее состав входили “Восток” и “Мирный”. Последним прибыли на корабли: священник Дионисий и живописец Михайлов, командированный Академией художеств. Священника упорно не хотели брать, не раз писали о том Адмиралтейству, отговариваясь отсутствием подходящего места: он занял каюту штурмана. — Где командир? — басисто спрашивает иеромонах вахтенного матроса Батаршу Бадеева. Матрос и иеромонах — оба смуглые, налитые силой, бородатые… — Его благородие на берегу! — А капитан Беллинсгаузен у себя? — Нет его. — Старик мотнул головой, не зная, как величать священника. Но доверившись ему, сказал: — У государя, в Царском Селе. Нынче с утра уехали. — Все-то ты знаешь! — удивился Дионисий. — А я здесь, брат, как на пустыре. Не бывал в море, не знаю морских порядков. Тебе, как старому человеку, говорю. Другому бы не открылся. Матрос, боясь обидеть, осторожно спросил: — А вы, батюшка, на все время к нам? Как же это, по своей воле? — По своей и по божьей! — ответил иеромонах. И, желая расположить к себе старика, добавил: — Али не рад? Как же без духовного сана на таком корабле? Давно служишь-то? — Лет двадцать. Человек я господина Крузенштерна, с ними ходил в первую кампанию. — Его дворовый и матрос? — переспросит Дионисий. — Так точно! Господин Крузенштерн не одного меня, почитай, в люди вывели! Ну, а теперь меня опять позвали. В голосе его священник почувствовал скрытую гордость. “Это вы, батюшка, можете не быть здесь, а я обязан”, — казалось, звучало в его речи. — Да ведь Крузенштерн не идет в плаванье. Беллинсгаузен да Лазарев начальствуют. — Вот им и передан. Иван Федорович глазами болеют, иначе бы сами пошли. — Корабль-то хороший? — продолжал спрашивать Дионисий. — Судно доброе, — солидно ответил матрос. — В своем море и на двух мачтах ходит, а для дальнего плаванья — три ставят. Передняя, изволите видеть, фок-мачта, средняя — грот, я задняя — бизань! Такелаж у нас богатый, да и что ни возьми — оснастка корабельных блоков двушкивная, с железной оковкой. От скул и носу, сами видите, здесь, где ноздри корабельные, такие цепи да якоря — глядеть любо! А паруса! Он все охотнее рассказывал иеромонаху о корабле и знакомил с его устройством. Дионисий внимательно слушал, сложив полные руки на животе, перебирая белыми пальцами. Неожиданно он спросил: — Старик, ты великий грешник? Матрос опешил, с минуту молчал, потом пробурчал недовольно: — Все мы грешники. Грешу больше в помыслах. Потому занят службой. Самый старый я на корабле, батюшка! Стало быть, дольше других грешу! — Держись ко мне ближе! Ничего не утаивай, и тебе легче будет, и мне польза. По годам твоим и сознанию будешь ты среди молельщиков корабельных — первый! И в делах вразумишь меня. Не ходил я на кораблях, одни только паруса знаю, — те, которые душу человеческую поднимают, — молитву да проповедь. Бадеев слушал, и обветренное лицо его делалось то почти испуганным, то сосредоточенно важным. И льстило, и отпугивало его это обращение иеромонаха. — Из татар я, — как бы в извинение свое промолвил он. — Отец — выкрест. — Тем больше благодати божьей сподобился, из темноты вышел! — поддержал его Дионисий и, увидав мичмана Новосильского, поднимавшегося по трапу, заторопился: — К себе пойду. Живописец Михайлов успел тем временем зарисовать “Мирный” и две показавшиеся ему колоритными фигуры — иеромонаха и старика матроса. Они чем-то походили на обнюхивающих друг друга медведей, а палуба — на подмостки. Сзади поднимался плотный частокол корабельных мачт, и топор на корме, окрашенный заходящим солнцем, светил как месяц. Мичман Новосильский выкрикнул: — Вахтенный! — Здесь, ваше благородие! — вытянулся перед ним Бадеев. — Если будут спрашивать офицеров, скажи на квартире у командира они, на Галкиной улице. А груз привезут — вызывай подшкипера. — Слушаю, ваше благородие. Прикажете шлюпку вызвать? — Вызывай. Мичман сошел с корабля и через некоторое время уже входил в дом, где жил командир “Мирного”. Его встретила Маша, провела в столовую. Там сидели братья Лазаревы, офицеры шлюпов и слушали Беллинсгаузена, только что вернувшегося от царя. — В беседе с государем обещал я от имени всех служителей не пожалеть сил, дабы путешествие наше увенчалось успехом. Не счел нужным разуверять в том, что не все земли ныне уже открыты. Неоткрытых земель может и не быть на нашем пути. О том маркиз де-Траверсе предварял своим мнением государя. Но мнение это, разделенное мною, не может служить отговоркой. — Беллинсгаузен поднял голову и, как бы стряхивая с себя какое-то оцепенение усталости, вызванное поездкой ко двору и необходимостью повторять уже не раз сказанное, резко спросил: — Не покажется ли кому-нибудь из вас противоречивым изъявленное мною согласие с этим мнением и одновременно требование мое к вам не ослаблять наших усилий в поисках Южной земли? Офицеры улыбнулись. Им было понятно то, что тяготило Фаддея Фаддеевича. Мог ли он дать царю какие-либо иные заверения? Утверждать, что южный материк существует, значит обязаться его найти; согласиться же с тем, что пройти к этому материку нельзя, — заведомо оставить науку в неведении и себя в бесславии. Не возникает ли настойчивость стремлений из уверенности в той цели, к какой мы стремимся. Однако одни способны из страха извериться в цели, а другие следуют ей из слепого упрямства. Обо всем этом они часто говорили в своем кругу. Но как вести себя при дворе? Что сказать министру, который, судя по всему, заранее не верит в успех экспедиции? Михаил Петрович рассмеялся, представив себе разговоры, которые ведут об экспедиции придворные. Передавали, будто один из сенаторов сделал запрос министру: “Способны ли экипажи кораблей жертвовать собой ради нахождения никому ненужных льдов? Не повернут ли они тотчас же обратно из самосохранения? И не сообразнее ли с оными законами самосохранения отправить экипажи на расширение наших земель в Калифорнии? Иначе говоря, держать синицу в руках, а не ловить журавля в небе”. — Больше разговоров — больше сомнений! — заметил Михаил Лазарев. — Сказанное вами государю, Фаддей Фаддеевич, я полагаю, должно отвращать от праздных толков. Лазарева поддержал Торсом: — Трудно было ответить государю иначе. Я подписаться готов под этим. Беллинсгаузен с облегчением обвел взглядом офицеров и оказал: — В инструкции, полученной мною, по сему вопросу нет довода для каких-либо сомнений. Вот, разрешите, прочту… “Ежели под первыми меридианами, под коими он — разумею корабль, господа! — пустится к югу, усилия его останутся бесплодными, то он должен возобновить свои покушения под другими и, не упуская ни на минуту из виду главную и важную цель, для коей он отправлен будет, повторяя сие покушение ежечасно, как для открытия земель, так и для приближения к Южному полюсу. Для сего он употребит все удобное время, по наступлении же холода обратится к параллелям, менее удаленным от экватора, и, стараясь следовать путями, не посещенными еще другими мореходцами…” — Так писали Сарычев и Крузенштерн, — заметил Лазарев. Беллинсгаузен наклонил голову. Участвовали в составлении инструкции и он, и Лазарев. Сказать ли об этом? Пожалуй, не следует. Уходя в плаванье, хорошо думать о тех, кому в юности следовал во всем, о старейших моряках русского флота. Чувство единства с ними, не назвавшими себя учителями, но являвшимися ими, передалось и ему. И он, служа на Черном море, считал себя приверженным “балтийцам” и, прежде всего, школе Крузенштерна. Маша стояла у дверей, и Торсон в волнении встретил сторожкий, испытующий взгляд девушки. Она была в городе, слышала, что говорят об экспедиции, и к чувству гордости за брата все больше примешивался страх, который ей не удавалось подавить. Не только штормы и льды, ожидающие корабль, вызывали это безотчетное гнетущее чувство, — все услышанное ею здесь и от брата наполняло ее тревогой, ничто не могло погасить все более возраставшее тягостное недоумение: какой-то маркиз Иван Иванович, царские угодники, петербургские толки, игра мнений, — сколько, оказывается, лежит на пути мореходов не относящихся к плаванью помех!ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Корабли обеих экспедиций отправлялись в одно время. Братья уходили в вояж, оба на край света: Михаил — к югу, Алексей — к северу. Третий — Андрей провожал их, собираясь вскоре отплыть к берегам Новой Земли. О часе выхода уже знали в порту. По приметам моряков в этот день должен был быть на море штиль. Портовое начальство уведомило Адмиралтейство о готовности кораблей к “выходу, Адмиралтейство передало сообщение во дворец, и теперь в Кронштадте ждали приезда царя. Пользуясь оставшимися днями, Михаил Петрович хотел привести на “Мирный” мастера Охтина. “Босс”[36] жил в Кронштадте и на этот раз не имел отношения к экспедиции. Все же показать ему корабль, думалось Лазареву, необходимо. За день до выхода братья собрались на “Мирном” в холодной, еще не обжитой каюте командира. Михаил Петрович кончал письмо к матери: “…Будет тебе печально и одиноко, — думай о нас, но не только бури преодолевающих и льдами затертых… Много солнечных гаваней и чудесных земель предстоит нам посетить…” Так же успокоительно писал и Алексей, искоса поглядывая на брата. Догадавшись, сколь много общего обнаружится в их письмах, рассмеялся: — Трудно, живя во святом Владимире, представить себе Южный или Северный полюс! Не сумею успокоить, кажется, мать. Не сочинитель я. — И не надо матери знать всего! — согласился Михаил, оставляя письмо. — А если что случится, матери не говори, — обратился он к Андрею. — Скажи: где-то в дальних странах задержались. Головнин-де на несколько лет опоздал против срока, а все же вернулся! С тревожной радостью от сознания значительности всего совершающегося братья поглядывали друг на друга. — Дуне-то Истоминой что передать велишь? — спросил Андрей Алексея. — Каково ей знать, что променял ты ее на кругосветный вояж? Алексей молчал. Молодая Истомина, камер-фрейлина императрицы, год назад была наречена его невестой. Сейчас, казалось, он бежал от нее, а может быть… от близости к царскому двору. Михаил решительно оборвал разговор: — Стоит ли говорить об этом? Вернемся с честью, тогда и о женитьбе думать. Может, в чувствах что изменится к тому времени или покажется иным. Сойдемте на берег… Пройдя Купеческую гавань, где стоял “Мирный”, пошли берегом. Корабельные мачты чуть колыхались на ветру, казалось, они закрывают собой холодеющее в вечерних сумерках море. К пристани жались яхты, фелюги и отжившие свое, но все еще наплаву старые корветы, некогда плененные в морских боях: из сумерек едва выступали кормовые балкончики на резных кронштейнах, кованые фигурные фонари и тритоны, поддерживающие бушприты. — Каких только кораблей нет в порту! — усмехнулся Михаил. — А может быть, “Востоку” или “Благонамеренному” со временем красоваться здесь. — Говорят, “Решимость”[37] в Портсмутском порту отстаивается, — заметил Алексей. — Больше не способна к плаванию. — У “Решимости” не хватило решимости, — подхватил Михаил Петрович. — Кук решил, что не найти южного материка, ибо такого нет в Южном полярном бассейне, и повернул восвояси. А мы? Можем ли вернуться ни с чем? Перечитывая написанное Куком, все больше убеждаюсь, что он не дошел до цели. И братья снова — в какой уже раз! — заговорили о том, что стало теперь делом их жизни: о новых путях к полюсам. Незаметно они подошли к небольшому бревенчатому дому, где жил Петр Охтин — корабельный мастер. В широком окне с затейливо вырезанной рамой мелькал свет. Смутно доносился оттуда гул голосов, должно быть, у мастера были гости. Михаил Петрович громко постучал в тяжелую дубовую дверь. Тотчас же растворилось окно, из него выглянула большая косматая голова хозяина дома. — Сию минуту, сударь! И, распахивая дверь, Охтин сказал: — Собрал я у себя, старый греховодник, тех матросов, у которых здесь ни родни, ни друзей. Завтра им в плаванье!.. Ну, и плотники наши портовые с ними! Я уж вас в отдельную комнату проведу, чтобы не смущали вы молодцов!.. Охтин был велик ростом, широк в плечах. Седые брови топорщились, но глаза глядели молодо. Говорил он отрывисто, медленно, ступая вразвалку, словно берег скопившуюся в большом его теле неизрасходованную силу. Он явился перед моряками в синем бухарском халате, отороченном беличьим мехом, с чуть отвернутыми рукавами, открывавшими крепкие, привыкшие к работе руки мастера. Проводив Лазаревых в дальнюю комнату, он удалился “на минутку”. В комнате горела одна толстая свеча, бросая отсвет на неясные в сумерках тяжелые предметы, расставленные по углам. Это были старые пюпитры со стеклянным верхом, под которым лежали чертежи кораблей; возле пюпитров — большие куски обыкновенного мореного дуба. Михаил Петрович нагнулся и, нащупав возле них круглые стеклянные банки с едко-пахучей жидкостью, заметил недоуменно: — Какие-то опыты производит наш мастер! Хаживал к нему не раз, а банок этих здесь не примечал. Мастер слыл в порту “супротивцем”, по мнению портовых начальников, может быть, потому, что бранил нещадно департамент лесов и кораблестроения. Памятна была и другая его “возмутительная странность”: считал он, что все Охтины — предки его, никогда татарам не подчинялись в далекие те времена, когда Русь под татарским игом стонала. А перед “татарьем” не склоняли предки его головы по той причине, что жили вольницей, как берладники и галицкие “выгонцы”, держась вдалеке от берегов, зимуя у моря и в устьях рек… А татары на моря не шли, кораблей не имели. Все эти толки о мастере вспомнил сейчас Михаил Петрович. Хозяин дома вернулся с двумя бутылками вина и застал лейтенанта склонившимся в углу над банками. — Что вы там высматриваете? — спросил он глухо и, как показалось гостям, недовольно. — Господ офицеров не шибко интересует судодельное мастерство в самом его начале… Босая девушка прошмыгнула в комнату, неся поднос, уставленный закусками, и, оставив поднос на столе, тут же ушла. — А вот и ошибаетесь, Петр Захарович, — возразил Михаил Петрович. — Не только водить корабль и в оснастке его разбираться, но и знать мастерство строителя обязан офицер. Коли уж на то пошло, скажу: очень я обеспокоен тем, что корабли наших экспедиций построены по плану вест-индских судов и к тому же столь разны в ходу! Подумайте сами, держаться корабли должны вместе, а силой не равны, один должен нагружать рангоут, неся все лиселя, а другой — дожидаться его на малых парусах. И дерево… так ли закалено, Петр Захарович? — Почему же вы, Михаил Петрович, только теперь заговорили со мной об этом, — укоризненно сказал мастер. — Хоть и на Охте строились ваши суда, а в Кронштадте лишь медью обшивали днище, и то я не преминул бы поглядеть их да что-нибудь присоветовать! — Знаем, Захарыч, — откликнулся Алексей Лазарев, — да только позвать тебя, когда чужие мастера на корабле, неудобно было. А Адмиралтейству невдомек! — Стало быть, теперь, перед отплытием!.. — примиренно ворчал мастер, расставляя на столе бокалы. — Ну что ж, спасибо, что пришли! Не смею корить — такой день всем вам сегодня выпал — ведь куда путь держите! Налив в бокалы вина, медлительно, с той исстари заведенной церемонностью, какая принята на проводах, мастер строго возгласил: — За командира перво-наперво! Его всем слушать, ему в ответе за всех быть! И, глядя на Михаила Петровича потеплевшим взглядом, сказал: — Молод командир! Ох, молод! Но ведь от молодости и упорство. И от труда, конечно, я так полагаю. — Как бы открываясь в сокровенных своих мыслях, прибавил: — Думается мне, господа офицеры, что на море успевает тот, кто с людьми прост и в помыслах своих перед ними чист. Бедный чувствами человек неужели к полюсам пойдет? Ему ли новые земли открывать? Нет, никогда такой не покажет широту души русской. А дело-то морское, — продолжал мастер, — иных людей и вовсе не терпит. С того времени, как с господином лейтенантом Михаилом Петровичем знаком, я простоту его давно приметит. Любопытством своим он меня утешиш. Бывало, приедет ко мне с “Суворова” и выспрашивает про корабль. Все был недоволен!.. — И сейчас, Захарыч, не всем доволен, да поздно уже. Напоследок хоть досмотри на корабль! — сказал Михаил Петрович. — Как? Сейчас прямо так и пойти с вами на корабль? — удивился мастер. — Да. Этого я и хочу, Захарыч! Ночь впереди. Одни будем — не помешают нам. — Ну что ж, сударь, — ответил мастер, — напоследок лишний огляд всегда в пользу. Вы вот в углу кое-что нашли, дерево в банках с кислотой, и, наверно, гадаете, к чему бы это? А я, извольте знать, о прочности корабля донесение в департамент готовлю. Как дерево лучше морить. И какие леса нужны для верфей. Был я недавно, сударь, в Елатьме, торговал у помещика Ставровского лес. Этакое дерево бы в килькорабля. Немало, сударь, на Руси мореходы над кораблем потрудились. Ладьи их — диво! А департаменту купцы не то дерево продают. В Кронштадте иные мастера на все готовы, лишь бы казне не перечить!.. Эх, господа офицеры, — заключил в волнении мастер, — какой бы я вам корабль отстроил, коли б вы мне заказали! Из соседних комнат доносился отзвук какой-то протяжной песни. Офицеры прислушались. Босая девушка заглянула в дверь и окликнула хозяина: — Петр Захарыч! — Чего тебе? — Спрашивают вас. Не ладно им! — Скажи — приду. Пусть себе поют. А дверь не закрывай! Хотим слышать! Длинная рубаха девушки, подпоясанная бечевой, мелькнула в полутьме белым пятном. Из полуоткрытой двери донеслось: Русс-ка крепость там, се-реди мо-рей, У Гишпа-нии неспокой-ной, Управи-телем — капи-тан наш в ней, А мат-росы мы — ее во-ины. — Им кажется, будто мы в компанейские земли идем, — сказал Михаил Петрович, вслушиваясь в слова песни. — Из Руси на Русь. Или убеждены, что новые земли обязательно откроем и к России прибавим. — Людям трудно думать, что они идут… неведомо куда. Им надо думать о новой русской земле, — заметил Андрей Лазарев. — И что такое южный материк, если не земля, которую нам надо из неведения вызволить? — Будет трудно, опасно, — задумчиво произнес Михаил. — Но мы не ударим лицом в грязь. — Пойдемте-ка сюда поближе, — сказал мастер, растроганный песней, и повел офицеров в комнату, что была по соседству с той, где веселились гости. В приоткрытую дверь Михаил Петрович сразу узнал трех матросов со своего корабля, отпущенных на берег. Были здесь и две молодые крестьянки, отважившиеся проводить своих близких. Одна из них — статная, с ясным добрым лицом, держалась около матроса с “Востока” Киселева и не спускала с него заволоченных слезами глаз. “Невеста его”, — объяснил Охтин. Другая женщина, кутаясь в серый платок, все твердила сидящему рядом с ней немолодому матросу: — Хотел бы, так отпросился, не ушел бы! Матрос как будто чувствовал себя и счастливым, и виноватым. Словно в помощь ему и в ответ на жалобное пришептывание жены, матросы запели: Не помянь меня, сердце ми-лое, Как усопшего не помянь в да-ли, То судьба моя быстро-крылая Занесла ме-ня на конец зем-ли. Киселев ласково поглядел на невесту, она вскинула голову, улыбнулась. Занесла ме-ня и остави-ла… — Грамотей и книголюб большой, — оказал мастер о Киселеве. — Прямо сказать, самородок. Жаден и способен до всякого дела. У помещика его выкупить — немалая была бы польза. Вернетесь из вояжа, сударь Михаил Петрович, вы уж о человеке этом не позабудьте. А будет нужно, и я помогу, возьму его к себе!.. Из моих-то плотников, пожалуй, половина — служивые! — Матроса примечу, — тихо ответил Лазарев и в нетерпении спросил — Может, пойдем на корабль, Захарыч? — Ну что ж. Гостям не скажу. Пусть не обессудят, коли не вернусь скоро. Ночь полна была тревожных звуков: гулко накатывались волны, раздавался скрежет цепей, надрывно свистел ветер, застрявший в парусах кораблей. Корабли словно приблизились к берегу и заслонили своими тенями причал. На “Мирном”, будто дотлевающие угольки костра, мерцали синие фонари. Их тихий свет как-то скрадывал возникавшее в “очи ощущение тревоги; словно и не идти завтра кораблю в неведомые края, не принимать на себя бури. Новшеств на корабле было не мало: поставили железные стандерсы, двойные ридерсы, тяжелые кницы по носу и корме. Они придали корпусу корабля большую крепость и устойчивость. Корпус второй раз обшили снаружи дюймовыми досками. Новые, более легкие баркасы и ялы, плотно охваченные канаггами, высились над палубой. Неузнаваем стал теперь транспорт “Ладога”, переименованный в шлюп “Мирный”. И Лазарев ждал: похвалит или осудит Охтин сделанное? А главное, что еще посоветует переделать в пути. Не было секретом для Адмиралтейства, что шлюп не очень-то годен для плавания во льдах. Однажды в офицерском собрании в Кронштадте обсуждали предстоящие на корабле переделки. Лазарев внимательно слушал мастера, осматривавшего корабль, и что-то записывал. Потом проводил старика до конца причальной линии. В Кронштадте в домах долго светились огоньки. Вернувшись на корабль, Лазарев велел разбудить Май-Избая и двух матросов. Предупреждая недоумение вахтенного офицера, он сказал: — Работать ночью, при фонарях. — Что-нибудь случилось, Михаил Петрович? — осмелился спросить офицер. — Выходим завтра? — Да. Дела осталось немного. Зовите мастеров, — повторил лейтенант. В эту ночь Май-Избай выполнил все указанное Охтиным. Симонов смутно слышал во сне стук топоров. Утро началось с прибытия адмиралтейских чиновников, позже — императорской свиты. Днем прибыл император и служили молебен. Маша, стоя в толпе на берегу, едва различала корабли. Паруса яхт закрывали перед ней рейд, праздничный гул толпы пьянил, земля под ногами качалась. Маша не могла увидеть братьев и с трудом удерживалась от слез. Она слышала сигнальный выстрел, — стаи чаек, взмыв к небу, пронеслись над берегом. В отдалении забили колокола. Девушка старалась пробраться из толпы ближе к оркестру, к войскам, окружавшим набережную. И тогда Маша увидела рослого тамбур-мажора в мундире, отливающем серебром. Он размахивал раскрашенным длинным жезлом. Он показался Маше напыщенно и нелепо театральным. Она легко, но с досадой ударила его ладонью по руке, в которой он держал жезл, и мягко сказала: — Не надо! Солдат в удивлении остановился. Маша отвернулась, нашла на площади свой экипаж и уехала, ни разу не оглянувшись.ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
“Назвать бы его “Метаморфоза”, — писал Симонов о своем корабле, имея в виду тот интереснейший круг людей, в котором он оказался. Ученый удивлялся развитости матросов, не зная того, как подбирал Лазарев команду; он радовался вольномыслию Торсона и его осведомленности в науках, не догадываясь о политических связях офицера. В письме домой замечал: “Гуманитаристы, и только! Право, наш корабль — это плавающий лицей, в котором прохожу сейчас курс мореходной науки”. И как славно на корабле: парус вздут и округл, как шар, и хочется погладить его живую поверхность; жерла пушек отливают, как воронье крыло, блоки висят громадными литыми серьгами, топоры и лопатки развешаны, и лапа якоря подергивается и манит совсем по-кошачьи!.. Люди ходят тут все статные, всегда бодрые, оснеженный ли ветер бьет им в лицо или зной. Симонов не мог знать, что подобное же чувство охватывало и других “гражданских” участников экспедиции — живописца и лекаря — в общении с людьми, не стесненными условиями плавания и обретшими здесь, в совершенно новой для себя обстановке, применение своих сил и, может быть, всего лучшего, что носили в себе. Спустя восемь лет в таежной глухомани, на каторге, вспоминал ссыльный декабрист Торсон путь двух российских кораблей и в воспоминаниях этих черпал мужество. Мысленно возвращаясь к пережитому в эту пору, к вечерам в кают-компании, он любил повторять строки из стихотворения Пушкина. …С порядком дружен ум; Учусь удерживать вниманье долгих дум. Именно в годы плаванья на “Мирном” и “Востоке” постиг он, по его словам, великую пользу сосредоточенности, столь нужной для знаний и недостижимой в рассеянной петербургской жизни. Могло ли все это относиться к морякам, уже много раз бывавшим в плаванье? Лазарев замечал, что и на них как бы лег отсвет этого чувства, делавшего всех особенно мягкими и предупредительными друг к другу. В первые дни плаванья в некоторой мере мешала деловому знакомству Лазарева с членами экипажа эта праздничная приподнятость настроения, она уводила подчас от обычных будничных тягот. Лазарев приходил в кубрик посмотреть, не сыреют ли стены, не слишком ли влажно у недавно выложенной камбузной печи, и ему передавалось ощущение царившей здесь бодрости, радостного подъема, сплачивавшего матросов. — Май-Избай, — спрашивал Лазарев, — привыкаешь? Не укачивает? Ты ведь новичок на море? — Пообвык уже, ваше благородие. Послушал, что другие рассказывают, и кажется самому, что не первый месяц уже плаваю. — Он у нас… как дома! — говорили матросы. “А был ли у Май-Избая дом?” — подумал Михаил Петрович уходя, и ему начинало казаться, что люди чем-то возвышены в собственных глазах, увлечены и, может быть, даже немного обмануты… Он уединялся в своей комнате, и вместе с привычными заботами о команде и корабле его охватывало желание растянуть это общее, столь нужное сейчас чувство подъема. Он знал, что именно теперь люди особо восприимчивы к ученью, при этом в большинстве не готовы к бедам и тяготам, которые сулит им плаванье. Не будет ли его, Лазарева, задачей обрести не только новую землю, но и неслыханный еще на флоте по выучке экипаж? Важно не настроение одного дня или месяца, а настроение, становящееся складом мышления, перерастающее в свойства характера. Размышляя об этом, он вспомнил разговор свой с Торсоном в первые дни после выхода в море: — Наш иеромонах отец Дионисий назвал на молебне корабль “деревянным вместилищем надежд, на коем господа-помещики и крепостные в одной божеской усадьбе заняты одним боголюбивым делом!” — посмеивался Торсон. — Не кажется ли вам, Михаил Петрович, не для богословских споров будь сказано, что хотя и помещики мы, и царские слуги, но в корабельной усадьбе нашей на сей раз можем не держаться крепостных порядков?.. Лазарев засмеялся и не дал ему докончить: — Безусловно, Константин Петрович, а коли найдется среди нас, офицеров, помещик с таким норовом, трудно будет ему самому!.. Сейчас, вспоминая разговор, Лазарев подумал, что помещик такой, кажется, сыскался… в лице лейтенанта Игнатьева, который приходил к Беллинсгаузену с донесением о “вольных” порядках на “Мирном”: Симонов-де рассказывает офицерам о Пнине, о Попугаеве, а в беседах за столом спорят о правильности установления Венским конгрессом новых границ европейских государств, будто вправе они, офицеры, судить о делах государевых! Беллинсгаузен нашел нужным сообщить Лазареву об этом донесении лейтенанта Игнатьева сказав: — Я выслушал его внимательно и указал ему на одну его странность… на собственную его несмелость в споре: “Вот сами бы и возразили за столом!” Лазарев сидел в своей каюте и, не замечая того, усмехался кончиками губ. Он отложил корабельный журнал, который только что заполнял, и в задумчивости водил циркулем по гладкому листу бумаги. Луч солнца, проникая сверху сквозь стекло в люке, дробясь, светился на белом мраморе небольшой чернильницы, на зеркальце у двери и серебряном эфесе шпаги, висевшей над койкой, застланной серым суконным одеялом. Тень паруса закрывала порой доступ этому солнечному лучу, как бы пробивающемуся сюда вместе с усыпительно мягким рокотом волн. Мысленно Михаил Петрович восстановил в памяти и другой свой разговор с Беллинсгаузеном: речь шла о маршруте, официально давно принятом, но еще не разработанном во всех подробностях. — Важно правильно использовать каждое время года, — говорил Фаддей Фаддеевич. — Хитрость, кажется, не велика, а сколь многое зависит от того, чтобы в удобный час оказаться на месте. Погода — капризная спутница, ее надо уломать. Когда тепло — двигаться к цели, а как станет холодно — изменить курс, пойти на северо-восток, к Австралии. — Рука его потянулась к карте. — В нынешний год отсюда будем штурмовать полюс, а в будущем году пойдем с другой стороны, найдем ворота во льдах. В теплые дни будем готовиться к зиме, а зимой — к лету. Лазарев не прерывал его. Весь опыт Беллинсгаузена подсказывал именно этот, никем еще нехоженный путь. Только очень уверенным в себе и способным людям он может быть под силу. Легко сказать: “Использовать каждое время года”. Сколько непредвиденного встанет на пути! Лазарев ответил ему тогда: — Я понял вас, Фаддей Фаддеевич. Понял и другое, что следует из сказанного. Команды кораблей не должна трепать лихорадка… Я не о болотной говорю, я говорю о лихорадке ожиданий. Два отборных экипажа, проходящие на море обучение, — вот чем должны быть наши корабельные команды! — При таком положении и непрерывные работы по обмеру глубин или температуры воды не будут команде в тягость! — подтвердил Беллинсгаузен. — Гумбольт, как известно, считал, что слои холодной воды в глубинах малых широт сами по себе уже доказывают существование подводных течений от полюсов к экватору, ну, а в высоких широтах как?.. В числе задач, стоящих перед наукой, крайне важная задача установить, как распределяется температура на глубинах. Коцебу на “Рюрике” много интересного сделал. А чтобы сравнивать одни наблюдения с другими, нужно запастись терпением и уметь не скучать. При мне спорили, кому терпения более нужно — химику для исследований или моряку?.. Многие видят в нашем деле только эффектную его сторону и военную, да еще почести первооткрывателей. Ведь и вы, Михаил Петрович, — добродушно прищурился он, — предпочитаете тяжести штормов тяжесть научного “водокопания”, разрешу себе употребить выражение Сарычева… А то, что вы говорите об учении команд, приемлю с радостью. Вспоминая сейчас этот разговор, Лазарев благодарность к начальнику экспедиции за прямоту, с ко торой тот говорил о нем, Лазареве, и о том, что представляется ему наиболее трудным в самом характере плавания. Что это — предупреждение? Михаилу Петровичу самому доводилось встречать моряков отменно храбрых выносливых, но совершенно равнодушных к науке: например, почему вдруг в тропиках обнаруживаются в водных глубинах холодные течения. А не это ли рождает заманчивое и простое предположение о течениях из полярных стран к экватору? И не разгадкой ли тайн этих течений, цвета и прозрачности морской воды, жизни морского дна увлечены архангельские рыбаки из стариков-старожилов? Торсон рассказывал в кают-компании, как сельский попик вынес однажды с амвона и передал ему рукопись какого-то старика с наблюдениями из “водной астрономии”. Умирая, старик передал эту рукопись на хранение церкви с надписью: “О том, что мучило меня в море и что может служить примером того, какие муки вызывает в человеке незнание им окружающей его природы”. Он вновь начал заполнять корабельный журнал. В каюту постучал вахтенный офицер: — Копенгаген виден! — доложил он. Лазарев вышел на палубу. “Благонамеренный” и “Открытие” — их называли “северянами” — уже стояли на рейде. Алексей Лазарев первый подошел к “Мирному” на ялике и поднялся на борт. Коротко рассказав брату о том, как прошли путь, он признался, что надумал вести дневник. — Только начни. Потом во вкус войдешь и до конца жизни не бросишь! — весело ответил Михаил Петрович. — Сколько наблюдений, могущих впоследствии прославить морскую науку, теряется из-за лености к записям. А после приходится пользоваться сообщениями иностранцев, которые зачастую не что иное, как повторения. Вахтенный офицер прервал их разговор. Беллинсгаузен вызывал к себе командира “Мирного”. В Копенгагене к экспедиции должны были присоединиться натуралисты Мертенс и Кунце. Адмиралтейство еще полгода назад получило их согласие идти в плаванье. Теперь посланник барон Николаи сообщил Беллинсгаузену об их отказе. Фаддей Фаддеевич просил поискать “добровольца” в самом Копенгагене. Но нелегко было найти здесь такого смельчака. Посланнику смогли указать лишь на одного молодого натуралиста из недавно окончивших университет. Барон встретился с ним в малозаселенном купеческом квартале Копенгагена, возле кирхи, много лет назад разрушенной англичанами и теперь вновь отстроенной. Статуи работы Торвальдсена украшали тёмно-красную невысокую кирху, более похожую на ратушу. Молодой натуралист стоял, кутаясь в плащ, одинокий, с видом дуэлянта, ожидающего своего противника. — Вы согласны? — коротко спросил его посланник, внимательно оглядывая юношу. — Но я так и не знаю точно, куда идет ваш корабль? — заволновался натуралист. — Разве вам не сказали? К Южному полюсу! К земле, побывать на которой — значит вознаградить себя за все лишения и неудачи в жизни. — Но есть ли этот южный материк, и можно ли к нему пройти? Вам известно мнение Кука? Англичане всецело поверили ему и отказываются от поисков… — Что же, мы проверим Кука и ваше… мужество, юноша. — Есть ли смысл следовать туда кораблю? Это вызывает сомнения. Впрочем, я согласен. Молодой человек решительным движением подал барону свою визитную карточку. — Вот мой адрес. Буду ждать вашего посыльного завтра утром. Прибывший наутро по указанному адресу офицер с “Мирного” долго стучал в дверь старенького приземистого дома, пока из окна не высунулась всклокоченная голова слуги. — Не слишком ли я рано? Кажется, еще спят? — спросил офицер. — Нет, поздно! — добродушно ответил слуга. — Ночью к нам прибыли родственники моего хозяина и увезли его за город на время, пока у причала будет стоять ваш корабль. Офицер “Мирного” вернулся в порт и доложил начальнику экспедиции о случившемся. Собрав у себя офицеров, Беллинсгаузен полушутливо-полусерьезно спросил присутствующего здесь астронома Симонова: — Иван Михайлович, скажите, астрономия не соседствует с науками о земной коре и о мире животных? — Астрономия или ученый, овладевший этой наукой? — переспросил Симонов, сообразив, к чему клонит начальник экспедиции. — Вы хотите спросить, Фаддей Фаддеевич, сумеем ли мы обойтись без натуралиста? И надобно ли ожидать, пока Петербург командирует сюда нужного нам человека? Полагаю, что общими усилиями и при помощи справочников мы сможем определить главное из того, что встретим в пути. Не Ломоносов ли оставил нам любопытнейшие, равно относящиеся к жизни в Океании, мысли свои о Севере? — А как думаете вы, Михаил Петрович? — обратился Беллинсгаузен к Лазареву. — Согласен с мнением Ивана Михайловича! Люди наши в естественных науках сведущи. А Иван Михайлович, — он пристально поглядел на ученого, — только по скромности не считает себя осведомленным в науке о природе. Право, без этих господ мертенсов, коли ими владеет трусость, лишь спокойнее будет на кораблях. На этом предложении остановились, не преминув выругать Адмиралтейство, чересчур расположенное к иноземцам. Не засильем ли иноземцев в Адмиралтействе объясняется то, что к участию в экспедиции не привлекли отечественных ботаников? Они-то с охотой разделили бы тревоги и радости экспедиции. Ведь просились. — Плохо, что ученые сами не сочли возможным вступиться за своих коллег, — сказал Торсон. — А, пожалуй, вы не правы, мой друг, — возразил Симонов. — Разве не живой мысли наших ученых обязаны мы нашим путешествием? Не отечественные ли ученые побудили правительство представить на утверждение государя маршрут нашей экспедиции? Вскоре датский натуралист, увезенный родственниками, мог возвратиться домой — русские корабли покинули Копенгагенский рейд. В этот день Симонов, доканчивая письмо родным, приписал: “В пловучем лицее сем отныне я не ограничен задачами астрономическими, а скорее уподоблен Колумбу в природоведении, ибо то, что должен увидеть и засвидетельствовать, ново не только для моряков, но, боюсь, и для меня!.. Уже и естественник, ботаник. Не правда ли, очень скоро?”ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Десятью днями позже корабли “южной” и “северной” экспедиций встали на якорь в Портсмуте. Велика была радость участников экспедиций, когда на Спитхетском рейде, уже подходя к Портсмуту, увидели они возвращающийся из кругосветного путешествия русский шлюп “Камчатка”. Отсалютовав ему флагами, “Восток” и “Мирный” тотчас же бросили якоря рядом с ним. Михаил Петрович, отдав распоряжения по кораблю, хотел было спуститься в ялик, чтобы подойти к “Камчатке”, но заметил лодку, отошедшую от “Благонамеренного”, и решил ее подождать. С “Камчатки” нетерпеливо махали платками, фуражками и что-то кричали. Был полдень, и на всех военных кораблях, стоявших на рейде, отбивали склянки. В лодке, торопившейся к “Мирному”, был Алексей Лазарев. Легко поднявшись по трапу и ответив на приветствие вахтенного начальника, он быстро подошел к брату. — Там ведь Головнин! — сказал он, запыхавшись, указывая взглядом на “Камчатку”. — Есть ли у нас на флоте более интересный человек? Кто не мечтал служить у него? Там же на “Камчатке” Матюшкин и мичманы Литке и Врангель. Двух последних Алексей помнил по корпусу, вместе были на выпускном вечере уже офицерами. — Знаю Матюшкина. Понафидин мне о нем говорил. И встречал его, помню. Какой, впрочем, моряк из лицеиста! Михаил Петрович замялся, лицо его приняло знакомое брату выражение вежливой настороженности. — Может быть, любовь к морю переделывает человека, — добавил он. Еще издали братья увидели на палубе “Камчатки” могучую, немного грузную фигуру Головнина и офицеров, стоявших возле него. Лазаревы считали долгом представиться Головнину, не дожидаясь, пока он выйдет к ним навстречу, — этого требовал этикет и признание старшинства. Но, кажется, Головнин спустился к себе… “Хорошо, что Головнин ушел с палубы, — думает Алексей Лазарев, — в каюте, не на людях, легче знакомиться”. Мичман Матюшкин, вахтенный офицер, еле удержался, чтобы не обнять их, встретив у трапа, покраснел, развел руками, сказал радостно: — А мы в Россию!.. Михаил Петрович заметил смущение “моряка из лицеистов” и его манеру говорить слишком независимо и по-детски доверительно, и то, как он прятал назад руки с короткими пухлыми пальцами. Однако виду не подал, а четко представился и пошел вместе с братом Алексеем за ним следом, чувствуя на себе внимательные взгляды матросов. Мичман привел их в каюту командира и, откланявшись, вышел. Головнин усадил гостей в кресла и, не ожидая расспросов о Российско-американской компании, тут же сказал Михаилу Петровичу: — Баранов-то умер. Думаю, через неделю сюда “Кутузов” придет под командой Гагемейстера. Везли они правителя, да не довезли, скончался старик, перед тем болел долго… Это сообщение ошеломило Лазарева. С правителем земель Российско-американской компании он крупно повздорил три года назад, командуя “Суворовым”, и по возвращении писал на него жалобу. О ссоре их было широко известно в кругах, близких к Адмиралтейству. Баранов казался ему “двужильным”, крепким, выносливым. Упрекая Баранова в своевольничанье, подчас в жестокости к тем, кто ему не повиновался, Лазарев отдавал должное бескорыстию его и преданности делу. И вдруг — смерть! — Что же, похоронили Баранова? — спросил Лазарев глухо. — Да, похоронили, как моряка, в море. В Петербург только кое-какие вещи его придут и письма, но передавать их некому. Семьи у Баранова не было. Племянник, говорят, жил с ним, и тот умер. — Помолчав, Головнин рассказал о том новом, что произошло за последнее время в колониях Российско-американской компании. В письменном столе он держал только что составленное им, по требованию министра, донесение о ее деятельности. Для этого и ходил туда на “Камчатке”. Все это живейшим образом интересовало моряков. Головнин говорил едко, изредка поглядывая на Алексея Лазарева. В настороженном, почтительном внимании, с которым слушал его молодой лейтенант, Головнину что-то не нравилось. Под конец он спросил Алексея: — А вы что расскажете? Узнав о том, куда идут корабли, весь преобразился. Он молодо вскочил с кресла и, позвав матроса, велел пригласить к себе мичманов Литке, Врангеля и Матюшкина. — Знаете ли, куда снаряжены корабли? — громко, с сияющими глазами, удивив Михаила Петровича живостью движений, спросил он, едва офицеры вошли в каюту. — Россия-то-матушка на какой подвиг решилась. Вот бы, Федор Федорович, вам туда, да и вам, Федор Петрович, — обратился он к Матюшкину и Литке. И усмехнулся, повернувшись к братьям Лазаревым: — Вот оказия — три Федора, изволите видеть, у нас на “Камчатке”: Фердинанд Врангель тоже в кадетском корпусе Федором себя нарек. Три святителя! Самые молодые на корабле и ревностные моряки. Так вот, господа, — заключил он деловито, обращаясь к мичманам, — прошу сегодня чествовать на “Камчатке” гостей с “Востока” и “Мирного”, а будет возможно и с двух других кораблей офицеров к нам пригласить. Я же отправляюсь с визитом к Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену и тотчас явлюсь от него, как только испрошу разрешение на задуманное нами. До вечера братья Лазаревы пробыли на “Камчатке”, послав отсюда коротенькие записки на свои корабли. И первому мичману из лицеистов, чего еще не ведала морская история, пришлось рассказывать гостям о всем виденном им в странах Нового Света. Астроном Симонов осторожно спросил Матюшкина, действительно ли он учился в лицее и знает юного поэта Пушкина. Лейтенант Торсон мимоходом осведомился о брате Пушкина, Левушке, которого приходилось ему встречать. Вечер на Спитхетском рейде провели за ужином в беспрерывных расспросах. Фаддей Фаддеевич не явился. Вскоре после свидания с Головниным он сошел на берег и направился в Лондон, куда вызвал к себе через день и Михаила Петровича… Матюшкин конфузился и не знал с чего начать. Ему казалось, что офицеры не меньше его знают о Камчатке. И почему так повелось, что именно его Головнин при встрече с моряками выставляет рассказчиком? Да и верно ли, что в столичных журналах еще ничего не писалось о русских колониях? И только по рапортам и донесениям досужие люди могут узнать, что делается там. Что же рассказать? Может быть, о Людмиле Ивановне Рикорд, жене начальника области? Экая была бы нелепость! А именно к ней до сих пор устремлены его чувства. А почему бы и не почтить ее на этом вечере добрым словом, столь необычную в Новом Свете, русскую женщину, которую бы, наверно, вывел в своих романах, если бы знал ее, Вальтер-Скотт… Матюшкин оглядывается и, пользуясь тем, что гости отвлечены Алексеем Лазаревым, рассказывающим о Северной экспедиции, собирается с мыслями. Нет, он все-таки упомянет о ней, Людмиле Ивановне, и пусть те, кто будет на Камчатке, передадут ей… И в мыслях рисуется недавнее. Людмила Рикорд и Федор сидят в беседке над взморьем. Здесь же караульный пост и маяк для кораблей. — У нас во всем странности или помехи, — рассказывает Людмила Рикорд. — Путешественникам запрещается объявлять свету о своих открытиях, описи же открытий представляются местному начальству, которое держит их втайне и тем лишает славы своих мореплавателей. Муж извелся в хлопотах. Морское министерство равнодушно к его докладам. Она хочет представить Матюшкину обстановку их жизни, взаимоотношения с населением. Федору это особенно интересно потому, что Головнин поручил ему объехать дальние селения, ознакомиться с бытом и нравами жителей. — Видите, милый Федор Федорович, важно не только открыть землю, но и сохранить ее за собой, — говорит Людмила Ивановна. — И право же, Россия сама не ценит своих богатств и своих людей. Из Петербурга пишут, например, обо мне: “Дама-патронесса с истинно-русским добрым сердцем отдает себя невежественным людям…” Где же тут понимание долга?.. Ведь то, что мы с мужем здесь делаем, не только человеколюбие, а, повторяю, наш долг. И вот обязанность Головнина помочь нам! Поймите, Федор Федорович, Камчатка нуждается не в подачке государства, а в ревности, в том, чтобы сюда перенести центр управления для изыскателей, для мореплавателей, для ученых, для всех русских людей в Новом Свете… Она грустно заключает: — Поэтому наша работа здесь действительно похожа на благотворительную возню. Но я стараюсь не думать об этом. Меня ведь ни о чем не просил ни бесконечно важный Сенат, ни столь занятое путешествиями Адмиралтейство. Никто, кроме собственной моей совести, не руководил мною, когда я создавала здесь оранжерею и учила жителей огородничеству. Федор слушал молча, почти все, рассказанное ею, было для него ново. — Мужу моему большие тяготы в управлении Камчаткой! — призналась она. — Споры с чиновниками бесконечны, врагов много себе нажил, и дел — конца краю не видно!.. Известно ли вам, Федор Федорович, что в Государственном Совете еще в 1808 году министр коммерции приготовил проект о дозволении селиться на землях Российско-американской компании не только всем людям свободным, как купцам, государственным и экономическим крестьянам, отставным солдатам, но и крепостным, конечно, с согласия помещиков. И что же? Совет увидел в этом проекте “несообразность дворянским интересам”. Вдруг-де все крепостные от помещиков уйти захотят на Камчатку. И вот приходится по старому правилу на семь лет нанимать помещичьих людей. Правда, нелегко бывает их потом вернуть в срок, тут они все на одинаковых правах с вольными и “полупай” им выделяют. Домой, в неволю, их не тянет, поэтому они совсем не горюют, если корабля долго нет. Федор навсегда запомнил эту женщину, смелую и резкую во взглядах и вместе с тем такую нежную и мягкую в обращении. В селениях, где бывал Федор, он увидел у одного из чукчей похожую на игрушку, только что выстроганную им из смолистой северной сосны, маленькую фигурку с белой приклеенной к голове выцветшей травою. — Она, — сказал Федору чукча, показывая в сторону дома, где жили Рикорды, и пояснил: — Желтоволосая, добрая, от нее попутный ветер в дороге! Федор понял: речь шла о Людмиле Ивановне. Видимо, чукча решил как-то изобразить эту понравившуюся ему русскую учительницу. Он не поставил сделанную им фигурку своим божком в доме, нет, она не божок, и Федор без труда приобрел ее у него. И камчадалы и русские старожилы знали и любили Людмилу Рикорд. Она побывала во всех поселениях, о которых было известно в канцелярии правителя Камчатки. — Пока Рикордиха здесь, не пропадем, — говорили поселенцы. Смущаясь, Матюшкин показал деревянную фигурку. Головнин весело смеялся: — Придется доложить Адмиралтейству о том, в какой славе жена Рикорда. Торсон сказал в задумчивости: — Федор Федорович, от вашего рассказа повеяло чем-то очень родным! Лазарев знает места, о которых идет речь, но не прерывает лицеиста. Втайне ему интересно, с какой долей преувеличения и лицейского поэтического домысла расскажет Матюшкин о Камчатке. Лазарев знает селения, где чтут Людмилу Ивановну Рикорд: селения, где ноги вязнут в опилках, как в песке, — столь много строят на этой обетованной земле. Звон пил стоит в воздухе, и, кажется, эти звуки идут отовсюду, от сине-зеленого леса и из влажной, пахнущей брагой земли. Нет, лицеист ни в чем не погрешил против истины, и как просто и хорошо рассказал он об этой земле! Именно сейчас, на пути “Востока” и “Мирного” к Южному полюсу, особенно уместен этот его рассказ! …Утром в почтовом дилижансе, запряженном пятеркой одномастных вороных коней, офицеры выехали в Лондон. Там, на Страндской улице, в гостинице, поджидал Лазарева Беллинсгаузен. Разделившись на две группы, офицеры направились осматривать город. Братья Лазаревы, а с ними Матюшкин и Головнин посетили Вестминстерское аббатство и долго бродили по строгим бульварам города. Хлопанье бичей, стук качающихся на ветру вывесок, крики разносчиков утомляли. На бульваре было спокойнее. Дремали няньки, отпустив детей бегать около себя и, словно “на стойке”, как сказал Михаил Петрович, недвижно и чопорно упершись взглядом в землю, сидели старички в черных цилиндрах. Моряки подходили к мягким зеленеющим, как лужок, берегам Темзы и невольно искали в мутно-холодном отсвете реки, в оживленном перестуке топоров, в криках грузчиков, доносившихся сюда с пристаней, что-то привычное, петербургское. На моряков оглядывались прохожие, узнавая в них русских по форме и по спокойной естественной выправке, менее присущей другим иностранцам. Круглые позолоченные эполеты и высокий стоячий воротник с рисунком якоря на нем привлекали внимание. Моряки слышали, как о них говорили: “Наверное, они будут гостями на празднике при королевском дворе”. Лондон был многим морякам не в новинку. Некогда Головнин, служа на английском флоте, подолгу останавливался в Лондоне. Бывало на Портсмутском рейде приходилось ему даже участвовать в корабельных спектаклях, играть роль Короля Лира… Теперь об этом Василий Михайлович не мог вспоминать без смеха: — Хорош же я был актером. По молодости согласился. Но должен сказать: Англию знаю! И спросил Михаила Петровича: — Кому-нибудь говорили здесь, что идете… проверять Кука? — Разве только нашему посланнику. Говорят же: “Не хвались на рать идучи”. Англичане позже узнают, Василий Михайлович, о нашем пути. А впрочем, в секрете не держим! — А если бы знали, куда идете, как думаете, помогли бы или оскорбились? — рассуждал вслух Головнин. — Будь не мы, а французы, — от преждевременной славы некуда было бы деться. На берегу толпились бы монахи и купцы, провожая их. Ну, а русские собственной доблести не привыкли удивляться. — А почему вы монахов и купцов помянули, Василий Михайлович? — Монахи, видите ли, Михаил Петрович, в случае неудачи экспедиции, скажут, что церковь своего благословения не давала и этим попытаются укрепить веру в божественное провидение. Ну, а купцы, те из корысти…ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Англия — страна почт и экипажей. Это мнение о ней путешественников нельзя не разделить. Беллинсгаузена веселил вид фуры, запряженной четырнадцатью лошадьми. Казалось, передвигали дом и улица расширялась по мере того, как уходила фура. Безотчетно веселил важностью своей и почтальон в цилиндре, колокольчиком извещавший о своем появлении. К нему несли письма, и он, церемонно раскланиваясь, опускал их в громадную, висевшую у него на боку сумку. Моряки хотели побывать в Гринвичском инвалидном доме, в Британском музее и в “Водяном театре”, единственном в своем роде, где подмостки и сцену заменял большой бассейн и где разыгрывали трафальгарское сражение, войны с пиратами и открытия новых земель. Действие таких пьес тянулось по четыре часа, корабль попадал в штормы, терпел крушения и вновь оказывался на нежно-голубой, одного цвета с небом, бирюзовой глади. Несколько пловцов, “артистов бурь”, ныряя создавали подобие смерча, дергали вниз легкий, из тонких досок сооруженный корабль, они же попеременно представляли лоцманов и горделиво-спокойного капитана на мостике. И здесь “искали шестой материк”, поминали Кука и утешались выловленным где-то за мысом Горн, у южной оконечности Америки, таинственным сундуком, в котором хранились дневники неизвестного погибшего капитана. Головнин утверждал, что в “Водяном театре”, или, как называли его здесь, в театре “Садлены колодцы”, всегда полно зрителей, среди которых много бывших моряков и сам король нищих, лицо в городе именитое и властное в своей среде не менее, чем полиция. Однако в этот день театр был закрыт, и Головнин привел своих спутников в Дрюриленский театр, где играл знаменитый артист Гаррик. Он недавно умер. Сейчас здесь ставили русскую оперу “Наренский”, или “Дорога в Ярославль”. Они увидели на сцене влюбленную чету из простонародья, осчастливленную неким молодым рекрутом, который пошел в солдаты вместо своего брата, увидели предсказательницу — хмурую цыганку с трубкой во рту, разгульного ямщика, нелепо орущего песни, деревенского старосту в парике, одетого под бургомистра, и возле пошатнувшейся избенки сосну рядом с пальмой. Именно эта пальма довершала несуразность всей постановки и свидетельствовала о дурном знании российского климата. Михаил Петрович, потупясь, будто стыдясь, глядел на эту пальму и уже не слушал, о чем говорили на сцене. Не досмотрев пьесу, русские моряки вышли и, наняв фиакр, отправились в Британский музей. Они попали туда к закрытию. Голубоглазый седенький старичок в мундире, этакий сказочный хранитель кладов, провел их в залы, отведенные Куку. Здесь было все: от тростей и башмаков Кука, от его морских коллекций до страусовых яиц, якобы собранных им на землях дикарей, и отлично набитых чучел зверей и птиц. Были и рисунки, изображавшие плаванье Кука в поисках южного материка, но ни одного слова о Форстере, как и вообще о его спутниках. — А ведь еще живы те, кто ходил с Куком! — нерешительно сказал Беллинсгаузен. — Их, кажется, трое: почитаемый в Англии знатный моряк Джозеф Бенкс и рядовые матросы, из них один в Гринвичском инвалидном доме… — К нему бы съездить! — предложил Лазарев. — К кому? — не понял Фаддей Фаддеевич. — К матросу. — Но для чего, собственно? Из уважения к тому плаванью? Или оставить подарок матросу? Может быть, хотите пригласить с собой? — заинтересовался Беллинсгаузен. — Что и говорить, было бы замечательно иметь на корабле такого моряка. Если он, впрочем, действительно моряк. А то ведь к странностям в Англии принадлежал, если помните, обычай — приводить впервые на корабль в кандалах тех, кто взят на морскую службу. Чаще всего так поступали с рабами. Может быть, и этот матрос, служивший с Куком, не любит море? Впрочем, мы ведь хотели побывать в инвалидном доме, — поедемте. Помнится мне, Петр Великий бывал там, приезжая сюда из Денефорда, и любил говорить с ветеранами… В инвалидном доме не меньше истории, чем здесь, в музее. Тот же фиакр отвез их к берегу Темзы, к большому с колоннами замку коринфского ордена. Здесь помещался инвалидный дом. Дорическая колоннада, площадь со статуей Георгия Второго открылась перед ними. И пока они шли по площади к корпусу, где жили инвалиды-матросы, Головнин, не раз бывавший здесь, рассказывал о куполе здания, расписанном живописцем Теоргелем. Там висит “самый верный в Англии компас”, окруженный лепными аллегорическими фигурами, изображающими гостеприимство, великодушие, храбрость. Там же стоит катафалк, на котором везли тело Нельсона в Лондон для погребения в церкви Святого Павла. В помещении, где жили матросы, названного Беллинсгаузеном человека не оказалось. — Он умер год назад! — сказала прислужница вся в белом. Здесь прислуживали только вдовы матросов, не моложе сорока лет. И добавила обстоятельно: — Вдовы его тоже нет в живых, она умерла в этом году. Обоим было под восемьдесят. Кто, кроме них, интересует вас, господа? И почему, простите, к простому матросу приехало столько русских офицеров? Я должна сообщить духовнику!.. — Он был матросом у Кука!.. — коротко сказал Головнин. Прислужница склонилась в поклоне. — И у сэра Джозефа Бенкса, — добавила она, как бы желая напомнить о другом сподвижнике Кука, которого чтут в инвалидном доме. Офицеры молчали. Из глубины здания тянуло холодом. Где-то бил колокол. Какой-то одинокий старик на деревяшке, держа в руках миску с кашей, проковылял кормить голубей. — Нам нужен был матрос Кука! — повторил Головнин. — Мир его праху! Головнин снял фуражку, то же сделали остальные. — Он был прекрасный моряк, сэр! — шепнула прислужница, все более удивляясь. — Но ничем не знаменит… Может быть, войдете в дом? В гостиницу они вернулись к ночи, усталые, с чувством какой-то настороженности и сдержанной печали. “Официальный” Лондон тяготил, строгая простота и налаженность жизни странно сочетались с чинной выспренностью. И, право, здесь больше, чем где-либо, казалось, что все в мире уже открыто и находится в равновесии, и новые поиски шестого материка не что иное, как выход из этого равновесия!.. Впрочем, они не говорили об этом друг с другом. Головнин рассказывал о Русской Америке, о давних разговорах своих в Адмиралтействе об организации экспедиции к южному материку. Симонов задержался в городе и вернулся уже под утро. Он был у астронома Гершеля в Виндзоре. Там, покачиваясь от старости, но не сдаваясь ей, старец Гершель — знаменитейший из астрономов этого века, показывал Симонову свой телескоп, увеличивающий в шесть тысяч раз. Им он открыл шесть спутников Сатурна. Телескоп был размером почти в три сажени, с диаметром зеркальной поверхности в сорок восемь вершков. Старец говорил о Шуберте, которого хорошо знал, о его дочери, жене Лангсдорфа, говорил о том, что знание звездного неба дает немало подтверждений относительно существования южного материка, и к тому же спокойствие в жизни. С утра братья Лазаревы занялись покупками и направились к инструментальным мастерам приобрести запасные секстаны, хронометры и зрительные трубы. Мастер Траутон, пользующийся в городе заслуженной славой лучшего оптика, глухой, важный старичок в пикейном халате с красными отворотами, объяснялся с ними, приставив к своему уху большую слуховую трубу. — Куда идете? — любопытствовал он. — Куда Кук ходил! — кричал ему в ответ Михаил Петрович. Старичок медленно кивал головой, без нужды надевал и снимал очки, растерянно оглядывал моряков. — По следам Кука идете? — переспрашивал он надрываясь. — Нет, уж только не по следам! — весело поправлял его Михаил Петрович. — По следам пойдешь — с тем же результатом придешь, — смеялся Алексей Лазарев. И, боясь, как бы “трубный глас” старика не привлек внимания посетителей, торопил брата: — Идем же скорее! Но старичок, хорошо осведомленный о всех путешествиях Кука, не успокаивался. Он подвинул офицерам высокие стулья-табуреты с кожаным сиденьем, запер на засов дверь магазина и, не доверяя больше слуховой трубе, стал объясняться записками. — Сорок два года назад, — писал он на бумаге, — Джемс Кук ходил к южному материку и засвидетельствовал, что найти его невозможно. Туда ли вы идете, судари? Я никогда не был убежден в правоте суждений Кука и представляю в ваше распоряжение весь свой магазин и самого себя! — Кажется, он совсем еще не так стар, во всяком случае держится рыцарски! — растроганно сказал брату Михаил Петрович. Поблагодарив, но отказавшись от щедрой помощи Траутона, моряки ушли. С купленными инструментами, на том же дилижансе, возвращающемся обратно, Лазаревы прибыли в Портсмут. К вечеру вернулись и остальные, а днем позже на пристань явился мастер Траутон. Его поддерживала дочь, следом выступала жена, добрая с виду женщина, с зонтиком в руке, и бормотала: — Никуда ты не поедешь. Ты только проводишь! — Да, я только провожу, — покорно соглашался мастер. — Но я должен видеть этих отважных молодых людей! — И взволнованно вглядывался вдаль: — Глядите, кажется, русский корабльуходит! Но сперва уходила в море “Камчатка”, направляясь в Россию. Она увозила на родину письма и среди них оконченные наконец обстоятельные послания обоих Лазаревых к матери во Владимир. Наступил вечер. С северо-запада дул сильный ветер, грозя перейти в ураган. За английскими судами выбирал себе стоянку только что пришедший сюда корабль Гагемейстера “Кутузов”. Было видно, как никли и дрябло опадали спущенные паруса. С берега шла к “Мирному” шлюпка. Это везли закупленное в Лондоне докиновое мясо — подобие консервированного, банки с сосновой эссенцией для пива, с суслом и патокой — все, что осталось доставить на корабль. Лазарев подозвал вахтенного офицера и приказал: медику завтра же осмотреть людей и доложить о больных, а отцу Дионисию — отслужить молебен. Вахтенный ни о чем не спрашивал. Он понял — корабли должны быть готовы к отплытию по сигналу с “Востока”. Команды кораблей были выстроены на борту. Канониры тянулись к пушкам, желая отсалютовать “Камчатке”. Оттуда, забравшись на мачту, долго еще махал рукой сигнальщик и все более смутно виднелись одинокие фигуры, в которых Алексей Лазарев, по его уверению, узнавал трех мичманов. Экипажам казалось, что они дважды прощались с Россией: в первый раз, оставляя ее берега не так давно в Кронштадте, в другой раз теперь, встретив и проводив экипаж “Камчатки”. …Джозеф Бенкс, председатель английского географического общества, был больше других озабочен в этот день прибытием в Портсмут кораблей русской экспедиции. Глубокий старик, некогда сподвижник Кука, он уходил из жизни с мыслью, что южного материка нет. В этом утверждении, по его словам, было также сознание своей “с честью прожитой жизни”. Из спутников Кука остались в живых лишь он, сэр Джозеф Бенкс, и один матрос. В географическом обществе всегда ставили в заслугу Куку “избавление человечества от заблуждений, столь же гибельных, сколь и бесполезных”. Джозеф Бенкс любил говорить, что экспедиция Кука уже тем была полезна, что избавила другие государства от ненужных жертв и трат, от создания мнимых героев и ложной славы. Выходило по всему, что Кук, а с ним и Джозеф Бенкс, так или иначе, а совершили подвиг! В воскресный день Джозеф Бенкс принимал в своем поместье моряков, побывавших по его поручению в Портсмуте. — Вы удостоверились в том, куда идут русские корабли? — спрашивал он. — Нельзя верить россказням матросов. Надо было спросить офицеров. Из России до сих пор нет донесений об экспедиции, хотя русским нет нужды держать ее в секрете. Или они сами не придают ей большого значения? — Там Беллинсгаузен! — возразили старику. — Вряд ли этот моряк согласится возглавить экспедицию только для прогулки! Седой, весь в белом, с белой тростью в руке, Джозеф Бенкс медленно ходил по песчаной дорожке сада. — Это их дело, — проговорил он. — Беллинсгаузен мог бы приехать ко мне с визитом, чтобы посоветоваться о своем путешествии. Известно ли вам, что русские, придя сюда, не обращались ни к кому из государственных лиц? — Ни к кому, — подтвердил один из офицеров. — Они не считают, видимо, что могут узнать у нас что-нибудь новое для себя. — Тогда пошлите кого-нибудь на их корабль. Если не поздно, пригласите их к нам. Впрочем, важнее другое: убедиться в их намерениях и в том, располагают ли они чем-нибудь новым! Отпустив офицеров, Джозеф Бенкс поехал в Адмиралтейство.ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
На “Мирном” матросы приметили Алексея Лазарева, брата командира, и величали ласково: “меньшой”. Между тем братья были почти одних лет, в одном чине и, может быть, лишь некоторая порывистость Алексея в движениях и горячность в разговоре делали его в глазах матросов “меньшим”. — Шли бы с братцем, ваше благородие, а то разлучитесь скоро, — сказал как-то Алексею Лазареву боцман. — А знаешь, куда мы идем на “Благонамеренном”? — спросил лейтенант. — А как же, ваше благородие! Только наш путь, считаю, будет короче, нам землю искать в Южном полушарии, а вам — морской путь от Берингова пролива в Атлантику. — Почему же думаешь, — короче? — Земля — она видна, ваше благородие, или есть она, или нет ее, а морской проход искать, что тропку в поле, когда все замело снегом. Вы уж простите меня, ваше благородие. — Ишь ты! Как хорошо сказал, — удивился Лазарев. — Стало быть, Южную землю найти легче? — Не знаю легче ли, ваше благородие, а только виднее она, считаю, и, как бы сказать, земля эта разом все наши труды вознаградит, потому — земля, легко ли подумать. — Да ведь земли-то тоже не видно! Льды одни… Знаешь ли, что ждет вас? — спросил Алексей Лазарев. — Что бы ни ждало, ваше благородие, а братьям легче вместе-то! — твердил свое боцман, сочувственно поглядывая на лейтенанта. Разговор этот происходил на стоянке кораблей на рейде города Санта-Круц. Передавая об этом разговоре брату, Алексей вздохнул: — И впрямь вместе бы легче! А ведь трудно, Миша, матросам пояснить, какую землю вы ищете. Во льды, в тартарары, сказал бы иной, идем, и все тут. А у тебя любой конопатчик и канонир цель корабля знает! — Только один у меня в цели нашей мало сведущ, поэтому на провидение большие надежды возлагает, — смеясь, ответил Михаил Петрович. — Это — отец Дионисий, иеромонах. Ему куда бы ни плыть, коли повелел царь, лишь бы плыть. “Ежели писах — писах!..” Не хочешь ли послушать, что читает он матросам? Из трюма доносилось: …Царь, как странник, в путь идет И обходит целый свет. Посох есть ему держава, Все опасности — забава. Для чего ж оставил он Царский сан и светлый трон? Для чего ему скитаться, Хладу, зною подвергаться? — Для чего ж? — весело заинтересовался Алексей, узнав голос иеромонаха. — Послушаем-ка! И в ответ раздалось торжествуя: Чтоб везде добро сбирать, Ум и сердце украшать Просвещения цветами, Трудолюбия плодами. Чтобы мудростью своей Озарить умы людей, Чад и подданных прославить, И в искусстве их наставить. О, великий государь, Первый, первый в мире царь! Всю вселенную пройдете, А такого не найдете! — Видишь, как помог Карамзин нашему плаванию, а больше отцу Дионисию. Это ведь его стихи. И впрямь, будто царь Александр плывет с нами на корабле, — смеялся Михаил Петрович. — Напоминает нам отец Дионисий: не забывайте, мол, — царь идет с вами, на вашем корабле. — Завидую я тебе! — сказал Алексей, почти не слушая о монахе. — Чему бы? — Власти твоей над людьми. Тому, как экипаж себе подобрал! Головнин бы понял… — Ну, а на “Благонамеренном”? — Там я не командир, там не моя воля! — Что-то ты горячишься, — заметил брат. — А на добром слове спасибо. И прямо скажу: особый надо иметь экипаж, чтобы южный материк искать. Фаддей Фаддеевич мне нынче слова Крузенштерна напомнил: “Матросу воображение, как сноровка, нужна”. Мертва та Южная земля и всем неведома, а матрос должен ее заранее воображением схватить и в добрый час не сплоховать во льдах! — Ну, как же готовишь, как рассказываешь команде о неведомом? — заинтересовался брат. — Приходи, Торсона послушай! — вместо ответа предложил Михаил. — Послушай, как он с матросами толкует. — Что же, приду! — согласился брат. В день, когда лейтенант Торсон собирался заняться с матросами географией, рассказать о сферичности земли и о Птоломеевом меридиане, некогда принятом астрологами, на корабль явился английский офицер в чине командора. Был он в парике, в зеленом камзоле, мягких туфлях, так наряжались и сейчас дипломатические чиновники, держался просто и пожелал говорить с командиром. Мичман Новосильский проводил его к Лазареву. Англичанин, быстро оглядев неказистую, тесную каюту, свет в которую проникал лишь через застекленный люк в потолке, представился и попросил выслушать его наедине. О том, куда держат путь корабли, уже стало известно в Портсмуте, и Лазарев не удивился, когда гость его заговорил об Антарктиде, называя ее так, как обычно в то время, — южным материком. Командор расспрашивал его о корабле, о том, что может здесь потребоваться экспедиции, и Михаил Петрович думал, направить ли его к Беллинсгаузену или сперва выслушать. Разговор их, однако, не принял делового, официального характера. Сам командор предупредил, что пришел попросту, по-домашнему, не имея ни от кого полномочий. — Вы понимаете, господин Лазарев, никого не может так интересовать южный материк, как Англию. — Помимо того, что это вопрос вашего престижа, — подсказал Михаил Петрович, заметив нерешительность, с которой приступил к разговору командор. — Престижа Кука! — резко поправил его англичанин. Но, впрочем, тут же согласился: — Кук — это Англия. Вы не знаете, господин Лазарев, как любят в народе этого “замечательного боцмана”, так называют его у нас. — Чтить память Кука обязаны мы все, — тихо заметил Лазарев. — И нашу почтительность нисколько не умалит наше сомнение в некоторых его утверждениях. Командор возвысил голос, сказал назидательно: — Человек, открывший Ново-Зеландию (Лазарев не подал вида, что удивлен) и окончательно дорогу в Индийское море, человек, умевший в большом и малом быть находчивым, — вспомните, господин Лазарев, как сохранил он наплаву свой корабль, как прилепил к днищу с наружной стороны парус с нашитой на нем паклей и покрытый овечьим пометом, — такой человек не может оставить целый материк в положении Terra incognita. Кук — это сама доблесть! — Государство, пославшее меня, не ставило цели вредной для морского или иного престижа Англии, — ответил Лазарев примирительно. Не раз при нем английские офицеры невольно порочили славу Кука неуместным перехваливанием, приписывая ему открытия, совершенные не им. — Но мнение мое — мнение моряка, — перебил командор. — Ни вы, ни я, господин Лазарев, даже не попытаемся сравниться с Куком. И если ваше морское министерство не дало вам иных задач, кроме поисков южного материка, то я обязан предупредить вас о неосуществимости этой задачи. — Это надобно проверить, господин командор, — ответил Лазарев и, кинув взгляд на стопку книг и журналов, лежащих на тумбочке возле койки, что-то вспомнил: — Вы утверждаете, что мнение Кука о южном материке неоспоримо. Однако до сих пор в Англии спорят, существует ли этот материк, столь нужный на земном шаре хотя бы для равновесия, как утверждали раньше… Да и о самом Куке разное пишут! — Вы совершенно правы, мой капитан, — поспешно сказал англичанин. — Правительству даже пришлось вмешаться и пожелать, чтобы многие книги о Джемсе Куке и южном материке не были в ходу у населения. Превратность толкований жизни великого человека, а вместе с тем и ложные суждения о мироздании — это так обычно везде… Если вы, господин лейтенант, захотите прочесть о Куке, я рекомендовал бы сочинения Анны Мор, Елены Вильмо, изданные в то время, когда королевское географическое общество отчеканило в память Кука золотые медали, одна из которых была преподнесена императрице Екатерине Второй. Гость откланялся. Проводив его до трапа, Лазарев подошел к группе матросов, собравшихся на юте вокруг Торсона. Среди матросов Михаил Петрович заметил Киселева. — Господин лейтенант, — спрашивал он, — а верно ли, что последняя будет эта Южная земля, которую русскому человеку открыть остается? Лазарев отошел, не желая мешать беседе. …Двадцать девятого августа матрос Киселев записал в своем дневнике, который по совету Новосильского и Алексея Лазарева решил вести: “Пошли из Англии в путь”. И четырнадцатого сентября: “Пришли к острову Гишпанскому, в город Сан-Круц, по-русски Святой Крест. Есть превеликая гора, которая с моря видна за 150 верст. Тут мы стояли пять дней и расцветали флагами для коронования его императорского величества”. И уже на подходе к экватору засвидетельствовал: “Опускали в воду градусы за 300 сажен для пробы холоду, и было холоду 22 градуса, не доходя екватору. Спускали в воду тарелки для узнания светлой воды. Было видно тарелку за четырнадцать сажен, не доходя екватору. Поймали летучую рыбу в семь вершков, которая похожа на ряпуху, и тут их множество летает стадами у самого екватора. Пришли на екватор утром в восемь часов, и была пальба: отдавали честь морскому царю Нептуну, где равноденствие солнца человеку в самое темя, и тут одна вода с другой сошлась, и потому называется равностояние”. Ознакомившись с дневником Киселева, лейтенант Новосильский сказал ему, не желая обидеть и все же смутив: — Эх ты! Екватор! За то, что запись ведешь, хвалю, но что же ничего, кроме тарелки, сунутой в воду, да летучей рыбы не отметил? И о горе Тенериф не написал толком, и о “встрече с Нептуном”. Не корабельный ведь журнал ведешь, а записи впечатлений. А что иное мог написать он, Киселев? Написал мало да плохо, но значит ли это, что в памяти ничего не осталось? Он запомнил город Санта-Круц с площадью, вымощенной белыми плитами и украшенной мраморной статуей высотой с грот-мачту, а над городом поднимался на 11 500 футов пик Тенерифский. В городе много нищих, даже дети окружали русских моряков, протягивая грязные ручонки: “Квартеро! Квартеро!” Так называлась здесь монета ценностью в наш пятак. Запомнился Санта-Круц Киселеву музеем натуральной истории. В музее хранятся мумии гванчесов, первобытных жителей Тенерифа, и, судя по мумиям, тенерифцы были исполинами. Под стать их росту только драконовое дерево, достигающее в этих местах, говорят, в объеме близ поверхности земли 36 футов. Корабли экспедиции пересекли северный тропик, и вот — тропические птицы летят над грот-брам-реями, не отставая, снуют над бортом летучие рыбы, и дельфины плывут сзади. Дельфинов легко ловить на толстый крючок с насаженным на него лоскутом красного флагдука. Один из дельфинов, вытащенный на палубу, упал в раскрытый люк, прямо в каюту командира, на морские карты, циркули и линейки, разложенные Михаилом Петровичем. То-то было смеху! Всю ночь корабль шел, весь словно в пламени. Фосфорическим светом горело море. Звезды, невиданные в Северном полушарии, — Ридан, Корабль, Центавр, — блестели самоцветами. Зачерпывая из-за борта воду, доставали светящихся слизняков. Они вспыхивали стоило чуть поколебать воду. Вот они — тропики! Астроном Симонов то и дело погружал в море пустую бутылку и торжествовал, доставая моллюсков, которых он, во всем уподобляясь натуралисту, называл необычайно странно: реброволосиком и хрящеваткой. Порой становилось так тихо, словно море, усыпленное жарой, застывало. Это не был штиль, в неподвижности воздуха и воды таилось что-то безжизненное, бездыханное. И на палубах кораблей, под тентом, распущенным на шканцах, ждали с нетерпением где-то в это время возникающего шквала. В такую пору перешли экватор. Корабли отсалютовали друг другу и подняли флаги, поздравляя с переходом в Южное полушарие. На “Мирном” боцман, наряженный Нептуном, приставив к губам слуховую трубу, громовым голосом кричал, спрятавшись в трюме, словно из морских недр: — Какое судно и куда идет? Вахтенный мичман Новосильский, он же душа этого празднества, отвечал серьезно: — Для обретения новой земли и кругом света! — Кто командир? — Лейтенант Михаил Лазарев. — Слышал, — умиротворенно басил Нептун. — Кажется, он не без пользы ходил на “Суворове”? — Так точно. Не без пользы, — подавляя улыбку, отвечал Михаил Петрович, стоя с матросами здесь же на палубе. — Подумаю! — заключил Нептун. — Пропущу ли? Тем временем, пока ублажали Нептуна, опытный в “экваториальных празднествах” матрос Никулин одевался Меркурием в диковинные широченные штаны красного цвета и такую же “огненную” рубаху. Он уселся на колесницу, которую тут же смастерили из распиленной бочки, водруженной на пушечный стан. В колесницу впряглись три голых матроса-тритона. И с высоты своего сидения Меркурий, бог дорог и торговли, вопрошал присмиревшего Нептуна: — Как решил? Пропустишь? — Да уж ладно! — соглашался Нептун, вылезая из своего убежища и усаживаясь рядом с Меркурием, весь в водорослях и кораллах. Тогда заливисто свистнули откуда-то музыканты, неистово забили барабаны, тонко запела флейта, и перед колесницей явились песенники и танцоры. — Разреши повеселиться! — кланялись они Меркурию. — Если умеете! — милостиво отвечал он. В то же мгновенье Меркурий летел в море, ловко сброшенный весельчаками, а потом они прыгали по палубе и поливали друг друга из пожарных рукавов. Вода хлестала всюду, иные, не в силах устоять против ее напора, обессиленные смехом, бросались за борт. Спустя час Меркурий повелительно возгласил: — Команде надеть чистое белье и вернуться к занятиям! Через несколько дней корабли прибыли в Рио-де-Жанейро. В большом и легком, как шалаш, доме Лангсдорфа, русского генерального консула и натуралиста, чествовали офицеров экспедиции. За стареньким клавесином, прикрытым в углу опахалами, сидела жена консула — стройная, с двумя светлыми косами, оттеняющими темный оливковый загар спокойного ее лица, и ласково допытывала стоящего подле нее Михаила Лазарева: — И Нептуна обряжали, когда проходили экватор? — Было. — Не чаяли, небось, одолеть тропик? — Помучились. — Видите, я все знаю, — с бледной улыбкой, так же ласково сказала она. — К нам приходят оттуда, — она кивнула головой в сторону моря, видневшегося из окна, — все такие зачарованные, измученные. Сюда такой необыкновенный путь!.. Лазарев молчал. Он действительно испытывал изнуряющую усталость от перемен климата, от тропического зноя и ветров. Тут он был не впервые, его миновало умиление перед наивным, кажущимся благоденствием юга, перед “Шехерезадой” бразильских садов. Ленивая тишина, звуки клавесина, дремотный плеск волн, доносившийся сюда, как бы убаюкивали сознание. Но Лазарев, превозмогая жару и усталость, думал сейчас о другом, о полярных льдах, поджидающих корабль. Они казались ему не так уж далеки от залитой солнцем, обсаженной пальмами и бананами набережной Рио-де-Жанейро. …Говорили, что Григорий Иванович Лангсдорф согласился поселиться здесь, как российский генеральный консул, из-за своей больной жены, дочери академика Шуберта. Иначе, зачем бы жить здесь ему — экстраординарному академику-зоологу и признанному в петербургских кругах медику? Правда, в познаниях и склонностях своих он не уступал иным мореходам, на парусной лодке ходил в море и участвовал в кругосветном плавании русских на корабле “Надежда”. И только ли болезнь жены привязала Лангсдорфа к здешним местам? В день встречи кораблей из России, необычайно взволнованный, он достал записи давнего своего путешествия, рисунки и письма, относящиеся к тому времени. Среди бумаг он нашел и письмо профессора университета к нему — тогда еще молодому ученому. Оно обращало его внимание на недоказанность утверждений Кука о том, что южный полярный материк — миф. Теперь это письмо Лангсдорф решил передать Симонову. Недавно случилось Григорию Ивановичу беседовать с мичманом Матюшкиным и остаться в тревоге: неосведомленный во многом, о чем рассказал ему гость, он явно отстал от течения русской жизни. Был он поклонником Кантемира, до слез любил “Бедную Лизу” Карамзина, находил усладу в велеречивости Державина, остерегался острословов и не определил еще своего отношения к тому, что говорил ему Матюшкин о молодых людях, ищущих новых путей для России, о Пушкине. И теперь вместе с любопытством к путешественникам из России чувствовал, что втайне побаивается их. Мучило его и другое: желание оставить Бразилию и вновь идти к дальним берегам. Узнав от Симонова о том, что с экспедицией нет натуралиста, Лангсдорф оживленно сказал: — Ну вот, и помогу вам, Иван Михайлович, помогу. — Стал объяснять Симонову, как вести океанографические наблюдения, как доставать и хранить в пути не известные еще “коллекционные виды” растений и животных подводных глубин. — Ко мне привезете, Иван Михайлович, и я стану как бы ботаником вашей экспедиции. Согласны? Он говорил об этом так, словно уже принял на себя все заботы о “естественно-научной стороне” экспедиции, расспрашивал о приборах для определения состава воды и даже о сетках для ловли бабочек. — Какие уж там бабочки! — рассмеялся астроном. — Помилуйте, Григорий Иванович! — Полярного юга! Да, да, мотыльки. Может быть, их заносит ветром с земли. Всякая малость влечет в науке подчас великие выводы! Заметьте, в отличие от предметов, поддающихся лишь отвлеченному познанию, имею в виду мир звездный… Да, да, не возражайте, — повторил он, заметив протестующий жест астронома. — Неужто астрономия не суть предмет отвлеченный? Мир животный всегда неожидан в своих проявлениях и столь плохо изучен, что таит в себе немало обманов для нашего зрения. Между тем по птицам и растениям можно тоже держать курс, как по компасу. Встретив пингвинов, можете надеяться встретить и землю, не льдины, а сушу. Эх, если бы только знать этот мир и его природу, лучше сказать, происхождение!.. Он помянул Кювье, его сочинение об ископаемых костях четвероногих животных, по которым впервые дано верное объяснение окаменелостей, но много там и ошибок в защите учения Линнея, отстаивавшего взгляд о неизменяемости видов, помянул Вольфганга Гете, его “Метаморфозу растений”. Симонов мог убедиться, что сам Лангсдорф тоже склоняется к недавно еще “еретической” мысли о том, что виды меняются и что “костные группы” всех позвоночных, в том числе и человека, не что иное, как видоизмененные позвонки. Он рассказал астроному о диких животных, населяющих здешние леса, и о своих наблюдениях над обезьянами, удивив опять своими выводами. — Иван Михайлович, — говорил он, — вас не тянет остаться здесь лет эдак на пять? Не доводилось ли вам думать о пользе ухода вашего от университетской науки на лоно природы, туда, где кафедрой вашей будут леса и горы? Можно ли, друг мой, в городе познать жизнь природы? И ответьте мне, любезнейший: только ли моряки возрадовались русской экспедиции в высокие широты? Или в задачи ее были посвящены и другие столичные круги? — Мне довелось списываться и беседовать, Григорий Иванович, о предполагаемом плавании с поэтом Денисом Давыдовым и историком Карамзиным, — ответил Симонов. — Но сам я совсем неожиданно попал на корабль и, знаете, направляясь сюда, много думал о вас, о вашем здешнем отшельничестве… — Ой ли, Иван Михайлович, о моем отшельничестве разговор особый. Не так приятно сознавать, что в год, когда Наполеон сжег Москву, я оказался назначенным в Бразилию, а не в ополченский полк. Было ему сорок пять, но манера говорить медлительно, с прибавлением: “почтеннейший” или “любезнейший”, как-то старила его. В белой шляпе-панаме на курчавых волосах, в широкой полотняной блузе, он походил на благодушного пензенского помещика, приверженного лесам и тишине. И не многие знали, сколь обманчив был этот его облик и какие помыслы владеют здесь российским генеральным консулом. Он помышлял об устройстве в Рио-де-Жанейро первого питомника обезьян и “живого музея” для российских университетов “с целью разведения на русском юге новых животных пород и видов растений”. Но нужно ли это? Или довольствоваться тем, что требует от него Академия? Обезьяний питомник? Не засмеют ли его в Петербурге? Утешенный астрономом, он сказал: — Некоторые события в науке, равно как и открытие Южной земли, ежели оно произойдет, должны многое изменить. — Что имеете в виду, Григорий Иванович? — Ну, скажите, любезнейший, доходны ли земли, открытые нами в морях и океанах, и что пользы от них, если даже Академия не силится употребить на благо наши обретения? Симонов задумался: вот он каков, сей “бразильский отшельник”! И действительно, как бы не оказалось открытое моряками вновь закрытым неприлежанием ученых! — Трудно ответить вам, Григорий Иванович, — признался он. — Вот то-то! Лангсдорф повеселел и приободрился, может быть, потому, что ни в чем не чувствовал себя “должником” перед своим гостем. И Симонов был обрадован этой встречей с ученым. Приближались решающие для экспедиции дни — ее ждало южное море. Страны, в которых останавливались они, были лишь преддверием путешествия. Все сказанное Лангсдорфом еще более укрепляло Симонова во мнении о важности, значительности экспедиции.ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Киселев, пристроившись в тени под парусом, читал вслух: “Я обошел вокруг Южного полушария… неоспоримо доказал, что нет в оном никакой матерой земли… Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне…” Киселев отвел глаза от записок Кука, в замешательстве потер лоб. Его удивили только что прочитанные слова, их высокомерие. “Никогда бы, — подумал он, — не сделал так русский человек. Он сказал бы: “Что не удалось мне, может удасться другим, дерзайте, братцы!” Но может быть, Куку действительно ясно то, что темно для других? Тогда зачем же идут “Восток” и “Мирный” туда, и неужели два государства не могли бы столковаться между собой и вместе решить, прав ли капитан Кук!” Киселев решил спросить обо всем этом у офицеров. Случай выпал скоро. Командир “Мирного”, собираясь в город, увидел у трапа Киселева и разрешил ему сопровождать себя по улицам Рио-де-Жанейро. Теперь Киселев мог открыться ему в своих сомнениях, Но увиденное в городе отвлекло матроса, и он не сразу заговорил о том, что его мучило. Пробираясь по узким улицам, они пришли к большому невольничьему рынку. На цыновках, под навесами, лицом к земле лежали почти голые негры. Вблизи, в красной бархатной мантии, с кинжалом на тонком поясе, расхаживал толстый, усатый португальский купец. Казалось, что рынок мирно дремал на солнце и люди, собравшиеся здесь, были путниками, обретшими долгожданный отдых. Неподалеку, со скалы, пенясь, бил по каменистому ложу водопад, рассеивая кругом брызги. С высоты низеньких молодых пальм заливисто пели какие-то невиданные Киселевым краснобровые птицы. Покупателей не было; купец, завидя офицеров, крикнул что-то невольникам. И вдруг с земли поднялся старый негр, широко открыл рот и протянул длинные трясущиеся руки. Лазарев перевел матросу сказанное купцом: — Привезен Куком! Потому хоть и очень стар, но стоит больших денег! — Куком, ваше благородие? — переспросил матрос. — Разве капитан Кук торговал рабами? — “Капитан, капитан”! — передразнил его Лазарев. — Вероятно, выдумал купец. Хочет набить цену! Но если не Кук, так многие другие английские капитаны торгуют неграми и хорошо на этом зарабатывают, — сказал он с нескрываемым презрением. Киселев внимательно поглядел на офицера. Не столько в словах, сколько в голосе его послышались матросу знакомые ему чувства горечи, обиды и стыда за людей. Среди матросов Лазарев пользовался славой “особого барина”. Говорили, будто он и крепостных своих отпустил, дал им вольную, да и было то их у него несколько душ. Лазарев подошел к купцу, спросил по-английски: — А где семья этого старика? — О, господин офицер, — оживленно ответил купец, — я знал, что вы обратите внимание на него. Этот старик — живая память о Куке. Он крикнул негру: — Закрой рот! Господину офицеру не нужно смотреть твои зубы. — Я спрашиваю, есть ли у него семья? — нетерпеливо повторил Лазарев. Ответили из-под навеса: — Ее здесь нет, господин офицер, вы не сможете ее купить! Рынок будто пробудился, негры застонали, молитвенно запели. — О чем они? — встревожился Киселев. — Молятся, чтобы не взяли их на корабль. Старик вдруг упал на колени и быстро заговорил, пытаясь что-то объяснить офицеру. — Он хочет уверить вас, что не выносит морской качки, Не верьте! — предупредительно сказал купец. — Идем, Киселев! — перебил Лазарев купца. — Я и не собираюсь сажать этого старика на корабль! — Ваше благородие! А если купить его и выпустить? Пусть себе к семье идет и нас помнит… — взволнованно сказал Киселев. Лазарев остановился. — Много надо денег, — помолчав, произнес он и обратился к купцу: — Сколько за него платить? — Сто двадцать талеров, — ответил купец. — А мы, ваше благородие, всем миром, сообща, — тихо и быстро проговорил Киселев. — На “Восток” пошлем к боцману — не откажет! Лазарев подумал, потом подошел к негру и, показывая вдаль, сказал по-английски: — Туда пойдешь! К себе, куда хочешь!.. — Здесь рынок, господин офицер, — вмешался купец, — здесь покупают и продают, а не утешают несчастных. Не глядя на купца, Лазарев отсчитал деньги, — почти все, что было у него с собой. Португалец важно принял деньги и отошел в сторону. Рынок затих и с виду погрузился в сон. Моряки пошли к гавани. Старик негр шел следом, не отставая от них, а придя на берег, лег на песок неподалеку, ожидая, что его позовут… — Что толку выкупить одного? — сказал Лазареву Беллинсгаузен, узнав о происшедшем. — Разве не приходилось вам видеть или слышать у нас о продаже крепостных, музыканта с фаготом в придачу или портного с утюгами? — Фаддей Фаддеевич, может быть, именно поэтому и откупили мы негра, — сказал Лазарев. — Купец говорит, будто Кук привез этого негра в рабство? Правда ли? — спросил Беллинсгаузен. — Если это не выдумка, то, выходит, наши матросы откупили его у Кука? Ну, пусть идет на все четыре стороны. Дайте чего-нибудь ему на дорогу! — И досадливо махнул рукой. — Вижу честь в вас взыграла. Киселев принес Лазареву деньги, собранные матросами, и уговорил его взять их. После этого он признался: — Экая незадача вышла. Я, ваше благородие, о Куке хотел вас спросить, да не пришлось! Может быть, поясните? — Спрашивай. — Выходит, ваше благородие, Кук людьми торговал. А мореход был отменный. — А тебе это странно, Киселев? — Странно, ваше благородие. Одно с другим не вяжется… И потом: коли Кук уверен, что никто дальше его на юг не пройдет, то что этому причиной, он, что ли, один, ваше благородие, способности и храбрости таковской. Или природа сама не велит туда идти? — А если не велит, то зачем мы идем? — подхватил его мысль Лазарев. — Нет, Киселев, неверно это. Мир для него — одна его Англия, а люди только те, что ему нужны и полезны. Гордыня его обуяла… Раз он не прошел, стало быть, и никто другой не может. А мы пойдем! — Негр не уходит, ваше благородие, — сообщил подошедший матрос. Сойдя на берег, Лазарев и Киселев увидели группу матросов, окружившую негра, и отца Дионисия, с крестом в руке что-то втолковывающего ему. Спокойные, неподвижные тени гор далеко падали в море. Там, где, нависая над кораблем, кончалась тень, тепло светил закат. И от этого казалось, что берег неровен, бугрист. С ближних гор неторопливо слетал звон колоколов. Боцман с “Мирного” доложил лейтенанту: — Негру идти домой несколько дней, боится — поймают. Хотя… дом его в Африке, полагаю. Просит, как бы сказать, отпускную выдать! Лазарев присел на камень и сочинил: “Куплен матросами экипажей “Востока” и “Мирного”, отпущен домой. Явиться через год сюда же…” — Навек теперь у старика наша грамота, — сказал боцман. — Хорошо вы придумали, ваше благородие! Матросы помогли негру надеть на плечи дорожный мешок, дали в руки палку и в молчании проводили до поворота, словно где-то в русской деревне захожего путника. Они подождали, пока темнота скрыла его от глаз. Киселев не спрашивал себя о том, что влекло его к этому негру и, казалось, не сознавал того общего, что было между ним и негром. Но матрос Анохин, как бы вскользь что-то вспомнив, сказал: — У нас не лучше! И у нас, брат, продадут человека, как гончую. Хорошо, если не в одной цене. Киселев заволновался: — Вот с сестрой моей такое же случилось… Продали ее на сторону… в другую губернию… и не знаем даже, где она, жива ли… Теперь матросы глядели вслед негру, еще маячившему на горизонте, с таким чувством, словно уходила их собственная доля, словно себя выкупали они в этот час из неволи. Где-то в городе пускали фейерверк, огни взлетали и гасли, вызывая скорее тревогу, чем радость. Глухо играл вдали духовой оркестр, усиливая чувство отчужденности и тревоги. Киселев, не умея выразить свое состояние, сказал понурившись: — И впрямь, братцы, чего-то не можется на берегу! Он повел плечами, словно сбрасывая какую-то тяжесть, и зашагал быстрее всех к кораблю, обозначившемуся возле мыса едва уловимыми в темноте синими точками фонарей. Придя в кубрик, принялся мастерить самодельную гармонь, притихший и в работе ищущий успокоения. Потом достал из сундучка полустертую морскую карту, доставшуюся ему случайно, и долго разглядывал ее, раздумывая о Куке, о новых землях, о том, что ожидает впереди. Ночью, подвинув к себе толстый огарок свечи, при тусклом его огне, осветившем стены и койки, Киселев писал невесте: “…А коли будут попрекать тебя в чем, — голову держи выше. Я, мол, невеста матроса 1-й статьи Егора Киселева, что, свет повидав, чести своей марать не намерен и управу найдет. Приеду — откупимся от барской неволи. Сегодня одного негра-старика мы откупили и сейчас домой проводили, куда — плохо знаю. Земля кругом обильна и приют ему даст. А нам скоро сниматься и идти к Южному полярному морю, где и Кук не был. Скажу тебе правду, слышали мы с Абросимом о матросах, кои покидали свои корабли и селились на свободных землях в Бразилии. Со многих кораблей, бывало и с наших, люди бежали и сами себе делались господами. Но на это идти не хотим, будем воли ждать у себя…” Абросим Скукка заменял на корабле “пожарного и главного истопника” — так шутили над ним. В обязанности его входило следить за трюмом и обшивкой бортов: то и дело, где-нибудь в неприметном месте, от холода, сменяемого теплом, загнивало дерево. Там, где не достигал глаз, помогало обоняние, матрос обнюхивал трюм, не пахнет ли сыростью, и просушивал помещение способом столь же странным, сколь и неожиданным: он нагревал в печи пушечные ядра и на железных листах расставлял их по углам. В кубрике он жил рядом с Май-Избаем и Анохиным. Под койками их поскрипывали остывающие ядра. Анохин шутил: — Словно мыши пищат! Иногда, подходя к бортам иностранных кораблей, они узнавали, что команды их лишились трети своего состава из-за промозглой океанской сырости. В трюмах гнили канаты и пахло затхлым от бочек с водой. Люди болели, бранили офицеров и бразильский климат. Май-Избай, как бы желая оправдать непонятные порядки на иностранных кораблях, говорил: — Им Южную землю не искать. Домой идут! Только почему английские суда летом белую одежду носят? Должно, чтобы борта от солнца не страдали. Белой краской мажут, а внутри, в трюмах, — черно. Бадеев, вмешиваясь в разговор, пытался объяснить: — Матросы у них чаще всего наемные. И хотя люди вольные, но чужие кораблю. Вот и живут, как на бивуаке! — Батарша, — спрашивал его Анохин, — они ведь не крепостные, отчего же чужие-то? Старик досадливо отворачивался: — Их спроси, откуда я знаю? Разве не видишь, что вокруг тебя адова пасть огненная — грехов вместилище. Не ходи туда, к отцу Дионисию обратись, он грех любопытства твоего отпустит. Анохин не соглашался: — Коли любопытство грех, так я с малолетства в том грехе повинен. А что до адовой пасти, так один наш архангельский помор бургомистром вольного города Гамбурга стал, и все через любопытство, придавшее ему смелость. Нет уж, Батарша, я в эту пасть огненную нынче не сунусь. В городе-то алмазные копи. Неужто не соберу алмазов хотя бы для наших стеклорезов? С господином Симоновым на Крысий остров попрошусь, обсерваторию там ставить, хронометры проверять. — Как хочешь! — бурчал Бадеев. — Только к отцу Дионисию сходи. А алмазы эти, смотри, испепелят тебе душу. — Ладно. Схожу! — согласился Данила. — Коли примет. Иеромонах сам позвал Анохина: — Болеешь? В блудный мир тянет? К женщинам портовым? — спросил он, сидя в своей каюте, завешенной, как в келье, черной, похожей на креп, материей. Молитвенники, мешочки с ладаном и серебряное кадило виднелись на полке. — Тянет! — не моргнув глазом, признался Анохин. — Слабый! — примирительно сказал Дионисий. — Незанятый! Сил много? Что делаешь на корабле? — Парусами управлять обучен, ветром, матрос первой статьи! — Управлять ветром! — повторил иеромонах, будто завидуя. — А ветра и нет сейчас. Надо тебе найти дело, скажу вот лейтенанту Торсону, чтобы в искупление грехов твоих поставил тебя на работу. Негде здесь грех поклонами замаливать, но бог тебя и через то простит, через усердие. А в город пойдешь, стороной от всех держись! Понял? — Понял, — вздохнул Анохин. Но лейтенант Торсон иначе принял “осуждение” матроса Анохина к добавочным работам. С трудом сдерживая смех, он сообщил Лазареву о наказании, какому подверг Анохина отец Дионисий. — Вы, батюшка, этак все вахты нам спутаете, — сказал за обедом Лазарев. В этот день офицеры обедали у Беллинсгаузена на “Востоке”. — Я вам помочь хотел! — обиделся отец Дионисий. Беллинсгаузен не вмешивался в разговор, но заметно развеселился, узнав о происшедшем, и шепнул Торсону: — Вы, Константин Петрович, этого матроса не упускайте из виду. Насколько я понял Михаила Петровича, он еще на Охте его приглядел. Каждый из матросов на “Мирном”, замечаю я, не только при деле, но и по характеру своему к этому делу приставлен. Хозяйственный матрос Скукка трюмы бережет пуще глаза своего, а этот Анохин из тех молодцов, что в трюме заскучает, а на палубе в шторм чудеса покажет. Торсон на другой день сошел с корабля и взял с собой Анохина. Они подошли на шлюпке к каменному маленькому острову и нашли здесь астронома Симонова с двумя его помощниками. Они были заняты проверкой хронометров. Симонов, в сером халате, без шапки, с длинными, вьющимися волосами, с полуоткрытой грудью, был увлечен своим делом и не сразу заметил моряков. На возвышении из чугунного корабельного балласта была прилажена доска, на ней стояли хронометры. — Солнце мешает, дерево коробит, — сказал астроном. — Трудно выверять инструменты. Симонов говорил с оживлением. Анохину не хотелось уходить, не узнав назначения этих инструментов. Он внимательно слушал астронома. Мимо острова шел корабль. Торсон, узнав его по флагам, пояснил: — Колонисты из Швейцарии — ищут счастья. Половина их погибнет в пути. Вот тебе их счастье. Не верь, Анохин, этому краю, не завидуй! Матрос думал о своем. Поморы говорили: на севере — ленивцев меньше, на юге — счастливцев больше. Да какие они счастливцы? То, что северным в тяготу, им — смерть. И разве потерпел бы северный житель, вольный помор, город такой, как здешний: продажу людей, улицы, похожие на помойки: с верхних этажей сор выбрасывают вниз прямо из окон. Еще вчера был у него разговор с Киселевым. Никогда еще так не томили матросов мысли о воле. И вид этого корабля из Швейцарии с колонистами пробудил с новой силой эти же чувства. С товарищами держал себя Анохин умышленно скромнее, как бы жалея их: он ведь не крепостной и не из рекрутов, он — помор, потомственный мореходец. Анохин молчал, задумался. Ему вспомнились дворы с живорыбными садками, рябиновые грозди на оснеженных ветвях, колодцы, пахнущие озерами, плоскодонные рыбацкие баркасы в море и чистые крашеные половицы в кондовых архангелогородских домах… Вспомнилась Двина, суровые сказы стариков о воле и счастье!ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
“Мирный” и “Восток” вышли из Рио-де-Жанейро в конце ноября. Корабли Северной экспедиции уходили после “южан”. Михаил Петрович, разлучаясь с братом, старался не замечать его печали, не высказывать своей. Он знал места, которые будут брату в новинку: и Новая Калифорния, и Уналашка. Плавая на “Суворове”, ему довелось видеть этот новооткрытый мир: и чукчей и северных индейцев. — Увидишь земли Компании. А будешь на Камчатке, к Рикорду явись. Помнишь, лицеист рассказывал? Братья обнялись, простились, не сказав друг другу обычных в таких случаях слов: “Побереги себя, будь осторожен!” Корабли отсалютовали. “Мирный” шел в семи милях от “Востока”. Отдаленность шлюпов друг от друга разрешала им, как писалось в инструкции, “обозревать большее пространство моря”. Наступало время туманов, призрачной зимней мглы, как бы нависающей с неба. Первыми землями в этих малоизвестных широтах должны были показаться острова Южного Георгия. Ночью море было белым, сливаясь с туманом и бледно-серым небом. Пингвины подплывали к кораблю, истошно кричали. Низко, почти задевая за мачты, пролетали альбатросы, голубые пиндары, стремительные, похожие на ястребов. — Кажется, мы проходим не Южное полярное море, а морской заповедник, — шутил Лазарев. Теперь уже кругом подстерегала неизвестность. В Южном Ледовитом океане этим путем еще никто не проходил. Лейтенант Игнатьев заговорил в кают-компании о том, что в конце концов открытие земли — дело случая. Лазарев поправил его: — Случай надо создать, следовательно, это уже не случай. — История говорит, что многие открытия случайны, — упорствовал лейтенант. Он уже томился плаванием, бесконечные белесые туманы и ожидание появления льдов вселяли в него уныние. Стараясь смягчить впечатление от высказанного им упования на случай, Игнатьев добавил: — Можем набрести на Южную землю легче, чем сами того ждем. Отец Дионисий поддержал его: — Все от бога. Если в этом разумении понимать сказанное, не отвергаю. Михаил Петрович резко ответил: — Разговора этого прошу не передавать матросам. Не случай, а уменье должно помогать нам, а стоит положиться на случай — все рухнет! Игнатьев, устало глядя на низкое небо, сказал: — Не пеняйте, Михаил Петрович, но ощущения мои столь естественны. Поглядите на море, разве оно не привораживает к себе бездомностью и обреченностью? Именно привораживает! Я ведь не жалуюсь, не взываю к Нептуну. И опять отец Дионисий изрек: — Взывать можно к богу! Не люблю шуток! Заговорили о чудесах. Игнатьев — о различных случаях в море, о путешествиях на лодках после кораблекрушений, отец Дионисий — о том, как спаслись недавно монахи-испанцы, застигнутые бурей. Лазарев не прерывал; и что, собственно, скажешь Игнатьеву, если не дано ему видеть непристойность этих разговоров. Но Игнатьев, как бы доверившись Лазареву, продолжал: — Вы-то сами, Михаил Петрович, неужто убеждены в успехе нашего плаванья? Слова лишнего от вас не услышишь, но ведь не каменный вы… — Все — люди, все — человеки! — вздохнул священник. — Цель-то одна у нас! — не отставал Игнатьев, все более возбуждаясь. — И конец может быть один — на дне, в высоких широтах. Так пристало ли нам прятаться друг от друга? — Во взаимном участии обретешь крепость, истинно говорю! — подсказал отец Дионисий. Лазарев терял терпение. Он раздраженно комкал салфетку и поправлял сползавшие на левой руке манжеты. — Цель у нас с вами не одна, — сказал он наконец. — Моя, если хотите знать, — быть достойным того открытия, которое поручено совершить экспедиции… А тогда уже и другая цель яснее, доступнее! Вы поняли меня? — Ну, что ж, вы более достойны. А откроют-то Южную землю после нас и не столь достойные люди, — побагровев, с унылой злостью заметил Игнатьев. — Эх, Михаил Петрович!.. Честь дворянина мешает мне быть только вашим исполнительным подчиненным и утаивать свои мысли. Хотите, однако, знать, как я гляжу на наше плаванье? Да как на обычное патрулирование судов в чужих водах! Пройти положенным маршрутом, и только!.. — Не уйти ли мне? — забеспокоился священник. — Сидите, отец Дионисий, — холодно остановил его Лазарев. — Спор наш с лейтенантом не дисциплинарным и не божеским воздействием может быть решен, а всем ходом нашего путешествия. Люди не поддержат вас, лейтенант! Более того: будете одиноки, и другим позавидуете, тем, кто не патруль несет… Сказав так, он поднялся и ушел к себе. Игнатьев растерянно проводил его взглядом. Священник, испытывал неловкость, исподлобья и участливо поглядывал на офицера. — Вот она — служба на море! — сказал он. — Откровенностью вашей заронили вы сомненье в малом своем старанье, а меж тем, хорошо ли христианину не поделиться сомнениями своими со старшим? Сутуловатый, горбоносый, с лицом холодным и немного надменным, Игнатьев не скрывал своих мыслей ни о плаванье, ни о морской службе. — Скучно нам всем, и от скуки никуда не денешься, — говорил он иеромонаху. — От скуки иные из офицеров вольности с матросами позволяют. Да ведь это в море, а вернемся — все по-старому будет! Я же и тут, и везде, прежде всего, дворянин, один перед богом, не так ли батюшка? И устало рассказывал о себе: — Спросите, почему пошел в плаванье? Мог бы ведь отказаться. Причина простая: офицер, сделавший такую кампанию, как наша, скорее чин получит, а с чином и деньги. Я не веду романтических разговоров, не услаждаю себя бреднями, служу из долга и знаю, что долг мой тяжек, чего скрывать? Иеромонах сочувственно поддакнул: — Тяжела служба морская! — Тяжелейшая, батюшка, но пройти все в жизни надо. И что бы было чего вспомнить, когда в поместье свое вернусь и предаться смогу отдыху. Предводитель дворянства и тот уважать станет, не то, что армейского, из пехотинцев… — Ну ежели пехотинец повоевал, ежели он отечество спасал, — осторожно вступился за армейцев отец Дионисий. Но офицер не дал ему договорить: — Кто не воевал! Войной не удивишь, а вот плаваньями! Но, правду сказать, сплоховал я, мог бы с братом Михаила Петровича к Русской Америке отпроситься, и то интереснее. Оттуда, от Рикорда, смотришь не чучела пингвинов, а собольи шкурки привез бы. Вам говорю, Михаилу Петровичу стесняюсь, как бы коммерции офицером не окрестил. У нас это быстро. А Беллинсгаузен ему верит, что ж, храбрость иногда сродни ханжеству, сделай вид, что ничего не боишься и ничего так не хочешь, как во льдах плыть, и заслужишь репутацию отменного храбреца. Иеромонах не возражал, но и не одобрял Игнатьева. Поглядывая на него не осудительно, с оттенком снисхождения и уже без интереса, иеромонах вздохнул и, прислушиваясь к гулу волн за бортом, счел нужным наставить: — Корысти не поддавайтесь, грешно. Да и неровен час — захватит буря. Вдруг смертный час наш недалек! На море мы, не на суше. Зачем испытывать терпенье господне?.. В кают-компании никого не было. Матовый свет отягощенного тучами сумеречного неба тускло освещал фигуру офицера, почти не выделяя из полумрака черную рясу священника. Ветер свистел в снастях и откуда-то вблизи ему тоненько подсвистывал плохо задраенный иллюминатор. Из трюма доносились голоса, кто-то просил подать фальшфейеры, кто-то искал запасные фонари. — Кажется, будет шторм! — скучно сказал Игнатьев вставая. — Должна же в этих местах разразиться настоящая баталия! Он был бледен и досадовал на себя за откровенность. Вахтенный офицер докладывал в это время Лазареву о наблюдениях с салингов: — Небо грозовеет, ветер слаб, моросит дождь и, как бывает нечасто при дожде, подступает шторм. — В этих местах проходят штормы “памперос” с ливнями. Головнин говорил мне, что они не уступают тайфунам Китайского моря и вест-индским ураганам, только чаще меняется направление ветра, — сказал Михаил Петрович Торсону, выйдя на палубу. Он велел сообщить Беллинсгаузену о приближении шторма. Недавно была введена на кораблях русского флота изобретенная капитан-лейтенантом Бутаковым сигнализация “телеграфом”. Вахтенный не смел признаться, что плохо помнит “морской телеграфный словарь” и должен заглянуть в книгу. Но Лазарев догадался, заметив его растерянность: — Идемте к телеграфу! — мягко приказал он. Семафорным телеграфом служил небольшой ящик, стоящий на возвышении, возле бизань-мачты. В сущности это была сигнализация флажками. Четырнадцать шкивов и планка со столькими же шкивами и круглыми фалами составляли весь аппарат. К концам фал были привязаны флаги, их-то и поднимали на бизань-рею как сигналы. Лазарев подошел к ящику и сам, помня все сигналы, несколько раз не спеша просигналил флагами. Было еще светло, и на “Востоке” легко приняли сообщение. Не дожидаясь ответа, Лазарев приказал убрать паруса и готовиться к дрейфу. — В другой раз будете два часа разговаривать с “Востоком”, пока не научитесь морскому языку, — не повышая голоса, сказал он вахтенному. — А на “Востоке” вашим собеседником попрошу быть, подобно вам, не знающего “словарь”. Пока же вменяю вам в обязанность провести после парусных учений на корабле учения телеграфные со служителями. Обучая их, сами окрепнете в этой науке! И быстро зашагал прочь. Слева наплывала желто-серая туча, дождь чуть слышно шелестел в парусах, наступал штиль, корабль, словно примагниченный, терял ход. Лейтенант Игнатьев, болезненно улыбаясь, подошел к Лазареву. — Прикажете мне командовать, Михаил Петрович? — Командовать буду сам! — коротко ответил Лазарев. — Ступайте в каюту. Игнатьев, неловко поклонившись, ушел. — Шторм изрядный будет, братцы! Не заскучаем! — крикнул Лазарев рулевым матросам. — Готовы ли? — Этого ли страшиться, ваше благородие? — спросил один из рулевых, недоверчиво вглядываясь в небо. — Тихо-то как, кажется, тише на море и не бывает. — Этой тишины больше всего и надо бояться, — заметил Лазарев. — Сейчас, как перед боем! “Восток” передал приказание Беллинсгаузена держаться от него на том же расстоянии и ночью зажечь фальшфейеры. Вахтенный офицер, докладывая об этом Лазареву, заметил тревожно: — Дождь может намочить картонную трубку фальшфейеров. От сырости и так некуда деваться, Михаил Петрович. — Держите их, как порох, сухими! — ответил Лазарев, наблюдая за действиями марсовых. И вдруг почувствовал в наступающей духоте чуть уловимое движение ветра. — Кажется, сейчас начнется! Шторм подошел исподтишка и, словно пробуя свои силы, сперва легко, потом смелее качнул корабль. Мелкая желтоватая рябь на воде сменилась грядой косматых белых волн. Из тучи, все ниже нависающей над кораблем, вырвалось, как при залпе, и тотчас погасло пламя. Все знали, что это была молния, но она совсем не походила на привычный в северных широтах легкий огненный зигзаг. Наконец всей тяжестью скопившейся в небе влаги рухнул ливень. Он бил по спардеку, по пушкам, похожим сейчас на притаившихся сторожевых псов, гулял по корме, звенел сорванными ведрами и грозил залить трюм, пробиться через плотно задраенные люки. Иногда ветер неожиданно затихал, в отдалении изломанными кривыми линиями сверкали молнии, похожие на зарницы, и море, ставшее фиолетовым, казалось, еле ворочало тугими, почти недвижными волнами. Люди высовывались из трюма, оттуда успокоительно веяло резким запахом печеного хлеба. Хлебным ветром дуло из недр корабля, оплескивало всех, кто был на палубе, и хотелось верить, что шторм иссяк. Но тучи на горизонте снова сходились, сливались иссиня-черные, и опять струи дождя, “водопады ливня”, били по палубе, кое-где прорываясь в трюм. Лазарев видел в сумраке, как клонилась мачта. И не было кругом ничего, кроме темноты, дождя и этой одинокой клонящейся мачты, напоминающей человека, который вот-вот падет на колени. Так всю ночь чередовались натиски бури и недолгие часы обманчивого покоя. В эти часы солнце светило неровно, дробя и рассеивая свой свет на льдинах, но было видно, как от корабля струится пар, отовсюду — из трюма, от подвесных коек и парусов!.. — Будто загнанная лошадь на притыке! — сказал Май-Избай. Он охотно поверил бы, услыхав, что и от него самого поднимаются эти удивительные рядом со льдинами струйки пара. Но льды плотнее окружают корабль, солнце уходит, паруса никнут, и тишина, прерываемая лишь шипеньем камельков в трюме да горячих ядер, воцаряется надолго вокруг. Три дня такой тишины, и ледовый плен показался лейтенанту Игнатьеву знамением гибели. Его мучили лихорадка и сны, почти неотличимые от яви. — Есть ли ветер? — кричал он во сне, не узнавая наклонившегося к нему лекаря. — Успокойтесь, ветер будет!.. — шептал Галкин. — Будет! — хохотал лейтенант, просыпаясь и вновь впадая в дремоту. — Будет? И Петербург, скажете, когда-нибудь будет? Все вокруг было одинаково бело — и небо, и льды. — Утро? — спрашивал лейтенант. — Нет, еще ночь! — отвечал Галкин. И тогда Игнатьев тихо плакал: — Мне кажется я схожу с ума. Я не могу отличить дня от ночи, небо от льдов. Больной, он подобрел и тянулся к людям. Смутно догадываясь о своей болезни, он иногда подолгу сосредоточенно глядел на море из иллюминатора. Синеватое кольцо льдов образовывало впереди свободное, похожее на водоем, пространство, и Игнатьеву блаженно рисовалась парная прорубь и бабы, постукивающие вальками. Днем, когда выдвигалось краем кроваво-яркое солнце и, казалось, багровели льды, он кричал, зарываясь лицом в подушку. Галкин приставил к его койке матроса, доложил Лазареву: — Игнатьев очень болен… Его надо будет списать! На корабле бесполезен! — Бесполезен! — повторил Михаил Петрович. — Да, знаю… Что ж, тогда будем ему полезны! Лечите! Штаб-лекарь ушел. Много раз снижались тучи, сливаясь с морем, мгновенно теряющим свой цвет, и чернота поглощала корабль. — С салингов все вниз! — кричал Лазарев, кутаясь с головой в плащ. Чуть подавшись всем телом вперед, шел он навстречу ветру, подходил к рулевым и, вытирая лицо, говорил оказавшемуся тут боцману: — Рулевых пока не сменять. Из помещений людей не трогать. Чтоб меньше их было на палубе. Но к тому времени, когда горизонт стал чист и пора было сменяться вахте, никому уже не хотелось уходить вниз. Пошатываясь от усталости, но довольные, матросы спускались, их провожал спокойный и распорядительный голос командира Михаила Петровича: — Быстрее! К лекарю, братцы, на осмотр! Лекарь в тесной каюте при неровном свете фонаря обмывал и смазывал ссадины и раны на руках матросов. Соль застывала в порезах, жгла. Ветер все еще стучал о борта. Последние порывы его пугали. Бизань-мачта качалась, как сосенка на ветру. Корабль проваливался куда-то вниз, в преисподнюю, весь в потоках воды. От сильного толчка лекарь больно ударялся о стену каюты; фонарь, прибитый к стене, мигал и гас. Было слышно, как кто-то из офицеров кричал трюмным: — Выкачать воду! Конопатчиков ко мне! …Тусклый рассвет застал Лазарева на палубе. Вдали на горизонте среди разорванной гряды облаков, как бы легшей на море, был виден “Восток”. Лазарев подозвал к себе вахтенного офицера и сказал, помня свое распоряжение: — Парусные учения пока отменить, телеграфные также. Начать дня через три. А сегодня, после отдыха, всей команде клетневать. И, оглядывая корабль, добавил с медленной, усталой улыбкой: — Тяжело пришлось. Не правда ли? Снасти страдают, люди. Только людям это впрок. Пусть привыкают. А вот снастям может стать невмоготу. Капли воды бисером застыли на козырьке фуражки Лазарева, вода стекала из слипшихся складок плаща, словно по желобкам. Отряхиваясь, Лазарев шел к себе, еще раз краем глаза окинув горизонт. Он немного косил, о нем говорили: “Видит, не поворачивая головы”. После обеда на палубе начали клетневать — обертывать старой парусиной тросы, чтобы сохранить их от перетирания и сырости, конопатить щели, латать паруса. На корабле лязг и звон, Май-Избай орудовал рубанком, выстругивал крепление к рее. На бушприте сохло белье. Боцман неторопливо менял на древке порванный и выцветший от ветра и соли флаг. А на следующее утро уже отовсюду показались льды. В корабельном журнале Лазарев записал: “Из полосы шторма вошли в полосу сплошных льдов”.ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Анохин раскачивается на салинге, вглядываясь вдаль. Над океаном плывут тучи, похожие теперь на огромные льдины, и кажется, словно внизу и наверху одно и то же: лед и белесая мутная пена. Матрос вытирает мокрое от изморози лицо и переводит взгляд на палубу. Вахту несут сами штурмана, а марсовым выпала новая обязанность: следить, чтобы не обледеневали тросы, иначе нельзя менять паруса. Но с тросов не срубишь лед, не повредив их. Приходится прикладывать горячие тряпки к ним и соскабливать ледок ножом, как рыбью чешую. Матросы извелись, даже старый Батарша Бадеев говорит, что подобных тягот еще не выпадало на его долю. Руки коченеют, сознание тупеет. Ведь бывает ничего не видишь перед собой. А палуба? На ней кипят котлы в чугунных печах, поблескивают угли, лежат подвесные койки, которые употребляют теперь для усиления парусов, люки задраены, и лишь для света вырезано в грот-люке застекленное отверстие. Вход наверх оставлен лишь с фор-люка. Пушки спущены в трюм, чтобы облегчить палубу. Трудно узнать военный шлюп. Анохину известно, что лейтенант Игнатьев уже второй день сидит, запертый в своей каюте. Штаб-лекарь утверждает, что офицер заболел тяжелой формой помешательства. Лейтенант бредит, просится снова в тропики, кричит, зовет к себе командира. Его посещает отец Дионисий, отяжелевший от безделья и покорный судьбе. Он вкрадчиво втолковывает что-то больному лейтенанту, тот утихает, потом снова кричит: — Бельмо в моем глазу или на море все еще туман? Скажите? Кок варит на палубе кашу из сорочинского пшена, помешивая в котле обломком весла, и до Анохина доходит едкий запах жареного масла и какой-то приправы. Туман облегает фигуру и лицо кока, как пластырь, черты его лица нельзя разобрать. Анохину кажется, будто все на палубе призрачно. Его поташнивает, будто он нахлебался соленой воды. Анохин зло сплевывает в волну и видит огромный айсберг, высокий, почти как Тенерифский пик, несущийся на корабль. Матрос знает, что в туман льдины быстрее рушатся, “мягче телом”, по словам Батарши Бадеева, и оттого в океане стоит беспрерывный гул. “Такого и поморы не слыхали”, — говорит он себе и зычно кричит вахтенному: — Льдина! Но уже повернули штурвал, и айсберг проходит, заслонив собою небо, на мгновение покрыв корабль своей тенью и повергнув его в темноту… Кажется, будто “Мирный” проскользнул в темном ущелье и снова вышел на свет, весь матово-бледный, но все же хранящий на себе какой-то неверный и случайный отблеск солнца. Матросы крестятся. Кок смотрит вслед айсбергу, подняв обломок весла, будто грозит ему. Льдины одна за другой окружают корабль, словно притягиваются им, а ветер несет корабль вперед, и снова вырастает на пути его ледяная гора. Звенит колокол. Слышен голос старика Бадеева, едва различимого в сумерках. Анохин догадывается — объявлен большой сбор. Он подтягивается, хотя никто за ним не наблюдает, и слышит обращенную к нему команду: — Слезай! Онемевшие ноги еще нащупывают скользкие выбленки, он сходит и оказывается лицом к лицу с вахтенным командиром. — Помоги канонирам, — говорит ему мичман Новосильский. — Будем из пушки палить по льдине. Хорошо на палубе, хотя приходится двигаться почти ощупью. Горят фальшфейеры, давая знать о корабле “Востоку”, в синем дыму высятся фонари на реях, пышет теплом из печей, не сравнить с тем, как чувствуешь себя в эту пору на салинге. Но Анохин храбрится: — Ваше благородие, а как же без присмотра сверху? И тут же спешит к канонирам, выволакивающим на нос пушку. Гремит залп, и вся палуба покрывается кусочками льда, словно битым стеклом. Киселев подходит к Анохину и говорит: — Случалось тебе в пургу лесом идти? Из нашей деревни несколько мужиков замерзло. Ступай в кубрик, отогрейся, сменим тебя. Ты думай так, будто ты в пургу попал, а не в океан, тебе сразу легче будет. В кубрике — колеблющиеся огоньки масляных фонарей, неровное тепло камельков, запах утюжного пара. Во всем этом странный, хотя и привычный покой. Анохин дремлет, упав на койку, и вдруг слышит, как матрос Егор Берников тихо, по-ребячьи, всхлипывает. — Ты чего, Егор? — поднимает он голову. — Мочи нет, боюсь. В бой пойду — голову не пожалею, а здесь белого тумана боюсь… К нему уже склонились матросы и, перебивая друг друга, быстро заговорили: — Никак к лейтенанту Игнатьеву хочешь? Очнись, Егор! — Цынгой бы заболел, тогда руки-ноги ломит, спасу нет, а то здоров — и плачешь. — Стыжусь, братцы! На землю, на берег хочу, на час бы только! Кругом него обрадовались: — Это, Егор, можно! Будет остров, и тебя на него высадим, землю повидать. — Неужто? — не поверил Берников, но затих и вскоре уснул. — Эх, не всем-то, выходит, эту Южную землю увидеть, хотя бы и дошел наш корабль! — горестно сказал Киселев, гладя рукой серое от усталости, ставшее вдруг совсем маленьким лицо Берникова. — А как же он без нас-то дойдёт? — спросил Данила. — Корабль-то? Что-то не пойму тебя! Абросим Скукка поднялся откуда-то из-за угла, где выстукивал медным молоточком борт трюмного отсека, выискал отсыревшую и обмякшую от ударов доску в обшивке и сказал, желая прекратить спор: — Коли без нас дойдет туда корабль, так лучше и не жить. Стыд загложет. Так думаю. А ежели и с нами не дойдет, опять же стыда не оберешься! Ты, Киселев, за Егора боишься? Надо, братцы, сберечь его, тяжесть его на себя принять. Есть ли эта земля, нет ее, а надо, чтобы сил наших до цели хватило, — вот главное, думаю! — Хочешь сказать, — понял его Май-Избай, — самое важное духом не пасть. Вдруг нет этой земли, а мы-то сколько сил ей отдали. А все же не жаль себя. — И это правильно! Матросы помолчали и, все еще глядя на спящего Берникова, облегченно вздохнули. — Слышал я от одного старика в Архангельске, — промолвил Анохин. — Не так важен человеку рай, как мечта о рае. Верно ли? Конечно, братцы, это плаванье нас всех поморами сделает. А только жаль, коли земли этой нету. Сплю и вижу ее. Знаю, что ледовая, а во сне представляю, будто растут на ней вологодские леса, сосновые да березовые чащи. Он смутился, умолк. Но матросы подхватили: — Верно. — Можно ли вернуться, не открыв землю? Ой, Егор, нельзя нам без этой земли! Лица их стали радостными, словно Анохин сказал людям что-то, объединившее их всех и непреложное. А что, собственно, поведал он нового? Киселев хотел было возразить: его, мол, “мечта о рае” не утешит, коли самого рая нет, но понял Анохина, — матрос не в униженье им об этом сказал, не в осмеянье, земля ведь ледовая, а найти ее необходимее, чем рай!.. Значит, прав Анохин, в самом себе, в упорстве своем находит человек утешенье, а не в пустых бреднях о рае! Били седьмые склянки. С палубы доносились шаги вахтенных и чьи-то приглушенные голоса. Поднялся ветер. Корабль то валился на бок, весь поскрипывая, то в узком проходе между льдин, как бы успокаивающих волну, несся словно в фарватере, стремительно и легко. А может быть, натыкался корабль во мгле, — не странно ли, — на спящего кита, судя по мягкости удара, и так бывало. Пошел снег. Синеватый свет фонарей едва был заметен в бескрайнем стылом пространстве, словно в поле на ветру огонек одинокого, брошенного пастухами костра.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Но вот какой-то остров мелькнул поутру темной и недвижной тенью впереди корабля. Покрытый снегом, скалистый, скрытый туманом берег. Неистово кричали пингвины. Шел град. Шум бурунов, разбивающихся о скалы, глухо отдавался в море. Казалось, собралась гроза, повергнув во мрак пустынное побережье. — Не правда ли, хочется миновать остров? — спросил Лазарев рулевого. — Благо увидели! — Так точно, ваше благородие! Не манит на берег! — согласился рулевой. — А придется, братец, пристать. Матрос удивленно вскинул глаза на командира и по его команде положил руль направо. Корабль неслышно и вкрадчиво с намокшими парусами входил в укромную бухту между скал. Сюда же следовал “Восток”. Матросов Берникова и Скукку первых послали на берег разведывать, глубок ли снег, можно ли по нему идти. Берников сошел на твердую землю, покрытую льдом, и блаженно зажмурился от ощущения ее незыблемости и от солнечного света, вдруг разорвавшего в одном месте туман. С берега они возвратились с несколькими подстреленными пингвинами. Лекарь Галкин приказывал стрелять их, хотя в этом не было нужды. “А просто хотелось уподобиться в своих ощущениях охотнику на суше”, — объяснил он Лазареву. Галкин знал, как важно для матросов это чувство земли. Лейтенанта Игнатьева все еще не выпускали из каюты, а между тем и для него целительным могло стать сейчас пребывание на суше. Галкин отправил бы Игнатьева на берег, но опасался разговоров лейтенанта с матросами: болезнь его расслабляюще действовала на других. Очень уж казался он жалок, заговариваясь и не веря в то, что когда-нибудь кончатся эти пустынные, белесые пространства льда. Два дня провели здесь, нанося на карту юго-западный берег острова, посещаемый лишь промышленниками. Северо-восточный берег был описан Куком. Не открывая своих намерений, Беллинсгаузен и Лазарев хотели приучить экипажи кораблей к трудному и кропотливому занятию — описи берегов. Рулевому “Мирного” пришлось увидеть остров вблизи и медленно обогнуть его на лодке, пока мичман Новосильский тщательно наносил на карту извилины берега. Вечером корабли отдалялись от острова, боясь ветра и рифов, с рассветом подходили вновь. На “Востоке” живописец Михайлов рисовал пейзаж острова Южная Георгия с мягкими очертаниями гор и скрадывающими его суровость заливами. Семнадцатого декабря взяли курс на юго-восток, к северной оконечности Сандвичевой земли, а двумя днями позже приблизились к большому ледовому острову с крутым берегом, высотой превышавшим самую большую церковь, какую когда-либо видел экипаж. В тени берега “Мирный” был незаметен, как путник, прижавшийся к склону горы. — Ну вот, кажется, первое наше обретение! — весело сказал Лазарев матросам. Сильно качало. На палубе были протянуты леера, и матросы, держась за них, разглядывали остров. — Может, и не велико наше открытие, — продолжал Лазарев, — но остров сей не указан ни на каких картах, а длиною меж тем он будет не меньше двух миль. Первое наше обретение, братцы! — повторил он. — Кто из вас о новых землях допытывал? Остров сей не иначе, как из-за туманов, прежними мореходцами не был замечен, и нам в поощрение достался… — Так точно, ваше благородие, — ответил один из матросов. — То нас ободрить — бог его послал. А что там на острове-то, кажется, кроме льда, и нет ничего! Часом позже, зарываясь в снег и подталкивая друг друга, посланные Лазаревым моряки достигли вершины острова. Ледяной остров оказался еще не остывшим вулканом. Отсюда открывалось ровное снежное плато, усеянное массой пингвинов. Пингвины мешали идти, так много их было. Самки сидели на яйцах, желтоглазые, с черными зрачками, красноносые, они смешно кричали, привстав на лапы. Пробраться вперед было нельзя. На следующий день открыли еще два острова, небольших, похожих на скалы. Вечером в кают-компании, беседуя об открытых островах, Лазарев сказал: — Я знал, что на них нет растительности и никого, кроме пингвинов. И все же послал матросов. Зачем я так сделал? Извольте, объясню. Суворов перед тем, как атаковать Измаил, построил сперва деревянную крепость наподобие Измаила, и эту крепость солдаты должны были взять с бою. Нам тоже перед предстоящими поисками во льдах не худо потренироваться на малом! Вчера вахту нес капитан-лейтенант Завадовский. Его именем и назовем остров! …На подступах к Сандвичевой земле, которой далее 60° широты не смог достичь Кук, корабли экспедиции занесло снегом. Снег пригибал паруса, корабли чуть двигались, похожие на снежные глыбы. И здесь моряки вновь обнаружили в тумане три небольших скалистых острова. На склонах одного из них увидели следы недавнего извержения лавы. Впрочем, о давности извержения судить было трудно, вулкан еще жил, черная вершина его дымилась. Начальник экспедиции приказал назвать острова именами Лескова, Торсона и Завадовского, офицеров экспедиции, отныне эти имена красовались на географических картах. Острова Сандерса, Монтегю и Бристоль, мимо которых проходили корабли, были окружены в свою очередь мелкими ледовыми островками. Лавируя между ними, легко было ткнуться в мель или сбиться с пути. Айсберги, похожие на горы, впервые увиденные русскими моряками, бродили здесь, прибиваясь течением к островкам. А позже над всем этим, вселяя бодрость, будет радужно переливаться в небе полярное сияние, захватывая снопами света и ледовые эти горы, становящиеся багрово-красными, и моряков, в изумлении стоящих на палубе. Вот он, полярный юг! Так встретили Новый год. Стояли вблизи пустынных Сандвичевых скал. Второго января увидели остров, названный Куком Южным Туле. Когда-то древние так называли Исландию, считая ее самой крайней на севере. Но островов оказалось три, и средний из них Беллинсгаузен назвал островом Кука. Не открытая, но “обойденная” Куком эта часть суши, по мысли Беллинсгаузена, все равно должна носить его имя. Бродя, видимо, в тумане, Кук принял три острова за один. Но больше всего волновало Лазарева не продвижение вдоль этих островов, а разгадка того, что скрывалось за ними. Множество ледяных островов само по себе уже наводило на мысль о скрытом туманами и снегами материке где-то неподалеку отсюда. Однажды — было это шестнадцатого января 1820 года — за льдами, похожими в снегопад на белые облака, особо явственно ощущался материк. Бывало Лазарев запрашивал у Беллинсгаузена разрешения продолжать поиски. Он уже третий раз находил лазейку в айсбергах и ледяных торосах. Был и другой путь к Южному полюсу, под другим меридианом, восточнее Сандвичевого. Была надежда на время: ждать, пока раздвинутся ледяные поля и идти за льдами. Опровергнуть “непроходимость” становилось все труднее. Ветер вздымал волны, и “Мирный”, с убранными парусами, на тихом ходу, мог наскочить на айсберг. Часовые то и дело кричали: — Прямо лед! Рулевой, сжав зубы, спрашивал: — А где же льда нет? И вглядываясь в снежный мрак, готов был остановить корабль. Но тут же слышал подле себя голос Лазарева: — Держать вправо. Лед идет вправо. Ветер в его сторону. Не бойся! И успокаивал рулевого: — Больше нам некуда, братец! Запомнился случай. Били восьмую склянку. Лейтенант Обернибесов собирался сменить на вахте мичмана Новосильского. Он только что вышел из кают-компании. Там еще сидели офицеры, слушая Симонова: астроном читал вслух записанное им в Казани стихотворение о землепроходцах: …Из века в век Шел крепкий русский человек На дальний Север и Восток Неудержимо, как поток, Пока в неведомой дали Он не пришел на край земли, Где было некуда идти, Где поперек его пути Одетый в бури и туман Встал необъятный океан. Лейтенант слышал, выходя, как Симонов сказал: — В народе привыкли видеть океан одетым в туман. И сейчас нам… Шлюп скрипел на ветру, голос Лазарева доносился сверху вместе с всплесками волны. Лазарев кричал рулевому: — Влево! Фонарь, висевший в кают-компании, накренился, осветив усталое лицо астронома, тетради на столе, фигуры двух офицеров, и вдруг, задребезжав разбитым стеклом, упал. Тотчас же после толчка, сбившего всех с ног, Симонов и офицеры в темноте выбежали на палубу и увидели, как исчезала за кормой, похожая на белую скалу, громадная льдина. — По форштевню ударила! Хорошо не скулой, — крикнул кто-то Симонову. — Иван Михайлович, — обратился Лазарев к астроному, — на вас лица нет. Такое ли еще может случиться? — А что произошло, Михаил Петрович? — Пустое, в форштевне выломало гриф, воды в трюме нет. Идем ровно. Ступайте-ка спать. Утром, когда оба корабля стояли окруженные недвижным ледяным полем, Лазарев подошел на ялике к “Востоку”. Докладывая начальнику экспедиции о случившемся, он сказал: — Было бы хуже, но знаете, что помогло кораблю? Совет Захарыча, кронштадтского мастера. Вы знаете его? В последний день перед уходом из Кронштадта он посоветовал мне укрепить форштевень дубовым крепом. Я послушался его. И вот форштевень выдержал, хотя и откололся кусок фута в четыре длиной. — Стало быть, Захарыч помог, — повторил Беллинсгаузен так, словно мастер находился где-то рядом. — Знаю старика. — И что-то вспоминая, протянул: — Много он добра сделал. Не вам одному. И командиры заговорили о ледяном поясе, все более суживающемся вокруг кораблей.ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
О происшедшем в ту ночь мичман Новосильский записал в своем дневнике: “…Случись в узких проходах обычные туманы, едва ли бы мы успели. Между тем, когда сияло солнце, никто и не помышлял об опасности. Напротив, пред глазами нашими самое величественное, самое восхитительное зрелище! С левой стороны большие ледяные острова из чистого кристалла светились изумрудами; солнечные лучи, падая на них косвенно, превращали эти кристаллы в чудные, волшебные, освещенные бесчисленными огнями дворцы, возле которых киты пускали высокие фонтаны; другие острова с глубокими пещерами, в которые с яростью устремлялись волны, а сверху падали каскады, представляя самые разнообразные причудливые формы. По правую от нас сторону весьма близко тянулось ледяное поле, на котором были города с мраморными дворцами, колоннадами, куполами, арками, башнями, колокольнями, полуразрушенными мостами, посеребренными деревьями, — словом, мы видели самую интересную, чудную, фантастическую картину из “Тысячи и одной ночи”. Едва мы освободились от явной опасности и переменили долготу на несколько градусов к востоку, бесстрашный наш начальник опять идет во льды к югу”. Лейтенанту Торсону мичман поведал свои мысли и даже прочитал написанное. В этот день офицеры “Востока” обедали на “Мирном” и после обеда Новосильский уединился в своей каюте вместе со старым своим товарищем по службе. — Ну вот, уже и ледяные дворцы, и города, и даже сказки из “Тысячи и одной ночи”, — насмешливо заметил Торсон. — А Михаилу Петровичу ничего, небось, и не почувствовалось из вашей этой поэзии… Доподлинно, виды были чудесные, но я бы предпочел без них, ближе к цели. Экая незанятость ума обнаруживается у вас, Павел Михайлович! А может быть, оно и лучше, — и не так я сказал, не в незанятости суть, а в необремененности тревогами. Но как можете утверждать, что будь туманы — не спасся бы корабль. И согласуется ли это с вашим упованием на командира, с верою в него? Нет, Павел Михайлович, записи ваши публикации не достойны, они — впечатления наивные и неуверенные, а потому не морские. Молоды вы и потому попусту восторженны! — Ну, это вы слишком, Константин Петрович, — загорячился мичман. Только давняя служба с Торсоном удерживала его от того, чтобы не наговорить ему дерзостей. — Уж так ли вы умерены воображением? Так ли холодны, как хотите это представить? — Одно советую: дневник никому не показывайте. — Да я вам только, — смутился мичман. — По-вашему, в нем нет духа исследования, духа морского журнала. — Кажется, нет главного! — заметил Тор сон. — А что, по-вашему, главное в нашем плавании? — Упорство! Мы несколько раз пройдем по одним и тем же местам, но проход к югу найдем. Пройдем Австралию и опять сюда вернемся. Да-да! Я осведомлен в намерениях наших командиров. Вы не раз сможете лицезреть ледяные дворцы и колокольни. А вот почему вы не записали о линиях трещин во льду, могущих стать в последующем проходами, о движении льда, о ледяных бухтах… — А вы это отметили у себя? — напрямик спросил мичман и покраснел, почувствовав правоту Торсона. — Я — нет, но знаю, что Беллинсгаузен за жизнью льда следит, как на погодой! — Он совещался с нашим командиром, но не спрашивал еще мнения офицеров, — заметил мичман задумчиво. — Ну, что ж, Константин Петрович, спасибо за науку. Я действительно впал в досужее сочинительство и упустил главное… — А знаете, к этому всегда дневник приводит, — вдруг в утешение ему простодушно сказал Торсон. — Кстати, вняв ли указаниям, или по своему усмотрению, но семеро из нас ведут дневники. — И вы, Константин Петрович? — Себя я не посчитал, хотя тоже записываю, но только урывками. Впрочем, я пишу о жизни народов, об управлении государством… Оба улыбнулись, как бы прощая друг другу минутную запальчивость, идущую от прямоты и дружбы и невольной слабости каждого. Разве не понятно, что дневник тем и разнится от морского, то есть корабельного, журнала, что в нем неминуемо выразится характер и наклонности его автора? Больше они не заговаривали об этом и пошли в кают-компанию. Там было оживленнее, чем обычно. Беллинсгаузен сидел в деревянном кресле, окрестив руки на груди, свет фонаря падал на его недвижное, сумрачное с виду лицо, на эполеты, и трудно было заметить в полусвете каюты, с каким вниманием слушал он, что говорят офицеры. — Рулевые измучены больше всех, у них руки болят! — сокрушался лейтенант Лесков. — Я доктора Галкина просил чем-нибудь облегчить им боль. Он массаж прописал. Теперь, становясь на вахту и оставляя ее, друг другу руки натирают. Но замечаю, что без пользы. — Привыкнут! — жестко произнес Лазарев. — Льды научат! — Утром матросы по просьбе господина Симонова двух птиц подобрали на льдине и ему же отнесли, — сказал мичман Куприянов. — Опрашиваю, зачем понадобилось? Ведь корабль, как ноев ковчег, загружен зверьем! — А верно, Иван Михайлович, зачем вам эти птицы? — спросил Беллинсгаузен. Астроном, сидевший поодаль от всех, придвинул свое кресло: — Григорий Иванович Лангсдорф надоумил опыты проделать, чтобы определить, залетная птица или здешняя. Памятно ли вам, господа, разноречие в свидетельствах Кука по сему вопросу. Сначала он писал, что особенность этих птиц в том, что они никогда не залетают в открытое море и держатся близ берега, стало быть, можно предполагать о близости земли. Потом писал, что замеченная им птица прилетела издалека, отдыхая в пути на плавающих льдах. — А вы какой опыт проделываете? — Окажу, когда кончу, — мягко, но решительно ответил астроном. — Пока же замечу: выпускали мы птиц на другие льдины, наблюдая, полетят ли они с них или нет. Коли залетели сами к нам издалека, а по силе крыльев это предположить можно, то инстинктивно они должны порываться улететь. Если же занесены льдиной, — будут спокойнее, а если с берега — так совсем им спешить некуда. — Софистика, Иван Михайлович, — усмехнулся Беллинсгаузен. Из осторожности он мнил себя врагом всяких “относительных предположений”. — Недоказуемо. А в общем пытайтесь. Григорию Ивановичу Лангсдорфу я верю. — Он перевел взгляд на Лазарева. — Хвалю за то, что к длительным испытаниям готовы. Не путники мы, не проезжие, а осаждаем ледовую крепость. Так мыслю себе наше занятие здесь. — Слышишь? — шепнул Торсом Новосильскому. — Что я тебе говорил? Офицеры молчали. Мимо двери кают-компании два матроса торопливо пронесли на медном подносе раскаленное докрасна пушечное ядро. — Помогает? — мельком опросил Лазарева Беллинсгаузен, скосив глаза в сторону матросов. — Мало, но все же сушит, — ответил Михаил Петрович. — В трюме сырость такая, что с потолков течет. Простыни и одеяла мокрые. Коку разрешил в камбузе белье сушить. — На “Востоке” так же, — проронил Беллинсгаузен. — От туманов не спастись. — Он поискал взглядом доктора: — Нет господина Галкина? Его бы послушать. — Алхимиком стал наш доктор! — шутливо заявил Лазарев. — Целыми днями сидит у себя и что-то над банками колдует. Новое лекарство для команды готовит. От озноба, малярии, ревматизма. В этих краях, докладывали мне, медики еще практики не имели. В кают-компании рассмеялись. — А с Куком медик ходил? Лечить умел ли? — спросил кто-то. Ему не ответили, Беллинсгаузен тихо заметил: — Сравнения сами “по себе не всегда ведь полезны… Мало ли что было на кораблях Кука! Не кажется ли вам, господа, что воспоминания о Куке порой ложатся грузом на нашу память. Все ведь иное у нас — и характер, и навыки… А есть любители сравнивать! Лазарев благодарно взглянул на него и сдержанно подтвердил: — Поистине грузом ложатся на память эти воспоминания, господа, а главное, в случаях неудач лазейку дают нам: дескать, не мы одни неудачливы, но и Кук! А чему учиться следовало у Кука, мы не отвергли… Вот от бедности в плотниках страдал его корабль, каждую поломку на берегу приходилось чинить. У нас, не в похвальбу будь помянуто, Май-Избай и Скукка живут на корабле, как на верфи, и “Мирный” для них — почти что корабельная верфь!.. — И работают себе будто дома… Им и невдомек подчас, что корабль наш затерян где-то у высоких широт, — усмехнулся Новосильский. — Затерян ли? — скосил взгляд Лазарев. — Пожалуй, нет такого слова в их языке?.. — Но подумав о Берникове, об Игнатьеве, о тех, кого сломило чувство “затерянности” в океане, сказал, не повышая голоса: — За “затерянных” с офицеров взыщу. Все матросы к господам офицерам записаны ныне повзводно. Не упустил я и господина Симонова. К нему для занятий матрос Анохин отпущен. Лейтенанту же Торсону за матроса Киселева спасибо! Матрос этот в кубрике рассказами своими боцмана затмил. Благодаря ему на досуге в кубрике, как в ланкастерской школе, все грамоту учат! — Трудно было бы доложить Адмиралтейству, какие на корабле новшества ввели! — доверительно сказал Беллинсгаузен. — Многое не по ранжиру! Слава богу, докладывать пока некому! — Он улыбнулся. — Не пора ли домой? — Беллинсгаузен привстал с кресла. — Прикажите, Михаил Петрович, катеру подойти. Ныне расстаемся с вами ненадолго, а вот недели через две, думаю, пойдем порознь. Тогда перед разлучением всех вас, господа офицеры, на “Восток” попрошу… Пропустив вперед Беллинсгаузена, офицеры вышли на палубу. Корабли стояли на якоре в двух милях один от другого. Слева наплывал на “Мирный”, заслоняя свет луны и приближая с собой мрак и холод, громадный айсберг. Он двигался медленно и упорно, и хотя матросы знали, что он не дойдет до корабля, а упрется в ледяное поле, прикрывающее корабль с той стороны, чувство тревоги овладело ими. — Не расшиб бы нас, ваше благородие, — вполголоса сказал вахтенный матрос Торсону. Катер ждал офицеров “Востока” у борта. Айсберг откачнулся. Из-за его вершины ударил по кораблю фиолетовый столб света. Негреющее южное сияние, то охватывающее с края весь небосвод, то искрящееся над морем ломаными лучами радуги, то сходящееся в отдалении венчиком бледнопалевых закатных теней, пролило сейчас над кораблем случайный свой свет. Гребец, ставший мгновенно синим, растерянно озирался. Беллинсгаузен, подходя к трапу, мимоходом спросил Симонова: — А определять лучи можете? Ведь какие-то пророчат смерчи, какие-то — тепло. Астроном начал было: — Останьтесь, Фаддей Фаддеевич. Все поясню… — Нет, голубчик, в другой раз, тороплюсь. — Беллинсгаузен остановился у трапа. — Вот если бы отражение неизвестной нам земли можно было найти в этих лучах… Астроном согласился: — О том и я, Фаддей Фаддеевич, не раз помышлял. Изучение миражей и образования теней в море могло бы помочь нам в догадках об этой земле. Но другие признаки ее, разрешу себе повториться, более доступны нашему пониманию: льдообразование, полет птиц… Я уверен, что если хоть один остров найдем в тех широтах, следовательно, где-то вблизи него лежит материк. Беллинсгаузен хотел было спускаться, но последние слова Симонова вновь заставили его остановиться. — Вы уверены в этом? — поинтересовался он. — Стало быть, остров не может быть только выступом камней, вулканическим остатком, своего рода случайностью. Остров преддверие материка? По тому, как Беллинсгаузен заговорил об этом, ученый понял, что начальник экспедиции рад подтверждению каких-то его собственных, еще не высказанных мыслей. А между тем, сидя в кают-компании час назад, он не обронил по этому поводу ни слова. — Хорошо вы сказали!.. — донесся до Симонова голос Фаддея Фаддеевича, спускавшегося к катеру. — Очень верно, по-моему. Симонов склонился в легком поклоне, забыв, что Беллинсгаузен уже не может его видеть, и движение это, чуть растерянное и благодарное, вызвало легкую улыбку вахтенного офицера. Катер отчалил. Люди жмурились от яркого, режущего глаза света. Всем хотелось сейчас, чтобы айсберг повернулся и закрыл их исполинской своей тенью. Плеск весел удалявшейся шлюпки был уже еле слышен, и шлюпка, называли ее катером, казалась совсем маленькой, почти незаметной, как путник у подножья крутой горы. В трюмах капала вода. Ядра, остывая, шипели. Чуть поскрипывали мачты, нарушаятишину глухого ледового покоя. Лазарев, проводив Фаддея Фаддеевича до трапа, вернулся к себе в каюту. — Беллинсгаузен спорить не любит и говорить не любит, но других слушает с превеликой охотой, — шепнул ему Симонов. — И ум у него, замечаю я, очень цепкий, я бы сказал, распорядительный. Может, замечаете, что в разговоре он намеком, вопросом умеет навести вас на нужную мысль. А сам как будто держится в стороне. Интересный человек! Симонов прошел в каюту, не ожидая ответа и в раздумье чуть покачивая головой. Положительно, здесь на корабле он не чувствовал гнета военной службы, которого всегда боялся. И как ни тяжело плаванье, а Беллинсгаузен не утешает. И даже как будто готовит к худшему, но в этом поведении его столько веры в людей, в их достоинства! Может быть, потому и командовать ему легко. Лазарев ничего не ответил астроному, но задумался. Начальник экспедиции и Михаилу Петровичу все более раскрывался в неожиданно мягких, осторожных, но властных проявлениях своего характера. И надо ли понимать как “вразумление” слова его о том, что докладывать Адмиралтейству следует не обо всем?.. Хочет ли сказать этим Беллинсгаузен, что рапорты следует писать в рамках положенного, не удивляя и не тревожа тем, что ввели нового на корабле? А что нового? Ну, прежде всего, конечно, отношение к матросам. Лазарев тут же мысленно подтвердил себе, что такое именно отношение к служителям необходимо и даже спасительно при аракчеевском режиме для всего российского флота и что он, командир “Мирного”, ввел бы порядок по подобию своего шлюпа и на других кораблях, будь это ему поручено! Но ведь Беллинсгаузен отнюдь не во всем единомышленник с ним и с Торсоном. Он попросту не хочет конфликтов с Адмиралтейством. Не советует, к примеру, сообщать ни о больных, ни тем более об Игнатьеве. Вот и за это спасибо! Он совсем не хочет выслуживаться. Симонов прав: любит подчас говорить намеками, то ли из деликатности, то ли из желания дать больше свободы своим подчиненным, то ли испытывая их. Любит, чтобы понимали его с полуслова, а политические воззрения оставляет каждому на его совести, сам не столь остро интересуясь тем, что волнует Торсона или хотя бы его, Лазарева. Думая обо всем этом, Лазарев не мог не признать, что с официальной стороной дела, с рапортами и отчетами, при таком положении обстоит легче. Иначе бы не миновать объяснения с начальством, а то, не приведи господь, специальных докладных о поведении и образе мыслей каждого. А тогда “взыграл бы” всеподданнейший отец Дионисий. В какую унылую тягость превратилось бы тогда плаванье! Лазарев давно уже выработал в себе привычку трудиться и требовать труда от других независимо от того, простирается ли в океане снежный покой или надвигается буря. Он знал, сколь расслабляет человека незанятость ума и, думая о болезни матроса Берникова, винил себя в том, что не сумел вовремя отвлечь человека от тяжелых мыслей и одиночества. Последнее же — самое изнурительное в плаванье. Не в защиту ли от одиночества бытует на Севере явление, когда человек повторяет, кричит что-либо в пространство, радуясь звуку собственного голоса, когда беспрестанно повторяет свое имя, — это называется имеречением и кажется со стороны безумием. С утра Лазарев проходит по кубрику, остановится как бы невзначай у койки и по тому, как заправлена она, как висит полотенце, а кое-где иконка в изголовье, угадывает о состоянии матросов. Барабанщик Леонтий Чуркин и флейтист Григорий Диаков да еще квартирмейстеры должны бы, казалось, быть самыми свободными людьми на корабле. Но и те, и другие давно уже исполняют на обоих кораблях не вписанные им в артикул обязанности: латают и перешивают паруса. А на досуге барабанщик и флейтист, собрав матросов в кружок, заводят песни, и не только матросские, выученные в экипаже, но с разрешения господ офицеров и свои, крестьянские, среди них “Весняночку” и “Выходила младёшенька”. Лазарев знает, кое в чем люди берут пример с него самого, а некоторые, странно сказать, привыкнув за два года к своему командиру, даже бессознательно подражают его голосу и походке. Они не могут знать, какая порой закрадывается тревога и в его “командирскую душу”, когда, выйдя на палубу и в тысячный раз оглядев даль, увидит лишь пышный лунный столб впереди себя, — привычный отблеск южного полярного сияния, вероятно похожего на тот, подшучивает Лазарев над собой, который вел волхвов к колыбели Христа. Наклонишься над бортом, и, словно тень воспоминанья, мелькнет на фоне льда образ женщины, когда-то близкой, мелькнет солнечным видением Петербург с его пустынными в снегопад улицами и редким, призрачным, как здесь во льдах, светом фонарей, пригрезится Маша в заброшенном отцовском поместье, и вдруг покажется, будто корабль остановился… Усилием воли Михаил Петрович выводит себя из этого состояния и радуется теплу кубрика и разговору с матросами, хозяйственному и во всем ощутимо привычному, как ощутима земля. В такие минуты его утешает и запах утюгов в кубрике, и легкий скрежет натачиваемых ножей, и мельканье иглы в спокойных матросских руках. Он набирается бодрости в общении с матросами, а они не знают об этом. А может быть, и знают. Впрочем, такое состояние душевной усталости приходит к нему не часто. И помогает Лазареву преодолеть это его состояние не только кубрик, но и стиль им же заведенной жизни в кают-компании, беседы с Торсоном о Монтескье и Руссо, с Симоновым о явлениях природы, беседы, чудесно поднимающие дух… над льдами, над тяжкой обыденностью плаванья.ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Андрей Лазарев совершил нелегкое плаванье к Новой Земле и, вернувшись глубокой осенью, по пути домой заехал к Захарычу. В Кронштадте третьи сутки лил дождь. В туманной мгле недвижно высились мачты кораблей, из складок парусов, словно по желобам, стекала вода. Мастер Петр Захарович Охтин, выйдя на стук в дверь, ее сразу узнал лейтенанта Андрея Лазарева, а узнав, провел его в свою рабочую комнату. — Присаживайтесь, ваше благородие, — сказал он, растягивая последние слова, словно играя ими, как делали это подчас простые, независимые и знающие себе цену люди. — Что-то рано вернулись! Он помнил, куда направлялся и откуда пришел каждый стоявший в порту корабль. — Чтобы описывать берега, а в этом была наша цель, надо было подойти близко… А сейчас льды не пустили. Отложили на весну. Не слышали о братьях? Говорят, “Камчатка” застала их в Портсмуте? — Верно! — подтвердил мастер. — У Василия Михайловича Головнина б гостях я был. Рассказывал он мне об этом. Что сейчас делать думаете? — В отпуске я сейчас. Думаю во Владимир к матери поехать. — Дело. А то поехали бы со мной в лес, — сказал мастер неожиданно. — Скучать да бездействовать моряку не пристало… — С вами, Захарыч? — Андрей удивленно поднял на мастера усталые глаза. — Куда же? — По Руси, за судовым лесом. Русь-матушку посмотрите. Или ни к чему вам? — Да ведь осень, Захарыч, октябрь! И Русь-то, — он замялся, боясь вызвать неудовольствие старика, — разве только там, в лесах? Петербург-то что, по-вашему? — Ныне, перед заморозками, самая красота в лесу. Вот Василий Михайлович женится, а то бы с ним поехали. Он лес знает, любит и на охоту пойти, и сосну на мачту облюбовать… И брат ваш, Михаил Петрович, тоже на отдых в деревню бывало удалялся. Хаживали мы с ним по лесам. — Но ведь осень, Захарыч, распутица. Коляска на дороге завязнет, — говорит лейтенант в свое оправдание. — Осень стоит золотая! Вы на Кронштадт не глядите. — Охтин кинул взгляд в окно. — Эх, сударь, как же кругосветное путешествие совершать, ежели своей земли не знаете? Немного довелось мне видеться с Барановым, по-купецки крут характером, зато в деле расторопен. Справедливо сетовал на морских офицеров: “Их бы в Уналашку, в Русскую Америку, — говорил бывало, — каждого на годок—другой. А то въелась, гляжу, в иных молодых офицеров лень. Своей Твери не знают, Мещерских озер не видели, а подавай им Сандвичевы острова!” И давая волю охватившему его раздражению, продолжал: — Коляска завязнет!.. А мы верхами. К матросам поедем, кои лесниками служат в департаменте лесов. Стало быть, скучаете? Ну, а я скуке не подвержен. Как станет невмоготу от лисьего этого царства — кронштадтских цирюльников да писарей, досаждают они мне, — пойду к бригу, что строю, своей же работе поклонюсь, и легче мне! Я бы корабль на гербовых бумагах печатал. И бездельников портовых карал бы именем корабля! Подобные рассуждения Андрей Лазарев уже слышал от мастеровых в порту; однажды при нем матрос сказал полицейскому: “Ты орла на пузе носишь, на бляхе, а моряк — и сам орел”. Андрей Лазарев подумал: где-то в Тверской и Рязанской губерниях обучаются морские экипажи. Там же и леса рубят для верфей. В Адмиралтействе охотно пошлют его туда на ревизию. Брат Михаил как-то ездил… — Пусть будет по-вашему, Захарыч, поеду с вами, — сказал Андрей. Уйдя от мастера, он в тот же день подал рапорт начальству и стал готовиться к отъезду. А через несколько дней Андрей Лазарев, мастер Охтин и с ними служащий департамента лесов, хилый, богобоязненный чиновник, тряслись в почтовой карете, направляясь к Твери. Путь лежал по каменистому тракту, стиснутому лесами. Лес наступал со всех сторон, казалось, карета вдруг упрется в глухую лесную стену. Но неожиданно показывались свежевырубленные просеки, и в их сумрачную душистую тень бойко вбегали кони. По тракту брели коробейники, закрывая холстиной свои ларцы с товарами, куда-то плелись крестьянские возы и мирно вышагивали солдаты с поклажей на спине, роняя, как вздохи, слова песни. Когда подъехали к Твери, небо заголубело, заискрилось. Леса стояли березовые, чистые, и, казалось, кругом белят холсты. Чиновник, до того уныло дремавший в углу кареты, потянулся и сказал: “Никак лето держится!” Путники переночевали в Твери, а к вечеру следующего дня оказались на большой лесной делянке, называемой здесь “корабельный куст”. Делянка занимала двадцать десятин леса и упиралась в барскую усадьбу. На помещичьей земле второй год жили матросы-новобранцы в ожидании, пока их доставят на новые, еще строящиеся корабли. Офицер, присланный к ним, не давал им лениться. Прошлой зимой он приказал матросам вылепить из снега большой корабль. Старые, поблекшие портьеры из барского дома пошли на паруса. “Белый корабль” высился в деревне среди покосившихся избушек и угрожал барскому дому ледяной “пушкой”. Матросы, припадая к земле и карабкаясь по “реям”, учились приемам. Барин подсмеивался, выходя на прогулку, скучающие дочки его робели: “Ужель будет война?” Теперь матросы работали в лесу; на месте снежного корабля стояла болотистая черная вода. Морской офицер жил сейчас в лесной сторожке, среди мешков с провиантом, карт и морских книг. Андрей Лазарев тотчас по прибытии навестил его, имея поручение от Адмиралтейства “ревизировать порядки и жительство тамошней морской части”. Вместе с Лазаревым к офицеру пошел и Охтин. Моряк назвался лейтенантом Арбузовым, встретил приезжих без тени опаски, заявил им, что житьем своим “премного доволен”. Рассказывая Лазареву и Охтину о своей жизни здесь, он обронил: “Вот так и живем в поселении-то нашем”. Захарыч поймал его на слове и спросил: — А ведь в военных поселениях ныне и матросов будут готовить. К тому идет! Хорошо ли это, ваше благородие? — Матросов как не готовить? Говорят, сотни новых кораблей скоро флаги поднимут? — До чего дожили, — с горечью усмехнулся мастер. — Поселение! Браки по приказу фельдфебеля, работа на государеву барщину, мужиков с бабами в казарму! К нам в Кронштадт военный чиновник от Аракчеева прибыл за рабочими надзирать и определить, кого из них на юг, на жительство, кого в деревню… Государев план, мол, поселения нужными людьми заполнить, а новых мастеров, тех, что из иноземцев, в Кронштадт поселить! Вот и толкуют в народе, будто землю открыли, куда можно бежать… Только теперь понял Лазарев, чем так взволнован был мастер в день, когда он посетил его в порту. Аракчеевские порядки дошли до Кронштадта. В лесу гудело. С треском валились подрубленные матросами деревья. Лейтенант Арбузов разговорился, и Лазарев, слушая его, только теперь постигал, что происходит на поселениях, в деревнях и в “корабельных кустах”. Пришел прибывший с Лазаревым и Охтиным адмиралтейский чиновник, разговор о поселениях прервался. Чиновник примостился у краешка стола и долго перечислял Арбузову, где лес порублен зря, где не расчищен, где “пущен на недомерки” без пользы для нужд департамента. Мастер угрюмо молчал, равнодушно поглядывая на чиновника. Потом, проводив его в деревню на отдых, офицеры и Охтин пошли в лес. Осень в лесу таила обманчивую свежесть красок, отдавала свое накопленное за лето тепло. Опавшие листья устилали землю плотным, прибитым дождями покровом, словно хоронили это тепло. Рябина пылала огнем среди белых берез, а в низинах светились маленькие озерца, заполненные невесть откуда взявшейся мелкой рыбешкой. Лес был глухой и, как сказал о нем Захарыч, “разноплеменный”. Рвущиеся к небу золотистые сосны одиноко высились на пригорках, как маяки; здесь могли они расти на воле, призывая на себя грозу. Кое-где их верхушки уже были отсечены бурей, но они снова тянулись вверх. Мастер облюбовал два дерева и сделал на них зарубки. Лазарев не понял, почему именно здесь нашел Охтин нужное дерево. В чаще у обрыва горел валежник. Мастер определил направление ветра, поглядев на огонь, мерными движениями наломал и набросал перед огнем небольшую груду сухих ветвей. Лазарев удивился: “Почему попросту не загасить огонь?” Мастер ответил: “Так вернее будет”. И сказал Арбузову: — Вели матросам посмотреть за ветром! Долго еще бродили они по лесу. Охтин часто делал отметины на деревьях, понравившихся ему. Сумрак настиг их на обратном пути к дому. “Экипаж безымянного корабля” выстроился в лесу на поверку. Лейтенант Арбузов прошел вдоль матросской шеренги, проверил и отпустил матросов на отдых. Небольшая, пахнущая сосной, казарма походила на склад. Мастер и офицеры беседовали с матросами. — Ныне из поселения одна баба сбежала, — сообщил один из матросов. — Кто такая? — Фамилии не знаю. Оказывают, моряцкая жинка или там невеста. Сам летом далеко ушел, должно, вокруг света. — Куда же она убежит? — сказал Арбузов. — Бежать-то ей некуда. — К нам, сказывали, сюда сбежала. До военного поселения было не больше двадцати верст. Арбузов знал это обнесенное невысоким тыном место: дома там и пристройки управитель выкрасил в казенный желтый цвет. Арбузов болезненно поморщился и, ничего не сказав, вышел из казармы. На рассвете Лазарев, выглянув из сторожки, увидел вблизи молодую статную женщину. Бледное лицо ее было красиво, и во всей фигуре чувствовалась какая-то напряженная решительность. Лазарев вглядывался в ее лицо и старался вспомнить, где он видел эту женщину. Она низко поклонилась и певуче спросила: — Петр Захарыч не встали еще? И тогда Андрей Лазарев сразу узнал в ней одну из двух женщин, которых он видел в доме мастера в ночь перед уходом братьев в вояж. — А я знаю тебя! — сказал он ей, словно чему-то обрадовавшись. Лицо ее тревожно дрогнуло. — Знаете, так не выдавайте. А только откуда вам знать, барин? — Сейчас я позову Захарыча, сейчас, — заторопился Андрей, почувствовав ее тревогу. Мастер вышел заспанный и оттого казался еще более, чем обычно, угрюмым. Женщина повалилась в ноги, заплакала: — Выдают меня, Захарыч, выдают! Кучер один, Савелием зовут, приставлен ко мне в мужья… — Приставлен! — повторил мастер. — Да ты встань. Как звать-то, забыл? — Дарья. — Так, Даша! Помню. — Как же, Петр Захарыч? Хорошо, видели вас тут крестьяне, и матросы сказали, что вы здесь, а то к кому бы идти? — Убежала? — Ну да, Петр Захарыч, беглая я теперь! — Ну входи, Даша, входи сюда. И слезы-то вытри. — Он втолкнул ее в сторожку и представил: — Матроса Киселева невеста. Киселев неведомо где сейчас, а ее выдают замуж аракчеевские устроители. — Ведомо, Петр Захарыч, ведомо, где Егор-то… — радостно поправила она его и вытащила откуда-то из складок платья письмо. — Почитайте, барин, — доверчиво сказала она Лазареву. — Он-то на какой подвиг пошел, не могу я его не ждать… — Грамотная? — спросил Лазарев, принимая от нее письмо. — Дьячок немного научил, спасибо!.. — И тут же спросила робея: — А если Егор на той новой земле останется, коли найдут ее, могу я к нему?.. — Эх! — сказал с горечью мастер. — А ведь, кажется, не глупа! Часом позже было решено: Дарье ехать с мастером в Кронштадт, там дело ей найдется. Одного из матросов решили в село послать — одежду купить Даше, полушалок цветной, да побогаче, под приказчицу нарядить. — Чиновник с нами поедет, кроме молодого офицера, — сказал ей Захарыч, — ему скажем — тверская ты, незнакомая, упросила свезти… …С отъездом заспешили. Не так-то просто увезти с собой молодуху. Сделав нужные распоряжения, вечером выехали. Чиновник сразу уснул в карете. Лес все мрачнее придвигался к дороге. Мастер озорно поглядывал на Лазарева и Дарью, как бы желая сказать: “Ну разве не молодцы мы?” — Не жалеете, ваше благородие, что в лесах побывали? — спросил он Лазарева. — Нет, Захарыч, не жалею. — То-то, глянули, как люди живут. Да то ли еще увидите! Брату-то вашему, Михаилу Петровичу, много предвидится дела! — О чем вы, Захарыч? — не понял Андрей. — О его будущих заботах, — медленно оказал мастер, и Лазарев не мог догадаться: из-за чиновника или по другой причине старик не хочет выразиться яснее. — О кораблях, о матросской жизни, — продолжал старик. — Такому моряку, как он, до всего дело будет: до учений, до портовых служб, ну, и до порядков на флоте. Трудно придется ему, Михаилу Петровичу, не по нему многое! И, помолчав, почему-то сказал: — В океане сейчас люто, темно, льды кругом. Каково морякам сейчас с пути не свернуть? А ведь оно главное, пожалуй: с пути не свернуть! В честь них хоть одно доброе дело ненароком свершили!.. Чиновник пошевелился, приоткрыл глаза. В окошко кареты чуть просачивался мглистый вечерний свет. Всходила луна. Кони бежали весело. Кучер то и дело стегал их длинным и тонким, похожим на удочку, бичом. — У нас в городе ныне во многих домах поварих ищут, и я бы не прочь к себе взять!.. — продолжал старик. Даша благодарно улыбнулась, поняв, к чему он клонит…ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Беллинсгаузен ночью перечитывал взятые с собой копии донесений Коцебу с “Рюрика”, потом, отложив бумаги: большим плотничьим ножом принялся вырезать из небольшой доски диск. На столе горели в тяжелых шандалах две свечи, от их ровного неяркого света в каюте казалось уютнее и спокойнее, чем днем. Железная чашка с питьевой водой, заправленной эссенцией, и кусок пирога — остаток ужина, тут же на столе полузакрытая книгами бутылка бургундского. В каюте было прохладно, Беллинсгаузен сидел в легкой меховой куртке поверх нижней рубахи и, работая ножом, мысленно спорил с Коцебу. Если бы ему встретится капитан второго ранга Коцебу, он сказал бы: — Вы глубоко ошиблись, приняв глубину, на которой уже не видны погруженные в воду деревянные диски за предел прозрачности. А выдумка с дисками принадлежит вам, вы пишете о ней, вы первый прибегли к этому средству наблюдения прозрачности воды… Беллинсгаузен знал, не глядя на висящий возле койки барометр, что крепчает мороз — брызги волн не скатывались с бортов, а, мгновенно застывая, покрывали его прозрачной ледяной корой. Лед стал ломкий, и в гуле, с которым рушились вершины айсбергов, чудились раскаты грома. Горизонт тревожно темен и как бы замкнут недвижной грядой льдин. Уже не радует сияние в небе обманчивой своей теплотой, не успокаивают и редкие залпы корабельных пушек по стеклянным куполам айсбергов, — лед их пресный заменяет воду. Все труднее становится отыскивать путь, пробираясь на малых парусах по узким, свободным от льда разводьям. Кажется, только чувство долга и вера людей в себя спасают от пагубного ощущения заброшенности среди льдов. И разве теперь время думать о наблюдениях над прозрачностью годы и спорить с Коцебу? Но он уже рисует себе другое: покатый берег бухты, как бы огороженный от моря пальмами, томительное беззвучие стоянки, пряный дурман разомлевшего дня, солнце, слепящее глаза… Там, на этой стоянке, опустит он вырезанные сейчас диски, прикрепив их перпендикулярно к линьку, один диск, выкрашенный красным, другой — золотым. Какой из них глубже достанет солнечный луч? Впервые прозрачность воды измерял ученый Гугер, пределом проникновения света в воду он считал глубину около двухсот десяти метров. Но не только прозрачность воды, цвет и сверкание ее, так же как распространение звука, принадлежат к загадкам природы. Беллинсгаузен знает о намерениях Симонова проводить в Австралии опыты, по определению причины, отчего светится вода. Обладает ли она этим свойством или содержит в себе светящиеся бактерии? В Петербурге много толков о таинствах воды, о “жизни воды”, образовании кораллов, о Саргассовом море. “Трудности открытия южного материка и опасности плавания не должны нас отвлечь от задач исследовательских”, — говорил Фаддей Фаддеевич офицерам. Ночью, вырезая диски, он думал о том же. Пусть бушуют штормы, впереди ждет отдых, и опять, опять то же!.. До ближайшего порта около пяти тысяч миль — расстояние, которое может стать непреодолимым. На совете офицеров Беллинсгаузен определил дальнейший путь кораблей. Идти с запада на восток к порту Джаксон,[38] но идти отдельно — “Востоку” севернее пути, исследованного Куком, “Мирному” — южнее пути лейтенанта Фюрно, его сподвижника. Пространство в океане, еще не исследованное никем и не привлекшее внимания Кука, должно стать, наконец, известным. Кораблям предстоит путь в Австралию, в тропические моря, в океан, названный почему-то Тихим, — он отнюдь не такой. Беллинсгаузен кончил работать — вырезанные им диски спрятал под койку, разделся, задул свечи. О борта тяжело били волны. Засыпая, он продолжал все тот же разговор с Коцебу. Казалось, они вовсе не отделены друг от друга тысячами миль. Коцебу да и Сарычев как бы сопутствовали ему в этом плаванье, — не странно ли, старых своих товарищей он представлял себе находящимися где-то вблизи себя. Конечно, он никому об этом не говорил, и как скажешь? Днем он еще раз собрал у себя офицеров. — Если “Мирный” отстанет далеко от “Востока”, если, идя разными маршрутами, отдалимся сверх срока, не потеряемся ли?.. — Он говорил об этом предупредительно, тщательно подбирая слова, и ждал возражений. Лазарев не посмел его прервать и понял: начальник экспедиции не заверений ждет в мореходной выучке, а предложений, как обезопасить путь кораблей, каждого в отдельности. — Предполагаю так, — сказал Лазарев, — если в порту Джаксон один из кораблей не дождется другого в течение суток, пойти навстречу. Беллинсгаузен согласился. Корабли разлучились по сигналу флагмана. Семь пушечных залпов были приказанием разойтись. Вскоре “приблудный”, как прозвали его, неожиданный в эту пору шторм нагнал корабли. “Мирный” закрутило волной. Косые паруса порвало в клочья. Михаил Петрович приказал поставить новые, еще не испытанные, взятые с собой из Кронштадта штормовые паруса, но поставить не все. Они принимали на себя и словно отбрасывали порывы ветра, скользящей, похожей на лопасть, поверхностью. Формой своей они походили на кривой нож, как бы вспарывающий волну. Взмыв вверх, корабль нырял затем глубоко среди волн, и тогда парус ловил внизу ветер и обращал его сорванную уже силу себе в помощь. Волны ударялись о наглухо задраенные люки, по грудь окатывали моряков, стоящих на палубе. В какие-то мгновенья паруса оказывались совсем близко от моряков, рулевые, прижимаясь друг к другу, силой нескольких рук держали руль. В оглушающем гуле воли приказания командира передавались по шеренге матросов, державшихся за леера. Когда, наконец, две ночи и два дня единоборствуя с морской стихией, моряки заметили, что шторм слабеет, и увидели просинь неба в разорванной ветром пелене туч, они удивились собственной силе. Лазарев подошел к рулевым и, сам едва превозмогая страшную усталость и боль во всем теле, сказал: — Спасибо, братцы, выручили! Старший из рулевых улыбнулся: — С вами и мы не оплошали! Вскоре “Восток” стал виден на горизонте, он шел к мысу Джаксон. Мичман Новосильский обстоятельно записал в своем дневнике о дальнейшем следовании: “…Пришли на параллель острова Компанейского, держали по ней к востоку. Над шлюпом летали какие-то желтобрюхие толстые птицы, эгмондские курицы, как их называли, и хватались за флюгарку… Находясь в той самой точке, в которой по карте Арроусмита назначен Компанейский остров, легли в дрейф… С рассветом продолжали плавание, но острова Компанейского, пройдя 25° далее по этой параллели, не встретили: из этого следует, что и в широте его должна быть значительная погрешность. Дальнейшее искание его на этой параллели было бы бесполезно, и потому мы направили путь прямо к юго-западному мысу Вандименовой Земли. Остров Тасмания, который увидели прямо на восток”. Карты явно обманывали, поэтому и Новосильский, говоря об островах, обозначенных на карте, употреблял слово “назначен”. Беллинсгаузен все больше убеждался в том, что осуществлению цели экспедиции мешают не только трудности плаванья, но и неточность, а временами и неправильность показаний английских моряков; карты этих мест были составлены с их слов. В порту Джаксон, едва улеглась радость встречи двух кораблей и тревоги пути сменил отдых в тени “кораллового архипелага”, Лазарев сразу же сообщил Беллинсгаузену и Симонову об ошибках в картах. Лазарев считал эти ошибки “оскорблению подобными”, столь нетерпимо было, по его мнению, допущение морским офицером какого-либо вольного или невольного обмана, могущего повлиять на последующие путешествия. Разговор об этом происходил в палатке Симонова, прозванной “обсерваторией”. Бананы мягко закрывали своими большими листьями белый купол палатки. Из ближнего леса на караульного пристально глядел островитянин-австралиец с деревянным копьем в руке и подражал его движениям; матрос наклонил вправо ружье, пропуская в палатку Новосильского, и австралиец тоже отставил от себя копье. Астроном сидел полуголый среди карт, прикрепленных иголками к холстине. Офицеры, расположившись на цыновке, приготовились его слушать. — Нельзя не воспользоваться случаем, — говорил Симонов, — и определить здесь прямые восхождения неподвижных звезд южного неба. Француз Лакайль последним, пятьдесят лет назад, произвел эти вычисления. Нельзя не решить и другого: когда мы были в тропиках, я записывал наблюдения за барометром через каждый час, днем и ночью, и теперь прихожу к выводу, что давление воздуха можно различать в его колебаниях два раза в сутки, и причина этого в лучах солнца, действующего как источник теплоты на упругость воздуха. Таким образом, определять высоту тор, исходя из этих расчетов, можно при помощи барометра. Показывая исправленную им карту, астроном продолжал пояснять: — Проходя в тумане, легко не заметить остров, тем более по английским картам. Путь же, который предстоит нам дальше, ведет туда, где совершены уже открытия русскими людьми. Года два назад Коцебу на бриге “Рюрик” открыл множество островов в тихоокеанских водах, они названы именами Шипимарева, Свиридова и других наших славных людей. Мы увидим некоторые из них и будем идти, проверяя уже наши, а не английские карты! Австралиец подошел совсем близко к палатке и сквозь вход ее увидел, как вновь прибывшие люди то и дело дотрагивались до карты. Он подумал, что они молятся. Боясь помешать им, он быстро скрылся в лесу и оттуда, притаившись, опять в мучительном недоумении следил за моряками. Он видел, как сушили трюм. Команде выпало немало работы. Мастер Стоке, строивший “Восток”, обнес люки на палубе слишком низкими комельцами, — из-за этого там бывало мокро. Мастера, сами не плававшие в морях, не могли не впасть в какую-либо ошибку, а Стоке дальше взморья не выходил. Теперь Май-Избай, пользуясь хорошим австралийским лесом, переделывал ком ельцы. Беллинсгаузен, выслушав Симонова, спросил: — Вам не кажется, что главное — это свести вместе все наши наблюдения за воздухом, океаном, сушей, имея в виду то, чем мы располагаем в наших знаниях. Не боюсь открыться вам — ничто так не увлекало меня, — он замялся, как бы остерегаясь самого слова “увлекало”, — как изучение мирового океана, занимающего, как мы знаем, почти три четверти земной поверхности. Мировой океан — распорядитель всей жизни земного шара: от него влага, питание, климат… Не кажется ли вам, что само изучение причин приливов может сделать человека поэтом? Ньютон, объяснивший его законами тяготения, сделал великое открытие, но также породил им другие, обращенные к природе вопросы… — Я не видел еще вас таким, Фаддей Фаддеевич, влюбленным в… мировой океан! — тихо, словно не желая, чтобы его слышали другие, заметил Симонов. — Я боялся, что всякая подобная “влюбчивость” присуща только нам, людям, которых часто обвиняют в странностях, рисуют этакими отвлеченными людьми, презревшими покой и славу ради пустяковых, как иные думают, открытий. Ну, а вам ли быть романтиком — маститому мореходу? — Он изобразил на своем лице надменную важность. — Вам ли, воину, возиться с нашими рукодельными инструментами, терзаться в догадках, которые через сто лет станут понятны каждому школьнику и даже не вызовут к вам признательности. Так ведь было… — Подождите! — прервал его Беллинсгаузен, поднявшись и испугав стремительностью движения наблюдавшего за моряками австралийца. — Подождите! — повторил он. — Сейчас я вернусь и продолжим разговор. Он вынес астроному приготовленный им в каюте деревянный “измеритель прозрачности морских глубин”. — Вы помните об опытах Коцебу? — спросил он, держа на плече, как весло, длинный, складывающийся линек с дисками. Офицеры привстали, австралиец в тревоге поднял копье. — Вот он, “рукодельный инструмент”, самое время испробовать его. Не так ли? — Когда же это вы… изготовили, Фаддей Фаддеевич? — не мог скрыть своего удивления Торсон. — А во льдах, сударь, во льдах, в штормах, к сегодняшнему дню готовясь. Он сказал это просто, коротко, как о вещи само собой разумеющейся, не придавая особого значения своим словам, и не заметил, как глядел на него Симонов, с оттенком виноватости за себя и с уважением. …Многие из команды уже привыкли к тому, что наградой за плаванье во льдах будет остановка в тропиках, в бухтах, подобных здешней. И от этого росла в них, наблюдаемая Беллинсгаузеном, готовность к путешествию, гигантские пространства вселенной мнились обжитыми. Третий раз, при возвращении к “исходным рубежам”, так назвал однажды Беллинсгаузен берега земель, идя от которых, они вновь должны искать подступы к южному материку, он видел, как овладевает матросами все большая уверенность в себе. Но вместе с тем и раздумье, полное тревог, перед величием мира! Любопытство их возрастало. Они доискивались до секрета выделки туземцами тапы — материи из коры, спрашивали Торсона, каким образом различают полинезийцы пассатные ветры, стараются выучить “узелковое письмо”, употребляемое полинезийцами, не имеющими грамоты, но желающими найти способ записывать и передавать мысли. Они чертили карты и узнавали у Торсона о “Пурпурном море”, так называл Гомер Средиземное, и крайне заинтересовались, услыхав однажды, что, может быть, моряки-полинезийцы добирались много веков назад к морю, называемому ими “Таи-коко”, туда же, куда идут сейчас “Восток” и “Мирный”… Беллинсгаузен не удивился, когда Лазарев однажды сказал ему: — Фаддей Фаддеевич, мы говорили с вами в начале плаванья о двух отборных экипажах, проходящих на море обучение. Не кажется ли вам, что задержись мы в пути, так нам придется занимать матросов вещами, не очень-то относящимися к службе, хотя бы древней историей? Они все больше спрашивают меня о том, как образовывались на земле государства. Мягко улыбнувшись, он продолжал: — Конечно, было бы безумием предполагать, что для самого занятого трюмного матроса переход из тропиков в ледовый океан может стать чем-то вроде перехода через Фонтанку. Я говорю о другом: о двух школах жизни, морской и, если хотите, природоведческой. Известен ли вам случай, когда на английском корабле “Баунти” вспыхнул мятеж из-за жестокости капитана? Если не забыл, капитана звали Блай. Матросы убежали с этого корабля сперва на остров Таити, потом на более отдаленный и необитаемый Питкерн. Вот уже много лет, как они живут там своей колонией, женившись на полинезийских женщинах, обзавелись хозяйством… Мне всегда хочется знать подробнее, как они себя чувствуют. Ведь они должны знать Полинезию. К ее жителям, кстати, устремлено и внимание всех, как к живой загадке истории. Говорят, народ этот был сведущ в архитектуре, очень способен в ремеслах, на, островах найдены изваяния ботов, земляные печи… Зайти бы нам туда на радость Симонову! — А знаете, я бы не стал жалеть, если бы встретилась в этом нужда!.. Обязательно зашли бы, — ответил Беллинсгаузен. И оба поняли, что сами более всех увлечены в этом плаванье теми же загадками жизни и истории.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Торсону запомнилось сказанное как-то Рылеевым: наблюдение людей, нетронутых цивилизацией, освежает душу сожалением о свершившемся уже в истории человечества и будит мысли об ином, возможно лучшем, мироустройстве. Будущий правитель канцелярии Российско-американской компании был осведомлен о жизни туземцев, собирался к берегам Калифорнии. Торсон спрашивал себя: прав ли Рылеев? Австралийцы жили небольшими общинами, подчиняясь старосте, назначенному англичанами. Староста знал немного английский язык, и Торсон кое-как мог объясниться с ним. Община насчитывала шестьдесят человек и обитала в лесу. В этом лесу, тишину которого нарушал лишь крик птицы, Торсон легко нашел пристанище общины. Он увидел издали фигуру женщины, наматывающей лесу на левую руку, и рослого старосту, сидящего в тени громадного кактуса. Староста вскочил на ноги и, поправляя прилаженный к голове собачий хвост — излюбленное украшение туземцев, — воскликнул улыбаясь: “Здравствуй, капитан!” Капитаном он называл всякого чужеземца. Тогда, потершись носом о нос, в знак приветствия и добрых намерений, староста и Торсон сели на траву. — Начальник, что тебя печалит на свете? Староста ответил подумав: — То, что десять лет назад я не отрезал нос у моею врага. Он сказал это спокойно, не повышая голоса. Можно было подумать, что он совсем не хотел зла своему далекому врагу. — А что тебя радует? — То, что она, — староста указал рукой на женщину, — будет завтра повешена. Торсон спросил, сдерживая тревогу: — Разве она твой враг? — Ее муж умер. Она должна уйти вслед за ним. Она хорошая жена. — Должна ли? — вознегодовал Торсон, зная, что бессилен что-либо изменить, и в то же время не желая смириться с тем, что должно произойти. Торсон взглянул на молодую женщину. Она сидела тихо, и по виду ее нельзя было догадаться о предстоящей ей завтра смерти. Черная, намазанная смолистым соком и оттого твердая, как канат, коса женщины свешивалась на грудь. Правый сосок на груди был расцарапан, и по этому, уже знакомому ему признаку Торсон понял, что женщина — вдова. По обычаю у нее были отрезаны два сустава на мизинце, мешающие, как считалось здесь, женщинам наматывать лесу. На приглашение Торсона сесть поближе женщина ответила, не поднимая на него глаз: — Пойдем, я повешусь! Староста перевел ее слова и добавил от себя: — Ее муж умер. Она согласна уйти вслед за ним. Она хорошая жена. — Вождь! — сказал Торсон. — Те, кто назначил тебя старостой, ничего не говорили тебе о том, как надо править людьми! — Они велели мне их слушаться! — Что они тебе сказали? — Сказали, что придет человек, который расскажет о боге белых людей. “Миссионер”, — понял Торсон и, решив попытаться спасти жизнь молодой женщины, предложил старосте посетить корабль. Он знал, как любят туземцы бывать на корабле в гостях. Когда староста явился, Торсон нарядил его в потрепанный морской мундир, одарил зеркальцем и бисером — обычным имеющимся для этой цели на кораблях “преподношением дикарям”. Вид у старосты был торжественно-насупленный. С собачьим хвостом на голове и в мундире он выглядел очень смешно. Но Торсону было не до смеха. Он посмотрел на часы и подумал: не совершилась ли уже казнь над женщиной, самая непостижимая из всех известных ему казней. Он заговорил о женщине со старостой, спросил о ее умершем муже. Староста охотно объяснил, что она была замужем лишь два дня, муж похитил ее в другой общине, был ранен при погоне и умер. Из рассказа его явствовало, что так и должно быть: женщин похищают по обычаю, а мужья умирают от ран по велению бога. Торсону хотелось узнать, любила ли молодая женщина своего похитителя: — Вождь, — сказал он старосте. — Приведи ее на корабль! Офицеры не могли догадаться, что Торсон пытался хоть на день отсрочить смерть женщины, надеясь что-нибудь придумать для ее спасения. Староста послал за женщиной гребца. Вскоре ее привели, безгласную, пугливо взирающую на моряков. От нее пахло рыбьим жиром, тело было раскрашено, черные, старающиеся не мигать глаза были полны слез. — Это мука! — воскликнул Торсон, обращаясь к Симонову. — Мука глядеть на нее. И рассказал все, что ему стало известно. Симонов выслушав его, ответил: — В Рио-де-Жанейро Лазарев вместе с матросами выкупил негра. Теперь вы хотите приобрести эту девушку. Не скажут ли о нас, что мы фантасты и филантропы? Может быть, мне на сей раз исхлопотать ей свободу и увезти ее подальше. Ее жизни ничто не будет угрожать в Новой Зеландии. Но согласится ли наш командир? Нет, лучше я куплю ей жизнь. Астроном увел к себе старосту, купил у него молодую женщину за два аршина красного сукна и обычную стеклянную чернильницу, — все, что находилось в этот час на его столе. — Но она должна жить! — вразумлял астроном старосту. Команда корабля была отпущена на берег. Лишь вахтенные были свидетелями столь необычной сделки. Батарша Бадеев наблюдал в этот час, как австралийцы трудятся на крохотных картофельных полях, коралловым совком роют неглубокие гряды. Вождь племени следил за работой и чему-то радовался, должно быть, тому, как ровными бугорками ложится вскопанная земля. В это время Анохин стремительно взбежал на самую середину гряд и с наслаждением всадил лопату в мягкую тучную землю. Он отстранил рукой удивленного вождя, подошедшего к нему, и, не зная языка австралийцев, пытался знаками объяснить, как надо возделывать огород. Потом извлек из кармана горсть семян и, перекрестившись, положил их в маленькие, вырытые им ямки. — Правильно! — одобрил Батарша Бадеев. — Сам о том думал, да не поспел… Пойду наших позову. Не прошло и часа, как черная, вскопанная под огород полоса заняла всю площадь, где только что копошились над своими неровными грядками туземцы. А на дощечке, прибитой к дереву, осталась надпись: “Посажены русскими людьми морковь да капуста впервые на сей земле и навечно!” — Тоже ведь находка для людей! — сказал Батарша Бадеев, уходя отсюда последним. — Теперь за себя не стыдно! Ливень обрушился, словно водопад с неба, и загнал матросов в лес под провисшую под тяжестью воды кущу лианов и пальм. Стало темно, душно и жарко, словно где-то в саваннах, и, приглядываясь, матросы не сразу увидели возле себя скрытую высокими цветами лотоса одинокую фигурку белой цапли, а подальше, в расщелине базальтовой горы, группку спрятавшихся лысоватых, будто одетых в белый жилет, марабу. Показалось матросам, будто носорог с кожей, как у старого дуба, мирно залег в образовавшейся от дождя луже. И кругом, куда ни погляди, оказываются незамеченные ранее звери. — Будто в зверинце! — усмехнулся Анохин. Матросы молчали и, присмирев, наблюдали, как все в лесу меняется после дождя: выпуклой и ослепительно зеленой становится листва, упруго вздымается и, кажется, растет на глазам похожая на осоку трава и обнаруживается множество каких-то гусениц, личинок, червяков, копошащихся в складках пальмового листа. Переждав, пока жаркое солнце осушит лесную тропу, матросы ее спеша двинулись к стоянке корабля. Лес оживал, вслед им кричали с вершин деревьев неведомые пестрые птицы и прытко бежала маленькая лесная лань с тоненькой мордой, острыми ушками и сторожким, внимательным взглядом. Она бежала неслышно по влажной земле, и лишь иногда матросы угадывали ее присутствие по легкому хрусту в кустах. Батарша попробовал было позвать ее, как подзывают дворовую собаку, но тут же потерял ее из виду, и только чья-то легкая тень дрогнула под листвой сгрудившихся в конце тропы пальм. Дождь кончился, матросы, словно все еще скованные ощущением этого живительного тропического ливня, подходили притихшие, каждый к своему кораблю. Впрочем, “своим” для каждого из них стал уже в одинаковой мере “Восток” и “Мирный”: не раз в пути приходилось перемещаться с корабля на корабль, особенно плотникам, а на долгих стоянках команды кораблей еще более сдружились. Вскоре корабли снялись с якоря и взяли курс на Новую Зеландию. Обитатели Новой Зеландии встретили русских моряков приветливо. Они были, веселы, держались непринужденно и никак не походили на людоедов, которых застал на этом берегу Кук. Они подошли к “Востоку” на узенькой пироге, гребли какими-то красными лопатками, одеты были в легкие ткани, которые носили, как тоги, а поверх них — некое подобие плаща. Туземцы помогали матросам убирать паруса, вытягивать ванты. Потом стали на палубе в ряд и устроили пляски в знак доброго отношения к морякам. При этом пели, мерно покачивая головой: Гина реко Тово гиде Ней репо! Торсон узнал потом, что это значило: “Мы вас где-то уже видели, и мы вас совсем небоимся! Право, это неплохо!” И в выдумке им нельзя было отказать. Разве не изобретательны зеландцы на берегу, накладывая “табу” на жен своих, если хотят оградить их от опасных знакомств, и на свои дома, когда не хотят видеть гостей? Но еще более находчивы и независимы были жители других земель Полинезии, к берегам которых корабли прибыли в июле, открыв по пути много коралловых островов. …Вторичное плаванье в тропиках было богато “находками”. Острова, названные здесь же именами Кутузова, Раевского, Чичагова, Ермолова и других военных деятелей России, в целом были обозначены теперь Лазаревым на карте как архипелаг Россиян. Позже в письме к Шестакову об открытиях этих, Лазарев скромно сообщал: “Между широтами 15 и 20°, а долготами 210 и 220°, восточными от Гринвича, открыли пятнадцать неизвестных островов, некоторые из них были обитаемы…” Но ничто не привлекало к себе столь ревнивого внимания Торсона, как Полинезия. “Путь сюда приближал, — как писал он много лет позже, находясь в Сибири, — к познанию первых “диких” людей, способных к умному сопротивлению иностранцам…” О пути в Полинезию писал и Новосильский, не побоявшийся признаться Торсону в новых своих посягательствах на литературное живописание. “Млечный путь, — записывал он, — блистал неизвестным для жителей Севера светом… Горящий в беспредельном пространстве Южный Крест как бы осенял наши шлюпы. По восточную его сторону загадочное темное пятно в виде груши, как бездонная труба в беспредельное пространство неба, из которого ни одна звездочка не посылает отрадного луча… Нельзя равнодушно смотреть на туманные пятна, которых насчитывают тысячи, иные и в самые сильные телескопы не распадаются на звезды и, по мнению астрономов-поэтов, может быть, состоят ив скопления мировой материи. Ночь тропическая (на 22 июля) перед Таити, царицей Полинезии, — с темно-голубым небом, при стройном шествии небесных светил, которые, по выражению одного христианина-поэта, “имя бога в небесах своих начертывают следом”, была невыразимо прелестна и принадлежала к числу таких, которые в жизни человеческой редко повторяются, может быть, потому, что дают слишком уж много чистейших наслаждений”. Король таитян Помаре принял христианство, не вникая в суть того, чему учил его английский миссионер Нот, живущий на острове, а лишь потому, что считал идолопоклонство глупостью. На званом обеде он при жрецах и “сановниках” своего королевства съел черепаху, считавшуюся веками священным животным. Земля не разверзлась и не покарала нечестивца-короля. На следующий день народ низверг в кумирнях деревянных и каменных черепах и подхлестывал живых, ползущих по дорогам. Помаре прибыл на “Восток” со своей семьей. Королева, одетая в желтую ткань из коры хлебного дерева, несла на руках грудного младенца. Миссионер Нот — долговязый старик с лицом иезуита — сопутствовал издали. Гостей принял Беллинсгаузен. Король в синих очках, гладко остриженный, в длинной белой коленкоровой рубахе сам походил на церковнослужителя. Он снял очки, огляделся. — Александр… Наполеона побил! — проговорил он, посвященный в события, происшедшие в Европе. И, поглядев на миссионера, добавил: — Вот господин Нот любит меня, a я господина Нота не люблю. Но мы не деремся. Офицеры сделали вид, что не поняли. Миссионер, не удивленный дерзким выпадом короля, вежливо ответил: — В миссионерской типографии король сам набрал первую страницу книги священного писания. Зачем же ему со мной драться? — Да, набрал. Я люблю буквы, но не тебя! — беззлобно бросил ему король. И заговорил об острове. Закрыв глава, словно совершая молитву, он бегло перечислил всех путешественников, бывших здесь, помянул Ванкувера, Кука, Вильсона, войны со всеми своими врагами, — видимо, считал нужным этим перечислением ввести русских в историю своего королевства. Потом решив, что на этом визит его закончен, пригласил моряков к себе во дворец. Многое потешало Лазарева при посещении короля: и служанки, надевшие на голое тело какие-то лакейские ливреи, и начальник охраны, державший над головой короля булаву, и сам король. Все же этот человек возбуждал интерес к себе. Он строил свой флот, учредил суд, запретил иностранцам без разрешения приставать к берегу и даже завел школу… для изучающих английский алфавит по книге священного писания. Вне сомнений, он хотел постичь грамоту и тянулся к ней в поисках того нового, что должны были принести ему европейцы. Собираясь к королю, офицеры, между прочим, узнали о том, что слово “помаре” означает простуду и король назвал себя так в честь пережитой им тяжелой болезни. Миссионер Нот, сидя на низенькой скамейке, пил кофе из крохотной чашечки и почтительно слушал короля. Позже он пригласил Лазарева посетить в городе молитвенный дом. Он, Нот, прочтет там проповедь о смирении. В этот день Лазарев вспомнил встречу с Матюшкиным, разговор с ним о короле Томеомеа и строчки из стихотворения Кюхельбекера, прочитанные Матюшкиным: …Юные ты племена на брегах отдаленной чужбины, Дикость узришь, простоту, мужество первых времен; Мир Иапета, дряхлеющий в страшном бессильи, Европу С новым миром сравнишь, — мрачную тайну судеб С трепетом сердца прочтешь в тумане столетий грядущих… Лазарев думал о том, откуда появились здесь таитяне. Сколь разно говорят о происхождении полинезийцев! Сегодня пришлось ему видеть, как строят они свои лодки с балансирами, счищая кору деревьев коралловыми скребками и замазывая щели толченой кокосовой шелухой, смешанной с клейким куском хлебного дерева. Он слышал молитвенные песни таитян в честь Хиро, лучшего их мореплавателя, и Хуту, прославленного среди них мастера — строителя судов. Возле небольшой верфи на берегу распахивали поле; Лазарев узнал, что оно должно кормить тех, кто строит по приказу короля флот. Им отпускают даровой хлеб и моллюсков на пропитание. И хотя многое из того, что видел Лазарев здесь, было еще первобытно и вызывало подчас жалость, ему нравились старания этого маленького, почти неведомого племени, столь ревностного к мореходству. “Кто же поможет этим островитянам и поведет их за собой?” — думал он. От Маши было письмо в конверте, сплошь залепленном марками с сургучными печатями. Лазарев вспомнил владимирского почтмейстера, разговор с ним о Южной земле и улыбнулся: небось, перекрестился старик, принимая письмо. Маша писала: “…Есть у нас во Владимире купец, торгует с Сибирью, так привык к поездкам туда, что отказывается от постели и приловчился спать в шубах, в кресле, даже когда дома и ехать никуда не надо. Думаю, не отвыкнешь ли и ты от дома. А есть у нас сосед, худенький, как скворушка, голосок в ниточку, такой тонкий, музыкант из придворной капеллы, обещает кантату написать в честь отбывших к южным широтам кораблей”. И о себе: “У нас сейчас глубокая осень. Говорят, осень сосредоточивает человека, мне же скучно! Дома все так же; сегодня пошел первый снег. Меняем холодные галоши на теплые”. Ему запомнились из ее письма слова: “Худенький, как скворушка”. Только сестра могла сказать так. И стало грустно по дому.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Джозеф Бенкс не имел сообщений о том, где находятся русские корабли, вышедшие на поиски южного материка. Английский посол в Петербурге разговаривал с маркизом де-Траверсе, но ничего не мог заключить из путаных рассуждений министра. — Сие плавание обогатит опыт наших моряков, — твердил морской министр, уклоняясь от каких-либо заявлений о том, какие надежды возлагает он на экспедицию. — Командиры кораблей не посетили в Лондоне сподвижников великого Кука, — сказал посол. — Мы считаем, они миновали Англию. Мы отрядили бы корабль, поручив его капитану идти следом и помогать вашим морякам. Маркиз хитро усмехнулся и неохотно ответил: — Весьма благодарны. Однако в случае гибели кораблей, помочь будет поздно, я полагаю. В случае же успеха… Он пожал хилыми плечиками, колыхнув золото эполет, поморщился и хотел дать понять, что на успех, собственно, надежд нет. — Сама попытка пройти туда умножает славу наших моряков, — закончил он. Посол писал сэру Джозефу Бенксу, что русская удаль не преминула сказаться ныне и в мореходстве, и страна, победившая “галлов и с ними двенадцать разноплеменных языков”, мнит своим долгом обрести никем не обретенное, но кто не знает, что удаль — это не наука! Прошло не более полугода, и старого Джозефа Бенкса вновь встревожило подхваченное многими английскими газетами сообщение: американец Смит открыл Южную землю. От сэра Бенкса требовали немедленного созыва географического общества. Даже король, как передавали, пригласил к себе старейших на флоте адмиралов, чтобы спросить их о Смите. Адмиралы колебались: “Кто он Смит?” Промышленник, не ставивший себе цели искать южный материк. Корабль его, вероятно, случайно был отнесен ветрами южнее мыса Горн. Сколько уж бывало этих “случайных открытий”! Оставалось заключить, большой ли человек мистер Смит? Теперь уже не об открытиях его, а о нем самом писалось в газетах. Мистер Смит явился в Лондон триумфатором и неожиданно очень богатым человеком. Так молва помогла в его предпринимательских делах гораздо быстрее, чем в мореходных. Увалень с шеей битюга, коротенький и плечистый, с лицом решительным и недобрым, он предстал однажды перед высоким, успокоенным старостью сэром Бенксом и на просьбу его рассказать подробнее о своем плавании пробурчал: — Прочитайте газеты. Я не умею рассказывать. — Но все же, — мягко просил его сэр Бенкс. — Ваши подтверждения относительно того, что это была действительно Южная земля. Промышленник вместо ответа протянул ему лондонскую газету. В ней описывалось, как Смита несли по набережной на руках портовые грузчики и как во славу его заложили на верфи самый большой в Англии фрегат, назвав его “Похититель неизвестности”. — Этого мне мало, — тускло глядя на промышленника, вяло произнес сэр Бенкс. — Что вы видели там? Куда отнесло вас ветрами, за мыс Горн? Смит путано объяснил, куда он шел и где оказался. “Южная земля”, как понимал теперь ученый, не что иное, как Новая Шетландия или Южные Шетландские острова. Старик простился со Смитом. Ha следующий день он слег, объявив себя больным. Пусть без него чествуют Смита! …Российский полномочный министр при португальском дворе в Рио-де-Жанейро уведомлял Беллинсгаузена и Лазарева письмом о заявленных Смитом “обретениях”. Письмо застало моряков в Австралии. — Мы шли одно время по следу Кука, теперь же последуем и за Смитом, — смеясь, сказал Лазарев Беллинсгаузену. — Теперь возьмем курс на Южные Шетландские острова и будем упорно держаться юга! — Надо ли? — раздумывал Фаддей Фаддеевич вслух. — Вы полагаете, что описание нами этих островов может приблизить нас к цели? — Полагаю, что цель наша не только неизвестная Южная земля, но и острова, не обретенные пока никем на пути к ней, и, наконец, честь и долг моряка повелевают нам знать весь шар земной, ежели только это возможно. И суть не в Смите! Лазарев сказал это запальчиво, рискуя показаться в глазах своего начальника человеком малоосмотрительным. Это противоречило всему его опыту и умению вести себя на корабле. Но скажи он иначе, сам Беллинсгаузен не принял бы, казалось, быстрого решения. К тому же начальник экспедиции спрашивал его совета. Волен же он, Лазарев, отвечать ему так, как велит разум и сердце. Беллинсгаузен согласился: — Пусть будет по-вашему. И, конечно, суть не в Смите. Они разговаривали на “Мирном” за обедом. Прислуживал кок в переднике, сшитом наскоро из больших листьев какого-то диковинного дерева, похожего на пальму. К столу подавали отечественные блюда: кислые щи, гречишники и на десерт ромовую бабу. Обедали в кают-компании за круглым столом, под висячей в медной оправе лампой. На полу, застланном цыновкой, копошились залетевшие сюда с берега крохотные колибри. На стене в большом овальном зеркале тепло светились смутные отражения берега, банановой рощи, охваченной полуденным солнечным зноем. Здесь было прохладно и тихо. Лишь плеск редкой и как бы шарахающейся волны нарушат это необычное на корабле спокойствие. Офицеры сидели в белых мундирах, их загорелые лица выражали тревогу. Известие об “открытиях” Смита могло изменить маршрут экспедиции и поколебать уверенность командиров. Но нет, все остается по-прежнему. Вечером Лазарев писал сестре: “Так как в Англии и, можно сказать, во всей Европе заключили, что открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали, то мы по одному названию Южной экспедиции обязанностью почли такое заключение или еще более подтвердить, или вовсе опровергнуть, чтобы обойти землю сию с южной стороны”.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Алексей Лазарев не мог отвлечься от странного представления, будто где-то недалеко идет корабль брата. Это представление рождалось вопреки воле и здравому смыслу, возможно потому, что Алексею Лазареву всегда сопутствовало чувство единения с экспедицией, ушедшей к югу. И ничто, казалось, не могло помешать ему рисовать себе несбыточное: стоянку “Мирного” где-нибудь возле Уналашки. Это ощущение помогало ему претерпевать опасности собственного пути. Он побывал и в Петропавловске, видел Людмилу Ивановну Рикорд. В домике, неотличимом от тех, что стоят где-нибудь в Рязани, но укрытом высокими пихтами от морских ветров, она поила его крепчайшим китайским чаем и певуче рассказывала о полюбившемся здесь всем лицеисте Матюшкине. А когда Алексей заговорил о южном материке, о брате Михаиле, она вскинула на него большие свои яркие глаза и молитвенно сказала: — Боже, не оставь их. Она поняла его: и тот конец земного шара ждет русского человека. Лазарев подумал: “Можно ли с такой уверенностью в предстоящее русскому человеку не открыть эту “братнину землю?!” Он так и подумал в ту минуту: “братнину землю”. Алексей Лазарев, как и брат Михаил, многое постигал, находясь в плавании, о многом раздумывал среди опасностей. Он любил повторять изречение, прочитанное им во “Всемирном путешественнике”: “Не дивись, путник, чудесам заморским, храмам и дворцам людским, а дивись переменам, происшедшим в сердце твоем”. Он писал матери с пути: “…Что до перемен, то они все впереди! У нас изменений нет: плаваем мирно! Михаил недалеко, так хочется думать, да и верно: расстояния наши по крайности своей и однообразию создают впечатление близости”. “Мирный” и “Восток” тем временем уже не в первый раз пересекали Южный полярный круг и, пожалуй, оказывались перед самыми тяжелыми испытаниями на своем пути. Пространства, пройденные кораблями, могли удивлять и восхищать. В попытках пробраться к закрытому льдами южному материку, в существование которого участники экспедиции все больше верили, корабли готовились пересечь меридианы там, где они сходятся у Южного полюса. Подчас “кружение” вокруг этого материка, обозначенного на картах белым пятном, походило, на маневренное учение. На “Мирном” матросы говорили: — А ведь если есть земля — найдем! Иногда, увидя возле корабля почти не уступающего ему по размеру атласно-синего кита, они шутили: — Эх, животина! Куда плывет, чего ищет? Небось, знает, есть там земля или нету. В этих водах кит стал привычен, как домашний пес, и матросы, наблюдая за тем, как он пускает фонтаны, глотая и процеживая сквозь усы воду, как взметает бесформенную свою голову с пастью, которая могла бы поглотить лодку, подтрунивали над ним совсем по-свойски: “Пей, пей, животина, — воды да рыбы в океане хватит”. Пугало другое. Лейтенант Игнатьев боялся глядеть на яркий свет сияния, и лекарь Галкин закрывал люк в его каюте одеялом. Утомительное и повторяющееся однообразие движения среди безграничного водного пространства, монотонность морского пейзажа, бедность красок, в особенности холодный, мертвенный свет полярного сияния, угнетающе действовали на некоторых из команды. Свет, льющийся с неба, мешал различать айсберги. Люди, обморочно-бледные, двигались по палубе, как тени. Лазарев сказал офицерам, собрав их в кают-компании: — Солнечный покой — это с непривычки тяжелее бури. Надо преодолеть свет. Вечером “телеграфный” шар заколебался на “Мирном” и просигналил “Востоку”: прошу позволения остановиться. Беллинсгаузен ответил: приду к вам. Пожалуй, это был первый случай, когда лейтенант Лазарев предпочитал учить экипаж не в пути, а на остановке. Но учить “преодолевать свет” не приходилось. У самого глаза слепнут, когда приходится глядеть вдаль, В Петербурге не догадались заказать защитные очки для команды, а в Лондоне никто не надоумил. Впрочем, Кук в своих записках ничего не писал о вреде солнечного света в этих местах. Вскоре катер подошел к “Мирному”. Пропустив вперед Беллинсгаузена, офицеры вышли на палубу. Корабли стояли на якорях в двух милях друг от друга. Слева наплывал на “Мирный”, заслоняя свет и нагоняя мрак и холод, громадный айсберг. Он медленно проплыл мимо. Приближался другой, снеговым шпилем своим уходя высоко в небо. — Надо постоять день. Пусть привыкнут к полярному сиянию, — говорил тем временем Беллинсгаузен Лазареву. Михаил Петрович молчал. У вахтенных от напряжения разболелись глаза. — Что даст один день? Полярное сияние не станет слабее и привычнее. Анохин называл его “сполохом” и говорил, что такой же бывает на Белом море. Он увереннее других чувствовал себя, но и у него началась резь в глазах. — Матросам приделать к фуражкам матерчатые козырьки для защиты глаз, — распорядился Беллинсгаузен. И тут же в затруднении спросил: — А салинговым? Им только помешает козырек? — Вызовите Анохина! — приказал Лазарев трюмному матросу. И, обращаясь к Фаддею Фаддеевичу, пояснил: — Лучший он из салинговых, может быть, что-нибудь сам предложит. Обращение за советом непосредственно к матросам не было принято на кораблях, но Беллинсгаузен не усмотрел в этом нечто роняющее достоинство офицера. — Что бы ты сделал, если бы попал в такую беду, один, без офицера? — спросил Беллинсгаузен Анохина, когда матрос явится на вызов. — Ваше благородие, — не смутился Анохин, — цветного стекла на корабле нет, но есть бутылки, а бутыль винная часто из зеленого стекла. Разбить ее и круглый кусок к глазам приставить, легче глазу станет. Так на Белом море, ваше благородие, отец от резкого света избавлялся. Нехитрый совет был принят. До вечера Анохин ловко выбивал из бутылок цветные кругляши и привязывал к ним ленточки. Беллинсгаузен вернулся на “Восток”. Там матросы тоже воспользовались советом Анохина. Утро занималось бледное, пасмурное. Самыми тяжелыми для команды были, пожалуй, эти утренние часы. Матрос Берников будил Киселева, спавшего на подвесной койке над ним, и, болезненно морщась от безжизненного тусклого света, проникающего в иллюминатор, твердит: — Где мы? Почему стоим? — Ночь ведь еще, ночь. Чего ты? — сердился Киселев, неуверенный в том, что рассвет еще не наступил. — Слышишь, тихо на корабле. — Ох, Егор, — не успокаивался Берников, — от этого света, должно, хворость моя. Туманы кругом. Бродим, не знамо где… Киселев помнил — лекарь говорил, что у Берникова началась цынга, а при цынге человек слабеет волей, подчас мнит себя “конченным”, боится света. Киселев присел на койку товарища и, успокаивая его, сказал строго: — Ты не будоражь людей, не шуми. А то командира позову. Терпи! — Позови, Егор, позови! — неожиданно попросил Берников. — Скажи, извелся в мыслях. — Совести у тебя нет! — обругал товарища Киселев и вышел. Лазарева он нашел на корме. Матовый свет утренней зари прорывался из облаков и тусклым пятном лежал на чисто вымытой палубе. Лейтенант поднял усталые от бессонницы и дневного света глаза: — Что тебе, Киселев? — Совсем занедужил Берников. Вас просит… Лазарев спустился в кубрик. Следом за ним шел Киселев. — Что тебе, Берников? — Свет мешает, ваше благородие, — приподнялся на койке матрос. — Ни день, ни ночь. Я не трушу, ваше благородие, но только… — В бою легче было бы! — подсказал лейтенант. — Так точно, ваше благородие, в бою легче. Сна лишился, и скорбут одолел. — Боишься, Берников? Нам не веришь, командирам своим? — Конца пути не вижу, ваше благородие! Неужто другие не сомневаются? Или решили про себя: не велика беда, коли не найдем земли этой, лишь бы домой вернуться! — А ты так не думаешь, Берников? — напрямик спросил Лазарев. — Нет, ваше благородие, помереть мне, коли вру! Я о том помышляю: если есть земля, надо до нее дойти. — Ну и все так думают. Верно, Киселев? — Так точно, — отозвался живо Киселев. — Успокойся, Берников, — продолжал лейтенант, — это болезнь в тебе говорит. Поправишься, вернешься в строй. — А вы не говорите никому. Я вам доверился. Значит, не сбились мы с пути? — Нет, Берников, будь спокоен. Лазарев вышел. Издали доносился грохот громоздившихся одна на другую льдин. Матрос Киселев писал в этот день невесте: “…Ежели бы имел я свой дом в деревне, то знал бы каждое бревнышко в нем, — где пакля выбивается и где пазы в рамах. Вот так знаем мы и свой корабль, и не только корабль, так хорошо знаем друг друга, как будто в этом доме издавна все живем. Южная земля еще нами не встречена, но обретена вера в себя, в силы свои. Товарищи говорят свое: никак нельзя цели нашей не достигнуть. Командир наш, однако, иначе спросил матроса Май-Избая: “Хватит ли искать? Четвертый раз ходим, люди извелись”. — На что Май-Избай ответил: “Может быть, но где-нибудь близехонько лежит земля эта, а мы повернем? Ведь теперь к мокроте да стуже привычны стали, доколи силы есть — идти надо”. — Сказал так, а сам шатается, бледный весь, лихорадка его с ног валит. С кем письмо отправлю тебе, еще не знаю: Пальмер тут, американец, котика бьет, ничем больше не интересуется, с ним передам. Он в порт Джаксона кораблям сдаст, идущим в Россию”. Теперь льдины, окружавшие корабль, походили на развалины каких-то построек, и корабль, казалось, плыл среди разрушенных, покрытых снегом деревень. Порой так отчетливо, казалось, видны были трубы и полусорванные кровли домов, так тесно жались льдины одна к другой, образуя это столь ощутимое во всем подобие деревни, что вахтенный Анохин жмурился, словно от яркого света, и бормотал: — Наваждение! Живописец Михайлов рисовал, пристроившись под парусом. Анохину хотелось вступить с ним в разговор, спросить, что будет дальше с этими рисунками, и правда ли, что льдины похожи на деревню, но он не решился. Михайлов сам обернулся к нему и сказал: — Фантастично, братец! У живописца светлые добрые глаза, иней на ресницах и рыжеватая бородка в сосульках. Идет снег, но он рисует, прикрыв мольберт бумагой, держит угольный карандаш покрасневшими пальцами и в сильной, чуть наклоненной фигуре его чувствуется ожидание чего-то еще более чудесного, скрытого за этими льдинами. Анохин тронут непонятным ему старанием живописца зарисовывать сейчас, в снег, все, что открывается глазу, и, помедлив, спрашивает: — Вот, думал я, для иного человека ничего здесь нет занятного: снег, вода, да и только. А астроному да и вам — во всем откровение божье! Воду достают — смотрят, что в этой воде, за звездой наблюдают, солнцу скрыться не дают, пока не запишут чего-то. Трюм полон рыб океанских. Нам бы рассказал господин астроном, чем порадовала его природа, чем удивила. И что от здешнего солнца, да от воды для будущего взять нам надобно? — Книжно говоришь, братец! Из поморов, небось? — Так точно. — Когда вахту сдаешь? — Скоро уже. — Приходи к господину Симонову. И я у него буду. Освободившись, Анохин не замедлил явиться. В каюте астронома лежат камни и куски земли возле диковинных приборов на треногах, чирикают птицы в клетках, а сам он, в толстом байковом халате, мускулистый, веселый, громко спорит о чем-то с живописцем. И то, что здесь, на корабле, занятые своим делом, они совсем не думают о грозящих кораблю бедствиях, наполняет матроса неизъяснимой нежностью к ним. На мгновенье кажется ему, что ничто, собственно, и не грозит кораблю, все уже минуло, да и грозило ли когда-нибудь? — Помор! — восклицает астроном. — Иди сюда. Мне передал господин Михайлов о твоих заботах. Хочешь знать, чем заняты? А ну-ка, выйдем на палубу. Сейчас, братец ты мой, я тебя в свою науку посвящу! Он накидывает тулуп и, пригладив косматые волосы, оживленно ведет матроса с собой наверх. — Гляди, вот на, эту звезду. Венерой зовется. Видел ты ее не раз. Но здесь она кажется иной, чем в Белом море, а ведь поморы умеют вести корабль по звездам и время по ним считать… Жил на свете Коперник, много он человечеству принес добра и многое разгадал о земле, изучив звезды… Симонов говорил долго и в разговоре убеждался, что и сам Анохин знает немало. — Вот что, помор, — оказал он ему в заключение. — За два года плавания многое узнаешь, а чтобы легче давалась наука, каждое воскресенье ко мне приходи и опрашивай. Не лежебоки мы с тобой, все знать хотим. Часом позже, проходя в кубрик, встретил Анохин отца Дионисия. — Зайди, Анохин, — позвал он его к себе. — Скажи-ка, матрос, не согрешил ли ты стремлением разрешить таинства божий слепым повторением чужих мыслей? Чудесный промысел божий простыми истинами истолковать? — Не пойму я вас, батюшка! — слукавил Анохин. — Ну, если не понимаешь, — хорошо! Стало быть, не повинен. В этот день, совершив очередную запись в судовом журнале, приписал Лазарев для себя, в памятке дел, которую привык составлять с вечера: “Экипажу ежегодный смотр положен, но не произведен пока. Люди не аттестованы. Меж тем трудности с аттестацией непомерные. Матроса Киселева надо к старшим служителям приблизить, не роняя чина их и достоинства, а матроса Анохина уже теперь за усердие и мужество к награде представить. Но все то не главное, думаю, что по примеру экипажа “Мирного” надо других флотских наставлять, и, если сохранить такое же обращение наше с матросами, во всем флоте такие достойные люди будут”. Михаил Петрович не заметил, что против обыкновения написано им на этот раз в памятке очень много и собственно к делам не относящегося. …Торсон почти не заговаривал с Михаилом Петровичем о вещах, не относящихся к плаванью, — странная, казалось бы, сдержанность в отношениях к человеку, к которому лежит сердце. В этой сдержанности отнюдь не выражалось недоверие, скорее в ней была бережливость, опасение причинить неловкость, навязаться на ненужную откровенность. На одной из стоянок в Австралии он узнал из разговора со знакомым офицером, только что бывшим в России, а перед тем из полученного письма, о том, что назревает в Европе и находит себе отклик в петербургских кругах. В Испании началась революция, и генерал Риего собирался провозгласить вновь уничтоженную было конституцию 1812 года. Император Александр готов был помочь своими войсками удержать самодержавие в Испании. Карл Занд, немецкий студент, убил Августа фон Коцебу, автора популярных верноподданнических и слезливых романов, бойкого прислужника императора Александра и князя Меттерниха. Даже взгляд поверх событий, — а только так мог Торсон, находясь в плаваньи, постигать происходящее, — настораживал: в России не могло не укрепляться в своих намерениях тайное общество, о существовании которого Торсон знал, и, надо думать, России не миновать мятежа… Что-то о бунтах было и в письме, затушеванное эзоповски неопределенной манерой речи, но понятное и в намеках. Не мучительна ли сама боязнь поделиться с кем-нибудь на корабле обо всем этом? Не вдвойне ли тягостно и само странствие во льдах при необходимости скрывать свои заветные чаяния?! В кают-компании читали номера английских газет, которые удалось достать на последней стоянке. В них всячески очерняли Риего и сулили ему казнь. — Похоже, будто англичане боятся за себя, очень уж гневаются на Риего! Но с их слов не понять, что происходит в Испании! — заметил Лазарев, и Торсон взглянул на него благодарно. Не одним изяществом и строгостью мысли, — чертой, которая всегда подкупала в Лазареве, — надо объяснить эти его слова. Нет, европейский союз монархов, накладывающий свой гнет на всю общественную мысль во спасение от революции, нелегко создаст себе опору из русских офицеров, не сделает из них безликую касту, и в этой касте не найдет Михаила Лазарева! Подумав так, Торсон как бы ясно ощутил и тот заложенный в самом плавании “Мирного” и “Востока” характер отношения к политической жизни, о котором никто в кают-компании не позволил бы себе судачить. Торсону представилось в тесном единстве поведение Лазарева на корабле со всем этим, пусть в большей мере скрытым образом его мыслей. И как обрадовался Торсон, так и не начавший первым “постороннего” разговора, когда однажды Михаил Петрович, после очередной беседы Симонова с матросами, напрямик спросил: — Думаете ли, Константин Петрович, что мы не найдем на флоте подражания нашему примеру? Может ли быть на нашем флоте без перемен? Он мысленно возвращался к написанному недавно в памятке. Торсон ответил, позволив себе единственный раз и в одной фразе сказать обо всем, что думал, отбросив всякую сдержанность: — Нет, Михаил Петрович, в России без перемен не обойдется, a стало быть, и на флоте!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вечером, всматриваясь в сторону юга, Михаил Петрович увидел ровную полосу света, как бы делящую надвое бескрайний свод неба. Казалось, корабль проходит под блещущей светом аркой, оставляя в стороне мутную, тяжелую завесу туч. Симонов, стоявший рядом, сказал: — Вот и опять возникает загадка об отражениях. Спрашивал меня Фаддей Фаддеевич, могу ли я определить лучи южного сияния, какие пророчат смерч, какие тепло. Не ответил я ему тогда. А сейчас могу объяснить. — Каким образом? — Льды расходятся — вот и все объяснение. Воды колеблются и гонят льды, просинь в океане, иначе говоря, чистое, свободное от льдов пространство отражается в небе. Бели льды разойдутся, мы далеко пройдем. Вот и ветер попутный. Лазарев промолчал, скрывая волненье. Он крепко ухватился рукой за леер и хрипло крикнул матросу, стоящему на салинге: — Что видно? — Как будто льда впереди нет, ваше благородие. Повернувшись к вахтенному, Лазарев приказал: — Еще двух матросов на салинги. Пусть смотрят. И, выждав время, спросил вахтенного, боясь выдать свое нетерпение: — Что видят? — Молчат, Михаил Петрович! Не пригляделись. — А кто наверху? Анохина бы… Он еле сдерживался, чтобы самому, забыв о своем чине, не подняться на салинг. Астронома уже не было на палубе, но лейтенант не уходил к себе. Вскоре ему сообщили: — Льды, Михаил Петрович, одни льды! Он не повернул головы, не удивился. Но свет сияния на горизонте не исчезал, и теперь Лазареву казалось, что с этой яркой полоской света может уйти и доступ вглубь океана, в те широты, куда еще никто не ходил. Безотчетное, но все более охватывающее его нетерпение передавалось, он чувствовал, и другим. Константин Торсон также пристально глядел на юг и быстро отводил взгляд при приближении командира. Оброненное астрономом замечание было подхвачено матросами, и Лазарев слышал, как кто-то сказал: — Будто море разверзлось, братцы? Тогда, мысленно готовя себя к худшему, к столь же упорному продолжению поисков, он решил поговорить с матросом Анохиным. Выбор его пал на Анохина потому, что в нем больше, чем в остальных, видел он непреклонную уверенность в том, что “гибельная” эта земля, которую они второй год ищут, будет найдена. Анохин говорил об этом, не хвастаясь силой своего терпения, а скорее в утверждение сызмальства осознанной в себе потребности “вершить необычное”. Данилка — “зуек”, как звали его в Архангельске, поморским чутьем постигал все перемены, происходящие в океане. Занесенный сюда, за тридевять земель от родных берегов, он старался находить здесь нечто общее с тем, что наблюдал раньше в “ледовых морях”, не раз удивляя верностью и неожиданностью своих сравнений. Анохин явился. Лазарев спросил его, показывая на все еще не потускневший к вечеру свет в небе: — Как думаешь, отчего этот отблеск? Не удивившись вопросу и подумав, Анохин ответил: — Зори на той стороне не всходят, а сполохов, то есть сияния, ныне нет. От воды открытой лед светится, так полагаю, и на небо другой цвет бросает. Вот в чем разгадка. И воздух от льда другой, не талый, не теплый; позвольте за льдами погляжу, ваше благородие! Получив позволение, он тут же забрался на салинг. Лейтенант ждал. Анохин не меньше часа следил за тем, с какой силой сходятся и разбиваются льды. — То не стойкий лед, не дружный, — доложил он. — Волна подмывает его, он, ваше благородие, будто на весу, от волны бежит, места ему много, — стало быть, хотя идем мы в океане, а можно сказать, в реку вышли. Самое время вперед идти! Наступила темнота. Непривычно тихо было во льдах. Штурвальному стало легче управлять кораблем; льды все реже вставали на его пути. Утро не показалось чем-либо приметным, если не считать молочно-белого отсвета на горизонте. Но вскоре цвет воды стал иным. Землистый оттенок ее и радовал, и тревожил. Днем с “Мирного” заметили неподвижный, словно висящий в небе айсберг с черными пятнами внизу. Вахтенный матрос не помышлял о том, что увидел черные осыпи скал, что во льдах он различил землю! Льды то расходились, то сходились впереди, и очертания айсберга менялись. Матрос доложил появившемуся на палубе командиру корабля: — Черное с белым впереди! Лазарев не спеша поднял к глазам подзорную трубу, казалось, готовый также спокойно опустить ее. Но увидел “черное с белым” и все понял… Быстро повернувшись, он привлек к себе вахтенного матроса, поцеловал его. Матрос едва произнес, слабея от радости: — Неужели, ваше благородие? — Дать сигнал “Востоку”! — крикнул в волнении Лазарев. Но тут же ему доложили: — “Восток” обращает ваше внимание на странное очертание. — Совсем не странное! — радостно ответил Михаил Петрович. — Это материк или его преддверие!.. Боцман засвистал: “Всех наверх!”. Удивленные тем, что кругом безветренная тишина, паруса никнут, а боцман необычно возбужден, матросы высыпали на палубу. И здесь их настигла вторая боцманская команда, поданная торжественно-зычно: — Пошел по вантам! И тогда, поднявшись наверх, матросы закричали в едином, охватившем всех порыве радости: — Берег! Берег! Матрос Киселев в этот день записал в дневнике своем: “Увидели новый остров, который никаким мореходцем не просвещен, кроме наших двух судов. Остров пребольшой и высокий, кругом него ледяные поля. Множество разных птиц, особливо больших альбатросов. Тут была пушечная пальба и кричали три раза “ура”. Остров назвали именем Петра Первого. Корабли медленно двигались вдоль берега. Несколько дней спустя, находясь на вахте, мичман Новосильский увидел берег большого материка. Вскоре корабли были остановлены льдами, уже ни у кого не вызывавшими сомнения: эти льды были подступом к материку. Но матросам не хотелось верить, что перед ними только льды, что ледовым покровом закрыта от глаз эта земля, ставшая заповедной и как бы согретой жаром их сердец, отвоеванная двухлетними поисками в мутных, туманных и гибельных пространствах. Они не могли об этом сказать, но странное чувство нежности к этой земле, скрытой льдами, овладело ими. Это было желание ощутить ее холод, запах, желание, подобное тому, которое овладевает ребенком, знакомящимся с вещью по шероховатости или гладкости предмета. Они готовы были проситься на берег, забывая о том, что льды уже сужают выход кораблям и нельзя здесь задерживаться. Они глядели на крутые, сливающиеся в своей белизне очертания материка и мысленно уже забирались на его вершины в надежде найти там хоть одно деревце, примирившее бы их с привычным представлением о земле. Но пусть бы и не было этого деревца, упругая складка гор и голубая дымка на горизонте вызвали привычное представление о нехоженых и тем не менее близких сердцу пространствах, которых немало и на их родине. Трудно было оторвать взгляд от этой ледовой и манящей дали. К этому чувству невольно примешивалась радость за себя, мужественная удовлетворенность достигнутым и вместе с тем расхолаживающее эту радость беспокойство: а что будет с ними теперь, куда пойдут, что ждет их в столице? К каждому возвращалась тревога, давно уже не посещавшая их, о том, как встретят их на родине, дома, и что ждет каждого в отпуску, который им положено получить на год? Ведь с окончанием плаванья они почувствуют себя еще бесправнее, и сама Южная земля, обретенная ими, как бы отдалялась от них, не способная ни защитить их, ни смягчить их горькую крепостную участь. В кубрике больной матрос Берников, прижавшись лицом к иллюминатору, тщетно силился сквозь обмерзшее стекло увидеть очертания земли и мысленно рисовал себе ее лесистой, наполненной зверями. И хотя знал он, что, наверное, не такая эта земля, воображение упорно рисовало ее именно такой. Сзади себя он слышал голоса товарищей: — Ну, Берников, дождались праздника!.. Непрошенная слеза блеснула на щеке Киселева. Он смахнул ее и смущенно сказал товарищу: — А ты, брат, не верил! Офицеры правильно говорили, как отошли мы от острова Петра, — непременно впереди будет другой остров, а может и материк, кто его знает. К нему и шли! Вот что, братцы, — обратился он к матросам, — вынесем Берникова на палубу, пусть землей полюбуется. Берникова вынесли на носилках. Солнце осветило передний высокий гористый берег. — Это Земля Александра Первого. Так отныне будут называть ее! — объяснил матросу Торсон. И тут же Берников услышал, как кто-то из офицеров в раздумье произнес: “А Кук увидел одни льды и принял их за непреодолимую преграду. Впрочем, его ошибка — другим урок! Мы же и в прошлом году в январе подходили, видимо, к материку.” Художник Михайлов, сидя на низенькой скамеечке, торопливо зарисовывал бугристые выступы берега и скалы, как бы образующие бухту. — Никто, братец, никогда не видал эту землю и мог только помышлять о ней, — говорил Торсон. — А теперь — знай, наступит время, и придут к этой земле люди… — А сейчас, ваше благородие, нельзя… туда? — Ишь разохотился, — засмеялись стоявшие вокруг матросы. — А за этим берегом — может, еще берег? — спросил лейтенанта один из них, не зная о том, что именно этот вопрос задают себе и командиры экспедиции: “Остров это или материк?” Анохин стоял, сняв шапку, притихший и немного растерянный. — Вот она — земля! — бормотал он. — Потому и свет другой на воде, и трава морская наверху держится. Травы не видали, но Анохину верили и тоже удивлялись: — Просто, братцы, все. Наконец-то! — За труды нам то! Чего только не натерпелись! Лазарев перешел на “Восток”. У трапа встретил Беллинсгаузен, юношески подвижный, с черными кругами под глазами от бессонницы, стремительно расцеловал его, привел в кают-компанию, где уже собрались офицеры. — Берег ли перед нами? — спросил он. — Я называю эту землю берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезает за пределы нашего зрения. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имеют снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег сей обширен, или по крайней мере состоит не из той только части, которая находится перед глазами нашими. Надо считать, что сегодня мы достигли главного, к чему стремились. …Корабли ушли на восток, к Южной Шетландии. Верный уже принятому решению, Беллинсгаузен хотел обойти ее с южной стороны. “Идем к Смиту”, — смеялись моряки. Вновь открытые острова Беллинсгаузен и Лазарев назвали в память Отечественной войны: Смоленск, Малый Ярославец, Бородино, Березин. В кубрике матросы — участники битв с Наполеоном — вспоминали ратные дела под Бородино, под Смоленском. Южная земля стала явью. Сознание начинало привыкать к тому, что по праву к пустынным островам во льдах доходит слава Смоленская, Бородинская.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
У Южных Шетландских островов экспедиция встретилась с промысловыми судами американцев. Беллинсгаузен знал, что вслед за испанскими тюленебоями в эти места бить котика охотно шли моряки других стран, но все же удивился, насчитав здесь восемнадцать судов. Грязноватые с виду, с парусами, почерневшими от дыма и копоти, суда эти вытянулись в линию вдоль скалистой островной косы. На палубах были навалены какие-то бочки, не уместившиеся в трюме или забытые здесь нерадением капитанов; от кораблей несло запахом ворвани и паленых шкур, на реях сушились матросские рубахи, плащи, но корабли эти, видать по всему, хорошо обжитые и давно уж заменявшие матросам их домашний кров, были пугающе безлюдны. Немногих матросов увидали, проходя мимо, моряки “Востока” и “Мирного”, и трудно было определить, несли ли тут вахту. Оказалось, что команды кораблей на лодках заняты промыслом, а вахтенные спят или режутся в карты. Об этом сообщил Беллинсгаузену капитан-лейтенант Завадовский, выпытавший у одного из промышленников, на кого оставлены корабли. Птицелов, пособник Симонова в собирании коллекций, он увидел на этот раз возле чужого судна еще нигде не встреченного морского слона — большого тюленя с хоботам, так объяснил товарищам, — и, наблюдая за ним, познакомился с подплывшим сюда американцем. — Не вспугните! — кричал ему Завадовский, стоя в шлюпке. Черный хобот гигантского тюленя поднимался из воды, и сквозь мутную пелену брызг темнело глянцевитое, легкое в движении тело этого редкостного морского зверя. — Их тут много! — ответил матрос. — Здравствуйте, капитан. Неужели и русские пришли бить котика? — Котика? — протянул Завадовский, почти обиженно. Он знал, что каждого русского офицера промышленники склонны величать капитаном. — О, нет… Но послушайте-ка, — спохватился он. — Хороша ли охота? Кто у вас старший? И почему не видно на кораблях людей? — Старший? — повторил, размышляя, матрос. Он был очень юн, ребячливо весел и правил шлюпкой слихостью чем-то очень довольного человека. — Натаниэль Пальмер, из Стонингтона, в недавнем помощник капитана “Гарейния”, а теперь капитан бота “Герой”. Что касается охоты — она великолепна, сэр, мы будем богаты, а люди?.. Люди на работе, сэр, кроме тех, кто вчера немного “подгулял”… Матрос бесхитростно поведал капитан-лейтенанту о драках, которые бывают между промышленниками, и посоветовал искать вахтенных в трюме за игрой в карты. — Я просил передать этому Пальмеру приглашение посетить вас, — доложил Завадовский. И на следующее утро Натаниэль Пальмер явился. Перед Беллинсгаузеном стоял юноша, улыбающийся с той простодушной и немного озорной приветливостью, с которой встречают промышленники своих бывалых и старших собратьев по профессии. Ничто, кроме охоты на котиков, не интересовало, казалось, моряка и, узнав о цели экспедиции, он лишь бойко присвистнул и откровенно сказал: — Так ли важно, сэр, есть ли эта земля?.. Мест для охоты на котиков хватит, я думаю, и здесь… Нас не могут занимать подобные изыскания. Впрочем, Уильям Смит, может быть слышали, открыл в этих краях неизвестные раньше острова. И, разумеется, хотелось бы знать о богатствах Южной земли и как пройти к ней! Об открытии Смита, во многом случайном, Беллинсгаузену было известно из письма русского посла в Сиднее. Беллинсгаузену было неудобно сказать, что толкуют о соотечественнике Пальмера в Англии, приписывая ему открытие шестого материка, и как подшучивают моряки русской экспедиции: “Идем к Смиту”. Останавливало чувство слишком большого различия в интересах между ним, Беллинсгаузенам, и молодым промышленником, да и сама по себе манера Пальмера держаться по-свойски, с беззастенчивой откровенностью подсмеиваясь над “изысканиями”, не могла располагать к разговору. Беседа их невольно приобретала легкий и поверхностно-доброжелательный характер, и не шла дальше рассказов о погоде, условиях плавания и предложения со стороны Беллинсгаузена принять в подарок несколько бутылок рома да мешок крупы — такова благородная традиция делиться, по возможности, провиантскими запасами. Впрочем, Пальмер питал искреннее, хотя и немного недоуменное сочувствие к тем, кто, “отказавшись, по его мнению, от жизненных благ”, искал Южную землю. Глядя в сторону, откуда следовали русские моряки. Пальмер промолвил: — Вот он, уже не так далек — таинственный ледяной барьер, за который никто не попадал из смертных! Именно так писали в Англии “о тайнах ледяного барьера”, так говорили в школе, и теперь эти слова невольно вспомнились Пальмеру, возбуждая уважение к экспедиции. К этому примешивалось в этот час и другое: ожидание новых, как бы с неба упавших, богатств, новых тюленьих стойбищ, котиковых “островов”, которые может разведать на своем пути экспедиция. Тоном не очень уверенным и даже несколько смущенным он спросил, прощаясь с Беллинсгаузеном: — Вы не сможете, сэр, сообщить нам, хотя бы вернувшись в Англию, что встретите интересного для морской охоты?.. Он недоговорил. И вежливое молчание Беллинсгаузена уже принял за ответ. До того ли им — русским? Между тем, в трюмах их кораблей поместилось бы не меньше половины годовой добычи промышленников. Посматривая прижмурившись на высоту бортов “Мирного”, он не мог отделаться от чувства зависти и сожаления, что трюмы его, наверное, пусты! …Много лет спустя узнал Беллинсгаузен, что вмешательством каких-то сановников из американского адмиралтейства этой его встрече с Натаниэлем Пальмером придано совсем иное освещение. В библиотеку Конгресса в Вашингтоне торжественно передали судовой журнал бота “Герой”, на котором в 1820 году плавал Пальмер, и в этом журнале засвидетельствована встреча Беллинсгаузена в иное время и в иных обстоятельствах с… первооткрывателем Южного материка, названного Землей Пальмера. В школьном атласе Вудбриджа, выпущенном в Коннектикуте 28 сентября 1821 года, изображена эта земля. Некий биограф Пальмера Мартин повествовал немного позже о речи “седовласого командира” Беллинсгаузена, обращенной к Пальмеру, якобы сообщившему ему о своем открытии: “Что я вижу? Что я слышу от юноши, еще не достигнувшего двадцати лет! Он, командуя судном, величиной в мою шлюпку, уже достиг цели. Что я скажу моему августейшему повелителю? Что он будет думать обо мне? Будь что будет, но мое горе — ваша радость. Носите свои лавры и примите мои искренние пожелания блага. Открытую вами землю я называю в вашу честь, благородный юноша, Землей Пальмера…” Но в тот же день, отдалившись от Шетландских островов, Беллинсгаузен безудержно смеется, рассказывая на “Востоке” офицерам о разговоре с Пальмером. — Юн, не разумен, но и не заносчив! И только котики в мыслях! Только нажива! И ведь сам Смит тоже где-то здесь, на одном из кораблей. С таким, как Пальмер, неудобно и говорить о наших открытиях, с ним неудобно делиться пережитым, с ним можно только делиться шкурками котика… если бы мы их били. Горизонт, заволоченный низкими снежными тучами, предвещал бурю. Повернули на другой галс, но буря возникала и там. Порывы ветра сменились безветренной тишиной, поднявшаяся высокая зыбь бросала корабли из стороны в сторону, прижимала к островерхим каменным рифам. Стада китов, окружавших корабли, смягчали возле них начавшееся в море волненье, принимая удары волн на себя. Корабли двигались вслед за китами в завесе “китовых фонтанов”, пингвины громоздились на скалах белыми горами, плыли к кораблям. Еще пять островов, названные тут же именами Мордвинова, Михайлова, Шишкова, Рожнова и “Трех братьев”, довелось открыть экспедиции на своем пути. На “Востоке” лопались кницы и из трюма приходилось выкачивать помпами воду. Корабли шли к северу, к Южной Америке, возвращались в Россию, и теперь, казалось, они больше уже не могли бы противостоять льдам. Двухлетнее наблюдение за льдами побудило Новосильского в эти дни записать: “…Все льды можно разделить на следующие разряды: неподвижный ледяной берег или ледяная стена, отдельные ледяные острова, плоские и островершинные, ледяные поля, разбитый лед. Неподвижный высокий ледяной берег или ледяная стена, встречаемые за Полярным кругом, судя по их наружному виду и протяжению на многие десятки и даже сотни миль, очевидно, не могут составиться от холода в открытом море, а образуются на южном великом материке, от которого по разным причинам отламываются и потом ветром и течениями относятся в море на большее или меньшее от берега расстояние, представляя почти всегда мореплавателю непреодолимую преграду к достижению берега. Отдельные ледяные острова суть отломки от ледяного берега или от настоящих островов, что большею частью показывает самый их вид. Ледяные поля происходят от замерзания морской воды при морозе от 5 до 6° Реомюра. Сначала образуется сало, которое при случающейся большой стуже и тишине моря превращается в тонкий слой льда; от ветра слой этот разламывается в куски, которые опять смерзают; потом слои льда примерзают к встречающимся ледяным островам, которые и кажутся затертыми в ледяных полях. Сильные ветры, часто разрушая ледяные поля и громоздя отломки льда одни на другие, придают им эти странные формы, которые так часто поражают мореплавателей. Разбитый лед происходит от разбиваемых ветром и волнением ледяных полей и ледяных островов. Наконец, должно еще присовокупить, что множество разбитых полей и льда есть верный признак близости островов и земли, а достижение настоящей ледяной стены означает близость скрывающегося за ней южного материка!” Эти как будто нехитрые и обстоятельные наблюдения были первыми по своим выводам и, как бы утвердив обстановку произведенных экспедицией открытий, помогли науке — океанографии — на первых ее путях.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Живительно ярко небо в Рио-де-Жанейро. Таким кажется оно морякам с “Востока” и “Мирного”, вероятно, и потому, что переполнены их души высокой радостью совершенных открытий. И как странно, что надо скрывать эту радость. Но командир сказал: сообщение об открытиях — за Морским штабом! Астроном Симонов свозит на берег коллекции ракушек, рыб, замороженных во льду птиц. А носильщики несут к дому консула банки с рыбами столь же равнодушно, как и чемоданы частых здесь путешественников. На улицах несет гарью, то и дело попадаются обгорелые, поникшие деревья. Вдоль улиц расхаживают полицейские, один из них стоит на деревянных ходулях, чтобы лучше обозревать вокруг. Недавно в городе было восстание негров, отправляемых в рабство, в Северную Америку. В дневнике матроса Киселева о том записано: “Был в Анжинеро бунт, обыватели с войском”. В порту передавали, что какой-то старик негр ждал прихода русских кораблей, а потом примкнул к восставшим. В доме консула Григория Ивановича Лангсдорфа спущены портьеры на окнах. Больная жена консула, лежа на диване, подает Лазареву немощную, в ускользающих жилках руку и говорит слабеющим голосом: — Все странности! Все непостижимости! Вы ведь оттуда? Ей опостылела здешняя земля с ее гнилостным, а говорят меж тем, чудесным климатом, с суетой монахов, звоном колоколов и ожиданием кораблей. Ее муж в соседней комнате принимает Симонова, и больная слышит, как муж радостно восклицает: — Не может быть? Неужели вам удалось достать илистого прыгуна? Да, это он — глаза на лбу, весь белый. А это что? Какая-то яичная скорлупа… — В желудке альбатроса было, — слышится ответ Симонова. — Представьте себе, ведь уже по этой скорлупе мы могли судить о том, что земля близко. Где бы альбатрос взял пингвинье яйцо! — Стало быть, вторая Гренландия найдена, — восклицает Лангсдорф. — Вся во льдах! Ну да, она поит с ледников океан!.. — Пойдемте в гостиную, — тихо предлагает Лазареву жена консула. Михаил Петрович почтительно идет за ней. Придерживая рукой шлейф платья, она направилась к клавесину в углу и на ходу обронила: — А брат ваш тоже еще в поисках?.. — Он вернется позднее. Вестей от него не имею. — Я очень устала здесь, Михаил Петрович, и хочу в Россию, — говорит жена консула. — Когда собираетесь? — Боже мой! Вы спрашиваете? Да я же не могу, не по моему здоровью сейчас эта качка на кораблях. И притом же Григорий Иванович разводит здесь музеум — для потомков, для Академии. А теперь эти привезенные вами коллекции. Они так увлекают его! Лазарев молчит. Ему жаль ее. — Что вам сыграть? Хотите Моцарта? — спрашивает она, перебирая шелестящие, как сухие листья, ноты. Она играет, но вскоре, услыхав, как Григорий Иванович прощается с гостем, останавливается: — Мне ведь тоже надо проститься с ним. Вы извините меня, Михаил Петрович! Но разговор ее с Симоновым затягивается: он знает ее отца, он скорее, как ей кажется, может понять ее положение здесь… — Я ехал в Петербург увидеть новые астрономические приборы вашего отца, а попал в плаванье! — говорил ей Симонов. — Я боялся моря. Я привык к одному кругу людей может быть, как вы; патриархальная Казань приучила меня к медлительности жизни и кабинетному изучению естественных наук. Теперь меня… пробудило такими ветрами, что, право, я почувствовал себя иным человеком! И, знаете ли, сама прелесть жизни и ценность дружбы возросли в моих глазах… Даже Григория Ивановича, ходившего с Крузенштерном, я, кажется, больше понимаю, как и других русских людей, связавших себя с наукой и природой. А природа — это опасности жизни, мужество, долголетие, природа — это взгляд на жизнь, на людей на общество, а не только… на привезенного мною илистого прыгуна. Понимаете ли вы меня? — Вам бы только Жан-Жака Руссо читать! — не удержалась она и досадливо повела худенькими плечами. — Вам бы сюда навечно, а мне — в Петербург! Впрочем, вы в чем-то правы; я поняла моего мужа, только узнав эту его приверженность к природе, но узнав, заскучала… В этом его самоотречении от света — столько провинциальной безвкусицы! — Никакого самоотречения, уверяю вас, нет! — Ах, оставьте! — лениво протянула она. И совсем по-детски, как бы прося снисхождения, сказала: — Что женщине звезды и ваш звездный мир? Вы вспомните, конечно, о жене Рикорда? Ею столь восхищаются приезжие. Ну, что ж, тогда посылайте в калифорнийское заточенье всех нас… Я же безумно устала от одних этих речей. Каждый русский корабль, зашедший в Рио-де-Жанейро, доставляет мне таких, как вы… учителей жизни! — Простите, — смутился астроном. — Я отнюдь не хотел вас учить, я понимаю… — Ничего вы не понимаете! — перебила она. — Я просто устала сегодня больше, чем всегда. И шепнула, полузакрыв глаза, с дружеской доверчивостью глядя на гостя: — Знаете, так хочется на Невский! К обеду сходятся за столом в доме консула офицеры “Мирного” и “Востока”. Но теперь хозяйка дома приветлива, весела, и никто не догадается о ее недавнем разговоре с Симоновым. Она предлагает тост за отъезжающих моряков и с милой насмешливостью, забыв о своих горестях, — за новооткрытую ледовую землю, “куда бы, наверное, с удовольствием переселился ее муж”. …Корабли вышли в обратный путь, и вот оно — Саргассово море, темное, заполненное водорослями, влекущее в свою мертвую, еще не измеренную глубину. Когда-то суеверный страх наводило оно на спутников Колумба, гигантский омут, заселенный неведомыми морскими зверями. Они, как думали тогда ученые, срывают со дна траву, и стебли ее показываются на поверхности, запруживая пространство. Симонов просит остановиться, чтобы на шлюпке обследовать места этого травянистого залегания в море. К вечеру корабли снимаются с якорей, а Симонов уединяется с Беллинсгаузеном в его каюте. — А если эта трава не имеет корней и питается водой, не соприкасаясь с землей? — спрашивает Беллинсгаузен. — Вы нашли хоть где-нибудь признак поломки корневого стебля? — В этом случае вода в Саргассовом море сама по себе необыкновенна… Прикажите заполнить бочку этой водой, и по прибытии будем производить опыты! — говорит ученый. — Думаю же, что вы правы, трудно предположить что-нибудь иное. Саргассово море — одна из последних загадок на пути. Беллинсгаузен пишет на досуге гидрологическое описание его, думая порадовать Сарычева. Дня два уходят у него на составление докладной записки об экспедиции морскому Адмиралтейству. Но что сообщить в записке? Он присоединяет к ней и последнее свое, написанное в Сиднее и еще не посланное министру, письмо: “…Во время плавания нашего при беспрерывных туманах, мрачности и снеге, среди льдов шлюп “Мирный” всегда держался в соединении, чему по сие время примера не было, чтобы суда, плавающие столь долговременно при подобных погодах, — не разлучались. И потому поставляю долгом представить о таком неусыпном бдении лейтенанта Лазарева. При сем за долг поставляю донести, что в такое продолжительное время плавания, в столь суровом море, где беспрестанно существуют жестокие ветры, весь рангоут, равно палуба и снасти в целости!” На палубе “Мирного” людно. Матрос Киселев горестно допытывает товарищей: сможет ли он теперь сам выкупиться и выкупить из неволи свою невесту. Он мысленно подсчитывает заслуженные им за два года деньги. И хочется верить Киселеву, что не может теперь помещик не отпустить его на волю… Что-то ждет матросов, побывавших за всеми параллелями! В Копенгагене на верфях, как всегда, шумно. Край бухты, занятой яхтами, весь в парусах и похож на крытый базар. Как бы сцепившись мачтами, стеной стоят бриги. Неумолкаемый звон судовых колоколов, лязг железа и шум воды сливаются с гулким благовестом церквей. Гуляя по городу, офицеры прошли мимо дома, где жил сбежавший от них два года назад натуралист. Было забавно глядеть на его окна, хотелось подшутить, предложить ему еще раз отправиться… по следам Кука. Лазарева в день прихода сюда посетили знакомые ему мастера. — Откуда, капитан? — спрашивали они его. — Матросы твои говорят — с южного материка. Они смеются над нами! Видать, молодцы они у тебя, капитан! Ближе не плавают! “Мирный” был чист, наряден и никак, по их мнению, не был похож на корабль, ходивший столь далеко. Игнатьев и матрос Берников выходят иногда на палубу, радуясь возвращению и смутно помня пережитое ими… Они числятся в больных, и лекарь говорит, что только дома, на берегу, можно “спорить” с Игнатьевым и в спорах “лечить” его… Не поверит человек, да и не захочет верить, что был он… при открытии шестого материка. Не о нем ли говорит пословица: “Был на Иване Великом, а птицу не согнал”? На стоянке Лазарев во время разговора с Беллинсгаузеном спросил его: — Как, думаете, поведет себя морское министерство? Пошлет ли по следам нашим корабли, объявит ли странам?.. — Сам о том думаю, Михаил Петрович, — ответил Фаддей Фаддеевич. — Да что загадывать? Сами знаете, в море быть легче, чем при дворе!.. Только все содеянное нами никуда не уйдет, и дело наше не может не вызвать своих последователей и не повлиять на ход науки! А трудностей много предвижу. Господа иностранцы заволнуются… — Заволнуются, — весело подхватил Лазарев. — Еще бы: каково ныне русские ходят!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Корабли вернулись в Кронштадт и встали на рейде, на том же месте, откуда уходили два года назад. Было раннее утро. К причалу, разбуженные салютами пушек, бивших из крепости, спешили кронштадтцы. Андрей Лазарев стоял рядом с мастером Охтиным, среди офицеров и адмиралтейских чиновников, прибывших на встречу кораблей. — Брат писал мне, что корабль его похож на музей: столь много в нем всяких редкостей, коллекций и чучел, — говорил Андрей Лазарев мастеру. — Мать же во Владимире не дождется брата и боится, как бы снова не отправился в путь. И вот снова Михаил Петрович в сумеречном, холодном доме, вблизи храма Сампсона Странноприимца. Удивительно не меняется город! Тот же, чуть постаревший Паюсов перевозит его на лодке и допытывает, неужто обрели Южную землю. Лазарев знает, что нынче же будет перечерчена большая карта на стене в его доме, где сойдутся на отдыхе матросы “Мирного” — Май-Избай, Скукка, а с ними Анохин и Киселев. Михаилу Петровичу не собраться во Владимир, предстоит доклад у министра и в Адмиралтействе. Уже известно, что командир Кронштадтского порта, докладывая маркизу о вернувшихся на кораблях экспедиции матросах, не преминул сказать: — Люди гордости непомерной, успехом возвеличены, службу нести умеют, но ныне все почти на выкуп у помещиков просят, благо деньги имеют, и почитают себя за содеянное ими счастливейшими во всей стране. Министр кивал в ответ головой, словно он не сомневался в успехе этого плавания, и ничего не сказал, отложив дело до беседы с государем. Однако к награждениям представил: Михаила Петровича к званию капитана второго ранга, минуя звание капитан-лейтенанта, — случай на флоте редкостный! Ожидалось сообщение Адмиралтейства об открытиях экспедиции; моряки удивлялись неторопливости чиновников, все еще “изучавших материалы”… Михаил Лазарев не мог знать, что даже спустя пять лет, давнишний его знакомый и покровитель Голенищев-Кутузов, сетуя на чиновничью косность, в тревоге напишет министру: “Мореплаватели разных народов ежегодно простирают свои изыскания во всех несовершенно исследованных морях, и может случиться, — едва не случилось, что учиненное капитаном Беллинсгаузеном обретение, по неизвестности об оном, послужит к чести иностранцев, а не наших мореплавателей”. Довелось ему увидеть Лисянского, сидеть с ним в доме Крузенштерна. Но Лисянский не стал слушать его рассказа о путешествии, извинившись, признался: — Завидую вам, Михаил Петрович, и себя жалею, а правду сказать, и браню!.. Зачем в отставку вышел? Зачем помещиком стал? А мог ли я иначе, не щадя своего достоинства? И что теперь делать? — Он не договорил и ушел. Батарша Бадеев в это время сменял в доме Крузенштерна дворника. — Землю открыли? — допытывали его дворовые. Батарша, вновь представ в обычном своем облачении, спокойно отвечал: — Слава богу! …Матросов “Мирного” и “Востока” выстраивают на Александровской площади в Кронштадте, и седенький чиновник Адмиралтейства, поблескивая маленькими очками в золотой оправе и медалями, монотонно, как дьячок, читает о награждении экипажа экспедиции… Офицеров нет, он один со смутной робостью перед “бывальцами” должен во всех подробностях довести до “благодарного сознания нижних чинов” императорский указ. Бронзовая медаль, выпущенная в честь плавания “Мирного” и “Востока”, отпуск на год, оплата подорожных, выдача двух смен одежды, — это ли не забота об экипаже? А в порту старый обер-каптенармус — местный кронштадтский старожил и офицерский угодник, “вдохновенный денщик”, как прозвал его Охтин, — еще утром показал чиновнику вместе с ведомостями сложенные кем-то стишки: Что касается Земли, То какое во льдах счастье? Но, наверно, обрели Себе новые напасти… — Думаешь, начнут куражиться, — понял его чиновник, прочитав стишки, — осмелеют? — И тут же сказал, стряхивая табачную пыль с кургузого зеленого сюртучка. — Ничего, и не такие подвиги забываются! Конечно, понимать надо — царь на проводах был, при нем молебен служили. А встречал кто? Были ли кто-нибудь из свиты его величества? Не похоже, братец, чтобы люди эти в славу вошли. Из сражения возвращались, бывало, из небольшой перепалки на море — и то колокола звонили. А тут тебе ничего… …Был вечер. Осенний зеленоватый туман с Невки окутывал окна в квартире Лазарева, вялая тишина расползалась в кабинете, и серый, как паутина, сумрак слабо рассеивался светом зажженной толстой “никоновской” свечи. Ранние холода, а с ними и безотчетное ощущение домашней неустроенности, пришли с этой осенью. Гораздо бодрее Михаил Петрович чувствовал себя зимой, когда снегом искрилась Невка и с улицы доносился звон бубенцов. Тяжелые портьеры на окнах не защищали сейчас от сырости. К чучелам птиц, привезенным ранее, прибавились белые, выточенные Киселевым трости из акульего позвонка, поддерживающие прибитый к стене длинный китовый ус, а у стены, как страж, стоял королевский пингвин в рост человека. А между тем все это — одни забавы, обычная дань путешествию. Странное состояние охватывало Михаила Петровича, мешало работать. Он допускал, что по приезде в Петербург из памяти выветрятся многие эпизоды плавания. Жизнь, конечно, уведет в другую сторону. Но сейчас Лазарев мысленно вновь проделывал тот же путь к южному материку, с трудом удерживаясь, чтобы в отчетах не углубляться в ненужные морскому ведомству рассуждения. Все с большей ясностью представлялось ему теперь, что еще в январе корабли экспедиции в первый раз подошли к южному материку и стояли у ледового барьера. А может быть, надо было подойти к земле, подождав, пока тронутся льды? Михаил Петрович встал, прошелся по комнате, на какое-то мгновенье вновь отдавшись ощущению плаванья… Он опять находился на палубе, видел, как ветер срывает пену с волн, гнет паруса, а клубящаяся, белесоватая мгла провожает корабль, недавно оставивший покойную безымянную бухту в извилине теплого и как будто напоенного запахом лесов маслянистого моря… Потребовалось усилие воли, чтобы вернуться к работе. Снова сев за стол, Михаил Петрович долго не мог поймать нить прерванных мыслей, беспокойно макал пожелтевшее гусиное перо в чернильницу, отливающую бронзой, и вдруг почувствовал, что нестерпимо устал, и жаль — нет сестры, ее участливой нежности и пылкого, порой отрочески наивного любопытства к миру… Он устал от расспросов о плавании, но ей бы охотно рассказал. В углу кабинета стояла на невысоком постаменте модель парусника, когда-то облюбованного им, самого чудесного из всех кораблей, которые ему приходилось видеть. Это был клипер “Джемс Кук”, стригун, как его прозвали, стригущий макушки волн и даже в шторм не зарывающийся в волну носом. Лазарев погладил деревянную модель корабля, бережно потрогал крохотные мачты. В позе его, в движениях рук было столько сосредоточенной нежности, что если бы его сейчас увидела сестра, любившая наблюдать за ним, она наверное решила бы, что он любуется каким-то произведением искусства. Оно так и было. Чья-то мысль вложила в конструкцию этого парусника изумительно точные расчеты, равные по находчивости строительному гению архитектора. Корабль был легок, стремителен, устойчив и совсем “не тянул за собой воду”. Лазареву захотелось посетить художника Михайлова. Он вспомнил, что на днях открылась выставка его рисунков в зале Академии художеств. Михаил Петрович задумался. Тревога о том, как примут в обществе известие о результатах экспедиции, сменилась в нем тревогой об ее участниках. Сейчас, сидя у модели парусника, сутулый, с набрякшими, усталыми глазами, размышлял о том, вправе ли он упускать из виду матросов, ходивших с ним? Головнин, бывало, своих матросов, уволенных по окончании службы, сам пристраивал к делу. Матросы же “Мирного” и “Востока” делают честь флоту, но о том новом, что ввел он, Лазарев, не скажешь Адмиралтейству. Была уже полночь, когда Михаил Петрович опять сел за упорно недававшиеся ему отчеты. Покончив с работой, он начал разбирать большую пачку поступивших за два года журналов. Были среди них и новые, выходящие в столице только с этого года. Среди подписчиков “Невского зрителя” он нашел и свою фамилию. В “новом магазине естественной истории” внимание его привлекла статья о климатах. Автор ее еще не знал о том, что принесла экспедиция в науку. Лазарев читал и сам проникался сознанием того, сколь много книг из вышедших за последнее время следует ему изучить. Он решил завтра же зайти в Публичную библиотеку и оттуда — к Михайлову. Денщик спал, посапывая в каморке возле кухни, и Михаил Петрович сам постелил себе на диване. Кроватей он не терпел, спальни в квартире не было. Отсыревшее одеяло хранило запахи мха и книжной пыли. Лазарев накинул поверх одеяла шинель, разделся, задул свечу и лег, качнув неловким движением чучело королевского пингвина.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
После двух лет плаванья было особенно приятно идти по Невскому, приглядываясь ко всему, что изменилось в столице. Казанский собор был давно закончен, множество приезжих рассматривало здание, воздвигнутое Воронихиным. Михаил Петрович долго стоял в толпе. Начал ходить дилижанс между Москвой и Петербургом. Лазарев не мог без улыбки смотреть на пышнобородого кондуктора, истошно трубившего в рог с высоты своего сиденья. Возы с кирпичом преградили дилижансу дорогу, они шли вереницей в Царское Село, где сгорела часть дворца, и впереди возов ехали для порядка два кирасира. На углу рушили трактир, поспешно снимали со стены громадную вывеску “Капернаум” и выволакивали из помещения какие-то бочки. Было объявлено, что по высочайше утвержденному положению лишь пятьдесят трактиров разрешено содержать в городе, а те, что на Невском, перевести на Васильевский остров. В осуждение этого положения говорили: в столице заводят больше роскоши, чем удобств! Возле печальной памяти трактира “Капернаум” стояла толпа его завсегдатаев; плиссовые шапки мелькали вместе со студенческими фуражками и запыленными “котелками”, а подальше в строгом порядке тянулась очередь куда-то во двор, охраняемый городовым. Оказалось — здесь клеймили весы, гири и аршины, любые “измерения мер”, принесенные сюда в узлах или подвезенные возчиком. И это было новшеством в Петербурге, гласным контролем над торгашьей совестью. Во избавление от скуки во дворе играла шарманка, и продавец ваксы, положив свой короб на мостовую, рьяно начищал ботинки какому-то чиновнику, ползая у него в ногах. Лазарев остановился, усмехнувшись: чего не увидишь в Петербурге, кругом контрасты! Он вспомнил, как удивился, когда, подходя на “Мирном” к устью Невы, заметил на берегу юрты мезенских рыбаков и возле них оленей… Будто жители Лапландии осели в царском граде! Какой-то чиновник в толпе толковал по поводу новых порядков: — Слишком много у нас было провинциального и, если хотите, московского! Лазарев пошел дальше и вскоре приблизился к зданию Публичной библиотеки. Он вошел в главный вход и попросил служителя проводить его к библиотекарю. — Идемте, батюшка-читатель! — воркующим голосом сказал служитель и повел Михаила Петровича в темную глубину коридора. Дежурными библиотекарями были в этот день баснописец Крылов и автор грамматики Востоков. Какой-то старичок в передничке, в тюлевом чепчике с рожками на лысинке встретил Михаила Петровича и отвел в комнату, где принимали библиотекари. Заикающийся Востоков первый поднялся к гостю, невнятно представил ему баснописца и поспешил удалиться: он остерегался разговоров. Крылов сонливо оглядел моряка, прищурился, чуть покачиваясь, весь какой-то грузный, мягкий, похожий на шар, спросил: — Бестужева, небось, хотите прочесть? Почему именно Бестужев пришел ему на ум, Михаил Петрович догадаться не мог. Наклонившись, он учтиво попросил показать новые английские книги по мореходству и, несколько смешавшись, назвал некоторые, не главные из них. Но баснописец интересовался посетителем больше, чем названными им книгами, и был, казалось, в явной обиде за Бестужева. — А Бестужева читали? — допытывался он. — Нет, не приходилось… — Как же вы, сударь, о своем морском и не осведомлены? — Да я в плаваньи был два года. — Позвольте фамилию. Я что-то не расслышал. — Лазарев Михаил Петрович. — Да вы, батенька, не ледовую ли эту землю искать ходили? — Совершенно верно. — Ну и есть эта земля? — затормошил его Крылов, ухватив пухлой рукой посеребренную пуговицу мундира. — Есть! — не мог не улыбнуться его неожиданной горячности Лазарев. — Так! — взгляд Крылова посветлел, баснописец весь как-то притих и наверное снял бы шляпу в смятении чувств, если бы она была на голове. Лазарев ждал, пока он заговорит, вопросительно глядел на старика. — Сядемте! — предложил Крылов, подводя его к креслу. — Мир-то больше становится! Вот и еще, благодарение богу, есть где трудиться потомкам. Стало быть, неправ был английский мореход? — Неправ. — Ну и что вы оттуда привезли, позвольте узнать, с этой земли? — Чучела птиц, всякие коллекции, но главное… больше ста счастливцев, разумею команду кораблей, тех, кто достиг материка. Крылов его понял: — Может быть, это и главное! — согласился он. И опять всполошился, вскидывая на Лазарева взгляд живых, насмешливых, теперь уже лишенных какой-либо сонливости глаз. — А кто знает обо всем этом? Лазарев рассказал ему о готовящихся отчетах и о выставке рисунков художника Михайлова, которая открылась в Академии. — Идемте! — стремительно поднялся Крылов. — Куда? — удивился Михаил Петрович. — В Академию. Впрочем, извините, вы найдите себе книги, и наш слуга принесет их вам. Сейчас я распоряжусь. Полутемная, со спущенными шторками, карета, похожая на возок, вскоре повезла их на Васильевский остров. Баснописец, казалось, задремал, как только опустился на подушки, но Лазарев знал, что, сосредоточившись, он размышляет об услышанном. В Академии художеств Крылов по-хозяйски, без церемонности и с неожиданной придирчивостью к мастерству художника долго ходил вдоль выставленных на каких-то мольбертах рисунков. В зале было пусто и холодно, неяркий солнечный свет матовыми отблесками скользил по стенам и освещал скрытые в нишах полуразбитые гипсовые статуи римских богов. Рисунки Михайлова сами по себе требовали другой обстановки выставочного зала и, казалось, вытесняли богов. Лазарев смотрел на них не отрываясь. Эти рисунки воскрешали двухлетний поход в страну чудес и опасностей; перед взором Лазарева проходили картины экспедиции. И то, что не было ясно и не находило выражения ночью, когда он писал отчет, теперь вдруг возникло во всем значении для России, для науки. Крылов тоже с интересом рассматривал рисунки. Южное полярное сияние в изображении Михайлова напомнило Крылову сцену из апокалипсиса, уводило в мрачный мир хаоса и первоздания, а остров Завадовского привлекал взор обманчивый обжитостью и каким-то покоем, который не мог нарушить вид клубящегося вулкана. Портреты людей, встреченных экспедицией в Новой Зеландии, не походили на те воинственно и преувеличенно дикие образы туземцев, которые приходилось видеть Лазареву и Крылову в досужих перерисовках с неизвестного оригинала. Крылов улыбался: диковинная птица “принц-регент” казалась ему чем-то похожей на сороку. Он чувствовал, что художник отнюдь не увлекается необычностью увиденного им, а, наоборот, ищет во всем обычной схожести с известным, земным и по-земному притягательным. Крылов улыбался, думая о том, что рисунки передают, должно быть, и самый дух экспедиции, а Михайлов тревожился. — Зачем вы его привезли? — шепнул он Михаилу Петровичу, следя за баснописцем. — Привез он меня, а не я его. Я даже не имел чести быть с ним знакомым, — также тихо ответил Лазарев. И спросил: — Симонова не видели? Он как будто вернулся в Казань. — Уехал, — подтвердил Михайлов, — и знаете, Михаил Петрович, вернулся он туда на свою беду. Ведь новый управляющий Казанским учебным округом Магницкий приказал похоронить университетский анатомический кабинет, закрыть его, и все скелеты уже свезены на кладбище… — Может ли это быть? Лазарев тут же подошел к Крылову и передал ему сообщенное Михайловым. Крылов не удивился, он, оказывается, знал Магницкого. Он что-то записал карандашом на манжете, выползавшей из рукава, и ворчливо сказал: — “Не больше ли вреда, чем пользы от науки?” Так думает не один Магницкий. И так, кстати говоря, могут думать некоторые, узнав о содеянном вами в экспедиции. А рисунки эти печатать надо, сударь, печатать, и немедленно! Эти его слова слышал Михайлов. Он переглянулся с Михаилом Петровичем и потупился, скрывая радость. Обоим им казалось сейчас, что глазами Крылова смотрит на труды экспедиции вся просвещенная Россия. …Анохин, вернувшись домой, собрал в своем доме стариков из деревни. — “Зуек” приглашает! — важно сообщали дети, заходя из дома в дом. Он встретил их, одетый в парадную матросскую форму, с медалью на груди, низко поклонился: — Благословите! Корабль строить хочу. Один не могу. Всем селом надо! Деньги есть, но денег не хватит!.. — Что ты, “Зуек”, опомнись? Какой корабль? — ласково сказал один из рыбаков. — Ну, ходил ты в плаванье, ну, нажил деньгу, повзрослел, вижу, что ж с того? — Экий промышленник! — в тон рыбаку, с мягким укором промолвили другие, рассаживаясь вокруг праздничного стола. — Матрос ты или уже капитан? Расскажи-ка лучше нам об этом новом материке. — Ничего не скажу, пока не благословите! — Да что ты, Данилка, ополоумел? Какой корабль хочешь строить? — “Мирным” назову. — Зачем тебе? По обычаю, который здесь блюли, заложить и построить рыболовную шхуну рыбак мог лишь в пожилых годах и с разрешения стариков, но не “зуйку” же просить об этом!.. — Рыбачить, а если будет можно, в дальние моря ходить. Может, в Рио-де-Жанейро пойду… — Что там делать и с кем? — все более изумлялись старики. — Матросы будут! И пассажиры найдутся! — Данилка счастливо улыбнулся и повторил: — В море хочу! Под морем понимал он теперь весь свет. — Вот что, Данилка, — решил старший из рыбаков-гостей в его холостяцком доме, — расскажешь нам о том, где бывал, что делал и сколько денег привез, а тогда посчитаем, что к твоим деньгам прибавить, какой совет дать. Беседа шла всю ночь. Говорили потом, будто в доме “зуйка” утром были здешние лоцмана и приезжие шведы. А через несколько дней дети разнесли по селу весть: “зуек” в годовом отпуску от царя и строит свою шхуну. Денег одолжили ему лоцмана, а шведы покупали у него медаль, но не сторговались в цене! Просил “зуек” за свою медаль… полный корабль от шведов со всем корабельным снаряжением! Весть эту проверить не удалось, но корабль “зуек” строил, назвав его, однако, как передавали, не “Мирным”, а “Обретением счастья”. Узнал он о судьбе своих товарищей, звал к себе Май-Избая, писал ему. Май-Избай, приехав в деревню, сейчас же направился к барину. Помещик был болен, недавно проигрался соседу и теперь через управителя своего передал матросу: — Оброчные деньги оставь, а сам приходи порассказать о виденном через месяц… — Оброчные? — удивился Май-Избай. — Деньги мне и медаль на военной службе выдали, а теперь отпуск у меня на год. — Что ты, дурак, делать будешь целый год и, если бы не послал тебя барин на флот, откуда взял бы эти деньги? — разгневался управитель. — Что ж, денег, извольте, половину дам, — согласился матрос, — коли в счет оброка они, a что делать буду, — в город уйду, в Петербург. — На оброк, стало быть? Это ладно! — Нет, учиться… Сам буду жить в столице, на себя… Год у меня! Мое время! Управитель в недоумении покачал головой. Местный исправник вскоре писал губернатору: “Трое матросов у нас к делу не определены, во всем вольны, деньгами богаты, — смута от них и беспокойство!” Май-Избай же нанялся в Кронштадте к мастеру Охтину учиться делу и изумлял его домочадцев рассказами о Южной земле. О помещике своем он заявил мастеру: — Денег я ему дал, но чести моей не отдам, отслужу свое и откуплюсь! Для этого должен я сам стать мастером! — И обещал в письме к Анохину прибыть в Архангельск. …Матрос Киселев вскоре приехал домой в деревню Нижнюю Ольховку, на берегу речки Голубянки, неподалеку от тех мест, где бродили мастер Охтин и Андрей Лазарев в поисках корабельного леса. Дарья шла за женихом, прикрыв полушалком лицо, и можно было подумать, что из дальних земель привел с собой матрос невесту. К деревне уже подступало аракчеевское военное поселение, прозванное здесь каталажкой. Желтые заборы виднелись за околицей, и осень как бы угождала желтизной палых листьев этому прискучившему здесь казенному цвету. На следующий день после того, как вернулся домой матрос и забылась Дарья в кратком, как сон, счастье, в деревню явился волостной староста. — Жена твоя беглая! — строго оказал он Киселеву. — Не по закону живет, а ныне и ты, небось, мужиков смущаешь… Записался ли в поселение, матрос? Тебе бы первому, придя с царевой службы, пример подать! Что в свою пользу сказать имеешь? — Награду имею! — указал Киселев на бронзовую медаль, полученную им в честь плавания шлюпов “Восток” и “Мирный”. — И кроме награды этой, ваше благородие, имею личное разрешение командира Кронштадтского порта год отпуска получить на устройство домашних дел. За год, сами знаете, ваше благородие, ко всему приглядишься, обо всем раздумаешь. — Год отпуска! За какие это, братец, заслуги? Ведь не жилую, слыхал я, землю вы открывать ходили. Ничего на ней не растет… Сказав так, он продолжал, хмуро косясь на притихших мужиков: — Отвагу твою достойно наградили, матрос. О разуме же твоем и прилежании кому, как не нам, печься? Отважные и средь смутьянов найдутся. Что тебе медаль и что тебе та ледовая земля, если будешь у нас в немилости! — Знамо, вы там не были! — спокойно, с чувством своего превосходства ответил Киселев. — Обидеть хотите, ваше степенство! — Экая, подумаешь, обида! — сказал кто-то. — Он не меня обидел, он дело наше обидел. Господину Лазареву в заслуженной нами чести отказал, — не повышая голоса и глядя в лицо волостному, сказал Киселев. — Ох, будь же ты неладен! — устало прервал вдруг разговор волостной и уехал. На другой день в мшистой старенькой церковенке священник наскоро обвенчал матроса Киселева с Дарьей, и вскоре Киселев с молодой женой уехал обратно в Кронштадт. Но беседы его о новой земле, открытой русскими, о лейтенанте Лазареве вошли в нехитрые сказы окрестных крестьян. Стали вспоминать, где на больших и малых реках вблизи Голубянки строили челны по заказу Петра, где жили лучшие весельные мастера и сколько их ушло на морскую службу. Ушедшие были людьми необычной судьбы: иные побывали в “компанейских землях”. Молва донесла потом в губернию сказ о матросе, ходившем в самые дальние края. В казанском отделении императорского географического общества читали “Сказ о матросе — мастере на все руки, побывавшем там, где никто до него не был”. Молва не украсила домыслом чудесного путешествия, но забыла помянуть фамилию матроса, оставшегося безымянным. В Казани же, в университете, держал вскоре речь перед студентами и преподавателями сподвижник ольховского матроса, профессор астрономии Симонов, и речь его, названная “Словом”, была услышана всеми, кто ждал вестей об экспедиции к Южному полюсу: — Найдена матерая земля у Южного полюса, найдена командой русских кораблей, русскими людьми. Рвением и упорством их открыты не только новые пути к Южному полярному кругу, но и новые пути в науке. Большое было счастье, — говорил, возвышая голос, ученый, — разделять труды и опасности одного из знаменитейших наших путешествий. Мы подняли якоря, и к странам неведомым понесло нас рвение наше быть полезными отечеству и просвещению. Опасности беспрерывно сопутствовали нам. Скитались мы во мраке туманов, хлад, снег, льды, жестокие бури не переставали угрожать нам. Во многих местах углубились мы далее и далее мореходца Кука, открыв множество новых островов, сделав множество полезных наблюдений, обогативши музеумы наши неизвестными произведениями природы, царства ископаемого и царства животного. На заснеженной улице вокруг университетского здания стояли в ряд кареты и извозчичьи пролетки. Бил колокол соборной звонницы, и галочьи стаи, темня край неба, носились вокруг. — Подвиг “Востока” и” “Мирного”, — продолжал свое “Слово” профессор, — принадлежит к числу деяний, совершаемых людьми отважными, верными своей цели, благу и славе отечества. Пусть же призванные к новым подвигам потомки наши умножат добрую славу сих двух российских кораблей!.. А во Владимире сестра в нетерпении ждала Михаила Петровича и с того дня, как вернулся он, каждый месяц получала от него и читала матери скупые письма. Он извещал, что не может наведаться во Владимир, замучили отчеты по экспедиции, и трудно обещать, когда кончатся адмиралтейские его мытарства. Мать печалилась, но было ей все еще невдомек, откуда вернулся сын и о каком открытии еговосторженно говорит Маша. Сад распускался и отцветал, все более клонясь к холму, к церквушке, как бы вырываясь на городской простор, но брата все не было… В городе говорили всякое, передавали о новой земле, открытой славным их земляком, — необетованной, ледовой и… южной. Наедине, читая петербургские журналы и вспоминая месяцы, проведенные с братом в столице, Маша наткнулась на фразу во “Всемирном путешественнике”, показавшуюся ей изречением, и задумалась над ней. А было там написано: “Не дивись, путник, храмам иноземным, роскоши и нравам людским, морям и долам, а дивись переменам, происшедшим в сердце твоем и силе, тобой обретенной”.

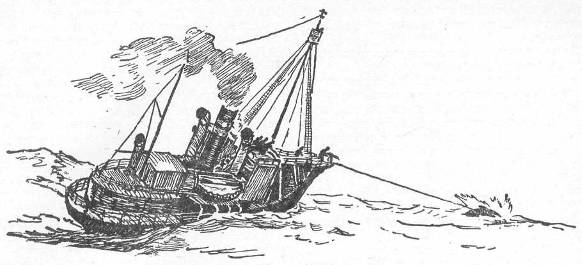
О. Эрберг ЮБИЛЕЙНЫЙ КИТ
Китобойное судно «Пассат» отстаивалось в бухте острова Сикотан по причине густого тумана. Уже в течение двух суток туман окутывал остров плотным покровом. Маленькая бухта, окруженная горами, с узким скалистым выходом в океан, стала походить на котел, наполненный парным молоком. В этой непроницаемой мгле штурман Зарва возвращался на борт судна. Он продвигался на шлюпке почти ощупью вдоль протянутого с берега брезентового шланга, по которому судно принимало пресную воду. Матрос, сидевший на веслах, греб с усилием: на дне шлюпки лежали два тяжелых гарпуна с высеченными на них надписями «Пассат». Гарпуны были извлечены из тела кита-сейвала на разделочной площадке китового комбината, и за время простоя судна их успели выпрямить в кузнице. Со стороны причала тянуло зловонием. В эти дни буксирный катер не отваживался выходить из бухты, чтобы увести в открытое море кунгас, нагруженный внутренностями сейвала, и выбросить их за борт. И китовые внутренности быстро разлагались в теплом, сыром воздухе. Поднявшись по штормтрапу на корму судна, Зарва тотчас же направился к капитану. Он нашел его в каюте за чтением. Дневной свет просачивался через иллюминаторы молочной мутью, и казалось, будто в иллюминаторы вставлены матовые стекла. Яркая электрическая лампа еще не гасилась с ночи. Капитан закрыл книгу, заложив между страницами зуб кашалота, и предложил штурману подсесть к столу. Як вам, Алексей Алексеевич… — сгоряча начал Зарва, но сразу же умолк, подбирая нужные слова. Знаю, Петр Андреевич, знаю все, что вы сейчас выложите, — воспользовавшись паузой, сказал капитан. Он протянул ему радиограмму. Оба они глядели друг на друга с упорством, словно затеяли игру, кто дольше выдержит взгляд. Капитан Григоров был хозяин судна. Зарва распоряжался лишь гарпунной пушкой. Зарва брил не только лицо, но и голову, как многие лысеющие мужчины, и от этого его крутой лоб казался еще более выпуклым. Григоров, напротив, отпускал бороду и усы, как многие моряки Курильской китобойной флотилии. — Прочтите, — заговорил капитан, первым отводя в сторону взгляд. — Я запрашивал «Циклон» об охоте. Зарва молча прочел: «Не до китов. Ищу свободное от тумана место». — А «Дельфин», — продолжал капитан, — уже десятый день, как вошел в пролив Буссоль и не может никак определиться, находится ли в Тихом океане или в Охотском море.
Зарва положил на стол радиограмму и прихлопнул ее ладонью. Туман туманом, Алексей Алексеевич, — сказал он, — а дело в нас самих… Если будем прятаться по ковшам да ждать, пока разойдутся туманы, то лучше и вовсе не открывать промысла на Курилах: туманы непременно нас переждут. А ведь до начала осенних штормов нам нужно взять сотню китов… И возьмем, — вставил капитан. Прищурив левый глаз, он добавил: — Конечно, если вы не станете пренебрегать кашалотами. Зарва поднялся из-за стола. Разумеется, — сказал он, — кашалотов убивать значительно легче, чем усатых китов. И если бы я был только гарпунером, то набил бы этих зубатых, как глухарей на току. Но ведь вам-то известно, что я еще и учитель… И задача, которая стоит передо мной, может быть, поважней, чем добыть лишнего кита. До осени нужно подготовить из восьми молодцов-артиллеристов отличных гарпунеров для китобойной флотилии «Слава». А там, в Антарктике, кашалоты — редкие гости… Вот поэтому я и должен учить их охоте прежде всего на усатых китов… Да вы присядьте, Петр Андреевич, — сказал капитан, разглаживая свою бороду и задирая ее ладонью кверху. — Все это мне известно так же хорошо, как и то, что я ни разу не чинил никаких помех в ваших занятиях, хотя… за исход путины отвечать придется прежде всего мне. — Последние слова он произнес улыбаясь. — В таком случае, с каким же предложением вы пожаловали ко мне? — Я пришел не для того, чтобы указывать вам, Алексей Алексеевич, — заговорил Зарва, не присаживаясь и отставляя от себя стул, — но на вашем месте я не стоял бы здесь на якоре, посреди бухты, а лежал бы в дрейфе где-нибудь в открытом океане, чтобы использовать для охоты каждый час просветления от тумана. Зарва кинул взгляд на книгу, отложенную капитаном. На ее обложке была изображена цветочная клумба перед фасадом деревенского домика. Вам, Алексей Алексеевич, — продолжал он, искусственно улыбаясь, — эта бухта кажется тоже недостаточно тихой. Вам, я вижу, нужна еще более тихая пристань. Ну что ж, желаю успешно причалить к ней. Душистый горошек разводить куда легче, чем охотиться на китов. Наступит время, и все мы причалим к этой пристани, — размеренно произнес капитан. Казалось, ничто не могло лишить его прочного спокойствия. — Что же прикажете делать тогда старому капитану, списавшемуся на берег? Не толкаться же по портовым конторам? Вот я и думаю когда-нибудь поставить себе такой домик на вечный якорь. — Он ткнул пальцем в рисунок на обложке книги. — Приезжайте тогда ко мне, будем вместе разводить душистый горошек. А что до разных удобрений, то к тому времени я приобрету солидные познания: чилийскую селитру не спутаю с морской солью. Но Зарва не слушал капитана. Он был уже занят другими мыслями и собирался выйти из каюты. У двери он задержался: — Я согласен с вами, Алексей Алексеевич, только в одном: в плохую погоду из всех китов, пожалуй, проще всего охотиться на кашалотов. И если бы мы находились сейчас в океане, я прервал бы занятия с учениками и сам стал бы у пушки. Кстати… — Зарва остановился и потом продолжал, слегка запинаясь: — В эти дни у меня было достаточно времени, чтобы заняться личными делами. Так вот, я подсчитал, что за все годы охоты на моем личном счете значится ровно тысяча китов. — Он сделал паузу. — Если вы отдадите приказание сняться с якоря, я сегодня же открою счет второй тысячи… не глядя на туман. На следующее утро туман начал рассеиваться так же быстро, как и пришел. Сначала очистилось небо, и клочья тумана, разгоняемые ветром, повисли над бухтой низкими облаками, цепляясь за вершину вулкана. Потом прояснились горные склоны, и зазеленела на них омытая трава. Разбросанные по склонам карликовые пихты отливали темной синевой, и повсюду мелькали искрами лиловые ирисы и желтые лилии. Последние остатки тумана ушли в океан через узкую горловину, и тогда открылось округлое очертание всей бухты с прозрачной водой, отражавшей голубовато-зеленое утреннее небо. Почти у самой пенистой черты прибоя серебрилась морская полынь, а за ней вставали густые заросли бамбука. За деревянными строениями китового комбината дымила узкая, высокая труба. Было видно, как из шлангов отмывали разделочную площадку. Возле кунгаса, нагруженного китовыми отбросами, сидели на воде и летали вокруг чайки. Вороны побаивались чаек и держались от них в сторонке. Они изредка покидали пихты, чтобы унести с кунгаса куски падали. В этот ранний час капитан приказал сняться с якоря, и время завтрака наступило, когда «Пассат» уже находился в открытом океане. Здесь еще местами держался туман, прижимаясь к воде. Тяжело и неторопливо вздымалась мертвая зыбь. Груша электрического звонка в кают-компании, спускавшаяся на шнурке с потолка, мерно покачивалась, как-бы подчеркивая бортовую качку. Буфетчица подала к завтраку оладьи, жаренные на китовом жире, с абрикосовым вареньем. Слух о том, что Зарва намерен сегодня сам стать у гарпунной пушки и застрелить тысяча первого кита, облетел уже весь экипаж судна, и буфетчица, у которой обычно нельзя было вытянуть слова, разливая чай, неожиданно заговорила: — Повар потребовал принести на камбуз пятнадцать банок сгущенного молока. Он хочет приготовить торт с кремом для всей команды, если Петр Андреевич добудет сегодня кита. Никто не ожидал от молчаливой девушки такой многословной речи. Но больше всего, вероятно, она произвела впечатление на старшего помощника капитана, Спиридопа Севастьяновича, потому что он тотчас же поднялся со своего кресла и потребовал общего внимания. — Товарищи! — сказал он, разглаживая ладонями скатерть и устремив взгляд на Зарву, сидевшего в конце стола. — Товарищи! Нет того моря или океана, где бы мне не пришлось побывать за свою жизнь. На двух морях и в одном океане я тонул… Короче говоря, товарищи, я думал, что состарился на море. Да, так я думал до этого года, пока не поступил на китобойное судно. — Он провел рукой по стриженой седой голове. — И вот здесь-то выяснилось, что я не только не состарился, но с каждым днем молодею. И, помогая Петру Андреевичу охотиться на китов, я волнуюсь за удачу охоты, как двенадцатилетний мальчишка — за исход футбольного матча. У меня даже начинаются сердечные перебои. Капитан говорит, что это от перерождения сердца и что нужно обязательно показаться на берегу врачу. Капитан прав: сердце у меня действительно переродилось. Но врач непременно ошибется, если назовет это старческим перерождением… — В этот миг судно сильно накренило на правый борт, и из носика переполненного чайника брызнула ему на руку струйка кипятка. Он обернулся к буфетчице. — Уже скоро год, Люба, как вы плаваете на море, — строго сказал он ей, — а еще не знаете, что во время бортовой качки чайник нужно всегда поворачивать по килю судна. — Взяв за носик, он повернул чайник и продолжал: — Итак, сегодня мы будем свидетелями, как Петр Андреевич к своей тысяче китов прибавит еще одного… — А может, и больше, — вставил со смехом старший механик. — Как повезет. Тут послышались быстрые шаги, сбегавшие по трапу, и в дверях кают-компании показался вахтенный матрос, молодой паренек из школы юнг. — Справа по носу, — доложил он Зарве, — бочковой заметил четыре фонтана в двух милях от судна. Я тоже видел! Четыре! Простым глазом видно… Зарва поднялся из-за стола. Все остальные, не допив чая, шумно повскакали с мест и заторопились к выходу. Буфетчица Люба выбежала вслед, быстро задвигая дверь в буфетную и второпях прищемив себе палец.
* * *
На носу судна у гарпунной пушки уже собрались ученики Зарвы. По порядку очереди весь сегодняшний день охоты принадлежал комсомольцу Петру Кузнецову. И хотя все знали, что сегодня Зарва сам встанет у пушки, однако Кузнецов никому не уступал своего права распоряжаться пушкой до его прихода. У сталинградца Кузнецова были волнистые белокурые волосы, как у настоящего волжанина, и отпускал он рыжеватую бородку. Весь его худощавый облик не вязался с установившимся представлением о коренастой фигуре гарпунера. Кузнецов уже проверил глицериновую смазку пушки и теперь был занят набивкой гильзы. Боцман Лазарев тем временем заканчивал снаряжение гарпуна. Он был старшим из учеников Зарвы: ему минуло тридцать лет. Пушистые русые усы, вытянутые прямой чертой, как бы подводили на лице итог его годам. Он недавно демобилизовался из Военно-Морского Флота, в нем была еще крепка воинская подтянутость. Зарва ценил его острую наблюдательность, знание повадки китов и умение маневрировать при подходе к ним. Лазарев при помощи Кузнецова с трудом поднял гарпун и вставил его в жерло короткоствольной пушки Потом он навинтил на него взрывную гранату в виде чугунного наконечника, походившего на острие пики. Все приготовления уже были закончены, когда на носу появился Зарва, одетый в ватную куртку и кожаный шлем с поднятыми меховыми наушниками. Капитан взял курс на показавшиеся фонтаны. С началом охоты командование судном переходило к Зарве, но капитан никогда не покидал мостика или штурвальной рубки, согласуя действия гарпунера с машинным отделением и наблюдая охоту до наступления сумерек. Небо заволакивало облаками. Океан посерел, словно в него добавили свинцовых белил. Теперь на его белесой поверхности фонтаны, выбрасываемые китами, стали почти незаметными. Зарва долго и пристально вглядывался в горизонт. — Фонтаны прямо по носу! — закричал с мачты бочковой, наблюдавший в бинокль. — Фонтаны косые! Кашалоты! Тогда Зарва стал тоже глядеть в бинокль, но вскоре опустил его и по переходному мостику направился к штурвальной рубке. На крыле мостика встретил его капитан. Вам повезло, Петр Андреевич! (Зарва молча подошел к нему.) Сейчас вы откроете счет второй тысячи, — с довольной улыбкой сказал капитан. — Они все время держатся на поверхности. Да, — сказал Зарва, — они будут лежать так, пока мы не толкнем кого-нибудь из них форштевнем. Вот и отлично, — подхватил капитан — Двоих-то наверняка доставим сегодня на Сикотан. Можно и всех четырех, — сказал Зарва, — если охотнику позволит совесть… Вы, конечно, сошли уже с курса? Да. На пятнадцать градусов. Тогда ложитесь на прежний курс. Не понимаю я вас, Петр Андреевич… Вы, следовательно, отказываетесь стрелять в кашалотов? Нет. В этих не хочу… Вы же обещали в плохую погоду охотиться на кашалотов. Выполнение плана… Простите, Алексей Алексеевич, но я не могу этого сделать. Значит, вы отказываетесь от охоты? Но ведь это не охота… Поглядите внимательней! Это будет избиение… Они сонные! А я — охотник и лежачих не бью… Да и какой я дам пример ученикам! Сегодня я подкрадусь к спящим, завтра убью гренландского кита, несмотря на то что он под защитой закона — ведь из усатых китов его проще всех бить, — а затем, встретив самку с детенышем, буду показывать, как нужно прежде убить детеныша, чтобы мать никуда от него не ушла, а потом загарпунить и ее… Нет уж, разрешите мне самому выбрать кита, чтобы достойно открыть счет моей второй тысячи. Когда За рва собрался уйти с палубы, боцман Лазарев нерешительно спросил у него: А что, Петр Андреевич, разве не будет охоты? Ведь эти кашалоты сами на разделочную площадку просятся… Вот поэтому и не будем, — оборвал его Зарва. — В Антарктике вам не придется встречать такую легкую добычу. Будем же учиться на трудных китах… А почему еще не убран в трюм гарпун линь, принятый с берега? — неожиданно накинулся он на боцмана. — Со вчерашнего дня лежит на мокрой палубе! Все свободные от вахты с недовольством стали расходиться с палубы, когда поняли, что «Пассат» лег на прежний курс, к проливу Фриза. После полудня «Пассат» прорезал длинную полосу тумана, и впереди сразу открылся простор с ясной видимостью. На горизонте густое синее небо четко отрывалось от океанской зыби цвета темнозеленого бутылочного стекла. Навстречу, по левому борту, плыли крутые, гористые берега острова Итуруп с развороченными вершинами вулканов и с тонкими струями водопадов, стремившихся в океан по скалистым отвесным склонам. На траверсе бухты Белого утеса Кузнецов, не отходивший от пушки, и бочковой одновременно увидели почти у самого горизонта белые фонтаны китов, возникавшие из воды. Это были прямые фонтаны финвалов. На «Пассате» низким гудком подали сигнал охоты. Однако капитан, стоявший на штурманском мостике, не торопился менять курс, пока Зарва, выбежавший на палубу, не показал ему рукой в сторону фонтанов. Кузнецов уступил Зарве место у пушки. Фонтаны вскоре исчезли, потому что киты занырнули. Но «Пассат» продолжал идти полным ходом в том же направлении на сближение с ними. Работали оба гребных винта — правой и левой машины. На поверхности воды, где занырнули киты, остались пятна затихающих водоворотов, похожие на огромные расплывающиеся блины. Когда судно дошло до этих «блинов», Зарва приказал застопорить обе машины: киты могли вынырнуть где-нибудь поблизости. Через десять минут с мачты послышался голос бочкового: — Киты сзади, прямо по корме! Капитан быстро развернул судно на сто восемьдесят градусов и стал на крыло мостика, чтобы лучше слышать Зарву. Зарва приказал подходить к китам на малых оборотах машин, чтобы не вспугнуть их. Он стоял у пушки и взмахами руки указывал штурвальному маневр судна. К китам надо было подойти под углом, перерезав их курс.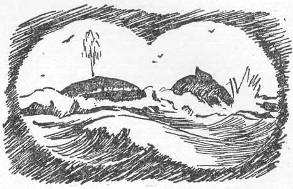
— Так держать! — кричал он, не отрывая взгляда от приближающихся фонтанов. — Так держать! Теперь по фонтанам было ясно, что впереди самец и самка. На мгновенье из воды показывались их овальные морды, взбивавшие пену, и почти одновременно выбрасывались стройные фонтаны до восьми метров высотой. Казалось, фонтаны поднимались прямо из кипящей пены. Водяная пыль долго держалась в воздухе, отливая на солаце цветами радуги. Морды исчезали, и сейчас же из воды показывались блестящие горбатые туши китов цвета молочного шоколада. Туши высовывались из воды не более чем на четверть. Киты плавно и замедленно переваливали тела, пока не показывались разогнутые серпы спинных плавников. После этого животные уходили под воду, на короткий миг показывая хвостовые плавники, похожие на вертикальные рули самолетов. Самец был метров двадцати двух, самка — чуть поменьше. Самец плыл позади, но иногда нагонял ее и шел рядом. Киты появлялись на поверхности воды и исчезали одновременно или один после друтого, через короткие, правильные промежутки. Выпустив шесть фонтанов, они занырну-ди в глубину, прежде чем судно успело подойти к ним на расстояние одного кабельтова. Их хвостовые плавники круче погрузились в воду, и на ее поверхности образовались водовороты от мощных взмахов хвостов. Справа на большом отдалении был замечен еще один фонтан, одинокого кита. Потом и этот фонтан исчез, оставив висеть над водой радужную дугу. Время выжидания, пока снова появятся киты, считалось среди «палубных зрителей» потерянным, и повар с огорчением собрался возвращаться на камбуз. Ну и громадины! — сказал он восторженно. А ты в Москве бывал? — спросил у него моторист. Был один раз. — Колонны Большого театра видел? — Видел, конечно. — Ну, так наши финвалы подлиннее тех колонн. Когда судно приблизилось к «блинам», боцман Лазарев взобрался на мачту к бочковому, всмотрелся в оставленные китами водовороты и крикнул сверху: — Киты ушли вправо! И хотя киты в поисках пищи могли под еодой несколько раз менять направление, все же Зарва, обернувшись к штурвальной рубке, скомандовал: — Право руля! Зарва учил молодежь понимать маневр китов и идти по их предполагаемому пути, чтобы вовремя очутиться у того места, где они вынырнут. Великолепные экземпляры, — сказал он стоящему рядом с ним Кузнецову. — Охота предстоит трудная: они очень голодны, а потому будут долго пастись под водой и мало держаться на поверхности. Чтобы насытиться, такому великану нужно съесть в сутки до шести тонн мелких рачков. Здесь, должно быть, обильное пастбише, — сказал Кузнецов: — киты постоянно толкутся против этой бухты. Они занырнули метров на двести, — после некоторого выжидания сказал Зарва. — Сколько уже прошло минут? — Одиннадцать, — ответил Кузнецов, взглянув на хронометр. Зарва передал команду на штурманский мостик: застопорить сразу обе машины, чтобы шум дизельных двигателей и вибрация корпуса судна не напугали китов при всплытии У китов при плохом зрении очень тонко развит слух. Зарва проверил вращение пушки и ее прицел. Он решил стрелять с расстояния не далее тридцати метров, хотя стрельба гарпуном возможна в пределах семидесяти. Прошло четырнадцать минут, но киты все еще не появлялись. — В Антарктике вам, Кузнецов, — заговорил Зарва, — нужно будет уметь находить китовые пастбища. Конечно, брать пробу планктона из океана вам не придется, но развивать свою наблюдательность вы обязаны. Тогда не станете терять время на поиски китов, понапрасну бить механизмы и жечь топливо. Все китобои записывают в журнал координаты каждого убитого кита и ставят на карте точку в соответствующем месте. Вы видели нашу карту? На ней эти точки расставлены так кучно, как пули в мишени меткого стрелка. А что это значит?. — Зарва взглянул на хронометр. — Это значит, — продолжал он, — что мы не метались вокруг островов и не растягивали территорию промысла. Его голос звучал твердо, и слова приходили в созвучное равновесие. Это происходило всякий раз, когда учитель в нем брал верх над охотником. А почему вы не у пушки? — вдруг спохватился он. — Ведь сегодня ваша очередь. Моя… — ответил Кузнецов и замялся. Что же случилось? Да мы все прослышали… — начал Кузнецов, — что сегодня у вас особенный день… Нет, — перебил его Зарва, — сегодня день особенный у вас. Вам встретились отличные киты. Это именно те киты, на которых можно кое-чему научиться. У меня на счету их тысяча, а у вас пока нет ни одного. Извольте же стать к пушке. Взяв Кузнецова за плечо, он подвел его к пушке, а сам стал в двух шагах сбоку. Киты вынырнули в двух кабельтовых от судна. Но они оказались бы еще дальше, если бы судно застопорило у «блинов» в ожидании их появления. Китов стало трое: к двум присоединился под водой тот третий, который прежде плыл одиночкой. После долгого пребывания без воздуха их первый фонтан был особенно высок. Можно было рассчитывать, что они подольше задержатся на поверхности, чтобы отдышаться. Но сразу же после первого фонтана среди китов произошло какое-то замешательство. Один из них наполовину выбросился из воды, высоко вскинул хвостом и лопастями махала сильно рассек воду. На судне решили, что китов окружило стадо хищных касаток; при нападении они вырывают из китовых тел куски мяса. Однако Зарва, присмотревшись в бинокль, установил, что присоединившийся кит был самец и что сампы подрались. Давайте команду, надо быстрей подойти к китам, — поторопил Зарва. Средний вперед! — вырвалось у Кузнецова. Его лицо слегка побледнело. — Неверно! — остановил его Зарва. Он старался говорить спокойно. — Так вы сразу распугаете китов шумом машины. Начинайте с самого малого хода, а потом постепенно набавляйте. Но было уже поздно. Заработали обе машины, и гребные винты быстро повели за кормой пенистую дорожку. Киты стали уходить параллельным курсом. Приставший самец ушел влево и вскоре занырнул. Остальные два после четвертого фонтана занырнули вместе. Стоявший на вахте Спиридон Севастьянович вышел из штурвальной рубки с раскрасневшимся лицом. Это я виноват, — сказал он громко, не глядя ни на кого. — Я! Не нужно было слушать всякий вздор, а передавать в машинное «самый малый». Правильно, товарищ старпом! — горячо поддержал его молоденький матрос из школы юнг. — Это ж понятно самому малому. Нет, не выдержит мое сердце! — сказал Спиридон Севастьянович и кинулся обратно в штурвальную рубку. Нет, не ставил бы я Кузнецова на таких китов! — проворчал радист. — Не по его силам. «Палубные зрители» томились, ожидая, когда покажутся киты. Некоторые спорили, где и на каком расстоянии от судна они должны вынырнуть. Киты появились скоро, через семь минут. — Они мало надышались воздухом, — решил радист. Запасы продовольствия прикончили, — сказал завпрод. Я говорил, что вынырнут с левого борта! — радостно воскликнул тот же паренек из школы юнг. — Отдавай назад мой десяток папирос! — обратился он к мотористу. Лево на борт! — разнеслась по судну команда Кузнецова. Он резким движением повернул пушку влево. — Не горячитесь, — сказал Зарва. — Судно, пока стоит на месте, не будет слушать руля. Нужно прежде сдвинуть судно. Кто-то рассмеялся. Зарва обернулся. Смех тотчас же утих. — Самый малый! — скомандовал Кузнецов. «Пассат» круто повернулся влево и под острым углом медленно двинулся навстречу китам. Теперь и сами киты шли на сближение. — Глупая скотина, — философствовал капитан, наблюдая за ними в бинокль. — На такую тушу, весом в сто тонн, природа отпустила всего лишь три килограмма мозга. Капитан попрежнему стоял на мостике. Теперь требовалась особенно четкая согласованность в действиях капитана и гарпунера; нужно было пересечь курс китов точно там, где один из них выплыл бы на поверхности воды. Когда Кузнецов опускал предохранитель пушки, Зарва заметил его бледность. — Возьмите себя в руки, — тихо сказал он, — покажите маневренность… До китов было совсем близко. Уже отчетливо слышалось, как, выбрасывая фонтаны, они тяжко и медленно фыркают. Вслед за струей воды из их дыхала вырывался воздух, как пар из клапана паровоза. Впереди шла самка. Ее грузное тело, весом в двадцать слонов, плавно появлялось из воды. Показав спинной хребет, она ушла под воду с тем, чтобы вынырнуть уже под прицелом пушки. — Командуйте, командуйте же! — не выдержал Зарва. — Мы проскочим прежде, чем вынырнет кит! Левая машина стоп! — выкрикнул Кузнецов и замахал рукой вправо. Оба стоп! — скомандовал Зарва и направил руку Кузнецова. — Право не ходить! — кричал он. — Одерживай, одерживай!.. В двадцати метрах от форштевня вспенилась вода. Показалась овальнорылая гигантская морда с приоткрытой пастью, густо усаженной роговыми усами, и тотчас же ударил мощный фонтан. Водяная пыль понеслась на палубу, распространяя тухлый запах. — Еще немного — и упустили бы финвала, — уже овладев собой, сказал Зарва: — он прошел бы у нас под килем. Когда голова кита скрылась в сбитой пене, из воды стало вздыматься лоснящееся на солнце светлошоколадное тело гиганта, обтянутое кожей, напоминающей линолеум.

— Цельтесь ближе к ласту, — снова теряя сдержанность, горячился Зарва. — Там его сердце!.. Бейте наповал! Кузнецов стал наводить пушку, целясь по линии, где туша кита выступала из воды. Его руки дрожали. Наступила минута безмолвия. Зарва уже не давал никаких указаний и не позволял кому бы то ни было говорить «под руку». На штурманском мостике и на палубе все ждали выстрела. Зарва присел на ящик, в котором хранились гильзы. Не отрывая взгляда от кита, он отчаянно взмахнул рукой в тот самый миг, когда ему показалось, что должен был прогреметь выстрел. Но выстрела не последовало, и кит ушел под воду. Зарва подскочил к пушке: Осечка? Нет, Петр Андреевич, — подавленно пробормотал Кузнецов, — рукой сразу не нащупал спуска… Упустил момент… Да не момент вы упустили, — накинулся на него Зарва, — а такого кита! Такого кита!.. Он сорвал с головы кожаный шлем и вытер ладонью вспотевший лоб. Совсем близко, перед носом судна, взлетела струя фонтана: вслед за самкой вынырнул самец. Судно продолжало еще идти по инерции вперед. Зарва зло крикнул: — Полный назад! Однако стрелять в сердце уже было поздно. Еще более громоздкое тело самца быстро погружалось в воду, поднимая на поверхность хвостовой плавник. — Цельтесь под воду, — быстро проговорил Зарва. — Есть еще время… Грохнул раскатистый выстрел. Линь, сложенный петлями под стволом пушки, взвился, разматываясь в воздухе, и устремился в воду за гарпуном. На мгновение кит неподвижно замер на поверхности, а потом стремглав занырнул с таким всплеском, будто в воду рухнул обломок скалы. Из глубины послышался взрыв гранаты. По звуку все поняли, что граната разорвалась не в теле кита, а в воде. — Промах! — вскрикнул Кузнецов и животом навалился на пушку после ее отката.

Поверхность воды взбурлил водоворот бурой жидкости, которую в страхе выпускает всякий кит. Вслед за этим забурлил второй водоворот, яркоалой крови. Кровь расплывалась на гребнях волн, смешиваясь с бурой жидкостью. Тем временем весь гарпун-линь ушел под воду и внезапным рывком потянул за собой линь, перекинутый через блок. Блок, подвешенный на стальном тросе к мачте, под натяжением резко опустился вниз и, в свою очередь, потянул за собой стальной трос, который уходил под палубу, где скреплялся с тридцатью тремя соединенными буферами от железнодорожных вагонов. И мощные пружины буферов сжимались и скрипели, потому что кит рывком в полторы тысячи лошадиных сил давил на них весом в сто двадцать тонн. — Что там, уснули на лебедке? — закричал Зарва. — Травите, травите линь! Колеса электрической лебедки, вращаясь, вытягивали из трюма запасы линя с такой быстротой, что линь, выходя из стопора, дымился от трения. Раненый кит вынырнул в трехстах метрах от судна и, видимо, намеревался догонять далеко уплывшую самку. Он плыл в том же направлении, но медленней и заметно дольше держался на поверхности воды. Когда он выныривал, на его боку показывалась алая струя, которая тотчас же смывалась водой и расплывалась мутнокрасными пятнами. В бинокль можно было видеть, что гарпун пронзил кита насквозь и выскочил с другого бока. Поэтому граната взорвалась в воде, при вылете гарпуна. Лебедка безостановочно выбрасывала за борт линь. Капитан вел судно полным ходом вслед за раненым китом, мгновенно меняя курс при малейшем повороте кита, чтобы не допустить обрыва линя. На носу все были заняты работой. И даже «палубные зрители», отдыхавшие после вахты, из наблюдателей и спорщиков превратились в «авральных китобоев». Промедление или неточное исполнение приказания капитана или гарпунера на палубе и в машинном отделении грозило потерей кита. Кузнецов с видом счастливого удачника, но в душе еще не веривший в прочность своей удачи, перезаряжал вместе с Лазаревым пушку и торопил его, повторяя: — Как бы не оборвался! Как бы только не оборвался! Повар прибежал на нос, чтобы узнать, кто загарпунил кита. Подойдя к Кузнецову, он торжественно обратился к нему: — Поздравляю тебя, Петя, с первым китом… Я замесил уже тесто для торта. Знал, что сегодня все равно кто-нибудь да убьет кита. Такое уж у нас правило — приходить на базу не с пустыми бортами. Думал испечь торт по случаю тысяча первого кита Петра Андреевича, а вышло по случаю первого комсомольского… Ну, да это все едино: ведь первый кит — тоже юбилейный… Пушка уже была перезаряжена добоиным гарпуном, а кит все еще шел впереди судна, держась более чем в полукилометре и оставляя позади себя кровяные «блины». Но плыл он уже медленно. Со стороны острова прилетели чайки и глупыши. Они описывали над кровавым следом круги: чайки — высоко, а глупыши — едва не разрезая крыльями воду. Стоявший у лебедки доложил Зарве: Уже четыре с половиной бухты вытянул! Трави еще, — сказал Зарва. — Линя хватит. Зарва, всюду поспевавший, вернулся к Кузнецову. — У кита прострелен кишечник, — сказал он ему. — Он долго еще нас поводит. Плохо. Нужно бить наповал… Ну, это еще придет к вам. Главное — нужно изучать повадки китов, да не по Брему, где кит изображен на картинке, высунувшись на три четверти из воды, а в море, в океане. И еще нужно уметь подходить к ним. Так и запомните. Спустя час блок, который то и дело рывками опускался книзу, натягивая стальной трос, поднялся и стал неподвижно на свое обычное место. Кит больше не тянул. Зарва застопорил лебедку. Кит остановился и, взмахивая могучим хвостом, хлестал по воде. Казалось, будто он перешибает спинные хребты океанских волн. Самка уплыла далеко и скрылась из виду. Судно продолжало идти. Расстояние между ним и китом приметно сокращалось. Колеса лебедки теперь медленно вращались в обратном направлении, выбирая линь из воды. Когда до кита оставалось менее ста метров, капитан подал команду «стоп». Кит выбрасывал частые и невысокие фонтаны и, взмахивая хвостом, показывал на боку рваную рану, из которой торчал конец гарпуна. Волны слизывали кровь. Лебедка продолжала работать, линь подтягивал кита к судну: нужно было с двадцати или тридцати метров добить его вторым гарпуном. Кит встрепенулся и, сильно натянув линь, рванул в сторону, делая попытку уйти. Он метнулся в одну сторону, потом в другую и наконец пошел в сторону судна. Казалось, будто кит идет на таран. Приподняв голову и рассекая воду, он двигался на борт, как огромная сигарообразная торпеда. — Полный назад! — закричал Зарва и кинулся к штурвальной рубке. Но капитан уже разворачивал судно, повертывая его носом к стремительно приближавшемуся киту. Кит прошел рядом с судном, почти вплотную. Задев его раненым боком, он высоко взмахнул хвостом и, как огромным молотом, ударил по борту. Стальной корпус загремел от удара, словно в него врезалась тяжело нагруженная баржа. — Укротите скорей вашего усатого, — сказал капитан вбежавшему в рубку Зарве, — иначе он потопит нас… Нет, не нравятся мне финвалы. С кашалотами куда меньше беспокойства. Кит нырнул под корму. Линь сильно рвануло, и блок потянул за собой вниз заскрежетавший стальной трос. — Отдавайте, отдавайте ему линь! — раздавался с переходного мостика голос Зарвы. — Быстрей, быстрей! Лебедка заработала во всю мочь, снова посылая линь за борт. Но команда опоздала: блок подскочил кверху на прежнее место и свободно закачался под мачтой. В тот же миг линь перестал подниматься на блок и лег на палубу, заплетаясь в вольные кольца. — Стоп травить! — приказал боцман и перегнулся через фальшборт, ища глазами в воде оборванный конец линя. Взглянув вниз вдоль судна, он увидел вмятину в борту от удара китового хвоста. Солнечные лучи отражались в ней, как в вогнутом зеркале, Зарва тоже подбежал к фальшборту. — Любуетесь плодами небрежного хранения линя? — с трудом сдерживая себя, бросил он боцману. — От сырости, Лазарев, от сырости… не сомневайтесь. Едва это было сказано, как из воды показался конец линя, который уже вытаскивала лебедка. Все увидели, что линь не оборвался, а был перерезан гребным винтом, когда кит нырнул под корму. Зарва украдкой взглянул на Лазарева. Взгляды их встретились. Знаю, что вы про меня сейчас думаете, — сказал Зарва. — После объяснимся… А сейчас нужно спасать кита, иначе он утонет. Есть! — по-военному отчеканил Лазарев. — Только, Петр Андреевич, объясняться нам не придется. Тот линь, за который вы меня взгрели, действительно валялся на палубе не по-хозяйски. Я ошибки свои признаю… «Палубные зрители» собрались на корме, следя за медленно уходившим китом. Кит потерян, — сказал спаррист. Нет, — тоном знатока возразил ему юнга, — еще успеем всадить в него второй гарпун. Где ж тут успеть? Видишь, он уже подыхает. Давай спорить на десяток папирос, что успеем. Проиграешь. Кит захлебнется и утонет. Это только убитый кашалот держится на воде: у него сала больше. А финвал пойдет на дно. Сколько под ним глубины? — спросил кто-то. Что, хочешь за финвалом нырнуть? А почему бы и нет? Пустяки! — вмешался третий механик, только что вышедший из машинного отделения после вахты. — Ведь под ним глубины-то всего три с половиной километра. Послышался чей-то смех. — Что же тут смешного? — рассердился завпрод. — Сейчас на дно пойдет шестьдесят тысяч рублей чистым золотом. На корму вышла буфетчица Люба. Она перестала накрывать стол к обеду в кают-компании, как только узнала, что кит оборвал линь. Она молча глядела на кита, а потом, вздохнув, бросила в сердцах: — Ух, зараза! Старший помощник, медленно спускаясь со штурманского мостика, столкнулся на трапе с капитаном. Что с вами, Спиридон Севастьянович? — спросил у него капитан. — Отчего вы держитесь за сердце? Вахту сдал и пойду полежать, — с волнением ответил старший помощник. — От этих китов я наживу порок сердца. Мы зайдем в Найоко, — сказал капитан. — Вам обязательно нужно показаться врачу… …и списаться на берег, — докончил старпом. — Хватит с меня на старости лет этой охоты… Кит покачивался почти без движения на плоских волнах мертвой зыби, когда к нему осторожно подходило судно. Он непрерывно выпускал низкие фонтаны. Кузнецов стоял у пушки, готовясь к выстрелу. Его бледность бросалась в глаза. Зарва стоял рядом с ним. — Цельтесь под ласт, — говорил он спокойно. — Перед нами уже не кит, а пловучая мишень. Вроде той бочки, по которой вы учились стрелять гарпуном… Впрочем, можете теперь бить куда угодно: он и так скоро кончится. Нужно только взять его на линь, чтобы не утонул. Кем вы служили на военном флоте? Старшим матросом. На каких кораблях плавали? На сторожевых. Зарва обернулся к мостику. — Самый малый! — скомандовал он. — Лево руля! Обе машины стоп! Теперь можете стрелять. Кит ведет себя превосходно. Отличный кит. Кузнецов тщательно навел прицел. Руки его уже не дрожали. На выстрел отдаленным раскатом грома ответило с острова эхо. Взрыв гранаты был глуховат; она разорвалась в теле животного. Кит начал дробно бить хвостом. На воде появились водовороты, как от гребного винта. Из туши хлынула кровь. Свыше шеста тысяч литров крови, расплываясь по воде, постепенно окружили судно. Стая глупышей опустилась на воду. Они сновали возле кита и выклевывали из воды кровяные сгустки. Лебедка стала тихо подтягивать кита к борту. Он не сопротивлялся и редко выбрасывал тонкие кровяные фонтаны, едва поднимавшиеся над водой. Коснувшись борта, он запрокинулся на бок и начал медленно тонуть. Лазарев, перегнувшись за леерное ограждение, быстро вонзил в его тело длинную трубку, соединенную с резиновым шлангом. Заработала электрическая помпа, и меньше чем через минуту телу кита вернулась способность пловучести. Помпа продолжала накачивать в тушу воздух. Дул свежий ветер. С оголенного бока кита быстро испарялась вода, и на гладкой коже собирались мелкие морщины. Вместе с испарявшейся водой быстро исчезал с кожи и золотисто-шоколадный цвет, как пыльца с крыльев бабочки. Кожа сначала серела, а потом становилась все темней, почти черной. На судне подготавливали цепи и стальные тросы, чтобы пришвартовать кита к борту. Кузнецов старался багром подцепить в воде конец троса, чтобы накинуть петлю на хвост кита. К Кузнецову подошел Зарва и протянул руку: — Поздравляю с первым китом.
* * *
В послеобеденный «капитанский час», во время которого все суда курильской китобойной флотилии переговаривались между собой по радиотелефону, в радиорубку вошел капитан. Когда пришла очередь «Пассата», радист протянул ему микрофон. — Китобои, китобои, говорит «Пассат»! — негромко и отчетливо заговорил капитан. — Даю промысловую обстановку. Мои координаты: широта — сорок пять градусов десять минут; долгота — сто сорок восемь градусов тридцать восемь минут. Ветер с зюйд-веста'. Зыбь — четыре балла. Вошли в полосу густого тумана. Видимость плохая. Очень плохая, — повторил капитан. — Если меня слушает Найоко, то передайте директору базы в Найоко не пойду, врача не нужно, сердце старпома в порядке. У борта имею одного кита. Я — «Пассат». Перехожу на прием.


М. Ройзман ВОЛК
1
Ольга сняла со стола синюю скатерть и бережно расстелила на нем большой плотный лист бумаги с ярко-красным заголовком “Конструктор № 10”. Она поставила на стол пузырек с клеем, разложила отпечатанные на пишущей машинке статьи, заметки и стихи — да, были, как всегда, и стихи! Забравшись с ногами на стул, молодая женщина устроилась поуютнее и замурлыкала: А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, Веселый ветер, веселый ветер! Ольга осторожно наклеила передовицу и, чтобы быстрее просох клей, подула на нее, смешно прищурив глаза. Прочитав заметку о молодых конструкторах, она зачеркнула одну фамилию: этого парня, пожалуй, не стоило критиковать — ведь вчера он сдал наконец чертеж начальнику бюро. Под заметкой Ольга поставила карикатуру на заместителя директора завода: собираясь чихнуть, он морщил нос, и от этого его усы топорщились. Под карикатурой были приведены слова замдиректора, которые он сказал ей, Ольге, редактору стенной газеты: “От всех ваших требований мне и чихнуть некогда”. А как же ей чертить без хорошей туши, кальки, ватманской бумаги? — Чихай на здоровье, дорогой! — пробормотала она, тщательно разглаживая рисунок. Заместитель получился очень похожий и смешной. Здорово уловил сходство Коля Басов, ехидный паренек-чертежник, постоянный рисовальщик их стенной газеты. Правда, к карикатуре приложил руку и художник Румянцев — Ольгин сосед по квартире. Вспомнив о Румянцеве, она вздохнула и, встав со стула, посмотрела в окно, за которым угасал морозный, ясный, безветренный день. Тихо падал редкий снежок, розовея в лучах заходящего солнца. В саду на заиндевелых деревьях суетились, отрывисто каркая, галки. В этом мирном пейзаже Покровского-Стрешнева было что-то вдруг взволновавшее молодую женщину. Она прижала руки к груди и тотчас же опять поймала себя на мысли о Румянцеве. Ольга любила слушать его рассказы об искусстве, о жизни великих художников, об их страданиях и славе. Но все-таки лучше бы было для него уехать из их домика. А может быть, лучше и для нее? Пожалуй, нет. Ведь он был таким хорошим другом. Всегда после какой-либо невзгоды или размолвки с мужем ей хотелось поговорить с художником, посоветоваться с ним. Румянцев в шутку называл себя “громоотводом” и говорил — это уже всерьез — что, не будь он их соседом, Ольга давно вконец разругалась бы с мужем. Вот и сегодня утром она жаловалась ему на Петра. Иногда ей приходила в голову странная мысль: “Хорошо бы, ах, хорошо бы, если бы ее муж имел такую же открытую, отзывчивую душу, как Румянцев!..” Любила ли она мужа? Все считали, что Ольга до сих пор влюблена в него. Но вот прошел год. И сейчас Ольге казалось, что все произошло словно во сне. Да, надо бы тогдапристальнее и, быть может, строже вглядеться в человека, с которым она собиралась соединить свою жизнь. Эти встречи с Комаровым на катке, первые робкие рукопожатия, еле ощутимое прикосновение его пальцев к локтю… Потом фигурное катание, стремительные вальсы на льду, провожания… Вдруг непонятная холодность и колкие шутки по адресу Румянцева. А эта чрезмерная почтительность Комарова к Олиной тетке, у которой девушка тогда жила? Комаров неизменно поддакивал старухе, почти заискивал перед ней, окружал ее тысячей мелких забот. Медленно и, вероятно, расчетливо — это и не нравилось Ольге! — он завоевывал расположение неглупой, практичной женщины. Конечно, Ольга — неопытная, почти девочка — решилась выйти замуж за тренера по гимнастике Комарова не без влияния тетки. По-иному сложилась бы ее жизнь, если бы она не уехала из родного города учиться в московском техникуме. Кроме тетки, у Ольги не было здесь близких родственников, да и тетка была занята своими ребятами. Наверное, одиночеством и объясняется Олино увлечение Комаровым. А теперь она винит себя в том, что так поторопилась с замужеством. — Да, поторопилась… — сказала она вслух, продолжая задумчиво смотреть в окно. — Ты с кем это разговариваешь? — раздался голос. Она обернулась: Петр Иванович Комаров стоял в дверях, повертывая выключатель. — Сама с собой, Петя, — ответила она, зажмурившись от электрического света, хлынувшего из-под матового абажура. — Замечталась… Ольга подошла к столу, свернула стенную газету, положила ее в картонный футляр, в котором носила чертежи. Потом, прибрав на столе, постлала скатерть. — Ты где был? — спросила она. — Звонил по телефону от соседей, — ответил он. — Знаешь, сегодня меня вызывали в Москву. Предложили немедленно, завтра утром, выезжать в командировку, сразу вручили удостоверение, деньги. Рано утром я отправляюсь. — Зачем? Куда? — Придется поколесить по Ярославской и Ивановской областям, проверить, как работают гимнастические секции на местах. — А как же физкультура в школе? — Ну, меня заменит на это время второй преподаватель. — Смотри, Петя, как бы ты после не пожалел — школьники отвыкнут от тебя. — Видишь ли, отказаться неудобно: поехать предложил председатель нашего спортивного общества. А о школьниках я не беспокоюсь. Сегодня на торжественном вечере в клубе покажу работу моих гимнастов. Для РОНО этого достаточно. — Надолго едешь, Петя? — А как бы тебе хотелось? — Странный вопрос… Разве это зависит от моего желания? — Ну вот, опять сердишься! Ты ведь сама через два дня отправляешься в Свердловск. Пока ты будешь бороться за спортивные лавры, я вернусь. Комаров подошел к Ольге и взял ее за руки. Высокий, широкоплечий, с крупными, сильными руками, он казался гигантом рядом с ней — невысокой, худенькой блондинкой. — Ну-ка, — сказал он, — посмотри мне в глаза! Она встряхнула золотистыми кудрями и поглядела ему в лицо. Он увидел беспокойные огоньки в ее голубых глазах, еле заметные морщинки в уголках губ и словно догадался о горьких думах жены. Спрятав лицо в ее ладонях, еще чуть пахнущих клеем, он прошептал: — Ольгуша, милая, я тебя так люблю, так люблю!.. Через полчаса Комаровы вышли и заперли дверь своей комнаты. Ольга сказала соседке, что идет к тетке на день рождения, а Комаров предупредил, что вернется после клубного вечера поздно и, наверное, уедет с первым утренним поездом в Москву, а оттуда — в командировку. Во дворе в сиреневых сумерках еще катались на санках дети. Ольга положила на скамью футляр со стенной газетой и чемоданчик с коньками, усадила в санки малышей и покатила их вокруг садика. Веселый смех детей далеко разносился в чистом морозном воздухе. Ольга смеялась вместе с ними. Мальчонка в вислоухой шапке свалился с санок. Молодая женщина взяла его на руки и понесла к матери. — Как бы я хотела иметь вот такого сынишку! — проговорила она и поцеловала мальчика. Повернувшись к мужу, сказала: — Ну-ка, Петя, покатай ребят! — Честное слово, некогда, Ольгуша! — поморщившись, ответил он, но все-таки, к великой радости детворы, взялся за промерзлую веревку. Во двор вошел художник Евгений Семенович Румянцев. Он был одет совсем по-зимнему, по-старомосковски: в шубе с бобровым воротником, плюшевой, отороченной мехом шапке и толстых замшевых перчатках. Он подошел к Ольге и спросил, куда она собирается. Увидев художника, Комаров бросил санки и быстро направился к нему. — Надо бы проводить Олю, — сказал Румянцев, — тетка живет у черта на куличках. — Надо бы, да вот беда: я рано утром уезжаю, а еще пропасть дел! Сегодня я вывожу своих питомцев на показ. На праздничном вечере в клубе — целое отделение спортивной гимнастики, — ответил Комаров и буркнул: — Может, ты проводишь Олю? — Не беспокойтесь, милые рыцари! — воскликнула молодая женщина, беря свой футляр и чемоданчик. — Дойду одна. Не Красная Шапочка, не съедят волки. По дороге занесу Кате Новиковой стенгазету, пусть посмотрит, а потом принесет на работу. Вместе будем вывешивать. Ох, и влетит нам! Газету ведь к празднику, ко Дню Конституции, делали и не успели сегодня утром вывесить… Потом поеду к тетке… Они вышли со двора. Ольга пошла вверх по улице. Мужчины смотрели ей вслед. Дойдя до переулка, она обернулась, помахала рукой и свернула за угол. Комаров отогнул рукав и взглянул на часы. — Черт! Опаздываю! — проговорил он. — Ты сегодня ночуешь дома? — Если не задержусь где-нибудь. — Я-то, наверное, поздно вернусь. Услышишь звонок — отопри. А то Анна Ильинична разоспится — не дозвонишься. Ну, пока! И, пожав художнику руку, Комаров зашагал вниз по улице, к автобусной остановке.
Художник вернулся во двор, дошел до подъезда и остановился. Несколько секунд он размышлял, потом резко повернулся и вышел на улицу. Вдалеке, освещенный ярким светом уличного фонаря, крупными, быстрыми шагами удалялся Комаров. Румянцев пошел в ту сторону, куда направилась Ольга, все больше ускоряя шаги. Свернув в переулок, он побежал…
Придя в РОНО, Комаров долго проверял списки гимнастов. Потом построил их в колонну и повел в клуб имени Калинина на вечер. В клубе он пробыл почти до полуночи, а затем отправился на лыжную базу — проверять инвентарь. Сказал, что утром уезжает, поэтому и приходится ночью заняться этим делом.
Только на рассвете Комаров вернулся домой. Ни жены, ни художника дома не было. Он вскипятил себе воду, помылся и уложил в рюкзак чистое белье.
— Ну и женушка у вас, даже не пришла собрать мужа в дорогу, — посетовала соседка.
— Пустяки, Анна Ильинична, — ответил Комаров, — что я, барышня? Да и лучше, что Ольга осталась ночевать у тетки. Завтра праздник, выходной день, пусть отдохнет. Только, я думаю, мне здорово попадет от старушки. Она не любит, когда родственники забывают поздравить ее с днем рождения. Между нами, я и сам жалею, что не пошел к ней. Она такими ватрушками угощает — во рту тают!
Комаров написал записку жене, взял рюкзак и отправился на вокзал к шестичасовому поезду. Анна Ильинична убрала комнату Комаровых, потом решила пойти на рынок за молоком. Раздался звонок. Вошел Румянцев. Художник объяснил, что был в железнодорожном клубе на вечере, оставался танцевать, а после добирался до дому пешком. Румянцев продрог, руки его дрожали, он никак не мог вставить ключ в замочную скважину. По его словам, переходя по доске через канаву, он поскользнулся и упал: на брюках, перчатках, полах шубы остались следы красновато-желтой глины.
Когда Румянцев переоделся, Анна Ильинична напоила его горячим чаем, взяла одежду, отмыла грязь. Уходя на рынок, она слышала, как художник еще ворочался на кровати и что-то бормотал…
Анна Ильинична уже давно опекала своих молодых соседей: стирала им, иногда готовила, покупала продукты. Как было до женитьбы Комарова, так и теперь оставалось.
Шестого декабря вечером на квартиру Комаровых пришла с сынишкой Катя Новикова — подруга Ольги по заводу, живущая на соседней улице. Заядлая лыжница, Катя купила своему пятилетнему Юре лыжи. И часто мать с сыном, в белых свитерах и шапочках, скользили по улочкам Покровского-Стрешнева, вызывая улыбки прохожих.
Катя, член редколлегии “Конструктора”, сказала, что позавчера вечером Оля забегала к ней, оставила очередной номер газеты. Сегодня они собирались вместе вывесить ее, но Оля почему-то на работу не явилась. Что с ней? Уж не заболела ли?
Анна Ильинична, любившая Ольгу, всполошилась: наверное, заболела и осталась у тетки. Вот беда!
Когда вернулся из редакции Румянцев, она сказала ему о своих опасениях. Художник побледнел и грузно опустился на стул.
Оправившись, он решил сходить к Ольгиной тетке в поселок. Дрожащей рукой сунул в карман пачку папирос и спички, спустился по лестнице на двор и — в воротах столкнулся с Марьей Максимовной, Ольгиной теткой.
— Ну, Петр еще предупреждал, что может уехать в командировку. А племянница? — затараторила она, не давая раскрыть рот художнику. — Ладно! Не пришла позавчера на именины, так собралась бы хоть вчера, на “черствые”. Ведь выходной день был! И вы тоже хороши, Евгений Семенович! Сами не пришли и не могли ей внушить, что старуху грешно обижать.
Марья Максимовна всплеснула руками, узнав, что Ольга еще позавчера вечером отправилась к ней. Значит, не дошла! Пропала!..
Румянцев, Анна Ильинична и тетка немедленно обошли всех знакомых и соседей. Никто не видел Ольгу после того, как она ушла из дому.
Соседка и Марья Максимовна решили, что Ольга, возможно, неожиданно уехала в Москву проводить мужа. Тем более, что через день она должна была отправиться с командой их спортивного общества в Свердловск, на состязания фигуристов. Возможно, она договорилась с начальством и ее освободили от работы на день раньше? Что ж, это вполне вероятно, если Комаров отправился в ту же сторону, по дороге в Свердловск.
Румянцев узнал, в какой город выехал Комаров, и послал телеграмму — “молнию” с оплаченным ответом в адрес спортивной организации. Пришел ответ — “молния”: “Комаров еще не прибыл”. В тот же день на имя Ольги пришло письмо от Комарова, отправленное еще из Москвы. Тетка вскрыла его. Комаров писал, что скучает, постарается скорее закончить дела в командировке и вернуться, желает Ольге спортивных успехов в Свердловске и целует, целует, целует…
Анна Ильинична подала заявление в милицию об исчезновении молодой соседки. Были запрошены больницы, “скорая помощь”, морги. Отовсюду был получен отрицательный ответ.
Начальник отделения милиции приказал обыскать комнату Комаровых: может быть, найдется какая-нибудь записка Ольги, объясняющая ее долгое отсутствие. Однако ничего не нашлось, кроме документов Комарова, его писем и последней записки к жене. Оперативные работники милиции тщательно осмотрели всю местность между домом Ольги и поселком, где жила ее тетка. Они не пропустили ни одной ямы, ни одной проруби, ни одного куста, но ничего не обнаружили. Наконец Марья Максимовна послала телеграмму родителям Ольги в Казань. Они ответили, что дочь не приезжала.
И, пожав художнику руку, Комаров зашагал вниз по улице, к автобусной остановке.
Художник вернулся во двор, дошел до подъезда и остановился. Несколько секунд он размышлял, потом резко повернулся и вышел на улицу. Вдалеке, освещенный ярким светом уличного фонаря, крупными, быстрыми шагами удалялся Комаров. Румянцев пошел в ту сторону, куда направилась Ольга, все больше ускоряя шаги. Свернув в переулок, он побежал…
Придя в РОНО, Комаров долго проверял списки гимнастов. Потом построил их в колонну и повел в клуб имени Калинина на вечер. В клубе он пробыл почти до полуночи, а затем отправился на лыжную базу — проверять инвентарь. Сказал, что утром уезжает, поэтому и приходится ночью заняться этим делом.
Только на рассвете Комаров вернулся домой. Ни жены, ни художника дома не было. Он вскипятил себе воду, помылся и уложил в рюкзак чистое белье.
— Ну и женушка у вас, даже не пришла собрать мужа в дорогу, — посетовала соседка.
— Пустяки, Анна Ильинична, — ответил Комаров, — что я, барышня? Да и лучше, что Ольга осталась ночевать у тетки. Завтра праздник, выходной день, пусть отдохнет. Только, я думаю, мне здорово попадет от старушки. Она не любит, когда родственники забывают поздравить ее с днем рождения. Между нами, я и сам жалею, что не пошел к ней. Она такими ватрушками угощает — во рту тают!
Комаров написал записку жене, взял рюкзак и отправился на вокзал к шестичасовому поезду. Анна Ильинична убрала комнату Комаровых, потом решила пойти на рынок за молоком. Раздался звонок. Вошел Румянцев. Художник объяснил, что был в железнодорожном клубе на вечере, оставался танцевать, а после добирался до дому пешком. Румянцев продрог, руки его дрожали, он никак не мог вставить ключ в замочную скважину. По его словам, переходя по доске через канаву, он поскользнулся и упал: на брюках, перчатках, полах шубы остались следы красновато-желтой глины.
Когда Румянцев переоделся, Анна Ильинична напоила его горячим чаем, взяла одежду, отмыла грязь. Уходя на рынок, она слышала, как художник еще ворочался на кровати и что-то бормотал…
Анна Ильинична уже давно опекала своих молодых соседей: стирала им, иногда готовила, покупала продукты. Как было до женитьбы Комарова, так и теперь оставалось.
Шестого декабря вечером на квартиру Комаровых пришла с сынишкой Катя Новикова — подруга Ольги по заводу, живущая на соседней улице. Заядлая лыжница, Катя купила своему пятилетнему Юре лыжи. И часто мать с сыном, в белых свитерах и шапочках, скользили по улочкам Покровского-Стрешнева, вызывая улыбки прохожих.
Катя, член редколлегии “Конструктора”, сказала, что позавчера вечером Оля забегала к ней, оставила очередной номер газеты. Сегодня они собирались вместе вывесить ее, но Оля почему-то на работу не явилась. Что с ней? Уж не заболела ли?
Анна Ильинична, любившая Ольгу, всполошилась: наверное, заболела и осталась у тетки. Вот беда!
Когда вернулся из редакции Румянцев, она сказала ему о своих опасениях. Художник побледнел и грузно опустился на стул.
Оправившись, он решил сходить к Ольгиной тетке в поселок. Дрожащей рукой сунул в карман пачку папирос и спички, спустился по лестнице на двор и — в воротах столкнулся с Марьей Максимовной, Ольгиной теткой.
— Ну, Петр еще предупреждал, что может уехать в командировку. А племянница? — затараторила она, не давая раскрыть рот художнику. — Ладно! Не пришла позавчера на именины, так собралась бы хоть вчера, на “черствые”. Ведь выходной день был! И вы тоже хороши, Евгений Семенович! Сами не пришли и не могли ей внушить, что старуху грешно обижать.
Марья Максимовна всплеснула руками, узнав, что Ольга еще позавчера вечером отправилась к ней. Значит, не дошла! Пропала!..
Румянцев, Анна Ильинична и тетка немедленно обошли всех знакомых и соседей. Никто не видел Ольгу после того, как она ушла из дому.
Соседка и Марья Максимовна решили, что Ольга, возможно, неожиданно уехала в Москву проводить мужа. Тем более, что через день она должна была отправиться с командой их спортивного общества в Свердловск, на состязания фигуристов. Возможно, она договорилась с начальством и ее освободили от работы на день раньше? Что ж, это вполне вероятно, если Комаров отправился в ту же сторону, по дороге в Свердловск.
Румянцев узнал, в какой город выехал Комаров, и послал телеграмму — “молнию” с оплаченным ответом в адрес спортивной организации. Пришел ответ — “молния”: “Комаров еще не прибыл”. В тот же день на имя Ольги пришло письмо от Комарова, отправленное еще из Москвы. Тетка вскрыла его. Комаров писал, что скучает, постарается скорее закончить дела в командировке и вернуться, желает Ольге спортивных успехов в Свердловске и целует, целует, целует…
Анна Ильинична подала заявление в милицию об исчезновении молодой соседки. Были запрошены больницы, “скорая помощь”, морги. Отовсюду был получен отрицательный ответ.
Начальник отделения милиции приказал обыскать комнату Комаровых: может быть, найдется какая-нибудь записка Ольги, объясняющая ее долгое отсутствие. Однако ничего не нашлось, кроме документов Комарова, его писем и последней записки к жене. Оперативные работники милиции тщательно осмотрели всю местность между домом Ольги и поселком, где жила ее тетка. Они не пропустили ни одной ямы, ни одной проруби, ни одного куста, но ничего не обнаружили. Наконец Марья Максимовна послала телеграмму родителям Ольги в Казань. Они ответили, что дочь не приезжала.
2
Мозарин одевался, прислушиваясь, как за стеной мать позвякивает ложками, накрывая стол. Неужели два года обучения в Одесской офицерской школе милиции и пять месяцев службы в Одесском уголовном розыске остались позади? Неужели он больше не спустится по знаменитой лестнице к морю, не будет подолгу в задумчивости следить за убегающими от него волнами, оставляющими за собой пенный кружевной шлейф, не будет смотреть на высокие белопарусные яхты, как бы летящие вперегонки с легкими бело-фарфоровыми чайками? Вчера, поздно ночью, когда капитан приехал, его мать на радостях всласть наплакалась. Сейчас, когда он вышел из своей комнаты, она, украдкой уронив слезу, поцеловала его и засуетилась, усаживая то на один стул, то на другой. — Я приготовила все, что ты любишь, — говорила Елизавета Петровна. — А откуда ты, мама, узнала, что я приеду? — Как — откуда? Наденька предупредила. — Наденька? — в изумлении спросил Михаил и даже привстал. — Корнева, — ответила мать, и лицо ее осветилось лукавой улыбкой. — Сперва все звонила по телефону, справлялась, нет ли от тебя писем. Потом встретились в нашем клубе на празднике. А там она ко мне заехала, и я у нее в доме побывала… Надя! Конечно, Мозарин скучал по девушке, переписывался с ней, дважды приглашал ее летом в Одессу, к морю. Она жаловалась в письме, что — увы! — ее отпуск не совпадает с его каникулами… Шагая на службу по знакомым московским улицам и переулкам, капитан любовался снежинками, которые скользили перед его глазами и садились на плечи, как хрупкие звезды. Снег, снег и бодрящий холодок! Нет, этого на юге не увидишь! Офицер открыл дверь приемной полковника Градова и увидел его секретаря — Байкову. Светловолосая, гладко причесанная, в коричневом платье с белым воротничком, Клава напоминала старшеклассницу. Она широко открыла глаза, вскочила и воскликнула: — Мозаринчик! Уже капитан! — Он самый! — ответил Мозарин, пожимая руку девушке. — Как жизнь молодая? — Лучше всех, — затараторила она. — Полковник уже дает мне оперативные поручения. Потом меня аттестовали. Имею звание. — Не ниже подполковника? — пошутил Мозарин. — Пока я старший сержант милиции, — серьезно сказала Байкова и добавила, не переводя дыхания: — Подождите, доложу! Легко, словно танцуя, она боком скользнула в приоткрытую дверь. Мозарин услышал знакомый голос Градова. С трудом владея собой, он шагнул в кабинет. Положив мундштук с дымящейся папиросой на мраморную подставку чернильного прибора, Градов поднялся из-за стола навстречу молодому офицеру. — Капитан Мозарин явился в ваше распоряжение, товарищ полковник! — отрапортовал молодой человек, вытянув руки по швам. — С приездом, капитан! — ответил Градов. — Поздравляю с присвоением нового звания и успешным окончанием школы! — Он быстро подошел к офицеру и, обхватив руками его плечи, посмотрел в лицо. — Выглядите молодцом! А как самочувствие? — Благодарю вас, товарищ полковник. По работе соскучился. — За этим дело не станет! Надо представиться комиссару. Градов позвонил комиссару Турбаеву, и тот приказал явиться к нему. Едва офицеры ступили за порог комнаты, Байкова набрала служебный номер Корневой и, соединившись с ней, выпалила одним духом: — Надюша, Мозарин здесь! В новых погонах! Капитан! — Мне его мать звонила… — ответила девушка так холодно, что Байкова даже в трубку подула. — Зайди за анализом! — Хорошо… — проговорила сбитая с толку секретарша. — Но… но ведь ты вчера раз пять звонила насчет Мозарина? — Да. Хотела успокоить его мать. Турбаев расспрашивал Мозарина о порядках в школе, о делах, следствиях, которые он вел в Одесском уголовном розыске. Крепко потирая руки, комиссар посмеивался и внезапно делал такое замечание или задавал такой вопрос, что капитан мысленно восклицал: “Вот черт! Экзаменует меня!..” Пригласив Мозарина к себе пообедать, Градов сказал: — Садитесь в мою машину — она на улице — и подождите меня минутку. Скоро он вышел из подъезда с Корневой, усадил ее рядом с Мозариным, сам сел в кабину к шоферу, и машина тронулась. Михаил весело поздоровался с Надей, но вдруг оробел и замолчал. — Как живете, Михаил Дмитриевич? — спросила она и, сняв перчатку, стала ее внимательно рассматривать, перебирая пальчик за пальчиком. — Снова начинаю жить, Наденька… — ответил он и, осмелев, забрал у нее перчатку. — Знаете, — тихо продолжал он, наклонясь к уху девушки, — я все-таки соскучился… — Все-таки? — сердито переспросила она и откинулась в угол кузова. — Почему вы не писали целый месяц? — Служба… — Мы еще поговорим об этом, — сухо ответила девушка. Жена Градова, Софья Николаевна, высокая, полная, жизнерадостная сибирячка, встретила гостей и побежала хлопотать по хозяйству. Восьмилетний сын полковника тотчас сообщил: — А я с мамой пельмени готовил! Выставлял их на мороз. Соседка по квартире, старшая машинистка Уголовного розыска Олимпиада Леонидовна Холмская, после ночного дежурства пришла домой. Узнав о том, что Мозарин в гостях у Градовых, она зашла к ним. Михаил, зная слабую струнку Холмской, сказал, что один одессит, старожил, снабжал его детективной литературой: — Я читал книжицы про сыщиков, в обложках с яркими страшенными рисунками. Они выходили еще в царское время. У этого одессита их было штук двести: Нат Пинкертон, Ник Картер, Шерлок Холмс, Пат Коннер, Джон Вильсон. Потом книжечки про сыщиц: Этель Кинг, Гарриэт Бальтон Райт. — Паршивые, бульварные книжонки! — проговорил Градов, принимая от жены огромное блюдо с дымящимися пельменями и ставя его на стол. — Кто такой на самом деле Нат Пинкертон, “король сыщиков”? В середине прошлого века, лет сто назад, действительно существовал в Америке такой человек, вероятно способный сыщик, раскрывший несколько крупных преступлений. Это был сын шотландца-жандарма, эмигрировавшего из Англии в Америку. Молодой Пинкертон начал свою карьеру на железных дорогах — организовал охрану багажа и почтовых вагонов от грабителей. Потом стал шерифом в Чикаго — уже тогда города с высокой преступностью, — был разведчиком во время войны Севера и Юга в Соединенных Штатах. Обрастя жирком, он занялся “бизнесом” — создал частное сыскное агентство. Его наследники раздули это дело, и фирма “Пинкертон и K°”, как и многие сыскные агентства Америки, стала обслуживать финансовых магнатов, крупные капиталистические тресты и синдикаты. Это агентство стало заниматься политическим и производственным шпионажем. Капиталисты нанимают сыщиков “Пинкертона”, чтобы шпионить за конкурентами, разузнавать и выкрадывать у них производственные секреты и изобретения. Сыщики шпионят и среди рабочих, проникают в профсоюзы, предупреждают своих “боссов” о готовящихся стачках, составляют “черные списки” деятелей рабочего движения, организуют шайки штрейкбрехеров. По найму они выступают в судах лжесвидетелями, совершают провокации, расправляются с вожаками рабочих. Словом, “Сыскное агентство Нат Пинкертон и K°”, имеющее отделения во многих городах Соединенных Штатов, — это банда провокаторов, выполняющих самые подлые и грязные поручения капиталистических фирм… Телефонный звонок прервал рассуждения Градова. Он взял трубку. Комиссар Турбаев вызывал полковника к себе. — Ну, — сказал Градов, кладя трубку на рычаг, — если комиссар звонит домой, стало быть, “чепе”! — И я с вами! — воскликнул Мозарин, поднимаясь из-за стола.3
К комиссару Турбаеву приехали представители завода, где в конструкторском бюро работала Ольга Комарова. Делегацию возглавлял старейший рабочий, теперь консультант этого бюро, депутат районного Совета Аким Иванович Мартынов. Ему уже стукнуло шестьдесят семь, он было ушел на пенсию, но, блестящий знаток приспособлений для станков, снова пришел на завод помогать молодым конструкторам в их сложной работе. Грива седых волос, окладистая борода, точно сплетенная из серебряных нитей, очки в черепаховой оправе с большими круглыми стеклами делали Мартынова похожим на ученого прошлого века. Говорил он медленно, не любил, когда его перебивали, и останавливал собеседника, укоризненно подняв указательный палец: “Извините-с!” — Я, товарищ комиссар, сам в бригаде милиции работал, — говорил он Турбаеву, сидя в кресле и положив руки на набалдашник своей увесистой дубовой палки. — Конечно, когда помоложе был. С вашей работой знаком. По правде скажу: тяжелый труд! И не без риска для жизни. Я уж нашим толковал об этом. Но все это, товарищ комиссар, присказка. А сказка будет впереди. У нас человек пропал! И Мартынов подробно рассказал об исчезновении чертежницы Ольги Комаровой. Комиссар внимательно слушал Мартынова, чуть откинувшись в кресле и положив правую руку за борт кителя. Потом пригладил свои седые волосы, положил обе руки на стол и тяжеловато поднялся с места. — Случай редкий, — проговорил комиссар. — Я предсказывать не люблю, но, думается, тут дело не простое. Хорошо, товарищи. Поручу следствие опытному человеку. — А не секрет — кому? — Могу сказать: полковнику милиции Градову. — Слыхал! — воскликнул Мартынов и поглядел на товарищей. — Толковый! А нельзя ли товарищу Градову два слова сказать? Градов вошел, по обыкновению, стремительно. Комиссар представил его рабочим. Мартынов взял за руку Градова, прихрамывая и опираясь на палку, отвел в угол кабинета к высокому окну и посмотрел пристально на офицера. — У вас есть ученики, товарищ полковник? — Есть, мои офицеры! — Ну вот! У нас пропала Оля Комарова, которую я обучаю в конструкторском бюро. Спокойная. Задушевная. Красавица! Эх, да что говорить! — Голос старого рабочего задрожал. — Найдите ее! Что будет нужно, прямо ко мне в бюро звоните. Прошу вас, товарищ полковник, снимите тяжесть с сердца. — Я хорошо понимаю вас, товарищ Мартынов, — тихо ответил Градов. — Кого учишь, того и любишь и привыкаешь к нему, как к родному ребенку. — Вот-вот! Я Олю дочкой зову. — Хорошо, Аким Иванович, постараюсь. — Ну спасибо, товарищ полковник! Я на заводе ребятам скажу: Градов взялся нам помочь. Найдут нашу Олю! Полковник пригласил представителей завода к себе в кабинет, вызвал туда же капитана Мозарина и попросил рассказать об Ольге Комаровой все, что они о ней знают. Первым заговорил Мартынов. Ольга, окончив чертежно-конструкторский техникум, пришла работать на завод. Бойкая, смышленая девушка понравилась ему. Она многое схватывала на лету, поражая старика своей смекалкой. Однако потомственный пролетарий, участник восстания на Красной Пресне, Аким Иванович не раз убеждался, что Ольга политически не очень развита. Наверное, сказалось влияние мещанской среды: сначала дома, в семье кустаря-красильщика, а потом у тетки — портнихи, работающей на дому. Мартынов не упускал случая рассказать Оле о том, как боролся народ с царским режимом, о революции девятьсот пятого года, о молодых революционерах-подпольщиках, о гражданской войне и Ленине. Она частенько забегала к Мартынову домой, с интересом слушала бывальщины “деда Мартына”, как его называли на заводе. Представители заводского комитета и комсомольской организации сердечными словами охарактеризовали молодую женщину. Она была веселой, щедрой на шутки, с завидной сноровкой работала, была редактором стенной газеты, членом завкома. В заводском клубе она играла в самодеятельных спектаклях, ну а по части спорта — первая заводила! Словом, натура жизнерадостная и деятельная. В последние недели Ольга готовилась к отъезду в Свердловск на состязания фигуристок, много тренировалась. День отъезда команды был назначен на утро седьмого декабря. Еще четвертого днем Ольга получила командировочные и железнодорожный билет. А седьмого вечером прибыла с дороги телеграмма от спортсменок о том, что Ольга не пришла на вокзал и они едут без нее. По словам рабочих, молодая женщина никогда не жаловалась на личную жизнь. Правда, с жильем неважно было: жила с мужем в маленькой комнатушке, в деревянном домишке без удобств. Но в мае будет готов еще один заводский жилой дом, Комаровы включены в списки и получат хорошую комнату восемнадцати метров, с балконом. Ольга очень радовалась и как-то призналась Мартынову, что ждет не дождется переезда: уж очень обострились отношения между ее мужем и их соседом-художником, который ухаживал за Ольгой еще до ее замужества. Внешне это пока ничем не проявляется, но до поры, до времени… В тот же день, несколько позже, из отделения милиции привезли папку с бумагами предварительного следствия. Полковник Градов погрузился в изучение дела. Часа через три он вызвал к себе Мозарина. — Я считаю, что раскрытие этого происшествия — дело чести советской милиции! — сказал он. — У нас не могут пропадать люди, как иголки! Я поручаю этот розыск вам, капитан, и хочу, чтобы вы действовали самостоятельно. А меня держите в курсе вашей работы. Мозарин прочел материалы и занес некоторые сведения в свой блокнот. Больше всего его заинтересовали показания Ольгиной подруги Кати Новиковой. Она утверждала, что Ольга в вечер своего исчезновения встретилась с каким-то человеком в коричневой шубе и меховой шапке-бадейке. Разумеется, надо проверить эти показания и, если они подтвердятся, во что бы то ни стало отыскать этого человека. Доложив о своем намерении полковнику, Мозарин поехал в отделение милиции, где велось предварительное следствие. Машина быстро мчалась по зимней столице. Мелькнула улица Горького, где под высокими фонарями искрились заиндевелые липы. Сверкающий поток машин, кативших по очищенной от снега мостовой, бодрящий морозный воздух, немолчный гул великого города — все это, казалось, подгоняло Мозарина: вперед, вперед! Достигнув Покровского-Стрешнева, капитан вышел из машины и направился по дорожке, проложенной меж заснеженных елей. Здесь было тихо, только ветер мягко шелестел в верхушках деревьев, да издалека долетали веселые девичьи голоса. Как мирно и славно кругом и как это не вяжется с тем грустным и пока еще непонятным делом, которым сейчас были заняты мысли Мозарина. Он глубоко вздохнул, потоптался на крыльце, стряхивая снег с сапог, и толкнул дверь в отделение. Участковый уполномоченный Чернов — маленький крепыш с моложавым лицом и седыми висками — знал Комаровых и их соседей. Да, люди в этом доме жили как будто дружно. Никаких склок… Заявлений друг на друга, как бывает иногда, не писали. Ничего подозрительного не замечено… Хорошие жильцы. — Что касается Комарова, — сказал он, — то года два назад на него был составлен протокол за драку в ресторане. И еще был с ним случай: он как-то поспорил с дворником, толкнул его, тот упал и разбил себе голову. Но это все было до его женитьбы на Ольге. Она тогда жила в поселке у тетки. Я часто встречал их вечером, когда они провожали друг дружку. Всегда здоровались со мной. Никогда не видел ее с неизвестным в коричневой шубе… Мозарин и Чернов отправились на квартиру Комаровых. Недавно выпавший снег девственно белел под ярким светом уличных фонарей. Кое-где из открытых форточек звучала приглушенная музыка, тихонько певшая о домашнем тепле и уюте. По дороге Чернов забежал в продовольственный магазин, попросив Мозарина подождать. — Понимаете, — сказал участковый, выйдя оттуда, — на прошлой неделе я обнаружил здесь неправильные весы. Ну послал письмо в районный исполком. И вот сегодня наконец поставили новые. Так-то! Ну, а тому, кто проделал фокус с весами, не поздоровилось… В следующем переулке Чернов опять попросил Мозарина подождать и “взлетел”, как он выразился, на третий этаж, чтобы проверить поведение какого-то “огольца”, связавшегося было с нехорошей компанией. Чернов по дороге еще раз просил лейтенанта “подождать минуточку” и “взлетал на этажи”, чтобы узнать, получил ли работу парень, отсидевший год за соучастие в краже. — Молод был, завлекли… — объяснял Чернов. — А хлопец толковый, как будто образумился. Надо помочь стать на правильную дорожку… По пути он остановил пожилую женщину, спросил: устроили ли в детский сад двух ее внучат от недавно умершей дочери? Они подошли к небольшому красному домику с мезонином, отличавшемуся от своих соседей разве только более широким крыльцом и черной клеенкой на наружных дверях. Ни Анны Ильиничны, ни Румянцева дома не оказалось. Мозарин и Чернов зашли к управляющей домом. — Ну наконец-то! — воскликнула женщина, усаживая работников милиции. — Вот беда-то! Пропала наша Оля! По просьбе капитана она рассказала ему, как Ольга в тот злополучный вечер вышла с мужем из дому. — Я как раз в это время во дворе была. — А вы точно видели, что Румянцев побежал туда, куда пошла Ольга? — спросил Мозарин. — Точно! — подтвердила управляющая. — Но он, должно быть, не догнал ее. Полина Ивановна из двенадцатого номера встретила Ольгу на Тургеневской. Она шла не с Румянцевым. — А с кем? — Вот не скажу — не знаю. Да вы посидите, товарищи, а я быстренько за Полиной Ивановной сбегаю. Вскоре она привела дородную женщину, которая пожала руки участковому и капитану, уселась и заговорила низким голосом: — Прямо скажу: недовольна я милицией! Что же это? Толкутся, толкутся, а ничего найти не могут. Офицер улыбнулся и спросил, с кем она видела вечером четвертого декабря Ольгу Комарову. — Был он, — сказала Полина Ивановна, — среднего роста, полный, румяный, бритый, одет в коричневую шубу и меховую шапку под цвет. — Вы хорошо разглядели его?
— Да не очень…
— А Комарова вас видела?
— Нет. Они шли под руку. Она так увлеклась разговором, что и не взглянула на меня.
— Вы не заметили, у них в руках ничего не было?
— Комарова несла чемоданчик.
Мозарин оставил повестки с вызовом на имя Анны Ильиничны, художника Румянцева и Марьи Максимовны — Ольгиной тетки.
— Теперь куда? — спросил Чернов, когда они вышли на улицу.
— Тургеневская, дом шестнадцать — в вашем участке?
— В моем. За углом направо.
Катя Новикова только что вернулась со своим сынишкой с лыжной прогулки и кормила его.
— Поздновато у вас сын ложится спать, — сказал Мозарин. — Спортсмены должны соблюдать строгий режим!
— Это мы только сегодня так, — засмеялась Катя. — Я поздно с завода вернулась, а Юра кататься захотел. — Потом сразу посерьезнела и спросила: — Вы, наверное, насчет Оли пришли?
— Да, — ответил капитан.
Молодая женщина почти ничего не могла добавить к своим показаниям, прежде записанным в протоколах. По ее мнению, Оля Комарова жила с мужем дружно и мечтала о той поре, когда станет матерью.
— Почему она вечером принесла вам стенную газету? Она ведь могла сама утром шестого привезти ее на завод.
— Во-первых, чтобы я посмотрела оформление газеты — я ведь член редколлегии. Во-вторых, Оля собиралась днем пятого декабря и утром шестого, до работы, потренироваться на коньках. Она ведь фигуристка, — объяснила Катя.
— До этого случая Комарова поручала вам отвозить газету?
— Да, несколько раз.
Мозарин сделал заметку в блокноте и спросил:
— Не знаете ли, художник Румянцев помогал Комаровой оформлять газету?
— Знаю, что он поправлял шаржи. А рисовали их наши ребята.
— Какое участие принимал в газете Комаров?
— По-моему, никакого. Одно время Оля говорила, что он хочет поступить на наш завод инструктором физкультуры. Но почему-то это не удалось.
— Что вы можете сказать о человеке в коричневой шубе? Постарайтесь припомнить все подробности.
— Что я могу сказать? — после короткого раздумья ответила Новикова. — Оля вышла от меня, а я взяла Юру, поставила на подоконник и говорю: “Вон смотри, тетя Оля идет!” В это время к ней и подошел тот человек.
— Он поздоровался с ней?
— Да. Потом что-то сказал, и они пошли. Он взял ее под руку.
— Вы разглядели этого человека? Не бросилась ли вам в глаза какая-нибудь особенность?
— Ростом он повыше Оли, — задумчиво сказала Катя. — Видный мужчина… Румяный… Но это, наверное, от мороза.
— Усы, борода?
— Нет, бритый.
— Очки?
— Нет.
— До этого вы его никогда с Комаровой не видели?
— Нет. Поэтому я и удивилась. Думала спросить Олю, кто это.
— Если увидите этого человека, позвоните мне, — сказал капитан и дал Кате номер своего телефона.
Выйдя с участковым на улицу, Мозарин расспросил у него, как пройти в поселок “Первое мая”. Оказалось — недалеко: по улице Луначарского до железнодорожной станции. Капитан поблагодарил Чернова за помощь, попрощался с ним и зашагал на улицу Луначарского.
— Вы хорошо разглядели его?
— Да не очень…
— А Комарова вас видела?
— Нет. Они шли под руку. Она так увлеклась разговором, что и не взглянула на меня.
— Вы не заметили, у них в руках ничего не было?
— Комарова несла чемоданчик.
Мозарин оставил повестки с вызовом на имя Анны Ильиничны, художника Румянцева и Марьи Максимовны — Ольгиной тетки.
— Теперь куда? — спросил Чернов, когда они вышли на улицу.
— Тургеневская, дом шестнадцать — в вашем участке?
— В моем. За углом направо.
Катя Новикова только что вернулась со своим сынишкой с лыжной прогулки и кормила его.
— Поздновато у вас сын ложится спать, — сказал Мозарин. — Спортсмены должны соблюдать строгий режим!
— Это мы только сегодня так, — засмеялась Катя. — Я поздно с завода вернулась, а Юра кататься захотел. — Потом сразу посерьезнела и спросила: — Вы, наверное, насчет Оли пришли?
— Да, — ответил капитан.
Молодая женщина почти ничего не могла добавить к своим показаниям, прежде записанным в протоколах. По ее мнению, Оля Комарова жила с мужем дружно и мечтала о той поре, когда станет матерью.
— Почему она вечером принесла вам стенную газету? Она ведь могла сама утром шестого привезти ее на завод.
— Во-первых, чтобы я посмотрела оформление газеты — я ведь член редколлегии. Во-вторых, Оля собиралась днем пятого декабря и утром шестого, до работы, потренироваться на коньках. Она ведь фигуристка, — объяснила Катя.
— До этого случая Комарова поручала вам отвозить газету?
— Да, несколько раз.
Мозарин сделал заметку в блокноте и спросил:
— Не знаете ли, художник Румянцев помогал Комаровой оформлять газету?
— Знаю, что он поправлял шаржи. А рисовали их наши ребята.
— Какое участие принимал в газете Комаров?
— По-моему, никакого. Одно время Оля говорила, что он хочет поступить на наш завод инструктором физкультуры. Но почему-то это не удалось.
— Что вы можете сказать о человеке в коричневой шубе? Постарайтесь припомнить все подробности.
— Что я могу сказать? — после короткого раздумья ответила Новикова. — Оля вышла от меня, а я взяла Юру, поставила на подоконник и говорю: “Вон смотри, тетя Оля идет!” В это время к ней и подошел тот человек.
— Он поздоровался с ней?
— Да. Потом что-то сказал, и они пошли. Он взял ее под руку.
— Вы разглядели этого человека? Не бросилась ли вам в глаза какая-нибудь особенность?
— Ростом он повыше Оли, — задумчиво сказала Катя. — Видный мужчина… Румяный… Но это, наверное, от мороза.
— Усы, борода?
— Нет, бритый.
— Очки?
— Нет.
— До этого вы его никогда с Комаровой не видели?
— Нет. Поэтому я и удивилась. Думала спросить Олю, кто это.
— Если увидите этого человека, позвоните мне, — сказал капитан и дал Кате номер своего телефона.
Выйдя с участковым на улицу, Мозарин расспросил у него, как пройти в поселок “Первое мая”. Оказалось — недалеко: по улице Луначарского до железнодорожной станции. Капитан поблагодарил Чернова за помощь, попрощался с ним и зашагал на улицу Луначарского.
4
На дороге чистым пышным слоем лежал снег, свежий и крепкий морозный воздух славно пахнул антоновскими яблоками. Вокруг стояла нерушимая серебряная тишина ночи. Только изредка мягко повизгивал снег под ногой, да где-то за домиками во дворе собака с лязгом тащила за собой по проволоке скрипучую цепь. Мозарин думал о неизвестном человеке. Куда он пошел в тот вечер с Комаровой? Вот и улица Луначарского. Здесь шли они — неизвестный и Ольга — и разговаривали словно бы дружелюбно. Быть может, он насильно завлек ее в один из этих домов? Нет! Она бы сопротивлялась, закричала. А на улице несомненно гуляло много людей: ведь это был канун праздника — Дня Конституции. Может быть, размышлял капитан, человек в коричневой шубе под каким-нибудь благовидным предлогом заманил ее в один из этих домов, совершил подлое дело, а потом, переодевшись, скрылся? Но ведь всюду в домах люди… Нет, в этих местах неизвестный не мог совершить преступление. Может быть, он сделал это в поселке “Первое мая”? Вот и поселок, ярко освещенный фонарями. Он огорожен высоким забором, в воротах — будка, в ней — сторож. В поселке всегда людно. А в тот вечер, вероятно, особенно. Своих всех знают в лицо. Чужих обязательно приметят. Мог ли неизвестный с женщиной пройти сюда незаметно, а потом один так же незаметно уйти? Конечно, нет! Куда же все-таки они пошли? Когда и где исчезла Ольга? Единственный возможный ответ: они свернули на железнодорожную станцию. Может быть, там и следует искать разгадку? Кстати, как видно из материалов предварительного следствия, местные оперативные работники не обратили на станцию внимания. На платформе гуляли пассажиры, ожидая поезда. Мозарин прошел в комнату дежурного по станции и спросил его, кто дежурил четвертого декабря, в ночь на пятое. — Вечером я дежурил, — ответил железнодорожник. Капитан подробно описал внешность и одежду неизвестного и Ольги. Дежурный покачал головой: — Таких людей я не видел. Да разве углядишь? Народу много… Но вот, может быть, товарищ Коробочкин? Он после меня дежурил, когда публики уже поменьше. Бревенчатый домик Коробочкина стоял в глубине заснеженного сада. Обойдя пухлый сугроб, капитан позвонил у двери. На крыльце показалась пожилая женщина в теплом платке, накинутом на голову, и с фонарем “летучая мышь” в руке.
— Товарищ Коробочкин отдыхает, — сказала она. — Пожалуйте завтра утречком.
Мозарин объяснил, кто он. Женщина провела капитана в сени и попросила вытереть сапоги о половичок. Раздевшись, Мозарин вошел в небольшую комнату. Аппетитно пахло ржаным хлебом, в углу мирно тикали “ходики”. Над комодом, где стояли старомодное, в виде сердца, зеркало, красная шкатулочка и свинка-копилка, висел портрет девушки в гимнастерке с золотой звездочкой на груди.
Через несколько минут перед Мозариным предстал человек лет шестидесяти, лысоватый, с морщинистым, обветренным лицом и зоркими серыми глазами. Неслышно ступая по свежеокрашенному полу, он поздоровался с гостем и усадил его в деревянное кресло. Коробочкин уже слышал об исчезновении Комаровой и попросил, если можно, рассказать ему об этом подробнее.
Между тем жена Коробочкина уже постлала на стол белую с вышитыми малиновыми цветами скатерть, поставила стаканы, блюдо с ржаными лепешками, тарелку с медом в сотах. Потом принесла пофыркивающий сверкающий самовар и водворила на него фарфоровый, с отбитым носиком чайник. Капитан отказался было от чая, но Коробочкин заявил, что не любит тех, кто пренебрегает его хлебом-солью.
— Ты, товарищ капитан, кого хочешь спроси про Коробочкина. Меня здесь все знают: шутка ли, сорок лет служу на транспорте и сорок лет живу в Покровском-Стрешневе.
Кивком головы он указал на портрет девушки:
— Дочь моя, Ксана. Посмертную награду получила…
Он помолчал, вздохнул, потом поднял голову.
— Теперь молодежь-то какая у нас! Беречь ее надо, любить… Ну говори, что с этой женщиной приключилось?
Комаровых старик Коробочкин не знал. Но оказалось, что он хорошо знаком с Румянцевым. Художник учил декораторов драматического кружка железнодорожников. Вечером четвертого декабря Коробочкин видел его в клубе на вечере, который начался в семь тридцать. А после вечера Румянцева в клубе уже не было видно, хотя начались танцы.
Мозарин рассказал о таинственном спутнике Комаровой.
— Значит, этого человека видела подруга Комаровой Катя? Как фамилия, где живет? Это я для памяти… А какой адрес Полины Ивановны, что видела Комарову с этим мужчиной? Есть! Еще раз повторите: где видели этого человека с Комаровой? — спрашивал старик, записывая. — Ну так. Теперь я скажу.
Он встал, бесшумно прошелся по комнате и остановился перед офицером.
— Я этого человека видел в ту ночь. Я вышел вечером провожать поезд на Москву. На перроне всего три—четыре пассажира. Слышу — главный уже дает свисток. Только поезд тронулся, гляжу — бежит человек. Я крикнул: “Стой! Куда? Под вагон упадешь!” А он вскочил на подножку и мне еще рукой помахал.
— А к моему описанию подходит?
— Шуба, шапка — в точности. Ростом с меня, собою видный, лицо красное и тяжело дышит. Ну это оттого, что бежал.
— Когда уходит поезд?
— В двадцать сорок семь. Точно!
Капитан решил про себя, что местным оперативным работникам придется подежурить на станции. Может быть, человек в шубе опять появится? Он попросил Коробочкина, если тот увидит неизвестного, немедленно позвонить в отделение милиции или ему, Мозарину.
— Вы не беспокойтесь, — заявил железнодорожник. — Не успеет он на перрон ступить, как мне дадут знать.
Мозарин был доволен, что к его просьбе отнеслись серьезно. Но как бы не перестарался Коробочкин! Прощаясь с гостеприимным хозяином, он объяснил, что, возможно, неизвестный ни в чем не виноват и что надо действовать осторожно.
— Да что вы, товарищ капитан! — воскликнул железнодорожник, провожая гостя в сени. — Думаете, не сумеем тонко подойти? Да в лучшем виде!..
Поезд тронулся. Мозарин уселся у окна, покрытого игольчатыми узорами. Он присматривался к немногочисленным пассажирам и размышлял под равномерный стук колес. Неизвестный в коричневой шубе не выходил у него из головы. Почему в тот вечер он так спешил уехать из Покровского-Стрешнева? Очевидно, ему негде было переночевать. Значит, он не житель этих мест и не имеет здесь ни родственников, ни близких знакомых. А может быть, совершенное злодеяние гнало его отсюда? Но, возможно, все объясняется проще: человек служит в Москве, утром должен явиться на службу, потому и хотел ночевать в городе… Хотя все это происходило под праздничный день. Но человек может служить в магазине, на транспорте…
Десятки догадок возникали в голове офицера и тут же рушились. Он прогрел дыханием небольшой кружок в ледяном слое, покрывавшем окно вагона, и поглядел в него. На горизонте, как кошачий глаз в темноте, сверкнул зеленый огонек семафора.
Капитан поднялся в Уголовный розыск. Несмотря на поздний час, там еще напряженно трудились. Он прошел в научно-технический отдел, в лабораторию эксперта Нади Корневой. Она работала, склонившись над микроскопом. Рядом на штативах стояли реторты, колбы и пробирки с разноцветными жидкостями.
— Хорошо в Покровском-Стрешневе! — сказал Мозарин, присев на стул. — Как будто и воздух тот же, и снег, а как чудесно! Морозно, сосны да ели высоченные, а между ними тропинки в снегу… Великолепно, Наденька!
— Я вижу, капитан Мозарин в лирическом настроении, — проговорила Корнева, отрываясь от микроскопа и что-то записывая.
— Пожалуй, да, — ответил он, глядя на нее посветлевшими глазами. — Вот почему я после того, как доложусь полковнику, возьму да и провожу вас.
— Когда это будет, Михаил Дмитриевич?
— Через час—полтора.
— Я закончу работу через тридцать, самое большее — через сорок минут. Придется вам проводить меня в другой раз.
Градов выслушал рассказ капитана о поездке в Покровское-Стрешнево, несколько минут молча размышлял. Недокуренная папироса так и осталась дымить в пепельнице.
— Я хочу, — наконец проговорил полковник, — чтобы мы совместно разобрались в самых основных вопросах этого дела. Прежде всего установим самое главное: уехала ли Комарова куда-нибудь? Судя по протоколам, так вначале предполагали соседи по квартире: Анна Ильинична и Румянцев. Или она никуда не уезжала?
— Я думаю, — сказал Мозарин, — что женщина не может уехать, не взяв с собой никаких вещей. А у нее в руках был один чемоданчик с коньками и шерстяным тренировочным костюмом.
— Это во-первых, — согласился Градов. — А во-вторых, обратили ли вы внимание на маленькую подробность в протоколе обыска комнаты Комаровых?
— Письма?
— Нет. Сберегательная книжка Ольги Комаровой. Она у них общая с мужем. Третьего декабря, за день до исчезновения, она внесла на нее восемьсот сорок рублей. Разве так поступит женщина, которая собирается уехать от мужа навсегда?
— Конечно, нет!
— Стало быть, вероятнее всего, что Комарова никуда не уезжала.
— Согласен.
— Теперь решим еще один вопрос. Жива ли Комарова?
— Я полагал, что она могла скрыться у кого-нибудь в Покровском-Стрешневе.
— Не забывайте, что уже прошло шесть дней.
— Да. За это время или ее должны были найти, или она сама объявилась бы.
— Этого не случилось. Стало быть, Комаровой нет в живых. Согласны?
— Не хочется этому верить, товарищ полковник, но приходится.
Градов изложил свою версию. Если бы Комарова умерла естественной смертью, ее так или иначе обнаружили бы. Несмотря на все старания оперативных работников, этого не случилось. Остается единственное предположение: Комарова убита, и труп ее спрятан. Мозарин правильно поступил, обратив внимание на железную дорогу. Чертежницу искали только по пути от дома Комаровых до поселка “Первое мая”. Но ее могли увезти на какую-нибудь станцию, заманить в лес — кругом овраги, реки с прорубями.
Затем Градов предложил Мозарину обсудить еще один вопрос: с какой целью убили Комарову. В чем могла быть причина преступления? Капитан напомнил полковнику, что, судя по приложенной к делу фотографии, Комарова — красивая женщина. Преступником могла руководить ревность. Полковник указал на то обстоятельство, что Комарова — чертежница-конструктор оборонного завода. Возможно, она знала о каком-либо преступлении, и ее убрали с дороги. Может быть, кто-нибудь пытался выведать у нее военнуютайну, но ничего не добился — и тогда свел счеты с молодой женщиной.
— Ни на минуту мы не должны забывать, — сказал Градов, — что в наше время специально обученные диверсанты и шпионы, совершая политическое преступление, стараются придать ему вид уголовного. Диверсанта и шпиона ждет расстрел, а уголовный преступник может отсидеть положенный срок, а чаще надеется на побег, который организует оставшийся на воле резидент. Шпион и диверсант под маской уголовника — это самый опасный и трудно уловимый тип преступника. Он будет изощряться в разных вывертах, стараясь отвести от себя обвинение. Словом, ведя следствие по такому сложному и запутанному делу, надо всегда быть начеку.
Мозарин считал, что прежде, чем ответить на все эти вопросы, надо подробно выяснить, как жила Комарова, какие люди окружали ее. Полковник добавил, что, только изучив и проанализировав весь добытый материал, можно напасть на заметенные убийцей следы.
Но, хотя цель убийства еще неясна, все же, утверждал Градов, уже можно наметить путь, по которому следует вести поиск.
Сравнивая подобные случаи из своей практики и вспоминая примеры из книг по криминалистике, полковник приходил к заключению, что Комарову лишил жизни не профессиональный бандит и не подосланный убийца, — такие преступники не станут прятать труп, а постараются возможно быстрее скрыться. Здесь же, наоборот, старательно спрятали труп, стремясь, чтобы убийство не было обнаружено как можно дольше. Очевидно, хотели выиграть время, обдумать, не допущено ли какого-нибудь промаха, который можно устранить. Кроме того, знали, что факты, особенно их подробности, с течением времени тускнеют в памяти людей. А это скажется на показаниях свидетелей, затруднит следствие.
— Все это, вместе взятое, наводит на мысль, — подытожил беседу полковник, — что Ольгу Комарову убил близкий ей человек или ее очень хороший знакомый. Вам, капитан, нужно обратить самое пристальное внимание на Комарова, затем на художника Румянцева…
— И на неизвестного в коричневой шубе, — добавил Мозарин.
— При условии, если он подпадет под категорию тех, о которых мы говорили, — согласился Градов.
Когда офицеры вышли из кабинета, то увидели, что в комнате секретарши, положив голову на высокую ручку кресла, спит Корнева. В пыжиковой шубке и шапочке, из-под которой выбился каштановый локон, с подложенной под щеку рукой, она казалась школьницей, оставленной после уроков классной руководительницей. Мозарин было шагнул к девушке, чтобы разбудить ее, но полковник остановил его и увел обратно в кабинет.
— Капитан, — проговорил он, — старайтесь во всех случаях жизни быть психологом. Если вы ее разбудите, она сконфузится и расстроится. Вы этого хотите добиться?
— Да нет! — смутился Мозарин. — Я просто хотел ее проводить.
— Понятно. Разбудите ее, не окликая и не прикасаясь к ней.
— Вот это задачка! — улыбнулся Мозарин. — Как мой батька говорил: “На полдник, Мотря, курку свари, а к вечеру смотри, чтоб та курка яичко снесла”.
Он на секунду призадумался, потом снял трубку со служебного аппарата и набрал номер телефона секретарши. За стеной раздался резкий звонок. Девушка вскочила.
Увидя выходящего из кабинета полковника, она взяла со стола бумажку и протянула ему. Это была одна из порученных ей экспертиз. Градов поблагодарил Корневу, пожурил за то, что она поздно засиживается на службе, и пошел с нею и Мозариным по коридору. Они спустились по лестнице. У подъезда полковника ждала машина, и он предложил развезти молодых людей по домам.
— Нет, — возразила Корнева, — я хочу, чтобы Михаил Дмитриевич показал мне ту зеленую звезду, о которой он говорил с таким воодушевлением.
— Ну что ж! — ответил Градов, смеясь. — Я знаю по себе, как приятно в юности изучать небесные светила. Счастливого пути, звездочеты!
Бревенчатый домик Коробочкина стоял в глубине заснеженного сада. Обойдя пухлый сугроб, капитан позвонил у двери. На крыльце показалась пожилая женщина в теплом платке, накинутом на голову, и с фонарем “летучая мышь” в руке.
— Товарищ Коробочкин отдыхает, — сказала она. — Пожалуйте завтра утречком.
Мозарин объяснил, кто он. Женщина провела капитана в сени и попросила вытереть сапоги о половичок. Раздевшись, Мозарин вошел в небольшую комнату. Аппетитно пахло ржаным хлебом, в углу мирно тикали “ходики”. Над комодом, где стояли старомодное, в виде сердца, зеркало, красная шкатулочка и свинка-копилка, висел портрет девушки в гимнастерке с золотой звездочкой на груди.
Через несколько минут перед Мозариным предстал человек лет шестидесяти, лысоватый, с морщинистым, обветренным лицом и зоркими серыми глазами. Неслышно ступая по свежеокрашенному полу, он поздоровался с гостем и усадил его в деревянное кресло. Коробочкин уже слышал об исчезновении Комаровой и попросил, если можно, рассказать ему об этом подробнее.
Между тем жена Коробочкина уже постлала на стол белую с вышитыми малиновыми цветами скатерть, поставила стаканы, блюдо с ржаными лепешками, тарелку с медом в сотах. Потом принесла пофыркивающий сверкающий самовар и водворила на него фарфоровый, с отбитым носиком чайник. Капитан отказался было от чая, но Коробочкин заявил, что не любит тех, кто пренебрегает его хлебом-солью.
— Ты, товарищ капитан, кого хочешь спроси про Коробочкина. Меня здесь все знают: шутка ли, сорок лет служу на транспорте и сорок лет живу в Покровском-Стрешневе.
Кивком головы он указал на портрет девушки:
— Дочь моя, Ксана. Посмертную награду получила…
Он помолчал, вздохнул, потом поднял голову.
— Теперь молодежь-то какая у нас! Беречь ее надо, любить… Ну говори, что с этой женщиной приключилось?
Комаровых старик Коробочкин не знал. Но оказалось, что он хорошо знаком с Румянцевым. Художник учил декораторов драматического кружка железнодорожников. Вечером четвертого декабря Коробочкин видел его в клубе на вечере, который начался в семь тридцать. А после вечера Румянцева в клубе уже не было видно, хотя начались танцы.
Мозарин рассказал о таинственном спутнике Комаровой.
— Значит, этого человека видела подруга Комаровой Катя? Как фамилия, где живет? Это я для памяти… А какой адрес Полины Ивановны, что видела Комарову с этим мужчиной? Есть! Еще раз повторите: где видели этого человека с Комаровой? — спрашивал старик, записывая. — Ну так. Теперь я скажу.
Он встал, бесшумно прошелся по комнате и остановился перед офицером.
— Я этого человека видел в ту ночь. Я вышел вечером провожать поезд на Москву. На перроне всего три—четыре пассажира. Слышу — главный уже дает свисток. Только поезд тронулся, гляжу — бежит человек. Я крикнул: “Стой! Куда? Под вагон упадешь!” А он вскочил на подножку и мне еще рукой помахал.
— А к моему описанию подходит?
— Шуба, шапка — в точности. Ростом с меня, собою видный, лицо красное и тяжело дышит. Ну это оттого, что бежал.
— Когда уходит поезд?
— В двадцать сорок семь. Точно!
Капитан решил про себя, что местным оперативным работникам придется подежурить на станции. Может быть, человек в шубе опять появится? Он попросил Коробочкина, если тот увидит неизвестного, немедленно позвонить в отделение милиции или ему, Мозарину.
— Вы не беспокойтесь, — заявил железнодорожник. — Не успеет он на перрон ступить, как мне дадут знать.
Мозарин был доволен, что к его просьбе отнеслись серьезно. Но как бы не перестарался Коробочкин! Прощаясь с гостеприимным хозяином, он объяснил, что, возможно, неизвестный ни в чем не виноват и что надо действовать осторожно.
— Да что вы, товарищ капитан! — воскликнул железнодорожник, провожая гостя в сени. — Думаете, не сумеем тонко подойти? Да в лучшем виде!..
Поезд тронулся. Мозарин уселся у окна, покрытого игольчатыми узорами. Он присматривался к немногочисленным пассажирам и размышлял под равномерный стук колес. Неизвестный в коричневой шубе не выходил у него из головы. Почему в тот вечер он так спешил уехать из Покровского-Стрешнева? Очевидно, ему негде было переночевать. Значит, он не житель этих мест и не имеет здесь ни родственников, ни близких знакомых. А может быть, совершенное злодеяние гнало его отсюда? Но, возможно, все объясняется проще: человек служит в Москве, утром должен явиться на службу, потому и хотел ночевать в городе… Хотя все это происходило под праздничный день. Но человек может служить в магазине, на транспорте…
Десятки догадок возникали в голове офицера и тут же рушились. Он прогрел дыханием небольшой кружок в ледяном слое, покрывавшем окно вагона, и поглядел в него. На горизонте, как кошачий глаз в темноте, сверкнул зеленый огонек семафора.
Капитан поднялся в Уголовный розыск. Несмотря на поздний час, там еще напряженно трудились. Он прошел в научно-технический отдел, в лабораторию эксперта Нади Корневой. Она работала, склонившись над микроскопом. Рядом на штативах стояли реторты, колбы и пробирки с разноцветными жидкостями.
— Хорошо в Покровском-Стрешневе! — сказал Мозарин, присев на стул. — Как будто и воздух тот же, и снег, а как чудесно! Морозно, сосны да ели высоченные, а между ними тропинки в снегу… Великолепно, Наденька!
— Я вижу, капитан Мозарин в лирическом настроении, — проговорила Корнева, отрываясь от микроскопа и что-то записывая.
— Пожалуй, да, — ответил он, глядя на нее посветлевшими глазами. — Вот почему я после того, как доложусь полковнику, возьму да и провожу вас.
— Когда это будет, Михаил Дмитриевич?
— Через час—полтора.
— Я закончу работу через тридцать, самое большее — через сорок минут. Придется вам проводить меня в другой раз.
Градов выслушал рассказ капитана о поездке в Покровское-Стрешнево, несколько минут молча размышлял. Недокуренная папироса так и осталась дымить в пепельнице.
— Я хочу, — наконец проговорил полковник, — чтобы мы совместно разобрались в самых основных вопросах этого дела. Прежде всего установим самое главное: уехала ли Комарова куда-нибудь? Судя по протоколам, так вначале предполагали соседи по квартире: Анна Ильинична и Румянцев. Или она никуда не уезжала?
— Я думаю, — сказал Мозарин, — что женщина не может уехать, не взяв с собой никаких вещей. А у нее в руках был один чемоданчик с коньками и шерстяным тренировочным костюмом.
— Это во-первых, — согласился Градов. — А во-вторых, обратили ли вы внимание на маленькую подробность в протоколе обыска комнаты Комаровых?
— Письма?
— Нет. Сберегательная книжка Ольги Комаровой. Она у них общая с мужем. Третьего декабря, за день до исчезновения, она внесла на нее восемьсот сорок рублей. Разве так поступит женщина, которая собирается уехать от мужа навсегда?
— Конечно, нет!
— Стало быть, вероятнее всего, что Комарова никуда не уезжала.
— Согласен.
— Теперь решим еще один вопрос. Жива ли Комарова?
— Я полагал, что она могла скрыться у кого-нибудь в Покровском-Стрешневе.
— Не забывайте, что уже прошло шесть дней.
— Да. За это время или ее должны были найти, или она сама объявилась бы.
— Этого не случилось. Стало быть, Комаровой нет в живых. Согласны?
— Не хочется этому верить, товарищ полковник, но приходится.
Градов изложил свою версию. Если бы Комарова умерла естественной смертью, ее так или иначе обнаружили бы. Несмотря на все старания оперативных работников, этого не случилось. Остается единственное предположение: Комарова убита, и труп ее спрятан. Мозарин правильно поступил, обратив внимание на железную дорогу. Чертежницу искали только по пути от дома Комаровых до поселка “Первое мая”. Но ее могли увезти на какую-нибудь станцию, заманить в лес — кругом овраги, реки с прорубями.
Затем Градов предложил Мозарину обсудить еще один вопрос: с какой целью убили Комарову. В чем могла быть причина преступления? Капитан напомнил полковнику, что, судя по приложенной к делу фотографии, Комарова — красивая женщина. Преступником могла руководить ревность. Полковник указал на то обстоятельство, что Комарова — чертежница-конструктор оборонного завода. Возможно, она знала о каком-либо преступлении, и ее убрали с дороги. Может быть, кто-нибудь пытался выведать у нее военнуютайну, но ничего не добился — и тогда свел счеты с молодой женщиной.
— Ни на минуту мы не должны забывать, — сказал Градов, — что в наше время специально обученные диверсанты и шпионы, совершая политическое преступление, стараются придать ему вид уголовного. Диверсанта и шпиона ждет расстрел, а уголовный преступник может отсидеть положенный срок, а чаще надеется на побег, который организует оставшийся на воле резидент. Шпион и диверсант под маской уголовника — это самый опасный и трудно уловимый тип преступника. Он будет изощряться в разных вывертах, стараясь отвести от себя обвинение. Словом, ведя следствие по такому сложному и запутанному делу, надо всегда быть начеку.
Мозарин считал, что прежде, чем ответить на все эти вопросы, надо подробно выяснить, как жила Комарова, какие люди окружали ее. Полковник добавил, что, только изучив и проанализировав весь добытый материал, можно напасть на заметенные убийцей следы.
Но, хотя цель убийства еще неясна, все же, утверждал Градов, уже можно наметить путь, по которому следует вести поиск.
Сравнивая подобные случаи из своей практики и вспоминая примеры из книг по криминалистике, полковник приходил к заключению, что Комарову лишил жизни не профессиональный бандит и не подосланный убийца, — такие преступники не станут прятать труп, а постараются возможно быстрее скрыться. Здесь же, наоборот, старательно спрятали труп, стремясь, чтобы убийство не было обнаружено как можно дольше. Очевидно, хотели выиграть время, обдумать, не допущено ли какого-нибудь промаха, который можно устранить. Кроме того, знали, что факты, особенно их подробности, с течением времени тускнеют в памяти людей. А это скажется на показаниях свидетелей, затруднит следствие.
— Все это, вместе взятое, наводит на мысль, — подытожил беседу полковник, — что Ольгу Комарову убил близкий ей человек или ее очень хороший знакомый. Вам, капитан, нужно обратить самое пристальное внимание на Комарова, затем на художника Румянцева…
— И на неизвестного в коричневой шубе, — добавил Мозарин.
— При условии, если он подпадет под категорию тех, о которых мы говорили, — согласился Градов.
Когда офицеры вышли из кабинета, то увидели, что в комнате секретарши, положив голову на высокую ручку кресла, спит Корнева. В пыжиковой шубке и шапочке, из-под которой выбился каштановый локон, с подложенной под щеку рукой, она казалась школьницей, оставленной после уроков классной руководительницей. Мозарин было шагнул к девушке, чтобы разбудить ее, но полковник остановил его и увел обратно в кабинет.
— Капитан, — проговорил он, — старайтесь во всех случаях жизни быть психологом. Если вы ее разбудите, она сконфузится и расстроится. Вы этого хотите добиться?
— Да нет! — смутился Мозарин. — Я просто хотел ее проводить.
— Понятно. Разбудите ее, не окликая и не прикасаясь к ней.
— Вот это задачка! — улыбнулся Мозарин. — Как мой батька говорил: “На полдник, Мотря, курку свари, а к вечеру смотри, чтоб та курка яичко снесла”.
Он на секунду призадумался, потом снял трубку со служебного аппарата и набрал номер телефона секретарши. За стеной раздался резкий звонок. Девушка вскочила.
Увидя выходящего из кабинета полковника, она взяла со стола бумажку и протянула ему. Это была одна из порученных ей экспертиз. Градов поблагодарил Корневу, пожурил за то, что она поздно засиживается на службе, и пошел с нею и Мозариным по коридору. Они спустились по лестнице. У подъезда полковника ждала машина, и он предложил развезти молодых людей по домам.
— Нет, — возразила Корнева, — я хочу, чтобы Михаил Дмитриевич показал мне ту зеленую звезду, о которой он говорил с таким воодушевлением.
— Ну что ж! — ответил Градов, смеясь. — Я знаю по себе, как приятно в юности изучать небесные светила. Счастливого пути, звездочеты!
5
Утром Уголовный розыск послал во все отделения милиции описание человека в коричневой шубе. А днем Мозарин поехал на завод, где работала Комарова. В обеденный перерыв капитан встретился с Мартыновым в красном уголке и рассказал ему о неизвестном человеке. Слушая офицера, старик расстроился. Мозарин скорей догадался, чем разобрал сказанные полушепотом слова: — Верно, дочки уже в живых нет… Мартынов обещал порасспросить рабочих, не видел ли кто-нибудь неизвестного в районе завода. Когда капитан вернулся на службу, его ждала здесь Марья Максимовна, тетка Комаровой, добродушная полная женщина. Марья Максимовна рассказала, что в последние годы перед замужеством Ольга жила у нее и училась в техникуме. Она познакомилась с художником Румянцевым, ходила вместе с ним в театр, на каток. Тетка, да и все домашние думали, что эта дружба кончится замужеством Ольги. Но однажды Румянцев познакомил девушку со своим приятелем Комаровым. Это было на катке. Тренер по гимнастике был и неплохим фигуристом. Ольге давно нравился этот красивый, близкий к искусству вид спорта, и Комаров начал учить ее фигурному катанию и танцам на льду. Марья Максимовна не замечала, чтобы Румянцев ревновал Ольгу к тренеру. Правда, как-то раз художник зашел за Ольгой, чтобы, как они условились, пойти куда-то вместе. Девушка оставила ему записку. Прочитав ее, Румянцев назвал Ольгу капризной девчонкой. — А вы читали эту записку? — спросил Мозарин. — Ну конечно! В записке Ольга извинялась перед Румянцевым. На катке был карнавал, и она пошла туда с Комаровым. — Скажите, какое впечатление производил на вас художник? — Да как сказать… По-моему, любил он, по-настоящему любил Ольгу! Марья Максимовна призналась, что сначала это ей пришлось по душе. Но когда в дом стал захаживать Комаров, тетка отдала ему свои симпатии. Тренер обладал твердым характером и практическим умом. Ему было лет тридцать, художнику — уже под сорок. Комаров никогда не упускал случая помочь девушке: то раздобудет нужную книгу, то починит радиоприемник. Не только Ольга, но и Марья Максимовна пользовалась его советами и помощью. Очень скоро он сделался своим человеком в доме. Румянцев стал все реже и реже навещать Ольгу. Приходя, он сидел молча, насупившись. Присутствие его тяготило девушку. Румянцев задумал писать ее портрет, но Ольга не захотела. И художник совсем перестал приходить: появился только на вечеринке после того, как она стала женой Комарова. Тут, за ужином, он пытался сказать речь, сбился, покраснел и замолчал… — Скажу вам по совести, — говорила женщина, — я рада была, что Ольга вышла за Петра, только не нравилось мне, что он увез ее к себе, в квартиру, где жил и Румянцев. Долго ли до греха, до ссоры… — Припомните, — сказал Мозарин, — в последнее время ваша племянница ничего не рассказывала вам о Румянцеве? — Как же! Он уговаривал ее развестись с Комаровым и уехать с ним на Кавказ. Говорил, будто там ему предлагали место в каком-то музее. Ну, племянница заявила, что, если он еще раз сделает ей такое предложение, она все расскажет мужу. По крайней мере, Оля меня так уверяла. А там бог ее знает, чужая душа — потемки! — А как вел себя Румянцев, когда узнал, что ваша племянница исчезла? — Волновался очень. И все каялся, что не пошел ее провожать. — Скажите, как жила ваша племянница с мужем? Не жаловалась на него? — Нет, этого не скажу. — Никогда не плакала? — Никогда… Но уж если хотите знать, предупредила меня, что придет на мой день рождения и о чем-то важном расскажет. Ну это понятно: все-таки я ей родня! — Возможно, хотела рассказать что-нибудь о службе или о спорте? — Нет. Сказала, что это связано с Петей. А Петя-то у нее один. Мозарин спросил тетку, не попадалась ли ей на улице Ольга вместе с неизвестным в коричневой шубе. Не говорила ли она о нем. Марья Максимовна решительно заявила, что неизвестного не видела и ничего о нем от племянницы не слыхала. — Вся моя семья горюет! — сокрушалась тетка. — Родители племянницы голову потеряли. Ее мать — моя сестра — каждый день по две, а то и по три телеграммы шлет. Уж вы постарайтесь, товарищ, отыщите племянницу. Она заплакала… Соседка по квартире — Анна Ильинична, белошвейка — оказалась словоохотливой женщиной. Она объяснила, что ее покойный муж был капельмейстером и раньше они занимали всю квартиру. После его смерти она оставила себе две смежные комнаты, а в другие две скоро въехали по ордеру художник Румянцев и его приятель Комаров. Дружно жили около двух лет, вели общее хозяйство. Анна Ильинична не могла вспомнить о какой-либо ссоре между ними. Художник обычно поздно возвращался домой, и Комаров отпирал ему дверь. Каждое утро по очереди убирали комнаты. Художник зарабатывал больше, чем Комаров, и часто давал ему взаймы. Их отношения были хорошими до появления Ольги. Первое время девушка не бывала у Румянцева, говорила, что у нее очень строгая тетка. А потом иногда забегала на пять—десять минут. О знакомстве Комарова с Ольгой Анна Ильинична узнала с его же слов. Он сказал: “Таких девушек — поискать!” Тренер обычно ходил круглый год в спортивных тренировочных костюмах. А тут вдруг купил себе серый в полоску костюм, модный галстук, шикарные туфли. Не раз она видела, как он, собираясь в гости к Ольге, прихватывал с собой то букет цветов, то коробку конфет. — Румянцев про это знал? — спросил капитан. — Да как же не знать! — воскликнула женщина. — Он даже мне сказал: “Вот после этого и знакомь друзей с любимой девушкой!” Ну, а выйдя замуж, Ольга поселилась у нас. — После замужества Ольга продолжала дружить с Румянцевым? — Заходила, просто по-соседски: куском пирога угостит, варенья предложит… Откровенно говоря, он к ней чаще заходил. Видела: сидит да смотрит на нее влюбленными глазами. — А не было ли между ними крупного разговора? — Да ведь как сказать, товарищ начальник… Мозарин повторил вопрос. И Анна Ильинична рассказала, что как-то застала Ольгу с художником на лестничной площадке. Они громко разговаривали. Анна Ильинична возвращалась с базара, в руке у нее была тяжелая сумка. Она медленно поднималась по ступенькам. До ее слуха донеслись отрывки некоторых фраз. Румянцев настаивал, чтобы Ольга куда-то с ним поехала. Заметив соседку, художник пошел вниз по лестнице, а Ольга — наверх. Конечно, Анна Ильинична полюбопытствовала, о чем говорил Румянцев с Ольгой. И услышала, как Оля с досадой сказала, что художник “совсем рехнулся”. По этому поводу свидетельница с Ольгой не говорила. — Вы сказали в отделении, что в ту ночь, когда исчезла Комарова, Румянцев вернулся домой только под утро? — Да. — Вы уверены, Анна Ильинична, что его шуба, брюки, перчатки были измазаны только глиной? Может быть, вы видели следы крови? — Что вы, товарищ начальник! — воскликнула женщина, всплеснув руками. — Румянцев мог с умыслом испачкаться в красной глине, чтобы скрыть следы крови. — Это верно, мог, — согласилась она. — А я — то все отмыла. — Он сам просил об этом? — Не просил, а сказал: “Как я завтра в редакцию пойду?” — Значит, Румянцев был тепло одет? В ночь с четвертого на пятое декабря термометр показывал шесть-семь градусов ниже нуля. Не так уж холодно! А в протоколе записаны ваши слова: “Румянцев дрожал”… — Дрожал. Врать не стану. Да уж он такой… зяблик… Всегда пристает: “Протопили бы печь, Анна Ильинична, руки мерзнут — рисовать не могу”. Мозарин пригласил к себе секретаря партийной организации редакции, в которой работал Румянцев. Секретарь знал художника около года, считал его талантливым карикатуристом, неплохим общественником, но указал на отрицательную сторону его характера — вспыльчивость. Капитан спросил, как вел себя Румянцев в последние дни. Оказалось, художник сразу же рассказал о том, что случилось с его соседкой Комаровой. В редакции знали о любви Румянцева к этой женщине, сочувствовали ему. Художник явно нервничал, работал хуже… Румянцев пришел в Уголовный розыск на следующий день утром. Он сидел в комнате секретарши и курил одну папиросу за другой. Войдя к Мозарину, извинился, что не мог прийти вчера: редактору не понравился его рисунок, пришлось переделывать. Капитан предложил Румянцеву рассказать об Ольге Комаровой все, что он считает нужным. Для художника существовали две Ольги: одна до замужества, другая — после. Первая — жизнерадостная, душевная. Она умела дружить с людьми, с ней было легко и хорошо. В чертежно-конструкторском бюро Ольга считалась лучшей работницей. Все спорилось в ее руках, все удавалось ей. Замужество словно сковало ее. Она сделалась неприветливой, сторонилась людей, стала хуже работать. Казалось, что жизнь не радует ее. — Вы не думаете, что Комарова покончила с собой? — спросил Мозарин. — Нет, этого я не могу сказать, — ответил Румянцев. — Но нервное состояние, в котором она находилась в последнее время, могло привести к трагической развязке. Я не имею права больше ничего говорить, — тихо добавил он, — потому что все остальное — плод моих собственных догадок. А я за эту неделю потерял способность правильно мыслить. — Вы хотели увезти Комарову на Кавказ? — Да, хотел, — подтвердил художник. — Мне заказали несколько морских пейзажей. Я звал ее с собой. — Но вы ведь знали, что Комарова замужем? — Мне казалось, что она несчастлива. Я не предлагал ей стать моей женой. Мне хотелось помочь ей. — Почему же вы ей угрожали? — Я? Ольге?.. — Художник вскочил с кресла. — Я просил, я умолял… — Из ваших слов можно заключить, что причиной удрученного состояния Комаровой был ее муж? — Отказываюсь отвечать на этот вопрос. — Жильцы видели, как вы выбежали из ворот и поспешили вслед за Комаровой, — сказал капитан, помолчав. — Вы подтверждаете это? — Да. Я хотел догнать ее, чтобы сказать о моем упущении в рисунке для стенной газеты. — О каком упущении? — Она просила сделать шарж в красках, а я сделал карандашный рисунок. — Вы не догнали Комарову? — Представьте, нет. Прошло не более трех минут, как она ушла. Просто удивительно! — Еще раз спрашиваю, гражданин Румянцев! Вы утверждаете, что не догнали Комарову и не говорили с ней? — Не догнал и не говорил. — А если я вызову сюда свидетелей, которые видели, что вы догнали Комарову и разговаривали с ней, тогда как? — Тогда я буду твердить свое, а они свое, — ответил художник. По существу допрос не дал Мозарину ничего нового. Но показания Марьи Максимовны и Анны Ильиничны и, наконец, странные ответы художника невольно вселяли подозрение. Лейтенант был убежден: Румянцев рассказал значительно меньше того, что знал. Разве так ведет себя человек, любящий женщину, которая исчезла и, наверное, убита? Да будь на его месте он, Мозарин, и случись бы такая история с Надей, — он всю душу выложил бы следователю! Нет, нельзя просто отпустить художника… Это и побудило капитана пойти к Градову, доложить о допросе и попросить разрешения на обыск в комнате художника. Градов заметил, что капитан правильно обратил внимание на искусственный тон ответов Румянцева. Эту чуткость к неискренности свидетеля надо всемерно в себе развивать. Но тут же полковник обрушился на Мозарина за то, что он пытался поставить себя на место Румянцева и, исходя из этого, решать, так ли ведет себя художник во время допроса. — Это вечная ошибка молодых следователей, которые любят ставить себя на место обвиняемого, — говорил Градов, посматривая на капитана своими добрыми, проницательными глазами. — Вы, дорогой мой, человек с определенным умом, волей, характером, культурой — словом, со всеми вашими особенностями, ставите себя на место другого человека, который весьма отличается от вас. Разве вы будете действовать при одинаковых обстоятельствах так же, как он? Конечно, нет! Стало быть, все ваши выводы будут в корне неверны. Нет, вы должны поступать как раз наоборот: во время следствия как следует изучить человека, его все не только главные, но и второстепенные черты, а изучив, как бы наделить ими себя. Вообразить, что вы — это он! Тогда выводы будут правильны, психологически верны. Скоро принесли от комиссара Турбаева ордер на обыск у Румянцева. Художник молча выслушал это решение, без возражения подчинился личному обыску и безмолвно спустился с Мозариным и оперативными сотрудниками вниз, где у подъезда поджидал синий с красным пояском автомобиль. В комнате Румянцева стоял мольберт с начатым портретом Ольги. По стенам висели прикрепленные кнопками вырванные из альбома листы с карандашными набросками Ольги в разных ракурсах. Во время обыска присутствовали понятые: Анна Ильинична и управляющая домом. Были осмотрены вещи художника, его книги, просмотрены письма. Искали огнестрельное или холодное оружие, пятна крови на одежде. В нижнем ящике комода, под аккуратно сложенным бельем, Мозарин нашел новенькую записную книжечку в металлическом переплете. В ней находилась фотография Комаровой. Молодая женщина смотрелась в ручное зеркальце, поправляя прическу. На обратной стороне открытки, в правом углу наискось, легким почерком было написано: “Прости, Евгений, что прошла мимо тебя”. Внизу — подпись Ольги Комаровой и число. Число! За три месяца до исчезновения. Уже под конец обыска один из оперативных работников, перебирая наваленные в углу рисунки художника, под одним из них нашел свернутый в тугой комочек платок Румянцева: на платке были засохшие красные пятна. Художник сказал, что в ночь с четвертого на пятое декабря он упал в канаву. Этим платком он пытался стереть глину с шубы, убедился, что это невозможно, и, придя домой, бросил грязный платок в угол. Капитан положил платок в оперативную сумку и приобщил его к протоколу обыска. Когда Мозарин и оперативные сотрудники собирались уходить, Румянцев сказал: — Мне неприятны ваши подозрения, но я рад, что вы так энергично действуете. Теперь я уверен, что все будет выяснено до конца. Искренне он говорил или прикидывался? Синий автомобиль помчался по ровной снежной дороге. Пронеслись мимо Покровского-Стрешнева с его опрятными, словно игрушечными домиками, крыши которых казались вылитыми из сахара. Навстречу плыла Москва… Оперативные работники убеждали Мозарина, что художник имел много времени, чтобы подготовиться к обыску. Один из них считал его человеком лживым, другой указывал на его невероятное хладнокровие, дающее ему силы в такие тяжелые для него дни писать портрет Комаровой. Мозарин передал платок Румянцева в научно-технический отдел и написал в сопроводительной записке, что художник, возможно, вымазал свой платок глиной, чтобы скрыть под ней пятна крови. Когда Мозарин вышел в коридор за ним вышла Надя Корнева и сказала, что у нее есть билеты в цирк. — Нет, Надя, спасибо! — проговорил он. — Сегодня я не в состоянии никуда идти. — Да вы чем-то расстроены, Михаил Дмитриевич? — Не клеится у меня следствие! — со вздохом сказал капитан. — А вспомните, как бился Виктор Владимирович, пока не разыскал Рыжую Магду? Трудное было дело. Никто же не упрекал его. — Знаете, что хуже всего? — сказал офицер. — Не скажут: “Вот капитан милиции Мозарин не справился с работой”. А скажут, как всегда: “Милиция прохлопала”. Это обиднее всего. — Не поддавайтесь унынию, Михаил Дмитриевич! — горячо сказала Надя. — Я уверена, что вы доведете следствие до конца и найдете преступника.6
Всю ночь с небольшими перерывами падал густой декабрьский снег. Покровское-Стрешнево казалось устланным лебяжьим пухом. Дворники и жильцы расчищали проходы на улицах. Школьники, возвращавшиеся домой, швырялись снежками. В этот день рано утром Петр Иванович Комаров вернулся из командировки. Узнав от Анны Ильиничны, что жена не возвращалась с тех пор, как они вместе вышли из дому, он пришел в отчаяние. Петр Иванович обошел соседей и знакомых. Они сочувствовали его горю и рассказали ему все, что слышали о розысках пропавшей Ольги. В местном отделении милиции он говорил с оперативными работниками, с участковым уполномоченным. Ему сообщили, куда отправлено дело об исчезновении жены, в каком отделе ведут следствие. Сумрачный и бледный, пришел Комаров в школу на урок физической культуры, невпопад отвечал на вопросы учеников и то и дело забывал, о чем только что спрашивал. Дважды забегал он домой, чтобы узнать, не пришла ли какая-нибудь весть о жене. Петр Иванович окончательно разволновался и поехал в Уголовный розыск. Из бюро пропусков он позвонил Градову и попросил срочно принять его. Разложив на письменном столе карту, Градов склонился над ней и что-то записывал в свою тетрадочку. Он закрыл ее, когда вошел Комаров, и, по привычке, моментально “сфотографировал” его глазами. Теперь на долгие годы в памяти полковника сохранится это лицо с ледяными серыми глазами, со слегка приплюснутыми ушами, с черной треугольной родинкой под правым виском. Петр Иванович заявил, что ему очень тяжело, но он надеется и все время ждет, что вот-вот Ольга появится. Пожав плечами, Градов спокойно ответил: — Боюсь, ваша жена никогда не вернется. По нашему мнению, ее нет в живых, гражданин Комаров. Петр Иванович ахнул, закрыл лицо руками и зарыдал. Полковник повернулся к столику, взял графин и налил в стакан воды. Яркий свет электрической люстры падал на Комарова — его лицо отражалось в зеркальных стеклах незанавешенного окна. Градов видел, как Петр Иванович, продолжая рыдать, вынул платок и дрожащей рукой поднес его к глазам. Полковник поставил перед ним стакан воды, призвал его к мужеству и терпению. Стуча зубами о край стакана, Комаров выпил несколько глотков. В это время в кабинет вошел капитан. Полковник объяснил, что капитан Мозарин ведет розыск Ольги. — Вы должны, гражданин Комаров, помочь нам отыскать преступника, — сказал Градов. — Все, что хотите, сделаю, чтобы отомстить за Олю! — ответил Петр Иванович, вытирая глаза. — Не было ли у вашей жены недругов? Может быть, какой-нибудь отвергнутый поклонник? — Нет, товарищ полковник. Оля все время проводила со мной, а иногда с Румянцевым. Ему я верю, как самому себе, он наш старый друг. — Ваша жена ничего не рассказывала вам о Румянцеве? — спросил Мозарин. — Нет. Но я сам о многом догадывался. И при всем этом у меня и в мыслях не было и нет ничего дурного о Румянцеве. А разве вам что-нибудь известно? — Говорили ли вы после того, как приехали, с Румянцевым? — поинтересовался капитан. — Нет. Он поздно возвращается с работы. Но если это нужно, я могу к нему поехать в редакцию. — Не знаете ли вы родственников или друзей Румянцева, которые имеют оружие? — Нет, товарищ Мозарин. — А теперь припомните, — спросил Градов, — когда вернулся домой Румянцев в ночь вашего отъезда в командировку? — Я уехал из дому не позднее трех утра, но Румянцева еще не было. — У меня к вам есть один важный вопрос, гражданин Комаров, — сказал капитан. — Не видели ли вы когда-нибудь вашу жену с полным человеком средних лет в коричневой шубе? — В коричневой меховой шапке, в кожаных перчатках, — подхватил Петр Иванович. — Рост средний, плечи широкие, с брюшком, румянец во всю щеку. — Точно! — воскликнул Мозарин. — Ваши показания мне срочно нужны. Но я должен сейчас уйти. — Куда вы идете? — спросил Градов. — По вашему заданию, товарищ полковник… — ответил капитан и обратился к Комарову. — Вы отсюда куда направляетесь? — Поеду в троллейбусе к Арбатской площади и там — в метро. — Нам по пути. Поедемте, потолкуем… Они вышли вместе. Комаров рассказал, что в начале зимы он поехал как-то к жене на работу. Слез с автобуса, направился к заводу и увидел, что его жена разговаривает с человеком в коричневой шубе. Как только этот человек заметил Комарова, он пожал руку Ольги и ушел. В тот раз Петр Иванович не обратил на него внимания. — И вы не спросили у вашей жены, кто он? — спросил Мозарин. — Нет, полагал, что сослуживец, — ответил тренер. — Я не думал, что когда-либо снова увижу его. А пришлось… Капитан и Комаров подошли к Петровским воротам. У троллейбусной остановки стояло много народу. И Мозарин предложил пойти бульварами до Арбатских ворот. Петр Иванович охотно согласился. Он продолжал свой рассказ. Второго декабря он вернулся из Москвы вечерним поездом. Со станции, чтобы сократить путь, он пошел не вдоль шоссе, а по тропинке, протоптанной пешеходами в лесочке, и тут заметил мужчину, стоявшего к нему спиной. Он с кем-то спорил, размахивал руками. Разговор носил столь резкий характер, что тренер невольно обратил внимание на эту пару, избравшую себе для встречи такое глухое место. Вскоре Комаров приблизился к спорящим и разглядел их: это были его жена и человек в коричневой шубе. Петр Иванович окликнул ее. Неизвестный бросился вперед и скрылся за деревьями, а Ольга подошла к мужу. Она объяснила, что этот человек встречался с ней в Казани, когда она училась в десятом классе школы, даже предложил ей стать его женой. Недавно он приехал в Москву, узнал, где она служит, вызвал ее из бюро и возобновил свое предложение. Она ответила, что уже второй год замужем. Тогда неизвестно каким образом (по крайней мере, так говорила Ольга) он узнал ее домашний адрес, приехал в Покровское-Стрешнево, явился на квартиру и заявил, что получил неприятное известие о ее отце. Ольга как раз собиралась отнести тетке фланель на халат, которую накануне купила, и попросила старого знакомого проводить ее. Они мирно дошли до лесочка. И тут он снова начал говорить ей о своих чувствах. — Этот человек не угрожал вашей жене? — спросил Мозарин. — Не знаю. Во всяком случае, я потребовал, чтобы она больше не встречалась с ним. — Вы об этом никому не говорили? — Нет! С какой стати я буду набрасывать тень на доброе имя моей жены! — После второго декабря вы этого человека не видели? — Нет. Но думаю, он своих намерений не оставил. Беседуя, капитан и тренер дошли до Арбатской площади. Перед тем как расстаться с Комаровым, Мозарин спросил его: — Значит, у вас теперь возникли подозрения против этого человека? — Да! — А против Румянцева? — Нет! — ответил Петр Иванович. — Румянцев никогда не поднимет руку на Олю. Как только Комаров исчез за дверьми станции метро, капитан вскочил в троллейбус, доехал до Петровских ворот. Через десять минут он вошел в кабинет Градова, держа в руках исписанный цифрами листок бумаги. — Ну как? — спросил полковник. — Все наши выкладки подтвердились, — ответил Мозарин и прочитал, сколько метров за сколько минут проходит Комаров при ходьбе обычной и ускоренной. — Этот тренер в среднем шагает даже быстрее, чем мы предполагали. Дело в том, что во время следствия капитан естественно заинтересовался каждой минутой Комарова в вечер четвертого декабря, — с момента выхода с женой на улицу до возвращения домой. Эта, как говорят криминалисты, проверка обстоятельств установила: около семи часов вечера Комаров на глазах у многих жильцов попрощался со своей женой и пошел в противоположную сторону. В половине девятого он был в РОНО, где собрались гимнасты, составил список и в девять повел их в клуб имени Калинина. Здесь после торжественного заседания он руководил гимнастическими выступлениями. После этого он отправился с членом спортивной секции клуба на лыжную базу — проверить инвентарь и сдать ему под расписку. Потом, так как во время его отъезда должна была состояться лыжная вылазка, он, надев лыжи, ходил к опушке леса проверять трассу. В пятом часу утра соседка Анна Ильинична открыла ему дверь. В общем, Комаров в течение девяти с лишним часов находился на виду у людей. Это было, казалось, неоспоримое алиби. Именно оно и возбудило подозрение. Проверяя каждый отрезок времени, Мозарин обнаружил неожиданные противоречия. От дома, где жили Комаровы, до РОНО — двадцать минут ходьбы. Тренер потратил на это более полутора часов. Где находился Комаров в это время? Некоторые из опрошенных членов президиума торжественного заседания показали, что Петр Иванович пробыл в клубе до конца вечера. Однако гардеробщица заявила, что Комаров в перерыве выходил из клуба. Она запомнила это потому, что он надел шлем, куртку, а портфель оставил у нее. Гардеробщица не могла точно сказать, сколько времени отсутствовал тренер. Но куда он ходил и зачем? Член спортивной секции утверждал, что Комаров часов до трех дня проверял и сдавал ему инвентарь лыжной базы. Потом тренер поехал проверять трассу и, конечно, мог свернуть куда угодно. Полковник, чтобы не вызвать подозрения у Комарова, с умыслом задал ему вопрос о часе возвращения Румянцева и получил побочный ответ, что сам Комаров вернулся в три часа ночи. А соседка утверждала: он пришел в пятом часу утра. Значит, тренер зачем-то “укрыл” часа полтора, что-то пытается скрыть. Вот почему Градов и Мозарин, развернув карту Покровского-Стрешнева, изучали район, где во время предполагаемого убийства находился муж Ольги и куда, точно учитывая расстояния и время его отлучек, он мог завести свою жену. Как всегда, шестое чувство — интуиция старого оперативного работника — подсказывала полковнику дальнейший путь следствия. — А нельзя ли все-таки временно задержать Комарова? — спросил Мозарин Градова. — Ни один прокурор не разрешит этого сделать, пока нет достаточно веских оснований для задержания. А вдруг ошибка? Неприятностей не оберешься. Вы же сами это прекрасно знаете. — Знаю, товарищ полковник. Но мне кажется, что если Комаров почует, что его заподозрили, он скроется. — Ах, вот вы о чем! Я позабочусь, чтобы он не смог этого сделать. Завтра с утра займитесь проверкой биографии и спортивной деятельности Комарова. Побеседуйте с людьми, которые его основательно знают. Придя в свою комнату, Мозарин увидел на столе под стеклом заключение эксперта о платке Румянцева. Самое тщательное исследование пятен на платке показало, что на нем нет ни капельки крови. Одна версия предполагаемого преступления как будто отпала. Теперь возникла другая, и, шагая домой, Мозарин обдумывал, с чего начать изучение жизни Комарова… Дома офицер застал гостью — Надя Корнева чаевничала с его матерью. На столе стоял старинный мельхиоровый чайник, которым пользовались только в особо торжественных случаях. — Устали, Михаил Дмитриевич? — спросила Корнева, пристально посмотрев на молодого человека. — Да нет, — рассеянно ответил он, — сегодня было не так уж много работы… Надя попросила разрешения открыть шкафчик, где стояли книги, собранные покойным отцом Мозарина. Она вынимала с полки тома в старинных переплетах, от времени чуть-чуть пропахшие пылью, листала пухлые, пожелтевшие, покрытые бледно-коричневыми пятнами страницы, иногда читала про себя, иногда вслух; — “Бытие сердца моего, или Стихотворения князя Ивана Михайловича Долгорукова”! — громко прочитала она, держа перед собой томик. — “Забавные песни и всякие мелкие отрывки”. Напечатано в Московской университетской типографии в тысяча восемьсот восемнадцатом году! Вот это книжечка! Второй век живет! Михаилу было приятно, что девушка интересуется книгами отца, пробегает давно забытые страницы, находя в них своеобразную прелесть. — А как отец любил тебя называть? — напомнила Елизавета Петровна. — Манипулярием, — ответил Мозарин. — Как? — спросила Корнева. Михаил шагнул к полке, всмотрелся в корешки книг и вытащил томик “Нового словотолкователя”, изданного Академией наук в 1804 году. Он отыскал нужное слово, дал книгу Наде. — “Манипулярий, — прочитала она, — титло, которое имел в римской милиции офицер, командовавший манипулою”. А что такое манипула? — спросила Надя и сейчас же воскликнула: — Ага, есть: “манипула — рота пехоты”. Честное слово, это любопытно. Манипулярий! — Тут взгляд девушки упал на часы. — Время-то, время! Как хотите, товарищ манипулярий, я должна идти. Мозарин пошел ее провожать. Сухой снег зыбкими белыми спиралями кружился у ног, взвивался вверх и рассыпался. Он хлестнул девушку в лицо, она стремительно повернулась и невольно прижалась к плечу Михаила. Шли молча. На троллейбусной остановке Надя вдруг спросила: — Читали мою экспертизу? Михаил кивнул и про себя усмехнулся. “Какая образцовая девица! Как в плохой пьесе — к месту и не к месту говорит о производственных показателях”, — подумал он. — Расстроились, увидев мое заключение? — продолжала Надя. — Не очень. Теперь я работаю над другой версией. — Ну рада за вас, — проговорила она, пожимая ему руку. — Спокойной ночи! Она легко подбежала к бесшумно подъехавшему троллейбусу, встала на ступеньку, обернулась. Перед Мозариным возникло румяное девичье лицо с седыми от инея волосами, ресницами, бровями. Михаил медленно возвращался домой. “Почему Надя так внезапно приехала?”, — подумал он. Только когда подходил к дому, его словно осенило: “Черт возьми! Она, наверное, подумала, что ее заключение о платке Румянцева убьет меня наповал. И приехала, чтобы подбодрить!..” Утром Мозарин решил зайти перед службой в спортивное общество, где числился Комаров, и позвонил секретарше Градова, чтобы предупредить об этом. Но она сообщила, что его дожидаются люди, приехавшие из Покровского-Стрешнева. Капитан немедленно отправился на Петровку, 38. В Управлении его ждали пожилой монтер с учеником и милиционер, сопровождавший их. Монтер положил на стул большой, завернутый в бумагу сверток. Скручивая папиросу пожелтевшими от табака пальцами, он стал рассказывать. Его ученик, вихрастый паренек в ватной стеганой спецовке и подшитых валенках, робея, глазел по сторонам. В семь часов утра они вышли из Покровского-Стрешнева на шоссе проверять провода. Вьюга кончилась, но мороз не спадал, и паренек, несмотря на то что был тепло одет, начал зябнуть. Монтер, чтобы согреть ученика, шутливо толкнул его плечом. Паренек отлетел в сторону и вдруг, запутавшись в чем-то ногами, растянулся на снегу. Когда он встал, монтер увидел в сугробе беличью шубку, к воротнику которой были приколоты кожаные цветочки. Он поднял ее, стал разглядывать и заметил засохшие пятна крови. Свернув шубу, он решил сейчас же идти в милицию, чтобы сдать находку. По обочине шоссе, то отставая, то опережая монтера, бежал ученик и, балуясь, взрывал валенками пушистый снег. Монтер даже прикрикнул на него. Шагов через сто ученик заметил припорошенную снегом какую-то вещь. Он нагнулся и извлек на свет коричневую юбку с двумя накладными кармашками…
— Да вы сами посмотрите. — Монтер положил сверток на стол перед Мозариным.
Капитан развернул сверток.
— Так вы говорите, вышли в семь утра?
— В семь, — подтвердил монтер.
— В восьмом, — промолвил паренек.
— Вот какой точный! — подхватил монтер.
— Еще один вопрос: когда вы шли по шоссе, вы никого не видели?
— Время раннее, мороз. Кто ж пойдет по шоссе? Молочницы? Те норовят пройти на станцию леском.
— А от того места, где вы нашли вещи, до станции далеко? — спросил капитан, вспомнив старика Коробочкина.
— Километра два с лишком будет.
— Дядя Матвей, — вдруг проговорил паренек и покраснел, — мы ж одного человека встретили.
— Так это, когда мы еще к шоссе подходили, в лесочке. С портфелем шел.
— А какой он из себя?
— Шуба хорошая, коричневого сукна. Шапка меховая…
— Полный, краснощекий?
— Да!
— Ростом чуть пониже меня?
— Правильно! А вы его знаете?
— Не совсем! — воскликнул взволнованный офицер. — Но будь я неладен, если я его не узнаю как следует! — и стукнул пресс-папье по столу.
В семь часов утра они вышли из Покровского-Стрешнева на шоссе проверять провода. Вьюга кончилась, но мороз не спадал, и паренек, несмотря на то что был тепло одет, начал зябнуть. Монтер, чтобы согреть ученика, шутливо толкнул его плечом. Паренек отлетел в сторону и вдруг, запутавшись в чем-то ногами, растянулся на снегу. Когда он встал, монтер увидел в сугробе беличью шубку, к воротнику которой были приколоты кожаные цветочки. Он поднял ее, стал разглядывать и заметил засохшие пятна крови. Свернув шубу, он решил сейчас же идти в милицию, чтобы сдать находку. По обочине шоссе, то отставая, то опережая монтера, бежал ученик и, балуясь, взрывал валенками пушистый снег. Монтер даже прикрикнул на него. Шагов через сто ученик заметил припорошенную снегом какую-то вещь. Он нагнулся и извлек на свет коричневую юбку с двумя накладными кармашками…
— Да вы сами посмотрите. — Монтер положил сверток на стол перед Мозариным.
Капитан развернул сверток.
— Так вы говорите, вышли в семь утра?
— В семь, — подтвердил монтер.
— В восьмом, — промолвил паренек.
— Вот какой точный! — подхватил монтер.
— Еще один вопрос: когда вы шли по шоссе, вы никого не видели?
— Время раннее, мороз. Кто ж пойдет по шоссе? Молочницы? Те норовят пройти на станцию леском.
— А от того места, где вы нашли вещи, до станции далеко? — спросил капитан, вспомнив старика Коробочкина.
— Километра два с лишком будет.
— Дядя Матвей, — вдруг проговорил паренек и покраснел, — мы ж одного человека встретили.
— Так это, когда мы еще к шоссе подходили, в лесочке. С портфелем шел.
— А какой он из себя?
— Шуба хорошая, коричневого сукна. Шапка меховая…
— Полный, краснощекий?
— Да!
— Ростом чуть пониже меня?
— Правильно! А вы его знаете?
— Не совсем! — воскликнул взволнованный офицер. — Но будь я неладен, если я его не узнаю как следует! — и стукнул пресс-папье по столу.
7
Полковник Градов тщательно осмотрел найденные монтерами вещи. — Чем объяснить, что на большой дороге внезапно появились едва замаскированные вещи Комаровой? Они брошены на обочину шоссе — там, где обычно ходят лыжники… — проговорил он и вопросительно взглянул на Мозарина. Капитан предположил, что преступник почему-то решил ускорить следствие и заодно сбить его на ложный след. Возможно, что преступление совершено не в Покровском-Стрешневе, а где-то в другом месте. Преступник умышленно подбросил вещи в Покровское, чтобы заставить Уголовный розыск топтаться на одном месте. Полковник задумался, с сомнением покачал головой. — Нет… Скорее всего, он решил навести нас на какое-то другое лицо, сфабриковать против кого-то улики. Да, решиться на такой шаг может человек, твердо уверенный в своей безнаказанности. Капитан выдвинул еще одну версию: не сделал ли это человек, знающий, кто подлинный преступник, и задумавший навести нас на него, но самому остаться в тени? Градов поднялся, прошелся по кабинету. — Фантазия, капитан, — сказал он, — иногда нужна в нашем деле, но до известного предела. Ведь это ваше голое умозаключение! Нет ни одной зацепки в его пользу. Мозарин обратил внимание полковника на батистовый платок с голубой меткой “О. К.” в кармашке коричневой юбки. Этот платок — чистый, разглаженный — не мог сохраниться столько дней под снегом в таком виде. Не положили ли его в кармашек только теперь? Чтобы по инициалам сразу установили фамилию обладательницы вещей. Градов усмехнулся. — Да… Убийца весьма невысокого мнения о способностях оперативных работников. Тычет носом в инициалы, как слепых щенят. Значит, он рассчитывает легко перехитрить Уголовный розыск. Что ж, этим мы и воспользуемся… Согласовав свое решение с Турбаевым, полковник позвонил в питомник служебного собаководства и попросил прислать лейтенанта Воронова с его собакой Громом. До перевода в питомник Воронов два года работал оперативным сотрудником в отделе Градова. Этот человек с упорным характером, волжанин, был на хорошем счету в Уголовном розыске. Однажды Градов взял его с собой в деревню, где, как подозревали, грабители спрятали у сообщника похищенные вещи. Выйдя на шоссе из автомобиля, офицеры пошли по глинистой непроезжей дороге в сельский Совет. Из проулка на них набросилась стая свирепых собак и преградила путь. Градов уже схватил было валявшийся на земле кол, но лейтенант Воронов пощелкал языком, посвистел, спокойно подошел к бурому псу, вожаку стаи, и погладил его по голове. Через минуту почти вся стая разбежалась. Несколько собак, ласково ворча, последовали за Вороновым. Покончив со служебными делами, Градов, к своему удивлению, увидел, что лейтенант, купив в сельпо буханку ржаного хлеба, сидит на пороге избы, отрезает от буханки толстые ломти и угощает собак. — Не лезь, куцый, — приговаривал он, — свое слопал, дай другим! Эй, Белка, что хватаешь не свой кусок? Пойди сюда, кутенок. Да поди сюда! На, держи, никому не отдавай!.. Через несколько дней Градов отправился в питомник служебного собаководства и как бы невзначай взял с собой Воронова. Когда лейтенант увидел в светлых, просторных клетках могучих волкоподобных овчарок, он в восхищении остановился, несмотря на то что они свирепо кидались на него, сотрясая сетки и отчаянно лая. Когда же ему показали щенков, которых в питомнике выращивают и обучают, он присел на корточки, чтобы разглядеть их получше. — Мне бы щенка… — мечтательно сказал он в машине Градову. — Я бы из него сделал такую служебную собаку, такого золотого пса!.. — Для этого, Алексей Григорьевич, надо серьезно учиться. — За мной дело не станет! — живо подхватил Воронов. — Ладно. Поговорю с комиссаром. Осенью начальник Управления подписал приказ о направлении Воронова в Школу служебного собаководства… Получив приказание начальника питомника выехать с Громом в распоряжение Градова, Воронов уже через десять минут мчался на Петровку. Гром — серебристый стройный пес с могучей грудью — сидел в ногах Воронова и ловил прозрачными серыми глазами взгляд своего воспитателя. Лейтенант ласково опустил руку на голову овчарки. И она положила свою длинную морду к нему на колени. Оставив сержанта-шофера в машине, Воронов поднялся в Уголовный розыск и вошел с Громом в комнату секретаря Градова. — Здравия желаю, товарищ Клава! — сказал он и, спустив овчарку с поводка, приказал: — Лежать! Собака растянулась в углу. — Какой волчище! — с восхищением воскликнула Клава. — Он теперь у нас миллионер! — сообщил лейтенант, улыбнувшись. — То есть это как? — Вчера подводили итог работы наших собак. Ну, подсчитали, что за свою короткую жизнь Гром вернул государству на миллион рублей похищенного добра. — Вижу, вы довольны, товарищ лейтенант? — Мало сказать — доволен! С тех пор как работаю в питомнике, будто чистым кислородом дышу. Уж какие мне интересные службы ни предлагали, ни на что не променяю! А вы все на канцелярской работе? — Нет. Второй раз ходила по заданию полковника с работниками на операцию. Интересно! — Еще бы!.. Товарищ полковник свободен? — Да. Только что проводил политинформацию. Можете зайти! Воронов еще раз приказал Грому лежать и, постучав в дверь, вошел в кабинет. Градов пожурил его за то, что давно не заходил, спросил о здоровье Грома. Потом вкратце рассказал суть дела и велел о деталях потолковать с Мозариным. — Задание нелегкое, — добавил Градов, прощаясь с Вороновым. — Надеюсь на вас, товарищ лейтенант! — Постараюсь, товарищ полковник! Воронов и Мозарин — градовские птенцы, как их окрестили товарищи по работе, — встретились радостно. Старые друзья! Ознакомившись с подробностями дела, лейтенант задал Мозарину несколько вопросов и тут же отправился на место находки вещей Ольги Комаровой. В милицейский пикап сели и монтер со своим учеником. Вначале Вася восхищенно-боязливо посматривал на Грома, а потом, осмелев, забросал лейтенанта десятками вопросов. Мозарин вышел из-за стола навстречу тетке Комаровой и Анне Ильиничне. Их срочно вызвали: опознание вещей надо было оформить протоколом. Марья Максимовна бросилась к беличьей шубке, гладила рукой кожаные цветочки. — Голубушка моя! — причитала она. — Что сделали с тобой, злодеи!.. Она пошатнулась, Мозарин поддержал ее. Анна Ильинична тоже плакала. Ведь это она сама, своими руками, пришивала к беличьей шубке букетик, а к кармашкам юбки — темно-красные пуговицы. — Я и мои товарищи, — тихо сказал капитан, — очень жалеем Олю Комарову. Но сейчас наступил такой момент, когда ваше волнение может пойти на пользупреступнику. Неужели вы этого хотите? — Нет! — воскликнули обе женщины. — Мне нужно совершенно точно знать, — продолжал он, вынимая из кармана Ольгиной юбки батистовый платочек, — носила ли Комарова обычно платки в этом кармашке или в сумочке? — По-моему, и так носила, и в сумочке, — сказала тетка. — Батист я ей в прошлом году на Новый год подарила. — Платочки я подрубала, — подтвердила соседка. — У Оли был коричневый костюм: жакет с кармашками и вот эта юбка. Она клала платочек в карман жакетки, но в тот вечер было холодно, и она надела вязаный джемпер. Метки на платочках она сама вышивала, еще советовалась со мной… Анна Ильинична взяла платочек, посмотрела на метку, повернула наизнанку и вскочила со стула. — Что ж это такое? — воскликнула она. — Ох, батюшки! — Что случилось, Анна Ильинична? — спросил Мозарин. — Погодите, товарищ начальник! Может быть, без очков я плохо разглядела, — ответила женщина и попросила Марью Максимовну посмотреть на платок. — Вот, — сказала она, — взгляните. Вышито нитками мулине?[39] — Мулине, — ответила тетка. — Какой цвет? — Голубой. — А как вышито? — Крестиком, — последовал ответ. — Так вот, пишите, товарищ начальник!.. И Анна Ильинична рассказала капитану, что подрубила для Ольги дюжину батистовых платочков. На восьми из них вышила метки голубым мулине гладью; на остальные у нее времени не хватило. Анна Ильинична взяла эти четыре платочка, посулила доделать, да замешкалась, руки не доходили… Недавно она выкроила вечер и вышила на них метки, только не гладью, а крестиком, чтобы быстрее. И вообще крестик у нее лучше получается… Когда Ольга пропала, Анна Ильинична спохватилась, что так и не успела отдать платочки. На душе стало неспокойно — словно присвоила их. Когда Комаров ушел из дому, она положила три платочка в шкаф, там, где лежат остальные, а один — в кармашек жакета, который висел на вешалке в шкафу. — Разве Комаровы не запирают шкаф? — спросил офицер. — Нет. — А комнату? — Запирали, но ключ всегда отдавали мне. — Кроме вас, туда за эти дни никто не входил? — Только один раз Румянцев зашел. Ему хотелось взглянуть на фотографию Оли, что на стене. Ну, я открыла, он вошел, порисовал и ушел. — Вы не выходили из комнаты? — Нет, — ответила женщина и спохватилась. — Вру! Вышла на минутку посмотреть, не убежал ли чайник. — Больше никто в комнату Комаровых не входил? — Нет. — А где лежали платочки? — В плоской коробке, красивой, глянцевитой. Капитан попросил женщин ничего не говорить о платочке ни Комарову, ни Румянцеву. Тетка перекрестилась, поклялась, а Анна Ильинична дала честное слово хранить молчание. К тому же, добавила она, Комаров заболел, уехал в город к врачу — собирается лечь в больницу, а Румянцев последние два дня не ночует дома. Мозарин доложил Градову о ходе следствия. Для него было ясно, что преступник взял из коробки в шкафу первый попавшийся под руку платочек. Разумеется, он не знал, что именно этот платочек вышит, в отличие от остальных, не гладью, а крестиком и положен в шкаф после того, как была убита Комарова. Это была первая, а может быть, и последняя ошибка преступника. Однако как уличить его? Конечно, показание свидетельницы — серьезная улика, но все-таки его можно оспорить. А может быть, Ольга тоже вышила крестиком один или два платочка, но соседка не знала или забыла про это? Полковник слушал Мозарина, постукивая пальцем по настольному стеклу, потом покачал головой. — Старые криминалисты говорили: “Следствие — это терпение, умение и везение”. У вас первое и последнее — налицо. Но умение, капитан, строится на науке, опыте и воображении. Воображение у следователя должно быть таким же ярким, как у писателя. Иначе настоящего следователя из него не выйдет. Попытаемся вместе определить, кто взял из шкафа платочек Комаровой, чтобы положить его в карман юбки. Обсуждая все обстоятельства дела, Градов пришел к такому заключению: если бы платочек брал Румянцев, то он, оставшись в комнате, пока соседка уходила на кухню, распахнул бы дверцу шкафа, мгновенно раскрыл коробку и быстро схватил самый верхний. Он не стал бы брать платочка ни из середины, ни снизу, потому что разворошил бы другие платочки и их пришлось бы потом укладывать. Никто не должен заметить, что кто-то рылся в платочках, а уложить их — нет времени! Но известно, что платочек был взят не сверху, а из середины, куда его положила соседка. Полковник взглянул на Мозарина, ожидая возражения, но капитан, соглашаясь, кивнул головой. Градов считал, что совсем иначе повел бы себя Комаров. Он, хозяин комнаты, запер бы дверь и, оставшись один, спокойно вытащил бы платочек из любого места. Если бы лежащие рядом платочки вылезли из коробки, он поправил бы их и аккуратно положил на место. Но тренер по гимнастике — умный, расчетливый человек — так не поступил. Полковник предполагал, что и Комаров платочка из коробки не брал. Это последнее утверждение Градова вызвало удивленное восклицание Мозарина. Однако полковник, развивая свою мысль, доказывал, что тренер не стал бы подвергать себя риску: ведь возможно, что платки, лежащие в коробке, при первом обыске сосчитала тетка, или Анна Ильинична, или кто-нибудь из работников милиции. Зачем рисковать? Но другое дело — платок, лежащий в кармашке жакета: вряд ли на него обратили внимание. Градов утверждал, что преступник взял платочек именно из жакетки, куда положила его Анна Ильинична. — Комаров крайне осторожен, даже излишне осторожен! — заключил Градов разговор. — Он заявил, что ложится в больницу. На самом деле, он попросил у председателя спортивного общества разрешения ночевать в одном из кабинетов. Он объяснил свою просьбу тем, что ему тяжело быть дома. Я говорил с председателем. Там еще не понимают, чего добивается Комаров. Но предупреждены мною и держат ухо востро. Беседа с полковником взволновала Мозарина. Если Градов прав, то Комаров такой противник, что его вряд ли уличишь… Вернувшись к себе, Мозарин сказал дожидавшимся его женщинам, что ему нужно осмотреть коробку с платочками. Он пригласил их в машину и сказал шоферу: — В Покровское-Стрешнево… Вызвав управляющую домом, капитан в присутствии трех женщин открыл левую половину шкафа, вынул плоскую коробку с платочками и сосчитал: их оказалось одиннадцать штук, в том числе три, вышитые крестиком. Анна Ильинична открыла правую половину шкафа, где развешана была верхняя одежда Комаровых. Она сняла с вешалки жакетку Ольги. В кармане батистового платочка не было… Мозарин спросил, нет ли в шкафу одежды, в которой Комаров ходил вечером четвертого декабря в клуб. Соседка вынула из нижнего ящика синий спортивный костюм и вязаный шлем. Этот костюм и шлем Комаров брал с собой в командировку и, приехав, просил как следует выстирать. Но она была так занята и расстроена исчезновением Ольги, что не смогла исполнить его просьбу.
— Я этот костюм и шлем возьму, — предупредил Мозарин. — Если Комаров спросит, где они, придумайте что-нибудь.
— И придумывать нечего, — ответила Анна Ильинична. — Отдала стирать прачке, и все тут!..
Капитан составил акт “о батистовом платке, исчезнувшем из кармана жакетки, и об изъятии одежды Комарова”.
Когда он уходил, его остановила у калитки толстушка Полина Ивановна из соседнего дома. Она спросила, почему он перестал интересоваться человеком в коричневой шубе.
— А разве есть какие-нибудь новости?
Полина Ивановна сообщила, что позавчера днем к ней зашел старик железнодорожник, спросил, не она ли видела четвертого декабря подозрительного человека вместе с Комаровой. Она ответила утвердительно. Железнодорожник попросил ее выглянуть во двор и посмотреть, не этот ли человек сейчас дожидается его. Накинув платок, женщина сбежала вниз и, в самом деле, увидела человека в коричневой шубе и такой же шапке. Она нарочно прошла близко от него, взглянула в лицо и, вернувшись, сказала старику, что это не тот человек: одеждой и лицом как будто похож, но ростом ниже и не такой полный.
“Ага! — подумал Мозарин. — Коробочкин свое слово держит”.
Поблагодарив Полину Ивановну, он вышел на улицу и с наслаждением глотнул морозного воздуха. На старой, горбатой березе прыгал зимний гость — красногрудый снегирь, рассыпая в воздухе снежную пыль. Мозарин взглянул на синее, подернутое молочной дымкой небо и подумал, что вот так же, как сейчас он, Оля Комарова могла выйти из этой калитки, вздохнуть полной грудью, посмотреть на снегиря, на это небо… Да, она погибла, а ее убийца еще на свободе! Подойдя к автомобилю, он в сердцах стукнул кулаком по кузову. Вздремнувший было шофер встрепенулся и распахнул дверцу.
Мозарин вернулся в Уголовный розыск, сдал вещи Комарова в канцелярию научно-технического отдела и попросил выяснить, нет ли на них пятен крови. Идя обратно, он зашел в лабораторию к Корневой.
Встряхивая пробирку с желтоватым раствором, она спросила:
— Как движется ваше следствие?
— С препятствиями… Но идем по верному следу! Не успокоюсь, пока не загоню этого холодного, расчетливого убийцу в угол, из которого его не спасут никакие хитрости!
— Вот таким вы мне больше нравитесь! — воскликнула Надя. — Что это вас так взбудоражило, Михаил Дмитриевич?
— Я только сейчас это понял… В комнате Комарова висит несколько фотографий. На одной из них Ольга, ей лет пятнадцать—шестнадцать. Она снялась с матерью, в белом, еще коротком платье, через плечо переброшена коса… Такое ясное, чистое лицо с чуть озорной усмешкой. Я долго его не забуду… — Капитан помолчал, глядя, как Надя взбалтывает раствор в пробирке, и продолжал: — Мать смотрит на Ольгу так, как могут смотреть только очень счастливые матери… К Новому году — вы слышите, Надя? — она ждала дочь с мужем к себе, готовилась. И вот…
Надя поставила пробирку в штатив, взглянула в глаза Мозарина.
— Понимаю вас, Михаил Дмитриевич! Всем сердцем понимаю…
— Наденька, — проговорил он, вставая, — ведь это наша чудесная молодая женщина! Наша! Я видел на фронте, на что способны такие, как она. Я разоблачу преступника, чего бы это ни стоило!
Надя молча пожала ему руку.
Начальник научно-технического отдела приказал Корневой срочно заняться одеждой тренера. Она тщательно осмотрела сквозь сильную лупу лыжный костюм и шлем. На них не было ни капельки крови, но это противоречило характеру преступления, которое, судя по найденной одежде Ольги, не было бескровным. В темной комнате Надя положила под широкий абажур кварцевой лампы спортивную куртку, шаровары, шлем, осветила их ультрафиолетовыми лучами, которые поглощаются даже невидимыми глазу следами крови. Действительно, внизу шаровар, в складках и швах Корнева обнаружила под облучением много бархатисто-коричневых пятнышек. Для девушки стало ясно, что Комаров замывал в этих местах кровь.
Из беседы с Мозариным она сделала вывод, что преступник очень хитер: он будет всячески изворачиваться, чтобы отвести от себя любые улики. Обшив белыми нитками те места, где происходило отсвечивание, девушка вырезала крошечный кусочек синей байки. Она опустила его на стеклышко, смочила каплями едкого калия и сернистого аммония, покрыла кусочек другим стеклышком. Положив под микроскоп, заметила бледно-розовые комочки. Посмотрев на тот же кусочек в микроспектроскоп, она увидела характерный спектр крови.
Мозарин спросил, нет ли в шкафу одежды, в которой Комаров ходил вечером четвертого декабря в клуб. Соседка вынула из нижнего ящика синий спортивный костюм и вязаный шлем. Этот костюм и шлем Комаров брал с собой в командировку и, приехав, просил как следует выстирать. Но она была так занята и расстроена исчезновением Ольги, что не смогла исполнить его просьбу.
— Я этот костюм и шлем возьму, — предупредил Мозарин. — Если Комаров спросит, где они, придумайте что-нибудь.
— И придумывать нечего, — ответила Анна Ильинична. — Отдала стирать прачке, и все тут!..
Капитан составил акт “о батистовом платке, исчезнувшем из кармана жакетки, и об изъятии одежды Комарова”.
Когда он уходил, его остановила у калитки толстушка Полина Ивановна из соседнего дома. Она спросила, почему он перестал интересоваться человеком в коричневой шубе.
— А разве есть какие-нибудь новости?
Полина Ивановна сообщила, что позавчера днем к ней зашел старик железнодорожник, спросил, не она ли видела четвертого декабря подозрительного человека вместе с Комаровой. Она ответила утвердительно. Железнодорожник попросил ее выглянуть во двор и посмотреть, не этот ли человек сейчас дожидается его. Накинув платок, женщина сбежала вниз и, в самом деле, увидела человека в коричневой шубе и такой же шапке. Она нарочно прошла близко от него, взглянула в лицо и, вернувшись, сказала старику, что это не тот человек: одеждой и лицом как будто похож, но ростом ниже и не такой полный.
“Ага! — подумал Мозарин. — Коробочкин свое слово держит”.
Поблагодарив Полину Ивановну, он вышел на улицу и с наслаждением глотнул морозного воздуха. На старой, горбатой березе прыгал зимний гость — красногрудый снегирь, рассыпая в воздухе снежную пыль. Мозарин взглянул на синее, подернутое молочной дымкой небо и подумал, что вот так же, как сейчас он, Оля Комарова могла выйти из этой калитки, вздохнуть полной грудью, посмотреть на снегиря, на это небо… Да, она погибла, а ее убийца еще на свободе! Подойдя к автомобилю, он в сердцах стукнул кулаком по кузову. Вздремнувший было шофер встрепенулся и распахнул дверцу.
Мозарин вернулся в Уголовный розыск, сдал вещи Комарова в канцелярию научно-технического отдела и попросил выяснить, нет ли на них пятен крови. Идя обратно, он зашел в лабораторию к Корневой.
Встряхивая пробирку с желтоватым раствором, она спросила:
— Как движется ваше следствие?
— С препятствиями… Но идем по верному следу! Не успокоюсь, пока не загоню этого холодного, расчетливого убийцу в угол, из которого его не спасут никакие хитрости!
— Вот таким вы мне больше нравитесь! — воскликнула Надя. — Что это вас так взбудоражило, Михаил Дмитриевич?
— Я только сейчас это понял… В комнате Комарова висит несколько фотографий. На одной из них Ольга, ей лет пятнадцать—шестнадцать. Она снялась с матерью, в белом, еще коротком платье, через плечо переброшена коса… Такое ясное, чистое лицо с чуть озорной усмешкой. Я долго его не забуду… — Капитан помолчал, глядя, как Надя взбалтывает раствор в пробирке, и продолжал: — Мать смотрит на Ольгу так, как могут смотреть только очень счастливые матери… К Новому году — вы слышите, Надя? — она ждала дочь с мужем к себе, готовилась. И вот…
Надя поставила пробирку в штатив, взглянула в глаза Мозарина.
— Понимаю вас, Михаил Дмитриевич! Всем сердцем понимаю…
— Наденька, — проговорил он, вставая, — ведь это наша чудесная молодая женщина! Наша! Я видел на фронте, на что способны такие, как она. Я разоблачу преступника, чего бы это ни стоило!
Надя молча пожала ему руку.
Начальник научно-технического отдела приказал Корневой срочно заняться одеждой тренера. Она тщательно осмотрела сквозь сильную лупу лыжный костюм и шлем. На них не было ни капельки крови, но это противоречило характеру преступления, которое, судя по найденной одежде Ольги, не было бескровным. В темной комнате Надя положила под широкий абажур кварцевой лампы спортивную куртку, шаровары, шлем, осветила их ультрафиолетовыми лучами, которые поглощаются даже невидимыми глазу следами крови. Действительно, внизу шаровар, в складках и швах Корнева обнаружила под облучением много бархатисто-коричневых пятнышек. Для девушки стало ясно, что Комаров замывал в этих местах кровь.
Из беседы с Мозариным она сделала вывод, что преступник очень хитер: он будет всячески изворачиваться, чтобы отвести от себя любые улики. Обшив белыми нитками те места, где происходило отсвечивание, девушка вырезала крошечный кусочек синей байки. Она опустила его на стеклышко, смочила каплями едкого калия и сернистого аммония, покрыла кусочек другим стеклышком. Положив под микроскоп, заметила бледно-розовые комочки. Посмотрев на тот же кусочек в микроспектроскоп, она увидела характерный спектр крови.
 Но ведь эта кровь могла принадлежать и животному? Корнева вырезала другой, обшитый белыми нитками кусочек из шаровар, положила его в пробирку и залила физиологическим раствором. Проба на белок дала положительный результат. Через несколько часов с помощью особой сыворотки она убедилась, что такой белок может содержаться только в крови человека. Но ведь и теперь у спасающего свою шкуру преступника могло найтись возражение. “Да, — скажет он, — возможно, что на шароварах и шлеме была кровь: когда я ехал на лыжах, то налетел на сучок и поранил лицо”. Словом, оставался последний завершающий штрих: надо точно доказать, что кровь на костюме тренера — кровь его жертвы. Для этого нужно определить группу крови. Если она совпадет с группой крови Ольги Комаровой, в руках у Мозарина будет главная улика. Положив в пробирку кусочек байки, Корнева налила туда агглютинирующую сыворотку.
Девушка так погрузилась в работу, что вздрогнула, когда раздался телефонный звонок. Она сняла трубку и услыхала голос начальника. Он приказывал ей немедленно выехать в Покровское-Стрешнево.
— А что случилось, товарищ полковник?
— Нашли Ольгу Комарову, — ответил тот.
Но ведь эта кровь могла принадлежать и животному? Корнева вырезала другой, обшитый белыми нитками кусочек из шаровар, положила его в пробирку и залила физиологическим раствором. Проба на белок дала положительный результат. Через несколько часов с помощью особой сыворотки она убедилась, что такой белок может содержаться только в крови человека. Но ведь и теперь у спасающего свою шкуру преступника могло найтись возражение. “Да, — скажет он, — возможно, что на шароварах и шлеме была кровь: когда я ехал на лыжах, то налетел на сучок и поранил лицо”. Словом, оставался последний завершающий штрих: надо точно доказать, что кровь на костюме тренера — кровь его жертвы. Для этого нужно определить группу крови. Если она совпадет с группой крови Ольги Комаровой, в руках у Мозарина будет главная улика. Положив в пробирку кусочек байки, Корнева налила туда агглютинирующую сыворотку.
Девушка так погрузилась в работу, что вздрогнула, когда раздался телефонный звонок. Она сняла трубку и услыхала голос начальника. Он приказывал ей немедленно выехать в Покровское-Стрешнево.
— А что случилось, товарищ полковник?
— Нашли Ольгу Комарову, — ответил тот.
8
Монтеры привели Воронова с Громом туда, где утром они набрели на одежду Комаровой. Лейтенант надеялся, что собака отыщет еще какую-нибудь вещь, не замеченную монтерами, и от нее поведет по следу. Одежда, найденная утром, уже была захватана руками разных людей и не могла даже медалиста Грома навести на след. Воронов шаг за шагом обыскивал местность, но собака не находила ни одной новой вещи. Проводник вернулся к милицейскому автомобилю, поел, а овчарку не накормил: она приучена есть только в своей клетке, в своей миске, придирчиво проверенные ветеринаром порции. Лейтенант рассудил, что, пожалуй, имеет смысл объехать местность на машине и начать поиски с опушки леса. Спустя два часа собака нашла батистовую блузку. Воронов приказал овчарке: — След! Собака стала жадно втягивать запах, идущий от блузки, и быстро пошла вперед, туго натягивая поводок и обнюхивая снег. Вдруг она остановилась, потом описала круг и вильнула в сторону. — След! — строго приказал лейтенант. Гром обогнул одинокий пень, снова напал на след и опять повел за собой своего проводника, единственного человека в мире, которому он подчинялся. Через пятнадцать минут возле небольшого сугроба Гром стал скрести когтями снег и отрывисто лаять. Воронов приказал собаке сидеть и погладил ее по голове. Шофер принес лопаты. Воронов вместе с шофером-сержантом стали копать снег и обнаружили труп Ольги Комаровой.
Ночь уже спускалась на Покровское-Стрешнево, из-за тучи выглядывала темно-рыжая луна. Невдалеке, как часовые, стояли высокие, занесенные снегом сосны; дальше, насколько охватывал взгляд, тянулась ровная поляна, обрывающаяся оврагом, над которым высился коренастый великан дуб. Вокруг было торжественно и тихо. Далеко-далеко возник и пропал одинокий, отрывистый гудок паровоза.
Вскоре к холму, возле которого находился Воронов с собакой, подъехал грузовик и легковые машины: в них прибыли судебно-медицинский эксперт, следователь городской прокуратуры, эксперт научно-технического отдела Корнева, Градов, Мозарин, фотограф. Вспыхнул прожектор, освещая место, где погибла Ольга Комарова. При вспышках “блицев” фотограф снял страшную находку, потом тщательно зарисовал план местности. Над погибшей склонились эксперты. Они обнаружили на шее несколько ран, нанесенных сзади финским ножом. На ее груди нашли лиловый пакет. Его вскрыли. В нем оказалась записка, на которой стояли крупно написанные карандашом три слова: “Пусть и Комаров поплачет”. Конверт с запиской передали Градову, тот молча протянул его Мозарину…
Обратно офицеры милиции и Корнева ехали молча. Когда полковник подносил огонек зажигалки к своей папиросе, капитан и Надя заметили, что лицо его бледно, а глаза полузакрыты.
— Что с вами, Виктор Владимирович? — спросила девушка.
— Я все время думаю об одном, — ответил он, — как на нашей земле вырастают такие преступники? Я знаю, что есть у нас люди — отщепенцы общества, нравственные уроды, люди, которых засосала уголовная среда. Но ведь Комаров не уголовник, не судился, не имел даже привода. Как мог он математически-расчетливо построить свое алиби, привлечь наше внимание к записке Румянцева, откопать убитую, хладнокровно снять с нее одежду, опять закопать и разбросать ее вещи? — Градов глубоко затянулся, и в темноте вспыхнул огонек папиросы. — Ведь этот Комаров рос в советской среде, учился в нашей школе, в нашем техникуме, был в комсомоле, в армии, получал боевые ордена. Он читал наши газеты, книги, видел наши пьесы, фильмы. Неужели наше миролюбие, гуманизм, забота о человеке и человечестве — все наши высокие идеи и цели, все отскочило от него, как от стенки горох? Я не в состоянии понять, какая семья, какая среда создали такое отребье! Этот вопрос меня интересует не только с криминалистической, но и с социально-политической стороны. Я приказываю вам, капитан, узнать, в какой среде он вырос, в какой школе учился, кто его воспитал, где он воевал.
— Слушаюсь, товарищ полковник!
— И тщательно проверьте все документы!
— Слушаюсь! Полагаете, они фальшивые?
— Возможно…
— Может быть, Комаров сам фальшивый?
— И это возможно…
Новая задача, поставленная Градовым, могла привести к самым неожиданным результатам. Тайна исчезновения Ольги Комаровой раскрыта, но теперь загадкой становился сам Комаров. В самом деле, кто же этот человек? Ради чего он носит маску? И как ее сорвать?
Мозарин погрузился в раздумье, но вспомнил о записке, оставленной преступником в пакете. Ведь она противоречила версии. Допустим, что Комаров считает оперативных работников плохими сыщиками, понимает, что такую записку приобщат к делу, исследуют и обязательно определят, кто ее написал. Но, главное, такую записку мог написать или сам Комаров измененным почерком, чтобы отвести от себя обвинение, или его сообщник, выгораживающий тренера. Может быть, неизвестный в коричневой шубе все-таки участвовал в убийстве или чем-нибудь помогал Комарову?
Вернувшись на Петровку, Мозарин вынул из пакета записку и внимательно осмотрел ее. По-видимому, этот листок был аккуратно вырезан из какой-нибудь тетрадки в клетку с красными и синими линиями на полях. Почерк говорил о том, что записка писалась наспех: буквы круто спускались вниз.
Капитан вынул из дела письмо Комарова к жене, написанное им перед отъездом в командировку, и отнес его вместе с запиской в научно-технический отдел. Шел одиннадцатый час ночи. Консультант — сухой старичок в золотых очках, специалист по графическому исследованию почерков — уже собирался идти домой. Мозарин попросил его определить: не мог ли человек, писавший письмо, составить измененным почерком записку, найденную на груди убитой?
Возвращаясь к себе, капитан остановился, круто повернул и направился в кабинет Градова. Он не мог забыть о волнении полковника. Михаил любил и уважал Градова, своего учителя, наставника и старшего друга.
— Товарищ полковник, разрешите спросить?
— Спрашивайте!
— По-моему, человек с такой биографией, как Комаров, при известных обстоятельствах все-таки мог совершить убийство и попытаться взвалить вину на друга.
— Да, — ответил Градов, — мог! Такое исключение из правил допускают. Но исходить только из биографии мы не должны, не имеем права. Есть еще, к сожалению, такие верхогляды, которые руководствуются только анкетой. Это не следователи, а чиновники. Для них главное не правда и обстоятельства жизни, не факты и психология человека, а его анкета. Но учтите: во-первых, анкета может оказаться фальшивой; во-вторых, бывают преступники и с идеальной анкетой… Комаров очень неясен… Странно, что в разгар следствия, когда еще не найдена его жена, он не отказывается от поездки за границу. Это обстоятельство особенно настораживает.
…Придя к себе, Мозарин позвонил в спортивное общество, где теперь дневал и ночевал Комаров, вызвал председателя и от имени Градова попросил прислать из отдела кадров личное дело и трудовую книжку Комарова. Председатель, заканчивая разговор, сообщил:
— Комаров очень старательно работает, иногда забивается в угол и плачет.
— А как насчет поездки за границу?
— Мы намечали послать его вторым тренером нашей команды гимнастов. Но раз товарищ Градов просил попридержать Комарова, я пока этого вопроса не поднимаю.
Вскоре принесли служебное дело Комарова. Капитан раскрыл его и стал изучать. Родители Петра Ивановича Комарова жили в Калинине, брат в Ленинграде. Петр окончил десятилетку в Калинине, учился в техникуме физической культуры. Во время Отечественной войны находился на фронте, зенитчиком, был ранен. Мозарин тут же написал письма родителям Комарова, его брату, директорам калининской школы и техникума, а также запросы некоторым военным учреждениям. Покончив с этим, он прошелся по комнате, сделал несколько приседаний и направился к Градову.
Проходя мимо комнаты Корневой, он приоткрыл дверь. Ее стол был уставлен штативами с пробирками, рядом лежал спортивный костюм и шлем Комарова. Люстра под потолком светила во все пять ламп. Свернувшись калачиком, Надя спала на узком диване. Капитан взглянул на часы: было три часа ночи. Он выключил свет, тихо прикрыл за собой дверь и, шагая по коридору, вспомнил о фронтовых девушках, которые вот так же, как Надя, намаявшись за день, падали и засыпали там, где работали.
Дежурный по Уголовному розыску сказал, что полковник уехал домой. Мозарин положил в ящик секретарского стола письма и запросы с просьбой напечатать и вернулся к себе. На его столе уже лежала экспертиза записки: почерковед утверждал, что она написана рукой человека, который не изменял своего почерка. Значит, Комаров не прикладывал к ней руки? Мозарин повернул записку обратной стороной. Сколько раз он видел тетради или канцелярские книги с такой же разлиновкой: они служили главным образом для бухгалтерских записей. Капитан поглубже уселся в кресло, засунул ладони в рукава и вытянул ноги…
Он проснулся так же внезапно, как заснул, от резкого телефонного звонка. Схватив трубку, назвал себя. Говорила его мать, спрашивала, почему он не предупредил ее, что задерживается на службе.
— Мама, честное слово, я вчера так устал, уж ты извини!
— Ладно, а как же с обедом?
— Приеду!
— А если не приедешь, сердись не сердись, генералу Турбаеву позвоню.
— Не генералу, а комиссару.
— Раз у него погоны генеральские, лампасы красные, — значит, генерал. Чтобы к обеду был дома!..
“Нет, — думал он, положив трубку, — каков характерец у мамы!”
Бросив взгляд на стол, освещенный лампой, он увидел лежащую изнанкой кверху на мраморной подставке для календаря записку. Сверху казалось, что это записная книжка, открытая на чистой странице.
“Записная книжка! — повторил Мозарин про себя. — Где же я видел точно такую?”
Словно молния сверкнула в его памяти: вот он выдвигает из низенького комода нижний ящик, приподнимает мужские сорочки, и под ними — новенькая записная книжка в металлическом переплете… Это происходило в комнате Румянцева. Мозарин вызвал помощника дежурного и послал его в Покровское-Стрешнево.
Через час посланный вернулся, привез записную книжку Румянцева и сказал, что художник спрашивал, зачем она нужна, тем более что в ней нет никаких записей. Мозарин перелистал книжку и убедился, что листок бумаги, на котором написано “Пусть и Комаров поплачет”, вырван из записной книжки художника. Он достал из дела написанное от руки заявление Румянцева в отделение милиции и послал его вместе с запиской и книжкой в научно-технический отдел. Он живо вообразил, как старичок почерковед будет горячиться, увидев ту самую записку, над которой он уже поработал вчера.
Днем Корнева принесла капитану аналитическое заключение.
— Я много раз вам говорила, — сказала она, усаживаясь против Мозарина, — что наш научно-технический отдел может заставить говорить вещи, и это будут самые достоверные свидетели. В этом случае, Михаил Дмитриевич, спортивный костюм и шлем уличают Комарова. Я проделала все анализы, которые полагается, чтобы точно определить группу крови тренера и его жены. Теперь с полной уверенностью заявляю; на шароварах и на шлеме Комарова была кровь. Группа этой крови тождественна с группой крови его жены.
Поблагодарив Корневу, он отправился с ее заключением докладывать Градову. Тот прочитал и сказал:
— Эти улики имеют решающее значение, если их сопоставить с другими. Получилась цепь замкнутых улик, которая крепко спаяна. И ни одно звено не может быть из нее вынуто. Опровергнутое вами алиби Комарова дает основание думать, что у него было время для совершения преступления; батистовый платочек, положенный в кармашек подкинутой юбки, доказывает, что он знал, где находится убитая; разбросанная одежда Комаровой говорит о том, что он стремился к ускорению и окончанию следствия. И наконец, кровь определенной группы на спортивном костюме Комарова. Теперь мы имеем право заявить, что именно Комаров убил свою жену, прикрывшись, как щитом, бывшим романом Ольги с Румянцевым. Разумеется, нам еще неизвестно, с какой целью он это сделал. И тут, капитан, предстоит еще большая работа. Несомненно, прокурор утвердит нашу просьбу о заключении Комарова под стражу. Я сам поеду в прокуратуру. Пришлите мне дело.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — ответил Мозарин и повернулся к двери.
— Постойте! — остановил его Градов. — А почему вы молчите о записке в лиловом пакете? Или вы уже всё решили?
— Я подозреваю, что ее писал Румянцев, — ответил Мозарин. — Скоро будет готова экспертиза. Конечно, эта записка никак не вяжется со всеми нашими выводами.
— То есть вы считаете, что художник причастен к преступлению?
— По совести, улики против него — кроме записки — очень незначительны. Он ревновал Комарову, хотел увезти на Кавказ, иногда, отчаявшись, говорил, что покончит с собой.
— Ну это громкие слова, и только слова… Да, улики мелкие и разрозненные, рассчитанные на простофиль.
— Кроме того, у Румянцева есть алиби. Известна каждая его минута в тот вечер. Хотя после “алиби” Комарова я буду сомневаться в любом алиби.
— Мой учитель полковник Аниканов утверждал: “Сомнение всегда помогает следователю”, — сказал Градов, что-то быстро записывая в своем календарике. — Вам полезно запомнить одну истину, капитан: убивает тот, у кого есть на это причины. Но помните: и тот, кто способен убить!
Зазвонил телефон, Градов взял трубку. Говорил старик Мартынов с завода. Он узнал, что нашли Ольгу Комарову, и спрашивал, установили ли, кто лишил ее жизни. Градов твердо ответил, что преступник известен и с ним поступят так, как это требует закон.
— Ну хоть бы слово дочка кому-нибудь сказала! — с печалью проговорил старый рабочий. — Разве мы допустили бы ее до этого? Бедная наша Олюшка…
Положив трубку, полковник сообщил Мозарину, что утром звонил Комаров, разговаривал повышенным тоном и требовал, чтобы его приняли. Градов для виду записал номер телефона тренера и обещал его вызвать.
— Смотрел ваши письма и запросы о Комарове, — в заключение сказал полковник Мозарину. — К ним надо приложить фотографию тренера. Для военных учреждений это важно, а для родственников — тем более!
Гром обогнул одинокий пень, снова напал на след и опять повел за собой своего проводника, единственного человека в мире, которому он подчинялся. Через пятнадцать минут возле небольшого сугроба Гром стал скрести когтями снег и отрывисто лаять. Воронов приказал собаке сидеть и погладил ее по голове. Шофер принес лопаты. Воронов вместе с шофером-сержантом стали копать снег и обнаружили труп Ольги Комаровой.
Ночь уже спускалась на Покровское-Стрешнево, из-за тучи выглядывала темно-рыжая луна. Невдалеке, как часовые, стояли высокие, занесенные снегом сосны; дальше, насколько охватывал взгляд, тянулась ровная поляна, обрывающаяся оврагом, над которым высился коренастый великан дуб. Вокруг было торжественно и тихо. Далеко-далеко возник и пропал одинокий, отрывистый гудок паровоза.
Вскоре к холму, возле которого находился Воронов с собакой, подъехал грузовик и легковые машины: в них прибыли судебно-медицинский эксперт, следователь городской прокуратуры, эксперт научно-технического отдела Корнева, Градов, Мозарин, фотограф. Вспыхнул прожектор, освещая место, где погибла Ольга Комарова. При вспышках “блицев” фотограф снял страшную находку, потом тщательно зарисовал план местности. Над погибшей склонились эксперты. Они обнаружили на шее несколько ран, нанесенных сзади финским ножом. На ее груди нашли лиловый пакет. Его вскрыли. В нем оказалась записка, на которой стояли крупно написанные карандашом три слова: “Пусть и Комаров поплачет”. Конверт с запиской передали Градову, тот молча протянул его Мозарину…
Обратно офицеры милиции и Корнева ехали молча. Когда полковник подносил огонек зажигалки к своей папиросе, капитан и Надя заметили, что лицо его бледно, а глаза полузакрыты.
— Что с вами, Виктор Владимирович? — спросила девушка.
— Я все время думаю об одном, — ответил он, — как на нашей земле вырастают такие преступники? Я знаю, что есть у нас люди — отщепенцы общества, нравственные уроды, люди, которых засосала уголовная среда. Но ведь Комаров не уголовник, не судился, не имел даже привода. Как мог он математически-расчетливо построить свое алиби, привлечь наше внимание к записке Румянцева, откопать убитую, хладнокровно снять с нее одежду, опять закопать и разбросать ее вещи? — Градов глубоко затянулся, и в темноте вспыхнул огонек папиросы. — Ведь этот Комаров рос в советской среде, учился в нашей школе, в нашем техникуме, был в комсомоле, в армии, получал боевые ордена. Он читал наши газеты, книги, видел наши пьесы, фильмы. Неужели наше миролюбие, гуманизм, забота о человеке и человечестве — все наши высокие идеи и цели, все отскочило от него, как от стенки горох? Я не в состоянии понять, какая семья, какая среда создали такое отребье! Этот вопрос меня интересует не только с криминалистической, но и с социально-политической стороны. Я приказываю вам, капитан, узнать, в какой среде он вырос, в какой школе учился, кто его воспитал, где он воевал.
— Слушаюсь, товарищ полковник!
— И тщательно проверьте все документы!
— Слушаюсь! Полагаете, они фальшивые?
— Возможно…
— Может быть, Комаров сам фальшивый?
— И это возможно…
Новая задача, поставленная Градовым, могла привести к самым неожиданным результатам. Тайна исчезновения Ольги Комаровой раскрыта, но теперь загадкой становился сам Комаров. В самом деле, кто же этот человек? Ради чего он носит маску? И как ее сорвать?
Мозарин погрузился в раздумье, но вспомнил о записке, оставленной преступником в пакете. Ведь она противоречила версии. Допустим, что Комаров считает оперативных работников плохими сыщиками, понимает, что такую записку приобщат к делу, исследуют и обязательно определят, кто ее написал. Но, главное, такую записку мог написать или сам Комаров измененным почерком, чтобы отвести от себя обвинение, или его сообщник, выгораживающий тренера. Может быть, неизвестный в коричневой шубе все-таки участвовал в убийстве или чем-нибудь помогал Комарову?
Вернувшись на Петровку, Мозарин вынул из пакета записку и внимательно осмотрел ее. По-видимому, этот листок был аккуратно вырезан из какой-нибудь тетрадки в клетку с красными и синими линиями на полях. Почерк говорил о том, что записка писалась наспех: буквы круто спускались вниз.
Капитан вынул из дела письмо Комарова к жене, написанное им перед отъездом в командировку, и отнес его вместе с запиской в научно-технический отдел. Шел одиннадцатый час ночи. Консультант — сухой старичок в золотых очках, специалист по графическому исследованию почерков — уже собирался идти домой. Мозарин попросил его определить: не мог ли человек, писавший письмо, составить измененным почерком записку, найденную на груди убитой?
Возвращаясь к себе, капитан остановился, круто повернул и направился в кабинет Градова. Он не мог забыть о волнении полковника. Михаил любил и уважал Градова, своего учителя, наставника и старшего друга.
— Товарищ полковник, разрешите спросить?
— Спрашивайте!
— По-моему, человек с такой биографией, как Комаров, при известных обстоятельствах все-таки мог совершить убийство и попытаться взвалить вину на друга.
— Да, — ответил Градов, — мог! Такое исключение из правил допускают. Но исходить только из биографии мы не должны, не имеем права. Есть еще, к сожалению, такие верхогляды, которые руководствуются только анкетой. Это не следователи, а чиновники. Для них главное не правда и обстоятельства жизни, не факты и психология человека, а его анкета. Но учтите: во-первых, анкета может оказаться фальшивой; во-вторых, бывают преступники и с идеальной анкетой… Комаров очень неясен… Странно, что в разгар следствия, когда еще не найдена его жена, он не отказывается от поездки за границу. Это обстоятельство особенно настораживает.
…Придя к себе, Мозарин позвонил в спортивное общество, где теперь дневал и ночевал Комаров, вызвал председателя и от имени Градова попросил прислать из отдела кадров личное дело и трудовую книжку Комарова. Председатель, заканчивая разговор, сообщил:
— Комаров очень старательно работает, иногда забивается в угол и плачет.
— А как насчет поездки за границу?
— Мы намечали послать его вторым тренером нашей команды гимнастов. Но раз товарищ Градов просил попридержать Комарова, я пока этого вопроса не поднимаю.
Вскоре принесли служебное дело Комарова. Капитан раскрыл его и стал изучать. Родители Петра Ивановича Комарова жили в Калинине, брат в Ленинграде. Петр окончил десятилетку в Калинине, учился в техникуме физической культуры. Во время Отечественной войны находился на фронте, зенитчиком, был ранен. Мозарин тут же написал письма родителям Комарова, его брату, директорам калининской школы и техникума, а также запросы некоторым военным учреждениям. Покончив с этим, он прошелся по комнате, сделал несколько приседаний и направился к Градову.
Проходя мимо комнаты Корневой, он приоткрыл дверь. Ее стол был уставлен штативами с пробирками, рядом лежал спортивный костюм и шлем Комарова. Люстра под потолком светила во все пять ламп. Свернувшись калачиком, Надя спала на узком диване. Капитан взглянул на часы: было три часа ночи. Он выключил свет, тихо прикрыл за собой дверь и, шагая по коридору, вспомнил о фронтовых девушках, которые вот так же, как Надя, намаявшись за день, падали и засыпали там, где работали.
Дежурный по Уголовному розыску сказал, что полковник уехал домой. Мозарин положил в ящик секретарского стола письма и запросы с просьбой напечатать и вернулся к себе. На его столе уже лежала экспертиза записки: почерковед утверждал, что она написана рукой человека, который не изменял своего почерка. Значит, Комаров не прикладывал к ней руки? Мозарин повернул записку обратной стороной. Сколько раз он видел тетради или канцелярские книги с такой же разлиновкой: они служили главным образом для бухгалтерских записей. Капитан поглубже уселся в кресло, засунул ладони в рукава и вытянул ноги…
Он проснулся так же внезапно, как заснул, от резкого телефонного звонка. Схватив трубку, назвал себя. Говорила его мать, спрашивала, почему он не предупредил ее, что задерживается на службе.
— Мама, честное слово, я вчера так устал, уж ты извини!
— Ладно, а как же с обедом?
— Приеду!
— А если не приедешь, сердись не сердись, генералу Турбаеву позвоню.
— Не генералу, а комиссару.
— Раз у него погоны генеральские, лампасы красные, — значит, генерал. Чтобы к обеду был дома!..
“Нет, — думал он, положив трубку, — каков характерец у мамы!”
Бросив взгляд на стол, освещенный лампой, он увидел лежащую изнанкой кверху на мраморной подставке для календаря записку. Сверху казалось, что это записная книжка, открытая на чистой странице.
“Записная книжка! — повторил Мозарин про себя. — Где же я видел точно такую?”
Словно молния сверкнула в его памяти: вот он выдвигает из низенького комода нижний ящик, приподнимает мужские сорочки, и под ними — новенькая записная книжка в металлическом переплете… Это происходило в комнате Румянцева. Мозарин вызвал помощника дежурного и послал его в Покровское-Стрешнево.
Через час посланный вернулся, привез записную книжку Румянцева и сказал, что художник спрашивал, зачем она нужна, тем более что в ней нет никаких записей. Мозарин перелистал книжку и убедился, что листок бумаги, на котором написано “Пусть и Комаров поплачет”, вырван из записной книжки художника. Он достал из дела написанное от руки заявление Румянцева в отделение милиции и послал его вместе с запиской и книжкой в научно-технический отдел. Он живо вообразил, как старичок почерковед будет горячиться, увидев ту самую записку, над которой он уже поработал вчера.
Днем Корнева принесла капитану аналитическое заключение.
— Я много раз вам говорила, — сказала она, усаживаясь против Мозарина, — что наш научно-технический отдел может заставить говорить вещи, и это будут самые достоверные свидетели. В этом случае, Михаил Дмитриевич, спортивный костюм и шлем уличают Комарова. Я проделала все анализы, которые полагается, чтобы точно определить группу крови тренера и его жены. Теперь с полной уверенностью заявляю; на шароварах и на шлеме Комарова была кровь. Группа этой крови тождественна с группой крови его жены.
Поблагодарив Корневу, он отправился с ее заключением докладывать Градову. Тот прочитал и сказал:
— Эти улики имеют решающее значение, если их сопоставить с другими. Получилась цепь замкнутых улик, которая крепко спаяна. И ни одно звено не может быть из нее вынуто. Опровергнутое вами алиби Комарова дает основание думать, что у него было время для совершения преступления; батистовый платочек, положенный в кармашек подкинутой юбки, доказывает, что он знал, где находится убитая; разбросанная одежда Комаровой говорит о том, что он стремился к ускорению и окончанию следствия. И наконец, кровь определенной группы на спортивном костюме Комарова. Теперь мы имеем право заявить, что именно Комаров убил свою жену, прикрывшись, как щитом, бывшим романом Ольги с Румянцевым. Разумеется, нам еще неизвестно, с какой целью он это сделал. И тут, капитан, предстоит еще большая работа. Несомненно, прокурор утвердит нашу просьбу о заключении Комарова под стражу. Я сам поеду в прокуратуру. Пришлите мне дело.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — ответил Мозарин и повернулся к двери.
— Постойте! — остановил его Градов. — А почему вы молчите о записке в лиловом пакете? Или вы уже всё решили?
— Я подозреваю, что ее писал Румянцев, — ответил Мозарин. — Скоро будет готова экспертиза. Конечно, эта записка никак не вяжется со всеми нашими выводами.
— То есть вы считаете, что художник причастен к преступлению?
— По совести, улики против него — кроме записки — очень незначительны. Он ревновал Комарову, хотел увезти на Кавказ, иногда, отчаявшись, говорил, что покончит с собой.
— Ну это громкие слова, и только слова… Да, улики мелкие и разрозненные, рассчитанные на простофиль.
— Кроме того, у Румянцева есть алиби. Известна каждая его минута в тот вечер. Хотя после “алиби” Комарова я буду сомневаться в любом алиби.
— Мой учитель полковник Аниканов утверждал: “Сомнение всегда помогает следователю”, — сказал Градов, что-то быстро записывая в своем календарике. — Вам полезно запомнить одну истину, капитан: убивает тот, у кого есть на это причины. Но помните: и тот, кто способен убить!
Зазвонил телефон, Градов взял трубку. Говорил старик Мартынов с завода. Он узнал, что нашли Ольгу Комарову, и спрашивал, установили ли, кто лишил ее жизни. Градов твердо ответил, что преступник известен и с ним поступят так, как это требует закон.
— Ну хоть бы слово дочка кому-нибудь сказала! — с печалью проговорил старый рабочий. — Разве мы допустили бы ее до этого? Бедная наша Олюшка…
Положив трубку, полковник сообщил Мозарину, что утром звонил Комаров, разговаривал повышенным тоном и требовал, чтобы его приняли. Градов для виду записал номер телефона тренера и обещал его вызвать.
— Смотрел ваши письма и запросы о Комарове, — в заключение сказал полковник Мозарину. — К ним надо приложить фотографию тренера. Для военных учреждений это важно, а для родственников — тем более!
9
Старичок почерковед, сличив красно-синие линии в книжке и на записке, установил, что они тождественны по окраске и размеру. Микроскопическое исследование бумаги также показало их тождественность. Наконец, почерк на записке имеет ряд характерных признаков: слабое напряжение руки, извилистые нижние окончания штрихов, резко выраженную угловатость овалов. Теми же признаками отличался и почерк Румянцева. Кроме того, сообщалось в заключении научно-технического отдела, на одном из чистых листов записной книжки художника эксперт Корнева, пользуясь лупой, обнаружила бесцветный вдавленный текст — “Пусть и Комаров поплачет”, который оттиснулся от нажима карандашом в то время, как эти слова писались на верхней страничке. Этот текст она выявила особым фотографическим способом. При записной книжке находился химический фиолетовый карандаш, которым написали несколько строк. Эти строки и записку Корнева последовательно смачивала азотной, уксусной, серной кислотами и наблюдала одну и ту же реакцию. Химический состав карандаша Румянцева и автора записки совпадают. Прочтя этот обличительный документ, Мозарин задумался: как мог художник, здравомыслящий человек, так открыто наводить на собственные следы? Может быть, он писал это в состоянии исступления? Или, что казалось невероятным, решил взять вину на себя? Но с какой стати? Это была тайна, которая требовала раскрытия. Иначе невозможно спокойно и уверенно продолжать следствие. Размышления капитана прервал телефонный звонок. Из бюро пропусков сообщили, что два раза приходил Румянцев и дважды Мозарин не отвечал на телефонный звонок. Сейчас гражданин Румянцев явился в третий раз. Капитан велел его пропустить. Румянцев очень изменился: он осунулся, под глазами синели круги, лицо обросло жесткой бородой. — Вы по поводу записной книжки? — спросил Мозарин. — Нет, она мне не нужна, — тихо ответил Румянцев. — Скажите, пожалуйста, — продолжал капитан, — вы не писали на отдельном листке этой книжки фразу: “Пусть и Комаров поплачет”? — “Пусть и Комаров поплачет”? — переспросил художник и наморщил лоб. — Ах да, писал. А почему вас это интересует? — Будьте любезны раньше ответить на мой вопрос. — Пожалуйста! Это было в первый месяц замужества Оли. Она ни на шаг не отходила от мужа, даже редко выходила из комнаты. Нечего и говорить, что делалось со мною. От ревности и обиды я озлобился, поглупел и… нарисовал злой рисунок: Оля в образе легкомысленной дамочки бежит в раскрытые объятия какого-то человека, а в сторонке, не видя этого, стоит Комаров. В эти дни я минутами ненавидел Ольгу, она казалась мне ветреной, легко меняющей дружбу. Ненавидел Комарова… На тумбочке лежала записная книжка. Я взял ее и во всю страницу написал эти слова, злорадствуя и мысленно желая, чтобы Ольга обманула Комарова. Теперь я сознаю, как это было глупо… и мелко… даже подло… Дайте-ка мне книжку! — Румянцев протянул руку. — Погодите! — остановил его капитан. — Кто видел эту запись в вашей книжке? — Думаю, никто. Я послал рисунок Оле, под которым позже написал: “Пусть и Комаров поплачет”! — А кто, кроме Комаровой, видел ваш рисунок? — Мужу она не показывала. — Это вам точно известно? — Ну конечно. Иначе Петр не промолчал бы. А вот тетка Оли видела шарж. Я помню, она еще встретила меня на улице и стала бранить: как я смел издеваться над чистой любовью ее племянницы! — Кто заходил в вашу комнату, когда вас не было дома? — Соседка, Анна Ильинична. Этой зимой и Комаров. — А он-то почему заходил? — Когда я жил с ним, еще до его женитьбы, мы сложились и купили комод. В своих ящиках он хранил спортивные вещи. После женитьбы он не унес их к себе, иногда заходил даже в мое отсутствие, чтобы взять из комода ту или иную вещь. — Где находилась записная книжка? — Она все время лежала в комоде. Я ею не пользовался. Она очень толстая. Ее неудобно носить в кармане. — Я вынужден оставить записную книжку у себя, — сказал Мозарин. — Она приобщается к делу. — Пожалуйста, — ответил Румянцев и тихо добавил: — Я сегодня видел Олю. У меня сердце разрывается, поверьте… Вам известно, кто этот… этот зверь? — Да! — И он сознался? — еще тише спросил Румянцев. — Нет еще! — Простите! — пробормотал художник, судорожно дернулся и еле слышно произнес: — Можно идти? Мозарин подписал пропуск. Художник пошел, еле передвигая ноги, спохватился, что забыл шапку. Взяв ее, он вторично сказал: “Простите!” — и вышел из комнаты. Опять у Мозарина осталось то же впечатление, что и после первого допроса Румянцева: свидетель странно вел себя, может быть, утаивал важные для следствия показания. Капитан послал повестку тетке Ольги Комаровой, просил ее явиться завтра утром. Мозарин пошел было в столовую Управления, но вспомнил об утреннем телефонном разговоре с матерью и сказал Байковой, что съездит домой. Часа через два, возвращаясь в троллейбусе на службу, капитан снова и снова обдумывал, как провести допрос Комарова. Прежде всего это будет психологическая разведка. Она покажет, как воспримет тренер тот или иной вопрос, как он владеет собой и умеет ли вовремя найтись. Это подскажет, как вести допрос дальше. Главное — не давать волю своим чувствам, вовремя сдержать себя. И, пожалуй, надо притвориться простодушным и доверчивым: пусть Комаров думает, что Мозарин — молодой, неопытный следователь. Пусть Комаров вволю лжет, не надо ему мешать. Именно ложные показания и изобличат его. Капитан набрал номер телефона, который дал ему Градов, и вызвал тренера. Тот сказал, что немедленно выезжает, и добавил, что его могли бы пригласить и раньше. Мозарин по его вызывающему тону почувствовал: преступник будет держать себя нагло. Комаров, войдя в комнату, снял меховую куртку, бросил на стул, положил сверху кепи и сел. Он был в спортивном костюме из синей байки. Мозарин заметил, что шаровары потерты и на локтях заплаты. Значит, он умышленно надел этот костюм! — Я прежде всего вынужден протестовать! — внушительно сказал Комаров. — Вы нашли мою жену, товарищ Мозарин! Вы были обязаны в первую очередь известить меня, меня! — Я послал вам повестку, — спокойно ответил капитан, — но оказалось, что вы уехали в больницу. — Хотел уехать. А вот сижу, работаю. Просвета не вижу. И потом, разве вы, специалисты своего дела, не могли разыскать меня? — У нас тоже много работы, гражданин Комаров. Но, конечно, так или иначе — мы вручили бы вам повестку. — Ну хорошо, — продолжал тренер, меняя тон. — А виновный, надеюсь, арестован? “Вот как! Сразу берет быка за рога”, — подумал Мозарин и уверенно объявил: — Сегодня возьмем преступника под стражу. — Прошу извинения, товарищ Мозарин. Как ваше имя, отчество? — Комаров заметно оживился. — Михаил Дмитриевич, — ответил капитан. — А вы, Михаил Дмитриевич, не скажете мне имя этого негодяя? Это не человек в коричневой шубе? — Не имею права оглашать сведения, Петр Иванович, — ответил Мозарин, — но обещаю: вы первый узнаете, кто убийца вашей жены. — А все-таки, Михаил Дмитриевич, затянули вы с его арестом. — Нет, Петр Иванович! Дело очень сложное, надо иметь крепкие доказательства — А вы их не имели? — Теперь все доказательства налицо, но… не выяснены кое-какие мелочи, а ведь надо все выяснить до конца. Сообщаю это вам доверительно. “Кажется, понемножку успокаивается”, — подумал капитан. — Разумеется! — подхватил тренер, кладя руки на колени. — Может быть, я помешал вам своим приходом? Ведь вам, — он почти усмехнулся, — надо выяснить кое-какие мелочи… — Нет, что вы, Петр Иванович, — возразил Мозарин. — Наоборот, я думаю воспользоваться тем, что вы пришли. — Сделайте одолжение, Михаил Дмитриевич. Капитан медлил, постукивая пальцами по столу. Боясь расстроить тренера, он мягко спросил: — Вы могли бы опознать одежду вашей жены? — Да. А что? Мозарин встал, подошел к шкафу, достал коричневую юбку Ольги Комаровой и положил ее на стол. — Можете удостоверить, что это ее вещь? Тренер посмотрел на юбку, пощупал материю и пожал плечами. — Я помню, что полтора года назад жена шила себе костюм из такого материала. Но это материал очень ходовой. Фасон тоже обычный. Право, не знаю, как и ответить на ваш вопрос. Точно подтвердить, что эта юбка моей жены, не могу. — Он легким движением положил ее на место. — А где вы ее взяли? “Играет неплохо”, — подумал капитан и вслух сказал: — На территории Покровского-Стрешнева. — И больше там никаких вещей не нашли? — А разве там должны быть и другие вещи? — быстро спросил Мозарин и поглядел в глаза Комарову. — Не понимаю вашего вопроса, Михаил Дмитриевич, — учтиво ответил Комаров, смотря в глаза капитану. — Может быть, другие вещи я мог бы опознать точнее. — Я хотел сказать, — пояснил офицер, — разве в Покровском-Стрешневе часто разбрасывают вещи? — Ну откуда мне знать, Михаил Дмитриевич! — проговорил тренер, успокаиваясь. — Я ведь по горло занят спортом, гимнастикой… — Погодите, — остановил его Мозарин, как будто что-то припоминая, — там нашли еще один предмет. Капитан снова подошел к шкафу, вынул батистовый платочек и, не сводя глаз с Комарова, положил его на стол. Тренер взял платочек в руки, посмотрел на метку. Лицо его было спокойно. — Это платок моей жены, — сказал он. — Где она его носила, Петр Иванович? — По большей части в нагрудном кармашке жакетки. Вот так, Михаил Дмитриевич! — И тренер сунул платочек в кармашек своей спортивной куртки. — А зачем вы положили этот платочек в карман юбки? — спросил капитан тем же тоном. — Я?! — воскликнул Комаров, настораживаясь. — Положил? — А кто же, по-вашему? — строго спросил офицер и чуточку подался вперед. — Кто? — Оля положила. Она шла к тетке в поселок. Был мороз. Она надела беличью шубу и не жакет, а вязаную кофточку. Уходя, взяла этот платок из кармана жакетки. Положила в карман юбки. Так я полагаю… — Но этот платочек пропал из вашего шкафа как раз после исчезновения вашей жены. — Чепуха! — Нет, не чепуха. Комаров! — проговорил Мозарин. — Не чепуха! — Он снова быстро подошел к шкафу, вынул оттуда шлем и спортивные шаровары Комарова. — Ведь вы не станете отрицать, что это ваши вещи? — Нет, не стану, — ответил тренер. — Я носил их полтора года назад. А с тех пор ношу костюм, который вы видите на мне. — В этом костюме, а не в том, какой надет на вас, вы отправились в клуб имени Калинина? — Нет! — почти закричал Комаров. — Вы просили Анну Ильиничну этот костюм выстирать? — Нет! — уже закричал тренер и тут же поправился: — Да. Просил. Он слежался в шкафу. Я хотел его подарить школьным ребятам. — Неправду говорите! — резко сказал капитан, чувствуя, что преступник вот-вот сдастся. — Вы просили его выстирать потому, что на нем была кровь. — Кровь? — переспросил Комаров и, как бы защищаясь, поднял руки. — Это моя кровь! Я в нем четыре года ездил на лыжах, на коньках. Не раз падал и разбивался. Мозарин выхватил из ящика стола анализ пятен на спортивном костюме и шлеме Комарова, положил его перед тренером. — Разбивались вы, а на костюме кровь вашей жены! — Кровь Оли? — Комаров, потеряв самообладание, театрально схватился за голову. — Товарищ Мозарин! А не мог ли кто-нибудь, когда я ушел с женой, воспользоваться моим костюмом? Мы не запирали шкафа, а комнату всегда оставляли открытой. — Комаров, вы плохо играете! — решительно произнес Мозарин, поднял трубку с рычага и, набрав номер комендатуры, вызвал к себе дежурного. Потом достал из папки ордер на задержание тренера и положил его на стол. — Это возмутительно! — закричал Комаров, прочитав ордер. — Я не мог этого сделать! Я был в РОНО, в клубе, на лыжной… — Где и сколько времени вы были, все точно проверено! — перебил его капитан. — Вы могли успеть это сделать. — Нет! — снова закричал тренер. — Нет!.. — ударил он себя кулаком в грудь. — Уведите задержанного! — приказал Мозарин возникшему в дверях дежурному. …Только одна фраза Комарова осталась в памяти капитана: кто-то мог надеть его спортивный костюм, лежавший в шкафу. Без сомнения, тренер намекал на Румянцева. Но мог ли художник переодеться и догнать Ольгу Комарову? Правда, она заходила к своей подруге Кате Новиковой, но Катя и соседка Полина Ивановна видели Ольгу не с художником, а с человеком в коричневой шубе… Докладывая Градову о заключении под стражу Комарова, Мозарин не стал подробно останавливаться на этом заявлении тренера, а решил предварительно все продумать сам. Зная, что предыдущую ночь капитан провел на службе, Градов предложил ему после допроса поехать домой и отдохнуть. …Поздней ночью Румянцев позвонил полковнику Градову из телефонной будки бюро пропусков и попросил принять его по неотложному вопросу. Полковник предложил художнику прийти утром к Мозарину, но Румянцев настаивал на своем. Градов приказал выдать ему пропуск. Через несколько минут художник вошел в кабинет. Он тяжело дышал, глаза его бегали из стороны в сторону. — Я совсем измучился, товарищ полковник! — сдавленным голосом проговорил он. — Я больше не могу! Я должен сознаться…10
Румянцев положил шапку на стол, сунул в нее свой пропуск и тяжело опустился в кресло. Теперь при свете настольной лампы полковник заметил, что лицо Румянцева залито нездоровой бледностью. Темно-синяя жилка как бы вздыхала под кожей на его виске. По тому, как художник говорил, — словно книгу читал, без лишних слов, — Градов понял: Румянцев долго носил в себе что-то и не может больше молчать. Не было оснований сомневаться в том, что он говорил правду, одну правду. …Случилось это за день до отъезда Комарова в командировку, рассказывал он. Художник приготовил очередной рисунок для газеты, пошел на станцию, но по дороге вспомнил, что забыл выключить электрическую плитку. Он повернул обратно. Открыв дверь и войдя в коридор, он услыхал громкие голоса. Ольга говорила Комарову: “Или сам пойди и расскажи все о Семене Семеновиче, или я пойду и заявлю, что он — темная личность!” Комаров закричал: “Ты хочешь погубить меня!” До слуха художника донесся шум сдвигаемой мебели, потом крик Ольги. Румянцев рванул ручку двери и вбежал в комнату. Заламывая руки молодой женщине, разъяренный Комаров кричал, что убьет ее, если она посмеет хоть слово сказать о Семене Семеновиче. Едва тренер увидел Румянцева, как бросился на него и схватил за горло. “Подслушиваешь? — орал он. — Хочешь засадить меня, а себе взять Олю?!” У художника помутилось в глазах — он захрипел, но Ольга, собрав все силы, стала звать на помощь. Тогда тренер отпустил Румянцева. — А соседка спала? — спросил Градов. — Нет, она была в гостях. — Вы говорите, что это случилось накануне отъезда Комарова в командировку? А точнее? — Третьего декабря, вечером, между девятью и десятью часами, — ответил художник и, высказывая мучившую его догадку, прибавил: — А на следующий день к вечеру Оля пошла в поселок и не вернулась. — Почему вы раньше ничего не сказали нам? — Я думал, верил, что Оля жива. Может быть, решила удрать от Комарова, уехать куда-нибудь и оттуда написать товарищу Мартынову. — Как же она могла уехать, непредупредив никого? Ни на службе, ни тетку, ни вас? — Меня она предупредила. Утром четвертого декабря я встретил ее на кухне. Там никого не было. У Оли глаза опухли от слез. Я стал утешать ее. Она сказала, что ошиблась в Комарове и ее долг заявить о нем. Она объяснила, что вечером якобы пойдет к тетке, а на самом деле свернет на станцию, сядет в поезд и уедет к подруге. Оттуда она напишет обо всем подробное письмо товарищу Мартынову. — Она сказала вам, к какой подруге поедет? — Нет. Я спрашивал ее об этом. Она ответила, что хочет все сделать сама, как подобает комсомолке, и не желает, чтобы ей мешали. — И вы не предполагали, что она может передумать? — Нет, — ответил художник, покачивая головой. — Нет! Вечером четвертого декабря, у ворот нашего дома, она рассталась с Комаровым и со мной, пошла в поселок к тетке. Я побежал за ней, догнал ее. Я хотел проводить Олю — она наотрез отказалась. Сказала, что только отдаст Кате стенную газету и пойдет на станцию. В руках у нее был чемоданчик. Я догадался, что она собирается погостить у подруги, а потом поедет в Свердловск на состязания. Румянцев посмотрел на полковника и с грустью произнес: — Поверьте, товарищ Градов, я любил Олю и до последнего дня надеялся, что увижу ее. Слезы брызнули из его глаз. — А ваш разговор с Ольгой на кухне не мог подслушать ее муж? — спросил полковник. — Не думаю. Он в это время вынимал газеты из почтового ящика. Но он хорошо понимал, что Оля не побоится его угроз и все равно ему несдобровать. Я только удивляюсь, почему Комаров не расправился и со мной. Ведь он знал: если с Олей что-нибудь случится, я не буду молчать. — С его стороны была такая попытка, — ответил Градов, чувствуя, что нервы художника напряжены до крайности. — Сейчас не стоит об этом говорить… Скажите, вы не спрашивали у Комаровой, кто такой Семен Семенович? — Нет. Все произошло слишком быстро. — И раньше ничего не слыхали от нее или от Комарова об этом человеке? — Нет, никогда. — Еще один вопрос: где вы познакомились с Комаровым? — На катке. Мы с Ольгой часто ходили на каток. Комаров — хороший фигурист. Через нее он попал в дом Марьи Максимовны. Потом освободилась комната в нашем доме. Я сказал ему об этом. И он сумел получить ордер на нее, взявшись преподавать физическую культуру в школах Покровского-Стрешнева. — Теперь вы понимаете, как осторожно надо знакомиться с людьми, а тем более сближаться с ними? — Да! Это мне урок на всю жизнь! — тихо проговорил Румянцев и опустил голову. — Я утаил от следствия все, что вам рассказал. Теперь поступайте со мной по закону. Румянцев поднялся с кресла. — Вы вот говорите: ждали, что Ольга Комарова вернется, потому и молчали, — сказал полковник и, выйдя из-за стола, подошел к Румянцеву. — А мне думается, тут есть еще одна причина: вас связывали с Комаровым приятельские отношения. Но когда Оля открыла вам глаза на него, вы обязаны были заявить нам об этом. Румянцев прижал руку к груди, порываясь что-то сказать, но Градов продолжал: — Не беспокойтесь! Никто в такой момент не подумал бы, что вы мстите ему за то, что он “отбил” у вас девушку, или за то, что вы продолжаете ее любить, а она не уходит от него. Из-за мелкого самолюбия вы медлили разоблачить преступника! Понимаете вы, что это значит и к чему эго привело! Градов вернулся к столу, взял пропуск из шапки художника. — Вас оправдывает только то, что вы хоть с некоторым опозданием, но все же исправили свою ошибку. Ступайте домой, гражданин Румянцев, и работайте! Полковник подписал пропуск. Художник долго стоял, изумленно глядя на Градова, потом закрыл ладонью глаза — ему было стыдно до боли в сердце. Наконец он взял со стола шапку и пропуск. — До свиданья! — тихо сказал он и, повернувшись, пошел. Приоткрыв дверь, он остановился и проговорил: — Спасибо вам, товарищ Градов… Утром полковник рассказал Мозарину о заявлении Румянцева и приказал начать самые тщательные поиски “Семена Семеновича”. По мнению Градова, этот человек имел близкое отношение к Комарову, что-то преступное их связывало. Боялся ли тренер, что тот знает какие-нибудь его старые делишки? Или хотел извлечь из этой дружбы материальную выгоду? Или они сообща задумали совершить преступление? Внезапный поворот в следствии не застал Мозарина врасплох. Он теперь знал среду, в которой жили тренер и его жена. Наверное, этот “человек в коричневой шубе” не часто появлялся у Комаровых, иначе Румянцев знал бы его. Мозарин решил прежде всего поговорить о знакомствах Комарова в спортивном обществе. Председатель общества — высокий, полнокровный южанин, доброжелательный, горячий, знаток спорта и ярый патриот своего спортивного флага — радушно встретил Мозарина. — Прошу, дорогой, садитесь, будьте гостем! — приговаривал он. — Комаров, знаете ли, меня удивил. Вежливый человек, манеры хорошие… Аккуратный, костюм всегда выутюжен, пробор как по линеечке. Работал он неплохо. Как тренер по гимнастике имеет хорошие показатели. Из-за квартиры преподавал где-то в школе. Мы разрешили это совместительство. Гимнаст — не скажу, что блестящий, но перворазрядник. Шел на мастера и мог получить это звание. Неплохой общественник. И веселиться умел — замечательные тосты знал! За деньгами никогда не гнался. Это и побудило нас выставить его кандидатуру для поездки вторым тренером за границу. И вдруг эта кошмарная история! Вы представляете себе, товарищ Мозарин, наше возмущение? Мы же прекрасно знали его жену. Она замечательная фигуристка! Мы хотели, чтобы она выступала за нас… Мозарин стал расспрашивать председателя о спортсменах общества. Тот назвал фамилии чемпионов и чемпионок, уверял, что его спортсмены возьмут первые места в беге на тысячу и пятьсот метров, в велосипедных гонках. Потом намекнул, что футбольная команда общества готовится занять призовое место. — Я не пророк, дорогой, но мы покажем класс! Капитан поинтересовался, кого из спортсменов, близких к Комарову, зовут Семеном Семеновичем. Подумав, председатель сказал, что в центральном обществе вообще нет ни одного Семена Семеновича. Но все же он вызвал к себе начальника отдела кадров, который вспомнил, что в прошлом году некий Семен Семенович служил в бухгалтерии. Капитан объяснил, что его интересуют все Семены Семеновичи, имеющие отношение к спортивному обществу. Начальник отдела кадров обещал просмотреть списки спортсменов. Мозарин вернулся в Уголовный розыск, где его уже ждала Ольгина тетка. Он рассказал Марье Максимовне, кто задержан по обвинению в убийстве ее племянницы. Это так взволновало женщину, что она несколько секунд не могла вымолвить ни слова. Она ведь была уверена, что потрясенный горем Комаров захворал и слег в больницу. Тетка собиралась вместе с родителями Ольги, приехавшими на похороны дочери, навестить его в больнице. Мозарин, кстати, спросил, не видела ли она рисунка Румянцева с надписью “Пусть и Комаров поплачет”. Тетка вспомнила, как возмущалась рисунком, отобрала его у Ольги и отнесла домой. Она хотела сжечь его, да он понравился старшему сыну, и тот спрятал его где-то у себя. Никому из посторонних этот рисунок она не показывала. И Комаров его никогда не видел. Мозарин спросил, не говорила ли ей когда-нибудь Ольга о некоем Семене Семеновиче. Марья Максимовна о таком не слышала. Капитан просил ее просмотреть дома письма и записки Ольги. Тетка обещала это сделать, а о Семене Семеновиче поспрошает у родителей племянницы. Марья Максимовна советовала капитану заглянуть в ящик туалетного столика, где Ольга хранила под ключом старые письма, открытки, фотографии. Мозарин понимал, что Комаров многое уничтожил утром пятого декабря, перед отъездом в командировку. Но все же стоит еще раз тщательно обыскать комнату Комаровых. Зайдя в кабинет к Градову, Мозарин увидел Акима Ивановича Мартынова. Старый рабочий, опираясь на палку, сидел рядом с полковником на кожаном диване и со скорбью говорил: — Ведь что досадно, товарищ Градов: этот Комаров приходил с Ольгой в наш клуб, мы разговаривали с ним, руку ему пожимали. Ну как его распознать? Как? — Трудно, Аким Иванович! — ответил полковник. — Но мы точно знаем, что Комарова собиралась просить вас о помощи. — “Собиралась”!.. — с горечью повторил старик и покачал головой. — Да если бы я знал, у себя бы ее приютил, ни на шаг не отпускал бы. Да что там говорить!.. И он поник головой. Мозарин доложил о своем намерении произвести вторичный обыск у Комарова. Полковник согласился. — Это ваш ученик, товарищ Градов? — спросил Мартынов. — Начинал работать у меня, — ответил полковник и представил капитана. — Молодые! — сказал Мартынов. — Всё норовят сами. — С характером! Между прочим, Аким Иванович, это неплохо. Конечно, если есть подготовка… — И полковник обратился к Мозарину: — Вот товарищ Мартынов говорит, что Комарова рассказывала ему о Семене Семеновиче. — Разрешите спросить товарища Мартынова? — Спрашивайте… Молодой офицер придвинул к дивану кресло и сел против Акима Ивановича. Старик откашлялся и поправил очки. — Не говорила ли вам Ольга, кто такой этот Семен Семенович? Или вы каким-нибудь образом сами об этом догадались? — Он — приезжий, — ответил Мартынов. — Оля так и сказала: “Пока его не было, все шло хорошо. Приехал — каждую ночь Петя где-то шатается и крупно играет в карты”. — Она была уверена, что они вместе проводят время? — Не знаю. Но, думаю, этот тренер не так много зарабатывал, чтобы каждую ночь где-то играть, да еще крупно. Во всяком случае, это началось с приездом Семена Семеновича. — Значит, тот имел деньги? Но за что он давал их Комарову? — Это мы разрешим только с помощью Комарова и самого Семена Семеновича, — вставил полковник. — А вы не помните, товарищ Мартынов, — спросил Мозарин, — когда у вас с Комаровой зашел разговор о Семене Семеновиче? — Помню. В прошлом году, зимой. Уже после Нового года. — А когда Комаров перестал уходить по ночам? — В Международный женский день он был у нас в клубе. Я спросил дочку: “Ну как он теперь?” Она ответила: “Успокоился как будто”. — Капитан, из этого не следует, что в марте Семен Семенович уехал, — сказал Градов. — Могло случиться, что у него иссякли деньги, но он остался. Или по какой-либо иной причине Комаров перестал картежничать по ночам. Может, перед состязаниями соблюдал режим? — Я не с этой целью спросил, товарищ полковник, — объяснил Мозарин. — Меня интересовало, откуда взялись большие деньги? Даже месяц игры в карты, если только не выигрывать подряд, требует солидного денежного резерва. Откуда они у Семена Семеновича, если предположить, что у Комарова завелись деньги с его появлением? Мозарин встал. — Разрешите идти, товарищ полковник? — Ступайте! Через несколько минут комиссар Турбаев подписал ордер на обыск в комнате Комарова. Вместе с двумя оперативными сотрудниками Мозарин отправился в Покровское-Стрешнево.11
Едва автомобиль выехал на загородное шоссе, навстречу, из-за заборов, с обеих сторон поплыли ели. На зеленых ветвях лежали пышные хлопья снега, под которые так и просились красноносые деды-морозы, скучающие за витринами московских магазинов. Вскоре капитан вместе с сотрудниками входил в знакомый домик. У Анны Ильиничны сидела соседка Полина Ивановна. Она сбегала за управляющей домом. И оперативные сотрудники приступили к обыску. Мозарин спросил, не упоминала ли когда-нибудь Ольга о каком-то Семене Семеновиче? Анна Ильинична рассказала, что в прошлом году, в начале января, часов около девяти вечера открыла дверь незнакомому человеку. Он спросил, дома ли Комаров, и велел сказать, что его спрашивает Якушин Семен Семенович. Она позвала тренера. Семен Семенович разделся. И оба пошли в комнату. Вскоре Комаров попросил Анну Ильиничну сходить в гастроном купить белого хлеба, масла, ветчины. Она отправилась за покупками, а когда вернулась, ни Комарова, ни гостя уже не было. В это время квартира пустовала, потому что Румянцев еще не пришел из редакции, а Оля работала во второй смене. — Сколько времени приблизительно вы отсутствовали? — спросил Мозарин. — Полчасика… — Как одет был Семен Семенович? — Вечером снег шел. Шапка и шуба у него были совсем белые. А когда он прошел в комнату, я вещи встряхнула, чтобы лужа не натекла. Шуба у него коричневого драпа, а шапка меховая. Вот из какого меха — не скажу. — А цвет? — Тоже коричневый. — А перчатки кожаные? — вдруг спросила Полина Ивановна, прислушиваясь к ответам своей приятельницы. — Перчатки? Что-то не помню. Кажется, кожаные. Капитан выяснил, что Семен Семенович среднего роста, широк в плечах, крепкого сложения, лицо у него полное, розовое, глаза черные, большие, передние зубы золотые. — Уж очень похож на того человека, которого я видела, — сказала Полина Ивановна. — Старик железнодорожник к вам больше не приходил? — спросил ее Мозарин. — Нет. Я теперь, когда ухожу, говорю домашним, куда иду и когда приду. “Может, говорю, тут железнодорожник коричневую шубу приведет. Попросите обождать”. Снова в это дело вторгся таинственный неизвестный в коричневой шубе, которого видели вместе с Комаровой по пути в поселок или, точнее, на станцию. Кто он, этот человек? Похоже, что это тот Семен Семенович, из-за которого была ссора в ночь на четвертое декабря между Комаровым и его женой. Если так, то его появление за сутки перед гибелью Ольги носит зловещий характер. Почему именно в этот час Семен Семенович встретил Ольгу? Хотел ли он объясниться, снять с себя какое-либо обвинение и заступиться за Комарова? Или он встретил чертежницу с определенной целью — помочь Комарову лишить ее жизни? А может быть, человек в коричневой шубе не Семен Семенович, а другой, непричастный к злодеянию тренера? В это время из Уголовного розыска принесли пакет от Марьи Максимовны, который она туда прислала. В нем было одно из писем Ольги, а в записке сообщалось, что родители Ольги ничего не знают о Семене Семеновиче и не слыхали о нем от дочери. Мозарин взял письмо Ольги. Наверху листка, под двумя летящими чайками, был изображен кавказский пейзаж. В письме, написанном полтора года назад, в сентябре, из Сочи, Ольга рассказывала, между прочим: “…По утрам мы купаемся в море, на которое я не могу без волнения смотреть. Оно все время меняет цвета — один прекрасней другого. Как хорош шум волн, набегающих на песок! В доме отдыха мы едим виноград чауш, розовый мускат, педро — прямо с куста. Когда сорвешь тяжелую кисть и поднимешь ее на свет, она так просвечивает, так мерцает, словно драгоценность: долго не решаешься оторвать ягодку. Петя смеется надо мной и говорит, что я — “романтическая особа”. А по-моему, это не так: кто не понимает красоты, тот бездушный человек. Впрочем, Петя за эти дни очень изменился. Тут живет какой-то Семен Семенович Якушин. По вечерам он куда-то таскает Петю. Говорят, что они играют в карты. Если Семен Семенович хочет сорить деньгами, зачем ему Петя? И потом, по правде говоря, Петя возвращается усталым, почти больным. Врач дома отдыха уже читал ему нотацию, а я прямо заявила по телефону Семену Семеновичу, чтобы он оставил Петю в покое…” Оперативные сотрудники перерыли все полки, ящики, папки, переглядели все письма, документы, начиная от повесток и кончая квитанциями, но не нашли ни одной записочки от Якушина. Они перебрали все старые газеты: не записал ли тренер на полях номер телефона или адрес Семена Семеновича. К концу обыска между дном платяного шкафа и нижним ящиком нашли блокнот с алфавитом. В нем находились десятки иногородних адресов, записанных рукой Комарова. Мозарин стал листать блокнот, но фамилии Якушина не увидел. Тогда он внимательно пересмотрел связку писем, адресованных тренеру, и среди них нашел письмо Ольги к ее родителям: “…Милая мамочка, у меня сегодня праздник. Наше бюро вышло на первое место, и наши портреты вывесили в клубе. О нас написали в многотиражке, что мы — новаторы, и премировали. Я приехала домой в чудесном настроении. А Петя мне его испортил. Опять появился С.С, о котором я тебе писала. И Петя снова пропадает по целым суткам. Я жду его до рассвета, терзаюсь, плохо сплю. Буду говорить с Петром серьезно, потому что он мне мешает жить и работать… А у меня масса интересных дел. Работа, книги, фигурное катание. Сутки малы! Сколько пустого времени уходит на сон, завтрак, обед, ужин…” Каким образом письмо Ольги, написанное два месяца назад, очутилось в старых письмах Комарова? Может быть, она попросила опустить письмо в почтовый ящик, а он не сделал этого? Очевидно, не хотел, чтобы ее родные что-нибудь знали о Семене Семеновиче. Эту догадку подтверждала и ссылка Ольги на какое-то предыдущее письмо, в котором она тоже упоминала об этом человеке. А ведь родители Комаровой заявили, что о Семене Семеновиче ничего не слышали. Мозарин вернулся в Уголовный розыск, доложил о результатах обыска Градову и показал ему письма Комаровой. Полковник прочитал их и сказал: — Если логично рассуждать, капитан, то Комаров, перехватывая письма жены, должен был их уничтожить. Если же тренер сохранил их, то он не так прост, чтобы делать это без всякой цели. Наверное, он хотел показать письма Семену Семеновичу. Стало быть, он как-то зависел от этого Якушина. Более того, он никак не считался со своей женой, зная, что пропажа писем может обнаружиться. Правда, Комаров, как это принято, мог бы все свалить на почту, но факт остается фактом: выражаясь пышным стилем, Семен Семенович Якушин — злой гений Комарова… В тот же день по специальному аппарату запросили Управления милиции Абхазской автономной республики и Краснодарского края: по какому адресу полтора года назад, в сентябре, проживал Семен Семенович Якушин, предлагая обратить особое внимание на Сочи. На следующий день Уголовный розыск по тому же аппарату получил сообщение, что Якушин Семен Семенович в указанное время на черноморских курортах, включая Сочи, не проживал. Но ведь Комарова писала, что Семен Семенович — “местный житель”, стало быть, он жил тогда в Сочи. Почему же работники милиции не нашли никаких следов местопребывания этого человека? Мозарин предполагал, что Семен Семенович там не прописывался. Градов возражал — месяц—другой в курортной местности можно обойтись без прописки: частные дачевладельцы не всегда прописывают своих постояльцев. Но из письма Комаровой видно, что Якушин долгое время находился в Сочи. Полковник предположил, что Семен Семенович жил по чужому паспорту. Однако след Семена Семеновича прервался, других не намечалось. И молодой офицер сидел у себя в комнате, угрюмый и молчаливый. Корнева в новеньком белом халате заглянула в дверь и, помедлив на пороге, вошла в комнату. — Михаил Дмитриевич! — сказала она. — Как хотите, а с вами приключилось что-то неприятное. — Да! — со вздохом подтвердил он. — Вот, Наденька, задача! — Он вынул из ящика блокнот с алфавитом Комарова, положил его на стол. — Уйма адресов, а нужного нет как нет. — Вы хорошо смотрели? — О, еще бы! — сказал капитан, принимаясь еще и еще раз перелистывать книжку. — Знаю, точно знаю: он здесь — адрес этого человека. А под какой фамилией — неизвестно! — А если послать к каждому адресату и проверить? — Что же зря посылать? Наши этого человека и в глаза не видели. Фотографии нет… — Мозарин внезапно замолчал, схватился рукой за подбородок, задумался. — Фотографии, фотографии… Подождите-ка! — воскликнул он. — Есть мысль! Черт возьми, есть! Как же я раньше не сообразил?! Извините, Надюша, бегу к полковнику! Через минуту он вошел в кабинет Градова, положил комаровский блокнот на стол и предложил: надо получить фотографии всех адресатов, записанных в блокноте. Один из них безусловно окажется Якушиным. — Правильно, капитан! — одобрил полковник. — Я сегодня же распоряжусь. Когда молодой офицер вышел, полковник позвонил Турбаеву: — Товарищ комиссар, докладывает Градов… И он кратко рассказал о предложении Мозарина. — Да, это следует сделать, не возражаю. — Может быть, не стоит созывать совещание? — Нет, созовем. Каши маслом не испортишь. Глядишь, идейку—другую подбросят. Записываю на тринадцать часов в пятницу.12
В этот же вечер телеграммы-молнии из Москвы понеслись в далекие города страны и легли на стол начальников Управлений милиций. Через несколько минут опытные оперативные работники начали всяческими — подчас весьма хитроумными — способами добывать фотоснимки адресатов Комарова. В этот же вечер Мозарину позвонил Коробочкин. Дежурный по станции сказал, что сейчас выезжает из Покровского-Стрешнева, и просил оставить пропуск на пять человек. Прошло около часа. В комнату капитана вошел Коробочкин, а за ним — человек в коричневой шубе, Ольгина подруга Катя, Полина Ивановна и Анна Ильинична. Мозарин попросил железнодорожника остаться в комнате, а остальных подождать в коридоре. Коробочкин рассказал, что сегодня он не дежурил на станции. Вечером к нему приехал на машине сын-шофер. Семья собралась ужинать, как вдруг прибежал со станции мальчишка с запиской от напарника: человек, которого давно дожидался Коробочкин, находился на платформе. Боясь упустить неизвестного, железнодорожник с сыном быстро оделись и на машине поехали на станцию. Действительно, по платформе, поджидая поезд, ходил человек, которого Коробочкин видел в ночь с четвертого на пятое декабря. Железнодорожник попросил его пройти в комнату дежурного и тут объяснил, что его просят в Уголовный розыск для важных свидетельских показаний. Коробочкин не упомянул фамилии Комаровых, а для отвода глаз говорил о каком-то деле, связанном с кражей багажа, случившейся в его, Коробочкина, дежурство. Неизвестный согласился поехать в Москву и все допытывался, кто ведет следствие. Железнодорожник ответил, что фамилию он запамятовал. Они сели в машину и, захватив с собой Катю, Полину Ивановну и Анну Ильиничну, приехали сюда. Мозарина удивило спокойствие неизвестного: если он был замешан в преступлении, то не вел бы себя так. Ведь одну свидетельницу — Анну Ильиничну — он должен знать в лицо! Если неизвестный — Семен Семенович, то беспечность его и желание помочь следствию никак не вязались с его предполагаемой ролью… — По дороге этот человек, кроме фамилии следователя, ничем не интересовался? — спросил капитан. — Спрашивал, какой багаж украли. Ну я ему все расписал как следует быть. — Будьте добры, пригласите сюда женщин, — попросил капитан Коробочкина, — а сами посидите в коридоре. Катя подтвердила, что приехавший с ними человек — тот самый, который подошел к Ольге четвертого декабря вечером и, взяв ее под руку, пошел к поселку. Полина Ивановна признала в нем неизвестного, которого видела с Комаровой на улице Луначарского. Анна Ильинична решительно заявила, что этот человек не Семен Семенович. Она сидела в освещенном автомобиле, прямо против человека в шубе, пристально разглядывала его одежду, всматривалась в лицо, старалась уловить в его голосе знакомые интонации. — Но, судя по тому, что вы раньше говорили, Семен Семенович похож на этого человека? — спросил капитан, удрученный ее заявлением. — Может быть, но только фигурой, — ответила она. — Да этот же черный, а Семен Семенович русый, у этого бровищи, а у того волосики реденькие вместо бровей. И голос — ну совсем не тот! К тому же этот чуточку пришепетывает. И у этого на шубе воротник обыкновенный, а у Семена Семеновича — шалью. Неизвестный в коричневой шубе вошел, закрыл за собой дверь и улыбнулся. Он выразил удовольствие по поводу того, что следователь сумел внушить свидетелям, как важно не раскрывать посторонним материалы следствия. По крайней мере, он по дороге в машине не получил ни одного внятного ответа на свои вопросы. Приехал же он по приглашению Коробочкина потому, что понял: каким-то образом дежурному по станции ставят в вину кражу багажа на Покровском-Стрешневе, а железнодорожник хочет оправдаться. По-видимому, это хороший, простой человек. — И я по роду своей службы считаю нужным помочь ему, если смогу быть полезным, — закончил он. Мозарин спросил: где служит свидетель. Тот вынул из кармана удостоверение, протянул его капитану. Офицер прочитал, что предъявитель документа — ревизор железных дорог Антон Васильевич Воробьев. Мозарин спросил, с какой женщиной прогуливался Воробьев вечером четвертого декабря по Тургеневской и улице Луначарского? Ревизор ответил, что фамилии ее не знает. Он рассказал, что еще в прошлом году ездил навещать своих родителей, давно живущих в Покровском-Стрешневе. В вагоне против него сидела молодая женщина. Когда они вышли из вагона, оказалось, что им по пути. Они пошли вместе. Расставаясь с женщиной, ревизор и не думал, что когда-нибудь ее увидит. Накануне Дня Конституции Воробьев снова отправился к родителям. В восемь часов вечера он распрощался с ними, чтобы поспеть на московский поезд. Идя по улице, он увидел ту женщину, свою попутчицу. Воробьев окликнул ее. Она шла на станцию. И он решил проводить ее. — Фамилия этой женщины Комарова, — сказал Мозарин. — Да что вы?! — воскликнул ревизор и развел руками. — Я слышал об этой трагедии. Спрашивайте, расскажу все, что знаю. — Комарова не говорила, куда едет? — спросил капитан. — Да, она сказала, что едет к подруге, километров за тридцать от Покровского-Стрешнева. Потом, разговорившись, сообщила, что через два дня отправляется в Свердловск на состязания фигуристок. — Значит, вы привели Комарову на станцию и… — Нет, не привел, — прервал его ревизор. — Когда мы подходили к станции, кто-то громко ее окликнул. Она обернулась, извинилась и ушла. — Вы видели этого человека? — Издалека. На нем была меховая куртка, спортивные брюки. Наверное, лыжник. — А внешность? — Такой плечистый парень. Ходит с развальцем. Смазливый. — Комарова с ним ушла? — Да. От станции они повернули влево. Пошли по тропинке к лесу… Офицер проводил Воробьева в приемную и попросил подождать там. Потом поблагодарил Коробочкина, свидетельниц и отпустил их. Пройдя вниз к коменданту, он велел привести Комарова, одев его в спортивный костюм, куртку и шлем. Спустя четверть часа конвоиры привели Комарова в одежде, какая была на нем четвертого декабря вечером. Ревизор сразу опознал в нем того человека, который на его глазах увел со станции Ольгу Комарову. — Ложь! — воскликнул Комаров. — Как я мог очутиться на станции, когда в это время вел гимнастов в клуб? — Вели, но не довели, — сказал капитан. — Вы передали команду старосте гимнастической секции и ушли. — Да, ушел. Я забыл мою вечную ручку в РОНО, отыскал уборщицу, взял ручку и вернулся в клуб к началу выступления. — Нет! Гимнасты начали выступать без вас. — Я же готовил снаряды для второго отделения. — Их нечего было готовить. Брусья стояли за сценой. Офицер дал Воробьеву подписать протокол и, поблагодарив, отпустил его. — Вы зря упорствуете, Комаров, — сказал капитан. — Вашу жену нашли далеко от станции и еще дальше от поселка. Она могла пойти в такую глушь только с человеком, которому вполне доверяла. — А почему вы думаете, что жена только мне доверяла? Вы вцепились в свою версию и не хотите считаться с другими обстоятельствами. Но мне все это надоело. Я написал заявление прокурору и жду ответа. Наглый тон Комарова возмутил Мозарина. Он знал, что с теми уликами, которые собраны против преступника, суд признает его виновным. Но Семен Семенович все еще находится на свободе. Кто он, где живет и что делает, пока известно только одному тренеру. Надо ждать, терпеливо ждать, пока Комаров не признается, что был связан с Якушиным. Капитан приказал конвоирам увести Комарова. В эти зимние ночи с разных концов советской земли на московский телеграф по бильдаппарату или авиапочтой, в особых конвертах, поступали в адрес Уголовного розыска десятки фотографий адресатов Комарова. В среду вечером Мозарин приехал в Покровское-Стрешнево. Анна Ильинична сидела в кресле у лампы под оранжевым абажуром и вышивала скатерть. Капитан извинился за свое столь позднее вторжение, попросил ее быть очень внимательной, сосредоточиться — дело идет об опознании Семена Семеновича! — и выложил на стол, одну за другой, фотокарточки. Анна Ильинична подолгу рассматривала их, откладывала в сторону и вдруг задержала взгляд на одной из них. — Как будто этот похож… — в раздумье сказала она. — Только вот усики у него над губой… Мозарин закрыл белыми полосками бумаги усики человека на фотоснимке. Анна Ильинична внимательно присмотрелась, потом закрыла глаза и наконец твердо сказала: — Да, это он. Тот самый, что приходил к Комарову, назвал себя Якушиным Семеном Семеновичем. На оборотной стороне рукой работника милиции было написано: “Василий Андреевич Константинов” и тут же сочинский адрес Константинова. Продолжая рассматривать фотокарточки, она опознала еще трех “Семенов Семеновичей”: одного — с консерваторским значком, другого — в цирковой униформе, и, наконец, третьего — в железнодорожной шинели; судя по звездочкам на петлицах воротника — инженера. Пока женщина просматривала еще раз все сорок восемь карточек, Мозарин прочитал фамилии, под которыми жил Семен Семенович: Гавриил Федорович Кашинцев — Ростов-на-Дону; Иван Алексеевич Горбунов — Ирбит; Геннадий Александрович Бакланов — Рязань. На оборотной стороне карточек было помечено, что эти люди выбыли из городов, где находились, а Бакланов умер год назад. — Должно быть, этот Семен Семенович был артистом, — заключила Анна Ильинична, — снимался в разных ролях? — Артист-трансформатор высшей категории! — зло ответил Мозарин. Возвращаясь в машине на службу, офицер думал о том, что же предпринять дальше. Возможно, Семен Семенович залез в какую-то нору уже под новой фамилией, притаился, снова изменил обличье? Страна наша велика, а этот Семен Семенович, видать, большой мастер конспирации… Через день капитан получил справку, что лицо, снятое на четырех предъявленных снимках, в картотеке профессиональных преступников не найдено. Капитан, очень озабоченный, вошел в кабинет Градова и кратко доложил о постигшей его неудаче. — Получается заколдованный круг, товарищ полковник! — с горечью сказал он. — Да! — произнес Градов. — Мы хотели раскрыть с помощью Семена Семеновича подлинные мотивы преступления Комарова. Но, поскольку Семена Семеновича не обнаружили, надо с помощью Комарова доказать причастность этого человека к преступлению. — И полковник крепко потер рука об руку. — Не спорю, трудно. — Почти безвыходное положение! — Ой, нет! — воскликнул Градов. — Мы — советские разведчики по уголовным делам — должны найти выход из этого круга, и мы его найдем, капитан!13
С утра мороз стал сдавать. Солнце, словно вымытое, сияло в прозрачной лазури. Снег на крышах стал крупнозернистым и посерел. Первые капли, округляясь, наливаясь серебром, оторвались от желоба и, сверкая, полетели вниз. Открывая форточку, Мозарин услыхал птичий гомон, встал на подоконник и увидел воробьев. “Вот разбойники!” — подумал он. Пока мать хлопотала на кухне, он, сидя на кровати, набрасывал в своем блокноте план завтрашнего допроса Комарова. Офицер решил строить его так, чтобы постепенно, шаг за шагом отступая, преступник вынужден был наконец назвать имя: Семен Семенович. Раздался неожиданно ранний телефонный звонок. Мозарин нехотя взял трубку. Звонила Байкова и передала, что полковник просит Михаила Дмитриевича немедленно приехать к нему домой. Градов жил недалеко. Через десять минут капитан, почти залпом опрокинув в себя чашку кофе и на ходу закусывая горбушкой хлеба, выходил из квартиры, слыша за спиной возмущенный голос матери. На улице свежо и молодо пахло талым снегом, дворники работали скребками или важно, словно разбрасывая семена на пашне, щедро засевали тротуар песком и золой. Полковник был занят странным на первый взгляд делом: сидя у себя в кабинете, он с сугубо сосредоточенным видом склеивал осколки настенных тарелок. Одна из них изображала “Бегство Наполеона из Москвы”, а другая — “Последние резервы Гитлера”. Дело было, конечно, не в тарелках. Подвернись другая работа для рук, полковник с такой же готовностью занялся бы ею. Вот так, почти механически орудуя пальцами, полковник плодотворнее думал. Прилаживая черепки друг к другу, он тоже размышлял о том, как повести допрос Комарова. Градов взял бутылочку с клеем, составленным по его просьбе Корневой, окунул в клей кисточку и стал смазывать края осколков. Черт побери, ведь ни он, ни Мозарин, в сущности, ничего не знают об этом проклятом Семене Семеновиче! Как скрыть от преступника эту неосведомленность? Как выдать свою слабость за силу и получить от него недостающие сведения? В том, что Комаров не одиночка-преступник, Градов был твердо уверен. Клей отлично скреплял края осколков. Вот уже скачет белый конь, уносящий из России возок с угрюмым Наполеоном. Удачное восстановление тарелки обрадовало полковника, его мысли потекли живее. Вспомнив о некоторых уловках Комарова, он решил сыграть на них — и нашел хорошее начало допроса. Когда из осколков второй тарелки стали возникать битые гитлеровцы, Градов уже мысленно набросал план допроса. После этого он еще и еще раз подумал: все ли доказательства будут убедительны для суда? Только закончив свою работу и вручив жене тарелки, Градов начал разговор с капитаном. Мозарин изложил свой план допроса тренера. Полковник кое в чем одобрил его, но сделал много поправок и дополнений. — Вы можете, Михаил Дмитриевич, сейчас спорить со мной, горячиться. Но завтра вы должны во что бы то ни стало победить! — Виктор Владимирович, — ответил Мозарин, — я все это понимаю. Но я так ненавижу и презираю этого мерзавца, что боюсь потерять самообладание! — Это никуда не годится! — возразил полковник. — Вы забыли, что поединок между следователем и преступником — это прежде всего война нервов. Если вы дадите волю нервам, то обязательно потерпите поражение. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие! Совещание под председательством комиссара Турбаева происходило в большом зале. Это было собрание криминалистов — знающих и опытных людей, которых коллектив Уголовного розыска противопоставлял преступнику. Это собрание напоминало военный совет, где обсуждались успехи, ошибки, определялась тактика и намечался основной удар по врагу. Но это же совещание можно было назвать школой оперативного искусства, где в качестве слушателей присутствовали молодые работники. Не на докладах и лекциях, а на разборе следствия по какому-нибудь сложному делу, которое коллективно, глубоко и всесторонне обсуждалось, наиболее плодотворно учились молодые офицеры, сверстники Мозарина. Среди них сидел секретарь партийного комитета — моложавый капитан Денис Алексеевич. Внимательно слушая выступления, он присматривался к людям. Как бы еще раз, с новой стороны, он знакомился с душевным обликом своих товарищей, с их профессиональной подготовкой. Денис Алексеевич, сам следователь, с удовольствием наблюдал, как разгораются прения, как люди, совместно обсуждая, шаг за шагом идут к самой обоснованной версии, находят верные пути разоблачения мотивов этого преступления. На большом экране были продемонстрированы: место убийства Комаровой, комната Комаровых, одежда тренера, записка, найденная на груди убитой. Мозарин рассказал о прямых и косвенных уликах, привел результаты научно-технических экспертиз, письма из техникума физической культуры, где учился Комаров, характеристики. Обсуждая работу Мозарина, Градов указывал, что признание обвиняемого вовсе не является главной целью следствия. — Если Комаров и признается, то это будет лишь полдела — ведь часто признание преступника является маскировкой, с целью оградить соучастников или скрыть дополнительные, наиболее важные обстоятельства преступления. Часто преступник рассуждает так: сознаюсь в одном этом преступлении — следствие на этом успокоится, зато другие дела будут шиты-крыты… В данном случае, повторяю, мотивы убийства кажутся мне недостаточно выясненными. Вообще, товарищи, мы уже давно работаем без этого стремления — во что бы то ни стало добиться признания подследственного, — говорил полковник. — Мы можем воспринять некоторые приемы тактики у пристава следственных дел Порфирия Петровича, образ которого создан Достоевским в его романе “Преступление и наказание”. Но к этим приемам, разумеется, надо отнестись критически, осмыслить их, пользоваться ими по-новому. Да, Порфирий Петрович воодушевлен желанием раскрыть истину. Да, он — человек, обладающий внутренним чутьем, которое иногда подсказывает ему простое решение сложных вопросов. Однако — и этого нельзя ни на минуту забывать! — Порфирий Петрович организует и направляет все следствие только к одной цели: чего бы это ни стоило, заставить Раскольникова признаться в убийстве. Стало быть, Порфирий Петрович идет по пути формального доказательства. Но это чуждый нам путь никогда не приведет к раскрытию подлинных причин преступления. Мозарин прав: Комаров, возможно, признается в преступлении, но он будет до конца отрицать связь с Семеном Семеновичем. А нам важно ее установить, чтобы задержать этого преступника, по моему разумению более опасного, чем сам Комаров… Все участники совещания стремились помочь Мозарину. Они анализировали версии, обобщали улики, разбирались в противоуликах, приводили примеры расследования сходных преступлений. Словом, на совещании шла творческая работа. Один из старших уполномоченных, бывший пограничник, советовал сразу пустить в ход записку, написанную Румянцевым и подброшенную Комаровым. Он доказывал, что преступник придает огромное значение, во-первых, этой записке, во-вторых, рассчитывает на “бесспорное” алиби. Пожилой следователь обратил внимание на странный факт, ускользнувший от внимания Мозарина и Градова: когда вечером четвертого декабря Ольга Комарова вышла с мужем из дому, она уже не доверяла ему, во всяком случае, была настороже. Ведь накануне у них была крупная и серьезная ссора: Комаров грозил убить ее, заламывал руки. А если это так, почему Ольга решилась пойти с ним в столь глухое место? Что побудило ее снова довериться мужу? Отмечая упорство преступника, третий офицер, в прошлом много воевавший с басмачами, рассказывал, какую роль сыграли в одном его следствии старые фотографии, которые бывают посильнее иного свидетеля. Денис Алексеевич коснулся всех выступлений, профессионально разбирая убедительность каждого из них. Он сопоставил некоторые противоречивые рассуждения, а в своих выводах обратил внимание собравшихся на главное: полковник усомнился в безупречности прошлой биографии Комарова. Здесь безусловно и лежит ключ к раскрытию картины преступления во всей ее полноте! — Полковник и мысли не допускает, что советский незапятнанный человек может внезапно так низко пасть, как это произошло с Комаровым, — закончил секретарь партийной организации. — Медицинская экспертиза показывает, что Комаров психически здоров, вполне вменяем. Надо расшифровать его прошлое, установить настоящую биографию. Мозарин чувствовал себя теперь сильным, уверенным. Великое дело — поддержка, помощь! Его переполняло чувство благодарности к старшим товарищам по работе. Табачный дым синеватым облачком висел над головами собравшихся офицеров, когда Турбаев подытожил все суждения и одобрил план окончания следствия. Он отметил, что оно ведется более быстрыми темпами, чем обычно, но предупредил, что ежедневно по поводу этого дела его запрашивают Главное управление милиции, московская прокуратура, общественные организации того завода, где работала Комарова. — Ну как? — спросил Турбаев Градова, когда офицеры стали расходиться. — Зарядка неплохая! — ответил полковник. — Смотрите-ка, Мозарин наш явно повеселел!14
Милиционер привел Комарова в кабинет Мозарина. Через несколько минут туда вошел Градов и спросил, долго ли будет занят капитан. Услыхав, что у него всего несколько вопросов к задержанному, полковник решил подождать в комнате и просмотреть дело, которое держал в руках. Он уселся за небольшой столик так, чтобы видеть лицо тренера. Комаров попросил папиросу и, приняв ее из рук Мозарина, наклонил голову. — Большое спасибо! Капитан начал заполнять протокол допроса. Тренер явно надеялся на незыблемость своего алиби и на то, что записка Румянцева, найденная на теле убитой, начисто отведет от него, Комарова, подозрение. Он до последней минуты не сомневался, что выйдет сухим из воды. — Ну что ж, Петр Иванович, — добродушно проговорил капитан, кладя на стол записку художника, — мы нашли это на груди вашей убитой жены. Теперь мы точно установили, что она написана Румянцевым. Вы не поможете нам выяснить, как эта записка попала туда, где мы ее обнаружили? — Вам виднее, — заметил Комаров, заметно оживившись. “Все-таки клюнуло!” — Во всяком случае, такие записки кладут те, кто их написал, — добавил он, выпуская изо рта струю дыма. Мозарин достал из папки рисунок Румянцева, загнув край листка, чтобы не было видно слов: “Пусть и Комаров поплачет”. Он положил листок перед преступником и спросил, не попадался ли ему на глаза этот рисунок. — Нет, — ответил Комаров, — никогда не видел. Но похоже, что это безобразие малевал Румянцев. — Да, вы правы. Капитан берет рисунок, отгибает загнутый край и снова кладет перед преступником. Комаров смотрит на надпись. Рука его, подносившая папиросу к губам, замирает в воздухе. Он лихорадочно соображает: значит, Мозарину известно, что эти слова художник раньше написал в своей записной книжке. Неужели капитан догадался, что он, Комаров, хранивший спортивный инвентарь в общем комоде, увидел ее, вырвал листок с этим текстом и положил на грудь убитой. Веская улика, подстроенная им против Румянцева, зашаталась. Записка выдает заранее обдуманное намерение Комарова разделаться с женой. Иначе зачем же этому следователю демонстрировать записку? А прошлый раз — батистовыйплаточек… Комаров чувствует, что его, как волка, окружают флажками. До сих пор он мог разыгрывать невинного, жертву следовательской ошибки. А как быть теперь? Почему улики, тонко сфабрикованные им против Румянцева, показывают ему, Комарову? Все-таки он еще спокойно смотрит в глаза офицеру, не подавая виду, что его игра проиграна. Он еще пытается отвести от себя вину и говорит, что, наверное, художник сам вырвал листок из “железной” записной книжки. — Почему вы думаете, что этот листок вырван из записной книжки художника? — спрашивает капитан и ждет ответа, откинувшись в кресле. Комаров молчит. — За что вы убили вашу жену? — тихо спрашивает Мозарин. Этот вопрос внезапен. Это выстрел по зазевавшемуся волку! Преступнику ясно: записка Румянцева никого не сбила с толку. Признания в преступлении не требуется. Эти следователи уже поняли, что он, Комаров, — убийца! Значит, у капитана есть еще улики, которые бессмысленно оспаривать. Но что же отвечать? Преступник вскакивает, снова садится, трет ладонями колени и отвечает заранее приготовленной фразой: — Да, я убил ее! За то, что изменяла мне!.. И он начал грязно ругать жену Мозарин с трудом сдерживается, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Но замечает, как строго смотрит на него полковник, и до боли в пальцах сжимает подлокотник кресла. Не повышая голоса, он предлагает Комарову рассказать, как он убил Ольгу. Если бы офицер задал этот вопрос сначала, преступник не растерялся бы. Теперь же, выбитый из колеи, отвечает, все же стараясь утаить некоторые эпизоды. Мозарин останавливает его, задает вопросы, поправляет. …Вот Комаровы расходятся от калитки в разные стороны. Но через пятнадцать минут, обойдя квартал, тренер видит жену, хочет догнать ее, но она входит в дом своей подруги Кати. Он дожидается, прохаживаясь невдалеке в глухом переулочке, где с обеих сторон лишь заборы. Вот Ольга выходит на улицу. Комаров поспешил за ней, но снова препятствие: к Ольге подходит какой-то человек, и она с ним идет по направлению к станции. Не в поселок к тетке, а к станции! Значит, у Ольги завелись какие-то неизвестные ему знакомства? Она собирается вовсе не к тетке, а куда-то поедет с этим человеком! Он, Комаров, возмущен! Он издали окликает ее. Уже совсем темно. Ольга подходит к нему. Сдерживая себя, Комаров говорит, что хочет побыть с ней наедине перед отъездом и окончательно выяснить отношения. Они долго гуляют по глухим тропинкам леса. Он упрекает ее, требует ответа: куда она собралась ехать с этим человеком и почему она продолжает дружить с Румянцевым? Он распаляется все больше и больше, его охватывает бешенство. Не помня себя, он выхватывает нож и ударяет Ольгу. Она падает. Он в ужасе оглядывается — лес безлюден. Он оттаскивает ее в сугроб и бежит в клуб. Через некоторое время возвращается, спрятав под полою пальто лопату, и начинает рыть промерзлую землю. Для этого он еще раз приходит на лыжах со спортивной базы, для этого он выдумал, что ему будто нужно перед отъездом проверить лыжную трассу. Третий час идет допрос. Спрашивает Мозарин, иногда Градов вставляет вопрос. Комаров стоит на своем, упрямо гнет свою линию: “Не помнил себя… Наваждение… Сам теперь в отчаянии…” Ему не мешают, не перебивают, слушают. И он говорит-говорит… Наконец он устал, пот выступил на лбу. — Комаров, вы отличный рассказчик, но память у вас короткая! — замечает полковник. — Вы сознались, что совершили преступление в невменяемом состоянии. Но как же записка, написанная рукой Румянцева, оказалась на груди убитой? А она несовместима с вашей версией. Объясните. Комаров молчит, глаза его бегают. Придумав складную версию о непредумышленном, почти случайном преступлении, он забыл о записке. Этот листок, который должен был отвести подозрение от него, на самом деле выдал, что убийство было им заранее подготовлено, заранее предрешено! — Я… Я уже месяц, как был вне себя, я не верил… Я постараюсь оправдать… — лепечет он сухими губами. — Итак, вы признаётесь, что, задумав это преступление, вы заблаговременно выкрали из записной книжки Румянцева листок с тем, чтобы создать улику против него. Так? — заключает капитан. Он встает и предлагает Комарову расписаться под протоколом, потом подходит к двери, чтобы вызвать из коридора конвоира. Но тут в кабинет вошла Байкова. — Товарищ полковник! — говорит она. — Разрешите передать вам пакет. Секретарша уходит. Градов вскрывает конверт, читает приглашение на очередное заседание научного общества судебных медиков и криминалистов. Взволнованно и громко он произносит: — Семен Семенович Якушин арестован! Комаров резко поворачивается к Градову, восклицает: — Не знаю никакого Якушина! Он тут же спохватывается: этого не следовало говорить! Но уже поздно: он выдал себя. — Как же вы его не знаете, — совсем спокойно спрашивает Мозарин, — когда кутили вместе с ним в Сочи? — Не кутил я с Якушиным! — В Сочи он жил под фамилией Василия Андреевича Константинова. — Не знаю никакого Константинова! — Но вы сами записывали его адрес, — возражает капитан. Он открывает ящик стола и достает комаровский блокнот с алфавитом. — Это ваш почерк? — Да мало ли Константиновых на свете… — Этот же Семен Семенович жил под фамилиями: Кашинцева, Горбунова, Бакланова. Вы ездили к нему в Сочи, он навещал вас здесь. Отрекомендовался вашей соседке под фамилией Якушина. — Ничего этого не было. Ни Якушина, ни Константинова, никого в глаза не видал! Градов жестко сказал: — Встаньте, Комаров, и подойдите сюда! Преступник вздрогнул. Этот полковник, неожиданно назвав фамилию Якушина, поймал его, Комарова, врасплох. Какой еще удар он готовит ему? Градов раскрыл конверт. Комаров встал. Глаза его прикованы к рукам Градова. Тот медленно вынимает одну за другой фотографии Якушина и кладет их перед преступником на стол. Четыре Семена Семеновича, усмехаясь, глядят в лицо Комарову. Пошатнувшись, тренер просит разрешения сесть. Еле передвигая ноги, подходит к стулу, опускается на него. Западня! Комаров признаётся, что Константинова он знал. Этот Константинов носил двойную фамилию: Константинов-Андреев. Преступник лихорадочно соображает: кто же, кроме Оли, мог знать о Семене Семеновиче и видеть его? Может быть, Оля все-таки успела кому-нибудь о нем рассказать? Тетке? Нет, этого даже предположить нельзя. Мартынову? Но после того как Оля сказала, что ей известно о Семене Семеновиче, она на заводе не была и к ней оттуда никто не приезжал. Неужели она ухитрилась сообщить Румянцеву? Да, художник слышал о том, что она кричала о Семене Семеновиче, и мог поинтересоваться, что это за человек. Кто же выдал его, Комарова? Кто сказал о его связи с Семеном Семеновичем? Да неужели сам Семен Семенович? Впрочем, от него можно всего ожидать. Увидел, что человек тонет, и старается его совсем потопить… Комаров что-то говорит в свое оправдание, но сбивается, теряет контроль над мыслями. Он путается в датах, многочисленных фамилиях Семена Семеновича. Мозарин все же устанавливает и даты, и еще другие фамилии Семена Семеновича, и места, где тот скрывался. — Я… я… — Губы преступника дрожат, слова застревают в горле. — Я не виноват… Не виноват… — То есть как не виноваты? Говорите ясней! Говорите! Сжимая руками виски, то и дело запинаясь, Комаров медленно начинает рассказывать. Осенью 1942 года в степях за Доном сержант-зенитчик Петр Комаров, контуженный взрывом авиабомбы, был взят немцами в плен. В лагере военнопленных его соседом по бараку оказался Василий Васильевич Макухин, бывший лейтенант. Пленных морили голодом, изнуряли работой, избивали, больных приканчивали. Комаров проклинал войну, пал духом, говорил, что Гитлер все равно победит. Военнопленные стали сторониться его. Только Василий Макухин подбадривал, помогал. Они подружились и держались все время вместе. Макухин — разбитной и общительный человек — при всех поругивал Комарова, велел “держать хвост пистолетом”, говорил, что скоро Гитлеру капут. Пленные Макухину доверяли, он кое-кому помогал. Бывший преподаватель немецкого языка, он сумел наладить отношения с немецким фельдфебелем и раздобывал для больных товарищей то банку консервов, то пачку галет. Скоро в лагере создалась подпольная организация. Она выпускала листовки, устраивала саботаж на работах по восстановлению железнодорожного пути и готовила массовый побег. Организацию раскрыли. Гестаповцы взяли шестьдесят семь человек, и после страшных пыток их должны были расстрелять. Накануне этого расстрела Макухин отвел Комарова в сторону и сказал, что лагерное начальство рассвирепело, теперь начнутся казни без разбору, надо бежать. Он, Макухин, договорился с фельдфебелем. За золотое кольцо, чудом сохранившееся у Макухина, фельдфебель обещал помочь. Он назначит их обоих на работу по переборке картофеля на офицерской кухне, расположенной вне лагеря. В условленном месте будут лежать гражданская одежда, нужные документы и немного оккупационных марок. Зимней ночью 1943 года Макухин и Комаров бежали из лагеря и перешли линию фронта. В Особом отделе их долго проверяли и через три месяца направили в воинскую часть. За это время Комаров узнал, что его родители, жившие в Калинине, погибли во время бомбежки города еще в 1941 году, а старший брат убит под Ленинградом. Эту весть ему сообщил Макухин, который сумел все разузнать через калининский военкомат. Он очень сочувствовал Комарову, и они переписывались, разъехавшись по разным частям. После победы над Германией и демобилизации Комаров решил учиться. По совету Макухина он поступил в двухгодичный техникум физической культуры в Москве — ведь до войны Комаров увлекался конькобежным спортом и гимнастикой, выходил на третьи и четвертые места на областных соревнованиях, ездил со спортивными командами в другие города. Техникум он успешно закончил, стал работать тренером в добровольном спортивном обществе и по совместительству преподавать физическую культуру в школе, в Покровском-Стрешневе, из-за квартиры. Тут он женился на Ольге. Василий Макухин прислал ему поздравительное письмо и пригласил приехать осенью вместе с молодой женой к нему в Сочи. Комаров достал две путевки. В Сочи Макухин по секрету объявил, что он теперь не Василий Васильевич Макухин, а Семен Семенович Якушин. Для всех! Пусть Комаров забудет его старое имя. Комаров удивился, но Макухин-Якушин объяснил, что так надо, так требует его секретная работа. А в плену, в лагере, он, мол, нарочно для немцев назвал себя вымышленным именем. В Сочи Семен Семенович располагал большими деньгами, возил Комарова по ресторанам, втянул в компанию крупных картежных игроков. У Комарова денег было мало, он стеснялся, но Семен Семенович говорил, что для фронтового дружка — вместе смерти в глаза смотрели! — он денег не считает и предложил взаймы крупную сумму. Но Комаров отказался. Тогда Семен Семенович рассмеялся и сказал: “Ладно! Если ты такой стеснительный, вот тебе блокнот, пиши расписку. Разбогатеешь, отхватишь первенство Европы — отдашь”. Комаров согласился и написал расписку. В прошлом году Якушин приехал к Комарову в Москву и увез его вечером с собой в Измайловский парк. В глухой просеке шепотом он объявил, что он, Якушин, был агентом гестапо, подпольную организацию военнопленных он и разоблачил. Никакого кольца фельдфебелю не давалось: просто гестапо организовало “побег” их двоих из лагеря. После войны Макухин-Якушин, как и многие бывшие агенты гестапо, был найден резидентом другой иностранной разведки, представителем которой он сейчас и является. Он потребовал, чтобы Комаров поступил спортивным тренером на оборонный завод, где работает Ольга, а если сразу не удастся — то пусть через Ольгу добывает нужные сведения. Комаров перепугался, отказывался. Семен Семенович вынул из кармана пистолет и сказал, что этот пистолет бесшумный. Рассмеявшись, он его спрятал и вынул блокнот с распиской Комарова. “Твоя рука?.. — спросил он. — Не согласишься — этот документ будет переслан куда надо. Кроме того, у моих хозяев имеются показания бывших военнопленных о том, что их подпольный комитет предали и шестьдесят семь человек подвели под расстрел предатели Макухин и Комаров. Макухина уже нет — исчез, растаял… А Комаров Петр Иванович, бывший зенитчик, спортсмен из Калинина, — вот он! И эти показания военнопленных будут немедленно пересланы органам госбезопасности. А меня не найдут, не надейся. Выбирай немедленно! Кстати, если согласен работать со мной, получишь сегодня солидный аванс. И попробуй постепенно жену уговорить. Для начала выведай у нее кое-какие цифры, относящиеся к деталям реактивного снаряда”. Комаров ужаснулся, но еще больше его испугала угроза передачи органам госбезопасности денежной расписки и показаний военнопленных, хотя он ни в чем не виноват… Тренер пытался выпытать у жены какие-нибудь сведения, но она сразу насторожилась, а потом прямо назвала его предателем, а Семена Семеновича — темной личностью… — Вы говорили вашей жене, что Семен Семенович предлагает большие деньги? — спрашивает Мозарин. — Не сразу. Когда я догнал ее в тот вечер четвертого декабря, то сказал, что завтра иду заявлять о Якушине. Я просил ее погулять со мной. Уже потом, в лесу, я объяснил ей, что мы можем стать богатыми людьми и жить припеваючи. Она крикнула, что не считает меня мужем… Резко повернулась и пошла по тропинке. — И вы убили ее? — Семен Семенович предупредил меня: если я не убью Ольгу, ее убьет другой. Но тогда пристрелят и меня!.. Преступник сидит, закрыв лицо руками, и всхлипывает. Мозарин морщится — настолько Комаров омерзителен! Он быстро дописывает второй протокол допроса. — Значит, вы, Комаров, — говорит капитан, — признаете себя виновным в том, что убили вашу жену по наущению агента иностранной разведки? — Признаю! — шепчет преступник, еле шевеля губами. — Распишитесь! Комаров пробует подняться, но колени его подгибаются. Сделав усилие, он встает, подходит к столу. Мозарин протягивает преступнику ручку, тот подписывает протокол допроса. — Я все-таки не понимаю, — говорит капитан, когда преступник оправился, — почему вы не сказали о провокации Семена Семеновича вашей жене, Румянцеву, с которым вы тогда еще были в дружеских отношениях? Почему сразу не сообщили в Управление госбезопасности? — Это моя страшная ошибка, за которую я плачу, — отвечает Комаров. — Вы действительно отличный сочинитель легенд! — замечает Градов. — Я думаю, что вы были связаны не только с Якушиным. — Нет, только с ним! — вскрикивает Комаров и как-то весь оседает. — Были! — не соглашается полковник, вертя в пальцах конверт. — Мы терпеливо выслушали одну вашу сказку, выслушали вторую. Но я уверен, что вы скрываете подлинную истину… — Нет! — дрожа, шепчет преступник. — Нет!.. — Хорошо, — отвечает Градов, — я докажу вам это!.. — Он обращается к капитану: — Пригласите свидетелей. Через минуту секретарша пропускает в комнату загорелого человека в синем костюме, стройную брюнетку лет тридцати пяти и пожилую женщину, опирающуюся на палку. Градов приглашает их присесть. Мозарин берет у них документы и быстро переписывает в протокол. Комаров хмуро смотрит на вошедших и отворачивается: почему эти люди собираются оговорить его? Он жертва, а не палач.
— Комаров! Подойдите к свидетелям, — говорит капитан. — Внимательно посмотрите на них и скажите, кого вы из них знаете.
— Я и отсюда хорошо вижу, — отвечает Комаров, но все же поднимается со стула.
Он видит три пары глаз, устремленных на него, и читает в них такую ненависть, что невольно делает шаг назад.
— Я никого из этих людей не знаю и никогда не видел! — со злобой произносит он.
— Так и запишу, — спокойно объявляет Мозарин и склоняется над протоколом.
— Я прошу записать, — говорит преступник, — что эти люди никогда — слышите, никогда! — не встречались со мной.
— Это можно, — охотно соглашается капитан, дописывает протокол и дает подписать его Комарову.
Градов встает и расправляет плечи, как человек, после долгого и упорного труда решивший сложную задачу. Мозарин облегченно вздыхает.
— Я скажу вам, Петр Иванович Комаров, кто эти люди, — говорит капитан, слегка повышая голос, и встает. — Вот это Анна Васильевна Комарова, мать Петра Ивановича, из Калинина! Вот это Алексей Иванович Комаров, — переходит офицер к загорелому человеку, — геолог, родной брат Петра Ивановича! А вот эта гражданка, — говорит Мозарин, взглянув на брюнетку, — Елена Павловна Комарова, вдова Петра Ивановича. Как видите, Комаровы не погибли. Все они работали в эвакуации на Урале и не возвращались, пока Елена Павловна, горный инженер, не защитит свою диссертацию.
Все Комаровы подтверждают, что человек, называющий себя Петром Комаровым, — самозванец, но очень похож лицом и фигурой на погибшего в фашистском плену Петра Ивановича Комарова. Подписавшись под протоколом, они собираются уходить.
Сделав шаг, Анна Васильевна пошатнулась. Офицеры подбегают к ней и бережно усаживают на диван. Анна Васильевна не спускает с преступника взгляда, полного гнева и презрения. Лжекомаров отводит глаза в сторону.
Слезы текут по щекам Анны Васильевны. Она громко рыдает и дрожащими руками открывает сумочку, чтобы вынуть платок. Офицеры с сочувствием смотрят на нее, понимая горькие переживания матери. Мозарин подает ей стакан воды.
— Вы меня извините, товарищи! — обращается Анна Васильевна к офицерам. — Я очень любила моего сына!..
И голосом, в котором звучит негодование, говорит преступнику:
— Мой сын был тяжело ранен. Его до смерти замучили в лагере. Наверное, вы предали его и присвоили документы!
Мать в гневе стучит палкой об пол.
— Подлец!..
Комаровы покидают комнату.
Самозванец смотрит им вслед, кусает губы, его пальцы сжимаются и разжимаются…
Комаров хмуро смотрит на вошедших и отворачивается: почему эти люди собираются оговорить его? Он жертва, а не палач.
— Комаров! Подойдите к свидетелям, — говорит капитан. — Внимательно посмотрите на них и скажите, кого вы из них знаете.
— Я и отсюда хорошо вижу, — отвечает Комаров, но все же поднимается со стула.
Он видит три пары глаз, устремленных на него, и читает в них такую ненависть, что невольно делает шаг назад.
— Я никого из этих людей не знаю и никогда не видел! — со злобой произносит он.
— Так и запишу, — спокойно объявляет Мозарин и склоняется над протоколом.
— Я прошу записать, — говорит преступник, — что эти люди никогда — слышите, никогда! — не встречались со мной.
— Это можно, — охотно соглашается капитан, дописывает протокол и дает подписать его Комарову.
Градов встает и расправляет плечи, как человек, после долгого и упорного труда решивший сложную задачу. Мозарин облегченно вздыхает.
— Я скажу вам, Петр Иванович Комаров, кто эти люди, — говорит капитан, слегка повышая голос, и встает. — Вот это Анна Васильевна Комарова, мать Петра Ивановича, из Калинина! Вот это Алексей Иванович Комаров, — переходит офицер к загорелому человеку, — геолог, родной брат Петра Ивановича! А вот эта гражданка, — говорит Мозарин, взглянув на брюнетку, — Елена Павловна Комарова, вдова Петра Ивановича. Как видите, Комаровы не погибли. Все они работали в эвакуации на Урале и не возвращались, пока Елена Павловна, горный инженер, не защитит свою диссертацию.
Все Комаровы подтверждают, что человек, называющий себя Петром Комаровым, — самозванец, но очень похож лицом и фигурой на погибшего в фашистском плену Петра Ивановича Комарова. Подписавшись под протоколом, они собираются уходить.
Сделав шаг, Анна Васильевна пошатнулась. Офицеры подбегают к ней и бережно усаживают на диван. Анна Васильевна не спускает с преступника взгляда, полного гнева и презрения. Лжекомаров отводит глаза в сторону.
Слезы текут по щекам Анны Васильевны. Она громко рыдает и дрожащими руками открывает сумочку, чтобы вынуть платок. Офицеры с сочувствием смотрят на нее, понимая горькие переживания матери. Мозарин подает ей стакан воды.
— Вы меня извините, товарищи! — обращается Анна Васильевна к офицерам. — Я очень любила моего сына!..
И голосом, в котором звучит негодование, говорит преступнику:
— Мой сын был тяжело ранен. Его до смерти замучили в лагере. Наверное, вы предали его и присвоили документы!
Мать в гневе стучит палкой об пол.
— Подлец!..
Комаровы покидают комнату.
Самозванец смотрит им вслед, кусает губы, его пальцы сжимаются и разжимаются…
15
— Откуда у вас документы Комарова? — жестко спрашивает Мозарин преступника, не давая ему опомниться. Почти минуту смотрит Лжекомаров на капитана, очевидно плохо соображая, что ему сказали. Офицер повторяет вопрос. Вдруг самозванец, как бы выбрасывая из себя фразы, быстро, задыхаясь, судорожно расстегивая воротник, начинает говорить о том, о чем при других обстоятельствах не рассказал бы даже на смертном одре. Две стенографистки, по очереди, едва успевают записывать его показания. — Назовите вашу подлинную фамилию, имя! — требует полковник, заглядывая в бумаги, лежащие перед ним. Лжекомаров испуганно смотрит на него. “Этот полковник все знает! — лихорадочно думает он. — Всё!.. Больше нет сил вилять…” — Два человека знали мое настоящее имя, только два! Тот, кто дал мне документы Комарова из рук в руки. Но он повешен сразу после войны. И тот, которого вы называете Семеном Семеновичем. Этот жив. Только он мог выдать меня, только он! Ну раз так… — Ваше имя? — требует Градов. — Макухин Василий Васильевич, — едва слышно произносит преступник. — Как? Повторите! — Макухин… Полковник и капитан переглянулись. “Ну и изворотлив этот скользкий гад! — подумал Градов про себя. — Час назад наградил своим подлинным именем сообщника, чтобы в случае чего свою преступную биографию приписать ему. Пауки в банке, жрут друг друга!..” Вот вкратце история Лжекомарова, частично рассказанная им самим, частично установленная по документам гестапо и специальных батальонов СС, попавшим в руки советского командования. Василий Макухин вырос в Геленджике, близ Новороссийска. Мать сдавала комнаты курортникам и торговала фруктами на базаре. Отец его — казачий подъесаул в деникинской армии — был убит в гражданскую войну. Василия исключили из седьмого класса за воровство — перепродажу велосипеда школьного товарища. Он нанялся служить “спасателем” на курортных пляжах Черноморья. В 1935 году за участие в шайке, обкрадывавшей отдыхающих, его осудили на два года условно. Он продолжал работать на пляжах и даже “выдвинулся” — стал инструктором “спасателей на водах”. В 1940 году Василий Макухин поступил в Киевский двухгодичный техникум физической культуры и был послан на практику в Ростов-на-Дону. Здесь в мае 1941 года его арестовали вторично — по крупному уголовному делу, как участника банды, ограбившей сберегательную кассу и убившей сторожа. Во время следствия, в ожидании суда, он сидел в ростовской тюрьме. “Дело пахло керосином!” — как выражались его дружки-бандиты. …Началась война. Фашистские полчища вторглись в Советский Союз. Во время одной из бомбежек города Василий сумел бежать из тюрьмы и какое-то время скрывался. Семнадцатого ноября 1941 года гитлеровские оккупанты заняли Ростов-на-Дону. В тот же день Макухин выполз из норы и предложил немцам свои услуги, как “пострадавший от Советской власти”. В немецкой комендатуре уже околачивались, прислуживали и другие бывшие сидельцы ростовской тюрьмы, уголовники. Первые дни Макухин ходил “проводником”, с патрулями военной полиции и гестапо, которые “вылавливали” коммунистов, комсомольцев, советских работников, евреев, застрявших в городе раненых командиров и бойцов. Он водил шайки фашистской солдатни по городу, подсказывал адреса квартир, магазинов и складов, где можно поживиться добычей. Кое-что из награбленного перепадало и ему. На пятую ночь он уже прислуживал “специальной команде”, расстрелявшей шестьсот девяносто советских людей: сортировал и грузил на машины одежду казненных, добивал раненых… Через двенадцать дней — двадцать девятого ноября 1941 года Советская Армия внезапным ударом вышибла гитлеровцев из Ростова. Вместе с немецкой “зондеркомандой” и гестаповцами Макухин бежал из города: над ним сжалился лейтенант, разрешив вползти в автофургон, груженный награбленными вещами… След Макухина объявился через полгода на Львовщине. Он в числе еще нескольких предателей обслуживал кровавый эсэсовский батальон “Соловей” — специальную гитлеровскую часть для расправы с населением оккупированных областей. Макухин вошел в доверие к своим хозяевам, принимал участие в массовых казнях, облавах, арестах. Через некоторое время гестапо нашло для него новую специальность: провокатора-шпиона в лагерях для советских военнопленных. Под разными фамилиями он кочевал из лагеря в лагерь. Вместе со своим “напарником” Семеном Семеновичем он предавал на смерть десятки и сотни патриотов, продолжавших борьбу и в фашистской неволе. Однажды его вызвали в гестапо. Майор Оскар Гунтер сообщил, что в соседнем лагере содержится сержант Комаров родом из Калинина, удивительно похожий лицом и фигурой на него — Василия Макухина. Агентурная разведка донесла, что вся ближайшая родня Комарова — мать, жена, брат — погибла еще в начале войны. Подсаженный в барак к Комарову, гестаповский шпион выведал у него разные факты и. детали из довоенной жизни. Все подготовлено. Комаров будет немедленно ликвидирован. Макухина с документами Комарова посадят в другой лагерь и устроят ему “побег”. В Россию он будет переброшен вместе с Семеном Семеновичем… Задания и связь им будут даны в ближайшее время… В этом месте своих показаний преступник оживился.
— Тут можно не записывать, — проговорил он, косясь на стенографисток. — Я уже рассказывал, как мы “бежали”, предварительно раскрыв подпольный лагерный комитет…
…Вскоре война закончилась. Некоторые списки своей агентуры немцы передали американскому командованию. Центральное разведывательное управление США зачислило это отребье по своему ведомству. Макухин и Семен Семенович стали работать на новых хозяев. По заданию ЦРУ Лжекомаров женился на Ольге — чертежнице оборонного завода. Связным между резидентом американской разведки и Макухиным был Семен Семенович:
Допрос подходит к концу. Самозванец просит разрешения передохнуть, он пьет воду, вытирает пот на лбу.
— Какое отношение имеет Семен Семенович к убийству Ольги Комаровой? — спрашивает Мозарин.
— Он потребовал, чтобы я убил ее! — медленно отвечает самозванец. — Я не хотел это делать. Он пригрозил, что или я убью Ольгу, или он вывезет меня на “прогулку”. Я знал, что он свою угрозу выполнит… Если бы не он, я уже ехал бы со спортивной командой в Америку.
Лжекомаров тяжело вздыхает. Мозарин переглядывается с Градовым: а этот самозванец все еще виляет, все еще пытается изобразить из себя жертву.
— Семен Семенович посоветовал мне запутать следствие, — вдруг заявляет преступник. — С этой целью я использовал листок из записной книжки Румянцева…
— Вы лжете! — прервал его Градов. — Вы лжете, приписывая все подлости только Семену Семеновичу. Он убивал сотни советских людей, а вы, наверное, еще больше! Но в вашем вранье разберутся работники госбезопасности. И ясно, почему вы покончили с Ольгой так нагло, почти открыто… И разбросали ее вещи. Чтобы было похоже на дело рук отвергнутого, вспыльчивого художника.
Преступник читает в глазах Градова суровый приговор. Как черепаха в панцирь, он вбирает голову в плечи, выходит, за ним следует конвоир. Растерянно мигая, шпион плетется по коридору.
Градов тут же докладывает по телефону Турбаеву о том, кто такой преступник, и просит немедленно сообщить об этом в Управление государственной безопасности.
— Я уже говорил там о деле Комарова, — отвечает комиссар. — Только что оттуда звонили. Вчера в Рижском порту задержали трех человек. И среди них, как сейчас выяснилось, оказался мистер Семен Семенович…
— Вот это здрово! — восклицает Градов.
На следующий день в кабинет полковника пришли Мозарин, Корнева и Воронов. Градов устало улыбнулся молодым людям, которые не раз работали под его началом, переживали вместе с ним успехи и неудачи.
— Ну что ж, друзья мои, — проговорил он, усаживаясь на диван, — комиссар сейчас зайдет сюда, а пока я хочу сказать о том, что дополнительно выяснили о Лжекомарове. Это не такая уж пешка в руках гестапо и ЦРУ. Этот палач и предатель, пытаясь пробраться в Америку, сам предложил изобразить там из себя “беглеца по политическим мотивам”. Воображаете, что случилось бы, если бы этот “Комаров” очутился в Америке с подлинными советскими документами? Газеты немедленно стали бы обливать Советский Союз помоями и вопить: “Жертва Советов под защитой американского флага!”, “Пятьсот слов Комарова о советской агрессии”, “Почему меня обвинили в убийстве жены?” и так далее. Моментально, с помощью управления стратегических служб, выбросили бы на рынок “Записки очевидца о красной России”, под названием: “Я предпочел статую Свободы”. Швырнули бы миллионы, чтобы сделать “достоверный” фильм по этой гнусной книге! Заготовки к ней, кое-какие записи обнаружены при задержании Семена Семеновича. Эти записки он должен был из Риги переправить в Соединенные Штаты, в ЦРУ, а там бы уж от имени Комарова сочинили такое!.. Полковник стукнул кулаком по столу.
— А как же насчет матери Комарова и брата? — спрашивает Корнева.
— Они были эвакуированы в Свердловск, оттуда переехали в Нижний Тагил. В Калинине погибла другая семья Комаровых. Фамилия распространенная. В той семье мать также звали Анной Васильевной. В общем — накладочка в работе гестаповской агентуры! Мы еще раз должны убедиться, что уголовный преступник был опорой гестаповцев на оккупированной гитлеровцами территории. Уголовщина дает кадры и другим иностранным разведкам. Но эти разведки просчитываются. Уголовный преступник — это прежде всего и в большинстве шкурник и трус. Он действует только по принуждению, под страхом. Но, спасая свою шкуру, готов пойти на все. Сами подумайте, какой получится из него шпион, диверсант или террорист? При серьезном испытании, когда придется жертвовать жизнью, такой фрукт провалится, а это повлечет за собой провал всех, кто с ним связан. Поэтому можно добавить: да, уголовные преступники — нынешняя опора разведок капиталистических стран, но очень рискованная и непрочная.
Градов подошел к молодым людям и поздравил их с удачным окончанием работы.
— Вы, капитан, сегодня же, не откладывая, поезжайте к товарищу Мартынову, расскажите, чем кончилось следствие. Объясните, что Оля Комарова предпочла погибнуть, но не выдала государственную тайну…
В комнату вошел комиссар Турбаев. Он стоял, поглядывая на градовских птенцов. Губы его тронула довольная улыбка. Он сказал Градову, что им обоим надо сейчас же отправиться по делу Комарова к высшему начальству.
— А вы хорошо поработали! — сказал Турбаев Мозарину. — Благодарю вас, товарищ капитан!
— Служу Советскому Союзу! — четко ответил молодой офицер.
В этом месте своих показаний преступник оживился.
— Тут можно не записывать, — проговорил он, косясь на стенографисток. — Я уже рассказывал, как мы “бежали”, предварительно раскрыв подпольный лагерный комитет…
…Вскоре война закончилась. Некоторые списки своей агентуры немцы передали американскому командованию. Центральное разведывательное управление США зачислило это отребье по своему ведомству. Макухин и Семен Семенович стали работать на новых хозяев. По заданию ЦРУ Лжекомаров женился на Ольге — чертежнице оборонного завода. Связным между резидентом американской разведки и Макухиным был Семен Семенович:
Допрос подходит к концу. Самозванец просит разрешения передохнуть, он пьет воду, вытирает пот на лбу.
— Какое отношение имеет Семен Семенович к убийству Ольги Комаровой? — спрашивает Мозарин.
— Он потребовал, чтобы я убил ее! — медленно отвечает самозванец. — Я не хотел это делать. Он пригрозил, что или я убью Ольгу, или он вывезет меня на “прогулку”. Я знал, что он свою угрозу выполнит… Если бы не он, я уже ехал бы со спортивной командой в Америку.
Лжекомаров тяжело вздыхает. Мозарин переглядывается с Градовым: а этот самозванец все еще виляет, все еще пытается изобразить из себя жертву.
— Семен Семенович посоветовал мне запутать следствие, — вдруг заявляет преступник. — С этой целью я использовал листок из записной книжки Румянцева…
— Вы лжете! — прервал его Градов. — Вы лжете, приписывая все подлости только Семену Семеновичу. Он убивал сотни советских людей, а вы, наверное, еще больше! Но в вашем вранье разберутся работники госбезопасности. И ясно, почему вы покончили с Ольгой так нагло, почти открыто… И разбросали ее вещи. Чтобы было похоже на дело рук отвергнутого, вспыльчивого художника.
Преступник читает в глазах Градова суровый приговор. Как черепаха в панцирь, он вбирает голову в плечи, выходит, за ним следует конвоир. Растерянно мигая, шпион плетется по коридору.
Градов тут же докладывает по телефону Турбаеву о том, кто такой преступник, и просит немедленно сообщить об этом в Управление государственной безопасности.
— Я уже говорил там о деле Комарова, — отвечает комиссар. — Только что оттуда звонили. Вчера в Рижском порту задержали трех человек. И среди них, как сейчас выяснилось, оказался мистер Семен Семенович…
— Вот это здрово! — восклицает Градов.
На следующий день в кабинет полковника пришли Мозарин, Корнева и Воронов. Градов устало улыбнулся молодым людям, которые не раз работали под его началом, переживали вместе с ним успехи и неудачи.
— Ну что ж, друзья мои, — проговорил он, усаживаясь на диван, — комиссар сейчас зайдет сюда, а пока я хочу сказать о том, что дополнительно выяснили о Лжекомарове. Это не такая уж пешка в руках гестапо и ЦРУ. Этот палач и предатель, пытаясь пробраться в Америку, сам предложил изобразить там из себя “беглеца по политическим мотивам”. Воображаете, что случилось бы, если бы этот “Комаров” очутился в Америке с подлинными советскими документами? Газеты немедленно стали бы обливать Советский Союз помоями и вопить: “Жертва Советов под защитой американского флага!”, “Пятьсот слов Комарова о советской агрессии”, “Почему меня обвинили в убийстве жены?” и так далее. Моментально, с помощью управления стратегических служб, выбросили бы на рынок “Записки очевидца о красной России”, под названием: “Я предпочел статую Свободы”. Швырнули бы миллионы, чтобы сделать “достоверный” фильм по этой гнусной книге! Заготовки к ней, кое-какие записи обнаружены при задержании Семена Семеновича. Эти записки он должен был из Риги переправить в Соединенные Штаты, в ЦРУ, а там бы уж от имени Комарова сочинили такое!.. Полковник стукнул кулаком по столу.
— А как же насчет матери Комарова и брата? — спрашивает Корнева.
— Они были эвакуированы в Свердловск, оттуда переехали в Нижний Тагил. В Калинине погибла другая семья Комаровых. Фамилия распространенная. В той семье мать также звали Анной Васильевной. В общем — накладочка в работе гестаповской агентуры! Мы еще раз должны убедиться, что уголовный преступник был опорой гестаповцев на оккупированной гитлеровцами территории. Уголовщина дает кадры и другим иностранным разведкам. Но эти разведки просчитываются. Уголовный преступник — это прежде всего и в большинстве шкурник и трус. Он действует только по принуждению, под страхом. Но, спасая свою шкуру, готов пойти на все. Сами подумайте, какой получится из него шпион, диверсант или террорист? При серьезном испытании, когда придется жертвовать жизнью, такой фрукт провалится, а это повлечет за собой провал всех, кто с ним связан. Поэтому можно добавить: да, уголовные преступники — нынешняя опора разведок капиталистических стран, но очень рискованная и непрочная.
Градов подошел к молодым людям и поздравил их с удачным окончанием работы.
— Вы, капитан, сегодня же, не откладывая, поезжайте к товарищу Мартынову, расскажите, чем кончилось следствие. Объясните, что Оля Комарова предпочла погибнуть, но не выдала государственную тайну…
В комнату вошел комиссар Турбаев. Он стоял, поглядывая на градовских птенцов. Губы его тронула довольная улыбка. Он сказал Градову, что им обоим надо сейчас же отправиться по делу Комарова к высшему начальству.
— А вы хорошо поработали! — сказал Турбаев Мозарину. — Благодарю вас, товарищ капитан!
— Служу Советскому Союзу! — четко ответил молодой офицер.

По следу, идущему из темноты
Скажу сразу и напрямик, что не очень-то я высоко ценю тех читателей, которые, придя в библиотеку, категорически заявляют: “Мне только детективчик какой-нибудь. И чтобы пошпионистей”. Впрочем, не слишком милы моему сердцу и те, кто чванливо изрекают: “Нет, детективов я вообще не читаю и не признаю за настоящую литературу”. Неправы, конечно, как те, так и другие. У каждого вида, у каждого жанра литературы и искусства своя радость, свои законы, свои художественные приемы. И важно лишь одно: все, что выходит из-под пера писателя, независимо от жанра, должно отвечать требованиям, которые мы вообще предъявляем к настоящему искусству. А серьезный, влюбленный в книгу читатель хотя и может иметь пристрастие к какому-нибудь определенному разделу художественной литературы, но знает и ценит самые разнообразные ее виды. Можно, например, понять парнишку, который, мечтая в будущем стать моряком, прежде всего ищет в библиотеке книги писателей-маринистов, начиная от Станюковича и кончая Новиковым-Прибоем или Леонидом Соболевым. Но, думается, неважный из него выйдет моряк, подходя к этому званию с нашей сегодняшней точки зрения на культурного человека, если не будет он знать Пушкина, Толстого, Чехова, Горького, Маяковского. Так обстоит дело и с теми читателями, которые признают лишь детективные книги, то есть литературные произведения, в которых все строится примерно по такому плану: 1. Что произошло? 2. Кто мог это совершить? 3. Где причины случившегося? 4. Куда ведут следы? 5. Кем ведется поиск по этим следам? 6. Правилен ли избранный путь? 7. Изобличен ли виновный? 8. Схватят ли его когда-нибудь? Вот примерно обычная схема экспозиции того литературного произведения, которое принято называть детективом. Однако это внешние черты, определяющие принадлежность книги к известному разряду приключенческой литературы. Важно, чтобы во всем остальном, то есть по глубине и четкости описания людей, по яркости характеров, по языку и художественной правде, книга отвечала нашим представлениям о подлинной художественной литературе. Этого умели добиваться такие мастера, и по существу первооткрыватели детективного жанра, как Конан-Дойл и Честертон. Недаром образы Шерлока Холмса и Патера Брауна стали классическими для всей мировой литературы. Во многом запоминаются и такие персонажи детективной литературы, как комиссар Мегрэ из романов французского писателя Сименона или инспектор Пуаро из многочисленных книг английской писательницы Агаты Кристи. Заслуженную популярность у читателей приобрели книги детективного жанра, принадлежащие перу наших писателей — Ардаматского, Брянцева, Томана. Умело и уважительно использовали приемы детектива такие отличные мастера нашей советской литературы, как Павел Нилин, покойный Лев Никулин, Виль Липатов и др. Немало увлекательных книг, отвечающих характеру жанра, о котором идет речь, написал и Матвей Ройзман, чьи три повести вы только что прочли. Матвей Ройзман родился в 1896 году. Учился в Московском коммерческом училище. Окончив его, поступил в Московский университет на юридический факультет. С юных лет он пишет стихи. После революции у него выходят два поэтических сборника. Он член тогдашнего Всероссийского Союза поэтов. В 1920 году М. Ройзман примыкает к литературному течению имажинистов, к тому его крылу, где во главе стоит Сергей Есенин. Вскоре Ройзман становится секретарем организованной самим Есениным “Ассоциации вольнодумцев”, как бравурно окрестила себя эта группа. Знаменитый поэт относился к Ройзману с большим дружеским вниманием и доверием. Но, несмотря на увлеченность поэзией, Ройзман обращается к прозе. Он пишет роман “Минус шесть” — сатиру на нэпманов, как называли тогда торгашей и коммерсантов, решивших, что после введения в нашей, разоренной гражданской войной, измученной голодом и разрухой стране новой экономической политики (нэп) пришло их время. Само название романа “Минус шесть”, взятое из выносимых в те годы советским судом приговоров, запрещавших осужденным жуликам жить в шести крупнейших городах страны, как бы подчеркивало тщету и кратковременность существования нэпманов, спекулянтов. Роман имел большой успех. Его перевели на многие языки. В последующие годы М.Ройзман много ездит по стране, в результате чего появились очерковые книжки о Белоруссии, роман “Эти господа”, повествующий о труде и быте крымских виноградарей, и роман “Граница” о пограничном промколхозе. С конца 1936 года писатель увлекается новой темой: он знакомится с трудной, подчас героической работой нашей милиции. Надо сказать, что в некоторых литературных кругах не очень-то одобряли его новое пристрастие. “Ну, тащат пьяных в вытрезвитель, ловят жуликов, что тут расписывать?” — говорили некоторые блюстители “высокой литературы”. Но Ройзман понимал всю важность и значительность незаметной для равнодушного глаза работы тех, о ком еще с такой теплой признательностью и так весело писал Маяковский: “Моя милиция меня бережет”. Он неутомимо печатал очерки о работе милиции, выпустил книгу о ней: “Друзья, рискующие жизнью”. Настоящий, большой успех пришел к писателю после того, как вышла в свет повесть об оперативных работниках Уголовного розыска “Берлинская лазурь”. Содержание, персонажи и сюжет ее приобрели повсеместную популярность у нас в стране и за рубежом, после того как в 1956 году был выпущен фильм “Дело № 306”, поставленный по этой повести и давший ей впоследствии новое название. Это был первый художественный фильм, рассказавший увлеченно и всерьез о сложнейшей и опасной работе тех, кто охраняет законность, общественный порядок, а подчас и жизнь наших людей. Чтобы написать вторую повесть, посвященную этой же теме, целиком захватившей писателя, ему пришлось изучить обширнейший материал и даже непосредственно участвовать в следствии. Так появилась книга “Волк”, в которой М. Ройзман показал, как за уголовным преступлением может скрываться и политическое злодеяние. Отныне у писателя постоянный пропуск в Московское управление милиции. Он ежедневно ходит туда, как на службу. К нему привыкли, с ним охотно делятся опытом, посвящают в сложные интересные дела. Доскональное знание подлинных материалов, писательская фантазия, любознательность, умение воссоздать в книге атмосферу добра, уважений я доверия к человеку — вот основные черты, отличающие все написанное М.Ройзманом. В повести “Вор-невидимка” таинственно и зазывно звучит необыкновенная… скрипка. Около двух лет изучал Ройзман искусство тех, кто мастерит или реставрирует драгоценные музыкальные инструменты. У писателя появляются новые герои: люди искусства — скрипачи, архитекторы, киноработники, но рядом с ними, как всегда, он показывает людей, чей труд и самоотверженность ограждают мир добра и созидания от мира преступности. Волнующие, хорошо выписанные ситуации, на которых строятся увлекательные сюжеты повестей, большой познавательный материал, обычно содержащийся в них, разнообразие человеческих, характеров и судеб — все это дает основание высоко оценить творчество М.Д.Ройзмана как мастера детектива. Недаром один из виднейших советских писателей Всеволод Иванов писал Ройзману, что читал его книгу с увлечением и назвал автора “московским Конан-Дойлем”. В этом шутливом, но, конечно, чрезвычайно похвальном определении отдается дань умению Ройзмана и полному овладению им секретами избранного жанра. Лев Кассиль

Е. Симонов ДЕНЬ ПРИШЕЛ
Цель достигнута! Без десяти час альпинисты стояли на вершине Сарыкол-баши. Тяжелый путь преодолен совершенно самостоятельно, без опеки инструктора. Обе связки, по два альпиниста в каждой, поднялись вместе. Головной шла “двойка” молодых разрядников лагеря “Печатник”. Веселый, жизнерадостный Дмитрий Усиков и его закадычный друг, степенный, неторопливый Михаил Рябихин, заканчивали Полиграфический институт. Они третий сезон подряд проводили свои каникулы в ущелье Адыр-су на стыке Кабарды и Сванетии. Их спутниками по восхождению были Алексей Вячеславович Пробкин, немолодой, но весьма экспансивный профессор-физик, и его ученик Олег Волосевич. — Вот и всё! Спешу поздравить тебя с первой нашей двойкой. Как-никак, Сары-кол — это уже вторая категория трудности, — торжественно произнес Усиков, широко улыбаясь и протягивая товарищу руку. — Неплохо вершинку взяли. В темпе поднялись. — Спасибо тебе, Митя! Это все правильно, конечно… — несколько неуверенно произнес Рябихин, пожимая протянутую руку; он задержал ее в своей широкой ладони, о чем-то раздумывая. — Но не рано ли поздравлять себя? — Почему это рано? Вершину взяли? Взяли… В сроки уложились? Как часы! Что и требовалось доказать. Не понимаю, о чем еще можно беспокоиться! — Да хотя бы о спуске… Забыл, чему учили нас в лагере? Что внушал нам Ротов? Можно считать законченным восхождение лишь тогда, когда ты вернулся в лагерь. И ни минутой раньше, — неторопливо возразил Рябихин. Солнце, выглянувшее из-за облаков, заставило его прищурить голубые, чуть покрасневшие от ветра глаза, но прежде чем опустить защитные очки, он оглядел уходившее вниз ущелье. Отсюда, с высоты, можно было увидеть весь их путь к вершине… Серебристое пятнышко палатки, оставленной на бивуаке под Местийским перевалом; дальше они поднимались налегке, без рюкзаков. Отвесные столбы каменных “жандармов”, преградивших выход на гребень. И, наконец, предвершинный гребень, словно конек на крыше дома, выводящий к высшей точке массива. А там, внизу, в долине, — живые нити рек, выбегающих из-под ледников и сливающихся в потоке Адыр-су. Подумать только: выпавшая здесь, в горах, снежинка породит каплю, которая где-то вдалеке вольется в теплые воды моря!
Альпинистский обычай требовал должным образом оформить восхождение: вынуть из каменной пирамидки-тура записку того, кто побывал на вершине раньше, оставить взамен свою. Но Рябихин неожиданно извлек из лежавшей на вершине, простреленной ударами молний старой консервной банки вместе с запиской плитку “Золотого ярлыка”.
— “Оставляем гостинец и поздравления победителям Сарыкола от днепропетровских металлистов”, — прочитал он вслух. — А это еще что? — Недоумевая, он повертел в руках снимок пухлого, курносого малыша и, улыбнувшись, прочитал: “Прошу фото с вершины не уносить. Сын подрастет — сам снимет. С альпприветом капитан Корсун”.
Слегка подкрепившись, альпинисты начали спуск. Быстро миновали каменистый гребень, перешли на широкое ледяное поле, покрытое свежим снегом после ночного тумана.
— Остановимся на минутку: хочу сделать несколько кадров, — сказал Пробкин, извлекая из грудного кармана “Зоркий”.
Он подождал, пока войдет в кадр облако, выгодно оттенявшее темные грани хребта…
— Как мы пойдем дальше? — спросил Пробкин, поднимаясь с колен.
— По пути подъема, конечно, — безапелляционно ответил Усиков.
— Почему же это “конечно”, мой юный друг? Двигаясь по морене, мы выгадаем минимум два часа.
— А как же с палаткой? С рюкзаками?
— Сделаем так. Я и Волосевич условились, что наши вещи захватит группа школы инструкторов — она здесь на ледовых занятиях, — поэтому мы пойдем мореной, а вы идете за своими вещами и дальше двигаетесь по леднику. Встречаемся у той скалы, разрезающей ледник, — предложил Пробкин.
— А не всыплют нам за то, что разделились посреди маршрута и врозь пошли? — неуверенно возразил Рябихин.
— За что же? — воскликнул Пробкин, тряхнув копной седых волос. — В лагерь-то придем вместе.
— Как знаете, Алексей Вячеславович, вам виднее, — согласился Усиков.
Еще учеником десятого класса слушал он во Дворце пионеров беседы профессора Пробкина, тогда уже имевшего звание мастера альпинизма. Алексей Вячеславович рассказывал о своих восхождениях на Кавказе, в Альпах, Татрах, Пиренеях. Где он только не побывал, неутомимый альпинист и охотник за космическими лучами! Он перечислял призывно звучавшие для пионеров названия. Профессор говорил о Маттергорне и Казбеке, зловещей стене Гранд-Жорас и далекой гималейской “К-2”, отбившей все атаки лучших альпинистов Запада. Конечно, он, ходивший в одной связке с Алоизом Эккерманом и деливший последнюю галету с Гаха Циклаури, знал, как вести себя в горах!
И они разошлись в разные стороны, еще раз условившись о свидании у большой скалы, разделявшей надвое ледяное поле.
Потеплело. Рябихин шел в полосатой тельняшке, поверх которой накинул плотную куртку. На бивуаке Рябихин поднял и надел оставленный рюкзак (он был взят на двоих), пристегнул под клапан скатанную палатку. Привычным движением опоясавшись веревкой, он затянул на груди узел проводника. Но Усикову это не понравилось.
— С чего это ты связываться вздумал? — буркнул он. — Коленки дрожат у будущего разрядника? По таким ледникам на привязи не ходят. Видел небось, как Пробкин шел утром. Веревку в руки ни разу не взял. Ледоруб подмышку, папироску в зубы. Бодро, весело! А ты уже за веревку хватаешься! Тоже мне горный орел!
— А трещины? Забыл про них?
— Почему это забыл? Только бояться их нечего: видны за километр. А в связке будем ползти, как улитки.
— Как знаешь. Я бы связался.
Но Усиков решительно поставил ногу на камень и молча быстрыми, ловкими движениями смотал вокруг колена сорокаметровую веревку. Онперекинул скатку через плечо и, воткнув за тулью шляпы подобранное у скалы перо, решительно зашагал по снегу.
Рябихин шел след в след за весело насвистывавшим Усиковым. Вскоре тот остановился:
— Жмет ногу. Придется перешнуровать ботинок. Ты иди себе потихонечку. Догоню мигом.
Отсюда, с высоты, можно было увидеть весь их путь к вершине… Серебристое пятнышко палатки, оставленной на бивуаке под Местийским перевалом; дальше они поднимались налегке, без рюкзаков. Отвесные столбы каменных “жандармов”, преградивших выход на гребень. И, наконец, предвершинный гребень, словно конек на крыше дома, выводящий к высшей точке массива. А там, внизу, в долине, — живые нити рек, выбегающих из-под ледников и сливающихся в потоке Адыр-су. Подумать только: выпавшая здесь, в горах, снежинка породит каплю, которая где-то вдалеке вольется в теплые воды моря!
Альпинистский обычай требовал должным образом оформить восхождение: вынуть из каменной пирамидки-тура записку того, кто побывал на вершине раньше, оставить взамен свою. Но Рябихин неожиданно извлек из лежавшей на вершине, простреленной ударами молний старой консервной банки вместе с запиской плитку “Золотого ярлыка”.
— “Оставляем гостинец и поздравления победителям Сарыкола от днепропетровских металлистов”, — прочитал он вслух. — А это еще что? — Недоумевая, он повертел в руках снимок пухлого, курносого малыша и, улыбнувшись, прочитал: “Прошу фото с вершины не уносить. Сын подрастет — сам снимет. С альпприветом капитан Корсун”.
Слегка подкрепившись, альпинисты начали спуск. Быстро миновали каменистый гребень, перешли на широкое ледяное поле, покрытое свежим снегом после ночного тумана.
— Остановимся на минутку: хочу сделать несколько кадров, — сказал Пробкин, извлекая из грудного кармана “Зоркий”.
Он подождал, пока войдет в кадр облако, выгодно оттенявшее темные грани хребта…
— Как мы пойдем дальше? — спросил Пробкин, поднимаясь с колен.
— По пути подъема, конечно, — безапелляционно ответил Усиков.
— Почему же это “конечно”, мой юный друг? Двигаясь по морене, мы выгадаем минимум два часа.
— А как же с палаткой? С рюкзаками?
— Сделаем так. Я и Волосевич условились, что наши вещи захватит группа школы инструкторов — она здесь на ледовых занятиях, — поэтому мы пойдем мореной, а вы идете за своими вещами и дальше двигаетесь по леднику. Встречаемся у той скалы, разрезающей ледник, — предложил Пробкин.
— А не всыплют нам за то, что разделились посреди маршрута и врозь пошли? — неуверенно возразил Рябихин.
— За что же? — воскликнул Пробкин, тряхнув копной седых волос. — В лагерь-то придем вместе.
— Как знаете, Алексей Вячеславович, вам виднее, — согласился Усиков.
Еще учеником десятого класса слушал он во Дворце пионеров беседы профессора Пробкина, тогда уже имевшего звание мастера альпинизма. Алексей Вячеславович рассказывал о своих восхождениях на Кавказе, в Альпах, Татрах, Пиренеях. Где он только не побывал, неутомимый альпинист и охотник за космическими лучами! Он перечислял призывно звучавшие для пионеров названия. Профессор говорил о Маттергорне и Казбеке, зловещей стене Гранд-Жорас и далекой гималейской “К-2”, отбившей все атаки лучших альпинистов Запада. Конечно, он, ходивший в одной связке с Алоизом Эккерманом и деливший последнюю галету с Гаха Циклаури, знал, как вести себя в горах!
И они разошлись в разные стороны, еще раз условившись о свидании у большой скалы, разделявшей надвое ледяное поле.
Потеплело. Рябихин шел в полосатой тельняшке, поверх которой накинул плотную куртку. На бивуаке Рябихин поднял и надел оставленный рюкзак (он был взят на двоих), пристегнул под клапан скатанную палатку. Привычным движением опоясавшись веревкой, он затянул на груди узел проводника. Но Усикову это не понравилось.
— С чего это ты связываться вздумал? — буркнул он. — Коленки дрожат у будущего разрядника? По таким ледникам на привязи не ходят. Видел небось, как Пробкин шел утром. Веревку в руки ни разу не взял. Ледоруб подмышку, папироску в зубы. Бодро, весело! А ты уже за веревку хватаешься! Тоже мне горный орел!
— А трещины? Забыл про них?
— Почему это забыл? Только бояться их нечего: видны за километр. А в связке будем ползти, как улитки.
— Как знаешь. Я бы связался.
Но Усиков решительно поставил ногу на камень и молча быстрыми, ловкими движениями смотал вокруг колена сорокаметровую веревку. Онперекинул скатку через плечо и, воткнув за тулью шляпы подобранное у скалы перо, решительно зашагал по снегу.
Рябихин шел след в след за весело насвистывавшим Усиковым. Вскоре тот остановился:
— Жмет ногу. Придется перешнуровать ботинок. Ты иди себе потихонечку. Догоню мигом.
 И Рябихин пошел один.
Стекавший с вершины ледник упирался здесь в большую скалу, и задержанные в своем движении массы льда теснились, напирали, громоздясь глыбами, разрываясь паутиной трещин. “Ненадежное место. Лучше взять левее”, — решил Михаил, вглядываясь в трещины с нависшими кое-где снежными мостиками. Он двигался осторожно, обходя участки, где снег потемнел, провисал над скрытыми пустотами. Слева зияла темная пасть открытой трещины. Рябихин остановился. Осторожно ткнул в нависший снег ледорубом: не проваливается, можно идти! Он спокойно шагнул вперед и тут же, не успев сделать ни одного движения, упал в пустоту.
Перед ним промелькнули ледяной откос, нависшие сосульки, осыпавшийся снег. Он погрузился с головой в ледяную воду, но она вынесла его наверх, расплескиваясь о стены. Стало жарко. Мысли мелькали, кружились: “Пещера?.. Или ледяной колодец?.. Скорее выбраться из воды… Сведет ноги… Тогда крышка!.. Найти зацепки в стене… Так, так… Почему же срывается правая рука? Мешает рукавица… Скинуть… А где же левая? Потерял при падении”.
Из пробитого его телом отверстия в снегу струились скупые, бледные потоки света. Стараясь выбраться, он лихорадочно шарил по гладкой, скользкой поверхности ледяной вертикальной стены. С трудом нащупал выбоину. Уцепился, нечеловеческим усилием выбрался из воды. Перевел дыхание… Можно расслабить теперь сведенные холодом мускулы. Оглядеться…
Трещина, в которую он провалился, напоминала огромную колбу. Над головой уходила кверху изогнутая под углом косая щель, словно горлышко колбы. Нужно дотянуться до нее. Выбраться дальше труда не представляет. Впрочем, это праздные размышления — по гладкому ледяному своду пещеры не вскарабкаешься. Ни единой зацепки. Но где же Усиков? Куда он пропал?
Скатившаяся ледышка с плеском упала в воду. Рябихин невольно поглядел вниз. Какая здесь глубина? Он подвязал кусок репшнура, опустил в воду ледоруб. Два метра… Три… Порядочно! Ледоруб уходит все дальше, глубже. Еще. Четыре… Пять… И вдруг померещилось, что вокруг пляшут бесчисленные веревки. Не верил себе и все еще надеялся… но шнур беззвучно упал в воду и, покружившись, скрылся в зеленоватой мгле.
— Всё! — хрипло вскрикнул человек на уступе.
“Всё…” — издеваясь, откликнулось эхо. Машинально, словно проверяя себя, Рябихин медленно поднял правую руку: на ней висел обрывок шнура, обмотанный вокруг запястья, — все, что осталось от ледоруба, который сопровождает каждый шаг альпиниста в горах. Он удерживает его на крутом снежнике, рубит ступени на льду. Без него… Но где же Усиков? Где же он, Дмитрий?
Поднятая, упиравшаяся в стенку левая рука затекла, сведенная судорогой. Рябихин хотел взяться правой, но со стоном отдернул ладонь: кисть правой руки опухла, не сгибалась. “Этого еще недоставало! Но где же все-таки Усиков? Где он?..”
— Йя-гу-у! — неожиданно раздалось над головой и еще раз: — Йя-гу-у!
— Здесь! Я здесь! — торопливо откликнулся Рябихин. — В трещине!
— Ты живой? — донесся глухой голос.
— Да, да! — обрадованно ответил Рябихин. — Стою на приступочке. Трудно. Долго не выстою. Скорее спускай веревку.
— Держись, Мишенька! Держись! Спешу помочь! Вот только закреплюсь сам. Без страховки боюсь подползать к трещине: как бы не провалиться.
— Понятно! Только спеши… Еле держусь.
Он кричал изо всех сил: до хрипоты, до звона в ушах. Но слова отшвыривались обратно ледяными сводами, они дробились в бесчисленных щелях: приходилось несколько раз повторять каждую фразу.
Скорей бы! Рябихин стоял с запрокинутой головой, не сводя глаз с уползающей кверху ледяной щели. Наконец-то… Зашуршали потревоженные сосульки, из щели медленно — до чего же медленно! — выползла веревка… Ну, скорей! Скорей же!.. Продвинулась… Подползла еще… Эх, чорт, остановилась!
— Ну как, привязался?
— Да нет же! Веревка не доходит! Осталась наверху!
— Быть не может! Это весь моток!
— Где-нибудь заклинилась. Вытрави, сбрось опять. Только посильнее!
Падали сбитые ледышки. Унимая охватывавшую его дрожь, Рябихин приподнялся на носки и поднял руку, стремясь уцепиться за веревку. Нет!.. Далеко!.. Не дотянуться!.. Веревка ерзала между ледяными стенками, то приближаясь, то снова отдаляясь. Рябихин не мог отвести от нее взгляда…
Он резко выпрямился, протянул вперед руку и с плеском рухнул в воду.
Падение, удар, холод вызвали одно желание — жить! Из воды показалась рука, за ней капюшон куртки, мокрое потемневшее лицо. Широко открытые серые глаза глядели пристально и твердо. Веревка! В ней было его спасение. Сама жизнь. Он не мог бы объяснить, откуда взялись у него силы, как взобрался он на уступ — с опухшей, несгибающейся рукой, с набухшим, отяжелевшим рюкзаком.
Еще раньше он приметил во льду углубление. Вдавившись в него локтем разбитой руки, он уперся спиной в стенку трещины, с силой вонзив зубья кошек в противоположную. Его тело повисло меж стенами, словно мост. Сгибаясь и снова распрямляясь, подтягивая выше то ноги, то спину, он полз кверху волнообразными, рассчитанными движениями.
Он подтянулся к веревке осторожным движением:
— Держусь! Не падаю!
Теперь оставалось схватить веревку и быстро завязать на груди. Он вытер рукавом лицо, залитое потом и тающим снегом.
— Обвязался! Готов! — крикнул он срывающимся голосом.
— Есть такое дело! Тащу.
Веревка пришла в движение. Рябихин, повиснув на ней, видел, как она распрямляется, натягивается. Чуть-чуть подвинулась к щели. Но тут Рябихина резко качнуло в сторону, в другую, ударило затылком о лед. Веревка вращалась, раскачивалась.
— Упрись ногами, спиной, чем хочешь, — услышал он сдавленный голос. — Ради бога, упрись! Невмоготу тащить тебя.
— Не могу… Кручусь во все стороны. Страшно болтает!
Веревка неожиданно ослабла, дрогнула, и Михаил снова погрузился в воду. Вновь натянувшаяся веревка помогла ему добраться до уступчика. Он встал, с силой упершись в стенки раскинутыми руками и ногами, словно распятый на кресте. Перевел дыхание… Скверные дела… Дмитрий не может вытащить его. Это ясно! Рябихин, в который уже раз, поднял голову к круто уходившей вверх щели. Если бы преодолеть эти метры, этот проклятый ледяной перепад. Дальше он поднялся бы сам: распором, расклинкой, как угодно. “Отдам рюкзак, — решил Михаил: — намок, отяжелел, стягивает вниз”. Он было хотел крикнуть, но только сипло прохрипел что-то. “Этого не хватало. Неужели отнялся язык?” Холодный пот залил глаза.
“Врешь, Мишка!” — подбодрил он себя и вспомнил Юрия Ротова, своего учителя по горному спорту. Юрий редко и скупо рассказывал о себе, но всех его учеников обошла неизвестно кем переданная история, как при десанте под Керчью, раненный в руку и в ногу, Ротов привязался к баллону от полуторки и ночью переплыл пролив. Да еще с подобранным им на берегу контуженным моряком. “Есть такое дело, Юрочка! — с усилием прошептал Рябихин. — Отбиваться! Как ты”.
На миг он припал губами к мокрой веревке. Медленно, словно читая что-то по слогам (он поступал так, чтобы успокоить себя, унять колотившую его нервную дрожь), подвязал к спущенному шнуру рюкзак, и тот уплыл наверх. Минуту спустя Дмитрий спустил ему веревочные стремена. Но они оказались ненужными: не поддавались, скользили, съезжали.
Рябихин собрался с силами и, преодолевая боль в горле, выкрикнул:
— Слушай меня, Митя! — По трещине раскатился тревожный хриплый голос. — Я уже выбился из сил. Со стременами ничего не получается. Думай, как быть!
— Спускаю тебе свой ледоруб. Попробуй вырубить ступени.
— Не пойдет: выше меня навес, ступени не помогут.
Еще раз попытался вытащить его Усиков. Еще раз сорвался Рябихин в воду, но минуту спустя снова цеплялся за уступчики и карабкался молча и зло. Поднявшись над водой, он тихо застонал, увидев багровые пятна, расползающиеся по льду. Его кровь. Он ранен!
— Делать нечего, беги за спасательным отрядом, — выдавил он наконец. — Беги, Митя!.. Сейчас же!.. Иначе конец!..
После каждого слова он должен был делать паузу, жадно хватая воздух.
— У-хо-жу, — услышал он далекий голос. — Буду торопиться. Держись! Не сдавайся!
И Михаил остался один.
Он машинально отвернул манжету: четверть третьего. Значит, вот когда произошла авария и остановились часы. Сейчас уже не меньше пяти—шести. Интересно, когда доберется до лагеря Митя? Когда поднимется сюда отряд? Будет уже темно. По изорванному леднику ночью пройти трудно. Хотя… Здесь же должна заниматься инструкторская школа “Восход”. Митя добежит за час. Даже меньше. Будет там в шесть, самое большее в половине седьмого. Полчаса на сборы. Подняться сюда — еще час. Темнеет в десятом часу. Значит, могут быть засветло. Найдут до темноты. Здорово! Одно обидно: разрешили первое самостоятельное восхождение, доверили нам, а мы и себя и весь лагерь подвели. Обидно. Совестно и обидно!
Он огляделся. Кругом лед: темно-зеленый, чистый. Внизу вода. Прозрачная, но дна не видно. Глубоко. Когда упал ледоруб, он, Рябихин, долго ждал звука. Как, значит, глубоко!
Захотелось есть. Уходя с бивака, они, как полагается, набили карманы разной снедью. Рябихин пощупал карман. Ореховое особо калорийное печенье и конфеты “дюшес” размокли, стерлись, смешались с табаком. Он без раздумья выбросил их в воду. Шоколад вывалился раньше. Надо было попросить Митю спустить еду…
Да, в верхнем кармане куртки была пачка инжира. Она оказалась на месте. Сорвал зубами нитку, целлофановую обертку, но, когда начал жевать, подступила тошнота, перед глазами поплыли круги. Михаил выплюнул недоеденную ягоду и, чувствуя, что вот-вот упадет, взял в рот ледышку…
Он пришел в себя не сразу. Открыл глаза — и только тут заметил, что стемнело. Тени заполнили пещерку, и лишь на левой стенке дрожал зыбкий отблеск, словно от дерет венской лампы. Михаил следил за ним с надеждой, с мольбой, готовый вцепиться руками, чтобы удержать его. Но пятно света таяло на глазах. Вот и нет ничего. Сверху неторопливо вползли клочья тумана. Поверхность воды и сосульки подернулись кисеей. Значит, наверху дождь. Дождь и туман. Сможет ли выйти отряд, если нет видимости? Все равно пойдет! Вот и совсем темно. Не видно ни зги. “Зга?” Кажется, это такое махонькое колечко на дуге рядом с колокольчиком. Если ямщик не видит его, значит, уже темно. Мне бы сюда такой колокольчик, позванивал бы, а вдруг да услышат. А Пробкина зря послушались. Знающий он, сколько вершин на своем веку повидал, до седых волос дожил, тот же Ротов или Малинин — мальчишки перед ним, а ходят куда аккуратнее. Да и ты сам хорош! Один неосторожный шаг — и теперь небось поднял на ноги весь лагерь. И все из-за тебя. Если бы шли на веревке, ничего бы не было. А будь рядом связка Пробкина, давно бы вытащили из трещины. Лежал бы сейчас в палатке: пыхтит примусок под котелком, поднимается пар, дразнит тебя запахом какао, “гуляш бараний”, а бывалые альпинисты наперебой рассказывают разные истории.
А вдруг Митька — ведь он вечно спешит — заблудился или тоже упал в трещину? Что тогда? Тогда очень плохо! Весь ледник не обыщешь… Нет, обыщут! Выйдут все лагери, все мастера, инструкторы, придут на помощь кабардинцы, сваны, горняки с Баксанского комбината. Всё перевернут, а найдут. Ведь речь идет о человеке, значит, найдут обязательно. Потом взгреют, конечно… и за дело — не разбивай группу, не ходи без веревки, не бреди наугад… А выручить — выручат. Так уж у нас заведено!
А ночь-то придется провести в трещине!
Сколько раз ночевал он в горах! И на перевалах, со сванскими пастухами, и на подступах к вершинам, и на “холодном бивуаке”, засунув для тепла ноги в рюкзак. Но и там никогда не чувствовал себя одиноким. Даже каменная осыпь кажется мягче, а лед теплее, когда чувствуешь у плеча дыхание товарища.
Он пошевелил руками, ногами. Пронизывает озноб. Что ни говори, кругом лед. Как в огромном холодильнике…
Чтобы не заснуть, он вспоминал “взятые” вершины. У каждой, как у человека, свой облик, свой характер, своя биография. Например, Юссеньги-баши. На нее отказался идти Семка Москалик, как фазан красовавшийся в лагере перед девчатами и сдрейфивший на первом же переходе в горах. На все ущелье прославился Семен по частушке, которая ходила из лагеря в лагерь:
Не пойду на Юссеньг,
Не могу поднять ног.
Не ног, чудак, а нгу.
Все равно: идти не мгу!
…А всё-таки холодно. До чего ж холодно! Застыли не только руки, ноги, лицо — как-то промерзло все изнутри. Открываешь рот, чтобы вздохнуть, разогнать сонливость, а зубы так и колотятся — даже больно.
И спать хочется. Может, и вправду вздремнуть, не тратить силы, сберечь их на утро? Но инстинкт подсказывал: сон — гибель! И, раскрывая все шире поминутно смыкавшиеся глаза, Рябихин так и не заметил, когда на какой-то миг его все-таки охватил неслышно подкравшийся сон.
…Ущелье Адыр-су. Он, Миша, едет на ишаке. Рядом, на гнедом коне, — старик Баразби, статный, словно влитый в седло, с той подчеркнуто прямой осанкой, с которой горец едет даже на велосипеде. За ними бегут альпинисты лагеря “Печатник”. Почему же его нет с ними, почему он не слезает с ишака? Вот они строятся на линейку. И опять его, Михаила, нет среди товарищей!
“Что за чертовщина такая! Вот наваждение. Спятишь еще в этой дыре!” Он сдвинул на затылок капюшон, прижался лбом ко льду. Как холодно! Прямо чертовски холодно! Даже в висках застучало. Зато теперь он не уснет.
А ночь идет… Не скоро еще до утра… Здесь, по леднику, всегда поднимаются к Местиатау. Какая-нибудь группа обязательно наткнется на рюкзак. Усиков, конечно, оставил его у трещины, чтобы отметить место падения. Идут альпинисты и видят: лежит одинокий рюкзак. А рядом — никаких следов бивуака. И ни души поблизости. Естественно, остановятся, начнут поиски.
А ночь шла, медленно тянулись минуты и часы. Скованный холодом, одеревеневший, Рябихин впадал по временам в безразличие. Тогда он был не в силах шевельнуться, мысли расплывались. Возникали какие-то обрывки фраз, лица, события.
“Что такое? Что это рядом зашуршало в темноте?”
— Кто там?
“А-а-м”, — уныло и протяжно отозвалось эхо. Рябихин затаил дыхание… Ничего! Осторожно, стараясь не пошевелиться, прислушался. Снова странные, шаркающие шаги. Он наклонил голову… и беззвучно рассмеялся. Набухшая от влаги куртка за ночь обмерзла, покрылась ледяной коркой. Время от времени по ней скатывались льдинки, и обостренный слух почти непроизвольно улавливал это шуршание, а воображение превращало его в шаги.
Снова стало тихо.
Новый шорох заставил Рябихина встрепенуться. Нет, на этот раз он донесся сверху, оттуда, где, как он помнил, свешивались самые длинные сосульки. Он поднял голову, вслушиваясь, и увидел их. Увидел! Значит, ночь кончилась. Вверх, и вниз, и в стороны уходили сероватые грани льда. И по одной из них бежали светлые волны солнечных лучей. День пришел!
Но день, видно, хмурый: вчера было светлее. Неужели наверху снегопад, буран? Он снова прислушался. Шорохи слышались все более явственно, возникая и исчезая. Откуда эти звуки здесь, в глубинах ледника? Он вспомнил о движении льда, когда с утренним теплом начинают стремиться вниз замерзшие ночью воды, когда под напором текущих сверху масс воды рвется многометровая толща льда. Когда… Он снова уловил какое-то глухое, нарастающее движение. Да это же голоса! Нет, чепуха, послышалось. Самообман… Слуховой мираж… Нет, нет, опять!.. Он приложил руку ко рту и отчаянно вскрикнул:
— Я здесь! На помощь!
Он снова обрел голос и кричал громко, как только мог, кричал, как кричат горцы и альпинисты, ударяя ладонью по губам, и голос тогда дрожит и вибрирует, как звук рога. Он кричал, пока силы не покинули его и он замолк.
— Видите, товарищи, совсем свежая трещина, — явственно различил он слова, и сердце его тревожно заколотилось.
— Товарищи! — крикнул Михаил. — Я же здесь!
— Сюда! — услышал он тот же повелительный голос. — Все сюда! Он здесь! Кричит — значит, живой!
Михаил стоял неподвижно, весь обратившись в слух. Спасен! Он дрожал при одной мысли об этом. Спасен! Все, что было, — позади.
В ледяной щели показались кошки, кто-то, перегнувшись, крикнул:
— Иду к тебе! Ты ж меня знаешь: я Надеждин!
И Михаил увидел загорелое лицо и веселые глаза, глядевшие на него дружелюбно и пытливо.
— Дальше не лезьте, — предупредил Рябихин. — Вдвоем не поместимся, тесно, а ниже — вода.
— А у тебя, герой, хватит сил привязаться?
— Попытаюсь! Что выйдет…
Надеждин сказал товарищам несколько слов, которые Рябихин не расслышал, и веревка пришла в движение. Вот она наконец… Надо осторожнее действовать руками. Он висел, запрокинув голову, жадно глядя на отверстие, из которого медленно выползала новая веревка.
Потом он тревожно моргнул… Перед глазами поплыла мутная пелена, застилая все кругом. Потом он понял, что различает отверстие, и брызги солнца на зелени льда, и даже колебания веревки. Но улавливал все это каким-то непонятным образом, словно в забытьи.
— Да ты не волнуйся, Рябихин, — услышал он голос Надеждина, спокойный и вместе с тем властный. — Успокойся. Ведь ты спасен. Уже спасен! — Надеждин видел, как беспомощно шарят по воздуху, как дрожат руки альпиниста. — Делай все осторожненько!..
Сложив рупором ладони, Надеждин что-то скомандовал, веревка натянулась, пошла.
Михаил успел заметить огромные сосульки, задел плечом ледяной навес, и нестерпимо яркий свет хлынул в лицо, словно ударил по глазам.
Люди… Лица… Море улыбающихся лиц затопило весь ледник. Он не видел ничего, кроме света и людей. Ослепительного, льющегося на него света и обступивших его радостных людей. Все улыбалось, все сверкало. Как хорошо! Он не успел сделать ни одного движения, как чьи-то руки быстро отвязали веревку; кто-то провел ножом по смерзшейся шнуровке и бережно снял ботинки; кто-то поднес к губам кружку горячего какао. Как это водится в альпинистской семье, не было ни лишних слов, ни пререканий: все шло быстро, споро, как бы само собой.
— Товарищи! Ребята! — только и мог прошептать Михаил. Он уже лежал на подостланной палатке и машинально жевал шоколад, ощущая сильный запах спирта.
— Растирайте его, растирайте хорошенько, — услышал он высокий, звонкий голос, — прорабатывайте каждую мышцу… На чем нести? Пусть лучше пойдет сам. Ему нужно размяться.
Он повернулся и увидел румяное лицо и большие серые глаза Екатерины Карпухиной, врача альпинистского лагеря. В руке ее был пузырек со спиртом, в другой — широкий бинт.
Ему помогли дойти до скалы, к которой он шел вчера. Шел и провалился. Он виновато оглянулся по сторонам, и только теперь его глаза смогли выделить знакомые лица. Глеб Огурцов, начальник лагеря, высокий, белозубый, беловолосый гигант. Алексей Малинин, огненно-рыжий, в фетровой шляпе и круглых очках. Юрий Ротов, его инструктор и учитель, в шерстяной вязаной шапочке. Все они улыбались. Ни в чьих глазах он не заметил тени осуждения. А ведь на поиски поднялось, наверно, все ущелье: и свой лагерь и чужие лагери. Хотя ведь и “чужие” были здесь тоже “своими”.
У скалы его закутали в спальный мешок. Забинтовали руки. Дали коньяку. Он съел грушу: сочную, мягкую, ароматную. От шпротов, грудинки, галет отказался: “Не сейчас”. Он сидел, откинувшись на камень, ощущая, как покидает его холод, которым было сковано все тело. Надеждин поднял руку. Три ракеты ушли к небу, и за последней из них, словно за кометой, долго еще тянулся дымный хвост.
— Вызываем всех, всех, всех! Объявляем прекращение спасательных работ… — сказал в микрофон Лев Дмитриевский, спокойный вологжанин, начальник спасательной станции ущелья. — А ты, парень, молодец, что не сдался. Я не утерпел: слазил в трещину поглядеть твое убежище. Больше туда не тянет! Но как это твой дружок догадался рюкзак от трещины унести? Ведь мы с ночи весь ледник прочесываем.
Рябихин проспал весь день, и ночь, и еще полдня. Доктор Карпухина с явным удовольствием вслушивалась в его дыхание: ровное и чистое, словно ход хорошо отрегулированных часов.
Рябихин, наконец выспавшись, вышел из домика, ступая с каждым шагом все более уверенно и свободно. Вечерело. В ущелье уже спустились сумерки, но день еще не покинул гребней гор, горевших золотом последних лучей. С вершин мерно и сильно дул ветер, который зовут “коридорным”. Михаил надел шерстяную безрукавку и с наслаждением, понятным альпинисту, ощутил могучее, холодное дыхание гор. Ночь будет свежей, значит завтра можно ждать хорошей погоды и горы его не обманули. Значит, он еще пойдет на вершины. Но теперь будет осторожнее. Он знал, что товарищи пока его жалеют, временно оставив без внимания проступок. Но в будущем они напомнят Рябихину о его промахе, заставят и других поучиться на его ошибке.
Ну что ж! Раз виноват…
А вокруг высились горы, освещенные ярким солнцем. Как ни сильны горы, но люди, друзья, — еще сильнее. Кто же, как не они, сумел разжать ледяную пасть горы и высвободить его!
Несколько дней спустя он снова шел по тропе, ведущей к каменным валам морен, к снежным полям, к предвершинному гребню, и еще дальше — к вершинам!
И Рябихин пошел один.
Стекавший с вершины ледник упирался здесь в большую скалу, и задержанные в своем движении массы льда теснились, напирали, громоздясь глыбами, разрываясь паутиной трещин. “Ненадежное место. Лучше взять левее”, — решил Михаил, вглядываясь в трещины с нависшими кое-где снежными мостиками. Он двигался осторожно, обходя участки, где снег потемнел, провисал над скрытыми пустотами. Слева зияла темная пасть открытой трещины. Рябихин остановился. Осторожно ткнул в нависший снег ледорубом: не проваливается, можно идти! Он спокойно шагнул вперед и тут же, не успев сделать ни одного движения, упал в пустоту.
Перед ним промелькнули ледяной откос, нависшие сосульки, осыпавшийся снег. Он погрузился с головой в ледяную воду, но она вынесла его наверх, расплескиваясь о стены. Стало жарко. Мысли мелькали, кружились: “Пещера?.. Или ледяной колодец?.. Скорее выбраться из воды… Сведет ноги… Тогда крышка!.. Найти зацепки в стене… Так, так… Почему же срывается правая рука? Мешает рукавица… Скинуть… А где же левая? Потерял при падении”.
Из пробитого его телом отверстия в снегу струились скупые, бледные потоки света. Стараясь выбраться, он лихорадочно шарил по гладкой, скользкой поверхности ледяной вертикальной стены. С трудом нащупал выбоину. Уцепился, нечеловеческим усилием выбрался из воды. Перевел дыхание… Можно расслабить теперь сведенные холодом мускулы. Оглядеться…
Трещина, в которую он провалился, напоминала огромную колбу. Над головой уходила кверху изогнутая под углом косая щель, словно горлышко колбы. Нужно дотянуться до нее. Выбраться дальше труда не представляет. Впрочем, это праздные размышления — по гладкому ледяному своду пещеры не вскарабкаешься. Ни единой зацепки. Но где же Усиков? Куда он пропал?
Скатившаяся ледышка с плеском упала в воду. Рябихин невольно поглядел вниз. Какая здесь глубина? Он подвязал кусок репшнура, опустил в воду ледоруб. Два метра… Три… Порядочно! Ледоруб уходит все дальше, глубже. Еще. Четыре… Пять… И вдруг померещилось, что вокруг пляшут бесчисленные веревки. Не верил себе и все еще надеялся… но шнур беззвучно упал в воду и, покружившись, скрылся в зеленоватой мгле.
— Всё! — хрипло вскрикнул человек на уступе.
“Всё…” — издеваясь, откликнулось эхо. Машинально, словно проверяя себя, Рябихин медленно поднял правую руку: на ней висел обрывок шнура, обмотанный вокруг запястья, — все, что осталось от ледоруба, который сопровождает каждый шаг альпиниста в горах. Он удерживает его на крутом снежнике, рубит ступени на льду. Без него… Но где же Усиков? Где же он, Дмитрий?
Поднятая, упиравшаяся в стенку левая рука затекла, сведенная судорогой. Рябихин хотел взяться правой, но со стоном отдернул ладонь: кисть правой руки опухла, не сгибалась. “Этого еще недоставало! Но где же все-таки Усиков? Где он?..”
— Йя-гу-у! — неожиданно раздалось над головой и еще раз: — Йя-гу-у!
— Здесь! Я здесь! — торопливо откликнулся Рябихин. — В трещине!
— Ты живой? — донесся глухой голос.
— Да, да! — обрадованно ответил Рябихин. — Стою на приступочке. Трудно. Долго не выстою. Скорее спускай веревку.
— Держись, Мишенька! Держись! Спешу помочь! Вот только закреплюсь сам. Без страховки боюсь подползать к трещине: как бы не провалиться.
— Понятно! Только спеши… Еле держусь.
Он кричал изо всех сил: до хрипоты, до звона в ушах. Но слова отшвыривались обратно ледяными сводами, они дробились в бесчисленных щелях: приходилось несколько раз повторять каждую фразу.
Скорей бы! Рябихин стоял с запрокинутой головой, не сводя глаз с уползающей кверху ледяной щели. Наконец-то… Зашуршали потревоженные сосульки, из щели медленно — до чего же медленно! — выползла веревка… Ну, скорей! Скорей же!.. Продвинулась… Подползла еще… Эх, чорт, остановилась!
— Ну как, привязался?
— Да нет же! Веревка не доходит! Осталась наверху!
— Быть не может! Это весь моток!
— Где-нибудь заклинилась. Вытрави, сбрось опять. Только посильнее!
Падали сбитые ледышки. Унимая охватывавшую его дрожь, Рябихин приподнялся на носки и поднял руку, стремясь уцепиться за веревку. Нет!.. Далеко!.. Не дотянуться!.. Веревка ерзала между ледяными стенками, то приближаясь, то снова отдаляясь. Рябихин не мог отвести от нее взгляда…
Он резко выпрямился, протянул вперед руку и с плеском рухнул в воду.
Падение, удар, холод вызвали одно желание — жить! Из воды показалась рука, за ней капюшон куртки, мокрое потемневшее лицо. Широко открытые серые глаза глядели пристально и твердо. Веревка! В ней было его спасение. Сама жизнь. Он не мог бы объяснить, откуда взялись у него силы, как взобрался он на уступ — с опухшей, несгибающейся рукой, с набухшим, отяжелевшим рюкзаком.
Еще раньше он приметил во льду углубление. Вдавившись в него локтем разбитой руки, он уперся спиной в стенку трещины, с силой вонзив зубья кошек в противоположную. Его тело повисло меж стенами, словно мост. Сгибаясь и снова распрямляясь, подтягивая выше то ноги, то спину, он полз кверху волнообразными, рассчитанными движениями.
Он подтянулся к веревке осторожным движением:
— Держусь! Не падаю!
Теперь оставалось схватить веревку и быстро завязать на груди. Он вытер рукавом лицо, залитое потом и тающим снегом.
— Обвязался! Готов! — крикнул он срывающимся голосом.
— Есть такое дело! Тащу.
Веревка пришла в движение. Рябихин, повиснув на ней, видел, как она распрямляется, натягивается. Чуть-чуть подвинулась к щели. Но тут Рябихина резко качнуло в сторону, в другую, ударило затылком о лед. Веревка вращалась, раскачивалась.
— Упрись ногами, спиной, чем хочешь, — услышал он сдавленный голос. — Ради бога, упрись! Невмоготу тащить тебя.
— Не могу… Кручусь во все стороны. Страшно болтает!
Веревка неожиданно ослабла, дрогнула, и Михаил снова погрузился в воду. Вновь натянувшаяся веревка помогла ему добраться до уступчика. Он встал, с силой упершись в стенки раскинутыми руками и ногами, словно распятый на кресте. Перевел дыхание… Скверные дела… Дмитрий не может вытащить его. Это ясно! Рябихин, в который уже раз, поднял голову к круто уходившей вверх щели. Если бы преодолеть эти метры, этот проклятый ледяной перепад. Дальше он поднялся бы сам: распором, расклинкой, как угодно. “Отдам рюкзак, — решил Михаил: — намок, отяжелел, стягивает вниз”. Он было хотел крикнуть, но только сипло прохрипел что-то. “Этого не хватало. Неужели отнялся язык?” Холодный пот залил глаза.
“Врешь, Мишка!” — подбодрил он себя и вспомнил Юрия Ротова, своего учителя по горному спорту. Юрий редко и скупо рассказывал о себе, но всех его учеников обошла неизвестно кем переданная история, как при десанте под Керчью, раненный в руку и в ногу, Ротов привязался к баллону от полуторки и ночью переплыл пролив. Да еще с подобранным им на берегу контуженным моряком. “Есть такое дело, Юрочка! — с усилием прошептал Рябихин. — Отбиваться! Как ты”.
На миг он припал губами к мокрой веревке. Медленно, словно читая что-то по слогам (он поступал так, чтобы успокоить себя, унять колотившую его нервную дрожь), подвязал к спущенному шнуру рюкзак, и тот уплыл наверх. Минуту спустя Дмитрий спустил ему веревочные стремена. Но они оказались ненужными: не поддавались, скользили, съезжали.
Рябихин собрался с силами и, преодолевая боль в горле, выкрикнул:
— Слушай меня, Митя! — По трещине раскатился тревожный хриплый голос. — Я уже выбился из сил. Со стременами ничего не получается. Думай, как быть!
— Спускаю тебе свой ледоруб. Попробуй вырубить ступени.
— Не пойдет: выше меня навес, ступени не помогут.
Еще раз попытался вытащить его Усиков. Еще раз сорвался Рябихин в воду, но минуту спустя снова цеплялся за уступчики и карабкался молча и зло. Поднявшись над водой, он тихо застонал, увидев багровые пятна, расползающиеся по льду. Его кровь. Он ранен!
— Делать нечего, беги за спасательным отрядом, — выдавил он наконец. — Беги, Митя!.. Сейчас же!.. Иначе конец!..
После каждого слова он должен был делать паузу, жадно хватая воздух.
— У-хо-жу, — услышал он далекий голос. — Буду торопиться. Держись! Не сдавайся!
И Михаил остался один.
Он машинально отвернул манжету: четверть третьего. Значит, вот когда произошла авария и остановились часы. Сейчас уже не меньше пяти—шести. Интересно, когда доберется до лагеря Митя? Когда поднимется сюда отряд? Будет уже темно. По изорванному леднику ночью пройти трудно. Хотя… Здесь же должна заниматься инструкторская школа “Восход”. Митя добежит за час. Даже меньше. Будет там в шесть, самое большее в половине седьмого. Полчаса на сборы. Подняться сюда — еще час. Темнеет в десятом часу. Значит, могут быть засветло. Найдут до темноты. Здорово! Одно обидно: разрешили первое самостоятельное восхождение, доверили нам, а мы и себя и весь лагерь подвели. Обидно. Совестно и обидно!
Он огляделся. Кругом лед: темно-зеленый, чистый. Внизу вода. Прозрачная, но дна не видно. Глубоко. Когда упал ледоруб, он, Рябихин, долго ждал звука. Как, значит, глубоко!
Захотелось есть. Уходя с бивака, они, как полагается, набили карманы разной снедью. Рябихин пощупал карман. Ореховое особо калорийное печенье и конфеты “дюшес” размокли, стерлись, смешались с табаком. Он без раздумья выбросил их в воду. Шоколад вывалился раньше. Надо было попросить Митю спустить еду…
Да, в верхнем кармане куртки была пачка инжира. Она оказалась на месте. Сорвал зубами нитку, целлофановую обертку, но, когда начал жевать, подступила тошнота, перед глазами поплыли круги. Михаил выплюнул недоеденную ягоду и, чувствуя, что вот-вот упадет, взял в рот ледышку…
Он пришел в себя не сразу. Открыл глаза — и только тут заметил, что стемнело. Тени заполнили пещерку, и лишь на левой стенке дрожал зыбкий отблеск, словно от дерет венской лампы. Михаил следил за ним с надеждой, с мольбой, готовый вцепиться руками, чтобы удержать его. Но пятно света таяло на глазах. Вот и нет ничего. Сверху неторопливо вползли клочья тумана. Поверхность воды и сосульки подернулись кисеей. Значит, наверху дождь. Дождь и туман. Сможет ли выйти отряд, если нет видимости? Все равно пойдет! Вот и совсем темно. Не видно ни зги. “Зга?” Кажется, это такое махонькое колечко на дуге рядом с колокольчиком. Если ямщик не видит его, значит, уже темно. Мне бы сюда такой колокольчик, позванивал бы, а вдруг да услышат. А Пробкина зря послушались. Знающий он, сколько вершин на своем веку повидал, до седых волос дожил, тот же Ротов или Малинин — мальчишки перед ним, а ходят куда аккуратнее. Да и ты сам хорош! Один неосторожный шаг — и теперь небось поднял на ноги весь лагерь. И все из-за тебя. Если бы шли на веревке, ничего бы не было. А будь рядом связка Пробкина, давно бы вытащили из трещины. Лежал бы сейчас в палатке: пыхтит примусок под котелком, поднимается пар, дразнит тебя запахом какао, “гуляш бараний”, а бывалые альпинисты наперебой рассказывают разные истории.
А вдруг Митька — ведь он вечно спешит — заблудился или тоже упал в трещину? Что тогда? Тогда очень плохо! Весь ледник не обыщешь… Нет, обыщут! Выйдут все лагери, все мастера, инструкторы, придут на помощь кабардинцы, сваны, горняки с Баксанского комбината. Всё перевернут, а найдут. Ведь речь идет о человеке, значит, найдут обязательно. Потом взгреют, конечно… и за дело — не разбивай группу, не ходи без веревки, не бреди наугад… А выручить — выручат. Так уж у нас заведено!
А ночь-то придется провести в трещине!
Сколько раз ночевал он в горах! И на перевалах, со сванскими пастухами, и на подступах к вершинам, и на “холодном бивуаке”, засунув для тепла ноги в рюкзак. Но и там никогда не чувствовал себя одиноким. Даже каменная осыпь кажется мягче, а лед теплее, когда чувствуешь у плеча дыхание товарища.
Он пошевелил руками, ногами. Пронизывает озноб. Что ни говори, кругом лед. Как в огромном холодильнике…
Чтобы не заснуть, он вспоминал “взятые” вершины. У каждой, как у человека, свой облик, свой характер, своя биография. Например, Юссеньги-баши. На нее отказался идти Семка Москалик, как фазан красовавшийся в лагере перед девчатами и сдрейфивший на первом же переходе в горах. На все ущелье прославился Семен по частушке, которая ходила из лагеря в лагерь:
Не пойду на Юссеньг,
Не могу поднять ног.
Не ног, чудак, а нгу.
Все равно: идти не мгу!
…А всё-таки холодно. До чего ж холодно! Застыли не только руки, ноги, лицо — как-то промерзло все изнутри. Открываешь рот, чтобы вздохнуть, разогнать сонливость, а зубы так и колотятся — даже больно.
И спать хочется. Может, и вправду вздремнуть, не тратить силы, сберечь их на утро? Но инстинкт подсказывал: сон — гибель! И, раскрывая все шире поминутно смыкавшиеся глаза, Рябихин так и не заметил, когда на какой-то миг его все-таки охватил неслышно подкравшийся сон.
…Ущелье Адыр-су. Он, Миша, едет на ишаке. Рядом, на гнедом коне, — старик Баразби, статный, словно влитый в седло, с той подчеркнуто прямой осанкой, с которой горец едет даже на велосипеде. За ними бегут альпинисты лагеря “Печатник”. Почему же его нет с ними, почему он не слезает с ишака? Вот они строятся на линейку. И опять его, Михаила, нет среди товарищей!
“Что за чертовщина такая! Вот наваждение. Спятишь еще в этой дыре!” Он сдвинул на затылок капюшон, прижался лбом ко льду. Как холодно! Прямо чертовски холодно! Даже в висках застучало. Зато теперь он не уснет.
А ночь идет… Не скоро еще до утра… Здесь, по леднику, всегда поднимаются к Местиатау. Какая-нибудь группа обязательно наткнется на рюкзак. Усиков, конечно, оставил его у трещины, чтобы отметить место падения. Идут альпинисты и видят: лежит одинокий рюкзак. А рядом — никаких следов бивуака. И ни души поблизости. Естественно, остановятся, начнут поиски.
А ночь шла, медленно тянулись минуты и часы. Скованный холодом, одеревеневший, Рябихин впадал по временам в безразличие. Тогда он был не в силах шевельнуться, мысли расплывались. Возникали какие-то обрывки фраз, лица, события.
“Что такое? Что это рядом зашуршало в темноте?”
— Кто там?
“А-а-м”, — уныло и протяжно отозвалось эхо. Рябихин затаил дыхание… Ничего! Осторожно, стараясь не пошевелиться, прислушался. Снова странные, шаркающие шаги. Он наклонил голову… и беззвучно рассмеялся. Набухшая от влаги куртка за ночь обмерзла, покрылась ледяной коркой. Время от времени по ней скатывались льдинки, и обостренный слух почти непроизвольно улавливал это шуршание, а воображение превращало его в шаги.
Снова стало тихо.
Новый шорох заставил Рябихина встрепенуться. Нет, на этот раз он донесся сверху, оттуда, где, как он помнил, свешивались самые длинные сосульки. Он поднял голову, вслушиваясь, и увидел их. Увидел! Значит, ночь кончилась. Вверх, и вниз, и в стороны уходили сероватые грани льда. И по одной из них бежали светлые волны солнечных лучей. День пришел!
Но день, видно, хмурый: вчера было светлее. Неужели наверху снегопад, буран? Он снова прислушался. Шорохи слышались все более явственно, возникая и исчезая. Откуда эти звуки здесь, в глубинах ледника? Он вспомнил о движении льда, когда с утренним теплом начинают стремиться вниз замерзшие ночью воды, когда под напором текущих сверху масс воды рвется многометровая толща льда. Когда… Он снова уловил какое-то глухое, нарастающее движение. Да это же голоса! Нет, чепуха, послышалось. Самообман… Слуховой мираж… Нет, нет, опять!.. Он приложил руку ко рту и отчаянно вскрикнул:
— Я здесь! На помощь!
Он снова обрел голос и кричал громко, как только мог, кричал, как кричат горцы и альпинисты, ударяя ладонью по губам, и голос тогда дрожит и вибрирует, как звук рога. Он кричал, пока силы не покинули его и он замолк.
— Видите, товарищи, совсем свежая трещина, — явственно различил он слова, и сердце его тревожно заколотилось.
— Товарищи! — крикнул Михаил. — Я же здесь!
— Сюда! — услышал он тот же повелительный голос. — Все сюда! Он здесь! Кричит — значит, живой!
Михаил стоял неподвижно, весь обратившись в слух. Спасен! Он дрожал при одной мысли об этом. Спасен! Все, что было, — позади.
В ледяной щели показались кошки, кто-то, перегнувшись, крикнул:
— Иду к тебе! Ты ж меня знаешь: я Надеждин!
И Михаил увидел загорелое лицо и веселые глаза, глядевшие на него дружелюбно и пытливо.
— Дальше не лезьте, — предупредил Рябихин. — Вдвоем не поместимся, тесно, а ниже — вода.
— А у тебя, герой, хватит сил привязаться?
— Попытаюсь! Что выйдет…
Надеждин сказал товарищам несколько слов, которые Рябихин не расслышал, и веревка пришла в движение. Вот она наконец… Надо осторожнее действовать руками. Он висел, запрокинув голову, жадно глядя на отверстие, из которого медленно выползала новая веревка.
Потом он тревожно моргнул… Перед глазами поплыла мутная пелена, застилая все кругом. Потом он понял, что различает отверстие, и брызги солнца на зелени льда, и даже колебания веревки. Но улавливал все это каким-то непонятным образом, словно в забытьи.
— Да ты не волнуйся, Рябихин, — услышал он голос Надеждина, спокойный и вместе с тем властный. — Успокойся. Ведь ты спасен. Уже спасен! — Надеждин видел, как беспомощно шарят по воздуху, как дрожат руки альпиниста. — Делай все осторожненько!..
Сложив рупором ладони, Надеждин что-то скомандовал, веревка натянулась, пошла.
Михаил успел заметить огромные сосульки, задел плечом ледяной навес, и нестерпимо яркий свет хлынул в лицо, словно ударил по глазам.
Люди… Лица… Море улыбающихся лиц затопило весь ледник. Он не видел ничего, кроме света и людей. Ослепительного, льющегося на него света и обступивших его радостных людей. Все улыбалось, все сверкало. Как хорошо! Он не успел сделать ни одного движения, как чьи-то руки быстро отвязали веревку; кто-то провел ножом по смерзшейся шнуровке и бережно снял ботинки; кто-то поднес к губам кружку горячего какао. Как это водится в альпинистской семье, не было ни лишних слов, ни пререканий: все шло быстро, споро, как бы само собой.
— Товарищи! Ребята! — только и мог прошептать Михаил. Он уже лежал на подостланной палатке и машинально жевал шоколад, ощущая сильный запах спирта.
— Растирайте его, растирайте хорошенько, — услышал он высокий, звонкий голос, — прорабатывайте каждую мышцу… На чем нести? Пусть лучше пойдет сам. Ему нужно размяться.
Он повернулся и увидел румяное лицо и большие серые глаза Екатерины Карпухиной, врача альпинистского лагеря. В руке ее был пузырек со спиртом, в другой — широкий бинт.
Ему помогли дойти до скалы, к которой он шел вчера. Шел и провалился. Он виновато оглянулся по сторонам, и только теперь его глаза смогли выделить знакомые лица. Глеб Огурцов, начальник лагеря, высокий, белозубый, беловолосый гигант. Алексей Малинин, огненно-рыжий, в фетровой шляпе и круглых очках. Юрий Ротов, его инструктор и учитель, в шерстяной вязаной шапочке. Все они улыбались. Ни в чьих глазах он не заметил тени осуждения. А ведь на поиски поднялось, наверно, все ущелье: и свой лагерь и чужие лагери. Хотя ведь и “чужие” были здесь тоже “своими”.
У скалы его закутали в спальный мешок. Забинтовали руки. Дали коньяку. Он съел грушу: сочную, мягкую, ароматную. От шпротов, грудинки, галет отказался: “Не сейчас”. Он сидел, откинувшись на камень, ощущая, как покидает его холод, которым было сковано все тело. Надеждин поднял руку. Три ракеты ушли к небу, и за последней из них, словно за кометой, долго еще тянулся дымный хвост.
— Вызываем всех, всех, всех! Объявляем прекращение спасательных работ… — сказал в микрофон Лев Дмитриевский, спокойный вологжанин, начальник спасательной станции ущелья. — А ты, парень, молодец, что не сдался. Я не утерпел: слазил в трещину поглядеть твое убежище. Больше туда не тянет! Но как это твой дружок догадался рюкзак от трещины унести? Ведь мы с ночи весь ледник прочесываем.
Рябихин проспал весь день, и ночь, и еще полдня. Доктор Карпухина с явным удовольствием вслушивалась в его дыхание: ровное и чистое, словно ход хорошо отрегулированных часов.
Рябихин, наконец выспавшись, вышел из домика, ступая с каждым шагом все более уверенно и свободно. Вечерело. В ущелье уже спустились сумерки, но день еще не покинул гребней гор, горевших золотом последних лучей. С вершин мерно и сильно дул ветер, который зовут “коридорным”. Михаил надел шерстяную безрукавку и с наслаждением, понятным альпинисту, ощутил могучее, холодное дыхание гор. Ночь будет свежей, значит завтра можно ждать хорошей погоды и горы его не обманули. Значит, он еще пойдет на вершины. Но теперь будет осторожнее. Он знал, что товарищи пока его жалеют, временно оставив без внимания проступок. Но в будущем они напомнят Рябихину о его промахе, заставят и других поучиться на его ошибке.
Ну что ж! Раз виноват…
А вокруг высились горы, освещенные ярким солнцем. Как ни сильны горы, но люди, друзья, — еще сильнее. Кто же, как не они, сумел разжать ледяную пасть горы и высвободить его!
Несколько дней спустя он снова шел по тропе, ведущей к каменным валам морен, к снежным полям, к предвершинному гребню, и еще дальше — к вершинам!
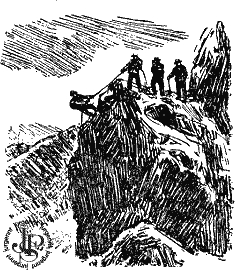


Э. Гамильтон НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
Тускло-красная планета увеличивалась в небе с ужасающей быстротой. Ракета падала на нее. Хвостовые дюзы изрыгали пламя, чтобы замедлить падение. Пронзительный вопль рассекаемого воздуха оглушал двух человек внутри ракеты. Молодой Бретт Лестер ощутил тошноту, налегая на спутавшиеся ремни стабилизатора. Он сделал над собою усилие и попытался поглядеть вниз, на поверхность Марса. Он увидел плоскую красную равнину с расплывчатым черным пятном на севере. Хоскинс, занимавший кресло пилота, яростно боролся, чтобы удержать ракету от вращения. Его широкое умное лицо превратилось в напряженную маску, а короткие пальцы бегали по рычагам управления. А потом был последний взрыв, потрясший мозги Лестера, — резкий, оглушительный толчок, потом оцепенелое молчание… Они были на Марсе. Лестер понял это, и его охватил ужас. Впервые люди покинули Землю и очутились на другой планете. Он старался подобрать слова, достойные этого исторического момента. Но первым заговорил Хоскинс. Старший инженер осторожно ощупывал ногу, и на лице его отразилось облегчение. — Кажется, мой нарыв сейчас прорвался, — сказал он. Лестер был ошарашен и возмущен. — Ваш нарыв! — воскликнул он. — Вот мы здесь первые! На Марсе! А о чем вы заговорили прежде всего? О своем нарыве! Хоскинс взглянул на него и проворчал: — Этот нарыв мучил меня всю неделю. Попробуйте посидеть на нарыве, а потом скажите, как вам это понравится… — Хорошо, хорошо, забудем об этом! — вскричал Лестер возбужденно. — Мы на Марсе, человече! Доходит ли это до вашего тупого, лишенного воображения мозга? Хоскинс выглянул из окна. Сквозь толстые кварцевые стекла была видна только пустыня ползучего красного песка, странствующих дюн и гребней. — Да, мы сделали это, — сказал Хоскинс равнодушно. — И если мы вернемся благополучно, это даст кое-что для науки о звездоплавании. — Вы только об этом и думаете? — спросил Лестер. — Ведь здесь перед нами целый неизвестный мир… Хоскинс пожал своими широкими плечами. — Он не неизвестен. Мы знаем от астрономов, на что должен быть похожим Марс: пустынная планета, где очень мало кислорода, совсем нет воды и собачий холод. — Но мы не знаем, какие живые существа можно встретить здесь! — вскричал Лестер с юношеским энтузиазмом. Хоскинс усмехнулся: — Вы, должно быть, начитались этих диких псевдонаучных историй, какие сейчас выходят по сотне в неделю, об этих красных жукоглазых марсианах, об ужасных чудищах и так далее? Лестер покраснел: — Ну да, я, конечно, прочел кучу историй… Собственно говоря, это и заставило меня заинтересоваться ракетной механикой. Старший инженер фыркнул. — Ну ладно, можете забыть о своих глазастых марсианах и обо всем прочем. Вы должны знать, что в этом мире слишком холодно, а атмосферы слишком мало, чтобы поддерживать жизнь живых существ. — Знаю, — согласился Лестер. — Но я, можно сказать, надеялся, что можно будет найти… — Забудьте, — посоветовал Хоскинс. — Здесь нет ничего, кроме, может быть, каких-нибудь лишайников. — Но нельзя ли нам выйти? — горячо спросил Лестер. — Я бы хотел посмотреть… Старший опять пожал плечами: — Хорошо. Нам понадобятся фетровые костюмы и кислородные маски, вы это знаете. А сначала я сделаю пробу воздуха. Он завозился с приборами. Юный Лестер продолжал жадно вглядываться в пурпурную пустыню, видневшуюся вокруг. Она, по крайней мере, выглядела в точности так, как он и ожидал: мрачная равнина красного песка, чем-то схожего с земным, кроме цвета. Крутящиеся песчаные смерчи вставали там и здесь, а с неба разливался медный свет уменьшившегося Солнца. Он обернулся, услышав удивленное восклицание Хоскинса: — Не могу понять! Прибор показывает, что воздух здесь почти такой же плотный, теплый и насыщенный кислородом, как и на Земле! Даже Лестер знал, что это невозможно. — Вы ошиблись! Дайте я попробую. Он получил те же результаты. Воздух снаружи, как говорил прибор, был лишь немногим прохладнее земного и содержал столько же кислорода.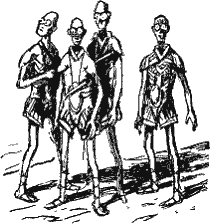
 — С ума сойти! — воскликнул Хоскинс. — Здешние условия, должно быть, сбили прибор с толку. Это невозможно…
— Откроем дверь и посмотрим, — предложил Лестер.
Они попробовали чуточку приоткрыть дверь, готовясь снова захлопнуть ее, если воздух снаружи окажется непригодным для дыхания… Они были изумлены: прибор не солгал. Проникший в каюту воздух был теплым и показался им совершенно похожим на земной.
Они широко открыли дверь и вышли из ракеты на красный песок. Казалось, стоял погожий октябрьский день. Ласково светило медное Солнце, а ветерок был прохладным и свежим.
— Святители! Значит, астрономы ошиблись! — воскликнул Хоскинс.
— Но все равно, это невозможно. Как может такая маленькая планета, как Марс, сохранить свою атмосферу и как эта атмосфера может быть такой теплой?
Сделав несколько пробных шагов, они почувствовали, что шаги их стали странно плывущими и что двигаться они могут сравнительно легко. Но теплота и кислород продолжали оставаться загадкой.
— Клянусь, все это выше моих сил! — пробормотал Хоскинс. — По всем законам астрономии и физики Марс должен быть совершенно не таким…
Глаза у Лестера заблестели:
— Если здесь тепло и есть воздух и вода, то могут найтись, в конце концов, и живые существа!
Хоскинс фыркнул:
— Ваши жукоглазые марсиане из рассказов? Я думал, вы уже забыли об этих глупостях.
— А я все-таки надеюсь, что здесь должна быть какая-то жизнь, — настаивал Лестер. — Когда мы садились, я видел на севере большое черное пятно. Что бы это могло быть?
— Наверно, выход темных горных пород на поверхность, — предположил Хоскинс. — Мы можем посмотреть с вершины, вот с этого песчаного холма.
Они взобрались на красный гребень, скользя ногами по песку, и оцепенели от удивления при виде неожиданного сходства пейзажа с земным.
Стратонавты стояли на гребне песчаного холма. Отсюда им была видна пустыня на многие мили к северу в сторону черного пятна. Но они не смотрели туда. Их внимание было приковано к четырем фигурам, которые двигались по песку невдалеке от них. Фигуры остановились и направились к земным людям.
Четыре фигуры были, несомненно, человекообразными существами. Но они не походили на земных людей. У них была красная кожа, безволосый куполообразный череп, выпуклая грудная клетка и ходулеобразные ноги. На них красовались сложные доспехи из ремней, на груди у каждого висела блестящая металлическая трубка.
Лица их были похожи на земные, несмотря на красный цвет кожи и торжественно-безжизненное выражение. Но глаза совсем не земные. Эти глаза были выпуклыми, со множеством граней, как у насекомых.
— Я брежу! — взвизгнул Хоскинс. — Это, наверно, от толчка! Я вижу четырех красных жукоглазых людей. И они идут прямо к нам!
— Я тоже вижу, — задохнулся Лестер. — Но они не могут быть правдой…
Четверо жукоглазых марсиан молча остановились в нескольких футах от путешественников. Потом один из марсиан заговорил.
— Алло, чужестранцы! — окликнул он пилотов на чистом английском языке. — Возвращаетесь в город?
Хоскинс взглянул на Лестера, Лестер взглянул на Хоскинса. Потом старший инженер тихо засмеялся:
— Это показывает, насколько легко при толчке появляются различные иллюзии. Ущипните меня, Бретт!
Лестер протянул руку и щипнул. У инженера вырвался крик боли. Четверо красных жукоглазых марсиан смотрели на них несколько удивленно.
— Что, собственно, с вами, ребята? — спросил тот, который уже говорил. — С ума сошли или что-нибудь такое?..
— Значит, он существует и говорит по-английски, — с трудом произнес Хоскинс. — Вы видите и слышите его, не правда ли?
— Да-да… — дрожащим голосом отозвался Лестер. — Я вижу и слышу, но все еще не верю.
— Разрешите, я представлюсь вам, ребята, — сказал первый из марсиан. — Меня зовут Ард Барк. А вас?
Они смущенно назвали себя. Марсианин представил своих спутников:
— А это мои друзья: Ок Вок, Зинг Зау и Му Ку.
— Как, черт возьми, вы ухитряетесь удерживать в памяти свои имена? — спросил Лестер, говоря первое, что пришло ему в закружившийся мозг.
Красное лицо Ард Барка потемнело.
— Нам было нелегко с именами, я должен сознаться… Почему, черт возьми, нас не назвали как-нибудь поудобней?
Ни Лестер, ни Хоскинс не смогли на это ответить. Ард Барк любезно продолжал:
— Вы выглядите новенькими, ребята. Когда вы появились?
— Только… только что, — неуверенно ответил Лестер.
— Я так и думал, — заметил Ард Барк. — Таких, как вы, я еще не видел. Ну ладно, пойдемте в город.
Хоскинс и Лестер были озадачены. Значит, это и был город — та расплывчатая темная масса на севере. С этого расстояния он казался разнородной смесью фантастически переменчивых архитектурных форм со всевозможными видами башенок, куполов и минаретов, выделявшихся на фоне медного неба.
Двое жителей Земли были так потрясены неожиданностями, что только через несколько минут сообразили, что идут с Ард Барком и другими красными марсианами к далекому городу, Хоскинс шепнул на ухо Лестеру:
— Это слишком много для нас: жукоглазые марсиане, потом город…
— С ума сойти! — воскликнул Хоскинс. — Здешние условия, должно быть, сбили прибор с толку. Это невозможно…
— Откроем дверь и посмотрим, — предложил Лестер.
Они попробовали чуточку приоткрыть дверь, готовясь снова захлопнуть ее, если воздух снаружи окажется непригодным для дыхания… Они были изумлены: прибор не солгал. Проникший в каюту воздух был теплым и показался им совершенно похожим на земной.
Они широко открыли дверь и вышли из ракеты на красный песок. Казалось, стоял погожий октябрьский день. Ласково светило медное Солнце, а ветерок был прохладным и свежим.
— Святители! Значит, астрономы ошиблись! — воскликнул Хоскинс.
— Но все равно, это невозможно. Как может такая маленькая планета, как Марс, сохранить свою атмосферу и как эта атмосфера может быть такой теплой?
Сделав несколько пробных шагов, они почувствовали, что шаги их стали странно плывущими и что двигаться они могут сравнительно легко. Но теплота и кислород продолжали оставаться загадкой.
— Клянусь, все это выше моих сил! — пробормотал Хоскинс. — По всем законам астрономии и физики Марс должен быть совершенно не таким…
Глаза у Лестера заблестели:
— Если здесь тепло и есть воздух и вода, то могут найтись, в конце концов, и живые существа!
Хоскинс фыркнул:
— Ваши жукоглазые марсиане из рассказов? Я думал, вы уже забыли об этих глупостях.
— А я все-таки надеюсь, что здесь должна быть какая-то жизнь, — настаивал Лестер. — Когда мы садились, я видел на севере большое черное пятно. Что бы это могло быть?
— Наверно, выход темных горных пород на поверхность, — предположил Хоскинс. — Мы можем посмотреть с вершины, вот с этого песчаного холма.
Они взобрались на красный гребень, скользя ногами по песку, и оцепенели от удивления при виде неожиданного сходства пейзажа с земным.
Стратонавты стояли на гребне песчаного холма. Отсюда им была видна пустыня на многие мили к северу в сторону черного пятна. Но они не смотрели туда. Их внимание было приковано к четырем фигурам, которые двигались по песку невдалеке от них. Фигуры остановились и направились к земным людям.
Четыре фигуры были, несомненно, человекообразными существами. Но они не походили на земных людей. У них была красная кожа, безволосый куполообразный череп, выпуклая грудная клетка и ходулеобразные ноги. На них красовались сложные доспехи из ремней, на груди у каждого висела блестящая металлическая трубка.
Лица их были похожи на земные, несмотря на красный цвет кожи и торжественно-безжизненное выражение. Но глаза совсем не земные. Эти глаза были выпуклыми, со множеством граней, как у насекомых.
— Я брежу! — взвизгнул Хоскинс. — Это, наверно, от толчка! Я вижу четырех красных жукоглазых людей. И они идут прямо к нам!
— Я тоже вижу, — задохнулся Лестер. — Но они не могут быть правдой…
Четверо жукоглазых марсиан молча остановились в нескольких футах от путешественников. Потом один из марсиан заговорил.
— Алло, чужестранцы! — окликнул он пилотов на чистом английском языке. — Возвращаетесь в город?
Хоскинс взглянул на Лестера, Лестер взглянул на Хоскинса. Потом старший инженер тихо засмеялся:
— Это показывает, насколько легко при толчке появляются различные иллюзии. Ущипните меня, Бретт!
Лестер протянул руку и щипнул. У инженера вырвался крик боли. Четверо красных жукоглазых марсиан смотрели на них несколько удивленно.
— Что, собственно, с вами, ребята? — спросил тот, который уже говорил. — С ума сошли или что-нибудь такое?..
— Значит, он существует и говорит по-английски, — с трудом произнес Хоскинс. — Вы видите и слышите его, не правда ли?
— Да-да… — дрожащим голосом отозвался Лестер. — Я вижу и слышу, но все еще не верю.
— Разрешите, я представлюсь вам, ребята, — сказал первый из марсиан. — Меня зовут Ард Барк. А вас?
Они смущенно назвали себя. Марсианин представил своих спутников:
— А это мои друзья: Ок Вок, Зинг Зау и Му Ку.
— Как, черт возьми, вы ухитряетесь удерживать в памяти свои имена? — спросил Лестер, говоря первое, что пришло ему в закружившийся мозг.
Красное лицо Ард Барка потемнело.
— Нам было нелегко с именами, я должен сознаться… Почему, черт возьми, нас не назвали как-нибудь поудобней?
Ни Лестер, ни Хоскинс не смогли на это ответить. Ард Барк любезно продолжал:
— Вы выглядите новенькими, ребята. Когда вы появились?
— Только… только что, — неуверенно ответил Лестер.
— Я так и думал, — заметил Ард Барк. — Таких, как вы, я еще не видел. Ну ладно, пойдемте в город.
Хоскинс и Лестер были озадачены. Значит, это и был город — та расплывчатая темная масса на севере. С этого расстояния он казался разнородной смесью фантастически переменчивых архитектурных форм со всевозможными видами башенок, куполов и минаретов, выделявшихся на фоне медного неба.
Двое жителей Земли были так потрясены неожиданностями, что только через несколько минут сообразили, что идут с Ард Барком и другими красными марсианами к далекому городу, Хоскинс шепнул на ухо Лестеру:
— Это слишком много для нас: жукоглазые марсиане, потом город…
 — Вы не думаете, что мы разбились при посадке и что все это что-нибудь вроде загробной жизни? — яростно спросил его Лестер.
Хоскинс запыхтел:
— Не похоже на загробную жизнь. Кроме того, будь я мертвым, мои нарывы не болели бы сейчас.
— Вы не думаете, что мы разбились при посадке и что все это что-нибудь вроде загробной жизни? — яростно спросил его Лестер.
Хоскинс запыхтел:
— Не похоже на загробную жизнь. Кроме того, будь я мертвым, мои нарывы не болели бы сейчас.
 Один из марсиан, это мог быть Ок Вок или Му Ку, указал вдаль. Прямо к ним мчалось чудовище, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Это было чешуйчатое зеленое существо величиною со слона, похожее на помесь дракона с крокодилом. Оно бежало на десяти коротких ножках. Его огромные разинутые челюсти открывали ряд страшных белых зубов. Ард Барк выхватил металлическую трубку, висевшую у него на поясе, и направил ее на чудовище. Из трубки вырвался блестящий белый луч и ударил в животное. Зеленое чудовище отпрянуло и умчалось.
— Что… что это такое? — дрожащим голосом спросил Хоскинс.
— Вульп, — проворчал Ард Барк, пряча металлическую трубку. — Проклятые твари!
— А каким это лучом вы прогнали его? — спросил Лестер.
— Ну, это считается разрушающим лучом, — ответил Ард Барк. — Собственно говоря, он ничего не разрушает. Это самый обыкновенный безвредный луч, но вульпы от него удирают.
Лестер удивленно взглянул на него:
— Но если это считается разрушающим лучом, почему он не действует?
Ард Барк фыркнул:
— Потому что парень, который его выдумал, ничего не понимал в науке. Как может человек, ничего не понимающий в науке, придумать разрушающий луч?
Ок Вок подтверждающе кивнул:
— Это верно. Мы пользуемся ими как сигналами. Это все, на что они годятся.
Лестер опять переглянулся с Хоскинсом. К этому времени они уже подходили к городу, и Ард Барк указал на большой аэродром на его окраине. Это был, очевидно, порт межпланетного сообщения. На его гладком асфальте стояли сотни межпланетных кораблей самых различных конструкций: одни были цилиндрические, другие стреловидные, торпедообразные или дискообразные. Вид у них был очень внушительный, но Ард Барк насмешливо фыркнул.
— Вот вам еще пример, — сказал он. — Мы получили столько межпланетных кораблей, но ни один из них не поднимается ни на вершок, потому что господа, которые их выдумывали, были недостаточно учеными, чтобы заставить их работать… Ну, вот мы вернулись в город. Вам куда теперь?
— Нам… Нам нужно осмотреться, — пробормотал Лестер.
Марсианская столица имела поистине поражающий вид. Она состояла из нескольких довольно больших городов, стоявших бок о бок, и все они были различного архитектурного стиля. В той части, куда они вошли, стояли черные каменные здания, приземистые и массивные, очень древнего вида. За ними Лестер мог заметить секцию из прекрасных прозрачных полусфер, окруженных куполами. Рядом была секция блестящих шестиугольных хромированных башен, дальше — секция высоких медных конусов, а еще дальше — секция построек, похожих на вертикальные серебряные цилиндры.
Еще удивительнее этого фантастического многообразия незнакомых архитектур был разношерстный характер толпы на улицах. А толпа здесь была большая. Но лишь часть ее состояла из красных жукоглазых людей вроде Ард Барка и его товарищей. Остальные принадлежали к различным видам, резко отличающимся друг от друга формой, размером и цветом.
Ошеломленные глаза Лестера различали марсиан, возвышающихся над толпой на двадцать футов и шестируких; марсиан, похожих на маленьких безруких комариков; марсиан четырехглазых, трехглазых и марсиан совсем безглазых, но со щупальцами, вырастающими из лица; синих, черных, желтых и фиолетовых марсиан, не говоря уже о марсианах неопределенных оттенков: анилино-красного, вишневого, бурого цвета и марсиан прозрачных.
Эта удивительная толпа носила самые разнообразные наряды, от простого набора ремней, как у жукоглазых красных марсиан, до шелковых одеяний, блестящих, как драгоценные камни. У многих были мечи или кинжалы, но большинство, по-видимому, было вооружено лучевыми трубками или ружьями.
Один из марсиан, это мог быть Ок Вок или Му Ку, указал вдаль. Прямо к ним мчалось чудовище, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Это было чешуйчатое зеленое существо величиною со слона, похожее на помесь дракона с крокодилом. Оно бежало на десяти коротких ножках. Его огромные разинутые челюсти открывали ряд страшных белых зубов. Ард Барк выхватил металлическую трубку, висевшую у него на поясе, и направил ее на чудовище. Из трубки вырвался блестящий белый луч и ударил в животное. Зеленое чудовище отпрянуло и умчалось.
— Что… что это такое? — дрожащим голосом спросил Хоскинс.
— Вульп, — проворчал Ард Барк, пряча металлическую трубку. — Проклятые твари!
— А каким это лучом вы прогнали его? — спросил Лестер.
— Ну, это считается разрушающим лучом, — ответил Ард Барк. — Собственно говоря, он ничего не разрушает. Это самый обыкновенный безвредный луч, но вульпы от него удирают.
Лестер удивленно взглянул на него:
— Но если это считается разрушающим лучом, почему он не действует?
Ард Барк фыркнул:
— Потому что парень, который его выдумал, ничего не понимал в науке. Как может человек, ничего не понимающий в науке, придумать разрушающий луч?
Ок Вок подтверждающе кивнул:
— Это верно. Мы пользуемся ими как сигналами. Это все, на что они годятся.
Лестер опять переглянулся с Хоскинсом. К этому времени они уже подходили к городу, и Ард Барк указал на большой аэродром на его окраине. Это был, очевидно, порт межпланетного сообщения. На его гладком асфальте стояли сотни межпланетных кораблей самых различных конструкций: одни были цилиндрические, другие стреловидные, торпедообразные или дискообразные. Вид у них был очень внушительный, но Ард Барк насмешливо фыркнул.
— Вот вам еще пример, — сказал он. — Мы получили столько межпланетных кораблей, но ни один из них не поднимается ни на вершок, потому что господа, которые их выдумывали, были недостаточно учеными, чтобы заставить их работать… Ну, вот мы вернулись в город. Вам куда теперь?
— Нам… Нам нужно осмотреться, — пробормотал Лестер.
Марсианская столица имела поистине поражающий вид. Она состояла из нескольких довольно больших городов, стоявших бок о бок, и все они были различного архитектурного стиля. В той части, куда они вошли, стояли черные каменные здания, приземистые и массивные, очень древнего вида. За ними Лестер мог заметить секцию из прекрасных прозрачных полусфер, окруженных куполами. Рядом была секция блестящих шестиугольных хромированных башен, дальше — секция высоких медных конусов, а еще дальше — секция построек, похожих на вертикальные серебряные цилиндры.
Еще удивительнее этого фантастического многообразия незнакомых архитектур был разношерстный характер толпы на улицах. А толпа здесь была большая. Но лишь часть ее состояла из красных жукоглазых людей вроде Ард Барка и его товарищей. Остальные принадлежали к различным видам, резко отличающимся друг от друга формой, размером и цветом.
Ошеломленные глаза Лестера различали марсиан, возвышающихся над толпой на двадцать футов и шестируких; марсиан, похожих на маленьких безруких комариков; марсиан четырехглазых, трехглазых и марсиан совсем безглазых, но со щупальцами, вырастающими из лица; синих, черных, желтых и фиолетовых марсиан, не говоря уже о марсианах неопределенных оттенков: анилино-красного, вишневого, бурого цвета и марсиан прозрачных.
Эта удивительная толпа носила самые разнообразные наряды, от простого набора ремней, как у жукоглазых красных марсиан, до шелковых одеяний, блестящих, как драгоценные камни. У многих были мечи или кинжалы, но большинство, по-видимому, было вооружено лучевыми трубками или ружьями.
 Удивительнее всего было, что женщины, все без исключения, были гораздо привлекательнее мужчин. Действительно, Лестер заметил, что любая марсианка, бурая, зеленая, синяя или красная, могла быть образцом земной красоты.
Хоскинс, разинув рот, смотрел кругом:
— Откуда все они явились?
Ард Барк поглядел на него:
— Что вы хотите сказать? Они появились так же, как и вы.
— Не понимаю, — пробормотал Хоскинс. — Ничего не понимаю! Не хочу понимать. Мне одного хочется: вернуться на Землю! Идемте, Лестер.
Он схватил Лестера за руки. Но тут вмешался Ард Барк. Высокий красный жукоглазый человек смотрел на них с неожиданным подозрением.
— Объяснитесь, — продребезжал Ард Барк. — Вы хотите сказать, что вы двое не созданы здесь, как все остальные? Что вы хотите вернуться на Землю?
— Ну да, — вскричал Лестер. Торопливо и гордо он объяснил: — Мы были слишком поражены, чтобы сказать вам сразу. Но мы — первые люди с Земли, посетившие эту планету.
— Люди с Земли? — вскричал Ард Барк. Глаза его горели, а голос поднялся до визга: — ЛЮДИ С ЗЕМЛИ!
Над пестрой, фантастической толпой, наполнявшей улицы, как бы поднялась внезапная буря. Зеленые, красные, синие и желтые марсиане столпились вокруг двух путешественников в неожиданно яростном возбуждении.
— Вы уверены, вы совершенно уверены, что вы оба явились с Земли? — спросил Ард Барк со страстным отчаянием.
— Конечно, — гордо ответил Лестер. Он наконец нашел возможность произнести несколько исторических слов. — Друзья с Марса! — начал он. — При таком непредвиденном случае…
— Они с Земли! Держи их, ребята! — завопил Ок Вок.
И с оглушительным ревом вся толпа кинулась на Лестера и Хоскинса.
Сбитые с ног, отбиваясь от множества рук, протянувшихся схватить их, Лестер и его товарищ спаслись от неминуемой гибели только потому, что нападавших было слишком много. Они забарахтались, стараясь выбраться из толпы, и услышали громовый голос Ард Барка, унимавшего толпу:
— Погодите, ребята! Не нужно убивать сейчас же. Отведем их к Суперам. Пусть Суперы придумают, как лучше казнить землян.
Лестера и Хоскинса грубо подняли на ноги. Они ужаснулись, увидев зловещий блеск в глазах этой марсианской толпы.
— Не пробуйте удрать, вы оба! — резко прикрикнул на них Ард Барк. — Вы сейчас отправитесь к Суперам. Они назначат вам самую жестокую кару за ваши преступления.
— Какие преступления? — слабо запротестовал Хоскинс. — Что мы вам сделали?
— Как будто вы не знаете! — яростно возразил Ард Барк. — Это вы, грязные люди Земли, создали нас, и вы сами это знаете!
— Создали вас? — изумился Лестер. — О чем, во имя неба, вы говорите?
— Теперь я знаю, — заявил убедительно Хоскинс. — Мы лежим в ракете без сознания. Нарыв или не нарыв — это мне только снится…
Их потащили сквозь враждебную, бешеную толпу марсиан всех размеров, форм и оттенков. Руки, когти, щупальца и кинжалы протягивались к ним со всех сторон. Ненависть к ним была, казалось, всеобщей.
Ард Барк и его товарищи тащили землян все дальше, через дико сменявшиеся части удивительного города, пока не достигли секции, состоящей из огромных золотых пирамид. Там их втащили в самую большую пирамиду, а толпа последовала за ними.
Внутри были огромные машины, сияющие радуги, целый хаос научного оборудования. Между машинами двигались, производя опыты, или сидели неподвижно, наблюдая, марсиане во много раз уродливее всех тех, кого земляне до сих пор видели, — похожие на осьминогов твари с огромными неподвижными глазами. У каждого было восемь пар щупальцев.
— Это и есть Суперы? — вскричал Лестер, отступая.
— Они самые! Это суперученые марсиане, — ответил Ард Барк. — И вы это знаете. Ступайте. Вот Аган, верховный ученый.
Их подтолкнули к осьминогообразному существу, которое посмотрело на них неподвижными глазами, а потом проговорило свистящим голосом:
— Моя телепатическая сила сразу же показала мне, что это жители Земли, высадившиеся на нашей планете. Одного зовут Лестер, а другого — Холлинс…
— Хоскинс… — неуверенно поправил инженер.
Осьминогообразный Аган окинул его гневным взглядом:
— Все равно похоже. В конце концов, даже телепатия может ошибиться.
Лестер не сводил глаз с этого создания:
— Суперученые марсиане с телом, как у осьминогов… Как раз как в том научно-фантастическом рассказе, который я читал…
Аган перебил своим кисло-писклявым голосом:
— Да. Этот-то рассказ и виноват в том, что я здесь…
Челюсть у Хоскинса отвисла.
— Вы хотите сказать, что вы, осьминогие люди, появились здесь потому, что там, на Земле, был написан рассказ о марсианах-осьминогах? Что этот рассказ создал вас?
— Конечно, — огрызнулся осьминог. — Вас это удивляет?
Хоскинс дико засмеялся:
— О нет. Это нас нисколько не удивляет. Ничто в этом невероятном мире не удивляет нас больше.
— Заткнитесь, Хоскинс! — приказал Лестер. Он серьезно обратился к Агану: — Объяснимся. Как, скажите во имя всего, рассказ, написанный о марсианах-осьминогах, может создать марсиан-осьминогов здесь, за сорок миллионов миль?
— Я вижу, вы мало знаете о силе воли, — ответил Аган, ловко почесывая свой луковицеобразный череп кончиком щупальца. — Это сделал не только написанный о нас рассказ — это сделал тот факт, что сотни тысяч людей читали этот рассказ и, читая, воображали себе нас.
— Но я не вижу…
— Это очень просто, — нетерпеливо перебил осьминог. — Мысленные излучения — определенная физическая сила, столь же материальная, как и радиоволны, хотя и совершенно другого свойства. При достаточной массовости и интенсивности эти высокочастотные мысленные волны могут сочетать свободные атомы в новую форму. — Он поучительно помахал концом щупальца. — Когда вы упорно думаете о каком-нибудь предмете, вы можете мысленно увидеть его. Правда? Это потому, что излучения вашего мозга на миг соединили свободные атомы в туманную и мгновенную форму того, о чем вы думаете. Форма эта держится в мозгу только мгновение, а потом исчезает.
Но когда многие тысячи людей представляют себе один и тот же предмет, их соединенные мысленные излучения настолько сильны, что могут сложить атомы в постоянную форму. Вот почему, когда тысячи земных людей читают о людях-осьминогах и воображают их, то их мысленные излучения действуют на свободные атомы этой планеты и сочетают их в живые существа, такие, какие себе представляли эти читатели, — в нас.
Лестер попытался возразить:
Удивительнее всего было, что женщины, все без исключения, были гораздо привлекательнее мужчин. Действительно, Лестер заметил, что любая марсианка, бурая, зеленая, синяя или красная, могла быть образцом земной красоты.
Хоскинс, разинув рот, смотрел кругом:
— Откуда все они явились?
Ард Барк поглядел на него:
— Что вы хотите сказать? Они появились так же, как и вы.
— Не понимаю, — пробормотал Хоскинс. — Ничего не понимаю! Не хочу понимать. Мне одного хочется: вернуться на Землю! Идемте, Лестер.
Он схватил Лестера за руки. Но тут вмешался Ард Барк. Высокий красный жукоглазый человек смотрел на них с неожиданным подозрением.
— Объяснитесь, — продребезжал Ард Барк. — Вы хотите сказать, что вы двое не созданы здесь, как все остальные? Что вы хотите вернуться на Землю?
— Ну да, — вскричал Лестер. Торопливо и гордо он объяснил: — Мы были слишком поражены, чтобы сказать вам сразу. Но мы — первые люди с Земли, посетившие эту планету.
— Люди с Земли? — вскричал Ард Барк. Глаза его горели, а голос поднялся до визга: — ЛЮДИ С ЗЕМЛИ!
Над пестрой, фантастической толпой, наполнявшей улицы, как бы поднялась внезапная буря. Зеленые, красные, синие и желтые марсиане столпились вокруг двух путешественников в неожиданно яростном возбуждении.
— Вы уверены, вы совершенно уверены, что вы оба явились с Земли? — спросил Ард Барк со страстным отчаянием.
— Конечно, — гордо ответил Лестер. Он наконец нашел возможность произнести несколько исторических слов. — Друзья с Марса! — начал он. — При таком непредвиденном случае…
— Они с Земли! Держи их, ребята! — завопил Ок Вок.
И с оглушительным ревом вся толпа кинулась на Лестера и Хоскинса.
Сбитые с ног, отбиваясь от множества рук, протянувшихся схватить их, Лестер и его товарищ спаслись от неминуемой гибели только потому, что нападавших было слишком много. Они забарахтались, стараясь выбраться из толпы, и услышали громовый голос Ард Барка, унимавшего толпу:
— Погодите, ребята! Не нужно убивать сейчас же. Отведем их к Суперам. Пусть Суперы придумают, как лучше казнить землян.
Лестера и Хоскинса грубо подняли на ноги. Они ужаснулись, увидев зловещий блеск в глазах этой марсианской толпы.
— Не пробуйте удрать, вы оба! — резко прикрикнул на них Ард Барк. — Вы сейчас отправитесь к Суперам. Они назначат вам самую жестокую кару за ваши преступления.
— Какие преступления? — слабо запротестовал Хоскинс. — Что мы вам сделали?
— Как будто вы не знаете! — яростно возразил Ард Барк. — Это вы, грязные люди Земли, создали нас, и вы сами это знаете!
— Создали вас? — изумился Лестер. — О чем, во имя неба, вы говорите?
— Теперь я знаю, — заявил убедительно Хоскинс. — Мы лежим в ракете без сознания. Нарыв или не нарыв — это мне только снится…
Их потащили сквозь враждебную, бешеную толпу марсиан всех размеров, форм и оттенков. Руки, когти, щупальца и кинжалы протягивались к ним со всех сторон. Ненависть к ним была, казалось, всеобщей.
Ард Барк и его товарищи тащили землян все дальше, через дико сменявшиеся части удивительного города, пока не достигли секции, состоящей из огромных золотых пирамид. Там их втащили в самую большую пирамиду, а толпа последовала за ними.
Внутри были огромные машины, сияющие радуги, целый хаос научного оборудования. Между машинами двигались, производя опыты, или сидели неподвижно, наблюдая, марсиане во много раз уродливее всех тех, кого земляне до сих пор видели, — похожие на осьминогов твари с огромными неподвижными глазами. У каждого было восемь пар щупальцев.
— Это и есть Суперы? — вскричал Лестер, отступая.
— Они самые! Это суперученые марсиане, — ответил Ард Барк. — И вы это знаете. Ступайте. Вот Аган, верховный ученый.
Их подтолкнули к осьминогообразному существу, которое посмотрело на них неподвижными глазами, а потом проговорило свистящим голосом:
— Моя телепатическая сила сразу же показала мне, что это жители Земли, высадившиеся на нашей планете. Одного зовут Лестер, а другого — Холлинс…
— Хоскинс… — неуверенно поправил инженер.
Осьминогообразный Аган окинул его гневным взглядом:
— Все равно похоже. В конце концов, даже телепатия может ошибиться.
Лестер не сводил глаз с этого создания:
— Суперученые марсиане с телом, как у осьминогов… Как раз как в том научно-фантастическом рассказе, который я читал…
Аган перебил своим кисло-писклявым голосом:
— Да. Этот-то рассказ и виноват в том, что я здесь…
Челюсть у Хоскинса отвисла.
— Вы хотите сказать, что вы, осьминогие люди, появились здесь потому, что там, на Земле, был написан рассказ о марсианах-осьминогах? Что этот рассказ создал вас?
— Конечно, — огрызнулся осьминог. — Вас это удивляет?
Хоскинс дико засмеялся:
— О нет. Это нас нисколько не удивляет. Ничто в этом невероятном мире не удивляет нас больше.
— Заткнитесь, Хоскинс! — приказал Лестер. Он серьезно обратился к Агану: — Объяснимся. Как, скажите во имя всего, рассказ, написанный о марсианах-осьминогах, может создать марсиан-осьминогов здесь, за сорок миллионов миль?
— Я вижу, вы мало знаете о силе воли, — ответил Аган, ловко почесывая свой луковицеобразный череп кончиком щупальца. — Это сделал не только написанный о нас рассказ — это сделал тот факт, что сотни тысяч людей читали этот рассказ и, читая, воображали себе нас.
— Но я не вижу…
— Это очень просто, — нетерпеливо перебил осьминог. — Мысленные излучения — определенная физическая сила, столь же материальная, как и радиоволны, хотя и совершенно другого свойства. При достаточной массовости и интенсивности эти высокочастотные мысленные волны могут сочетать свободные атомы в новую форму. — Он поучительно помахал концом щупальца. — Когда вы упорно думаете о каком-нибудь предмете, вы можете мысленно увидеть его. Правда? Это потому, что излучения вашего мозга на миг соединили свободные атомы в туманную и мгновенную форму того, о чем вы думаете. Форма эта держится в мозгу только мгновение, а потом исчезает.
Но когда многие тысячи людей представляют себе один и тот же предмет, их соединенные мысленные излучения настолько сильны, что могут сложить атомы в постоянную форму. Вот почему, когда тысячи земных людей читают о людях-осьминогах и воображают их, то их мысленные излучения действуют на свободные атомы этой планеты и сочетают их в живые существа, такие, какие себе представляли эти читатели, — в нас.
Лестер попытался возразить:
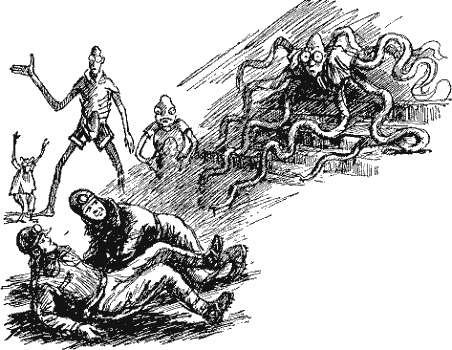 — Но почему влияние соединенных мысленных излучений сказалось не на Земле, где находятся все читатели, а именно на Марсе?
— Очень просто, — объяснил Аган. — Мысленные излучения следуют по определенным силовым линиям, вроде магнитных. Линии мысленных сил идут от центра к периферии Солнечной системы, от Земли к Марсу — так что все те странные и нелепые марсиане, которых выдумывают писатели на Земле, автоматически воссозданы здесь из свободных атомов этой планеты.
Лестер взглянул на Ард Барка и на остальных разгневанных жукоглазых людей:
— Значит, все эти различные марсианские расы…
— Все они выдуманы в рассказах земных авторов, — ответил Аган. — И каждый раз, когда рассказ прочтен и сотни читателей вообразили себе его, описанные в нем марсиане возникают здесь… Каждый автор, выдумывая своих марсиан, описывает и их город. Каждый город отличается от других. Вот почему у нас такойбеспорядок, так много типов городов и различных видов марсиан.
— Так вот, значит, почему Марс так дьявольски переполнен сейчас! — воскликнул гневно Ард Барк, сверкнув на Лестера и Хоскинса своими выпуклыми глазами. — И все это по вашей вине, люди с Земли! Не пиши вы столько дурацких рассказов, у нас никогда не было бы такой кутерьмы… — Жукоглазый марсианин указал на гневную толпу позади себя. — Посмотрите на эту толпу, на марсиан всех цветов, размеров и форм! Почему, черт возьми, ваши земные писатели не могут удовольствоваться только одним типом марсиан в своих рассказах? Тогда здесь все было бы в порядке. Но нет, каждый проклятый писака должен выдумать еще более дьявольский сорт марсиан! И на планете становится так тесно от всяких странных типов, что никогда не знаешь о какой-нибудь новой твари: страшное ли это чудовище или только новый сорт марсиан?
Ок Вок, стоявший рядом с Ард Барком, добавил и свое яростное обвинение:
— И почему, черт возьми, вы даете нам такие дурацкие имена? Вот смотрите на меня. Ок Вок — как вам нравится такое имя? Оно звучит, как предсмертная икота.
Лестер сделал слабую попытку защищаться:
— Но писатели, когда закручивают все эти истории, и читатели, когда читают их, никогда не воображают, что создают здесь вас…
— То-то и плохо! Вы, кажется, там, на Земле, ничего не знаете! — фыркнул Аган. — Возьмите нас, например. Мы описаны как сверхученые марсиане с огромными мозгами и непревзойденными научными познаниями. Но когда мы появились здесь, мы не смыслили в науках ни аза!
— Как так? — изумился Лестер. — Если автор описал вас как обладающих большими научными познаниями…
— Ах! Но сам-то автор не понимал в науках ровно ничего, — возразил Аган. — Он толком не мог сказать о наших научных возможностях, потому что сам был таким круглым невеждой, какого можно только себе представить!
Хоскинс оглядел зал с машинами и осьминогими экспериментаторами:
— Но вы, кажется, несколько смыслите в науках?
— Это только потому, — ответил Аган, — что у нас, к счастью, большие мозги. Поэтому мы научились сами. Все наши знания мы получили именно так. Ваш автор никогда не смог бы дать их нам, так как я сомневаюсь, чтобы он знал разницу между нейтроном и новой звездой.
— В том-то и дело, — мрачно согласился Ард Барк, — что они ничего не смыслят в науках, так что все сверхнаучные штуки, которые они выдумывают, не могут работать. Как разрушительные лучи, которыми мы якобы обладаем: они и мухи не убьют! А ваши чудесные межпланетные корабли? Они так непрактичны, что не родился еще человек, способный поднять их в воздух.
Лестера осветила внезапная догадка:
— Вы, наверно, на многих языках разговариваете?
Аган сделал утвердительный жест:
— Да, нам известны языки всех земных авторов, пишущих романы и рассказы о Марсе. Эти языки мы знаем.
— Кроме шестиглазых людей, — вставил Ард Барк.
— Верно, — согласился осьминог и обратился к Лестеру: — Кажется, на Земле был автор, которому захотелось быть реалистичным. Вместо того, чтобы заставить своих марсиан, желтых и шестиглазых, говорить по-английски, он заставил их лопотать что-то вроде: “квампс умп гуху” и прочую чепуху. Так что все эти желтые бедняги слоняются здесь, бормоча друг другу “квампс умп гуху”. Они сами не понимают, что это значит, да и никто не знает.
Ард Барк сделал нетерпеливое движение:
— Это все ни к чему, Аган. Весь вопрос в том, что делать с этими двумя людьми с Земли. Как их казнить? Нужно придумать что-нибудь оригинальное и хорошее.
Зинг Зау, второй из жукоглазых, выдвинул предложение:
— Почему бы не отдать их десятиногим пурпурным людям? Эти пурпурные парни — знатоки в пытках. Все их время уходит на кошмарные выдумки, угрозы и злобные взгляды друг на друга. Очевидно, автор был не в себе, когда придумывал их.
Лестер задрожал. Было безумием думать, что его убьют марсиане, созданные мысленными силами. Но эти твари, несмотря на свое странное происхождение, были такими же реальными, как и он сам, и вполне могли сделать это.
— Зачем вам убивать нас? — закричал он. — В конце концов, вы должны быть благодарны земным людям: не будь рассказов, и вас не было бы здесь!
У Ард Барка вырвался гневный возглас:
— Но почему, черт возьми, вы делаете нас такими страшными уродами? Зачем вам понадобилось давать нам эти жучьи глаза? Не думаю, чтобы вам самим понравилось ходить с глазами, как у жуков!
— Да и вы бы не порадовались, имея восемь щупальцев вместо приличных рук и ног, — с досадой добавил Аган. — Как вы думаете, шутка ли ходить на щупальцах? Попробовали бы сами!..
— Да, а как насчет дьявольской погоды, которую вы делаете здесь? — с упреком воскликнул Ок Вок.
— Погоды? — повторил Лестер в недоумении. — Боже мой! Неужели вы хотите сказать, что и погода следует историям, которые пишутся на Земле?
— Ну да! Мысленные силы легко сдвигают свободные атомы воздуха, — объяснил Аган. — Мы никогда не знаем, какой погоды ожидать в данную минуту. Большинство ваших авторов описывают климат Марса как довольно приличный: теплый и солнечный днем, но слишком холодный ночью. Но вдруг кому-нибудь из них приспичит держаться научной точности, и его рассказ делает Марс таким холодным, каким он должен быть по словам астрономов. Тогда мы чуть не умираем от холода.
— А каналы то появляются, то исчезают, то снова появляются. Очень плохо… — прибавил Ард Барк.
— Значит, каналы есть? — вскричал Хоскинс.
— Но почему влияние соединенных мысленных излучений сказалось не на Земле, где находятся все читатели, а именно на Марсе?
— Очень просто, — объяснил Аган. — Мысленные излучения следуют по определенным силовым линиям, вроде магнитных. Линии мысленных сил идут от центра к периферии Солнечной системы, от Земли к Марсу — так что все те странные и нелепые марсиане, которых выдумывают писатели на Земле, автоматически воссозданы здесь из свободных атомов этой планеты.
Лестер взглянул на Ард Барка и на остальных разгневанных жукоглазых людей:
— Значит, все эти различные марсианские расы…
— Все они выдуманы в рассказах земных авторов, — ответил Аган. — И каждый раз, когда рассказ прочтен и сотни читателей вообразили себе его, описанные в нем марсиане возникают здесь… Каждый автор, выдумывая своих марсиан, описывает и их город. Каждый город отличается от других. Вот почему у нас такойбеспорядок, так много типов городов и различных видов марсиан.
— Так вот, значит, почему Марс так дьявольски переполнен сейчас! — воскликнул гневно Ард Барк, сверкнув на Лестера и Хоскинса своими выпуклыми глазами. — И все это по вашей вине, люди с Земли! Не пиши вы столько дурацких рассказов, у нас никогда не было бы такой кутерьмы… — Жукоглазый марсианин указал на гневную толпу позади себя. — Посмотрите на эту толпу, на марсиан всех цветов, размеров и форм! Почему, черт возьми, ваши земные писатели не могут удовольствоваться только одним типом марсиан в своих рассказах? Тогда здесь все было бы в порядке. Но нет, каждый проклятый писака должен выдумать еще более дьявольский сорт марсиан! И на планете становится так тесно от всяких странных типов, что никогда не знаешь о какой-нибудь новой твари: страшное ли это чудовище или только новый сорт марсиан?
Ок Вок, стоявший рядом с Ард Барком, добавил и свое яростное обвинение:
— И почему, черт возьми, вы даете нам такие дурацкие имена? Вот смотрите на меня. Ок Вок — как вам нравится такое имя? Оно звучит, как предсмертная икота.
Лестер сделал слабую попытку защищаться:
— Но писатели, когда закручивают все эти истории, и читатели, когда читают их, никогда не воображают, что создают здесь вас…
— То-то и плохо! Вы, кажется, там, на Земле, ничего не знаете! — фыркнул Аган. — Возьмите нас, например. Мы описаны как сверхученые марсиане с огромными мозгами и непревзойденными научными познаниями. Но когда мы появились здесь, мы не смыслили в науках ни аза!
— Как так? — изумился Лестер. — Если автор описал вас как обладающих большими научными познаниями…
— Ах! Но сам-то автор не понимал в науках ровно ничего, — возразил Аган. — Он толком не мог сказать о наших научных возможностях, потому что сам был таким круглым невеждой, какого можно только себе представить!
Хоскинс оглядел зал с машинами и осьминогими экспериментаторами:
— Но вы, кажется, несколько смыслите в науках?
— Это только потому, — ответил Аган, — что у нас, к счастью, большие мозги. Поэтому мы научились сами. Все наши знания мы получили именно так. Ваш автор никогда не смог бы дать их нам, так как я сомневаюсь, чтобы он знал разницу между нейтроном и новой звездой.
— В том-то и дело, — мрачно согласился Ард Барк, — что они ничего не смыслят в науках, так что все сверхнаучные штуки, которые они выдумывают, не могут работать. Как разрушительные лучи, которыми мы якобы обладаем: они и мухи не убьют! А ваши чудесные межпланетные корабли? Они так непрактичны, что не родился еще человек, способный поднять их в воздух.
Лестера осветила внезапная догадка:
— Вы, наверно, на многих языках разговариваете?
Аган сделал утвердительный жест:
— Да, нам известны языки всех земных авторов, пишущих романы и рассказы о Марсе. Эти языки мы знаем.
— Кроме шестиглазых людей, — вставил Ард Барк.
— Верно, — согласился осьминог и обратился к Лестеру: — Кажется, на Земле был автор, которому захотелось быть реалистичным. Вместо того, чтобы заставить своих марсиан, желтых и шестиглазых, говорить по-английски, он заставил их лопотать что-то вроде: “квампс умп гуху” и прочую чепуху. Так что все эти желтые бедняги слоняются здесь, бормоча друг другу “квампс умп гуху”. Они сами не понимают, что это значит, да и никто не знает.
Ард Барк сделал нетерпеливое движение:
— Это все ни к чему, Аган. Весь вопрос в том, что делать с этими двумя людьми с Земли. Как их казнить? Нужно придумать что-нибудь оригинальное и хорошее.
Зинг Зау, второй из жукоглазых, выдвинул предложение:
— Почему бы не отдать их десятиногим пурпурным людям? Эти пурпурные парни — знатоки в пытках. Все их время уходит на кошмарные выдумки, угрозы и злобные взгляды друг на друга. Очевидно, автор был не в себе, когда придумывал их.
Лестер задрожал. Было безумием думать, что его убьют марсиане, созданные мысленными силами. Но эти твари, несмотря на свое странное происхождение, были такими же реальными, как и он сам, и вполне могли сделать это.
— Зачем вам убивать нас? — закричал он. — В конце концов, вы должны быть благодарны земным людям: не будь рассказов, и вас не было бы здесь!
У Ард Барка вырвался гневный возглас:
— Но почему, черт возьми, вы делаете нас такими страшными уродами? Зачем вам понадобилось давать нам эти жучьи глаза? Не думаю, чтобы вам самим понравилось ходить с глазами, как у жуков!
— Да и вы бы не порадовались, имея восемь щупальцев вместо приличных рук и ног, — с досадой добавил Аган. — Как вы думаете, шутка ли ходить на щупальцах? Попробовали бы сами!..
— Да, а как насчет дьявольской погоды, которую вы делаете здесь? — с упреком воскликнул Ок Вок.
— Погоды? — повторил Лестер в недоумении. — Боже мой! Неужели вы хотите сказать, что и погода следует историям, которые пишутся на Земле?
— Ну да! Мысленные силы легко сдвигают свободные атомы воздуха, — объяснил Аган. — Мы никогда не знаем, какой погоды ожидать в данную минуту. Большинство ваших авторов описывают климат Марса как довольно приличный: теплый и солнечный днем, но слишком холодный ночью. Но вдруг кому-нибудь из них приспичит держаться научной точности, и его рассказ делает Марс таким холодным, каким он должен быть по словам астрономов. Тогда мы чуть не умираем от холода.
— А каналы то появляются, то исчезают, то снова появляются. Очень плохо… — прибавил Ард Барк.
— Значит, каналы есть? — вскричал Хоскинс.
 — Иногда есть, иногда нет. Очевидно, в одних рассказах есть каналы, а в других нет. То, что они появляются и исчезают, прямо невыносимо!
Говоря о своих горестях, жукоглазый человек, казалось, взвинтил себя до бешенства.
— Ну что же, Аган? — свирепо спросил он. — Отдать, что ли, этих парней пурпурным людям?
Из толпы, наполнявшей здание, поднялся одобрительный гул. Синие, зеленые и розовые марсиане замахали руками, ногами и щупальцами в знак согласия.
— Погодите! — вскричал Лестер. — Давайте договоримся. Предположим, мы вернемся на Землю и там объясним положение. Может быть, нам удастся принять в рассказах один тип марсиан, один тип погоды и так далее…
Его предложение было сразу же отвергнуто Ард Барком:
— Вам это никогда не удастся. Издатели требуют все новых рассказов о Марсе, все новых сортов марсиан и всяких чудищ. И так в каждом рассказе!
Ок Вок с жаром накинулся на землян:
— Как жаль, что вы оба не из тех, кто пишет эти проклятые рассказы! Хотел бы я добраться до того парня, который дал мне мое имя! Я бы так оквокнул его!
Кто-то из толпы взвизгнул:
— Пурпурные идут!
Лестер и Хоскинс отшатнулись, увидев ужасную группу, ввалившуюся в зал с жадным фырканьем. Это были пурпурные существа с десятью конечностями вдоль туловища, как у сороконожки, служившими им и руками и ногами. На конической голове у каждого сверкал единственный глаз, похожий на блюдце. Эти существа размахивали металлическими ножами, скальпелями и щипцами, имевшими зловещий вид.
— Давайте их, — прошипел предводитель пурпурных, устремляя на Лестера и Хоскинса голодный взгляд. — Ребята, и помучаем же мы их! Это первый случай показать, на что мы способны.
Лестер побледнел.
— За что вы хотите мучить нас? — вскричал он, обращаясь к ужасному созданию.
Пурпурный предводитель пожал десятью плечами:
— Такая уж мы порода марсиан, дружок. Это не наша вина. Писака, который выдумал нас, описал нас как мастеров шикарно помучить всякого земного мужчину или женщину, которые попадутся нам в руки. — Помолчав, он спросил почти с надеждой: — А не захватили ли вы какой-нибудь прекрасной белокурой профессорской дочки? Нет? Очень жаль. Мы могли бы продемонстрировать кое-какие любительские пытки на прекрасной блондинке…
Пурпурные создания кинулись на Лестера и Хоскинса.
— Это неправда! — закричал Хоскинс. — Я вам говорю: это нам снится!
Но пять пар схвативших его рук не были сном. Землян уже тащили к шумевшей толпе…
— Погодите минуту! — раздался позади них визгливый голос Агана.
Осьминогий марсианский сверхученый поднимался со своего сиденья. Наступила жуткая минута ожидания, пока он распутывал три своих щупальца, спутавшихся в клубок.
— Проклятые щупальца, вечно подводят меня! — с досадой ворчал он.
Шатаясь, он подполз на своих странных конечностях к пурпурным людям, державшим Лестера и Хоскинса.
— У меня есть идея относительно этих землян, — сказал он. — Мы можем использовать их, чтобы прекратить земные излучения раз и навсегда.
Все марсианские лица в толпе повернулись к Агану.
— Что же это за идея? — спросил Ард Барк.
Пискливый голос Агана стал еще громче:
— Как вы, конечно, помните, гипповидный стазис нейронной сети головного мозга можно прочесть экстраэлектромагнитным лучом, который…
— Хватит! — нетерпеливо перебил Ард Барк. — Что это значит: “как вы, конечно, помните”? Как мы это можем помнить, когда мы этого совсем не знаем? Вы же знаете, что мы не знаем!
— Вы бы могли дать мне случай объяснить мою идею научно! — обиделся Аган. — Во всяком случае, суть вот в чем: мы, Суперы, можем читать в мозгу человека, ввергнутого в гипнотическое состояние, и изучить таким образом все, что этот человек знает. Изучим содержимое мозгов этих субъектов. Они, очевидно, ученые с большими познаниями. Мы можем получить из их мозга такие сведения о Земле, которых не могли бы добиться никаким другим путем.
— А на что это нам? — грубо спросил Ард Барк.
— В этом и заключена моя идея, — ответил Аган. — Если мы будем знать о Земле больше, чем сейчас, то сможем построить машину, которая остановила бы поток мысленных силовых волн с Земли к Марсу.
Наступило молчание. Толпа обдумывала. Пурпурный человек, державший Лестера, отважился прошипеть:
— А потом мы сможем начать мучить их?
Лестер решил использовать последний шанс.
— Мы не позволим вам! — громко сказал он Агану. — Мы будем противиться гипнозу и помешаем вам, если вы не поклянетесь освободить нас и дать возможность вернуться на Землю.
Из пестрой марсианской толпы поднялся протестующий гул:
— Не отпускайте их! Это для нас единственный случай отомстить землянам за все!
Но Аган спокойно возразил:
— А что, если отпустить их? Разве это не лучше, чем постоянно страдать от земных авторов и от их рассказов? Разве нам нужны новые марсиане разного вида? Разве вы хотите, чтобы погода вечно менялась, как сейчас? Это для нас случай прекратить все неприятности раз и навсегда.
Его доводы убедили всех. Неохотно, но марсиане согласились, хотя пурпурные отчаянно настаивали на пытках.
— Соглашайтесь, и мы позволим вам вернуться к вашей ракете, — обратился Аган к Лестеру и Хоскинсу. — Вам нужно только войти вот в этот аппарат и настроить свой мозг на подчинение.
— Пойдемте, Хоскинс, — прошептал Лестер. — Это наш единственный шанс выбраться с сумасшедшей планеты.
Они осторожно вошли в машину. Из большой линзы на них сверху полился голубой свет. Лестер почувствовал, что его мозг затмевается под влиянием какой-то силы. Он потерял сознание. Очнувшись, он увидел Хоскинса и себя все еще в машине. Но поток света был выключен. Аган и другие осьминогие сверхученые потрясали пачкой тонких металлических листков, покрытых какими-то значками.
— Мы получили! Опыт блестяще удался! — возбужденно кричал Аган.
— Вы получили достаточно сведений о Земле, чтобы остановить поток силовых линий с Земли на Марс? — спросил Хоскинс.
Огромные глаза Агана торжествующе сверкнули:
— Я могу сделать и больше того!..
— Мы можем идти? — настойчиво спросил Лестер. — Вы обещали.
— Да, можете идти к ракете и возвращаться на свою Землю, — буркнул Аган.
А Ард Барк прибазил кисло:
— И не являйтесь больше на Марс, если желаете себе добра… Десятиногий пурпурнокожий предводитель сделал последнее отчаянное усилие.
— Вы все-таки даете им уйти без всяких пыток? — жалобно пропищал он. В единственном его глазу стояли слезы. — Как же нам быть? Кого же помучить?
— Он прав, нельзя упускать единственный случай отомстить землянам! — гневно воскликнул Ок Вок.
— Мы дали обещание и должны сдержать его! — твердо заявил Аган, и глаза его сверкнули. — Не бойтесь, теперь мы отомстим землянам сполна.
Толпа расступилась, образуя проход. Ард Барк указал на него Лестеру и Хоскинсу:
— Ступайте, пока можно!
Оба жителя Земли прошли, спотыкаясь, сквозь толпу, поминутно ожидая, что их схватят. Потом они бешено помчались сквозь странные, разнообразные секции фантастического города. Они не замедлили бега даже в красной пустыне и очнулись только тогда, когда достигли металлического корпуса ракеты, вкатились внутрь и захлопнули за собой тяжелую металлическую дверь.
— Ради самого бога, удерем поскорей! — произнес, задыхаясь, Хоскинс, включая циклотроны. — Я уже не ожидал, что они выпустят нас.
— Я тоже, — подтвердил Лестер, нахмурившись. — Я и сейчас не чувствую себя в безопасности. У Агана был странно торжествующий тон, который мне не понравился, когда он говорил о мести людям Земли.
Эти слова прервали выхлопы хвостовых дюз. Аппарат устремился ввысь. Глубоко вдавив людей в пружинные кресла, он с ревом взвился в медное небо и помчался в свободном пространстве.
Лишь через две недели, когда ракета уже приближалась к Земле, оба путешественника несколько опомнились от потрясения, вызванного их поразительным приключением.
— Нам никогда не поверят, — упорно повторял Хоскинс, — если мы попробуем рассказать, что мысленные силы тысяч читателей создали на Марсе жукоглазых людей и других чудовищ. Нас высмеют.
— Пожалуй, вы правы, — мрачно согласился Лестер. — Лучше помалкивать.
Ракета спускалась над Нью-Йорком. Хоскинс хотел сесть в Парк-Сентраль, чтобы поразить столицу своим драматическим возвращением.
Но когда снаряд приземлился наконец в парке, его не приветствовал ни один человек. Ожидаемой восторженной толпы не было. Парк был пуст. Межпланетные путешественники вышли на лужайку и изумленно уставились на соседнюю улицу — Пятую авеню.
По улице катился дикий, возбужденный гул. Толпы горожан бежали в настоящей панике. И Хоскинс и Лестер разинули рты, увидев, от кого бежала пораженная ужасом толпа. Это была кучка людей. Они во многом походили на обычных людей Земли, но с четырьмя руками и огромными выпуклыми глазами, как у насекомых!
Лестер остановил одного из бегущих и указал на странные фигуры.
— Откуда, объясните во имя неба, взялись вот эти? — спросил он в ужасе.
Беглец дико покачал головой:
— Никто не знает… Эти твари и другие такие же чудовища появились по всему свету за последнюю неделю. Мы не знаем как и не знаем, кто они…
Лестер побледнел и схватил Хоскинса за плечо:
— Боже мой, так вот что значили слова Агана о близкой мести людям Земли! Те сведения, которые они получили от нас, позволили им не только остановить поток мысленных силовых волн с Земли на Марс, но и обратить его вспять, заставив течь с Марса на Землю!
Хоскинс окаменел от ужаса:
— Значит, эти твари созданы здесь в отместку?
— Марсианами, да! — вскричал Лестер. — Вот их месть. Они там, вверху, черти, пишут теперь рассказы о жукоглазых и четырехруких жителях Земли!!!
— Иногда есть, иногда нет. Очевидно, в одних рассказах есть каналы, а в других нет. То, что они появляются и исчезают, прямо невыносимо!
Говоря о своих горестях, жукоглазый человек, казалось, взвинтил себя до бешенства.
— Ну что же, Аган? — свирепо спросил он. — Отдать, что ли, этих парней пурпурным людям?
Из толпы, наполнявшей здание, поднялся одобрительный гул. Синие, зеленые и розовые марсиане замахали руками, ногами и щупальцами в знак согласия.
— Погодите! — вскричал Лестер. — Давайте договоримся. Предположим, мы вернемся на Землю и там объясним положение. Может быть, нам удастся принять в рассказах один тип марсиан, один тип погоды и так далее…
Его предложение было сразу же отвергнуто Ард Барком:
— Вам это никогда не удастся. Издатели требуют все новых рассказов о Марсе, все новых сортов марсиан и всяких чудищ. И так в каждом рассказе!
Ок Вок с жаром накинулся на землян:
— Как жаль, что вы оба не из тех, кто пишет эти проклятые рассказы! Хотел бы я добраться до того парня, который дал мне мое имя! Я бы так оквокнул его!
Кто-то из толпы взвизгнул:
— Пурпурные идут!
Лестер и Хоскинс отшатнулись, увидев ужасную группу, ввалившуюся в зал с жадным фырканьем. Это были пурпурные существа с десятью конечностями вдоль туловища, как у сороконожки, служившими им и руками и ногами. На конической голове у каждого сверкал единственный глаз, похожий на блюдце. Эти существа размахивали металлическими ножами, скальпелями и щипцами, имевшими зловещий вид.
— Давайте их, — прошипел предводитель пурпурных, устремляя на Лестера и Хоскинса голодный взгляд. — Ребята, и помучаем же мы их! Это первый случай показать, на что мы способны.
Лестер побледнел.
— За что вы хотите мучить нас? — вскричал он, обращаясь к ужасному созданию.
Пурпурный предводитель пожал десятью плечами:
— Такая уж мы порода марсиан, дружок. Это не наша вина. Писака, который выдумал нас, описал нас как мастеров шикарно помучить всякого земного мужчину или женщину, которые попадутся нам в руки. — Помолчав, он спросил почти с надеждой: — А не захватили ли вы какой-нибудь прекрасной белокурой профессорской дочки? Нет? Очень жаль. Мы могли бы продемонстрировать кое-какие любительские пытки на прекрасной блондинке…
Пурпурные создания кинулись на Лестера и Хоскинса.
— Это неправда! — закричал Хоскинс. — Я вам говорю: это нам снится!
Но пять пар схвативших его рук не были сном. Землян уже тащили к шумевшей толпе…
— Погодите минуту! — раздался позади них визгливый голос Агана.
Осьминогий марсианский сверхученый поднимался со своего сиденья. Наступила жуткая минута ожидания, пока он распутывал три своих щупальца, спутавшихся в клубок.
— Проклятые щупальца, вечно подводят меня! — с досадой ворчал он.
Шатаясь, он подполз на своих странных конечностях к пурпурным людям, державшим Лестера и Хоскинса.
— У меня есть идея относительно этих землян, — сказал он. — Мы можем использовать их, чтобы прекратить земные излучения раз и навсегда.
Все марсианские лица в толпе повернулись к Агану.
— Что же это за идея? — спросил Ард Барк.
Пискливый голос Агана стал еще громче:
— Как вы, конечно, помните, гипповидный стазис нейронной сети головного мозга можно прочесть экстраэлектромагнитным лучом, который…
— Хватит! — нетерпеливо перебил Ард Барк. — Что это значит: “как вы, конечно, помните”? Как мы это можем помнить, когда мы этого совсем не знаем? Вы же знаете, что мы не знаем!
— Вы бы могли дать мне случай объяснить мою идею научно! — обиделся Аган. — Во всяком случае, суть вот в чем: мы, Суперы, можем читать в мозгу человека, ввергнутого в гипнотическое состояние, и изучить таким образом все, что этот человек знает. Изучим содержимое мозгов этих субъектов. Они, очевидно, ученые с большими познаниями. Мы можем получить из их мозга такие сведения о Земле, которых не могли бы добиться никаким другим путем.
— А на что это нам? — грубо спросил Ард Барк.
— В этом и заключена моя идея, — ответил Аган. — Если мы будем знать о Земле больше, чем сейчас, то сможем построить машину, которая остановила бы поток мысленных силовых волн с Земли к Марсу.
Наступило молчание. Толпа обдумывала. Пурпурный человек, державший Лестера, отважился прошипеть:
— А потом мы сможем начать мучить их?
Лестер решил использовать последний шанс.
— Мы не позволим вам! — громко сказал он Агану. — Мы будем противиться гипнозу и помешаем вам, если вы не поклянетесь освободить нас и дать возможность вернуться на Землю.
Из пестрой марсианской толпы поднялся протестующий гул:
— Не отпускайте их! Это для нас единственный случай отомстить землянам за все!
Но Аган спокойно возразил:
— А что, если отпустить их? Разве это не лучше, чем постоянно страдать от земных авторов и от их рассказов? Разве нам нужны новые марсиане разного вида? Разве вы хотите, чтобы погода вечно менялась, как сейчас? Это для нас случай прекратить все неприятности раз и навсегда.
Его доводы убедили всех. Неохотно, но марсиане согласились, хотя пурпурные отчаянно настаивали на пытках.
— Соглашайтесь, и мы позволим вам вернуться к вашей ракете, — обратился Аган к Лестеру и Хоскинсу. — Вам нужно только войти вот в этот аппарат и настроить свой мозг на подчинение.
— Пойдемте, Хоскинс, — прошептал Лестер. — Это наш единственный шанс выбраться с сумасшедшей планеты.
Они осторожно вошли в машину. Из большой линзы на них сверху полился голубой свет. Лестер почувствовал, что его мозг затмевается под влиянием какой-то силы. Он потерял сознание. Очнувшись, он увидел Хоскинса и себя все еще в машине. Но поток света был выключен. Аган и другие осьминогие сверхученые потрясали пачкой тонких металлических листков, покрытых какими-то значками.
— Мы получили! Опыт блестяще удался! — возбужденно кричал Аган.
— Вы получили достаточно сведений о Земле, чтобы остановить поток силовых линий с Земли на Марс? — спросил Хоскинс.
Огромные глаза Агана торжествующе сверкнули:
— Я могу сделать и больше того!..
— Мы можем идти? — настойчиво спросил Лестер. — Вы обещали.
— Да, можете идти к ракете и возвращаться на свою Землю, — буркнул Аган.
А Ард Барк прибазил кисло:
— И не являйтесь больше на Марс, если желаете себе добра… Десятиногий пурпурнокожий предводитель сделал последнее отчаянное усилие.
— Вы все-таки даете им уйти без всяких пыток? — жалобно пропищал он. В единственном его глазу стояли слезы. — Как же нам быть? Кого же помучить?
— Он прав, нельзя упускать единственный случай отомстить землянам! — гневно воскликнул Ок Вок.
— Мы дали обещание и должны сдержать его! — твердо заявил Аган, и глаза его сверкнули. — Не бойтесь, теперь мы отомстим землянам сполна.
Толпа расступилась, образуя проход. Ард Барк указал на него Лестеру и Хоскинсу:
— Ступайте, пока можно!
Оба жителя Земли прошли, спотыкаясь, сквозь толпу, поминутно ожидая, что их схватят. Потом они бешено помчались сквозь странные, разнообразные секции фантастического города. Они не замедлили бега даже в красной пустыне и очнулись только тогда, когда достигли металлического корпуса ракеты, вкатились внутрь и захлопнули за собой тяжелую металлическую дверь.
— Ради самого бога, удерем поскорей! — произнес, задыхаясь, Хоскинс, включая циклотроны. — Я уже не ожидал, что они выпустят нас.
— Я тоже, — подтвердил Лестер, нахмурившись. — Я и сейчас не чувствую себя в безопасности. У Агана был странно торжествующий тон, который мне не понравился, когда он говорил о мести людям Земли.
Эти слова прервали выхлопы хвостовых дюз. Аппарат устремился ввысь. Глубоко вдавив людей в пружинные кресла, он с ревом взвился в медное небо и помчался в свободном пространстве.
Лишь через две недели, когда ракета уже приближалась к Земле, оба путешественника несколько опомнились от потрясения, вызванного их поразительным приключением.
— Нам никогда не поверят, — упорно повторял Хоскинс, — если мы попробуем рассказать, что мысленные силы тысяч читателей создали на Марсе жукоглазых людей и других чудовищ. Нас высмеют.
— Пожалуй, вы правы, — мрачно согласился Лестер. — Лучше помалкивать.
Ракета спускалась над Нью-Йорком. Хоскинс хотел сесть в Парк-Сентраль, чтобы поразить столицу своим драматическим возвращением.
Но когда снаряд приземлился наконец в парке, его не приветствовал ни один человек. Ожидаемой восторженной толпы не было. Парк был пуст. Межпланетные путешественники вышли на лужайку и изумленно уставились на соседнюю улицу — Пятую авеню.
По улице катился дикий, возбужденный гул. Толпы горожан бежали в настоящей панике. И Хоскинс и Лестер разинули рты, увидев, от кого бежала пораженная ужасом толпа. Это была кучка людей. Они во многом походили на обычных людей Земли, но с четырьмя руками и огромными выпуклыми глазами, как у насекомых!
Лестер остановил одного из бегущих и указал на странные фигуры.
— Откуда, объясните во имя неба, взялись вот эти? — спросил он в ужасе.
Беглец дико покачал головой:
— Никто не знает… Эти твари и другие такие же чудовища появились по всему свету за последнюю неделю. Мы не знаем как и не знаем, кто они…
Лестер побледнел и схватил Хоскинса за плечо:
— Боже мой, так вот что значили слова Агана о близкой мести людям Земли! Те сведения, которые они получили от нас, позволили им не только остановить поток мысленных силовых волн с Земли на Марс, но и обратить его вспять, заставив течь с Марса на Землю!
Хоскинс окаменел от ужаса:
— Значит, эти твари созданы здесь в отместку?
— Марсианами, да! — вскричал Лестер. — Вот их месть. Они там, вверху, черти, пишут теперь рассказы о жукоглазых и четырехруких жителях Земли!!!

СОДЕРЖАНИЕ
Г.Цирулис и А.Имерманис. Квартира без номера. Рисунки А.Иткина Г.Кубанский. Гринька — “Красный мститель”. Рисунки И.Кабакова Я.Волчек. Проводник СРС. Рисунки В.Цигаля Л.Лагин. Съеденный архипелаг. Рисунки Ф.Збарского Николай Москвин. След человека. Рисунки А.Дронова В.Виткович. Слово о земле Ай. Рисунки Е.Устинова Б.Baдецкий. Обретение счастья. Рисунки В.Юрлова Олег Эрберг. Юбилейный кит. Рисунки H.Засимова М.Ройзман. Волк. Рисунки Б.Игнатьева Е.Симонов. День пришел. Рисунки Р.Щипаревой Эдмунд Гамильтон. Невероятный мир. Перевод З.Бобырь. РисункиВ.ДавыдоваМИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ (1957) №3
Николай Атаров СМЕРТЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ

1
В августе 1944 года королевская Румыния вышла из войны. С часу на час ждали появления передовых частей Красной Армии в Бухаресте. На восточных заставах бежавшие с фронта солдаты (без погон и ремней) и шоферы, измученные ночной ездой, рассказывали о событиях, происшедших между Днестром и Прутом: там пятнадцать германских дивизий размалываются в советском котле, румынские солдаты сдаются в плен или поворачивают оружие против немцев. Столичные толпы, взметаемые сквозняком паники, рассыпались, как пролитая ртуть, — лишь звенело битое стекло под ногами бегущих. Два устаревших танка типа «Рено» метались, поднимая бессмысленную стрельбу вдоль омертвевшего бульвара Элизабет, в парке Чисмиджиу, у памятника Михаю-Витязю. И снова собирались толпы: у репродукторов на площадях — дожидаться королевского манифеста о капитуляции; или у дымившегося здания Филармонии — глазеть на ее расколотый бомбой стеклянный купол. Красную Армию ждали в разных районах столицы по-разному. В заводских предместьях вооруженные пикеты рабочих уже захватывали предприятия. Впервые за много лет фашистского террора коммунисты открыто выступали в цехах. Из распахнутых ворот тюрем с утра под ликующий говор народа медленно растекался поток политических заключенных. В элегантных особняках на тихих улицах с космополитическими названиями «Гаага», «Женева», «Анкара», «Париж» втихомолку сжигались в каминах накопившиеся за долгие годы документы, дневники и письма. В дешевом отеле «Дакия» всю ночь до рассвета хлопали двери, вопили пьяные голоса — там дебоширили напоследок дезертиры. Какие они, эти русские, прогнавшие королевскую армию и ее великих союзников от берегов Дона и Волги? И чем порадуют на прощание немцы? Пока что они уже пробомбили союзный город, благо летать недалеко — прямо с пригородных аэродромов… Пыль клубилась над королевским дворцом. Посерели от пыли медвежьи кивера гренадеров, шагавших взад и вперед вдоль чугунной ограды покинутого дворца. Только одна улица — каля Липскань, улица черной биржи, — нисколько не изменила своему обычному деловому оживлению. Напротив: запруженная толпой, в тесноте кричащих витрин и реклам, эта улица из самой бездны разгрома извлекала свою новую наживу, свое последнее торжество. Даже в часы, когда ветер войны доносит с полей трупный запах и когда стены королевских резиденций падают, источая желтую пыль, буржуа не замечают оскорбительной неуместности своих клетчатых пиджаков и радужных галстуков. Стадо маклеров и спекулянтов брело по узкой улице. Что им нищета ограбленного народа, солдатчина навязанной войны, когда сегодня надо успеть сбыть с рук летящие в бездну ценности! Что им банкротство «исторических» партий, когда в любой подворотне о курсе леи осведомляются запросто, как «который час», — 216, 218, 220… Два-три беглых слова на ходу, опасливый взгляд в узкую полоску неба — не летят ли бомбить? — и вот уже услужливые маклеры уводят свою клиентуру в глубину нечистых дворов, передают из рук в руки нефтяные акции «Ромыно-Американа», «Астра-Ромына»… Марки и леи падают и падают. Американские доллары и советские рубли стремительно взлетают. В мелких купюрах — одна цена, подешевле: труднее хранить. В крупных — другая. Так кишел и роился, точно базар в канун рождества, этот закоулок взбудораженного Бухареста, этот маленький центр оголтелой наживы, всего лишь в двух часах полета от испепеленных, обезлюдевших украинских сел.2
В такой толпе окликнешь знакомого человека — не сразу услышит. Метнувшись в уличном скопище, бледный мужчина с черными усиками задержал за локоть проходившую мимо него женщину. — Так вот где вы, Мариша, — по-русски заговорил он, фамильярно, как старый знакомый, не отпуская ее руки. — Смотали удочки! И куда: в Букурести? Женщина была немолода, но стройна и изящна. Над розоватым загаром стройной шеи дымилось легкое серебро седых волос. И серебристо-серый плащ и розовая сумочка негромко повторяли эту гамму. В голубых глазах лихорадочный блеск; тонкая рука, когда женщина подняла ее ко лбу, задрожала.
— Болит голова, Стасик. Ох, как болит голова!
— Вы больны? Он-то знает, по крайней мере, этот… любитель конного спорта?
— Что-то стряслось со мной… непоправимое. Я ушла от него, как больная кошка. Ах, если умирать — так не на его глазах…
— Это началось с вами еще в Софии?
— Да, во вторник.
— И вы не заметили перемены со стороны Джорджа?
— Он совсем перестал целовать меня, — сказала она серьезно. — Совсем перестал целовать…
— Перестал целовать? А у вас заболела голова?
— Почему вы так спрашиваете, Стась? Вы что-нибудь знаете?… Да, голова очень болела. Потом боли в суставах. И тошнота. И лихорадочный озноб… Не трогайте мою руку, поберегите себя!
— Значит, вы всё поняли? — сипловатым голосом спрашивал человек, которого больная называла Стасем. — Вы поняли?
— Да, я поняла… — Она отвернула край перчатки на левой руке и показала язвочку, окаймленную белым валиком. — Я заметила это… страшное тавро графской конюшни. — Рот ее задрожал, гримаса ужаса исказила ее прелестное лицо с удивительно нежным загаром. — Милый Стасик, вы думаете, что это он сделал… что он мог пойти на это, чтобы избавиться от меня? — В этих сбивчивых словах звучали и мольба и надежда.
— Разве от вас можно избавиться? Все знают, что вы психопатка!.. — грубовато отшутился ее собеседник.
Прорезая толпу завитых мужчин, приближались рослые полицейские. Блеснуло золото позументов на их высоких фуражках.
— Пропустим их, — деловито заметил человек с усиками.
Во всем его осанистом облике — в галстуке-бабочке под энергичным подбородком, в густой сипловатости голоса, в бриллиантиновом сиянии прически — сквозило преувеличенное шулерское благородство, которое б равной мере бывает свойственно и князьям и лакеям.
— Давно хотел спросить вас, Мариша, — сказал он, когда прошли. полицейские. — Сейчас это можно. Вы давно работаете на немцев?
Словно в забытьи, седая женщина качнула головой: нет.
— Под кличкой «Серебряная»? — Она усмехнулась. — Чудак вы, Стась. «Работала»! Я никогда не «работала». Я любила Джорджа. И теперь я ушла, как больная кошка, чтобы не умирать дома… — Она задыхалась, говоря непрерывно. — Он теперь в руках Крафта, этого слизняка, этого чисто вымытого, в белых ресничках. Я ненавижу их обоих. Я не хочу, я не хочу…
Вдруг что-то безжалостно откровенное появилось в глазах Стася.
— Любите — ненавидите. А знаете ли вы, обаятельная женщина, что вы давно обречены на гибель? С той минуты, как взялись за эту работу. Хотите или не хотите, вы — солдат из зондер-команды. Таких, как вы, когда минует надобность, уничтожают по инструкции…
Он испуганно обернулся: что-то непонятное произошло в снующей толпе. Люди метнулись в стороны. Потом кто-то крикнул, сам себя успокаивая:
— Это тряпка тлеет! Просто тряпка! Кто подкинул ее? Вот сволочи! Это провокация…
Безмолвное согласие паники длилось несколько секунд, не более.
Но долго еще плавал смрад над улицей и заставлял прохожих настороженно раздувать ноздри.
Женщина была немолода, но стройна и изящна. Над розоватым загаром стройной шеи дымилось легкое серебро седых волос. И серебристо-серый плащ и розовая сумочка негромко повторяли эту гамму. В голубых глазах лихорадочный блеск; тонкая рука, когда женщина подняла ее ко лбу, задрожала.
— Болит голова, Стасик. Ох, как болит голова!
— Вы больны? Он-то знает, по крайней мере, этот… любитель конного спорта?
— Что-то стряслось со мной… непоправимое. Я ушла от него, как больная кошка. Ах, если умирать — так не на его глазах…
— Это началось с вами еще в Софии?
— Да, во вторник.
— И вы не заметили перемены со стороны Джорджа?
— Он совсем перестал целовать меня, — сказала она серьезно. — Совсем перестал целовать…
— Перестал целовать? А у вас заболела голова?
— Почему вы так спрашиваете, Стась? Вы что-нибудь знаете?… Да, голова очень болела. Потом боли в суставах. И тошнота. И лихорадочный озноб… Не трогайте мою руку, поберегите себя!
— Значит, вы всё поняли? — сипловатым голосом спрашивал человек, которого больная называла Стасем. — Вы поняли?
— Да, я поняла… — Она отвернула край перчатки на левой руке и показала язвочку, окаймленную белым валиком. — Я заметила это… страшное тавро графской конюшни. — Рот ее задрожал, гримаса ужаса исказила ее прелестное лицо с удивительно нежным загаром. — Милый Стасик, вы думаете, что это он сделал… что он мог пойти на это, чтобы избавиться от меня? — В этих сбивчивых словах звучали и мольба и надежда.
— Разве от вас можно избавиться? Все знают, что вы психопатка!.. — грубовато отшутился ее собеседник.
Прорезая толпу завитых мужчин, приближались рослые полицейские. Блеснуло золото позументов на их высоких фуражках.
— Пропустим их, — деловито заметил человек с усиками.
Во всем его осанистом облике — в галстуке-бабочке под энергичным подбородком, в густой сипловатости голоса, в бриллиантиновом сиянии прически — сквозило преувеличенное шулерское благородство, которое б равной мере бывает свойственно и князьям и лакеям.
— Давно хотел спросить вас, Мариша, — сказал он, когда прошли. полицейские. — Сейчас это можно. Вы давно работаете на немцев?
Словно в забытьи, седая женщина качнула головой: нет.
— Под кличкой «Серебряная»? — Она усмехнулась. — Чудак вы, Стась. «Работала»! Я никогда не «работала». Я любила Джорджа. И теперь я ушла, как больная кошка, чтобы не умирать дома… — Она задыхалась, говоря непрерывно. — Он теперь в руках Крафта, этого слизняка, этого чисто вымытого, в белых ресничках. Я ненавижу их обоих. Я не хочу, я не хочу…
Вдруг что-то безжалостно откровенное появилось в глазах Стася.
— Любите — ненавидите. А знаете ли вы, обаятельная женщина, что вы давно обречены на гибель? С той минуты, как взялись за эту работу. Хотите или не хотите, вы — солдат из зондер-команды. Таких, как вы, когда минует надобность, уничтожают по инструкции…
Он испуганно обернулся: что-то непонятное произошло в снующей толпе. Люди метнулись в стороны. Потом кто-то крикнул, сам себя успокаивая:
— Это тряпка тлеет! Просто тряпка! Кто подкинул ее? Вот сволочи! Это провокация…
Безмолвное согласие паники длилось несколько секунд, не более.
Но долго еще плавал смрад над улицей и заставлял прохожих настороженно раздувать ноздри.
3
Временный мост, наведенный советскими саперами над рекой Прут, гудел и поскрипывал, перегруженный машинами и орудиями. Близился вечер. Войска томительно-мешкотно тянулись через мост на ночлег — на первый привал в чужой враждебной стране, в ее не тронутых войной селах и городах. Не было таких, кто бы не знал, что эта невзрачная речонка — государственная граница, откуда война началась. Но сейчас усталость, смертельная усталость гнала людей через мост на ночлег. И не было охотников полюбоваться на этот рубеж. Что в нем особенного: мутная вода обмывает обломки взорванного бетона — только и всего! — играет в скрученной арматуре и резко меняет цвет, уходя в тень под мостом. На войне и усталость плодит шутников. И сейчас тоже находились балагуры. — Кто тут в зеленых околышах? Пограничной службе велено оставаться, окапываться! — развлекал людей артиллерист в темной от пота гимнастерке, рысцой трусивший рядом с орудием. Притиснутый к перилам пожилой солдат раздражительно философствовал:
— Пусть теперь сами понюхают, какая она есть, война фатальная.
«Тотальная!» — сообразил младший лейтенант Шустов, осторожно перегонявший по мосту на тот берег спецмашину — это была пеленгационная радиостанция фронтовой контрразведки.
— Далече ли до Берлина, сестрица? — сострил Шустов, подчиняясь тягостной, но твердо выработанной привычке задевать всех встречных на пути девушек. Пусть попробуют догадаются, какой он застенчивый!
— Давай, давай! — отозвалась с хрипотцой регулировщица.
Славка Шустов только прищурился, узнав Дашу Лучинину. Ее лицо было нахмурено, обветренные губы набухли, девичий пушок у розовых ушей казался седым от пыли. Вчерашние румынские солдаты с разрешения командования тянулись без оружия восвояси, а Даша беспощадно оттирала их к перилам:
— Стороньтесь же, окаянные! Ваша война кончилась.
Но хотя и безропотно, военнопленные нахально подавались через пограничный мост в свою Румынию.
— Вот ведь сошьет господь людей! — певуче выругалась регулировщица. И вся она — в застиранной гимнастерке и узенькой юбчонке, знакомая младшему лейтенанту еще со времен Старобельска, от самого ее родного города, — показалась в эту минуту Шустову такой занятной со своим хрипатым злобным окриком на румын, что он даже притормозил:
— Эй, гвардии курносая!
Но Даша, не взглянув, яростно отмахнулась флажком.
— Даша, Дашенька.
Только сейчас очнулась регулировщица и наконец увидела Шустова. Она рассмеялась над собственным отчаянием, вспрыгнула на подножку, привычно козырнула:
— Вон куда вас определили!
— А куда, родненькая?
— Обомлеть можно — офицера посадили заместо шофера! Что, напросились?
— Так ведь на спецмашину, понимать надо…
— Я и то думаю, что это нынче с полковником кто-то другой ездит, не Шустов, — весело язвила регулировщица.
В их грубоватом препирательстве каждый без ошибки услышал бы поединок фронтового флирта, прерывавшийся на много дней по воле обстоятельств и снова возникавший в любой минутной встрече.
— А тебе, Дашенька, жаль меня? — поддразнивал молодцеватый офицер.
— Ох, как жаль!.. Надолго вас доверия лишили?
— Говори лучше, где повстречаемся? В Бухаресте?
Неделю назад (еще до прорыва немецкой обороны на Днестре, но когда уже начала активно действовать авиация) Шустов примчался вдруг за Дашей Лучининой на мотоцикле с коляской. Регулировщица только что сменилась. Шустова она давно знала: лихой и балованный младший лейтенант из контрразведки, адъютант полковника Ватагина.
— Лезь в лукошко! — приказал Шустов.
— А что случилось?
— Там впереди парашютиста сбросили! Сейчас возьмем…
— Не врете? А то, смотрите, не жить вам!
И не успела она опомниться, как он прокатил ее километров за двадцать. На шоссе был знакомый Даше загороженный участок со свежеподсыпанной щебенкой — младший лейтенант проехал прямо по осевой линии, нарушение сделал…
— Какой невыдержанный! — только и успела крикнуть регулировщица.
Эта нечаянная характеристика была как нельзя более меткой. Даша уже раза два с удовольствием попробовала бешеную езду с младшим лейтенантом. Крутой подъем, канава, быстрый разворот на вспаханном поле…, дух захватывает! А Шустов еще хохочет. Всё ему в шутку! Покажи ржаной сухарь — все равно будет весело.
В тот вечер они отдыхали на краю заросшего противотанкового рва, и младший лейтенант бесстрашно признался, что никакого парашютиста нет и в помине, все он выдумал, чтобы с ней, ненаглядной, побыть. Он вздумал с ходу целоваться, да, видно, грубо получилось, она ударила его по щеке. И вдруг заплакала.
— Что ты? Глупая!
— Знаю вас всех, как миленьких…
Слезы его озадачили, но не дольше, чем на минуту. Не хочет целоваться? А он и сам не знал, зачем это нужно. Так — душа играла. Он решил, что заплакала она, потому что он без подхода… А в полях было чисто и приветливо. В небе стоял серп молодого месяца с яркой звездой невдалеке. И Шустов легко перестроился на лирику, стал говорить Даше глупости вроде того, будто глаза у нее гипнотические, отчего все машины останавливаются перед ней.
Наконец Даша улыбнулась и даже запела тоненько:
Притиснутый к перилам пожилой солдат раздражительно философствовал:
— Пусть теперь сами понюхают, какая она есть, война фатальная.
«Тотальная!» — сообразил младший лейтенант Шустов, осторожно перегонявший по мосту на тот берег спецмашину — это была пеленгационная радиостанция фронтовой контрразведки.
— Далече ли до Берлина, сестрица? — сострил Шустов, подчиняясь тягостной, но твердо выработанной привычке задевать всех встречных на пути девушек. Пусть попробуют догадаются, какой он застенчивый!
— Давай, давай! — отозвалась с хрипотцой регулировщица.
Славка Шустов только прищурился, узнав Дашу Лучинину. Ее лицо было нахмурено, обветренные губы набухли, девичий пушок у розовых ушей казался седым от пыли. Вчерашние румынские солдаты с разрешения командования тянулись без оружия восвояси, а Даша беспощадно оттирала их к перилам:
— Стороньтесь же, окаянные! Ваша война кончилась.
Но хотя и безропотно, военнопленные нахально подавались через пограничный мост в свою Румынию.
— Вот ведь сошьет господь людей! — певуче выругалась регулировщица. И вся она — в застиранной гимнастерке и узенькой юбчонке, знакомая младшему лейтенанту еще со времен Старобельска, от самого ее родного города, — показалась в эту минуту Шустову такой занятной со своим хрипатым злобным окриком на румын, что он даже притормозил:
— Эй, гвардии курносая!
Но Даша, не взглянув, яростно отмахнулась флажком.
— Даша, Дашенька.
Только сейчас очнулась регулировщица и наконец увидела Шустова. Она рассмеялась над собственным отчаянием, вспрыгнула на подножку, привычно козырнула:
— Вон куда вас определили!
— А куда, родненькая?
— Обомлеть можно — офицера посадили заместо шофера! Что, напросились?
— Так ведь на спецмашину, понимать надо…
— Я и то думаю, что это нынче с полковником кто-то другой ездит, не Шустов, — весело язвила регулировщица.
В их грубоватом препирательстве каждый без ошибки услышал бы поединок фронтового флирта, прерывавшийся на много дней по воле обстоятельств и снова возникавший в любой минутной встрече.
— А тебе, Дашенька, жаль меня? — поддразнивал молодцеватый офицер.
— Ох, как жаль!.. Надолго вас доверия лишили?
— Говори лучше, где повстречаемся? В Бухаресте?
Неделю назад (еще до прорыва немецкой обороны на Днестре, но когда уже начала активно действовать авиация) Шустов примчался вдруг за Дашей Лучининой на мотоцикле с коляской. Регулировщица только что сменилась. Шустова она давно знала: лихой и балованный младший лейтенант из контрразведки, адъютант полковника Ватагина.
— Лезь в лукошко! — приказал Шустов.
— А что случилось?
— Там впереди парашютиста сбросили! Сейчас возьмем…
— Не врете? А то, смотрите, не жить вам!
И не успела она опомниться, как он прокатил ее километров за двадцать. На шоссе был знакомый Даше загороженный участок со свежеподсыпанной щебенкой — младший лейтенант проехал прямо по осевой линии, нарушение сделал…
— Какой невыдержанный! — только и успела крикнуть регулировщица.
Эта нечаянная характеристика была как нельзя более меткой. Даша уже раза два с удовольствием попробовала бешеную езду с младшим лейтенантом. Крутой подъем, канава, быстрый разворот на вспаханном поле…, дух захватывает! А Шустов еще хохочет. Всё ему в шутку! Покажи ржаной сухарь — все равно будет весело.
В тот вечер они отдыхали на краю заросшего противотанкового рва, и младший лейтенант бесстрашно признался, что никакого парашютиста нет и в помине, все он выдумал, чтобы с ней, ненаглядной, побыть. Он вздумал с ходу целоваться, да, видно, грубо получилось, она ударила его по щеке. И вдруг заплакала.
— Что ты? Глупая!
— Знаю вас всех, как миленьких…
Слезы его озадачили, но не дольше, чем на минуту. Не хочет целоваться? А он и сам не знал, зачем это нужно. Так — душа играла. Он решил, что заплакала она, потому что он без подхода… А в полях было чисто и приветливо. В небе стоял серп молодого месяца с яркой звездой невдалеке. И Шустов легко перестроился на лирику, стал говорить Даше глупости вроде того, будто глаза у нее гипнотические, отчего все машины останавливаются перед ней.
Наконец Даша улыбнулась и даже запела тоненько:
 Полковник Ватагин — грузный мужчина без фуражки — протирал красное лицо полотенцем, вернее сказать — пачкал вафельный лоскуток полотенца: седые волосы на висках были бурыми от пота и пыли. Он, видно, нисколько не обрадовался своему адъютанту, потому что даже нахмурился:
— Ну как? Не заскучал по лихой езде?
— Заскучал, товарищ полковник. Ох, и бандура же досталась!
— Ладно, доведи до места, а там посмотрим… Вот и Европа! Ты обернись, Шустов, по сторонам. Не каждый день государственную границу переходим.
Два человека, сдружившиеся в походах, испытывали сейчас одно чувство: вот наконец не на своей земле видят они избитые осколками хаты, конскую падаль под откосом.
Полковник Ватагин — грузный мужчина без фуражки — протирал красное лицо полотенцем, вернее сказать — пачкал вафельный лоскуток полотенца: седые волосы на висках были бурыми от пота и пыли. Он, видно, нисколько не обрадовался своему адъютанту, потому что даже нахмурился:
— Ну как? Не заскучал по лихой езде?
— Заскучал, товарищ полковник. Ох, и бандура же досталась!
— Ладно, доведи до места, а там посмотрим… Вот и Европа! Ты обернись, Шустов, по сторонам. Не каждый день государственную границу переходим.
Два человека, сдружившиеся в походах, испытывали сейчас одно чувство: вот наконец не на своей земле видят они избитые осколками хаты, конскую падаль под откосом.
 Под дамбой лежали мертвые тела, завернутые в дерюгу. Женщина и девочка. Туда их, верно, отнесли солдаты после бомбежки. У матери маленькое лицо, оскаленные зубы. Лоб у девочки желтый, как воск. «Наши? Или уже ихние?» — невольно подумал Славка. Он исподлобья взглянул на Ватагина:
— Радист цельными ночами слушает, прямо с лица спал, наушников не снимает.
— Пусть слушает. А ты ему не мешай.
— Зачем же я буду мешать?
— А затем, что знаю тебя: наверно, развлекаешь.
— Мое дело маленькое — я везу, — обидчиво возразил Шустов, но тут же, подавшись всем телом вперед, азартно зашептал: — А что бы это значило: «Пиджак готов! Распух одноглазый…» Вот так позывная! Ведь во сне не приснится, товарищ полковник. Я уж и так и этак примерял — туман!..
— Ладно, об этом не здесь, — оборвал полковник. — Тебе во фронтовом ансамбле работать — всю программу бы вел, как раз по твоей разговорчивости…
— Гвоздей небось нахватали! — в свою очередь, огрызнулся Шустов, оглядывая покрышки.
Полковник Ватагин обходился без шофера главным образом потому, что в дороге часто велись беседы не для посторонних, и было надежнее, когда за баранкой находился младший лейтенант Шустов. К тому же полковник любил и сам водить машину и отдыхал за этим занятием. Ну уж зато и расплачивался он за каждую царапину на крыле: адъютант не прощал небрежности в обращении с машиной.
— Сегодня ночуем вместе, — сказал Ватагин. — Сверну на край села, ты за мной. А ночью, если Бабину удастся напасть на переговоры, разбуди — послушаю.
— Есть разбудить ночью, товарищ полковник! Разрешите следовать?
— Погоди… Посмотри, Шустов.
Они стояли вполоборота к мосту, по которому вступала на Балканы Советская Армия. Минуло уже шесть суток с тех пор, как наши войска прорвали фронт на Днестре.
— Гляди. Запоминай!
Ватагин и сам глядел и не мог отвести взгляд от моста, по которому колонны тягачей катили орудия на юго-запад, в чужие страны. В сияющей высоте ныли невидимые бомбардировщики.
— Регулировщицу видел на мосту? — почему-то вспомнил полковник.
— Видел. А что, заметно? — быстро переспросил Шустов.
Но Ватагин ничего не ответил, только загадочно усмехнулся и пошел к машине.
Под дамбой лежали мертвые тела, завернутые в дерюгу. Женщина и девочка. Туда их, верно, отнесли солдаты после бомбежки. У матери маленькое лицо, оскаленные зубы. Лоб у девочки желтый, как воск. «Наши? Или уже ихние?» — невольно подумал Славка. Он исподлобья взглянул на Ватагина:
— Радист цельными ночами слушает, прямо с лица спал, наушников не снимает.
— Пусть слушает. А ты ему не мешай.
— Зачем же я буду мешать?
— А затем, что знаю тебя: наверно, развлекаешь.
— Мое дело маленькое — я везу, — обидчиво возразил Шустов, но тут же, подавшись всем телом вперед, азартно зашептал: — А что бы это значило: «Пиджак готов! Распух одноглазый…» Вот так позывная! Ведь во сне не приснится, товарищ полковник. Я уж и так и этак примерял — туман!..
— Ладно, об этом не здесь, — оборвал полковник. — Тебе во фронтовом ансамбле работать — всю программу бы вел, как раз по твоей разговорчивости…
— Гвоздей небось нахватали! — в свою очередь, огрызнулся Шустов, оглядывая покрышки.
Полковник Ватагин обходился без шофера главным образом потому, что в дороге часто велись беседы не для посторонних, и было надежнее, когда за баранкой находился младший лейтенант Шустов. К тому же полковник любил и сам водить машину и отдыхал за этим занятием. Ну уж зато и расплачивался он за каждую царапину на крыле: адъютант не прощал небрежности в обращении с машиной.
— Сегодня ночуем вместе, — сказал Ватагин. — Сверну на край села, ты за мной. А ночью, если Бабину удастся напасть на переговоры, разбуди — послушаю.
— Есть разбудить ночью, товарищ полковник! Разрешите следовать?
— Погоди… Посмотри, Шустов.
Они стояли вполоборота к мосту, по которому вступала на Балканы Советская Армия. Минуло уже шесть суток с тех пор, как наши войска прорвали фронт на Днестре.
— Гляди. Запоминай!
Ватагин и сам глядел и не мог отвести взгляд от моста, по которому колонны тягачей катили орудия на юго-запад, в чужие страны. В сияющей высоте ныли невидимые бомбардировщики.
— Регулировщицу видел на мосту? — почему-то вспомнил полковник.
— Видел. А что, заметно? — быстро переспросил Шустов.
Но Ватагин ничего не ответил, только загадочно усмехнулся и пошел к машине.
4
— Иван Кириллович… Иван Кириллович, велели разбудить, — шептал Шустов над ухом Ватагина в четвертом часу утра. — Что, поймали? — Сейчас позывные передают. Вставайте скорей, Иван Кириллович, — шептал младший лейтенант, подавая Ватагину ремень и фуражку. Шустов любил уставную субординацию и только по ночам, когда приходилось будить начальника, называл его по-домашнему — Иваном Кирилловичем. Неслышными шагами прошел Ватагин по длинной веранде во двор. Шумел мотор движка. Светало. Солдаты брали воду из каменного колодца. Слышны были их голоса. За деревьями легко было узнать радиостанцию: ее полуоткрытая дверь освещена изнутри. — Позывные принял. Жду. что будет дальше, — сказал радист Бабин, не отрываясь от аппарата. В фургоне машины спали люди. Было по-ночному душно, сонно. Ватагин надел наушники. Несколько минут они сидели молча. Походная радиостанция внутри чем-то напоминала вузовское общежитие: на столе учебники радиотехники, английского языка, чертежи и хлеб. В панель обивки засунуты полотенца, нож, вилка, карандаши. Окна завешаны одеялами, плащ-палатками. — Ничего не слышу, — шепнул Ватагин. — Тишина — дефект нашего слуха, — риторически отозвался радист.
Сутулый, с тощими ногами в просторных кирзовых сапогах, в громадной, не по росту, гимнастерке, Миша Бабин считался на фронте лучшим радистом-слухачом. Ватагин-то уж знал его как облупленного. Этот белесый юноша с воспаленными глазами, нагонявший тоску вечными жалобами на какие-то помехи, болтающий о «площади ошибок», первый из всех фронтовых радистов поймал несколько дней назад странные переговоры противника. Позже перехват подтвердили еще две рации в танковых корпусах. Передачи вела неизвестная радиовещательная станция открытым текстом на немецком языке:
— Hallo! Hallo! Ralle, Ralle. Hier Rinne! (Пауза). Funf Hufeisen von einem Pferde… [40]
Через несколько минут другая станция отзывалась также явно кодированным текстом:
— Hallo! Hallo! Rinne, Rinne. Hier Ralle! (Пауза). Der Rock ist fertig! Einaugiger ist geschwolen… [41]
За этим следовала еще какая-нибудь фраза, причем каждый раз новая. Она-то, видимо, и содержала весь смысл переговоров.
По распоряжению начальника контрразведки генерал-майора Машистова, на флангах фронта было установлено круглосуточное наблюдение за эфиром. Вечерами Бабин силился разобраться в хаосе международных передач, в писке искровых передатчиков. Из Будапешта передавали «Фауста». Другая волна доносила бодрый рефрен французского вальса «Когда любовь умирает». Москва транслировала симфонию Шостаковича, где фашисты идут зловеще приплясывающим маршем. После многих часов приема Бабин вставал и, шатаясь, как пьяный, выходил подышать. Южное небо за ночь поворачивалось вокруг мачты радиостанции, и звезды, знакомые с детства, бледные ярославские звезды, были здесь крупнее и ярче. Бабин тотчас возвращался. Уже в полусне «рутил рукоятку точной настройки.
Так было и сегодня.
Между тем желтый свет лампы в колпаке из газеты все слабее окрашивал воздух: наступило то особое мгновение, когда стало заметно предрассветное порозовевшее небо за полуоткрытой дверью. Шустов сидел за плечом Ватагина. Полковник слышал его напряженное дыхание.
Вдруг Бабин молча ткнул пальцем в воздух.
— …пи-ти… пи-ти-пи-ти… ти… пи-ти… — услышал Ватагин и затем: — кле-кле… кле-кле-кле… кле-кле…
Он понял, что уже промахнулся, это совсем не то, что слушал Бабин. То, что он поймал, было похоже на тоненький клекот индюшат, — это морзянка. Где же открытый текст?
Бабин вялым жестом смахнул наушники, протер глаза, вынул из ящика стола початок вареной кукурузы и задумчиво принялся жевать:
— Вот и всё, товарищ полковник.
— А я опять пропустил… Что нового в тексте?
— Непонятно. По-немецки: «Warne vor Ungluck» — «Предостерегаю от беды». Так, кажется. Надо уточнить по словарю.
— Как думаете, пеленгование удастся?
— Кто их знает… Если примут на правом фланге, пропеленгуем.
— Надо бы знать, откуда они передают.
— Вот и лови… Разговаривают по ночам, семь — восемь секунд. Ну, как поймаешь? Мне нужно хотя бы сорок секунд…
— Ну что ты канючишь! — оборвал Славка Шустов.
Ватагин нахмурился: он знал, что адъютант завидует любому оперативному работнику и именно поэтому не прощает и Бабину его тоскливой рассудительности.
— Что ж, сеанс окончен? — спросил полковник и встал, потягиваясь.
— Я и начальнику шифрослужбы докладывал, но он тоже ничего не видит утешительного, — жаловался Миша. — «Ваш полковник, говорит, слишком торопится. Кодированные таблицы противника не у меня в кармане». Эти подковы с одного коня…
— Подковы, подковы… — вздохнул полковник и вдруг все обратил в шутку: — Что ж, как раз по сезону! Бегут «а всех фронтах — вот им и нужно получше подковаться… Верно, Шустов?
Шустов промолчал. Он-то прекрасно понимал, что полковнику не до шуток.
Ватагин стал вылезать из фургона. Часовой поддержал его под руку. Из-под деревьев уже тянуло дымом солдатских костров. Сержант-усач, сидя на задке подводы, стругал брынзу в котелок. Потянувшись над изгородью, распряженная лошадь черной губой трогала куст лимонных георгинов. В этот рассветный час во дворе все казалось таким мирным, как будто солдаты уже возвращаются по домам. И особенно привольно звучал чей-то тенорок:
— Тишина — дефект нашего слуха, — риторически отозвался радист.
Сутулый, с тощими ногами в просторных кирзовых сапогах, в громадной, не по росту, гимнастерке, Миша Бабин считался на фронте лучшим радистом-слухачом. Ватагин-то уж знал его как облупленного. Этот белесый юноша с воспаленными глазами, нагонявший тоску вечными жалобами на какие-то помехи, болтающий о «площади ошибок», первый из всех фронтовых радистов поймал несколько дней назад странные переговоры противника. Позже перехват подтвердили еще две рации в танковых корпусах. Передачи вела неизвестная радиовещательная станция открытым текстом на немецком языке:
— Hallo! Hallo! Ralle, Ralle. Hier Rinne! (Пауза). Funf Hufeisen von einem Pferde… [40]
Через несколько минут другая станция отзывалась также явно кодированным текстом:
— Hallo! Hallo! Rinne, Rinne. Hier Ralle! (Пауза). Der Rock ist fertig! Einaugiger ist geschwolen… [41]
За этим следовала еще какая-нибудь фраза, причем каждый раз новая. Она-то, видимо, и содержала весь смысл переговоров.
По распоряжению начальника контрразведки генерал-майора Машистова, на флангах фронта было установлено круглосуточное наблюдение за эфиром. Вечерами Бабин силился разобраться в хаосе международных передач, в писке искровых передатчиков. Из Будапешта передавали «Фауста». Другая волна доносила бодрый рефрен французского вальса «Когда любовь умирает». Москва транслировала симфонию Шостаковича, где фашисты идут зловеще приплясывающим маршем. После многих часов приема Бабин вставал и, шатаясь, как пьяный, выходил подышать. Южное небо за ночь поворачивалось вокруг мачты радиостанции, и звезды, знакомые с детства, бледные ярославские звезды, были здесь крупнее и ярче. Бабин тотчас возвращался. Уже в полусне «рутил рукоятку точной настройки.
Так было и сегодня.
Между тем желтый свет лампы в колпаке из газеты все слабее окрашивал воздух: наступило то особое мгновение, когда стало заметно предрассветное порозовевшее небо за полуоткрытой дверью. Шустов сидел за плечом Ватагина. Полковник слышал его напряженное дыхание.
Вдруг Бабин молча ткнул пальцем в воздух.
— …пи-ти… пи-ти-пи-ти… ти… пи-ти… — услышал Ватагин и затем: — кле-кле… кле-кле-кле… кле-кле…
Он понял, что уже промахнулся, это совсем не то, что слушал Бабин. То, что он поймал, было похоже на тоненький клекот индюшат, — это морзянка. Где же открытый текст?
Бабин вялым жестом смахнул наушники, протер глаза, вынул из ящика стола початок вареной кукурузы и задумчиво принялся жевать:
— Вот и всё, товарищ полковник.
— А я опять пропустил… Что нового в тексте?
— Непонятно. По-немецки: «Warne vor Ungluck» — «Предостерегаю от беды». Так, кажется. Надо уточнить по словарю.
— Как думаете, пеленгование удастся?
— Кто их знает… Если примут на правом фланге, пропеленгуем.
— Надо бы знать, откуда они передают.
— Вот и лови… Разговаривают по ночам, семь — восемь секунд. Ну, как поймаешь? Мне нужно хотя бы сорок секунд…
— Ну что ты канючишь! — оборвал Славка Шустов.
Ватагин нахмурился: он знал, что адъютант завидует любому оперативному работнику и именно поэтому не прощает и Бабину его тоскливой рассудительности.
— Что ж, сеанс окончен? — спросил полковник и встал, потягиваясь.
— Я и начальнику шифрослужбы докладывал, но он тоже ничего не видит утешительного, — жаловался Миша. — «Ваш полковник, говорит, слишком торопится. Кодированные таблицы противника не у меня в кармане». Эти подковы с одного коня…
— Подковы, подковы… — вздохнул полковник и вдруг все обратил в шутку: — Что ж, как раз по сезону! Бегут «а всех фронтах — вот им и нужно получше подковаться… Верно, Шустов?
Шустов промолчал. Он-то прекрасно понимал, что полковнику не до шуток.
Ватагин стал вылезать из фургона. Часовой поддержал его под руку. Из-под деревьев уже тянуло дымом солдатских костров. Сержант-усач, сидя на задке подводы, стругал брынзу в котелок. Потянувшись над изгородью, распряженная лошадь черной губой трогала куст лимонных георгинов. В этот рассветный час во дворе все казалось таким мирным, как будто солдаты уже возвращаются по домам. И особенно привольно звучал чей-то тенорок:
5
Шустов дал газу. Он досадовал на толстокожего Бабина, который, как видно, решил спать в кабине всю дорогу. Бабин очнулся от рывка и, зевнув, заметил: — Несерьезный человек наш полковник. — Не может быть! Это тебе в Военном совете сообщили? — Нет, я сам вижу. Все он шутит, шутит… — Д если без шуток, то лучше голову под мышкой носить. Все умные люди шутят. Даже Маркс… — Или капитан Цаголов? Шустов промолчал, только прибавил газу. Со стороны Бабина это особый способ уязвления. Кроме полковника, адъютант действительно обожал капитана Цаголова — щеголеватого храброго горца, попавшего в разведку из моряков и мечтавшего вернуться во флот. — Серьезному человеку шутить незачем, — между тем философствовал Бабин. — Так работать трудно. — Мне вот легко… — Ты канцелярист. Это не работа. Можно ли больнее хлестнуть по самолюбию? Шустов надолго замолчал, свободно положив руки на баранку, покачиваясь и вперившись взглядом в набегающее полотно гудрона. На берегу Дуная долго ждали переправы, Шустов отрывисто бросил: — Искупаемся? Все-таки Дунай… — Купайся. — Неинтересно? Тебе что Дунай что Клязьма — все едино? Потом на пароме огибали камышовые островки. Красота, кто понимает! Синее небо. Ласточки над водой. Румынский мальчишка в серой от пыли шляпе что-то напевает по-своему: «Маринаре, маринаре…» Но младший лейтенант и радист отчужденно и мрачно стояли на разных сторонах парома. Уже за Дунаем, в Добрудже, Шустов притормозил машину, распахнул дверку: отставший от роты солдат просился подвезти. — Ты что, пехота? Сто верст отмахал, еще охота? — подтрунил Шустов над пешим человеком, но, видимо, нарочно, чтобы стеснить Бабина, пустил солдата третьим в кабину. Бабин помалкивал. Тут он весь — Шустов: огорошит человека, потом пожалеет. Как будто забыв о присутствии радиста, Шустов разговаривал с солдатом, но все, что ни говорил он, относилось только к Мише Бабину. Сколько тут было язвительных намеков! — Видите ли, дорогой товарищ, всякая задача оказывается простой после того, как вам ее растолкуют. (Это намек на то, что Бабин ждет ключа от шифрослужбы.) — Видите ли, гвардии попутчик, в разведке надо иметь воображение ребенка и терпение ученого. (Это намек на мнимую тупость Бабина). Все било в цель! Бабин даже зашевелился, на радость Славке… Между тем они дружили. Дружба их началась еще в забитых снегами донских хуторах. В танковом корпусе Славка Шустов был сержантом, мотоциклистом в группе связи, а Миша Бабин, как и теперь, — рядовым. В глубоком рейде по тылам противника он отличился как блестящий коротковолновик и знаток немецкого языка. Его стали ценить, только с воинской выправкой у него не получалось: козыряя, он нелепо подпрыгивал, и звали его в роте «радиосыч». Щеки его зарастали белым пухом. Длинные ноги всегда аккуратно обернуты обмотками. Страдая флюсами, он часто подвязывал щеку. Впечатление чудаковатости еще усиливалось оттого, что одно веко у него было чуть толще другого, так что казалось, что он косит. К тому же бывал задумчив, самоуглублен. Шустов, оглядев его однажды под веселую руку, заметил вслух, что радист здорово смахивает на фигуру с известного плаката «Разгром немцев под Москвой». Все развеселились… И ничего бы, да тут записной остряк Савушкин решил уточнить — обозвал Бабина «Фрицем». Миша покраснел и не знал, как ответить. Шустов тоже покраснел: чувство справедливости, горячее, почти детское, заставило его пережить чужую обиду как собственную. Первым движением души было желание турнуть Савушкина за порог. Но Шустов сдержался. Ехидно наклонив набок чубатую голову, он сказал лысому толстяку Савушкину: — Чижик (это было сказано очень нежно), может быть, вы извинитесь перед товарищем Бабиным? — А чего мне извиняться? — уклончиво возразил Савушкин, заметно побаивавшийся Шустова. — Ты сам про плакат вспомнил. — Да, но кто тут произнес иностранное имя? — За иностранное имя могу извиниться. Подумаешь… Славка наставительно заключил: — Теперь порядочек. Можете продолжать свои занятия. Жуйте воблочку… Тогда-то и зародилась дружба. То, что сержант на три года моложе рядового, вызвало у последнего припадок почти материнской нежности. И то, что Славка умеет сердиться, презирает напудренных женщин, любит опасные скорости, хранит запас трофейных продуктов в багажнике; и то, что лучше всех штабных шоферов вытягивается перед командирами; и то, как влюбляется скрытно; и то, как стесняется, что немножко знает немецкий язык, и как любопытен (есть у него потайная тетрадочка, там все пройденные города, села, даже хутора записаны на память), — все это вызывало у Бабина гордость за Славку. Шустов в ту пору щеголял в куртке-кирзовке (на черных петлицах — эмблема: танки), на боку — планшет и финский нож с янтарной рукояткой. И был у него трофейный аккордеон, на котором готической вязью на перламутре было начертано: «Адмирал Соло». Славка нашел его в разгромленной немецкой автоколонне, долго не мог научиться играть даже самые пустяковые мелодии и однажды сунул своего «Адмирала» девчатам в санитарную машину: «Нету у меня слуха, везите его от меня подальше!» Был он шумный, озороватый и, в общем, отважный парень. Один раз, когда горела станица и трудно было в столбах пламени провести автоколонну, а кругом сугробы… не объедешь, — Шустов первый показал дорогу шоферам сквозь огонь. И когда один мальчик, из хуторских, подорвался на мине, Бабин сам видел, как Славка подошел к нему, осмотрел его вытянутые страшные ручонки (вместо пальцев красные, будто полированные шарики), молча усадил в коляску мотоцикла и под шрапнельным обстрелом вывез по степному грейдеру в тыл, к медсанбатовским хирургам. С кем же и дружить на фронте, если не с таким человеком! Не стесняясь, Миша Бабин признался Славке в том, что вся душа его осталась дома, в Ярославле, где ждут его важные дела, и он опасается, как бы после войны не задержали его как радиста в армии. В этой дальновидности Славка поначалу усмотрел весь его характер: педантичный и достаточно себялюбивый. С нескрываемым изумлением Шустов вглядывался в человека, который еще в донской степи предвидит последствия грядущей победы и больше смерти опасается старшинских лычек. Превратности войны снова свели их, уже в контрразведке, на Днепре. Бабина перевели на слежечную радиостанцию. Вскорости и Шустов был откомандирован в контрразведку. Когда при поимке немецкого резидента погиб адъютант полковника Ватагина, замечательная езда Шустова на мотоцикле, расторопность его и даже красивый почерк были примечены — его назначили сперва временно, а потом и приказом на должность погибшего, хотя, как позже выяснилось, мечтал Слава совсем не об этом. Производство в офицеры не отдалило Шустова от Бабина, — последний оценил это по достоинству. Славку с его неукротимым интересом ко всему, с чем он соприкасался, привлекала в Мише его серьезная отзывчивость. Однажды он рассказал Мише, что держал экзамен в студию театра имени Вахтангова и провалился, потому что дикция никуда не годится: будучи москвичом, он все шипящие произносит, как одессит, смягченно — «на позицию девушька пров-ж-жьала бойца»… Но Миша ничуть не посмеялся, а, наоборот, долго рассказывал, что где-то читал, будто народный артист Певцов был даже заикой и, однако, ничего: сумел преодолеть на сцене. Да, что касалось начитанности и вообще образования, тут Шустов отстал от Бабина: тот еще до войны заочно учился в Институте связи и на фронте не расставался с учебником радиотехники, изучал языки и даже чертил, «чтобы не разучиться», а Шустов только и умел, что красивым почерком выписывать документы. Не было у него за душой даже десятилетки, даже аттестата зрелости… В эти дни на Днестре, когда, перегоняя радиостанцию, друзья снова оказались вместе, Шустов поделился своим новым замыслом: стать оперативным работником разведки и после войны не расставаться с полковником Ватагиным. Тут у них впервые возникли разногласия: Миша невысоко ценил Ватагина, считал человеком несолидным. — Тяжело с ним работать. Он все загадками говорит, — заметил Бабин. — Так ты догадывайся. На что нам голова дана? — Да он больно хитро загадывает. Непонятно. Темнит просто… — А я всегда понимаю, — упрямо повторял Славка. Он не умел объяснить Бабину, что понимает полковника потому, что любит его и с чуткостью любящего человека угадывает его мысли и настроения. Не многим было на войне так трудно, как Мише Бабину. На редкость консервативный для своего возраста, он никак не мог привыкнуть к бестолочи, неразберихе, которые, с его педантичной точки зрения, и составляли сущность фронтового быта. Он нес радиовахту не просто добросовестно, а самоотверженно. Но сутолока войны была ему непонятна, и он не привыкал к ней. Поэтому он, молодой и здоровый парень, уставал больше других и всегда казался угнетенным. Мама была краевед, влюбленный в ярославскую старину, а папа — один из самых популярных людей в городе, лучший врач. Может быть, поэтому Миша хотел бы всегда жить в Ярославле. Он еще не- знал, чему посвятить свою жизнь: древним соборам или новым заводам родного города, и пока что работал в местном радиовещании и учился. Он высмеял бы каждого, кто сказал бы, что он мечтатель. Однако наедине с собой строил самые фантастические планы, связанные е будущим величием Ярославля… И над всеми этими заветными мечтами и туманными Мишиными соображениями потешался в тот день на чужбине в добруджинских песках лучший друг — Шустов. Он знал, чем допечь флегматика за оскорбление. — Видите ли, служивый, — говорил Шустов солдату, искоса взглядывая на Бабина, — встречаются на фронте и такие, которые даже старшинские лычки боятся заработать: как бы их в армии лишний час не задержали после победы… Все било в цель! …Пыль застлала дороги Добруджи. Радиостанцию, как ни хитрил Шустов, затерла артиллерия главного командования, а ведь известно, что для виртуозной езды на военно-полевых дорогах нет хуже помехи, чем артиллерия на марше. Сквозь облака пыли Шустов ловил силуэт впереди идущего орудия. Пыль скрипела на зубах. В пылевых завесах маячили артиллеристы-сигнальщики с флажками: — По местам! — Мотор! — Марш!6
Шестого сентября в Софии началась забастовка трамвайщиков и рабочих железнодорожных мастерских. Демонстранты заполнили улицы. Полиция стреляла. Летели стекла трамвайных вагонов. На кладбище народ возлагал венки на могилы казненных, шли митинги. Еще день — и повсюду, на площадях и улицах столицы, вспыхнули красные стяги:«Долой фашистскую диктатуру!», «Да здравствует Отечественный фронт!»В германском посольстве никто из служащих не расходился по домам. Было известно, что господин посол, фанатически верующий католик, ночью «получал наставления божьей матери», а супруга посла собственноручно заколачивала ящики для отправки в Германию (чтобы не стучать громко, молоток был обернут в тряпку). Прежде чем кануть в неизвестность, германские чиновники самых высших рангов, вчера еще гордые своими званиями, заслугами, связями, унизительно склочничали и интриговали. Будущее для них уже переставало существовать, наедине с прошлым оставаться было страшно. Посольская мелочь — адъютантура из общего отдела, офицеры-переводчики — одни продолжали гнуть спины над бумагами, лишь отодвинув столы подальше от окон; другие находились как бы в состоянии некоего опьянения; третьи спекулировали чем попало. Советские войска в Румынии вышли всем фронтом на Дунай и со дня на день должны были перейти болгарскую границу. Народная революция придвинулась вплотную к широким бемским стеклам посольского особняка. Берлин давал взаимоисключающие распоряжения. Персонал продолжал видимость работы, как будто великая империя еще пряла свою пряжу. Однако нити рвались каждую минуту: фельдъегерская служба, авиасвязь, наконец телефон начинали отказывать. И когда это понял господин посол, он сообразил и то, что немцы в Софии предоставлены самим себе, своим благоразумным решениям. Впервые господин посол покинул здание в таком необычайном виде: в щеголеватом смокинге и с автоматом в руках, спрятанным под ангорским пледом. В ближайшем переулке — лишь бы не на глазах сотрудников — посол попросил шофера снять с машины нацистский вымпел. Пока пробивались к царскому дворцу, они видели, как народ разоружал полицию. Всюду слышалось пение «Интернационала». В окно машины заглянула самодельная кукла, повешенная на палке, и господин посол смог убедиться, что чучело очень похоже на фюрера. Во дворце была та же паника, что и в посольстве. — Вы сумели проехать невредимо? — спросил посла Германии министр иностранных дел. Они сидели в глубоких креслах, прислушиваясь к отдаленному гулу уличной манифестации, — тучный болгарин с бульдожьими, провисшими щеками и неповоротливой шеей и тощий немец с гладкой рачьей головой и моноклем под удивленно приподнятой бровью. — Тревожные подробности, господин посол… — Что делать. Наши войска отступают из Румынии. Планомерный отход… — Планомерный? По планам, составленным в Москве? Посол облизнул губы. Никогда с полномочным представителем фюрера в Болгарии не говорили так дерзко. — Прислушайтесь, — продолжал министр. — Этот сброд создает свой общественный строй, угодный ему. Как говорится: «народ решает вековые вопросы». Тревога поселилась в покоях царского дворца. Какая-то женщина с испуганными глазами (послу показалось, что это княгиня Евдокия) трижды заглядывала в дверь кабинета, пока министр с беспримерной откровенностью сообщал германскому послу о том, что ввиду чрезвычайности событий правительство Болгарии сочло нужным тайно отправить своих делегатов в Каир — к англичанам, в штаб-квартиру фельдмаршала Александера. — До этого дня никто не отваживался известить вас об этом, господин посол. Но теперь, надеюсь, и вам ясно: революцию в Болгарии может предотвратить только энергичное вмешательство Запада. Британские лидеры отлично понимают, что социальная катастрофа на Балканах ставит под удар гегемонию Англии на Средиземном море. Руки немца исполняли на ручке кресла какую-то мелодию, пока он молча выслушивал немыслимые заявления болгарина. Министру не мешало бы поторапливаться, как и всем во дворце, но он был не в силах отказать себе в удовольствии унизить фамильярной откровенностью своего вчерашнего хозяина. И долго еще болгарский фашист рассказывал немецкому о возможном «греческом варианте» событий — там, в Греции, англичане ведут бои с партизанами, которые четыре года сопротивлялись немцам; американское оружие поддерживает Монархистов; он рассказывал о том, что румынский король тоже направил в Каир секретную миссию: князя Барбу Штирбея и Константина Вишояну. Германскому послу пришлось все это выслушать прежде, чем болгарский министр соблаговолил приблизиться к цели аудиенции и заверил его в том, что, храня свою верность великой Германии, он дает дипломатическому корпусу гарантии безопасной эвакуации — поезд до турецкой границы, полномочного чиновника и соблюдение тайны.
 Посол встал и, стоя, поблагодарил.
— Все ли уедут с этим поездом? — осведомился министр.
— Может быть, один — два второстепенных сотрудника задержатся на несколько дней. Личные дела требуют времени для ликвидации. Все-таки пожили у вас… Какую конюшню оставляет вам граф Пальффи!
Рачья голова посла, кажется, изобразила улыбку. Бульдожьи щеки болгарина тоже весело подобрались.
Сопровождаемый начальником протокольного отдела, посол шел по дворцовым анфиладам, когда мимо него прокатили бочонок.
— Что за бочонок?
— Это вам подарок от царицы Иоанны. Розовое масло.
В том душевном состоянии, в каком пребывал посол, он понял не сразу, что именно этот крестьянский бочонок с буковой затычкой, грохочущий по навощенным мозаичным паркетам дворцовых апартаментов, убедил его в том, что медлить нельзя.
И с этой минуты планомерная эвакуация из Софии гитлеровских дипломатов превратилась в паническое бегство.
Не прошло и часу — и стража, охранявшая посольские ворота, увидела, как сам посол Германской империи бежит, спотыкаясь, к автомобилю, охватив обеими руками полный бумаг плоский ящик от письменного стола. За ним два рослых эсэсовца катили по асфальту бочонок.
Посол встал и, стоя, поблагодарил.
— Все ли уедут с этим поездом? — осведомился министр.
— Может быть, один — два второстепенных сотрудника задержатся на несколько дней. Личные дела требуют времени для ликвидации. Все-таки пожили у вас… Какую конюшню оставляет вам граф Пальффи!
Рачья голова посла, кажется, изобразила улыбку. Бульдожьи щеки болгарина тоже весело подобрались.
Сопровождаемый начальником протокольного отдела, посол шел по дворцовым анфиладам, когда мимо него прокатили бочонок.
— Что за бочонок?
— Это вам подарок от царицы Иоанны. Розовое масло.
В том душевном состоянии, в каком пребывал посол, он понял не сразу, что именно этот крестьянский бочонок с буковой затычкой, грохочущий по навощенным мозаичным паркетам дворцовых апартаментов, убедил его в том, что медлить нельзя.
И с этой минуты планомерная эвакуация из Софии гитлеровских дипломатов превратилась в паническое бегство.
Не прошло и часу — и стража, охранявшая посольские ворота, увидела, как сам посол Германской империи бежит, спотыкаясь, к автомобилю, охватив обеими руками полный бумаг плоский ящик от письменного стола. За ним два рослых эсэсовца катили по асфальту бочонок.
7
На рассвете следующего дня был задержан на полустанке, невдалеке от турецкой границы, шедший вне графика поезд из пяти игрушечных дачных вагончиков, какие курсируют только на пригородных линиях. Подпоручик Атанас Георгиев еще ночью арестовал путевого начальника. Солдаты сговорились с крестьянами. Два стрелочника забросали колею шпалами. Несколько поодаль старый виноградарь Иван Севлиев с детьми ночью, при звездах, разобрал ограду своего поля и завалил путь камнями. Тридцать солдат пограничной заставы, вооруженные немецкими автоматами, наскоро отрыли на путях одиночные окопы. Железнодорожники установили связь по телефонному селектору с Софией, и всю ночь подпоручик оставался с двумя коммунистами-путейцами в дежурной каморке у аппарата. Поезд прошел беспрепятственно до самого завала. Но тут началась перепалка. Высунувшись из окна паровоза, машинист стал ругаться. В эту минуту два человека (впоследствии оказалось: помощник военного атташе фон Гюльзен и итальянский майор Грациа) открыли с паровозного тендера стрельбу из автоматов. Болгары немедленно стали стрелять по окнам. Автоматные очереди и звон стекол смешались с немецкой, итальянской, венгерской бранью и ни с чем не схожими японскими проклятиями. Затем стрельба прервалась. Знойный полдень застал всех на своих местах. Труп правительственного чиновника лежал на рельсах у вагона. Мирный паровозик, попавший в переделку, пускал пары в тени старой сливы — всего лишь в десяти шагах от семафора, увитого до самого верха виноградной лозой. Дожидаясь у селектора распоряжений главного штаба Народно-освободительной армии, подпоручик Атанас Георгиев почувствовал знакомые признаки малярийного озноба. Он продрог и распахнул дверь диспетчерской, чтобы в дежурку дохнуло зноем. Так и стоял в открытой двери этот хмурый человек с лимонно-смуглым лицом, поглядывая на ненавистную ему публику из той вражеской своры, которая объела все виноградники, отряхнула все вишни и яблони его маленькой родины и заставила молодых женщин уйти в погреба, подальше от дневного света. Никогда раньше подпоручик Георгиев не видел партизан, но сейчас без страха ждал их возможного появления. Он не любил германофильски настроенных чиновников и маленьких политиков глухой провинции. В сущности, подпоручик был не военным, а сельским человеком. Его сослуживцы по армии отдавали своих детей: одни — в немецкие, другие — во французские колледжи. Атанас любил Россию. Любить Россию учили его с детства книжки Вазова, Каравеллова, Ботева и память о дяде-коммунисте, эмигрировавшем после восстания 1923 года в далекую Аргентину, и та ополченская медаль, которую в детстве видел Атанас на груди деда, участника русско-турецкой войны. Когда-то мать рассказала Атанасу историю о том, как в ту освободительную войну умер в Казанлыке русский офицер; его похоронили в новом мундире, а в старом бабка нашла в кармане ореховую шкатулку и в ней кусочек дерева — от «креста господня». И эта шкатулка русского офицера, погибшего от ран на болгарской земле, хранилась в крестьянской семье как святыня и тоже связывала душу Атанаса с Россией. Так всегда было: враги Болгарии — враги России. И подпоручик Георгиев, хмурясь от малярийного озноба, спокойно ждал у дверей диспетчерской. Он ждал друзей родины: болгарских партизан, русских солдат, ждал и дядю-коммуниста, хотя черты его лица давно уже стерлись в памяти Атанаса. К полудню пассажиры дачных вагонов осмелели: они выползли на перрон. Костлявый немец зонтиком загонял в купе своих отпрысков, выскочивших из вагона поиграть в серсо. Два итальянца в одинаковых спортивных костюмах убеждали румынскую секретаршу в лиловой пижаме пешком идти в Турцию. Финский атташе, тоже показавшийся на площадке, злобно плевался виноградными косточками. Общее внимание привлек глава дипломатического корпуса. С белым платком в правой руке и тростью в левой он медленно приближался к Атанасу Георгиеву. Подпоручик выслушал гитлеровца, облокотясь о дверной косяк. — Я категорически требую немедленного пропуска через границу! — в повышенном тоне настаивал посол. — Не будет. — Я протестую! Я персона грата… — Говорите по-болгарски. — Я требую телефонной связи. — С кем вы хотите говорить? — С генерал-лейтенантом Миховым. — Еще с кем? — С князем Кириллом. — Еще? — С царицей Иоанной! — Я могу вас связать с путевым обходчиком Радко Данчевым. Он сидит у аппарата в Софии, — хмуро сказал подпоручик. Посол вращал глазами, мешал болгарские слова с немецкими (словно распекал царицу Иоанну) и тыкал тростью с серебряным набалдашником в сторону зеленых холмов. Они темнели в знойной дымке над бархатно-мшистой черепицей болгарского села. Эти холмы находились по ту сторону границы, в Турции. Толпа путевых рабочих и крестьян-виноградарей подходила с красными полотнищами к перрону. Впереди со знаменем в руках шел уважаемый учитель Никола Цвятков, вчера освобожденный ив темницы. Рядом — его товарищ по камере Радко Чолаков, седой старик, не снявший тюремного халата. Он шел и потрясал бледным кулаком. Посол направился к вагону. Трость выпала из его руки, он поднял и побежал. В толпе раздались голоса: — Кровь за кровь! Смерть фашистам! Пусть ответят за всё! Подпоручик Георгиев хмурился, но не от какой-либо внешней причины, а от малярийного озноба, который окатывал его морозом в знойный полдень. День же был необыкновенный, единственный в жизни. По селектору софийские товарищи сообщили, что советские танки уже форсировали Дунай и сейчас приближаются к Варне. В столице все население на улицах. 9 сентября будет великим днем Болгарии. Какой-то неизвестный друг передал по селектору слух, разнесшийся по столице: Георгий Димитров уже в Болгарии. Этим героическим человеком гордилась страна. «Что делать с господами хорошими? — размышлял подпоручик о задержанных им фашистах. — Ясно, что они готовят вылазку, чтобы пробиться в Турцию, и ночью им это может удаться…» Подойдя к митинговавшим крестьянам, Георгиев отозвал в сторону учителя: — Надо дело делать. Помогите нам: незаметно оцепите полустанок вторым кольцом. Окопайтесь. Я вам дам оружие… И через несколько минут полустанок опустел. Отобрав пятерых самых отчаянных пограничников, Атанас Георгиев ворвался с ними на площадку вагона. Пассажиры были застигнуты врасплох. Только двое, с пистолетами в руках, загородили вход, но болгары выбросили одного в окно, другого заслонил собой посол. — Руки вверх! Подпоручик вступил в коридор, раскаленный в этот послеобеденный час. Он заглянул в купе, дверь которого поспешно прихлопнул за собой посол. Стоя спиной к двери, жена посла что-то поспешно прикрывала под столиком. Подпоручик отстранил немку и увидел бочонок: — Что это? Знакомый приторный запах, напоминавший благоухание цветущих роз, пощекотал ноздри болгарина. Его знобило в этом раскаленном купе. И на мгновение показалось, что чудный аромат, может быть, только мерещится… Посол Германии плыл перед воспаленным взглядом Атанаса Георгиева в облачке тонкого розового запаха. — Откуда бочонок? — задохнувшись, спросил подпоручик. — Вы забываетесь, офицер! Это подарок царицы! Атанас Георгиев родился и вырос в Казанлыкской долине — в долине розовых плантаций. С матерью и сестрами он каждое лето собирал лепестки с маленьких тернистых кустов. Однажды отец повел его в Казанлык, на фабрику, где в котлах, капля за каплей, выдавливался из многих сотен мешков розовых лепестков самый дорогой в мире экстракт — тот, что по капле примешивается для стойкости к лучшим парижским духам… Это был воистину трудовой пот крестьянской семьи. В родительской спаленке, за образами, хранился флакончик с урожаем — все достояние отца. Каждая чайная ложка розового масла стоила половину нынешнего офицерского жалованья подпоручика. — Подарок царицы?… — раздельно произнес Атанас и вдруг разразился безобразным турецким ругательством. — Розовое масло?… Он взял немца обеими руками за крахмальный пластрон рубашки и потряс, как тряс однажды на казанлыкском базаре вора, укравшего у вдовы Марийки корзину слив. Затем, набравшись терпения, подпоручик Георгиев подождал, пока посол трясущимися руками привел себя в порядок, и приказал солдатам начать по всем вагонам изъятие документов. — Всю бумагу! Всю! До листка… Через час Атанас Георгиев с сухим, пылающим лицом, шатаясь от жара, прошел по путям на виду у всех пяти вагонов. Следом за подпоручиком солдаты провезли на тачке посольскую переписку. Солнце садилось за зелеными холмами. Остаток вечера подпоручик провел в селе, в своей квартире, выложив пистолет на стол. Восемнадцать посольских баулов, аккуратно сложенных у стены, занимали чуть ли не полкомнаты. Хозяйка дома, старая Костадинка, напоила больного крепким чаем. Его трясло и размаривало. Изредка с полустанка приходили солдаты, железнодорожники, а то и крестьяне — доложить о происходящем. Тревога сквозила в словах связных: поезд как будто вымер. Наступила темная южная ночь.8
Как раз в это время генерал-майор Машистов и полковник Ватагин были вызваны в один из домиков на окраине придунайского румынского городка. Здесь, в надежно оцепленных переулках, со вчерашнего утра разместился Военный совет фронта. Когда они тихонько вошли в ярко освещенную комнату, докладывал у карты начальник Ветеринарного управления Амвросиев. Это было так неожиданно, что, усаживаясь в дальнем уголке, они даже переглянулись. Может быть, их вызвали слишком рано? Сухощавый, поскрипывающий, как седло, новенькими ремнями, генерал Амвросиев показывал прутиком на карте, повешенной на стене, очаги распространения сапа, с которым встретились на путях наступления конные обозы. Сорок лошадей пало в течение последних двух дней. Все признаки злокачественного заболевания: язвы на губах, истечение из носа, короткое сопящее дыхание… А в изоляторах фронта находится еще более двухсот лошадей, положительно отреагировавших на маллеиновую прививку. По тому, как шел обмен мнений, полковник Ватагин понял, что командующий встревожен. Как бы ни была механизирована боевая техника целых корпусов, обозы есть обозы. На войне нет мелочей, все взаимодействует. В условиях массового передвижения обозов и большой скученности конного парка, особенно на переправах, любая эпизоотия угрожала замедлить темпы преследования разгромленного противника. Начальник Ветеринарного управления заметно струхнул и, кажется, о чем-то важном недоговаривал, — видно, не решался. Главный ветеринарный врач, полковник Джанкой, бравый старик с жесткой, как скребница, щеткой рыжей шевелюры, когда ему дали слово, высказался определеннее: — Подозреваем диверсию противника! С этой минуты Машистов и Ватагин сообразили, что они не зря вызваны. Все возможно. Войска недавно прошли Украину, где гитлеровцы, отступая, сумели оставить за собой повальную чуму домашней птицы. — А вы как думаете? — снова обратился командующий к Амвросиеву. И на такой прямой вопрос тот ответил уклончиво: — Все может быть. Однако даже в учебниках сказано, что именно на Балканах, да еще в Турции, всегда наблюдается сильное распространение сапа лошадей. Что ж удивительного… — Однако там же можно прочитать, что на Балканах господствует скрытая, хроническая форма заболевания! — энергично возражал полковник Джанкой. — А здесь мы наблюдаем острейшие формы, как будто в кормушки подсыпаны целые пригоршни сапных палочек! — Что ж, большая скученность поголовья… — не очень убежденно твердил свое генерал Амвросиев и снова успокоительно цитировал справочники: — В 1926 году, например, в одной Болгарии было зарегистрировано четыре тысячи двести четырнадцать сапных лошадей. Однако никто не подозревал диверсию… — Умней ничего не придумали? — устало вмешался командующий. — Если верна кавалерийская поговорка, что «человек делает коня», то человек и сап может сделать. Вы наших чекистов не разоружайте. Их дело — бдительность. Не так ли?… Полковник Ватагин уже, наверно, кое-что намотал на ус. И все заулыбались, поглядывая на сидевшего в углу с виду неторопливого, мешковатого, задумчивого полковника. Второй вопрос, обсуждавшийся в эту ночь, касался непосредственно Машистова и Ватагина, и, когда ветеринарное начальство покинуло комнату, командующий вкратце ввел контрразведчиков в курс дела. Друзья из Болгарии только что сообщили по радио, что фашистские дипломаты уже бежали из Софии в специальном поезде в направлении турецкой границы и там, на полустанке, задержаны крестьянами и пограничниками. Активно действует некто Атанас Георгиев, подпоручик. Он уже разоружил фашистов, солдаты перетащили к нему на квартиру все посольские архивы и канцелярию; он просит помощи. Дело ясное: нужно отправить воздушный десант. Болгары обещают приготовить посадочную площадку. — Это надо сделать! И чем быстрей, тем лучше, — заметил Машистов. — Я тоже так думаю… А почему? — Да потому, что эфир — такая вещь: слушают все, кому не лень. Так что в квартиру Атанаса Георгиева, возможно, уже сейчас стучатся… Тут спора не было. Командующий подвел черту: — Значит, решено? — и, чтобы вернуть событию его подлинные масштабы, заключил угрюмой шуткой: — Остальное — дело техники: отправьте на самолетах дневальных комендантской роты. Член Военного совета тоже усмехнулся: — Видать, припугнули мы их, нервы не выдерживают… И разговор снова перешел на дела ветеринарные. Ватагин не участвовал в спорах. Молчал. Вдруг в памяти его возникла немецкая позывная — «Фюнф хуфайзен фон айнем пферде»… Так неожиданно вспомнилась в разговоре о сапе эта загадочная фраза о пяти подковах с одного коня, что полковник тут же зашептал с улыбкой об этом на ухо своему начальнику. Машистов выслушал и тоже улыбнулся: — Ждите! Так они и раскроют вам в условной позывной суть диверсии. Дети, что ли? — Да, это верно. Однако забавное совпадение. В ожидании полковника Шустов во дворе болтал под стук движка с генеральским адъютантом. Оба понимали, что их начальники, наверно, получают серьезное задание, но об этом не принято было говорить. И они от нечего делать делились заграничными впечатлениями. Генеральский адъютант рассказал о хозяине дома, где они с Машистовым квартировали: — Этот господин-то Арам хорош. Когда стали у него на постой, любезничал, угощал сливянкой, в приятельство ударялся. А утром смотрю: дочка возвращается домой с подушкой. Дочку, значит, подальше отослал на ночь, не доверяет русскому человеку. Сам прохвост и других по себе мерит. — Ну, знаешь ли… — по справедливости возразил Шустов. — Пока ты в доме, я бы тоже поостерегся. Заговорили о девушках — о своих и здешних. Шустов рассказал, какое он здесь увидел такси — специально для свадеб. Придумают же! На крыльях саженные свечи, перевитые лентами и гирляндами. А сама машина — ну просто гроб, «модель моей бабушки». Вот ведь буржуазная дурь! — А в деревнях нищета. В постолах ходят. Начальники всё не шли — дело и впрямь, видно, очень серьезное. Командующий зря не задержит. — Что-то твой похудел, — заметил генеральский адъютант о Ватагине. — Езды много. А «виллис» кого не растрясет, — уклончиво сказал Шустов. Не хотелось признаться, что только вчера он вернулся к полковнику. Он и сам обратил внимание на то, как тот осунулся в дни наступления. Со слов Ватагина он знал, сколько было у него работы. За Днестром к нему привели многих «старых знакомых». Их след тянулся от Пятигорска, от Павлограда, от Николаева. Полковник допрашивал ночью и днем в погребах, в тени танков, в густой кукурузе… где придется. Шустов выслушал все это с завистью — вот каких впечатлений он лишился, пока возил фургон с унылым Бабиным! Сейчас в разговоре с генеральским адъютантом не хотелось бередить свою обиду. — Писем давно нету, — заметил собеседник. — Полевая почта отстала. Не угонится за нами… И они окончательно умолкли, задумавшись каждый о своем под ночной стук движка. Ватагин подошел к машине внезапно. Срочно послал Шустова за майором Котелковым. — Знаешь, где искать?… На обратном пути прихватите Бабина. И — сюда! В темном переулке майор уже дожидался машины у ворот. Значит, по телефону предупрежден. Мишу Бабина пришлось расталкивать: он спал, как сурок. Шустов помчал их по сонному городку. Котелков сидел рядом. Бабин терпеливо мотался на заднем сидении. — Что бы все это значило, товарищ гвардии майор? — спросил Шустов, как обычно, с подходцем. — Что-нибудь да значит, — бодро ответил Котелков. — Мы здесь — не фиги воробьям давать! Шустов вспыхнул, но промолчал. Когда же наконец майор научится с ним разговаривать по-человечески! Впрочем, он со всеми такой — грубый, плохо воспитанный человек, в частях держится высокомерно, командует. Смелый до чертиков, это точно, а действует нахально. Разве ж это чекист! Полковник верно однажды о нем отозвался: «Высади его с десантом в пустых плавнях Дуная или хоть на луне, он только гаркнет на хлопцев своей бессмысленной присказкой: «Мы здесь — не фиги воробьям давать! За мной!» Никакого интереса к обстановке. Политически незрелый товарищ…» И хоть бы раз майор Котелков взял с собой в операцию Славку Шустова. Этого не было никогда. — Товарищ майор… — просительным тоном снова начал Шустов. Котелков грубо хмыкнул: — Слушайте, Шустов, ведите машину и помалкивайте. И не просите — не будет. Еще молоко на губах не обсохло… — Вам так кажется, товарищ майор? — вежливо переспросил Шустов и сильно встряхнул машину на повороте. В эту минуту он ненавидел Котелкова. Не прошло и часа, как Шустову все стало ясно, как если бы он всю ночь просидел в Военном совете. Котелков возглавляет опергруппу: воздушный десант в глубоком тылу противника. Летят на двух «Ли-2», даже без прикрытия: ради полной конспирации. Головным идет летчик Колдунов — бесстрашный Колдун, сделавший двести ночных полетов в осажденный Севастополь. С Котелковым — тридцать ребят с автоматами, два отряда. Во главе второго — капитан Цаголов. Подготовка к операции, как всегда, проводилась в полной тайне, не было привлечено ни одного лишнего человека. За час Шустов трижды побывал на аэродроме: то подвозил Ватагина и Котелкова, то Мишу Бабина с радиопередатчиком. Миша тоже летит. Полковник настоял на отправке Бабина: может быть, захватим ту, софийскую, радиостанцию, тогда радист пригодится — устроить ловушку. — Сможешь их обдурить? — спрашивал полковник в машине Бабина. — Так и кричи по-немецки: «Фюнф хуфайзен фон айнем пферде». Посмотрим, где отзовется. Бабин кивал головой, соглашался, но ясно было, что все это ему не очень по душе: в такой операции раз плюнуть старшинские лычки заработать. Давно не чувствовал себя младший лейтенант Шустов таким униженным. Ненавистный Котелков забыл о нем. Гордость запрещала Славе попросить самого полковника. И он сидел в машине нахохлившись, мрачно поглядывая по сторонам. Обидно было, что Миша Бабин летит, а он, Шустов, только возит. Все же, поборов недоброе чувство, Шустов догнал Мишу у самолета. Вспомнил: летит, чудак, без свитера, а в воздухе будет холодно, лейтенанты — вон как одеты. — Где он у тебя? В чемодане? Я враз за ним смотаюсь. Замерзнешь! — Спасибо, Слава. Не надо. Все распри забыты, и Бабин это ценит. Славка — настоящий товарищ, и жаль, что его не берут. Бабин ведь слышал, как адъютант просил майора Котелкова взять его с собой в десант, хотя бы на помощь радисту: аппарат таскать. Котелков отрывисто рассмеялся: «Бодливой корове бог рог не дает, — и успокоил: — Вы полковнику понадобитесь — тут не заскучаешь». Лейтенанты поспешно докуривали папироски, прежде чем войти в самолет. Шустов с завистью и тоской наблюдал, как Ватагин пожимает руки Котелкову, Цаголову. А Колдуну сказал что-то, чего Слава не расслышал. Десантники с автоматами взбегали по лесенке. Шустов постеснялся поцеловать Бабина, только сунул ему зачем-то кожаные перчатки и финку с янтарной рукоятью. Миша был бледен — может быть, из-за ночного холодка. Две тяжелые птицы, нехотя поворачиваясь, нагоняя ветер, пошли вперевалку по выгоревшей траве набирать скорость, потом оторвались от взлетного поля и взяли курс на юг. Ватагин и Славка молча возвращались с аэродрома. Лишь у квартиры полковника, когда младший лейтенант остановил машину, Ватагин посмотрел на него. Это была сцена без слов. — Ты на судьбу не жалуйся, Слава. Иди спать. Отдыхай. Откуда мог догадаться полковник о том разговоре, который был у Шустова с Котелковым?9
Поздно ночью над болгарским селом раздался тяжелый гул моторов. Было ясно, что летит самолет. Но чей? Если американский, то будет бомбить. А что, если немецкий, на выручку своим? Тогда сражаться насмерть! Во всех дворах взахлеб надрывались собаки. По кирпичным ступеням в погреба бежали женщины и дети. Виноградари сходились на улицах. Чей?… Два самолета делали круги над селом и вдруг доверчиво засветили бортовыми окнами. — Русские летят! Ай да руснаки! Сотни людей, обгоняя друг друга, устремились на широкий луг. Самолет шел на посадку по свету костров, наскоро разложенных пастухами. Тяжко подпрыгнув, он наконец остановился. В свете костров было видно, как выскочил офицер, за ним посыпались другие, — много их, и у всех в руках автоматы. — Отставить оружие! — скомандовал советский офицер не то болгарам, бежавшим прямо на него, не то своим парням, стоявшим сзади. Второй самолет тоже шел на посадку. — Здравствуйте, братья болгары! Прошло не менее пяти минут, пока десант пробивался сквозь руки, протянутые для объятий. Отовсюду раздавались по-славянски щедрые возгласы: — Добре дошли, братушки!.. — Да живее Москва! В толпе слышался злой голос майора Котелкова: — Колдунов, береги самолет! Черт… Изломают в щепу! Миша Бабин, командовавший выгрузкой своей радиостанции, видел еще из двери самолета, как отбивался от крестьян майор Котелков. Каждая минута, сбереженная для броска, решала сейчас успех операции. — Цепью! Вперед! — Котелков обернулся: — Радист, за мной! Рядом с Котелковым бежал учитель Никола Цвятков: — Вы не тревожьтесь, господин офицер. Но Котелков не удостоил его вниманием. Навстречу от полустанка бежали болгарские пограничники. — Где начальник заставы? — крикнул издали Котелков. — Он отдыхает, господин офицер. — Отдыхать в могиле будем — понятно? — Его трясет малярия, господин офицер… Да здравствует Отечественный фронт!.. — Меньше слов, больше дела!.. — огрызнулся свирепый майор. Котелков знал главное: все решает внезапность. Еще в воздухе он решил немедленно отстранить болгар. Теперь эти пограничники с их офицерами показались ему совсем не внушающими доверия. Проще — без них! Пусть Цаголов выбросит засаду в сторону турецкой границы. Ворваться в вагоны — порядочек! По одному перебегали автоматчики железнодорожное полотно, накапливаясь на полустанке. Из окопа высунулся болгарский подофицер Славчев. — Где же ваш подпоручик? — с досадой снова спросил Котелков. — Тяжко болен… Малярия… — Ну, и мы тут — не фиги воробьям давать! — пробормотал Котелков сквозь зубы. Болгарин ничего не понял, он радовался, что в тени паровоза рядом с ним стоят русские и, значит, врагам не уйти. Подофицер опасался только, как бы русские сгоряча не подумали, что подпоручик — сам фашист. — А где бумаги посольства? — спросил Котелков. — Дома у Георгиева. Все в порядке, товарищ! — По вагонам! — крикнул Котелков. Несколько секунд на полустанке мелькали тени. Это десантники вскакивали на площадки вагонов. Два — три выстрела. Немецкая возбужденная речь. Чей-то крик… Бабин вслед за одним из автоматчиков тоже вскочил в ближайший вагон — он должен найти радиостанцию. Как ни возбужден был Бабин, он удивился тому, что увидел в свете «летучей мыши»: германский дипломат стоял перед майором Котелковым навытяжку. Он так нелепо тянулся перед майором, что напомнил Бабину одного пленного обозника, которого шоферы его автобата вытащили из засыпанного снегом стога в донской станице. Однако времени терять нельзя. Миша просунулся между майором и фашистом и смело пошел по всем купе. И немецкие офицеры поднимали при его появлении руки. Где же радиостанция?… — Взять вагоны под наблюдение! И чтобы мышь не проскочила!.. Давайте, братушки. Ведите к вашему подпоручику, — командовал Котелков. Освещая фонариками дорогу, Котелков с группой лейтенантов бежал по селу. Учитель задохнулся, отстал. Его сменил подофицер Славчев. Переулок был похож на каменную щель и круто стремился вниз. Впереди, за домами старобалканской застройки, послышался ропот горного ручья. Здесь пахло кожевенными мастерскими, кислым запахом дубления. Подпоручик Георгиев жил в последнем доме, над рекой. Дверь была открыта настежь. Котелков вошел первым. — Кто тут живой? — спросил из-за его плеча автоматчик. Прислушались — тишина. Только за окном шумел поток. Прошли еще две комнаты. — Господин подпоручик, вы спите? — спросил Славчев, заглядывая в горницу.
Котелков и автоматчики вошли вслед за ним.
Звездный свет ночи едва проникал сюда сквозь решетку полуоткрытого окна. В горнице пахло странной смесью кожи и пороховой гари. Котелков, широко расставив ноги, вглядывался в полумрак.Подпоручик лежал перед ним на тростниковой кушетке. Ужасно длинными казались вытянутые ноги в твердых, тяжелых сапогах. Лицо глядело в потолок. Что-то темное, как будто курчавое, напоминающее каракулевую шкурку, облегало его шею и плечи.
— Порядочек, — сказал Котелков.
Он подошел вплотную. Теперь он видел, что это за каракуль: широкая резаная рана в загустевшей кровавой корке. От шагов Котелкова узкая плетеная кушетка поскрипывала под трупом:
— Понятно…
Горница опустела. В доме слышались шаги солдат, их голоса. Славчев звал хозяйку:
— Костадинка! Где ты, Костадинка?
Котелков посветил фонариком. Вдоль стены лежали разбросанные баулы дипломатического архива. Видно, кто-то второпях рылся в них. Револьвер валялся на коврике под правой рукой Георгиева. Майор поднял, понюхал — подпоручик стрелял. Кровавые следы шли к двери. Котелков оглядывал горницу по порядку. Домотканое одеяло лежало брошенное на пол в ногах подпоручика. На гвозде висела фуражка с бело-зеленой кокардой. На столе стакан с недопитым чаем, облатки, наверно хина, косточки сливы на блюдце. На отсыревших стенах церковная картина с видом Иерусалима и тусклый портрет усатого и завитого мужчины времен оттоманского владычества.
Что же случилось здесь полчаса назад?
Болгарский солдат шепотом позвал майора.
— Кто был в доме? — спросил Котелков.
— Старуха. Больше никого. Она спятила, что-то бормочет.
Вслед за солдатом майор сбежал по крутой лестнице в кухню. Горный поток шумел под открытым окном, возле которого на низенькой скамеечке сидела старуха в черной шали. Она не замечала толпившихся в кухне солдат.
— Вот так гости… — оцепенело твердила она. — Вот так гости…
— Что говорит? — спросил у болгар Котелков.
— Бессмыслица, — ответил Славчев. — Не разберу, при чем тут…
— Вот так гости… — внятно твердила пораженная ужасом старуха. Гортанно и резко звучал ее голос.
В свете фонарика Котелков увидел, как подагрической рукой она поправила седую прядь.
— Послушай, мама, — тронул ее за плечо Котелков. — Ты не бойся, рассказывай. Мы — русские.
Старуха обратила на него застывший взгляд.
— Вот так гости. Они искали подковы. Я слышала: «Пять подков!.. Бързо, бързо… быстро!» Потом стали двигать стульями, как будто подметали пол. Потом — выстрел. Они пробежали по лестнице: один, за ним другой… Вот так гости…
— Ты их узнала, мама? — допытывался Котелков. — Это были болгары или…
Но, видимо, ужас мешал ей ответить членораздельно. В тишине снова стал слышен ропот горного потока.
— Вот так гости… — бормотала старуха.
— Господин подпоручик, вы спите? — спросил Славчев, заглядывая в горницу.
Котелков и автоматчики вошли вслед за ним.
Звездный свет ночи едва проникал сюда сквозь решетку полуоткрытого окна. В горнице пахло странной смесью кожи и пороховой гари. Котелков, широко расставив ноги, вглядывался в полумрак.Подпоручик лежал перед ним на тростниковой кушетке. Ужасно длинными казались вытянутые ноги в твердых, тяжелых сапогах. Лицо глядело в потолок. Что-то темное, как будто курчавое, напоминающее каракулевую шкурку, облегало его шею и плечи.
— Порядочек, — сказал Котелков.
Он подошел вплотную. Теперь он видел, что это за каракуль: широкая резаная рана в загустевшей кровавой корке. От шагов Котелкова узкая плетеная кушетка поскрипывала под трупом:
— Понятно…
Горница опустела. В доме слышались шаги солдат, их голоса. Славчев звал хозяйку:
— Костадинка! Где ты, Костадинка?
Котелков посветил фонариком. Вдоль стены лежали разбросанные баулы дипломатического архива. Видно, кто-то второпях рылся в них. Револьвер валялся на коврике под правой рукой Георгиева. Майор поднял, понюхал — подпоручик стрелял. Кровавые следы шли к двери. Котелков оглядывал горницу по порядку. Домотканое одеяло лежало брошенное на пол в ногах подпоручика. На гвозде висела фуражка с бело-зеленой кокардой. На столе стакан с недопитым чаем, облатки, наверно хина, косточки сливы на блюдце. На отсыревших стенах церковная картина с видом Иерусалима и тусклый портрет усатого и завитого мужчины времен оттоманского владычества.
Что же случилось здесь полчаса назад?
Болгарский солдат шепотом позвал майора.
— Кто был в доме? — спросил Котелков.
— Старуха. Больше никого. Она спятила, что-то бормочет.
Вслед за солдатом майор сбежал по крутой лестнице в кухню. Горный поток шумел под открытым окном, возле которого на низенькой скамеечке сидела старуха в черной шали. Она не замечала толпившихся в кухне солдат.
— Вот так гости… — оцепенело твердила она. — Вот так гости…
— Что говорит? — спросил у болгар Котелков.
— Бессмыслица, — ответил Славчев. — Не разберу, при чем тут…
— Вот так гости… — внятно твердила пораженная ужасом старуха. Гортанно и резко звучал ее голос.
В свете фонарика Котелков увидел, как подагрической рукой она поправила седую прядь.
— Послушай, мама, — тронул ее за плечо Котелков. — Ты не бойся, рассказывай. Мы — русские.
Старуха обратила на него застывший взгляд.
— Вот так гости. Они искали подковы. Я слышала: «Пять подков!.. Бързо, бързо… быстро!» Потом стали двигать стульями, как будто подметали пол. Потом — выстрел. Они пробежали по лестнице: один, за ним другой… Вот так гости…
— Ты их узнала, мама? — допытывался Котелков. — Это были болгары или…
Но, видимо, ужас мешал ей ответить членораздельно. В тишине снова стал слышен ропот горного потока.
— Вот так гости… — бормотала старуха.
10
Нет ничего прелестнее болгарских городков на рассвете, когда вчерашняя пыль улеглась, и горы чисты над крышами, а в палисадниках благоухают розы, и качают своими пушистыми головками астры, и даже конское ржанье просыпающихся солдатских обозов не нарушает этой простодушной прелести. Едва светало, когда Шустов растолкал во дворе шофера радиостанции и поднял полковника Ватагина. Они выехали еще до того, как на дорогу вытянулись колонны грузовых машин, минометные батареи и конные обозы. С походной радиостанцией полковник теперь не разлучался. И младший лейтенант Шустов рядом, в машине, — с ним веселее. Удивительный человек этот Славка: и отважный воин, и в то же время потешный юнец! На Миусе он спас бетонный мост: влетел на него на мотоцикле под огнем противника, когда до взрыва оставалось секунд двадцать, и затоптал бикфордов шнур. Потом спрашивали его — он и сам не знал, как это случилось. Но числилось за ним и много смешного: однажды он впотьмах принял тол за мыло и отдал хозяйке на стирку кусочек взрывчатки. Офицеры часто дразнили его: «Ну как, мыло не кончилось? Не смылил?» На это Славка не обижался. Щеголь он был отчаянный, и хотя перестал носить планшет и спрятал финку с янтарной рукоятью, но перед каждым рейсом надраивал до полного блеска свои шевровые сапоги. Особенно хорош бывал Шустов в дни больших передвижений, когда штаб фронта снимался с насиженного места и делал бросок вслед за войсками. В такие дни полковник Ватагин усаживался рядом с адъютантом, выкидывал из памяти показания разных перебежчиков, парашютистов, диверсантов, делался ленивым и сговорчивым: вези! Машину надо подтолкнуть — грузно вылезет из кабины, плечом толканет… силен! По молодости лет Шустов не догадывался, что сам он со своим шумным ребячеством время от времени просто необходим Ватагину, что тот отдыхает в его компании и от утренних бумаг, и от бесконечных телефонных переговоров, и от ночных поездок в Военный совет. Шустов знал на фронтовой дороге всех шоферов, всех регулировщиц. За баранкой, особенно в населенных пунктах, ему было трудновато из-за девушек-пешеходов; с риском для жизни он провожал взглядом каждую мало-мальски привлекательную девчонку и, заметив внимание полковника, говорил доверительно: «Предпочитаю блондинок, слегка склонных к полноте…» Ватагин догадывался, что за внешней развязностью Шустова скрывается самая настоящая застенчивость. И, может быть, поэтому в любовных делах его постигали страшные разочарования. Девушки почему-то не ценили его. Но через два — три дня Славка забывал все огорчения: природная доверчивость и широта натуры залечивали раны сердца. Ватагин исподтишка наблюдал эти короткие борения самолюбия и веселости. В последний месяц регулировщица Даша Лучинина встала со своими флажками на Славкином пути. Надолго ли?… Ватагину не скучно было слушать путевые монологи адъютанта — о футболе, о кинофильмах, о прочитанных книгах. Уже не подсчитать, сколько раз полковник восхищался похождениями «Капитана Сорви-головы» в англо-бурской войне. Это была любимая книга детских лет Славки Шустова. Ее написал Луи Буссенар. Война там была не похожа на нынешнюю: враги великодушны, как рыцари. Славка мог в любую минуту завестись и рассказывать. И при такой детской нетребовательности к собеседнику он был от природы понятлив и тактичен и, что еще удивительнее, наблюдателен. Вдруг вспомнит, какие были у пленного немецкого оберста мягкие светлые волосы с пробором на середине, а под усиками улыбка и румянец на щеках; и как его, Славку, удивили грязные руки пленного; и как неверно и грубо оборвал немца майор Котелков: «Мы учили немецкий язык, чтобы допрашивать, а не разговаривать…» И тут, если полковник не прерывал Славку, он мог еще пятьдесят километров вспоминать вслух, как он сам учил немецкий язык — в трамвае, в антракте на спектакле, на стадионе; он зажимал большим пальцем левый столбец и говорил сам с собой по-немецки: «рехт хабен — быть правым…» И как он все-таки срезался в четверти, и учитель немецкого языка стал его личным врагом: в ту минуту он его ненавидел до дрожи… Походная радиостанция с часовыми на подножках шла по горным дорогам Болгарии тяжело и осторожно. Поездка затягивалась. То танки перекрывали на пять часов дорогу, то на перевале дожидались попутного тягача. Повсюду на остановках радист распускал антенны — «усы и подусники». А чуть вечер, искали уединенной стоянки для ночлега, чтобы слушать всю ночь. При всех этих хлопотах Славка ухитрялся жить полной жизнью со всеми дорожными удовольствиями и огорчениями, ссорами и новыми знакомствами. В Варне он купался: прыгнул в море прямо с мола. Он ел только болгарскую еду — например, зарзават в глиняной миске. Из фруктов предпочитал не яблоки, а мушмулу. В Добриче накупил табаку, три арбуза и фисташек, которые засыпали все сиденье. В Шумене собрался сбегать в турецкие бани, да полковник отговорил: — Хорош будешь после бани в такой пыли! Брось. Не уйдут турецкие бани… Они въезжали в городок, искали корчму — пообедать. — Мeлим! — подзывал Славка официанта. Он заказывал себе и полковнику пылающий перец, фаршированный творогом. Ватагин предоставлял адъютанту вести переговоры и только иногда внушал: — Ты теперь не просто младший лейтенант Шустов. Ты теперь — руснак! Больше выдержки. Они обедали, а вокруг толпился народ, по-южному пылкий, возбужденный великими событиями. Славка заговаривал то с девушками-партизанками, которые упрашивали его поменяться оружием; то с монахом — угощал его солдатской махорочкой, а тот приглашал в гости в свой монастырь. По улицам вели изловленных фашистов или местных богачей-фабрикантов, иных — прямо в носках, как захватили на чердаке или в погребе. И народ гневно вздыхал, вглядываясь в их ненавистные лица. Кто-то празднично выдувал на овечьем бурдюке диковинную музыку, и Славка тотчас узнавал название инструмента — гeйда. Он все хотел испробовать, понять, вкусить, и всего ему было мало. И на дорожных перегонах было хоть и пыльно, но весело. Обозы тянулись — казалось, вся Россия в гости к болгарам! Реки были желты, горы великолепны. На стареньких машинах мчались новые власти — кметы, народная милидня: в Софию и обратно. Ехали с гор партизаны на конях. В облаках пыли мелькали каштановые аллеи. Старухи восседали у ворот с пряжей в руках. Цыганский табор отдыхал с выпряженными конями. Странно выглядели ходжи в белых чалмах. Славка узнал — это мусульмане, побывавшие в Мекке. Смуглая детвора бежала за орудиями. Из девичьих рук летели в кузова грузовиков цветы и гроздья винограда… Вот и еще одно село осталось позади. Сторонясь и пропуская Славку, армейские обозы заполняли дороги — бесконечный поток телег, бричек, фур, пролеток, шарабанов. Все довольны: боя не слышно впервые за долгие времена войны. — Не слыхал ли, земляк, где она теперь — передовая? — Да, сказывали, в Сербии, в горах. Благодушие на пыльных лицах. И едут, едут войсковые обозы. Лошади бегут ходко. Почмокивают ездовые. Истосковались по вожжам крестьянские руки. — Но, но, мухортый! И пылят по Болгарии обозные меринки — соловые, рыжие, каурые, кобылки гнедые да корноухие, с лысинками на лбу, с гривами налево, направо, а то и на обе стороны; бегут за колесами жеребята — чалые, игреневые, белогубые, ржут тоненько, перестукивают копытцами, радуют солдатские души. Тут и надежда на скорую победу, на встречу с родными не отстает от сердца, как лошонок от брички…
Теперь полковник Ватагин не пропускал ни одного обоза: выходил из машины, заговаривал с ездовыми, оглядывал лошадей. Славка с удивлением наблюдал вдруг пробудившийся в Ватагине интерес к сбруе, попонам, кормушкам. Трофейных лошадей выпрягали из подвод, и Ватагин лично присутствовал при ветеринарном осмотре.
Однажды провели мимо по дороге понурую лошадь. Взъерошенная шерсть потеряла блеск, дрожь окатывала больное животное, из углов глаз спускались гнойные шнурки. Ватагин чуть не на ходу выскочил из машины: «Да, это сапная!»
— Куда? — крикнул полковник.
— На скотомогильник… Куда же еще?
— Там, где проходили, цыганских лошадей не было?
— Болгары говорят — немец гадит… Вот зараза! Добрый конек был…
Сели в машину с ветеринарным врачом, подвезли его. И по дороге Славка все понял из разговора полковника с капитаном: армейские кони заражаются сапом от местного поголовья, срочно созданы изоляторы, взяты на учет все скотомогильники, производится проверка на маллеиновую реакцию (этого Славка не понял, но запомнил на всякий случай незнакомое слово).
Когда уже высадили врача, младший лейтенант спросил осторожно, как всегда, с подходцем:
— Входит в нашу сферу?
И полковник молча кивнул головой.
— Вот гады!.. — спустя несколько минут пропел Славка с той душевной интонацией, которую он легко усвоил в украинских селах у сердобольных, певучих от душевности молодаек. — А скоро ль наши из десанта вернутся? — спросил он еще по какому-то, одному ему понятному ходу размышлений.
— Думаю, что уже поджидают нас впереди, в штабе, — коротко ответил Батагин.
И пылят по Болгарии обозные меринки — соловые, рыжие, каурые, кобылки гнедые да корноухие, с лысинками на лбу, с гривами налево, направо, а то и на обе стороны; бегут за колесами жеребята — чалые, игреневые, белогубые, ржут тоненько, перестукивают копытцами, радуют солдатские души. Тут и надежда на скорую победу, на встречу с родными не отстает от сердца, как лошонок от брички…
Теперь полковник Ватагин не пропускал ни одного обоза: выходил из машины, заговаривал с ездовыми, оглядывал лошадей. Славка с удивлением наблюдал вдруг пробудившийся в Ватагине интерес к сбруе, попонам, кормушкам. Трофейных лошадей выпрягали из подвод, и Ватагин лично присутствовал при ветеринарном осмотре.
Однажды провели мимо по дороге понурую лошадь. Взъерошенная шерсть потеряла блеск, дрожь окатывала больное животное, из углов глаз спускались гнойные шнурки. Ватагин чуть не на ходу выскочил из машины: «Да, это сапная!»
— Куда? — крикнул полковник.
— На скотомогильник… Куда же еще?
— Там, где проходили, цыганских лошадей не было?
— Болгары говорят — немец гадит… Вот зараза! Добрый конек был…
Сели в машину с ветеринарным врачом, подвезли его. И по дороге Славка все понял из разговора полковника с капитаном: армейские кони заражаются сапом от местного поголовья, срочно созданы изоляторы, взяты на учет все скотомогильники, производится проверка на маллеиновую реакцию (этого Славка не понял, но запомнил на всякий случай незнакомое слово).
Когда уже высадили врача, младший лейтенант спросил осторожно, как всегда, с подходцем:
— Входит в нашу сферу?
И полковник молча кивнул головой.
— Вот гады!.. — спустя несколько минут пропел Славка с той душевной интонацией, которую он легко усвоил в украинских селах у сердобольных, певучих от душевности молодаек. — А скоро ль наши из десанта вернутся? — спросил он еще по какому-то, одному ему понятному ходу размышлений.
— Думаю, что уже поджидают нас впереди, в штабе, — коротко ответил Батагин.
11
В этот вечер приятели встретились. Перед ними на большом столе, за которым только что отужинали ординарцы, были разложены фотографии. Синий плюшевый альбом, испачканный мазутом, изучался под лупой. — Так ты считаешь, что об этой твоей находке не нужно знать полковнику? — допрашивал с пристрастием младший лейтенант. — Даже и не думал об этом. — Но, может, ты думал, откуда и как на турецкой границе в железнодорожной канаве очутился семейный альбом из царской России, с видами Ярославля и его соборов? На такой прямой вопрос Бабин действительно не мог ответить. Всего три часа, как он прилетел из десантной операции, разыскал штаб фронта, уже находившийся с войсками на дорогах Болгарии, дождался Шустова — и вот опять препирательства… Теперь, под влиянием Славкиной мнительности, радисту тоже стала казаться подозрительной его собственная находка. Там, на полустанке, это даже не приходило в голову. Все началось с того, что никакой радиостанции в поезде обнаружить не удалось. Может быть, она осталась на чердаке в посольстве? Утром Бабину делать было нечего. Болгары на дрезине повезли в столицу тело подпоручика Георгиева. Наши десантники дали прощальный залп из автоматов. Потом всю фашистскую компанию с ее бумагами погрузили на самолеты и по воздуху отправили в штаб. Майор Котелков продиктовал Мише шифровку. Радиопередатчик был установлен в доме, где погиб Атанас Георгиев. Усевшись у аппарата на кухне, на низенькой скамеечке у окна, Миша слушал шум горного потока и скучал. Котелков приказал ему и еще двум автоматчикам собрать на путях и в вагонах весь бумажный сор — до последнего клочка. Миша обрадовался занятию. Тут-то, в канаве, возле железнодорожного полотна, он и нашел плюшевый альбом. Присев на травку, он заглянул в него, и первое, что совершенно ошеломило его, — это Ильинская церковь. Даже во сне Миша Бабин узнал бы среди всех архитектурных ансамблей этот прекрасный памятник ярославского зодчества XVII века, хотя бы потому, что мать его работала экскурсоводом в Ильинской церкви, и в детстве Миша бывал там так же часто, как у себя дома. Ярославль — его старинные церкви: Иоанн Златоуст в Коровниках, Никола мокрый, и монастыри, крепостные башни и звонницы, — родной древний город глядел на Бабина с каждой страницы. Однако альбом таил и другие неожиданности: судя по всему, это был семейный альбом какого-то стародавнего дворянского семейства — с реликвиями многих поколений. Наверно, какая-нибудь эмигрантская семья завезла в Болгарию после революции эту синюю плюшевую книгу, на толстых картонных листах которой сидели в гнездах попарно архиереи и невесты, сенаторы и бабушки в кружевных наколках, генералы, новорожденные в крахмальных конвертах, гимназисты и кормилицы. Все это было неинтересно, но Ярославль — вот он во всей древней красе! И Миша, сунув альбом под мышку, решил не расставаться с ним. Потом его взяло раздумье. Ведь Котелков приказал собрать на путях все до последнего клочка. Может быть, и альбом пойдет в дело? Сам не веря этому, он показал майору; тот повертел в руках, молча возвратил. И Миша тоже молча обрадовался, сел у своего аппарата, подложив под себя альбом. Пусть теперь шумит горный поток за окном! Бабин как будто дома побывал, счастливое состояние отпускника не покидало его. С этим он и вернулся из десанта. Однако Шустов увидел все совсем по-иному, по-своему. Покуда Миша уплетал военторговские котлеты и пил воду из сифона, Слава принялся за изучение альбома и его фотографий. Каждый снимок он вынул из гнезда, прочитал фирменный знак на обороте, рассмотрел даже рекламные парижские медали, большие и малые, которыми хвастали, создавая себе репутацию, провинциальные фотосалоны. И то, чего не заметил, о чем даже не подумал Бабин, — все обдумал Шустов. — Странный альбом… — Ничего странного. — Просто загадочный альбом. Ты не заметил, что больше половины фотографий — не ярославские, а самые настоящие здешние, заграничные. — Ну и что же? Как по-твоему — где мы с тобой находимся? — Видите ли, бросается в глаза то обстоятельство, — Шустов перешел на язвительно-вежливый, лекторский тон, — что на старинных ярославских снимках попадаются и грудные младенцы, и девушки, и бабушки. А на здешних — только мужчины. Притом один и тот же мужчина, снимавшийся в разных городах и в разных костюмах: вот он в белом фартуке и в крагах, как у мясника, — снимок сделан в Араде; вот он в дорожном туристском костюме с биноклем в руках — снимок сделан в Казанлыке; вот он в турецкой феске — снимок сделан в Бургасе; вот в монашеской рясе — снято в Прилепе… Странные переодевания! — Слушай, Славка, а тебе не кажется странным, что здесь все говорят по-болгарски? Славка не удостоил вниманием эту остроту: — Отвечай, как этот альбом попал в канаву? — Ну, может быть, кто-нибудь из дипломатов выкинул из вагона. — Зачем же гитлеровцу понадобилось увозить эмигрантский альбом с собой в Германию? — Наверно, на память… Не знаю. А ты знаешь? — Я подозреваю. — Что именно? — То, что сразу приходит на ум: это шифровальная таблица. Не знаешь разве, как устанавливают цифровой код по условленным книгам? Потому-то они и выбросили из вагона: очень им интересно, чтобы шифровальная таблица попала в твои руки. — Ого! Давай перейдем на шепот. — Бабин явно иронизировал. — И ты сразу догадался? Талант, талант!.. — Я так думаю, что этот ярославский альбом будет позагадочнее — убийства вашего подпоручика… Нет, ты скажи, как мог майор Котелков пройти мимо такой находки? Зачем он оставил ее у тебя? — Не скажу. — Почему? — Ты будешь смеяться. — Не до смеху. — Сидел я на этом альбоме… — Ведь посылают же чижиков! — с отвращением пробормотал Славка и снова углубился в исследование странной коллекции. Прежде всего ему хотелось догадаться, кто мог быть хозяином альбома. Вряд ли этот загадочный, разнообразно костюмированный мужчина: во-первых, мужчины вообще редко заводят семейные альбомы; во-вторых, тщательно сопоставляя портреты, Славка не нашел ни одного снимка этого человека в детстве или в юности, — он, видимо, не был и русским: все его фотографии сделаны на Балканах. Красивая седая женщина — великолепная; снятая то в сафьяновых сапожках, с хлыстом в руке, то почти обнаженная, с длинными ногами, полузасыпанными песком, на пляже какого-то курорта, то в Ярославле еще совсем малюткой, играющей в мяч, то на любительском пожелтевшем снимке в казачьей форме, в папахе набекрень — на палубе парохода… Скорее всего — это русская эмигрантка (звали ее Маришей, Мариной Юрьевной, судя по подписям в посвящениях), а мужчина — ее муж или просто возлюбленный, из здешних, балканских. Может быть, артист? Славка никому не признался бы в этом: он не просто разглядывал, он группировал портреты по улыбкам, по рисунку галстуков, даже по числу пальцев, видных на снимке. Он знал уже названия всех городов, где делались снимки. Силисгрия, где он разговорился с русской девушкой, бежавшей из фашистской неволи в Германии и вон докуда добежавшей… Шумен, где он ночевал в штабе народной милиции (там его водил в корчму ужинать молоденький милиционер, мечтавший поехать в Россию учиться на агронома в Тимирязевской академии). Понемногу воспоминания последних дней, мысли о Даше Лучининой, дорожные впечатления одолели Славку, и он заснул над альбомом, положив на него руки и голову.12
На веранде стояли две плетеные качалки и круглый стол. Вдали синели Западные Балканы. Майор Котелков уже сдал отчет о десантной операции, и теперь полковник Ватагин беседовал с ним просто так, вперевалочку, уточняя подробности. Прежде всего хотелось понять, как работали летчики, потому что майор в своем несколько нескромном отчете забыл об этой стороне дела. Между тем выяснялось, что летчики работали отлично с той самой минуты, как взлетели в Чернаводах и взяли курс над Болгарией на юго-юго-запад. Колдунов уточнился при подходе и вывел машины на полустанок. Всю ночь летчики не отходили от самолетов, готовые ко всяким случайностям, создали что-то вроде круговой обороны: залетели в глубокий тыл противника, опередив на три суточных перехода подвижные наземные части.
— Видите, как интересно! Награждать надо ребят, а вы об этом ни слова, — мягко укорил Ватагин.
Котелков поглаживал бритую голову, и непонятно было по его хмурому взгляду, согласен ли он с тем, что надо наградить летчиков. Все-таки он припоминал теперь некоторые живые черточки операции:
— Утром доставил я летчикам их новых пассажиров. Дипломаты зубами скрипят, а Колдун закурил трубку. «Покажите, — говорит, — мне этих чудиков…» — Майор рассказывал веселые подробности, но без улыбки. — А у меня своя забота: этих чудиков накормить надо! Болгары везут со всех сел продукты, думают — для нас. «Везите еще», — говорю им…
— Вы бы им сказали: надо и пленных кормить, — заметил Ватагин.
— Стыдно: денег болгарских нету и на огурец!
— Что ж вы думаете — сколько лет они терпели от фашистов, в последний раз не накормили бы? Денег нет… — Ватагин покачал головой. — И почему вы болгарских пограничников обидели, отстранили от операции?
Наконец договорились до дела. Котелков отлично понимал, что Ватагин весь разговор завел из-за одного этого пункта: почему обидели, болгар на полустанке?
— Знаете, товарищ полковник, в таком деле лучше на себя положиться. Доверять никоих не следует.
— Вот в этом-то ваше обычное заблуждение.
Не первый это был разговор между Ватагиным и Котелковым, и оба знали, что скажут друг другу. На этот раз Ватагин был, видимо, крайне недоволен пренебрежительным отношением майора к болгарам, а Котелков втайне торжествовал: что бы там ни было, а фашистская банда заприходована со всеми восемнадцатью баулами захваченной переписки. Крыть нечем, товарищ начальник…
— Вы, товарищ полковник, всё болгар на первый план выдвигаете, а, между прочим, подвели они своего подпоручика, пропустили из поезда к нему убийц… Этот Славчев вообще подозрительный тип.
— Вы уверены, что убийцы из поезда? — Ватагин вынул из ящика стола две бумажки: болгарский текст и его русский перевод. — Вот тот же Славчев, например, довел до сведения штаба Народно-освободительной армии, что им обнаружены конные следы двух всадников на проселке… А что, если они из Софии?… Хорошо крестьяне встречали?
— На руках хотели нести, — хмуро ответил Котелков. — Еле отбился.
Майор догадывался, что полковник не будет сегодня говорить о главном, что составляло все содержание котелковского отчета, — о захвате германского посла. Ватагин отвлекался, подробно расспрашивал, например, о стычке Атанаса Георгиева с послом из-за бочонка с розовым маслом. А стоит ли об этом разговаривать! Котелков процедил сквозь зубы что-то об отсутствии выдержки у болгарина. Полковник поправил складки гимнастерки под ремнем, коротко возразил:
— Болгары любят свою родину, Котелков… И нечего ставить им это в вину.
Они говорили вполголоса. За дверью стонала хозяйкина дочь, неделю, назад бежавшая сюда из Софии. У нее подагра, обострившаяся после трех месяцев ночлегов в сырых бомбоубежищах во время массовых американских налетов на город. Полковник раздобыл ей атофан, боли усилились — врач говорит: хороший признак.
— Вы что хмурый? Не выспались? — спросил Ватагин.
— Нет. ничего, — ответил Котелков. — Квартирьер, черт, с Цаголовым поселил. Разве с ним уснешь?
Ватагин изобразил на лице сочувствие. Кому не известно, что самый темпераментный собеседник — это Сослан Цаголов, веселый красавец, по-кавказски поджарый, смуглый, с насмешливо играющими желвачками на скулах.
— Два болтуна у нас: Цаголов и Шустов, — заметил полковник.
— И оба любят друг друга, — отозвался майор.
— Я их тоже люблю… — кратко скрепил Ватагин. — О чем у Цаголова теперь разговор?
— Все о том же: тоскует по флоту, хочет рапорт писать…
— Не отпущу!..
Давно не беседовали они с такими удобствами: на столе пепельница, бутылка вина, сифон с водой.
— Слушайте, кстати, — вспомнил полковник, откладывая бумаги, — вы не видели еще один документ, доставленный на ваших самолетах? Плюшевый альбом с видами Ярославля.
— Нет, не видел, — ответил Котелков и добавил с усмешкой: — Я и чемоданами посольской фрау не интересовался. Упущение?
— А мне Шустов показал этот альбом.
Майор свирепо шевельнул кожей на бритой голове. Он еще рассчитается с выскочкой, который полчаса назад позволил себе по-адъютантски резво разговаривать с ним, позволил себе выражать крайнюю степень удивления по поводу того, что плюшевый альбом не возбудил интереса.
Видимо, Ватагин догадался, о чем сейчас думает Котелков, потому что вздохнул и примирительно заметил:
— Трудно работать в разведке, если тебе двадцать лет и воображение играет, а ты обречен переписывать спецсообщения. Я имею в виду Шустова.
Ватагин резко поднялся, не похоже на то, как лениво сидел два часа. Качалка пошла ходить за его спиной. Он прошел в комнату и через минуту вернулся с пачкой фотографий, раскинул их веером поверх бумаг на столе.
— Если не считать бабушек и внучек дореволюционного писателя Леонида Андреева и белого генерала Корнилова, то останавливает внимание вот этот мужчина… Кем он только не был в жизни, судя по фотографиям! И куда только его не заносило! Занятно… Я отметил на карте. Всю Юго-Восточную Европу исколесил: от провинции Марамуреш в Северной Трансильвании до Родопских гор.
— Эмигрант, наверно. Трудно найти работу по специальности. Да и какие у них специальности… — небрежно ответил майор Котелков.
— Все-таки поискать этого человека не мешает. А еще раньше — хозяйку альбома.
— Вы уже знаете, чей альбом?
— А это без труда установил Шустов по дарственным надписям на фотографиях. Ее зовут Марина Юрьевна, Мариша.
— Ну что ж, Мариша так Мариша…
Всем своим видом Котелков показывал полковнику, что не считает семейный альбом темой для разговора. Надо, конечно, проверить для порядка, может быть, просто у кого-нибудь в посольском персонале жена — Марина Юрьевна, русская эмигрантка из Ярославля.
Ватагин поглядел на майора.
— Ну, так что же было еще? Рассказывайте, только не ссорясь с логикой.
И майор Котелков, с упрямством пропустив скрытую иронию полковника, так же последовательно продолжил свой доклад. Не без удовольствия показал он Ватагину заключительный протокол допроса германского посла. Полковник даже улыбнулся: больше всего Котелкова восхищало то, что его превосходительство полномочный посол Гитлера, видимо, так разволновался в обществе советского майора, что нагородил пять палочек вместо трех, означавших заглавные буквы в его готическом росчерке.
— А вы знаете, товарищ полковник, — вдруг повеселев, сказал Котелков, — посол поставил подпись и спрашивает меня: «Как вы успели сюда?» Я ему со всей любезностью отвечаю: «У нас-то шаг пошире…»
И Котелков самодовольно рассмеялся, как будто закашлялся.
— А-а-а, — невнятно протянул Ватагин. — Ну, ну, докладывайте еще что-нибудь.
Сейчас Ватагину не было никакого дела до переживаний посла, он знал, что в свой срок с этими делами разберутся лучше. Но что было нужно убийцам Атанаса Георгиева? Зачем они проникли в домик над рекой? И имеет ли к этому какое-нибудь отношение найденный в канаве альбом? Вот что представляло сейчас интерес. Опыт чекиста подсказывал полковнику, что тайна убийства болгарского офицера может таить угрозу и для советских войск, вступающих на Балканы. Если спросить Ватагина напрямик, о ком он думал со вчерашнего вечера, он сказал бы: не о тех, кто хотел бежать в Турцию и сейчас под замком ждет своей участи, а о тех, кто, видимо, остался здесь и не пойман. Ему было ясно, что в момент бегства дипломатических миссий из Софии кое-кто остался выполнять особые задания. Разве не так же оставляли и мы в тылу у немцев верных людей, уходя на восток в сорок первом!
Он слушал майора, перелистывая немецкий иллюстрированный журнал. Котелков с обычным раздражением, которое всегда появлялось у него в конце разговора с Ватагиным, чувствовал, что начальник совсем потерял интерес к его докладу. Страницы иллюстрированного журнала он разглядывал сейчас более внимательно, чем недавно росчерк германского посла. Он даже прервал майора:
— Смотрите-ка, серия снимков под заголовком: «Могут ли звери смеяться?» Вы-то думали когда-нибудь об этом? К зверям у них интерес! Вот забавная морда: тигр. Великолепный снимок! Собаки… ну, эти, сам знаю, смеются. А вот гиена. И действительно хохочет!.. — Внезапно оборвав себя, полковник устало заметил: — Ладно, Котелков, идите отдыхайте. Я Цаголова назначу в ночное дежурство, не будет вам мешать.
Майор Котелков уже сдал отчет о десантной операции, и теперь полковник Ватагин беседовал с ним просто так, вперевалочку, уточняя подробности. Прежде всего хотелось понять, как работали летчики, потому что майор в своем несколько нескромном отчете забыл об этой стороне дела. Между тем выяснялось, что летчики работали отлично с той самой минуты, как взлетели в Чернаводах и взяли курс над Болгарией на юго-юго-запад. Колдунов уточнился при подходе и вывел машины на полустанок. Всю ночь летчики не отходили от самолетов, готовые ко всяким случайностям, создали что-то вроде круговой обороны: залетели в глубокий тыл противника, опередив на три суточных перехода подвижные наземные части.
— Видите, как интересно! Награждать надо ребят, а вы об этом ни слова, — мягко укорил Ватагин.
Котелков поглаживал бритую голову, и непонятно было по его хмурому взгляду, согласен ли он с тем, что надо наградить летчиков. Все-таки он припоминал теперь некоторые живые черточки операции:
— Утром доставил я летчикам их новых пассажиров. Дипломаты зубами скрипят, а Колдун закурил трубку. «Покажите, — говорит, — мне этих чудиков…» — Майор рассказывал веселые подробности, но без улыбки. — А у меня своя забота: этих чудиков накормить надо! Болгары везут со всех сел продукты, думают — для нас. «Везите еще», — говорю им…
— Вы бы им сказали: надо и пленных кормить, — заметил Ватагин.
— Стыдно: денег болгарских нету и на огурец!
— Что ж вы думаете — сколько лет они терпели от фашистов, в последний раз не накормили бы? Денег нет… — Ватагин покачал головой. — И почему вы болгарских пограничников обидели, отстранили от операции?
Наконец договорились до дела. Котелков отлично понимал, что Ватагин весь разговор завел из-за одного этого пункта: почему обидели, болгар на полустанке?
— Знаете, товарищ полковник, в таком деле лучше на себя положиться. Доверять никоих не следует.
— Вот в этом-то ваше обычное заблуждение.
Не первый это был разговор между Ватагиным и Котелковым, и оба знали, что скажут друг другу. На этот раз Ватагин был, видимо, крайне недоволен пренебрежительным отношением майора к болгарам, а Котелков втайне торжествовал: что бы там ни было, а фашистская банда заприходована со всеми восемнадцатью баулами захваченной переписки. Крыть нечем, товарищ начальник…
— Вы, товарищ полковник, всё болгар на первый план выдвигаете, а, между прочим, подвели они своего подпоручика, пропустили из поезда к нему убийц… Этот Славчев вообще подозрительный тип.
— Вы уверены, что убийцы из поезда? — Ватагин вынул из ящика стола две бумажки: болгарский текст и его русский перевод. — Вот тот же Славчев, например, довел до сведения штаба Народно-освободительной армии, что им обнаружены конные следы двух всадников на проселке… А что, если они из Софии?… Хорошо крестьяне встречали?
— На руках хотели нести, — хмуро ответил Котелков. — Еле отбился.
Майор догадывался, что полковник не будет сегодня говорить о главном, что составляло все содержание котелковского отчета, — о захвате германского посла. Ватагин отвлекался, подробно расспрашивал, например, о стычке Атанаса Георгиева с послом из-за бочонка с розовым маслом. А стоит ли об этом разговаривать! Котелков процедил сквозь зубы что-то об отсутствии выдержки у болгарина. Полковник поправил складки гимнастерки под ремнем, коротко возразил:
— Болгары любят свою родину, Котелков… И нечего ставить им это в вину.
Они говорили вполголоса. За дверью стонала хозяйкина дочь, неделю, назад бежавшая сюда из Софии. У нее подагра, обострившаяся после трех месяцев ночлегов в сырых бомбоубежищах во время массовых американских налетов на город. Полковник раздобыл ей атофан, боли усилились — врач говорит: хороший признак.
— Вы что хмурый? Не выспались? — спросил Ватагин.
— Нет. ничего, — ответил Котелков. — Квартирьер, черт, с Цаголовым поселил. Разве с ним уснешь?
Ватагин изобразил на лице сочувствие. Кому не известно, что самый темпераментный собеседник — это Сослан Цаголов, веселый красавец, по-кавказски поджарый, смуглый, с насмешливо играющими желвачками на скулах.
— Два болтуна у нас: Цаголов и Шустов, — заметил полковник.
— И оба любят друг друга, — отозвался майор.
— Я их тоже люблю… — кратко скрепил Ватагин. — О чем у Цаголова теперь разговор?
— Все о том же: тоскует по флоту, хочет рапорт писать…
— Не отпущу!..
Давно не беседовали они с такими удобствами: на столе пепельница, бутылка вина, сифон с водой.
— Слушайте, кстати, — вспомнил полковник, откладывая бумаги, — вы не видели еще один документ, доставленный на ваших самолетах? Плюшевый альбом с видами Ярославля.
— Нет, не видел, — ответил Котелков и добавил с усмешкой: — Я и чемоданами посольской фрау не интересовался. Упущение?
— А мне Шустов показал этот альбом.
Майор свирепо шевельнул кожей на бритой голове. Он еще рассчитается с выскочкой, который полчаса назад позволил себе по-адъютантски резво разговаривать с ним, позволил себе выражать крайнюю степень удивления по поводу того, что плюшевый альбом не возбудил интереса.
Видимо, Ватагин догадался, о чем сейчас думает Котелков, потому что вздохнул и примирительно заметил:
— Трудно работать в разведке, если тебе двадцать лет и воображение играет, а ты обречен переписывать спецсообщения. Я имею в виду Шустова.
Ватагин резко поднялся, не похоже на то, как лениво сидел два часа. Качалка пошла ходить за его спиной. Он прошел в комнату и через минуту вернулся с пачкой фотографий, раскинул их веером поверх бумаг на столе.
— Если не считать бабушек и внучек дореволюционного писателя Леонида Андреева и белого генерала Корнилова, то останавливает внимание вот этот мужчина… Кем он только не был в жизни, судя по фотографиям! И куда только его не заносило! Занятно… Я отметил на карте. Всю Юго-Восточную Европу исколесил: от провинции Марамуреш в Северной Трансильвании до Родопских гор.
— Эмигрант, наверно. Трудно найти работу по специальности. Да и какие у них специальности… — небрежно ответил майор Котелков.
— Все-таки поискать этого человека не мешает. А еще раньше — хозяйку альбома.
— Вы уже знаете, чей альбом?
— А это без труда установил Шустов по дарственным надписям на фотографиях. Ее зовут Марина Юрьевна, Мариша.
— Ну что ж, Мариша так Мариша…
Всем своим видом Котелков показывал полковнику, что не считает семейный альбом темой для разговора. Надо, конечно, проверить для порядка, может быть, просто у кого-нибудь в посольском персонале жена — Марина Юрьевна, русская эмигрантка из Ярославля.
Ватагин поглядел на майора.
— Ну, так что же было еще? Рассказывайте, только не ссорясь с логикой.
И майор Котелков, с упрямством пропустив скрытую иронию полковника, так же последовательно продолжил свой доклад. Не без удовольствия показал он Ватагину заключительный протокол допроса германского посла. Полковник даже улыбнулся: больше всего Котелкова восхищало то, что его превосходительство полномочный посол Гитлера, видимо, так разволновался в обществе советского майора, что нагородил пять палочек вместо трех, означавших заглавные буквы в его готическом росчерке.
— А вы знаете, товарищ полковник, — вдруг повеселев, сказал Котелков, — посол поставил подпись и спрашивает меня: «Как вы успели сюда?» Я ему со всей любезностью отвечаю: «У нас-то шаг пошире…»
И Котелков самодовольно рассмеялся, как будто закашлялся.
— А-а-а, — невнятно протянул Ватагин. — Ну, ну, докладывайте еще что-нибудь.
Сейчас Ватагину не было никакого дела до переживаний посла, он знал, что в свой срок с этими делами разберутся лучше. Но что было нужно убийцам Атанаса Георгиева? Зачем они проникли в домик над рекой? И имеет ли к этому какое-нибудь отношение найденный в канаве альбом? Вот что представляло сейчас интерес. Опыт чекиста подсказывал полковнику, что тайна убийства болгарского офицера может таить угрозу и для советских войск, вступающих на Балканы. Если спросить Ватагина напрямик, о ком он думал со вчерашнего вечера, он сказал бы: не о тех, кто хотел бежать в Турцию и сейчас под замком ждет своей участи, а о тех, кто, видимо, остался здесь и не пойман. Ему было ясно, что в момент бегства дипломатических миссий из Софии кое-кто остался выполнять особые задания. Разве не так же оставляли и мы в тылу у немцев верных людей, уходя на восток в сорок первом!
Он слушал майора, перелистывая немецкий иллюстрированный журнал. Котелков с обычным раздражением, которое всегда появлялось у него в конце разговора с Ватагиным, чувствовал, что начальник совсем потерял интерес к его докладу. Страницы иллюстрированного журнала он разглядывал сейчас более внимательно, чем недавно росчерк германского посла. Он даже прервал майора:
— Смотрите-ка, серия снимков под заголовком: «Могут ли звери смеяться?» Вы-то думали когда-нибудь об этом? К зверям у них интерес! Вот забавная морда: тигр. Великолепный снимок! Собаки… ну, эти, сам знаю, смеются. А вот гиена. И действительно хохочет!.. — Внезапно оборвав себя, полковник устало заметил: — Ладно, Котелков, идите отдыхайте. Я Цаголова назначу в ночное дежурство, не будет вам мешать.
13
Младший лейтенант Шустов надолго умолк — первый признак охватившего его раздумья. Это случилось после его резкого разговора с майором Котелковым. В горном селе объезжали площадь, запруженную народом. Шел митинг. С грузовика выступали восторженные гимназистки — мелодекламировали хором под рояль. Шустов даже не взглянул. Ватагин искоса поглядел на него, промолчал. В другом селе Слава явился с базара мрачный, отплевывался. Ватагин осведомился, в чем дело? Оказывается, он увидел по пояс обнаженного мужчину, вращавшего жирным животом, — называется «танец живота», тьфу… И в машине Шустов молчал, сверкая строгими голубыми глазами и вглядываясь в контуры впереди идущих машин. Все это занимало полковника. Но, хорошо зная характер адъютанта, он не торопился с расспросами. Еще до вечера сам все скажет. — Недоспал, что ли, Шустов? — Да. Спать хочется. — Скоро городишко будет, ты взбодрись-ка, выпей черного кофе. — Чашечки у них малы… Только вчера младший лейтенант купил темные очки, и форсил ими, и стеснялся их- все было. Теперь он сунул очки за целлулоидный козырек над смотровым стеклом машины. Ватагин выжидал: что будет дальше? Вечерело. Славка возился со спущенным баллоном. Полковник отдыхал в придорожном садике на скамеечке. Сюда пыль с дороги не долетала. — Нужно поговорить, товарищ полковник, — сухо сказал наконец Шустов, с решимостью подходя к нему. — Садись. Говори, только не очень громко. — Вы всё молчите насчет альбома, который Бабин нашел. — А что же о нем говорить? Хороший альбом… В Ярославле я не бывал, не приходилось. — Думать следует над альбомом, товарищ полковник. — Это всегда полезно, — согласился Ватагин. — Что, какая-нибудь нить в руках? — Есть две-три догадки. Конечно, рано делать заключения… — Да, я и сам, признаться, задумался: очень занятная находка, — с едва заметной иронией подхватил полковник. — Если бы гитлеровские кресты были найдены, или сверток с валютой, или яды в пробирках, наконец «Моя борьба» с автографом автора, — все бы не так загадочно. Любая находка так не озадачила бы… Верно? Шустов хладнокровно выдержал красноречивую паузу: — Вот вы смеетесь, товарищ полковник, а я под лупой изучал фотографии этого неизвестного. Только вы серьезнее отнеситесь к тому, что я скажу… Я, между прочим, где-то в книжке прочитал интересную мысль, что в детстве для нас все бывает важно: сколько спиц на колесике, какие глаза у лягушки, а становимся взрослыми, гордые собой, уж и не сосчитаем даже, сколько пуговиц на собственном кителе. Полковник энергично зачесал двумя руками седые волосы с висков на затылок. Здорово развивает младший лейтенант его собственную мысль, что разведчик должен обладать воображением ребенка! А про ссору с майором — ни слова… — Знаешь ли, Слава, я сам пытался взвесить и должным образом расценить все наши домыслы и догадки. Что же ты нашел под лупой? Ремень с медной бляхой заскрипел на животе Ватагина. Шустов подозрительно взглянул на него — кажется, он с трудом сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. — Что я нашел в альбоме? То, что мы попали впросак с тем мужчиной! Там ведь не одно лицо, товарищ полковник. Славка перевел дух, чтобы проследить, какое впечатление произвело его открытие. Ватагин действительно был несколько озадачен: — Ты хочешь сказать, что тут сняты разные мужчины? — Да, именно. Это схожие лица, а не одно. Это семь разных мужчин. — С таким поразительным сходством? Что ж, они близнецы, что ли? — Не знаю. Мочки ушей разные. Морщинки на лбу разные. И характер асимметрии лиц различный. — Скажи пожалуйста! А на височках одинаково подстрижено? — Вот вы всё смеетесь, товарищ полковник!.. — сказал адъютант и встал, чтобы не задерживать начальство досужими размышлениями. — Значит, всё! — Значит, всё, — смеясь, согласился полковник. — Представления о наградах переписал? Этот альбом сильно сбил тебя в сторону от прямых обязанностей. Где ночевать будем? — В монастыре, товарищ полковник. Что бы ни было, Шустову хотелось побывать у монахов. — когда еще в жизни случится? После разговора с гостеприимным старцем он разузнал дорогу: всего пять километров в сторону, на горе. Крестьяне говорили, что монахи ждут русских в гости, никто еще не заглядывал к ним. — В монастырь так в монастырь, — сказал Ватагин, но тут же, прищурясь, осведомился: — Да ведь он мужской, говорят? Славка пропустил насмешку мимо ушей. Дело прежде всего. Он был убежден, что его сообщение взято полковником на учет.14
Горная дорога в сосновом лесу серпантином вилась над ущельем. Машина полковника Ватагина, а за ним и походная радиостанция въехали на мощеную площадку, огражденную с трех сторон увитыми хмелем старинными стенами, с четвертой стороны — отвесной скалой. Два послушника в черных рясах молча, с удивительным проворством развели половинки ворот. Машины вошли во внутренний двор. Монахи появлялись на открытых галереях многочисленных служб и низко кланялись. Пока младший лейтенант Шустов возился у машины, полковника Ватагина повели по галереям и темным деревянным террасам. На каждом переходе, на каждой лесенке стояли и кланялись русскому гостю, присоединялись к шествию — то горбоносый отец казначей, то отец эконом с густыми, словно орлиные крылья, бровями, то сам отец игумен — еще не старый мужчина с усталым лицом домовитого хозяина. — Добро пожаловать, брат освободитель! — сказал игумен и распахнул широкие рукава приглашающим жестом. Монахи, видно, в самом деле ждали гостей: еще никто не заезжал к ним из той армии, которая уже несколько дней как шла внизу, по дну ущелья. И в лицах послушников, и в неподвижных позах старых монахов, и даже в каменных плитах двора, в безмолвии колоколов и сдержанном скрипе дощатых полов в галереях — во всем сказывалось настоявшееся за эти дни ожидание: каков же он, русский человек, «дед Иван», и чего можно ждать от него теперь, когда он сделался большевиком? Советский человек отвечал на приветствие игумена. Советский человек входил в трапезную и разводил руками, глядя на стол, щедро уставленный закусками и вином. Советский человек мыл руки над поднесенным служкой тазом и улыбался, ловя опасливые и робкие взгляды монахов. — Ну и закуска! Нашему бы военторгу заглянуть, — смеясь, говорил советский человек что-то непонятное, но, видимо, доброжелательное. За стол усаживались только старые монахи. Чувствовалось, что за дверьми идет толкотня и споры: кому из послушников подавать. Вскоре подошли и сели на оставленные для них места младший лейтенант Шустов и водитель радиостанции. — Часовые? — спросил Ватагин. — В порядке. — Бабин? — Не идет, хочет слушать, — тихо ответил Шустов, разглядывая свои только что вымытые руки с несводимой чернотой под ногтями. Между тем горбатый монах с подносом в руке уже весело кланялся полковнику. На подносе стоял штоф из темно-зеленого стекла и дюжина крохотных — с наперсток — стаканчиков. Игумен, уводя концом рукава свою широкую бороду, сам нарезал хлеб, сам бросал ломти в круглую чашу просторным движением обеих рук. Затем он поднялся и сказал по-болгарски слово: — Вы, русские, второй раз спасаете нас, болгар. Сегодня в благословенной богом Болгарии говорят: «Москва пришла!» Не знаете вы, какую любовь сохраняет славянин, где бы он ни жил, к России. Россия уже тем полезна славянам, что она есть… Монахи степенно пригубили вино. Радушием светились крестьянские лица монахов. Они осмелели. Они расспрашивали гостей о России и улыбались простодушно и удивленно. Служки через плечи сидящих уставляли стол брынзой, хлебами, чашами с виноградными гроздьями. После трех лет фашистской оккупации не только болгарские города и села, но, видно, и монастыри постились: скот был угнан в Германию. — Зелен боб, — приговаривал отец эконом, накладывая на тарелку полковника зеленую фасоль. Пили по второму и по третьему разу. — Вчера услышали снизу русскую песню, обрадовались: знакомая! — сказал отец казначей. — Знакомая? — А вы отца игумена попросите, пусть разрешит. Споем. Вот у нас певец! — сказал отец казначей, похлопав по руке горбуна. Обносивший стол вином горбатый монах подливал полковнику виноградную водку — «мастику». Он уже дважды успел, обойдя стол, исчезнуть с подносом. Уж не вздумал ли он угощать вином часовых? Полковник заметил, что Шустов не сводит глаз с горбуна. Кивком головы он отправил адъютанта во двор — проверить, все ли в порядке. Проходя мимо, Шустов наклонился к полковнику и вполголоса сказал: — Вы не обратили внимания? — Нет, а что? — А монах-то… из альбома. — Перекрестись. Здесь можно, — сквозь зубы ответил Ватагин. Младший лейтенант вышел, а горбун вернулся, вытирая губы. Нет, кажется, тут не о часовых забота: он сам прикладывался к стаканчику за дверью — боится игумена. Монахи звали его Октавой. О нем рассказали полковнику с тем удовольствием, с каким простые люди за столом любят поговорить о пьянице. Он был, оказывается, беглый, из Македонии. С ним там, в горах за Прилепом, случилась при гитлеровцах какая-то история. Какая? Об этом монахи умалчивали, весело ухмыляясь. Шустов уже возвращался, шел за спинами монахов своей независимой походочкой. Он даже не подошел к Ватагину, а со своего места послал ему по рукам конверт. Полковник, только лишь пощупав, понял: фотография. Он молча сунул конверт в карман гимнастерки. Между тем монахи поглядывали на игумена. С той минуты, как отец казначей сказал, что они знают русские песни, и полковник попросил спеть, видно было: и монахам не терпелось спеть, и горбуну — показать свой голос. Наконец пастырь с усталым лицом, снисходя, уступил. Отец эконом налил горбуну стакан. Октава проглотил сливянку при общем молчании, вытер пот с бледного лба и прикрыл красивый рот рукавом, как бы заранее умеряя силу звука. На мгновение, в неверном свете свечей, неподвижное сумрачное лицо монаха показалось полковнику одноглазым, словно выточенным из темного дерева. Ватагин взглянул на фотографию и снова спрятал ее в карман — это заняло не более секунды. Стесняясь русских слушателей, македонец запел старинную песню, знакомую Ватагину еще с юности. — «Жили двенадцать разбойнико-о-ов…» — пел монах, и такое бездонное «о-о-о…» поселилось в трапезной, что пустые чаши откликались, словно морская раковина. — «Господу богу помо-о-олимся…» — дружно подхватили монахи. Пели и казначей, и игумен, и эконом, а голос македонца гудел набатно. Редкая бородка почти не скрывала квадратных линий лица. Горбатый нос с тонкими раскрыльями ноздрей. Под мягкими усами губы были поджаты, как бы для тонкого свиста, но звук — казалось полковнику — возникал даже не в груди монаха, а будто в горбу его, отлитом для такого случая из меди с серебром, и Ватагин почувствовал, что выпито немало. Снова на краткий миг вынул он из кармана гимнастерки фотографию и, поглядев, снова сунул в карман незаметно. Пожалуй, похож: один из семи близнецов.15
После песни развязались языки. Монахи шумно беседовали меж собой, уже не стесняясь ни русского офицера, ни игумена. Они делились впечатлениями от первой встречи с советскими людьми, и хотя один из русских спал, сморенный походной усталостью, а другой все входил и выходил, да помалкивал, но самый старший, третий — он был человек покладистый и приветливый, говорил тоже мало, но слушал охотно и ел не стесняясь. — Верно ли, господин полковник, что у вас женщины в армии? — набравшись храбрости, спросил отец эконом. — Есть такой грех. Да ведь и ваши девочки партизанили на славу? — Ничего… — уклонялся отец эконом. — Мы не судьи мирским делам. — А вас, на горных высотах, женщины не навещают? — подмигнув, спросил полковник. — Иных… посещают, — в тон ему, лукаво, ответил отец казначей. И все взглянули на Октаву при этих словах. Оживилась мужская трапеза. Отец эконом, размахивая рукавами, приставал к Октаве, требуя, чтобы он рассказал, не таился, почему и как он бежал из своего Прилепского монастыря. Октава дергался всем телом, стараясь уклониться от требований отца эконома, и горб его при этих движениях еще резче обозначался, будто чемодан, спрятанный под рясой. — То нелепо, что вы просите. Вздор!.. — говорил Октава. — Зачем же русским такое слушать.? Не будут верить. Вздор… — Нет, то истина! — То вздор! — А ну, рассказывай! — не поднимая глаз, приказал Ватагин. Вот что услышали полковник и Славка в гот вечер в горном монастыре на случайном ночлеге. С детства Октава жил в Югославии, за Вардаром. Там, в синих Прилепских горах, есть старинный монастырь, говорят, воздвигнутый еще крестоносцами во времена их походов из Франции в Святую землю. Однажды, год назад, монахи проснулись в тревоге — к стенам македонского монастыря по малодоступной горной тропе подъехала немецкая машина. До того только раз гитлеровцы побывали в монастыре: искали партизан и скот. Октава в ту ночь спал крепко — с утра до вечера рубил он столетние буки на скалах и свергал их обрубленные голые стволы по расселине вниз, на монастырские пастбища, готовил дрова для долгой зимы. Он проснулся оттого, что холодом потянуло из открытой двери в его келью. Он открыл глаза и увидел… Женщина стояла перед ним. Женщина! Женщина… Такая красота может присниться только монаху. Ее нельзя описать — что-то было в ее лице такое, отчего он даже зажмурился. Она была седая и молодая, седая красавица. Козни лукавого! Такое бывает только в монастырях. Сатанинскоеискушение… Октава перекрестился и открыл глаза. Она не исчезла. В руке ее, поднятой над головой, сиял свет. Она зажгла неземной свет и ослепила Октаву. Тогда он повергся на каменные плиты и молился. «Встань!» — сказала она, смеясь. И он встал и показал ей свое лицо, как она того хотела. И она увидела его всего — он высок, но горбат, как аналой… Лицо женщины стало недовольным, и она погасила свет. В дыме и смраде она оставила его одного в келье… Ватагин слушал, тоже, как Славка, разглядывая свои ногти: они у полковника чистые, матово-розовые, скобленные перочинным ножом. Он не улыбался, только едва-едва тронулись кверху уголки губ. Значит, все это не выдумано в книгах. Все существует на этой грешной планете. Вот и монах, которого искушает по ночам женская прелесть. Только в годы гитлеровской оккупации бесовское наваждение является в монастырь в «опель-олимпии». — Что же, это фашисты ее привезли к тебе? — весело спросил Ватагин и в упор взглянул на горбуна. Его поразили горящие глаза Октавы. Дикий монах переживал свой рассказ всем существом. И все монахи безмолвствовали за столом. — Они, — убежденно ответил Октава. — На рассвете старец Никодим благословил меня на бегство. Немцы строго приказали игумену, чтобы я оставался в монастыре, ждал. Чего?… — Октава вопрошал монахов, но никто за столом не мог бы ему дать ответа. — Чего же?… А я не стал ждать! Старец Никодим сказал мне: «Равно ненавистны богу нечестивец и нечестие его. Беги, чадо!» И я бежал по снежным перевалам Прилепа, через Вардар и Мораву. Вот ныне здесь я — в мирном краю. «Не было их вначале, и вовеки они не будут!» Видимо, сильно выпил отец эконом, если, даже не дав монаху досказать мысль пророка Иезекииля, грубо съязвил: — Это они испытывали тебя: с горбом проползешь ли в пещь огненную… Однако никто не улыбнулся. Полковник Ватагин внимательно слушал монахов. Странное чувство породил в нем рассказ горбуна. За войну он навидался гитлеровских палачей, забрызганных кровью тысяч людей. Он передавал военному трибуналу таких, кого даже в гестаповских канцеляриях почтительно называли «профессорами обезлюживания». Он лично допрашивал в Игрени тетю Лушу, «сестру милосердия», которая по приказу эсэсовцев отравила двести нервнобольных в психиатрической лечебнице, и он сам провел ее над раскрытыми ямами. И сейчас, в этой нелепой ночной встрече в горах Болгарии, Ватагин вдруг потеплел сердцем, слушая монаха, которого искушал сатанинский соблазн. Ему приятно было видеть человеческую душу, никак не погибающую на земле в твердых законах добра и зла, пусть хотя бы в пределах монастырского суеверия. Игумен стоял у растворенного окна, положив пухлые руки на старую железную решетку, и слушал: в глубине ущелья шли танки. Полковник поднялся и сердечно поблагодарил монахов. — Помолимся, братья, за русское оружие, — сказал игумен. И все монахи разом встали из-за стола к потянулись из трапезной по тем же галереям и террасам, по которым два часа назад прошел полковник, во двор, к выдолбленной в скале часовенке. Ватагин и Славка проследовали в конце монашеского шествия. Молодой месяц светил над скалой. Полковник простился с игуменом, наотрез отказавшись от постели. Спать будут все в машине. На заре дальше в путь. Шустов уже сидел в кабине. Было без слов понятно, как он взбудоражен неожиданной встречей. Ватагин подсел рядом, дверку оставил открытой: — Отдохнуть да ехать дальше… Горбун тебя не споил? Родственные вы натуры: у того тоже воображение играет. — Спросите его, как он попал в альбом. Заставьте объяснить… — горячо зашептал Шустов. — И не подумаю. Вопросы задают подследственным. А с прочими… так, шуткуют. Из часовенки доносились могучие звуки хора, выделялся голос македонца. Они молились за счастье русского воинства. Песня их сливалась с рокотом Янтры на дне ущелья, с ревом проходящих на Софию танков. И вдруг горбун возник в открытой дверке машины. Откуда он взялся? Он приблизил свое лицо к лицу полковника и зашептал в неистовом исступлении: — Говорю вам: она смеялась, и адская свеча горела в ее руке! — Магний она, что ли, зажгла?… — рассмеялся полковник. — Поди ты прочь, монах! — не то шутя, не то серьезно сказал полковник. — Смиряй себя молитвой и постом… Славка не выдержал и выскочил из машины. Он схватил монаха за руку: — Так кто ж она была? — Наваждение. Туман… — Постой, постой, в наш век техники и туман можно сфотографировать. — Младший лейтенант вытащил альбом из-под сиденья. — Узнал бы ты ее? — Узнал бы!
— А ну, узнавай…
Монах не видел в темноте. Шустов включил фары, и горбун, странно согнувшись в ярком свете, стал нетерпеливо листать страницы альбома. Он вглядывался, не узнавал и снова листал нетерпеливо. Нервно раздуты были крылья его орлиного носа. Губы поджаты как бы для тонкого свиста… Это была минута напряженного ожидания, когда монах и младший лейтенант, казалось, забыли обо всем на свете. Вдруг неподвижное, сумрачное лицо горбуна исказилось, как от боли. Он ткнул пальцем в один из снимков. Славка сунулся и отпрянул: то была фотография хозяйки альбома, седой красавицы из Ярославля, которой посвящены были многие надписи на обороте, — Мариши, Марины Юрьевны…
— То не соблазн бесовский, это она! — крикнул монах. — Кровь и убийство владеют ими! Руснаки, верьте мне…
И горбатая тень его разом истаяла на монастырском дворе.
— А ведь разведчик ты липовый, — оскорбительно спокойно заметил Ватагин. — Где выдержка? Что, не смогли бы мы его допросить в более удобной обстановке?
С этой минуты до самой Софии полковник отчужденно молчал, игнорировал самое существование адъютанта. Отношения — строго уставные. Только на перевале, когда, сознавая свою вину, Шустов мрачно гнал машину, а впереди замаячил хвост танковой колонны, Ватагин суховато напомнил:
— Обгон ведет к аварии.
Больше ничего не сказал. Лицо абсолютно невыразительное. Но Славка только глянул и сразу понял, что это не случайная фраза, а упрек за монаха. Если так — значит, полковник скоро сменит гнев на милость. И всю дорогу, сбавив газ, Шустов ехал с сияющим лицом, с тем выражением избегнутой опасности, которое было так хорошо знакомо полковнику.
— Узнал бы!
— А ну, узнавай…
Монах не видел в темноте. Шустов включил фары, и горбун, странно согнувшись в ярком свете, стал нетерпеливо листать страницы альбома. Он вглядывался, не узнавал и снова листал нетерпеливо. Нервно раздуты были крылья его орлиного носа. Губы поджаты как бы для тонкого свиста… Это была минута напряженного ожидания, когда монах и младший лейтенант, казалось, забыли обо всем на свете. Вдруг неподвижное, сумрачное лицо горбуна исказилось, как от боли. Он ткнул пальцем в один из снимков. Славка сунулся и отпрянул: то была фотография хозяйки альбома, седой красавицы из Ярославля, которой посвящены были многие надписи на обороте, — Мариши, Марины Юрьевны…
— То не соблазн бесовский, это она! — крикнул монах. — Кровь и убийство владеют ими! Руснаки, верьте мне…
И горбатая тень его разом истаяла на монастырском дворе.
— А ведь разведчик ты липовый, — оскорбительно спокойно заметил Ватагин. — Где выдержка? Что, не смогли бы мы его допросить в более удобной обстановке?
С этой минуты до самой Софии полковник отчужденно молчал, игнорировал самое существование адъютанта. Отношения — строго уставные. Только на перевале, когда, сознавая свою вину, Шустов мрачно гнал машину, а впереди замаячил хвост танковой колонны, Ватагин суховато напомнил:
— Обгон ведет к аварии.
Больше ничего не сказал. Лицо абсолютно невыразительное. Но Славка только глянул и сразу понял, что это не случайная фраза, а упрек за монаха. Если так — значит, полковник скоро сменит гнев на милость. И всю дорогу, сбавив газ, Шустов ехал с сияющим лицом, с тем выражением избегнутой опасности, которое было так хорошо знакомо полковнику.
16
После ночлега в горном монастыре и затем въезда в Софию с передовыми танковыми бригадами Шустов чуть не целую неделю не заговаривал с полковником об альбоме. Ватагин никуда не выходил из отведенного ему особняка: там обедал, спал, там и работал. Офицеры разместились в том же доме. Славка иногда ночевал во флигеле, а чаще прямо в приемной. У ворот стояли часовые. В глубине по-столичному асфальтированного двора была поставлена на колодках походная радиостанция. Круглые сутки дежурили два «виллиса» и «эмочка». С той минуты, как Шустов показал бесноватому монаху фотографию и тот узнал в ней свое ночное видение, Ватагин резко оборвал Славкину болтовню. Он как будто даже совсем пренебрег Мишиной находкой, и альбом находился теперь в архиве у Шустова. Облазив с оперработниками народной милиции чердаки и подвалы здания бывшего германского посольства, Бабин не нашел даже следа радиостанции, но в первую же ночь в Софии снова перехватил шифрованные переговоры. Возникла версия, что гитлеровская радиостанция кочует на машине, потому что только по ночам ее и засекают. Доложили полковнику — тот промолчал. Верный признак, что недоволен ходом дела. Ватагин работал днем и ночью. Дело с внезапной вспышкой сапа оказалось заслуживающим внимания разведчиков, и даже осторожный начальник Ветеринарного управления после нескольких консультаций с болгарскими специалистами признал, что главный ветеринарный врач, видимо, прав: характер распространения эпизоотии, возникновение очагов сапа именно на возможных путях следования советских войск, наконец исключительно острый тип заболеваний подсказывают наличие фашистской бактериологической диверсии. В первые же дни напали и на след: берейторы и жокеи одной конюшни дали важные показания. Это были личные работники графа Пальффи — помощника военного атташе Венгрии в Софии. Сдавая болгарским властям отличных венгерских лошадей линии Нониуса, они намекали на то, что некоторые поездки их исчезнувшего хозяина всегда казались им подозрительными. Кто-то видел резиновые перчатки, которые Пальффи Джордж укладывал в чемодан, отправляясь, как он говорил челяди, «на прогулку с дамой». Кто-то заметил, что Пальффи Джордж возвращался с таких прогулок с измазанными йодной настойкой кончиками пальцев. Другие свидетельствовали, что он подолгу, точно одержимый, мыл руки и лицо раствором сулемы. Ватагин послал запрос: нет ли среди женщин в захваченном дипломатическом корпусе русской эмигрантки Марины Юрьевны? Пришел отрицательный ответ. Тогда он запросил: нет ли среди доставленных фашистов графа Пальффи? Ответили, что в списках прибывших таковой не значится. Полковник послал новый запрос: выяснить, кто из дипломатического корпуса отсутствует среди пленных? Ответ пришел ночью — четверо; были названы должности и фамилии. Управляющий делами германского посольства Пауль Вернер застрял в Софии по болезни. И действительно, болгары обнаружили его в одной из городских больниц: он лежал в бреду в сыпнотифозной палате. Молоденький лейтенант охраны Генрих Вольф застрелился от отчаяния. Труп его нашли на квартире сразу же после бегства посольства, но только теперь об этом стало известно Ватагину. Еще один немец — Ганс Крафт — по всей вероятности, не представлял интереса: это был третий секретарь посольства, выходец из Баната, тс есть бывший «фольксдейтч», балканский провинциал, кабинетный человек, который разумно уклонился от предложения сесть в поезд и сейчас, наверно, пробирается по нашим тылам с фальшивым паспортом в свой родной Вршац. Итак, круг снова сомкнулся вокруг занятной фигуры венгерского аристократа, графа, сына богачей Пальффи, неизвестно ради какой корысти обретавшегося два последних года в Софии на незавидной должности помощника военного атташе маломощной венгерской миссии в Болгарии. Под утро усталый Ватагин потребовал от майора Котелкова вызова всех знавших графа Пальффи. Можно было понять, что Котелков к делу о конской болезни относится без всякого интереса, но полковник, не обращая на это внимания, уже разговаривал сразу по двум телефонам, и майор пошел в свою комнату выполнять приказ. То, что обнаружилось при последовавших допросах, заставило встрепенуться даже майора Котелкова. Сторож конюшни показал, что днем 8 сентября, в самую панику, граф и его ординарец ускакали куда-то на лучших конях, и только ночью вернулся Пальффи на взмыленном Арбакеше, а ординарец так с тех пор и не показывался. А спустя час незаметно вышел в боковую калиточку сам хозяин. Только его и видели. Один из берейторов дополнительно показал, что среди друзей графа Пальффи были двое русских: одна женщина легкого поведения, которую звали «Серебряная», и метрдотель ресторана «София» Шувалов — тоже конный спортсмен и, как поговаривали, сиятельная особа. Навели справки в ресторане — Станислав Шувалов уже две недели, как уехал из Софии. Лакеи подсказывали: в Великом Тырнове преподает в гимназии латынь его брат — Константин Шувалов, — говорят, человек хороший, честный, с фашистами не якшавшийся. За несколько дней Ватагин перевидал немало эмигрантов. Многие монархические зубры повымерли, иные доживали век в инвалидных домах, иные — помоложе — вместе с профессией призаняли у судьбы и язык и национальность. Лютые ненавистники большевистской России ушли с гестаповцами. Зато среди оставшихся обнаруживались и честные люди. В солнечный полдень сентября полковник беседовал с учителем-латинистом из Тырнова Константином Шуваловым. Тот охотно явился в Софию по вызову, так как и сам имел дело к русскому военному командованию: собирался испрашивать советский паспорт. Болгары, знавшие этого человека, говорили о нем только хорошее. Смоленский помещик, бежавший с белой армией из России, он ненавидел политическую возню эмигрантов и в годы немецкой оккупации сблизился с болгарскими партизанами. Рассказывали, как в самые черные дни, в ноябре 1941 года, когда Геббельс оповестил весь мир по радио о вступлении германских танков в Москву, Константин Шувалов ворвался вечером в тырновский ресторан «Царь Борис», где пьянствовали русские эмигранты, ожидавшие скорого возвращения в Россию в фашистских обозах. — Не верю! — кричал Шувалов. — Будьте вы прокляты, не помнящие родства! Не верю! Его, как бы пьяного, увели друзья-болгары, спасли от комендантского патруля. С этим седым и рослым стариком полковник Ватагин разговаривал доверительно. О своем брате Станиславе вызванный ничего интересного не сообщил — помрачнел, отвел глаза в сторону. Ватагин спросил его, знает ли он о нынешнем местопребывании брата, и, получив отрицательный ответ, тотчас перевел беседу на другие темы. Около двух часов продолжалась эта беседа с водкой и закуской. Бывший смоленский помещик объяснял, что означала для него эмиграция: исчезновение из жизни. Но из какой жизни?… Тырново, чужой язык, болгарская гимназия — это была смерть для него. А что-то с годами становилось в этой смерти похоже и на рождение. Рождение каких-то неприметных радостей — оттого, что ты труженик, — как чуть слышная мелодия зародившегося на востоке рассвета. Смерть тунеядца и рождение труженика. Вот как складывалась судьба Константина Шувалова за границей. На это ушли долгие годы. Никогда за всю жизнь, включая и бой под Касторной и панику в Одесском порту, Шувалов так не боролся за себя, как в тырновской гимназии. — Все это очень не похоже на мое представление об эмигрантах, — произнес Ватагин и осторожно, боясь обидеть старика, спросил: — Частенько вспоминали о родине? Тот ответил, подумав, лермонтовскими стихами: — Вспоминал ли? Вспоминал… Как, спросите? Да так, знаете ли,17
Ночью Бабин молча ткнул пальцем в воздух: поймал! — Алло, алло! Ралле, Ралле! — слышался немецкий разговор в эфире. — Хир Ринне… (Следовала знакомая пауза). Фюнф хуфайзен фон эйнем пферде… А через несколько минут — ответ: — Алло, алло! Ринне, Ринне! Хир Ралле… (Пауза). Багр данк… Бабин смахнул наушники, протер глаза. — Багр данк?! Значение имела только эта последняя фраза. Ради нее ведется весь этот стереотипный разговор. Каждый раз — новая фраза. Только одна новая фраза. Что ж она значит на этот раз? «Спасибо за землечерпалку»? Бессмыслица. И, подведя такой итог, Миша раскрыл журнал вахты, стал записывать час и минуты приема, волну, кодированный текст.18
— Товарищ полковник, разрешите войти. — Да, входите, Цаголов. — По вашему вызову явился. Ватагин потер ладонями виски, встал, отодвинул кресло. — Езжайте, Цаголов, на последнюю квартиру Марины Ордынцевой. — Ее нет, товарищ полковник. Позавчера узнавали. — Знаю. Там ее подруга Костенко. Обыщите. Возьмите болгар с собой. Прикиньтесь простаком и развесьте уши. Он улыбнулся, увидев, как сразу заскучал капитан. Вряд ли полковник мог найти более подходящего офицера для этой деликатной миссии. Цаголов был заразительно веселый парень с необыкновенным даром фамильярности Для пользы службы он разработал снисходительную усмешку и отлично, хоть и без всякого удовольствия, исполнял от случая к случаю роль избалованного женским вниманием юноши. Некоторые женщины просто терялись в его присутствии — он был неотразим. Но каждый раз, когда Сослану давали такое поручение, он считал себя неудачником, эта работа была ему не по нраву. — Что нужно выяснить, товарищ полковник? — сухо спросил Цаголов. — Для начала хорошо бы узнать, какие она там номера откалывала. — Уточните. — Говорят о каких-то ее экстравагантностях, фантастических причудах. Разберитесь, пожалуйста. А кстати проверьте, нет ли там каких-нибудь скляночек, ампул, вот еще резиновые перчатки меня интересуют. Не бывала ли она в обществе ветеринаров?… Впрочем, все это маловероятно. Главное — в каком направлении мог исчезнуть Пальффи. — Разрешите действовать? — Попросите от моего имени младшего лейтенанта Шустова. Он вас подвезет и пусть заодно поприсутствует. Цаголов дожидался понятых в условленном месте. Они должны были прийти из штаба народной милиции и запаздывали. Шустов безмолвствовал со скорбным выражением лица. Полковник даже не вызвал его для такого случая, передал приказание «поприсутствовать». Пускай же хоть Сослан чувствует, что так с человеком нельзя поступать. Наконец подошел и назвал себя в качестве понятого истопник чиновничьего клуба, за ним подбежала смуглая студентка-медичка с комсомольским значком на вязаной шапочке. — Вот и все в сборе, люблю точность, — пошутил Цаголов, поглядев на часы. — Товарищи, задерживать никого не будем, только обыск, вернее — осмотр квартиры. Прошу за мной. Дверь была раскрыта настежь. Сквозняк по-летнему продувал все комнаты второго этажа, когда Цаголов вошел, оставив автоматчиков у подъезда. Болгары окликнули хозяев, и в двери появилась заспанная, по-вечернему сильно загримированная женщина с немного опухшими щеками и мерцающими черными глазами. Она встретила вошедших как добрых знакомых и даже попросила называть себя Милочкой. Когда же, немного задержавшись у машины, показался Шустов, хозяйка просто расцвела от удовольствия. — Вот как хорошо! Хоть бы вы, Слава, помогли мне найти Марину Юрьевну, — сказала она с медленной улыбкой женщины, совершенно уверенной в том впечатлении, какое она производит на мужчин. Капитан Цаголов показал свои ослепительные зубы. Он был несколько озадачен тем, что Шустов уже встречался с подругой Ордынцевой, но виду не подал: предъявил ордер народной прокуратуры и попросил разрешения произвести осмотр квартиры. Понятых он попросил разойтись по комнатам. И нужно было видеть, с какой непримиримостью взглянула смуглая медичка своими большими глазами на хозяйку, проходя мимо нее в соседнюю комнату. — Если вы ищете какой-нибудь сейф, то его нету. Уверяю вас! Марина — голоштанная девка, — сказала Милочка Костенко. — Домнишора! — по-румынски воскликнул Цаголов. — Почему вы думаете, что я имею что-либо личное против вашей подруги? — Потому что, когда я играю в бридж, я знаю, что король бьет даму. Трудно было что-нибудь возразить. Цаголов молча показал зубы и присел к столу: начал протокол. Полковник был прав, послав его, — подруга Марины красива и глупа. — Есть у вас вечное перо? — спросил капитан, пытаясь наладить свою старенькую самописку. — На свете нет ничего вечного. — А любовь? — быстро сказал Шустов. Костенко оживилась: — Вы разговариваете со мной, Слава, так фамильярно. А между тем мой старший брат состоял в личном конвое его величества… — Скажите, а кем вам приходится генерал Гудериан? — перебил ее Цаголов, чтобы войти в тон разговора. — Гудериан? — она красиво задумалась. — Какого он был полка? Кажется, припоминаю, из кавалергардов. — А вы галушки помните? — спросил еще Цаголов, после чего уверенно перешел к обыску. Комната являла собой зрелище чудовищного беспорядка. Повсюду валялись шелковые комбинации, подвязки, туфельки. Перед шикарной бархатной шляпкой капитан остановился с нескрываемым восхищением. Милочка Костенко улыбнулась, сунула в зубы сигарету. Славка поднес ей спичку. — Говорят, что у вас в Болгарии налог даже на зажигалки, — спросил он неестественным голосом, явно подражая Сослану. — Не говорите при мне о зажигалках! — содрогнулась Милочка. — Я до сих пор не могу прийти в себя от ужаса. Эти противные америкэн сбрасывали тысячи зажигалок… Тысячи! Мы выбегали в одних рубашонках!.. В тазу, в мыльной воде, плавали тонкие дольки оранжевых дынных корок, точно кораблики, освещенные солнцем. Оттопырив пальцы побрезгливее, Цаголов осторожно слил воду в раковину на кухне. Это рассмешило Милочку. — Пожалуйста, ищите… — О, что вы, домнишора, домнишора. — насмешливо и лениво возразил капитан, изучая стены. — В Болгарии говорят — госпожица. Сразу видно, что вы приехали из Румынии: здесь так не называют девушек… Не правда ли. Слава? Медичка, сидевшая в соседней комнате, прыснула со смеху и задвигала стулом. Истопник не подавал признаков жизни. Еще в штабе народной милиции Цаголова предупредили, что этот человек очень серьезно относится к своим общественным обязанностям. Сослан медленно подвигался от веши к вещи. Что мог узнать он в этой утомительной словесной дуэли? Что мог найти он в ворохе женских безделушек и сувениров, черепаховых гребней, янтарных пробок, парижских выставочных каталогов, нагрудных судейских цепей, вывезенных на Балканы откуда-то из глубин царской России, и груды шелковых чулок с румынскими этикетками? Среди игрушек, стоявших на полочке, лейтенанта заинтересовала маленькая фарфоровая лошадка; он с видом знатока разглядывал ее, ища фирменную марку. — Хорошенькая, — согласилась хозяйка. — Это английский фарфор. Очень старинная, не правда ли?… Я хочу репатриироваться. Милый, помогите мне! — вдруг попросила она с капризным выражением ребенка. Капитан в первый раз взглянул на нее без игры, со вниманием. — Глупенький, ну, а если я дам кровь вашим раненым солдатикам! Будет это принято во внимание? Помогите мне! — уже с обидой в голосе сказала она. — В Болгарии, все говорят, будет амнистия. Теперь здесь такое доброе правительство. Так неужели только для бедной русской патриотки ничего не изменилось… Отвращение Цаголова к этому разговору смешивалось в нем с сознанием выполняемого долга. Он молча перелистывал книги на полках. Они не представляли, интереса: ни пометок на полях, ни вложенных записок. Капитан на всякий случай отложил в сторону несколько тощих томиков Уоллеса, затрепанные, бархатно-толстые страницы Тэффи и Алданова, томик стихов Омар-Хаяма и под одним корешком переплетенные воспоминания Юсупова-Эльстона об убийстве Распутина и мемуары митрополита Макария. С безразличным видом Сослан на минуту задержался на воспоминаниях о Распутине. Милочка с любопытством заглянула через плечо: — Если бы вы познакомились с Мариной Юрьевной, вы были бы в восторге! — Расскажите о ней, Милочка! — нестерпимо слащавым голос попросил Шустов. — Это была необыкновенно экзальтированная женщина, не правда ли? Такой дворянский выродок. Как бы ища доказательств, Милочка стала рыться в кипах номеров журнала «Сигнал», издававшегося в оккупированных странах на всех языках. Среди бесчисленных фотографий торжествующих фашистских триумфаторов в закатанных рукавах, снятых то на развалинах Акрополя, то у избушки, где начинается великая русская река Волга, Милочка разыскала Марину Ордынцеву. — Это на пляже в Варне, — грассируя, произнесла Милочка. — Я думаю, номер журнала истрепался во всех госпиталях германской армии от Биаррица до Нарвика. Не правда ли, хороша? Цаголов с журналом в руках задумался. Подруга Марины скользила мимо главного. Надо снова направить разговор… — Все-таки немолода, немолода, — вздохнув, сказал он об Ордынцевой и бросил журнал на пол. — Вы тоже так думаете? — хищно подхватила подруга Ордынцевой. — Да, конечно. Впрочем, что вы! Ее плечи, ноги. Призы за красоту… Во время оккупации она нашла новых ценителей среди немецкого офицерства. Вы знаете, в Болгарии на курортах околачивалось много шалопаев, не очень-то спешивших на Восточный фронт. На нее была даже мода. Стоя на стуле, Цаголов медлил, стараясь затянуть обыск. Раскрыл какую-то шляпную коробку в пыли и хламе, среди старых чемоданов. — Что за прелестная скляночка? — спросил Шустов, состязаясь с капитаном в неотразимости интонаций. — От духов. Это были французские, чудо! Подарок графа. — А та лошадка? — вернулся заодно Цаголов к заинтересовавшей его фарфоровой игрушке. — В каком смысле вы спрашиваете? — Тоже подарок графа? — Разумеется: он был просто помешан на лошадях. — Но, видимо, он увлекался немного и вашей подругой? Милочка оценила остроумный поворот мысли, подарила улыбкой: — Мужчин влекло к ней ее обаяние. Но что вы хотите от мужчин!.. Был только один человек в ее жизни, кому она принадлежала вечно: поручик Игнатий Леонтович… — Ее муж? — поторопился Славка. — О нет! И вообще вы не поверите, если я расскажу. Это история женской преданности. — Расскажите! — дружно потребовали Цаголов и Шустов. — В 1919 году, когда Мариша бежала из России, ей не было восемнадцати лет, но, вы знаете, смутное время, папа с мамой в Сибири, девочка одна в Крыму… Одним словом, у нее уже был жених, поручик Игнатий Леонтович из Павлоградского полка. В Ялте во время бегства врангелевцев была страшная паника у причалов. Мариша вбежала не на тот пароход, где ее ждал Леонтович. Получилось так, что Мариша больше его не видела. Говорили, что в море жених ее заболел, потерял память, a потом чего только не наплели: не то он в Смирне торговал маслинами, не то в Салониках его приютила бедная огородница. Все это ладно бы, но вот чему вы не поверите: Марина Юрьевна никогда — понимаете, никогда! — не теряла надежды найти его. Она срывалась с места и ехала куда угодно по любому слуху — искать объявившегося Игнатия Леонтовича. С его фотографиями она рыскала повсюду. Где она только не побывала, понятно — на Балканах. Она показывала фотографию встречному и — поперечному. Иногда, конечно, ей находили похожего, даже приводили ее к нему… И всегда — разочарование… — С внезапной грубостью, даже как-то по-мужски, Милочка выкрикнула: — Федот, да не тот! Психопатка! Это стало ее психозом. Самое непостижимое то, что она поработила Джорджа — холеного красавца, спортсмена, богача. Он повсюду разъезжал с ней, искал ее несчастного Игнатия Леонтовича. Хороши бы они были втроем, когда нашли бы его наконец!.. Всю эту странную историю Славка Шустов слушал с блаженным выражением лица и несколько расслабленной улыбкой, как если бы симфонический оркестр играл композитору его собственное счастливое творение. Сослан стоял на стуле, живописно облокотясь на карниз шкафа. — Вам нравился граф Джордж? — подбодрил капитан Милочку, когда она на минутку приумолкла. — Мне всегда казалось, что он так предан ей… Своего потерянного Игнатия она называла рыцарем, но граф-то ведь был настоящим рыцарем! Она сидела на краешке стула, на котором стоял Цаголов, и ее рассказ был обращен ко всей квартире, не к нему одному, а, конечно, и к юному лейтенанту, а может быть, и к той комсомолке, которая сидела в спальне. — И этот рыцарь, влюбленный в Ордынцеву, ездил с ней в поисках ее жениха? — спросил Цаголов. — Да! — решительно подтвердила Милочка. — Теперь я даже не смогла бы ответить, кто из них больше рвался в эти поездки. — Милочка, ведь это же омут! — с деланным ужасом прошептал Сослан. Эта реплика вдохновила Милочку. — Омут? — переспросила она. — Это бездна! Знаете, у Леонида Андреева был такой рассказ… Разве кто-нибудь мог бы разобраться в их отношениях? Самое печальное было то, что в последний год Джордж почему-то помрачнел, замкнулся, стал ожесточаться без всякого повода. Однажды мы поехали на пикник в бани… — В бани, домнишора? — переспросил капитан. — Ну, глупый… Банями здесь называют дачные места с минеральными источниками. Я вас свезу на днях. Там нам поднесли живую черепаху, очень милую — не правда ли? — с такими черными губами… Марина страдала. Она чувствовала охлаждение Джорджа и просто висла у него на шее. Может быть, он уже тяготился ею. И то, что он с такой охотой искал поручика Леонтовича, было естественным желанием… как это по-русски: сбагрить с рук, не правда ли? — Очень даже правда, — убежденно сказал Шустов. — Вы со мной согласны? — Милочка привычно стрельнула глазами в офицера. — Да, постарение… Зачем быть седой, Марина еще понимала, куда ни шло. Кличка «Серебряная» ей была просто к лицу. Но к чему морщинки? Иногда я замечала в ресторане, как она стоит перед большим трюмо, как бы забывшись, с приподнятыми бровями. Да, она нервничала. Цаголов с удивлением поглядел на Милочку: она говорила теперь последовательно, даже вдумчиво — не подходящий ли момент, чтобы захлопнуть ловушку? — Что же, они уехали вместе? — небрежно спросил Сослан. — Что вы! Я думаю, они расстались навсегда. Все началось из-за ерунды. Они вдруг так страшно поссорились, что у Марины даже температура подскочила и начались рвоты. И ужасно болела голова. Тогда она собралась в полчаса и уехала, даже со мной не простилась. — А Джордж остался в Софии? — Не думаю. Что он, глупенький? Мне кажется, он так рад, что разделался с Мариной, что больше никогда и не появится в Софии. Во всяком случае, его приятель Ганс Крафт заехал уже без него. Нужна ли была ему Марина — не знаю. Но ее уже не было. — Куда она уехала? — Кажется, в Бухарест. Но если вы ее найдете, не говорите, что это я вам сказала. Крафт обыскал всю квартиру. Он страшно ругался по-немецки. Он так спешил: ваши танки были уже на перевале. — Что же он искал, этот Крафт? Кстати, кто он? — Жалкий сотрудник германского посольства, плюгавый фольксдейтч из Баната, третий секретаришка… А что искал? Да то же, что вы… Сувениры. — Нашел? — Кое-что. Семейный альбом Ордынцевых. Она, дурочка, думала, что хорошо его спрятала. От меня, но не от этого сумасшедшего фольксдейтча… Знаете, где был альбом? В картонке, которую вы держите в руках… А уехал он — у нас загорелось. — Это он поджег? — Нет, какой вы глупенький! Зачем ему? Вероятно, бросил сигарету. Горела гума, ну… как это по-русски? Гума… — Резина? — Да, да. Вы, наверно, уже расспрашивали дворника? Он погасил. — А как вы думаете, зачем Крафту понадобился семейный альбом Марины Юрьевны? — спросил Цаголов. — Представить себе не могу! Может быть, он хотел сделать приятное Марине, спасти ее реликвии. В альбоме, кажется, были портреты Леонтовича. Немцы так сентиментальны. Сослан молча улыбнулся. В шляпной картонке пахло эфиром или какой-то непонятной дрянью. Он обнаружил в ней еще автомобильные очки. Капитан спрыгнул на пол со своей сомнительной добычей: — Вы разрешите, госпожица, закончить протокол? — Пожалуйста, — милостиво разрешила Милочка. — И пусть все это забудется. Она подошла к Шустову и предложила ему то, что привык получать в дар красивый горец. — Заходите… Без них, не правда ли? — тихо сказала она младшему лейтенанту, показывая пальчиком на капитана и понятых. — Есть такая чисто русская травка… — Травка? — Да. Трын-трава. Вы помните, поется: «И порастет травой забвенья…» Вы придете? Вместе со Славкой завязывали они пачки конфискованных книг. Милочка накрест обматывала их шелковым шнурком, и пальцы их соприкасались. — Вы милый мальчик! — игриво сказала она, забрасывая движением головы прядь волос со лба. — Как это сказать по-болгарски? — кисло спросил Сослан, играя желвачками на скулах уже не столько ради дела, а, вернее, по инерции. — Он много нежен муж! — певуче произнесла кокетка и замерцала на прощание красивыми черными глазами. Но теперь уже капитан Цаголов торопился к выходу. Он пропустил впереди себя милую болгарскую девушку, на лице которой было написано отвращение, и молчаливого непроницаемого истопника чиновничьего клуба. Последним, позже автоматчиков, с независимым видом садился в машину младший лейтенант Шустов.19
— Детская игра! Все, что ты напридумал, — это вилами по воде! Сложность момента в том, что мы еще не проглядываем всю цепь событий, а из обрывков можно что угодно насочинять. Особенно, если, как ты, гнуть и выгибать любой факт как удобнее. — Товарищ полковник, давайте снова по порядку… В этом ночном разговоре, возникшем случайно во время подписывания деловых бумаг, Ватагин выглядел не похожим на себя — раздраженным и нетерпеливым, а Славка тихо сиял. После обыска у Милочки Костенко, когда так просто объяснилось, что семь портретов в альбоме — это семь похожих на Леонтовича мужчин, обнаруженных Мариной в разных балканских захолустьях, младший лейтенант вдохновенно набросал свою версию и только немного удивился, что полковник не прогнал его сразу, — сердится и все-таки слушает. — Картина ясна, — навязывал свои догадки младший лейтенант. — Помощник венгерского военного атташе по заданию германского командования систематически заражал конское поголовье. Ордынцева со своими поисками незабвенного Леонтовича была замечательно придуманной декорацией. Милочка сказала: неизвестно, кто из них больше рвался в эти поездки. Ордынцева даже не догадывалась, что Джордж и роман-то с нею завел только потому, что она искала потерянного жениха. Ганс Крафт — подручный графа. Знаете, что рассказал мне один из графских жокеев? Крафт близко к лошади не подходил: боялся. А, как ни странно, на родине, в Банате, у него своя конюшня. Что это значит? Ясно, товарищ полковник? — Мне-то неясно. А тебя что осенило? — Там же у них лаборатория находится! Там они на больных лошадях сапную культуру выращивают. Ватагин только взглянул на адъютанта и весело гаркнул: — Да куда ж тебя занесла нечистая сила! — Хорошо, — спокойно уступил Славка. — Выходит, по-вашему, что и альбом не имеет никакого отношения к сапной диверсии? — Пока не вижу связи. — По-вашему, выходит, у Атанаса Георгиева искали не альбом, а что-то другое? — Альбом валялся в канаве. — Это лишь означает, товарищ полковник, что его выбросили из вагона в разбитое окно. — Зачем же убили подпоручика? — А может быть, тот. кто убил, и не думал, что альбом в канаве. — Пусть так, но все же доказательства нужны. Для любой версии нужны доказательства, товарищ младший лейтенант… Руководитель обязан быть воспитателем. Жизнь всегда учила этому Ватагина. Военный человек, он больше всего не любил в своих помощниках формальную исполнительность, в сущности не имеющую ничего общего с сознательной дисциплиной. Ватагин знал, что самоуверенного и упрямого Шустова надо раздразнить и только тогда можно дождаться от него глубокого и обдуманного решения задачи. Слишком легко младший лейтенант удовлетворялся первой черновой догадкой. Зато, наткнувшись на сопротивление, он не терял веры в свои силы. Сопротивление его только подстегивало. И в эту минуту, подписывая реляции на награждение летчиков, полковник искоса поглядывал на Славку, проверяя, какое впечатление производит на него этот спор Шустов и сейчас не был обескуражен. Пожалуй, он даже был окрылен каким-то вдохновением. — Вы помните, товарищ полковник, что бормотала старуха? — спросил Шустов. — Помню. О подковах. — И позывные помните? А вот поглядите-ка. Он перевернул плюшевый альбом вверх задней крышкой. — Следы крови, что ли? — неторопливо поинтересовался Ватагин. — Вы все смеетесь, товарищ полковник, а между тем вот они — пять подков. И в самом деле, пять рельефных серебряных подковок — четыре по углам и одна в центре — украшали заднюю крышку старого плюшевого альбома. Ватагин, видимо, опешил на мгновение. Потом, отложив альбом в сторону, весело заметил: — Ну, знаешь. Слава, нет такого альбома, который не был бы разукрашен подобной инкрустацией. Это же старинная русская примета: найти подкову — счастье найти… — Вот мне и посчастливилось — я нашел, — самодовольно заметил младший лейтенант. — Целых пять, — полковник махнул рукой и встал, заканчивая разговор. — Гитлер еще под стол пешком ходил, когда в Ярославле уже изготовили этот альбом со всеми его украшениями… Подгоняешь. Все подгоняешь. Става. Разве ж для заражения лошадей нужны такие сложности: шифрованные радиопереговоры? Ты правильно догадался, что надо разрабатывать Ганса Крафта. Давай-ка пошлем в двадцать шестую армию запрос насчет этого банатского немца — наши войска позавчера вступили в его родной город. Иди отдыхать, поздно. Мне тоже нужно. Завтра поедем с тобой. — Куда, Иван Кириллович? — На кудыкину гору. — Иван Кириллович! — Ну, что еще? — Вы же сами отлично знаете. Когда же переведете на оперативную? Ватагин рассмеялся. — Маловато данных, товарищ лейтенант. Что я напишу генералу? Что ты человек дисциплинированный? Совесть не позволит. Что у тебя при горячем сердце холодная голова? Видит бог, Слава… — А что ж, капитан Цаголов не горячая голова? — Ну, сравнил тоже! Ты помнишь, как он под Никополем захватил майора Ханеке со всеми шифрами армейской группировки? — Как же не помнить, когда он мне еще брелок со свастикой подарил! Так вы же ему дали тогда отличиться? А я купаюсь в отражении чужой славы. Третий день пишу представления о наградах! Человек я или кто? — С отличным почерком… Иди спать. — Товарищ полковник! Иван Кириллович! — Славка готов был унизиться до степени полной адъютантской фамильярности. — Дайте хоть один из объектов проверить. — Каких это? — Из альбома Ордынцевой. Я вам скажу одно свое соображение: там есть снимок Леонтовича, сделанный в Казанлыке, в горнотуристском костюме. А Казанлык как раз под Шипкинским перевалом. Если все эти Маришины женихи — организаторы сапной диверсии, то лучше всего искать именно там. — Почему? — Да потому, что горный перевал является самым удобным местом: там неизбежно скопление лошадей. Там могут быть запасы фуража, общий водопой, там отдыхают на перевале… Ну, пошлите хоть для очистки совести. Я в один день смотаюсь. Одна нога здесь — другая там. Хоть на козлике… «Козлом» назывался на языке младшего лейтенанта Шустова, еще со времен службы в танковом корпусе, мотоцикл трофейной марки «Цундап», которым Славка владел в совершенстве. — Иди спать. Уже без гимнастерки, полковник, положив руку на плечо адъютанта, по-отцовски вывел его за дверь, погасил свет.20
Поездка в эмигрантскую богадельню под Шипкой заняла целый день. Славка Шустов был неразговорчив, гнал машину, не притормаживая на виражах. — О чем думаешь? — поинтересовался полковник. Славка ответил не сразу. Проехали горбатенький мост, миновали еще одно селение. — Я думаю, товарищ полковник, как же майор Котелков не понял, кто там был главный. — Где? — На полустанке… Посол или тот, как говорят, «оставшийся неизвестным»? Убийца. — Вот о чем ты… Ватагин усмехнулся. Больше ничего не сказал. И Славка тоже больше не приставал. Встаринных корпусах, окружавших русский собор святого Николая, сооруженный некогда во славу шипкинских героев, полковника Ватагина взяли в плен сплетники из адмиралов и генералов царской армии. Любая комната общежития имела не только свой особенный запах, но и свои политические теории, общественные программы и даже философские доктрины. Каждый царский слуга за двадцать пять лет досуга в мертвом доме написал оправдательные мемуары. И у каждого в итоге получалось так, что все царские слуги трагически ошибались или совершали гнусные преступления, а он одни думал и поступал истинно верно. Дрязги выживших из ума стариков напоминали чем-то жизнь насекомых. Советского офицера подстерегали, чтобы, отведя в сторону, на глазах у всех остальных наушничать друг на друга. Сестра милосердия первой мировой войны, старуха из дворянской семьи, следовала за Ватагиным по пятам, читая ему наизусть компрометантные выдержки из дневника вице-адмирала. Безногий штабс-капитан, сидя в своей самодвижной коляске, с утра до обеда дожидался советского полковника. Он настаивал на праве конфиденциального разговора. Ватагин честно выслушал сумасброда — что-то в нем возбуждало сочувствие. Он умолял спасти его от козней негодяев, предостерегал о грозившей Ватагину опасности, а под конец стал совать в его полевую сумку свои стихи. Это были трогательные стихи. Зимой сорок первого года, когда советские люди сражались под Москвой, безногий штабс-капитан под Шипкой писал дрожащим, опрокинутым почерком солдатскую песню — звал своих далеких братьев сражаться за родину. Среди несвязных выкриков он очень точно определил судьбу своего поколения — показал рукой на березу, трепетавшую над их головами зеленой листвой:
— Вот поглядите…
Ватагин поднял голову и увидел на живом веселом дереве сухую золотистую прядь.
Едва ли не с последним Ватагин поговорил с полковником Ордынцевым. Остервенело желчный старик бубнил что-то о беспорядочном послужном списке, о пропавших фамильных ценностях и только по настоятельной просьбе советского полковника заговорил о своей дочери. Старик был трус. Он пришел по вызову, как в большевистский застенок. Он был из тех вызывающих брезгливость людей, за которых нельзя поручиться, как бы они со страха не выдумали чего и зря кого-нибудь не оговорили.
— Психопатка! Я понял это еще — в России, — сквозь зубы цедил каппелевский полковник. — Почему интересуетесь ею? Нашкодила, дрянь?
— Должен огорчить вас. Три недели назад она исчезла из Софии.
— Подлянка!
Старик, видимо, в самом деле не знал об исчезновении дочери, судя по тому, как немедленно развязался его язык. Он не мог ей простить того, что, имея богатейшего покровителя, годами не высылала нищему отцу даже подаяния.
Трудно было следить за его отрывистой речью. Он задыхался от воспоминаний. Он буквально брызгал слюной.
Сидя в своей богадельне, Ордынцев знал все о графе Пальффи и не прощал дочери ничего из того, что знал о нем. Он и сам был когда-то конный спортсмен и сейчас, дергая жилистой шеей, будто заново переживал ту неслыханную обиду, которую нанесла ему дочь, даже не познакомив его со своим возлюбленным. А он все знал: сын Пальффи находился в смертельной вражде со своим отцом, генерал-полковником венгерской армии Пальффи-Куинсбэри Артуром. Отец был коннозаводчик, влюбленный в английскую кровь. И ссора-то у отца с сыном началась с того, что восемнадцатилетний шалопай тайно скрестил лучшую английскую кобылу Миледи с персидским жеребцом Визирем. Отец выгнал его за это из дому. Так началась темная жизнь этого авантюриста…
Мешая прошлое с нынешним, Ордынцев называл несметного богача Пальффи-Куинсбэри чуть ли не кличкой: «Старым Q», сына его — сорванцом и персидским бродягой. И только однажды лицо его посветлело — он заговорил об одном из скакунов софийской конюшни Джорджа:
— Там у него стоял необычайно авантажвый Арбакеш!..
Немалого усилия стоило полковнику Ватагину вернуть каппелевца к судьбе его дочери.
— Она была недовольна жизнью? — спрашивал Ватагин.
— Она не попала в Париж… Не я этому виной! Ее судьба — София, Пловдив, Варна…
— Ее личная жизнь сложилась неудачно?
— Слишком много мужчин.
— Но был один, которого она искала всю жизнь…
— Бред сивой кобылы.
— То есть как же?
— Да так. Это вы о поисках поручика Леонтовича? Враки! — Старик протер запотевшие очки. — Параличный жених здравствует в Старой За горе. Чего там его искать — эка невидаль! Марина ему аккуратнейше помогала. Навещала его по воскресеньям. Как же оставить убогонького! Вот отца родного заточить в богадельню — это раз плюнуть…
Ватагин грузно поднялся. И старик тотчас тоже вскочил, подобрался.
— Вдумайтесь и отвечайте: вы утверждаете, что она не искала поручика Леонтовича и что ей даже… не казалось, что она его ищет?
Ордынцев ответил по-военному быстро:
— Не могу знать!
— Ну, а предполагать?
— Если вы настаиваете… Может быть, она интересничала, набивала себе цену в ожидании жениха.
— А еще что может быть?
Ордынцев оглянулся, чтобы еще раз убедиться, что его никто не слушает.
— Я от представителя победоносной русской армии ничего скрывать не буду. И покорнейше прошу учесть, когда вы будете решать кашу судьбу, что я ничего не скрывал, даже в мыслях не скрывал.
— Я прошу вас говорить откровенно, — терпеливо сказал Ватагин.
— Психопатка! — громко прошептал Ордынцев. — Все знают, что психопатка, но… с уголовщиной. Она до войны связала свою судьбу с крупным международным аферистом, попросту говоря, с вором. Француз он… Был громкий процесс, еще в Константинополе. Ей удалось избежать огласки, даже не фигурировала на суде. С кем она расплачивалась, чем она расплачивалась — не знаю. Но теперь-то вы понимаете, почему она не в Париже? Она боялась встречи с этим французом.
— При чем же тут поиски Леонтовича?
— Пальффи мог узнать ее тайну. Эти проходимцы всегда знают всё. А Марина больше всего боялась тюрьмы. Боялась, что ее имя свяжут с именем вора.
— И все-таки, при чем тут Леонтович?
Старик помолчал. Проглотил слюну и снова помолчал. Видимо, он чего-то опасался.
— Я могу вас уверить, что о нашем разговоре в Болгарии не будет знать никто, — скачал Ватагин.
— Я думал… Прошу вас запомнить, что это не факт, а я только думал. У нас тут есть досуг для размышлений… — Старик странно хихикнул. — Это шантаж. Может быть, Пальффи — одного поля ягода с этим французским каторжником? Может быть, он сам выдумал для нее эти поиски жениха, чтобы прикрыть какие-нибудь свои уголовные аферы? Не правда ли? Ведь почему-то она мне заплатила, то есть единственный раз она дала мне деньги, когда просила, чтобы я не проболтался, что Леонтович в Загоре… И я молчал. Учтите — вам первому… Думаю, все рушится. Думаю, теперь-то уж ей все равно.
— Можете быть свободны, — сказал Ватагин.
Ордынцев пошел к двери и вдруг задержался. Ничего не осталось от его военной выправки.
— Я попрошу у вас, господин полковник, соли.
— Что?
— Горстку соли прошу, дайте великодушно. — Он нищенски и добровольно унижался.
Никогда не любил Иван Кириллович прятать на допросах свой взгляд на веши. Тяжеловатый и ленивый в движениях, он был приветлив с людьми, зная, что страх редко рождает правду. Но если кто-либо вызывал в нем чувство брезгливости, он не скрывал этого.
— Выйдите к моей машине. Я прикажу адъютанту, он даст… — отчетливо произнес он, глядя на колючие желтые усы старика. — Кстати, скажите, не помните ли вы, как в январе 1919 года вы, каппелевцы, отступали по временному мосту через реку Иркут?
Держась за ручку двери. Ордынцев прислушался к вопросу, улавливая за ним что-то опасное для себя, как слышит недоброе в вое ветра голодный зимний волк. Он ничего не мог припомнить особо порочащего его в ночь перехода через Иркут. Да, они, помнится, грабили — свои же не пустили их в город. Да, помнится, расстреляли каких-то ремонтных рабочих, когда проходили в обход у взорванного моста…
— Простите, не припоминаю.
— Хорошо. Идите.
Ватагин-то помнил. Он хорошо помнил, как в Иркутске их загнали на запасный путь рядом со взорванным мостом. Там и зазимовали шестьдесят котельщиков с семьями. И осталась навсегда зарубкой в душе та последняя ночь, когда уходили пьяные каппелевские арьергарды, и тех, кого застигли в теплушках, вывели на высокий берег и расстреляли. В ту ночь убили отца Ватагина и старшего брата. Тогда Ватагин вступил в партию, стал коммунистом.
Через полчаса, подходя к своей машине, Ватагин постарался не заметить кулечек соли в руках Ордынцева. Молча уселся. Шустов давно таким не видел полковника.
— Покажи-ка альбом господину Ордынцеву…
Он, можно сказать, даже и не глядел на то, как дрожащими руками старик листал альбом, разглядывал свою стародавнюю ярославскую молодость, круг родной семьи, забытые лица знакомых архиереев, прокуроров, полицмейстеров. Когда же дошло дело до балканского мужчины в семи его вариантах, полковник только кратко осведомился:
— Леонтович?
— Ничего общего, — ответил Ордынцев.
— А этот?
— Ничего похожего.
— А этот?
— Вы мне показываете одного и того же, но это не Леонтович. Я не знаю такого человека.
— Что же ты, езжай, — заметил Ватагин совершенно остолбеневшему Шустову.
И пока тот отбирал у старого инвалида плюшевый альбом, полковник добавил шутливо:
— Вот что: закрой свою контору частного сыска. Или мне придется переменить адъютанта.
— Есть закрыть контору! — звонко отозвался Славка.
Из каменной щели восточного переулка, едва не сбив вывеску брадобрея, Шустов круто вывернул машину на Софийское шоссе.
— Что, огорчился? — спросил полковник, когда уже миновали зеленые улочки Казанлыка.
Шустов промолчал.
— Кстати, ты спрашивал давеча, как это майор Котелков не понял, кто там был главный двигатель истории: посол или граф Пальффи? Боюсь, что и ты и майор Котелков кое-чего поважнее не понимаете: что самый главный там был тот старый болгарин, который с семьей своей, с детьми, ночью вышел и разобрал ограду своего виноградника, завалил путь фашистам камнями.
Среди несвязных выкриков он очень точно определил судьбу своего поколения — показал рукой на березу, трепетавшую над их головами зеленой листвой:
— Вот поглядите…
Ватагин поднял голову и увидел на живом веселом дереве сухую золотистую прядь.
Едва ли не с последним Ватагин поговорил с полковником Ордынцевым. Остервенело желчный старик бубнил что-то о беспорядочном послужном списке, о пропавших фамильных ценностях и только по настоятельной просьбе советского полковника заговорил о своей дочери. Старик был трус. Он пришел по вызову, как в большевистский застенок. Он был из тех вызывающих брезгливость людей, за которых нельзя поручиться, как бы они со страха не выдумали чего и зря кого-нибудь не оговорили.
— Психопатка! Я понял это еще — в России, — сквозь зубы цедил каппелевский полковник. — Почему интересуетесь ею? Нашкодила, дрянь?
— Должен огорчить вас. Три недели назад она исчезла из Софии.
— Подлянка!
Старик, видимо, в самом деле не знал об исчезновении дочери, судя по тому, как немедленно развязался его язык. Он не мог ей простить того, что, имея богатейшего покровителя, годами не высылала нищему отцу даже подаяния.
Трудно было следить за его отрывистой речью. Он задыхался от воспоминаний. Он буквально брызгал слюной.
Сидя в своей богадельне, Ордынцев знал все о графе Пальффи и не прощал дочери ничего из того, что знал о нем. Он и сам был когда-то конный спортсмен и сейчас, дергая жилистой шеей, будто заново переживал ту неслыханную обиду, которую нанесла ему дочь, даже не познакомив его со своим возлюбленным. А он все знал: сын Пальффи находился в смертельной вражде со своим отцом, генерал-полковником венгерской армии Пальффи-Куинсбэри Артуром. Отец был коннозаводчик, влюбленный в английскую кровь. И ссора-то у отца с сыном началась с того, что восемнадцатилетний шалопай тайно скрестил лучшую английскую кобылу Миледи с персидским жеребцом Визирем. Отец выгнал его за это из дому. Так началась темная жизнь этого авантюриста…
Мешая прошлое с нынешним, Ордынцев называл несметного богача Пальффи-Куинсбэри чуть ли не кличкой: «Старым Q», сына его — сорванцом и персидским бродягой. И только однажды лицо его посветлело — он заговорил об одном из скакунов софийской конюшни Джорджа:
— Там у него стоял необычайно авантажвый Арбакеш!..
Немалого усилия стоило полковнику Ватагину вернуть каппелевца к судьбе его дочери.
— Она была недовольна жизнью? — спрашивал Ватагин.
— Она не попала в Париж… Не я этому виной! Ее судьба — София, Пловдив, Варна…
— Ее личная жизнь сложилась неудачно?
— Слишком много мужчин.
— Но был один, которого она искала всю жизнь…
— Бред сивой кобылы.
— То есть как же?
— Да так. Это вы о поисках поручика Леонтовича? Враки! — Старик протер запотевшие очки. — Параличный жених здравствует в Старой За горе. Чего там его искать — эка невидаль! Марина ему аккуратнейше помогала. Навещала его по воскресеньям. Как же оставить убогонького! Вот отца родного заточить в богадельню — это раз плюнуть…
Ватагин грузно поднялся. И старик тотчас тоже вскочил, подобрался.
— Вдумайтесь и отвечайте: вы утверждаете, что она не искала поручика Леонтовича и что ей даже… не казалось, что она его ищет?
Ордынцев ответил по-военному быстро:
— Не могу знать!
— Ну, а предполагать?
— Если вы настаиваете… Может быть, она интересничала, набивала себе цену в ожидании жениха.
— А еще что может быть?
Ордынцев оглянулся, чтобы еще раз убедиться, что его никто не слушает.
— Я от представителя победоносной русской армии ничего скрывать не буду. И покорнейше прошу учесть, когда вы будете решать кашу судьбу, что я ничего не скрывал, даже в мыслях не скрывал.
— Я прошу вас говорить откровенно, — терпеливо сказал Ватагин.
— Психопатка! — громко прошептал Ордынцев. — Все знают, что психопатка, но… с уголовщиной. Она до войны связала свою судьбу с крупным международным аферистом, попросту говоря, с вором. Француз он… Был громкий процесс, еще в Константинополе. Ей удалось избежать огласки, даже не фигурировала на суде. С кем она расплачивалась, чем она расплачивалась — не знаю. Но теперь-то вы понимаете, почему она не в Париже? Она боялась встречи с этим французом.
— При чем же тут поиски Леонтовича?
— Пальффи мог узнать ее тайну. Эти проходимцы всегда знают всё. А Марина больше всего боялась тюрьмы. Боялась, что ее имя свяжут с именем вора.
— И все-таки, при чем тут Леонтович?
Старик помолчал. Проглотил слюну и снова помолчал. Видимо, он чего-то опасался.
— Я могу вас уверить, что о нашем разговоре в Болгарии не будет знать никто, — скачал Ватагин.
— Я думал… Прошу вас запомнить, что это не факт, а я только думал. У нас тут есть досуг для размышлений… — Старик странно хихикнул. — Это шантаж. Может быть, Пальффи — одного поля ягода с этим французским каторжником? Может быть, он сам выдумал для нее эти поиски жениха, чтобы прикрыть какие-нибудь свои уголовные аферы? Не правда ли? Ведь почему-то она мне заплатила, то есть единственный раз она дала мне деньги, когда просила, чтобы я не проболтался, что Леонтович в Загоре… И я молчал. Учтите — вам первому… Думаю, все рушится. Думаю, теперь-то уж ей все равно.
— Можете быть свободны, — сказал Ватагин.
Ордынцев пошел к двери и вдруг задержался. Ничего не осталось от его военной выправки.
— Я попрошу у вас, господин полковник, соли.
— Что?
— Горстку соли прошу, дайте великодушно. — Он нищенски и добровольно унижался.
Никогда не любил Иван Кириллович прятать на допросах свой взгляд на веши. Тяжеловатый и ленивый в движениях, он был приветлив с людьми, зная, что страх редко рождает правду. Но если кто-либо вызывал в нем чувство брезгливости, он не скрывал этого.
— Выйдите к моей машине. Я прикажу адъютанту, он даст… — отчетливо произнес он, глядя на колючие желтые усы старика. — Кстати, скажите, не помните ли вы, как в январе 1919 года вы, каппелевцы, отступали по временному мосту через реку Иркут?
Держась за ручку двери. Ордынцев прислушался к вопросу, улавливая за ним что-то опасное для себя, как слышит недоброе в вое ветра голодный зимний волк. Он ничего не мог припомнить особо порочащего его в ночь перехода через Иркут. Да, они, помнится, грабили — свои же не пустили их в город. Да, помнится, расстреляли каких-то ремонтных рабочих, когда проходили в обход у взорванного моста…
— Простите, не припоминаю.
— Хорошо. Идите.
Ватагин-то помнил. Он хорошо помнил, как в Иркутске их загнали на запасный путь рядом со взорванным мостом. Там и зазимовали шестьдесят котельщиков с семьями. И осталась навсегда зарубкой в душе та последняя ночь, когда уходили пьяные каппелевские арьергарды, и тех, кого застигли в теплушках, вывели на высокий берег и расстреляли. В ту ночь убили отца Ватагина и старшего брата. Тогда Ватагин вступил в партию, стал коммунистом.
Через полчаса, подходя к своей машине, Ватагин постарался не заметить кулечек соли в руках Ордынцева. Молча уселся. Шустов давно таким не видел полковника.
— Покажи-ка альбом господину Ордынцеву…
Он, можно сказать, даже и не глядел на то, как дрожащими руками старик листал альбом, разглядывал свою стародавнюю ярославскую молодость, круг родной семьи, забытые лица знакомых архиереев, прокуроров, полицмейстеров. Когда же дошло дело до балканского мужчины в семи его вариантах, полковник только кратко осведомился:
— Леонтович?
— Ничего общего, — ответил Ордынцев.
— А этот?
— Ничего похожего.
— А этот?
— Вы мне показываете одного и того же, но это не Леонтович. Я не знаю такого человека.
— Что же ты, езжай, — заметил Ватагин совершенно остолбеневшему Шустову.
И пока тот отбирал у старого инвалида плюшевый альбом, полковник добавил шутливо:
— Вот что: закрой свою контору частного сыска. Или мне придется переменить адъютанта.
— Есть закрыть контору! — звонко отозвался Славка.
Из каменной щели восточного переулка, едва не сбив вывеску брадобрея, Шустов круто вывернул машину на Софийское шоссе.
— Что, огорчился? — спросил полковник, когда уже миновали зеленые улочки Казанлыка.
Шустов промолчал.
— Кстати, ты спрашивал давеча, как это майор Котелков не понял, кто там был главный двигатель истории: посол или граф Пальффи? Боюсь, что и ты и майор Котелков кое-чего поважнее не понимаете: что самый главный там был тот старый болгарин, который с семьей своей, с детьми, ночью вышел и разобрал ограду своего виноградника, завалил путь фашистам камнями.
21
«Слушай! Слушай! Ралле, Ралле! Я Ринне! (Пауза). Пиджак готов! Распух одноглазый…» — Чтоб ты лопнул! — злобно прошептал Бабин. Шла ночь… Он снова принимал отзыв неизвестного собеседника и новую фразу: «Sechs Art…» «Шестой артиллерийский», что ли? Переговоры закончились. Он снял наушники, записал в журнал час и минуты приема, волну, кодированный текст. Шла ночь… Он потянулся так, что спина заныла, и кулаками потер воспаленные глаза. Во дворе плескался Шустов — домывал машину. Слышно было, как адъютант сердито жалуется автотехнику: на генеральской машине пять новеньких камер, а у них с полковником Ватагиным позор, а не резина: латка на латке. Бабин вышел из фургона. Ночь была по-сентябрьски холодная, но еще зеленые деревья, особенно там, где их освещали окна ватагинского кабинета, напоминали о лете. Шустов деловито копался в своем «виллисе». Петух прокукарекал на дальнем дворе. Миша не мог спать. Ночь была из тех, когда почему-то ждешь больших перемен в жизни. Он вернулся в теплый домик фургона, прошелся из угла в угол. Попробовал поймать Москву. Москва уже молчала. Он сел к столу, подвинул лист бумаги, стал писать маме. Эти письма из-за бессонницы, ночной усталости никогда не передавали его настоящих чувств. Он не умел писать, а сегодня — особенно. «…Знаешь, мама, я недавно побывал у вас в Ярославле. Передай это Людке. Я потом, после войны, объясню вам, как это произошло. У меня очень трудная работенка. И очень важная для победы, если, конечно, по ночам не дремать. А иногда хочется. Эх, ничего нельзя написать, понятно. Мама, петухи здесь кричат как у нас в Ярославле…» Он сидел за столом, стараясь успокоить себя, отвлечься. «…Хочется думать о том, что скоро война кончится. Папа вернется домой и будет сидеть у себя в комнате в клетчатых байковых туфлях, и лампа с вертящейся головой будет освещать зеленую бумагу на столе, и «Новости онкологии», и «Справочник педиатра». А мы с тобой и с Людкой в столовой, и черный клен во дворе за окном, и солнечный круг от лампы на желтой скатерти. Это все будет. Ты не сомневайся. Скоро будем вместе. Мама, я писал тебе о моем лучшем друге. Это Слава Шустов, адъютант полковника Ватагина. Лучший друг, а почему-то мы всегда ругаемся. Характерами не сошлись. Он все сочиняет на вербе грушу, а я не люблю загадок. Его обрадовать ничего не стоит. Он всегда ожидает самого лучшего. Чудно! Будто уж и война кончилась. Жизнерадостный, как щенок, хотя очень отважный парень. Только отвага у него какая-то ненацеленная… Одним словом, если б я был фашистом, я бы его не боялся. В его годы люди бывают серьезнее, ну хотя бы «Мексиканец» Джека Лондона. Ты, наверно, думаешь: «Зачем это он мне все рассказывает?» Лучше бы самому Славке. Это верно. Следовало бы. Но у меня не выйдет. Получится рассудительно, поучительно, и он же надо мной посмеется. А главное — он мне сделал много хорошего, и мне неловко его учить… Я хочу вам послать фотографию одной девушки, регулировщицы Даши Лучининой. Вы не подумайте чего-нибудь, глупости… За ней как раз ухаживает Славка. Это простая девчонка старобельская, очень много ей пришлось пережить. Я ее уважаю больше, чем Славку, а его — больше люблю. Вот такая знает, за что воюет, а Славка тормошится. Может, я и неправ. Может, Славка и вправду совершит какой-нибудь подвиг, только мне хочется послать вам Дашину фотографию. Если встретитесь когда-нибудь, будете знакомы заранее. А Славка меня называет занудой. И прав!» Он снова вышел во двор, чтобы сорвать лепесток астры и вложить в страницы письма вместе с Дашиной фотографией. Балканское небо искрило, осыпалось звездами. Часовые таились у ворот. Мимо, затягивая ремень, спешил майор Котелков, наверно, по вызову к полковнику. Окна светятся у Ватагина. Бабин сорвал лепесток и так, с открытой ладонью, пошел к своей радиостанции.22
Шустов тоже задремал не сразу. Переменив покрышку на заднем левом, он долго сидел на водительском месте — шинель внакидку Видел, как Бабин выходил на порог радиостанции. Огоньки цигарок вспыхивали в кустах. Петух пропел на дальнем дворе. Славка отбрасывал от себя какие-то мысли и не мог отбросить. Ну хорошо, пусть у него такой красивый почерк, и сам он такой недисциплинированный, и ему действительно незачем доверять серьезные дела. Но ведь пока что все узелки этого нехорошего дела им одним нащупаны. А развязывать, значит, майору Котелкову, капитану Цаголову, кому угодно? Как это называется? Почему полковник как будто даже обрадовался, когда увидел, что старик не находит Леонтовича в альбоме? А разве же это честно со стороны Ивана Кирилловича — ну хотя бы с пятью подковками? Ну, пусть Славке не хватает терпения, осмотрительности, этакой бабинской толстокожести, но посчитаться с доводами нужно? Он убежден, например, что на Шипкинском перевале в два счета все объяснилось бы, а Ватагин просто отрезал — и все тут… А Славка мог бы еще кое-что подбросить — забыл рассказать Ивану Кирилловичу, что говорили берейторы: какая молва шла об этой «Серебряной» в тех местах, где она побывала со своим графом. Ее считали колдуньей, потому что после нее мор, несчастье… Ведь это факт! А Иван Кириллович говорит, что я только факты гну как удобнее. Однако, если в альбоме — не Леонтович, значит, Марина знала, чем занимается Пальффи, значит, им нужны были эти совместные поездки для маскировки, чего же? И если Леонтович — миф, кто же главная фигура: Ордынцева или Пальффи?… Голова младшего лейтенанта клонилась на баранку. Потом набухли губы. Во дворе было сонно и тихо по-ночному. Светились окна ватагинского кабинета. Вот прошел через двор Котелков. Славка проснулся. Наверно, от полковника. — Что, товарищ майор, не спится полковнику? — Спать в могиле будем.23
После поездки в эмигрантскую богадельню полковник Ватагин еще раз пересмотрел все концы нитей изрядно запутанного клубка. Он был фронтовой чекист конца войны. Он вел тайную войну с противником в тылах наших армий: сегодня на полевом хлебозаводе, завтра в батальоне авиаобслуживания или где-то в развалинах только что занятого города. Он столько перевидал на допросах вражеских диверсантов, террористов, шпионов, «связников», что на всю жизнь хватило бы писать книги, одна интереснее другой. Но такого странного клубка он еще не разматывал — не приходилось. Он и генералу не все мог доложить: как-то неловко развлекать небылицами. И все же, что бы ни обсуждал он теперь в кабинетах старших начальников, какие бы ни читал поступавшие с широкого фронта донесения, шифровки, протоколы допросов иногда весьма интересных лиц, — мысль его невольно возвращалась к группе Пальффи Джорджа, к нему самому и его исчезнувшим подручным. Зримых следов их работы пока что не так уж много: около трехсот павших коней; да несчастный Атанас Георгиев, да еще, наверно, устраненный с дороги ординарец, венгерский мальчишка, по которому скоро выплачет глаза его деревенская мать; да еще Марина Юрьевна, первая соучастница и не последняя жертва, которую, видимо, просто заразили сапом. Бывали дела по-страшнее… И все же, чем больше Ватагин вдумывался, тем убежденнее была его мысль, что возня, которую затеял тут к концу войны противник, — опасная и нехорошая возня. Слишком громоздко была обставлена вся эта сапная диверсия, слишком много бутафории и реквизита для такого скромного спектакля. Нет, тут готовится гала-представление… Ведь что интересно: все восемнадцать баулов дипломатической переписки найдены не только запечатанными в полном порядке, но и целыми до листка — по описи, педантично составленной дипломатическим персоналом посольства перед бегством. Тогда, может быть, верно, что убийцы искали альбом? Это могло случиться, если они не знали, что альбома уже нет. Допустим, сам посол успел выбросить его в окно вагона за минуту перед тем, как ворвался в купе Атанас Георгиев. Тогда и подпоручик мог ничего не знать об этом альбоме. Бочонок с розовым маслом поглотил все внимание патриота-болгарина, и он не заметил ничего подозрительного. Ватагин покачал головой — то, что он продумал, полностью совпадает с версией Шустова. Славка бежит по следу, как необученный щенок хорошей породы. Талантливый юноша, из него можно лепить что угодно, он еще весь впереди. Не подготовлен к серьезной работе, только на темпераменте выезжает, и, как обычно, в таких случаях — удачлив… Но если в самом деле искали альбом Ордынцевой, тогда необыкновенно вырастает роль третьестепенного сотрудника посольства Ганса Крафта: зачем он рылся в квартире Костенко, если не затем, чтобы найденный им альбом Ордынцевой вручить послу в день бегства, а самому остаться на Балканах? И почему так важен этот альбом? В третьем часу ночи Ватагин с удивлением увидел в дверях Шустова с бумагами в руках. Полковник уже снимал сапоги — надо же отдохнуть человеку. — Ну, входи. Опять канцелярия? — Разрешите доложить, Иван Кириллович. Надо о машине подумать, ведь у нас с вами шофера нет. На генеральской машине в запасе пять новеньких камер, а у нас пока что латка на латке. — Ты за этим явился? — Нет, не за этим. — Тогда говори дело. Адъютант, как обычно в минуты смущения или торжества, несколько развязной походочкой подошел поближе, чтобы дать себе время обдумать дальнейшее. — Видите ли, товарищ полковник, на ваш запрос получен ответ из Баната… И он положил на стол телеграфную ленту. Разведка двадцать шестой армии сообщала, что в городе Вршаце, в собственном доме, Ганс Крафт не появлялся. Три дня назад при захвате города от невыясненных причин сгорела конюшня с лошадьми во дворе дома Крафта — единственный пожар в городе, взятом почти без боя. — Какова ваша концепция, товарищ полковник? — Концепция? — Ватагин простодушно наклонил голову, глаза его светились умной улыбкой. — Изволь: моя концепция такова, что ты малый ничего, будешь когда-нибудь разведчиком. Жаль только, что синтеза не допускаешь. В одном ряду загадок нет ничего для их разгадки. Нужно соединить два или три ряда. И очень далеких. И тогда засветится этакая маленькая лампочка. На курсах, помнишь, было такое наглядное пособие: винтовка в разрезе, а рядом список всех ее частей. Надо было знать все части винтовки и палочкой дотронуться на чертеже. Если ответ правильный, лампочка вспыхнет, и старшина тебе скажет: «Садитесь, Шустов. Знаете оружие». А у тебя тут, Слава, как бы это тебе сказать: не светится… Еще в школьные годы Шустов научился выслушивать наставления взрослых с интересом к душевному состоянию и ходу мыслей самого наставника. Можно говорить все, что угодно, понятное дело — «педагогика»; но если после сообщения о сгоревшей конюшне в третьем часу ночи полковник вызвал майора Котелкова — значит, Шустов не последний человек в разведке. А полковник действительно вызвал майора Котелкова, и тот явился немедленно. Разговаривали они при закрытых дверях. — Что, не спал? — Опять с Цаголовым поселили. Всю ночь мешает спать: бубнит, что раз он такой красивый и бабы к нему льнут, так, значит, не видать ему настоящего задания. Очень обижается на ничтожные результаты обыска у Костенко. «Привез, говорит, целую полевую сумку сувениров». — Он еще мальчик, но башковитый, — смеясь, сказал Ватагин. — Как полезет в бутылку — сразу акцент. Кавказская кровь… — Помолчал, потом совсем другим, усталым голосом спросил: — Все ли лошади у болгар зарегистрированы? Держите ли контакт с ветеринарными станциями? Вы проверьте насчет регистрации конского поголовья, не было бы кое-где саботажа. — Утром проверю, товарищ полковник. Страна вся в движении. Границы открыты. — Что еще скажете? — Скажу, что не конское поголовье Болгарии решает в этой войне. Пройдем и скажем конскому поголовью: «Ауфвидерзеен»… Ватагин с интересом посмотрел на Котелкова. Забавно все-таки, как по-разному можно думать об одном и том же. Он сам только что размышлял, что не конским поголовьем измеряется все это предприятие Пальффи, а для Котелкова, ежели конское поголовье не решает исхода войны, стало быть, «не эффективно», следовательно, и думать о нем нечего. Удивительно, как конъюнктурно натренированы воля и мысль таких людей! — Вот что, Котелков, знаю вас не первый день, спорить с вами не буду, потому что бесполезно. Прошу придерживаться уставных отношений. — Слушаюсь. — Доложите все, что теперь знаете о Гансе Крафте. Майор Котелков не торопясь закурил. Лицо усталое и серое в табачном дыму. — Доктор Ганс Крафт — бывший фольксдейтч… — Знаю: из сербского Баната. — Держаться ближе к делу? — сухо полюбопытствовал Котелков. Он не видел большой вины в том, что не заметил отсутствия в захваченном персонале дипломатического корпуса четырех второстепенных лиц. Были дела поважнее. — Товарищ полковник, в германском посольстве Ганс Крафт был не бог весть что — третий секретарь. Прибыл в Софию из Вршаца в 1943 году. Дипломатического образования не имеет. Я все выяснил: неказистый, жиденький, располагал к насмешкам. — Как мог банатский немец оказаться на дипломатической службе? — Вы правы — это интересно. Но ведь даже имперский министр Розенберг, правая рука Гитлера — тоже фольксдейтч, из Прибалтики. Судя по «делу», Ганс Крафт был во время войны за какие-то особые заслуги, о которых подробнее не сказано, произведен в рейхсдейтчи, получил имперский паспорт. — Что ж он с графом Пальффи детей крестил, что ли? — неожиданно резко спросил Ватагин. Котелков ничего не ответил, продолжая монотонно докладывать: — Допрошенные показали, что Пальффи Джордж — тоже заурядная фигура даже в захудалой венгерской миссии. Помощник военного атташе. Оказался бесполезным работником. Говорили, что он поглощен своими лошадьми. — Куда ж он девался? Где они с Крафтом? Почему остались на Балканах? — Исчезновение их, возможно, тоже связано с романтическими интрижками. Эти шелковые комбинации, которые изучал Цаголов, — в них, наверно, и вся загадка… Эх, товарищ полковник, верьте мне: дешевим… — Да, дешевим, — задумчиво повторил Ватагин. — Я думаю, если отделить шелковые комбинации Марины Юрьевны от всяких иных прочих, первый вывод напрашивается такой: спешат они страшно. Я сказал Цаголову в утешение: «Идем по заячьему следу, а выйти можем на волчий». Шустов, к примеру, убежден, что в Банате, на родине Крафта, в его конюшне можно было бы понаблюдать, как запечатывают ампулы с сапной культурой. — К товарищу Шустову к самому надо бы приглядеться, — серым, ночным голосом произнес Котелков. — Что вы хотите этим сказать? — насторожился Ватагин. — А только то, что младший лейтенант уводит нас в сторону. Ватагин встал, кончая разговор. Встал и Котелков. — Утром я вылечу на денек в Банат. Там, пишут, конюшня сгорела при невыясненных обстоятельствах. Останетесь тут командовать парадом. — Он помолчал и тихо добавил: — Что говорили о Шустове — забудьте. Только не отпускайте мальчишку, держите его при себе, инициативу не поощряйте… Спокойной ночи, Котелков.24
Полковник Ватагин улетел в Банат, и майор Котелков остался «командовать парадом». Впоследствии Славка Шустов не раз мрачно размышлял над тем, как это получилось, что он нарушил приказ полковника — «не заниматься частным сыском» — и очутился на Шипкинском перевале. Все началось с того, что в Казанлыке, во время поездки с Ватагиным в эмигрантскую богадельню, он забежал в местный фотосалон. Судя по фирменному знаку на обороте снимка одного из семи «женихов» Ордынцевой, этот господин проживал именно здесь, в Казанлыке. Славка и сам не ожидал такой удачи: хозяин фотосалона сразу же признал, что это некто Благов, смотритель перевала, там в горах и сейчас живет. Несколько дней по возвращении Славки в Софию фотография шипкинского смотрителя жгла ему руки, и он разглядывал ее в машине, загородившись спиной от всего мира. И все же в воскресное утро, когда он зашел с бумагами к майору Котелкову, он и сам не думал, что в этот день встретится лицом к лицу с неразгаданной и ускользающей от него тайной. Тут главную роль, конечно, сыграл майор Котелков. Если вам в оскорбительно-шуточной форме говорят: «Вы, Шустов, не разведчик, и в качестве разведчика вам на Шипке делать нечего, пользы от вас не будет, расхода горючего не оправдаете…» Если среди разговора снимают трубку и долго с кем-то беседуют (можно догадаться, что с начальником общего отдела), — как вы себя будете чувствовать: хорошо, весело? А Котелков знал, о чем поговорить в присутствии младшего лейтенанта с общим отделом: о том, что шоферов-водителей надо проверить на всех штабных машинах. — …Знаешь, чтобы не просто был пронырливый хлопец, любимчик начальника, — давал указание майор Котелков, — а хороший солдат, который в тяжелую минуту не оставит командира, не подведет! Шустов не считал себя хлопцем-водителем, но все-таки было ему не более двадцати лет, а это возраст, когда в таких случаях опустишь голубые глаза и стоишь не шелохнешься — сам не свой от обиды. Так что майор Котелков мог впоследствии и не оправдываться, будто его усыпила чистота и ясность Славкиных глаз: он их не видел. Повесив трубку, он неторопливо разглядывал бумаги, потом потрогал осторожно ладонью бритую наголо голову и сказал: — Могу вам позволить поехать на Шипку в качестве экскурсанта. Возьмите хотя бы Бабина, чтобы не гонять машину впустую… Что ж, развиваться вам полезно, почему бы не расширить свой кругозор. Нынче многие штабные ездят к местам героического подвига русской армии. Когда Котелков молча подписал предписания на младшего лейтенанта и рядового и путевой лист на машину, Шустов так же молча повернулся на каблуках и отпечатал строевым шагом до дверей. Только в пути, за баранкой, он несколько отвлекся от оскорбительного разговора и повеселел. Давно уже они не были с Мишей Бабиным вместе, и было им о чем поговорить. Радист почти и не видел Болгарии: он или спал, набираясь сил, или дежурил у аппарата, боясь пропустить очередные переговоры противника. Это был поразительно добросовестный человек. И при всех взаимных препирательствах Славка Шустов часто невольно примерялся к Мише, особенно в минуты, когда Славкину совесть захлестывал девятый вал самокритики. На этот раз заспорили неожиданно о Даше Лучининой. Славка похвастался, будто Даша к нему неравнодушна. Он не ожидал, что получит такой отпор от Миши. Тот просто был беспощаден и камня на камне не оставил от Славкиных иллюзий. — Тебя еще не за что любить. — А ненавидеть? — И ненавидеть не за что, — подумав, договорил Бабин. Как ни странно, Славка задумался над этим изречением и даже забыл огрызнуться. Знакомой дорогой Шустов в два счета привел машину на перевал. Странно было в полчаса влететь из знойной долины Казанлыка в хмурый край ветра, камней и облаков. …В корчме у перевала было темно. Пустые столы дожидались людей из долины. В открытое окно летел ветер с водяной пылью, словно старый дом боролся с холодным океанским прибоем. Славка вошел первым. В дальнем углу маленький чабаненок примерял перед осколком зеркала фетровую шляпу, наверно, корчмаря. Увидев военных, он смутился и убежал. Вскоре появился сам корчмарь, толстый, неприбранный, с младенцем на руках. — Здравствуй, хозяин, — сказал младший лейтенант, стараясь вести себя так, как вел бы себя в этом случае Ватагин. — Вот заехали на Шипку. Принимай. — Много здравия! Много счастья! — Корчмарь нацедил стаканы крестьянского вина из старого бочонка, стоявшего на прилавке. Его лицо, закаленное горным солнцем, зимними бурями и огнем очага, очень подходило по тону к медно-зеленому сырому бочонку. — Как зовут смотрителя? — Христо Благов. Корчмарь вздохнул, вытер волосатые руки, стал резать брынзу. Звоночек на двери вздрагивал от порывов ветра, как дальний колокол, сзывающий путников в зимних метелях. Под столом стояла понурая овца, готовая к закланию в час, когда покажется из долины автобус. Славка сел за щербатый стол, зевнул с дороги, снял с головы фуражку. Миша прямо с порога корчмы направился вдоль стен, на которых сплошными рядами были развешаны старинные лубочные картинки времен русско-турецкой войны. Там черкес с седой бородой гарцевал на красивом коне перед красивыми болгарскими пленницами. Там русские солдаты, в белых платочках от зноя, тащили по кручам снарядные ящики. Шли на Шипку болгарские ратники под знаменем, подаренным городом Самарой. Генерал Радецкий в войлочной бурке оглядывал ложементы. Русский священник с непокрытой головой на ветру служил молебен над братской могилой. В декабрьском буране погибали на аванпостах часовые в обледенелых башлыках… — Давно живешь на Шипке, хозяин? — спросил младший лейтенант. — Я тут тридцатый год. — Ого! — А Христо Благов даже родился в этом доме, — с каким-то особенным выражением, даже как бы с обидой, произнес корчмарь. — Хороший человек? — Тут нельзя быть плохим, — грустно ответил корчмарь, накрывая на стол. — Зимой задует, загудит, замглит — сидим, как в берлоге. Нас тут всего-то зимою: я с больной женой, да Христо, да еще вот этот. — Лицо его посветлело, он повертел тарелкой перед глазами тихого ребенка. — Если куда в долину съездить, так, наверно, на лошадях? — Да бывает. — Фуража, верно, много запасать надо на зиму? — Весь-то он тут, под замком. Не больно много… — А ключ у кого? — У меня. — Корчмарь проверил связку больших ключей у пояса. — А что? — Ничего. Думаю, смотритель здорово коней любит. Профессия требует. — Нет, он пешком ходит — ноги длинные. Ходок… Он, видимо, очень любил своего тихого ребенка, потому что не расставался с ним, даже приготовляя закуску за прилавком. — Ты, гляжу, хороший отец, — сказал младший лейтенант. — Разве ж это мой? — возразил корчмарь. — Это сын смотрителя. — Значит, есть и у него жена? — В том-то и дело, что нету. А была. Вздыхал он так, будто откупоривалась бутылка с пенистым вином. Он нацедил из бочонка в графин и поставил перед лейтенантом. Бабин скромно подсел и потянулся за своим прибором. Корчмарь одной рукой боролся с непослушными створками окна. — Что же с ней случилось? — спросил Славка, не дождавшись продолжения рассказа. — Если бы знать… Сгинула в одну ночь. — Недавно? — Две недели назад. Войска проходили. А тут еще Христо сам подорвался… — То есть как это подорвался? — Да так — на мине. Вы думаете, только вы рискуете головой, а мирное население, может быть, еще больше страдает… Пришел оборванный, обгорелый, только мычит. Вообще-то легко отделался. Когда фронт проходит над вашей головой, и не то бывает. От горя, от контузии он одичал совсем. Даже нас избегает. Главное — жена. Мы говорим: «Можно ли думать, чтобы такая хорошая ушла с фашистами?» А он верит, что ушла. Но у нас, болгар, так не бывает. Он тревожно поглядел на дверь, словно ждал кого-то. Затосковал Христо… Сколько лет с собакой ходил, вчера застрелил своими руками. — Это с какой же стати? — удивился Бабин. — Жить не давала. С того самого четверга, как пропала жена, выла, выла, выла… — Слушай, хозяин, а не сап ли у вас тут гуляет? — спросил Шустов. — Сап-то гуляет, ветеринары третьего дня приезжали — и наши и русские, дезинфекцию делали, пробы брали. Только таких пустяков не говорили: жена тут при чем… или пес?… А что вы всё расспрашиваете? — встревожился хмурый толстяк и в первый раз недружелюбно поглядел на приезжих. Младший лейтенант поднял голову от тарелки, усмехнулся: — Что ж тут такого, хозяин? Мы люди военные, кочевые, любим поговорить. — Я и сам люблю. Только добра от этого не жди. — Он сердито насупился, но, видно, не часто попадались здесь собеседники. И со вздохом он продолжал рассказывать: — В прошлом году так же заехала легковая машина. Важные господа. Так же стала дама расспрашивать о смотрителе: где родился, да играет ли в кости, да видит ли сны… Красивая, седая, вдруг расплакалась навзрыд. Слезы, как роса на капусте. Будто бы он, Христо Благов, вовсе и не Христо Благов, а русский офицер, ее жених. Она его потеряла двадцать пять лет назад, вот разыскала и не уйдет. Трое суток у нас жила. — Да ну! — подивился Славка. Бабин с безучастным выражением лица очищал тарелку. — Карточку показывала — того, пропавшего. Вылитый Христо Благов! Тот уже стал сам в себе сомневаться. Насилу отбились. Беременная жена рассердилась, ушла в долину. Гости уехали, а у этих ссоры, ревность, не помню уж как и перезимовали. Колдунья, просто колдунья побывала у нас. С нее все и пошло. А теперь — совсем беда! Боимся, чего бы худого над собой не сотворил. — От горя отвлекать надо, — вставил Славка. — Как же еще должны поступать друзья? — А может быть, он в самом деле влюбился в эту седую? В колдунью? И от жены отделался, чтобы остаться свободным? — Господи, что вы такое говорите! — в ужасе прошептал корчмарь. Бабин молча слушал, и Шустов тоже старался казаться равнодушным, ковырял спичкой в зубах. Ни сочувствия, ни даже любопытства. Гулко вздохнув, корчмарь поставил перед ним стаканчик с зубочистками и отошел к прилавку. Расплатившись, Славка вышел из корчмы. Солнце светило неровно, будто задыхалось в беге сквозь летучие облака. Чабаненок сидел на камне и смотрел вдаль, положив на коленки рваную войлочную шляпу. — Тут до памятника двести метров, не собьетесь. Мы его сейчас разыщем. — говорил корчмарь, укачивая ребенка, расплакавшегося на ветру. — Иван, разыщи-ка смотрителя. Шустов шел впереди. Горная тропинка вилась среди больших и острых камней. Ветер гнал вверх по склонам рваные полоски белого облачного дыма, они карабкались вровень с идущими, проглатывая кусты и камни. — Любопытство, видите ли, одолевает. Разговорился… — недовольно ворчал Бабин, стараясь не отставать. — Хороший человек этот корчмарь, а мы — что? Черт знает, за кого он нас принял. — Криминалисты говорят, — наставительно сказал Шустов, — что человека окружают улики. Видите ли, вообще всякий человек устроен так, чтобы возбуждать подозрения. Миша фыркнул. Славка глянул на него через плечо. — Потому-то автотехник тебя и подозревает, что ты с запасного «виллиса» резину подменил? — рассмеялся Бабин.25
Позади послышались шаги. Шофер и радист подождали — их догонял высокий болгарин в бриджах. Смотритель так мерно и широко, по-верблюжьи, ставил ноги в тяжелых бутсах, точно много прошел с утра и устал. Среди болгар часто встречаются высокие и рослые мужчины. В руке он держал связку больших ключей, и только это позволяло угадывать в горном спортсмене музейного служителя. То, что на фотографиях в альбоме казалось привычным, само собой разумеющимся, сейчас заново ошеломило Славку: поразительное сходство смотрителя перевала с македонским монахом. Редкая бородка почти не скрывала квадратных линий лица, горбатый нос с тонкими раскрыльями ноздрей, под мягкими усами губы были поджаты, как будто смотритель вот-вот засвистит, меж тем как выражение лица было неподвижно-сумрачное, а само лицо будто выточено из куска темного дерева. Только нет горба за спиной; на редкость высокий и рослый мужчина. — Я Христо Благов, смотритель перевала, — сказал он, поравнявшись. — Желаете осмотреть колыбель освобождения Болгарии, где утвердилась слава русских боевых знамен? — Он говорил заученно, без лишней торжественности и показал рукой туда, где на голой скалистой площадке, среди старинных мортир и зарядных ящиков, был виден памятник шипкинским героям. На взгляд обелиск не казался большим среди горных массивов: он был в дружбе с горами, сродни им. На самом деле он был огромен — серый гранитный обелиск с каменным львом на фронтоне. Смотритель вел офицера и рядового по гребню горы святого Николая. Тишина, какая бывает только в горах, изредка нарушалась шорохом камней да хриплым, простуженным голосом Христо Благова; ключи от склепов позванивали в его руке; исторические позиции на Шипке были для него привычным местом работы. Он объяснял экскурсантам: позиции генерала Радецкого имели форму вытянутой линии, замкнутой в тесной турецкой подкове. Он показывал места, где турки вели перекрестный обстрел русских ложементов с расстояния в пятьдесят шагов. — Там, между Драгомировской и Подтягинской батареями. — он показал в туман, клубившийся над камнями, — дорога, по которой сообщались с внешним миром, делает виток длиной с версту. Это было полностью открытое место. Можно было пройти только ночью. Кашевары скакали на лошадях среди трупов. Этот виток дороги прозвали Райской долиной.
Он рисовал картины давно отгремевшего сражения. Событие, некогда волновавшее Россию и Балканы, — то, о чем толковали во всех гостиных Европы, над чем лились бабьи слезы в безвестных русских селах и деревнях, — это событие стало теперь ремеслом Христо Благова. Тропинки, где, согнувшись под пулями, бежали за водой охотники, — а в ложементах хохот и улюлю! — были теперь его привычными тропинками, по которым он водил стада экскурсантов. На Круглой батарее он знал камень, с которого отлично обозревалась вся диспозиция; под колесом старой мортиры он имел обыкновение прятать свой завтрак; на Орлином гнезде он не любил задерживаться, потому что там вечно задувал пронзительный ветер.
Славка плохо слушал смотрителя. Слишком сильное1впечатление произвел на него рассказ корчмаря. Он взглянул на спину смотрителя. Широкая атлетическая спина. Видно, тот был чуткий — сразу оглянулся.
Миша слушал, казалось, позабыв все на свете. Он ходил по тем местам, где восемьдесят лет назад горсточка русских людей — три полка: Волынский, Подольский, Орловский — несколько месяцев стояли насмерть. Такой же, как сейчас, был воздух, и туман, и облака так же закрывали и вновь открывали зеленые горы, так же просвечивала внизу, на юге, долина Шейнова, и были видны поля и сады до самого Казанлыка, который тоже проглядывал, как сейчас, бурой полоской на горизонте. Та же была тишина. Ну, нет: наверно, слышались сигналы на рожке, крутились, пели и рвались бомбы, пули плакали, как грудные дети, и вдруг начинались звериные вопли: «Ал-ла!» Это турецкие таборы шли в атаку, и склоны гор покрывались красными фесками.
Смотритель шел размеренными шагами, в полный рост, неторопливо покачиваясь, как все экскурсоводы на свете, и это тоже казалось Мише удивительным и непонятным. Сам-то он жил сейчас в ложементах, где надо гнуться, таиться, где все сырое — хоть выжимай! — от проходящего облака. Он был сейчас на службе не у полковника Ватагина, а у генерала Радецкого: ординарцем, писарем, радистом-слухачом — все равно! Это при нем по вечерам, примостясь на казенной части орудия, генерал с какой-то душевной чистотой и грустью писал в записной книжке: «На Шипке все спокойно» и отрывал листок, отправлял депешу в Петербург.
Они подошли к памятнику, укрылись от ветра под его огромной стеной. Смотритель стоял у входа в склеп, где на заржавленной чугунной двери чугунный череп с чугунными костями. Мохнатые уши смотрителя торчали из-под берета. Шустов следил за взглядом смотрителя: внизу виднелась корчма; машина казалась среди скал такой крохотной, словно чабаненок сделал ее своей игрушкой. «Наверно, Благов злится — зачем приехали на машине, а не верхоконные», — подумал Славка. Их глаза встретились. И чтобы скрыть свои мысли, Шустов спросил:
— А как же у них было с водой?
— Они пили воду из баклаг, в которых смачивают артиллерийские банники, и вода была с салом и пороховой гарью.
Теперь смотритель повел экскурсантов к Орлиному гнезду. Здесь турки, пользуясь туманом, не раз врывались на скалу. Тогда над пропастью начиналась рукопашная схватка. Дрались камнями. Душили. Ударом в живот сталкивали в бездну.
Острый кадык смотрителя шевелился. Он помолчал с минуту, вспоминая подробности… Дрались молча. Усталость и бешенство сводили дыхание. Нечем было кричать. И когда последнего сбрасывали, также молча солдаты принимались забудничное дело — убирали трупы. Уборка с каждым днем становилась труднее. Смрад окружал позиции. Слабых солдат тошнило. Они отходили в сторонку и уже не боялись ни бомбы, ни пули.
Миша потянул воздух ноздрями, глаза его горели. Как он проникся чувством общности с теми, шипкинскими, сознанием, что и сегодня живо солдатское правило: так нужно! Вот и весь ответ. Нужно воевать — воюй. Не было бы России — и тебя бы не было. Воюй добросовестно, честно, по-русски. И эта серая скала, Шипка, проглоченная облаком, стала сейчас в его юношеском воображении рядом с Полтавским полем, о котором он читал у Пушкина; вровень с Бородинским полем, с полем Куликовым, даже с. теми зимними донскими степями и логами, по которым он сам недавно ехал с походной радиостанцией в глубокий рейд по тылам противника.
Положив костлявую руку на узорчатый, проржавленный до красноты крест, стоявший среди камней, смотритель методично рассказывал об Орлином гнезде. Он, верно, по минутам рассчитал, сколько и о чем рассказывать, и в голосе его не было усталости, как и в походке. Он рассказывал о том, что в октябре 1877 года, когда подули северные холодные ветры на перевале, орел, живший в этих камнях, стал все чаще спускаться прямо к кострам, жесткоперый, злой, солдаты его приманивали деревянными ложками. Они тоже были «орловцами».
— Эй, гляди-ка! — воскликнул Бабин. — Гляди-ка, Славка!
Он показывал рукой в высоту неба над пропастью. Пыльно-желтый орел недвижно парил, что-то выглядывал в камнях стариковскими глазами.
— Старый, дьявол! — прошептал Шустов с восхищением. — А ведь он, пожалуй, видел?…
— Кто видел? — спросил Бабин.
— Орел, говорю.
— Что видел? — быстро и подозрительно переспросил смотритель.
— Все видел! — с неожиданной жесткостью утверждения ответил Славка.
Он-то сейчас глядел не на орла, а на смотрителя. И от него не укрылось, как непонятный испуг мгновенно исказил лицо болгарина.
— Так вы говорите, трупы достать нельзя? — спросил Шустов, нагловато воззрившись на Христо Благова.
— Какие трупы? — грубо спросил смотритель и проглотил слюну.
— Всякие трупы: конские, к примеру… Сапные.
— Не понимаю! — отрезал смотритель и отошел в сторону.
Но Славка — как будто и не было этого мгновенного поединка — снова завороженно глядел на парившего в высоте орла.
— Наверняка видел! — восторженно крикнул он и даже кулаком махнул: — Орлы по сто лет живут! Это тот самый и есть!
И они втроем стали следить за медленными и плавными движениями орла.
Назад возвращались той же тропинкой. На полпути облака, потянув снизу, снова прикинулись мокрым туманом. Шустов легко находил дорогу среди уже знакомых камней.
— Я не могу поспеть за тобой! Давай отдохнем! — крикнул Бабин.
— Отдыхать в могиле будем! — весело отозвался лейтенант любимой поговоркой Котелкова.
Но все-таки остановился, глядя в туман, откуда должен был показаться замешкавшийся смотритель.
Два выстрела — один за другим — прозвучали гулко…
Еще один…
— Ну-ка, присядь! — приказал Шустов, схватившись за плечо.
Они быстро сели под камень. Человек стрелял не наугад.
— На Шипке все спокойно, — уныло заметил Бабин, слегка прикрывая раненого товарища.
Лейтенант Шустов, сидя, вынул из кобуры пистолет. Выстрелов больше не было. Ни шороха, ни голоса, ни дыхания. Тишина, какая бывает только в горах.
— Чего он сбесился? — шепотом спросил Бабин.
— Спятил, — спокойно засвидетельствовал Шустов, а глаза его сверкнули тем шельмоватым блеском, который всегда помогал понять, что он избежал опасности. — Собаку задушил, теперь в орла стреляет.
— Помешал ему орел… Думаю, пуля-то тебя искала.
— А ну, за мной! — скомандовал Шустов.
Они вернулись к памятнику. Он стал мокрым, почернел в тумане. Смотрителя нигде не было.
— Выходит, на Шипке все спокойно… — задумчиво подтвердил Шустов, снимая с себя гимнастерку.
— Пуля застряла?
— Царапина… Скользнула только.
— В машине санитарный пакет. Дойдешь?…
…
На обратном пути они поссорились.
Все-таки характер у Миши чертовский: невозмутим, аккуратен, скуповат. И ко всему — голос. Неожиданно густой, басистый. Очень тонкое понимание музыки. После всего, что случилось на перевале, он ничего не нашел умнее, как насвистывать всю дорогу какую-то сложную музыку, — кажется, «Лунную сонату» Бетховена.
Младший лейтенант Шустов не любил того. Он любил песенки из последних кинофильмов или то, что в мирное время играли на танцевальных площадках в саду Баумана и в Сокольниках. И настроение у него было отравлено этим проклятым смотрителем. Повязка стягивала плечо, царапина жгла с каждым часом сильнее. Они прождали в корчме до вечера. Хозяину, конечно, ни слова. Благов как в воду канул. Славка не мог простить себе: вот ведь решил проверить свои подозрения и увлекся. Теперь ищи его…
— Ну, свистишь? — зашипел он наконец и остановил машину с краю дороги.
Бабин перестал свистеть и удивленно посмотрел на него.
Дьявольски мрачно выглядел Шустов в эту минуту.
— Свистит… Подскажи лучше, что делать.
— Доложить майору Котелкову, — хладнокровно посоветовал Бабин.
— Ни за что! Будет кишки из меня тянуть.
— Товарищ лейтенант, надо уметь ответ держать.
— Все доложу. Только полковнику! Пусть хоть в штрафную! По крайней мере, человеком оставит.
Бабин усмехнулся. Вот герой! Значит, легкая смерть лучше трудной жизни? Но ему стало жаль Шустова. В приступе нежности к другу, попавшему в беду, он только и произнес:
— Луи Буссенара нет на тебя. Он бы тебя описал…
— Там, между Драгомировской и Подтягинской батареями. — он показал в туман, клубившийся над камнями, — дорога, по которой сообщались с внешним миром, делает виток длиной с версту. Это было полностью открытое место. Можно было пройти только ночью. Кашевары скакали на лошадях среди трупов. Этот виток дороги прозвали Райской долиной.
Он рисовал картины давно отгремевшего сражения. Событие, некогда волновавшее Россию и Балканы, — то, о чем толковали во всех гостиных Европы, над чем лились бабьи слезы в безвестных русских селах и деревнях, — это событие стало теперь ремеслом Христо Благова. Тропинки, где, согнувшись под пулями, бежали за водой охотники, — а в ложементах хохот и улюлю! — были теперь его привычными тропинками, по которым он водил стада экскурсантов. На Круглой батарее он знал камень, с которого отлично обозревалась вся диспозиция; под колесом старой мортиры он имел обыкновение прятать свой завтрак; на Орлином гнезде он не любил задерживаться, потому что там вечно задувал пронзительный ветер.
Славка плохо слушал смотрителя. Слишком сильное1впечатление произвел на него рассказ корчмаря. Он взглянул на спину смотрителя. Широкая атлетическая спина. Видно, тот был чуткий — сразу оглянулся.
Миша слушал, казалось, позабыв все на свете. Он ходил по тем местам, где восемьдесят лет назад горсточка русских людей — три полка: Волынский, Подольский, Орловский — несколько месяцев стояли насмерть. Такой же, как сейчас, был воздух, и туман, и облака так же закрывали и вновь открывали зеленые горы, так же просвечивала внизу, на юге, долина Шейнова, и были видны поля и сады до самого Казанлыка, который тоже проглядывал, как сейчас, бурой полоской на горизонте. Та же была тишина. Ну, нет: наверно, слышались сигналы на рожке, крутились, пели и рвались бомбы, пули плакали, как грудные дети, и вдруг начинались звериные вопли: «Ал-ла!» Это турецкие таборы шли в атаку, и склоны гор покрывались красными фесками.
Смотритель шел размеренными шагами, в полный рост, неторопливо покачиваясь, как все экскурсоводы на свете, и это тоже казалось Мише удивительным и непонятным. Сам-то он жил сейчас в ложементах, где надо гнуться, таиться, где все сырое — хоть выжимай! — от проходящего облака. Он был сейчас на службе не у полковника Ватагина, а у генерала Радецкого: ординарцем, писарем, радистом-слухачом — все равно! Это при нем по вечерам, примостясь на казенной части орудия, генерал с какой-то душевной чистотой и грустью писал в записной книжке: «На Шипке все спокойно» и отрывал листок, отправлял депешу в Петербург.
Они подошли к памятнику, укрылись от ветра под его огромной стеной. Смотритель стоял у входа в склеп, где на заржавленной чугунной двери чугунный череп с чугунными костями. Мохнатые уши смотрителя торчали из-под берета. Шустов следил за взглядом смотрителя: внизу виднелась корчма; машина казалась среди скал такой крохотной, словно чабаненок сделал ее своей игрушкой. «Наверно, Благов злится — зачем приехали на машине, а не верхоконные», — подумал Славка. Их глаза встретились. И чтобы скрыть свои мысли, Шустов спросил:
— А как же у них было с водой?
— Они пили воду из баклаг, в которых смачивают артиллерийские банники, и вода была с салом и пороховой гарью.
Теперь смотритель повел экскурсантов к Орлиному гнезду. Здесь турки, пользуясь туманом, не раз врывались на скалу. Тогда над пропастью начиналась рукопашная схватка. Дрались камнями. Душили. Ударом в живот сталкивали в бездну.
Острый кадык смотрителя шевелился. Он помолчал с минуту, вспоминая подробности… Дрались молча. Усталость и бешенство сводили дыхание. Нечем было кричать. И когда последнего сбрасывали, также молча солдаты принимались забудничное дело — убирали трупы. Уборка с каждым днем становилась труднее. Смрад окружал позиции. Слабых солдат тошнило. Они отходили в сторонку и уже не боялись ни бомбы, ни пули.
Миша потянул воздух ноздрями, глаза его горели. Как он проникся чувством общности с теми, шипкинскими, сознанием, что и сегодня живо солдатское правило: так нужно! Вот и весь ответ. Нужно воевать — воюй. Не было бы России — и тебя бы не было. Воюй добросовестно, честно, по-русски. И эта серая скала, Шипка, проглоченная облаком, стала сейчас в его юношеском воображении рядом с Полтавским полем, о котором он читал у Пушкина; вровень с Бородинским полем, с полем Куликовым, даже с. теми зимними донскими степями и логами, по которым он сам недавно ехал с походной радиостанцией в глубокий рейд по тылам противника.
Положив костлявую руку на узорчатый, проржавленный до красноты крест, стоявший среди камней, смотритель методично рассказывал об Орлином гнезде. Он, верно, по минутам рассчитал, сколько и о чем рассказывать, и в голосе его не было усталости, как и в походке. Он рассказывал о том, что в октябре 1877 года, когда подули северные холодные ветры на перевале, орел, живший в этих камнях, стал все чаще спускаться прямо к кострам, жесткоперый, злой, солдаты его приманивали деревянными ложками. Они тоже были «орловцами».
— Эй, гляди-ка! — воскликнул Бабин. — Гляди-ка, Славка!
Он показывал рукой в высоту неба над пропастью. Пыльно-желтый орел недвижно парил, что-то выглядывал в камнях стариковскими глазами.
— Старый, дьявол! — прошептал Шустов с восхищением. — А ведь он, пожалуй, видел?…
— Кто видел? — спросил Бабин.
— Орел, говорю.
— Что видел? — быстро и подозрительно переспросил смотритель.
— Все видел! — с неожиданной жесткостью утверждения ответил Славка.
Он-то сейчас глядел не на орла, а на смотрителя. И от него не укрылось, как непонятный испуг мгновенно исказил лицо болгарина.
— Так вы говорите, трупы достать нельзя? — спросил Шустов, нагловато воззрившись на Христо Благова.
— Какие трупы? — грубо спросил смотритель и проглотил слюну.
— Всякие трупы: конские, к примеру… Сапные.
— Не понимаю! — отрезал смотритель и отошел в сторону.
Но Славка — как будто и не было этого мгновенного поединка — снова завороженно глядел на парившего в высоте орла.
— Наверняка видел! — восторженно крикнул он и даже кулаком махнул: — Орлы по сто лет живут! Это тот самый и есть!
И они втроем стали следить за медленными и плавными движениями орла.
Назад возвращались той же тропинкой. На полпути облака, потянув снизу, снова прикинулись мокрым туманом. Шустов легко находил дорогу среди уже знакомых камней.
— Я не могу поспеть за тобой! Давай отдохнем! — крикнул Бабин.
— Отдыхать в могиле будем! — весело отозвался лейтенант любимой поговоркой Котелкова.
Но все-таки остановился, глядя в туман, откуда должен был показаться замешкавшийся смотритель.
Два выстрела — один за другим — прозвучали гулко…
Еще один…
— Ну-ка, присядь! — приказал Шустов, схватившись за плечо.
Они быстро сели под камень. Человек стрелял не наугад.
— На Шипке все спокойно, — уныло заметил Бабин, слегка прикрывая раненого товарища.
Лейтенант Шустов, сидя, вынул из кобуры пистолет. Выстрелов больше не было. Ни шороха, ни голоса, ни дыхания. Тишина, какая бывает только в горах.
— Чего он сбесился? — шепотом спросил Бабин.
— Спятил, — спокойно засвидетельствовал Шустов, а глаза его сверкнули тем шельмоватым блеском, который всегда помогал понять, что он избежал опасности. — Собаку задушил, теперь в орла стреляет.
— Помешал ему орел… Думаю, пуля-то тебя искала.
— А ну, за мной! — скомандовал Шустов.
Они вернулись к памятнику. Он стал мокрым, почернел в тумане. Смотрителя нигде не было.
— Выходит, на Шипке все спокойно… — задумчиво подтвердил Шустов, снимая с себя гимнастерку.
— Пуля застряла?
— Царапина… Скользнула только.
— В машине санитарный пакет. Дойдешь?…
…
На обратном пути они поссорились.
Все-таки характер у Миши чертовский: невозмутим, аккуратен, скуповат. И ко всему — голос. Неожиданно густой, басистый. Очень тонкое понимание музыки. После всего, что случилось на перевале, он ничего не нашел умнее, как насвистывать всю дорогу какую-то сложную музыку, — кажется, «Лунную сонату» Бетховена.
Младший лейтенант Шустов не любил того. Он любил песенки из последних кинофильмов или то, что в мирное время играли на танцевальных площадках в саду Баумана и в Сокольниках. И настроение у него было отравлено этим проклятым смотрителем. Повязка стягивала плечо, царапина жгла с каждым часом сильнее. Они прождали в корчме до вечера. Хозяину, конечно, ни слова. Благов как в воду канул. Славка не мог простить себе: вот ведь решил проверить свои подозрения и увлекся. Теперь ищи его…
— Ну, свистишь? — зашипел он наконец и остановил машину с краю дороги.
Бабин перестал свистеть и удивленно посмотрел на него.
Дьявольски мрачно выглядел Шустов в эту минуту.
— Свистит… Подскажи лучше, что делать.
— Доложить майору Котелкову, — хладнокровно посоветовал Бабин.
— Ни за что! Будет кишки из меня тянуть.
— Товарищ лейтенант, надо уметь ответ держать.
— Все доложу. Только полковнику! Пусть хоть в штрафную! По крайней мере, человеком оставит.
Бабин усмехнулся. Вот герой! Значит, легкая смерть лучше трудной жизни? Но ему стало жаль Шустова. В приступе нежности к другу, попавшему в беду, он только и произнес:
— Луи Буссенара нет на тебя. Он бы тебя описал…
26
До Вршаца не долетели: фронт рядом. Капитан Цаголов, сопровождавший полковника Ватагина, предъявил документы в каком-то штабе, окопавшемся на лесной опушке. Им дали машину и двух солдат. В сербских селах по пути встречали с любовью. Это была святая осень Югославии — осень становления народной власти. Селяки-крестьяне возвращались к родным очагам из партизанских ущелий. В городах веселился весь трудовой народ — пропахшие кожей седельщики и сапожники, белые пекари, сутулые портные, пропахшие лозой тростника корзинщики… Благородная страна всем сердцем встречала русского солдата, несшего освобождение. Маленькое дорожное происшествие взволновало Ватагина. В доме, где привел случай остановиться, он разговорился с вдовой сербского подпоручика, расстрелянного оккупантами, и вдруг она стала целовать его руку. Потом долго гладила головку своей дочки-сиротки, удерживаясь, чтобы больше не плакать. Дом Ганса Крафта легко было найти по спискам городской управы. Он оказался пуст и заброшен. Во дворе пахло гарью — три дня назад горела конюшня. Впрочем, вымершей казалась вся немецкая часть городка. Каждый дом — покинутая крепость с тяжелыми воротами, за которыми еще неделю назад жила двухсотлетняя колонистская скука: зеркально чистые полы, экзерсисы на фортепьяно, карточные пасьянсы и расклейка почтовых марок по филателистским альбомам вечерами, когда коммерсанты и фермеры возвращались в свои квартиры. Теперь мужчины почти поголовно ушли в девятую дивизию «СС» — «Принц Евгений». Домe стерегли больные старухи. На крайней улице (за ней — католическое кладбище) уцелел лишь злой, как пес, владелец магазина электроприборов, скрывавшийся на задворках со своей глухонемой служанкой. Человека, который мог бы дать информацию о Крафте, надо было искать среди сербов. Там, в сербской половине городка, пятый день царило славянское счастье песен, громких разговоров, веселых тостов; в каждом дворе — свой праздник «славы», когда зовут к столу соседей и прохожих солдат и пьют и пляшут вихревое «коло». Но в ограде церкви, где ветер швырялся охапками желтой листвы, новобранцы югославской народно-освободительной армии меж тем день и ночь занимались строевой подготовкой. Капитану Цаголову повезло: в нескольких домах женщины ему сказали, что лучше всех знает Ганса Крафта, конечно, «мастер Владо». Это был шахматный маэстро, проведший многие годы в международных турне, а теперь, в родном городке, постаревший и немного опустившийся. Он был единственный из сербов, кто запросто бывал в колонистских домах как известный шахматист, которого все приглашали. Он снисходительно обыгрывал любителей, пил их вино, а поздно вечером пробирался через весь город на окраину, где терпеливо ожидала его, как когда-то из дальних странствий, маленькая верная женщина — его жена. Цаголов сумел разыскать их скромную лачугу. Тучный мужчина в мешковатом поношенном костюме был рад визиту русского офицера и, видно, не очень даже удивлен. — Входите, входите… Я знал, что вы меня разыщете, — оживленно говорил он, пропуская Цаголова в комнату. — Вас часто разыскивают шахматисты? — Да, и это тоже… — неопределенно заметил Владо. Они договорились о вечерней встрече. — Что ж, если ваш полковник хочет поиграть со мной, я буду счастлив провести с ним вечер, чтобы он не скучал. И шахматы принесу, не беспокойтесь. Значит, вы поселились в доме Крафта? Я знаю дом Крафта. Не беспокойтесь — буду. — Я заеду за вами, господин Владо. — Благодарен. Провожая в прихожей гостя, он долго рассказывал капитану, как в былые хорошие времена он играл во всех городах мира, давал сеансы одновременной игры — да, и в Москве и в Петербурге! В глазах его, дремавших среди толстых век, таилось выражение доброты и усталости. В назначенный час Сослан привез шахматиста. Легкий ужин стоял на столе, а на подоконнике лежал приготовленный пакет с продуктами, снаряженный заблаговременно в хозяйственном отделе штаба дивизии. Маэстро вынул из замшевого футляра игральную доску, расставил на ней великолепные резные шахматы. Ватагин запоздал к назначенной встрече на несколько минут. По правде сказать, ион и шофер в темноте заблудились в мертвых кварталах. Он вошел быстрыми шагами и извинился.
В глубоком кресле, положив руки на толстые кожаные подушки, шахматист сидел с видом человека, расположившегося в давно обжитой квартире.
— Русские любят опаздывать, — сказал он с улыбкой, — чтобы потом наверстывать упущенное.
— Как вас зовут, маэстро?
— Зовите меня Владо.
— Вы знали хозяина этого дома?
— В своем городе я знал всех, кто умеет отличать ладью от пешки.
— Правоверный нацист, судя по библиотеке, — сказал Ватагин, подойдя к полке терракотового камина, на которой среди немецких книг виднелась «Моя борьба» Адольфа Гитлера в розовом переплете.
— Это было его евангелие, — ответил шахматный мастер и сделал ход пешкой.
Партия началась. Полковник ответил конем. Минут пять они разыгрывали дебют — быстро и четко. Когда-то полковник играл неплохо для любителя, и сейчас ему хотелось атаковать. Он не боялся проиграть мастеру. Тот играл небрежно, к тому же ронял пепел и не замечал его на доске среди фигур. Видно, годы недоедания сломили старика. Это было заметно и по костюму и по игре — она все же не так хороша, как раньше, судя по его былой репутации.
— Браво! — вежливо сказал Владо, когда его королевский фланг оказался под прямой угрозой атаки.
В эту минуту полковник закурил и несколько отодвинулся от доски.
— Владо, я пригласил вас не для игры, — мягко сказал он. — И этот дом не тот, в котором я действительно остановился. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о хозяине этого дома.
— Он был плохой игрок: слишком методичный. Я давал ему ладью вперед, но он был тщеславен и не брал.
— Владо, я спрашиваю не о шахматисте… — с некоторым упреком в голосе заметил Ватагин.
Старый мастер сквозь одышку рассмеялся.
— Я так и думал, что вы пригласили меня не для шахмат. Но мы все-таки доиграем: мне нравится партия. Как вас зовут?
— Иван Кириллович.
— Так вот, Иван Кириллович, это был одинокий и скупой человек. Провинциальный тщеславец и маньяк. Представьте себе: глухая австро-венгерская провинция в среднем течении Дуная, полуфеодальный Банат с его блуждающими в болотах речками, пустынными придунайскими дюнами, буковыми лесами, с его румынскими и сербскими деревеньками и богатыми дворами немецких колонистов. И вот в этом скучнейшем Банате, вдали от венских ипподромов, будапештских манежей, балатонских аристократических конюшен и конных заводов Мезёхедеша, находится педант, который в разгаре сумасшедшей войны садится за многотомное исследование. На какую тему — вы спросите? «История венгерского племенного коннозаводства»! Десятки племенных книг, тысячи карточек — Ганс Крафт их сам переплетает ночами. Он знает все двухсотлетнее потомство арабского жеребца Гидрана, выведенного из Неджда. Он знает наизусть все стати любого потомка английского дербиста Норт-Стара, пасущегося сегодня в травянистых степях долины Дуная и Тиссы. Он может показать вам приметы любого рысака из семьи Фуриозо — обхват груди, размет шага, высота в холке…
— Владелец отличной конюшни? — спросил Ватагин, не поднимая голову от шахматной доски.
— Что вы! — рассмеялся серб. — От силы пять-шесть цыганских лошадей, как раз столько, чтобы удобрять навозом палисадник с каннами.
— Ну, хотя бы первоклассный наездник?
— Право, не замечал. Надо сказать, что этот любитель конных скачек и рысистого бега сам не умел вставить ногу в стремя, обходил лошадей только спереди. Он вообще был трус, боялся вида крови, корчился, как девочка, от флюса. Он испортил себе зубы, боясь бормашины… Впрочем, говорили, что в Софии, где он в последние годы служил в германском посольстве, у него превосходная конюшня. Оттуда иногда приезжали тренеры и конюшие…
— Он всю жизнь писал историю венгерского коннозаводства, переплетал племенные книги?
Владо взглянул на русского офицера усталыми, добрыми глазами и осторожно усмехнулся.
— Я так и знал, что вы меня найдете… Нет, это его последнее увлечение военных лет. Помню его прежние изыскания в области антропологии. От этого человека всегда за десять верст пахло расизмом. Что удивительного? Говорили, что в 1912 году, гуляя по улицам Вены, он, тогда еще бедный недоедающий студент, познакомился с одним бездарным художником — Адольфом Шикльгрубером, будущим главарем германского фашизма.
— Вот как? Интересно, — сказал полковник, снова возвращаясь к партии, потому что маэстро сделал ход.
В той свободе, с какой Владо за разговором отпарировал угрозу атаки, все-таки сказывалась его прежняя сила. Желая удержать инициативу, Ватагин сделал рискованный ход пешкой.
Маэстро улыбнулся:
— Такой ход вряд ли соответствует ситуации. Тут был бы уместен всякий выжидательный ход.
Смуглым пальцем с массивным золотым кольцом он в рассеянности гладил края едва заметной штопки на рукаве пиджака.
Ватагин закурил. Игра снова прервалась.
— Тщеславие Крафта, — продолжал маэстро, — питалось доскональностью его изысканий. Каждая примета породистой лошади заносилась на карточку: не только промеры, но и черты характера, привычки… Бесконечное множество карточек. Это была та скрупулезность, когда за мелочами давно потеряна цель. Квартира уже не могла вместить тысяч карточек — он перенес картотеку в конюшню.
— В конюшню?
— Да, там была комнатка для работы. Мы там даже иногда играли в шахматы после обеда. Там прохладно и уютно. И я слышал порой за перегородкой голоса двух переписчиков — он выписал из Германии двух молодцов призывного возраста, очевидно увильнувших от Восточного фронта…
— Где она сейчас, эта картотека? — спросил Ватагин.
— Я расскажу. Но все же доиграем…
Он сделал скромный ход конем — ход, подготавливавший жертву ферзя. Полковник заметил слишком поздно: неосторожное движение пешкой приносило теперь свои плоды. Через три хода мастер окончательно сдавил игру партнера. Теперь он реализовал преимущество просто и убедительно.
— Досадно, — сказал полковник, ребячески улыбаясь, как оплошавший школьник. — Я проглядел возможность жертвы.
— Это случается, если играешь нетренированным или усталым, — любезно заметил Владо. — Ваша игра произвела на меня впечатление. Вы вели атаку нешаблонно. Но поспешность иногда так же ведет к проигрышу, как и потеря темпа… Впрочем, вы меня пригласили не для шахмат. — Он засмеялся, поглядывая на стол, накрытый на три прибора.
Сослан Цаголов давно уже томился за ним в одиночестве. Они перешли к столу. Владо оживился.
— Мне кажется, только в австрийской провинции, в Линце, на родине Гитлера, или в нашем Вршаце, могли распускаться пышным цветом такие маньяки. Ганс Крафт пытался маскироваться под ничтожество. К чему усилия! Он действительно не был большим человеком. Слишком далек от жизни. Когда Гитлер уже стал рейхсканцлером и быстро повел Германию навстречу гибели, я принес однажды Крафту книжку Та-лейрана. Там была уничтожающая реплика, я прочитал ему… не помню сейчас…
— Припомните, Владо.
— Там было написано приблизительно так: «романист награждает умом и выдающимся характером своих главных героев. История не так разборчива и выдвигает на главные роли того, кто оказывается в данный момент под руками…» Не дурно, правда?
Он засмеялся. Его мешковатый пиджак заколыхался на животе, придавая облику старика нечто легкомысленное и в то же время печальное.
— Что же ответил Крафт?
— Я прочитал, чтобы подразнить его, но он пришел в восторг. Он отнес эти слова не к фюреру, а к себе. Первый раз я видел, как, отбросив напускное смирение, он самодовольно сказал: «Придет и мой час!» Но этот час не приходил довольно долго. Дважды Крафт ездил в Берлин и дважды возвращался посрамленный. И только весной сорок третьего года, уже после Сталинградской битвы, он вернулся из Берлина, чуть не лопаясь от важности. Его произвели в рейхсдейтчи, в имперские немцы. Он был необыкновенно воодушевлен, а у него это всегда превращалось в заносчивость. Он читал своим соотечественникам закрытые лекции, рассказывал о впечатлениях от знакомства с модным в Нюрнберге профессором философии Эрнстом Бергманом. В эти дни он по заказу Гиммлера написал человеконенавистническую брошюрку «Психопатология бесстрашия». Рассказывали, что он познакомился с крупными деятелями нацистского террора… Я спросил его при встрече, собирается ли он вернуть мне долг, оставшийся за ним после поездки в Вену, что-то около тысячи динаров. Куда там! Он был уже выше этих житейских мелочей.
— Вы говорите — педант, — осторожно повернул беседу Ватагин. — а картотеку держал в конюшне. Место ли это?
Старый мастер решительно отодвинул тарелку, встал, сказал:
— Пойдемте в конюшню.
— Ее нет, Владо. Она сгорела три дня назад, — остановил его Ватагин.
— Я знаю. Пройдемте туда.
Ватагин запоздал к назначенной встрече на несколько минут. По правде сказать, ион и шофер в темноте заблудились в мертвых кварталах. Он вошел быстрыми шагами и извинился.
В глубоком кресле, положив руки на толстые кожаные подушки, шахматист сидел с видом человека, расположившегося в давно обжитой квартире.
— Русские любят опаздывать, — сказал он с улыбкой, — чтобы потом наверстывать упущенное.
— Как вас зовут, маэстро?
— Зовите меня Владо.
— Вы знали хозяина этого дома?
— В своем городе я знал всех, кто умеет отличать ладью от пешки.
— Правоверный нацист, судя по библиотеке, — сказал Ватагин, подойдя к полке терракотового камина, на которой среди немецких книг виднелась «Моя борьба» Адольфа Гитлера в розовом переплете.
— Это было его евангелие, — ответил шахматный мастер и сделал ход пешкой.
Партия началась. Полковник ответил конем. Минут пять они разыгрывали дебют — быстро и четко. Когда-то полковник играл неплохо для любителя, и сейчас ему хотелось атаковать. Он не боялся проиграть мастеру. Тот играл небрежно, к тому же ронял пепел и не замечал его на доске среди фигур. Видно, годы недоедания сломили старика. Это было заметно и по костюму и по игре — она все же не так хороша, как раньше, судя по его былой репутации.
— Браво! — вежливо сказал Владо, когда его королевский фланг оказался под прямой угрозой атаки.
В эту минуту полковник закурил и несколько отодвинулся от доски.
— Владо, я пригласил вас не для игры, — мягко сказал он. — И этот дом не тот, в котором я действительно остановился. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о хозяине этого дома.
— Он был плохой игрок: слишком методичный. Я давал ему ладью вперед, но он был тщеславен и не брал.
— Владо, я спрашиваю не о шахматисте… — с некоторым упреком в голосе заметил Ватагин.
Старый мастер сквозь одышку рассмеялся.
— Я так и думал, что вы пригласили меня не для шахмат. Но мы все-таки доиграем: мне нравится партия. Как вас зовут?
— Иван Кириллович.
— Так вот, Иван Кириллович, это был одинокий и скупой человек. Провинциальный тщеславец и маньяк. Представьте себе: глухая австро-венгерская провинция в среднем течении Дуная, полуфеодальный Банат с его блуждающими в болотах речками, пустынными придунайскими дюнами, буковыми лесами, с его румынскими и сербскими деревеньками и богатыми дворами немецких колонистов. И вот в этом скучнейшем Банате, вдали от венских ипподромов, будапештских манежей, балатонских аристократических конюшен и конных заводов Мезёхедеша, находится педант, который в разгаре сумасшедшей войны садится за многотомное исследование. На какую тему — вы спросите? «История венгерского племенного коннозаводства»! Десятки племенных книг, тысячи карточек — Ганс Крафт их сам переплетает ночами. Он знает все двухсотлетнее потомство арабского жеребца Гидрана, выведенного из Неджда. Он знает наизусть все стати любого потомка английского дербиста Норт-Стара, пасущегося сегодня в травянистых степях долины Дуная и Тиссы. Он может показать вам приметы любого рысака из семьи Фуриозо — обхват груди, размет шага, высота в холке…
— Владелец отличной конюшни? — спросил Ватагин, не поднимая голову от шахматной доски.
— Что вы! — рассмеялся серб. — От силы пять-шесть цыганских лошадей, как раз столько, чтобы удобрять навозом палисадник с каннами.
— Ну, хотя бы первоклассный наездник?
— Право, не замечал. Надо сказать, что этот любитель конных скачек и рысистого бега сам не умел вставить ногу в стремя, обходил лошадей только спереди. Он вообще был трус, боялся вида крови, корчился, как девочка, от флюса. Он испортил себе зубы, боясь бормашины… Впрочем, говорили, что в Софии, где он в последние годы служил в германском посольстве, у него превосходная конюшня. Оттуда иногда приезжали тренеры и конюшие…
— Он всю жизнь писал историю венгерского коннозаводства, переплетал племенные книги?
Владо взглянул на русского офицера усталыми, добрыми глазами и осторожно усмехнулся.
— Я так и знал, что вы меня найдете… Нет, это его последнее увлечение военных лет. Помню его прежние изыскания в области антропологии. От этого человека всегда за десять верст пахло расизмом. Что удивительного? Говорили, что в 1912 году, гуляя по улицам Вены, он, тогда еще бедный недоедающий студент, познакомился с одним бездарным художником — Адольфом Шикльгрубером, будущим главарем германского фашизма.
— Вот как? Интересно, — сказал полковник, снова возвращаясь к партии, потому что маэстро сделал ход.
В той свободе, с какой Владо за разговором отпарировал угрозу атаки, все-таки сказывалась его прежняя сила. Желая удержать инициативу, Ватагин сделал рискованный ход пешкой.
Маэстро улыбнулся:
— Такой ход вряд ли соответствует ситуации. Тут был бы уместен всякий выжидательный ход.
Смуглым пальцем с массивным золотым кольцом он в рассеянности гладил края едва заметной штопки на рукаве пиджака.
Ватагин закурил. Игра снова прервалась.
— Тщеславие Крафта, — продолжал маэстро, — питалось доскональностью его изысканий. Каждая примета породистой лошади заносилась на карточку: не только промеры, но и черты характера, привычки… Бесконечное множество карточек. Это была та скрупулезность, когда за мелочами давно потеряна цель. Квартира уже не могла вместить тысяч карточек — он перенес картотеку в конюшню.
— В конюшню?
— Да, там была комнатка для работы. Мы там даже иногда играли в шахматы после обеда. Там прохладно и уютно. И я слышал порой за перегородкой голоса двух переписчиков — он выписал из Германии двух молодцов призывного возраста, очевидно увильнувших от Восточного фронта…
— Где она сейчас, эта картотека? — спросил Ватагин.
— Я расскажу. Но все же доиграем…
Он сделал скромный ход конем — ход, подготавливавший жертву ферзя. Полковник заметил слишком поздно: неосторожное движение пешкой приносило теперь свои плоды. Через три хода мастер окончательно сдавил игру партнера. Теперь он реализовал преимущество просто и убедительно.
— Досадно, — сказал полковник, ребячески улыбаясь, как оплошавший школьник. — Я проглядел возможность жертвы.
— Это случается, если играешь нетренированным или усталым, — любезно заметил Владо. — Ваша игра произвела на меня впечатление. Вы вели атаку нешаблонно. Но поспешность иногда так же ведет к проигрышу, как и потеря темпа… Впрочем, вы меня пригласили не для шахмат. — Он засмеялся, поглядывая на стол, накрытый на три прибора.
Сослан Цаголов давно уже томился за ним в одиночестве. Они перешли к столу. Владо оживился.
— Мне кажется, только в австрийской провинции, в Линце, на родине Гитлера, или в нашем Вршаце, могли распускаться пышным цветом такие маньяки. Ганс Крафт пытался маскироваться под ничтожество. К чему усилия! Он действительно не был большим человеком. Слишком далек от жизни. Когда Гитлер уже стал рейхсканцлером и быстро повел Германию навстречу гибели, я принес однажды Крафту книжку Та-лейрана. Там была уничтожающая реплика, я прочитал ему… не помню сейчас…
— Припомните, Владо.
— Там было написано приблизительно так: «романист награждает умом и выдающимся характером своих главных героев. История не так разборчива и выдвигает на главные роли того, кто оказывается в данный момент под руками…» Не дурно, правда?
Он засмеялся. Его мешковатый пиджак заколыхался на животе, придавая облику старика нечто легкомысленное и в то же время печальное.
— Что же ответил Крафт?
— Я прочитал, чтобы подразнить его, но он пришел в восторг. Он отнес эти слова не к фюреру, а к себе. Первый раз я видел, как, отбросив напускное смирение, он самодовольно сказал: «Придет и мой час!» Но этот час не приходил довольно долго. Дважды Крафт ездил в Берлин и дважды возвращался посрамленный. И только весной сорок третьего года, уже после Сталинградской битвы, он вернулся из Берлина, чуть не лопаясь от важности. Его произвели в рейхсдейтчи, в имперские немцы. Он был необыкновенно воодушевлен, а у него это всегда превращалось в заносчивость. Он читал своим соотечественникам закрытые лекции, рассказывал о впечатлениях от знакомства с модным в Нюрнберге профессором философии Эрнстом Бергманом. В эти дни он по заказу Гиммлера написал человеконенавистническую брошюрку «Психопатология бесстрашия». Рассказывали, что он познакомился с крупными деятелями нацистского террора… Я спросил его при встрече, собирается ли он вернуть мне долг, оставшийся за ним после поездки в Вену, что-то около тысячи динаров. Куда там! Он был уже выше этих житейских мелочей.
— Вы говорите — педант, — осторожно повернул беседу Ватагин. — а картотеку держал в конюшне. Место ли это?
Старый мастер решительно отодвинул тарелку, встал, сказал:
— Пойдемте в конюшню.
— Ее нет, Владо. Она сгорела три дня назад, — остановил его Ватагин.
— Я знаю. Пройдемте туда.
27
В глубине двора по асфальтовому съезду, усыпанному битым стеклом, Владо спустился в полуподвал сгоревшей конюшни. Ватагин и Цаголов, светя фонариками, проследовали за ним. Сильно пахло золой и гарью. Трупы лошадей, раздутые и твердые, точно набитые угольные мешки, преграждали дорогу. Какие-то головешки — остатки кормушек и яслей вперемешку со стеллажами — были усыпаны осколками черепицы. — Сюда попал снаряд? — спросил Ватагин. — Нет, тут другое было! — воскликнул Владо. Он молчаливо боролся с различными препятствиями, преграждавшими ему путь в тот угол конюшни, куда он стремился. — Вот это место! Здесь в предвечерний час доктор Крафт сидел и чистил свой картофель. Поужинав и аккуратно прибрав объедки, он играл со мной в шахматы. И, уходя поздно вечером, я видел в окне его сутулую спину в свете настольной лампы. — Вы видели и его картотеку? — Еще бы! Но чаще — слышал… За перегородкой вечно бубнили два немецких голоса. Иногда можно было услышать забавные вещи… — Он засмеялся. — Я шахматист и, значит, немножко аналитик, и у меня мало шахматной практики в этом дрянном городишке, так что голова ищет работы… Мы играли с Крафтом в шахматы, а за перегородкой звучали голоса переписчиков, диктовавших друг другу. Там бесконечно слышались обычные лошадиные клички: Фру-Фру, Волтижер, Принцесса, Эклипс, Гладиатор… — Отдел кадров племенного коннозаводства, — угрюмо заметил Цаголов. — Да, вы правы! Но я совершенно остолбенел, услышав однажды фантастическую кличку: Коротковолновый радиотехник… — Интересно, — заметил Ватагин. — Вот именно! Я темный человек, но это понимаю: откуда такая забавная кличка? А в другой раз еще чуднее: Капитан речного флота в отставке… — Да, это хоть кому покажется любопытным. — Или вдруг: Смотритель перевала! — Там был и Смотритель перевала? — Именно! Не слишком ли причудливая кличка для темно-рыжего жеребца со спущенным крупом? — Владо помолчал, задав этот вопрос, и вдруг решительно добавил: — Я знал, что вы меня разыщете. — Да о конях ли шла речь, Владо? — спросил Ватагин. — Я тоже, смеясь, как вы сейчас, спросил его: если уж Смотритель перевала, так у него должен быть затылок, а не холка, надо писать: шатен или блондин, а не гнедой или каурый. — Что вам ответил Крафт? — Он пришел в неистовство! Никогда не думал я, что можно так огорчить человека. Он хлопал своими белыми ресницами, потом пришел в себя и все-таки объяснил. — Интересно. — Очень. Оказалось, что в карточку, если породистая лошадь не на государственном конном заводе, а в частной конюшне, заносится и ее владелец. — А вам не приходилось, Владо. встречать у Крафта кого-нибудь из этих владельцев? — Он больше не пускал меня в конюшню. Завел собаку, и она сторожила двор. — Что же было потом? — Потом нравы стали строже. — Владо устал рассказывать, голос его потускнел. — Пришли времена фашистского отступления на востоке. Стало печально и тихо в сербских домах. Ночные расстрелы… Детей угоняли в Германию. Юноши уходили в горы. Женщины… ну, те плакали. А с немецких улиц неслись звуки духового оркестра, озверелые вопли: «Хайль Гитлер!» Ганс Крафт пребывал в Болгарии. Говорили, он получил высокий пост: фольксдейтч пошел в гору. Ватагин взял серба под руку, и они вышли во двор. — Дорогой Владо, вы не сердитесь, но я вас спрошу. Если не хотите — не отвечайте. Когда вы были в последний раз у Ганса Крафта? — тихо спросил Ватагин, не отпуская руки шахматиста. Тот помолчал. — Три дня назад, — кратко ответил он. — В день пожара? — Вы все знаете, — усмехнулся Владо. — Я слышал, что он вернулся домой, и пришел со своими племянниками в последний раз спросить его о долге. Война — маэстро в худые времена остаются без заработков. Но мы пришли поздно: Крафта уже не было, только пылала его конюшня. Я знал, что картотека хранится в конюшне, и я должен был ее спасти. — Для него? — спросил Ватагин. Владо кратко ответил: — Нет. Для вас… Я вбежал со своими племянниками в горящее здание. Мы вытащили оттуда три ящика. Они уже начинали гореть. Когда мы во дворе срывали с себя тлеющие куртки, я видел в распахнутую дверь, как метались в конюшне обезумевшие лошади. Языки пламени вспыхивали от их движений, а в ночное небо широко поднимался сноп красных искр. И я подумал тогда с облегчением: вот уходит в вечность проклятая огненная комета фашизма, летит ее раскаленный хвост, и последние уголья угасают в огромном холодном небе!.. Как он переменился, этот старый шахматист! Волнение охватило его — теперь, несмотря на элегантность поношенного костюма, не стало космополита: был серб, гордый старый серб, дети и внуки которого громили захватчиков на всех путях их отступления с Балкан. А когда в памяти Владо догорел костер крафтовской конюшни, глаза его стали снова усталыми и добрыми, и этот немного опустившийся человек сказал советскому полковнику: — Теперь поедем ко мне, я передам вам три ящика… под расписку. Но прежде пойдемте-ка лучше к доске, Иван Кириллович. Хотите — я покажу вам, как я однажды обыграл самого Алехина?28
Простившись с другом человечества Владо, полковник Ватагин с его ленивой и грузной повадкой как бы преобразился. Он всем своим жизненным опытом чувствовал необходимость быстрых решений. Вся громоздкая инвентаризация племенных книг, где вместо лошадей фигурировали люди, близость Крафта с Гитлером, — все говорило о том, что дело, затеянное банатским немцем, значительнее и опаснее сапной эпидемии. Ватагина направляло по следу невидимого врага почти неуследимое движение признаков, похожее на то, что видел он однажды в монгольской степи, когда подняли волка и он уходил от преследования, едва показывая спину в высокой траве. В штаб фронта Ватагин и Цаголов возвратились под вечер. Шустов, приехавший за ними на аэродром, не успел вытащить полковничью шинель из машины, как Ватагин уже собрал офицеров. Автоматчики втащили ящики в комнату. Славка не мог помочь, плечо еще мешало. Ватагин это заметил: — Что с вами? — Так… ничего, — замялся Шустов, ожидая удобной минуты, чтобы во всем повиниться с глазу на глаз. Между тем майор Котелков и капитан Цаголов раскладывали на столах и подоконниках содержимое ящиков. Тут было пятьсот семьдесят полуобгорелых карточек. В каждой наверху слева стояла кличка лошади, а в соответствующих графах были обозначены масть, основные промеры экстерьера. Внизу были записаны фамилия владельца, его адрес и род занятий. На первый взгляд ничего необычного в картотеке не было. Но когда по приказу Ватагина, оставив в стороне лошадей, Цаголов выписал фамилии их владельцев, то получилась весьма любопытная картина. Это была странная и пестрая коллекция балканских обывателей. Вот как выглядел список.… 145. Добрич, улица Георги Сатиров, 7. Арам Мерджанян, обувное ателье «Алекс». 146. Сексард, переулок доктора Раданеску, 1. Исаак Ченчи, регент детского хора. 147. Констанца, бульвар королевы Елены, 32. Джоржи Папеску, директор приюта глухонемых. 148. Свилайнац, улица Александра, 2. Иованн Джокич, радиотехник, агент по распространению радиоаппаратуры магазина «Постоянство». 149. Шольт, Андраши-утца, 14. Дойдук Янош, хозяин табачной лавки. 150. Казанлык. Христо Благов, смотритель Шипкинского перевала. …— Товарищ младший лейтенант, дайте мне сводки по сапу из Ветеринарного управления… — приказал Ватагин. — Спасибо… Так вот, товарищ Котелков, в сводке дана точная дислокация всех выявленных очагов сапа. Даю вам час времени… — Что прикажете? — Извлеките с помощью офицеров из картотеки Ганса Крафта только лиц, проживающих в районах распространения сапа. — Есть, товарищ полковник. — Здесь пятьсот семьдесят фамилий. А останется не более тридцати. Нам было бы трудно что-либо делать, если бы Ганс Крафт сам не облегчил нам задачу. — При чем же тут очаги сапа? — хмуро спросил Котелков, потрогав бритую голову. — Ну, это теперь не просто очаги сапа — это места, где побывала Марина Ордынцева, — сказал Ватагин. — Точнее, где побывал Пальффи Джордж? — Нет, именно Ордынцева. Теперь для нас они снова поменялись ролями. Майор Котелков ровно ничего не понимал в ходе мыслей Ватагина. Это было не в первый раз и, как всегда, раздражало. Досадуя и не желая обнаружить своей недогадливости, он решил побольнее уязвить полковника и с деланной озабоченностью заметил: — Если так, тогда, к сожалению, один из организаторов сапной эпидемии уже ликвидирован… при активном участии младшего лейтенанта Шустова. — Это каким же образом? — повысил голос Ватагин. — Пройдемте за мной! — приказал он майору и Шустову. И они перешли в кабинет Ватагина. — Я нарушил приказ и побывал на Шипке, товарищ полковник, — сказал Шустов, когда они закрыли за собой дверь. — Вы тоже нарушили мой приказ? — быстро спросил Ватагин майора Котелкова. — Нет, товарищ полковник. Я только отпустил Шустова на экскурсию и довольно подробно разъяснил ему, что разведка не его дело: ни по должности, ни по… кругозору. С минуту все трое молчали. — Превосходный воспитательный прием, но формально вы правы… — сказал наконец Ватагин и коротко бросил адъютанту: — Докладывайте. Майор Котелков настороженно приподнял голову и с молчаливого разрешения Ватагина остался у окна. Славка подготовился к этому тяжелому испытанию. Ватагина он не боялся, а уважал. Он уважал его, не отдавая себе в этом отчета, безрассудно, как только в молодости могут, когда почти с влюбленностью берут кого-либо из взрослых за образец. И самое страшное, что могло случиться сейчас, — это если полковник просто скажет: «Вы не способны работать у нас. Идите…» Чтобы такие слова не застали его врасплох, Славка приготовился их выслушать и сейчас, стоя навытяжку, следил за полковником взглядом. Одного он не предвидел: что майор Котелков может остаться в комнате. — Когда вы побывали на Шипке? — спокойно спросил полковник. Славка знал, что спокойствие только для виду: в такие минуты он всегда поправляет складки гимнастерки под ремнем. — В воскресенье, товарищ полковник. — Сегодня — среда. Докладывайте. Стараясь не утаить ни одной подробности, Шустов рассказал о том, что с ним случилось на Шипке. (Об участии Бабина, разумеется, ни слова, пока не станут допытываться.) Он знал одно: он обязан говорить правду — это все, что сейчас от него требуется, что составляет, может быть, даже единственное его человеческое право. Сколько событий набежало после Шипки, сразу и не вспомнишь всех подробностей! Когда возвращались с перевала, он вдруг обессилел и уронил голову на баранку. Миша Бабин сумел притормозить машину, и только поэтому они не скатились под откос. В одной из встречных машин ехали военные врачи, ему забинтовали плечо. Рана была вроде царапины. Тошнило его просто от волнения и усталости. Они вернулись в штаб под вечер, и младший лейтенант Шустов тотчас явился с докладом к майору Котелкову. Это он только грозился Бабину, что не пойдет к майору и будет ждать возвращения полковника. Котелков поднял на ноги весь офицерский персонал. Ночью Шустов с автоматчиком сидел в засаде где-то в кустах, в окрестностях Казанлыка. Вдали слышалась перестрелка. Это болгарские партизаны уже выследили человека, стрелявшего в советского офицера. Под утро нашли труп — видимо, в последнюю минуту преследуемый проглотил ампулу с ядом. Примчался майор Котелков из штаба, и Шустов, измученный и бледный, как полотно, сам провел его по дороге. Майор спрашивал нетерпеливо: «Где же он?…» Славка показал здоровой рукой: «Вон, где три ивы растут…» И майор с фотоаппаратом на груди быстро пошел к трем ивам. Рассказав все, что помнил, младший лейтенант Шустов стоял навытяжку и ожидал возмездия с той душевной легкостью, которую не раз испытывал, когда, отрапортовав о провинности, возлагал на начальство ответственность за дальнейшие события. — Сегодня среда, — выслушав, задумчиво повторил полковник и вдруг внятно произнес: — Лучше бы вы там под пулей остались… Полковник Ватагин обычно не взвешивал своих слов. Командир должен воспитывать солдат, но, если он будет всегда искать самые правильные слова и рецепты, он не будет ни педагогом, ни командиром. Объявив Шустову свой жесточайший приговор, Ватагин как бы забыл о нем. Он задумался: плохо, что не захватили смотрителя перевала, но даже и его смерть говорит о многом. Христо Благов не просто местный обыватель, — откуда у такого могла бы быть ампула с ядом, да и с чего ему было бы кончать жизнь самоубийством? Похоже, что это гитлеровский резидент, оставленный на болгарской земле. Что известно о нем? Христо Благов — двойник македонского монаха. В альбоме Марины Ордынцевой есть его фотография. В картотеке Крафта на его имя заведена карточка. Крафт. Ордынцева, Пальффи, Благов — нити одного клубка. И, вероятно, цель у них более серьезная, чем распространение сапной эпидемии. Какая?… Досадно, что упустили Благова… Ватагин спохватился — Славка стоял перед ним не шелохнувшись, как-то по-детски вытянув вперед тело. И Ватагин понял: нельзя, чтобы сказанные им Шустову жестокие и горькие слова были последними. — Вы отправитесь под арест в самый разгар боевых операций! Вы будете сидеть без ремня, как бравый солдат Швейк… Стыдно за вас! Смертельно бледный Шустов понял всю человечность этого душевного движения. Его строгие голубые глаза следили за тем, как полковник вырвал из трофейного строевого журнала лист чистой линованной бумаги и, придвинув к себе чернильницу, стал писать приказ об аресте. С приказом в руке Шустов твердо прошагал по комнате. Дверь за ним закрылась неслышно. — Сложный товарищ, — отозвался Котелков. — Это вы мягко выражаетесь. Безответственный мальчишка! Щенок!.. — И всегда выше головы хочет прыгнуть. Инициатива его, видите ли, распирает… По-моему, это про таких инициативных сказка придумана: на похоронах кричат — таскать не перетаскать, на свадьбе — со святыми упокой… — Ошибаетесь. Это про дураков и к тому же бестактных, — суховато сказал Ватагин, Каждый раз, когда Котелков начинал при нем философствовать, обнаруживая свой чуждый и неприятный ход мыслей, полковнику становилось не по себе, как будто он принимал участие в каком-то непристойном занятии. — Это все равно, — упрямо сказал Котелков. — С такой инициативой недолго оказаться и орудием врага и… — Посидит под арестом — поразмыслит о своем поведении, — прервал Ватагин. Чем больше рассуждал Котелков, тем спокойнее начинал относиться к провинности Шустова полковник. — А я бы отдал этого сукина сына в трибунал — и делу конец. — сказал Котелков. — Повторите, ослышался. — В трибунал, говорю… — За промах списать в расход? Это вы здорово придумали. Что ж, давайте состав преступления! Котелков сосредоточенно разглядывал телефонный шнур. — По крайней мере, отчислить! Не ошибемся. Мы тут — не фиги воробьям давать! Надо гарантировать себя от подобных сюрпризов. — угрюмо, с тем красноречием, которое все выражается в неподвижном взгляде и в руках, теребящих телефонный шнур, настаивал Котелков. — Отчислить… гарантировать себя, — повторил Ватагин. — У меня другой взгляд. Надо воспитывать людей. Живой, горячий, как огонь, с хорошей душой мальчишка! Надо его воспитывать. И прежде всего — коммуниста воспитывать, чтобы воспитать чекиста Вот как я думаю! Котелков пропустил мимо ушей гневный порыв Ватагина и упрямо продолжал свое: — Смеяться будут: посадили на гауптвахту. И это на фронте! У нас ее и нет, наверно. — Должна быть! В штабе должна быть гауптвахта. А нет — под домашним арестом побудет. Чем дольше затягивался этот неприятный разговор тем веселее становился Ватагин. Он хорошо понимал, что Котелков не прощает Шустову его безусловного морального превосходства — того бескорыстного интереса к делу, которое так чуждо самому Котелкову, рассматривавшему всякую операцию как повод проявить свою оперативность: той честности, которая так привлекала самого Ватагина к Шустову. И то, что Котелков не смог даже скрыть своих душевных движений от взгляда Ватагина, вызывало в Ватагине хорошее чувство бодрости и убежденности в своей правоте. — Вызывайте офицеров, товарищ майор. Будем кончать разговор.
29
Дежурный офицер доложил: опергруппа собрана для инструктажа. Полковник Ватагин со списками прошел по коридору. Было уже темно На веранде курили двое — трое из вызванных Потянулись за ним — Осунулись, товарищ полковник, — сказал кто-то из офицеров. — Что, и впотьмах заметно? — усмехнулся Ватагин. пропуская курильщиков впереди себя. — Входите, товарищи Вытирайте сапоги. Тут чистота, хозяева в носках ходят. Комната была полна офицеров, и они дружно встали при появлении полковника. Послышался тот характерный шум, за которым всегда следует голос ведущего совещание: «Садитесь, товарищи!» Ватагин понаблюдал, как рассаживаются: по двое, по трое на стуле. Сколько их тут — капитанов, лейтенантов, отобранных в разведку за годы войны! Внезапный сбор среди ночи для них дело привычное. Они уже заполнили ожидание негромкими разговорами, холостяцкими грубоватыми шутками. Уже, как всегда, Сослан Цаголов с кем-то спорит по какому-то совершенно маловажному поводу: сгорел ли в Мелитополе вокзал или не сгорел. — Ничего не осталось! Фундамент!.. — «Коробочка» осталась, — лениво возражал оппонент. — Не осталось «коробочки»! Полковник улыбнулся. Сейчас, после разговора с Шустовым и Котелковым, он испытывал потребность заново вглядеться в лица своих офицеров. Черта с два он отпустит Цаголова от себя. В начале войны Сослан был торпедистом на Черном море, тяжело ранен в Керченском проливе. Потом строил подземные госпитали в осажденном Севастополе. И теперь, к концу войны, просился назад — «в экипаж»… А где он увидел его впервые? Под Апостоловом! Цаголов вел десятка два пленных немцев, подобрав полы шинели, замешивая фасонными шевровыми сапогами крутую украинскую грязь. Вот они все такие, его офицеры, — Цаголов часу не отдохнул, явился по вызову. И что же, через полчаса будет уже голосовать у контрольно-проверочного пункта. Ватагин положил обе руки перед собой на столе. В комнате установилась тишина. — Так вот, товарищи офицеры, я созвал вас, чтобы немедленно… Инструктивные совещания у полковника Ватагина были известны в штабе как своеобразная школа политического воспитания офицеров. Так было дома — на Дону и Украине. А на Балканах обстановка лишь усложнилась. Еще до прихода нашей армии народы поднимались против фашистских правительств и в ходе боев нашей армии с отбрасываемым противником создавали новую, демократическую власть. Фронтовая контрразведка должна была строго придерживаться своих собственных функций. Война есть война, и все, кто борется с действующими войсками в их тылах, должны испытывать страх перед карающими органами фронта. А в то же время фронтовая контрразведка не желала вмешиваться в акции народов, направленные против их собственных врагов — против собственной контрреволюции. В маленьких городках и селах, где народная власть была в первые дни еще недостаточно авторитетна, военные коменданты вынуждены были принимать решения, касающиеся жизни местного населения. К советским офицерам шли рабочие и хозяева заводов и мастерских, крестьяне и помещики, коммунисты и представители реакционных партий. Нужна была высокая политическая сознательность, чтобы в этих условиях строго ограничивать свои полномочия и там, где уже возможно, добровольно переуступать их новому государственному аппарату — околийским комитетам, кметам и примарам, народной милиции. Полковник Ватагин не уставал объяснять это своим офицерам каждый раз, когда отправлял их в боевые операции. Сама обстановка помогала ему в этом: всенародная любовь к нашей армии, которую каждый час, в каждом доме ощущали советские люди на Балканах, и то, что наша армия отвечала на эту любовь давно воспитанным в ней чувством пролетарского интернационализма. Полковник Ватагин бдительно остерегал своих офицеров от грубых выходок или высокомерных жестов — он видел, что есть еще плохо воспитанные, политически незрелые люди, которые думают по формуле майора Котелкова: «Мы здесь — не фиги воробьям давать!». И он больше всего опасался, как бы недостойные действия таких молодчиков не поссорили нас с боевыми друзьями, не нарушили дружбу, утверждаемую отныне навек. Вот почему инструктивные совещания у Ватагина затягивались и часто кончались уже под шум заводимых моторов. Впрочем, на этот раз карманные часы полковника были положены на стол. — Вы направляетесь в четырнадцать населенных пунктов. Повсюду существуют и наши военные коменданты, к которым вы явитесь, и полномочная народная власть. Противник осуществляет нехорошую и опасную операцию, которую я называю условно «Пять подков с одного коня». Вы едете в места распространения сапа, но убежден, что речь идет не только об этой одной диверсии. Противник навязывает нам действия в сложной обстановке. Надо принять бой в предложенных условиях и выиграть его: ни одного шага без санкций народных властей… Это понятно? Младший лейтенант Шустов нарушил мои указания и посажен за это под арест на пять суток, отстранен от действия нашего боевого отряда в самый ответственный момент операции. Офицеры слушали внимательно. — Вот, к примеру, мужчина… — Ватагин показал одну из четырнадцати отобранных карточек. — Тут проставлены кличка, масть, промеры, экстерьер. На это вы внимания не обращайте. Это с лошадях и… для ослов. Что касается мужчины, то о нем сказано, что это портной с главной улицы Мало… Нужна характеристика. И еще: я хочу знать, что происходит с этим человеком в последние две — три недели, может быть, месяц. Я ничего не знаю, а хочу знать всё… Местные власти будут предупреждены о вашем приезде, помогут. И снова напоминаю: не коснуться ни даже пальцем. Вообще — не переходить границ. — В последнюю поездку, товарищ полковник, мы с вами восемь раз перешли границы, — не удержался от шутки капитан Цаголов. — И ничего, кажется, неплохо сработали. Все офицеры зашевелились, заулыбались — видно, нужна была разрядка. Тоже улыбнувшись, Ватагин покачал головой. — Лейтенант Лукомский, вы направляетесь за фуражом для своего кавалерийского полка, — говорил Ватагин, вручая лейтенанту карточку и предписание. — Капитан Анисимов, будете квартирьером отдельной трофейной бригады… Капитан Долгих, вы привезли зарплату для местной комендатуры… Капитан Цаголов отстал от части, догоняет… И ничего смешного, товарищи!.. Старший лейтенант Полищук — фотокорреспондент армейской газеты…30
Гауптвахты, как предвидел Котелков, не оказалось. А штаб тем временем передвинулся в Венгрию. Пятый день лейтенант Шустов пребывал под домашним арестом, то есть медленно, обуздывая себя на каждом шагу, ходил из угла в угол в маленькой комнате венгерского портного, или постигал механизм ножной швейной машины, или присаживался у окна на табурете, подобрав ноги в болгарских лиловых носках с кисточками. «Лучше бы вы там под пулей остались…» Чем бы он ни развлекал себя, слова стояли в ушах, их нельзя было изгнать из памяти. Он брился каждый день, надраивал сапоги с такой яростью, что щетка летела изрук. Вот когда он пожалел, что где-то на Донце расстался с аккордеоном. И снова присаживался у окна, наблюдал улицу венгерского села, глубокие колеи, залитые мутной водой. Мелкий дождь — скорее, он даже слышен, чем виден. С единственного дерева, которое видно из окна, летят листья. Вот пролетел и упал один. Вот — целая охапка. Все равно: тут работы еще непочатый край — дерево в тяжелых зеленых листьях, они и падают зеленые… И как итог этих мучительных наблюдений звучал голос Ватагина: «Лучше бы вы там под пулей остались…» Танки прогрохотали, лужи — веером… Все воюют, а он? И вдруг в памяти вспыхнуло слово «фатальная»… Да, на мосту, когда в Европу вступали, пожилой солдат сказал так про тотальную войну. Никогда еще так ясно Шустов не понимал, что война касалась всех: и мальчика с окровавленными руками, которого он усаживал под минометным обстрелом в лукошко своего мотоцикла; и болгарского корчмаря с ребенком на руках — там, на Шипке… Память его мгновенно выщелкивала два выстрела в тумане. И снова, с той же пружинно раскручивающейся мерностью, звучало в ушах: «Лучше бы вы там под пулей остались…» Нет, конечно, не из-за какого-то диверсанта-коновала заслужил он такие слова. Ватагин предполагает что-то более серьезное и значительное. Зачем понадобилась Крафту вся его лошадино-человечья картотека? Чем угрожал нам этот Христо Благов? А, может быть, и не нам, а болгарам? Есть ли связь между банатской картотекой и плюшевым альбомом Ордынцевой? Конечно, полковник уже что-то продумал, а вот он, Славка, дальше сапной палочки ничего не увидел. И как потешается теперь полковник над всеми этими соображениями о «фабрике ампул» в Банате. «Мельчишь, Шустов, мельчишь!» — как говорит майор Котелков… И ничего невозможно придумать. Бывают же такие счастливые люди, которые умеют размышлять на досуге. А Славке ни одна путная мысль не забрела в голову, пока он бездействовал. Посадить бы сюда Бабина. Он бы три дня отсыпался, а на четвертый стал думать. Обстоятельно, пунктуально: сначала по методу сходства, потом по методу исключения, потом еще по какому-нибудь методу. А Славка, с чем явился отбывать арест на этой домашней гауптвахте, с тем и остался. Гауптвахта… Лермонтов сидел на гауптвахте и встретился там с Белинским. Это еще в школе учили. Пушкина сослали в Михайловское. А еще был, говорят, народоволец Николай Морозов. Он просидел в Шлиссельбургской крепости двадцать один год и написал собрание сочинений. Вот характер! Быдо же о чем думать человеку, если хватило на двадцать один год. А тут на третий день как проколотый баллон. Да еще этот дождь за окном. Поздняя осень, взмахи ветра шевелят листья в лужах… Можно думать, конечно, и о Даше. В последний раз он повстречал ее в Бухаресте, где на столичном перекрестке толпы прохожих любовались русской девушкой, как она со щегольской четкостью регулировала, расшивала уличное движение. А вечером отыскал ее — она с подружками стояла в роскошной банкирской квартире. Странное чувство, известное только фронтовикам, когда на часок заскочишь в незнакомый дом к знакомым людям и разговоришься, и поспоришь, и разволнуешься, а сам в то же время помнишь — снова война разделит на несколько месяцев, а то и навсегда. Тогда, в Бухаресте, в банкирской квартире, он подумал: чуднe — по-фронтовому устроились, портянки развесили по спинкам кроватей. Женимся — мать будет недовольна. Скажет: армейщина. Мать такая: сама пишет с ошибками, а для Славки принцессу подавай. Конечно, Даша — грубоватая девчонка, фронтовичка, а беззащитная. Значит, только снаружи грубоватая. Да и вообще это точно известно, что она добрая и нежная. Где она сейчас? Войска фронта на четыре государства развернулись. Вдруг совсем по-другому, без осуждения, вспомнились ему эти портянки на банкирских кроватях. Тогда были летние, а сейчас бы в пору зимними обзавестись. Как у нее с зимними портянками? Голова Славки клонилась на подоконник, губы набухли. И сон, который наконец пришел, был тоже как бы борьба, неуклюжая и странная, с самим собой. Снилось ночное поле, на котором два сибирских человека — не то якуты, не то буряты, — в лисьих шапках, в сапожках с загогулинками, в меховых рукавичках, схватив друг дружку за кушаки, по-медвежьи кувыркались, ставили подножки один другому, не расцепляясь, снова становились на ноги — маленькие, молчаливые, упрямые — шапками вместе, сапожками врозь… Кто-то бегал вокруг, смотрел им под ноги. Да это полковник Ватагин! Все был готов засвистеть по-судейски: три пальца во рту. И вдруг оба человечка упали, а вместо них вскочил один, но высокий, у него сапожки на руках надеты, две лисьи шапки мотаются на спине. Он стоит сумрачный, лицо словно выточено из темного дерева, угловатый нос, под мягкими усами губы поджаты, как бы для тонкого свиста, — да ведь это же македонский горбун из монастыря!.. Шустов даже проснулся от изумления. Он видел однажды такую борьбу на концерте моисеевского ансамбля народного танца. Но монах тут при чем? Приснится же… Стук в окно. — Миша? — Обед принес. Славка приоткрыл раму. Вот оно — Мишино лицо, мокрое, в белой щетинке, большие воспаленные глаза. Красивое лицо, хоть и виду не имеет. — Ну, все подковы собрал с одного коня? — Дважды поймал позывные. Толку чуть. Бабин раскладывал на подоконнике хлеб, манерку с гуляшом, темно-зеленый арбуз с ярко-розовым треугольником. «Хозяйственный, зануда», — с нежностью подумал Славка. — Устал? — Как всегда, спать охота. Тебя посадили, а мне завидно. Отоспится, думаю… Непоследовательный твой Ватагин. — Опять двадцать пять! Что же он должен был сделать? — Не знаю. По крайней мере, меня посадить. Славка обрадовался Мишиному приходу, но с огорчением подумал, что с первой же минуты стали ссориться. — Из дому пишут? — спросил он, желая доставить Мише самое большое удовольствие. — Даша Лучинина появилась, — безразличным голосом сообщил Миша. Славка даже вскочил на подоконник. Миша поймал покатившийся арбуз. — Почему ко мне не привел? — Не идет. Говорит: пусть отбудет наказание, отмучается. Шустов соскочил на пол, даже руки отряхнул с небрежностью: — Ну и пусть… Зачем она тут? — К полковнику приехали регулировщицы — целый грузовик! За инструктажем… Да ты не волнуйся. Напиши ей записку красивым почерком, я передам. — Опять зубы скалишь? Двигай отсюда!31
Один за другим возвращались офицеры разведки. Как все штабные, приезжающие из командировки, они прежде всего шли по отведенным для них квартирам, мылись с дороги, побросав полевые сумки возле тазов с водой. Затем получали у ординарца свои чемоданы, почту. А в особняке сбежавшего помещика, где на этот раз разместилась контрразведка, прихожая наполнилась оживленными голосами: шел обмен дорожными впечатлениями. Один рассказывал о партизанах, с которыми он плясал «коло» в сербском лесу; с кожаных безрукавках с шитьем, о карабинах на груди; говорил по-сербски: «смрт фашизму»; искал звездочку на фуражку, потому что свою старую подарил партизанскому комиссару под кличкой «Брадоня», о котором говорил с особым уважением. Другой вернулся из города Субботицы, где он жил на заваленной обломками улице: американцы по кварталам бомбили этот город, даже не имевший зенитного прикрытия. Он рассказывал о каторжной жизни тамошних крестьян: — За все платят помещикам — за землю, за воду, за лес. Срубил дерево, так сучья доставь прямо на двор — и попу и старосте. Рыбу бедняк не имеет права ловить в Дунае! Я его спрашиваю: «А искупаться в жаркий день можно?» Он только рукой махнул. Зато у кулака такие волы, что нашим шоферам приходится с дороги сворачивать, как бы за рога не зацепить… Кто-то припоминал веселую историю, случившуюся в Трансильвании: — У них дискобол исчез… — Что? — Вот именно. На городской площади стояла бронзовая фигура дискобола. Гитлеровцы решили отправить в Германию в переливку. Дефицитный металл. А утром — нет дискобола. И только мелом написано на камне: «Я не желаю в Германию. Ухожу к партизанам». Первым, еще до завтрака, Ватагин принял капитана Анисимова. Бритоголовый, загорелый, с ясными очами (именно очами!), с завинченными усиками под горбатым носом, — этот человек никогда не боялся высказывать собственное мнение. Все подозрения оказались неосновательны. Его подшефный — хороший, почтенный человек. У него сыновья погибли в фашистских лагерях. Сам он три года тайно ремонтировал радиоаппаратуру для партизан и сейчас выбран народным вечем на общественную должность. Глупее нельзя, как такого человека заподозрить в том, что он распространитель сапа. Капитан Анисимов отрапортовал свой окончательный вывод с молодцеватостью, как будто забил мяч в ворота. — Вы его лично видели? — спросил Ватагин. — Никак нет, вы не приказали. Он лежит дома. В последние дни с ним случилась история, в которой и мы немножко повинны, — он подорвался на мине, которую наши саперы не успели обезвредить. Счастливо отделался — только слегка контузило. А должен бы без ноги остаться… — Это не всегда — без ноги, — с живостью возразил полковник. Он почему-то разговорился по этому поводу, вспомнил какой-то фронтовой случай: — Помню, при прорыве под Богучаром снег был плотный, а немцы уложили мины с двойной накладкой, и они взрывались не сразу. Я шел пешком с начальником штаба, нас нагнала легковая машина. Шофер выскочил ко мне — тут и ахнуло у него под ногами. Он упал лицом з снег. Ну, думаю, готов! Нет, только контузило. — Это зачем вы мне рассказываете, товарищ полковник? — вежливо спросил капитан. — Да к тому, что не всегда должен человек без ноги остаться… — Ватагин помолчал, потом вернулся к теме разговора. — Что ж, он лежит, значит, дома? — Пострадал человек. — Еще бы, я его понимаю, беднягу. Одинокий небось? (Анисимов утвердительно кивнул головой.) Так я и думал… Теперь идите отдохните. Ваши веши у ординарца. Я их сам видел, когда разгружались на новом месте. Теперь уже каждые два-три часа кто-нибудь подъезжал. Ординарец тащил чемоданы. Полковник многих вызывал с ходу, еще неумытых с дороги. Сведения были собраны добросовестно. Только двух не нашли. Остальные — самые благонадежные люди; никакого отношения к конюшням и лошадям не имеют; многие пользуются полным доверием коммунистов и партизан, вроде анисимовского радиотехника. Лейтенант Лукомский рассказывал фотографически точно, со всеми подробностями. Ватагин знал этот его следовательский «почерк» и приготовился терпеливо слушать. В центре предместья имеется ресторанчик. Обстановка самая заурядная — на стене клетка с канарейкой, под ней кинореклама: какая-то роскошная трагическая девица с голыми плечами. За прилавком стойка с винными бутылками в пестрых этикетках. Граммофон хрипит — этюды Шопена. К столу подходит девочка, племянница ресторатора. Ну, что у них там закажешь? Пиво. Вермут. Хозяина зовут Георгий. В углу неизменно сидит за пустым столиком этот самый, из племенной книги, — регент детского хора Исаак Ченчи. Он читает газету. Очки на носу. На столе папиросная коробка. Пиво сосет понемногу. Иногда говорит девочке: «Иди сюда», заказывает еще кружку. При этом слегка заикается. — Заикается? — переспросил Ватагин. — Позволь, он регент в хоре. Как он может быть заикой? — Да он недавно попал в переплет. Его контузило. — Странно… — Что вам кажется странным, товарищ полковник? — Ну хорошо. Дальше… — Уходит из ресторана, идет домой. Живет один. — Один живет? — Жена сбежала с немецким военным прокурором. Войти в дом неудобно- очень нелюдимый человек. И собака на цепи. — Всё? — Всё. — Вы уверены, что он контужен? — Мне рассказывали соседи. Подтвердил комендант. И девочка тоже знает. Он, кроме ресторана, никуда не ходит, забросил свои дела. — Что ж, ему это нравится? — шутливо спросил Ватагин. — Что? — Быть контуженным… — Товарищ полковник, вы не приказывав ли изучать их психологию, — с некоторой обидой в голосе сказал Лукомский. — Я видел собственными глазами гипсовую шину, снятую с его ноги. Она лежала во дворе, грязная, землистая… — Пришелся вам по вкусу этот молчаливый регент? — Сказать откровенно, товарищ полковник? Пришелся по вкусу! Немцы всех его ребят из хора увезли на заводы в Германию. Жену соблазнили. Самого контузили. А он только закалился в горе. Назвал своего пса «Хендехох» и ненавидит немцев. — Очень странно, — подвел итог полковник. — По-моему, ничего странного, товарищ полковник: война. Я и сам чуть не подорвался. Паром у Дубравиц нас перевез благополучно, а на обратном пути взлетел на воздух — мина! Ничего странного. — Странно все-таки! — упрямо повторил Ватагин. — Странно! Потому что двое до вас — Анисимов и Долгих — рассказали мне о своих то же самое. Контузии у них какие-то… с немецким акцентом. История становилась все более занятной. Что мог Ватагин предложить командованию? Он вывез из Баната пятьсот семьдесят карточек — широкое основание конуса. Теперь его записная книжка заключала в себе пятнадцать фамилий, включая смотрителя перевала. Конус стремился к своей вершине. Отчетливо выделялась одна подробность: из этих пятнадцати четверо изменились за последний месяц по той или иной причине: стали нелюдимыми, косноязычными или заиками. Причина понятна: они контужены; действительно, война прокатилась по этим местам. Двое в эти же дни потеряли жен, как Христо Благов и Исаак Ченчи. Тоже может случиться. И все же, если вся эта темная история, занимавшая полковника Ватагина уже около двух месяцев, смахивала иногда на старинную пьесу с кинжалами и масками, то в этом месте она начинала казаться разыгранной даже немного по-любительски. К обеду появился Сослан Цаголов. — Ну к черту! Вот война сколько народу калечит! — говорил он, как всегда нетерпеливо дожидаясь вызова. — Этот мой, сильно контуженный, даже «пама-мама» не выговаривает. Не повезло ему! Над ним подтрунивали: не иначе, его подшефный перепугался появления такого энергичного капитана. Азартный горец ожесточился, ходил в отдалении от собравшихся во дворике офицеров: — Идите к черту, что вы меня разыгрываете! Это был один из самых осмотрительных разведчиков, — как ни странно при его характере. И он сердился, когда его предупреждали, чтобы он «не переходил границ», или подтрунивали, как сегодня. Ватагин не принимал его до вечера. В офицерской столовой Сослан один съел целый арбуз, вернулся в помещичий дом и читал газеты — солидно, в полном самоуважении. Чувствовалось, что он здорово обижен. Лучшему своему приятелю, капитану Анисимову, он сказал с горячим упреком: — В ауле у меня маленькие братишки, они друг дружку разыгрывают. Зачем мы будем! Д\ы не маленькие. Анисимов посмеялся: — Думаешь, мы тебя разыгрываем? Это факт, что уже пять подшефных оказались контуженными. — Слушай, я воронку видел! Соб-ствен-ны-ми глазами… — Видел? — Как тебя вижу! — Ну что ж, значит, первое — установим наличие воронки. — Я бы их всех перехватал — и делу крышка! — Дорогой, что ты понимаешь со своей энергией и невежеством? — по-дружески откровенно спросил Анисимов. Но именно тут Цаголов не обиделся, рассмеялся. Они закурили. А через полчаса в другом углу комнаты слышался жаркий голос Сослана, он доказывал Лукомскому: — Слушай, Ваня, я медицинский техникум кончил в Осетии. Я это дело понимаю лучше всех… Позже всех вернулся из маленького городка Медиаша лейтенант Буланов. Он докладывал полковнику в присутствии вызванного наконец Цаголова. Это была известная привычка Ватагина: поманежить несчастного Сослана, выпустить из него пар, чтобы потом разговаривать со спокойным человеком. Цаголов сидел и недоверчиво слушал доклад Буланова. Оказалось, что, по странной случайности, его медиашский настройщик роялей был шестой по счету из тех, кто недавно, в связи со скоротечными боями вблизи города, попал на мину. — Слушай, Буланов!.. Простите, товарищ полковник, разрешите обратиться, — поправился Цаголов и опять закричал в азарте изобличения: — Он же настройщик роялей! Зачем ему понадобилось уходить за город? Что вы меня разыгрываете! — Капитан Цаголов, — спокойно сказал Ватагин, — надо говорить не так шумно. Меньше страстности — больше ясности. Лучше молчать. Даже в разговорах с товарищами. Вы забудьте об этом. Забудьте вообще о вашей поездке. — Я бы их всех перехватал — и делу крышка! — угрюмо сказал Сослан. — У вас методы плохого начальника районной милиции, — добродушно возразил Ватагин. Цаголов взглянул на полковника из-под бровей — глаза его выражали тоску и боль непонимания. — Товарищ полковник, — взмолился он, — честное слово, отпустите меня на флот, не гожусь я для этого дела!.. Полковник не дал ему выговориться и вежливо выпроводил из комнаты на время разговора с Булановым.32
Капитану Цаголову так и не удалось в этот вечер рассказать полковнику о своем подшефном. Около девяти часов раздался телефонный звонок. Говорили от коменданта города, но, как ни странно, у телефона оказался Константин Шувалов, знакомый Ватагину латинист из Тырнова. — Мне необходимо вас видеть. — Откуда вы здесь? — Меня вызвали к брату. — К Станиславу Шувалову? Он вернулся? — Он умирает… Когда мы говорили с вами прошлый раз, я понял, что вас интересует Марина Ордынцева. У меня есть сведения о ней. — Немедленно высылаю за вами машину. — Я не могу оставить брата. — Сейчас же выезжаю к вам… Захватив с собой Буланова, все еще продолжавшего рассказывать про нелюдимого настройщика роялей, Ватагин сел за руль. В маленькой комнате, слабо освещенной настольной лампой под зеленым абажуром, заставленной венскими стульями и чем-то удивительно неожиданно напомнившей Ватагину чеховский дом в Ялте, его встретил осунувшийся и растерянный Константин Шувалов. — Понимаете, он сам захотел вас видеть. Расквитаться! Расквитаться перед смертью с этим титулованным уголовником Пальффи. Не то это навязчивый бред, не то единственная нить, которая его еще привязывает к жизни. Когда я сказал, что знаю представителя русской разведки, он сам настоял, чтобы я позвонил к вам. Слушая Шувалова, полковник смотрел в дальний угол комнаты, где под образами на узком кожаном диване, покрытом латаной простыней, лежал человек с блестящим от пота лицом и тонкими черными усиками. Мертвенные зеленые отсветы от абажура бродили по граням пластрона его измятой крахмальной рубашки. Константин Шувалов обернулся назад, следя за взглядом Ватагина. — Забылся, — прошептал Шувалов, — впервые за эти пять часов… Он доверчиво поглядел на Ватагина своими ясными голубыми глазами: — Мы были больше, чем чужими, — мы были врагами! А сейчас я не знаю, чего бы не сделал, только бы он остался жив… Не надо будить. Ничем не выдавая своего нетерпения, полковник тихо опустился на стул. — Расскажите, что с ним произошло, — попросил он Шувалова. Из сбивчивого рассказа латиниста можно было понять, что Пальффи направил Шувалова в Бухарест вслед за сбежавшей Мариной, чтобы прикончить ее прежде, чем она успеет каким-нибудь образом отомстить ему, — слишком много она знала про Пальффи Но он слишком высоко оценил напускной цинизм Станислава. Тот и не смог, и не захотел убивать Марину. Это был его первый дебют в «мокром деле». Латинист так и сказал — «дебют», по-видимому повторяя слова брата. Напротив, Станислав ее лечил. У этой хрупкой женщины оказалась железная сопротивляемость, — впрочем, это в медицине известно, что нервный подъем психически неуравновешенных лиц совершает чудеса. Не дождавшись Станислава на условленном месте встречи у дунайской переправы, Пальффи сам появился в Бухаресте и, поняв, что Шувалов совершенно не подготовлен к роли, которую он ему предназначал, решил убрать его со своей дороги. Только случай — то, что квартира, где остановился Шувалов, принадлежала спекулянту, обменивавшему валюту, и к нему как раз явились клиенты, — помог Станиславу избавиться от верной смерти. Но покалечить его успели. И, как сказал час назад доктор, на спасение мало надежд. — И это все, что он вам рассказал? — насколько возможно мягко спросил Ватагин. — Он сказал, что чувствовал себя девкой-чернавкой, которая пожалела белоснежку и оставила ее в лесу. Он и в детстве был с юмором, — тихо добавил Шувалов и заплакал, опустив голову на спинку стула. Искреннее человеческое горе никогда не оставляло холодным Ватагина. Он и сейчас представил себе всю глубину воспоминаний детства, прочность семейных уз, которые связывали этих так не похожих друг на друга братьев. И все-таки мысль о том, что он примчался, чтобы слушать эти сентиментальные сказочные аналогии, раздражала его. И как бы в ответ на это нетерпеливое движение мысли Ватагина, больной зашевелился. Он открыл глаза. Он долго смотрел на полковника и наконец вымолвил: — Это вы из России? — Я. — И вас интересует Ордынцева? — Да. — Едва ли вы ее найдете живой. — Почему? — Ее убьют. — Кто? — Пальффи и Крафт. — А потом? Они останутся в Бухаресте? — Не знаю, что намеревается делать Крафт, но Пальффи хотел ехать в Венгрию. Его еще можно задержать на дунайских переправах. — Но кто же такой Пальффи? Станислав Шувалов слабо улыбнулся. Глаза его глядели в низкий потолок комнаты. Так, делая паузы, чтобы перевести дыхание, кашляя кровью, он рассказал Ватагину во всех подробностях то, что сам узнал несколько дней назад в трущобах Бухареста из сбивчивого, похожего на бред, рассказа Марины Ордынцевой.33
… Жизнь Пальффи Джорджа никому, даже родной матери, не была известна во всех подробностях. Марина знала о нем больше других, потому что он был уверен в ее собачьей преданности, да и в том, что выведет ее в расход, как только найдет это нужным. Даже самому ожесточившемуся бродяге по временам бывает тягостно одиночество. Жажда доверия удерживала Пальффи около Марины гораздо дольше, чем ее женское очарование. Она казалась ему самым безопасным слушателем на свете. Старший сын одного из богатейших людей Венгрии, он уже в семнадцать лет был признан первым шалопаем Будапешта, сорил деньгами во всех международных кабаках, охотился за молодыми актрисами. Затем начались дела похуже. Спустя год он крупно поссорился с отцом. Для великосветских кругов тайна семейного конфликта осталась за семью печатями. Была сфабрикована элегантная версия, будто бы отец и сын Пальффи стали навсегда врагами из-за одной дерзкой выходки Джорджа: вопреки воле отца, подкупив конюших, ночью сын подвел к отцовской фаворитке, английской красавице — кобыле Миледи персидского жеребца Визиря. В «Конно-спортивном вестнике» было даже опубликовано письмо Джорджа, в котором он искал себе оправданий в великолепных статях жеребца: «…голова Визиря, широкая во лбу, до того суживалась к ноздрям, что он мог бы пить из кувшинчика с узким горлышком». Генерал-полковник Пальффи-Куинсбэри Артур командовал той кавалерийской школой в Бабольно, которую сам кончил когда-то, еще до первой мировой войны. Как истый венгерский аристократ, он мечтал о реставрации монархии Габсбургов и состоял в почтительной переписке с принцем Отто, сыном последнего императора Австро-Венгрии. Но все родовые и даже финансовые связи «Старого Q» роднили его с британскими островами. Он был тончайшим знатоком веджвудского фарфора: летом в своей горной резиденции за Мишкольцем принимал гостей из Англии. Старшего сына Пальффи в семье с детских лет называли не венгерским именем Дьёрдь, а вполне англизированно — Джордж. Но подлинной страстью Пальффи-Куинсбэри, в чем действительно выражалась его англомания, был чистокровный английский скакун. Венгерскую верховую лошадь он предпочитал в военном строю, на полигонах. В своих конюшнях он выводил только английских коней. В качестве курьеза он составил свою знаменитую выставочную коллекцию: там можно было увидеть и стройного каретного «клевеланда», и крупного «суффолька», и огромного возовика «Линкольншира», и резвого «норфолька», и гибкого, но вместе с тем могучего «гунтера», и, наконец, стального по крепости и упругости мускулов коронованного скакуна-дербиста Буен-Вестра. Не было более красивого предлога для той торжественно обставленной церемонии, которой хладнокровный и властный старик отстранил беспутного сына от прав на наследие и все несметные родовые богатства — леса и пашни, замки и яхты — перевел на линию младшего Пальффи Джордж ответил на это скандальным бегством из отцовского замка за океан. Он родился в Бостоне, американская конституция давала ему право «натурализоваться», а некоторые связи помогли поступить в военно-морское училище. От сестры из Венгрии на текущий счет поступала скупая, очень скупая стипендия. Юноша, привыкший к безрассудному расточительству, вынужден был в воскресные вечера работать тренером своих товарищей, готовя их к барьерным скачкам. Как ненавидел он отца! Какое отвращение выработал в себе ко всему английскому! Он посылал матери свои фотографии, где был снят в американской куртке, как какой-нибудь «ами» — «свой парень», с сестрой он был незамысловат в переписке и однажды довел «Старого Q» до сердечного приступа, прислав ей рождественское письмо, в котором на грубоватом слэнге описывал Кони-Айленд — «Американские горы» и «Чертову карусель». Училище Джордж кончил хорошо: девяносто восьмым по списку из выпуска в семьсот четырнадцать человек. После трех лет плава, ния мичманом на линкоре «Алабама» он был зачислен на курсы персидского языка при посольстве США в Тегеране. Только ли одна сумасбродная ненависть к отцу управляла странной судьбой этого человека? И почему в самом деле в двадцать три года засел он в знойном и пыльном Тегеране за персидские глаголы и спряжения? Этому предшествовали грозные иски на крупные суммы от кредиторов и затем оставшийся от всего мира в тайне разговор Джорджа с неким жизнерадостным американцем Они ужинали вдвоем в офицерской каюте линкора «Алабама», стоявшего на якорях в Абаданской бухте у южных берегов Ирана. — Мы не потребуем от вас фактов или цифр. У вас будет особая миссия. Мы покупаем не ваши уши или глаза, мы покупаем ваше графское достоинство. Не за горами розыгрыш главного приза: мировой коммунизм будет раздавлен. С вашей помощью, граф, или без вас… Так Пальффи Джордж был куплен американской разведкой за небольшую сумму Дело было не только в сумме. Венгерская революция 1919 года, когда отец вынужден был бежать в Англию, оставила след в памяти десятилетнего Джорджа! Сын русского князя, никогда не знавший родины, обучил его нескольким русским словам во время конных прогулок в мичманском обществе. Позже, в Иране, он видел промотавшихся на азиатских дорогах китайских помещиков — таких же беглецов революции. С тех пор как Джордж начал помнить себя, он привык считать владения Пальффи своей собственностью. Вернуть и сохранить их каким угодно путем — вот была цель! В Тегеране Джордж, по совету того же жизнерадостного американца, изучал юриспруденцию и познакомился со своей будущей женой Эдит, дочерью американского адвоката и иранской принцессы. Позже он принял практику тестя в нефтяном районе, завел свой дом под пальмами в Абадане и даже перевел на английский язык иранский торговый кодекс. Крах жизни наступил в ту ночь, когда сумасшедшая иранская националистка Эдит узнала все о некоторых побочных обязанностях своего мужа и сказала ему по-персидски: — Ты грязная тварь! Убирайся вон из Ирана! Его могли убить в ту же ночь. Во второй раз в жизни покинув семью. Пальффи Джордж бежал. Ему не следовало возвращаться в США. Шла вторая мировая война. Отец командовал корпусом и воевал где-то в русских снегах под Коротояком. Большой черный лимузин с оранжевым бархатным попугаем, раскачивающимся за смотровым стеклом, проплыл беспрепятственно по странам Ближнего Востока и по балканским провинциям великой гитлеровской империи. У Джорджа теперь были деньги, позаимствованные у жены; кое-что значило и графское достоинство, имя отца. Невидимая рука приподнимала пограничные шлагбаумы. В Бухаресте, в отеле «Амбассадер», бывший американский мичман был обласкан полным доверием начальника германской секретной службы в Румынии. Невидимая рука скрепляла рукопожатие Пальффи Джорджа и капитана войск «СС» Отто Большуринга. — Я веду частную войну с коммунизмом, — сказал Джордж Большурингу. В наводненном немцами Бухаресте вряд ли было бы достаточно такого заверения для американского мичмана. Но оказалось, что немцы знали все: и англофобию венгерского аристократа, и, что важнее, некоторые его побочные обязанности, навязанные жизнерадостным американцем. Тайная полиция Гитлера приняла на свое обеспечение еще одного международного авантюриста. Трудно перечислить все те удивительные знакомства, которые удалось в последующие два года завязать Джорджу в оккупированной немцами Европе. Он виделся с завоевателем Крита генерал-лейтенантом Куртом Штудентом. В Австрийских Альпах, в деревне Марцаботто, майор «СС» Вальтер Редер за бутылку коньяка показал ему, как можно в течение часа уничтожить из огнеметов тысячу восемьсот итальянских заложников — женщин и детей. В Ревельсбурге ему удалось видеть, как германских коммунистов бросали в ледяную воду, где они умирали от разрыва сердца. В своей подземной канцелярии Гиммлер познакомил его с доктором антропологии — немцем из банатской провинции Гансом Крафтом. Этот провинциальный ученый держался крайне развязно в присутствии самого страшного человека в империи Он, видимо, не понимал до конца, что таится за безобидным обликом школьного учителя с пенсне на носу, за этой зеленой эсэсовской формой без каких-либо знаков различия, за этими небольшими изящными руками с маникюром на ногтях. Ганс Крафт был автором имевшей успех у Гитлера секретной идеи, которая уже получила девиз — «Пять подков с одного коня». Венгерскому аристократу было предложено заняться ветеринарией. Гиммлер, наверно, почувствовал юмор этой ситуации, судя по тому, что долго протирал свое пенсне и спрашивал о здоровье отца Пальффи. (Отец в эти дни отступал с остатками своего корпуса от Коротояка — там был ужас: роты смешались, офицерский состав был полностью перебит, и наглые штабные наци пытались командовать венграми через переводчиков. У Джорджа были все основания надеяться, что «Старый Q» найдет свое место в братских могилах на русской земле).34
Далеко за полночь продолжалась беседа Ватагина со Станиславом Шуваловым — мучительный разговор с умирающим, прерываемый то забытьём больного, то сменой грелок, то шепотом брата, настаивавшего на отдыхе. Когда полковник вышел на улицу, у него было впечатление, будто несколько часов он видел кружение бенгальских огней, сгоравших, не оставляя пепла. Весь этот фейерверк подробностей судьбы титулованного авантюриста поможет когда-нибудь прекрасно построить допрос. Но будет ли пойман Пальффи? В сущности, самое важное Шувалов сказал в первую минуту: Пальффи надо ждать на дунайских переправах. То, что Ордынцева не знала или не захотела даже в последнюю минуту рассказать Шувалову о конечной цели операции «Пять подков с одного коня», лишь подтверждало убежденность Ватагина в том, что следует отказаться от наивного представления о скромных масштабах этого предприятия. Если уж в незначительную диверсию, бьющую по конскому поголовью армейских тылов, втянуты лица, связанные с Гитлером и Гиммлером, то, значит, действительно идем по заячьему следу, а можем набрести на медвежий. Ватагин был доволен, что еще до встречи с Шуваловым решил собрать регулировщиц. Для поимки Крафта и Пальффи девчата, стоящие на перепутьях всех фронтовых дорог, могли оказаться очень полезны. Всю ночь на грузовиках подъезжали к штабу фронта снятые прямо с регулировочных пунктов девушки. Была среди них и Даша Лучинина. Узнав от Миши Бабина о грустных делах Славки, она помрачнела и до самого инструктажа бродила одна по улицам незнакомого ей городка. Сама не ожидала от себя такого. Полковник принял девчат в 10.30. Он кратко рассказал им о том, как важно сейчас помогать ветеринарам в выявлении больных лошадей, следить за тем, чтобы обозы не скоплялись па переправах Потом он без всякого перехода показал регулировщицам три фотографии — Пальффи, Крафта и Ордынцевой Он откровенно объяснил, что враг осуществляет в тылу наших войск коварную операцию. — он только просчитался в сроках нашего наступления и теперь то здесь, то там оставляет следы. Противник неряшливо работает — и каждый из нас может легко наткнуться на него. Нужно быть бдительными. — Как бы в темноте не оплошать! — поделилась своими сомнениями одна из девчат. — Проедет мимо, разве ж его признаешь! А Даша Лучинина тихо, но внятно, от всей изболевшейся души сказала то, что надолго запомнилось потом Ватагину. — Кабы на этих зверях, — сказала Даша, — шерсть отросла или щетина… После инструктажа Ватагин побывал в Военном совете. И вскоре четыре контрольно-пеленгационные радиостанции, расставленные по широкому фронту в триста километров, включились в круглосуточное наблюдение за эфиром. Вернувшись к себе, Ватагин вызвал Бабина и лично приказал ему прекратить дежурство. — Отдыхать надо! — сказал он и тут же распорядился снабдить радиста билетом на концерт. — Девчат много понаехало, — улыбаясь, сказал он. — Пригласите, поухаживайте. Вот Дашу Лучинину позовите. — Младший лейтенант Шустов сегодня к вечеру отбыл положенный срок ареста, — сухо ответил Бабин, как всегда не понимавший, где полковник шутит, где говорит всерьез. — А, верно… — оживился Ватагин. — Скажите, пусть зайдет ко мне. Славка явился к полковнику и отрапортовал, по своей привычке вытянувшись в струнку. Он думал, что Ватагин покажет ему на кучу бумаг, усадит за работу. Он бы и этому нынче обрадовался. Но полковник приказал разыскать регулировщицу Лучинину, устроить ей ночлег и… «Можете быть свободным!» — Есть быть свободным! — бодро и вызывающе откликнулся Шустов. Выбежав в парк, он стал разыскивать Дашу. Лейтенанты, автоматчики, шоферы сидели кто прямо на траве, кто на бугорках, оставшихся после нарытых немцами щелей. Регулировщицы, довольные неожиданным отдыхом, стайками прогуливались по аллеям, перебрасывались шутками с разведчиками. Славка проходил мимо девушек и каким-то шестым чувством понимал, что Даши среди них нет.35
В этот же парк под вечер явился минер из саперного батальона. Никто не знал, почему он вызван Ватагиным. Но он явился и сразу стал всем близок и нужен, как бывает с иными счастливцами во фронтовой жизни. И сразу все стали называть его Демьяном Лукичом. Это был морщинистый, уже с проседью, сержант лет под пятьдесят. Прежде всего он хозяйственно осведомился: где ему сложить свой инструмент? Любителей подсобить нашлось много, но он никому не доверил ни миноискателя, ни щупа, а сам все укрепил в задке одной из машин, расставленных под деревьями. Затем он полюбопытствовал насчет помещичьих теплиц, заглянул в домовую церковь, фасадом выходившую в парк. А через некоторое время притащил откуда-то глубокое кожаное кресло. Он уселся в нем прямо посреди аллеи. Было видно, что пожилой минер рассчитывает на ночлег: он привык приходить «в гости» к пехоте, когда она готовится к броску и надо расчистить ей дорогу. Предстоящим делом он совсем не интересовался. — Инструмент мой любимый — шшуп, — рассказывал Демьян Лукич всем, кому не лень было слушать. — Миноискатель — второе дело, а почему? Потому, что он деревянную мину не чувствует, а шшуп — тот сразу. Сперва обшшупаешь впереди себя, мины нет — ползи. Что бы он, вражья душа, ни применил, для меня безразлично. Какие бы фокусы он ни выставил, только осторожность нужна. Ты того себе в гордость не ставь, что знаешь. Шшупом тихонечко обшшупай, нет ли сурпризов — и ползи… Даша Лучинина стояла неподалеку и слушала россказни пожилого дядьки. Каких только не повидала она на фронтовых дорогах и теперь безошибочно угадывала, кто настоящий. Этот был настоящий. — Сержант, а ты знаешь, зачем тебя вызвали? — вдруг спросил один разведчик. — Курить охота… — словно недослышав, сказал минер. Взгляд его скучно заскользил поверх голов. «Вот молодец, отмолчался! — подумала Даша. — Разве такие вопросы задают в разведке?» Вдруг она резко обернулась. Кто-то сзади смотрел на нее в упор. — Отпустили? — радостно прошептала она. Позади стоял Славка. Он казался строгим, не похожим на себя. — Кто этот дядя? — спросил он. — Минер какой-то, вызванный… Пойдем? Они быстро пошли по аллее. Славка искоса поглядывал на Дашу и очень страдал. Он не знал, продолжать ли ему быть вызывающе бодрым, каким он был только что у Ватагина, замкнуться на все застежки или довериться хотя бы одному человеку. Вот этой девчонке в застиранной гимнастерке с медалью на груди. Внимание тем дороже, чем труднее минута. В темной аллее Даша взяла Славку под руку, и они быстро и молча прошагали до задней калитки с башенкой в конце парка. Когда возвращались так же быстро, Даша заглянула в его глаза. — Где ночевать буду? — доверчиво спросила она. — Можно в моей машине. — Глаза его потеплели от нежности. — Я уж не знаю… моя ли. Может, отчислят в резерв. Возле радиостанции они наткнулись на Мишу Бабина. Он лежал, неудобно вытянувшись, на жесткой садовой скамейке. Встретил не очень-то приветливо: даже не шевельнулся. Полковник приказал отдохнуть и пойти на концерт. Бабин заставлял себя поспать хоть часок, но не мог и просто лежал окоченело на скамейке.36
В этот вечер Слава и Даша долго шептались в помещичьем парке, на поваленном дереве, невдалеке от дремлющего радиста. Они вспоминали первые дни своего знакомства. — А помнишь, как было на Украине, в распутицу? Нам, девчатам, из хаты лень за водой сходить — умыться. А ты подкатишь, бывало, под окна, шумнешь сигналом… — Да, а ты выходила на крыльцо и таким сказочным, нежным голосом: «Езжайте-ка, товарищ младший лейтенант, за водой». — А помнишь… Что-то творилось с Дашей такое, что она не узнавала себя. Ее прежняя насмешливость в отношениях с Шустовым сменилась робостью. Она не знала за собой этого чувства, когда под бомбежкой рассаживала раненых по мимо идущим машинам, а в этот вечер робела. С чего бы это? Конечно, Слава — офицер, москвич, и сам собой красивый, и сапоги носит шевровые. Даже во тьме парка она не забывала при нем о своих широких, «мушкетерских», как он сказал, сапожках. И ей казалось, что в пилотке ее нельзя отличить от мужчин, и, когда она тихонько запела, ей казалось, что личико у нее такое равнодушное, пустопорожнее, да и нос облупленный. Но дело не в этом, а в том, что ей впервые по-бабьи было жаль его — какой он неудачливый… В этот вечер она впервые почувствовала, что Слава у нее один на свете. Так она никогда о нем не думала. И она была рада, что Славка наконец повеселел и разговорился. Она смотрела снизу в Славкины глаза и только поддакивала: — Точно. Точно… Скажи он ей сейчас: «Распишемся, Даша», — не задумываясь, согласится! А что? Точно! А Славка в этот вечер тоже — и еще сильнее, чем прежде, — испытывал мальчишескую робость перед ней. Верно сказал однажды Миша: «Тебя еще не за что любить…» Сможет ли она по-настоящему хотя бы уважать его, когда она хлебнула столько горя, а он… Он не стал рассказывать ей, за что попал под арест. Он только пожаловался: по-прежнему коптит небо в канцелярии, а в настоящее дело не пускают. — А ты не просись, — успокоительно говорила Даша. — Зачем ты просишься? Мне тоже стоять с флажками на перекрестке неинтересно. А не прошусь… Так хорошо было им сидеть вдвоем, болтать, думать, слушать песню, которую кто-то запел в темноте. И они притихли, сидели слушали. А это пел пожилой сержант, присланный из саперного батальона. Вот ведь какой — на все руки мастер Бабин, не шевелясь, тоже слушал песню. Она была старинная, пел надтреснутый голос. И радисту сквозь дремоту она нравилась. — А где вы в Сербии жили? — расспрашивал Славка Дашу и, не дожидаясь ответа, снова спрашивал, все хотелразузнать за два месяца разлуки: — А в Свилайнаце ты была? А в Багрдане?
Сквозь сон, но все же педантично Бабин поправил Славку:
— Не так ты говоришь, Шустов. Немецкий тебе не дается. Не Свилайнац, a «Will einen Arzt», что означает «Хочу врача». И не Багрдан, a «Baggern-dank», что скорее всего может означать «Спасибо за землечерпательные работы». Так что не ври…
Славка с интересом вслушался в нудное бормотанье друга.
— Во сне буровит, — смеясь, сказал он Даше и пояснил: — Устал старик. Измотался. Ему бы в госпиталь — отоспаться…
— Или под домашний арест, — робко пошутила Даша и прильнула виском к Славкиному плечу.
Тихо смеялись в темноте.
В октябре в ночном тумане всегда есть радость ожидания, что вот он рассеется. Славка сидел возле задремавшей Даши и все видел: как лунный свет пробился сквозь туман, и заблестели стекла помещичьих теплиц, и посреди аллеи в кресле пошевелился старый сержант. А над машиной засверкало деревце с черными сучьями — все, как в росе, слюдяное.
Счастлив был Славка в этот вечер, несмотря на все свои беды. Пока Даша спала, выражение ее лица было скучное. Височки в каштановых волосках. Бледная рука с синим цветочком жилок в том месте, где пульс слушают. А проснулась Даша, открыла серые глаза с длинными ресницами, не моргающими, а только вздрагивающими — и лицо ее удивительно покрасивело.
— Проснулась?
— А ты? Не спишь? Двумя шинелями одел, а сам…
— Взаимная выручка, — ласково объяснил Славка. — Хорошо спала?
— А где вы в Сербии жили? — расспрашивал Славка Дашу и, не дожидаясь ответа, снова спрашивал, все хотелразузнать за два месяца разлуки: — А в Свилайнаце ты была? А в Багрдане?
Сквозь сон, но все же педантично Бабин поправил Славку:
— Не так ты говоришь, Шустов. Немецкий тебе не дается. Не Свилайнац, a «Will einen Arzt», что означает «Хочу врача». И не Багрдан, a «Baggern-dank», что скорее всего может означать «Спасибо за землечерпательные работы». Так что не ври…
Славка с интересом вслушался в нудное бормотанье друга.
— Во сне буровит, — смеясь, сказал он Даше и пояснил: — Устал старик. Измотался. Ему бы в госпиталь — отоспаться…
— Или под домашний арест, — робко пошутила Даша и прильнула виском к Славкиному плечу.
Тихо смеялись в темноте.
В октябре в ночном тумане всегда есть радость ожидания, что вот он рассеется. Славка сидел возле задремавшей Даши и все видел: как лунный свет пробился сквозь туман, и заблестели стекла помещичьих теплиц, и посреди аллеи в кресле пошевелился старый сержант. А над машиной засверкало деревце с черными сучьями — все, как в росе, слюдяное.
Счастлив был Славка в этот вечер, несмотря на все свои беды. Пока Даша спала, выражение ее лица было скучное. Височки в каштановых волосках. Бледная рука с синим цветочком жилок в том месте, где пульс слушают. А проснулась Даша, открыла серые глаза с длинными ресницами, не моргающими, а только вздрагивающими — и лицо ее удивительно покрасивело.
— Проснулась?
— А ты? Не спишь? Двумя шинелями одел, а сам…
— Взаимная выручка, — ласково объяснил Славка. — Хорошо спала?
37
Миша Бабин не понимал, зачем на войне нужны концерты. Осторожно сняв трофейной самобрейкой белый пух со щек, он добросовестно отправился выполнять приказание полковника. Сказать по правде, ему это было не по душе, и он утешал себя только тем. что поспит на концерте. Этого не случилось. Войдя в зал, Миша сразу увидел в рядах Славку и свободное место рядом с ним. Он сел молча, стал оглядываться по сторонам. Занавес венгерского провинциального театра с намалеванными на нем девятью музами был щедро залеплен пестрыми афишами. Видно, хозяин предприятия, не довольствуясь сборами, торговал и занавесом, сдавая его под любую рекламу. Программу открыл австрийский скрипач. Он сказочно возник на сиене — средневековый, сухонький, в черном фраке и точно в серебряном парике, — симпатично улыбнулся, поклонился генералам в первом ряду и в наступившей тишине старательно произнес: — Петр Ильитчш Тчшайковски… Смех пробежал по залу, но аплодисменты заглушили смех. Что касается Миши, то ничто не могло его примирить с судьбой лучше, чем добрая порция Чайковского, — унылость как рукой смахнуло, и он сидел, вперившись воспаленными глазами в скрипача. Его сменил огромный, важно поднимавший густые брови бронебойщик Топоров. Он спел дремучим басом «Ой, кум до кумы залицався…» Медсанбатовская сестра прочитала одну из «Итальянских сказок» Горького. Потом вышел дядя из тяжелой артиллерии. Он и сам был по виду РГК — резерв главного командования: жонглировал двухпудовыми гирями, пока не уронил одну из них чуть не на ноги маршалу. В антракте Бабин уныло слонялся в одиночестве. Славка отыскал Дашу, которую вместе с другими регулировщицами усадили в первом ряду, около начальства, но после звонка вернулся на свое место. Второе отделение концерта открыл знаменитый венгерский фокусник. Всезнающий Славка, усаживаясь рядом с Бабиным, довел до его сведения, что это гвоздь программы; до войны этот артист выступал для иностранной публики в ночном кабаре на острове Маргит в Будапеште. Он привез свое искусство из Мексики, а его собака — из Мадрида. Зал затих, как только на сцене появился лощеный и напомаженный брюнет в смокинге, сверкающем черным шелком отворотов. Он поклонился залу, но свой номер показывал не публике, а мадридской собачке, которая уютно разлеглась в кресле и начинала лаять и улыбаться после каждого удавшегося фокуса. Такая артистическая приправа и создавала впечатление высокого искусства. Впрочем, и в технике шулерства артист достиг совершенства. Он объяснил через переводчика, что различает масть не глядя, на ошупь, чувствительной кожей на кончиках пальцев. В подтверждение этого он обмотал глаза толстым полотенцем, разбросал под лай консультанта колоду карт и бегло называл любую, до которой дотрагивался. — Нем тудeм! Не понимаю! — смешно говорил он всем понятную мадьярскую фразу. Но под смех и одобрение публики тотчас осенялся улыбкой и вытаскивал решение из колоды. Миша глядел, подавшись вперед. Славка тоже очень оживился — весь внимание! — следил за тем. как ловко перескакивают карты из одной кучки в другую — то пиковый валет, то дама треф, то червонная десятка, — в то время как собачка легла между двумя кучками карт и сторожила, скалилась всякий раз, когда фокусник пытался демонстративно подойти от одной кучки к другой. Военная публика была в восторге. Очень уж любят у нас серьезную работу. Вот это товар лицом! Вдруг послышался быстро нарастающий шум авиамоторов. «Юнкерсы!» — понял Славка раньше, чем раздался воющий звук и три бомбы легли вблизи театра. Никто в зале не пошевелился. Публика — закаленная. Но фокусник растерялся. Собачка, сунув хвост между ног, подалась под кресло. А из непостижимо белых манжет международного артиста поползли одна за другой карты. Славка впился взглядом в фокусника. Всего лишь секунда растерянности. — Разрешите продолжать? — спросил начальник ДКА, выглянув из-за занавеса, и махнул рукой артисту. Видя спокойствие публики, фокусник пришел в себя и под хохот солдат и офицеров стал вытаскивать своего четвероногого консультанта из-под кресла. Славка ударил себя по ляжкам. Миша удивленно оглянулся на него. Славка улыбался и хлопал себя по ляжкам, как человек, решивший мучительно трудную задачу. Потом он встал и, потянув Мишу за рукав, пошел по ряду к выходу. Что с ним случилось? Упираться было неловко, получится похоже на скандал. Миша решил беспрекословно последовать за Славкой. В неосвещенном проходе на улицу шоферы возились у машин. Внезапный прилет «Юнкерсов» и беспорядочная бомбежка города вызвали здесь больше тревоги, чем в зале. Многие шоферы на всякий случай включили моторы. — К Ватагину! — крикнул Славка знакомому шоферу, втолкнул Мишу впереди себя и сам ввалился торопливо в машину. — Так вот она в чем штука! Вторая колода поползла из манжет! Теперь-то понятно, что значил и тот горбатый монах — пиковый валет из манжетки! — Ты так думаешь? — озадаченно приговаривал Бабин, ничего не понимая в происходящем. — Только валет с сальным пятном на рубашке!.. Понимаешь? Горб! Горб — вот оно что тогда у них не совпало! Горб, черт! Горб… Они мчались по темным улицам венгерского городка мимо мраморной статуи Франциска Ассизского, кормившего мраморных голубков, мимо полуразобранных противотанковых завалов. Какой-то автоматчик взмахнул фонарем и остался позади. Миша терпеливо мотался на заднем сиденье. Он знал, что Славка понял что-то решающее и важное, а что — он не догадывался. А Шустов разговаривал сам с собой — впервые такое слышал Миша.38
К Ватагину нельзя было пройти: у него находился генерал Машистов. Славка остался дожидаться в приемной, а Миша вышел в парк. Он постоял в темноте, носком сапога потрогал гравий парковой аллеи. Надо было размыслить. Вдруг он припомнил… Выплыло из тайников памяти то, что смутно беспокоило, тревожило со вчерашнего вечера. Это было, когда Славка с Дашей шептались в парке, а он, Бабин, лежал рядом на скамейке. Он дремал и что-то услышал. Да, что же он услышал? Он сказал: «Немецкий тебе не дается. Не свилайнац, a «Will einen Arzt». Это фраза из одной перехваченной радиограммы… Позволь, позволь, друг, но ведь Славка и не думал говорить по-немецки, он просто Дашу расспрашивал, где она побывала за два месяца. Они называли сербские города Свилайнац, Багрдан, Жагубица. «А я — что я имел в виду?» Бабин даже вспотел. «Текст немецких передач?…» Он побежал было к двери — стучать, ломиться к полковнику! Потом заставил себя успокоиться, съежился, как от озноба, вытер платком пот со лба. Нервная усмешка бродила по его лицу. «Давай по Порядку. Город Свилайнац, например. Да, Свилайнац, — тщательно выговорил Миша. — А что я когда-то принял? «Wale einen Arzt», что значит «Найди врача». Тогда еще заспорили: «Wale einen Arzt» или «Will einen Arzt», то есть «Хочу врача»… А оказывается, это не имеет значения! Надо попросту вслушиваться в немецкие фразы, не обращая внимания на их смысл, и искать близкие по звучанию названия балканских городов. Нервно шагая взад и вперед по темной аллее, Миша по памяти называл города из альбома: Багрдан, Жагубица, Сексард… И, как эхо, послушно откликались звукосочетания немецких радиопередач с их загадочным смыслом: «Baggern-dank», «Haubitze», «Sechs Art» — «Спасибо за землечерпательные работы», «Гаубица», «Шестой артиллерийский». И каждый шип находил теперь свой паз: легкое пристукивание кулаком — и все садится на место, прямо-таки столярная работенка. — Ясное дело! Вот оно что! Значит, теперь можно будет угадать город из первого же перехвата… И в новом приступе одержимости Миша Бабин побежал по аллее и, ворвавшись в приемную Ватагина, чуть не сшиб с ног генерала Машистова, выходившего из кабинета полковника.39
С этой ночи начался тот новый темп событий, который всегда предвещает близость развязки. Миша Бабин прямо от полковника побежал во тьму помещичьего парка на свою радиостанцию, скрывавшуюся в гуще деревьев. Теперь он готов был слушать до утра — не снимет наушников, лишь бы поймать! В эту ночь Миша, может быть, впервые в жизни испытал то радостное чувство содружества, какое обычно вызывает удача, когда она дается тебе не одному, а вместе с товарищами. Он перебирал в памяти недавний разговор в кабинете Ватагина. Славка сказал, что карты, которые поползли из рукава фокусника, вдруг прояснили ему всё. Крафт и Пальффи работают в две колоды. Они не ищут резидентов в маленьких городах, а, наоборот, устраняют мирных балканских жителей и заменяют их двойниками из другой колоды — своими людьми. Миша посчитал это неубедительным, но оказалось, что сам Ватагин пришел к тем же выводам еще раньше: после возвращения из поездок Цаголова и других. Шесть человек из пятнадцати обследованных были контужены. В разных городах, даже в разных странах, шесть разных людей из картотеки Краф-та совершенно одинаково подорвались на минах без малейших увечий и стали вести совершенно одинаковый, уединенный, замкнутый образ жизни. Арестовать, допросить этих контуженых — вот первая мысль, которая пришла одновременно и Славке и Мише. Но полковник дал понять, что это типично котелковский ход мысли. Как можно хватать и допрашивать людей без улик, на основании одного логического построения, да еще в чужой стране… Только в эту минуту Миша, увлеченный догадками Ватагина и Шустова, решился вставить слово, рассказать, как он понимает шифр радиопередач. Ватагина просто нельзя было узнать! Куда девалась его обычная ирония, непонятные шутки. Он обрадовался совсем простодушно, как Славка. Так и сказал: — Мы с тобой биты, Шустов! Вот у кого терпение ученого и воображение ребенка. Терпение — может быть, но воображение?… Никогда Миша не числил за собой этого достоинства, да и не был уверен в том, что это — достоинство. И все-таки было радостно и оттого, что оценили высшим баллом, и оттого, что тоже сумел найти ключ для разгадки тайны. Теперь — только ловить. По первой же расшифрованной немецкой передаче будет ясно, в какой город мчаться, чтобы поспеть к самому моменту подмены.40
Выйдя от полковника, Славка Шустов тоже со всех ног кинулся выполнять его приказ: готовиться к оперативному выезду. Среди этих хлопот он ухитрился выкроить полчаса, чтобы проводить Дашу до регулировочного поста, посадить ее в кузов бежавшего мимо грузовика. Грустно было прощаться на фронтовой дороге, но он не хотел ее упрашивать остаться до утра — и хорошо сделал. «Когда же наша свадьба?» — тихо спросил он Дашу. Она вспыхнула: «Будет тебе еще свадьба!..» Она не верила, что ее могут убить, а за Славку всегда боялась, и оттого, что расставались, неизвестно, когда свидятся, снова была она грубовата и насмешлива, пока они стояли на дороге, плечом к плечу, две слившиеся фигурки во тьме венгерской ночи… Теперь все это было забыто. Электрический фонарик Славки мелькал в аллеях парка — по записке Ватагина в третьем часу ночи выдали ему пять новеньких камер, без единой латки; без промедления получил он несколько дисков для своего автомата. Славка залил бензин в канистры, сунул под сиденье диски с патронами… Похоже было, что операция подходит к концу. Одна только страшная мысль терзала Славку: что, если полковник не думает взять его с собой? В три часа ночи Ватагин позвонил генералу. Машистов покашливал в трубку — верный признак, что его разбудили. Он выслушал об удивительном открытии рядового Бабина, о венгерском фокуснике, нечаянно сработавшем на нашу разведку, потом сказал: — Не пропустить бы немецкую передачу… Выходит, что теперь Ганс Крафт сам выпишет тебе маршрут на путевом листе? Что, Бабин заступил свою смену? Они еще немного поговорили о фронтовых радистах, в частности о рядовом Бабине, и помолчали на двух концах провода, обдумывая план действий, и была такая тихая минута, когда Ватагин в трубку даже услыхал зевок овчарки Найды, которую генерал иногда оставлял у себя на ночь. А через четверть часа полковник Ватагин растревожил душу Миши Бабина, позвонив ему и обратившись к нему со словами: — Товарищ старшина Бабин… До слез покрасневший радист только и выдавил из себя: — Вот вы всегда так шутите, товарищ полковник, — и неожиданно для себя страшно обрадовался. И Ватагин, услышав знакомое ему выражение, принадлежавшее Славке Шустову, подумал, что крайности сходятся, и еще больше укрепился в своей мысли, что флегматик Бабин сделал открытие именно силой воображения — ничем не хуже Славки. Немцы не подавали голоса. Ночь продолжалась. Ватагин сидел за столом, и на листе бумаги его рука невольно чертила красным карандашом конус и цифры внутри него от широкого основания к вершине: 570-15-6… Пятьсот семьдесят вариантов двойников в картотеке Крафта, пятнадцать обследованных жителей балканских городов, шесть контуженых. Он помедлил и на самой вершине конуса красиво нарисовал цифру 1… Это тот неизвестный, которого накроют его ребята — по бабинскому сигналу. В эти дни все стремилось к этой точке, и Миша Бабин или слухачи-операторы любой из четырех других слежечных радиостанций могли до утра назвать эту точку. По телефону Ватагин проверил — накормили ли минера, где он ночует, не пришлось бы искать его впотьмах.41
Капитан Цаголов тоже сидел с автоматчиками в своей машине. Славка Шустов электрическим фонариком нащупал Сослана в зеленом массиве парка, в кустах боярышника. Капитан зажмурился от сильного света. — Ну, что ты балуешься! Сейчас нам старшина Бабин явку даст, — успокоил он истомившегося юношу. — Поедем на рандеву. Славка изнемогал от нетерпения. Ему все казалось, что именно теперь, когда все прояснилось. Бабин не поймает передачу. Это составляло ужасное страдание этой ночи, и он спросил, малодушно ожидая нового ободрения: — А вдруг ничего не найдем? Вдруг и картотека ничего не значит? — Менделеев верил в свою периодическую систему, — с укором возразил Цаголов. — Пойдем, я тебя угощу… Неужели ты в самом деле хочешь из разведки во флот? — Чем угощать будешь? Опять сыром? В багажнике у Шустова был сыр, который он резал финским ножом вместе с картонной упаковкой, были консервы, галеты. И от нетерпения он ходил в ночной тьме по экипажам и всех угощал; или подводил какого-нибудь автоматчика к открытому багажнику своей машины и тащил оттуда даже последнее, только бы успокоить себя на людях. Иногда ему казалось, что полковник изменит свое решение и не назначит его в операцию, оставит дежурить у телефона. Не зная, чем еще делиться с людьми, чтобы заодно поделить с ними и свою тоску, он ухмылялся, пересмеивался с шутниками; зайдя в фургон радиостанции, был беспощаден в издевке над старшиной Бабиным. А на рассвете, чтобы его не видели таким, он забрался в свою машину, лег на переднее сиденье, положил голову на свернутую валиком шинель и, надвинув фуражку на глаза, уснул. Проснулся оттого, что кто-то засигналил в его машине. — Полковник зовет! — крикнул ему Сослан. Он опрометью вбежал в помещичий дом и только у двери кабинета приосанился, вошел по-уставному четко, увидел Ватагина и Котелкова над картой (полковник сидел, сунув обе руки в седые волосы) и именно для него, для Ивана Кирилловича, бодро и вызывающе весело отрапортовал: — Младший лейтенант Шустов по вашему приказанию явился! Ватагин не поднял головы: — Есть важное задание. Вам, Шустов. Он взглянул на младшего лейтенанта и улыбнулся дружески: — Ну как, тол не кончился, не смылил?… Что небритый?… Вот немцы выдали нам маршрут: только что Бабин перехватил их шифрованную радиограмму: «Saget Holz» — «Пилите дрова». Ну, теперь-то мы знаем: «Holz» — дрова, чтобы запутать; «Saget» — это и значит город Сегед. В город Сегед надо ехать на правый фланг, на Тиссу. Наши войска уже подошли, бой идет у переправы… Ты проворный, Шустов? Полковник оглядывал стоявшего перед ним навытяжку юношу и прекрасно понимал, что творится у того в душе. И ему хотелось продлить эту минуту душевной мобилизации забавного, но отважного паренька. Он задал ему свой обычный, еще с Дона запасенный вопрос: — Ты видел, как ленивый казак с морозу в курень проскакивает, чтобы не выстудить? — Есть, товарищ полковник! — только и смог выговорить Славка. — Товарищ младший лейтенант, пойдете на мотоцикле с сержантом-минером в каретке. Только примечайте дорогу — куда входите, откуда выходите. Действовать будете на кромке боя… Что, консервы не все съел? И тут Славка впервые заметил улыбку на лице Котелкова. Он заметил эту злую улыбку и понял, что Котелков отговаривал полковника дать ему, Шустову, это поручение и, видимо, рассказал, как он в нетерпении всех угощает из своего багажника… Вот человечишка! А Ватагин все правильно понял. — Ну, газуй, Шустов! — громко сказал он и обнял младшего лейтенанта за плечи, глянул в его голубые глаза. Славка выбежал из комнаты, ног под собой не чуя. Съехал, как в школе когда-то, по перилам лестницы, удержал равновесие и, как на лыжах, раскатился к порогу. Лицо его смеялось. Если влезть в душу Славки в эту минуту, когда он, озираясь, искал пожилого минера, спавшего в кресле посреди аллеи, — там, в Славкиной душе, все смеялось от довольства собой, от торжества подвига, потому что он, Славка, наперед радовался всем подвигам, которые ему сейчас — кровь из носу! — предстояло совершить.42
Через несколько часов после того, как Славка Шустов с пожилым минером в «лукошке» умчался по незнакомым дорогам на запад, Ватагину сообщили по телефону, что севернее Сегеда нашей истребительной авиацией был сбит спортивный самолет неизвестной марки. Самолет врезался в болото. Когда спустя сорок минут к месту падения подскакали верховые, они увидели торчащий в камышах фюзеляж. В пяти шагах от левого крыла навзничь лежал летчик. В спину его был всажен по самую рукоятку мичманский кортик. От трупа по направлению к Сегеду уходили следы. Собаки-ищейки были доставлены к месту происшествия поздно. Они заплутались на водяных разводьях, в которых исчезли следы. Умные псы скулили, присаживались на секунду и вопросительно поднимали уши торчком. Жалко было смотреть на них. В венгерском городе Сегеде никто и не подозревал о появлении парашютиста на северной окраине. Не до этого было. Глухой шум, о котором несколько дней подряд обыватели Сегеда говорили: «будто мебель за стеной передвигают», теперь, в это утро, не вызывал сомнений: это была артиллерийская канонада. Она приближалась с каждым часом. Советские войска рвались к переправам у городка. Но как бы грозно ни подступала война к яблоневому саду и грязному дворику отставного капитана речного флота Этвёша Дюлы, жизнь там текла заведенным порядком. Что могло происходить в мире, если под кустами жимолости бродит выводок индюшат, а у закрытой калитки, ведущей в сад, свинья с зеленой от купороса спиной скучает, словно проситель? Посреди двора на вынесенных из квартиры венских стульях сидели и покуривали, как обычно, два приятеля: сам хозяин в золотых очках на красном морщинистом лице, в синем берете и потертой замшевой куртке, и его сосед Мельцер Янош, отставной полицейский в зимнем, не по сезону жарком мундире. Поглядеть на простодушную перекурку, так войны нет. — Полюбуйся на свинью: спина-то заметно посветлела, — заметил отставной полицейский. — Да, здeрово немцы пылят, — согласился отставной капитан. Они помолчали, довольные своим взаимопониманием и умением тонко высказывать сокровенные мысли. Без особой тревоги они слушали громкий шорох пожара, полыхавшего на кожевенной фабрике. — Судя по приготовлениям, ночью уйдут, — сказал Этвёш Дюла. — Сейчас сяду в лодочку, наловлю щучек. — Ты обещал кому-нибудь из них свежую рыбу? — Да, господину обер-лейтенанту, который живет у мадам Хамзель. — На дорогу? — подмигнул Мельцер Янош. Звеня ведрами, пробежала за забором хромая жена соседа. — Запасайтесь водой! — крикнула она курильщикам. — Сейчас, — ответил со двора отставной капитан. — Сию минуту, — сказал отставной полицейский. Так как они не тронулись с места, это показалось им остроумным, и Мельцер Янош добавил: — Моментально! — В мгновение ока! — крикнул вслед женщине отставной капитан. У него была детская улыбка. Она собирала толстыми складками кожу вокруг доброго рта. Глаза беспомощно слезились за золотыми очками. Таким его знали на улице венгерского города много лет. Он жил, совсем уже одинокий человек, в квартире, обставленной, как у всех, в кредит, в рассрочку на десять лет. Он должен работать, чтобы не лишиться всего этого. Стоит прервать работу, заболеть — и вещи уйдут, ведь не зря же приделаны ножки к столам к креслам. Но мало этого: он не просто лишится квартиры и мебели, честно нажитых еще тогда, когда он плавал по Дунаю. Он попадет в разряд порочных людей, неудачников, обездоленных судьбой, лишится достоинства и уважения. Нет работы — нет человека. За гроши, как будто ради собственной забавы, он мастерил из рухляди мышеловки, кухонные скребки, набивал обручи на ссохшиеся бочата, лудил медные чаны. Такие же нищие, как он сам, заказчики не торопили. Но он по привычке говорил каждому: «Сию секунду» или «В мгновение ока», а сам отправлялся на рыбную ловлю. Дети провожали его гурьбой. Нахлобучив на брови рыбацкую зюйдвестку, с удочками и веслами на плече, он шел к берегу, борясь с противным ветром… Прошло минут пять, пока возобновился прерванный разговор. — Сегодня уже нечего опасаться. Ты их любишь? — спросил Мельцер Янош. — Щучек? — Нет, наших союзников. — Ну вот еще… Они вечно пыжатся. — Да да, — поддержал отставной полицейский. — Я невзлюбил своего в ту минуту, когда он только вошел в дверь. Он сказал: «Здравствуйте, Негг Schlamm!» — «Господин Грязь!» Он думал, что никто не поймет… — Сами-то они чистенькие, — возмущенно сказал Этвёш Дюла. — А их самодовольство! Взять, к примеру, почтенную мадам Хамзель — этот обер-лейтенант, что живет у нее, твердо убежден, что делает ее счастливой. Они поглядели в ту сторону, где за оградой на обезлюдевшей со вчерашнего дня улице стал так странно заметен черный катафалк, всегда стоявший на цементной площадке перед погребальным бюро мадам Хамзель. — Помнишь, как он сказал: «Борьбе армий всегда сопутствует борьба самолюбий». Что и говорить — мастера на высокие тирады! — Знаешь, Янош, сегодня ночью я лежал и думал: какой талант у этой публики — даже своих друзей ожесточить против себя. Так дружно осуждая уходящих гитлеровцев, оба приятеля вышли на улицу. В конце улицы трещало пламя, горели склады кожи и деревья, окружавшие фабрику. — Смотри же, будь осторожен, — сказал отставной полицейский уходившему к Тиссе приятелю. Прошло два часа. На восточной окраине города за это время ничего особенного не случилось, только дым повернуло к Тиссе. Ветром его расстелило на высоком берегу, точно невод, а потом сбросило в реку первыми взрывами на пустыре. Гитлеровцы начали подрывать кирпичные корпуса складов, создавая поле обстрела для обороны на правом берегу. От взрывов качались люстры в квартирах. В садах летели с веток яблоки. На улице — ни души… И вот странное шествие показалось со стороны реки. Два эсэсовца и какой-то босяк в фетровой шляпе вели под руки Этвёша Дюлу. Было ясно, что с ним случилось несчастье. Улица на минуту ожила. Несколько женщин выбежали из калиток. Дети выглядывали из-за заборов. Мельцер Янош спешил на помощь другу.
— Он капитулировал! — сострил один из эсэсовцев.
Второй оказался более разговорчивым.
— Он контужен. Подорвался на мине. Еще легко отделался. Какой дурак мог догадаться сегодня ловить рыбу!
— Но его послал ваш обер-лейтенант! — возмутился Мельцер Янош.
Бедный Этвёш был неузнаваем — ноги подкашивались, голова моталась, толстые складки вокруг рта разгладились, словно их проутюжило, от этого отставной капитан даже казался помолодевшим. Сильно заикаясь, он рассказывал соседям, как шел к реке через рощу, вдруг что-то громыхнуло, и дальше он ничего не помнит.
Его ввели во двор. Босяк в фетровой шляпе вытряхнул из его кошелки рыбу в корыто свиньи, но бедный Дюла не сказал ни слова — видно, ему совсем отшибло память.
В другое время такое происшествие наполнило бы двор толпой сердобольных соседей. Пришли бы даже из дальних улиц. Сколько было бы сочувственных восклицаний, медицинских советов, ужасных воспоминаний! Но сейчас было не до ближнего. Пепел и дым плавали среди деревьев. Канонада усилилась. От пристаней доносилась учащенная перестрелка. Какой-то забежавший с улицы юноша в трусиках, ударяя себя по волосатым ляжкам, прокричал, что советские танки показались на дальних хуторах. В одну минуту дворик Этвёша Дюлы опустел. Разбежались соседки. Удалились эсэсовцы. Исчез босяк. И даже Мельцер Янош, пробормотав вдруг что-то вроде «сейчас» или «сию минуту», подался в свой винный погребок с каменными сводами.
Улыбка облегчения показалась на лице Этвёша Дюлы, когда он остался один. Он медленно обошел двор, оглядывая недоделанные мышеловки, разобранные будильники, ржавые кофейные мельницы. Свинья чавкала, дожирая рыбу, предназначавшуюся для обер-лейтенанта. Отставной капитан с интересом поглядел на нее и даже почесал ее где-то под передней ножкой, там, где розовая кожица колыхалась жирком. Брезгливая гримаса каких-то болезненных переживаний замкнула его лицо.
И вот странное шествие показалось со стороны реки. Два эсэсовца и какой-то босяк в фетровой шляпе вели под руки Этвёша Дюлу. Было ясно, что с ним случилось несчастье. Улица на минуту ожила. Несколько женщин выбежали из калиток. Дети выглядывали из-за заборов. Мельцер Янош спешил на помощь другу.
— Он капитулировал! — сострил один из эсэсовцев.
Второй оказался более разговорчивым.
— Он контужен. Подорвался на мине. Еще легко отделался. Какой дурак мог догадаться сегодня ловить рыбу!
— Но его послал ваш обер-лейтенант! — возмутился Мельцер Янош.
Бедный Этвёш был неузнаваем — ноги подкашивались, голова моталась, толстые складки вокруг рта разгладились, словно их проутюжило, от этого отставной капитан даже казался помолодевшим. Сильно заикаясь, он рассказывал соседям, как шел к реке через рощу, вдруг что-то громыхнуло, и дальше он ничего не помнит.
Его ввели во двор. Босяк в фетровой шляпе вытряхнул из его кошелки рыбу в корыто свиньи, но бедный Дюла не сказал ни слова — видно, ему совсем отшибло память.
В другое время такое происшествие наполнило бы двор толпой сердобольных соседей. Пришли бы даже из дальних улиц. Сколько было бы сочувственных восклицаний, медицинских советов, ужасных воспоминаний! Но сейчас было не до ближнего. Пепел и дым плавали среди деревьев. Канонада усилилась. От пристаней доносилась учащенная перестрелка. Какой-то забежавший с улицы юноша в трусиках, ударяя себя по волосатым ляжкам, прокричал, что советские танки показались на дальних хуторах. В одну минуту дворик Этвёша Дюлы опустел. Разбежались соседки. Удалились эсэсовцы. Исчез босяк. И даже Мельцер Янош, пробормотав вдруг что-то вроде «сейчас» или «сию минуту», подался в свой винный погребок с каменными сводами.
Улыбка облегчения показалась на лице Этвёша Дюлы, когда он остался один. Он медленно обошел двор, оглядывая недоделанные мышеловки, разобранные будильники, ржавые кофейные мельницы. Свинья чавкала, дожирая рыбу, предназначавшуюся для обер-лейтенанта. Отставной капитан с интересом поглядел на нее и даже почесал ее где-то под передней ножкой, там, где розовая кожица колыхалась жирком. Брезгливая гримаса каких-то болезненных переживаний замкнула его лицо.
43
Остаток дня генерал войск «СС» фон Бредау провел в темной зальной комнате. Он знал, конечно, что покойный Этвёш Дюла не очень любил эту комнату со дня смерти жены. По стенам были развешаны снимки старинных дунайских пароходов, портрет Хорти и собственные фотографии капитана в парадной форме речного флота. Одну из фотографий фон Бредау внимательно осмотрел, даже перевернул ее, ища надпись, но ее не было, и он повесил фотографию на место. На этом снимке сходство с ним было не так уж велико. На улице слышалась немецкая речь. Все время шли нестройные толпы отступающих солдат. Фон Бредау внимательно прислушивался к этим голосам. Он вел себя осмотрительно, и нельзя было понять — глаза ли у него болят, или кружится голова, или его тошнит. С брезгливым выражением лица он открыл старомодный баул, о котором знал, что он достался покойному капитану еще с приданым гречанки-жены, извлек из него парадный синий мундир, капитанский кортик, огромную щегольскую фуражку с золотым плетением- кокарды. За окном смеркалось. Отблески пожаров озаряли темную комнату. Протягивая впереди себя руки, новый житель Сегеда долго путешествовал вдоль стен, пока не зажег свечные канделябры, которые на Тиссе зовутся также по-французски: жирандоль. В последний раз они горели десять лет назад, когда на столе лежала уродливая, крючконосая, сварливая гречанка. И об этом тоже знал фон Бредау — у него было время изучить и запомнить подготовленное для него «досье». Стоя перед зеркалом, он сбросил с себя лоснящуюся рыбацкую одежду и переоделся. Он глядел в зеркало, держа в руках старую фотографию. Вот тут он действительно был похож на себя, каким его увидят завтра соседи. В эту минуту в комнату ворвалась хромая соседка. — Господин Этвёш, — злобно крикнула, показывая рукой на открытое окно, — вы хотите, чтобы мы все погибли под бомбами! Фон Бредау молча стоял перед ней, повторенный зеркалом. «Да, я забыл опустить штору», — говорило его лицо, но он молчал. Он равнодушно глядел сквозь женщину. Он не хотел опустить штору. Там, на улице, раздавались немецкие голоса, он слышал их. В этот вечер он прощался с Германией. Он не знал — надолго ли…
— Я ни-че-го не помню, — с трудом произнес он по-венгерски.
Страшный свист и грохот первой ночной бомбы потряс дом. Замигали свечи на стенах. Женщину смыло, точно ее и не было. Фон Бредау опустил штору и медленно вышел в сад. Придерживая рукой парадную фуражку, он пробрался к забору, стал там, невидимый с улицы. Дрожащее зарево освещало пустырь, по которому без строя, отдельными кучками, проходили немецкие солдаты. Это были изнуренные бегством бродяги. Они поспешно сматывались на северо-запад, к Будапешту. У них не было ни транспорта, ни командиров.
— Вот твоя колесница, Август! — сказал чей-то голос во тьме.
Унылый шутник показывал солдатам на катафалк мадам Хамзель.
Никто не рассмеялся. Фон Бредау с выражением величайшего внимания припал к решетке забора.
Эта бесстыдная шутка о колеснице Августа, циничный разговор дезертиров как нельзя более соответствовали тому душевному состоянию, в котором он сейчас находился. В Борском руднике, проходя свою подготовку к перевоплощению, он думал и чувствовал иначе. Он и тогда не знал, как скоро наступит день расплаты. Через полгода или через пятнадцать лет? Но он все время ясно видел этот день, когда по радиосигналу опять заварится такая кровавая кутерьма, которой предназначено будет снова очистить весь мир в огненной купели фашизма. А сегодня он не видел грядущего. Как он устал.
«Смерть! Вы принесете врагам нацизма тотальную смерть…» — еще недавно говорил ему Ганс Крафт в спецбараке № 6.
Смерть… Сейчас фон Бредау казалось, что она угрожает только ему самому — смерть под псевдонимом. Да, так и сдохнет он в этой сегедской дыре среди ржавых мышеловок и грязных свиней. Этот жалкий догматик, этот фольксдейтч Крафт предусмотрел все, даже содержимое сундука старой гречанки. Он упустил из виду только одно: тот, кто сидит в подполье, должен верить в свою жизненную задачу. Но можно ли теперь во что-нибудь верить? Вот он, перед глазами, оплот нацизма, армия дезертиров!
Рослый немец прошел мимо него. Руку в закатанном рукаве он держал на висевшем сбоку шлеме. Зной не спал и ночью. Мимо забора прошел еще один. Фон Бредау успел различить мокрые белые пряди его волос.
В эту минуту в доме напротив ресторатор фанерным листом закрывал буфетную стойку, тесно заставленную рядами бутылок. При свете пожаров с улицы стойка напоминала церковный орган.
— Не дури! — говорил жене ресторатор. — Что значит свет жирандолей Этвёша, когда весь город освещен пожарами?
— Он невменяем!
— Он немного спятил со страху.
— И мне страшно… Ты знаешь, его лицо помолодело, как после косметической операции, — сказала стареющая дама, и в ее голосе даже послышались завистливые нотки.
— Важно не это, — сказал ресторатор, — важно, что они наконец уходят…
— А мы остаемся.
— Да, мы остаемся. Это важно. Новая толпа солдат проходила по улице.
Фон Бредау передвинулся на несколько шагов вдоль забора, чтобы видеть лучше, слышать яснее.
— По нынешним временам надо иметь маленький желудок, — послышалось из толпы.
— Но зато длинные ноги, — поддержал другой голос.
— Ты хочешь уйти. Куда?
— Откуда течет Дунай. Вот куда.
— Дурак!
— Нет, он умный. Он спешит к американцам.
Тотчас раздался озлобленный окрик по адресу шутника:
— Ты кто такой, чтобы смеяться над баварцем? Австриец! Нытик! Остмеркер! Остмеркер [42]!
Фон Бредау не пропускал ни одной подробности, его глаза и слух напряженно воспринимали все, что можно было увидеть и услышать.
— Он трофейный немец! Беутедейтче.
— А ты! Ты — Пифке! Вот кто…
— Эй вы, мармеладники, шагу!..
И голоса «Великой армии» растворились во тьме.
Фон Бредау молча стоял перед ней, повторенный зеркалом. «Да, я забыл опустить штору», — говорило его лицо, но он молчал. Он равнодушно глядел сквозь женщину. Он не хотел опустить штору. Там, на улице, раздавались немецкие голоса, он слышал их. В этот вечер он прощался с Германией. Он не знал — надолго ли…
— Я ни-че-го не помню, — с трудом произнес он по-венгерски.
Страшный свист и грохот первой ночной бомбы потряс дом. Замигали свечи на стенах. Женщину смыло, точно ее и не было. Фон Бредау опустил штору и медленно вышел в сад. Придерживая рукой парадную фуражку, он пробрался к забору, стал там, невидимый с улицы. Дрожащее зарево освещало пустырь, по которому без строя, отдельными кучками, проходили немецкие солдаты. Это были изнуренные бегством бродяги. Они поспешно сматывались на северо-запад, к Будапешту. У них не было ни транспорта, ни командиров.
— Вот твоя колесница, Август! — сказал чей-то голос во тьме.
Унылый шутник показывал солдатам на катафалк мадам Хамзель.
Никто не рассмеялся. Фон Бредау с выражением величайшего внимания припал к решетке забора.
Эта бесстыдная шутка о колеснице Августа, циничный разговор дезертиров как нельзя более соответствовали тому душевному состоянию, в котором он сейчас находился. В Борском руднике, проходя свою подготовку к перевоплощению, он думал и чувствовал иначе. Он и тогда не знал, как скоро наступит день расплаты. Через полгода или через пятнадцать лет? Но он все время ясно видел этот день, когда по радиосигналу опять заварится такая кровавая кутерьма, которой предназначено будет снова очистить весь мир в огненной купели фашизма. А сегодня он не видел грядущего. Как он устал.
«Смерть! Вы принесете врагам нацизма тотальную смерть…» — еще недавно говорил ему Ганс Крафт в спецбараке № 6.
Смерть… Сейчас фон Бредау казалось, что она угрожает только ему самому — смерть под псевдонимом. Да, так и сдохнет он в этой сегедской дыре среди ржавых мышеловок и грязных свиней. Этот жалкий догматик, этот фольксдейтч Крафт предусмотрел все, даже содержимое сундука старой гречанки. Он упустил из виду только одно: тот, кто сидит в подполье, должен верить в свою жизненную задачу. Но можно ли теперь во что-нибудь верить? Вот он, перед глазами, оплот нацизма, армия дезертиров!
Рослый немец прошел мимо него. Руку в закатанном рукаве он держал на висевшем сбоку шлеме. Зной не спал и ночью. Мимо забора прошел еще один. Фон Бредау успел различить мокрые белые пряди его волос.
В эту минуту в доме напротив ресторатор фанерным листом закрывал буфетную стойку, тесно заставленную рядами бутылок. При свете пожаров с улицы стойка напоминала церковный орган.
— Не дури! — говорил жене ресторатор. — Что значит свет жирандолей Этвёша, когда весь город освещен пожарами?
— Он невменяем!
— Он немного спятил со страху.
— И мне страшно… Ты знаешь, его лицо помолодело, как после косметической операции, — сказала стареющая дама, и в ее голосе даже послышались завистливые нотки.
— Важно не это, — сказал ресторатор, — важно, что они наконец уходят…
— А мы остаемся.
— Да, мы остаемся. Это важно. Новая толпа солдат проходила по улице.
Фон Бредау передвинулся на несколько шагов вдоль забора, чтобы видеть лучше, слышать яснее.
— По нынешним временам надо иметь маленький желудок, — послышалось из толпы.
— Но зато длинные ноги, — поддержал другой голос.
— Ты хочешь уйти. Куда?
— Откуда течет Дунай. Вот куда.
— Дурак!
— Нет, он умный. Он спешит к американцам.
Тотчас раздался озлобленный окрик по адресу шутника:
— Ты кто такой, чтобы смеяться над баварцем? Австриец! Нытик! Остмеркер! Остмеркер [42]!
Фон Бредау не пропускал ни одной подробности, его глаза и слух напряженно воспринимали все, что можно было увидеть и услышать.
— Он трофейный немец! Беутедейтче.
— А ты! Ты — Пифке! Вот кто…
— Эй вы, мармеладники, шагу!..
И голоса «Великой армии» растворились во тьме.
44
Никогда в жизни Славка не гнал «Цундап» так, как в эту ночь. Осенняя тьма. Разлившиеся после дождей желтые реки. Глухие дороги, забитые войсками… — Давай, младший лейтенант, жми! Не заснешь? — кричал сидевший в каретке Демьян Лукич. На развилках дорог Славка чертом соскакивал с мотоцикла, колдовал среди деревьев, выбирая дорогу, и бегом возвращался, спрямлял путь, гнал по кочкам, изредка встряхивая головой для бодрости. Они добрались до предместий Сегеда в тот час, когда после атаки, поддержанной танками, солдаты уже расположились в домах и во дворах — где спали, где «дожимали» банку консервов. Шли легко раненные. Связисты тянули провод в глубь города. Там слышалась пулеметная перестрелка. Мирные жители, натерпевшиеся страху, скользили по дворам бесплотными тенями. И только пожилой и по-донкихотски хмурый и тощий Иожеф, пекарь Иожеф, еще в первую мировую войну побывавший в русском плену, хладнокровно ходил по дворам, выполняя заодно обязанности толмача и первого избранника на должность главы народной власти. Было видно, что дело тут не в том лишь, что Иожеф знал русский язык, айв том, что он был почти тридцать лет честным подпольщиком-коммунистом. Младший лейтенант Шустов, доложив о своей боевой задаче командиру полка, воевавшего в этих кварталах, разыскал Иожефа. Мотоцикл был оставлен под навесом во дворе, где минер дожидался дальнейших событий. — Товарищ Иожеф, где нам сыскать Этвёша Дюлу? — спросил Шустов, пожимая руку коммуниста. — Он у себя дома. С ним утром случилось несчастье. — Он контужен?! — воскликнул Славка. Ответа долго не было. — Откуда вы знаете? — тихо спросил венгерский коммунист. — Вам известно, где это с ним случилось? — нетерпеливо домогался младший лейтенант и почти тащил за собой Иожефа к мотоциклу. — Это в ивовой роше на Тиссе. — Покажите мне место… Втроем они оседлали мотоцикл и осторожно съехали в лесной овраг. Несколько шагов оставалось до реки. Тут надо было уже держаться настороже: противник простреливал овраг с правого берега. Мотоцикл резко отвернул в сторону. Шустов поставил его в тень старых ив. Тощий Иожеф спрыгнул и показал на глубокую воронку в пыли проселочной дороги. — Вот тут, должно быть, он шел. За рыбой погнал его немецкий офицер. — За рыбой? — удивился Шустов. — Да, приказал. Разве ж не пойдешь? Убьют… Они стояли на мирной лужайке в безмятежной ивовой роще. Трудно было представить, что если взбежишь на бугорок, покажешь голову, и — кончено — простишься с жизнью. А здесь, в приземистых ивах, как будто уснуло время. Толстый голубь слетел в ворох листьев, прошелся вперевалочку неведомо зачем. — Что ж, действуйте, товарищ сержант, — приказал Шустов и сел на камень. — Вы оставайтесь на месте, — сказал минер. Он неторопливо отвязал от машины свой инструмент и молча двинулся вдоль проселка. Куда девалась вся его словоохотливость. — Ишь, куроеды, и здесь пакостят, — только и сказал он, растоптав недокуренную цигарку. На лесной прогалинке установилась мертвая тишина. Сержант работал. Он нагибался, ощупывал каждую травинку, снова шел два-три шага вперед, пробовал щупом. Так он прошел всю лужайку до самых дальних ив и тогда повернул в кусты.
Недоумевающий Иожеф присел рядом с русским офицером на травке и рассказывал все известные ему обстоятельства дела. Вчера соседи его позвали со двора: со старым Этвёшем случилась беда — подорвался на мине у Тиссы. Он зашел к бедняге и подивился: тот медленно обходил двор, оглядывая свои недоделанные мышеловки, разобранные будильники, ржавые кофейные мельницы. Насмерть перепуганный человек с изменившимся лицом как будто заново знакомился со своим двором и домом, где прожил столько лет. Увидел его — почему-то испугался, пошел в сторону, в сад… Как это могло случиться? Он хотел попросить Мельцера Яноша побыть ночью с контуженым — старые друзья! Выяснилось, что немцы, уходя, увели с собой Мельцера Яноша. Зачем, спрашивается? Что мог им сделать худого отставной полицейский?… Здесь, в ивовой роще, всеведущие мальчишки показали Иожефу ямку на дороге.
— Не томи, сержант, что скажешь? — спросил Шустов.
Сержант медленно подходил к машине Инструмент он нес теперь на плече, как косарь свою косу. Сапогами шаркал по траве, как всякий пожилой человек с немного кривыми, натруженными ногами.
— Да вы-то сами поосторожнее! — крикнул Иожеф.
— От смерти не сховаешься, дорогой товарищ, — задумчиво ответил Демьян Лукич.
Он положил инструмент в машину, стал неторопливо сворачивать цигарку. Славка поднес ему горящую спичку:
— Ну, говори, друг…
— Так он же не на мину наступил. — Сержант покачал головой.
— Вот тебе и заключение… Что ж, на коровью лепешку, что ли?
— Нет, не на мину. Тут его гранатой пригладили.
— Что ты, сержант! — смутился Иожеф.
— Можно даже уточнить, откуда ее и бросили, — сказал минер и показал на кусты, где он только что рыскал, оглядывая каждую веточку.
— Что ж, ручной гранатой? — переспросил Славка.
— Нет, ручной что… только глаза запорошить. Тут, считай, противотанковая… Я. и по воронке сужу и по дистанции… — Он помедлил, затянулся дымком и вынес свое решающее суждение: — Должно было его на куски расшвырять. — Он обернулся к венгру и коротко спросил: — А цел, говоришь?
— Цел. Только что контужен. Слуха лишился.
— А уха не лишился? — с некоторой подковыркой спросил минер.
— Уши целые, — улыбнулся Иожеф.
— Эва что… — сказал сержант и разжал кулак.
На его ладони лежало измазанное землей и кровью человеческое ухо.
— Ухо-то вот, — произнес Демьян Лукич. — А ты говоришь, уши целые. Что же, у него три уха, было?
— …Третье ухо нашли?… — с интересом переспросил по телефону полковник Ватагин, вызванный на фронтовой узел связи. (Разыскав штаб танковой бригады, младший лейтенант Шустов сумел через пять промежуточных узлов связи вызвать Ватагина, чтобы информировать его о находке минера и получить указания.)
— Что ж, враг слушает, ему нужны уши, — помедлив, позволил себе шутку полковник Ватагин и уже другим тоном отдал приказ: — Захватите вражеского резидента, подменившего убитого Этвёша Дюлу!.. Действуйте, дальше разберемся, товарищ Шустов. Кто там у вас в Сегеде народная власть? Пекарь Иожеф? Ну, вот и хорошо, с ним и действуйте — с пекарем Иожефом.
На лесной прогалинке установилась мертвая тишина. Сержант работал. Он нагибался, ощупывал каждую травинку, снова шел два-три шага вперед, пробовал щупом. Так он прошел всю лужайку до самых дальних ив и тогда повернул в кусты.
Недоумевающий Иожеф присел рядом с русским офицером на травке и рассказывал все известные ему обстоятельства дела. Вчера соседи его позвали со двора: со старым Этвёшем случилась беда — подорвался на мине у Тиссы. Он зашел к бедняге и подивился: тот медленно обходил двор, оглядывая свои недоделанные мышеловки, разобранные будильники, ржавые кофейные мельницы. Насмерть перепуганный человек с изменившимся лицом как будто заново знакомился со своим двором и домом, где прожил столько лет. Увидел его — почему-то испугался, пошел в сторону, в сад… Как это могло случиться? Он хотел попросить Мельцера Яноша побыть ночью с контуженым — старые друзья! Выяснилось, что немцы, уходя, увели с собой Мельцера Яноша. Зачем, спрашивается? Что мог им сделать худого отставной полицейский?… Здесь, в ивовой роще, всеведущие мальчишки показали Иожефу ямку на дороге.
— Не томи, сержант, что скажешь? — спросил Шустов.
Сержант медленно подходил к машине Инструмент он нес теперь на плече, как косарь свою косу. Сапогами шаркал по траве, как всякий пожилой человек с немного кривыми, натруженными ногами.
— Да вы-то сами поосторожнее! — крикнул Иожеф.
— От смерти не сховаешься, дорогой товарищ, — задумчиво ответил Демьян Лукич.
Он положил инструмент в машину, стал неторопливо сворачивать цигарку. Славка поднес ему горящую спичку:
— Ну, говори, друг…
— Так он же не на мину наступил. — Сержант покачал головой.
— Вот тебе и заключение… Что ж, на коровью лепешку, что ли?
— Нет, не на мину. Тут его гранатой пригладили.
— Что ты, сержант! — смутился Иожеф.
— Можно даже уточнить, откуда ее и бросили, — сказал минер и показал на кусты, где он только что рыскал, оглядывая каждую веточку.
— Что ж, ручной гранатой? — переспросил Славка.
— Нет, ручной что… только глаза запорошить. Тут, считай, противотанковая… Я. и по воронке сужу и по дистанции… — Он помедлил, затянулся дымком и вынес свое решающее суждение: — Должно было его на куски расшвырять. — Он обернулся к венгру и коротко спросил: — А цел, говоришь?
— Цел. Только что контужен. Слуха лишился.
— А уха не лишился? — с некоторой подковыркой спросил минер.
— Уши целые, — улыбнулся Иожеф.
— Эва что… — сказал сержант и разжал кулак.
На его ладони лежало измазанное землей и кровью человеческое ухо.
— Ухо-то вот, — произнес Демьян Лукич. — А ты говоришь, уши целые. Что же, у него три уха, было?
— …Третье ухо нашли?… — с интересом переспросил по телефону полковник Ватагин, вызванный на фронтовой узел связи. (Разыскав штаб танковой бригады, младший лейтенант Шустов сумел через пять промежуточных узлов связи вызвать Ватагина, чтобы информировать его о находке минера и получить указания.)
— Что ж, враг слушает, ему нужны уши, — помедлив, позволил себе шутку полковник Ватагин и уже другим тоном отдал приказ: — Захватите вражеского резидента, подменившего убитого Этвёша Дюлу!.. Действуйте, дальше разберемся, товарищ Шустов. Кто там у вас в Сегеде народная власть? Пекарь Иожеф? Ну, вот и хорошо, с ним и действуйте — с пекарем Иожефом.
45
Уже четвертый час стояла на посту Даша Лучинина. Вчера она прибыла сюда с подружкой. Румынский катер пробуксировал баржу. Русские плотники к вечеру сколотили дошатые сходни. Девушки построили себе камышовый шалаш под дамбой. А кормили их пока что сербские крестьяне да проезжающие солдаты. Несколько дней перебрасывалась через Тиссу моторизованная армия. Видно, командование не дожидалось конца белградского сражения, чтобы идти на Будапешт. У пристаней было людно и шумно. Дважды налетали «юнкерсы». Регулировщицы расставляли машины у переправы так, чтобы не мешать быстрой разгрузке барж. — Давай! — слышался голос Лучининой, когда машины сходили на берег и выезжали с песчаной выемки на дамбу. Как все фронтовики, Даша любила это словечко: «Давай!» Крикнешь, подсобишь людям словом и будто метлой сгонишь с пути «пробку». Порядочек. Даша увлекалась, кричала громче всех в минуту затора, пока водители гудели клаксонами и ругались. Иногда регулировщица вскакивала на подножку машины на ходу, чтобы не задерживать, рапортовала в открытое окно: — Контрольно-поверочный пост, ВАД-22! Предъявите ваши документы. И оттого, что она была такая хриплоголосистая, и оттого, что опасная переправа была уже позади, все отвечали ей шутками, иные приглашали ехать с собой, на передовые. — Сидай, сидай, курносая, поедем! Даша так давно слушала на перекрестках и чужое горе, и чужую радость, что хорошо понимала людей. Иногда ее охватывала такая жалость к людям — всех было жалко за что-нибудь. Она ругалась с водителями и жалела их. Иной вывернется перед тобой откуда-то, только и можно успеть выругаться. — Вот ведь сошьет же господь людей! — кричала она. А злости нету — вся на фашистов ушла. Стемнело. Изредка вдали вставал, рассекал небо и снова падал во тьму полей прожекторный луч. Тогда освещались по берегам низкие, жесткие ивы. Река хорошо доносила дальнее буханье пушек. На Тиссе и на Дунае оно было такое же знакомое, как на всех пройденных реках. Так же на это буханье тянулись автоколонны, тысячи мужчин яростно ругались, если их задержишь в пути. А оттуда, из пекла, брели понурые, раненые… И Даше в этот вечер казалось, что кто-то, проклятый, давным-давно завел эту музыку и носит ее по всей земле. Донес до самой Волги, теперь назад, на Дунай. И если не знать, то можно подумать, что скопища людские со всех краев земли тянутся к этой музыке — только бы ее послушать. И невесело было думать, что еще, может быть, долго придется ждать, чтобы она умолкла наконец навсегда.46
Баржа поскрипывала на ходу, и вода тихо плескалась около ее бортов. Маленький катер натужно тянул ее от берега к берегу. Баржа была уставлена грузовиками и подводами с фуражом. Тем, кто в этотвечерний час теснился у перил, высматривая в волнах плавучие мины, Тисса казалась бескрайной. Нет другого берега — баржа будто стоит на месте. Все испытывали одно и то же: и солдаты, и водители бензоцистерн, отгонявшие от машин курильщиков, и строгие с виду сербы у своих подвод. Разговаривали вполголоса Только что у всех на глазах пролетел немецкий самолет, разбрасывая по реке плавучие мины. — Красивый народ, статный, — говорили солдаты, разглядывая сербов. — Себя зовут селяки — стало быть, по-нашему, крестьяне. Один из сербов подошел, прикурил, остался слушать. — Едем через Вршац, — рассказывал солдат из мотопехоты. — А у них митинг на главной площади. По-ихнему вече. Народная армия пришла. Цветы. Смеются. Встретились! Ну, мы, чтобы не тарахтеть, решили вбок, проулочком тихо-мирно объехать. Что ж вы думаете? Догоняют, назад поворачивают: «Ваш поход любо слушать, лучше всяких речей!» — То истина, — коротко сказал серб. И замолкли солдаты. Плескалась вода за бортом. Дверка единственной на барже легковой машины открылась, и в тесный проход вылез офицер в капитанских погонах, с забинтованной нижней частью лица. Он посмотрел на хмурый простор реки. Жидкие его глаза, мерцавшие над бинтовой маской, выразили чертовскую госпитальную скуку. Бинты, обмотавшие его челюсти до самых ноздрей, видно, беспокоили его, он их оттягивал пальцами книзу от ушей. — Ага, челюстной. Бедняга, — поглядев на него, сказал бывалый солдат. — У нас в павлоградском госпитале был в санпропускнике старшина Семушкин, — заметил другой. — Так он страсть как не уважал челюстных. — С чего бы? — Разговорчив был. А с челюстными какой разговор — известно. Он и туда и сюда — они молчат. Парикмахер им головы бреет, няньки дезраствором опрыскивают, старшина халаты им несет, а они, знай, молчат… «Что ж вы, соколики, — чуть не плачет Семушкин, — горе мне с вами, ушей-то у каждого двое, язык-то — он один, а вы его прикусили…» Медленно приближался берег. Вокруг пристани еще дотлевали деревья — три дня назад здесь шел бой, самолеты вели огонь по буковым лесам, в которых гнездились фашистские бродячие группы. В свете дотлевающих огней очертилась пристань с целым стадом встречных машин, дожидавшихся переправы, а на песчаном выезде — тоненькая фигурка Даши Лучининой с флажками и автоматом. Выпятив забинтованную челюсть, человек у легковой машины потянул ноздрями, сунул свою обтекаемую фигуру в машину, прихлопнул дверку за собой, задернул шторку.47
Катер подтащил баржу к причалам. Уже бросали канаты. Водители запускали моторы. Пристань ожила. — Давай! Давай! — закричала Даша. И скоро тяжелые, груженные боеприпасами машины пошли, пошли, пошли одна за другой. Легковая машина с высоким штырем антенны, сойдя с баржи, рывком взяла крутизну выема. Соскочив с переднего грузовика, Даша подбежала к ней. — Контрольно-проверочный пост ВАД-22… - сказала она, заглядывая в стекла машины и ничего не видя за шторками. — Предъявите ваши документы! Она открыла дверку. Шофер с забинтованным до ушей лицом не ответил. Его узкие глаза под широкими бровями не понравились. Он был какой-то нехороший — не то сердитый, не то насмерть перепуганный. — Предъявите документы! — снова повторила Даша. Она включила ручной фонарик, чтобы посветить внутри машины, но шофер грубо прикрыл фонарик рукавом шинели. — Бросьте шутить! — крикнула она разозлившись. Шофер молча ловил фонарик рукой. Машина набирала скорость. Даша не отставала. — Водитель, остановите! — приказала она. Луч ее фонарика все же скользнул по лицу пассажира. Второй в машине был так же точно забинтован — вся нижняя часть лица до ушей и по самые ноздри… Даша боролась с рукой шофера. Вдруг вспомнилась инструкция полковника Ватагина с описанием примет. — Raus! [43] — глухо, в бинты, не то сказал, не то харкнул водитель.
Регулировщица снова мазнула светом внутри машины. Шофер расстегнул кобуру. Даша рассвирепела и потянулась к баранке.
— Вот ведь сошьет же господь людей! — с великой досадой сказала она и вдруг, заметив поблескивавшее пенсне под низко надвинутой фуражкой, с запозданием догадалась, что шофер тот самый — с ватагинской фотографии.
В ту же секунду Ганс Крафт выстрелил в нее, и машина рванулась. Даша упала на дорогу. Машина уходила по дамбе, не выровняв хода, сшибла столб с указателем «На переправу».
Теперь, лежа на дороге, Даша знала, что делать. Только вот автомат непослушно сползает с плеча. Даша ударила длинной очередью. Старалась попасть по низу, по скатам. Кто-то выскочил из машины. Позади уже бежали от причалов. Даша еще раз ударила длинной очередью и вдруг испугалась: а что, если наши, шальные, пьяные?
— Эй? — кричал знакомый голос. — Кто тут? Девчонка?…
— Она же ранена, братцы. Гляди, кровь… Машина!
Ее покачивало, но медленно, медленно. Ей даже показалось, что она стоит, как когда-то, на понтонном мосту в Днепропетровске, и он дышит, прогибается под проходящим паровозом. Ее поташнивало. И кто-то знакомый, как казалось Даше, чей-то очень знакомый голос говорил внятно и рассудительно:
— Знаешь ли ты, откуда течет Дунай? Прямо из фашистского логова, из самой Баварии… Вот то-то. Надо понимать — откуда Дунай течет…
— Raus! [43] — глухо, в бинты, не то сказал, не то харкнул водитель.
Регулировщица снова мазнула светом внутри машины. Шофер расстегнул кобуру. Даша рассвирепела и потянулась к баранке.
— Вот ведь сошьет же господь людей! — с великой досадой сказала она и вдруг, заметив поблескивавшее пенсне под низко надвинутой фуражкой, с запозданием догадалась, что шофер тот самый — с ватагинской фотографии.
В ту же секунду Ганс Крафт выстрелил в нее, и машина рванулась. Даша упала на дорогу. Машина уходила по дамбе, не выровняв хода, сшибла столб с указателем «На переправу».
Теперь, лежа на дороге, Даша знала, что делать. Только вот автомат непослушно сползает с плеча. Даша ударила длинной очередью. Старалась попасть по низу, по скатам. Кто-то выскочил из машины. Позади уже бежали от причалов. Даша еще раз ударила длинной очередью и вдруг испугалась: а что, если наши, шальные, пьяные?
— Эй? — кричал знакомый голос. — Кто тут? Девчонка?…
— Она же ранена, братцы. Гляди, кровь… Машина!
Ее покачивало, но медленно, медленно. Ей даже показалось, что она стоит, как когда-то, на понтонном мосту в Днепропетровске, и он дышит, прогибается под проходящим паровозом. Ее поташнивало. И кто-то знакомый, как казалось Даше, чей-то очень знакомый голос говорил внятно и рассудительно:
— Знаешь ли ты, откуда течет Дунай? Прямо из фашистского логова, из самой Баварии… Вот то-то. Надо понимать — откуда Дунай течет…
48
Когда Пальффи Джордж выскочил из машины, в него стреляли с двух сторон: советская регулировщица, лежавшая на дороге, и Ганс Крафт из машины. Он пробежал, согнув голову, зону обстрела, прыгнул через кювет, оступился и упал. Вскочил, чтобы бежать дальше, но нестерпимая боль в колене заставила снова опуститься на землю. Несколько часов, волоча ногу, почти ползком, он спасался от преследований, пока, обессиленный, не свалился в каком-то болоте. Невдалеке была деревня. Порой оттуда доносились красноармейские песни или_ шум мотора-генератора, а однажды близко раздался глухой взрыв и всплеск воды: это, наверно, солдаты подорвали мину. Ночью завыл пес. Тоска и злоба охватывали Джорджа, когда он, лежа на помятом камыше, прислушивался к этим звукам: русские пришли в Европу и вот поют, глушат рыбу на ужин, и смеются, и с лошадьми разговаривают, задавая им овес, а он с распухшей ногой таится в болотной жиже. Здесь он залег на весь день. Ночью встал, ушел километров за двадцать. Днем снова отлеживался в болотной траве. Под вечер в замызганном кителе и синих галифе, в изодранных сапогах он пристроился к растянувшемуся обозу. Тут, в толпе солдат, обнаружил он, что китель его слишком грязен и, главное, нет подворотничка. Это открытие странно обеспокоило его. Он укрылся в куче наколотых дров на крестьянском дворе и просидел в них всю ночь. Почему он выскочил из машины на переправе? Может быть, Крафту все-таки удалось спастись? Почему он просидел всю ночь в дровах? С ним творилось что-то неладное. Он это сознавал. И почему на рассвете, вопреки всякому смыслу, он выполз из поленницы и снова захромал по дороге? Все, что он делал, было бессмысленно. И он испугался этого. Весь день и долгую ночь он сидел в мелколесье. Луна была очень яркая. И он вдруг поймал себя на том, что, выставив свои большие изогнутые пальцы, разглядывал между ними луну. И снова он двинулся в путь. В пустом, заброшенном доме прифронтового села он шесть долгих ночных часов неподвижно просидел на подоконнике на пару с голодным черным котом.49
В эту ночь Пальффи Джордж пытался трезво вглядеться в головокружительные петли своего жизненного пути. Этот венгерский аристократ, никогда не знавший даже перечня всех своих земель в придунайской долине, должен был признаться себе, что все эти годы метался по планете, как заяц в луче прожектора. Он уже десять лет не ночевал в своей любимой детской комнате, где в окна заглядывают нижние ветви столетних ив, где утром к завтраку идешь через уютнейший коридор, стены которого увешаны рогами всех оленей, когда-либо убитых графами Пальффи. Он был космополитом и бродягой, которого персиянка заклеймила страшным восточным ругательством. Мотаясь по балканским дорогам — сегодня в Ямболе, завтра в Крагуеваце, — помощник венгерского военного атташе жил только страхом и ненавистью. Ганс Крафт с его страстью к точным расписаниям наводил на него казарменную скуку. В геометрическом черепе этого жидкоглазого маньяка жила только одна идея. И чтобы осуществить ее, Пальффи, не расставаясь с навязанной ему спутницей Мариной Ордынцевой, должен был два года колесить по захолустным городкам, заводить знакомства с провинциальными адвокатами из социалистов, мелкими служащими плоештинских нефтяных компаний, репортерами желтой прессы, пехотными офицерами, залечивавшими фронтовые ранения на пляже в Варне… Марина и Джордж входили в кафе под тентом, на городской площади, где многие отцы города сидели в табачном дыму за игрой в «джюлбар» или в бридж, и начинались расспросы. Ордынцева доставала из сумочки заготовленные фотографии и шелковый платочек. Эту роль вдовствующей невесты она выполняла превосходно. Они пополняли картотеку Крафта такими интимными сведениями о некоем Иовановиче или Андреашану, каких не смогли бы представить и о самих себе. Они выпытывали до мелочей, каким страстям предан человек: филателии, рыбной ловле, хоровому пению, изучению истории русско-турецкой войны, радиотехнике, монашеским молитвам. Каждые три месяца Пальффи получал в германском посольстве секретный пакет на содержание своей образцовой конюшни. Из поездок он часто вывозил недурных восточных коней — годы пребывания в Иране не пропали даром, теперь он удачно барышничал. Нетрудно было также, пользуясь простодушным гостеприимством хозяев, подкинуть ампулу с культурой сапа в кормушку с овсом или просто втереть с помощью картофелины в ноздри или в губы понравившегося коня смертельную инфекцию. Ошеломляющее впечатление произвело на все гитлеровское офицерство — и на Пальффи Джорджа — поражение германской армии между Двинском и Ковелем, когда бегущие немецкие солдаты показались на старинных вязовых аллеях Восточной Пруссии. Ганс Крафт, пришедший в это утро на софийскую квартиру Джорджа, явно ничего не понял. Как всегда перед завтраком, он долго, с удовольствием мыл руки и увлеченно разглагольствовал: — Доктрина фюрера не знает каких-либо моральных ограничений. Бог служит нашим целям, или он мешает нам. Французы выдумали права человека и справедливость. Русские целое столетие проповедуют миру правду. Все это детская игра. На самом деле есть только одна цель: господство; есть средства к цели. Между верой в бога и святотатством нет разницы. Мы ее не видим. И пока этого о нас не знали наши враги, все шло отлично. Тотальная война не должна была быть афиширована так скоро — вот в чем ошибка… Слушая эти речи, Джордж приходил к выводу, что перед ним душевнобольной, маньяк. Не выдержав, Джордж уехал к Ордынцевой и пил с ней весь день. Поздно вечером поехали в ресторан «София», и снова с ним была Марина Ордынцева. В этот день Джордж не мог оставаться один. Им овладевала безумная идея: спасти мир собственности! Красный поток вторгается в Европу — надо остановить его, спасти все, что еще можно спасти из доброго старого мира! Он не догадывался, что ради той же цели Савойская королевская династия в Италии уже подвергла домашнему аресту Муссолини. Ради той же цели германские фельдмаршалы забыли адскую машину в кабинете Гитлера, надеясь в случае успеха завтра же открыть перед американскими десантными армиями Запада «линию Зигфрида» — пусть идут до Берлина как можно скорее, без отдыха и ночлега! Тысячи нитей уже связали в один клубок все силы, родственные Пальффи Джорджу, — силы реакции, креста и собственности. Тайные передвижные радиостанции действовали в лесах Польши; парашютисты прыгали с секретными пакетами в окрестностях католических монастырей в глуши Словакии; дипломатические курьеры пробирались из фашистской Болгарии в Каир. И в швейцарском городе Берне, в особняке на Херренгассе, в конторе крупнейшего американского разведчика Аллена Даллеса, белобровая референтша, самозабвенно стучавшая на «Ундервуде», видела не только немцев, но и австрийцев, венгров, слышала обрывки итальянской, румынской речи… В тот вечер Пальффи впервые ощутил всей своей изощренной интуицией, что фюрер проиграл войну, что времена норвежских, африканских, кавказских походов прошли безвозвратно, что судьба Третьей империи уже не может быть спасена никаким новым «секретным оружием», что в этом последнем акте кровавой трагедии больше не нужно бессмысленное сопротивление в Тунисе или в Нормандии, а нужны оборотни — оборотни, способные скрыться в самых глубоких норах, нужны тирольские леса, аугсбургские пещеры и тот спецбарак № 6 в германском концлагере, в горах Северо-Восточной Сербии, где все еще готовятся для новой формы существования влиятельнейшие господа из гитлеровской империи. И в его памяти по какой-то злорадной игре ассоциаций возникал знойный день в Абадане, офицерская каюта на линкоре «Алабама» и энергичный, напористый американец в расстегнутом кителе, его откровенный тост: — Мы начнем там, где Гитлер кончит. А через три недели, выполняя очередное поручение Ганса Крафта, Джордж оказался в горах Трансильвании — там у него была старая надежная явка: бывший учитель математики из отцовского имения, францисканский монах. Джордж давно не был в соборах, и этот, чужой и незнакомый, произвел на него неожиданное действие: напомнил мишкольцское детство. Снова органист, как в детстве, брал первый аккорд — задавал тон хору, а патер гнусаво тянул по-латыни Снова прислуживали мальчики в белых пелеринах с малиновыми капюшонами. Они привычно и ловко, как Джордж в детстве, становились на одно колено. Рядом с Джорджем, на мраморном столбе, высилась бронзовая чаша с водой, и женщины, и старики, и дети, входившие в церковь, окунали в воду пальцы, крестились, шли к скамьям и становились возле них на колени. Пальффи Джордж задумался. Геометрический череп Ганса Крафта возник перед ним на фоне карты Европы, на которой гнездами флажков были утыканы узлы кровавой войны — в предместьях Варшавы, под Болоньей в Италии, — и стрелка, направленная на Амьен и означавшая марш американских танков, начатый недавно в Бретани… Звенели колокольчики, тонко звучал хор, и вдруг Джордж очнулся и увидел, как все молящиеся женщины разом вынули носовые платочки, и слезы потекли — неподдельные, быстрые, горячие вдовьи слезы. И Джордж понял, что молятся о погибших в этом году. Бывший преподаватель математики и физики в Мишкольце, старый учитель Джорджа, в рясе, с крестом на груди, приблизился в эту минуту к нему и высоко к его губам протянул свою длинную руку. Потом они ушли по горной дороге далек» за город, и Маурус (монашеское имя учителя математики) подробно рассказал Джорджу, что произошло в эти дни с его отцом. Началось с того, что Гитлер вызвал военного министра Венгрии и в истерической форме предупредил, что он не допустит повторения уроков Италии. При этом упоминалось имя Пальффи Артура. О, там неплохо поставлена служба осведомления. После этого «Старому Q» нечего было терять, и день спустя на рассвете генерал-полковник выехал на фронт к венгерским корпусам — отдать приказ об отходе с позиций. Тайная полиция Гиммлера, все знавшая от предателя-сала шиста, устроила засаду из танков и автоматчиков. Германский генерал под угрозой расстрела приказал Пальффи Артуру отменить отход войск. Тот отказался, его объявили предателем и отвезли в Будапешт, в гестапо. Маурус рассказывал о том, что происходит на венгерской земле. Богатые крестьяне раздают скот родственникам, чтобы скрыть его от коммунистов. Монахи, снабженные мотоциклами, развозят по деревням слух о том, что скоро придут англичане и надо спрятать зерно. Но батрацкая молодежь почти поголовно вступает в Демократический союз. В северных имениях Пальффи — в тех, что уже заняты красными войсками, — батраки подали более тысячи заявлений с требованием наделить их землей, и даже местный врач, когда «наш человек» навестил его, сказал, не задумываясь: «Нет, я не пропаду с народом: раньше я лечил одного графа, а теперь у меня будут сотни пациентов». Монах был злобен и суров. Крест с золотой цепью и аметистами на его груди сверкал, как разящее оружие. Ненависть его к коммунистам заставила Джорджа устыдиться своей минутной расслабленности, пережитой в костеле. — На рассвете я буду снова в строю, отец Маурус. Благословите, иду на смерть! — сказал Пальффи Джордж. И жестокий монах ничего не придумал, кроме звенящей латыни: — De sanguine fuso violae nascuntur [44]. Расставшись с монахом. Пальффи Джордж не сразу вернулся в гостиницу. Ему нужно было остаться одному хоть на час. Он ушел в пыльные кустарники, в лиловых сумерках бродил по песку и не жалел воображения, чтобы представить себе план действия. А еще через пять дней, подъезжая к Сегеду, предназначенному для очередной операции, Пальффи Джордж впервые зверски разругался с Гансом Крафтом. Сидя в машине позади, Джордж видел, как по шоссе втягиваются в город автомобильные колонны и пеший сброд армейских тылов. Смеркалось, когда они въезжали в город. И над притихшими улицами и садами пыльное небо подкрашивалось зловещими отблесками- это на Тиссе горел танкер с бензином; над мутной водой колыхалось летучее пламя. Оперативная машина с командой эсэсовцев-исполнителей дожидалась на окраине, в расположении саперов, которые поспешно готовили к взрыву огромные склады. Ганс Крафт предъявил документы и потребовал от обер-лейтенанта, чтобы тот завтра в первой половине дня послал одного из местных обывателей, а именно отставного капитана речного флота Этвёша Дюлу, на Тиссу за свежей рыбой. В бронированном бункере на песчаном пляже немного позже состоялась беседа Ганса Крафта с Пальффи Джорджем — беседа, которая с такой парадоксальностью обнаружила твердость духа сентиментального немца из Баната, слепо державшегося за фантастические замыслы фюрера, и жалкое ренегатство международного разведчика, желавшего сменить хозяина. — У меня есть свой разумный план! — дерзко говорил Пальффи Джордж. — Я знаю отцовский химический завод под Печем, где припрятано двадцать ящиков необработанного морфия. Дайте мне документы на имя греческого негоцианта, запросите вагон-ледник. Мы вывезем все это в Триест. И я спасу вас и себя, да, себя и вас, черт вас возьми! Если на вашей спине не сидит дьявол! Таких разговоров Ганс Крафт еще не слышал. Он молча глядел на Джорджа застывшими глазами и самозабвенно барабанил пальцами по передним зубам. И две стеариновые свечи тянули свои красные языки в черных колечках копоти в сторону бронированной двери, все-таки пропускавшей вечерние воздушные токи. Потом он положил свои женские пухлые ручки на стол перед трусом и с той чистотой произношения, которая всегда изобличала в нем банатского немца, сказал: — Пальффи Джордж, знайте, что вы должны забыть все, что наговорили сейчас, как должны будете вскоре забыть и свое имя. Вы должны кануть в безвестность не так, как вам хочется, а так, как прикажу вам я от имени фюрера! Если понадобится, вы сами станете ловить рыбу или будете чинить мышеловки, лудить посуду и набивать обручи на бочки столько лет, сколько понадобится Германии. И если дощатый крест когда-нибудь вырастет над вашей могилкой над Дунаем, то и этот крест вы будете нести до приказа!.. Да, и вы правы, Пальффи Джордж, ваши глаза отлично видят: на моей спине действительно сидит дьявол! … Нет, фиалки из пролитой крови не рождаются… Когда Пальффи Джордж выпрыгнул из машины на придунайской дамбе, — он совершил третье бегство в своей жизни. Он бежал не только потому, что боялся расплаты, а потому, что не верил. Теперь он уже решительно не верил в нелепую гитлеровскую затею с двойниками. Винтовкой, ножом и топором будет отныне он защищать свои охотничьи замки, дворы, пахотные земли и леса, драгоценности матери, картинную галерею любимой сестры и конюшни ненавистного отца — и тут не дождаться фиалок!.. Он недвижимо лежал на смятом камыше и всю ночь вскармливал свою ненависть воспоминаниями. Он относил на счет коммунизма все — и ссору с отцом, и страшный приговор персиянки, и унизительные балканские мытарства. И он ничего не прощал. Нет, фиалками не прорастет даже седая красавица Марина, безжалостно выброшенная на скотомогильник. Она уже сняла с себя цепи… О, это все-таки страшноватый господин, банатский немец Ганс Крафт! Как он сказал ему, глядя в упор: «Легче надеть на человека цепи, чем снять их с него». Пальффи Джордж знал теперь свой путь — в родные пенаты, в ту детскую комнату, где в окна заглядывают нижние ветви столетних ив. Вот только нога. Отлежаться… Никогда он еще не голодал так мучительно. На третий день ему послышался дальний колокольный звон, но это пульс гудел в его ушах. Повсюду русские вели поиск. Пальффи Джордж слышал голоса патрулей, обыскивавших болото. Иногда ненависть к этим людям мешала ему владеть собой. Тогда он окунал высокий лоб в стылую воду, и тотчас кровь начинала гудеть в ушах тревожным башенным набатом.50
Захваченный младшим лейтенантом Шустовым в Сегеде отставной капитан речного флота Этвёш Дюла на первом же допросе у полковника Ватагина показал, что он не Этвёш Дюла, а генерал германской армии фон Бредау, по официальной версии расстрелянный тайной полицией во время кровавой чистки 30 июня. Он был предназначен к уходу в многолетнюю конспирацию личным приказом Адольфа Гитлера, прошел полугодовую школу перевоплощения, находившуюся в спецбараке № 6 германского концентрационного лагеря в Борском медном руднике. Среди восьми вариантов замены, восьми двойников крафтовской картотеки, был выбран именно Этвёш Дюла в городе Сегеде исключительно в силу удобства конспирации: отставной капитан был совершенно одинок; кроме того, фон Бредау отлично владел венгерским языком. Парашютный прыжок по радиосигналу «Пять подков с одного коня» оказался неудачным ввиду близости советских солдат из боевого охранения. Вся операция происходила в панике и в несколько истерической обстановке. На вопрос, где находится штаб перевоплощения, а именно Ганс Крафт и Пальффи Джордж, генерал фон Бредау, помедлив с минуту, ответил: — По моему предположению, их надо искать на горно-лесном аэродроме в Шумадии, в расположении германской войсковой группы «Сербия». Они пробирались туда по советским тылам… Короткостриженый, сероголовый, в очках с золотой оправой, близко придвинутых к глубоким глазницам, он казался слепым и, наверно, действительно был в эту минуту слепым, как камень. — Я должен был похудеть. Мой вес не должен был превышать шестьдесят три килограмма. Я весил семьдесят четыре. Они гоняли меня на корде полгода… Я измучен, господин полковник Допрос шел без карандаша и бумаги. — Хотите кофе? — Благодарю. Мадьяры не так гостеприимны. Ватагин уже знал, что младший лейтенант Шустов грудью защищал фон Бредау от разъяренных венгерских женщин, хотевших растерзать убийцу старого Дюлы самосудом. — Мы, разведчики, — с улыбкой сказал Ватагин, — кропотливо ищем тех, кто укрылся от нас, а народ просто казнит своих врагов… Хорст фон Бредау, скажите, пожалуйста, что вы думаете о поражении гитлеровской Германии? — Меня это не касается. Ватагин промолчал. Всем опытом он знал, что угроза разоблачения всегда страшнее самого разоблачения. И он давал созреть этому ужасу полного разоблачения в душе гитлеровского генерала. Немец спасал какую-то самую важную тайну, если так откровенно рассказывал многое. Сквозь неутомимый мокрый шорох дождя за окном слышалось, как вдали, в городском комитете Коммунистической партии, разучивали русскую песню «Широка страна моя родная…» Ее пели на венгерском языке хорошие голоса. Ватагин и фон Бредау молчали, как будто в самом деле слушали песню. — То, о чем я спросил вас, имеет прямое отношение к вашей судьбе, — настойчиво повторил Ватагин. — Моя война кончилась. Я уже поднял свой воротник. Еще мой отец в 1918 году сказал мне: «Когда немец поднимает свой воротник, для него война кончилась…» — Вы врете, генерал! Вы боретесь даже сейчас, хотя вы должны наконец осознать безнадежность борьбы. Отвечайте — зачем вы решили поселиться в Сегеде? Фон Бредау молчал. Он, видимо, боролся с собой и обдумывал самый туманный ответ. — История даст нам еще случай… — сказал он, и в голосе его слышалась лютая ненависть, он уже не скрывал ее. — История даст нам еще случай, и мы не допустим повторения ошибок… Звук воющей бомбы снова войдет в мертвую цивилизацию мира. Мы снова выпустим на волю разрушительные силы, — медленно, почти по складам говорил фашист. — И тогда-то мы уже не повторим наших ошибок. — Напрасно вы так вызывающе держитесь, — терпеливо-предостерегающим тоном заметил Ватагин. — Ведь разговариваем мы с вами не в сорок первом году, а на пороге конца… — Нет, и не в конце войны! — подхватил гитлеровский оборотень. — Эта война кончилась. А мы ведем с вами беседу уже как бы между двумя войнами. Славка Шустов, забыв свои обязанности, уставился на немца и слушал в оба уха. Лицо его выражало мальчишескую отвагу. Все понять, все запомнить, не упустить ни одной страшной подробности этого разговора. Ватагин почти с умилением поглядел на него. «Ишь, глядит, как гусь на зарево!» — подумалось весело. И вдруг, именно от присутствия Славки Шустова при допросе пойманного крупного зверя, пришло знакомое старому чекисту чувство: вот он снова лицом к лицу с заклятым врагом Родины и коммунизма, как бы у самой крайней кромки нашего мира. Сколько хороших людей там, у нас дома, учат, лечат, варят сталь, пишут книги… Много бы дали они за то, чтобы хоть в щелку взглянуть на этого фон Бредау, — такое зрелище удивительно освежает голову, дает ясность мысли, укрепляет волю… — Что ж, господин… Этвёш Дюла, — сказал Ватагин, беря телефонную трубку, — видно, вам на роду не написано чинить старые мышеловки. Уведите его, товарищ младший лейтенант. Слепые глаза фон Бредау ожили на секунду, когда уже у дверей он обернулся: — Как вы сумели расшифровать?… — Вопросы будем задавать мы, — любезно напомнил Шустов.51
Радиопеленгация подтвердила слова задержанного резидента, и через горы и леса Шумадии устремился отряд майора Котелкова. Взвод мотоциклов, броневик, бронебойщики на двух грузовиках мчались в то глухое ущелье, где на единственной пригодной площадке на высоте альпийских лугов по какой-то загадочной причине еще сохранился германский аэродром. В ущелье вошли без выстрела. На задворках сербской деревни неснятым кукурузным полем бежали немцы, за ними не стали охотиться — не до них! Дорогу загромождала брошенная противником боевая техника: длинноствольное орудие поперек колеи, миномет у колодца. В неезженых глубинах горного ущелья орудия стояли в неестественных позах, будто они со всей Европы сбежались сюда в ужасе и здесь их настигла внезапная мучительная смерть. С гор доносились глухие отзвуки боя — сражались югославы. Может быть, за всю войну не было такой сложной обстановки, как в эти дни октября 1944 года на севере Балканского полуострова. Танковые соединения советских войск совместно с югославской Народно-освободительной армией штурмовали Белград. Там засел фельдмаршал фон Вейхс. Немцы ожесточенно сопротивлялись: им нужно было выиграть время, чтобы дать вытянуться с юга — из Греции — своим уходящим по горным ущельям измученным: и потрепанным войскам. Бой шел под Белградом, но в горно-лесистом районе к востоку еще находились другие окруженные немецкие группировки — силой до четырех дивизий. Путь на север, через Дунай, им был закрыт: там стремились на запад по равнинам Венгрии и Воеводины советские войска двух фронтов: Второго и Третьего украинских. И немцы растрепанными массами пробивались через шоссе в обход к югу от Белграда, чтобы соединиться с основными колоннами, на сотни верст растянувшимися по балканским дорогам. Младший лейтенант Шустов ехал на мотоцикле в голове боевого охранения. Вдруг он притормозил — за поворотом дороги двигалась беспорядочная толпа. Это немцы и четники — человек тридцать, — устремившиеся из гор на шоссе. Шустов дал из ракетницы условленный сигнал. Броневик вырвался вперед, заработали пулеметы. Немцы побежали под обрыв. А через полчаса — новая встреча. Югославы! Увидев советских мотоциклистов, они стали просто выхватывать их из седел в свои могучие объятия. Показались их раненые, бредущие в арьергарде отряда. Славка большими глотками пил из поднесенного кувшина козье молоко — пахучее, теплое… — Кто тут мешает движению колонны! Это майор Котелков появился в голове боевого охранения. Он в «виллисе», он не признает рукопожатий на войне. — Так-то, хлопцы, выходите на шоссе, тут уж мы докончим! — крикнул Котелков югославам и тронул шофера за плечо. Майор уехал, а югославы долго еще стояли, как будто оберегая продолговатый пустырек, оставшийся в толпе от машины. Догнав Котелкова, младший лейтенант как мог деликатнее напомнил ему о некоторых советах полковника. — А вы не учите! — крикнул Котелков. — Набили руку в адъютантах реляции писать! Научитесь командовать боевым охранением. И они разъехались: мотоцикл ушел вперед. Славка мчался и думал о том, что не везет ему в жизни. Вот он уже и в боевой операции, так нет с ним Ивана Кирилловича. Полковник, когда уже уселся в командирскую машину рядом со Славкой, был вызван к телефону. Командующий отменил его поездку — взял с собой на какое-то новое задание. Славка видел, как был огорчен Ватагин; слышал, как обстоятельно скрипел на нем ремень, пока он с невозмутимым видом назначал старшим майора Котелкова. Тот сразу же пересадил Шустова подальше от себя: с «виллиса» на мотоцикл. Свежая могила, щедро засыпанная цветами, виднелась у дороги. Три девочки-сербиянки спускались по горной тропе к могиле, в руках у них зажженные свечи и сплетенные из цветов веночки. А сами — в празднично ярких, рыжих камзолах. Славка притормозил: — Чья могила? — Нашего Бранко. Тут бой был. Сегодня похоронили. — Чего ж вы такие нарядные? — не утерпев, спросил Славка. — Белград освобожден. И Славка, сняв фуражку, постоял под обгорелой сосной у свежей могилы — вчетвером с сербскими девочками в ярких охряных камзолах, В горах звуки боя сливались в общий гул. Только пулеметы сохраняли пунктирную отчетливость звука. Третьи сутки немцы — группа аэродромного прикрытия — искали боем пути отхода из горного ущелья, но кто-то преграждал им дорогу и отбрасывал назад. — Понимаете, это югославы! Они стекаются с гор, как на музыку! — возбужденно докладывал Шустов майору. — А ну как запросит штаб — кто сосед справа? — усмехнулся Котелков из машины. Линии боя в самом деле не было; вернее, она как бы покачивалась. Словно огромная цепь росла и росла через леса и горы, охватывая германский аэродром. В осеннем бору то и дело выходили из-за деревьев югославские дозорные и автоматами показывали дорогу, усыпанную желтой листвой. Вдруг где-то впереди удивительно и сказочно зазвучала гармоника. Шустов прибавил скорость. На лужайке в свете костра, озарившего лохматые столетние дубы, плясали бойцы. Мелодия стремилась монотонно и бешено. Вооруженные люди, обняв друг друга за плечи, длинной чередой бежали на месте. Цепь едва двигалась слева направо, меж тем как ноги в сыромятных обувках отбивали четкий ритм.
Сутулый и горбоносый серб в короткой черной, вышитой шелком безрукавке подошел к мотоциклу Шустова. Это был командир одного из маленьких отрядов, стекавшихся из лесов и гор на звук боя. Он был перепоясан патронташами и увешан гранатами.
— Аэродром взят в клещи. Ночью подойдет подкрепление, будем штурмовать. А пока у нас полчаса передышки: свадьба, — после первых слов приветствия рассказал сербский командир. — Санитарка Зага уходит в Белград. Ведь Белград свободен! Вы слышали об этом? Вот и остались живы наши дорогие студенты Зага и Душан. Полчаса передышки — их свадьба!
Может быть, от усталости слезы выступили на глазах у Славки. Он вспомнил свое прощание с Дашей. «Будет тебе еще свадьба!..» — сердито сказала она.
В буйном веселье горной свадьбы было что-то призрачное. Всё быстрее двигались слитые силуэты в высоких меховых шапках. Обняв друг друга за плечи, люди плясали, и карабины вздрагивали у них на груди. Она росла — эта цепь. Народ, доживший до дня освобождения своего Белграда, ликовал сегодня, видно, по всем лесам и горам. Лихая горская пляска вырабатывала ритм, все более шатучий и грозный. Цепь росла, то и дело кто-нибудь еще вставал от костра, на ходу надевал карабин на шею, разрывал цепь танцующих и тотчас замыкал ее собою.
— Разрешите и мне, товарищ командир! — с задором попросил Шустов.
Позади еще не слышался шум наших моторов. Худощавый и стройный Славка прошел мимо низких волов, которые жевали сено у повозок, приблизился к танцующим воинам, разорвал цепь и устремился вместе с ними…
— Ты русский? — спросил его на бегу сосед.
— Я русский. Нас много тут! — крикнул в ответ Славка.
— Это «коло»! Хорошо?
Яростная гармоника, короткие выкрики и смутный гул пляшущих ног заглушали их отрывистый разговор.
— Мы танцуем «коло», это моя свадьба! — крикнул серб.
— Ты Душан?
— Откуда знаешь? — удивился серб, но ответа не стал ждать. — Ты мотоциклист?
— Да.
— Я тоже мотоциклист…
Цепь едва двигалась слева направо, меж тем как ноги в сыромятных обувках отбивали четкий ритм.
Сутулый и горбоносый серб в короткой черной, вышитой шелком безрукавке подошел к мотоциклу Шустова. Это был командир одного из маленьких отрядов, стекавшихся из лесов и гор на звук боя. Он был перепоясан патронташами и увешан гранатами.
— Аэродром взят в клещи. Ночью подойдет подкрепление, будем штурмовать. А пока у нас полчаса передышки: свадьба, — после первых слов приветствия рассказал сербский командир. — Санитарка Зага уходит в Белград. Ведь Белград свободен! Вы слышали об этом? Вот и остались живы наши дорогие студенты Зага и Душан. Полчаса передышки — их свадьба!
Может быть, от усталости слезы выступили на глазах у Славки. Он вспомнил свое прощание с Дашей. «Будет тебе еще свадьба!..» — сердито сказала она.
В буйном веселье горной свадьбы было что-то призрачное. Всё быстрее двигались слитые силуэты в высоких меховых шапках. Обняв друг друга за плечи, люди плясали, и карабины вздрагивали у них на груди. Она росла — эта цепь. Народ, доживший до дня освобождения своего Белграда, ликовал сегодня, видно, по всем лесам и горам. Лихая горская пляска вырабатывала ритм, все более шатучий и грозный. Цепь росла, то и дело кто-нибудь еще вставал от костра, на ходу надевал карабин на шею, разрывал цепь танцующих и тотчас замыкал ее собою.
— Разрешите и мне, товарищ командир! — с задором попросил Шустов.
Позади еще не слышался шум наших моторов. Худощавый и стройный Славка прошел мимо низких волов, которые жевали сено у повозок, приблизился к танцующим воинам, разорвал цепь и устремился вместе с ними…
— Ты русский? — спросил его на бегу сосед.
— Я русский. Нас много тут! — крикнул в ответ Славка.
— Это «коло»! Хорошо?
Яростная гармоника, короткие выкрики и смутный гул пляшущих ног заглушали их отрывистый разговор.
— Мы танцуем «коло», это моя свадьба! — крикнул серб.
— Ты Душан?
— Откуда знаешь? — удивился серб, но ответа не стал ждать. — Ты мотоциклист?
— Да.
— Я тоже мотоциклист…
52
В ту же ночь, по поручению своего командира, Душан вел советских автоматчиков и бронебойщиков на альпийский луг, служивший немцам последним аэродромом в горах Шумадии. Накануне он лично допрашивал пленного из аэродромной роты. Тот все рассказал: позапрошлой ночью из Германии самолет доставил какого-то тучного начальника; его готовят сбрасывать где-то на парашюте. На аэродроме полным-полно эсэсовцев. В двух автомашинах живут над обрывом важные эсэсовские господа — из-за их тайных махинаций все тут могут навсегда остаться. Пленный набросал Душану схему аэродрома. Шли пешком, таща по двое бронебойные ружья по каменистым оползням, головокружительными тропами, в обход немецких застав. Броневик, грузовики и почти все мотоциклы остались внизу, у костров. Славка и Душан — лишь двое — вели свои мотоциклы. Из-под заднего колеса мелкий гравий летел столбом, осыпал Шустова, согнувшегося над рулем, и Душана, который сбоку налегал на крыло у подфарника и на спинку люльки. — Все спицы полетят! — хрипел Славка. — Взяли! — страшно шептал Душан. Потом протаскивали по оползню второй мотоцикл. Душан был молод, но сед (он был серо-седой, как седеют только блондины), рослый, по-сербски спокойный, с крючковатым подбородком. До войны работал телефонным монтером в Нише, потом учился в Белграде. Еще в лагере, у костра, они со Славкой подружились, как могут сдружиться два мотоциклиста. На Славкином мотоцикле подгорели контакты. «Искра пропала…» — обиженным голосом прогудел младший лейтенант. И, положив свой мотоцикл, Душан присел рядом. Они быстро поправили дело. А потом в пути Славка коротко заметил: «Задние фары погаси!» Серб оглянулся: верно, забыл выключить красные светлячки. Славка испытывал братскую нежность к этому седому парню, незнакомому и такому близкому во тьме горного ущелья — близкому и по родству ненависти к общему врагу, и по профессии… Душан поделился с ним своими соображениями, как захватить живыми важных господ на аэродроме. План Душана был прост и ясен: на двух мотоциклах, без одного выстрела, они выскакивают на летное поле; Душан гранатами зажигает самолеты — «посветить, пошуметь надо!»; Славка блокирует важных господ «прямо в постелях», то есть в автомашинах, покуда немцы не побегут врассыпную. Шустову план показался разумным. Котелков насупился, отвел в сторону младшего лейтенанта, сказал ему доверительно: — День год кормит, понял? — Не понял. — Что ж ты, глупый, не понимаешь! — прищурился Котелков и отошел подальше. И в ту же минуту Славка — задним умом крепок — догадался: Котелков намекнул на то, что будут награды и не к чему вмешивать в это хлебное дело посторонних. Кровь прихлынула к лицу Славки, он даже фуражку заломил на затылок от негодования, молча поглядел вслед майору. …Была глухая ночь, когда увидели под собой альпийский луг и на нем летное поле с двумя стартовыми дорожками. На вид люди, вышедшие к цели, были спокойны. В горах по ночам уже подмораживало — кто-то грелся, притопывая ногами, и никто ему не сказал: «Погоди, сейчас жарко будет», хотя эта мысль пришла в голову многим. Кто-то перекладывал автомат на груди поудобнее. — У тебя есть девять на двенадцать? — спросил Шустов у Душана. И тот понял и дал ему требуемый ключ. — А невеста есть у тебя? — подумав, спросил, в свою очередь, Душан. Славка быстро вскинул голову: — Есть. Скоро свадьба будет… А твою я видел. — У меня нет невесты. У меня жена! — гордо сказал седой парень. Чей-то фонарик медленно плыл, покачиваясь среди луга, — какой-нибудь немецкий механик или ефрейтор аэродромной роты шел к себе в землянку. В капонирах виднелись истребительные машины. Три транспортных самолета стояли у стартовой дорожки. Вдали темнели глинобитные сакли — там, наверно, жили летчики. Над обрывом в землянках аэродромная рота. Когда кто-нибудь выходил из землянок, мелькал желтый свет: значит, в землянках электрическое освещение и немцам будет трудно видеть сослепу в первые минуты. — Ну что, нацелился? — спросил Душан. — Быстротой возьмем. — Он, черт, оврагом загородился. — Проскочим. Лишь бы майор дал команду. Между тем майор Котелков скрытно разводил автоматчиков. Короткими перебежками, не похожий на себя, младший лейтенант Шустов приблизился к майору. Тот находился в том азартном состоянии, когда к нему не подступись. — Не выполняете!.. — бешено шептал он кому-то среди камней. — Разрешите действовать, товарищ майор? — задохнувшись, спросил Шустов. — Куда ты там, к черту… Ложкой рта не сыщешь! — Товарищ майор, медлить нельзя… Улетят. Вон уже пронюхали, глядите! — Славка даже рассмеялся, и получилось от волнения злорадно: — Внезапность… Эх! Котелков исподлобья поглядел на летное поле, по которому действительно бежали три-четыре огонька, и, точно это его убедило, злобно крикнул Шустову: — Давай! Только помни: споткнешься — облепят, как мухи дохлую падаль… Видно не будет, где тут жил со своим «Цундапом» ватагинский адъютант!.. Котелков хотел сказать еще что-то, но Славка уже сидел в седле своего мотоцикла. Душан тоже ударил ногой — зажигание! Два мотоцикла, виляя мимо Котелкова, пошли с горы набирать скорость.53
То, что произошло в следующие несколько минут, никто потом не мог рассказать точно — все видели по-разному. Котелков поднял ракетницу и выстрелил, посмотрел на патрон, зарядил снова и еще раз выстрелил. Над лугами и скалами поплыли две красные ракеты. Тотчас откликнулись автоматным огнем дальние и ближние холмы, ударили бронебойки. Немцы отозвались огнем из самолетов, из укрытий у землянок. И бой загорелся — странный, непонятный.
Выскочив на луг, Славка слился со своей машиной. Вот она, последняя резиденция Крафта! Была секунда, когда он даже увидел Крафта, или так ему показалось: размахивая тонкими кистями рук, от машины к машине бежал человек, совершенно не владеющий своим телом, в сером эсэсовском мундире. Он упал от его выстрела, но быстро вскочил, рванулся в открытую дверку машины.
— Ага, чижик! Вот ты где!..
Только сейчас, свалившись на всем ходу с мотоцикла, Славка понял, что дышать ему нечем. Он задохнулся, дышал широко открытым ртом. Кто-то бежал на него с пистолетом в руке. И Славка метнул гранату. Он видел, как того, бежавшего на него, крутнуло в дыму разрыва, как несколько раз он перевернулся вокруг себя, не падая, и вдруг плашмя, всем телом шваркнулся о кузов машины… Стекла летели со звоном позже взрыва.
И когда Шустов вскочил в окопчик возле машины, там еще было полно дыма. В дыму он поднял немецкий автомат и бросил его в угол. Он увидел еще нишу для патронов, лесенку для выскакивания и водоотводный колодец.
Котелков поднял ракетницу и выстрелил, посмотрел на патрон, зарядил снова и еще раз выстрелил. Над лугами и скалами поплыли две красные ракеты. Тотчас откликнулись автоматным огнем дальние и ближние холмы, ударили бронебойки. Немцы отозвались огнем из самолетов, из укрытий у землянок. И бой загорелся — странный, непонятный.
Выскочив на луг, Славка слился со своей машиной. Вот она, последняя резиденция Крафта! Была секунда, когда он даже увидел Крафта, или так ему показалось: размахивая тонкими кистями рук, от машины к машине бежал человек, совершенно не владеющий своим телом, в сером эсэсовском мундире. Он упал от его выстрела, но быстро вскочил, рванулся в открытую дверку машины.
— Ага, чижик! Вот ты где!..
Только сейчас, свалившись на всем ходу с мотоцикла, Славка понял, что дышать ему нечем. Он задохнулся, дышал широко открытым ртом. Кто-то бежал на него с пистолетом в руке. И Славка метнул гранату. Он видел, как того, бежавшего на него, крутнуло в дыму разрыва, как несколько раз он перевернулся вокруг себя, не падая, и вдруг плашмя, всем телом шваркнулся о кузов машины… Стекла летели со звоном позже взрыва.
И когда Шустов вскочил в окопчик возле машины, там еще было полно дыма. В дыму он поднял немецкий автомат и бросил его в угол. Он увидел еще нишу для патронов, лесенку для выскакивания и водоотводный колодец.
 Танцующий на краю его автомата огонь мешал ему видеть и делал всё впереди темным. Но когда Славка менял диск, он видел, как из домика на краю луга выбегали стремительные фигурки. Это были полуодетые немецкие летчики, они бежали к своим заранее назначенным на случай тревоги окопам. Но некоторые тут же падали среди камней, не то подкошенные огнем, не то чтобы одеться и застегнуться, лежа в камнях, не то просто, чтобы глаза привыкли к темноте. И снова, приложась к автомату, Славка видел только порхающий у края ствола огонек.
Весело пылали подожженные бронебойщиками самолеты, и летное поле освещалось теперь этим желтым пламенем. Там, где транспортные машины стояли тесно, — среди пучков огня металось что-то черное. Эсэсовцы, отстраняясь от огня, видели из-под руки такое, что вселяло в них ужас: черный силуэт мотоциклиста метался среди самолетов и забрасывал их гранатами. Он казался неуязвимым. Пламя, которое всем внушает инстинктивный ужас, не пугало его, и он один среди полыханья и взрывов, в крутых виражах, разворачивал свой мотоцикл.
Когда Шустов увидел мотоциклиста, он сразу вспомнил, что это Душан. Стрекотанье адского его мотоцикла сливалось с треском полыхающего пламени на крыльях самолетов и звоном коробящегося, сгибаемого огнем железа.
Вдруг Славка заметил две фигурки — они выскочили сбоку, из землянки, и побежали к нему. Вот еще, правее… Еще немного… Это атака… В горячечном пылу боя он шевелил губами и произносил какие-то непонятные ему самому, но верные слова.
— Эх ты, Душан! — растроганно шептал он. — Молодец, Душан! — Он нажимал на спуск, и немцы исчезали в камнях. — Еще очередь!.. Нет, ты погоди…
И так, обращаясь то к другу-сербу, то к дюжему эсэсовцу, бежавшему на него, он бил из автомата, высовывался и металгранату, менял диск и снова бил, бил…
А эсэсовцы всё ползли и ползли. Захваченный целиком боем. Славка и не подозревал, из-за чего они хлопочут, что им так надо здесь; он не догадывался, что это потому, что он, Славка Шустов, отрезал от них самую душу аэродрома — раненного им руководителя колонны Ганса Крафта, из-за которого оставались здесь, в ущелье, все эти смертники… Славка был спокоен и даже душевно счастлив и уже не думал ни о чем в боевом порыве…
Чем меньше становилось гранат и патронов, тем ближе подползали эсэсовцы. Чем ближе становилась смертельная опасность — «Ну, вот и все, отжил я!», — тем равнодушнее к этому становился Славка Шустов, потому что очень просто и с каждой минутой яснее понимал, что все его силы использованы до конца. Все способности его молодого тела, его хорошей души, зорких глаз, сильных рук, когда-то носивших Дашу до самого шалаша у реки, израсходованы полностью.
Он бы еще мог жить, да нет патронов. «На Шипке все спокойно…» — вдруг выплыло в памяти.
Он хотел жить, носить Дашу, чтобы она смеялась ему в плечо, чтобы гроза его вымочила и костер высушил, чтобы мяч летал над волейбольной сеткой и гасить этот мяч без продыха, чтобы книгу прочитать в один присест и в подмосковную «электричку» вскочить на полном ходу. Но это уже от него не зависело.
Тупой удар — совсем нестрашный! — и перед глазами поплыли оранжевые пятна, точно в ярких рыжих камзолах сербские девочки прошли мимо него и растаяли.
А выстрелы на летном поле становились всё реже. И немцы, видимо, не собирались больше воевать. Огонь становился красным и фыркал снопами, когда добирался до очередного бака.
Танцующий на краю его автомата огонь мешал ему видеть и делал всё впереди темным. Но когда Славка менял диск, он видел, как из домика на краю луга выбегали стремительные фигурки. Это были полуодетые немецкие летчики, они бежали к своим заранее назначенным на случай тревоги окопам. Но некоторые тут же падали среди камней, не то подкошенные огнем, не то чтобы одеться и застегнуться, лежа в камнях, не то просто, чтобы глаза привыкли к темноте. И снова, приложась к автомату, Славка видел только порхающий у края ствола огонек.
Весело пылали подожженные бронебойщиками самолеты, и летное поле освещалось теперь этим желтым пламенем. Там, где транспортные машины стояли тесно, — среди пучков огня металось что-то черное. Эсэсовцы, отстраняясь от огня, видели из-под руки такое, что вселяло в них ужас: черный силуэт мотоциклиста метался среди самолетов и забрасывал их гранатами. Он казался неуязвимым. Пламя, которое всем внушает инстинктивный ужас, не пугало его, и он один среди полыханья и взрывов, в крутых виражах, разворачивал свой мотоцикл.
Когда Шустов увидел мотоциклиста, он сразу вспомнил, что это Душан. Стрекотанье адского его мотоцикла сливалось с треском полыхающего пламени на крыльях самолетов и звоном коробящегося, сгибаемого огнем железа.
Вдруг Славка заметил две фигурки — они выскочили сбоку, из землянки, и побежали к нему. Вот еще, правее… Еще немного… Это атака… В горячечном пылу боя он шевелил губами и произносил какие-то непонятные ему самому, но верные слова.
— Эх ты, Душан! — растроганно шептал он. — Молодец, Душан! — Он нажимал на спуск, и немцы исчезали в камнях. — Еще очередь!.. Нет, ты погоди…
И так, обращаясь то к другу-сербу, то к дюжему эсэсовцу, бежавшему на него, он бил из автомата, высовывался и металгранату, менял диск и снова бил, бил…
А эсэсовцы всё ползли и ползли. Захваченный целиком боем. Славка и не подозревал, из-за чего они хлопочут, что им так надо здесь; он не догадывался, что это потому, что он, Славка Шустов, отрезал от них самую душу аэродрома — раненного им руководителя колонны Ганса Крафта, из-за которого оставались здесь, в ущелье, все эти смертники… Славка был спокоен и даже душевно счастлив и уже не думал ни о чем в боевом порыве…
Чем меньше становилось гранат и патронов, тем ближе подползали эсэсовцы. Чем ближе становилась смертельная опасность — «Ну, вот и все, отжил я!», — тем равнодушнее к этому становился Славка Шустов, потому что очень просто и с каждой минутой яснее понимал, что все его силы использованы до конца. Все способности его молодого тела, его хорошей души, зорких глаз, сильных рук, когда-то носивших Дашу до самого шалаша у реки, израсходованы полностью.
Он бы еще мог жить, да нет патронов. «На Шипке все спокойно…» — вдруг выплыло в памяти.
Он хотел жить, носить Дашу, чтобы она смеялась ему в плечо, чтобы гроза его вымочила и костер высушил, чтобы мяч летал над волейбольной сеткой и гасить этот мяч без продыха, чтобы книгу прочитать в один присест и в подмосковную «электричку» вскочить на полном ходу. Но это уже от него не зависело.
Тупой удар — совсем нестрашный! — и перед глазами поплыли оранжевые пятна, точно в ярких рыжих камзолах сербские девочки прошли мимо него и растаяли.
А выстрелы на летном поле становились всё реже. И немцы, видимо, не собирались больше воевать. Огонь становился красным и фыркал снопами, когда добирался до очередного бака.
54
— Где Шустов? — Несут его… Но Славку не несли — Душан подвез его на мотоцикле. Потерявшего способность передвигаться Крафта притащили на плечах. Сидя на камне перед майором Котелковым, раненный в ногу Крафт попросил разрешения ополоснуться холодной водой. Он причесал мокрые волосы на пробор, но на это ушли все его силы: он не смог сидеть в каретке мотоцикла — его положили плашмя, на коврик.
В пути Шустов очнулся и не понял, что за машина. А это югославы подбросили свою легковую. Душан — за рулем. Позади, над Крафтом, бодрствуют автоматчики. Один положил забинтованную ладонь на плечо немца. Так они ехали, как друзья-товарищи. Мелькали золотые дубы за окном…
— Дай прикурить, — одеревенело сказал Славка.
Душан пошарил — тем привычным, очень мирным движением ищущих спичку рук — во всех карманах. И это движение показалось Славке смешным.
— От мотоцикла прикури, — сказал он, обнаруживая полное непонимание происходящего.
И всю дорогу он стонал… то в памяти, то в забытьи.
Душан только шевелил распухшими губами и косился изредка своим обветренным лицом на русского офицера, укутанного с головой в домотканое сербское одеяло. Этот бело-синий куль, не похожий ни на что, упрямо качался.
— О-о-о!..
— Хорошо хоть дорога сухая, — уговаривал его Душан, зная, что нечем помочь, и еще более замедляя движение.
— Хорошо, что ты едешь. Я тебя полковнику представлю… Будь же ты проклят! Тише! О-о-о!.. — стонал Славка.
— Да что ж я могу, друг! — оправдывался Душан и сам тотчас чертыхался на новом бугорке: — О, черт! Я же считаюсь с тобой, милый…
— Чижика взяли? — сквозь зубы спросил Славка.
Нисколько не задумываясь над незнакомым словом, Душан сразу понял, что речь идет о Крафте, и ответил:
— С нами, друг… О, ччерт!
Душан держал руку на Славкином лбу. Его серо-седая голова покачивалась, как казалось Славке, прямо над ним, и, странная вещь, был он похож на Дашу. Сквозь боль, жар и бред Славка все смотрел на серое, усталое лицо югослава, на седые пряди волос, крючковатый подбородок, а временами мерещилось Дашино курносое, розовое личико. Непохожие, а как брат с сестрой. В гудящей, шершавой голове все тянулась, лепилась и не могла связаться какая-то очень важная, просто необходимая мысль.
Душан, чувствуя, что Славкино беспокойство вызвано не только болью, понял его по-своему.
— Друже Шустов, — сказал он, — не волнуйся ты. Немец в машине. Лежит лицом вниз. Ему страшно.
Немец… Крафт… Вот оно! Сходство! Немец выдумал, что люди похожи черепными коробками и надбровными дугами. Глупости какие, жалкие глупости… Не лицами, а душами, человечностью, как Даша и Душан. Пережившие одно, передумавшие одинаково в Старобельске и под Белградом, воевавшие… Надо полковнику рассказать и Мише тоже… Душан, Даша, душа…
Сидя на камне перед майором Котелковым, раненный в ногу Крафт попросил разрешения ополоснуться холодной водой. Он причесал мокрые волосы на пробор, но на это ушли все его силы: он не смог сидеть в каретке мотоцикла — его положили плашмя, на коврик.
В пути Шустов очнулся и не понял, что за машина. А это югославы подбросили свою легковую. Душан — за рулем. Позади, над Крафтом, бодрствуют автоматчики. Один положил забинтованную ладонь на плечо немца. Так они ехали, как друзья-товарищи. Мелькали золотые дубы за окном…
— Дай прикурить, — одеревенело сказал Славка.
Душан пошарил — тем привычным, очень мирным движением ищущих спичку рук — во всех карманах. И это движение показалось Славке смешным.
— От мотоцикла прикури, — сказал он, обнаруживая полное непонимание происходящего.
И всю дорогу он стонал… то в памяти, то в забытьи.
Душан только шевелил распухшими губами и косился изредка своим обветренным лицом на русского офицера, укутанного с головой в домотканое сербское одеяло. Этот бело-синий куль, не похожий ни на что, упрямо качался.
— О-о-о!..
— Хорошо хоть дорога сухая, — уговаривал его Душан, зная, что нечем помочь, и еще более замедляя движение.
— Хорошо, что ты едешь. Я тебя полковнику представлю… Будь же ты проклят! Тише! О-о-о!.. — стонал Славка.
— Да что ж я могу, друг! — оправдывался Душан и сам тотчас чертыхался на новом бугорке: — О, черт! Я же считаюсь с тобой, милый…
— Чижика взяли? — сквозь зубы спросил Славка.
Нисколько не задумываясь над незнакомым словом, Душан сразу понял, что речь идет о Крафте, и ответил:
— С нами, друг… О, ччерт!
Душан держал руку на Славкином лбу. Его серо-седая голова покачивалась, как казалось Славке, прямо над ним, и, странная вещь, был он похож на Дашу. Сквозь боль, жар и бред Славка все смотрел на серое, усталое лицо югослава, на седые пряди волос, крючковатый подбородок, а временами мерещилось Дашино курносое, розовое личико. Непохожие, а как брат с сестрой. В гудящей, шершавой голове все тянулась, лепилась и не могла связаться какая-то очень важная, просто необходимая мысль.
Душан, чувствуя, что Славкино беспокойство вызвано не только болью, понял его по-своему.
— Друже Шустов, — сказал он, — не волнуйся ты. Немец в машине. Лежит лицом вниз. Ему страшно.
Немец… Крафт… Вот оно! Сходство! Немец выдумал, что люди похожи черепными коробками и надбровными дугами. Глупости какие, жалкие глупости… Не лицами, а душами, человечностью, как Даша и Душан. Пережившие одно, передумавшие одинаково в Старобельске и под Белградом, воевавшие… Надо полковнику рассказать и Мише тоже… Душан, Даша, душа…
55
Из госпиталя просили срочно позвонить. Когда Ватагин вернулся от генерала и ему сказали об этом, он не стал дозваниваться. Это о Шустове. Значит, делают ампутацию. Он выбежал во двор. — Выкатывать? — обгоняя, спросил дежурный адъютант. Это был Буланов, он все понял с первого взгляда. — Пешком добегу. Госпиталь в двух кварталах. Падал первый снег. И такой крупный, что даже часового залепило, он не успевал отряхиваться. Встречная легковая машина с забитыми стеклами остановилась. — А мы к вам, — сказали в открывшуюся дверку. — Я сейчас буду… Проведите его ко мне. Это привезли Крафта на первый допрос. В приемном покое никто ничего не мог рассказать. Дежурный врач недавно принял смену. Сестры отсылали одна к другой. Хирург просил подождать: он еще не вышел из операционной. Ватагин постоял во дворе под снегом, закурил. Живой ли?… Он помнил, как три часа назад, нагнувшись низко к лицу Славки, он сказал: «Ничего, полежишь, война не кончилась», и Славка ответил: «Всё… до лампочки. Вот только жаль, небритый». Врачи насчитали пять ранений, одно серьезное: в область почки. Извлекли из раны зажигалку, которая находилась в кармане и, приняв на себя удар осколка, глубоко вдавилась между ребер. Славка лежал в одиночной палате. Ватагина поразили коричневые ямины на его небритых, впалых мальчишеских щеках. Он лежал на животе, его трясло залпами мелкой дрожи. Казалось, он еще в пылу боя, в руках автомат, и он выпускает сразу полдиска… Залепленный снегом, полковник шагал по двору, курил. Мысль о том, что Славки, может быть, уже нет в живых, казалась нелепой. Вдруг вспомнилось, что в этом же госпитале находится на излечении Даша Лучинина. Вот как встретились… Ватагина окликнули: — Товарищ полковник! У ворот стоял часовой, знакомый еще со Сталинграда: красивый молодой башкир. Тоже весь в снегу, он загадочно улыбался. — Вызвали, а никто не знает зачем, — пожаловался полковник. — А я знаю, — сказал автоматчик, сверкая зубами. — Что ж ты знаешь? — стараясь быть спокойным, спросил Ватагин. — У башкир поговорка есть: «Начатое дело — уже конченное дело». Сделали операцию Шустову! — Не врешь? — задохнувшись, спросил Ватагин. Башкир покачал головой, любуясь радостью большого начальника — полковника. — Жив! — сказал он. Ватагин даже вспотел. Он так ждал этого слова, но, сказанное башкиром, оно показалось сейчас непонятным. Ватагин даже подумал: по-русски ли тот сказал? — А с рукой что? Тоже знаешь? Башкир рассмеялся; как ребенок: — И это знаю! Врач при мне говорил: «Живой будет Шустов, и рука будет целая»… Иди домой, товарищ полковник. Отдохни, спи. Снегопад продолжался. Вот она, последняя зима войны. Дождавшись хирурга, полковник не узнал от него больше того, что сказал автоматчик. Он шел, почти бежал по улице штабного городка. Остановился: «Ничего не случилось, сейчас надо Крафта допросить, а об этом потом»… И снова побежал, тревожа часовых.56
Прошло полгода после этих событий. Было начало марта. Огненная лава войны, точно в воронку, вливалась в Центральную Европу. По ночам несметное множество австрийских, баварских, вестфальских городов возносило в стратосферу дыхание пожаров, и в этом море огня английским и американским летчикам, возвращавшимся из операций — штурманам, стрелкам и радистам «Летающих крепостей», — начинало казаться, будто с нашей несчастной планеты сорвана ее твердая оболочка. Всю зиму агонизировала гитлеровская империя. Солнечным утром 10 марта полковник Ватагин ехал, догоняя войска, по той дороге в Западной Венгрии, что ведет из Веспрема на Сомбатхей. Машину вел, как и прежде, лейтенант Шустов. Со времени захвата Ганса Крафта на аэродроме в горах Шумадии полковник Ватагин и его оперативная группа успели выполнить несколько важных поручений командования: ликвидировали обнаруженные с помощью населения тайные склады оружия, уничтожили боем подпольную организацию «гайдуков Аврама Янку», захватили группу террористов «Дечебал». А Славка и Даша томились в госпитале.
Всю войну Славка боялся ранения, потому что боялся госпиталя. Всегда приходили оттуда бледные, немного чужие, малосильные, и у него было такое впечатление, что не рана, а сам госпиталь делает это с людьми. И с ним все происходило как положено- после операции он до того ослабел, что ночью плакал под одеялом, пока няня не привела Дашу; та, с перевязанной рукой, просидела с ним, как с маленьким, всю ночь напролет. Потом он стал просительно-милым, послушным — врач, сестры и особенно Даша могли делать с ним что угодно. Потом явился аппетит, а с ним — разговорчивость, смешливость. Теперь его знал весь госпиталь. С Дашей они бродили по госпитальному парку. И Славка в припадке здорового эгоизма рассказывал ей об удовольствиях четырехразового питания и вдруг конфузился и нежно обнимал, целовал. Здесь, на присыпанной снегом скамейке, они однажды долго сочиняли докладные записки по начальству с просьбой разрешить им вступить в законный брак.
Полковник Ватагин навещал Славку, но только редко — времени нет, война.
Бывал и старшина Бабин, яблоки приносил; однажды с безразличным видом сообщил, что майор Котелков отправился с новым назначением в Югославию.
— С повышением? — спросил Славка.
— Кажется, с повышением, — хмуро ответил Бабин.
— Нужен он югославам!
И целый день Шустов слонялся по госпиталю — не было настроения ни встречаться с Дашей, ни «козла» забивать на веранде с выздоравливающими. Огорчила новость.
Возвращение к своим было отмечено в одной из вилл на берегу озера Балатон, а эта первая поездка с полковником едва ли не казалась Славке просто свадебным путешествием. Переживали молча: Ватагин любил запах прогретой машины, сидел, высунув локоть в окно на ветер, а Шустов гнал машину, с любопытством оглядывая холмы и поля Западной Венгрии.
Поля сейчас отдыхали. Все вокруг голо, по-весеннему в пепельных тонах. Кое-где — кучки крестьян, они заканчивают раздел помещичьей земли. Вдали хутора с веселой черепицей, по-весеннему лиловые сады, городок — он напоминает о себе только зеленым шпилем и серой башней на горизонте.
— Знаешь, по чьим землям едем?
— Графа Пальффи?
— Да, по бывшим полям графа Пальффи.
Полгода Славка терпеливо дожидался своего часа, когда он сможет выяснить некоторые оставшиеся ему неизвестными обстоятельства загадочной вражеской диверсии. Теперь был подходящий случай. И Славка осторожно спросил:
— Что ж, поймали его?
Ватагин не промедлил с ответом:
— Ушел. Он ведь под автоматным огнем Даши Лучининой выскочил из машины. Раненный, пробирался по болотам, приволокся в свое имение и долго скрывался тут в винном погребе.
— Зачем?
— Верные люди должны были его перебросить на самолете в Швейцарию. Ну, а оттуда, конечно, в Америку У него ведь нет родины. Ему помог бывший управляющий имением. Сам не успел сбежать, но, холуйская душа, обеспечил хозяина. И что ж ты думаешь? Вот она, слепая сила классового инстинкта! Несметный богач, международный разведчик, блестящий офицер, конный спортсмен, мичман американского флота, в последнюю ночь перед уходом со «своими людьми» вышел из подполья, чтобы лично распорядиться, как лучше уничтожить конскую сбрую, плуги и сеялки. Лишь бы не досталось народу!
Славка осторожно провел машину сквозь толпу крестьян, возвращавшихся с поля; в пестром сборище пиджаков и венгерских курток со шнурами выделялись и желто-зеленые шинели солдат, недавно вернувшихся из разгромленной армии.
— Товарищ полковник, расскажите! — по-мальчишески вкрадчиво попросил Шустов.
Ватагин усмехнулся:
— Изволь… Что рассказывать-то?
— Кто были резиденты?
— Крупные лица. Гитлер зря бы их не упрятал на десять лет вперед. Один из них — Мильднер, полковник тайной полиции в Дании. Второй — тоже черномундирный, Бруно Книтель, начальник отдела гестапо, ответственный за проведение специальных мероприятий. Третьего ты сам доставил — капитан речного флота в отставке. Четвертый — доверенное лицо Гиммлера, страшный человек, осуществивший в Польше акцию «АБ», то есть истребивший тысячи интеллигентов…
— Смотритель перевала? — тихо осведомился Шустов.
— Он самый. Вот тут-то они и наследили. Я долго не мог понять, почему они так дорожили альбомом. Ведь в нем было только восемь двойников. Чепуха по сравнению со всей картотекой Крафта. Однако он и не думал переправлять ее за границу с помощью посла. Если же Крафт хотел замести следы, то проще всего было уничтожить альбом. Когда я узнал о существовании картотеки, возня с альбомом стала совсем загадочной. В чем тут заковыка? Оказалось, что смысл надо искать вовсе не в конспирации, а в самой тривиальной чиновничьей психологии. Крафт на допросе очень торжественно сказал мне про смотрителя перевала: «Это был человек самого Гиммлера!» Он считал, что я сразу его пойму. А я очень долго соображал. Подумай только, этот одержимый маньяк, этот не то чтобы образованный, но, во всяком случае, вполне эрудированный тип, воображавший себя современным Ницше, просто-напросто хотел угодить начальству. Альбом с фотографией смотрителя был докладной запиской Гиммлеру, заверявшей, что «его человек» устроен. И ради этого убили Атанаса Георгиева! Ох, какая страшная штука — чиновник. Помнишь, как говорил Котелков?…
— Мы здесь не фиги?…
— Нет, когда речь шла о человеке, умеющем угодить начальству, он с завистью говорил: «Этот службу знает…»
Миновали мост со скоплением военной техники. И снова Славка подкрался к полковнику с неистребимым своим любопытством:
— Важное было дело?
— Судя по тому, что у тебя на груди, да, Слава. Да!
Шустов с наивным самодовольством покосился на орден Ленина, сиявший на новеньком кителе.
— Они снова готовят Европе ужас и опустошение, — неохотно сказал Ватагин. — И это пострашнее сапа. Новое нападение на человечество…
— А как вы догадались, что дело не только в сапе?
— Ты забыл, что воображение ребенка должно сочетаться с терпением ученого, — посмеялся Ватагин.
— А все-таки?
— Самое трудное было в том, что основную диверсию они замаскировали не так, как обычно бывает — каким-нибудь хитрым ложным ходом, — нет, а тоже диверсией. Получился как бы двойной подкоп. Но в конечном счете это и помогло. Ты помнишь показания берейторов и жокеев: резиновые перчатки, сулема, йодная настойка? Все это, я сразу понял, нужно было Пальффи, чтобы навлечь на себя подозрения. Им важно было главное: чтобы мы поездки Ордынцевой посчитали прикрытием для, операции Пальффи, в то время как на самом деле все было как раз наоборот.
— Когда вы это поняли?
— Трудно сказать, потому что трудно вспомнить — полгода прошло. Прежде всего позывные: «Пять подков с одного коня». Не так-то просты немцы, чтобы заниматься такой символикой близко от главной тайны. Я это тогда смутно сознавал. Потом история с македонским монахом…
— Товарищ полковник, как же с моей догадкой? — вмешался Славка. — Ведь она тоже подтвердилась! Я стремился на перевал, потому что логически рассчитал, где искать: в узком дефиле горного шоссе им было легче заражать лошадей. Они же знали, что наши войска будут идти с севера на юг. Вот я и обнаружил смотрителя.
— Твоя догадка была лишь правдоподобна, не более. На самом деле в серии похожих лиц им были нужны наиболее уединенные: их подменять безопаснее. А где же искать уединение, как не в горах! Заметь, что для этого страшного дяди они выбрали из восьми вариантов прежде всего македонского монаха. Он бы и погиб, если б не оказался горбатым и не сбежал к тому же с благословения отца Никодима. Тогда уж они обратились к смотрителю перевала. — Ватагин усмехнулся. — У этих господ был даже термин: «Смерть под псевдонимом».
— А ведь точно! — восхищенно воскликнул Славка.
— Если уж хочешь знать, — продолжал Ватагин, — так с этого изъяна телосложения монаха и начался мой ход мысли. Мне стало ясно, что его отвергли или, как говорят конные ремонтеры, «выбраковали». Этот монах не подходил для какой-то цели. Я стал думать: какая же может быть цель?…
— Что же вам пришло в голову?
— Многое приходило в голову. Зачем, к примеру, для сапной диверсии понадобились радиопереговоры? Кое-что сбивало с толку. Для какого дьявола Ганс Крафт искал альбом на квартире Милочки? Почему убили Георгиева, всё перевернули в дипломатической переписке и ни клочка бумаги не взяли? Ничего нельзя было понять, пока мы имели только одного Леонтовича в альбоме. Надо было, чтобы так хорошо помог нам шахматный мастер Владо… Когда он сказал мне, между прочим, что прежде, чем заняться «Историей венгерского коннозаводства», Ганс Крафт написал «Этюд об асимметрии двух половин человеческого лица», я снова двинулся немножко вперед. Я понял…
А Славка и Даша томились в госпитале.
Всю войну Славка боялся ранения, потому что боялся госпиталя. Всегда приходили оттуда бледные, немного чужие, малосильные, и у него было такое впечатление, что не рана, а сам госпиталь делает это с людьми. И с ним все происходило как положено- после операции он до того ослабел, что ночью плакал под одеялом, пока няня не привела Дашу; та, с перевязанной рукой, просидела с ним, как с маленьким, всю ночь напролет. Потом он стал просительно-милым, послушным — врач, сестры и особенно Даша могли делать с ним что угодно. Потом явился аппетит, а с ним — разговорчивость, смешливость. Теперь его знал весь госпиталь. С Дашей они бродили по госпитальному парку. И Славка в припадке здорового эгоизма рассказывал ей об удовольствиях четырехразового питания и вдруг конфузился и нежно обнимал, целовал. Здесь, на присыпанной снегом скамейке, они однажды долго сочиняли докладные записки по начальству с просьбой разрешить им вступить в законный брак.
Полковник Ватагин навещал Славку, но только редко — времени нет, война.
Бывал и старшина Бабин, яблоки приносил; однажды с безразличным видом сообщил, что майор Котелков отправился с новым назначением в Югославию.
— С повышением? — спросил Славка.
— Кажется, с повышением, — хмуро ответил Бабин.
— Нужен он югославам!
И целый день Шустов слонялся по госпиталю — не было настроения ни встречаться с Дашей, ни «козла» забивать на веранде с выздоравливающими. Огорчила новость.
Возвращение к своим было отмечено в одной из вилл на берегу озера Балатон, а эта первая поездка с полковником едва ли не казалась Славке просто свадебным путешествием. Переживали молча: Ватагин любил запах прогретой машины, сидел, высунув локоть в окно на ветер, а Шустов гнал машину, с любопытством оглядывая холмы и поля Западной Венгрии.
Поля сейчас отдыхали. Все вокруг голо, по-весеннему в пепельных тонах. Кое-где — кучки крестьян, они заканчивают раздел помещичьей земли. Вдали хутора с веселой черепицей, по-весеннему лиловые сады, городок — он напоминает о себе только зеленым шпилем и серой башней на горизонте.
— Знаешь, по чьим землям едем?
— Графа Пальффи?
— Да, по бывшим полям графа Пальффи.
Полгода Славка терпеливо дожидался своего часа, когда он сможет выяснить некоторые оставшиеся ему неизвестными обстоятельства загадочной вражеской диверсии. Теперь был подходящий случай. И Славка осторожно спросил:
— Что ж, поймали его?
Ватагин не промедлил с ответом:
— Ушел. Он ведь под автоматным огнем Даши Лучининой выскочил из машины. Раненный, пробирался по болотам, приволокся в свое имение и долго скрывался тут в винном погребе.
— Зачем?
— Верные люди должны были его перебросить на самолете в Швейцарию. Ну, а оттуда, конечно, в Америку У него ведь нет родины. Ему помог бывший управляющий имением. Сам не успел сбежать, но, холуйская душа, обеспечил хозяина. И что ж ты думаешь? Вот она, слепая сила классового инстинкта! Несметный богач, международный разведчик, блестящий офицер, конный спортсмен, мичман американского флота, в последнюю ночь перед уходом со «своими людьми» вышел из подполья, чтобы лично распорядиться, как лучше уничтожить конскую сбрую, плуги и сеялки. Лишь бы не досталось народу!
Славка осторожно провел машину сквозь толпу крестьян, возвращавшихся с поля; в пестром сборище пиджаков и венгерских курток со шнурами выделялись и желто-зеленые шинели солдат, недавно вернувшихся из разгромленной армии.
— Товарищ полковник, расскажите! — по-мальчишески вкрадчиво попросил Шустов.
Ватагин усмехнулся:
— Изволь… Что рассказывать-то?
— Кто были резиденты?
— Крупные лица. Гитлер зря бы их не упрятал на десять лет вперед. Один из них — Мильднер, полковник тайной полиции в Дании. Второй — тоже черномундирный, Бруно Книтель, начальник отдела гестапо, ответственный за проведение специальных мероприятий. Третьего ты сам доставил — капитан речного флота в отставке. Четвертый — доверенное лицо Гиммлера, страшный человек, осуществивший в Польше акцию «АБ», то есть истребивший тысячи интеллигентов…
— Смотритель перевала? — тихо осведомился Шустов.
— Он самый. Вот тут-то они и наследили. Я долго не мог понять, почему они так дорожили альбомом. Ведь в нем было только восемь двойников. Чепуха по сравнению со всей картотекой Крафта. Однако он и не думал переправлять ее за границу с помощью посла. Если же Крафт хотел замести следы, то проще всего было уничтожить альбом. Когда я узнал о существовании картотеки, возня с альбомом стала совсем загадочной. В чем тут заковыка? Оказалось, что смысл надо искать вовсе не в конспирации, а в самой тривиальной чиновничьей психологии. Крафт на допросе очень торжественно сказал мне про смотрителя перевала: «Это был человек самого Гиммлера!» Он считал, что я сразу его пойму. А я очень долго соображал. Подумай только, этот одержимый маньяк, этот не то чтобы образованный, но, во всяком случае, вполне эрудированный тип, воображавший себя современным Ницше, просто-напросто хотел угодить начальству. Альбом с фотографией смотрителя был докладной запиской Гиммлеру, заверявшей, что «его человек» устроен. И ради этого убили Атанаса Георгиева! Ох, какая страшная штука — чиновник. Помнишь, как говорил Котелков?…
— Мы здесь не фиги?…
— Нет, когда речь шла о человеке, умеющем угодить начальству, он с завистью говорил: «Этот службу знает…»
Миновали мост со скоплением военной техники. И снова Славка подкрался к полковнику с неистребимым своим любопытством:
— Важное было дело?
— Судя по тому, что у тебя на груди, да, Слава. Да!
Шустов с наивным самодовольством покосился на орден Ленина, сиявший на новеньком кителе.
— Они снова готовят Европе ужас и опустошение, — неохотно сказал Ватагин. — И это пострашнее сапа. Новое нападение на человечество…
— А как вы догадались, что дело не только в сапе?
— Ты забыл, что воображение ребенка должно сочетаться с терпением ученого, — посмеялся Ватагин.
— А все-таки?
— Самое трудное было в том, что основную диверсию они замаскировали не так, как обычно бывает — каким-нибудь хитрым ложным ходом, — нет, а тоже диверсией. Получился как бы двойной подкоп. Но в конечном счете это и помогло. Ты помнишь показания берейторов и жокеев: резиновые перчатки, сулема, йодная настойка? Все это, я сразу понял, нужно было Пальффи, чтобы навлечь на себя подозрения. Им важно было главное: чтобы мы поездки Ордынцевой посчитали прикрытием для, операции Пальффи, в то время как на самом деле все было как раз наоборот.
— Когда вы это поняли?
— Трудно сказать, потому что трудно вспомнить — полгода прошло. Прежде всего позывные: «Пять подков с одного коня». Не так-то просты немцы, чтобы заниматься такой символикой близко от главной тайны. Я это тогда смутно сознавал. Потом история с македонским монахом…
— Товарищ полковник, как же с моей догадкой? — вмешался Славка. — Ведь она тоже подтвердилась! Я стремился на перевал, потому что логически рассчитал, где искать: в узком дефиле горного шоссе им было легче заражать лошадей. Они же знали, что наши войска будут идти с севера на юг. Вот я и обнаружил смотрителя.
— Твоя догадка была лишь правдоподобна, не более. На самом деле в серии похожих лиц им были нужны наиболее уединенные: их подменять безопаснее. А где же искать уединение, как не в горах! Заметь, что для этого страшного дяди они выбрали из восьми вариантов прежде всего македонского монаха. Он бы и погиб, если б не оказался горбатым и не сбежал к тому же с благословения отца Никодима. Тогда уж они обратились к смотрителю перевала. — Ватагин усмехнулся. — У этих господ был даже термин: «Смерть под псевдонимом».
— А ведь точно! — восхищенно воскликнул Славка.
— Если уж хочешь знать, — продолжал Ватагин, — так с этого изъяна телосложения монаха и начался мой ход мысли. Мне стало ясно, что его отвергли или, как говорят конные ремонтеры, «выбраковали». Этот монах не подходил для какой-то цели. Я стал думать: какая же может быть цель?…
— Что же вам пришло в голову?
— Многое приходило в голову. Зачем, к примеру, для сапной диверсии понадобились радиопереговоры? Кое-что сбивало с толку. Для какого дьявола Ганс Крафт искал альбом на квартире Милочки? Почему убили Георгиева, всё перевернули в дипломатической переписке и ни клочка бумаги не взяли? Ничего нельзя было понять, пока мы имели только одного Леонтовича в альбоме. Надо было, чтобы так хорошо помог нам шахматный мастер Владо… Когда он сказал мне, между прочим, что прежде, чем заняться «Историей венгерского коннозаводства», Ганс Крафт написал «Этюд об асимметрии двух половин человеческого лица», я снова двинулся немножко вперед. Я понял…
57
Дорога бежала по полям. Славка Шустов, свободно положив руки на баранку, слушал, покачиваясь и вперившись взглядом в набегающее полотно гудрона, а полковник Ватагин рассказывал. И вот что узнал в этот день московский «Сорви-голова» о самой сердцевине той удивительной операции, в которой он чуть не простился с жизнью… Еще в 1912 году художник Шикльгрубер, блуждая по улицам Вены с банатским немцем, уговорил его заняться изучением вопроса о повторяемости человеческого лица. Будущий главарь фашизма уже и в те годы, видимо, обладал маниакальной одержимостью и способностью подчинять себе чужие воли, так как сумел на всю жизнь внушить Гансу Крафту расистскую мысль о том, что если не считать усов и бород, очков, степени облысения, мимики и взгляда, а главное — возрастных различий, то вся белая раса, включая мужчин и женщин, насчитывает строго ограниченное количество портретных типов, или «штаммов». Их можно, наверно, подсчитать. Педантичные изыскания заполнили целую жизнь Ганса Крафта. Его бесконечные коммивояжерские странствования по Балканам предоставляли ему все новый и новый материал: фотографии, обмеры. И он подсчитал! Оказалось, что есть кривая повторяемости человеческого лица, что можно основать статистику сходства. По мнению Крафта, человеческое лицо насчитывало всего лишь 112 530 разновидностей. Гигантская картотека банатского немца после двадцати лет работы позволяла ему для любой разновидности легко находить около десяти двойников. Другое дело, что это могли быть по-разному загорелые или бледные, по-разному причесанные, с различными голосами, с непохожими темпераментами люди — люди разной судьбы: профессора и мясники, лесные охотники и зубные протезисты. До полного сходства еще далеко, но пропорции лиц, обмеры носа, глаз, ушей и лба таковы, что фотографии, наложенные одна на другую, давали как бы один портрет одного человека. Часами просиживал Крафт над своей картотекой, злорадно торжествуя над ничего не ведавшими людьми, тасуя их, как карты, мысленно меняя их судьбы, взаимно замещая их в своем воображении. Ресторанный скрипач из румынского городка в одно мгновение мог стать владетельным князем Оксенгаузеном, а почтенный хорватский историк превратиться в добруджинокого бахчевника, везущего арбузы на воскресный базар… Картотека звала к действию, и Ганс Крафт даже немножко свихнулся от нервного возбуждения, когда на переломе войны вызов в Нюрнберг сказочно повернул его судьбу. Гиммлер счел возможным доложить фюреру о странной коллекции, собранной в Банате одним из фольксдейтчей, а Гитлер самодовольно вспомнил свои венские прогулки с этим самым фольксдейтчем. Значит, зерно его идеи пало на благодарную почву! К этому времени фашистский мессия, подозрительный и запугавший сам себя угрозой террористических актов, обзавелся уже четырьмя двойниками, которые вместо него разъезжали по Берлину и Нюрнбергу в роскошных машинах, одетые, как он, с теми же выработанными жестами и голосом ясновидца. Теперь Ганс Крафт как бы возвращал своему давнему другу долг юности. Встреча состоялась. Гитлер потребовал от Крафта клятвы молчания и показал ему семь фотографий — это были очень нужные господа, для которых банатский немец по воле фюрера должен был найти на Балканах двойников. Фюрер не сказал, что речь идет о трагической возможности поражения и ухода нацистских кадров в подполье на десятилетия до нового реванша, но Крафт и сам все понял: фашистские газеты были полны многоречивых славословий гитлеровским героям Сталинграда, которые предпочли бесславному плену смерть во имя отчизны. Стояла мартовская ростепель 1943 года. Германия уже устала от войны. А Крафт только вступал в действие. Уже через три дня, вернувшись на самолете в Банат, Крафт мог разбросать веером на столе фотографии всех балканских двойников намеченных Гитлером лиц. Однако главная работа только начиналась. Надо было скрупулезно выискать наиболее благоприятные варианты перевоплощения. Фотографическое сходство — вот оно, на столе, под лупой! А все остальное? Привычки, жесты, память, голос, походка, смех, зубы, любовь к пасьянсам или к охоте на зайцев, аппендицит, привычка посвистывать, родинка под правой лопаткой… Чем больше ломал голову Крафт над техникой выполнения задания фюрера, тем становилась сложнее легкая на первый взгляд операция. Ясно было только одно: нужно было начинать новую серию изысканий — обнаружить среди двойников наиболее уединенных, наиболее одиноких, наиболее молчаливых и нелюдимых, с которыми легче было бы свести всю бесконечную сложность личности к простейшим промерам носа, глаз, ушей… Тогда-то и появился новоявленный рейхсдейтч в германском посольстве в Софии. Тогда-то и возник тайный союз Ганса Крафта и Пальффи Джорджа. В должности помощника военного атташе венгерской миссии Пальффи Джордж был таким же, как Ганс Крафт, замаскированным агентом гитлеровской тайной разведки. Он исподволь готовил отвратительную диверсию на случай отхода нацистских войск с Балкан — заражение сапом конского поголовья этих стран. Это ему было нетрудно: блестящий конный спортсмен, известный охотник до лошадей, он мог разъезжать по Болгарии и Румынии, не вызывая ничьих подозрений. К тому же он обзавелся отличным камуфляжем — любовницей Мариной Ордынцевой, которая — просто на счастье! — обладала таким фактом своей биографии, как пропавший четверть века назад горячо любимый жених. В качестве разведчика, как, впрочем, и во всем другом, Пальффи Джордж был в тысячу раз талантливее и удачливее Ганса Крафта. Однако педантизм и маниакальная одержимость Крафта перевешивали. Как только однажды во время загородной пирушки Пальффи Джордж проболтался немцу о том, что вот уже полгода он сопровождает Марину Ордынцеву в ее поездках по захолустным городишкам в поисках поручика Леонтови-ча — «и как же это удобно, если бы вы знали!», — как новая расстановка сил определилась в неделю. Пальффи Джордж был переподчинен Гансу Крафту. Теперь одна диверсия должна была маскировать собой другую: по-прежнему Марина Ордынцева выезжала из Софии по очередному будто бы до нее дошедшему слуху — искать объявившегося жениха, по-прежнему Пальффи Джордж сопровождал ее. Но теперь роли переменились: по существу, главная задача выполнялась теперь Мариной Ордынцевой — она изучала очередного двойника, а Пальффи Джордж со своей диверсией предназначался только для маскировки на случай, если русские заинтересуются этими поездками. Белогвардейская дива и венгерский офицер служили банатскому немцу. Дело пошло на лад! Конспирация новых изысканий Крафта была такова, что Марина Ордынцева — даже она, главная исполнительница замысла! — ничего не знала о том, что она состоит на службе у Гиммлера. Когда Пальффи стал давать ей фотографии лиц, даже отдаленно не похожих на ее несчастного Федю, к его удивлению, Марина легко примирилась с этим. Она понимала, что представляет собой только декорацию для «каких-то там» занятий Джорджа. Она любила его, и этого было достаточно! Экзальтированная, психически неуравновешенная, она втянулась в эти постоянные поездки и поиски, создававшие иллюзию деятельности, заполнявшие ее пустое и страшное существование. Разбуженная литературными переводами страсть к писательству и женское любопытство заставляли ее с необычайной доскональностью выпытывать все подробности жизни человека, интересовавшего Пальффи, — все его привычки, черточки: его голос, звонкий или хриплый, смех, фальшивый или детский, любовь к пасьянсам или к охоте на зайцев. Она вызнавала все это с одержимостью наркомана, увлеченно и самозабвенно. Когда были найдены двойники для всех намеченных в фашистское подполье деятелей, Марину решили убрать. Она больше не нужна была для дела и, хотя и не была посвящена в смысл операции, все-таки знала слишком много. Умерла ли она от сапа или от пули Пальффи в Бухаресте, осталось неизвестным.58
— Минуточку, тут имеется еще одна неясность, — перебил Шустов. — Кто же сторожил картотеку, пока Крафт орудовал в Софии? — Молодец, голова работает! В Банате должен был оставаться надежный человек. Скажу больше: он и отвечал по радио на позывные, когда Крафт и Пальффи заканчивали на месте подготовку очередной подмены. Он вызывал из Германии самолет и в указанном пункте сбрасывали оборотня на парашюте… — Вы говорите так, как будто прожили сами в Банате года три. — Нет, просто мы захватили этого человека. Это был владелец магазина электроприборов. Он скрывался в сторожке католического кладбища. А на радиопередачах сидела у него якобы глухонемая служанка. Два вола, впряженные в повозку, преградили дорогу. Венгерский крестьянин понукал волов. Он снял шляпу, когда советский офицер вылез из машины. — Здравствуйте, товарищ полковник. — сказал он, ломая слова в немыслимом произношении. — По-русски говоришь? — удивился Ватагин. — Был пленным в России в старую войну. — Тут их много, в плену побывавших. — заметил Славка, вспомнив Иожефа из Сегеды. — Откуда едешь? — спросил Ватагин. — Из города. Я за купоросом ездил, для виноградников. Губернатор достал четыре вагона купороса. — Уже успел повидаться с губернатором? — А что он за шишка такая? — простодушно сказал крестьянин и, подумав, добавил, чтобы было понятнее: — С ним можно запросто: он коммунист. Я поймал его на лестнице в ратуше. Ватагин прищурился и — специально для Славки — спросил: — А не прогнал ли тебя коммунист? Дескать, он здесь — «не фиги воробьям давать»? — Я бы ему показал фиги!.. — пригрозил крестьянин, проводя волов мимо машины. — Все ясно… Поедем, Слава, — сказал Ватагин. — Где он сейчас, майор Котелков? — сквозь зубы процедил Славка, когда отъехали от повозки. — С такими, как Котелков, не так-то просто справиться. Кажется, легче с прямыми врагами родины. Этот накрутит, накуролесит, начудит, а свой! Мы же за него будем в ответе. Могут такие нам вред причинить, ох, еще кашу заварят! Какое-то время ехали молча. Пролился весенний дождь. — Безумие все это!.. — помолчав, вернулся к прежней теме Шустов. — В госпитале я на досуге все думал. Безумие — вся их затея! И этот Крафт — безумец. Дома рассказать — не поверят. — Ты прав: не поверят. Ну, скажи, а можно ли поверить, что не безумие все, что делают господа мира, чтобы преградить народам путь к свободе, к счастью? Разве не фантастически глупо все, что они придумывают: то опираются на Чан Кай-ши в Китае, то на кулаков Надь Ференца в Венгрии… Позавчера народная полиция выловила подпольную хортистскую группу «Мы придем!». Листовки на воротах, подметные письма, угрозы, пулеметная стрельба с колокольни. Но ведь они не вернутся, Славка! Как бы ни бесновался Пальффи за океаном — не придут! И не потому, что мы такие напористые и распорядительные, как думает майор Котелков… А потому что вот, гляди… Славка снял ногу с акселератора — машина сбавила ход. Земля была еще пестрая: кое-где снег, кое-где прогалинки. Но на холме глинистая пашня была уже согрета солнцем. Там шел сеятель. — Вот он, главный двигатель истории! — вспомнил Славка и рассмеялся. — Да, главный двигатель истории… — отозвался полковник. Графский батрак, вчера вбивший свои колышки в землю, ничего такого возвышенного не думал о себе — он просто бросал семена в борозды. Он и не размышлял о том, что являла собой его фигура на этом поле вчерашнего боя, на венгерской пашне, сотни лет не принадлежавшей ни ему, ни отцу, ни дедам и прадедам, пахавшим и боронившим ее для счастья и богатства семьи тунеядцев. Он шел, заметный издали, один на взгорбленном поле. Вот поднял из борозды камень и отшвырнул его на межу… И снова шагал, напирая на правую ногу. И правой рукой расчетливо метал — горсть за горстью - семена в тучную пашню. После дождя дорога стала хуже. Полковник Ватагин еще раз взглянул на сеятеля, тронул Славку за плечо: поднажми…

Евгений Рысс и Леонид Рахманов ДОМИК НА БОЛОТЕ
ОТ АВТОРОВ
История, рассказанная в этой повести, может показаться невероятной. Могли ли советские люди, боровшиеся в фашистском тылу, окруженные повседневными опасностями, ежеминутно рискуя жизнью, тратить силы, энергию, время на то, чтобы не только спасти советского ученого, но и предоставить ему возможность продолжать научную работу? Но вот что сообщил в своем докладе тов. П.К.Пономаренко, который во время войны был секретарем ЦК партии большевиков Белоруссии («Известия» от 2 июля 1944 г.): «Выполняя указания центра, минские подпольные организации спасали советских людей. Сколько семей было доставлено на «Большую землю» с помощью белорусских партизан! Ярким примером братской помощи партизан может служить история спасения академика Никольского. Этот старый человек, ученый, имя которого известно далеко за пределами Советского Союза, не успел выехать из Минска в тяжкие дни 1941 года, но он не хотел оставаться у немцев, не хотел работать при них. Тогда минские товарищи, имена которых, быть может, даже неизвестны спасенному ими академику, приняли на себя охрану ученого и его труда. Никольский не только был избавлен от гитлеровских допросов и регистрации, но смог продолжать и закончить свой труд, начатый еще до войны по плану Академии наук БССР. Центральный комитет партии большевиков Белоруссии внимательно следил за работой, и, когда его труд был закончен, автора, все еще находившегося в минском подполье, поздравили с высокой наградой — орденом Ленина. Получать награду академик Никольский благополучно прибыл в Москву». Значительно и волнующе то, что в условиях оккупации, страшного полицейского режима, в условиях кровавого гитлеровского террора ни на один день не переставала действовать советская государственная система. Работали подпольные партийные организации, советская и партийная дисциплина определяла поступки людей, и советское правосудие неуклонно карало преступников.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (Рассказанная Валей Костровой) НАЙДЕНО И ПОТЕРЯНО

Глава первая ПРОФЕССОР КОСТРОВ И ЕГО СЕМЬЯ. ЗНАКОМСТВО С ВОЛОДЕЙ СТАРИЧКОВЫМ
I
Матери своей я совсем не помню. Она умерла, когда мне исполнилось полтора года. Воспитывала меня бабушка, следившая только за тем, чтобы я была сытно накормлена и тепло одета. Отец мой, Андрей Николаевич Костров, в тридцать четыре года был уже профессором. Докторская его диссертация обратила на себя внимание широких кругов биологов в Советском Союзе и за границей. Он очень меня любил, но был слишком занят и увлечен своей работой, чтобы уделять мне много времени. В субботние вечера я всегда приходила к нему в кабинет. Он пытался рассказывать мне сказки, но скоро убеждался, что плохо их помнит, и переходил к темам более ему знакомым. Когда мне было пять лет, он подробно рассказывал о туберкулезных палочках, стрептококках, бактериях чумы и азиатской холеры. Неясно себе представляя настоящий размер этих вредных существ, я стала очень бояться темных комнат. Мне казалось, что за дверью притаился стрептококк, который непременно треснет меня по голове здоровенной туберкулезной палкой. После смерти бабушки мне пришлось заняться хозяйством. Отец в практической жизни был беспомощным. Домработница наша готовила еду и убирала комнаты, но все серьезные хозяйственные и бюджетные вопросы решала я, хотя мне еще не исполнилось тринадцати лет. Я рано привыкла к самостоятельности, чувствуя себя ответственной за многое такое, о чем девочки моих лет обычно не думают. Конечно, это наложило отпечаток на мой характер, но я думаю, что, скорее всего, благодетельный отпечаток. Отец относился ко мне с доверием, которое обыкновенно оказывают только взрослым. Это заставило меня так бояться потерять это доверие, что никакое самое строгое воспитание не могло бы меня больше дисциплинировать. Не следует думать, что я была лишена удовольствий, свойственных моему возрасту. Я успевала бывать и на катке и в театре, я приглашала к себе подруг и ходила в гости сама. Только на праздные размышления — что бы такое от скуки сделать и чем бы заняться — у меня совершенно не оставалось времени. Год шел за годом. Я окончила школу и, после долгих совещаний с отцом, подругами и приятелями, решила идти на биологический факультет. Отец не мог себе представить, что я стану заниматься чем-нибудь другим. Мысль о том, что я буду историком, инженером или юристом, казалась ему такой же нелепой, как мысль о том, что я наймусь кочегаром на океанский пароход. Может быть, я и не была прирожденным биологом, но, проведя все детство в кругу биологических интересов, постоянно слушая разговоры о микробах и вирусах, я как-то привыкла к микробиологии и сжилась с мыслью, что изберу эту специальность. Кроме того что скрывать! — был у меня еще один довод в пользу биологического факультета. К этому времени имя отца значило уже так много, что не было в нашей стране, да, пожалуй, и за границей, биолога, который не знал его трудов. И меня невольно тянуло в ту область науки, где для дочери профессора Кострова всегда была открыта дорога.II
Меня просили рассказать о необыкновенной истории работы над вакциной, а я начала рассказывать о своем детстве. В дальнейшем я буду держаться ближе к теме, однако я должна рассказать о первом своем увлечении, потому что Володе Старичкову, которым я увлеклась, пришлось сыграть в судьбе вакцины очень большую роль. Мы встретились, будучи уже второкурсниками, на одной загородной прогулке. Его привела с собой моя приятельница Лида Земцова. Володя был белобрысый юноша невысокого роста. Поначалу он мне не понравился. Он вежливо пожал мою руку, когда нас представили друг другу, и отошел в сторону. Всю первую половину прогулки он очень оживленно беседовал с Мишей Юркиным и не обращал на остальных ровно никакого внимания. Миша Юркин был знаменит еще в школе тем, что решил стать капитаном дальнего плавания и даже написал куда-то заявление по этому поводу. В конце концов он провалился на экзаменах, не попал на штурманские курсы и сейчас работает плановиком, если не ошибаюсь, где-то в Бугуруслане. Но тогда его дерзкая мысль волновала наше воображение. И вот будущий капитан дальнего плавания, высокий, красивый юноша со стальными глазами и «волевым», как говорила Лида Земцова, лицом, шагал рядом с низеньким, белобрысым Володей и объяснял ему прелести дальних плаваний. Краем уха я слышала их разговор. — Что же вас, собственно, привлекает в морской профессии? — спросил Старичков. — Это, может быть, единственное занятие, — сказал Юркин, — в котором даже в наше время еще сохранилась романтика. Только на палубе корабля, в далеком море может быть по-настоящему счастлив мужчина. Володя немного подумал и кивнул головой. — Я понимаю вас, Юркин, — сказал он. — Но я думаю, что из вас не только капитана, а, пожалуй, даже и третьего штурмана никогда не получится. Я вам сейчас объясню, почему. Он говорил так спокойно, так дружелюбно и так искренне старался разъяснить свою мысль, что Юркин, растерявшись, сначала даже не обиделся. — В каждом деле, — продолжал Володя, — есть обыкновенное и романтическое, есть хорошее и плохое, и, когда выбираешь профессию, мне думается, ее нужно любить даже за ее плохое. Вас же привлекают в морской профессии только те прекрасные минуты, которых в ней, вероятно, так же немного, как и во всякой другой. Все равно как если бы вы решили быть актером потому только, что очень любите, когда вам аплодируют. По-моему, так. А по-вашему? Юркин покраснел и отошел, а Володя посмотрел на него с удивлением и, кажется, действительно не понял, почему тот рассердился. Уже тогда я решила, что мы с Володей будем приятелями. На следующий день мы встретились в институте и с тех пор встречались уже постоянно. Ссорились мы с ним ужасно. У него была противная манера говорить все, что он о тебе думает, прямо в глаза, да еще спокойным, рассудительным тоном, как будто речь идет о совсем постороннем человеке. Мне запомнился такой случай. У нас был студент (я не назову его фамилию, потому что сейчас он известный биолог и его очень многие знают); студент этот поступил в университет, приехав из отдаленной, глухой деревни. В городе все его поражало. Обыкновенный кинотеатр казался ему роскошным храмом искусства, а поездка на трамвае — чуть ли не событием. Когда мы пошли всем курсом в оперетту, его приводил в удивление и восторг каждый фрак и цилиндр. На потеху всему залу, он шумно восторгался усыпанным блестками платьем премьерши. Я считала его глупым, тем более, что на первом курсе учился он очень плохо. Я не понимала, как ему трудно в новых, для него необычных, условиях, в новой среде. Однажды, когда я, по обыкновению, подшучивала над незадачливым студентом, Володя вдруг прервал меня и заговорил так же спокойно, как он говорил всегда. — Знаешь, Валя, — сказал он, — ты напрасно смеешься над ним. Он до поступления в университет не видел микроскопа, пробирки, не встречался ни с одним ученым биологом, а ты росла в семье профессора и с самого детства могла привыкнуть к своему делу. Тебе бы следовало уже напечатать несколько специальных работ, но ты этого не сделала. А он уже учится гораздо лучше, чем учился на первом курсе. Так что, в сущности говоря, он имеет больше оснований смеяться над тобой, чем ты над ним. Мне показалось это невыносимо обидным. Я ответила резко и глупо. Через день я подошла к Володе и сказала, что он был совершенно прав. Однажды я стала просить Володю, чтобы он меня повел на гастроли МХАТа. Он купил билеты. Мы сидели в пятом ряду и в антракте ели пирожные. Он пришел в какой-то старой, очень потертой куртке. Это было в марте. Он объяснил, что его пальто в чистке. Через два дня мне сказал его товарищ по общежитию, что Володя в тот день продал пальто. Я даже расплакалась, так меня мучила совесть. Главное, я ничего не могла ему сказать. Я знала, что он бы обиделся.Глава вторая ПРОГУЛКА ЗА ГОРОД. МЫ СМОТРИМ НА АЛЕХОВСКИЕ БОЛОТА
I
Зато какие чудесные бывали у нас разговоры, когда мы не ссорились! Мы гуляли по улицам, увлеченно обсуждая вопросы, которые в этом возрасте кажутся самыми важными, готовились вместе к зачетам, ходили в кино и считали — я, по крайней мере, — что мы большие друзья. И вот наконец настал день, один из лучших дней в моей жизни, после которого мы так неожиданно и так надолго расстались. Апрель в наших местах всегда бывает дождливым, и до начала мая редко устанавливается ясная погода. И вдруг выдался необыкновенно теплый, солнечный день. В одиннадцать часов утра Володя сдавал моему отцу основы микробиологии. Мы условились встретиться после зачета. Отец продержал его очень долго. Я уже начала волноваться, когда Володя наконец появился. Вид у него был такой встрепанный, что я даже испугалась. — Провалил? — спросила я. Я знала, что от моего отца всего можно ждать. Володя покачал головой: — Пятерка. Мы вышли из подъезда университета. Солнце светило вовсю. Впервые в этом году я увидела сухой асфальт. — Какая ранняя весна! — сказала я и повернулась к Володе. Он стоял, щурясь от солнца, и лицо у него было растерянное. — Пойдем, — сказала я решительно. — Тебе надо проветриться. Володя улыбнулся, и мы пошли по весенним, шумным улицам города. Все вокруг было удивительно нарядным. Фасады домов казались яркими, машины сверкали, как будто их заново отлакировали, и даже трамвай был до того ослепительно красен, что на него больно было смотреть. Володя постепенно приходил в себя. Когда мы дошли до окраины города, он совсем развеселился. Нам все нравилось в этот день. — Смотри, какой щенок! — восторгался Володя. — А лужа какая чудная! Видишь, в ней облака плывут! Веселые вышли мы из города, миновали пустыри и пошли по шоссе. Далеко впереди синела полоска леса. Сзади загудел автобус. — Я вас домчу туда, в лес, за полчаса, — сказал Володя галантно и, встав посреди дороги, поднял руку. Автобус послушно остановился. Свободные места были только на самой задней скамейке. Нас подбрасывало так высоко, что головами мы стукались о потолок машины. Было больно, но мы громко смеялись, а пассажиры оглядывались на нас и улыбались. Какой-то человек, сидевший впереди, обернувшись, привстал и вежливо мне поклонился. Я с трудом узнала его: в то время мы были почти незнакомы с Якимовым, будущим ассистентом отца. День был такой хороший, что даже его всегда немного угрюмое лицо казалось оживленным и почти приветливым.II
Я не верю в предчувствия. Если бы они существовали, разве осталась бы я спокойной при этой встрече Якимова и Старичкова — двух людей, сыгравших такую роль в моей дальнейшей жизни! Володя совсем не обратил на него внимания. Мы сошли на высоком гребне холма. Я махнула шоферу рукой, и автобус покатил с холма вниз, трясясь и подпрыгивая на неровностях шоссе. Как шумно было сегодня в лесу! Пожалуй, больше всего шумели грачи. У них хлопоты были уже в полном разгаре. Они деловито ходили по земле, там, где уже сошел снег, клевали червей, носились вокруг своих неуклюжих черных гнезд и, видимо, волновались, что вот прилетели на летние квартиры, а многое не устроено. Сколько еще предстоит беспокойства и возни, пока удастся наладить мало-мальски приличную жизнь! Вороны и галки ходили по снегу и хмуро переговаривались. А под снегом шумели ручьи; они вырывались из-под сугробов и радуясь бежали с холма. Маленькие журчали тонко и неуверенно, а большие бурлили так громко, будто они и впрямь настоящие реки. Перепрыгнув через ручей и отойдя на несколько шагов от дороги, я нагнулась. На небольшой проталинке, у самого края снежного наста, рос подснежник. Белый, на прямом стебельке, он стоял такой удивленный, как будто никак не мог понять, откуда появился этот прекрасный, огромный мир. Отовсюду видно было далеко-далеко. До самого горизонта тянулся лес. Белой полосой извивалась река, еще покрытая льдом, и лес подходил вплотную к обоим ее берегам. Далеко за рекой виднелись пестрые пятна: мелколесье, низкорослый кустарник, маленькие озера, заросшие камышом. Я показала на них Володе: — Это знаменитые наши Алеховские болота. При крепостном праве там годами прятались беглые, и полиция не могла до них добраться. Позже, когда здесь прошел тракт, на болотах скрывалась шайка атамана Алехи.
Болота лежали перед нами пустынные и зловещие. Легкий пар поднимался над ними, а на снегу кое-где виднелись коричневые пятна, будто его проела ржавчина. Это вода проступала сквозь снег.
Пока мы смотрели на болота, их заволокло туманом.
Нет, не бывает предчувствий! Второй раз в этот день я заглядывала в свое будущее, не зная об этом. Мы стояли с Володей на холме и не подозревали, что смотрим на то самое место, где обоим нам придется пережить столько таинственного и страшного. Самый вид болота наводил тоску, и мы отвернулись от него.
Пора было возвращаться. Когда мы подошли к дороге, солнце внезапно скрылось. Сразу же повалил мокрый снег.
— Эта проклятая туча с болота нагнала нас, — сказал Володя.
— Это знаменитые наши Алеховские болота. При крепостном праве там годами прятались беглые, и полиция не могла до них добраться. Позже, когда здесь прошел тракт, на болотах скрывалась шайка атамана Алехи.
Болота лежали перед нами пустынные и зловещие. Легкий пар поднимался над ними, а на снегу кое-где виднелись коричневые пятна, будто его проела ржавчина. Это вода проступала сквозь снег.
Пока мы смотрели на болота, их заволокло туманом.
Нет, не бывает предчувствий! Второй раз в этот день я заглядывала в свое будущее, не зная об этом. Мы стояли с Володей на холме и не подозревали, что смотрим на то самое место, где обоим нам придется пережить столько таинственного и страшного. Самый вид болота наводил тоску, и мы отвернулись от него.
Пора было возвращаться. Когда мы подошли к дороге, солнце внезапно скрылось. Сразу же повалил мокрый снег.
— Эта проклятая туча с болота нагнала нас, — сказал Володя.
 Стало холодно и пронизывающе сыро. Я посмотрела на тонкую Володину куртку. В пальто, которое он продал, чтобы повести меня в театр, ему было бы гораздо теплее… Я решительно расстегнула свое пальто и сказала:
— Стань ближе. Мы накроемся оба.
— Сейчас же застегнись! — сказал он сердито. — Почему ты думаешь, что мне холодно?
— Потому что у тебя нос синий, — сказала я. — Скорее, пока пальто теплое!
— Нет!
Даже мне становилось холодно, а у него зуб на зуб не попадал, и он отворачивался, чтобы я этого не заметила. Мне его стало так жалко, что неожиданно для самой себя я обняла его и поцеловала.
Он резким движением обнял меня за плечи и вдруг оттолкнул. Я растерялась. Он отвернулся и стоял не двигаясь. Мокрый снег падал ему на шею и на плечи. Мы стояли, не зная, как прервать молчание, и вдруг услышали с облегчением, что автобус, ворча, взбирается на холм. Мы молча вышли на дорогу, молча влезли в автобус и молчали до самого города. Я подняла воротник и смотрела в окно, за которым плясали снежинки, скрывая лес, небо и землю.
Всю дорогу я думала о том, какой Володя хороший. Один раз я искоса на него посмотрела. Вид у него был очень несчастный, но я знала, чувствовала, что он с нежностью думает обо мне.
Стало холодно и пронизывающе сыро. Я посмотрела на тонкую Володину куртку. В пальто, которое он продал, чтобы повести меня в театр, ему было бы гораздо теплее… Я решительно расстегнула свое пальто и сказала:
— Стань ближе. Мы накроемся оба.
— Сейчас же застегнись! — сказал он сердито. — Почему ты думаешь, что мне холодно?
— Потому что у тебя нос синий, — сказала я. — Скорее, пока пальто теплое!
— Нет!
Даже мне становилось холодно, а у него зуб на зуб не попадал, и он отворачивался, чтобы я этого не заметила. Мне его стало так жалко, что неожиданно для самой себя я обняла его и поцеловала.
Он резким движением обнял меня за плечи и вдруг оттолкнул. Я растерялась. Он отвернулся и стоял не двигаясь. Мокрый снег падал ему на шею и на плечи. Мы стояли, не зная, как прервать молчание, и вдруг услышали с облегчением, что автобус, ворча, взбирается на холм. Мы молча вышли на дорогу, молча влезли в автобус и молчали до самого города. Я подняла воротник и смотрела в окно, за которым плясали снежинки, скрывая лес, небо и землю.
Всю дорогу я думала о том, какой Володя хороший. Один раз я искоса на него посмотрела. Вид у него был очень несчастный, но я знала, чувствовала, что он с нежностью думает обо мне.
III
Он довел меня до самого дома. У крыльца мы остановились. По-прежнему падал мокрый снег, и ничего кругом не было видно; даже рядом горевший фонарь казался неясным облачком света. Я протянула Володе руку на прощанье. Теперь мне было неловко, что я его в лесу поцеловала. «К счастью, он хороший друг, — думала я, — и никогда ничем не напомнит об этом». И мне было очень обидно, что не напомнит… Должно быть, я непроизвольно притянула его к себе, когда мы прощались. Он нежно обнял меня и поцеловал. Я прижалась к нему, и мы недолго постояли обнявшись. Потом он ласково, но решительно отстранил меня от себя. Открыв глаза, я увидела его за белой сеткой снега. Он крикнул мне: — До свиданья! — и быстро пошел по улице. Придя домой, я легла в постель и потушила свет, но долго не могла заснуть. Приятно было представлять то радостное, что еще впереди. Наступает лето. Можно кататься на лодке, загорать на пляже, плавать, есть мороженое в саду и гулять, не боясь мокрого снега. Все это еще предстоит нам с Володей. Я знала, я чувствовала, что он меня любит. Какое мне было дело, почему он ушел и не поцеловал меня второй раз! Весь следующий день я ждала его в библиотеке. Его не было. Ночь показалась мне очень длинной, и наутро я пошла к нему в общежитие. На его кровати сидел незнакомый мне студент. — Вы не знаете, — спросила я, — где Володя Старичков? — Старичков уехал, — сказал студент. — Как — уехал? Куда? — Я растерялась. — Вы, наверно, не о нем говорите? — Почему не о нем? — студент удивился. — Вот, меня на его койку перевели. В деканате подтвердили, что студент Старичков отчислен из университета по собственному желанию. Я пошла к отцу и попросила выяснить, что случилось. — Уехал? — сказал отец. — Ну что ж, значит, я недаром с ним беседовал. — О чем ты с ним беседовал, — спросила я, — и почему я об этом не знаю? — Видишь ли, — объяснил отец, — когда студент переходит на третий курс, я всегда ему заявляю, что биологии, как и всякой науке, нужно отдать всю жизнь. Если студент не способен на это, пусть лучше уходит. Случайные люди науке не нужны. Впервые в жизни я всерьез рассердилась на отца. — Ты сварливый старик, — сказала я. — Тебя следовало бы снять с преподавательской работы. Ты говоришь, что государству нужны биологи, и распугиваешь самых талантливых! Только через полтора месяца я получила письмо от Володи. «Дорогая Валя! — писал он. — Извини, что я не простился с тобой. Андрей Николаевич с мудрой резкостью поставил передо мной вопрос о моем призвании. Я люблю биологию, но все-таки это для меня не то дело, которому можно отдать себя на всю жизнь. Мне было очень трудно расстаться с тобой, особенно после того дня, когда мы ехали в автобусе. Я боялся, что, если увижу тебя, не решусь уехать. И я не простился. Не сердись на меня.Вспомнив нашу прогулку, я поняла причину странного его поведения и не рассердилась на него, а только погоревала. С тех пор я ничего не слышала о Володе, пока мы Не встретились через несколько лет и не пережили вместе незабываемые и страшные дни. Сначала я тосковала о нем, но постепенно забывались наши прогулки и разговоры, образ Старичкова расплывался, бледнел, становился неясным и туманным, как все воспоминания нашей юности.Старичков».
Глава третья АССИСТЕНТЫ. ПРОФЕССОР КОСТРОВ НАЧИНАЕТ БОЛЬШУЮ РАБОТУ. ВОЙНА
I
Я не помню, когда у нас стал бывать Якимов. Кажется, году в тридцать седьмом или в начале тридцать восьмого. Неуклюжий и широкоплечий, он сидел всегда на самом незаметном месте, добродушно улыбался, когда все кругом разговаривали, и багровел, когда к нему обращались. Рукава всех его пиджаков были ему коротки, а плечи узки. Пиджаки натягивались и слегка трещали, когда он наклонялся. Не знаю, где он доставал себе подходящую обувь, — наверно, покупал те огромные туфли, которые делаются для реклам. По-видимому, он не был очень талантлив, — отец сам всегда говорил, что пороху Якимову не выдумать. Но работоспособен он был исключительно. Он мог не спать, не обедать и работать, не разгибая спины. Он мог сутками сидеть за столом, склонившись над микроскопом или покрывая листы бумаги строчками крупных, неуклюжих букв. В 1939 году он защитил кандидатскую диссертацию. По словам отца, это была хорошая, обстоятельная работа, не открывшая никаких новых истин, но очень добросовестно излагавшая ранее высказанные предположения. Отец часто приглашал его к нам, и скоро мы к нему привыкли. Очень он был хозяйственный человек. То приколотит полку, то подравняет ножку стола или, прозанимавшись часа четыре, наколет и наносит дров. Он был способен ко всякому ручному труду и однажды отлично отполировал буфет. Это, пожалуй, все, что я могу о нем вспомнить. Я к нему относилась дружелюбно. Командовала им, ругала за всякое упущение, но привыкла к тому, что в доме есть молчаливое существо, непонятное, но, видимо, доброжелательное. К сожалению, курил он ужасно много. Когда я говорила, что в квартире трудно дышать, он курил в форточку; я кричала, что он напускает холоду, — Якимов курил в печную вьюшку; я злилась, что выстуживается печка, — Якимов уходил курить на кухню. Вертоградский появился у нас осенью 1939 года, и о нем сразу заговорили все. Он окончил Московский университет и поступил к нам в аспирантуру. Почему он не остался в Москве, было не совсем ясно. Говорили разное, но все сходились на том, что случилось что-то интересное и романтическое. На самом деле, как случайно узнал отец, он просто провалился на экзаменах. Впрочем, причина его провала действительно была романтична. Он влюбился в какую-то девушку, два месяца, вместо того чтобы заниматься, ухаживал за ней, пошел на экзамен, даже не заглянув в книжку, и провалился. Девушка вышла замуж за того профессора, который его провалил, а он уехал в наш город, месяц посидел в библиотеке и отлично сдал все экзамены. Начало своей аспирантской деятельности он ознаменовал тем, что, получив комнату в общежитии, позвал соседей в гости, усадил их играть в очко и проиграл деньги, рубашки, галстуки, новый костюм, фетровую шляпу и даже чемодан. Больше всего были расстроены выигравшие. Они никак не хотели раздевать товарища и умоляли его считать игру шуткой. Но он обиделся, заставил их взять все выигранное и до очередной получки ходил в старом костюме, рваной кепке и истрепанном галстуке. История эта стала широко известной. Его осуждали и студенты и профессора, но осуждали не очень строго. Были во всей этой глупой истории широта и нерасчетливость, которые невольно привлекали. Месяца через три Вертоградский блеснул докладом. В поразительно короткий срок он сумел освоить довольно большой материал. Понять, когда Вертоградский работает, было совершенно невозможно: он бывал на всех вечеринках, театральных премьерах, концертах и балах, хорошо танцевал и знал все новые танцы. Количество анекдотов, которые он помнил, было непостижимо. Рассказывал он их отлично, весело и легко. Он любил выпить и за столом был неистощим на смешные выдумки. Кстати, я долго считала, что Вертоградский замечательно оправдывает свою фамилию. Я полагала, что слово «вертоград» означает что-то необыкновенно легкомысленное, вертящееся, пока, заглянув в словарь, не узнала, что на языке старинных книг это просто виноградник… Мой отец не любил людей типа Вертоградского. Он называл их почему-то папильонами и утверждал, что толку от них никогда не бывает. Но к Вертоградскому он постепенно стал относиться лучше и лучше. Действительно, в нем было что-то удивительно обаятельное. Он никогда не скрывал своих пороков и проступков, но вы всегда чувствовали, что он искренне кается и очень хотел бы быть хорошим. Кроме того, нельзя отрицать, что он был талантливый человек. То, что Якимов делал месяц, Вертоградский успевал сделать за неделю. Отец ворчал, ворчал, а после махнул рукой, простил Вертоградскому его легкомыслие и привлек в качестве помощника к главной своей работе.II
Когда я впервые услышала о вакцине, тоже не помню. Кажется, в конце 1939 года. В том году, весной, я окончила университет, осенью Германия напала на Польшу, началась мировая война. Именно в это время отец стал посещать хирургические палаты больниц и подолгу беседовать с хирургами. Его «Основы микробиологии» только что вышли в свет, печать отозвалась о них очень хорошо, и я настаивала, чтобы отец месяца на три поехал на юг отдохнуть. Уже выбран был санаторий. Уже были куплены белые брюки, парусиновые туфли и соломенная шляпа, которую можно было носить только на курорте. И вдруг отец заявил, что никуда не поедет. В декабре Якимов и Вертоградский были зачислены в лабораторию отца. Они каждый день сидели допоздна у отца в кабинете. В университете отец сократил до минимума количество своих лекций. Теперь целые дни он проводил в лаборатории. Он перестал приходить ко второму завтраку, и я утром совала ему в карман бутерброды. В конце зимы он поехал в Москву и вернулся недели через три, оживленный, веселый и довольный. В первый же вечер после его приезда я вошла к нему в кабинет. — Вот что, папа, — сказала я. — Мне думается, твоя дочь стала биологом не для того, чтобы ровно ничего не знать о твоих делах. Будь любезен, объясни, над чем ты собираешься работать. Отец хмыкнул и посмотрел на меня. — Ладно, — сказал он. — Садись и слушай. Он тогда рассказал мне о своей работе, сущность которой известна сейчас слишком широко, чтобы о ней говорить. Разумеется, я и раньше слышала о послераневых осложнениях. Я знала о шоке, о газовой гангрене, обо всех этих таинственных и страшных болезнях, которые губят так много людей. Но многое из того, что говорил отец, было мне совершенно незнакомо, многое было неизвестно тогда еще никому. Отец увлекся и говорил долго. Кажется, главное — новизну и смелость мысли отца — я уловила. С тех пор отец делился со мной всем, что касалось работы над вакциной. Тема была утверждена в Москве, и деньги, которые он просил, ему отпустили К лаборатории присоединили две комнаты, и гам разместилась целая армия крыс, белых мышей и морских свинок. Отец побывал у одного из ответственных сотрудников обкома партии, Плотникова, просидел у него три часа и, как говорил Вертоградский, выжал из него все, что можно, и еще столько же. К весне 1941 года работы уже полностью развернулись.
Отец работал с увлечением, не жалея ни времени, ни сил. Главными его помощниками были Якимов и Вертоградский. Легко объяснить, почему он выбрал именно их. Был у отца один недостаток: он не выносил возражений и споров. Коллектив нужен был ему такой, который бы точно и беспрекословно выполнял все его указания. Поэтому оба помощника очень ему подходили. Старательный, работоспособный и исполнительный Якимов нес на себе тяжелый груз черновой работы. Отец мог быть уверенным, что все впрыскивания будут произведены в положенное время, минута в минуту, что все будет точно записано и ничто не будет забыто. Вертоградский ведал «внешней политикой». Благодаря его напористости и умению оборудование прибывало день в день, рабочие в срок кончали заказы и никакие организационные трудности не мешали отцу.
Историю поисков вакцины отец рассказал в предисловии к своей книге. Все читавшие эту книгу знают, iito поиски шли долгое время по неправильному пути, что пришлось проделать около шести тысяч опытов, чтобы путем исключения найти единственно правильное решение. Но немногие знают, как тяжело давалось это отцу. Он установил для себя жесточайший режим и не допускал никаких отступлений. Гости совсем перестали у нас бывать, и отец отказывался от всех приглашений. Очень часто он вставал среди ночи и уходил в лабораторию, где постоянно находился Якимов, поставивший свою кровать рядом с лабораторным столом.
Теперь отец был не похож на того сдержанного, всегда спокойного профессора, каким знали его ученики и ассистенты. Он часто выходил из себя, кричал и нервничал.
Помню, как он обозлился на Вертоградского, когда тот вечером на два часа удрал в кино.
— История торопится, — кричал он на него, — а вы по киношкам бегаете!
С тех пор Вертоградский каждый раз, когда мы садились обедать, замечал строго и нравоучительно:
— История торопится, товарищ Якимов, а вы обедать садитесь!
Очень хорошо помню я первую выздоровевшую крысу. Между нами говоря, она была такая же противная, как и все остальные крысы на свете, но отец, Якимов и Вертоградский находили ее красавицей. Наш старый, заслуженный кот, который верой и правдой служил нам двенадцать лет и считался членом семьи, умер, не дождавшись от отца таких горячих и бурных ласк, какие достались на долю этой мерзкой крысы.
— Смотрите, — кричал Вертоградский, — какая она веселая! Она себя чудно чувствует. Вы замечаете?
Якимов потирал руки и улыбался. Отец чесал крысе спину, что, по-моему, ей вовсе не нравилось.
В тот день мы провели в лаборатории весь вечер и ушли в начале первого часа ночи. Отец привел домой Якимова и Вертоградского и, несмотря на поздний час, приказал накрыть стол и подать все, что есть лучшего в доме.
Налив рюмку, он произнес тост за вакцину:
— Я решил назвать ее «К.В.Я.» — Костров, Вертоградский, Якимов. Пусть каждый из нас чувствует, что и его доля труда была в этом деле. За успех, товарищи!
Ассистенты были очень довольны. Вертоградский только сказал, что так как и моя доля работы есть в этой вакцине, то следовало бы и меня включить в название. Поэтому его нужно читать так: «Костровы, Якимов, Вертоградский». Все с этим согласились, и отец даже неожиданно обнял меня и поцеловал — просто так, от хорошего настроения.
Я забыла сказать, что я тоже работала в лаборатории. Кажется, отец взял меня главным образом потому, что на меня, свою дочь, он мог кричать сколько ему угодно. Я мыла посуду, ассистировала Якимову, говорила по телефону, что профессор занят и подойти не может, вела записи и подметала пол, когда уборщица была выходная.
На следующий день после нашего пира к нам приехал Плотников, тот самый работник обкома, к которому обращался отец в затруднительных случаях. Плотников был невысокий, худощавый человек с немного прищуренными глазами. От этого казалось, что он про себя улыбается. Плотникова водили по лаборатории, показали ему знаменитую крысу и насказали такое количество специальных терминов и формул, что у него в глазах появилась растерянность. Плотников сказал, что все нужное будет предоставлено немедленно. Он просил звонить ему по всякому, даже мелкому, погоду и дал, кроме служебного, еще и домашний свой телефон.
Когда Плотников уехал, отец сказал:
— Стыдно! Государственные люди думают, как бы нам помочь, а мы лоботрясничаем.
Теперь каждый раз, когда Якимов закуривал папиросу, Вертоградский говорил ему печально и осуждающе:
— Стыдно, товарищ Якимов! Государственные люди думают, как бы вам помочь, а вы изволите папироски раскуривать.
С тех пор отец делился со мной всем, что касалось работы над вакциной. Тема была утверждена в Москве, и деньги, которые он просил, ему отпустили К лаборатории присоединили две комнаты, и гам разместилась целая армия крыс, белых мышей и морских свинок. Отец побывал у одного из ответственных сотрудников обкома партии, Плотникова, просидел у него три часа и, как говорил Вертоградский, выжал из него все, что можно, и еще столько же. К весне 1941 года работы уже полностью развернулись.
Отец работал с увлечением, не жалея ни времени, ни сил. Главными его помощниками были Якимов и Вертоградский. Легко объяснить, почему он выбрал именно их. Был у отца один недостаток: он не выносил возражений и споров. Коллектив нужен был ему такой, который бы точно и беспрекословно выполнял все его указания. Поэтому оба помощника очень ему подходили. Старательный, работоспособный и исполнительный Якимов нес на себе тяжелый груз черновой работы. Отец мог быть уверенным, что все впрыскивания будут произведены в положенное время, минута в минуту, что все будет точно записано и ничто не будет забыто. Вертоградский ведал «внешней политикой». Благодаря его напористости и умению оборудование прибывало день в день, рабочие в срок кончали заказы и никакие организационные трудности не мешали отцу.
Историю поисков вакцины отец рассказал в предисловии к своей книге. Все читавшие эту книгу знают, iito поиски шли долгое время по неправильному пути, что пришлось проделать около шести тысяч опытов, чтобы путем исключения найти единственно правильное решение. Но немногие знают, как тяжело давалось это отцу. Он установил для себя жесточайший режим и не допускал никаких отступлений. Гости совсем перестали у нас бывать, и отец отказывался от всех приглашений. Очень часто он вставал среди ночи и уходил в лабораторию, где постоянно находился Якимов, поставивший свою кровать рядом с лабораторным столом.
Теперь отец был не похож на того сдержанного, всегда спокойного профессора, каким знали его ученики и ассистенты. Он часто выходил из себя, кричал и нервничал.
Помню, как он обозлился на Вертоградского, когда тот вечером на два часа удрал в кино.
— История торопится, — кричал он на него, — а вы по киношкам бегаете!
С тех пор Вертоградский каждый раз, когда мы садились обедать, замечал строго и нравоучительно:
— История торопится, товарищ Якимов, а вы обедать садитесь!
Очень хорошо помню я первую выздоровевшую крысу. Между нами говоря, она была такая же противная, как и все остальные крысы на свете, но отец, Якимов и Вертоградский находили ее красавицей. Наш старый, заслуженный кот, который верой и правдой служил нам двенадцать лет и считался членом семьи, умер, не дождавшись от отца таких горячих и бурных ласк, какие достались на долю этой мерзкой крысы.
— Смотрите, — кричал Вертоградский, — какая она веселая! Она себя чудно чувствует. Вы замечаете?
Якимов потирал руки и улыбался. Отец чесал крысе спину, что, по-моему, ей вовсе не нравилось.
В тот день мы провели в лаборатории весь вечер и ушли в начале первого часа ночи. Отец привел домой Якимова и Вертоградского и, несмотря на поздний час, приказал накрыть стол и подать все, что есть лучшего в доме.
Налив рюмку, он произнес тост за вакцину:
— Я решил назвать ее «К.В.Я.» — Костров, Вертоградский, Якимов. Пусть каждый из нас чувствует, что и его доля труда была в этом деле. За успех, товарищи!
Ассистенты были очень довольны. Вертоградский только сказал, что так как и моя доля работы есть в этой вакцине, то следовало бы и меня включить в название. Поэтому его нужно читать так: «Костровы, Якимов, Вертоградский». Все с этим согласились, и отец даже неожиданно обнял меня и поцеловал — просто так, от хорошего настроения.
Я забыла сказать, что я тоже работала в лаборатории. Кажется, отец взял меня главным образом потому, что на меня, свою дочь, он мог кричать сколько ему угодно. Я мыла посуду, ассистировала Якимову, говорила по телефону, что профессор занят и подойти не может, вела записи и подметала пол, когда уборщица была выходная.
На следующий день после нашего пира к нам приехал Плотников, тот самый работник обкома, к которому обращался отец в затруднительных случаях. Плотников был невысокий, худощавый человек с немного прищуренными глазами. От этого казалось, что он про себя улыбается. Плотникова водили по лаборатории, показали ему знаменитую крысу и насказали такое количество специальных терминов и формул, что у него в глазах появилась растерянность. Плотников сказал, что все нужное будет предоставлено немедленно. Он просил звонить ему по всякому, даже мелкому, погоду и дал, кроме служебного, еще и домашний свой телефон.
Когда Плотников уехал, отец сказал:
— Стыдно! Государственные люди думают, как бы нам помочь, а мы лоботрясничаем.
Теперь каждый раз, когда Якимов закуривал папиросу, Вертоградский говорил ему печально и осуждающе:
— Стыдно, товарищ Якимов! Государственные люди думают, как бы вам помочь, а вы изволите папироски раскуривать.
III
Наверно, каждый помнит двенадцать часов дня воскресенья 22 июня. Каждый пережил эту минуту по-своему, и каждый запомнил ее на всю жизнь. Нас застала она за работой. Выходные дни в нашей лаборатории были отменены. Когда радио, принесшее весть о войне, умолкло, отец сказал: — Пора делать впрыскивание. Юрий Павлович, начинайте! Валя, распорядись, чтобы из дому прислали постели. Мы теперь будем жить в лаборатории. Слишком мало осталось времени, чтобы ходить домой. С тех пор действительно мы почти не выходили из лаборатории. Все помнят тягостное напряжение первых месяцев войны. Может быть, единственный человек, который никогда не обсуждал происходящего, а, выслушав очередную сводку, немедленно возвращался к работе, был мой отец. Беспристрастно должна сказать: надо уметь так работать, как работал он в это время. Внешне совершенно спокойный, он делал все возможное, чтобы ускорить работу. Все мы тогда мало спали, и еду нам подавали прямо на лабораторный стол. Использовалась каждая минута. Вертоградский не острил, Якимов не успевал выкурить папиросу. Небритые, с воспаленными глазами, они сидели над микроскопами и работали так же напряженно, как работал отец. Но как ни экономили они секунды, как ни подгоняли опыты и исследования, события развивались быстрей. За окнами проходили воинские части. Маршировали отряды штатских людей в пиджаках, с учебными винтовками за плечами. Проходили толпы с лопатами и кирками. Гудели самолеты, иногда выли сирены, и люди разбегались по улицам, скрываясь в подвалах и подворотнях. А мы без отдыха впрыскивали вакцину, исписывали десятки страниц, до боли в глазах смотрели в микроскопы, перемывали пробирки и колбы и вновь наполняли их новыми и новыми пробами. Якимова и Вертоградского не взяли в армию. Об этом попросил отец, и просьбу его беспрекословно уважили. Никого из нас не привлекали к оборонным работам. Делалось все, чтобы нам не мешать. От этого еще острее чувствовали мы невыносимую медленность хода исследований.
В начале июля позвонил по телефону Плотников. Отец взял трубку, долго слушал, потом сказал:
— Слушаю. Буду готовиться. Неделю вы мне даете? Хорошо. Спасибо. Всего лучшего. — И повесил трубку.
Он подошел к столу, за которым до разговора записывал результат очередного впрыскивания, и вновь взялся за свои записи, не обращая внимания на любопытные взгляды ассистентов. Кончив записывать, он аккуратно приложил промокательную бумагу, прогладил ее рукой, закрыл тетрадь и сказал:
— Нашу лабораторию эвакуируют. Надо собираться.
Он замолчал и обвел всех глазами, как будто спрашивая, нет ли возражений. Ассистенты молчали. Молчала и я. Страх и мрачные предчувствия томили меня.
Наш эшелон отправлялся через шесть дней, во вторник. В понедельник мы должны были грузиться. Четыре дня до понедельника нам оставались на то, чтобы упаковать самое необходимое, без чего мы не могли бы продолжать работу в Москве.
Мы разделились. Якимов и Вертоградский укладывали в ящики бумаги, пробирки с пробами, стеклышки с мазками. Ясно было, что увезти всех подопытных крыс невозможно. Решено было взять только нескольких, уже находившихся под наблюдением.
Якимова и Вертоградского не взяли в армию. Об этом попросил отец, и просьбу его беспрекословно уважили. Никого из нас не привлекали к оборонным работам. Делалось все, чтобы нам не мешать. От этого еще острее чувствовали мы невыносимую медленность хода исследований.
В начале июля позвонил по телефону Плотников. Отец взял трубку, долго слушал, потом сказал:
— Слушаю. Буду готовиться. Неделю вы мне даете? Хорошо. Спасибо. Всего лучшего. — И повесил трубку.
Он подошел к столу, за которым до разговора записывал результат очередного впрыскивания, и вновь взялся за свои записи, не обращая внимания на любопытные взгляды ассистентов. Кончив записывать, он аккуратно приложил промокательную бумагу, прогладил ее рукой, закрыл тетрадь и сказал:
— Нашу лабораторию эвакуируют. Надо собираться.
Он замолчал и обвел всех глазами, как будто спрашивая, нет ли возражений. Ассистенты молчали. Молчала и я. Страх и мрачные предчувствия томили меня.
Наш эшелон отправлялся через шесть дней, во вторник. В понедельник мы должны были грузиться. Четыре дня до понедельника нам оставались на то, чтобы упаковать самое необходимое, без чего мы не могли бы продолжать работу в Москве.
Мы разделились. Якимов и Вертоградский укладывали в ящики бумаги, пробирки с пробами, стеклышки с мазками. Ясно было, что увезти всех подопытных крыс невозможно. Решено было взять только нескольких, уже находившихся под наблюдением.
 Мы с отцом продолжали работу. Отец не хотел терять ни одного дня. До вечера воскресенья мы с ним делали впрыскивания, брали пробы, заканчивали анализы. Якимов и Вертоградский, пыльные и замученные, отбирали нужные записи, набивали ящики, стучали молотками. Было условлено, что машины за нами придут в понедельник утром.
Очень трудно упаковать все нужное, ничего не забыть, ничего не упустить. Ассистентам предстояло работать целую ночь. Мы с отцом тоже собирались не спать до утра. Был важен каждый лишний анализ. А часов в девять вечера прибежала наша уборщица Нюша, перепуганная до смерти. Она рассказала, что очередной эшелон с эвакуированными вернулся, потому что железная дорога перерезана. Толпа двинулась по шоссе и тоже вернулась. Шоссе уже обстреливала немецкая артиллерия. Где-то близко, в лесу, громыхали фашистские танки.
Отец сразу позвонил Плотникову. Долго телефон был занят. Наконец соединили.
— Товарищ Плотников, — сказал отец, — до меня дошли нехорошие слухи. Они верны?… — Он помолчал, пока Плотников говорил, потом сказал: — Хорошо, спасибо, — и повесил трубку.
Якимов, Вертоградский и я смотрели на отца и ждали, что он скажет. Но он молча подошел к столу, сел и закурил папиросу.
Я не выдержала.
— Ну? — спросила я.
— Нюша сказала правду, — ответил отец. — Железная дорога и шоссе перерезаны. Мы окружены.
Мы с отцом продолжали работу. Отец не хотел терять ни одного дня. До вечера воскресенья мы с ним делали впрыскивания, брали пробы, заканчивали анализы. Якимов и Вертоградский, пыльные и замученные, отбирали нужные записи, набивали ящики, стучали молотками. Было условлено, что машины за нами придут в понедельник утром.
Очень трудно упаковать все нужное, ничего не забыть, ничего не упустить. Ассистентам предстояло работать целую ночь. Мы с отцом тоже собирались не спать до утра. Был важен каждый лишний анализ. А часов в девять вечера прибежала наша уборщица Нюша, перепуганная до смерти. Она рассказала, что очередной эшелон с эвакуированными вернулся, потому что железная дорога перерезана. Толпа двинулась по шоссе и тоже вернулась. Шоссе уже обстреливала немецкая артиллерия. Где-то близко, в лесу, громыхали фашистские танки.
Отец сразу позвонил Плотникову. Долго телефон был занят. Наконец соединили.
— Товарищ Плотников, — сказал отец, — до меня дошли нехорошие слухи. Они верны?… — Он помолчал, пока Плотников говорил, потом сказал: — Хорошо, спасибо, — и повесил трубку.
Якимов, Вертоградский и я смотрели на отца и ждали, что он скажет. Но он молча подошел к столу, сел и закурил папиросу.
Я не выдержала.
— Ну? — спросила я.
— Нюша сказала правду, — ответил отец. — Железная дорога и шоссе перерезаны. Мы окружены.
Глава четвертая ЛАБОРАТОРИЯ УНИЧТОЖЕНА. ПРО НАС НЕ ЗАБЫЛИ. ЧЕРЕЗ ПЫЛАЮЩИЙ ГОРОД
I
Сразу остановилась жизнь в лаборатории. Отец подошел к крану, вымыл руки, тщательно вытер их полотенцем и сел у окна. Он ничего не сказал, но всем нам и без слов было ясно, что дальше работать не к чему. Якимов лег на кровать, да так и лежал, куря папиросу за папиросой. Вертоградский побрился — он за последние дни изрядно оброс, — вымыл бритву, аккуратно уложил ее в коробочку и стал ходить по комнате, насвистывая без конца все один и тот же бравурный марш. Я по привычке разогрела обед, расставила тарелки и позвала всех к столу. Никто даже не отозвался. Суп в тарелках остыл, а второе чуть не сгорело, пока я догадалась снять его с огня. Вечером прилетели фашистские самолеты. Казалось бы, много я навидалась бомбежек за последние недели, но ничего подобного мне еще видеть не приходилось. Земля тряслась, и дом наш качался, как дерево в ветреную погоду. Свистели бомбы. На столах звенела посуда; в клетках метались и пищали крысы. Занялись пожары. Багровое небо низко опустилось над городом; от горящих домов черными клубами поднимался дым. По улицам пробегали люди; громко плакали дети; надрывались дежурные, пытаясь установить порядок. В комнате было светло от пожаров. Почему мы не спустились в бомбоубежище, я и сама не могу понять. Вероятно, так сильно было у нас у всех чувство непоправимой беды, после которой не стоило что бы то ни было предпринимать. Мы ясно чувствовали, что главное, ради чего мы жили, погибло. Бессмысленным казалось о чем-то заботиться и стараться спастись. Не помню, о чем я думала, что я чувствовала в этот вечер. Помню Якимова, который лежит на кровати и прикуривает папиросу от папиросы; Вертоградского, насвистывающего марш, шагающего взад и вперед, как маятник; помню неподвижный силуэт отца, сгорбленного, с опущенной головой, с острой бородкой клинышком, на фоне красного колеблющегося света в окне. Сердито ворчали самолеты в небе. Били зенитки. Завывали бомбы. Из окон домов высовывались длинные языки пламени. Потом самолеты ушли. Стало тихо. Только трещали балки в горевших домах, иногда переговаривались люди на улице и где-то, кажется в соседнем переулке, надрываясь плакал ребенок. Вертоградский подошел к окну. — Да, — сказал он, — картинка! Что будем делать, Андрей Николаевич? Отец даже не пошевелился. Вертоградский пожал плечами: — Конечно, ничего не придумаешь. В это время Якимов поднялся с постели и аккуратно погасил в пепельнице окурок. — Надо идти воевать, — сказал он. — Куда? — спросил Вертоградский. Якимов удивленно на него посмотрел: — Как — куда? В ближайшую воинскую часть. Не все ли равно в какую? — Может быть, вы объясните мне, дорогой товарищ, — сказал раздраженно Вертоградский, — где находится эта ближайшая часть? Как пройти к этой ближайшей части? Может, вы рассчитываете справиться на углу у милиционера? — К черту! — сказал Якимов и с силой ударил кулаком по столу. — К черту! — повторил он. — Тогда нужно достать гранаты и прямо идти на немецкие танки. Не будем же мы тут сидеть, пока не придут за нами фашисты! — Вздор, — уныло ответил Вертоградский. — Бессмысленный вздор, Якимов. Где вы достанете гранаты?… Кстати, для танков, кажется, нужны какие-то особенные. Потом, я слыхал, что надо уметь подрывать танки. Хоть недолго, но надо обучаться. Да и где эти танки? разве мы знаем, откуда они войдут? Мы оторваны ото всех, Якимов. Мы остались одни, а одни мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Надо было готовиться раньше. Надо было учитывать эту возможность, а не думать только об анализах и впрыскиваниях… Он с некоторым раздражением посмотрел на отца, но отец как будто не слышал и сидел по-прежнему сгорбившись, опустив голову. Вертоградский замолчал и сел на кровать. Теперь, когда самолеты уже не гудели в небе и бомбы не рвались, стало особенно отчетливо слышно, как беспокойно пищат некормленые, возбужденные крысы. Они метались по клеткам, вставали на задние лапы и пищали противным, скрипучим писком. Вертоградский усмехнулся. — Насколько их положение лучше нашего! — сказал он, кивнув головой на клетки. — Они, не стесняясь, пищат и мечутся, потому что им страшно. А нам нельзя. Нам не полагается пищать. Мы люди. Отец поднял голову, посмотрел на Вертоградского и медленно поднялся со стула.II
— Надо всё уничтожить, — сказал отец. Мы повернулись к нему. — Что уничтожить? — спросил, не поняв, Вертоградский. — Всё. Все следы. Все дневники. Все записи. — Отец был вне себя. — Перебить посуду, чтоб никаких следов не осталось! — Успокойтесь, Андрей Николаевич, — мягко сказал Вертоградский. — Не надо так волноваться. Отец махнул рукой: — Я не сошел с ума. Неужели вы можете примириться с тем, что вся наша работа достанется им? — Что ж, — сказал Вертоградский, — пожалуй, об этом стоит поговорить. Какой же способ вы предлагаете? Поджечь дом? Отец покачал головой. — И без того довольно пожаров. Просто сожжем записи и уничтожим пробы. Все было невероятно в эту ночь, но слова отца были невероятнее всего. Я выросла и была воспитана в сознании, что нет ничего важнее на свете, чем результат работы ученого. И вот ученый хочет уничтожить работу… — Ладно, — сказал Якимов. — С чего мы начнем? — Тише! — сказал Вертоградский. — Слышите? Мы прислушались. Где-то совсем близко застрочили пулеметы: сначала один, потом несколько. — Это на Пушкинской или на Садовой, — сказал, вслушиваясь, Якимов. — Все равно, на Пушкинской или на Садовой, — пожал плечами Вертоградский. — Важно то, что это совсем близко. Если жечь, так жечь сразу. Не так просто было уничтожить бумаги, заполнявшие ящики. Печки не было: в доме было центральное отопление. Якимов предложил отнести бумаги на улицу и бросить в ближайший горящий дом, но мы отвергли этот проект. За один раз бумаги не унесешь, а бегать взад и вперед слишком долго. Да, пожалуй, и рискованно. Как ни странно, но сейчас, когда появилась цель, мы стали спокойнее и рассудительнее. Разные проекты, как быстрее уничтожить плоды многолетней работы, обсуждались серьезно и деловито. Со стороны, вероятно, показалось бы, что идет обыкновенное совещание по какому-нибудь не очень важному поводу. Вертоградский даже несколько раз сострил — правда, не очень удачно. Никто не засмеялся. У меня было ощущение, что все это мне только снится. Не может быть, чтобы это было на самом деле, чтобы горели дома, чтобы фашисты входили в город. Не может быть, чтобы мой отец думал о том, как уничтожить свою вакцину… Наконец решили жечь документацию в умывальнике. Стена около него была облицована кафелем и не могла загореться. Мы стали таскать из шкафа папки с бумагами. Якимов поднес спичку, и бумаги загорелись. Папки, чтобы не терять времени, мы отбрасывали и жгли только самые записи. Горели они быстро, но умывальник сразу же наполнился черной сожженной бумагой, и горящие листы вываливались на пол. Мы решили выгрести горелую бумагу, но она еще тлела. Надо было ее погасить. Оказалось, что водопровод уже не работает. Пришлось заливать дистиллированной водой, которой был у нас порядочный запас.
Никогда я не думала, что так трудно сжечь много бумаги. Загоревшись, пачки увеличивались в объеме и, как живые, выползали из умывальника. Отец кочергой мешал огонь. Весь в копоти, черный, взлохмаченный, он выглядел страшно. Он не слушал, когда к нему обращались, он весь был поглощен одной мыслью. Впрочем, все мы говорили и действовали как в дурмане.
— Валя, — говорил Вертоградский, — уберите к дьяволу этих крыс, я не могу слышать, как они пищат!
Он поправил галстук, и я заметила, что у него дрожат руки. Якимов носил бумаги из ящиков. Он был весь покрыт пылью. Он приносил пачку за пачкой и сваливал их у самого умывальника. Черные лоскутья сгоревшей бумаги носились в воздухе и оседали на лица, на платья, на пол.
— Так, — командовал отец. — Ничего, хорошо горит… Юрий Павлович, подбросьте еще сюда: здесь, сбоку, быстрее займется.
Пламя опалило ему ресницы и бороду, но он не замечал этого.
— Папа, — сказала я, — посиди отдохни.
Он не слышал меня.
— Давайте, давайте! — повторял он. — Посмотрите, не осталось ли чего. Надо, чтобы все-сгорело, до последней бумажки.
Последняя пачка занялась ярким огнем.
— Эх, — сказал Вертоградский, — погром так погром!
Он подошел к ящику, в котором были аккуратно уложены перенумерованные пробирки, заткнутые пробками, распахнул дверцу и рукой сгреб с полки штук двадцать пробирок.
— Правильно, — сказал отец. — Вы, Юрий Павлович, их на пол бросайте, а я стану топтать.
Вертоградский с отчаянным лицом выбрасывал на пол пробирки и колбочки, а отец тщательно, одну за другой, давил их каблуками. Он кружился и притопывал, и со стороны казалось, что он танцует какой-то неторопливый танец.
Боюсь сказать, сколько времени продолжалось уничтожение. Я, да и все мы, наверно, были как во сне. Долго еще потом виделись мне в кошмарах озаренные пламенем стены лаборатории, Вертоградский, швыряющий на пол посуду, отец, давящий ее каблуками…
— Больше ничего не осталось? — хриплым голосом спросил отец.
— Всё, — сказал Якимов.
— Хорошо. — Отец кивнул головой. — Теперь, по крайней мере, мы можем быть спокойны.
— Ну, — сказал Вертоградский, — для спокойствия особых оснований нет…
Отец не слышал его. Он обвел всех нас глазами.
— Я не могу решать ни за кого из вас, — сказал он, — но лично я думаю кончить жизнь самоубийством… — Он помолчал, потом повернулся ко мне:
— Ты как, Валя?
Голос его дрогнул, и я почувствовала, что он может сейчас заплакать. Я пожала плечами:
— Выбирать не из чего.
Вероятно, если бы я реально представила себе, что я должна сейчас перестать жить, должна умереть, мне было бы очень страшно. Но в том состоянии, в каком мы были тогда, ничего страшного не было и не могло быть. Все проходило мимо сознания.
— Это будет, пожалуй, труднее, чем жечь бумаги, — сказал Вертоградский. — Оружия у нас нет… Веревки? Во-первых, я не знаю, есть ли тут веревки, а во-вторых, это противный способ.
Якимов молча вынул из кармана наган и положил его на стол.
— Я на всякий случай достал, — сказал он, по обыкновению, коротко и спокойно.
— Вы умеете стрелять? — спросил отец.
Якимов кивнул головой.
— Вы нас научите. Я не умею, и Валя, наверно, тоже.
Мы стали таскать из шкафа папки с бумагами. Якимов поднес спичку, и бумаги загорелись. Папки, чтобы не терять времени, мы отбрасывали и жгли только самые записи. Горели они быстро, но умывальник сразу же наполнился черной сожженной бумагой, и горящие листы вываливались на пол. Мы решили выгрести горелую бумагу, но она еще тлела. Надо было ее погасить. Оказалось, что водопровод уже не работает. Пришлось заливать дистиллированной водой, которой был у нас порядочный запас.
Никогда я не думала, что так трудно сжечь много бумаги. Загоревшись, пачки увеличивались в объеме и, как живые, выползали из умывальника. Отец кочергой мешал огонь. Весь в копоти, черный, взлохмаченный, он выглядел страшно. Он не слушал, когда к нему обращались, он весь был поглощен одной мыслью. Впрочем, все мы говорили и действовали как в дурмане.
— Валя, — говорил Вертоградский, — уберите к дьяволу этих крыс, я не могу слышать, как они пищат!
Он поправил галстук, и я заметила, что у него дрожат руки. Якимов носил бумаги из ящиков. Он был весь покрыт пылью. Он приносил пачку за пачкой и сваливал их у самого умывальника. Черные лоскутья сгоревшей бумаги носились в воздухе и оседали на лица, на платья, на пол.
— Так, — командовал отец. — Ничего, хорошо горит… Юрий Павлович, подбросьте еще сюда: здесь, сбоку, быстрее займется.
Пламя опалило ему ресницы и бороду, но он не замечал этого.
— Папа, — сказала я, — посиди отдохни.
Он не слышал меня.
— Давайте, давайте! — повторял он. — Посмотрите, не осталось ли чего. Надо, чтобы все-сгорело, до последней бумажки.
Последняя пачка занялась ярким огнем.
— Эх, — сказал Вертоградский, — погром так погром!
Он подошел к ящику, в котором были аккуратно уложены перенумерованные пробирки, заткнутые пробками, распахнул дверцу и рукой сгреб с полки штук двадцать пробирок.
— Правильно, — сказал отец. — Вы, Юрий Павлович, их на пол бросайте, а я стану топтать.
Вертоградский с отчаянным лицом выбрасывал на пол пробирки и колбочки, а отец тщательно, одну за другой, давил их каблуками. Он кружился и притопывал, и со стороны казалось, что он танцует какой-то неторопливый танец.
Боюсь сказать, сколько времени продолжалось уничтожение. Я, да и все мы, наверно, были как во сне. Долго еще потом виделись мне в кошмарах озаренные пламенем стены лаборатории, Вертоградский, швыряющий на пол посуду, отец, давящий ее каблуками…
— Больше ничего не осталось? — хриплым голосом спросил отец.
— Всё, — сказал Якимов.
— Хорошо. — Отец кивнул головой. — Теперь, по крайней мере, мы можем быть спокойны.
— Ну, — сказал Вертоградский, — для спокойствия особых оснований нет…
Отец не слышал его. Он обвел всех нас глазами.
— Я не могу решать ни за кого из вас, — сказал он, — но лично я думаю кончить жизнь самоубийством… — Он помолчал, потом повернулся ко мне:
— Ты как, Валя?
Голос его дрогнул, и я почувствовала, что он может сейчас заплакать. Я пожала плечами:
— Выбирать не из чего.
Вероятно, если бы я реально представила себе, что я должна сейчас перестать жить, должна умереть, мне было бы очень страшно. Но в том состоянии, в каком мы были тогда, ничего страшного не было и не могло быть. Все проходило мимо сознания.
— Это будет, пожалуй, труднее, чем жечь бумаги, — сказал Вертоградский. — Оружия у нас нет… Веревки? Во-первых, я не знаю, есть ли тут веревки, а во-вторых, это противный способ.
Якимов молча вынул из кармана наган и положил его на стол.
— Я на всякий случай достал, — сказал он, по обыкновению, коротко и спокойно.
— Вы умеете стрелять? — спросил отец.
Якимов кивнул головой.
— Вы нас научите. Я не умею, и Валя, наверно, тоже.
III
— Подождите, товарищи, принимать такие крайние меры, — сказал кто-то. Мы обернулись. В дверях стоял человек. Я не сразу узнала Плотникова. Но, узнав, ничуть не удивилась его появлению. Этой ночью все было необыкновенно. Плотников стоял в дверях, невысокий, внешне спокойный, с прищуренными, как всегда, глазами. Только на этот раз мне не показалось, что он улыбается. Мы смотрели на него и молчали. Слишком неожиданно было его появление. — Я уже думал, что лаборатория брошена, — сказал он. — Дверь на лестницу открыта, постучал в комнату — никто не отвечает. — Шум на улице, — сказал отец таким тоном, как будто жаловался на то, что ему мешают трамваи и автомобили. Плотников и тут не улыбнулся. — Судя по всему, — он обвел глазами пол, засыпанный горелой бумагой и осколками стекла, — вы не собираетесь предлагать им свои услуги. Он помолчал, но никто ему не ответил. — Надо переходить в подполье, товарищи, — продолжал Плотников. — Ваша вакцина, профессор, нужна гитлеровцам. Вас в покое не оставят… Он вынул из кармана четыре паспорта и, заглянув в каждый, роздал их нам. — Вы будете жить в другом районе, — сказал Плотников. — Квартира уже готова. Мы постараемся спасти вас и ваше открытие. — У меня нет вакцины, — буркнул отец. — Я все сжег, все уничтожил. — Это все равно пришлось бы сделать. — Плотников посмотрел на часы. — Взять с собой мы ничего не можем. Я вас очень прошу поскорей собираться. Укладка заняла не больше десяти минут. Плотников поглядывал на часы и, кажется, нервничал, но ничего не говорил. Мы уложили самое необходимое в два рюкзака и два маленьких чемоданчика. Мы были готовы. К этому времени отец пришел в себя. Безумие кончилось. Начиналась новая, необычная, опасная, но все-таки жизнь. Профессор Костров стал снова профессором Костровым. Он откашлялся и сказал: — Простите, Александр Афанасьевич, но я вам должен задать вопрос. В этой квартире, в которую вы нас ведете, я буду иметь хоть какую-нибудь возможность работать? Я понимаю, что условия очень сложные, не ведь, кроме научного значения, вакцина сыграет немалую роль и на войне… Прежде чем Плотников ответил, я отвела отца в сторону. — Папа, — сказала я ему, — подумай, что ты говоришь! Люди рискуют жизнью, чтобы спасти тебя, а ты начинаешь им предъявлять какие-то требования. Отец подумал, смутился, подошел к Плотникову и сказал: — Александр Афанасьевич, я, конечно, сказал нелепость. — И добавил своим обычным, резковатым голосом: — Я очень благодарен вам и вашим товарищам… Ну, пойдемте. В последний раз мы окинули взглядом лабораторию. В ней остались жженая бумага и битое стекло. Только в клетках по-прежнему метались и пищали крысы. Отец подошел и быстро одну за другой открыл дверцы всех клеток. Писк прекратился. Крысы прыгали на пол и разбегались, ища нор и щелей. Мы вышли из комнаты.IV
Все вокруг было багровым. Вдоль багровых тротуаров стояли багровые дома, и низко нависало над ними страшное, багровое небо. Вдали били пулеметы. Ударила артиллерия, но выстрелы орудий были не громче треска и грохота пожара. Когда мы проходили мимо недавно достроенного дома ИТР, в нем обвалились междуэтажные перекрытия, и огромные балки падали и ломались, разбрасывая тысячи искр. Жар обжигал, мы задыхались, и лица наши блестели от пота. Но Плотников шел не останавливаясь и все время торопил нас. На отце от уголька стало тлеть пальто, и я погасила его на ходу. — Скорей, скорей! — кричал Плотников.
Желая сократить путь, мы свернули в узенький переулок. Стена дома, к которому мы подходили, медленно наклонилась, разламываясь на несколько частей, с грохотом рухнула на мостовую и рассыпалась на множество обломков. У меня подогнулись колени, задрожали руки, и я ухватилась за отца. Он посмотрел на меня. У него были белые губы, но дрожащей рукой он все-таки погладил меня по голове.
— Ничего, ничего, Валя, — сказал он. — Через все это надо пройти.
Я скорее прочла по губам, чем услышала его слова.
— Скорей назад! — кричал Плотников. — Придется обойти кругом.
Мы снова бежали за ним, увертываясь от бревен и камней, падавших из горящих домов, помогая друг другу стряхивать с себя искры, сворачивая в переулки, возвращаясь назад, когда видели, что путь впереди завален рухнувшим домом, задыхаясь и торопясь.
— Скорей, скорей! — кричал Плотников. — Скорей, скорей!
Постепенно горящие дома стали попадаться реже. Немцы сильнее всего бомбили центр города. Мы приближались к окраине. Здесь было тише, дома стояли словно мертвые, с наглухо запертыми ставнями. Жители спрятались в подвалах или сидели во внутренних комнатах.
Мохнатый щенок увязался за нами. Размахивая куцым хвостиком, он хватал меня за платье и весело тявкал, а потом отстал, побоявшись, видимо, далеко уходить от дома.
Ясно слышалась пулеметная стрельба, и все чаще щелкали винтовочные выстрелы. Потом мы услышали нарастающий грохот. Отец остановился, прислушиваясь.
— Скорей, скорей! — кричал Плотников.
— Что это? — спросил отец.
— Не задерживайтесь, — повторил Плотников. — Идут немецкие танки.
Мы свернули в подворотню и пересекли большой пустынный двор нового дома. Стрельба и грохот танков доносились сюда издалека. Во дворе росли молодые, недавно посаженные деревца, в квадратной загородке был насыпан песок для детей. Мы перелезли через невысокий забор и оказались в другом, меньшем дворе. Здесь было темней и грязней. Тощая кошка рылась в помойной яме. Она испуганно посмотрела на нас.
Грязноватая лестница вела прямо со двора вниз, в подвал. Маленький человек в толстовке и белой фуражке шагнул нам навстречу.
— Я уж думал, с вами случилось что-нибудь, — сказал он Плотникову.
— Задержались, — задыхаясь ответил Плотников. — Ключ у тебя?
Человек передал Плотникову ключ.
— Иди к Семену, — кинул ему на ходу Плотников. — Я приду туда.
Все вместе мы спустились по лестнице вниз. Плотников отпер дверь. Мы вошли в темные, тесноватые сени.
— Ну, — сказал Плотников, — на эти дни вот ваша квартира.
— Скорей, скорей! — кричал Плотников.
Желая сократить путь, мы свернули в узенький переулок. Стена дома, к которому мы подходили, медленно наклонилась, разламываясь на несколько частей, с грохотом рухнула на мостовую и рассыпалась на множество обломков. У меня подогнулись колени, задрожали руки, и я ухватилась за отца. Он посмотрел на меня. У него были белые губы, но дрожащей рукой он все-таки погладил меня по голове.
— Ничего, ничего, Валя, — сказал он. — Через все это надо пройти.
Я скорее прочла по губам, чем услышала его слова.
— Скорей назад! — кричал Плотников. — Придется обойти кругом.
Мы снова бежали за ним, увертываясь от бревен и камней, падавших из горящих домов, помогая друг другу стряхивать с себя искры, сворачивая в переулки, возвращаясь назад, когда видели, что путь впереди завален рухнувшим домом, задыхаясь и торопясь.
— Скорей, скорей! — кричал Плотников. — Скорей, скорей!
Постепенно горящие дома стали попадаться реже. Немцы сильнее всего бомбили центр города. Мы приближались к окраине. Здесь было тише, дома стояли словно мертвые, с наглухо запертыми ставнями. Жители спрятались в подвалах или сидели во внутренних комнатах.
Мохнатый щенок увязался за нами. Размахивая куцым хвостиком, он хватал меня за платье и весело тявкал, а потом отстал, побоявшись, видимо, далеко уходить от дома.
Ясно слышалась пулеметная стрельба, и все чаще щелкали винтовочные выстрелы. Потом мы услышали нарастающий грохот. Отец остановился, прислушиваясь.
— Скорей, скорей! — кричал Плотников.
— Что это? — спросил отец.
— Не задерживайтесь, — повторил Плотников. — Идут немецкие танки.
Мы свернули в подворотню и пересекли большой пустынный двор нового дома. Стрельба и грохот танков доносились сюда издалека. Во дворе росли молодые, недавно посаженные деревца, в квадратной загородке был насыпан песок для детей. Мы перелезли через невысокий забор и оказались в другом, меньшем дворе. Здесь было темней и грязней. Тощая кошка рылась в помойной яме. Она испуганно посмотрела на нас.
Грязноватая лестница вела прямо со двора вниз, в подвал. Маленький человек в толстовке и белой фуражке шагнул нам навстречу.
— Я уж думал, с вами случилось что-нибудь, — сказал он Плотникову.
— Задержались, — задыхаясь ответил Плотников. — Ключ у тебя?
Человек передал Плотникову ключ.
— Иди к Семену, — кинул ему на ходу Плотников. — Я приду туда.
Все вместе мы спустились по лестнице вниз. Плотников отпер дверь. Мы вошли в темные, тесноватые сени.
— Ну, — сказал Плотников, — на эти дни вот ваша квартира.
Глава пятая ЖИЗНЬ НЕВИДИМЫХ
I
О следующих месяцах нашей жизни надо совсем не писать или писать подробно. Но сейчас я рассказываю историю вакцины, а эти месяцы мы над ней не работали. Повесть об этом времени — это повесть о дружбе, о верности, о самопожертвовании. Когда-нибудь я расскажу о людях, которым угрожала смерть, которые голодали, которым нельзя было выйти на улицу, и люди эти думали о том, что есть среди них старик, знающий что-то очень важное для страны, стало быть, этого старика надо спасти. Каждый человек в городе был на учете. Каждую квартиру обыскивали, на улице у каждого проверяли документы, спрятаться было негде. И ни разу не проверили документы у четырех людей: у отца, у Вертоградского, у Якимова и у меня. И это несмотря на то, что, может быть, никого в городе гитлеровцы так не искали, как моего отца. Им, очевидно, многое было известно о его работе. В лабораторию они пришли через полтора часа после того, как город был занят. Они обыскали все, простукали стены и подняли полы, допросили нашу уборщицу Нюшу. Она сделала глупое лицо и наговорила такой ерунды, что на нее махнули рукой Тем не менее было установлено, что, когда город окружили, мы еще оставались в нем. Значит, мы не могли уйти Значит, мы еще здесь. Нас искали. Нам рассказали об этом много позже. В эти дни нас прятали, нас снабжали документами, нам объясняли, как вести себя. Почти каждую ночь мы проводили в другом месте. Пароли, отзывы, явки, неизвестность… Однажды у отца сдали нервы, и он сказал Плотникову: — Я так не могу! Черт с ним, пусть меня повесят! Поверьте, что секрет вакцины выдан не будет. Плотников ответил спокойно и холодно: — Мы вас спасаем не потому, что вы человек исключительный, а потому, что стране нужна ваша работа. Ведите себя спокойно и выполняйте то, что вам говорят. Мы ночевали тогда в помещении, где раньше была кустарная мастерская. Стоялистанки, какие-то обрезки клеенки лежали на полу. Пусть прочтет Плотников эти строки и узнает, что после его ухода отец целую ночь не спал, ходил из угла в угол и говорил о том, что он обязан выучиться быть спокойным и выдержанным, поменьше думать о собственных переживаниях. Четырех человек вместе было трудно спрятать, поэтому почти всегда Якимов и Вертоградский жили где-то отдельно. Тысячам людей было гораздо труднее, чем нам, но и нам было нелегко. Особенно запомнилась мне одна ночь. Это было в начале зимы 1941 года. Мы с отцом ночевали в подвале. Подвал был темен и мрачен. Штукатурка осыпалась со сводов; свет проникал через крохотное пыльное оконце. Здесь когда-то был склад, и в углу лежала большая куча пакли. На этой пакле мы и провели ночь. Я знала о бешеном и успешном наступлении Гитлера. Отец метался и бормотал во сне, а я лежала и думала: «Неужели действительно кончилось все? Неужели действительно не будет того мира, в котором я выросла, в котором я своя, который я люблю?» В первый раз меня охватило отчаяние. Я чувствовала тяжесть старых сводов, мучительную тишину подземелья. Неужели не будет воздуха, воли, неба?… В ту ночь мне казалось, что все уже кончено и что надеяться больше не на что. А наутро к нам в подвал пришел Плотников. Он сказал, что нас переведут в партизанский отряд, потому что там будет спокойней и безопасней. База отряда помещается в труднопроходимых лесах, и можно надеяться, что немцы туда не проберутся. Мы засыпали его вопросами. Но он, как всегда, посмотрел на часы, извинился и объяснил, что очень торопится, что завтра придет товарищ, который будет руководить нашим переездом. Он ушел, а мы без конца строили планы и предположения. — Может быть, со временем, — неуверенно сказал отец, — когда мы там обживемся, удастся нам хоть немного и поработать. Я посмотрела на него удивленно. Мне показались нелепыми грандиозность и необоснованность его надежд. Сутки никто к нам не приходил. Чего только мы не передумали! На следующий день, около двенадцати, когда мы уже потеряли всякую надежду, в подвал вошла женщина.II
— Андрей Николаевич, это вы? — спросила отца женщина, как будто бы Андреем Николаевичем могла вдруг оказаться я. — Вот вам костюм, наденьте. Отец ушел за кучу пакли переодеваться, а минут через пятнадцать оттуда вышел старичок, совсем такой, какие плетут лапти и живут на пасеках. Удивительно, как преобразила отца крестьянская одежда. Он был доволен своим видом и смотрел на меня с некоторой гордостью. Снова открылась дверь подвала, и вошел Плотников. Он долго поучал отца, как тот должен себя вести. Он заставлял отца ходить, садиться, разговаривать, вдалбливал ему названия мест и фамилий. — Помните, как называется деревня? — в десятый раз спрашивал его Плотников. — Божедомовка, — ответил отец. — Как фамилия старосты? — Крюков. — Зачем он вам разрешил идти в город? — Продать на рынке соленые грибы. — Правильно, — сказал Плотников. — А деньги где? Отец вытащил из кармана пачку денег, завернутую в платок. — А в чем вы несли грибы? — спросил Плотников. Отец растерянно на него посмотрел. Плотников взял принесенное женщиной ведро и вручил его отцу: — Вы несли грибы в этом ведре. Вот в нем два груздя, прилипшие к стенкам. И вообще ведро грязное — придете домой, вам его невестка вымоет. Поняли? — Понял, — отвечал отец. — Ну, прощайтесь с дочерью. Часов на шесть расстанетесь. Мы обнялись и поцеловались. — Счастливо, Валюша… — сказал отец. Они вышли, за ними закрылась дверь, и я осталась одна. Проходила минута за минутой, я все ждала: вот раздастся крик, выстрелы. Вот узнали отца, его схватили, его ведут… Но все было спокойно. Целый день просидела я в давящей мучительной тишине. Заскреблась мышь, скрипнула половица. Тишина. Безмолвие. Тишина. Стало совсем темно. Я посмотрела на часы. Было уже половина седьмого. Мне чудились подозрительные шумы и шорохи. «Случилось несчастье», — невольно повторяла я. Я старалась не думать об этом, убеждала себя: «Вздор, глупости, чепуха!» И все-таки повторяла: «Случилось несчастье, случилось несчастье». В дверь постучали. Передо мной стоял большеглазый худой юноша. Глаза его казались непомерно большими на истощенном лице. Мрачный был у него вид. В том настроении, в каком я была тогда, мне показалось, что он непременно должен принести мне весть о несчастье. — Ну? — сказала я. Он вошел и притворил дверь. Я повторила: — Ну? — Вы готовы? — спросил он. — Пора идти. — А что с ним?… С отцом и его ассистентами? Он посмотрел на меня удивленно. — Я не знаю, — сказал он. — Я даже не знаю, кто они. Мне поручено только вывести из города Валентину Андреевну. Это вы? Я нахмурилась. Неужели трудно было послать мне весточку! — Сейчас я надену пальто, — сказала я.III
Мы вышли во двор. Низкие тучи нависли над домами. В сумерках все казалось одинаково серым. От свежего воздуха у меня закружилась голова. — Нам надо торопиться, — сказал юноша. — Когда мы выйдем из подворотни, он сразу возьмет вас под руку. Ваше дело — просто прятать лицо в воротник и слушать, что он будет нашептывать вам на ухо. Он как будто за вами ухаживает. Понятно? Мне ничего не было понятно. Кто это «он», куда он меня поведет, почему он будет за мной ухаживать? Юноша закашлялся. Он кашлял и кашлял и, когда я его попросила объяснить мне подробнее, что я должна делать, только махнул рукой. Кашляя, он нагибался и прижимал руки к груди. Мы уже вышли из подворотни, а он все еще не мог сказать ни слова. Сразу же меня подхватил кто-то под руку. Я оглянулась. Рядом со мной, повернувшись ко мне лицом и улыбаясь, шел немецкий офицер. Я попыталась вырвать руку, но он держал ее крепко. В отчаянии я посмотрела назад. Юноша стоял, держась рукой за стенку дома, и продолжал кашлять. Офицер потащил меня вперед. Я упиралась. — Вы обращаете на себя внимание, — тихо сказал офицер. — Неужели вас не предупредили? У меня отлегло от сердца. Я спрятала лицо в воротник и чуть-чуть отвернула голову, стараясь принять кокетливый вид. Офицер круто свернул в переулок. Темные и молчаливые стояли дома. Нигде не пробивалось ни одной полоски света. Изредка попадались запоздалые прохожие. Они торопливо шли, не глядя по сторонам. Мы проходили через центр и долго шли вдоль пустых кирпичных коробок с большими прямоугольниками оконных проемов. Внутри был навален кирпич и щебень. Причудливо извивались железные балки. Черная копоть покрывала стены. Мой спутник заговорил: — Вы, кажется, дочь Кострова? — Да, — сказала я. — Я немножко знаю вашего отца. Он консультировал у нас в клинике. — Вы врач? — Да. Может быть, мы даже с вами встречались. Теперь трудно узнать знакомого. — Что вы делаете сейчас? — Врачую. Не стоит вам знать, в каких условиях и как. У вас и своих забот довольно. Тощий, лохматый пес выпрыгнул из окна сгоревшего дома. Поджав хвост, он прижался к стене и испуганно следил за нами, пока мы прошли. Два солдата не торопясь шагали по тротуару. Немного в стороне шел их командир — младший офицер или унтер. Наклонившись ко мне, мой спутник смеялся и говорил мне что-то по-немецки, наверно, любезное, потому что вид у него при этом был удивительно залихватский. Мы прошли мимо кондитерской. Вывеска еще сохранилась. — Я здесь раньше печенье брала, — сказала я. Спутник мой рассмеялся. — Вы хотите сказать, что город здорово изменился? — спросил он. Я промолчала. Еще один патруль попался нам навстречу. Унтер окликнул нас. Спутник мой повернулся к нему с таким надменным видом, что тот козырнул и забормотал что-то в свое оправдание. — Вот преимущество формы СС, — сказал мой провожатый, когда мы прошли дальше. — Как она вам досталась? — спросила я. — Очень просто, — усмехнулся он. — Меня допустили работать в госпитале, — разумеется, не врачом, а так, чем-то вроде фельдшера, у них не хватает персонала. Ну, а я украл в цейхгаузе обмундировку. В сочетании со знанием немецкого языка она бывает, как видите, очень полезна. Мы подходили к окраине. Здесь много домов сохранилось. Кое-где сквозь ставни пробивался свет. Возле большого дома стояло много машин. Дверь непрерывно отворялась и затворялась. Офицеры группами и по одиночке шли к дому и от дома. Спутник мой непрерывно козырял. Он здорово поднаторел в этом деле, — так лихо щелкал каблуками и подносил руку к козырьку, что сразу чувствовался хороший служака. Ему отвечали, а некоторые ему козыряли первые. — Так и живем, — сказал он. — До тех пор, пока старшему офицеру не придет в голову окликнуть меня и проверить документы. — Он усмехнулся. — Впрочем, пока, как видите, обходится благополучно. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Правду сказать, я этого упоения не испытываю… Мы свернули в темные переулки. Маленькие деревянные домики спрятались за заборами. На улицах не было ни одного человека. Как будто вымерли все. Наверно, в давние времена так бывало после чумы. Мы спустились к речке. Когда-то я здесь каталась на лодке. Володя Старичков умел хорошо грести. Сейчас речка замерзла. Дорога вела через небольшой деревянный мост.
— Будьте осторожны, — шепнул мне спутник, и мы спустились к мосту.
Сразу из темноты ударили нам в лицо лучи карманных фонариков. Несколько солдат стояли вокруг нас, и офицер говорил резким голосом. Спутник повернулся к нему и сказал, наверно, что-то смешное, потому что офицер усмехнулся и странно на меня посмотрел. Солдаты расступились. Мы пошли по мосту. Офицер что-то крикнул нам вслед, спутник мой ответил, и оба они рассмеялись. Фонари погасли.
Мы сошли с мостика и оказались за городом. К этому берегу реки лес подступал почти вплотную. Дорога уходила мимо пустых, заколоченных дач под высокие березы и ели.
— Я объяснил моему «коллеге по армии», — сказал мой спутник, — что мы идем в одну из этих дач, где нам будет очень уютно, и пригласил его в гости, только непременно со своим коньяком.
Я ничего не ответила. Мы шли дальше. Город уже не был виден.
— Как же вы вернетесь обратно? — спросила я. — Патруль ведь заметит, что вы вернулись один.
— Я вернусь через другую заставу. Да если и через эту, никто не обратит внимания, что вас нет. Мало ли что случается с людьми, которых сопровождают офицеры этой армии…
Теперь, когда нас никто не видел, мы пошли быстро. Незачем было притворяться, что мы прогуливаемся. Дорога была темна и пустынна. Молчаливый, темный лес стоял вокруг. С каким наслаждением дышала я лесным воздухом после заключения!
— Как мы странно встречаемся… — говорил мне мой спутник. — Мы даже не знаем друг друга в лицо, мы виделись только в темноте. После войны мы не узнаем друг друга. Правда, я знаю ваше имя. Готовьтесь, после войны я приду к вам в гости. Вы откроете дверь и увидите незнакомого человека.
— Я догадаюсь, что это вы, — сказала я, — вы увидите, что догадаюсь. Я возьму вас за руку и проведу в комнату, и посажу в самое лучшее кресло, и налью чаю. Мы с вами будем сидеть и рассказывать друг другу все, что с нами случилось, потому что мы ведь будем уже старыми друзьями.
— Хорошо бы! — невесело усмехнулся он.
Мы снова замолчали. Высокая береза простирала над дорогой длинные ветки. Около нее мы остановились.
— Мне надо торопиться, — сказал мой спутник, — у меня скоро дежурство. Видите, вот тропинка. Идите по ней. Вас встретят.
Мы пожали друг другу руки, потом я обняла его и поцеловала.
— До свиданья, — сказал он. — Кланяйтесь вашему батюшке.
Он помахал на прощанье рукой, ушел и почти сразу исчез в темноте. Минуту я постояла, глядя ему вслед.
Много позже узнала я, что этот человек через две недели после нашей встречи был повешен на Базарной площади и что умер он просто и мужественно.
Мы свернули в темные переулки. Маленькие деревянные домики спрятались за заборами. На улицах не было ни одного человека. Как будто вымерли все. Наверно, в давние времена так бывало после чумы. Мы спустились к речке. Когда-то я здесь каталась на лодке. Володя Старичков умел хорошо грести. Сейчас речка замерзла. Дорога вела через небольшой деревянный мост.
— Будьте осторожны, — шепнул мне спутник, и мы спустились к мосту.
Сразу из темноты ударили нам в лицо лучи карманных фонариков. Несколько солдат стояли вокруг нас, и офицер говорил резким голосом. Спутник повернулся к нему и сказал, наверно, что-то смешное, потому что офицер усмехнулся и странно на меня посмотрел. Солдаты расступились. Мы пошли по мосту. Офицер что-то крикнул нам вслед, спутник мой ответил, и оба они рассмеялись. Фонари погасли.
Мы сошли с мостика и оказались за городом. К этому берегу реки лес подступал почти вплотную. Дорога уходила мимо пустых, заколоченных дач под высокие березы и ели.
— Я объяснил моему «коллеге по армии», — сказал мой спутник, — что мы идем в одну из этих дач, где нам будет очень уютно, и пригласил его в гости, только непременно со своим коньяком.
Я ничего не ответила. Мы шли дальше. Город уже не был виден.
— Как же вы вернетесь обратно? — спросила я. — Патруль ведь заметит, что вы вернулись один.
— Я вернусь через другую заставу. Да если и через эту, никто не обратит внимания, что вас нет. Мало ли что случается с людьми, которых сопровождают офицеры этой армии…
Теперь, когда нас никто не видел, мы пошли быстро. Незачем было притворяться, что мы прогуливаемся. Дорога была темна и пустынна. Молчаливый, темный лес стоял вокруг. С каким наслаждением дышала я лесным воздухом после заключения!
— Как мы странно встречаемся… — говорил мне мой спутник. — Мы даже не знаем друг друга в лицо, мы виделись только в темноте. После войны мы не узнаем друг друга. Правда, я знаю ваше имя. Готовьтесь, после войны я приду к вам в гости. Вы откроете дверь и увидите незнакомого человека.
— Я догадаюсь, что это вы, — сказала я, — вы увидите, что догадаюсь. Я возьму вас за руку и проведу в комнату, и посажу в самое лучшее кресло, и налью чаю. Мы с вами будем сидеть и рассказывать друг другу все, что с нами случилось, потому что мы ведь будем уже старыми друзьями.
— Хорошо бы! — невесело усмехнулся он.
Мы снова замолчали. Высокая береза простирала над дорогой длинные ветки. Около нее мы остановились.
— Мне надо торопиться, — сказал мой спутник, — у меня скоро дежурство. Видите, вот тропинка. Идите по ней. Вас встретят.
Мы пожали друг другу руки, потом я обняла его и поцеловала.
— До свиданья, — сказал он. — Кланяйтесь вашему батюшке.
Он помахал на прощанье рукой, ушел и почти сразу исчез в темноте. Минуту я постояла, глядя ему вслед.
Много позже узнала я, что этот человек через две недели после нашей встречи был повешен на Базарной площади и что умер он просто и мужественно.
Глава шестая НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ
I
Когда я шла по узенькой тропинке, огибая огромные березы, наклоняя голову под еловыми ветками, чувствуя, как упруго оседает под ногами снег, счастье переполняло меня. За все эти месяцы я ни разу не чувствовала себя такой сильной и бодрой. Вот задрожала ветка, нечаянно задетая мной, и снег пушистыми хлопьями упал на лицо. Я растерла его рукой, мне было жарко и весело. И снова луч фонарика неожиданно осветил меня. Невысокий человек в куртке солдатского сукна и в ушанке стоял передо мной. — Скорей, — сказал он. — Вас уже ждут. Правее берите. Я побежала, спотыкаясь, иногда застревая в снегу. Деревья расступились. Пробиваясь сквозь тучи, луна освещала небольшую полянку Вертоградский бросился ко мне, обхватил меня руками и закружил так быстро, что ноги мои летели пи воздуху, не касаясь снега. — Юра, пустите! — сказала я смеясь. — Не пущу, — сказал Вертоградский. — Умели грустить, умейте и радоваться. Он наконец поставил меня на снег. У меня кружилась голова. Комок снега ударил в плечо. Якимов стоял передо мной, и даже в полутьме видны были его зубы, так он широко улыбался. Я подбежала обнять отца, такого смешного в своей крестьянской одежде, возбужденною и веселого Потом, не удержавшись, запустила снежком в Вертоградского, Якимов запустил в меня, и даже отец, что отнюдь не соответствовало его возрасту и ученому званию, запустил снежком в Якимова, но попал не в него, а в какого-то незнакомого человека, торопливо подходившего к нам. — Здравствуйте, здравствуйте! — говорил этот человек, немного задыхаясь от быстрой ходьбы. — Приехали? Ну и хорошо, давайте знакомиться. — И он стал пожимать нам руки, повторяя при каждом пожатии: — Петр Сергеевич… Петр Сергеевич.
Еще какие-то люди окружили нас. Кто-то говорил, что пора уже ехать; кто-то беспокоился, принесли ли шубы, а то можно замерзнуть в санях; кого-то спрашивали, задан ли лошади овес и положили ли в розвальни сена.
Нас повели к краю полянки. Там стояли широкие розвальни. Всех четверых усадили на них и укрыли ноги овчинными тулупами. Петр Сергеевич присел с одного боку, кто-то еще — с другого. Петр Сергеевич сказал:
— Ну, трогай!
И мы поехали.
Чудесная это была поездка. Лошадь быстро бежала по снежной лесной дороге. С веток сыпался на нас снег. Комья снега летели нам в лицо из-под лошадиных копыт. Тучи разошлись, выглянула луна. Перебивая друг друга, рассказывали мы о своих приключениях. Отец, например, встретил лабораторного сторожа, тот его окликнул, но отец не ответил, и сторож отстал. Якимов и Вертоградский надели комбинезоны грузчиков, нагрузили консервами машину и на ней выехали. А здесь, в лесу, их ждали настоящие грузчики. Машина уехала, они остались одни. Все это было интересно, но уже неважно. Важно было то, что мы здесь все вместе.
Час проходил за часом. Рысцой бежала лошадь. Холод стал забираться под шубы. Зашла луна.
Стало светать. Хотя ночь была на исходе, никому не хотелось спать. Только Петр Сергеевич спокойно дремал, просыпаясь на ухабах и сразу же засыпая снова.
Лес стал мельче. По сторонам дороги мелькал кустарник, тоненькие березы и осины
— Начинаются наши Алеховские болота, — сказал Петр Сергеевич, проснувшись — Скоро въедем на гать.
Мы поняли, что это уже район отряда. Дорога стала тряской. Под снегом лежали бревна.
Петр Сергеевич стал объяснять, показывая вокруг:
— Вот это и есть наши болота. Какие бы морозы ни были, они все равно не замерзают. Отойди в сторонку на два шага, и сразу под снегом вода выступит. До войны эти места считались дурными Тут скот и то выпускать опасно. Попадет животное в топь — и пропало. Уже был составлен план осушения. Канавы должны были начинать рыть. А сейчас, если бы не болото, разве могли бы мы здесь так привольно жить? Сюда ведь немцы и соваться не пробуют. Чуть что, мы эту гать раскидаем, подорвем, и попробуй пройди!
Нам очень хотелось спросить о другом: что мы будем делать в отряде? Но как-то неловко было. Петр Сергеевич рассказывал, как они строятся, как на сухих местах роют землянки, а теперь решили и срубы ставить.
Незаметно я задремала. Когда открыла глаза, стало уже совсем светло. Лошадь стояла на круглой полянке возле бревенчатого дома с мезонином. Какие-то люди окружили сани.
— Махов, начальник отряда, — сказал, протягивая руку отцу, высокий человек с широким лицом. — А вот, познакомьтесь, мой комиссар.
Комиссар был рябой, широкоплечий человек с ясными голубыми глазами. Он добродушно улыбнулся и помог нам выбраться из саней.
Процедура знакомства закончилась. Широким жестом Махов показал на дверь:
— Заходите, товарищи! Здесь будет ваше жилище.
— Здравствуйте, здравствуйте! — говорил этот человек, немного задыхаясь от быстрой ходьбы. — Приехали? Ну и хорошо, давайте знакомиться. — И он стал пожимать нам руки, повторяя при каждом пожатии: — Петр Сергеевич… Петр Сергеевич.
Еще какие-то люди окружили нас. Кто-то говорил, что пора уже ехать; кто-то беспокоился, принесли ли шубы, а то можно замерзнуть в санях; кого-то спрашивали, задан ли лошади овес и положили ли в розвальни сена.
Нас повели к краю полянки. Там стояли широкие розвальни. Всех четверых усадили на них и укрыли ноги овчинными тулупами. Петр Сергеевич присел с одного боку, кто-то еще — с другого. Петр Сергеевич сказал:
— Ну, трогай!
И мы поехали.
Чудесная это была поездка. Лошадь быстро бежала по снежной лесной дороге. С веток сыпался на нас снег. Комья снега летели нам в лицо из-под лошадиных копыт. Тучи разошлись, выглянула луна. Перебивая друг друга, рассказывали мы о своих приключениях. Отец, например, встретил лабораторного сторожа, тот его окликнул, но отец не ответил, и сторож отстал. Якимов и Вертоградский надели комбинезоны грузчиков, нагрузили консервами машину и на ней выехали. А здесь, в лесу, их ждали настоящие грузчики. Машина уехала, они остались одни. Все это было интересно, но уже неважно. Важно было то, что мы здесь все вместе.
Час проходил за часом. Рысцой бежала лошадь. Холод стал забираться под шубы. Зашла луна.
Стало светать. Хотя ночь была на исходе, никому не хотелось спать. Только Петр Сергеевич спокойно дремал, просыпаясь на ухабах и сразу же засыпая снова.
Лес стал мельче. По сторонам дороги мелькал кустарник, тоненькие березы и осины
— Начинаются наши Алеховские болота, — сказал Петр Сергеевич, проснувшись — Скоро въедем на гать.
Мы поняли, что это уже район отряда. Дорога стала тряской. Под снегом лежали бревна.
Петр Сергеевич стал объяснять, показывая вокруг:
— Вот это и есть наши болота. Какие бы морозы ни были, они все равно не замерзают. Отойди в сторонку на два шага, и сразу под снегом вода выступит. До войны эти места считались дурными Тут скот и то выпускать опасно. Попадет животное в топь — и пропало. Уже был составлен план осушения. Канавы должны были начинать рыть. А сейчас, если бы не болото, разве могли бы мы здесь так привольно жить? Сюда ведь немцы и соваться не пробуют. Чуть что, мы эту гать раскидаем, подорвем, и попробуй пройди!
Нам очень хотелось спросить о другом: что мы будем делать в отряде? Но как-то неловко было. Петр Сергеевич рассказывал, как они строятся, как на сухих местах роют землянки, а теперь решили и срубы ставить.
Незаметно я задремала. Когда открыла глаза, стало уже совсем светло. Лошадь стояла на круглой полянке возле бревенчатого дома с мезонином. Какие-то люди окружили сани.
— Махов, начальник отряда, — сказал, протягивая руку отцу, высокий человек с широким лицом. — А вот, познакомьтесь, мой комиссар.
Комиссар был рябой, широкоплечий человек с ясными голубыми глазами. Он добродушно улыбнулся и помог нам выбраться из саней.
Процедура знакомства закончилась. Широким жестом Махов показал на дверь:
— Заходите, товарищи! Здесь будет ваше жилище.
II
Мы вошли в обыкновенную деревенскую кухню с огромной свежевыбеленной русской печью. Чугуны разных размеров стояли на полке. В углу, в стеклянном шкафу, переделанном из киота, я заметила тарелки, ложки, стаканы. Махов распахнул следующую дверь. Посреди просторной комнаты стоял грубо сколоченный стол, покрытый холщовой скатертью. Стулья, видимо сделанные здесь же в отряде каким-нибудь неумелым столяром, показались мне громоздкими и неуклюжими. На чисто вымытом полу лежали пестрые половики. Направо я заметила еще одну дверь. Прямо против кухни узкая деревянная лестница вела наверх. — Наверху ваш кабинет, Андрей Николаевич, — сказал Махов. Теснясь и толкая друг друга, поднялись мы по лестнице. «Кабинет» представлял собой небольшую квадратную комнату, где стояли две койки, застланные лоскутными одеялами, большой деревянный стол с одним ящиком и три или четыре стула. Одну из стен заняли деревянные полки, заставленные книгами. Я узнала знакомые корешки и посмотрела на отца. Он так растерялся, что стоял неподвижно и только щипал бородку. — Перевезли… — бормотал он. — Каким образом? Потом он бросился к полкам и стал выхватывать книги, торопливо перелистывать их и даже гладить обложки. — Ай-ай-ай, — говорил он, — второго тома нет! Как раз самый нужный том… Обложка попорчена… Ну, это ничего. С трудом я оттащила его от полок. Махов, комиссар и Петр Сергеевич делали вид, что не замечают его волнения. — Папа, — шепнула я, — нас ждут. — Да, — сказал Махов, — пойдемте, товарищи, мы еще вам не всё показали. Мы поставили здесь две кровати, рассчитывая, что дочери вашей придется спать тоже в кабинете. А вашим ассистентам мы поставили кровати в лаборатории…
Отец резко повернулся к Махову:
— В какой лаборатории?
Махов усмехнулся:
— А вот пойдемте посмотрим.
Теперь отец несся впереди всех с такой быстротой, что мы еле за ним поспевали. Вбежав в нижнюю комнату, которую отныне я буду называть столовой, он остановился, растерянно оглядываясь и не зная, куда идти дальше. Махов распахнул дверь, и мы вошли в последнюю, третью комнату нашего дома. Все удивляло нас сегодня, но удивительнее этой комнаты мы еще ничего не видели. Это была действительно лаборатория. Небольшая, очень несовершенная, но лаборатория. На столе сверкала химическая посуда. Поблескивали желтой медью два микроскопа. Возле окна стояли один на другом три небольших ящика с решетчатыми передними стенками. В них копошились морские свинки и, тыкаясь в решетки тупыми мордочками, высматривали, кто пришел и зачем.
Отец, Якимов и Вертоградский бросились к столу. Дрожащими руками перебирали они посуду, вертели в руках микроскопы, пробовали весы.
— Пробирок маловато, — сказал Вертоградский.
— Ничего, ничего, — перебил отец, — хватит. Жалко, ступка только одна.
— Вот еще две, — возгласил Якимов.
Отец был уже у другого конца стола.
— Фильтры ничего… правда, не первый сорт, но годятся. С этим как-нибудь справимся. Глюкозы не вижу.
— Загляните еще в шкаф, — сказал Махов.
Шесть рук, мешая друг другу, открыли дверцы стоявшего в углу самодельного шкафа. На полках теснились коробочки с ампулами, пузырьки и банки.
— Глюкозы надолго хватит! — ликовал отец.
— Шприцы, — широко улыбаясь, говорил Вертоградский, раскрывая одну за другой коробки, — и запасные иглы. Смотрите, Андрей Николаевич, запасные иглы!
Все трое начали показывать друг другу свои находки, радоваться, смеяться, переговариваться. Махов уже поглядывал на часы и улыбался по-прежнему вежливо, но немного напряженно.
Я оттащила отца от шкафа, но он вырвался и подбежал к столу. Ему хотелось скорей испробовать микроскопы, и я с трудом его от них оторвала. Потом я взялась за Якимова и дотащила его почти до самой двери, но в это время отец снова оказался у шкафа. Тогда я вытолкнула Якимова за дверь, попросила Петра Сергеевича постеречь, чтобы он не вернулся, и решительно повела отца в столовую. Держа в руке какой-то пузырек и силясь разобрать надпись на этикетке, он послушно шагал за мной. Вертоградского проконвоировал Петр Сергеевич, и таким образом мы все наконец вышли из лаборатории.
За это время кто-то накрыл обеденный стол. На тарелке лежал нарезанный хлеб, на огромной сковороде дымилась картошка с консервированной колбасой. Махов пригласил нас садиться. Не могу назвать этот первый завтрак в лесу веселым. У отца и Якимова были отсутствующие глаза, и они все время обменивались репликами насчет шприцев, игл, свинок, глюкозы и чего-то еще. По-видимому, они ничего не слышали, когда к ним обращались. Во всяком случае, их приходилось окликать несколько раз, и все-таки они отвечали невпопад.
Вертоградский пытался еще поддерживать общий разговор, но тоже время от времени отвлекался рассуждениями насчет фильтров, мензурок и термостата. Я изо всех сил старалась развлечь наших хозяев, но что я могла сделать одна!
Как только чай был допит, Махов, Петр Сергеевич и комиссар поднялись. Они поблагодарили нас, как будто мы их угощали. По лицу отца было совершенно ясно видно, что он с нетерпением ждет, когда наконец все уйдут и позволят ему вернуться в лабораторию. К счастью, наши хозяева были люди неглупые, видимо, вполне понимали отца и не обижались.
Мы условились, что Петр Сергеевич будет к нам наведываться и, если что-нибудь понадобится, мы ему сообщим.
Нас пригласили заходить в штаб и вообще чувствовать себя как дома. После этого, торопливо пожав нам руки, наши гости или хозяева, не знаю, как их назвать, ушли. Еще не успела за ними закрыться дверь, как отец сказал:
— Ну, пойдемте, пойдемте! Разберемся, что там есть, чего не хватает.
— Мне кажется, папа, — сказала я, — что следовало бы людям хоть спасибо сказать… Вероятно, не очень легко было устроить на болоте лабораторию.
Отец посмотрел на меня растерянно и вдруг, ничего не говоря, выбежал из комнаты. В окно мы видели: он бежал по снегу и кричал. Махов, комиссар и Петр Сергеевич остановились, отец начал говорить, но вдруг махнул рукой, обнял Махова, расцеловал его, потом расцеловал комиссара и Петра Сергеевича. Затем они смеялись и кричали что-то отцу, а он уже бежал обратно по снежной лесной поляне, маленький, худенький старичок в холщовой рубашке.
Он ворвался в комнату. От него пахло морозом.
— Они ж понимают, — говорил он на ходу, — они ж не обидятся! Ну, идемте, идемте. Время дорого.
До самого вечера все трое возились в лаборатории, Было учтено все до последней мелочи. Всему было найдено свое место. Был утвержден распорядок дня я распределены обязанности.
Мне так и не удалось уговорить мужчин пообедать. Часов в девять вечера, когда уже было совсем темно, я снова накрыла на стол. Надо было все-таки поесть. Мои воззвания оставались без ответа. На меня просто не обращали внимания. Тогда я взяла керосиновую лампу и вынесла ее из лаборатории. Оставшись в темноте, они долго ругались и требовали света, но я была непреклонна, и мне удалось усадить их за стол. Тогда оказалось, что все ужасно голодны, и обед и ужин были съедены в один присест.
Отец хотел снова идти в лабораторию, но я запротестовала. Он и сам, кажется, почувствовал наконец, что устал. Взяв лампу, он направился к себе в мезонин. Поднявшись на несколько ступенек, он остановился. Стоя на возвышении, держа в руке горящую лампу, он выглядел очень торжественно.
— Вот что, — сказал отец, — я хочу, чтобы вы, дорогие товарищи, запомнили следующее: эта лаборатория — не простая лаборатория. Тут каждая вещь — это, знаете что такое? Ей цены нет. Вы сами понимаете. Так вот, я хочу сказать: если здесь, в этой лаборатории, мы будем бездельничать, работать плохо, с нас за это голову снять мало. Ясно, товарищи?
— Ясно, — сказал Вертоградский, вскакивая и козыряя.
— Понятно, — сказал Якимов.
— Ясно, — сказала я.
— Ну то-то же! — Отец погрозил нам пальцем и медленно стал подниматься по лестнице.
— Да, — сказал Махов, — пойдемте, товарищи, мы еще вам не всё показали. Мы поставили здесь две кровати, рассчитывая, что дочери вашей придется спать тоже в кабинете. А вашим ассистентам мы поставили кровати в лаборатории…
Отец резко повернулся к Махову:
— В какой лаборатории?
Махов усмехнулся:
— А вот пойдемте посмотрим.
Теперь отец несся впереди всех с такой быстротой, что мы еле за ним поспевали. Вбежав в нижнюю комнату, которую отныне я буду называть столовой, он остановился, растерянно оглядываясь и не зная, куда идти дальше. Махов распахнул дверь, и мы вошли в последнюю, третью комнату нашего дома. Все удивляло нас сегодня, но удивительнее этой комнаты мы еще ничего не видели. Это была действительно лаборатория. Небольшая, очень несовершенная, но лаборатория. На столе сверкала химическая посуда. Поблескивали желтой медью два микроскопа. Возле окна стояли один на другом три небольших ящика с решетчатыми передними стенками. В них копошились морские свинки и, тыкаясь в решетки тупыми мордочками, высматривали, кто пришел и зачем.
Отец, Якимов и Вертоградский бросились к столу. Дрожащими руками перебирали они посуду, вертели в руках микроскопы, пробовали весы.
— Пробирок маловато, — сказал Вертоградский.
— Ничего, ничего, — перебил отец, — хватит. Жалко, ступка только одна.
— Вот еще две, — возгласил Якимов.
Отец был уже у другого конца стола.
— Фильтры ничего… правда, не первый сорт, но годятся. С этим как-нибудь справимся. Глюкозы не вижу.
— Загляните еще в шкаф, — сказал Махов.
Шесть рук, мешая друг другу, открыли дверцы стоявшего в углу самодельного шкафа. На полках теснились коробочки с ампулами, пузырьки и банки.
— Глюкозы надолго хватит! — ликовал отец.
— Шприцы, — широко улыбаясь, говорил Вертоградский, раскрывая одну за другой коробки, — и запасные иглы. Смотрите, Андрей Николаевич, запасные иглы!
Все трое начали показывать друг другу свои находки, радоваться, смеяться, переговариваться. Махов уже поглядывал на часы и улыбался по-прежнему вежливо, но немного напряженно.
Я оттащила отца от шкафа, но он вырвался и подбежал к столу. Ему хотелось скорей испробовать микроскопы, и я с трудом его от них оторвала. Потом я взялась за Якимова и дотащила его почти до самой двери, но в это время отец снова оказался у шкафа. Тогда я вытолкнула Якимова за дверь, попросила Петра Сергеевича постеречь, чтобы он не вернулся, и решительно повела отца в столовую. Держа в руке какой-то пузырек и силясь разобрать надпись на этикетке, он послушно шагал за мной. Вертоградского проконвоировал Петр Сергеевич, и таким образом мы все наконец вышли из лаборатории.
За это время кто-то накрыл обеденный стол. На тарелке лежал нарезанный хлеб, на огромной сковороде дымилась картошка с консервированной колбасой. Махов пригласил нас садиться. Не могу назвать этот первый завтрак в лесу веселым. У отца и Якимова были отсутствующие глаза, и они все время обменивались репликами насчет шприцев, игл, свинок, глюкозы и чего-то еще. По-видимому, они ничего не слышали, когда к ним обращались. Во всяком случае, их приходилось окликать несколько раз, и все-таки они отвечали невпопад.
Вертоградский пытался еще поддерживать общий разговор, но тоже время от времени отвлекался рассуждениями насчет фильтров, мензурок и термостата. Я изо всех сил старалась развлечь наших хозяев, но что я могла сделать одна!
Как только чай был допит, Махов, Петр Сергеевич и комиссар поднялись. Они поблагодарили нас, как будто мы их угощали. По лицу отца было совершенно ясно видно, что он с нетерпением ждет, когда наконец все уйдут и позволят ему вернуться в лабораторию. К счастью, наши хозяева были люди неглупые, видимо, вполне понимали отца и не обижались.
Мы условились, что Петр Сергеевич будет к нам наведываться и, если что-нибудь понадобится, мы ему сообщим.
Нас пригласили заходить в штаб и вообще чувствовать себя как дома. После этого, торопливо пожав нам руки, наши гости или хозяева, не знаю, как их назвать, ушли. Еще не успела за ними закрыться дверь, как отец сказал:
— Ну, пойдемте, пойдемте! Разберемся, что там есть, чего не хватает.
— Мне кажется, папа, — сказала я, — что следовало бы людям хоть спасибо сказать… Вероятно, не очень легко было устроить на болоте лабораторию.
Отец посмотрел на меня растерянно и вдруг, ничего не говоря, выбежал из комнаты. В окно мы видели: он бежал по снегу и кричал. Махов, комиссар и Петр Сергеевич остановились, отец начал говорить, но вдруг махнул рукой, обнял Махова, расцеловал его, потом расцеловал комиссара и Петра Сергеевича. Затем они смеялись и кричали что-то отцу, а он уже бежал обратно по снежной лесной поляне, маленький, худенький старичок в холщовой рубашке.
Он ворвался в комнату. От него пахло морозом.
— Они ж понимают, — говорил он на ходу, — они ж не обидятся! Ну, идемте, идемте. Время дорого.
До самого вечера все трое возились в лаборатории, Было учтено все до последней мелочи. Всему было найдено свое место. Был утвержден распорядок дня я распределены обязанности.
Мне так и не удалось уговорить мужчин пообедать. Часов в девять вечера, когда уже было совсем темно, я снова накрыла на стол. Надо было все-таки поесть. Мои воззвания оставались без ответа. На меня просто не обращали внимания. Тогда я взяла керосиновую лампу и вынесла ее из лаборатории. Оставшись в темноте, они долго ругались и требовали света, но я была непреклонна, и мне удалось усадить их за стол. Тогда оказалось, что все ужасно голодны, и обед и ужин были съедены в один присест.
Отец хотел снова идти в лабораторию, но я запротестовала. Он и сам, кажется, почувствовал наконец, что устал. Взяв лампу, он направился к себе в мезонин. Поднявшись на несколько ступенек, он остановился. Стоя на возвышении, держа в руке горящую лампу, он выглядел очень торжественно.
— Вот что, — сказал отец, — я хочу, чтобы вы, дорогие товарищи, запомнили следующее: эта лаборатория — не простая лаборатория. Тут каждая вещь — это, знаете что такое? Ей цены нет. Вы сами понимаете. Так вот, я хочу сказать: если здесь, в этой лаборатории, мы будем бездельничать, работать плохо, с нас за это голову снять мало. Ясно, товарищи?
— Ясно, — сказал Вертоградский, вскакивая и козыряя.
— Понятно, — сказал Якимов.
— Ясно, — сказала я.
— Ну то-то же! — Отец погрозил нам пальцем и медленно стал подниматься по лестнице.
Глава седьмая ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛОДИ ЗАРЕЧНОГО
I
Время, прожитое на Алеховских болотах, кажется мне целиком заполненным не прекращающейся ни на один день, напряженной, изматывающей работой. В шесть часов утра вставал отец и прежде всего шел в лабораторию. — Работать, доценты, работать! — кричал он. Якимов вскакивал сразу и, быстро одевшись, мчался на кухню умываться. Вертоградский еще лежал, стараясь оттянуть хоть минуту, объясняя жалобным голосом, что все равно ему придется ждать, пока Якимов умоется, и поэтому лучше он еще полежит. Наконец возвращался Якимов, уже совершенно бодрый, раскрасневшийся от холодной воды, и Вертоградского с позором извлекали из постели. Унылый и жалкий, тащился он на кухню с полотенцем на плече, жалуясь, что газ опять не горит и нельзя даже принять ванну, что центральное отопление снова испортилось и в доме собачий холод. В это время я уже затапливала плиту и ставила чайник. Вымывшись, Вертоградский становился веселее и после некоторой внутренней борьбы соглашался сходить за водой. Это входило в его обязанности. Якимов колол дрова, а отец подметал комнаты. Он настоял, чтобы в домашней работе ему тоже выделили долю. Пользы от этого было мало, мне все равно приходилось подметать еще раз, так как отец оставлял мусор во всех углах. В шесть сорок пять садились завтракать. Зимой в это время было еще совсем темно. Завтракали торопливо. Отец смотрел на часы и ворчал, что время уходит даром, что Эдисон спал два часа в сутки и поэтому сделал кое-что в жизни. В семь часов, минута в минуту, он командовал: «За работу!» Ассистенты, дожевывая куски, уныло плелись в лабораторию. Мне давался двухчасовой отпуск на уборку и другие домашние дела. После обеда час отдыхали. Вертоградский спал как убитый, а Якимов курил, слонялся по комнате или чертил на замерзшем окне круглолицых веселых чертиков. Отец показывался на лестнице с часами в руках: пора! Работа продолжалась до одиннадцати часов вечера. Помню, как мы услышали по радио сообщение о разгроме немцев под Москвой. В виде исключения в отряде был устроен настоящий пир. Петр Сергеевич, не жалея, отпускал спирт. Под радостные крики одна за другой осушались кружки. Подвыпив, Якимов вдруг загрустил и, плача крупными слезами, стал говорить, что вот, мол, война идет, а его воевать не пускают; потом ему и вспомнить нечего будет, и дети будут его презирать… Еле-еле мы его довели домой, и дома произошел разговор, который я много раз потом вспоминала. Было это так. Вертоградский уже уложил Якимова и лег сам. Мы с отцом поднялись наверх и только собрались гасить лампу, как на лестнице раздались неровные шаги. Дверь отворилась, и, слегка покачиваясь, Якимов вошел в комнату. Хмель еще бродил в нем и не давал ему успокоиться. Мы смотрели на него выжидающе и немного испуганно. — Я скажу, — начал он и ухватился рукой за стол, чтобы не упасть. — Все равно, я скажу. Не любят Якимова, не знают Якимова. Думаете, я не понимаю, кто из меня человека сделал? Я понимаю. Что я без вас? Нуль. — Пальцем он аккуратно вывел в воздухе нуль. — А с вами? С вами я ученый. Причастен к великому открытию. Я знаю, что вы меня своим не считаете: Якимов — сухарь, молчальник, Якимов — рабочая лошадь. А Якимов не так прост. Когда-нибудь вы узнаете, что такое Якимов. Вы всё поймете, — он всхлипнул, — да поздно уже будет… Он совсем по-детски вытер кулаком слезы. Отец редко видел пьяных. Поэтому бессвязные слова Якимова произвели на него впечатление. Он неожиданно встал, подошел к Якимову и обнял его. — Не огорчайтесь, — сказал он. — Не горюйте. Ложитесь спать, а утром мы с вами поговорим. Якимов совсем растрогался. — Вы Вертоградского любите, — сказал Якимов, — а я для вас просто так, ничего. Ну что ж, и не надо. И будет Якимов, непонятый, нести свой тяжелый крест… У Якимова был такой смешной вид, что я невольно засмеялась. Отец посмотрел на меня строго и недовольно. — Я Юру тоже люблю, — сказал Якимов растроганно. — Он мне как брат родной. — Вы это ему сейчас же скажите, — посоветовала я. — Скажу, — согласился Якимов и, пошатываясь, вышел из комнаты. Мы с отцом посмеялись и легли спать. Я совсем уже засыпала, когда отец вдруг окликнул меня. — Ты не спишь, Валя? — Нет, — сонно ответила я. Отец приподнялся на постели. — Якимов во многом прав, — сказал он задумчиво. — Подумай сама: сколько лет работает у меня человек, а что я о нем знаю? В сущности говоря, ничего. Работает и работает. А что он думает, что у него на душе, ничего я об этом не знаю. Неправильно, неправильно это! Отец повздыхал еще в темноте, собирался еще что-то сказать, но я уже спала крепким сном. На следующий день Якимов поглядывал на всех нас с опаской. Он, кажется, нетвердо помнил, что произошло накануне, но мы сделали вид, что ничего не было. Он повеселел, окатился холодной водой и сел за работу.II
Жизнь наша была очень нелегкая. Как ни защищали нас топи, угроза нападения висела над нами все время. Вскоре гитлеровцы окончательно выяснили, что отряд базируется на Алеховских болотах. То ли выследили кого-нибудь, то ли кто-то не выдержал на допросе и рассказал. Над нами стали появляться немецкие самолеты. Чувствовать постоянно наблюдающий внимательный взгляд врага было удивительно неприятно. Махов приказал маскироваться. К счастью, наш дом был сверху совсем закрыт кронами высоких деревьев. Штабные землянки тщательно засыпали снегом. Тем не менее два дня бомбардировщики сбрасывали над болотом бомбы. Бросали они наудачу, и все бомбы падали на незаселенные места. Но для всех нас это были довольно неприятные дни. Карательные отряды с трех сторон стали стягиваться к болотам, и наши патрули завязали бой. Немцы не знали, что Алеховские болота зимой не замерзают. Орудия их застряли, но пехота подбиралась все ближе к сердцу отряда. Первый день боев не дал немцам успеха. Всю ночь партизаны тревожили их автоматной и пулеметной стрельбой. На второй день с утра немцы снова начали наступать и в середине дня подошли к гати, Хорошо, что Махов вовремя приказал ее раскидать. Это было нелегкое дело. Люди стояли по колено в воде, а мороз в то время был градусов пятнадцать. Гать раскидали, но тут нам не повезло: ночью мороз усилился до двадцати градусов, дорога замерзла и стала проходимой. Я очень ясно помню утро третьего дня. Мы все были в землянке, в которой размещался лазарет. Тогда в отряде еще не было своего врача, и мы четверо работали за врачей, за сестер и фельдшеров. Бой шел километрах в пяти. Часов в восемь в землянку вошел комиссар. Раненые лежали вдоль стен прямо на сене. — Ну, товарищи, — сказал комиссар, — кто себя не так плохо чувствует, давайте собирайтесь. Нуждаемся в помощи. Ушли несколько легкораненых, Якимов и Вертоградский. Бой шел весь день и всю следующую ночь. От раненых мы узнавали о ходе событий. К середине четвертого дня немцы продвинулись на пятьсот метров, но к вечеру были отбиты. Настала черная, безлунная ночь. Этой ночью решалась судьба отряда. Комиссар собрал группу добровольцев. Обвешанные гранатами, они пошли заветной тропкой врагам в обход. Я видела, как, в белых халатах, бесшумно скользя на лыжах, один за другим скрывались они в темноте. Удар был нанесен в четыре часа утра. Через сорок минут, когда значительная часть немцев была деморализована, наши партизаны перешли в наступление. Если не считать нескольких убежавших гитлеровских солдат, карательный отряд был уничтожен полностью. Некоторых из наших лыжников принесли на носилках к нам в лазарет, другие вернулись невредимыми, очень многих похоронили на склоне холма, на котором помещался штаб. Якимов и Вертоградский пришли возбужденные и гордые своим участием в операции. Вместе со всеми выступали и они и даже, рассказывают, шли в первых рядах. Оба были невредимы. Только Якимова пуля царапнула по ноге, но он не обратил на это внимания. В этом бою убили комиссара. Его принесли на носилках и опустили в братскую могилу. Все это очень сблизило нас с отрядом. Якимов и Вертоградский заслужили всеобщее одобрение, да и нас с отцом хвалили за то, что мы недели две не вылезали из лазарета и поставили на ноги всех, кроме двух совсем безнадежных. Впрочем, скоро в отряде появился свой врач, известный в нашем городе хирург, предупрежденный Плотниковым о предстоящем аресте и сбежавший на Алеховские болота. Это был доктор Гущин, хороший старик, ставший впоследствии нашим большим другом. В марте была налажена радиосвязь с советским командованием, и советские самолеты стали сбрасывать над Алеховскими болотами ящики с боеприпасами, снаряжением и продуктами. Если учесть, какое огромное расстояние было в то время от нас до линии фронта, нельзя не удивляться смелости и умению летчиков. Постепенно в отряде появилось много нужных и важных вещей. У нас была теперь походная типография, и мы выпускали листовки, которые потом разносили по всем городам и деревням. У нас была настоящая радиостанция. Лазарет наш был довольно хорошо оборудован. По просьбе отца прислали кое-что из нужных ему материалов.III
Весной 1942 года возник вопрос о нашей отправке на «Большую землю». К тому времени километрах в тридцати от нас был построен партизанский аэродром. Махов предложил доставить нас туда. Отец задал Махову три вопроса. — Мы вам мешаем здесь? — спросил он. — Нет, — отвечал Махов. — Есть непосредственная опасность, что немцы проникнут на Алеховские болота? — Думаю, что нет. — А мы сможем вывезти лабораторию? Махов усмехнулся: — Конечно, нет. Но в Москве вам создадут другую. — И все надо будет опять налаживать заново. И во второй раз пропадут начатые уже опыты… — Отец ходил из угла в угол и мрачно пощипывал бороду. — Нет, — твердо сказал он, остановившись перед Маховым. — Я не могу на это пойти. Уж лучше мы будем пользоваться вашим гостеприимством. А когда вакцина будет готова, тогда поедем в Москву. — Как хотите, — сказал Махов, — Конечно, частенько бывает за вас страшновато, но все-таки я и сам колебался. Пожалуй, действительно лучше кончить работу здесь. С тех пор к этому вопросу не возвращались. Несколько раз запрашивала Москва о возможности нашей эвакуации, и Махов каждый раз отвечал, что профессор выражает желание закончить работу в лесной лаборатории. И снова потекли размеренные и одинаковые дни. День за днем брали мы пробы, день за днем входили иглы шприцев под кожу перепуганных насмерть мышей, день за днем заносил Якимов результат каждого опыта в лабораторный дневник. Условия нашей работы были очень тяжелыми. Больше всего мешал нам недостаток подопытных животных. Морские свинки служили нам верой и правдой, но опыты требовали жертв, и одна за другой они погибли для пользы науки. Надо было ловить полевых мышей. Так как ни я, ни ассистенты не были мастерами по этой части, отец постарался завязать дружбу с одним молодым пареньком, и тот ему в знак уважения каждый день доставал несколько штук мышей. Однажды Махову понадобилось послать паренька с поручением, но того нигде не могли найти, и Махову объяснили, что, наверно, он ловит мышей. Нам Махов ничего не сказал, но, как нам передали, часа полтора ворчал и сердился. — В конце концов, — говорил он, — у меня партизаны, а не кошки! Я не понимаю, зачем тогда было отряд создавать? Тогда давайте не будем бить гитлеровцев, и я пошлю отряд ловить мышей. Паренька вовремя разыскали, но мы перепугались и притихли. Зная о нашей нужде, нам понемногу доставляли мышей, но их было мало и они не очень годились для опытов. Мы страдали от отсутствия самых простых вещей. Материалы, которые в городе можно купить в любой аптеке, здесь просто невозможно было достать. Отец выдумывал, комбинировал, производил замены. Это требовало энергии, изобретательности, отнимало много времени и затягивало работу. В сущности говоря, теперь наш отряд был настоящей воинской частью. Каждое отбитое у немцев орудие, пулеметы, снаряды, патроны свозили на болото. Отряд продолжал действовать мелкими группами, совершая внезапные налеты, подрывая составы и склады, нарушая связь, терроризируя гарнизоны. А на болотах, незаметная, невидимая, накапливалась техника. Всю ее мощь испытали немцы при второй попытке напасть на Алеховские болота. На этот раз Махов оказался хозяином положения. Он заранее проложил гати в новых, неизвестных врагу местах, и ночью на немцев обрушилась лавина огня крупнокалиберных пулеметов и минометов; орудия ударили прямой наводкой. Мало кто из карателей унес тогда ноги.IV
Много приобрели мы за это время друзей и много друзей потеряли. Скольких старых и молодых, веселых или печальных проводили мы в опасный путь! Сколько дней и ночей волновались мы: удастся ли им вернуться, увидим ли мы их снова? Помню, как мы встречали возвращавшихся с операции. Издали еще пересчитываешь: семь человек, а уходило десять. Кто же погиб? Сколько за это время хороших людей не вернулось… Похудел и постарел отец, осунулся Вертоградский, даже у Якимова, силача и здоровяка, круги усталости легли под глазами. Какой нелепостью звучало у нас слово «отдых»! Разве можно здесь говорить об отдыхе? «Работать, доценты, работать!» День, утро, вечер, короткий сон — и снова пожалуйте в лабораторию, к столу. Но вот у отца стали веселее блестеть глаза, и порою он с удовольствием потирал руки. Появилась надежда, что мы приближаемся к концу нашей работы. Две маленькие мышки с аппетитом ели крупу и увлеченно грызли дощатые стенки своих клеток. Обе они были поражены неизлечимой болезнью — обеих их вылечила вакцина. Я вспоминаю воскресный вечер после выздоровления этих мышей. К нам пришло в гости несколько человек. Никогда я еще не видела таким веселым отца. Он много рассказывал, смеялся и даже спел какую-то старую песню, в которой забыл всю середину и половину конца. Он еще не хотел в тот вечер рассказывать гостям о наших лабораторных успехах, но, может быть, у него был слишком счастливый вид, а может быть, Вертоградский сболтнул лишнее, — во всяком случае, гости догадались, что у нас хорошие новости, пристали с расспросами, и пришлось отцу рассказать об удачных опытах. Героические мыши были принесены в клетке и поставлены на стол для всеобщего обозрения, а отец поведал о плане дальнейших испытаний вакцины. Около двухсот проверок должна была она пройти, прежде чем быть испытанной на людях. Но события развернулись не так, как мы ожидали, и вакцина была испытана гораздо скорее.V
Группа в пятнадцать человек ушла на операцию. Готовился взрыв железнодорожного моста. Командовал группой Володя Заречный, тот самый, который ловил нам в лесу мышей. Теперь Махов доверял ему серьезные задания. На следующую ночь связанные с нашим отрядом крестьяне видели, как мост взлетел в воздух. С часу на час мы ждали наших обратно. На всех тропинках выставлены были заслоны, чтобы встретить их и помочь, если понадобится. Но они не пришли ни в эту ночь, ни в следующую. Только на четвертые сутки девять человек из пятнадцати, измученные, покрытые пылью и кровью, вернулись на Алеховские болота. Идти могли только восемь. Девятого, Володю Заречного, посменно несли на самодельных носилках. Он был ранен в ногу, в живот и в плечо. Восемь человек пошли отсыпаться, а Володя поступил в распоряжение доктора Гущина. Отец ассистировал ему при операции. На следующий день Володя пришел в сознание, еще через день повеселел и стал просить есть, а еще через день у него подскочила температура. Началась газовая гангрена. Доктор Гущин постучался к нам в двенадцатом часу. Мы уже легли. Я услышала стук и, накинув платье, побежала открывать. — Мне нужно Андрея Николаевича, — сказал Гущин. — Он спит, — ответила я. — Разбудите его. Я побежала в мезонин. Отец уже проснулся, услышав голоса и шаги. Я сказала, что его просит Гущин, и он торопливо спустился по лестнице. Ассистенты тоже, вышли из лаборатории, так что все мы собрались в столовой. — Добрый вечер, Василий Васильевич, — сказал отец. — Присаживайтесь, Валя сейчас чаю согреет. — Андрей Николаевич, — сказал Гущин, — плохо Заречному. Типичнейшая газовая гангрена. Отец отвел глаза в сторону, — Бедняга, — сказал он. Мы все молчали, отлично понимая, о чем хочет говорить Гущин. — Андрей Николаевич! — сказал врач. Отец молчал. — Андрей Николаевич!.. — Я не могу, — сказал отец. — Вы как врач поймете меня. Это не мышь. Я не имею права. Гущин подошел к отцу. — Я не сомневаюсь, что вы согласитесь, — тихо сказал он. Отец провел рукой по голове и зашагал по комнате. В дверь опять постучали. Якимов пошел открывать. Он вернулся с Маховым. У Махова было очень усталое лицо. — Согласен? — спросил он у Гущина, ни с кем не здороваясь. — Не сомневаюсь, что согласится, — ответил Гущин. Махов подошел к отцу и обнял его за плечи. — Решайтесь скорее, Андрей Николаевич, — сказал он, — ведь погибает же человек! Подумайте сами, Володька Заречный погибает… Помните, как он вам мышей ловил, а я еще его изругал тогда? Махов засопел носом, отошел и стал у окна спиной к нам. Отец развел руками. Он очень волновался. Он старался застегнуть пиджак, но пальцы так прыгали, что он все не попадал петлей на пуговицу. — Как вы можете так говорить! — сказал он. — Ведь это же нельзя, ведь это же не проверено, ведь я же могу убить его… — Вы можете его спасти, — сказал Гущин, — а без вас он умрет обязательно. Я непонимаю, о чем вы думаете. — Не знаю, не знаю… — забормотал отец. — Это легкомыслие. Это тог против чего я всегда боролся, Это ненаучно» Махов резко повернулся к отцу. Он заговорил хриплым, немного задыхающимся голосом: — А по-моему, лучше пусть Володя ненаучно выживет, чем умрет по всем правилам вашей науки! Думаете, он стал бы колебаться, если бы вас нужно было спасать? — Товарищи, товарищи, что вы… — повторял отец. Он очень побледнел, руки у него так и прыгали. — Хорошо. Вероятно, вы правы. Конечно, обстоятельства таковы… Ну что ж, нельзя бояться ответственности. — Никакой ответственности нет, — сказал Гущин. — Мы все понимаем, что работа не проверена. Но лучше один шанс на спасение, чем ни одного. — Да, да, — говорил отец, — конечно, вы правы. Я понимаю. Юрий Павлович, приготовьте вакцину а шприцы. Валя, согрей пока чаю. Я немного разнервничался. Мне надо чаю выпить, и я пойду. Я бросилась разводить огонь. Якимов и Вертоградский уже возились в лаборатории. Гущин сел и закурил папиросу. Махов стоял, глядя в окно, а отец поднялся в мезонин, и мы слышали над головой его шаги. Он ходил, не останавливаясь, из угла в угол. В эту же ночь Заречному ввели первые двадцать кубиков вакцины. Я присутствовала при этом. Теперь отец действовал уверенно и спокойно, его движения были твердыми и точными, он даже шутил с больным, как будто лечил его давно известным безобидным средством. Володя заснул, а отец сидел возле него до утра, и никакими силами нельзя было уговорить его пойти отдохнуть. Впрочем, следующие дни все мы почти не спали. Следует помнить, что в то время совершенно еще была неизвестна дозировка. Отец ввел, по сравнению с принятой сейчас, половинную дозу. Естественно, это ослабило действие вакцины и отдалило результат.
Прошли сутки. Состояние Володи не ухудшалось, но и не улучшалось. Отец не отходил от его постели. С ним вместе попеременно дежурили Якимов и Вертоградский. Я засыпала на часок где-нибудь в соседней землянке, чтобы быть всегда под руками.
Прошел еще день. Володе не становилось лучше.
Поспав час или полтора, я решила пойти узнать новости. Я подошла к лазарету около часу ночи. Ярко светила полная луна, и я сразу заметила фигуру, прижавшуюся к стволу березы. Подойдя ближе, я по спине узнала отца. Он стоял, обхватив ствол дерева. У него вздрагивали плечи, он всхлипывал и шмыгал носом. Я долго не двигалась, ожидая, пока он успокоится. Мне не хотелось, чтоб он видел меня. Отойдя от березы, отец всхлипнул еще раз, потом тщательно вытер платком лицо и спустился в землянку. Я вошла туда минут через пять. Он спокойно сидел и шутил с Володей Заречным.
На третий день улучшения все еще не было. Отец решил ввести двойную дозу. В сущности говоря, это было очень рискованно. Действие вакцины ведь еще не изучено. Все мы понимали отлично, на что идем, но об этом не было сказано ни единого слова. Думаю, что понимали это и Василий Васильевич и Махов. Но теперь отец держал себя совершенно диктаторски. Он не просил, а распоряжался и категорически запретил задавать какие бы то ни было вопросы. Отец сам ввел двойную дозу. Заречный скоро заснул, а отец опять сидел целую ночь, не отходя от его постели.
Утром было уже ясно, что состояние больного улучшилось. Опухоль спала. Больной оживился, попросил есть. Заснул, проснулся и снова попросил есть. Смерили температуру; она была нормальной. Гущин ходил кругами вокруг больного. Он то насвистывал, то напевал, то щелкал пальцами. Отец держался так, как будто ничего особенного не произошло и он все наверняка знал заранее.
— Теперь, Василий Васильевич, — сказал он небрежным тоном, — только питание и покой. Природа сама сделает свое дело.
Он пошутил с Заречным, вежливо простился с Василием Васильевичем и отправился домой. Мы шли за ним, и он всю дорогу читал нам академическую лекцию о действии вакцины, разбирая равнодушно-лекторским тоном историю выздоровления Заречного.
Придя домой, отец попросил меня согреть чаю. Поставив чайник, я поднялась наверх и увидела, что он лежит на постели одетый, в ботинках и спит. Проснулся он только на следующее утро.
Впрочем, следующие дни все мы почти не спали. Следует помнить, что в то время совершенно еще была неизвестна дозировка. Отец ввел, по сравнению с принятой сейчас, половинную дозу. Естественно, это ослабило действие вакцины и отдалило результат.
Прошли сутки. Состояние Володи не ухудшалось, но и не улучшалось. Отец не отходил от его постели. С ним вместе попеременно дежурили Якимов и Вертоградский. Я засыпала на часок где-нибудь в соседней землянке, чтобы быть всегда под руками.
Прошел еще день. Володе не становилось лучше.
Поспав час или полтора, я решила пойти узнать новости. Я подошла к лазарету около часу ночи. Ярко светила полная луна, и я сразу заметила фигуру, прижавшуюся к стволу березы. Подойдя ближе, я по спине узнала отца. Он стоял, обхватив ствол дерева. У него вздрагивали плечи, он всхлипывал и шмыгал носом. Я долго не двигалась, ожидая, пока он успокоится. Мне не хотелось, чтоб он видел меня. Отойдя от березы, отец всхлипнул еще раз, потом тщательно вытер платком лицо и спустился в землянку. Я вошла туда минут через пять. Он спокойно сидел и шутил с Володей Заречным.
На третий день улучшения все еще не было. Отец решил ввести двойную дозу. В сущности говоря, это было очень рискованно. Действие вакцины ведь еще не изучено. Все мы понимали отлично, на что идем, но об этом не было сказано ни единого слова. Думаю, что понимали это и Василий Васильевич и Махов. Но теперь отец держал себя совершенно диктаторски. Он не просил, а распоряжался и категорически запретил задавать какие бы то ни было вопросы. Отец сам ввел двойную дозу. Заречный скоро заснул, а отец опять сидел целую ночь, не отходя от его постели.
Утром было уже ясно, что состояние больного улучшилось. Опухоль спала. Больной оживился, попросил есть. Заснул, проснулся и снова попросил есть. Смерили температуру; она была нормальной. Гущин ходил кругами вокруг больного. Он то насвистывал, то напевал, то щелкал пальцами. Отец держался так, как будто ничего особенного не произошло и он все наверняка знал заранее.
— Теперь, Василий Васильевич, — сказал он небрежным тоном, — только питание и покой. Природа сама сделает свое дело.
Он пошутил с Заречным, вежливо простился с Василием Васильевичем и отправился домой. Мы шли за ним, и он всю дорогу читал нам академическую лекцию о действии вакцины, разбирая равнодушно-лекторским тоном историю выздоровления Заречного.
Придя домой, отец попросил меня согреть чаю. Поставив чайник, я поднялась наверх и увидела, что он лежит на постели одетый, в ботинках и спит. Проснулся он только на следующее утро.
Глава восьмая ЯКИМОВ НЕ ПРИХОДИТ К ЗАВТРАКУ
I
Махов передал по радио в Москву о том, что работа над вакциной закончена и испытана на раненом партизане. Из Москвы последовали горячие поздравления. Еще через неделю Махов пришел к нам. — Москва приказывает вас вывезти, — сказал он. — Госпитали ждут вашу вакцину. — Что ж, — сказал отец, — теперь можно. Теперь мне, конечно, самое место в Москве. Знаю я этих производственников, за ними глаз да глаз. Сделают что не так, а я потом отвечай, что вакцина плохая. С Москвой условились, что самолет вылетит за нами через неделю. За это время хотели проверить аэродром и летчик должен был как следует изучить местность. Через два дня после нашего разговора к нам зашел Махов и сказал: — А расстаться нам с вами, Андрей Николаевич, придется завтра. Насколько во время работы над вакциной отец не хотел никаких перемен, настолько сейчас стремился в Москву. Он очень обрадовался. — Что, разрешили раньше лететь? — спросил он. Махов покачал головой: — Нет, Андрей Николаевич. Простите, что раньше вам не сообщал, но сами понимаете — военная тайна. Оказалось, что отряд получил приказ о крупной операции. Насколько я поняла из объяснений Махова, речь шла о большом рейде с участием танков и орудий, с большими боями, с временным захватом целых районов. Преследовалась цель деморализовать тыл противника. Кроме того, рассчитывали, что в результате рейда гитлеровцы должны будут оттянуть с фронта значительные воинские части. Теперь эта задача была отряду по плечу. Вопрос с нашей отправкой был решен. На базе отряда оставались тридцать человек под командой Петра Сергеевича. На аэродроме тоже было достаточное количество людей. Переправить нас на аэродром должен был Петр Сергеевич. Отряд уходил завтра в ночь. У Махова совсем не было времени. Он только успел расцеловать нас всех, сказать несколько комплиментов по поводу нашего поведения и, не дав нам выговорить и десятой доли того, что хотелось, торопливо ушел. Весь следующий день был посвящен проводам отряда. Снова осматривали и проверяли орудия, пулеметы. Мы все ходили из землянки в землянку, прощались и помогали сборам. Якимов и Вертоградский чистили оружие. Я пришивала знакомым бойцам пуговицы, штопала дырки на гимнастерках, помогала укладывать вещевые мешки. На этот раз уходившие были совсем по-особенному настроены. Это была первая крупная операция. Торопились закончить сборы, чтобы успеть еще сыграть на баяне, спеть песню или просто поговорить. Володя Заречный принес нам огромный букет цветов и подарил каждому по трофейной зажигалке, а Якимову, как страстному курильщику, еще и портсигар. Якимов был очень доволен и только жаловался, что портсигар маловат — входит в него шестнадцать папирос, а ему, Якимову, такого количества и на полдня не хватит. — Друг ты мой сердечный, дорогой Заречный, — сказал Вертоградский, — иди сюда, я тебя поцелую! — Они поцеловались и долго трясли друг другу руки. Вечером мы прощались со всеми. Отряд собирался под высокими березками на холме. Горели факелы. Уже ушли вперед наши трофейные танки и, подпрыгивая на ухабах, укатились орудия. То там, то здесь вспыхивал смех. Казалось, что весь отряд подвыпил перед дорогой, хотя на самом деле на спиртные напитки был наложен строгий запрет. Нам без конца жали руки. Вертоградский, неизменная душа общества, рассказывал на прощанье какие-то смешные истории, видимо не совсем приличного содержания. Там, где он появлялся, смех звучал особенно громко. Якимов, широко улыбаясь, тряс огромной своей рукой руки товарищей и знакомых. Человек пятнадцать окружили отца, обещали после войны приносить ежедневно по сто мышей и убить всех кошек в области, чтобы мыши спокойно размножались на радость профессору. Партизаны строились поротно. Три баяниста играли марш. Принаряженные, веселые, щеголеватые становились бойцы в ряды. Когда я торопливо пробежала вдоль еще нестройных рядов, неся только что зачиненную мной для одного бойца шапку, командиры объявили равнение на меня и рота за ротой такими громоподобными голосами пожелали мне доброго здоровья, что я смутилась и чуть не уронила шапку. Но вот раздались команды, Махов стал во главе отряда и отчаянно громким голосом выкрикнул: «Смирно!» Отряд замер. Факелы освещали высокие стволы деревьев и ровные ряды людей. Командир взмахнул рукой, баянисты заиграли походный марш, и отряд двинулся. Мы долго шли рядом со строем, но постепенно дорога становилась все уже, и мы отстали. Едва были слышны издалека звуки баянов, а мимо нас, твердо ставя ноги, кивая нам на прощанье, все шли и шли люди, с которыми мы прожили вместе эти необычные и тяжелые месяцы. Прошли последние ряды. Мы одни стояли на дороге. Где-то в последних рядах высокий тенор затянул песню, ее подхватили, и, медленно затихая, она понеслась над лесом. Потом и песни не стало слышно. Наверно, отряд уже шел по гати. — Ну, пойдемте домой, — сказал отец.II
Каким-то небывало тихим вспоминается мне следующий день. Мы проснулись поздно, часов в восемь. Торопиться было некуда. Вертоградский долго валялся в постели, потом мужчины брились, чистились, я неторопливо готовила завтрак. Мне все время казалось, что в доме удивительно тихо. После завтрака отец сел на лавочку перед домом. Якимов отправился гулять. Я вымыла посуду, убрала комнаты и тоже вышла из дому. С особенным чувством шла я сегодня по знакомым местам. Мне казалось, что я прощаюсь с каждым деревом, с каждым кустиком; скоро жизнь пойдет по-иному, и я, может быть, никогда больше не увижу этих мест… День был жаркий, солнце пекло. Необыкновенно тихо было вокруг. Я зашла в штаб отряда. И здесь было тоже тихо. Часовые не стояли у входов в землянки, не было привычной суеты. Не бегали люди, не звучали голоса, в отрядной кухне не дымили печи. Иван Матвеевич Волков, старый охотник, грелся на солнышке и острым ножом строгал кусок дерева. Он, прищурившись, посмотрел на меня. — Гуляешь? — спросил он. — Тихо-то как стало, чувствуешь? — Что это вы строгаете? — спросила я. — Лодку, — ответил Волков. — Внук у меня в деревне… Не знаю, жив или нет. Может, жив, так вот гостинец готовлю. Все-таки дед не с пустыми руками домой вернется. Около вещевого склада я встретила Петра Сергеевича. Он был, как всегда, занят. — Гуляете? — спросил он. — Это правильно. А у меня, понимаете, дела по горло. Говорил Махову: оставь мне хоть человек пятьдесят. Нет, оставил тридцать, да из них половина инвалиды. Вот поди-ка разберись: посты выставлять надо, обед приготовить надо, воды наносить, лошадей накормить. Взялся вещевой склад проверять — мыши, черти, пробрались, две пары сапог попортили. Тоже кто-нибудь должен ответить. А с кого спросится? С Петра Сергеевича. — Вы теперь главное начальство? — спросила я. — Да ну! — он махнул рукой. — Начальствовать-то не над кем. Одно огорчение. Я спустилась с холма и пошла узенькой тропинкой, которая вела по мелколесью к так называемому Кувшинкину озеру. Оно было невелико, почти правильной круглой формы, окружено густыми, непроходимыми зарослями ивняка. Но я знала лаз и, наклонив голову, цепляясь за ветки, пробралась к берегу. Над водой носились нарядные стрекозы, длинноногие пауки бегали по воде. Я села на поваленный ствол. Кузнечик прыгнул ко мне на колени, посидел секунду и ускакал. Я долго сидела, не думая ни о чем, вся отдавшись покою, тишине и блаженной лени. Ветка хрустнула за моей спиной. Я обернулась. Из зарослей ивняка вышел Вертоградский. — Как жарко и хорошо! — сказал он, сел рядом со мной на ствол и стал смотреть на неподвижную водную поверхность. Я знала, о чем он будет говорить, и ждала разговора без радости, но и без раздражения. Здесь сейчас, в тишине и покое ясного августовского дня, мне не хотелось ни о чем думать и ничего решать. Мне хотелось сидеть без конца, смотреть на стрекоз, на суетливых паучков, на белые и желтые головки неподвижных водяных лилий. — Вы знаете, о чем я хочу с вами говорить? — спросил Вертоградский. Я кивнула головой. Непреодолимая лень напала на меня. «Ничего, — думала я, — все обойдется. Может быть, я выйду замуж за Вертоградского, и это будет хорошо, а может быть, не выйду, тогда будет что-нибудь другое хорошее». — Редко бывает, — сказал Вертоградский, — что мужчина и женщина живут вместе почти три года, вместе работают, вместе проводят целые дни до того, как они поженились. Очень редко бывает, что мужчина и женщина, не будучи близки, так узнают друг друга, как знаем мы с вами… Солнце отражалось в воде. Не отрываясь смотрела я на яркие, ослепительные пятна желтого света, и оцепенение охватывало меня. Только сейчас я почувствовала, как я устала за эти годы. Кажется, труднее всего было бы мне сейчас пошевелиться. И мысли текли ленивые, равнодушные. Так легко было согласиться на то, что предложит мне сейчас Вертоградский… Выйду за него замуж, будем по-прежнему вместе жить — отец, он и я, ничего не надо менять, ничего не надо решать. Все будет так, как прежде. Желтое пламя лежало на неподвижной воде, яркий свет слепил мне глаза, расплывались разноцветные круги, и я никак не могла сбросить охватившее меня оцепенение. — Мы не можем с вами ошибиться друг в друге, — говорил Вертоградский. — Я знаю все о вас и вы — все обо мне, поэтому я знаю абсолютно точно, что жизнь без вас станет для меня утомительной казенщиной, бесконечной цепью однообразных дней… Решайте, Валя. Далеко-далеко звучал его голос — так далеко, будто он сидел не рядом со мной, а где-то в другой земле, в другом мире. «Ну, вот и все, — думала я, — вот и кончилась первая полоса жизни. Начинается другая. Будем работать в одной лаборатории, после работы вместе ходить домой. Это очень удобно. Вероятно, и отец будет доволен. Просто два сотрудника переехали в одну квартиру», И тут меня как обожгло всю. «Что я делаю? — подумала я. — Откуда у меня такие ленивые, равнодушные мысли? Почему я должна выходить за него замуж? Ведь это я сейчас только такая усталая. Ведь, наверно, мне предстоит еще полюбить!» Желтое пламя сверкало на воде, усыпляющее, неподвижное. С трудом я оторвала от него глаза и сбросила с себя оцепенение. Я повернулась и посмотрела на Вертоградского. Он сидел, наклонившись вперед, глядя на меня боязливо и вопросительно. — Бросьте, Юра, — сказала я, — просто мы с вами одичали здесь на болотах. Три года вы, кроме меня, ни одной девушки не видали, вот вам и показалось, что вы в меня влюблены. Война кончится, станете вы на вечеринках плясать и увидите, что есть девушки гораздо лучше меня. Он покачал головой: — Нет, не увижу. — Ерунда, — сказала я. — Зачем нам с вами жениться? Мы и так не поссоримся. И пойдемте домой. Мне пора готовить обед. И следа не осталось от недавней моей лени. Мне стало весело и легко. Я шла по лесной тропинке, а сзади тащился Вертоградский, вздыхая и глядя на меня тоскующими глазами. — Знаете, Юра, — сказала я, — если вы будете на меня так смотреть, то я, во-первых, не дам вам обеда, а во-вторых, папе пожалуюсь. Что это вы, в самом деле, вздыхаете, как Ленский перед дуэлью! Нельзя же настроение портить людям… Вертоградский вздохнул еще два или три раза, но, очевидно согласившись с серьезностью моих доводов, успокоился и повеселел.III
Вечер в нашей лаборатории прошел так же спокойно, как и день. Все мы были какие-то расслабленные и сонные. Я сидела в качалке, закутавшись в платок, и слушала ленивый разговор мужчин. Отец зевал, молчал, барабанил пальцами по столу и часов в десять пошел наверх спать. Вертоградский и Якимов сыграли две партии в самодельные шашки, потом тоже стали зевать, и Вертоградский заявил, что, пожалуй, пора ложиться. Желая мне спокойной ночи, он сделал на минуту тоскующие глаза. Я рассмеялась. — Вспомните, Юра, — сказала я, — что все Ромео на свете страдали бессонницей! Он посмотрел на меня с молчаливым упреком и поплелся в лабораторию, причем даже по его спине было видно, что он заснет сразу же, как только ляжет в постель. Я тоже решила лечь. — Ложитесь и вы, — сказала я Якимову. — Благодарю, — он покачал головой, — мне что-то не хочется. Пойду еще прогуляюсь, покурю. Это был уже почти ритуал: перед сном Якимов выходил погулять и выкурить папиросу на свежем воздухе. — Покойной ночи, — сказала я зевая. Когда я поднялась наверх, отец спал. Я заснула сразу же, как только легла. Мне ничего не снилось целую ночь — как будто я закрыла глаза и сразу же их открыла. Яркое солнце било в окно. Начался новый день, один из последних дней лаборатории на болоте. Я посмотрела на часы. Было уже девять. Отец еще спал. Это немного меня успокоило. Может быть, Вертоградский и Якимов тоже проспали сегодня? Торопливо одевшись, я побежала вниз готовить завтрак. В столовой никого не было. Я прислушалась. В лаборатории было тихо. Очевидно, ассистенты еще спали. Я разожгла печь, поставила воду, начистила картошки и, решив, что довольно мужчинам спать, постучала в дверь лаборатории. — Неужели пора вставать? — раздался сонный голос Вертоградского. — Половина десятого, Юра! Из-за двери донесся стон. Я побежала на кухню. Минуты через три раздались шаги. Сонный и недовольный, вошел Вертоградский. — Все-таки Якимов свинья, — сказал он. — Неужели нельзя сделать товарищу любезность и принести вместо него воды? Я мог бы поспать еще двадцать минут. — А почему, собственно, Якимов должен вставать? — пожала я плечами. — Вставать! Он давно уже встал, даже постель убрал. Вертоградский, вздыхая, стал умываться. Спустился отец. Пока я накрывала на стол, мужчины привели себя в порядок. Вертоградский, уже веселый и бодрый, ходил по столовой и все порывался схватить кусок хлеба с тарелки. Я не давала ему Я очень не люблю эту манеру хватать куски до того, как сели за стол. Как будто нельзя подождать несколько минут! — Ждать, ждать! — жаловался Вертоградский. — Давайте тогда завтракать без Якимова. Кто виноват, что он шатается неизвестно где? До десяти часов мы все-таки ждали Якимова. В десять мы рассердились и сели завтракать. В это время к нам забежал Петр Сергеевич. — Вы не видели Якимова? — спросили мы. — Нет, не видел. — Странно, — сказал отец. — Я думал, что он в штаб пошел. Вертоградский внимательно оглядел комнату. — Слушайте, — сказал он, — вы заметили, что нет его пальто? Пальто Якимова всегда висело на гвоздике у двери. Мы все посмотрели на гвоздик. Пальто действительно не было. — Двадцать три градуса в тени, — сказал Петр Сергеевич. — Зачем ему понадобилось пальто? Вертоградский встал, резко отодвинул стул и вышел в лабораторию. Но сразу же появился снова. — Знаете, — сказал он изменившимся голосом, — Якимов забрал с собой и рюкзак. Как хотите, а глупо, идя перед завтраком прогуляться, брать с собой все свои вещи… Еще никто из нас ни о чем не догадывался, но предчувствие несчастья охватило нас всех. Мы вошли в лабораторию. Рюкзак Якимова всегда лежал в углу рядом с кроватью, сейчас его там не было. Вертоградский заглянул под кровати и под столы, обвел глазами стены. Рюкзака в комнате не было. Петр Сергеевич нахмурился. — Все его вещи были в рюкзаке? — спросил он. — Да. — Вертоградский задумался. — Вы знаете, — сказал он, — Якимов взял не только рюкзак со своими вещами, он взял и двести штук папирос, которые ему вчера подарил Заречный. Я помню точно, они лежали здесь, на подоконнике. Мы посмотрели друг на друга. Бледные, испуганные были у всех у нас лица. — Он зачем-то снял туфли, — продолжал расследование Вертоградский, — и надел болотные сапоги. Я не понимаю: отряд он, что ли, пошел догонять? Я посмотрела на отца и испугалась. Широко открыв рот, он жадно глотал воздух. Ему было нехорошо. — Папа, — сказала я, — успокойся, что ты!
Он оттолкнул меня.
— Ключ… — сказал он. — Где ключ от шкафа?
— Как всегда, у Якимова, — растерянно ответил Вертоградский. — Он не передал его вам, Валя?
Большими шагами отец подошел к шкафу, взялся за ручку. Дверца легко подалась. Отец посмотрел на нас; у него перекосилось лицо.
— Отперто! — сказал он почти шепотом и, наконец решившись, распахнул дверцы.
Каждый из нас знал совершенно точно: на второй полке сверху лежит черная клеенчатая тетрадь, и на тетради стоит черная же коробочка. Тетрадь — это лабораторный дневник, в коробочке — ампулы, все наличное количество вакцины, результат работы всех этих лет.
Полка была пуста.
— Папа, — сказала я, — успокойся, что ты!
Он оттолкнул меня.
— Ключ… — сказал он. — Где ключ от шкафа?
— Как всегда, у Якимова, — растерянно ответил Вертоградский. — Он не передал его вам, Валя?
Большими шагами отец подошел к шкафу, взялся за ручку. Дверца легко подалась. Отец посмотрел на нас; у него перекосилось лицо.
— Отперто! — сказал он почти шепотом и, наконец решившись, распахнул дверцы.
Каждый из нас знал совершенно точно: на второй полке сверху лежит черная клеенчатая тетрадь, и на тетради стоит черная же коробочка. Тетрадь — это лабораторный дневник, в коробочке — ампулы, все наличное количество вакцины, результат работы всех этих лет.
Полка была пуста.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ (Рассказанная Владимиром Старичковым) ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
Глава первая ВЫЗЫВАЮТ К НАЧАЛЬНИКУ. РАССКАЗ ГЕНЕРАЛА ШАТОВА
I
Я получил бессистемное образование. Кончив школу в Иркутске, где мой отец много лет преподавал математику, я, по категорическому его настоянию, поступил в Планово-финансовый институт. Очень скоро убедился я, что вопросы финансирования интересуют меня очень мало. Проучившись год, я поговорил с отцом серьезно, и он согласился, чтобы я переменил учебное заведение. Меня привлекла биология. Любимым учителем у нас в школе был Федор Максимович Удалов, страстный и убежденный естественник. С ним мы препарировали рыб, лягушек, ужей и всякую другую живность, какая попадала к нам в руки. Летом он ходил с нами за город и рассказывал интереснейшие истории о каждом комаре, каждой гусенице, каждом головастике. Мне казалось, что биология — это и есть настоящее мое призвание. Я был тогда в том возрасте, когда человеку хочется путешествовать. Я решил покинуть Иркутск. Отец огорчился этим моим решением, но спорить не стал. — Хорошо, — сказал он, — уезжай. Когда постранствуешь и утвердишься где-нибудь, будем снова с тобой жить вместе. Обстоятельства сложились так, что в Москву мне не удалось попасть. Я поступил на биологический факультет в большом городе на западе нашей страны. Сначала я занимался с большим увлечением, однако к концу второго курса меня стали одолевать сомнения. Биология по-прежнему интересовала меня, но не стала самым главным в жизни; очень многое другое интересовало меня не меньше. Но я еще не решался порвать с биологией. «Нет ничего хуже, — писал мне отец, — чем разбрасываться. В каждой профессии много скучного. Надо уметь пройти через это». Я был с ним вполне согласен. Но, когда я переходил на третий курс, у меня произошел разговор с одним из виднейших наших профессоров, Костровым. Андрей Николаевич спросил меня, заполняет ли биология целиком мою жизнь. Я откровенно ответил ему, что нет, и тогда он прямо и даже довольно резко посоветовал мне уйти с факультета. Я подал заявление с просьбой отчислить меня и уехал в Москву, даже не простившись с Валей, дочкой Кострова, в которую был влюблен. Очень сильно было во мне желание найти свое настоящее место в жизни. Меня томили тревога, неудовлетворенность, жажда перемен. Я переехал в Москву и поступил на химический факультет МГУ. Я очень много занимался и старался заглушить неустанной работой вновь и вновь возникавшие во мне сомнения. Химия интересовала меня, но мерещилась мне и другая работа, требующая разнообразных знаний, постоянного напряжения мысли, встреч с людьми. В общем, я сам не знал, что мне мерещилось. Чтобы приработать немного денег, я поступил лаборантом в лабораторию угрозыска. Им нужен был человек, знакомый с основами химии. Я пришелся ко двору. Оказалось полезным и знакомство мое с биологией и даже знание бухгалтерии. Меня увлекла работа в лаборатории. Постепенно я все реже и реже ходил в университет и был наконец оттуда отчислен. Отец написал мне очень сухое письмо. «Боюсь, — писал он, — что из тебя растет лоботряс». Но тут я с ним не был согласен. Мне казалось, что я наконец-то нашел, что меня по-настоящему интересует. По вечерам я ходил на курсы иностранных языков и кончил их. Я хорошо изучил английский и немецкий. Года два я проработал в лаборатории, пока начальство не обратило на меня внимание и не выдвинуло на следственную работу. Мне пришлось заняться некоторыми специальными дисциплинами, но и все ранее мной изученное пришлось очень к месту на новой моей работе. Я почувствовал, что нашел то дело, о котором мечтал. Я проработал на новом месте недолго, и началась война. Я не подлежал мобилизации. Даже в ополчение меня отказались взять. Я очень рвался в армию и чуть ли не ежемесячно подавал рапорты по начальству. Мой начальник, генерал Шатов, аккуратно писал на каждом рапорте: «Отказать». Я понял, что меня все равно не отпустят, и рапорты подавать перестал — примирился с тем, что так и останусь тыловиком, так и не побываю на фронте. Работать приходилось много. Я довольно успешно провел несколько интересных дел и мог, пожалуй, сказать, что время свое не потратил даром. И вот однажды, в августе 1942 года, меня вызвали к генералу. Был уже вечер. Шатов ходил по большому своему кабинету. — Садитесь, Старичков, — сказал он, кивая на кресло. — Курите, если желаете. Я сел. Что-то в тоне генерала заставило меня сразу почувствовать, что разговор будет не совсем обыкновенный.II
Все же я очень удивился, когда Шатов, опустившись в рядом стоящее кресло, спросил: — Слушайте, Старичков, как звали того профессора, который заставил вас уйти с биологического факультета? Когда-то, когда меня принимали на работу, я подробно рассказывал Шатову свою биографию и упоминал об этом случае, но никак не думал, что он это помнит. — Костров, — сказал я. — Андрей Николаевич? — Да. — Значит, у вас были с ним скверные отношения? Я удивился: — Нет, почему? Обыкновенные, как у студента с профессором. Зачет я ему сдал хорошо, и он даже меня похвалил. — Но он помнит вас или нет, как вы думаете? — Не знаю. Он, может быть, и забыл. Я вспомнил о Вале и невольно подчеркнул, что забыть меня мог только он, то есть сам Костров. Шатов почувствовал это и сразу насторожился: — Почему вы подчеркиваете, что он забыл? — Да нет, Иван Гаврилович, — сказал я, смутившись, — просто так. Я немного ухаживал за его дочерью и думаю, что, может быть, она меня помнит.
Шатов посмотрел на меня, наклонив голову:
— Об этом вы мне не рассказывали.
— Я не думал, что это может вас интересовать.
— Конечно, — согласился Шатов. — Это и не могло интересовать меня.
Он задумался. Я положительно недоумевал, почему вдруг возник этот разговор.
— А с тех пор вы не виделись с Валентиной Андреевной и не переписывались с ней? — спросил Шатов.
— Нет.
Меня поразило, что он знает даже ее имя.
Шатов, помолчав, сказал:
— Я только потому задаю вопрос, что он важен для дела: ваше внутреннее отношение к ней сейчас такое же, как и прежде?
Я еще больше смутился. Кабинет начальника не место для таких разговоров, и, кроме того, все это было очень неожиданно.
— Дело давнее, Иван Гаврилович, — сказал я. — Я в то время был очень молод. Да и она девчонкой была. Что ж, ей тогда двадцати лет не было.
— Ну хорошо, оставим это. Значит, вы с тех пор, как бросили биологию, совсем потеряли Костровых из виду?
— Совсем потерял. Только перед войной прочел в газете, что он делал доклад на коллегии Наркомздрава о какой-то своей вакцине.
— А вы знаете, что это за вакцина?
— Нет, в газете ничего не говорилось.
— Я сегодня поинтересовался этим делом, — сказал Шатов. — Я не биолог. Вы лучше поймете. Речь идет о послераневых осложнениях.
— Газовая гангрена, шок и так далее? — спросил я.
— Вот-вот. Вы, значит, знакомы с этим вопросом?
— Очень немного.
— По-видимому, это очень важно. Кроме того, сама история открытия — одна из самых странных историй нашего времени. Но об этом после. Какие вы ведете сейчас дела?
Я перечислил.
— Придется их передать другому.
— А мне вы поручите новое дело?
Шатов рассеянно посмотрел на меня и слегка кивнул головой.
— Совершено очень странное преступление, Старичков, — сказал он, задумавшись, и повторил: — очень странное. Обстоятельства складываются так, что его необходимо раскрыть молниеносно. В один… ну, в два дня. Условия работы будут не совсем обычные. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?
— Нет, не приходилось.
— А боитесь?
— Думаю, что испугаюсь.
— Жалко. Придется прыгнуть. Но я расскажу по порядку. Слушайте внимательно. Вам нужно знать все подробности.
Я и так уже слушал, боясь пропустить хоть слово.
— Да нет, Иван Гаврилович, — сказал я, смутившись, — просто так. Я немного ухаживал за его дочерью и думаю, что, может быть, она меня помнит.
Шатов посмотрел на меня, наклонив голову:
— Об этом вы мне не рассказывали.
— Я не думал, что это может вас интересовать.
— Конечно, — согласился Шатов. — Это и не могло интересовать меня.
Он задумался. Я положительно недоумевал, почему вдруг возник этот разговор.
— А с тех пор вы не виделись с Валентиной Андреевной и не переписывались с ней? — спросил Шатов.
— Нет.
Меня поразило, что он знает даже ее имя.
Шатов, помолчав, сказал:
— Я только потому задаю вопрос, что он важен для дела: ваше внутреннее отношение к ней сейчас такое же, как и прежде?
Я еще больше смутился. Кабинет начальника не место для таких разговоров, и, кроме того, все это было очень неожиданно.
— Дело давнее, Иван Гаврилович, — сказал я. — Я в то время был очень молод. Да и она девчонкой была. Что ж, ей тогда двадцати лет не было.
— Ну хорошо, оставим это. Значит, вы с тех пор, как бросили биологию, совсем потеряли Костровых из виду?
— Совсем потерял. Только перед войной прочел в газете, что он делал доклад на коллегии Наркомздрава о какой-то своей вакцине.
— А вы знаете, что это за вакцина?
— Нет, в газете ничего не говорилось.
— Я сегодня поинтересовался этим делом, — сказал Шатов. — Я не биолог. Вы лучше поймете. Речь идет о послераневых осложнениях.
— Газовая гангрена, шок и так далее? — спросил я.
— Вот-вот. Вы, значит, знакомы с этим вопросом?
— Очень немного.
— По-видимому, это очень важно. Кроме того, сама история открытия — одна из самых странных историй нашего времени. Но об этом после. Какие вы ведете сейчас дела?
Я перечислил.
— Придется их передать другому.
— А мне вы поручите новое дело?
Шатов рассеянно посмотрел на меня и слегка кивнул головой.
— Совершено очень странное преступление, Старичков, — сказал он, задумавшись, и повторил: — очень странное. Обстоятельства складываются так, что его необходимо раскрыть молниеносно. В один… ну, в два дня. Условия работы будут не совсем обычные. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?
— Нет, не приходилось.
— А боитесь?
— Думаю, что испугаюсь.
— Жалко. Придется прыгнуть. Но я расскажу по порядку. Слушайте внимательно. Вам нужно знать все подробности.
Я и так уже слушал, боясь пропустить хоть слово.
III
Долго рассказывал Шатов историю работы Кострова. В то время мы очень мало знали о том, что происходит на оккупированной территории. Еще не были опубликованы очерки и воспоминания участников этой беспримерной борьбы, которая велась, не прекращаясь ни на минуту, на земле, захваченной гитлеровцами. Мы плохо еще тогда представляли гигантские масштабы этой борьбы. Удивительно для меня звучал этот рассказ о долгих месяцах, прожитых под самым носом у бдительной немецкой полиции, о великой армии друзей, невидимых для немцев, — друзей, которые были везде, в каждом доме, на каждой улице. Шатов сам увлекся рассказом. С восхищением говорил он о Плотникове и о неведомых людях, которые приносили Костровым пищу, доставали одежду, спасали от регистрации и вывели их наконец из города. Удивительно было мне, сидя в этом кабинете, слушать о бурной судьбе так хорошо знакомых мне людей. Никак не мог я себе представить старика Кострова, собирающегося идти воевать вместе с отрядом, да и Валя, всегда хорошо одетая, до щеголеватости аккуратная Валя, от которой так и веяло устойчивым покоем хорошо обставленной профессорской квартиры, не казалась мне способной к поступкам, требующим решительности, физической выносливости и силы. Я сказал об этом Шатову. Он усмехнулся. — Вы еще много занятного услышите о ваших знакомых, — сказал он и продолжал рассказ. Место действия изменилось. Теперь это были глухие Алеховские болота, непроходимые тропинки и заросли. Теперь это был дом, притаившийся под деревьями в дикой глуши, лесной дом, в котором сверкали микроскопы, позвякивали пробирки и колбы, горели спиртовки. Не удержавшись, я перебил Шатова: — Простите, Иван Гаврилович: откуда вам так хорошо известны подробности? — Я сегодня полдня занимаюсь этим делом, — ответил Шатов. — Кое-кто из людей, помогавших Костровым, сейчас находится здесь в Москве. Помощник Плотникова, которого после ранения эвакуировали, рассказывал мне сегодня, как все это происходило. Двое партизан лежат сейчас в госпитале в Москве, и я ездил к ним. Шатов рассказал о попытках гитлеровцев проникнуть на болота, о боях, которые шли в нескольких километрах от лаборатории, и о том, как вакцина была наконец готова и переезд Костровых стал вопросом дней. Шатов достал папиросу, закурил и несколько раз быстро и глубоко затянулся. Тихо было в кабинете. Тихо было, кажется, и во всем здании. Разошлись сотрудники и посетители; только кое-где сидели запоздавшие следователи, которые вели дела слишком сложные или слишком спешные, чтобы можно было уложиться в рабочее время. Спокойно тикали в углу высокие старинные часы, и маятник ходил взад и вперед монотонно и ровно. И совсем не похож был сегодняшний разговор на обычный разговор у начальника. Шатов был человек суховатый и деловой. Подчеркнуто прозаично звучали всегда его указания и советы. Когда молодой, неопытный следователь, пораженный кажущейся таинственностью преступления, начинал фантазировать и договаривался до совершенно нелепых предположений, Шатов, махнув рукой, говорил «романтика», и это звучало так же пренебрежительно, как у других «ерунда». Но сегодня непривычные интонации слышались в его голосе. Кажется, его самого взволновала и увлекла история профессора Кострова. — Можно себе представить, — говорил Шатов, — какое настроение было в лесной лаборатории. Казалось, что все тяжелое позади. Работа кончена, создано новое лечебное средство, впереди Москва, безопасность, нормальная жизнь. Приближалась к концу замечательная эпопея. Но этой ночью произошло событие, перевернувшее все: исчез Якимов, захватив с собой все наличное количество вакцины и лабораторные дневники. Все, в чем вещественно выражалось открытие Кострова, похищено. У меня появилось необычайное чувство. Казалось мне, что я вновь стал мальчишкой. Вечер. Все кругом уснули, я читаю роман про удивительные приключения, и жутко мне, и подозрительными кажутся шорохи и шумы в тишине спящей квартиры. Тикали часы, спокойно было в кабинете. Шатов затянулся в последний раз и погасил папиросу. — Утром мне передали радиограмму об этом, — сказал он, — и я связался по радио со штабом отряда. Со мной разговаривал некто Петр Сергеевич. Это у них что-то вроде главного интенданта. Насколько можно понять, он чаще всех общался с Костровыми. Он довольно толково изложил обстоятельства дела. Шатов коротко рассказал мне об исчезновении Якимова. Мы помолчали оба, потом Шатов меня спросил: — Что же вы думаете, Старичков? — Надо посмотреть на месте, — ответил я. Шатов кивнул головой: — Вы правы. Но некоторые соображения я хотел бы все-таки высказать сейчас. Прежде всего встает вопрос: Якимов вор или жертва? По-видимому, он преступник. Трудно допустить, что, убив Якимова, кто-то вошел в дом, взял все его вещи, пальто и даже папиросы. Надо предположить, что он старательно подготовил похищение и побег. И вот тут-то есть одно непонятное обстоятельство… — Шатов наклонился ко мне и положил руку на мое колено. — Давайте разберемся. Якимов работает у Кострова несколько лет. Он свой человек в доме у профессора и в лаборатории. Неужели не мог он скопировать лабораторный дневник и спокойно, днем, на глазах у всех выйти из дому, дойти, прогуливаясь, до постов, поболтать с постовыми и, не вызвав никаких подозрений, добраться до дороги, до немецких постов, до города? Ведь он же свой человек в отряде, можно сказать, заслуженный партизан. Разве придет в голову часовому задержать его? Дневники на месте, Якимов исчез. Бедный, неосторожный Якимов… Наверно, он попался немецкому патрулю. Да ведь пока догадаются, что он предатель и вор, он уже будет в безопасности! Так подсказывает простой и точный расчет. Но он действует иначе. Он выбирает самый опасный путь. Он похищает ночью вакцину и дневник. Из-за этого он вынужден ночью же пробираться мимо постов, рискуя быть застреленным. Шатов подался вперед. Головы наши сблизились. Мне казалось естественным, что он говорит полушепотом. — Непонятно то, Старичков, — тихо сказал Шатов, — что преступник забыл даже о собственной безопасности… Шатов откинулся на спинку кресла и вопросительно смотрел на меня. Я молчал. Я представил себе тридцать человек — стариков, женщин, и раненых, и Валю, и Кострова — на глухом болоте, окруженных со всех сторон врагами. Я представил себе, что где-то там, на болоте, совсем рядом с ними, прячется хитрый, злобный, до бешенства ненавидящий их всех человек, и мне стало нехорошо на душе. — Я боюсь за них, Старичков, — сказал Шатов. — Когда карательный отряд подходил к болотам, это, наверно, было страшно, но, быть может, еще страшней один человек, который прячется в самом сердце отряда, который может оказаться за каждым деревом, за каждым кустом. Вспомните, он знает всё: все дороги и тропинки, все входы и выходы. Он знает обычаи, внутренний распорядок, даже характеры всех людей. А его, хотя он жил с ними годы, никто не видел без маски. Подумайте, что может наделать такой человек. — Как я буду туда добираться, — спросил я, — и когда я смогу там быть? Шатов посмотрел на часы: — Через двадцать минут вы сядете в машину. На полчаса можете заехать домой, но с тем, чтобы в десять быть на аэродроме. Самолет вылетит в одиннадцать. В три часа ночи вы будете над Алеховскими болотами. Вам придется прыгнуть с парашютом. Револьвер у вас есть? — Есть. — Какой? — Наган. — Так. Непременно возьмите с собой фонарь. На земле вас будут ждать. Трудно точно сказать, где вы приземлитесь. Встречающие могут оказаться далеко. Тогда сигнализируйте фонарем. Три коротких, длинный и снова короткий. Вы запомните? — Да. — Когда к вам подойдут, спросите: «Где тут живет интендант?» Вам ответят вопросом: «Вы про Петра Сергеевича говорите?» Тогда подпускайте спокойно. Запомните? — Да. — Хорошо. — Шатов внимательно посмотрел на меня. — Это трудное и важное дело, Старичков. В госпиталях ждут вакцину. От вас зависит многое. Вы должны поймать Якимова, но, если он успеет уничтожить лабораторный дневник, дело будет наполовину проиграно. Мы простились. Когда я выходил, Шатов окликнул меня: — Подождите, Старичков… Я остановился. — Мы с вами развили одно предположение. Может быть, оно убедительно, но мы располагаем очень неполными данными. Люди бывают неточны в рассказах, поэтому проверяйте все сами. Я хотел только, чтобы вы уяснили, какое это серьезное и трудное дело. Все, кроме этой мысли, выкиньте из головы. Изучайте тщательно материал и больше всего бойтесь предвзятости. — Хорошо, — сказал я и вышел из комнаты.IV
Пока я торопливо передавал неоконченные дела своему товарищу, звонил по телефону, возился с ключами- словом, занимался обычной предотъездной суетой, мне некогда было подумать о предстоящей работе. Но вот наконец все сделано, и, кажется, ничто не забыто. Я сажусь в машину и еду домой по темным московским улицам. Стыдно сказать, но первое, о чем я вспомнил, немного отдышавшись и придя в себя, это о том, что мне придется сегодня ночью прыгать с парашютом. Не радовала меня эта мысль… Я боюсь высоты. Даже на балкон выше третьего этажа я не могу выйти без неприятного стеснения в груди. А тут не этаж какой-нибудь, а черт знает какая высота, и с этой высоты вдруг взять да и прыгнуть! Я решил пока что не думать об этом, чтобы не портить себе настроение. Думать-то я не думал, но червячок все время сверлил внутри. Смешно! Летит человек в немецкий тыл выполнять ответственное и трудное поручение, а волнует его ерунда какая-то — прыжок с парашютом, то, что и до войны любители спорта проделывали без всякой нужды, ради одного удовольствия. Я вбежал в комнату и стал торопливо собираться. Конечно, исчезла зубная щетка, конечно, мыла не оказалось на месте, а расческа завалилась за кровать. Перед тем как уйти, я окинул взглядом свою неуютную комнату. Узкая кровать, которой скорее подходит название «койка», закрытая жестким шерстяным одеялом, стол с чернильным прибором из пластмассы, книжные полки да два стула, вот и вся обстановка. Даже занавески на окне не было, даже шкафа. Белье лежало в чемодане под кроватью, а два костюма, завешенные простыней, висели прямо на стене. На книжных полках стояли книги, которые не представляли большой ценности, но мне были интересны: отчеты о знаменитых процессах, речи адвокатов и обвинителей, несколько работ по криминалистике, — у меня подобралась неплохая библиотека. В углу лежали гантели, и на гвоздике висели боксерские перчатки. Даже шахматы, старые, поломанные, исцарапанные, с катушкой от ниток вместо ладьи и оловянным солдатиком вместо слона, вызвали во мне теплое чувство. Я их таскал с собой от самого Иркутска. У меня не было времени предаваться лирическим размышлениям, пора было ехать. Я надел теплую куртку, подумал, что в ней будет мягче падать, усмехнулся и вскочил в машину. Темные улицы поплыли назад. Мигали пестрые огоньки семафоров, зажигались и гасли полузакрытые щитками фары. Москва была военная, затемненная, и все же привычная, живущая установившейся жизнью. У кинотеатров толпился народ; милиционеры взмахивали палочками; пары стояли у калиток и, кажется, целовались; за затемненными окнами люди пили чай, занимались, читали газеты. И подумать только, что через несколько часов я окажусь совсем в другом мире, где каждый шаг опасен, где приключения — повседневность, где люди ведут днем и ночью отчаянную борьбу, где ошибка, неосторожность означают смерть… Теперь я понимаю, что представлял себе жизнь отряда, по существу, верно, но слишком романтично. Надо учесть, что я ни разу не был на войне. И снова мне пришлось взять себя в руки. «Ты едешь не за приключениями, — сказал я себе, — а в служебную командировку. Вот и подумай, как ты будешь работать». Я стал вспоминать рассказ Шатова. Шаг за шагом припоминал я историю профессора Кострова, старался представить во всех подробностях, как жили Андрей Николаевич и Валя, Якимов и Вертоградский, как они скрывались в городе, как перебрались в лес, как работали в лесу. Но ничего, кроме вредной предвзятости, нельзя ждать от размышлений следователя, осведомленного о деле в общих чертах. Поэтому я отогнал от себя мысли о предстоящем следствии. Больше мне не о чем было думать, я стал думать о Вале и не заметил, как приехал на аэродром.Глава вторая ПРЫЖОК В БОЛОТО. «ГДЕ ТУТ ЖИВЕТ ИНТЕНДАНТ!»
I
На аэродроме меня уже ждали. Летчик, здоровый молодой парень, посмотрел на меня с любопытством и, пока оформляли документы, успел выяснить, что я никогда с парашютом не прыгал. Это почему-то очень его рассмешило. Он позвал своих товарищей, таких же здоровых, широкоплечих парней, и все они качали головами, смеялись и удивлялись. Мне прикрепили парашют, долго объясняли, как прыгать, давали советы и сочувствовали, что без подготовки приходится совершать такой сложный прыжок. Потом мы вышли на темное поле аэродрома. Начальник аэропорта шел впереди с фонарем в руке, и светлое пятно плыло по ровной, поросшей травой поверхности. Темный самолет неожиданно вынырнул из темноты. Летчики стали наперебой жать мне руки, и я вспомнил еще раз, какое сложное и опасное путешествие мне предстоит. Я влез в машину. Загудели винты. Группа людей, освещенная неясным светом фонаря, умчалась назад, и машина пошла ровно, без толчков. Мы отделились от взлетной дорожки. Москва была уже далеко позади. Мы летели на запад. Темная ипустынная лежала подо мной земля, как будто это одна из холодных планет, летящих в мертвом звездном пространстве. С трудом я представил себе, что в этой сплошной темноте скрывается напряженная жизнь многих тысяч людей, деревень, сел, городов. Я подумал, как, в сущности, противоестественно то, что людям приходится прятаться на своей собственной планете. Мы поднимались все выше и выше. В лунном свете сверкали озера и реки; порой я видел отдельные светящиеся точки: незатемненные фары или окна, костры, разложенные в лесу. Призрачными казались города. Они лежали внизу, как развалины, озаренные луной. Мне вновь показалось, что уже остыла земля, вымерло все живое и мертвые здания напоминают о людях, когда-то населявших планету. А мы поднимались выше и выше, как будто отправились в межпланетное путешествие. Скоро я увидел фронт. На земле фронт — это пространство. Отсюда он казался линией. Пылали пожары; яркие зарницы вспыхивали и гасли. С огромной высоты, на которую мы поднялись, не было видно подробностей — только неширокая полоса вспышек, пожаров, ярко освещенных пятен. Далеко под нами рвались снаряды зениток, мелькали трассирующие пули. Вдали неожиданно загорелся неизвестный самолет и, пылая, помчался вниз. Полоса фронта проплыла назад. Теперь под нами были враги. Как-то сразу самолет показался мне удивительно неверным и нестойким сооружением. Здесь тоже было темно. Чем-то это мертвое пространство напоминало фотографию^луны. Такие же резкие тени от возвышенностей, освещенных холодным, мертвенным светом. Мы пошли на снижение. Под нами был лес. Мелькнуло лесное озеро, за ним другое. Летчик обернулся, улыбаясь кивнул мне головой и прокричал что-то неразборчивое. Желая показать, что настроение у меня хорошее, я улыбнулся тоже, но боюсь, что улыбка вышла довольно жалкая. Летчик упорно смотрел вниз. Я понял, что он ищет посадочные сигналы. Стараясь внушить себе ощущение зрителя, созерцающего интересный пейзаж, я тоже стал вглядываться в неясные контуры озер, дорог и речек. Я знал, что мы должны искать три костра, расположенные треугольником. Все время я их искал и все-таки, когда увидел, они были уже под самым самолетом. Три костра, три светлые точки в пустынном, темном лесу. Самолет сделал круг. Летчик опять обернулся и подал мне сигнал — пора вылезать на крыло. Вид у него было удивительно веселый и бодрый. Понимая, что нельзя задумываться ни на одну секунду, я быстро вылез на крыло. Страшный ветер нажал на меня — именно нажал, иначе не назовешь. Почувствовав, что если на секунду задумаюсь, то уже ни за что не решусь прыгнуть, я закрыл глаза и начал падать.II
По-видимому, я дернул кольцо, хотя совершенно не помню этого. Парашют раскрылся, и сразу же бесследно исчез страх. Мне стало весело — наверно оттого, что самое страшное было уже позади. Я смотрел на землю, быстро приближавшуюся ко мне. Как я ни оглядывался, костров нигде не было видно. Я уже различал внизу под собой редкий молодой лесок. Самолет проревел совсем близко: летчик проверял, раскрылся ли парашют и все ли со мной в порядке. Хотя я знал, что он не может меня услышать, я закричал все-таки: «До свиданья, спасибо за доставку!» Самолет взмыл и сразу исчез куда-то. Посмотрев вниз, я удивился, как близко уже подо мной земля. Навстречу летел молодой кустарник. Меня ударило о маленькую березку и поволокло по земле. Припомнив все указания, я подтянул стропы, задержался и освободился от ремней. Я был на земле, на маленьком острове, затерянном среди враждебного моря. Вокруг было пустынно и тихо. Сонно заверещали птицы, потревоженные моим падением, и снова заснули. Ухнул филин. Ветерок прошелестел в листве. Только сейчас я заметил, что в сапоги мои набралась вода и одежда промокла насквозь. Вода хлюпала под ногами, при каждом шаге проступала сквозь траву. Я сделал шаг и провалился по колена. «Э, тут надо быть осторожным! Обидно будет потонуть в грязи». Я был так возбужден и необычностью места, где находился, и предвкушением предстоящей работы, что не чувствовал никакой усталости. Мне совсем не хотелось спать. Достав фонарь, я попробовал его. Батарея действовала прекрасно: яркий луч света лег на мелкий болотный кустарник. Я решил влезть на дерево и оттуда сигнализировать. Осмотревшись и приметив высокую березу, росшую, как мне показалось, недалеко, решил добраться до нее. Осторожно ставя ноги, стараясь ступать на кочки, я зашагал по болоту. Необыкновенно тихо было в лесу. Шум моих шагов раздавался так резко, так отчетливо, что я вздрагивал каждый раз. Глупая мысль пришла мне в голову: здесь надо ходить тихо и разговаривать шепотом, а то немцы услышат. Я рассмеялся нарочно громко и, споткнувшись, чертыхнулся. И вдруг я услышал шорох. Недалеко под чьими-то ногами хлюпала вода. По правде сказать, мне стало неприятно. В конце концов, летчик мог ошибиться на несколько километров, ветром могло меня отнести в сторону. Откуда я знал, где нахожусь?
Шорох приближался. В полутьме я увидел — какая-то тень отделилась от дерева. Кажется, человек всматривался в темноту. Я стоял тихо, не решаясь пошевелиться. Человек негромко свистнул. Я понял, что он меня видит. Вынув наган и сжимая его в руке, я решительно шагнул вперед.
— Кто это? — окликнули меня.
— Где тут живет интендант? — спросил я условленной фразой.
И услышал в ответ:
— Вы про Петра Сергеевича говорите?
Тогда я зажег фонарь и направил свет на своего собеседника. Он стоял, сжимая в руках автомат, подавшись вперед. Это был невысокий человек в охотничьих сапогах выше колен и в потрепанной гимнастерке.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Здравствуйте, товарищ Старичков. Вас отнесло немного в сторону, и мы не видели, как вы приземлились. Петр Сергеевич ищет вас там, за ручьем.
Приложив руку ко рту, он засвистел протяжным переливчатым свистом. Мы прислушались. Издалека ему ответил такой же протяжный свист.
— Пойдемте навстречу, — сказал он.
Мы зашагали по болоту.
— Как летели? — спрашивал он меня. — Стервятники не встречались? Мы думали, вы будете раньше.
— Сыро у вас, — сказал я. — Я уж по колена провалился.
— Да, — усмехнулся он, — не зная дороги, у нас далеко не пойдешь. — Он помолчал и вдруг спросил: — Что в Москве? Как там живут?
— Ничего, — сказал я, не зная, что говорить. — Трамваи ходят?
— Ходят.
— И метро, и автобусы?
— Метро работает, и автобусы начали ходить.
— Так, так. — Он опять помолчал, не зная, как выразить свое желание убедиться, что в Москве все в порядке и жизнь продолжается.
Я, кажется, правильно понял его.
— Конечно, темновато на улицах, — сказал я, — хотя понемногу горят фонари. В театры, в кино народ ходит. Правда, устали люди, работают много, а так ничего — жизнь продолжается.
— Так, так. — Он удовлетворенно кивнул головой. — Я сам не москвич, но ездил туда два раза. Интересный город!
Он вгляделся в темноту. Зрение у него было лучше, чем у меня.
— Вон Петр Сергеевич торопится, — сказал он.
Только минутой позже я различил в темноте приближающиеся фигуры.
— Евстигнеев! — негромко окликнули из темноты моего спутника.
— Есть такой, — ответил Евстигнеев. — Нашел? Благополучно?
— Тут он, Петр Сергеевич.
Навстречу нам, задыхаясь и торопясь, шагал коренастый, полный человек.
— Ну хорошо, хорошо, — говорил он. — Здравствуйте, здравствуйте! Позвольте приветствовать. Устали? Замерзли? Голодны? Сейчас чайку заварим, свининка есть. А может, с устатку спиртику?
Он засыпал меня вопросами, не давая мне сказать ни слова, и энергично тряс мою руку.
— Вот ведь какие у нас неприятности, — говорил он, — а? Ведь никогда ничего такого не было. Пары портянок ни у кого не украли, а тут вдруг… Интеллигентный человек — и такое дело! Вы только подумайте, ай-яй-яй!
Я был так возбужден и необычностью места, где находился, и предвкушением предстоящей работы, что не чувствовал никакой усталости. Мне совсем не хотелось спать. Достав фонарь, я попробовал его. Батарея действовала прекрасно: яркий луч света лег на мелкий болотный кустарник. Я решил влезть на дерево и оттуда сигнализировать. Осмотревшись и приметив высокую березу, росшую, как мне показалось, недалеко, решил добраться до нее. Осторожно ставя ноги, стараясь ступать на кочки, я зашагал по болоту. Необыкновенно тихо было в лесу. Шум моих шагов раздавался так резко, так отчетливо, что я вздрагивал каждый раз. Глупая мысль пришла мне в голову: здесь надо ходить тихо и разговаривать шепотом, а то немцы услышат. Я рассмеялся нарочно громко и, споткнувшись, чертыхнулся. И вдруг я услышал шорох. Недалеко под чьими-то ногами хлюпала вода. По правде сказать, мне стало неприятно. В конце концов, летчик мог ошибиться на несколько километров, ветром могло меня отнести в сторону. Откуда я знал, где нахожусь?
Шорох приближался. В полутьме я увидел — какая-то тень отделилась от дерева. Кажется, человек всматривался в темноту. Я стоял тихо, не решаясь пошевелиться. Человек негромко свистнул. Я понял, что он меня видит. Вынув наган и сжимая его в руке, я решительно шагнул вперед.
— Кто это? — окликнули меня.
— Где тут живет интендант? — спросил я условленной фразой.
И услышал в ответ:
— Вы про Петра Сергеевича говорите?
Тогда я зажег фонарь и направил свет на своего собеседника. Он стоял, сжимая в руках автомат, подавшись вперед. Это был невысокий человек в охотничьих сапогах выше колен и в потрепанной гимнастерке.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Здравствуйте, товарищ Старичков. Вас отнесло немного в сторону, и мы не видели, как вы приземлились. Петр Сергеевич ищет вас там, за ручьем.
Приложив руку ко рту, он засвистел протяжным переливчатым свистом. Мы прислушались. Издалека ему ответил такой же протяжный свист.
— Пойдемте навстречу, — сказал он.
Мы зашагали по болоту.
— Как летели? — спрашивал он меня. — Стервятники не встречались? Мы думали, вы будете раньше.
— Сыро у вас, — сказал я. — Я уж по колена провалился.
— Да, — усмехнулся он, — не зная дороги, у нас далеко не пойдешь. — Он помолчал и вдруг спросил: — Что в Москве? Как там живут?
— Ничего, — сказал я, не зная, что говорить. — Трамваи ходят?
— Ходят.
— И метро, и автобусы?
— Метро работает, и автобусы начали ходить.
— Так, так. — Он опять помолчал, не зная, как выразить свое желание убедиться, что в Москве все в порядке и жизнь продолжается.
Я, кажется, правильно понял его.
— Конечно, темновато на улицах, — сказал я, — хотя понемногу горят фонари. В театры, в кино народ ходит. Правда, устали люди, работают много, а так ничего — жизнь продолжается.
— Так, так. — Он удовлетворенно кивнул головой. — Я сам не москвич, но ездил туда два раза. Интересный город!
Он вгляделся в темноту. Зрение у него было лучше, чем у меня.
— Вон Петр Сергеевич торопится, — сказал он.
Только минутой позже я различил в темноте приближающиеся фигуры.
— Евстигнеев! — негромко окликнули из темноты моего спутника.
— Есть такой, — ответил Евстигнеев. — Нашел? Благополучно?
— Тут он, Петр Сергеевич.
Навстречу нам, задыхаясь и торопясь, шагал коренастый, полный человек.
— Ну хорошо, хорошо, — говорил он. — Здравствуйте, здравствуйте! Позвольте приветствовать. Устали? Замерзли? Голодны? Сейчас чайку заварим, свининка есть. А может, с устатку спиртику?
Он засыпал меня вопросами, не давая мне сказать ни слова, и энергично тряс мою руку.
— Вот ведь какие у нас неприятности, — говорил он, — а? Ведь никогда ничего такого не было. Пары портянок ни у кого не украли, а тут вдруг… Интеллигентный человек — и такое дело! Вы только подумайте, ай-яй-яй!
III
Через десять минут мы вышли на небольшую полянку. Слабый свет пробивался из-под земли, и я не сразу понял, что это дверь. Рядом с нами шло несколько человек, и Петр Сергеевич время от времени, отрываясь от разговора, то одного, то другого посылал с поручениями. — Михайлов, — говорил он, — сходи, голубчик, взгляни, затопили ли баню. Я сказал, да, боюсь, забыли… Алексеенко, вели Марфуше самовар поставить… Сенюхин, добеги до склада, выбери комплект обмундирования получше. Надо товарищу следователю переодеться. Небось болотная водица насквозь его проняла. — Петр Сергеевич, — сказал я, как только мне удалось вставить слово, — напрасно вы беспокоитесь: ни в бане я мыться не буду, ни переодеваться. Единственно, может быть, гимнастерку посушу немного у печки и чайку, если позволите, с удовольствием выпью. — Что вы, что вы, — заволновался Петр Сергеевич, — разве можно так! После такого-то путешествия! Вымоетесь, поспите, а там и за дело. Я категорически отказался, и Петр Сергеевич, кажется, несколько огорчился. Он проговорил еще что-то насчет того, что тогда и работать лучше будет, но, убедившись, что я непоколебим, перестал спорить. Со скрипом открылась дверь, и по дощатым ступеням мы спустились в землянку. Она оказалась довольно высокой и просторной. И стены, и потолок, и пол были обшиты досками. От большой печи несло жаром, хотя стояло лето, и в землянке было очень душно. На столе, покрытом скатертью, стояли чашки, блюдца и тарелки. На стенах висели картинки и фотографии. В большом застекленном шкафу стояла посуда, и на полу лежали пестрые половики. Прочным бытом, устойчивостью веяло от обстановки. Полная женщина внесла большую миску с тушеной свининой; за ней молодой парень втащил шумящий самовар. — Закусывайте, — сказал Петр Сергеевич. Я снял гимнастерку и повесил ее просушить у печки. В одной рубашке я сел к столу. Съел тарелку свинины, в стаканы уже был налит крепкий, горячий чай. Сидя друг против друга, мы с Петром Сергеевичем стали чаевничать, как люди, понимающие настоящий вкус в этом деле. Я снова услышал подробный рассказ о профессоре Кострове, о Вале, о двух ассистентах, о том, как была устроена в партизанском отряде лаборатория. — Хорошо, — сказал я. — Что же вы сделали после того, как кража была обнаружена? Петр Сергеевич потянул с блюдца чай, отставил блюдце и вытер со лба пот. — Что ж тут сделаешь! — сказал он. — Конечно, послали искать по болоту, да ведь черт его знает… Разве болото обыщешь! — Но вы же говорите, что здесь как на острове. Почему же нельзя обыскать? — Обыскать-то можно, но только вы представьте себе: отряд весь ушел, у меня осталось человек тридцать, всех одновременно бросить на поиски я не могу. Постовые должны стоять на постах, радист дежурит, кухня работает, конюх лошадей стережет. Территория наша, надо считать, километров шестьдесят квадратных. Ну, бросил я на поиски двенадцать человек — одного на пять квадратных километров. Конечно, по-настоящему лес не прочешешь. Почему-то этот простой расчет раньше не приходил мне в голову. — А собаки нет у вас? — спросил я. — Обыкновенная шавка, — ответил Петр Сергеевич. — Куда же ее? Разве она по следу сможет пойти? Если, как я надеюсь, через недельку отряд вернется, тогда, конечно, другое дело: прочешем по-настоящему, кочки ни одной не оставим, а сейчас так, одна формальность. — Через недельку! — сказал я. — Хорошее дело! За это время Якимов знаете где будет? — Все может быть, все может быть, — печально согласился Петр Сергеевич. Мы помолчали. Я допил чай и отставил стакан. — Хватит, — сказал я. — Теперь, Петр Сергеевич, если можно, дайте мне часика два поспать. Сейчас четыре. Можно, чтобы в шесть меня разбудили? И тогда пойдем с вами к Костровым. Далеко это? — Километра два, и того не будет. А постель вам готова. За печкой на топчане постлана была постель. Я лег. Петр Сергеевич прикрутил керосиновую лампу, пожелал мне спокойного сна, почему-то на цыпочках вышел из землянки и тихо притворил за собой дверь. Тикали ходики на стене. Женщина бесшумно вошла и убрала посуду. Я лежал, и неприятное чувство неуверенности овладело мной. В самом деле, что я мог сделать? Открыть преступника? Но преступник известен. Поймать его? Как? Прочесать лес невозможно. Найти следы? Прошли}же сутки, много людей ходило по всем тропинкам. Рота красноармейцев, которая сумела бы тщательно прочесать лес, была во сто раз нужнее и полезнее меня, следователя-специалиста. С этими печальными мыслями я заснул.Глава третья ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАГАДКА — МОЖНО ЕЕ РАЗГАДАТЬ
I
Петр Сергеевич зашел за мной ровно в шесть утра, и мы отправились к полянке, на которой стояла лаборатория. Нездоровое это было место — Алеховские болота. Ночью и днем носился над ними неуловимый запах тления. Жужжали комары. Стайки маленьких мошек вились над землей, и мне физически неприятно было их прикосновение, как будто они переносили на кожу ту гниль, в которой зародились. Тишина была какая-то неспокойная — настороженная, тревожная тишина. Неприятное было это место — Алеховские болота. Оступившись, я прислонился к невысокой засохшей березе, и она вся рассыпалась от прикосновения. Под корой была труха, и в этой трухе копошились насекомые. Как всегда бывает в таких местах рано утром, над низинами поднимался туман, и, мне казалось, желтоватые его пары насыщены заразой. Да, это не было похоже на загородную дачу! Я подумал о том, что только большая беда могла заставить людей жить здесь. Петр Сергеевич подтвердил мне, что они все мучаются малярией, а особенно мучились первое время, когда доставка медикаментов не была еще налажена. Впрочем, штаб отряда и жилые землянки помещались на более высоком месте. Пройдя по зыбкой, хлюпающей под ногами тропинке, мы стали подниматься и вышли на твердую землю. Здесь было почти сухо, росли высокие, большие березы, слабее чувствовалось ядовитое дыхание болота. Хотя, подходя к лаборатории, мы поднимались на холм, здесь почва тоже была сыровата. Папоротник густо рос между деревьями. Я всегда чувствую особую, диковинную природу папоротника. Очень уж отличается он от растений нашей эпохи. Он как бы выходец из тех времен, когда земля была покрыта невиданными, пугающими наше воображение гигантскими травами. Но тропинка поднималась еще выше. Кончился папоротник. Мы пошли по веселой зеленой траве и вышли на освещенную солнцем полянку. Здесь ничто не напоминало о болоте. Здесь росли кашки, одуванчики, ромашки, и со всех сторон окружали полянку большие березы с веселыми белыми стволами. На краю полянки стоял дом. Ветви берез нависали над его крышей, и казалось, что дом прячется от солнца в их прохладной, свежей тени. Это был маленький дом: три окошечка по фасаду, мезонин в одно окошко, с маленьким балкончиком. Крыльцо было сбоку. В нескольких шагах от крыльца — колодец. Перед домом — врытая в землю скамейка и круглый стол. Из трубы поднимался дым. Окна были раскрыты настежь, но ни в окнах, ни около дома не было видно ни одного человека. Мы с Петром Сергеевичем остановились. — Вот наша лаборатория, — сказал он. — Конечно, не очень богато, но уж как смогли, так и сделали. — Мне нравится, — сказал я. — Превосходный дом. А Костровы ждут меня? — Еще бы! Ждут, волнуются, спрашивают все время. — Они знают мою фамилию? — Фамилию? Нет, по-моему, не знают. Мы сами узнали ее только поздно ночью. Москва передала по радио. Я стоял и смотрел на дом. Сейчас я войду в него и увижу людей, с которыми случилось большое несчастье, которые ждут меня с нетерпением и верят, что я их спасу. Что я могу для них сделать? Я видел болото и знаю, что если человек захочет спрятаться, его в неделю там не отыщешь. Что им сказать? Сказать прямо, что надо ждать, пока вернется отряд, и потом попытаться прочесать болото? А может быть, лучше успокаивать? Начать следствие: произвести обыск, допрашивать, многозначительно молчать?… «Подождем, — подумал я. — Поглядим, послушаем, подумаем. Отказаться от надежды всегда можно будет». — Ну что ж, — сказал я, — пойдемте, Петр Сергеевич…II
В кухне не было никого. Топилась плита, в кастрюле кипела вода. Кухня как кухня: одно окно, лавки по стенам, стол. Я открыл дверь. Просторная комната. Бревенчатые, голые стены. Очень чисто. Половики на полу. Стол покрыт полотняной скатертью, с мережками и узорами. В глиняном большом горшке — водяные лилии. Тяжелые стулья, сработанные топором, пилой и рубанком, с высокими неуклюжими спинками. Такая же примитивная качалка из толстых, плохо отделанных досок. Лестница в мезонин, под лестницей чуланчик. Направо дверь, налево два окна. В углу чисто выбеленная печь. Я только успел окинуть комнату взглядом, как распахнулась та дверь, что направо, и в комнату вошел высокий человек лет тридцати пяти, с открытым, довольно красивым лицом, с темными волосами. Он был одет в старый, но тщательно зачиненный и выглаженный серый костюм. Под пиджаком была белая апашка. На ногах парусиновые серые туфли. — Следователь? — спросил он. — Наконец-то. Мы уж думали, что вы не приедете. Валя пошла в штаб узнавать. Давайте знакомиться: Вертоградский. — Старичков, — сказал я, протягивая ему руку. Вертоградский поднял голову и закричал: — Андрей Николаевич! Заскрипела лестница. Старик Костров, удивительно мало изменившийся, торопливо спускался вниз. — Наконец-то! — сказал он. — Вы Валю не встретили? Она в штаб побежала. Мы уж думали, с вами случилось что-нибудь. Почему вы так поздно? — Я спал у Петра Сергеевича, — ответил я. — Не мог же я вас ночью будить! — Скажите просто, что вам самому спать хотелось… — сердито буркнул старик. — Уж нас-то вы по такому делу могли потревожить! Он сразу насупился. Ох, как я его хорошо знал! Я нарочно сказал, что спал у Петра Сергеевича, чтобы посмотреть, изменился ли Костров. Нет, старик ни капли не изменился. Такой же сердитый, колючий. Но постарел, конечно, — теперь я это видел. Эти годы не даром дались. Бородка совсем седая, брови лохматые, и весь он уменьшился, как старики уменьшаются. На нем был белый костюм (к такому костюму пошла бы южная шляпа канотье), но только сшит он был из домотканого деревенского холста. Это выглядело довольно забавно. — Давайте все-таки познакомимся, — сказал я. — Вы, конечно, Андрей Николаевич Костров? А я Старичков Владимир Семенович. Он протянул мне старческую, сухую руку и сдержанно, но вежливо поздоровался. — Ну, — сказал он, — надеюсь, вы хорошо отдохнули и сейчас начнете работать. Я усмехнулся: — Во всяком случае, Андрей Николаевич, постараюсь сделать все, что могу. — Прошу, — сказал старик, указывая на стул. В окно я увидел бегущую по полянке Валю. Мне кажется, я бы ее узнал, даже если бы не ожидал встретить. Она тоже очень мало изменилась, разве что пополнела немного и повзрослела. В главном она была та же, это я сразу почувствовал. Она стояла, глядя на меня с удивлением, и я видел, что она меня узнаёт. — Здравствуйте, Валентина Андреевна, — сказал я. — Володя! — вскрикнула Валя. Она подбежала ко мне и энергично затрясла мою руку. — Что такое? Откуда вы взялись? — Прибыл из Москвы в ваше распоряжение. — Так вы и есть следователь? — догадалась наконец Валя. — А что, разве не похож? Она пожала плечами: — Мы ждали пожилого, военного, в очках. Папа даже думал, что это будет профессор-криминалист. — Очки у меня есть, — сказал я и, вынув из кармана, показал их Вале. — Я их надеваю не часто — когда читаю мелкий шрифт, — но всегда таскаю с собой. — Вы хоть знали, к кому едете? — спросила Валя. — Знал, — сказал я. — Я только не думал, что вы такая взрослая. По недружелюбному молчанью профессора я понял, как его раздражает наш непонятный и легкомысленный разговор. Я повернулся к нему. — Вы меня не узнали, Андрей Николаевич? — спросил я. — Как будто мне ваше лицо знакомо, — сухо сказал Костров. — Вы не тот Старичков, который у меня с третьего курса ушел? — Тот самый. — Так, так… Я не заметил в его глазах никакой радости. — Изменились, — сказал он, неодобрительно глядя на меня, — повзрослели. — Мне показалось, что я очень нехорошо сделал, повзрослев. — Значит, микробиология не понравилась? — Да вот, — сказал я извиняющимся тоном, — бросил, Андрей Николаевич… — Для чего ж тогда в вуз поступали? — строго спросил Костров. — Государство на вас деньги тратило… Ух, какой это был сердитый старик! Смешно сказать, но я по старой памяти ощутил легкое замирание сердца. Я его все еще немного боялся. Мне самому стало смешно от этого. — Надеюсь рассчитаться, — сказал я, сдерживая улыбку. — Несерьезно, — обрезал меня профессор и, помолчав, перевел разговор: — Следователем давно работаете? — Всего года два, — сказал я. Старик хмыкнул совсем недовольно: — Значит, опытные следователи в Москве все заняты? Колючий язык был у человека! Я ответил, пожав плечами: — Начальство меня выбрало. — Так… — сказал Костров. — Ну-с, так с чего вы собираетесь начать? Я думаю, что врач, которого позвали к умирающему, чувствует себя примерно так же, как я чувствовал себя тогда. Врач не может сказать умирающему: «Извините, мне у вас делать нечего, умирайте спокойненько». Я сказал: — Прежде всего я хотел бы осмотреть помещение.III
Много раз приходилось мне осматривать помещения, в которых произошли убийства и кражи, но никогда, кажется, не производил я осмотра с таким ясным ощущением его бесцельности. Что я мог найти? Представить себе, что Якимов в последний момент решил оставить вакцину и бежать без нее, было абсолютно невозможно, следов борьбы тоже не могло быть. И все-таки я производил осмотр тщательно и аккуратно. Прежде всего я поднялся в мезонин. Я осмотрел книжные полки, на три четверти заполненные книгами и на остальную четверть — связками бумаг. Перелистывать книги было бессмысленно, я заглянул за полку и убедился, что там ничего нет. На столе стояла школьная чернильница-непроливайка, стаканчик с карандашами и ручками, лежала пачка бумаг и несколько книг. Бедностью обстановки кабинет Кострова мог конкурировать с моей московской комнатой. Кроме шкафа и полок, стояли еще два топчана, на одном из которых спал Андрей Николаевич, а на другом Валя, и два стула. С серьезным видом я осмотрел топчаны и заглянул под них. За моей спиной, сдерживая дыхание, стояли взволнованные Андрей Николаевич и Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Ужасно мне хотелось сказать им: «Знаете что, товарищи, перестанем валять дурака. Оставьте меня одного, и дайте мне спокойно подумать». Но, конечно, сказать это было невозможно. Поэтому я осмотрел все до конца и спустился в столовую. В столовой повторилась та же сцена. Я заглянул под стол, чувствуя себя на редкость глупо, и долго возился у печки, пытаясь разглядеть, не спрятано ли в ней что-нибудь. Единственным местом, в котором было что осматривать, оказался чуланчик под лестницей. Там стояли запыленные банки с клеем и чернилами, валялись связки бумаг, лежала пачка черных клеенчатых тетрадей и стопка картонных коробочек. Сумасшедшая мысль мелькнула у меня в голове. Стараясь принять равнодушный вид, как будто я делаю это просто по привычке осматривать все до конца, я быстро перелистал все тетради. Конечно, все они были чисты. Это была нелепая мысль, что среди них может оказаться лабораторный дневник. Я вошел в лабораторию. Здесь стояли столы, сверкала медь микроскопов и стекло лабораторной посуды. Все это очень не гармонировало с бревенчатыми голыми стенами, с деревянным дощатым потолком. Может быть, так выглядела бы хорошо оборудованная колхозная хата-лаборатория. Две узенькие койки стояли у стен. В углу — шкаф. Я обошел комнату, открыл дверцу шкафа. На полках лежали связки бумаг; несколько ящиков с предметными стеклышками для микроскопа стояли в глубине у задней стенки. — Шкаф был заперт? — спросил я. — Да, — ответил Вертоградский. — А ключ? — Ключ был у Якимова. — А утром? — Утром шкаф оказался отпертым, но дверца была прикрыта. Ключ исчез вместе с Якимовым. Больше не о чем было спрашивать. Я высунулся в окно. Окно выходило прямо в лес. Деревья стояли здесь густо, кроны переплелись, толстые корни, изгибаясь, ползли по земле, земля поросла кустиками черники. Наверно, здесь бывает много грибов. Наблюдения невольно увлекли меня. Я вдруг ощутил ту радостную напряженность, которую испытываешь всегда, начиная восстанавливать в подробностях происшествие, только частично тебе известное. — Где он гулял? — спросил я. — Здесь, под окном, — сказал мне стоявший за моей спиной Вертоградский. — Всегда здесь? — Да, это было его любимое место. После ужина накинет пальто, папиросу закурит и ходит под окнами. — Далеко от дома он никогда не отходил? — Я ни разу не замечал. — Был случай, — вмешался Петр Сергеевич. — Однажды мои молодцы километрах в пяти его встретили. Говорил, что заблудился. Правда, это не мудрено в наших местах. — Дверь из лаборатории запирается? — Нет. — А наружная дверь? — Запирается на крючок. — Значит, пока Якимов гуляет, она открыта. — Да. — А утром кто первый проснулся? — Я, — сказала Валя. — Папа и ассистенты очень устали за это время и встали позже, чем обычно. — И вы, Валя, не обратили внимания на то, что дверь отперта? Валя пожала плечами: — Нет. Мы не очень тщательно запираемся. Немцев замком не задержишь, а воров тут нет. Кстати, Якимов по утрам иногда уходил, пока все еще спали. Я смотрел в окно на березы, на корни, на кустики черники. Вот здесь ходил этот человек, которого мне надо найти, ходил позавчера вечером, курил, молчал, думал… Вот померк свет в окне, — значит, Вертоградский погасил лампу, надо подождать, пока он уснет. Наверно, он заглянул в окно и прислушался к дыханию Вертоградского: дышит ровно — уснул, пора… Если б я мог знать, почувствовать, угадать, чтe он думал в эту минуту! Ну хорошо, допустим, он думал только о технике дела: как войти, чтобы не услышали, как взять, чтобы не увидели. Он мог даже не входить в дверь. Я высунулся в окно: на метр ниже подоконника кончалась завалинка. Он встал на нее, перекинул ногу через подоконник, отпер шкаф, бесшумно выпрыгнул в окно и исчез между стволами. Или, может быть, он вошел в дверь? Подошел на цыпочках к шкафу? Все это никак не меняет дела Меня убивала именно эта полная ясность, не оставлявшая надежды на то, что неожиданная мысль вдруг заново осветит события и откроет все: преступление и преступника. Но за моей спиной, глядя на меня напряженными, ожидающими глазами, стояли люди, для которых я был последней и единственной надеждой, и я должен был продолжать делать вид, что интересуюсь подробностями.IV
— Вы рано встали? — спросил я Вертоградского. — Часов в девять. Валя меня разбудила. Смотрим, Якимова нет и постель убрана. Думали, он вышел с утра погулять. Он и к завтраку не пришел. Ждали, ждали, потом Андрей Николаевич открыл шкаф, а там ни коробочки с ампулами, ни черной тетрадки… — Как они выглядели, эти ампулы и тетрадка? — спросил я. — В чулане вы видели точно такие же тетради и коробочки. В коробочках в вате уложены ампулы Я достал папиросу и закурил. Нужно было протянуть хоть несколько секунд. Я напряженно думал, напряженно искал ниточки, кончика, за который можно было бы уцепиться. Но Костров не был расположен давать мне передышку. Он подошел и стал прямо против меня. — Владимир Семенович, — сказал он, — скажите мне откровенно: есть какая-нибудь надежда вернуть вакцину? Он смотрел на меня серьезным, прямым взглядом. Он, старый человек, требовал правды. Я ответил ему так же серьезно: — Конечно, Андрей Николаевич, есть. Петр Сергеевич тяжело вздохнул и заговорил голосом, немного похожим на тот, каким причитают по покойнику бабы: — Сколько трудов, сколько хлопот! Для боя людей не хватало, а на тропинке к лаборатории каждую ночь караул ставили… — И в эту ночь он стоял? — опросил я. Петр Сергеевич безнадежно махнул рукой: — То-то и дело, что нет! Отряд-то ушел, людей раз, два — и обчелся. Да и думалось: столько времени ничего такого не было, неужели в последние дни случится? — А почему ключ от шкафа был не у вас, Андрей Николаевич? — спросил я. Костров нахмурился. — Ключ всегда был у Якимова, — сдержанно оказал он. Петр Сергеевич махнул рукой: — Как назло, все у него было в руках! Я разговаривал, задавал вопросы и мучительно, напряженно искал зацепки. Только ниточку, только хвостик… Да, все было совершенно ясно, все было необыкновенно просто, но в самой простоте этой была какая-то странность. — Если можно, товарищи, побудьте здесь, — сказал я. — Я посмотрю под окном. Может быть, остались какие-нибудь следы. Я выскочил в окно и, наклонив голову, осматривая каждую травинку, прежде чем на нее ступить, стал медленно продвигаться между стволами берез. Я смотрел очень внимательно, но, по совести говоря, не рассчитывал найти ничего важного. Мне нужно было подумать хоть несколько минут — подумать, чтобы мне не мешали. Все было не так просто. В самом деле, как назло, все было у Якимова: у него ключи, у него знание всей техники и существа открытия. Ему полностью и до конца доверяли. Зачем ему кража? Зачем ему эта ночная прогулка, это ожидание, пока заснет Вертоградский? Зачем красть изобретение, когда можно просто снять копию? Он хотел, чтобы у Кострова ничего не осталось? Что ж, он мог подложить такую же тетрадь, такие же с виду ампулы и днем спокойно пройти мимо постов… Щепотка пепла лежала на черничной ветке. Ну что ж, это только доказывало, что здесь кто-то курил. Очевидно, Якимов. Уж так все ясно, так ясно! Ну хорошо, а если отбросить эту естественную версию, что может быть кроме этого? Украл Костров? Вздор. Валя? Конечно, нет. Вертоградский? А куда в таком случае делся Якимов? И к тому же украсть и остаться здесь — уж совсем бессмысленно. Просто хотел подложить профессору свинью? Необыкновенно сложный и рискованный способ. Хотел отомстить Вале? Допустим, он ее любит, а она его нет. Но Валя от кражи меньше всего страдает. Кто-то посторонний вошел и украл вакцину? Опять-таки — где Якимов? У меня начала кружиться голова. Ни малейшего просвета не виделось мне. И тем не менее у меня улучшилось настроение. Я чувствовал, что в деле заключена сложная, трудная загадка, а если так, значит, можно ее разгадать.Глава четвертая УЛИК НЕДОСТАТОЧНО. ЗАПИСКА ЯКИМОВА
I
Я обошел вокруг дома и через кухню вошел в столовую. Костров, Вертоградский и Петр Сергеевич вышли навстречу мне из лаборатории. Все они смотрели на меня вопросительным, ожидающим взглядом. В обыкновенных условиях родственники и близкие, все люди, лично заинтересованные, удаляются из помещения и следователь работает один. Но здесь я не мог их никуда удалить. С другой стороны, меня невыносимо нервировало это чувство надежды и ожидания, которое я читал на их лицах. — Андрей Николаевич, — сказал я, — у меня к вале просьба: вы бы не составили с товарищем Вертоградским… кстати, как ваше имя и отчество? — Юрий Павлович. — С Юрием Павловичем докладную записку, страничек пять-шесть, не больше: что у вас осталось, что нужно восстановить и сколько это займет времени. — У меня ничего не осталось, — сказал Костров. — Так и напишите. — Пойдемте, Юрий Павлович, — сказал Костров, Он стал медленно подниматься по крутой лестнице, ведущей в мезонин. Вертоградский пошел за ним. К счастью, никто из них не заметил нелепости моей просьбы. В самом деле, на кой дьявол могла понадобиться эта записка, когда и без нее все было совершенно ясно. — Старичков, — спросила Валя, — вы поймаете Якимова? Попробуйте ответить ей на такой вопрос! — Если украл Якимов, — сказал я, — постараюсь его поймать. Костров, дошедший уже до верхней ступеньки, остановился как вкопанный. Сверху он, нахмурясь, уставился на меня. — Вы еще не уверены, что украл Якимов? — спросил Петр Сергеевич. — Прямых улик нет, — неохотно сказал я. На самом деле против Якимова было так много улик, что это как раз меня и раздражало и путало: точно нарочно, все обстоятельства указывали на Якимова. Но такой улики, которая бы меня окончательно и с несомненностью убедила, пока не было. — Меня убедила бы и четверть этих улик, — сказал Петр Сергеевич. — Но ведь все это может быть стечением обстоятельств, — сказал я, пожав плечами. Валя смотрела на меня широко открытыми глазами: — Я сама сначала не верила. Но кто же украл? — Посторонних в лесу не было, — сказал Петр Сергеевич. Я снова пожал плечами: — Откуда мы можем знать? Костров круто повернулся и прошел в кабинет. За ним ушел Вертоградский. Когда я сказал «если украл Якимов», старик, наверно, подумал, что сейчас я вытяну за рукав из-за двери настоящего преступника, а так как этого не произошло, решил, видимо, окончательно, что я хвастунишка, напускающий на себя важность. Мне кажется, и Петра Сергеевича разочаровала неопределенность моих слов. Видимо, он тоже потерял надежду увидеть торжественную поимку преступника. Он молча надел фуражку и вышел. Мы остались с Валей вдвоем. Мы помолчали, как и следует бывшим влюбленным, оставшимся наедине, потом Валя спросила: — Как вы жили, Володя? — Обыкновенно, — ответил я. — Ничего интересного со мной не случилось. Я не знал, как начать разговор, и она, по-видимому, не знала. Я посмотрел на цветы, стоящие на столе, и спросил: — Это, наверно, Якимов собирал? — Нет, партизан один, — ответила Валя. Еще минута, и я бы сказал, что стоит хорошая погода, и, может, она бы ответила, что, кажется, дождь собирается. Но в это время в кухне раздались тяжелые шаги и какой-то шум, точно передвигали мебель. В комнату вошел здоровенный дядя, таща три перевязанных веревкой ящика. — Здравствуйте, — улыбаясь сказал он. — Здравствуйте, Грибков, — сказала Валя. — Ящики принесли? Это наш плотник, — пояснила она мне. — Принес. — Грибков скосил глаз на потолок и хитро подмигнул. — Старик на антресолях? — На антресолях, — улыбнулась Валя. Грибков нахмурился, лицо у него стало торжественным и официальным. — Ну как? — спросил он, вежливо кашлянув. — Ничего? — Ничего… Спасибо. Грибков понимающе кивнул головой и направился к лестнице, но остановился и сказал Вале деловым тоном: — Ящики я еловые сколотил, они полегче будут. — Хорошо, Грибков, — сказала Валя. Грибков стал медленно подниматься, стараясь не задевать ящиками о стены. Но посредине лестницы еще раз остановился и спросил грубым басом: — Качаетесь? — Что, что? — удивилась Валя. — На качалке, говорю, качаетесь? — Качаюсь, — сказала Валя. Грибков удовлетворенно кивнул головой и ушел в мезонин. Дождавшись, когда дверь за ним закрылась, я спросил у Вали небрежным и даже рассеянным тоном: — Валя, ассистенты ссорились из-за вас? Валя резко повернулась ко мне: — С чего вы взяли? — Я только спрашиваю, — мягко сказал я. — Что за человек был Якимов? — Скучный человек. — Что значит «скучный»? — Рабочая лошадь, — резко сказала Валя. Я пожал плечами: — Это скорее похвала. Вале стало неловко за свою резкость. — Я не хочу его ругать, — поправилась она, — в общежитии он был полезен: ни от какой работы не отказывался и даже варил суп, когда я стирала. — К Вертоградскому вы лучше относитесь? — спросил я. Мне было неприятно задавать Вале эти вопросы. С моей стороны они были по меньшей мере неуместны Но мне очень нужно было знать, не было ли тут романической истории. Валя заговорила очень просто и очень дружески. — Мне здесь все надоело, — сказала она. — И Якимов и Вертоградский. Я хочу домой, Володя. Конечно, это нехорошо, но что я могу сделать! Хочу домой… Слезы одна за другой стекали по ее лицу. Не стыдясь, она вытерла их платком и улыбнулась жалкой, извиняющейся улыбкой. — Я бы не жаловалась, Володя, — сказала она, — но уж очень обидно! Казалось, приедем в Москву с вакциной, такие дни для нас будут… Может, думали, и похвалят нас хоть немного. И вот все зря… Папу жаль, Вертоградского жаль, да и себя жаль. А то бы я продержалась… Я подошел к ней и сказал очень мягко: — Я знаю, Валя, что вы продержались бы. Она совсем расстроилась и даже всхлипывать стала: — Еще знаете что поддерживало? Что уж мы-то, те, кто здесь, друг на друга, как на каменную гору… И вдруг — Якимов… Я не удержался и погладил ее по руке. — Вы сегодня очень устали, Валечка, — сказал я. — Вам бы отдохнуть, выспаться… Она усмехнулась, вытерла слезы и сказала: — Пойду попудрюсь. У меня и пудры осталось дня на два, не больше. И ушла на кухню.II
Меня взволновал разговор с Валей. Очень уж хорошо я помнил, какой она была жизнерадостной девчонкой. Я сел в качалку — должен сказать, на редкость громоздкое это было сооружение, — откинул голову и, покачиваясь, стал думать обо всем, что узнал и увидел сегодня. Но мне не суждено было остаться одному. Сначала спустился Грибков, на этот раз уже без ящиков, — он оставил их наверху, — посмотрел на меня гордо и деловито спросил: — Качаетесь? — Качаюсь, — ответил я. Он опять кивнул головой, пошел к двери, но в дверях остановился, кашлянул и сказал: — Это я сделал профессору в уважение. — Хорошая качалка, — ответил я.
«Ну хорошо, — опять размышлял я, — допустим, это не Якимов. Вертоградский? Тогда почему он остался здесь? И куда он девал Якимова? Костров? Ерунда. Валя? Тоже не может быть. Кто-то из отряда? Кто? Раненый из госпиталя? Женщина или старик из хозкоманды? Кто-нибудь из немногих оставшихся бойцов, которые все время стоят на постах или отдыхают в штабе? Нет, пожалуй, всё же Якимов. Будем думать о нем».
Снова и снова представлял я себе позапрошлую ночь. Вот он ходит под окнами, ему надо украсть вакцину. Это он может сделать спокойно и незаметно и утром открыто пройти мимо постов. Допустим, он боится разоблачения. Скажем, он встретил человека, который знал его не как Якимова. Но кого он мог встретить? За эти дни в отряд никого нового не прибыло. Всех старых бойцов он знает давно, и они его знают. Допустим, кто-нибудь застал его за каким-нибудь компрометирующим занятием. Он, скажем, имел скрытый радиоаппарат. Но почему тогда человек, заставший его, не сообщил об этом? Случайных людей здесь нет, и никто не исчезал.
«Нет, — решил я, — украл не Якимов. Надо искать другие варианты, какие угодно, даже самые невероятные».
— Хорошая качалка, — ответил я.
«Ну хорошо, — опять размышлял я, — допустим, это не Якимов. Вертоградский? Тогда почему он остался здесь? И куда он девал Якимова? Костров? Ерунда. Валя? Тоже не может быть. Кто-то из отряда? Кто? Раненый из госпиталя? Женщина или старик из хозкоманды? Кто-нибудь из немногих оставшихся бойцов, которые все время стоят на постах или отдыхают в штабе? Нет, пожалуй, всё же Якимов. Будем думать о нем».
Снова и снова представлял я себе позапрошлую ночь. Вот он ходит под окнами, ему надо украсть вакцину. Это он может сделать спокойно и незаметно и утром открыто пройти мимо постов. Допустим, он боится разоблачения. Скажем, он встретил человека, который знал его не как Якимова. Но кого он мог встретить? За эти дни в отряд никого нового не прибыло. Всех старых бойцов он знает давно, и они его знают. Допустим, кто-нибудь застал его за каким-нибудь компрометирующим занятием. Он, скажем, имел скрытый радиоаппарат. Но почему тогда человек, заставший его, не сообщил об этом? Случайных людей здесь нет, и никто не исчезал.
«Нет, — решил я, — украл не Якимов. Надо искать другие варианты, какие угодно, даже самые невероятные».
 В это время наверху, где Андрей Николаевич и Вертоградский писали докладную записку, раздались возбужденные голоса. Дверь хлопнула. Я повернул голову. Костров стоял на площадке; он держал в руках листок бумаги, и по лицу его я видел, что старик очень взволнован.
— Вы сомневались, Владимир Семенович, — сказал он, — так вот, смотрите: вот письмо от Якимова.
Я вскочил с качалки и помчался по скрипучим ступенькам вверх. Мы чуть не столкнулись с Костровым на середине лестницы; за его спиной виднелось растерянное лицо Вертоградского. Привлеченные шумом и голосами, из кухни выбежали Валя и Петр Сергеевич.
Я схватил бумагу; это был листок, вырванный из блокнота, размером примерно в ладонь. Бумага была клетчатая, оторвана неаккуратно, не по пунктиру. Записка написана карандашом, листок не измят, не согнут, следы карандаша черные — значит, записку не таскали в карманах, очевидно, он лежала на столе или в книге.
Сбежав с лестницы, я подошел к окну. Меня сразу поразили непривычные очертания букв: записка была написана по-немецки, остроугольной, готической прописью. Я примерно переведу ее содержание:
В это время наверху, где Андрей Николаевич и Вертоградский писали докладную записку, раздались возбужденные голоса. Дверь хлопнула. Я повернул голову. Костров стоял на площадке; он держал в руках листок бумаги, и по лицу его я видел, что старик очень взволнован.
— Вы сомневались, Владимир Семенович, — сказал он, — так вот, смотрите: вот письмо от Якимова.
Я вскочил с качалки и помчался по скрипучим ступенькам вверх. Мы чуть не столкнулись с Костровым на середине лестницы; за его спиной виднелось растерянное лицо Вертоградского. Привлеченные шумом и голосами, из кухни выбежали Валя и Петр Сергеевич.
Я схватил бумагу; это был листок, вырванный из блокнота, размером примерно в ладонь. Бумага была клетчатая, оторвана неаккуратно, не по пунктиру. Записка написана карандашом, листок не измят, не согнут, следы карандаша черные — значит, записку не таскали в карманах, очевидно, он лежала на столе или в книге.
Сбежав с лестницы, я подошел к окну. Меня сразу поразили непривычные очертания букв: записка была написана по-немецки, остроугольной, готической прописью. Я примерно переведу ее содержание:
«Андрей Николаевич, я не мог поступить иначе, они хотели, чтоб я Вас устранил. У меня не поднялась рука. Думаю, что за это я поплачусь. Но Вы и сейчас для меня мой любимый учитель. Помните, что бывают трагические случайности, прощайте и простите. Пишу по-немецки, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме Вас, читал это письмо.Я стоял у окна, держа записку в руках, боясь повернуться лицом к Кострову. Сначала надо было решить, что делать.Якимов».
III
Две мысли мелькнули у меня сразу. Первая: лишь тогда имело смысл писать по-немецки, если ни Валя, ни Вертоградский не знают этого языка. Вторая: значит, Якимов не один, значит, есть «они», которые заставили его украсть вакцину. Первое надо выяснить сейчас же. Насчет второго мы поговорим с Петром Сергеевичем. Я повернулся и резко спросил Вертоградского: — Разве вы не понимаете по-немецки? — Нет, — сказал Вертоградский. — Впрочем, со словарем… Я повернулся к Вале: — А вы? — Нет. Я повернулся к Кострову: — Где было письмо? — В книге, — ответил Костров, — вместо закладки. Оно торчало между страницами, но я не обратил на него внимания. Я часто закладываю нужные мне места первыми попавшимися бумажками. — А где была книга? — У меня наверху. — Все время? Последние дни вы ее не сносили вниз? — Я не помню… Ты не помнишь, Валя? Это «Основы микробиологии», — растерянно сказал Костров. — По-моему, она все время была наверху, — сказала Валя, — но Якимов позавчера поднимался к тебе. Помнишь, он еще забыл наверху спички? — А в последние дни вы читали книгу? — спросил я. — Куда там! — махнул рукой Андрей Николаевич. — Разве мне эти дни до чтения было? — Хорошо, — сказал я, — в конце концов, это ничего нового не вносит. Мы и раньше знали, что украл Якимов. — Я зевнул. — Валечка, вы бы не приготовили мне чего-нибудь поесть? А вас, Андрей Николаевич, я все-таки попрошу закончить вашу докладную. Она может очень мне пригодиться… Пойдемте, Петр Сергеевич, я провожу вас. Конечно, все они поняли, что я хочу поговорить с Петром Сергеевичем наедине, но были достаточно вежливы, чтобы не дать мне это почувствовать. Валя даже спросила заботливо, люблю ли яжареную колбасу с картошкой, и я ответил, что с детства страшно люблю. Мы вышли с Петром Сергеевичем из дома и молча прошли через полянку. Когда дом скрылся за деревьями, Петр Сергеевич не выдержал. — Теперь вы убедились, что это Якимов? — спросил он. Я пожал плечами: — Дело очень серьезное, Петр Сергеевич. Может быть, и Якимов, может быть, нет. Но если даже Якимов, то, судя по записке, он был не один. Какие-то люди руководили им, угрожали ему. Кто это может быть, Петр Сергеевич? Партизанский интендант остановился и растерянно на меня посмотрел: — Вы думаете, кто-нибудь из отряда? — Может быть, из отряда. Если нет, значит, на ваших Алеховских болотах спокойно разгуливают посторонние люди. Петр Сергеевич огорчился ужасно. — Нет, — сказал он, — как же так! У меня посты на всех проходах, мы тут знаем каждый кустик, пройти нигде невозможно. — Значит, в отряде есть чужие люди. Петр Сергеевич замолчал. Мы молча пошли по тропинке; он отвернулся от меня, и видно было, как он огорчен и обижен. — Что же вы думаете делать? — спросил он наконец. — Когда ушел отряд? — ответил я вопросом. — Позавчера днем. — У вас есть сведения о каждом из оставшихся? — Да, конечно. — Пойдемте в штаб. Вы познакомите меня со всеми. — Хорошо. Конечно, я прекрасно понимал, что эта работа может оказаться бесполезной. Если отряд ушел только позавчера днем, то возможно, что человек, которого боялся Якимов, который заставил его пойти на преступление, ушел с отрядом. Легко представить себе, что позавчера утром у них был решающий разговор, что неизвестный потребовал, чтобы дело было сделано ближайшей ночью. Но проверять тех, кто ушел, я не мог — надо было проверить оставшихся. Тропинка сворачивала. Здесь кончались большие деревья и видно было болото на много километров. Тишина и покой царили над ним. Жаркое солнце палило над стоячими озерками, медленно-медленно текущими ручейками, над однообразной болотной зеленью, лозняком, зарослями камыша. Звенели комары в тишине. Ветерок чуть-чуть шевелил листву. Самая тишина и покой болота опять показались мне тревожными, настороженными, враждебными. Большая лиловая туча медленно выползала из-за горизонта. Парило так, что, наверно, вода в озерах была почти горячей. — Гроза будет к вечеру, — сказал Петр Сергеевич. — Вот после дождя посмотрите наше болото: ни пройти, ни проехать.Глава пятая НОВЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ
I
Мы вошли с Петром Сергеевичем в ту самую землянку, где я был утром, и он мне стал поименно перечислять членов отряда, которые остались в его распоряжении. Трое раненых, из них один лежал, а двое только недавно стали ходить, опираясь на палочку. Две женщины, много лет жившие в соседней деревне и известные всем в районе. Старик конюх, тоже местный, бывший инспектор по качеству в одном из колхозов. Другой старик, охотник, получивший в 1939 году премию за рекордное количество убитых волков. И еще старик, учитель-пенсионер, проработавший в этих местах лет сорок. Не считая Петра Сергеевича, всего двадцать девять человек. Почти все это были местные люди, здесь родившиеся и выросшие, вся жизнь которых была на виду. Только трое были не местные: два красноармейца, прикрывавшие отход своей части, отставшие от нее и присоединившиеся к отряду, и Грибков, присланный с донесением и некоторыми материалами из отряда, действовавшего в соседнем районе. Относительно красноармейцев Петр Сергеевич имел подробные сведения. В полку, в котором они служили, стало известно, что они находятся в партизанском отряде, и комиссар полка прислал комиссару отряда письмо, рекомендуя их с самой хорошей стороны. Относительно Грибкова комиссар связался по радио с отрядом, в котором Грибков был раньше. Сведения о нем были самые лучшие. Он местный колхозник, плотник, человек тоже известный. Я попросил Петра Сергеевича вспомнить, нет ли среди тех, кто ушел на операцию, человека, недавно попавшего в отряд, человека не из здешних мест — словом, не так хорошо известного, как остальные. Петр Сергеевич думал, думал и никого не мог вспомнить. Отряд формировался тут же, в этих местах, людей отбирали с большим разбором, и человек незнакомый, мало известный попасть в отряд не мог. — Хорошо, Петр Сергеевич, — сказал я, — давайте подробнее поговорим о Грибкове. Значит, вы говорите, что о нем хорошие сведения? — Знаете что? — сказал Петр Сергеевич. — Чем нам говорить попусту, схожу я к радисту и возьму у него запись разговора с грибковским отрядом. У нас ведь все разговоры записываются, должна быть у радиста и эта запись. Он ушел, а я, оставшись один, стал продумывать все, что теперь знаю, и пришел к выведу, что положение мое далеко не так скверно, как казалось утром. Прежде всего, история с письмом Якимова. Вдумаемся: против Якимова масса улик — столько, что, кажется, не приходится сомневаться в его вине, тем не менее я сомневаюсь. Я говорю об этом. При этом присутствуют Костров, Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Костров и Вертоградский уходят наверх и вскоре приносят мне прямую, неопровержимую улику — признание самого Якимова. Может быть, конечно, это случайность, но если случайность, то на редкость своевременная. Разберемся в самом письме. Это письмо человека слабого, нерешительного, письмо труса. Он любит Кострова и наносит ему самый страшный удар, какой только возможен. Это нытик, размазня. Такие люди пишут много о психологии, о сложных движениях человеческой души и очень мало — о деле. Было какое-то противоречие между содержанием и стилем письма. Подумав, я отверг это соображение: можно себе представить, что Якимов писал торопясь, что у него не было времени, что он боялся, как бы его не застали. Вообще письмо было гадкое — письмо ханжи и фарисея, который лжет даже самому себе. Но, с другой стороны, хороший человек не станет красть вакцину… Однако что-то другое казалось мне в этом письме неестественным и подозрительным. Немецкий язык… Почему он писал по-немецки? Он не хотел, чтобы Валя и Вертоградский прочли письмо? Ерунда. Достаточно было запечатать письмо в конверт и написать на нем «Кострову» или, если нет конверта, просто сложить и заклеить его. Достаточно было положить его в такое место, где оно неизбежно попадет в руки профессору, например, в книгу, которую профессор читает, — где оно, кстати говоря, и лежало. Совершенно ясно, что если Костров захочет довести его содержание до всеобщего сведения, то он его переведет, а если не захочет, так никому не расскажет, будь оно написано на самом что ни на есть русском языке. Удивительно нелепая идея — писать письмо по-немецки. Это само по себе уже подозрительно. Но, с другой стороны, если Якимов действительно человек раздвоенный, нытик, то о г. него и следует ждать поступков нелепых и нецелесообразных. Он волнуется, ему кажется, что за ним наблюдают, что сейчас его разоблачат. Под руками нет ни конверта, ни клея; ему приходит в голову идиотская мысль писать письмо по-немецки, чтобы скрыть его содержание от посторонних. В этот момент логика у него действует слабо, ему кажется, что это на редкость удачная мысль. Простейшие возражения, которые в обыкновенное время сразу же пришли бы ему в голову, сейчас им забыты. Это рассуждение психологически ничуть не менее убедительно, чем предыдущее. Значит, дело и не в том, что письмо написано по-немецки. Оставалось в письме что-то странное, что мне не давало покоя. Мне пришлось напрячь мысль, чтобы уяснить, в чем дело. Странно то, что письмо написано готическими, угловатыми буквами. В самом деле, готический шрифт давно уже вышел из широкого употребления. Давно уже в немецких книгах употребляется латинский шрифт, письма пишутся латинскими прописями — зачем в торопливо набросанной записке воскрешать забытые начертания букв? Они не могли невольно возникнуть в памяти у Якимова, потому что ему только тридцать пять лет и, когда бы он ни учил немецкий язык, хотя бы в самом раннем детстве, он неизбежно учил не готические, а латинские буквы. Значит, это было сделано сознательно, это не могло быть случайностью. В этом была какая-то мысль, которую мне следовало разгадать.II
Я вынул блокнот и написал фразу по-русски. Под ней ту же фразу я написал по-немецки, обыкновенными латинскими буквами. Еще ниже ту же фразу я написал готическими, остроконечными буквами. Я даже засмеялся от удовольствия: достаточно было одного взгляда, чтобы все стало абсолютно ясным. В первой и во второй фразах одни и те же буквы были написаны совершенно одинаково. Не надо было быть графологом, чтобы установить. что это писал один человек. Фраза, написанная готическим шрифтом, выглядела иначе. Значит, все дело было в почерке. Тут могли быть два варианта. Первый: Якимов не хотел, чтобы узнали его почерк. Это бессмыслица, раз он все равно подписался. Следовательно, остается второй вариант: кто-то написал письмо готическим шрифтом для того, чтобы не узнали, что это почерк не Якимова. Теперь подозрение, вызванное такой удивительно своевременной находкой, превратилось в уверенность. «Нет, — подумал я, — гут для меня работа найдется. Тут я кое-что смогу сделать!» Какое это чудесное чувство, когда неясное становится ясным, когда враждебной воле ты противопоставляешь свою, сильнейшую волю и логику! Я вскочил и стал ходить по землянке. Значит, Якимов не преступник, а жертва. Пожалуй, можно считать это установленным. Будем искать преступника. Думается, найти его не так трудно: записка безусловно была написана и подложена после того, как я сказал, что для обвинения Якимова улик недостаточно. Написать и подложить записку могли Костров или Вертоградский. Неужели Костров? Я никак не мог себе представить этого. Значит, Вертоградский. Приходилось остановиться на этом. Я стал думать о Вертоградском. Что могло заставить его похитить открытие Кострова? Все сомнения, которые возникали по поводу Якимова, естественно оставались и в отношении Вертоградского. Точно так же похищение вакцины и дневников из соображений карьеры или корысти было бессмыслицей. Точно так же он мог спокойно переписать дневник, подменить вакцины глюкозой и без всякого риска уйти с болот днем, не вызвав никаких подозрений. Но существовали и некоторые дополнительные обстоятельства. В отношении Якимова можно было предположить, что это просто морально неустойчивый человек, решивший прославиться, украв чужое открытие, или совершивший это из мести за какую-нибудь неведомую мне обиду, — словом, что Якимов действительно был Якимовым, обыкновенным доцентом, в силу неизвестных нам обстоятельств ставшим преступником. Но если записку написал Вертоградский, это меняло дело. Человек, который говорит по-немецки и всю жизнь скрывает это, не может быть случайным преступником. Это человек, давно замысливший преступление, человек, который, еще только начав работать с Костровым, уже с самого начала маскировался, лгал, казался не тем, чем был. Якимов мог быть Якимовым, но Вертоградский, если он похитил вакцину, не мог быть Вертоградским. Кстати говоря, если украл Вертоградский, легче объясняется многое. Ключи были у Якимова; значит, для того чтобы украсть дневник, нужно было сначала украсть ключи (или взломать шкаф, что сделано не было). Больше того: Якимов мог переписать дневник, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Якимов мог подменить вакцину, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Все непонятные обстоятельства становились понятными. Я заново представил себе картину преступления. Прежде всего, Вертоградский, очевидно, профессиональный шпион. Кстати сказать, он человек не местный. Он приехал из Москвы, и в городе, где жил и работал Костров, его не знали — значит, это еще более подкрепляло мою версию. Теперь о самом преступлении: Вертоградский выжидает, пока будет все готово, он хочет получить испытанную вакцину, годную для употребления. Он тщательно выбирает день, вернее, ночь. Выбор действительно очень удачен. Во-первых, вакцина готова. Во-вторых, отряд ушел и на болотах мало людей. В-третьих, ждать больше нельзя, потому что Костровы, вместе с вакциной, улетят в Москву и все будет потеряно. Якимов, как всегда, вышел перед сном погулять. Вертоградский знал, где у него ключи: они могли быть в кармане пальто, которое не надел Якимов; они могли быть где-нибудь в ящике. Словом, где бы они ни были, но, когда Якимов уходит, Вертоградский достает ключи и открывает шкаф. В этот момент он встречается взглядом с Якимовым. Якимов смотрит в окно… Нет, так это не могло быть. Якимов, конечно, успел бы поднять тревогу, закричать, выстрелить, даже если бы Вертоградский сразу бросился на него. Значит, было иначе… Ключи были в кармане у Якимова; когда Якимов вышел погулять, за ним тенью выскользнул Вертоградский. Я представил себе все поразительно ясно. Вот он ходит, курит, думает, этот молчаливый, медлительный человек. Темно в лесу, виден только его силуэт да огонек папиросы, то исчезающий за деревом, то появляющийся снова. Совсем вблизи от него, не дыша, стоит Вертоградский. Что дальше? Удар по голове. Может быть, хлороформ. Здесь ведь есть госпиталь, и Вертоградский в госпитале бывал. Беззвучно падает Якимов. Может быть, короткая борьба, но неожиданность нападения, растерянность — всё против Якимова. Он связан… Нет, вернее всего, хлороформ, иначе на траве остались бы следы борьбы. Ключи теперь у Вертоградского. Дальше все совершенно понятно: клеенчатую тетрадь и коробочку с ампулами он достает из шкафа и кладет в карман. Потом он взваливает на плечи бесчувственное тело Якимова. Высокий, плечистый человек, Вертоградский любит спорт; вероятно, он силен. Он относит Якимова. Куда? В любое топкое место, к любому озеру, затянутому зеленой ряской. Всплеск, и усыпленный человек погружается в гниющую воду, чтобы захлебнуться, не приходя в сознание. Вероятно, к шее привязан камень. К утру ряска снова затянет поверхность озера, все следы — исчезнут… Я весь дрожал от возбуждения. Эта гипотеза объясняла все факты. Все то, что было неясно, что казалось нелогичным и удивительным, стало, наоборот, естественным и неизбежным.III
Когда вернулся Петр Сергеевич, пришлось постараться, чтобы у меня не было идиотски радостного вида. Петр Сергеевич показал мне запись переговоров с комиссаром отряда, действующего в соседнем районе. Комиссар подтверждал, что Грибков действительно послан им, и сообщал, что человек он вполне проверенный и на него положиться можно. Но мне уже было не до Грибкова — я слушал, как Петр Сергеевич монотонно читает запись переговоров, а сам продумывал план дальнейших действий. Сейчас же арестовать Вертоградского? Это было бы очень просто, но я должен вернуть коленкоровую тетрадь и коробку с ампулами. Арест будет только вреден. Улик у меня пока нет никаких. Как ни убедительны мои предположения, все-таки это только предположения. Вероятнее всего, он будет отрицать. Больше того, арест даст ему козырь в руки: он будет знать, что раскрыт, и приготовится к защите. Где, под каким пнем, в каком дупле спрятаны дневник и вакцина? Если можно надеяться, что после возвращения отряда, когда тщательно прочешут болото, будет найден спрятавшийся человек или мертвое тело, то совсем безнадежно пытаться найти на болоте клеенчатую тетрадку и маленькую коробочку. Значит, арест отпадает. Нужно поставить Вертоградского в такие условия, чтобы он растерялся и выдал себя. Больше того, надо придумать что-то, чтобы он выдал место, где спрятал вакцину. Нет, предпринимать что-нибудь было рано. Надо продолжать охотиться за Якимовым, как бы веря в то, что записка подлинная и что вся трудность только в том, что нет людей, чтобы прочесать болото. Единственное, что я мог сейчас сделать, это радировать в Москву и попросить срочно проверить подлинность биографии Вертоградского и, пожалуй, Якимова. Петр Сергеевич повел меня на радиостанцию. Этим громким именем называлась маленькая землянка, в которой жил радист, мальчишка лет шестнадцати. Тем не менее он, видимо, неплохо знал свое дело, быстро зашифровал радиограмму и сразу же стал передавать. Дождавшись, пока Москва сообщила, что радиограмма принята и будет немедленно вручена адресату, мы вышли с радиостанции. — Ну, — спросил Петр Сергеевич, — куда теперь? Мы стояли с ним под большой березой. Подняв голову, я увидел, что тучи уже затянули полнеба, огромные лиловые тучи, которые надвигались на солнце с запада; было по-прежнему тихо и жарко, но далеко-далеко, там, где тучи сходились с землей, бесшумно сверкнула молния. — Пойдемте к Костровым, — сказал я и вдруг остановился, задумавшись. Я представил себе Андрея Николаевича, и Валю, и Вертоградского, страшного, затаившегося Вертоградского. Ведь Костровы беззащитны перед ним. Что если почему-нибудь он догадается, что разоблачен, и захочет на прощание всадить пулю в своего профессора? Днем, пожалуй, он безопасен. Кругом ходят люди, днем ему не убежать и не скрыться. А ночью придется стеречь старика, причем стеречь так, чтобы его ассистент не почувствовал этого. Что делать сейчас? Наметить план действий, решил я, выждать и постараться, чтобы Вертоградский как можно дольше не знал о моих подозрениях… Я зевнул, потянулся и сказал Петру Сергеевичу: — Ужасно хочется спать. Я думаю, дело не пострадает, если я часов до семи посплю? — Правильно, — согласился Петр Сергеевич. — Пойдемте, я вас устрою. Поспите, отдохнете, и все будет хорошо. — У меня к вам только одна просьба, — сказал я — Хорошо ли заперты все проходы? — Насчет этого будьте спокойны, — сказал Петр Сергеевич. — Все-таки, если можно, усильте посты. И потом еще одна просьба: хорошо, если б кто-нибудь пока посидел у Костровых. Ходит тут где-то Якимов, мало ли что… — А я вас устрою, посты проверю и сам посижу у Костровых, — сказал Петр Сергеевич. Он уложил меня на ту же постель, на которой я уже спал этой ночью, и ушел. Разумеется, я не собирался спать. Я снова и снова продумывал свое объяснение кражи. И чем больше, чем строже я проверял его, тем стройнее и убедительнее становилась моя гипотеза. Она объясняла всё. Мне даже было удивительно, как я сразу не понял. Самодовольство разбирало меня: я представлял себе, как будет доволен Андрей Николаевич, как одобрительно скажет Шатов, что я работал «быстро и точно», — это была его любимая формула. Я думал и о том, что, наверно, после моей удачи Валя будет не очень скверного мнения обо мне. Выждав минут пятнадцать, чтобы дать возможность Петру Сергеевичу отойти достаточно далеко, я встал и вышел из землянки. Пока Петр Сергеевич будет сидеть и сторожить Костровых, мне хотелось самому посмотреть, что за люди остались в отряде. Я поговорил с каким-то стариком, который оказался охотником по профессии, зашел к радисту, страшному болтуну. Найдя неожиданного и внимательного слушателя, мальчишка обрадовался и часа полтора, не переводя дыхания, рассказывал мне обо всех бойцах и командирах отряда. Если бы я посидел еще несколько часов, я бы знал биографию каждого, но того, что он мне рассказал, было совершенно достаточно. Сведения Петра Сергеевича были точны. Я не подозревал его в том, что он сознательно будет мне лгать, но следователи отлично знают, как может быть неточен самый добросовестный человек. Я зашел в госпиталь, где лежали трое раненых, и побеседовал с ними. По-видимому, отношение к Якимову и Вертоградскому у всех в отряде было одинаковое. Их обоих хвалили; они держали себя всегда хорошо и в бою показали, что на них положиться можно. В кухне я поболтал с поварихой, женщиной серьезной на первый взгляд, но оказавшейся невозможной сплетницей. Постепенно из всех рассказов у меня возникла живая и подробная картина жизни и работы партизанской лаборатории. То, что мне рассказывал Шатов в точных, но общих словах, теперь обросло десятками подробностей, стало видимым и ощутимым бытом. Я как бы вдохнул атмосферу, которой дышали эти годы жители домика на болоте. Я представил себе реально поведение каждого, и надо сказать, что не было ни одной черточки, ни одного даже маленького эпизода, который бы позволял хоть с тенью подозрения отнестись к кому-нибудь из жителей Алеховских болот. Когда я расстался с поварихой, были уже сумерки. Тучи заволокли все небо. Как всегда перед грозой, лес притих. Петра Сергеевича со мной не было, но я помнил дорогу к Костровым и решил, что дойду и сам. Тропинка шла вниз, и скоро земля стала хлюпать под моими ногами. Я шел осторожно, глядя под ноги, чтоб случайно не наступить на гадюку. Вероятно, поэтому я пошел неверно. Тропинка подвела меня к огромной луже, через которую было переброшено большое бревно. Я ясно помнил, что ни по какому бревну мы с Петром Сергеевичем не шли, остановился и посмотрел вокруг. Заросли осинника обступали меня со всех сторон. Попробуй тут определить свое местоположение! Я вернулся обратно, уже начиная сердиться на непредвиденную задержку. Тропинка опять пошла вверх. Я решил, что неизбежно приду либо на тот холм, где помещается штаб, либо на тот, где помещается лаборатория. Но я пришел на третий холм, на котором помещались конюшни. Это, собственно, были просто навесы, окруженные земляным валом. В стороне, прямо под открытым небом, поднимая кверху оглобли, стояло штук пятнадцать обыкновенных крестьянских телег. Я остановился, растерянно оглядываясь, и сразу же из конюшни выбежал сердитый старик. На вид ему казалось лет сто, не меньше. При этом за плечами у него болталось ружье, которому было, наверно, лет полтораста. Оно придавало ему очень воинственный вид, и он чувствовал себя с ним вполне уверенно. — Кто такой? Откуда? — закричал старик. — Зачем ходишь? При этом он снял ружье с плеча и держал его с таким видом, как будто действительно думал, что оно выстрелит, если спустить курок. — Спокойно, спокойно, дедушка, — сказал я. — И осторожней с ружьем, а то ведь оно разорвется и покалечит тебя. — Ну-ну, — сказал старик, — ты меня не пугай! Ты скажи, откуда, каков человек? — Я из Москвы, — ответил я. — Спрыгнул к вам вчера с неба, по делу к профессору Кострову. Слыхал, может? — А-а, так это вы насчет кражи прилетели? Старик сразу подобрел, закинул ружье за спину, подошел и поздоровался со мной за руку, Я объяснил ему, что заблудился, он подтвердил, что действительно у них трудно не заблудиться новому человеку, и предложил меня проводить. На горизонте одна за другой сверкали молнии. Издалека доносился гром. — Здоровая гроза будет, — сказал старик. — Зальет нас дождичек этой ночью. Он рассказал мне дорогой, что ему отнюдь не сто, а всего восемьдесят семь лет, что он тот старик, который инспектор по качеству, а другой старик, который охотник, — тот постарше будет, хотя тоже еще крепкий мужчина. Быстро темнело. Старик размышлял вслух: — Успеть бы мне в конюшню вернуться, а то в темноте тут беда ходить: оступишься — ив грязь… Теперь я уже узнавал дорогу. Заросли папоротника, по которым вилась тропинка, мне были знакомы. — Ладно, — сказал я, — отсюда я сам дойду. Старик обрадовался, простился со мной и бодро зашагал обратно в конюшню. Я вышел на полянку. Грозно выглядело сейчас небо. Какой-то желтый, мертвенный свет излучали облака. Гром прогремел и стих. Издали, нарастая, приближался шум. Это ветер шел по вершинам деревьев. Он пронесся над моей головой, пригибая и раскачивая длинные ветки, и ушел дальше, а потревоженные деревья стихли снова, напряженно ожидая грозы. Когда я подходил к крыльцу, на меня упали первые капли дождя.Глава шестая ГРОЗА. КОСТРОВ СООБЩАЕТ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
I
Встретили меня сдержанно. Андрей Николаевич был, кажется, обижен до глубины души тем, что я до сих пор ничего не открыл. Сердился и Вертоградский — может быть, искренне, а может быть, притворяясь и подражая профессору. Даже Валя была, по-видимому, недовольна. — У вас, конечно, ничего нового? — ехидно сказал Костров. Я простодушно объяснил: — Нет, конечно. Единственно, что я сделал, это послал радиограмму в Москву, просил навести кое-какие справки. Я внимательно смотрел на Вертоградского. Внешне не было заметно, чтобы его взволновало это сообщение. Костров хмыкнул, а Валя сказала: — Ваша колбаса уже совсем пересохла, но все-таки придется вам ее съесть. Она принесла сковороду и тарелку, и я съел без особого аппетита жареную колбасу, которая, наверно, часа четыре назад была вкусной. Все чаще и чаще ударяли по крыше крупные капли дождя. Необыкновенно быстро темнело. Глядя в окно, я уже с трудом различал силуэты деревьев. Оттого, что гроза должна была разразиться с минуты на минуту и все никак не разражалась, нервы у всех нас были напряжены, как у человека, который стоит с завязанными глазами, ждет удара и не знает, в какую именно секунду его ударят. Валя подошла к окну и высунулась наружу. — Ух, и ливень же будет! — сказала она. — Уж чего-чего, а воды здесь хватает. Если когда-нибудь отсюда вырвусь, поеду жить в Среднюю Азию. Хорошо: песок, сушь, безводье… — Почему же вы так воду не любите? — спросил я. — Я люблю газированную с сиропом, — сухо ответила Валя и, забрав пустую сковородку, ушла на кухню. И тут началось. Взвились занавески. С шумом захлопнулось одно из окон. В лаборатории зазвенело стекло. Сквозняк промчался по комнате. На полянку, на деревья, на маленький домик ринулись потоки воды. На полу под окнами сразу образовались лужи. Косой дождь хлестал в комнату. Мы подбежали к окнам и, борясь с ветром, стали их закрывать. Нас ослепила молния. Казалось, что она ударила где-то совсем рядом, не то в соседнее дерево, не то в пенек под нашим окном. Деревья изгибались под напором ветра. Забурлили ручьи. — Лаборатория! — закричал Костров. — Там сметет всю посуду! Вертоградский кинулся в лабораторию. С трудом я закрыл в столовой окна. По стеклам сразу же потекла вода, и в комнате стало еще темнее. Валя вошла в комнату с керосиновой лампой в руке. — Какая темень! — сказала она. — Петр Сергеевич, у вас есть спички? Мы зажгли лампу, и, когда огонек ее разгорелся, за окнами стало темно, как ночью. Вертоградский вышел из лаборатории. Волосы у него были мокрые, и капли воды стекали по лицу. — Две пробирки разбились, — сказал он. — Ну ничего, скоро у нас много посуды будет. Валя сняла шерстяной платок, висевший на спинке стула, накинула его на плечи. — Холодно, — сказала она, поеживаясь, — и неуютно. У нас всегда неуютно в такую погоду. Петр Сергеевич встал и надвинул на лоб фуражку. — Придется идти, — сказал он. — Хорошо, что я плащ захватил. Он снял висевший на гвозде брезентовый плащ и стал надевать его. — Куда вы? — удивилась Валя. — Вас же зальет. — Надо, — сказал Петр Сергеевич. — Мало ли что может в такую погоду случиться! Тем более теперь. Он вышел. Страшно было подумать, как он будет ходить по болотам в темноте. Там и в солнечный день не всюду можно пройти. Вертоградский стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. — Будем пить чай? — спросила Валя. — Нет, — сказал Костров. — Не хочется. Валя беспокойно посмотрела на отца: — Пойди ляг, папа. Костров пожал плечами: — Рано еще. Наверху лампа заправлена? — Да. — Пойду почитаю. — А я, — сказал Вертоградский, — пожалуй, лягу. В такую погоду ничего нет лучше, как лечь и укрыться. Раздеваться не стану, а подремлю одетый. Он ушел в лабораторию. Медленно поднялся Костров к себе в мезонин, и мы остались с Валей вдвоем. — Может, все-таки выпьете чаю, Володя? — спросила она. — Нет, спасибо. Я сел в качалку и стал раскачиваться. Валя достала с полки коробку с работой и выложила на стол мотки ниток, иголки, куски материи. — Вышивать будете? — спросил я. — Нет, чулки штопать. Иголка неторопливо двигалась в ее руках. Очень уютно и домовито выглядела Валя сейчас, в пуховом платке, склоненная над шитьем, при желтом свете керосиновой лампы. Снова, прогремев, раскатился по небу гром.II
Мы долго молчали. За окнами монотонно лил дождь. Даже в комнате было слышно, как шумят и бурлят ручьи между деревьями. — Может, печку затопить? — спросила Валя. — Хоть сейчас и лето, но в такую погоду приятно. — Не стоит возиться, — ответил я, и мы опять замолчали. На кухне заверещал сверчок. Под его песенку я задумался. Мысли мои были не очень веселыми. Никак я не мог найти того верного и точного хода, который должен был разоблачить Вертоградского и заставить его вернуть вакцину. Вот он лежит в постели совсем близко, здесь, за тонкой перегородкой, и, наверно, обдумывает, как ему скрыться, как бы не выдать себя, вспоминает каждую мою фразу, стремясь угадать, догадываюсь я о чем-нибудь или нет. Так же и я сейчас вспоминаю каждую его фразу и каждое его движение. Валя перебила мои мысли вопросом: — Как вы стали следователем, Володя? Я усмехнулся: — Как обыкновенно становятся кем-нибудь. Частью по влечению, частью случайно. — А где на следователя учатся? — Я вот учился на биологическом. — И только? — Нет, еще кое-где… Андрей Николаевич все еще на меня сердится, что я с биологического ушел? Валя усмехнулась: — А вы все еще его боитесь? — Я лишних полгода учился на биофаке, чтобы не рассердить его. Валя откусила нитку и сняла чулок с гриба. — Только для этого? — спросила она. — Нет, — сказал я улыбнувшись, — еще, чтобы с вами не расставаться. Я был очень влюблен в вас, Валя. Снова иголка ходила в крепких и подвижных ее пальцах. Верещал сверчок, за окном монотонно шумел дождь. — Я помню, — сказала Валя. — Я, правда, была девчонкой, но тоже была в вас влюблена. Мне только было очень обидно, что вы такой белобрысый. Я не нашелся что ответить и снова стал раскачиваться в качалке, прислушиваясь к свисту ветра и шуму дождя за окнами. Я посмотрел на часы: было начало одиннадцатого, уже мог прийти ответ из Москвы. Принесут мне радиограмму из штаба или решат подождать до утра? Жалко, я не предупредил, что мне она нужна срочно. — Что вы на часы смотрите? — спросила Валя. — Мне должны кое-что принести из штаба, — сказал я и, помолчав, добавил: — Ух, какой дождина! — Когда вспоминаешь детство, — сказала Валя, — лето представляется одним солнечным днем. Раньше как будто и ненастных дней не было. А теперь вот… — Она помолчала. — Говорят, дожди потому, что война. Вы всему учились, Володя, скажите: может это быть? — Валя, — спросил я, — Якимов хорошо знал немецкий язык? — Якимов? — Валя подняла глаза и внимательно на меня посмотрела. — Он переводил что-то папе. Журналы, я видела, читал. — А вы не видели, чтобы он писал по-немецки? — Не помню. — Нахмурившись, она минутку подумала. — Нет, не помню. — Жалко… А насчет дождей очень возможно. Хотя наука этого не подтверждает. Валя снова склонилась над работой, но через минуту снова подняла на меня глаза: — Скажите прямо, Володя: может, вам нужно спокойно подумать? Я ведь могу сидеть тихо и не мешать. Мне только не хочется уходить в кухню — там неуютно, огромная печь, горшки, ведра и дождь бьет прямо в окно. — Сидите, Валя, — сказал я. — Мне приятно, когда вы разговариваете со мной. — Мне тоже приятно, — сказала Валя. — Мне очень надоело, что не с кем разговаривать. Когда я смотрел на нее, закутанную в пуховый платок, склонившуюся над шитьем, мне трудно было поверить, что это она скрывалась от немецкой разведки, шла мимо полицейских постов. Очень знакомая девушка сидела передо мной. Та самая, с которой я ходил в театр и подолгу потом разговаривал у крыльца. Та самая, с которой я ехал тогда, весной, в автобусе и которая поцеловала меня так неожиданно. Удивительно мало она изменилась! И можно подумать, что ничего особенного за это время с ней не произошло. — Не понимаю, — сказал я, — почему вам не с кем было разговаривать? Ну, Якимов был молчальник, но Вертоградский ведь человек веселый, живой… Валя чуть заметно передернула плечами. Мне даже смешно стало, как люди мало меняются. У нее и прежде была эта привычка передергивать плечами, я отлично помнил. — С ним вот так, попросту, не поговоришь, — сказала она. И добавила неожиданно: — Я поэтому за него и замуж не пошла. — Ах, вот как? — сказал я. — Об этом был у вас разговор? — Был однажды… — неохотно сказала Валя. — Давно? — спросил я. — Собственно говоря, два раза: один раз — давно, когда мы только что сюда переехали… — Ну, а вы тогда что? — Я отшутилась. — А второй раз? — Второй раз — совсем недавно. Позавчера. — Ну, а вы что? — Я опять отшутилась. Наверху скрипнула дверь. По лестнице неторопливо спускался Костров.III
— Поспал немного? — спросила Валя. — Я не спал, — хмуро ответил Костров. — Чаю согреть? — Согрей. Валя ушла на кухню. Костров прошелся по комнате, потом взял стул и сел против меня. Я привстал и предложил ему сесть в качалку, но он отрицательно покачал головой. Он был хмур и сосредоточен. Он очень горбился — заметно постарел за эти годы. А может быть, его последние дни согнули? Очень утомленное было у него лицо. Я сидел и ждал, что он скажет, но он молчал. Чтобы начать разговор, я сказал: — Мы с Валей вспоминали давние времена. Он пропустил мои слова мимо ушей и заговорил о своем: — Я не собираюсь вас учить, Владимир Семенович, но время идет. Быть может, Якимов как раз сейчас пробирается в город. Вы не собираетесь его преследовать? Я отлично понимал, как его должен был раздражать мой спокойный вид и монотонное покачивание качалки. Как я мог ему объяснить, что именно здесь, в этом доме, я был сейчас нужнее всего! Не мог же я рассказывать ему о своих подозрениях… Я нагнулся вперед и положил руку старику на колено. — Андрей Николаевич, — мягко сказал я, — если я сижу здесь, в качалке, то потому только, что ничего другого сейчас нельзя или не следует делать. Костров утомленно качнул головой. Вряд ли он верил мне, но, наверно, понимал, что спорить со мной не может, и примирился. Он по-стариковски пожевал губами и заговорил негромким, усталым голосом: — Это не важно, что я работал над вакциной много лет и вся работа моя пошла прахом, но, Владимир Семенович, ведь вакцина уже была создана, ведь где-то в госпиталях лежат люди, которые завтра умрут, а могли бы не умереть! На восстановление вакцины, если не вернуть дневников и ампул, уйдет много времени… Мучительно было слушать жалобы старика и не иметь возможности хоть чем-нибудь утешить его, хоть как-нибудь намекнуть, что не так безнадежно все, как ему кажется. Очевидно, мне предстояло долго еще слушать его причитания. — Я все понимаю, Андрей Николаевич, — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать. Костров кивнул головой. Меня раздражала бесцельность его жалоб, но я приготовился терпеливо их слушать. Должен же был старик кому-нибудь жаловаться! Скоро предстояло мне убедиться, что этот разговор не был так бесцелен, как мне казалось сначала. Костров сидел, жевал губами, кивал головой. Потом заговорил все так же неторопливо и тихо. — За мной есть одна вина, — сказал он. — Не могу простить себе… Я быстро поднял глаза. Нет, конечно же, старик пришел не просто жаловаться и причитать. Тут что-то другое, более важное. Мне пришлось сделать усилие над собой, чтобы не показать, как я заинтересован. — Какая же вина? — спросил я равнодушным тоном. — Когда гитлеровцы подходили совсем близко к штабу, — сказал Костров, — и мы в любую минуту могли оказаться в их власти, я решил на всякий случай зашифровать лабораторный дневник. Вероятно, это была ошибка, но я захотел застраховаться от всяких неожиданностей… Костров молчал. Я достал портсигар и предложил ему папиросу, но он отказался. Я закурил и неторопливо спрятал портсигар. Мне не хотелось, чтобы старик заметил, как я взволнован. — Ну что ж, — сказал я, — почему вы считаете, что это ошибка? Очень хорошо, что вы зашифровали. Старик покачал головой: — Ошибка была в другом. Мне было трудно шифровать одному. Я много работал в это время. Я попросил его мне помочь. — Кого? — равнодушно спросил я. — Как «кого»? — Костров с удивлением на меня посмотрел. — Якимова, разумеется! Полузакрыв глаза, я раскачивался в качалке. Дневник был зашифрован! Это меняло многое. Это, прежде всего, подтверждало одно: дневник мог пригодиться только тому, кто знал шифр. Еще подтверждение того, что не мог похитить дневник человек посторонний. Правда, похититель мог не знать, что дневник зашифрован… Как будто издали доносились до меня слова Кострова. Он все еще продолжал говорить печально и неторопливо: — Я сам дал ему в руки все карты. Быть может, я сам навел его на мысль о похищении… Ох, если бы знал профессор, как мало меня сейчас интересовал вопрос, совершил он ошибку или не совершил! — Возможно, — рассеянно сказал я. Но старика, видимо, очень мучила его вина. — Вы считаете, что я виноват? — спросил он. Мне некогда было его успокаивать. — Кроме вас и Якимова, никто не знал шифра? — Никто. — Ни один человек? Это совершенно точно? — Да, ни один человек. Я считал, что шифр должен знать только тот, кто шифрует. — Поймите меня правильно, — сказал я. — Мой вопрос не имеет отношения ни к каким моим подозрениям, но я должен знать все совершенно точно. Когда вы говорите, что никто не знал, вы разумеете и Валю и Юрия Павловича? Буквально ни один человек? — Буквально никто, кроме меня и Якимова. — А кто знал, что дневник зашифрован? — Это мы ни от кого не скрывали. — Он опять помолчал немного и продолжал: — И вот видите, к чему это привело! Уж, кажется, старался от всех оградить… — Давайте условимся, — прервал я его: — пока что никто из нас не знает, что к чему привело. Боюсь, что в голосе моем звучало некоторое раздражение, но старик этого не заметил. — Думать, что ко мне подделывался человек, — говорил он, — с которым я вместе работал, прожил самое тяжелое время, делился всеми мыслями… Я заставил себя не слушать Кострова. Значит, Вертоградский не знал шифра, рассуждал я. Его знал один Якимов. Но Вертоградский знал, что дневник зашифрован. Значит, убить Якимова он не мог. А представить себе, что он один набросился на Якимова здесь, у самого дома, в котором сидят Андрей Николаевич и Валя, и, не боясь шума и криков, ухитрился связать его, заткнуть ему рот, унести куда-то и спрятать, абсолютно невозможно. Нет, по-видимому, я совершил ошибку, которую часто совершают следователи. Я отказался от самой вероятной возможности, которая была ясна всем. Я отказался от простой и ясной мысли, что вакцину похитил Якимов. Как будто из духа противоречия, я создал сложное и неубедительное построение и упорно держался за него, вопреки фактам и логике. Как это часто бывает, истина заключалась не в сложном, а в простом: именно Якимов похитил дневник и вакцину. Когда позже, уже в Москве, я возвращался мысленно к истории розыска вакцины Кострова, когда я перебирал в памяти этапы следствия, оно представлялось мне цепью сомнений, длинным рядом различных, подчас противоречивых, предположений, блужданием в темноте, и яснее всего я вспоминал чувство неуверенности, владевшее мною в течение всей первой половины следствия. Итак, Якимов — единственный, для кого преступление могло иметь смысл. Какого же дьявола я все это время продумывал всякие варианты и упустил самый простой, самый естественный — тот, который был ясен и Кострову, и Вале, и Петру Сергеевичу! Что заставило меня так решительно от него отказаться? Только история с запиской? Конечно, случайность маловероятная. Но ведь бывают же всякие случайности. Легче допустить удивительное сцепление обстоятельств, чем полную бессмысленность преступления… — …Я кажусь себе бесконечно неосмотрительным, — продолжал говорить Костров, по-видимому предполагая, что я его слушаю. — Самое важное, что я в своей жизни сделал, украдено. Что делать? Что делать, Старичков?… Но готический шрифт? Зачем Якимов писал записку готическим шрифтом? Как бы я ни старался обойти это обстоятельство, оно снова напоминало о себе. Одна эта маленькая нелепость разрушала все стройное и ясное объяснение — Андрей Николаевич, — сказал я, — вы и раньше переписывались с Якимовым по-немецки? Костров посмотрел на меня с удивлением: — Нет. Зачем? — Так что вы никогда не видели какого-нибудь его письма, записи — словом, написанного им немецкого текста? — Нет, конечно, видел: он делал для меня когда-то выписки из немецких журналов, приводил цитаты. — И он всегда писал готической прописью? — Готической? — Костров посмотрел на меня растерянно: по-видимому, он впервые обратил внимание на это обстоятельство. — Нет, — сказал он. — Дайте вспомнить… Конечно, нет. Я обратил бы на это внимание. Он писал обыкновенными латинскими буквами… Я встал с качалки и подошел к окну. Дождь не стихал. Потоки воды стекали по стеклам. Но молния сверкала реже. Глухая, беспросветная темнота была вокруг дома. В темноте этой было слышно, как воет ветер, шумят деревья, бурлят ручьи и бьет дождь по крыше и в стекла. Прошли уже почти сутки с тех пор, как я здесь. Неужели действительно я еще ни на один шаг не приблизился к разрешению задачи? На секунду уныние охватило меня. Время идет, я не успеваю за временем. Еще день, еще ночь — и преступник скроется, обманув посты. И придется мне возвращаться в Москву, ничего не добившись… Валя вошла в комнату с чайником. — Дождь все сильнее, — сказала она. — На кухне так завывает в трубе… — Да, — сказал я. — Не завидую тому, кто в лесу. Вертоградский, зевая и потягиваясь, вышел из лаборатории. — Чай! — сказал он. — Какая благодать! Я спал, и мне снилось, что я подставляю стакан под носик чайника. Чай все льется и льется, как этот дождь, а пить нельзя, потому что стакан без дна… Простите меня, я налью себе сам. Он налил себе в стакан чаю и с наслаждением отпил. — Выспались, Юрий Павлович? — спросил Костров; он тоже подсел к столу. — Отлично отдохнул! — тряхнув головой, сказал Вертоградский. — И всё такие веселые сны снились. Будто вернулсяЯкимов, извинился, объяснил, что произошло недоразумение, и все возвратил. Валя разлила чай по стаканам. — Всегда вы, Юра, несете вздор! — сказала она раздраженно. Пододвинула стакан отцу и позвала меня: — Садитесь пить чай, Володя. — Мне и вы снились, Владимир Семенович, — добродушно улыбаясь, сказал Вертоградский. — Что же я делал во сне? — спросил я. — Охота вам его слушать! — сказала Валя сердито. Она подошла к окну и стояла, вглядываясь в темноту, поеживаясь под пуховым платком. Вертоградский с наслаждением пил чай и болтал. — Вы мрачный человек, Валя, — говорил он. — Берите пример с меня. — Когда я подумаю, — сказала Валя, — что, может быть, вокруг дома ходит Якимов, такой привычный и такой невероятно чужой… Как будто сидела за столом с близким человеком, а он… Она вскрикнула и отбежала от окна. Кто-то отчетливо и громко постучал в стекло. Мы все вскочили. Я распахнул окно и высунулся наружу. Дождь и ветер ворвались в комнату. Огонь в лампе заколебался. Меня окатило водой, как будто кто-то из ведра плеснул на меня. Под окном стоял Петр Сергеевич в брезентовом плаще с поднятым капюшоном, и капли дождя текли по его лицу. — Мне тебя, Старичков, — сказал он. — Сейчас открою. Я закрыл окно и, выйдя на кухню, отпер дверь. Петр Сергеевич вошел. Сразу же с плаща его натекла на пол большая лужа. — Что случилось? — спросил я. — Понимаешь, Старичков, — заговорил Петр Сергеевич, — нехорошее дело… Обоз я сегодня решил не посылать, дать лошадям отдохнуть. Часиков в десять пошел проверить, укрыты ли лошади от дождя. Оказалось, одной лошади не хватает. Сзади скрипнула дверь. Мы обернулись. Костров, Вертоградский и Валя стояли в дверях. Петр Сергеевич замялся, но сразу махнул рукой. — А, что тут секретничать! — сказал он. — Пересчитали телеги — и телеги одной нет. Тогда я велел обзвонить посты. Стали звонить, а связь нарушена. Я послал проверить линии. На всех линиях провода перерезаны. — Оборваны или перерезаны? — спросил я. — Перерезаны. И больших кусков не хватает. — У тебя же конюх лошадей стережет, — сказал я. — Он что ж, не видел, как у него коня и телегу украли? — Да ну его! — Петр Сергеевич нахмурился. — Что с него возьмешь! Дряхлый старик. Залез в землянку, печку топил, кости грел… — Колея должна остаться. — Поди проследи! Все дороги водой залиты. — Посты проверил? — Проверил. Сразу послал связистов линии восстановить. Посты сообщают — никто не проезжал. И, знаешь, Старичков, — Петр Сергеевич понизил голос, — это меня больше всего беспокоит. Если бы что-нибудь уже случилось… Все тихо, а что-то готовится. Это же чувство со все большей силой овладевало мной. Ч го-то готовилось! Неужели я совершил грубую ошибку и вместо того, чтобы сидеть здесь, карауля Вертоградского, мне нужно было все эти сутки неутомимо обшаривать болото? — Люди все налицо? — спросил я. — До утра не проверишь, всех не обойдешь. — Зайдите в комнату, — сказала Валя, — хоть чаю выпейте. — Какой там чай! — Петр Сергеевич достал платок, вытер мокрое от дождя лицо и все-таки прошел в комнату. Валя налила ему чаю, и он стал пить, дуя и обжигаясь. О чем-то спрашивал его Костров, что-то говорил Вертоградский, кажется, Валя советовала обмотать шею шарфом, — я плохо слышал, о чем они говорят. Я шагал по комнате и рассеянно улыбался, делая вид, что прислушиваюсь к разговору. Я думал лишь об одном: что происходит сейчас на болоте?Глава седьмая ЛИЦО В ОКНЕ
I
— Что я мог сказать себе в оправдание? Решив, что преступником может быть только Якимов или Вертоградский, я упустил из виду, что преступление мог совершить кто-то третий. То, что похищены предметы, ценность которых может быть ясна только для специалиста или, во всяком случае, для человека, находящегося в курсе работ Кострова, заставило меня искать преступника непременно в узком кругу ближайшего окружения профессора. Пропажа телеги многое объяснила. Уже раньше я понял, что Якимов жив, но теперь я знал точно: он жертва, а не преступник. Телега могла понадобиться только для того, чтобы увезти с Алеховских болот плененного, связанного Якимова — единственного человека, знавшего шифр. Вертоградский сидит здесь, — значит, кто-то другой пытается сейчас пробраться мимо постов. Кто? И вдруг меня осенило. Я знаю кто: Грибков!.. Еще не успев привести самому себе никаких доказательств его виновности, я уже ясно понял, что это он гонит сейчас по размытым дорогам лошадь, везущую телегу со связанным Якимовым. Грибков! Тот, кто был наверху, в мезонине, когда появилась записка Якимова. Я вспомнил дюжего плотника с ящиками на плечах. Конечно, странно представить, что он знает немецкий язык настолько хорошо, чтобы уметь писать старым готическим шрифтом. Что ж, это только значит, что он не случайный преступник, а специально присланный человек. Много еще мыслей приходило мне в голову, но некогда было продумать их до конца. Сквозь вой ветра и шум дождя до нас донесся отчетливый выстрел.II
В комнате сразу стало тихо. — Одиночный, — сказал Петр Сергеевич. — Из автомата. — Где-то близко, — сказал Вертоградский. Петр Сергеевич уже натягивал капюшон на голову: — Пошли. Он направился к двери. В это время раздался отчаянный крик Вали: — Стойте! Она стояла бледная, с широко открытыми, испуганными глазами и пальцем показывала на окно. Я повернулся. Снаружи прижалось к стеклу лицо. Нос был расплюснут стеклом, и от этого лицо казалось лишенным всякого выражения, точно в окно заглядывала белая маска. Вероятно, секунду мы все стояли не двигаясь. Потом я услышал высокий, захлебывающийся голос Кострова: — Якимов! Я бросился к окну. Раздалась короткая автоматная очередь. Лицо исчезло.
— Гасите свет! — крикнул я и, распахнув окно, выпрыгнул наружу.
Очень неприятно почувствовать под ногами человеческое, может быть еще живое, тело. Я отскочил в сторону. Свет в окне погас, Валя задула лампу. Я зажег фонарь, и белый его луч скользнул по человеку, распростертому на земле. Я наклонился. Человек дышал. Он смотрел на меня мутными, невидящими глазами и старался что-то сказать, но дыхание прерывалось и губы шевелились беззвучно.
— Жив? — спросили меня.
Я обернулся. Рядом со мной стоял Вертоградский. Не дожидаясь ответа, он наклонился над телом.
— Якимов! — сказал он. — Якимов, голубчик, ты жив?
Глаза Якимова оживились. Тело вытянулось, и рот открылся, он пытался что-то сказать. Он дышал хрипло; судорога сотрясала его тело.
— Ну что ты, что ты… — растерянно повторял Вертоградский. Он обхватил Якимова за плечи, стараясь его приподнять. — Ну что ты, чудак человек?
Дождь хлестал, заливая живого или мертвого Якимова. Ветер выл и слепил глаза. Деревья шумно раскачивались.
— Перенесем его в дом. Беритесь за ноги, — сказал я Вертоградскому.
Только сейчас я заметил, что вокруг меня стоят и Петр Сергеевич, и Костров, и Валя. Черная стена темноты была совсем близко. За каким деревом прятался человек, уже пустивший одну смертельную пулю?
— Зачем вы вышли из дома? — резко сказал я. — Сейчас же обратно!.. Валя, ведите Андрея Николаевича.
Теснясь и шаркая ногами, мешая друг другу, мы внесли Якимова в дом.
— Сейчас зажгу лампу, — сказала Валя.
— Подождите, прежде занавесим окна.
Одно окно было еще распахнуто настежь. Когда мы плотно закрыли раму, в комнате сразу стало тише. Только сейчас я понял, как шумел ветер и дождь.
Валя притащила два одеяла, и окна были кое-как занавешены. Костров наклонился над Якимовым. Он лежал неподвижный, страшный. Когда Валя зажгла лампу, стали видны неживые, закатившиеся глаза.
— Ну? — спросил я.
Мы все стояли теперь вокруг и ждали, что скажет Костров.
Костров медленно поднялся:
— Мертв.
Он отошел в сторону.
— Он узнал меня, — сказал Вертоградский.
— Да, — мягко сказал Костров, — он хотел протянуть к вам руку. Я видел, у него не хватило сил.
Вертоградский всхлипнул и отвернулся.
— Я побегу, — сказал Петр Сергеевич. — Может быть, мы его нагоним. Он не мог далеко убежать… Вы пойдете с нами?
Я на секунду задумался. Оставить Костровых? Я сразу решился:
— Нет, я буду здесь.
— Вы могли бы помочь… — неуверенно протянул Петр Сергеевич.
— Чтобы у меня тут пока Кострова убили? Никуда я отсюда не выйду.
— Владимир Семенович, — сказал Вертоградский, — нас трое, и мы вооружены.
— Будь вас хоть десять — за Кострова отвечаю я.
Петр Сергеевич, кажется, был не очень доволен моим решением. Вероятно, он даже думал, что я побаиваюсь выходить из-под защиты бревенчатых стен в лес, где из-за каждого куста может вылететь пуля. Но он только пожал плечами, вложил наган в кобуру, вытер платком мокрое от дождя лицо и пошел к двери. В дверях он остановился.
— Чуть не забыл! — сказал он. — Вам радиограмма из Москвы.
Он протянул мне листок бумаги и вышел.
Отойдя к лампе, я быстро проглядел обстоятельное и дружеское послание Шатова. Шатов сообщал, что Якимов действительно учился у Кострова, а до этого — в том же городе, в 9-й трудовой школе первой и второй ступени. Это подтверждают свидетели, которых удалось найти в Москве. Вертоградский учился в Московском университете и, по справке деканата биологического факультета, закончил его в 1935 году. Поступил он в университет в 1930 году, предъявил аттестат об окончании 13-й Калининской средней школы. Проверить подлинность аттестата в Калинине не удалось, так как архивы сожжены перед занятием города немцами. В заключение Шатов желал успеха и обещал любую необходимую помощь.
Но я полагал, что помощь мне не понадобится. Я надеялся, что справлюсь как-нибудь сам.
Я бросился к окну. Раздалась короткая автоматная очередь. Лицо исчезло.
— Гасите свет! — крикнул я и, распахнув окно, выпрыгнул наружу.
Очень неприятно почувствовать под ногами человеческое, может быть еще живое, тело. Я отскочил в сторону. Свет в окне погас, Валя задула лампу. Я зажег фонарь, и белый его луч скользнул по человеку, распростертому на земле. Я наклонился. Человек дышал. Он смотрел на меня мутными, невидящими глазами и старался что-то сказать, но дыхание прерывалось и губы шевелились беззвучно.
— Жив? — спросили меня.
Я обернулся. Рядом со мной стоял Вертоградский. Не дожидаясь ответа, он наклонился над телом.
— Якимов! — сказал он. — Якимов, голубчик, ты жив?
Глаза Якимова оживились. Тело вытянулось, и рот открылся, он пытался что-то сказать. Он дышал хрипло; судорога сотрясала его тело.
— Ну что ты, что ты… — растерянно повторял Вертоградский. Он обхватил Якимова за плечи, стараясь его приподнять. — Ну что ты, чудак человек?
Дождь хлестал, заливая живого или мертвого Якимова. Ветер выл и слепил глаза. Деревья шумно раскачивались.
— Перенесем его в дом. Беритесь за ноги, — сказал я Вертоградскому.
Только сейчас я заметил, что вокруг меня стоят и Петр Сергеевич, и Костров, и Валя. Черная стена темноты была совсем близко. За каким деревом прятался человек, уже пустивший одну смертельную пулю?
— Зачем вы вышли из дома? — резко сказал я. — Сейчас же обратно!.. Валя, ведите Андрея Николаевича.
Теснясь и шаркая ногами, мешая друг другу, мы внесли Якимова в дом.
— Сейчас зажгу лампу, — сказала Валя.
— Подождите, прежде занавесим окна.
Одно окно было еще распахнуто настежь. Когда мы плотно закрыли раму, в комнате сразу стало тише. Только сейчас я понял, как шумел ветер и дождь.
Валя притащила два одеяла, и окна были кое-как занавешены. Костров наклонился над Якимовым. Он лежал неподвижный, страшный. Когда Валя зажгла лампу, стали видны неживые, закатившиеся глаза.
— Ну? — спросил я.
Мы все стояли теперь вокруг и ждали, что скажет Костров.
Костров медленно поднялся:
— Мертв.
Он отошел в сторону.
— Он узнал меня, — сказал Вертоградский.
— Да, — мягко сказал Костров, — он хотел протянуть к вам руку. Я видел, у него не хватило сил.
Вертоградский всхлипнул и отвернулся.
— Я побегу, — сказал Петр Сергеевич. — Может быть, мы его нагоним. Он не мог далеко убежать… Вы пойдете с нами?
Я на секунду задумался. Оставить Костровых? Я сразу решился:
— Нет, я буду здесь.
— Вы могли бы помочь… — неуверенно протянул Петр Сергеевич.
— Чтобы у меня тут пока Кострова убили? Никуда я отсюда не выйду.
— Владимир Семенович, — сказал Вертоградский, — нас трое, и мы вооружены.
— Будь вас хоть десять — за Кострова отвечаю я.
Петр Сергеевич, кажется, был не очень доволен моим решением. Вероятно, он даже думал, что я побаиваюсь выходить из-под защиты бревенчатых стен в лес, где из-за каждого куста может вылететь пуля. Но он только пожал плечами, вложил наган в кобуру, вытер платком мокрое от дождя лицо и пошел к двери. В дверях он остановился.
— Чуть не забыл! — сказал он. — Вам радиограмма из Москвы.
Он протянул мне листок бумаги и вышел.
Отойдя к лампе, я быстро проглядел обстоятельное и дружеское послание Шатова. Шатов сообщал, что Якимов действительно учился у Кострова, а до этого — в том же городе, в 9-й трудовой школе первой и второй ступени. Это подтверждают свидетели, которых удалось найти в Москве. Вертоградский учился в Московском университете и, по справке деканата биологического факультета, закончил его в 1935 году. Поступил он в университет в 1930 году, предъявил аттестат об окончании 13-й Калининской средней школы. Проверить подлинность аттестата в Калинине не удалось, так как архивы сожжены перед занятием города немцами. В заключение Шатов желал успеха и обещал любую необходимую помощь.
Но я полагал, что помощь мне не понадобится. Я надеялся, что справлюсь как-нибудь сам.
III
Мы с Вертоградским вынесли труп Якимова в лабораторию и положили его на стол, убрав сначала химическую посуду. Я попросил Валю зажечь лампу. Я ждал. Я не хотел начинать осмотра, пока не останусь один. Костров подошел ко мне. — Вероятно, это жестоко, Владимир Семенович, — сказал он, — человек только что умер… Но мы не имеем права пренебрегать ничем. Вы осмотрели его карманы? Может быть, там дневник и вакцина? Боюсь, что я ответил несколько резко. Я попросил старика не мешать мне и обещал, что после осмотра сам сообщу ему то, что может его интересовать. После этого я выставил всех из комнаты и наконец остался один. Якимов лежал передо мной на столе, когда-то высокий, большой человек, с широкими плечами и большими, грубыми руками. Таким я себе и представлял его по рассказам; такой он и должен был быть, этот молчаливый, немного угрюмый ученый, добросовестный и аккуратный в работе. Вероятно, он был из крестьян. Я осмотрел одежду; она была выпачкана в грязи и промокла насквозь. Брюки и гимнастерка порвались во многих местах. Грязь просачивалась сквозь верхнюю одежду, грязь была на белье и на теле — Якимов долго лежал в грязи. В кармане был портсигар с пятнадцатью папиросами марки «Беломорканал». Всего могло в нем поместиться шестнадцать. На столике у кровати Якимова лежала, открытая пачка «Беломорканала». Я пересчитал в ней папиросы; их было восемь. Естественно было предположить, что перед тем, как выйти погулять, он шестнадцать папирос положил в портсигар, а семнадцатую сунул в рот. Значит, за время прогулки он выкурил две папиросы. И, значит, после этого он не курил двое суток. Немыслимая вещь для курильщика, имеющего папиросы в кармане. Почти наверное у него были связаны руки. Если не считать зажигалки, больше в карманах ничего не было. На Алеховских болотах ни деньги, ни документы понадобиться не могли. Я осмотрел руки и ноги. Следы веревок были ясно видны. Руки были натерты до крови. На ногах образовались кровоподтеки. Да, уж конечно, он никак не мог достать папиросу. Он долго лежал связанный и, видимо, все время пытался освободиться. Лицо, руки, все тело были покрыты царапинами. Царапины могли появиться, когда он ворочался на земле, пытаясь порвать веревки, или когда, сбежав, пробирался через лес и кустарник. А может быть, это следы борьбы? На него набросились, его связали, он сопротивлялся. Если бы его оглушили внезапным ударом, остались бы следы. Я осмотрел голову очень тщательно: только царапины и синяки. Я извлек пулю. Она вошла со спины и, пробив тело почти навылет, застряла под кожей груди. Пуля была от обыкновенного русского автомата. В дальнейшем в лаборатории определят дуло, из которого ее выпустили. Я спрятал ее. В сущности говоря, осмотр был закончен. Но мне хотелось еще раз проверить свои выводы. Значит, Якимов был не преступник, а жертва, — это не требовало больше доказательств. Он вышел погулять, выкурил одну папиросу и закурил вторую. Он ходил под открытым настежь окном лаборатории. За окном только что заснул Вертоградский. В это время на Якимова набросились. Он был сильный, здоровый человек. Конечно, он жестоко сопротивлялся. Трудно представить себе силача, который один мог бы осилить и связать Якимова, не дав ему даже крикнуть. Значит, нападавших было по меньшей мере двое. Один, предположим, Грибков — он высокий, здоровый человек. Кто же второй? Я старался рассуждать так точно и убедительно, как если бы я говорил перед судьями, требующими бесспорных доказательств. Людям, пришедшим со стороны, подкравшимся, прячась за стволами деревьев, не могло быть известно, заснул Вертоградский или еще не заснул. Они должны были допустить возможность если не крика, то, во всяком случае, шума борьбы, случайных звуков, треска ветвей. Но люди, напавшие на Якимова, знали, что Вертоградского бояться нечего. Участвовал или не участвовал в нападении Вертоградский, нападение было совершено с его ведома и согласия. А может быть, одним из двух преступников был Вертоградский. Итак, на Якимова напали, ему завязали рот, скрутили руки и ноги и унесли его в убежище на болоте. Все очень логично. Вакцина и дневники не представляют ценности без Якимова, потому что дневники зашифрованы и шифр знает только он один. Но вот борьба окончена, связанный Якимов лежит на траве. Вертоградский входит в лабораторию с ключом, вынутым у Якимова из кармана. Он достает маленькую коробочку и черную коленкоровую тетрадь и передает их своему соучастнику прямо через окно. Теперь осталось унести и спрятать Якимова. Соучастник сделает это один. Если это был Грибков, ему нетрудно — я видел, как он тащил на спине три больших ящика. Взвалив на себя связанного Якимова, он исчез в темноте между деревьями. Вертоградский внимательно осмотрел себя, счистил приставшую грязь, снял запутавшуюся в волосах веточку, поглядел в зеркало. Теперь он ляжет в постель и заснет или притворится спящим… Остается вторая часть задачи: надо вывезти Якимова с болот. Может быть, преступники думали, что теперь, когда Махова и боевой части отряда нет на болотах, дисциплина ослабеет, посты будут менее бдительны и пройти мимо них окажется нетрудно. Грибков — допустим, что это Грибков, — попробовал пройти в ту же ночь, но вызвал окрик: на постах не дремали. Может быть, была совершены еще попытки, о которых мы ничего не знаем. Так или иначе, первая ночь была упущена. На следующую ночь прилетел я. Стало ясно, что не сегодня-завтра, как только станет немного больше людей, болото будет прочесано. Наступает третья ночь. Гроза, дождь, темень — самая удобная погода для бегства. По залитым водой, размытым, скользким дорогам невозможно пройти, неся на спине человека. Поэтому понадобилась телега и лошадь. Тут, в решающую минуту, Якимов бежал. Все до конца было ясно, кроме одной подробности, самой существенной: где находятся дневник и вакцина? Теперь менялся характер моей задачи: не раскрытие преступления, а поиски вакцины и дневника — вот что становилось главным и самым важным. Я прислушался. Из-за двери доносились голоса: Костровы и Вертоградский взволнованно обсуждали события. Можно было, конечно, открыть дверь и, подойдя к Вертоградскому, сказать: «Юрий Павлович, вы арестованы». Я уже положил руку на кобуру. Это было так соблазнительно просто и эффектно: войти, вынуть наган… Я представил себе, что будет делать этот высокий, красивый, самоуверенный человек. Наверно, начнет возмущаться, а может быть, пожмет плечами и скажет: «С ума вы сошли! Впрочем, я понимаю, такая уж ваша профессия…» В общем, все равно, как он стал бы себя вести. Он может спокойно болтать с профессором на любую интересующую его тему, он не будет сейчас арестован. Хорош буду я, если, погнавшись за легкими лаврами, упущу открытие Андрея Николаевича! Вертоградский упрется: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». Если на этих болотах человека и то найти трудно, так попробуй найди коробочку и тетрадь. Все дупла не пересмотришь, все кочки не перероешь. Пусть сидит пока, пусть разговаривает с профессором… На цыпочках я подкрался к двери. Мне хотелось послушать, о чем они говорят. Говорила Валя: — Как страшно было думать о нем час назад! Казалось, что он ходит вокруг… А теперь он лежит там, и все равно страшно. Все равно, кто-то ходит вокруг, прячется за деревьями или забился в нору. — Он писал, что не может меня убить, — устало сказал Костров. — Зачем же он приходил? Я слышал шаги Вертоградского. Юрий Павлович ходил по комнате ззад и вперед, потом заговорил растроганным голосом. Мне его интонации казались деланными и фальшивыми. Но, вероятно, для других слова его звучали трогательно. — Мне не хочется думать о том скверном, что он сделал, — говорил Вертоградский. — Я все только вспоминаю, как он протянул руку и позвал меня… — Не за этим же он приходил! — хмуро сказала Валя. Как видно, слова Вертоградского ее не растрогали. — Пусть он был виноват, — продолжал Вертоградский, — но раз он пришел, значит, раскаялся. Хорошо, он был слабый человек. Он попался в фашистскую ловушку и не сумел найти выхода. Но он мучился и все-таки на самое страшное не пошел. — Я не понимаю, — сказала Валя. — Вы говорите все время о Якимове. Якимов убит. Кто его убил? Кого сейчас ищут? Вертоградский усмехнулся: — Вы еще не догадываетесь, Валя? — Лично я не понимаю ничего, — сказал Костров. — Попробую вам объяснить, — сказал Вертоградский. — Представьте себе, что каким-то образом, совершенно не знаю каким, Якимов оказался в руках немецкой разведки. Может быть, он совершил какую-нибудь глупость, которой его шантажировали. Шаг за шагом, пугаясь ответственности, увязая все глубже, он наконец чувствует, что выпутаться не может. Я не оправдываю его, я просто пытаюсь себе представить, как было дело. Во всем остальном он человек как человек. Он любит и уважает вас, Андрей Николаевич, любит Валю, дружески относится ко мне. Но он бессилен что-либо изменить. Вы заметили, как мрачен он был последнее время? Наверно, ему нелегко было. От него требовали вакцину. Откуда-то приходил человек, назвавший себя Ивановым или Петровым, хотя фамилия его была Шульц или Шварке. Они встречались в лесу, и Шульц или Шварке говорил ему: «Если вы сегодня ночью не сделаете этого, вы погибнете. Через неделю будет поздно, вакцину увезут. Действуйте этой ночью»… Вертоградский помолчал. В столовой было тихо, его слушали внимательно. — И вот, в отчаянии, в растерянности, — продолжал Вертоградский, — он крадет вакцину и пишет вам прощальное письмо. Что происходит дальше? Я не выдержал, открыл дверь и вошел в комнату. Вертоградский повернулся ко мне: — Я рассказываю, Владимир Семенович, свою версию происшедшего. Я кивнул головой: — Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Вертоградский поднял глаза кверху и задумался. Несомненно, он сам увлекся своим рассказом. — Наступает день, — сказал он. — Якимов прячется где-то в лесу. Он пришел в себя. Он плачет, когда вспоминает вас, Андрей Николаевич. Стыд мучит его, ужас перед встречей с вами, невозможность посмотреть вам в глаза. Ночью Шульц или Шварке перерезает провода, чтобы Петр Сергеевич не успел предупредить посты, и похищает телегу с лошадью. Вдвоем с Якимовым они ночью проберутся мимо постов. Утром они будут в городе, и Якимов на всю жизнь свяжет себя с людьми, которых он ненавидит и боится. И тут, в последнюю минуту, в Якимове просыпается все, что в нем есть еще хорошего. Очень ясно я вижу эту сцену. Двое под ливнем, в темном лесу. Приглушенные голоса, угрозы, спор, ссора… Но сейчас он уже ничего не боится, он решает прийти и во всем признаться. Он бежит от Шульца. Как страшна эта погоня! Оба двигаются медленно. Грязь доходит до колен, оба натыкаются на деревья, дождь заливает глаза… Впрочем, тьма была такая, что все равно ничего не видно. И только одна мысль: «Добежать!» Он слышит за своей спиной хлюпающие шаги преследователя… И вот наконец окно в лесу, такое бесконечно знакомое. Окно, за которым друзья. Сзади свистит пуля. Но он уже у окна, он видит всех нас. Он так задыхается, что не может крикнуть нам: «Помогите!» Но он добежал. Сейчас он будет среди друзей… И тут вторая пуля. Минута страшной тоски оттого, что он умирает предателем, непрощенным. Он видит меня. Он протягивает мне руку, чтобы проститься, но рука падает, не дотянувшись. Смерть… Вертоградский знал, когда надо кончить. Он замолчал; у него даже выступил пот на лбу. На Кострова и Валю рассказ, кажется, произвел впечатление. Они сидели, не двигаясь. Костров закрыл рукой лицо. Действительно, картина нарисована была мастерски. Мне захотелось испортить эффект. — Вздор, — сказал я негромко. — Совершенный вздор! Вы были бы прекрасным адвокатом, но следователь вы никудышный. Все трое повернулись ко мне. У Вертоградского было огорченное и заинтересованное лицо. — Почему? — спросил он. — Ведь, кажется, совпадают все факты. — Я сейчас вымою руки, — сказал я, — и потом объясню вам, почему это вздор.Глава восьмая ПОДВИГ ВЕРТОГРАДСКОГО
I
Я тщательно вымыл в кухне руки, повесил полотенце на гвоздик и вернулся в комнату. Костровы и Вертоградский ждали меня с нетерпением. Я еще раз окинул Вертоградского взглядом. Я отлично чувствовал внутреннее его напряжение. Внешне он был спокоен и хладнокровен. Где-то в лесу сейчас шла погоня за одним из преступников, там надо было выследить, окружить, нагнать. Такая же погоня должна была начаться здесь, в комнате. Только здесь шло состязание не в быстроте, не в зоркости глаза, не в физической силе, а в нервах, выдержке, логике. — Ну? — спросил Костров. — Все было не так, как говорил Юрий Павлович, — начал я. — То есть кое-что было так: была погоня, было окно в лесу, была надежда спастись, а все остальное происходило совершенно иначе. — Как же могло быть иначе? — спросил Вертоградский. — Ведь Якимов украл? Ведь Якимов скрывался? — Вздор, — повторил я, — совершенный вздор! — Я подошел к Вертоградскому вплотную и сказал, глядя прямо ему в глаза: — Не Якимов украл, а Якимова похитили. Не Якимов скрывался, а Якимова скрывали. Он бежал сюда, чтобы спастись. Я говорил тихо и очень многозначительно. Мне кажется, Вертоградский ждал, что сейчас я добавлю: «И похитили Якимова вы, Юрий Павлович». Он держался великолепно, но тень промелькнула в его глазах — легкая тень испуга. Я не собирался открывать свои карты, пока вакцина еще не в моих руках. Я отвел глаза от Вертоградского. — Он боролся за вашу вакцину, Андрей Николаевич. Костров встал со стула. Он был очень взволнован. — Если это так, Владимир Семенович… — Это так, — перебил я его, — тогда что? — Если это так, — Костров развел руками, — значит, мы очень виноваты перед ним. — Счастье, если бы это было так, — задумчиво проговорил Вертоградский. — Но какие у вас основания? Не сумею объяснить, каким образом, но я совершенно точно чувствовал, что он переживает. Я знал, что он внутренне себя успокаивает. Он говорит себе: «Нет, мне только показалось, что Старичков знает всё, — Старичков ни о чем не догадывается». Меня это совершенно устраивало. Я хотел, чтобы он то впадал в отчаяние, то вновь обретал уверенность. Я должен был измотать его. Измотать так, чтобы он сам признался, чтобы он выдал мне себя, чтобы он сам указал, где вакцина. — Руки! — сказал я. — Его руки. Они были связаны не час и не два — сутки или больше, так они затекли. На ногах у него раны от веревок. Конечно, Вертоградскому очень хотелось узнать во всех подробностях мои выводы. Он обязательно должен был знать, до какой степени далек я от правды или до какой степени близок к ней. Но он промолчал, понимая, что все равно Андрей Николаевич или Валя расспросят меня обо всех подробностях. — Но кто же его держал связанным? — спросил Костров. — Тот, о ком говорил Вертоградский, — ответил я. — Шульц, или Шварке, или как там его зовут. Не верьте в эту святую легенду о запутавшихся и слабых. Есть шпионы, и есть честные люди. Теперь Вертоградский решил сам задать вопрос. Он понимал, что не расспрашивать тоже неестественно с его стороны. — Но где же этот Шульц? — спросил он. — Надо его искать. Я не ответил. Повернувшись к Кострову, я сказал: — Андрей Николаевич, я прошу вас и Валю подняться наверх, плотно занавесить окно и лечь отдохнуть. — Я не смогу отдыхать, Владимир Семенович, — сказал Костров. — Надо, Андрей Николаевич! Я говорил резко и категорически. Я хотел, чтобы Вертоградский понял, что я нарочно усылаю Костровых, что я хочу остаться наедине с ним. Пусть он опять насторожится, пусть ждет новой атаки. Я не хотел давать ему передышки. Пусть он будет все время в напряжении. — Валя, — командовал я, — ведите отца наверх. Я не могу вам позволить сидеть внизу, когда здесь каждый угол простреливается из окон. Пожав плечами, Костров побрел по лестнице вверх. Валя шла за ним. Я молча провожал их взглядом, пока они не поднялись в мезонин и не закрыли дверь. Я хотел, чтобы Вертоградский чувствовал, что предстоит серьезный разговор наедине. Когда дверь в мезонин закрылась, я круто довернулся к Вертоградскому. Он зевнул чуть более спокойно, чем это было бы естественно. — Вы не выспались, Юрий Павлович? — спросил я лениво. — Давайте, может, чаю попьем? — С удовольствием! — радостно сказал Вертоградский; у него опять отлегло от сердца. — Чайник остыл. Подогреем? — Ничего, если крепкий, выпьем и так. — Я попробовал чайник. — Он еще теплый. Я разлил чай, и мы сели друг против друга, оба спокойные и немного ленивые, словно два приятеля собрались поскучать вечерком. — Мы, сибиряки, любим чай, — сказал я. — Вы не из наших краев, случайно? — Тверяк, — сказал Вертоградский. — Никогда в Калинине не был. Хороший город? Вертоградский отхлебнул чаю. — Мне нравится. — Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Всем своим видом он показывал полное благодушие и довольство. Если он и переигрывал, то разве самую чуточку. — Не знаю, конечно, — добавил он, — что с ним немцы сделали. — Там и учились? — спросил я. Вертоградский зевнул: — Среднюю школу там кончал. Должно быть, он в уме повторял свои биографические данные, чтобы не сбиться при быстром опросе. Я тоже зевнул. — А я в Иркутске учился, — сказал я. — Старинный купеческий город. Отец у меня в гимназии преподавал. Математику. На всякий случай Вертоградский предупредил мои вопросы: — Я уж стал забывать Калинин. Не был там с тех самых пор, как школу кончил. — У меня приятель есть из Калинина, — вспомнил я. — Вы в какой школе учились? — В тринадцатой полной средней. Я усмехнулся: — Положим, я не знаю, в какой он школе учился. Сеня Сапожников, не слыхали? — Нет. Он тоже следователь? — Инженер. Теперь я хотел, чтобы Вертоградский успокоился. Пусть он решит снова, что ему только показалось, будто я его собираюсь допрашивать. Пусть он поругает себя за излишнюю мнительность. — Это я только сдуру таким невеселым делом занялся, — продолжал я. — Ни поспать, ни поесть. — Я встал и потянулся. — Спать хочется смертельно, а работы еще до самого утра! Надо писать протокол осмотра. Придется вам одному поскучать. Я пошел к лаборатории, но в дверях задержался. — Вы знаете, Юрий Павлович, — сказал я дружески, — придется вас попросить не спать. Мало ли что может случиться. Сами понимаете, какая сейчас обстановка. Надо беречь старика. — Конечно, конечно, — охотно согласился Вертоградский. — Можете быть спокойны, с места не сойду. Я кивнул ему головой и закрыл за собою дверь.II
Вероятно, я сделал ошибку, оставив Вертоградского одного, но в ту минуту я рассуждал так: пусть Вертоградский побудет один. Пусть он без помех вспоминает разговор со мной, объясняет и истолковывает мои слова, мои интонации, выражение моего лица. То ему будет казаться, что я знаю все, что в любую минуту могу его разоблачить, то, наоборот, что я ничего не знаю, что все это только его мнительность, его излишне возбужденные нервы. Пусть думает Вертоградский и передумывает. От таких мыслей люди становятся еще мнительней, еще неуверенней. Закрыв за собой дверь, я сел и закурил. Меня поразила тишина. Как-то вдруг я ее услышал и сначала даже не понял, в чем дело. Дождь перестал, и стих ветер. Я открыл окно. С листьев и с крыши одна за другой ритмично падали капли. С водостока они с громким плеском падали в лужу. Падая с деревьев, они ударялись о мокрую травянистую землю, и звук у них был совершенно другой. Раз за разом они повторяли одну и ту же мелодию. Лес спокойно отдыхал от потоков дождя, от свиста ветра. Мелодия, которую выстукивали капли, была такая простая и радостная, как будто лес и земля сложили ее в честь тишины и покоя. Начинало светать. Наступал тот неуловимый момент, когда ночь переходит в утро, когда ничто, кажется, не меняется, но, незаметно для глаза, отчетливее становятся контуры предметов, черный цвет неуловимо переходит в серый, и постепенно выступают из темноты не только линии, но и краски предметов. Тучи ушли, звезды выступили на небе, но и небо уже серело, и звезды меркли. Я залюбовался недвижным, отдыхающим лесом. Свежий, чудесный воздух я вдыхал с неизъяснимым наслаждением. На минуту я забыл, что за моей спиной на столе лежит труп, а за тонкой дверью ходит не пойманный еще убийца. Очень скоро мне пришлось вспомнить об этом.
Раздался звон стекла и почти сразу за этим выстрел. В два прыжка я оказался у двери и ударом ноги распахнул ее. Посреди комнаты стоял Вертоградский, взволнованный и дрожащий, сжимая в руке наган. У окна, на полу, посреди осколков стекла, лежал вымазанный в грязи, мокрый человек. Тонкая струйка крови вытекала из маленькой дырочки на виске.
— Кажется, я убил его! — задыхаясь сказал Вертоградский.
Я наклонился над трупом. Нетрудно было узнать Грибкова. Я торопливо провел руками по его одежде. Карманы были пусты, вакцины и дневника не было. Я повернулся к Вертоградскому. Костров и Валя торопливо спускались по лестнице. Мне было не до них. Я подошел к Вертоградскому и быстро провел руками вдоль его тела. При нем тоже не было дневника и вакцины. Он смотрел на меня растерянными, полубезумными глазами. Он, кажется, действительно был очень взволнован.
— Как это было? — спросил я резко.
— Разбилось стекло, — сказал Вертоградский. — Я обернулся и увидел — он лезет в окно… Я выстрелил раньше, чем он…
У него сильно дрожали руки — так дрожали, что дуло нагана ходило вниз и вверх.
— Спрячьте оружие, — сказал я и добавил: — Лучше бы вы промахнулись…
За окном раздались голоса.
— Старичков, Старичков! — еще издали кричал Петр Сергеевич.
Я высунулся в окно. Петр Сергеевич, задыхаясь, бежал к дому. В сером предутреннем свете я увидел еще нескольких человек, бегущих за ним.
— Все благополучно? — спрашивал Петр Сергеевич на ходу.
— Благополучно, — ответил я. — Входите.
Он вбежал в комнату, задыхающийся, потный, взволнованный.
— Кто ж его знал, что он сюда побежит! — говорил он. — Ребята мои чуть на него не напоролись… Он все думал — пройдут, не заметят. Ну и угодил в луч фонаря и, сукин сын, так припустил! Ухитрился, черт, обвести их вокруг озера… Кто же мог думать, что он сюда прибежит!.. Это кто — ты его так, Старичков?
Я указал на Вертоградского:
— Юрий Павлович.
— Герой, герой! — заговорил опять Петр Сергеевич. — Прямо герой! Смотри, какие доценты бывают!..
Один за другим входили в комнату запыхавшиеся преследователи. С наганами в руках, возбужденные, грязные, тяжело дыша, они толпились вокруг лежащего на полу Грибкова.
— Ну, ну, товарищи, — сказал я сердито, — что это вы, в самом деле! Как-никак, следствие идет. Прошу прощения, но придется всем лишним оставить комнату.
По совести говоря, не очень довольные у них были лица. Действительно, жалко было выгонять их на улицу. Но, делать нечего, беспрекословно, один за другим, они вышли из комнаты. Остались Костровы, Вертоградский и Петр Сергеевич.
Я залюбовался недвижным, отдыхающим лесом. Свежий, чудесный воздух я вдыхал с неизъяснимым наслаждением. На минуту я забыл, что за моей спиной на столе лежит труп, а за тонкой дверью ходит не пойманный еще убийца. Очень скоро мне пришлось вспомнить об этом.
Раздался звон стекла и почти сразу за этим выстрел. В два прыжка я оказался у двери и ударом ноги распахнул ее. Посреди комнаты стоял Вертоградский, взволнованный и дрожащий, сжимая в руке наган. У окна, на полу, посреди осколков стекла, лежал вымазанный в грязи, мокрый человек. Тонкая струйка крови вытекала из маленькой дырочки на виске.
— Кажется, я убил его! — задыхаясь сказал Вертоградский.
Я наклонился над трупом. Нетрудно было узнать Грибкова. Я торопливо провел руками по его одежде. Карманы были пусты, вакцины и дневника не было. Я повернулся к Вертоградскому. Костров и Валя торопливо спускались по лестнице. Мне было не до них. Я подошел к Вертоградскому и быстро провел руками вдоль его тела. При нем тоже не было дневника и вакцины. Он смотрел на меня растерянными, полубезумными глазами. Он, кажется, действительно был очень взволнован.
— Как это было? — спросил я резко.
— Разбилось стекло, — сказал Вертоградский. — Я обернулся и увидел — он лезет в окно… Я выстрелил раньше, чем он…
У него сильно дрожали руки — так дрожали, что дуло нагана ходило вниз и вверх.
— Спрячьте оружие, — сказал я и добавил: — Лучше бы вы промахнулись…
За окном раздались голоса.
— Старичков, Старичков! — еще издали кричал Петр Сергеевич.
Я высунулся в окно. Петр Сергеевич, задыхаясь, бежал к дому. В сером предутреннем свете я увидел еще нескольких человек, бегущих за ним.
— Все благополучно? — спрашивал Петр Сергеевич на ходу.
— Благополучно, — ответил я. — Входите.
Он вбежал в комнату, задыхающийся, потный, взволнованный.
— Кто ж его знал, что он сюда побежит! — говорил он. — Ребята мои чуть на него не напоролись… Он все думал — пройдут, не заметят. Ну и угодил в луч фонаря и, сукин сын, так припустил! Ухитрился, черт, обвести их вокруг озера… Кто же мог думать, что он сюда прибежит!.. Это кто — ты его так, Старичков?
Я указал на Вертоградского:
— Юрий Павлович.
— Герой, герой! — заговорил опять Петр Сергеевич. — Прямо герой! Смотри, какие доценты бывают!..
Один за другим входили в комнату запыхавшиеся преследователи. С наганами в руках, возбужденные, грязные, тяжело дыша, они толпились вокруг лежащего на полу Грибкова.
— Ну, ну, товарищи, — сказал я сердито, — что это вы, в самом деле! Как-никак, следствие идет. Прошу прощения, но придется всем лишним оставить комнату.
По совести говоря, не очень довольные у них были лица. Действительно, жалко было выгонять их на улицу. Но, делать нечего, беспрекословно, один за другим, они вышли из комнаты. Остались Костровы, Вертоградский и Петр Сергеевич.
III
— Ну-с, Петр Сергеевич, — спросил я, — так значит, товарищ Грибков на хорошем счету в отряде? Интендант развел руками: — Артист, ничего не скажешь… — Ведь ты говорил, что его из другого отряда прислали и вы в том отряде проверили? — Проверили, — подтвердил Петр Сергеевич. — Так как же? — Голова кругом идет. Единственное, что на ум приходит — да, наверно, так и есть, — что вышел из того отряда настоящий Грибков, а пришел к нам ненастоящий. — Не понимаю, — сказала Валя. — Да очень просто: по дороге убили и забрали документы. Иначе не может быть. Я сам разговаривал с его прежним начальством, спросил, действительно ли к нам партизан Грибков послан. «Действительно, — говорит, — послан». — «А что он, — спрашиваю, — за человек?» — «Хороший, — говорит, — человек». Конечно, надо бы поточней проверить. Ну, что ж делать, не предусмотрели… Костров с сердцем стукнул ладонью по перилам лестницы: — Эх, Петр Сергеевич, что мы из-за него потеряли! — Может, еще и найдется, — успокаивающе сказал интендант. — Куда там! — Костров махнул рукой. — Я не маленький, я отлично всё понимаю, нечего меня утешать. Конечно, Юрий Павлович не виноват, на его месте каждый бы выстрелил, но, думается мне, этот выстрел нам дорого обошелся. — Почему же? — спросил Петр Сергеевич. Хороший он был человек и неглупый, но соображал довольно медленно. Костров был слишком возбужден, чтобы быть вежливым. — Что же вы, не понимаете, что ли? — резко сказал он. — Да ведь это же яснее ясного. Единственный человек, который мог указать, где вакцина, это Грибков- тот, кто ее украл и спрятал. Подите спросите у него! Где вы искать будете? На болоте? В дуплах? Под кочками? — Костров решительно подошел ко мне, в возбуждении пощипывая бородку. — Я не вмешиваюсь в ваши дела, Владимир Семенович, — сказал он, — вы следователь, а я биолог, и, надо думать, вы лучше меня знаете, как ловить преступников, но только, я вам скажу, есть вещи, которые ясны и неспециалисту. Если бы вместо того, чтобы качаться в качалке и вспоминать с Валей старину, вы сразу занялись делом, так, наверно, вакцина уже лежала бы у меня в кармане. — Папа, — сказала Валя, — успокойся и перестань. Ты не имеешь права так говорить. — Нет, имею! — Старик окончательно вышел из себя. — Я годы потратил на эту работу! Я не спал неделями! И я буду жаловаться. Я буду жаловаться на то, что сюда прислали неквалифицированного специалиста — на серьезное дело направили начинающего работника. К тому же еще, извините меня, Владимир Семенович, до крайности легкомысленного… Он весь кипел. У него, наверно, много еще было в запасе злых и сердитых слов, но он сдержался, махнул рукой, повернувшись быстро поднялся по лестнице и с шумом захлопнул за собою дверь. Сердитый был старик, но хороший. Мне он всегда нравился, даже сейчас. Все молчали. Потом Валя сказала: — Вы извините папу, Володя, он очень нервничает. Ему очень дорога эта вакцина. Я усмехнулся. — Это естественно, — сказал я. — Вероятно, я на его месте и не так бы еще ругался. Но простите, товарищи, мне придется продолжать работу. Вас, Валя, я попрошу пойти к Андрею Николаевичу, успокоить его и посидеть с ним. Я буду осматривать труп и заниматься разными вещами, при которых совсем не обязательно присутствовать… Петр Сергеевич, хорошо, если бы вы организовали поиски телеги и лошади. Теперь светает, можно уже этим заняться. Я вас только попрошу поставить вокруг дома охрану. — Охрану? — удивился Петр Сергеевич. — От кого ж теперь охранять? Ведь Грибков убит. — Так-то оно так, а все же лучше застраховаться: вдруг у него был сообщник? — Пожалуйста, — сказал Петр Сергеевич. — Как хотите. Он кивнул головой и вышел. Я думаю, что в душе он был совершенно согласен с Костровым в оценке моей работы, но он был дисциплинированный человек и считал себя обязанным выполнять мои требования. — А вам, Юрий Павлович, — сказал я, — советую пойти на кухню — там есть топчан, — лечь и поспать. — Я не засну, — сказал Вертоградский. — Ну все равно, посидите, помечтаете, скоро солнце взойдет. Я вас попрошу только из кухни не уходить. Может быть, мне придется попросить вас помочь мне. — Хорошо, — сказал Вертоградский, — я буду там. Он вышел на кухню. Валя немного замешкалась. Ей, наверно, хотелось утешить меня в моих неудачах, но она не нашла слов или просто не решилась сказать их и молча поднялась наверх к отцу. Наконец я остался один. Я наклонился над трупом. Пуля вошла в висок. Аккуратно, в самую середину виска. Края раны были слегка обожжены. Вероятно, Вертоградский стрелял с очень близкого расстояния, почти в упор. Я еще раз, более тщательно, обыскал одежду. Карманы были пусты. Ни документов, ни даже табака. Тело лежало лицом вниз у самого окна. Ноги упирались в стену несколько выше пола. Очевидно, Грибков уже мертвый вывалился в окно. Это соответствовало словам Вертоградского. Грибков выбил стекло и влезал в комнату, когда его настигла пуля. Он упал, не успев ступить на пол. Подоконник был весь мокрый и грязный. Удивительно много натекло воды и грязи за две-три секунды. Стекло было выбито целиком. Окно приотворено, правда, совсем немного, сантиметра на два-три. После появления Якимова окно мы тщательно закрыли. Оно, конечно, могло открыться, когда Грибков снаружи нажимал на стекло или раму. Могло быть и так: Грибков выдавил стекло, потом полез в окно. Грузный, большой человек, он с трудом пролезал сквозь раму. В это время рама открылась. А если она была закрыта на шпингалет? Я тщательно осмотрел окно: шпингалет входил в выдолбленное в подоконнике углубление; углубление засорилось, края его стерлись. Если сильно нажать шпингалет, он поднимался сам. Я попробовал это проделать. В лаборатории Кострова не очень-то обращали внимание на крепость запоров. Валя правильно говорила: немцев запорами не удержишь, а воров здесь нет. С этой точки зрения все было объяснимо. Грибков высадил стекло, пытался пролезть сквозь раму и в этот момент был убит и рухнул на пол у самого окна. Теперь подумаем, зачем ему нужно было лезть в дом. Застрелив Якимова, он побежал. За ним погнались. Он был растерян, подавлен преследовавшими его неудачами. Якимов бежал, все открылось; надежд на спасение, в сущности говоря, оставалось мало. В этих условиях человек теряется и делает много бессмысленных и нелогичных поступков. Он пытался притаиться, рассчитывая, что погоня пройдет мимо него. Опять неудача: его заметили и окружили. Теперь оставалась надежда только на неожиданный, отчаянный ход. Пожалуй, действительно лаборатория была единственным местом, где его не стали бы искать. Конечно, спастись тут один шанс из тысячи, но в других местах и этого шанса нет. Он бросается к дому. Тут могут быть две возможности. Заглянув в окно, он увидел, что в комнате никого нет, кроме его сообщника Вертоградского. Может быть, он тихо постучал, знаками умоляя Вертоградского впустить его. Но Вертоградский понимал, что дело проиграно и надо спасать себя. Он отказался. Тогда в ярости, в отчаянии, понимая, что уходит последний шанс, Грибков выдавил стекло и попытался влезть в комнату, и в это время Вертоградский его пристрелил. Поведение Вертоградского логично: убивая Грибкова, он прятал в воду концы и становился даже активным участником поимки преступника. Поведение Грибкова не столь убедительно: Грибков должен был попять, что звон стекла привлечет внимание всех, кто находится в доме. Стекло выпало с громким звоном, а Грибков все-таки лез в комнату. Нелогично, но возможно. Отчаяние, растерянность. Бросается же на человека преследуемая крыса, понимая, что ей с человеком не справиться. Наконец, может быть, Грибков не думал уже о спасении и хотел только отомстить Вертоградскому. Теперь рассмотрим вторую возможность: не думая, не рассуждая, Грибков лезет в окно с одной целью — отомстить Кострову, мне, Вертоградскому, всем тем, кто его преследует. В этом случае Вертоградский не преступник, а герой, спасший нам всем жизнь. Первый вариант казался мне более вероятным. Я был убежден в виновности Вертоградского. К сожалению, мое убеждение было построено на доводах таких шатких, таких неубедительных, что они никак не могли послужить материалом для официального обвинения. Два обстоятельства привлекли мое внимание, и я чувствовал, что их следует хорошенько продумать. Во-первых, выстрел раздался сразу же вслед за звоном стекла. Точно Вертоградский ожидал появления Грибкова в окне! Грибков выдавил стекло и сразу же за тем был убит. Но за эту секунду он успел пролезть сквозь узкую раму настолько, что после выстрела свалился не наружу, а внутрь дома. Во-вторых, подоконник был весь в грязи, но оконный переплет был запачкан очень мало. Я еще раз осмотрел одежду Грибкова. Грязь была и на плечах, и на спине, и на животе; он был в грязи буквально весь, с ног до головы. А боковые части рамы остались чистыми. Не мог же он, протискиваясь сквозь раму, не оставить на ней следов! Кроме того, одежда оказалась совершенно цела: ни пиджак, ни брюки не были разрезаны или разорваны осколками стекол, торчавшими кое-где из оконной замазки. Значит, он лез в отворенное окно? Два эти обстоятельства сразу повернули мои мысли в другую сторону.Глава девятая ТЕТРАДЬ И КОРОБКА
I
У Грибкова не было ни вакцины, ни дневника. Где они могли остаться? Украв телегу, он пришел за Якимовым. Он пришел, чтобы увезти его с Алеховских болот. В это время вакцина, конечно, была у Грибкова. Якимов бежал, Грибков бросился его преследовать. Не мог он успеть спрятать вакцину, не до этого ему было. Нельзя терять ни секунды. Якимов убит, за Грибковым устремляется погоня. Он бежит. Прятать вакцину снова некогда. Конечно, он может бросить ее в кусты, мимо которых пробегает, или торопливо засунуть в дупло. Во всяком случае, искать ее придется уже не па всему болоту, а только по пути бегства Грибкова. Это значительно легче. Как только рассветет, надо будет заняться поисками. Петр Сергеевич укажет путь, по которому преследовали Грибкова, и мы обыщем каждый кустик. Когда рассветет… Я посмотрел в окно и увидел, что уже совсем светло. Наступало тихое, ясное утро. Лес, до блеска вымытый дождем, стоял не двигаясь, не дыша. Небо было ясное, чистое, безоблачное. Далеко, за болотами, за лесом, всходило солнце. Тысячи капель на траве и на листьях сверкали одна другой ярче. Длинные тени деревьев легли на поляну. Первый красный луч солнца осветил комнату. Я погасил лампу. День начался. Такой он был хороший, такой радостный, этот день, что вдруг показалась мне неестественной, неправдоподобной та сеть обманов, интриг, преступлений, которой мы все были окружены. Нелепыми казались на фоне этого дня ненависть, хитрость, лживость. Я постоял у окна, с удовольствием вдыхая запах свежей зелени и влажной земли, потом провел рукой по лицу. Пора было возвращаться к работе. Больше всего меня угнетало, что Вертоградский выскальзывал из моих рук. Якимов, единственный свидетель его преступления, был убит. Соучастник, который мог его выдать, был убит тоже. Мое убеждение ничего не значило. Судье нет дела до предположений следователя, — нужна улика, бесспорная, ясная, неопровержимая. Улики этой не было, и трудно было надеяться на ее появление. Моей версии Вертоградский мог противопоставить свою, ничуть не менее убедительную, и когда я стал продумывать ее, она даже мне показалась заслуживающей внимания. Очень все хорошо объяснялось и без участия Вертоградского. Предвзятость — это бич следователя. Я знаю, как опасно, как губительно, увлекшись своим предположением, начать подгонять под него факты. Сколько ложных теорий, сколько проваленных следствий бывает в результате излишнего уважения к собственной гипотезе! Может быть, действительно Вертоградский ни при чем? Может быть, следует удовлетвориться тем, что преступник Грибков лежит убитый, отыскать в кустарнике или в дупле спрятанную вакцину и счесть следствие конченным? Но сначала нужно было понять, почему не запачкана рама, через которую протискивался Грибков, и почему так быстро последовал выстрел, после того как разбилось стекло. Может быть, Грибков открыл окно, полез в него и случайно выдавил стекло. Тогда Вертоградский, который раньше не слышал, как лезет Грибков, вскочил и выстрелил. Собственно говоря, это объясняло и вторую странность. В этом случае вполне естественно, что выстрел последовал сразу за звоном стекла. У меня даже возникло чувство некоторого разочарования: так легко и просто объяснились все неясности. Да, видимо, надо идти искать вакцину. Разумеется, Грибков мог бросить ее в какой-нибудь ручеек или в топкое место или успел засыпать землей. Попробуй тогда найди. Во всяком случае, обыскать лес — это единственное, что теперь можно сделать. На этом мои обязанности кончаются. Преступник изобличен и убит, для поисков похищенного приняты все меры. Конечно, я в этом принимал довольно мало участия, по что же делать, так сложились обстоятельства. Это одно из тех дел, которые не приносят следователю ни позора, ни славы. Поначалу оно казалось трудным, но потом разрешилось само собой. Я уже подошел к двери. Я решил позвать Вертоградского, перетащить Грибкова в лабораторию и идти за Петром Сергеевичем, чтобы начинать поиски вакцины. Но у самой двери я остановился. Невозможно было так кончить дело. Пусть это будет предвзятость, пусть это будет что угодно, но я всем нутром был убежден, что Вертоградский виновен. А нет ли еще другой версии, которая бы так же убедительно объясняла все факты?II
Я закурил. Представим себе, что Вертоградский соучастник. Отказаться от этого никогда не будет поздно. Грибков бежит к дому, надеясь, что Вертоградский его спасет. Преследователи отстали, у него есть несколько минут. В комнате свет. Заглянув в щелку, Грибков видит, что Вертоградский один. Он стучит, даже не стучит — только царапает стекло. Тихо, на цыпочках, чтобы никто не услышал, Вертоградский подходит и открывает окно. Шепотом они разговаривают. Грибков просит Вертоградского спрягать его, Вертоградский соглашается. Соглашаясь, он уже знает, что сейчас убьет своего сотоварища по преступлению. Он говорит Грибкову: «Лезь». Грибков лезет в открытое окно (поэтому нет грязи на раме). В ту минуту, когда он готов уже спрыгнуть на пол, Вертоградский локтем ударяет в стекло и сразу же отскакивает на шаг назад. Вероятно, Грибков еще не понимает, в чем дело. Он с удивлением смотрит на Вертоградского, и в этот момент Вертоградский стреляет. Ну что ж, этот вариант звучит почти так же убедительно, как и другое предположение: Грибков лез в окно без согласия Вертоградского, и Вертоградский его убил, защищая себя, Кострова, меня. Тут я натыкался на непреодолимое препятствие: оба варианта были одинаково возможны. Я буду доказывать одно, Вертоградский — другое, и Вертоградский будет оправдан за недоказанностью вины. Я сжал руками виски. Что-то надо было еще найти. Не рассуждение, не предположение, а факт. Я ходил взад и вперед, думал и передумывал и не мог найти никакого решающего довода в пользу той или другой гипотезы. «Черт с ним, — решил я. — Так ничего не придумаешь. В конце концов, главное сейчас — найти вакцину». Вдруг меня осенило. Если я прав и Вертоградский был соучастником Грибкова, если Грибков бежал к Вертоградскому, рассчитывая, что тот его спрячет и спасет, то зачем ему нужно было выбрасывать вакцину в лесу? Наоборот, он должен был передать ее Вертоградскому. После того как раздался выстрел, я был в комнате через секунду или две. Я сразу, хотя и поверхностно, обыскал Вертоградского. При нем вакцины не было. У Грибкова ее тоже нет. Значит, Вертоградский успел ее спрятать. Одно цеплялось за другое. Если удастся доказать, что Вертоградский спрятал вакцину, этим будет доказано его участие в похищении. Теперь я знал, что мне искать. Я снова стал восстанавливать события. Значит, Вертоградский спрятал вакцину до выстрела. У него было очень мало времени. Не мог же он вести с Грибковым длинные разговоры, искать подходящий тайник, зная, что в любую секунду я, Костров или Валя можем войти в комнату… Грибков постучал. Вертоградский открыл окно. «Спрячь меня! За мной гонятся. Здесь меня не будут искать». «Вакцина и дневник при тебе?» «Да, вот они». «Давай, я их спрячу». Вертоградский торопливо прячет их. Дорога каждая секунда. Он спрятал. «Теперь лезь». И тогда удар по стеклу и выстрел… Все решалось чрезвычайно просто. Если вакцина в комнате, я прав, если ее здесь нет — Вертоградский невинен, как новорожденный младенец. Метр за метром я стал осматривать комнату. Все половицы были крепко сколочены, ни одна из них даже не шаталась. В бревенчатых стенах спрятать ничего невозможно. Печка? Я осмотрел ее и перетрогал все кирпичи. В печке ничего не было. Я вытащил из глиняного горшка цветы и заглянул внутрь. Я снял со стола скатерть. Я заглянул в чуланчик под лестницей. На полу у стенки стояли запыленные, треснутые, с отбитыми краями стеклянные колбы; очевидно, их ставили сюда за ненадобностью. На полке лежали связки бумаг, стояла банка из-под консервов с засохшим клеем и бутылка с чернилами На второй полке лежали коленкоровые тетради и коробки с глюкозой. Я раскрыл верхнюю тетрадь, надеясь, что она окажется дневником. Но в ней были только чистые листы. Я закрыл чуланчик и снова оглядел комнату. Больше искать было негде. Я стал думать за Вертоградского. Вот я взял у Грибкова дневник и вакцину. Времени нет, надо сейчас же спрятать. Куда? За дверью Старичков, он сию минуту может войти. Беспомощно я оглядывал комнату. Когда треснула половица, я даже вздрогнул, как будто действительно мне угрожала смертельная опасность. «Куда, куда спрятать? — мысленно повторял я. — В печке сразу найдут, в чуланчике тоже». И вдруг я нашел единственный верный и простой выход. Я бросился к чулану и распахнул дверь. Я вытащил пачку тетрадей и стал перелистывать их. Белые листы мелькали перед моими глазами. Одну за другой я откладывал тетради в сторону. Эго действительно были чистые тетради. И все-таки я был убежден, что дневник здесь, — настолько убежден, что даже не удивился, когда, раскрыв самую последнюю лежавшую внизу тетрадь, увидел, что она исписана бесконечными рядами цифр. Я осмотрел обложку. Она была смята в середине, и тетрадь, когда я положил ее на стол, слегка согнулась. Ее носили в кармане, сложенную пополам. Дневник был в моих руках. Теперь дело за вакциной. Конечно, она в одной из этих одинаковых картонных коробок. Но как узнать, в какой? Глюкоза тоже бесцветна, и ампулы так же запаяны. Я внимательно оглядел стопку коробок. Коробка с вакциной, как и тетрадь, лежала в самом низу. Я узнал ее потому, что она была влажная, — может быть, вода проникла в карман Грибкова, может быть, он просто держал ее мокрой рукой. Она не могла бы быть влажной, если бы все время находилась в чулане. Я так заволновался, что чуть было не позвал Кострова, но, к счастью, сдержался вовремя. Дневник и вакцина были в моих руках, но Вертоградский не был изобличен.III
Я взял чистую тетрадь и согнул ее пополам так, чтобы на ее переплете образовались морщины. Смочил водой одну из коробочек с глюкозой. Тетрадь я положил под стопку с тетрадями и мокрую коробку — под стопку коробок. Дневник и вакцину я спрятал к себе в карман. После этого я закрыл дверцу чулана и позвал Вертоградского. Он вошел сразу же. Как он ни был хладнокровен, а все же, наверно, здорово волновался, сидя на кухне. Небось, десять раз проверял и продумывал, не допустил ли ошибки, не забыл ли чего-нибудь. Войдя, он кинул на меня быстрый взгляд. Думаю, что у меня был достаточно спокойный и усталый вид. Он, по-видимому, успокоился. — Давайте, Юрий Павлович, перенесем Грибкова в лабораторию. Мы положили Грибкова в лаборатории на полу и прикрыли его одеялом. Теперь убийца и убитый лежали в одной комнате. — Ну как, Владимир Семенович? — спросил Вертоградский. — Обнаружили что-нибудь важное? — Нет, — сказал я. — Но некоторые надежды найти вакцину у меня появились. Он живо заинтересовался. — Да? — спросил он. — Каким же образом? Я стал увлеченно объяснять ему, что Грибков мог спрятать вакцину только около дома, потому что рассчитывал бежать с болот и, конечно, носил ее при себе. Вертоградский оживился. — Правильно, — сказал он. — Это вы здорово рассудили. Вы знаете, это огромное счастье: вакцина — действительно замечательное открытие. И потом, Андрея Николаевича жалко, он ведь буквально только этим и жил. Мы с ним еще немного побеседовали на эту тему. Отношения у нас установились чрезвычайно дружественные. — Самое интересное в вашем деле, — говорил Вертоградский, — это, конечно, не допросы, не обыски, не сбор показаний, а именно работа мысли, когда вы, основываясь на незаметных неопытному глазу данных, делаете точные и ясные выводы, которые потом оправдываются. Это действительно увлекательно. Ехидный он был человек и, наверно, издевался надо мной в глубине души. Но я на него не сердился за это. Мое слово было еще впереди. Мы с ним вымыли подоконник и пол возле окна, убрали осколки стекла и вообще уничтожили все следы происшедших событий. Мы работали, как добрые товарищи, помогая друг другу. Солнце поднялось над деревьями. Был седьмой час утра. — Когда же вы будете лес обыскивать? — спросил Вертоградский. — Вот Петр Сергеевич придет, — сказал я, — сразу и отправимся. Петр Сергеевич легок был на помине. Он вошел веселый и энергичный, как будто всю ночь крепко проспал у себя в постели. — Доброе утро, — сказал он. — Нашли телегу? — Как же, как же! Шагах в пятнадцати от дороги. Я ее там и оставил. Потом пойдем с вами посмотрим. Петр Сергеевич посмотрел на меня и на Вертоградского. Что-то ему нужно было сказать, и он не решался. — Выкладывайте, Петр Сергеевич, — помог я ему. — Что у вас там еще? — Так ведь сегодня ночью… — Он опять замялся. — Ну, ну? — поддержал я его. — Сегодня ночью, — решился наконец Петр Сергеевич, — самолет прилетит. Я связался с Москвой, мне говорят: «Как Старичков решит. Если он не возражает, отправляйте Костровых во что бы то ни стало». — Ну, до ночи еще далеко, — сказал я. — Да ведь как далеко! Пока до аэродрома доберутся, то да сё… Часа через два надо выезжать. — Ну что ж, — сказал я, — дело хорошее. Конечно, надо старика отправлять. Петр Сергеевич опять замялся: — А старик не упрется? Он ведь ой какой характерный! — Из-за того что вакцины нет? — Да. Я посмотрел на Вертоградского. — Мы с Юрием Павловичем думаем, — сказал я, — что найдется вакцина. Вертоградский потер руки с довольным и немного заговорщицким видом. — Да, думаю, что найдется, — сказал он. Удивительно, как быстро входил этот человек в новую роль соучастника следствия! Мы с ним весело подмигнули друг другу. Услыша наши голоса, Валя вышла на лестницу. — Что случилось? — спросила она. — Спускайтесь, Валентина Андреевна, Есть новости. — Какие новости? — Взволнованный Костров уже спускался из своего мезонина. Петр Сергеевич заложил руки за спину и торжественно произнес: — Приказ из Москвы, Андрей Николаевич, вам, вашей дочери и Юрию Павловичу сегодня же вылететь в Москву. — То есть как? — Костров заволновался ужасно. — Без вакцины? Об этом и речи не может быть! — Простите, Андрей Николаевич, — вмешался я, — время, знаете ли, военное. Приказ говорит точно: отправить вас троих сегодня ночью. Отвечает Петр Сергеевич. Вам ничего не сделают, а его могут судить по законам военного времени. Петр Сергеевич посмотрел на меня с удивлением, но не только не стал возражать, а даже печально вздохнул: да, мол, вы капризничаете, а мне за вас под суд. Костров нахмурился и молчал. — Вы можете, — сказал я, — в Москве добиться, чтобы розыскам вакцины был придан более широкий размах. Костров насторожился и посмотрел на меня. Я продолжал, стараясь, чтобы слова мои звучали как можно простодушней и искренней: — Разумеется, я останусь здесь, но что я могу сделать один, без достаточного опыта? А вы можете потребовать, чтобы послали более квалифицированного следователя. Он посмотрел на меня из-под сердито нахмуренных бровей. Минута колебаний, и профессор решился. — Хорошо, — сказал он. — Я полечу, но имейте в виду, что я буду жаловаться не только на тех, кто послал именно вас на это ответственнейшее дело, но и на вас самих. Вы проявили не только неопытность и неумение, но и недопустимую лень, и прямую халатность. Я молча поклонился. Петр Сергеевич облегченно вздохнул. У него и так было хлопот по горло. При всей привязанности к семье Костровых, он очень хотел, чтобы они уже были в Москве. — Завтракайте и собирайтесь, — сказал он. — Часа через два надо ехать на аэродром. — Часа через два? — Валя засуетилась. — Ой-ой! Надо же поесть что-нибудь. Я тогда печь не буду топить. Чайник на лучинках согрею и поедим холодного. Ладно, товарищи? Юра, идите за водой сейчас же. Скорей, скорей! — Есть идти за водой! — весело рявкнул Вертоградский и, смешно выворачивая ноги, размахивая руками, выбежал из комнаты. Петр Сергеевич подошел к Кострову и спросил: — То, что вы берете с собой, у вас уложено? — Главное украдено, — ответил Костров, — а остальное — вздор. — Вы бы лишние бумаги сожгли. Все-таки тыл противника… — Что ж, это правильно. А где жечь? — Да хоть в печке, — сказал я. — У меня все ненужное свалено в угол. Сейчас я начну сносить. Он ушел наверх за бумагами. На меня он так и не посмотрел. Он просто не замечал моего присутствия. Меня так и подмывало сказать ему, что вакцина уже у меня в кармане и сердиться на меня не за что, но я сдерживался. Мне хотелось закончить дело так, чтобы в Москве не пришлось спорить, виноват Вертоградский или не виноват. — Когда же вы вакцину найдете? — спросил Петр Сергеевич. — Успеем, — сказал я. — Вы можете позавтракать с нами? — Откровенно говоря… — покачал головой Петр Сергеевич, — с временем туго. Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: — Позавтракайте. Он прищурился, размышляя. Он понял, что даром я бы не стал настаивать. — Хорошо, — сказал он. Костров спустился сверху со связкой бумаг, положил их в печь и отодвинул заслонку. Я протянул ему спички, но он вынул из кармана свои. Он не хотел от меня никаких одолжений. Бумага весело запылала. Костров сходил еще раз наверх и принес огромную кипу. Вбежала Валя со стопкой тарелок и заставила меня расставить их на столе. Петр Сергеевич пристроился с кочергой к печке и стал ворошить горящие бумаги. Кажется, у всех, кроме Кострова, было приподнятое настроение, несмотря на события прошлой ночи. Вертоградский шумно влетел с ведром, полным воды, и стал требовать, чтобы мы посмотрели, какой он ловкий. Валя прикрикнула на него, отняла ведро и послала за ножами и вилками. Меня она заставила резать хлеб, Петру Сергеевичу велела нести стаканы. Она успокоилась только тогда, когда мы все были заняты делом. Андрей Николаевич по-прежнему был молчалив и хмур. Он поднимался наверх, спускался, таща кипы бумаг, и как будто не замечал охватившего всех возбуждения. Общими усилиями накрыли на стол. Принесли колбасу, соленые грибы и большой горшок кислого молока. Костров свалил у камина последнюю пачку бумаг и коротко сказал: — Всё. Валя внесла чайник. — Прошу вас, товарищи, — сказала она, — на последний торжественный завтрак в лесной лаборатории профессора Андрея Николаевича Кострова.Глава десятая ПОСЛЕДНИЙ ЗАВТРАК
I
Мы сели вокруг стола. Вертоградский посмотрел на Кострова умоляюще. — Андрей Николаевич, — сказал он, — вы знаете сами, что я страстный противник всякого пьянства. Вы знаете, что от рюмки водки меня пробирает дрожь отвращения. Но тем не менее кажется мне, что сегодня, ввиду чрезвычайных обстоятельств, а также того, что мы все провели тяжелую и бессонную ночь, и еще потому, что нам предстоит пробыть несколько часов на сыром, зараженном болоте, следовало бы выпить спирту, или, как иногда говорят, хлопнуть по стопочке. — К сожалению, у меня нет спирта, — хмуро ответил Костров. — Андрей Николаевич, — сказал Вертоградский, — я понимаю, что бывает святая ложь, но она все-таки ложь. Должен сказать, что, мучительно ненавидя этот вредный напиток, я всегда очень точно слежу за его расходованием и готов сейчас прозакладывать голову, что одна бутылка этой гадости лежит у вас в том ящике, где книги. — Конечно, — сказал Петр Сергеевич, — по такому случаю выпить не грех. — Может, позволишь, папа? — спросила Валя. Костров хмыкнул очень неопределенно. Это можно было принять и за согласие и за отказ. Вертоградский предпочел принять за согласие. — Я сейчас принесу, — сказал он и с такой быстротой взлетел по лестнице, что Костров не успел и слова сказать. Впрочем, он, видимо, не собирался спорить. Он даже слегка улыбнулся торопливости Вертоградского. Вертоградский сразу же сбежал вниз и, торжествуя, поставил на стол бутылку. Разлили по кружкам, и Валя предложила тост за Красную Армию. Вертоградский сразу же налил снова. — Времени мало, товарищи, — сказал он. — За Андрея Николаевича! За то, чтобы украденное нашлось, чтобы и про нас потом могли сказать: «Они помогли победе!» Костров нахмурился. — Рано за это пить. — Он встал и поднял кружку. — Выпьем, друзья, за Якимова!.. — Он помолчал. — Мы перед ним виноваты. Всю жизнь он работал как настоящий ученый и умер как настоящий ученый. Мы все поднялись и в молчании выпили этот торжественный и печальный тост. Потом Вертоградский подбросил еще бумаги в печь, Петр Сергеевич заговорил о военных событиях, и постепенно за столом стало опять оживленно. Я посмотрел на часы. Оставалось часа полтора до отъезда. Пора было начинать последнее действие. Пока я продумывал, как перевести разговор па нужную тему, Костров неожиданно мне помог. — Да, Владимир Семенович, — сказал он, — выпили бы и за вас, но, к сожалению, пока что не вижу повода. Нельзя сказать, чтобы это была особенно любезная фраза, но по сравнению с полным игнорированием моего существования она являлась некоторым шагом вперед. — Что делать, Андрей Николаевич! — сказал я с виноватым видом. — И на старуху бывает проруха. — Папа, — вмешалась Валя, — ты напрасно обижаешь Володю. Мы подозревали Якимова, а Владимир Семенович с самого начала его защищал. — Но с Грибковым, — упрямо сказал Костров, — расправился все-таки Юрий Павлович. — Тут моей заслуги немного, — скромно сказал Вертоградский. — Положение было безвыходное: или он меня, или я его. Просто выпалил с перепугу, и всё. Я постарался, чтобы у меня был как можно более простодушный вид. Я хотел, чтобы все сидящие за столом поняли, что я огорчен своей неудачей, но, как парень добродушный и веселый, не обижаюсь на шутки и даже готов подшутить над собою вместе со всеми. — Конечно, — сказал я, — лучше бы вы его только ранили, тогда его можно было бы допросить… Ну, ну, не сердитесь. Это просто досада следователя-неудачника. Подумайте только, как мне не повезло! За все следствие — ни одного допроса. Я вчера сгоряча даже Юрия Павловича обыскал. Я сам засмеялся, и все засмеялись тоже. Действительно, это было смешно: простак-следователь, который, не умея поймать преступника, обыскивает всех без разбору, лишь бы что-нибудь делать. — Представьте себе, — сквозь смех говорил Вертоградский, — подошел и быстро — раз, раз! Он вскочил из-за стола и очень живо изобразил всю сцену обыска. Сцена была исполнена не без юмора и, пожалуй, не без наблюдательности. Я смеялся так же, как все. — Надо же было мне себя проявить, — объяснил я смеясь. — Следователь я, черт возьми, или нет? Перестав смеяться, Вертоградский сел к столу и сказал серьезно и дружелюбно: — Я не обижаюсь, Владимир Семенович. Я понимаю обязанности следователя. Очень было интересно следить за вашей работой. Удача, в конце концов, дело случая, но проницательность вы проявили большую. Когда вы говорили, что Якимов не виноват, казалось, что факты все против вас. Честно говоря, я и сейчас не понимаю, как вы почувствовали это. Он сам вызывал меня на разговор. Ну что ж, я охотно шел ему навстречу. Из всех присутствующих только я один знал, чем этот разговор кончится.II
— Видите ли, Юрий Павлович, — сказал я, — против Якимова было слишком много улик. Вертоградский удивленно на меня посмотрел: — Это следовательский парадокс? — Нет, житейское правило. Вертоградский пожал плечами: — Вчера вы говорили наоборот: улик недостаточно. Я усмехнулся. — В сущности, это одно и то же. Улик было так много, что они вызывали сомнение. Я говорил спокойно, неторопливо, как будто припоминая ход своих мыслей. Петр Сергеевич, Валя и Вертоградский слушали меня с интересом, как обычно слушают специалиста, рассказывающего о своей работе. Костров, отвернувшись, смотрел в окно и беззвучно барабанил пальцами по столу, желая этим показать, что мой рассказ совершенно его не интересует. — Мне показалось, — продолжал я, — что меня настойчиво убеждают в виновности Якимова. Это заставило меня насторожиться. А тут случилась еще история с запиской. Я говорил уже, что не верю в кающихся шпионов. Да еще пишущих по-немецки. Да еще готическим, а не латинским шрифтом. — А какую роль играет шрифт? — спросил Вертоградский. — Этого я не понимаю. Он, конечно, понимал это не хуже меня, но я объяснил терпеливо: — Попробуйте напишите что-нибудь готическим шрифтом; вы увидите, что остроконечные, готические буквы делают почерк неузнаваемым. Я немного больше задержал на нем свой взгляд, чем это было бы естественно. Ровно настолько больше, чтобы у него мелькнула мысль, не знаю ли я, не догадываюсь ли. Потом я отвел глаза. Вертоградский усмехнулся, но мне его усмешка показалась не очень искренней. — Очень остроумно, — сказал он. — Мне это совершенно не приходило в голову. — Тогда пришлось предположить, что Якимов похищен. — Почему похищен, а не убит? — спросил Костров. Ом наконец заинтересовался моим рассказом, уже не смотрел в окно и не барабанил пальцами по столу. — Это мне подсказали вы, — сказал я. — Я? — Конечно. Дневник шифровал Якимов, у него был ключ шифра. Как же можно было убить Якимова? — Верно! — воскликнула Валя; она была очень увлечена моим рассказом. — А тут еще телега, — сказал я. — Я ждал чего-нибудь в этом роде — телеги, автомобиля, просто лошади. Живого человека на руках не унесешь. Когда исчезла телега, я понял, что был прав. Петр Сергеевич хлопнул ладонью по столу. — Здeрово! — сказал он. — Это здeрово. Надо выпить за следователя. — Спирту у нас меньше, чем тостов, — сухо сказал Костров и, повернувшись к Петру Сергеевичу, продолжал совсем другим, дружеским тоном: — Через час, через другой мы расстанемся с вами, Петр Сергеевич. Хочу вам на прощанье сказать, что я все помню. Может, вам иногда казалось, что я не понимаю, как много вы для нас сделали… — Он кашлянул немного смущенно: — Я не особенно разговорчив… — Он поднял кружку: — Ваше здоровье, дорогой друг! Петр Сергеевич встал и вытер губы. Поднялся и Костров. Они поцеловались троекратно, как полагается в этих случаях. Потом подбежала Валя к Петру Сергеевичу, потом подошел Вертоградский. Интенданта обнимали, целовали и растрогали вконец. Он даже всхлипнул от глубины чувств и чуть было не прослезился. — Спасибо, друзья, — сказал он. — По совести говоря, сколько раз я мечтал сплавить вас подальше куда-нибудь, в Москву или на Урал. — Помилуйте, — закричала Валя, — что ж мы вам — надоели тут? — Ну, знаете, — Петр Сергеевич развел руками, — конечно, приятно иметь в партизанском отряде научно-исследовательскую лабораторию, но хлопотно, не буду скрывать, очень хлопотно. Как-то Алеховские болота мало приспособлены для научной работы. — Позор! — сказал Вертоградский. — Мы к нему с открытой душой, с дружбой, а он, оказывается, нас выгнать хотел. — Хотел, хотел, — признался Петр Сергеевич, — а сейчас жалко будет расстаться. Вернемся домой, станем жить-поживать, а ведь этого никто из нас не забудет. Тысячу раз будем вспоминать и страшное, и смешное, к грустное. Детям нашим будем рассказывать. Как, Валентина Андреевна? — Будем, — уверенно сказала Валя. Петр Сергеевич повернулся к Кострову: — Андрей Николаевич, вернетесь в наш город после войны? — Как только лаборатория будет восстановлена, так и вернусь, — сказал Костров. — За этим дело не станет. Если в лесу наладили, так в городе уж как-нибудь. — Петр Сергеевич поднял кружку: — Ну, по последней — за встречу! Все выпили. Выпил и я, хотя и чувствовал себя в этом тосте лишним. Действительно, про эту дружбу между профессором и интендантом можно было сказать, что она прошла и огонь и воду. Разные судьбы были у этих людей, в обыкновенное время — разные интересы, разная жизнь, а, пожалуй, теперь, прожив это время так, как они прожили, до конца жизни станут профессор и партизанский начхоз близкими друзьями. Застучали вилки и ножи. Вертоградский хвалил грибы, Петр Сергеевич с аппетитом уплетал колбасу, мы с Костровым налегали на кислое молоко. Следовало вернуться к разговору, который еще далеко не был кончен. Я сразу взял быка за рога. — Да, — сказал я, — как бы мы весело завтракали сегодня, если бы вакцина и дневник были найдены и возвращены Андрею Николаевичу!III
Костров вздрогнул от неожиданности, сердито на меня посмотрел и отвернулся. Наступила пауза. Все только отвлеклись от этой проклятой темы, только развеселились немного, а я, как нарочно, снова к ней возвращался. Вертоградский нахмурился. Петр Сергеевич посмотрел на меня удивленно и недовольно, а Валя, добрая душа, только спросила очень дружески: — А почему не удалось найти, Володя? Она хотела дать мне возможность объяснить всё и оправдаться. И Вертоградский хотел мне помочь. — Это я виноват, — сказал он. — Все концы Грибков в могилу унес. — Трудное было следствие? — спросила Валя. Я пожал плечами и улыбнулся. — Не следовало бы мне говорить, так как я ничего не добился, но все же скажу: нет, не особенно трудное. — Какие же тогда бывают трудные дела? — удивился Петр Сергеевич. — Ну, — сказал я, — в разное время разные… — Что же было бы, — спросил Костров (ядовитый он был старик!), — если бы вам пришлось столкнуться с трудным делом? Я промолчал. Петр Сергеевич встал и подошел к окну. — Солнце высоко, — сказал он. — Надо вам собираться. И мне давно пора. Жестом я остановил его: — Десять минут не расчет, Петр Сергеевич, подождите.IV
Я допил чай и поставил стакан на стол. Еще раз прикинул в голове все то, что мне предстоит сказать Вертоградскому. Я чувствовал, что он насторожился. То, что я без всякой видимой причины задержал Петра Сергеевича, не прошло для него незамеченным. Кажется, Андрей Николаевич и Валя тоже почувствовали, что я не случайно попросил остаться партизанского интенданта. Оба они посмотрели на меня внимательно и выжидающе. Я заговорил подчеркнуто спокойно, даже немного небрежно: — Вы знаете, Юрий Павлович, даже вот в этом нашем деле, хотя, казалось бы, преступник изобличен и убит, многое кажется неясным. — Ах, так? — заинтересованно сказал Вертоградский. — На мой дилетантский взгляд, все решено и ясно. Я не смотрел на Вертоградского и сказал, не обращаясь ни к кому в особенности, как бы просто размышляя вслух: — Мне думается, что у Грибкова должен быть сообщник. — Неужели это еще не кончилось? — тоскливо сказала Валя. — Конечно, не кончилось, — буркнул Костров. — Вакцины-то ведь нет? Мы не знаем, где она. Вертоградский пожал плечами: — Под любым деревом, в любой куче валежника. Лес велик. Но я, не сбиваясь, продолжал раздумывать вслух: — Найдем мы вакцину или не найдем, а сообщника найти мы должны. — Откуда сообщник? — удивился Вертоградский. — Давайте рассуждать. Убить Якимова Грибков мог и один. Но связать, заткнуть рот и спрятать… подумайте сами. Якимов был здоровый, сильный человек. — Грибков мог его оглушить, — сказал Вертоградский. — На голове у Якимова нет повреждений. — Может быть, наркоз? — Допустим. — Я закурил папиросу и некоторое время ходил по комнате, как бы раздумывая, могли ли Якимова усыпить наркозом. — Допустим также, — сказал я, — что Грибков выследил, где хранится вакцина. Но не кажется ли вам странным, Юрий Павлович, что он уверенно заходит в лабораторию, не зная, спите вы или нет? Ведь, согласитесь, это очень рискованно. — Да, конечно, — сказал Вертоградский, но, подумав, добавил: — Правда, я сплю очень крепко. Мы говорили спокойно, неторопливо, будто рассуждали на интересную, но лично нас не касающуюся тему. — Мы-то знаем, что вы спите крепко, — засмеялся я, — но откуда мог это знать Грибков? Вертоградский усмехнулся тоже: — Должен сказать, что эта моя несчастная особенность известна довольно широко. Об этом могли говорить при Грибкове. Я знаю, что надо мной немало шутили в отряде. — Хорошо, — согласился я. — Это, конечно, возможно. Но откуда Грибков знал, что дневник зашифрован? Это ведь было известно только своим. Об этом не могли говорить в отряде. А если он не знал, что дневник зашифрован, почему он просто не убил Якимова? Это было бы гораздо легче. — Вообще говоря, вы правы, — нахмурился Вертоградский, — рассуждение интересное. С другой стороны, последнее время. Грибков довольно часто к нам заходил. Он сделал вот эту качалку. Он сколачивал ящики. Я не помню точно, но, по-моему, он чуть ли не каждый день бывал. Он мог подслушать какой-нибудь наш разговор о шифре. — Тоже возможно, — коротко согласился я. — А появление записки вам не кажется странным? Вертоградский откинул голову на спинку качалки и положил руки на подлокотники. Он был безмятежно спокоен. Слишком спокоен, чтобы эго могло быть естественным. Я стоял перед ним, засунув руки в карманы, и смотрел на него в упор. Теперь уже, кажется, все в этой комнате почувствовали скрытое напряжение нашего разговора. Костров, который подсел к печке и ворошил кочергой пылающие бумаги, так и застыл с кочергой в руке и, повернув голову, недоуменно смотрел то на меня, то на Вертоградского. Валя держала в одной руке полотенце и, кажется, совершенно забыла, что собиралась вытирать тарелки. Петр Сергеевич, как человек боевой, уже сунул руку в карман, очевидно решив, что скоро понадобится револьвер, хотя и совершенно не понимая, на кого придется его направить. — Несчастный вы народ, следователи! — вздохнул Вертоградский, все еще спокойно раскачиваясь. — Все вам кажется подозрительным. Трудно вам жить, Владимир Семенович… — Думаю, — сказал я, — что дальше вы, Юрий Павлович, сами со мной согласитесь. — Послушаем, — сказал Вертоградский. — Вчера днем я сказал, — продолжал я неторопливо, — что улик против Якимова недостаточно. И вот через пятнадцать минут Андрей Николаевич приносит якимовскую записку. Не правда ли, неожиданное совпадение? — Позвольте… — Костров отложил кочергу, встал и подошел ко мне. — Позвольте, Владимир Семенович, ведь как раз в это время Грибков принес мне ящики! — Да? — спросил я. — А вы видели, что Грибков писал записку? — Нет, конечно, не видел. — Костров был страшно возбужден. — Но я также не видел, чтобы Юрий Павлович ее писал. Имя было названо. Пожалуй, только Костров не понял, что сказанная им фраза резко изменила характер разговора. До сих пор — внешне, по крайней мере, — это был обыкновенный дружеский разговор. Одна фраза Кострова превратила его в допрос. Все остальные почувствовали это сразу. — Папа, — воскликнула Валя, — почему Юрий Павлович? Костров растерянно оглядел нас всех. — Я не знаю… — сказал он. — Я думал, мы просто так говорим, к примеру… Это же не допрос. Это был именно допрос, и его нельзя было прекратить. Раз имя подозреваемого было названо, разговор должен был продолжаться до конца. Теперь Вертоградский решил обнажить существо разговора. Он усмехнулся и встал с качалки. Мы с ним стояли друг против друга, и мне приходилось смотреть на него снизу вверх, потому что он был выше меня на целую голову.Глава одиннадцатая УЛИК ДОСТАТОЧНО
I
— Нет, это именно допрос, — подтвердил Вертоградский. — Но вы не смущайтесь, Андрей Николаевич. Я понимаю Владимира Семеновича, он обязан всех допросить. Я был по-прежнему дружелюбен. — Конечно, — согласился я. — Мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину, и Юрий Павлович — не меньше других. Не надо только называть это допросом. Просто беседа, имеющая целью помочь следствию. Костров переводил испуганный взгляд с Вертоградского на меня и с меня на Вертоградского. Очень несчастный вид был у старика. Я чувствовал, что он сам пугается мыслей, которые невольно приходили ему в голову. — Итак, давайте продолжать наши рассуждения, — сказал я. — Вернемся к записке… Я говорил по-прежнему спокойно, ни на кого не глядя, просто размышляя вслух. На секунду у меня мелькнула было мысль, что, быть может, опасно выпускать из виду Вертоградского, но, взглянув на Петра Сергеевича, я успокоился: он сидел на окне с видом чрезвычайно решительным. Не зная еще, как развернутся события и кто окажется виноват, он, видимо, твердо решил, что его долг не дать виноватому бежать. — Видите ли, Андрей Николаевич, — продолжал я, — свой человек, находясь в комнате, всегда сможет написать записку так, что никто не обратит на это внимания. Но когда чужой приходит в дом по делу на десять мину г. он на виду все время. Как же мог написать Грибков записку, находясь с вами и с Юрием Павловичем в одной комнате? Ведь для этого надо достать карандаш, бумагу, сесть. Как хотите, а мне это кажется невероятным. Потом, какая случайность: он оказывается под окном как раз тогда, когда я говорю, что улик против Якимова недостаточно. — А может быть, находясь под окном, — перебил меня Вертоградский, — и услыша ваши слова, он там же и написал записку? Так ведь тоже могло быть. Тогда наверху ему оставалось только сунуть записку в книгу. Ну, а это он, конечно, мог незаметно сделать. — Может быть, — согласился я. — Удивительно только, как все время везло Грибкову… до самой его встречи с вами. — Зато при встрече со мной, — насмешливо подхватил Вертоградский, — ему решительно не повезло. Костров вдруг обрадовался. — Вот-вот, — закивал он головой, — правильно, правильно! Старику ужасно не хотелось разочаровываться в своем ассистенте. Как всякий хороший и честный человек, он надеялся, что и все вокруг окажутся честными и хорошими. Тем более, что его еще мучила совесть, что он так поспешно обвинил Якимова! Он повернулся ко мне с вопросительным и просящим видом: — Владимир Семенович, это ведь действительно снимает все подозрения с Юрия Павловича! — Вы только не подумайте, — мягко сказал я, — что я обвиняю Юрия Павловича. У нас разговор предположительный. Но допустите на одну минуту, что Юрий Павлович — засланный агент. Костров возмущенно пожал плечами. — Ну, знаете… — начал он. По Вертоградский его перебил: — Ничего, продолжайте, Владимир Семенович. Я улыбнулся: — Хорошо, будем продолжать. Значит, Юрий Павлович, вы, с вашего разрешения, засланный агент. Причем самый квалифицированный, самый ценный. Вертоградский вежливо поклонился: — Спасибо за комплимент. — Ваша задача, — дружелюбно продолжал я, — стоять в стороне и не попадаться. Ваша работа далеко впереди. Вам нужно сохранить себя для нее. Грибков вас знает. Вы были с ним и раньше связаны. Может быть, даже именно он передал вам указание уйти в глубокое подполье и ждать. Важнее всего для вас — не выдать себя. Поэтому вы вовсе не хотите помогать Грибкову в его работе. Но события поворачиваются так, что Грибков оказывается в опасности. Что вы будете делать? Вертоградский подумал, нахмурился и пожал плечами. — Ей-богу, — сказал он, — ничего не приходит в голову. — Но это же совершенно ясно, — удивился я, — как вы сами не догадываетесь? Помогать Грибкову рискованно, но, если он попадется, риск еще больше. Вы совершенно не гарантированы от того, что он вас не назовет на допросе. Конечно же, вы будете пытаться спасти Грибкова. Правда ведь? Вертоградский улыбнулся широкой, добродушной улыбкой. — Вы совершенно правы, Владимир Семенович, — согласился он. — Разумеется, если бы я был немецким агентом, я бы попытался Грибкова спасти. Но ведь вы хорошо знаете, что я его не спасал. — Конечно, конечно, — улыбнулся я. — Но представим себе на минуту, что вы фашистский агент, а спасти Грибкова не можете. Что вы должны делать в этом случае? Не догадываетесь? Вы ведь умный человек. Конечно, вы должны любой ценой заставить его замолчать. — Вы хотите сказать, — медленно проговорил Вертоградский, — убить его? — Да, — согласился я, — убить. Кстати, мы уже говорили, что вам нужно выдвинуться. А убийство немецкого шпиона — это акт героический. Молчал я, молчал Вертоградский. В комнате было очень тихо. Так тихо, что слышно было взволнованное, неровное дыхание Вали. Вертоградский рассмеялся и сказал громко и весело: — Достоевский говорил, что психология — палка о двух концах. Вы бьете больно, Владимир Семенович, но не забудьте, что палку можно и повернуть! Я наклонил голову: — Поверните.II
— Разрешите теперь, — сказал Вертоградский, — немного порассуждать и мне. Представим себе на минуту, что я действительно нахожусь под следствием. Что я мог бы в этом случае ответить вам? Я бы ответил следующее: у каждой профессии, дорогой Владимир Семенович, есть свои профессиональные болезни: у наборщика — свинцовое отравление, у часовщика — близорукость. Ваша профессия страдает своей болезнью. Эта болезнь — подозрительность и избыток воображения. Стечение обстоятельств кажется вам достаточным для обвинения человека. Между тем, если посмотреть на дело спокойно и не предвзято, то ведь все это будет выглядеть совсем не так убедительно. Все, что вы говорите, Владимир Семенович, это психология, рассуждения, более или менее убедительные, но вовсе не доказательные. Ведь конкретного-то ничего нет… — Он наклонился ко мне и сказал тихо и внятно: — Улику, Владимир Семенович, хотя бы одну улику! Он был совершенно прав. К сожалению, все это были одни рассуждения. Но я все-таки думал, что улику мне получить, удастся. Несмотря на внешнее спокойствие Вертоградского, я чувствовал его растущую растерянность. Вряд ли он ждал, что я буду говорить с ним так прямо. Естественно с его стороны было предположить, что, если я затеял этот разговор и открыл свои карты, значит, у меня есть неизвестные ему доказательства. Мысль эта наверняка его беспокоила и лишала выдержки и стойкости. Я решил еще раз испытать его нервы. — Только не забывайте, Юрий Павлович, — сказал я ласково, — что мы говорим предположительно. Это дружеский разговор, не более. — Я помолчал и рассмеялся. — Но, каюсь, Юрий Павлович, после истории с запиской я послал радиограмму в Москву — проверить, учились ли вы в Московскомуниверситете. Я замолчал. Хотя Вертоградский действительно учился в Московском университете и ему нечего было опасаться ответа на мою радиограмму, но он с таким напряжением ждал подвоха с моей стороны, так боялся совершить ошибку, сказать не то, что следует, что молчал, видимо, соображая, не могло ли из университета прийти разоблачение. Все почувствовали странность его молчания. — И вам ответили, что он не учился? — волнуясь спросил Костров. — Что вы, Андрей Николаевич! — удивился я. — Я бы тогда просто арестовал Юрия Павловича. Вертоградский засмеялся коротким и резким смехом. — Какое счастье, — сказал он, — что не напутали в архиве! — К счастью, путаницы не произошло, — успокоил я его. Вертоградский вздохнул, шутливо изображая чувство величайшего облегчения. — Значит, я могу себя считать реабилитированным? — спросил он. — Валя, налейте оправданному чаю, у него от волнения пересохло в горле. Нехороший был у него при этом вид. Вероятно, действительно у него пересохло в горле. Он был бледен, и шутка его прозвучала неестественно. Настолько у него был странный вид, что Валя растерянно на него посмотрела и немного отодвинулась, когда он к ней подошел. Он не обратил на это внимания, сам налил себе чаю и сел. Но наш разговор далеко еще не был кончен. Я подошел и снова стал против него. И снова, не отрывая глаз, на нас смотрели Костров, Валя и Петр Сергеевич. — У меня ведь, как вы сказали, профессиональная болезнь, — снова заговорил я. — На всякий случай я спросил у вас, в какой вы школе учились, и послал радиограмму в Калинин. Он поднял на меня глаза. Они были насмешливо прищурены. Я думаю, Вертоградский прищурил их для того, чтобы я не увидел их выражения. — Предусмотрительно, — сказал Вертоградский. — Но могла произойти путаница в калининском архиве. — Могла, — согласился я, — но не произошла. В Калинине уничтожены архивы перед занятием города немцами. Вертоградский рассмеялся раскатисто и громко. Немного слишком громко, немного слишком раскатисто… Мы ждали все, когда он кончит смеяться, и я видел ужас в глазах и Кострова и Вали. Не мог так смеяться человек, уверенный, что никакое разоблачение для него не опасно. Он наконец замолчал и отхлебнул чаю. — Тогда пошлите радиограмму в родильный дом, — сказал он. — Может быть, я и не родился. Я оперся на стол и приблизил лицо к его лицу. — Этого не нужно, — сказал я. — В какой вы, говорите, школе учились? Он посмотрел на меня и спросил: — А что? — Помните, вы ночью рассказывали мне, что в тринадцатой? Это несчастливое для вас число: в Калинине всего десять средних школ. Опять наступила пауза. Я смотрел на него внимательно. Он растерялся. Моя уверенность подействовала на него. Он попался даже легче, чем я ожидал. Он несколько раз пошевелил губами, прежде чем начать говорить. — Так… — сказал он. И опять замолчал. Потом отпил еще чаю. — Отвечу вам тоже психологическим рассуждением. Я чувствовал, что вы меня подозреваете, разумеется нервничал и напутал. Я и сам тогда заметил и сразу поправился бы. Но боялся, что вам покажется это подозрительным, и промолчал. Я учился в школе номер восемь, в доме номер тринадцать по улице Энгельса. Вертоградский помолчал. Постепенно он снова обрел хладнокровие. Я смотрел на него улыбаясь, и его, видимо, очень тревожила моя улыбка. Он быстро соображал, не сделал ли он еще какую-нибудь ошибку. Это был уже не тот хладнокровный, непроницаемый человек, с которым мы несколько часов назад беседовали, попивали чай, — теперь он был не в силах сдерживаться, и чувства его ясно отражались на лице. Я даже ощутил момент, когда у него вдруг мелькнула догадка. Он быстро посмотрел на меня. — Но когда вы успели получить ответ на радиограмму? — спросил он. Я рассмеялся. — Юрий Павлович, Юрий Павлович, — сказал я, — как легко вы отказываетесь от своих школьных товарищей и учителей! Я не только не успел получить ответ, но я даже и не запрашивал, сколько в Калинине школ. Думаю, что больше тринадцати. Я хотел только узнать, точно ли вы осведомлены о своей прошлой жизни.III
Снова наступило молчание. Вертоградскому нелегко дался этот удар. Он ясно почувствовал, что хозяином в разговоре был я. Он понимал, что наделал глупостей. Это лишало его уверенности в себе. Он был в том состоянии, когда люди, чувствуя, что надо исправить сделанные ошибки, совершают новые, еще более тяжелые. Он перевел дыхание. — Допрос вы ведете мастерски, — сказал он. — Должен признаться, что вы меня сбили с толку. Еще немного, и я сам поверил бы в то, что я виноват. Я пристально на него взглянул. Действительно, он был сбит с толку. Он был готов выдать себя. Теперь я должен был предоставить ему эту возможность. Я пожал плечами. — К сожалению, вы правы, Юрий Павлович, — сказал я, — это все психология. Улик у меня все-таки нет ни одной. Вот если бы в доме была вакцина, это была бы улика. — Почему? — спросил Вертоградский. — Не мог же ее Грибков спрятать при вас, если вы не были его соучастником! — То есть когда «при мне»? — Вчера, когда вы его застрелили. Перед этим мы достаточно тщательно обыскивали комнату, чтобы знать, что вакцины здесь нет. Вертоградский поднял на меня глаза. Вероятно, прежде всего он подумал, что я знаю, где вакцина, потом вспомнил, что слишком взвинчен и не может рассуждать хладнокровно. Он сделал скидку на свою возбужденную мнительность. Невольно в том состоянии, в котором он был, масштабы явлений смещались. Серьезное казалось пустяком, а пустяк вырастал в страшную угрозу. Он заставил себя поверить в то, что я ничего не знаю. — Я думаю, — медленно сказал он, — что в доме вакцины нет. Я пожал плечами. — Посмотрим, Юрий Павлович, — сказал я. — Владимир Семенович, — возбужденно вмешался в разговор Костров, — если вы думаете… если вы подозреваете, так давайте искать! За окном задребезжала телега. — Лошадь подана, — сказал Петр Сергеевич. Костровы смотрели на меня выжидающе. Я отрицательно покачал головой. — Нет, Андрей Николаевич, — сказал я, — вы сейчас собирайтесь и поезжайте. Я здесь останусь один, спокойно, не торопясь обыщу дом и к обеду буду у вас… Правильно, Петр Сергеевич? — Конечно, правильно, — согласился Петр Сергеевич. — Вас одного мы как-нибудь всегда доставим. — Не хочется мне уходить… — колебался Костров. — Придется, — решительно сказал я. — Когда вы уедете, я пересмотрю каждый вершок. Так будет гораздо лучше. Петр Сергеевич встал, выглянул в окно, окликнул возчика, распорядился, чтобы телегу подали к крыльцу, вознегодовал, что на лошади не тот хомут, — словом, стал проявлять энергичную деятельность. — Пойдем, папа, — сказала Валя. — Нельзя же людей задерживать. Твой рюкзак еще не уложен. Недовольно нахмурившись, Костров пошел наверх, в мезонин. Вертоградский спросил неуверенно: — Владимир Семенович, я тоже могу ехать? — Конечно, Юрий Павлович. Пока ведь улики нет. — Ну что ж, и на том спасибо, — криво улыбнулся мне Вертоградский. — Пожалуйста, — ответил я, тоже улыбаясь. Голос Петра Сергеевича раздавался уже за окном. Он кого-то распекал, кем-то возмущался. — Боком, боком! — говорил он. — Неужели не понимаешь? Осторожней! Костровы ушли в мезонин. Я выбежал на кухню и в кухонное окно крикнул что-то Петру Сергеевичу. Когда за мною закрылась дверь, Вертоградский остался в комнате один.IV
Полминуты я беседовал с Петром Сергеевичем, потом хлопнул наружной дверью. Казалось, что я вышел из дома. Конечно, Вертоградский мог на всякий случай отворить дверь и проверить, но у него были считанные секунды, он не мог их тратить щедро. Бесшумно, на цыпочках, я пробежал через кухню и, прислушиваясь, застыл у двери. В комнате было тихо. Я ждал. Шагов его я мог не услышать — наверно, он тоже ходил на цыпочках, — но шелест бумаги, звон стекла, стук кочерги — что-нибудь должно было мне указать момент, когда следовало открыть дверь. Я ждал. Петр Сергеевич вошел в кухню и уже открыл рот, чтобы спросить меня о чем-то, но я так замахал рукой, что он застыл с открытым ртом и широко открытыми, испуганными глазами. Секунда шла за секундой. В комнате была по-прежнему мертвая тишина. Может быть, Вертоградский действовал так осторожно, что я напрасно ждал звука, который бы выдал его, или же я прослушал? Я уже решил открыть дверь наудачу и в это время услышал тихое, чуть различимое звяканье стекла. Я распахнул дверь и вошел в комнату. Я не ошибся: Вертоградский сидел у печки и мешал кочергой горящую бумагу. Он не обернулся, когда я вошел. Поза его была неестественна и неудобна. Видимо, так застал его стук открывшейся двери. Я осмотрелся. Ведро с водой стояло на полу. Я подошел к печке. Черная коленкоровая тетрадь корчилась на огне; рядом поблескивали осколки разбитых ампул. Как я и рассчитывал, он попытался уничтожить главную улику против себя.
— Что же вы не собираетесь, Юрий Павлович? — спросил я спокойно. — Бумаги жжете?
Он не успел мне ответить. Схватив ведро, я выплеснул всю воду в печь. Туча пара окутала Вертоградского, он вскочил. Я наклонился и вытащил из огня полусгоревшую тетрадь.
— А куда вы ампулы дели? — деловито спросил я его, вынимая из кобуры наган.
Секунду Вертоградский смотрел на меня безумными глазами. Он глотал воздух, как рыба. Он был явно в смятении и не знал, что ему говорить и что делать. Впрочем, этой одной секунды было достаточно для него, чтобы понять, что он выдал себя окончательно и бесповоротно. Он рванулся было к окну, но сразу остановился. В дверях кухни стоял Петр Сергеевич, держа в руке трофейный немецкий маузер. Еще секунда молчания. Истерическая улыбка появилась на лице Вертоградского, он взглянул на дверь мезонина.
Я не заметил, когда вышел из мезонина Костров. Во всяком случае, достаточно давно, чтобы услышать и понять главное. Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и подскочил к Вертоградскому.
— Сожгли! — закричал он надтреснутым голосом. — Разбили!
Маленький, он стоял перед высоким Вертоградским и, кажется, собирался вцепиться ему в горло. Вертоградский немного овладел собой. Он провел дрожащей рукой по волосам и повернулся к Кострову.
— Вот и всё, — сказал он с усмешкой. — Дневник сгорел, вакцины не существует.
Он сказал это спокойно, но губы его дрожали, и столько откровенной ненависти было в его взгляде, что трудно было сейчас понять, как мог этот человек годами притворяться любящим и преданным другом семьи Костровых.
Дальше мне не следовало молчать. Кострова мог хватить удар от горя и ярости.
— Не надо, Юрий Павлович, считать других дураками, — сказал я мягко. — Неужели вы думаете, я оставил бы вас одного, чтобы вы могли тут спокойно хозяйничать? Мне ведь нужна была только улика, вот я ее и получил.
Я вынул из кармана настоящий дневник и настоящие ампулы и протянул их Кострову.
Секунда шла за секундой. В комнате была по-прежнему мертвая тишина. Может быть, Вертоградский действовал так осторожно, что я напрасно ждал звука, который бы выдал его, или же я прослушал? Я уже решил открыть дверь наудачу и в это время услышал тихое, чуть различимое звяканье стекла. Я распахнул дверь и вошел в комнату. Я не ошибся: Вертоградский сидел у печки и мешал кочергой горящую бумагу. Он не обернулся, когда я вошел. Поза его была неестественна и неудобна. Видимо, так застал его стук открывшейся двери. Я осмотрелся. Ведро с водой стояло на полу. Я подошел к печке. Черная коленкоровая тетрадь корчилась на огне; рядом поблескивали осколки разбитых ампул. Как я и рассчитывал, он попытался уничтожить главную улику против себя.
— Что же вы не собираетесь, Юрий Павлович? — спросил я спокойно. — Бумаги жжете?
Он не успел мне ответить. Схватив ведро, я выплеснул всю воду в печь. Туча пара окутала Вертоградского, он вскочил. Я наклонился и вытащил из огня полусгоревшую тетрадь.
— А куда вы ампулы дели? — деловито спросил я его, вынимая из кобуры наган.
Секунду Вертоградский смотрел на меня безумными глазами. Он глотал воздух, как рыба. Он был явно в смятении и не знал, что ему говорить и что делать. Впрочем, этой одной секунды было достаточно для него, чтобы понять, что он выдал себя окончательно и бесповоротно. Он рванулся было к окну, но сразу остановился. В дверях кухни стоял Петр Сергеевич, держа в руке трофейный немецкий маузер. Еще секунда молчания. Истерическая улыбка появилась на лице Вертоградского, он взглянул на дверь мезонина.
Я не заметил, когда вышел из мезонина Костров. Во всяком случае, достаточно давно, чтобы услышать и понять главное. Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и подскочил к Вертоградскому.
— Сожгли! — закричал он надтреснутым голосом. — Разбили!
Маленький, он стоял перед высоким Вертоградским и, кажется, собирался вцепиться ему в горло. Вертоградский немного овладел собой. Он провел дрожащей рукой по волосам и повернулся к Кострову.
— Вот и всё, — сказал он с усмешкой. — Дневник сгорел, вакцины не существует.
Он сказал это спокойно, но губы его дрожали, и столько откровенной ненависти было в его взгляде, что трудно было сейчас понять, как мог этот человек годами притворяться любящим и преданным другом семьи Костровых.
Дальше мне не следовало молчать. Кострова мог хватить удар от горя и ярости.
— Не надо, Юрий Павлович, считать других дураками, — сказал я мягко. — Неужели вы думаете, я оставил бы вас одного, чтобы вы могли тут спокойно хозяйничать? Мне ведь нужна была только улика, вот я ее и получил.
Я вынул из кармана настоящий дневник и настоящие ампулы и протянул их Кострову.
* * *
Вертоградского увели. Его отправят следующим самолетом. Не надо, чтобы он летел вместе с Костровыми. Андрей Николаевич долго бормотал что-то совершенно невразумительное. По некоторым признакам я догадался, что он благодарил меня и просил извинения за свою недоверчивость. А Валя просто взяла мою руку и сказала, глядя мне прямо в глаза: — Вы тоже полетите в Москву, Володя? Мне так спокойно, когда вы с нами.

Григорий Гребнев ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА

КНЯЗЬ ДЖЕЙК БЕЛЬСКИЙ
Кортец! Вряд ли это была его настоящая фамилия. Хотя он и уверял всех своих знакомых, что предком его был сам «великий конквистадор», но темно-бурая кожа лица, косматые черные брови, разросшиеся чуть не до самых корней волос, мясистые губы под горбатым носом — все это заставляло искать родину Педро Хорхе Кортеца где-то в Малой Азии. Однако вот уже двадцать пять лет мсье Кортец числится подданным Французской республики, и вопрос о его национальности, в сущности, не играет никакой роли. Сегодня мсье Кортец проснулся в 8.30, то есть на полчаса раньше, чем всегда, и, быть может, поэтому был не в духе. Сидя с задранным кверху намыленным подбородком перед трюмо, он хмуро слушал конфиденциальное журчанье увивавшегося вокруг него парикмахера Этьена. В течение того получаса, который требовался для удаления черной, как левантийская ночь, и жесткой, как колючая проволока, растительности на мясистых щеках мсье Кортеца, молодой брадобрей умел выложить сотни секретов, сплетен, слухов и анекдотов. Этьен уже добился, как выражаются докладчики, «определенных успехов»: тщательно выскобленные щеки стали голубыми, а хмурое сопенье взыскательного клиента прекратилось. Как раз в этот момент в дверь кто-то тихо постучал. — Алло! — недовольно проворчал мсье Кортец, различив легкие шаги горничной Мадлен. Этьен стрельнул в Мадлен восхищенными глазами, но та даже не повела в его сторону своими длиннейшими ресничными протезами. Педро Хорхе Кортец увидел в зеркале позади себя огненного цвета губы Мадлен. — Мсье, — шевельнув ресницами, но чуть двинув губами, сказала Мадлен, — вас хочет видеть какой-то американец. Кортец вопросительно воззрился на отражение Мадлен в зеркале. Горничная знала, что в таких случаях он не задает вопросов, — нужно отвечать без них. — Молодой. Хорошо одет. Нечисто говорит по-французски. Фамилии не назвал, — короткими фразами прочирикала Мадлен. Кортец внимательно посмотрел на ее кукольное лицо и спросил: — Сколько он вам дал? Мадлен скорчила гримаску: — О-о! Совсем немного, мсье. Доллар… Этьен сокрушенно вздохнул: он не мало перебрил американцев, но ни один не дал ему целого доллара. — Пусть подождет, — без раздумья изрек Кортец. — Завтрак подадите сюда. Послышалось шуршанье шелковой юбки, и Мадлен исчезла за дверью. Этьен снял повязку. Зашипел пульверизатор. Вслед за тем Кортец встал, в три четверти повернул к зеркалу лицо и полюбовался работой Этьена. — Доллар… — сказал он. — Не так уж много… — Солидный посетитель дал бы горничной десять, — зажурчал Этьен, обмахивая клиента щеточкой. — Если человек чего-нибудь стоит, он вообще не дает горничной чаевых!.. — неожиданно резюмировал Кортец. — Халат! Он отвел руки назад, и тотчас же Этьен облек его грузную фигуру в халат, на оранжевом шелке которого летали колибри и секретничали молоденькие китаянки, вышитые золотом и серебром. Получив свой гонорар, парикмахер исчез. Вместо него с подносом в руках появилась Мадлен. Она ловко опустила поднос на круглый столик и подкатила его к креслу Кортеца. Вино, маринованный лучок, сардины и розовые креветки в масле… Конечно, это еще не завтрак, а лишь прелюдия к нему. Мсье Кортец любил, чтобы еда на круглом столике сменялась, как сцены в опере, где все более или менее известно и все-таки неожиданно. Он налил в бокал терпкое рубиновое вино, понюхал его и, прикрыв свои тяжелые веки, отпил глоток… Затем послышалось блаженное мурлыканье. Мсье Кортец выбрал сардинку и произнес многозначительно: — Экстра! Но Мадлен не уходила за следующим подносом. Ее пригвождал к месту доллар, полученный от посетителя. — Ну? — спросил Кортец.
 — Он ждет, мсье.
— А-а! Зовите…
Через две минуты в кабинет бесшумно, словно призрак, проскользнул светловолосый, редковолосый и весьма бледнолицый молодой человек в недорогом костюме цвета небесной лазури и с узким галстуком, похожим на шкурку, сброшенную ящерицей.
— Здравствуйте, сэр, — сказал он по-русски, предварительно натянув приятную улыбку на свое бледное лицо. — Если я не ошибаюсь, вы хорошо говорите по-русски, сэр?
Кортец недружелюбно и невнимательно оглядел гостя.
— Да! — ответил он сквозь зубы. — Вы не ошибаетесь…
— Меня зовут Джейк Бельский, — вкрадчиво произнес гость и заморгал веками, подкрашенными зеленкой, словно просигналил что-то по азбуке Морзе.
Кортец удивленно уставился на него:
— Джейк Бельский?…
— Так точно, сэр. Я родился во Франции, но вырос в Америке. Там меня все называли Джейком. Я вчера только приехал в Париж из Чикаго.
Молодой посетитель говорил по-русски без акцента, но все же с некоторым усилием. Видимо, ему не часто доводилось говорить на родном языке. Просигнализировав веками то, чего не договорил, он вынул из кармана и поднес Кортецу письмо.
— Вот здесь вам обо мне пишет мистер Сэмюэль Грегг. Он сказал, что вы, сэр, хорошо знаете его…
Кортец взял письмо и кивнул Джейку на кресло.
Вошла Мадлен с подносом, на котором дымилось жаркое с бобами. Распечатывая письмо, Кортец следил за приближающимся подносом. Его крупный нос, как флюгер, покорный ветру, невольно поворачивался в сторону жареного мяса.
— Жиго! — произнес Кортец вдохновенно и добавил: — Экстра!
Но тут же вспомнил о письме.
— Сэмюэль Грегг! «Опять Онегин стал на пути моем!» — довольно фальшиво пропел он. — Что ему от меня нужно?
Письмо было короткое и без единого знака препинания:
— Он ждет, мсье.
— А-а! Зовите…
Через две минуты в кабинет бесшумно, словно призрак, проскользнул светловолосый, редковолосый и весьма бледнолицый молодой человек в недорогом костюме цвета небесной лазури и с узким галстуком, похожим на шкурку, сброшенную ящерицей.
— Здравствуйте, сэр, — сказал он по-русски, предварительно натянув приятную улыбку на свое бледное лицо. — Если я не ошибаюсь, вы хорошо говорите по-русски, сэр?
Кортец недружелюбно и невнимательно оглядел гостя.
— Да! — ответил он сквозь зубы. — Вы не ошибаетесь…
— Меня зовут Джейк Бельский, — вкрадчиво произнес гость и заморгал веками, подкрашенными зеленкой, словно просигналил что-то по азбуке Морзе.
Кортец удивленно уставился на него:
— Джейк Бельский?…
— Так точно, сэр. Я родился во Франции, но вырос в Америке. Там меня все называли Джейком. Я вчера только приехал в Париж из Чикаго.
Молодой посетитель говорил по-русски без акцента, но все же с некоторым усилием. Видимо, ему не часто доводилось говорить на родном языке. Просигнализировав веками то, чего не договорил, он вынул из кармана и поднес Кортецу письмо.
— Вот здесь вам обо мне пишет мистер Сэмюэль Грегг. Он сказал, что вы, сэр, хорошо знаете его…
Кортец взял письмо и кивнул Джейку на кресло.
Вошла Мадлен с подносом, на котором дымилось жаркое с бобами. Распечатывая письмо, Кортец следил за приближающимся подносом. Его крупный нос, как флюгер, покорный ветру, невольно поворачивался в сторону жареного мяса.
— Жиго! — произнес Кортец вдохновенно и добавил: — Экстра!
Но тут же вспомнил о письме.
— Сэмюэль Грегг! «Опять Онегин стал на пути моем!» — довольно фальшиво пропел он. — Что ему от меня нужно?
Письмо было короткое и без единого знака препинания:
«Старик Хорхе перестань обижаться на нас и попробуй еще раз съездить в Россию как наш представитель там можно сделать один бизнес который стоит тысячи коптских евангелий тебе все расскажет этот юнец он русский князь но это ничего не значит он знает секрет одного дела на котором можно хорошо заработать я финансирую новую русскую операцию 15 % от чистой прибыли тебя наверное устроятСГ»
 Кортец недовольным взглядом окинул гостя. Как многие восточные люди, он был суеверен: русский князь, да еще с утра — это плохая примета! Неожиданное обращение Сэмюэля Грегга также озадачило его. Крупный воротила международного антикварного треста, Грегг когда-то с помощью Кортеца и присосавшихся к советским культурным учреждениям деляг переправил на запад немало ценных произведений искусства и редких рукописей. Но антикварный трест бесцеремонно отрекся от Кортеца, когда тот проиграл авантюрное дело с покупкой в СССР так называемого «коптского евангелия»…
Однако аромат аппетитного жиго сгладил дурное впечатление от письма Грегга. Кортец вооружился вилкой и ножом и проворчал:
— Я вас слушаю…
Русский князь выпрямился в своем кресле, как заглавная буква, и тотчас же перешел со своей азбуки Морзе на обыкновенную, хотя и несколько витиеватую речь:
— Я слыхал, сэр, что в свое время вы занимались очень полезным делом, способствуя обмену культурными ценностями между западными музеями и музеями Советского Союза, вернее — России, которая когда-то была родиной моих отцов…
Кортец покатал во рту кусочек мяса и промычал неопределенно:
— Угу!..
— Это обстоятельство и привело меня сюда, сэр, — продолжал гость. — Мистер Грегг посоветовал мне обратиться именно к вам с моим предложением, которое, в случае его осуществления, даст цивилизованному миру культурные ценности огромного значения. Лица же, осуществившие мое предложение, смогут получить не только моральное удовлетворение, но и вознаградят себя очень значительными суммами…
Не отрываясь от жиго и отдавая дань терпкому ароматному вину, Кортец поглядывал на своего гостя уже насмешливо.
— Вы можете не продолжать, мистер Бельский, — произнес он презрительно. — От эмигрантов, бежавших когда-то из России, я вволю наслушался таких предложений.
Джейк Бельский встал с кресла. Он был встревожен.
— О нет, сэр… — начал было он.
Но Кортец перебил его бесцеремонно:
— Не «нет», а «да», сэр… Где-то в России ваш отец или дед оставили замурованными в стене или в обивке одного из двенадцати старинных кресел бриллианты, либо еще какие-то ценности. У вас есть точный адрес, пользуясь которым мы с вами, попав в Россию, легко извлечем ваши бриллианты. Затем мы вернемся домой, и трест Сэмюэля Грегга обеспечит нам роскошную жизнь и зажиточную старость. Правильно?…
— Да… В основе моего предложения лежит ценный клад и фамильное предание о нем, — сказал гость и послал в эфир своими зелеными веками нечто среднее между сигналом бедствия и просьбой о внимании.
Кортец засмеялся скрипучим смехом и хлебнул еще глоток вина. Настроен он был уже не так агрессивно, и это ободряло гостя. Джейк Бельский попытался было продолжать, но появившаяся в воздухе над круглым столиком вилка заставила его умолкнуть.
— Прежде всего, — нетерпеливо произнес Кортец, — должен сообщить вам, молодой человек, а через вас и мистеру Греггу, что по советским законам все, оставленное эмигрантами в России, уже много лет назад объявлено государственным достоянием. У меня с русскими уже произошло однажды недоразумение… С меня хватит…
Педро Хорхе Кортец говорил по-русски отлично, лишь с небольшим восточным акцентом. Сказанное им было почти отказом, но молодой человек хорошо помнил ту аттестацию, которую дал «потомку великого конквистадора» мистер Сэмюэль Грегг, и потому, поборов чувство тревоги, выжидал возможности высказаться до конца. Такая возможность представилась сразу же, как только хозяин обратил внимание на ароматнейшую подливку к жиго и бобам.
— Мистер Сэмюэль Грегг отлично знаком с советскими законами. Я также познакомился с ними, — вкрадчиво сказал молодой человек. — Но все дело в том, сэр, что ни я, ни вы и ни трест, который мы будем представлять, — никто и не намерен их нарушать!
— Ах, вот как? Интересно…
— Ценности, о которых идет речь, — продолжал гость, — четыреста лет назад были ввезены в Россию одной коронованной особой нерусского происхождения и никогда России не принадлежали. Это легко смогут доказать наши юристы.
— О ла-ла! — с ироническим пафосом воскликнул Кортец, отрываясь от своей тарелки. — Я не собираюсь сражаться за попранные права коронованных особ нерусского происхождения.
— Вы будете сражаться за свой гонорар, сэр! — твердо произнес молодой гость.
Кортец внимательно взглянул на Джейка Бельского. Тот уже перестал моргать и смотрел на него уверенным и даже весьма решительным взглядом.
— И вы тоже?
— И я тоже.
— Сколько же вам дает этот старый чикагский гангстер?
— Десять процентов, сэр.
— Гм… Это не мало. — И, усмехнувшись, добавил неопределенно: — Но я чувствую, что вы хотите рассказать мне какую-то средневековую легенду с почтенным возрастом?
— Вы правы, сэр, — не смутясь, ответил гость. — Но эта средневековая легенда сулит вполне современные и не ма-лень-кие день-ги.
Последние слова он подчеркнул, произнеся их по слогам.
Кортец молчал, сосредоточенно жуя и попивая вино. Он размышлял: этот американский потомок каких-то русских князей твердо уверен, что предлагает серьезный и крупный бизнес. Он явно подражает американским дельцам… Кортец все еще старался избавиться от него, однако начинал сознавать, что ценности, из-за которых мог бы возникнуть международный юридический спор, задели его любопытство. Да и участие в этом деле Сэмюэля Грегга смущало его. Старый кашалот Грегг не послал бы к нему этого юнца, если бы дело было нереальным.
— Ну что ж, выкладывайте вашу легенду… — проворчал Кортец, не глядя на своего посетителя. — Я выслушал их не менее тысячи. Прослушаю и тысяча первую.
Он вновь склонился над тарелкой: расправа с жиго и бобами близилась к концу.
Джейк Бельский сел в кресло, сузил свои кошачьи глаза и спросил тоном следователя:
— Вы слыхали что-нибудь о библиотеке Ивана Грозного и византийской царевны Зои, или, иначе, Софьи Палеолог?
Косматые брови Кортеца медленно поползли вверх.
— О-о! Это действительно средневековая легенда! Слыхал, конечно…
В кабинет вошла Мадлен и стала убирать посуду.
Джейк Бельский опасливо поглядел на нее и спросил:
— Ваша горничная понимает по-русски, сэр?
— Нет, — вытирая салфеткой лоснящиеся губы, ответил Кортец. — Но вы можете объясняться даже по-французски: она девушка практичная и сказок не любит.
— Отлично! — гость просигналил веками уходящей Мадлен что-то непонятное и продолжал: — Так вот. Библиотека Грозного, которую многие считали и считают мифической, действительно существовала и существует… Я — последний из рода князей Бельских, а один из моих предков, боярин Иван Дмитриевич Бельский, был личным другом царя Ивана Грозного…
Американский потомок московского боярина изъяснялся как профессиональный лектор. Следя в то же время за малоподвижной физиономией Кортеца, он старался уловить на ней хоть тень внимания, и изредка это ему удавалось.
Кортец вооружился зубочисткой и, казалось, весь ушел в работу по очистке своих неестественно белых и подозрительно ровных зубов.
Джейк Бельский продолжал:
— Боярин Бельский был свидетелем того, как Иван Грозный упрятал драгоценное собрание рукописей в один подземный тайник, и упрятал столь основательно, что их не мог найти никто, даже Петр Великий, потративший на поиски книжного клада немало труда…
Кортец отложил зубочистку и уставился пытливым взглядом на своего многоречивого гостя:
— Петр Великий! Иван Грозный!.. Откуда вы все это знаете? В Америке такими делами мало интересуются.
— Это верно, сэр, — быстро согласился Джейк Бельский. — Но мой отец, хотя и обеднел, однако был все же образованным человеком. И он хорошо знал историю нашего древнего рода.
Кортец посмотрел на часы.
— Продолжайте!
— Отец сказал мне, что, если бы библиотека Ивана Грозного была найдена, за нее можно было бы получить миллионы долларов.
Кортец не все знал о легендарном собрании рукописей, но допускал, что такая библиотека могла быть оценена в большую сумму, если бы действительно существовала и была найдена.
— Короче! — отрывисто сказал он. — Вы знаете, как найти эту библиотеку?
— Знаю, — не смутившись, ответил Джейк Бельский. — Боярин Иван Бельский в своем архиве оставил чертеж книжного тайника Грозного. Отец передал его мне и дал указания, как найти тайник.
Наступило молчание. Дело уже казалось интересным, но практическое чутье все еще предостерегало Кортеца: разве можно доверять этим древним чертежам? Очень уж это похоже на пиратский клад с «золотым жуком» или еще какой-нибудь чертовщиной.
— Что у вас еще есть, кроме чертежа и указаний вашего папы? — после короткого размышления спросил Кортец.
Только теперь он заметил, что Джейк Бельский держит в руке какую-то трубочку.
Молодой гость жестом фокусника развернул трубочку и поднес Кортецу небольшой лист пергамента.
— Это титульный лист очень ценной рукописи — антологии византийских поэтов пятого века, — пояснил он. — Единственный в мире экземпляр этой книги существовал в библиотеке царевны Зои, а затем попал в рук «боярина Ивана Бельского…
— Украден из царской библиотеки? — грубо спросил Кортец.
— Нет. Подарен царем боярину Бельскому, — сухо ответил молодой гость. — На обороте листа об этом есть запись.
Кортец с интересом разглядывал пергамент, в центре которого золотом и киноварью были изображены меч и сердце. Он хорошо разбирался во всем, что касалось изобразительного искусства, и, едва взглянув на эмблему, украшавшую пергаментный лист, сразу определил, что над нею поработал какой-то неизвестный, но талантливый художник древности. Бисерные строчки греческого письма сиянием окружали эмблему и, перейдя в крупный шрифт со сложными заглавными буквами, располагались у ее подножия.
Кортец повернул пергаментный лист. На его обороте он увидел затейливую вязь старинного русского письма.
— Разрешите, я прочту, — сказал Джейк Бельский и, не дожидаясь ответа, торжественно, как тропарь, пропел:
Кортец недовольным взглядом окинул гостя. Как многие восточные люди, он был суеверен: русский князь, да еще с утра — это плохая примета! Неожиданное обращение Сэмюэля Грегга также озадачило его. Крупный воротила международного антикварного треста, Грегг когда-то с помощью Кортеца и присосавшихся к советским культурным учреждениям деляг переправил на запад немало ценных произведений искусства и редких рукописей. Но антикварный трест бесцеремонно отрекся от Кортеца, когда тот проиграл авантюрное дело с покупкой в СССР так называемого «коптского евангелия»…
Однако аромат аппетитного жиго сгладил дурное впечатление от письма Грегга. Кортец вооружился вилкой и ножом и проворчал:
— Я вас слушаю…
Русский князь выпрямился в своем кресле, как заглавная буква, и тотчас же перешел со своей азбуки Морзе на обыкновенную, хотя и несколько витиеватую речь:
— Я слыхал, сэр, что в свое время вы занимались очень полезным делом, способствуя обмену культурными ценностями между западными музеями и музеями Советского Союза, вернее — России, которая когда-то была родиной моих отцов…
Кортец покатал во рту кусочек мяса и промычал неопределенно:
— Угу!..
— Это обстоятельство и привело меня сюда, сэр, — продолжал гость. — Мистер Грегг посоветовал мне обратиться именно к вам с моим предложением, которое, в случае его осуществления, даст цивилизованному миру культурные ценности огромного значения. Лица же, осуществившие мое предложение, смогут получить не только моральное удовлетворение, но и вознаградят себя очень значительными суммами…
Не отрываясь от жиго и отдавая дань терпкому ароматному вину, Кортец поглядывал на своего гостя уже насмешливо.
— Вы можете не продолжать, мистер Бельский, — произнес он презрительно. — От эмигрантов, бежавших когда-то из России, я вволю наслушался таких предложений.
Джейк Бельский встал с кресла. Он был встревожен.
— О нет, сэр… — начал было он.
Но Кортец перебил его бесцеремонно:
— Не «нет», а «да», сэр… Где-то в России ваш отец или дед оставили замурованными в стене или в обивке одного из двенадцати старинных кресел бриллианты, либо еще какие-то ценности. У вас есть точный адрес, пользуясь которым мы с вами, попав в Россию, легко извлечем ваши бриллианты. Затем мы вернемся домой, и трест Сэмюэля Грегга обеспечит нам роскошную жизнь и зажиточную старость. Правильно?…
— Да… В основе моего предложения лежит ценный клад и фамильное предание о нем, — сказал гость и послал в эфир своими зелеными веками нечто среднее между сигналом бедствия и просьбой о внимании.
Кортец засмеялся скрипучим смехом и хлебнул еще глоток вина. Настроен он был уже не так агрессивно, и это ободряло гостя. Джейк Бельский попытался было продолжать, но появившаяся в воздухе над круглым столиком вилка заставила его умолкнуть.
— Прежде всего, — нетерпеливо произнес Кортец, — должен сообщить вам, молодой человек, а через вас и мистеру Греггу, что по советским законам все, оставленное эмигрантами в России, уже много лет назад объявлено государственным достоянием. У меня с русскими уже произошло однажды недоразумение… С меня хватит…
Педро Хорхе Кортец говорил по-русски отлично, лишь с небольшим восточным акцентом. Сказанное им было почти отказом, но молодой человек хорошо помнил ту аттестацию, которую дал «потомку великого конквистадора» мистер Сэмюэль Грегг, и потому, поборов чувство тревоги, выжидал возможности высказаться до конца. Такая возможность представилась сразу же, как только хозяин обратил внимание на ароматнейшую подливку к жиго и бобам.
— Мистер Сэмюэль Грегг отлично знаком с советскими законами. Я также познакомился с ними, — вкрадчиво сказал молодой человек. — Но все дело в том, сэр, что ни я, ни вы и ни трест, который мы будем представлять, — никто и не намерен их нарушать!
— Ах, вот как? Интересно…
— Ценности, о которых идет речь, — продолжал гость, — четыреста лет назад были ввезены в Россию одной коронованной особой нерусского происхождения и никогда России не принадлежали. Это легко смогут доказать наши юристы.
— О ла-ла! — с ироническим пафосом воскликнул Кортец, отрываясь от своей тарелки. — Я не собираюсь сражаться за попранные права коронованных особ нерусского происхождения.
— Вы будете сражаться за свой гонорар, сэр! — твердо произнес молодой гость.
Кортец внимательно взглянул на Джейка Бельского. Тот уже перестал моргать и смотрел на него уверенным и даже весьма решительным взглядом.
— И вы тоже?
— И я тоже.
— Сколько же вам дает этот старый чикагский гангстер?
— Десять процентов, сэр.
— Гм… Это не мало. — И, усмехнувшись, добавил неопределенно: — Но я чувствую, что вы хотите рассказать мне какую-то средневековую легенду с почтенным возрастом?
— Вы правы, сэр, — не смутясь, ответил гость. — Но эта средневековая легенда сулит вполне современные и не ма-лень-кие день-ги.
Последние слова он подчеркнул, произнеся их по слогам.
Кортец молчал, сосредоточенно жуя и попивая вино. Он размышлял: этот американский потомок каких-то русских князей твердо уверен, что предлагает серьезный и крупный бизнес. Он явно подражает американским дельцам… Кортец все еще старался избавиться от него, однако начинал сознавать, что ценности, из-за которых мог бы возникнуть международный юридический спор, задели его любопытство. Да и участие в этом деле Сэмюэля Грегга смущало его. Старый кашалот Грегг не послал бы к нему этого юнца, если бы дело было нереальным.
— Ну что ж, выкладывайте вашу легенду… — проворчал Кортец, не глядя на своего посетителя. — Я выслушал их не менее тысячи. Прослушаю и тысяча первую.
Он вновь склонился над тарелкой: расправа с жиго и бобами близилась к концу.
Джейк Бельский сел в кресло, сузил свои кошачьи глаза и спросил тоном следователя:
— Вы слыхали что-нибудь о библиотеке Ивана Грозного и византийской царевны Зои, или, иначе, Софьи Палеолог?
Косматые брови Кортеца медленно поползли вверх.
— О-о! Это действительно средневековая легенда! Слыхал, конечно…
В кабинет вошла Мадлен и стала убирать посуду.
Джейк Бельский опасливо поглядел на нее и спросил:
— Ваша горничная понимает по-русски, сэр?
— Нет, — вытирая салфеткой лоснящиеся губы, ответил Кортец. — Но вы можете объясняться даже по-французски: она девушка практичная и сказок не любит.
— Отлично! — гость просигналил веками уходящей Мадлен что-то непонятное и продолжал: — Так вот. Библиотека Грозного, которую многие считали и считают мифической, действительно существовала и существует… Я — последний из рода князей Бельских, а один из моих предков, боярин Иван Дмитриевич Бельский, был личным другом царя Ивана Грозного…
Американский потомок московского боярина изъяснялся как профессиональный лектор. Следя в то же время за малоподвижной физиономией Кортеца, он старался уловить на ней хоть тень внимания, и изредка это ему удавалось.
Кортец вооружился зубочисткой и, казалось, весь ушел в работу по очистке своих неестественно белых и подозрительно ровных зубов.
Джейк Бельский продолжал:
— Боярин Бельский был свидетелем того, как Иван Грозный упрятал драгоценное собрание рукописей в один подземный тайник, и упрятал столь основательно, что их не мог найти никто, даже Петр Великий, потративший на поиски книжного клада немало труда…
Кортец отложил зубочистку и уставился пытливым взглядом на своего многоречивого гостя:
— Петр Великий! Иван Грозный!.. Откуда вы все это знаете? В Америке такими делами мало интересуются.
— Это верно, сэр, — быстро согласился Джейк Бельский. — Но мой отец, хотя и обеднел, однако был все же образованным человеком. И он хорошо знал историю нашего древнего рода.
Кортец посмотрел на часы.
— Продолжайте!
— Отец сказал мне, что, если бы библиотека Ивана Грозного была найдена, за нее можно было бы получить миллионы долларов.
Кортец не все знал о легендарном собрании рукописей, но допускал, что такая библиотека могла быть оценена в большую сумму, если бы действительно существовала и была найдена.
— Короче! — отрывисто сказал он. — Вы знаете, как найти эту библиотеку?
— Знаю, — не смутившись, ответил Джейк Бельский. — Боярин Иван Бельский в своем архиве оставил чертеж книжного тайника Грозного. Отец передал его мне и дал указания, как найти тайник.
Наступило молчание. Дело уже казалось интересным, но практическое чутье все еще предостерегало Кортеца: разве можно доверять этим древним чертежам? Очень уж это похоже на пиратский клад с «золотым жуком» или еще какой-нибудь чертовщиной.
— Что у вас еще есть, кроме чертежа и указаний вашего папы? — после короткого размышления спросил Кортец.
Только теперь он заметил, что Джейк Бельский держит в руке какую-то трубочку.
Молодой гость жестом фокусника развернул трубочку и поднес Кортецу небольшой лист пергамента.
— Это титульный лист очень ценной рукописи — антологии византийских поэтов пятого века, — пояснил он. — Единственный в мире экземпляр этой книги существовал в библиотеке царевны Зои, а затем попал в рук «боярина Ивана Бельского…
— Украден из царской библиотеки? — грубо спросил Кортец.
— Нет. Подарен царем боярину Бельскому, — сухо ответил молодой гость. — На обороте листа об этом есть запись.
Кортец с интересом разглядывал пергамент, в центре которого золотом и киноварью были изображены меч и сердце. Он хорошо разбирался во всем, что касалось изобразительного искусства, и, едва взглянув на эмблему, украшавшую пергаментный лист, сразу определил, что над нею поработал какой-то неизвестный, но талантливый художник древности. Бисерные строчки греческого письма сиянием окружали эмблему и, перейдя в крупный шрифт со сложными заглавными буквами, располагались у ее подножия.
Кортец повернул пергаментный лист. На его обороте он увидел затейливую вязь старинного русского письма.
— Разрешите, я прочту, — сказал Джейк Бельский и, не дожидаясь ответа, торжественно, как тропарь, пропел:
«Боярину князь Ивану Бельскому сию грецку книгу с виршами мирскими жалует из книжницы бабки своей, царевны морейской. Великий Государь Всея Руси Иван Васильевич, дабы он, боярин Бельской, грецку грамоту уразумел ради корысти государевой.Под надписью был начертан тушью небольшой чертеж с крестиком в центре, а под ним Кортец вновь увидел греческую запись. — Мой предок, боярин Бельский, выполнил царское повеление и овладел греческим языком, — пояснил Джейк Бельский, указывая пальцем на запись. — Здесь он нарисовал план тайника, где царь захоронил всю библиотеку, доставшуюся ему от бабки, царевны Зои… — Тайники! Таинственные подземелья! Ваш предок, боярин Бельский, наверное, читал знаменитый французский детективный роман Дюшато «Замок змеи с перьями», — насмешливо сказал Кортец. — Но здесь только титульный лист… А сама книга где? — Книга осталась в России у первой жены моего отца, княгини Евгении Бельской, урожденной баронессы Эжени де Мерод, — с большой готовностью пояснил Джейк Бельский. — Кроме греческой записи на обороте, здесь, на самом титуле, есть еще французская надпись, которая поможет нам отыскать всю библиотеку. — Французская?… Но ведь Иван Грозный приказал боярину Бельскому овладеть только греческим языком! — удивленно произнес Кортец. — Это запись другого Бельского. Она сделана в двадцатом веке. Кортец еще раз внимательно осмотрел лист. — Это древнегреческий язык… Я ничего в нем не понимаю. Но я не вижу здесь никакой французской надписи. — Я свел ее из предосторожности, — тихо сказал Джейк Бельский. — Ее можно восстановить химическим путем, когда понадобится. Кортец положил пергамент на стол: — Значит, ваш отец научил вас, как найти византийскую библиотеку? Джейк Бельский с минуту помолчал — он почувствовал язвительность в тоне вопроса. — Думаю, что да, сэр, — сказал он, усиленно работая зелеными веками. — А как вывезти ее из России — этому он не научил вас? — спросил Кортец, насмешливо глядя на респектабельного юношу, вежливо и вполне серьезно предлагавшего ему включиться в совершенно необычайную авантюру. После небольшой паузы Джейк Бельский ответил, вопросительно глядя на Кортеца: — Я полагал, сэр, что этому научите меня вы… Меня в этом уверил мистер Сэмюэль Грегг. — Мистер Сэмюэль Грегг? О да! Он уверен, что в России ничего не изменилось и что библиотеку Грозного так же легко сейчас вывезти, как я когда-то вывез оттуда «коптское евангелие»… Молодой гость молчал. Наступила пауза. Молчание длилось минуты две. Наконец Кортец отодвинул от себя пергаментную трубку и сказал решительным тоном: — Рукописи — это уже не моя специальность. Сейчас я лишь организатор выставок произведений живописи. Я частное лицо, меня интересует только живопись, и ни с какими трестами я не желаю себя связывать. Джейк Бельский встревожился: — Но совершенно необязательно быть специалистом, сэр! Я ведь тоже в этих рукописях ничего не понимаю. Нам надо только найти их и вывезти в Америку. А там уже специалисты треста разберутся. — Вывезти в Америку мы ничего не сможем! — возразил Кортец. — Ну что ж, вывезем во Францию, — быстро согласился Джейк Бельский. — Это фантастика! — презрительно оттопырив губы, проворчал Кортец. — Почему? — с недоумением спросил молодой гость. — А потому, что мы не найдем этой мифической библиотеки! Это во-первых. Но если мы ее даже и найдем, если даже вывезем из России, что оч-чень нелегко, то мы совершим кражу! Нас арестуют если не в России, то здесь, во Франции! Этого потребует советское правительство, и французские власти не смогут не выполнить его требования. Ведь мы присвоим себе чужие ценности! Вы это понимаете?… А для подобных дел существует уголовный кодекс. Ваш мистер Сэмюэль Грегг очень хорошо с ним знаком. Все это немногословный Кортец выпалил с большим азартом и почти залпом. Можно было подумать, что он старается напугать не столько Джейка Бельского, сколько самого себя. — И еще одно! — все тем же сердитым тоном продолжал Кортец. — Вы слыхали что-нибудь о так называемых культурных связях между западными странами и Советской Россией? О них очень много сейчас говорят. — Слышал, — выжидательно глядя на него, ответил американский гость. — Мы с вами находимся в Париже. А многие французы очень хотят дружить с русскими. Затея мистера Грегга может здесь не понравиться! — строго сказал Кортец. Джейк презрительно ухмыльнулся и пожал плечами: — Я не француз. И вы также, сэр… — Да, но я живу в Париже, черт возьми! — зарычал Кортец. — И я не намерен отсюда уезжать, если новая затея мистера Грегга провалится! — Вам не нужно будет уезжать из Парижа, сэр. В случае неудачи я всё беру на себя, — быстро и деловито пояснил гость. — Это также предусмотрено моим контрактом с фирмой мистера Грегга. Кортец с минуту смотрел на Джейка Бельского с любопытством, наконец рассмеялся и сказал: — Узнаю мистера Грегга! Он умеет извлекать прибыль даже из неудачи. Ваш провал может испортить отношения с русскими, и кое-кто в Штатах с радостью заплатит вам за два — три года тюрьмы. При упоминании о тюрьме Джейк Бельский не побледнел и не покрылся холодным потом. Наоборот, он хитро заулыбался и сказал: — Думаю, что до тюрьмы дело не дойдет, сэр… В России я намерен действовать осторожно. Вы же будете стоять в стороне от всего, что мне придется там проделать. Что касается французских властей, то и здесь все можно будет предусмотреть, чтобы застраховать себя от неприятностей. — Как?! — свирепо вращая глазами, завопил Кортец. Предусмотрительность молодого авантюриста начинала бесить его. — Не волнуйтесь, сэр. Это вредно, — тихо и вразумительно произнес гость. — Мой отец сообщил мне, что здесь, во Франции, и в Италии живут потомки Фомы Палеолога, отца царевны Зои. Они являются прямыми наследниками московской царицы Софьи Палеолог, ибо в России после смерти детей и внуков Ивана Грозного ее потомков не осталось… — Кто живет во Франции? — быстро спросил Кортец. — Мадам де Брентан, дочь князя Джованни Ласкариса Палеолога, — помедлив немного, ответил Джейк Бельский. «Специалист по живописи» усмехнулся: — Я вижу, ваш папа очень хотел пойти дальше боярина Ивана Бельского и заполучил не одну только антологию византийских поэтов. — Да, он всю жизнь лелеял эту мечту, — подтвердил Джейк Бельский. — Но отец меньше всего думал о деньгах. Он хотел лишь отомстить своему брату, князю Платону, отбившему у него жену, красавицу Эжени де Мерод… Эту историю я расскажу вам в другой раз. Кортец внимательно поглядел на русско-американского князя и подумал уже без всякой неприязни к нему: «Гм… А он, кажется, неглуп, этот желторотый Джейк. Сэмюэль Грегг недаром поставил на него…» — Ладно! — наконец вымолвил он. — Я ничего вам и мистеру Греггу не обещаю. Но, не разглашая ваших замыслов, я наведу кое-какие справки, прощупаю кое-где почву и только после этого дам окончательный ответ. — Кивнув на трубку пергамента, он добавил: — Оставьте этот архаизм у меня. Если вы, конечно, мне доверяете. Я покажу его одному толковому человеку. Он хорошо знает византийскую литературу и многое другое. — Конечно, сэр! — с величайшей готовностью воскликнул Джейк Бельский. — Пожалуйста, оставьте у себя этот пергамент! Отец сказал, что он принесет счастье тому, кто сумеет присоединить этот титульный лист к книге, от которой он отделен. Гость встал, понимая, что аудиенция окончена. Кортец нажал кнопку звонка: — Приходите завтра. — С удовольствием, сэр. — Не «сэр», а «мсье», — снисходительно поправил его Кортец. — Этого обращения во Франции многие не любят. Да и не только во Франции. — Понимаю, мсье… Зашуршала шелковая юбка. Вошедшая Мадлен сразу же поняла, что молодой американец не напрасно истратил на нее доллар. — Мадлен! Князь Джейк Бельский будет у меня завтра в десять утра, — напыщенно произнес Кортец. — Просите его прямо в кабинет. Мадлен грациозно сделала перед князем Джейком Бельским книксен.Иоанн.Лета от сотворения мира 7.062-го майя в четверток 25 дня».
В КАФЕ «ГУИНПЛЕН»
В тот же день Педро Хорхе Кортец посетил кафе «Гуинплен». Он давно здесь не был, но завсегдатаи кафе сразу узнали его. Это были «маршаны» — перекупщики картин, небогатые антиквары; художники — молодые и уже много лет «подающие надежды»; натурщицы; любители картин и редкостей. В кафе, как всегда, было шумно, но шум усилился, когда в дверях показалась массивная фигура Кортеца. Среди посетителей было немало тех, на ком мсье Кортец иногда неплохо зарабатывал, и тех, кто заработал (но не очень много) с его помощью. Послышались возгласы: — Ого! Дон Педро собственной персоной! — Великий конквистадор из Стамбула! — Салют, мсье Кортец! Присаживайтесь… Отвечая на приветствия и помахивая волосатой рукой, на пальцах которой сверкали камни перстней, мсье Кортец внимательно искал среди завсегдатаев кафе того, кто был ему нужен. — Он кого-то ищет… — сказала маленькая натурщица с большим черепаховым гребнем в золотой копне волос. — Да, и уж, наверно, не тебя, — ответил ей молодой весьма кудлатый художник со старинным жабо вместо воротничка и с большой пиратской серьгой в левом ухе. — Кто-то сегодня заработает, — меланхолично произнес старый «маршан», провожая Кортеца кислым взглядом. — Это ловкач!.. К Кортецу подошел буфетчик, круглоголовый человек в белом переднике: — Мсье Кортец, вы кого-то ищете? — Да, мсье Птибо, — рассеянно ответил Кортец. — Мне нужен профессор Бибевуа. — Он уединился. Что-то пишет в бильярдной. — Мерси… — Кортец хотел пройти в бильярдную, но, словно вспомнив о чем-то, спросил: — Он должен вам, мсье Птибо? Буфетчик развел руками: — Как всегда, мсье Кортец. — Много? — Неделю уже не платит. Три тысячи франков. При нынешнем курсе это, конечно, не так уж много, но…
— О, да-да! Узнаю профессора! — Кортец похлопал буфетчика по плечу. — Не унывайте, мсье Птибо. Может быть, мне удастся это дело уладить.
Он прошел в соседнее помещение. Здесь стояла относительная тишина, слышно было лишь, как белые шары на зеленых лужайках бильярдных столов, сталкиваясь, стреляли, словно пистолеты в тире. Время от времени маркер торжественно возглашал:
— Карамболь, мсье Роже! Тридцать два!
— Карамболь, мсье Капо! Шестнадцать!
— Удар не засчитан.
В углу, подле стойки с киями, у подоконника, примостился на вертящемся стуле пожилой человек, облаченный в невероятно потертую визитку. Худобой своей, чахлым лицом, острой бородкой и похожими на пики усами он напоминал Дон-Кихота, а длинными руками и большими оттопыренными ушами — орангутанга. Его стриженый и угловатый череп посеребрила седина.
Человек быстро писал: перо его авторучки стремительно скользило по бумаге, а исписанные листы он небрежно отодвигал в сторону. Это и был Леон Бибевуа, которого все знакомые называли «профессором», хотя еще десять лет назад он был изгнан из последней гимназии за пристрастие к крепким напиткам и нигде не преподавал.
Кортец хорошо знал этого странного человека, обладавшего энциклопедическими познаниями и феноменальной памятью, неудачника, пьяницу, но в свое время очень неплохого педагога. Бибевуа великолепно изучил историю человечества и историю всех видов искусства. Не глядя на подпись, он мог безошибочно назвать автора картины (если тот был, конечно, известен), и для этого ему даже не надо было видеть картину раньше. Он знал также всё, что касалось мировой литературы и в особенности литературы древней. Кроме того, Бибевуа в совершенстве владел языками, на которых уже давно никто не говорил: латынью, древнегреческим и санскритом.
Кортец часто пользовался консультацией Бибевуа и, не взирая на странности «профессора», с уважением относился к нему. Сейчас он видел, что Бибевуа увлечен какой-то работой. Обычно высокомерный и бесцеремонный с бедняками, Кортец все же не решался окликнуть его.
— Мсье Кортец! — не оборачиваясь, сиплым голосом сказал Бибевуа. — Вы хотите помешать мне работать?
Кортец догадался: Бибевуа увидел его отражение в темном стекле окна.
— О нет, профессор! Я подожду…
— Вам придется ждать еще час. Я пишу статью за одного идиота, облеченного ученой степенью бакалавра.
— Это интересно. Какая тема?
— Палеографическое исследование эволюции заглавных букв в минускульном письме девятого века.
— О ла-ла! — с уважением воскликнул Кортец. — Что же это за письмо? Кто его автор?
— Вы невежда, мсье Кортец! — просипел Бибевуа, не переставая строчить свою статью. — Это не чье-либо личное письмо, а тип латинского рукописного письма. Выражаясь современным языком, это шрифт, которым написано большинство рукописей латинских классиков.
— Понимаю, профессор. Я пришел не вовремя, но, кажется, кстати. У меня та же тема, — стараясь говорить возможно мягче, сказал Кортец.
— Тоже статья?
— Нет, консультация… Со мной древняя рукопись.
Бибевуа перестал писать и быстро повернулся на своем кресле:
— Покажите.
— Неделю уже не платит. Три тысячи франков. При нынешнем курсе это, конечно, не так уж много, но…
— О, да-да! Узнаю профессора! — Кортец похлопал буфетчика по плечу. — Не унывайте, мсье Птибо. Может быть, мне удастся это дело уладить.
Он прошел в соседнее помещение. Здесь стояла относительная тишина, слышно было лишь, как белые шары на зеленых лужайках бильярдных столов, сталкиваясь, стреляли, словно пистолеты в тире. Время от времени маркер торжественно возглашал:
— Карамболь, мсье Роже! Тридцать два!
— Карамболь, мсье Капо! Шестнадцать!
— Удар не засчитан.
В углу, подле стойки с киями, у подоконника, примостился на вертящемся стуле пожилой человек, облаченный в невероятно потертую визитку. Худобой своей, чахлым лицом, острой бородкой и похожими на пики усами он напоминал Дон-Кихота, а длинными руками и большими оттопыренными ушами — орангутанга. Его стриженый и угловатый череп посеребрила седина.
Человек быстро писал: перо его авторучки стремительно скользило по бумаге, а исписанные листы он небрежно отодвигал в сторону. Это и был Леон Бибевуа, которого все знакомые называли «профессором», хотя еще десять лет назад он был изгнан из последней гимназии за пристрастие к крепким напиткам и нигде не преподавал.
Кортец хорошо знал этого странного человека, обладавшего энциклопедическими познаниями и феноменальной памятью, неудачника, пьяницу, но в свое время очень неплохого педагога. Бибевуа великолепно изучил историю человечества и историю всех видов искусства. Не глядя на подпись, он мог безошибочно назвать автора картины (если тот был, конечно, известен), и для этого ему даже не надо было видеть картину раньше. Он знал также всё, что касалось мировой литературы и в особенности литературы древней. Кроме того, Бибевуа в совершенстве владел языками, на которых уже давно никто не говорил: латынью, древнегреческим и санскритом.
Кортец часто пользовался консультацией Бибевуа и, не взирая на странности «профессора», с уважением относился к нему. Сейчас он видел, что Бибевуа увлечен какой-то работой. Обычно высокомерный и бесцеремонный с бедняками, Кортец все же не решался окликнуть его.
— Мсье Кортец! — не оборачиваясь, сиплым голосом сказал Бибевуа. — Вы хотите помешать мне работать?
Кортец догадался: Бибевуа увидел его отражение в темном стекле окна.
— О нет, профессор! Я подожду…
— Вам придется ждать еще час. Я пишу статью за одного идиота, облеченного ученой степенью бакалавра.
— Это интересно. Какая тема?
— Палеографическое исследование эволюции заглавных букв в минускульном письме девятого века.
— О ла-ла! — с уважением воскликнул Кортец. — Что же это за письмо? Кто его автор?
— Вы невежда, мсье Кортец! — просипел Бибевуа, не переставая строчить свою статью. — Это не чье-либо личное письмо, а тип латинского рукописного письма. Выражаясь современным языком, это шрифт, которым написано большинство рукописей латинских классиков.
— Понимаю, профессор. Я пришел не вовремя, но, кажется, кстати. У меня та же тема, — стараясь говорить возможно мягче, сказал Кортец.
— Тоже статья?
— Нет, консультация… Со мной древняя рукопись.
Бибевуа перестал писать и быстро повернулся на своем кресле:
— Покажите.
 Кортец передал ему свернутый трубкой пергаментный лист. Сейчас этот лист был прикреплен к ватманской бумаге, и оборотная сторона его оказалась закрытой. Бибевуа поправил очки и впился своими пронзительными глазами в пергамент. Через минуту он поднял голову и молча посмотрел на Кортеца.
— Подделка? — тихо спросил Бибевуа.
Кортец развел руками:
— Не знаю. Это вы должны мне сказать.
Бибевуа вскочил, подбежал к настольной лампе и сунул свой острый нос в самый пергамент. Затем, суетливо пошарив по карманам, он извлек лупу и снова припал к листу.
Кортец медленно подошел к нему.
Бибевуа долго разглядывал лист в лупу. Он был явно взволнован.
— Невероятно! — наконец воскликнул он. — Подлинник!.. Вы знаете, что это?
Кортец неопределенно шевельнул своими мохнатыми бровями:
— Приблизительно…
— Это первая страница книги, которую считают погибшей. Вместе с другими сокровищами византийской столицы она была вывезена в Рим изКонстантинополя в середине пятнадцатого века. Дальнейшая судьба ее неизвестна! — патетически произнес Бибевуа. — Этому пергаменту цены нет. Как он к вам’попал?
— Я вам потом расскажу, профессор, — уклончиво ответил Кортец. — А что здесь написано?
— Извольте! Вот точный перевод. Киклос. Антология византийских поэтов. Эпиграммы элегические, сатирические и любовные, собранные Агафием, юристом и поэтом.
— Интересно… — задумчиво произнес Кортец.
— Какая прелесть! — с восхищением сказал Бибевуа, разглядывая эмблему древнего титульного листа. — Но где же вся книга?
— У меня есть надежда, что с помощью титульного листа я найду всю книгу! — многозначительно произнес Кортец и взял из рук «профессора» пергаментный лист, когда тот пытался отодрать его от ватманского листа.
— Вы хорошо заработаете, если найдете ее. За такую книгу богатые коллекционеры дадут много денег, — сказал Бибевуа.
— Примерно?
— Оценщиком меня возьмете? — хитро подмигнув, спросил Бибевуа.
— Возьму.
— Смотрите! Без обмана… Эта книга должна стоить не меньше ста тысяч долларов. Мой гонорар скромный — два процента…
Кортец похлопал Бибевуа по спине:
— Я люблю вас, профессор. И потому я готов уже сейчас внести часть вашего гонорара.
Бибевуа оживился:
— О, это было бы неплохо!
Кортец подошел к двери и позвал:
— Мсье Птибо!..
Буфетчик не заставил себя ждать.
— Профессор должен вам три тысячи франков?
— Совершенно верно, мсье.
Кортец вынул бумажник и отсчитал несколько кредиток.
— Вы больше не должны господину Птибо, — весело сказал он, обращаясь к Бибе-вуа.
— Виват дону Педро Кортецу!.. — воскликнул Бибевуа. — Надеюсь, вы теперь не сомневаетесь в моей кредитоспособности, мсье Птибо?
— Сегодня нет, а завтра опять буду сомневаться, — с юмором, но и с жалостью ответил Птибо.
— В таком случае, приготовьте мне стакан коньяку, — вежливо попросил Бибевуа. — Я подойду к вашей стойке, как только закончу статью.
Кортец вынул из бумажника еще одну кредитку и подал Птибо.
— Я очень обязан профессору и не хочу, чтобы он сегодня был перед вами в долгу, — сказал он и, пожав руку Бибевуа, направился к выходу.
В общем зале Кортец подошел к группе художников, сидевших за маленьким столиком. Здесь шла оживленная, прерываемая смехом беседа, но, как только Кортец приблизился, все умолкли.
— Садитесь, маэстро! — предложил художник с пиратской серьгой.
— Нет, я только на минуту, — сказал Кортец. — Но я вам помешал, господа? Вы о чем-то говорили…
Он еще издали услыхал свое имя и понял, что разговор шел о нем.
— Нет, отчего же! Я все могу повторить, — с независимым видом сказал художник с серьгой. — Я рассказывал им забавный анекдот о том, как вы, мсье Кортец, хотели выменять в ленинградском Эрмитаже ван-дейковского лорда Уортона на поддельного Гогена. Кортец саркастически улыбнулся:
— В Париже все идет в анекдот! А насчет поддельного Гогена вы присочинили, Прежан.
— Но он так смешно рассказывает! — с восторгом воскликнула маленькая натурщица с большим гребнем.
— А-а! Ну, тогда я его прощаю… — снисходительно произнес Кортец. — Кстати, вы очень нужны мне, Прежан. Вы можете мне уделить сейчас минут десять?
— С удовольствием, маэстро!
Кортец подмигнул маленькой натурщице и, взяв под руку молодого художника, направился с ним к свободному столику в дальний угол кафе.
— Садитесь, Прежан, — сказал он и грузно опустился на стул. — У меня к вам действительно есть дело. Но эти ваши анекдоты…
Кортец передал ему свернутый трубкой пергаментный лист. Сейчас этот лист был прикреплен к ватманской бумаге, и оборотная сторона его оказалась закрытой. Бибевуа поправил очки и впился своими пронзительными глазами в пергамент. Через минуту он поднял голову и молча посмотрел на Кортеца.
— Подделка? — тихо спросил Бибевуа.
Кортец развел руками:
— Не знаю. Это вы должны мне сказать.
Бибевуа вскочил, подбежал к настольной лампе и сунул свой острый нос в самый пергамент. Затем, суетливо пошарив по карманам, он извлек лупу и снова припал к листу.
Кортец медленно подошел к нему.
Бибевуа долго разглядывал лист в лупу. Он был явно взволнован.
— Невероятно! — наконец воскликнул он. — Подлинник!.. Вы знаете, что это?
Кортец неопределенно шевельнул своими мохнатыми бровями:
— Приблизительно…
— Это первая страница книги, которую считают погибшей. Вместе с другими сокровищами византийской столицы она была вывезена в Рим изКонстантинополя в середине пятнадцатого века. Дальнейшая судьба ее неизвестна! — патетически произнес Бибевуа. — Этому пергаменту цены нет. Как он к вам’попал?
— Я вам потом расскажу, профессор, — уклончиво ответил Кортец. — А что здесь написано?
— Извольте! Вот точный перевод. Киклос. Антология византийских поэтов. Эпиграммы элегические, сатирические и любовные, собранные Агафием, юристом и поэтом.
— Интересно… — задумчиво произнес Кортец.
— Какая прелесть! — с восхищением сказал Бибевуа, разглядывая эмблему древнего титульного листа. — Но где же вся книга?
— У меня есть надежда, что с помощью титульного листа я найду всю книгу! — многозначительно произнес Кортец и взял из рук «профессора» пергаментный лист, когда тот пытался отодрать его от ватманского листа.
— Вы хорошо заработаете, если найдете ее. За такую книгу богатые коллекционеры дадут много денег, — сказал Бибевуа.
— Примерно?
— Оценщиком меня возьмете? — хитро подмигнув, спросил Бибевуа.
— Возьму.
— Смотрите! Без обмана… Эта книга должна стоить не меньше ста тысяч долларов. Мой гонорар скромный — два процента…
Кортец похлопал Бибевуа по спине:
— Я люблю вас, профессор. И потому я готов уже сейчас внести часть вашего гонорара.
Бибевуа оживился:
— О, это было бы неплохо!
Кортец подошел к двери и позвал:
— Мсье Птибо!..
Буфетчик не заставил себя ждать.
— Профессор должен вам три тысячи франков?
— Совершенно верно, мсье.
Кортец вынул бумажник и отсчитал несколько кредиток.
— Вы больше не должны господину Птибо, — весело сказал он, обращаясь к Бибе-вуа.
— Виват дону Педро Кортецу!.. — воскликнул Бибевуа. — Надеюсь, вы теперь не сомневаетесь в моей кредитоспособности, мсье Птибо?
— Сегодня нет, а завтра опять буду сомневаться, — с юмором, но и с жалостью ответил Птибо.
— В таком случае, приготовьте мне стакан коньяку, — вежливо попросил Бибевуа. — Я подойду к вашей стойке, как только закончу статью.
Кортец вынул из бумажника еще одну кредитку и подал Птибо.
— Я очень обязан профессору и не хочу, чтобы он сегодня был перед вами в долгу, — сказал он и, пожав руку Бибевуа, направился к выходу.
В общем зале Кортец подошел к группе художников, сидевших за маленьким столиком. Здесь шла оживленная, прерываемая смехом беседа, но, как только Кортец приблизился, все умолкли.
— Садитесь, маэстро! — предложил художник с пиратской серьгой.
— Нет, я только на минуту, — сказал Кортец. — Но я вам помешал, господа? Вы о чем-то говорили…
Он еще издали услыхал свое имя и понял, что разговор шел о нем.
— Нет, отчего же! Я все могу повторить, — с независимым видом сказал художник с серьгой. — Я рассказывал им забавный анекдот о том, как вы, мсье Кортец, хотели выменять в ленинградском Эрмитаже ван-дейковского лорда Уортона на поддельного Гогена. Кортец саркастически улыбнулся:
— В Париже все идет в анекдот! А насчет поддельного Гогена вы присочинили, Прежан.
— Но он так смешно рассказывает! — с восторгом воскликнула маленькая натурщица с большим гребнем.
— А-а! Ну, тогда я его прощаю… — снисходительно произнес Кортец. — Кстати, вы очень нужны мне, Прежан. Вы можете мне уделить сейчас минут десять?
— С удовольствием, маэстро!
Кортец подмигнул маленькой натурщице и, взяв под руку молодого художника, направился с ним к свободному столику в дальний угол кафе.
— Садитесь, Прежан, — сказал он и грузно опустился на стул. — У меня к вам действительно есть дело. Но эти ваши анекдоты…
 — Мсье, — смеясь, сказал Прежан, — это лишь безобидная болтовня! Никто в нее не верит.
Кортец сокрушенно покачал головой:
— Болтовня? Есть на Востоке умная пословица: «Будь осторожен, когда лжешь, но еще больше остерегайся, когда говоришь правду»…
— Прекрасная пословица! — воскликнул Прежан. — Завтра же ее будет знать весь Париж.
— Однако то, что я вам скажу, сейчас, должны знать только вы, Прежан, и я, — пристально глядя на него, произнес Кортец.
— Самый верный замок для тайны — это деньги, маэстро, — насмешливо ответил Прежан, играя сросшимися бровями и пощелкивая пальцем по своей серпообразной серьге
— Вы можете хорошо заработать, Прежан… — многозначительно сказал Кортец.
— Как?
— Слушайте… — И, оглянувшись, Кортец зашептал.
— Ого! Интересно… Опять Гоген? — воскликнул Прежан.
— Нет. Это совсем другое дело… Вы у меня бывали. Помните те два пейзажа, что я привез из Москвы?
— Помню, маэстро. Но… — художник пожал плечами, — я ничего особенного в них не нахожу.
— Я тоже, Прежан. И все-таки я уверен, что если мы хорошо поищем, то можем найти не в них, а за ними что-нибудь очень интересное.
— Вот как? — с озадаченным видом произнес Прежан. — А что же именно вы хотите за ними найти?
— Боровиковского! Вы видели у меня два портрета его работы, которые я купил у князя Оболенского?
— Видел.
— Два московских пейзажа надо нанести на полотна Боровиковского так, чтобы была видна расчистка. Понимаете?
— Начинаю кое-что понимать, маэстро, — пристально глядя на своего собеседника, сказал Прежан.
— Я не сомневался, что вы меня поймете… Кортец придвинулся поближе к молодому художнику и зашептал ему что-то прямо в ухо с пиратской серьгой.
— Мсье, — смеясь, сказал Прежан, — это лишь безобидная болтовня! Никто в нее не верит.
Кортец сокрушенно покачал головой:
— Болтовня? Есть на Востоке умная пословица: «Будь осторожен, когда лжешь, но еще больше остерегайся, когда говоришь правду»…
— Прекрасная пословица! — воскликнул Прежан. — Завтра же ее будет знать весь Париж.
— Однако то, что я вам скажу, сейчас, должны знать только вы, Прежан, и я, — пристально глядя на него, произнес Кортец.
— Самый верный замок для тайны — это деньги, маэстро, — насмешливо ответил Прежан, играя сросшимися бровями и пощелкивая пальцем по своей серпообразной серьге
— Вы можете хорошо заработать, Прежан… — многозначительно сказал Кортец.
— Как?
— Слушайте… — И, оглянувшись, Кортец зашептал.
— Ого! Интересно… Опять Гоген? — воскликнул Прежан.
— Нет. Это совсем другое дело… Вы у меня бывали. Помните те два пейзажа, что я привез из Москвы?
— Помню, маэстро. Но… — художник пожал плечами, — я ничего особенного в них не нахожу.
— Я тоже, Прежан. И все-таки я уверен, что если мы хорошо поищем, то можем найти не в них, а за ними что-нибудь очень интересное.
— Вот как? — с озадаченным видом произнес Прежан. — А что же именно вы хотите за ними найти?
— Боровиковского! Вы видели у меня два портрета его работы, которые я купил у князя Оболенского?
— Видел.
— Два московских пейзажа надо нанести на полотна Боровиковского так, чтобы была видна расчистка. Понимаете?
— Начинаю кое-что понимать, маэстро, — пристально глядя на своего собеседника, сказал Прежан.
— Я не сомневался, что вы меня поймете… Кортец придвинулся поближе к молодому художнику и зашептал ему что-то прямо в ухо с пиратской серьгой.
«ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ»
Мать Джейка Бельского, Тереза Бодуэн, стала второй женой русского эмигранта князя Андрея Бельского, когда ей было тридцать лет, а ее мужу пятьдесят. Она назвала сына Жаком в честь своего отца. Ее муж Андрей Бельский, когда-то был богат, но к моменту рождения Жака успел промотать свое состояние и вскоре уговорил жену переехать из Европы в Соединенные Штаты. Здесь его дальняя родственница, княгиня Александра Толстая, обещала ему «доходное место». В антисоветском кружке Толстой Андрею Бельскому предложили выступать на сборищах реакционных организаций и рассказывать об «издевательствах», которым он якобы подвергался со стороны большевиков в 1917 году. Но для подобных рассказов требовалось хотя бы небольшая доля воображения, которого князь Андрей Бельский был лишен, и поэтому вскоре ему пришлось прекратить свои выступления и устроиться клерком в контору налогового инспектора. Эта должность со временем перешла по наследству к его сыну, уже возмужавшему и превратившемуся из Жака в Джейка. Молодой Бельский не был в восторге от своей профессии, тем более что от матери он унаследовал природную смекалку и производил впечатление неглупого молодого человека. Однако житейский опыт научил его понимать, что одним умом в Америке не добьешься хорошей жизни. Не поможет и образование. Его отец кончил Петербургский университет, но дальше клерка в Штатах не пошел, ибо был человеком чрезвычайно непрактичным. А в этом Джейк убедился, когда перед смертью отец рассказал ему о тайнике в каком-то монастыре, где в XVI веке, по его словам, была захоронена библиотека византийской царевны Зои. При этом старик передал сыну титульный лист от старинной книги (с планом тайника), которую царь Иван Грозный подарил своему другу, боярину Бельскому, одному из предков Джейка. Оказывается, тайна ценнейшей коллекции была известна Андрею Бельскому много лет, но он не сумел воспользоваться ею. Целых два года обдумывал Джейк Бельский, как заполучить собрание древних рукописей, стоивших немалых денег, и наконец пришел к мысли, что одному ему пробраться в Россию, отыскать там книжный клад и вывезти его за границу никак не удастся… Нужны помощники. Но кому можно доверить свою тайну в стране, где господствует закон джунглей и где сам Джейк чувствует себя лишь слабым тростником в джунглях? Даже с матерью не мог посоветоваться Джейк: отец запретил говорить с нею об этом. «Она будет скулить, что ты погибнешь в России, и все испортит», — предупредил отец. И все же Джейк рискнул поговорить кое с кем из русских эмигрантов. Он сказал, что хочет пробраться в Россию: там отец закопал в помещичьем саду фамильные драгоценности. Один из друзей Керенского, барон Виттельсбах, свел Джейка с Сэмюэлем Греггом. Это был крупный акционер и фактический хозяин «Международного антикварного треста». Располагая широко разветвленной агентурой, этот трест выискивал и скупал во всех странах произведения живописи, скульптуры, ценные рукописи и книги, личные вещи, принадлежавшие знаменитым людям (историческим лицам, спортсменам и артистам, дипломатам и «великим» преступникам). Покупая и перекупая подлинные ценности и ценности сомнительные, трест широко практиковал также и фабрикацию подделок самого различного рода. Не гнушался он и авантюрными махинациями. Одним из такого рода «подвигов» треста была мошенническая проделка с «коптским евангелием». Агенты треста пронюхали, что в Ленинграде, в одном книгохранилище, находится древнее рукописное евангелие, написанное во II веке на языке египетских христиан (коптов). Первоначальным владельцем этой рукописной книги был знаменитый Афонский монастырь [45], а затем, в первой половине XIX века, монастырь подарил «коптское евангелие» русскому царю Николаю I. После революции ценная древняя книга стала достоянием советского народа. В 30-х годах, установив с игуменом Афонского монастыря контакт, антикварный трест поручил своему агенту Кортецу за любые деньги приобрести в Ленинграде «коптское евангелие». По оценке опытных антикваров, эта книга стоила сто пятьдесят тысяч долларов. Кортец предложил книгохранилищу триста тысяч долларов. Советские организации решили продать книгу, но едва она попала в руки треста, как афонский игумен с согласия Сэ-мюэля Грегга обратился в суд с просьбой вернуть монастырю «древнюю святыню», якобы похищенную коммунистами. Антикварный трест не возражал против иска монахов, но учинил иск советскому торгпредству на сумму в триста тысяч долларов. Авантюра эта провалилась, ибо советские юристы предъявили дарственную запись, сделанную в свое время монастырем на имя царя Николая I. Коптская рукопись, таким образом, была не собственностью Афонского монастыря, а достоянием советского народа… Авантюристы остались в дураках, а «козлом отпущения» оказался Кортец. Грегг обвинил его в «медлительности и неловкости», в том, что «потомок великого конквистадора» не нашел в Ленинграде дороги к людям, которые заранее уничтожили бы дарственную запись Афонского монастыря. Таков был антикварный трест, с главой которого, Сэмюэлем Греггом, и познакомился Джейк Бельский. Гориллоподобный хрипун Грегг недолго разговаривал с Джейком. Он просмотрел его документы и пергаментный лист, затем молча написал записку Кортецу и чек на тысячу долларов. — Немедленно отправляйтесь в Париж! — сказал он. — Найдете там Кортеца. Адрес вам дадут. Я финансирую всю эту операцию. Вы получите десять процентов от чистой выручки, Кортец — пятнадцать. От него зависит всё… Гуд бай! Хеппи энд!.. Об остальном договоритесь с нашими юристами. Обо всем этом Джейк вспомнил на другой день после визита к Кортецу, шагая по Рю-де-Орьянт к вилле «потомка великого конквистадора». Вспомнил он и о том, как вчера, уходя от Кортеца, сунул в цепкую руку Мадлен еще одну бумажку — на этот раз уже не долларовую, а пятидолларовую — и попросил Мадлен прийти вечером в любое время в кафе «Сурир». Ему пришлось прождать Мадлен долго, но она все же пришла и сразу стала болтать о своих поклонниках и подругах. Потом она выпила рюмку шартреза и выкурила сигарету. О Кортеце Мадлен рассказала, что он пришел домой поздно и в хорошем настроении, а на ее вопрос, принимать ли завтра мсье Бельского, ответил: «Непременно!» — Он добавил: «Не забудьте завтрак приготовить на двоих», — щебетала Мадлен. — Вы должны знать, что мсье Кортец угощает только того, кого считает полезным для себя человеком… Джейк, мне кажется, что с его помощью вы заработаете много денег. Я не первый день знакома с мсье Кортецом и научилась угадывать… — Это будет зависеть только от него! — перебил ее Джейк, пожимая плечами. О, вы, наверно, не забудете тогда скромную маленькую Мадлен, которая так старалась, чтобы мсье Кортец вас принял! — воскликнула Мадлен и бросила на Джейка из-под своих фантастических ресниц один из тех взглядов, которые считала «обжигающими». Джейк сообразил, что неплохо было бы вообще иметь Мадлен союзницей при осуществлении «монастырской операции» (так он мысленно зашифровал свой план). Он не сомневался, что в холостяцком доме Кортеца Мадлен не ограничивается ролью горничной. И потому, быстро достав из жилетного кармана изящный янтарный мундштучок (подарок отца), он преподнес его Мадлен. — В том, что я ваш друг до гробовой доски, вы можете не сомневаться, Мадлен, — сказал он с той искренностью, с какой умел разве только чихать. — А пока примите этот небольшой сувенир… Сейчас среди чикагских девушек в большой моде именно такие мундштучки. — Какая прелесть!.. — запела Мадлен и от полноты чувств перешла на «ты». — Ты всегда будешь делать мне подарки, Джейк? — Вечно, Мадлен! — воскликнул он. — А ты будешь мне рассказывать, что думает обо мне мсье Кортец? Это очень важно для нас с тобой. — О, это нетрудно, милый! — ответила Мадлен. — Я умею с ним разговаривать… Но ты действуй смелее. Иначе с ним нельзя. Только, пожалуйста, не моргай так часто глазами. Кортец говорит, что у тебя плохо пришиты веки. Они расстались большими друзьями. …Вспоминая о Мадлен, Джейк тем временем поравнялся уже с густо заросшей плющом двухэтажной виллой Кортеца, построенной в старинном стиле. Калитка. Клумбы. Стриженые кустики. Посыпанная гравием дорожка. Крыльцо с гранитными ступеньками… Звонок. Тишина… Быстрые, легкие шаги за дверью, и вновь неописуемые ресницы. — Это ты? — зачирикала Мадлен, открыв дверь. — Входи! Мсье Кортец ждет тебя… Я узнала еще кое-что. Вчера он был у какой-то важной дамы, с которой говорил о твоем деле. Он называет ее «старой хрычовкой». «Мадам Брентан!» — сразу догадался Джейк. — И что же? — спросил он. — Это все, милый. Но настроение у него все то же. Я угощу тебя чудесным рагу. Иди… Стой!.. Дай я поправлю галстук. Тебе надо его переменить, он похож на гадюку. Вот так… Она скрылась за дверью кабинета, и Джейк услышал ее тонкий голосок: — Князь Джейк Бельский, мсье! — Просите! — сырым голосом ответил Кортец. Войдя в кабинет, Джейк сразу же почувствовал, что Кортец сегодня действительно настроен более благожелательно, нежели вчера. Протянув Джейку свою огромную волосатую длань, он пригласил гостя на диван, сел рядом и сказал: — Душа моя! Я не умею долго притворяться. И потому скажу вам сразу, что ваше предложение меня заинтересовало. Оно необычно. А я люблю заниматься необычными делами. Это моя слабость… Но даже необычное дело должно быть все же делом, а не спортом. Вы меня понимаете? — Вполне, мсье, — тихо произнес Джейк, стараясь вовсе не моргать. — Должен сообщить вам, мой друг, — продолжал Кортец велеречиво, — что вчера же я показал ваш пергамент одному многознающему человеку. Он сказал мне почти то же, что и вы. Я навел справки о византийской библиотеке и узнал то же, что и от вас, с той лишь разницей, что, кроме вас, кажется, никто не знает точного адреса этой библиотеки… Я побывал у мадам де Брентан и узнал от нее то же, что узнали от нее вы. — Я хотел вчера рассказать вам о своем визите к ней, — поспешно вставил Джейк. — Это ничего мне не дало бы, душа моя. Мне надо было увидеть ее лично. Успех нашего дела во многом зависит от этой старой хрычовки, — как бы думая вслух, произнес Кортец. — Очень хорошо, что вы ей ничего не сказали. — Она ничего не должна знать! — сухо и резко сказал Джейк. — Всё надо сделать с нею, но без нее. — Вот именно! — воскликнул Кортец. — С нею, но без нее… Чуть стукнув, вошла Мадлен: — Прикажете подавать завтрак, мсье? Кортец оживился: — Давайте, Мадлен! Он встал с дивана и, как Мефистофель плащом, взмахнул полой своего живописного халата. — Но одной, самой главной справки по вашему делу я пока еще не получил, — сказал Кортец, медленно шагая по кабинету и искоса поглядывая на Джейка. — Получение этой справки потребует времени. Джейк вскочил и с готовностью произнес: — Может быть, я смогу вам помочь, мсье? Кортец поднял унизанную перстнями руку: — Нет, нет! Такую справку я могу получить только от людей, которых хорошо знаю. Джейк понял: — Вы мне не верите? — Я верю только в то, что после понедельника бывает вторник, мой друг. — И, пг» и-стально поглядев на Джейка, спросил: — Вы, конечно, хотите поехать со мной в Россию? — Без меня вы там ничего не найдете, мсье, — вежливо, но твердо сказал Джейк. — Вот, вот! — воскликнул Кортец. — А я, мой друг, жил в Соединенных Штатах и знаю, что там могут иногда придумать, чтобы заслать в Россию необходимого для Пентагона человека. Джейк взволновался не на шутку: — Значит, вы думаете, что я шпион? Кортец снисходительно улыбнулся: — О нет! Если бы я так думал, я не стал бы с вами разговаривать. Мне моя шкура пока еще не надоела. Джейк был сбит с толку. Он даже забыл, что у него «плохо пришиты веки», и сигналил вовсю. — Я вас не понимаю, мсье. Так в чем же дело? Вошла Мадлен с подносом. Заменив круглый столик другим, более просторным, она расставляла на нем тарелки и украдкой поглядывала на своего нового друга. Не понимая, о чем ее хозяин беседует с Джейком (они говорили по-русски), Мадлен видела тревогу на лице молодого гостя. А так как, кроме накладных ресниц и огненных губ, она обладала еще и простым, добрым сердцем, то, забыв о «будущих подарках», посылала Джейку самые выразительные взгляды, которыми старалась ободрить его. — Стол накрыт, мсье! — сказала она. Кортец похлопал Джейка по плечу и подвел к столу: — Не унывайте, душа моя! Я только хотел быть с вами откровенным. У меня принцип — ни в коем случае не связываться ни с какой разведкой. Но мне кажется, что чутье меня не обманет: вы не похожи на шпиона. Он взглянул на стол, накрытый Мадлен, и увидел на нем, кроме тарелок и закуски, узкую вазочку с тремя пунцовыми тюльпанами: — О ла-ла! Вы в этом доме, кажется, понравились не только мне. Но, обратив свой взор на закуски и пузатенькую бутылочку шамбертэна, тотчас же забыл о тюльпанах. — М-м… Недурно! Это то, что в рекламном деле называется «экстра». Кроме тюльпанов и шамбертэна, стол украшала горка паштета из дичи с орехами, нарезанная тончайшими лепестками колбаса салями и пахучий салат из сельдерея. — Прошу, ваше сиятельство! — церемонно сказал Кортец по-французски и широким жестом указал на стул. — Не зная, что вы любите, я решил положиться на свой вкус. — И на мой, мсье! — добавила Мадлен, посылая Джейку сияющий взгляд. — Да, я советовался с Мадлен, — сознался Кортец. — Она была бы неплохой хозяйкой, но… Он не докончил, встретив ее пристальный взгляд. — Благодарю вас, мадемуазель, — сказал Джейк и сел за стол. Мадлен собралась уходить, но ее остановил Кортец: — Как там у Барб? Все сделано, как я велел? — Рагу изумительное, мсье! — с напускным восторгом пропела Мадлен. — А подливка?… — Сливки, вино, коринфский изюм и корица, мсье. Всё так, как вы любите. От предвкушаемого удовольствия Кортец раздул ноздри: — Люблю поесть, друг мой! Гублю себя! Врачи запретили… Но не могу! В жратве я романтик… А относительно Пентагона и прочего вы не думайте. Если даже вы шпион, я не стану доносить на вас русским, — мне на них наплевать. Но выгоню вас обязательно. Если же вы честный жулик, помогу, ибо ваша затея мне нравится. В таких делах я тоже романтик. — Мистер Грегг сказал: «Педро Кортец умеет увлекаться и не теряет при этом головы», — льстиво произнес Джейк. — Старый плут! Он меня хорошо знает! — воскликнул Кортец, наливая в рюмки вино. — Я никогда и ничего не пью, мсье. Но с вами выпью с удовольствием. — За Ивана Грозного и за его библиотеку! — смеясь, воскликнул Кортец и понюхал вино. — Экстра! Они выпили и закусили ломтиками салями. — Возьмите паштету, Джейк, — предложил Кортец. — Он сделан по моему «сценарию». И вообще во мне погиб величайший в мире кулинар. Да-да! Однако блаженное состояние, в которое погружались за столом все сто двадцать кило мсье Кортеца, не лишало его способности мыслить практически. — Итак, вы уверены, что найдете легендарную византийскую библиотеку? — неожиданно спросил он. — Я в этом не сомневаюсь, мсье… — Я понимаю, что это ваша семейная тайна, и не прошу указать точные координаты древнего тайника, Джейк. Но я пальцем не шевельну, если не буду знать, что это дело верное… Попробуйте салат. Это чисто французское блюдо. Джейк потянулся к салату. — Благодарю, мсье… Я тоже не пустился бы в столь далекий и рискованный путь, если бы не считал это дело верным, — сказал он совершенно спокойно. Его тревожили только сомнения Кортеца, а в остальном он был уверен. — Я вам уже сказал — ваше предложение мне нравится. Но я все же вынужден повторить свой вчерашний вопрос, — жуя, сказал Кортец. — Что у вас есть? Титульный лист старинной книги и план тайника на нем?… Но почему вы решили, что это план именно того тайника, где захоронена книжная коллекция Ивана Грозного? Джейк положил вилку, поморгал ровно столько, сколько ему было нужно, и сказал, глядя в сторону:
— Я могу заверить вас, мсье, что знаю, где находится книжный тайник Ивана Грозного. Но я получил строгую инструкцию от мистера Сэмюэля Грегга никому не открывать координат тайника, до тех пор пока не прибуду в Москву.
Кортец засмеялся недобрым смехом:
— Вот это конспирация! Значит, вы хотите, чтобы я отправился в Россию с завязанными глазами?
— Вы всё узнаете, как только мы с вами попадем наконец в Москву, — тихо ответил Джейк.
— Ага! Теперь моя очередь задать вам ваш же вопрос, — хмуро глядя на Джейка, оказал Кортец: — Значит, вы мне не верите?…
— Я вам верю, мсье. Но я связан условиями…
— Мистер Грегг знает, где находится тайник?
— Нет.
— А вы читали когда-нибудь русские материалы, касающиеся библиотеки Грозного?
— Да, — безмятежно и вежливо ответил Джейк.
— Что вы читали?
— Труды русских археологических съездов; книгу профессора Белокурова, статьи профессоров Соболевского, Кобеко, Забелина и, наконец, недавно опубликованную в русском журнале «Наука и жизнь» статью профессора Игнатия Стрелецкого, — залпом выпалил Джейк, торжественно и независимо глядя на Кортеца.
Тот присвистнул:
— Ого! Солидная эрудиция… И все же не все верят, что библиотека Грозного существовала. Многие считают, что это миф, легенда… Вам об этом известно?
Джейк Бельский, стиснув зубы, насмешливо посмотрел на Кортеца:
— Мне наплевать на всю эту болтовню, мсье. У меня в руках документ, которому я верю больше, чем всем ученым сорокам…
Кортец с минуту пристально глядел в кошачьи глаза молодого авантюриста.
— Я восстановил на вашем пергаменте записи, сведенные вами, и прочел их, — наконец сказал он.
Джейк внезапно преобразился. Презрительно оглядев Кортеца, он резко выкрикнул:
— Прочли? И ни черта в них не поняли! Не так ли, мсье Кортец?
— Да, именно так, мистер Бельский, — произнес Кортец, ошеломленный его тоном.
— И никогда не поймете, пока я не приведу вас к тому месту и не скажу: «Вот здесь!» Однако вы еще не вступили в дело, а уже хитрите.
— Я не хитрю! Я хотел проверить, не морочит ли меня ваш бандит Грегг! — сердито взревел Кортец. — Вы не знаете, какую штуку он со мной уже сыграл!
— Знаю. «Коптское евангелие»!.. Но здесь вы имеете дело со мной, а не с ним, — все еще не смягчая резкого тона, сказал Джейк.
— А почему я должен вам верить больше, чем Греггу?
Джейк подошел к дивану и, усевшись, сказал спокойно:
— Садитесь!.. Я вам сейчас расшифрую французскую надпись на пергаментном листе. Но знайте, мсье Кортец, если вы захотите устранить из этого дела меня, я провалю вас. И, кроме того, я найду вас даже в Антарктике, даже на втором спутнике Земли…
Он не кончил. Кортец уже хохотал во все горло, взявшись за живот, как пузатый запорожец на картине Репина:
— Вы молодец, Джейк! Вы мне нравитесь! Ха-ха-ха!..
Он уселся рядом с Джейком и сказал деловым тоном:
— Ну, хватит болтать! Выкладывайте ваши боярские секреты… А насчет устранения запомните: из этого дела я кое-кого устраню, но только не вас…
Джейк немного поморгал, полез во внутренний карман и достал какой-то листок.
— Я переписал французскую надпись на титуле пергамента, а потом стер ее. Вот точная копия надписи, — сказал он и протянул листок Кортецу.
Кортец прочел:
«Эжени! Вы взглянули в глаза древней мудрости. Она здесь, где мы с Вами стоим. Она сокрыта рядом с прахом святого Кирилла. Четыреста лет она хранится в земле. Но я подниму ее из гроба. Записи моего предка помогут мне. Эта мудрость даст Вам вечную молодость. Вы много лет будете такой же прекрасной, как сейчас. Все в вашей власти, Эжени. Вечно Ваш!.. Платон Бельский».
— Я не умею разгадывать ребусы, мой дорогой, — пожав плечами, сказал Кортец и вернул листок Джейку. — «Древняя мудрость», «прах святого Кирилла», «вечная молодость»… Что все это значит? И кто это написал?
— Видите ли, мсье… — на минуту задумавшись, сказал Джейк. — Мой предок боярин Иван Дмитриевич Бельский чем-то провинился перед царем, и Грозный сослал его в древний монастырь на далеком севере России. Там он умер и там был похоронен. Умирая, он просил положить в его гроб книгу, подаренную ему Грозным. Это была византийская антология Агафия, титульный лист которой я принес вам, мсье.
— Тысяча и одна ночь! — воскликнул Кортец.
— Что-то вроде этого, мсье, — вежливо согласился Джейк. — Монахи неохотно положили в гроб опального боярина книгу со светскими эпиграммами, тем более что некоторые из них были совсем нескромными…
— А, черт! Я с удовольствием почитал бы их! — прервал Кортец.
— Боярин Бельский был погребен в том же монастыре, в гробнице, где уже покоились останки- других Бельских, сосланных в этот монастырь в разные годы… Там, в гробу боярина, книга Агафия пролежала сотни лет, пока наконец один из Бельских, князь Платон, брат моего отца, однажды не вздумал навестить могилы своих предков.
— Сентиментальность?
— Нет, это был очень странный человек, мсье… У нас из родя в род передавалась легенда, что византийская царевна Зоя привезла вместе со своими книгами какой-то древний индийский свиток, на котором был начертан рецепт снадобья, возвращающего молодость и продлевающего жизнь на многие десятки лет…
— Я так и знал, что без чертовщины здесь не обойдется! — скептически поджав губы, произнес Кортец.
— В русском народе греческая царевна слыла колдуньей, — насмешливо сообщил Джейк.
— Что ж, это пикантно. Я знаю, что она к тому же была очень мила, — мечтательно сказал Кортец и начертал в воздухе пальцем какую-то округлую линию.
— Мой дед любил князя Платона и посоветовал ему порыться в монастырской гробнице Бельских.
— Интересно!.. — воскликнул Кортец. — А знаете, душа моя, вы ведь не в ту сторону поехали.
— То есть как это? — не понял Джейк.
— Вам надо было написать увлекательный сценарий для кинофильма в трех сериях и отвезти в Голливуд. Миллионов вы не заработали бы на нем, но сотню тысяч отхватили бы наверняка. Я знаю! Промышлял когда-то… Но к делу: что же нашел в таинственной гробнице ваш дядя?
— Он нашел там антологию Агафия. Титульный лист ее с планом тайника, где захоронены книги царевны Зои и Ивана Грозного, и с шифрованной надписью. Вы уже видели.
— Ага! Вот почему я ни черта не понял! — воскликнул Кортец. — А у вас есть ключ к этому шифру?
— Мой отец расшифровал запись боярина Бельского.
— А князь Платон?
— Он тоже расшифровал…
— Вот как? Продолжайте… Кстати, как попала книга Агафия к вашему отцу?
Джейк плутовато улыбнулся:
— Чтобы узнать это, вам, мсье, придется выслушать любовную историю, которую вчера я обещал вам рассказать.
— Декамерон! День четвертый, новелла шестая! — тоном конферансье пророкотал Кортец. — Андреола любит Габриотто…
— Вы угадали, мсье. Жена моего отца, прекрасная Эжени, полюбила князя Платона. Он был старше ее на двадцать лет и боготворил ее… Объяснились они, как это потом выяснилось, в том самом монастыре, где нашел византийскую книгу мой дядюшка. Здесь князь Платон подарил своей возлюбленной самое дорогое, что у него было — византийскую книгу, — и сделал на ее титульном листе надпись по-французски… Вы ее видели, мсье.
— Да, да! Что-то насчет святого отшельника и вечной молодости! — сказал Кортец.
— Князь Платон бредил тогда таинственным индийским рецептом вечной молодости.
— Зачем же он отдал книгу, где был план тайника и шифрованное указание, как найти библиотеку Зои и Грозного? — с недоумением глядя на своего гостя, спросил Кортец.
— Я полагаю, что эта парочка не собиралась разлучаться, мсье, — размышляя вслух, ответил Джейк. — У него ли была книга или у нее, от этого ничего не менялось. Возможно, что они вдвоем хотели искать целебный рецепт…
Кортец с минуту подумал.
— Чем же, все-таки, окончились поиски вашего дяди в монастыре? — деловым тоном спросил он.
— Ничем, мсье, — уверенно ответил Джейк. — Они прекратились после революции. А кроме того, лист из книги Агафия со всеми записями попал в руки мужа очаровательной Эжени и был потом вывезен из России.
— Что же сталось с князем Платоном? — анкетным тоном спросил Кортец.
— После революции он пропал без вести где-то в глухой российской провинции. Скорее всего, попал в сумасшедший дом, мсье. Отец был уверен, что у его брата в голове каких-то винтиков не хватало.
— А Эжени?
— По имеющимся у меня сведениям, она проживала в Москве до 1925 года. Есть адрес… Все это мы уточним в Москве, мсье.
Джейк умолк и, стараясь не моргать, выжидательно глядел на Кортеца. Он был похож сейчас на тихого, благонравного школьника, который отлично ответил урок и ждет либо пятерки, либо еще более каверзных вопросов.
Учитель, то есть Кортец, внимательно посмотрел на него:
— Но главного вы мне все же не сказали. Где находится тайник с библиотекой Грозного?
Джейк усмехнулся, и это была усмешка школьника; который оказался умнее учителя.
— Вы плохо читали французскую надпись, мсье, — снисходительным тоном сказал он. — Даже не прибегая к шифровке боярина Бельского, по одному имени святого, упомянутого в надписи князя Платона, можно установить местонахождение тайника.
Кортец взял со стола пергаментный лист и углубился в изучение французской надписи.
— «…в обители святого Кирилла…» — вслух, прочел он. — Где это?
— В любом справочном киоске Москвы вам дадут точный адрес этой «обители», мсье, — уклончиво ответил Джейк.
— Вы не человек, а уж, — хмуро сказал Кортец.
«А вы удав!» — хотел ответить Джейк, но передумал и сказал:
— Я вырос в Америке, мсье.
— Это сразу видно. Но не в этом дело, а в том, что ваш дядюшка, сумасшедший он или нет, раньше нас с вами узнал адрес тайника. Не так ли?
— Так, мсье. Но одного адреса, видимо, мало. Надо иметь еще план, вот этот чертеж… А чертеж выскользнул из рук князя Платона как раз в тот момент, когда он собирался запустить руки в подземелья монастыря… Потом — революция, пришлось скрываться…
— А дальше? — допытывался Кортец.
— Дальше?… Если бы он хоть что-то нашел, это было бы таким научным открытием, которое не ускользнуло бы от взоров ученых, мсье. Не забывайте, что о библиотеке Грозного идут споры уже более сотни лет и ищут ее столько же…
Джейк говорил с пафосом. Кортец опасливо поглядел на него: «Черт его знает! А не психопат ли он, как и его дядя?…»
Но, уловив наблюдающий взгляд Джейка, искоса брошенный в его сторону, «потомок великого конквистадора» успокоился: «Нет, это стопроцентный американский пройдоха!»
— Ладно! — решительно сказал наконец Кортец. — После того как я получу справку, о которой говорил, я изложу вам наш план действий. Но уже теперь могу сказать, что мы с вами поедем в СССР как туристы — это сейчас модно. Русские охотно пускают к себе целые батальоны туристов и даже позволяют им свободно разъезжать по всей стране.
— Ну что ж, это очень хорошо, мсье! — обрадовался Джейк.
— Но вы не можете явиться в СССР с таким анекдотическим и подозрительным именем: «Джейк Бельский»…
— Я привез с собой документы моего деда по матери — Жака Бодуэна. Мать сохранила их, а мистер Сэмюэль Грегг… «подновил». Кроме того, он снабдил меня еще кое-какими бумажками, — ухмыляясь, сказал Джейк.
— Ого! — воскликнул Кортец и тут же добавил, полушутя, полусерьезно: — Нет, я непременно проверю, кто вы такой… — И, видя, что Джейк собирается протестовать, продолжал: — А деньги у вас есть?
— Есть, но мало, мсье, — скромно ответил тот. — Мистер Грегг был не очень щедр.
— Вот это уже не по-американски… — поджав мясистые губы, сказал Кортец. Он подумал с минуту. — Ну, ничего, раз уж я вступил в это дело, то вытяну из мистера Грегга все, что нам будет нужно.
Джейк положил вилку, поморгал ровно столько, сколько ему было нужно, и сказал, глядя в сторону:
— Я могу заверить вас, мсье, что знаю, где находится книжный тайник Ивана Грозного. Но я получил строгую инструкцию от мистера Сэмюэля Грегга никому не открывать координат тайника, до тех пор пока не прибуду в Москву.
Кортец засмеялся недобрым смехом:
— Вот это конспирация! Значит, вы хотите, чтобы я отправился в Россию с завязанными глазами?
— Вы всё узнаете, как только мы с вами попадем наконец в Москву, — тихо ответил Джейк.
— Ага! Теперь моя очередь задать вам ваш же вопрос, — хмуро глядя на Джейка, оказал Кортец: — Значит, вы мне не верите?…
— Я вам верю, мсье. Но я связан условиями…
— Мистер Грегг знает, где находится тайник?
— Нет.
— А вы читали когда-нибудь русские материалы, касающиеся библиотеки Грозного?
— Да, — безмятежно и вежливо ответил Джейк.
— Что вы читали?
— Труды русских археологических съездов; книгу профессора Белокурова, статьи профессоров Соболевского, Кобеко, Забелина и, наконец, недавно опубликованную в русском журнале «Наука и жизнь» статью профессора Игнатия Стрелецкого, — залпом выпалил Джейк, торжественно и независимо глядя на Кортеца.
Тот присвистнул:
— Ого! Солидная эрудиция… И все же не все верят, что библиотека Грозного существовала. Многие считают, что это миф, легенда… Вам об этом известно?
Джейк Бельский, стиснув зубы, насмешливо посмотрел на Кортеца:
— Мне наплевать на всю эту болтовню, мсье. У меня в руках документ, которому я верю больше, чем всем ученым сорокам…
Кортец с минуту пристально глядел в кошачьи глаза молодого авантюриста.
— Я восстановил на вашем пергаменте записи, сведенные вами, и прочел их, — наконец сказал он.
Джейк внезапно преобразился. Презрительно оглядев Кортеца, он резко выкрикнул:
— Прочли? И ни черта в них не поняли! Не так ли, мсье Кортец?
— Да, именно так, мистер Бельский, — произнес Кортец, ошеломленный его тоном.
— И никогда не поймете, пока я не приведу вас к тому месту и не скажу: «Вот здесь!» Однако вы еще не вступили в дело, а уже хитрите.
— Я не хитрю! Я хотел проверить, не морочит ли меня ваш бандит Грегг! — сердито взревел Кортец. — Вы не знаете, какую штуку он со мной уже сыграл!
— Знаю. «Коптское евангелие»!.. Но здесь вы имеете дело со мной, а не с ним, — все еще не смягчая резкого тона, сказал Джейк.
— А почему я должен вам верить больше, чем Греггу?
Джейк подошел к дивану и, усевшись, сказал спокойно:
— Садитесь!.. Я вам сейчас расшифрую французскую надпись на пергаментном листе. Но знайте, мсье Кортец, если вы захотите устранить из этого дела меня, я провалю вас. И, кроме того, я найду вас даже в Антарктике, даже на втором спутнике Земли…
Он не кончил. Кортец уже хохотал во все горло, взявшись за живот, как пузатый запорожец на картине Репина:
— Вы молодец, Джейк! Вы мне нравитесь! Ха-ха-ха!..
Он уселся рядом с Джейком и сказал деловым тоном:
— Ну, хватит болтать! Выкладывайте ваши боярские секреты… А насчет устранения запомните: из этого дела я кое-кого устраню, но только не вас…
Джейк немного поморгал, полез во внутренний карман и достал какой-то листок.
— Я переписал французскую надпись на титуле пергамента, а потом стер ее. Вот точная копия надписи, — сказал он и протянул листок Кортецу.
Кортец прочел:
«Эжени! Вы взглянули в глаза древней мудрости. Она здесь, где мы с Вами стоим. Она сокрыта рядом с прахом святого Кирилла. Четыреста лет она хранится в земле. Но я подниму ее из гроба. Записи моего предка помогут мне. Эта мудрость даст Вам вечную молодость. Вы много лет будете такой же прекрасной, как сейчас. Все в вашей власти, Эжени. Вечно Ваш!.. Платон Бельский».
— Я не умею разгадывать ребусы, мой дорогой, — пожав плечами, сказал Кортец и вернул листок Джейку. — «Древняя мудрость», «прах святого Кирилла», «вечная молодость»… Что все это значит? И кто это написал?
— Видите ли, мсье… — на минуту задумавшись, сказал Джейк. — Мой предок боярин Иван Дмитриевич Бельский чем-то провинился перед царем, и Грозный сослал его в древний монастырь на далеком севере России. Там он умер и там был похоронен. Умирая, он просил положить в его гроб книгу, подаренную ему Грозным. Это была византийская антология Агафия, титульный лист которой я принес вам, мсье.
— Тысяча и одна ночь! — воскликнул Кортец.
— Что-то вроде этого, мсье, — вежливо согласился Джейк. — Монахи неохотно положили в гроб опального боярина книгу со светскими эпиграммами, тем более что некоторые из них были совсем нескромными…
— А, черт! Я с удовольствием почитал бы их! — прервал Кортец.
— Боярин Бельский был погребен в том же монастыре, в гробнице, где уже покоились останки- других Бельских, сосланных в этот монастырь в разные годы… Там, в гробу боярина, книга Агафия пролежала сотни лет, пока наконец один из Бельских, князь Платон, брат моего отца, однажды не вздумал навестить могилы своих предков.
— Сентиментальность?
— Нет, это был очень странный человек, мсье… У нас из родя в род передавалась легенда, что византийская царевна Зоя привезла вместе со своими книгами какой-то древний индийский свиток, на котором был начертан рецепт снадобья, возвращающего молодость и продлевающего жизнь на многие десятки лет…
— Я так и знал, что без чертовщины здесь не обойдется! — скептически поджав губы, произнес Кортец.
— В русском народе греческая царевна слыла колдуньей, — насмешливо сообщил Джейк.
— Что ж, это пикантно. Я знаю, что она к тому же была очень мила, — мечтательно сказал Кортец и начертал в воздухе пальцем какую-то округлую линию.
— Мой дед любил князя Платона и посоветовал ему порыться в монастырской гробнице Бельских.
— Интересно!.. — воскликнул Кортец. — А знаете, душа моя, вы ведь не в ту сторону поехали.
— То есть как это? — не понял Джейк.
— Вам надо было написать увлекательный сценарий для кинофильма в трех сериях и отвезти в Голливуд. Миллионов вы не заработали бы на нем, но сотню тысяч отхватили бы наверняка. Я знаю! Промышлял когда-то… Но к делу: что же нашел в таинственной гробнице ваш дядя?
— Он нашел там антологию Агафия. Титульный лист ее с планом тайника, где захоронены книги царевны Зои и Ивана Грозного, и с шифрованной надписью. Вы уже видели.
— Ага! Вот почему я ни черта не понял! — воскликнул Кортец. — А у вас есть ключ к этому шифру?
— Мой отец расшифровал запись боярина Бельского.
— А князь Платон?
— Он тоже расшифровал…
— Вот как? Продолжайте… Кстати, как попала книга Агафия к вашему отцу?
Джейк плутовато улыбнулся:
— Чтобы узнать это, вам, мсье, придется выслушать любовную историю, которую вчера я обещал вам рассказать.
— Декамерон! День четвертый, новелла шестая! — тоном конферансье пророкотал Кортец. — Андреола любит Габриотто…
— Вы угадали, мсье. Жена моего отца, прекрасная Эжени, полюбила князя Платона. Он был старше ее на двадцать лет и боготворил ее… Объяснились они, как это потом выяснилось, в том самом монастыре, где нашел византийскую книгу мой дядюшка. Здесь князь Платон подарил своей возлюбленной самое дорогое, что у него было — византийскую книгу, — и сделал на ее титульном листе надпись по-французски… Вы ее видели, мсье.
— Да, да! Что-то насчет святого отшельника и вечной молодости! — сказал Кортец.
— Князь Платон бредил тогда таинственным индийским рецептом вечной молодости.
— Зачем же он отдал книгу, где был план тайника и шифрованное указание, как найти библиотеку Зои и Грозного? — с недоумением глядя на своего гостя, спросил Кортец.
— Я полагаю, что эта парочка не собиралась разлучаться, мсье, — размышляя вслух, ответил Джейк. — У него ли была книга или у нее, от этого ничего не менялось. Возможно, что они вдвоем хотели искать целебный рецепт…
Кортец с минуту подумал.
— Чем же, все-таки, окончились поиски вашего дяди в монастыре? — деловым тоном спросил он.
— Ничем, мсье, — уверенно ответил Джейк. — Они прекратились после революции. А кроме того, лист из книги Агафия со всеми записями попал в руки мужа очаровательной Эжени и был потом вывезен из России.
— Что же сталось с князем Платоном? — анкетным тоном спросил Кортец.
— После революции он пропал без вести где-то в глухой российской провинции. Скорее всего, попал в сумасшедший дом, мсье. Отец был уверен, что у его брата в голове каких-то винтиков не хватало.
— А Эжени?
— По имеющимся у меня сведениям, она проживала в Москве до 1925 года. Есть адрес… Все это мы уточним в Москве, мсье.
Джейк умолк и, стараясь не моргать, выжидательно глядел на Кортеца. Он был похож сейчас на тихого, благонравного школьника, который отлично ответил урок и ждет либо пятерки, либо еще более каверзных вопросов.
Учитель, то есть Кортец, внимательно посмотрел на него:
— Но главного вы мне все же не сказали. Где находится тайник с библиотекой Грозного?
Джейк усмехнулся, и это была усмешка школьника; который оказался умнее учителя.
— Вы плохо читали французскую надпись, мсье, — снисходительным тоном сказал он. — Даже не прибегая к шифровке боярина Бельского, по одному имени святого, упомянутого в надписи князя Платона, можно установить местонахождение тайника.
Кортец взял со стола пергаментный лист и углубился в изучение французской надписи.
— «…в обители святого Кирилла…» — вслух, прочел он. — Где это?
— В любом справочном киоске Москвы вам дадут точный адрес этой «обители», мсье, — уклончиво ответил Джейк.
— Вы не человек, а уж, — хмуро сказал Кортец.
«А вы удав!» — хотел ответить Джейк, но передумал и сказал:
— Я вырос в Америке, мсье.
— Это сразу видно. Но не в этом дело, а в том, что ваш дядюшка, сумасшедший он или нет, раньше нас с вами узнал адрес тайника. Не так ли?
— Так, мсье. Но одного адреса, видимо, мало. Надо иметь еще план, вот этот чертеж… А чертеж выскользнул из рук князя Платона как раз в тот момент, когда он собирался запустить руки в подземелья монастыря… Потом — революция, пришлось скрываться…
— А дальше? — допытывался Кортец.
— Дальше?… Если бы он хоть что-то нашел, это было бы таким научным открытием, которое не ускользнуло бы от взоров ученых, мсье. Не забывайте, что о библиотеке Грозного идут споры уже более сотни лет и ищут ее столько же…
Джейк говорил с пафосом. Кортец опасливо поглядел на него: «Черт его знает! А не психопат ли он, как и его дядя?…»
Но, уловив наблюдающий взгляд Джейка, искоса брошенный в его сторону, «потомок великого конквистадора» успокоился: «Нет, это стопроцентный американский пройдоха!»
— Ладно! — решительно сказал наконец Кортец. — После того как я получу справку, о которой говорил, я изложу вам наш план действий. Но уже теперь могу сказать, что мы с вами поедем в СССР как туристы — это сейчас модно. Русские охотно пускают к себе целые батальоны туристов и даже позволяют им свободно разъезжать по всей стране.
— Ну что ж, это очень хорошо, мсье! — обрадовался Джейк.
— Но вы не можете явиться в СССР с таким анекдотическим и подозрительным именем: «Джейк Бельский»…
— Я привез с собой документы моего деда по матери — Жака Бодуэна. Мать сохранила их, а мистер Сэмюэль Грегг… «подновил». Кроме того, он снабдил меня еще кое-какими бумажками, — ухмыляясь, сказал Джейк.
— Ого! — воскликнул Кортец и тут же добавил, полушутя, полусерьезно: — Нет, я непременно проверю, кто вы такой… — И, видя, что Джейк собирается протестовать, продолжал: — А деньги у вас есть?
— Есть, но мало, мсье, — скромно ответил тот. — Мистер Грегг был не очень щедр.
— Вот это уже не по-американски… — поджав мясистые губы, сказал Кортец. Он подумал с минуту. — Ну, ничего, раз уж я вступил в это дело, то вытяну из мистера Грегга все, что нам будет нужно.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КНИГА НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ
О московских улицах написано немало книг и очерков. И мы ничего не откроем читателю, ’Напомнив, что некоторые московские улицы по сей день именуются «валами», хотя никаких «валов» на них уже сотни лет нет, а различные «ворота» давным-давно превратились в обыкновенные площади. К таким же «филологическим» памятникам старины можно отнести и Кузнецкий мост — маленькую, узкую московскую улицу, расположенную в самом центре столицы. Здесь когда-то через речку Неглинку был переброшен мост и проживали кузнецы. А сейчас Кузнецкий мост «заселен» главным образом магазинами. Особенно много здесь и на крохотном проезде Художественного театра — продолжении Кузнецкого моста — книжных магазинов: букинистических лавок, магазинов «Москниготорга», киосков… Здесь торгуют книгами с лотков, а совсем недавно торговали даже с рук. Постоянно на Кузнецком мосту, подле большого магазина подписных изданий, как войско Самозванца у стен Лавры, стояла толпа любителей книг, и ловкие спекулянты в этой толпе втридорога перепродавали «дефицитные» книги, а заядлые книжники обменивались «новинками». Но что творилось на Кузнецком мосту по воскресеньям! «Сорочинская ярмарка» и «Ярмарка в Голтве», только слившиеся и, так сказать, укрупненные!.. Книжное «Чрево Парижа» в центре Москвы!.. В огромной толпе, запрудившей оба тротуара между Петровкой и Пушкинской улицей, можно было найти всё: «Приключения Рокамболя»; «Фацетии» Поджо Браччолини с «номерными вставками» и без таковых; романы обоих Дюма (отца и сына); стихи Есенина и Гумилева; антологию японской поэзии; книги Бальзака, Гоголя, Мопассатаа, Чехова, Драйзера, Диккенса и даже Поль де Кока; сочинения Конан-Дойля и его бесчисленных литературных «наследников», так же мало похожих на своего прародителя, как «сыновья лейтенанта Шмидта» Ильфа и Петрова походили на своего нареченного отца… Как на традиционные охотничьи рынки, сюда, на Кузнецкий мост, по воскресеньям съезжались и сходились любители книг. В разношерстной толпе вы могли встретить знакомого, которого не видели несколько лет. Здесь бывали люди самых разнообразных профессий: электрики и кондитеры, отолярингологи и парикмахеры, пивовары и сталевары, инженеры и рабочие, писатели и журналисты, владельцы мощных книжных коллекций и люди, делающие лишь первые шаги на этом благородном поприще. У многих из них дома, на книжных шкафах и над тяжелыми полками, висели надписи, похожие на скрижали Ветхого Завета:«Отруби себе руку, если она отдаст из дому книгу»…Мой папа
«Не прикасаться!.. Грозит смертью!..» (Нарисован череп и кости).Большинство завсегдатаев книжной толкучки в будни заняты и потому не могут посещать магазины, где ценные книги появляются и исчезают со скоростью падающих звезд. Таких обычно выручают дублеты книг, накопленных еще в эпоху Сойкина и Сытина папашами и дедушками. За «Петербургские трущобы» Крестовского, романы Генриха Сенкевича, рассказы Брет-Гарта и тому подобные «книжные россыпи» они могут получить здесь любую «упавшую звезду». Вместе с книжными монополистами сюда приходила и молодежь: студенты, ученики ремесленных училищ, старшие школьники. Тут же ныряли и какие-то подозрительные личности, которые, наметив подходящего клиента, непременно брали его за пуговицу, отводили в сторонку и вполголоса предлагали приобрести какую-либо «падающую звезду», пригревшуюся у них за пазухой. Были среди этих типов и своего рода «профессора», повидавшие книг не меньше, чем любой квалифицированный букинист. Услыхав имя Стефана Цвейга, например, и название «Книги о вкусной, здоровой пище», они тотчас же безапелляционно определяли:Главэнергосбыт
 — Эквивалент!..
Это означало, что произведения замечательного австрийского писателя и поваренная книга котируются на Кузнецком мосту как издания редкие и равноценные. А вот книги Тургенева, например, по сравнению с сочинениями какого-нибудь нового автора, выпускающего каждую субботу по толстому роману о шпионах, оказывались здесь «неэквивалентными»: за том плодовитого автора полагалось отдать вместе с Тургеневым еще и подписку на Шиллера. Разумеется, это говорило только о вкусах некоторых посетителей толкучки и ни о чем больше.
Среди книжных ловкачей были и очень оригинальные экземпляры: перепродав сотни книг, они умудрялись ни в одну из них не заглянуть. На толкучке такие обычно «шли на таран» и по причине острой малограмотности отчаянно перевирали названия книг и фамилии авторов. Они путали Стендаля с Далем, а Куприна с Купером. Один из них даже получил здесь кличку «Фенимор Куприн» за то, что однажды, предлагая кому-то сильно потрепанную книгу, рекламировал ее так:
— Это же «Яма», знаменитый роман Фенимора Куприна… — и, понизив голос, добавлял многозначительно: — Запрещенный…
— Эквивалент!..
Это означало, что произведения замечательного австрийского писателя и поваренная книга котируются на Кузнецком мосту как издания редкие и равноценные. А вот книги Тургенева, например, по сравнению с сочинениями какого-нибудь нового автора, выпускающего каждую субботу по толстому роману о шпионах, оказывались здесь «неэквивалентными»: за том плодовитого автора полагалось отдать вместе с Тургеневым еще и подписку на Шиллера. Разумеется, это говорило только о вкусах некоторых посетителей толкучки и ни о чем больше.
Среди книжных ловкачей были и очень оригинальные экземпляры: перепродав сотни книг, они умудрялись ни в одну из них не заглянуть. На толкучке такие обычно «шли на таран» и по причине острой малограмотности отчаянно перевирали названия книг и фамилии авторов. Они путали Стендаля с Далем, а Куприна с Купером. Один из них даже получил здесь кличку «Фенимор Куприн» за то, что однажды, предлагая кому-то сильно потрепанную книгу, рекламировал ее так:
— Это же «Яма», знаменитый роман Фенимора Куприна… — и, понизив голос, добавлял многозначительно: — Запрещенный…
 На груди у Фенимора Куприна хранилось удостоверение о нетрудоспособности по причине психической неуравновешенности, а на животе, за поясом, всегда согревалось несколько «запрещенных» романов, которые, кстати, никто и никогда не запрещал…
Низко надвинув шляпу и прикрыв зоркие глаза очками-консервами, он, как человек-невидимка, скользил в толпе и время от времени приговаривал сиплым баском:
— Меняю «Деньги» на деньги… — и пояснял: — «Деньги» — это знаменитый роман. Автор Эмиль Золь…
Милицию на книжной толкучке беспокоили не столько Фениморы Куприны, сколько то, что троллейбусы и автомашины с трудом пробивались сквозь толпу. Аккуратно являясь на Кузнецкий мост, милиционеры вежливо просили «пройти» и «не нарушать». Солидные книжные магнаты, приехавшие «а собственных «Победах», кряхтя от неудовольствия, «проходили», но продолжали «нарушать», а Фениморы Куприны при виде милиционеров быстро ныряли в подъезды, где и завершали свои коммерческие операции.
Так продолжалось двадцать лет, пока наконец книжная толкучка не стала темой для эстрадных юмористов, смешивших публику анекдотами о «Дюме с камелиями».
Однако вовсе не до смеху было начальнику отделения милиции, на территории которого стихийно возникла и благополучно процветала книжная толкучка.
На первых порах начальник отделения решил выловить Фениморов Куприных. Тщательно ознакомившись с характеристиками комсомольцев своего района, он однажды пригласил в большой зал ЦДРИ юношей, которые собирали книги. Здесь начальник отделения побеседовал с молодежью об общих задачах борьбы с хулиганами и хищниками, а затем неожиданно спросил:
— Кто из вас по воскресеньям бывает на Кузнецком мосту, на книжной толкучке? Прошу поднять руки.
Последовала пауза. Комсомольцы переглянулись. Некоторые из них все же нерешительно подняли руки. Таких оказалось одиннадцать человек. Этого было вполне достаточно.
— Попрошу товарищей, поднявших руки, задержаться в клубе на несколько минут, — сказал начальник отделения и добавил: — А остальных благодарю за внимание. Собрание считаю закрытым…
С оставшимися книжниками-комсомольцами начальник отделения заговорил о книжной толкучке. К его удивлению, почти все комсомольцы явно погрустнели, узнав, что скоро «е смогут уже выменивать интересные книжки у таких же, как и сами они, бескорыстных любителей литературы. Но в то же время все согласились, что Фениморов Куприных надо «изъять из обращения» немедля.
И вот в одно приветливое летнее воскресное утро на Кузнецкий мост явились все одиннадцать книжников-бригадмильцев. Среди них был и техник Иван Волошин.
Иван Волошин и раньше встречал здесь Фенимора Куприна, видел, как тот менял «Деньги» на деньги. Но сегодня, встретив быстро промелькнувшие очки-консервы, он незаметно пошел за спекулянтом. На этот раз человек-невидимка торговал уже не «Деньгами», а где-то раздобытым романом с очень странным названием. Волошин слышал, как, подойдя к толстому мужчине в енотовой шубе и в купеческой шапке, Фенимор Куприн конфиденциально сообщил ему:
— «Блеск и нищета куртизанки Нана»! Знаменитый запрещенный роман…
Енотовый гражданин, видимо, не был новичком в книжных делах. Он пожал плечами и сказал оперным басом:
— Вы что-то путаете, милейший. «Блеск и нищета куртизанок» — это роман Бальзака. А «Нана» — роман Золя.
— Не волнуйтесь, гражданин, — с достоинством обнищавшего испанского гранда ответил Фенимор Куприн. — Я знаю, что «Нану» написал Эмиль Золь, а «Куртизанок» сочинил Бальзак. Но в этой запрещенной книге оба романа переплетены вместе. А рвать их мне невыгодно.
— Ах, вот оно что! — удивился толстяк. — Но откуда вы взяли, что романы Бальзака и Золя кто-то запрещал?
— Это как раз не важно, гражданин. Там есть все, что интересно мужчине, — не сдавался Фенимор Куприн. — Пальчики оближете!
Оперный бас хотел еще что-то возразить, но ФенимораКуприна уже кто-то тянул за рукав:
— Сколько?
— Полторы сосны.
— Бери третью половину.
— Хо-хо! Поищи, посвищи…
Иван Волошин стоял почти рядом со спекулянтом. Он уже хотел взять его за руку и пригласить в отделение милиции, как вдруг заметил, что с Фенимором Куприным произошло что-то странное: забыв о куртизанках и о своем покупателе, спекулянт застыл на месте, как охотничья собака, почуявшая дичь. Он даже снял очки-консервы и устремил пристальный взгляд вдаль.
Волошин проследил за его взглядом, но ничего особенного не заметил: книжники, подгоняемые милиционерами, перекочевывали с места на место, выкрикивая на ходу:
— Меняю «Голову профессора Доуэля» на «Всадника без головы»!
— Меняю «Тридцатилетнюю женщину» на «Куклу»!
— Нужны «Уголовники»! Даю «Шпионов»!
Но что же все-таки увидел в нестройных рядах охотников за книгами «орлиный глаз» Фенимора Куприна?…
Случайность привела в это воскресенье на Кузнецкий мост маленькую и круглую, как сказочный колобок, старушку в рыжем летнем пальто — Клавдию Антиподау Куликову…
Нужно сказать, что Клавдия Антиповна, хотя и собралась продать кое-какие книги, но никакого представления о книжной толкучке на Кузнецком мосту не имела и попала сюда невзначай. Она уже давно решила избавиться от основательно запылившихся и за ненадобностью сваленных в углу ее комнатки томов. Но так как намеченные к продаже книжки были нерусскими, то кто-то из соседей посоветовал Клавдии Анти-повне отнести их в букинистический магазин Союза писателей на Кузнецком мосту, полагая, видимо, что именно писатели, люди культурные, наверняка читают и по-французски и по-всякому. И вот Клавдия Антиповна пришла в книжную лавку.
Просмотрев изящные, но основательно поблекшие от времени «дидоновские» томики Ламартика, Верлена, де Лакло и других авторов, товаровед магазина объявил:
— Иностранных книг не берем.
Однако, взяв в руки последнюю книгу, извлеченную Клавдией Антиповной из ее вместительной кошелки, он задумался. Книга была необычная. Толстая и увесистая, с плотными, явно не бумажными пожелтевшими листами, она не имела верхней обложки и титульного листа, и тем не менее опытный товаровед сразу понял, что перед ним какая-то старинная рукописная книга.
«Пергамент… Язык древнегреческий. Гм…» И он посоветовал старушке пойти в Государственную библиотеку имени Ленина.
— Там есть ученые люди, мамаша, — вежливо сказал он. — Они разберутся, что это за книга. Может, она очень ценная. Тогда вам за нее заплатят приличную сумму.
Старушка смутилась:
— Ох, сыночек, да я и дороги туда не найду. К вам еле добралась.
— А мы вам поможем, мамаша. Я напишу записку к заведующему рукописным фондом, расскажу, как туда пройти… А французские книги сдайте, по дороге, в букинистический магазин, что недалеко от телеграфа, на улице Горького…
Клавдия Антиповна отправилась в путь, но, пройдя лишь квартала два, наткнулась на серьезное препятствие: тротуар был забит густой толпой. Бедная старушка едва пробивалась сквозь скопище книжных болельщиков. А тут еще какие-то мужчины, старые и молодые, стали пугать ее страшными вопросами:
— Шпионов нет ли, мамаша?
Клавдия Антиповна в ужасе крестилась:
— Что ты, сыночек? Какие-такие шпиёны?
Но вот к ней подошла девушка в зеленом шелковом плаще.
— Это они про книжки спрашивают, бабушка, — смеясь, пояснила она. — Книжки у вас есть?
Старушка подозрительно огляделась:
— А зачем им мои книжки?
— Купить хотят, бабушка. Здесь книжный рынок.
Клавдия Антиповна подумала и сказала:
— Книжки есть. Да я их в магазин несу и в библиотеку.
Обступившие старушку книжники зарычали, как целый хор «варяжских гостей».
— Успеешь в магазин, бабка! Ты их нам покажи…
Старушка была очень удивлена:
— Да как же это? Прямо на улице?
Девушка улыбнулась и хотела уже отойти, но вдруг услыхала:
— Да и не русские они. Французские книжки.
Книжников будто струей из шланга обдало, они сразу же утеряли всякий интерес к старухе и к ее кошелке. Но девушка, наоборот, вернулись и спросила:
— А какие у вас французские книжки? Я читаю по-французски.
— Да не знаю, доченька. Я в них ничего не понимаю. Книжки ведь не мои, чужие.
И как раз в эту минуту перед Клавдией Антиповной возник Фенимор Куприн. Нужно сказать, что женщинам всего мира Фенимор Куприн предпочитал именно таких старушек, в кошелках которых иной раз можно было откопать старинные романчики, за которые даже букинисты выводят на накладных трехзначные цифры…
Фенимора Куприна несколько смутило, что книжники отхлынули от старушки, хотя вблизи не было ни одного милиционера.
— Ой, какие интересные книги! Продайте их мне, бабушка! — услышал он восклицание девушки и понял, что пикировать надо немедленно.
Сняв очки-консервы, он строго спросил:
— Это на каком же законном основании вы, гражданочка, покупаете книги в неуказанном месте?
Девушка оторопела и положила книги обратно.
— Я только хотела спросить, — испуганно пролепетала она. — Здесь французские книжки, а я…
Брови у Фенимора Куприна полезли вверх.
— Французские? — разочарованно спросил он. — Ну, тогда конечно. Этот товар никому не нужен.
— Да нет уж! — решительно заявила Клавдия Антиповна, запахивая кошелку. — Я в магазин пойду, как мне велено. А вот эту старинную книгу в библиотеку снесу. Мне за нее много денег дадут.
Фенимор Куприн весь превратился в слух:
— Это что ж за книга такая? Про любовь или, обратно, приключения?
— Да уж и не знаю, гражданин хороший, какая она есть, — деловито и не без хвастовства ответила Клавдия Антиповна. — А только мне вот записку дали и сказали: «Несите, мол, Клавдия Антиповна, эту книгу поскореича в библиотеку, потому как она очень ценная и у мае денег не хватит, чтоб ее купить».
— Вот тебе и на! — радостно воскликнул Фенимор Куприн. — Да ведь это ко м «е записка! Я и есть главный начальник над всеми библиотеками.
Старушка и девушка — одна растерянно, другая с удивлением — глядели на «главного начальника над всеми библиотеками».
На груди у Фенимора Куприна хранилось удостоверение о нетрудоспособности по причине психической неуравновешенности, а на животе, за поясом, всегда согревалось несколько «запрещенных» романов, которые, кстати, никто и никогда не запрещал…
Низко надвинув шляпу и прикрыв зоркие глаза очками-консервами, он, как человек-невидимка, скользил в толпе и время от времени приговаривал сиплым баском:
— Меняю «Деньги» на деньги… — и пояснял: — «Деньги» — это знаменитый роман. Автор Эмиль Золь…
Милицию на книжной толкучке беспокоили не столько Фениморы Куприны, сколько то, что троллейбусы и автомашины с трудом пробивались сквозь толпу. Аккуратно являясь на Кузнецкий мост, милиционеры вежливо просили «пройти» и «не нарушать». Солидные книжные магнаты, приехавшие «а собственных «Победах», кряхтя от неудовольствия, «проходили», но продолжали «нарушать», а Фениморы Куприны при виде милиционеров быстро ныряли в подъезды, где и завершали свои коммерческие операции.
Так продолжалось двадцать лет, пока наконец книжная толкучка не стала темой для эстрадных юмористов, смешивших публику анекдотами о «Дюме с камелиями».
Однако вовсе не до смеху было начальнику отделения милиции, на территории которого стихийно возникла и благополучно процветала книжная толкучка.
На первых порах начальник отделения решил выловить Фениморов Куприных. Тщательно ознакомившись с характеристиками комсомольцев своего района, он однажды пригласил в большой зал ЦДРИ юношей, которые собирали книги. Здесь начальник отделения побеседовал с молодежью об общих задачах борьбы с хулиганами и хищниками, а затем неожиданно спросил:
— Кто из вас по воскресеньям бывает на Кузнецком мосту, на книжной толкучке? Прошу поднять руки.
Последовала пауза. Комсомольцы переглянулись. Некоторые из них все же нерешительно подняли руки. Таких оказалось одиннадцать человек. Этого было вполне достаточно.
— Попрошу товарищей, поднявших руки, задержаться в клубе на несколько минут, — сказал начальник отделения и добавил: — А остальных благодарю за внимание. Собрание считаю закрытым…
С оставшимися книжниками-комсомольцами начальник отделения заговорил о книжной толкучке. К его удивлению, почти все комсомольцы явно погрустнели, узнав, что скоро «е смогут уже выменивать интересные книжки у таких же, как и сами они, бескорыстных любителей литературы. Но в то же время все согласились, что Фениморов Куприных надо «изъять из обращения» немедля.
И вот в одно приветливое летнее воскресное утро на Кузнецкий мост явились все одиннадцать книжников-бригадмильцев. Среди них был и техник Иван Волошин.
Иван Волошин и раньше встречал здесь Фенимора Куприна, видел, как тот менял «Деньги» на деньги. Но сегодня, встретив быстро промелькнувшие очки-консервы, он незаметно пошел за спекулянтом. На этот раз человек-невидимка торговал уже не «Деньгами», а где-то раздобытым романом с очень странным названием. Волошин слышал, как, подойдя к толстому мужчине в енотовой шубе и в купеческой шапке, Фенимор Куприн конфиденциально сообщил ему:
— «Блеск и нищета куртизанки Нана»! Знаменитый запрещенный роман…
Енотовый гражданин, видимо, не был новичком в книжных делах. Он пожал плечами и сказал оперным басом:
— Вы что-то путаете, милейший. «Блеск и нищета куртизанок» — это роман Бальзака. А «Нана» — роман Золя.
— Не волнуйтесь, гражданин, — с достоинством обнищавшего испанского гранда ответил Фенимор Куприн. — Я знаю, что «Нану» написал Эмиль Золь, а «Куртизанок» сочинил Бальзак. Но в этой запрещенной книге оба романа переплетены вместе. А рвать их мне невыгодно.
— Ах, вот оно что! — удивился толстяк. — Но откуда вы взяли, что романы Бальзака и Золя кто-то запрещал?
— Это как раз не важно, гражданин. Там есть все, что интересно мужчине, — не сдавался Фенимор Куприн. — Пальчики оближете!
Оперный бас хотел еще что-то возразить, но ФенимораКуприна уже кто-то тянул за рукав:
— Сколько?
— Полторы сосны.
— Бери третью половину.
— Хо-хо! Поищи, посвищи…
Иван Волошин стоял почти рядом со спекулянтом. Он уже хотел взять его за руку и пригласить в отделение милиции, как вдруг заметил, что с Фенимором Куприным произошло что-то странное: забыв о куртизанках и о своем покупателе, спекулянт застыл на месте, как охотничья собака, почуявшая дичь. Он даже снял очки-консервы и устремил пристальный взгляд вдаль.
Волошин проследил за его взглядом, но ничего особенного не заметил: книжники, подгоняемые милиционерами, перекочевывали с места на место, выкрикивая на ходу:
— Меняю «Голову профессора Доуэля» на «Всадника без головы»!
— Меняю «Тридцатилетнюю женщину» на «Куклу»!
— Нужны «Уголовники»! Даю «Шпионов»!
Но что же все-таки увидел в нестройных рядах охотников за книгами «орлиный глаз» Фенимора Куприна?…
Случайность привела в это воскресенье на Кузнецкий мост маленькую и круглую, как сказочный колобок, старушку в рыжем летнем пальто — Клавдию Антиподау Куликову…
Нужно сказать, что Клавдия Антиповна, хотя и собралась продать кое-какие книги, но никакого представления о книжной толкучке на Кузнецком мосту не имела и попала сюда невзначай. Она уже давно решила избавиться от основательно запылившихся и за ненадобностью сваленных в углу ее комнатки томов. Но так как намеченные к продаже книжки были нерусскими, то кто-то из соседей посоветовал Клавдии Анти-повне отнести их в букинистический магазин Союза писателей на Кузнецком мосту, полагая, видимо, что именно писатели, люди культурные, наверняка читают и по-французски и по-всякому. И вот Клавдия Антиповна пришла в книжную лавку.
Просмотрев изящные, но основательно поблекшие от времени «дидоновские» томики Ламартика, Верлена, де Лакло и других авторов, товаровед магазина объявил:
— Иностранных книг не берем.
Однако, взяв в руки последнюю книгу, извлеченную Клавдией Антиповной из ее вместительной кошелки, он задумался. Книга была необычная. Толстая и увесистая, с плотными, явно не бумажными пожелтевшими листами, она не имела верхней обложки и титульного листа, и тем не менее опытный товаровед сразу понял, что перед ним какая-то старинная рукописная книга.
«Пергамент… Язык древнегреческий. Гм…» И он посоветовал старушке пойти в Государственную библиотеку имени Ленина.
— Там есть ученые люди, мамаша, — вежливо сказал он. — Они разберутся, что это за книга. Может, она очень ценная. Тогда вам за нее заплатят приличную сумму.
Старушка смутилась:
— Ох, сыночек, да я и дороги туда не найду. К вам еле добралась.
— А мы вам поможем, мамаша. Я напишу записку к заведующему рукописным фондом, расскажу, как туда пройти… А французские книги сдайте, по дороге, в букинистический магазин, что недалеко от телеграфа, на улице Горького…
Клавдия Антиповна отправилась в путь, но, пройдя лишь квартала два, наткнулась на серьезное препятствие: тротуар был забит густой толпой. Бедная старушка едва пробивалась сквозь скопище книжных болельщиков. А тут еще какие-то мужчины, старые и молодые, стали пугать ее страшными вопросами:
— Шпионов нет ли, мамаша?
Клавдия Антиповна в ужасе крестилась:
— Что ты, сыночек? Какие-такие шпиёны?
Но вот к ней подошла девушка в зеленом шелковом плаще.
— Это они про книжки спрашивают, бабушка, — смеясь, пояснила она. — Книжки у вас есть?
Старушка подозрительно огляделась:
— А зачем им мои книжки?
— Купить хотят, бабушка. Здесь книжный рынок.
Клавдия Антиповна подумала и сказала:
— Книжки есть. Да я их в магазин несу и в библиотеку.
Обступившие старушку книжники зарычали, как целый хор «варяжских гостей».
— Успеешь в магазин, бабка! Ты их нам покажи…
Старушка была очень удивлена:
— Да как же это? Прямо на улице?
Девушка улыбнулась и хотела уже отойти, но вдруг услыхала:
— Да и не русские они. Французские книжки.
Книжников будто струей из шланга обдало, они сразу же утеряли всякий интерес к старухе и к ее кошелке. Но девушка, наоборот, вернулись и спросила:
— А какие у вас французские книжки? Я читаю по-французски.
— Да не знаю, доченька. Я в них ничего не понимаю. Книжки ведь не мои, чужие.
И как раз в эту минуту перед Клавдией Антиповной возник Фенимор Куприн. Нужно сказать, что женщинам всего мира Фенимор Куприн предпочитал именно таких старушек, в кошелках которых иной раз можно было откопать старинные романчики, за которые даже букинисты выводят на накладных трехзначные цифры…
Фенимора Куприна несколько смутило, что книжники отхлынули от старушки, хотя вблизи не было ни одного милиционера.
— Ой, какие интересные книги! Продайте их мне, бабушка! — услышал он восклицание девушки и понял, что пикировать надо немедленно.
Сняв очки-консервы, он строго спросил:
— Это на каком же законном основании вы, гражданочка, покупаете книги в неуказанном месте?
Девушка оторопела и положила книги обратно.
— Я только хотела спросить, — испуганно пролепетала она. — Здесь французские книжки, а я…
Брови у Фенимора Куприна полезли вверх.
— Французские? — разочарованно спросил он. — Ну, тогда конечно. Этот товар никому не нужен.
— Да нет уж! — решительно заявила Клавдия Антиповна, запахивая кошелку. — Я в магазин пойду, как мне велено. А вот эту старинную книгу в библиотеку снесу. Мне за нее много денег дадут.
Фенимор Куприн весь превратился в слух:
— Это что ж за книга такая? Про любовь или, обратно, приключения?
— Да уж и не знаю, гражданин хороший, какая она есть, — деловито и не без хвастовства ответила Клавдия Антиповна. — А только мне вот записку дали и сказали: «Несите, мол, Клавдия Антиповна, эту книгу поскореича в библиотеку, потому как она очень ценная и у мае денег не хватит, чтоб ее купить».
— Вот тебе и на! — радостно воскликнул Фенимор Куприн. — Да ведь это ко м «е записка! Я и есть главный начальник над всеми библиотеками.
Старушка и девушка — одна растерянно, другая с удивлением — глядели на «главного начальника над всеми библиотеками».
 — Ну, вам прямо повезло, мамаша, что вы меня повстречали! — с довольным видом продолжал Фенимор Куприн. — Ведь сегодня воскресенье, а мы по воскресеньям не торгуем, то есть… отдыхаем вообще… А что у вас за книга такая, разрешите глянуть?
Старушка торопливо порылась в кошелке и вытащила толстую старинную книгу без верхней крышки.
Фенимор Куприн недоверчиво повертел ее в руках:
— Тоже нерусская! Гм… И в плохом состоянии…
Девушка стояла тут же. Подошел и Волошин. Через плечо Фенимора Куприна он старался разглядеть книгу, но не менее интересно было ему посмотреть, что будет делать дальше жулик.
— Это моей бывшей барыни книга, Евгении Феликсовны. Она сказывала, что книге этой больше тысячи лет! — многозначительно произнесла Клавдия Антиповна.
— Это конечно, — глубокомысленно изрек Фенимор Куприн, уже уяснивший, что старинную книгу надо отнять у старушки во что бы то ни стало. — Да-а… — продолжал он. — В старые времена люди были очень некультурные. С книгами обращаться не умели. И вот, пожалуйста… — обращаясь к девушке, презрительно продолжал Фенимор Куприн. — Переплет начисто отчекрыжили, а в титульный лист небось селедку завернули. Эпоха древняя, народ все несознательный. А теперь куда она годится? Сколько за нее, к примеру, взять можно? Слезы!.. Правильно я говорю, барышня?
Девушка уже заметила наблюдавшего за Фенимором Куприным юношу в голубой тенниске, его насмешливый взгляд, устремленный на болтливого жулика. Ей стало смешно, и она прыснула в кулак. Но юноша строго посмотрел на нее и приложил палец к губам.
— Книга без переплета — это все равно что невеста, стриженная под бокс, мамаша, — резюмировал Фенимор Куприн. — Но поскольку вас ко мне послал с запиской мой друг и товарищ, то извольте, я могу купить ее у вас, только по номиналу, то есть по государственной цене…
Он перевернул книгу, но, к своему удивлению, не увидел на плотной коже обложки никакой цены.
— Гм… Номинал не обозначен. В общем, я, как опытный товаровед, могу оценить ее в двенадцать рублей и тридцать восемь копеек. Получайте деньги, мамаша, и поспешите в молочную за сливочным маслом…
Фенимор Куприн сунул книгу за пазуху и полез в карман за деньгами.
Старуха растерянно поглядела на девушку, потом на Фенимора Куприна.
Девушке очень хотелось вмешаться и прекратить наглую комедию, которую разыгрывал у нее на глазах явный жулик. В этот момент сзади к Фенимору Куприну подошел Волошин и протянул ему свою бригадмиль-скую книжку.
— А такую книжку вы когда-нибудь читали, гражданин? — спросил он.
Фенимор Куприн, видимо, уже не раз «читал» такие книжки.
— В чем дело?! — завопил он. — Я честно покупаю у гражданки ее книгу!
Волошин взял его за руку:
— Пройдемте в отделение…
Но Фенимор Куприн быстро и крепко ударил его по руке и метнулся в сторону. Волошин бросился за ним и на ходу засвистел в милицейский свисток. Однако Фенимор Куприн знал, как нужно в толпе уходить от милиции: он нагнулся и стал петлять под ногами у книжников, будто что-то искал. Его никто не задерживал. Так он добрался до ближайшего подъезда и юркнул в него.
Кто-то кивнул Волошину на подъезд. Он ворвался туда, но услыхал лишь, как гудит лифт. Лифтера не было, и ключ, очевидно, торчал в дверце. Фенимор Куприн был уже где-то на верхнем этаже.
Увидев двух вбежавших в подъезд милиционеров, Волошин быстро обрисовал им наружность убежавшего жулика и одного милиционера послал во двор.
— Он может выбраться через какую-нибудь квартиру и черный ход, — сказал Волошин.
В этот момент где-то наверху послышались голоса и хлопнула дверь.
— Так и есть…
Волошин попросил второго милиционера остаться внизу, а сам помчался вверх по лестнице, отмахивая по две — три ступеньки. На верхней площадке он увидел пустую кабину лифта с неприкрытой дверью. Фенимор Куприн исчез…
«Значит, через верхнюю квартиру перемахнул во двор, — подумал Волошин. — Но через какую? Тут их три». ’ Он, не раздумывая, позвонил в первую к угадал. Дверь открылась, и на пороге появился солидный мужчина в пижаме.
— В чем дело? — раздраженно спросил он.
Волошин показал свою книжку и быстро объяснил:
— Скрылся жулик! Украл ценную книгу. К вам заходил?
Мужчина в недоумении оглянулся, за ним: стояли испуганные домочадцы.
— Опять двадцать пять! Только что один бригадмилец уже промчался через нашу квартиру в погоне за каким-то жуликом…
Волошин ворвался в переднюю:
— Простите, но я вынужден… Где он? Скорее!
— Пробежал на кухню, а потом на лестницу черного хода, — сказал мужчина в пижаме.
— Ход на чердак здесь?
— Забит.
— Благодарю!
Волошин выбежал из кухни и по черной лестнице помчался вниз. Уже добежав до второго этажа, он услыхал голос милиционера:
— Товарищ бригадмилец, здесь он! Задержан!
Волошин увидел Фенимора Куприна.
— Книга! Где старинная книга?! — крикнул он и, не ожидая ответа, запустил руку за пазуху жулика.
Книга была там. Волошин вытащил ее.
— Вы не имеете права! Я купил ее! — заорал Фенимор Куприн. — Я буду жаловаться!
Уже спокойно Волошин сказал милиционеру:
— Доставьте его в отделение, товарищ старшина. А я найду старуху, у которой он выудил эту книгу.
Он побежал к воротам. Толпы книжников, как кучевые облака, все еще блуждали по тротуарам: ни милицейские свистки, ни погоня за жуликом не могли их рассеять. Волошин пробрался на то место, где он оставил старуху и девушку в зеленом плаще, но ни той, ни другой не нашел. Несколько раз он прошел вверх по обоим тротуарам, зорко поглядывая по сторонам. Старуха и девушка исчезли бесследно…
Волошин решил отправиться в отделение. К своему удивлению, он нашел там, кроме Фенимора Куприна, и девушку, которая хотела купить у старухи французские книги.
— Наконец-то! — обрадованно воскликнула она. — А я пришла как свидетельница… Этого жулика надо хорошенько проучить!
— А старушка где? — спросил Волошин.
— Видали?! Потерпевшая даже не явилась! А меня приволокли, как каторжника! Безобразие! — завопил Фенимор Куприн.
— Гражданин Фёклин, помолчите! — спокойно приказал дежурный.
— Я не знаю, где она сейчас, — стала объяснять Волошину девушка. — Ее буквально за руку уволокли в сторону, когда началась кутерьма с этим жуликом. Я только слышала, как какой-то тип крикнул ей: «Уходи, бабка! Его поймают, тебя по судам затаскают!» — и потащил старуху в толпу. Как хорошо, что вы спасли эту книгу! Ее непременно нужно сдать в Ленинскую библиотеку.
— Книгу нельзя никуда сдавать, гражданка, — официальным тоном произнес дежурный, оторвавшись на минуту от акта, который он составлял. — Это — вещественное доказательство.
— Ничего, сдадим потом, — успокоил девушку Волошин. — Но как нам найти старушку? Ведь она — потерпевшая, она владелица книги!
Девушка пожала плечами:
— Не знаю…
Дежурный по отделению записал ее показания. При этом выяснилось, что девушку зовут Тася (Анастасия), а фамилия ее Березкина и что она студентка французского отделения Института иностранных языков.
Волошин и Тася вместе вышли из отделения милиции и пошли к площади Свердлова. По дороге они говорили о книгах, о шахматах, о боксе. Со смехом и возмущением Тася вспоминала, как Фенимор Куприн на ее глазах «покупал» у старухи древнюю книгу. Ей было жалко бедную старушку.
— Давайте найдем ее! — предложила Тася.
— Что ж, попробуем, — охотно согласился ее спутник. — В конце концов, это по моей вине старуха лишилась своей книги. А книга, по всем данным, идейная.
— Какая? — удивленно спросила Тася.
Он улыбнулся:
— Это у меня привычка такая. Все хорошее я называю «идейным», все плохое — «безыдейным».
— Ах, вот как? Ну, тогда, если не хотите быть безыдейным бригадмильцем, найдите старушку, — наставительным тоном сказала Тася.
— Ну, вам прямо повезло, мамаша, что вы меня повстречали! — с довольным видом продолжал Фенимор Куприн. — Ведь сегодня воскресенье, а мы по воскресеньям не торгуем, то есть… отдыхаем вообще… А что у вас за книга такая, разрешите глянуть?
Старушка торопливо порылась в кошелке и вытащила толстую старинную книгу без верхней крышки.
Фенимор Куприн недоверчиво повертел ее в руках:
— Тоже нерусская! Гм… И в плохом состоянии…
Девушка стояла тут же. Подошел и Волошин. Через плечо Фенимора Куприна он старался разглядеть книгу, но не менее интересно было ему посмотреть, что будет делать дальше жулик.
— Это моей бывшей барыни книга, Евгении Феликсовны. Она сказывала, что книге этой больше тысячи лет! — многозначительно произнесла Клавдия Антиповна.
— Это конечно, — глубокомысленно изрек Фенимор Куприн, уже уяснивший, что старинную книгу надо отнять у старушки во что бы то ни стало. — Да-а… — продолжал он. — В старые времена люди были очень некультурные. С книгами обращаться не умели. И вот, пожалуйста… — обращаясь к девушке, презрительно продолжал Фенимор Куприн. — Переплет начисто отчекрыжили, а в титульный лист небось селедку завернули. Эпоха древняя, народ все несознательный. А теперь куда она годится? Сколько за нее, к примеру, взять можно? Слезы!.. Правильно я говорю, барышня?
Девушка уже заметила наблюдавшего за Фенимором Куприным юношу в голубой тенниске, его насмешливый взгляд, устремленный на болтливого жулика. Ей стало смешно, и она прыснула в кулак. Но юноша строго посмотрел на нее и приложил палец к губам.
— Книга без переплета — это все равно что невеста, стриженная под бокс, мамаша, — резюмировал Фенимор Куприн. — Но поскольку вас ко мне послал с запиской мой друг и товарищ, то извольте, я могу купить ее у вас, только по номиналу, то есть по государственной цене…
Он перевернул книгу, но, к своему удивлению, не увидел на плотной коже обложки никакой цены.
— Гм… Номинал не обозначен. В общем, я, как опытный товаровед, могу оценить ее в двенадцать рублей и тридцать восемь копеек. Получайте деньги, мамаша, и поспешите в молочную за сливочным маслом…
Фенимор Куприн сунул книгу за пазуху и полез в карман за деньгами.
Старуха растерянно поглядела на девушку, потом на Фенимора Куприна.
Девушке очень хотелось вмешаться и прекратить наглую комедию, которую разыгрывал у нее на глазах явный жулик. В этот момент сзади к Фенимору Куприну подошел Волошин и протянул ему свою бригадмиль-скую книжку.
— А такую книжку вы когда-нибудь читали, гражданин? — спросил он.
Фенимор Куприн, видимо, уже не раз «читал» такие книжки.
— В чем дело?! — завопил он. — Я честно покупаю у гражданки ее книгу!
Волошин взял его за руку:
— Пройдемте в отделение…
Но Фенимор Куприн быстро и крепко ударил его по руке и метнулся в сторону. Волошин бросился за ним и на ходу засвистел в милицейский свисток. Однако Фенимор Куприн знал, как нужно в толпе уходить от милиции: он нагнулся и стал петлять под ногами у книжников, будто что-то искал. Его никто не задерживал. Так он добрался до ближайшего подъезда и юркнул в него.
Кто-то кивнул Волошину на подъезд. Он ворвался туда, но услыхал лишь, как гудит лифт. Лифтера не было, и ключ, очевидно, торчал в дверце. Фенимор Куприн был уже где-то на верхнем этаже.
Увидев двух вбежавших в подъезд милиционеров, Волошин быстро обрисовал им наружность убежавшего жулика и одного милиционера послал во двор.
— Он может выбраться через какую-нибудь квартиру и черный ход, — сказал Волошин.
В этот момент где-то наверху послышались голоса и хлопнула дверь.
— Так и есть…
Волошин попросил второго милиционера остаться внизу, а сам помчался вверх по лестнице, отмахивая по две — три ступеньки. На верхней площадке он увидел пустую кабину лифта с неприкрытой дверью. Фенимор Куприн исчез…
«Значит, через верхнюю квартиру перемахнул во двор, — подумал Волошин. — Но через какую? Тут их три». ’ Он, не раздумывая, позвонил в первую к угадал. Дверь открылась, и на пороге появился солидный мужчина в пижаме.
— В чем дело? — раздраженно спросил он.
Волошин показал свою книжку и быстро объяснил:
— Скрылся жулик! Украл ценную книгу. К вам заходил?
Мужчина в недоумении оглянулся, за ним: стояли испуганные домочадцы.
— Опять двадцать пять! Только что один бригадмилец уже промчался через нашу квартиру в погоне за каким-то жуликом…
Волошин ворвался в переднюю:
— Простите, но я вынужден… Где он? Скорее!
— Пробежал на кухню, а потом на лестницу черного хода, — сказал мужчина в пижаме.
— Ход на чердак здесь?
— Забит.
— Благодарю!
Волошин выбежал из кухни и по черной лестнице помчался вниз. Уже добежав до второго этажа, он услыхал голос милиционера:
— Товарищ бригадмилец, здесь он! Задержан!
Волошин увидел Фенимора Куприна.
— Книга! Где старинная книга?! — крикнул он и, не ожидая ответа, запустил руку за пазуху жулика.
Книга была там. Волошин вытащил ее.
— Вы не имеете права! Я купил ее! — заорал Фенимор Куприн. — Я буду жаловаться!
Уже спокойно Волошин сказал милиционеру:
— Доставьте его в отделение, товарищ старшина. А я найду старуху, у которой он выудил эту книгу.
Он побежал к воротам. Толпы книжников, как кучевые облака, все еще блуждали по тротуарам: ни милицейские свистки, ни погоня за жуликом не могли их рассеять. Волошин пробрался на то место, где он оставил старуху и девушку в зеленом плаще, но ни той, ни другой не нашел. Несколько раз он прошел вверх по обоим тротуарам, зорко поглядывая по сторонам. Старуха и девушка исчезли бесследно…
Волошин решил отправиться в отделение. К своему удивлению, он нашел там, кроме Фенимора Куприна, и девушку, которая хотела купить у старухи французские книги.
— Наконец-то! — обрадованно воскликнула она. — А я пришла как свидетельница… Этого жулика надо хорошенько проучить!
— А старушка где? — спросил Волошин.
— Видали?! Потерпевшая даже не явилась! А меня приволокли, как каторжника! Безобразие! — завопил Фенимор Куприн.
— Гражданин Фёклин, помолчите! — спокойно приказал дежурный.
— Я не знаю, где она сейчас, — стала объяснять Волошину девушка. — Ее буквально за руку уволокли в сторону, когда началась кутерьма с этим жуликом. Я только слышала, как какой-то тип крикнул ей: «Уходи, бабка! Его поймают, тебя по судам затаскают!» — и потащил старуху в толпу. Как хорошо, что вы спасли эту книгу! Ее непременно нужно сдать в Ленинскую библиотеку.
— Книгу нельзя никуда сдавать, гражданка, — официальным тоном произнес дежурный, оторвавшись на минуту от акта, который он составлял. — Это — вещественное доказательство.
— Ничего, сдадим потом, — успокоил девушку Волошин. — Но как нам найти старушку? Ведь она — потерпевшая, она владелица книги!
Девушка пожала плечами:
— Не знаю…
Дежурный по отделению записал ее показания. При этом выяснилось, что девушку зовут Тася (Анастасия), а фамилия ее Березкина и что она студентка французского отделения Института иностранных языков.
Волошин и Тася вместе вышли из отделения милиции и пошли к площади Свердлова. По дороге они говорили о книгах, о шахматах, о боксе. Со смехом и возмущением Тася вспоминала, как Фенимор Куприн на ее глазах «покупал» у старухи древнюю книгу. Ей было жалко бедную старушку.
— Давайте найдем ее! — предложила Тася.
— Что ж, попробуем, — охотно согласился ее спутник. — В конце концов, это по моей вине старуха лишилась своей книги. А книга, по всем данным, идейная.
— Какая? — удивленно спросила Тася.
Он улыбнулся:
— Это у меня привычка такая. Все хорошее я называю «идейным», все плохое — «безыдейным».
— Ах, вот как? Ну, тогда, если не хотите быть безыдейным бригадмильцем, найдите старушку, — наставительным тоном сказала Тася.
ПОЧЕМУ ВЗВОЛНОВАЛСЯ ПРОФЕССОР СТРЕЛЕЦКИЙ
Прошла неделя после происшествия на книжной толкучке, а новый знакомый позвонил Тасе Березкиной всего лишь один раз. Он рассказал ей, что обошел все московские букинистические магазины, торгующие иностранными книгами. Он надеялся, что старушка с кошелкой все же снесла свои французские книжки букинистам и по накладной можно было бы узнать ее фамилию и адрес. Но никто не приносил в магазины книг, названия которых Тася ему сказала. Ничего не знали о старушке и в книжной лавке писателей. — Бедняга! — воскликнула Тася. — Вы, наверно, замучились? Все магазины обошли! — Нет, не очень замучился, — беспечным тоном ответил он. — В Москве всего лишь… два букинистических магазина покупают и продают безыдейную иностранную литературу. У него были лукавые глаза. Тася не видела их, но подумала, что они сейчас такие.
Он пригласил ее в кино, но Тася отказалась: приближалась сессия в институте.
Отойдя от телефона, она села на диван и задумалась над книгой. Вспомнила шапку каштановых волос, четкий профиль с несколько длинноватым, «гоголевским» носом, смеющиеся карие глаза…
«Любит книги, увлекается боксом и шахматами… Бригадмилец! Занятный парень!.»
Тася улыбнулась и углубилась в историю французской литературы.
Через неделю Иван Волошин снова позвонил Тасе. В его тоне уже не было обычного спокойствия и шутливости:
— Нам необходимо встретиться немедленно! — торопливо сказал он. — Чрезвычайное происшествие с нашей древней «библией»…
— Что случилось? — с тревогой спросила Тася.
— Нас обоих хочет видеть профессор Игнатий Яковлевич Стрелецкий. Он знаток древней литературы.
Тася догадалась, что старинная книга уже попала в руки ученых.
— Хорошо. Когда мы должны к нему явиться? — спросила она.
— Сегодня, в любое время. Он ждет нас… Они условились встретиться в Александровском саду, что у Кремля, через полчаса.
Тася пришла почти вовремя, опоздав всего лишь… на двадцать минут. Волошин мрачно буркнул:
— Привет! — и приказал: — Идемте!
— В отделение? — смеясь, спросила Тася.
— Я по дороге расскажу, что знаю. Профессор живет недалеко, на Волхонке.
У Волошина был озабоченный вид. Он шагал так, что Тася едва поспевала за ним.
— Дело о попытке гражданина Феклина мошенническим путем присвоить книгу, принадлежащую неизвестной гражданке, приостановлено из-за отсутствия потерпевшей, — стал он объяснять Тасе, подражая языку милицейских протоколов. — Но по ходу следствия вещественное доказательство, то есть старинная книга, было передано на экспертизу профессору Стрелецкому. Этот ученый установил, что книга имеет большое… ну, как бы это сказать… культурное значение, как памятник древней литературы.
— Да, но мы с вами тут при чем? — спросила Тася. — Если книга ценная, пускай ее отдадут в Ленинку, и все…
— Нет, не всё. Мы с вами только звено в цепи. Профессор хочет найти без вести пропавшую старушку. И мы должны ему помочь… Шире шаг, Настенька!
— Я не Настенька, а Тася, — поправила девушка.
— Жалко! Настенька — хорошее русское имя.
Они прошли кремлевским сквером и, минуя Каменный мост, через старинный Лебяжий переулок вышли на Волхонку.
— Здесь! — внезапно остановившись, сказал Волошин и указал на высокий дом.
Им открыла маленькая пожилая женщина в белом пуховом платке, накинутом на плечи. Внимательно посмотрев на Волошина и Тасю, она сказала:
— А-а! Игнатий Яковлевич вас ждет. Он в кабинете…
Волошин постучал в дверь кабинета. Кто-то за дверью высоким фальцетом прокричал:
— Да, да!
Они вошли в большую высокую комнату, всю уставленную книжными шкафами и шестиярусными книжными полками. Кроме книг, здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла. Но и они, то есть стол и кресла, также были завалены книгами: старыми, пожелтевшими, в кожаных переплетах с медными пряжками; книгами новыми, еще пахнущими типографской краской; книжонками миниатюрными, могущими укрыться в рукаве; книжками среднего формата и огромными, как надгробные плиты, инкунабулами. Это была скорее библиотека, чем кабинет… Здесь собраны были тысячи книг. Одни из них чинно стояли на полках, другие лежали вповалку, сваленные на креслах, третьи монбланами высились на письменном столе, а некоторые просто стопками стояли на паркетном полу, подле полок. Видимо, у хозяина этой библиотеки хватало времени лишь на то, чтобы снять с полки, просмотреть или найти нужную книгу, но водворить ее на место он уже не успевал.
Но где же он? Где хозяин этой библиотеки?
— Я здесь! Здесь, молодые люди! Сейчас я к вам сойду! — пропищал кто-то тоненьким голоском над ними.
У него были лукавые глаза. Тася не видела их, но подумала, что они сейчас такие.
Он пригласил ее в кино, но Тася отказалась: приближалась сессия в институте.
Отойдя от телефона, она села на диван и задумалась над книгой. Вспомнила шапку каштановых волос, четкий профиль с несколько длинноватым, «гоголевским» носом, смеющиеся карие глаза…
«Любит книги, увлекается боксом и шахматами… Бригадмилец! Занятный парень!.»
Тася улыбнулась и углубилась в историю французской литературы.
Через неделю Иван Волошин снова позвонил Тасе. В его тоне уже не было обычного спокойствия и шутливости:
— Нам необходимо встретиться немедленно! — торопливо сказал он. — Чрезвычайное происшествие с нашей древней «библией»…
— Что случилось? — с тревогой спросила Тася.
— Нас обоих хочет видеть профессор Игнатий Яковлевич Стрелецкий. Он знаток древней литературы.
Тася догадалась, что старинная книга уже попала в руки ученых.
— Хорошо. Когда мы должны к нему явиться? — спросила она.
— Сегодня, в любое время. Он ждет нас… Они условились встретиться в Александровском саду, что у Кремля, через полчаса.
Тася пришла почти вовремя, опоздав всего лишь… на двадцать минут. Волошин мрачно буркнул:
— Привет! — и приказал: — Идемте!
— В отделение? — смеясь, спросила Тася.
— Я по дороге расскажу, что знаю. Профессор живет недалеко, на Волхонке.
У Волошина был озабоченный вид. Он шагал так, что Тася едва поспевала за ним.
— Дело о попытке гражданина Феклина мошенническим путем присвоить книгу, принадлежащую неизвестной гражданке, приостановлено из-за отсутствия потерпевшей, — стал он объяснять Тасе, подражая языку милицейских протоколов. — Но по ходу следствия вещественное доказательство, то есть старинная книга, было передано на экспертизу профессору Стрелецкому. Этот ученый установил, что книга имеет большое… ну, как бы это сказать… культурное значение, как памятник древней литературы.
— Да, но мы с вами тут при чем? — спросила Тася. — Если книга ценная, пускай ее отдадут в Ленинку, и все…
— Нет, не всё. Мы с вами только звено в цепи. Профессор хочет найти без вести пропавшую старушку. И мы должны ему помочь… Шире шаг, Настенька!
— Я не Настенька, а Тася, — поправила девушка.
— Жалко! Настенька — хорошее русское имя.
Они прошли кремлевским сквером и, минуя Каменный мост, через старинный Лебяжий переулок вышли на Волхонку.
— Здесь! — внезапно остановившись, сказал Волошин и указал на высокий дом.
Им открыла маленькая пожилая женщина в белом пуховом платке, накинутом на плечи. Внимательно посмотрев на Волошина и Тасю, она сказала:
— А-а! Игнатий Яковлевич вас ждет. Он в кабинете…
Волошин постучал в дверь кабинета. Кто-то за дверью высоким фальцетом прокричал:
— Да, да!
Они вошли в большую высокую комнату, всю уставленную книжными шкафами и шестиярусными книжными полками. Кроме книг, здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла. Но и они, то есть стол и кресла, также были завалены книгами: старыми, пожелтевшими, в кожаных переплетах с медными пряжками; книгами новыми, еще пахнущими типографской краской; книжонками миниатюрными, могущими укрыться в рукаве; книжками среднего формата и огромными, как надгробные плиты, инкунабулами. Это была скорее библиотека, чем кабинет… Здесь собраны были тысячи книг. Одни из них чинно стояли на полках, другие лежали вповалку, сваленные на креслах, третьи монбланами высились на письменном столе, а некоторые просто стопками стояли на паркетном полу, подле полок. Видимо, у хозяина этой библиотеки хватало времени лишь на то, чтобы снять с полки, просмотреть или найти нужную книгу, но водворить ее на место он уже не успевал.
Но где же он? Где хозяин этой библиотеки?
— Я здесь! Здесь, молодые люди! Сейчас я к вам сойду! — пропищал кто-то тоненьким голоском над ними.
 Только тут Волошин и Тася обратили внимание на высокую стремянку у самой двери. На верхней широкой ступеньке с книгами на коленях сидел человек в больших стариковских очках. Это и был профессор Стрелецкий, археолог, арабист и автор многих трудов по древнерусской литературе. Ему недавно исполнилось семьдесят лет, но он весь светился, блестел, и движения его были, порывисты, быстры. Вот и сейчас он не сошел, а сбежал с лестницы.
Своей белой вздыбленной шевелюрой, пышными приглаженными усами, бритым лицом и острыми, наблюдательными глазами профессор походил на какого-то композитора, которого Тася видела на фотографии в журнале. Не какого именно, она никак не могла припомнить.
Стрелецкий сунул Тасе и Волошину свою узкую, сухую руку и сам сказал:
— Бригадмилец Иван Волошин и студентка Анастасия Березкина?… Очень приятно!
— Бригадмилец — это моя побочная профессия, — сказал Волошин.
— Знаю, знаю! — воскликнул профессор. — Вы техник-электрик и большой любитель книг. Всё знаю!.. А вы — будущий исследователь французской литературы. Правильно?
И он повел своих гостей к письменному столу:
— Садитесь!
Гости недоверчиво поглядели на кресла, до верха спинок заваленные книгами, и остались стоять.
— Ах, книги!.. — воскликнул Стрелецкий и беспомощно оглянулся. — Маша! Мария Михайловна! — позвал он.
В дверь заглянула жена Стрелецкого.
— Там кто-нибудь есть? Принесите стулья.
Профессорша сокрушенно поглядела на книги в креслах и ушла.
— Вы знаете, зачем я позвал вас, друзья мои?… — начал профессор, остановившись перед Тасей.
— Нет, я не знаю, — тихо сказала она.
— Мы немного догадываемся, — поправил ее Волошин.
Женщина в фартуке внесла стулья. Тася и Волошин сели, а Стрелецкий, заложив большие пальцы в карманы жилета, засеменил, почти забегал перед ними, то удаляясь к двери, то возвращаясь вновь.
«Григ!.. Эдвард Григ! Вот на кого похож лицом этот седой старик», — вспомнила Тася.
— Произошло совершенно необыкновенное, невероятное событие! — говорил Стрелецкий, путешествуя по кабинету и почти распевая тонким, дребезжащим взволнованным голосочком какую-то лекцию, мало похожую на простую беседу. — Вы невольно приоткрыли завесу над тайной, которая вот уже много лет волнует целые поколения ученых…
Волошин и Тася переглянулись.
— Да, да, друзья мои! Не удивляйтесь.
Стрелецкий схватил со стола и поднял над своей головой старинную толстую книгу, которую Тася сразу узнала.
— Эта книга не что иное, как антология византийских поэтов пятого века. Составителем ее был один из интереснейших представителей византийской культуры — Агафий, ученый и поэт…
Тася уже с интересом смотрела на старинную книгу. Полистав ее и полюбовавшись, Стрелецкий вновь засеменил по кабинету, потом положил книгу на стол и продолжал:
— Она сама является большой ценностью… Но… — Стрелецкий умолк, остановился перед Тасей и посмотрел на нее гипнотическим взглядом. — Но… — еще раз многозначительно повторил профессор, — сейчас нас интересует уже вопрос, откуда она взялась, как вынырнула из тьмы веков, где была погребена сотни лет?
Тася и Волошин переглянулись, они ничего не поняли. Стрелецкий, как ни был он взволнован, все же заметил это.
— Бедные мои воробышки! — воскликнул он сокрушенно. — Вы ничего не понимаете! Вы уже с опаской поглядываете на старого профессора и думаете: «А не спятил ли старичок с ума?»
— Что вы! Мы очень заинтересованы… — сказала Тася и посмотрела на Волошина. — Правда?
— Истинная правда! — подтвердил он. — Я жду, что вы, профессор, расскажете нам какую-то чертовски интересную историю.
— Да, да! Да, друзья мои, я расскажу вам совершенно удивительную историю библиотеки Ивана Грозного…
Профессор Стрелецкий остановился посреди комнаты и умолк. История, которую он собирался рассказать своим молодым гостям, была столь необычайна, что надо было подумать, с чего начать и как ее изложить.
— Вы, очевидно, знаете, — сказал наконец Стрелецкий, — что царь Иван Четвертый был культурнейшим человеком своей эпохи: он много знал, много читал и писал. Одна только его переписка-полемика с князем Курбским дает представление об Иване Васильевиче как о крупном русском государственном деятеле, как о просвещенном, талантливом писателе-публицисте своего времени… К сожалению, до нас дошли лишь отдельные документы из архива Грозного. Весь же архив вместе с богатейшей по тем временам библиотекой Грозного до сих пор еще не найден…
— Не найден?! — с волнением переспросила Тася.
— Нет, милая девушка, не найден… — тряхнув своей львиной гривой, ответил профессор. — Особенно приходится пожалеть, что не найдена библиотека Ивана Васильевича. Известно, что это было редчайшее в мире собрание древних рукописных книг и свитков, европейских книжных уникумов и «раритетов». Креме книг и свитков греческих, иудейских, индийских, там были собраны и — древнерусские рукописные и первопечатные книги, напечатанные еще до Ивана Федорова. Вполне возможно, что в библиотеке Грозного сохранился и подлинник «Слова о полку Игореве» — замечательного памятника нашей литературы.
Волошин весь превратился во внимание. Тася слушала Стрелецкого с горящими глазами, ее щеки даже зарумянились от волнения.
— Но начало этой замечательной сокровищницы древней культуры было положено не самим Иваном Васильевичем, а его бабкой, византийской царевной Зоей Палеолог, получившей в Риме униатское имя Зоя-Софья и ставшей второй женой деда Ивана Грозного, великого князя московского Ивана Третьего.
Профессор Стрелецкий подошел к книжной полке, протянул руку и вытащил какую-то книжку, на черном переплете которой с обеих сторон были изображены золотые короны, окруженные белыми цветками, похожими на ромашки.
— Это одна из пяти книг современного большого исторического романа, в котором описаны события, происходившие в Московской Руси во второй половине пятнадцатого века, — сказал Стрелецкий, листая книгу с таким видом, будто он не решил еще, цитировать ему ее или нет. — Автор попытался воспроизвести в ней портрет Зои-Софьи Палеолог, этой весьма своеобразной личности.
Иван Волошин пригляделся к переплету и сказал:
— Я читал это сочинение, профессор. Каюсь, всё не одолел, но про царевну Зою прочел.
— Ах, вот как! — воскликнул Стрелецкий, испытующе глядя на Волошина.
— Про Зою я запомнил только то, что она беспрестанно, чуть ли не сорок лет, говорила про себя: «царевна провослявна», «царевна маля-маля разумей русски», что она была диверсанткой и папской шпионкой в Москве, что отравила своего пасынка и что кто-то в книге назвал ее «гнидой»…
Тася испуганно глядела на Волошина. Она не знала, понравится ли такая характеристика царевны Зои профессору Стрелецкому. Но тот весело смеялся и с дружелюбным юмором поглядывал на молодого техника.
— К сожалению, это так, друг мой, — сказал он. — Автор романа почему-то не взлюбил царевну Зою, он обрисовал ее зловредной дурочкой и даже не постеснялся чужими устами прилепить ей обидный ярлык «гнида». А между тем она не была ни дурочкой, ни агентом папы римского. Она, так же как и ее супруг Иван Третий, хотела укрепления централизованной царской власти в Москве; она путем всяческих интриг, вплоть до отравления пасынка, расчищала путь к царствованию своему сыну Василию, который в глазах всего мира явился бы прямым наследником не только русского престола, но и престола Византии и Морей, захваченных в те годы турками. Зоя-Софья, несомненно, считала, что придет время, когда русские воины во главе с полувизантийским царем освободят от турецкого ига балканских славян и близких им по религии греков. Вот почему она настояла, чтобы российским государственным гербом стал герб Византии — двуглавый орел…
Стрелецкий уже заволновался, зажегся. Он бегал по комнате, размахивая книгой с ромашками:
— Этот герб был потом опозорен тупыми русскими самодержцами. Но ведь на знаменах Суворова, на знаменах русских полков, разгромивших турецких захватчиков в Болгарии, в Молдавии, на Кавказе, был именно этот герб!.. Как же можно называть «гнидой» женщину, искренне любившую свою родину; женщину, желавшую, чтобы сын ее или внук освободили дорогую ее сердцу Византию и родину ее отца — балканскую Мо-рею?… Нас хотят уверить, что она была папской шпионкой в Москве. Но почему же вся ее деятельность была направлена на возвышение Москвы, а не Рима? Почему даже сам этот автор пишет об унижениях, которые терпела Зоя в Риме?
Пылающими глазами профессор смотрел на Волошина, будто именно он был автором книги с ромашками. Профессор ждал ответа, и Волошин, подумав минуту, сказал:
— Но ведь это очень талантливый автор, профессор. Я съязвит по его адресу, но я знаю, что его книги читают с большим интересом, особенно молодежь А про Зою я читал, что ее действительно не любил народ, ее называли «чумой», «ведьмой»…
— …и чернокнижницей, — подсказал Стрелецкий. — И это потому, что она действительно привезла с собой «колдовские» книги. Отсюда, очевидно, и худая слава Зои-Софьи… А что пишет об этих книгах ваш любимый автор, молодой человек?
Стрелецкий быстро полистал книгу:
— Вот послушайте! «…голова у Ивана Васильевича кружилась, и, хмелея, он слышал, как кругом всё чаше кричали: «Горько! Горько!» Иван Васильевич всякий раз в ответ на это по-пьяному размашисто обнимал царевну и целовал в уста, чуя, как она упирается в него излишне полной, но по-девичьи упругой грудью и целует всё горячей и горячей…» Книга четвертая, глава двенадцатая, страница двести восемьдесят седьмая.
Он отложил книгу, уже спокойно зашагал по кабинету и заговорил:
— Я не хочу отрицать того, что автор в своем романе сообщил читателю много интересных и ценных сведений. Но вот с «цареградской царевной» ему не повезло. Он рассказал нам все, что касалось ее наружности, даже «упругую грудь» не забыл, но ни словом не упомянул о больших культурных ценностях, привезенных ею в Москву; о богатейшем собрании манускриптов древнего мира, служивших украшением книгохранилища византийских царей и константинопольских патриархов до нашествия турок… Нигде ни единым словом этот автор не упоминает, как тревожилась византийская царевна о величайших ценностях древней культуры, как вызвала из Италии зодчего Аристотеля Фиоравенти, для того чтобы обнести Кремль вместо деревянных стен каменными высокими крепостными стенами, а под ним создать целый подземный город с тайниками, потайными ходами и лестницами. В одном из этих подземных тайников Зоя и захоронила свои книжные сокровища. Теперь она была спокойна: ни набеги татар, ни постоянные пожары в деревянной Москве не угрожали древним свиткам и книгам.
— Как это интересно! — воскликнула Тася. — А я ничего об этом никогда не слыхала.
— К сожалению, об этом мало кто знает, милая девушка. — добрым, отеческим тоном сказал Стрелецкий. — А те, кто знает, всегда торопятся объявить это легендой, «апокрифом». Вот, извольте…
Стрелецкий подбежал к полке и схватил пухлую книгу:
— Профессор Сергей Белокуров! Знаменитый библиофил!.. «К истории духовного просвещения в Московском государстве шестнадцатого — семнадцатого веков», тире, «Церковные или светские книги были в библиотеке московских государей шестнадцатого века». Вопросительный знак… Название косноязычное, но не в нем суть… Так вот, этот умник-профессор решил перевернуть вверх ногами всю литературу, относящуюся к библиотеке Ивана Грозного, и «доказать», что никакой библиотеки вообще не было, что Зоя-Софья ничего с собой не привезла и что все доказательства существования культурней сокровищницы русского народа- это либо «бред сумасшедших», либо «фальсификация истории»…
Тася уже с негодованием смотрела на книгу Белокурова. Ей так понравилась загадочная история библиотеки Грозного, что она готова была возненавидеть каждого, кто развенчал бы эту чудесную легенду,
Волошин же взял в руки книгу Белокурова и внимательно стал листать ее:
— Интересно!.. Надо бы почитать, Настенька.
— А я и читать ее не стану! — сердито сказала Тася.
— Правильно, Тасенька! — воскликнул Стрелецкий. — Это желчный, реакционный писака, не любивший русский народ… Вы, юноша, лучше вот это почитайте! — И он указал на какую-то старинную книгу. — Это один из сборников летописей Троице-Сергиевской лавры… — Он быстро раскрыл книгу на нужной ему странице. — Вот… «При державе великого князя Василия Ивановича… это отец Грозного… повелением его прислан из грек монах Максим Грек… Бе же сей Максим велми хитр еллинскому, римскому и словенскому писанию… На Москве егда же узре у великого князя в царской книгохранительнице книг много и удивися и поведа великому князю, яко ни в греческой земле, ни где он толико множество книг не сподобился ведети…» [46]
Стрелецкий отложил книгу. Его взгляд горел.
— Так гласит древняя летопись… А профессор Белокуров с кислым видом покопался в писаниях Максима Грека и объявил: «Да… действительно, переводил для великого князя какие-то книжонки, а фактической справки по вопросу о библиотеке не представил…»
Тася была возмущена до глубины души:
— Не понимаю, почему же у нас печатают такую чушь?!
Волошин пододвинул к ней книгу Белокурова и, ехидно улыбаясь, указал на год издания: «1899»…
Девушка покраснела и отвернулась.
— Но в фальсификаторы попал не только древний летописец, — продолжал Стрелецкий, — а и очень честный профессор Юрьевского университета Дабелов. Он в 1820 году случайно в городе Пернове нашел часть списка библиотеки Грозного. Этот список, по свидетельству ливониа Ниенштедта, составил пастор Веттерман в Москве в шестнадцатом веке… Но профессор Белокуров объявил этот список «подделкой»… Прошло почти сто лет, и вот после долгих и упорных поисков я нашел подлинник перновского списка…
Тася смотрела на профессора со страхом и восхищением. Она чувствовала, что начинает любить этого старика. Даже спокойный, уравновешенный Волошин сейчас залюбовался его гневным и страстным лицом.
«Хорош старичок! Сурикова бы сюда или Репина», — подумал он.
— Кто же, в таком случае, фальсификатор, друзья мои? — спросил Стрелецкий. — Белокуров умер. Мертвые сраму не имут… Но его ученики остались. Кто они?… Слепые кроты или жабы, равнодушные ко всему истинному! Они объявили меня сумасшедшим. Они травят меня… Но не в этом дело. Простите, я отвлекся…
Стрелецкий подошел к письменному столу, взял какую-то пожелтевшую тетрадь и сказал торжественно:
— Вот неполная копия чернового веттермановского списка книг и свитков, входивших в библиотеку Грозного… Вот здесь значится антология византийской поэзии «Кик-лос», составленная Агафием. Это и есть та самая пергаментная книга, которую вы спасли на Кузнецком мосту. А против нее стоит пометка: «дарена…» — и далее неразборчивое слово. То ли эту книгу кто-то подарил Грозному, то ли он кому-то подарил ее и таким образом она дошла до нас…
Стрелецкий взял книгу со стола и показал ее Тасе и Волошину:
— Теперь вы понимаете, друзья, почему я так заволновался, когда от следователя ко мне на экспертизу попала эта книга?… Нам нужно во что бы то ни стало найти старушку, принесшую ее в букинистический магазин! — раздельно и четко произнес Стрелецкий. — Что вы знаете о ней?
— Ничего, — ответил Волошин.
— Ничего, — подтвердила Тася.
— Но как же все-таки ее можно найти? — с надеждой поглядывая на Тасю и Волошина, спросил Стрелецкий.
— Объявление в газете? — неуверенно спросила Тася.
— Нет! — решительно возразил Волошин. — Такие старушки не читают объявлений… — И, встав с места, уверенно сказал: — Мы подумаем, профессор…
Стрелецкий проводил их до выхода.
— Я очень надеюсь на вас, — проговорил он, и голос его дрогнул. — Я сорок лет ищу эту библиотеку, и до меня ее искали многие русские ученые. Помните это, друзья мои!
Только тут Волошин и Тася обратили внимание на высокую стремянку у самой двери. На верхней широкой ступеньке с книгами на коленях сидел человек в больших стариковских очках. Это и был профессор Стрелецкий, археолог, арабист и автор многих трудов по древнерусской литературе. Ему недавно исполнилось семьдесят лет, но он весь светился, блестел, и движения его были, порывисты, быстры. Вот и сейчас он не сошел, а сбежал с лестницы.
Своей белой вздыбленной шевелюрой, пышными приглаженными усами, бритым лицом и острыми, наблюдательными глазами профессор походил на какого-то композитора, которого Тася видела на фотографии в журнале. Не какого именно, она никак не могла припомнить.
Стрелецкий сунул Тасе и Волошину свою узкую, сухую руку и сам сказал:
— Бригадмилец Иван Волошин и студентка Анастасия Березкина?… Очень приятно!
— Бригадмилец — это моя побочная профессия, — сказал Волошин.
— Знаю, знаю! — воскликнул профессор. — Вы техник-электрик и большой любитель книг. Всё знаю!.. А вы — будущий исследователь французской литературы. Правильно?
И он повел своих гостей к письменному столу:
— Садитесь!
Гости недоверчиво поглядели на кресла, до верха спинок заваленные книгами, и остались стоять.
— Ах, книги!.. — воскликнул Стрелецкий и беспомощно оглянулся. — Маша! Мария Михайловна! — позвал он.
В дверь заглянула жена Стрелецкого.
— Там кто-нибудь есть? Принесите стулья.
Профессорша сокрушенно поглядела на книги в креслах и ушла.
— Вы знаете, зачем я позвал вас, друзья мои?… — начал профессор, остановившись перед Тасей.
— Нет, я не знаю, — тихо сказала она.
— Мы немного догадываемся, — поправил ее Волошин.
Женщина в фартуке внесла стулья. Тася и Волошин сели, а Стрелецкий, заложив большие пальцы в карманы жилета, засеменил, почти забегал перед ними, то удаляясь к двери, то возвращаясь вновь.
«Григ!.. Эдвард Григ! Вот на кого похож лицом этот седой старик», — вспомнила Тася.
— Произошло совершенно необыкновенное, невероятное событие! — говорил Стрелецкий, путешествуя по кабинету и почти распевая тонким, дребезжащим взволнованным голосочком какую-то лекцию, мало похожую на простую беседу. — Вы невольно приоткрыли завесу над тайной, которая вот уже много лет волнует целые поколения ученых…
Волошин и Тася переглянулись.
— Да, да, друзья мои! Не удивляйтесь.
Стрелецкий схватил со стола и поднял над своей головой старинную толстую книгу, которую Тася сразу узнала.
— Эта книга не что иное, как антология византийских поэтов пятого века. Составителем ее был один из интереснейших представителей византийской культуры — Агафий, ученый и поэт…
Тася уже с интересом смотрела на старинную книгу. Полистав ее и полюбовавшись, Стрелецкий вновь засеменил по кабинету, потом положил книгу на стол и продолжал:
— Она сама является большой ценностью… Но… — Стрелецкий умолк, остановился перед Тасей и посмотрел на нее гипнотическим взглядом. — Но… — еще раз многозначительно повторил профессор, — сейчас нас интересует уже вопрос, откуда она взялась, как вынырнула из тьмы веков, где была погребена сотни лет?
Тася и Волошин переглянулись, они ничего не поняли. Стрелецкий, как ни был он взволнован, все же заметил это.
— Бедные мои воробышки! — воскликнул он сокрушенно. — Вы ничего не понимаете! Вы уже с опаской поглядываете на старого профессора и думаете: «А не спятил ли старичок с ума?»
— Что вы! Мы очень заинтересованы… — сказала Тася и посмотрела на Волошина. — Правда?
— Истинная правда! — подтвердил он. — Я жду, что вы, профессор, расскажете нам какую-то чертовски интересную историю.
— Да, да! Да, друзья мои, я расскажу вам совершенно удивительную историю библиотеки Ивана Грозного…
Профессор Стрелецкий остановился посреди комнаты и умолк. История, которую он собирался рассказать своим молодым гостям, была столь необычайна, что надо было подумать, с чего начать и как ее изложить.
— Вы, очевидно, знаете, — сказал наконец Стрелецкий, — что царь Иван Четвертый был культурнейшим человеком своей эпохи: он много знал, много читал и писал. Одна только его переписка-полемика с князем Курбским дает представление об Иване Васильевиче как о крупном русском государственном деятеле, как о просвещенном, талантливом писателе-публицисте своего времени… К сожалению, до нас дошли лишь отдельные документы из архива Грозного. Весь же архив вместе с богатейшей по тем временам библиотекой Грозного до сих пор еще не найден…
— Не найден?! — с волнением переспросила Тася.
— Нет, милая девушка, не найден… — тряхнув своей львиной гривой, ответил профессор. — Особенно приходится пожалеть, что не найдена библиотека Ивана Васильевича. Известно, что это было редчайшее в мире собрание древних рукописных книг и свитков, европейских книжных уникумов и «раритетов». Креме книг и свитков греческих, иудейских, индийских, там были собраны и — древнерусские рукописные и первопечатные книги, напечатанные еще до Ивана Федорова. Вполне возможно, что в библиотеке Грозного сохранился и подлинник «Слова о полку Игореве» — замечательного памятника нашей литературы.
Волошин весь превратился во внимание. Тася слушала Стрелецкого с горящими глазами, ее щеки даже зарумянились от волнения.
— Но начало этой замечательной сокровищницы древней культуры было положено не самим Иваном Васильевичем, а его бабкой, византийской царевной Зоей Палеолог, получившей в Риме униатское имя Зоя-Софья и ставшей второй женой деда Ивана Грозного, великого князя московского Ивана Третьего.
Профессор Стрелецкий подошел к книжной полке, протянул руку и вытащил какую-то книжку, на черном переплете которой с обеих сторон были изображены золотые короны, окруженные белыми цветками, похожими на ромашки.
— Это одна из пяти книг современного большого исторического романа, в котором описаны события, происходившие в Московской Руси во второй половине пятнадцатого века, — сказал Стрелецкий, листая книгу с таким видом, будто он не решил еще, цитировать ему ее или нет. — Автор попытался воспроизвести в ней портрет Зои-Софьи Палеолог, этой весьма своеобразной личности.
Иван Волошин пригляделся к переплету и сказал:
— Я читал это сочинение, профессор. Каюсь, всё не одолел, но про царевну Зою прочел.
— Ах, вот как! — воскликнул Стрелецкий, испытующе глядя на Волошина.
— Про Зою я запомнил только то, что она беспрестанно, чуть ли не сорок лет, говорила про себя: «царевна провослявна», «царевна маля-маля разумей русски», что она была диверсанткой и папской шпионкой в Москве, что отравила своего пасынка и что кто-то в книге назвал ее «гнидой»…
Тася испуганно глядела на Волошина. Она не знала, понравится ли такая характеристика царевны Зои профессору Стрелецкому. Но тот весело смеялся и с дружелюбным юмором поглядывал на молодого техника.
— К сожалению, это так, друг мой, — сказал он. — Автор романа почему-то не взлюбил царевну Зою, он обрисовал ее зловредной дурочкой и даже не постеснялся чужими устами прилепить ей обидный ярлык «гнида». А между тем она не была ни дурочкой, ни агентом папы римского. Она, так же как и ее супруг Иван Третий, хотела укрепления централизованной царской власти в Москве; она путем всяческих интриг, вплоть до отравления пасынка, расчищала путь к царствованию своему сыну Василию, который в глазах всего мира явился бы прямым наследником не только русского престола, но и престола Византии и Морей, захваченных в те годы турками. Зоя-Софья, несомненно, считала, что придет время, когда русские воины во главе с полувизантийским царем освободят от турецкого ига балканских славян и близких им по религии греков. Вот почему она настояла, чтобы российским государственным гербом стал герб Византии — двуглавый орел…
Стрелецкий уже заволновался, зажегся. Он бегал по комнате, размахивая книгой с ромашками:
— Этот герб был потом опозорен тупыми русскими самодержцами. Но ведь на знаменах Суворова, на знаменах русских полков, разгромивших турецких захватчиков в Болгарии, в Молдавии, на Кавказе, был именно этот герб!.. Как же можно называть «гнидой» женщину, искренне любившую свою родину; женщину, желавшую, чтобы сын ее или внук освободили дорогую ее сердцу Византию и родину ее отца — балканскую Мо-рею?… Нас хотят уверить, что она была папской шпионкой в Москве. Но почему же вся ее деятельность была направлена на возвышение Москвы, а не Рима? Почему даже сам этот автор пишет об унижениях, которые терпела Зоя в Риме?
Пылающими глазами профессор смотрел на Волошина, будто именно он был автором книги с ромашками. Профессор ждал ответа, и Волошин, подумав минуту, сказал:
— Но ведь это очень талантливый автор, профессор. Я съязвит по его адресу, но я знаю, что его книги читают с большим интересом, особенно молодежь А про Зою я читал, что ее действительно не любил народ, ее называли «чумой», «ведьмой»…
— …и чернокнижницей, — подсказал Стрелецкий. — И это потому, что она действительно привезла с собой «колдовские» книги. Отсюда, очевидно, и худая слава Зои-Софьи… А что пишет об этих книгах ваш любимый автор, молодой человек?
Стрелецкий быстро полистал книгу:
— Вот послушайте! «…голова у Ивана Васильевича кружилась, и, хмелея, он слышал, как кругом всё чаше кричали: «Горько! Горько!» Иван Васильевич всякий раз в ответ на это по-пьяному размашисто обнимал царевну и целовал в уста, чуя, как она упирается в него излишне полной, но по-девичьи упругой грудью и целует всё горячей и горячей…» Книга четвертая, глава двенадцатая, страница двести восемьдесят седьмая.
Он отложил книгу, уже спокойно зашагал по кабинету и заговорил:
— Я не хочу отрицать того, что автор в своем романе сообщил читателю много интересных и ценных сведений. Но вот с «цареградской царевной» ему не повезло. Он рассказал нам все, что касалось ее наружности, даже «упругую грудь» не забыл, но ни словом не упомянул о больших культурных ценностях, привезенных ею в Москву; о богатейшем собрании манускриптов древнего мира, служивших украшением книгохранилища византийских царей и константинопольских патриархов до нашествия турок… Нигде ни единым словом этот автор не упоминает, как тревожилась византийская царевна о величайших ценностях древней культуры, как вызвала из Италии зодчего Аристотеля Фиоравенти, для того чтобы обнести Кремль вместо деревянных стен каменными высокими крепостными стенами, а под ним создать целый подземный город с тайниками, потайными ходами и лестницами. В одном из этих подземных тайников Зоя и захоронила свои книжные сокровища. Теперь она была спокойна: ни набеги татар, ни постоянные пожары в деревянной Москве не угрожали древним свиткам и книгам.
— Как это интересно! — воскликнула Тася. — А я ничего об этом никогда не слыхала.
— К сожалению, об этом мало кто знает, милая девушка. — добрым, отеческим тоном сказал Стрелецкий. — А те, кто знает, всегда торопятся объявить это легендой, «апокрифом». Вот, извольте…
Стрелецкий подбежал к полке и схватил пухлую книгу:
— Профессор Сергей Белокуров! Знаменитый библиофил!.. «К истории духовного просвещения в Московском государстве шестнадцатого — семнадцатого веков», тире, «Церковные или светские книги были в библиотеке московских государей шестнадцатого века». Вопросительный знак… Название косноязычное, но не в нем суть… Так вот, этот умник-профессор решил перевернуть вверх ногами всю литературу, относящуюся к библиотеке Ивана Грозного, и «доказать», что никакой библиотеки вообще не было, что Зоя-Софья ничего с собой не привезла и что все доказательства существования культурней сокровищницы русского народа- это либо «бред сумасшедших», либо «фальсификация истории»…
Тася уже с негодованием смотрела на книгу Белокурова. Ей так понравилась загадочная история библиотеки Грозного, что она готова была возненавидеть каждого, кто развенчал бы эту чудесную легенду,
Волошин же взял в руки книгу Белокурова и внимательно стал листать ее:
— Интересно!.. Надо бы почитать, Настенька.
— А я и читать ее не стану! — сердито сказала Тася.
— Правильно, Тасенька! — воскликнул Стрелецкий. — Это желчный, реакционный писака, не любивший русский народ… Вы, юноша, лучше вот это почитайте! — И он указал на какую-то старинную книгу. — Это один из сборников летописей Троице-Сергиевской лавры… — Он быстро раскрыл книгу на нужной ему странице. — Вот… «При державе великого князя Василия Ивановича… это отец Грозного… повелением его прислан из грек монах Максим Грек… Бе же сей Максим велми хитр еллинскому, римскому и словенскому писанию… На Москве егда же узре у великого князя в царской книгохранительнице книг много и удивися и поведа великому князю, яко ни в греческой земле, ни где он толико множество книг не сподобился ведети…» [46]
Стрелецкий отложил книгу. Его взгляд горел.
— Так гласит древняя летопись… А профессор Белокуров с кислым видом покопался в писаниях Максима Грека и объявил: «Да… действительно, переводил для великого князя какие-то книжонки, а фактической справки по вопросу о библиотеке не представил…»
Тася была возмущена до глубины души:
— Не понимаю, почему же у нас печатают такую чушь?!
Волошин пододвинул к ней книгу Белокурова и, ехидно улыбаясь, указал на год издания: «1899»…
Девушка покраснела и отвернулась.
— Но в фальсификаторы попал не только древний летописец, — продолжал Стрелецкий, — а и очень честный профессор Юрьевского университета Дабелов. Он в 1820 году случайно в городе Пернове нашел часть списка библиотеки Грозного. Этот список, по свидетельству ливониа Ниенштедта, составил пастор Веттерман в Москве в шестнадцатом веке… Но профессор Белокуров объявил этот список «подделкой»… Прошло почти сто лет, и вот после долгих и упорных поисков я нашел подлинник перновского списка…
Тася смотрела на профессора со страхом и восхищением. Она чувствовала, что начинает любить этого старика. Даже спокойный, уравновешенный Волошин сейчас залюбовался его гневным и страстным лицом.
«Хорош старичок! Сурикова бы сюда или Репина», — подумал он.
— Кто же, в таком случае, фальсификатор, друзья мои? — спросил Стрелецкий. — Белокуров умер. Мертвые сраму не имут… Но его ученики остались. Кто они?… Слепые кроты или жабы, равнодушные ко всему истинному! Они объявили меня сумасшедшим. Они травят меня… Но не в этом дело. Простите, я отвлекся…
Стрелецкий подошел к письменному столу, взял какую-то пожелтевшую тетрадь и сказал торжественно:
— Вот неполная копия чернового веттермановского списка книг и свитков, входивших в библиотеку Грозного… Вот здесь значится антология византийской поэзии «Кик-лос», составленная Агафием. Это и есть та самая пергаментная книга, которую вы спасли на Кузнецком мосту. А против нее стоит пометка: «дарена…» — и далее неразборчивое слово. То ли эту книгу кто-то подарил Грозному, то ли он кому-то подарил ее и таким образом она дошла до нас…
Стрелецкий взял книгу со стола и показал ее Тасе и Волошину:
— Теперь вы понимаете, друзья, почему я так заволновался, когда от следователя ко мне на экспертизу попала эта книга?… Нам нужно во что бы то ни стало найти старушку, принесшую ее в букинистический магазин! — раздельно и четко произнес Стрелецкий. — Что вы знаете о ней?
— Ничего, — ответил Волошин.
— Ничего, — подтвердила Тася.
— Но как же все-таки ее можно найти? — с надеждой поглядывая на Тасю и Волошина, спросил Стрелецкий.
— Объявление в газете? — неуверенно спросила Тася.
— Нет! — решительно возразил Волошин. — Такие старушки не читают объявлений… — И, встав с места, уверенно сказал: — Мы подумаем, профессор…
Стрелецкий проводил их до выхода.
— Я очень надеюсь на вас, — проговорил он, и голос его дрогнул. — Я сорок лет ищу эту библиотеку, и до меня ее искали многие русские ученые. Помните это, друзья мои!
* * *
 Они молча вышли из высокого дома на тихую Волхонку. Волошин взял Тасю под руку и вновь провел за ограду кремлевского сквера.
Высоко в темном небе, на плывущих молочных облаках, парила огненная кремлевская звезда. Как маленькие круглые луны, сияли в сквере фонари.
Тася и Волошин сели на скамью у больших цветочных ваз.
От грота у кремлевской стены, где веселились и играли дети, долетали громкие голоса, а с другой стороны, у Манежа, тихо шелестели шины троллейбусов и автомашин, слышались сдержанные гудки. Там жила и дышала новая Москва.
Первой заговорила Тася:
— Подумать только! Вот здесь, где-то в земле, под Кремлем, сотни лет хранятся величайшие ценности человеческой культуры, а найти их до сих пор никто не мог… И вдруг? Кузнецкий мост, какая-то старушка с кошелкой, византийская книга… И вот мы с вами вовлечены в разгадку удивительной тайны.
— Да! Эту историю Вальтер Скотт, Стивенсон или Хаггард могли бы превратить в великолепный роман… — задумчиво произнес молодой бригадмилец и вдруг весело рассмеялся. — А профессор все-таки напрасно обидел автора исторического романа. Когда он читал нам, как царевна Зоя целовалась, я припомнил это место в романе и подумал: «Хороша девка! Идейная! И целоваться умела, и в книжках толк понимала. А насчет Белокурова…»
Тася строго посмотрела на него:
— Я вижу, что у вас веселое настроение.
Он удивился:
— А отчего же мне грустить?
— А хотя бы оттого, что вы, бригадмилец, какого-нибудь мелкого воришку сразу же умеете доставить в отделение, а вот старушку с кошелкой найти вряд ли сможете, даже если сегодня ночью всего Конан-Дойля или Честертона перечитаете.
Он усмехнулся:
— О-о! Вы, оказывается, девушка с характером!
— Да! — сердито сказала она. — И потому я уже думаю только об одном: как помочь профессору Стрелецкому найти исчезнувшую старушку. А вы думаете о том, как целовалась царевна Зоя…
— Ладно! Не будем ссориться… — примирительно сказал Волошин. — Завтра же я подам рапорт начальнику отделения, попрошу его, чтобы он побывал в Управлении милиции и привел в движение всех участковых уполномоченных и даже дворников.
— Делайте что хотите, но старуху надо найти.
— Постараемся! — весело сказал Волошин, явно любуясь горящими глазами Таси и ее похорошевшим от волнения лицом.
— Что вы на меня так смотрите? — смутившись, спросила она.
— Да так… ничего… царевна Настенька, — медленно сказал он с улыбкой.
— А вы Иванушка-дурачок!.. — со смехом ответила она и взяла его за руку: — Идемте!
Они встали и зашагали к выходу по аллее ночного и сказочно красивого кремлевского сквера.
Они молча вышли из высокого дома на тихую Волхонку. Волошин взял Тасю под руку и вновь провел за ограду кремлевского сквера.
Высоко в темном небе, на плывущих молочных облаках, парила огненная кремлевская звезда. Как маленькие круглые луны, сияли в сквере фонари.
Тася и Волошин сели на скамью у больших цветочных ваз.
От грота у кремлевской стены, где веселились и играли дети, долетали громкие голоса, а с другой стороны, у Манежа, тихо шелестели шины троллейбусов и автомашин, слышались сдержанные гудки. Там жила и дышала новая Москва.
Первой заговорила Тася:
— Подумать только! Вот здесь, где-то в земле, под Кремлем, сотни лет хранятся величайшие ценности человеческой культуры, а найти их до сих пор никто не мог… И вдруг? Кузнецкий мост, какая-то старушка с кошелкой, византийская книга… И вот мы с вами вовлечены в разгадку удивительной тайны.
— Да! Эту историю Вальтер Скотт, Стивенсон или Хаггард могли бы превратить в великолепный роман… — задумчиво произнес молодой бригадмилец и вдруг весело рассмеялся. — А профессор все-таки напрасно обидел автора исторического романа. Когда он читал нам, как царевна Зоя целовалась, я припомнил это место в романе и подумал: «Хороша девка! Идейная! И целоваться умела, и в книжках толк понимала. А насчет Белокурова…»
Тася строго посмотрела на него:
— Я вижу, что у вас веселое настроение.
Он удивился:
— А отчего же мне грустить?
— А хотя бы оттого, что вы, бригадмилец, какого-нибудь мелкого воришку сразу же умеете доставить в отделение, а вот старушку с кошелкой найти вряд ли сможете, даже если сегодня ночью всего Конан-Дойля или Честертона перечитаете.
Он усмехнулся:
— О-о! Вы, оказывается, девушка с характером!
— Да! — сердито сказала она. — И потому я уже думаю только об одном: как помочь профессору Стрелецкому найти исчезнувшую старушку. А вы думаете о том, как целовалась царевна Зоя…
— Ладно! Не будем ссориться… — примирительно сказал Волошин. — Завтра же я подам рапорт начальнику отделения, попрошу его, чтобы он побывал в Управлении милиции и привел в движение всех участковых уполномоченных и даже дворников.
— Делайте что хотите, но старуху надо найти.
— Постараемся! — весело сказал Волошин, явно любуясь горящими глазами Таси и ее похорошевшим от волнения лицом.
— Что вы на меня так смотрите? — смутившись, спросила она.
— Да так… ничего… царевна Настенька, — медленно сказал он с улыбкой.
— А вы Иванушка-дурачок!.. — со смехом ответила она и взяла его за руку: — Идемте!
Они встали и зашагали к выходу по аллее ночного и сказочно красивого кремлевского сквера.
«ЭКСЛИБРИС Е.Ф.БЕЛЬСКОЙ»
Тася сидела за письменным столом в глубоком раздумье. Она не переставала думать обо всем, что узнала вчера от Стрелецкого. Даже ночью ей снилась царевна Зоя — стройная, одухотворенная девушка из русских сказок, будто сошедшая с лакированной палехской шкатулки Утром Тася долго разглядывала на цветной репродукции исступленное, безумное от горя лицо Грозного, прижимающего к груди окровавленного убитого сына… Тася была впечатлительной девушкой. Мысль или событие, поразившее ее, овладевали ее умом до основания. И теперь таинственный склеп с древними книгами вставал перед ее глазами так явственно, что она едва не плакала от волнения. Сейчас девушка сидела за письменным столом в маленьком отцовском кабинете, одна во всей квартире, и усиленно припоминала все, что относилось к старушке и к ее книгам… Тася не была красавицей, но не была и дурнушкой. Ее тонкий нос казался даже чересчур правильным, небольшие серые глаза с голубизной оттенялись темными ресницами — не длинными, но вразлет, стрелками. Строгая линия бровей, приближаясь к вискам, переходила в редкий пушок (вполне возможно, что именно здесь рисунок бровей и отражал характер). Лицо ее казалось немного скуластым, но слабый румянец скрадывал эту особенность. Темно-каштановые волосы вились, и тяжелые локоны были небрежно отброшены назад. Лицо этой девушки отражало всю гамму чувств, обуревавших ее, однако в спокойном состоянии оно светилось лишь ясной и милой женственностью. Глаза ее всегда готовы были удивленно раскрыться, но это не мешало им пытливо приглядываться к собеседнику, «изучать» его. Суховатая рука с длинными пальцами, «энергичная рука». Скромная одежда. Тонкая, точеная фигурка. Нитка кораллов на шее. Вот и всё… Пройдешь — и не заметишь. А на самом деле — очень много. В пытливых серых глазах этой девушки, казалось, укладывался весь мир с его огромным прошлым и сложной действительностью. Что же касается характера Таси, то в ней ясно угадывалась натура, склонная к фанатичности, упорная в своих стремлениях и вместе с тем трогательно непрактичная. Однако в данную минуту это «трогательно непрактичное» существо усиленно соображало и припоминало мельчайшие подробности своей встречи со старушкой на Кузнецком мосту и каждое слово, сказанное в те минуты. И вдруг бесцельно перебегавшие от чернильницы к пресс-папье светлые глаза Таси ожили. Она вспомнила слова старушки: «…несите, говорит, Клавдия Антиповна, эту книгу поскореича в библиотеку, потому как она очень ценная книга…» Тася вскочила и забегала по комнате: — Клавдия Антиповна!.. Но фамилия? Как ее фамилия?… Ответа на этот вопрос не было. И тогда в напряженной памяти девушки всплыли другие слова старушки: «Это моей бывшей барыни книги. Евгении Феликсовны…» Но кто она, эта «барыня»? Тася вскочила и сорвала трубку телефона: — Пятидесятое отделение?… Бригадмилец Иван Волошин не звонил еще?… Нет? Простите… Она сердито швырнула трубку: «Безобразие! Я уверена, что он ничего не делает. «Хороша девка! Идейная! Целоваться умеет»… Это царевна Зоя — девка?… Бревно, вот он кто!.. И от такого типа зависит судьба драгоценной библиотеки Грозного!» — «Я сорок лет ищу ее», — вспомнила Тася слова Стрелецкого. Сколько надежды было в умных, ласковых глазах старика в ту минуту! Тяжело вздохнув, она стала листать какую-то старую книжку, на титульном листе которой был отпечаток экслибриса: «Борис Перелешин». Тася задумалась и наморщила лоб Она старалась что-то припомнить: «Экслибрис… Где? Чей? Когда я видела?… Экслибрис… Это значит — «из книг»…» Тася отложила книгу, и внезапно перед ее умственным взором возникло маленькое изящное французское факсимиле, окруженное затейливой виньеткой. «Принцесс Эжени Бельская», — прошептала Тася почти в испуге… Да, да! Именно такое факсимиле она видела на титульном листе дидоновского Ламартина! «Княгиня Евгения Бельская»! Кем иным, как не бывшей барыней старушки могла быть эта «княгиня Бельская»?… «Евгения Феликсовна»! Ну конечно же, это она! Тася вновь бросилась к телефону: — Пятидесятое отделение?… Волошин звонил?… Нет? Скажите мне его адрес или служебный телефон! Но дежурный спокойно и официально разъяснил ей: — Адресов наших бригадмильцев мы посторонним лицам не сообщаем. — Я не посторонняя! — быстро и взволнованно заговорила Тася. — Меня вместе с товаришем Волошиным следователь направил к эксперту по делу о древней книге… Дежурный не понимал: — По делу о книге? О какой книге? — Это книга Агафия… Византийская. — А что случилось с этой книгой? Тася никак не могла объяснитьдежурному сложную историю появления и спасения византийской антологии Агафия. Дежурный был «не в курсе дела», и разговор получался путаный. — Ее пытались украсть, — пояснила Тася. — Так-так. Понятно. Вы, значит, предупредили покушение? — с расстановкой спросил дежурный. — Предупредила не я, а Волошин. Разве вы об этом не знаете? — Нет… то есть, конечно, может быть, и слыхал. Но у нас каждый день столько происшествий… А вы, значит, эта самая Агафья Византийская и есть? Потерпевшая?… — Нет, я свидетельница! — в отчаянии сказала Тася. — Ага! Понятно… Дежурный был озадачен и вместе с тем уже заинтересован. — Как ваша фамилия? — спросил он. — Березкина, Анастасия, студентка… — Подождите минутку, не отходите от телефона Наступило молчание, прерываемое гудящим, как далекий мотор, голосом: — А я вам говорю, товарищ старшина, точно и определенно, что в трезвом виде я не имею привычки кидаться бутылками. И это может подтвердить моя фактическая жена… А что касается моей юридической жены, то это особа антисоветского происхождения. Минуты через три вновь послышался голос дежурного: — Гражданка Березкина! Начальник отделения просит вас позвонить бригадмильцу Волошину по телефону Е 8-16-32 и сообщить ему все, что вы хотите.* * *
Волошин примчался на такси. Он был взволнован не меньше, чем Тася: — Я ничего не понял по телефону. К тому же у нас там адский шум… Какая княгиня? В чем дело? Тася рассказала ему, как она восстановила в памяти сперва имя и отчество старушки, а затем — ее бывшей барыни и, наконец, вспомнила, что видела на одной французской книге экслибрис княгини Евгении Бельской. — Ого! Да вы молодец, Настенька! Это же подвиг!.. — восхищенно воскликнул Волошин. — Если мы найдем эту княгиню, я добьюсь ходатайства о награждении вас медалью… — …«За спасение утопающих»! — со смехом закончила Тася. — Совершенно верно, — сокрушенно сказал молодой бригадмилец. — Мы привели в действие могучую милицейскую машину, и нам угрожает опасность утонуть в многотысячных массах старушек, с которыми предстоит познакомиться. — Ох, как жалко, что я поспешила! — с искренним сожалением воскликнула Тася.* * *
Но, по-видимому, даже зная имя, отчество и фамилию настоящей владелицы французских книг и антологии Агафия, не так-то легко было в многомиллионном людском море Москвы отыскать «княгиню Евгению Феликсовну Бельскую». Волошин безмолвствовал весь следующий день и лишь вечером позвонил по телефону. — Ну? Говорите скорее! — крикнула в трубку Тася. — Следы княгини Евгении Бельской найдены, — спокойно сообщил Волошин. — Но они найдены не в адресном столе, а в отделе регистрации умерших бывшего Москворецкого загса… — Она умерла? — холодея, спросила Тася. — Да. В тысяча девятьсот двадцать пятом году. Там же, в загсе, я узнал ее последний адрес. Она жила на Малой Ордынке. — Едемте сейчас же туда! — приказала Тася. — Не могу, — устало сказал молодой бригадмилец. — Я уже две ночи не сплю из-за вашей старушки и ее бывшей барыни… Я валюсь с ног. Но Тася была неумолима и безжалостна: — Дайте мне адрес! Я поеду сама. — Завтра… вместе… — успокоил ее Волошин. — Вы хотите, чтоб я поседела за эту ночь? Он рассмеялся: — Седая девушка. И с таким темпераментом!.. Мне очень хочется посмотреть на вас сейчас, но все же я отложу это удовольствие до завтрашнего дня. Она успокоилась. В ней проснулась благодарность к этому спокойному и энергичному парню. Улыбнувшись, Тася сказала: — Простите. Я сумасшедшая… — Вы такая, как надо. — Идите спать… Ваня. — Спокойной ночи, Настенька, — сказал он и повесил трубку.В ДОМИКЕ НА ОРДЫНКЕ
О дореволюционном «купеческом Замоскворечье» написано немало, и потому не станем здесь перечислять всех отрицательных сторон этого «темного царства». Это очень хорошо сделал Александр Николаевич Островский. О новом же Замоскворечье часто пишут в газете «Вечерняя Москва». Не так красочно, как Островский, но все же пишут… Однако возле маленького одноэтажного домика на Ордынке, за зеленым палисадником, нам придется немного задержаться.
Позабытый жилуправлением, домик этот давно пришел в упадок, но тем не менее был густо населен. В то утро, когда Волошин и Тася приехали сюда, самая юная часть обитателей под присмотром старушек играла во дворе в «салки» или, в зависимости от настроения, пела, дралась, смеялась и плакала.
— Здесь… — сказал Волошин. — Сейчас мы выберем наиболее идейную старушку и учиним ей допрос.
Они прошли во двор и присели на скамью подле одной из старушек. Определив по типу лица, что старушка, скорее всего, татарка, Волошин вежливо произнес:
— Селям алейкум, апа!
Старушка не поняла и на чистейшем русском языке спросила, что ему нужно. Завязался оживленный разговор, к которому вскоре присоединились старушки всего двора. Однако Клавдии Антиповны среди них не было. Оказалось, что она действительно живет в этом дом «уже много лет, но служит через три дома отсюда «собачьей бонной», то есть выводит гулять принадлежащую какой-то тощей пожилой аспирантке болонку с претенциозной кличкой «мадам Бовари».
Оказалось также, что одна из старушек, живущая в этом доме с 1918 года, отлично помнит княгиню Евгению Феликсовну Бельскую.
— Не русская она была, француженка, что ли, и часто какие-то чудные слова говорила. Говорит, а сама смеется — забыла, мол. Только она редко смеялась. Как сейчас я ее вижу: тоненькая, будто колосок, бледная, и все кашляла. Глаза большущие и печальные — горе у нее какое-то на сердце лежало… Наша Антиповна любила ее, как за родной сестрой ухаживала, и все же померла она, касатка. Сказывала Антиповна, будто сохла ее барынька по каком-то князе или графе, а он, вишь, в уме повредился и без вести пропал…
Все это благодушная, круглолицая старушка излагала не торопясь, певучим голосом, будто сказку о спящей царевне рассказывала, а закончила свой рассказ неожиданным возгласом:
— Игорь! Брось палку, халюган! Вот скажу матери…
Игорь бросил палку и по просьбе своей бабушки охотно сбегал за Антипозной. Та вскоре пришла, неся на руках крохотную аспирантскую «мадам Бовари», покрытую кокетливой попонкой. Старушка узнала Та-сю и очень обрадовалась ей, а на сообщение Волошина, что старинная книга нашлась, лишь рукой махнула:
— Отдайте ее ученым людям, а то с нею только беды наживешь…
Они прошли в дом. Клавдия Антиповна ютилась в маленькой каморке, добрую половину которой занимал пузатый темно-красный комод. Над комодом в красивой золоченой раме висел среднего размера портрет молодой женщины, написанный гуашью.
— Она… — грустно глядя на портрет, сказала Клавдия Антиповна. — Ей тогда было двадцать лет.
Однако возле маленького одноэтажного домика на Ордынке, за зеленым палисадником, нам придется немного задержаться.
Позабытый жилуправлением, домик этот давно пришел в упадок, но тем не менее был густо населен. В то утро, когда Волошин и Тася приехали сюда, самая юная часть обитателей под присмотром старушек играла во дворе в «салки» или, в зависимости от настроения, пела, дралась, смеялась и плакала.
— Здесь… — сказал Волошин. — Сейчас мы выберем наиболее идейную старушку и учиним ей допрос.
Они прошли во двор и присели на скамью подле одной из старушек. Определив по типу лица, что старушка, скорее всего, татарка, Волошин вежливо произнес:
— Селям алейкум, апа!
Старушка не поняла и на чистейшем русском языке спросила, что ему нужно. Завязался оживленный разговор, к которому вскоре присоединились старушки всего двора. Однако Клавдии Антиповны среди них не было. Оказалось, что она действительно живет в этом дом «уже много лет, но служит через три дома отсюда «собачьей бонной», то есть выводит гулять принадлежащую какой-то тощей пожилой аспирантке болонку с претенциозной кличкой «мадам Бовари».
Оказалось также, что одна из старушек, живущая в этом доме с 1918 года, отлично помнит княгиню Евгению Феликсовну Бельскую.
— Не русская она была, француженка, что ли, и часто какие-то чудные слова говорила. Говорит, а сама смеется — забыла, мол. Только она редко смеялась. Как сейчас я ее вижу: тоненькая, будто колосок, бледная, и все кашляла. Глаза большущие и печальные — горе у нее какое-то на сердце лежало… Наша Антиповна любила ее, как за родной сестрой ухаживала, и все же померла она, касатка. Сказывала Антиповна, будто сохла ее барынька по каком-то князе или графе, а он, вишь, в уме повредился и без вести пропал…
Все это благодушная, круглолицая старушка излагала не торопясь, певучим голосом, будто сказку о спящей царевне рассказывала, а закончила свой рассказ неожиданным возгласом:
— Игорь! Брось палку, халюган! Вот скажу матери…
Игорь бросил палку и по просьбе своей бабушки охотно сбегал за Антипозной. Та вскоре пришла, неся на руках крохотную аспирантскую «мадам Бовари», покрытую кокетливой попонкой. Старушка узнала Та-сю и очень обрадовалась ей, а на сообщение Волошина, что старинная книга нашлась, лишь рукой махнула:
— Отдайте ее ученым людям, а то с нею только беды наживешь…
Они прошли в дом. Клавдия Антиповна ютилась в маленькой каморке, добрую половину которой занимал пузатый темно-красный комод. Над комодом в красивой золоченой раме висел среднего размера портрет молодой женщины, написанный гуашью.
— Она… — грустно глядя на портрет, сказала Клавдия Антиповна. — Ей тогда было двадцать лет.
 Не отрывая глаз, Тася смотрела на портрет. Чуть удлиненное бледное лицо Евгении Бельской останавливало внимание своей неожиданной, необычной красотой. Его обрамляло облако темных волос. А на светлой блузке были выписаны кружева — тонкие, как снежинки.
Большие темные глаза смотрели на Тасю настороженно, тревожно.
— Какие у нее глаза! — тихо сказала Тася.
— Она всегда была как малый ребенок! — стала рассказывать Клавдия Антиповна и погладила «мадам Бовари», за что та немедленно лизнула ее руку. — А как назначили революцию, она даже обрадовалась и сказала мне: «Ну, слава богу, теперь я совсем уйду от князя Андрея, и мы с Платоном поженимся». Вот и «ушла»… на тот свет.
Тася попросила старушку немедленно рассказать ей и Волошину все, что та знала о Евгении Бельской.
Родители молоденькой девушки Эжени де Мерод, обнищавшие французские аристократы, в 1913 году выдали ее замуж за богатого русского князя Андрея Бельского, но, переехав в Россию, Эжени полюбила здесь своего деверя, брата мужа, князя Платона — человека красивого и умного, чего нельзя было сказать об Андрее Бельском Свою любовь Платон и Эжени скрывали недолго, скоро все обиаружилось. Но революция заставила Андрея Бельского бежать за границу, а князь Платон, скрыв свое происхождение, увез Эжени из Петрограда в Вологду. Как потом рассказывала Евгения Бельская Клавдии Антиповне, Платон Бельский в каком-то вологодском монастыре искал старинные книги. Он часто ездил в Вологду из Петербурга и однажды даже взял с собой свою возлюбленную…
Тут Волошин, внимательно слушавший старушку, спросил ее:
— Вы точно знаете, что он ездил в Вологду?
Не отрывая глаз, Тася смотрела на портрет. Чуть удлиненное бледное лицо Евгении Бельской останавливало внимание своей неожиданной, необычной красотой. Его обрамляло облако темных волос. А на светлой блузке были выписаны кружева — тонкие, как снежинки.
Большие темные глаза смотрели на Тасю настороженно, тревожно.
— Какие у нее глаза! — тихо сказала Тася.
— Она всегда была как малый ребенок! — стала рассказывать Клавдия Антиповна и погладила «мадам Бовари», за что та немедленно лизнула ее руку. — А как назначили революцию, она даже обрадовалась и сказала мне: «Ну, слава богу, теперь я совсем уйду от князя Андрея, и мы с Платоном поженимся». Вот и «ушла»… на тот свет.
Тася попросила старушку немедленно рассказать ей и Волошину все, что та знала о Евгении Бельской.
Родители молоденькой девушки Эжени де Мерод, обнищавшие французские аристократы, в 1913 году выдали ее замуж за богатого русского князя Андрея Бельского, но, переехав в Россию, Эжени полюбила здесь своего деверя, брата мужа, князя Платона — человека красивого и умного, чего нельзя было сказать об Андрее Бельском Свою любовь Платон и Эжени скрывали недолго, скоро все обиаружилось. Но революция заставила Андрея Бельского бежать за границу, а князь Платон, скрыв свое происхождение, увез Эжени из Петрограда в Вологду. Как потом рассказывала Евгения Бельская Клавдии Антиповне, Платон Бельский в каком-то вологодском монастыре искал старинные книги. Он часто ездил в Вологду из Петербурга и однажды даже взял с собой свою возлюбленную…
Тут Волошин, внимательно слушавший старушку, спросил ее:
— Вы точно знаете, что он ездил в Вологду?
 — В Вологду, сыночек, в Вологду, — подтвердила Клавдия Антиповна. — Они и меня в тот раз взяли, да только в городе оставили, а сами дальше поехали, пароходом, по рекам и озерам. Сказывают, там, в лесах да за семью озерами, обитель древняя стоит, святым Кириллом воздвигнутая. Вот в ту обитель и ездили князь Платон с Евгенией Феликсовной. Там он и книги старинные искал…
— А откуда у Евгении Феликсовны старинная книга взялась, та, что я у жулика отнял? — спросил Волошин.
— А ту книгу князь Платон своей дорогой кралечке еще в первую войну подарил и даже надпись сделал. А муженек возьми да и найди ту книгу. «Вот, говорит, какие надписи вам делают, мадам?» А Евгения Феликсовна рассердилась. «Убирайтесь, говорит, болван!» И вырвала у него книгу. Да только не всю. Верхняя-то крышка в руках у мужа осталась. И смех и грех!..
— Ну и что же? Нашел князь Платон старинные книги? — нетерпеливо спросила Тася.
— Не знаю, доченька, — ответила старушка и, пригорюнившись, продолжала: — Известно только мне, что ушел он из Вологды, да так и сгинул навеки…
— Почему ушел? — осведомился Волошин.
— Ссора между ими произошла. Евгения Феликсовна думала, что князь Платон не иначе как свихнулся, а старинные книги — это только блажь его. Она даже доктора позвала. А князь осерчал, пихнул доктора в грудку и пошел куда глаза глядят. Больше она, сердечная, его и не видела, хотя два года по всему вологодскому краю искала… А потом собрала пожитки, да и приехала ко мне. Я ей еще в Петербурге на прощанье московский адрес своей сестры дала.
Тася молчала. Ее глаза вновь остановились на прекрасном лице Эжени.
— А в каком монастыре искал старинные книги князь Платон? — спросил Волошин.
— Не знаю, сыночек. Да и сама-то Евгения Феликсовна его название навряд знала. Помню только, что там святой Кирилл с иноками жил в стародавние времена.
Тася оглянулась вокруг и спросила:
— Кроме книг, ничего после нее здесь не осталось?
— Ничегошеньки! Был веер красивый и платья, да я бедным девушкам из нашего дома раздала. А картину себе оставила, — сказала старушка, с жалостью глядя на портрет. — Как живая она в рамке сидит.
— Нет ли каких-нибудь писем к ней от князя Платона? — поинтересовался Волошин.
— Были, сыночек, были, — охотно ответила старушка. — Да не по-русски писаны. Я хранила их долго, а потом не знаю уж куда и сунула.
— Надо поискать эти письма, Клавдия Антиповна, — серьезно и просительно сказала Тася. — Один профессор видел вашу книгу и хочет сам старинные книги поискать. Может быть, письма князя Платона ему помогут…
Клавдия Антиповна сокрушенно покачала головой:
— Поискать можно. Да только бы ваш профессор тоже в уме не повредился, как князь Платон. Слыхала я, что колдовские они, эти книги…
Волошин улыбнулся и чуть было не сказал, что профессор уже сорок лет назад «повредился в уме» и упорно ищет «колдовские книги». Однако, взглянув на строгое, сосредоточенное лицо Таси, промолчал. С некоторых пор Волошин уже ловил себя на том, что побаивается своей чрезмерно серьезной, но экзальтированной подружки.
Уходя от Клавдии Антиповны, Тася и Волошин очень просили ее поискать письма, оставшиеся после Евгении Бельской, и старушка пообещала порыться в своем комоде.
— Да, кстати, — вспомнил Волошин. — Ваша книга будет передана в Ленинскую библиотеку, и вы, Клавдия Антиповна, получите за нее деньги.
Старушка махнула рукой:
— Бог с ними, с деньгами. Да и не моя та книга, сиротой она осталась. Значит, пускай ее и берет себе советская власть.
— В Вологду, сыночек, в Вологду, — подтвердила Клавдия Антиповна. — Они и меня в тот раз взяли, да только в городе оставили, а сами дальше поехали, пароходом, по рекам и озерам. Сказывают, там, в лесах да за семью озерами, обитель древняя стоит, святым Кириллом воздвигнутая. Вот в ту обитель и ездили князь Платон с Евгенией Феликсовной. Там он и книги старинные искал…
— А откуда у Евгении Феликсовны старинная книга взялась, та, что я у жулика отнял? — спросил Волошин.
— А ту книгу князь Платон своей дорогой кралечке еще в первую войну подарил и даже надпись сделал. А муженек возьми да и найди ту книгу. «Вот, говорит, какие надписи вам делают, мадам?» А Евгения Феликсовна рассердилась. «Убирайтесь, говорит, болван!» И вырвала у него книгу. Да только не всю. Верхняя-то крышка в руках у мужа осталась. И смех и грех!..
— Ну и что же? Нашел князь Платон старинные книги? — нетерпеливо спросила Тася.
— Не знаю, доченька, — ответила старушка и, пригорюнившись, продолжала: — Известно только мне, что ушел он из Вологды, да так и сгинул навеки…
— Почему ушел? — осведомился Волошин.
— Ссора между ими произошла. Евгения Феликсовна думала, что князь Платон не иначе как свихнулся, а старинные книги — это только блажь его. Она даже доктора позвала. А князь осерчал, пихнул доктора в грудку и пошел куда глаза глядят. Больше она, сердечная, его и не видела, хотя два года по всему вологодскому краю искала… А потом собрала пожитки, да и приехала ко мне. Я ей еще в Петербурге на прощанье московский адрес своей сестры дала.
Тася молчала. Ее глаза вновь остановились на прекрасном лице Эжени.
— А в каком монастыре искал старинные книги князь Платон? — спросил Волошин.
— Не знаю, сыночек. Да и сама-то Евгения Феликсовна его название навряд знала. Помню только, что там святой Кирилл с иноками жил в стародавние времена.
Тася оглянулась вокруг и спросила:
— Кроме книг, ничего после нее здесь не осталось?
— Ничегошеньки! Был веер красивый и платья, да я бедным девушкам из нашего дома раздала. А картину себе оставила, — сказала старушка, с жалостью глядя на портрет. — Как живая она в рамке сидит.
— Нет ли каких-нибудь писем к ней от князя Платона? — поинтересовался Волошин.
— Были, сыночек, были, — охотно ответила старушка. — Да не по-русски писаны. Я хранила их долго, а потом не знаю уж куда и сунула.
— Надо поискать эти письма, Клавдия Антиповна, — серьезно и просительно сказала Тася. — Один профессор видел вашу книгу и хочет сам старинные книги поискать. Может быть, письма князя Платона ему помогут…
Клавдия Антиповна сокрушенно покачала головой:
— Поискать можно. Да только бы ваш профессор тоже в уме не повредился, как князь Платон. Слыхала я, что колдовские они, эти книги…
Волошин улыбнулся и чуть было не сказал, что профессор уже сорок лет назад «повредился в уме» и упорно ищет «колдовские книги». Однако, взглянув на строгое, сосредоточенное лицо Таси, промолчал. С некоторых пор Волошин уже ловил себя на том, что побаивается своей чрезмерно серьезной, но экзальтированной подружки.
Уходя от Клавдии Антиповны, Тася и Волошин очень просили ее поискать письма, оставшиеся после Евгении Бельской, и старушка пообещала порыться в своем комоде.
— Да, кстати, — вспомнил Волошин. — Ваша книга будет передана в Ленинскую библиотеку, и вы, Клавдия Антиповна, получите за нее деньги.
Старушка махнула рукой:
— Бог с ними, с деньгами. Да и не моя та книга, сиротой она осталась. Значит, пускай ее и берет себе советская власть.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПИСЕМ ЕВГЕНИИ БЕЛЬСКОЙ
Все рассказанное Тасей и Волошиным Стрелецкому об их посещении Клавдии Антиповны Куликовой повергло старого профессора в изумление. Он твердо был убежден, что библиотеку Грозного следует искать под московским Кремлем. За много лет своих поисков он тщательно обследовал кремлевский подземный туннель со всеми его ответвлениями и открыл там целый город. Из записей Аристотеля Фиоровенти неутомимый ученый узнал, что тайник для книг царевны Зои итальянский зодчий соорудил на глубине десяти метров ниже основного туннеля, а доступ к нему находился в одном из боковых ходов и был тщательно замаскирован. Существовали предположения, что Грозный создал филиал своей библиотеки в Александровской слободе. Но Вологда?… Это была совершенно неожиданная версия! В тот же день Стрелецкий пригласил своего старинного друга историка Ивана Александровича Федорова, хорошо знающего Вологду, и рассказал ему об антологии Агафия и о поисках Платоном Бельским библиотеки Грозного в каком-то вологодском монастыре. Федоров нисколько не удивился этому сообщению. Известно было, что Иван Грозный в 60-х голах XVI века серьезно подумывал о перенесении русской столицы в Вологду. Этот старинный город, ровесник Москвы, занимал в то время выгодное географическое и стратегическое положение и имел большое торгово-экономическое значение. Он был недосягаем для крымцев, постоянно совершавших разорительные избеги на Москву, и, наконец (что было самым существенным для Грозного), в Вологде не было спесивых бояр, коварных его врагов, стремившихся раздробить Русь на мелкие удельные княжества. Старый историк напомнил Стрелецкому, что Грозный построил в Вологде монументальный собор Софии, крепость на берегу Сухоны и начал строительство дворца для себя. На реке Вологде он стал строить суда, предназначенные для плавания из Белого моря в заморские страны. Что касается вологодских монастырей, то было известно, что Грозный придавал особенно большое значение одному из них, монастырю на Сиверском озере, рассматривая его как опорный военно-стратегический пункт. По сути дела, этот монастырь, расположенный в ста пятидесяти километрах севернее Вологды, был самой мошной русской крепостью на севере, и Грозный не раз навешал его. Все сказанное историком Федоровым заинтересовало Стрелецкого. Он уже допускал мысль, что Грозный действительно мог перепрятать свою библиотеку, которой очень дорожил. И если это так, то вполне логично было предположить, что перенес он ее куда-то подальше от Москвы, на север, в какую-нибудь недоступную для врагов крепость… А о князьях Бельских Стрелецкий и без консультации с Федоровым все знал. В молодости Грозный дружил с Курбским, Мстиславским и Бельским, и вполне возможно, что именно последнему он и подарил одну из своих книг (ведь стоит же в «веттермановской описи против антологии Агафия пометка «дарена»…»). Что, если друг царя Бельский знал о перенесении библиотеки из кремлевского подземелья в какой-то монастырский тайник и оставил для своих потомков какие-нибудь записи о таком тайнике? Стрелецкий еще не решался выступить с сообщением о находке византийской антологии и о «вологодской версии». Он хотел сам съездить в Вологду, проверить на месте все услышанное от Куликовой и только затем организовать туда серьезную экспедицию. У Таси скоро должны были наступить каникулы, а Волошин собирался в отпуск. Они попросили Стрелецкого взять их с собой, и профессор охотно согласился. Молодые люди нравились ему, и, кроме того, он был искренне благодарен им за помощь в поисках ценной древней библиотеки.* * *
После первого своего визита к Куликовой Волошин ездил на Ордынку еще два раза, но Клавдия Антиповна заболела гриппом и поисками писем Евгении Бельской не занималась. Однако, когда он приехал в третий раз, старушка уже поправилась и нашла письма, но… отдала их «для профессора» какому-то «молодому человеку из музея», который был у нее на днях и также расспрашивал о княгине Евгении Бельской. Кроме историка Федорова, Стрелецкий никому не рассказывал о византийской антологии и о том, что узнали его молодые друзья на Ордынке. С Федоровым же, с Тасей и Волошиным он твердо условился, что они пока не будут разглашать ни истории с антологией Агафия, ни сведений, добытых у Куликовой. Кто же еще мог узнать адрес Клавдии Антиповны и кому могли понадобиться письма Евгении Бельской?… Стрелецкий позвонил в Управление музеями и спросил, не направляли ли оттуда кого-либо к гражданке Куликовой на Ордынку для получения корреспонденции, имеющей большое значение для его, Стрелецкого, научной работы. Из музейного управления ответили, что о гражданке Куликовой, проживающей на Ордынке, им ничего не известно. С такими же вопросами старый профессор обратился в свой институт, в различные музеи и в другие научные учреждения. Отовсюду он слышал точно такие же ответы. История с письмами Евгении Бельской становилась уже загадочной, и Иван Волошин решил заняться ею основательно. Он еще раз навестил Куликову и стал подробно расспрашивать ее о таинственном «молодом человеке из музея». Но старушка могла дать о нем лишь самые общие сведения: — Молодой, щуплый, только чуть повыше вас будет. Волосики светлые, реденькие, глазками часто моргает и все кланяется. Говорит вежливо. Одет чисто и вообще, видать, из благородных… За письма очень благодарил и даже деньги хотел дать, да я не взяла. Разве можно? Грех какой! — А про книжки Евгении Феликсовны он не расспрашивал? — спросил Волошин. — Спрашивал. Ну, я ему, конечно, показала те французские, что продавать носила, и про старинную книгу рассказала. — А он что? — А он говорит: «Как же, как же! Профессор Стрелецкий любит такие старинные книги»… А потом на портрет поглядел. «Очень, говорит, красивая была дамочка» — и назвал ее девичью фамилию. Стало быть, знает… — Девичью? — удивился Волошин. — Да. Ведь у Евгении Феликсовны фамилия до замужества была не русская… Чудная такая… Я уж и позабыла, — сказала Клавдия Антиповна и пожала плечами. — И откуда только это всё в музеях ваших узнали?… Волошин задумался. — Любопытно… — сказал он наконец. — Ну ладно. Наверно, найдутся письма Евгении Феликсовны. Поищем… С Ордынки Волошин направился прямо в Управление милиции и попросил, чтобы его немедленно принял заместитель начальника Управления… Читатель уже, наверно, ухмыльнулся и подумал: «Все ясно и понятно. В следующей главе появится бравый майор или капитан милиции и заведет дело о таинственном похищении писем, имеющих важное научное значение…» Как знать? Может быть, и появится. Ведь пропавшие письма писал человек, который владел византийской книгой, принадлежавшей когда-то царевне Зое и Ивану Грозному!.. Но пока майор милиции не появился, обратимся вновь к «потомку великого конквистадора» Педро Хорхе Кортецу и к «представителю международного антикварного треста» Джейку Бельскому. Пора о них вспомнить, ибо они уже кое-что сделали для осуществления своих смелых планов.ЛЖЕДИМИТРИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ
 Лютецию Гавриловну Голдышкину все знакомые называли коротко «мадам». Она была мала ростом, но широка в поперечнике; не крепка умом, но крепка голосом. Ее биография отличалась колоритностью, но лучше всего мадам помнила те дни, когда перед самой революцией она вышла замуж за австрийского графа и русского полуфабриканта Фридриха Марию фон Эккель. По этой причине Лютеция Гавриловна до сих пор разговаривала с окружающими высокомерным и безапелляционным тоном.
Так же она разговаривала и со своей восьмой дочерью, появившейся от пятого брака, — Лирикой Тараканцевой, урожденной Голдышклной.
Стоя на кухне и жаря котлеты, мадам грохотала трубным голосом — так, чтобы ее слышала толстая и ленивая Лирика, сидевшая в комнате.
— Это же просто кошмар! Люди имеют машину, дачу, прислугу, а я, графиня фон Эккель, должна для твоего Тараканцева жарить котлеты…
После ванны Лирика уже два часа сидела перед зеркалом, накручивая на голове какие-то замысловатые крендели.
— Можешь не жарить. Мы пообедаем в ресторане… — лениво отвечала она.
Мадам возмущалась:
— Какие богачи! Жалкие три тысчонки в месяц!.. Ты глупа, друг мой! С твоей внешностью можно найти мужа посолиднее, чем твой Лжедимитрий. Какие-то музеи, какие-то глупые картины… Что это может дать?
Надо пояснить, что речь шла о муже Лирики — Дмитрии Петровиче Тараканцеве. За некоторые особенности характера кто-то метко окрестил его «Лжедимитрием», и эта кличка утвердилась за ним даже в семье.
Разговор матери и дочери был прерван звонком телефона. Лирика сняла трубку и нараспев произнесла «алло», но с таким отчаянным английским акцентом, что у нее получилось: «Хельлоу!..»
Мадам прислушалась. По кокетливым интонациям она поняла, что дочь говорит с мужчиной.
— Дмитрия Петровича еще нет дома… А кто его спрашивает?… Знакомый? Из-за границы?… О-о! Я могу дать его служебный телефон… Ах, уже звонили? Да, он дико занят… К нам?… Пожалуйста, приезжайте.
— Кто это? — спросила Лютеция Гавриловна.
Лирика заметалась по комнате:
— Какой-то знакомый. Иностранец. Не может поймать Лжедимитрия. Хочет поговорить в домашней обстановке.
— Он едет к нам? — с ужасом спросила мадам.
— Да! И не один — их двое!
Лирика плюхнулась на диван и стала натягивать на свои огромные икры чулки-паутинку.
— Но я в ужасном виде! — застонала Лютеция Гавриловна.
— Надо убрать хотя бы одну комнату! — скомандовала Лирика. — А я начну искать Лжедимитрия. Ты знаешь, это не так просто.
Увы, она была права: Лжедимитрия Петровича Тараканцева не легко было найти в бурных волнах деловой Москвы, хотя он присутствовал всюду, где только можно было присутствовать, и даже там, где ему вполне можно было не присутствовать. По должности он был начальником Музейного фонда, но, будучи одновременно «творческим работником» — живописцем весьма оригинального жанра «научной эксцентрики», — Тараканцев являлся:
а) членом бюро комиссии (или секции?) научной эксцентрики;
б) членом секции (или комиссии?) реставраторов и копиистов;
в) членом многих жюри;
г) членом редколлегии всех изданий его комиссии, а также секций и подсекций.
Математики назвали бы его «многочленом».
Он был не столь трудолюбив, сколь расторопен, и умудрялся не пропустить ни одного заседания, совещания, обсуждения, а на большие собрания прибегал всегда первым, садился в первом ряду (если не в президиуме) и слово всегда брал первым… В общем, Дмитрий Петрович Тараканцев несомненно был чрезвычайно деловым человеком. В этом всех убеждала его сверхъестественная активность. В этом, между прочим, не сомневался и агент антикварного треста Педро Хорхе Кортец, познакомившийся с Тараканцевым еще в 30-х годах нашего столетия.
Как известно, в те годы в СССР происходили великие исторические события: советское крестьянство вступило на путь массовой коллективизации. В эти же годы рождалась наша индустрия. На предприятиях появились передовики производства, и впервые в своей истории человечество на практике узнало, что такое социалистическое соревнование. Но обыватели упорно называли эту эпоху «эпохой Торгсина». Действительно, золотые и серебряные побрякушки в те годы, попадая в каналы Торгсина, превращались в станки и машины, необходимые нашей стране. Но было и так, что некоторые, не в меру ретивые, «торгсиновцы» умудрялись под шумок превращать в триеры и сноповязалки картины больших мастеров, ценную скульптуру, редкие книги и прекрасные ювелирные изделия из частных коллекций. Агенты антикварного треста рыскали по Москве и Ленинграду в поисках ценной добычи… Рыскал в то время по нашей земле и Педро Кортец. Здесь он и познакомился с молодым «художником-эксцентриком» Д.П.Тараканцевым, который уже тогда являлся членом всех комиссий-подкомиссий, секций-подсекций, и в том числе — членом экспертной комиссии, решавшей судьбу произведений искусства, предназначенных «на экспорт».
Нужно отдать Тараканцеву должное: в своих решениях он был до обморока осторожен, и Кортец не мог бы похвастать, что с помощью Тараканцева он выудил хоть одну ценную картину. Но опытный авантюрист, близко познакомившись с ним, понял, что чрезмерную осторожность Тараканцева порождали не патриотизм и не любовь к ценностям родной культуры, а всего лишь трусость. По мнению Кортеца, Тараканцев много мог бы сделать для него (и с большой выгодой для себя!), если бы не был столь труслив… Эту черту «непременного члена всех комиссий» Кортец хорошо запомнил.
Проживая в Париже, он следил за судьбой некоторых своих советских «знакомых», а ныне, отправляясь в Москву, решил, что вирусоподобный активист Тараканцев обязательно поможет ему и Джейку найти, а затем и вывезти ценнейшую коллекцию Грозного. Поможет именно потому, что зоологически труслив…
Лютецию Гавриловну Голдышкину все знакомые называли коротко «мадам». Она была мала ростом, но широка в поперечнике; не крепка умом, но крепка голосом. Ее биография отличалась колоритностью, но лучше всего мадам помнила те дни, когда перед самой революцией она вышла замуж за австрийского графа и русского полуфабриканта Фридриха Марию фон Эккель. По этой причине Лютеция Гавриловна до сих пор разговаривала с окружающими высокомерным и безапелляционным тоном.
Так же она разговаривала и со своей восьмой дочерью, появившейся от пятого брака, — Лирикой Тараканцевой, урожденной Голдышклной.
Стоя на кухне и жаря котлеты, мадам грохотала трубным голосом — так, чтобы ее слышала толстая и ленивая Лирика, сидевшая в комнате.
— Это же просто кошмар! Люди имеют машину, дачу, прислугу, а я, графиня фон Эккель, должна для твоего Тараканцева жарить котлеты…
После ванны Лирика уже два часа сидела перед зеркалом, накручивая на голове какие-то замысловатые крендели.
— Можешь не жарить. Мы пообедаем в ресторане… — лениво отвечала она.
Мадам возмущалась:
— Какие богачи! Жалкие три тысчонки в месяц!.. Ты глупа, друг мой! С твоей внешностью можно найти мужа посолиднее, чем твой Лжедимитрий. Какие-то музеи, какие-то глупые картины… Что это может дать?
Надо пояснить, что речь шла о муже Лирики — Дмитрии Петровиче Тараканцеве. За некоторые особенности характера кто-то метко окрестил его «Лжедимитрием», и эта кличка утвердилась за ним даже в семье.
Разговор матери и дочери был прерван звонком телефона. Лирика сняла трубку и нараспев произнесла «алло», но с таким отчаянным английским акцентом, что у нее получилось: «Хельлоу!..»
Мадам прислушалась. По кокетливым интонациям она поняла, что дочь говорит с мужчиной.
— Дмитрия Петровича еще нет дома… А кто его спрашивает?… Знакомый? Из-за границы?… О-о! Я могу дать его служебный телефон… Ах, уже звонили? Да, он дико занят… К нам?… Пожалуйста, приезжайте.
— Кто это? — спросила Лютеция Гавриловна.
Лирика заметалась по комнате:
— Какой-то знакомый. Иностранец. Не может поймать Лжедимитрия. Хочет поговорить в домашней обстановке.
— Он едет к нам? — с ужасом спросила мадам.
— Да! И не один — их двое!
Лирика плюхнулась на диван и стала натягивать на свои огромные икры чулки-паутинку.
— Но я в ужасном виде! — застонала Лютеция Гавриловна.
— Надо убрать хотя бы одну комнату! — скомандовала Лирика. — А я начну искать Лжедимитрия. Ты знаешь, это не так просто.
Увы, она была права: Лжедимитрия Петровича Тараканцева не легко было найти в бурных волнах деловой Москвы, хотя он присутствовал всюду, где только можно было присутствовать, и даже там, где ему вполне можно было не присутствовать. По должности он был начальником Музейного фонда, но, будучи одновременно «творческим работником» — живописцем весьма оригинального жанра «научной эксцентрики», — Тараканцев являлся:
а) членом бюро комиссии (или секции?) научной эксцентрики;
б) членом секции (или комиссии?) реставраторов и копиистов;
в) членом многих жюри;
г) членом редколлегии всех изданий его комиссии, а также секций и подсекций.
Математики назвали бы его «многочленом».
Он был не столь трудолюбив, сколь расторопен, и умудрялся не пропустить ни одного заседания, совещания, обсуждения, а на большие собрания прибегал всегда первым, садился в первом ряду (если не в президиуме) и слово всегда брал первым… В общем, Дмитрий Петрович Тараканцев несомненно был чрезвычайно деловым человеком. В этом всех убеждала его сверхъестественная активность. В этом, между прочим, не сомневался и агент антикварного треста Педро Хорхе Кортец, познакомившийся с Тараканцевым еще в 30-х годах нашего столетия.
Как известно, в те годы в СССР происходили великие исторические события: советское крестьянство вступило на путь массовой коллективизации. В эти же годы рождалась наша индустрия. На предприятиях появились передовики производства, и впервые в своей истории человечество на практике узнало, что такое социалистическое соревнование. Но обыватели упорно называли эту эпоху «эпохой Торгсина». Действительно, золотые и серебряные побрякушки в те годы, попадая в каналы Торгсина, превращались в станки и машины, необходимые нашей стране. Но было и так, что некоторые, не в меру ретивые, «торгсиновцы» умудрялись под шумок превращать в триеры и сноповязалки картины больших мастеров, ценную скульптуру, редкие книги и прекрасные ювелирные изделия из частных коллекций. Агенты антикварного треста рыскали по Москве и Ленинграду в поисках ценной добычи… Рыскал в то время по нашей земле и Педро Кортец. Здесь он и познакомился с молодым «художником-эксцентриком» Д.П.Тараканцевым, который уже тогда являлся членом всех комиссий-подкомиссий, секций-подсекций, и в том числе — членом экспертной комиссии, решавшей судьбу произведений искусства, предназначенных «на экспорт».
Нужно отдать Тараканцеву должное: в своих решениях он был до обморока осторожен, и Кортец не мог бы похвастать, что с помощью Тараканцева он выудил хоть одну ценную картину. Но опытный авантюрист, близко познакомившись с ним, понял, что чрезмерную осторожность Тараканцева порождали не патриотизм и не любовь к ценностям родной культуры, а всего лишь трусость. По мнению Кортеца, Тараканцев много мог бы сделать для него (и с большой выгодой для себя!), если бы не был столь труслив… Эту черту «непременного члена всех комиссий» Кортец хорошо запомнил.
Проживая в Париже, он следил за судьбой некоторых своих советских «знакомых», а ныне, отправляясь в Москву, решил, что вирусоподобный активист Тараканцев обязательно поможет ему и Джейку найти, а затем и вывезти ценнейшую коллекцию Грозного. Поможет именно потому, что зоологически труслив…
* * *
Как раз в тот момент, когда Лирика по телефону «поймала» наконец Лжедимитрия на каком-то музейном совещании, безголосый звонок три раза кашлянул в передней ее квартиры. Лютеция Гавриловна с густо напудренным пароходным рулем, заменявшим ей нос, набросила на свои богатырские плечи тюлевую накидку цвета ше-муа (подарок графа Фридриха Марии!) и пошла открывать дверь. На пороге стояли двое мужчин в светлых костюмах: один объемистый, смуглый, восточного типа; другой — высокий, худощавый, бледнолицый. — Прошу прощения, мадам, — с легким акцентом сказал по-русски пожилой. — Здесь квартира Дмитрия Петровича Тараканцева? Лютецию Гавриловну трясло от волнения: перед нею стояли, с нею разговаривали живые иностранцы! Может быть, они прямо из Парижа приехали? Может быть, вот этот молодой — граф или виконт?… — Да, — внезапно осипнув и потеряв свой роскошный бас, произнесла Лютеция Гавриловна. Она распахнула дверь и прохрипела сразу на трех языках: — Силь ву плэ! Битте! Плииз!.. Кортец протиснулся в дверь, поцеловал пахнущую детским мылом генеральскую длань Лютеции и отрекомендовался: — Педро Хорхе Кортец! А это мой молодой друг, Жак Бодуэн. Джейк Бельский приложился к руке Лютеции и, поморгав, сказал: — Я счастлив с вами познакомиться, мадам… — Моя дочь, Лирика Аполлоновна, супруга Лже… супруга Дмитрия Петровича. — овладев своим фельдфебельским голосом, сказала мадам и ввела гостей в наспех убранную комнату.
На Лирику страшно было смотреть. Ее почти не имеющая точных очертаний фигура была облачена в шелковое платье цвета багрового и тревожного, как пожар. Парижская горничная Кортеца Мадлен со своими ресницами и огненными губами могла бы показаться рядом с ней простой пастушкой. Рыжие и жесткие космы Лирики были взвихрены и торчали, как наэлектризованные; натертые ладошками щеки пылали; подведенные глаза метали молнии, а высокоподтянутый бюст колыхался и наступал, как девятый вал на картине Айвазовского. Она была, пожалуй, похожа на жену подлинного Лжедимитрия — Марину Мнишек, которую после расправы с самозванцем изрядно потрепала толпа восставших.
Через несколько минут все освоились и завязался «светский разговор». Гости учтиво восхищались красивыми домами новой, социалистической Москвы, а хозяев больше интересовал старый, капиталистический Париж.
— Правда ли, мсье Кортец, что в Париже американские офицеры среди бела дня похищают девушек? — спросила Лирика.
— Увы, это так, мадам, — с грустью ответил «потомок великого конквистадора». — Но только не всех похищают, а… некоторых. И не днем, а ночью.
Мадам уже поставила на стол кофе, булочки, масло, зернистую икру…
В глазах Кортеца при виде икры появился плотоядный огонек.
— Икра! Зернистая!.. Жак, вы когда-нибудь видели живую сказку? — спросил он.
— Нет, — чистосердечно сознался Джейк.
В этот момент в передней щелкнул замок, и в квартиру ворвался Тараканцев. Он именно ворвался, а не вошел. Сообщение жены о том, что к нему в дом направляются какие-то иностранцы, всполошило Лжедимитрия так сильно, что он первый раз в жизни дезертировал с совещания…
— Моя дочь, Лирика Аполлоновна, супруга Лже… супруга Дмитрия Петровича. — овладев своим фельдфебельским голосом, сказала мадам и ввела гостей в наспех убранную комнату.
На Лирику страшно было смотреть. Ее почти не имеющая точных очертаний фигура была облачена в шелковое платье цвета багрового и тревожного, как пожар. Парижская горничная Кортеца Мадлен со своими ресницами и огненными губами могла бы показаться рядом с ней простой пастушкой. Рыжие и жесткие космы Лирики были взвихрены и торчали, как наэлектризованные; натертые ладошками щеки пылали; подведенные глаза метали молнии, а высокоподтянутый бюст колыхался и наступал, как девятый вал на картине Айвазовского. Она была, пожалуй, похожа на жену подлинного Лжедимитрия — Марину Мнишек, которую после расправы с самозванцем изрядно потрепала толпа восставших.
Через несколько минут все освоились и завязался «светский разговор». Гости учтиво восхищались красивыми домами новой, социалистической Москвы, а хозяев больше интересовал старый, капиталистический Париж.
— Правда ли, мсье Кортец, что в Париже американские офицеры среди бела дня похищают девушек? — спросила Лирика.
— Увы, это так, мадам, — с грустью ответил «потомок великого конквистадора». — Но только не всех похищают, а… некоторых. И не днем, а ночью.
Мадам уже поставила на стол кофе, булочки, масло, зернистую икру…
В глазах Кортеца при виде икры появился плотоядный огонек.
— Икра! Зернистая!.. Жак, вы когда-нибудь видели живую сказку? — спросил он.
— Нет, — чистосердечно сознался Джейк.
В этот момент в передней щелкнул замок, и в квартиру ворвался Тараканцев. Он именно ворвался, а не вошел. Сообщение жены о том, что к нему в дом направляются какие-то иностранцы, всполошило Лжедимитрия так сильно, что он первый раз в жизни дезертировал с совещания…
 Тараканцев бросил шляпу и, протирая окуляры, оправленные золотом, вошел в комнату.
Гости встали.
— Мсье Кортец и мсье Бодуэн!.. — торжественно представила гостей Лирика. — Они ждут тебя, Дмитрий.
Иностранцы поклонились и пожали руку сильно встревоженному хозяину.
— Очень приятно… очень приятно… — забормотал Лжедимитрий, обшаривая неожиданных гостей своими бегающими, рысьими глазами. — Прошу садиться… Чем обязан, господа?
Кортец засмеялся:
— Нет, я вижу, что вы меня не узнаете, товарищ Тараканцев, — сказал он и печально покачал головой. — Да и как узнать! Двадцать лет не видались… Я постарел, растолстел. А вы все такой же. И бородка та же, и золотые очки…
— Позвольте! — наморщив лоб, сказал Тараканцев. — Кортец? Агент антикварного треста?!
— Увы, это я, Дмитрий Петрович… Торгсин. Кое-какие картины… Коптское евангелие…
— Как же, конечно, помню! — без всякого восторга произнес Тараканцев. — Педро Хорхе Кортец?
— Совершенно верно! У вас феноменальная память на имена… А это мой юный друг, такой же вольный турист, как и я, Жак Бодуэн.
Джейк поклонился.
— Очень приятно, — сказал замороженным голосом Тараканцев. — Я могу быть вам чем-нибудь полезен, господа?
— Мне очень неприятно вас беспокоить, Дмитрий Петрович, — сладко начал Кортец, — но мой друг, Жак Бодуэн, сын состоятельных родителей, изучает древнее восточное искусство. Ему нужно побывать в некоторых ваших музеях…
У Тараканцева отлегло, он успокоился и с любопытством посмотрел на «Жака Бодуэна». Тот заискивающе моргал и глядел на Лжедимитрия с детской просительной улыбкой.
— Конечно! Пожалуйста! Для туристов у нас везде открыты двери, — сказал Тараканцев в, подтверждая свои слова жестом, широко развел руками.
— Пользуясь давним знакомством с вами, Дмитрий Петрович, я хотел просить вас, чтобы вы посоветовали, наметили мсье Бодуэну маршрут, — сказал Кортец и, оглянувшись на дам, добавил виноватым тоном: — Впрочем, боюсь, что это будет разговор скучный и утомительный для наших прекрасных Дам.
Практичная Лютеция Гавриловна сразу сообразила, что парижские гости явились не за музейными советами, а по какому-то более важному делу.
— Рика, дорогая! Я давно собираюсь показать тебе кружева, которые подарил мне граф Фридрих Мария… — нежно пробасила она и, взяв за руку свою недогадливую дочь, увлекла ее в соседнюю комнату.
Тараканцев бросил шляпу и, протирая окуляры, оправленные золотом, вошел в комнату.
Гости встали.
— Мсье Кортец и мсье Бодуэн!.. — торжественно представила гостей Лирика. — Они ждут тебя, Дмитрий.
Иностранцы поклонились и пожали руку сильно встревоженному хозяину.
— Очень приятно… очень приятно… — забормотал Лжедимитрий, обшаривая неожиданных гостей своими бегающими, рысьими глазами. — Прошу садиться… Чем обязан, господа?
Кортец засмеялся:
— Нет, я вижу, что вы меня не узнаете, товарищ Тараканцев, — сказал он и печально покачал головой. — Да и как узнать! Двадцать лет не видались… Я постарел, растолстел. А вы все такой же. И бородка та же, и золотые очки…
— Позвольте! — наморщив лоб, сказал Тараканцев. — Кортец? Агент антикварного треста?!
— Увы, это я, Дмитрий Петрович… Торгсин. Кое-какие картины… Коптское евангелие…
— Как же, конечно, помню! — без всякого восторга произнес Тараканцев. — Педро Хорхе Кортец?
— Совершенно верно! У вас феноменальная память на имена… А это мой юный друг, такой же вольный турист, как и я, Жак Бодуэн.
Джейк поклонился.
— Очень приятно, — сказал замороженным голосом Тараканцев. — Я могу быть вам чем-нибудь полезен, господа?
— Мне очень неприятно вас беспокоить, Дмитрий Петрович, — сладко начал Кортец, — но мой друг, Жак Бодуэн, сын состоятельных родителей, изучает древнее восточное искусство. Ему нужно побывать в некоторых ваших музеях…
У Тараканцева отлегло, он успокоился и с любопытством посмотрел на «Жака Бодуэна». Тот заискивающе моргал и глядел на Лжедимитрия с детской просительной улыбкой.
— Конечно! Пожалуйста! Для туристов у нас везде открыты двери, — сказал Тараканцев в, подтверждая свои слова жестом, широко развел руками.
— Пользуясь давним знакомством с вами, Дмитрий Петрович, я хотел просить вас, чтобы вы посоветовали, наметили мсье Бодуэну маршрут, — сказал Кортец и, оглянувшись на дам, добавил виноватым тоном: — Впрочем, боюсь, что это будет разговор скучный и утомительный для наших прекрасных Дам.
Практичная Лютеция Гавриловна сразу сообразила, что парижские гости явились не за музейными советами, а по какому-то более важному делу.
— Рика, дорогая! Я давно собираюсь показать тебе кружева, которые подарил мне граф Фридрих Мария… — нежно пробасила она и, взяв за руку свою недогадливую дочь, увлекла ее в соседнюю комнату.
ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ПОРТРЕТА
— Мы с вами, Дмитрий Петрович, беседуем уже полчаса и никак не можем договориться, — печально склонив голову набок, сказал Кортец. Тараканцев нервно забарабанил пальцами по столу: — И никогда не договоримся, господин Кортец. Я ничем не могу помочь вам. Никакие ваши гонорары мне не нужны. А раскопки производить в нашем монастыре вряд ли кто вам разрешит. Даже на концессионных началах. Кортец остановился у подоконника и сосредоточил свое внимание на каком-то ядовито-зеленом кактусе, похожем на опухоль. — Печально! — со вздохом сказал он, повернувшись к Тараканцеву. — У вас здесь действительно что-то произошло, что-то изменилось. — Да, мсье Кортец, времена Торгсина канули в вечность, — ухмыльнувшись в бороду, ответил Тараканцев. — Сейчас мы ведем культурный обмен с заграницей, но не продадим уже ни одного ценного произведения искусства. — Дух времени изменился, — не то спросил, не то констатировал Кортец. — Совершенно верно… — Но я не верю, чтобы изменились люди, которые с легким сердцем меняли шедевры искусства на крупорушки, многозначительно глядя на Тараканцева, пророкотал Кортец. Лжедимитрий насторожился: — Не знаю, кого вы имеете в виду. Я лично вам ни одного шедевра не продал. — Дмитрий Петрович! — с подозрительной искренностью сказал Кортец, приблизившись к Тараканцеву. — Я тоже так думал. Но однажды… Это было совсем недавно, в Париже… Я убедился, что вы, может быть — сами того не зная, все же продали мне два шедевра, два неизвестных портрета кисти Боровиковского… Тараканцев даже привстал от неожиданности: — Что такое? Я вас не понимаю… — Жак, душа моя! Объясните товарищу Тараканцеву то, чего он не понимает, — обратился Кортец к Джейку, тихонько сидевшему в стороне и безучастно разглядывавшему физиономию Тараканцева, тщательно упакованную в дьячковскую бородку. — С удовольствием, мсье, — сказал Джейк и, вынув из большого конверта две цветные репродукции, положил их на стол перед встревоженным Тараканцевым. — Это два пейзажа. Они были куплены мсье Кортецом в России и проданы мне. С помощью рентгена я убедился, что под верхним слоем находится еще одно изображение. Джейк вынул из конверта новые репродукции и, как продавец перед покупателем, положил их перед Тараканцевым: — А здесь уже запечатлен процесс расчистки. Вот лицо… рука… часть фона… вот подпись… У нас имеется заключение крупных художников, подтверждающих, что пейзажи были нанесены на портреты работы Боровиковского… — …и проданы мне за гроши с разрешения эксперта Дмитрия Петровича Тараканцева, — продолжил Кортец, иронически глядя на помертвевшее лицо Лжедимитрия. — Прикажете показать купчую?… Тараканцев, как две- свинцовые пули, вонзил свои глаза в холеную, самоуверенную морду Кортеца. С минуту он молчал, наконец хрипло пролаял: — Жулики! Шантажисты! Я сейчас же позвоню в эмвэдэ! Джейк деловито сложил в конверт репродукции и уселся на прежнее место все с тем же видом невинного дитяти. Кортец покачал головой: — Ругаться не надо, Дмитрий Петрович. Это ни к чему. А позвонить в эмвэдэ нужно. Пускай разберутся в этом темном деле… Он подошел к телефону и снял трубку: — Жак, номер телефона эмвэдэ? Джейк уже листал свою записную книжку: — Сию минуту, мсье… Тараканцев подбежал и вырвал у Кортеца трубку: — Ведите себя прилично! Вы в чужом доме! Кортец развел руками: — Но вы же сами хотели позвонить. Зачем медлить?… Тараканцев зашагал по комнате. Его трясло, как в лихорадке. Тон Кортеца и его уверенность сбили несчастного Лжедимитрия с толку. Шутка ли сказать! Он за гроши продал ловкому агенту два ценнейших шедевра русского искусства!.. И кто поверит, будто он, Тараканцев, не знал, что именно находится под жалкой мазней, под двумя посредственными пейзажами? Подставив под люстру волосатые пальцы, Кортец любовался игрой камней на своих перстнях. Джейк своими зелеными веками посылал в потолок непонятные сигналы. Молчание длилось минуты две. Слышны были лишь подавленные вздохи Лирики за стеной и взволнованное сопение Лютеции Гавриловны, прильнувшей ухом к двери. — Где оба полотна? — спросил наконец Тараканцев. — В гостинице, мсье, — подавшись вперед, вежливо сообщил — Джейк. — Милости просим завтра утром к нам! — сказал Кортец. — Прихватите с собой профессора Кончаковского. Он большой специалист по Боровиковскому. — Ни в какие гостиницы я не поеду! — хмуро проворчал Тараканцев. — Приезжайте сюда завтра вечером сами. Я и без Кончаковского во всем разберусь…
— Очень хорошо! — с нескрываемым удовольствием согласился Кортец. Он заранее был уверен, что Кончаковского Тараканцев в это дело не впутает.
Тараканцев сел и задумался.
Кортец подсел к нему и постарался говорить как можно задушевнее:
— Дмитрий Петрович, душа моя! Не сердитесь. Конечно, вы тут ни при чем. Кто-то во время революции замазал Боровиковского, чтоб не реквизировали. Вот и всё. Я обещаю вам, что, как только мы с Жаком вернемся из монастыря, оба полотна будут ваши. Вы можете их сжечь или преподнести как открытие и прославиться…
— Что вы будете искать в этом монастыре? — угрюмо глядя на Кортеца, спросил Тараканцев.
— Там погребен боярин Бельский, друг Ивана Грозного. У Жака есть сведения, что в гроб Бельского положена одна интересная древняя рукопись.
— Византийская антология Агафия пятого века, — с большой готовностью пояснил Джейк. — Ко мне попал от одного из эмигрантов ее титульный лист…
Он извлек из внутреннего кармана и передал Тараканцеву свернутый в трубку и заправленный в ватманскую бумагу пергамент. Тот долго и внимательно разглядывал его, а возвращая, сказал:
— Не думаю, чтобы вы что-либо там нашли. Все ценное вывезено. Остальное учтено и хранится в местном музее.
Кортец засмеялся и легонько хлопнул Тараканцева по плечу.
— Наша жизнь осмыслена только в том случае, если мы ежедневно отправляемся на охоту за счастьем, Дмитрий Петрович, — произнес он философски. — Почему бы нам, скромным туристам, не поохотиться за счастьем на севере России, в романтическом древнем монастыре?
— Я уже сказал: вам никто не разрешит заниматься там раскопками! — холодно молвил Тараканцев.
— Мне — нет, а вот этому юноше разрешат, — кивнул на Джейка Кортец.
— Почему вы так думаете? — насмешливо поглядев на Джейка, спросил хозяин дома.
— Жак, продемонстрируйте товарищу Тараканцеву свои документы! — коротко приказал Кортец.
Джейк встал, быстро извлек из кармана бумажник и протянул Тараканцеву какой-то документ. Тот развернул, прочел и ахнул: он держал в руках командировочное удостоверение на бланке своего учреждения, с печатью и за своей подписью. Да, это была его собственная подпись: мелкая, замысловатая, с хитрыми закорючками. В удостоверении сказано было, что научный сотрудник Георгий Иванович Богемский направляется для исследовательской работы туда-то и туда-то…
Тараканцев поправил очки и внимательно поглядел на Джейка: «Диверсант? Шпион? А что, если его сцапают?… Нет, чепуха!.. Легко можно будет установить, что удостоверение сфабриковано».
Он вернул документ и, криво усмехнувшись, сказал:
— Сразу видно, что вы «сын состоятельных родителей».
Джейк промолчал и сел на свое место. Но Кортец весело рассмеялся:
— Его родители были совсем бездетны, Дмитрий Петрович. Пусть им легко будет на том свете…
— Ни в какие гостиницы я не поеду! — хмуро проворчал Тараканцев. — Приезжайте сюда завтра вечером сами. Я и без Кончаковского во всем разберусь…
— Очень хорошо! — с нескрываемым удовольствием согласился Кортец. Он заранее был уверен, что Кончаковского Тараканцев в это дело не впутает.
Тараканцев сел и задумался.
Кортец подсел к нему и постарался говорить как можно задушевнее:
— Дмитрий Петрович, душа моя! Не сердитесь. Конечно, вы тут ни при чем. Кто-то во время революции замазал Боровиковского, чтоб не реквизировали. Вот и всё. Я обещаю вам, что, как только мы с Жаком вернемся из монастыря, оба полотна будут ваши. Вы можете их сжечь или преподнести как открытие и прославиться…
— Что вы будете искать в этом монастыре? — угрюмо глядя на Кортеца, спросил Тараканцев.
— Там погребен боярин Бельский, друг Ивана Грозного. У Жака есть сведения, что в гроб Бельского положена одна интересная древняя рукопись.
— Византийская антология Агафия пятого века, — с большой готовностью пояснил Джейк. — Ко мне попал от одного из эмигрантов ее титульный лист…
Он извлек из внутреннего кармана и передал Тараканцеву свернутый в трубку и заправленный в ватманскую бумагу пергамент. Тот долго и внимательно разглядывал его, а возвращая, сказал:
— Не думаю, чтобы вы что-либо там нашли. Все ценное вывезено. Остальное учтено и хранится в местном музее.
Кортец засмеялся и легонько хлопнул Тараканцева по плечу.
— Наша жизнь осмыслена только в том случае, если мы ежедневно отправляемся на охоту за счастьем, Дмитрий Петрович, — произнес он философски. — Почему бы нам, скромным туристам, не поохотиться за счастьем на севере России, в романтическом древнем монастыре?
— Я уже сказал: вам никто не разрешит заниматься там раскопками! — холодно молвил Тараканцев.
— Мне — нет, а вот этому юноше разрешат, — кивнул на Джейка Кортец.
— Почему вы так думаете? — насмешливо поглядев на Джейка, спросил хозяин дома.
— Жак, продемонстрируйте товарищу Тараканцеву свои документы! — коротко приказал Кортец.
Джейк встал, быстро извлек из кармана бумажник и протянул Тараканцеву какой-то документ. Тот развернул, прочел и ахнул: он держал в руках командировочное удостоверение на бланке своего учреждения, с печатью и за своей подписью. Да, это была его собственная подпись: мелкая, замысловатая, с хитрыми закорючками. В удостоверении сказано было, что научный сотрудник Георгий Иванович Богемский направляется для исследовательской работы туда-то и туда-то…
Тараканцев поправил очки и внимательно поглядел на Джейка: «Диверсант? Шпион? А что, если его сцапают?… Нет, чепуха!.. Легко можно будет установить, что удостоверение сфабриковано».
Он вернул документ и, криво усмехнувшись, сказал:
— Сразу видно, что вы «сын состоятельных родителей».
Джейк промолчал и сел на свое место. Но Кортец весело рассмеялся:
— Его родители были совсем бездетны, Дмитрий Петрович. Пусть им легко будет на том свете…
 Тараканцев встал:
— Итак, завтра в это же время я жду вас, — холодно произнес он.
Не рассчитывая на рукопожатие, Кортец поклонился с сияющим лицом:
— Непременно, душа моя! Только я не смогу приехать. Приедет Жак и привезет пока одно полотно. А потом можно будет посмотреть и второй шедевр…
В комнату ввалилась Лютеция Гавриловна, за нею неуверенно вошла Лирика.
— Как?! Вы уже уходите? — оживленно спросила мадам.
— К сожалению, нам пора, — сказал Кортец и приложился к мощной руке Лютеции.
То же самое проделал Джейк.
— Ваш муж стал бы великим человеком, мадам, если бы в Советском Союзе ценили истинный ум, — льстивым тоном произнес Кортец и поцеловал руку Лирике.
Тараканцев остался в комнате, так и не решив, нужно ли ему провожать гостей или нет…
— Ум! Великим человеком стал бы! — зарычала Лютеция, когда за Кортецом и Джейком захлопнулась дверь. — Ему люди предлагают выгодное дело, суют деньги, а он из себя святого корчит…
— Лютеция Гавриловна! — истерически завизжал Тараканцев. — Извольте замолчать!
— Мама, отстань, пожалуйста! — окрысилась Лирика.
— Я замолчу! — грозно сказала мадам. — Но теперь и вы, Лжедимитрий Петрович, будете молчать, как жареный судак. Эти господа вас так зажмут в кулак, что вы и не пикнете…
Тараканцев встал:
— Итак, завтра в это же время я жду вас, — холодно произнес он.
Не рассчитывая на рукопожатие, Кортец поклонился с сияющим лицом:
— Непременно, душа моя! Только я не смогу приехать. Приедет Жак и привезет пока одно полотно. А потом можно будет посмотреть и второй шедевр…
В комнату ввалилась Лютеция Гавриловна, за нею неуверенно вошла Лирика.
— Как?! Вы уже уходите? — оживленно спросила мадам.
— К сожалению, нам пора, — сказал Кортец и приложился к мощной руке Лютеции.
То же самое проделал Джейк.
— Ваш муж стал бы великим человеком, мадам, если бы в Советском Союзе ценили истинный ум, — льстивым тоном произнес Кортец и поцеловал руку Лирике.
Тараканцев остался в комнате, так и не решив, нужно ли ему провожать гостей или нет…
— Ум! Великим человеком стал бы! — зарычала Лютеция, когда за Кортецом и Джейком захлопнулась дверь. — Ему люди предлагают выгодное дело, суют деньги, а он из себя святого корчит…
— Лютеция Гавриловна! — истерически завизжал Тараканцев. — Извольте замолчать!
— Мама, отстань, пожалуйста! — окрысилась Лирика.
— Я замолчу! — грозно сказала мадам. — Но теперь и вы, Лжедимитрий Петрович, будете молчать, как жареный судак. Эти господа вас так зажмут в кулак, что вы и не пикнете…
МОНАСТЫРСКИЙ СТОРОЖ
 Тася и Волошин бродили по обширным монастырским дворам, опускались в страшную подземную монастырскую тюрьму, поднимались на гребни крепостных стен высотой в пятнадцать метров и на башни, столь же мощные, разнообразные и высокие, как башни московского Кремля. Тася веревочкой измерила высоту Кузнецкой башни, стоящей прямо в воде озера, получилось сорок восемь метров.
Взявшись за руки, как школьники, они ходили и смотрели; смотрели и обменивались впечатлениями; вспоминали всё, что узнали о Вологде, об этом русском чуде, гордо стоящем над водой озера, о сказочном «граде Китеже», затерявшемся в северных лесах. Остановившись на зеленом холмике, Тася сияющим взором окинула своеобразные монастырские строения, видневшиеся вдали: прекрасную и сложную группу храмов, кельи, палаты, трехэтажные стены с бойницами. Она прислушалась: вокруг стояла тишина, лишь издалека доносился сигнал одинокой машины, гудели шмели и шептались березы.
— Как странно! — сказала Тася. — Лишь три дня назад мы были в Москве, в самом центре бурной современной жизни, и вот попали сразу в тринадцатый, четырнадцатый века, в фе-о-да-лизм… И знаете, Ваня, я должна сознаться, что этот феодализм мне очень нравится.
— Уставом комсомола это не предусмотрено, Настенька, — с деланной серьезностью ответил Волошин. — Но когда этому комсомольскому уставу девятнадцать лет, когда его глаза горят, как тысячесвечовые лампы, а сам он облачен в белое шелковое платьице, усыпанное маками…
— Довольно! — нетерпеливо прервала его Тася. — Вытаскивайте скорее свою тетрадку и прочтите, что вы там записали, в Вологде, об этом монастыре.
Волошин покорно достал из-за пояса общую тетрадь и, развернув, стал читать, как псалтырь:
— «Русский север среди своих исторических памятников насчитывает несколько монастырей, из которых наибольшее значение имеют монастыри-крепости, бывшие проводниками не только религии, но и московского влияния, проводниками идеи объединения вокруг Московского государства всей русской земли…»
— Нет, не то!..
— Гм… Почему «не то»? Очень дельные слова, — сказал Волошин. — Вот послушайте: «В определенные исторические эпохи наши монастыри-крепости поднимались до значения защитников русского государства»…
— Да нет же! Это скучно… — нетерпеливо сказала Тася. — Найдите там про этогомонаха, который ушел из московского Симонова монастыря в четырнадцатом веке и поселился вот здесь, на этом холмике, в диких лесах.
— Святой Кирилл? — насмешливо спросил Волошин. — Настенька! Побойтесь бога! Я говорю в буквальном смысле. Вы, чего доброго, здесь молиться начнете…
— Ах, Ваня! — со вздохом сказала Тася. — Ну зачем вы острите? Я не буду молиться. Но я хочу понять этого человека. Кто он? Почему ушел из Москвы в глушь?… Ведь он там архимандритом крупного монастыря был! Знать московская под благословение к нему подходила… В чем же дело? Что ему в этих диких северных дебрях понадобилось?… Ответьте мне. Только без ваших острот.
Волошин оглянулся, внимательно посмотрел на крохотную деревянную избушку отшельника, укрывшуюся под сенью берез и безмятежно стоящую здесь лет шестьсот.
— Кирилл Белозерский. В миру — Кузьма, бывший дворовый человек боярина Вельяминова. Церковники называют его святым. Пусть называют. Это их личное дело… А я думаю, Настенька, что этот человек был мыслителем, философом. Вот я записал в Вологде одно место из его философского трактата «О падающих звездах». Послушайте, что написал этот умный русский человек шестьсот лет назад, сидя у лучинки вон в той крохотной избушке…
— Да, да, читайте! — воскликнула Тася и затихла в ожидании:
«…Одни говорят, что это падают звезды, а другие, что это злые мытарства. Но это и не звезды и не мытарства, а отделения небесного огня, насколько нисходят они вниз, расплавляются и опять сливаются в воздухе. Поэтому никто не видел их на земле, ибо всегда они рассыпаются в воздухе» [47].
— Удивительно! Ведь это же учение о метеоритах, — тихо сказала Тася.
— Да… Он точно и ясно охарактеризовал небесное явление в те годы, когда никто не смел и не умел так думать. И при этом, заметьте, Настенька, никакой мистики и метафизики. Это чистейший материализм.
— Но что заставило этого человека бежать сюда? — спросила Тася.
— Думаю, что для подобных размышлений в те годы северные лесные дебри были самым подходящим местом, — ответил Волошин и, обведя взглядом красивый уединенный уголок, добавил: — Видимо, это была натура созерцательная…
Тася и Волошин продолжали свою поэтическую прогулку по древней русской крепости. Не станем говорить громких фраз об изумительном северном памятнике русской старины, куда судьба случайно забросила двух московских комсомольцев. Скажем лишь, что монастырь этот не выдуман: автор был в нем и испытал там величайшее удовольствие. Куда ни направишь взгляд — всюду прекрасные произведения русского древнего зодчества. И чтобы почувствовать всю красоту этой крепости, чтобы понять ее форму — простую, строгую, могучую, рассчитанную лучшими военными строителями нашей старины, — ее нужно увидеть…
На юношу и девушку, бродивших по всем уголкам этого монастыря, действовало, кроме всего, и другое: густые заросли полыни, васильки, ромашки, зеленый ковер на лужайках дворов, уединенное благоухание под небом ослепительной ясности. Все это воспринималось, как музыка, и кружило голову…
Совсем иначе воспринимали монастырскую обстановку Кортец и Джейк Бельский. Они приехали в этот монастырь на неделю раньше, чем Тася, Волошин и профессор Стрелецкий. И Джейк успел уже обнаружить ход в подземелье, находившийся в погребе под самой высокой крепостной башней, Кузнецкой. Но оказалось, что ход этот завален кирпичом и грунтом. Директор монастыря-музея Янышев объяснил «московскому» и парижскому гостям, что обвал произошел почти триста пятьдесят лет назад, во время осады монастырской крепости польскими и литовскими интервентами вследствие подкопа… Для того, чтобы расчистить ход в подземелье, требовались большие земляные работы. Джейк уже договорился с местным райисполкомом о рабочих, о транспорте. Расходы брал на себя Музейный фонд, за представителя которого Джейк себя выдавал.
В данную минуту Кортец и Джейк также путешествовали по монастырю и обменивались такими мыслями.
— Как вы думаете, Джейк, во что обошлись расходы по сооружению всей этой махины? — спросил Кортец, охватывая широким жестом крепостные сооружения.
Джейк быстро извлек свою записную книжечку, в которой было записано все, вплоть до имени и отчества начальника речной пристани.
— Сию минуту, мсье… Сорок пять тысяч рублей… В переводе на современные деньги это около десяти миллионов долларов…
— Я купил бы этот монастырь, если бы он продавался и если бы не торчал в такой дали от Парижа. Я показывал бы его восторженным историкам и искусствоведам, — воодушевляясь, говорил Кортец, шагая вдоль могучей крепостной стены. — За большие деньги я пускал бы сюда отдыхать усталых богачей. Монастырь-санаторий для нервных, издерганных людей! Экстра!.. А вон тот благоуханный дворик с полынью — для влюбленных. Поцелуй в тишине и в зарослях такого дворика входит в сердце, как нож…
— А я сдавал бы этот монастырь в аренду Голливуду… — мечтательно произнес Джейк.
— Правильно! — крикнул Кортец и, вздохнув, добавил: — Странно, Советская Россия — страна, где нельзя безнаказанно быть дураком. Это впечатление выносят все здравомыслящие иностранные гости. А между тем чем, если не глупостью, можно назвать то, что такое доходное сооружение прозябает и пустует где-то в глуши?…
— А вот Ивану Грозному как раз это и нравилось, мсье, — ответил Джейк.
— Ну, у него были свои соображения, кстати, видимо, тоже не лишенные материальной основы, — рассудительным тоном сказал Кортец. — Кто-кто, а он, наверно, знал, что его книжечки стоят десятки миллионов долларов… У русских есть такая пословица: «Подальше положишь — поближе возьмешь»… Запомните ее, Джейк.
— Постараюсь, мсье…
Кортец и Джейк не спеша шагали по узкой зеленой полоске земли, отделявшей Сиверское озеро от стен и башен монастыря. Здесь так же, как и во всем монастыре, стояла вековая тишина, лишь робкие волны вели тихий разговор на пологом берегу озера…
Джейк оглянулся. За ним по пятам шел мрачный монастырский сторож Антон. Его мучила одышка, но он шел, сопя и тяжко ступая по пушистой траве своими огромными сапогами. Связка больших ключей болталась у него на канатном поясе.
— Зачем вы взяли его с собой, мсье Кортец? — кинув недовольный взгляд на старика, спросил Джейк по-французски.
— У него все монастырские ключи, товарищ Богемский. Это здешний апостол Петр, — посмеиваясь, ответил Кортец.
— Вы забыли, что я сотрудник музейного фонда, мсье. Я отберу у него все ключи и пошлю его к черту, — холодно сказал Джейк.
— Это будет ваш второй глупый поступок, товарищ Богемский, — продолжая путь и не оглядываясь, произнес Кортец.
Джейк посмотрел на него удивленно:
— А какой был первый?
— Письма на Ордынке. Они ничего нам не дали, но, наверно, уже пустили по нашему следу какого-нибудь Пинкертона.
— Чепуха!
— Дай бог, товарищ Богемский, чтоб это оказалось чепухой. Но с этим конвоиром мы не привлекаем ничьего внимания.
Тася и Волошин бродили по обширным монастырским дворам, опускались в страшную подземную монастырскую тюрьму, поднимались на гребни крепостных стен высотой в пятнадцать метров и на башни, столь же мощные, разнообразные и высокие, как башни московского Кремля. Тася веревочкой измерила высоту Кузнецкой башни, стоящей прямо в воде озера, получилось сорок восемь метров.
Взявшись за руки, как школьники, они ходили и смотрели; смотрели и обменивались впечатлениями; вспоминали всё, что узнали о Вологде, об этом русском чуде, гордо стоящем над водой озера, о сказочном «граде Китеже», затерявшемся в северных лесах. Остановившись на зеленом холмике, Тася сияющим взором окинула своеобразные монастырские строения, видневшиеся вдали: прекрасную и сложную группу храмов, кельи, палаты, трехэтажные стены с бойницами. Она прислушалась: вокруг стояла тишина, лишь издалека доносился сигнал одинокой машины, гудели шмели и шептались березы.
— Как странно! — сказала Тася. — Лишь три дня назад мы были в Москве, в самом центре бурной современной жизни, и вот попали сразу в тринадцатый, четырнадцатый века, в фе-о-да-лизм… И знаете, Ваня, я должна сознаться, что этот феодализм мне очень нравится.
— Уставом комсомола это не предусмотрено, Настенька, — с деланной серьезностью ответил Волошин. — Но когда этому комсомольскому уставу девятнадцать лет, когда его глаза горят, как тысячесвечовые лампы, а сам он облачен в белое шелковое платьице, усыпанное маками…
— Довольно! — нетерпеливо прервала его Тася. — Вытаскивайте скорее свою тетрадку и прочтите, что вы там записали, в Вологде, об этом монастыре.
Волошин покорно достал из-за пояса общую тетрадь и, развернув, стал читать, как псалтырь:
— «Русский север среди своих исторических памятников насчитывает несколько монастырей, из которых наибольшее значение имеют монастыри-крепости, бывшие проводниками не только религии, но и московского влияния, проводниками идеи объединения вокруг Московского государства всей русской земли…»
— Нет, не то!..
— Гм… Почему «не то»? Очень дельные слова, — сказал Волошин. — Вот послушайте: «В определенные исторические эпохи наши монастыри-крепости поднимались до значения защитников русского государства»…
— Да нет же! Это скучно… — нетерпеливо сказала Тася. — Найдите там про этогомонаха, который ушел из московского Симонова монастыря в четырнадцатом веке и поселился вот здесь, на этом холмике, в диких лесах.
— Святой Кирилл? — насмешливо спросил Волошин. — Настенька! Побойтесь бога! Я говорю в буквальном смысле. Вы, чего доброго, здесь молиться начнете…
— Ах, Ваня! — со вздохом сказала Тася. — Ну зачем вы острите? Я не буду молиться. Но я хочу понять этого человека. Кто он? Почему ушел из Москвы в глушь?… Ведь он там архимандритом крупного монастыря был! Знать московская под благословение к нему подходила… В чем же дело? Что ему в этих диких северных дебрях понадобилось?… Ответьте мне. Только без ваших острот.
Волошин оглянулся, внимательно посмотрел на крохотную деревянную избушку отшельника, укрывшуюся под сенью берез и безмятежно стоящую здесь лет шестьсот.
— Кирилл Белозерский. В миру — Кузьма, бывший дворовый человек боярина Вельяминова. Церковники называют его святым. Пусть называют. Это их личное дело… А я думаю, Настенька, что этот человек был мыслителем, философом. Вот я записал в Вологде одно место из его философского трактата «О падающих звездах». Послушайте, что написал этот умный русский человек шестьсот лет назад, сидя у лучинки вон в той крохотной избушке…
— Да, да, читайте! — воскликнула Тася и затихла в ожидании:
«…Одни говорят, что это падают звезды, а другие, что это злые мытарства. Но это и не звезды и не мытарства, а отделения небесного огня, насколько нисходят они вниз, расплавляются и опять сливаются в воздухе. Поэтому никто не видел их на земле, ибо всегда они рассыпаются в воздухе» [47].
— Удивительно! Ведь это же учение о метеоритах, — тихо сказала Тася.
— Да… Он точно и ясно охарактеризовал небесное явление в те годы, когда никто не смел и не умел так думать. И при этом, заметьте, Настенька, никакой мистики и метафизики. Это чистейший материализм.
— Но что заставило этого человека бежать сюда? — спросила Тася.
— Думаю, что для подобных размышлений в те годы северные лесные дебри были самым подходящим местом, — ответил Волошин и, обведя взглядом красивый уединенный уголок, добавил: — Видимо, это была натура созерцательная…
Тася и Волошин продолжали свою поэтическую прогулку по древней русской крепости. Не станем говорить громких фраз об изумительном северном памятнике русской старины, куда судьба случайно забросила двух московских комсомольцев. Скажем лишь, что монастырь этот не выдуман: автор был в нем и испытал там величайшее удовольствие. Куда ни направишь взгляд — всюду прекрасные произведения русского древнего зодчества. И чтобы почувствовать всю красоту этой крепости, чтобы понять ее форму — простую, строгую, могучую, рассчитанную лучшими военными строителями нашей старины, — ее нужно увидеть…
На юношу и девушку, бродивших по всем уголкам этого монастыря, действовало, кроме всего, и другое: густые заросли полыни, васильки, ромашки, зеленый ковер на лужайках дворов, уединенное благоухание под небом ослепительной ясности. Все это воспринималось, как музыка, и кружило голову…
Совсем иначе воспринимали монастырскую обстановку Кортец и Джейк Бельский. Они приехали в этот монастырь на неделю раньше, чем Тася, Волошин и профессор Стрелецкий. И Джейк успел уже обнаружить ход в подземелье, находившийся в погребе под самой высокой крепостной башней, Кузнецкой. Но оказалось, что ход этот завален кирпичом и грунтом. Директор монастыря-музея Янышев объяснил «московскому» и парижскому гостям, что обвал произошел почти триста пятьдесят лет назад, во время осады монастырской крепости польскими и литовскими интервентами вследствие подкопа… Для того, чтобы расчистить ход в подземелье, требовались большие земляные работы. Джейк уже договорился с местным райисполкомом о рабочих, о транспорте. Расходы брал на себя Музейный фонд, за представителя которого Джейк себя выдавал.
В данную минуту Кортец и Джейк также путешествовали по монастырю и обменивались такими мыслями.
— Как вы думаете, Джейк, во что обошлись расходы по сооружению всей этой махины? — спросил Кортец, охватывая широким жестом крепостные сооружения.
Джейк быстро извлек свою записную книжечку, в которой было записано все, вплоть до имени и отчества начальника речной пристани.
— Сию минуту, мсье… Сорок пять тысяч рублей… В переводе на современные деньги это около десяти миллионов долларов…
— Я купил бы этот монастырь, если бы он продавался и если бы не торчал в такой дали от Парижа. Я показывал бы его восторженным историкам и искусствоведам, — воодушевляясь, говорил Кортец, шагая вдоль могучей крепостной стены. — За большие деньги я пускал бы сюда отдыхать усталых богачей. Монастырь-санаторий для нервных, издерганных людей! Экстра!.. А вон тот благоуханный дворик с полынью — для влюбленных. Поцелуй в тишине и в зарослях такого дворика входит в сердце, как нож…
— А я сдавал бы этот монастырь в аренду Голливуду… — мечтательно произнес Джейк.
— Правильно! — крикнул Кортец и, вздохнув, добавил: — Странно, Советская Россия — страна, где нельзя безнаказанно быть дураком. Это впечатление выносят все здравомыслящие иностранные гости. А между тем чем, если не глупостью, можно назвать то, что такое доходное сооружение прозябает и пустует где-то в глуши?…
— А вот Ивану Грозному как раз это и нравилось, мсье, — ответил Джейк.
— Ну, у него были свои соображения, кстати, видимо, тоже не лишенные материальной основы, — рассудительным тоном сказал Кортец. — Кто-кто, а он, наверно, знал, что его книжечки стоят десятки миллионов долларов… У русских есть такая пословица: «Подальше положишь — поближе возьмешь»… Запомните ее, Джейк.
— Постараюсь, мсье…
Кортец и Джейк не спеша шагали по узкой зеленой полоске земли, отделявшей Сиверское озеро от стен и башен монастыря. Здесь так же, как и во всем монастыре, стояла вековая тишина, лишь робкие волны вели тихий разговор на пологом берегу озера…
Джейк оглянулся. За ним по пятам шел мрачный монастырский сторож Антон. Его мучила одышка, но он шел, сопя и тяжко ступая по пушистой траве своими огромными сапогами. Связка больших ключей болталась у него на канатном поясе.
— Зачем вы взяли его с собой, мсье Кортец? — кинув недовольный взгляд на старика, спросил Джейк по-французски.
— У него все монастырские ключи, товарищ Богемский. Это здешний апостол Петр, — посмеиваясь, ответил Кортец.
— Вы забыли, что я сотрудник музейного фонда, мсье. Я отберу у него все ключи и пошлю его к черту, — холодно сказал Джейк.
— Это будет ваш второй глупый поступок, товарищ Богемский, — продолжая путь и не оглядываясь, произнес Кортец.
Джейк посмотрел на него удивленно:
— А какой был первый?
— Письма на Ордынке. Они ничего нам не дали, но, наверно, уже пустили по нашему следу какого-нибудь Пинкертона.
— Чепуха!
— Дай бог, товарищ Богемский, чтоб это оказалось чепухой. Но с этим конвоиром мы не привлекаем ничьего внимания.

 Кортец подошел к воде. Озеро, потревоженное легким ветерком, поблескивало мелкой сверкающей рябью и устремлялось к монастырю, как толпа паломников, но на берегу путь ему преграждали гладко отшлифованные многопудовые валуны.
— Спросите его, откуда эти камни? — обратился к Джейку Кортец.
Джейк пожал плечами: вопрос казался ему праздным. Но все же он перевел его, безразлично глядя в тусклые, блуждающие глаза старика.
— Оттуда… — старик кивнул на высокие крепостные стены монастыря и добавил, с усилием выговаривая каждое слово: — Монахи бросали их… на головы… непрошеным иностранным гостям…
— Ого! — не дождавшись перевода, весело воскликнул по-французски Кортец. — Вы чувствуете, товарищ Богемский, какой камень бросил в мой иностранный огород этот мельник из оперы «Русалка»?
Старик внимательно смотрел на Кортеца из-под своих седых нависших бровей.
— Что сказал… этот господин? — спросил он, переводя взгляд на Джейка.
— Он говорит, что вы похожи на мельника из оперы «Русалка», — с презрением и насмешкой глядя на него, ответил Джейк.
Старик заклохтал, как глухарь на току. Он смеялся и тряс своей лохматой головой.
— Какой я мельник?! Я ворон здешних мест! — сердито сказал он, внезапно оборвав смех.
Джейк и Кортец переглянулись.
— Любопытно… — после долгой паузы произнес по-французски Кортец и зорко поглядел на старого сторожа. — Этот столетний пень, оказывается, кое-что смыслит в операх и даже умеет острить.
Джейк теперь уже настороженно и подозрительно поглядывал на старика, но тот не обращал ни на него, ни на Кортеца никакого внимания. Усевшись на один из валунов и сняв свой рыжий сапог, он с сопением перематывал бурую, вонючую портянку.
— М-да… странный старик, — тихо сказал Джейк.
— Думаю, что не всегда он носил портянки… — резюмировал Кортец и прибавил не совсем уверенно: — Как по-вашему, товарищ Богемский, не понимает ли он наших разговоров?
Джейк еще раз внимательно поглядел на старика и ответил Кортецу на этот раз по-английски:
— А черт его знает! Надо проверить.
— Продолжайте говорить по-французски и не обращайте на него никакого внимания, — также по-английски предложил Кортец и тут же перешел на французский: — Итак, товарищ Богемский, вам довелось вчера услышать здесь, в монастыре, интересную лекцию профессора Стрелецкого о поездке Ивана Грозного в Сиверский монастырь в 1557 году…
— О да, мсье! — с большой готовностью согласился Джейк. — Профессор Стрелецкий очень живо описывал своим молодым друзьям визит Грозного в этот монастырь.
— А зачем приезжал сюда царь Иван Грозный? — с наигранным любопытством спросил Кортец, искоса наблюдая за сторожем.
— Он привез и запрятал здесь какие-то ценные книги, мсье…
Тем временем дед Антон уже переобул один сапог и готовился привести в порядок вторую портянку. Но валун, на котором он сидел, видимо, показался ему неудобным. Он встал и, выбрав другой камень, круглый, как исполинский череп, пристроился поближе к Джейку.
— Профессор собирается искать книжный клад Грозного? — спросил Кортец.
— Да, мсье… — ответил Джейк. — Несмотря на свой почтенный возраст, это очень энергичный ученый.
— Прошу вас, товарищ Богемский, спросите старика, слыхал ли он что-нибудь о посещении Грозным Сиверского монастыря и о книжном кладе? — попросил Кортец.
Джейк обратился к сторожу и перевел ему вопрос Кортеца.
Старик посопел еще с минуту и, глядя куда-то в сторону, сказал:
— Всякое говорят… Старые люди сказывали: был тут клад… Да вывезли его потом…
Кортец и Джейк переглянулись.
— Кто вывез? — живо спросил Джейк.
Старик подумал, пошевелил своими мохнатыми бровями и, остановив на Джейке свой поминутно ускользающий взгляд, вымолвил как бы в раздумье:
— Царь Борис вывез… Годунов… Сказывают, был тот царь — человек умный, начитанный… и тайну про монастырский клад знал…
— От кого знал? — уже с беспокойством спросил Джейк.
— А это вам надо бы… у него спросить… — глухо сказал старик, отводя взгляд в сторону.
— Что вы думаете об этой версии? — спросил Кортец. обращаясь к Джейку по-английски и забывая при этом, что он, иностранный турист, русского языка не должен был понимать.
— Чепуха! — воскликнул Джейк также по-английски и быстро встал с травы. — Старик повторяет какую-то болтовню. А кроме того, он, по-моему, ненормальный.
— Ну, это не ваша идея, — насмешливо сказал Кортец. — Старик сам объявил себя «вороном здешних мест».
Неожиданно Кортец и Джейк услыхали глухариное клохтанье. Они с удивлением поглядели на старика. Содрогаясь и покачиваясь на своем валуне, он смеялся и показывал скрюченным пальцем на озеро:
— Рыбешка… глупая… выплеснулась, а баклан ее… и хватил на лету. Хе-хе-хе!..
Кортец подошел к воде. Озеро, потревоженное легким ветерком, поблескивало мелкой сверкающей рябью и устремлялось к монастырю, как толпа паломников, но на берегу путь ему преграждали гладко отшлифованные многопудовые валуны.
— Спросите его, откуда эти камни? — обратился к Джейку Кортец.
Джейк пожал плечами: вопрос казался ему праздным. Но все же он перевел его, безразлично глядя в тусклые, блуждающие глаза старика.
— Оттуда… — старик кивнул на высокие крепостные стены монастыря и добавил, с усилием выговаривая каждое слово: — Монахи бросали их… на головы… непрошеным иностранным гостям…
— Ого! — не дождавшись перевода, весело воскликнул по-французски Кортец. — Вы чувствуете, товарищ Богемский, какой камень бросил в мой иностранный огород этот мельник из оперы «Русалка»?
Старик внимательно смотрел на Кортеца из-под своих седых нависших бровей.
— Что сказал… этот господин? — спросил он, переводя взгляд на Джейка.
— Он говорит, что вы похожи на мельника из оперы «Русалка», — с презрением и насмешкой глядя на него, ответил Джейк.
Старик заклохтал, как глухарь на току. Он смеялся и тряс своей лохматой головой.
— Какой я мельник?! Я ворон здешних мест! — сердито сказал он, внезапно оборвав смех.
Джейк и Кортец переглянулись.
— Любопытно… — после долгой паузы произнес по-французски Кортец и зорко поглядел на старого сторожа. — Этот столетний пень, оказывается, кое-что смыслит в операх и даже умеет острить.
Джейк теперь уже настороженно и подозрительно поглядывал на старика, но тот не обращал ни на него, ни на Кортеца никакого внимания. Усевшись на один из валунов и сняв свой рыжий сапог, он с сопением перематывал бурую, вонючую портянку.
— М-да… странный старик, — тихо сказал Джейк.
— Думаю, что не всегда он носил портянки… — резюмировал Кортец и прибавил не совсем уверенно: — Как по-вашему, товарищ Богемский, не понимает ли он наших разговоров?
Джейк еще раз внимательно поглядел на старика и ответил Кортецу на этот раз по-английски:
— А черт его знает! Надо проверить.
— Продолжайте говорить по-французски и не обращайте на него никакого внимания, — также по-английски предложил Кортец и тут же перешел на французский: — Итак, товарищ Богемский, вам довелось вчера услышать здесь, в монастыре, интересную лекцию профессора Стрелецкого о поездке Ивана Грозного в Сиверский монастырь в 1557 году…
— О да, мсье! — с большой готовностью согласился Джейк. — Профессор Стрелецкий очень живо описывал своим молодым друзьям визит Грозного в этот монастырь.
— А зачем приезжал сюда царь Иван Грозный? — с наигранным любопытством спросил Кортец, искоса наблюдая за сторожем.
— Он привез и запрятал здесь какие-то ценные книги, мсье…
Тем временем дед Антон уже переобул один сапог и готовился привести в порядок вторую портянку. Но валун, на котором он сидел, видимо, показался ему неудобным. Он встал и, выбрав другой камень, круглый, как исполинский череп, пристроился поближе к Джейку.
— Профессор собирается искать книжный клад Грозного? — спросил Кортец.
— Да, мсье… — ответил Джейк. — Несмотря на свой почтенный возраст, это очень энергичный ученый.
— Прошу вас, товарищ Богемский, спросите старика, слыхал ли он что-нибудь о посещении Грозным Сиверского монастыря и о книжном кладе? — попросил Кортец.
Джейк обратился к сторожу и перевел ему вопрос Кортеца.
Старик посопел еще с минуту и, глядя куда-то в сторону, сказал:
— Всякое говорят… Старые люди сказывали: был тут клад… Да вывезли его потом…
Кортец и Джейк переглянулись.
— Кто вывез? — живо спросил Джейк.
Старик подумал, пошевелил своими мохнатыми бровями и, остановив на Джейке свой поминутно ускользающий взгляд, вымолвил как бы в раздумье:
— Царь Борис вывез… Годунов… Сказывают, был тот царь — человек умный, начитанный… и тайну про монастырский клад знал…
— От кого знал? — уже с беспокойством спросил Джейк.
— А это вам надо бы… у него спросить… — глухо сказал старик, отводя взгляд в сторону.
— Что вы думаете об этой версии? — спросил Кортец. обращаясь к Джейку по-английски и забывая при этом, что он, иностранный турист, русского языка не должен был понимать.
— Чепуха! — воскликнул Джейк также по-английски и быстро встал с травы. — Старик повторяет какую-то болтовню. А кроме того, он, по-моему, ненормальный.
— Ну, это не ваша идея, — насмешливо сказал Кортец. — Старик сам объявил себя «вороном здешних мест».
Неожиданно Кортец и Джейк услыхали глухариное клохтанье. Они с удивлением поглядели на старика. Содрогаясь и покачиваясь на своем валуне, он смеялся и показывал скрюченным пальцем на озеро:
— Рыбешка… глупая… выплеснулась, а баклан ее… и хватил на лету. Хе-хе-хе!..
* * *
В тот же день вечером Джейк с разрешения директора остался в конторе. Он был один и внимательно разглядывал личные дела сотрудников музея. Особенно внимательно изучал он какую-то пожелтевшую от времени справку. Пристроившись поближе к свету и вынув из кармана лупу, Джейк пристально разглядывал эту бумажку. То, что он обнаружил, так удивило его, что он даже присвистнул. Внимательно осмотрев справку, Джейк наконец отошел от лампочки. Он собирался вернуть справку в скоросшиватель, но, подумав, аккуратненько сложил ее и сунул в свой бумажник. — Вот это открытие! — тихо произнес он и задумался. — А впрочем, может, это и к лучшему… Уложив папки с личными делами на прежнее место, Джейк погасил огонь и отправился в гостиницу. Кортец в своем номере уже поджидал его. Расставив на столе банки со шпротами, с зернистой икрой, тонко нарезанную буженину и ломтики лимбургского сыра, он осторожно вытаскивал пробку из бутылки с массандровским портвейном. — Ага! Товарищ Богемский, вы пришли вовремя! — воскликнул он по-французски, потирая руки, от удовольствия и с вожделением глядя на стол. — Не кажется ли вам, душа моя, что этот стол сервирован не хуже, чем мой круглый столик в Париже? — Да, мсье, — вежливо согласился Джейк. — Здесь не хватает только одного… — Чего? — тревожно спросил Кортец. — Не «чего», а «кого», мсье… Мадлен! — Мадлен!.. — задумчиво произнес Кортец, но быстро спохватился: — Эй, эй, товарищ Богемский! Это что за намеки? Он уселся за стол и приглашающим жестом указал на стул: — Садитесь и выкладывайте, мистер Шерлок Холмс, что обнаружили вы в конторской келье Пармской обители? — Я сделал сенсационное открытие, мсье Кортец, — спокойно сказал Джейк, не садясь и беря в руки полотенце и мыло. Кортец посмотрел на него с любопытством: — Какое? — Сейчас я помою руки и расскажу вам всё, мсье. — Держу пари, что вы открыли какую-то тайну! — воскликнул Кортец. — Это написано на вашем мраморном челе. — Да, мсье, вы угадали… Кортец усмехнулся: — Арабы говорят: «Если ты хранишь тайну, она твоя пленница, если ты не хранишь ее, ты ее пленник». — Сейчас я умоюсь, мсье, и мы вместе с вами станем пленниками одной любопытнейшей тайны, — сказал Джейк и вышел из комнаты. Через пятнадцать минут он уже сидел с Кортецом за столом. — Итак, какую тайну открыли вы, душа моя? — спросил Кортец, любовно разглядывая фужер с пламенным и ароматным вином. Джейк равнодушно взглянул на фужер и сказал так, будто сообщил название налитого в него вина: — Я узнал, что дед Антон, древний сторож Сиверского монастыря, не кто иной, как мой родной дядя. Кортец поставил фужер и оторопело поглядел на своего молодого соратника: — Простите… Я вас не понял, Джейк. Повторите. — Разбираясь в документах сотрудников музея, — тоном участника делового совещания объяснил Джейк, — я нашел вот эту справку… Он вынул из бумажника пожелтевшую бумажку и передал ее Кортецу. — Как видите, мсье, эта справка выдана более тридцати лет назад каким-то вологодским домкомом гражданину Белову Антону Николаевичу… По этой справке нынешний сторож «дед Антон» был когда-то принят в монастырь-музей на работу, — пояснил Джейк. — Ну и что же? — с недоумением разглядывая справку, спросил Кортец. Джейк подал ему лупу: — Рассмотрите внимательно имя и фамилию… Кортец прищурил один глаз и с минуту глядел на справку через лупу. Наконец поднял глаза на Джейка и сказал: — Подчистка… — Да! Имя «Антон» явно переделано и скорее всего из «Платона», а фамилия «Белов» здесь была длиннее, думаю, что «Бельский». Отчество то же, что и у моего отца, — «Николаевич»… Кортец привстал. Он не лишен был способности удивляться, но в эту минуту его состояние скорее напоминало столбняк, чем удивление. — Князь Платон Бельский? Тот самый?… — Думаю, что тот самый, — спокойно ответил Джейк. — Вам дать воды, мсье?… — А вам? Джейк взял фужер с вином и сказал с улыбкой: — А я, пожалуй, от радости, что нашел родного дядю, выпью вина! Кортец заговорил нетерпеливо: — Перестаньте играть комедию, Джейк. Этот оперный князь-мельник меня серьезно всполошил. — А меня нет, — холодно ответил Джейк. — Я убежден, что это именно он, соперник моего отца, и такой же охотник за книжным кладом, как и мы. Если это так, значит, мы с вами, мсье, приехали туда, куда надо. — Но он уже, наверно, пошарил тут до нас! В его распоряжении было тридцать лет! — раздраженный спокойствием Джейка, проворчал Кортец. — Он мог шарить здесь сто лет, мсье, и ничего не найти. Потому что план тайника был в руках у моего отца, а не у него… — Вот как?! — насмешливо воскликнул Кортец. — А вы не забыли, что он про Годунова сказал? — Я расшифровал это так: он слыхал все наши разговоры по-французски; он знает, зачем мы приехали сюда, и хочет нас выпроводить. Князь Платон, видимо, не потерял еще надежды найти здесь тайник Ивана Грозного… Кортец в раздумье зашагал по комнате. Остановившись у окна, он долго, но невнимательно смотрел на высокую крепостную стену монастыря, уходившую вдаль из-за березовой рощи сиверского «Парка культуры и отдыха». — Это опасный человек, Джейк, — заговорил он наконец. — Такой же опасный, как и профессор Стрелецкий… Я думаю, что мы должны установить с ним контакт, а затем как-то избавиться от него. — А заодно и от Стрелецкого… — подсказал Джейк. — Джейк! — строго оборвал Кортец. — У вас часто появляются дельные мысли, очень дельные… Но хорошо, если бы вы могли не делиться ими со мной… Вспомните ваше обещание в Париже. Я хочу оставаться в стороне от некоторых ваших весьма необходимых мероприятий. Вам двадцать пять лет, а мне как раз наоборот, пятьдесят два, и даже один год тюрьмы для меня будет моим последним годом. Джейк осклабился и смотрел на него с уничтожающей иронией: — Я все помню, мсье… даже то, что вы получаете от треста пятнадцать процентов, а я только десять. Но я аристократ и свое обещание сдержу. — О’кей! — довольным тоном воскликнул Кортец. — Да благословит вас аллах и святая дева!РАЗГОВОР В «КАМЕННОМ МЕШКЕ»
Провожаемые строгими глазами святых, изображенных на стенах массивных каменных ворот, Тася и Волошин прошли под сводами монастырской надвратной церкви и, остановившись, оглянулись. Стройная, парящая в небесной синеве одноглавая церковка напоминала Тасе царевну Лебедь — чудесную девушку из сказки Пушкина. Она сказала об этом Волошину. Тот быстро согласился, но не удержался, однако, от искушения пошутить: — И этой девушке всего лишь четыреста лет! Я уверен, что, так же как и царевну Лебедь, ее создал поэт, Настенька… Да, поэт, — повторил он. — Обратите внимание: своим произведением он явно протестует против «загробных мук» и говорит лишь о вечной жизни. Тася засмеялась: — Как я довольна, что приехала сюда! Я вижу живые чудеса древнего зодчества! Это все создали талантливые русские люди. В старину их называли «умельцами каменных дел». Но Волошин не ответил ей. Он уже зорко вглядывался в даль, заметив мелькнувшую в конце двора фигуру с мольбертом. — Стоп! — строго сказал он. — Нам, кажется, не бесполезно будет понаблюдать и за умельцем живописных дел. — За кем? — недоуменно глядя вперед, спросила Тася. — За художником Еланским. — Неужели вы серьезно думаете, что это он украл письма Евгении Бельской? — спросила Тася. — Не знаю, он или нет, но мне его поведение кажется подозрительным. Волошин взял Тасю за руку и повел за собой в обход управленческому зданию: — Давайте обойдем конторские кельи, выйдем к Аллее Скорби и тихонько подберемся к этому «художнику», — тоном заговорщика предложил Волошин. Они быстро прошли по березовой аллее, добрались до церкви Иоанна Предтечи и тихонько выглянули из-за ее угла. Еланского не было на холмике, где он часто сидел. Там стоял лишь одинокий мольберт. — Гм… Куда же он делся? — рассуждал Волошин, уже выйдя на самый холмик и оглядываясь вокруг. — Смотрите! — воскликнула Тася и указала пальцем на второй ярус крепостной стены, где мелькнула какая-то фигура. — Он! — сказал Волошин. Еланский исчез в каком-то проломе так же быстро, как и появился. — Что он там ищет?… — злыми глазами обшаривая стену, спросил Волошин. — Настенька, вы по-пластунски умеете ползать? — Это как? — тревожно спросила Тася. — На животе… — У… мею. Волошин заговорил шепотом: — Ложитесь на живот и ползите сквозь эти джунгли… — Он кивнул на заросли полыни и репейника. — Прямо к башне. Когда доползете, через пролом в башне по каменной лесенке вскарабкайтесь наверх, на второй ярус стены, и очень тихо идите мне навстречу. Я тем временем проползу вон до того «каменного мешка». Понятно? — Понятно. — Вперед! — скомандовал Волошин и, бросившись плашмя на траву, как змея вполз в густую чащу полыни и репейника. Тася с сожалением посмотрела на свое новое красивое платье и нерешительно оглянулась. Ей очень не хотелось порвать платье, расцарапать о колючки руки и лицо. Неожиданно ей пришла в голову простая мысль: если вернуться назад и быстро обогнуть холм, то с успехом можно незаметно добраться до башни и не «по-пластунски». Так она и сделала, и уже через две минуты достигла башни. Быстро и бесшумно вскарабкавшись по ее внутренней лестнице на кровлю первого яруса крепостной стены, она пошла по настилу над казематами и вскоре увидела Волошина. Он сидел на корточках и оглядывался по сторонам. Завидев Тасю, шагающую к нему осторожно, на носках, как балерина, он приложил палец к губам. Внезапно Тася услыхала глухие голоса, доносившиеся снизу. Волошин уже приник ухом к щели в настиле и махнул рукой, жестом приказывая Тасе лечь рядом и послушать. Позабыв о новом платье, Тася легла на живот и прислушалась. Внизу говорили по-французски.* * *
Да, в полуразрушенном «каменном мешке» крепостной стены действительно говорили по-французски. Там находились: Кортец, Джейк и монастырский сторож дед Антон… Кортец то и дело беспокойно поглядывал из полуразрушенного «каменного мешка» во двор, а Джейк, вплотную подойдя к старику, говорил ему негромко, но внушительно, как гипнотизер:
— Нам все известно, князь. Вы не тот, за кого себя выдаете. Подделанная вами справка уличает вас полностью. Мы также знаем, чтe именно привязывает вас к этому монастырю уже много лет. Вы ищете здесь библиотеку Грозного…
Старик громко сопел и понуро глядел на груду кирпичей у себя под ногами. Джейк кивнул на Кортеца:
— Этот господин прибыл сюда из Парижа по тому же делу. Он представитель крупнейшей американской антикварной фирмы. Ему надо помочь. Если вы знаете о книжном тайнике, расскажите… Вы получите деньги, уедете отсюда и спокойно проживете еще много лет…
Старик молчал.
Кортец напряженно вглядывался в его непроницаемое лицо. «Потомку великого конквистадора» казалось, что Джейк ошибся, что старик сейчас пожмет плечами и скажет: «Не пойму я, барин, по какому это вы со мной лопочете».
Но старик выпрямился, сурово посмотрел на Джейка и заговорил на чистейшем французском языке:
— Да! Вы не ошиблись. Я князь Платон Бельский… Я не знаю, кто вы, молодой человек, но я слышал все ваши разговоры… Думаю, что и вы не тот, за кого себя выдаете.
— Это не имеет значения, князь, — быстро ответил Джейк.
— Вы хотите найти… книги царевны Зои и Ивана Грозного?… Напрасный труд. Я искал их здесь больше тридцати лет… и нашел!
Последнее слово старик не сказал, а прошептал, но этот звенящий шепот, как порыв ветра, можно было услышать и на берегу озера.
Кортец подошел к нему и вытаращенными глазами молча смотрел в немигающие, сурово устремленные вперед глаза старика:
— Вы… нашли?
— Нашел! — твердо, как последнее слово клятвы, вымолвил старик и тотчас же торопливо заговорил сам с собой, то пришептывая, то крича: — Нашел пустой тайник! Совсем пустой! Грабители растаскали древнюю библиотеку… но они далеко не унесли ее…
— Да? А где она? — спросил завороженный его рассказом Кортец.
Старик молчал, будто припоминая давний сон. Он беззвучно перебирал губами и глядел в треснувший, грозно нависший над ним потолок.
— Да говори ты, старый пень! — грубо рявкнул Кортец.
— Спокойно, мсье… — сказал Джейк. — Продолжайте свой рассказ, князь.
— Они… рассовали древние книги по всему монастырю. Я долго, десять лет, собирал их… Я собрал и вновь захоронил их. Теперь уже никто не найдет эти книги… — глухо сказал старик. — Никто!..
Кортец и Джейк напряженно смотрели на старого сторожа. Он молчал.
Кортец хотел что-то сказать, но Джейк властным жестом остановил его.
— Князь Платон! — заговорил он тихо и вкрадчиво, так, как говорил когда-то в кабинете Кортеца. — Доверьтесь нам. Мы люди вашего круга. Мы поможем вам унести отсюда всю древнюю библиотеку. Вы поедете в Париж вместе с мсье Кортецом…
Старик перевел глаза на смиренную физиономию Джейка. Он будто вернулся на землю из какого-то глухого подземелья и еще не мог понять, чего хочет от него этот прилизанный чистенький юноша.
— В Париж?… — спросил он и внезапно рассмеялся своим глухариным, клокочущим смехом. — Нет, господа, мне ваш Париж не нужен. Мне нужно только одно… отыскать среди древних книг индийский свиток с рецептом. Он вернет мне силы, память, вернет жизнь…
— Мы поможем вам найти индийский рецепт! — проникновенно зашептал Джейк. — У этого господина есть знакомые профессора, знающие все индийские наречия…
— Нет! — крикнул старик. — Родной брат украл у меня план тайника! Больше я никому не верю! Я не отдам вам древние книги… Я нашел их! Я спас их от гибели! Я! Один я! Они мои… И больше ничьи!..
Джейк обменялся быстрым взглядом с Кортецом и, отбросив вкрадчивый тон, заговорил уже с угрозой:
— А если мы расскажем, кто вы такой? Если докажем, что вы присвоили себе ценности, принадлежащие советской власти?
— Да, да! — подтвердил Кортец, глядя пылающими глазами на старого маньяка. — Вы знаете, что с вами сделают коммунисты?
Старик поглядел на Кортеца, затем на Джейка и ответил внятно и спокойно:
— Знаю. Они Отнимут у меня мои сокровища, а меня посадят в тюрьму, как вора.
— Вот именно! — воскликнул Кортец. — Вы, оказывается, умный человек, князь!
— О да! — со смехом воскликнул старик. — Я умный человек, мсье… И потому я знаю, что вы ничего и никому про меня не расскажете… Вы сами в моих руках, господа!..
Он хитро прищурился, и Кортец с Джейком вновь услыхали глухариное клохтанье.
— Знаете что? — неожиданно оборвав смех, резко сказал старик. — Убирайтесь вы оба… туда, откуда пожаловали!.. Пока я первый не заговорил… Вот вам, господа, ответ князя Платона Бельского!.,
Он грубо оттолкнул сперва Джейка, затем Кортеца и неуклюже полез в пролом.
Джейк выхватил нож, но Кортец схватил его за руку:
— Джейк, опомнитесь! Вы не в Чикаго!..
— Проклятая старая развалина! — побледнев от бешенства, прошипел Джейк и запрятал нож. Его «азбука Морзе» после долгого перерыва работала полным ходом.
— Нам надо хорошо подумать, — сказал Кортец. — Идемте, Джейк…
Кортец то и дело беспокойно поглядывал из полуразрушенного «каменного мешка» во двор, а Джейк, вплотную подойдя к старику, говорил ему негромко, но внушительно, как гипнотизер:
— Нам все известно, князь. Вы не тот, за кого себя выдаете. Подделанная вами справка уличает вас полностью. Мы также знаем, чтe именно привязывает вас к этому монастырю уже много лет. Вы ищете здесь библиотеку Грозного…
Старик громко сопел и понуро глядел на груду кирпичей у себя под ногами. Джейк кивнул на Кортеца:
— Этот господин прибыл сюда из Парижа по тому же делу. Он представитель крупнейшей американской антикварной фирмы. Ему надо помочь. Если вы знаете о книжном тайнике, расскажите… Вы получите деньги, уедете отсюда и спокойно проживете еще много лет…
Старик молчал.
Кортец напряженно вглядывался в его непроницаемое лицо. «Потомку великого конквистадора» казалось, что Джейк ошибся, что старик сейчас пожмет плечами и скажет: «Не пойму я, барин, по какому это вы со мной лопочете».
Но старик выпрямился, сурово посмотрел на Джейка и заговорил на чистейшем французском языке:
— Да! Вы не ошиблись. Я князь Платон Бельский… Я не знаю, кто вы, молодой человек, но я слышал все ваши разговоры… Думаю, что и вы не тот, за кого себя выдаете.
— Это не имеет значения, князь, — быстро ответил Джейк.
— Вы хотите найти… книги царевны Зои и Ивана Грозного?… Напрасный труд. Я искал их здесь больше тридцати лет… и нашел!
Последнее слово старик не сказал, а прошептал, но этот звенящий шепот, как порыв ветра, можно было услышать и на берегу озера.
Кортец подошел к нему и вытаращенными глазами молча смотрел в немигающие, сурово устремленные вперед глаза старика:
— Вы… нашли?
— Нашел! — твердо, как последнее слово клятвы, вымолвил старик и тотчас же торопливо заговорил сам с собой, то пришептывая, то крича: — Нашел пустой тайник! Совсем пустой! Грабители растаскали древнюю библиотеку… но они далеко не унесли ее…
— Да? А где она? — спросил завороженный его рассказом Кортец.
Старик молчал, будто припоминая давний сон. Он беззвучно перебирал губами и глядел в треснувший, грозно нависший над ним потолок.
— Да говори ты, старый пень! — грубо рявкнул Кортец.
— Спокойно, мсье… — сказал Джейк. — Продолжайте свой рассказ, князь.
— Они… рассовали древние книги по всему монастырю. Я долго, десять лет, собирал их… Я собрал и вновь захоронил их. Теперь уже никто не найдет эти книги… — глухо сказал старик. — Никто!..
Кортец и Джейк напряженно смотрели на старого сторожа. Он молчал.
Кортец хотел что-то сказать, но Джейк властным жестом остановил его.
— Князь Платон! — заговорил он тихо и вкрадчиво, так, как говорил когда-то в кабинете Кортеца. — Доверьтесь нам. Мы люди вашего круга. Мы поможем вам унести отсюда всю древнюю библиотеку. Вы поедете в Париж вместе с мсье Кортецом…
Старик перевел глаза на смиренную физиономию Джейка. Он будто вернулся на землю из какого-то глухого подземелья и еще не мог понять, чего хочет от него этот прилизанный чистенький юноша.
— В Париж?… — спросил он и внезапно рассмеялся своим глухариным, клокочущим смехом. — Нет, господа, мне ваш Париж не нужен. Мне нужно только одно… отыскать среди древних книг индийский свиток с рецептом. Он вернет мне силы, память, вернет жизнь…
— Мы поможем вам найти индийский рецепт! — проникновенно зашептал Джейк. — У этого господина есть знакомые профессора, знающие все индийские наречия…
— Нет! — крикнул старик. — Родной брат украл у меня план тайника! Больше я никому не верю! Я не отдам вам древние книги… Я нашел их! Я спас их от гибели! Я! Один я! Они мои… И больше ничьи!..
Джейк обменялся быстрым взглядом с Кортецом и, отбросив вкрадчивый тон, заговорил уже с угрозой:
— А если мы расскажем, кто вы такой? Если докажем, что вы присвоили себе ценности, принадлежащие советской власти?
— Да, да! — подтвердил Кортец, глядя пылающими глазами на старого маньяка. — Вы знаете, что с вами сделают коммунисты?
Старик поглядел на Кортеца, затем на Джейка и ответил внятно и спокойно:
— Знаю. Они Отнимут у меня мои сокровища, а меня посадят в тюрьму, как вора.
— Вот именно! — воскликнул Кортец. — Вы, оказывается, умный человек, князь!
— О да! — со смехом воскликнул старик. — Я умный человек, мсье… И потому я знаю, что вы ничего и никому про меня не расскажете… Вы сами в моих руках, господа!..
Он хитро прищурился, и Кортец с Джейком вновь услыхали глухариное клохтанье.
— Знаете что? — неожиданно оборвав смех, резко сказал старик. — Убирайтесь вы оба… туда, откуда пожаловали!.. Пока я первый не заговорил… Вот вам, господа, ответ князя Платона Бельского!.,
Он грубо оттолкнул сперва Джейка, затем Кортеца и неуклюже полез в пролом.
Джейк выхватил нож, но Кортец схватил его за руку:
— Джейк, опомнитесь! Вы не в Чикаго!..
— Проклятая старая развалина! — побледнев от бешенства, прошипел Джейк и запрятал нож. Его «азбука Морзе» после долгого перерыва работала полным ходом.
— Нам надо хорошо подумать, — сказал Кортец. — Идемте, Джейк…
* * *
— Что он сказал? — шепотом спросил Волошин. — «Нам надо хорошо подумать. Идемте, Джейк», — перевела Тася последнюю французскую фразу, произнесенную в «каменном мешке». — Значит, «товарища Богемского» зовут Джейком? — сказал Волошин. — Это любопытно. Тася и Волошин полежали еще минуты две на настиле, пока не затихли шаги Кортеца и Джейка. — А теперь надо бежать немедленно в милицию, — решительно сказал Волошин, помогая Тасе встать и отряхивая ее платье от пыли. — А это не обязательно, товарищ Волошин! — произнес кто-то почти рядом с ним. Тася и Волошин удивленно оглянулись и увидели, что из расселины соседнего каземата выбирается весь испачканный пылью… художник Еланский.ВАЛУН НА КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ
Художник Еланский выкарабкался из «каменного мешка», соседнего с тем, в котором только что происходил столь серьезный разговор иностранных авантюристов с князем-сторожем. Отряхнув пыль, он повторил: — В милицию вам, товарищ Волошин, еще раз обращаться не обязательно. Волошин смотрел на Еланского взглядом Фауста, впервые увидевшего Мефистофеля. — Вы еще в Москве обратились в милицию по поводу исчезновения писем Евгении Бельской. Этого вполне достаточно, — добавил Еланский и вынул из кармана какую-то бумажку. — Вот ваш рапорт начальнику Управления… Бонжур, камрад Березкина! — обратился он к Тасе. — Компренэ ву франсэ? — Вуй… — растерянно ответила Тася. — Трэ бьен! — с отличным французским прононсом воскликнул Еланский. — Значит, вы всё слыхали и всё поняли?! — Позвольте! — настороженно глядя на него, воскликнул Волошин. — Кто вы такой? — Ах, да! Я забыл представиться. — Еланский вынул из кармана милицейское удостоверение и протянул Волошину. — Майор милиции Руднев. Прибыл сюда со специальным поручением. Волошин и Тася переглянулись. — Прибыли по моему рапорту и ничего мне не сказали? — сконфуженно и даже с обидой произнес Волошин. Руднев усмехнулся: — Не обижайтесь. Так надо было. Столь внезапно превратившийся в майора милиции, «художник» быстро и лаконично изложил перед комсомольцами свой план действий. Он считал, что спугивать непрошеных гостей раньше времени не следует. Руднев не сомневался, что Кортец и Джейк все же, рано или поздно, узнают, куда князь-сторож зарыл найденную им библиотеку Грозного. — Пускай поработают на нас, раз уж приехали сюда, — заключил он. Отныне Тася должна была внимательно наблюдать за Платоном Бельским, а Руднев и Волошин — за обоими туристами. Начальник сиверского районного управления милиции, оказывается, знал о миссии майора Руднева и готов был оказать ему поддержку в любой момент. Однако до поры до времени в монастыре не должен был появляться никто из представителей милиции. Профессора решили не тревожить. Но как ни предусмотрителен был Руднев, он не учел, что события в монастыре могут развернуться гораздо быстрее, чем он предполагал. Выбравшись из «каменного мешка», авантюристы буквально на ходу, еще не дойдя до церкви Иоанна Предтечи, выработали план действия, и Джейк с быстротой тренированного спринтера пустился вдогонку за сторожем. Он догнал старика у ворот, ведущих на главный двор, пошел рядом с ним и быстро зашептал ему что-то на ухо. Платон Бельский шел, угрюмо глядя себе под ноги. Казалось, он внимательнее слушал позвякивание ключей на своем поясе, чем проникновенный шепот Джейка. Внезапно он остановился и удивленно поглядел на своего назойливого спутника. — Профессор? — глухо переспросил он. — Вздор! Он ничего не найдет! — Нет, найдет! — уверенно сказал Джейк. — Но если на нас вы можете донести и нас можете устранить, то на профессора вы не донесете. А он не успокоится, пока не перевернет весь монастырь. Поймите вы это, князь… Вот кто ваш главный враг, а не мы. Мы — друзья, только мы можем помочь вам. — Чем? — с недоверием глядя на Джейка, спросил старик. Джейк оглянулся и, не видя вокруг себя никого, кроме приближающегося Кортеца, продолжал: — Мы поможем вам устранить этого опасного профессора раз и навсегда. — Убить? — тихо спросил старик. — Зачем! — с деланным ужасом воскликнул Джейк. — Несчастный случай — и все… Виновных нет, но зато нет и профессора. Старик слушал уже внимательно, хмуро посапывая и пряча глаза в седых кустах бровей. Джейк взял его под руку и повел к воротам, шепотом развивая свой план «устранения профессора».* * *
На другой день Волошин и Еланский, забравшись в церковь Иоанна Предтечи на холмике против Кузнецкой башни и вооружившись биноклями, наблюдали за странным поведением Джейка, который через башню проник во второй ярус крепостной стены. Этот ярус был сооружен на высоте от шести до восьми с половиной метров. Он, как бесконечный балкон, опоясывал все крепостные стены монастыря и обращен был на монастырский двор огромными окнами без рам и стекол. Джейк шел вдоль стены, время от времени выглядывая в окна. Неожиданно остановившись и выглянув, он стал внимательно осматривать окно, затем потрогал его подоконник и тотчас же пошел обратно к башне. — Это еще что за манипуляции? — удивленно произнес Руднев. — Я тоже ничего не понимаю, товарищ майор, — пожав плечами, сказал Волошин. — Колдует. Он что-то задумал. — Не иначе. Но что?… Когда Джейк спустился вниз и, пройдя мимо церкви Иоанна Предтечи, скрылся в в воротах главного монастырского двора, Руднев и Волошин вышли из своего убежища и поднялись на второй ярус стены, туда, где только что «колдовал» Джейк. Они внимательно осмотрели все стены и подоконники второго яруса. Волошин считал: — Первое, второе… десятое! Вот здесь он остановился. Руднев тщательно оглядел десятое окно. — Смотрите, товарищ майор! Отметка мелом… — указал Волошин на один из бурых кирпичей подоконника. — Да, крестик, — внимательно разглядывая небольшую меловую отметку, произнес Руднев. Он огляделся вокруг. — Гм… Что бы это означало?… Ответ на свой вопрос Руднев получил ночью, а Волошин — на другое утро, когда вместе с неутомимым майором милиции и с помощью ключа, полученного в конторе, вновь проник в церковь Иоанна Предтечи. Они устроились у высоких узких окон, и Руднев направил бинокль на второй ярус крепостной стены. — Ну, товарищ бригадмилец, что вы видите на подоконнике десятого окна? — спросил Руднев. Волошин отрегулировал бинокль и, с минуту поглядев, ответил: — Что-то, кажется, бурое, круглое… Котел, что ли? — Нет, это не котел. Это огромный валун, камень с берега озера. В нем не меньше двух пудов. — Как он туда попал? Руднев отнял от глаз бинокль и засмеялся: — С помощью «товарища Джейка Богемского». Ему, наверно, никогда в жизни не приходилось так поработать, как в эту ночь. На второй ярус стены он тащил этот камешек часа полтора и был так увлечен, что не заметил, как я за ним наблюдал. — Зачем же он его туда взгромоздил? — недоуменно глядя на Руднева, спросил Волошин. — Очевидно, для того же, для чего триста пятьдесят лет назад эти камни таскали на крепостную стену монастыря монахи и народные ополченцы, — с веселой усмешкой ответил Руднев. — Чтобы сбросить их оттуда на головы врагов… — Он хочет сбросить этот камень… — медленно произнес Волошин и вновь прильнул к биноклю. — Но на чью же голову? Руднев отрицательно качнул головой: — Ну, это чересчур примитивно — «на голову». Мы не ливонцы и не польская шляхта… Я осмотрел там всё и понял, что, если этот камень столкнуть вниз с высоты семи метров, он упадет как раз на настил «каменного мешка», в котором происходил исторический разговор между князем-сторожем и нашими «туристами». А под настилом провисли и держатся на честном слове кирпичные своды весом эдак в две с лишним тонны… Вы меня поняли? — Обвал?! — глядя на Руднева широко раскрытыми глазами, воскликнул Волошин. — Да, несчастный случай… Кто-то погиб, а виновных нет. — А кто этот «кто-то»? — завороженно глядя на Руднева, спросил Волошин. Тот засмеялся: — Вот этого я не спросил у «товарища Богемского». Он так был занят работой, что мне не хотелось его отрывать. Но, думаю, мы скоро это узнаем. — Они подозревают кого-то из нас, — глядя в бинокль, сказал Волошин. — Этот камень предназначен для моей или вашей головы… — Поживем — увидим, товарищ бригадмилец. А пока берите вот этот пистолет-автомат, отправляйтесь на второй ярус стены, спрячьтесь там где-нибудь поближе к камню и задержите всякого, кто к нему приблизится. Волошин взял тяжелый пистолет и сказал по-военному: — Есть, товарищ майор милиции! Всякий, кто приблизится к камню, будет задержан!* * *
Когда Волошин взобрался на свой пост, майор Руднев взял альбом для зарисовок и направился к «каменному мешку». Он вошел в каземат и долго разглядывал грозно нависшие над его головой своды. Затем Руднев выбрался из каменной ловушки и пошел на главный двор. Здесь, у газона, против группы храмов, он увидел Кортеца и Джейка. «Потомок великого конквистадора» фотографировал храмы; Джейк рассеянно за ним наблюдал, время от времени поглядывая на здание конторы музея. Он, видимо, кого-то ждал. Руднев приблизился к ним и стал внимательно разглядывать храм. — Красивый собор! — сказал он, обращаясь к Джейку. — Да… — рассеянно ответил тот. — Мы его тщательно охраняем. — Его в пятнадцатом веке построил русский зодчий Прохор Ростовский, — любуясь величественным храмом, похожим на кремлевский Успенский собор, сказал Руднев. — Я хочу зарисовать его купола. — Пожалуйста, — безразлично ответил Джейк и вновь поглядел на дверь конторы. Неожиданно оттуда вышла Тася. Она огляделась и, увидев Руднева, направилась к нему. Она торопилась и явно была чем-то взволнована. Подойдя к Рудневу, Тася сказала: — Товарищ Еланский, вас просит директор музея. Руднев захлопнул альбом и зашагал к конторе. Тася пошла рядом с ним и тихо быстро заговорила: — Только что я слышала, как сторож предложил профессору Стрелецкому осмотреть один никому не известный ход в подземелье у Кузнецкой башни. Он сказал профессору, что ход этот ведет в подземный тайник, сооруженный еще при Иване Грозном… Тася понизила голос до шепота: — Неужели он решил открыть свою тайну? Не глядя на нее, Руднев также тихо ответил: — Не отходите от профессора ни на шаг!.. Скорее всего, именно на него готовится покушение… В крепостной стене есть ловушка. Там засел Волошин… В это время из конторы выполз все такой же угрюмый сторож, а затем появился профессор Стрелецкий. Завидев Тасю, он помахал ей рукой и крикнул: — Я скоро вернусь, Тасенька! — Идите с ним! — приказал Руднев. — Как только он войдет в каземат в крепостной стене, сейчас же тащите его обратно… Тася ничего не поняла, но объясняться было уже некогда. Она подбежала к профессору и пошла рядом с ним. Руднев видел, как Стрелецкий остановился и что-то сказал сторожу. Тот безразлично поглядел на Тасю и, пожав плечами, побрел к крепостной стене… Руднев оглянулся: Кортец как ни в чем не бывало фотографировал церкви, а Джейк, не обращая внимания на Стрелецкого и сторожа, давал Кортецу какие-то объяснения. — Любопытно… — тихо сказал Руднев и, войдя в сени конторы, через шелку продолжал наблюдать за Кортецом и Джейком. Через пять минут Руднев вышел из сеней и вновь направился к ним. — У мсье хороший вкус, — сказал он. — Если он не возражает, я буду зарисовывать все, что он фотографирует. Джейк перевел Кортецу слова «художника». — О! Манифик! Силь ву пле, маэстро! — оживленно воскликнул Кортец. — Обратили ли вы внимание, мсье, что все купола этого храма разные? — вежливо спросил «художник». Джейк перевел. — Меня восхищает эта асимметрия! — довольно искренне воскликнул Кортец. — Она роднит русское искусство с искусством варваров восьмого — девятого веков. Я видел во Франции их капеллы. — Я предпочитаю самобытное искусство варваров геометрической пропорции готики, — ответил Руднев, быстро набрасывая контур шишковатого купола собора. Джейк заглянул в его альбом: — Вы хорошо рисуете. — Я любитель, — скромно ответил Руднев. Делая зарисовки, он внимательно наблюдал за Кортецом и Джейком. Последний, видимо, и не думал следовать за сторожем и профессором, но время от времени все же беспокойно поглядывал в ту сторону, куда сторож увел Стрелецкого. Кортец, казалось, целиком был поглощен фотографированием. Прошло минут двадцать. Неожиданно в воротах показалась Тася. Она подбежала к Рудневу и, отозвав его в сторону, сообщила: — Сторож привел нас с профессором в ту каменную дыру, где эти… — она кивнула на Джейка и Кортеца, — объяснялись тогда со стариком. Он велел нам ждать, а сам куда-то исчез. Я объяснила профессору, что это ловушка, и чуть не силой вытащила его из каземата. — А сторож где? — быстро спросил Руднев. — Волошин его задержал где-то наверху, на стене, — с волнением и недоумением продолжала Тася. Она, видимо, до сих пор не уяснила себе смысла всего, что произошло с нею и профессором. — Ну, и где он теперь? — нетерпеливо спросил Руднев. Джейк и Кортец без всякого стеснения подошли к Рудневу. — Там что-нибудь случилось, девушка? — спросил Джейк. Но Тася ответила не на его вопрос, а на вопрос Руднева: — Сторож вбежал в заброшенную усыпальницу князей Бельских, заперся на железный засов и не выходит. — Мне нужно перезарядить кассеты, господин Богемский, — сказал Кортец и, круто повернувшись, направился к надвратной церкви. Джейк следовал за ним. — Скажите Волошину, пусть не отходит от усыпальницы ни на шаг. Бегите!.. — бросил Руднев Тасе и быстрыми шагами догнал Кортеца и Джейка. — Минутку, господа! — сказал он. Заграничные гости остановились и тревожно переглянулись. — Только что у крепостной стены было произведено покушение на жизнь профессора Стрелецкого… — продолжал Руднев, строго глядя на Джейка. — Нам до этого нет дела, товарищ, художник! — сердито ответил Джейк. — Обратитесь в милицию. — Милиция уже здесь, — сказал Руднев и показал Джейку свою красную книжку. — Я майор милиции Руднев. Прибыл из Москвы для наблюдения за вами.
Джейк быстро оглянулся по сторонам. Руднев уловил его мысль.
— Монастырь оцеплен плотным кольцом милиции, «товарищ Богемский»… Но вчера ночью, когда вы так трудолюбиво возились с камнем, я был здесь один… А теперь предъявите ваше командировочное удостоверение.
Кортец с безразличным видом смотрел на пышный куст сирени. Джейк нехотя подал Рудневу свое удостоверение и, нерешительно моргнув, сказал:
— Здесь какое-то недоразумение, товарищ майор.
Руднев внимательно осмотрел документ и сказал:
— Хорошо сделано… — Он сличил подпись с каким-то заявлением: — И подпись Тараканцева нормальная. Гм… А как ваше настоящее имя?
Джейк молчал.
— Ну, это мы выясним… А сейчас сдайте оружие, господа, — строгим тоном предложил Руднев и добавил, насмешливо глядя на Кортеца: — Думаю, что вы меня понимаете и без переводчика, мсье Кортец. До появления в этом монастыре вы неплохо владели русским языком.
— Я владею многими языками, господин майор, — сказал по-русски Кортец. — И я всегда выбираю тот, какой мне более удобен. Но вы, может быть, все же объясните ваше поведение?
— Ваш спутник организовал покушение на профессора Стрелецкого. У меня есть тому доказательства… А вы шантажировали гражданина Тараканцева, — ответил Руднев.
— Чепуха! — с оскорбленным видом воскликнул Кортец, но тем не менее сунул руку в карман и протянул Рудневу крохотный ножичек-нессесер в замшевом футляре.
— Вот все мое оружие. Я никогда не ношу при себе много металла.
— Оставьте это у себя, — сказал Руднев и пристально взглянул на Джейка.
Тот стоял не шевелясь и угрюмо смотрел в землю.
— Мистер Джейк! — окликнул его Руднев. — Вы слышали мое приказание?
Джейк медленно достал из карманов большой складной нож и браунинг и подал их Рудневу.
— Это всё?
Кортец усмехнулся и процедил сквозь зубы:
— Милиция уже здесь, — сказал Руднев и показал Джейку свою красную книжку. — Я майор милиции Руднев. Прибыл из Москвы для наблюдения за вами.
Джейк быстро оглянулся по сторонам. Руднев уловил его мысль.
— Монастырь оцеплен плотным кольцом милиции, «товарищ Богемский»… Но вчера ночью, когда вы так трудолюбиво возились с камнем, я был здесь один… А теперь предъявите ваше командировочное удостоверение.
Кортец с безразличным видом смотрел на пышный куст сирени. Джейк нехотя подал Рудневу свое удостоверение и, нерешительно моргнув, сказал:
— Здесь какое-то недоразумение, товарищ майор.
Руднев внимательно осмотрел документ и сказал:
— Хорошо сделано… — Он сличил подпись с каким-то заявлением: — И подпись Тараканцева нормальная. Гм… А как ваше настоящее имя?
Джейк молчал.
— Ну, это мы выясним… А сейчас сдайте оружие, господа, — строгим тоном предложил Руднев и добавил, насмешливо глядя на Кортеца: — Думаю, что вы меня понимаете и без переводчика, мсье Кортец. До появления в этом монастыре вы неплохо владели русским языком.
— Я владею многими языками, господин майор, — сказал по-русски Кортец. — И я всегда выбираю тот, какой мне более удобен. Но вы, может быть, все же объясните ваше поведение?
— Ваш спутник организовал покушение на профессора Стрелецкого. У меня есть тому доказательства… А вы шантажировали гражданина Тараканцева, — ответил Руднев.
— Чепуха! — с оскорбленным видом воскликнул Кортец, но тем не менее сунул руку в карман и протянул Рудневу крохотный ножичек-нессесер в замшевом футляре.
— Вот все мое оружие. Я никогда не ношу при себе много металла.
— Оставьте это у себя, — сказал Руднев и пристально взглянул на Джейка.
Тот стоял не шевелясь и угрюмо смотрел в землю.
— Мистер Джейк! — окликнул его Руднев. — Вы слышали мое приказание?
Джейк медленно достал из карманов большой складной нож и браунинг и подал их Рудневу.
— Это всё?
Кортец усмехнулся и процедил сквозь зубы:
 — У него есть еще водородная бомба, но он забыл ее дома.
— Я думаю, что мистер Джейк и от водородной бомбы скоро избавится, — с иронической улыбкой сказал Руднев и добавил: — Я прошу вас, господа, пройти со мной в районное управление милиции.
— А потом? — с тревогой спросил Кортец.
— А потом вам, господин Кортец, надо будет немедленно вернуться в Москву самостоятельно, а с мистером Джейком мы поедем вместе…
Они направились к выходу из монастыря. К Кортецу уже вернулось ровное настроение. «Что ж, — рассуждал он, — с охоты за сокровищами Ивана Грозного я возвращаюсь с пустым ягдташем. Но скоро я несомненно вновь буду в Париже… Это лишь очередная неудача вроде истории с «коптским евангелием»…
Они приблизились к надвратной церквушке. Сказочная «царевна Лебедь» удивленно смотрела на них своими узкими бойницами — окнами. Кортец взял в руки фотоаппарат и спросил, обращаясь к майору:
— Разрешите сфотографировать этот шедевр русского зодчества?
Руднев пожал плечами:
— Пожалуйста!
— Мне надо хоть как-то возместить убытки, — пояснил Кортец и щелкнул затвором. — Я в Париже организую фотовыставку оригинальных росписей Дионисия и неизвестного миру монаха Александра, которые я увидел здесь, а также образцов русского древнего зодчества.
— Вот этим бы вы и занимались, господа, — искренне посоветовал Руднев.
— Не знаю, как другие иностранные гости, господин майор, — ответил Кортец, — но я прежде всего деловой человек, я занимаюсь тем, что сулит мне наибольшую прибыль.
Он взглянул на Джейка. У того был вид человека, хлебнувшего уксусу, настоенного на хрене.
— Не унывайте, Джейк, — подбодрил его Кортец. — Если ваши соотечественники вызволяют даже шпионов в Китае, то агента антикварного треста они наверняка выручат. Вспомните о вашем контракте.
— Убирайтесь к черту! — злобно крикнул Джейк.
— У него есть еще водородная бомба, но он забыл ее дома.
— Я думаю, что мистер Джейк и от водородной бомбы скоро избавится, — с иронической улыбкой сказал Руднев и добавил: — Я прошу вас, господа, пройти со мной в районное управление милиции.
— А потом? — с тревогой спросил Кортец.
— А потом вам, господин Кортец, надо будет немедленно вернуться в Москву самостоятельно, а с мистером Джейком мы поедем вместе…
Они направились к выходу из монастыря. К Кортецу уже вернулось ровное настроение. «Что ж, — рассуждал он, — с охоты за сокровищами Ивана Грозного я возвращаюсь с пустым ягдташем. Но скоро я несомненно вновь буду в Париже… Это лишь очередная неудача вроде истории с «коптским евангелием»…
Они приблизились к надвратной церквушке. Сказочная «царевна Лебедь» удивленно смотрела на них своими узкими бойницами — окнами. Кортец взял в руки фотоаппарат и спросил, обращаясь к майору:
— Разрешите сфотографировать этот шедевр русского зодчества?
Руднев пожал плечами:
— Пожалуйста!
— Мне надо хоть как-то возместить убытки, — пояснил Кортец и щелкнул затвором. — Я в Париже организую фотовыставку оригинальных росписей Дионисия и неизвестного миру монаха Александра, которые я увидел здесь, а также образцов русского древнего зодчества.
— Вот этим бы вы и занимались, господа, — искренне посоветовал Руднев.
— Не знаю, как другие иностранные гости, господин майор, — ответил Кортец, — но я прежде всего деловой человек, я занимаюсь тем, что сулит мне наибольшую прибыль.
Он взглянул на Джейка. У того был вид человека, хлебнувшего уксусу, настоенного на хрене.
— Не унывайте, Джейк, — подбодрил его Кортец. — Если ваши соотечественники вызволяют даже шпионов в Китае, то агента антикварного треста они наверняка выручат. Вспомните о вашем контракте.
— Убирайтесь к черту! — злобно крикнул Джейк.
ТАЙНИК В ГРОБНИЦЕ
Церковь Иоанна Предтечи немного напоминала уже описанную надвратную монастырскую церковь. Она была окрашена красной охрой, а пилястры и наличники ее окон и дверей побелены. Более четырех веков назад ее построили в честь рождения царевича Ивана, будущего Грозного. Окруженная юными, стройными березками, она красовалась на зеленом холме неподалеку от крепостной стены. А позади нее было царство «дремучих трав»: полыни, репейника, одичалой конопли. И в этих зарослях мог скрыться стоящий во весь рост человек. Вот здесь, среди пахучих трав, в тени кудрявых деревьев, в вековечной тишине и стояла заброшенная усыпальница князей Бельских. Над глубоким склепом ее возвышалась небольшая часовня. Возможно, что когда-то она выглядела совсем иначе. Но годы сделали свое: зеленая крыша стала бурой и кое-где провалилась; штукатурка на стенах и маленьких колоннах облупилась, а железные, замысловатого рисунка решетки на окнах и двери заржавели. Русские зодчие далеких времен не уделяли гробницам и мавзолеям столько внимания, сколько уделяли надгробным сооружениям зодчие и ваятели Ренессанса. Усыпальница князей Бельских служила тому ярким доказательством: она была очень скромна и очень печальна. Как впавшая в нищету старенькая барыня, стояла она на задворках древнего монастыря, дивясь скоплению людей вокруг себя. А эти люди уже два часа заглядывали в ее окна, разговаривали, тщетно звали скрывшегося в гробнице Платона Бельского. Здесь были Волошин и Тася, профессор Стрелецкий, директор монастыря-музея Янышев и несколько милиционеров. Милиционеры и директор сохраняли полное спокойствие, а молодые люди и профессор были чрезвычайно взволнованы и оживленно обсуждали события в монастыре. — Гробница эта заприходована по нашим книгам и документам как сооружение, не имеющее исторической ценности, — рассказывал Янышев московским гостям и милиционерам. — По этой причине ни в какие сметы по ремонту она не попадает. Однако по тем же документам значится, что в 1915 и 1916 годах приезжал сюда из Петербурга какой-то князь Бельский; он занимался ремонтом указанной гробницы и производил какие-то сложные раскопки. Причем земли было вывезено много… Рассказ Янышева был прерван появлением Руднева и начальника сиверской районной милиции. Тася, Волошин и профессор засыпали майора вопросами. Руднев сообщил, что мсье Кортец дал важные показания и, собрав свои вещи, уехал в Вологду, а мистер Джейк должен дождаться своего сообщника по покушению — Платона Бельского — и вместе с ним, Рудневым, поедет в Москву. — Да, кстати, мы узнали, как его настоящая фамилия, — сказал Руднев. — Оказывается, мистер Джейк — тоже Бельский, а князь Платон — его родной дядя. Он американский подданный, сын белоэмигранта. — Сколько их, куда их гонят! — насмешливо воскликнул Волошин. — Бельские лежат тут рядом в гробах. Их потомок, не дождавшись смерти, тоже полез в гробницу. И, наконец, чтобы составить им компанию, из Америки специально прибыл еще один Бельский! — А что с князем-сторожем? — спросил Руднев. — Подает ли он хоть признаки жизни? — Молчит. Не умер ли он от… инфаркта? — нерешительно сказала Тася. Невзирая на то, что Платон Бельский состоял в заговоре с Джейком, ей все же было жалко одинокого старика, которого так сильно любила когда-то прекрасная женщина. — Ну что ж, придется взломать дверь… — решил Руднев. — Ах, да! Я забыл передать вам, профессор, один интересный экспонат, обнаруженный при обыске у Джейка Бельского. Не объясните ли вы, что это такое? — И он вынул из кармана свернутый в трубку пергаментный лист. Янышев побежал за слесарем, а Стрелецкий, окруженный Тасей, Волошиным, Рудневым и представителями сиверской милиции, внимательно вглядывался через лупу в пергаментный лист с изображенной на нем эмблемой, с чертежом тайника и надписью…
Наконец профессор поднял голову и обвел всех удивленным, недоумевающим взглядом.
— Поразительно! — тихо сказал он. — Это титульный лист антологии Агафия.
— Но как он к ним попал? — спросил Волошин.
— А разве вы забыли, что нам рассказывала старушка на Ордынке? — сказала Тася. — Вспомните, как Евгения Бельская вырвала из рук своего мужа византийскую книгу, и у него в руках остался только титульный лист.
— Невероятно! — воскликнул Стрелецкий. — Здесь дарственная запись Ивана Грозного и какой-то чертеж… Это план тайника! Я был прав! Библиотека Грозного где-то здесь…
— Вот видите, — укоризненно глядя на Волошина, сказала Тася. — А вы, Ваня, не верили. Вы говорили, что князь Платон сумасшедший и что никакого тайника он не нашел.
В это время дверь в гробницу уже была отперта. Тася и профессор бросились туда, но их остановил Руднев:
— Спокойно, товарищи! Мы ищем преступника, и здесь нужна осторожность. Сейчас войду только я.
В сопровождении двух милиционеров Руднев вошел в часовню. Спустившись по ступенькам, они оказались в просторном помещении усыпальницы князей Бельских. На Руднева пахнуло холодом и сыростью погреба. Внизу его обступила темнота. Пошарив по каменным стенам лучом фонаря, он убедился, что в склепе никого нет.
«Что за чертовщина! Куда он мог деться? — размышлял Руднев. — Неужели здесь есть еще один выход?»
Вместе с милиционерами он тщательно обследовал все стены, пол, потолок. Все осмотрев и выстукав, они нигде не обнаружили признаков пустоты, какой-либо ниши. Наконец майор обратил внимание на большую металлическую надгробную плиту, вделанную прямо в каменный пол. Над нею стоял массивный чугунный крест, а на самой плите выпуклыми старинными буквами была сделана длинная надпись, извещавшая, что здесь покоятся гробы трех Бельских, в разное время сосланных в Сиверский монастырь: великим князем Василием III, временщиком при малолетнем царе Иване — Шуйским и самим Грозным.
Янышев побежал за слесарем, а Стрелецкий, окруженный Тасей, Волошиным, Рудневым и представителями сиверской милиции, внимательно вглядывался через лупу в пергаментный лист с изображенной на нем эмблемой, с чертежом тайника и надписью…
Наконец профессор поднял голову и обвел всех удивленным, недоумевающим взглядом.
— Поразительно! — тихо сказал он. — Это титульный лист антологии Агафия.
— Но как он к ним попал? — спросил Волошин.
— А разве вы забыли, что нам рассказывала старушка на Ордынке? — сказала Тася. — Вспомните, как Евгения Бельская вырвала из рук своего мужа византийскую книгу, и у него в руках остался только титульный лист.
— Невероятно! — воскликнул Стрелецкий. — Здесь дарственная запись Ивана Грозного и какой-то чертеж… Это план тайника! Я был прав! Библиотека Грозного где-то здесь…
— Вот видите, — укоризненно глядя на Волошина, сказала Тася. — А вы, Ваня, не верили. Вы говорили, что князь Платон сумасшедший и что никакого тайника он не нашел.
В это время дверь в гробницу уже была отперта. Тася и профессор бросились туда, но их остановил Руднев:
— Спокойно, товарищи! Мы ищем преступника, и здесь нужна осторожность. Сейчас войду только я.
В сопровождении двух милиционеров Руднев вошел в часовню. Спустившись по ступенькам, они оказались в просторном помещении усыпальницы князей Бельских. На Руднева пахнуло холодом и сыростью погреба. Внизу его обступила темнота. Пошарив по каменным стенам лучом фонаря, он убедился, что в склепе никого нет.
«Что за чертовщина! Куда он мог деться? — размышлял Руднев. — Неужели здесь есть еще один выход?»
Вместе с милиционерами он тщательно обследовал все стены, пол, потолок. Все осмотрев и выстукав, они нигде не обнаружили признаков пустоты, какой-либо ниши. Наконец майор обратил внимание на большую металлическую надгробную плиту, вделанную прямо в каменный пол. Над нею стоял массивный чугунный крест, а на самой плите выпуклыми старинными буквами была сделана длинная надпись, извещавшая, что здесь покоятся гробы трех Бельских, в разное время сосланных в Сиверский монастырь: великим князем Василием III, временщиком при малолетнем царе Иване — Шуйским и самим Грозным.
* * *
Руднев пригласил в усыпальницу Янышева, Волошина и начальника милиции. Тася и Стрелецкий вошли без приглашения. После небольшой консультации с директором Руднев приказал милиционерам вооружиться ломами и приподнять надгробную плиту. Но, к общему удивлению, приподнять ее не удалось ни ломами, ни общими усилиями всех находившихся в гробнице. Случайно прикоснувшись к кресту, Тася почувствовала, что он чуть двинулся под ее рукой. Оказалось, что чугунный крест вращается, и, поворачивая его, удалось приподнять плиту. Под ней не было никаких захоронений, но обнаружилась каменная лестница в десять ступенек. Спустившись по ней, Руднев и Волошин попали в какой-то темный туннель, выложенный камнем. Туннель был извилистым, длинным и привел Руднева и Волошина к массивной дубовой двери. Лазутчики попытались открыть ее, но она не поддавалась. Теперь они уже не сомневались, что именно там, за дверью, мог укрыться старый сторож и что именно там, видимо, находится книжный тайник Грозного. Они пробовали стучать, но никто не отзывался. Неожиданно запахло дымом, пробивавшимся сквозь щели в двери. Руднев и Волошин догадались, что старик решил сжечь ценную библиотеку, но никому не отдать ее. Волошин быстро пробрался по туннелю в склеп и вернулся с топором и ломом. …* * *
Волошин вонзал топор в дубовую дверь, а Руднев старался просунуть в щель лом. Подземелье гудело от ударов, из щелей валил густой дым, летели щепки. Волошин неистово кромсал топором крепкое дерево, старался перерубить засов, на который с той стороны была заперта дверь, и боялся лишь одного — что засов этот окажется металлическим. — Если засов железный, все пропало! — задыхаясь, сказал он Рудневу. — Ничего, ничего. Руби, Ваня! Мне бы только в щель лом просунуть, — подбодрил его Руднев. Наконец Волошин добрался до засова и радостно крикнул: — Деревянный! Наша взяла! Он обрушил на засов всю силу своих ударов и перебил его. Руднев рванул дверь. Едкий дым заволок их, как газовая завеса в бою. Вбежав в помещение и растопырив руки, Руднев стал шарить. Вдруг он услыхал голос Волошина: — Старик готов! Он здесь!.. Лежит на полу! — Надо вытащить его наверх! — крикнул Руднев. — Нет!.. Книги… — услыхал он слова Волошина и понял, что тот тушит огонь. Руднев нашел старика и сам потащил его в туннель. Волошин уже действительно боролся с огнем. Сняв с себя брюки и оставшись в одних трусах, он бросался туда, где видел пламя, накрывал его брюками, топтал ногами. Неожиданно он услыхал позади себя отчаянный женский крик: — Ваня! Ванечка!.. Ты жив?… Где ты, Ванечка! Ничего не видя, растопырив руки и шаря ими, Тася ворвалась в тайник. — Настенька! — откликнулся Волошин. — Горит библиотека Грозного! Тушить надо! — Там побежали за брезентом, — уже успокоившись, сказала Тася. И действительно, минуты через две в тайник вбежал Руднев, волоча за собой широкий и жесткий брезент из арсенала Янышева. — Отставить шланги! Накрыть огонь брезентом! — весело скомандовал он. Пользуясь брезентом, Волошин и Руднев окончательно расправились с огнем. Тася тем временем не оставалась без дела: шаря руками по каменным полкам и по полу, она собирала в охапку полуобгоревшие и целые книги. Собрав, сколько могла донести, она пошла с ними по туннелю к выходу… В подземелье трудно было дышать из-за дыма, но Руднев, Волошин и Тася все же дышали. Видимо, где-то здесь была тяга для притока свежего воздуха. Погасив огонь, Руднев и Волошин стали передавать выстроившимся в цепочку вдоль туннеля милиционерам спасенные книги.* * *
Подле гробницы Тася и профессор Стрелецкий осматривали книги. — Что это? — с тревогой и волнением говорил Стрелецкий, откладывая в сторону полуобгоревший молитвенник. — Это церковные книги, профессор, — сказала Тася. — Да. Но это совсем не то… Стрелецкий раскрыл какую-то книгу в картонном переплете и прочел вслух: — «Житие святого Ферапонта, можайского и лужецкого чудотворца»… Это напечатано в 1912 году в Московской синодальной типографии. Тася тоже взяла в руки книгу, лежавшую на траве. Это был часослов, напечатанный типографским способом в 1909 году. Девушка ничего еще не понимала. Механически раскрывая том за томом, она убеждалась, что вытащила из подземного тайника обыкновенные церковные книги: псалтыри, часословы, молитвенники, «жития святых» — и что все это не древнее, а напечатано в типографиях, на бумаге, на русском и церковнославянском языках. — Не может быть! — воскликнул профессор. — Они попали туда случайно!.. Давайте, давайте их сюда!.. — крикнул он милиционерам, выносящим из гробницы книги. — Тасенька, смотрите внимательно! Из подземелья вышел Волошин, а за ним и Руднев. Их, и особенно Волошина, трудно было узнать: испачканные землей и копотью, с обгорелыми волосами, с ожогами на руках и ногах, они казались людьми, застигнутыми взрывом в каком-то погибшем доме. — Ваня! Вы обгорели! У вас ужасный вид! — крикнула Тася и бросилась к своему другу. — Скорей к врачу! Бежим!.. Но расторопный Янышев уже явился с бинтами и с какой-то мазью. Он стал перевязывать Руднева, а Тася — Волошина. — Тебе больно? — с нежностью глядя на него, спрашивала она, не замечая, что перешла с ним на «ты». — Да нет же, Настенька! Что вы… что ты! Это пустяки! — смеясь и целуя ее руки, ответил Волошин. — Я чуть с ума не сошла, когда узнала, что ты там, под землей, горишь, — сказала Тася и даже всхлипнула под наплывом чувств. Опьянев от счастья, забыв про свои ожоги и осмелев, Волошин уже два раза чмокнул ее в разрумянившуюся щеку: — Спасибо, Настенька! — Тихо… молчи… — приговаривала Тася, ловко бинтуя разбитое колено Волошина. — Как библиотека Грозного, камрад Березкина? — окликнул ее уже забинтованный Руднев. — Небось не вся сгорела? Тася не ответила и с тревогой поглядела на профессора Стрелецкого. Он стоял на коленях и внимательно просматривал спасенные книги. Тася подошла к нему: — Ну что, Игнатий Яковлевич? — Это не то, что мы искали. Безумный старик, найдя тайник пустым, решил, что его разграбили, и за много лет натащил в свое подземелье все, что попадалось ему под руки… — Значит, это не библиотека Грозного? — разочарованно спросила Тася. — Нет! — ответил Стрелецкий. — Но мы потрудились недаром. Вот здесь я отобрал стариннейшие греческие и славянские рукописные книги, которые когда-то хранились в монастыре. Их считали погибшими, а они вот где! Глаза у Таси блеснули: — Значит, что-то нашли все же?… — Нашли, Тасенька! И самое ценное, что мы нашли, — это рукопись умного русского человека Кирилла Белозерского «О падающих звездах»… Это поразительное для четырнадцатого века, вполне научное объяснение многих небесных явлений. Существовали только копии этого труда, а сейчас мы нашли подлинник. Тася взяла в руки пачку сшитых пергаментных листов. Из пачки выпал какой-то листок. Тася подобрала его, но прочесть убористо написанное старинной скорописью не смогла и подала Стрелецкому. Стрелецкий поправил очки и сразу взглянул на подпись и дату: — Семь тысяч девяносто четвертый год? Годунов?… Постойте!.. Где вы это нашли? — Вот здесь, — испуганно ответила Тася, — в Кирилловой рукописи… — Да ведь это же грамота Бориса Годунова о библиотеке Грозного!.. — воскликнул Стрелецкий и затих, читая. — Так вот в чем дело!.. Его окружили, заговорили, забросали вопросами. — Слушайте, друзья мои! В тайнике, который мы нашли, нет библиотеки Ивана Грозного. Но она не погибла! Она была здесь. Она существует! Из найденного нами тайника она вывезена триста пятьдесят лет назад Борисом Годуновым. Вот его грамота! Это его подпись. Я ее знаю… Слушайте! Все притихли. — «По повелению великого государя всея Руси Федора Ивановича… — громко стал читать Стрелецкий, — …яз вывез книги грецкие и иных языков, захороненные в святой обители Кирилловой покойным государем Иваном Васильевичем, дабы купно соединить их в книгохранительнице государевой… Боярин Борис сын Годунов. Лета от сотворения мира семь тысяч девяносто четвертое… Майя второго в субботний день, в обители святого Кирилла».
— Врешь! — хрипло крикнул кто-то.
Все оглянулись и увидели, что Платон Бельский, который до сих пор бездыханный лежал на траве, сидит, покачиваясь и упираясь руками в землю. Его налитые кровью глаза дико блуждали. Он пытался встать, но не мог и, потрясая костлявым кулаком, хрипло каркал:
— «По повелению великого государя всея Руси Федора Ивановича… — громко стал читать Стрелецкий, — …яз вывез книги грецкие и иных языков, захороненные в святой обители Кирилловой покойным государем Иваном Васильевичем, дабы купно соединить их в книгохранительнице государевой… Боярин Борис сын Годунов. Лета от сотворения мира семь тысяч девяносто четвертое… Майя второго в субботний день, в обители святого Кирилла».
— Врешь! — хрипло крикнул кто-то.
Все оглянулись и увидели, что Платон Бельский, который до сих пор бездыханный лежал на траве, сидит, покачиваясь и упираясь руками в землю. Его налитые кровью глаза дико блуждали. Он пытался встать, но не мог и, потрясая костлявым кулаком, хрипло каркал:
 — Это подложная грамота! Ее воры положили!.. Сжечь ее надо бы, да сдуру сунул я ее в книгу… — Он перевел дух и уже не закричал, а заговорил, как во сне, качаясь, припадая на локоть и хватаясь за траву: — Я нашел старинные книги… Их разворовали… Я много лет собирал… Я стаскивал их на прежнее место… тайное место… Я нашел их… Они мои!.. Только мои и ничьи больше…
Старик пополз к разбросанным, таким же, как и сам он, истерзанным книгам; пополз на четвереньках, задыхаясь, плача, как ребенок, и завывая:
— Мое!.. Мое!..
Неожиданно, уткнувшись лицом в траву и распластавшись, он затих.
Руднев подошел к нему, перевернул на спину и, взяв руку, послушал пульс.
— Умер!.. — сказал он и осторожно положил большую узловатую руку старика на траву.
Стрелецкий приблизился к мертвому. Сурово сдвинув брови, смотрел он в широко открытые, но уже потухшие глаза человека, который сегодня, лишь три часа назад, хотел убить его… Но даже на мертвом лице безумного старика лежала печать страсти и упрямого фанатизма.
Склонившись над огромным телом Платона Бельского, Стрелецкий бережно сложил ему на груди руки, прикрыл глаза и тут заметил Тасю. Она была взволнована.
Профессор привлек к себе девушку:
— Полно, Тасенька. В сущности, это был несчастный человек…
— Как жалко, что она его не нашла, — сказала Тася, думая о Евгении Бельской.
Но Стрелецкий уже взял себя в руки. Внимательно оглядев своих друзей, он заговорил:
— Ну что ж, дорогие мои! Мы не нашли библиотеки Ивана Грозного, но мы не успокоимся, мы будем искать ее…
— …и найдем! — закончила Тася и, поглядев на Волошина ясными вопрошающими глазами, спросила: — Правда, Ваня?
— Правда, Настенька! — ответил тот. — Найдем… или наконец узнаем, что же случилось с этой загадочной библиотекой.
— А на этот вопрос, юноша, нам дадут ответ только подземелья московского Кремля! — сказал Стрелецкий.
— Это подложная грамота! Ее воры положили!.. Сжечь ее надо бы, да сдуру сунул я ее в книгу… — Он перевел дух и уже не закричал, а заговорил, как во сне, качаясь, припадая на локоть и хватаясь за траву: — Я нашел старинные книги… Их разворовали… Я много лет собирал… Я стаскивал их на прежнее место… тайное место… Я нашел их… Они мои!.. Только мои и ничьи больше…
Старик пополз к разбросанным, таким же, как и сам он, истерзанным книгам; пополз на четвереньках, задыхаясь, плача, как ребенок, и завывая:
— Мое!.. Мое!..
Неожиданно, уткнувшись лицом в траву и распластавшись, он затих.
Руднев подошел к нему, перевернул на спину и, взяв руку, послушал пульс.
— Умер!.. — сказал он и осторожно положил большую узловатую руку старика на траву.
Стрелецкий приблизился к мертвому. Сурово сдвинув брови, смотрел он в широко открытые, но уже потухшие глаза человека, который сегодня, лишь три часа назад, хотел убить его… Но даже на мертвом лице безумного старика лежала печать страсти и упрямого фанатизма.
Склонившись над огромным телом Платона Бельского, Стрелецкий бережно сложил ему на груди руки, прикрыл глаза и тут заметил Тасю. Она была взволнована.
Профессор привлек к себе девушку:
— Полно, Тасенька. В сущности, это был несчастный человек…
— Как жалко, что она его не нашла, — сказала Тася, думая о Евгении Бельской.
Но Стрелецкий уже взял себя в руки. Внимательно оглядев своих друзей, он заговорил:
— Ну что ж, дорогие мои! Мы не нашли библиотеки Ивана Грозного, но мы не успокоимся, мы будем искать ее…
— …и найдем! — закончила Тася и, поглядев на Волошина ясными вопрошающими глазами, спросила: — Правда, Ваня?
— Правда, Настенька! — ответил тот. — Найдем… или наконец узнаем, что же случилось с этой загадочной библиотекой.
— А на этот вопрос, юноша, нам дадут ответ только подземелья московского Кремля! — сказал Стрелецкий.

Н. Рощин МЕЖДУ НИГЕРОМ И СЕНЕГАЛОМ
ОТ АВТОРА
С героем повести Пьером Дьедонэ автор познакомился в Париже на открытом собрании общества энтомологов, где Дьедонэ читал доклад о тропических бабочках. Автора поразило, что одни вид открытых докладчиком насекомых он назвал «Барнаул» Трудно было удержаться от соблазна узнать о причинах столь странного научного наименования. Каково же было еще большее удивление автора, когда в ответ на его любопытство докладчик заговорил с ним на чистейшем, безукоризненном русском языке! В дальнейшем автор встречался с Дьедонэ еще не раз, потом, с отъездом Дьедонэ обратно в Африку, начал с ним переписываться, и постепенно знакомство это стало переходить в хорошую, прочную дружбу. Часть этой повести записана автором тогда же, в Париже, со слов нового знакомого, часть — по его записям, часть — по позднейшим письмам Дьедонэ к автору.НЕМНОГО АВТОБИОГРАФИИ
 Мой отец был француз — добрый, веселый, общительный и несерьезный человек. В его жилах текла кровь суровой Бретани и солнечного Прованса, и среди его предков были итальянцы и бельгийцы, англичане и голландцы. От него я взял страсть к передвижениям и приключениям. Моя мать — русская, сибирячка. И ей я обязан вот этими скулами на моем галльском лице, крепкой костью, выносливостью и упорством, которое рождает во мне иное препятствие на моей дороге вместе с решимостью биться до последнего мускульного усилия с этим препятствием.
Прирожденной страсти моей к странствиям покровительствовала сама судьба. Отец еще в молодости уехал в Россию маленьким служащим одной французской торговой фирмы, женился там. И я был его единственным ребенком. Он очень любил меня, и я с детства сопровождал его в бесконечных путешествиях по стране. Мне знакома бессарабская арба так же, как кошевни Сибири, кабардинская лошадь, волжский плот, собачья упряжка Крайнего Севера и двухколесная «беда» смоленского крестьянина. Я избороздил почти всю Россию и видел ее от Польши до Туркестана, от Охотского моря до дагестанских ущелий.
Смутны и сложны чувства моих отроческих лет. Чем шире открывались передо мною просторы необъятно огромной страны, тем больше любил я ее. И чем крепче овладевал знаниями о ней, тем становилась она ближе мне, тем больше чувствовал я ее своей, а себя — ее сыном. И все же… я был вписан в иностранный паспорт моего отца.
Отец поддерживал связь кое с кем из своих соотечественников. И в Петербурге и в Москве мне приходилось встречаться с представителями многочисленных иностранных колоний, преимущественно французами и бельгийцами. Агенты торговых фирм, дельцы, коммивояжеры, инженеры, техники, в большинстве своем они смотрели на Россию как на страну отсталую и бесхозяйственную, ценную лишь неисчерпаемыми возможностями обогащения для предприимчивого человека. Деньги — вот что влекло их! И эти печальные наблюдения вошли в мое сердце одною из заноз.
Меня зовут Пьер Дьедонэ, отца моего звали Жан. Фамилия Дьедонэ во Франции распространена примерно так же, как в России — Богдановы. И вот, по настоянию матери, в школе я был записан Петром Ивановичем Богдановым, в точном переводе моей фамилии на русский язык. Впрочем, со школой мне не везло — странствования отца постоянно отрывали меня от учебы, и почти из года в год за все классы до самого аттестата зрелости мне приходилось держать экстерном. Весною 1914 года отец получил отпуск. Я успешно заканчивал экзамены за первый курс Политехнического института. И родители решили меня порадовать: на два — три месяца поехать всей семьею во Францию. Мне было неполных девятнадцать лет.
Пришла война. Отец был мобилизован и погиб в боях на Марне. Эту смерть перенес я с горечью и достаточной стойкостью — она заставила меня возмужать. Мы остались вдвоем с матерью почти без средств, так как отец, отступая от вековой традиции своих соотечественников, ничего не откладывал, не копил. Через год взял в руки винтовку и я. Бедная мать! Она оставалась совсем одна на чужбине. В конце войны я был рамен. В год победы я пережил тяжкое горе: умерла от туберкулеза моя мать. Организм ее был уже давно подорван внутренним ее состоянием - глубоко, остро, скорбно переносила она отрыв от родной земли и уже не имела никаких сил сопротивляться страшной болезни. Смерть ее была неожиданно быстрой.
Я остался один во всем мире. Но я был молод, силен и вынослив. Зачетная студенческая книжка моя оказалась в Европе недействительной; о том, чтобы переучиться, нечего было и думать. Я перепробовал множество профессий: был шофером, грузчиком, огородником, набивщиком матрацев, плотником, конюхом, слесарем, мороженщиком, гранильщиком камней, маляром, расклейщиком афиш, ночным сторожем, инструктором гребного спорта и даже могильщиком.
Кое-как перебиваясь, я надеялся на лучшие времена, но увы… жизнь продолжала оставаться суровой и безжалостной. В конце концов я уже не мог найти никакой работы и безрезультатно обивал пороги различных предприятий и учреждений. Так я добрался и до министерства колоний и подал прошение о предоставлении мне любой работы и где угодно.
Мне пришлось ждать год, и этот год остался в памяти моей полосою сплошного голода. Я жил на чердаке полуразвалившейся гостиницы, наем которого отрабатывал натиркой полов в номерах, и бродил по улицам Парижа, пошатываясь от истощения и все стремительнее принимая облик «клошара» — босяка.
Мой отец был француз — добрый, веселый, общительный и несерьезный человек. В его жилах текла кровь суровой Бретани и солнечного Прованса, и среди его предков были итальянцы и бельгийцы, англичане и голландцы. От него я взял страсть к передвижениям и приключениям. Моя мать — русская, сибирячка. И ей я обязан вот этими скулами на моем галльском лице, крепкой костью, выносливостью и упорством, которое рождает во мне иное препятствие на моей дороге вместе с решимостью биться до последнего мускульного усилия с этим препятствием.
Прирожденной страсти моей к странствиям покровительствовала сама судьба. Отец еще в молодости уехал в Россию маленьким служащим одной французской торговой фирмы, женился там. И я был его единственным ребенком. Он очень любил меня, и я с детства сопровождал его в бесконечных путешествиях по стране. Мне знакома бессарабская арба так же, как кошевни Сибири, кабардинская лошадь, волжский плот, собачья упряжка Крайнего Севера и двухколесная «беда» смоленского крестьянина. Я избороздил почти всю Россию и видел ее от Польши до Туркестана, от Охотского моря до дагестанских ущелий.
Смутны и сложны чувства моих отроческих лет. Чем шире открывались передо мною просторы необъятно огромной страны, тем больше любил я ее. И чем крепче овладевал знаниями о ней, тем становилась она ближе мне, тем больше чувствовал я ее своей, а себя — ее сыном. И все же… я был вписан в иностранный паспорт моего отца.
Отец поддерживал связь кое с кем из своих соотечественников. И в Петербурге и в Москве мне приходилось встречаться с представителями многочисленных иностранных колоний, преимущественно французами и бельгийцами. Агенты торговых фирм, дельцы, коммивояжеры, инженеры, техники, в большинстве своем они смотрели на Россию как на страну отсталую и бесхозяйственную, ценную лишь неисчерпаемыми возможностями обогащения для предприимчивого человека. Деньги — вот что влекло их! И эти печальные наблюдения вошли в мое сердце одною из заноз.
Меня зовут Пьер Дьедонэ, отца моего звали Жан. Фамилия Дьедонэ во Франции распространена примерно так же, как в России — Богдановы. И вот, по настоянию матери, в школе я был записан Петром Ивановичем Богдановым, в точном переводе моей фамилии на русский язык. Впрочем, со школой мне не везло — странствования отца постоянно отрывали меня от учебы, и почти из года в год за все классы до самого аттестата зрелости мне приходилось держать экстерном. Весною 1914 года отец получил отпуск. Я успешно заканчивал экзамены за первый курс Политехнического института. И родители решили меня порадовать: на два — три месяца поехать всей семьею во Францию. Мне было неполных девятнадцать лет.
Пришла война. Отец был мобилизован и погиб в боях на Марне. Эту смерть перенес я с горечью и достаточной стойкостью — она заставила меня возмужать. Мы остались вдвоем с матерью почти без средств, так как отец, отступая от вековой традиции своих соотечественников, ничего не откладывал, не копил. Через год взял в руки винтовку и я. Бедная мать! Она оставалась совсем одна на чужбине. В конце войны я был рамен. В год победы я пережил тяжкое горе: умерла от туберкулеза моя мать. Организм ее был уже давно подорван внутренним ее состоянием - глубоко, остро, скорбно переносила она отрыв от родной земли и уже не имела никаких сил сопротивляться страшной болезни. Смерть ее была неожиданно быстрой.
Я остался один во всем мире. Но я был молод, силен и вынослив. Зачетная студенческая книжка моя оказалась в Европе недействительной; о том, чтобы переучиться, нечего было и думать. Я перепробовал множество профессий: был шофером, грузчиком, огородником, набивщиком матрацев, плотником, конюхом, слесарем, мороженщиком, гранильщиком камней, маляром, расклейщиком афиш, ночным сторожем, инструктором гребного спорта и даже могильщиком.
Кое-как перебиваясь, я надеялся на лучшие времена, но увы… жизнь продолжала оставаться суровой и безжалостной. В конце концов я уже не мог найти никакой работы и безрезультатно обивал пороги различных предприятий и учреждений. Так я добрался и до министерства колоний и подал прошение о предоставлении мне любой работы и где угодно.
Мне пришлось ждать год, и этот год остался в памяти моей полосою сплошного голода. Я жил на чердаке полуразвалившейся гостиницы, наем которого отрабатывал натиркой полов в номерах, и бродил по улицам Парижа, пошатываясь от истощения и все стремительнее принимая облик «клошара» — босяка.
ПРОЩАЙ, ЕВРОПА!
Я уже махнул рукой на министерство колоний, как вдруг однажды вечером, вернувшись домой, нашел под дверью моего чердака плотный конверт с казенной печатью. Волнению моему не было предела, я не заснул ни на секунду и утром, приодевшись как можно тщательнее, отправился в министерство. Мой вид вызвал улыбку снисходительного сожаления у чиновника, принимавшего меня, но в те минуты мне было не до обид. Мне предлагалось место землемера-топографа в Сенегале, где начинались работы по составлению новой географической карты. Я подписывал бумагу за бумагой, уже плохо сознавая от волнения и голода, где я и что со мною, и в тот же день получил столь большую для тогдашней моей жизни сумму денег, что на улице, кажется, производил впечатление субъекта не совсем психически нормального — прохожие смотрели вслед мне, сокрушенно покачивая головами. Представьте себе положение человека, обносившегося до заплат и дыр, месяцами преследуемого запахом жареной говядины, подбирающего в предрассветный час в лабиринтах Центрального рынка капустные листья, ночующего на чердаке среди невообразимого хлама, клопов и грязи и вдруг вступающего в достойную человека жизнь! Но вот и последний вечер. Ужин в ресторане; прощание с хозяйкой, оторопевшей от головокружительной карьеры чердачного жильца, который в последние дни занял лучший номер ее жалкой гостиницы; наемная машина; встречный лёт огней в еще светлых сумерках; последние картины Парижа, темная громада вокзала, уютное купе, свисток и — тихо поплывший назад перрон… Мягкая койка. Подумать — еще несколько дней назад я мечтал о теплушке, о том, как поеду «зайцем», высажусь где-нибудь на глухой станции и пойду бродить по деревням наниматься конюхом, кузнецом, землекопом, кладбищенским сторожем!.. Я задремывал под мерный стук колес и просыпался все в новом удивлении. Что со мной, куда я еду?К ТРОПИКАМ
Рассеянно смотрел я в круглое окно иллюминатора, за которым пенилась зеленая, светло-прозрачная от солнца волна. Совершенно нечего было делать. Вокруг меня образовалась пустота, а я так привык куда-то бежать, о чем-то тревожиться. К полудню я вышел из каюты. Палуба была ярко залита солнцем. В шезлонгах расположились пассажиры. Кое-кто уже извлек из чемоданов белые колониальные шлемы, многие надели темные очки — солнце слепило. Пассажиры первого класса были по преимуществу администраторы, чиновники, врачи, коммерсанты, направлявшиеся на работу и из отпусков в Африку, иностранцы-туристы. Во время обеда я обратил внимание на совсем молодого пассажира, одетого очень скромно. В его лице читал я ту же стесненность, которую чувствовал и в себе, — стесненность за этот первый класс, кают-компанию, чопорный обед, учтивую прислугу — словом, за ту буржуазную «солидность» нашего путешествия, которая для меня граничила с роскошью. У молодого человека были светлые волосы и голубые глаза северянина, и в нерешительности его движений проскальзывало что-то уж совсем невзрослое и очень привлекательное. Вечером я вышел на освещенную палубу. Здесь, тихо переговариваясь, гуляли пассажиры, останавливались и, держась руками за поручни, пытались что-то рассмотреть в темноте. Молодой человек сидел в стороне от богатых пассажиров и с детским любопытством смотрел на гуляющих. Пароход — не авеню Елисейских Полей Парижа, и я просто подошел к нему и спросил, далеко ли он направляется. Он ответил мне с живостью и непосредственностью школьника. Видно было, что ему и самому хочется поговорить — он был одинок. Он оказался только что выпущенным агрономом и впервые ехал в Африку, на одну из опытных станций. Ехал он в глушь еще большую, чем мой Бамако. Нам предстоял совместный путь до Дакара. Мой новый знакомый был и в самом деле совсем еще молод, но, несмотря на это, уже многое пережил. Звали его Эрнест Делон. Его отец, сильный и упорный человек, был шахтер из Кале. Сын и внук шахтера, он хотел избавить своего сына от проклятого кайла и выбивался из сил, чтобы вывести детей на лучшую дорогу, дать им — сыну и дочери — образование. Эрнест учился в хорошем лицее. Отец надорвался и умер, когда юноше оставался всего год до получения диплома. Тогда мать распродала все, что было ценного в доме, и сама ушла на завод, чтобы все-таки тянуть детей дальше. В условиях Франции это было решение, которое можно назвать героическим. Эрнест успешно окончил лицей и поступил в высшую сельскохозяйственную школу. Уже с первого курса он не только стал на собственные ноги, но и ухитрялся отрывать часть своих скудных заработков для матери и сестры. День он проводил в институте, а после занятий и краткого отдыха до рассвета работал сначала грузчиком на Центральном рынке, потом ночным шофером такси, потом в ночной охране торговых складов. В нынешнем году он окончил институт и выбрал назначение в Африку только потому, что там заработок служащих значительно выше, чем в метрополии. Сестра его еще училась в средней школе. Он был бодр, по-детски счастлив и будущее свое рисовал себе совершенно по майнридовским книгам. Я смотрел на его сильно потертый пиджачок и на стоптанные ботинки, так не соответствовавшие восторженному выражению его лада. Он ехал совсем без вещей — почти все деньги, полученные им на обмундирование и необходимые расходы, он оставил семье. Он показал мне карточку пожилой суровой женщины со скорбными складками у рта, тщетно пытавшейся улыбнуться перед объективом, и хорошенькой смеющейся девушки, стоящей за ее спиной, и стал мне как-то еще ближе своей искренностью, доверчивостью и открытой, чудесной улыбкой. Мы решили переписываться. За Гибралтаром резко переменилась погода: стало жарко и ослепительно светло. Замелькали белые пиджаки и полотняные туфли. На третий день, проснувшись, я почувствовал неподвижность вечно дрожавших стен и непривычную тишину. Я выбежал на палубу — пароход стоял на рейде в совершенно зеркальной воде, а впереди белыми стенами раскидывался Танжер. Времени оставалось уже немного: мы пришли ночью, но все же я и мой новый приятель прыгнули в катерок и часа два с наслаждением бродили по тяжелой неподвижной земле, на которой нас с первых шагов еще качало. Следующей остановкой была Касабланка. Пароход стоял здесь почти сутки, и мы вдоволь наслаждались экскурсиями, которыми прельщают пассажиров бесчисленные проводники здесь же, на пристани. Мы осматривали величественное мавританское здание почты, султанский дворец, его сад и огромные цветники, где в хаотической пестроте переплеталась богатейшая растительность самых разнообразных видов.
Последняя остановка, Лас-Пальмас, на Канарских островах, была тоже довольно долгой, и вдвоем мы бродили по жарким улицам этого типично испанского городка. За городом встают горы. И я уговорил моего друга прокатиться к их вершинам — обычная здешняя прогулка. В тихий вечер ехали мы по каменистому плоскогорью, и тут впервые пахнуло на меня экзотикой подлинного юга: по плоскогорью бесконечно тянулись плантации банановых деревьев, круглились на розовеющем небе темно-зеленые складчатые ленты их огромных листьев, сухо и мертвенно шелестели. Позже в моих поездках в Европу не раз я заезжал в Лас-Пальмас.
Но вот и последний переход. Море сонное, пассажиры разошлись по каютам, наступила тишина, молчали и мы с Эрнестом. Приближалась наша разлука.
Шум и суета Дакара. В последний раз оглянулись мы на наш пароход и тронулись наверх, в город.
Сложное и в общем тяжелое впечатление производит этот крупный центр побережья. Его главная часть — как бы подчеркнуто европейская: с большими магазинами, банками, зданиями правительственных учреждений, гостиницами и частными виллами. Но чем ближе к окраинам, тем резче видишь контраст между кричащей, вызывающей, кичащейся роскошью и унылой нищетой. Здесь тянутся жалкие постройки, перемежающиеся уже типично тропическими негритянскими «кажами». Вы знаете, как строится негритянское, жилище? Оно не имеет ни фундамента, ни даже простого плетня — остова обычной мазанки. Из «банко» — глины — вылепливаются руками большие грубые шары, и прямо из них, несколько сплющенных от давления, возводятся стены постройки в одну комнату и с единственной дверью. Вместо же потолка, а одновременно и крыши кладется низкий конический диск из соломы либо два ряда тонких кольев — один в клетку над другим. И на них набрасываются те же глиняные шары. Внутри кажи темно, душно и зловонно от тряпья и грязи; иногда там возвышается подобие нар, но чаще люди спят просто на полу, на подстилке из травы. От крыши этого первобытного сооружения обычно тянется навес, под которым расположены кухня и все несложное хозяйство негритянской семьи. Тут же стоит и небольшой загон для скота, если, конечно, есть скот.
В Дакаре несколько тысяч европейцев, но некоторую часть муниципальной и полицейской служб несут и негры, — считается, что здесь, в кантоне Уало, они имеют полные права французского гражданства. Это, конечно, комедия, показная «демократия», но все же небольшой процент особо «благонадежных» иегров действительно допущен в правительственный аппарат.
Шумная негритянская толпа текла по улицам, одетая в европейское дешевое платье и в пестрые туземные «бубу» — длинные халаты из бумажной материи, очень удобные в жару. Улицы, суживаясь, шли к окраинам, где стояли смрад, пыль и грязь; худые собаки, напоминавшие шакалов, урча, рвали рыбьи и куриные кишки, и тучи мух вились над ларьками, на которые жадно смотрела, глотая слюну, голая черная детвора.
Через два дня мои друг уезжал. Мы прощались горячо, с юношеским волнением. Мне пришлось задержаться в Дакаре еще на сутки, и почти весь день провел я на берегу океана. Из глубин Африки несло сухим зноем.
Что ждет меня в этой огненной печи?
Опрятное купе, свистки, альтовый гудок паровоза, стук колес… Несколько часов сидел я у окна, любуясь невиданным пейзажем. Передо мной возвышались две стены сплошных пальмовых насаждений самых разнообразных, неведомых мне пород. А за пальмами начался лес баобабов. Деревья-гиганты тянулись бесконечно, почти всю тысячу километров пути. И эти однообразные огромные тени постепенно поселили во мне странное и причудливое ощущение, будто мы двигаемся по коридорам подводного сказочного царства. Когда миновали город Кай, начался скалистый район. И здесь пассажиры любовались зрелищем бесконечного обезьяньего рассадника. Это были по преимуществу павианы — собачьеголовые, проворные, сильные и довольно крупные звери. Они бежали за поездом, который шел быстро. Они напрягались изо всех сил, и мы обгоняли все новых и новых четвероногих спортсменов. Мне казалось, что их лица, обращенные к нам, смеются, что они очень довольны своей странной забавой.
Я ехал около двух суток. Последние этапы этого путешествия остались в памяти моей лишь отдельными картинами: я уже изнывал от жары, которую не рассеивал обманчивый знойный сквозняк поезда.
За Гибралтаром резко переменилась погода: стало жарко и ослепительно светло. Замелькали белые пиджаки и полотняные туфли. На третий день, проснувшись, я почувствовал неподвижность вечно дрожавших стен и непривычную тишину. Я выбежал на палубу — пароход стоял на рейде в совершенно зеркальной воде, а впереди белыми стенами раскидывался Танжер. Времени оставалось уже немного: мы пришли ночью, но все же я и мой новый приятель прыгнули в катерок и часа два с наслаждением бродили по тяжелой неподвижной земле, на которой нас с первых шагов еще качало. Следующей остановкой была Касабланка. Пароход стоял здесь почти сутки, и мы вдоволь наслаждались экскурсиями, которыми прельщают пассажиров бесчисленные проводники здесь же, на пристани. Мы осматривали величественное мавританское здание почты, султанский дворец, его сад и огромные цветники, где в хаотической пестроте переплеталась богатейшая растительность самых разнообразных видов.
Последняя остановка, Лас-Пальмас, на Канарских островах, была тоже довольно долгой, и вдвоем мы бродили по жарким улицам этого типично испанского городка. За городом встают горы. И я уговорил моего друга прокатиться к их вершинам — обычная здешняя прогулка. В тихий вечер ехали мы по каменистому плоскогорью, и тут впервые пахнуло на меня экзотикой подлинного юга: по плоскогорью бесконечно тянулись плантации банановых деревьев, круглились на розовеющем небе темно-зеленые складчатые ленты их огромных листьев, сухо и мертвенно шелестели. Позже в моих поездках в Европу не раз я заезжал в Лас-Пальмас.
Но вот и последний переход. Море сонное, пассажиры разошлись по каютам, наступила тишина, молчали и мы с Эрнестом. Приближалась наша разлука.
Шум и суета Дакара. В последний раз оглянулись мы на наш пароход и тронулись наверх, в город.
Сложное и в общем тяжелое впечатление производит этот крупный центр побережья. Его главная часть — как бы подчеркнуто европейская: с большими магазинами, банками, зданиями правительственных учреждений, гостиницами и частными виллами. Но чем ближе к окраинам, тем резче видишь контраст между кричащей, вызывающей, кичащейся роскошью и унылой нищетой. Здесь тянутся жалкие постройки, перемежающиеся уже типично тропическими негритянскими «кажами». Вы знаете, как строится негритянское, жилище? Оно не имеет ни фундамента, ни даже простого плетня — остова обычной мазанки. Из «банко» — глины — вылепливаются руками большие грубые шары, и прямо из них, несколько сплющенных от давления, возводятся стены постройки в одну комнату и с единственной дверью. Вместо же потолка, а одновременно и крыши кладется низкий конический диск из соломы либо два ряда тонких кольев — один в клетку над другим. И на них набрасываются те же глиняные шары. Внутри кажи темно, душно и зловонно от тряпья и грязи; иногда там возвышается подобие нар, но чаще люди спят просто на полу, на подстилке из травы. От крыши этого первобытного сооружения обычно тянется навес, под которым расположены кухня и все несложное хозяйство негритянской семьи. Тут же стоит и небольшой загон для скота, если, конечно, есть скот.
В Дакаре несколько тысяч европейцев, но некоторую часть муниципальной и полицейской служб несут и негры, — считается, что здесь, в кантоне Уало, они имеют полные права французского гражданства. Это, конечно, комедия, показная «демократия», но все же небольшой процент особо «благонадежных» иегров действительно допущен в правительственный аппарат.
Шумная негритянская толпа текла по улицам, одетая в европейское дешевое платье и в пестрые туземные «бубу» — длинные халаты из бумажной материи, очень удобные в жару. Улицы, суживаясь, шли к окраинам, где стояли смрад, пыль и грязь; худые собаки, напоминавшие шакалов, урча, рвали рыбьи и куриные кишки, и тучи мух вились над ларьками, на которые жадно смотрела, глотая слюну, голая черная детвора.
Через два дня мои друг уезжал. Мы прощались горячо, с юношеским волнением. Мне пришлось задержаться в Дакаре еще на сутки, и почти весь день провел я на берегу океана. Из глубин Африки несло сухим зноем.
Что ждет меня в этой огненной печи?
Опрятное купе, свистки, альтовый гудок паровоза, стук колес… Несколько часов сидел я у окна, любуясь невиданным пейзажем. Передо мной возвышались две стены сплошных пальмовых насаждений самых разнообразных, неведомых мне пород. А за пальмами начался лес баобабов. Деревья-гиганты тянулись бесконечно, почти всю тысячу километров пути. И эти однообразные огромные тени постепенно поселили во мне странное и причудливое ощущение, будто мы двигаемся по коридорам подводного сказочного царства. Когда миновали город Кай, начался скалистый район. И здесь пассажиры любовались зрелищем бесконечного обезьяньего рассадника. Это были по преимуществу павианы — собачьеголовые, проворные, сильные и довольно крупные звери. Они бежали за поездом, который шел быстро. Они напрягались изо всех сил, и мы обгоняли все новых и новых четвероногих спортсменов. Мне казалось, что их лица, обращенные к нам, смеются, что они очень довольны своей странной забавой.
Я ехал около двух суток. Последние этапы этого путешествия остались в памяти моей лишь отдельными картинами: я уже изнывал от жары, которую не рассеивал обманчивый знойный сквозняк поезда.
ЧЕРНЫЕ ФАНТАСТЫ
Наконец я высадился в Бамако — пункте моего назначения. Здесь находилась техническо-административная база нашей компании. Французы жили в этом туземном городке отдельно. Во главе базы стоял отставной военный, шумный человек в широких «шортах» — коротких, до колен, штанах песочного цвета и с мускулистой, заросшей волосами грудью, пьяница и большой, как я узнал впоследствии, ловкач. Меня встретили с той невнимательной приветливостью и чрезмерным гостеприимством, которые царят между «своими» в колониях. Ждали еще новых топографов. Через несколько дней я был направлен с самостоятельной задачей за четыреста километров от базы, в глубинах бруссы [48]. Со мной двинулся небольшой отряд опытных рабочих — негров, который должен был быть пополнен на месте. Я тяжело переносил страшный тропический зной, но, странно, сидя еще недавно на берегу океана в Дакаре, я ждал гораздо худшего. Я изнывал от жары, у меня кружилась голова и по временам все текло перед глазами, но, вероятно, менялся, приспосабливаясь, и ритм крови, и я вскоре почувствовал подъем, бодрость и желание работать. Отправляясь в дебри Черного материка, я, конечно, готов был ко всяческим лишениям, опасностям и болезням.
Между тем, покачиваясь по колдобинам и буграм скверной дороги, шли наши три грузовика с инструментами, запасом продовольствия и рабочими. Моим помощником, переводчиком и начальником бригады был назначен сухопарый пожилой негр со сметанно-седой курчавящейся бородкой, волосами как бы в густом мыле и звучным именем «Цезарь», прекрасно говоривший по-французски и искренне и горячо преданный делу.
— Не просто Цезарь, а Кай Юлий Цезарь! — не без гордости пояснил он мае при знакомстве.
Я заинтересовался столь странным для негра именем и узнал любопытную историю. По колониальным районам во множестве разбросаны католические религиозные миссии, которые ведут упорную «просветительную» работу. Вместе с житиями святых миссионеры рассказывают неграм и некоторые крупные эпизоды мировой истории. Негров не трогают рассказы о мучениках, страстотерпцах и подвижниках; зато с детским упоением слушают они рассказы о походах, завоеваниях, приключениях, доблести, славе. И вот в погоне за черными душами, чтобы оторвать их от мусульманства или языческого многобожия, дотошные служители алтаря, делая поправку на особенности новой паствы, охотно дают неграм при крещении имена исторических персонажей. Таким образом, в глубинах Африки немало можно встретить Неронов, Архимедов и Наполеонов Бонапартов.
Мы ехали уже больше двух суток, двигаясь только по утрам и вечерам и пережидая полуденный зной в тени. На ночь разбивали палатки, разводили костры и выставляли часовых к машине, на которой я вез теодолит, нивелир, вешки, реи, цепи и прочие геодезические инструменты. Это начало новой жизни меня увлекало.
Наконец показался негритянский городок — вернее, большое село, и дальше дорога обрывалась. Несколько в стороне стояла мечеть, построенная из тех же шарообразных кусков глины. Она поднимала три купола, из которых средний был выше баковых. И кривизна куполов блестела тем влажно-тусклым серовато-коричневым глянцем, которым блестят отправляемые хозяйкой в печь ржаные хлебы. На шпилях мечети нанизаны были по три полых страусовых яйца с хвостами из тонких полосок малиновой кожи. Эти постройки, похожие на жилища термитов, были грубы и живописны.
В мечеть шли черные «правоверные». Мужчины были опоясаны кусками материи вокруг бедер. Женщины, чаще всего, в пестрых бумажных халатах; впрочем, одежду многих из них составляли такие же пояски, что и у мужчин. В этой толпе отдельно держалась шумная группа девушек тринадцати-четырнадцатилетнего возраста. Они, пошептавшись, стайкой устремились к нам и, присев и хлопая в ладоши, что-то лепеча и в веселом смехе сверкая белизной маленьких прекрасных зубов, бесцеремонно рассматривали нас и наши машины.
— Марш отсюда, мелюзга! — тоже смеясь, махнул в сторону девушек мой черный помощник.
И они, что-то весело крикнув ему в ответ, той же птичьей стайкойстремительно от нас умчались.
Здесь мы отдохнули, наняли недостающих рабочих, расстались с машинами, которые отправились обратно на базу, и уже пешком по целине, с вьюками на палках, перекинутых от плеча к плечу, двинулись дальше. В тридцати километрах отсюда находилась исходная точка моей первой экспедиции.
Странная, причудливая и неустойчивая была моя жизнь в эти первые месяцы самостоятельной работы. Я волновался до крайности. Конечно, работа топографа не весьма великая премудрость для студента высшей школы, да и были у меня подробнейшие инструкции по ходу работы, но все же я боялся, что многое забыл за годы войны и голодных скитаний. С тех пор по лесам, степям и болотам Сенегала и Гвинеи я прошел с теодолитом три тысячи километров, что — уверяю вас! — совсем не мало по условиям работы, но те первые дни школьного волнения и страха навсегда останутся в моей памяти. На мне лежала задача составления географической карты, казавшаяся мне чрезвычайно ответственной. А кругом — степь, чистая, плоская, унылая, лишь кое-где не зеленеющая, а темнеющая, скорее даже — чернеющая зарослями бруссы, лежала вокруг меня на сотни километров. И был я на этом диком краю света один с несколькими десятками непонятных мне людей.
Жара изнуряла меня, и видения тех дней встают передо мной сквозь некий дремотный туман. Я переносил на ногах род утомительной болезни, связанной с перестройкой организма. Это было странное состояние не малярийного бреда, но чего-то схожего с ним, когда картины яви перемежаются видениями почти горячечного сна, излучениями воспаленного жарою мозга. Только что покинув холодную европейскую осень, туманную слякоть парижских ночей, я попал под отвесное пламя солнца. Едва бросишься, бывало, голый на койку, как уже мокрые простыни и жгут и липнут к телу, и не находишь себе места. Выпьешь литр воды, а через две-три минуты она вся выходит потом, и если бы его собрать, то это и был бы тот же литр. Бродишь в темной тупости, осовелый, истаивающий, и только под утро забудешься сном. Но уже на рассвете нужно вскакивать самому и поднимать людей, нужно дорожить каждой минутой работы, пока солнце еще не накалило землю. К десяти часам приходилось складывать инструменты: земля начинала излучать тепло, в окуляр трубы уже ничего не было видно из-за мерцающего воздуха, и какая фантастическая картина открывалась тогда по горизонту, как все дрожало, плавилось, зыбилось, текло жидким хрусталем, меняло контуры, смещало знакомые перспективы, совершенно преображало местность!
Через месяц я несколько успокоился, благополучно перенеся период приспособления, у многих очень болезненный. Мне все больше нравилась моя работа. Я спешил, делал промеры, наносил кроки, сидел по ночам за чертежами, съедаемый безжалостной мошкарой, хотел сделать работу как можно точнее и скорее, выполнить задачу на самую высокую отметку. Лишь много позже я понял, что белые в колониях живут просто для заработков, ищут способов заработанные деньги всячески увеличить на месте и никак не торопятся с работой, всякое усердие к которой вызывает в лучшем случае лишь снисходительную усмешку начальника.
Как я жил? Ну конечно, на взгляд европейского буржуа, почти жизнью Робинзона. Большая палатка, внутри нее складная койка, стол, складные же табуретки и даже полка с книгами. Рядом с палаткой под навесом была устроена кухня. И тут все время шел веселый щебет, смех и крики — на вольном воздухе жила постепенно образовавшаяся моя семья: игрушечно-маленькая антилопа, прирученная обезьяна и два говорливых попугая. Обезьянка, которую часто приходилось сажать на веревку за непоседливость и проказы, была очень «хозяйственна» и хитра и частенько, улучив минуту, схватывала какую-нибудь консервную банку, вилку, сковородку, солонку и вихрем мчалась в заросли. Мы потом находили все «украденное» аккуратно развешанным на ветвях невысокого деревца километрах в трех от стоянки. Раз она утащила мою каску. И мне принесли ее доверху набитой орехами — домовитой «хозяйке» просто нужна была посуда. Антилопа ходила за мной в хвост, терлась о ногу и требовала внимания. Голый мальчуган, состоявший в должности курьера, состязался с обезьянкой в ловкости и проказах. И все этой целый день трещало, свистело, кричало и пересмеивалось под стеной палатки.
А вообще говоря, больших фантазеров, чем негры, я не знаю. Сразу же и сами собой установились у меня с ними самые хорошие отношения. Эти смеющиеся выдумщики, наивные хитрецы и романтические любители всего необычайного подкупали меня своей большой внутренней чистотой, каким-то действительно солнечным весельем и той жаждой общаться с окружающими, открывать им свой внутренний мир, которая граничит с родниками поэзия.
Случалось, что пропадет на работе какая-нибудь необходимая мелочь. Прикажешь искать и найти ее во что бы то ни стало и сам ищешь, досадуешь, теряешь время. И вот наконец находится пропавшая вещь, а нашедший ее начинает рассказывать такую сложную и фантастическую историю о том, как поднялся огромный смерч и унес злосчастную деталь в небо, как герой отважно бросился за нею, как переплывал реки, отбивался от крокодилов и львов, был ранен, мучился голодом и жаждой и в конце концов нашел пропажу в глубокой пещере на дне оврага в ста километрах отсюда… Достойная Гомера героическая эпопея! Слушаешь, слушаешь (и уж какая там злость! — рассмеешься), а если есть время, то и попросишь повторить рассказ, и дивишься неистощимости в выдумке вариантов, фантастике, необыкновенной живости образов и жалеешь только об одном — что ты не писатель; какие чудесные сказки родят когда-нибудь для наших детей дебри Черного материка!
В каждой негритянской деревне есть свой клуб. На площади посреди поселка высится чуть ли не тысячелетняя смоковница с десятками стволов, и под нею подолгу сидят любители посудачить, рассказать и послушать. И ни на минуту не прерывается оживленнейшая дискуссия, в которой темы меняются беспрестанно и неожиданно, как узоры калейдоскопа. И какой вдохновенной, тут же рождающейся фантастики не наслушаешься на этих «посиделках»!..
Но, конечно, не надо думать, что негр вечно сидит под смоковницей или пляшет вокруг костра под бой «там-тамов». Праздничной забаве предается он в дни отдыха или после удачной охоты, что бывает не столь уж часто. Негр каторжно трудится на своем клочке земли, буквально поливая его потом. Его земледельческие орудия примитивны — мотыга, лопата, иногда просто заостренный кол и редко — некое подобие сохи, которое, надрываясь, тянет он на себе и которое направляет его жена или кто-нибудь из детей. Негр должен платить налоги за себя, жену и детей. Негра хватают и отправляют на «общественные работы»: на постройку дорог, плотин, мостов, осушение болот, причем, почти как правило, не платят ему ни сантима. Негр вечно голоден; смерть от голода здесь частое явление, и песни негров полны жалоб и просьб о хлебе.
Как-то во время обеденного перерыва я отправился в «столовую» наших рабочих. Из вмазанного в глиняную печь большого котла повар разливал суп из «миль» — проса с кусочками консервированного мяса — в цинковые бачки на пять человек каждый. Негры сидели на пятках вокруг бачков и грубо долбленными деревянными ложками ели горячую похлебку, заедая ее галетами с таким аппетитом, что некоторые от удовольствия жмурились и покручивали курчавыми своими головами. Один из негров, уже немолодой, подошел к повару с жестянкой из-под консервов, и тот выдал ему его порцию. Негр внимательно посмотрел на обедавших, и в глазах его мне почудилось смешение многих чувств, из которых наиболее отчетливым была грусть. Он не сел рядом со своими товарищами, а направился к кустам неподалеку. Меня это заинтересовало, и я подошел к нему. Негр, уже работавший у белых, увидев меня, вскочил и вытянулся по-военному. Банка, прикрытая травой, стояла под кустом. Я спросил рабочего: не болен ли он и почему не ест?
Он не понял меня — я еще плохо владел языком. Я позвал Цезаря. И тот с горячностью начал убеждать меня, что его подчиненный не делает ничего дурного. Я ответил, что и не сомневаюсь в этом, но почему все-таки негр не ест? Цезарь с той же проникновенностью стал заверять меня, что вечером негр непременно будет есть, что он не ослабеет и будет работать не хуже, чем остальные. Я засмеялся и ответил Цезарю и рабочему, что совершенно верю им обоим, но что меня заинтересовало поведение негра. И тогда, уверившись, что ему действительно ничего не грозит, негр рассказал, что уже четвертый день он дневную свою порцию еды отдает одной бедной семье в поселке неподалеку от места нашей стоянки.
После работы, набив карманы галетами и консервами, я вместе с Цезарем и рабочим отправился в селение из нескольких дворов, километрах в пяти от лагеря. Быстро стемнело. При свете больших звезд я различил низкий силуэт окраинной кажи. Негр откинул травяной полог. И меня сильно обдало тяжелым, зловонным воздухом. Я нажал пуговку электрического фонарика — и к глиняной стене с криком испуга метнулась худая женщина с изможденным лицом. Я с трудом ее успокоил. На полу, на грязном тряпье, лежали три большеглазых детских скелета. Они молча и неподвижно на нас смотрели. Цезарь рассказал, что месяц назад глава семьи ушел в город, чтобы отправиться с товарищами на рыбную ловлю. Он должен был вернуться через четыре-пять дней, но до сих пор его нет. Что с ним? Его мог сожрать крокодил, ужалить змея, убить пантера, захватить белые… В доме давно съедены последние жалкие запасы еды.
Женщина была так слаба от истощения, что еле передвигалась. Мои спутники быстро разожгли во дворе костер и приготовили ужин. Дета ели вяло, как ни понуждала их мать, — они были уже, по-видимому, на грани голодной смерти и только потом немного оживились. Они никогда не видали сахару, глядели на меня и на белые квадратики с опаской, и лишь добрый смех Цезаря, гладившего их по курчавым головенкам, сделал их более доверчивыми, заставил отведать незнакомого лакомства.
Много тяжелого, горестного и несправедливого видел я на земле Черного материка. Вся современная нам история негров — это история сплошных бедствий, голода, всяческих лишений, жесточайшего гнета, рабского труда, чудовищной эксплуатации, невиданного, невообразимого насилия…
Здесь же, на этом начальном этапе работы, пережил я и первый «торнадо» — бурю с ливнем. Я не знаю ничего более страшного, зловещего, потрясающего. Представьте себе в знойный, совершенно ослепительный день где-то на горизонте появившуюся свинцовую полосу, которая с неумолимой неуклонностью растет, поднимается, ширится, уже захватывает треть неба и медленно идет на вас.
Я стоял оцепенелый. Сияло солнце, и в его ослепительном разливе двигалась тяжкая чугунная стена, и, отступая перед нею, отчаянно метались и кричали тысячи птиц.
Через полчаса стена надвинулась на лагерь, закрыла солнце. И я очутился в воде, изрыгаемой небесами с такой яростно бушующей силой, что я уже не сомневался в своей гибели. Молнии были не наши, северные, они не ослепляли отдельными вспышками, но пылали неустанно серебряным, голубым и розовым огнем. Через час стена ушла, а через три вновь была суха земля, и только несколько шире стали мелкие озерца необыкновенно чистой воды, где в колдовской зачарованности стояли на одной ноге чибисы, фламинго, журавли и прочие любители полакомиться рыбой.
Через несколько дней я был направлен с самостоятельной задачей за четыреста километров от базы, в глубинах бруссы [48]. Со мной двинулся небольшой отряд опытных рабочих — негров, который должен был быть пополнен на месте. Я тяжело переносил страшный тропический зной, но, странно, сидя еще недавно на берегу океана в Дакаре, я ждал гораздо худшего. Я изнывал от жары, у меня кружилась голова и по временам все текло перед глазами, но, вероятно, менялся, приспосабливаясь, и ритм крови, и я вскоре почувствовал подъем, бодрость и желание работать. Отправляясь в дебри Черного материка, я, конечно, готов был ко всяческим лишениям, опасностям и болезням.
Между тем, покачиваясь по колдобинам и буграм скверной дороги, шли наши три грузовика с инструментами, запасом продовольствия и рабочими. Моим помощником, переводчиком и начальником бригады был назначен сухопарый пожилой негр со сметанно-седой курчавящейся бородкой, волосами как бы в густом мыле и звучным именем «Цезарь», прекрасно говоривший по-французски и искренне и горячо преданный делу.
— Не просто Цезарь, а Кай Юлий Цезарь! — не без гордости пояснил он мае при знакомстве.
Я заинтересовался столь странным для негра именем и узнал любопытную историю. По колониальным районам во множестве разбросаны католические религиозные миссии, которые ведут упорную «просветительную» работу. Вместе с житиями святых миссионеры рассказывают неграм и некоторые крупные эпизоды мировой истории. Негров не трогают рассказы о мучениках, страстотерпцах и подвижниках; зато с детским упоением слушают они рассказы о походах, завоеваниях, приключениях, доблести, славе. И вот в погоне за черными душами, чтобы оторвать их от мусульманства или языческого многобожия, дотошные служители алтаря, делая поправку на особенности новой паствы, охотно дают неграм при крещении имена исторических персонажей. Таким образом, в глубинах Африки немало можно встретить Неронов, Архимедов и Наполеонов Бонапартов.
Мы ехали уже больше двух суток, двигаясь только по утрам и вечерам и пережидая полуденный зной в тени. На ночь разбивали палатки, разводили костры и выставляли часовых к машине, на которой я вез теодолит, нивелир, вешки, реи, цепи и прочие геодезические инструменты. Это начало новой жизни меня увлекало.
Наконец показался негритянский городок — вернее, большое село, и дальше дорога обрывалась. Несколько в стороне стояла мечеть, построенная из тех же шарообразных кусков глины. Она поднимала три купола, из которых средний был выше баковых. И кривизна куполов блестела тем влажно-тусклым серовато-коричневым глянцем, которым блестят отправляемые хозяйкой в печь ржаные хлебы. На шпилях мечети нанизаны были по три полых страусовых яйца с хвостами из тонких полосок малиновой кожи. Эти постройки, похожие на жилища термитов, были грубы и живописны.
В мечеть шли черные «правоверные». Мужчины были опоясаны кусками материи вокруг бедер. Женщины, чаще всего, в пестрых бумажных халатах; впрочем, одежду многих из них составляли такие же пояски, что и у мужчин. В этой толпе отдельно держалась шумная группа девушек тринадцати-четырнадцатилетнего возраста. Они, пошептавшись, стайкой устремились к нам и, присев и хлопая в ладоши, что-то лепеча и в веселом смехе сверкая белизной маленьких прекрасных зубов, бесцеремонно рассматривали нас и наши машины.
— Марш отсюда, мелюзга! — тоже смеясь, махнул в сторону девушек мой черный помощник.
И они, что-то весело крикнув ему в ответ, той же птичьей стайкойстремительно от нас умчались.
Здесь мы отдохнули, наняли недостающих рабочих, расстались с машинами, которые отправились обратно на базу, и уже пешком по целине, с вьюками на палках, перекинутых от плеча к плечу, двинулись дальше. В тридцати километрах отсюда находилась исходная точка моей первой экспедиции.
Странная, причудливая и неустойчивая была моя жизнь в эти первые месяцы самостоятельной работы. Я волновался до крайности. Конечно, работа топографа не весьма великая премудрость для студента высшей школы, да и были у меня подробнейшие инструкции по ходу работы, но все же я боялся, что многое забыл за годы войны и голодных скитаний. С тех пор по лесам, степям и болотам Сенегала и Гвинеи я прошел с теодолитом три тысячи километров, что — уверяю вас! — совсем не мало по условиям работы, но те первые дни школьного волнения и страха навсегда останутся в моей памяти. На мне лежала задача составления географической карты, казавшаяся мне чрезвычайно ответственной. А кругом — степь, чистая, плоская, унылая, лишь кое-где не зеленеющая, а темнеющая, скорее даже — чернеющая зарослями бруссы, лежала вокруг меня на сотни километров. И был я на этом диком краю света один с несколькими десятками непонятных мне людей.
Жара изнуряла меня, и видения тех дней встают передо мной сквозь некий дремотный туман. Я переносил на ногах род утомительной болезни, связанной с перестройкой организма. Это было странное состояние не малярийного бреда, но чего-то схожего с ним, когда картины яви перемежаются видениями почти горячечного сна, излучениями воспаленного жарою мозга. Только что покинув холодную европейскую осень, туманную слякоть парижских ночей, я попал под отвесное пламя солнца. Едва бросишься, бывало, голый на койку, как уже мокрые простыни и жгут и липнут к телу, и не находишь себе места. Выпьешь литр воды, а через две-три минуты она вся выходит потом, и если бы его собрать, то это и был бы тот же литр. Бродишь в темной тупости, осовелый, истаивающий, и только под утро забудешься сном. Но уже на рассвете нужно вскакивать самому и поднимать людей, нужно дорожить каждой минутой работы, пока солнце еще не накалило землю. К десяти часам приходилось складывать инструменты: земля начинала излучать тепло, в окуляр трубы уже ничего не было видно из-за мерцающего воздуха, и какая фантастическая картина открывалась тогда по горизонту, как все дрожало, плавилось, зыбилось, текло жидким хрусталем, меняло контуры, смещало знакомые перспективы, совершенно преображало местность!
Через месяц я несколько успокоился, благополучно перенеся период приспособления, у многих очень болезненный. Мне все больше нравилась моя работа. Я спешил, делал промеры, наносил кроки, сидел по ночам за чертежами, съедаемый безжалостной мошкарой, хотел сделать работу как можно точнее и скорее, выполнить задачу на самую высокую отметку. Лишь много позже я понял, что белые в колониях живут просто для заработков, ищут способов заработанные деньги всячески увеличить на месте и никак не торопятся с работой, всякое усердие к которой вызывает в лучшем случае лишь снисходительную усмешку начальника.
Как я жил? Ну конечно, на взгляд европейского буржуа, почти жизнью Робинзона. Большая палатка, внутри нее складная койка, стол, складные же табуретки и даже полка с книгами. Рядом с палаткой под навесом была устроена кухня. И тут все время шел веселый щебет, смех и крики — на вольном воздухе жила постепенно образовавшаяся моя семья: игрушечно-маленькая антилопа, прирученная обезьяна и два говорливых попугая. Обезьянка, которую часто приходилось сажать на веревку за непоседливость и проказы, была очень «хозяйственна» и хитра и частенько, улучив минуту, схватывала какую-нибудь консервную банку, вилку, сковородку, солонку и вихрем мчалась в заросли. Мы потом находили все «украденное» аккуратно развешанным на ветвях невысокого деревца километрах в трех от стоянки. Раз она утащила мою каску. И мне принесли ее доверху набитой орехами — домовитой «хозяйке» просто нужна была посуда. Антилопа ходила за мной в хвост, терлась о ногу и требовала внимания. Голый мальчуган, состоявший в должности курьера, состязался с обезьянкой в ловкости и проказах. И все этой целый день трещало, свистело, кричало и пересмеивалось под стеной палатки.
А вообще говоря, больших фантазеров, чем негры, я не знаю. Сразу же и сами собой установились у меня с ними самые хорошие отношения. Эти смеющиеся выдумщики, наивные хитрецы и романтические любители всего необычайного подкупали меня своей большой внутренней чистотой, каким-то действительно солнечным весельем и той жаждой общаться с окружающими, открывать им свой внутренний мир, которая граничит с родниками поэзия.
Случалось, что пропадет на работе какая-нибудь необходимая мелочь. Прикажешь искать и найти ее во что бы то ни стало и сам ищешь, досадуешь, теряешь время. И вот наконец находится пропавшая вещь, а нашедший ее начинает рассказывать такую сложную и фантастическую историю о том, как поднялся огромный смерч и унес злосчастную деталь в небо, как герой отважно бросился за нею, как переплывал реки, отбивался от крокодилов и львов, был ранен, мучился голодом и жаждой и в конце концов нашел пропажу в глубокой пещере на дне оврага в ста километрах отсюда… Достойная Гомера героическая эпопея! Слушаешь, слушаешь (и уж какая там злость! — рассмеешься), а если есть время, то и попросишь повторить рассказ, и дивишься неистощимости в выдумке вариантов, фантастике, необыкновенной живости образов и жалеешь только об одном — что ты не писатель; какие чудесные сказки родят когда-нибудь для наших детей дебри Черного материка!
В каждой негритянской деревне есть свой клуб. На площади посреди поселка высится чуть ли не тысячелетняя смоковница с десятками стволов, и под нею подолгу сидят любители посудачить, рассказать и послушать. И ни на минуту не прерывается оживленнейшая дискуссия, в которой темы меняются беспрестанно и неожиданно, как узоры калейдоскопа. И какой вдохновенной, тут же рождающейся фантастики не наслушаешься на этих «посиделках»!..
Но, конечно, не надо думать, что негр вечно сидит под смоковницей или пляшет вокруг костра под бой «там-тамов». Праздничной забаве предается он в дни отдыха или после удачной охоты, что бывает не столь уж часто. Негр каторжно трудится на своем клочке земли, буквально поливая его потом. Его земледельческие орудия примитивны — мотыга, лопата, иногда просто заостренный кол и редко — некое подобие сохи, которое, надрываясь, тянет он на себе и которое направляет его жена или кто-нибудь из детей. Негр должен платить налоги за себя, жену и детей. Негра хватают и отправляют на «общественные работы»: на постройку дорог, плотин, мостов, осушение болот, причем, почти как правило, не платят ему ни сантима. Негр вечно голоден; смерть от голода здесь частое явление, и песни негров полны жалоб и просьб о хлебе.
Как-то во время обеденного перерыва я отправился в «столовую» наших рабочих. Из вмазанного в глиняную печь большого котла повар разливал суп из «миль» — проса с кусочками консервированного мяса — в цинковые бачки на пять человек каждый. Негры сидели на пятках вокруг бачков и грубо долбленными деревянными ложками ели горячую похлебку, заедая ее галетами с таким аппетитом, что некоторые от удовольствия жмурились и покручивали курчавыми своими головами. Один из негров, уже немолодой, подошел к повару с жестянкой из-под консервов, и тот выдал ему его порцию. Негр внимательно посмотрел на обедавших, и в глазах его мне почудилось смешение многих чувств, из которых наиболее отчетливым была грусть. Он не сел рядом со своими товарищами, а направился к кустам неподалеку. Меня это заинтересовало, и я подошел к нему. Негр, уже работавший у белых, увидев меня, вскочил и вытянулся по-военному. Банка, прикрытая травой, стояла под кустом. Я спросил рабочего: не болен ли он и почему не ест?
Он не понял меня — я еще плохо владел языком. Я позвал Цезаря. И тот с горячностью начал убеждать меня, что его подчиненный не делает ничего дурного. Я ответил, что и не сомневаюсь в этом, но почему все-таки негр не ест? Цезарь с той же проникновенностью стал заверять меня, что вечером негр непременно будет есть, что он не ослабеет и будет работать не хуже, чем остальные. Я засмеялся и ответил Цезарю и рабочему, что совершенно верю им обоим, но что меня заинтересовало поведение негра. И тогда, уверившись, что ему действительно ничего не грозит, негр рассказал, что уже четвертый день он дневную свою порцию еды отдает одной бедной семье в поселке неподалеку от места нашей стоянки.
После работы, набив карманы галетами и консервами, я вместе с Цезарем и рабочим отправился в селение из нескольких дворов, километрах в пяти от лагеря. Быстро стемнело. При свете больших звезд я различил низкий силуэт окраинной кажи. Негр откинул травяной полог. И меня сильно обдало тяжелым, зловонным воздухом. Я нажал пуговку электрического фонарика — и к глиняной стене с криком испуга метнулась худая женщина с изможденным лицом. Я с трудом ее успокоил. На полу, на грязном тряпье, лежали три большеглазых детских скелета. Они молча и неподвижно на нас смотрели. Цезарь рассказал, что месяц назад глава семьи ушел в город, чтобы отправиться с товарищами на рыбную ловлю. Он должен был вернуться через четыре-пять дней, но до сих пор его нет. Что с ним? Его мог сожрать крокодил, ужалить змея, убить пантера, захватить белые… В доме давно съедены последние жалкие запасы еды.
Женщина была так слаба от истощения, что еле передвигалась. Мои спутники быстро разожгли во дворе костер и приготовили ужин. Дета ели вяло, как ни понуждала их мать, — они были уже, по-видимому, на грани голодной смерти и только потом немного оживились. Они никогда не видали сахару, глядели на меня и на белые квадратики с опаской, и лишь добрый смех Цезаря, гладившего их по курчавым головенкам, сделал их более доверчивыми, заставил отведать незнакомого лакомства.
Много тяжелого, горестного и несправедливого видел я на земле Черного материка. Вся современная нам история негров — это история сплошных бедствий, голода, всяческих лишений, жесточайшего гнета, рабского труда, чудовищной эксплуатации, невиданного, невообразимого насилия…
Здесь же, на этом начальном этапе работы, пережил я и первый «торнадо» — бурю с ливнем. Я не знаю ничего более страшного, зловещего, потрясающего. Представьте себе в знойный, совершенно ослепительный день где-то на горизонте появившуюся свинцовую полосу, которая с неумолимой неуклонностью растет, поднимается, ширится, уже захватывает треть неба и медленно идет на вас.
Я стоял оцепенелый. Сияло солнце, и в его ослепительном разливе двигалась тяжкая чугунная стена, и, отступая перед нею, отчаянно метались и кричали тысячи птиц.
Через полчаса стена надвинулась на лагерь, закрыла солнце. И я очутился в воде, изрыгаемой небесами с такой яростно бушующей силой, что я уже не сомневался в своей гибели. Молнии были не наши, северные, они не ослепляли отдельными вспышками, но пылали неустанно серебряным, голубым и розовым огнем. Через час стена ушла, а через три вновь была суха земля, и только несколько шире стали мелкие озерца необыкновенно чистой воды, где в колдовской зачарованности стояли на одной ноге чибисы, фламинго, журавли и прочие любители полакомиться рыбой.
ЦЕЗАРЬ
В моем отряде было человек пятьдесят-шестьдесят, но цифра эта постоянно колебалась, и подчас значительно. На трудных участках люди уходили; на смену им приходили новые, как только условия работы улучшались, а когда мы приближались к бруссе и нужно было врубаться в непроходимые заросли, отряд временно увеличивался иной раз и вдвое. Но постоянно сохранялся кадр из лучших рабочих. Я был начальник, интендант, а иногда в быту отряда приходилось быть и судьей. Следующим за мной на скромной иерархической лестнице стоял мой помощник, старший отряда, «контрометр» — бригадир Цезарь. Я уже упоминал о нем. Я никогда не забуду этого вихревого, яростного в работе негра. Сухой и жилистый, весь как стальная пружина, он был вездесущ, его в любой момент работы можно было видеть, кажется, сразу во всех концах поля. Он был предан делу до полного самоотречения; вечно озабоченный, вечно придумывающий, как им облегчить и улучшить работу, требовательный к людям и беспощадный к самому себе, готовый работать до потери всех сил. Вступающие в отряд соплеменники поначалу его побаивались, но с первого же дня работы единодушно признавали человеком справедливым. Ко мне Цезарь относился без всякого подобострастия, с достоинством и уважением, и что касалось работы, то каждое мое слово слушал он внимательно, как прилежный школьник, хотя и сам уже многое понимал в топографии, присмотревшись за долгие годы службы у белых. Но вне служебных отношений он был совсем иным — он ходил за мной как за младенцем, очевидно считая, что я по рассеянности и неопытности легко могу погибнуть, не зная всех опасностей Черного материка. Сколько ему было лет? Никто этого не мог бы определить. Необыкновенно сильный, подвижной, гибкий, отличный гимнаст, охотник, в зоркости, слухе и находчивости не уступающий героям Фенимора Купера, он был, однако, далеко не молод, и войлочно-густые его волосы в мельчайшей каракулевой завивке и курчавившаяся мелкими кольцами бородка были совершенно белы. Сам он не знал своего возраста и на вопросы о нем говорил, что начал по-настоящему считать свои годы только со встречи с белыми, которая случилась лет тридцать назад, — тогда нужно было заполнить соответствующую графу анкеты. Я думаю, что было ему много за шестьдесят. И не столкнись он с белыми, наверно, перешел бы он в категорию старейшин клуба под смоковницей, так сказать в запас, или, что, пожалуй, вероятнее, по свойствам своего горячего характера был бы избран вождем какого-нибудь небольшого племени. В первый год моей работы Цезарь несколько раз был подлинным моим спасителем. Через несколько месяцев по приезде я почувствовал, что темп работы, принятый в Европе и усвоенный мной в Париже, здесь не нужен, что дело мое требует только точности и что нет никакой необходимости в спешке. Сводки и отчеты мои отправлял я через скорохода в поселок, от которого мы всё удалялись и который находился сейчас уже километрах в двухстах от нас. Оттуда столь же неспешным порядком документы шли дальше уже по регулярным дорогам в Бамако, на базу, и точно так же, с перерывами в месяц-два, получал я ответные инструкции. Поработав неделю, я давал отдых людям и себе — и чаще всего отправлялся блуждать по необхватной выгоревшей степи с ружьем за плечами. И вот тут, забравшись куда-нибудь в глушь, километров за десять — пятнадцать от стоянки, слышал я иногда шорох и, обернувшись и вскинув ружье, видел вдруг перед собой улыбавшегося Цезаря. Он вечно боялся за меня, и, если я отказывался брать его с собою, он тайком пробирался за мною сам. Однажды на работе я стоял у теодолита. Два негра держали впереди рейку. Вдруг рабочие, бросив рейку, начали бесшумно прыгать, приседать, кивать головами, показывая руками и всем телом куда-то близ меня с видом крайнего испуга и предупреждения. В недоумении я оглянулся и буквально в пяти шагах от себя увидел огромного удава. Он лежал, свернувшись палубным канатным клубком; кожа его напряженно блестела на солнце. Я застыл, оцепенел от ужаса, не в силах не только двинуться, но и перевести дыхание — всю жизнь мою больше всего на свете я боялся именно змей. И вот в этот момент что-то мелькнуло передо мной — стремительно, как пантера, — и через секунду раздался громкий, победный визг. Это был Цезарь. Одним коротким движением он отсек голову гадине и уже в какой-то злобной забывчивости мял руками бьющееся, извивающееся туловище. — Муссиу ожурдюи бьен манже [49], - подражая жаргону своих соплеменников, сам прекрасно говоривший по-французски, смеялся он. Я бросился его благодарить. Он, все так же смеясь, сказал, что он «разыграл комедию», просто не желая упустить богатую добычу — удав был сыт, дремал и меня все равно бы не- тронул. Благодарю покорно, «не тронул бы»! Между сытостью и голодом лежит большая дистанция, но где-то именно на ней расположено еще одно понятие — «аппетит», и еще одно, которому следует в своей жизненной практике верблюд, — «на всякий случай»!
 Этот экземпляр страшной тропической гадины был исключителен по величине — три негра, каждый на расстоянии двух-трех метров один от другого несли его замершее туловище. В тот вечер у костра шло целое пиршество. Мясо некоторых змей высоко ценится неграми. Хотя я, по совести сказать, не нашел особого вкуса в куске резины, поджаренном на растительном масле. Масло это называется «кориже» и самым примитивным способом выдавливается из орехов громадного дерева, похожего на дуб.
В другой раз — уже значительно позже, когда работа на участке подходила к концу, — в день отдыха, я вышел с удочкой на каменистый островок. Добыча моя была богата — длинный кукан, уже весь занятый крупной трепещущей рыбой, оттягивал руку. Я собрался уходить домой, ступил в воду мелкого широкого рукава, сделал несколько шагов — вода доходила мне до колена, — как вдруг неподалеку, с того же берега, что-то с сильным шумом шлепнулось в воду; вода закипела, зашумела мелким камнем. Огромный крокодил спустился в воду, направляясь к противоположному берегу, куда нужно было и мне, и вдруг с прямого своего пути свернул. Нас разделяли каких-нибудь пятьдесят шагов. И вот тут что-то внезапно подняло меня на воздух и, подкидывая, помчало к берегу. Чудовище бросилось за мною. Бег был быстр, меня кидало. Я невольно искал равновесия, чтобы помочь бегущему, и чувствовал, что вот-вот съеду с плеча назад и повалю моего спасителя. Наконец диким рывком в последний момент он кинулся на песок, сбросил меня, и мы побежали. В ту же минуту зеленая бугристая броня, шумя песком, показалась на берегу за нами. Неуклюжее на суше чудище было сейчас уже не страшно. Цезарь, нервно смеясь, признался, что сидел в кустах неподалеку от меня все время, пока я удил рыбу.
Это был прекрасный человек, деликатный и добрый при своей строгой внешности, и, конечно, я буду помнить его до самого конца моих дней, куда бы ни кинула меня судьба. Бережно храню я последний его подарок мне — длинное копье. Он бил им с совершенно непонятной силой и точностью. Мне рассказывали негры моего отряда, что однажды он убил пантеру ударом в глаз, предупредив соседей, что именно так и будет бить. Воображаю, что случилось бы, если бы этого насчитывавшего седьмой десяток лет негра отправить на какие-нибудь олимпийские игры! Во всяком случае, там, в черной степи, когда на отдыхе мои черные друзья устраивали спортивные состязания, его не мог обогнать никто из молодых — он дальше всех метал копье и камень, лучше всех одолевал всяческие препятствия и быстрее всех взбирался на самую верхушку баобаба. У него были тонкие и сильные мускулы и грудь, которой позавидовал бы любой молотобоец.
У Цезаря был чудесный сильный голос и исключительный даже для негров музыкальный слух. Часто вечером я звал его к себе в палатку и просил спеть что-нибудь из песен его племени. Это пение было столь тонко, богато оттенками, печально и прекрасно, что я слушал его в совершенном изумлении. Некоторые из этих песен я записал, запомнил и иногда напеваю их и сейчас.
Не оставил меня Цезарь и в тот не забываемый мною день, когда в страхе, непонимании и протесте разбежались все участники моей экспедиции, когда, натасканные католическими миссионерами на образы христианской религии, на образы покорности «высшему началу», негры вдруг со всей силой своего темперамента отдались природным первобытным чувствам ужаса и протеста перед антихристом, чертом, черным богом, сатаной, когда во мне увидели «союзника дьявола». В ту ночь, весь дрожа от страха, вошел в мою палатку Цезарь, победив себя и готовый на все муки чертовщины ради меня и любимого им дела.
Этот экземпляр страшной тропической гадины был исключителен по величине — три негра, каждый на расстоянии двух-трех метров один от другого несли его замершее туловище. В тот вечер у костра шло целое пиршество. Мясо некоторых змей высоко ценится неграми. Хотя я, по совести сказать, не нашел особого вкуса в куске резины, поджаренном на растительном масле. Масло это называется «кориже» и самым примитивным способом выдавливается из орехов громадного дерева, похожего на дуб.
В другой раз — уже значительно позже, когда работа на участке подходила к концу, — в день отдыха, я вышел с удочкой на каменистый островок. Добыча моя была богата — длинный кукан, уже весь занятый крупной трепещущей рыбой, оттягивал руку. Я собрался уходить домой, ступил в воду мелкого широкого рукава, сделал несколько шагов — вода доходила мне до колена, — как вдруг неподалеку, с того же берега, что-то с сильным шумом шлепнулось в воду; вода закипела, зашумела мелким камнем. Огромный крокодил спустился в воду, направляясь к противоположному берегу, куда нужно было и мне, и вдруг с прямого своего пути свернул. Нас разделяли каких-нибудь пятьдесят шагов. И вот тут что-то внезапно подняло меня на воздух и, подкидывая, помчало к берегу. Чудовище бросилось за мною. Бег был быстр, меня кидало. Я невольно искал равновесия, чтобы помочь бегущему, и чувствовал, что вот-вот съеду с плеча назад и повалю моего спасителя. Наконец диким рывком в последний момент он кинулся на песок, сбросил меня, и мы побежали. В ту же минуту зеленая бугристая броня, шумя песком, показалась на берегу за нами. Неуклюжее на суше чудище было сейчас уже не страшно. Цезарь, нервно смеясь, признался, что сидел в кустах неподалеку от меня все время, пока я удил рыбу.
Это был прекрасный человек, деликатный и добрый при своей строгой внешности, и, конечно, я буду помнить его до самого конца моих дней, куда бы ни кинула меня судьба. Бережно храню я последний его подарок мне — длинное копье. Он бил им с совершенно непонятной силой и точностью. Мне рассказывали негры моего отряда, что однажды он убил пантеру ударом в глаз, предупредив соседей, что именно так и будет бить. Воображаю, что случилось бы, если бы этого насчитывавшего седьмой десяток лет негра отправить на какие-нибудь олимпийские игры! Во всяком случае, там, в черной степи, когда на отдыхе мои черные друзья устраивали спортивные состязания, его не мог обогнать никто из молодых — он дальше всех метал копье и камень, лучше всех одолевал всяческие препятствия и быстрее всех взбирался на самую верхушку баобаба. У него были тонкие и сильные мускулы и грудь, которой позавидовал бы любой молотобоец.
У Цезаря был чудесный сильный голос и исключительный даже для негров музыкальный слух. Часто вечером я звал его к себе в палатку и просил спеть что-нибудь из песен его племени. Это пение было столь тонко, богато оттенками, печально и прекрасно, что я слушал его в совершенном изумлении. Некоторые из этих песен я записал, запомнил и иногда напеваю их и сейчас.
Не оставил меня Цезарь и в тот не забываемый мною день, когда в страхе, непонимании и протесте разбежались все участники моей экспедиции, когда, натасканные католическими миссионерами на образы христианской религии, на образы покорности «высшему началу», негры вдруг со всей силой своего темперамента отдались природным первобытным чувствам ужаса и протеста перед антихристом, чертом, черным богом, сатаной, когда во мне увидели «союзника дьявола». В ту ночь, весь дрожа от страха, вошел в мою палатку Цезарь, победив себя и готовый на все муки чертовщины ради меня и любимого им дела.
«СОЮЗНИКИ ДЬЯВОЛА»
С особенной остротой почувствовал я под тропиками, в какой громадной степени психика нормального среднего человека зависит от его физического состояния. Бывало, проснувшись на раннем рассвете, почувствуешь вдруг такой подъем, такой прилив юношески свежих сил, такую необыкновенную беспричинную радость, что готов пуститься в пляс и все кажется праздником. В такие утра сердце мое переполнялось любовью к бесхитростным и добрым моим спутникам, работа казалась мне исторически важной, я мнил себя чуть ли не открывателем новых земель. Но случалось, что после бессонной ночи, совершенно истомленный жарой, покидал я мокрую горячую койку с чувством такой подавленности, бессилия, что в страхе начинал думать о близкой и неизбежной смерти. Подумать — ведь на сотни километров вокруг нас нет человеческого следа, дичь и глушь совершенно первобытные!.. Впрочем, мрачные приступы эти стали уменьшаться, а постепенно и совсем прошли: сердце приспособилось к новым условиям. Работа меня увлекала, а первые опасения насчет неопытности ушли после вполне удовлетворительной оценки моих работ, полученной с базы. Странный, как бы во сне мерещущийся пейзаж открывался мне каждое утро, когда откидывал я полог палатки. Представьте себе совершенно голую степь, поверхность, опущенную как бы ниже нормального горизонта, так что небо захватывает гораздо большую часть всего видимого круга, чем к этому привык человеческий глаз. Горизонт этот в ясные часы дня отнесен невообразимо далеко. Все плоско, принижено, и вдали высятся призраком Столовые горы. Их цепь — совершенно необыкновенной, правильно геометрической формы. Мне они в зависимости от времени дня, от света, казались то праздничными торжественными столами с туго накрахмаленными, идущими книзу раструбом и до полу опускающимися скатертями, то древними циклопическими гробницами. Мы прошли уже больше двухсот километров со своим солидным багажом. Стал чувствоваться недостаток воды. Я отдал приказ всячески экономить ее, а сам постепенно отвык умываться по утрам. Дальше пошло все хуже и хуже, и я серьезно начал опасаться за судьбу экспедиции. Третий день мы шли без воды, и я проклинал себя за то, что поверил старейшине последнего поселка, уверившего меня, что к концу восьмого — началу девятого перехода мы выйдем к реке. Уже и неприкосновенный запас драгоценной влаги подходил к концу, и мы все реже и реже прикладывались пересохшими губами к флягам. Как обычно, мы отправлялись в дорогу до рассвета, шли только утром и вечером, дневную жару пережидая в жидкой тени безлистых кустов. Но и кусты попадались всё реже. Местность лежала совершенно оголенная и ровная, и только далеко впереди маячила цепь каких-то холмов. Я не мог без острой жалости смотреть на моих спутников, на их разинутые рты, ходившие под учащенным дыханием впалые животы и мутные ввалившиеся глаза. К концу четвертого дня этих мучений упал и отказался идти дальше один из носильщиков, которого еще накануне я освободил от груза. Я не заметил, как он упал, и об этом сообщил мне Цезарь, когда мы прошли уже километра два. Я отобрал четырех наиболее крепких рабочих, сказал, чтобы они взяли носилки, и сам собрался идти с ними. Неожиданно они начали отговаривать меня, и в лицах остальных негров я прочитал явное недовольство. Мне пришлось поднять голос, но не выказал большой радости и сам пострадавший. Впрочем, я уже знал чувства негров в подобных случаях: к человеку пришла смерть, и не надо ей сопротивляться, не надо помогать тяжело занемогшему, иначе смерть обозлится и будет мстить тем, кто мешает ей взять добычу. Во многих племенах выздоровевший после тяжелой болезни вызывает ужас здоровых, от него отрекаются жена, дети, родственники, друзья, от него бегут: он обманул смерть, и она, разъяренная обманом, может обратить свою страшную силу на других и в первую очередь на близких. Часто больной, признанный безнадежным и все же поборовший болезнь, меняет свое имя — мол, тот, прежний, и в самом деле покорно ушел из жизни… Иногда негры меняют свои имена и по другим причинам: после какой-нибудь неудачи, по совету невесты, уклоняясь от правительственного наряда или отправляясь на рыбную ловлю или охоту в опасные места, — опять-таки для того, чтобы обмануть смерть: она будет искать одного, а найдет другого, и ей придется отступить. Обмен именами происходит нередко и между друзьями и выражает собой высшую меру верности — готовность отдать жизнь за друга. — Самба, Самба! — зовешь иной раз какого-нибудь плечистого вешильщика, а он и головы не поворачивает. И на твой крик направляется к тебе поджарый юноша, который тебе совершенно не нужен. — Самба! Раздосадованный, подбежишь к вешильщику, а он важно и весело сообщает, указывая на приятеля: — Со вчерашнего вечера вот кто Самба, а не я. Я — Мнабу!.. Стократно проклинал я себя за доверчивость. Последние капли воды ушли, и нам грозила смерть в жестокой голой пустыне. Вечером шестого дня мучительнейшего пути я почувствовал, что спасения нет, что все погибло. В тоскливом равнодушии я уже решил остаться на месте, а Цезарю отдать приказ вести рабочих назад, хотя чувствовал со стыдом и страхом, что вряд ли хоть один из участников злосчастной нашей экспедиции доберется до человеческого жилья. Задремав под утро, перед рассветом я проснулся от дикого рева. Рев — раскатистый, яростный, долгий, стихая, уходил в тишину и так же незаметно рождался вновь и переходил в раскаты, совершенно страшные. Внезапно он стал перебиваться другим ревом, отрывистым, коротким. Сердце мое забилось радостью. Гиппопотамы отвечали львам. Значит, где-то поблизости вода! На рассвете, оставив лагерь под присмотром Цезаря, я один отправился дальше и с восходом солнца увидел, что впереди, на дальнем краю долины, идущей вниз и упирающейся в цепь холмов, темнеет зелень. Это открытие удесятерило мои силы. Я вернулся, поднял лагерь, и к вечеру мы были уже у подножия почти отвесных невысоких гор. Именно здесь, на последнем склоне долины, у начала подъема почвы и могла быть вода. На рассвете люди начали рыть колодец. Земля окаменела от жары, и истомленные негры работали очень вяло — кирки скользили по земле, как по льду, и еле углублялись. Чтобы ускорить работу, я сам выбил нору вбок, заложил пироксилиновую шашку, отвел людей и поджег бикфордов шнур. С диким грохотом вздрогнула земля, в воздух поднялись и медленно осели тяжелые черные глыбы, оставив густое облако пыли. Негры лежали на земле, недвижные от страха. Тщетны были мои призывы. Я побежал к месту взрыва. Дно большой воронки было сухо, но в одной стороне ее, обращенной к горе, мне показалось, что земля была рыхлой. Я ударил несколько раз киркой, потом перешел на лопату. Начался слой песка, лежавший косо и легко поддававшийся, но я был уже совершенно без сил. Вероятно, я обозлился: глубоко в песке, уже под горой, я заложил двойную долю пироксилина. И когда снова поднялся к небу громадный черный сноп, унося с собой и часть горы, из отверстия, из-под горы, хлынула вода и, извиваясь змеей, побежала под уклон. Мы напали на подземный источник — вернее даже, на подземный водопад. Судя по тому, что напор воды был не силен, взрыв задел вершину этого водопада. Я оглянулся. Далеко во все стороны от меня, закрывая лицо руками, разбегались негры. Я оставался один со всем большим моим обозом. Я знал, что все просьбы и уговоры мои будут бесплодны, и рассчитывал только на то, что голод вернет людей к лагерю, к провиантской базе. Я с наслаждением пил звеневшую и сверкавшую, освежающую лицо ключевую воду, вымылся и потом стал подниматься на гору, потревоженную взрывом. Часа через четыре я был на ее вершине. Отсюда открывался совершенно изумительный вид. Второй склон горы был гол, каменист, полог, и ниже бежала, то низвергаясь каскадами, то разливаясь затонами, то пенясь над омутами, река необыкновенной красоты с водой такой голубизны и ясности, какой я не видел в жизни. Берега ее темнели зеленью. Это, конечно, и была та река, о которой говорили нам в поселке. Теперь мне стало ясно, что мы сбились с дороги, постепенно повернули в сторону под углом почти в девяносто градусов и несколько дней шли параллельно ей. Больше суток я прожил в полном одиночестве. Только к вечеру второго дня показалась в кустах несмелая тень, и я услышал горячий голос Цезаря: — Начальник, уходите отсюда! Это проклятое место, здесь живет дьявол… Негры решили скорее умереть, чем прийти сюда. Я передал через Цезаря, что и сам хочу уйти с «проклятого» места и что завтра нам нужно будет перевалить через горы. Ночью я наполнил водой два пустых бочонка и с трудом вкатил их на место стоянки. На рассвете пришли самые храбрые из участников экспедиции и, держась все время спиною к источнику, перенесли всю кладь в сторону, откуда он не был виден. Но с каким наслаждением накинулись они на воду, с какой жадностью ее пили — она ведь была в «наших» бочонках, совсем не «та», страшная вода, рожденная дьяволом! Когда к вечеру, сделав широкий круг, мы перевалили холмы и открылась река, на лицах моих спутников отразился новый ужас — несомненно, что я в союзе с дьяволом пустил по котловине и эту воду. Мы начали спускаться. Впереди вздымались облака водяной пыли. Подойдя к воде и оглянувшись, я из всего отряда увидел лишь несколько человек. Но лица и этих смельчаков были сумрачны; люди не смотрели мне в глаза, отворачивались. По гребню горы сидели на корточках остальные, делая мне руками и головами отчаянные знаки. Когда мы подошли к самой воде, около меня остался только один Цезарь, но и он умолял меня уходить. — Там дьявол, там смерть! — кричал он мне за шумом воды. — Ты сам видел, как эта вода родилась из огня. Ты умрешь здесь!.. Идем отсюда! Цезарь тебя любит, но Цезарь тоже не хочет умирать… Тебе совсем не надо умирать, ты делаешь добро нашим людям! Никакие мои уговоры не действовали. О том, чтобы вернуть ушедших, нечего было и думать. Я убеждал Цезаря, смеялся, говорил, что сейчас прыгну в воду, — он качал головой и по-прежнему смотрел на меня умоляюще. Я сказал, чтобы он разбил мне палатку у самой воды, а рабочим разрешил ночевать, где они хотят. Цезарь упрекал меня за дерзость, за игру с нечистой силой. Поставив палатку, он ушел. Поздно вечером он. однако, вернулся, все еще ворча. Он боялся черта, шумевшего вблизи, но еще больше боялся за меня. В тот злополучный переход немало страху набрались мои черные спутники. Согласно плану, довольно долго пришлось идти именно вдоль реки. Одно время стояли мы здесь около недели. Я спал неизменно у самой воды, где было свежо, но ничто не убеждало негров — я, союзник дьявола, мог делать все что угодно в полной безнаказанности; им же лучше было держаться подальше от «воды, рожденной огнем». Там, у реки, я как-то дал суточный отдых рабочим, а сам отправился удить рыбу. Мой верный друг Цезарь шел со мною. Река шумела внизу, под крутым, как крепостная стена, обрывом — метров в десять. Я отпустил Цезаря, обогнул стену и подошел к воде. Прямо перед собой на незначительной глубине я вдруг увидел сома. Вода была прозрачнее стекла, сом стоял неподвижно. Я выбрал самую сильную, сорокакилограммовой крепости лесу длиной в пятьдесят метров и закинул наживку. Вода слегка относила ее, я тянул назад, подергивал перед самым носом громадной рыбы. Сом лениво стоял на месте, чуть шевелил усами — видимо, был сыт и дремал. Наконец, словно желая от меня избавиться, он проглотил добычу. Крючок уколол его — он дернулся в сторону. Я отпустил жерлицу и начал его водить. Я с детства много занимался рыбной ловлей, которую вообще предпочитаю охоте. Думаю, что мало найдется в мире мест, столь изобилующих самой разнообразной рыбой — хотя, конечно, и мало похожей на нашу, европейскую, — как там: в Судане и Сенегале. В этих местах я уже давно считаюсь одним из неплохих рыболовов. Тогда эта встреча была впервые. Сома надо ловить особенно. Нельзя подсекать его сразу: он. может изрыгнуть крючок. Наконец, можно просто вырвать кусок его рыхлого мяса, и он уйдет. Я бежал за ним по всему берегу, отпустив леску на всю длину. Увлекшись, я не заметил одного из своих соседей. На другом берегу реки, в этом месте мелкой, стоял гиппопотам и, казалось, с любопытством наблюдал за моими хлопотами. Огромное чудовище в четыре тысячи килограммов весом было совсем рядом. Я видел его сплющенную голову, маленькие глаза и напряженность его устремленного вперед могучего тела и почти слышал его дыхание. Наспех забросив две петли лесы за камень, я кинулся бежать. Действия мои были почти непроизвольны, я просто испугался величины зверя. Конечно, гиппопотам считается мирным животным, но кто скажет: какая фантазия может прийти в эту огромную голову? Уйти от него невозможно хотя бы потому, что как уйти на двух ногах от четырех? Я все же выбрался наверх и с обрыва посмотрел на реку. Зверь, ломая заросли, уходил. Я осторожно вернулся. Леса лежала слабо. Сом — почти черный, мшистый — был совершенно измотан. Я легко вытащил его на берег. В нем оказалось больше тридцати килограммов веса. Мы приготовили из него отличное блюдо и славно попировали в тот вечер.ТРОПИЧЕСКАЯ ФАУНА И ФЛОРА
 Рыбная ловля и до сих пор большая моя отрада в скитаниях по Черному материку. В Сенегале и Гвинее водятся интереснейшие породы рыб. Очень вкусна та, за которой охочусь я чаще всего, — «капитан», из породы лососевых, с малым количеством костей и жирным белым мясом. Есть рыба «шар», она же «тамбур» — барабан, тело которой вытянуто по вертикали. У нее гуттаперчево-растяжная кожа. Рыба эта от злобы или страха при виде опасности или если ее начинают в бассейне дразнить, раздувается почти в точный шар. «Шар», сердясь, иногда издает звуки, похожие на барабанную трель. Есть рыба с ядовитыми плавниками. Одна такая, выбросив верхний плавник со скоростью выстрела, чуть не отхватила мне однажды пальцы, и я полчаса плясал от резко вспыхнувшей острой боли и не мог удержаться от крика. Боль кончилась так же мгновенно, как и началась. Существует много пород электрической рыбы, и как-то удар небольшого ската швырнул меня метра на два в сторону на землю. Смешна рыба, тоже род ската, пелия — у нее огромная усатая голова, а туловище чуть не уклейки. Тянешь, волнуешься, думаешь: вот добыча! — а вытаскиваешь одну нелепую громадную голову. Есть и еще одна интересная рыба — она бьет хвостом по воде с такой силой, что, подходя к реке, отчетливо слышишь сухую, частую револьверную стрельбу. Эта рыба почти сплошь состоит из одного губчато упругого хвостового мускула, совершенно безвкусного.
Есть рыба, вьющая свое подводное гнездо. Нигер разливается так широко, что местами не видишь противоположного берега. В затонах, в мелких местах, где течением наносит много илу и всякого лесного мелкого лому, эта рыба собирает прутья, сучья, кору, листья и все это гонит к одному месту. Безрукий и безногий подводный архитектор одним носом ухитряется соорудить род некоего шалаша, в котором и мечет потом икру. Дом этот стоит на такой маленькой глубине, что часто видны спинные плавники рыбы над водой. Иной раз швырнешь камнем — она испуганно отойдет. Но если даже и довольно далеко отогнать ее от постройки, то, посидев, увидишь, как осторожно, заходя то в одну, то в другую сторону, словно не сводя глаз с опасного места, медленно подплывает она опять к своему дому…
А рыба фуйваз, распространенная на нашем Севере, живет в болотах, и когда болота пересыхают, то она просто зарывается в ил и спит до дождей.
На удочку ловил я не только рыбу, но и мягкопанцирных черепах килограммов до двадцати весом, а однажды даже поймал удава и угостил моих черных друзей одним из любимых ими лакомств.
Вот как это было. Я шел на рыбную ловлю. Проходя по тропинке под почти отвесным песчаным обрывом к реке, я увидел в одной из пещер большую змею. От страха я бросился бежать, потом оглянулся — все было спокойно. Озорная мысль захватила меня. Я вскарабкался на обрыв, выбрал самую крепкую лесу и большой трехконцовый крючок, насадил наживку и, подойдя по крутизне к месту, под которым была пещера, опустил лесу. Помахивая грузом, дразня змею, я наконец добился своего — из пещеры молниеносно высунулась маленькая голова и схватила наживку. Остальное пошло так, как должно было пойти. Изрыгнуть острый крючок рептилия не могла и должна была подчиниться своей участи. Это был крупный удав. Он извивался, бился, сворачивался в восьмерки и спирали и в конце концов уморил себя тяжестью своего же тела. Укрепив лесу петлей за камень, я держал его на весу около двух часов, пока он не повис в воздухе бессильно вздрагивающей лентой. Вечером при свете костров негры пели веселые песни.
И почти так же в тех местах ловят другое свирепое пресмыкающееся — крокодила. Крокодилы любят укрытые, глубокие пещеры по берегу. Негры подходят к пещере большой толпой с палками, криками, барабанами, свистками и дудками. И крокодил прячется в глубь пещеры. Тогда часть охотников разводит костер перед отверстием, а другая часть уходит наверх и спускает к дыре большую петлю крепчайшего кокосового каната. Удушающий дым костра заставляет наконец животное покинуть свое убежище. Оно делает это, однако, не сразу, напуганное треском костра, огнем и человеческими криками, — медленно подползает к выходу, в страхе и злости отползает и вновь приближается к отверстию. Но вот в конце концов показывается его длинная сплющенная голова, и… готово! Петля мгновенно затягивается, и люди, стоящие наверху, начинают тянуть канат. Многопудовое чудовище, извиваясь, колотя по земляной стене своим гигантским гребенчатым хвостом и вызывая тучи пыли и потоки песку и камней, медленно подтягивается кверху.
Часто бывал я и на охоте — на антилоп, кабанов, жирафов. Жирафов и страусов негры-охотники берут живьем, гоняясь за ними на лошадях, доводя их до беспамятства. Охота на слонов и гиппопотамов фактически запрещена во всей Французской Африке невероятно высоким охотничьим сбором. Мера правильная: огромные животные размножаются чрезвычайно медленно, и хищническое истребление может привести к их полному исчезновению.
Знаете, отчего часто погибает гиппопотам — это мощное и добродушное животное? От укуса маленькой зеленой змейки. Она называется «минутка», и это одна из самых ядовитых тропических змей. Она жалит гиппопотама в губу, когда он мирно пасется на траве, и через несколько часов великая тропиков с ревом валится где-нибудь в дебрях бруссы.
Я познакомился с редчайшими образцами тамошней изумительной фауны. Я видел двухголовую змею — в самом деле, ее хвост заканчивается расширением, напоминающим голову. На нем ясно начертан рот и глаза, и видишь тот же покатый лоб и тонкую шейку. Там же встретил я и подлинное чудо — зверя, скелет которого бережно храню. Не могу настаивать со всей уверенностью, но думаю, что это выродившийся потомок динозавра, — этот огромный крот с длинным рылом, широчайшим горбатым скатом спины и змеиным хвостом. Он доходит до восьми пудов весом.
Рыбная ловля и до сих пор большая моя отрада в скитаниях по Черному материку. В Сенегале и Гвинее водятся интереснейшие породы рыб. Очень вкусна та, за которой охочусь я чаще всего, — «капитан», из породы лососевых, с малым количеством костей и жирным белым мясом. Есть рыба «шар», она же «тамбур» — барабан, тело которой вытянуто по вертикали. У нее гуттаперчево-растяжная кожа. Рыба эта от злобы или страха при виде опасности или если ее начинают в бассейне дразнить, раздувается почти в точный шар. «Шар», сердясь, иногда издает звуки, похожие на барабанную трель. Есть рыба с ядовитыми плавниками. Одна такая, выбросив верхний плавник со скоростью выстрела, чуть не отхватила мне однажды пальцы, и я полчаса плясал от резко вспыхнувшей острой боли и не мог удержаться от крика. Боль кончилась так же мгновенно, как и началась. Существует много пород электрической рыбы, и как-то удар небольшого ската швырнул меня метра на два в сторону на землю. Смешна рыба, тоже род ската, пелия — у нее огромная усатая голова, а туловище чуть не уклейки. Тянешь, волнуешься, думаешь: вот добыча! — а вытаскиваешь одну нелепую громадную голову. Есть и еще одна интересная рыба — она бьет хвостом по воде с такой силой, что, подходя к реке, отчетливо слышишь сухую, частую револьверную стрельбу. Эта рыба почти сплошь состоит из одного губчато упругого хвостового мускула, совершенно безвкусного.
Есть рыба, вьющая свое подводное гнездо. Нигер разливается так широко, что местами не видишь противоположного берега. В затонах, в мелких местах, где течением наносит много илу и всякого лесного мелкого лому, эта рыба собирает прутья, сучья, кору, листья и все это гонит к одному месту. Безрукий и безногий подводный архитектор одним носом ухитряется соорудить род некоего шалаша, в котором и мечет потом икру. Дом этот стоит на такой маленькой глубине, что часто видны спинные плавники рыбы над водой. Иной раз швырнешь камнем — она испуганно отойдет. Но если даже и довольно далеко отогнать ее от постройки, то, посидев, увидишь, как осторожно, заходя то в одну, то в другую сторону, словно не сводя глаз с опасного места, медленно подплывает она опять к своему дому…
А рыба фуйваз, распространенная на нашем Севере, живет в болотах, и когда болота пересыхают, то она просто зарывается в ил и спит до дождей.
На удочку ловил я не только рыбу, но и мягкопанцирных черепах килограммов до двадцати весом, а однажды даже поймал удава и угостил моих черных друзей одним из любимых ими лакомств.
Вот как это было. Я шел на рыбную ловлю. Проходя по тропинке под почти отвесным песчаным обрывом к реке, я увидел в одной из пещер большую змею. От страха я бросился бежать, потом оглянулся — все было спокойно. Озорная мысль захватила меня. Я вскарабкался на обрыв, выбрал самую крепкую лесу и большой трехконцовый крючок, насадил наживку и, подойдя по крутизне к месту, под которым была пещера, опустил лесу. Помахивая грузом, дразня змею, я наконец добился своего — из пещеры молниеносно высунулась маленькая голова и схватила наживку. Остальное пошло так, как должно было пойти. Изрыгнуть острый крючок рептилия не могла и должна была подчиниться своей участи. Это был крупный удав. Он извивался, бился, сворачивался в восьмерки и спирали и в конце концов уморил себя тяжестью своего же тела. Укрепив лесу петлей за камень, я держал его на весу около двух часов, пока он не повис в воздухе бессильно вздрагивающей лентой. Вечером при свете костров негры пели веселые песни.
И почти так же в тех местах ловят другое свирепое пресмыкающееся — крокодила. Крокодилы любят укрытые, глубокие пещеры по берегу. Негры подходят к пещере большой толпой с палками, криками, барабанами, свистками и дудками. И крокодил прячется в глубь пещеры. Тогда часть охотников разводит костер перед отверстием, а другая часть уходит наверх и спускает к дыре большую петлю крепчайшего кокосового каната. Удушающий дым костра заставляет наконец животное покинуть свое убежище. Оно делает это, однако, не сразу, напуганное треском костра, огнем и человеческими криками, — медленно подползает к выходу, в страхе и злости отползает и вновь приближается к отверстию. Но вот в конце концов показывается его длинная сплющенная голова, и… готово! Петля мгновенно затягивается, и люди, стоящие наверху, начинают тянуть канат. Многопудовое чудовище, извиваясь, колотя по земляной стене своим гигантским гребенчатым хвостом и вызывая тучи пыли и потоки песку и камней, медленно подтягивается кверху.
Часто бывал я и на охоте — на антилоп, кабанов, жирафов. Жирафов и страусов негры-охотники берут живьем, гоняясь за ними на лошадях, доводя их до беспамятства. Охота на слонов и гиппопотамов фактически запрещена во всей Французской Африке невероятно высоким охотничьим сбором. Мера правильная: огромные животные размножаются чрезвычайно медленно, и хищническое истребление может привести к их полному исчезновению.
Знаете, отчего часто погибает гиппопотам — это мощное и добродушное животное? От укуса маленькой зеленой змейки. Она называется «минутка», и это одна из самых ядовитых тропических змей. Она жалит гиппопотама в губу, когда он мирно пасется на траве, и через несколько часов великая тропиков с ревом валится где-нибудь в дебрях бруссы.
Я познакомился с редчайшими образцами тамошней изумительной фауны. Я видел двухголовую змею — в самом деле, ее хвост заканчивается расширением, напоминающим голову. На нем ясно начертан рот и глаза, и видишь тот же покатый лоб и тонкую шейку. Там же встретил я и подлинное чудо — зверя, скелет которого бережно храню. Не могу настаивать со всей уверенностью, но думаю, что это выродившийся потомок динозавра, — этот огромный крот с длинным рылом, широчайшим горбатым скатом спины и змеиным хвостом. Он доходит до восьми пудов весом.

 Множеством пород представлены в Африке антилопы. Крупная антилопа больше тяжелой пожарной лошади и довольно сердита. У меня жила самая маленькая, карликовая антилопа. Величиною была она лишь немногим больше кошки и очень изящна, легка, нежна в своей грации. У меня всегда было смешное желание поставить ее живую «а стол как украшение. Это необыкновенно красивое животное быстро приручается. Козочка ходила за мною неотступно, очень любила играть и в шутку бодала меня в щиколотку. Я звал ее Блохой.
У Блохи был приятель — страус, который жил у меня на длительной остановке в одном из негритянских селений. Немало он доставил мне хлопот. Птица эта на редкость глупая, но чем-то, может быть неуклюжестью своей, забавная. Это создание ударом лапы убивает крупного зверя, а о человеке и говорить нечего. И вместе с тем страус легко приручается и так привязывается к человеку, что уж потом никакими силами не прогонишь его назад, в заросли. Страус жил у меня в особом стойле, а запереть разбойника пришлось потому, что уж очень много было на него жалоб. Убить его никто не смел, потому что он принадлежал белому, но жить с ним по соседству становилось непереносимо. Двуногая тварь спокойно перекидывала голову через низенький глиняный забор негритянской кажи, к столу открытой кухни, и поедала все, что там находила, или спозаранок шла на деревенский базар. Распустив крылья и угрожающе мотая головой, под визг разбегавшихся торговок, она спокойно лакомилась бананами, бобами, орехами. Изловчившись, страуса можно обезопасить — схватить его за начало шеи, слабой, как мокрая веревка, притянуть к себе голову и схватить за нос, но чертова детина никого к себе не подпускала и, словно чувствуя страх торговок, поднимала такой шум и такую отчаянную пыль, что базар сам собой кончался. И представьте себе ненаходчивость огромного существа: поперек стойла я протянул тонкую бечевку, и этого оказалось совершенно достаточным для спокойствия жителей. Ни пролезть под бечевку, ни перешагнуть через нее, что было уж совсем легко, эта особа не догадывалась…
Немало побродил я в дебрях Судана, Сенегала, Гвинеи, побывал в Томбукту, спускался до Слонового берега и к берегу Золотому. Немало повидал того, что представлялось мне истинными чудесами и от чего замирал я иной раз на месте то в страхе, то в восхищении. Грозна и великолепна картина тропического смерча — «торнадо», когда кажется, что мир перед тобой стирается, как мел губкой со школьной доски. В полдень несутся, мчатся, переплетаются по сухой степи десятки вихревых смерчей до самого неба, до его вдруг посеревшей, побуревшей и снизившейся пелены, и кажется, что вот-вот подхватит и тебя эта чудовищная карусель, подхватит, закружит, раздробит твои кости и швырнет тебя в небо.
Степь, степь — голая, сухая, опаляющая огненным зноем! Все выжжено, черно. И вдруг… лесная заросль, и лежит среди зелени сонное озеро. Пальмы совершенно фантастических очертаний, лианы, бамбук, цветы, громадные водяные лилии, на лист которых, как на плот, может сесть человек, стволы цветущих деревьев, возносящиеся прямо из водного зеркала, — и все это пестрое, дурманно благоухающее, с изумительной прихотливостью расцвеченное, сверкающее как бы осколками разбившейся радуги, в мертвой и прекрасной зачарованности отражающееся в водах столь прозрачных, что неверится, что эта зеркальная пустота хранит воду. И по громадному простору этих болотно-озерных вод у берегов и на островках стоят, подняв ногу, бесчисленные цапли с высокомерно-смешными хохолками на затылках, чибисы, журавли, тысячи голенастых, — стоят в такой неподвижности и в такой тишине, что кажется — ты попал куда-то за пределы мыслимого, провалился в вечность, что и миллионы лет назад стояли, как стоят сейчас, над очарованным хрустальным зеркалом птицы-чучела и будут стоять всегда. И ловишь себя на том, что дыхание твое затаено, и боишься шевельнуться, нарушить этот сонный покой…
Сказочно царство колибри. Сверкающие блеском всех драгоценных камней, с кроваво-алыми рубиновыми пятнами на темени, с переливами алмазной грани в крыльях; с зеленью перьев, блеск которой почти непереносим для глаза; величиной иногда чуть больше пчелы; то стрельчатокрылые, напоминающие острие копья, то с хвостом в виде пышных усов или пелерины, как у японских рыбок; с оперением, ударяющим в серебро, золото, малиновую, зеленую, фиолетовую, оранжевую фольгу, — они режут синий воздух над водой. И на прибрежном дереве-гиганте насчитаешь иной раз до тысячи их грушевидных маленьких гнезд.
Некоторые тропические бабочки величиной превосходят колибри, особенно ночные — пушистые, волшебной расцветки. Я собрал коллекцию в четыре больших ящика бабочек и жуков, неведомых в Европе. У меня есть бабочка с размахом крыльев в пятнадцать сантиметров. И так же берегу я самое большое насекомое из встреченных мною — гигантского богомола. Я увидел его в цветущей степи среди яркой молодой зелени, и мне стало немного страшно. Это похожее на монаха чудище в своей зеленой сутане, с передними лапами, лицемерно-молитвенно сложенными у головы, хищно и гадко-медлительно вращавшейся, — стояло косо над землей, выжидая добычи и совершенно сливаясь с зелеными ветками. Я схватил его, и он, вырываясь, сжал мои пальцы с ощутительной силой. Он достигал, высоты в двадцать пять сантиметров.
Есть в Африке навозный жук — оригинальный зодчий и крепкий семьянин. Он скатывает из глины большой шарик, полый внутри; самка забирается в эту хижину, откладывает яйца и выбирается наружу. Муж замуровывает отверстие, жена забирается наверх своего цыганского домика. И жук катит эту постройку с такой ловкостью, что самка, перебирая лапками, все время красуется наверху повозки. Так странствуют они до тех пор, пока не придет время выводиться детям.
В тех местах есть порода певчих скворцов. В период носки они строят целые ясли из сена на деревьях. Такой громадный дом бывает рассчитан на двадцать-тридцать семей. И все они мирно уживаются в своей коммунальной квартире до выводки птенцов — вернее, до их самостоятельного лёта. Так иногда на сучьях огромного дерева вдруг увидишь здоровенный стог сена, оглашаемый неистовым хлопотливо-веселым криком…
Столь же разнообразно и царство тропических цветов. Как-то я водил сильно упрямившегося сома. Он был велик, и я еле тянул его к берегу. Вдруг рыба сильно рванулась мне навстречу — леса ослабела, я пошатнулся, поскользнулся и упал спиною в ил. А когда поднял глаза, то увидел над собой невиданной величины и красоты орхидею — огромную, белоснежную, кое-где в пустотах расцвеченную радужным бархатом. Ее изумительная волнистая гроздь достигала длины в три метра.
Множеством пород представлены в Африке антилопы. Крупная антилопа больше тяжелой пожарной лошади и довольно сердита. У меня жила самая маленькая, карликовая антилопа. Величиною была она лишь немногим больше кошки и очень изящна, легка, нежна в своей грации. У меня всегда было смешное желание поставить ее живую «а стол как украшение. Это необыкновенно красивое животное быстро приручается. Козочка ходила за мною неотступно, очень любила играть и в шутку бодала меня в щиколотку. Я звал ее Блохой.
У Блохи был приятель — страус, который жил у меня на длительной остановке в одном из негритянских селений. Немало он доставил мне хлопот. Птица эта на редкость глупая, но чем-то, может быть неуклюжестью своей, забавная. Это создание ударом лапы убивает крупного зверя, а о человеке и говорить нечего. И вместе с тем страус легко приручается и так привязывается к человеку, что уж потом никакими силами не прогонишь его назад, в заросли. Страус жил у меня в особом стойле, а запереть разбойника пришлось потому, что уж очень много было на него жалоб. Убить его никто не смел, потому что он принадлежал белому, но жить с ним по соседству становилось непереносимо. Двуногая тварь спокойно перекидывала голову через низенький глиняный забор негритянской кажи, к столу открытой кухни, и поедала все, что там находила, или спозаранок шла на деревенский базар. Распустив крылья и угрожающе мотая головой, под визг разбегавшихся торговок, она спокойно лакомилась бананами, бобами, орехами. Изловчившись, страуса можно обезопасить — схватить его за начало шеи, слабой, как мокрая веревка, притянуть к себе голову и схватить за нос, но чертова детина никого к себе не подпускала и, словно чувствуя страх торговок, поднимала такой шум и такую отчаянную пыль, что базар сам собой кончался. И представьте себе ненаходчивость огромного существа: поперек стойла я протянул тонкую бечевку, и этого оказалось совершенно достаточным для спокойствия жителей. Ни пролезть под бечевку, ни перешагнуть через нее, что было уж совсем легко, эта особа не догадывалась…
Немало побродил я в дебрях Судана, Сенегала, Гвинеи, побывал в Томбукту, спускался до Слонового берега и к берегу Золотому. Немало повидал того, что представлялось мне истинными чудесами и от чего замирал я иной раз на месте то в страхе, то в восхищении. Грозна и великолепна картина тропического смерча — «торнадо», когда кажется, что мир перед тобой стирается, как мел губкой со школьной доски. В полдень несутся, мчатся, переплетаются по сухой степи десятки вихревых смерчей до самого неба, до его вдруг посеревшей, побуревшей и снизившейся пелены, и кажется, что вот-вот подхватит и тебя эта чудовищная карусель, подхватит, закружит, раздробит твои кости и швырнет тебя в небо.
Степь, степь — голая, сухая, опаляющая огненным зноем! Все выжжено, черно. И вдруг… лесная заросль, и лежит среди зелени сонное озеро. Пальмы совершенно фантастических очертаний, лианы, бамбук, цветы, громадные водяные лилии, на лист которых, как на плот, может сесть человек, стволы цветущих деревьев, возносящиеся прямо из водного зеркала, — и все это пестрое, дурманно благоухающее, с изумительной прихотливостью расцвеченное, сверкающее как бы осколками разбившейся радуги, в мертвой и прекрасной зачарованности отражающееся в водах столь прозрачных, что неверится, что эта зеркальная пустота хранит воду. И по громадному простору этих болотно-озерных вод у берегов и на островках стоят, подняв ногу, бесчисленные цапли с высокомерно-смешными хохолками на затылках, чибисы, журавли, тысячи голенастых, — стоят в такой неподвижности и в такой тишине, что кажется — ты попал куда-то за пределы мыслимого, провалился в вечность, что и миллионы лет назад стояли, как стоят сейчас, над очарованным хрустальным зеркалом птицы-чучела и будут стоять всегда. И ловишь себя на том, что дыхание твое затаено, и боишься шевельнуться, нарушить этот сонный покой…
Сказочно царство колибри. Сверкающие блеском всех драгоценных камней, с кроваво-алыми рубиновыми пятнами на темени, с переливами алмазной грани в крыльях; с зеленью перьев, блеск которой почти непереносим для глаза; величиной иногда чуть больше пчелы; то стрельчатокрылые, напоминающие острие копья, то с хвостом в виде пышных усов или пелерины, как у японских рыбок; с оперением, ударяющим в серебро, золото, малиновую, зеленую, фиолетовую, оранжевую фольгу, — они режут синий воздух над водой. И на прибрежном дереве-гиганте насчитаешь иной раз до тысячи их грушевидных маленьких гнезд.
Некоторые тропические бабочки величиной превосходят колибри, особенно ночные — пушистые, волшебной расцветки. Я собрал коллекцию в четыре больших ящика бабочек и жуков, неведомых в Европе. У меня есть бабочка с размахом крыльев в пятнадцать сантиметров. И так же берегу я самое большое насекомое из встреченных мною — гигантского богомола. Я увидел его в цветущей степи среди яркой молодой зелени, и мне стало немного страшно. Это похожее на монаха чудище в своей зеленой сутане, с передними лапами, лицемерно-молитвенно сложенными у головы, хищно и гадко-медлительно вращавшейся, — стояло косо над землей, выжидая добычи и совершенно сливаясь с зелеными ветками. Я схватил его, и он, вырываясь, сжал мои пальцы с ощутительной силой. Он достигал, высоты в двадцать пять сантиметров.
Есть в Африке навозный жук — оригинальный зодчий и крепкий семьянин. Он скатывает из глины большой шарик, полый внутри; самка забирается в эту хижину, откладывает яйца и выбирается наружу. Муж замуровывает отверстие, жена забирается наверх своего цыганского домика. И жук катит эту постройку с такой ловкостью, что самка, перебирая лапками, все время красуется наверху повозки. Так странствуют они до тех пор, пока не придет время выводиться детям.
В тех местах есть порода певчих скворцов. В период носки они строят целые ясли из сена на деревьях. Такой громадный дом бывает рассчитан на двадцать-тридцать семей. И все они мирно уживаются в своей коммунальной квартире до выводки птенцов — вернее, до их самостоятельного лёта. Так иногда на сучьях огромного дерева вдруг увидишь здоровенный стог сена, оглашаемый неистовым хлопотливо-веселым криком…
Столь же разнообразно и царство тропических цветов. Как-то я водил сильно упрямившегося сома. Он был велик, и я еле тянул его к берегу. Вдруг рыба сильно рванулась мне навстречу — леса ослабела, я пошатнулся, поскользнулся и упал спиною в ил. А когда поднял глаза, то увидел над собой невиданной величины и красоты орхидею — огромную, белоснежную, кое-где в пустотах расцвеченную радужным бархатом. Ее изумительная волнистая гроздь достигала длины в три метра.
ПАНТЕРЕНОК ВАСЬКА
Доверчивый и добрый негритянский народ живет между собой дружно и миролюбиво. Они не любят ничего, что может принести несчастье или просто огорчение другому, эти общительные, любознательные, верные слову и преданные в дружбе люди. Я относился к ним спокойно-доброжелательно и справедливо, и этого было достаточно, чтобы мне прослыть среди местного населения человеком с какими-то исключительными качествами. Они часто приносили мне какой-нибудь подарок, от которого я ни в коем случае не мог отказаться, чтобы не нанести человеку горькой обиды. Однажды негры убили пантеру. Она оказалась очень большой даже и по здешним местам. Ее принесли в лагерь на длинной жерди, со связанными попарно лапами. А вечером один из рабочих подарил мне крохотного пантеренка. Мать окотилась, вероятно, всего несколько дней назад. Еле державшийся на слабеньких лапах, он беспомощно тыкался мордочкой в блюдце с молоком и совсем по-кошачьи жалобно мяукал. Пантеренок в один день сжился со мною, и через неделю мы стали неразлучны. У него были прекрасные большие янтарные глаза; черные пятнышки на ярко-желтой, необыкновенно нарядной шерсти; торчащие ушки, послушные малейшему движению ветра, и толстенький мягкий живот. Он неотступно ходил за мною вслед, просился на руки, а больше всего любил забираться на плечо. Тогда он нежно и тихо своим розовым шершавым теплым язычком лизал мне шею и ухо. Это был необыкновенно ласковый, послушный, понятливый и ручной зверек — словом, для меня он был самый простой, только необыкновенно красивый, домашний котенок. И я назвал его по-русски «Васькой». Но однажды пришел миг первого предчувствия — на секунду проснулось будущее мирного котенка. У меня жила ручная большая птица из породы голенастых, которую подобрал я с перебитым крылом на болоте и вылечил, — она прижилась к дому и не хотела уходить. И вот как-то, лежа у меня на коленях и подремывая, котенок, дотоле совершенно неуклюжий, вдруг стальной пружиной сорвался с моих колен и в прыжке, превышающем длину его тела раз в десять, кинулся к птице. И если бы Цезарь, сидевший на табуретке у входа в палатку, не успел взмахнуть рукой и сбить котенка, — птица лежала бы с перекушенным горлом. Я схватил Ваську за шиворот и пребольно, выпорол гибким прутом. Он пищал и поджимал задок, потом шлепнулся на пол и, мяукая, пополз за мною, словно жалуясь, убеждая меня в своей невиновности. Наказание подействовало. В нашем обозе были куры. После описанного случая бедный пантеренок, словно боясь самого себя, даже не смотрел в сторону большой деревянной клетки. Время шло, он быстро рос, а мне с каждым днем становилось все больше его жаль, все больнее за него. Ему было уже около полутора месяцев. Он очень быстро бегал, мигом взбирался на вершину любого дерева, а за комочком бумаги, который я опускал перед ним совершенно как перед простым котенком, прыгал почти на высоту моей груди. Васька очень любил эту забаву, а в игре с мячом, который из тряпок и кожи смастерил ему Цезарь, доводил себя до такой усталости, что валился на бок, выпятив живот, — вытянув лапы и открыв рот. Он был очень шаловлив, но никогда ничего не трогал без разрешения, не воровал на кухне и больше всего на свете любил человеческое внимание и игру человека с ним. Ко мне же он привязался совершенно исключительно: спал только у меня в ногах, свернувшись клубочком, и, если я привязывал его за ременный ошейничек у палатки, уходя на работу, он встречал меня таким упреком и такой бурной радостью, что мне и самому становилось веселее на сердце. Я освобождал его, возился с ним, подбрасывал, гладил, щекотал и усаживал его на плечо, где он, счастливый, сладко мурлыча, засыпал. И все-таки… все-таки нам надо было расставаться. В какой-то миг темная природа, уже вложившая однажды в его младенческие мускулы хищную сталь, заставит его через всю привитую ему облагороженность броситься на человека… Убить его я не мог — не поднялась бы рука. Я поручил одному из негров отнести его далеко в бруссу. Я думал, что, может быть, на девственном воздухе, лишенном человеческих запахов, или в какой-нибудь лесной встрече он забудет о человеке, почувствует сладость воли. Нет! Негр с полдороги вернулся домой весь исцарапанный. А пантеренок примчался на целый час раньше его и, кинувшись ко мне на грудь, в страхе и счастье принялся лизать мое лицо. Судьба грубо вмешалась в наши отношения и нашла выход — решительный и суровый. Однажды маленький курьер прибежал ко мне в поле из палатки и, хлопая глазами и тяжело переводя дыхание от бега и пережитого волнения, рассказал, как только что пантеренка утащил белоголовый орел — один из самых больших хищников этого края. Он камнем пал с неба и схватил звереныша когтями за загривок — самое незащищенное место у любого зверя. Через несколько дней негры подбили палками такого орла, и я впервые увидел хищника вблизи. Взять его нельзя было: он разодрал бы руку одним ударом клюва. Его совершенно голая, известково-белая, в мешках и жилах, высокая шея выходила из пышного воротника торчащих перьев, и в повороте головы и взгляде было огненно-злое высокомерие. Он раскрыл свой короткий, в виде двух сходящихся серпов, клюв и шипел при всяком движении к нему человека. Он был ранен, пленен и страдал: одна лапа его волочилась мертво и жалко, крыло было опущено и в крови. Я не мог смотреть на него: я вспоминал его сородича, убившего маленького моего друга, — хоть и знал, что законы бруссы жестоки.ПРИШЕСТВИЕ ЧЕРНОГО ГОСПОДИНА
Я уже рассказывал о негритянской убогой мечети, сложенной из глиняных комков в форме полусферического здания, обычно увенчанного тремя длинными куполками, острия которых украшены пестрыми страусовыми яйцами. Мулла — обычно крепкий, выделяющийся своим ростом, немолодой негр, кое-как искушенный в законе «правоверных». Зовут их почти повсеместно «марабу». Чаще всего мулла почему-то и кузнец, он же и татуировщик. Последняя профессия приносит ему немалый доход, так как негры очень любят всячески украшать себя и особенную страсть питают к амулетам, которые часто уходят с человеком в землю. Марабу делает глубокий надрез на теле, втискивает в него избранный талисман — обычно пестрый камешек, или ракушку, или зуб мелкого животного, — потом сводит края раны, заливает ее особым раствором и перевязывает. Болевая выносливость негров всегда меня удивляла, хотя несчастный этот народ, вымирающий в условиях колониального гнета, физически слаб. Марабу часто и врач, опытный в примитивной, но таинственной тропической фармакопее. Нет сомнений, что неграм известны ценнейшие секреты лечений, множество целебных трав, корней, минералов и смесей. У меня не раз бывали невольные соревнования с марабу. Однажды в поселок, близ которого я работал, принесли от реки изувеченного крокодилом негра — родственника местного вождя. У несчастного была вырвана часть ляжки, и кровоточащее мясо висело рваными клочьями. Раненый лежал, закрыв глаза и что-то тихо бормоча в бреду. Около раненого хлопотал марабу, но дело у него почему-то не ладилось. Вид несчастного негра был страшен. Я спросил, чем вызвано волнение «врача». Оказалось, что у него нет какого-то состава и он не успеет его приготовить в нужный короткий срок, — значит, раненому придется умереть. Я послал на стоянку негритянского мальчика с запиской к Цезарю, и через десять минут босоногий гонец передал мне бутылку с йодом. Взяв раненого под свое-попечение и приказав не трогать его никому, даже мулле, который посматривал на меня не без злобы, я залил промытую рану йодом и перевязал ее марлей. Ожог йодом был так силен, что больной пришел в себя и жалобно застонал. Через два дня празднично одетая молодая негритянка с поклонами и приседаниями передала мне подарок — жирно откормленную курицу. Муж ее уже ходил на самодельных костылях. В другой раз — когда точно не помню — я услышал от негров о скором пришествии самого дьявола. Они были сильно перепуганы, но, самый любопытный народ на свете, не без нетерпения ждали пришествия «Черного Господина». Я долго не мог добиться толку, пока наконец кто-то из моих собеседников, желавший как можно подробнее рассказать о страшном событии, не растолковал мне, что днем наступит ночь. Сведения эти шли от местного марабу, очень авторитетного в крае. Я бросился к календарю и увидел, что и в самом деле на днях предстоит солнечное затмение, но марабу ошибся ровно на сутки — событие в правильно указанный им час должно было произойти на сутки раньше. Мне захотелось и пошутить и, что греха таить, подорвать авторитет знатного человека, тучного и на вид весьма спесивого. И я сказал неграм, что могу вызвать дьявола ровно на сутки раньше. Что тут поднялось? Население разбилось на два лагеря. Мои ребята, конечно, шли за мною, а к ним примкнули и некоторые из местных. Заколебавшиеся, усомнившиеся терзались необходимостью выбора между белым пришельцем, о котором их сородичи говорили, что он никогда не обманывал, и самым влиятельным человеком района. В конце концов с муллой остались только его родичи, старики и люди, связанные с ним долговыми обязательствами. Чем ближе шло к решительному дню, тем сильнее углублялась рознь. Негры — очень миролюбивый народ. Не дошло до схваток и на этот раз, но что делалось по вечерам в поселке, в клубе под смоковницей, какие жаркие шли споры!
В знаменательный день я дал отдых своим рабочим, и мы остались в поселке. Я роздал своим приверженцам куски закопченного стекла и прочел им целую лекцию о небесных светилах. Конечно, шли они за мной все же в полверы, оглядывались на надменного муллу и на всякий случай заперли скот по дворам и детей и женщин по кажам, а сами вооружились копьями и устрашающими масками в готовности отражать всемогущего и злого «Черного Господина».
Я бросился к календарю и увидел, что и в самом деле на днях предстоит солнечное затмение, но марабу ошибся ровно на сутки — событие в правильно указанный им час должно было произойти на сутки раньше. Мне захотелось и пошутить и, что греха таить, подорвать авторитет знатного человека, тучного и на вид весьма спесивого. И я сказал неграм, что могу вызвать дьявола ровно на сутки раньше. Что тут поднялось? Население разбилось на два лагеря. Мои ребята, конечно, шли за мною, а к ним примкнули и некоторые из местных. Заколебавшиеся, усомнившиеся терзались необходимостью выбора между белым пришельцем, о котором их сородичи говорили, что он никогда не обманывал, и самым влиятельным человеком района. В конце концов с муллой остались только его родичи, старики и люди, связанные с ним долговыми обязательствами. Чем ближе шло к решительному дню, тем сильнее углублялась рознь. Негры — очень миролюбивый народ. Не дошло до схваток и на этот раз, но что делалось по вечерам в поселке, в клубе под смоковницей, какие жаркие шли споры!
В знаменательный день я дал отдых своим рабочим, и мы остались в поселке. Я роздал своим приверженцам куски закопченного стекла и прочел им целую лекцию о небесных светилах. Конечно, шли они за мной все же в полверы, оглядывались на надменного муллу и на всякий случай заперли скот по дворам и детей и женщин по кажам, а сами вооружились копьями и устрашающими масками в готовности отражать всемогущего и злого «Черного Господина».
 В последнюю минуту, признаюсь, я и сам немного струхнул, усомнившись в точности указанной даты, — ведь могла произойти простая опечатка в календаре, и тогда, конечно, в авторитете своем среди негров я потерял бы много. Нет, все прошло точно по сообщению календаря.
Негры потрясали копьями, кричали и били в там-тамы, отгоняя нечистую силу, но вместе с тем и воздавая хвалу мне и торжествуя над бесчестным муллою. А мои ребята, все, в полном составе, столпились вокруг меня, смотрели в стекло и, посмеиваясь, удовлетворенно кивали курчавыми своими головами.
В последнюю минуту, признаюсь, я и сам немного струхнул, усомнившись в точности указанной даты, — ведь могла произойти простая опечатка в календаре, и тогда, конечно, в авторитете своем среди негров я потерял бы много. Нет, все прошло точно по сообщению календаря.
Негры потрясали копьями, кричали и били в там-тамы, отгоняя нечистую силу, но вместе с тем и воздавая хвалу мне и торжествуя над бесчестным муллою. А мои ребята, все, в полном составе, столпились вокруг меня, смотрели в стекло и, посмеиваясь, удовлетворенно кивали курчавыми своими головами.
НА «ВЕЧЕРИНКЕ»
Работы моей первой экспедиции подходили к концу. Уже почти два года был я оторван от самых примитивных удобств жизни. Я оброс окладистой бородой, перенес по неопытности и невнимательности тяжкие солнечные ожоги и загорел дочерна, и из глубины походного зеркала смотрело на меня косматое лицо какого-то балаганного страшилища. Все шло успешно. Карта громадного района, составляемая упорной и прилежной работой с помощью хороших современных инструментов, подходила к концу; отношения как с рабочими отряда, так и с местными племенами установились за время работы превосходные, на основе полного доверия. Молва обо мне как о человеке простом и точном в расчетах бежала далеко по округе. В отношениях ко мне со стороны местных жителей было сверх меры и почтительности, которая стесняла и коробила меня, и той готовности к работе, которая была мне необходима. Что до самого отряда, то уж и не говорю о помощнике моем Цезаре, преданном делу до полного самозабвения, но и, помимо него, человек пять — шесть рабочих привязались ко мне с совершенно детской искренностью и по-настоящему горевали по поводу скорой нашей разлуки… Еще в Париже часто слышал я стоеросовую глупость, что «все негры на одно лицо». С первых же дней работы встали они передо мною поодиночке, каждый со своим характером, особенностями, способностями. Прекрасный народ, отдающий делу, если оно их интересует, все свои силы. Мне подчас просто нельзя было обойтись без окрика — они увлекались работой до такой степени, что пренебрегали основными указаниями, и старались до такой меры, что работали уже не только без пользы, но иной раз и в ущерб делу. Доверишь какому-нибудь способному парню промер до вершины пологой гряды километрах в трех, а он уже давно пересек вершину и перекидывает цепь дальше, исходит потом усердия впустую, а в инструментах нехватка… В конце тяжелого трудового дня рабочие собрались в тени громадного баобаба, возраст которых, как уверяют в Африке, доходит до пяти тысяч лет. Еще светло, заходит солнце, в розовом воздухе стоит чудесная прохлада. Меня приглашают посмотреть «представление». Вот в центр широкого полукруга выходит единственный герой пантомимы. Полное безмолвие среди зрителей, обычно шумных, внимание напряжено. Артист идет медленно, почти торжественно. Вот он расставил ноги, слегка наклонился, потом крепко потер рука об руку, потер лицо, вытянул вперед руки, сложенные пригоршней, и сейчас же опять поднес их к лицу, и так несколько раз. Вот левую ладонь поставил вертикально перед главами, а правой рукой вытащил из-за пояса небольшую узкую дощечку и несколько раз провел ею по волосам от лба к затылку. Вот сел на землю, вытянул вперед босую свою ногу и обеими руками стал проделывать над нею какие-то сложные зигзагообразные движения. И каждый раз в перерыве между «действиями» в полукруге людей поднималась восторженная буря. Секреты талантливого исполнителя мгновенно разгадывались. Это все… про меня. Я умываюсь, причесываюсь, зашнуровываю свои высокие ботинки… После двух-трех недель блуждания в бруссе или голой степи, где нет никакого человеческого следа, приятно было прийти в селение, отдохнуть, привести себя в порядок, помыться. С местным населением у нас всегда устанавливались хорошие отношения. На самые простые и спокойные слова привета жители отвечали дружеской радостью. Я передавал в их руки мой сильный бинокль, и они окаменевали от этого колдовства, так смело и неожиданно обращавшегося с привычными им расстояниями. Я потешал их патефоном, к которому было у меня несколько дисков с негритянскими мелодиями. И они просили показать им маленького человека — духа, который так звучно поет. Но чем уж окончательно поражал я местных жителей, это фотографией. У меня был казенный аппарат и неограниченное количество принадлежностей к нему. Я делал одиночные и групповые снимки. И негры помирали от хохота, рассматривая себя в удивительной «жизни на бумаге». Иной восторженный паренек брел за нами десятки километров, держась в отдалении, и показывался на люди и делал руками умоляющие знаки только тогда, когда я собирался делать «жизнь на бумаге»… В праздничные вечера любил я пойти на негритянскую «вечеринку». Интересное, очень своеобразное, а поначалу и несколько пугающее зрелище! С заходом солнца гремят там-тамы, извещая о начале празднества. Сходятся — вернее, сбегаются — люди, важно выстраиваются впереди старики. С темнотой загораются факелы и приводят пейзаж в состояние фантастической пляски. Негры садятся в круг и начинают бить в ладоши. Выходят «сунгуру» — танцовщицы — обычно десять-двенадцать юных девушек, худеньких, стройных, необыкновенно пропорционального сложения — и начинают свой экзотический танец, которого не знает ни один народ мира. Их движения, поначалу очень плавные, грациозные, все учащаются. Жесты все энергичнее и быстрее. Танцовщицы подскакивают, приседают, бьют себя руками по обнаженному телу и через такт кивают головами все сильнее и сильнее. Уже их запрокидывающиеся с маху назад головы, кажется, вот-вот оторвутся, уже взор не в состоянии ловить полностью сложную игру их трепещущих, как бы бескостных тел. Их глаза наполовину прикрыты веками. Бешеный ритм и страшен, но и самого тебя втягивает в это яростное, почти исступленное музыкальное стремление. Грохот там-тамов, подчиняясь сложному ритму, сливается с мелодичной музыкой «балафонов» — длинного ряда вытянутых тыкв, наполненных до разной высоты водой и издающих сухой и приятный звон. Костер высоко бросает в ночное небо, свой извивающийся язык, трепещут красные огни факелов. В масках, в ожерельях из клыков, ракушек и камней выходят мужчины и тоже пляшут, кружатся, несутся по кругу и то взлетают на воздух, то камнем падают на землю, и вновь пускаются в бешеный пляс, потрясай копьями вокруг огня и издавая пронзительные воинственные крики, — тысячу лет назад это, наверно, было страшно; сейчас знаешь, что это только забава, дань древней традиции. В тяжкие тропические ночи у меня еще западало сердце и жестоко мучила бессонница. Часами, лежал я, ворочаясь, обливаясь потом, перед глазами всплывало раннее детство, далекая Россия, Париж, тяжелые годы нужды. Наконец я начинал засыпать, и воскрешенные памятью картины приходили в движение, фантасмагорически смешивались с видениями вечера: страшными масками, копьями, криками, пляской огня — начиналась бредовая карусель. Я стонал, просыпался. Тихо светили звезды тропического неба, грустно и глухо вскрикивала какая-то ночная птица; рядом, у догоравших костров, мирно спали уставшие за день мои помощники.«ПЛЕВАКА»
Но вот и последние дни — предписание с базы: выехать такого-то числа. Что-то будет, какая ждет меня встреча? Каковы окажутся результаты моей работы, в которой подчас отступал я от «классических норм», — и не столько потому, что уже кое в чем эти нормы ушли из памяти моей, сколько по беспокойству характера, когда кажется, что сметка, находчивость, неожиданное решение на месте лучше, вернее проторенных путей?… Я вытаскивал тяжелую, большую папку, записи, кроки, чертежи — плод долгой экспедиции — и вновь и вновь с тревогой проверял материалы. Нет, как будто все хорошо… Вот и самый последний день — расчет с рабочими, прощание. Ночь, костры, упаковка тюков с инструментами и остатками продовольствия, церемонно протягивающиеся руки, выражения признательности и верности, витиевато-сложные пожелания, просьбы возвращаться поскорее, трогательные подарки. В отряде оставался только прибывший со мною основной кадр — двенадцать человек. С ними и двадцатью носильщиками, которые должны были проводить нас до начала проезжей дороги, я и тронулся на рассвете в долгий путь. Нам пришлось пройти больше трехсот километров девственными землями. Ночи проводил я с дежурной половиной отряда у костра, под львиный рев, когда становилось всерьез страшно, а чуть начинало светлеть небо, по холодку трогались мы дальше, шли по степи и зарослям бруссы, вступали в прохладно-темные рощи «эпифитов» — огромных папоротников, растений как бы первичной эпохи. После утомительного перехода грязный и тяжелый грузовик, поджидавший нас в негритянском селении, прыгавший потом по ухабам отчаяннейшей дороги больше двух суток, показался мне райской колыбелью. На остановках шофер-негр, улыбаясь, извлекал из-под сиденья и протягивал мне бидон с теплым «пипи» — просяным пивом. База. Какое это было удовольствие — стрижка и бритье, душ, электрический свет, отдых! Мне был дан месяц для окончательного составления карты — полуработа, занятие легким делом в спокойных условиях… С непередаваемым волнением поздним вечером в день приезда долго слушал я голоса моей родины из далекой Советской России. В первые дни моего пребывания на базе произошел случай, который мог стоить мне жизни. Как-то вечером, ложась спать, я увидал на земляном полу у кровати маленькое круглое отверстие. Подумав, что это работа какого-нибудь крота, я не обратил на дыру никакого внимания. На другой день она увеличилась. Еще через день, тоже вечером, я наклонился и заглянул в глубокое отверстие. И вдруг оттуда на меня сверкнули два ярчайших рубина. Я отскочил, и тихо-тихо поднялась над отверстием голова змеи. Сильнейший страх швырнул меня в сторону, я вскочил на кровать, прижался к деревянной переборке и закричал в полном безумии. Змея медленно, со стальной напруженностью поднималась выше и выше… Мне показалось, что она вытягивается бесконечно. Под отчаянный мой крик распахнулась дверь, и вбежал сержант, спавший за стеной. Вмиг сообразив, что происходит, ловким, быстрым движением сбоку он ударил гада палкой по голове. Это была одна из самых ядовитых змей Африки — «крашёр», «плевака». Мерзкое создание имеет свою особенность — оно плюется с изумительной точностью. Слюна, задевая слизистую оболочку, вызывает сильнейшее злокачественное воспаление, а попав в глаза, выжигает их. Нередки смертельные случаи. Я обнял сержанта и долго тряс ему руку. Ловко было бы, черт возьми, после двух лет тяжелой и упорной работы и, главное, только что почувствовав уверенность в своих силах, корчась, умереть под тропиками!ДЕРЕВЯННАЯ ЛОПАТКА
На базе с грустью отрывал я каждое утро листок календаря — как быстро летело время! Утром, на самом рассвете, короткий завтрак и — за работу! В моей комнате тесовые стены, земляной пол, громадный чертежный стол. Кропотливая, хоть и неутомительная работа пробуждала во мне некоторую гордость: первая подлинная карта громадного района составлялась мною. Любой штрих на ней, извилина реки, мелкая россыпь негритянского поселка, болота, колючая мгла бруссы, горы — все решительно, до последнего оврага, пройдено ногами моими и моих чернокожих друзей, ощупано нашими руками. И сколько со всем этим перенесено страхов, бессонных ночей и подлинной опасности! Работа до жары; затем обед, за которым мало ешь, но зато поглощаешь неимоверное количество воды; отдых и вновь работа до ужина. Спускается тропическая ночь, синяя до черноты, светится громадными звездами. Иногда доносится сухой грохот там-тама — на окраине негритянского квартала происходит какое-то событие внутреннего порядка. Но вот и грохот умолкает. И из тьмы идет волнами шум — сложный, разнобойный шум тропической ночи: уханье, кряканье, короткий рев, похохатывание, стрекот. А черный, светящийся изумрудным глазком ящик радио рассказывает о жизни и новостях Европы. Население базы составляли люди не совсем обыкновенные, хотя бы по той причине, что сын векового обитателя среднего парижского квартала, наследник какой-нибудь пуговичной фабрики или москательной лавки в колонии не поедет. Это были в большинстве своем авантюристы, для которых, по русской пословице, «чужая шейка — копейка, и своя головушка — полушка»; люди превосходного физического здоровья и полного морального ничтожества, примитивного мышления и цинического подхода к жизни, совершенно лишенные понятий о чести, подлинном достоинстве и элементарной справедливости. Большинство их составляли бывшие военные. Я чувствовал себя чужим среди этих людей. Я прежде всего не понимал их отношения к неграм, с которыми прожил как-никак два года в самом тесном общении и которых хорошо узнал. Меня злило это отношение. Мои сослуживцы были люди разных характеров, социального происхождения, взглядов и навыков, но почти всех их объединяло презрение к неграм, ненасытная алчность к деньгам и участие в темных служебно-коммерческих комбинациях. — Ничего, обломают и вас колонии — и вы увлечетесь их возможностями… — говорили они с пренебрежительным холодком, почувствовав во мне человека несколько иного склада, и Нет, колонии меня не «обломали», и возможности их нисколько не увлекли. В эти дни, когда устанавливались мои личные отношения с сослуживцами и когда ясно мне стало, что отношения эти всегда будут натянутыми, одно происшествие едва не прервало мою служебную карьеру в Африке. Однажды, проходя по двору, я услышал доносящиеся из-за угла веранды странное глухое мычанье, пощелкивающие сухие удары и спокойный голос, отсчитывающий: пятьдесят четыре, пятьдесят пять… пятьдесят восемь… шестьдесят… Я подошел и увидел того самого соседа-сержанта, который несколько дней назад спас мне жизнь, убив змею. Перед сержантом, покачиваясь, стоял худенький негр. Тяжелой лопаткой черного дерева сержант мерно отпускал удары по протянутой ладони негра. Ладонь вспухла и лоснилась; глаза негра были закрыты, из-под опущенных ресниц катились слезы. Я кинулся вперед, отшвырнул сержанта, повел негра к себе в комнату, смазал его руку успокаивающим составом и перевязал ее, а сам в крайнем волнении, почти в ярости, влетел в кабинет начальника базы. Он только что уехал на один из участков, и я, не владея собой, закричал его заместителю, что, если еще раз увижу, что истязают негра, буду стрелять, что оставляю работу, рву контракт и немедленно еду в Париж, чтобы поднять дело против компании и ее людоедских порядков. Заместитель холодно, молча улыбался. Через час ко мне явились трое служащих и объявили, что я нахожусь под домашним арестом и что, если я попробую выйти из комнаты, ко мне будет применена вооруженная сила. В зале собрания шел суд. Меня обвиняли в нарушении дисциплины и в самом тяжком преступлении — в подрыве авторитета белых перед туземцами. Что мог я противопоставить моим судьям? Мое знание формального закона, запрещающего физические наказания? Но чего оно стоит перед казуистикой «кодекса Наполеона»? Мое возмущение жестокостью колонизаторов? Но на этой жестокости покоится вся административная система колоний. Мое напоминание, что негр по закону — такой же гражданин Франции, как и любой гражданин Франции, как и сами судьи? Но разве не вижу я, что лицемерная буква закона одно, а другое — вот эта подлая, бесчеловечная практика! Меня взял под свою защиту второй помощник начальника, в прошлом офицер, капитан Мартэн. Я был оправдан, хотя и после долгих пререканий в «зале суда». Может быть, судьи почувствовали, что я действительно готов на все; может быть, учитывали и мою осведомленность об их темных махинациях… Впрочем, темными махинациями занимаются здесь все. В районах католических миссий, так же как и возле колониальных баз, негры наркотическим плодам пальмы дум и листьям бетеля предпочитают ром и спирт, которые делают их более податливыми в вопросах религии и коммерции. «Отцы преподобные» занимаются не только обращением черных душ в лоно «истинной» веры и проповедью покорности на земле за райские долины после смерти, но и делишками более прозаическими. Жизнь негра в колониальной Африке сопряжена с непрестанными опасностями и страхом. Близость к белым колонизаторам страх этот увеличивает. Страх — один из источников религии. Первичный трепет перед непостижимыми явлениями природы и перед силой большей, чем располагает сам негр, свойствен ему в значительной мере. Есть у него и тяга к содействию со стороны этих непостижимых «высших сил». В дебрях Черного материка видел я глиняные и деревянные, грубо размалеванные куклы — божки стихий и добрых и злых сил. Отношение к ним, впрочем, весьма непостоянное: то подобострастное, то фамильярное, а подчас и вовсе пренебрежительное. Местами, разбросанные на большом расстоянии одна от другой, ведут свою «просветительную» работу католические миссии — и негры в тех местах считаются христианами. И опять-таки здесь все так перемешано со всяческим язычеством, что формалист-богослов не назвал бы это исповедание даже и ересью. В основе христианство принимается негром приспособительно к его нуждам: конечно, «бог-отец» помогает старикам; «бог-сын» — покровитель взрослого негра в его работе, охоте, рыбной ловле; «бог-дух» поддерживает больных и покровительствует скоту и особенно домашней птице, а богородица — заступница за женщин и никаким вниманием со стороны мужчин не пользуется. И все это самым причудливым образом переплетено с влиянием языческих культов, местными преданиями и родовыми обычаями. Бог-то бог, но не слабее его, а подчас и посильнее дьявол, поэтому надо улещивать и дьявола, а лучше всего ссорить их друг с другом, чтобы поменьше оба они уделяли внимания бедному негру. Статуэтки католических святых вполне сходят за идолов прежнего верования, и нередко в каже негра-католика можно видеть гипсовое изображение Франциска из Ассизи или Антония Падуанского, либо повешенное на веревочке головой вниз, либо смазанное салом — в зависимости от того, помог святой просившему или не снизошел до него… В колониях религия предстала перед глазами моими как одно из самых сильных государственных и классовых орудий угнетения человека. Эти очаги заразы, убивающие в человеке здравый разум, достоинство и волю к борьбе за благополучие, совершенно обнажены. Кюре или монах с крестом в руке, и рядом с ним солдат карательной экспедиции, вооруженный ручным пулеметом… В метрополии распространяются легенды о великодушии бессребреников-миссионеров, просвещающих и благодетельствующих «диких туземцев», издаются журналы, где помещаются елейно-сладкие рассказы и фотографии. Все это ложь и подлог! Кюре, окруженный черной детворой, — это кующееся новое звено каторжной цепи.КАПИТАН МАРТЭН
Старый колониальный служака, Мартэн резко отличался от остальных чиновников базы. Прежде всего он был честен, не принимал участия ни в каких коммерческих проделках и относился к неграм более или менее по-человечески. Я как-то сразу почувствовал прямоту и цельность его натуры, и у нас установились добрые отношения еще до происшествия с моим арестом. С большой головой, стриженной бобриком, с шеей в гиппопотамьих тугих складках, с глазами ясными и несколько насмешливыми, с мускулатурой борца, он был монументален и в то же время необыкновенно подвижен. Это он в первые дни моего житья на базе, когда я по природным свойствам самолюбивого человека стеснялся и конфузился на каждом шагу, оказывал мне поддержку незамысловатой шуткой, нелепым и веселым вопросом, вызовом побоксировать с ним. Человек со склонностью ко всяческим чудачествам, он подчас откалывал штучки, совершенно не шедшие к седевшим его бровям и атлетической фигуре, мог ни с того ни с сего во время серьезного разговора закричать петухом, зарычать, выкинуть замысловатое балетное антраша… Во время первой мировой войны он исколесил половину Европы, в конце кампании попал на Македонский фронт, бил там немцев, хорошо изучил сербский язык. И мне приятно было слушать древнее наречие славян. Я отвечал ему по-русски, мы понимали друг друга, и эти разговоры до чрезвычайности ему нравились. Капитан Мартэн был исключительным, циркового класса, стрелком, и на наших состязаниях в самодельном тире показывал чудеса. За время пребывания его в колониях он убил до полусотни пантер. Это цифра рекордная. Хитрого и кровожадного зверя убить нелегко — это всегда единоборство со смертью. Он сам отлично умел очистить и выделать шкуру зверя и, старый холостяк и романтик, живший воспоминаниями о войне, посылал во Францию эти свои трофеи в подарок женам и дочерям боевых товарищей. Может быть, в шумной толпе Больших Бульваров и сам я встретил когда-нибудь парижанку, не подозревающую, что шубка на ее плечах в какой-то миг прошлого была смертной угрозой капитану Мартэну. Он был, кроме того, очень музыкален, и в его домике из двух комнат лежал целый набор разнообразных музыкальных инструментов, из которых остальным предпочитал он кларнет и скрипку. Репертуар его был очень обширен. Он по справедливости мог считаться знатоком классической музыки и не раз баловал меня Чайковским, Глинкой, Даргомыжским. Но мало и того — капитан Мартэн был любителем-орнитологом. Он изучил множество птичьих пород под тропиками, собирался при поездке в Париж представить в Академию наук свой большой труд о птицах, и дом его доверху был уставлен чучелами пернатых: от огромного орла с размахом крыльев почти в два с половиной метра до витрины изумительных райских пичужек, расцветки столь радостно-сказочной, что нельзя было оторвать глаз от этой ювелирной роскоши. Из двух страстей — орнитологии и музыки — родилось у капитана Мартэна еще одно чудачество. В здешних краях существует довольно редкая порода птиц с толстым, почти как у попугая, языком. Птицы эти певчие, но не с собственными, а с заимствованными трелями. Вероятнее всего, что это порода дроздов. Капитан Мартэн во время своих поездок по рабочим участкам отбирал птенцов, сам их выкармливал и в известном возрасте, когда птица начинает взрослеть и тяготиться безмолвием, с величайшим упорством и терпением обучал своих питомцев музыке и пению. В то время у него было девять птиц, из которых четыре взрослые. Четверка эта готовилась к подлинному музыкальному ансамблю. Участницы его жили в особом помещении с глухими стенами, в возможной изоляции от всяких посторонних звуков. И когда мы входили в это помещение, Мартэн просил нас не разговаривать и не смеяться, чтобы не соблазнять талантливых музыкантов новыми и ненужными возможностями тратить свои подражательные способности. Эти четыре птицы обучались каждая порознь звуку того или иного музыкального инструмента и определенной мелодии. Мне особенно нравилась довольно упитанная, несколько даже похожая на курицу, особа, гнусаво и с жужжанием, совершенно изумительно по точности, передававшая звуки виолончели. Эта компания — квартет из двух скрипок, кларнета и виолончели — должна была полностью играть марш из «Фауста». И Мартэн уверял, что он своего добьется… Капитан Мартэн был единственным интересным и достойным уважения человеком на всей базе. Между ним и его сослуживцами — крупными и мелкими хищниками, морально убогими человекоподобными — лежала пропасть. В колонии привела его не корысть, а одиночество, разочарование в послевоенной Европе и то прирожденное тяготение к опасностям, которое свойственно натурам в хорошем смысле авантюристическим. При всех его чудачествах он был умен, достаточно образован, начитан, любознателен и, как я уже сказал, добр и справедлив. Но и ему недоставало широты кругозора, последовательности и силы суждений, правильного подхода к вопросу о взаимоотношениях между колонизаторами и цветными. Далек тогда от полной ясности в этом вопросе был и я сам, но все же отчетливее, чем он, видел я самый узел противоречий и их причины, — может быть, потому, что Мартэну не пришлось испытать тех унижений, сомнений, нищеты и обид, которые выпали на мою долю. — Если вы, старина, с такой горячностью будете подходить к каждому пустяку вроде сегодняшнего, — говорил он мне в тот день, когда происходил «суд» надо мной, — то через год вы или очутитесь в Шарантоне [50], или закинете веревку за сук баобаба. Я вас отлично понимаю и не собираюсь спорить с вами. Так же как и вы, я знаю, что негр — это не рабочая скотина и не получеловек, а просто человек. Какую, к черту, культуру, какую мораль можем мы принести этим девственным людям, сами насквозь прогнившие!.. В нашей «культуре», в наших социальных отношениях будет большой скачок вперед, если мы научимся таскать друг у друга только из кармана, а не прямо изо рта. Нет, чем больше я смотрю на людей, тем больше становлюсь мизантропом. В конце концов, пропади они пропадом! Что до меня, то я уже давно решил быть в меру моих способностей честным человеком просто в личной жизни, в малом кругу моих общений с людьми. Наплевать на других! С ними рано или поздно расправится история… Самый просвещенный, честный, гуманный человек среди моих сослуживцев дальше упований на историю не шел.СНОВА В БРУССУ
 В тот месяц моих полуканикул пережил я и несколько дней страха. На базе разнесся слух, что невдалеке обнаружена малярия. Малярия Сенегала и Гвинеи губительна, страшна. Белому нет от нее никакого спасения, да невелик процент и местных жителей, способных перенести проклятую болезнь. В день-два селезенка и печень больного распухают до чудовищных размеров, перерождаются, становятся пористыми и поддаются под ничтожным нажимом, как масло. Малярийный комар анофелес в тех местах имеет свою особенность. Места влажные, болотистые в большинстве своем совершенно свободны от лихорадки. И вот мерзкое насекомое избирает человеческие скопления, заводится обычно в наиболее грязной части негритянского селения и поражает только определенный, пространственно незначительный район. Километра два-три в бруссу — и вы уже гарантированы от смертоносного укуса. Все это позже я познал на опыте, а мне не раз приходилось работать в таких местах, что просто руки опускались, — в долинах, столь пересеченных болотами, что охватывало меня истинное отчаяние перед собственной беспомощностью.
Но, махнув рукою на все, я выбирал мель, без страха входил в воду и опускал свою неуклюжую треногу с теодолитом над беспредельным зеркалом. Так иногда приходилось мне работать по нескольку дней, лишь от времени до времени выбираясь на берег, чтобы передохнуть, и снова лезть в теплую воду.
Иногда опускалась на болото стая в несколько сот голенастых птиц, шумела, кричала, била крыльями, поднимала водяные бураны. Я стоял, зачарованный этой игрой. И когда любопытная птичья армада приближалась ко мне вплотную, приходилось отгонять ее выстрелом. Птицы взмывали бурно и с криками улетали вдаль…
Но вот карта моя окончена, одобрена и принята даже с обещанием хлопот о премии. Через день начальник сообщил, что скоро придется мне выезжать в новую экспедицию, более далекую и ответственную, чем первая. Признаться, жаль мне было покидать свою дощатую чистенькую комнату, вечерние разговоры с добродушным богатырем Мартэном и волшебный ящик радиоприемника, переносивший меня на поля далекой моей северной родины. Единственное, о чем я просил, — это чтобы мне разрешили взять с собой моего помощника по первой экспедиции — седовласого отважного Цезаря. Разрешение было дано. Сам же Цезарь, почтенный начальник, даже начал притопывать и во все свое, обычно суховатое, лицо улыбаться от радости. Был он по натуре подлинным энтузиастом межевых работ и, наверно, грезил, что на его мусульманском небе каждому праведнику подарят не только по нескольку гурий, но и по теодолиту.
В тот месяц моих полуканикул пережил я и несколько дней страха. На базе разнесся слух, что невдалеке обнаружена малярия. Малярия Сенегала и Гвинеи губительна, страшна. Белому нет от нее никакого спасения, да невелик процент и местных жителей, способных перенести проклятую болезнь. В день-два селезенка и печень больного распухают до чудовищных размеров, перерождаются, становятся пористыми и поддаются под ничтожным нажимом, как масло. Малярийный комар анофелес в тех местах имеет свою особенность. Места влажные, болотистые в большинстве своем совершенно свободны от лихорадки. И вот мерзкое насекомое избирает человеческие скопления, заводится обычно в наиболее грязной части негритянского селения и поражает только определенный, пространственно незначительный район. Километра два-три в бруссу — и вы уже гарантированы от смертоносного укуса. Все это позже я познал на опыте, а мне не раз приходилось работать в таких местах, что просто руки опускались, — в долинах, столь пересеченных болотами, что охватывало меня истинное отчаяние перед собственной беспомощностью.
Но, махнув рукою на все, я выбирал мель, без страха входил в воду и опускал свою неуклюжую треногу с теодолитом над беспредельным зеркалом. Так иногда приходилось мне работать по нескольку дней, лишь от времени до времени выбираясь на берег, чтобы передохнуть, и снова лезть в теплую воду.
Иногда опускалась на болото стая в несколько сот голенастых птиц, шумела, кричала, била крыльями, поднимала водяные бураны. Я стоял, зачарованный этой игрой. И когда любопытная птичья армада приближалась ко мне вплотную, приходилось отгонять ее выстрелом. Птицы взмывали бурно и с криками улетали вдаль…
Но вот карта моя окончена, одобрена и принята даже с обещанием хлопот о премии. Через день начальник сообщил, что скоро придется мне выезжать в новую экспедицию, более далекую и ответственную, чем первая. Признаться, жаль мне было покидать свою дощатую чистенькую комнату, вечерние разговоры с добродушным богатырем Мартэном и волшебный ящик радиоприемника, переносивший меня на поля далекой моей северной родины. Единственное, о чем я просил, — это чтобы мне разрешили взять с собой моего помощника по первой экспедиции — седовласого отважного Цезаря. Разрешение было дано. Сам же Цезарь, почтенный начальник, даже начал притопывать и во все свое, обычно суховатое, лицо улыбаться от радости. Был он по натуре подлинным энтузиастом межевых работ и, наверно, грезил, что на его мусульманском небе каждому праведнику подарят не только по нескольку гурий, но и по теодолиту.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ
В долгие вечера, в часы безделья и одиночества, я приглашал к себе в палатку моего помощника и друга Цезаря, и мы просиживали подчас до рассвета за чаем, который он очень любил. С возбуждением рассказывал я своему собеседнику о моем прошлом: о далекой родине, о громадных ее пространствах, значительно больших, чем в Африке, о морозных утрах, о шубах, о холодах, когда мясо надо строгать, как дерево, а вода делается твердой и принимает форму сосуда. Цезарь морщил лоб, переспрашивал, просил объяснить как можно подробнее ту или иную часть моего рассказа, вновь переспрашивал. И мне было понятно, что как ни напрягал он свою безудержную фантазию, все было слишком далеко от дорог его воображения. Но однажды ему. пришлось соприкоснуться с тем таинственным миром, которого не знают люди Черного материка, — ему показали на базе кусок искусственного льда. Это потрясло его на всю жизнь, оставив впечатление мистической и устрашающей силы. Закрыв глаза от вдохновения, он рассказывал, как были обожжены его пальцы, когда он взял в руки кусок льда, как лукаво, издеваясь над ним, ускользал из его рук этот продукт чужого мира, как он, в конце концов, от страха бросил его на землю — и тот мгновенно исчез. Он называл лед стеклянным солнцем,источающим воду, и долго рассказывал об этом непостижимом для него явлении… — Скажи, пожалуйста, что такое золото? — спросил меня однажды Цезарь. — Ты видел часы и кольцо у капитана Мартэна?… Это металл желтого цвета, вроде железа, но только очень редкий. — Вроде железа? — Цезарь лукаво улыбнулся. — А почему белые так любят золото? В меру моих знаний я рассказал Цезарю о начале торговли между людьми, о международной финансовой системе, о золотом эталоне. — Хорошо. Вот ты платишь нам деньги, на деньги мы покупаем бобы, просо, ситец. Но ведь ты платишь нам за то, что мы работаем. Тебе тоже платят деньги за то, что ты работаешь. Капитану Мартэну — тоже. Почему же человеку, который не работает, а просто имеет золото, дают все, что ему хочется? Я снова пустился в объяснения, но, как ни странно, Цезарь на этот раз не проявлял того внимания, с которым он всегда меня слушал. Больше того, мне показалось, что он таит что-то лукаво-злокозненное, веселое и торжествующее над тем, что я ему рассказывал. — А у нас есть свое предание о золоте… — потягивая крепкий, перепаренный до того, что от него пахло банным веником, чай и улыбаясь, сказал Цезарь. — На нашей черной земле где-то очень далеко тоже есть золото. И вот однажды наши люди нашли большой запас этого металла. Тогда они пошли к белым, которые были очень жестоки и жадны, и предложили им, чтобы они за золото отпустили на свободу негров-рабов и дали еды и оружия. Белые согласились. Они хотели погрузить мешки с золотом в свои лодки и уплыть к себе. Но негры потопили лодки, и белым пришлось остаться на месте. А так как ни один из наших людей не согласился дать им за их жестокость и горсти бобов, то они скоро умерли от голода на своих мешках с золотом… Это старая сказка, но она правильная — так и надо делать! И чтобы везде так было. — Что делать? — Кормить людей только за их работу, как делает земля. Ведь сколько ни суй в нее золота, все равно не вырастет ни колоса…АФРИКАНЦЫ ТОПОРКОВЫ
На базе мне сообщили, что по моей дороге месяца через четыре будет лежать негритянский поселок, куда недавно назначили техника-практика, специалиста по ирригации, происхождением русского. Не без нетерпения приближался я к поселку, потом не выдержал и отправился туда раньше предположенного времени. Техника я нашел на берегу реки, где он работал во главе большого отряда. Услышав русский язык, он остолбенел, потом ринулся на меня и крепко стиснул в железных объятиях. Он оказался донским казаком. В девятьсот шестнадцатом году с «Особым корпусом» он прибыл во Францию, ера жался под Реймсом, был ранен у Шалона и послан в тыл, а после революции в Россм был арестован как «ненадежный» и отправлен в злосчастный лагерь Куртин. Оттуда после жестокой расправы с безоружными русскими солдатами, требовавшими отправки их домой, был насильно увезен в Африку и зачислен в Иностранный легион. Отбыв срок контракта, человек энергичный, но простодушный и доверчивый, он вновь начал хлопоты о переезде на родину. Увы, в те времена между Францией и Советской Россией еще не существовало дипломатических отношений. В организации Красного Креста, куда он по чьему-то совету обратился, чиновник с раздражением ответил ему, что забота о психических больных в компетенцию учреждения не входит. Толкнувшись со своей заботой еще в кое-какие двери и всюду получив отказ, потужив, погоревав, он принял предложенное ему место в Западной Африке. Однако и тут он не успокоился и начал осаждать министерство колоний требованиями об отправке его на родину. Дело кончилось вызовом его на базу, тоже в Бамако. Здесь вместе с соответствующим суровым внушением его предупредили, что, если он не перестанет «мутить воду», то его арестуют и вышлют во Францию, где он будет предан суду как «нежелательный иностранец» и надолго сядет в тюрьму. Тогда он обратился к капитану Мартэну, о котором слышал много хорошего, с просьбой составить ему бумагу «потолковее». Через полгода из министерства колоний пришел ответ с отклонением его ходатайства как «бессмысленного» и со ссылкой на приложенное к документу обширное «свидетельство». В этом «свидетельстве», написанном по-русски, сообщалось, что все казаки истреблены еще в первые годы советской власти и что сама Донщина давно заселена выходцами из Сибири… Лысый, широкогрудый, меднолицый и трубноголосый, он сейчас же сдал работу помощнику и потащил меня в поселок показывать свою «хату». В глинобитном беленом домике, похожем не на негритянскую кажу, а на мазанку Полтавщины, нас встретила церемонным поклоном рослая, полная белозубая негритянка в ситцевом платочке, повязанном по-русски, и отчетливо сказала мне: — Милости просим! — Познакомьтесь, — сказал хозяин. — Елена Петровна… А это наш соотечественник. У них папаша, значит, француз, а мать-то наша, русская, значит, и он русский. Дом был в три комнаты, светлый и чистый. В приятном порядке стояли самодельные столы, кровати и табуретки из драгоценных древесных пород. В высоком шкафу висели платья и лежало белье, и у одной из стен стояла даже «горка», белела за стеклом чайная посуда — только самовара и не хватало… И со всех сторон тянулись к нам маленькие негры — дети черной Елены Петровны и белого Степана Евстигнеевича Топоркова, русского человека; черные русские дети — пузатые, курчавые, галдящие, сверкающие зубами и белками глаз. Было их всего четверо, а мне казалось, что их не меньше десяти. Они лезли на скамьи, на стол, на мои колени, с полной бесцеремонностью теребили меня — второго в их жизни белого человека. И в беспрестанном их щебете мне ясно слышались русские слова. В цвете их тел была странная пепельность, а в форме лиц с удивлением замечал я некоторую выпуклость скул. Все они говорили казаку «папа» или «тата». — Я в этих местах уже давно, — рассказывал хозяин, когда под тенью навеса во дворе потягивали мы приятный, охлажденный в речной воде и хорошо убродивший сок виноградной пельмы. — Ой, как горько в первые годы было! И мне не рассказать, и не понять тому, кто сам подобного не пережил! Главное, слова вымолвить не с кем. Ведь хоть тысячу верст скачи по проклятым степям, до русского человека не доскачешь!.. Не верю, не верю и ни на минуту не поверил я этой проклятой бумажке! — говорил он, тыча крепким пальцем в «свидетельство». — Быть того не может, чтобы пропала страна наша русская, громадная!.. Не пересохли Дон и Маныч. Может, и станица наша уцелела. А может, еще и старуха моя бродит где-нибудь, по-матерински ждет, не верит в сыновью смерть… Глаза покраснели. Он продолжал: — От одиночества и тоски места себе не находил. Потом шибко пить начал… И пропал бы по буйности натуры, кабы вот ее, Аленушку мою, не встретил. Пожалела она меня, поняла. Поженились мы, и легче мне стало. А уж как детишки пошли, и вовсе как будто я успокоился. То есть, конечно, не совсем, тоска по родным местам сосет. Зачем казаку в Африке жить, разве она наша? Но с другой стороны, семья-то ведь везде семья, к месту привязывает. А что черные, то это, я так догадываюсь, солнца здесь очень много, вот и всё. Попали бы мы, русские, под такое солнце на тысячу лет, и мы бы почернели… Негры — народ добрый, простой, вроде нашего, душевный, доверчивый, любезный. Плохо, конечно, что до грамоты их не допускают, но тут разбойники-хозяева за свой интерес стоят… А баба у меня хорошая, хозяйственная и ласковая. И на ребят пожаловаться не могу. Умные ребята… Ведь как поначалу скучал я, одиночкой, а теперь вот уже шестеро нас, русских. Есть с кем душу отвести…
Он обнял за плечи старшего мальчика, тихо ластившегося к нему во время рассказа, и погладил по курчавой, как самый мелкий каракуль, головке. Мальчик благодарно прижался к нему.
— От одиночества и тоски места себе не находил. Потом шибко пить начал… И пропал бы по буйности натуры, кабы вот ее, Аленушку мою, не встретил. Пожалела она меня, поняла. Поженились мы, и легче мне стало. А уж как детишки пошли, и вовсе как будто я успокоился. То есть, конечно, не совсем, тоска по родным местам сосет. Зачем казаку в Африке жить, разве она наша? Но с другой стороны, семья-то ведь везде семья, к месту привязывает. А что черные, то это, я так догадываюсь, солнца здесь очень много, вот и всё. Попали бы мы, русские, под такое солнце на тысячу лет, и мы бы почернели… Негры — народ добрый, простой, вроде нашего, душевный, доверчивый, любезный. Плохо, конечно, что до грамоты их не допускают, но тут разбойники-хозяева за свой интерес стоят… А баба у меня хорошая, хозяйственная и ласковая. И на ребят пожаловаться не могу. Умные ребята… Ведь как поначалу скучал я, одиночкой, а теперь вот уже шестеро нас, русских. Есть с кем душу отвести…
Он обнял за плечи старшего мальчика, тихо ластившегося к нему во время рассказа, и погладил по курчавой, как самый мелкий каракуль, головке. Мальчик благодарно прижался к нему.
 — Что дальше буду делать, не задумываюсь. Пропасть — не пропадем. Даст бог день, как говорится, даст и пищу. Руки здоровы, и голова на месте. Да все же и скопил я кое-что за эти годы. Я насчет будущего говорю. Образование надо будет детям давать, а как это сделаешь, когда сам-то я малограмотный. Ведь тут и букварь русский нужен, и арифметика, и, там, история да география, и чтобы все правильно, на своем, на русском языке. А где все это достанешь? Эх, обрубила судьба концы!.. А то ведь их и на Дон послать не стыдно было бы — пловцы они все у меня отменные, рыболовы хорошие, прирожденные речные жители…
Веселоглазый курносый мальчик лет семи, Сенька, жадно слушал нашу беседу. Отец подтянул его к себе, легонько шлепнул его по ситцевым полосатым штанишкам и засмеялся…
На склоне дня осматривал я крепкое хозяйство Топорковых: скотный двор, и птичник, и большой огород с необычно широкими русскими грядами, остро и пряно пахнувшими к вечеру, и слушал сетования хозяина на то, что земля здесь хорошая, тучная, урожайная, а все-таки чужая, не выгонишь на ней ни вишни, ни яблони, ни крыжовника. А потом ел прекрасный борщ, вкус которого давно забыл, и слушал лихие донские песни в исполнении домашнего хора. Хозяин ни за что не хотел отпускать меня. И мне пришлось прожить два дня в обществе черных казачат, с которыми я очень подружился. На рассвете третьего дня я сердечно прощался с гостеприимным Степаном Евстигнеевичем Топорковым. Он был возбужден до крайности. Весь предыдущий день мы проговорили о России. Он ничего не знал — не знал о том, что фабрики, заводы и земля давно стали собственностью народа; о том, какой расцвет во всех областях жизни переживает новая Россия; о том, как семиверстными шагами идет она к своему прекрасному будущему; о том огромном влиянии, которое оказывает она на всех трудовых людей в мире… Он долго тряс мне руку, обнимал, просил писать ему («только буквы покрупнее») и при первой же поездке в Европу узнать как можно подробнее, что происходит на Донщине…
— Разбередили вы мою душу! С новыми силами теперь правды добиваться буду. И добьюсь! — стукнул он по столу тяжелым, как кувалда, кулаком. — Любую стену теперь прошибу! Надо будет — всем скопом через целый свет пешком пойдем, а до своих краев доберемся. На родной земле и солнце краше, и кусок черствого хлеба слаще заморских ананасов…
«Зачем казаку жить в Африке, ведь она не наша!» — вспомнилось мне. И я отчетливо представил себе уроженцев Черного материка — Сеню Топоркова и его братишек, «речных жителей», — на берегах широководного Дона…
— Что дальше буду делать, не задумываюсь. Пропасть — не пропадем. Даст бог день, как говорится, даст и пищу. Руки здоровы, и голова на месте. Да все же и скопил я кое-что за эти годы. Я насчет будущего говорю. Образование надо будет детям давать, а как это сделаешь, когда сам-то я малограмотный. Ведь тут и букварь русский нужен, и арифметика, и, там, история да география, и чтобы все правильно, на своем, на русском языке. А где все это достанешь? Эх, обрубила судьба концы!.. А то ведь их и на Дон послать не стыдно было бы — пловцы они все у меня отменные, рыболовы хорошие, прирожденные речные жители…
Веселоглазый курносый мальчик лет семи, Сенька, жадно слушал нашу беседу. Отец подтянул его к себе, легонько шлепнул его по ситцевым полосатым штанишкам и засмеялся…
На склоне дня осматривал я крепкое хозяйство Топорковых: скотный двор, и птичник, и большой огород с необычно широкими русскими грядами, остро и пряно пахнувшими к вечеру, и слушал сетования хозяина на то, что земля здесь хорошая, тучная, урожайная, а все-таки чужая, не выгонишь на ней ни вишни, ни яблони, ни крыжовника. А потом ел прекрасный борщ, вкус которого давно забыл, и слушал лихие донские песни в исполнении домашнего хора. Хозяин ни за что не хотел отпускать меня. И мне пришлось прожить два дня в обществе черных казачат, с которыми я очень подружился. На рассвете третьего дня я сердечно прощался с гостеприимным Степаном Евстигнеевичем Топорковым. Он был возбужден до крайности. Весь предыдущий день мы проговорили о России. Он ничего не знал — не знал о том, что фабрики, заводы и земля давно стали собственностью народа; о том, какой расцвет во всех областях жизни переживает новая Россия; о том, как семиверстными шагами идет она к своему прекрасному будущему; о том огромном влиянии, которое оказывает она на всех трудовых людей в мире… Он долго тряс мне руку, обнимал, просил писать ему («только буквы покрупнее») и при первой же поездке в Европу узнать как можно подробнее, что происходит на Донщине…
— Разбередили вы мою душу! С новыми силами теперь правды добиваться буду. И добьюсь! — стукнул он по столу тяжелым, как кувалда, кулаком. — Любую стену теперь прошибу! Надо будет — всем скопом через целый свет пешком пойдем, а до своих краев доберемся. На родной земле и солнце краше, и кусок черствого хлеба слаще заморских ананасов…
«Зачем казаку жить в Африке, ведь она не наша!» — вспомнилось мне. И я отчетливо представил себе уроженцев Черного материка — Сеню Топоркова и его братишек, «речных жителей», — на берегах широководного Дона…
ЖИЗНЬ ПРИКАЗЫВАЕТ
Вновь тряска на грузовике по невозможной дороге. За нею — дни пеших походов, ночи среди бушующей звуками тропической тьмы и блуждания уже совершенно без всяких дорог по первозданной целине с компасом в руках. Новый район мой отстоял почти на полторы тысячи километров от мест первой экспедиции. Шутка ли — полторы тысячи километров, расстояние от туманного Парижа до жаркого Неаполя! Но и тут все то же: та же брусса, те же нищие поселки, те же голодные негры, те же тяжелые корзины на головах у женщин, те же худенькие пузатые голые дети с просящими глазами, те же мечети со страусовыми яйцами на глиняных куполах. Позже, впрочем, увидел я и особенности нового края. Здесь уже попадались люди из недалекой отсюда Дагомеи. Не только во внешнем облике, но и в обычаях они значительно отличаются от коренного населения. В этих местах довольно часто встречается железная руда. Металл выплавляется примитивными методами. Строится высокая глиняная домна с прямой трубой, засыпается кусками руды и раскаляется снизу громадными поленьями особых древесных пород, дающих очень высокую температуру. Конечно, железо получается нечистое, шлак откидывается лишь поверхностно, грубо, но все же и оно при закалке дает материал, вполне пригодный для выработки топоров, молотков и наконечников для копий и стрел. Металлургия находится почти исключительно в руках предприимчивых марабу, которым их промышленный доход и священные требы дают возможность жить значительно богаче своих прихожан и приобретать не только зонтики и шляпы из рафии, но и европейское платье давно вышедших из моды покроев — а всякая гнилая дрянь, завалявшиеся на складах запасы полувековой давности неизменно ведь направляются из Европы в колонии, где все найдет сбыт. Меня снабдили на базе недоброкачественными галетами и сухарями. Я купил несколько мешков муки, а об остальном позаботился наш находчивый Цезарь. Мы выпекали хлеб в брошенных муравьями термитниках. Гигантские постройки в человеческий рост и выше оказались как нельзя более подходящими для хлебопечения. Цезарь очищал и расширял центральное помещение муравьиного дворца и сильно его отапливал. Сложные коленчатые ходы были словно специально сделаны для печи. Цезарь выметал уголь, подстилал листья растений, замазывал глиной отверстия ходов, и хлебы выпекались лучше, чем в иной европейской булочной. Свежий хлеб с медом диких пчел, поселения которых открывали мы во множестве, был новым нашим лакомством в этой экспедиции. Много и горестного и отрадного связалось у меня в сердце и памяти со вторым этапом моей работы под тропиками. Я был уже вполне африканцем, безошибочно ориентировался в звездном небе, по местным признакам определял приближение грозы и близость льва, ознакомился с тамошней фармакопеей, умел принять на ночь все меры предосторожности против ядовитых насекомых и знал уже около тысячи негритянских слов. Но эта экспедиция не только сделала меня более зрелым, опытным, сильным — она дала мне идейный костяк, открыла мне глаза на правду и заставила в дальнейшем эту правду, в меру сил, отстаивать… Еще в последние дни моего пребывания на базе капитан Мартэн показал мне письмо от одного из его друзей из Парижа, в котором рассказывалось о случае, не очень значительном, но для моего тогдашнего психического состояния весьма убедительном и ярком. Сам Мартэн к этому малозначительному происшествию отнесся с рассеянной благожелательностью и резюмировал сообщение короткой фразой: «Даю слово, на месте этого молодца я поступил бы точно так же». Происшествие же состояло вот в чем: депутат французского парламента от Гваделупы — негр, окончивший Парижский университет и, по предположению рассказчика, даже имеющий ученую степень, ехал однажды по железной дороге — и, как и подобает в силу его общественного положения, в вагоне первого класса. На одной из станций в купе вошел новый пассажир — американец, турист. Увидев негра, лежавшего с книжкой в руках на своей койке, американец вызвал проводника и потребовал, чтобы немедленно «убрали отсюда черную скотину». Проводник начал что-то возражать; американец замахнулся на проводника тростью, но тут спокойно поднялся силач-негр и сделал из заокеанского жителя, как сообщает корреспондент, «прекрасную отбивную котлету». На первой же остановке он выбросил американца из вагона. В дальнейшем соответствующее представление американского посольства французскому правительству ни к чему не привело. Прочитав с большим удовлетворением об этом случае, я вспомнил первую встречу с проявлением на моих глазах подлой расовой дискриминации. Это произошло еще по дороге в Африку, на пароходе. Ударил гонг к обеду, и я направился в столовую. За небольшим столиком напротив моего места уже сидел пожилой сумрачный человек. Он сдержанным приветствием по-английски ответил на мой поклон. Я опустился на стул и развернул салфетку. Нас обслуживал пожилой негр. Он почтительно склонялся к прибору клиента и, подав блюдо, отходил, плавно пятясь, словно в каком-то длительном придворном реверансе. Мне стало неприятно: вспомнились «гарсоны» дешевых и многолюдных парижских харчевен «для извозчиков и шоферов» — веселые, простые и прямые ребята. Подавая второе блюдо, негр вдруг поскользнулся, металлический поднос в его руках слегка накренился, фарфоровый соусник скользнул к краю, упал и разбился у ног моего визави. Шея англичанина вдруг начала раздуваться, как жабры; в бесцветных его глазах загорелась такая ненависть и вместе с тем брезгливое презрение, а робкий взгляд негра, втянувшего голову в плечи, исходил таким страхом и мольбой, что у меня сжалось сердце. В раннем детстве в осенний дождливый день я видел, как, доведенный от отчаяния невылазной грязью дороги, пьяный мещанин соскочил с телеги и начал кнутом бить приставшую лошадь по глазам. И на всю жизнь запомнил выражение этих глаз: их страх, непонимание, мольбу, боль и покорность. Англичанин встал, швырнул салфетку, сказал сквозь зубы: «Черная скотина!» — и ушел, не кончив обеда. Негр, непрерывно кланяясь перед уже пустым местом и прижимая руку к груди, пятился спиной к двери. Мне хотелось свернуть накрахмаленную салфетку в тугой жгут, догнать представителя «великой нации» и иссечь его каменное лицо, эту маску профессионального высокомерия и самоупоенной спеси. Официанта уже заменили другим. Я тоже поднялся — меня тошнило от злости. На другой день я увидел у одного из трапов согбенную фигуру негра, несшего тяжелый мешок. Я остановил его. Он меня узнал и опустил мешок на пол. Я подал ему руку. Он растерянно на нее смотрел, потом, боязливо улыбаясь, протянул свою, но, не коснувшись моей, быстро ее отдернул, и я поздоровался с ним «насильно». Это был старик с очень усталым лицом. Сквозь дыры прожженного старого комбинезона просвечивало глянцевое его тело. Старик бегло говорил по-французски и по-английски. Я напомнил ему о вчерашнем случае и ждал его откровенного мнения о нем — по его несмелой, но доверчивой и доброй улыбке я видел, что расположил его к себе. К удивлению моему, в ответных его словах не услышал я не только жалобы, но и ни оттенка какой-нибудь обиды. Когда я попытался разъяснить ему всю возмутительную несправедливость в поведении англичанина, лицо моего собеседника застыло в выражении страха и раскаяния. — Нет, нет, мсье, не утешайте меня, во всем виноват я. Ведь он не только белый — он англичанин! — как будто напоминая об общеизвестной и давней истине, воскликнул он. Я ничего не мог добиться. Мы отошли в сторону и разговорились. Негр еще ребенком был продан белым; работал в одном из больших ресторанов Парижа, подавал кофе; потом долгое время служил лифтером, потом разносчиком в модном магазине и опять в ресторанах — официантом. За свою жизнь он немало побродил по свету и повидал людей. Он помнил свое далекое детство, родителей, братьев и сестер, постоянный голод, нищету, страхи, вечное ожидание всяческих напастей, вечную тоску по горсти проса из маниока. Весь жизненный опыт привел его к одному убеждению — если белый живет сытно, спокойно, богато и весело, если он свободен, хорошо вооружен против зверя и крепко защищен от непогоды своими домами и одеждой, то, значит, он умнее, сильнее, ценнее негра, живущего в постоянных лишениях. — Неужели вы встречали только богатых среди белых? — О нет! — ответил он. — Но и самый бедный из белых живет в тысячу раз лучше негра. Негра за малейшую провинность перед белым часто просто убивают. Нет, мы очень слабы, мы не рождены для счастья… Закрыв глаза, он унесся в дебри каких-то странных и удивительных мечтаний. — Мне очень хочется жить, мсье, — торопливо говорил он. — Хочется жить спокойно, сытно и счастливо, но я верующий человек и набожный католик. Я не знаю всех тонкостей религии, но уверен, что на небе люди не разделяются по цвету кожи, и слышал, что на том свете покойники могут за правильную жизнь стать ангелами и ангел имеет право снова прийти на землю. Поверьте мне, мсье, что на том свете я буду вести себя очень, очень хорошо, я буду вести себя примерно. О, я уже не уроню там ни одного соусника! — засмеялся он. — Тысячу, две тысячи, десять тысяч лет я буду добиваться своего, и когда стану ангелом, то потребую, чтобы меня снова опустили на землю, и тогда я рожусь только англичанином. Это самые сильные люди на свете и самые счастливые. — И вы будете бить негров? — О нет, мсье, что вы! — с горячностью ответил он. — А разве вы видели англичанина с сердцем негра? Он замолчал. Видимо, ему такая мысль никогда не приходила в голову, и сейчас ему не хотелось расставаться с давно выпестованной мечтой. Но выхода не было, и он печально ответил: — Вы правы. Проклятая черная кожа! Прочитав присланные Мартэну строки о негре-депутате, я подумал: «Если негр, познавший свои человеческие права, в отстаивании этих прав способен избить обидчика-белого, то мой старик уже не может быть представителем своих соплеменников. Он не умеет разобраться в жизни, потому что сознание его забито и устрашено всей каторжной рабовладельческо-колонизаторской системой. Нет, старик не типичен».МСТИТЕЛЬ
 Однажды, изрядно уставшие, поздним утром подходили мы к лежавшему на нашей дороге лесу, чтобы укрыться от жары, как вдруг оттуда бросился к нам какой-то негр. Он что-то кричал и размахивал копьем. Несколько моих спутников заслонили меня от него. Он остановился и закричал еще пронзительнее. В его словах я разбирал только одно: «Отойдите, я убью его, я должен убить белого!..» Подбежавшие к нему рабочие обезоружили его и держали за руки. Он яростно вырывался. Я приказал отпустить его и приблизился к нему. Он смотрел на меня с никогда не виданной мною в человеческих глазах ненавистью. Это был стройный, мускулистый юноша. Я сказал неграм, чтобы они оставили нас вдвоем. И они отошли, продолжая что-то убедительно кричать стоящему передо мной. Его грудь ходила, как после долгого бега. Он измерял меня взглядом с головы до ног, готовый вот-вот броситься на меня.
— Ты боишься, что я окажусь сильнее тебя? Тогда, может быть, тебе поможет вот это? — сказал я, отстегнув от пояса и протягивая негру большой охотничий нож.
Он отступил на шаг. Лицо его стало каменным, сжатые губы перекосились, ненависть во взгляде сменилась смятенностью.
— Ты не настоящий белый! — Голос его дрогнул. — Ты… ты плохой белый! — выкрикнул, почти взвизгнул он и, резко повернувшись и сжав кулаки, побежал к лесу.
Признаюсь, эта встреча меня сильно взволновала. Вечером рабочие сказали, что будут охранять мою палатку. Я отказался от охраны — я знаю, как переменчивы чувства темпераментных людей.
Однажды, изрядно уставшие, поздним утром подходили мы к лежавшему на нашей дороге лесу, чтобы укрыться от жары, как вдруг оттуда бросился к нам какой-то негр. Он что-то кричал и размахивал копьем. Несколько моих спутников заслонили меня от него. Он остановился и закричал еще пронзительнее. В его словах я разбирал только одно: «Отойдите, я убью его, я должен убить белого!..» Подбежавшие к нему рабочие обезоружили его и держали за руки. Он яростно вырывался. Я приказал отпустить его и приблизился к нему. Он смотрел на меня с никогда не виданной мною в человеческих глазах ненавистью. Это был стройный, мускулистый юноша. Я сказал неграм, чтобы они оставили нас вдвоем. И они отошли, продолжая что-то убедительно кричать стоящему передо мной. Его грудь ходила, как после долгого бега. Он измерял меня взглядом с головы до ног, готовый вот-вот броситься на меня.
— Ты боишься, что я окажусь сильнее тебя? Тогда, может быть, тебе поможет вот это? — сказал я, отстегнув от пояса и протягивая негру большой охотничий нож.
Он отступил на шаг. Лицо его стало каменным, сжатые губы перекосились, ненависть во взгляде сменилась смятенностью.
— Ты не настоящий белый! — Голос его дрогнул. — Ты… ты плохой белый! — выкрикнул, почти взвизгнул он и, резко повернувшись и сжав кулаки, побежал к лесу.
Признаюсь, эта встреча меня сильно взволновала. Вечером рабочие сказали, что будут охранять мою палатку. Я отказался от охраны — я знаю, как переменчивы чувства темпераментных людей.
 Я не ошибся. В начале ночи ко мне вошел Цезарь и рассказал, что с наступлением темноты негр подошел к стоянке и долго разговаривал обо мне с рабочими, что сейчас он стоит у палатки и просит разрешения войти… При свете «летучей мыши» я разглядывал не по-негритянски суровое, со складкой страдания, глубоко легшей у губ, лицо юноши. Взгляд его был спокоен. Он превосходно говорил по-французски и поразил меня обшей своей развитостью. Сидя на табурете против меня и иногда опуская голову, он медленно, волнуясь, прерывая речь глубокими вздохами, рассказывал мне, как белые взяли его еще подростком на работу по рубке и сплаву леса, как он старался работать, был покорен, хотел выделиться своим усердием среди других, более взрослых. Его усердие заметили, отправили в миссионерскую школу, обучили французскому языку и грамоте, а потом… обучили стрелять и поставили надсмотрщиком. Однажды, когда несколько месяцев подряд рабочим не платили ни сантима жалованья и кормили людей такой гнилой мерзостью, от которой они начали заболевать, в отряде вспыхнули волнения, и тогда негру и другим надсмотрщикам было приказано «успокоить эту черную сволочь». Негр не только отказался применять силу против своих собратьев, но успел крикнуть, чтобы они держались твердо и добивались своих прав, потому что есть закон. Тогда его схватили, долго мучили и, бесчувственного, бросили в сарай, где помещался карцер.
— Вот, посмотрите!.. — показал он на светлый большой рубец на груди. — Это они жгли меня горящей головней… Им было мало того, что я упал под плетьми… Когда я пришел в себя, я нащупал в темноте какой-то железный засов. Я был в новом беспамятстве, в беспамятстве от злобы. На рассвете за мной пришел стражник, белый. Я бросился в дверь и ударил его железом по голове. Он упал со стоном, и я вырвал у него пистолет. Во дворе я увидел виселицу. Из караульной будки выбежали люди, и я, укрывшись за бревном и хорошо целясь, как меня и учили, выпустил в них всю обойму и с радостью слышал, как они кричали. Я думал: белый так же чувствует боль, как и черный, белый так же слаб перед силой, как и черный, черному надо это понять, и тогда он станет сильным. Я убежал в бруссу и когда через много недель пришел ночью в свое селение, то увидел, что от него остался только пепел. Позже я узнал, что мой отец, мать и братья замучены и убиты белыми. Это было за тысячу километров отсюда. Я дал себе слово убивать белых… Вы первый, которого я пощадил.
Его лихорадило. Он поднял на меня свои большие, теплые глаза. Я встал и пожал ему руку. Он задержал ее в своей, низко опустил голову, и я почувствовал на своей руке слезы. Я обнял его.
Ночь он провел у меня. Впрочем, мы оба не заснули почти до рассвета. И наш оживленный разговор закончился его согласием остаться в отряде. Когда он сказал мне: «Спокойной ночи!», в голосе его слышалась горячая радость. У него было французское имя — Ренэ Кайд.
Он оказался находкой для меня и отряда. Он прекрасно читал, считал, мог составить ведомость и отчет. Я поставил его помощником Цезаря, и старик был доволен. Да и работы с каждым днем прибавлялось настолько, что Цезарю, как и мне, подчас приходилось совсем трудно.
Я не ошибся. В начале ночи ко мне вошел Цезарь и рассказал, что с наступлением темноты негр подошел к стоянке и долго разговаривал обо мне с рабочими, что сейчас он стоит у палатки и просит разрешения войти… При свете «летучей мыши» я разглядывал не по-негритянски суровое, со складкой страдания, глубоко легшей у губ, лицо юноши. Взгляд его был спокоен. Он превосходно говорил по-французски и поразил меня обшей своей развитостью. Сидя на табурете против меня и иногда опуская голову, он медленно, волнуясь, прерывая речь глубокими вздохами, рассказывал мне, как белые взяли его еще подростком на работу по рубке и сплаву леса, как он старался работать, был покорен, хотел выделиться своим усердием среди других, более взрослых. Его усердие заметили, отправили в миссионерскую школу, обучили французскому языку и грамоте, а потом… обучили стрелять и поставили надсмотрщиком. Однажды, когда несколько месяцев подряд рабочим не платили ни сантима жалованья и кормили людей такой гнилой мерзостью, от которой они начали заболевать, в отряде вспыхнули волнения, и тогда негру и другим надсмотрщикам было приказано «успокоить эту черную сволочь». Негр не только отказался применять силу против своих собратьев, но успел крикнуть, чтобы они держались твердо и добивались своих прав, потому что есть закон. Тогда его схватили, долго мучили и, бесчувственного, бросили в сарай, где помещался карцер.
— Вот, посмотрите!.. — показал он на светлый большой рубец на груди. — Это они жгли меня горящей головней… Им было мало того, что я упал под плетьми… Когда я пришел в себя, я нащупал в темноте какой-то железный засов. Я был в новом беспамятстве, в беспамятстве от злобы. На рассвете за мной пришел стражник, белый. Я бросился в дверь и ударил его железом по голове. Он упал со стоном, и я вырвал у него пистолет. Во дворе я увидел виселицу. Из караульной будки выбежали люди, и я, укрывшись за бревном и хорошо целясь, как меня и учили, выпустил в них всю обойму и с радостью слышал, как они кричали. Я думал: белый так же чувствует боль, как и черный, белый так же слаб перед силой, как и черный, черному надо это понять, и тогда он станет сильным. Я убежал в бруссу и когда через много недель пришел ночью в свое селение, то увидел, что от него остался только пепел. Позже я узнал, что мой отец, мать и братья замучены и убиты белыми. Это было за тысячу километров отсюда. Я дал себе слово убивать белых… Вы первый, которого я пощадил.
Его лихорадило. Он поднял на меня свои большие, теплые глаза. Я встал и пожал ему руку. Он задержал ее в своей, низко опустил голову, и я почувствовал на своей руке слезы. Я обнял его.
Ночь он провел у меня. Впрочем, мы оба не заснули почти до рассвета. И наш оживленный разговор закончился его согласием остаться в отряде. Когда он сказал мне: «Спокойной ночи!», в голосе его слышалась горячая радость. У него было французское имя — Ренэ Кайд.
Он оказался находкой для меня и отряда. Он прекрасно читал, считал, мог составить ведомость и отчет. Я поставил его помощником Цезаря, и старик был доволен. Да и работы с каждым днем прибавлялось настолько, что Цезарю, как и мне, подчас приходилось совсем трудно.
КЛЕЙМЕНЫЕ
Как-то утром, когда Цезарь с небольшой группой рабочих находился на соседнем участке, ко мне подошли четыре незнакомых негра. У них был до предела усталый вид, а в изможденных лицах — такая робость, страх и мольба, которых я никогда не видел у работавших со мною негров. Нога одного из пришедших была забинтована тряпицей, и он все время поджимал ее, морщась от боли. Они сказали, что давно слышали о нашем отряде, что они голодны и без работы и что согласны работать за половинную плату. Рабочие мне были нужны, хотя новоприбывшие и не могли сразу стать за дело, до такой степени были худы, слабы, заморены. Я зачислил их на работу и довольствие, направил к повару, разрешил им отдохнуть до завтрашнего дня, а заболевшему наказал зайти ко мне в палатку во время обеденного перерыва. У него оказалась гнойная рана. Я прочистил ее и засыпал ксероформом. Вечером, как всегда, для получения инструкций на завтра, ко мне пришел Цезарь. Окончив деловую часть визита, он медлил уходить и нерешительно мялся. Зная по опыту, что в тех случаях, когда он не может набраться храбрости заговорить о чем-нибудь смущающем, его надо подбодрить, я усадил его на табуретку и занялся приготовлением чая, который он очень любил. — Ну, в чем дело, старый приятель? — спросил я, протягивая ему чашку. Он молчал, думал, взвешивал. Очевидно, его заботило что-то важное: я давно не видел его таким сумрачно-торжественным. Потом, вскинув голову и прямо, как всегда, глядя мне в глаза, он сказал: — Я знаю, что на белой земле есть хорошие люди, даже, может быть, много хороших людей. Я знаю об этом, но знаю и другое — то, что их не пускают в Африку… Ах, если бы все белые были такие, как вы или капитан Мартэн, как хорошо стало бы жить на земле! Уверяю вас, что доброму человеку негр отдаст все силы, пойдет за ним на смерть. Как мне хочется, чтобы белые и черные жили в мире! Я черный человек и люблю своих людей, но и вы мне дороги, вы это знаете… — Да в чем дело? Говори мне прямо, Цезарь. У нас нет секретов друг от друга, и если я тебя знаю, то и ты меня, должно быть, неплохо узнал за три года. — Хорошо. Сегодня утром вы взяли на работу четырех новых рабочих. Если бы я был вместе с вами, я бы не допустил их к вам. — Почему? — Потому что они клейменые. Они бежали с каучуковых плантаций, и их ищут. Их ищут белые. И, может быть, эти белые окажутся сильнее вас, и тогда будет плохо не только нам, но и вам. Он печально улыбнулся. — То, что неграм плохо, это ничего, — они к этому привыкли. Но если бы что-нибудь стряслось с вами, я бы никогда этого себе не простил. И не один я. В лагере волнение, новых просят уйти, чтобы они не принесли зла. Меня и растрогала и покоробила эта забота. Я поблагодарил Цезаря, и мы направились в лагерь. Большинство рабочих уже спали, утомленные работой. Новички лежали в стороне, о чем-то негромко переговариваясь. Я сказал пришедшим и тем из своих, кто еще бодрствовал, что знаю обо всем и что никому ни о чем не надо беспокоиться. В ответ я услышал громкие возгласы благодарности, от которых просыпались спавшие, и те тоже, в свою очередь, радовались за судьбу новых своих товарищей. На другой день я рассматривал выжженные на светлых ладонях негров черные клейма. А вечером того же дня при свете большого костра я собрал всех рабочих и попросил вновь прибывших подробно рассказать о себе. С волнением, негодованием и злобой вновь слушал я страшный рассказ о непосильной изнурительной работе, голоде, унижениях, оскорблениях и издевательствах, о жестоких наказаниях, пытках и убийствах за малейшую провинность, подчас даже не за ослушание, а просто за то, что человек не понял приказа. И, слушая, я наблюдал, как блеск сострадания в глазах негров сменялся огнем гнева, как сжимались их кулаки, как нетерпеливо переступали по земле голые быстрые их ноги. Больной поправился на пятые сутки. Все четверо оказались хорошими работниками, и меня волновало и расстраивало только одно: в первые дни при приближении моем или Цезаря они начинали работать с нервическим удвоенным усердием, и в глазах их стоял страх, как будто они ожидали окрика или удара.
Недели через три на горизонте, на вершине ровной базальтовой скалы, показались два всадника. В бинокль я разглядел кремовые шлемы и костюмы цвета хаки — обычная форма колониальных служащих. Негры, оставив работу, угрюмо смотрели в сторону приближавшихся. Вдруг новички подбежали ко мне и упали на колени. Я строго приказал им вернуться к работе и ничего не бояться.
Через час всадники были передо мной. И тот, кто, по-видимому, был старший — рослый и усатый, — вежливо приложив руку к шлему, спросил:
— Господин Дьедонэ?
— Да, я к вашим услугам.
— Разрешите осмотреть ваших рабочих.
— Все мои рабочие здоровы.
— Нет, мы не из медицинской комиссии, мы агенты каучуковой компании.
— Никакой частной компании не может быть никакого дела до моих рабочих, так как они выполняют задачу государственной важности, и отвечаю за них только я.
Больной поправился на пятые сутки. Все четверо оказались хорошими работниками, и меня волновало и расстраивало только одно: в первые дни при приближении моем или Цезаря они начинали работать с нервическим удвоенным усердием, и в глазах их стоял страх, как будто они ожидали окрика или удара.
Недели через три на горизонте, на вершине ровной базальтовой скалы, показались два всадника. В бинокль я разглядел кремовые шлемы и костюмы цвета хаки — обычная форма колониальных служащих. Негры, оставив работу, угрюмо смотрели в сторону приближавшихся. Вдруг новички подбежали ко мне и упали на колени. Я строго приказал им вернуться к работе и ничего не бояться.
Через час всадники были передо мной. И тот, кто, по-видимому, был старший — рослый и усатый, — вежливо приложив руку к шлему, спросил:
— Господин Дьедонэ?
— Да, я к вашим услугам.
— Разрешите осмотреть ваших рабочих.
— Все мои рабочие здоровы.
— Нет, мы не из медицинской комиссии, мы агенты каучуковой компании.
— Никакой частной компании не может быть никакого дела до моих рабочих, так как они выполняют задачу государственной важности, и отвечаю за них только я.
 — А мы все же должны их осмотреть! — холодно и решительно ответили прибывшие, слезая с лошадей.
— Этого никогда не будет! — с той же решительностью ответил я.
Между тем негры медленно, стеной приближались к нам. В руках у них были вешки, тяжелые рейки и колья. Приехавшие, сделав несколько шагов вперед, остановились и потянулись за оружием. В лучшем для них случае они могли убить двенадцать человек. Перед ними было семьдесят. Моя рука тоже лежала на кобуре моего кольта.
— Если вы сделаете еще один шаг вперед, я поручусь, что от вас не останется и костей, — сказал я.
Бронзово-загорелые лица непрошеных гостей стали болезненно-желтыми и в мгновение похудели. Они медленно, не сводя глаз с наступавшей стены, отошли к лошадям и вскочили в седла.
— Вы так поддерживаете престиж белых в колониях? — злобно спросил старший.
— Нет, я только стараюсь показать жителям здешних мест, что не все белые — мерзавцы!
— Хорошо, мы еще поговорим!.. — крикнули всадники и взяли в карьер, выхватив пистолеты и поминутно оборачиваясь.
Нового разговора с ними у меня не состоялось…
— А мы все же должны их осмотреть! — холодно и решительно ответили прибывшие, слезая с лошадей.
— Этого никогда не будет! — с той же решительностью ответил я.
Между тем негры медленно, стеной приближались к нам. В руках у них были вешки, тяжелые рейки и колья. Приехавшие, сделав несколько шагов вперед, остановились и потянулись за оружием. В лучшем для них случае они могли убить двенадцать человек. Перед ними было семьдесят. Моя рука тоже лежала на кобуре моего кольта.
— Если вы сделаете еще один шаг вперед, я поручусь, что от вас не останется и костей, — сказал я.
Бронзово-загорелые лица непрошеных гостей стали болезненно-желтыми и в мгновение похудели. Они медленно, не сводя глаз с наступавшей стены, отошли к лошадям и вскочили в седла.
— Вы так поддерживаете престиж белых в колониях? — злобно спросил старший.
— Нет, я только стараюсь показать жителям здешних мест, что не все белые — мерзавцы!
— Хорошо, мы еще поговорим!.. — крикнули всадники и взяли в карьер, выхватив пистолеты и поминутно оборачиваясь.
Нового разговора с ними у меня не состоялось…
СМЕРТЬ ЦЕЗАРЯ
Старый негр, влюбленный в теодолит и считавший, что высшее призвание человека на земле — измерять эту землю, погиб подлинно на своем посту. Мы работали на равнине. Бесконечно раскатилась голая выжженная степь с торчащими то тут, то там одиночными стволами да зарослями тощего кустарника. В разгаре работы я совсем не заметил, как все вокруг меня стихло, — а тамошняя земля даже и в самых пустынных местах всегда звенит, гудит, жужжит, поет. Подняв голову, я увидел, как с запада вставала темная, зловещих фиолетовых отсветов туча. Она надвигалась неуклонно и с пугающей равномерностью — от горизонта поднималась как бы сферическая огромная тяжелая крышка. Вокруг нас жалобно закричали и забились птицы. Свинцовая крышка закрыла солнце, пронесся горячий вихрь, сучья двух низеньких, близко стоявших деревьев застучали и заныли со странно сухим звоном. У моих ног метнулся какой-то мелкий зверек, и вдруг от далекой темной грядки леса в степь выкинулось огромное стадо жирафов. Они бежали в стороне от нас быстро, качающейся тяжелой рысью, переходящей в неуклюжий стесненный галоп, как будто несли на спинах груз; их палкообразные голые шеи были похожи на покосившийся под ветром частокол. — Они бегут так только от горящей бруссы, — покачал головой Цезарь. — Будет большая гроза. Я приказал собрать инструменты, завернуть их в брезент, положить вблизи меня и сунул записи в кожаную трубку. В последние десять минут фиолетовая стена, пробиваемая жалами молний, неслась на нас с чудовищной быстротой. Я поставил палатку, и мы с Цезарем забрались внутрь. Через несколько минут с неба обрушилась водяная буря и вмиг смяла легкую постройку. Это был не дождь, не ливень — на землю опускался тяжкий водяной пресс. Я уже привык к тропическим торнадо. Здесь от этого гудящего неистовства, от молний, жгущих сетчатку глаз, и еще более тяжких секунд томительной темноты я почувствовал себя беспомощнее того жалкого зверька, который несколько минут назад мелькнул у меня под ногами, — мне захотелось броситься на землю, уцепиться за слабую, сожженную траву, чтобы уцелеть в этом беснующемся, низринувшемся на землю хаосе. Дикий грохот, казалось, в самых недрах земли будил отклик, угрозу, рокочущий страшный гул. В какой-то момент меня и швырнуло на землю; за секундой темноты как бы чудовищный тонконогий ослепительный паук упал с неба, бросил свои коленчатые лапы-стрелы к небу и в землю и взорвался. Грохот этого взрыва был так силен, что я оглох. Молния ударила в дерево неподалеку. Потом мы долго смотрели на обугленную голую мокрую головешку, торчавшую на фоне неба. Мы стояли по щиколотку в воде. Под ослепительным блеском пляшущих молний всюду, куда ни хватал взор, расстилалось черное, удваивающее огонь молний, рябое зеркало воды. Сила колеблющегося света была так велика, что она прожигала плотную гудящую массу воды и видимость была большой. Я испытывал страх и непереносимую тоску; глазам моим чудилось, что не осталось на земле уже ни пяди материка, что, куда бы я ни двинулся, всюду будет вода, все под нею погребено. Я все же пересилил себя. Кладь была затоплена, и в смятенной голове моей родилась мысль — спасать инструменты. Напрягая глотку, я закричал Цезарю, что надо взобраться на дерево и привязать повыше теодолит и трубку с записями, отмечавшими нашу семидневную работу. Он покорно отыскал все, что нужно, и зашлепал по воде к ближайшему дереву. Перекинув лямку через плечо, он начал карабкаться по голому стволу и скоро скрылся в кроне. Я стоял под деревом, пытаясь рассмотреть, где он; меня заливала вода. Он задерживался, я начинал нервничать, — мне хотелось пойти поискать места помельче: вода стояла уже выше чем на полметра. — Укрепил? Да что ты там возишься! — крикнул я, хоть и знал, что голос мой до него не дойдет. Вдруг высоко вверху раздался пронзительный визг, и тяжелый узел свалился в воду. Я кинулся вперед и при свете молнии увидел искаженное, дергающееся лицо Цезаря. Приседая на корточки и подскакивая, он кричал страшно, ровно, захлебываясь, и держался руками за бок. Его ужалила змея. Может быть, это была беспощадная зеленая «минутка». Я сбросил все, что на мне было, положил сверху палатку, устроил для него род сиденья. Он стал стихать, только весь бился крупной дрожью; тяжело опустился в воду, сел, потом отыскал мою руку, повернулся на бок и положил ее себе под щеку. Можно было бы развести костер и прижечь рану раскаленным железным прутом, но об этом нечего было и думать: проклятая вода растворила все, и моя коробка спичек превратилась в кисель.
 Я стоял перед ним на коленях, другой рукой гладил его жесткие седые курчавые волосы и плакал — я был совершенно беспомощен. Ливень уменьшался, светлело. Синеватые губы Цезаря стали черными, потом покрылись мутной пленкой, и он завел глаза. Я был в отчаянии. Случись несчастье в жилом месте — марабу знают таинственные составы, обезвреживающие яд многих змей, но семь дней мы шли, не видя человеческого следа, а до ближайшего селения по старинной карте оставалось еще километров тридцать, да к тому же бывало нередко, что мы не находили и пепла там, где на этих картах обозначались целые города.
Я терял самое близкое мне здесь, да, кажется, и во всем мире, существо и только сейчас почувствовал, как дорог мне этот сильный, скромный, умный и добрый человек. Я решительно поднялся и приказал шести самым крепким рабочим как можно скорее нести больного в сторону селения. Если он проживет еще часов пять — шесть, может быть, его удастся спасти.
Они ушли, неся Цезаря на носилках, побежали быстро и согласно, расплескивая воду. Через час. один из скороходов вернулся и сказал: «Цезарь ушел». Он низко опустил голову. Негры плакали. Еще через час принесли тело бедного моего друга. Яд дошел до его сердца. В последней предсмертной конвульсии он сильно выгнулся навзничь. Когда я подошел к нему, он уже начал стынуть. Усилия выпрямить его хребет были тщетны.
Мы вырыли глубокую яму под деревом — местом его гибели, сколотили нелепо высокий гроб и так и похоронили его, изогнувшимся в крутую скобку.
Через два дня над могилой выросла гора камней, увенчанная металлической таблицей со звездой и полумесяцем и надписью:
Я стоял перед ним на коленях, другой рукой гладил его жесткие седые курчавые волосы и плакал — я был совершенно беспомощен. Ливень уменьшался, светлело. Синеватые губы Цезаря стали черными, потом покрылись мутной пленкой, и он завел глаза. Я был в отчаянии. Случись несчастье в жилом месте — марабу знают таинственные составы, обезвреживающие яд многих змей, но семь дней мы шли, не видя человеческого следа, а до ближайшего селения по старинной карте оставалось еще километров тридцать, да к тому же бывало нередко, что мы не находили и пепла там, где на этих картах обозначались целые города.
Я терял самое близкое мне здесь, да, кажется, и во всем мире, существо и только сейчас почувствовал, как дорог мне этот сильный, скромный, умный и добрый человек. Я решительно поднялся и приказал шести самым крепким рабочим как можно скорее нести больного в сторону селения. Если он проживет еще часов пять — шесть, может быть, его удастся спасти.
Они ушли, неся Цезаря на носилках, побежали быстро и согласно, расплескивая воду. Через час. один из скороходов вернулся и сказал: «Цезарь ушел». Он низко опустил голову. Негры плакали. Еще через час принесли тело бедного моего друга. Яд дошел до его сердца. В последней предсмертной конвульсии он сильно выгнулся навзничь. Когда я подошел к нему, он уже начал стынуть. Усилия выпрямить его хребет были тщетны.
Мы вырыли глубокую яму под деревом — местом его гибели, сколотили нелепо высокий гроб и так и похоронили его, изогнувшимся в крутую скобку.
Через два дня над могилой выросла гора камней, увенчанная металлической таблицей со звездой и полумесяцем и надписью:
«Здесь погребен французский гражданин Цезарь, не имеющий фамилии. Да будет священно для всех имя человека, отдавшего свою жизнь науке!»
ЛИЦО БЕЛЫХ КОЛОНИЗАТОРОВ
В начале моего повествования я упомянул о молодом человеке, с которым встретился и подружился на пароходе и который, как и я, направлялся в дебри Черного материка. Имя Эрнеста Делона навсегда останется в памяти моей как символ беспокойной совести, неподкупной честности, неукротимого мужества и высокого благородства. Я в рассказе не возвращался к нему, потому что предварительно хочу сообщить о самых мрачных, самых подлых сторонах колониального быта, на фоне которых резко выделяется светлый образ Эрнеста. «Негр — такой же человек, как и я» — эту «истину» услышишь только из уст самого передового, просвещенного и либерального европейца, а так как таких, по существу, совсем не много, то иной обыватель так и проживет всю жизнь, не узнав об этой «истине». Негр в представлении европейского мещанина — это «дикарь», забавное, но иногда и опасное человекоподобное. Те же, кто прямо или косвенно состоит в немногочисленной, но крепко спаянной армии колонизаторов, кто строит собственное и своих хозяев благосостояние на жесточайшей эксплуатации несчастных людей, те утверждают и проповедуют, что негр — это животное, тупое, ленивое, бессознательное и бесчестное, которому понятен только один язык — язык кулака, плетки, тюрьмы, пулемета… Ленивое?… Да кто же стал бы с охотой делать дело чужое, непонятное и ненавистное! Работу, его интересующую, негр проводит с настойчивостью и упорством исключительным. Бесчестное?… А уместно ли вообще говорить о честности там, где свирепствует жесточайшее хищничество, грабеж, насилие, воровство человеческого труда! Тупое?… Но ведь это самый поэтический и, несомненно, самый музыкальный народ на земле!.. Когда-то, в отрочестве, я с упоением читал книгу доктора Ливингстона о его путешествии по Замбези. Достоинство народа, приемы, обмен подарками, дань за проход по той или иной территории, свободная и широко развитая торговля, власть племен, с которой в полной мере должны были считаться экспедиции белых, — как не похоже все это на Африку наших дней! Французская Африка была «покорена» всего в 90-х годах прошлого века. Перед лицом колониальной тирании с тех пор давно стихли междоусобные распри, хотя гнет европейцев еще не объединил в нужной мере негров для защиты их естественных человеческих прав. Нищета среди негров достигла степени подлинно чудовищной. Болезни, на семь восьмых вследствие недоедания, сжигают целые племена. Истощенных голодом и принудительной работой на белых негров непрерывно косят малярия, злостная дизентерия, туберкулез, сонная болезнь… Вожди давно стали агентами колониального начальства. Под влиянием гнета белых миролюбивый, добрый, приветливый народ вымирает столь стремительно, что, если не будут приняты самые срочные меры, может быть, всего несколько десятилетий отделяют нас от полного их исчезновения, от пустыни на огромной части нашей планеты. Французская буржуазная литература создала вульгарно-идиллический образ неких избранников судьбы, счастливых детей полуденного солнца, которые, кажется, только тем и занимаются, что день и ночь пляшут вокруг костров под свои там-тамы и которых райская природа обеспечила решительно всем — стоит только открыть рот, подойти к любому дереву и тряхнуть его. Вздор, ложь, дикая глупость, сознательное введение читателя в обман! Кусок рваной ткани вокруг бедер негр носит не потому, что большего не требуется под тропиками, а потому что он нищ. Он очень любит приодеться — ведь украшает же он себя татуировкой, ожерельями, браслетами. Да, наконец, одежда ему попросту нужна: в Африке при адовой жаре в некоторые периоды года нередки холодные ночи, и голые люди принуждены бывают зарываться в песок. Негр всегда голоден, всю жизнь голоден, он мучится голодом, он думает о еде, мечтает о еде, слагает о еде песни и поет их! Засухи, эпидемии, жестокая натуральная повинность, чудовищные налоги!.. Но негру негде зарабатывать деньги. И что может дать ему скудное его хозяйство! И вот приходится продавать себя в подлинное рабство, идти на каучуковые плантации к белым и за пятнадцать-восемнадцать часов каторжного труда получать пятьдесят сантимов и в лучшем случае — один франк. Покинутое хозяйство гибнет, а фактическая сумма налога все повышается, потому что сумма эта, наложенная наопределенный район, не меняется, но люди вымирают, и живым приходится платить не только за себя, но и за мертвых. Мои сослуживцы-французы, административные чиновники, колонизаторы-профессионалы радуются дешевизне жизни в колониях. И ни один из них не имеет совести подумать о том, что по низким ценам негр продает продукты только белым, потому что белые сами же эти цены и установили. А с негра он должен брать в два-три раза дороже, чтобы оправдать расходы и возместить убытки от торговли с белыми. У нас на рынке стоят те же цены, которые были и в девятьсот шестнадцатом-семнадцатом годах, с той только разницей, что тогда метр простейшей ткани, ввозимой из метрополии, стоил в десять-двенадцать раз дешевле. Мое внимание к вопросу об отношениях между белыми и черными впервые серьезно привлек эпизод с англичанином и стариком негром в столовой парохода, когда я впервые направлялся в Африку. А там все больше стали открываться глаза мои на мрачную действительность. Ехал я с очень скудным багажом знаний и в этом смысле ничем не отличался от среднего француза — разве что, перенесший немало лишений, чувствовал к неграм жалость. Нет, лучше всяких книг и домыслов учит и развивает человека жизнь. Наша компания полуправительственная, получастная. И, еще только приехав представляться на базу, я резко почувствовал вот эту атмосферу рабовладельчества, всевластия, слепоты, жестокости, внутренней разнузданности и делячества. Белые едут в колонии только для того, чтобы в условиях почти полной вседозволенности как можно скорее и всеми способами набить карман и тем обеспечить себе сытую старость в метрополии. Когда окончилась официальная часть моего визита, мне сказали, что я могу стать участником одного «весьма выгодного» предприятия. Я ответил, что у меня нет денег. На меня посмотрели как на младенца и разъяснили, что от меня требуется только согласие внести пай в размере полугодового заработка, а реализовать аванс — это уже не мои заботы. Чтобы не испортить себе сразу же отношения с сослуживцами немедленным отказом, я попросил разрешения подумать. Вечером, после обильного ужина, я долго слушал рассказы о «райских» возможностях для белого человека в колониях, о том, какие несметные богатства несет доставка из метрополии тканей, вина, оружия. Мне стало так противно, что в тот же вечер, прощаясь с сослуживцами и начальниками, я заявил решительный отказ от участия в «выгодном предприятии». Самая тяжелая из натуральных повинностей для негров — это «носка». В Африке почти нет дорог, и передвижение совершается пешим порядком. Белого негры несут в особом плетеном кресле на носилках; его багаж — подвешенным на шестах или просто на голове. А негр несет на голове до тридцати килограммов клади при суточном пути в тридцать километров. По закону полагается оплачивать его труд — правда, в размерах столь ничтожных, что денег хватает только на скудную еду. На деле же закон этот почти всегда попирается — негру не платят ничего. Упал, умер, что за пустяки, сейчас же вытребуем другого, — так рассуждает белый колонизатор. Первое письмо от Эрнеста Делона пришло через полгода. Мы одинаково тяжело переносили климатическую пересадку. У него тоже, как он писал, «плавился мозг подобно воску», сердце не справлялось с переменами в организме, бывали приступы тоски, страхов, отчаяния. Но за всем этим звучали в письме особенные ноты — тревоги, возмущения и гневного протеста. «В течение лицейского курса нам вбивали в головы, — писал он, — что мы, французы, выполняем высокую миссию в отношении наших «младших братьев», что мы несем в колонии просвещение, культуру, материальный расцвет. В этом убеждении формировалось и формируется сознание миллионов нашей молодежи. Какая подлая, какая чудовищная ложь! Я встретил здесь быт даже не феодальный и даже не рабовладельческий, — ибо разумный хозяин обеспечивал рабу, как и скотине, пропитание хотя бы в такой малой доле, чтобы тот не умер от голода. Здесь со злобным упоением истребляют ни в чем не повинный и, несомненно, самый миролюбивый народ на свете. Я переношу самое несчастное, самое оскорбительное время моей жизни…» Прошло еще некоторое время, и я получил короткое, взволнованное сообщение от моего друга: «Позор, позор! Я начинаю ненавидеть самого себя за мою белую кожу. У нас происходит нечто более страшное, чем то, что было в крае двадцать лет назад. Здесь приступили к постройке железной дороги Браццавиль-Черный Мыс. Вы не можете себе представить, какие ужасы у нас творятся. Я вооружил против себя всех здешних белых, но я не могу оставаться равнодушным к тому злодейству, к тому еще невиданному на негритянской земле преступлению, которое происходит. Я написал в министерство колоний доклад с подробным изложением только того, что видел сам, и получил короткий ответ, рекомендующий мне «быть несколько скромнее». Вы понимаете: у меня стынет кровь в жилах от ужасов, происходящих перед глазами, а мне рекомендуют «скромность»!.. Вероятно, меня уволят, но отныне я уже навсегда связываю личную свою судьбу с Африкой». Да, он прав, Эрнест. «В Африке нет места сентиментальности», — гласит знаменитая «формула» Пульстона — англичанина, известного далеко за пределами Британии, циничнейшего знатока — «практика» колониальных дел. Да, да, в колониях «великих держав» Европы нет места для честности, справедливости, милосердия, уважения человека к человеку. Там только бич, тюрьма, виселица, пулемет. Да и как же по-иному могут рассуждать Пульстон и ему подобные, пользующиеся той сытой, легкой, праздной жизнью, которую обеспечивает им открытый, узаконенный грабеж!..ВСТРЕЧА С ДРУГОМ
Прошло около года. Как-то на пригорке вдали показался человек. И в трубу теодолита я рассмотрел опрокинутую фигуру голого гонца. Висевшая через плечо сумка хлопала его на бегу по боку — это была почта с базы. Негр передал мне пакет. Среди казенных бумаг было письмо от Эрнеста Делона. Человек большого и доверчивого сердца делился со мною, конечно, не только своими горестями, но и радостями. Радость в его жизни была только одна — оставленная в Париже семья. Он сообщал, что маленькая клетушка грязной гостиницы, где жили мать и сестра, сменилась отдельной скромной квартирой, что мать не ходит больше по чужим людям стирать белье, что сестра перестала носить платье с чужих плеч — унизительные подарки всяческих благотворительных комитетов. В далеком Париже заочно знали и меня. В каждом письме другу неведомая мне, но уже близкая моему сердцу трудовая семья неизменно посылала мне привет, благодарила за доброе отношение к сыну и брату, приглашала к себе на время отпуска. Наша переписка, мало сказать, сблизила меня с Эрнестом — она сроднила нас, как общий окоп, как одна солдатская ложка на два котелка, так сходны мы были в наших чувствах, в нашем восприятии мира и новой жестокой обстановки, — только он был горячее, стремительнее и непосредственнее меня… В этом письме он сообщал, что только что вернулся из Парижа, что у него остался еще неиспользованный месяц отпуска и он хочет навестить меня. Моему другу я ответил с тем же почтальоном, а к письму приложил план местности и тот приблизительный пункт, в котором я предполагал быть через два месяца, к сроку его приезда. Отыскать меня в беспредельных просторах черной степи предлагалось уже его опыту: ориентировочных точек было немного. Он приехал на две недели раньше, чем предполагал. Я с нетерпением, с учащенно забившимся сердцем рассматривал вдали, в струях синего воздуха, торжественную процессию. Впереди шел рослый человек в белом шлеме, за ним двигалась цепочка негров и на прогибавшихся шестах несла подвешенную кладь. Они заметили нас раньше, чем мы их, и шли уверенно по прямой, то скрываясь в неглубоких складках местности, то поднимаясь над гребнями.
 Как изменился мой друг! Прокаленный солнцем, темно-бронзовый, радостно сверкающий белками больших глаз, бритоголовый, похожий на отважного пионера-исследователя из романа прошлого века, в шлеме, тяжелых горных башмаках и широких коротких штанах, обнажавших колени, он удивил меня своим здоровым видом — вероятно, в период нашего знакомства он еще рос, так был сейчас неузнаваемо крепок, плечист, широкогруд. Мы расцеловались как братья. Я остановил работу и на два дня распустил отряд.
Мы пошли к стоянке… Из большой плетеной корзины он извлекал парижские подарки мне. Милое сердце! Он не забыл моего коротенького замечания когда-то, в один из первых разговоров на пароходе, что я по происхождению полурусский, и выкладывал на стол палатки банки малинового варенья, какие-то коржики, бутылку русской водки скверного французского изготовления, коробочки рижских килек, связки сухой тарани, баночки маринованных грибов, черный окаменевший хлеб, мешочек сухого зеленого укропа.
Я был очень растроган, но, тараща глаза, не мог удержаться от хохота. Нечего сказать — укроп, конечно, превосходная приправа к удаву, жаренному в зловонном масле «кориже», а перед жирафьим рагу как не опрокинуть в рот рюмку русской водки, доведенной почти до температуры кипения, — где же ее охлаждать, когда до ближайшей речки километров двадцать пять!
Мы дали друг другу слово в этот день не касаться ничего тяжелого, мрачного, дурного и отдаться только радостям долгожданной встречи. Мы закатили «лукуллов пир» на удивление и восторг моих ближайших помощников, приглашенных к торжественному столу.
Другим был наш следующий день. Эрнест передал мне некоторые свои записи, и я узнал подлинно чудовищные по своей низости вещи. Уже больше пятидесяти хищнических компаний орудуют во Французской Африке. И самые жадные, жестокие и подлые это: «Горная компания Конго», «Лесная компания», «Санго-Убанга», монополизировавшая добычу каучука, «Общество Верхнего Огуэ» и усиленно поддерживаемое правительством «Общество Батиньоль».
— Вы понимаете, — стискивая сильные кулаки, говорил он, — за один только минувший год в одном только Верхнем Огуэ агентами «Лесной компании» за недоставку назначенного количества каучука убито тысяча сто негров. Но то, что происходит на постройке железной дороги Браццавиль-Черный Мыс, совершенно невообразимо. С 1924 года в Конго идут восстания, люди прогоняют и иногда убивают вербовщиков и разбегаются. Их ловят и с веревками на шее под конвоем ведут на постройку — ведут тысячи километров через бруссу, ведут иных больше года. И люди тысячами мрут по дороге от голода и истязаний. Забирают не только мужчин, но и женщин. Официально негров мобилизуют каждого на два года, но их не отпускают и потом, заставляют строить бараки, мосты, дома для администрации. Когда наконец какой-то небольшой процент выживших отбывает и это беззаконие и отправляется по домам, их перехватывают по дороге агенты тех же компаний и вновь направляют на принудительный труд. Здесь они рубят деревья, подчас столь огромные и тяжелые, иные из которых не в силах поднять сто человек. Негры волокут через лесные дебри эти деревья десятки километров до реки, и тут обнаруживается, что деревья некоторых пород тонут в воде, — их продолжают тянуть вдоль берега. Деревья обычной плотности связываются в плоты, а на мелях и перекатах они вновь разбираются и перетаскиваются вручную. Страшная, подлинно убийственная работа. Знаете, каков точно процент смертности среди рабочих лесных компаний? Тридцать семь процентов! Но только пятая часть мобилизованных, чудом выживших людей добирается в конце концов до своих семей. А знаете, сколько негров умерло от истощения и непосильной работы на постройке этой проклятой дороги Браццавиль-Черный Мыс? Почти двадцать тысяч. То есть почти сто пятьдесят негритянских трупов легло пока что на каждый километр пути.
Он стоял как глыба, широко расставив сильные ноги…
Мы прощались горячо, полные веры в возможность добиться справедливости и сознания необходимости ее добиваться. Эта встреча отметила новый этап в моей колониальной жизни.
Как изменился мой друг! Прокаленный солнцем, темно-бронзовый, радостно сверкающий белками больших глаз, бритоголовый, похожий на отважного пионера-исследователя из романа прошлого века, в шлеме, тяжелых горных башмаках и широких коротких штанах, обнажавших колени, он удивил меня своим здоровым видом — вероятно, в период нашего знакомства он еще рос, так был сейчас неузнаваемо крепок, плечист, широкогруд. Мы расцеловались как братья. Я остановил работу и на два дня распустил отряд.
Мы пошли к стоянке… Из большой плетеной корзины он извлекал парижские подарки мне. Милое сердце! Он не забыл моего коротенького замечания когда-то, в один из первых разговоров на пароходе, что я по происхождению полурусский, и выкладывал на стол палатки банки малинового варенья, какие-то коржики, бутылку русской водки скверного французского изготовления, коробочки рижских килек, связки сухой тарани, баночки маринованных грибов, черный окаменевший хлеб, мешочек сухого зеленого укропа.
Я был очень растроган, но, тараща глаза, не мог удержаться от хохота. Нечего сказать — укроп, конечно, превосходная приправа к удаву, жаренному в зловонном масле «кориже», а перед жирафьим рагу как не опрокинуть в рот рюмку русской водки, доведенной почти до температуры кипения, — где же ее охлаждать, когда до ближайшей речки километров двадцать пять!
Мы дали друг другу слово в этот день не касаться ничего тяжелого, мрачного, дурного и отдаться только радостям долгожданной встречи. Мы закатили «лукуллов пир» на удивление и восторг моих ближайших помощников, приглашенных к торжественному столу.
Другим был наш следующий день. Эрнест передал мне некоторые свои записи, и я узнал подлинно чудовищные по своей низости вещи. Уже больше пятидесяти хищнических компаний орудуют во Французской Африке. И самые жадные, жестокие и подлые это: «Горная компания Конго», «Лесная компания», «Санго-Убанга», монополизировавшая добычу каучука, «Общество Верхнего Огуэ» и усиленно поддерживаемое правительством «Общество Батиньоль».
— Вы понимаете, — стискивая сильные кулаки, говорил он, — за один только минувший год в одном только Верхнем Огуэ агентами «Лесной компании» за недоставку назначенного количества каучука убито тысяча сто негров. Но то, что происходит на постройке железной дороги Браццавиль-Черный Мыс, совершенно невообразимо. С 1924 года в Конго идут восстания, люди прогоняют и иногда убивают вербовщиков и разбегаются. Их ловят и с веревками на шее под конвоем ведут на постройку — ведут тысячи километров через бруссу, ведут иных больше года. И люди тысячами мрут по дороге от голода и истязаний. Забирают не только мужчин, но и женщин. Официально негров мобилизуют каждого на два года, но их не отпускают и потом, заставляют строить бараки, мосты, дома для администрации. Когда наконец какой-то небольшой процент выживших отбывает и это беззаконие и отправляется по домам, их перехватывают по дороге агенты тех же компаний и вновь направляют на принудительный труд. Здесь они рубят деревья, подчас столь огромные и тяжелые, иные из которых не в силах поднять сто человек. Негры волокут через лесные дебри эти деревья десятки километров до реки, и тут обнаруживается, что деревья некоторых пород тонут в воде, — их продолжают тянуть вдоль берега. Деревья обычной плотности связываются в плоты, а на мелях и перекатах они вновь разбираются и перетаскиваются вручную. Страшная, подлинно убийственная работа. Знаете, каков точно процент смертности среди рабочих лесных компаний? Тридцать семь процентов! Но только пятая часть мобилизованных, чудом выживших людей добирается в конце концов до своих семей. А знаете, сколько негров умерло от истощения и непосильной работы на постройке этой проклятой дороги Браццавиль-Черный Мыс? Почти двадцать тысяч. То есть почти сто пятьдесят негритянских трупов легло пока что на каждый километр пути.
Он стоял как глыба, широко расставив сильные ноги…
Мы прощались горячо, полные веры в возможность добиться справедливости и сознания необходимости ее добиваться. Эта встреча отметила новый этап в моей колониальной жизни.
ТАК ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ…
Однажды вечером ко мне в палатку пришли мои помощники и взволнованным шепотом сообщили, что по краю разнеслась весть о каком-то негре, пробирающемся ко мне издалека и по каким-то причинам скрывающемся от белых. Через неделю они передали, что путешественник уже приближается к нашей стоянке. А еще через несколько дней, уже глубокой ночью, меня разбудили и сказали, что он здесь. Откинулась пола палатки, и вошел плечистый сутулый негр, совершенно седой и с выражением глубокого страдания, тоски и горя. Он низко поклонился мне, сказал, что его зовут Мала и что он пришел ко мне с особым поручением. Вдруг он опустился на землю, на скрещенные ноги — вероятно, он был мусульманин, — низко склонил голову и замер. Когда через несколько минут в нетерпении я коснулся его плеча, он поднял лицо, залитое слезами. — Ушел самый прекрасный человек, когда-либо живший на черной земле! — глухо сказал он. — Он был верным другом наших людей, нашим судьей и защитником. Белые его убили потому, что он любил нас, а это — преступление. Сердце мое оборвалось. Я молча поднял пришедшего и обнял его. Он рыдал не сдерживаясь, плечи его вздрагивали, тело била крупная дрожь. — Он мне и многим неграм спас жизнь. Неужели же нужно убивать людей за то, что они спасают от смерти других людей, пусть даже в тысячу раз худших, чем они сами. Ведь и хорошие и дурные живут только один раз, смерть все равно возьмет каждого, она — общий враг, зачем же убивать, зачем помогать врагу?… — повторял он. На боку негра я увидел глубокую ножевую рану. Мала бежал с группой мобилизованных на постройку Браццавил-океанской железной дороги и попал под штыки карательного отряда. Истекавшего кровью, потерявшего сознание, его нашел на берегу ручья Эрнест Делон, вылечил и под измененным именем зачислил в партию своих рабочих… Все так же дрожа, негр открыл свой полый костяной браслет на левой руке и протянул мне листок бумаги, свернутый в трубочку. — «Милый друг мой, — прочел я, — я живу в обстановке тревоги и многих опасностей. Если со мною что-нибудь случится, верный человек передаст вам эти строки. Продолжайте в меру ваших возможностей оставаться защитником угнетенных и, если представится случай, расскажите честным людям, число которых на земле все увеличивается, о том, как живут люди черной кожи и золотого сердца». Так должно было быть… Я слушал трагическую повесть. Проклятый мир, где человек с детства, со школьной скамьи надевает на себя ярмо предрассудков, мешающих ему расправить плечи и поднять лицо к небу, глянуть на солнце! Темный мир, где всякий, все-таки осмелившийся поднять голову, подлежит уничтожению!.. Эрнеста Делона ненавидели белые — представители правительственной администрации и особенно служащие концессионных предприятий. Но считаться с ним приходилось. Заброшенную ничтожную агрономическую станцию с тремя невеждами-пьянчужками в качестве смотрителей он поднял до высоты серьезного научного учреждения. Неусыпная энергия, пытливость ума, прирожденная одаренность резко выделяли его среди колониальных «деятелей» — в лучшем случае, тусклых чиновников. Результатами его многочисленных и смелых опытов заинтересовались видные специалисты страны. Между тем колониальный грабеж при полном попустительстве правительственных инстанций все усиливался, аппетиты хищников-предпринимателей повышались, совершенная безнаказанность новых владык края делала их все беззастенчивее, наглее, требовательнее. Гнет достигал пределов человеческой выносливости и самого кроткого терпения. Земля начинала волноваться, кое-где вспыхивали отдельные неорганизованные очаги активного протеста, но каждое такое выступление подавлялось с самой свирепой жестокостью. И вместе со всем этим росла, ширилась и крепла среди негров популярность Эрнеста Делона. Однажды после очередной экзекуции с одного из участков каучуковой компании разбежалась большая партия рабочих. Администрацией участка были разысканы и схвачены десять «главных смутьянов», то есть наиболее сознательных, развитых и отважных негров, и повешены на территории плантации. Весть о новом преступлении молниеносно разнеслась по краю — повешенные пользовались особым почетом и доверием населения. Многотысячная толпа негров обложила поселок, где помещалась администрация участка, и прервала все средства связи. Негры потребовали немедленной выдачи начальника участка, виновника расправы, чтобы повесить его на том же поле, где были казнены негры. Осаждавшие были вооружены только копьями, но гарнизон поселка, состоявший из частной полиции общества, был совершенно ничтожен перед этой людской возбужденной лавиной. Начались переговоры. Неграм предложили улучшить условия их работы, а в счет грядущих благ немедленно передать им большую партию продовольствия. Изголодавшиеся люди согласились. Им в самом деле были выданы крупные запасы маиса, маниоки, проса и бобов. Эрнест, узнав о происшедшем, почуял неладное. Он произвел анализ продуктов. Они оказались отравленными. Еще одно преступление было предотвращено. Ночью Эрнеста схватили. Извещенные дозорными, негры вновь напали на поселок, перебили администрацию и освободили пленника. Образовался большой повстанческий отряд, стремительно увеличивавшийся. Но… через несколько дней на отряд были брошены солдаты. Против почти безоружных людей заработали винтовки, пулеметы, гранаты. Повстанцы были рассеяны. В одном из боев Делон получил тяжелое ранение. Группа негров укрыла его — унесла в заросли бруссы, на тропинки, только им известные и недоступные для чужих. Тогда вдогонку был послан самолет. Гроздь бомб уничтожила укрывшихся и командира повстанцев. Эрнеста Делона объявили изменником. Это был высокий патриот, жадно, страстно, жертвенно любивший свою родину, ее великую историю и людей, принявших историческое наследие и продолжающих национальную традицию, — честных, трудовых, созидающих людей. Единственное, что он предал, — это интересы золотого мешка.СЫН
Африка, Африка… Степь, черная саванна, выжженная земля; голые деревья с путающейся в небе кроной, причудливой, как в китайском рисунке тушью, сухой воздух, пересекающий глотку, и солнце — неотступно-яростный палач; риск ежеминутной встречи с пантерой, крокодилом, змеей; кусок рваной ткани или шкура козленка на бедрах человека; первобытные папоротники, белые лотосы на зеркальных озерах; белоперые аисты, застывшие над водой как бы в бесконечном сне; утреннее марево по горизонту; далекая гряда, курчавая от сказочного леса; стада собачьеголовых обезьян, словно в древнейшей скульптуре сошедших с полки египетского музея; нежная грация и благодарная доверчивость черной детворы, сбегающейся ко мне, как только я показываюсь в поселке, ластящейся ко мне, трогательно заглядывающей мне в глаза; тоненькие пальцы и нежнейшие звуки «кунди» — маленькой арфы; хрустальные молоточки всевозможных ксилофонов и печальные и прекрасные песни черных людей… Лучшие годы моей жизни отдал я Африке. И куда бы ни бросила меня судьба, уже до гробовой доски будут томить меня видения Черного материка: сухой шелест пальм, завораживающие мелодии негров, мой седой помощник Цезарь и незабвенный друг Эрнест Делон… Тоска, одиночество, безразличие к работе, ночные галлюцинации, усталость меня давили. Встретив как-то в большом селении муллу, я сказал ему, что, вероятно, не совсем здоров. Он долго всматривался в желтизну моего загара, долго щупал мое лицо и давил на глаза, и сказал, что у меня «неправильное дыхание». После консультации, приняв обычный «матабиш», что означает и плату, и подарок, и взятку, он дал мне несколько странных орешков. Это были «кола», притом особая редкая порода, чрезвычайно концентрирующая природные свойства растения и пользующаяся под тропиками той же славой, что и женьшень в Азии. Мякоть колы давно входит в значительный сектор современной европейской фармакопеи. Те, что дал мне марабу, почитаются среди местного населения просто магическими. Я жевал горьковатую и терпкую, холодящую язык мякоть и через полчаса почувствовал возбужденность почти наркотическую. Через два дня пришло в порядок сердце, все чаще дававшее перебои, исчезли усталость и тоска, я снова почувствовал охоту к жизни. Мы приближались уже к границам Дагомеи. Начинались места, более обитаемые, чем раньше, когда подчас на протяжении сотни километров не встречали мы человеческого следа. Однажды на работе я увидел, как из зарослей вблизи реки выскочила группа негров с длинной «таитэ» — пирогой из папируса — и быстрее ветра помчалась к воде. Стоявшие неподалеку наши вешильщики бросились за ними. Почуяв недоброе, направился в ту сторону и я. В кольце вскрикивавших людей лежал на песке черный мальчик лет четырех-пяти… Мне рассказали, что отец с маленьким сыном на спине переплывал реку. Место было довольно известное; здесь обычно и перебирались люди с того берега, со стороны селения. Но внезапно из скрытой пещеры выскочил крокодил и бросился на людей. Негр погиб, ребенка удалось отбить. Я часто вижу смерть под тропиками. Черные люди гибнут от змей, львов, пантер, гепард, крокодилов — на охоте, за работой, у стад. На моих глазах однажды перевернулась лодка и дико кричавших людей пожирали крокодилы. Я стоял на берегу с винтовкой в руках и в злой решительности то прикладывал ее к плечу, то опускал, боясь попасть в людей, а когда понял, что все кончено, в ярости выпустил три обоймы в разгулявшихся гадов и немного успокоился только тогда, когда двое из них показали над водой свои мерзко-белые блестящие брюха. Здесь, когда я увидел этот выпуклый черный лобик и полузакрытые глаза, из которых тихо текли слезы, изуродованную ударом страшных челюстей ногу и мраморно-белый песок, впитывавший алую кровь, — у меня болью сжалось сердце. Я быстро снял с себя пояс и туго перетянул ногу мальчика выше колена, над рваной раной. Потом я поднял его на руки и отнес в палатку. Он стонал и бился на своей маленькой кровати, наспех сколоченной из ящичных досок, и мне пришлось в конце концов привязать его к койке полотенцами. Я заставил его выпить полстакана рома и, когда он затих, промыл рану спиртом, затем прокаленным на огне ножом осторожно выковырял из раны песок и мелкие камешки и залил рану йодом. От боли ребенок закричал. Я туго забинтовал рану. Вечером, вызванный кем-то из селения, прибежал марабу — старый, слюнявый, грязный, с бельмом на глазу, — явился со своими инструментами, снадобьями, амулетами и заговорами. Я не пустил его: маленький африканец взволновал меня острой жалостью, и я с особо неприязненной недоверчивостью отнесся на этот раз к медицинскому опыту жрецов, хотя знаю, что хранит он некоторые секреты, еще не открытые белыми. Ночью мальчик начал бредить, и я ни на шаг не отходил от него, давая ему питье, успокаивая его, гладя его курчавую головенку. К утру он стих. Мне показалось, что он умирает, и спазма перехватила мне глотку. Нет, это был короткий сон, и скоро больной очнулся, облизал запекшиеся губы и опять попросил пить… Он лежал потом четверо суток, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, тихо стонал и часто впадал в беспамятство. Его била лихорадка: он потерял много крови, а я все боялся, что зубы чудовища отравили его кровь. Лечение и неотступное наблюдение сделали свое дело: рана начала заживать. Через месяц мальчик поднялся с кровати. У него все-таки оказалась задетой кость, и он остался слегка хромым на всю жизнь. Я без жалости и нежности не мог смотреть на маленького инвалида, опиравшегося на самодельный костылек, давно забывшего о страшном происшествии и с веселой беззаботностью попрыгивавшего возле палатки. Не помню, кто подметил, что нельзя делать добро «безнаказанно», — к человеку, которому ты оказал услугу, уже не останешься равнодушным. Негритенок, приветливый, доверчивый и веселый, мне нравился все больше. Я решил оставить его у себя, не думая о будущем, — время покажет, что делать дальше. Привязывался и он ко мне все сильнее, постепенно забывая об отце. Мальчик был разговорчив и необыкновенно любознателен: на его лбу постоянно появлялась почти мучительная гримаска, когда он усиленно старался что-нибудь понять, и эта необычная для ребенка морщина делала его до трогательности привлекательным. Я разослал некоторых моих приятелей-негров по окрестностям навести справки о семье мальчика. И оказалось, что погибший негр был вдов, недавно женился вторично и молодая женщина охотно отказывается от пасынка. Мальчик привязался ко мне сильно и, как все дети, требовательно и нежно. Больше всего он любил сидеть у меня на колене, вытянув раненую ножку на ящик рядом, обняв меня одной рукой за шею, блестя глазенками и щебеча, судя по его возбужденности, что-то очень для него интересное: о небе, о лесе, о торнадо, о цветах, о зверях и людях, обо всем том, чем наполнен огромный мир, впервые открывающийся перед его зоркими, умными и внимательными глазами. Никогда не забуду маленького случая, насмешившего меня, но опять заставившего задуматься. После бессонной ночи, проведенной за рабочими записями, в дневной перерыв после обеда я прилег отдохнуть и крепко заснул. Я пришел в себя от каких-то неприятных прикосновений. Приоткрыв глаза, я увидел, как мальчуган лил себе на ладонь из пузырька чернила и с великим усердием мазал мою руку. Она была черна уже по локоть. Я не сразу догадался о происхождении столь странной забавы. Едкая жидкость для вечного пера отходила с трудом. Кончив мыться, я поймал на себе взгляд сожаления и упрека. Я понял: маленький негр хотел исправить ошибку природы, сделавшей меня белым — одним из тех страшных людей, о которых он слышал, которые принесли столько несчастий обитателям тропиков и на которых я совсем не был похож. Я был рад и благодарен судьбе за неожиданный подарок, за эту случайную встречу. Личная жизнь моя опять осветилась смыслом. Две смерти стояли за моей спиной — Цезаря и Эрнеста. Маленькому существу спас жизнь я. И жизнь эта становилась мне все дороже, она умеряла мое одиночество, несла с собой ласку. Я овладел иглой и из своего белья и платья сшил приемышу штанишки и курточки, а из остатков порвавшейся пикейной тужурки соорудил матросскую шапочку на его курчавую голову. Вскоре я начал учить его французскому, а потом и русскому языкам. Система была наглядная — это солнце, это стол, это суп, это ложка. Меня он звал папой. Как приятны мне были эти уроки! Язык негров при всем разнообразии племенных наречий девически чист и восприимчив — широкий, фонетический, свободный, не знающий «запретных» звуков, которые выдадут англичанина, живущего во Франции, или немца в России и после пятидесяти лет их непосредственного общения с местной средой. Мальчик оказался исключительно способным, память у него была необыкновенная: легкое слово запоминал он крепко, повторив его с голоса всего два-три раза. С голоса же научил я его и тем русским стихотворениям, которые не всегда правильно сохранились в моей памяти от детства. Важно и выразительно декламировал он «Козлика» и «Простой цветочек дикий», а потом и «Бородино» и «Полтаву». Через год у меня был разумный и внимательный собеседник, а там постепенно приступил я и к более основательной науке в скудную меру моих педагогических способностей. Так же быстро он усвоил чтение, письмо, простейшие правила арифметики. Лексикон его все расширялся, и мне уже трудно бывало сдерживать его желание знать все больше и больше. У мальчика было хорошее сердце и горячая голова. Ученье давало ему серьезность и глубину. Уже все реже видели его сверстники-товарищи, все больше времени проводил он за книгами. Воображаемый новый мир, будущее, сладость познания влекли его больше, чем чурки, лазанье по деревьям, упражнения в метании копья и стрельба из лука, игры и детские походы к реке и в лес, хотя и этому уделял он внимание и рос физически крепким, сильным… Помню, еще в начале ученья я выписал из Парижа хрестоматию Толстого, и, когда видел потом склоненную над книгой курчавую маленькую голову, мне становилось смешно и странно — наверно, удивился бы и сам великий автор, узнав, что где-то, в дебрях Дагомеи, черный маленький человек в подлиннике разбирает его педагогические творения. Конечно, он оставался ребенком и притом изрядным шалуном. Но при горячности характера он был очень деликатен и совершенно правдив. Набедокурив или просто сделав что-нибудь совсем пустое, что, однако, по его предположению, могло вызвать мое недовольство, он сейчас же бежал ко мне, признавался во всем и просил поверить, что он исправит ошибку и уже никогда ее не повторит. Но если я не обращал достаточного внимания на его чувства, он обижался, замыкался и страдал. Существо повышенной совести, он был душевно сложен… Часто, глядя на его стройную фигурку в европейском платье, на то, как стоит он один где-нибудь в поле, глядя вдаль или опустив голову и по-взрослому задумавшись, с горечью и отрадой я говорил себе: «Слишком долго я был благодушным наблюдателем жизни, слишком мало вмешивался в ту неправду, которой она полна, и сделал гораздо меньше того, что мог и должен был сделать. Но в моем ученике я воспитаю волю, силу характера, непреклонность, достоинство, гордость и отвагу, которых не сумел в достаточной мере проявить сам. Из него вырастет боец!» Я уже давно усыновил черного мальчика, и сына моего зовут по мне — Пьер Дьедонэ, по-русски Петр Петрович Богданов. Пять лет мы были неразлучны. И ребенок во многом скрасил и облегчил мне жизнь. Три года назад я выехал с ним в Европу. К концу отпуска я нашел хороший лицей-пансион, где есть опытный преподаватель русского языка. И вновь и вновь на примере негритянского мальчика я вижу, какие огромные силы таятся в людях Черного материка, какие ценности могут они создать и внести в великую сокровищницу общечеловеческой культуры. Школа среди негров подобна ледоколу, вскрывающему ледяной покров необозримых водных просторов, или плугу, прокладывающему первую борозду по первобытной тучной целине, которая обещает невиданный урожай… Мальчик стремится к науке с жадностью безмерной, и способности его совершенно исключительны: он идет несравненно впереди самого лучшего из остальных учеников, причем знания даются ему не только с большой легкостью, но и укладываются с фундаментальной прочностью, — его память поразительна. Сейчас ему четырнадцатый год. Он мечтает, как и я когда-то, стать инженером и, конечно, им станет. Переписка идет у нас на двух языках. Я поставил директору лицея условие, что русскому будет уделяться такое же внимание, как и основному, французскому. К тому же русский язык особенно нравится мальчику. С годами чувствую я неуклонное приближение старости и сопряженного с нею одиночества. В ней опорой и отрадой будет мне мой черный сын, столь близкий мне, как если бы и в самом деле текла в нас общая кровь, и относящийся ко мне с той честностью, прямотой, доверчивостью и, не сомневаюсь, любовью, будто и в самом деле рожден он от меня.

Илья Зверев ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Героическим горнякам 36-й Сталиногорской шахты Тифко, Леонову, Ручкину, Семушиикову, Власову, Гольтяеву, Зеневичу, Жаркову и товарищам, действовавшим по другую сторону завала 3 и 4 апреля 1956 года.
— Сколько вас, ребята? Сколько вас?… Сколько?… — говорю. — Сколько вас там?… Наконец там, за завалом, поняли. Глухо простучали по трубе шесть ударов. Потом, после долгой паузы, седьмой. У песчаного вала, перегородившего штрек, молча стояли шахтеры. Никто не сдвинулся с места. Только огоньки лампочек согласно качнулись в такт общему вздоху. Снова удары по трубе. Один… два… три… — все считали вслух — четыре… пять… шесть… Потом снова томительная пауза (на этот раз она уже не могла, никак не могла быть случайной!), и еще один удар — седьмой. — Шестеро — живые. Один — покойник, — сказал кто-то.
* * *
Еще в пять часов утра все было хорошо. Начальник шахты Семен Ильич Драгунский, мучимый стариковской бессонницей, позвонил дежурному. Бодрым голосом хорошо выспавшегося человека тот отрапортовал: — Все в порядочке, ствол работает, участки «не пищат»!.. Спите дальше, ваше блаженство! — посоветовал он на прощанье, игриво употребив смешной церковный титул, вычитанный вчера в газете. Семен Ильич улегся опять. «Ваше блаженство», — вспомнил, усмехаясь. — Какой приятный парень этот Синица. И остроумный. С осени уйдет главный инженер в академию — быть ему наследником…» А через десять минут — леденящий душу пронзительный звонок (о, начальник и по звонку умел отличить чрезвычайное от будничного). В трубке — задыхающийся голос Синицы:
— Завал, Семен Ильич!.. Завал на третьем восточном… На стыке с шестым… Люди, Семен Ильич!..
В шахтной конторе — в маленькой комнатке с табличкой «Коммутатор. Вход воспрещен!» — Люся-телефонистка, побледневшая и как-то осунувшаяся за несколько минут, снова и снова чужим, отвердевшим голосом повторяла одни и те же грозные слова. Всем, кому следовало по «аварийной диспозиции», столько лет бесполезно пылившейся на стене, сейчас подавала она сигнал бедствия: горноспасателям, тресту, горкому партии, медицине, чтобы мчались спасать; прокуратуре, чтобы ехала расследовать и карать; кладовщику, потому что в любую минуту мог потребоваться инструмент.
Квартира кладовщика не отвечала. Но шахтная телефонистка — это не городская телефонная барышня («Алло, алло, соединяю… Извините, не отвечает»)… Она обязана знать, где кого искать в ответственную минуту.
«Видимо, заночевал старый черт у племянника Пашки», — сообразила она.
Люся подбежала к двери и кликнула уборщицу:
— Андреевна, быстренько, пожалуйста, к Пашке Мордасову. Вытащи дядю Васю!.. Чтобы бегом бежал сюда!
— Ладно, ягодка.
Старуха с сожалением посмотрела на недомытый пол, по которому растеклись черные сверкающие лужи, швырнула тряпку в ведро и решительно вытерла руки о передник.
Надо очень любить людей, чтобы согласиться служить уборщицей на шахте. Каторжный труд — ежедневно скоблить и отмывать пол в нарядной, затоптанной угольными сапожищами; оттирать голубые стены, к которым так любят прислоняться усталые ребята в черных спецовках… Тяжко, ко всему тому, не иметь сладостной привилегии всех уборщиц — покричать на нарушителей чистоты или замахнуться тряпкой на начальство, топающее в калошах по свежевымытому полу.
Тут люди не носят калош. Черная грязь на их вечно мокрых сапогах — не грязь, а уголь. Уголь, ради которого люди в преисподнюю ходят — во тьму и сырость.
Словом, Андреевна понимала и душевно чувствовала, что такое шахта, и безропотно побежала на другой конец поселка будить загулявшего кладовщика.
В коммутаторную, похрустывая пальцами, вбежал Синица.
— Всех обзвонила? — глядя как бы сквозь Люсю, спросил он и, не дожидаясь ответа, вздохнул: — Ах, черная пятница!
«Пятница»? Это слово бросило девушку в жар. Как же она забыла! Ведь с полуночи уже пятница. И в эту пятницу, в ночную смену, на штрек должен был идти Женька. Они уже неделю были в ссоре, но еще тогда, когда все было иначе, он говорил Люсе: в четверг, мол, последний денек гуляю, а в пятницу, в ночь, запрягаться.
Она умоляюще поглядела на Синицу:
— Арнольд Петрович… Пожалуйста… Кто там попал? Женька Кашин не попал?
— Ах, господи, ничего я не знаю! — рассердился Синица. — Не могу я больше здесь наверху, ведь там люди гибнут!
Как ей было не понять! Нет страшнее пытки для горняка, чем эта, — сидеть дежурным на поверхности, когда в шахте беда.
— А Женька? Вы не помните случайно?…
— Ты всех обзвонила?… Что они не едут! Они уже должны быть здесь.
За окном провыла не похожая ни на какую другую сирена горноспасательной машины. В нарядной загрохотали уверенные голоса. Синица рванулся из комнаты.
— Девушка, вы что там спите? — вернул Люсю к служебным обязанностям какой-то негодующий абонент. — Давай, кто там есть главный!
Из нарядной ответил сам начальник. Быстро он прибыл!
— Разговаривать не могу… Еду в шахту… Причины аварии? Не знаю. Там люди, семь человек… Не могу разговаривать…
И бросил трубку.
— Семен Ильич, это из органов звонили? — замороженным голосом спросил тихонько вошедший Синица.
— Да нет, из треста, техотдел!.. — И, словно поняв что-то, Драгунский глянул на инженера с внезапной яростью. — О них думай, которые за завалом. О скамье подсудимых успеем… Слышишь, ты!..
Огромный, багроволицый, с всклокоченными седыми волосами, начальник был страшен в эту минуту: казалось, прикоснешься к нему — ударит током!
В нарядной с каждой минутой прибывал народ. Вошел командир горноспасателей со своими дюжими — один в одного — бойцами. Прибежал парень спросить, грузят ли в клеть малый компрессор. Явился техник требовать кислородных баллонов. Черненькая, носатая врачиха из рудбольницы пришла «в полном параде» — с орденом Красного Знамени, явно не случайно приколотым в этот страшный предутренний час. Один за другим вваливались «представители» — инспектор, управляющий трестом, комбинатское начальство.
На голубой шелковистой кальке, захватанной черными пальцами — на плане горных работ, — большой, иссеченный шрамами палец Драгунского отметил то самое место.
— Люди запечатаны в третьем восточном и в шестом! — звенящим от напряжения, но ровным голосом сказал он. — К ним можно пробиться либо из другой части штрека, так сказать с тылу, либо прямо через завал, если он позволит себя потревожить, — в чем я очень сомневаюсь…
На шахте такая жизнь, что в грозную минуту все люди, вплоть до представителей самых третьестепенных, «обозных» профессий, начинают действовать с быстротой и блеском, словно сызмальства учились считать секунды. Толстуха-банщица мгновенно приготовила в инженерских кабинках сразу десять комплектов белья, спецовок, портянок, сапог. Ламповщица встречала начальство уже на пороге своего серого домика, обвешанная тяжелыми гроздьями лампочек.
В ламповой уже знали имена попавших в беду. Вручая начальнику его легкую, «хозяйскую» лампочку-надзорку, девушка шепнула:
— Павловский, Ларионов, Кротов, Кашин…
Она, по-видимому, считала это большим секретом. Но каким-то необъяснимым чудом уже вся шахта знала эти имена. И в нарядной, отданной горноспасателям под штаб, и в красном уголке, приспособленном под нарядную, и на лесном складе, и в лавах люди шепотом повторяли имена семерых с таким чувством, будто не было у них на шахте и на всем белом свете товарищей ближе и дороже, чем эти.
У эстакады, приникая то к одной, то к другой черной спецовке, металась простоволосая заплаканная женщина в модной шубке.
— Товарищ Алексин, — сказал Драгунский парторгу, тяжело шагавшему рядом с ним, — возвращайся и займись семьями!
Парторг грустно кивнул и ушел, не оборачиваясь. Начальство — местное и приезжее — направилось к клети и спустилось вниз.
На штреке Драгунский отстал от остальных. Проклятая гипертония! Затылок стиснуло свинцовым обручем; в висках, в сердце, в ногах болезненно отдавался каждый удар пульса.
Начальник заложил руки за спину, наклонил корпус так, чтобы собственная тяжесть влекла его вперед, под уклон, и так продолжал идти.
Громко, стараясь подавить оглушительный звон в висках, он твердил себе, что все обойдется, потому что там, за завалом, прекрасные люди — такие люди, как Яша и Павловский. Ему, старому горняку, отлично было известно, сколь слаб человек против взбесившейся подземной стихии, и все-таки он немного успокоился, узнав, что люди там надежные (хотя, честно говоря, предпочел бы сам быть на их месте).
У завала толпились люди. Драгунский подошел к своим недавним спутникам, деликатно не заметившим его опоздания.
— Боязно трогать кумпол, — сказал управляющий, употребляя простецкое выражение шахтеров. — Все поедет к дьяволу.
Словно в ответ на эти слова, песчаная стена, перегородившая штрек, зашевелилась, задышала. Что-то хлестнуло людей по ногам, едва не повалив.
— Назад! — крикнул Синица и рванулся почему-то вперед.
Драгунский схватил ошалевшего парня за рукав и — откуда только сила взялась! — отшвырнул к остальным.
Вслед за песком с тихим урчаньем хлынула вода. Споткнувшись на бегу, управляющий зачерпнул полные сапоги.
— Я же вам говорил! Я же говорил! — воскликнул Синица.
А Драгунский скучным голосом распорядился послать за сухими портянками.
Поток иссяк так же внезапно, как и появился. Горноспасатели, подтверждая свою репутацию бесстрашных рыцарей, мигом вернулись на исходные позиции и деловито щупали мокрый «кумпол».
— Придется идти на обходной маневр, — сказал управляющий. — С тылу раньше чем за трое суток к ним не пробиться. А тут, если не захлебнемся, часов за шестьдесят пробьем… Но где компрессоры?. Где молотки?
— Всё на подходе! — обиженно отрапортовал командир горноспасателей…
Итак, обстановка была примерно ясна, хотя ни малейшей радости эта ясность не сулила. Оборвавшийся с кровли песок наглухо запечатал часть третьего и шестого штреков и вызвал изрядную встряску во всей местной геологии. Были все основания ждать плывуна и новых обрушений.
Трогать «кумпол», конечно же, было невозможно: копнешь разок — все придет в движение, и тогда уж не остановить. Пройти отбойными молотками обходную выработку, огибавшую завал, можно. Но времени на это потребуется много — управляющий был прав.
Драгунский приказал механику взять троих самых лучших комбайнеров и любой ценой — пусть хоть машина летит к дьяволу! — пробиться с тыла в предельно короткий срок. Надо застраховаться от возможной неудачи обходного маневра. Но что это за «предельно короткий срок»? Семьдесят часов. Да и то в лучшем случае, при рекордном темпе.
Не было таких средств, такой техники, такой уймищи народа, каких бы пожалел послать Мосбасс на спасение семерых. Но трагедия заключалась в том, что плацдарм для наступления был мал, невообразимо мал — нескольким людям трудно было там повернуться! Для того чтобы питать воздухом отбойные молотки, пришлось разыскивать самые маленькие компрессоры — другие не смогли бы спустить.
И каждый шаг был чреват разнообразнымиопасностями: а вдруг, пробиваясь в обход, потревожишь дремлющую лавину, и она рванется в штрек; а вдруг, заложив шпур, задушишь газом осажденных; или, вытаскивая трубу из скважины, зальешь людей водой. Трубу эту не зря задумали вытащить. Как раз на осажденный участок проходит с поверхности водоотливная скважина. Если вынуть или хотя бы немного приподнять находящуюся в ней трубу, к людям, запертым за завалом, хлынет по трубе чистый воздух и связь с ними облегчится.
— А что, если вместо воздуха сверху да вода к ним снизу хлынет?
Сам главный геолог комбината — знаток из знатоков — мучительно раздумывал над этим вопросом. А между тем времени для раздумий не было. Каждая минута могла стать роковой. Пусть подадут к осажденным воздух, пусть доставят им питание и спирт, пусть, наконец, наладят телефонную связь — главная опасность все равно не исчезнет. Главная опасность — плывун, словно набирающий силы для нового, последнего рывка, от которого спасения нет.
Единственная надежда — скорость. Скорость, скорость!.. Об этом думали люди в сырой темноте штрека, и в штабе горноспасателей, и в комбинате, и в Москве, где предрассветные звонки уже подняли с постели нескольких профессоров и опытнейших практиков.
— Назначай старшим на комбайн Селезнева. Он зубами грызть будет — лучший Яшин дружок… — сказал механику Драгунский. — И, мгновение подумав, добавил: — Хотя сейчас ему каждый — лучший друг.
Горноспасатели, попросив остальных посторониться, поднесли к завалу трехдюймовую трубу со странной затычкой, похожей на пику.
Командир с гордостью бросил:
— Проводим ЦП… Что? Цепь питания… Ну, «Ладогу»!
«Ладогой» шахтеры называли устройство, позволяющее перебрасывать по трубе к осажденным пищу и питье. Название это было дано в честь той давней «дороги жизни», проложенной в дни войны по Ладожскому озеру к блокированному Ленинграду.
Словно игла в масло, вошла в сыроватый песок трехдюймовая труба, заткнутая острой пробкой. Потом она пошла уже туже, и по ее тупому концу пришлось долго бить здоровенной лесиной.
Наконец пробили. Осажденные гулко вышибли пробку, и по трубе потек к ним кислород из баллонов, штабелем сложенных у завала. А из другого штабеля, сверкавшего при свете ламп целлофановыми боками, извлекались длинные колбасы, круглые хлебцы, пузатые фляги. Все эти богатства, прицепленные к тросу, тоже пойдут на ту сторону.
А через десять минут — леденящий душу пронзительный звонок (о, начальник и по звонку умел отличить чрезвычайное от будничного). В трубке — задыхающийся голос Синицы:
— Завал, Семен Ильич!.. Завал на третьем восточном… На стыке с шестым… Люди, Семен Ильич!..
В шахтной конторе — в маленькой комнатке с табличкой «Коммутатор. Вход воспрещен!» — Люся-телефонистка, побледневшая и как-то осунувшаяся за несколько минут, снова и снова чужим, отвердевшим голосом повторяла одни и те же грозные слова. Всем, кому следовало по «аварийной диспозиции», столько лет бесполезно пылившейся на стене, сейчас подавала она сигнал бедствия: горноспасателям, тресту, горкому партии, медицине, чтобы мчались спасать; прокуратуре, чтобы ехала расследовать и карать; кладовщику, потому что в любую минуту мог потребоваться инструмент.
Квартира кладовщика не отвечала. Но шахтная телефонистка — это не городская телефонная барышня («Алло, алло, соединяю… Извините, не отвечает»)… Она обязана знать, где кого искать в ответственную минуту.
«Видимо, заночевал старый черт у племянника Пашки», — сообразила она.
Люся подбежала к двери и кликнула уборщицу:
— Андреевна, быстренько, пожалуйста, к Пашке Мордасову. Вытащи дядю Васю!.. Чтобы бегом бежал сюда!
— Ладно, ягодка.
Старуха с сожалением посмотрела на недомытый пол, по которому растеклись черные сверкающие лужи, швырнула тряпку в ведро и решительно вытерла руки о передник.
Надо очень любить людей, чтобы согласиться служить уборщицей на шахте. Каторжный труд — ежедневно скоблить и отмывать пол в нарядной, затоптанной угольными сапожищами; оттирать голубые стены, к которым так любят прислоняться усталые ребята в черных спецовках… Тяжко, ко всему тому, не иметь сладостной привилегии всех уборщиц — покричать на нарушителей чистоты или замахнуться тряпкой на начальство, топающее в калошах по свежевымытому полу.
Тут люди не носят калош. Черная грязь на их вечно мокрых сапогах — не грязь, а уголь. Уголь, ради которого люди в преисподнюю ходят — во тьму и сырость.
Словом, Андреевна понимала и душевно чувствовала, что такое шахта, и безропотно побежала на другой конец поселка будить загулявшего кладовщика.
В коммутаторную, похрустывая пальцами, вбежал Синица.
— Всех обзвонила? — глядя как бы сквозь Люсю, спросил он и, не дожидаясь ответа, вздохнул: — Ах, черная пятница!
«Пятница»? Это слово бросило девушку в жар. Как же она забыла! Ведь с полуночи уже пятница. И в эту пятницу, в ночную смену, на штрек должен был идти Женька. Они уже неделю были в ссоре, но еще тогда, когда все было иначе, он говорил Люсе: в четверг, мол, последний денек гуляю, а в пятницу, в ночь, запрягаться.
Она умоляюще поглядела на Синицу:
— Арнольд Петрович… Пожалуйста… Кто там попал? Женька Кашин не попал?
— Ах, господи, ничего я не знаю! — рассердился Синица. — Не могу я больше здесь наверху, ведь там люди гибнут!
Как ей было не понять! Нет страшнее пытки для горняка, чем эта, — сидеть дежурным на поверхности, когда в шахте беда.
— А Женька? Вы не помните случайно?…
— Ты всех обзвонила?… Что они не едут! Они уже должны быть здесь.
За окном провыла не похожая ни на какую другую сирена горноспасательной машины. В нарядной загрохотали уверенные голоса. Синица рванулся из комнаты.
— Девушка, вы что там спите? — вернул Люсю к служебным обязанностям какой-то негодующий абонент. — Давай, кто там есть главный!
Из нарядной ответил сам начальник. Быстро он прибыл!
— Разговаривать не могу… Еду в шахту… Причины аварии? Не знаю. Там люди, семь человек… Не могу разговаривать…
И бросил трубку.
— Семен Ильич, это из органов звонили? — замороженным голосом спросил тихонько вошедший Синица.
— Да нет, из треста, техотдел!.. — И, словно поняв что-то, Драгунский глянул на инженера с внезапной яростью. — О них думай, которые за завалом. О скамье подсудимых успеем… Слышишь, ты!..
Огромный, багроволицый, с всклокоченными седыми волосами, начальник был страшен в эту минуту: казалось, прикоснешься к нему — ударит током!
В нарядной с каждой минутой прибывал народ. Вошел командир горноспасателей со своими дюжими — один в одного — бойцами. Прибежал парень спросить, грузят ли в клеть малый компрессор. Явился техник требовать кислородных баллонов. Черненькая, носатая врачиха из рудбольницы пришла «в полном параде» — с орденом Красного Знамени, явно не случайно приколотым в этот страшный предутренний час. Один за другим вваливались «представители» — инспектор, управляющий трестом, комбинатское начальство.
На голубой шелковистой кальке, захватанной черными пальцами — на плане горных работ, — большой, иссеченный шрамами палец Драгунского отметил то самое место.
— Люди запечатаны в третьем восточном и в шестом! — звенящим от напряжения, но ровным голосом сказал он. — К ним можно пробиться либо из другой части штрека, так сказать с тылу, либо прямо через завал, если он позволит себя потревожить, — в чем я очень сомневаюсь…
На шахте такая жизнь, что в грозную минуту все люди, вплоть до представителей самых третьестепенных, «обозных» профессий, начинают действовать с быстротой и блеском, словно сызмальства учились считать секунды. Толстуха-банщица мгновенно приготовила в инженерских кабинках сразу десять комплектов белья, спецовок, портянок, сапог. Ламповщица встречала начальство уже на пороге своего серого домика, обвешанная тяжелыми гроздьями лампочек.
В ламповой уже знали имена попавших в беду. Вручая начальнику его легкую, «хозяйскую» лампочку-надзорку, девушка шепнула:
— Павловский, Ларионов, Кротов, Кашин…
Она, по-видимому, считала это большим секретом. Но каким-то необъяснимым чудом уже вся шахта знала эти имена. И в нарядной, отданной горноспасателям под штаб, и в красном уголке, приспособленном под нарядную, и на лесном складе, и в лавах люди шепотом повторяли имена семерых с таким чувством, будто не было у них на шахте и на всем белом свете товарищей ближе и дороже, чем эти.
У эстакады, приникая то к одной, то к другой черной спецовке, металась простоволосая заплаканная женщина в модной шубке.
— Товарищ Алексин, — сказал Драгунский парторгу, тяжело шагавшему рядом с ним, — возвращайся и займись семьями!
Парторг грустно кивнул и ушел, не оборачиваясь. Начальство — местное и приезжее — направилось к клети и спустилось вниз.
На штреке Драгунский отстал от остальных. Проклятая гипертония! Затылок стиснуло свинцовым обручем; в висках, в сердце, в ногах болезненно отдавался каждый удар пульса.
Начальник заложил руки за спину, наклонил корпус так, чтобы собственная тяжесть влекла его вперед, под уклон, и так продолжал идти.
Громко, стараясь подавить оглушительный звон в висках, он твердил себе, что все обойдется, потому что там, за завалом, прекрасные люди — такие люди, как Яша и Павловский. Ему, старому горняку, отлично было известно, сколь слаб человек против взбесившейся подземной стихии, и все-таки он немного успокоился, узнав, что люди там надежные (хотя, честно говоря, предпочел бы сам быть на их месте).
У завала толпились люди. Драгунский подошел к своим недавним спутникам, деликатно не заметившим его опоздания.
— Боязно трогать кумпол, — сказал управляющий, употребляя простецкое выражение шахтеров. — Все поедет к дьяволу.
Словно в ответ на эти слова, песчаная стена, перегородившая штрек, зашевелилась, задышала. Что-то хлестнуло людей по ногам, едва не повалив.
— Назад! — крикнул Синица и рванулся почему-то вперед.
Драгунский схватил ошалевшего парня за рукав и — откуда только сила взялась! — отшвырнул к остальным.
Вслед за песком с тихим урчаньем хлынула вода. Споткнувшись на бегу, управляющий зачерпнул полные сапоги.
— Я же вам говорил! Я же говорил! — воскликнул Синица.
А Драгунский скучным голосом распорядился послать за сухими портянками.
Поток иссяк так же внезапно, как и появился. Горноспасатели, подтверждая свою репутацию бесстрашных рыцарей, мигом вернулись на исходные позиции и деловито щупали мокрый «кумпол».
— Придется идти на обходной маневр, — сказал управляющий. — С тылу раньше чем за трое суток к ним не пробиться. А тут, если не захлебнемся, часов за шестьдесят пробьем… Но где компрессоры?. Где молотки?
— Всё на подходе! — обиженно отрапортовал командир горноспасателей…
Итак, обстановка была примерно ясна, хотя ни малейшей радости эта ясность не сулила. Оборвавшийся с кровли песок наглухо запечатал часть третьего и шестого штреков и вызвал изрядную встряску во всей местной геологии. Были все основания ждать плывуна и новых обрушений.
Трогать «кумпол», конечно же, было невозможно: копнешь разок — все придет в движение, и тогда уж не остановить. Пройти отбойными молотками обходную выработку, огибавшую завал, можно. Но времени на это потребуется много — управляющий был прав.
Драгунский приказал механику взять троих самых лучших комбайнеров и любой ценой — пусть хоть машина летит к дьяволу! — пробиться с тыла в предельно короткий срок. Надо застраховаться от возможной неудачи обходного маневра. Но что это за «предельно короткий срок»? Семьдесят часов. Да и то в лучшем случае, при рекордном темпе.
Не было таких средств, такой техники, такой уймищи народа, каких бы пожалел послать Мосбасс на спасение семерых. Но трагедия заключалась в том, что плацдарм для наступления был мал, невообразимо мал — нескольким людям трудно было там повернуться! Для того чтобы питать воздухом отбойные молотки, пришлось разыскивать самые маленькие компрессоры — другие не смогли бы спустить.
И каждый шаг был чреват разнообразнымиопасностями: а вдруг, пробиваясь в обход, потревожишь дремлющую лавину, и она рванется в штрек; а вдруг, заложив шпур, задушишь газом осажденных; или, вытаскивая трубу из скважины, зальешь людей водой. Трубу эту не зря задумали вытащить. Как раз на осажденный участок проходит с поверхности водоотливная скважина. Если вынуть или хотя бы немного приподнять находящуюся в ней трубу, к людям, запертым за завалом, хлынет по трубе чистый воздух и связь с ними облегчится.
— А что, если вместо воздуха сверху да вода к ним снизу хлынет?
Сам главный геолог комбината — знаток из знатоков — мучительно раздумывал над этим вопросом. А между тем времени для раздумий не было. Каждая минута могла стать роковой. Пусть подадут к осажденным воздух, пусть доставят им питание и спирт, пусть, наконец, наладят телефонную связь — главная опасность все равно не исчезнет. Главная опасность — плывун, словно набирающий силы для нового, последнего рывка, от которого спасения нет.
Единственная надежда — скорость. Скорость, скорость!.. Об этом думали люди в сырой темноте штрека, и в штабе горноспасателей, и в комбинате, и в Москве, где предрассветные звонки уже подняли с постели нескольких профессоров и опытнейших практиков.
— Назначай старшим на комбайн Селезнева. Он зубами грызть будет — лучший Яшин дружок… — сказал механику Драгунский. — И, мгновение подумав, добавил: — Хотя сейчас ему каждый — лучший друг.
Горноспасатели, попросив остальных посторониться, поднесли к завалу трехдюймовую трубу со странной затычкой, похожей на пику.
Командир с гордостью бросил:
— Проводим ЦП… Что? Цепь питания… Ну, «Ладогу»!
«Ладогой» шахтеры называли устройство, позволяющее перебрасывать по трубе к осажденным пищу и питье. Название это было дано в честь той давней «дороги жизни», проложенной в дни войны по Ладожскому озеру к блокированному Ленинграду.
Словно игла в масло, вошла в сыроватый песок трехдюймовая труба, заткнутая острой пробкой. Потом она пошла уже туже, и по ее тупому концу пришлось долго бить здоровенной лесиной.
Наконец пробили. Осажденные гулко вышибли пробку, и по трубе потек к ним кислород из баллонов, штабелем сложенных у завала. А из другого штабеля, сверкавшего при свете ламп целлофановыми боками, извлекались длинные колбасы, круглые хлебцы, пузатые фляги. Все эти богатства, прицепленные к тросу, тоже пойдут на ту сторону.
* * *
— Эге-гей! Там… на воле! — дикой радостью звенел в трубе этот крик. — Ого-го!.. Потом — другой голос, спокойный, торжественный: — Товарищи! Слышите нас?… Товарищи! — Слышим, ребята! Как вы там? — Мы ничего… Мы в порядке… Товарищи, пробивайтесь сперва на шестой. Там человек остался… Кротов… Который с девятой-бис… Пробивайтесь на шестой. А мы в порядке. — Воды много? — Появилась. Теперь почти нету… Портяночек передайте сухих… И пробивайтесь на шестой. Парень там один. — Держитесь, ребята! — крикнул Драгунский. — А мы к вам с трех сторон… Наступление действительно велось с трех сторон. У завала вскоре затарахтели пулеметные очереди отбойного молотка. С другого конца штрека двинулся сквозь сплошную угольную стену проходческий комбайн, ведомый сразу тремя классными машинистами. А на поверхности люди в брезентовых плащах возились у водоотливной скважины, прикидывая, как извлечь из нее трубу, уходящую глубоко под землю как раз на блокированный участок третьего восточного штрека. Вытащат из скважины трубу — будет еще одна линия связи, непосредственно с поверхностью. Три тяжелых автокрана уже мчатся сюда с необычной для таких махин скоростью из разных концов Мосбасса. Скоро они прибудут и вытащат трубу. Но по узкой скважине все равно людей не вытянешь… Путь горного комбайна, идущего к осажденным с тыла, тоже слишком долог. Остается обходной маневр! Но его нельзя делать сразу в две стороны — развернуться негде. Куда же пробиваться: на шестой штрек к Кротову или на третий восточный, к тем, шестерым? — Все-таки надо пробиваться к шестерым, — немножко смущенно посоветовал командир горноспасателей. — По логике вещей, там шестеро — тут один. — Когда разговор о людях… разве можно по арифметике!.. Эти все же связь имеют. И вместе они, вшестером. А тот одни. — Если плывун не прорвет, то, конечно, они подождут. А прорвет — шестерых потеряем. — Да они сами нам не простят, если бросим парня! — злым шепотом сказал Драгунский (нельзя, чтобы такой разговор слышали люди!). — Подумайте: он один, без еды… — Я против! — раздраженно перебил Синица. — Решительно возражаю! Есть выбор: шесть жизней или одна. Пошевелите мозгами, какая ответственность, если погибнут шестеро!.. За это, знаете… По положению, во время аварий вся полнота власти на шахте от начальника переходит к главному инженеру, к техническому руководителю. Обязанности главного исполнял Синица. Но… Драгунский был Драгунский, двадцать лет назад поседевший от шахтных дел. — А все-таки в обход к шестому, к Кротову… — сказал он. — Что скажет трест? — К шестому! — сумрачно подтвердил управляющий. — К шестому! — вздохнув, сказали комбинатские. — Только бы плывун не пошел! У завала сидела доктор. Странным в этой черной преисподней, лекторским голосом она говорила в трубу: — Профилактический эффект препаратов урострептин и норсульфазол весьма хорош… Рядом с ней пожилой горноспасатель, сидя на корточках, благоговейно увязывал в пакет продолговатые коробочки с лекарствами. Оба едва заметно улыбнулись, услышав хрипловатый басок Драгунского: — Давайте на шестой. Решено!* * *
— Проклятый слепой случай! — шептал Павловский, рассеянно прислушиваясь к доносящемуся из трубы, с воли, голосу доктора. — Слепой случай! И лучше бы мне быть на шестом… Ведь этот зеленый мальчик — я даже не знаю, как он выглядит, — ведь он растеряется и захлебнется там, как кутенок!.. А я, дурень, прибежал сюда, будто они без меня не обошлись бы! Очень странные рассуждения: разве зависел от инженера Павловского выбор места заточения? Да, представьте себе, зависел! Волею случая он очутился на стыке третьего с шестым как раз в те мгновения, когда потек песок. Он мог одним прыжком выбраться из опасной зоны, уйти из блокады и бежать к стволу, к свету, к спасению. Но он сам влетел в обреченную выработку. И не потому, что, ошалев от ужаса, потерял ориентировку. Нет, здесь сработала сила, еще более могущественная и властная, чем извечный инстинкт самосохранения. Сила эта — некий профессиональный рефлекс горняка, повелевающий бежать туда, где бедуют другие. Невозможно понять, как Павловский в какое-то мгновение сообразил, что люди остаются в глухой части штрека, что сейчас их отрежет и что он сможет быть им полезен… Но он мигом очутился вместе с ними здесь, в осаде. Когда, задыхаясь, он обернулся туда, где сходились два штрека, пляшущий луч его лампочки осветил уже не туннель, а глухую серую стену, поднявшуюся к самой кровле. И тут же Павловский услышал свист. Дикий, разбойничий свист, секрет которого знают лишь электровозные машинисты, наследники шахтных ямщиков — коногонов. Свистел Коля Барышников, десять минут назад выехавший к штреку со своим электровозом. На свист от комбайна прибежали смеющиеся, ничего не подозревающие люди: «Забурился, что ли? Подмога нужна?» В зыбком свете лампочек Павловский видел, как удивительно менялись их лица — вытягивались, словно худели. На непослушных, «ватных» ногах подошел Колин помощник — Коваленко, прозванный почему-то «адмиралом». Его широкое, черное от пыли лицо с нежно-розовыми мокрыми губами было искажено; на виске наливалась кровью ссадина. Медленно выдавливая слова, он проговорил: — Запечатало… в шестом хлопец остался. Кротов. Я успел, а он… — Какой Кротов? — Новый хлопец. С девятой бис перешел. Рыжий… — с трудом шевеля языком, проговорил Коваленко. — Не дрожи, адмирал, — нам повезло: мы в компании!.. — демонстративно присаживаясь на поваленную стойку, сказал Коля. — Жаль, папирос нет… На миру и смерть красна… — Перестань бравировать! — неожиданно для себя крикнул Павловский. — Ты соображаешь, что случилось? Коля, кажется, не понял, что означает слово «бравировать», но поспешно вскочил. — Ну, так давайте рыдать! — поддержал дружка Женька Кашин, лопоухий, курносый, беззаботный, как всегда. — Давайте плакать… — Нет, давайте думать! Положение серьезное, — прервал его Павловский. Где-то совсем близко грохнуло, вероятно в шестом. Потом один за другим раздались еще три удара, словно стреляли из миномета. Все застыли, вслушиваясь. Даже под слоем угольной пыли было видно, как побледнели лица. Женька стоял с открытым ртом, тяжело дыша, будто после бега. Превозмогая оцепенение, Павловский сказал: — Немедля разбирайте лес! Строим перемычку. Успеем — будем живы… Люди, словно пробуждаясь от тяжелого сна, зашевелились. И все разом — очень трудно отойти друг от друга в такой момент — отправились к центру своей трехсотметровой тюрьмы. Туда, где застыл электровоз с вагонетками. В голове у Коли почему-то вертелся стишок, кажется, из «Теркина»: «Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой…» «Интересно знать, сколько это «больше»? Можно ли выдержать без пищи трое суток, а то ведь за сутки не откопают…» Обидно и глупо умереть с голодухи. — Яша, не знаешь, сколько выдерживает человек не евши? — Не знаю. Но вообще не дрейфь, Николай. Вам обед передадут… По «ладоге» или еще как… — Я разве о себе? — обиделся Коля. — Я о Кротове… Если бы для какой-нибудь цели понадобилось отобрать шестерых самых не схожих между собой людей, разнящихся возрастом, опытом, характером, внешностью, — на шахте невозможно было бы найти более разных, чем эти. Старшему из них — крепильщику Речкину — пошел шестой десяток. Он был отцом большого семейства и считался самым тихим человеком в своем горластом и задиристом коллективе. А Коле Барышникову только на прошлой неделе исполнилось двадцать. И этот лихой компанейский парень с важностью говорил: «Прощай, молодость! Я уже третий десяток годов разменял». Яков Ларионов был орел, первый комбайнер-проходчик в тресте. А Леша Коваленко считался шахтером временным и самым никудышным- таким, что товарищи даже имя его узнать не пожелали и звали просто по кличке «адмирал». Ты, мол, моряк, красивый сам собою: по морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там. И все эти разные люди сейчас думали об одном человеке — о седьмом, о Кротове, которого никто из них не знал как следует… Подтаскивая стойки для перемычки, они вполголоса говорили об этом парне, только что перешедшем с соседней шахты девять-бис. И все хорошее, что знали они об этой шахте, они непроизвольно перенесли на Кротова: «Хороший парень… Выдержит». Спокойно, словно дело происходило в нарядной, на собрании, попросил слово Ларионов. — Еще одно дело: лампочки погасите, — сказал он. — Сгорят сразу все — будем сидеть впотьмах. Совет был дельный. Лампам осталось гореть только часов по шести-семи. А если погасить все, кроме одной, и потом зажигать их по очереди, тогда хватит почти на двое суток. Но какая же это печальная работа — лампы гасить! С древних времен в человеческом сознании живой огонек представляется символом самой жизни. Задуешь его — кажется, жизнь чью-то прервешь. Перемычку стали складывать из стоек, бесполезно валявшихся по обочинам штрека. Немного лесу нашлось в вагонетках, привезенных Колиным электровозом. Вздрагивая от прикосновения к холодному металлу, шахтеры снимали с вагонеток распилы. В кромешной тьме, ориентируясь на зычный голос Женьки Кашина, лес относили к перемычке. Женька, Ларионов и Павловский орудовали топором и пилой, стараясь подогнать деревяшку к деревяшке. — Соломки бы — зазоры закинуть! — вздохнул инженер. — А то сквозь щели все равно прорвется плывун. Такое тесто, да в дырявую квашню… — Знал бы, где споткнешься, соломки бы подстелил! — мрачно пошутил Женька. — Ничего, откопают… И Павловскому вдруг подумалось, что это у Женьки не внешняя бравада и не легкомыслие. Это что-то совсем другое, свойственное также и Николаю и Яше Ларионову: изумительная уверенность в своих силах, в своем бессмертии. И не зря докторша говорила об урострептине и заботилась, чтобы они тут не кашляли, — значит, даже там, на воле, верят в их возвращение. А у самого Павловского такой уверенности не было. Он — старый горняк — достаточно ясно, до мельчайших подробностей представлял себе, что с ними будет, когда пойдет плывун (а он пойдет, судя по всему). Павловский мысленно простился со смешной и милой сестрой. Когда это произойдет, она переберется в Харьков, к младшему брату — полковнику, и будет каждый апрель приезжать сюда и носить подснежники на его могилку, как носит сейчас на мамину. Разделавшись, таким образом, с делами и думами личными, он со спокойствием обреченного философа занялся делами товарищей. А в их смерть — этих разных, очень живых, очень милых ему людей — он поверить не мог. — Тут что-то делать надо… — бормотал он под нос. — Случается же — дощечка речку держит!.. Как думаешь, который теперь час, адмирал? Коваленко сидел, покачиваясь, обняв голову руками. Он диковато взглянул на инженера… — Наверно, уже утро?… — переспросил тот. — Не имеет значения. — Представляю себе, какая там тревога, на воле! — словно не расслышав, продолжал Павловский. — Все равно, не имеет значения. — А что имеет значение? — Ничего… Теперь уже ничего… — И вдруг, схватив инженера за плечо, страстно зашептал: — Как попали, товарищ Павловский! Как попали! Я еще жить не начал по-настоящему… И вот — крышка… — Знаете что, дорогой мой!.. — сердито сказал инженер, швыряя недорубленный чурбак. — Если быть нам покойниками, то еще ничего. А если мы вдруг живы останемся, как на людей смотреть сможете? Трусом-то!.. — И почти фальцетом приказал: — Вставай сейчас же! Бери топор! Иди к Коле… Коля, я тут один управлюсь, — прими помощника! Старик Речкин мудро решил остаться у завала для «всестороннего наблюдения», а все остальные осажденные были заняты перемычкой. Они приносили Павловскому стойки, помогали сооружать из них баррикаду, пригонять лесину к лесине. Перемычка получалась не очень солидная. И все, с горя, подогревали друг друга бодрыми восклицаниями: «Чистый Днепрогэс!», «Китайская стена!», «Мощь!». Из тьмы вынырнул Яков Ларионов. Движения его были странны, голос звенел: — Ура! Через минуту все поняли причину его ликования: труба, резиновая труба — вот чем можно закрыть щели в перемычке. Теперь уж будет настоящая зашита! Трудно представить себе подарок, который мог бы доставить людям на воле такую же радость, как этот удачно подвернувшийся рукав, разрезанный на резиновые полосы. «Спасение вероятней на десять процентов», — усмехаясь собственной «холодной объективности», подумал Павловский. Пожалуй, на поверхности он переживал бы такую ситуацию во сто раз острее. «Как они там, наверно, переживают — Семен Ильич и остальные!.. И то ли еще будет, когда наладится связь и узнают про беднягу Кротова».* * *
Парторга Алексина окружили плачущие женщины. Они ничего не говорили — только смотрели на него. И от этих глаз, полных то отчаяния, то надежды, становилось тягостно, словно он мог бы что-то сделать, да не сделал. Наверно, тысяча людей, а может быть, и десять тысяч с радостью кинулись вместе с ним вниз, к плывуну, к черту в зубы, только бы облегчить участь осажденных. Но на подступах к третьему штреку едва хватало места для десятерых. Они — немногие горноспасатели и инженеры — обязаны были воплотить в себе энергию тех тысяч. Когда кто-нибудь из них выходил на-гора, на пути от клетки к штабу его провожали взволнованные взгляды, молчаливо и властно спрашивавшие, какую весть несут «оттуда». В партком вбежал какой-то старик с бессмысленно горевшей на свету лампочкой, в потертой, измазанной спецовке. Его маленькое морщинистое лицо, покрытое седой щетиной, было сведено судорогой, словно старик собирался заплакать. — Как же это вы?!. - крикнул он, люто глядя на парторга. — Кольку-то моего… А ну, вели, начальник, чтобы меня в вашу шахту пустили. Стволовой пропуск требует, а я с девятой-бис. — Нельзя, отец, — мягко сказал Алексин. — Успокойся! — Там родные руки нужны в таком деле… Пусти! — В таком деле все руки родные… Садись, отец! Сейчас связь будет. Им туда по трубе телефон такой передать должны — шахтофон… Сейчас вот женщины будут говорить, и ты поговоришь. Женщины разом загомонили. Жена Ларионова, словно опасаясь, что муж уже слышит и даже видит ее, поспешно утерла слезы и, подавив вздох, улыбнулась… Никакими словами не опишешь боли и радости тех разговоров. Шахтофон, похожий на большой наушник, удивительно чуткий прибор: дыхание, кашель, шепот, каждое словечко доносил он. Будто не жизнь и смерть, не страшные метры завала разделяли близких, а трепещущая папиросная бумага. Казалось, закрой глаза, протяни руку — и почувствуешь тепло милой руки. Как близко и как далеко! А слова… Слова говорились самые обыкновенные: «Ну, как себя чувствуешь?», «Володя, может, надо что передать? Еда есть?…» Молодчины женщины, как они держались! Ни одной жалобы, ни стона… И мужчины вместо тысяч и тысяч нежнейших слов скупо говорили, что еды довольно, что портяночки сменили и теперь жизнь совсем хорошая, что передан горячий чай — понемногу выпили, а потом фляжки положили под спецовку… сердце погреть. Что главная просьба к женам — не волноваться… Когда все родные переговорили и собрались идти в степь к скважине, где с минуты на минуту должна была открыться «прямая связь» — бестелефонная, — к Алексину подошла Люся: — Разрешите и мне поговорить. — Только семьи, сама понимаешь… — сказал парторг. — А я тоже не от себя, — покусывая губы, сказала Люся-телефонистка. — Я… от комсомольской организации… — Женька! — задыхаясь, крикнула она в трубку. — Женька, милый! Женька!.. Женька, ты слышишь? Снизу донесся его голос, такой же странный и трепещущий. Может, это шахтофон действует, меняет что-то, но никогда еще у Женьки не было такого голоса. — Люся, Люся! Я тебя слышу… Люся, ты не думай… Я был дурак…* * *
Когда с помощью автокранов трубу в скважине приподняли, оказалось, что ее конец изогнут и сплющен. По такой кривой дороге ничего передать нельзя. Из штрека, по «ладоге», осажденным послали электроды, аппарат и синие очки. Спросили, сумеет ли кто разрезать трубу. Взялся Ларионов. По шахтофону механик читал ему «Памятку электросварщика», и Яков старательно все исполнял… — Аварийное фэзэо! — неожиданно для всех пошутил Коваленко. — Ишь ты, даже адмирал повеселел!.. — отметили ребята. Когда сплющенный кончик трубы отвалился, Ларионов сдернул синие очки и, по-рыбьи заглотнув воздух, воскликнул: — Небо! Небо вижу! Все бросились к скважине, чтобы взглянуть на круглое бледно-голубое пятнышко. Вот оно — небо. И хоть им еще до земли как до неба, они уже видят, видят его. — Слышь, Женька, а я и не знал, что у тебя с Люсей серьезное дело… — глядя в небо, проговорил Барышников. И в голосе его слышалось что-то похожее на зависть. — Она… моя невеста!.. Разве я не говорил? Ничего похожего Женька не говорил и даже не думал прежде. Он и слова такого — невеста, — кажется, не употреблял всерьез ни разу в жизни (разве что в школе в дразнилках: «жених и невеста — тили-тили тесто!»)… Если уж говорить начистоту, то и недавняя ссора у них с Люсей произошла потому, что он думал так просто, а она на всё смотрит серьезно. Непонятно, из каких тайников души оно поднялось, но невозможно было бы найти более подходящее слово для определения, что есть Люся в Женькиной жизни: невеста! — А что сейчас кротовская жинка переживает? Ведь это мука какая — ни слуху ни духу! — задумчиво обронил Женька.* * *
С той минуты, как женщине в меховой шубке парторг, пряча глаза, сказал: «А с вашим мужем пока связи нет», она словно окаменела. Уже пятый час сидела она на диване, не снимая жаркую шубку, не вытирая слезы, не убирая со лба растрепавшиеся каштановые волосы. Уборщица Андреевна приносила ей из столовой бутерброды и чай — не притронулась. Спросила, с кем дети, — та пожала плечами. — Мне все одно не спать, — сказала парторгу Андреевна. — Я пойду за ейными ребятами пригляжу, а то не в себе женщина. Вечером в партком пришел Драгунский в мокрой спецовке, стянутой проволокой на необъятном животе, со слипшимися от пота седыми волосами, торчавшими из-под каски. — Потерпи, девочка! — сказал он, поглаживая черной рукой ее безжизненную руку. — Мы к нему первому пробиваемся. Еще немножко потерпи… Я знаю — он жив!* * *
Ни Драгунский, никто другой на свете не знал: жив ли Кротов, что с ним? А Кротов был жив. Кинувшись догонять Коваленко, он попал под песчаный град и, отступив, понял, что остался один. Глядя на внезапно выросшую перед ним стену, он готов был кричать от отчаяния. Но голос пропал. И только в голове неумолчно стучало: один, один… Так он просидел очень долго. Заныли ноги в мокрых портянках, нос заложило. Тяжело, будто во сне, Кротов думал о близнецах: как там они без него будут — наверно, и не вспомнят, подросши. Думал о Лене. Как ей, бедной, досталось с ним: то маялись без квартиры по общежитиям, то малыши болели, а теперь только начали жить как следует — так вот беда! И он-то сам… Разве время ему погибать — двадцати четырех лет, только-только нашедшему дорогу… Еще ничего он толком не успел сделать ни себе, ни людям. И следа никакого на земле не оставил… Пойдет плывун — и словно бы никогда не было на свете такого человека, Петра Кротова… Эта мысль потрясла Кротова. Ему вдруг подумалось, что люди, откопавшие шестой штрек, никогда не узнают, как он провел эти последние минуты… Нет, даже не это… Они поймут, узнают, что он струсил. Ведь он струсил, струсил, раз сидит вот так, сложа руки, и ждет смерти!.. Какая-то властная сила заставила его подняться на ноги и двинуться, неведомо зачем, в глубь штрека. Вспомнилась отцова поговорка, старая солдатская поговорка: «Кто умирает, приняв пулю в спину, а кто — в грудь!» Ну, так пусть будет пуля в грудь! Пусть знают, что он не был трусом, шахтер Кротов! Если бы у него был мел, надпись бы сделал, как в книжке: «Погибаю, но не сдаюсь!» Но мела нет, а углем на угле не напишешь… Да и что писать? Надо сделать что-то, надо драться! Под ногу подвернулась толстая лесина. «Перемычка!» — мелькнуло в мозгу. Да, конечно же, перемычка! Он построит ее, он — в силах. И леса ему хватит — вон стойки лежат… И еще из рам повыбивать можно! Торопливо, будто спеша наверстать упущенное, принялся Кротов выбивать из крепежных рам лесины, подтаскивать их к завалу, складывать в штабель, пригоняя одну к другой… Это была тяжелейшая работа, но он не замечал ее тяжести; это была разрядка после долгих часов отчаяния; надежда, радостная, как само спасение!* * *
Удивительная работа у горноспасателей! В несколько грозных минут — в огне и дыму подземного пожара или, как сейчас, у завала — они должны показать все, что накоплено годами: силу, мастерство, отвагу. Ради этих минут или часов горноспасатель жил, работал, учился. Целый месяц, или два, или полгода горноспасатель может не быть в «настоящем деле». Опытный горняк, доказавший свое шахтерское мастерство, обязательно обладающий «водолазным здоровьем», попав в горноспасательную часть, сперва недоумевает. Зачем его оторвали от живого дела — от врубовки или комбайна? Для чего заставляют заниматься чуть ли не цирковой гимнастикой, пыхтя бегать в тяжелом респираторе, потеть за ученической партой, зазубривать горные планы ближних шахт. А потом — «дело»… Ночью заливается тревожный звонок. И, пружиной вскочив, горноспасатель точными, выверенными до секунд движениями одевается. Все рассчитано заранее: свесив ноги с кровати, он должен попасть в сапоги; гимнастерка натягивается уже на ходу; ремень лежит в фуражке, фуражка — на тумбочке у дверей. От дома до гаража — десяток шагов (горноспасателям положено жить при отряде)… И вот уже взвыли сирены тяжелых машин. В путь! Навстречу опасности, откуда в ужасе бегут другие, — вот именно туда лежит путь горноспасателя. Но зато каждый раз он обретает новых друзей, кровью с ним спаянных, жизнью ему обязанных. Нет, эти минуты окупят любой год… Горноспасатели, вооруженные отбойными молотками, упрямо пробивались в обход к вентиляционному. Чем дальше уходили они от штрека, от компрессоров, питавших их оружие, тем труднее было работать. — Воздух! — кричали они, перекрывая неровный стук дрожащих, рвущихся из рук молотков. — Воздух!.. — Будет воздух без перебоев! Новый компрессор ставим, — заверил Гаврилюка, командира горноспасателей, подоспевший Синица. Только что он выяснил, что начальство считает завал несчастной случайностью, которую нельзя было предусмотреть, и потому настроение его заметно улучшилось. Ему хотелось разговаривать, рассказывать, общаться… — Я удивляюсь вам, товарищ Гаврилюк… — благосклонно заметил он. — Почему вы согласились идти к шестому? Ведь вы сами говорили, что нельзя рисковать шестью жизнями ради одной. Людей жалеть надо!.. — Послушайте… Занимайтесь своим делом! — невежливо буркнул усатый Гаврилюк и, прихрамывая, отошел. Ему неприятно было вспоминать свой утренний спор с Драгунским. И эта походя брошенная фраза Синицы — «Людей жалеть надо!» — многое ему напомнила. Гаврилюк даже машинально погладил рубец на виске — давнюю отметку, оставшуюся после первого его «дела». Да, именно эту историю напоминала командиру фраза сердобольного инженера… Было это в тридцать третьем году, почти четверть века назад. Юный техник Гаврилюк работал тогда механиком в Донбассе на шахте «Смолянка». Однажды осматривал он в лаве конвейер. Вдруг… адский грохот. От забоя, что-то крича и размахивая лампочками, побежали люди. Страх в мгновение ока поднял механика с места и заставил кубарем скатиться вниз. И где-то у самых люков, у выхода на штрек, к спасению, — его догнал чей-то отчаянный вопль: «Шахтеры! Шахтеры! Помоги-и-и!» Гаврилюк остановился и медленно двинулся обратно. Внезапно отяжелевшее, словно налитое свинцом тело не хотело повиноваться. Наверху снова грохнуло. Жалобно потрескивали стойки. «Помоги-и-и!» — кричал кто-то во тьме, совсем близко. Гаврилюк побежал… Позади него с кровли обрушилась плита и раскололась на тысячу острых осколков, ударивших по рукам, по щеке, по каске. Но он бежал вперед… У полузасыпанной породой врубовки лежал человек. Луч лампочки прыгнул по его лицу. Это был мастер, пожилой веселый татарин, всегда величавший механика «инженером». «Вставай, дядя! — умоляюще крикнул Гаврилюк. — Я помогу. Вставай!» Нога мастера, придавленная глыбами породы и поваленными стойками, не поддавалась. Гаврилюк, напрягшись, подхватил его под руки и дернул. Дикий, нечеловеческий крик вырвался у несчастного: «Ала-а!» Наверно, нога сломана. Что делать? Вокруг бушевала подземная стихия. Деревянные стойки уже не трещали, а стонали, пели в последнем страшном усилии… «Руби, сынок! — крикнул мастер. — Руби ногу!» Еще секунда — и все рухнет… Гаврилюк отшвырнул лампу, схватил валявшийся рядом топор и, зажмурившись, рубанул. Но, сдержанный жалостью, его удар был слишком слаб. «Руби! Руби!» Он снова размахнулся и обрушил топор на живое… Мгновение спустя он уже волочил тяжелое, безжизненное тело мастера вниз, к штреку. А позади, в том месте, где они только что были, с пушечным грохотом обвалилась порода. Добравшись до штрека, Гаврилюк вместе со своей ношей упал на рельсы. Их подхватили на руки и бегом понесли по штреку, боясь не поспеть. Когда Гаврилюк пришел в себя, ему сказали, что мастер в лазарете. Заражения крови нет. Без ноги, но жить будет. Спасен человек для жизни, для работы, для детей — их у него трое, маленьких… А тем временем в больницу пригласили следователя и составили акт, что нога у потерпевшего не придавлена, а отрублена «острым орудием, предположительно топором»… И дело пошло в суд. «Дай костыли, доктор. Я сам пойду. Я им скажу! — кипятился татарин, узнав о суде. — Орден ему надо… А не судить». «Лежи! — посоветовал врач. — Суд свой, разберется». И суд разобрался… — Мы не будем его судить! — с необычайной горячностью сказал старик судья. — Tar действовать мог только герой… Он проявил активную любовь в жалость к человеку… «Вот так это было, уважаемый товарищ Синица! А вы… Можете ли вы понимать, что это такое — активная жалость к человеку?»* * *
На третьем штреке, в «темнице шестерых», как назвал его Женька Кашин, настроение установилось грустное, лирическое. Нехотя жуя колбасу и прихлебывая остывший чай из фляжек, люди говорили о прелестях земной жизни, о том, как они будут жить дальше, если приведется… Это последнее «если» добавлялось просто так. Притерпевшись к своему осадному положению, ребята совсем перестали думать об опасности. Только старик Речкин, сменившись со своего «наблюдательного поста», вздыхая, сказал: — Ох, даст он нам еще жизни, тот песок!.. И Павловский неожиданно попросил по шахтофону, чтобы спустили шесть малых баллонов с кислородом — двухсотлитровых. — Это зачем? Разве воздуха не хватает? — Воздуха вполне достаточно. Но мало ли что… Всякое может быть… Это и наверху понимали, что «всякое может быть». Вот неспроста же передал из штрека Гаврилюк, что скоро будет пробита через завал еще одна труба. — Зачем? — Для сброса воды. Насос будет качать воду и сбрасывать за завал, на штрек. — Какую воду? Воды в «темнице» мало. — Сейчас мало… А потом может стать много… Николай, выслушав этот печальный разговор, махнул рукой и пересел к Речкину, старательно перематывавшему портянки и между делом пояснявшему Женьке и «адмиралу», какая была когда-то разница между казаками и простой пехотой… — Ну ее, пехоту!.. — деликатно вмешался Коля. — Давайте я вам лучше расскажу… Была у меня одна любовь, когда мы стояли в городе Краснодаре… — Любовь вообще бывает одна! — наставительно перебил старик. — Одна! А остальное… то уже не любовь — только видимость… И принялся Речкин — неожиданно для всех и для себя, кажется, тоже — рассказывать про любовь. Как все у них чудно сложилось с женой в одна тысяча девятьсот двадцать первом году, когда она — фабричная комсомолочка — приехала на Рутченковский рудник… — Теперь у нас пятеро ребят… И она после войны сильно подалась. Печень — очень тяжелая болезнь… — заключил дед. — А мне все кажется — лучше, чем она, нету! После Речкина Коле почему-то расхотелось рассказывать про «одну любовь», имевшую место в городе Краснодаре, и он заявил без всякой связи с предыдущим: — А все-таки противно сидеть и ждать — откопают или нет. Кислые мысли в голову лезут… — Возьми колбаски порубай, раз уголек нельзя рубать, — посоветовал Женька. — А почему уголек нельзя? Топоры есть, руки при нас. Значит, можно. Вон ребята ведь рубят! — горячо вмешался Коваленко. Павловскому и Ларионову «кислые мысли» на ум не приходили. Неодолимая потребность деятельности вложила в их руки топоры. Они отчаянно рубили угольный пласт и продвинулись вперед на сколько-то сантиметров. С точки зрения здравого смысла эта работа была бесполезной. Но она в какой-то мере удовлетворяла их жгучее желание драться — хоть топором, хоть руками, хоть зубами, каждую минуту драться за освобождение. Когда рядом с ними зазвенел об уголь третий топор, они обрадовались: — Кто там еще? Иди поближе, браток! За двадцатитрехлетнюю его жизнь знакомые по-всякому называли Алексея Коваленко: и «сушкой», и «премудрым пискарем», а здесь еще и «адмиралом» (он действительно служил во флоте, по интендантской части). Но вот так, как сейчас назвал его Ларионов, из-за темноты, вероятно, не узнавши, — еще никто никогда не звал его: «Браток!» — Это я! Коваленко! — смущенно, как бы указывая на ошибку соседей, откликнулся парень. — А-а, адмирал… — протянул Павловский, но в голосе его не было ни насмешки, ни разочарования. Начальник участка Павловский отлично знал каждого из подчиненных. Во всяком случае, так ему казалось. Любому он мог бы дать характеристику, не задумываясь: тот — отличный солист, но для компанейского дела не годится; другой — исполнителен, но звезд с неба не хватает; третий всем хорош, да характер тяжелый. За всеми, кроме, пожалуй, «адмирала» и еще бедняги Кротова, инженер знал какие-то достоинства, какие-то недостатки, но сумма каждый раз получалась положительная. О Кротове, целиком занимавшем сейчас его мысли, он не знал просто ничего. Пришел на той неделе рыжий молодой человек с бумажкой от Драгунского: мол, крепильщик, переведен с девятой-бис по семейным обстоятельствам (что-то такое — квартира, двое детей, а тут у жениных родичей дом). Дорого бы отдал начальник, чтобы узнать сейчас, какой он человек, Кротов! Что же касается Коваленко, то за ним Павловский при всей своей благожелательности и вере в людей не заметил никаких достоинств. «Адмирал» провел на шахте почти полгода. Срок достаточный, чтобы вполне узнать и оценить человека в шахтных условиях, где все у всех на виду, где иной день стоит месяца. И вот его узнали, оценили и решили: не соответствует, надо гнать. Что поделаешь, на шахте есть свой неписаный кодекс, иногда, быть может, расходящийся с КЗОТом, но никогда не противоречащий справедливости. Каждый человек на шахте волей-неволей должен сдать товарищам негласный экзамен, доказать, как говорят здесь, свою соответственность. Ни один высокий начальник, ни один третьеклассный подсобник не будет без этого принят в коллектив. Любой человек может стать своим на шахте, но только не равнодушный. И решает твою судьбу прежде всего не добыча — это дело наживное, — а старание. Равнодушный — он не хозяин, а «коечник», так говорят на шахте. Коваленко знал, что он — «коечник». Уволенный в запас интендантский офицер, он не хотел «в гражданке» устраиваться по специальности на склад, где платят пятьсот или шестьсот целковых. Потому и пошел на шахту: «Труд, конечно, тяжелый, но зато и рубль длинный». Служил он месяц, служил три, пять. Даже норму выполнял, так что и придраться было по-настоящему не к чему… Но в конце концов он решил уходить. Черт с ними, с деньгами, когда тут каждый на тебя волком глядит и в отсутствии энтузиазма попрекает. Совсем собрался уйти — и так попал, так попал! Теперь уже не уйдешь, а унесут тебя, если найдут хоть косточки… Так он думал еще несколько часов назад. А сейчас что-то главное в нем переменилось. И стал он думать о вещах, не имеющих для него, «адмирала», явно никакого практического значения. О том, например, как к нему относится Женька… Заметил ли Павловский его работу у перемычки?… Верно ли, что ему стал симпатизировать Ларионов?… Вот уж кто, в противоположность Коваленке, был живым воплощением шахтерской рыцарственности — так это Ларионов. Недаром у Драгунского отлегло от сердца, когда он узнал, что среди осажденных находится Яша. Тридцатисемилетний красавец с лицом мальчишки и совершенно седым чубом, он был всеобщим любимцем. Переменив десяток шахтерских профессий и даже побывав в малых начальниках (не удержался по крайней независимости характера), он сделался теперь комбайнером и преуспел в этой волнующей профессии. Все знали, что у него тяжелый характер, помнили, как он «отбрил» однажды почтенного генерала из министерства, вступившего с ним в спор («Это вы, — сказал ему Яша, — не решаетесь рискнуть, понижения в должности боитесь, а меня ниже не переведут, я внизу, я в шахте»). «Коечники», в том числе и Коваленко, как огня, боялись знаменитой улыбки Ларионова… О, улыбка Ларионова! То ласковая, когда смотрел он на какого-нибудь симпатичного фабзайца, то умеренно-вежливая, дипломатическая — при разговорах с нелюбимым начальством; то саркастическая, когда нужно было сказать лодырю: «Голубчик, вкусно ли тебе есть мой хлеб?» Драгунский как-то грозился издать фотоальбом «Сто Яшиных улыбок» — незаменимое пособие для театральных вузов и актерского самообразования. И вот сейчас во тьме заваленного штрека подарил Ларионов Коваленке самую добрую улыбку. И пусть «адмирал» не увидел ее — он почувствовал: рядом друг, большой и сильный друг, который никогда не забудет эту минуту. Ему хотелось тотчас же кинуться к Ларионову, ставшему отныне самым дорогим для него человеком, и рассказать все. Об угрюмом детстве, о насмешках флотских товарищей, о вечном одиночестве, казавшемся неизбежным. И о том, как ему теперь легко на душе — хоть вались все вокруг, хоть плыви сто плывунов… Никогда в жизни не чувствовал он такого взлета! — Давай, Яша, нажмем, пробьемся… — кричал он, самозабвенно грохая топором по угольной стене. — Еще немного осталось! И вдруг… — Товарищи, вода! — Те страшные слова, которых тридцать часов напряженно ждали и уже как-то перестали ждать, раскатились по штреку. От завала с тихим шелестом ползла вода. Вот она заплескалась, ударившись о какое-то препятствие. Темнота, тишина, и этот еле слышный плеск… Еще несколько минут и, выдавив перемычку, лениво, медленно, как густой мед, повалит сюда мокрый песок, плывун… — Надо поднять насос! — скомандовал Павловский. — А то подтопить может, захлебнется насос… Голос у него был тихий, будничный, совсем не вязавшийся с грозной опасностью. Пусть, мол, слышат там наверху: все у нас спокойны, паники нет! Когда, обливаясь потом, приподняли на чурбаках тяжеленный насос, Коваленко вдруг затянул песню. — «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает…» — громко пел он, повинуясь какой-то кипучей, радостной силе, вдруг забушевавшей в нем. Он больше не верил в смерть — вернее, не боялся ее. — Отставить песню!.. — прикрикнул Павловский. — Приготовьте малые баллоны с кислородом… Уйдем в самое высокое место… — И тихо добавил: — Будем дышать… Ясно? Последние очереди отбойных молотков… И вот уже трое горноспасателей, протиснувшись в отдушину, перебрались в шестой штрек. — Кротов!.. Эй, Кротов!.. Лучи лампочек судорожно ощупывали стены. Расшвыривая сапогами воду, доходившую местами до колен, горноспасатели бежали вперед. Увидев неказистую перемычку, остановились на миг: «Какой парень геройский — один ведь построил! Один!..» — Кротов! Кротов!.. Где ты? Вдруг перед ними выросла из тьмы фигура человека. Он молча шел, с трудом переставляя ноги. И улыбался. В одной руке его был топор, в другой — погасшая лампа. Швырнув и то и другое наземь, он протянул руки вперед и, покачнувшись, упал. Горноспасатели подхватили его и на руках отнесли к отдушине. На штреке было сооружено ложе из трех ватников. И доктор, приказав светить получше, принялась приводить Кротова в чувство. — Я знал… Честное слово… Я все время знал, что вы придете… — Это были его первые слова. — Я ждал все время… От носилок он отказался. И, глотнув из фляги чаю, поднялся. Кротов шел, пошатываясь, останавливаясь через каждые пять шагов. — Ослабел немножко… — сказал виновато. — И ноги промочил… Еще позавчера… А те, остальные? Они уже наверху? — внезапно насторожившись, спросил он у сопровождающих. — Нет, у них там плохо. Вода! — угрюмо сказал горноспасатель, ведший парня под руку. А другой сделал предостерегающий жест: молчи, мол, не надо ему об этом.* * *
У комбайна, пробивавшегося к осажденным с тыла, сломался правый домкрат. Машина остановилась, глубоко врезавшись в почву своими гусеницами. Замерли на баре цепи с кривыми, острыми зубками. Наступила необычная после двухдневного грохота тишина. И комбайнер Селезнев — огромный, нескладный мужчина в черном ватнике и каске без козырька — стукнул кулаком по безжизненной стальной махине и… заплакал. — Пропал Яшка!.. — повторял он, громко всхлипывая и утирая нос. — Подвел я тебя. Не выручил… Два помощника Селезнева, тоже классные комбайнеры, схватив за воротник инженера, требовали взрывчатки: — Чтобы рвануть к дьяволу те несколько метров, что остались, — всего ведь несколько метров! — и освободить ребят. — Нельзя рвать, товарищи! — грустно объяснил инженер. — Может газ на них пойти после взрыва. Что делать будем, если газ на них пойдет? Это была совершеннейшая правда, но как объяснишь ее людям, не желающим, не могущим смириться с безнадежностью. — Сейчас с другой стороны дороются, — попробовал он утешить Селезнева. — Твоя совесть чиста. Ты за сутки тридцать шесть метров прошел. Столько даже Яков Ларионов не проходил никогда. Это рекорд… Последнее слово почему-то оскорбило комбайнера. — А пошел ты со своим рекордом… — сказал он. — Неужели же всё?… Пропал Яша!* * *
Толпа, собравшаяся у нарядной, почувствовала какую-то грозную перемену. После того как вывели Кротова, кричавшего: «Где Лена? Лену мою видели?», — всех жен провели прямо к стволу, чтобы они первые встречали освобожденных. А потом вдруг попросили женщин вернуться обратно в партком. Теперь люди, выходившие из штаба, удалялись какой-то особенно деловитой походкой, не глядя никому в глаза. «Плывун пошел, плывун пошел…» — пронеслось в толпе. Минуло пять минут, а может, и сорок — кому как показалось… И из штаба выбежал сияющий Синица: — Распорядитесь кто-нибудь, чтобы цветы были… Нашим… — он поискал подходящего слова, — нашим героям. Все выведены, в последнюю минуту!.. А потом во двор, нетерпеливо гудя, выехала желтая машина «Скорой помощи». Шумная, ликующая толпа притихла. Люди с носилками направлялись почему-то не к стволу, а к конторе… И вскоре, приоткрыв вторую половинку дверей, они вынесли на прогибавшихся носилках большого, очень бледного человека. Все в толпе узнали начальника шахты. Видно, с сердцем что-то случилось. — Всех вывели? — беззвучно шевеля серыми губами, спросил Драгунский. — Всех, Семен Ильич! Сейчас будут здесь, — морщась от сострадания, проговорил Алексин. — Как же с вами-то?… — Ну, везите скорей, чтобы не портить людям праздника!.. — насильственно усмехнувшись, сказал начальник. — Передай ребятам привет, парторг!

Иван Ефремов КАТТИ САРК
ОТ АВТОРА
Первый вариант этого рассказа был опубликован в 1944 году. В то время я знал судьбу замечательного корабля лишь в общих чертах и придумал фантастическую версию о постановке «Катти Сарк» в специально построенный для нее музей После того как рассказ был издан в Англии, английские читатели сообщили мне много новых фактов о судьбе «Катти Сарк». В 1952 году в Англии образовалось Общество сохранения «Катти Сарк», которое на собранные деньги занялось постройкой сухой стоянки и реставрацией корабля. Настоящий, полностью переработанный вариант рассказа является попыткой изложения этапов подлинной истории «Катти Сарк».ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА
В квартирке едва умещались многочисленные гости. Все сиденья были использованы, и в ход пошли торчком поставленные чемоданы. Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди веселых возгласов и смеха. Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, жался у стены, рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного, узкого корпуса корабля чувствовалось совершенство, подчеркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние реи были необычайно длинны и в размерах почти не уступали нижним. Хозяин подошел ободрить робкого гостя. — Любуетесь? — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана. — Этим кораблем вы тоже командовали, Даниил Алексеевич? — спросил юноша. — Вот еще! — отмахнулся старый моряк. — Да это же «Катти Сарк»! — Что такое? — не понял штурман. — Ну да, откуда ж вам, береговикам зеленым, знать! — пробурчал капитан. — А впрочем… Внимание, товарищи! — крепким, «штормовым» голосом перекрыл он шум сборища. Все лица выжидательно повернулись к нему. — Сколько тут моряков летучей рыбы [51]? Поднимите руки!.. Раз, два… — считал капитан, — одиннадцать. Много!.. Ну так вот… Капитан снял фотографию со стены и поднял, чтобы все могли видеть. Это «Катти Сарк»! Последовало общее недоуменное молчание, нарушенное одиноким возгласом: — А, вот она какая! Капитан усмехнулся. — Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным. Да и в самом деле — оно достигло высочайшего совершенства. Прошло примерно семьдесят лет — срок одной человеческой жизни, и вот лишь горсточка старых моряков еще знает все тонкости этого мастерства. Забыты гремевшие на весь мир имена капитанов и кораблей. А когда умрем и мы, старики, человечество закроет великолепную страницу истории завоевания морей, завоевания простым парусом, управляемым искусными руками и твердыми сердцами!.. — Даниил Алексеевич, это вы через дугу! — воскликнул еще молодой, но — по орденам — бывалый моряк. — Парусное искусство и нам знакомо, а вот каждый корабль знать… Хозяин дома рассердился: — «Каждый»! И вам не стыдно, Силантий Семеныч? Не знать — не позорно, но уж отстаивать свое невежество, извините… — Да ведь, — начал оправдываться его собеседник, — я хотел только… — Ну, раз «только», слушайте! Покорение океанов — настоящее корабельное дело — началось примерно лет пятьсот назад. За эти полтыщи лет наш мир постепенно расширялся. Громадный опыт борьбы с морем совершенствовал искусство постройки кораблей. Овладевая силой ветра, человек создал искусство управления парусами. Десятки тысяч безымянных или забытых жертв легли на дно океанов с обломками своих судов. Ценой неустанного труда, отваги и страданий моряков, ценой вдохновенных поисков строителей к середине прошлого века появились клипера, стригуны, «стригущие» верхушки волн. Это уже были не угловатые дома, приспособленные к плаванию, как большинство старинных кораблей, а крылатые скороходы — лебеди моря. Клипера предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться: днища их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка — деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания.
Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клиперах, построенных одновременно в Шотландии в семидесятых годах прошлого века: «Фермопилы» и «Катти Сарк».
Ничего лучшего, чем эти два корабля, среди всех парусников мира не было построено. Вот почему «Катти Сарк» не «каждый корабль», как выразился Силантий Семеныч. И морякам знать ее не мешало бы… Тем более что история этого корабля не только родня занимательному роману — это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания!..
Неудивительно, что после такой речи собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о «Катти Сарк».
— Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения, — начал старик. — Я еще юнгой был, а парусный флот уже давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки — стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешевых грузов. Лучше всего был известен у нас «Товарищ» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстроходным — германский стальной пятимачтовый барк «Потози» в четыре тысячи тонн, построенный в 1896 году. С «Потози»-то, собственно, и началась для меня история «Катти Сарк».
Клипера предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться: днища их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка — деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания.
Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клиперах, построенных одновременно в Шотландии в семидесятых годах прошлого века: «Фермопилы» и «Катти Сарк».
Ничего лучшего, чем эти два корабля, среди всех парусников мира не было построено. Вот почему «Катти Сарк» не «каждый корабль», как выразился Силантий Семеныч. И морякам знать ее не мешало бы… Тем более что история этого корабля не только родня занимательному роману — это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания!..
Неудивительно, что после такой речи собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о «Катти Сарк».
— Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения, — начал старик. — Я еще юнгой был, а парусный флот уже давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки — стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешевых грузов. Лучше всего был известен у нас «Товарищ» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстроходным — германский стальной пятимачтовый барк «Потози» в четыре тысячи тонн, построенный в 1896 году. С «Потози»-то, собственно, и началась для меня история «Катти Сарк».
ЧЕСТЬ КАПИТАНА ДОУМЭНА
В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения подходящего парусника. Требовалось хорошее, приспособленное к дальним плаваниям учебное судно: подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству нашей страны. Громадные американские дешевые шхуны не годились. Шхуна, то есть судно с косой парусностью, проста в работе, она идеально лавирует и незаменима при плаваниях во внутренних морях и архипелагах. Но с попутными ветрами и на большом волнении шхуна опасна — очень рысклива. Для океана нужен корабль — с прямым парусным вооружением. Я и нацелился на барк «Потози», который недавно перешел на рейсы Европа Южная Америка. Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мглистые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран из-за своей легкой доступности. Поеживаясь от пронизывающей сырости, я направился по мокрым плитам незнакомых улиц к морю. Обойдя какие-то длинные закопченные здания красного кирпича, я сразу увидел гавань. Обилие мачт как будто противоречило разговорам об умирании парусного искусства, но я знал, что это впечатление обманчиво. Большинство мачт принадлежало легким рыбачьим шхунам или парусно-моторным шаландам, никогда и не нюхавшим океанских просторов. Только два-три настоящих корабля стояли в порту, и на этом общем фоне заметно выделялся стройный рангоут знаменитого барка. Четыре мачты огромной высоты господствовали над всем частым и низким лесом береговой мелочи. Четыре мачты, сзади пятая — сухая бизань [52]. Да, очевидно, это был «Потози». В гавани было пустовато. Должно быть, дрянная погода разогнала моряков по уютным местам, достаточно многочисленным в Фальмуте. Массивные позеленелые камни набережной в средней части гавани блестели от оседавшей с воздуха воды; эстакады на сваях и мостики ослизли от сырости. Резкий ветер, серое небо и зелено-серые волны, брызгающие пеной, крепкие, бодрящие запахи моря, смолы и мокрой пеньки совсем не способствовали угнетенному настроению, как это иногда бывает у городских людей в такую погоду. Наоборот, завеса холодного моросящего дождя вызывала приятные мечты о далеком сияющем южном море, и как реальный залог возможности выйти сквозь пелену осеннего тумана в широкий и теплый мир высились могучие мачты «Потози». Мы, моряки, не очень прихотливы к условиям жизни на суше просто потому, что и самые дрянные места для нас скоропреходящи: несколько дней — и новое плавание, новая перемена… Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхоленным, и основательно продрогнув, я направился в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном «Потози». Я нашел хмурого щеголеватого человека на почетном месте, у камина в столовой. Вопреки первому впечатлению, мы быстро подружились. Капитан много плавал, был хорошо образован. При этих качествах способность остроумно оценивать события и заразительный юмор делали капитана приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре его судна и получил все нужные мне предварительные сведения. Окончив деловую часть, капитан пригласил меня поужинать вместе. В затянувшейся беседе он признался, что рад столь высокой цене, назначенной компанией за его судно. — Если продадут мой «Потози», я вряд ли найду парусник по вкусу: уж очень мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход. — И капитан добрым глотком поторопился смягчить отразившееся на его лице огорчение. — Не понимаю, зачем вам платить большие деньги за знаменитость, которую мало кто оценит? За эту сумму вы два парусника купите, разве что с небольшим ремонтом, а хороший ходок вам ни к чему. Вот начнете кругосветные плавания, тогда другое дело. Немного огорченный, я признал, что капитан прав. И тот, совсем по-дружески пожав мне руку, обещал помочь, если дело сорвется, в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля. Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией хозяином «Потози» — шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я излазил весь барк, от кильсона до брам-стеньг, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы: покупка была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения.
Погода все ухудшалась, и наконец было получено штормовое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбацкие суда поспешили укрыться в гавани.
Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четыре дня, ураганный ветер перемешивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавани стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода…
На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода. Я простился с «Потози». Барк развернул свои паруса и ушел на юг, в Рио, где в бухте Гаунабара высилась причудливая гора — Сахарная Голова. Спустя три года, в 1925 году, «Потози» погиб у тех же южноамериканских берегов загорелся груз угля. Остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели, где капитан затопил горевший корабль…
Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одиноко. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом отделении, между стойкой и огромным камином, столы были сдвинуты вместе, а за ними заседала компания чем-то возбужденных пожилых моряков. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул капитан, с которым я здесь познакомился несколько дней назад.
— Идите-ка сюда, дорогой капитан!.. Сэры, я счастлив представить вам русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы да еще японцы.
Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустился на услужливо подставленный мне дубовый стул.
— Я уже отправил посыльного к старому Вуджету — ее последнему капитану. Старик совсем еще крепок, скоро будет здесь, — громогласно сообщил собранию массивный моряк.
На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело.
— Ну вот! — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами. — Разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? Или вы не знаете, что это такое? — подозрительно оглядел он меня.
Все головы повернулись в мою сторону.
— Я слыхал про знаменитый клипер, — спокойно ответил я. — Но может ли быть: ведь он, кажется, слишком давно построен?
— В 1869 году Скоттом и Линтоном, — подтвердил мой собеседник. И плавает уже, следовательно, пятьдесят три года. Но — можете мне поверить — судно как бутылка, никакой течи…
— Извините, — перебил я восторженную речь. — Но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавани и клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, и никакого клипера…
Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал:
— Да эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели?
Но я уже оправился от смущения:
— В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса — баркентина, да еще запущенная, грязная… Больше и не интересовался.
— Ну, конечно, — примирительно вмешался плохо говорящий по-английски гигантского роста моряк, видимо норвежец. — Эти ослы так запакостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус, как балаган…
— Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? — обратился я к моряку, взявшему на себя роль председателя импровизированного собрания.
Хор односложных восклицаний, большей частью иронического оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка-председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились.
— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом-полуутверждением. — Мы давно уже сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег… Ну, что об этом говорить! Даже если бы мы в складчину могли купить «Катти Сарк», то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре?…
— Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — возразил я. — Кому, как не им, сохранить последнее, лучшее произведение эпохи парусных кораблей?
— Э, — презрительно бросил моряк, — в клубах только рекорды всякие ставят! Разве не знаете? А у обществ этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о «Катти Сарк» идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщили старику Вуджету. Пусть посмотрит — ему, наверно, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать, да еще потолковать о былых днях за выпивкой, что мы и делаем… А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодующе фыркнул старый капитан.
Я замолчал. Да и что тут можно было сказать!
В это время в комнату вошел высокий, бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы.
— Капитан Доумэн, только вас и не хватало! Если приедет Вуджет, то соберутся все поклонники «Катти»… Вы уже видели ее?
— Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером.
— Зачем?
Слабая улыбка засветилась на лице Доумэна.
Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией хозяином «Потози» — шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я излазил весь барк, от кильсона до брам-стеньг, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы: покупка была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения.
Погода все ухудшалась, и наконец было получено штормовое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбацкие суда поспешили укрыться в гавани.
Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четыре дня, ураганный ветер перемешивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавани стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода…
На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода. Я простился с «Потози». Барк развернул свои паруса и ушел на юг, в Рио, где в бухте Гаунабара высилась причудливая гора — Сахарная Голова. Спустя три года, в 1925 году, «Потози» погиб у тех же южноамериканских берегов загорелся груз угля. Остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели, где капитан затопил горевший корабль…
Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одиноко. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом отделении, между стойкой и огромным камином, столы были сдвинуты вместе, а за ними заседала компания чем-то возбужденных пожилых моряков. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул капитан, с которым я здесь познакомился несколько дней назад.
— Идите-ка сюда, дорогой капитан!.. Сэры, я счастлив представить вам русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы да еще японцы.
Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустился на услужливо подставленный мне дубовый стул.
— Я уже отправил посыльного к старому Вуджету — ее последнему капитану. Старик совсем еще крепок, скоро будет здесь, — громогласно сообщил собранию массивный моряк.
На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело.
— Ну вот! — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами. — Разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? Или вы не знаете, что это такое? — подозрительно оглядел он меня.
Все головы повернулись в мою сторону.
— Я слыхал про знаменитый клипер, — спокойно ответил я. — Но может ли быть: ведь он, кажется, слишком давно построен?
— В 1869 году Скоттом и Линтоном, — подтвердил мой собеседник. И плавает уже, следовательно, пятьдесят три года. Но — можете мне поверить — судно как бутылка, никакой течи…
— Извините, — перебил я восторженную речь. — Но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавани и клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, и никакого клипера…
Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал:
— Да эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели?
Но я уже оправился от смущения:
— В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса — баркентина, да еще запущенная, грязная… Больше и не интересовался.
— Ну, конечно, — примирительно вмешался плохо говорящий по-английски гигантского роста моряк, видимо норвежец. — Эти ослы так запакостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус, как балаган…
— Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? — обратился я к моряку, взявшему на себя роль председателя импровизированного собрания.
Хор односложных восклицаний, большей частью иронического оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка-председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились.
— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом-полуутверждением. — Мы давно уже сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег… Ну, что об этом говорить! Даже если бы мы в складчину могли купить «Катти Сарк», то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре?…
— Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — возразил я. — Кому, как не им, сохранить последнее, лучшее произведение эпохи парусных кораблей?
— Э, — презрительно бросил моряк, — в клубах только рекорды всякие ставят! Разве не знаете? А у обществ этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о «Катти Сарк» идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщили старику Вуджету. Пусть посмотрит — ему, наверно, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать, да еще потолковать о былых днях за выпивкой, что мы и делаем… А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодующе фыркнул старый капитан.
Я замолчал. Да и что тут можно было сказать!
В это время в комнату вошел высокий, бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы.
— Капитан Доумэн, только вас и не хватало! Если приедет Вуджет, то соберутся все поклонники «Катти»… Вы уже видели ее?
— Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером.
— Зачем?
Слабая улыбка засветилась на лице Доумэна.
 — В первый раз за всю свою славную службу «Катти» сдала. Степсы [53] расшатались, швы палубы расходятся. Капитан-португалец напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в Фальмуте, и думает, что судно разваливается… Короче, я купил «Катти»!
— В первый раз за всю свою славную службу «Катти» сдала. Степсы [53] расшатались, швы палубы расходятся. Капитан-португалец напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в Фальмуте, и думает, что судно разваливается… Короче, я купил «Катти»!
 Последовал невероятный шум восторга: суровые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «ура» страшными голосами.
— Эй, выпить за здоровье капитана Доумэна! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы!
— Уильям, — обратился к Доумэну какой-то молчавший до сих пор моряк, — как же ты смог это сделать?
Доумэн опять счастливо усмехнулся:
— Я съездил к мистрис Доумэн, посоветовался с ней. Оба мы староваты, детей и родственников нет… Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну, вот мы и решили: если цена окажется под силу — купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте… Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от «Катти», — невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем!
Капитан Доумэн умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумэн помолчал, зажег трубку и подумал вслух:
— Вот и сбылась мечта… Смолоду много слыхал я о двух жемчужинах нашего флота: «Фермопилах» и «Катти Сарк». Уже капитаном перешел на австралийские линии, и однажды «Катти Сарк» меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыби идет как танцует, даже лиселя [54] не поставлены, а восемь узлов делает, да… никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой «Флайнинг Спур» («Летящее Копье») был не последний из австралийских почтовиков! Вспомнил я, как хвастался в Мельбурне пропившийся матрос (служил на «Катти»): «Мы, — говорил он про экипаж «Катти Сарк», головой ручаемся: никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос!»
С тех пор запала мне в голову мечта: хоть один рейс покомандовать «Катти», в своих руках почувствовать такой клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким кораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как получил с китайской линии, до конца, пока не продали ее. И я потерял «Катти» из виду. А теперь, странно думать, я владелец «Катти Сарк». Я владелец «Катти Сарк»… — медленно повторил Доумэн. — Не поверю, пока не выйду на ней в море!
— Когда же вам сдадут корабль, сэр? — почтительно спросил я.
— Вот уйдет она в Лиссабон, в последний рейс. Пока оформят, то да се, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет «Катти» под Красный флаг [55], как в доброе старое время!
На следующий день, только я собрался осмотреть «Катти Сарк», как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой «Потози», а посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. Я в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером…
Последовал невероятный шум восторга: суровые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «ура» страшными голосами.
— Эй, выпить за здоровье капитана Доумэна! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы!
— Уильям, — обратился к Доумэну какой-то молчавший до сих пор моряк, — как же ты смог это сделать?
Доумэн опять счастливо усмехнулся:
— Я съездил к мистрис Доумэн, посоветовался с ней. Оба мы староваты, детей и родственников нет… Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну, вот мы и решили: если цена окажется под силу — купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте… Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от «Катти», — невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем!
Капитан Доумэн умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумэн помолчал, зажег трубку и подумал вслух:
— Вот и сбылась мечта… Смолоду много слыхал я о двух жемчужинах нашего флота: «Фермопилах» и «Катти Сарк». Уже капитаном перешел на австралийские линии, и однажды «Катти Сарк» меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыби идет как танцует, даже лиселя [54] не поставлены, а восемь узлов делает, да… никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой «Флайнинг Спур» («Летящее Копье») был не последний из австралийских почтовиков! Вспомнил я, как хвастался в Мельбурне пропившийся матрос (служил на «Катти»): «Мы, — говорил он про экипаж «Катти Сарк», головой ручаемся: никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос!»
С тех пор запала мне в голову мечта: хоть один рейс покомандовать «Катти», в своих руках почувствовать такой клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким кораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как получил с китайской линии, до конца, пока не продали ее. И я потерял «Катти» из виду. А теперь, странно думать, я владелец «Катти Сарк». Я владелец «Катти Сарк»… — медленно повторил Доумэн. — Не поверю, пока не выйду на ней в море!
— Когда же вам сдадут корабль, сэр? — почтительно спросил я.
— Вот уйдет она в Лиссабон, в последний рейс. Пока оформят, то да се, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет «Катти» под Красный флаг [55], как в доброе старое время!
На следующий день, только я собрался осмотреть «Катти Сарк», как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой «Потози», а посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. Я в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером…
РУКОПИСЬ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА
Капитан умолк и зорко осмотрел своих слушателей, как бы выслеживая на лицах скуку или утомление. Оставшись доволен, он прокашлялся, выпил бокал вина, закурил и продолжал: — Через семнадцать лет, в 1939 году, мне пришлось снова побывать в Фальмуте. Крепко пахло войной даже в этом удаленном парусном порту. Мне посчастливилось встретить знакомого — из тех, кто участвовал в моряцком собрании по поводу «Катти Сарк». Я, конечно, спросил его про клипер и доблестного судовладельца — капитана Доумэна. — Умер в прошлом году, — отвечал мой знакомый. — И «Катти» здесь нет. Вдова покойного подарила корабль — в самом деле, зачем он ей? — Темзинскому мореходному училищу в Гринвиче. Пока был жив Доумэн, он понемногу восстановил «Катти Сарк» прежний рангоут. Долго ему пришлось собирать по крохам лес, парусину, тросы и деньги. Перед смертью удалось Доумэну выйти на клипере в океан, к Азорам… Помните, как мечтал он командовать «Катти Сарк»? — Моряк задумался и продолжал: — Хоронил Доумэна весь Фальмут, даже из Лондона приехали. В прошлом же году пригласили Вуджета. И с ним на борту «Катти» пошла кругом Англии из Фальмута в Темзу, откуда семьдесят лет назад она отправилась в свое первое плавание в Китай. Теперь «Катти» служит вспомогательным учебным кораблем для морских кадетов. Корабль в сохранности и крепок… хоть и не в музее, как мы тогда думали. — Я понимаю, — осторожно сказал я. — Сейчас Англии не до музея… Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет?
— Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роется в саду, поливает розы… Да, впрочем, хотите нанести ему визит?
Я с радостью согласился.
Конечно, старик был «крепок» лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана-гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепная память не оставили капитана Ричарда Вуджета.
Я погостил у него два дня — до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на «Катти Сарк», а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первой молодости моряки относились к старому Вуджету.
Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными, на японский манер, стенками. С шумевшего поодаль моря ползли вереницы слезливых туч. Прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки устилали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием необычайного.
Дополняемый сыном и Ирвингом, старый Вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она-то после болезни стала подводить… Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получилось вроде маленькой повести, и я когда-нибудь прочту ее вам.
Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Раззадоренные гости потребовали от юбиляра «выкладывать все, и теперь же». Он сдался, принес пачку исписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, очки, прочел их нам, держа перед собой на вытянутой руке.
— Я понимаю, — осторожно сказал я. — Сейчас Англии не до музея… Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет?
— Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роется в саду, поливает розы… Да, впрочем, хотите нанести ему визит?
Я с радостью согласился.
Конечно, старик был «крепок» лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана-гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепная память не оставили капитана Ричарда Вуджета.
Я погостил у него два дня — до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на «Катти Сарк», а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первой молодости моряки относились к старому Вуджету.
Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными, на японский манер, стенками. С шумевшего поодаль моря ползли вереницы слезливых туч. Прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки устилали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием необычайного.
Дополняемый сыном и Ирвингом, старый Вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она-то после болезни стала подводить… Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получилось вроде маленькой повести, и я когда-нибудь прочту ее вам.
Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Раззадоренные гости потребовали от юбиляра «выкладывать все, и теперь же». Он сдался, принес пачку исписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, очки, прочел их нам, держа перед собой на вытянутой руке.
МЕЧТА-ВЕДЬМА
Главный строитель верфей Скотта и Линтона в Думбартоне встал навстречу важному заказчику. Фирма уже давно переписывалась с судовладельцем Джоном Виллисом о его намерении построить корабль-мечту, который не только взял бы первенство на гонках кораблей чайной торговли, но и смог бы постоянно удерживать его. Оба шотландца пожали друг другу руки. Общительный, полный юмора кораблестроитель был противоположностью угрюмоватому и заносчивому судовладельцу. — Мне достали сведения насчет того нового клипера, — начал, отдуваясь, Джон Виллис, — что строится Худом в Эбердине. Кораблестроитель выразил живейший интерес. Судовладелец извлек книжку в черной коже: — Сравните с вашими расчетами. Регистровых тонн будет девятьсот пятьдесят, длина двести тринадцать с половиной… [56] — У нас двести четырнадцать, — вставил инженер, — и девятьсот шестьдесят тонн. Ширина тридцать шесть с половиной. — Ого, такая же! — Глубина двадцать и восемь десятых… — У них больше — двадцать один с третью. Но это пустяк. Похоже, очень похоже… Набор железный, обшивка — тик, вяз и сосна? — Да, да! — Понимаю. Они учли весь опыт Великой гонки прошлого, шестьдесят шестого года. — Вы имеете в виду гонку из Фучоу в Лондон? — Да. Гнались девять лучших чайных клиперов. Победитель — Джон Кэй со своим «Ариэлем». На десять минут позже «Тайпинг». На девяносто девятый день после выхода из Фучоу. — Худ взял пропорции «Ариэля». — Инженер порылся в справочниках. — Да, «Ариэль» чуть-чуть короче и уже — восемьсот пятьдесят две тонны. Но главное не это, главное — площадь парусности. Она вам известна? — Все известно, даже имя корабля — «Фермопилы». Странное имя! Почему… — Так что же парусность? — перебил судостроитель. — Сейчас. Мне дали ее в этих новых мерах — квадратных метрах. Вот, площадь основной парусности — две тысячи пятьсот двадцать этих метров.
Судостроитель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным.
— Что такое? — встревожился Джон Виллис. — Неужели у вас меньше?
— Меньше… две триста пятьдесят. Да, этот корабль будет серьезным соперником… Сколько дополнительной парусности?
— Девятьсот тридцать… Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете — самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этими «Фермопилами», черт возьми это дурацкое имя!
— Вы получите самый лучший. Я увеличу нашу дополнительную парусность, всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов — около тысячи метров.
— Вам виднее! Но извольте сделать обшивку только из тика, ну… можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера! Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях!
Судостроитель встал.
— Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных парусов на нашем клипере, разве только маленький гроттрюмсель [57]. Ведь я не собираюсь построить рекордиста по скорости. Такой уже был. И до сих пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверно, и не будет побит: тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей.
— Кого вы имеете в виду?
— Американцев. Их три клипера — «Летящее облако», «Молния» и «Джемс Бэйнс». Антони Энрайт на «Молнии» поставил в пятьдесят седьмом в Южной Атлантике, к югу от острова Гоф, мировой рекорд — прошел за сутки четыреста тридцать миль.
— Бог мой! «Джемс Бэйнса» я сам видел по пути из Кейптауна в Сидней.
— Сейчас. Мне дали ее в этих новых мерах — квадратных метрах. Вот, площадь основной парусности — две тысячи пятьсот двадцать этих метров.
Судостроитель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным.
— Что такое? — встревожился Джон Виллис. — Неужели у вас меньше?
— Меньше… две триста пятьдесят. Да, этот корабль будет серьезным соперником… Сколько дополнительной парусности?
— Девятьсот тридцать… Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете — самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этими «Фермопилами», черт возьми это дурацкое имя!
— Вы получите самый лучший. Я увеличу нашу дополнительную парусность, всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов — около тысячи метров.
— Вам виднее! Но извольте сделать обшивку только из тика, ну… можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера! Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях!
Судостроитель встал.
— Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных парусов на нашем клипере, разве только маленький гроттрюмсель [57]. Ведь я не собираюсь построить рекордиста по скорости. Такой уже был. И до сих пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверно, и не будет побит: тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей.
— Кого вы имеете в виду?
— Американцев. Их три клипера — «Летящее облако», «Молния» и «Джемс Бэйнс». Антони Энрайт на «Молнии» поставил в пятьдесят седьмом в Южной Атлантике, к югу от острова Гоф, мировой рекорд — прошел за сутки четыреста тридцать миль.
— Бог мой! «Джемс Бэйнса» я сам видел по пути из Кейптауна в Сидней.
 — В каком году?
— В пятьдесят шестом.
— В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован… Возьмите журнал. Двадцать один узел!
Виллис схватил номер «Морского альманаха».
— А наш клипер так ходить не будет? — спросил он с нескрываемой обидой.
Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца:
— Поймите, Виллис, это не годится! Американцы оказались слишком смелы: еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули назад фок-мачту и начали крепить стеньговые штаги на палубу, а не к топам мачт… Корабли стали нести громадную парусность. Но эти знаменитые клипера служили только лет шесть-семь, не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов! «Джемс Бэйнс» — две с половиной тысячи тонн, «Молния» — две. Гротарей [58] у «Джемса Бэйнса» чудовищен сто футов, вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны… Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они и развалились, эти великолепные ходоки, едва себя окупив… Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все равно быстрее никого не будет, разве худовский… Ну, да мы примем меры…
— Так вы ручаетесь за восемнадцать узлов? — повеселел Виллис.
— Скажем так: с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжать и восемнадцать. Не рекорд! Постоянная коммерческая скорость!
Судовладелец вскоре откланялся, захватив с собой «Морской альманах». Провожая его к дверям, строитель вспомнил:
— Имя, давайте имя клипера, на днях будем закладывать. Иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в шестьдесят девятом!
Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете.
— «Джемс Бэйнс». 1856 год. Одиннадцать лет назад… — бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению.
Наконец он нашел нужное — выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста.
— В каком году?
— В пятьдесят шестом.
— В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован… Возьмите журнал. Двадцать один узел!
Виллис схватил номер «Морского альманаха».
— А наш клипер так ходить не будет? — спросил он с нескрываемой обидой.
Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца:
— Поймите, Виллис, это не годится! Американцы оказались слишком смелы: еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули назад фок-мачту и начали крепить стеньговые штаги на палубу, а не к топам мачт… Корабли стали нести громадную парусность. Но эти знаменитые клипера служили только лет шесть-семь, не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов! «Джемс Бэйнс» — две с половиной тысячи тонн, «Молния» — две. Гротарей [58] у «Джемса Бэйнса» чудовищен сто футов, вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны… Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они и развалились, эти великолепные ходоки, едва себя окупив… Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все равно быстрее никого не будет, разве худовский… Ну, да мы примем меры…
— Так вы ручаетесь за восемнадцать узлов? — повеселел Виллис.
— Скажем так: с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжать и восемнадцать. Не рекорд! Постоянная коммерческая скорость!
Судовладелец вскоре откланялся, захватив с собой «Морской альманах». Провожая его к дверям, строитель вспомнил:
— Имя, давайте имя клипера, на днях будем закладывать. Иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в шестьдесят девятом!
Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете.
— «Джемс Бэйнс». 1856 год. Одиннадцать лет назад… — бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению.
Наконец он нашел нужное — выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста.
«1856, июня 18, широта 42? 47 южная, долгота 115? 54 восточная, барометр 29,20 дюймов. Ветер меняется от З до ЮЗ. Первую половину дня сильно свежеет… В 8 ч. 30 м под всеми лиселями с правой и грот-трюмселем скорость 21 узел. С полуночи шторм от ЮЗ, но ясная светлая ночь. В 8 часов утра ветер и погода те же. Пройдено за сутки 420 миль».Джон Виллис опустил альманах на колени и глубоко задумался. …Июнь 1856 года. Да, в двадцатых числах. Ему было тогда всего сорок шесть лет, и здоровье еще не начало сдавать, как теперь. Им была предпринята поездка в Австралию с целью самолично изучить условия австралийских фрахтов. Корабль его находился в водах великого западного дрейфа в пятистах милях к югу от Австралии, на долготе ее западных берегов. До Бассова пролива оставалось еще около тысячи двухсот миль, а до цели плавания, Сиднея, — тысяча семьсот. «Ревущие сороковые» [59], как бы приветствуя судовладельца, посылали крепкие зимние штормы — все время западные, попутные. Океан взметывался громадными волнами, сеял водяную пыль. Клочья и струи пены в воздухе обгоняли корабль. Старый крепкий почтовик скрипел, взмахивал длинным, крутым бушпритом и грузно проваливался между склонами мечущихся водяных холмов. Мокрые кливера на секунду обвисали и вновь надувались с гулким рывком, сотрясая корпус. Виллис не вел корабль, но проводил на палубе долгие часы, зачарованный мощью этого моря. Океан поражал своей мрачной первобытной силой. Внезапные шквалы у южноамериканских берегов, бешеные тайфуны китайских морей были опаснее, но ни один океан не требовал такой прочности от корабля и непрерывной, изматывающей борьбы с бурей и страшным волнением, как здесь, вдоль сорокового градуса южной параллели, на границе Индийского и Южного Ледовитого океанов. Незабываемая встреча произошла в светлую июньскую ночь. Джон Виллис задержался на палубе, пытаясь рассеять головную боль от тяжелой многодневной качки. Ветер крепчал с каждым часом. Грустное пение такелажа, которому вторил низкий гул парусов, становилось резче и как-то наглее, пока не перешло в победный вой. Вахтенный помощник вызвал людей наверх — уменьшить парусность. Лаг исправно отсчитывал мили, и заслуженный корабль шел со скоростью в тринадцать узлов. Внезапный крик вахтенного перекрыл свист ветра и всплески волн: — Корабль справа, с кормы, идет тем же галсом! В свете луны показалось сначала расплывчатое белое пятно, потом черная точка корпуса. С невероятной быстротой догонявшее судно росло, становилось отчетливее. Джон Виллис бросился на мостик. Корабль шел в бакштаг [60] правого галса с креном на левый борт. Корпус казался странно узким под огромной массой парусов и почти исчезал в облаке пены. Исполинские нижние реи разносили белые полотнища далеко в стороны от бортов. Нижние паруса будто касались гребней пенящихся волн в двадцати пяти футах от бортов. С правой стороны все лисели были выдвинуты на лисель-спиртах. Корабль загребал начинающуюся бурю простертым направо крылом и рвался вперед, отталкиваясь от ураганного ветра. Обращенный к Виллису борт корабля едва различался в хаосе волн и всплесков, по палубе извивались водяные потоки, пологий бушприт протыкал верхушки встречных валов. Судно словно могучим плугом вспарывало океан, тяжко трудясь в борьбе с надменной стихией. Корабли сблизились. Несколько сорванных ветром выкриков в рупор, приветственные взмахи — и изумительный корабль, точно Летучий Голландец, исчез впереди в волнах и несомом бурей водяном тумане. — «Джемс Бэйнс», Бостон! — наконец раскрыл рот вахтенный помощник. — Клянусь Юпитером, это моряки!.. Джон Виллис только кивнул в знак согласия. — Мы убрали часть парусов, а у них не только лисели, даже лунный парус стоит. Видели? Виллис вспомнил, что действительно видел парус на самой верхушке грот-мачты, но промолчал. Ему хотелось наедине обдумать впечатление. Встреча с американским клипером потрясла его сильнее, чем сначала показалось. И в Австралии, и на обратном пути он не мог забыть ломившегося сквозь бурю с поразительной отвагой корабля, который обогнал их, будто какую-нибудь баржу. Гордость судовладельца, собственника отличных кораблей, вдобавок еще шотландца, была уязвлена. Уж очень велико было превосходство американского клипера! Перебирая в уме — в который раз! — все известные ему корабли британского торгового флота, Виллис признавался, что нет ни одного, который мог бы совершить подобный же подвиг двадцатиузлового полета через ураган. А еще через год миру стал известен рекорд «Молнии», в западном дрейфе Атлантики на десять миль превысивший суточный переход «Джемса Бэйнса»… Но что-то мешало Виллису признать «Молнию» или «Джемса Бэйнса» идеалами корабля. Встреча в Индийском океане разбудила не только жажду соревнования, но и смутное ощущение, что идеальный клипер, корабль-мечта, должен быть другим. Громадный плуг, вспарывающий океан под напором чудовищной парусности, — нет, в этом судне не было той чарующей легкости усилий, какой-то простоты движения, которое пленяет нас в быстрых лошадях, собаках или птицах. Несколько лет спустя, осторожно, боясь показаться смешным, Джон Виллис поведал свои мечты знаменитому судостроителю. И вот подошла пора осуществления, а строитель говорит, что клипер не будет таким же быстрым, как те прославленные американцы. Но он обещает всестороннее совершенство корабля. Это верно! Клипер-мечта должен быть меньшим, легко нести свои паруса и скользить по волнам, а не пахать их. Как прекрасен был бы танец на верхушках волн! Нестись вместе со свитой пенных гребней, сливаясь с движением ветра. Внезапно острое воспоминание как молния вспыхнуло в мозгу. Джон Виллис понял, откуда появилось у него представление о скользящем полете. Сорок лет назад он видел картину художника — он давно забыл какого, — изображающую молодую ведьму из поэмы Бернса — Нэн Короткую Рубашку. Вызывающе смеясь, лукавая и желанная, юная женщина неслась в беге-полете над вереском и кочками шотландских болот, ярко освещенная ущербной луной. Ее обнаженная левая рука была поднята вверх и изогнута, словно лебединая шея, а правая легко отведена в сторону. Тонкая рубашка, ниспадавшая с плеч, короткая, как у выросшего из нее ребенка, открывала во всю длину сильные стройные ноги. В круглом лице и изгибе широких бедер художник сумел отразить ненавязчивую порочность, напоминавшую, что эта красивая не по-английски девушка, настоящая дочь Шотландии, все же… ведьма! Картина впервые разбудила у юного Джона Виллиса сознание сладкой и тревожной привлекательности женщины. Образ юной Нэн Короткой Рубашки накрепко запечатлелся в памяти, связанной с ожиданием неопределенных чудес будущего. И только самому себе сознавался гордый судовладелец, что ему пришлось позже встретить похожую на ту Нэн девушку. Простая служанка из горной шотландской деревни, она не могла быть женой, подходившей чопорной семье молодого Виллиса. Стыдясь своей любви, Джон грустно вздыхал, так и не признавшись насмешливой и смелой девушке. Все давно миновало, жизнь прошла совсем по-иному, чем это мечталось смолоду, но в потаенных уголках души заносчивого богача продолжало жить сожаление о сладостном и запретном образе Нэн, сливающемся с утраченной любовью к Джэн. И сейчас, слегка взволнованный воспоминаниями прошлого, Джон Виллис решил, какое имя больше всего подходит его будущему кораблю. Нэн Короткая Рубашка! Быстрая, как ветер, прекрасная и своенравная! И его клипер будет носиться по океанам в легком беге-полете юной ведьмы! Джон Виллис довольно ухмыльнулся, но тут же сообразил, что имя ведьмы, данное кораблю, вызовет недоумения и нарекания. Что ж, у него хватит воли отстоять свое, но все же лучше назвать клипер просто «Короткой Рубашкой» — «Катти Сарк», без имени Нэн. Носовая фигура, деревянная статуя под бушпритом, будет изображать Нэн Короткую Рубашку. Он позаботится, чтобы ее сделали похожей на ту самую Нэн-Джэн…
ДВА СОПЕРНИКА
Клипер Виллиса получил название «Катти Сарк», сколько бы ни удивлялись и ни отговаривали упрямого шотландца приятели и товарищи. А осенью 1868 года вышел из Эбердина новый худовский клипер «Фермопилы». Вскоре среди моряков разнеслась слава о необыкновенном корабле, превосходившем всех быстротой, управляемостью, легкостью хода. В следующем году отчалила от пристани Темзы и «Катти Сарк», направляясь в далекий Китай. Флот чайных клиперов, пораженных мореходными качествами «Фермопил», скоро понял, что у этого замечательного корабля есть соперник, не худший, а может быть, даже и превосходящий его. Как настоящая ведьма, «Катти Сарк» настигла только что ушедший в очередной рейс худовский клипер и, несмотря на отчаянные усилия его экипажа, пришла одновременно с ним в Шанхай. С этой поры между двумя лучшими парусниками мира началось неустанное соревнование, продолжавшееся двадцать пять лет. Когда на туманном рассвете с наступлением прилива «Катти Сарк» и «Фермопилы» одновременно исчезли из Шанхая, моряки поняли, что началась самая интересная за столетие гонка кораблей. Оба соперника пролетели Зондский пролив, не теряя друг друга из виду. Затем медленно, час за часом, сутки за сутками, «Катти Сарк» стала опережать «Фермопилы». В бейдевинд [61] оба клипера шли по тринадцати узлов — неслыханное дело, недоступное всем другим клиперам. Затем бейдевинд стал круче, и тут «Катти» оказалась быстрее на полтора узла, чем шедший десятиузловым ходом ее соперник. Все дальше расходились корабли. «Катти Сарк» скрылась за горизонтом, и, как ни лавировал ее противник, в течение двух суток впереди ни разу не показались паруса «Катти Сарк». Барометр неуклонно падал, густой, удушающий зной плавал над маслянистым океаном, и вечерние звезды плясали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно неслась навстречу грозному тайфуну, не изменяя курса, а вдалеке, невидимые за выпуклым простором моря, так же неустрашимо и упорно следовали за ней «Фермопилы».
Оба клипера проскочили через тайфун, но «Катти Сарк» не повезло. Виноват был замешкавшийся рулевой. Тяжкий вал ударил по старнпосту [62], расщепил руль. Штуртрос лопнул, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным креном судорожно нырять в гремящих валах. Но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с наскоро прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства «Фермопилам».
В чайном флоте «Катти Сарк», как и «Фермопилы», пробыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чаеторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клипера перешли на австралийские рейсы и тут-то наилучшим образом проявили себя.
От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через «Ревущие сороковые» с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь «Фермопилы» и «Катти Сарк» возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась все увеличивающемуся текстильному производству Англии.
Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль.
Дик Вуджет радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым, редким наслаждением. Вуджет изучал свой превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветры или тяжелое волнение, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг [63] быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва руль перекладывался на ветер.
В штилевых полосах тропической Атлантики «Катти Сарк» окончательно и навсегда покорила свой экипаж.
Барометр неуклонно падал, густой, удушающий зной плавал над маслянистым океаном, и вечерние звезды плясали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно неслась навстречу грозному тайфуну, не изменяя курса, а вдалеке, невидимые за выпуклым простором моря, так же неустрашимо и упорно следовали за ней «Фермопилы».
Оба клипера проскочили через тайфун, но «Катти Сарк» не повезло. Виноват был замешкавшийся рулевой. Тяжкий вал ударил по старнпосту [62], расщепил руль. Штуртрос лопнул, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным креном судорожно нырять в гремящих валах. Но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с наскоро прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства «Фермопилам».
В чайном флоте «Катти Сарк», как и «Фермопилы», пробыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чаеторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клипера перешли на австралийские рейсы и тут-то наилучшим образом проявили себя.
От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через «Ревущие сороковые» с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь «Фермопилы» и «Катти Сарк» возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась все увеличивающемуся текстильному производству Англии.
Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль.
Дик Вуджет радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым, редким наслаждением. Вуджет изучал свой превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветры или тяжелое волнение, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг [63] быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва руль перекладывался на ветер.
В штилевых полосах тропической Атлантики «Катти Сарк» окончательно и навсегда покорила свой экипаж.
 В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару.
В южных широтах устойчивый зюйд-вест сразу прибавил клиперу ходу. Лаг принялсяотсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бейдевинд. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту, по мере того как летели навстречу срываемые ветром всплески и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйд-вест нес прохладу из ледяных просторов Антарктического океана.
Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вант-путенсы [64], думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали в глубь этого всемирного ледяного погреба. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далеко заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги.
Вуджет старался представить по читанным когда-то описаниям плаваний странный материк на Южном полюсе — чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и в клубящейся белесоватой бессолнечной мгле в океан ползут мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы.
Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда на хорошем корабле в хорошую погоду, различаясь лишь вахтами, реже сменой галсов да еще обсервациями места корабля.
Красивая ведьма пронесла, плавно покачиваясь, свои высокие белогрудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, с зловещим упорством.
Вахта капитана Вуджета пришлась на безлунную светлую ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущения тишины. Волны мерцали свежеразрезанным свинцом и, казалось, освещали борта корабля. Вода тускло отблескивала; обычные зеленый и красный блики бортовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет, и, может быть, это и было так на самом деле.
Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа, на юге, звезды на горизонте затемнялись узкой, серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза [65].
— Кто на руле? — негромко спросил Вуджет.
— Бэйкер, сэр! — звонко отозвался матрос.
Это прозвучало для капитана успокоительно. Бэйкер был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.
Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задергивать небо снизу, от горизонта, плотной массой.
Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фоке и фор-марселе, а также закрепить грот и контр-бизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра «Катти Сарк» вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый фордевинд. Тяжелые, низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже, и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер.
Капитан распорядился закрепить все крюйсельные [66] паруса, рискнув оставить полный грот-марсель, все брамсели и бом-брамсели [67], положившись на прекрасную остойчивость «Катти Сарк». Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне.
В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару.
В южных широтах устойчивый зюйд-вест сразу прибавил клиперу ходу. Лаг принялсяотсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бейдевинд. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту, по мере того как летели навстречу срываемые ветром всплески и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйд-вест нес прохладу из ледяных просторов Антарктического океана.
Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вант-путенсы [64], думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали в глубь этого всемирного ледяного погреба. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далеко заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги.
Вуджет старался представить по читанным когда-то описаниям плаваний странный материк на Южном полюсе — чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и в клубящейся белесоватой бессолнечной мгле в океан ползут мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы.
Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда на хорошем корабле в хорошую погоду, различаясь лишь вахтами, реже сменой галсов да еще обсервациями места корабля.
Красивая ведьма пронесла, плавно покачиваясь, свои высокие белогрудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, с зловещим упорством.
Вахта капитана Вуджета пришлась на безлунную светлую ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущения тишины. Волны мерцали свежеразрезанным свинцом и, казалось, освещали борта корабля. Вода тускло отблескивала; обычные зеленый и красный блики бортовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет, и, может быть, это и было так на самом деле.
Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа, на юге, звезды на горизонте затемнялись узкой, серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза [65].
— Кто на руле? — негромко спросил Вуджет.
— Бэйкер, сэр! — звонко отозвался матрос.
Это прозвучало для капитана успокоительно. Бэйкер был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.
Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задергивать небо снизу, от горизонта, плотной массой.
Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фоке и фор-марселе, а также закрепить грот и контр-бизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра «Катти Сарк» вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый фордевинд. Тяжелые, низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже, и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер.
Капитан распорядился закрепить все крюйсельные [66] паруса, рискнув оставить полный грот-марсель, все брамсели и бом-брамсели [67], положившись на прекрасную остойчивость «Катти Сарк». Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне.
 Шторм установился в одном направлении. Клипер несся сквозь бушующий океан словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя «Катти Сарк».
Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый. Чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти.
Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни — матросы изо всех сил горланили какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет приказал первому помощнику не уменьшать парусов.
— Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинул взглядом беснующееся море и удалился в свою каюту…
Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что долго спал, и вскочил на ноги.
На палубе его приветствовал молодой второй помощник:
— Все великолепно, сэр! И вас убаюкало на славу!
— Только не знаю, на чью! — буркнул Вуджет, удивляясь, что проспал полторы вахты.
— Конечно же, во славу нашей «Катти»! — восторженно воскликнул молодой моряк.
Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море.
Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались все выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстое облачное одеяло от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расползлась в стороны, уходя на норд и зюйд. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую, светлую дорогу.
Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль.
Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно накренившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама «Катти». Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, был еще очень свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халфвинд [68]. Кроме основных парусов, судно несло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание моряки следили за кораблем, и ревнивое чувство завладело ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали, уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а может быть, его сигналы уже не различались.
— Это «Фермопилы», только «Фермопилы»! — восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника «Катти Сарк» в китайских водах.
Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй клипер. Что-то одинаковое с «Катти» было во всей повадке корабля; та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться неопытных пассажиров.
Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для «Катти» ветер был бакштагом — наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага возвестили семнадцать узлов. Но ветер слабел, можно было рискнуть, и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели — всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами.
— Восемнадцать узлов! — завопил помощник, осекся, покраснел, но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился.
Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить. Но ветер дул теперь ровно, мягко шипела и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Катти Сарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира! Если бы только не «Фермопилы»! А впрочем, может быть, и хорошо, что их — кораблей-альбатросов — два. Будет с кем потягаться, попробовать силы!
Шторм установился в одном направлении. Клипер несся сквозь бушующий океан словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя «Катти Сарк».
Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый. Чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти.
Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни — матросы изо всех сил горланили какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет приказал первому помощнику не уменьшать парусов.
— Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинул взглядом беснующееся море и удалился в свою каюту…
Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что долго спал, и вскочил на ноги.
На палубе его приветствовал молодой второй помощник:
— Все великолепно, сэр! И вас убаюкало на славу!
— Только не знаю, на чью! — буркнул Вуджет, удивляясь, что проспал полторы вахты.
— Конечно же, во славу нашей «Катти»! — восторженно воскликнул молодой моряк.
Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море.
Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались все выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстое облачное одеяло от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расползлась в стороны, уходя на норд и зюйд. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую, светлую дорогу.
Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль.
Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно накренившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама «Катти». Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, был еще очень свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халфвинд [68]. Кроме основных парусов, судно несло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание моряки следили за кораблем, и ревнивое чувство завладело ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали, уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а может быть, его сигналы уже не различались.
— Это «Фермопилы», только «Фермопилы»! — восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника «Катти Сарк» в китайских водах.
Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй клипер. Что-то одинаковое с «Катти» было во всей повадке корабля; та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться неопытных пассажиров.
Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для «Катти» ветер был бакштагом — наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага возвестили семнадцать узлов. Но ветер слабел, можно было рискнуть, и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели — всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами.
— Восемнадцать узлов! — завопил помощник, осекся, покраснел, но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился.
Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить. Но ветер дул теперь ровно, мягко шипела и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Катти Сарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира! Если бы только не «Фермопилы»! А впрочем, может быть, и хорошо, что их — кораблей-альбатросов — два. Будет с кем потягаться, попробовать силы!
ПАР И ПАРУС
Капитан Ричард Вуджет при поддержке своей команды не переставал изучать «Катти Сарк». В его руки попало чудесное творение рук человеческих, с помощью которого можно было бороться за скоростной полет по половине земного шара при любых условиях того сложного сочетания жары и холода, ветра и штиля, дождей и сухих бурь, которое для сокращения именуется погодой и к которому на море добавляются волнение, течения и противотечения, приливы и отливы. Вуджет учился брать от корабля все богатство его управляемости, невероятно гибкой для парусника с прямым вооружением, способностями к лавировке и движению при слабых ветрах. Результаты труда капитана и экипажа не замедлили сказаться: все бегуны шерстяного флота оказывались неизменно побежденными. Быстроногая ведьма, выходя одновременно с другими судами, опережала их на целые недели. «Фермопилы» были тоже побеждены: и в первый, и во второй, и в пятый раз… Первенство «Катти» утвердилось, хотя и не столь прочно, как хотелось бы капитану и команде корабля. «Фермопилы» уступали «Катти Сарк» в переходах всего на часы, самое большее — на сутки. Упрямый корабль не прекращал состязания, казалось впитав в себя шотландское упорство своих строителей. Целыми неделями «Катти Сарк» мчалась с попутными ветрами со скоростью семнадцать узлов, покрывая более трехсот шестидесяти миль в сутки. В 1885 году «Катти Сарк» сделала переход из Лондона в Сидней, преодолев расстояние в двадцать одну тысячу триста километров с буксировками, ожиданием лоцманов и заходом в Кейптаун за шестьдесят семь дней. Джон Виллис, которому перевалило за семьдесят, устроил банкет и принимал поздравления, как владелец лучшего в мире корабля. Однако новая сила вступила в соревнование на морских просторах: пароходы — эти жалкие каботажные скорлупки — превращались в настоящие океанские суда. Применение винта сделало их надежными; строители паровых машин и котлов накопили нужный опыт. И даже на далеких и тяжелых австралийских рейсах доставка почты была поручена пароходам… Резвость шерстяных клиперов с каждым годом все более уступала работе машин, более стойкой и постоянной, меньше зависящей от капризов погоды. «Фермопилы» и «Катти Сарк» дольше всех держали знамя в соперничестве пара и паруса, вызывая неизменное восхищение у пароходных пассажиров и команды, когда при попутном ветре тот или другой из красавцев клиперов возникал белокрылым лебедем среди моря, нагонял дымившее, глухо шумевшее чудовище и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий. В 1889 году мир удивился новому подвигу «Катти Сарк». «Британия» — один из лучших почтовых пароходов Полуостровной и Восточной Компании — отправился в австралийский рейс. У острова Гарбо пароход встретил «Катти Сарк», шедшую тоже в Сидней. Крутой бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно, сутки за сутками, делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды.
Пассажиры и моряки «Британии» наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее: по неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса.
И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены. Но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути.
Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. «Катти Сарк» теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу.
Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов «Британии». С мягким шипением воды и гудящим на высоких басах такелажем клипер промчался в двух кабельтовых [69] от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команда и пассажиры «Британии», высыпавшие на палубу, устроили «Катти Сарк» бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая восемнадцать узлов, оставил пароход позади, несмотря на распоряжение капитана «Британии» увеличить ход до предела. Только один человек на пароходе — один из лучших инженеров пароходной компании — молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца.
— Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение! — отвечал он на вопросы спутников.
Несмотря на то, что пароходная машина в этом рейсе без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. «Катти Сарк» пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера. Но старый Виллис лежал уже под каменной плитой — он не дождался новой победы своей любимицы над пароходами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен: его мечта-ведьма много раз вступала в соревнование с пароходами и побеждала их. И все же пароходный инженер оказался прав…
В 1889 году мир удивился новому подвигу «Катти Сарк». «Британия» — один из лучших почтовых пароходов Полуостровной и Восточной Компании — отправился в австралийский рейс. У острова Гарбо пароход встретил «Катти Сарк», шедшую тоже в Сидней. Крутой бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно, сутки за сутками, делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды.
Пассажиры и моряки «Британии» наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее: по неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса.
И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены. Но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути.
Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. «Катти Сарк» теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу.
Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов «Британии». С мягким шипением воды и гудящим на высоких басах такелажем клипер промчался в двух кабельтовых [69] от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команда и пассажиры «Британии», высыпавшие на палубу, устроили «Катти Сарк» бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая восемнадцать узлов, оставил пароход позади, несмотря на распоряжение капитана «Британии» увеличить ход до предела. Только один человек на пароходе — один из лучших инженеров пароходной компании — молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца.
— Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение! — отвечал он на вопросы спутников.
Несмотря на то, что пароходная машина в этом рейсе без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. «Катти Сарк» пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера. Но старый Виллис лежал уже под каменной плитой — он не дождался новой победы своей любимицы над пароходами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен: его мечта-ведьма много раз вступала в соревнование с пароходами и побеждала их. И все же пароходный инженер оказался прав…
«КАТТИ САРК» ОБРЕЧЕНА
Лунная ночь чем-то тревожила капитана Вуджета. Атлантический океан был спокоен. Уже шестые сутки пассат гнал клипер ровным, быстрым ходом. Ни единого звука, кроме журчания воды и гула снастей, не слышно на затихшем корабле. Изредка возглас впередсмотрящего или удары колокола, отбивавшего склянки, — и снова молчание теплой, светлой ночи. Вуджет, сняв фуражку, теребил свои поседевшие, коротко остриженные волосы. Старший помощник заступил на вахту, но капитан не уходил с мостика. Шагая взад и вперед, Вуджет думал. Решетки настила из крепкого тикового дерева истерты его ногами. Не так уж много осталось до дня, когда он отпразднует пятнадцать лет командования «Катти Сарк». Замечательный клипер по-прежнему крепок: никакой течи в корпусе, никакого износа главного рангоута. Он, капитан, не щадил корабля, выжимая из него невиданную скорость, и в то же время берег корабль, пользуясь слабостью старого Виллиса. Но старик давно уже умер, а наследникам… что им до корабля! «Больше фунтов, шиллингов, пенсов, капитан! Капитан, наш клипер скоро станет убыточен!» Вуджет мысленно злобно передразнил старшего сына Джона Виллиса. Тревога не оставляла моряка, все больше овладевала им. Сознание обреченности «Катти Сарк» проникало в душу и, точно ржавчина, разъедало ее. Он всего себя отдал кораблю. Отборная команда подбиралась годами. За счет морской выучки и сработанности каждой вахты Вуджету удалось уменьшить против обычной нормы число людей. Но все равно — шестьдесят человек! И девятьсот шестьдесят регистровых тонн. По шестнадцати на человека, на деле и того меньше! Даже большие американские клипера-скоростники середины столетия были выгоднее. При сотне человек экипажа они обладали средней грузоподъемностью в две тысячи тонн около двадцати тонн на человека. Пока в тяжелых морских условиях возили скоростной дорогой груз, клипера чайного и шерстяного флота были рентабельны. Но что же можно сделать теперь, когда пароходы, точные, как часы, возят по сотне тонн на человека команды, а новые — и по сто пятьдесят… Им не уступают вновь придуманные барки. После того как американцы провалились с постройкой дешевых больших шхун — эти рыскливые суда оказались очень опасными в океане на попутном волнении, — в Европе стали строить большие стальные суда с прямой парусностью, но очень простым такелажем. Марсели разрезали на две части, поставили лебедки, и четыре человека легко справляются там, где раньше едва хватало десяти. С барком в три, а то и четыре тысячи тонн управляются лишь двадцать четыре человека команды. Скорость, конечно, несравнима с клиперами дай бог десять узлов, но ведь сколько есть дешевых, нескоростных грузов: уголь, лес, соль, удобрения, руда!.. Капитан Вуджет был образованным моряком и не мог не понимать назревшую трагедию старых парусников. Уже два года, как исчез с австралийских рейсов клипер «Фермопилы», вечный соперник «Катти Сарк». По слухам, он продан куда-то в Канаду, но и там вряд ли продержится. Парусники покупают сейчас на Средиземном море и Зондских островах — в странах, где труд дешев и численность команды на коротких рейсах не имеет большого значения. Вуджет наклонился и осторожно потрогал рукой отполированное углубление в медной поперечине поручня. Здесь, у этого столбика, он привык стоять в трудные минуты жизни корабля и, упираясь коленом в стойку, встречать лицом к лицу ярость бушующего моря. «Конечно, они позолотят пилюлю, — вернулся он снова к мыслям о судовладельцах, — но надо смотреть правде в глаза. Песенка моей «Катти» спета. Боюсь, что они стесняются только славы корабля, но ее хватит еще года на три, не более! Ну, пятнадцать лет отпраздную, а дальше…» Капитан оказался прав. Невыгодность знаменитого корабля надоела потомкам Джона Виллиса. И в 1895 году британский флаг сняли с «Катти Сарк», с этой гордости английского флота, как пятью годами раньше его сняли с «Фермопил». Оба гордых океанских лебедя, четверть века честно служившие своим хозяевам, были проданы и в буквальном смысле слова пошли по рукам. Никому из британцев, занятых только чистоганом, не пришло в голову, что такие совершенные творения мысли и опыта подобны произведениям искусства и принадлежат, в сущности, всему человечеству как памятники развития его культуры. Судьба обоих кораблей сложилась по-разному. В португальском военном флоте тогда были настоящие знатоки. Проследив за «Фермопилами», они приобрели в Канаде этот клипер, уже приспособленный было к перевозкам свежей рыбы, «Фермопилы» вошли в состав португальского военного флота в качестве учебного судна. С таким кораблем моряки могли чувствовать себя в безопасности у родных берегов и в Бискайе, всегда отличавшейся грозными бурями и справедливо прозванной «кладбищем кораблей». Владельцы «Катти Сарк» также продали ее португальцам — фирме Феррейра в Лиссабоне. Если бы они решили отделаться от «Катти Сарк» на полгода раньше, то учебным судном стала бы «Катти», а не «Фермопилы». Вся история нашего клипера стала бы иной. «Фермопилы» выдерживали шквалы Бискайского залива, бури Средиземного моря и неистовые налеты штормов близ Южной Америки еще двенадцать лет. В 1907 году, когда исполнились сроки службы корабля, стала очевидна его дальнейшая непригодность. Связи корпуса расшатались еще за время работы в шерстяном флоте. Постоянная гонка с максимальной парусностью на крупном волнении состарила в конце концов замечательный корабль, и надо лишь удивляться его долгой жизни. Сказалась облегченная в сравнении с «Катти Сарк», частично сосновая, обшивка. Но моряки португальского флота остались верны себе. Они не продали состарившийся клипер на дрова, не превратили его в угольный плашкоут или речную баржу. Португальское адмиралтейство издало специальный приказ: парусник вывели в море и устроили ему морские похороны перед строем военных судов. Под звуки шопеновского траурного марша украшенный флагами клипер был торпедирован. Очевидцы рассказывали потом, что день был ослепительно ярок, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой. «Фермопилы» погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки!
Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лисабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходившие высоко в пасмурное небо клотики столько раз просекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма в предгрозовых ночах… Как знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего дэкхауза, тысячи раз встречавшего взгляд капитана за тысячи вахт!
Два клерка, не понимающие и удивленные, ожидали на палубе. Капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика, так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сгорбившись, понурив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачт «Катти Сарк».
Вуджет не показывался из дому несколько дней, пока клипер не исчез из порта…
Очевидцы рассказывали потом, что день был ослепительно ярок, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой. «Фермопилы» погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки!
Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лисабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходившие высоко в пасмурное небо клотики столько раз просекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма в предгрозовых ночах… Как знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего дэкхауза, тысячи раз встречавшего взгляд капитана за тысячи вахт!
Два клерка, не понимающие и удивленные, ожидали на палубе. Капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика, так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сгорбившись, понурив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачт «Катти Сарк».
Вуджет не показывался из дому несколько дней, пока клипер не исчез из порта…
ПОД ПОРТУГАЛЬСКИМ ФЛАГОМ
После гибели «Фермопил», «Катти Сарк» оставалась совсем одинокой, единственной в мире, но и она фактически исчезла для него. Португальский флаг не прибавил ничего нового к прошлой славе клипера. А старая слава забылась, как забывается все в быстром течении жизни, несмотря на усилия людей, особенно власть имущих, удержаться подольше в памяти человечества. Новые капитаны неплохо обращались с кораблем. Память прошлой любви и тугой кошель давно умершего Джона Виллиса продолжали играть свою роль — тяжелый железный набор и тиковая обшивка «Катти Сарк» сделали ее корпус несокрушимым. Годы шли, а клипер продолжал плавать без малейшей течи. Разразилась первая мировая война. «Катти Сарк», проданная и забытая своим отечеством, снова начала служить Англии, войдя в состав торгового флота союзников как одна из самых незаметных и незначительных единиц. Скромные перевозки английского угля на юг Франции, в Италию и Гибралтар стали уделом старого парусника. В один из холодных дней поздней осени 1915 года клипер шел из Лисабона к западным берегам Англии. Дождь, моросивший из низких туч, подхватывался резким ветром. Серое, взъерошенное море сливалось с таким же серым горизонтом. Темное небо опускалось все ниже на побелевшую от вспененных гребешков волну. Барометр предвещал сильную бурю, но капитан клипера и его совладелец, один из молодых родственников известных в Лисабоне судовладельцев Феррейра, был отважным моряком. Раскачиваясь под глухо зарифленным фоком, верхними марселями и брамселями, «Катти Сарк», сохранившая прежнюю резвость юной ведьмы и под новым, благочестивым именем, шла тринадцатиузловым ходом. Съежились у вант вахтенные, посинел на мостике офицер; все мечтали о конце вахты и кружке горячего кофе. До зоны плавающих мин было еще далеко, и капитан Феррейра мирно спал в той самой каюте, в которой провел такой большой кусок жизни капитан Вуджет. Гулкие раскаты прогремели впереди слева, там, где смыкалась узкая щель между тучами и морем. Баковый матрос закричал, что видит отблески огней. Вахтенный помощник разбудил капитана. Тот, позевывая, вышел на палубу, но сумрачное море молчало. Капитан, постояв на мостике с полчаса, озябнув и кляня помощника, направился в каюту, но был остановлен криком вахтенного: — Судно слева по носу! То, что предстало спустя некоторое время его глазам, мало походило на судно. Из моря торчала высокая башня, ржаво-красная, черно-белая. Она высилась над водой неподвижно, пугая своей необычностью. Это тонул кормой большой пароход, став среди моря почти вертикально. Множество обломков плавало вокруг, появляясь и снова исчезая в волнах, по которым все шире расползалась радужная пленка масла. Изменив курс, клипер подошел к гибнущему великану. Передняя мачта парохода тонким крестом нависла на уровне верхних рей парусника. В проходах между спардеком и носовой палубой, на передней стенке салона и ходовой рубки сгрудились люди, казавшиеся на белой краске скопищем черных мух. Некоторые в страхе цеплялись за лебедки, горловины люков, грузовые стрелы — за все выступы носовой палубы, стоявшей отвесно. Среди волн плавали четыре опрокинутые шлюпки, много белых досок, весел, донных решеток. Холодный ветер выл над бурным морем, и волны тяжело и глухо шлепали о подножие страшной башни. У переднего выреза фальшборта появился моряк с рупором в руке: немецкая подводная лодка торпедировала пароход, кормовое орудие которого успело несколько раз выстрелить и, по-видимому, повредило перископ. Обозленная сопротивлением субмарина всплыла и расстреляла все шлюпки, которые удалось спустить до того, как крен корабля стал так велик. Положение судна безнадежно, хотя погружение приостановилось, — должно быть, в носовой части образовалась воздушная подушка. Капитан Феррейра стоял на мостике, задрав вверх голову, и чувствовал, что сотни глаз жадно следят за ним. Для всех погибавших он явился избавителем от страшной участи, и не было на свете корабля благословеннее его клипера. — Сколько людей на корабле? — не теряя времени, крикнул капитан в рупор и с ужасом услыхал, что осталось не меньше тысячи. Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять всех немыслимо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе самое большее семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много места. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи. А ветер все крепчает, и пароход может затонуть в любую минуту, как только сдаст главная передняя переборка.
Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять всех немыслимо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе самое большее семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много места. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи. А ветер все крепчает, и пароход может затонуть в любую минуту, как только сдаст главная передняя переборка.
 Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув реи по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейра стал медленно осаживать корабль боком по ветру. Затаив дыхание обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером… Вот корма его коснулась борта парохода — там уже висели приготовленные кранцы и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонувшего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По четкой команде экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых: транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным ни казалось это предприятие — спускать почти беспомощных людей с высоты отвесно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник, — но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе «Катти Сарк». Все раненые были переправлены до последнего человека. Оставались здоровые.
— Капитан, сколько еще сможете принять? — раздался сверху чистый, сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуацией парохода.
— Еще на палубу, — хрипло выдавил Феррейра, — человек двести…
Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу.
— В первую очередь идут молодые! — крикнул он не допускавшим возражения голосом.
Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди выстраивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусника и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всем, но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнувшего парохода послышалось глухое урчание. Громадный корпус вздрогнул и как будто стал погружаться в пучину.
— Отваливайте, капитан! Да сохранит вас бог за ваше мужество! прогремел голос полковника. — Ура в честь капитана и его корабля!..
Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно призрак, клипер начал удаляться от парохода. Спасенные стояли у борта «Катти Сарк», не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду.
Торчавшая из моря башня скрылась за кильватерной струей парусника, и нельзя было решить, погрузился ли несчастный пароход или еще на плаву скрылся в туманной дали… Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратимо. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка — перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его смелости и отваги.
— Все наверх! — заорал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить!..
Почуяв беду, команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из волн вынырнула рубка, затем продолговатый корпус.
Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув реи по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейра стал медленно осаживать корабль боком по ветру. Затаив дыхание обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером… Вот корма его коснулась борта парохода — там уже висели приготовленные кранцы и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонувшего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По четкой команде экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых: транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным ни казалось это предприятие — спускать почти беспомощных людей с высоты отвесно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник, — но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе «Катти Сарк». Все раненые были переправлены до последнего человека. Оставались здоровые.
— Капитан, сколько еще сможете принять? — раздался сверху чистый, сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуацией парохода.
— Еще на палубу, — хрипло выдавил Феррейра, — человек двести…
Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу.
— В первую очередь идут молодые! — крикнул он не допускавшим возражения голосом.
Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди выстраивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусника и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всем, но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнувшего парохода послышалось глухое урчание. Громадный корпус вздрогнул и как будто стал погружаться в пучину.
— Отваливайте, капитан! Да сохранит вас бог за ваше мужество! прогремел голос полковника. — Ура в честь капитана и его корабля!..
Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно призрак, клипер начал удаляться от парохода. Спасенные стояли у борта «Катти Сарк», не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду.
Торчавшая из моря башня скрылась за кильватерной струей парусника, и нельзя было решить, погрузился ли несчастный пароход или еще на плаву скрылся в туманной дали… Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратимо. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка — перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его смелости и отваги.
— Все наверх! — заорал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить!..
Почуяв беду, команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из волн вынырнула рубка, затем продолговатый корпус.
 Плотно сбившиеся на палубе клипера люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крейсеров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть подступала вплотную, и нервы людей начали сдавать. Толпа загудела и заколыхалась.
— Молчать, стоять по местам!.. — взревел Феррейра по-английски и добавил спокойнее: — Если хотите спасти свои шкуры…
Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом.
— Реи обрасопить на левый галс! Руль — два шлага под ветер! — звучали резкие слова команды.
Плотно сбившиеся на палубе клипера люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крейсеров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть подступала вплотную, и нервы людей начали сдавать. Толпа загудела и заколыхалась.
— Молчать, стоять по местам!.. — взревел Феррейра по-английски и добавил спокойнее: — Если хотите спасти свои шкуры…
Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом.
— Реи обрасопить на левый галс! Руль — два шлага под ветер! — звучали резкие слова команды.
 Клипер начал терять ход, и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться. Тем временем на подводной лодке открылись люки. Из переднего показалось длинное орудие стопятидесятимиллиметровая дальнобойная пушка; из рубки высунулся ствол пулемета. Сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля, никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе!
Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со злорадством заметил, как артиллеристы у орудия скользили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек.
Кусая губы, Феррейра не замечал, что громко говорит сам с собой.
— Еще минуту, минуту, минуту!.. — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания.
Клипер вздрогнул, покачнулся: огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды стал справа от клипера, с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову.
— Капитан, они приказывают остановиться! — выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий голос.
— Молчать, смирно! — яростно рявкнул Феррейра. — У меня шлюпок на пятьдесят человек!.. Эй, ложись на палубу!
Команда пришлась кстати. Клипер набирал ход, и с субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад, рухнувший на палубу. Еще!..
Минуты «Катти Сарк» были сочтены. Но тут… будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев — и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины.
— Руль прямо! Прямо руль!! — вопил капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра силились перебросить его через перила.
Только «Катти Сарк» могла выпрямиться из такого крена, и она сделала это.
Подхваченный бурей, клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот… Мимо!
«Сейчас перестанут стрелять…» — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву.
Клипер гордой беспомощной птицей летел по волнам, распустив все свои белые крылья словно в предсмертном порыве. Два шестидюймовых снаряда вылетели вдогонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал, смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей и треск дерева. Но вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. «Катти Сарк», кренясь, продолжала мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейра хотел встать, но не смог и застонал от беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с бакштага на фордевинд. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи — бурный океан взял клипер под крепкую защиту.
Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения. Но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые, слабые звуки. А корабль тем временем продолжал нестись на крыльях бури. Прочные стеньги гнулись, а стальные растяжки — фордуны начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном.
Пока ошалевший от событий помощник начал распоряжаться, ряд последовательных страшных рывков потряс клипер. Капитан Феррейра, умирая, уже ничего не почувствовал. Славный моряк мог не беспокоиться: «Катти Сарк» выдержала испытание моря, а снаряды врага пощадили ее. Только, как в первую гонку с «Фермопилами», сорок пять лет назад, клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целости свой груз человеческих жизней.
Клипер начал терять ход, и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться. Тем временем на подводной лодке открылись люки. Из переднего показалось длинное орудие стопятидесятимиллиметровая дальнобойная пушка; из рубки высунулся ствол пулемета. Сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля, никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе!
Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со злорадством заметил, как артиллеристы у орудия скользили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек.
Кусая губы, Феррейра не замечал, что громко говорит сам с собой.
— Еще минуту, минуту, минуту!.. — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания.
Клипер вздрогнул, покачнулся: огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды стал справа от клипера, с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову.
— Капитан, они приказывают остановиться! — выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий голос.
— Молчать, смирно! — яростно рявкнул Феррейра. — У меня шлюпок на пятьдесят человек!.. Эй, ложись на палубу!
Команда пришлась кстати. Клипер набирал ход, и с субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад, рухнувший на палубу. Еще!..
Минуты «Катти Сарк» были сочтены. Но тут… будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев — и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины.
— Руль прямо! Прямо руль!! — вопил капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра силились перебросить его через перила.
Только «Катти Сарк» могла выпрямиться из такого крена, и она сделала это.
Подхваченный бурей, клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот… Мимо!
«Сейчас перестанут стрелять…» — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву.
Клипер гордой беспомощной птицей летел по волнам, распустив все свои белые крылья словно в предсмертном порыве. Два шестидюймовых снаряда вылетели вдогонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал, смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей и треск дерева. Но вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. «Катти Сарк», кренясь, продолжала мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейра хотел встать, но не смог и застонал от беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с бакштага на фордевинд. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи — бурный океан взял клипер под крепкую защиту.
Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения. Но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые, слабые звуки. А корабль тем временем продолжал нестись на крыльях бури. Прочные стеньги гнулись, а стальные растяжки — фордуны начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном.
Пока ошалевший от событий помощник начал распоряжаться, ряд последовательных страшных рывков потряс клипер. Капитан Феррейра, умирая, уже ничего не почувствовал. Славный моряк мог не беспокоиться: «Катти Сарк» выдержала испытание моря, а снаряды врага пощадили ее. Только, как в первую гонку с «Фермопилами», сорок пять лет назад, клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целости свой груз человеческих жизней.
«КАТТИ САРК» — БАРКЕНТИНА
Гибель капитана Феррейры повернула судьбу «Катти». Еще раз проданный, еще дешевле, клипер попал в плохие руки. Весной 1916 года в Бискайском заливе разразился шторм, сильный даже для этого котла бурь. «Катти Сарк», в третий раз переименованная, шла из Англии с обычным грузом угля. Испугавшись дикой ярости шторма, шкипер решил повернуть на фордевинд и удрать от урагана. Ленивая, собранная из случайных бродяг команда ненавидела работу со снастями, точно брасы, топенанты и шкоты были личными врагами каждого матроса. Перед грозной опасностью вместо слаженных и самоотверженных усилий матросы сыпали замысловатые ругательства, а иногда вместе с капитаном призывали Иисуса Христа и деву Марию. Поворот недопустимо замедлился, и ураган сильно накренил клипер. Экипаж еще больше растерялся и упустил время. «Катти Сарк» поднялась бы из крена, но сместился груз угля, и клипер совсем повалился на борт. Оставалось срубить мачты — те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь такелаж. Корабль немного выпрямился.
Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но клипер и без мачт, повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лисабона с временной фок-мачтой.
Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут «Катти Сарк», не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля требовала многолюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было, и вот лучший клипер мира стал баркентиной. Иначе говоря, фок-мачту оставили с прямой парусностью, а грот- и бизань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. «Катти Сарк», превращенная в баркентину, переименованная в четвертый раз, запущенная и пестро раскрашенная, утратила свою поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимая сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи.
Исполнилось пятьдесят три года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то не ремонтировавшаяся с давних времен палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.
«Катти Сарк» поднялась бы из крена, но сместился груз угля, и клипер совсем повалился на борт. Оставалось срубить мачты — те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь такелаж. Корабль немного выпрямился.
Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но клипер и без мачт, повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лисабона с временной фок-мачтой.
Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут «Катти Сарк», не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля требовала многолюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было, и вот лучший клипер мира стал баркентиной. Иначе говоря, фок-мачту оставили с прямой парусностью, а грот- и бизань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. «Катти Сарк», превращенная в баркентину, переименованная в четвертый раз, запущенная и пестро раскрашенная, утратила свою поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимая сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи.
Исполнилось пятьдесят три года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то не ремонтировавшаяся с давних времен палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.
ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ
В сентябре 1922 года «Катти Сарк» вернулась в Фальмут с тем, чтобы навсегда остаться в Англии. Капитан Доумэн израсходовал все свои сбережения, чтобы выкупить и восстановить «Катти Сарк». Приобретение мачт и рей было последним усилием старого капитана. Но начатое им дело не остановилось. Был начат сбор средств на такелаж; каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для знаменитого корабля: хоть бухту троса, хоть несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег — помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно вырастали громадные мачты. Так простые люди Англии, сознававшие, что сохранение лучшего корабля страны, всем обязанной морю, является делом национальной чести, сберегли «Катти Сарк». Аристократы, столь ревниво оберегающие традиции своей родины, когда эти традиции касаются их собственных привилегий, забыли о реликвии английского флота. Забыли о ней и те богачи, состояния которых были добыты трудами тысяч безвестных моряков и славных кораблей. Но простые моряки, не заслужившие чинов и орденов, понимали ценность народного труда и бережно отнеслись к одному из лучших воплощений гения и рук английского народа… Их соединенные усилия воскресили корабль. Капитан Доумэн наконец дождался исполнения своей полувековой мечты. Открытое море приняло возрожденный клипер. Корабль семидесятилетнего возраста оставался почти прежним, созданным для бега взапуски с ветрами морей. Но глухая тоска не покидала капитана Доумэна с того момента, когда берега скрылись за простором моря и океанская зыбь стала привычно качать «Катти Сарк». На мостике, крепко вросши ногами в настил, стоял капитан — командир и владелец лучшего клипера его страны, да что там… всего мира. Что же нет настоящей радости исполнения заветной мечты? Скорее беспричинная грусть, какая-то жалость к самому себе одолевает его! Доумэн почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он вытянулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн в борта. Семьдесят лет волны всех морей бьются в борта «Катти Сарк»; на корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумэн, тоже оставит здесь какую-то частицу себя и тоже уйдет в прошлое…
«Прошлое! Вот в чем разгадка этой печали», — продолжал думать Доумэн. Его мечта родилась давно и вся принадлежит прошлому — отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и… его самого!
Но жить прошлым нельзя! Разве может он сейчас, одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперницами в трехмесячном рейсе? Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов и десятки тысяч тонн грузоподъемности! Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, выйдя на состязание с современностью. Ведьма «Катти Сарк» была создана для важных дел, но значение их давно умерло, и нелепы попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но клипер еще не умер — он может учить! Он, Доумэн, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели — учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, которое может дать только парусное плавание.
Капитан Доумэн присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удовольствием. Докурив, Доумэн вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвевал отяжелевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумэн приказал повернуть на обратный курс.
Доумэн почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он вытянулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн в борта. Семьдесят лет волны всех морей бьются в борта «Катти Сарк»; на корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумэн, тоже оставит здесь какую-то частицу себя и тоже уйдет в прошлое…
«Прошлое! Вот в чем разгадка этой печали», — продолжал думать Доумэн. Его мечта родилась давно и вся принадлежит прошлому — отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и… его самого!
Но жить прошлым нельзя! Разве может он сейчас, одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперницами в трехмесячном рейсе? Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов и десятки тысяч тонн грузоподъемности! Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, выйдя на состязание с современностью. Ведьма «Катти Сарк» была создана для важных дел, но значение их давно умерло, и нелепы попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но клипер еще не умер — он может учить! Он, Доумэн, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели — учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, которое может дать только парусное плавание.
Капитан Доумэн присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удовольствием. Докурив, Доумэн вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвевал отяжелевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумэн приказал повернуть на обратный курс.
ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ «КАТТИ САРК»
Даниил Алексеевич окончил чтение своей рукописи, вытер лицо и попросил чаю покрепче. Его гости и слушатели продолжали сидеть, будто ожидая еще чего-то. — Я кончил! —пробурчал старый капитан и, сам взволнованный, сурово нахмурился. После минутного молчания гости заговорили, перебивая друг друга: — А дальше, что же дальше? Ведь вы довели рассказ до тридцать девятого года, а сейчас пятьдесят девятый. Где теперь «Катти Сарк»? Ведь еще двадцать лет прошло! — Я был в Лондоне в 1952 году и видел ее стоявшей на Темзе у Гринхита, рядом со старым «Уорчестером». Этот двухпалубный военный корабль был учебным судном морских кадетов и практикантов торгового флота, а подаренная вдовой Доумэна «Катти Сарк» — вспомогательным. Затем в качестве учебного судна куплен «Эксмут». А оба старых ветерана остались плавучими памятниками. Дерево на «Катти» выветрилось, краска облезла и облупилась — восемьдесят три года службы! Не было еще корабля в истории флота, который плавал бы — и как плавал! — почти столетие! — Даниил Алексеевич! — чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. — Неужели нельзя уберечь «Катти Сарк» от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это…
Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию:
— Погодите немного!
Он порылся в столе, извлек несколько английских газет и два номера журнала «Судостроительные и морского флота сообщения».
— Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клэрнс Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председательством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров длины и шесть метров глубины, близ королевского Морского колледжа в Гринвиче. «Катти Сарк» теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура, но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нэн Короткая Рубашка. Теперь наконец англичане не рассчитывают больше на старых чудаков капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно.
Найдены подлинные доказательства первоначального устройства рангоута «Катти Сарк». Основные факты взяты из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов». Некоторые дополнения даны Монгриффом Скоттом из Дисса в Норфольке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса — владельца «Катти Сарк». На картине клипер показан под всеми парусами, что прямо-таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения.
Из трех тысяч листов металла Мюнца, которыми обшита подводная часть корабля, около шестисот потребовали замены. Вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой, на что потребовалось особое научное изыскание.
Проволочные канаты стоячего такелажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, — которому придан цвет слабо просмоленной пеньки. Из этого волокна специально для «Катти Сарк» приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на пятьдесят метров над стенами дока, а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов… Одно мне не нравится — стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный павильон не так уж сложно это теперь, при современной технике. Тогда и только тогда клипер бы сохранился на вечные времена…
Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова:
— Последнее мое впечатление о «Катти» было… как бы это сказать… странным. Может быть, я не сумею его выразить. В последнюю поездку мне пришлось сначала осмотреть новый лайнер «Гималайя», только что пришедший из Австралии, а потом уже ехать в Гринвич к «Катти Сарк». Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика «Гималайи», размером чуть не во всю палубу «Катти Сарк», знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами.
В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком — всего не перечислишь! Великан шутя справлялся с «Ревущими сороковыми» и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцати пяти узлов.
Я любовался и восхищался красавцем лайнером — детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии.
Но обветшалый, маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с «Гималайей». Больше того, взгляд на «Катти Сарк» будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты такелажа, магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то… корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт нисколько не менее уверенно, чем его колоссальный электроход-потомок. А скорость в тридцать семь километров в час, достигнутая парусами сто лет назад, вовсе не убога перед пятьюдесятью километрами, выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил…
— Даниил Алексеевич! — чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. — Неужели нельзя уберечь «Катти Сарк» от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это…
Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию:
— Погодите немного!
Он порылся в столе, извлек несколько английских газет и два номера журнала «Судостроительные и морского флота сообщения».
— Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клэрнс Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председательством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров длины и шесть метров глубины, близ королевского Морского колледжа в Гринвиче. «Катти Сарк» теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура, но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нэн Короткая Рубашка. Теперь наконец англичане не рассчитывают больше на старых чудаков капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно.
Найдены подлинные доказательства первоначального устройства рангоута «Катти Сарк». Основные факты взяты из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов». Некоторые дополнения даны Монгриффом Скоттом из Дисса в Норфольке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса — владельца «Катти Сарк». На картине клипер показан под всеми парусами, что прямо-таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения.
Из трех тысяч листов металла Мюнца, которыми обшита подводная часть корабля, около шестисот потребовали замены. Вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой, на что потребовалось особое научное изыскание.
Проволочные канаты стоячего такелажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, — которому придан цвет слабо просмоленной пеньки. Из этого волокна специально для «Катти Сарк» приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на пятьдесят метров над стенами дока, а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов… Одно мне не нравится — стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный павильон не так уж сложно это теперь, при современной технике. Тогда и только тогда клипер бы сохранился на вечные времена…
Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова:
— Последнее мое впечатление о «Катти» было… как бы это сказать… странным. Может быть, я не сумею его выразить. В последнюю поездку мне пришлось сначала осмотреть новый лайнер «Гималайя», только что пришедший из Австралии, а потом уже ехать в Гринвич к «Катти Сарк». Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика «Гималайи», размером чуть не во всю палубу «Катти Сарк», знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами.
В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком — всего не перечислишь! Великан шутя справлялся с «Ревущими сороковыми» и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцати пяти узлов.
Я любовался и восхищался красавцем лайнером — детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии.
Но обветшалый, маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с «Гималайей». Больше того, взгляд на «Катти Сарк» будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты такелажа, магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то… корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт нисколько не менее уверенно, чем его колоссальный электроход-потомок. А скорость в тридцать семь километров в час, достигнутая парусами сто лет назад, вовсе не убога перед пятьюдесятью километрами, выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил…
 И вот на набережной Гринвича я закрывал глаза, силясь мысленно представить себе оба эти корабля в океане. И, как много лет назад Джон Виллис при виде клипера «Джемс Бэйнс», я почувствовал в лайнере «Гималайя» то же яростное вспарывание океана, теперь еще более подчеркнутое высотой корабля и защитой тысячесильных машин. При всей своей мощи это не было искусство. Вместо единого ритма, почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком «танце на волнах», мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достигалась путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого…
Тогда я понял, что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля… и что это слово не будет сверхгигантом лайнером!
Мне думается, что понять законы стихий — это знание, а овладение этими силами, подчинение их — это искусство! И в нашем веке искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время «Катти Сарк»… Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только… Человеческая мысль, экономика, техника развиваются — как бы это сказать? — рейсами, что ли, этапами.
И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу, плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!.. Вот почему я думаю, что англичане должны построить еще и крышу над сухим доком «Катти Сарк», — закончил свою речь практичный капитан.
Он с размаху опустился в кресло, с минуту ожесточенно грыз мундштук и воскликнул:
— А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться!
— Отчего же грустно? — спросил кто-то.
— Я написал стихи и отвечу ими:
И вот на набережной Гринвича я закрывал глаза, силясь мысленно представить себе оба эти корабля в океане. И, как много лет назад Джон Виллис при виде клипера «Джемс Бэйнс», я почувствовал в лайнере «Гималайя» то же яростное вспарывание океана, теперь еще более подчеркнутое высотой корабля и защитой тысячесильных машин. При всей своей мощи это не было искусство. Вместо единого ритма, почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком «танце на волнах», мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достигалась путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого…
Тогда я понял, что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля… и что это слово не будет сверхгигантом лайнером!
Мне думается, что понять законы стихий — это знание, а овладение этими силами, подчинение их — это искусство! И в нашем веке искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время «Катти Сарк»… Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только… Человеческая мысль, экономика, техника развиваются — как бы это сказать? — рейсами, что ли, этапами.
И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу, плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!.. Вот почему я думаю, что англичане должны построить еще и крышу над сухим доком «Катти Сарк», — закончил свою речь практичный капитан.
Он с размаху опустился в кресло, с минуту ожесточенно грыз мундштук и воскликнул:
— А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться!
— Отчего же грустно? — спросил кто-то.
— Я написал стихи и отвечу ими:


Олег Эрберг СЛОНИХА СИТОРА
«Слониха Ситора» — один из лучших рассказов недавно умершего талантливого советского писателя Олега Эрберга; он был закончен им незадолго до смерти и стал, таким образом, последним из начатого им еще в 1924 году и с тех пор неоднократно пополнявшегося цикла афганских новелл В этих новеллах Олег Эрберг рассказывает о недавнем прошлом дружественной нам страны, в Которой долгое время властвовали феодальные пережитки, задерживавшие ее экономическое и культурное развитие. Зоркий и благожелательный наблюдатель своими рассказами звал к преодолению этих пережитков. С большой теплотой и человечностью нарисовал Эрберг образы простых афганцев, порой замкнутых и суровых, но всегда прямодушных. Познакомившись с творчеством Олега Эрберга, известный прогрессивный немепкий писатель Бернхард Келлерман, много путешествовавший по странам Востока, признался, что он «уже с первых слов почувствовал себя окруженным и околдованным магической атмосферой Азии». «Я нашел в рассказах Эрберга, — подчеркивал Келлерман, — не только пустыню и жару, разрушенные караван-сараи и нищие глиняные лачуги, но и нечто другое, гораздо большее, чем можно было ожидать, — я нашел в их авторе рассказчика высокого класса, какого редко можно встретить…» Это уменье Эрберга писать о животных отметил и Илья Эренбург по поводу сборника рассказов «Путь к Ноубехару»: «Собаки и животные в этой книге, — говорит Эренбург, — потрясающе хорошо и точно помогают пониманию и чувствованию человека». Прочтя новеллу «Слониха Ситора», читатель, по всей вероятности, присоединится к отзывам обоих писателей: советского и немецкого, потому что это последнее произведение «рассказчика высокого класса» Олега Эрберга проникнуто подлинной человечностью. В двадцатых годах на улицах афганской столицы можно было часто встретить слониху, которую выводил на прогулку из королевского слоновника Джан Мамад, высокий старик с длинными седеющими волосами, спускавшимися из-под чалмы.
Это была слониха уже зрелого возраста. Ее купил у магараджы индийского княжества Гвалиор еще эмир Абдурахман. Слониху привели в Кабул и назвали «Ситорe». Но когда на празднике жертвоприношения она заняла первое место на слоновьих скачках, ее записали в ведомость дворцовых расходов под именем «Жемчужина королевского слоновника». Тогда же ей положили, помимо камыша и пшеничной соломы, еще и двенадцать пудов сахарного тростника в год.
Однако Джан Мамад, приставленный к слонихе с первых дней ее появления в Кабуле, не сохранил в своей памяти случая, когда бы он получил деньги из дворцового казначейства на покупку этого слоновьего лакомства. Впрочем, Джан Мамад с тех пор состарился, и неудивительно, если память могла изменить старику. Одно лишь было бесспорно: он из месяца в месяц, на протяжении многих лет, оставлял отпечаток своего пальца в ведомости против статьи дополнительного расхода на слониху и покупал иногда по праздникам стебли сахарного тростника на собственные деньги. Он нарезал эти стебли на маленькие ломтики и угощал ими слониху после полуденной молитвы.
В молодые годы Ситора не только выигрывала первенство на скачках — она отличалась еще и великолепным сложением. А кротость нрава упрочила ей на долгие годы почетное положение в слоновнике. Каждую весну она увозила из Кабула в Джелалабад, в летний дворец эмира, его любимых жен. Для этого случая ей раскрашивали хобот узорами драгоценной краски индиго, бедра разрисовывали киноварью и покрывали бронзой ногти на ногах. Серебряные бубенцы на расшитом чепраке звучно бренчали, когда Ситора взмахивала на ходу головой, а спущенные занавески паланкина, в котором сидели эмирские жены, развевались алым шелком, и над паланкином колыхались павлиньи перья.
Но это было давно. С тех пор как в Афганистане была проведена финансовая реформа, сократились и дворцовые расходы. Слоны были переданы кабульскому муниципалитету, а в слоновнике должен был поместиться завод газированных фруктовых вод.
Городской голова, получая слонов, стал прикидывать, как лучше всего можно было бы переложить на плечи горожан свалившееся на муниципалитет несчастье.
— Ведь эдакая громадина. — рассуждал он, глядя на «Жемчужину слоновника», — пожалуй, одна ест за десяток рабочих верблюдов. И сколько же соломы переведет на удобрение каждый такой дармоед! А если держать слонов только для того, чтобы давать их напрокат людям — перевозить невест по семейным праздникам, — то денег соберешь, пожалуй, не больше, чем служка при мечети.
Впрочем, городской голова недолго задумывался. Двух слонов он распорядился отправить в Кандагар своему другу, местному негоцианту. Его друг слыл за человека передовых взглядов, так как, вернувшись из поездки в Лондон, он внес предложение министру просвещения об учреждении в Афганистане постоянного зверинца. Городской голова, между прочим, писал ему:
«…Искренне соболезнуя Вам в том, что Ваше достойное предложение не удостоилось сочувствия его превосходительства министра просвещения, спешу помочь в осуществлении Вашего славного замысла на пользу науки и процветания ислама. В придачу к слонам посылаю Вам также одного шакала, который попался в капкан на моем птичьем дворе. Хотя ему оторвало одну лапу, но он, надеюсь, выживет, потому что шакалы очень живучи, и в полной сохранности попадет к Вам в зверинец, если только караванщики не уморят его голодом в пути. Ведь известно, эти лентяи не захотят шагу лишнего сделать, чтобы поднять для него придорожную падаль…»
Кроме того, городской голова давал советы своему кандагарскому другу устроить зоологический сад в его плодовом саду, уповая на то, что зверинец принесет больше дохода, чем гранатовые деревья. Он не забыл, конечно, упомянуть и о том, что отчисления от сбора за показ слонов можно переводить не кабульскому муниципалитету, а ему лично, чтобы не возиться с казначейскими квитанциями. Ну, а что касается шакала, то он передает его зверинцу совершенно безвозмездно.
Третьего слона городской голова послал кратчайшей, но труднопроходимой хезарейской дорогой в Герат, к своему другому приятелю — начальнику полиции. Он написал ему, что в Кабул дошли слухи о пристрастии губернатора казнить преступников, расстреливая их из пушки, и что поэтому полицейским часто приходится тащить на себе за город тяжелую бронзовую пушку. Желая самым искренним образом облегчить их труд, он посылает городу на испытательный срок слона, для которого бронзовая пушка представляет тяжесть не больше, чем для младенца бронзовый бубенец. К тому же с появлением в Герате слона расстрелы из пушки возможно участить, и это устрашит местных воров. А сокращение преступности в окрестностях города принесет начальнику полиции медаль «За усердие». Об этом городской голова намекал, но с достаточной ясностью, чтобы начальник полиции понял, что медаль он получит не без ходатайства влиятельного покровителя.
Когда же очередь дошла до слонихи, городской голова приказал Джан Мамаду отвести ее к себе в загородную усадьбу, чтобы бывшая «Жемчужина королевского слоновника» занялась корчеванием пней: незадолго перед тем городской голова срубил старые шелковицы и на их месте собирался разбить виноградник. Это ему было даже лестно, так как он знал, что, хотя слониха будет работать у него в саду временно, по столице разнесется слух, что городской голова держит у себя слона, как владетельный хан.
Джан Мамад, прежде чем навсегда вывести Ситору из слоновника, нарисовал пунцовой анилиновой краской на ее левом бедре огромный цветок в том месте, где остался рубец от рваной раны, которую слониха получила в давние годы от зубов тигра на княжеской охоте в лесах Сринагара.
Джан Мамад остановил слониху перед крытыми воротами загородной усадьбы городского головы и вызвал его домоправителя.
— Кто держит слонов, должен иметь и высокие ворота, — сказал он ему, показывая на перекрытие ворот, до которого без труда мог рукой дотянуться всадник.
— Вот еще отыскался богач, подбирающий слоновьи объедки! — сказал домоправитель, внимательно разглядывая свои новые кожаные калоши с загнутыми кверху носками и расшитые золотой канителью.
Но слониха и в самом деле не могла войти в низкие ворота, и на задворках усадьбы пришлось проломить глинобитную стену, чтобы ввести ее в сад.
В королевском слоновнике не приучали слонов к черным работам, но Ситора за долгие годы жизни накопила достаточный опыт, была сообразительна и умела пятиться назад с приседанием, когда кланялась королю в дни праздников.
В саду поспели абрикосы, и Джан Мамад потребовал от домоправителя корзину спелых абрикосов, чтобы приохотить слониху к труду. Но домоправитель придерживался иного взгляда на дрессировку животных, а потому прислал для слонихи тугие розги, срезанные с карагача. Тогда Джан Мамад сам обошел абрикосовые деревья и собрал в рогожу побитые и подгнившие плоды.
После этого началась работа. Поденщики, подкапывали пни, залезали в ямы и подрубали корни. Затем обматывали корни канатом, концы которого тянулись к лямке из сыромятной кожи. Джан Мамад надевал лямку на шею слонихи и заставлял Ситору пятиться назад. И слониха пятилась, придерживая канат зубами и хоботом. Вытащив из ямы огромный пень с уродливыми корнями, она еще продолжала несколько шагов волочить его по земле. Затем приседала и кланялась пню с той же вежливостью, как кланялась королю.
Джан Мамад тут же насыпeл ей полведерка абрикосов, и Ситора принималась есть. Гнилые абрикосы она старалась забросить на деревья. Съев угощение, она кончиком хобота поднимала за ручку порожнее ведерко и возвращала его Джан Мамаду.
После третьего дня Джан Мамад понял, что он просчитался, выдавая так щедро лакомство слонихе, и что ему не хватит абрикосов до конца работы. Поэтому он попробовал сократить выдачу. Но слониха уже не соглашалась на уменьшенный паек. Она возвращала ведерко Джан Мамаду и требовала добавки, нетерпеливо размахивая хоботом и испуская настойчивые крики, походившие одновременно на звучание медной трубы и вопли попугая.
В двадцатых годах на улицах афганской столицы можно было часто встретить слониху, которую выводил на прогулку из королевского слоновника Джан Мамад, высокий старик с длинными седеющими волосами, спускавшимися из-под чалмы.
Это была слониха уже зрелого возраста. Ее купил у магараджы индийского княжества Гвалиор еще эмир Абдурахман. Слониху привели в Кабул и назвали «Ситорe». Но когда на празднике жертвоприношения она заняла первое место на слоновьих скачках, ее записали в ведомость дворцовых расходов под именем «Жемчужина королевского слоновника». Тогда же ей положили, помимо камыша и пшеничной соломы, еще и двенадцать пудов сахарного тростника в год.
Однако Джан Мамад, приставленный к слонихе с первых дней ее появления в Кабуле, не сохранил в своей памяти случая, когда бы он получил деньги из дворцового казначейства на покупку этого слоновьего лакомства. Впрочем, Джан Мамад с тех пор состарился, и неудивительно, если память могла изменить старику. Одно лишь было бесспорно: он из месяца в месяц, на протяжении многих лет, оставлял отпечаток своего пальца в ведомости против статьи дополнительного расхода на слониху и покупал иногда по праздникам стебли сахарного тростника на собственные деньги. Он нарезал эти стебли на маленькие ломтики и угощал ими слониху после полуденной молитвы.
В молодые годы Ситора не только выигрывала первенство на скачках — она отличалась еще и великолепным сложением. А кротость нрава упрочила ей на долгие годы почетное положение в слоновнике. Каждую весну она увозила из Кабула в Джелалабад, в летний дворец эмира, его любимых жен. Для этого случая ей раскрашивали хобот узорами драгоценной краски индиго, бедра разрисовывали киноварью и покрывали бронзой ногти на ногах. Серебряные бубенцы на расшитом чепраке звучно бренчали, когда Ситора взмахивала на ходу головой, а спущенные занавески паланкина, в котором сидели эмирские жены, развевались алым шелком, и над паланкином колыхались павлиньи перья.
Но это было давно. С тех пор как в Афганистане была проведена финансовая реформа, сократились и дворцовые расходы. Слоны были переданы кабульскому муниципалитету, а в слоновнике должен был поместиться завод газированных фруктовых вод.
Городской голова, получая слонов, стал прикидывать, как лучше всего можно было бы переложить на плечи горожан свалившееся на муниципалитет несчастье.
— Ведь эдакая громадина. — рассуждал он, глядя на «Жемчужину слоновника», — пожалуй, одна ест за десяток рабочих верблюдов. И сколько же соломы переведет на удобрение каждый такой дармоед! А если держать слонов только для того, чтобы давать их напрокат людям — перевозить невест по семейным праздникам, — то денег соберешь, пожалуй, не больше, чем служка при мечети.
Впрочем, городской голова недолго задумывался. Двух слонов он распорядился отправить в Кандагар своему другу, местному негоцианту. Его друг слыл за человека передовых взглядов, так как, вернувшись из поездки в Лондон, он внес предложение министру просвещения об учреждении в Афганистане постоянного зверинца. Городской голова, между прочим, писал ему:
«…Искренне соболезнуя Вам в том, что Ваше достойное предложение не удостоилось сочувствия его превосходительства министра просвещения, спешу помочь в осуществлении Вашего славного замысла на пользу науки и процветания ислама. В придачу к слонам посылаю Вам также одного шакала, который попался в капкан на моем птичьем дворе. Хотя ему оторвало одну лапу, но он, надеюсь, выживет, потому что шакалы очень живучи, и в полной сохранности попадет к Вам в зверинец, если только караванщики не уморят его голодом в пути. Ведь известно, эти лентяи не захотят шагу лишнего сделать, чтобы поднять для него придорожную падаль…»
Кроме того, городской голова давал советы своему кандагарскому другу устроить зоологический сад в его плодовом саду, уповая на то, что зверинец принесет больше дохода, чем гранатовые деревья. Он не забыл, конечно, упомянуть и о том, что отчисления от сбора за показ слонов можно переводить не кабульскому муниципалитету, а ему лично, чтобы не возиться с казначейскими квитанциями. Ну, а что касается шакала, то он передает его зверинцу совершенно безвозмездно.
Третьего слона городской голова послал кратчайшей, но труднопроходимой хезарейской дорогой в Герат, к своему другому приятелю — начальнику полиции. Он написал ему, что в Кабул дошли слухи о пристрастии губернатора казнить преступников, расстреливая их из пушки, и что поэтому полицейским часто приходится тащить на себе за город тяжелую бронзовую пушку. Желая самым искренним образом облегчить их труд, он посылает городу на испытательный срок слона, для которого бронзовая пушка представляет тяжесть не больше, чем для младенца бронзовый бубенец. К тому же с появлением в Герате слона расстрелы из пушки возможно участить, и это устрашит местных воров. А сокращение преступности в окрестностях города принесет начальнику полиции медаль «За усердие». Об этом городской голова намекал, но с достаточной ясностью, чтобы начальник полиции понял, что медаль он получит не без ходатайства влиятельного покровителя.
Когда же очередь дошла до слонихи, городской голова приказал Джан Мамаду отвести ее к себе в загородную усадьбу, чтобы бывшая «Жемчужина королевского слоновника» занялась корчеванием пней: незадолго перед тем городской голова срубил старые шелковицы и на их месте собирался разбить виноградник. Это ему было даже лестно, так как он знал, что, хотя слониха будет работать у него в саду временно, по столице разнесется слух, что городской голова держит у себя слона, как владетельный хан.
Джан Мамад, прежде чем навсегда вывести Ситору из слоновника, нарисовал пунцовой анилиновой краской на ее левом бедре огромный цветок в том месте, где остался рубец от рваной раны, которую слониха получила в давние годы от зубов тигра на княжеской охоте в лесах Сринагара.
Джан Мамад остановил слониху перед крытыми воротами загородной усадьбы городского головы и вызвал его домоправителя.
— Кто держит слонов, должен иметь и высокие ворота, — сказал он ему, показывая на перекрытие ворот, до которого без труда мог рукой дотянуться всадник.
— Вот еще отыскался богач, подбирающий слоновьи объедки! — сказал домоправитель, внимательно разглядывая свои новые кожаные калоши с загнутыми кверху носками и расшитые золотой канителью.
Но слониха и в самом деле не могла войти в низкие ворота, и на задворках усадьбы пришлось проломить глинобитную стену, чтобы ввести ее в сад.
В королевском слоновнике не приучали слонов к черным работам, но Ситора за долгие годы жизни накопила достаточный опыт, была сообразительна и умела пятиться назад с приседанием, когда кланялась королю в дни праздников.
В саду поспели абрикосы, и Джан Мамад потребовал от домоправителя корзину спелых абрикосов, чтобы приохотить слониху к труду. Но домоправитель придерживался иного взгляда на дрессировку животных, а потому прислал для слонихи тугие розги, срезанные с карагача. Тогда Джан Мамад сам обошел абрикосовые деревья и собрал в рогожу побитые и подгнившие плоды.
После этого началась работа. Поденщики, подкапывали пни, залезали в ямы и подрубали корни. Затем обматывали корни канатом, концы которого тянулись к лямке из сыромятной кожи. Джан Мамад надевал лямку на шею слонихи и заставлял Ситору пятиться назад. И слониха пятилась, придерживая канат зубами и хоботом. Вытащив из ямы огромный пень с уродливыми корнями, она еще продолжала несколько шагов волочить его по земле. Затем приседала и кланялась пню с той же вежливостью, как кланялась королю.
Джан Мамад тут же насыпeл ей полведерка абрикосов, и Ситора принималась есть. Гнилые абрикосы она старалась забросить на деревья. Съев угощение, она кончиком хобота поднимала за ручку порожнее ведерко и возвращала его Джан Мамаду.
После третьего дня Джан Мамад понял, что он просчитался, выдавая так щедро лакомство слонихе, и что ему не хватит абрикосов до конца работы. Поэтому он попробовал сократить выдачу. Но слониха уже не соглашалась на уменьшенный паек. Она возвращала ведерко Джан Мамаду и требовала добавки, нетерпеливо размахивая хоботом и испуская настойчивые крики, походившие одновременно на звучание медной трубы и вопли попугая.
 Вечером Джан Мамад отвел слониху в конец сада, где была сушилка для плодов, и привязал ее цепью за заднюю ногу к колу, к которому привязывали быков во время весенней вспашки делянок. Насыпав ей ячменной соломы, что выдал домоправитель, он разложил перед слонихой свою парусиновую походную кровать, пеструю от заплат, и накрыл ее ковриком. Это было все его имущество. Потом он разжег угольки в чилиме и положил на них несколько горошин банга [70]. Он обычно курил банг, когда у него начинался приступ лихорадки или когда донимала тоска. В таких случаях он предпочитал курить уединенно возле слонихи, чтобы запах банга не оскорблял обоняния людей.
Растянувшись на кровати, положив под голову свернутый халат, он медленно затягивался сладковато-липким дымом и надрывно кашлял.
Слонихе нравился запах банга, напоминавший ей, очевидно, заросли индийской конопли, и она подолгу задерживала хобот над чилимом, втягивая дым и выдыхая его с напором пожарного насоса.
Она не одобряла только слишком близкого соседства Джан Мамада, потому что он метался во сне от сильного лихорадочного жара и скатывался с кровати к ней под ноги, а она, привязанная к месту, должна была всю ночь выстаивать на трех ногах, чтобы случайно не наступить на него. Это было очень утомительно.
После нескольких затяжек Джан Мамад начинал разговаривать со слонихой. Быстро наступавшее веселье так же быстро сменялось грустью по мере действия банга.
В этот вечер Джан Мамад, лежа на спине и похлопывая ладонью по хоботу слонихи, протянутому н. ад ним, весело говорил охрипшим от кашля голосом:
— Какой у тебя смешной нос, Ситора! Ну и нос! Вот если б у меня был такой нос, я бы мигом сгребал блюда с пловом. А сегодня он у тебя еще и прибавился на аршин с четвертью.
Сейчас Джан Мамаду все казалось изменившим свой обычный облик: стволы деревьев утончились и потянулись ввысь, будто кто-то растягивал их, как резиновые жгуты; луна расплылась вширь убежавшим из кадки тестом; и собственные ноги, по которым разливался жар, вдруг стали расти по направлению к прохладному ручью.
— Только кому захочется нас с тобой звать на плов? — продолжал разговаривать Джан Мамад. — Кому нужен старый, одинокий бродяга? — Он залился смехом. — А тебя в приличное общество и пускать нельзя. Ведь ты никак не научишься сидеть, поджав ноги. Вот и сегодня у домоправителя варился плов, а он нам даже вчерашней лепешки не вынес. И тебе вместо пшеничной соломы ячменную подсунул. Ха-ха-ха!
Слониха разметала ворох соломы, но не ела ее.
— Ох, Ситора… — протяжно вздохнул Джан Мамад после продолжительного молчания. — Хоть ты и большая и сильная, а человек сильнее тебя. Большой человек — он и богат и силен… Только ты не бойся, я никому тебя в обиду не дам. Ведь скоро тридцать лет, как вместе прожили. И ты умная. Всё понимаешь. Вот домоправитель думает, что обманул тебя, а ты его обман сразу раскусила.
Слониха прислушивалась к ночным шорохам и резким крикам стрижей, носившихся в лунном свете. Она боялась всяких птиц и больше всего — голубей. Она тревожно хлопала ушами или прижимала их с шурша-ньем обветшалых листов картона.
— Вот возьми, к примеру, у нас в горах Рауф-бая, — снова заговорил Джан Мамад. — Маленький, сморщенный, головка с журавлиное яйцо. Кажется, нажми на него слегка кулаком — и выдавишь из скорлупы желток. А силен был этот бай! Большой человек… Чтобы сгореть ему в могиле!.. Приписал какие-то долги моему покойному деду и отнял у меня пашню, что оставил отец. Отец сам на ту скалу землю наносил. Издалека носил. На своей спине. Скала высокая — туда и ослу не взобраться… И две шелковицы Рауф-бай отнял. Еще дед их посадил. Высокие шелковицы… И мой дом отнял, что я по камешкам складывал… Да, большой он человек! Большой и сильный… А я тогда собирался жениться. Вот этот ковер к свадьбе купил. — Он хлопнул ладонью по коврику. — Так и не женился. Некуда было жену привести. Понимаешь, Ситора, дома не стало. Ну, понимаешь, как сейчас у тебя…
Джан Мамад умолк, а потом протяжно затянул песню хриплым, грудным голосом:
Вечером Джан Мамад отвел слониху в конец сада, где была сушилка для плодов, и привязал ее цепью за заднюю ногу к колу, к которому привязывали быков во время весенней вспашки делянок. Насыпав ей ячменной соломы, что выдал домоправитель, он разложил перед слонихой свою парусиновую походную кровать, пеструю от заплат, и накрыл ее ковриком. Это было все его имущество. Потом он разжег угольки в чилиме и положил на них несколько горошин банга [70]. Он обычно курил банг, когда у него начинался приступ лихорадки или когда донимала тоска. В таких случаях он предпочитал курить уединенно возле слонихи, чтобы запах банга не оскорблял обоняния людей.
Растянувшись на кровати, положив под голову свернутый халат, он медленно затягивался сладковато-липким дымом и надрывно кашлял.
Слонихе нравился запах банга, напоминавший ей, очевидно, заросли индийской конопли, и она подолгу задерживала хобот над чилимом, втягивая дым и выдыхая его с напором пожарного насоса.
Она не одобряла только слишком близкого соседства Джан Мамада, потому что он метался во сне от сильного лихорадочного жара и скатывался с кровати к ней под ноги, а она, привязанная к месту, должна была всю ночь выстаивать на трех ногах, чтобы случайно не наступить на него. Это было очень утомительно.
После нескольких затяжек Джан Мамад начинал разговаривать со слонихой. Быстро наступавшее веселье так же быстро сменялось грустью по мере действия банга.
В этот вечер Джан Мамад, лежа на спине и похлопывая ладонью по хоботу слонихи, протянутому н. ад ним, весело говорил охрипшим от кашля голосом:
— Какой у тебя смешной нос, Ситора! Ну и нос! Вот если б у меня был такой нос, я бы мигом сгребал блюда с пловом. А сегодня он у тебя еще и прибавился на аршин с четвертью.
Сейчас Джан Мамаду все казалось изменившим свой обычный облик: стволы деревьев утончились и потянулись ввысь, будто кто-то растягивал их, как резиновые жгуты; луна расплылась вширь убежавшим из кадки тестом; и собственные ноги, по которым разливался жар, вдруг стали расти по направлению к прохладному ручью.
— Только кому захочется нас с тобой звать на плов? — продолжал разговаривать Джан Мамад. — Кому нужен старый, одинокий бродяга? — Он залился смехом. — А тебя в приличное общество и пускать нельзя. Ведь ты никак не научишься сидеть, поджав ноги. Вот и сегодня у домоправителя варился плов, а он нам даже вчерашней лепешки не вынес. И тебе вместо пшеничной соломы ячменную подсунул. Ха-ха-ха!
Слониха разметала ворох соломы, но не ела ее.
— Ох, Ситора… — протяжно вздохнул Джан Мамад после продолжительного молчания. — Хоть ты и большая и сильная, а человек сильнее тебя. Большой человек — он и богат и силен… Только ты не бойся, я никому тебя в обиду не дам. Ведь скоро тридцать лет, как вместе прожили. И ты умная. Всё понимаешь. Вот домоправитель думает, что обманул тебя, а ты его обман сразу раскусила.
Слониха прислушивалась к ночным шорохам и резким крикам стрижей, носившихся в лунном свете. Она боялась всяких птиц и больше всего — голубей. Она тревожно хлопала ушами или прижимала их с шурша-ньем обветшалых листов картона.
— Вот возьми, к примеру, у нас в горах Рауф-бая, — снова заговорил Джан Мамад. — Маленький, сморщенный, головка с журавлиное яйцо. Кажется, нажми на него слегка кулаком — и выдавишь из скорлупы желток. А силен был этот бай! Большой человек… Чтобы сгореть ему в могиле!.. Приписал какие-то долги моему покойному деду и отнял у меня пашню, что оставил отец. Отец сам на ту скалу землю наносил. Издалека носил. На своей спине. Скала высокая — туда и ослу не взобраться… И две шелковицы Рауф-бай отнял. Еще дед их посадил. Высокие шелковицы… И мой дом отнял, что я по камешкам складывал… Да, большой он человек! Большой и сильный… А я тогда собирался жениться. Вот этот ковер к свадьбе купил. — Он хлопнул ладонью по коврику. — Так и не женился. Некуда было жену привести. Понимаешь, Ситора, дома не стало. Ну, понимаешь, как сейчас у тебя…
Джан Мамад умолк, а потом протяжно затянул песню хриплым, грудным голосом:
* * *
Река Кундуз всегда всклокочена и постоянно несет рыжую воду, как будто смывает с себя грязь и никак не может ее смыть. Особенно же она бывает грязна во время ливней в горах. Тогда она мчится стремительно и бурливо и часто выходит из берегов. Однажды в такую пору к реке подошел вьючный обоз каттаганского купца. Купец вез тюки шерсти и торопил Джан Мамада с переправой. — Повремените, — сказал ему Джан Мамад, глядя на дальние горы, над которыми надувшимися серо-мглистыми парусами распростерлись тучи. — Недавно прошел ливень. Пусть вода схлынет. Тогда и слонихе будет легче. — Вот тут мы с тобой и не сойдемся, — возразил купец. — Тебе скотину жаль, а мне — мой товар. Сегодня одна цена на шерсть, завтра другая. И мне неохота терпеть убыток из-за твоей жалостливости. На слонах земля вон держится, а что до воды, то она им легче пуха. А не веришь, так пойдем к уездному начальнику: он тебе разъяснит. Но Джан Мамаду не хотелось идти к уездному начальнику. Один раз тот уже учил его, что, когда от купца получают подарок, то с таким купцом следует быть обходительным. Джан Мамад не совсем понимал, почему от него требуется обхождение, если подарок получает уездный начальник, но палка, пущенная в дело для подкрепления урока, отбила у него охоту когда-либо попадаться на глаза уездному начальнику. — Веревки на пароме слабы, — мрачно сказал Джан Мамад. — Лучше бы это разъяснили уездному начальнику. Веревки шерстяные и старые — не выдержат.
— Если будет угодно богу, — сказал купец, — веревки и тебя выдержат, когда ты будешь болтаться в петле.
По приказанию купца, погонщики каравана понесли на своих спинах тюки шерсти к спокойной заводи, где стоял паром. Низко пригибаясь под тяжестью ноши, они осторожно ступали по воде, чтобы не поранить босые ноги о коряги и подводные пеньки камыша.
Они укладывали тюки на дощатый настил парома, под которым хлюпали надутые воздухом бурдюки из воловьих шкур. Когда первые тюки купеческого обоза были нагружены на паром, Джан Мамад крикнул в камышовые заросли, где паслась слониха:
— Ситора, сюда!
Тотчас же послышался шорох, как будто внезапно поднявшийся легкий ветер прошелся по верхушке камышовой чаши. Слониха вышла на берег и, не дожидаясь, когда Джан Мамад даст ей за это положенную награду, сама засунула хобот в его карман и вынула оттуда кусочек сахару.
Джан Мамад запряг ее в паром. Веревочные полуистлевшие постромки, никогда не просыхавшие от воды, и плетеный тростниковый хомут составляли всю упряжь слонихи.
Джан Мамад проверил перевязку бурдюков, взобрался на задний тюк шерсти и стал выводить паром из заводи. Он отталкивался шестом, помогая слонихе, вязнувшей в топком иле, обходить камышовые плавни.
— Смотри, — крикнул ему вдогонку купец, — если подмочишь хоть один тюк, ответишь за убыток потрохами твоего деда и прадеда!
Выйдя на речной простор, слониха сама взяла направление к противоположному берегу. Она пошла против течения, срезая его под острым углом. На середине реки клокочущие потоки с гребнями рыжеватой пены подступили к ее голове. Слониха высоко задрала хобот и продолжала погружаться в воду. Потеряв дно, она поплыла.
Джан Мамад не видел, как оборвалась одна постромка. Он только почувствовал сильный рывок, когда паром занесло и тотчас же накренило на левый бок. Джан Мамад быстро перебрался с одного тюка на другой, чтобы не скатиться в реку а выровнять паром. Волны беспорядочно толклись между воловьими бурдюками и звонко ударяли в них, как в туго натянутые барабаны. Слониха продолжала плыть против течения.
Джан Мамад не отрывал взгляда от второй уцелевшей постромки, натянувшейся под напором воды так, будто слониха тащила за собой батарею тяжелых пушек. И он заметил, что на второй постромке стали расходиться в двух местах шерстяные волокна.
«Только бы осилить главное течение, — думал Джан Мамад, — а там сразу будет полегче. До берега еще останется шагов двести, но течение уже не будет так тянуть и, в случае обрыва, можно прибиться к какой-нибудь заводи».
Джан Мамад стал шестом направлять слониху вправо, чтобы круто выйти из главного потока с бурлящими водоворотами. Слониху продолжало сносить вместе с паромом.
— Ну же, Ситора, скорей, скорей! — торопил он ее. — Иначе мы потопим тюки! А ты знаешь, что тогда сделает со мной уездный начальник?!
В тот миг, когда Джан Мамаду показалось, что Ситора уже вытянула паром из главного течения, лопнула вторая постромка, и паром, будто оттолкнувшись от слонихи, стал быстро удаляться от нее.
— Веревки на пароме слабы, — мрачно сказал Джан Мамад. — Лучше бы это разъяснили уездному начальнику. Веревки шерстяные и старые — не выдержат.
— Если будет угодно богу, — сказал купец, — веревки и тебя выдержат, когда ты будешь болтаться в петле.
По приказанию купца, погонщики каравана понесли на своих спинах тюки шерсти к спокойной заводи, где стоял паром. Низко пригибаясь под тяжестью ноши, они осторожно ступали по воде, чтобы не поранить босые ноги о коряги и подводные пеньки камыша.
Они укладывали тюки на дощатый настил парома, под которым хлюпали надутые воздухом бурдюки из воловьих шкур. Когда первые тюки купеческого обоза были нагружены на паром, Джан Мамад крикнул в камышовые заросли, где паслась слониха:
— Ситора, сюда!
Тотчас же послышался шорох, как будто внезапно поднявшийся легкий ветер прошелся по верхушке камышовой чаши. Слониха вышла на берег и, не дожидаясь, когда Джан Мамад даст ей за это положенную награду, сама засунула хобот в его карман и вынула оттуда кусочек сахару.
Джан Мамад запряг ее в паром. Веревочные полуистлевшие постромки, никогда не просыхавшие от воды, и плетеный тростниковый хомут составляли всю упряжь слонихи.
Джан Мамад проверил перевязку бурдюков, взобрался на задний тюк шерсти и стал выводить паром из заводи. Он отталкивался шестом, помогая слонихе, вязнувшей в топком иле, обходить камышовые плавни.
— Смотри, — крикнул ему вдогонку купец, — если подмочишь хоть один тюк, ответишь за убыток потрохами твоего деда и прадеда!
Выйдя на речной простор, слониха сама взяла направление к противоположному берегу. Она пошла против течения, срезая его под острым углом. На середине реки клокочущие потоки с гребнями рыжеватой пены подступили к ее голове. Слониха высоко задрала хобот и продолжала погружаться в воду. Потеряв дно, она поплыла.
Джан Мамад не видел, как оборвалась одна постромка. Он только почувствовал сильный рывок, когда паром занесло и тотчас же накренило на левый бок. Джан Мамад быстро перебрался с одного тюка на другой, чтобы не скатиться в реку а выровнять паром. Волны беспорядочно толклись между воловьими бурдюками и звонко ударяли в них, как в туго натянутые барабаны. Слониха продолжала плыть против течения.
Джан Мамад не отрывал взгляда от второй уцелевшей постромки, натянувшейся под напором воды так, будто слониха тащила за собой батарею тяжелых пушек. И он заметил, что на второй постромке стали расходиться в двух местах шерстяные волокна.
«Только бы осилить главное течение, — думал Джан Мамад, — а там сразу будет полегче. До берега еще останется шагов двести, но течение уже не будет так тянуть и, в случае обрыва, можно прибиться к какой-нибудь заводи».
Джан Мамад стал шестом направлять слониху вправо, чтобы круто выйти из главного потока с бурлящими водоворотами. Слониху продолжало сносить вместе с паромом.
— Ну же, Ситора, скорей, скорей! — торопил он ее. — Иначе мы потопим тюки! А ты знаешь, что тогда сделает со мной уездный начальник?!
В тот миг, когда Джан Мамаду показалось, что Ситора уже вытянула паром из главного течения, лопнула вторая постромка, и паром, будто оттолкнувшись от слонихи, стал быстро удаляться от нее.
 Его завертело водоворотами и накреняло в разные стороны. Тюки стали толкать друг друга, словно затеяли игру — кто кого раньше столкнет в реку.
Джан Мамад попробовал править шестом, чтобы вырваться из потока, но шест, как спичку, выбрасывало на поверхность воды.
— Ситора, назад! Ситора! — закричал Джан Мамад.
Слониха тем временем уже нащупала дно и пробиралась к берегу.
— Назад, назад, Ситора! — продолжал звать ее Джан Мамад.
Он перебирался с тюка на тюк, чтобы выравнивать паром. Это было все, что он мог теперь делать для спасения купеческого товара. Но тюки не унимались. Они так разыгрались, что теперь уже раскачивали мчавшийся паром, как ярмарочные качели.
Ситора, услыхав зов Джан Мамада, снова повернула к середине реки. Ее подхватило потоком и понесло вниз, вслед за паромом.
Там, где река изгибалась, выступала каменистая отмель. Паром несло на нее.
У Джан Мамада возникла надежда:
«Если паром налетит на отмель и его опрокинет, то тюки шерсти задержатся на мелководье и течением их будет прижимать к камням. А тогда с помощью Ситоры их удастся вытащить на отмель. Конечно, если самому уцелеть при этом».
Джан Мамад оглянулся и увидел плывущую слониху. Ситора гребла в потоке всеми четырьмя ногами и поэтому заметно догоняла паром.
— Скорей, Ситора! Скорей! — кричал Джан Мамад.
На повороте реки течение ослабело, и Джан Мамаду удалось воткнуть шест в воду. Зажимая его босой ногой между двумя дощатыми выступами парома, он изо всех сил стал рулить на отмель.
Вблизи отмели паром швырнуло на подводные камни, и бурдюки запрыгали по ним упругими мячами. Паром подбрасывало, точно повозку на ухабах. Но вот его занесло на торчавший из воды камень, вокруг которого пенился буран. Паром запрокинуло набок и стремительно повернуло на камни, как колесо на оси. Тюки шерсти, будто схватившись друг за друга, ринулись в воду. Падая вместе с тюками, Джан Мамад старался отпрыгнуть подальше: он боялся очутиться под ними. Конечно, он мог еще расшибиться о камни, но тогда это не пришло ему в голову.
Джан Мамад попал в яму между камнями. Он коснулся ногами дна, но всплыть не смог. Его держал водоворот. В тот миг, когда он должен был захлебнуться, ему почудилось, что толстая водяная змея схватила его за горло. В ушах у него клокотало и звенело, перед зажмуренными глазами словно повис кумачовый халат. Он еще сознавал, что, если сделает попытку вздохнуть, в горло хлынет вода, и все же он должен был вздохнуть.
Он открыл рот, но вместо воды хлебнул струю воздуха — свежего воздуха!
Водяная змея стала сползать с его шеи. Джан Мамад открыл глаза и увидел себя сидящим на голове слонихи.
Ситора держала хобот перед ним в ожидании сахара. Здесь вода доходила ей чуть выше боков, и она твердо стояла на каменистом дне. Поток, разбивавшийся о каменную гряду, терял здесь силу и, обтекая бока слонихи, пенился не более, чем вода в оросительной канаве.
— Ситора, ох, Ситора! — тихо произнес Джан Мамад, пересаживаясь с головы слонихи на ее шею и поглаживая размягченные водой, порозовевшие складки ее хобота. — Дорого мне приходятся платить тебе за свою жизнь!
Он вынул из кармана два куска промокшего и подтаявшего сахара и взвесил их на ладони. Выбрав кусок побольше, он сунул его в хобот слонихи.
Потом поглядел на отмель. Тюки шерсти, как он я полагал, застряли между камнями, прижатые течением к отмели. Некоторые из них, подмываемые водой, шевелились.
Джан Мамад пересчитал глазами тюки. Одного не хватало.
— Ситора, — сказал он испуганно, — нужно найти этот тюк… — Он стал оглядываться по сторонам. — Ты знаешь, что со мной сделает уездный начальник, если мы не выловим его?! Скорей же, Ситора!
Но слониха повернулась к отмели задом и пошла прямо на берег.
Джан Мамад вытащил из-за пазухи платок, выжал из него воду и потом завернул в него последний промокший кусок сахару.
— Ситора! — просительно сказал он, стараясь ногой повернуть ее назад. — Сделай милость, обойдем вокруг отмели.
Однако слониха, ударяя себя хвостом по бедрам, упрямо продолжала идти к берегу, как будто хотела сказать: «Я спасла тебя из воды, а теперь нужно поскорей спасти от купца и уездного начальника».
Она поднялась на крутой пустынный берег, и перед ней открылась широкая пыльная равнина, поросшая пепельно-жесткой травой и колючками. Вдали паслось большое стадо степных антилоп.
Слониха закинула хобот на лоб и пронзительно затрубила, словно приветствовала их.
Его завертело водоворотами и накреняло в разные стороны. Тюки стали толкать друг друга, словно затеяли игру — кто кого раньше столкнет в реку.
Джан Мамад попробовал править шестом, чтобы вырваться из потока, но шест, как спичку, выбрасывало на поверхность воды.
— Ситора, назад! Ситора! — закричал Джан Мамад.
Слониха тем временем уже нащупала дно и пробиралась к берегу.
— Назад, назад, Ситора! — продолжал звать ее Джан Мамад.
Он перебирался с тюка на тюк, чтобы выравнивать паром. Это было все, что он мог теперь делать для спасения купеческого товара. Но тюки не унимались. Они так разыгрались, что теперь уже раскачивали мчавшийся паром, как ярмарочные качели.
Ситора, услыхав зов Джан Мамада, снова повернула к середине реки. Ее подхватило потоком и понесло вниз, вслед за паромом.
Там, где река изгибалась, выступала каменистая отмель. Паром несло на нее.
У Джан Мамада возникла надежда:
«Если паром налетит на отмель и его опрокинет, то тюки шерсти задержатся на мелководье и течением их будет прижимать к камням. А тогда с помощью Ситоры их удастся вытащить на отмель. Конечно, если самому уцелеть при этом».
Джан Мамад оглянулся и увидел плывущую слониху. Ситора гребла в потоке всеми четырьмя ногами и поэтому заметно догоняла паром.
— Скорей, Ситора! Скорей! — кричал Джан Мамад.
На повороте реки течение ослабело, и Джан Мамаду удалось воткнуть шест в воду. Зажимая его босой ногой между двумя дощатыми выступами парома, он изо всех сил стал рулить на отмель.
Вблизи отмели паром швырнуло на подводные камни, и бурдюки запрыгали по ним упругими мячами. Паром подбрасывало, точно повозку на ухабах. Но вот его занесло на торчавший из воды камень, вокруг которого пенился буран. Паром запрокинуло набок и стремительно повернуло на камни, как колесо на оси. Тюки шерсти, будто схватившись друг за друга, ринулись в воду. Падая вместе с тюками, Джан Мамад старался отпрыгнуть подальше: он боялся очутиться под ними. Конечно, он мог еще расшибиться о камни, но тогда это не пришло ему в голову.
Джан Мамад попал в яму между камнями. Он коснулся ногами дна, но всплыть не смог. Его держал водоворот. В тот миг, когда он должен был захлебнуться, ему почудилось, что толстая водяная змея схватила его за горло. В ушах у него клокотало и звенело, перед зажмуренными глазами словно повис кумачовый халат. Он еще сознавал, что, если сделает попытку вздохнуть, в горло хлынет вода, и все же он должен был вздохнуть.
Он открыл рот, но вместо воды хлебнул струю воздуха — свежего воздуха!
Водяная змея стала сползать с его шеи. Джан Мамад открыл глаза и увидел себя сидящим на голове слонихи.
Ситора держала хобот перед ним в ожидании сахара. Здесь вода доходила ей чуть выше боков, и она твердо стояла на каменистом дне. Поток, разбивавшийся о каменную гряду, терял здесь силу и, обтекая бока слонихи, пенился не более, чем вода в оросительной канаве.
— Ситора, ох, Ситора! — тихо произнес Джан Мамад, пересаживаясь с головы слонихи на ее шею и поглаживая размягченные водой, порозовевшие складки ее хобота. — Дорого мне приходятся платить тебе за свою жизнь!
Он вынул из кармана два куска промокшего и подтаявшего сахара и взвесил их на ладони. Выбрав кусок побольше, он сунул его в хобот слонихи.
Потом поглядел на отмель. Тюки шерсти, как он я полагал, застряли между камнями, прижатые течением к отмели. Некоторые из них, подмываемые водой, шевелились.
Джан Мамад пересчитал глазами тюки. Одного не хватало.
— Ситора, — сказал он испуганно, — нужно найти этот тюк… — Он стал оглядываться по сторонам. — Ты знаешь, что со мной сделает уездный начальник, если мы не выловим его?! Скорей же, Ситора!
Но слониха повернулась к отмели задом и пошла прямо на берег.
Джан Мамад вытащил из-за пазухи платок, выжал из него воду и потом завернул в него последний промокший кусок сахару.
— Ситора! — просительно сказал он, стараясь ногой повернуть ее назад. — Сделай милость, обойдем вокруг отмели.
Однако слониха, ударяя себя хвостом по бедрам, упрямо продолжала идти к берегу, как будто хотела сказать: «Я спасла тебя из воды, а теперь нужно поскорей спасти от купца и уездного начальника».
Она поднялась на крутой пустынный берег, и перед ней открылась широкая пыльная равнина, поросшая пепельно-жесткой травой и колючками. Вдали паслось большое стадо степных антилоп.
Слониха закинула хобот на лоб и пронзительно затрубила, словно приветствовала их.
* * *
Джан Мамад с трудом преодолел высокий перевал, где слониха скользила по снегу, превратившемуся на солнце в ледяную кору. Теперь он спускался с очень крутого склона по тропе, петлявшей среди крупной каменной осыпи. Далеко внизу виднелась сдавленная горами долина, а за узким пенистым потоком на вершине холма был едва приметен караван-сарай с зубчатыми стенами и круглыми башнями по четырем углам. Слониха медленно спускалась по тропе, ощупывая хоботом каждый камень и ставя передние ноги на наиболее надежные из них. Задними ногами она осторожно задерживала стремительность спуска, из-под них сыпались камни и с грохотом безудержно катились вниз. Джан Мамад сидел на шее слонихи, подостлав под себя коврик. У него ломило все тело и горела спина, на которой еще не зажили рубцы. Один из них гноился, и к нему прилипала рубаха. Всего было тридцать девять ударов розгами. Но он сосчитал только до тридцать пятого. Он не помнил, как его принесли на носилках со двора уездного начальника в камышовый шалаш на берегу реки. Там он отлеживался недели две. Его кормили случайные путники. Они приходили к переправе и, не находя парома, уходили вниз по реке, где на расстоянии двухдневного перехода отыскивали среди отмелей брод. Слониха, предоставленная самой себе, целыми днями паслась в камышах, а по вечерам приходила на водопой и оставалась ночевать возле Джан Мамада. Она каждый раз просовывала в шалаш хобот, чтобы удостовериться: там ли он. И Джан Мамаду было приятно, когда она после водопоя касалась влажным и прохладным хоботом его разгоряченного лба. Спала слониха на песке у самого шалаша. Силы позволяли Джан Мамаду держаться за веревку, привязанную к вьючному седлу слонихи, однако спускаться пешком по такой круче ему было невмоготу. — Ты потише, Ситора! — просил он слониху, когда ее заносило на осыпавшихся камнях. — Худо мне, Ситора. Ох, как худо! Конечно, и тебе нелегко. Но вот уже виден караван-сарай. Там я тебя покормлю, и мы отдохнем. А потом снова в путь. Нельзя нам в каждом караван-сарае останавливаться на ночевку: не хватит денег прокормить тебя до Кабула. Джан Мамад пощупал у себя за пазухой тряпичный кошелек, чтобы еще раз проверить, цел ли он. В кошельке хранились мелкие монеты, полученные от купцов за разные услуги.
Уездный начальник не заплатил ему жалованья. Он написал в Кабул городскому голове, что весь доход от парома вместе с жалованьем Джан Мамада пошел на покрытие убытка купцу, у которого тюки шерсти, по ниспосланной милости божьей, задержались возле каменной отмели, но сильно подмокли, потому что пролежали в воде, пока не схлынуло наводнение.
Уездный начальник извинялся еще перед городским головой в выражениях теплоты и сердечности, не подрывавших, однако, и его служебного положения, за то, что должен был отказаться от слона и вернуться к лошадиной тяге. Он объяснял это тем, что слон неповоротлив и требует больших расходов на веревки, которые быстро истлевают в воде. Что же до лошади, то хотя она и может тянуть значительно меньше поклажи, но зато не нуждается в веревках, так как лошадь привязывают к парому ее же собственным хвостом и еще ни разу не было случая, чтобы у нее отрывался хвост.
Спустившись в долину, слониха, по обыкновению, перешла вброд мелкий, но быстро мчавшийся поток, так как не доверяла ни одному мостику, встречавшемуся ей на пути. Она поднялась на холм и сама остановилась у ворот караван-сарая. Хотя ворота и были достаточно высоки, но она могла пройти только без седока. Не дожидаясь приказания Джан Мамада, она легла перед воротами. Обычно, когда ему нужно было спускаться на землю, он легко спрыгивал с ее шеи, несмотря на свои годы. Но сейчас Джан Мамад осторожно спустился сначала на ее правое колено, как на ступеньку, и, прежде чем стать на землю, снял со слонихи коврик, переметную суму с пожитками и вьючное седло.
— Добрый хозяин, — обратился Джан Мамад к содержателю караван-сарая, когда ввел Ситору во двор, — пшеничной соломы для божьей твари, а мне чаю и лепешку!
Джан Мамад пощупал у себя за пазухой тряпичный кошелек, чтобы еще раз проверить, цел ли он. В кошельке хранились мелкие монеты, полученные от купцов за разные услуги.
Уездный начальник не заплатил ему жалованья. Он написал в Кабул городскому голове, что весь доход от парома вместе с жалованьем Джан Мамада пошел на покрытие убытка купцу, у которого тюки шерсти, по ниспосланной милости божьей, задержались возле каменной отмели, но сильно подмокли, потому что пролежали в воде, пока не схлынуло наводнение.
Уездный начальник извинялся еще перед городским головой в выражениях теплоты и сердечности, не подрывавших, однако, и его служебного положения, за то, что должен был отказаться от слона и вернуться к лошадиной тяге. Он объяснял это тем, что слон неповоротлив и требует больших расходов на веревки, которые быстро истлевают в воде. Что же до лошади, то хотя она и может тянуть значительно меньше поклажи, но зато не нуждается в веревках, так как лошадь привязывают к парому ее же собственным хвостом и еще ни разу не было случая, чтобы у нее отрывался хвост.
Спустившись в долину, слониха, по обыкновению, перешла вброд мелкий, но быстро мчавшийся поток, так как не доверяла ни одному мостику, встречавшемуся ей на пути. Она поднялась на холм и сама остановилась у ворот караван-сарая. Хотя ворота и были достаточно высоки, но она могла пройти только без седока. Не дожидаясь приказания Джан Мамада, она легла перед воротами. Обычно, когда ему нужно было спускаться на землю, он легко спрыгивал с ее шеи, несмотря на свои годы. Но сейчас Джан Мамад осторожно спустился сначала на ее правое колено, как на ступеньку, и, прежде чем стать на землю, снял со слонихи коврик, переметную суму с пожитками и вьючное седло.
— Добрый хозяин, — обратился Джан Мамад к содержателю караван-сарая, когда ввел Ситору во двор, — пшеничной соломы для божьей твари, а мне чаю и лепешку!
 Содержатель караван-сарая, худощавый, с жидкой бороденкой, отозвался не сразу Он затянул туже грязную чалму и нехотя поднялся с циновки, на которой лежал.
— Соломы нет, — сказал он. — Последнюю верблюдам скормил.
Он показал на верблюдов, стоявших и лежавших во дворе. Это был единственный караван, остановившийся у него.
— Но если дашь денег вперед, — продолжал содержатель караван-сарая, — я поеду за соломой в селение. Тут неподалеку.
Джан Мамад отсчитал ему несколько медяков.
— Эй, бача! — позвал содержатель караван-сарая мальчика, который стоял возле слонихи, не отрывая от нее глаз. — Чем смотреть на слона, лучше посматривай на самовар. Скоро закипит.
Он оседлал старую, облезлую ослицу, понуро стоявшую у пустой кормушки, и выехал со двора.
Джан Мамад привязал слониху на цепь к одному из кольев, тянувшихся вдоль высокой стены, и прилег на глинобитный настил, покрытый циновками. Там в полуденный зной спали погонщики верблюдов. Джан Мамад неподвижно лежал на боку, пока мальчик не подал ему чаю.
Содержатель караван-сарая пригнал назад ослицу, навьюченную соломой. Куль соломы, покачивавшийся поперек ее вьючного седла, был раза в три больше ее самой.
Джан Мамад помог хозяину вытряхнуть перед слонихой полкуля соломы.
От соломы пахло затхлостью и прелью, но голодная слониха стала жадно загребать ее хоботом. Подошел рослый верблюд и протянул к ее корму шею, на которой болталась пустая торба из-под джугары. Слониха тряхнула головой и нанесла ему хоботом удар по шее снизу. Верблюд отпрянул и стал злобно переминаться с ноги на ногу. Он долго фыркал, разбрызгивая пену, и не мог успокоиться.
И тут к вороху соломы осторожно направилась ослица. Ноздри у нее были надрезаны для облегчения дыхания, как у всех ослов, перевозящих вьюки по горным дорогам. Она широко раздувала их, вдыхая запах прелой соломы.
— Хозяин, — сказал Джан Мамад содержателю караван-сарая, — привяжи-ка поскорей свою ослицу к кормушке.
— А что у тебя убудет, если ослица и перехватит горсть твоей соломы? — отозвался содержатель караван-сарая, подкладывавший в самовар маленькие чурки.
— У меня ничего не убудет, а вот у тебя убудет ослица: кусков не соберешь…
Джан Мамад кинулся к ослице, чтобы остановить ее, но не успел… Ослица подошла к вороху соломы и опустила в него морду.
Слониха помотала головой, готовясь к размашистому удару, но в следующее мгновение передумала и осторожно дотронулась хоботом до головы ослицы. Она обнюхала ее уши, потом спину и хвост. Оставшись, видимо, довольной новым знакомством, слониха запустила хобот в солому, как бы приглашая гостью к еде.
Содержатель караван-сарая, худощавый, с жидкой бороденкой, отозвался не сразу Он затянул туже грязную чалму и нехотя поднялся с циновки, на которой лежал.
— Соломы нет, — сказал он. — Последнюю верблюдам скормил.
Он показал на верблюдов, стоявших и лежавших во дворе. Это был единственный караван, остановившийся у него.
— Но если дашь денег вперед, — продолжал содержатель караван-сарая, — я поеду за соломой в селение. Тут неподалеку.
Джан Мамад отсчитал ему несколько медяков.
— Эй, бача! — позвал содержатель караван-сарая мальчика, который стоял возле слонихи, не отрывая от нее глаз. — Чем смотреть на слона, лучше посматривай на самовар. Скоро закипит.
Он оседлал старую, облезлую ослицу, понуро стоявшую у пустой кормушки, и выехал со двора.
Джан Мамад привязал слониху на цепь к одному из кольев, тянувшихся вдоль высокой стены, и прилег на глинобитный настил, покрытый циновками. Там в полуденный зной спали погонщики верблюдов. Джан Мамад неподвижно лежал на боку, пока мальчик не подал ему чаю.
Содержатель караван-сарая пригнал назад ослицу, навьюченную соломой. Куль соломы, покачивавшийся поперек ее вьючного седла, был раза в три больше ее самой.
Джан Мамад помог хозяину вытряхнуть перед слонихой полкуля соломы.
От соломы пахло затхлостью и прелью, но голодная слониха стала жадно загребать ее хоботом. Подошел рослый верблюд и протянул к ее корму шею, на которой болталась пустая торба из-под джугары. Слониха тряхнула головой и нанесла ему хоботом удар по шее снизу. Верблюд отпрянул и стал злобно переминаться с ноги на ногу. Он долго фыркал, разбрызгивая пену, и не мог успокоиться.
И тут к вороху соломы осторожно направилась ослица. Ноздри у нее были надрезаны для облегчения дыхания, как у всех ослов, перевозящих вьюки по горным дорогам. Она широко раздувала их, вдыхая запах прелой соломы.
— Хозяин, — сказал Джан Мамад содержателю караван-сарая, — привяжи-ка поскорей свою ослицу к кормушке.
— А что у тебя убудет, если ослица и перехватит горсть твоей соломы? — отозвался содержатель караван-сарая, подкладывавший в самовар маленькие чурки.
— У меня ничего не убудет, а вот у тебя убудет ослица: кусков не соберешь…
Джан Мамад кинулся к ослице, чтобы остановить ее, но не успел… Ослица подошла к вороху соломы и опустила в него морду.
Слониха помотала головой, готовясь к размашистому удару, но в следующее мгновение передумала и осторожно дотронулась хоботом до головы ослицы. Она обнюхала ее уши, потом спину и хвост. Оставшись, видимо, довольной новым знакомством, слониха запустила хобот в солому, как бы приглашая гостью к еде.

 Джан Мамад, схвативший было ослицу за шею, чтобы оттащить в сторону, оторопел, увидев столь радушный жест голодной слонихи, и оставил ослицу есть солому.
«Вот еще что взбрело в голову этому невеже! — подумал он, оглянувшись на содержателя караван-сарая. — Жаль мне, что ли, соломы ослице? Пусть угощает ее Ситора. Скучно ведь ей одной в дороге».
Ослица насытилась задолго до того, как Ситора прикончила ворох соломы. Она сначала почесала свой полуоблезший бок о переднюю ногу слонихи, как о корявый столб, а затем стала дремать возле нее, поджимая по очереди задние ноги с опухшими голенями.
Ситора после еды стала собирать остатки соломы вместе с землей и закидывать себе на спину. Потом она ощупала хоботом спину ослицы и тоже стала обсыпать ее соломой, как это делала бы со своим слоненком. — Ну, старуха, теперь в путь, — сказал Джан Мамад, подходя к слонихе.
Он положил ее, смел метлой со спины соломенную труху, потом навьючил на слониху свои пожитки и оставшиеся полкуля соломы.
Но когда Джан Мамад повел Ситору к воротам, она сделала несколько шагов и остановилась. Медленно повернувшись, она подошла к ослице и обхватила ее хоботом за шею, как бы не желая с ней расставаться.
— Полно тебе, старуха, — сказал Джан Мамад, возвращаясь к слонихе. — И чего ты нашла хорошего в этой облезшей твари?
Он почесал ее за ухом. Но слониха даже не оттопырила его, как делала это обычно, выражая свое удовольствие. Тогда он почесал ей язык, но и это не помогло.
— Эй, хозяин! — кликнул Джан Мамад содержателя караван-сарая. — Выведи-ка за ворота свою живую падаль! А то, видишь, слониха так подружилась с ней, что не пойдет со двора, и тебе придется обеих взять на содержание. Из одной пустой кормушки будешь кормить ослицу, а из другой порожней — слониху.
Содержатель караван-сарая приказал мальчику вывести со двора ослицу, и слониха тотчас же вышла за ней следом.
— Ну, Ситора, теперь надо торопиться, чтобы засветло добраться до ночлега, — сказал Джан Мамад. — И, пожалуйста, оставь свои прихоти. Очень прошу оставить их.
Джан Мамад не стал садиться на слониху. Он хотел сначала напоить ее в речке, прежде чем пуститься в путь. Он взял Ситору под хобот, намереваясь спуститься с холма по крутой тропе. Но слониха не двигалась с места и не поддавалась его уговорам.
Тогда Джан Мамад вынул из кармана платок, в котором был завернут последний кусок сахару, промокший когда-то в реке.
Джан Мамад сунул этот сахар слонихе в хобот:
— Теперь ты пойдешь со мной, Ситора. Я знаю, ты пойдешь со мной… Дорого же ты обходишься мне, Ситора!
Слониха взяла сахар, попятилась назад и сделала приседание. И Джан Мамаду показалось, что она сделала приседание ослице. Но когда Ситора подошла к ней и помахала над ее головой хоботом, у Джан Мамада уже не оставалось сомнения на этот счет.
Слониха бросила перед мордой ослицы полученный кусок сахару. Да, Джан Мамад видел, как кусок сахару — самое любимое лакомство слонихи — лежал на земле и к нему тянулась ослица, сопя ноздрями! Ослица подхватила сахар волосатыми, дряблыми губами и стала грызть его, обнажая пожелтевшие от старости зубы.
Джан Мамад поднял валявшуюся на земле суковатую ветвь арчи и замахнулся над спиной ослицы. Ветвь разрезала воздух, и Джан Мамаду вспомнился свист розги над его собственной спиной. Он даже почувствовал, как на спине заныл гноившийся рубец.
— Дяденька, дяденька, не бейте ее! — закричал мальчик, выбежавший из караван-сарая. — Она не виновата, дяденька! Она совсем не виновата!
Джан Мамад отбросил ветвь арчи и крепко выругался.
Ослица, привыкшая к тому, что если над ней заносят палку, то она непременно опускается на ее ребра, шарахнулась назад и быстро засеменила во двор.
— Заприте за ней ворота! Заприте ворота! — закричал Джан Мамад содержателю караван-сарая, который, стоя у порога, от души смеялся над приседанием слонихи.
Как только ослица забежала во двор, содержатель караван-сарая вместе с мальчиком поспешно закрыл тяжелые деревянные створы ворот, обитые коваными железными полосами. Через оставшуюся щель видно было, как хозяин накинул на крюк железную цепь.
Слониха не сразу повернула назад. Она подобрала с земли суковатую ветвь и ею почесала себе под брюхом. Неторопливо подойдя к воротам, она сначала ощупала их хоботом, а потом приладилась к ним лбом.
Ворота затрещали, цепь с визгом натянулась и обломила крюк. Раздвигая створы своим телом, Ситора вошла во двор.
Содержатель караван-сарая спрятался за кипящим самоваром. Джан Мамад привязал слониху к двум кольям и потребовал, чтобы мальчик отвел ослицу к дальней кормушке.
Джан Мамад надеялся, что если Ситора переспит ночь в отдалении от ослицы, то наутро у нее могут остыть непомерно горячие чувства к новой подруге. Весь день он был мрачен, а вечером, когда в горном небе высыпали звезды, крупные, как горох, он лег на походную кровать и закурил банг.
Погонщики, бранясь между собой из-за каждого лишнего фунта поклажи, навьючили верблюдов и с наступлением ночной прохлады ушли из караван-сарая. Наступила тишина, и только долго еще не смолкал удалявшийся перезвон верблюжьих колокольцев по кабульской дороге.
— Ох, Ситора, — заговорил Джан Мамад после третьей затяжки, — мы бы сейчас тоже с тобой шли в Кабул, если бы ты подружилась с верблюдом, а не с этой зловонной потаскухой! И какую красоту нашла в ней? Репу за гранат приняла! — Он залился отрывистым, хриплым смехом. — Ходишь за ней, как собака за костью, а дружбу со мной высморкала из хобота. Да, больше тридцати лет вместе… и вдруг так сразу…
Наступило молчание.
— Но ты пойдешь со мной, Ситора! — снова заговорил Джан Мамад, затягиваясь дымом банга. — Хоть ты и большая и сильная, а пойдешь за мной, потому что человек сильнее тебя. Вот возьми, к примеру, у нас, в горах, Рауф-бая. Он и богат и силен. А сильный человек все может сделать. Рауф-бай дом у меня отнял. Некуда было жену привести…
Джан Мамад прислушался к звучавшему издалека перезвону колокольцев и протяжно запел:
Джан Мамад, схвативший было ослицу за шею, чтобы оттащить в сторону, оторопел, увидев столь радушный жест голодной слонихи, и оставил ослицу есть солому.
«Вот еще что взбрело в голову этому невеже! — подумал он, оглянувшись на содержателя караван-сарая. — Жаль мне, что ли, соломы ослице? Пусть угощает ее Ситора. Скучно ведь ей одной в дороге».
Ослица насытилась задолго до того, как Ситора прикончила ворох соломы. Она сначала почесала свой полуоблезший бок о переднюю ногу слонихи, как о корявый столб, а затем стала дремать возле нее, поджимая по очереди задние ноги с опухшими голенями.
Ситора после еды стала собирать остатки соломы вместе с землей и закидывать себе на спину. Потом она ощупала хоботом спину ослицы и тоже стала обсыпать ее соломой, как это делала бы со своим слоненком. — Ну, старуха, теперь в путь, — сказал Джан Мамад, подходя к слонихе.
Он положил ее, смел метлой со спины соломенную труху, потом навьючил на слониху свои пожитки и оставшиеся полкуля соломы.
Но когда Джан Мамад повел Ситору к воротам, она сделала несколько шагов и остановилась. Медленно повернувшись, она подошла к ослице и обхватила ее хоботом за шею, как бы не желая с ней расставаться.
— Полно тебе, старуха, — сказал Джан Мамад, возвращаясь к слонихе. — И чего ты нашла хорошего в этой облезшей твари?
Он почесал ее за ухом. Но слониха даже не оттопырила его, как делала это обычно, выражая свое удовольствие. Тогда он почесал ей язык, но и это не помогло.
— Эй, хозяин! — кликнул Джан Мамад содержателя караван-сарая. — Выведи-ка за ворота свою живую падаль! А то, видишь, слониха так подружилась с ней, что не пойдет со двора, и тебе придется обеих взять на содержание. Из одной пустой кормушки будешь кормить ослицу, а из другой порожней — слониху.
Содержатель караван-сарая приказал мальчику вывести со двора ослицу, и слониха тотчас же вышла за ней следом.
— Ну, Ситора, теперь надо торопиться, чтобы засветло добраться до ночлега, — сказал Джан Мамад. — И, пожалуйста, оставь свои прихоти. Очень прошу оставить их.
Джан Мамад не стал садиться на слониху. Он хотел сначала напоить ее в речке, прежде чем пуститься в путь. Он взял Ситору под хобот, намереваясь спуститься с холма по крутой тропе. Но слониха не двигалась с места и не поддавалась его уговорам.
Тогда Джан Мамад вынул из кармана платок, в котором был завернут последний кусок сахару, промокший когда-то в реке.
Джан Мамад сунул этот сахар слонихе в хобот:
— Теперь ты пойдешь со мной, Ситора. Я знаю, ты пойдешь со мной… Дорого же ты обходишься мне, Ситора!
Слониха взяла сахар, попятилась назад и сделала приседание. И Джан Мамаду показалось, что она сделала приседание ослице. Но когда Ситора подошла к ней и помахала над ее головой хоботом, у Джан Мамада уже не оставалось сомнения на этот счет.
Слониха бросила перед мордой ослицы полученный кусок сахару. Да, Джан Мамад видел, как кусок сахару — самое любимое лакомство слонихи — лежал на земле и к нему тянулась ослица, сопя ноздрями! Ослица подхватила сахар волосатыми, дряблыми губами и стала грызть его, обнажая пожелтевшие от старости зубы.
Джан Мамад поднял валявшуюся на земле суковатую ветвь арчи и замахнулся над спиной ослицы. Ветвь разрезала воздух, и Джан Мамаду вспомнился свист розги над его собственной спиной. Он даже почувствовал, как на спине заныл гноившийся рубец.
— Дяденька, дяденька, не бейте ее! — закричал мальчик, выбежавший из караван-сарая. — Она не виновата, дяденька! Она совсем не виновата!
Джан Мамад отбросил ветвь арчи и крепко выругался.
Ослица, привыкшая к тому, что если над ней заносят палку, то она непременно опускается на ее ребра, шарахнулась назад и быстро засеменила во двор.
— Заприте за ней ворота! Заприте ворота! — закричал Джан Мамад содержателю караван-сарая, который, стоя у порога, от души смеялся над приседанием слонихи.
Как только ослица забежала во двор, содержатель караван-сарая вместе с мальчиком поспешно закрыл тяжелые деревянные створы ворот, обитые коваными железными полосами. Через оставшуюся щель видно было, как хозяин накинул на крюк железную цепь.
Слониха не сразу повернула назад. Она подобрала с земли суковатую ветвь и ею почесала себе под брюхом. Неторопливо подойдя к воротам, она сначала ощупала их хоботом, а потом приладилась к ним лбом.
Ворота затрещали, цепь с визгом натянулась и обломила крюк. Раздвигая створы своим телом, Ситора вошла во двор.
Содержатель караван-сарая спрятался за кипящим самоваром. Джан Мамад привязал слониху к двум кольям и потребовал, чтобы мальчик отвел ослицу к дальней кормушке.
Джан Мамад надеялся, что если Ситора переспит ночь в отдалении от ослицы, то наутро у нее могут остыть непомерно горячие чувства к новой подруге. Весь день он был мрачен, а вечером, когда в горном небе высыпали звезды, крупные, как горох, он лег на походную кровать и закурил банг.
Погонщики, бранясь между собой из-за каждого лишнего фунта поклажи, навьючили верблюдов и с наступлением ночной прохлады ушли из караван-сарая. Наступила тишина, и только долго еще не смолкал удалявшийся перезвон верблюжьих колокольцев по кабульской дороге.
— Ох, Ситора, — заговорил Джан Мамад после третьей затяжки, — мы бы сейчас тоже с тобой шли в Кабул, если бы ты подружилась с верблюдом, а не с этой зловонной потаскухой! И какую красоту нашла в ней? Репу за гранат приняла! — Он залился отрывистым, хриплым смехом. — Ходишь за ней, как собака за костью, а дружбу со мной высморкала из хобота. Да, больше тридцати лет вместе… и вдруг так сразу…
Наступило молчание.
— Но ты пойдешь со мной, Ситора! — снова заговорил Джан Мамад, затягиваясь дымом банга. — Хоть ты и большая и сильная, а пойдешь за мной, потому что человек сильнее тебя. Вот возьми, к примеру, у нас, в горах, Рауф-бая. Он и богат и силен. А сильный человек все может сделать. Рауф-бай дом у меня отнял. Некуда было жену привести…
Джан Мамад прислушался к звучавшему издалека перезвону колокольцев и протяжно запел:

 Мальчик достал из-за пазухи подаренную ему лепешку, отломил половину и накрошил ее себе в подол рубахи. Потом поднес подол к морде ослицы, как торбу. Пока ослица подбирала хлебное крошево, он пугливо оглядывался в сторону хозяина.
Джан Мамад, закончив сборы, торопливо привязал к шее ослицы веревку и повел ослицу со двора.
Слониха пошла за ней, положив хобот на ее круп, как слепец, доверчиво кладущий руку на плечо поводыря.
Мальчик хотел выбежать за ворота, но его окликнул хозяин.
Мальчик достал из-за пазухи подаренную ему лепешку, отломил половину и накрошил ее себе в подол рубахи. Потом поднес подол к морде ослицы, как торбу. Пока ослица подбирала хлебное крошево, он пугливо оглядывался в сторону хозяина.
Джан Мамад, закончив сборы, торопливо привязал к шее ослицы веревку и повел ослицу со двора.
Слониха пошла за ней, положив хобот на ее круп, как слепец, доверчиво кладущий руку на плечо поводыря.
Мальчик хотел выбежать за ворота, но его окликнул хозяин.
* * *
Городской голова не обрадовался возвращению в Кабул слонихи. Виновником случившегося он считал Джан Мамада, и это его роднило во взглядах с уездным начальником. Однако между ним и уездным начальником наметились и расхождения, касавшиеся размера причиненных купцу убытков от порчи шерсти. Городскому голове казалось, что одного жалованья Джан Мамада было бы достаточно для возмещения всех убытков, и он послал уездному начальнику письмо с быстротой, значительно опережавшей те письма, которые он посылал в ответ на заявления просителей. Он требовал от уездного начальника возвращения всего дохода, полученного от парома со слоновьей тягой, хотя и знал заранее, что вместо денег ему будет прислана длинная опись понесенных купцом убытков, заверенная печатью местного судьи. В свою загородную усадьбу городской голова больше не пустил слониху. Он выбрал для нее место за колючей проволокой некогда укрепленного лагеря, где еще сохранились остатки гарнизонной конюшни с массивными воротами. Слониха по-прежнему оставалась на попечении Джан Мамада. Но теперь у Джан Мамада прибавился и нахлебник, на содержание которого муниципалитет не отпускал ни одного гроша. Таким образом, ему приходилось кормить ослицу на собственное жалованье, так как слониха ни за что не хотела расставаться с ней. Стояли теплые осенние ночи, и Джан Мамад спал во дворе под навесом, на своей походной кровати. Только теперь заплатанную парусину он покрывал не ковриком, а рогожей. К тому времени в Кабуле начали прокладывать к королевскому дворцу широкую улицу Дар-уль-Аман, и городской голова приказал запрягать слониху в каток для выравнивания щебня. Каток был сделан из ствола векового платана и был так тяжел, что для этой работы пришлось бы нанимать с полсотни чернорабочих. Ситора соглашалась выходить на работу только вместе с ослицей. Джан Мамад оставлял ослицу на обочине дороги в том месте, где работал, и ослица никуда не уходила. А слониха, волоча за собой скрипучий каток, изредка останавливалась возле нее, чтобы обнюхать или почесать себе кончик хобота о ее бок. Однажды выдался жаркий день. В застоявшемся пыльном воздухе едва заметно плавала паутина. Из огромного котла, где дымился асфальт, разливался удушливый запах. Ослица, как обычно, стояла на солнцепеке и отмахивалась ушами и хвостом от вялых осенних мух. Джан Мамад, начавший работу с восходом солнца, от усталости шаркал ногами, не поспевая за шагом слонихи. Он с нетерпением ждал, когда муэдзины призовут верующих на полуденную молитву, чтобы передохнуть и позавтракать лепешкой с ягодами придорожной шелковицы. Поравнявшись с ослицей, Ситора остановилась, забросила себе на спину горсть пыли, а затем посыпала пылью облысевшую спину ослицы. Пыль, медленно оседая, покрыла вспотевшее лицо Джан Мамада и запорошила ему глаза. Джан Мамад почувствовал, как гневная муть подступила к горлу, вызывая легкую тошноту. Он поднял булыжник и шагнул к ослице.
И тут ему вспомнился мальчик в караван-сарае, который упрашивал его: «Дяденька, не бейте ее. Она не виновата».
Джан Мамад отвернулся от ослицы, разжал кулак и бросил булыжник под каток, который с тягучим скрипом уже потащила слониха.
За поворотом улицы послышался сигнал, и показался автомобиль. Автомобиль мчался на караван ослов, навьюченных речной галькой. Сигнал вспугнул караван, и ослы побежали. Когда автомобиль стал настигать их, они пустились вскачь, не сворачивая в стороны и вытряхивая из мешков гальку. И галька сыпалась на дорогу каменным градом.
Автомобиль продолжал мчаться, не сбавляя скорости. В нем ехал городской голова. Ослы проскакали галопом мимо Джан Мамада и плотной лавиной увлекли за собой одиноко стоявшую ослицу.
Когда клубы пыли, оставленные автомобилем, рассеялись, Джан Мамад увидел ослицу, лежавшую на дороге. Судорожно брыкая воздух копытами, она делала попытки встать.
Джан Мамад помог ей подняться. Должно быть, автомобиль сильно задел ее, потому что кожа на левом боку и бедре была ободрана полосами. Ослица дрожала, приседая на задние ноги.
Слониха обнюхала ее раны и стала осыпать их пылью. Джан Мамад отвел ослицу в тень придорожного дерева и вернулся назад.
— Ну, трогай! — сердито приказал он слонихе.
Поворачивая ее за ухо, он поглядел в ту сторону, куда скрылся автомобиль, и сплюнул.
В этот день Джан Мамаду показалось, что Ситора работала лениво и все норовила подойти к тому дереву, где стояла ослица. Поэтому он еще до захода солнца выпряг ее из катка. Однако домой Джан Мамад вернулся поздно, так как ослица сильно хромала и часто надолго останавливалась.
Добредя до своей кормушки, ослица не притронулась к соломе, а тут же легла в стойле слонихи. Она только жадно выпила полведра воды, которую ей принес Джан Мамад, и весь вечер полулежала неподвижно. А когда наступила полночь, она вытянула шею, чтобы зареветь, но вместо рева выдавила из горла только отрывистую икоту.
Поравнявшись с ослицей, Ситора остановилась, забросила себе на спину горсть пыли, а затем посыпала пылью облысевшую спину ослицы. Пыль, медленно оседая, покрыла вспотевшее лицо Джан Мамада и запорошила ему глаза. Джан Мамад почувствовал, как гневная муть подступила к горлу, вызывая легкую тошноту. Он поднял булыжник и шагнул к ослице.
И тут ему вспомнился мальчик в караван-сарае, который упрашивал его: «Дяденька, не бейте ее. Она не виновата».
Джан Мамад отвернулся от ослицы, разжал кулак и бросил булыжник под каток, который с тягучим скрипом уже потащила слониха.
За поворотом улицы послышался сигнал, и показался автомобиль. Автомобиль мчался на караван ослов, навьюченных речной галькой. Сигнал вспугнул караван, и ослы побежали. Когда автомобиль стал настигать их, они пустились вскачь, не сворачивая в стороны и вытряхивая из мешков гальку. И галька сыпалась на дорогу каменным градом.
Автомобиль продолжал мчаться, не сбавляя скорости. В нем ехал городской голова. Ослы проскакали галопом мимо Джан Мамада и плотной лавиной увлекли за собой одиноко стоявшую ослицу.
Когда клубы пыли, оставленные автомобилем, рассеялись, Джан Мамад увидел ослицу, лежавшую на дороге. Судорожно брыкая воздух копытами, она делала попытки встать.
Джан Мамад помог ей подняться. Должно быть, автомобиль сильно задел ее, потому что кожа на левом боку и бедре была ободрана полосами. Ослица дрожала, приседая на задние ноги.
Слониха обнюхала ее раны и стала осыпать их пылью. Джан Мамад отвел ослицу в тень придорожного дерева и вернулся назад.
— Ну, трогай! — сердито приказал он слонихе.
Поворачивая ее за ухо, он поглядел в ту сторону, куда скрылся автомобиль, и сплюнул.
В этот день Джан Мамаду показалось, что Ситора работала лениво и все норовила подойти к тому дереву, где стояла ослица. Поэтому он еще до захода солнца выпряг ее из катка. Однако домой Джан Мамад вернулся поздно, так как ослица сильно хромала и часто надолго останавливалась.
Добредя до своей кормушки, ослица не притронулась к соломе, а тут же легла в стойле слонихи. Она только жадно выпила полведра воды, которую ей принес Джан Мамад, и весь вечер полулежала неподвижно. А когда наступила полночь, она вытянула шею, чтобы зареветь, но вместо рева выдавила из горла только отрывистую икоту.
 Джан Мамад, лежа под навесом и ворочаясь от бессонницы, видел, как Ситора, слегка нажав на ослицу хоботом, положила ее на здоровый бок. И Джан Мамад понял, что она это сделала, чтобы уберечь ослицу от пролежней.
Ослица растянулась поперек стойла, и Ситора всю ночь простояла на трех ногах, как случалось ей простаивать, когда Джан Мамад скатывался с кровати к ней под ноги.
Утром Джан Мамад ушел на базар и вернулся с коновалом.
Ситора, издавая угрожающие крики, не подпустила его к ослице.
Глядя издали на ослицу, коновал сказал Джан Мамаду:
— Тебе надо было звать не меня, а живодера. Живодер покупает кожу с живого осла, а не с дохлого. — Он сочувственно покачал головой. — Лекарства не дам — жаль твоих денег.
После его ухода Джан Мамад нарезал ломтиками стебель сахарного тростника, который купил на базаре у кондитера, и, разделив на две части, одну положил перед мордой ослицы, а другую насыпал слонихе в корзину.
Ослица обнюхала редкостное угощение, но не притронулась к нему. Она отвернула голову и полулежа стала дремать, то вскидывая, то низко опуская голову, едва не касаясь земли обвисшими губами.
Ситора съела свою часть и потянулась хоботом к кучке, лежавшей перед ослицей. Она перещупала каждый ломтик тростника, но, не взяв ни одного, принялась жевать свою солому. Только изредка она позволяла себе дотрагиваться до них, вероятно для того, чтобы запах сахарного тростника скрашивал вкус соломы. Но один раз она задержала хобот над ломтиком, из которого выступил сгусток липкого сладкого сока. Ситора подняла этот ломтик, помяла немного в хоботе и уже собралась отправить его в рот, как услышала окрик Джан Мамада:
— Положи назад! Ишь, ненасытная!
Ситора тотчас же отбросила лакомство и отступила на шаг, как бы подальше от соблазна. Запустив хобот в солому, она стала шарить в ней, будто искала что-то более вкусное.
Прошло два дня. Ослица не могла встать на ноги, а Ситора не желала без нее выходить на работу.
Перед вечерней молитвой пришел домоправитель городского головы. На нем была серая шелковая чалма и кожаные калоши, расшитые золотой канителью.
— Эй, Джан Мамад! — сказал он, входя во двор. — Городской голова приказал завтра с утра вывести слониху на работу. А если не выведешь, он тебя самого прикажет запрячь в каток и весь день погонять нагайками. А слонихе ни одного пучка соломы не отпустит.
— Чем злыми словами колоть, — сказал Джан Мамад, — лучше бы городской голова прислал лекарство ослице, которую покалечил. Без нее слониха никуда не пойдет.
Джан Мамад, лежа под навесом и ворочаясь от бессонницы, видел, как Ситора, слегка нажав на ослицу хоботом, положила ее на здоровый бок. И Джан Мамад понял, что она это сделала, чтобы уберечь ослицу от пролежней.
Ослица растянулась поперек стойла, и Ситора всю ночь простояла на трех ногах, как случалось ей простаивать, когда Джан Мамад скатывался с кровати к ней под ноги.
Утром Джан Мамад ушел на базар и вернулся с коновалом.
Ситора, издавая угрожающие крики, не подпустила его к ослице.
Глядя издали на ослицу, коновал сказал Джан Мамаду:
— Тебе надо было звать не меня, а живодера. Живодер покупает кожу с живого осла, а не с дохлого. — Он сочувственно покачал головой. — Лекарства не дам — жаль твоих денег.
После его ухода Джан Мамад нарезал ломтиками стебель сахарного тростника, который купил на базаре у кондитера, и, разделив на две части, одну положил перед мордой ослицы, а другую насыпал слонихе в корзину.
Ослица обнюхала редкостное угощение, но не притронулась к нему. Она отвернула голову и полулежа стала дремать, то вскидывая, то низко опуская голову, едва не касаясь земли обвисшими губами.
Ситора съела свою часть и потянулась хоботом к кучке, лежавшей перед ослицей. Она перещупала каждый ломтик тростника, но, не взяв ни одного, принялась жевать свою солому. Только изредка она позволяла себе дотрагиваться до них, вероятно для того, чтобы запах сахарного тростника скрашивал вкус соломы. Но один раз она задержала хобот над ломтиком, из которого выступил сгусток липкого сладкого сока. Ситора подняла этот ломтик, помяла немного в хоботе и уже собралась отправить его в рот, как услышала окрик Джан Мамада:
— Положи назад! Ишь, ненасытная!
Ситора тотчас же отбросила лакомство и отступила на шаг, как бы подальше от соблазна. Запустив хобот в солому, она стала шарить в ней, будто искала что-то более вкусное.
Прошло два дня. Ослица не могла встать на ноги, а Ситора не желала без нее выходить на работу.
Перед вечерней молитвой пришел домоправитель городского головы. На нем была серая шелковая чалма и кожаные калоши, расшитые золотой канителью.
— Эй, Джан Мамад! — сказал он, входя во двор. — Городской голова приказал завтра с утра вывести слониху на работу. А если не выведешь, он тебя самого прикажет запрячь в каток и весь день погонять нагайками. А слонихе ни одного пучка соломы не отпустит.
— Чем злыми словами колоть, — сказал Джан Мамад, — лучше бы городской голова прислал лекарство ослице, которую покалечил. Без нее слониха никуда не пойдет.
 — Городской голова и о ней позаботился, — усмехнулся домоправитель, вытаскивая из-под мышки связку розог, потолще той, что принес когда-то. — Вот этим лекарством ты ее сразу вылечишь.
Он протянул прутья Джан Мамаду.
— Лечи сам, если хочешь… — сказал Джан Мамад, повернувшись к нему спиной. — Только не советую.
Домоправитель, потряхивая прутьями, как бы желая проверить их гибкость, направился к лежащей ослице.
Ситора переступила передними ногами через ослицу, свернула хобот, насторожила уши и стала крутить хвостом.
— Вернись! — крикнул Джан Мамад домоправителю. — Не подходи к ней!
Но было уже поздно. Слониха ударила хоботом о землю, затем, взметнув им, схватила домоправителя поперек туловища и подняла кверху. В следующее мгновение она вытянула хобот над головой прямой свечой и так застыла, словно раздумывала: что делать ей дальше с домоправителем.
Джан Мамад кинулся к слонихе.
— Ситора, ложись! Ложись! — закричал он и стал тянуть ее за ухо книзу.
Но Ситора продолжала стоять с высоко поднятым хоботом. Домоправитель не издавал ни единого звука. С его запрокинутой головы слетела чалма и, разматываясь в воздухе восьмиаршинной змеей, упала к ногам слонихи.
— Ситора, отпусти его! Да отпусти же! — упрашивал слониху Джан Мамад. — Ведь эдак ты его без вечерней молитвы спровадишь на тот свет!
Уцепившись за ухо слонихи, он повис на нем всей своей тяжестью. Но Ситора не повиновалась ему. Она только слегка наклонила голову в его сторону и оставалась неподвижной.
Тогда Джан Мамад подскочил к кучке нарезанного сахарного тростника, лежавшей перед ослицей, и, выхватив оттуда ломтик, протянул слонихе:
— Ешь, Ситора! Ешь!
Слониха тотчас же отшвырнула домоправителя в сторону распахнутых ворот. Потом она кончиком хобота осторожно взяла из руки Джан Мамада ломтик тростника и положила его обратно в кучку перед мордой ослицы.
Джан Мамад обернулся к воротам. Там никого не было. Только на земле валялись кожаные калоши, расшитые золотой канителью. Они были повернуты загнутыми носками к воротам, будто устремились вдогонку за своим хозяином. Тем временем Ситора подняла валявшуюся чалму домоправителя и принялась ее жевать. Должно быть, шелковая чалма была вкусней соломы, потому что она жевала ее с удовольствием.
— Городской голова и о ней позаботился, — усмехнулся домоправитель, вытаскивая из-под мышки связку розог, потолще той, что принес когда-то. — Вот этим лекарством ты ее сразу вылечишь.
Он протянул прутья Джан Мамаду.
— Лечи сам, если хочешь… — сказал Джан Мамад, повернувшись к нему спиной. — Только не советую.
Домоправитель, потряхивая прутьями, как бы желая проверить их гибкость, направился к лежащей ослице.
Ситора переступила передними ногами через ослицу, свернула хобот, насторожила уши и стала крутить хвостом.
— Вернись! — крикнул Джан Мамад домоправителю. — Не подходи к ней!
Но было уже поздно. Слониха ударила хоботом о землю, затем, взметнув им, схватила домоправителя поперек туловища и подняла кверху. В следующее мгновение она вытянула хобот над головой прямой свечой и так застыла, словно раздумывала: что делать ей дальше с домоправителем.
Джан Мамад кинулся к слонихе.
— Ситора, ложись! Ложись! — закричал он и стал тянуть ее за ухо книзу.
Но Ситора продолжала стоять с высоко поднятым хоботом. Домоправитель не издавал ни единого звука. С его запрокинутой головы слетела чалма и, разматываясь в воздухе восьмиаршинной змеей, упала к ногам слонихи.
— Ситора, отпусти его! Да отпусти же! — упрашивал слониху Джан Мамад. — Ведь эдак ты его без вечерней молитвы спровадишь на тот свет!
Уцепившись за ухо слонихи, он повис на нем всей своей тяжестью. Но Ситора не повиновалась ему. Она только слегка наклонила голову в его сторону и оставалась неподвижной.
Тогда Джан Мамад подскочил к кучке нарезанного сахарного тростника, лежавшей перед ослицей, и, выхватив оттуда ломтик, протянул слонихе:
— Ешь, Ситора! Ешь!
Слониха тотчас же отшвырнула домоправителя в сторону распахнутых ворот. Потом она кончиком хобота осторожно взяла из руки Джан Мамада ломтик тростника и положила его обратно в кучку перед мордой ослицы.
Джан Мамад обернулся к воротам. Там никого не было. Только на земле валялись кожаные калоши, расшитые золотой канителью. Они были повернуты загнутыми носками к воротам, будто устремились вдогонку за своим хозяином. Тем временем Ситора подняла валявшуюся чалму домоправителя и принялась ее жевать. Должно быть, шелковая чалма была вкусней соломы, потому что она жевала ее с удовольствием.
* * *
Городской голова принимал у себя в саду в загородной усадьбе, у того водоема, где слониха повалила абрикосовое дерево, кандагарского друга, приехавшего в столицу. Теперь здесь шатровый навес затенял разостланные ковры. От водоема поднималась прохлада, и закатное солнце отбрасывало на воду удлиненные косые тени навеса. Городскому голове и его гостю подавали шербет, сваренный на стружках сандалового дерева; черный виноград, крупный, как бычий глаз; сладкий чай с молоком. Слугами распоряжался домоправитель. На лице у него была крупная ссадина, начинавшаяся под глазом и прятавшаяся под бородой. Он суетился, шлепая босыми ногами по ковру и заметно прихрамывая.
Городской голова и его друг успели уже о многом переговорить, а теперь разговор зашел о каракуле.
— Когда вы намерены ехать в Карачи? — спросил у гостя городской голова.
— А вот как закончу последние сборы — в Кабуле, — ответил негоциант. — Жду, на днях мне должны подвезти последнюю партию каракуля. Тот каракуль, что я собрал в Кандагаре, уже отправился в Карачи по железной дороге.
Городской голова понимающе кивнул головой:
— Значит, тот каракуль, который вам перевозили с севера мои два слона, уже путешествует в Лондон.
— Пока только в Карачи. А там, если будет угодно богу, в Лондон, — суеверно поправил негоциант городского голову.
— А я думал, что вы моих слонов показываете за деньги у себя в зверинце, — сказал городской голова. Он дотронулся до лежавшего рядом мешочка с рупиями и погладил его ладонью.
— Так здесь, значит, все, что причитается мне за перевозку каракуля на слонах?
— Все, — подтвердил негоциант. — И кормежка слонов была за мой счет.
— Так здесь все, что причитается мне за полгода? — переспросил городской голова.
— Все, — повторил негоциант. — И слонов я кормил целых полгода.
— Много мороки с этими слонами, — сказал городской голова. — Таксу за перевозку каракуля на верблюдах, лошадях и ослах я сам устанавливаю ежегодно, а вот за перевозку на слонах министр финансов не позволяет мне устанавливать. Говорит: «Вам только дай волю, вы эдак и на оленей, и на зебр таксу наложите». А вот теперь, как мне без таксы проверить: во что обошлась перевозка вашего каракуля на слонах. Да, много мороки с этими слонами.
— Да, — согласился негоциант. — Много едят они.
— Очень много! — неожиданно подхватил городской голова. — А вот сегодня я приказал не выдавать ни одного пучка соломы моей слонихе. Чтоб ей подохнуть с голоду!
— А за что вы так рассердились на нее?
— Не хочет выходить на работу — улицу мостить.
Негоциант кинул взгляд на мешочек с рупиями, что-то обдумывая.
— А зачем вам мостить улицу таким отсталым способом? — заговорил он после размышления. — Так вы никогда не обратите на себя благосклонного внимания короля. Вы ведь знаете: король во всех делах любит прогресс.
— Еще бы не знать! — поддержал городской голова. — Да ведь на какие деньги купишь машины? И где взять специалистов?
Кто-то из слуг вызвал домоправителя, и тот, обувшись в старые калоши, заковылял по аллее к воротам сада.
Негоциант молчал. Он обдумывал план, который не собирался раскрывать городскому голове.
— Я могу вам предложить выгодное дело, — заговорил он наконец, прервав молчание. — Но, разумеется, только ради нашей старинной дружбы.
Городской голова устремил на него внимательный взгляд.
— Если вы отдадите мне слониху, — продолжал негоциант, — я взамен куплю вам в Кветте два трактора с настоящими шоссейными катками и найму там двух специалистов на выгодных условиях. Они вам вымостят в столице все улицы так, что их от королевского двора не отличите. А кормить тракторы нужно керосином. Будут они работать- будете давать керосин. А не будут работать, так хоть целый год не давайте им керосина — не подохнут с голоду. А когда получите за это высокую благодарность короля, то не забудьте помолиться за здравие всей моей семьи.
Городской голова перевел взгляд на водоем, словно искал в мутной воде разгадку такого заманчивого предложения негоцианта.
— А скажите, — нерешительно спросил он, — что вы собираетесь делать со слонихой?
— Везти на ней каракуль из Кабула прямо в Карачи, — не задумываясь, ответил негоциант.
— А разве везти каракуль на слоне более выгодно, чем по железной дороге?
— Ну, если бы вы устанавливали таксу за перевозку каракуля по железной дороге, — шутливо сказал негоциант, — то я несомненно воспользовался бы вашей бесконечной добротой ко мне.
Вернулся домоправитель и остановился на противоположной стороне водоема. В воде внезапно засверкало отражение золотой канители на его новых кожаных калошах.
— Саиб, — доложил он городскому голове, — пришел Джан Мамад. Просит допустить к вам. Гнал его — ее уходит.
— Пусти, — не глядя на него, приказал городской голова.
Джан Мамад подошел к водоему, приветствуя городского голову и его гостя.
— Если пришел клянчить солому, чтобы унести ее на спине, — сказал городской голова, — то вместо нее могу отпустить тебе на спину розги.
— Саиб, — сдержанно заговорил Джан Мамад, — сегодня издохла ослица. Теперь и вовсе не знаю, что делать. С трудом вытащил ее со двора: слониха не отдавала… Боюсь, сорвется еще с привязи.
— Меня это не касается, — небрежно бросил городской голова. — У слонихи теперь другой хозяин. — Он кивнул в сторону гостя.
— Значит, по рукам! — обрадованно сказал негоциант и обхватил обеими ладонями руку, протянутую ему городским головой.
Он был обрадован еще и тем, что городской голова не разгадал его плана, сулившего немало выгод.
Городской голова обернулся к Джан Мамаду:
— Теперь и у тебя хозяин другой.
— А как же с чалмой?! — воскликнул домоправитель. — Не отдавайте ему жалованья, саиб! Вот поглядите, что сделала слониха!
И домоправитель стал разматывать над водоемом изжеванный, весь в дырках, остаток чалмы, который Джан Мамаду удалось отнять у слонихи.
Слугами распоряжался домоправитель. На лице у него была крупная ссадина, начинавшаяся под глазом и прятавшаяся под бородой. Он суетился, шлепая босыми ногами по ковру и заметно прихрамывая.
Городской голова и его друг успели уже о многом переговорить, а теперь разговор зашел о каракуле.
— Когда вы намерены ехать в Карачи? — спросил у гостя городской голова.
— А вот как закончу последние сборы — в Кабуле, — ответил негоциант. — Жду, на днях мне должны подвезти последнюю партию каракуля. Тот каракуль, что я собрал в Кандагаре, уже отправился в Карачи по железной дороге.
Городской голова понимающе кивнул головой:
— Значит, тот каракуль, который вам перевозили с севера мои два слона, уже путешествует в Лондон.
— Пока только в Карачи. А там, если будет угодно богу, в Лондон, — суеверно поправил негоциант городского голову.
— А я думал, что вы моих слонов показываете за деньги у себя в зверинце, — сказал городской голова. Он дотронулся до лежавшего рядом мешочка с рупиями и погладил его ладонью.
— Так здесь, значит, все, что причитается мне за перевозку каракуля на слонах?
— Все, — подтвердил негоциант. — И кормежка слонов была за мой счет.
— Так здесь все, что причитается мне за полгода? — переспросил городской голова.
— Все, — повторил негоциант. — И слонов я кормил целых полгода.
— Много мороки с этими слонами, — сказал городской голова. — Таксу за перевозку каракуля на верблюдах, лошадях и ослах я сам устанавливаю ежегодно, а вот за перевозку на слонах министр финансов не позволяет мне устанавливать. Говорит: «Вам только дай волю, вы эдак и на оленей, и на зебр таксу наложите». А вот теперь, как мне без таксы проверить: во что обошлась перевозка вашего каракуля на слонах. Да, много мороки с этими слонами.
— Да, — согласился негоциант. — Много едят они.
— Очень много! — неожиданно подхватил городской голова. — А вот сегодня я приказал не выдавать ни одного пучка соломы моей слонихе. Чтоб ей подохнуть с голоду!
— А за что вы так рассердились на нее?
— Не хочет выходить на работу — улицу мостить.
Негоциант кинул взгляд на мешочек с рупиями, что-то обдумывая.
— А зачем вам мостить улицу таким отсталым способом? — заговорил он после размышления. — Так вы никогда не обратите на себя благосклонного внимания короля. Вы ведь знаете: король во всех делах любит прогресс.
— Еще бы не знать! — поддержал городской голова. — Да ведь на какие деньги купишь машины? И где взять специалистов?
Кто-то из слуг вызвал домоправителя, и тот, обувшись в старые калоши, заковылял по аллее к воротам сада.
Негоциант молчал. Он обдумывал план, который не собирался раскрывать городскому голове.
— Я могу вам предложить выгодное дело, — заговорил он наконец, прервав молчание. — Но, разумеется, только ради нашей старинной дружбы.
Городской голова устремил на него внимательный взгляд.
— Если вы отдадите мне слониху, — продолжал негоциант, — я взамен куплю вам в Кветте два трактора с настоящими шоссейными катками и найму там двух специалистов на выгодных условиях. Они вам вымостят в столице все улицы так, что их от королевского двора не отличите. А кормить тракторы нужно керосином. Будут они работать- будете давать керосин. А не будут работать, так хоть целый год не давайте им керосина — не подохнут с голоду. А когда получите за это высокую благодарность короля, то не забудьте помолиться за здравие всей моей семьи.
Городской голова перевел взгляд на водоем, словно искал в мутной воде разгадку такого заманчивого предложения негоцианта.
— А скажите, — нерешительно спросил он, — что вы собираетесь делать со слонихой?
— Везти на ней каракуль из Кабула прямо в Карачи, — не задумываясь, ответил негоциант.
— А разве везти каракуль на слоне более выгодно, чем по железной дороге?
— Ну, если бы вы устанавливали таксу за перевозку каракуля по железной дороге, — шутливо сказал негоциант, — то я несомненно воспользовался бы вашей бесконечной добротой ко мне.
Вернулся домоправитель и остановился на противоположной стороне водоема. В воде внезапно засверкало отражение золотой канители на его новых кожаных калошах.
— Саиб, — доложил он городскому голове, — пришел Джан Мамад. Просит допустить к вам. Гнал его — ее уходит.
— Пусти, — не глядя на него, приказал городской голова.
Джан Мамад подошел к водоему, приветствуя городского голову и его гостя.
— Если пришел клянчить солому, чтобы унести ее на спине, — сказал городской голова, — то вместо нее могу отпустить тебе на спину розги.
— Саиб, — сдержанно заговорил Джан Мамад, — сегодня издохла ослица. Теперь и вовсе не знаю, что делать. С трудом вытащил ее со двора: слониха не отдавала… Боюсь, сорвется еще с привязи.
— Меня это не касается, — небрежно бросил городской голова. — У слонихи теперь другой хозяин. — Он кивнул в сторону гостя.
— Значит, по рукам! — обрадованно сказал негоциант и обхватил обеими ладонями руку, протянутую ему городским головой.
Он был обрадован еще и тем, что городской голова не разгадал его плана, сулившего немало выгод.
Городской голова обернулся к Джан Мамаду:
— Теперь и у тебя хозяин другой.
— А как же с чалмой?! — воскликнул домоправитель. — Не отдавайте ему жалованья, саиб! Вот поглядите, что сделала слониха!
И домоправитель стал разматывать над водоемом изжеванный, весь в дырках, остаток чалмы, который Джан Мамаду удалось отнять у слонихи.
* * *
Через несколько дней к воротам заброшенного лагеря подъехал на двухколесном экипаже кандагарский негоциант. Во дворе под навесом уже были сложены тюки каракуля, и негоцианту оставалось лишь дать последние указания Джан Мамаду, перед тем как самому отправиться в Карачи. Слониха мерно покачивалась в своем стойле. Возле ее ног лежала ослиная шкура. Джан Мамаду не сразу удалось убрать труп ослицы, так как слониха при попытке взять труп отталкивала хоботом Джан Мамада. И только после того, как Джан Мамад, изловчившись, привязал к ноге ослицы длинную веревку и отвлекал внимание слонихи сахаром, ему помог живодер, который быстро вытащил труп за ворота. Живодер снял с ослицы шкуру и наспех выквасил ее. Негоциант остановился в почтительном отдалении от слонихи и некоторое время смотрел, как она то закидывала соломенную труху себе на спину, то посыпала ею ослиную шкуру, над которой вились мухи. — Ну как, успокоилась? — спросил он у Джан Мамада. — Успокоилась. — И будет слушаться тебя? — Да, саиб, — поспешно ответил Джан Мамад и окинул строгим взглядом слониху. Он не был в этом уверен, но говорить так заставлял его страх перед тем, что новый хозяин мог отказаться от своей сделки. Тогда ему вновь пришлось бы иметь дело с городским головой и его домоправителем. — Жалованье получил? — заботливо осведомился негоциант. — Получил, саиб. — Это я из своего кармана заплатил домоправителю за изжеванную чалму. А то городской голова не выплатил бы тебе жалованья. — Да прибавит вам бог потомства, саиб! — Ну так вот, — продолжал негоциант, — завтра поднимется в небе новый месяц. Это добрая примета. С новым месяцем отправишься в путь. Я тебя обгоню на границе. В Кветте начинается железная дорога. Держись ее до самого Карачи — не заблудишься. Рассчитай так, чтобы прийти туда к рождению нового месяца. Меня отыщешь в гостинице «Благочестивый паломник». Ее тебе каждый покажет: там останавливаются все, кто направляется в священную Мекку. Негоциант достал из замшевого футляра щеточку и пригладил ею свои коротко подстриженные усы. Затем посмотрелся в зеркальце, вделанное в щеточку, и поправил на себе шляпу и галстук. — Придет мой приказчик и принесет деньги на дорожные издержки, — сказал он небрежно. — Корми получше слониху, чтобы не исхудала за дорогу. Тебе будет хорошо у меня… — Он обернулся к навесу. — За каракулем присматривай, чтобы ни одна шерстинка не пожаловалась на тебя. А привезешь товар в исправности — подарю новый халат. На другой день после захода солнца, когда в небе робко просиял белесый месяц, Джан Мамад уже обвесил слониху тюками, и теперь для него наступило время испытать то, что он задумал. Джан Мамад взвалил себе на спину ослиную шкуру и быстро пошел к воротам. Ситора тотчас же заспешила за ним грузным шагом. Все шло так, как ему хотелось. За воротами он взобрался на шею слонихи и повесил ослиную шкуру на один из тюков, чтобы слониха могла легко дотянуться до нее хоботом. Джан Мамад двигался по ночам от стоянки к стоянке и каждую ночь наблюдал, как месяц все дольше задерживался на небе, наращивал полноту и сияние. Четырнадцатидневная луна застала его далеко на пакистанской земле, где мимо проносились поезда, обгоняя слониху и пугая ее своим громыханьем. Потом луна стала хиреть и все позже подниматься над пустынной, выжженной зноем равниной, заливая ее тусклым заревом неостывшего пожарища. Однажды утром, в канун рождения нового месяца, Джан Мамад подошел к Карачи со стороны старой караванной дороги. На окраине города, на улице, обставленной с обеих сторон ветхими палатками, Джан Мамада встретил молодой приказчик негоцианта. На нем была кисейная чалма, один конец которой торчал в виде султана, белый репсовый костюм и ярко-желтые полуботинки. Он стал торопить Джан Мамада, чтобы поскорей поспеть в порт. Джан Мамад никогда не видел моря и не знал, что такое порт. — А разве там есть дешевый караван-сарай? — спросил он у приказчика. — Там не караван-сарай, а караван судов, — сказал приказчик, засмеявшись, и остался, по-видимому, доволен своей шуткой. Он шел впереди, указывая Джан Мамаду направление по очень путаным улицам базара. К базару примыкала таможня. Здесь было много людей, сидевших на своих дорожных вещах, и сновала толпа оборванных носильщиков. По указанию приказчика, Джан Мамад разгрузил слониху. К нему кинулись носильщики, и каждый старался захватить себе тюк. Их разгоняли палками таможенные стражники. Приказчик что-то шепнул чиновнику, сидевшему под полосатым тентом, и тот приказал своим людям ставить на тюках пломбы. Потом из таможни вышел смуглый седой человек в очках с позолоченной оправой, одетый в белый узкий халат. Он спросил у приказчика, здорова ли слониха, и, получив в ответ несколько серебряных монет, тут же выдал какую-то бумагу. — Теперь веди слониху за мной, — сказал приказчик Джан Мамаду. — Да поторапливайся. Они пошли мимо длинных складов и высоких угольных куч. Слониха шарахалась то в одну, то в другую сторону при каждом отрывистом свистке паровоза или при раскатистом грохоте, доносившемся от погрузочного крана. Но вот они вышли на пристань, возле которой стоял огромный двухтрубный белый пароход. Это был французский пароход «Теофиль Готье», направлявшийся в Марсель. Джан Мамад никогда не видел парохода и принял его за пятиэтажный дом. Приказчик привел Джан Мамада и слониху к туннелю, где показал какие-то бумаги человеку в фуражке с золотым околышем, одетому во все белое. Тот приказал своим подчиненным в белых беретах с красными помпонами освободить проход для слонихи. Сверху раздался оглушительный и очень длинный гудок, а вслед за ним — короткий. Гудки так напугали слониху, что она отказалась войти в туннель и стала коротко трубить, как трубач тревогу. Тогда Джан Мамад отвязал ослиную шкуру, висевшую на ее шее, и взвалил себе на спину. Он вошел в туннель. Ситора потопталась немного у входа и пошла за ним, настораживая уши и ощупывая деревянный настил туннеля. Туннель кончился, и Джан Мамад со слонихой очутились на просторном чистом дощатом полу. Отсюда Джан Мамад впервые увидел синеву моря и тогда понял, что находится на палубе парохода.
«Ну что ж, — подумал он, — теперь моя судьба в руках нового хозяина, и если он пошлет Ситору за море, я поплыву вместе с ней».
Оглядевшись, Джан Мамад увидел носильщиков, бегом тащивших на спине привезенные им тюки каракуля. Тут же стоял его хозяин в голубой шелковой пижаме и следил за тем, как две паровые лебедки опускали тюки в трюм.
Хозяин приказал Джан Мамаду надеть на все четыре ноги слонихи приготовленные железные обручи, от которых тянулись якорные цепи к чугунным кнехтам. Он очень торопил его.
После того как Джан Мамад выполнил это приказание, хозяин сказал ему:
— Теперь иди на берег. Завтра придешь в гостиницу «Благочестивый паломник» и получишь у моего приказчика расчет.
Джан Мамад растерянно уставился на хозяина. Он только и смог еле внятно произнести:
— Как же это?… Мне… без нее…
— Ничего не поделаешь, — сказал негоциант. — Я продал слониху. И она поплывет в Европу.
— Так пошлите и меня вместе со слонихой! — вырвалось у Джан Мамада. — Хоть за сорок морей!
— Там и без тебя найдется, кому сторожить ее. Ну, поторапливайся — скоро пароход отойдет! Приказчик выдаст тебе еще и халат, — добавил на прощанье хозяин.
Приказчик тронул за плечо Джан Мамада:
— Так, значит, завтра отыщешь меня в отеле «Паюс пилгрим».
Ломая английский язык, он так называл гостиницу «Благочестивый паломник».
Вход в туннель был уже закрыт, и щеголеватому приказчику пришлось спускаться по трапу вместе с босоногими и оборванными носильщиками.
Джан Мамад не двигался с места.
— Как же мне без нее?… — тихо бормотал он, разводя руками.
Снова раздался сверху продолжительный гудок и после него два коротких.
К Джан Мамаду подошел высокий, худощавый матрос, загорелый до черноты.
— Ну, пойдем, приятель, — обратился он к нему на языке урду. — Чтобы остаться на пароходе, нужно купить билет. А столько денег у тебя не найдется. И хозяин не хочет платить за твой проезд. — Он поднял с палубы ослиную шкуру и сунул ее в руки Джан Мамаду. — Ну, пойдем, я провожу тебя по трапу, пока его еще не убрали.
Матрос взял Джан Мамада под руку и повел к борту.
— Постойте!.. — вдруг выкрикнул Джан Мамад и остановился. Он вернул ослиную шкуру матросу и обернулся к слонихе, которая делала попытки освободиться от цепей. — Отдайте ей эту шкуру! Ей будет очень тоскливо без шкуры!
Матрос с недоумением глядел на него.
— Я знаю, что говорю! — продолжал настаивать Джан Мамад. — Положите шкуру возле нее!
— Заберите у него шкуру! — сказал матросу негоциант, с беспокойством поглядывавший на слониху. — Без этой шкуры она еще, пожалуй, сорвется с цепей.
Трап был поднят тотчас же, как только Джан Мамад очутился на пристани. В третий раз его оглушил гудок, и ему показалось, что земля, на которой он стоял, стала медленно отдаляться от парохода. Потом он увидел два катера, которые тащили пароход за нос и корму.
Через борт перегнулся высокий, худощавый матрос.
— Эй, приятель! — позвал он, стараясь перекричать разноголосые выкрики провожающих и показывая Джан Мамаду ослиную шкуру. — Судовой врач не позволил держать на пароходе эту шкуру! Говорит, в Европу заразу привезем!.. Лови ее!
Он размахнулся и бросил ее на пристань.
В толпе послышался смех.
Тут Джан Мамад что-то вспомнил. Он запустил руку в карман и вынул несколько кусков сахару — весь свой дорожный запас.
— Эй, добрый человек! — закричал он матросу. — Да будет дорога тебе без забот!.. Возьми сахар! Корми ее каждый день по кусочку после полуденной молитвы!
Но размах старческой руки был недостаточно силен, и куски сахара, не долетев до борта, попадали в воду.
Катера продолжали выводить пароход из гавани.
— Это ничего, что сахар упал в воду, — сказал Джан Мамаду в утешение стоявший рядом оборванец. — Тому, кого провожают, всю дорогу сладко будет ехать. И бурь не будет.
Толпа провожающих постепенно разошлась. На пристани остался один Джан Мамад. Он еще долго стоялздесь, пока сверканье белого парохода не растаяло вместе с дымом в густой синеве моря и неба.
Туннель кончился, и Джан Мамад со слонихой очутились на просторном чистом дощатом полу. Отсюда Джан Мамад впервые увидел синеву моря и тогда понял, что находится на палубе парохода.
«Ну что ж, — подумал он, — теперь моя судьба в руках нового хозяина, и если он пошлет Ситору за море, я поплыву вместе с ней».
Оглядевшись, Джан Мамад увидел носильщиков, бегом тащивших на спине привезенные им тюки каракуля. Тут же стоял его хозяин в голубой шелковой пижаме и следил за тем, как две паровые лебедки опускали тюки в трюм.
Хозяин приказал Джан Мамаду надеть на все четыре ноги слонихи приготовленные железные обручи, от которых тянулись якорные цепи к чугунным кнехтам. Он очень торопил его.
После того как Джан Мамад выполнил это приказание, хозяин сказал ему:
— Теперь иди на берег. Завтра придешь в гостиницу «Благочестивый паломник» и получишь у моего приказчика расчет.
Джан Мамад растерянно уставился на хозяина. Он только и смог еле внятно произнести:
— Как же это?… Мне… без нее…
— Ничего не поделаешь, — сказал негоциант. — Я продал слониху. И она поплывет в Европу.
— Так пошлите и меня вместе со слонихой! — вырвалось у Джан Мамада. — Хоть за сорок морей!
— Там и без тебя найдется, кому сторожить ее. Ну, поторапливайся — скоро пароход отойдет! Приказчик выдаст тебе еще и халат, — добавил на прощанье хозяин.
Приказчик тронул за плечо Джан Мамада:
— Так, значит, завтра отыщешь меня в отеле «Паюс пилгрим».
Ломая английский язык, он так называл гостиницу «Благочестивый паломник».
Вход в туннель был уже закрыт, и щеголеватому приказчику пришлось спускаться по трапу вместе с босоногими и оборванными носильщиками.
Джан Мамад не двигался с места.
— Как же мне без нее?… — тихо бормотал он, разводя руками.
Снова раздался сверху продолжительный гудок и после него два коротких.
К Джан Мамаду подошел высокий, худощавый матрос, загорелый до черноты.
— Ну, пойдем, приятель, — обратился он к нему на языке урду. — Чтобы остаться на пароходе, нужно купить билет. А столько денег у тебя не найдется. И хозяин не хочет платить за твой проезд. — Он поднял с палубы ослиную шкуру и сунул ее в руки Джан Мамаду. — Ну, пойдем, я провожу тебя по трапу, пока его еще не убрали.
Матрос взял Джан Мамада под руку и повел к борту.
— Постойте!.. — вдруг выкрикнул Джан Мамад и остановился. Он вернул ослиную шкуру матросу и обернулся к слонихе, которая делала попытки освободиться от цепей. — Отдайте ей эту шкуру! Ей будет очень тоскливо без шкуры!
Матрос с недоумением глядел на него.
— Я знаю, что говорю! — продолжал настаивать Джан Мамад. — Положите шкуру возле нее!
— Заберите у него шкуру! — сказал матросу негоциант, с беспокойством поглядывавший на слониху. — Без этой шкуры она еще, пожалуй, сорвется с цепей.
Трап был поднят тотчас же, как только Джан Мамад очутился на пристани. В третий раз его оглушил гудок, и ему показалось, что земля, на которой он стоял, стала медленно отдаляться от парохода. Потом он увидел два катера, которые тащили пароход за нос и корму.
Через борт перегнулся высокий, худощавый матрос.
— Эй, приятель! — позвал он, стараясь перекричать разноголосые выкрики провожающих и показывая Джан Мамаду ослиную шкуру. — Судовой врач не позволил держать на пароходе эту шкуру! Говорит, в Европу заразу привезем!.. Лови ее!
Он размахнулся и бросил ее на пристань.
В толпе послышался смех.
Тут Джан Мамад что-то вспомнил. Он запустил руку в карман и вынул несколько кусков сахару — весь свой дорожный запас.
— Эй, добрый человек! — закричал он матросу. — Да будет дорога тебе без забот!.. Возьми сахар! Корми ее каждый день по кусочку после полуденной молитвы!
Но размах старческой руки был недостаточно силен, и куски сахара, не долетев до борта, попадали в воду.
Катера продолжали выводить пароход из гавани.
— Это ничего, что сахар упал в воду, — сказал Джан Мамаду в утешение стоявший рядом оборванец. — Тому, кого провожают, всю дорогу сладко будет ехать. И бурь не будет.
Толпа провожающих постепенно разошлась. На пристани остался один Джан Мамад. Он еще долго стоялздесь, пока сверканье белого парохода не растаяло вместе с дымом в густой синеве моря и неба.
* * *
Вечером в портовой курильне опиума, находившейся позади прачечного заведения, на ослиной шкуре лежал Джан Мамад и курил. Он заказал себе банг. Хозяин курильни при тусклом свете керосиновой лампочки с закопченным стеклом обходил деревянные нары. Он показывал лежавших на них клиентов какому-то европейскому туристу с фотоаппаратом через плечо. От смешанных паров опиума и дыма банга лицо у туриста было бледно и на лбу выступила испарина.
После нескольких затяжек Джан Мамад лег на живот и уперся локтями в шкуру. Он тихо бормотал, покачивая головой:
— Ох, Ситора! Хоть ты и большая и сильная, а человек сильней тебя. Вот возьми, к примеру, моего хозяина. Он богат и силен. А сильный человек все может сделать. Ох, Ситора, худо мне без тебя! Ох, Ситора!..
Джан Мамад тяжело вздыхал, роняя крупные капли слез на ослиную шкуру.
— Кто этот человек? — спросил турист у хозяина курильни, остановившись против Джан Мамада.
— Не знаю, — ответил тот. — Много здесь ходит всяких бродяг, воров и картежников.
Он прислушался к бормотанью Джан Мамада:
— Это афганец, саиб.
— Что же он говорит? — продолжал интересоваться турист.
— Он, должно быть, влюбленный, — объяснил хозяин курильни. — Знаете, бывает такая разбитая любовь. Он плачет и часто повторяет имя Ситора. У афганцев это женское имя означает «звезда».
Турист достал из бокового кармана блокнот и стал что-то записывать.
От смешанных паров опиума и дыма банга лицо у туриста было бледно и на лбу выступила испарина.
После нескольких затяжек Джан Мамад лег на живот и уперся локтями в шкуру. Он тихо бормотал, покачивая головой:
— Ох, Ситора! Хоть ты и большая и сильная, а человек сильней тебя. Вот возьми, к примеру, моего хозяина. Он богат и силен. А сильный человек все может сделать. Ох, Ситора, худо мне без тебя! Ох, Ситора!..
Джан Мамад тяжело вздыхал, роняя крупные капли слез на ослиную шкуру.
— Кто этот человек? — спросил турист у хозяина курильни, остановившись против Джан Мамада.
— Не знаю, — ответил тот. — Много здесь ходит всяких бродяг, воров и картежников.
Он прислушался к бормотанью Джан Мамада:
— Это афганец, саиб.
— Что же он говорит? — продолжал интересоваться турист.
— Он, должно быть, влюбленный, — объяснил хозяин курильни. — Знаете, бывает такая разбитая любовь. Он плачет и часто повторяет имя Ситора. У афганцев это женское имя означает «звезда».
Турист достал из бокового кармана блокнот и стал что-то записывать.
* * *
Джан Мамад отыскал гостиницу, где останавливались благочестивые паломники, когда уже солнце накалило улицы. Он оставил перед входом свои старые калоши и, покачиваясь от не прошедшего еще ночного опьянения, вошел в просторный вестибюль. К нему по лестнице спустился приказчик с накинутым на плечи новым сатиновым халатом. Он уселся в бамбуковое кресло против электрического веера, чтобы его обдувало прохладной струей, и протянул Джан Мамаду мешочек, опечатанный сургучом.
— Вот твое жалованье, — сказал он. — Хозяин сам опечатывал кошелек.
Джан Мамад пересчитал деньги. Их оказалось столько, что едва хватало добраться по железной дороге до Шикарпура.
Он оставил перед входом свои старые калоши и, покачиваясь от не прошедшего еще ночного опьянения, вошел в просторный вестибюль. К нему по лестнице спустился приказчик с накинутым на плечи новым сатиновым халатом. Он уселся в бамбуковое кресло против электрического веера, чтобы его обдувало прохладной струей, и протянул Джан Мамаду мешочек, опечатанный сургучом.
— Вот твое жалованье, — сказал он. — Хозяин сам опечатывал кошелек.
Джан Мамад пересчитал деньги. Их оказалось столько, что едва хватало добраться по железной дороге до Шикарпура.
 — А где же обещанный халат? — спросил Джан Мамад, глядя на синие горошины нового халата приказчика.
— Хозяин перед отъездом раздумал дарить его, — ответил приказчик. — Он сказал: «Хватит ему и того, что я заплатил за изжеванную чалму».
Джан Мамад направился к выходу.
Мальчик-портье распахнул перед ним дверь и протянул руку в ожидании подачки.
Джан Мамад остановился и поглядел на мальчика. У него еще кружилась голова и не проходила тошнота.
— А ты кормишь свою бабушку? — спросил он.
— У меня нет бабушки, — засмеялся мальчик, обнажая белые зубы.
Джан Мамад порылся у себя в карманах и нашел немного жареного гороха, оставшегося от вчерашнего завтрака. Он насыпал горох в протянутую руку мальчика и вышел на улицу. Разогретые каменные плиты сразу обожгли ему босые ноги. Джан Мамад стал искать глазами свои калоши, но их нигде не оказалось. Он еще не верил в пропажу калош и, щурясь от солнечного света, оглядывал белые плиты, слепившие ему глаза.
— А где же обещанный халат? — спросил Джан Мамад, глядя на синие горошины нового халата приказчика.
— Хозяин перед отъездом раздумал дарить его, — ответил приказчик. — Он сказал: «Хватит ему и того, что я заплатил за изжеванную чалму».
Джан Мамад направился к выходу.
Мальчик-портье распахнул перед ним дверь и протянул руку в ожидании подачки.
Джан Мамад остановился и поглядел на мальчика. У него еще кружилась голова и не проходила тошнота.
— А ты кормишь свою бабушку? — спросил он.
— У меня нет бабушки, — засмеялся мальчик, обнажая белые зубы.
Джан Мамад порылся у себя в карманах и нашел немного жареного гороха, оставшегося от вчерашнего завтрака. Он насыпал горох в протянутую руку мальчика и вышел на улицу. Разогретые каменные плиты сразу обожгли ему босые ноги. Джан Мамад стал искать глазами свои калоши, но их нигде не оказалось. Он еще не верил в пропажу калош и, щурясь от солнечного света, оглядывал белые плиты, слепившие ему глаза.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Негоциант продал слониху в марсельский зоологический сад, и сейчас она находится там. Ей более семидесяти лет. Для слонов это преклонный возраст. Она разгуливает за оградой из крепких железных брусьев и получает ежедневно различные овощи и свежее сено, которое привозят с Французских Альп. В отруби ей добавляют рыбьего жиру. Посетители зоологического сада бросают ей булки, сахар, апельсины. В благодарность за это угощение слониха всякий раз пятится назад и делает приседание. Сторож с обрюзгшим лицом сидит перед оградой за лотком и торгует каштанами и леденцами. Дети протягивают слонихе пятифранковую лиловую бумажку, и она хоботом отдает деньги сторожу, который выдает ей за это горсточку каштанов, а за голубую десятифранковую — леденцы. Сторож, желая иногда потешить детей, пробует обмануть слониху — и подсовывает ей в обмен на голубой десятифранковый билет каштаны, но слониха не берет их, требуя леденцов. Над оградой установлена дощечка с латинской надписью: «Элефас индикус». Что же касается дальнейшей судьбы Джан Мамада, то в последний раз его видели афганские пограничники, когда он, возвращаясь на родину, перешел границу, опустился на колени и поцеловал землю. Потом он пошел по крутой улице пограничной деревушки, медленно передвигая босые ноги в синяках и ссадинах. Через плечо у него была перекинута переметная сума, из которой торчала свернутая ослиная шкура. Сельские ребятишки бежали за ним, смеялись и дергали за ослиный хвост, свесившийся через прореху сумы. А больше о нем ничего неизвестно.

Нина Гернет и Григорий Ягдфельд КАТЯ И КРОКОДИЛ
1
Катя Пастушкова шла по бульвару. Почти не глядя, она хлопала по мячу. Мячик прыгал между Катиной рукой и землей будто на невидимой резинке. Но главное — мяч каждый раз падал только на солнечные пятна и ни разу на тень. А это было очень трудно, потому что ветер шевелил листья и пятна на дорожке двигались. Это считалось высоким классом «школы мячиков». — Триста пять, триста шесть, триста семь… — шептала Катя при каждом ударе. И по этому можно было судить, как много она прошла, как хорошо умела считать и как прекрасно играла в «школу мячиков». Никто из девочек не мог победить Катю — ни во дворе, ни на их улице. И, победив всех, Катя вышла на другую улицу, где ее еще не знали. У дерева Катя остановилась. — Через спинку! — строго сказала она себе, но так, чтобы слышали няньки на скамейках. И семь раз поймала мяч через спинку от дерева, и не просто так, а с поворотами. Конечно, на нее с восхищением смотрели все: и дворник, который поливал дорожки, и старушка на скамейке, и дети, которые возились в песке. Она пошла дальше, отбивая мяч то правой, то левой рукой. На Кате было новое синее платье, занятия в школе кончились, в кармане лежали две тянучки, она шла по бульвару, самая ловкая и самая нарядная. И вдруг какой-то мальчишка (что она ему сделала?) подскочил и поддал ногой Катин мячик. Мяч взвился, перелетел через улицу, ворвался в стаю воробьев и, ударившись о стенку дома, откатился к каменной тумбе. — Вот как дам! — крикнула Катя и бросилась к мальчишке. Но он спрятался за свою бабушку и оттуда показал Кате кулак. — Трус! — сказала Катя. — Трус, трус, трус! — И отправилась за мячиком. Она нагнулась за мячом, и… — Ах!.. — сказала Катя и прижала руки к груди. Прямо на нее глядел белоснежный кролик. Его красные глазки уставились на Катю, а рот беспрестанно шевелился, будто кролик шептал ей что-то. А позади этого кролика сидел второй, разостлав по спине длинные уши. Клетка с кроликами стояла на нижней ступеньке парадной. На второй ступеньке была еще одна клетка. В ней прыгала черная птица с белыми пестринками, с любопытством косясь на Катю. А на самой верхней ступеньке сидел хмурый мальчик и неподвижно глядел вперед. У него на коленях лежала лиловая коробка из-под ботинок. В крышке, под надписью «Скороход», было прорезано отверстие. Что-то живое тихо скреблось в коробке. А в ногах у этого странного мальчика стоял длинный ящик, и на нем красной краской было написано «Крокет». Катя с опаской поглядела на сердитого мальчика. Конечно, лучше всего было бы взять мяч и идти своей дорогой.
Но кролики были так прекрасны!.. И кто еще прячется в коробке «Скороход» и в ящике «Крокет»? Неизвестно. И почему все эти звери стоят прямо на улице? Интересно до невозможности!
Уйти Катя не могла. Она немножко постояла, глядя на мальчика. Тот не шевелился и все так же горестно смотрел перед собой.
Катя на цыпочках подошла к клетке и тихонько тронула пальцем розовый кроличий носик.
— Не тронь! — хрипло сказал мальчик, не поворачивая головы.
— Только погладить… — умоляюще сказала Катя.
— Отстань! — сказал мальчик.
Катя хотела обидеться, но не успела: из отверстия коробки «Скороход» высунулась плоская змеиная головка. Повернулась туда-сюда и скрылась.
— Ах! — сказала Катя. — Ах, какая змейка!
— Сама змея! — хмыкнул мальчик.
И хотя слова были грубые, но голос у мальчика был уже не сердитый. Видимо, Катино восхищение ему понравилось. Он даже приоткрыл коробку, и Катя увидела… черепаху.
Черепаха вытянула змеиную головку и беспомощно царапала лапами картонные стенки, пытаясь выбраться из тесной коробки. Маленький острый хвостик смешно торчал из-под панциря.
— Ой! — воскликнула Катя и потянулась к черепахе. Но споткнулась об ящик, взмахнула руками и села на него.
Мальчик схватил Катю за руку, сдернул с ящика и крикнул:
— Куда падаешь? Жизнь надоела? Уходи откуда пришла!
Но уж теперь Катя и совсем не могла уйти. Оказывается, в ящике от крокета сидело еще что-то, и очень страшное!
Она впилась глазами в ящик, закрытый выдвижной крышкой. Сквозь узенькую щелочку, оставленную для воздуха, рассмотреть что-нибудь было невозможно.
Спросить у мальчика — кто там?
Нет. Во первых, он не ответит, а во-вторых, Катя на него обиделась. Она терпеть не могла, чтобы на нее кричали.
Она подумала, потом отступила на шаг и сказала сама себе, но так, чтобы мальчишка слышал:
— Думает, кто-то ему поверил! Хм… Думает, не видно, что он просто задается, и всё. А у самого ничего страшного и нет. Просто еще какой-нибудь скороход вроде черепахи! Ха-ха!
Катя старалась придумать самое обидное, чтобы раздразнить мальчишку. Но мальчишка только презрительно хмыкнул и дернул плечом.
«Ага, — подумала Катя, — задело».
Она набрала воздуху и начала еще обиднее:
— Ой-ой-ой, как я испугалась!.. Ах, там, наверно, акула сидит! Или тигр! Или крокодил!
— Крокодил, — мрачно сказал мальчик.
Катя захохотала так презрительно, как только могла:
— Неужели? А может быть, лев?
— Крокодил, — повторил мальчик.
— Прямо противно, как врет! — рассердилась Катя.
— Вру?… Смотри! — сказал мальчик и отодвинул крышку ящика.
В ящике лежал живой крокодил.
Катя с опаской поглядела на сердитого мальчика. Конечно, лучше всего было бы взять мяч и идти своей дорогой.
Но кролики были так прекрасны!.. И кто еще прячется в коробке «Скороход» и в ящике «Крокет»? Неизвестно. И почему все эти звери стоят прямо на улице? Интересно до невозможности!
Уйти Катя не могла. Она немножко постояла, глядя на мальчика. Тот не шевелился и все так же горестно смотрел перед собой.
Катя на цыпочках подошла к клетке и тихонько тронула пальцем розовый кроличий носик.
— Не тронь! — хрипло сказал мальчик, не поворачивая головы.
— Только погладить… — умоляюще сказала Катя.
— Отстань! — сказал мальчик.
Катя хотела обидеться, но не успела: из отверстия коробки «Скороход» высунулась плоская змеиная головка. Повернулась туда-сюда и скрылась.
— Ах! — сказала Катя. — Ах, какая змейка!
— Сама змея! — хмыкнул мальчик.
И хотя слова были грубые, но голос у мальчика был уже не сердитый. Видимо, Катино восхищение ему понравилось. Он даже приоткрыл коробку, и Катя увидела… черепаху.
Черепаха вытянула змеиную головку и беспомощно царапала лапами картонные стенки, пытаясь выбраться из тесной коробки. Маленький острый хвостик смешно торчал из-под панциря.
— Ой! — воскликнула Катя и потянулась к черепахе. Но споткнулась об ящик, взмахнула руками и села на него.
Мальчик схватил Катю за руку, сдернул с ящика и крикнул:
— Куда падаешь? Жизнь надоела? Уходи откуда пришла!
Но уж теперь Катя и совсем не могла уйти. Оказывается, в ящике от крокета сидело еще что-то, и очень страшное!
Она впилась глазами в ящик, закрытый выдвижной крышкой. Сквозь узенькую щелочку, оставленную для воздуха, рассмотреть что-нибудь было невозможно.
Спросить у мальчика — кто там?
Нет. Во первых, он не ответит, а во-вторых, Катя на него обиделась. Она терпеть не могла, чтобы на нее кричали.
Она подумала, потом отступила на шаг и сказала сама себе, но так, чтобы мальчишка слышал:
— Думает, кто-то ему поверил! Хм… Думает, не видно, что он просто задается, и всё. А у самого ничего страшного и нет. Просто еще какой-нибудь скороход вроде черепахи! Ха-ха!
Катя старалась придумать самое обидное, чтобы раздразнить мальчишку. Но мальчишка только презрительно хмыкнул и дернул плечом.
«Ага, — подумала Катя, — задело».
Она набрала воздуху и начала еще обиднее:
— Ой-ой-ой, как я испугалась!.. Ах, там, наверно, акула сидит! Или тигр! Или крокодил!
— Крокодил, — мрачно сказал мальчик.
Катя захохотала так презрительно, как только могла:
— Неужели? А может быть, лев?
— Крокодил, — повторил мальчик.
— Прямо противно, как врет! — рассердилась Катя.
— Вру?… Смотри! — сказал мальчик и отодвинул крышку ящика.
В ящике лежал живой крокодил.
2
Лет пять назад, когда Митя еще только поступал в школу, его отец, капитан дальнего плавания, привез из Африки странное яйцо. Никто, даже сам папа, не знал, чье это яйцо и живое ли оно. Но, на всякий случай, папа с Митей положили яйцо в коробку с ватой и поставили возле парового отопления. Долго оно там лежало, и нянька не раз собиралась его выбросить. Но однажды Митя, войдя в комнату, увидел в коробке пустую скорлупу, а в темном уголке под батареей — странное маленькое существо, похожее сразу и на ящерицу, и на сказочного дракона. Это был крокодиленок. Митя стал самым знаменитым первоклассником в школе. Не только его товарищи, но даже взрослые люди из седьмых и восьмых классов прибегали взглянуть на домашнего крокодила. В «Пионерской правде» была статья «Гость из Африки» и фотография: Митя с крокодиленком. Мама долго носила в сумочке эту газету и показывала ее всем. Один мальчик предложил Мите за крокодила фотоаппарат «Пионер» и собрание сочинений Михалкова. Но Митя отказался. Маме также очень нравился крокодиленок, и особенно то, что все ему удивлялись. Показывая крокодила знакомым, она говорила: — Пусть живет. Все-таки своя амфибия в доме. Не нравился крокодил только няньке Аннушке. Она почему-то боялась его даже больше, чем мышей, и говорила, что он похож на нечистую силу. А когда Митя спрашивал ее, как же выглядит нечистая сила, нянька отвечала: — А вот так и выглядит, как эта гадина… Постепенно к крокодилу привыкли, и любопытные перестали приходить. Крокодил жил в доме как обыкновенное домашнее животное, ползал где хотел, плавал сперва в корыте, а потом в ванне. Крокодил рос и с каждым днем нравился маме все меньше и меньше. А у Мити было все больше и больше неприятностей: почему-то именно Митя был виноват в том, что крокодил откусил половину маминого нового чулка «капрон», и в том, что с контролершей электротока сделалась истерика, когда из темного коридора выползло к ней чудовище почти в метр длиной. А в прошлом году крокодил укусил за пятку няню Аннушку, когда она подметала пол. Вообще, было много такого, о чем долго и неприятно рассказывать. Но настоящие несчастья начались с этой осени. Папа подарил Мите по случаю перехода в пятый класс «Жизнь животных» Брема. Митя, понятно, прочитал, все, что там сообщалось о крокодилах, и имел неосторожность сказать маме, что их крокодил относится к виду нильских крокодилов, а скорей всего — это исполинский мадагаскарский и водится к югу от Лимпопо. Лимпопо на маму не подействовало. Но, услыхав «исполинский», она переменилась в лице. В тот же вечер, как только Митя заснул, она схватила Брема и стала читать отдел «Панцирные ящеры». И сразу же наткнулась на то, что ее интересовало. — «Нередки случаи, что люди с плоскодонных челноков были схватываемы крокодилами…» Так я и думала! — прошептала мама и продолжала читать: «…людей он поедает спокойно, вечером или ночью, для чего уносит их на берег в уединенное место…» Какой ужас! — сказала мама. — Заснуть в постели, а проснуться в уединенном месте, в какой-то пасти! Когда же она дошла до нильского крокодила и узнала, что «встречаются экземпляры, достигающие десяти метров», она захлопнула книжку. С нее было довольно. Тут же ночью она схватила сантиметр и нервно измерила длину комнаты. Ей пришлось выйти в коридор и уткнуться в его противоположную стенку, и то оказалось всего шесть метров семьдесят сантиметров. — Значит, кончится тем, что он сломает стенку и всунет хвост в чужую квартиру! Согрели змею на своей груди… — горько сказала мама. Всю ночь она не спала, а на утро потребовала, чтобы крокодила не было. И хотя Митя с Бремом в руках доказывал, что сам ученый считает эту цифру — десять метров — преувеличенной, мама утверждала, что, если бы это была неправда, Брем об этом не писал бы. Когда же Митя прочел вслух, что крокодил достигает таких размеров только через сто лет, мама заявила, что это дореволюционное издание и что Брем устарел. С тех пор мама то и дело подходила к крокодилу и измеряла его сантиметром. Это продолжалось до тех пор, пока крокодил чуть не откусил ей палец. Тогда она стала прикидывать длину на глаз, и это было еще хуже, потому что каждый раз оказывалось, что крокодил вырос еще чуть не на полметра. Совсем плохо стало весной. Когда кончились занятия, школу начали ремонтировать и нужно было куда-то пристроить на лето живой уголок. Школьники, которые оставались в городе, разобрали животных по домам. Митя тоже взял двух кроликов, скворца, который умел говорить «здравствуйте» и «шагом марш», и черепаху. Но из-за крокодила атмосфера в доме была уже накалена, и мама с нянькой встретили новых животных без энтузиазма. Нянька немедленно причислила говорящего скворца к нечистой силе, а мама сказала, что она не какое-нибудь травоядное и не обязана жить в зверинце. Она схватила шляпу и сумочку, чтобы идти к директору школы. Мите удалось добиться мира на очень тяжелых условиях: он поклялся сдать осенью в школу вместе с остальными животными и крокодила — это во-первых; а во-вторых, обязался следить, чтобы крокодил не испортил больше ни одной вещи. Взамен мама согласилась терпеть в доме животных до 31 августа. А сегодня утром случилось вот что: мама, Аннушка и Митя пили чай. Аннушка взяла молочник и наклонила над своей чашкой. И вдруг чашка поехала в сторону, а струйка молока полилась на скатерть. — Это еще что? — грозно спросила нянька Митю. Но в это время по столу всё быстрее и быстрее поехали сахарница и вазочка с вареньем. Няня успела схватить подставку для ножей и прижала ее к груди. Скатерть ползла по столу, как живая. Со звоном и грохотом сыпалось на пол все, что стояло на столе. Мама схватила уползавший конец скатерти и потянула к себе.
Лился чай из опрокинутых стаканов, расползалось варенье… Мама тянула… Над столом появилась морда крокодила, повисшего на скатерти.
Митя вцепился в крокодила. Ему удалось наконец оторвать его — правда, вместе с куском скатерти в пасти.
— Сумасшедший дом! — кричала мама.
— Давайте расчет! — буйствовала Аннушка.
— Здрассьте! — весело крикнул скворец из клетки.
И это безобидное слово переполнило чашу маминого терпения. Она сказала железным голосом:
— Всех вон! Весь твой зверинец!
— Как — всех?! — возмутился Митя. — А кролики при чем? А черепаха? Что они тебе сделали?…
Аннушка вдруг заголосила и вытащила из-под стола перекушенную пополам мамину лаковую туфлю.
— Всех вон! — твердо сказала мама. — Всех до одного! Или они, или я!
Скатерть ползла по столу, как живая. Со звоном и грохотом сыпалось на пол все, что стояло на столе. Мама схватила уползавший конец скатерти и потянула к себе.
Лился чай из опрокинутых стаканов, расползалось варенье… Мама тянула… Над столом появилась морда крокодила, повисшего на скатерти.
Митя вцепился в крокодила. Ему удалось наконец оторвать его — правда, вместе с куском скатерти в пасти.
— Сумасшедший дом! — кричала мама.
— Давайте расчет! — буйствовала Аннушка.
— Здрассьте! — весело крикнул скворец из клетки.
И это безобидное слово переполнило чашу маминого терпения. Она сказала железным голосом:
— Всех вон! Весь твой зверинец!
— Как — всех?! — возмутился Митя. — А кролики при чем? А черепаха? Что они тебе сделали?…
Аннушка вдруг заголосила и вытащила из-под стола перекушенную пополам мамину лаковую туфлю.
— Всех вон! — твердо сказала мама. — Всех до одного! Или они, или я!
3
Когда Катя услыхала эту печальную историю, ей стало жалко всех: и Митю, и бесприютных зверей, и даже крокодила, который не виноват, что он крокодил, а не котенок. Она вынула из кармана тянучки и протянула мальчику. Он печально сунул их в рот. — Что же ты будешь делать? — спросила Катя. — Куда ты их? — Не знаю, — сказал он. — Вот думаю. Катя встала и прижала руки к груди. — Мальчик! — сказала она. — Я знаю куда. Дай их мне! У нас можно, честное слово! Я буду за ними смотреть и все буду делать. Мальчик!.. Она замолчала и ждала, не сводя с него глаз. Митя долго не отвечал. Потом спросил: — А родители? — Хорошие, и их дома нет! — радостно ответила Катя. — А девчонки в квартире есть? — подозрительно спросил Митя. — Какие девчонки? — Такие… которые затискают до смерти, а потом отвечай. Катя испугалась. Но все-таки честно сказала: — Есть. Сестра Милка. Но она в детском саду. До полвосьмого. И я ей не позволю тискать. Ни за что! Митя снова погрузился в раздумье. Катя смотрела на него и ждала. Он думал очень долго, так долго, что Катя уже перестала надеяться. Наконец Митя сказал: — Ну, вот что: на все лето, конечно, не отдам — не имею права. Это же школьное имущество, понимаешь ты это?… А ты посторонняя. Катя вздохнула. — А до вечера, — продолжал Митя, — пока я съезжу к одному нашему мальчику — он на даче живет, — в общем, дам. Катя засмеялась от радости. — Но смотри! — сурово прибавил Митя. — Помни: берешь на сохранение государственное имущество! — Я буду помнить! — обещала Катя, прижав руки к груди. — А ты знаешь, как его надо хранить? — Как? — А так, что умри, а сохрани! — Хорошо, — сказала Катя. — Я умру, а сохраню государственное имущество. — Примешь по описи и дашь расписку! — предупредил Митя. Катя была согласна на всё. Митя взял ящик с крокодилом и клетку с кроликами. Катя несла в руке мяч, под мышкой коробку с черепахой, а в другой руке клетку со скворцом. Идти было недалеко — через две улицы. Скоро стали попадаться знакомые. Всем хотелось поближе взглянуть на кроликов и скворца. Катя старалась сжимать губы покрепче, чтобы не улыбаться во весь рот. Они вошли во двор-сад Катиного дома. К ним подбежала девочка: — Катя, давай в школу мячиков! Чур, я учительница! Катя ничего не ответила. Девочка пошла рядом, стараясь заглянуть во все клетки. Катя заметила во дворе Олечку, Милкину подругу. — Оля! — позвала Катя. — Ты, пожалуйста, даже не дотрагивайся до этих зверей, а то затискаешь, а это — государственное имущество! Оля раскрыла рот и так и осталась стоять на дороге. Митя и Катя поднялись на третий этаж. Там, на обитой клеенкой двери, висела табличка:ПАСТУШКОВ Ю.П.— Вот тут, — сказала Катя и достала ключик от французского замка, висевший у нее на шнурочке. Митя вдруг застеснялся: — А правда у вас дома никого? — Да правда же! — уверяла. Катя. — Мама в командировке, бабушка на базаре, папа на репетиции. Милка в детском саду! Она открыла дверь. И первое, что они услышали, были нежные звуки скрипки. Митя сурово посмотрел на Катю. — Папа дома почему-то, — сказала Катя упавшим голосом. — Наверно, репетицию отменили. Митя недоверчиво хмыкнул, и они на цыпочках пошли по коридору. Со шкафа, сверкая глазами, смотрел на них бабушкин белый кот. Они вошли в Катину комнату. Там на полу лежали разбросанные кубики. На стене тикали часы-ходики с головой котенка, который все время двигал глазами вправо-влево, вправо-влево. Под ходиками стояла детская кровать, а на ней безмятежно спала девочка лет пяти. Катя с ужасом смотрела на спящую Милку. Митя с ненавистью смотрел на Катю. Ясно: девчонка его обманула, заманила хитростью, чтобы забрать зверей! Но Катя не обманывала. Просто она не знала, что Милка сегодня вернулась из детского сада потому, что там заболел один мальчик и объявили карантин. Катя поставила на пол скворца и черепаху. Прижав руки к груди, она пыталась, как могла, оправдаться. Но Митя не слушал. Он решил уйти без всяких разговоров. Он схватил сразу клетку, коробку и ящик. Но коробка с черепахой вывалилась из рук. А когда он попробовал поднять черепаху, грохнулся ящик с крокодилом. Митя поставил ящик на плечо, но в руках не помешались две клетки и коробка.
 Катя тихо всхлипывала.
Митя посмотрел на нее, на клетки — и вдруг махнул рукой.
— Пиши расписку! — сказал он.
Просияв, Катя бросилась к столу. Вырвала страничку из тетрадки по арифметике, почистила перышко.
Митя диктовал, а она писала, стараясь делать как можно меньше ошибок и клякс.
Потом она подписалась: Катя. Но Митя сказал, что в расписке нельзя писать «Катя», а надо «Екатерина», потому что это документ. Тогда Катя подписалась как надо и протянула Мите расписку:
Катя тихо всхлипывала.
Митя посмотрел на нее, на клетки — и вдруг махнул рукой.
— Пиши расписку! — сказал он.
Просияв, Катя бросилась к столу. Вырвала страничку из тетрадки по арифметике, почистила перышко.
Митя диктовал, а она писала, стараясь делать как можно меньше ошибок и клякс.
Потом она подписалась: Катя. Но Митя сказал, что в расписке нельзя писать «Катя», а надо «Екатерина», потому что это документ. Тогда Катя подписалась как надо и протянула Мите расписку:
Кроликов ангорских два Черепаха Эмида европейская одна Крокодил нильский один Стурнус Вульгарис скворец говорящий одни Принеты на сохранение обещаю вернуть в целости и сохранности школьное имущество 301 школы— А что говорит скворец? — спросила Катя. — Так, кое-что… — буркнул Митя, аккуратно промакнул чернила на расписке, сложил ее вчетверо и засунул в карман. Потом протянул Кате бумажку. — Это что? — спросила Катя. — Рацион для кроликов, — сказал Митя. И стал бормотать, заглядывая в бумажку: — Сено… одуванчики… корнеплоды есть? — Нет! — прошептала Катя испуганно. — Тогда дашь овес. — Хорошо, — согласилась Катя. — Ванна есть? — Есть, — ответила Катя. — Крокодила туда. Музыка, которая слышалась из папиного кабинета, вдруг прекратилась. Митя забеспокоился и сказал: — Ну, я поехал. Скоро приеду. Смотри! — Я буду смотреть, я хорошо буду смотреть! — уверяла его Катя. Она закрыла за ним дверь и осталась одна среди зверей. Вот бы ахнули девочки из ее класса, если бы увидели Катю с крокодилом! А особенно Лиля! И особенно Таня! И особенно… Но девочек не было, и Катя взялась за дело. Она снесла ящик с крокодилом в ванную, открыла кран и вытряхнула крокодила. Он шмякнулся в воду, обдав Катю брызгами. — Озорник!.. — засмеялась Катя. — Не скучай, я скоро приду. Она пошла обратно. Налила скворцу в мисочку свежей воды. — Пей, птиченька! — сказала она. — Здрассьте! — крикнул скворец. Катя радостно засмеялась. Затем Катя вытащила черепаху из тесной коробки и пересадила в ящик, где прежде был крокодил. — Иди, гуляй себе! — сказала она черепахе. Катя побежала в кухню. Она перетряхнула все кульки и баночки, заглянула во все мешочки и во все ящики. Овса в доме не было. Надо было бежать в магазин. Да, а деньги? Взять у папы! Но из папиной комнаты опять раздалась музыка. Папа играл «Дьявольские трели». А когда папа играл эти трели, даже бабушка не осмеливалась входить к нему, а Милку быстро отправляли гулять. Катя задумалась на минутку. — Вот глупая! — вдруг сказала она сама себе и схватила с этажерки глиняную свинью-копилку, в которой копились деньги на волшебный фонарь. Она долго трясла свинью над столом, пока не натрясла пригоршню меди и серебра. Вдруг Милка заворочалась на постели. Катя испугалась. Как оставить Милку одну со зверями? Ей нельзя доверять! Но Милка снова сладко заснула, и Катя решила: не проснется! Сбегать в магазин — самое большое десять минут. И она побежала, сжимая деньги в кулаке. До магазина было недалеко. Надо было пробежать мимо парикмахерской, сберкассы и перейти улицу возле кинотеатра «Нептун». Одним словом, не прошло и пяти минут, как Катя стояла у прилавка: — Дайте мне, пожалуйста, овса для кроликов. — Овса нет, — сказала продавщица, — есть овсянка. — Ну, тогда, пожалуйста, овсянки, — сказала Катя, — для кроликов. Знаете, у них такой рацион… А вот моя черепаха овса не ест. А крокодил мой, вы не представляете, он даже туфли пополам перекусывает!Пастушкова Е Катя Рина.
 Все покупатели смотрели на Катю. А один мальчик со связкой баранок и кульком макарон подошел к Кате и уставился на нее, будто она сама перекусила туфлю.
И когда Катя вышла из магазина, мальчик пошел следом за ней. Он шел и жевал баранку, не спуская глаз с Кати.
Катя очень спешила. Она перебежала через улицу, свернула за угол и поравнялась с кинотеатром «Нептун». Люди туда шли толпой. И вдруг Катя увидела, что в двери «Нептуна» входит Таня. Это была самая лучшая Катина подруга.
— Таня, постой! Что я скажу! — крикнула Катя.
Но Таня уже скрылась в дверях.
Что же это? Значит, она так и не узнает про Катиных зверей? Конечно, зайти после сеанса не догадается, а у Кати нет теперь времени бегать по гостям.
Хороша дружба! Иметь дома живого крокодила и не показать лучшей подруге даже кончика хвоста!
Подумав так, Катя бросилась вслед за Таней.
— Билет! — крикнула контролерша и попыталась схватить Катю за рукав, но не успела.
Катя проскользнула мимо нее и скрылась в толпе.
— Таня! Татка Карликова! — кричала она.
Но люди вокруг шумели, и Таня ее не слышала.
Мальчик с макаронами и баранками, который шел за Катей, тоже вошел было в кинотеатр. Но когда контролерша потребовала билет, молча повернул обратно, вышел на улицу и прислонился к стене рядом со входом. Сняв со связки вторую баранку, он стал не торопясь жевать ее.
Контролерша не могла оставить своего места и погнаться за Катей. Она только вытягивала шею, высматривая Катю в фойе. А Катя пробиралась между зрителями, высматривая Таню Карликову.
Раздался звонок, и люди двинулись в зал. Тут Катя издали увидела Таню. Она бросилась туда, но, пока пробиралась в толпе, Таня уже вошла в зрительный зал.
Катя все-таки заметила, как она садилась у стенки, и быстро пробралась к ней.
— Таня! — сказала она. — Ох, мне так некогда! Я не могу за тобой бегать, у меня звери…
И она начала быстро рассказывать Тане самое главное. Но тут погас свет.
Все покупатели смотрели на Катю. А один мальчик со связкой баранок и кульком макарон подошел к Кате и уставился на нее, будто она сама перекусила туфлю.
И когда Катя вышла из магазина, мальчик пошел следом за ней. Он шел и жевал баранку, не спуская глаз с Кати.
Катя очень спешила. Она перебежала через улицу, свернула за угол и поравнялась с кинотеатром «Нептун». Люди туда шли толпой. И вдруг Катя увидела, что в двери «Нептуна» входит Таня. Это была самая лучшая Катина подруга.
— Таня, постой! Что я скажу! — крикнула Катя.
Но Таня уже скрылась в дверях.
Что же это? Значит, она так и не узнает про Катиных зверей? Конечно, зайти после сеанса не догадается, а у Кати нет теперь времени бегать по гостям.
Хороша дружба! Иметь дома живого крокодила и не показать лучшей подруге даже кончика хвоста!
Подумав так, Катя бросилась вслед за Таней.
— Билет! — крикнула контролерша и попыталась схватить Катю за рукав, но не успела.
Катя проскользнула мимо нее и скрылась в толпе.
— Таня! Татка Карликова! — кричала она.
Но люди вокруг шумели, и Таня ее не слышала.
Мальчик с макаронами и баранками, который шел за Катей, тоже вошел было в кинотеатр. Но когда контролерша потребовала билет, молча повернул обратно, вышел на улицу и прислонился к стене рядом со входом. Сняв со связки вторую баранку, он стал не торопясь жевать ее.
Контролерша не могла оставить своего места и погнаться за Катей. Она только вытягивала шею, высматривая Катю в фойе. А Катя пробиралась между зрителями, высматривая Таню Карликову.
Раздался звонок, и люди двинулись в зал. Тут Катя издали увидела Таню. Она бросилась туда, но, пока пробиралась в толпе, Таня уже вошла в зрительный зал.
Катя все-таки заметила, как она садилась у стенки, и быстро пробралась к ней.
— Таня! — сказала она. — Ох, мне так некогда! Я не могу за тобой бегать, у меня звери…
И она начала быстро рассказывать Тане самое главное. Но тут погас свет.
 — Садитесь! — зашипели на них соседи сзади.
Девочки уселись вдвоем на одном стуле. Тогда заворчали соседи сбоку, что пускай девочки не толкаются и ведут себя прилично. Тогда Таня осталась на стуле, а Катя уселась на корточки у самой стенки. И стала быстро рассказывать. Но тут рассердились соседи впереди и сказали, что они мешают слушать, хотя слушать было нечего, потому что на экране шли пока только надписи.
Впрочем, Таня уже все поняла.
— Крокодил? — прошептала она. — Говорящий? Бежим!
И они стали пробираться к выходу. Теперь на них шипели со всех сторон. А мальчишка, сидевший с самого краю, дернул Катю изо всех сил за косу.
Они бежали, согнувшись вдвое, по проходу, и все зрители ругали их по очереди. Так добежали они до дверей, и тут-то начались настоящие неприятности.
Билетерша наотрез отказалась открыть двери.
— Кончится «Золотая рыбка», — шипела она, — тогда уходите, а теперь нечего!
Девочки испугались. На экране старик только еще собирался в первый раз закинуть невод в синее море!
Билетерша ткнула пальцем на свободные стулья:
— Садитесь!
Катя рассердилась. Она не любила, когда на нее кричали даже шепотом. И она крикнула билетерше, тоже шепотом:
— Ничего подобного! Это у кого билеты, те обязаны сидеть до конца. А я безбилетная, и вы никакого права не имеете показывать мне «Золотую рыбку». А должны меня вывести из зала. А вы не выводите, как вам не стыдно!
— Как это — безбилетная? Покажи билет! — растерялась билетерша.
— А вот нет билета! — гордо шепнула Катя.
И билетерша, не найдя, что сказать, молча открыла дверь.
Девочки выскользнули в фойе и побежали к выходу.
— А-а, вот она, безбилетная! — обрадовалась контролерша. — Что, вывели?…
Конечно, ей можно было бы здорово ответить. Но Катя не стала объясняться, и они с Таней выскочили на улицу.
Мальчик с баранками отделился от стены и пошел за ними.
— Садитесь! — зашипели на них соседи сзади.
Девочки уселись вдвоем на одном стуле. Тогда заворчали соседи сбоку, что пускай девочки не толкаются и ведут себя прилично. Тогда Таня осталась на стуле, а Катя уселась на корточки у самой стенки. И стала быстро рассказывать. Но тут рассердились соседи впереди и сказали, что они мешают слушать, хотя слушать было нечего, потому что на экране шли пока только надписи.
Впрочем, Таня уже все поняла.
— Крокодил? — прошептала она. — Говорящий? Бежим!
И они стали пробираться к выходу. Теперь на них шипели со всех сторон. А мальчишка, сидевший с самого краю, дернул Катю изо всех сил за косу.
Они бежали, согнувшись вдвое, по проходу, и все зрители ругали их по очереди. Так добежали они до дверей, и тут-то начались настоящие неприятности.
Билетерша наотрез отказалась открыть двери.
— Кончится «Золотая рыбка», — шипела она, — тогда уходите, а теперь нечего!
Девочки испугались. На экране старик только еще собирался в первый раз закинуть невод в синее море!
Билетерша ткнула пальцем на свободные стулья:
— Садитесь!
Катя рассердилась. Она не любила, когда на нее кричали даже шепотом. И она крикнула билетерше, тоже шепотом:
— Ничего подобного! Это у кого билеты, те обязаны сидеть до конца. А я безбилетная, и вы никакого права не имеете показывать мне «Золотую рыбку». А должны меня вывести из зала. А вы не выводите, как вам не стыдно!
— Как это — безбилетная? Покажи билет! — растерялась билетерша.
— А вот нет билета! — гордо шепнула Катя.
И билетерша, не найдя, что сказать, молча открыла дверь.
Девочки выскользнули в фойе и побежали к выходу.
— А-а, вот она, безбилетная! — обрадовалась контролерша. — Что, вывели?…
Конечно, ей можно было бы здорово ответить. Но Катя не стала объясняться, и они с Таней выскочили на улицу.
Мальчик с баранками отделился от стены и пошел за ними.
4
Пока Катя покупала овес, Милка спокойно спала. Крокодил плавал в ванне. Скворец прыгал в клетке и кричал «Шагом марш» пролетавшим мухам. Черепаха гуляла по крокетному ящику и после сапожной коробки находила его очень просторным. Кролики догрызали последние одуванчики, которые еще были в клетке. Папа, как всегда, сбился на тридцать седьмом такте «Дьявольских трелей» и начал сначала. Словом, все было тихо и мирно. Но как раз в тот момент, когда Катя подходила к кинотеатру «Нептун», луч солнца упал на Милку. Милка во сне отмахнулась от луча, но это не помогло. Она потерла глаза кулаком, чихнула и проснулась. Сперва она долго жмурилась и потягивалась. А потом открыла глаза как следует. Тут она увидела птицу, кроликов и черепаху! Милка зажмурилась и потом опять открыла глаза. Кролики, птичка и черепаха оставались на своих местах. Милка спрыгнула с кровати и подбежала к зверькам. Ей было пять лет, и она не очень задумывалась над тем, откуда взялись эти существа и почему они оказались в комнате. Она просто радовалась, что они есть. Милка присела на корточки перед кроликами и просунула палец в клетку. — Шагом марш! — крикнул скворец. Милка посмотрела на него и кивнула головой. Она сразу поняла: это птица играет в детский сад — будто она воспитательница и командует строиться на зарядку. — Хорошо, — согласилась Милка. Она встала, как на зарядку, и зашагала по комнате, стараясь попасть в такт музыке «Дьявольских трелей», которая доносилась из комнаты папы. Размахивая руками и громко топая, Милка маршировала. Она ждала, когда воспитательница скомандует «стой» и начнет упражнения. Но скворец и не думал командовать «стой». Он вдруг прыгнул в миску с водой и затрепыхал крыльями. Во все стороны полетели брызги. Милка увидела, что делает воспитательница, и очень рассердилась. — Так мы же еще зарядку не сделали, а ты уже мыться! — закричала она. — Ну тебя, ты не умеешь! Лучше я буду воспитательница, а ты… — И, чтобы скворец согласился уступить ей роль воспитательницы, Милка придумала для него другое интересное: — Ты будешь дежурный по умывальнику! Хочешь? — Здрассьте! — крикнул скворец. Ага! Значит, он согласен и здоровается, будто он мальчик и пришел утром в детский сад. — Здравствуйте, дети! — важно сказала Милка кроликам и черепахе.
Потом она захлопала в ладоши.
— Дети, на прогулку! — скомандовала она воспитательским голосом. Открыла клетку и помогла кроликам выйти.
Кролики запрыгали по комнате. Один спрятался под кровать, а другой — под Катин столик.
— Дети, не разбегайтесь! — кричала Милка.
Но они не слушались. Милка открыла дверцу и скворцу, но он не хотел вылезать.
— Посмотрите, как этот мальчик копается! — сказала она в негодовании.
Милка сама вытащила скворца из клетки. А он вырвался, взлетел к потолку и стал носиться где хотел.
Милка ничего не могла с ним поделать.
Самой послушной оказалась черепаха. Когда Милка вытащила ее из ящика и положила на пол, она втянула голову в панцирь и тихо лежала на полу.
— Вот умница, хорошая девочка! — похвалила ее Милка.
Из прогулки ничего не вышло. И Милка решила устроить тихий час. Уложила черепаху в кровать самой большой куклы, укрыла одеялом и подоткнула его со всех сторон.
Черепаха никуда не убегала. Она нравилась Милке все больше и больше.
— Ты будешь моя дочка, — сказала она черепахе. — А с вами, — обернулась она к кроликам, — я больше не играю!
Милка поправила на черепахе одеяло и погладила ее по голове.
— Спи, доченька, спи! — сказала она. И запела черепахе песню «Москва-Пекин».
А пока она пела и качала свою дочку, сперва один кролик, а потом другой выскочили через открытую дверь в коридор.
Но Милка этого даже не заметила.
— Здравствуйте, дети! — важно сказала Милка кроликам и черепахе.
Потом она захлопала в ладоши.
— Дети, на прогулку! — скомандовала она воспитательским голосом. Открыла клетку и помогла кроликам выйти.
Кролики запрыгали по комнате. Один спрятался под кровать, а другой — под Катин столик.
— Дети, не разбегайтесь! — кричала Милка.
Но они не слушались. Милка открыла дверцу и скворцу, но он не хотел вылезать.
— Посмотрите, как этот мальчик копается! — сказала она в негодовании.
Милка сама вытащила скворца из клетки. А он вырвался, взлетел к потолку и стал носиться где хотел.
Милка ничего не могла с ним поделать.
Самой послушной оказалась черепаха. Когда Милка вытащила ее из ящика и положила на пол, она втянула голову в панцирь и тихо лежала на полу.
— Вот умница, хорошая девочка! — похвалила ее Милка.
Из прогулки ничего не вышло. И Милка решила устроить тихий час. Уложила черепаху в кровать самой большой куклы, укрыла одеялом и подоткнула его со всех сторон.
Черепаха никуда не убегала. Она нравилась Милке все больше и больше.
— Ты будешь моя дочка, — сказала она черепахе. — А с вами, — обернулась она к кроликам, — я больше не играю!
Милка поправила на черепахе одеяло и погладила ее по голове.
— Спи, доченька, спи! — сказала она. И запела черепахе песню «Москва-Пекин».
А пока она пела и качала свою дочку, сперва один кролик, а потом другой выскочили через открытую дверь в коридор.
Но Милка этого даже не заметила.
5
Девочки очень спешили. Кате надо было кормить кроликов. До ее дома было уже совсем близко. И вдруг Таня стала перебегать на другую сторону улицы. — Ты куда? — спросила Катя. — Так она же там живет! — Кто? — Так Лиля же! — А мы разве к Лиле? — спросила Катя. Таня даже остановилась посреди мостовой: — А ты что думаешь? По-твоему, Лилю не позвать — это красиво? Когда к ее сестре артистка Жукова приходила, так она сразу за нами прибежала, а мы от нее крокодила спрячем? Красиво, да? Кате стало стыдно. По правде сказать, ей и самой хотелось, чтобы Лиля увидела ее зверей. И она сказала: — Ладно, только поскорее, а то уже время кроликам давать рацион. Для скорости они не стали подниматься к Лиле на шестой этаж, а прибежали во двор. Двор был очень большой и шумный. В одном углу пилили дрова, в другом выколачивали ковер, а посередине — играли в волейбол. Вдобавок изо всех открытых окон неслись звуки радио. Девочки подняли головы к Лилиному окну и разом крикнули: — Ли-и-ля!.. Но Лиля не появлялась. Они крикнули еще раз, и опять ничего не вышло. Когда они набрали воздуху, чтобы крикнуть в третий раз, из-за их спин раздался оглушительный рев: — Ли-илька! Это орал мальчик с макаронами, который стоял чуть подальше. И тотчас же Ли-лина голова высунулась из-за горшков с цветами. — Лиля, скорее! Что у меня есть!.. — кричала Катя снизу. — А? Что прочесть? — кричала Лиля сверху. — Скорей! У меня звери! — Что? Открыть двери? Катя и Таня с отчаянием посмотрели друг на друга, а потом на мальчика с баранками. Он сразу понял, что от него требуется, переложил кулек с макаронами в другую руку, расправил грудь и заорал: — Иди счасже крокодила смотреть! — Иду! — немедленно откликнулась Ли-ля, и голова ее исчезла.6
Перед папой стоял пюпитр на длинной ножке. На нем лежали ноты. Папа играл на скрипке. Пальцы левой руки летали по струнам, а смычок носился так быстро, что его почти не было видно. «Дьявольские трели» — очень трудная пьеса. А сейчас папа как раз подходил к самому трудному месту во всей пьесе. И как всегда, у него начали съезжать очки, которые держались на одной оглобле. Эти очки да еще двери, которые вечно скрипели, ужасно раздражали папу и мешали ему жить. Каждое утро, уходя на репетицию, папа решал немедленно снести очки в починку и купить машинного масла для двери. А каждый вечер, вернувшись домой, он вспоминал, что забыл и то и другое. Поправив очки, папа перешел к флажолетто. Это были самые нежные ноты на самом верху самой тоненькой струны — квинты. Чтобы сыграть флажолетто, папа забрался пальцами к самой подставке, и тогда раздались тихие звуки, похожие на писк.
Бабушкин белый кот, дремавший на шкафу в коридоре, поднял уши. Он никогда не мог равнодушно слышать флажолетто, потому что принимал его за мышиный писк.
Это был очень честолюбивый кот. Хотя в квартире мышей не было и он их отродясь не видал, он всю жизнь мечтал поймать мышь. Поэтому каждый раз, когда бабушка натирала редьку, Катя стирала резинкой ошибку в тетради, а папа добирался до флажолетто, — кот мчался в погоню за мышью.
И на этот раз, услышав подозрительный писк, кот спрыгнул со шкафа и начал красться к папиной двери, нервно играя хвостом.
Папа услышал отвратительный скрип двери. Он вздрогнул.
Хищно поводя усами, кот просунулся в комнату.
— Брысь! — крикнул папа и замахнулся смычком.
Кот не спеша вышел из комнаты.
Папа заиграл снова.
Кот, услыхав это, повернул обратно. Опять заскрипела дверь.
Папа сердито повернулся, и очки упали на пол. Он увидал вместо кота расплывчатое белое пятно.
— Ах, так! — сказал папа. Схватил кота за шиворот и вышвырнул в коридор.
Потом папа закрыл дверь, которая сейчас же приоткрылась опять, и фыркнул от ярости.
Оскорбленный кот что-то прошипел и забрался под шкаф, где лежала кукла без головы и два кубика. Он сидел там, колотя хвостом от негодования.
Папа искал очки, проклиная этот несчастный дом, полный наглых котов и скрипучих дверей, в котором человек не имеет ни минуты покоя. При этом он нечаянно поддал ногой очки, и они отлетели куда-то в угол. Теперь не было никакой надежды их найти.
Окончательно рассердившись, папа махнул рукой и стал играть без очков, водя носом по нотам.
По коридору мимо кота проскакал белый кролик. Увидав его, кот зашипел, но на всякий случай забился поглубже под шкаф. Ничего подобного до сих пор в доме не было!
Кролик поднял уши, пожевал губами и не торопясь запрыгал к папиной комнате.
Уже минут пять папе никто не мешал, и он начал успокаиваться. И вдруг снова раздался невыносимый скрип!
Вне себя папа обернулся. Конечно, он опять увидал знакомое расплывчатое белое пятно!
— Убью! — прошипел папа и бросился ловить кота.
Но кролик скрылся под диваном.
Поправив очки, папа перешел к флажолетто. Это были самые нежные ноты на самом верху самой тоненькой струны — квинты. Чтобы сыграть флажолетто, папа забрался пальцами к самой подставке, и тогда раздались тихие звуки, похожие на писк.
Бабушкин белый кот, дремавший на шкафу в коридоре, поднял уши. Он никогда не мог равнодушно слышать флажолетто, потому что принимал его за мышиный писк.
Это был очень честолюбивый кот. Хотя в квартире мышей не было и он их отродясь не видал, он всю жизнь мечтал поймать мышь. Поэтому каждый раз, когда бабушка натирала редьку, Катя стирала резинкой ошибку в тетради, а папа добирался до флажолетто, — кот мчался в погоню за мышью.
И на этот раз, услышав подозрительный писк, кот спрыгнул со шкафа и начал красться к папиной двери, нервно играя хвостом.
Папа услышал отвратительный скрип двери. Он вздрогнул.
Хищно поводя усами, кот просунулся в комнату.
— Брысь! — крикнул папа и замахнулся смычком.
Кот не спеша вышел из комнаты.
Папа заиграл снова.
Кот, услыхав это, повернул обратно. Опять заскрипела дверь.
Папа сердито повернулся, и очки упали на пол. Он увидал вместо кота расплывчатое белое пятно.
— Ах, так! — сказал папа. Схватил кота за шиворот и вышвырнул в коридор.
Потом папа закрыл дверь, которая сейчас же приоткрылась опять, и фыркнул от ярости.
Оскорбленный кот что-то прошипел и забрался под шкаф, где лежала кукла без головы и два кубика. Он сидел там, колотя хвостом от негодования.
Папа искал очки, проклиная этот несчастный дом, полный наглых котов и скрипучих дверей, в котором человек не имеет ни минуты покоя. При этом он нечаянно поддал ногой очки, и они отлетели куда-то в угол. Теперь не было никакой надежды их найти.
Окончательно рассердившись, папа махнул рукой и стал играть без очков, водя носом по нотам.
По коридору мимо кота проскакал белый кролик. Увидав его, кот зашипел, но на всякий случай забился поглубже под шкаф. Ничего подобного до сих пор в доме не было!
Кролик поднял уши, пожевал губами и не торопясь запрыгал к папиной комнате.
Уже минут пять папе никто не мешал, и он начал успокаиваться. И вдруг снова раздался невыносимый скрип!
Вне себя папа обернулся. Конечно, он опять увидал знакомое расплывчатое белое пятно!
— Убью! — прошипел папа и бросился ловить кота.
Но кролик скрылся под диваном.
7
Катина бабушка купила все, что нужно, и возвращалась с базара. Поднимаясь к себе на третий этаж, бабушка услышала, как открылась дверь у них на площадке. Она заторопилась и крикнула снизу: — Не закрывайте! Но оказалось, что вышла из своей квартиры соседка. Она несла таз, полный мокрого белья. — Здравствуйте, Надежда Петровна! — приветливо сказала бабушка. — А я — то думала, это наши… — Ваш кот нюхал мое молоко! — сообщила Надежда Петровна, поджав губы. — Сколько раз я просила вас не пускать его бегать по карнизу! — Извините, — сказала бабушка. — Интересно, почему это все коты со всего двора лезут именно в мое окошко? — раскричалась Надежда Петровна, поднимаясь на чердак. — А кто не умеет воспитывать котов, пусть не держит! — Ладно уж, иди себе… — пробормотала бабушка. Дверь соседкиной квартиры осталась приоткрытой. Бабушка поставила тяжелую корзинку, начала доставать ключ и, вдруг нечаянно толкнув корзинку, опрокинула ее набок. Луковицы, подпрыгивая, поскакали вниз по ступенькам. — Ах, я ворона! — спохватилась бабушка и спустилась собирать лук. Тогда распахнулась дверь квартиры Пастушковых. Из нее вылетел белый кролик и, описав дугу, плюхнулся прямо в бабушкину корзинку. Дверь захлопнулась, Загремели ключи, цепочки, задвижки. Послышались папины удаляющиеся шаги, и стало тихо. Кролик не огорчился переменой судьбы. Побарахтавшись в корзинке, он выбрал себе морковку и начал грызть. Собрав луковицы, бабушка поднялась по лестнице… и вдруг увидела в своей корзинке кролика! — Вот тебе здравствуйте! — сказала она и задумалась: «Откуда он мог взяться?» Так и не решив этого вопроса, бабушка присела перед корзинкой. Она смотрела, как кролик уплетает ее морковку, и умилялась. — Ах ты, голубчик мой! — шептала она. — Ах ты, красавец! Тут она увидела открытую дверь Надежды Петровны и все поняла. Она покачала головой: — Других учит, а сама-то что делает! — Ну, поел, погулял? — спросила она кролика. — Иди, милый, домой, а то пропадешь. Она тихонько протолкнула кролика в соседскую квартиру и бросила ему вслед капусту и репку. Потом заботливо прикрыла дверь, чтобы кролик не выбежал, и заглянула в корзинку. Суп варить было не из чего. — Ничего, опять куплю, — сказала она и, взяв корзинку, спустилась по лестнице. Так исчез ангорский кролик.8
Катя очень спешила домой. Надо было кормить кроликов. Но Лилька сказала, что без Шуры она не сделает ни одного шагу. Кролики не умрут, а Шура обидится насмерть. И так подруги не поступают. И пусть она провалится на этом месте, если Шура сейчас не сидит на бульваре и не читает «Всадника без головы». Девочки вихрем понеслись на бульвар. Мальчик с макаронами молча несся сзади, жуя на ходу третью баранку. Шура действительно сидела на скамейке между молоденькой нянькой и спящим старичком и читала им вслух «Всадника без головы» Майн Рида. — «Черт бы вас побрал! — воскликнул охотник. — Еще шесть секунд, и я стреляю! Если вы просто чучело, то это вам не повредит. А если вы дьявол, то это, должно быть, тоже не причинит вам вреда. Но если вы человек, играющий роль мертвеца, то вы заслуживаете пули. Вы не хотите? Ладно! Я стреляю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Вслед за этим раздался выстрел…»
И тут на дорожке появились Катя, Таня и Лиля.
— А что я вам говорила?… — торжествовала Лилька. — Шура, слушай, что я скажу… Ты сейчас умрешь!
Но Шура не умерла. Зато чуть не умерла ее соседка — нянька с грудным младенцем на руках.
Пока девочки наперебой рассказывали о крокодиле и скворце, она ахала и в волнении подбрасывала младенца все выше и выше. Так что, если бы рассказ продолжался еще немного, бедный младенец очутился бы на дереве.
— Не врешь? — спросила нянька. — А ну, пошли!
И, поймав на лету младенца, соскочила со скамейки.
Все побежали — ведь уже было время кормить кроликов.
Вслед за этим раздался выстрел…»
И тут на дорожке появились Катя, Таня и Лиля.
— А что я вам говорила?… — торжествовала Лилька. — Шура, слушай, что я скажу… Ты сейчас умрешь!
Но Шура не умерла. Зато чуть не умерла ее соседка — нянька с грудным младенцем на руках.
Пока девочки наперебой рассказывали о крокодиле и скворце, она ахала и в волнении подбрасывала младенца все выше и выше. Так что, если бы рассказ продолжался еще немного, бедный младенец очутился бы на дереве.
— Не врешь? — спросила нянька. — А ну, пошли!
И, поймав на лету младенца, соскочила со скамейки.
Все побежали — ведь уже было время кормить кроликов.
9
Выкинув кролика из квартиры на лестницу, папа вернулся в комнату и удовлетворенно потер руки. Наконец-то он избавился от этого отвратительного кота! Больше никто не помешает ему доиграть «Дьявольские трели». — Посмотрим, как ты теперь влезешь! — злорадно пробормотал папа и поднял скрипку к подбородку. Он полузакрыл глаза и взял первую ноту… Вторую он взять не успел — раздался отчаянный скрип двери. Папа похолодел: в комнате опять сидел белый кот! — Не может быть! — жалобно сказал папа, и смычок выпал у него из рук. Белое пятно нахально двигалось через комнату странными прыжками. Папа был уверен, что кот это делает нарочно, чтобы показать, что ему наплевать на хозяина и на все его замки и задвижки. Кот скрылся под диваном. — Этот кот сведет меня с ума, вот увидите! — мрачно сказал папа и пошел за шваброй. А второй кролик (это был он) спокойно сидел под диваном и грыз морскую травинку, выпавшую из матраца. Но он не успел ее догрызть: вошел папа со шваброй. — Нет, я этого кота усмирю! — говорил папа, тыкая шваброй под диван. Кролик выскочил и забрался под шкаф. — Нет, я этого кота достану! — шипел папа и шарил шваброй под шкафом… — Я этому проклятому коту покажу! — сказал он и вытолкнул кролика. Тот попытался было спастись под сундуком, но папа настиг его. — Ага! Ты у меня теперь поскрипишь, поганый кот! — торжествующе крикнул папа, схватил кролика, швырнул его в шкаф и быстро запер дверцы на два оборота. — Теперь мяукай сколько хочешь! — весело сказал он и прислушался. Мяуканья не было. После стольких переживаний папа почувствовал, что нервы его сдали. И, пожалуй, ему не сыграть «Дьявольские трели» так, как следовало бы. Придется принять валерьянки. Папа направился к висячему шкафчику, где была домашняя аптечка, и начал шарить среди пузырьков, поднося их к самому носу. Все попадалось что-то не то: рыбий жир, мыльный спирт, касторовое масло… Пока папа искал успокоительные капли, он расстраивался все больше и больше. Наконец, совершенно расстроившись, он отыскал зловредный пузырек позади всех аптечных склянок. Он взял рюмку и, усевшись в кресло, стал осторожно капать лекарство, медленно считая шепотом: — Раз… два… три… А настоящий кот спал на шкафу в коридоре. Иногда он вздрагивал во сне и выпускал когти. Наверно, ему снилось, что он все-таки поймал мышь… Вдруг кот открыл один глаз и повел носом. Он почуял пленительный и неотразимый запах. Это пахла валерьянка. А как известно еще по «Тому Сойеру» для кошек нет ничего вкуснее лекарства. И любой кот готов бежать за ним на край света. Кот облизнулся, слетел со шкафа и помчался в папину комнату, не разбирая дороги. Папа сидел в кресле и считал: — Десять… одиннадцать… двенадцать… И в то мгновение, когда папа произнес «тринадцать», в комнату с отчаянным мяуканьем ворвался кот. Рюмка и пузырек выпали из папиных рук. Кот, урча, набросился на разлившуюся валерьянку. — Опять он… — прошептал папа. Он поглядел на кота, потом перевел глаза на шкаф. Ключ торчал в замке! Папа встал и подергал дверцу. Шкаф был заперт на два оборота. Папа опять посмотрел на кота, и ему стало не по себе. Он не мог понять, как один и тот же кот может в одно и то же время находиться на лестничной площадке, в запертом шкафу и в комнате?! Кот вылизал досуха пол и жалобно замяукал. Но валерьянки больше не было. Тогда кот пошел по комнате в неопределенном направлении и вдруг увидел кота в большом зеркале. Он зашипел и бросился на противника, подпрыгнув на метр от пола. Стукнувшись лбом о стекло, кот свалился на пол. Потом он с презрением повернулся спиной к зеркалу и направился в противоположный угол. По дороге он зачем-то вскочил на рояль. И тут он увидел на стене картину, на которой была нарисована Африка. Кот решил напасть на Африку. Он прыгнул и повис, вцепившись одной лапой в верблюда, а другой в облака. И все это: кот, картина и гвоздь с веревочкой — с треском рухнуло на пол. Папа сидел в кресле и безмолвно смотрел на кота. А кот, разделавшись с Африкой, испустил воинственный вопль и стал праздновать победу. Он катался клубком, перелетал со шкафа на окно, с окна на печку, сбивая при этом все, что только можно было сбить. — Ничего подобного… — сказал папа. — Я же знаю, что так не бывает!.. В это мгновение в комнату влетел скворец, которого Милка выпустила из клетки. Увидев кота, скворец заметался под потолком. Но папа смотрел только на кота и не заметил птицы. Сбив последний цветочный горшок, кот стряхнул с лапы землю и пристально поглядел на папу. И тут папа явственно услыхал, как кот крикнул: — Здрассьте! Папа сжал виски пальцами. — Во-первых, ни в какие сказки я не верю, — твердо сказал он. — Во-вторых, чудес не бывает. Для всего существуют строго научные объяснения. Научные! Кот прыгнул на этажерку и свалился вместе с нотами. — Очень просто, — сказал папа. — Перед нами самый обыкновенный… — Здрассьте! — крикнул скворец с карниза. — …говорящий кот. Вот и всё, — продолжал папа. — Обыкновенная галлюцинация. Или мираж. Но они, кажется, бывают только в пустынях? В общем, холодный компресс на голову — и все пройдет… Папа медленно пошел к двери. — Шагом марш! — крикнул скворец. — Попрошу без хулиганства, — сухо заметил папа и вышел из комнаты.
В ванной он снял с крючка мохнатое полотенце, открыл кран и наклонился. Из воды прямо на него смотрел крокодил.
— Ах, вот что! — протянул папа и опустился на табуретку.
Он посидел немного, закрыв глаза. Потом встал и на цыпочках вышел из ванной. Он прошелся по коридору, постоял перед дверью. Потом рывком открыл дверь и заглянул в ванну.
Крокодил не исчез. Он бил хвостом, разевая зубастую пасть.
Папа перекинул полотенце через плечо и медленно вернулся в свою комнату. Он решил, что лучше всего уйти. Куда-нибудь…
Папа отпер платяной шкаф, чтобы взять шляпу.
Первое, что он увидел, был белый кролик, который уютно дремал в его фетровой шляпе.
Но папе уже было все равно — что бы там ни сидело. Махнув рукой, он повернулся и ушел из дому с полотенцем через плечо.
А скворец, покружившись по комнате, вылетел в открытую форточку.
— Попрошу без хулиганства, — сухо заметил папа и вышел из комнаты.
В ванной он снял с крючка мохнатое полотенце, открыл кран и наклонился. Из воды прямо на него смотрел крокодил.
— Ах, вот что! — протянул папа и опустился на табуретку.
Он посидел немного, закрыв глаза. Потом встал и на цыпочках вышел из ванной. Он прошелся по коридору, постоял перед дверью. Потом рывком открыл дверь и заглянул в ванну.
Крокодил не исчез. Он бил хвостом, разевая зубастую пасть.
Папа перекинул полотенце через плечо и медленно вернулся в свою комнату. Он решил, что лучше всего уйти. Куда-нибудь…
Папа отпер платяной шкаф, чтобы взять шляпу.
Первое, что он увидел, был белый кролик, который уютно дремал в его фетровой шляпе.
Но папе уже было все равно — что бы там ни сидело. Махнув рукой, он повернулся и ушел из дому с полотенцем через плечо.
А скворец, покружившись по комнате, вылетел в открытую форточку.
10
Мы рассказали о Кате, о валерьянке, о бабушке, о «Дьявольских трелях», о коте и Милке, о кроликах и скворце. Но не успели сказать, где же был в это время Митя, что он делал и что думал. А Митя мчался в электрическом поезде к станции Мартышкино, где жил его товарищ Володя. Если уж надо отдавать зверей кому-нибудь, то лучше всего пусть их берет Володя. Митя смотрел в окно, где, поднимаясь и опускаясь, бежали телеграфные провода. Он вынул расписку и еще раз перечитал. Все было в порядке. Митя уселся поудобнее и опять стал смотреть в окно. Провода поднимались и опускались, поднимались и опускались, и Мите стало казаться, что он опускается и поднимается с ними вместе. Он задремал. Ему приснилось, что он со зверями плывет на плоту по океану. Звери собрались в кружок возле него. Митя в подзорную трубу смотрит на безбрежный океан, и мертвая зыбь качает плот — он поднимается и опускается… А на берегу ждет их Володя, и Володина мама, и Володина тетя. И все протягивают к нему руки. Митя причаливает. Володина мама, нежно улыбаясь, гладит крокодила и щекочет ему шейку… Володина тетя старается завязать огромный бант на шее у кролика… Митя улыбнулся во сне. В это время промчался встречный поезд. По Митиному лицу пробежали полосы света и тени. С его лица слетела улыбка. Ему стало сниться другое. …Кошка прыгнула на скворца и проглотила его. А крокодил прыгнул на кошку и проглотил ее. Тут из дачи выскочила. Володина тетя с ружьем и выстрелила в крокодила. Крокодил взлетел к небу — и вот уже это не крокодил, а гриф из Брема. В когтях он держит эмиду европейскую. Под ним клубятся облака. Хрипло захохотав, гриф разжимает когти. Черепаха летит вниз со страшной высоты, ударяется о скалы и разлетается на тысячи осколков… Каждый осколок превращается в большой мухомор. Кролики бросаются на мухоморы, пожирают их… и падают мертвыми. — Они или я! Они или я! Они или я! — визжит Володина мама. И из дверей дачи вылетают кролики, черепахи, кошки и крокодилы. Дверь захлопывается, исчезают окна, забор, белье на веревке, исчезает дом — всё. На пустом месте сидит черная ворона и, разевая огромный рот, говорит: — Грраждане! Станция Маррртышкино! Митя вздрогнул и проснулся. Поезд стоял на станции. Митя вскочил и побежал к выходу, мрачно бурча: — Так оно и будет. А может, еще хуже.11
Как раз в ту минуту, когда Мите снилась черепаха в когтях грифа, Милка выкатывала во двор кукольную коляску, в которой лежала эта самая черепаха, укрытая одеялом. — Не высовывайся, а то простудишься! — строго сказала Милка и покатила коляску. Вдруг черепаха забарахталась и поползла на подушку. — Не шали! — сказала Милка и стала запихивать ее обратно. И вдруг отдернула руку: — Ай! Черепаха укусила ее за палец. Милка обиделась. — У, какая-то! — сердито сказала она. Подошел знакомый мальчик Лева, с другой улицы. — Ого! — сказал он, глядя на черепаху. — Это да! — Противная! — сквозь слезы сказала Милка. — Где взяла? — Нигде. Она сама взялась. Вот не будешь больше моей дочкой, раз ты такая! — Давай меняться на магнит, — предложил Лева. — Не хочу, — сказала Милка. — Полторы ножницы хочешь? Еще можно резать! — Нет, — сказала Милка. — Ну, что хочешь?
Лева вывернул карманы и высыпал свои сокровища прямо на землю. Они присели на корточки и стали рыться. Лева показывал Милке то одно, то другое и бессовестно расхваливал каждую вещь:
— О! Увеличительное стекло. Лeq \o (у;?)па называется. Что захочешь — можно поджечь… Хочешь, твое платье прожгу?
— Не, — мотала головой Милка.
— Или во! Гвоздь. Знаешь, какой это гвоздь? На нем фотоаппарат висел!
— Не, — говорила Милка.
Лева не унывал:
— Ну, бери гирьку от ходиков. Так и быть! Смотри, как золотая. Видала блеск?
— Нет.
— Здeрово, а?
— Здeрово, — согласилась Милка.
— Гляди: хочешь — стоит, хочешь — лежит. Вот это вещь! Верно, хорошая?
— Плохая, — сказала Милка. И вдруг глаза ее загорелись. — А что там, в коробочке, красненькое?
Лева махнул рукой:
— Ерунда — фантики! Больше ничего нету.
— Хочу фантики! — решительно сказала Милка и схватила коробочку.
Лева даже удивился: как дешево досталась ему черепаха! Он отдал Милке фантики и щедро прибавил от себя кусок сургуча и гайку. И, схватив черепаху, умчался с победным криком.
А Милка стала с восторгом выкладывать на скамью фантик за фантиком.
Так исчезла эмида европейская.
— Ну, что хочешь?
Лева вывернул карманы и высыпал свои сокровища прямо на землю. Они присели на корточки и стали рыться. Лева показывал Милке то одно, то другое и бессовестно расхваливал каждую вещь:
— О! Увеличительное стекло. Лeq \o (у;?)па называется. Что захочешь — можно поджечь… Хочешь, твое платье прожгу?
— Не, — мотала головой Милка.
— Или во! Гвоздь. Знаешь, какой это гвоздь? На нем фотоаппарат висел!
— Не, — говорила Милка.
Лева не унывал:
— Ну, бери гирьку от ходиков. Так и быть! Смотри, как золотая. Видала блеск?
— Нет.
— Здeрово, а?
— Здeрово, — согласилась Милка.
— Гляди: хочешь — стоит, хочешь — лежит. Вот это вещь! Верно, хорошая?
— Плохая, — сказала Милка. И вдруг глаза ее загорелись. — А что там, в коробочке, красненькое?
Лева махнул рукой:
— Ерунда — фантики! Больше ничего нету.
— Хочу фантики! — решительно сказала Милка и схватила коробочку.
Лева даже удивился: как дешево досталась ему черепаха! Он отдал Милке фантики и щедро прибавил от себя кусок сургуча и гайку. И, схватив черепаху, умчался с победным криком.
А Милка стала с восторгом выкладывать на скамью фантик за фантиком.
Так исчезла эмида европейская.
12
Надежда Петровна, развесив белье на чердаке, вернулась домой с пустым тазом. Она захлопнула за собой дверь и сразу же поскользнулась на чем-то круглом и растянулась на полу. Таз вылетел у нее из рук и поехал дальше по коридору. Надежда Петровна зажгла свет и увидела репу, а чуть подальше — кочан капусты. Она не могла понять, откуда взялись в квартире овощи, если она готовила сегодня заливное. Но ей некогда было раздумывать об этом. — Безобразие! — сказала она и пошла в комнату. Надежда Петровна собиралась на дачу и кончала последние дела. Посередине комнаты, на полу, была разостлана старая скатерть. На ней лежали две шубы, рыжая лиса, белая муфта и пыжиковая шапка. К стене булавочкой был приколот список: «Что надо сделать». Первые восемнадцать дел были уже вычеркнуты. Осталось еще немного:19. Выстирать белье. 20. Сказать Медведкиной насчет собаки. 21. Меховые вещи на хранение. 22. Купить крысиного яду. 23. Вымыть окно.Вычеркнув пункт 19-й, Надежда Петровна подошла к телефону и позвонила Медведкиной, которая жила в этом же доме, в первом этаже. Она предупредила, что, если Медведкина еще раз выведет свою собаку гулять под ее окнами, она эту собаку обольет кипятком и сообщит куда надо. Потом она повесила трубку и аккуратно вычеркнула пункт про Медведкину. Затем Надежда Петровна надела шляпку, завязала меховые вещи в узел и отправилась а ломбард — сдать их на хранение. Надежда Петровна шла по бульвару, крепко прижимая к себе узел с меховыми вещами. Вокруг нее играли дети, продавщицы звонкими голосами предлагали мороженое и цветы. Ветер шевелил листьями и качал связки воздушных шаров. Но Надежда Петровна ничего этого не видела и не слышала. Она злилась: впереди нее, загородив дорогу, шел какой-то толстяк, неся на голове три огромные коробки. Он старательно обходил детей, чтобы никого не задеть, и очень мешал Надежде Петровне. Навстречу, быстро лавируя между прохожими, бежала Катя с кульком овсянки, а за ней торопились Таня, Лиля, Шура, нянька с младенцем, две неизвестные девочки и мальчик с макаронами, который доедал на бегу седьмую баранку. Катя очень торопилась: уже давно пора было кормить кроликов. И вдруг… Катя с размаху налетела на толстяка с коробками! — Ай! — завизжал толстяк, закачался и сел на землю. Коробки одна за другой опрокинулись на всю компанию. Девочки закричали, замахали руками. Коробки разлетелись; из них посыпались и запрыгали разноцветные мячи — большие и маленькие. — Ой, извините! — с ужасом сказала Катя, глядя на мячи, раскатившиеся по всему бульвару. Самый большой мяч подскочил и стукнул Надежду Петровну. — Хулиганство! — завизжала она. — Безобразие! Толстяк кричал: — Что такое? Идешь, никого не трогаешь, а на тебя налетают! Мячики катились во все стороны. Девочки поднимали толстяка и отряхивали, но он отбивался от них и продолжал кричать: — Сто двадцать пять штук по накладной! А теперь что? Где эти мячики? Он посмотрел на бульвар. Мячики катились и прыгали по всем дорожкам. Дети расхватывали их и принимались играть и бросать друг другу. Вот уже мальчишки начали футбольную тренировку. Сразу в нескольких местах появились «школы мячиков». Детский сад, который чинно шел парами, вдруг рассыпался, и дети с птичьими криками погнались за мячами. Даже взрослые, даже пожилые люди с улыбками поднимали мячи. Это была неожиданная, странная и прелестная картина. Одна только Надежда Петровна, мрачная и злая, кричала: — Безобразие! Всех в милицию! Хулиганы!.. Толстяк вдруг замолчал и, наклонив голову набок, посмотрел на веселый бульвар. — Давай собирай, налетай! — крикнул он, входя во вкус игры, и, отмахнувшись от наседавшей на него Надежды Петровны, ринулся собирать мячи. Катя и вся ее компания, разумеется, бросились ему помогать. — А сколько было мячиков? — спросила Катя. — Сто двадцать пять по накладной! — крикнул толстяк. Надежда Петровна, конечно, так бы этого дела не оставила: мячиком ее ведь все-таки стукнули. Но тут она увидела девушку, которая несла что-то завернутое в простыню, и подумала, что в ломбарде, наверно, большая очередь. И она кинулась бежать, стараясь обогнать девушку.
 Но в ломбарде, в отделе «Хранение», очереди не было. Надежда Петровна сразу попала к оценщику. И пока он на прилавке просматривал вещи, Надежда Петровна вынула из сумочки свой список и стала вычеркивать пункт 21-й — о шубах.
Оценщик сказал:
— Шуба мужская хорьковая одна, — и записал в квитанцию.
Затем он встряхнул вторую шубу. Оттуда что-то выпало.
— Кроликов не принимаем, гражданка, — вдруг сказал он.
— Какой же это кролик? — обиделась Надежда Петровна. — Это австралийский кенгуру!
— Кто — кенгуру? Он — кенгуру? — спросил оценщик и поднял за уши белого кролика.
Надежда Петровна в первое мгновение ничего не могла сказать и только хлопала глазами.
— Знаете что? — наконец сказала она. — Не морочьте мне голову!
— Гражданка! — строго сказал оценщик и постучал карандашом по прилавку. — Не будем спорить, забирайте ваше животное.
Надежда Петровна вспыхнула:
— Мало я дома терплю от кошек, так мне еще в ломбардах зайцев подсовывают! Ни в одном учреждении зайцев не дают, только у вас почему-то!
— Гражданка! — сказал оценщик. — Во-первых, это не заяц, а кролик. Во-вторых, поскольку он выпал из вашей шубы, это ваш кролик. Если бы выпал из моей шубы, он был бы мой кролик, — мирно прибавил он и погладил кролика.
Но Надежда Петровна не сдавалась:
— Я понимаю, если в шубе моль заведется. Но чтобы в шубе кролики завелись…
Тут она поперхнулась и покрылась красными пятнами. Она вспомнила, что ее дверь оставалась открытой несколько минут, пока она ходила на чердак.
— А в общем, — сказала она, — от моих соседей всего можно ожидать. Я даже знаю, кто это сделал… Медведкина!
Она схватила кролика и завернула в скатерть.
Выйдя из ломбарда, Надежда Петровна помчалась прямо домой, не заходя за крысиным ядом. Она была слишком возмущена.
Но в ломбарде, в отделе «Хранение», очереди не было. Надежда Петровна сразу попала к оценщику. И пока он на прилавке просматривал вещи, Надежда Петровна вынула из сумочки свой список и стала вычеркивать пункт 21-й — о шубах.
Оценщик сказал:
— Шуба мужская хорьковая одна, — и записал в квитанцию.
Затем он встряхнул вторую шубу. Оттуда что-то выпало.
— Кроликов не принимаем, гражданка, — вдруг сказал он.
— Какой же это кролик? — обиделась Надежда Петровна. — Это австралийский кенгуру!
— Кто — кенгуру? Он — кенгуру? — спросил оценщик и поднял за уши белого кролика.
Надежда Петровна в первое мгновение ничего не могла сказать и только хлопала глазами.
— Знаете что? — наконец сказала она. — Не морочьте мне голову!
— Гражданка! — строго сказал оценщик и постучал карандашом по прилавку. — Не будем спорить, забирайте ваше животное.
Надежда Петровна вспыхнула:
— Мало я дома терплю от кошек, так мне еще в ломбардах зайцев подсовывают! Ни в одном учреждении зайцев не дают, только у вас почему-то!
— Гражданка! — сказал оценщик. — Во-первых, это не заяц, а кролик. Во-вторых, поскольку он выпал из вашей шубы, это ваш кролик. Если бы выпал из моей шубы, он был бы мой кролик, — мирно прибавил он и погладил кролика.
Но Надежда Петровна не сдавалась:
— Я понимаю, если в шубе моль заведется. Но чтобы в шубе кролики завелись…
Тут она поперхнулась и покрылась красными пятнами. Она вспомнила, что ее дверь оставалась открытой несколько минут, пока она ходила на чердак.
— А в общем, — сказала она, — от моих соседей всего можно ожидать. Я даже знаю, кто это сделал… Медведкина!
Она схватила кролика и завернула в скатерть.
Выйдя из ломбарда, Надежда Петровна помчалась прямо домой, не заходя за крысиным ядом. Она была слишком возмущена.
13
Запыхавшийся толстяк сидел на скамейке бульвара. Он держал на коленях две помятые коробки. Третья, раздавленная, валялась на земле. Девочки бегали в разные стороны и собирали мячи. Маленькие девочки и мальчики из детского сада, дети с няньками и бабушками, наигравшиеся футболисты, разные прохожие — приносили ему мячи, а он считал: — Девяносто четыре. Спасибо… Девяносто пять. Чувствительно благодарен… Девяносто шесть. Мерси… Девяносто семь. Больше не лезет!.. Девяносто восемь. Придется вам подержать пока… Девяносто девять, — жалобно сказал он. — А класть некуда! Тут вмешалась Таня и стала командовать: она сама принимала мячики и совала их Кате, Шуре, Лиле, неизвестным девочкам и мальчику с макаронами. Даже нянька охотно брала мячи и ловко начиняла ими конвертик младенца. Толстяк улыбался во весь рот и считал: — Сто двадцать четыре, сто двадцать пять… Все! Сто двадцать шесть! — вдруг сказал он, пораженный. — А сколько было? — спросила Катя. — Сто двадцать пять по накладной! — сказал толстяк. Все удивились и тут же пересчитали мячики: нет, все было правильно — их было сто двадцать шесть. Откуда взялся лишний мяч — так и осталось тайной. Толстяк закрыл обе коробки и поставил себе на голову. Но что было делать с остальными мячами? — Далеко идти-то? — осведомилась нянька, запихивая обратно вылезавший из конвертика мяч. — Рукой подать! — обрадовался толстяк. — Вот в тот «Детский мир», за углом. И процессия двинулась к универмагу «Детский мир», который и на самом деле был за углом, только не за первым, а за седьмым. Катя шла, прижимая к себе кулек с овсянкой, один большой мяч и три маленьких. Она горько вздыхала, думая о проснувшейся Милке и о голодных кроликах… Что бы с ней было, если бы она знала, что один из этих кроликов стремительно приближается к ней, завернутый в старую скатерть! А между тем так оно и было. Им навстречу мчалась Надежда Петровна, размахивая завернутым кроликом. Она врезалась в процессию с мячами, прошипела: «Безобразие!», растолкала всех локтями и побежала еще быстрее. Ее гнали злые мысли. «Конечно, они… — бормотала она. — Медведкины. Все соседи сговорились против меня, все! Главное, знают, что я терпеть не могу животных, и нарочно подсовывают то котов, то псов, то кроликов… Но погодите! Я с этой Медведкиной посчитаюсь! Я ей покажу!..» Надежда Петровна промчалась по двору. Ее мучила мысль, что Медведкины сейчас потешаются над ней. Она решила их разоблачить.
Тихонько подкравшись к окну квартиры Медведкиных, Надежда Петровна стала подслушивать.
Медведкины в самом деле разговаривали, но совсем не о ней.
— Я думаю, торт, — сказала Медведкина.
— Конечно, торт. С кремом, — согласился ее сын Саша, ученик музыкальной школы.
— Ну что ж, — заключил Медведкин, — не возражаю.
— Так ты сам его и купи, — предложила Медведкина.
Медведкин согласился и сказал только, что пришлет торт с кем-нибудь со службы, потому что возвращаться ему некогда.
Разговор на этом кончился. Но Надежда Петровна не успокоилась. Она почему-то еще больше уверилась в том, что кролика ей подбросила именно Медведкина.
У Надежды Петровны созрел план мести, и она помчалась домой.
Дома она вытащила из шкафа большую коробку из-под торта, вытряхнула на стол тесемочки, ленточки, кусочки кружев и старые перчатки. Потом посадила туда кролика, обложила ватой, чтобы он не мог шевелиться, проделала сбоку маленькую дырочку для воздуха и аккуратно перевязала коробку ленточкой.
— С кремом!.. — хихикнула она.
Она подождала некоторое время, пока, по ее расчетам, Медведкин мог купить торт и прислать его со службы домой. Потом закуталась в пальто, спустилась по лестнице и позвонила Медведкиной.
— От Александра Иваныча! — пропищала Надежда Петровна, пряча лицо. Сунула в открывшуюся дверь коробку и убежала.
Надежда Петровна промчалась по двору. Ее мучила мысль, что Медведкины сейчас потешаются над ней. Она решила их разоблачить.
Тихонько подкравшись к окну квартиры Медведкиных, Надежда Петровна стала подслушивать.
Медведкины в самом деле разговаривали, но совсем не о ней.
— Я думаю, торт, — сказала Медведкина.
— Конечно, торт. С кремом, — согласился ее сын Саша, ученик музыкальной школы.
— Ну что ж, — заключил Медведкин, — не возражаю.
— Так ты сам его и купи, — предложила Медведкина.
Медведкин согласился и сказал только, что пришлет торт с кем-нибудь со службы, потому что возвращаться ему некогда.
Разговор на этом кончился. Но Надежда Петровна не успокоилась. Она почему-то еще больше уверилась в том, что кролика ей подбросила именно Медведкина.
У Надежды Петровны созрел план мести, и она помчалась домой.
Дома она вытащила из шкафа большую коробку из-под торта, вытряхнула на стол тесемочки, ленточки, кусочки кружев и старые перчатки. Потом посадила туда кролика, обложила ватой, чтобы он не мог шевелиться, проделала сбоку маленькую дырочку для воздуха и аккуратно перевязала коробку ленточкой.
— С кремом!.. — хихикнула она.
Она подождала некоторое время, пока, по ее расчетам, Медведкин мог купить торт и прислать его со службы домой. Потом закуталась в пальто, спустилась по лестнице и позвонила Медведкиной.
— От Александра Иваныча! — пропищала Надежда Петровна, пряча лицо. Сунула в открывшуюся дверь коробку и убежала.
14
Митя нашел Володю в большом сарае. Он накачивал шину велосипеда. На стенах висели лук со стрелами, запасное колесо и пугач. Сквозь щели светило солнце. Луч падал на старую бочку с зеленой водой. Из воды торчал кусок обруча, а вокруг него скользили, как на коньках, длинноногие водомеры. В углу Стояли роллер и удочка. В другом углу лежало сено. А под самой крышей с писком возились воробьи. — А, это ты? — обрадовался Володя. — Тут мой кабинет. Правда, здорово устроился? Митя облегченно вздохнул — тут хватит места для целого зверинца! И он выложил всю историю. Володя слушал его молча и хмурился. — Ну вот… Берешь, что ли? — спросил Митя, кончив рассказ. Володя швырнул насос на землю и поднялся. — Балда! — сказал он. — Почему — балда? — Потому что балда! Мальчики помолчали. — Так берешь, что ли?. - упавшим голосом спросил Митя. — Кого брать? — Зверей. Володя уничтожаюше посмотрел на Митю: — Хватился! Да их давно уже на свете нет. Отдал неизвестно кому! Лучше бы ты их прямо утопил! — Я же расписку взял… — жалобно пробормотал Митя, показывая бумажку. — Поможет твоя расписка! Митя побледнел. Мальчики поглядели друг на друга и, не сговариваясь, побежали к станции.15
Папа ушел, а кран в ванне остался открытым. Да и кто помнил бы о кране, когда такое творилось в доме! Вода в ванне все поднималась. И крокодил поднимался вместе с ней, покачиваясь на поверхности. Когда он поднялся настолько, что мог дотянуться до полочки, он проглотил мыло «Идеал» и уже повернулся к зубной щетке, как вдруг на подоконник открытого окна села птичка. Крокодил уставился на нее и подплыл ближе. Птица беззаботно прыгала по подоконнику. Вода поднялась уже так высоко, что крокодил спокойно перелез через край ванны на подоконник. Птица с любопытством смотрела на него одним глазом, склонив головку набок. Крокодил полез по подоконнику. — Шагом марш! — крикнул скворец и, вспорхнув, скрылся в синем небе. А крокодил перелез на карниз и пополз над улицей. Надежда Петровна стояла на подоконнике и мыла окно. Она выполняла 23-й пункт своего списка дел. Рядом с нею стоял таз, а на полу — ведро с грязной водой. Ей было весело. Она терла стекла мыльной мочалкой и пела:16
Сдав мячики в «Детский мир», Катя помчалась домой. Надо было как можно скорее кормить кроликов. Катя бежала со всех ног, а от неё не отставали Лиля, Таня, Шура, две неизвестные девочки, два чужих мальчика, нянька с младенцем и мальчик с макаронами, который доканчивал восьмую баранку. На этот раз им удалось без всяких приключений добежать до дому. И они вошли во двор. Две девочки посреди двора вертели веревку. Через веревку ловко скакала Нина Комиссарова. Девочки всячески старались ее сбить: вертели то высоко, то низко, то быстро, то медленно, но ничего не могли поделать. Нина скакала как заводная. — Задается!.. — горестно сказала одна девочка. — Катя, покажи ей, чтоб не задавалась. Катя даже не остановилась. В другое время она, конечно, показала бы Нинке Комиссаровой, как скачут по-настоящему. Но сейчас… — Некогда! — сказала она. — Вы куда? — спросили девочки. — Крокодила смотреть! — сказал басом мальчик с макаронами. Девочки ахнули и присоединились к экскурсии. Младенец у няньки начал пищать. — Далеко еще идти-то? — спросила нянька. — Вон уже наше парадное, — сказала Катя. И вдруг на дереве кто-то крикнул: — Здрассьте! На ветке клена сидел скворец. Катя замерла. Сперва она не поняла, что произошло. Потом застонала от ужаса. — Государственное имущество!.. — в отчаянии прошептала она. Младенец заорал. Скворец вспорхнул и исчез в небе. Зарыдав, Катя бросилась к дому.17
Перед скамейкой на корточках сидела Милка. Рядом с ней стояла пустая кукольная коляска. Милка втыкала фантики в щели скамейки. Это были гости. Уже пришли «Белочка», «Тузик», «Петушок», «Раковая шейка» и «Антракт». — Вот еще рыбка пришла, — приветливо бормотала Милка, втыкая в щель «Золотую рыбку». — Садитесь, пожалуйста, как вы поживаете? Я хорошо. Кушайте торт. Милка подала на стол гайку. — Покушайте шоколаду, — сказала Милка самому почетному гостю, «Антракту», и положила перед ним кусочек сургуча. — А теперь, гости, будем играть. Чур, я считаю! И Милка начала считаться:18
Набирая скорость, поезд шел из Мартышкина в город. По-прежнему за окном бежали провода, плавно опускаясь и поднимаясь. У окна сидели Володя и Митя и угрюмо молчали. Всю дорогу до станции и пока на перроне ждали поезда, Володя пилил Митю и довел до того, что Митя стал считать себя убийцей школьных животных. «Балда я, балда!» — с ненавистью к себе думал он. Володя смотрел на него. Поезд мерно постукивал. Володя успокаивался, его злость проходила. Он почувствовал, что перехватил. Не всякая же незнакомая девочка обязательно никудышная! И что в самом деле может случиться с животными за такое короткое время? Ему стало жалко Митю, и он сказал: — Знаешь что? Я там у моря нашел один заливчик. Если его перегородить, можно устроить крокодилу роскошный плавательный бассейн. Ты как считаешь? Митя поднял голову. Значит, есть еще надежда? — Ага! — сказал он, повеселев, и решил выпытать, что думает Володя насчет кроликов. Он небрежно спросил: — А пастбище для кроликов там у тебя найдется? — Ха! — сказал Володя. — Еще какое! Только козу выгоню. И, окончательно успокоившись, мальчики начали обсуждать, как они устроят на даче крокодила, стурнуса и эмиду европейскую.19
Заливаясь слезами, Катя смотрела на пустые клетки. Вокруг молча сидели папа, Милка и бабушка. Лиля, Таня и Шура горестно шептались в углу. Они не знали, как утешить Катю и чем ей помочь. Один только папа был бодр и весел. Как только он узнал от Кати о кроликах, скворце и крокодиле, он совершенно успокоился. Теперь ему все стало ясно. — Хватит плакать! — сказал он. — Сейчас мы их найдем. Все будут искать… Во-первых, подумаем: куда могли деться кролики? Бабушка ахнула и всплеснула руками. — Ах, ворона! — сказала она. — Да ведь я знаю, где он! Я же его сама, своими руками… Бегу! И она выбежала на площадку лестницы. — Прекрасно! — сказал папа. — Кролик есть. Теперь представим себе, что могло случиться с черепахой. Тут Милка заревела: — Я не знала… А она кусалась… А я променяла… — Как — променяла? — спросил папа. — На хорошее, — призналась Милка. — На фантики. — И вытащила из коляски фантики, гайку и сургуч. — Ай-яй-яй! — сказал папа. — Беги меняй обратно! — закричали девочки. Милка быстро собрала фантики, зажала в кулаке сургуч и гайку и убежала. — Ну вот, и черепаха есть, — сказал папа. — А крокодила я беру на себя! Он взял швабру и вышел, напевая: — Крокодил, крокодил, крокодилович… Девочки окружили Катю. Они уже придумали множество способов поймать скворца. Таня сделала петлю из веревочки. Лиля схватила Милкин сачок для бабочек, Шура велела Кате взять сетку от мячика. И они отправились на поиски. Кот остался один. Он умылся, не торопясь прыгнул на подоконник и удалился куда-то по карнизу.20
Надежда Петровна сидела с завязанной головой и дрожала от злости. Раздался звонок. Она подошла к двери и открыла глазок, в который всегда разглядывала приходящих. На площадке стояла бабушка Пастушкова. Надежда Петровна открыла. — Извините, пожалуйста, — смущенно сказала бабушка. — Вот какой случай… — Очень кстати пришли. Будете свидетельницей!.. — Надежда Петровна втащила бабушку в переднюю. — Медведкины сговорились меня убить. Вот!.. — Она взяла с подзеркальника капусту и репку и показала бабушке: — Видите? Это они подбросили специально для того, чтобы я получила сотрясение мозга! — Это не Медведкины… — виновато сказала бабушка. — Это я. — Вы?… Не может быть! Не защищайте!.. — Надежда Петровна подозрительно смотрела на бабушку: — А кролика, скажете, тоже вы?… — И кролика, — созналась бабушка. Надежда Петровна задохнулась от возмущения: — А крокодил чей? — Катенькин, — сказала бабушка. — Вон из моего дома! — крикнула Надежда Петровна и швырнула в бабушку кочан капусты. — Вот так я вышвырнула этого кролика, и так буду вышвыривать всех, кого мне еще подбросят!.. Так и передайте! — Она захлопнула дверь. Бабушка заморгала глазами и машинально подняла капусту. Она представила себе плачущую Катеньку и стала стучать в дверь. — Бессовестная! — крикнула бабушка. — Мучительница! Дверь не открывалась. — Никому от нее в доме житья нет!.. — разошлась кроткая бабушка и стучала кочаном в дверь. — Отдайте кролика!.. Отдайте, говорю! Худо будет! Не позволю ребенка обижать!.. Побуйствовав перед дверью, бабушка заплакала и пошла домой. — Зажарила и съела, бессовестная! — сказала она, всхлипывая.21
Милка бегала по бульвару с фантиками и искала Леву. Его нигде не было. Но Милка знала, что он живет в доме с тремя дворами, и побежала туда. В первом дворе Левы не было. Во втором — тоже. А из третьего двора раздавались такие пронзительные звуки, что Милка побоялась идти. К счастью, туда как раз шла почтальонша с сумкой. Милка осторожно пошла за ней. В третьем дворе, на высокой поленнице дров, сидел Лева и играл на губной гармонике. Милка помчалась к нему. — Бери свои фантики! Отдавай нашу черепаху! — крикнула она. Лева сыграл нечто неописуемое. — Вспомнила черепаху! Я ее на гармошку сменял. — Ее нельзя менять! Нельзя менять — она школьная! — Здравствуйте!.. — удивился Лева. — А раньше ты где была? — Дома… — чистосердечно ответила Милка и рассказала, что у Кати было много школьных зверей и все они почему-то разбежались. — Плохо ваше дело! — сказал Лева. — Знаешь, что полагается за школьное имущество? — Не знаю, — протянула Милка. — В тюрьму посадят! — сообщил Лева. Мила заморгала глазами. — Придется, видно, вас выручать… Скажи еще спасибо, что на меня напали. — Спасибо… — покорно проговорила Милка. Она разжала кулаки и ахнула: — А гайки нету! А все время была! — Ладно, обойдусь, — великодушно сказал Лева. — Идем к Геньке. И они побежали в соседний двор. Геня сидел на балконе. На коленях у него лежала книжка, но он ее не читал. Он обеими руками вцепился себе в волосы и тянул изо всех сил кверху. И при этом дико хохотал. Лева крикнул: — Геня, тащи сюда черепаху! Геня перегнулся через перила и сказал, давясь от смеха: — Сам себя за волосы из болота! С лошадью, понимаешь… — Давай черепаху! — потребовал Лева. — А на что мне черепаха? — удивился Геня. — Мне за нее Валя Мюнхаузена отдал… Барон, понимаешь, летел на ядре и как перескочит на другое!.. Геня опять захохотал. Мила всхлипнула. Лева сурово объяснил Гене, почему нужно вернуть черепаху, и бросил ему гармошку. У Гени сделалось несчастное лицо. — Слушай, девочка, мне только семь страниц осталось! Дай дочитать, а? Но Лева твердо сказал: — Нельзя! И они пошли к Вале.22
На углу стояла толпа. Все смотрели на морду крокодила, которая торчала из водосточной трубы. Все удивлялись: почему африканский крокодил сидит в трубе? Как он туда попал и как его оттуда вытащить? Один гражданин уверял, что крокодил убежал из зоосада и прячется здесь от погони. Другой утверждал, что он выпал из самолета. Многие считали, что здесь просто-напросто будет киносъемка и крокодила посадили заранее, чтоб привык. А дворник сказал, что все это глупости и совсем это не крокодил, а просто кто-то дурака валяет. Мальчишки протягивали крокодилу палки и куски проволоки и весело визжали, когда крокодил щелкал пастью. Только мальчик с макаронами не удивлялся. Он стоял у самой трубы и с восторгом смотрел на крокодила, до которого он наконец-таки добрался. Папа, с трудом раздвигая толпу шваброй, очутился возле трубы.
— Сейчас достанем! — сказал папа деловито и помахал шваброй перед носом крокодила.
Тот щелкнул пастью.
— Ну. давай, давай! — бодро сказал папа. — Вылезай!
Крокодил не шевелился. Папа задумался, опершись на швабру. И вокруг все тоже задумались.
— Намордник надеть, — посоветовал кто-то.
— Попробуй! — сказал другой.
И опять все замолчали.
— А давайте я влезу на крышу и постукаю его сверху гирькой на веревочке! — вдохновенно предложил длинный парень.
— Самого тебя гирькой! — сказал дворник.
— Трубу оторвать, и всё! — вдруг крикнул мальчик с макаронами.
Папа посмотрел на него, потом перевел взгляд на веревочку, на которой еще болтались две баранки.
— Дай-ка баранку! Или две… — задумчиво сказал он.
Мальчик протянул баранки.
Папа снял их с веревочки и нанизал на швабру. Потом взял швабру за оба конца и поднес к морде крокодила.
Крокодил открыл пасть и захлопнул ее, вонзив зубы в баранки и в палку.
Тут все поняли, в чем дело. Со всех сторон протянулись руки и ухватились за концы швабры.
— Эй, ухнем! — сказал длинный парень.
И все разом потянули швабру.
Крокодил вылетел из трубы и повис на швабре, не разжимая зубов.
Мальчики кричали «ура». Папа, мальчик с макаронами и несколько добровольцев торжественно понесли швабру с болтавшимся на ней крокодилом.
За ними бежали мальчики. Со всех сторон из окон высовывались люди и смотрели на это необыкновенное зрелище. Они чувствовали себя совсем как в ложах театра. Но было интереснее, потому что в театрах крокодилов не показывают.
Папа, с трудом раздвигая толпу шваброй, очутился возле трубы.
— Сейчас достанем! — сказал папа деловито и помахал шваброй перед носом крокодила.
Тот щелкнул пастью.
— Ну. давай, давай! — бодро сказал папа. — Вылезай!
Крокодил не шевелился. Папа задумался, опершись на швабру. И вокруг все тоже задумались.
— Намордник надеть, — посоветовал кто-то.
— Попробуй! — сказал другой.
И опять все замолчали.
— А давайте я влезу на крышу и постукаю его сверху гирькой на веревочке! — вдохновенно предложил длинный парень.
— Самого тебя гирькой! — сказал дворник.
— Трубу оторвать, и всё! — вдруг крикнул мальчик с макаронами.
Папа посмотрел на него, потом перевел взгляд на веревочку, на которой еще болтались две баранки.
— Дай-ка баранку! Или две… — задумчиво сказал он.
Мальчик протянул баранки.
Папа снял их с веревочки и нанизал на швабру. Потом взял швабру за оба конца и поднес к морде крокодила.
Крокодил открыл пасть и захлопнул ее, вонзив зубы в баранки и в палку.
Тут все поняли, в чем дело. Со всех сторон протянулись руки и ухватились за концы швабры.
— Эй, ухнем! — сказал длинный парень.
И все разом потянули швабру.
Крокодил вылетел из трубы и повис на швабре, не разжимая зубов.
Мальчики кричали «ура». Папа, мальчик с макаронами и несколько добровольцев торжественно понесли швабру с болтавшимся на ней крокодилом.
За ними бежали мальчики. Со всех сторон из окон высовывались люди и смотрели на это необыкновенное зрелище. Они чувствовали себя совсем как в ложах театра. Но было интереснее, потому что в театрах крокодилов не показывают.
23
Полетав над двором, посидев на крыше с голубями, скворец увидел бабочку и погнался за ней. Промахнувшись, он сел на дерево на бульваре. Это был тот самый бульвар, на котором Катя еще так недавно беззаботно гуляла с мячиком, а Милка меняла черепаху на фантики. Под деревом стояла скамейка, а на скамейке сидела женщина и вышивала цветными нитками. Лицо у этой женщины было симпатичное; она улыбалась каким-то своим мыслям. Но вот она увидела, что к ней приближается ее бывшая подруга. И лицо у женщины стало злое и обиженное. Они раньше дружили, потом поссорились, а из-за чего — обе уже забыли. Но с тех пор они не разговаривали: ни одна не хотела мириться первой. Подойдя, подруга тоже нахмурилась и отвернулась. И вдруг обе женщины услышали: — Здрассьте! Каждая подумала, что это другая поздоровалась первой. Они повернулись друг к другу, улыбнулись и сказали разом: — Здравствуйте! Здравствуйте! — Ну, что пишет ваш Коленька? — А ваша нога прошла? — Ах, какая красивая подушечка! Они уселись рядом и принялись болтать. А скворец увидел майского жука, который летел мимо, гудя, как самолет. Скворец сорвался с дерева, погнался за ним и с разгону вылетел на площадь. На площади шло военное ученье. Не шевелясь стояла рота нахимовцев. На солнце сверкали начищенные пуговицы и поясные пряжки. Мальчик чуть постарше был командиром. Прищурившись, он окидывал счастливым взглядом строй. Ему очень нравилось командовать. Он только открыл рот, чтобы крикнуть: «Вольно!» — как вдруг четко раздалась команда: — Шагом марш! И вся рота двинулась вперед, чеканя шаг, прямо на командира. Пораженный командир попятился. А скворец беззаботно вспорхнул и улетел.24
Милка, Лева и Геня шли к Вале. Геня по пути дочитывал книгу. Он шел еле-еле, все время хохотал и натыкался то на тумбу, то на дерево или стенку. А навстречу им шла процессия: несли крокодила, болтавшегося на палке. Генька чуть не наткнулся на крокодила, но даже не взглянул на чудовище: он дочитывал последнюю страницу. Зато Лева так и замер, раскрыв рот. — Ты куда? — спросил папа Милку. — За черепахой, — сказал Лева, почтительно глядя на папу. Он хотел еще поговорить с ним о крокодиле, но тут Генька кончил книжку, захлопнул ее и помчался с такой быстротой, что его сразу не стало видно. Лева схватил Милку за руку, и они помчались следом. Мальчик с макаронами молча отделился от крокодила и понесся за ними. Они нашли Валю на берегу реки. Долговязый Валя стоял по колено в воде и держал длинную веревку, к которой была привязана черепаха. Она плавала где-то посредине реки. Милка очень рассердилась. — Это наша черепаха! — закричала она. — Ее нельзя топить! Вынь сейчас же! — Откуда такая выскочила?… — удивился Валя. — Это моя! — Мы неправильно сменялись, — объяснил Геня. — Она школьная… Вот, бери своего Мюнхаузена. — Хм, — ехидно сказал Валя. — Интересно, какой школы? — Никакой, — ответила Милка. — Просто школьная. — А раз никакой, — заявил Валя, — значит, моя. И всё!.. — Он повернулся спиной и стал дергать веревку, чтобы черепаха нырнула. — Теперь ни за что не отдаст! — озабоченно шепнул Генька. — Я его знаю… — Ничего, — сказал Лева. — Отдаст! Он подошел к Вале поближе. — Ну, хватит! — потребовал он. — Сматывай веревку, слышишь? — А веревка твоя? — ехидно спросил Валька. — Когда захочу, тогда и смотаю. — Говорят же тебе — черепаха школьная! — рассердился Лева. — Была!.. — сказал Валька и свистнул. Такой наглости Лева не стерпел. Он подскочил истукнул Вальку по затылку. Валька немедленно размахнулся, чтобы дать сдачи. Он был длинный и сильный, и Леве плохо пришлось бы, если бы разъяренная Милка в этот момент не ущипнула Вальку за ногу изо всех сил. Тот заорал и выпустил из рук веревку. Конец ее вильнул и скрылся в воде. А посреди реки чуть виднелась над водой черепаха. Стоит ей нырнуть — и никто никогда уже ее не увидит. Милка завизжала. Мальчики остолбенели. — Держи!.. — вдруг сказал басом мальчик с макаронами и сунул Милке кулек. Он разбежался, бросился в воду и нырнул.25
Девочки ходили по бульвару, сыпали крошки и кричали: — Цып, цып, цып! К ним слетались вороны, голуби, воробьи. Раз даже прибежала черная кошка, но скворца не было. — Сейчас прилетит! — утешали девочки заплаканную Катю. Но скворец не прилетал. — Нет, так нельзя! — сказала наконец Таня. — Надо повесить объявление. Она побежала к студенту, который сидел под липой и решал какие-то задачи, и попросила один листок. Пока он вырывал листок из тетради, Таня успела ему все объяснить. И после этого студент дал ей еще толстый сине-красный карандаш. Таня написала большими буквами:ПРОПАЛ ГОВОРЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СКВОРЕЦ, КТО ПОЙМАЕТ ВЕРНУТЬ ПАСТУШКОВЫМ УЛИЦА БЛОХИНА ДОМ 17Девочки повесили объявление на самом видном месте: на трансформаторной будке, рядом с черепом и костями. Они побегали еще. Потом Лиля сказала: — Нет, мы так умрем, а не найдем. Надо разойтись по разным местам. — А кто куда? — спросила Шура. — Сейчас я все сделаю!.. — объявила энергичная Таня. — Давайте тянуть жребий… Верно, Катя? Катя только кивала головой. Она на все была согласна, лишь бы нашелся скворец. Таня разорвала на четыре части билет кинотеатра, на каждом клочке написала что-то и завязала клочки в уголки платка. — Вот… — сказала она и подбросила платок кверху. — Лови! Хватай за уголки! Четыре девочки ухватились за четыре уголка. Развязали узелки. — Мне бульвар! — крикнула Шура. — Мне дворы! — крикнула Лиля. — Умереть! — Мне парк, — грустно сказала Катя. — Мне самое трудное — площадь и фонтан, — объявила Таня и прибавила уверенно: — Ничего, я и там поймаю! И девочки разбежались.
26
Недалеко от реки, в парке, на свежевскопанной земле лежали доски и фанера. Здесь собирались строить киоск для мороженого. В таких местах всегда водятся дождевые черви, и рыболовы приходят сюда их копать. И сейчас здесь сидел на земле один такой рыболов с длинными усами. Он выкапывал червей щепкой и бросал в консервную банку, которая стояла позади него. Рыболов увлекся этим занятием и не заметил, как откуда-то прилетел скворец, заглянул в банку и принялся клевать червей. Так они и действовали: рыболов выкапывал червяка, не глядя швырял в банку, а скворец тут же его проглатывал… А несчастная Катя бродила с сачком по дорожке парка. Она уже ни на что не надеялась. И вдруг… сердце ее забилось: она увидела черную птицу с белыми пестринками! Затаив дыхание, Катя начала подкрадываться, сжимая сачок обеими руками. Скворец спокойно клевал червей. Катя подкралась совсем близко и обошла скворца так, чтобы он ее не увидел. Она замерла, подняла сачок и… Усатый рыболов обернулся. Он увидел пустую банку и скворца с червяком в клюве. — Ах, ты! — крикнул он. — Здрассьте! — ответил скворец. Катя с размаху опустила сачок и, промахнувшись, надела его на голову рыболова.
Все это произошло в один миг. В следующее мгновение скворец уже был высоко в небе и скрылся.
— Извините! — печально сказала Катя, сняла сачок с головы рыболова и побрела обратно.
А рыболов, окаменевший от изумления, долго еще сидел и смотрел в пустую банку.
Катя шла, опустив голову, плакала, и на дорожке за нею оставались капли, как после дождя. Так она медленно подошла к дому. А поднимаясь по ступенькам, то задерживала шаг, то бежала, то надеялась, что все звери вдруг нашлись и ждут ее дома, то боялась узнать, что их по-прежнему нету.
Дома был один крокодил.
Катя поглядела на него и отвернулась. Бабушка старалась не смотреть на Катю: ее сердце не выдерживало.
Катя забилась в угол дивана и с ужасом стала ждать звонка. И звонок раздался — длинный, громкий, пронзительный.
У Кати не хватило духа идти открывать. Пошла бабушка.
В комнату ворвались Милка и мальчик с макаронами. От быстрого бега Милка вся взмокла, а мальчик с макаронами высох после купанья.
Они притащили черепаху!
Катя засмеялась от радости. Ей даже показалось на минуту, что дела уж не так плохи. Но только на минуту. Ведь ни кроликов, ни скворца не было!
— Главное — крокодил! — сказал папа, успокаивая. — Кроликов и скворцов всегда можно достать.
— Ну да! — мрачно отозвался мальчик с макаронами.
— А мы сейчас позвоним в зоомагазин и выясним, есть ли там кролики.
— Нету, — сказал мальчик с макаронами.
— Это мы еще посмотрим… — усмехнулся папа и снял телефонную трубку.
Нагулявшийся кот лениво заглянул в окно с карниза. И вдруг он пригнулся, хищно повел усами, огромным прыжком перелетел через комнату мимо папы, чуть не сбив его с ног, и кинулся в шкаф. Папа вздрогнул:
— Опять!..
Кот исчез в шкафу.
Там послышался шум и возня… Дверца распахнулась. Из шкафа вылетел белый клубок, прокатился по полу и распался на кота и кролика.
— Ах! — крикнула Катя, поймала и прижала к себе кролика.
Но тут же испугалась, что затискает, и посадила кролика в клетку.
— Вот тебе здравствуйте! — просияла бабушка. — Это, наверно, и есть мой кролик!
— Нет уж, извините! — сказал папа, которому еще кое-что стало ясно. — Это мой кролик!
Но чей бы он ни был, его уже давно пора было кормить. Катя насыпала овсянки, а бабушка принесла из кухни капустный лист.
Милка и мальчик с макаронами, сидевшие перед ящиком с крокодилом, перешли к кролику и присели перед ним.
Мальчик угостил кролика макарониной из своего кулька.
— Вот и хорошо! — бодро сказал папа. — Теперь не надо покупать двух кроликов. Достаточно будет одного.
Бабушка вдруг засуетилась и начала открывать все шкафы и выдвигать все ящики в квартире. Но ее кролика нигде не оказалось.
А кот, выяснив, что это опять не мышь, на что он так рассчитывал, обиделся и снова ушел в окно.
Раздался звонок, совсем тихий.
Но Кате показалось, что над ее головой прогремел гром.
— Поздно. Это он! — прошептала Катя, прижав руки к груди.
Она встала. Она уже видела, как входит Митя и держит в руках страшную расписку. А там написано:
…обещаю вернуть в целости и сохранности школьное имущество…
Катя стиснула руки и прошептала:
— Мальчик… я не сохранила государственное имущество!
Звонок раздался еще раз. Бабушка бросилась к Кате:
— Катенька, это все я, старая ворона, виновата! Не плачь, я сама с ним поговорю…
Папа покрутил головой, вздохнул и пошел в переднюю. Милка от страха полезла под кровать.
— Куда ты? — спросил мальчик с макаронами, но она не ответила.
Папа открыл дверь.
— А, Саша! — обрадовался он. — Здорово, Саша Медведкин! Рад тебя видеть, Саша Медведкин!
Саша, чистенький, аккуратный, вошел в переднюю и вытер ноги о коврик. Потом откашлялся и сказал:
— Большое спасибо! От мамы, и от папы, и от меня.
— Не провалился? — спросил Пастушков,
— Пятерка! — сияя, сказал Саша. — За двойные ноты и этюды Крейцера. Как раз за то, что вы мне велели играть по три часа!
— Ну что ж, — сказал папа, — поздравляю нового ученика музыкальной школы и будущую первую скрипку нашей филармонии!
Они засмеялись.
Катя с размаху опустила сачок и, промахнувшись, надела его на голову рыболова.
Все это произошло в один миг. В следующее мгновение скворец уже был высоко в небе и скрылся.
— Извините! — печально сказала Катя, сняла сачок с головы рыболова и побрела обратно.
А рыболов, окаменевший от изумления, долго еще сидел и смотрел в пустую банку.
Катя шла, опустив голову, плакала, и на дорожке за нею оставались капли, как после дождя. Так она медленно подошла к дому. А поднимаясь по ступенькам, то задерживала шаг, то бежала, то надеялась, что все звери вдруг нашлись и ждут ее дома, то боялась узнать, что их по-прежнему нету.
Дома был один крокодил.
Катя поглядела на него и отвернулась. Бабушка старалась не смотреть на Катю: ее сердце не выдерживало.
Катя забилась в угол дивана и с ужасом стала ждать звонка. И звонок раздался — длинный, громкий, пронзительный.
У Кати не хватило духа идти открывать. Пошла бабушка.
В комнату ворвались Милка и мальчик с макаронами. От быстрого бега Милка вся взмокла, а мальчик с макаронами высох после купанья.
Они притащили черепаху!
Катя засмеялась от радости. Ей даже показалось на минуту, что дела уж не так плохи. Но только на минуту. Ведь ни кроликов, ни скворца не было!
— Главное — крокодил! — сказал папа, успокаивая. — Кроликов и скворцов всегда можно достать.
— Ну да! — мрачно отозвался мальчик с макаронами.
— А мы сейчас позвоним в зоомагазин и выясним, есть ли там кролики.
— Нету, — сказал мальчик с макаронами.
— Это мы еще посмотрим… — усмехнулся папа и снял телефонную трубку.
Нагулявшийся кот лениво заглянул в окно с карниза. И вдруг он пригнулся, хищно повел усами, огромным прыжком перелетел через комнату мимо папы, чуть не сбив его с ног, и кинулся в шкаф. Папа вздрогнул:
— Опять!..
Кот исчез в шкафу.
Там послышался шум и возня… Дверца распахнулась. Из шкафа вылетел белый клубок, прокатился по полу и распался на кота и кролика.
— Ах! — крикнула Катя, поймала и прижала к себе кролика.
Но тут же испугалась, что затискает, и посадила кролика в клетку.
— Вот тебе здравствуйте! — просияла бабушка. — Это, наверно, и есть мой кролик!
— Нет уж, извините! — сказал папа, которому еще кое-что стало ясно. — Это мой кролик!
Но чей бы он ни был, его уже давно пора было кормить. Катя насыпала овсянки, а бабушка принесла из кухни капустный лист.
Милка и мальчик с макаронами, сидевшие перед ящиком с крокодилом, перешли к кролику и присели перед ним.
Мальчик угостил кролика макарониной из своего кулька.
— Вот и хорошо! — бодро сказал папа. — Теперь не надо покупать двух кроликов. Достаточно будет одного.
Бабушка вдруг засуетилась и начала открывать все шкафы и выдвигать все ящики в квартире. Но ее кролика нигде не оказалось.
А кот, выяснив, что это опять не мышь, на что он так рассчитывал, обиделся и снова ушел в окно.
Раздался звонок, совсем тихий.
Но Кате показалось, что над ее головой прогремел гром.
— Поздно. Это он! — прошептала Катя, прижав руки к груди.
Она встала. Она уже видела, как входит Митя и держит в руках страшную расписку. А там написано:
…обещаю вернуть в целости и сохранности школьное имущество…
Катя стиснула руки и прошептала:
— Мальчик… я не сохранила государственное имущество!
Звонок раздался еще раз. Бабушка бросилась к Кате:
— Катенька, это все я, старая ворона, виновата! Не плачь, я сама с ним поговорю…
Папа покрутил головой, вздохнул и пошел в переднюю. Милка от страха полезла под кровать.
— Куда ты? — спросил мальчик с макаронами, но она не ответила.
Папа открыл дверь.
— А, Саша! — обрадовался он. — Здорово, Саша Медведкин! Рад тебя видеть, Саша Медведкин!
Саша, чистенький, аккуратный, вошел в переднюю и вытер ноги о коврик. Потом откашлялся и сказал:
— Большое спасибо! От мамы, и от папы, и от меня.
— Не провалился? — спросил Пастушков,
— Пятерка! — сияя, сказал Саша. — За двойные ноты и этюды Крейцера. Как раз за то, что вы мне велели играть по три часа!
— Ну что ж, — сказал папа, — поздравляю нового ученика музыкальной школы и будущую первую скрипку нашей филармонии!
Они засмеялись.
 — Спасибо, — сказал Саша. — Мама, папа и я очень просим вас принять… наш скромный… вот… с кремом!
И он вынул из-за спины большую коробку с тортом.
— Ну, это уж ты, брат… — смущенно сказал папа.
Но Саша сунул ему торт в руки, выскочил за двери, еще раз крикнув с лестницы:
— Спасибо!
Папа вернулся в комнату, где молча сидели все остальные.
— Никогда не знаешь, что будет в следующую минуту! — весело сказал он. — В общем, давайте пока что тарелки и большой нож!
— А мне сюда! — сказала Милка из-под кровати.
Бабушка быстро расставила тарелки, а папа большим ножом разрезал ленточки и снял с торта крышку.
Из коробки с ватой выпрыгнул на скатерть белый кролик.
— Не может быть! — сказал папа и сел мимо стула.
— Спасибо, — сказал Саша. — Мама, папа и я очень просим вас принять… наш скромный… вот… с кремом!
И он вынул из-за спины большую коробку с тортом.
— Ну, это уж ты, брат… — смущенно сказал папа.
Но Саша сунул ему торт в руки, выскочил за двери, еще раз крикнув с лестницы:
— Спасибо!
Папа вернулся в комнату, где молча сидели все остальные.
— Никогда не знаешь, что будет в следующую минуту! — весело сказал он. — В общем, давайте пока что тарелки и большой нож!
— А мне сюда! — сказала Милка из-под кровати.
Бабушка быстро расставила тарелки, а папа большим ножом разрезал ленточки и снял с торта крышку.
Из коробки с ватой выпрыгнул на скатерть белый кролик.
— Не может быть! — сказал папа и сел мимо стула.
27
Наглотавшись червей, скворец захотел пить. Сверху он заметил фонтан и сел на голову мраморной купальщицы, которая уже семь лет тщетно пыталась прыгнуть в воду. Чтобы напиться, скворцу нужно было слететь чуть пониже. Он весело крикнул: — Здрассьте! Но это было его роковой ошибкой. — Тот самый! Говорящий! Про которого объявление!.. Лови! — закричали мальчишки. Девочки завизжали. Целая толпа бросилась к бассейну. Перепуганный скворец взлетел и понесся над площадью, так и не успев напиться. А за ним, топоча, показывая пальцами, бежали дети и взрослые… Скворец едва нашел тихое место на дереве, посреди какого-то двора. Дворник только что полил землю, и между камней, освещенная уходящим солнцем, блестела лужица. Скворец опустился и сел на камни. Но он не успел еще погрузить клюв в воду, как раздалось тявканье: к нему со всех ног мчался рыжий щенок. Скворец едва успел взлететь. Он заметался между крышами и сел на самую высокую антенну телевизора. Только тут он почувствовал себя в безопасности и опять захотел пить. В желобке крыши осталось немного ржавой воды, и он вспорхнул туда. И здесь его заметил бабушкин белый кот, гуляющий по крыше. Он не читал объявления, но тоже имел на скворца свои виды. Он подкрался, прыгнул… Скворец рванулся. Кошачья лапа с выпущенными когтями царапнула его по хвосту… Скворец метнулся и стрелой влетел в первое открытое окно. Коту опять не повезло! Скворец ускользнул. Стараясь сохранить достоинство, кот удалился.28
— Спокойно! — сказал папа и потер лоб. — Для всего должно быть строго научное объяснение. Во-первых, тот ли это кролик? — Тот! — крикнула Катя. Ей стало легче: теперь не хватало только скворца. Милка безмятежно играла с кроликами. — Ты будешь как будто заяц… — говорила она одному. — А ты как будто белый медведь, — говорила она другому. — Во-вторых, — продолжал папа, — необходимо выяснить: как твой кролик попал в кондитерскую? — Я раз съел слона из шоколадного крема, — сказал ни к селу ни к городу мальчик с макаронами. — Нет уж, вы как хотите, а тут что-то не то, — вмешалась бабушка. — То или не то, — заявил папа, — а я больше ничему не удивлюсь. Даже если сейчас войдет скворец в шляпе и с тросточкой. Раздался звонок. — Конечно, это он и есть. В шляпе и с тросточкой! — сказал папа. Бабушка пошла открывать. Катя услышала: — Пастушкова Екатерина дома? Это был голос Мити. Катя задрожала, а Милка опять спряталась под кровать. Шаги в коридоре слышались все ближе и ближе. Открылась дверь. На пороге стоял Митя с товарищем. Они подозрительно осмотрели комнату. Увидели ящик с крокодилом, клетку с кроликами, коробку с черепахой… Клетка скворца стояла на подоконнике, как раз за Катиной спиной. Мальчики успокоились. — Здравствуйте! — сказали они. — Мы за ними. Получить по расписке. У Кати пересохло во рту. Но она собралась с духом и уже открыла рот, чтобы сказать: «Мальчики, я не сохранила…», но Митя уже начал читать по бумажке: — «Кроликов ангорских два…» Бабушка поспешно схватила клетку с кроликами и протянула Мите: — Есть, есть кролики! — «Черепаха Эмида европейская одна…» — продолжал Митя. — Есть! — крикнули разом Милка из-под кровати и мальчик с макаронами. Мальчик поставил перед Володей коробку «Скороход». — «Крокодил нильский один…» — прочел Митя. — Крокодил-то есть… — задумчиво сказал папа и подвинул ногой ящик с крокодилом. — А как он в трубе!.. — вдруг захохотал мальчик с макаронами. — Ладно, ладно, чего там! — поспешно перебил папа, и мальчик умолк. — «…Стурнус Вульгарис, скворец говорящий, один», — кончил Митя. Бабушка, папа и мальчик с макаронами жалостно смотрели на Катю. Катя сделала шаг вперед и сказала: — Мальчики! Я не… Но тут за ее спиной раздалось: — Здрасьте! Она оглянулась. Скворец в клетке трепыхался в воде, и брызги летели во все стороны! — Все в порядке! — сказал Митя и поглядел на Володю. Тот кивнул. Веселый папа сидел на диване. — Надеюсь, наши звери вас не очень обеспокоили? — церемонно осведомился Митя. — Да нет, что вы! — хором отозвалась вся семья. А папа добавил: — Если еще раз понадобится оставить… слона там или тигра — не стесняйтесь, милости просим! Тут опять раздался звонок. — Интересно, кто это? — спросил папа. — Кажется, уже все пришли. Он открыл дверь. На пороге стоял Александр Иванович Медведкин с большим тортом в руках. — Слушайте! — сказал папа и взял его за пуговицу. — Скажите честно: где вы взяли нашего кролика? — Какого кролика? — спросил Медведкин. Папа пристально посмотрел в его честные, удивленные глаза и понял, что Медведкин в самом деле ничего не знает о кролике. И это была правда. Захлопотавшись на службе, Медведкин не прислал торта домой. А сейчас, после работы, он не застал жены и сына дома: они ушли в кино. Тогда он сам поднялся с тортом к Пастушковым. Объяснить все это могла бы Надежда Петровна, но к ней никто бы не пошел. — Хорошо все-таки, что в мире есть тайны! — сказал папа, закрывая дверь за Медведкиным. Он вернулся в комнату и объявил: — А теперь, если это действительно торт, а не электрический скат или росомаха, мы его съедим! — Садитесь, садитесь, дорогие гости! — захлопотала бабушка. Папа вооружился ножом, но, прежде чем разрезать ленточку, нагнулся к коробке и прислушался. Внутри было тихо. Папа осторожно разрезал ленточку и поднял крышку. Это был прекрасный кремовый торт. — Я пошел… — вдруг сказал мальчик с макаронами и сполз со стула. Все начали уговаривать его остаться. — Не, — сказал мальчик, беря кулек. — Мама сказала, чтобы через десять минут я был дома с макаронами. А теперь уже, наверное, не десять. Он поглядел в окно. На улице зажглись фонари.
Феликс Зигель ОБИТАЕМ ЛИ МАРС?
Раз дана органическая жизнь, то она должна развиться… до породы мыслящих существ.Ф. Энгельс
В ночь на 9 декабря 1951 года один из японских астрономов вел очередные наблюдения Марса. В поле зрения телескопа, слегка дрожащий от движения воздуха, виднелся красноватый диск соседней планеты. Ее оранжевые пустыни казались такими же неизменными и бесконечно далекими, как и голубовато-зеленые пятна марсианских морей. Даже сверкающая белизной полярная шапка Марса, тающая летом и вновь растущая зимой, за долгие часы наблюдений ни в чем не изменялась. Вдруг астроном ближе прильнул к окуляру телескопа. Ему показалось, что в одном из марсианских морей вспыхнула какая-то яркая белая точка. Явление было настолько неожиданным, что астроном не поверил глазам. Однако яркая точка не исчезала. Прошло две, три, четыре минуты, и вокруг загадочной точки возникло крохотное белое облачко, напоминающее облака, образующиеся при сильных взрывах. Посияв пять минут, яркая точка исчезла так же внезапно, как и появилась, но странное облачко в течение некоторого времени продолжало оставаться видимым. Что же произошло на Марсе? Какие причины породили непонятную вспышку, случайно обнаруженную японским астрономом? А ведь описанный случай не единственный. И в 1937 году, и в 1954 году астрономам удалось заметить на Марсе еще две подобные вспышки, причем последняя из них продолжалась всего около пяти секунд. Соседняя нам планета живет своей таинственной и пока не вполне понятной жизнью. Время от времени астрономы открывают на Марсе странные явления, трудно объяснимые обычными естественными процессами. Совсем недавно, около двух лет назад, на Марсе, к северо-востоку от знаменитого залива Большой Сырт, неожиданно возникла новая темная область. По площади она составляет пятидесятую часть марсианской поверхности, то есть на ней свободно могла бы уместиться вся Украина. Хотя и до этого астрономы отмечали появление на Марсе новых темных пятен и изменения старых, однако масштабы изменений, происшедших на Марсе около двух лет назад, значительно превышают все ранее известное. Перед нами — живой мир, совершенно не похожий на застывшую в своей неизменности Луну и даже на постоянно окутанную облачным покровом Венеру. Может быть, однако, те изменения, какие мы наблюдаем на Марсе, есть лишь результат игры неорганических сил и слово «живой» здесь применимо только в переносном смысле? Ведь наблюдаются же на поверхности Юпитера постоянные изменения, легко объяснимые, как быстрые движения облаков в его вечно бурной атмосфере. Стать на такую точку зрения — это значит закрыть глаза на факты. А факты, наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что на Марсе есть жизнь и что, быть может, эта жизнь дошла в своем развитии до высшей формы — мыслящих существ. 10 сентября 1956 года произошло очередное «великое противостояние» Марса. В этот день Марс подошел к Земле на кратчайшее из возможных расстояний. Такие встречи не часты — они случаются один раз в пятнадцать-семнадцать лет. Впрочем, даже в момент наибольшего сближения с Землей Марс отстоял от нее на расстоянии пятидесяти шести миллионов километров! И все же для астрономов встреча двух планет — знаменательное событие. Большинство удивительных открытий, о которых сейчас пойдет речь, было сделано в периоды великих противостояний Марса.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
 В конце 1877 года на улицах Милана можно было встретить среднего роста и плотного сложения мужчину лет сорока, с несколько одутловатым лицом и общим обликом типичного итальянца. Среди постоянно оживленной толпы он выделялся своим спокойствием и какой-то внутренней сосредоточенностью, характерной для ученого. Как только солнце скрывалось за горизонт и на чистом миланском небе появлялись огоньки звезд, он неизменно отправлялся в ту часть Милана, где возвышалось здание Миланской обсерватории. Это был тогда малоизвестный среди широкой публики итальянский астроном Скиапарелли.
Наукой о звездах он увлекся еще тогда, когда обучался инженерному искусству в Туринском университете.
При первой же возможности Скиапарелли отказался от доходной карьеры инженера и отправился для изучения астрономии сначала в Берлин, а затем в знаменитую Пулковскую обсерваторию. Под руководством лучших астрономов-практиков того времени молодой инженер стал отличным наблюдателем. Тому способствовало также очень острое, «орлиное» зрение Скиапарелли.
В 1860 году Скиапарелли начал систематические наблюдения в Миланской обсерватории, а к описываемому моменту он уже отмечал пятнадцатилетнее пребывание на посту ее директора.
Великое противостояние Марса 1877 года было одним из наиболее удачных. Пользуясь почти всегда чистым, прозрачным небом Милана, Скиапарелли приступил к систематическим наблюдениям красной планеты.
Телескоп Миланской обсерватории не выделялся своими размерами. Поперечник его объектива был равен всего двадцати двум сантиметрам, но зато сам объектив, изготовленный известным немецким оптиком Мерцем, отличался весьма высокими оптическими качествами.
О природе Марса в те времена знали еще очень мало. Первый, кому удалось в 1666 году рассмотреть на Марсе следы каких-то неясных темных пятен, был соотечественник Скиапарелли, известный астроном Джовани Кассини. Позже ряд других астрономов пытались зарисовать как темные пятна поверхности Марса, так и форму его белоснежных полярных шапок.
В конце 1877 года на улицах Милана можно было встретить среднего роста и плотного сложения мужчину лет сорока, с несколько одутловатым лицом и общим обликом типичного итальянца. Среди постоянно оживленной толпы он выделялся своим спокойствием и какой-то внутренней сосредоточенностью, характерной для ученого. Как только солнце скрывалось за горизонт и на чистом миланском небе появлялись огоньки звезд, он неизменно отправлялся в ту часть Милана, где возвышалось здание Миланской обсерватории. Это был тогда малоизвестный среди широкой публики итальянский астроном Скиапарелли.
Наукой о звездах он увлекся еще тогда, когда обучался инженерному искусству в Туринском университете.
При первой же возможности Скиапарелли отказался от доходной карьеры инженера и отправился для изучения астрономии сначала в Берлин, а затем в знаменитую Пулковскую обсерваторию. Под руководством лучших астрономов-практиков того времени молодой инженер стал отличным наблюдателем. Тому способствовало также очень острое, «орлиное» зрение Скиапарелли.
В 1860 году Скиапарелли начал систематические наблюдения в Миланской обсерватории, а к описываемому моменту он уже отмечал пятнадцатилетнее пребывание на посту ее директора.
Великое противостояние Марса 1877 года было одним из наиболее удачных. Пользуясь почти всегда чистым, прозрачным небом Милана, Скиапарелли приступил к систематическим наблюдениям красной планеты.
Телескоп Миланской обсерватории не выделялся своими размерами. Поперечник его объектива был равен всего двадцати двум сантиметрам, но зато сам объектив, изготовленный известным немецким оптиком Мерцем, отличался весьма высокими оптическими качествами.
О природе Марса в те времена знали еще очень мало. Первый, кому удалось в 1666 году рассмотреть на Марсе следы каких-то неясных темных пятен, был соотечественник Скиапарелли, известный астроном Джовани Кассини. Позже ряд других астрономов пытались зарисовать как темные пятна поверхности Марса, так и форму его белоснежных полярных шапок.
 В 30-х годах XIX века французские любители астрономии Бэр и Медлер составили первые карты поверхности Марса. На них желтые пятна считаются материками, а красные — морями, причем некоторым из этих образований Бэр и Медлер дали соответствующие наименования. В те времена в ходу была так называемая геоморфическая гипотеза, то есть считалось, что Марс является уменьшенным подобием Земли и потому его материки и моря имеют такую же природу, как и земные.
Карты французских астрономов были грубы, неточны. Назрела необходимость в новых, гораздо более подробных и точных картах Марса. Такие карты и решил создать Скиапарелли.
В изучении Земли и Марса есть сходные черты. В обоих случаях за открывшим новый материк, остров или море сохраняется право присвоения ему того или иного названия. Как в истории человечества была эпоха великих географических открытий, так и в астрономии работы Скиапарелли ознаменовали собой эпоху великих ареографических [71] открытий.
Даже сам метод составления географических и ареографических карт имеет нечто общее.
Для того чтобы составить географическую карту, надо определить по звездам положение возможно большего числа точек поверхности Земли. При составлении карт Марса Скиапарелли решил применить тот же метод.
В течение нескольких месяцев с помощью окулярного микрометра Скиапарелли тщательно измерял положение различных точек поверхности Марса. Всего были измерены шестьдесят две точки, и по ним составлена подробная карта Марса. В отличие от своих предшественников, большинству марсианских образований Скиапарелли присвоил наименования, заимствованные главным образом из древней мифологии и географии.
Итальянский астроном был убежден в полном сходстве Марса и Земли.
«Трудно не видеть на Марсе картин, — писал он, — аналогичных тем, которые составляют и наш земной пейзаж, — ручейков, сбегающих по своему ложу, позолоченному солнцем; рек, пересекающих равнины и каскадом ниспадающих в глубь долин; потоков, медленно катящихся к морю через обширные низменности».
В конце 1877 и начале 1878 года Скиапарелли заметил, что красноватые пространства марсианских материков пересекаются еле заметными узкими прямолинейными полосками. Видны они были далеко не всегда, причем даже в самые спокойные и прозрачные ночи Скиапарелли приходилось предельно напрягать свое орлиное зрение, чтобы рассмотреть даже самые заметные из них. Новые образования Скиапарелли назвал «каналами», не придавая, впрочем, этому слову какое-нибудь особое значение. Дело в том, что на итальянском языке «каналами» называются как искусственные гидротехнические сооружения, так и созданные природой естественные проливы.
Вскоре выяснилась характерная особенность каналов. Они образовывали единую сеть, как бы паутиной покрывающую лик планеты. Ни один из каналов не обрывался среди пустыни на полпути. Каждый канал непременно упирался своими концами или в «море», или в другой канал, или в пересечение нескольких каналов.
Как это нередко бывает, приоритет Скиапарелли в открытии каналов оказался опровергнутым. Еще до Скиапарелли некоторые из астрономов видели и даже зарисовали отдельные каналы, но им они вовсе не казались такими удивительно правильными и прямолинейными, как Скиапарелли. Да и сам итальянский астроном далеко не сразу и не одновременно наблюдал ту поразительную в своей правильности сеть каналов, которую он потом занес на свои карты.
Чтобы повысить остроту зрения, Скиапарелли перед наблюдениями Марса некоторое время находился в полной темноте. Для уменьшения контраста между темным фоном неба и ярким красноватым диском Марса Скиапарелли освещал поле зрения телескопа оранжевым светом. Наконец в день наблюдения он никогда не употреблял возбуждающих напитков, к числу которых им было отнесено и кофе.
Только после всех этих тщательных приготовлений Скиапарелли пытался рассмотреть на Марсе его неуловимые каналы.
В 1877 году Скиапарелли удалось увидеть в общей сложности около тридцати каналов. Через два года, когда Марс снова близко подошел к Земле, Скиапарелли продолжил начатые им исследования марсианских каналов.
Теперь они казались ему гораздо более тонкими и прямолинейными, чем в год великого противостояния. Еще через два года, в 1881 году, Скиапарелли нашел, что большинство марсианских каналов тянется по дугам больших кругов, то есть по кратчайшим направлениям на поверхности Марса.
В тот же год Скиапарелли сделал еще одно удивительное открытие. Некоторые из каналов, наблюдавшиеся им как одиночные линии, неожиданно оказались двойными. На месте каждого из прежних каналов виднелись два параллельных канала, тянущиеся рядом подобно железнодорожным рельсам.
Правда, не все, а только некоторые из каналов оказались раздвоенными, причем само раздвоение происходило только в некоторые, вполне определенные сезоны. Оказалось, что раздваиваются только те каналы, которые находятся в экваториальном поясе планеты. Начиналось раздвоение в периоды марсианских равноденствий и продолжалось около четырех — пяти месяцев по земному календарю.
К 1890 году Скиапарелли закончил свои исследования Марса. За тридцать лет им было открыто и занесено на карту сто тринадцать каналов. Любопытно, что некоторым из них Скиапарелли дал имена рек — Ганга, Нила, Инда, Аракса и других.
Протяженность каналов поразительна — среди них есть такие, которые тянутся на четыре тысячи и даже пять тысяч километров! Правда, многие каналы достигают в длину всего трехсот-пятисот километров.
Весьма различна ширина каналов. Наряду с каналами, сравнимыми по ширине с Балтийским морем (около трехсот километров), Скиапарелли наблюдал каналы в десять раз более узкие.
Но больше всего поразили Скиапарелли не размеры каналов, а та необыкновенная правильность, которой они обладали. Долгое время он думал, что геометричность сети марсианских каналов вызвана какими-то естественными причинами.
В одной из популярных лекций о Марсе, чтобы охладить пыл слишком увлекшихся слушателей, Скиапарелли решился сравнить его каналы с некоторыми земными образованиями.
«Если вы рассматриваете, — говорил он, — чудные кристаллы обыкновенных и драгоценных минералов, неужели вам придет мысль, что эти кристаллы отшлифованы на гранильной фабрике? Если вы рассматриваете Сатурн с его замечательными кольцами, едва ли вам придет мысль утверждать, что они выточены кем-то на каких-то небесных токарных станках. Почему же вы станете утверждать, что каналы Марса вырыты жителями Марса?»
Впрочем, в конце концов такая аргументация даже самому Скиапарелли показалась малоубедительной. В 1895 году он опубликовал статью, где признал каналы Марса искусственными сооружениями его разумных обитателей — марсиан.
В 30-х годах XIX века французские любители астрономии Бэр и Медлер составили первые карты поверхности Марса. На них желтые пятна считаются материками, а красные — морями, причем некоторым из этих образований Бэр и Медлер дали соответствующие наименования. В те времена в ходу была так называемая геоморфическая гипотеза, то есть считалось, что Марс является уменьшенным подобием Земли и потому его материки и моря имеют такую же природу, как и земные.
Карты французских астрономов были грубы, неточны. Назрела необходимость в новых, гораздо более подробных и точных картах Марса. Такие карты и решил создать Скиапарелли.
В изучении Земли и Марса есть сходные черты. В обоих случаях за открывшим новый материк, остров или море сохраняется право присвоения ему того или иного названия. Как в истории человечества была эпоха великих географических открытий, так и в астрономии работы Скиапарелли ознаменовали собой эпоху великих ареографических [71] открытий.
Даже сам метод составления географических и ареографических карт имеет нечто общее.
Для того чтобы составить географическую карту, надо определить по звездам положение возможно большего числа точек поверхности Земли. При составлении карт Марса Скиапарелли решил применить тот же метод.
В течение нескольких месяцев с помощью окулярного микрометра Скиапарелли тщательно измерял положение различных точек поверхности Марса. Всего были измерены шестьдесят две точки, и по ним составлена подробная карта Марса. В отличие от своих предшественников, большинству марсианских образований Скиапарелли присвоил наименования, заимствованные главным образом из древней мифологии и географии.
Итальянский астроном был убежден в полном сходстве Марса и Земли.
«Трудно не видеть на Марсе картин, — писал он, — аналогичных тем, которые составляют и наш земной пейзаж, — ручейков, сбегающих по своему ложу, позолоченному солнцем; рек, пересекающих равнины и каскадом ниспадающих в глубь долин; потоков, медленно катящихся к морю через обширные низменности».
В конце 1877 и начале 1878 года Скиапарелли заметил, что красноватые пространства марсианских материков пересекаются еле заметными узкими прямолинейными полосками. Видны они были далеко не всегда, причем даже в самые спокойные и прозрачные ночи Скиапарелли приходилось предельно напрягать свое орлиное зрение, чтобы рассмотреть даже самые заметные из них. Новые образования Скиапарелли назвал «каналами», не придавая, впрочем, этому слову какое-нибудь особое значение. Дело в том, что на итальянском языке «каналами» называются как искусственные гидротехнические сооружения, так и созданные природой естественные проливы.
Вскоре выяснилась характерная особенность каналов. Они образовывали единую сеть, как бы паутиной покрывающую лик планеты. Ни один из каналов не обрывался среди пустыни на полпути. Каждый канал непременно упирался своими концами или в «море», или в другой канал, или в пересечение нескольких каналов.
Как это нередко бывает, приоритет Скиапарелли в открытии каналов оказался опровергнутым. Еще до Скиапарелли некоторые из астрономов видели и даже зарисовали отдельные каналы, но им они вовсе не казались такими удивительно правильными и прямолинейными, как Скиапарелли. Да и сам итальянский астроном далеко не сразу и не одновременно наблюдал ту поразительную в своей правильности сеть каналов, которую он потом занес на свои карты.
Чтобы повысить остроту зрения, Скиапарелли перед наблюдениями Марса некоторое время находился в полной темноте. Для уменьшения контраста между темным фоном неба и ярким красноватым диском Марса Скиапарелли освещал поле зрения телескопа оранжевым светом. Наконец в день наблюдения он никогда не употреблял возбуждающих напитков, к числу которых им было отнесено и кофе.
Только после всех этих тщательных приготовлений Скиапарелли пытался рассмотреть на Марсе его неуловимые каналы.
В 1877 году Скиапарелли удалось увидеть в общей сложности около тридцати каналов. Через два года, когда Марс снова близко подошел к Земле, Скиапарелли продолжил начатые им исследования марсианских каналов.
Теперь они казались ему гораздо более тонкими и прямолинейными, чем в год великого противостояния. Еще через два года, в 1881 году, Скиапарелли нашел, что большинство марсианских каналов тянется по дугам больших кругов, то есть по кратчайшим направлениям на поверхности Марса.
В тот же год Скиапарелли сделал еще одно удивительное открытие. Некоторые из каналов, наблюдавшиеся им как одиночные линии, неожиданно оказались двойными. На месте каждого из прежних каналов виднелись два параллельных канала, тянущиеся рядом подобно железнодорожным рельсам.
Правда, не все, а только некоторые из каналов оказались раздвоенными, причем само раздвоение происходило только в некоторые, вполне определенные сезоны. Оказалось, что раздваиваются только те каналы, которые находятся в экваториальном поясе планеты. Начиналось раздвоение в периоды марсианских равноденствий и продолжалось около четырех — пяти месяцев по земному календарю.
К 1890 году Скиапарелли закончил свои исследования Марса. За тридцать лет им было открыто и занесено на карту сто тринадцать каналов. Любопытно, что некоторым из них Скиапарелли дал имена рек — Ганга, Нила, Инда, Аракса и других.
Протяженность каналов поразительна — среди них есть такие, которые тянутся на четыре тысячи и даже пять тысяч километров! Правда, многие каналы достигают в длину всего трехсот-пятисот километров.
Весьма различна ширина каналов. Наряду с каналами, сравнимыми по ширине с Балтийским морем (около трехсот километров), Скиапарелли наблюдал каналы в десять раз более узкие.
Но больше всего поразили Скиапарелли не размеры каналов, а та необыкновенная правильность, которой они обладали. Долгое время он думал, что геометричность сети марсианских каналов вызвана какими-то естественными причинами.
В одной из популярных лекций о Марсе, чтобы охладить пыл слишком увлекшихся слушателей, Скиапарелли решился сравнить его каналы с некоторыми земными образованиями.
«Если вы рассматриваете, — говорил он, — чудные кристаллы обыкновенных и драгоценных минералов, неужели вам придет мысль, что эти кристаллы отшлифованы на гранильной фабрике? Если вы рассматриваете Сатурн с его замечательными кольцами, едва ли вам придет мысль утверждать, что они выточены кем-то на каких-то небесных токарных станках. Почему же вы станете утверждать, что каналы Марса вырыты жителями Марса?»
Впрочем, в конце концов такая аргументация даже самому Скиапарелли показалась малоубедительной. В 1895 году он опубликовал статью, где признал каналы Марса искусственными сооружениями его разумных обитателей — марсиан.
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ПЕРСИВАЛЯ ЛОВЕЛЛА
Вскоре после того, как Скиапарелли заметил на Марсе таинственную сеть каналов, слух о его открытиях стал достоянием широкой публики. Интерес к загадочным каналам подогревался газетными писаками, которые, не обладая осторожностью в выводах, свойственной ученым, поспешили оповестить мир о необыкновенных инженерных способностях марсиан. С другой стороны, сама идея об обитаемости планет настолько интересна, так будит творческую фантазию человека, что работы Скиапарелли привлекли и себе серьезное внимание людей, весьма далеких от астрономии. Трудно было поверить, что молодой американский консул в Японии, Персиваль Ловелл, которого впереди ожидала блестящая карьера дипломата, заинтересуется каналами Марса. Однако неожиданное произошло. В 1892 году, познакомившись с открытиями Скиапарелли, Ловелл бросает дипломатическую службу и принимает решение всю дальнейшую жизнь посвятить изучению Марса. Для того чтобы раскрыть тайну марсианских каналов, нужен крупный телескоп и отличные атмосферные условия. В течение двух лет Ловелл отыскивает на Земле подходящее место для своей будущей обсерватории. Его выбор падает на уединенное селение Флагстафф, расположенное на высоком плоскогорье Аризонской пустыни. Две тысячи двести метров над уровнем моря, необыкновенно прозрачный, спокойный воздух и, наконец, триста ясных ночей в году — таковы особенности того уголка земного шара, где Ловелл на собственные средства построил обсерваторию. Двадцать лет, проведенных Ловеллом в Аризонской пустыне, — это два десятилетия непрерывных наблюдений Марса, наблюдений, которые привели и поразительным открытиям. Можно смело сказать, что ни один из исследователей Марса не стремился так усовершенствовать остроту своего зрения, как это делали Ловелл и его немногочисленные помощники. В их распоряжении находился крупный двадцатичетырехдюймовый (шестьдесят сантиметров) телескоп. Объектив его был изготовлен фирмой знаменитого американского оптика Альвана Кларка и, по мнению специалистов, являлся лучшим из всех, которые выпустила эта фирма. Не довольствуясь, однако, отличными качествами телескопа и исключительными атмосферными условиями, «аризонские отшельники» (как назвали Ловелла и его помощников) всячески тренировали свое зрение. Они стремились тщательно изучить ошибки глаза, чтобы иметь возможность затем отделить иллюзию от действительности. Их усилия не пропали даром. «Аризонским отшельникам» удалось увидеть на Марсе то, чего до сих пор никто не видел. Прежде всего Ловелл открыл множество каналов, неизвестных Скиапарелли. Уже в 1908 году на картах Марса, составленных Ловеллом, имелось пятьсот двадцать два канала, а после великого противостояния 1909 года число каналов возросло почти до семисот. Удивительные образования мазались Ловеллу гораздо более правильными и прямолинейными, чем Скиапарелли. Выяснилось, что некоторые из каналов свободно проходят по марсианским «морям», причем, переходя с материка на «моря», каналы не изменяют своего направления. В местах пересечения каналов Ловелл обнаружил круглые зеленоватые пятна, названные им «оазисами». В некоторых из оазисов сходится до семнадцати каналов, причем правильность расположения каналов по отношению к оазисам поразительна.
Посмотрите на рисунок, изображающий один из двойных оазисов. Горизонтальная пара параллельных каналов охватывает собою оазисы, между тем как вертикальные, параллельно идущие каналы проходят через их центр. Иначе говоря, охватывающие каналы идут параллельно прямой, соединяющей центры оазисов, а каналы, проходящие через центры оазисов, перпендикулярны этой прямой.
Такую же удивительную закономерность подметил Ловелл и у других оазисов, общее число которых, по его наблюдениям, составляет сто восемьдесят шесть.
Оазисы — это не простые утолщения в местах пересечения каналов, как показывают рисунки Ловелла. С другой стороны, на Марсе нет ни одного оазиса, который бы не находился в месте слияния каналов, и, наоборот, в местах пересечения каналов почти всегда видны оазисы.
Круглая форма оазисов и их расположение заставили Ловелла сделать вывод, что оазисы играют важную роль в системе каналов.
Любопытно, что, когда на Марсе наступает осень, оазисы блекнут, а зимой от них остаются лишь маленькие темные точки — своеобразные ядрышки. С наступлением весны и лета прежние размеры оазисов снова восстанавливаются.
В местах пересечения каналов Ловелл обнаружил круглые зеленоватые пятна, названные им «оазисами». В некоторых из оазисов сходится до семнадцати каналов, причем правильность расположения каналов по отношению к оазисам поразительна.
Посмотрите на рисунок, изображающий один из двойных оазисов. Горизонтальная пара параллельных каналов охватывает собою оазисы, между тем как вертикальные, параллельно идущие каналы проходят через их центр. Иначе говоря, охватывающие каналы идут параллельно прямой, соединяющей центры оазисов, а каналы, проходящие через центры оазисов, перпендикулярны этой прямой.
Такую же удивительную закономерность подметил Ловелл и у других оазисов, общее число которых, по его наблюдениям, составляет сто восемьдесят шесть.
Оазисы — это не простые утолщения в местах пересечения каналов, как показывают рисунки Ловелла. С другой стороны, на Марсе нет ни одного оазиса, который бы не находился в месте слияния каналов, и, наоборот, в местах пересечения каналов почти всегда видны оазисы.
Круглая форма оазисов и их расположение заставили Ловелла сделать вывод, что оазисы играют важную роль в системе каналов.
Любопытно, что, когда на Марсе наступает осень, оазисы блекнут, а зимой от них остаются лишь маленькие темные точки — своеобразные ядрышки. С наступлением весны и лета прежние размеры оазисов снова восстанавливаются.
 Ловелл обратил внимание на то, что при вхождении в «моря» некоторые каналы разделяются как бы на ряд отростков, образуя так называемую «вилку» (см. рис.). Такой канал с «вилкой» кажется рукой, вычерпывающей что-то из влажной области марсианских «морей».
Однако самым удивительным из открытий Ловелла было другое. Если Скиапарелли отмечал, что видимость каналов Марса в разные сезоны различна, то Ловеллу удалось обнаружить замечательную закономерность в изменениях каналов.
На Флагстаффской обсерватории, когда зарисовывали каналы, всегда отмечали степень их видимости. Почти одиннадцать тысяч рисунков были сделаны Ловеллом и его помощниками, прежде чем обнаруженная закономерность стала очевидной.
Оказалось, что каналы видны не всегда.
С наступлением зимы в одном из полушарий Марса они блекнут настолько, что заметить их не удается. Зато в другом полушарии, где лето в разгаре, каналы видны отчетливо.
Но вот в том полушарии Марса, которое было сковано зимней стужей, наступает весна. Полярная шапка начинает как бы таять, уменьшаясь в своих размерах. И тогда прежде всех остальных появляются каналы, прилегающие к тающей полярной шапке планеты. Затем как будто какая-то темная волна расползается по каналам от полюсов к экватору Марса.
Достигнув экватора, эта волна не останавливается, а пересекает его и заходит на некоторое расстояние в противоположное полушарие планеты. В этот период становятся видимыми все каналы, расположенные в экваториальном поясе Марса, в том числе много двойных каналов, которые встречаются только в сухих экваториальных областях планеты и никогда не наблюдаются на фоне марсианских «морей».
Проходит половина марсианского года, и все явления повторяются в обратном порядке. Теперь начинает таять другая полярная шапка Марса, и от нее к экватору с той же средней скоростью (около трех-четырех километров в час) расползается по каналам загадочная темная волна.
Волны, идущие от различных полюсов Марса, встречаются в экваториальном поясе планеты. Вот почему каналы видны там почти всегда, между тем как в умеренных и полярных зонах их можно наблюдать только в периоды таяния соответствующей полярной шапки.
Удивительная, поражающая своей геометрической правильностью сеть каналов, по которой, как по артериям, с явно выраженной закономерностью распространяется какое-то темное вещество, — таковы факты, обнаруженные многолетними наблюдениями «аризонских отшельников».
Для объяснения происхождения каналов Ловелл выдвинул увлекательную гипотезу, которой нельзя отказать ни в смелости, ни в логической последовательности.
«Раскрытие истины в небесах, — пишет Ловелл в своей книге «Марс и жизнь на нем», — помимо предмета, мало чем отличается от раскрытия преступления на Земле… В одном случае разыскивают причину, в другом — преступника, но самый процесс разыскивания совершенно тождествен».
Причина удивительной правильности марсианских каналов заключается, по мнению Ловелла, в их искусственном происхождении, в том, что они являются результатом творчества разумных обитателей Марса — марсиан.
Что же заставило марсиан построить ту удивительную исполинскую сеть каналов, которая способна вызвать восхищение любого земного инженера?
Жизнь планеты, пути ее эволюции во многом зависят, по мнению Ловелла, от размеров планеты. Марс в поперечнике в два раза, а по массе в десять раз меньше нашей Земли. Отсюда следует, что на поверхность Марса сила притяжения в 2,7 раза меньше, чем на поверхности Земли. Человек, весящий семьдесят килограммов, очутившись на Марсе, сразу потерял бы в весе сорок четыре килограмма, что, впрочем, нисколько не отразилось бы на его здоровье.
Чем слабее притягивает к себе все предметы планета, тем быстрее теряет она свою атмосферу. И действительно, в настоящую эпоху атмосфера Марса настолько разреженна, что даже у его поверхности она гораздо менее плотна, чем на самых высоких земных горах.
От того, насколько быстро теряет свою атмосферу планета, зависит и темп ее эволюции. Маленький Марс развивался гораздо быстрее, чем более крупная Земля, и потому в настоящую эпоху наш небесный сосед переживает такую стадию развития, которая предстоит Земле еще в далеком будущем.
На Марсе вода и ветер давно уже закончили свою разрушительную работу — там нет высоких гор или даже крупных возвышенностей. Вся поверхность Марса представляет собой гладкую песчано-каменистую пустыню, по размерам гораздо большую, чем любая из земных пустынь.
Вместе с атмосферой Марс терял и свою воду. Пары воды, когда-то дававшие обильные дожди, ныне почти полностью улетучились, и остатки влаги встречаются теперь на Марсе главным образом в виде его снежно-ледяных полярных шапок. Но и в них воды так мало, что, даже растаяв полностью, полярные шапки Марса смогли бы образовать не море, а только озеро, подобное Ладожскому.
Что же касается тех темных пятен, которые астрономы называют «морями», то, по мнению Ловелла, это лишь дно когда-то бывших на Марсе настоящих морей. Ныне же марсианские «моря» представляют собой неглубокие впадины, покрытые скудными остатками растительности. Когда на Марсе наступает весна, его «моря» начинают зеленеть, а осенью они снова блекнут, что только подчеркивает их сходство с земной растительностью.
Небо Марса почти всегда безоблачно. Там редко наблюдаются облака, туманы, и только в холодные утренние часы какая-то морозная дымка заволакивает марсианские ландшафты.
Прозрачная атмосфера Марса — одна из причин его сурового климата. Лишенная густых слоев облаков, марсианская атмосфера слабо сохраняет тепло, получаемое поверхностью Марса от Солнца. Поэтому климат на Марсе крайне суров и несравненно суровее резко континентального климата самых высоких земных плоскогорий.
Мир, гибнущий от жажды, умирающая планета, постепенно леденеющая от холода мирового пространства, — таков Марс по представлению Ловелла.
Как же должна была проявить себя жизнь в столь суровой обстановке?
Возникнув из неорганической природы, жизнь оказывается необычайно стойкой. Трудно указать границы распространенности жизни и степень ее приспособляемости.
На Марсе, по мнению Ловелла, жизнь в своем развитии уже давно достигла стадии мыслящих существ. Больше того, в настоящее время марсиане несравненно могущественнее и технически совершеннее человека. Объединившись в единое государство, единую дружную семью, марсиане решили противопоставить свой разум грозным, но слепым стихиям природы.
Чтобы спасти гибнущую от жажды планету, марсиане построили гигантскую оросительную систему каналов. Эта ирригационная сеть берет влагу от тающих полярных шапок Марса и разносит ее по всей планете.
Строго говоря, самих каналов, то есть водных протоков, мы не видим. Скорее всего, настоящие каналы представляют собой трубопроводы, проложенные под поверхностью Марса на небольшой глубине. Иначе и не может быть, так как при недостатке воды было бы неразумно перемещать драгоценную влагу по открытым протокам, из которых она неизбежно бы испарилась.
То же, что мы называем каналами, — это полоски растительности вдоль невидимых трубопроводов, из которых и производится орошение этой растительности. Вот почему так широки некоторые из каналов, то есть полосы растительности по обе стороны невидимого настоящего канала.
Нечто подобное известно и на Земле. Когда разливается Нил и другие крупные реки, орошаются и огромные области, к ним прилегающие. С Луны, например, сам Нил мы бы не увидели, но орошаемая им полоса побежденной пустыни была бы вполне доступна для наблюдения.
Не случайно двойные каналы встречаются только в сухих экваториальных областях, особенно нуждающихся в двойном, усиленном снабжении водой. С другой стороны, «вилки», которыми оканчиваются на морях некоторые из каналов, нужны для того, чтобы из этих влажных областей Марса взять побольше воды для других его районов.
Каналы Марса проходят по дну его бывших морей. Следовательно, они были построены в ту эпоху, когда моря Марса перестали быть морями и когда нужда в воде стала особенно острой.
Сеть каналов носит на себе следы постепенного строительства своих отдельных звеньев. Значит, гигантская оросительная система была создана не в один день и не одним поколением марсиан. Сначала водоснабжение носило местный характер — воду брали из близлежащих озер или морей. А затем необходимость заставила доставлять воду из районов, все более и более отдаленных. И наконец ныне питание водой всей системы каналов происходит почти исключительно за счет тающих полярных шапок Марса.
Не следует думать, что вода по каналам распространяется естественным путем. Нет никаких естественных сил, которые могли бы заставить талые полярные воды течь к экватору Марса. Даже если бы его полярные шапки полностью растаяли, то образовавшиеся озера лишь на несколько километров превысили бы поперечник каждой шапки.
Как на Земле ни один из прудов не стремится вылиться вон и потечь к экватору, так и на Марсе движение воды по каналам не может быть вызвано естественными причинами.
Остается лишь одно возможное объяснение — система каналов имеет водонапорные станции, которые и гонят воду в нужном направлении.
Жизнь на Марсе ныне сосредоточена главным образом около каналов и в его «морях». Круглая форма оазисов, удивительный порядок вхождения в них каналов заставляет нас признать оазисы Марса его населенными пунктами, или городами. Собственно городом, вероятно, является то ядрышко, которое остается зимой от оазиса, а окружающая его зеленоватая мякоть — это пригород марсианского города, причем некоторые из пригородов достигают в поперечнике около ста двадцати километров.
Соседняя к нам планета оказалась населенной существами, стоящими на более высоком уровне развития, чем человек. Загадочная сеть марсианских каналов есть, по словам Ловелла, та «печать», которую наложил разум марсиан на лик их планеты.
«Для всех, обладающих космически широким кругозором, — приходит к заключению Ловелл, — не может не быть глубоко поучительным созерцание жизни вне нашего мира и сознание, что обитаемость Марса можно считать доказанной».
Впрочем, этот вывод представлялся бесспорным только Ловеллу и его немногочисленным сторонникам. Загадка марсианских каналов оказалась далеко не такой простой.
Ловелл обратил внимание на то, что при вхождении в «моря» некоторые каналы разделяются как бы на ряд отростков, образуя так называемую «вилку» (см. рис.). Такой канал с «вилкой» кажется рукой, вычерпывающей что-то из влажной области марсианских «морей».
Однако самым удивительным из открытий Ловелла было другое. Если Скиапарелли отмечал, что видимость каналов Марса в разные сезоны различна, то Ловеллу удалось обнаружить замечательную закономерность в изменениях каналов.
На Флагстаффской обсерватории, когда зарисовывали каналы, всегда отмечали степень их видимости. Почти одиннадцать тысяч рисунков были сделаны Ловеллом и его помощниками, прежде чем обнаруженная закономерность стала очевидной.
Оказалось, что каналы видны не всегда.
С наступлением зимы в одном из полушарий Марса они блекнут настолько, что заметить их не удается. Зато в другом полушарии, где лето в разгаре, каналы видны отчетливо.
Но вот в том полушарии Марса, которое было сковано зимней стужей, наступает весна. Полярная шапка начинает как бы таять, уменьшаясь в своих размерах. И тогда прежде всех остальных появляются каналы, прилегающие к тающей полярной шапке планеты. Затем как будто какая-то темная волна расползается по каналам от полюсов к экватору Марса.
Достигнув экватора, эта волна не останавливается, а пересекает его и заходит на некоторое расстояние в противоположное полушарие планеты. В этот период становятся видимыми все каналы, расположенные в экваториальном поясе Марса, в том числе много двойных каналов, которые встречаются только в сухих экваториальных областях планеты и никогда не наблюдаются на фоне марсианских «морей».
Проходит половина марсианского года, и все явления повторяются в обратном порядке. Теперь начинает таять другая полярная шапка Марса, и от нее к экватору с той же средней скоростью (около трех-четырех километров в час) расползается по каналам загадочная темная волна.
Волны, идущие от различных полюсов Марса, встречаются в экваториальном поясе планеты. Вот почему каналы видны там почти всегда, между тем как в умеренных и полярных зонах их можно наблюдать только в периоды таяния соответствующей полярной шапки.
Удивительная, поражающая своей геометрической правильностью сеть каналов, по которой, как по артериям, с явно выраженной закономерностью распространяется какое-то темное вещество, — таковы факты, обнаруженные многолетними наблюдениями «аризонских отшельников».
Для объяснения происхождения каналов Ловелл выдвинул увлекательную гипотезу, которой нельзя отказать ни в смелости, ни в логической последовательности.
«Раскрытие истины в небесах, — пишет Ловелл в своей книге «Марс и жизнь на нем», — помимо предмета, мало чем отличается от раскрытия преступления на Земле… В одном случае разыскивают причину, в другом — преступника, но самый процесс разыскивания совершенно тождествен».
Причина удивительной правильности марсианских каналов заключается, по мнению Ловелла, в их искусственном происхождении, в том, что они являются результатом творчества разумных обитателей Марса — марсиан.
Что же заставило марсиан построить ту удивительную исполинскую сеть каналов, которая способна вызвать восхищение любого земного инженера?
Жизнь планеты, пути ее эволюции во многом зависят, по мнению Ловелла, от размеров планеты. Марс в поперечнике в два раза, а по массе в десять раз меньше нашей Земли. Отсюда следует, что на поверхность Марса сила притяжения в 2,7 раза меньше, чем на поверхности Земли. Человек, весящий семьдесят килограммов, очутившись на Марсе, сразу потерял бы в весе сорок четыре килограмма, что, впрочем, нисколько не отразилось бы на его здоровье.
Чем слабее притягивает к себе все предметы планета, тем быстрее теряет она свою атмосферу. И действительно, в настоящую эпоху атмосфера Марса настолько разреженна, что даже у его поверхности она гораздо менее плотна, чем на самых высоких земных горах.
От того, насколько быстро теряет свою атмосферу планета, зависит и темп ее эволюции. Маленький Марс развивался гораздо быстрее, чем более крупная Земля, и потому в настоящую эпоху наш небесный сосед переживает такую стадию развития, которая предстоит Земле еще в далеком будущем.
На Марсе вода и ветер давно уже закончили свою разрушительную работу — там нет высоких гор или даже крупных возвышенностей. Вся поверхность Марса представляет собой гладкую песчано-каменистую пустыню, по размерам гораздо большую, чем любая из земных пустынь.
Вместе с атмосферой Марс терял и свою воду. Пары воды, когда-то дававшие обильные дожди, ныне почти полностью улетучились, и остатки влаги встречаются теперь на Марсе главным образом в виде его снежно-ледяных полярных шапок. Но и в них воды так мало, что, даже растаяв полностью, полярные шапки Марса смогли бы образовать не море, а только озеро, подобное Ладожскому.
Что же касается тех темных пятен, которые астрономы называют «морями», то, по мнению Ловелла, это лишь дно когда-то бывших на Марсе настоящих морей. Ныне же марсианские «моря» представляют собой неглубокие впадины, покрытые скудными остатками растительности. Когда на Марсе наступает весна, его «моря» начинают зеленеть, а осенью они снова блекнут, что только подчеркивает их сходство с земной растительностью.
Небо Марса почти всегда безоблачно. Там редко наблюдаются облака, туманы, и только в холодные утренние часы какая-то морозная дымка заволакивает марсианские ландшафты.
Прозрачная атмосфера Марса — одна из причин его сурового климата. Лишенная густых слоев облаков, марсианская атмосфера слабо сохраняет тепло, получаемое поверхностью Марса от Солнца. Поэтому климат на Марсе крайне суров и несравненно суровее резко континентального климата самых высоких земных плоскогорий.
Мир, гибнущий от жажды, умирающая планета, постепенно леденеющая от холода мирового пространства, — таков Марс по представлению Ловелла.
Как же должна была проявить себя жизнь в столь суровой обстановке?
Возникнув из неорганической природы, жизнь оказывается необычайно стойкой. Трудно указать границы распространенности жизни и степень ее приспособляемости.
На Марсе, по мнению Ловелла, жизнь в своем развитии уже давно достигла стадии мыслящих существ. Больше того, в настоящее время марсиане несравненно могущественнее и технически совершеннее человека. Объединившись в единое государство, единую дружную семью, марсиане решили противопоставить свой разум грозным, но слепым стихиям природы.
Чтобы спасти гибнущую от жажды планету, марсиане построили гигантскую оросительную систему каналов. Эта ирригационная сеть берет влагу от тающих полярных шапок Марса и разносит ее по всей планете.
Строго говоря, самих каналов, то есть водных протоков, мы не видим. Скорее всего, настоящие каналы представляют собой трубопроводы, проложенные под поверхностью Марса на небольшой глубине. Иначе и не может быть, так как при недостатке воды было бы неразумно перемещать драгоценную влагу по открытым протокам, из которых она неизбежно бы испарилась.
То же, что мы называем каналами, — это полоски растительности вдоль невидимых трубопроводов, из которых и производится орошение этой растительности. Вот почему так широки некоторые из каналов, то есть полосы растительности по обе стороны невидимого настоящего канала.
Нечто подобное известно и на Земле. Когда разливается Нил и другие крупные реки, орошаются и огромные области, к ним прилегающие. С Луны, например, сам Нил мы бы не увидели, но орошаемая им полоса побежденной пустыни была бы вполне доступна для наблюдения.
Не случайно двойные каналы встречаются только в сухих экваториальных областях, особенно нуждающихся в двойном, усиленном снабжении водой. С другой стороны, «вилки», которыми оканчиваются на морях некоторые из каналов, нужны для того, чтобы из этих влажных областей Марса взять побольше воды для других его районов.
Каналы Марса проходят по дну его бывших морей. Следовательно, они были построены в ту эпоху, когда моря Марса перестали быть морями и когда нужда в воде стала особенно острой.
Сеть каналов носит на себе следы постепенного строительства своих отдельных звеньев. Значит, гигантская оросительная система была создана не в один день и не одним поколением марсиан. Сначала водоснабжение носило местный характер — воду брали из близлежащих озер или морей. А затем необходимость заставила доставлять воду из районов, все более и более отдаленных. И наконец ныне питание водой всей системы каналов происходит почти исключительно за счет тающих полярных шапок Марса.
Не следует думать, что вода по каналам распространяется естественным путем. Нет никаких естественных сил, которые могли бы заставить талые полярные воды течь к экватору Марса. Даже если бы его полярные шапки полностью растаяли, то образовавшиеся озера лишь на несколько километров превысили бы поперечник каждой шапки.
Как на Земле ни один из прудов не стремится вылиться вон и потечь к экватору, так и на Марсе движение воды по каналам не может быть вызвано естественными причинами.
Остается лишь одно возможное объяснение — система каналов имеет водонапорные станции, которые и гонят воду в нужном направлении.
Жизнь на Марсе ныне сосредоточена главным образом около каналов и в его «морях». Круглая форма оазисов, удивительный порядок вхождения в них каналов заставляет нас признать оазисы Марса его населенными пунктами, или городами. Собственно городом, вероятно, является то ядрышко, которое остается зимой от оазиса, а окружающая его зеленоватая мякоть — это пригород марсианского города, причем некоторые из пригородов достигают в поперечнике около ста двадцати километров.
Соседняя к нам планета оказалась населенной существами, стоящими на более высоком уровне развития, чем человек. Загадочная сеть марсианских каналов есть, по словам Ловелла, та «печать», которую наложил разум марсиан на лик их планеты.
«Для всех, обладающих космически широким кругозором, — приходит к заключению Ловелл, — не может не быть глубоко поучительным созерцание жизни вне нашего мира и сознание, что обитаемость Марса можно считать доказанной».
Впрочем, этот вывод представлялся бесспорным только Ловеллу и его немногочисленным сторонникам. Загадка марсианских каналов оказалась далеко не такой простой.
СПОР О МАРСИАНАХ
Идеи Персиваля Ловелла были настолько смелы, что многим они показались совершенно фантастическими. Все здание построенной им гипотезы покоилось на еле видимой,почти призрачной системе марсианских каналов. Естественно поэтому, что был подвергнут сомнению прежде всего сам факт существования этих загадочных образований. Уже современник Скиапарелли — английский астроном Грин в 1879 году заявил, что, по его наблюдениям, так называемые каналы Марса представляют собой просто границы весьма слабых, почти невидимых пятен. Несколько позже соотечественник Грина — астроном Деннинг вместо каналов видел какие-то бледные тени с рядом неправильностей и разрывов. Не заметил каналов и англичанин Юнг, наблюдавший Марс в двадцатитрехдюймовый телескоп. Впрочем, иногда при слабых увеличениях ему мерещились какие-то размытые полоски, не имевшие ничего общего с геометрически правильными каналами Ловелла и Скиапарелли. В 1892 году, когда наступило очередное великое противостояние Марса, на таинственную планету был направлен мощный тридцатишестидюймовый рефрактор американской обсерватории Лика. В окуляр исполинского телескопа вел наблюдения Барнард — один из лучших и опытнейших наблюдателей прошлого века. Однако и ему не удалось обнаружить ту удивительно правильную сеть каналов, которую несколько позже увидел Ловелл. В 1895 году Барнард решительно заявил, что никакой сети каналов на Марсе не существует. Постепенно начинало складываться мнение, что каналы Марса — это какая-то странная иллюзия зрения. На поверхности Марса имеется множество мелких деталей — пятнышек и полосок неправильной формы. Глаз наблюдателя, не различая отдельных деталей, соединяет их мысленно в полоски. Так возникают загадочные каналы, в действительности представляющие собой обман зрения. Сторонники подобных взглядов приводили в качестве доказательств различные рисунки, один из которых здесь воспроизведен. Посмотрите на рисунок издалека, с расстояния двух — трех метров. На левой части рисунка вы заметите три «канала», образующих треугольник. Приблизьте рисунок к глазу — и иллюзия тотчас пропадет.
Особенно оживленные споры о марсианах и их каналах разгорелись в 1909 году, когда Марс снова оказался в наибольшей близости от Земли.
Именно в это великое противостояние Марса Ловелл и его сотрудники открыли около двухсот новых каналов.
Между тем другие, казалось не менее опытные, наблюдатели в том же 1909 году никаких каналов на Марсе не видели.
Так, например, французский астроном Антониади сначала в девятидюймовый рефрактор видел и наблюдал многие из каналов. Когда же в его распоряжение был предоставлен огромный, тридцатитрехдюймовый, рефрактор Медонской обсерватории, паутинную сеть каналов будто кто-то смахнул с диска Марса — никаких следов каналов Антониади не обнаружил.
Когда воздух был особенно чист и прозрачен, глаз французского астронома различал на Марсе множество отдельных темных пятнышек и узелков.
«Если под каналами Марса понимать прямые линии, — писал Антониади, — то каналы, конечно, не существуют. Если же под каналами понимать естественно сложные полоски, то каналы существуют».
К таким же выводам пришли и астрономы Иеркской обсерватории, располагавшей крупным, сорокадюймовым рефрактором. Они иронически писали, что «Иеркский телескоп слишком силен для каналов».
Была сделана попытка рассмотреть каналы с еще более крупным, шестидесятидюймовым, телескопом — рефлектором обсерватории Маунт-Вильсон. Однако и в этот величайший телескоп мира никаких каналов обнаружено не было.
Правда, на некоторых немногочисленных обсерваториях в 1909 году все же видели каналы. Так, например, рассматривая Марс в тридцатидюймовый рефрактор Пулковской обсерватории, астроном Н.Н.Калитин вполне отчетливо видел и даже зарисовал многие каналы.
Другой пулковский астроном, Г.А.Тихов, наблюдал Марс через прозрачные цветные стекла — светофильтры — и установил, что каналы Марса имеют такой же зеленоватый цвет, как и его моря. Больше того, Г.А.Тихову удалось сфотографировать некоторые из каналов Марса, так что их существование, по мнению Г.А.Тихова, не может вызывать никаких сомнений.
Еще раньше первые снимки каналов были получены в 1901 году сотрудниками Ловелла, что, конечно, было сильным аргументом в пользу реального существования каналов.
Возражая тем, кто отрицал существование каналов на Марсе, Ловелл указывал, что сезонные изменения в каналах есть лучшее доказательство их реальности, так как обман зрения не может зависеть от марсианских времен года. Кроме того, для наблюдения таких удивительно тонких деталей, как каналы, нужна специальная тренировка глаза, которую не проводил ни Барнард, ни Антониади, ни другие наблюдатели. Наконец, при наблюдении каналов больший телескоп не всегда дает лучшие результаты, так как воздушные волны, бегущие в атмосфере, как доказал Ловелл, в больших телескопах портят изображения значительнее, чем в меньших. В этом причина неудач тех, кто не видел каналов.
Таким образом, великое противостояние 1909 года не решило спора о каналах Марса. Одни астрономы видели и фотографировали загадочные образования, другие не могли обнаружить даже следов их существования.
Когда Марс удалился от Земли, затихли и споры о его разумных обитателях. Однако затишье оказалось временным. В 1924 году Марс снова близко подошел к Земле, и старые споры разгорелись с новой силой.
К этому времени уже не было в живых ни Ловелла, ни Скиапарелли. Первый умер в 1916 году, второй — шестью годами раньше. Тем не менее идеи о марсианских каналах, ими выдвинутые, снова нашли как сторонников, так и противников.
На обсерватории Ловелла продолжал наблюдать и изучать каналы его ученик и преемник Слайфер. «Прозрела» на этот раз и Ликская обсерватория. Пользуясь тем же инструментом, в который Барнард не видел и намека на канаты, астроном Трюмплер и видел, и рисовал, и даже фотографировал эти неуловимые образования. Наблюдались каналы и на других обсерваториях.
Впрочем, Антониади в Медоне по-прежнему на месте каналов мог рассмотреть только полоски, состоявшие из отдельных мелких пятнышек. Не видели каналов и астрономы, наблюдавшие Марс в величайшие телескопы мира — Иеркский сорокадюймовый рефрактор и Маунт-Вильсоновский стодюймовый рефлектор. Снова были выдвинуты гипотезы, объясняющие каналы различными обманами зрения.
Пока астрономы спорили о существовании марсианских каналов, широкая публика, подогреваемая популярными книжками и фантастическими романами о Марсе, обсуждала проекты установления прямой связи с марсианами.
В одном из проектов предлагалось построить из зеленых насаждений в пустынном месте Земли чертеж какой-нибудь теоремы. Тогда марсиане, будучи разумными существами, знающими математику хотя бы в объеме средней школы, увидав такой чертеж, ответят людям чертежом какой-нибудь другой теоремы. Так постепенно жители двух миров и установят связь друг с другом.
В другом проекте предлагалось внимание марсиан привлечь иным способом: в некоторых, заранее выбранных семи городах Земли зажечь огромные прожектора, которые напоминали бы созвездие ковша Большой Медведицы.
Предлагалось также завязать связь с марсианами путем посылки им световых «зайчиков» огромным зеркалом.
Однако все эти проекты остались неосуществленными. Ни одно правительство не пошло на сомнительные расходы по установлению связи с марсианами.
Так же окончились неудачей предпринятые в 1924 году попытки установить радиосвязь с Марсом.
На позывные, посланные с Земли, Марс не ответил. Эти сигналы или никто не принял, или таинственные обитатели Марса решили по каким-то причинам скрыть свое существование.
Сторонники подобных взглядов приводили в качестве доказательств различные рисунки, один из которых здесь воспроизведен. Посмотрите на рисунок издалека, с расстояния двух — трех метров. На левой части рисунка вы заметите три «канала», образующих треугольник. Приблизьте рисунок к глазу — и иллюзия тотчас пропадет.
Особенно оживленные споры о марсианах и их каналах разгорелись в 1909 году, когда Марс снова оказался в наибольшей близости от Земли.
Именно в это великое противостояние Марса Ловелл и его сотрудники открыли около двухсот новых каналов.
Между тем другие, казалось не менее опытные, наблюдатели в том же 1909 году никаких каналов на Марсе не видели.
Так, например, французский астроном Антониади сначала в девятидюймовый рефрактор видел и наблюдал многие из каналов. Когда же в его распоряжение был предоставлен огромный, тридцатитрехдюймовый, рефрактор Медонской обсерватории, паутинную сеть каналов будто кто-то смахнул с диска Марса — никаких следов каналов Антониади не обнаружил.
Когда воздух был особенно чист и прозрачен, глаз французского астронома различал на Марсе множество отдельных темных пятнышек и узелков.
«Если под каналами Марса понимать прямые линии, — писал Антониади, — то каналы, конечно, не существуют. Если же под каналами понимать естественно сложные полоски, то каналы существуют».
К таким же выводам пришли и астрономы Иеркской обсерватории, располагавшей крупным, сорокадюймовым рефрактором. Они иронически писали, что «Иеркский телескоп слишком силен для каналов».
Была сделана попытка рассмотреть каналы с еще более крупным, шестидесятидюймовым, телескопом — рефлектором обсерватории Маунт-Вильсон. Однако и в этот величайший телескоп мира никаких каналов обнаружено не было.
Правда, на некоторых немногочисленных обсерваториях в 1909 году все же видели каналы. Так, например, рассматривая Марс в тридцатидюймовый рефрактор Пулковской обсерватории, астроном Н.Н.Калитин вполне отчетливо видел и даже зарисовал многие каналы.
Другой пулковский астроном, Г.А.Тихов, наблюдал Марс через прозрачные цветные стекла — светофильтры — и установил, что каналы Марса имеют такой же зеленоватый цвет, как и его моря. Больше того, Г.А.Тихову удалось сфотографировать некоторые из каналов Марса, так что их существование, по мнению Г.А.Тихова, не может вызывать никаких сомнений.
Еще раньше первые снимки каналов были получены в 1901 году сотрудниками Ловелла, что, конечно, было сильным аргументом в пользу реального существования каналов.
Возражая тем, кто отрицал существование каналов на Марсе, Ловелл указывал, что сезонные изменения в каналах есть лучшее доказательство их реальности, так как обман зрения не может зависеть от марсианских времен года. Кроме того, для наблюдения таких удивительно тонких деталей, как каналы, нужна специальная тренировка глаза, которую не проводил ни Барнард, ни Антониади, ни другие наблюдатели. Наконец, при наблюдении каналов больший телескоп не всегда дает лучшие результаты, так как воздушные волны, бегущие в атмосфере, как доказал Ловелл, в больших телескопах портят изображения значительнее, чем в меньших. В этом причина неудач тех, кто не видел каналов.
Таким образом, великое противостояние 1909 года не решило спора о каналах Марса. Одни астрономы видели и фотографировали загадочные образования, другие не могли обнаружить даже следов их существования.
Когда Марс удалился от Земли, затихли и споры о его разумных обитателях. Однако затишье оказалось временным. В 1924 году Марс снова близко подошел к Земле, и старые споры разгорелись с новой силой.
К этому времени уже не было в живых ни Ловелла, ни Скиапарелли. Первый умер в 1916 году, второй — шестью годами раньше. Тем не менее идеи о марсианских каналах, ими выдвинутые, снова нашли как сторонников, так и противников.
На обсерватории Ловелла продолжал наблюдать и изучать каналы его ученик и преемник Слайфер. «Прозрела» на этот раз и Ликская обсерватория. Пользуясь тем же инструментом, в который Барнард не видел и намека на канаты, астроном Трюмплер и видел, и рисовал, и даже фотографировал эти неуловимые образования. Наблюдались каналы и на других обсерваториях.
Впрочем, Антониади в Медоне по-прежнему на месте каналов мог рассмотреть только полоски, состоявшие из отдельных мелких пятнышек. Не видели каналов и астрономы, наблюдавшие Марс в величайшие телескопы мира — Иеркский сорокадюймовый рефрактор и Маунт-Вильсоновский стодюймовый рефлектор. Снова были выдвинуты гипотезы, объясняющие каналы различными обманами зрения.
Пока астрономы спорили о существовании марсианских каналов, широкая публика, подогреваемая популярными книжками и фантастическими романами о Марсе, обсуждала проекты установления прямой связи с марсианами.
В одном из проектов предлагалось построить из зеленых насаждений в пустынном месте Земли чертеж какой-нибудь теоремы. Тогда марсиане, будучи разумными существами, знающими математику хотя бы в объеме средней школы, увидав такой чертеж, ответят людям чертежом какой-нибудь другой теоремы. Так постепенно жители двух миров и установят связь друг с другом.
В другом проекте предлагалось внимание марсиан привлечь иным способом: в некоторых, заранее выбранных семи городах Земли зажечь огромные прожектора, которые напоминали бы созвездие ковша Большой Медведицы.
Предлагалось также завязать связь с марсианами путем посылки им световых «зайчиков» огромным зеркалом.
Однако все эти проекты остались неосуществленными. Ни одно правительство не пошло на сомнительные расходы по установлению связи с марсианами.
Так же окончились неудачей предпринятые в 1924 году попытки установить радиосвязь с Марсом.
На позывные, посланные с Земли, Марс не ответил. Эти сигналы или никто не принял, или таинственные обитатели Марса решили по каким-то причинам скрыть свое существование.
ЗАГАДКА ОСТАЕТСЯ НЕРЕШЕННОЙ
Как уже говорилось, в погоне за неуловимыми каналами астрономы применили фотографию. Это был настоящий научный подвиг, трудность которого плохо понятна неспециалисту. Приходилось ли вам наблюдать, как движется воздух в жаркий летний день над крышами домов или над полотном железной дороги? В этих случаях очертания предмета становятся расплывчатым, дрожащими, и рассмотреть его мелкие детали не всегда удается. Для астрономов такая картина — постоянное явление. В любой, даже самый маленький телескоп всегда заметно движение воздуха, причем чем большее увеличение мы применим, тем сильнее будет нам мешать атмосфера. Попробуйте-ка в таких условиях сфотографировать крошечный, непрерывно колеблющийся диск планеты! И, конечно, еще несравненно труднее запечатлеть на фотопластинке такие детали, как каналы.
Мы не будем описывать тех ухищрений, к которым прибегали астрономы, пытавшиеся фотографировать каналы. Скажем только одно: научный подвиг был совершен — каналы сфотографировали.
Сначала это были такие плохие, такие мелкие снимки, что отдельные каналы, запечатлевшиеся на негативе, удавалось рассмотреть только в лупу или в небольшой микроскоп. А затем, с ростом телескопов, с прогрессом фотографической техники, каналы стали выходить на фотографии все более и более отчетливыми.
В 1924 году Трюмплер на обсерватории Лика получил большую серию прекрасных снимков Марса. На оригинальных негативах удалось отчетливо различить около сотни каналов. На рисунке внизу изображена фотокарта Марса, составленная Трюмплером. На ней запечатлены многие из каналов, которые ранее наблюдались простым глазом.
Для астрономов такая картина — постоянное явление. В любой, даже самый маленький телескоп всегда заметно движение воздуха, причем чем большее увеличение мы применим, тем сильнее будет нам мешать атмосфера. Попробуйте-ка в таких условиях сфотографировать крошечный, непрерывно колеблющийся диск планеты! И, конечно, еще несравненно труднее запечатлеть на фотопластинке такие детали, как каналы.
Мы не будем описывать тех ухищрений, к которым прибегали астрономы, пытавшиеся фотографировать каналы. Скажем только одно: научный подвиг был совершен — каналы сфотографировали.
Сначала это были такие плохие, такие мелкие снимки, что отдельные каналы, запечатлевшиеся на негативе, удавалось рассмотреть только в лупу или в небольшой микроскоп. А затем, с ростом телескопов, с прогрессом фотографической техники, каналы стали выходить на фотографии все более и более отчетливыми.
В 1924 году Трюмплер на обсерватории Лика получил большую серию прекрасных снимков Марса. На оригинальных негативах удалось отчетливо различить около сотни каналов. На рисунке внизу изображена фотокарта Марса, составленная Трюмплером. На ней запечатлены многие из каналов, которые ранее наблюдались простым глазом.
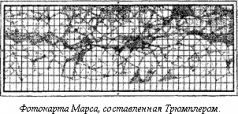 Фотопластинка решительно высказалась в пользу Ловелла и Скиапарелли.
На первой фотокарте каждый сможет увидеть геометрически правильную сеть каналов, покрывающую поверхность Марса.
В свое время сторонники иллюзорности каналов считали одним из наиболее сильных своих аргументов рисунки двойных каналов, полученные Ловеллом и Скиапарелли. Они заявляли, что у защитников марсиан просто что-то двоится в глазах.
В 1926 году на шестидесятидюймовом рефлекторе Маунт-Вильсоновской обсерватории были впервые сфотографированы двойные каналы, а на современных снимках Марса их видно множество.
Особенно успешно фотографировался Марс в великое противостояние 1939 года.
На снимках, полученных Слайфером, вышло свыше пятисот каналов, причем как раз в тех местах, где их раньше различали просто глазом. Больше того, фотопластинка зафиксировала сезонные изменения в каналах в полном соответствии с выводами Ловелла.
В последние годы каналы Марса наблюдались на всех крупных обсерваториях мира. Постепенно «прозрели» одна за другой все те обсерватории, где раньше каналы считались несуществующими.
Ученик Антониади — французский астроном Бальде в 1941 году на той же Медонской обсерватории увидел множество каналов, существование которых отрицал его учитель. А на Маунт-Вильсоновской обсерватории в 1954 году были произведены первые попытки кинематографирования каналов.
В наши дни нет никаких сомнений в том, что на Марсе действительно существуют какие-то длинные и, в общем, правильные полоски. Они во многих случаях не являются сплошными, а распадаются на ряд отдельных пятнышек. Но в этой «кустистости» марсианских каналов есть замечательная правильность: пятнышки не разбросаны по Марсу как попало. Они образуют длинные, стройные ряды, следующие по дугам больших кругов, то есть по кратчайшим направлениям на поверхности планеты. По ним каким-то образом распространяется вода, и каналы Марса действительно образуют единую, стройную, геометрически правильную систему, соединяющую полярные шапки Марса.
Таково последнее слово современной ареографии. Нетрудно видеть, что оно полностью подтверждает наблюдения Скиапарелли, Ловелла и других сторонников искусственного происхождения каналов.
Все попытки объяснить природу каналов естественным путем пока оказались безуспешными. Ни реки, ни трещины, ни другие естественные образования на поверхности планеты не обладают той замечательной правильностью, которая свойственна каналам. Единственной гипотезой, стройно и логично объясняющей все особенности каналов, остается пока — гипотеза Ловелла.
Впрочем, сторонников его взглядов пока еще очень мало. Многим его гипотеза кажется настолько фантастической, что они даже не считают нужным заниматься ее опровержением. Больше того, некоторыми из современных крупных ученых поставлено под сомнение не только существование марсиан, но даже наличие какой бы то ни было органической жизни на Марсе.
Фотопластинка решительно высказалась в пользу Ловелла и Скиапарелли.
На первой фотокарте каждый сможет увидеть геометрически правильную сеть каналов, покрывающую поверхность Марса.
В свое время сторонники иллюзорности каналов считали одним из наиболее сильных своих аргументов рисунки двойных каналов, полученные Ловеллом и Скиапарелли. Они заявляли, что у защитников марсиан просто что-то двоится в глазах.
В 1926 году на шестидесятидюймовом рефлекторе Маунт-Вильсоновской обсерватории были впервые сфотографированы двойные каналы, а на современных снимках Марса их видно множество.
Особенно успешно фотографировался Марс в великое противостояние 1939 года.
На снимках, полученных Слайфером, вышло свыше пятисот каналов, причем как раз в тех местах, где их раньше различали просто глазом. Больше того, фотопластинка зафиксировала сезонные изменения в каналах в полном соответствии с выводами Ловелла.
В последние годы каналы Марса наблюдались на всех крупных обсерваториях мира. Постепенно «прозрели» одна за другой все те обсерватории, где раньше каналы считались несуществующими.
Ученик Антониади — французский астроном Бальде в 1941 году на той же Медонской обсерватории увидел множество каналов, существование которых отрицал его учитель. А на Маунт-Вильсоновской обсерватории в 1954 году были произведены первые попытки кинематографирования каналов.
В наши дни нет никаких сомнений в том, что на Марсе действительно существуют какие-то длинные и, в общем, правильные полоски. Они во многих случаях не являются сплошными, а распадаются на ряд отдельных пятнышек. Но в этой «кустистости» марсианских каналов есть замечательная правильность: пятнышки не разбросаны по Марсу как попало. Они образуют длинные, стройные ряды, следующие по дугам больших кругов, то есть по кратчайшим направлениям на поверхности планеты. По ним каким-то образом распространяется вода, и каналы Марса действительно образуют единую, стройную, геометрически правильную систему, соединяющую полярные шапки Марса.
Таково последнее слово современной ареографии. Нетрудно видеть, что оно полностью подтверждает наблюдения Скиапарелли, Ловелла и других сторонников искусственного происхождения каналов.
Все попытки объяснить природу каналов естественным путем пока оказались безуспешными. Ни реки, ни трещины, ни другие естественные образования на поверхности планеты не обладают той замечательной правильностью, которая свойственна каналам. Единственной гипотезой, стройно и логично объясняющей все особенности каналов, остается пока — гипотеза Ловелла.
Впрочем, сторонников его взглядов пока еще очень мало. Многим его гипотеза кажется настолько фантастической, что они даже не считают нужным заниматься ее опровержением. Больше того, некоторыми из современных крупных ученых поставлено под сомнение не только существование марсиан, но даже наличие какой бы то ни было органической жизни на Марсе.
ОТ АСТРОБОТАНИКИ К АСТРОБИОЛОГИИ
Ученым свойственна осторожность. Прежде чем сделать какой-нибудь вывод, они стараются много раз проверить факты, на которых строится этот вывод. Меньше всего они доверяют тому, что «очевидно». Им хорошо известно, что наши глаза подчас видят такое, что в действительности не существует — вспомните, например, общеизвестные «обманы зрения». Так получилось и с вопросом о жизни на Марсе. «Очевидные» факты подверглись сомнению и многократной проверке. Казалось, что может быть «очевиднее», чем снеговая природа полярных шапок Марса. Не то ли мы наблюдали и на Земле, когда с наступлением весны снега отступают к полюсам, а зимою полярные шапки Земли снова увеличиваются? И все-таки нашлись ученые, которые усомнились в сходстве белых полярных шапок Марса с земным снегом и льдом. Они заявили, что при исключительно низких температурах, которые господствуют на Марсе, его полярные области могут быть покрыты замерзшей углекислотой, внешне вполне напоминающей обычный снег. А отсюда следует, что полярные шапки вовсе не дают талой воды, а значит, Марс, практически полностью лишенный влаги, конечно, необитаем. Потребовались тщательные и кропотливые определения температуры полярных шапок Марса, чтобы убедиться в ложности такого вывода. Оказалось, что белый покров вблизи полюсов Марса сохраняется при температурах, близких к 0?С, между тем замерзшая углекислота при тех же температурах давно уже перешла бы в газообразное состояние. Значит, околополярные области Марса покрыты сравнительно тонким слоем льда и снега, который, тая весной, образует живоносную воду. Тогда у противников жизни на Марсе возникли сомнения в органической природе марсианских «морей». Еще несколько десятилетий назад шведский астроном Аррениус высказал предположение, что те области на Марсе, которые мы называем «морями», представляют собой огромные лужи из густой зеленоватой грязи. Весной, овеваемая влажными ветрами, грязь благодаря наличию в ней определенных химических веществ темнеет и становится заметнее, а зимой засыхает и блекнет. Мертвая пустыня с ядовитыми, пахнущими сероводородом грязевыми оазисами — таков Марс по представлениям Аррениуса. В то время когда сторонники искусственного происхождения каналов находили, как им казалось, всё новые и новые подтверждения своим взглядам, противники жизни на Марсе указывали на факты, в корне подрывавшие всякие идеи об обитаемости Марса. Если «моря» Марса покрыты растительностью, говорили они, то тогда она должна иметь свойства, общие с земной растительностью. Между тем три из важнейших особенностей земных растений у марсианских «морей» отсутствуют. Во-первых, земная растительность очень сильно рассеивает невидимые, «тепловые» инфракрасные лучи. Именно поэтому снятые сквозь инфракрасные светофильтры земные растения кажутся как бы покрытыми инеем или снегом. Между тем у марсианских «морей» нет такого инфракрасного эффекта. Во-вторых, в спектре земных растений хорошо видны полосы поглощения, принадлежащие хлорофиллу — веществу, без которого немыслима жизнь растений. В спектре же марсианских растений никаких полос поглощения хлорофилла не обнаружено. Наконец, в-третьих, земной растительности свойствен зеленый цвет, тогда как, по наблюдениям многих астрономов, «моря» Марса имеют хорошо заметный голубой, синий, а иногда даже фиолетовый оттенки. Три загадки — три серьезных довода в пользу неорганической природы марсианских «морей». Недавно к ним были добавлены и другие. В 1954 году известный советский астроном академик В.Г.Фесенков выступил со статьей, в которой категорически отверг всякую возможность какой бы то ни было органической жизни на Марсе. В подтверждение такого вывода он приводит математические вычисления некоторой величины «X», названной Фесенковым «фактором жизненной активности». По подсчетам ученого, для «морей» Марса величина «X» оказалась равной нулю. Отсюда он сделал вывод, что на Марсе нет не только марсиан, но и вообще какого-нибудь органического мира. Если бы на Земле существовали плоскогорья высотой в пятнадцать километров, то есть, иначе говоря, находящиеся в стратосфере, то физические условия, господствующие там, напоминали бы то, что есть на поверхности Марса. Между тем на Земле жизнь кончается на значительно меньших высотах. И на вершинах высочайших земных гор нет представителей живого мира — значит, не может их быть и на Марсе. В свете столь мрачных выводов всякие разговоры о марсианах и их каналах многим стали казаться наивно-детской фантастической мечтой. Однако сторонники жизни на Марсе не сдавались.
В 1945 году после многолетнего перерыва к исследованиям Марса вернулся Гавриил Андрианович Тихов. Уже не молодой, начинающий астроном, а широко известный маститый ученый, Г.А.Тихов решил найти новые доводы в пользу существования жизни на Марсе.
Ему это блестяще удалось. В последующие несколько лет все три загадки марсианских «морей» получили естественное, правдоподобное объяснение. Замечательно, что причиной всех трех загадочных фактов было одно обстоятельство — исключительно суровый климат Марса.
В самом деле, инфракрасные лучи несут в себе почти половину тепла, получаемого растениями от Солнца. В сравнительно легких температурных условиях Земли инфракрасные лучи для земных растений являются ненужным излишеством, дающим слишком много тепла. Вот почему земная растительность отказывается от этих щедрот Солнца.
Другое дело — растительность Марса. Она, наоборот, как бы впитывая в себя недостающее тепло, поглощает инфракрасную часть солнечного спектра.
Так же легко объясняется и вторая особенность марсианских «морей». Земным растениям для своей жизни достаточно поглощать только некоторые лучи солнечного спектра — так возникают в нем темные полосы поглощения хлорофилла. Страдающие же от холода марсианские растения стремятся поглотить почти все лучи видимой части спектра. Из-за этого полосы поглощения хлорофилла у них растягиваются, «размазываются» почти на весь спектр и потому становятся совершенно незаметными.
Собственно, этим объясняется и третья загадка марсианских «морей» — их голубовато-синий оттенок. Поглощая почти все лучи видимой части солнечного спектра, марсианские растения отражают только те лучи, которые практически не несут с собой никакого тепла. Такими «холодными» лучами как раз и являются синевато-фиолетовые лучи.
Данное Г.А.Тиховым объяснение было подтверждено, как это ни странно, наблюдениями на Земле. Оказалось, что земные растения, живущие в суровых климатических условиях, по своим оттенкам и свойствам напоминают марсианские. У них ослаблен инфракрасный эффект, растянута полоса поглощения хлорофилла, а сами растения имеют маловыраженный синеватый оттенок.
Так родилась новая наука о жизни на других планетах — астроботаника.
Впервые на Земле, в городе Алма-Ате, возник небольшой коллектив ученых, возглавляемый Г.А.Тиховым, — коллектив, дерзнувший от гипотез о жизни на Марсе перейти к конкретному изучению свойств марсианской растительности.
Название этого коллектива пока весьма скромное — сектор астроботаники Академии наук Казахской ССР. Но дело, совершаемое работниками сектора, — великое и очень нужное. Лучи света, связывающие Марс и Землю, позволяют по оптическим свойствам марсианских растений изучать другие особенности их природы.
Астроботанический атлас марсианских растений — что, казалось, может быть фантастичнее! Но именно благодаря успехам астроботаники такой атлас в недалеком будущем может быть создан. В нем мы не найдем фотографий марсианских цветов или деревьев, но классификация марсианских растений по их оптическим свойствам там будет дана.
Как и все новое, астроботаника встречает возражения, порождает споры, дискуссии. Примером может служить упомянутая статья академика Ф.Г.Фесенкова.
На лиц, мало знакомых с астрономией, эта статья произвела сильное впечатление. Многим показалось, что всякие разговоры о жизни на Марсе теперь должны быть прекращены.
Вскоре, однако, несостоятельность доводов академика Ф.Г.Фесенкова была доказана рядом других советских ученых. Оказалось, что в расчеты академика вкрались некоторые неточности и необоснованные допущения. В частности, Ф.Г.Фесенков не учел того, что растения Марса не сплошь покрывают его «моря» — сквозь них просвечивает неорганическая поверхность Марса. Она-то и дала для «фактора жизненности» величину, близкую к нулю.
В пользу сторонников жизни закончились и творческие дискуссии, проводившиеся в Алма-Ате и Ленинграде.
На Пленуме Комиссии по физике планет Академии наук СССР, состоявшемся в марте 1955 года, были сформулированы следующие пять главнейших доказательств наличия растительности на Марсе:
Во-первых, сезонные изменения окраски марсианских морей;
Во-вторых, изменение их цвета с увеличением высоты Солнца над данной областью Марса;
В-третьих, изменения очертаний некоторых марсианских морей;
В-четвертых, сходство отражательной способности марсианских морей и земных растений; и, наконец,
В-пятых, устойчивость морей Марса по отношению к пылевым бурям, на нем происходящим.
В связи с развитием астронавтики — науки о межпланетных путешествиях — в декабре 1956 года в Москве состоялось созванное Академией наук СССР совещание крупнейших советских астрономов и биологов по вопросу о возможности жизни на планетах. Подавляющее большинство участников совещания высказалось в пользу наличия на Марсе органической жизни, и совещание приняло решение о дальнейшем развитии исследований жизни за пределами Земли.
Таким образом, в настоящее время почти все советские и зарубежные астрономы считают, что на Марсе есть растительная жизнь.
«Моря» Марса, его каналы и оазисы действительно представляют собой области, покрытые растительностью. Эта растительность во многом отличается от земной; но она существует. А значит, на Марсе, вероятно, есть и животный мир. И не исключена возможность, что органический мир Марса в своем развитии давно уже дошел, по выражению Ф.Энгельса, «до породы мыслящих существ».
Астроботаника неизбежно должна перерасти в астробиологию.
Научному исследованию должны подвергнуться все виды органической жизни на Марсе.
Недавно Г.А.Тихов предложил новый способ убедиться в наличии марсиан. Вот что он пишет об этом на страницах первого тома «Трудов Сектора астроботаники» (изд. 1953 г., стр. 13):
«Выберем на Марсе несколько мест, где может существовать растительность, и будем тщательно изучать их цвет при помощи точных способов оптики.
Рассмотрим два случая: 1) место проходит естественный годичный путь без вмешательства различных существ, и 2) в жизнь изучаемого места вмешиваются разумные существа.
В первом случае изменение цвета наблюдаемой площади в зависимости от марсианских времен года происходит постепенно, без скачка. Во втором случае, после созревания посева, цвет ее должен очень быстро, в несколько дней, перейти почти в чистый цвет почвы. Конечно, это предполагает, что сельское хозяйство на Марсе ведется в крупных масштабах».
Сельское хозяйство на Марсе!
Уборочная кампания, проводимая марсианами!
У скептически настроенных людей эти выражения способны вызвать лишь улыбку.
Но разве в смелой мысли Г.А.Тихова есть что-нибудь нелепое или антинаучное?
Разве обитатели других миров не должны использовать богатства природы для поддержания своей жизни? И если мы говорим об этом «земным» языком, то лишь потому, что не имеем иных способов выражения своих мыслей.
Марс — живой мир, где наблюдаются несомненные проявления органической жизни. И сейчас, в период близости Марса к Земле, загадка его таинственных каналов привлекает не только ученых. Миллионы людей, далеких от астрономии, с нетерпением ждут, что же нового узнают о Марсе астрономы, наблюдавшие его в 1956 году. Обработка наблюдений настолько сложна, что обычно она растягивается на многие месяцы и даже годы. Но уже теперь можно подвести некоторые предварительные итоги наблюдений Марса в 1956 году.
По данным, полученным советскими астрономами, прошедшее великое противостояние Марса отличалось большой активностью его атмосферы. В августе 1956 года Харьковский астроном проф. Н.П.Барабашов, а за ним и другие обнаружили на Марсе необычные яркие движущиеся пятна. Позже выяснилось, что это были сравнительно плотные облака, ранее никогда в таком виде и количестве не наблюдавшиеся.
Отмечались на Марсе и сильнейшие пылевые бури, желтоватой дымкой заволакивавшие отдельные области марсианских морей. Подтвердилась ранее высказывавшаяся догадка, что полярные шапки Марса частично образованы облаками и туманами, под которыми скрывается настоящий ледяной покров.
Очень интересные наблюдения выполнил Г.А.Тихов. Наблюдая в 1956 году таяние южной полярной шапки Марса, он снова увидел вокруг нее коричневатую кайму, которая, по мере отступления шапки к полюсу, приобретала зеленоватый оттенок.
Нечто подобное наблюдается и на Земле, когда только что распускающиеся весной листочки деревьев сначала бывают не зелеными, а коричневато-оранжевыми. Тем самым подтвержден еще один факт, доказывающий наличие на Марсе органической жизни.
Что касается каналов Марса, то они наблюдались в 1956 году как советскими, так и зарубежными астрономами. После того как все наблюдения будут собраны и обработаны, астрономы оповестят мир о результатах наблюдения каналов и других образований на Марсе.
Нет никакого сомнения в том, что в недалеком будущем мы станем свидетелями новых, интереснейших открытий, которые позволят раскрыть многие тайны соседней к нам планеты.
Однако сторонники жизни на Марсе не сдавались.
В 1945 году после многолетнего перерыва к исследованиям Марса вернулся Гавриил Андрианович Тихов. Уже не молодой, начинающий астроном, а широко известный маститый ученый, Г.А.Тихов решил найти новые доводы в пользу существования жизни на Марсе.
Ему это блестяще удалось. В последующие несколько лет все три загадки марсианских «морей» получили естественное, правдоподобное объяснение. Замечательно, что причиной всех трех загадочных фактов было одно обстоятельство — исключительно суровый климат Марса.
В самом деле, инфракрасные лучи несут в себе почти половину тепла, получаемого растениями от Солнца. В сравнительно легких температурных условиях Земли инфракрасные лучи для земных растений являются ненужным излишеством, дающим слишком много тепла. Вот почему земная растительность отказывается от этих щедрот Солнца.
Другое дело — растительность Марса. Она, наоборот, как бы впитывая в себя недостающее тепло, поглощает инфракрасную часть солнечного спектра.
Так же легко объясняется и вторая особенность марсианских «морей». Земным растениям для своей жизни достаточно поглощать только некоторые лучи солнечного спектра — так возникают в нем темные полосы поглощения хлорофилла. Страдающие же от холода марсианские растения стремятся поглотить почти все лучи видимой части спектра. Из-за этого полосы поглощения хлорофилла у них растягиваются, «размазываются» почти на весь спектр и потому становятся совершенно незаметными.
Собственно, этим объясняется и третья загадка марсианских «морей» — их голубовато-синий оттенок. Поглощая почти все лучи видимой части солнечного спектра, марсианские растения отражают только те лучи, которые практически не несут с собой никакого тепла. Такими «холодными» лучами как раз и являются синевато-фиолетовые лучи.
Данное Г.А.Тиховым объяснение было подтверждено, как это ни странно, наблюдениями на Земле. Оказалось, что земные растения, живущие в суровых климатических условиях, по своим оттенкам и свойствам напоминают марсианские. У них ослаблен инфракрасный эффект, растянута полоса поглощения хлорофилла, а сами растения имеют маловыраженный синеватый оттенок.
Так родилась новая наука о жизни на других планетах — астроботаника.
Впервые на Земле, в городе Алма-Ате, возник небольшой коллектив ученых, возглавляемый Г.А.Тиховым, — коллектив, дерзнувший от гипотез о жизни на Марсе перейти к конкретному изучению свойств марсианской растительности.
Название этого коллектива пока весьма скромное — сектор астроботаники Академии наук Казахской ССР. Но дело, совершаемое работниками сектора, — великое и очень нужное. Лучи света, связывающие Марс и Землю, позволяют по оптическим свойствам марсианских растений изучать другие особенности их природы.
Астроботанический атлас марсианских растений — что, казалось, может быть фантастичнее! Но именно благодаря успехам астроботаники такой атлас в недалеком будущем может быть создан. В нем мы не найдем фотографий марсианских цветов или деревьев, но классификация марсианских растений по их оптическим свойствам там будет дана.
Как и все новое, астроботаника встречает возражения, порождает споры, дискуссии. Примером может служить упомянутая статья академика Ф.Г.Фесенкова.
На лиц, мало знакомых с астрономией, эта статья произвела сильное впечатление. Многим показалось, что всякие разговоры о жизни на Марсе теперь должны быть прекращены.
Вскоре, однако, несостоятельность доводов академика Ф.Г.Фесенкова была доказана рядом других советских ученых. Оказалось, что в расчеты академика вкрались некоторые неточности и необоснованные допущения. В частности, Ф.Г.Фесенков не учел того, что растения Марса не сплошь покрывают его «моря» — сквозь них просвечивает неорганическая поверхность Марса. Она-то и дала для «фактора жизненности» величину, близкую к нулю.
В пользу сторонников жизни закончились и творческие дискуссии, проводившиеся в Алма-Ате и Ленинграде.
На Пленуме Комиссии по физике планет Академии наук СССР, состоявшемся в марте 1955 года, были сформулированы следующие пять главнейших доказательств наличия растительности на Марсе:
Во-первых, сезонные изменения окраски марсианских морей;
Во-вторых, изменение их цвета с увеличением высоты Солнца над данной областью Марса;
В-третьих, изменения очертаний некоторых марсианских морей;
В-четвертых, сходство отражательной способности марсианских морей и земных растений; и, наконец,
В-пятых, устойчивость морей Марса по отношению к пылевым бурям, на нем происходящим.
В связи с развитием астронавтики — науки о межпланетных путешествиях — в декабре 1956 года в Москве состоялось созванное Академией наук СССР совещание крупнейших советских астрономов и биологов по вопросу о возможности жизни на планетах. Подавляющее большинство участников совещания высказалось в пользу наличия на Марсе органической жизни, и совещание приняло решение о дальнейшем развитии исследований жизни за пределами Земли.
Таким образом, в настоящее время почти все советские и зарубежные астрономы считают, что на Марсе есть растительная жизнь.
«Моря» Марса, его каналы и оазисы действительно представляют собой области, покрытые растительностью. Эта растительность во многом отличается от земной; но она существует. А значит, на Марсе, вероятно, есть и животный мир. И не исключена возможность, что органический мир Марса в своем развитии давно уже дошел, по выражению Ф.Энгельса, «до породы мыслящих существ».
Астроботаника неизбежно должна перерасти в астробиологию.
Научному исследованию должны подвергнуться все виды органической жизни на Марсе.
Недавно Г.А.Тихов предложил новый способ убедиться в наличии марсиан. Вот что он пишет об этом на страницах первого тома «Трудов Сектора астроботаники» (изд. 1953 г., стр. 13):
«Выберем на Марсе несколько мест, где может существовать растительность, и будем тщательно изучать их цвет при помощи точных способов оптики.
Рассмотрим два случая: 1) место проходит естественный годичный путь без вмешательства различных существ, и 2) в жизнь изучаемого места вмешиваются разумные существа.
В первом случае изменение цвета наблюдаемой площади в зависимости от марсианских времен года происходит постепенно, без скачка. Во втором случае, после созревания посева, цвет ее должен очень быстро, в несколько дней, перейти почти в чистый цвет почвы. Конечно, это предполагает, что сельское хозяйство на Марсе ведется в крупных масштабах».
Сельское хозяйство на Марсе!
Уборочная кампания, проводимая марсианами!
У скептически настроенных людей эти выражения способны вызвать лишь улыбку.
Но разве в смелой мысли Г.А.Тихова есть что-нибудь нелепое или антинаучное?
Разве обитатели других миров не должны использовать богатства природы для поддержания своей жизни? И если мы говорим об этом «земным» языком, то лишь потому, что не имеем иных способов выражения своих мыслей.
Марс — живой мир, где наблюдаются несомненные проявления органической жизни. И сейчас, в период близости Марса к Земле, загадка его таинственных каналов привлекает не только ученых. Миллионы людей, далеких от астрономии, с нетерпением ждут, что же нового узнают о Марсе астрономы, наблюдавшие его в 1956 году. Обработка наблюдений настолько сложна, что обычно она растягивается на многие месяцы и даже годы. Но уже теперь можно подвести некоторые предварительные итоги наблюдений Марса в 1956 году.
По данным, полученным советскими астрономами, прошедшее великое противостояние Марса отличалось большой активностью его атмосферы. В августе 1956 года Харьковский астроном проф. Н.П.Барабашов, а за ним и другие обнаружили на Марсе необычные яркие движущиеся пятна. Позже выяснилось, что это были сравнительно плотные облака, ранее никогда в таком виде и количестве не наблюдавшиеся.
Отмечались на Марсе и сильнейшие пылевые бури, желтоватой дымкой заволакивавшие отдельные области марсианских морей. Подтвердилась ранее высказывавшаяся догадка, что полярные шапки Марса частично образованы облаками и туманами, под которыми скрывается настоящий ледяной покров.
Очень интересные наблюдения выполнил Г.А.Тихов. Наблюдая в 1956 году таяние южной полярной шапки Марса, он снова увидел вокруг нее коричневатую кайму, которая, по мере отступления шапки к полюсу, приобретала зеленоватый оттенок.
Нечто подобное наблюдается и на Земле, когда только что распускающиеся весной листочки деревьев сначала бывают не зелеными, а коричневато-оранжевыми. Тем самым подтвержден еще один факт, доказывающий наличие на Марсе органической жизни.
Что касается каналов Марса, то они наблюдались в 1956 году как советскими, так и зарубежными астрономами. После того как все наблюдения будут собраны и обработаны, астрономы оповестят мир о результатах наблюдения каналов и других образований на Марсе.
Нет никакого сомнения в том, что в недалеком будущем мы станем свидетелями новых, интереснейших открытий, которые позволят раскрыть многие тайны соседней к нам планеты.
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Загадка марсианских каналов еще не решена. Вопрос об обитаемости Марса окончательно выяснится только в будущем. Но крылья фантазии уже сейчас способны перенести нас в это будущее и помочь представить то, что, может быть, когда-нибудь и совершится. …Великое противостояние 1973 года мы ожидали с нетерпением. Всего несколько месяцев назад было закончено строительство первой заатмосферной обсерватории. Пятьсот километров высоты, практически абсолютная прозрачность межпланетного пространства, новые системы телескопов, — все заставляло предполагать, что грядущее противостояние будет ознаменовано великими открытиями. Уже в начале 1973 года наземные обсерватории приступили к наблюдениям Марса. Однако все ждали сообщений с заатмосферной обсерватории, которую в виде крохотной движущейся звездочки можно было различить на фоне утренних и вечерних зорь. Видимо, астрономы сразу хотят оповестить мир о своих открытиях, так как до конца октября они хранили полное молчание. Во второй половине сентября нам с группой других научных работников разрешили совершить полет на заатмосферную обсерваторию. Трудно описать наши ощущения, когда, заключенные в сигарообразное металлическое тело ракетоплана, мы ринулись в космос. Через несколько минут Земля осталась где-то внизу, а впереди, на фоне звездного неба, мы заметили приближающиеся огоньки первого Космического института.
Пилот так плавно вел ракету, что вскоре мы освоились с обстановкой и почувствовали себя так же непринужденно, как в кабине обыкновенного самолета.
Около часа продолжался наш полет. Но вот цель достигнута. Ракетоплан догнал движущуюся по круговой орбите обсерваторию. Теперь, «пришвартовавшись» к обсерватории, мы по специальным шлюзам перешли в ее главный наблюдательный зал.
В центре зала, на массивной установке, виднелся огромный телескоп. Искусственная тяжесть на обсерватории была небольшой, что позволило конструкторам телескопа не считаться с габаритами. Двадцатиметровое зеркало заатмосферного телескопа в сочетании с различными окулярами позволяло увеличивать изображения небесных тел до ста тысяч раз. При таком увеличении на Марсе были видны все предметы с поперечником более ста пятидесяти метров.
Необычной оказалась и установка телескопа. Снабженная особым фотоэлектрическим «следящим» устройством, она заставляла телескоп быть постоянно направленным на данное светило, хотя пол обсерватории заметно сотрясался от шагов, а сама обсерватория непрерывно вращалась вокруг своей оси.
Нас отделял от мирового пространства замечательно прозрачный купол обсерватории. Сделанный из особо прочной пластмассы, он был еле заметен. Создавалось впечатление, что между нами и звездами нет никакой преграды, хотя мы прекрасно понимали, что почти невидимый, герметически непроницаемый купол сохраняет находящуюся под ним искусственную атмосферу.
Когда мы прибыли на обсерваторию, ее астрономы вели наблюдения Марса. Ослепительная ярко-красная планета здесь, за пределами воздушной оболочки Земли, сияла на фоне немерцающих звезд.
Из беседы с директором обсерватории мы поняли, почему астрономы хранили молчание. Открытия, сделанные ими, были так необычайны, что сообщить о них широкой публике астрономы решили лишь после многократной проверки всех фактов.
А факты, казалось, рассеивали всякие сомнения в обитаемости Марса.
Каналы Марса действительно оказались полосами растительности вдоль невидимых водных артерий. В телескоп удалось рассмотреть не только отдельные «рощи», сгустки искусственно взращиваемой растительности, но и какие-то странные кругообразные сооружения, расположенные через каждые пять километров вдоль всей линии любого из каналов. Весной можно было заметить, что позеленение растительности вокруг канала начинается именно от этих сооружений, представляющих собой, по-видимому, какие-то оросительные или водонапорные устройства марсиан.
Выяснилось также, что оазисы Марса, как и предполагал Ловелл, — это крупные населенные пункты соседней с нами планеты. Тончайшие ниточки, тянущиеся непрерывно по обе стороны невидимого канала, были удивительно похожи на земные шоссейные дороги.
Впрочем, оазисы — это не главные города марсиан, а только их форпосты в пустыне. Основная же часть населения Марса живет на дне бывших марсианских морей, ныне почти сплошь покрытых растительностью.
Множество круглых пятен, поразительно напоминающих оазисы и заполняющих все пространство «морей» Марса, было открыто еще в 1941 году французским астрономом Камюшелем. Но только теперь, в 1973 году, странная пятнистость марсианских морей нашла объяснение. Оказалось, что это основные, главные населенные пункты марсиан, естественно расположенные в самых благоприятных для жизни районах планеты.
Метод Г.А.Тихова, применяемый на заатмосферной обсерватории, обнаружил высокий технический уровень сельского хозяйства марсиан.
По словам директора обсерватории, казавшееся когда-то загадочным появление новых и изменение ранее известных темных областей Марса теперь объяснены.
Перед нами — проявление сельскохозяйственной деятельности марсиан, их попытки отвоевать у пустыни новые области для посева полезных культур.
— Но где же действующие лица? Почему марсиане не сделают попытки завязать связь с людьми, прилететь на Землю?
— Мы пока еще не знаем этого, — отвечает нам директор. — Помните, около четверти века назад на Марсе наблюдались какие-то загадочные вспышки? С тех пор они повторялись с каждым годом всё чаще и чаше.
Нам удалось получить спектр последней вспышки. Представьте себе, он как две капли воды похож на спектры земных атомных взрывов. По-видимому, марсиане только еще вступают в век атомной энергии, без которой немыслим их перелет на Землю.
Я чувствую ваше недоумение. Вы хотите спросить, как же марсиане, опередив в своем развитии людей, удивив нас грандиозной системой своих каналов, отстали от человечества в вопросах использования атомной энергии?
Думаю, что причина этого — в небольшой массе Марса. При одном и том же усилии на Марсе можно совершить работу, в семь раз большую, чем на Земле. Вероятно, система каналов была создана с помощью обычной, неатомной техники, и только в самое последнее время марсиане почувствовали нужду в атомной энергии…
Можно ли ждать марсиан? Да, мне кажется, что можно. Неделю назад радиостанция нашего Космического института приняла какие-то позывные с Марса. Мы пока не знаем, что они означают. Понять язык марсиан несравненно труднее, чем расшифровать любой иероглиф. И все-таки мы надеемся это сделать. Радиосвязь между обитателями двух миров будет установлена.
Наступит время, когда, познакомившись друг с другом, люди и марсиане станут объединенными усилиями познавать и покорять природу…
Потрясенные до глубины души, мы возвращались на Землю…
Так ли будет встречен Марс в его следующее великое противостояние — покажет будущее.
Через несколько минут Земля осталась где-то внизу, а впереди, на фоне звездного неба, мы заметили приближающиеся огоньки первого Космического института.
Пилот так плавно вел ракету, что вскоре мы освоились с обстановкой и почувствовали себя так же непринужденно, как в кабине обыкновенного самолета.
Около часа продолжался наш полет. Но вот цель достигнута. Ракетоплан догнал движущуюся по круговой орбите обсерваторию. Теперь, «пришвартовавшись» к обсерватории, мы по специальным шлюзам перешли в ее главный наблюдательный зал.
В центре зала, на массивной установке, виднелся огромный телескоп. Искусственная тяжесть на обсерватории была небольшой, что позволило конструкторам телескопа не считаться с габаритами. Двадцатиметровое зеркало заатмосферного телескопа в сочетании с различными окулярами позволяло увеличивать изображения небесных тел до ста тысяч раз. При таком увеличении на Марсе были видны все предметы с поперечником более ста пятидесяти метров.
Необычной оказалась и установка телескопа. Снабженная особым фотоэлектрическим «следящим» устройством, она заставляла телескоп быть постоянно направленным на данное светило, хотя пол обсерватории заметно сотрясался от шагов, а сама обсерватория непрерывно вращалась вокруг своей оси.
Нас отделял от мирового пространства замечательно прозрачный купол обсерватории. Сделанный из особо прочной пластмассы, он был еле заметен. Создавалось впечатление, что между нами и звездами нет никакой преграды, хотя мы прекрасно понимали, что почти невидимый, герметически непроницаемый купол сохраняет находящуюся под ним искусственную атмосферу.
Когда мы прибыли на обсерваторию, ее астрономы вели наблюдения Марса. Ослепительная ярко-красная планета здесь, за пределами воздушной оболочки Земли, сияла на фоне немерцающих звезд.
Из беседы с директором обсерватории мы поняли, почему астрономы хранили молчание. Открытия, сделанные ими, были так необычайны, что сообщить о них широкой публике астрономы решили лишь после многократной проверки всех фактов.
А факты, казалось, рассеивали всякие сомнения в обитаемости Марса.
Каналы Марса действительно оказались полосами растительности вдоль невидимых водных артерий. В телескоп удалось рассмотреть не только отдельные «рощи», сгустки искусственно взращиваемой растительности, но и какие-то странные кругообразные сооружения, расположенные через каждые пять километров вдоль всей линии любого из каналов. Весной можно было заметить, что позеленение растительности вокруг канала начинается именно от этих сооружений, представляющих собой, по-видимому, какие-то оросительные или водонапорные устройства марсиан.
Выяснилось также, что оазисы Марса, как и предполагал Ловелл, — это крупные населенные пункты соседней с нами планеты. Тончайшие ниточки, тянущиеся непрерывно по обе стороны невидимого канала, были удивительно похожи на земные шоссейные дороги.
Впрочем, оазисы — это не главные города марсиан, а только их форпосты в пустыне. Основная же часть населения Марса живет на дне бывших марсианских морей, ныне почти сплошь покрытых растительностью.
Множество круглых пятен, поразительно напоминающих оазисы и заполняющих все пространство «морей» Марса, было открыто еще в 1941 году французским астрономом Камюшелем. Но только теперь, в 1973 году, странная пятнистость марсианских морей нашла объяснение. Оказалось, что это основные, главные населенные пункты марсиан, естественно расположенные в самых благоприятных для жизни районах планеты.
Метод Г.А.Тихова, применяемый на заатмосферной обсерватории, обнаружил высокий технический уровень сельского хозяйства марсиан.
По словам директора обсерватории, казавшееся когда-то загадочным появление новых и изменение ранее известных темных областей Марса теперь объяснены.
Перед нами — проявление сельскохозяйственной деятельности марсиан, их попытки отвоевать у пустыни новые области для посева полезных культур.
— Но где же действующие лица? Почему марсиане не сделают попытки завязать связь с людьми, прилететь на Землю?
— Мы пока еще не знаем этого, — отвечает нам директор. — Помните, около четверти века назад на Марсе наблюдались какие-то загадочные вспышки? С тех пор они повторялись с каждым годом всё чаще и чаше.
Нам удалось получить спектр последней вспышки. Представьте себе, он как две капли воды похож на спектры земных атомных взрывов. По-видимому, марсиане только еще вступают в век атомной энергии, без которой немыслим их перелет на Землю.
Я чувствую ваше недоумение. Вы хотите спросить, как же марсиане, опередив в своем развитии людей, удивив нас грандиозной системой своих каналов, отстали от человечества в вопросах использования атомной энергии?
Думаю, что причина этого — в небольшой массе Марса. При одном и том же усилии на Марсе можно совершить работу, в семь раз большую, чем на Земле. Вероятно, система каналов была создана с помощью обычной, неатомной техники, и только в самое последнее время марсиане почувствовали нужду в атомной энергии…
Можно ли ждать марсиан? Да, мне кажется, что можно. Неделю назад радиостанция нашего Космического института приняла какие-то позывные с Марса. Мы пока не знаем, что они означают. Понять язык марсиан несравненно труднее, чем расшифровать любой иероглиф. И все-таки мы надеемся это сделать. Радиосвязь между обитателями двух миров будет установлена.
Наступит время, когда, познакомившись друг с другом, люди и марсиане станут объединенными усилиями познавать и покорять природу…
Потрясенные до глубины души, мы возвращались на Землю…
Так ли будет встречен Марс в его следующее великое противостояние — покажет будущее.

СОДЕРЖАНИЕ: Николай Атаров. Смерть под псевдонимом. Роман. Рисунки В.Трубковича… 3. Е. Рысс и Л. Рахманов. Домик на болоте. Повесть. Рисунки А.Волкова и Е.Гавринкевича… 109. Г. Гребнев. Пропавшие сокровища. Повесть. Рисунки Н.Поливанова… 187. Н. Рощин. Между Нигером и Сенегалом. Повесть. Рисунки И.Архипова… 265. Илья Зверев. Чрезвычайные обстоятельства. Повесть. Рисунки И.Вусковича… 316. И. Ефремов. «Катти Сарк». Рисунки П.Павлинова… 331. О. Эрберг. Слониха Ситора. Рассказ. Рисунки В.Юрлова… 363. Н. Гернет и Г. Ягдфельд. Катя и крокодил. Киноповесть. Рисунки А.Иткина… 392. Ф. Зигель. Обитаем ли Марс? Рисунки С.Монахова… 422.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1958г. №4


Михаил Ляшенко Человек-луч
Фантастическая повесть[72]
Глава первая АНДРЮХИН
Все же неизвестно, где это началось… Быть может, в квартире Бубыриных, но возможно, что в кабинете Юры Сергеева, секретаря комитета комсомола Химкомбината в городе Майске, а может быть, в приемной советского консульства на островах Фароо-Маро, в Южном океане… Все великие события начинаются не с барабанного боя, не торжественными предупреждениями, а невзначай, в обыденной обстановке… Юра Сергеев только что пришел из второго цеха и, не раздеваясь, соображал, бежать ли ему в пионерский клуб или по общежитиям, к главному инженеру или к ребятам поговорить о ближайшем хоккее. Впрочем, больше всего ему хотелось взять в руки книгу, которая лежала перед ним на столе. Это была новинка, только что выпушенная Гостехиздатом. На корешке и на синем переплете жирно блестело золотом одно слово: «Кибернетика». Пониже было обозначено: «Сборник статей под редакцией акад. И. Д. Андрюхина». Юра ласково погладил книгу, потом раскрыл ее и, не удержавшись, словно лакомка, прочел несколько слов. Но тут сердито затрезвонил неугомонный телефон. Юра, деловито хмурясь, неохотно отложил книгу. — Сергеев? — услышал он незнакомый мужской голос, густой, звонкий к как будто насмешливый. — Да… — Нам с вами суждено вскоре познакомиться. Вы как, храбрый парень? — А что, будет здорово страшно? — Будет! — весело и твердо пообещал голос. — Давай! — усмехнулся и Юра, соображая, кто это его разыгрывает. Между тем голос продолжал: — Как насчет силенки? — Подходяще… — Ну да… Говорят, левой жмете семьдесят? — Нужно — и восемьдесят выжмем. — Юра никак не мог понять, кто же это говорит. — Неплохо! А сумеете отличить счетчик Гейгера от пишущей машинки? — Отличу. — Юру трудно было вывести из равновесия. — Есть такое чудное выражение — рисковый парень, — продолжал голос. — Так вот, рисковый ли вы парень? Любите ли неожиданности, приключения, риск? — Ага, — согласился Юра, вслушиваясь. — Одно достоинство очевидно: немногословие. Итак, сверим часы. Если не ошибаюсь, семнадцать минут второго? Сколько на ваших? Незнакомый голос прозвучал неожиданно серьезно. И Юра невольно взглянул на часы. Было уже двадцать минут второго. — Ваши спешат… — решил голос. — Как вы передвигаетесь? — Как передвигаюсь? — не понял Юра. — Ну да. Что вы делаете, если вам из точки А нужно перебраться в точку Б? — Иду, — сказал Юра. — Пёхом… — В таком случае, жду вас ровно через двадцать минут на Мичуринской, одиннадцать, третий этаж… Тотчас слабо звякнул отбой. Юра положил трубку и, недоумевая, пожал плечами. Не очень остроумно. Странный розыгрыш. Можно было ожидать что-нибудь более интересное… И вдруг он сообразил, что на третьем этаже дома номер 11 по Мичуринской улице помещается горком комсомола. Здравствуйте! Час от часу не легче. Что это все значит? Он позвонил в горком. Трубку взяла Вера Кучеренко, второй секретарь. — Здорово! Кто меня вызывал? — спросил Юра. — Не знаю… — Голос у нее был тоже с усмешкой. — Так что ж, идти? — спросил он, ничего не понимая. — Смотри! — сказала она строго и повесила трубку. Ну, это уж совсем ни на что не похоже! Делать им там нечего, что ли? Юра взглянул на часы: прошло три минуты. Он вылетел из комнаты, на ходу застегивая пальто и нахлобучивая шапку. Денек был пасмурный, на редкость теплый для зимы. Юра мчался, разбрызгивая хмурые лужи на тротуарах, скользя в новых сапогах и поглядывая на встречные часы. У него оставалось четыре минуты, когда он взбежал по ступенькам трехэтажного дома, где размещались горком партии, горисполком и горком комсомола. На третьем этаже Юра замедлил бег, привычно приводя в порядок дыхание. В ту же минуту впереди по коридору со звоном распахнулась стеклянная дверь кабинета Веры Кучеренко, и навстречу Юре легкой, будто танцующей, походкой двинулся удивительно знакомый человек. Знакомыми казались и продолговатое смуглое моложавое лицо, и длинная темная борода. Он был безусловно красив, своеобразной, яркой, цыганской красотой. Меховую шапку-ушанку он надвинул так низко, что брови слились с мехом. Из-под шапки смеялись коричневые, с искоркой, совсем еще мальчишечьи глаза. Человек был невысок, ко легкость и стройность, которые не могло скрыть и широкое пальто, делали его выше. Когда взгляд его ярких, любопытных, веселых глаз столкнулся со взглядом Юры, тот невольно приостановился. — Сергеев? Юра тотчас узнал четкий и звонкий голос, звучавший в телефонной трубке. Поняв, что не ошибся, человек протянул руку: — Ну, здравствуйте! Я — Андрюхин. Представьте, что в том самом, обычном, исхоженном вдоль и поперек коридоре, где вам приходится бывать ежедневно, встречается смутно знакомый человек, который, запросто улыбаясь, протягивает вам руку и говорит: «Здравствуйте, я Ломоносов!» Причем вы сразу понимаете, что перед вами не однофамилец, не дальний родственник, а настоящий Михайло Васильевич… Представьте это — и тогда сможете понять, что испытал Юра. Имя академика Ивана Дмитриевича Андрюхина было так же всемирно известно, как имя Ивана Петровича Павлова или Альберта Эйнштейна. Встретить его вот так, в коридоре горкома комсомола, да еще услышать, как он называет вашу фамилию, было, конечно, чудом, чудом тем большим, что всего полчаса назад Юра держал книгу статей о кибернетике, изданную под редакцией вот этого всемирно известного ученого… От отца, «профессора токарных дел», как его шутя звали на далеком уральском заводе, Юра унаследовал жадную любовь к технике. Известный активист школьных технических кружков, участник не только районных и областных, но даже всесоюзных выставок умельцев ремесленных училищ. Юра добился серьезных успехов в конструировании довольно сложных электронно-счетных устройств и мечтал о создании еще более совершенных «думающих» машин. Он пятый год работал на Химкомбинате, заочно учился на втором курсе института и в свободное время, в глубокой тайне от всех, пытался нащупать пути, чтобы с помощью кибернетических устройств прийти к овладению силой тяготения… — Аккуратен. Любопытен. Здоровенный мужик! — говорил между тем Андрюхин, с удовольствием поглядывая на крутые плечи Юры, выпиравшие и сквозь пальто, на его крупную стриженую, круглую, как чугунное ядро, голову, на широкое, сейчас красное, растерянное лицо. — А я ваш старинный поклонник! Когда на южной трибуне орут уж очень громко: «Бычок!» — так это я. Чудесно играете в хоккей! Не только клюшкой, но и головой!. И, подхватив его под руку, Андрюхин с неожиданной силой поволок слегка упиравшегося от смущения Юру в кабинет Веры Кучеренко. — Я его заберу сейчас же! — заявил Андрюхин, вталкивая Юру в кабинет. — Хоть он и сопротивляется… — Как — сопротивляется? — Вера вспыхнула. Ясно было, что она нервничает и смущена не меньше Юры. — Ты что же, не понимаешь, какое нам оказано доверие? Академик Иван Дмитриевич Андрюхин лично прибыл сюда, чтобы именно из нашей городской организации выбрать самого подходящего парня. Это дело чести всей комсомольской организации города. Неужели мы ошиблись в выборе? Андрюхин сморщился, как от зубной боли: — Я пошутил, родная, пошутил! Всё в порядке. Зачем так официально?.. И, если хотите дружить, не смотрите на меня, как на памятник! Это, знаете, довольно противно — ощущать себя памятником… Значит, мы едем? — Конечно, Иван Дмитриевич! — Вера вышла из-за стола, не глядя на Юру, еще не проронившего ни слова. — Он просто обалдел от радости. Я позвоню на комбинат. Там пока поработает его заместитель… Только в машине, когда уже выехали из города. Юра, шумно вздохнув, кое-как выдавил: — Извините, Иван Дмитриевич… — За что же, голубчик? — Академик, самуправлявший машиной, покосился на Юру. — Да что я так, чурбан-чурбаном… Вы не думайте… — Ну, думать мне приходится, тут уж ничего не поделаешь. — Андрюхин подмигнул Юре. — Вот подумаем теперь вдвоем над одной штучкой… — Над какой, Иван Дмитриевич? — А над такой, что о ней можно разговаривать только на территории нашего городка… Ты вообще сразу привыкай помалкивать. А еще лучше — начисто забывай все, что увидишь. — Это можно, — согласился Юра. — Ты знаешь, зачем я тебя везу? — спросил Андрюхин, помолчав. — Нет, — оживился Юра. — Нам нужны смелые, сильные и знающие ребята для участия в одной работе. — Андрюхин понизил голос. — Собственно, в одном чуде… Может быть, вскоре ты и завершишь наши чудеса! — Я? — удивился Юра. Холодок непонятного восторга остро сжал его сердце. — По ходу исследований всегда наступает минута, — торжественно продолжал Андрюхин, — когда ученому, конструктору нужен испытатель, человек мужественный, сильный, с точным глазом, стальной волей… Ты ведь интересуешься антигравитонами? — Я? — Юра медленно побагровел. — Да нет… Так, чепуха! — Очень может быть! — весело согласился ученый, словно не замечая смущения Юры. — Над проблемой преодоления силы тяготения тысячи ученых работают более десяти лет. Но они, представь, часто шли ложными путями и тоже занимались чепухой. Теперь, однако, многое прояснилось… Юра так круто повернулся, что даже толкнул академика. — Неужели вам удалось… — Он не сразу решился выговорить. — Удалось овладеть тяготением?.. — Ты помнишь сказки «Тысяча и одна ночь»? — вдруг спросил Андрюхин. — Джинны переносят дворцы и даже целые города за одну ночь на тысячу километров. Ничего невероятного в этом нет. Если мы действительно распоряжаемся тяготением, то почему бы в один прекрасный день всем домам и заводам Майска или даже Горького не подняться в воздух и не поплыть туда, куда мы захотим их перенести? Ведь если можно регулировать силу тяжести, то сотни и миллионы тонн могут весить граммы… Представь — весь Майск поднимается в воздух, плывут дома, люди поглядывают из окошек, споря, где лучше остановиться… Академик захохотал. В его темной бороде сверкнули влажные крепкие зубы, глаза внимательно присматривались к Юре. Под этим странным взглядом Юра ощутил необыкновенную легкость, крылатое предчувствие победы. Он с нетерпением смотрел на академика, ожидая продолжения, но ученый замолчал. Юра знал, что академический городок, где на некотором расстоянии друг от друга располагались научные институты, руководимые академиком Андрюхиным, лежал где-то в лесах между Майском и Горьким. Действительно, они ехали сначала по хорошо известному Горьковскому шоссе — огромной бетонной автостраде, которая, как река, лилась меж набухших влагой серых полей, мимо деревень с красными крышами и паучьими лапами телевизионных антенн на них, еловых рощ и торфяных болот, по которым далеко шагали вышки электропередачи, гордясь тяжелым грузом проводов… Примерно на двадцатом километре машина, переваливаясь с боку на бок и покряхтывая, сползла с шоссе на узкую бетонную ленту, уходившую в лес. Судя по знаку, въезд на эту дорогу был запрещен. Они проехали под этим красным кругом с желтой поперечной чертой и углубились в лес. Немолчный шум шоссе, доходивший сюда, как далекий прибой, вскоре совсем затих. — Я думал, с чего вам начать, — заговорил Андрюхин. — Впереди у вас крайне интересная, но опасная работа. Не сомневаюсь, что вы согласитесь, когда узнаете, в чем дело. Но первые день—два вам лучше всего просто осмотреться. А чтобы не скучать, потренируйте наших хоккеистов… Юра сразу почувствовал себя увереннее. Недаром тысячам болельщиков он был отлично известен под именем Бычка. Его слава центрального нападающего гремела по всему Майску и проникла даже за пределы города. Он усмехнулся, вообразив ученых на хоккейном поле. Андрюхин уловил его усмешку и захохотал: — Да, да, так и сделаем! Я отвезу вас прямо в Институт долголетия. Насладившись растерянной физиономией Юры, Андрюхин спросил: — Ну, а сколько же лет, по-вашему, мне? И он неожиданно пнул Юру в бок жестким, словно булыжник, кулаком так, что тот даже слегка задохнулся. Этот удар окончательно убедил Юру, что перед ним еще молодой человек. Но звание академика, всемирная слава, и то, что имя Андрюхина он встречал еще в школьных учебниках, — все это заставило его сделать молниеносный расчет. И он несколько неуверенно пробормотал: — Сорок? Сорок пять?.. — Неужели я так плохо выгляжу? — Андрюхин даже притормозил машину, разглядывая себя в косо посаженном зеркальце. — Врете-с! Врете-с, товарищ Бычок! Я выгляжу лет на двадцать восемь — тридцать! Да-с! — А борода? — пробормотал Юра. — Борода — для солидности! Все-таки неудобно такому молокососу руководить тремя институтами, ходить в академиках… — Он пронзительно-хитро поглядел на Юру и вдруг крикнул: — Восемьдесят семь! Да-с! Юра, вытаращив, как в детстве, глаза и приоткрыв рот, ошалело смотрел на академика. А тот остановил машину, резво выпрыгнул на особенно чистую, незаезженную дорогу и, присев на корточки в позиции бегуна, пригласил: — Нуте-с? До той сосны! И, свистнув по-разбойничьи в свой каменный кулак, так лихо рванулся с места, что Юра, не знавший, как себя вести в этом неожиданном состязании, припустил вовсю. Он перегнал Андрюхина только у самого финиша. — Нехорошо! — сердито фыркнул академик, не глядя на Юру. — Нехорошо, да-с! Каких-нибудь сто метров — и одышка! Все еще фыркая, он легкой рысцой побежал к машине. Тяжело топая сапогами, Юра уже не рискнул его обгонять. У него было странное ощущение приближения не то сна, не то старой, знакомой сказки. Этот старец в восемьдесят семь лет — с густой шелковистой бородой без признаков седины, с молочно-розовой кожей и блестящими глазами юноши, с силой и легкостью спортсмена — походил на волшебника, с которым сидеть рядом было увлекательно и страшновато.— Вот мы, собственно, и приехали. Прошу пожаловать в академический городок, — сказал Андрюхин и тотчас сердито кашлянул, останавливая машину. Юра невольно взглянул на спидометр: они отъехали от шоссе девятнадцать километров. В ту же минуту из кустов на шоссе вынырнул тощий, удивительно рыжий человек в очках и помчался к ним со всех ног, словно за ним гнались. — Профессор Паверман, следите за дыханием! — сказал Андрюхин, едва рыжий, подскочив к машине, открыл рот. — К черту… к черту дыхание! — Паверман действительно едва переводил дух. — Все пропало! Полный развал! Все погибло!.. Если вы не видели идиота, Иван Дмитриевич, то вот он! Человек, которого академик назвал профессором Паверманом, принял довольно картинную позу, откинув большую голову с пышной шевелюрой. — В чем дело? — спросил Андрюхин с веселым любопытством. — В чем дело? — Паверман, поправив очки, моментально задвигался и даже сделал попытку влезть в закрытую машину. — Неужели вам не докладывали? — Нет. Приблизив губы к уху Андрюхина, Паверман громко выдохнул: — С Деткой плохо!.. Руки Андрюхина, покойно лежавшие на руле, мгновенно сжались в кулаки, блестящие глаза потемнели. — Что-нибудь серьезное? — Не знаю. Лучше всего вам взглянуть самому… Беспокойна. В глазах просьба, почти мольба. Слизистые воспалены. Стула не было. Температура нормальная. Андрюхин полез было из машины, но, заметив Юру, приостановился: — Я отлучусь на час. Побродите тут один… Юра вышел из машины и огляделся. Перед ним возвышалось необыкновенное здание, похожее на огромную елочную игрушку. Хотя на дворе стояла слишком теплая для февраля погода, три — четыре градуса выше ноля, — все же это был февраль: вокруг, пусть серый, ноздреватый, как брынза, лежал снег. Дом, мягко блестевший гранями какого-то теплого и даже вкусного на вид материала, весь утопал в густом сплетении дикого винограда, хмеля и роз. Юра нерешительно приблизился к зданию. Только подойдя почти вплотную, он убедился, что розы, и хмель, и виноград находились внутри прозрачной, на вид невесомой массы, из которой были сделаны часть фасада и украшавшие его легкие галереи. — Слоистый полиэфир, — услышал Юра чье-то довольное хихиканье. — Новичок? — Да, — поспешно подтвердил Юра, оглядываясь. Никогда еще он не чувствовал себя до такой степени новичком. Перед ним стоял плотный, краснолицый человек, с коротко подстриженными бобриком седыми волосами. Он был без шляпы, в толстом свитере. Его лыжи валялись около скамьи воздушно-фиолетового цвета, на которую садиться, казалось, так же противоестественно, как на цветочную клумбу. Тем не менее, посмеиваясь над Юрой, лыжник спокойно плюхнулся на фиолетовую скамью. — Приходилось ли вам слышать такой научный термин — молекула? — озабоченно спросил он в следующую минуту, с явным превосходством поглядывая на Юру. — Приходилось? И о полимерах вы также, конечно, имеете представление — ведь сейчас это знает каждый школьник. — И, не дожидаясь ответа, лыжник продолжал. — Но, видно, вам не приходилось специально заниматься пластмассами. Знайте же, что если девятнадцатый век был веком пара и электроэнергии, то двадцатый стал веком атомной энергии и полимерных материалов! Из полимеров, этих гигантских молекул, делают всё. Пластмассы заменяют все цветные металлы: медь, никель, свинец, золото, тантал, что угодно! Они заменяют любые жаропрочные и кислотопрочные стали, любые антикоррозийные покрытия; они заменяют каучук, шерсть, шелк, хлопок. Средний завод синтетического волокна дает в год тридцать пять тысяч тонн пряжи — столько же, сколько дадут двадцать миллионов тонкорунных овец. Впрочем, никакие овцы не могут дать волокно такого качества, как современные химические заводы. Самолеты «ТУ-150» почти целиком сделаны из пластмасс. Даже в «ТУ-104», предке современного самолета, насчитывалось более ста двадцати тысяч деталей из пластмасс и органического стекла… Сегодня пластмассы — это водопроводные трубы и дома, самолеты и суда любого тоннажа, это одежда и станки, обувь и шины. Пластмассами начинают ремонтировать людей… Взглянув на лыжника, Юра поспешно отвел глаза, в которых мелькнула усмешка над горячностью открывателя всем известных истин. Он попытался остановить словоизвержение незнакомца: — Я работаю на Химическом комбинате и со многими вещами сталкивался, но… — Не верите?! — воскликнул возмущенный собеседник. — А между тем особые пластмассы уже много лет используются для операций сердца, операций на коже, для протезирования внутренних органов! У нас в горах я знал человека, которому сделали новый пищевод из пластмассы, а в этом городке вы сами увидите людей с искусственными руками и ногами, неотличимыми от настоящих. — Вы давно здесь живете? — спросил Юра, снова пытаясь остановить этот водопад слов. — Шестой год… Раньше я пас овец в Ставрополье, давал людям хорошую натуральную шерсть, гордился этим. Это была одна моя жизнь. Теперь начинается вторая. Я решил стать ученым и делать химическую шерсть, лучше натуральной… — А эта скамья, — спросил Юра, переминаясь с ноги на ногу, но все же не решаясь опуститься на великолепное фиолетовое сиденье, — она тоже из пластмасс? — Слой стеклянной ткани, слой полиэфирной пластмассы вперемежку, — заявил лыжник, похлопывая по скамье, в нежной глубине которой как будто плыли яркие кленовые листья. — Прочнее стали, но в шесть раз легче. Приподымите! Юра послушно подошел, взялся за скамью и неожиданно поднял ее в воздух вместе с лыжником. — Эй, вы! — завопил тот. — Полегче! Сам встревоженный этим фокусом. Юра осторожно опустил скамью на снег. — Верно, тоже из чабанов? — сердито спросил лыжник. — Ну конечно! А какого вы года? — Сорок пятого… — Молодец! — похвалил лыжник. — Прекрасно выглядите! Хотя рядом со мной — вы действительно юнец. Значит, тысяча восемьсот сорок пятого года? — Да нет! — рассмеялся Юра обмолвке чабана. — Девятьсот сорок пятого. — Как же вы сюда проникли?! — завопил встревоженный лыжник. — Что вы тут делаете? — Меня привез Иван Дмитриевич Андрюхин… Человек в свитере испытующе разглядывал Юру и, кажется, поверил, что тот говорит правду. — Ага, будете участвовать в испытаниях. Так это вы… Слыхал! Похвально!.. — одобрил он. — Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Они подошли к широкому крыльцу. Казалось, что оно вытесано из золотистого хрусталя. В глубине крыльца, внутри эластичной массы, веселой процессией шагали семь мастерски сделанных гномов. Юра перепрыгнул, стараясь не наступить на их бороды. Двери сами бесшумно распахнулись, и они вошли в высокий, наполненный смолистыми запахами вестибюль, облицованный пластмассой, выделанной под кору березы. Все здесь поражало удивительной, корабельной чистотой. Из пластмасс были сделаны не только полы, стены, прозрачные потолки и золотисто-голубая крыша, которая сразу заставила Юру позабыть серый денек и наполнила его радостным ощущением веселого солнца. Из пластмасс в этом доме было сделано всё: мебель, занавески, скатерти, ванны, абажуры, подоконники, раковины, посуда… И совсем не чувствовалось однообразия материала: казалось, здесь собраны все драгоценные породы дерева, различные мраморы, благородные металлы, хрусталь, редкие ткани… — Прогресс! — важно сказал лыжник. — Наука! В наше время ничего этого еще не было… И так как Юра, жадно рассматривавший все вокруг, не поддержал разговора, он скромно добавил: — Я ведь, знаете, ровесник Александра Сергеевича Пушкина… Юру словно ударили по голове. С отчетливым ощущением, что он сходит с ума, Юра уставился на коренастого лыжника. Тот не обиделся. — Да-да! Конечно, не верите? Проверьте — фамилия моя Долгов, звать Андрей Илларионович… Вам здесь всякий скажет. Год рождения 1799! Только Александр Сергеевич родился двадцать шестого мая, а я пораньше, да, пораньше! Семнадцатого февраля… Вот так! И, как видите, живу!.. Комната, предназначенная Юре, была нежно-синей и вся светилась, как прозрачная раковина. Мебель — белая, кремовых оттенков. Он еще не успел осмотреться, как над письменным столом серебристо вспыхнула часть стены, оказавшаяся большим экраном. С экрана весело смотрел на Юру и на лыжника Иван Дмитриевич Андрюхин. — Ну как, нравится? — спросил он так тихо, будто был рядом. — Спасибо… — Юра неуверенно раскланялся. — Доставьте-ка его, пожалуйста, Андрей Илларионович, в Институт кибернетики… А с Деткой все в порядке!
Глава вторая ИГРА
В суровом, несколько похожем на крепость, старинном здании Андрюхин встретил Юру и, по обыкновению посмеиваясь, предложил ему участвовать сегодня в хоккейном соревновании на первенство двух институтов. Команду кибернетиков будет возглавлять сам Андрюхин, команду долголетних — Юра. — А судить игру попросим вас, — сказал Андрюхин, обращаясь к сидящему в углу молчаливому гиганту с розовым равнодушным лицом. — Не возражаете? Тот молча наклонил голову. К вечеру этого дня, показавшегося на редкость коротким, Юра поверил, что питомцы Института долголетия, среди которых не оказалось ни одного моложе девяноста лет, действительно способны играть в хоккей. Более того, он пришел к выводу, что для того, чтобы добиться победы над долголетними, пришлось бы порядком повозиться даже славной команде майского «Химика», где Юра, как известно, играл центрального нападающего. Его все время не покидало ощущение нереальности всего происходящего; будто неведомая сила подхватила Юру и понесла в сказку. Но это не было сказкой; он мог пощупать романтические серые стены замка Института кибернетики, он ходил по комнатам воздушного дворца Института долголетия. Несколько раз в течение дня он проходил мимо подъезда и незаметно скользил глазами по маленькой вывеске: «Институт научной фантастики». Все было правильно! И ему очень хотелось выиграть сегодняшнюю спортивную встречу. Однако вечером, когда он увидел, кого выводит на лед академик Андрюхин, надежды на успех значительно поблекли. Против «долголетиков» вышли на лед плечистые, розовощекие атлеты, такие же, как и тот, которому Андрюхин предложил судить. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Среди зрителей и даже среди игроков Юриной команды пробежал сдержанный говор… Сначала все походило на обыкновенную игру. Население городка заполнило все трибуны и скамейки. Оттуда, из темноты, как всегда, несся рев, то угрожающий, то подхлестывающий. Над отливающей ртутью седой ледяной площадкой — гроздья ярких ламп. К вечеру подморозило, воздух стал колючим и вкусным. И, выезжая на лед, Юра ощутил привычный, радостный подъем. Зрители встретили его выход удивленным и радостным криком: — Бычо-ок!.. Бычо-ок!.. Команда выстроилась, отрывисто прозвучали взаимные приветствия. Когда Юра и Андрюхин съехались к судье разыграть поле, Юру удивило, что судья, задавая свои обычные вопросы, громко прищелкивал языком. Еще более удивился Юра, когда Андрюхин с отеческой заботой поправил у судьи на шее свитер, после чего тот стал говорить без прищелкивания… Уже на первых секундах игры Юре удалось сравнительно легко вырваться к воротам противника. Он сильно бросил шайбу, уверенный, что гол есть. Но вратарь оказался на месте: подставленная клюшка ловко отразила Юрину шайбу в дальний угол. Игра началась… В схватке у борта Юра попробовал провести силовой прием. Он налетел на противника, но ему показалось, что он налетел на стену; никакого ответного толчка, ощущение полной непробиваемости… Во второй раз Юра попробовал толкнуть сильнее: то же самое! Глухая чугунная стена, а не человеческое плечо, способное поддаваться. Такой силы ему еще не приходилось встречать. Удивляло также, что эти гиганты сами не применяли силовых приемов. Вскоре Юра заметил, что команда гигантов играла как-то вяло. Они с редкой точностью отбивали шайбу, передавали ее друг другу, но по воротам били слишком медленно, обязательно выходя прямо против вратаря. Поэтому успеха они пока не имели. Иногда происходило что-то странное; как только удавалось перехватить их передачу, гиганты терялись. Тот, кто бросал шайбу, как будто примерзал ко льду, не в силах сообразить, что произошло. Тот, кому адресовалась шайба, вел себя еще более странно: как слепой, он удил ее клюшкой перед собой, хотя шайба давно ушла дальше… Только Андрюхин, появлявшийся то в защите, то в нападении, вносил в игру подлинное спортивное оживление. По-настоящему изумителен был вратарь гигантов. Казалось, что защищаемые им ворота пробить невозможно. Юра, хорошо знакомый с игрой лучших вратарей Советского Союза, смотрел на андрюхинского вратаря, как на чудо. Был момент, когда Юра, перескочив через клюшки бросившихся ему навстречу защитников, оказался один на один с вратарем. Гол был неминуем. Чтобы сделать его неотразимым, Юра резко замахнул клюшкой направо, в то же время посылая шайбу коньком в противоположный угол ворот. Такую шайбу невозможно было взять. Но вратарь взял ее! Счет открыла команда Андрюхина. За несколько минут до конца первого периода один из ее нападающих послал шайбу в ворота с такой необыкновенной силой, что Юрин вратарь, пытавшийся рукой удержать шайбу, летевшую под верхнюю планку ворот, не смог это сделать и вскрикнул от боли. А шайба так врезалась в ворота, что прогнула сетку. С результатом один—ноль команды ушли на отдых. Андрюхин со своей командой остался у ограды. Он заботливо осмотрел каждого игрока, сам поправил им свитеры, тщательно кутая шеи гигантов… Юра и его игроки ушли отдыхать в предоставленный им небольшой павильон. — Я ожидал всего, но такого… — услышал Юра возмущенный голос одного из защитников. — Чего вы злитесь? Ведь это чудо! — говорил другой. — Увидите, мы проиграем! — Ну-ну! — счел нужным вмешаться Юра. — Это что за разговорчики? Лично я не собираюсь проигрывать… — Это от вас не зависит! — сердито крикнул первый. — Можно собрать команду чемпионов, но и они проиграют! — Посмотрим! — сурово отрезал Юра. Едва начался второй период, как первая пятерка во главе с Юрой бросилась в атаку. Кажется, Андрюхин и его атлеты не ожидали такого натиска. Они были опрокинуты, прижаты к воротам и делали одну ошибку за другой. — Давай! — орали зрители, воодушевленные этим зрелищем. — Давай! Несколько раз за андрюхинскими воротами вспыхивала красная лампочка. Но каждая из этих вспышек свидетельствовала не о голе, а лишь о слабых нервах того, кто включал лампу… С андрюхинским вратарем ничего нельзя было сделать. Он был непробиваем. Юра попытался затолкнуть его в ворота вместе с шайбой, но вновь ощутил ту же глухую стену, тот же неумолимый чугун. Между тем игра снова переместилась в зону защиты Юриной команды. Теперь уже у их ворот одно напряженное мгновение сменяло другое. Зрителей лихорадило. То и дело они словно взрывались глухими вскриками. Назревал гол. Два раза Юра спасал свои ворота, успевая вовремя защитить их взамен выскакивавшего, излишне резвого вратаря. Юрины старцы играли всё хуже. Похоже было, что они махнули рукой на игру. Или устали? Во всяком случае, они никак не могли вырваться из своей зоны. А еще через минуту наступила развязка. Вратарь лежал на животе, выбросив вперед руку с клюшкой, а шайба, трепыхнувшись в сетке, шмякнулась на лед. Счет стал два—ноль. Юра угрюмо, не глядя на своих партнеров, начал с центра. И вдруг он увидел, что стоявший против него андрюхинский игрок улыбается. Улыбка была такой замороженной, неподвижной, что только сейчас Юре пришло в голову, до чего его противники похожи на тех рослых, румяных, плечистых манекенов, которых выставляют в витринах универмагов. Он взглянул на других андрюхинских игроков. Они все улыбались одинаковой, безжизненной улыбкой, демонстрируя отличные зубы… Юре стало не по себе. Он вспомнил ощущение не то скалы, не то металла, которое появлялось у него при каждом столкновении с андрюхинскими игроками. Такое ощущение не может вызвать живое существо! Но если они истуканы, манекены, большие заводные игрушки, то как же они играют в хоккей? Как успевают реагировать на каждое движение противника? Как проделывают все, что делают живые, настоящие игроки? Причем их вратарь так защищает ворота, как, пожалуй, не смог бы ни один живой игрок в мире! Но прежде всего — живые они или нет? В этом Юра решил убедиться немедленно. Он знал, что его сейчас же удалят с поля, и все же, не в силах более терпеть томительной неизвестности, делая вид, что пытается достать шайбу, сунул клюшку между ног катившего сбоку андрюхинского игрока. Тотчас раздался свисток великолепно проводившего встречу судьи. Толчок был, однако, таким, что от него свалился не только андрюхинский игрок, но и Юра. Первым вскочил розовощекий, все так же упорно улыбающийся атлет и протянул Юре руку в огромной перчатке. Юра ухватился за эту руку, но все-таки ничего не понял. Рука была как рука: даже как будто теплая… «Ерунда какая… — едва не пробормотал Юра с таким чувством, с каким наши далекие предки говорили: „Аминь, аминь, рассыпься, сатана“. — И что это мне пришло в голову? Ребята как ребята…» Но от механических улыбок, от фигур андрюхинских игроков веяло прямо-таки могильным холодом, и вообще нет-нет, да и подирал по коже дикий страх, когда снова приходила мысль, что это — не люди… Вот в таком состоянии Юра ни с того ни с сего попятился в сторону перед самыми своими воротами от двух стремительно шедших на него игроков. Через мгновение жаркий стыд залил его липкой волной, но было уже поздно: счет стал три—ноль. Команда Института долголетия явно проигрывала, и, кажется, дело шло к разгромному счету… Кое-как, вяло отбиваясь, они продержались со счетом три—ноль до конца второго периода и, понурив головы, под свист и улюлюканье особенно расходившихся зрителей, скрылись в своей раздевалке. Розовощекие атлеты снова остались на льду, а с ними и заботливый Андрюхин… — Вы что, до сих пор ничего не понимаете? — сердито спросил Юру его вратарь, едва они переступили порог. — До сих пор думаете выиграть? — Да! — отвечал Юра хмуро, хоть и не очень уверенно. Остальные игроки, кто ворча, кто весело подшучивая, только пожимали плечами, слушая их беседу. Впрочем, один из них сочувственно поглядывал на своего капитана, что-то соображая. — С кем вы играли? — продолжал вратарь. — Со слабой командой здоровенных молодых ребят, которых мы давно разложили бы, как хотели, — сообщил Юра, — если бы не их вратарь… — Уж не хотите ли вы сказать, что проигрываете из-за меня? — вскинулся вратарь Юриной команды. Юра поспешил его успокоить. — Так знайте, мое дитя, — благодушно заявил тогда вратарь, которому совсем недавно исполнилось ровно сто лет, — что впервые в истории не только хоккея, но, что гораздо важнее, в истории кибернетики сегодня на хоккейном поле академического городка против живых людей во всех трех периодах состязания выступают великолепные электронно-счетные машины, оформленные в виде людей… — Как вы сказали? — тихо переспросил Юра. — Оформленные?.. — Ну да! Говорят, один из канадских учеников Андрюхина, талантливейший Лионель Крэгс, населил в Южных морях чуть ли не три острова сплошь механическими черепахами… Он оформил свои машины в виде черепах. Это не имеет никакого значения! — Не имеет значения? — повторил Юра. — Ни малейшего! Важна специализация, то есть то, какая программа машине задана. Любой из игроков, выступавших против нас, способен производить с невероятной быстротой сложнейшие вычисления, заменяя один — тысячу и больше самых квалифицированных вычислителей. Может играть в шахматы, сочинять музыку. Может заменить целую научную библиотеку и выдавать справки по различным отраслям науки. Сегодня они работали по другой программе, играли в хоккей. — Но как? — закричал Юра, мгновенно переходя от подавленности к крайнему возбуждению. — Как? Я понимаю, что машина может двигаться, может бить клюшкой по шайбе. Но в хоккей необходимо принимать мгновенные решения! И ведь я видел, они, — эти, как вы говорите, «оформленные», — принимали такие решения сами! Сами! Что же — они умеют думать? — Нет, но Андрюхин сумел составить для них великолепную программу действий, ответных реакций и правил игры в хоккей. Не понимаете? Ну, вам потом объяснят подробнее. А пока поймите только, что любое действие, любую задачу можно расчленить на цепочку простых ответов: «да» или «нет». Машина выбирает эти «да» или «нет» с невероятной быстротой. Каждому «да» или «нет» соответствует электронный импульс в запоминающем устройстве машины. Этот сигнал-импульс и вызывает определенное действие, реакцию машины… — Все это я знаю! — горячо возразил Юра. — Я сам собирал простые решающие устройства. Но ведь эти «игроки» не отличимы от людей! Они реагируют на всё! Они действуют, как люди, как настоящие хоккеисты… — Слушайте, я нашел! — вскричал в этот момент тот игрок, который присматривался к Юре с сочувственным интересом и, видимо, тоже не потерял надежду выиграть. — Объяснять некогда, нам пора на поле, но я прошу вас тщательно следить за мной и бросать шайбу в ворота, как только я сделаю обманное движение… На ворота мы идем вместе!Их встретил веселый, насмешливый шум трибун. Откуда-то появились не только трещотки и губные гармошки, но даже чертики «уйди-уйди», с противным писком встретившие Юрину команду. Когда же на лед выехали игроки команды Андрюхина, их приветствовали аплодисментами и громовым рявканьем двух медных труб, притащенных из клуба веселыми энтузиастами. — Ничего, ничего, — проворчал Юрин игрок, тот, который что-то придумал, — сейчас мы им докажем, что люди — это, знаете, люди!.. Все-таки, когда началась игра, Юра не мог отделаться от странного и жутковатого чувства. Ведь на него, ловко двигая ногами, размахивая клюшками и глупо улыбаясь, катились не люди, а машины… — Давай! Давай! — орали с трибун, насмешливо приветствуя Юру и его партнера, которые без особых трудностей прорвались к воротам противника и толклись перед ними, видимо не зная, что же предпринять против непробиваемого вратаря. Они уже не то четыре, не то пять раз огибали ворота, разыгрывая между собой шайбу, даже пытались ее забросить, но вратарь стоял, как скала. И вдруг вспыхнула красная лампочка. Трибуны взорвались было смехом, но смех замер: лампочка не гасла! Это был гол, настоящий, полноценный, убедительный, бесспорный, классический и неотразимый гол! И тогда, поняв наконец, что непробиваемый андрюхинский вратарь пробит, трибуны словно сошли с ума. Десятки людей, сбивая друг друга, ринулись на тесное хоккейное поле, смяли и растворили в своей массе игроков, пробились к Юре. И он, не успев еще сам понять, каким образом ему удалось забросить шайбу, оказался в воздухе, подбрасываемый сильными руками. — Ура! — раздавалось вокруг на этот раз без всякой насмешки. — Ура, Бычок! Ура, Бычок! Вот это был удар!.. Наконец Андрюхину кое-как удалось установить порядок. Он подошел к Юре и, подозрительно глядя на него, спросил: — Вы забросили шайбу? — Вроде я… — смущенно улыбнулся Юра. — Это невозможно! — строго сказал Андрюхин. — Понимаете, это исключено! Юра растерянно развел руками, оглядываясь на своих игроков и ища поддержки у того, кто вместе с ним был у ворот. Но тот стоял позади всех и, похоже, даже прятался. Среди общей тишины Андрюхин подошел к своим воротам, где невозмутимо стоял и улыбался только что пропустивший шайбу вратарь, и с расстояния в два — два с половиной метра страшным, кинжальным ударом погнал шайбу в ворота. Вратарь легким движением, словно шутя, спокойно парировал этот смертельный удар. Раз за разом все сильнее, все неожиданнее Андрюхин бросал шайбу, но вратарь не пропустил ни одной… — Вы видите, что шайбу забросить невозможно! — сказал повеселевший Андрюхин. — Но я забросил ее, — упрямо возразил Юра, поддержанный одобрительным говором зрителей. — Судья! — крикнул Андрюхин, слегка хмурясь. — Прошу продолжать игру! Впрочем, последовавшие тотчас пронзительные свистки были даже излишни: зрители со всех ног убегали с поля, торопясь занять места и смотреть дальше это необыкновенное состязание. Едва возобновилась игра, как Юра со своим партнером вновь очутились перед воротами противников. Теперь они не крутились у ворот. Юра бросил шайбу в правый угол, но вратарь, который всегда оказывался на месте, на этот раз метнулся почему-то в левый угол… Шайба скользнула в ворота и скромно улеглась в углу, под сеткой… Счет стал три—два! Музыканты-трубачи ревели что-то оглушительное и дикое, что сами они потом назвали «маршем преисподней». В воздух летели шляпы, кепки, ушанки, кашне. А когда припадок восторга стих, стал слышен негодующий голос Андрюхина: — Это против правил! Так играть нельзя!.. Я все видел!.. — Красный, пышущий гневом, он подскочил к Юре: — Благоволите сказать-с — только громко, громко! — что вы бросили в наши ворота? — Шайбу! — недоумевая, растерянно улыбнулся Юра. Он действительно ничего не понимал, как и большинство зрителей. — Правильно! Очень хорошо-с! — отчеканил Андрюхин и, неожиданно крутнувшись на коньках, поймал за руку Юриного партнера. — Ну, а вы, что бросили вы? А? Что вы бросили? Юрин партнер пробормотал что-то невнятное. — Громче! Громче! — потребовал Андрюхин. — Все хотят слышать! Трибуны дружным воплем подтвердили это требование. — Я просто отбросил ледышку… — выговорил наконец прижатый к стене долголетний. — Куда вы ее отбросили? — Право, не знаю… — Ах, не знаете? Очень хорошо! А при первом голе вы тоже отбрасывали ледышку? — Может быть… — И тоже не знаете куда? Долголетний, пожав плечами, решительно поднял голову и ухмыльнулся, как напроказивший, но упрямый мальчишка: — Я закинул ее в ворота! И вторую — тоже. — Правильно! — заорал Андрюхин хватая его за плечи. — Вы делали это на какую-то долю секунды раньше, чем Бычок метал шайбу! Вратарь, как и положено, отбивал вашу ледышку, а в это время шайба проскакивала в ворота. Гениально придумано! Только это нарушает все правила честной игры! — Как вы назвали этот выпуск? — спросил упрямый долголетний, кивая на розовощеких атлетов, которые носились по полю, щелкая клюшками. — Пети, — сказал Андрюхин, — Петрушки. — В игре с вашими Петрушками старые правила не годятся. — Вот как! — вскричал Андрюхин. — Ну хорошо! Тогда я тоже введу новые правила. И, побежав по полю, он принялся подчеркнуто и плотно касаться ладонью плеча каждого из своих улыбавшихся атлетов. Тотчас с ними происходила перемена. Если раньше они двигались в быстром, но привычном для хоккея темпе, то сейчас Петрушки заметались по полю со скоростью не менее ста километров в час. Зрители, застыв от изумления, не успевали следить за движениями андрюхинских атлетов. — Что? — прищурился Андрюхин, проезжая мимо Юры. — Скисли? — Теперь вы окончательно проиграли, Иван Дмитриевич! — Юра сочувственно посмотрел на ученого. — Поглядим! Поглядим-с! — не поверил тот. — Начали! При невероятной скорости игроки Андрюхина все же не налетали ни на противника, ни друг на друга. В этом команда Юры убедилась, едва вышла на лед. И она перестала обращать на гигантов какое бы то ни было внимание. Задача заключалась только в том, чтобы ни в коем случае не терять шайбу. Пока гиганты с молниеносной быстротой, но совершенно бессмысленно метались по полю, команда Юры не торопясь проходила к воротам и, пользуясь приемом, изобретенным напарником Юры, забивала один гол за другим… Со счетом семь—три победили долголетние… По-детски надув губы, огорченный академик Андрюхин не торопился уходить с поля. Что-то шепча, словно выговаривая за нерадивость, он поправлял свитера на своих гигантах, окруживших его неподвижным кольцом… Неожиданно сквозь это кольцо прорвался профессор Паверман. Длинный, тощий, он размахивал радиограммой. — Слушайте! — кричал он. — Слушайте все! Это черт знает что происходит!.. — Если вы опять выдумали, что Детка умирает… — угрожающе начал было Андрюхин. Но Паверман, пренебрежительно махнув рукой, прервал его: — Детка спит! Да, Детка спит. И похоже, что мы спим вместе с ней! Вот сообщения от наших друзей из Средней Азии! Они запланировали на текущий год передачу обезьян на дальние расстояния… Андрюхин с мгновенно просиявшим лицом вырвал у него из рук радиограмму. Около них собрались все, кто был на матче, и с жадным любопытством старались рассмотреть если не радиограмму, то хотя бы лица стоявших впереди… Только Юра, ничего не понимая, стоял в стороне, и после жаркой игры и оваций чувствовал себя неожиданно одиноким. — Друзья! — воскликнул Андрюхин, высоко поднимая над головой белый листок. — Великолепные новости! Необходимо максимально форсировать опыт с Деткой! Прошу всех руководителей лабораторий собраться завтра в конференц-зале в девять часов утра…
Глава третья ЧЕРНЫЙ ПЕС
К девяти часам следующего дня большой, почти квадратный зал, примыкавший к жилым комнатам Андрюхина, был полон. Лифт забрасывал сюда, под крышу, работников городка. Благодаря тому что и крыша, и потолок, и стены были сделаны из необыкновенно прочного, но легкого, прозрачного материала, зал казался огромным. После оттепели наступил мороз, выглянуло солнце. И сейчас почти у каждого, входившего в этот прозрачный зал, появлялось светлое и подмывающее чувство счастливого полета. Отсюда весело было смотреть на темную щетину лесов до горизонта, на застывшие белые извивы любимой Ирги, на бледно-голубое небо, при взгляде на которое сегодня особенно отчетливо представлялось, что ведь Земля — это, собственно, корабль, межзвездный скиталец, на котором мы, поколение за поколением, свершаем свой путь сквозь Вселенную… В центре небольшой группы стоял костистый, желтолицый человек с пушистой родинкой на левой щеке и ласково улыбался, принимая поздравления по поводу исключительно удачного эксперимента с его машинами, игравшими вчера в хоккей. Это был профессор Ван Лан-ши, создатель вчерашних хоккеистов-атлетов, руководитель Института кибернетики и один из ближайших помощников Андрюхина. Усталые, полуприкрытые веками глаза его прятались в сети мелких, улыбчатых морщинок. — «Ум человеческий, — негромко сказал он, — открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней…» — Он поднял длинный желтый палец, спросил: — Знаете, кто сказал? — И тотчас гордо ответил сам: — Ленин! Ленин сказал… Наконец, появился и самый популярный после Андрюхина ученый академического городка, руководитель Института научной фантастики Борис Миронович Паверман. Ровно в девять часов к столу председателя вышел Андрюхин, как всегда молодой, но с лицом несколько озабоченным и строгим. — Товарищи! — начал он. — В силу ряда обстоятельств сегодня придется вспомнить, для чего правительство сочло необходимым развернуть здесь, в лесах над Иргой, три наших института с их многочисленными филиалами, лабораториями и всем прочим, что образует комплекс академического городка. Мы обошлись государству почти в тридцать миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы выстроить крупный город, такой, как Харьков… Советская страна сделала все, чтобы наука внесла и свой огромный вклад в достижение святой цели, можно сказать — народной мечты. Мы созданы, как вы знаете, для того, чтобы научно-техническими средствами помочь социалистическим странам выполнить их историческую миссию — навсегда покончить с войнами! Чтобы сделать войну невозможной! Слишком долго ученые придумывали, как лучше убивать людей. Нам сказали: подумайте над тем, чтобы людей нельзя было убивать. Вы, конечно, отлично понимаете, что никакие, даже самые гениальные технические открытия сами по себе не могут решать судьбу человеческого общества, не могут заменить собой объективных законов исторического развития. Борьба народов за новый прогрессивный социалистический строй и честное соревнование двух общественных систем, — вот что решит. И победит тот, на чьей стороне железные законы истории. Это ясно. Но в современном мире наука является огромной, могучей силой. Она может быть использована и во зло человечеству, и в помощь исторической правде. Все дело в том, в чьих руках находятся наука и техника. Война, отвратительная, дикарская угроза войны, является порождением уже обреченного, людоедского общественного строя. И он использует технический гений человека для того, чтобы держать мир под страхом новой всеобщей бойни… Перед нами, учеными нового социалистического мира, поставлена грандиозная задача: вырвать ядовитые зубы у змеи! Можно решить великий исторический спор, не подвергая человечество неслыханному избиению. Андрюхин вышел из-за стола, подошел вплотную к первому ряду слушателей и проговорил негромко, с трудом сдерживая волнение: — Ответственность ученых в решении этой важнейшей проблемы современности велика. Нужно ли говорить, какое счастье испытали бы миллиарды людей, если бы мы могли им сказать: с войной покончено, не думайте о ней — она невозможна… Сегодня мы еще не можем сказать: войне конец! Но уже сейчас, после ряда наших немаловажных успехов, ясно: такой день недалек!.. Он перелистал несколько лежавших перед ним листочков, и, уже спокойно, продолжал: — Наши институты работают над многими важнейшими проблемами. Сейчас их усилия необходимо объединить для главного. Итак, Институт долголетия. Высказанная некогда румынским академиком Пархоном безумно смелая идея о возможной обратимости процесса старения живых организмов стала путеводной звездой коллектива, возглавляемого Анной Михеевной Шумило. Институт разработал надежные и многократно проверенные на практике методы серьезного омоложения живых организмов, в том числе и человека, и сейчас завершает работы, в результате которых человек сможет сам регулировать свой возраст. Иначе говоря, старость будет излечиваться так же надежно, как, скажем, малярия. Старость исчезнет, как исчезли тиф и чума. Человеческую жизнь можно будет продлить в три — четыре раза. Эпидемия старости, тысячелетиями свирепствовавшая на земном шаре, будет так же невозможна, как эпидемия оспы или холеры! Зал ответил взрывом рукоплесканий. — Да! Это то, что некогда называлось чудом… — Андрюхин кашлянул, провел рукой по лицу, незаметно смахивая ненужную слезу. — Но, как ни дико, — не это сейчас самое важное… Война!.. Необходимо прежде всего покончить с этим проклятием, с угрозой войны. Он резко взмахнул кулаком, но, словно устыдившись несдержанности этого жеста, приостановился, хмуро взглянул поверх собравшихся: — Прошу прощения. В сторону эмоции. Итак, к делу… Институт научной фантастики вел работы над несколькими проблемами. Наиболее близки к решению две: преодоление силы тяготения и передача вещества при помощи электромагнитных волн. Собственно, коллектив, возглавляемый Борисом Мироновичем Паверманом, добился решения этих колоссально важных задач, однако возникли непредвиденные трудности, заключающиеся в том, что организм человека, видимо, совершенно не приспособлен и даже, быть может, беззащитен против тех явлений, которые возникают как при уничтожении силы тяжести, так и при переходах вещества в энергию… Именно при экспериментах с нашими приборами, уничтожающими силу тяжести, получил увечье товарищ Паверман и погибли семь его сотрудников, которых мы все знали… Тем не менее опыты эти продолжаются и будут продолжаться до полной победы. Мы думаем, что молодежь Майска поможет науке добиться торжества. Для этого, между прочим, приехал и Юра Сергеев. И все-таки наше решающее мирное оружие не здесь. Оно в еще не завершенных работах по взаимопревращению материи в энергию и наоборот. Поэтому такое архиважное первоочередное значение мы придаем опыту с Деткой! Институт научной фантастики овладел сложнейшей методикой превращения живой материи в концентрированный пучок энергии и воссоздания вновь, в начальных материальных формах, превращенной в энергию материи. Так, удалось более шестидесяти семи процентов проведенных опытов с лягушками; более пятидесяти восьми процентов опытов смышами, ужами и воробьями. Имели место, как видите, и неудачи. В основном они сводились к двум моментам: полному исчезновению передаваемого объекта или его гибели при восстановлении. Причины, порождающие эти срывы, далеко не ясны; что касается первого, то мы до сих пор не знаем, в скольких случаях имели место отказы в восстановлении из данного пучка энергии, а в скольких из-за недостаточно точных расчетов восстановление произошло, и, может быть, совершенно благополучно, однако далеко не в том месте, которое было обусловлено расчетами… При этом наши подопытные зверьки, к крайнему нашему сожалению, оказались безвозвратно потерянными. Все эти обстоятельства тщательно учтены при организации и подготовке решающего опыта с Деткой… Успех упрочит надежду, что мы сможем преградить путь войне! Но подлинную уверенность, как вы знаете, даст лишь опыт с человеком… Группа, которую возглавляет наш уважаемый профессор Ван Лан-ши, предупреждала, что без решительного развития кибернетики мы не продвинемся далеко ни по одному из намеченных направлений… Именно поэтому разрешите сообщить вам некоторые свои соображения… Андрюхин отпил глоток воды из стакана и после небольшой паузы продолжал: — В Канаде и в США долгое время работает в области кибернетики известный многим из вас Лайонель Крэгс. Он добился немаловажных успехов. К величайшему сожалению, он с самого начала своей деятельности поставил кибернетику не на службу грядущему, а для того, чтобы наиболее полно собрать и законсервировать все человеческие знания. Крэгс убежден в неизбежности войны и в гибели всего живого. Блестящий ученый, он не побрезговал, однако, вступить в какой-то противоестественный союз с банкиром Хеджесом, нажившим состояние игрой в рулетку с помощью счетных машин Крэгса… Сегодня Крэгс заявляет, что будущего нет. До смерти напуганный уродливыми гримасами и противоречиями капиталистического строя, изверившийся в человечестве, живущий в обреченном мире конкуренции, торговли людскими жизнями, атомного психоза, — этот человек зашел в тупик. Ему везде чудится смерть. Он заявляет: «Единственное, что еще может сделать наука, это запечатлеть прошлое, сохранить все, что нами было достигнуто…» И на своих островах Крэгс занимается изготовлением таких кибернетических консервов… Вам ясно, почему Крэгса превозносит вся западная пресса, почему его представляют обывателям Нью-Йорка, Парижа, Токио как первого ученого мира, и так далее… Безнадежность — тоже оружие. Но Крэгс — подлинный ученый, и я глубоко уверен, что можно вывести его из того тупика, куда он зашел. Я верю, что, когда он очнется от оцепенения, то, как и все мы, увидит ясное, светлое будущее Человека и поможет нам в том, чтобы оно поскорее наступило. Вот почему я пригласил Крэгса приехать как частное лицо, как моего гостя, как моего бывшего ученика… Однако во вчерашнем номере «Нью-Йорк таймс» я прочел, что Крэгсу поручено неофициально посетить Советский Союз. Крэгс едет с каким-то загадочным предложением, которое должно, видимо, убедить нас в нашей слабости… Ну что ж… Посмотрим, кто кого убедит. Андрюхин сошел с трибуны. Началось деловое обсуждение предстоящих опытов с Деткой.Юра Сергеев не слышал ни речи академика Андрюхина, ни выступлений его учеников и помощников. Юра не присутствовал на этом историческом совещании. Позавтракав со своим знакомым, современником Пушкина, Юра, пользуясь предоставленной ему свободой, взял лыжи и пошел побродить по территории академического городка. Местный радиоузел все еще продолжал ту же не очень понятную передачу, которую Юра слушал за завтраком. «…Ночь Детка провела спокойно. Проснулась в пять часов сорок шесть минут. Настроение уверенно-бодрое, шаловливое. Глаза чистые, без выделений. Реакции отчетливы. Первый завтрак проводит в восемь тридцать Евгения Козлова…» Прямо перед ним, на фонарном столбе, висел большой плакат с великолепной фотографией какой-то симпатичной черной таксы. Плакат был украшен следующей надписью: «Пусть собака, помощник и друг человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства». Юра вспомнил, что эти строки высечены на памятнике собаки в Колтушах, знаменитом научном городке, где жил и работал великий русский ученый Иван Петрович Павлов. Но к чему портрет таксы и эта надпись здесь? Пожав плечами, Юра двинулся дальше. Скатываясь с небольшого холма и петляя между деревьями, он услышал собачье тявканье, а потом злое, с хрипотой, рычание. За темно-сизыми пиками елочек открылась небольшая полянка. Посреди нее, на твердо укатанном, желтоватом снегу, поднималась примерно на метр бетонная площадка, обшитая толстыми полосами золотистого металла. Несмотря на видимую массивность бетона, он, казалось, клубился, светясь изнутри неясным темно-синим светом. Ровный гул огромного напряжения шел откуда-то из глубины площадки. Подойдя ближе, Юра заметил, что верх площадки представляет собой прочную металлическую или пластмассовую сетку с мельчайшими, едва заметными, отверстиями. На тонкой кожаной подушке, брошенной поверх этой сетки, сидела молодая угольно-черная такса, вся обмотанная яркими, как цветные карандаши, тонкими и толстыми проводами. Такса была удивительно похожа на фотографию, только что виденную Юрой, но сейчас собачонка злобно скалила белые зубы. Неподалеку стоял и пристально разглядывал ее молодой парень в светлой кепочке, едва державшейся на его тугих, будто проволочных кудряшках. Увидев Юру, парень удалился не спеша, с независимым видом. Уже больше часа бродил Юра по парку, думая обо всех чудесах городка. На повороте одной аллеи он едва не столкнулся с лыжницей, бегущей ему навстречу. Коренастая, с густой гривой иссиня-черных кудрей, с широко расставленными, огромными, сердитыми глазами под высоким, крутым лбом, она поражала здоровьем, не красотой. Но по-своему она была и очень красива — не строгой правильностью черт, а чем-то неуловимым, что пряталось в изгибе губ, легких, как лепестки, в прохладной линии щек, слегка тронутых пушком, в суровой ясности глаз, просторно распахнувшихся навстречу миру. В глубине этих огромных черных глаз, как притаившийся костер, все время поблескивал смех. Юре было весело глядеть на нее. — Это вы и есть Евгения Козлова? — А что, непохожа? Зато вас узнать нетрудно. Вы — Бычок! Простите… Ну, в общем, вы понимаете. — И, прищурив смеющиеся глаза, девушка продекламировала с настоящим пафосом:
Глава четвертая КОРОЛЕВСТВО БИССА
Вся эта странная история, если рассказывать ее по порядку, началась не только в институтах Андрюхина, но также и в далекой южной стране лагун и коралловых рифов. Если мы назовем ее подмандатная территория такая-то или протекторат такой-то, от этого ничего не изменится. Не будем уточнять названия. Острова эти ничем не отличаются от других экзотических, сказочных островов, о которых так чудесно рассказывали Стивенсон и Джек Лондон, и где в их времена еще насчитывалось около четверти миллиона коренных жителей, а к нашим дням, несмотря на райский климат, выжило едва ли более десяти тысяч. Под напором «благ цивилизации» вымирали не только люди. От берегов Южных островов уходили стаи рыб, ушли киты. Все реже в океане стали встречаться стада огромных морских черепах, мясо которых так изысканно нежно, а необычайно твердые, причудливые щиты идут на изготовление дорогих и изящных вещиц. Вскоре на некоторых островах и во многих районах океана черепахи исчезли до единой, так, словно никогда и не копошились в теплой прибрежной воде. Правда, ходили неясные разговоры о каком-то чудаке, не то англичанине, не то канадце, который лет шесть назад для разведения черепах купил у португальского общества колонизации за очень крупную сумму три небольших островка, не имевших даже названия. Видимо, он был лишен чувства юмора, так как вскоре провозгласил себя королем этой территории и даже вступил в официальные дипломатические отношения с крупнейшими державами. Но, хотя островки были куплены для разведения черепах, никто не видел там ни одной живой черепахи. Вскоре выяснилось, что фамилия короля была Крэгс, Лайонель Крэгс. Здесь это имя звучало так же, как и любое другое, но в странах, где читали газеты, а случалось, и книги, и где даже встречались люди, интересующиеся наукой, кое-кто знал, что Крэгс был одним из крупнейших физиков Западного полушария, мировая величина в своей области. Но он посвятил себя не физике ядра, а хитроумному конструированию сверхсложных электронных счетных машин. Уход ученого из цивилизованного мира и появление его в стране лагун и рифов прошли почти незаметно, несмотря на забавную шутку с провозглашением королевства. Лишь в некоторых газетах промелькнуло нечто вроде короткого интервью с Крэгсом. «Мистер Крэгс, — спросил его репортер, — зачем вы отправляетесь в Южные моря?» «Что ж, — сообщил якобы Крэгс, — я отвечу вам откровенно, уверенный, что люди либо примут мои слова за шутку, либо просто не прочтут их… Я утверждаю, что в результате огромного скачка науки и техники, в результате гениальных открытий последних лет — человечеству приходит конец. Техника в наше время — это война. А война — это гибель планеты. Кроме того, человечество вырождается. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что мы живем в сумасшедшем доме; посмотрите на все эти рок-н-роллы, на дикое „искусство“ абстракционистов, почитайте в газетах о шайках детей-гангстеров… А грандиозные открытия науки, в чьих они руках? Любой аферист из „делового мира“, или любой авантюрист-генерал, заполучив парочку водородных бомб, запросто могут развязать мировую войну. А вы знаете, что это такое? Современная война — это уничтожение целых стран. Это медленное, мучительное умирание всех, кто останется в живых… Люди спятили с ума, они изжили себя, они обречены. Их надо заменить. Я отправляюсь на Южные острова, чтобы создать новую расу. Это будут машины, наделенные разумом и способностью размножаться. Им не страшны ни радиация, ни бактериологическая война… Они переживут все…» Крэгс сообщил также, что его предыдущие открытия и вклады нескольких крупнейших банков, в том числе банка Хеджеса, позволяют ему располагать неограниченными средствами… Предположение репортера, что человечество, быть может, все-таки уцелеет, вызвало иронические насмешки со стороны Крэгса. Тогда репортер осведомился, когда же, по мнению ученого, наступит этот страшный час. «Мне нужно лишь несколько лет, чтобы создать моих черепах, — проворчал Крэгс. — А потом, чем скорее вы все провалитесь в преисподнюю, тем лучше. Мне надоели люди. Осточертело их безумие. Я верю только в свои машины. Будущее — за ними!» Заметка была озаглавлена «Новый Адам», но, несмотря на то что репортер написал ее довольно бойко и даже с юмором, на нее не обратили внимания. Прочитали и через несколько часов забыли на много лет… На трех островках, которые вскоре получили официальное название «королевство Бисса», Крэгс начал, как уверяли туземцы, создавать черепах. Он не собирал уцелевшие экземпляры, не разводил их и не выращивал. В великой тайне, оберегаясь от нескромного взгляда, он делал нечто другое… В тех немногих местах, где морские черепахи еще водились, богатые владельцы прибрежных поместий устроили свои собственные охотничьи заповедники, похвалялись ими друг перед другом и охраняли не менее строго, чем банковские сейфы. Охотничий заповедник на острове Фароо-Маро — административном центре большого района — существовал уже более десяти лет и принадлежал к самым крупным. Никогда еще ни один европеец не был уличен здесь в браконьерстве. Иногда пытались воровать черепашьи яйца мальчишки-туземцы, но расправа с ними была короткой и грозной. Понятно поэтому чрезвычайное удивление надзирателя заповедника, который, проходя однажды по берегу, увидел белого человека, судя по одежде джентльмена, пытавшегося прикончить черепаху. Сторож решил присмотреться к этому господину. Безымянный палец левой руки незнакомца был украшен широким, плоским, но массивным золотым кольцом с брильянтом необычайной величины. Такое кольцо стоило несколько тысяч долларов. Истинные джентльмены не носят такие кольца, их носят игроки. Старик надзиратель повидал на своем веку немало господ и умел разбираться в них. Было в этом европейце что-то истерическое, дерганое, совершенно несвойственное джентльмену. Быть может, сумасшедший? — Вы приезжий, сэр? — осторожно осведомился надзиратель. Маленький человек с большим брильянтом надменно вздернул голову и, фыркнув, уничтожающим взглядом смерил стража с ног до головы. — Я — Хеджес! — сказал он с таким выражением, с каким представилась бы пирамида Хеопса или Эйфелева башня, если бы им был свойствен дар речи. — Рад познакомиться, сэр, — пробормотал старик, опасливо поглядывая на странного собеседника. — Джим Яриш, с вашего разрешения… — Это не имеет значения, — изрек тощий человек, которого звали Хеджес. — Ни вы, милейший, ни остальные три миллиарда двуногих не имеют для меня никакого значения. Ведь вы обречены на гибель, не так ли? — Вероятно, сэр, — сказал сторож, решив, что благоразумнее всего согласиться. — Конечно. Это неизбежно, черт возьми! — довольно уныло пробормотал Хеджес. — Бомба, радиация и все прочее. Иногда я чувствую, что это дьявольский стронций-90 уже сидит у меня в костях… Все-таки отвратительно, что мы должны погибнуть, а вот такие гадины выживут! Он злобно пнул недобитую черепаху тростью. — Вы думаете, сэр, их не берет бомба? — осведомился надзиратель, с отчаянием поглядывая по сторонам и мысленно проклиная сторожей, которые будто под землю провалились. — Я говорю не про этих! — Хеджес презрительно ковырнул безропотную черепаху. — Я говорю про тех, что делаем мы. Поэтому я и ненавижу этих гадин, что мне слишком много приходится их видеть на Биссе! Тысячи черепах! Сотни тысяч! Миллионы!.. — Как вы сказали, сэр? — Лицо надзирателя вдруг почтительно насторожилось. — На Биссе? Вы оттуда, сэр? — Вы понимаете, я путешествую инкогнито, — величественно изрек тощий человек, которого звали Хеджес. — Тем более вам не следует узнавать особу, которая сейчас заедет за мной… С королями шутки плохи, мой милый! — Ваше величество… — пролепетал Джим Яриш. — Вы ошибаетесь, — произнес с расстановкой Хеджес, наслаждаясь замешательством старика. — Я только премьер-министр… А вот и его величество! С мягким урчанием на шоссе, в нескольких метрах от них остановилась темно-оливковая сигара, выпустив сизое облачко отработанного бензина. Рослый смуглый человек с пронзительными смоляными глазами сидел чуть сгорбившись за рулем. Его лицо пересекал широкий багровый рубец. Он не взглянул на Хеджеса и хранителя заповедника. Только два резких сигнала обнаружили, что владелец машины торопится и не намерен ждать. Хеджес сел на заднее сиденье, испуганно поглядывая на своего короля, владыку королевства Бисса, Лайснеля Крэгса, который самолично вел машину. Судя по всему, король был человеком очень неразговорчивым. Его темное, неподвижное лицо внушало не то уважение, не то страх. Бледные губы были плотно сжаты, большие черные глаза нетерпеливо смотрели на дорогу. — Консул ждет нас? — наконец бросил он, не глядя на Хеджеса. — Консул в отъезде… — Хеджес был зол не на шутку. — Я разговаривал с каким-то мальчишкой. Похоже, он ничего не слыхал ни о королевстве Бисса, ни о вас, ни о вашей миссии… Он вас примет. — Примет! — Крэгс презрительно фыркнул. — Когда вы научитесь держаться с достоинством? Мне бы следовало взять одну из моих черепах, а не вас… — Тогда пусть ваши черепахи и добывают вам деньги! — отрезал Хеджес, внезапно нарушая этикет. — Вы направляетесь в консульство иностранной державы, безусловно враждебной, на переговоры, которые я, ваш премьер-министр, совершенно не одобряю… Крэгс молча просверлил Хеджеса такими глазами, что тот невольно поперхнулся и разозлился еще больше. — Пока вы были ученым и делали свои игрушки, я вам помогал! — зашипел он. — Но теперь вы лезете в политики! В спасители человечества! Получаете письма из Советов! Вам пишет какой-то Эндрюхи! — Андрюхин — крупный ученый! — сухо отчеканил Крэгс. — Говорят, он сочетал кибернетику с проблемой долголетия. Понятия не имею, как он это сделал… — Долголетия? — Хеджес поднял голову. — А на какой дьявол это долголетие, если всем нам и вашему Эндрюхи тоже осталось жить год, два, ну, может быть, три? Он не ученый — он идиот! — Мой друг, Архимед решал уравнение, когда меч римского солдата уже касался его шеи. Андрюхин — настоящий, большой ученый. Все отведенные ему в жизни секунды он будет думать о науке. — Вы полагаете, ему понравятся черепахи? — удивился Хеджес. — Берегитесь! Мне и то становится невыносимо думать, что ваши машинки выживут, а я — нет. Этот примитивный варвар постарается взорвать всю вашу затею!.. — Маловероятно! — отрезал Крэгс. Хеджес в полном изнеможении повалился на кожаные подушки. У Крэгса шевельнулись пушистые брови…Если бы вам довелось побывать в советском консульстве на Фароо-Маро, то среди ярчайших, голубых с золотом, плакатов пароходных компаний и великолепной коллекции туземного оружия, вы наверняка обратили бы внимание на таблицу, вычерченную с величайшим тщанием и любовью. Эту таблицу в часы досуга изготовил собственными руками помощник консула Василий Иванович Квашин. Для того чтобы содержание таблицы ни у кого не вызывало сомнений и кривотолков, Василий Иванович каллиграфическим почерком вывел вверху: «Розыгрыш первенства СССР по хоккею с шайбой в 19…–19… годы». Телефонный звонок Хеджеса и его предупреждение, что он заедет в консульство с королем Биссы, не произвели должного впечатления на Василия Ивановича. Он решил, что речь пойдет об одной из обычных торговых сделок. Наслаждаясь временным затишьем и не подозревая, в какие невероятные приключения судьба вовлечет его буквально через несколько минут, Василий Иванович, которому не минуло еще и тридцати лет, стоял перед своей роскошной таблицей, куда он только что занес последние данные, и наслаждался от души. Невыразимо приятно было в эту душную жарищу даже постоять вот так у таблицы и подумать о хоккее. От таблицы словно веяло освежающим холодком, попахивало искрящимся, синим снежком. Послышался рокот подъехавшего автомобиля. У дома консульства остановилась темно-оливковая сигара; по дороге к бунгало направились два совершенно не похожих друг на друга человека. Слева, лениво загребая ногами, шел вразвалку тощий, маленький джентльмен, лет сорока с небольшим, надменно вздернув плоское, крохотное личико с огромным лбом и красным носиком, на котором чудом держались толстые, темные очки. Справа, чуть позади, слегка хмуря черные, с проседью, густые брови, вышагивал человек, настолько похожий на морского разбойника далеких времен, что Василий Иванович даже присвистнул, явно заинтригованный. Тяжелое смуглое лицо незнакомца от уха до крутого, квадратного подбородка пересекал багровый рубец. Его смоляные колючие глаза так быстро и пронизывающе рассматривали людей, что каждый невольно поеживался. Он был широкоплеч, высок и, хотя ему явно перевалило за пятьдесят, легко нес свое сильное тело на длинных, мускулистых ногах спортсмена. Входя на веранду, он снял шляпу, очарование исчезло: незнакомец был лыс. — Крэгс, — сухо сообщил он густым басом, протягивая Василию Ивановичу широкую, огрубелую ладонь. — Около недели назад я получил письмо от моего ученого друга, вашего соотечественника академика Андрюхина. Вам известно его имя? — Он строго взглянул на Василия Ивановича. Тот несколько удивленно и в то же время почтительно наклонил голову. Академик Андрюхин был одним из тех людей, которыми гордилась его великая страна, и странно было бы не знать его. — Мы переписывались и раньше, — продолжал Крэгс. — Я не собираюсь отнимать у вас время, вдаваясь в скучные для неспециалиста научные подробности, но мы оба занимаемся одной и той же отраслью науки. Ее называют кибернетикой. Стоим мы на крайних полюсах. Он идет от мысли, что человеку суждено жить на Земле еще многие сотни тысяч лет. Я убежден, что жизнь на Земле будет трагически прервана в ближайшие годы, быть может дни, и не скорблю об этом. Андрюхин добился невероятных результатов в борьбе со старостью. Более того, ему удалось, не понимаю как, вдвое и даже втрое продлить человеческую жизнь. Это весьма замечательно, только люди вряд ли воспользуются этими достижениями. Мои успехи гораздо скромнее. Убежденный, что человечество вырождается полностью, я совершенствовал свои электронные машины. Им я отдал всю жизнь. Мне удалось создать систему, при которой мои механизмы не только запоминают массу фактов, читают, пишут, переводят, делают любые вычисления, но и воспроизводят сами себя. Им не страшны ни радиация, ни болезни, ни адские температуры, ни взрывы самой необузданной силы. Они не боятся и старости. Они переживут всё. Я создаю новую расу, которая сохранит все лучшее, сделанное несовершенным человечеством… Но я хочу получить поддержку и советы великого ученого — вашего Андрюхина. Я надеюсь его убедить… Вдвоем мы совершим чудеса! Короче говоря, я хотел бы получить визу на въезд в Советский Союз. Вот письмо Андрюхина. Он, видимо, тоже интересуется моей работой и настоятельно приглашает меня приехать еще в этом месяце. Есть формальные трудности — я король Биссы. Мое королевство не признано вашей страной. У меня нет другого подданства. Но, конечно, я готов просить о визе по моему старому паспорту канадского гражданина, лишь бы скорее покончить со всей этой ерундой. Я хотел бы выехать в Советский Союз через неделю. — Не знаю, — хмуро проговорил Василий Иванович. — Я не уполномочен решать такие вопросы. Свяжусь с нашим посольством в Австралии… На темное лицо Крэгса легла тень. — Я слышал, что консул возвращается в конце недели. Надеюсь, вы передадите письмо Андрюхина консулу. Я позвоню ему. Предупредите его кстати, — в голосе Крэгса послышалось торжество, — что остров Фароо-Маро вчера куплен мной и присоединен к королевству Бисса. Василий Иванович молча поклонился. Он следил за гостями, пока темно-оливковая сигара не тронулась в сторону центра, и снова занялся своей таблицей. Через неделю король Биссы Крэгс и его премьер-министр Хеджес получили въездные визы и отбыли с неофициальным визитом в Советский Союз.
Глава пятая СТРАДАНИЯ Л. БУБЫРИНА
Я люблю зверье. Увидишь собачонку — тут у булочной одна — сплошная плешь, из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!Приближался установленный срок решающего опыта с Деткой. Весь академический городок занимался подготовкой эксперимента. Около массивного бетонного основания, которое под напором энергии необычайной силы дрожало, как кисея на ветру, дежурили круглые сутки сотрудники Института научной фантастики. Работники Института кибернетики во главе с профессором Ван Лан-ши вторые сутки не спали и не ели, занятые последними расчетами. Между тем в городе Майске текла обычная жизнь. Среди событий исключительных следовало, пожалуй, отметить лишь тот факт, что некий Леня Бубырин — Бубырь, как его прозвали одноклассники, — человек в общем веселый, сегодня выглядел крайне озабоченным и удрученным. Ни мать, ни отец, ни тем более учителя не могли бы даже разобраться в причинах забот и скорби Бубыря, и, уж конечно, не стоило ждать от них сочувствия. Дело в том, что через два дня должна была состояться решающая игра между командой их дома № 18 и сборной Лесного проезда, а шайбы до сих пор не было! То есть шайба еще не так давно была, и довольно хорошая. Ее вырезали из старой автомобильной шины. В то время как нижняя часть шайбы оставалась совершенно гладкой, верхнюю бороздили уже сильно сточенные от долгой езды, но еще вполне заметные, твердые, несгибаемые складки. Ребята приспособились к этим особенностям и знали, когда какой стороной лучше ее кидать. Немногие команды имели такую шайбу. Собственно говоря, она ничем не отличалась от настоящей. И Пашка Алеев, который добыл где-то кусок старой шины и сам вырезал эту замечательную шайбу, уверял, что шайба, которой играет первая команда непобедимого «Химика», будет даже малость полегче. Ну, а теперь ни у команды П. Алеева, ни у команды Л. Бубырина шайбы не было. И виноват в этом был безусловно Бубырин, чего он и сам не отрицал. Да, вина была его. Они проводили во дворе товарищескую игру. Все шло отлично. Леня, как всегда, стоял в воротах. Он был непрошибаемый вратарь. И на этот раз, как противники ни старались, они так и не могли открыть счет. Неожиданно к воротам вырвался сам Пашка Алеев. Все остались позади, а он мгновенно оказался перед замершим Бубырем и метнул шайбу в левый угол ворот. За какую-то ничтожную долю секунды до броска Бубырь разгадал, куда Пашка бросит шайбу, и рванулся в левый угол одновременно с ней. Бубырь не мог объяснить, почему так произошло. Словно какая-то сила толкала его туда, куда нужно. Он принял шайбу на свою широкую, прочную клюшку, сделанную из дубовой клепки. Непробиваемый вратарь и на этот раз оказался на высоте! Но затем случилось ужасное: отскочив от клюшки, шайба угодила не то в щеку, не то в нос одному пожилому дяденьке, который жил на четвертом этаже с двумя взрослыми дочками и в этот момент зачем-то проходил мимо. Дяденька что-то пробормотал — что именно, осталось неизвестным — и, подняв шайбу, вошел в свой подъезд. Сколько ни ныли потом ребята под дверями, сколько ни стучались, ни скреблись, ни бросали снегом в темное окно, все было кончено. Шайба к ним не вернулась. Лишь на второй день, жалобно всхлипывая, растирая несуществующие слезы на своей толстой и румяной, очень похожей на колобок физиономии, Леня выведал у одной из дочек сурового дяденьки, что шайба была брошена в помойное ведро, а оттуда попала в мусорный ящик. Нелегко среди бела дня и в то же время в глубокой тайне от домашних и даже от всех окружающих организовать тщательное изучение содержимого мусорного ящика. Но это было сделано. Не замечая вони, ребята палками разгребли все, что было в ящике, но шайбы там не оказалось… Может быть, мусорщики раньше очистили ящик, может быть, все выдумала хитрая дочка, но шайбы не было… Несколько дней пытались играть чем попало. На свалке Химкомбината среди всяких любопытных предметов нашлись разъеденные кислотой резиновые пробки. Их набрали больше сотни, но все они оказались слишком малы. Была перепробована масса различных предметов: кусок дерева, банка из-под ваксы, набалдашник от трости, старая мыльница, сломанный кубарь, замерзшее лошадиное яблоко, — но все это было не то! Игра как-то не клеилась. И вот тогда перед Бубырем «во весь рост» была поставлена задача: достать любой ценой новую шайбу. После того как очередное лошадиное яблоко от удара о клюшку разлетелось вдребезги, Пашка пододвинулся к Бубырю и негромко, но очень внятно сказал: — Чтобы завтра была шайба! А не то знаешь что будет? Это Леня знал. Он и то удивлялся, что его так долго не трогали. Вечером, после того как уроки были сделаны, он уселся на пол в самом уютном месте — между тумбой письменного стола и платяным шкафом — и принялся размышлять. План у него был. Но как привести этот план в исполнение? Дело в том, что в корзине, в углу коридора, хранилась масса старой обуви, которую мама еще не решалась выбросить окончательно. На папиных ботинках, совершенно негодных, были замечательные каблуки литой резины. По всем Лениным расчетам, такой каблук, конечно аккуратно отодранный от ботинка, представлял бы великолепную шайбу. Но между идеей и ее осуществлением было столько препятствий! Сидя в своем углу, Леня вспомнил, как папа рассказывал маме о том, сколько трудов ему стоило провести в жизнь свое изобретение. «Куда легче изобрести, чем внедрить!» — повторял папа с ожесточением, и сейчас Леня понял, что это совершенно правильно. Если обо всем честно рассказать маме и попросить ее отдать хотя бы один каблук, немедленно выяснится, что это еще хорошие ботинки, что они очень нужны, что мама собиралась со дня на день отдать их в ремонт и так далее. Стащить этот никому не нужный башмак было бы легче всего, но Леня давно установил, что стоило тронуть любую вещь, и мама, совершенно непонятно каким образом, об этом узнавала. Для того же чтобы найти этот крайне необходимый ботинок, придется наверняка перерыть всю корзину: чем вещь нужнее, тем дальше она лежит. Несмотря на все трудности, был избран вариант похищения. Оно состоялось в ближайший вечер, когда папа и мама ушли в клуб на спектакль, а старшая сестра, вместо того чтобы сидеть над уроками, воспользовавшись неожиданной свободой, удрала к подругам. Леня взялся за дело обстоятельно. Выдвинув корзину под яркий свет лампы, он прежде всего решил твердо запомнить, как что лежит, чтобы уложить потом обувь в таком же порядке. Чего только не было в корзине! Он встретил свои первые крошечные ботинки, от которых остался один верх, поудивлялся и похихикал над гусариками с голубым помпоном, не сразу сообразив, что это не так давно тоже было его обувью. Зачем мама их хранит? Он увидел свои башмаки, уже настоящие, но такие маленькие, что сейчас в них не влезла бы и половина его ступни. Как он и ожидал, нужные ботинки отца с литыми каблуками оказались в нижнем ряду. Как часто бывает, что, мечтая о какой-нибудь вещи, мы представляем ее себе куда лучше, чем она выглядит в действительности! Леня, скорбно оттопырив губы, с вытянутым лицом, вертел в руках папины башмаки. Действительно, каблуки у них были литые. Но как немного осталось от этих каблуков! Он долго прикидывал, какой же каблук мог хоть в небольшой степени сойти за шайбу, и наконец, вздохнув, остановился на левом. Отодрать стоптанный каблук дело вовсе не простое. Если не верите — попробуйте. Леня едва справился с задачей и успел убрать корзину, когда в дверь постучали. В этот момент он работал веником, скрывая следы своего преступления. Поспешно забросив веник за велосипед, а ногой сунув под шкаф остатки мусора, он открыл дверь, не вынимая из кармана кулак, где был зажат драгоценный каблук. — А-а, это ты! — вздохнул Леня с облегчением, увидев сестру. — А ты думал? — сухо отозвалась она, расстроенная виденным у подруги замечательным розовым платьем с кружевным воротничком. — Нет, я так просто, — ухмыльнулся Леня и тотчас ушел в ванную. Там, тщательно заперев дверь, он снова извлек каблук и, полюбовавшись им, решил, что вернее всего будет пока спрятать его в велосипедный футляр для инструментов. На следующий день, едва позавтракав, Леня вылетел во двор, сжимая в кулаке заветный каблук. Пашка хмыкнул не очень одобрительно, увидев эту шайбу. Однако решающим испытанием должна была стать игра. И вот, выпущенная из рук Лени, шайба неуверенно запрыгала по мерзлым кочкам и буграм двора. — Конечно, — сказал Леня, — если бы на льду… — А старая и здесь была хороша, — сурово изрек Пашка. Ясно, шайба легка и слишком уж плоская! Игру пришлось прервать. Леня чуть не плакал. — Идея хорошая, — сказал Пашка, ковыряя шайбу ногтем. — Но нужен нельм каблук. Понимаешь, новый. Нестоптанный… — Где же я его возьму? — всхлипнул Леня. — Вот этого я не знаю… Никто не подозревал, как внимательно изучал Леня в ближайшие часы ноги всех членов своего семейства. Он быстро убедился, что мать и сестра не представляют для него никакого интереса. Оставались отец и он сам, Бубырь. Но ему на зиму были выданы валенки, срезать же каблук с ботинок, в которых отец ходил на работу, было настолько рискованной затеей, что Бубырь сразу благоразумно от нее отказался. Было от чего прийти в отчаяние! И в тот момент, когда казалось, что все пропало, Леня с трепетом вдохновения вспомнил, что ему еще весной были куплены ботинки навырост, что они, целехонькие до сих пор, лежат в нижнем ящике шкафа, там, где мама хранила новую обувь, и что об этих ботинках вряд ли кто-нибудь вспомнит до новой весны. А это еще когда будет! Дождавшись снова, чтобы все разошлись и оставили его в квартире одного, Леня не только с чрезвычайной аккуратностью отделил каблук, но даже прибил на его место теми же новыми гвоздями старый папин каблук, не сумевший стать шайбой. Что касается нового каблука, то он не вызывал никаких сомнений. Это была настоящая шайба, даже лучше той, знаменитой, вырезанной из старой шины. А как хороша она оказалась в игре! Когда уже поздно вечером пришлось расходиться по домам, Пашка забрал шайбу себе. — Целее будет! — сказал он многозначительно. И от этих слов сердце Лени сжалось в тяжелом предчувствии. Ему сразу показалось, что он очень устал и ноги не торопились нести его домой. Но когда он решительно позвонил, а потом, потянув на себя тяжелую дверь, незаметно взглянул на лицо открывавшей ему сестры, то ничего особенного не заметил. И мама была спокойна. Она позвала его ужинать, они поговорили о школьных делах и о мальчишках, которых мама знала. Она расспрашивала о Пашке. И только! Леня даже принялся болтать ногами и победоносно взглянул на сестру, которая вечно корчила из себя старшую и даже сейчас сидела с какой-то непроницаемой физиономией. Разве сумела бы она так здорово раздобыть шайбу? Отец, поужинав, включил телевизор. И Леня благодушно подсел к нему, когда внезапно сверкнула молния: мама вошла в столовую, держа в каждой руке по башмаку, над одним из которых Леня произвел хирургическую операцию. Она молча сунула их отцу. Он взял их и, явно не зная, что с ними делать, постучал одним о другой: — Малы? — Полюбуйся на забавы своего сына! — зловеще произнесла мама. Лёне показалось, что он стал совсем маленьким, что если сжаться еще сильнее, то можно целиком уйти в щель кресла и там пересидеть то ужасное, что сейчас должно было разразиться. Папа внимательно осмотрел верх ботинок и, ничего не обнаружив, перевернул их подошвами к себе. По тому, как он присвистнул, чувствовалось, что зрелище произвело на него впечатление. — Тонкая работа! — сказал папа и попробовал ковырнуть пальцем приколоченный Леней старый каблук, но без всякого успеха. — Парень потрудился на славу! Леня чуть было не приподнял голову, но, вспомнив, что папины реплики на такие темы в присутствии мамы ничего не значат, продолжал сидеть смирно. — Странно, что ты способен шутить. — Мама сделала внушительную паузу, вполне достаточную для того, чтобы папа прочувствовал свое недопустимое легкомыслие. — Шутки сейчас совершенно неуместны. Ботинки стоили семьдесят рублей… За эти деньги папа должен работать целый день… Это уже адресовалось Лёне. — А что? — не выдержав, буркнул он. — Я их и такими буду носить… Папа щелкнул ботинком о ботинок и протянул маме. — Зачем они мне? — удивилась мама. — Ты слышал, он их будет носить. Отлично! Валенки я уберу, а ты завтра же наденешь эту обувь и шерстяные носки… Леня был уверен, что отделался очень дешево. Но, если кому-нибудь из вас приходилось носить ботинки с разными каблуками, вы легко вообразите те мучения, которые он испытал еще по дороге в школу. На переменах он не вылезал из-за парты, а когда шли домой, не выдержал и, прихрамывая, попросил Пашку отдать каблук. — Шайбу? — удивился Пашка. — Ты что? Только через сутки Пашка сжалился. В сапожной мастерской каблук поставили на место, мама снова убрала ботинки и выдала бедному Бубырю валенки. Как приятно было их надеть и ходить не хромая!.. Но шайбы снова не было. Следовало предпринять решительные шаги. Оля, старшая сестра, по указанию мамы или из-за своего зловредного характера, внимательно следила теперь за Леней. — Она мне прямо дышать не дает! — пожаловался как-то Бубырь отцу. — Ничего, сынок, — отец шутя подтолкнул Бубыря, — а ты знай свое, дыши помаленьку… Похоже было, что Бубырь принял эти слова, как разрешение действовать. Во всяком случае, уже на следующий день хоккей возобновился. И каждый вечер стоило больших трудов загнать Леню домой. Он приходил до того извалявшись в снегу, что на ворсе лыжного костюма каменели сосульки, а снег нельзя было счистить. Едва держась на ногах от усталости, розовощекий, с блестящими, потемневшими глазами, он победоносно посматривал на сестру. Оля и мама с ног сбились, пытаясь сначала выяснить, что же теперь из домашнего имущества стало шайбой, а потом — хоть взглянуть на эту шайбу, которая не давала им покоя. Но, конечно, шайба исчезала, как только они появлялись поблизости. Так прошли среда, четверг и пятница. Наступила суббота. Никто в Майске не подозревал, что именно сегодня кончается срок, установленный академиком Андрюхиным для опыта с Деткой. Андрюхин предложил было снабдить Детку ошейником и выгравировать на нем адрес, куда в случае отклонения от заданного пути нашедшему следовало доставить таксу. — Отклонения не будет! — решительно воспротивился Паверман. — Я не понимаю, Иван Дмитриевич… — Ну хорошо, хорошо! — согласился Андрюхин. — Не хотите дать Детке ошейник — не надо… Ничего не подозревая, жители Майска занимались своими обычными делами. По субботам, как всегда, мама командовала генеральным купанием всех членов семьи. И, хотя она была занята более, чем обычно, ей бросились в глаза угрюмость и озабоченность сына, непонятные после трех дней безудержного веселья. Маме, впрочем, и в голову не приходило, что эта смена настроений, ванна и хоккей имеют между собой что-то общее. После уроков, чуть-чуть перекусив, что уже само по себе свидетельствовало о смятении в душе Бубыря, и убедившись, что ванна затоплена, он сбежал во двор. Первой купалась Оля. По субботам она мылась не под душем, как ежедневно, а напускала для себя полную ванну воды. Вот это-то было ужасно! Она долго возилась, что-то бурчала, так что наконец мама, не слыша плеска воды, окликнула ее: — Ты что, заснула? Когда же ты думаешь мыться? — Не знаю! — сердито отвечала Оля. — Ну, что тут еще? — Мама появилась в ванной. — Что еще стряслось? — Куда-то засунули пробку! — раскрасневшаяся и растрепанная, сердито ответила Оля. — Ищу, как дура, целый час… И вдруг она, прервав себя на полуслове, молча уставилась на мать вытаращенными глазами. Мать таким же остановившимся и очень сосредоточенным взглядом рассматривала дочь, хотя видела, казалось, вовсе не ее. В следующее мгновение, кое-как накинув шубку, Оля выскочила во двор. Там в это время шел жаркий спор. — Отдай, — просил Леня Пашку. — Сегодня ведь суббота, все моются раньше… А не то отнимут… — Не отнимут! — упрямился Пашка. — Откуда известно, что она у тебя? Нету, и всё! — Все равно узнают! — хныкал Леня. Задыхаясь, с мокрыми кудряшками, прилипшими ко лбу, между ними выросла Оля. — Где пробка? — выдохнула она. — Давай живо, мама идет! Леня молча, жалобно и укоризненно смотрел на Пашку, и тот, отвернувшись, нехотя сунул ему пробку от ванны, последнюю, быть может самую великолепную, шайбу… Бросив Лёне какую-то очень злую угрозу, Оля умчалась. Ребята потоптались около Бубыря, посмеялись, повздыхали и тоже разошлись. — Ладно уж, валяй домой! — сказал милостиво Пашка. — Не бойся, не убьют дорогого сыночка… — И тоже ушел, посвистывая. А Лёне совсем не хотелось свистеть. Было холодно, скучно и одиноко, но идти домой он не решался. Падал редкий снежок; во дворе было так темно, что и снежинки казались темными. Все люди сидели дома, и в окнах как будто дразнились и хвастались приветливые разноцветные абажуры. А во дворе не было никого и стояла такая неприятная и тяжелая тишина, как будто все навсегда покинули Бубыря, ушли в свои веселые, теплые комнаты. Он слонялся по двору, обошел заваленный грязным снегом скверик. И, если бы кто-нибудь в эту минуту сказал ему хоть слово, он бы немедленно заревел. Но никого не было. Петляя по двору, он все-таки незаметно приближался к своему подъезду. Но, подойдя к нему, снова не решился войти и присел на корточки, подперев спиной стену. Честно говоря, Бубырь немного хитрил. Он ждал. Должна же была выскочить в конце концов встревоженная его исчезновением мама или хотя бы Оля. Им давно уже следовало бы поинтересоваться… Так он сидел, тыкая прутиком в снег, немного тоскуя, немного боясь темноты и немного сердясь на свое затянувшееся одиночество. Потом ему показалось, что прямо перед глазами сверкнула необычайно яркая лампа; он услышал какой-то треск, легкий щелчок. Его смутно удивил стремительный порыв теплого ветра. И тотчас что-то живое мягко ткнулось в его валенок. Это было так неожиданно, что Леня едва не взвыл от страха. Но тут же он услышал жалобное, тоненькое повизгивание. Неужели щенок? Недоумевая, откуда он взялся, Леня слегка нагнулся вперед, всматриваясь. Верно, щенок! Совсем черный! Леня сталподнимать ему каждое ухо, лапы и даже хвост, чтобы убедиться, что это действительно песик. Даже не щенок, а вполне взрослая такса, хоть и молоденькая. — Черная, как муха, — прошептал Леня, все еще с недоверием присматриваясь к песику. Главное, что смущало Бубыря, это совершенно неожиданное появление таксы из ничего, из воздуха. И еще то, что она была или больна, или сильно избита. В самом деле, он же сидел здесь долго, смотрел вокруг, прислушивался — никого и ничего. И вдруг — собачонка, да такая, каких никто поблизости никогда не видел! И почему она так жалобно визжит? Леня, все еще сидя на корточках, пощупал таксу со всех сторон, но она не взвизгивала сильнее, как если бы встретилось больное место, а продолжала так же однообразно скулить. И все время мелко дрожала, будто ее бил озноб. Значит, она все-таки больна. И Леня решился. Осторожно взяв ее на руки и кряхтя, как столетний дед, он приподнялся. Собачонка неожиданно завизжала на весь двор, будто ей сделали больно. — Ты что? — испугался Леня. — Чего ты? Он держал таксу на весу и пытался заглянуть ей в глаза, но и глаза и нос у нее были такие же черные, как и короткая шерсть. Ничего нельзя было рассмотреть. Вдруг влажное, теплое прикосновение заставило Леню рассмеяться. — Он лижется! — в восторге вскрикнул Бубырь, прижимая к себе песика. — Ах ты, дурачок! И, совсем забыв о ванне, о пробке и об ожидавших его дома неприятностях, Бубырь, перепрыгивая через ступеньки и крепко держа драгоценную ношу, помчался домой. Он жил на третьем этаже и на полпути наскочил на самую вредную девчонку, Нинку Фетисову, которую Пашка почему-то не велел никому задирать, а только сам лупил изредка. — Куда катишься, Колобок? — спросила она, раскачивая перед носом Лени кожаную сумку. Леня даже не обратил внимания на обидное прозвище. — Вот, видела? — Он торжествующе показал все еще дрожащую таксу. — Моя! — Откуда? — Глаза Нинки вспыхнули любопытством, и она протянула руку к собачонке. Но Леня плечом отбросил ее руку. — Нельзя! Укусит! Нашел я ее. Она сама появилась… — сбивчиво объяснил он. — Стащил, стащил! — закричала Нинка и тотчас перешла на вкрадчивый шепот. — Давай я ее лучше пока к себе заберу. Я знаешь как спрячу! Никто в жизнь не найдет! Будем владеть ею вместе, понимаешь, коллективно… — То-о-же выдумала… Отойди, не мешай! — Леня упорно пропихивался вперед мимо прыгавшей перед ним Нинки. — Лучше дай! А то всем скажу, что стащил, что сама видела, как тащил из сарая… — Из какого сарая? Ты что! — испугался Леня. Может, и справилась бы с ним хитрющая Нинка-пружинка, но в это время наверху с треском распахнулась дверь и мамин голос, хоть и сердитый, но очень приятный, приказал: — Марш домой! — Тетя Лиза, а он щенка украл! — тотчас закричала Нинка. — Я сама видела, на соседнем дворе… — И покатилась вниз по лестнице. Будто идя на казнь, преодолел Леня оставшиеся до мамы пятнадцать ступенек. — Когда же это кончится? — простонала мама, увидев Леню с его находкой. — У всех дети, как дети… Немедленно брось эту гадость! — Это такса, — тихо сказал Леня. — Такая собака… Она больная… — Больная собака! Заразная! Ужас! — закричала мама, пытаясь вырвать таксу. (Впервые песик взывал настоящим собачьим голосом.) — Он еще кусается, наверно? Бешеная! Брось сейчас же! — Меня он не укусит, — упрямо сказал Леня. Всю эту беседу они вели на пороге. Наконец мама, не выдержав, втолкнула его в прихожую вместе с прижатой к животу собачонкой. — Ну хорошо! — сказала она решительно. — Сейчас я позову отца… Как всегда в таких случаях, Леня внутренне дрогнул. Он не мог понять, в чем тут секрет. Ведь мама распоряжалась дома всем, папа тоже ее слушался. Но, когда нужно было пустить в ход самую страшную угрозу, она звала папу. И это производило впечатление. — Я больше не могу! — заявила мама, когда папа послушно выглянул из кухни. — Он притащил домой больную собаку и не выпускает ее из рук. Папа подошел ближе. — А кто тебе сказал, что собака больна? — спросил он, с интересом присматриваясь к песику. — Да он же, он сам! Пришел и заявил: собака больна… — По-моему, она здоровехонька. — Папа слегка потряс таксу за длинное ухо. И та, поворачивая голову за его рукой, смотрела так умно и внимательно, что мама замолчала и, хмурясь, уставилась в живые, удивительно разумные собачьи глаза. — Теперь она здорова, — со вздохом сказал Леня. И, не глядя на маму, приготовившись к подзатыльнику, Леня осторожно опустил таксу на пол. Песик вильнул хвостом, метнулся к папиным ногам, к маминым и, покорно перевернувшись на спину, заюлил всем телом, принюхиваясь к халату хозяйки. — Абсолютно здоровый пес! — весело сказал папа. — И безусловно неглупый. — Чепуха, — растерянно сказала мама. Безропотная покорность таксы произвела на нее впечатление. — Отлично, если она здорова, но мне не нужны ворованные собаки. Папа, слегка приподняв брови, вопросительно посмотрел на своего Бубыря. — Я сидел у стены, — начал Леня, сразу увлекаясь, — вот так на корточках, и ковырял палкой. Никого не было, и вдруг блеснуло и откуда-то свалилась эта вот Муха… Это я ее так назвал, потому что она совсем черная и очень веселая. — Что ж, ее выбросили из окошка? — поинтересовалась мама. — Нет. Я сам не знаю, как это случилось. Но только не было ничего, и раз — собака… Она ничья. — Ну вот видишь, — сказал папа, щекоча мягкий Мухин живот, — она ничья. И чистенькая. — Пусть и останется ничьей, — не очень уверенно сказала мама и ушла на кухню. — Пусть переночует, а утром — вон! Папа и Бубырь обменялись понимающим, торжествующим взглядом. Так в квартире Бубыриных осталась неизвестная собачонка. Не раз в течение вечера мама, вспомнив о ее таинственном появлении, бросала начатое дело и пробовала беседовать с Мухой. — Непонятная собака, — говорила мама, — что-то есть в тебе странное. Откуда ты взялась? Терпеть не могу секретов! Муха внимательно прислушивалась к этим разговорам… Но через час, привыкнув, она при первом звуке маминого голоса, если в нем раздавался знакомый вопрос, опрокидывалась на спину и весело шевелила хвостом, ожидая, когда пощекочут ее брюхо. — Во всяком случае, — заканчивала мама, — ты как будто действительно здорова… Никто не знал, что теперешнюю Муху звали раньше Деткой, что она прожила необыкновенную и очень важную жизнь, что ее ищут и за ней охотятся… Десятки людей уже шли по ее следам.В. Маяковский
Глава шестая ТРЕВОГА
Среди множества людей, которых так или иначе коснулось исчезновение собаки, был и тот самый парень, которого Юра Сергеев встретил в парке научного городка возле стенда с Деткой. Этого парня за пьянство и нерадивость недавно уволили из института. Такая история была для него теперь совсем некстати. Когда он встретил несколько дней назад в Майске незнакомого человека, с которым вместе выпил, то полагал, что все будет куда проще. Собутыльники договорились, что парень украдет черную таксу Детку и передаст ее новому приятелю. А этот приятель был хоть с виду и древний старец, но настоящий мужик: деньги он не считал, сунул новому знакомому пятьсот на расходы и обещал еще тысячу, если все будет как надо. Сам он служил в каком-то другом институте или в лаборатории не то в Майске, не то в Москве. Парню он поставил условие: выкрасть собачонку так, чтобы Андрюхин ничего об этом не знал. В это утро Леня Бубырь — единственный человек, который многое мог бы рассказать об исчезнувшей таксе, — изнывал от безделья. Уроки были сделаны вечером, с Мухой он поиграл; до занятий оставалось больше трех часов, а делать было совершенно нечего. Леня уже дважды, захватив клюшку, выходил на двор. Но все словно сквозь землю провалились. В это время мама выпустила Муху погулять. И Леня с черным песиком помчались наперегонки через двор. Пока Муха металась где-то у сараев, он подбежал к третьему корпусу, подкрался к углу. Уже слыша негромкие голоса ребят, он переждал минуту, хихикая от нетерпения, и наконец выскочил из-за угла с криком: — А вот он и я! Тут же Бубырь отшатнулся и испуганно прижался к холодной стене. Прямо против него стоял незнакомый парень лет восемнадцати, а может и двадцати, в маленькой кепочке, сделанной, казалось, из одной пуговицы, и в короткой куртке с большим, поднятым вверх воротником. Парень курил и, щурясь от дыма, пускал вонючее облачко прямо в розовое лицо Бубыря. Леня бросился со всех ног к ребятам. Дикий свист пронесся, кажется, над самым его затылком. Но он уже видел Пашку, Вовку, всех других и, оглянувшись, убедился, что незнакомец следует за ним шагом, с ленивой ухмылкой. К тому же через пустырь, кувырком скатываясь с бугров в колдобины, по уши утопая в снегу, но захлебываясь злым лаем, галопом неслась на помощь Муха. У Бубыря отлегло от сердца, и он, за несколько метров от ребят перейдя на шаг, незаметно перевел дух, уверенный, что ребята встретят его насмешками. Но Пашка хмуро смотрел на медленно подходившего парня. — Кто это? — тихо спросил Бубырь. — Чужой, не знаю, — нехотя процедил Пашка. — Да видно, что хулиганье. Говорит, собака у него пропала… — Так как же будет, ребятки? — очень вежливо, как ни в чем не бывало, спросил незнакомый парень, подходя ближе. — Поможете сыскать собачку? Он не договорил. Задыхаясь, не то с лаем, не то с визгом, ему в ноги бросилась Муха, яростно рыча и изо всех своих небольших собачьих сил норовя вцепиться повыше кокетливого сапожка незнакомца. Он даже не отдернул ногу, внимательно рассматривая Муху. — Это… это чья же такая сердитая? — Незнакомец сунул руку во внутренний карман куртки, достал что-то, быстро поднес к глазам и тотчас спрятал. — Моя… — нерешительно выговорил Леня после короткого молчания. — Давно завел? — спросил парень без улыбки таким тоном, что сердце у Бубыря снова сжалось. — А я и не знал, что у тебя собака, — хмуро сказал Пашка. И Лёне ничего не оставалось, как признаться, что собака у него недавно, совсем недавно, в общем, всего два дня, что она приблудилась и хозяина Леня не знает… — Не знаешь? — Лицо парня стало совсем ласковым. — А ведь хозяин-то я. Моя это собачка!.. — И он позвал таксу: — Детка!.. Детка! И тогда все увидели, как, слабо вильнув хвостом, не поднимая головы, такса покорно перевернулась вверх брюхом у сапог своего владельца. Выдержать такое предательство Бубырь не мог. — Муха! — завопил он отчаянным голосом. Но, прежде чем такса успела переползти к Бубырю, незнакомец мгновенно нагнулся, схватил бывшую Муху за холку и сунул за пазуху, в свою куртку, сразу оттопырившуюся бугром.* * *
Еще ничего не зная об исчезновении Детки, Юра и Женя медленно брели в это время на лыжах по лесной просеке. С тех пор как, по личному распоряжению академика Андрюхина, для неусыпных наблюдений за здоровьем Юры Сергеева в помощь профессору Шумило прикрепили студентку четвертого курса Горьковского мединститута Женю Козлову, в характере Жени произошли крайне нежелательные изменения. Она стала требовательной, раздражительной и обидчивой, а от ее веселости не осталось и следа. Юра, первый заметивший эту перемену, объяснял ее скукой и бездельем. Действительно, делать его личному врачу, как прозвали Женю, было совершенно нечего. Три дня в неделю Юра проводил в академическом городке, испытывая, как он говорил, особое снаряжение. Больше из него ничего нельзя было выжать, да ребята и не пытались, понимая, что дело серьезное. Эти три дня Женя находилась с Юрой в городке Андрюхина. Потом они уезжали в Майск. И Юра возвращался к своей основной работе, а Женя, так же как и в академическом городке, обязана была каждые три часа измерять у него давление крови, температуру, делать специальные укрепляющие внутривенные вливания… В промежутках она томилась от безделья, да и сами эти процедуры как ей, так и Юре надоели очень скоро. Впрочем, Женя, стоя на страже достоинства медицины и ее тайн, недоступных простым смертным, строго пресекала малейшие попытки Юры уклониться от процедур или хотя бы поиронизировать над ними. — Противно смотреть, какой ты нормальный! — бубнила Женя, скользя следом за Юрой. — Давление нормальное. Температура нормальная… Вчера вливала в вену десять кубиков, так хотя бы точка осталась, хоть след… Если бы я не видела своими глазами, что ты проделываешь у Андрюхина, не поверила бы ни за что! Как можно оставаться таким возмутительно здоровым! А в лесу было чудесно! И постепенно, незаметно для них, молчаливая прелесть заснеженных елочек, суровая красота сосен, сонное небо, которое, готовясь задремать, всерьез куталось в облака, странные шорохи в глубине леса, где кто-то еще бегал или крался по следам, — все это словно входило в них, растворялось, делая их спокойнее, серьезнее и лучше… Теперь они шли медленно. И с каждым шагом в Жене разгоралось желание поговорить о чем-то большом и очень важном, что, она чувствовала, могло быть выяснено именно сейчас. А Юру все больше охватывало чувство радостной бодрости. Он бежал, играя палками, напевая себе под нос, и то и дело улыбался и даже коротко похохатывал своим быстрым и смешным мыслям. — Вот так и все, — вздохнула Женя, — шумят, прыгают, толкутся в магазинах… — Ну и что? — А война? — строго спросила Женя. — Я где-то читала, что вполне возможно изготовить такую бомбу, которая при взрыве даст воронку диаметром до восьмидесяти километров. И на площади более тысячи квадратных километров будет уничтожена всякая жизнь. Представляешь? Один человек, покуривая сигарету, нажмет кнопку — и из брюха самолета вывалится бомба, и через несколько мгновений перестанут существовать миллионы людей, и все, что было создано их трудом, трудом их отцов, дедов, прадедов, десятков поколений… — Но до этого, — медленно возразил Юра, — другую кнопку нажмет другой человек… Самолет с ядовитой начинкой будет выброшен за тысячи километров от Земли и там уничтожен. Женя пристально посмотрела на него. — Это так же возможно, как и кобальтовая бомба, — усмехнулся Юра. — Сейчас — а впрочем, это было, наверное, всегда — живут две науки: одна работает над тем, как наиболее эффективно и подешевле уничтожить людей; другая делает все, чтобы люди с каждым поколением жили разумнее и лучше. Конечно, кобальтовая бомба — это страшная сила. Только она вызывает еще большее отвращение и безудержную злобу к тем, кто, несмотря ни на что, готовит войну. У Андрюхина работают ученые всего десятка стран, но как колоссально много они уже сделали против войны! — А зачем приезжает Крэгс? — спросила Женя. — Совершенно не понимаю. — Юра шевельнул массивными плечами. — Как может ученый допустить, что мир погибнет? А ведь Крэгс верит в это. И знаешь, кажется надеется перекрестить в свою веру Ивана Дмитриевича. Вот будет потеха! Юра радостно захохотал, предвкушая эффект затеи, которой академик Андрюхин хотел встретить коллегу. — Больше всего меня бесит беспомощность! — упрямо сказала Женя. — Какая беспомощность? — сердито удивился Юра. — Ведь это мы не даем упасть бомбе! Конечно, каждый из нас поодиночке мало что может, но все вместе мы, как одна рука, уже много лет удерживаем бомбу. Это, по-твоему, беспомощность? Они помолчали. Теперь Юра хмурился, а на лице Жени проступила робкая улыбка. — По-моему, это хорошо, что люди думают о работе, о семье, о своем городе или о новых штанах, — продолжал Юра. — Пусть шутят, смеются, любят друг друга, растят детей и не думают об этой чертовой бомбе. Было бы ужасно, если бы, испугавшись, люди забыли о жизни, о ее маленьких радостях, которые складываются в общую, большую, если бы день и ночь, корчась от страха, люди думали о войне. Тогда она бы скоро началась. — А ты знаешь, что, собственно, делает Андрюхин? — То же, что и мы все: не дает бомбе упасть. Вот кто не боится войны! Он убежден, что войны не будет, а если она все же случится, мы сумеем предотвратить и преодолеть любые ее бедствия. Ты ведь знаешь, что вчера произошло в лабораториях Андрюхина? Детка указала дорогу людям! Человеку!Глава седьмая ПОИСКИ
Узнав о пропаже Детки, население академического городка бросилось на поиски, как по боевой тревоге. Юра с Женей собрали лыжную команду. Всю ночь лыжники прочесывали окрестные леса и овраги, исходив десятки километров. Выбившийся из сил, ставший похожим на сумасшедшего, профессор Паверман двое суток безуспешно обшаривал каждый кустик на трассе. Ничего не дали и ночные поиски, организованные Женей и Юрой. Следовало искать собаку в самом городе. И Майск немедленно стал похож на огромную выставку собак. Никто и не предполагал, что в городе их так много. Фотографии с изображением таксы, пропавшей из Института научной фантастики, появились к двенадцати часам дня, но и после этого вели собак всех мастей. Вой стоял над городом. Мальчишки натаскали столько щенят, что город пропах запахом псины и молока. Весь этот собачий базар проходил на большом поле футбольного стадиона. Теперь поле стало малым, хоккейным, и вокруг оставалось много места для собак, их хозяев и бригады из Института научной фантастики, которая возглавила поиски пропавшей таксы. Руководил этой бригадой высокий, костлявый, огненно-рыжий профессор Паверман. Сквозь очень сильные очки глаза его казались маленькими и злыми. Ни на мгновение он не оставался в покое. Пробегая по наскоро сколоченной трибуне, мимо которой проводили собак, он то и дело соскакивал на поле и кричал, хватая хозяев собак за рукава и отвороты пальто: — Вы что, издеваетесь, да? Разве это собака? Это теленок! Зачем мне ваша овчарка? Такса! Понимаете? Маленькая, вся черная, веселая, добрая, умная такса! На него не обижались: видели — человек не в себе. А собак привели, чтобы хоть чем-нибудь помочь: может, пригодятся. По радио уже дважды передавали запись короткого выступления академика Андрюхина с обращением к жителям Майска и окрестных колхозов: «Дорогие товарищи! От имени всего коллектива наших ученых прошу вас оказать всяческую помощь в поисках пропавшей собаки! С ней связано важное для нашей страны открытие. Собаку необходимо отыскать срочно, в противном случае поиски станут бесцельными…» В середине дня над стадионом повис вертолет. На трибуну, где бегал Борис Миронович Паверман, выбросили с вертолета лесенку. По ней, словно большой, темный жук, быстро перебирая ступеньки, спустился незнакомый большинству человек с отличной бородой и веселыми, яркими глазами. Это был Андрюхин. — Нашли?! Паверман отчаянно махнул обеими руками, едва не сбив с Андрюхина шапку: — Вообще ни одной таксы! Конечно, были и таксы — правда, немного. Каждый раз, когда среди визжащих, рычащих, старающихся мимоходом цапнуть кого-нибудь псов появлялась приплюснутая, с висячими до земли ушами раскоряка-такса, словно карикатура на настоящую собаку, вся бригада, ученых сбегала с трибуны и мчалась ей навстречу, наступая на собачьи лапы и хвосты. Впереди всегда неизменно оказывался Борис Миронович. Хотя руки у него, много раз перевязанные бинтами и даже просто носовыми платками, были все изгрызены неблагодарными псами, он первый хватал таксу на руки, иногда только рискуя получить новые укусы, а иногда и получая их. Не все было напрасно. Вертолет, сделав круг над стадионом, ушел вертикально вверх и исчез. Ребята с Ленькиного двора и соседних домов последними в городе узнали о пропаже необыкновенной собаки. Узнали они обо всем от Нинки. Со всех ног подлетела она к Бубырю, зажав в кулаке содранное с забора объявление с фотографией черного песика. На фотографии Детка казалась старше, крупнее, но Леня сразу узнал. — Муха! — простонал он горестно, вырывая у Нинки фотографию. — А где же она? — тотчас затараторила Нинка. — Где? А? Я все видела, я все помню! Теперь ты не отвертишься! Я все равно от тебя никогда не отстану… Лучше давай вместе сдадим, вдвоем. Так и понесем! Сначала ты, потом я. Хочешь?.. Знаешь, какие мы станем известные? На весь город! Могут даже в газетах написать: пионеры-отличники Бубырин и Фетисова вернули академику Андрюхину его замечательную собаку… — Заткнись! — диким голосом взвыл Бубырь, не в силах дальше терпеть. — Нет ее у меня. Нинка не сразу поверила, что собаки действительно нет. Только когда все ребята и Пашка рассказали, как сами, своими руками отдали Муху неизвестному парню, Нинка, все еще недоверчиво ворча, отстала от Бубыря. — Дураки! Ох, дураки! — заявила она, с невыразимым презрением глядя прямо на Пашку. — «Мы, мальчишки! Мы, самые умные! Всё можем!» Тьфу! Дурачье!.. — Что же теперь будет? — тоскливо спрашивал всех Бубырь. — Что с нами сделают? — Ничего не сделают! — отрезал Пашка. — Что, ты ее украл, что ли? Приблудилась, и всё. Кто ж ее знал, что это не простая собака, а научная, да еще академика Андрюхина. Мало, что ли, собак по городу бегает!.. Бояться нечего. Пошли! Он вскочил со скамейки и потащил за собой упирающегося Бубыря. Как были, на коньках, вылетели ребята со двора. — Куда мы бежим? — испуганно пискнул Бубырь. — На стадион! Ты слышал — они там, ну, эти, ученые… Сейчас мы им всё выложим. Пусть ищут! Будь уверен, найдут! — Попадет! — простонал Бубырь сморщившись. — За это — ничего. Пусть попадает! — Пашка деловито, на ходу, плюнул. — Пусть даже выдерут. Не обижусь. Чего там! Даже легче станет. Ведь я еще вчера понял, что это за парень: чужой человек! Но откуда он про нее знал? — Подожди! — остановил огорченного Пашку Леня. — Он и вторую кличку тоже знал — Детка! Помнишь, она к нему бросилась, когда он ее так называл… Выходит, он не просто собаку искал, а именно эту, научную, которая у академика пропала… Что же это за парень, а? Последние слова Ленька произнес почти шепотом, потому что ему внезапно стало страшно. Он побледнел до синевы и с трясущимися губами, молча вытаращив глаза, взирал на Пашку. С лицами сосредоточенными, сумрачными и даже торжественными Бубырь и Пашка медленно тронулись к стадиону. Из шумной оравы нетерпеливо воющих псов и их замерзших, но упрямо не уходивших хозяев мальчишки выбрались к трибуне. — Гляди, Юра Сергеев, Бычок!.. — подтолкнул Пашка Бубыря и побежал под трибуну, в помещение, где перед играми обычно переодевались хоккеисты. Потом Юра и Пашка ушли в милицию рассказать о парне, похитившем Муху, а Леню провели к высоченному рыжему человеку, которого все называли профессором. Они сидели за столом, друг против друга. И Паверман, ломая голову, с какого бока ему подступиться к своему собеседнику, затачивал карандаш. — Ты должен вспомнить все, что знаешь о нашей собаке. Все! Любая мелочь может иметь громадное значение… Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Приготовься отвечать. Помни, если ты что-нибудь забудешь, история тебе не простит! Но будет еще хуже, если ты что-нибудь присочинишь. Ты ведь врунишка, а? Лишь крайнее возмущение поддерживало силы Бубыря. Он даже не ответил своему собеседнику, только фыркнул. Но тот ничего не заметил. — Только правду! Только правду! — Профессор звонко щелкнул очинённым карандашом о стол. — Внимание! Слушай первый вопрос. Где, когда, при каких обстоятельствах ты встретил впервые нашу Детку? — Это Муху, что ли? — проворчал Леня. Паверман нервно поправил очки и еще раз стукнул карандашом: — Мальчик, нам необходимо договориться о терминологии. Собака, о которой идет речь, носила кличку Детка. Детка, и только Детка! Иногда, в веселые минуты, ее называли наш Большой Черный Пес, но это было неофициальное прозвище. Ты мог ее назвать Мухой, Комаром, Стрекозой или Кузнечиком, от этого ничего не меняется. Она — Детка!.. Точность! Итак? — Чего? — не понял Леня. — Я спрашиваю, где, когда и при каких обстоятельствах ты увидел нашу собаку? — Вечером… — Совершенно неопределенное понятие! Чему только учат в наших школах!.. В котором часу? — А я не знаю… Что у меня, часы на руке, что ли? — Леня рассердился. Ему уже захотелось есть от всех этих передряг. — Может, в полдесятого, а может, и в десять. — Да, да, да! — Профессор Паверман неожиданно вскочил и, сжимая ладонями виски, быстрой рысцой пробежал из угла в угол. — Совпадает! Совпадает!.. Ты видел эту собаку восемнадцатого февраля, в двадцать один час сорок шесть минут семь секунд. Запомни это, мальчик! Наступит момент, когда тебе будет завидовать все человечество! Ты первый и единственный из людей… — Тут он сильно дернул себя за рыжие кудри и круто повернулся к Лене: — Итак? Леня недоумевающе смотрел на него, но страх постепенно улетучивался. — Я спрашиваю, где произошло это всемирно-историческое событие? — У нас во дворе, — нерешительно выговорил Леня, присматриваясь, не смеется ли ученый. — Точнее! Точнее… На этом месте воздвигнут памятник. — Я сидел у стенки, около двери с нашей лестницы во двор. Было скучно. И вдруг чего-то как упало мне на коленки!.. — Не торопись, не торопись! Подумай хорошенько! Вспомни! В это мгновение было совершенно тихо или… — Словно бы что-то щелкнуло, — задумчиво произнес Леня, — или треснуло… И вроде как ярко так сверкнуло… — Ага, ага! — Перо ученого быстро забегало по бумаге. — Звук был громкий? — Нет. Я еще подумал, что это у бабушки с нижнего этажа перегорел предохранитель. — Не путай меня! Бабушка здесь ни при чем… Припомни теперь как можно лучше: в каком состоянии была собака в то мгновение, когда ты увидел ее? Это необычайно важно, это самое важное! — Я ее не увидел, — честно признался Леня. — Было так темно, что я и себя не видел. Она вся черная! Понимаете? Когда она прижалась к моему валенку, я от неожиданности валенок отдернул, и она повалилась как мертвая… — Боже мой! Бедный пес! — Паверман приподнялся за столом и впился глазами в Леню. — Ну? — Я потрогал ее… Знаете, я сначала подумал — это щенок! Потрогал за уши, за ноги, потом пощупал нос, и вдруг она меня лизнула. Честное слово! — Это очень важно! — Ученый торопился записать каждое слово Бубыря. — Чрезвычайно важное, сенсационное сообщение! Не мог бы ты припомнить — постарайся! подумай! не спеши! — не мог бы ты припомнить, сколько времени прошло от того мгновения, когда ты увидел собаку, до того, как она тебя лизнула? Резким жестом он сорвал с носа очки и уставился на Леню невооруженными глазами, от нетерпения слегка приоткрыв рот. Глаза его без очков были большие, очень добрые и растерянные. Он умоляюще смотрел на Леню. Усмехнувшись, Леня совсем расхрабрился: — Сколько времени?.. Да совсем немного — может, пять минут, а может, десять. — Пять или десять? — Ученый снова надел свои страшные очки, и добрые глаза спрятались. — Не знаю… Может, и десять. Паверман в отчаянии бросил карандаш: — Это невозможно! Ты был в самом центре событий! Но ты совсем не вел наблюдений. Такая небрежность! Здесь необходимы точные данные! Бубырь растерянно опустил голову. — Нет у меня точных данных… — пробормотал он сконфуженно. — Плохо, очень плохо, дорогой товарищ! — Паверман снова вскочил и пробежал по комнате. — Из-за твоей ненаблюдательности в поступательном движении науки произойдет крайне нежелательная задержка! — Он опустился на стул против Лени. — Итак? Леня поднял на него умоляющие глаза: — Ну не знаю я… Паверман решительно постучал карандашом: — Дальше, дальше! Незачем мусолить ваше незнание… Что было дальше? — Я схватил Муху на руки… — Детку! — сердито перебил Паверман. — Ну, Детку… Схватил на руки и побежал домой. Она была уже совсем живая. Только как будто больна… Мама еще не хотела пускать ее в квартиру. — Как — не хотела пускать? Возмутительно! Неужели можно было допустить, чтобы собака замерзла на улице? — Но папа сказал, что она уже здорова. И, правда, пока мы говорили, она развеселилась! Может быть, она просто смущалась сначала? Это бывает даже с людьми. — Возможно, возможно… — рассеянно согласился Паверман. — Значит, тебе и твоим родителям показалось, что не позднее чем через полчаса после того, как ты увидел собаку, она уже полностью пришла в себя? И больше она не болела? — Нет, ей у нас было хорошо. Даже мама примирилась с ней и кормила. — Послушай, — осторожно начал ученый, глядя на Леню сбоку и нерешительно покашливая, — а ты ничего не замечал потом такого… необыкновенного? — Нет, — ответил Бубырь, сразу оживившись. — А что? — И твои родители тоже?.. Впрочем, я их расспрошу. Детка всегда тебя узнавала? — Ну конечно! — Леня даже обиделся. — Она визжала за дверью, как только я поднимался по лестнице! — А не случалось ли ей лаять так просто — ни с того ни с сего? Или вдруг что-нибудь рвать, грызть? Всегда ли она узнавала пищу, воду? — Вы думаете, если больная, так сумасшедшая? — От возмущения Леня встал. — Она понимала всё на свете! — Тут же он вздрогнул и посмотрел в сторону. — Был, правда, один случай… — Да? — До сих пор не могу понять, — Бубырь поднял на ученого глаза, полные искренней тоски, — почему, когда тот парень, ну, который увел Муху, то есть Детку, назвал ее старой кличкой, она вздрогнула и пошла за ним! Одно ухо у нее стало торчком, и, когда он снова повторил «Детка», она бросилась его обнюхивать, завиляла хвостом и даже перевернулась на спину, задрав ноги! Мама называла это «верх покорности». А всего за минуту до этого Муха бросалась на пария как на чужого, она защищала меня и знаете как рычала! Готова была его разорвать! Чего ж она покорилась? — Он назвал ее так, как называли мы все в институте… — Паверман снял очки. (И Леня удивился, какие у него нежные глаза). — Это была необыкновенная собака! — сказал он растроганно. — Тонкий аналитический ум!.. А ты молодец, ты умнее, чем кажешься с виду. Смотри, как хорошо все запомнил! Ты помог нам. Понимаешь? Помог науке! Это большая честь. И если когда-нибудь ты станешь ученым, то свою научную биографию можешь начать с сегодняшнего дня.Глава восьмая ПОДГОТОВКА
Кроме сотрудников академического городка во главе с Иваном Дмитриевичем Андрюхиным, Крэгса встречали на Майском аэродроме десятки журналистов. Самолет, шедший без посадки от Праги, возник далеко в небе и через мгновение уже взревел над аэродромом. Вскоре появились пассажиры. Впереди, удивительно похожий на пирата, шел, настороженно улыбаясь, Крэгс, за ним величаво двигался Хеджес, опираясь на плечо какого-то молодого великана в шляпе набекрень. Этого русского атлета, с лица которого не сходила невозмутимая улыбка, Хеджес приметил в баре пражского аэропорта, и они сразу понравились друг другу. Во всяком случае, Хеджес был очень доволен своим новым знакомым, носившим, правда, очень трудное имя — Петр Николаевич. Спускаясь с самолета, Хеджес оступился, и так неловко, что его приятель едва успел подхватить незадачливого премьер-министра Биссы. Цепляясь за Петра Николаевича, Хеджес впервые заподозрил что-то неладное. Лицо Петра Николаевича преобразилось: улыбку сменила плаксивая гримаса, зубы задрожали, и все услышали странные, жалобные звуки, отдаленно напоминающие рыдания. — Что такое? — пролепетал Хеджес в явном испуге. — А, черт возьми! — и академик Андрюхин с этими словами быстро подошел к Петру Николаевичу и провел рукой по его кадыку: звук мгновенно прекратился. — Прошу извинить. По замыслу это должно было изображать рыдания в связи с грядущей гибелью человечества… — Он покосился на Крэгса. — Но наши звуковики изобразили бог знает что… — Позвольте! — пробормотал Хеджес. — Вы хотите сказать, что этот тип, — пятясь, он показывал пальцем на Петра Николаевича, — не человек? Андрюхин соболезнующе развел руками. — Но он пил пиво, всю дорогу напевал песенки… — А почему бы и нет? — поднял брови Андрюхин. Установленный порядок встречи не позволял останавливаться на этом вопросе, тем более, что Петр Николаевич куда-то исчез. Теперь прямо на Крэгса и Хеджеса, среди расступившихся журналистов и ученых, двигался краснощекий, толстый мальчишка лет десяти с огромным букетом цветов. — Дорогие гости… — пролепетал он вздрагивающим голосом, остановившись чуть ли не за две сажени. — Наши дорогие гости… — А этот из чего сделан? — крикнул Хеджес и, подойдя вплотную к толстому мальчишке, довольно бесцеремонно ухватил его костлявыми пальцами за плечо. — Ну, это вы бросьте! — Мальчишка отступил на шаг, отмахиваясь от него букетом. — Я — Леня Бубырин, самый настоящий человек. А вы профессор Крэгс? Но настоящий Крэгс, отодвинув Хеджеса, подхватил букет и попробовал было поднять в воздух Леню, но не рассчитал свои силы. — Это только Юра может… — сообщил Леня, хмуро поправляя шапку и втягивая свой живот. — А вы не пират? — Нет. — Крэгс с непривычным для него удовольствием рассматривал Леню и, что было совсем уже странно, искренне пожалел, что стал ученым, а не пиратом. — Но я живу на островах Южного океана и делаю черепах… — Вы привезли их? — Глаза мальчишки сверкнули любопытством. — Нет, — сказал Крэгс, совсем расстроившись. Тут его отвлекли и не дали больше поговорить со славным мальчуганом. Ученые на нескольких машинах, не задерживаясь в Майске, двинулись в академический городок. Едва машины, оставив Майск, вырвались на шоссе, Крэгс подчеркнуто холодно сказал: — Мне не понравилось одно ваше замечание, господин Андрюхин… Вы изволили подшутить над моими убеждениями в неизбежной и близкой гибели человечества. — Что же, я должен носить траур? — спросил Андрюхин, не оборачиваясь, так как он сам вел машину. — Бестактно. Дешевая острота, — отчеканил Крэгс. — Вроде тех, которые вы щедро расточали в своем неджентльменском письме… Полагаю, лучше всего заявить сразу: я приехал в вашу страну с официальным визитом, а вовсе не как ученик к своему учителю. Я приехал с особой миссией… — Кстати, в чем она заключается? — Андрюхин снова, не очень вежливо, перебил Крэгса. — Знаете, я сгораю от любопытства… — Вам придется потерпеть, — помолчав, едва выдавил Крэгс. — Я не намерен в такой обстановке рассматривать важнейшую для человечества проблему. — Обстановка самая подходящая, — улыбнулся Андрюхин. — Мы приближаемся к Институту научной фантастики. — Научной фантастики? — Крэгс пожал плечами. — Я просто не могу поверить, профессор. Вот вы чем занимаетесь… И вы коммунист? — Конечно, — просто ответил Андрюхин. — Вздор! — проворчал Крэгс. — Я всегда презирал политику, социологию и прочую чушь. Сейчас человечество может решить любой спор, не прибегая к сомнительным личным симпатиям и антипатиям, а целиком доверившись кибернетике, машинам. Даже спор между социализмом и капитализмом! Андрюхин, вскинув голову, с любопытством взглянул на Крэгса, но тот, не заметив этого взгляда, увлеченно продолжал: — Вы хотите мира, профессор, не так ли? Вы хотите, чтобы разум наконец восторжествовал? Андрюхин молча наклонил голову, рассматривая бежавшие навстречу кусты. — Я верю, что и все ваши друзья, миллионы и миллионы людей во всех странах, также горячо жаждут мира. Даже мой Хеджес мечтает о мире, правда лишь потому, что боится за свою шкуру… Уничтожения не может желать никто. Давайте же дадим человечеству мир, профессор! — А вы думаете, все дело в нас, в ученых? — спросил Андрюхин, не поднимая глаз, чтобы Крэгс не уловил промелькнувшей в них насмешки. — Вы поймете, вы согласитесь… — Никогда еще Крэгс, хмурый, немногословный, язвительный человек, не был в таком волнении. — Вы спрашивали о моей миссии. Она крайне проста. При всей своей величественности она может быть выражена в двух словах: доверимся гению созданных нами машин. Люди ограниченны. Человеку не под силу учесть все плюсы и минусы, имеющиеся в вашем и нашем социальном устройстве. А машины могут учесть всё! Они вне симпатий и предрассудков, обременяющих нас. Они вынесут решение, которому будет обязано следовать все человечество. Они определят: капитализм или социализм! Скажите, — голос Крэгса прозвучал надеждой, — вы, ваш народ, ваше правительство согласились бы на такой эксперимент? — Простите… — опешил Андрюхин. — Вы что это, серьезно? — Я никогда не говорил серьезнее! — торжественно заявил Крэгс. — Доверимся же машине! Пусть она, как безусловно нейтральная сила, решит, на чьей стороне правда. Человечество должно будет подчиниться этой истине!.. Андрюхин посмотрел на Крэгса с некоторым сочувствием, как смотрит врач на неизлечимого больного. — Да, да, — забормотал Андрюхин, соображая, как бы ему не очень обидеть Крэгса, — да, да… Когда-то, в рыцарские времена, говорят, перед сражением выезжали от каждого войска по богатырю, и победа присуждалась тому войску, чей богатырь одолевал своего противника. — Черт возьми, вы будете такими богатырями! — заорал Хеджес. — Вот это игра! Игра по крупной! Ставок больше нет, господа… — Замолчите, вы! — гневно бросил Крэгс и, словно извиняясь перед Андрюхиным, прибавил по-французски: — Ничтожество… — Тем не менее он уловил… мм… слабую сторону вашего плана, — ответил Андрюхин. — Это действительно лишь грандиозная игра. Крэгс выпрямился. Широкий шрам на его лице побагровел. Растерянное, горькое чувство появилось в глазах. — Почему? — бросил он. — Видимо, именно здесь корень наших противоречий… — задумчиво произнес Андрюхин, словно не замечая, что происходит с Крэгсом. — Простите мне это странное предположение, но у меня создается впечатление, что вы к своим чудесным машинам относитесь как к сознательным существам… — Они представляют нечто большее, чем так называемые сознательные существа! — запальчиво перебил Крэгс. — Видите! Даже нечто большее… А мы здесь убеждены, что эти удивительные машины, которые совершают умственную работу, непосильную для человека, машины, которые способны не только решать задачи, но даже совершенствовать и усложнять условия задач, то есть в какой-то степени ставить перед собой самостоятельно новые задачи, — эти сказочные машины без человека мертвы… Они не изобретают, не мечтают, не рассуждают. А раз так, то как же можно говорить о решении с помощью этих машин великого исторического спора между социализмом и капитализмом? Извините, — не удержавшись, Андрюхин весело улыбнулся, — это смешно. — Смешно?.. — пробормотал Крэгс. — Да, — решительно ответил Андрюхин. — Кто будет составлять программу для машин при решении этого спора? Грубо говоря, ваши ученые с помощью ваших машин докажут, как дважды два, преимущества капитализма, а мы докажем неоспоримые преимущества социализма… Доверим лучше человечеству, народам и железным законам развития истории решать — где истина! — В таком случае, — лицо Крэгса исказила брезгливая гримаса, — мое пребывание здесь становится бессмысленным. — Прошу вас, не торопитесь. — Андрюхин улыбнулся с таким подкупающим добродушием, что лохматые брови Крэгса удивленно поползли вверх. — До сих пор мы рассматривали только ваши предложения. Быть может, для вас представит некоторый интерес послушать и нас… — И вы полагаете, что вам удастся избавить мир от войны? — с крайним презрением процедил Крэгс. — Я убежден в этом, — мягко ответил ученый. — Безумие! — прошептал Крэгс. Машина остановилась на площади, у небольшого обелиска. Вокруг золотой стрелы вращались два светящихся рубиновых шарика, миниатюрные копии первых спутников Земли, некогда созданных советскими учеными. Проходя мимо, Хеджес сморщился и пробормотал: — Черт их знает, Крэгс… Они всегда преподносили нам сюрпризы. Андрюхин весело подмигнул Крэгсу и шепнул по-французски: — Устами младенцев глаголет истина… Едва гости оказались в своей комнате. Крэгс заявил: — С меня хватит. Завтра же мы покидаем эту обреченную на гибель страну. Здесь делать нечего. Остается одно: торопиться делать своих черепах. — Слушайте, Лайонель! — Хеджес для пущей убедительности ухватился за пуговицу на куртке Крэгса. — Этот Эндрюхи сделал ценное предложение. Он хочет показать вам свои работы. По-моему, было бы глупо уехать, не взглянув, что он держит за пазухой? — Хорошо, я посмотрю… — задумчиво сказал Крэгс — А, собственно, зачем, Фреди? Андрюхин не согласится отдать свои знания моим черепахам, а без этого — его знания бесполезны. Война сметет всё… В дверь коротко и решительно постучали. Несколько помедлив, Крэгс промолвил: — Войдите. Дверь распахнулась, и, пропуская вперед Юру, вошел академик Андрюхин. — Прошу познакомиться: этот юноша, Сергеев, — один из самых деятельных участников некоего эксперимента Института научной фантастики. Если хотите, мы вам кое-что покажем. Мне не терпится улучшить ваше настроение, господа! Это долг гостеприимства… Только заранее предупреждаю: вы увидите конечные результаты, факты, все же прочее, увы… — Он весело развел руками: — Так что мистер Хеджес может не волноваться. Беллетристики не будет. Одни факты… Вы готовы, господа? Широким коридором они вышли в оранжерею. Ни стены, ни потолки не отделяли великолепные розы и томно благоухающие кусты жасмина от лежащего в сотне метров снега… Морозное небо прямо над головой строго глядело бесчисленными глазами-звездами на то, как два человека в легких, спортивных костюмах и с непокрытыми головами (один был даже лыс), недоумевая, оглядываются по сторонам. — Что это? — спросил Крэгс, указывая на странный, седой лишайник, тяжело распластавший огромные лапы в стороне от терпко пахнущих цветов. — Это профессор Потехин привез с Луны… — Андрюхин, наклонившись, ласково потрогал массивные завитки лишайника. — Неплохо прижились… Вообще же я тут ни при чем. — Шутливым жестом Андрюхин словно отодвинул от себя загадочную оранжерею. — Это результаты работ академика Сорокина по микроклимату. Так сказать, факт номер один. Вас он, впрочем, не может интересовать… Пока товарищ Сергеев приготовится, посидим здесь. Они уселись втроем под пышным кустом цветущей сирени, и Хеджес вытащил было трубку, но Андрюхин, морщась, остановил его: — Посидите минуту. Дайте подышать сиренью. Люблю больше всего… — Он шумно вздохнул и, уже не обращая на Хеджеса ни малейшеговнимания, повернулся к Крэгсу: — Итак, ваша миссия в том и заключалась, чтобы переложить на плечи кибернетических машин великий спор истории? — Не относитесь к этому слишком легко. — Крэгс говорил без раздражения, как человек, которому теперь уже все равно. — Я ждал от вас другого ответа. Соображения насчет того, кто же составит программу, кто, так сказать, сформулирует вопрос, были учтены, конечно… Создан, пока неофициально, центр по проведению испытания. В него вошли лидеры многих партий: ученые, писатели. Они установили контакт с Организацией Объединенных Наций. Образовался широкий фронт — от социал-демократических партий до папы римского… — Он тоже поддерживает? — грустно усмехнулся Андрюхин. — Вот до чего люди ненавидят войну! — Да. Ваш отказ вызовет взрыв возмущения. — Крэгс говорил, как постороннее лицо, даже как будто сочувствуя Андрюхину. — Люди не поймут, почему вы отказываетесь, тем более что испытания предложено провести на машине, которая должна быть сконструирована совместными усилиями лучших ученых Запада и Востока… — Наша точка зрения предельно ясна, — негромко и спокойно отвечал Андрюхин. — Есть вопросы, на которые человечество может получить убедительный и окончательный ответ только в результате своего собственного опыта, ценой, быть может, прямой борьбы и хода исторического развития человеческого общества, путем соревнования социальных систем, а не в результате научного эксперимента, как бы он ни был замечателен. Вещание вашей машины не убедит людей. Какой бы ответ ни дала машина, люди, не убедившись на опыте в правоте этого ответа, отнесутся к нему скептически. Ваша затея может вызвать лишь добавочное ожесточение в нашем и так неспокойном мире. — Что же его успокоит? — вяло усмехнулся Крэгс. — Смотрите!.. Перед ними, казалось, прямо из-под ног, вспыхнул и ушел в небо столб голубого огня. В его твердых, строго очерченных гранях клубились редкие снежинки. Небо почернело, и все, что было за пределами голубого столба, стало казаться чужим. В полосу света вошел человек в черном ватнике и лыжных брюках, заправленных в теплые ботинки. Глаза были прикрыты защитными очками. — Это Сергеев, — сказал Андрюхин. — Если хотите, господа, можете его осмотреть… Впрочем, сначала проведем испытание. Он поднял руку. Сергеев отчетливым жестом медленно передвинул металлическую пряжку на своем широком поясе. Тотчас, плавно и торжественно оторвавшись от земли, он начал подниматься прямо вверх. Его большая черная фигура выглядела особенно нереально среди смятенно толкущихся в голубом луче снежинок. Он поднялся примерно на высоту тридцати метров и пошел в сторону. Луч следовал за ним. Потом Сергеев медленно опустился, постоял всего в метре над головой испуганно вскочившего Хеджеса и, по знаку Андрюхина, неторопливо опустился на землю. — Испытания антигравитационного костюма, — сказал Андрюхин. — Можете взглянуть. Хеджес кинулся к Юре, и Крэгс последовал за ним. — Вам я могу сказать, — усмехнулся Андрюхин, когда Крэгс вставал, — что осмотр не даст ничего… Все же оба гостя минут десять ощупывали пояс, осматривали пряжки, а Хеджес торопливо потрогал всё: валенки, брюки, ватник… — Это можно повторить? — недоверчиво спросил он. Взглянув на Андрюхина, Юра так стремительно взмыл в небо, что Хеджес шарахнулся в сторону. Все увеличивая скорость полета, Юра то уходил вверх на пятьдесят — сто метров, то оказывался на земле. За ним было трудно следить. Наконец, слегка запыхавшись, вытирая пот с крутого лба, он приземлился окончательно и отстегнул пояс… Луч тотчас погас, и Юру не стало видно. — У меня нет слов… — Крэгс так и не садился во время полетов. Голос его звучал глухо и неуверенно. — С этим может сравниться только открытие внутриядерной энергии. Вы овладели силой тяготения… — Пока мы только учимся ею управлять, — поправил Андрюхин. — Помните, я писал вам в своем неджентльменском письме о джиннах, которые за ночь переносили дворец с одного конца Земли на другой. Это ведь не такая уж хитрая штука, если дворец невесом. Вот чем занимались наши машины, пока вы, Лайонель Крэгс, делали свои черепаховые консервы. — Прошу прощения! — Оказалось, что и Хеджес может быть вполне вежлив. — А я мог бы проделать то, что делал сейчас этот парень? — Пожалуйста! — Андрюхин покосился на Хеджеса. — Только раньше составьте завещание. — Простите, почему? — Нам недешево обошлось даже то небольшое умение преодолевать силу тяжести, которого мы сейчас достигли. — Андрюхин подчеркнуто обращался только к Крэгсу. — Несколько наших товарищей погибли. Сейчас установлено, что для работы в антигравитационном костюме человек должен быть абсолютно здоровым и пройти спортивную подготовку… Вы, господин Хеджес, рискуете отправиться прямо на небеса… — Преклоняюсь перед вами и вашими коллегами, — сказал Крэгс, несколько придя в себя. — И все же, поразмыслив, прихожу к выводу, что самое разумное — это воспользоваться моими черепаховыми консервами. Да, да! Как это ни печально! Ведь даже управление силой тяготения в тех пределах, какие вам пока доступны, не может спасти бедное человечество от атомной смерти. Гибель неотвратима! — Я прошу вас шире рассесться, господа, — деловым тоном произнес Андрюхин, не слушая пророчеств гостя. Крэгс и Хеджес молча, недоумевая, расселись по краям тяжелой садовой скамьи. — На старости лет я вынужден стать фокусником, — усмехнувшись сказал Андрюхин. — Не пугайтесь, господа… Он нажал на выступающую над верхней доской металлическую опору скамьи. Вспышка яркого света была столь мгновенной, что они не успели убедиться в ее реальности. И тотчас Крэгс и Хеджес увидели, что между ними стоит нечто вроде портативной пишущей машинки с перламутровыми клавишами. — Это похоже на то, что проделывают в китайском цирке, — вежливо улыбнулся Хеджес, отодвигаясь, на всякий случай, подальше от машинки. — Могу подтвердить, что один китаец серьезно причастен к тому, что я демонстрировал вам раньше и что покажу сейчас. С этими словами Андрюхин нагнулся над машинкой и весело подмигнул крайне удивленному этим Крэгсу: — Вы не обидитесь? — Пожалуйста… — нерешительно проговорил Крэгс, пытаясь сообразить, как все же появилась здесь машинка и что последует еще. — Конечно, по форме это далеко не Шекспир… — В голосе Андрюхина вдруг послышалось то самое древнее авторское самолюбие, порыв которого обязательно предшествует скверным стишкам или несуразной музыке. — Но зато мысль будет передана точно! И он ударил по клавишу одним пальцем, как делает человек, впервые сев за пишущую машинку. Тотчас на темной траве у ног Крэгса легла большая светящаяся буква «М». Крэгс невольно подобрал ноги. Тем более, что рядом уже поместилась вторая буква, за ней третья… Андрюхин, что-то упоенно шепча, изо всех сил ударял по клавишам. Наконец, стукнув последний раз, как музыкант, заканчивающий мелодию, он откинулся на спинку скамьи и бессильно опустил руки, ожидая, видимо, восторгов и аплодисментов. Восторгов не было. Недоумевая Андрюхин приоткрыл зажмуренные глаза и довольно бодро спросил: — Ну как? Не дождавшись ответа, он сам с удовольствием прочел получившийся стишок:В эту ночь Юра, пожалуй, впервые за всю жизнь, не спал. Из всего населения академического городка только он и еще два — три человека точно знали, с каким проектом вылетает на рассвете Андрюхин в Москву. Юра знал, насколько этот проект касался лично его. И у него было странное ощущение неправдоподобия, недостоверности всего, что должно произойти. Даже когда он пытался представить, как будет себя вести в случае, если поездка Ивана Дмитриевича увенчается успехом, ему казалось, что он думает не о себе, а о ком-то другом. Накануне они долго сидели с Иваном Дмитриевичем вдвоем в его служебном кабинете. — Сколько тебе лет? — спросил академик, когда они, наверное, уже в сотый раз обсуждали детали предстоящего эксперимента. — В мае исполнится двадцать пять, — ответил Юра. — Где твои родители? — В деревушке живут. Торбеевка называется, километрах в сорока от Саратова… — Надо их вызвать. — Вы забыли, Иван Дмитриевич, — усмехнулся Юрах- был у нас уже об этом разговор. — Ну да? Был? — удивился Андрюхин. — И как мы решили? — Решили их не тревожить… — Ага. Ну что ж. Может быть, и справедливо… Вообще должен вам сказать, Юрий Михайлович, — когда что-нибудь его волновало, Андрюхин всегда торопился перейти на официальный тон, — что дело это крайне опасное. Крайне! Не возражайте мне! — закричал он вдруг и продолжал с виду спокойно: — Удача опыта с Деткой и параллельных опытов с обезьянами еще ничего не доказывают. Ясно? Мы вступаем в совершенно неизведанную страну… Человек-луч! Юра улыбнулся — выражение «Человек-луч» ему понравилось. — Ты ясно понимаешь, на что идешь? — заторопился Андрюхин, расстроенный его улыбкой. — И этот разговор у нас был, — заметил Юра. — К чему снова его заводить, Иван Дмитриевич? Нет, он вовсе не чувствовал себя спокойно. Недавно он прочел воспоминания Константина Потехина — первого человека, побывавшего на Луне. Потехин описывал свои ощущения в дни перед стартом ракеты. И Юра находил, что это очень напоминает его собственное состояние. Были и страх, и гордость за свою судьбу, и мучительное ожидание, и нетерпение, но над всем этим жило сознание, что все уже решено и так надо. Иногда он вспоминал черную таксу, Детку, или Муху, веселую, умную собачонку… Она первая сверкнула нестерпимо ярким лучом с бетонированной площадки академического городка. Она проложила путь Юре, людям. Куда исчез этот «Большой Черный Пес», как любила говорить Женя? Опыт с Деткой удался блестяще, но где она? Юра чувствовал, что ему доставило бы сейчас большое удовольствие посмотреть на собаку, пощекотать ее розовое брюхо… Пожалуй, больше всего ему причиняло неприятностей то, что надо было молчать. Он привык обо всем советоваться с ребятами, а здесь нельзя было даже заикнуться. Он и с Женей пока не мог еще обмолвиться ни словом. «Ну, а если я все-таки погибну? — проскочила однажды мысль, которую Юра упорно не допускал. — Ну что ж, пойдут другие ребята… Кто-нибудь сделает!» Весь день, пока Андрюхин был в Москве, Юра бродил по лесу, исходив на лыжах несколько десятков километров и стараясь никого не встречать. Он вернулся, когда уже начало темнеть: полозья лыж скользили по синему снегу, а деревья в вечерней дымке словно сдвинулись теснее. Ему очень хотелось сразу кинуться к Андрюхину, который уже безусловно прилетел, но Юра не мог заставить себя идти туда. Ему казалось это навязчивым, недостойным. Он медленно шел к корпусу долголетних, когда из-за разукрашенного снегом куста выскочила Женя. — Ох, Юрка! — Ома едва не свалилась ему на руки. — Андрюхин прилетел, всюду тебя ищет… Где ты пропадал?.. Велел тебя с чем-то поздравить. С чем это, а? Не отвечая, он осторожно взял ее лицо в руки, пытливо заглянул в глаза и медленно поцеловал. Потом, молча подобрав свалившиеся палки, пошел к Андрюхину. Девушка растерянно глядела ему вслед.
Два немолодых человека с усталыми, интеллигентными лицами сидели на садовой скамье в лондонском Гайд-парке и, бесцельно водя концами своих шелковых зонтиков по песку, мирно беседовали. Был один из тех дней, когда среди зимы вдруг ясно запахнет весной. Серое небо то нехотя роняло капли дождя, то начинало даже сеять снег, но, когда прорывалось солнце, становилось совсем тепло. Казалось, что голуби веселее хлопочут около тех посетителей парка, которые кормили их крошками; дети громче кричат, бегая наперегонки с собаками, а красивые лошади быстрее проносят по широким дорожкам парка молчаливых седоков. Никто не обращал внимания на двух пожилых джентльменов с одинаковыми черными зонтиками. И они, похоже, были совершенно равнодушны к окружающему веселью. — Сэр, я не буду говорить об условиях работы в этой стране, — усталым ровным голосом сказал один в старомодной черной шляпе. — Они общеизвестны… Как представитель солидной фирмы, поставлявшей различное оборудование, в том числе и для их лабораторий радиоэлектроники, я часто бывал и в Горьком, и в Майске… Мне приходилось беседовать на служебные темы с учеными и различными представителями научного городка Андрюхина. Но побывать там я не смог. Его собеседник крепче сжал массивную ручку зонтика с изображением рычащего льва и проворчал что-то явно неодобрительное. — Это было невозможно, сэр, — тем же ровным голосом продолжал джентльмен в старомодной шляпе; в равнодушии его тона была, однако, огромная убедительность. — Вы не забыли, конечно, что до меня шестеро ваших лучших работников пытались навестить Андрюхина… Они не вернулись, сэр, не так ли? — А что толку, что вы вернулись? — проворчал другой, слегка приподнимая костяное изображение рычащего льва и с силой всаживая острие зонтика в песок. — Я приехал не один, сэр, — пожал плечами первый. — Я доставил собаку. И до сих пор уверен, что в собаке что-то есть. Вам надо бы самому посмотреть, что там происходило, когда эта собачонка пропала! Нет, тогда она еще не досталась мне, просто ее подобрал один мальчишка. Похоже было, что пропала не собака, а внук самого Рокфеллера! Тогда я понял, что это неспроста, и решил действовать. Из лабораторий Андрюхина был уволен один молодой хулиган, пропойца, жалкое существо. Он принес мне собаку… В Ленинграде я сел на французский пароход, на рассвете в Стокгольме пересел на самолет, а к ночи самолет совершил посадку… — Я знаю, где совершил посадку самолет! — поспешно перебил второй. — Конечно, сэр, — равнодушно согласился первый. — Там меня ждали, вернее — ждали собаку. Впрочем, пока десятки ученых изучали маленькую таксу, ребята из бюро расследования и даже два генерала занимались мной. Они не верили ни единому моему слову, сэр. — Он помолчал. — Как, впрочем, не верите и вы… Второй собеседник, не поднимая головы, что-то сердито проворчал. — Но там, сэр, в Майске, говорили об этом десятки людей! — впервые в голосе равнодушного джентльмена в старомодной шляпе послышалось оживление. — Говорили, конечно, осторожно… Знаете, из тех людей, которые любят показать, что они бывают в верхах и обо всем осведомлены первые… Так вот: они болтали, прямо-таки захлебываясь от восторга, что в лабораториях Андрюхина овладели силой тяготения и могут делать любой предмет невесомым. Представляете, сэр?.. Но больше всего восхищал всех опыт с этой собакой, которая была превращена в пучок света и затем снова стала обыкновенной таксой! Ведь это чудо, сэр? — Что с вами? — брезгливо возразил собеседник. — Вы горячитесь. — Простите, сэр, — помолчав, вновь бесстрастно продолжал первый. — Так вот: никто не желал меня слушать и не желал верить. Пока не явился человек, которого все называли просто мистер Френк. — Осторожнее, — хмуро пробормотал его собеседник, незаметно оглядываясь по сторонам. — Я знаю, сэр… Но главное заключается в том, что мистер Френк мне, кажется, поверил. — Поверил в ваши россказни? — Человек с зонтиком растянул в улыбке свой собственный рот шире, чем была разинута пасть костяного льва на набалдашнике. — Поверил вам?!. — Да, мне! — Первый понизил голос. — Могу вам сообщить, сэр, что мистер Френк не расстается с собакой. Эта черная такса постоянно при нем. Все-таки это неспроста, сэр. Мистер Френк не такой человек… В этой собаке что-то есть…
Глава девятая ОПЫТ
Только теперь в академическом городке стало известно, какой опыт готовит академик Андрюхин… Итак, по пути, который уже проложили обезьяны и Детка, должен был проследовать первый человек, Юра Сергеев. При этом Андрюхин прямо заявил, что сейчас они готовятся лишь к репетиции, а настоящий опыт еще впереди. Репетиция заключалась в том, что Юра должен был превратиться в пучок энергии, мгновенно преодолеть расстояние в двадцать километров и снова стать самим собой. На опыт отводились ничтожные доли секунды, но подготовка к нему шла долгие годы. Тем не менее Андрюхину и Паверману было ясно, что еще далеко не все готово. Весь аппарат Института кибернетики был засажен за круглосуточную работу. Следовало не только уточнить ряд исходных данных, но и получить новые константы, соответствующие организму Сергеева в его нынешнем состоянии. Грубо говоря, задача сводилась к тому, чтобы точно рассчитать, как поведет себя в определенных, заданных условиях каждая молекула, каждый атом тела Сергеева, превращенный в пучок положительно и отрицательно заряженных частиц. Надо было предусмотреть реакцию частиц на различные внешние факторы, их взаимодействие в новом качественном состоянии. И самое главное — рассчитать движение их во времени и в пространстве так скрупулезно точно, чтобы в определенном месте частицы сублимировались вновь в ядра, атомы и молекулы в строгом порядке. Было совершенно очевидно, что многотысячная армия математиков, сидя за вычислениями многие столетия, не сделала бы и малейшей доли этой невероятной работы. Но электронные счетные машины, созданные гением профессора Ван Лан-ши и его сотрудников, отлично справлялись с этим титаническим трудом. В этом эксперименте наглядно проявлялись фантастические возможности кибернетики. Все эти машины в непостижимо короткие для человеческого сознания сроки решали сотни тысяч сложнейших математических задач. Поставленную перед ними задачу они могли усложнять, получать дополнительные решения, делать логические выводы, давать формулы взаимодействия миллионов частиц. Когда Крэгс в центральной лаборатории следил за работой удивительных машин, он восхищенно заявил Андрюхину: — Ваши Петруши великолепны… великолепны! Они не хуже моих черепах! Только не могут размножаться… Рядом с этими удивительными существами я испытываю то же, что ощутил в детстве около старинного парового молота! Ничтожна человеческая силенка перед тяжкой, страшной силой парового молота. То же и здесь. Даже гениальный человеческий мозг не сравнится с мозгом наших машин. — И все же без нас они ничто! — весело подмигнул Андрюхин Крэгсу, хлопая по плечу безмолвного, сосредоточенного Петра Николаевича, изо рта которого непрерывным потоком шла тонкая перфорированная лента с бесконечными рядами пробитых отверстий. — Никакому Петру Николаевичу, как и вашим плодовитым черепахам, никогда не придет в голову новая — понимаете? — совершенно новая идея, как будто даже противоречащая предшествующим законам… Институт долголетия, готовясь к историческому опыту, работал не менее напряженно. Юру положили на двадцать дней в специальную палату, за ним наблюдали десятки лучших биологов и врачей. Потом, спустя много времени, он вспоминал эти двадцать дней как напряженные и трудные в его жизни. У него было такое впечатление, что его выворачивают наизнанку. Юру кололи, просвечивали, заставляли глотать тоненькие и потолще резиновые шланги с какими-то радиоактивными бляхами на конце и без блях, брали бесконечное количество раз пробы крови, кожи, мышц, волос, оперировали, чтобы добыть образцы нервных волокон и сосудов, он должен был наполнять всякие баночки и бутылочки, через него пропускали токи различной частоты, подвергали действию каких-то лучей и только что не истолкли в порошок… Неожиданно Юра обнаружил, что отношение к нему многих людей, причем именно тех, кого он знал и к кому питал самые хорошие чувства, в чем-то изменилось. Как-то утром, когда Юре только что сделали очередное просвечивание «на клетки», зашел Борис Миронович Паверман. Он сунул ему огромный апельсин и уселся на постели, в ногах. Заглянувшая в палату сестра тотчас велела профессору пересесть на стул и отобрала у Юры апельсин. — О, нелепая биология! — возмутился Паверман. — Маги, чародеи! Несколько отведя душу, он незаметно для себя принялся поедать принесенный апельсин и, не глядя на ухмылявшегося Юру, спросил: — Ну как? — Нормально. — Хочешь апельсин? — Так ведь нельзя… — Плюнь ты на них! Они тебя вообще-то кормят? — Какими-то отварами, настоями… — Вот гадость, должно быть? — Паверман сморщился. — Нет, ничего. — Тебе все ничего… Ну, а как вообще? — Нормально… — Да? Слушай, ты все-таки того… Я пришел тебе сказать, что еще не поздно. Скажи, что ты передумал. — Что передумал? — удивился Юра. — Вообще, я ничего не понимаю! — Паверман вскочил и забегал по комнате. — Рихтер, изучая природу молнии, погиб, погиб сам, никого не подставляя! Менделеев сам поднимался в воздушном шаре! Пикар сам поднимался на стратостате! Ру и Павловский себе первым прививали новые сыворотки! Биб сам спускался в батисфере! Потехин сам летал на Луну! Почему же я должен уступать риск и честь первого испытания? Это нарушение научной этики. Я написал письмо в Цека! Юра молча смотрел на него и улыбался. Эта улыбка вывела профессора Павермана из себя. — Ах, вы улыбаетесь!.. Вы не хотите со мной разговаривать! — неожиданно он перешел на «вы». — Откуда-то является молодой человек, и почему-то именно он должен сделать то, что я готовил всю жизнь. Это справедливо? Я вас спрашиваю: это справедливо? Но Юра и тут промолчал. Улыбка медленно погасла, он спокойно смотрел на взволнованное лицо профессора. — Конечно, я просто дурак, — сказал вдруг Паверман, быстро наклонился, крепко обнял Юру и ушел, почти убежал… Потом пришли несколько человек из хоккейной команды долголетних во главе с тем, который так ловко помог Юре забрасывать шайбы в знаменитом матче с кибернетиками. Его звали Смельцов, ему шел сто двадцать восьмой год; коренастый, медлительный, с матово-бледным лицом и легкой проседью в густых, волнистых волосах, он выглядел сорокалетним. — Скажите, вы представляете себе нашу жизнь, жизнь так называемых долголетних? — заговорил Смельцов. — По условиям, которые заключены с нами, мы обязаны находиться постоянно на территории академического городка. Вам, например, за несколько дней надоели бесконечные анализы и исследования, а представляете, как они осточертели нам за много лет? Среди нас есть, конечно, и такие, которые просто радуются прожитым годам и тянут жизнь из какого-то спортивного интереса… Но большинство уполномочило нас переговорить с вами и с Иваном Дмитриевичем… Ну не разумнее разве провести опыт, использовав кого-либо из нас? В случае неудачи — потеря невелика… Мы просим вас подумать, отбросить всякие личные соображения и помочь Ивану Дмитриевичу решить вопрос по-государственному… Юра при первом удобном случае рассказал об этих визитах Жене, стараясь ее развеселить. — Тебя это удивляет? — Она коротко метнула на Юру взгляд огромных сердитых глаз. — Или смешит? — Скорее смешит, — признался он. — Вы слишком самонадеянны, товарищ Бычок! — заявила она. — То есть нет, извините, Человек-луч! Тебя ведь так теперь зовут. И тебе это, конечно, страшно нравится… — А что? Красиво! — согласился Юра. — Конечно!.. — сердито пробормотала Женя. И вдруг почувствовала, как на нее надвигается волна ужаса… Впервые она необыкновенно ясно поняла, что, собственно, произойдет: Юра исчезнет, его не станет, он превратится во что-то вроде солнечного луча, что нельзя ни взять в руки, ни потрогать. И все это готовят сотни людей, сотни машин, готовят нарочно… Он распадется на какую-то светящуюся пыль, даже не в пыль, а в ничто… Как может из ничего, просто из света, вновь возникнуть человек? Это невозможно, это заведомое убийство, в котором никто, конечно, не признается из упрямства, из почтения перед своей наукой…Население Майска, свободное от работы, и все, кто мог из окрестных колхозов, уже третьи сутки дежурили на границе академического городка. Среди толпы шли совершенно фантастические разговоры о том, что ученые изобрели способ оживлять умерших. Собрались тысячи людей, многие из них не уходили и ночью… Утром десятого февраля академический городок выглядел необычайно. Лишь пятьдесят человек получили специальные пропуска на территорию, откуда производился запуск луча, и лишь тридцать сотрудников имели допуск на аэродром. Но все, кто жил и работал в академическом городке, ушли в лес, окружавший аэродром, и нетерпеливо выглядывали из-за каждого куста, из-за каждого занесенного снегом пня… Машинально рассматривая толпившихся вокруг людей, Женя не знала и не хотела сейчас даже знать, что с академиком Андрюхиным стоят его старые друзья: генерал Земляков, академик Сорокин и профессор Потехин, первый астронавт, специально приехавший на сегодняшнее великое торжество науки. Недалеко от них вместе с профессором Паверманом стояли Крэгс и Хеджес. Секретарь обкома о чем-то тихо разговаривал с прилетевшим всего час назад президентом Академии наук СССР и все время тревожно посматривал то на снежное поле, то на часы. А Женя, казалось, оледенела, не сводя глаз с часов. Сухо шевеля пепельными губами, она шепотом отсчитывала: — Пятьдесят шесть, пятьдесят пять, пятьдесят четыре… Оставалось менее минуты до величайшего мига в истории науки. Теперь уже никто не разговаривал, никто не шевелился, кажется, никто не дышал. Не двигаясь, люди напряженно, до боли в глазах, всматривались в обыкновенное заснеженное поле… После оттепели ударил небольшой морозец; нетронутый, серебристо-чистый снег покрылся нежной голубоватой корочкой, и по ней завивалась, искрясь зелеными огоньками, снежная пыль. Андрюхин, выставив далеко вперед, торчком, свою бороду, стоял, вцепившись в рукава своих соседей — Землякова и Сорокина, которые даже не чувствовали этого. Слегка приоткрыв крупный рот, вытянув шею, Крэгс всматривался с таким напряжением, что шрам его стал лиловым. — Двадцать восемь, двадцать семь, двадцать шесть… — считала шепотом Женя, но шепот ее теперь слышали все. Вдруг ветка огромной сосны, стоявшей на краю поля, дрогнула, и целый сугроб беззвучно обрушился в снег. Всех ослепила молниеносная вспышка, но не резкая, а какая-то мягкая. Над полем, чуть покачиваясь, мгновение висело что-то, будто светящийся газовый шар. — Вот! — диким голосом вскрикнул Паверман, словно клещами сжимая руку Хеджеса. — Вот он! Смотрите! На том месте, куда показывал Борис Миронович, медленно редел, оседая, белый столб снега. Все, тяжело переводя дух, сердито оглянулись на Павермана. — Десять, девять, восемь, — считала Женя и вдруг замолчала. Больше она не могла считать. Казалось, что крупные, раскаленные искры мелькнули по снежному насту, в пятидесяти шагах… Над ними выросло облако пара. — Пар! Он сожжется! — отчаянным голосом крикнул Андрюхин. В центре этого плотного, сгущающегося облака, неожиданно возник Юра. Он слабо разводил руками, словно слепой, и не то шарил вокруг, не то пытался выбраться из горячей духоты. Впереди всех, проваливаясь по колено в снег, летел к Юре академик Андрюхин. С силой совершенно необыкновенной он выхватил Юру из горячего облака и, подняв на руки, потащил куда-то в сторону. — Иван Дмитриевич! — слабо шевелясь, бормотал Юра. — Оставьте, Иван Дмитриевич! — Санитарную машину! — заорал Андрюхин, хотя машина была уже в десяти шагах, а Женя и санитар, вооруженные носилками, стояли рядом. Не обращая ни малейшего внимания на пытавшегося сопротивляться Юру, Андрюхин бережно опустил его на носилки. — Ты что, хочешь держать речь? — прыгая рядом, кричал Юре Паверман. — Ты хочешь сделать маленький доклад? Ты его еще сделаешь! — Слезы градом катились у него из глаз, и он забывал их утирать. Андрюхин вскочил на подножку отъезжающей машины и, больно прижав рукой голову Жени к металлическому косяку, шепотом приказал: — Отвези сама. Спрячь! Чтобы никто не знал, где он. Отвечаешь головой! Приеду — доложишь. Санитарный вездеход, мягко проваливаясь в сугробы, поплыл полем к дороге на академический городок… Женя сидела рядом с Юрой и никак не могла заставить себя посмотреть на него. Она не могла поверить, что это он, живой, тот же Юрка, что все уже было, что он уже не Человек-луч… То есть нет, теперь-то он действительно Человек-луч. Она подняла на него глаза, только когда он зашевелился, приподнимаясь. — По мне как будто кто проехал, — прошептал он. — И голова чужая… — Как — чужая? — вздрогнула Женя. — Да моя, моя голова! — Он попытался улыбнуться, но гримаса перекосила его лицо. Острая жалость полоснула Женю, она бережно взяла его за плечи: — Может, что сделать? — Да нет. Холодно. И какой-то я весь не свой… Как я, по-твоему, в порядке? — Как будто все на месте. — Она осторожно улыбнулась, чтобы не зареветь, и шутливо провела по его крутым, тяжелым плечам. — Ты не сварился? — Вроде нет. Глаза не смотрят… — Не смотрят? — Она с ужасом взглянула в его широко открытые глаза. — Сейчас вижу, а иногда все плывет… — Он вдруг улыбнулся своей знакомой, Юрки-ной улыбкой. Не удержавшись, Женя улыбнулась ему в ответ, хотя глаза ее тонули в слезах. — А до чего чудно, Женька! Кажется, по всему телу искры, даже щекотно. Слушай, я есть хочу. — Есть? — Она растерянно оглянулась, но в машине не было ничего. А найдется ли что-нибудь дома? Кажется, найдется… Она решила отвезти его к себе, в свою комнату при медпункте. Там был телефон, откуда можно было позвонить Андрюхину, а главное — покой… Сейчас все население академического городка еще брело с аэродрома, автобусы только вышли им навстречу, и даже Андрюхин не появится раньше, чем через полчаса… Машина остановилась около домика, стоявшего на отшибе в березовой роще. Теперь следовало как-то обогреть Юру и накормить. Она с восторгом убедилась, что он двигается сам и довольно уверенно. Они вошли вдвоем в темную комнату, освещенную только голубым снегом за окном. Женя повернула выключатель, и, пока Юра, поеживаясь, стучал зубами, подпрыгивал и приседал, она включила чайник и, нырнув в шкаф, выбросила оттуда свои валенки: — Грейся! Потом будем чай пить. Юра постепенно приходил в себя. Он очень осторожно взял валенки, повертел их, приложил было к ноге. — Не лезут? Тогда знаешь что, ты ноги сунь под батарею. — Вскочив, она наглядно показала, как это делается. — Вот так… — Понятно… Юра аккуратно сложил валенки и нагнулся, чтобы засунуть их под кровать. Женя бросилась помогать, и они тотчас звонко стукнулись лбами. Минуту они сидели на корточках друг против друга, потирая лбы и не совсем соображая, что произошло. — Ты цела? — озабоченно спросил наконец Юра. — Для одного дня многовато испытаний… На Женю вдруг напал неудержимый хохот. Обхватив колени руками, она повалилась на пол, отмахиваясь, плача, утирая кулаками глаза, не в силах вымолвить хоть слово. Только буйство вскипевшего чайника заставило ее немного прийти в себя. — Ну тебя, — отмахнулась она от смирно сидевшего Юры, все еще всхлипывая от смеха. — Давай чай пить. Обжигаясь, он с наслаждением принялся пить чай с огромными бутербродами. Женю вдруг тоже обуял голод. И ей было страшно приятно, что Юра сидит против нее, пьет чай, ест колбасу, как самый обыкновенный человек, как будто с ним ничего не происходило. Быть может, действительно все обойдется, он будет здоров, будет жить? — Это ведь проводилась репетиция, — сказал Юра. — Она подтвердила, что все расчеты правильны и теперь можно ставить основной эксперимент. То же самое, но только, так сказать, на мировой арене. Ничего особенного. Ну, представь себе, — попробовал пошутить Юра, — то «Химик» играет на стадионе в Майске, а то где-нибудь в Стокгольме, на первенство мира. — Значит, ты еще раз будешь Человек-луч? — Глаза Жени расширились. — Боюсь, как бы это не стало моей профессией. — Юра засунул огромный кусок батона в рот и аппетитно откусил. — А ты, как верная жена, будешь каждый раз переживать? Привыкай! Женя сделала вид, что не слышала. — Теперь бы, знаешь, подремать… — Ну что ж, ложись… — Она торопливо сняла со своей строгой, белоснежной кровати покрывало. — Я посижу в кресле. Но Юра не ответил. Полусонный, он выбрался из-за стола, осторожно потрогал постель и, едва освободившись от лыжных ботинок, повалился боком на кровать и мгновенно заснул. Женя, выключив верхний свет и оставив ночник под коричневым грибком, забралась в кресло с ногами. Она долго просидела так, глядя на него. Лицо у Юры было бледное, волосы спутались и прилипли ко лбу. Теперь, когда он спал и ему не надо было притворяться, гримасы боли то и дело морщили его лоб и щеки. Женя не чувствовала, что ее лицо также дергается от боли за него… Вдруг она вскочила и, как была, в чулках, выбежала в прихожую, к телефону, с ужасом вспомнив, что еще не звонила Андрюхину. — Иван Дмитриевич! — Наконец-то! Скорей докладывай! — Все хорошо, Иван Дмитриевич, — поспешила она сообщить. — Он ел. Сейчас спит. — Ел? Спит? Отлично! Он где? — На медпункте… — выговорила она, запинаясь. — Ага. Так-так. Ну что же, пусть побудет там. Он вас не стеснит?.. Жене показалось, что она видит, как подмигивает ей Андрюхин.
Глава десятая Л. БУБЫРИН С ДРУЗЬЯМИ НАВЕЩАЕТ КОРОЛЯ БИССЫ
Иван Дмитриевич Андрюхин был все эти дни крайне занят. Он, Паверман и Ван Лан-ши вели долгие переговоры с Крэгсом, на которые не допускался никто, даже Хеджес. Премьер-министр Биссы был вне себя от такого унижения. Сначала он заявил, что немедленно покидает неблагодарного Крэгса и эту забытую богом страну, и даже начал собирать чемоданы. Вскоре, однако, он прекратил это занятие, остался и принялся обхаживать Крэгса. Он ныл, вздыхал, вдруг начинал шуметь, пробовал даже напоить Крэгса и все ради того, чтобы вытянуть из него хоть слово о таинственных переговорах. Но Крэгс, немногословный и ранее, теперь стал молчалив, как мумия. Он и внешне стал походить на мумию, все больше утрачивая сходство с пиратом. Втянулись щеки; шрам совсем побелел; нос перестал блестеть и стал еще хрящеватее. Глаза из-под густых ресниц смотрели все так же остро, но в них мелькало иногда не то смущение, не то сожаление… В эти дни в жизни Лайонеля Крэгса произошли два очень важных события: он испытал потрясение при знакомстве с результатами работ академика Андрюхина и впервые в жизни, неожиданно и стремительно, привязался к двум совершенно чужим малышам — Бубырю и Нинке Фетисовой… Крэгс был человеком со странностями. Он не был суеверен, относился к религии с усмешкой умного человека, но твердо верил в свои ощущения и предчувствия, в некий таинственный внутренний голос. И этот внутренний голос сразу же подсказал ему, что смешные маленькие человечки — толстенный Бубырь и худущая Нинка — обязательно принесут счастье глубоко несчастному, тяжело переживавшему свои неудачи Лайонелю Крэгсу… Для того, чтобы чаще их видеть, он даже стал ездить на ненавистный ему хоккей. И, как только Крэгс, несколько заискивающе улыбаясь и не зная, что сказать, усаживался на теплую скамью между быстро раздвигавшихся Бубыря и Нинки, он становился дедом, обыкновенным добродушным дедушкой. Когда он смотрел в большие, птичьи глаза Нинки или в блестящие, влажные глаза Бубыря, исчезала тоска о зря прожитой жизни, а уверенность, что мир будет жить и цвести, становилась необходимой, как эти теплые детские руки…Андрюхин ни на минуту не забывал о Юре. Как-то в конце очередного совещания с Крэгсом он кивнул профессору Паверману и Анне Михеевне Шумило, чтобы они задержались, позвонил в заводской дом отдыха и вызвал Женю. Она в это время делала Юре массаж. — Это Иван Дмитриевич, — сказал Юра, услыхав, что Женю зовут к телефону. Он оделся и побежал следом за ней. Женя каждый день докладывала Шумило очередную сводку Юриных анализов. И сейчас Андрюхин, видимо, передал трубку Анне Михеевне. Юра слушал Женю, ничего не понимая. Обилие медицинских терминов и то, что о нем можно так долго говорить по-латыни, привело его в ужас. Наконец последний белый листок, испещренный медицинской абракадаброй, был перевернут. Женя замолчала и внимательно, прижав трубку к уху, слушала. Ее хмурые глаза постепенно теплели, загорались. — Да? — сказала она задыхающимся, звонким голосом, совсем не так, как говорила обычно. — Да? Передам! Спасибо! Большое спасибо! Глядя на неуверенно улыбающегося Юру, Женя медленно прижала пальцами рычаг и вдруг, швырнув трубку, бросилась ему на шею. — Здоров! Понимаешь, дурак? — бранилась она почему-то, и прозрачные слезы висели на ее длинных, ресницах. — Совершенно здоров! И она дубасила по широкой Юриной спине своим довольно увесистым кулачком… В этот вечер они убежали на лыжах в лес. Снег былтяжелым, налипал, звенела капель, как весной, и, когда они целовались под старой, мохнатой, доброй елкой, рыхлый снег валился с веток за шиворот и щекотливой струйкой стекал по спине. Потом они попытались идти на лыжах обнявшись. Им не хотелось ни на секунду расставаться. Молодые ели хватали их черными руками в серебряных обшлагах, словно молча просили остаться….. И они остались. Навалили хвои, разожгли на поляне костер и долго сидели молча, обнявшись и глядя на огонь. — Хорошая штука — костер! — вздохнул Юра. — Я очень жалею, что не умею говорить. — Голос Жени звучал хрипло, как будто спросонья; она откашлялась. — Бот если бы умела, нашла бы такие слова, вот об этом костре и о нас, чтобы всем стало понятно… Ведь нам сейчас все понятно, правда? — Правда… — Я знаю, ну, вообще, чувствую, что все люди могут жить необыкновенно счастливо — все! Правда, Юрка? — Вообще, конечно… — Юра деловито подбросил в огонь сухую мелочь. — Могут!.. Вот снег, огонь — ведь до чего хорошо! Наверное, эта любовь к огню у нас от первобытных людей или от обезьян. — Почему? — Не знаю. Но это точно. А какие они были, эти первобытные? — Славные ребята, — решил Юра. — Только не любили философствовать… Помолчав, Женя спросила: — А мечтать ты любишь? Он медленно, едва касаясь, провел по ее холодным, припушенным снежной пылью, черным на фоне ночи кудрям. — У тебя такие волосы… Их всегда хочется потрогать, зарыться в них лицом… Бронзовая заря торжественно вставала за серебряными ветвями елей, когда они уходили из леса. Похожее сквозь седую дымку на мандарин, выкатывалось неяркое солнце, обещая морозный день. Как прошел этот день и начался следующий, они не заметили.
На двенадцать часов был назначен отъезд Крэгса, ускоренный шумом, поднятым в заокеанской прессе. Газеты изо дня в день писали о «резне» и «восстании» в королевстве Бисса, о том, что туземцы и белые рабочие громят старую резиденцию Крэгса, а по ночам совершают налеты даже на Фароо-Маро. Радио вопило о преступном бездействии Крэгса и намекало, что не случайно совпали два события: пребывание Крэгса в Советском Союзе и восстание на островах. Сообщалось, что если правительство Биссы не справится в ближайшие дни с положением, то начнет действовать морская пехота, которая спешно сосредоточивается в Рабауле, а правительство Португалии вынуждено будет направить к восточному берегу Фароо-Маро свой крейсер «Королева Изабелла». Газеты были в основном озабочены тем, как бы волнения с островов Крэгса не перекинулись на Малаиту, где восемьдесят тысяч туземцев работали на несколько сот белых. Они кричали, что тайные сношения между Биссой и Кремлем поддерживались много лет, что Крэгс шпион большевиков, что само создание королевства Бисса есть величайшая провокация, в сети которой попали все страны западного мира. «Чикаго-пост» требовала немедленных военных санкций против королевства Бисса. «Пока черепахи Крэгса, таящие все наши научные и технические секреты, еще не захвачены большевиками, мы требуем от правительства решительных действий! Корабли военно-морского флота и авиации должны немедленно оккупировать королевство Бисса. Крэгс должен быть низложен, а весь запас черепах вывезен в Штаты…» Стало известно, что от советских ученых король Биссы получил несколько громоздких, тщательно упакованных ящиков, которые были отправлены на аэродром в день отъезда Крэгса. Их сопровождали четверо коренастых парней. (Мы можем по секрету сообщить, что это были парни последнего выпуска Института кибернетики, преподнесенные в дар Крэгсу.) Кроме того, Крэгс просил, чтобы с экспедицией, которая должна была вскоре отправиться на Биссу, прибыли в качестве его личных гостей Бубырь, Нинка и Пашка. — Мне очень совестно, — говорил Крэгс в этот последний вечер, не решаясь поднять на Андрюхина глаза, — но я решаюсь признаться вам… Десятилетиями я копил силы и средства для своего эксперимента с черепахами. Люди мне опротивели. Я изверился, стал черств, нетерпим. Людям было плохо со мной, а мне было плохо с ними. Но с этими ребятишками мне хорошо. Я о многом забываю, когда они со мной, и опять начинаю верить в человечество… Пусть они погостят на Биссе. На проводах Крэгса, кроме представителей печати и советских ученых, не было никого; сотрудники посольств США и Великобритании на этот раз не явились. Выступая перед микрофоном, Крэгс заявил: — Двадцать лет назад я был учеником академика Андрюхина. Потом я вернулся на родину, и мне удалось кое-что сделать. Это было нелегко, потому что я наотрез отказался работать на войну. Обстановка безнадежности, широко распространенная на Западе, захватила и меня. Я решил, что мой долг как-то сохранять человеческие знания. Теперь я понял, что не только растерялся, но сдался силам войны, потому что потерять веру в Человека — это значит пойти против человечества. Становится горько и страшно, что огромный кусок своей жизни я прожил зря: Ученому это особенно страшно. Я очнулся, как после тяжкого, дурного сна. И в утро моей новой жизни я приглашаю советскую научную экспедицию для совместной работы во имя мира в мои владения на островах Южных морей. Я уезжаю, чтобы принять участие в грандиозном эксперименте институтов моего учителя академика Андрюхина… Наступает, кажется, день, когда на поджигателей и пророков войны будет надета смирительная рубашка. Наука в руках друзей мира поможет человечеству стать счастливым. Заявление Крэгса привело западные газеты в неописуемую ярость. Посыпались одно за другим заявления, среди них — даже официальных деятелей, что создавшаяся обстановка безусловно чревата новой мировой войной, что кризис может наступить мгновенно…
В этот же день, к вечеру, в кабинете Андрюхина собрались его ближайшие сотрудники. — Настало время, — сказал Андрюхин, когда собравшиеся расселись в настороженном молчании, — взять на себя величайшую ответственность. Гарантируем ли мы безусловную удачу эксперимента?.. Анна Михеевна, ваше слово. — Все последние опыты с животными приносили стопроцентный успех, — задумчиво постукивая крепкими пальцами по ручке кресла, заговорила профессор Шумило. — Увенчались полным успехом передачи в Среднюю Азию и на Дальний Восток… Состояние здоровья Сергеева тоже не вызывает ни малейших опасений. Это человек с идеальным здоровьем. Почти никаких отклонений. Андрюхин молча взглянул на профессора Ван Лан-ши. — Ни один опыт за все существование академического городка не был так тщательно подготовлен, — блестя очками, сдержанно сказал Ван Лан-ши. — Поведение всех элементов луча на протяжении трассы выверено и подтверждено расчетами высочайшей точности. Что касается нашего института, мы гарантируем успех и настаиваем на эксперименте. — Ясный ответ!.. — Андрюхин довольно улыбнулся. — Что скажет профессор Паверман? — Экспедиционное судно, атомоход «Ильич», — хмуро заговорил Паверман, выдержав солидную паузу, — будет готово к выходу в рейс через две недели. Экспедицию поручено возглавлять мне. По приглашению мистера Крэгса мы будем в районе Биссы не позднее двадцатого марта. Считаю, что эксперимент может быть проведен между пятым и десятым апреля. Андрюхин встал и подошел к сидевшему в глубине комнаты Юре Сергееву. Тот поднялся ему навстречу, смущенно и вопросительно улыбаясь. — Ваше последнее слово, мой друг! — Андрюхин крепко обнял его за плечи. — Я знаю, что вы скажете, но не торопитесь… Обстановка усложняется. Одно дело — послать луч за десять тысяч двести восемьдесят километров… — Десять тысяч двести восемьдесят семь километров четыреста тридцать метров шестьдесят три сантиметра, — негромко уточнил Ван Лан-ши. — Вот видите, еще дальше! Это совсем не то, что послать луч за двадцать километров… — Андрюхин широкой пятерней сгреб Юру за волосы, отодвинул его от себя и несколько секунд сердито и растерянно всматривался в спокойные глаза Юры. Тот нерешительно заулыбался, и тотчас Андрюхин, оттолкнув его, забегал по комнате. — Не исключено, что именно в районе Биссы готовится какая-то провокация! Этот опыт мы проводим перед лицом всего мира. За неделю до совершения опыта все страны будут о нем официально предупреждены. Для удачи эксперимента совершенно необходимо, чтобы в установленном квадрате размером пятьдесят на пятьдесят километров не было ни одного судна и, самое главное, чтобы ни один самолет не смел даже приблизиться к границам квадрата. Иначе произойдет непоправимая катастрофа… Ты будешь в антигравитационном костюме и в момент восстановления из луча окажешься на высоте пятисот метров над океаном… — На высоте пятисот метров четырнадцати сантиметров двадцати трех миллиметров, — мягко уточнил Ван Лан-ши. — Иван Дмитриевич, ну чего вы волнуетесь? — спросил Юра — Все будет в порядке. — Помолчи! — рявкнул Андрюхин, так сверкнув глазами, что Юра опустил растерянно руки. — Знаем, что ты храбрый парень, готов рискнуть собой… Да кто из нас не сделал бы того же? Профессор Паверман стал мне врагом из-за того, что идешь ты, а не он!.. Мы еще и еще раз должны себя проверить потому, что неудача и гибель Сергеева будут обозначать не только гибель Сергеева, а крушение надежд миллионов и миллионов людей. Ты готов? — вдруг оборвав себя, сердито спросил Андрюхин Юру. — Давно готов, Иван Дмитриевич… — сказал Юра, спокойно облокотясь на ручку кресла, но не спуская с академика глаз, словно желая о чем-то напомнить. — Да, да, да! — так же сердито кивнул Андрюхин. — Крэгс передал мне свою просьбу. Думаю, придется его уважить… Удивительное дело, какая популярная личность этот Бубырь! — И Нина Фетисова и Пашка Алеев, — усмехнулся Юра. — Да я и сам буду рад, если на этих островах, в каком-то там королевстве, встречу своих ребятишек… — Это решено! — перебил Паверман. — Они едут со мной. Я сделаю из Бубыря ученого! У него талант наблюдателя… — А я сделаю ученым Пашку! — улыбнулся профессор Ван Лан-ши. — А я — Нинку-пружинку! — заявила басом Анна Михеевна вставая. Так решена была судьба ребят, хотя об этом ничего пока не знали не только они, но даже их родители. А когда известие о готовящейся поездке дошло до ребят и их родителей, волнениям и тех и других не было конца. Наибольшее беспокойство это обстоятельство вызвало в семьях Бубыриных и Фетисовых. У Бубыриных волновались папа и мама, а сам путешественник внешне сохранял полное спокойствие. Папа бегал по книжным магазинам и библиотекам, доставая всевозможную литературу о странах Южных морей. Но ни в одной из книг не говорилось о том, в чем должен быть одет мальчик одиннадцати лет, отправляясь с берегов Волги на остров Фароо-Маро. — Трусы, — говорила похудевшая от хлопот мама. — Это ясно. Тапочки, две пары. Ботинки. Парадный костюм под галстук. — А тюбетейку? Быть может, ему придется представляться ко двору, — вставил папа, делая большие глаза. Но в такой момент маме было не до шуток. — Ты отвечаешь за то, чтобы ребенок вернулся целым, — заявила она. И папа был уже не рад, что вспомнил о существовании тюбетейки. В квартире Фетисовых родители, наоборот, сохраняли видимое спокойствие, но зато Нинка шумела и волновалась за троих. — Что ты кладешь? — бросалась она к матери, всплескивая руками. — Что ты кладешь в чемодан? При этом один глаз Нинки косил в зеркало: в новом платье, на фоне чемодана, она выглядела настоящей путешественницей. — Сарафанчик, — неторопливо отвечала мама. — Сарафанчик! Но кто в королевстве Бисса, и тем более на Фароо-Маро, носит твои сарафанчики? — Они свое носят, а ты свое, — улыбалась мама. В эти же дни Женя, которая никак не могла решить, что ей делать, уже дважды складывала свой чемодан, собираясь ехать, и дважды его распаковывала, приходя к выводу, что лучше остаться. — Я хотел бы, чтобы ты была и здесь и там, — сказал Юра. Но как это сделать, оставалось неизвестным. Она и сама хотела этого. Разве можно было представить, чтобы последний взгляд Юры, перед тем как он исчезнет и с фотонной панели блеснет ослепительный луч, не встретился с ее взглядом? Но точно так же дико и недопустимо не быть там, в океане, когда луч, мгновенно потемнев и превратившись в газовое облачко, станет снова Юрой! За два дня до выезда экспедиции из Майска Женю вызвал к себе академик Андрюхин. Он встретил ее так ласково, что Женя совершенно неожиданно разревелась, судорожно всхлипывая, не успевая вытирать глаза и сразу безобразно распухший нос. — Ага, вот и отлично! — неожиданно обрадовался академик. — Знаете, иногда пореветь всласть — великолепная штука. Первоклассная разрядка организма. Вообще, лучше всего, когда человек не подавляет свои эмоции, а проявляет их немедленно и в полной мере. Кажется, он готов был долго распространяться на эту тему, но Женя, проклиная себя за малодушие, уже вытерла и глаза и нос и, сердито посапывая, ждала, что Иван Дмитриевич скажет, зачем ее позвали. — Но и держать себя в руках — это тоже, знаете, неплохо! — совсем развеселился Андрюхин. — Так вот: причин для рыданий, пожалуй, нет. Решаем так: вместе проводим Юру в его нелегкий путь и немедленно на «ТУ-150» вылетаем на Биссу. Через пять — шесть часов увидим вашего Юрку. Идет? Жестом, полным бесконечной благодарности, Женя обняла академика Андрюхина и спрятала просиявшее лицо в зарослях его великолепной бороды… …Майск торжественно провожал экспедицию профессора Павермана. Гремели оркестры, что очень волновало Бориса Мироновича. Он то и дело наклонялся к кому-нибудь и тревожно спрашивал: — Слушайте, а зачем музыка? Ему казалось, что это накладывает на экспедицию какие-то дополнительные обязательства. Нинка Фетисова едва не отстала, подравшись около вокзальной парикмахерской с какой-то девчонкой, которая принялась передразнивать Нинку, когда та любовалась собой в огромном зеркале. Зато Бубырь, получив на прощание пачку мороженого от мамы и пачку мороженого от папы, был вполне доволен судьбой, и, откусывая то от одной, то от другой пачки, с легким сердцем отправлялся в Южные моря… Не было только Пашки, которого до сих пор не могли нигде отыскать… Поезд Майск—Ленинград прибывал ночью; поэтому переезд через город и прибытие на атомоход «Ильич» ребята частью проспали, а частью не рассмотрели… Утром, открыв глаза, Бубырь увидел, как профессор Паверман, радостно ухая, приседает в одних трусах перед открытым иллюминатором. Обрадованный Бубырь толкнул Нинку, и они с наслаждением принялись рассматривать огненно-рыжего профессора, на носу которого прыгали очки, когда он, разбрасывая руки, подставлял свою грудь под легкий морской ветерок. Это было совсем как дома, и Бубырь с Нинкой весело захихикали. Профессор страшно сконфузился, натянул штаны и майку и отправился умываться. Умывшись и позавтракав, они пустились в разведку. Ни Бубырь, ни Нинка не предполагали, что можно так долго бегать по различным закоулкам атомохода и даже по палубе и все-таки не видеть ни моря, ни города… Путаясь в коридорах, гостиных, салонах и служебных помещениях «Ильича» и боясь даже думать о том, смогут ли они найти теперь дорогу в свою каюту, Бубырь и Нинка, пробегая каким-то полутемным коридорчиком, услышали вдруг голос, до того знакомый, что ноги их сами приросли к полу, а в животах отчего-то похолодело. Они молча, глядя друг на друга, постояли так с минуту, затем осторожно сделали шаг навстречу голосу. — Нет, Василий Митрофанович, — говорил голос, — письмо я опущу, как в море выходить будем… А назад мне дороги нет! Старпом обещал после рейса в мореходное училище отдать… — Пашка! — взвизгнула Нинка, бросаясь к окошку, за которым слышался голос. — Пашка! — заорал и Бубырь. Через мгновение не замеченная ребятами дверь отодвинулась, и они увидели огромного, очень толстого, с очень красным, лоснящимся от пота лицом человека в белой куртке и белом колпаке… За ним в такой же куртке и колпаке, держа в одной руке нож, а в другой картофелину, стоял Пашка. От толстого дядьки пахло чем-то очень знакомым, почти родным… «Борщом!» — догадался Бубырь. — Это чьи такие? — грозно прогудел дядька. — Мы свои, мы вот с ним, с Пашкой, — поспешно залопотала Нинка, — мы здешние… — С Пашкой!.. А мне больше на камбуз не требуется! — Они с экспедицией, — хмуро внес ясность Пашка. — Паш, так ведь и ты с нами, ты тоже член экспедиции, — заторопилась Нинка. — Знаешь, как тебя все искали? Пойдем!.. Дяденька, вы его отпустите? — Нет, я останусь тут, — сказал Пашка, бросая классически вычищенную картофелину в блестящий, нарядный бачок. И сколько ни уговаривали Пашку, он не согласился. Даже когда в дело вмешался сам профессор Паверман и вдвоем с капитаном «Ильича» попробовали объяснить Пашке, что им хочет заняться профессор Ван Лан-ши, что Пашку ждет карьера ученого, сердце Пашки не дрогнуло. — Нет, я здесь, — твердо повторил он.
Глава одиннадцатая Л. БУБЫРИН С ДРУЗЬЯМИ НАВЕЩАЕТ КОРОЛЯ БИССЫ (продолжение)
Нет нужды описывать весь путь «Ильича». Последним крупным портом на пути к островам Крэгса был Сидней, на юго-восточном берегу Австралии. Отсюда «Ильич» взял курс прямо на королевство Бисса. Была темная, особенно влажная после дождя ночь, когда с атомохода увидели огни Фароо-Маро. На южном горизонте таяла бледно-зеленая полоска сумерек. Из-за сильного прибоя пришлось бросать якорь вдалеке. С берега доносились сладкие запахи, как будто там в огромном тазу варили варенье. Потом порыв ветра донес к борту дикий вопль, от которого у Бубыря будто холодная змея проползла по спине. — Сигналят в раковину, — сказал матрос. — Здесь так умеют дуть в раковины, что за пять километров слышно. «Надо будет научиться», — решил про себя Бубырь. Далеко по берегу протянулась едва заметная цепочка огней, часть из них поплыла по воде. Прошло не менее получаса, и, когда снова под самым бортом они услышали тот же дикий, ни с чем не сравнимый вопль, Бубырь едва не свалился на палубу. — Эге-ей! — тотчас донесся до них знакомый голос Крэгса. — Ало-о-оха! Ало-о-оха! И через минуту над бортом показалась его голова, более чем когда-либо похожая на голову пирата. С Крэгсом еще не успели поздороваться, как над бортом выросла еще одна голова. Под светло-желтым шаром сложнейшей прически, сооруженной, казалось, не из волос, а из спутанной металлической проволоки, дико вращались белки черных глаз на фоне огромного скуластого лица, исчерченного белой краской. Один глаз был тоже обведен жирным белым кружком, отчего казался подбитым. Гигантский рот черного незнакомца был широко раскрыт, а вывернутые наружу ноздри раздувались над длинным белым, продетым сквозь нос обломком кости. В причудливые завитки прически был воткнут большой красный цветок, а на плече сидел ручной какаду. За первым на палубу прыгнули еще три таких же, весь костюм которых составляла ситцевая повязка на бедрах. Но зато прически — то в виде шара, то в виде треугольника, веера или перьев, выкрашенных в любые цвета, — были верхом искусства. — Кино снимают! — восторженно пискнула Нинка и ринулась было к испуганно шарахнувшимся от нее незнакомцам. Но Пашка удержал ее за плечо. — Настоящие, — сказал он негромко. — Здешние жители. — А они вроде боятся… — шепнул Бубырь. — Белые их запугали. Колонизаторы. — Пашка с некоторым сомнением взглянул на Бубыря, потом на Нинку. — Вы тут правильную политику ведите! Это ничего, что у них в ушах и ноздрях понавешано, они — рабочий народ и крестьянство, угнетенные трудящиеся! Утром началась выгрузка. Матрос взял под мышки Нинку, спустился по трапу вдоль наружного борта «Ильича» почти до самой воды и вдруг швырнул Нинку, как котенка. Она не успела даже вскрикнуть. Чьи-то сильные, нежные руки мягко приняли ее внизу и посадили на скамеечку. Нинка открыла рот от изумления. Она сидела в ялике Крэгса, рядом с туземцем, на плече которого нетерпеливо перебирал лапками хохлатый какаду. Бубырь, который наблюдал все это с борта, пробурчал было: «Я сам», но матрос уже бросил его в ялик… Белая пена набежавшей сине-зеленой волны обдала Бубыря, Нинку, матросов, но сильные черные руки заботливо подхватили Бубыря и усадили его ближе к Крэгсу. Ялик оторвался от высоченного, как небоскреб, борта «Ильича» и запрыгал по волнам к берегу. Жаркий, сладко пахнущий воздух мягко укутал их. Летающие рыбы, вспенивая воду, подскакивали кверху с замершими, отливающими радугой плавниками и неистово били хвостами, словно желая долететь до красного флага «Ильича». Океан сверкал под тропическим солнцем, переливаясь грудами изумрудов. Впереди ревели буруны прибоя. Бубырь, судорожно вцепившись побелевшими толстыми пальцами в борт ялика, вспоминал все, что ему приходилось читать о кораблекрушениях. На всякий случай он проверил: пачка жестких, как фанера, сухарей была на месте, в кармане… С оглушающим ревом высоченный прибой бросился на прыгавший ялик. Бубырь в ужасе пригнул голову. И в тот же момент какая-то сила оторвала его от скамьи, бросила вверх. Он не успел даже вскрикнуть, как увидел, что сидит на широких черных плечах, его руки сами вцепились в роскошную прическу одного из матросов Крэгса, который вплавь бросился к берегу сквозь линию прибоя. Рядом, на плечах другого матроса, сидела Нинка с едва не вылезшими от страха и любопытства глазами. Они уже были на берегу, когда, наконец, появился Крэгс с двумя островитянами, тащившими чемоданчики ребят. Он шел почти на четвереньках, лицо его стало ярко-розовым и пылало нездоровым жаром. — Будь она проклята, эта лихорадка! — едва выговорил он, стуча зубами. Нестерпимая жара струилась кверху зыбкими потоками воздуха. Бубырь и Нинка невольно оглянулись, словно соображая, куда бы отойти от этой жары, но уходить было некуда. На ослепительно белом, раскаленном небе трепетали черно-зеленые веера пальм… — Ребята, сейчас же спрячьте ваши головы в шляпы, — пробормотал трясущийся Крэгс. И Бубырь с Нинкой тотчас послушно натянули: Нинка — белоснежную панаму, а Бубырь — тяжелую, негнущуюся тюбетейку, красный цвет и яркие блестки которой привели в необычайный восторг матросов Крэгса. Бубырю тут же очень захотелось подарить им тюбетейку. Сорвав ее с головы, он сунул эту драгоценность островитянину, на плече которого что-то верещал какаду. Но матрос испуганно отступил, пробормотав: «Ноу, мистер», и Бубырь вынужден был нахлобучить тюбетейку снова. По берегу тянулись длинные склады, крытые волнистым железом. На вершине горы, в жарком мареве, словно дрожала антенна радиостанции, а по скатам виднелись сквозь густую зелень белые домики. Там же, на горе, стоял дом побольше, оказавшийся дворцом его величества короля Биссы. Города Фароо-Маро Бубырь и Нинка почти не увидели, потому что дорога в резиденцию Крэгса шла стороной, поросла по краям кустарником, над плотной стеной которого тянулись в небо полчища кокосовых пальм. Машина Крэгса — темно-оливковая сигара с поднятым парусиновым верхом, сквозь который солнце проходило, однако, так же легко, как вода сквозь сито, — бежала по ослепительно белому коралловому песку, на котором плясали синие тени качающихся пальм. Дышать было нечем; от зеленого туннеля, по которому шла машина, тоже веяло зноем. Дом Крэгса был полон чудес. Из всех углов на Бубыря и Нинку угрожающе смотрели темные лица деревянных фигур, изображения, нарисованные на щитах и барабанах, огромные и страшные маски. Три большие комнаты были наполнены туземным оружием, а также украшениями и предметами домашнего обихода. Здесь были луки и стрелы, копья и наряды колдунов и много таких предметов, поглядев на которые даже Крэгс пожимал плечами и недоумевающе почесывал свой лысый череп. Впрочем, Крэгс скоро вынужден был заняться с профессором Паверманом и другими учеными неотложными делами по подготовке встречи Юры Сергеева, а ребята были поручены старшему матросу Крэгса, которого звали Тобука. Это был мускулистый, темно-коричневый парень с пышной синей прической. Он весело улыбался, глядя на Бубыря и Нинку. И ребята немедленно прониклись к нему полным доверием. У Тобуки было только два недостатка: он ежедневно красил волосы, так что они у него были то огненно-красные, то синие, то зеленые, то желтые, и в первое время ребятам было трудно его узнавать. Зато, привыкнув, они, укладываясь спать, гадали, какого цвета будут волосы у Тобуки на следующее утро. Второй недостаток матроса огорчал Нинку и особенно Бубыря куда больше: с первой же секунды знакомства Тобука начал звать Бубыря — сэр, а Нинку — леди, и отучить его от этого было невозможно… Следующий день был воскресным, когда на Фароо-Маро, как и на всех островах, не принято работать. Позавтракав, Бубырь и Нинка пошли бродить под присмотром Тобуки, волосы которого на этот раз пылали ярко-оранжевой краской. Сложность отношений с Тобукой определялась тем, что они почти не понимали друг друга. Английский ребята знали слабо, а по-русски сколько бы ни говорили Бубырь и Нинка, как бы ни коверкали слова, ни шептали и ни кричали, Тобука только улыбался, сверкая ослепительными зубами. Но тут же выяснилось, что жесты и мимика могут заменить и русский, и английский, и малаитский языки… Очень скоро ребята узнали, что в океане купаться нельзя, что спать надо только под сеткой от москитов, что песчаная муха легко прокусывает любую кожу, кроме кожи крокодила, и что именно крокодил жил в ручье, над которым стояла уборная. А в один прекрасный день около веранды белоснежного дома Крэгса остановилась самая обыкновенная «Волга». Оттуда вышел молодой, но уже толстенький человек, чем-то неуловимо схожий с Бубырем, и, радостно растянув свое пестрое от веснушек лицо, гаркнул не по-английски, а просто по-русски: — Здорво, ребята! Это был помощник консула на Фароо-Маро, любитель хоккея Василий Иванович. Он приехал, чтобы отвезти ребят в дом консула. …Не успели ребята прожить в доме консула и пяти дней, как появился мистер Хеджес. Он изнывал от безделья и просто взмолился, чтобы с ним отпустили ребят посмотреть знаменитых черепах Крэгса. — Я их терпеть не могу! — тут же заявил он. — По-моему, нет ничего более гнусного! Но ведь нельзя побывать в королевстве Бисса и не посмотреть эту гадость. Тем более, — сказал он, когда они уже садились в оливковую сигару Крэгса, — что вас будет сопровождать сам премьер-министр Биссы… Ведя машину вверх, к радиостанции, он принялся жаловаться, что его не принимают ни в какую игру. — Крэгс с утра до ночи занят с Паверманом и другими вашими учеными, и он гонит меня, как собаку. Консул не разрешает мне помочь ему в закупках снаряжения и продовольствия. Меня отстранили даже от строительства аэродрома для самолетов, которые ожидаются со всех концов мира… — А зачем они прилетят? — поинтересовался Бубырь. — Парень, — удивился Хеджес, — тебе одиннадцать лет, а ты ничего не понимаешь в бизнесе? Удивительно отсталые дети у русских. Было совершенно очевидно, что тайны бизнеса незнакомы ни Бубырю, ни Нинке. Тогда Хеджес снизошел до объяснений: — Ко дню, на который будет назначен великий опыт… Кстати, вы не слыхали, кажется, на двадцать второе апреля? (Ребята не слыхали.) — Хеджес недовольно хмыкнул, но продолжал: — Так вот: к этому дню в королевстве Бисса, где сейчас проживает менее двухсот белых, ожидается приезд гостей со всех пяти континентов, не менее шестидесяти тысяч человек! Вы представляете себе этот размах? Сейчас в различных районах Фароо-Маро, а также на трех других островах сооружаются аэродромы, легкие сборные отели, отдельные домики, рестораны… Подсчитано, что одной жевательной резинки и кока-кола потребуется почти на десять тысяч долларов! На этом можно потрясающе заработать, но мне не дают развернуться. Только виски потребуется больше двадцати тысяч ящиков! Скажу вам по секрету, что я зафрахтовал два парохода. И, если они не опоздают, Хеджес тоже прославится! Машина забралась уже довольно высоко. И вот на темном фоне сплошных джунглей ребята увидели низкие строения, над которыми безвольно повисла мягкая бахрома пальмовой крыши. Казалось, здесь не было ни одного живого существа. Но, когда машина остановилась у дома, к которому строения сходились, как лучи звезды, на веранду пулей вылетел туземец с розовой раковиной в руках. Он повернулся на восток и, напрягая жилы на висках и шее, протрубил сигнал. Звук был похож на долгий, протяжный зов охотничьего рога. Где-то внизу, под перистыми лапами верхушек пальм, ему ответил рокот барабана. — Теперь смотрите, — шепнул Хеджес, выключая мотор, но не вылезая из машины. Лицо премьер-министра исказилось в брезгливой гримасе. Глядя на него, Бубырь и Нинка предупредительно подобрали под себя ноги и с очень тревожными лицами оглядывались по сторонам. Сначала ничего не было видно. Потом Бубырю показалось, что сами по себе задвигались кокосовые орехи, валявшиеся в зарослях травы. В следующее мгновение он и Нинка с ужасом увидели, что на них надвигаются сплошные ряды черепах. Их было не сто, не тысяча, не десять тысяч… Казалось, что сама земля, морщась, ползет куда-то. Рокот барабана приближался, и черепахи ползли все быстрее. Сухой шелест, производимый ими, иногда заглушал удары барабана. Они были всего в пятидесяти метрах, когда барабан внезапно стих. Ряды черепах тотчас замерли. Бубырь и Нинка испуганно уставились на Хеджеса. Тот поднял палец, призывая к молчанию. Спустя мгновение сухой рокот барабана возобновился, удары звучали с лихорадочной быстротой. В бескрайных рядах черепах началось движение. Сначала было непонятно, что происходит. Но спустя минуту черепахи разбились на пять колонн. Каждая из колонн, подчиняясь музыкальному рокоту барабана, двигалась к одному из пяти строений. Широкие двери распахнулись сами, словно тоже повинуясь ритму барабана. И ряды черепах стали втягиваться в зеленоватый сумрак, скрываясь в строениях… — Они строят аэродромы, собирают дома, — негромко, словно боясь, что черепахи услышат, объяснял Хеджес — Вернувшись от вас, Крэгс перестал начинять их электронные клетки знаниями. Но все равно каждая из них знает страшно много, больше, чем любой человек… В ближайшее к ним строение последние ряды черепах втягивались с такой же быстротой, с какой беззвучно несется поток воды. Шествие замыкала черепаха огромного роста, с подвижной маленькой головой на шее змеи… — Скотина Крэгс, — не удержался Хеджес, — назвал эту черепаху моим именем! Она откликается, когда ее зовут Хеджес. Словно услыхав это имя, черепаха проделала нечто удивительное, совершенно несвойственное настоящим черепахам. Она поднялась на задние лапы, так что сквозь плотную пластмассу сверкнули детали ее сложного механизма, приложила переднюю лапу к брюшному панцирю и церемонно раскланялась. — А она может решать задачи? — замирая от любопытства, спросила Нинка. — Она? — Хеджес презрительно усмехнулся. — Она величайший математик! Рядом с ней сам Крэгс просто баран! — А можно, я ее спрошу? Хеджес нехотя открыл дверцу. — Лучше я спрошу! — жарким шепотом уверял Бубырь. — Ты только напутаешь… — Мистер Хеджес, — громко сказал Хеджес по-английски и сплюнул от негодования, — прошу вас сюда! Черепаха, поводя головой на змеиной шее, с достоинством приблизилась. — Неплохо держится, черт возьми! — осклабился Хеджес. — Я думаю, там, среди своих, она тоже премьер-министр. Ну, так что вы хотели спросить? Нинка замялась, и, пользуясь этим, Бубырь торопливо заговорил: — В саду пятьсот восемьдесят шесть яблонь. Это на сто тридцать деревьев больше, чем груш, и на девяносто пять деревьев меньше, чем вишен. Сколько всего деревьев в саду?.. Вот, пусть решит, — добавил он, с нескрываемым недоверием поглядывая на черепаху. — Только-то? — Хеджес присвистнул. — Я не успею перевести, как она даст ответ. — А как это будет? — спросила Нинка. — У нее там внутри барабан с бумагой. Лента с ответом выйдет изо рта… Внимание! — торжественно провозгласил Хеджес. — Я начинаю! И он, слегка запинаясь, все же довольно быстро справился с переводом. Черепаха продолжала пристально, без единого движения, глазеть на них блестящими глазами, но никакой ленты не появлялось ниоткуда… — Может, она не поняла? — спросил Бубырь. — Мне всегда надо прочесть несколько раз… — Не поняла? — фыркнул Хеджес. — Это исключено… Пожимая плечами, Хеджес все же повторил условие задачи. Черепаха безмолвствовала, не сводя с них глаз. — Я ж говорил, трудная задача, — сочувственно вздохнул Бубырь. Но Хеджес не мог смириться с таким ударом. Он влетел в дом, и через секунду все услышали, как он кричит в трубку телефона, вызывая Крэгса. — Черепаха не занимается арифметикой! — гордо провозгласил возвратившийся Хеджес. — Высшая математика — вот это ее пища! А на арифметику она и смотреть не хочет!.. Бубырь и Нинка в гостях всегда помнили о вежливости и потому не стали спорить. — Между прочим, — пробормотал Хеджес, явно недоумевая, — этому чудаку Крэг-су почему-то страшно понравилось, что его самая ученая черепаха не решила простой арифметической задачки для учеников четвертого класса. — Это вовсе не такая простая задачка! — обиделся Бубырь. К их приезду было приготовлено угощение. Мистер Хеджес сам любил покушать, и поэтому обед был на славу. Правда, ребята несколько забеспокоились, когда перед ними поставили по цыпленку, фаршированному тертыми кокосовыми орехами и запеченному в кокосовом тесте; когда в центре стола был воздвигнут тертый кокосовый торт; когда в качестве напитка было подано молоко из молодых кокосов; когда на десерт подали нарубленные спелые бананы, запеченные в толстую оболочку из тертого кокосового ореха. Но тревога ребят рассеялась, так как все оказалось необыкновенно вкусным. Ночевать им пришлось здесь же, в доме, который был не очень приспособлен к приему гостей. И впервые Бубырь и Нинка поняли, каково приходится на островах белым, которые живут не в дворцах, а в хижинах. Кровати для ребят, закрытые пологом от москитов, были поставлены в центре пустой и сырой комнаты. Серый, влажный от сырости полог был весь в дырках, и Нинка, добыв у мистера Хеджеса иголку и нитку, провозилась целый час, пока заделала большие дыры. Но комары немедленно освоили сотни мелких дырочек и шныряли сквозь них как хотели. Полночи Бубырь и Нинка лазили под пологом и били комаров. Светила яркая луна, и за темными окнами стояла нерушимая тишина, а дом был полон звуков. Под крышей шуршали ящерицы. Крысы азартно пищали, носясь в погоне за ящерицами по столбам и балкам. А когда Леня и Нинка все же уснули, то им показалось, что они тут же проснулись: было уже утро. Но все приключения и испытания, выпавшие на долю ребят, не шли ни в какое сравнение с тем, что приходилось испытывать ежедневно Крэгсу, Паверману, консулу и его помощнику Василию Ивановичу… Подготовку, начатую на островах королевства Бисса, невозможно было скрыть. Сведения о невиданном по масштабам этих мест строительстве, о зафрахтованных пароходах, о закупке огромных партий продовольствия и всяких предметов обихода просочились сначала на Новую Гвинею, затем в Австралию, а оттуда — во все уголки мира, вызывая повсюду удивление, горячий интерес, а во многих местах панику. После того как не удалось спровоцировать если не восстание, то хотя бы серьезный конфликт с туземцами Биссы, печать всех капиталистических стран начала особенно налегать на то, что таинственная экспедиция на атомоходе «Ильич» якобы день и ночь грузит в трюмы драгоценных черепах Крэгса… Телефонные звонки, поток телеграмм, сотни первых любопытствующих туристов и газетчиков, необходимость отвечать на особенно наглые газетные провокации, а главное — ежедневная горячка строительства, когда в две недели надо было приготовить на голом месте все, чтобы принять пятьдесят—шестьдесят тысяч человек, все это заставило Крэгса и его помощников позабыть, что такое сон. Они ложились по очереди, как на фронте, и спали не более четырех часов в сутки. Не менее напряженно работали ученые из экспедиции профессора Павермана. Здесь, на месте, необходимо было произвести ряд замеров, уточнить данные, касающиеся общего магнитного поля Земли. Результаты передавались по радио непосредственно Ван Лан-ши и подвергались немедленной обработке. Радиоперехваты приводили в полное смятение разведки Америки и Европы. Что собирались делать Крэгс и большевики? Перемещать полюсы Земли? Но зачем и как? Весь мир терялся в догадках. Между тем наступил уже апрель, шли первые дни месяца…Глава двенадцатая РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
Пятого апреля, в двенадцать часов дня, все радиостанции Советского Союза передали заявление ТАСС. В заявлении говорилось: «Во время неофициального визита его величества короля Биссы была достигнута договоренность между его величеством и представителем Академии наук СССР И. Д. Андрюхиным о проведении специального испытания в целях содействия всеобщему миру и дальнейшему прогрессу науки. Суть указанного эксперимента заключается в следующем. Советские ученые овладели сложнейшей методикой идеально точного расщепления любого материального тела. При этом особые установки (анализаторы) либо превращают материальное тело в пучок неорганизованной энергии, либо дают строго направленный луч. Во втором случае возможно восстановление ранее расщепленной материи. Многочисленные опыты проделывались сначала на так называемой мертвой, а затем и на живой материи. Были расщеплены до лучистой энергии, а затем восстановлены в естественном материальном виде сначала простейшие представители живой природы (различные виды планктона), а затем и высокоорганизованные животные (собака, обезьяны и др.). Опыты дали блестящие результаты. Постепенно совершенствуя методику, советские ученые прочно овладели небывало сложной техникой эксперимента. Решающее значение для успеха имели новые кибернетические машины и устройства, созданные под руководством профессора Ван Лан-ши. Проверка аппаратуры на собаках и обезьянах дала уверенность в праве на последний этан работы. Десятого февраля на территории научного городка академика И. Д. Андрюхина был впервые произведен эксперимент с человеком. Первым человеком, превращенным в направленный луч организованной энергии, был Юрий Сергеев, секретарь комитета ВЛКСМ Майского химкомбината. Передача направленного луча производилась на расстояние двадцати километров. Эксперимент полностью удался. Находясь после восстановления под непрерывным наблюдением врачей, Ю. Сергеев не обнаружил каких-либо отклонений или нарушений нормы в состоянии здоровья. Так, например, следует указать, что через десять дней после эксперимента он участвовал в финальном матче между хоккейными командами „Химик“ (Майск) и „Торпедо“ (Киров), причем блестящая игра тов. Сергеева в значительной степени помогла победе „Химика“. Ныне Академия наук СССР сочла возможным разрешить повторное проведение испытания, причем на этот раз Ю. Сергеев дал согласие преодолеть в виде луча расстояние в десять тысяч двести восемьдесят километров и быть восстановленным над океаном примерно на высоте пятисот метров в районе острова Фароо-Маро, входящего ныне в состав королевства Бисса. Запуск луча будет произведен 10 апреля, в 12 часов дня (по Гринвичу), со специальной фотонной площадки на территории академического городка. Мгновенно преодолев расстояние между районом города Горького и королевством Бисса, луч возникнет под 157°18 восточной долготы и 7°32 южной широты, пройдя над территорией Советского Союза, Пакистана, Индии, Индонезии. Прилагаемая карта указывает путь луча. Академия наук СССР, учитывая исключительную важность эксперимента для всего человечества, обращается с просьбой к правительствам всех стран мира и в первую очередь к государствам, над территорией которых пройдет луч, оказать содействие успеху испытания. Крайне важно, чтобы в коридоре, указанном на карте, по пути прохождения луча, в течение одного часа, с 11.30 до 12.30 (по Гринвичу), не появлялся ни один самолет или любой другой летательный аппарат. Совершенно необходимо, чтобы в квадрате, обозначенном на прилагаемой карте буквой „М“, с 11 часов до 13 часов (по Гринвичу) безусловно не было никаких судов, за исключением местных туземных лодок, и ни при каких обстоятельствах не появлялись любые летательные аппараты. Академия наук СССР выражает надежду, что правительства, научные общества и общественные организации всех направлений, во имя счастья людей и прогресса науки, приложат все силы, чтобы способствовать удаче эксперимента. За всеми справками по вопросам проведения эксперимента надлежит обращаться: Горьковская область, п/я 77, академику И. Д. Андрюхину (указывая на корреспонденции: „Эксперимент“), или с той же пометкой по адресу: Королевство Бисса, остров Фароо-Маро, профессору Б. М. Паверману». Немедленно после окончания передачи советскими радиостанциями полный текст заявления ТАСС был повторен всеми радиостанциями мира. Впервые в истории США была прервана передача бейсбольного матча, чтобы дать место заявлению ТАСС. Комментарии появились немедленно. Помощник государственного секретаря США заявил, что официальное мнение будет высказано после тщательного изучения документа, который пока представляется обычной коммунистической пропагандой. Если Москва хочет, чтобы мир поверил, будто советским ученым удалось добиться таких сказочных результатов, то для этого необходимо немедленно ознакомить ученых свободного мира со всей аппаратурой, применяемой при эксперименте. Кроме того, широкие и представительные делегации должны быть допущены как в академический городок Андрюхина, так и в район действий экспедиции профессора Павермана. В специальных выпусках газет тон был еще более резким. Они недвусмысленно требовали, чтобы в квадрат «М» были направлены специальные наблюдатели, чтобы именно в указанное время каждый сантиметр воздуха и океана просматривался американскими военными самолетами. Газеты пестрели заголовками: «Экспансия в Южном полушарии!», «Москвадиктует свою волю свободному человечеству». Потом появились радостно подхваченные реакционными западными газетами раздраженные вопли некоторых ученых. Один из них вешал из своего особняка, что кощунству и безбожию должен быть положен предел. Есть границы и для науки! Ему вторил собрат из Мадрида, утверждая, что имеются такие тайны, касаться которых человек не может, ибо они принадлежат богу. Но основная масса заявлений была проникнута растерянностью, недоверием и даже доказательствами того, что подобный эксперимент невозможен. В вечерних газетах начали появляться первые панические комментарии военных деятелей и специалистов по различным проблемам экономики. Но уже и в эти первые часы стали появляться и совершенно другие отклики. Ряд крупных ученых — Гобель и Морлей в США и Канаде, Морроу и Макгрегор в Англии, Кардьер и Жильбер во Франции, Келлер и Шверин в Германии — и с ними множество других заявили, что они сочтут величайшей честью, если Академия наук СССР и уважаемый коллега И. Д. Андрюхин используют их возможности и знания на любом этапе проведения великого эксперимента. Всем этим ученым, а также любым другим, кто захотел бы к ним присоединиться, были посланы от имени Академии наук СССР приглашения присутствовать при проведении испытания на территории академического городка в СССР либо принять участие в экспедиции профессора Павермана. Английские и французские газеты поместили заявление всемирно известного доктора Шлима, посвятившего всю свою жизнь борьбе с детской смертностью; его имя пользовалось огромным уважением во всех странах мира. Доктор Шлим сказал: «Впервые мне стыдно за человечество, вернее — за мир, который мы называем свободным миром. Авторитетная научная организация — Академия наук величайшей страны заявляет о небывалом, чудеснейшем открытии. И вместо чувства восторга перед мощью человеческого разума, вместо преклонения перед силой духа человека, вторично поднимающегося на фотонную площадку, чтобы превратиться в луч, — мы унизительно мелко паясничаем, надеемся, что это сообщение недостоверно, то есть заранее готовы радоваться поражению науки и не хотим радоваться ее торжеству. Среди моря невежества, страха и злобного человеконенавистничества я поднимаю мой голос, чтобы выразить мое безмерное восхищение великим открытием академика Ивана Дмитриевича Андрюхина и великим подвигом юноши Юрия Сергеева». С каждым днем увеличивалось количество гостей, имевших пропуска в академический городок. И все они прежде всего хотели нанести визит Ивану Дмитриевичу Андрюхину и Юрию Сергееву. Именно это им, как правило, не удавалось. Поэтому пришлось одну за другой устроить две пресс-конференции, на которых присутствовали представители советских и зарубежных газет, телевидения, кино, радио, ученые, представители иностранных деловых кругов. Вот извлечения из отчета об этих пресс-конференциях, опубликованного в «Известиях» от 8 апреля. «Открывая пресс-конференцию, академик И. Д. Андрюхин вкратце ознакомил присутствующих с содержанием и целью предстоящего эксперимента, а также с работами Институтов кибернетики, научной фантастики и долголетия, позволившими подготовить эксперимент. При этом И. Д. Андрюхин обращает особое внимание присутствующих на то, что удачный исход этого опыта на глазах всего мира сделает практически невозможным ведение войны. Корреспондент лондонской „Ньюс“ просит несколько подробнее остановиться на этом вопросе. Академик Андрюхин: Овладение силой тяготения и наши кардинальные успехи в области кибернетики позволили нам решить проблему, казавшуюся фантастической: человек может управлять переходами материи в энергию, и наоборот. Любое инородное тело превратится в атомные частицы, прежде чем перейдет нашу границу или границы наших друзей. Мирное использование этого метода открывает огромные экономические перспективы перед всем человечеством. Корреспондент „Ньюс“: Можно ли предположить, что те успехи, которых ныне добилась советская наука, спустя какое-то время перестанут быть тайной? Академик Андрюхин: Несомненно. Соединенные Штаты, Англия и другие страны располагают первоклассными научными кадрами. Но вы всегда будете отставать, и, чем дальше, тем на больший промежуток времени. Корреспондент „Сан“: Как вы обработали Крэгса? Почему он стал большевиком? Академик Андрюхин: Благодарю за приятную новость: я не знал этого. После того что люди увидят десятого апреля, многие станут такими же большевиками… Корреспондент „Морнинг Таймс“: Я хочу задать вопрос господину Сергееву. Скажите, что вы лично получили после того первого эксперимента, который якобы состоялся десятого февраля? Ю. Сергеев: Я лично получил в тот день мой обычный дневной заработок, стакан хорошего чаю, массу варенья и завалился спать. Корреспонденты (хором): И это все? Корреспондент „Мессаджеро“: Что вы чувствовали, поднимаясь на фотонную площадку? Ю. Сергеев: Мне помнится, я чувствовал себя там лучше, чем на пресс-конференции…» Одновременно с материалами последней пресс-конференции газеты опубликовали краткое сообщение о решении одного из западных правительств направить в район Биссы эскадру в составе авианосца и двух крейсеров. Не было никаких разъяснений по этому поводу: представитель правительства сказал лишь, что эскадре дано указание не заходить в квадрат «М» в часы, установленные для проведения эксперимента. Вечером в этот день академик Андрюхин соединился по радио с Фароо-Маро и вызвал Лайонеля Крэгса. — Как идут дела? — спросил Андрюхин. — Отлично! Завтра к вечеру все будет готово. Надеемся эту ночь спать. — Имеете сведения об эскадре? — Она держится менее чем в пятидесяти километрах от границы квартала. И в Биссе, и особенно в Майске лихорадка ожидания нарастала с каждым часом. Фотонная площадка, с которой должен будет производиться запуск Юры, была воздвигнута на этот раз в центре старого аэродрома, примерно на том месте, где Сергеев оказался после первого испытания. Академический городок располагал самой мощной во всем мире атомной электростанцией. Почти весь чудовищный поток энергии в момент опыта должен быть подан на фотонную площадку. Вход на территорию аэродрома был строжайше воспрещен и в ночь накануне десятого апреля закрыт полностью. В эту ночь они сидели сначала впятером: Андрюхин, Ван Лан-ши, Анна Михеев-па, Юра и Женя, — трое пожилых людей и двое молодых. Они остались после диспетчерского часа, в последний раз проведенного Андрюхиным. Опрос всех служб шел по телеселектору. И вот уже все выяснено, все проверено, а разойтись они не могли… — Давайте споем! Что, в самом деле!.. — заявила вдруг Анна Михеевна и с такой лихостью махнула рукой, повела плечами и так вскинула голову, будто она всю жизнь только и делала, что распевала развеселые песенки. — Идея! — оживился Андрюхин. Ван Лан-ши только тихо улыбнулся, но был безусловно готов поддержать. Они исполнили «Подмосковные вечера», «Тачанку», «Москва моя», «По долинам и по взгорьям» и решили, что если когда-нибудь натворят в науке такое, за что их выгонят, то смогут организовать ансамбль. — Десять часов, — сказал Андрюхин, вставая. — Помни, Человек-луч, тебе надо хорошо выспаться. Ну, завтра некогда будет прощаться, да на людях оно как-то не так… Он крепко обнял Юру и несколько раз поцеловал его, щекоча своей замечательной бородой. — Вот сына хотел, — сказал он ни с того ни с сего Жене. — Дочка есть, внучка есть, а ни сына, ни внука… Но, когда и другие, расчувствовавшись, принялись целоваться с Юрой, который, смущенно улыбаясь, ласково отвечал на прощальные приветствия, Андрюхин, рассердившись, начал всех выгонять из комнаты.Погода была мерзкая. Всю ночь мокрые хлопья снега, расползавшегося у земли в капли дождя, беззвучно кропили все вокруг. Безжизненное, темно-серое небо упрятало куда-то и звезды и луну и вместе со снегом все ниже спускалось на землю. Сырой ветер размазывал по стеклу капли дождя. А Юра с Женей, стараясь не думать о том, что ждет их завтра, сидели и хохотали, захлебываясь до слез… — Юрка, перестань! — тоненько визжала Женя, обессилев от смеха. — Я больше не могу! Юра, едва выговаривая слова сквозь хохот, пытался рассказать, как он захватит с собой удочку и, вися над океаном, будет ловить акул, а потом пойдет по воде, яко по суху… Но Женя уже не смеялась; разглаживая ладонями лицо Юры, она старалась стереть улыбку с его губ. — Мне страшно, — сказала она. — А тебе бывает страшно? — Она вплотную приблизила свои глаза к его глазам, как будто хотела заглянуть в какую-то неведомую глубину. — Наверно, нет, никогда! Ты странный человек, Юрка! Когда ты стоял тогда, в первый раз, на этой проклятой решетке, у тебя был такой вид, словно ты просто слушаешь что-то интересное. Ты даже улыбался, а через секунду — исчез… — Она зябко передернула плечами. — Улыбаться… легче, — заметил он задумчиво. — А то вокруг люди. Не знаешь, куда руки девать. Я ведь не артист. — Ты герой! Неужели ты герой? — Она недоверчиво подняла на него свои яркие даже в полутьме глаза. — Конечно, герой… Как Корчагин или Матросов… Это очень страшно, Юрка? — Ну, какой я герой, Женя! Брось ты это… Лучше дай я тебя поцелую! Когда он уснул, Женя, поджав колени и положив на них голову так, чтобы были видны его нос картошечкой, просторный лоб, плотно сжатые губы, невольно начала вспоминать, как это все случилось, где они встретились. Неужели она знает его всего четыре месяца? Она решила высчитать точно, сколько дней они знакомы. Получилось сто десять дней. Сто десять дней — и целая жизнь!.. Она не помнила, как заснула и сколько спала, сидя вот так же, на стуле, и не спуская с Юры глаз. Ей показалось, что она тотчас проснулась. Было восемь часов. Андрюхин собирался заехать в половине одиннадцатого. Занимаясь приготовлением завтрака, меню которого было тщательно продумано заранее, она непрерывно смотрела то на часы, то в окно поверх занавески и прислушивалась, не проснулся ли Юра… С шести утра радиостанции Советского Союза и всех социалистических стран передавали через каждые полчаса: — Всем! Всем! Всем! Обеспечьте прохождение луча! Контролируйте квадрат «М»! Помните, что с одиннадцати до тринадцати часов по Гринвичу квадрат «М» должен быть свободен!.. Десятки тысяч людей, запрудивших Майск, вместе с сотнями миллионов жителей всего земного шара с рассвета десятого апреля ждали сообщения из академического городка. Те, кто имел пропуска в район аэродрома, с восьми часов стояли под мокрым снегом, подняв воротники и безропотно переступая по лужам замерзшими ногами. В одиннадцать часов на аэродром въехали машины. Митинг открыл президент Академии наук СССР, могучий человек с гривой седых волос, на которых незаметны были тающие снежинки. Глядя на море голов перед ним, слушая взволнованные слова руководителей советской науки, Юра ощутил такой огромный прилив гордости и радостного торжества, что совсем забыл о себе и о своей роли. «Эх, — думал он про себя: — Собрать бы оружие всего мира на эту медную решетку, на пусковую площадку и запустить его в небеса! И не надо такой луч восстанавливать, пусть растает… Сейчас мне идти. Ну, Юрка!» И со смущенной улыбкой, которая невольно возникала у него всегда, когда ему приходилось стоять перед людьми, он двинулся было к сияющей белизной лестнице, ведущей на площадку, но растерянно остановился. «Что же такое происходит?» — с ужасом подумал он. Было без четверти двенадцать, время подниматься на площадку. Но лестница была занята!.. По ней неторопливо шел, неловко улыбаясь окружающим… Юра Сергеев! Не он, а другой Юра Сергеев, удивительно похожий на настоящего… Он, этот другой Сергеев, был также одет в легкий комбинезон из золотистого майлона специальной выработки. Красивый, с набором серебряных пластин, широкий пояс крепко перехватывал комбинезон. На голове у него была такая же шапочка, похожая на те, которые надевают пловцы, а на ногах — светло-фиолетовые спортивные туфли… Юре долго пришлось привыкать к этому костюму, созданному лучшими мастерами московского Дома моделей; раньше костюм казался ему нелепым, пригодным разве что для балета… Но этот парень, взобравшийся уже на фотонную площадку, легко и спокойно нес свой изящный костюм… Что же это такое? Решили посылать не его, а кого-то подменного? Почему? Дикая обида, словно крючьями, рвала на части сердце Юры. Он ловил на себе недоумевающие взгляды окружающих и, побурев от стыда, готов был сорвать с себя золотистый майлон или включить пояс и взмыть в небо. По лестнице быстро взбежал академик Андрюхин и стал рядом с тем, двойником, положив ему на плечо руку. На стадионе стало так тихо, что Юра ясно услышал быстрые удары своего сердца. — Перед вами, — громко заявил Андрюхин, — кибернетический двойник Сергеева! Он распахнул комбинезон, обнажив живот и грудь, удивительно похожие на настоящие, человечьи, нажал на одно из ребер. И на глазах невольно ахнувшей толпы то, что изображало кожу груди и живота, распахнулось, и вместо кровоточащих внутренностей все увидели яркое и сложное переплетение электронной аппаратуры. — Закройся! — небрежно бросил Андрюхин. И, когда легким, совершенно человеческим движением машина подняла руку, опустила на место кожу и застегнула комбинезон, Андрюхин продолжал: — В целях максимальной безопасности он пойдет первым. За ним — настоящий Юра Сергеев! Иван Дмитриевич сделал Юре знак подняться на лестницу. Толпа, приветствуя его радостными криками, поднимая стиснутые в рукопожатии руки, невольно хлынула к фотонной площадке, но, отделенная широким и глубоким рвом, остановилась не менее чем в пятидесяти метрах. Через ров были пропущены только сто человек — восемьдесят делегатов всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций, и двадцать наиболее крупных ученых, всемирно известных общественных деятелей и представители советского правительства. Они перешли ров и уже подходили к лестнице, где стоял Сергеев, когда Андрюхин, взглянув на свой хронометр, предостерегающе поднял руку. Огромный бетонный постамент, высотой около десяти метров, светился фиолетово-желтыми искрами и вибрировал, как туго натянутая струна. Репродукторы, отсчитывающие последние секунды, молчали. Все замерли, не спуская глаз с меланхолически улыбавшегося двойника Сергеева. Вдруг лицо его дрогнуло, улыбка исчезла; он поднял руку; певуче прозвучал удар гонга. Фигура на площадке окуталась светящимся туманом. И тотчас яркий луч, мгновенно вспыхнув, исчез, прорезав сочившееся мокрым снегом небо… На фотонной площадке никого не было. Андрюхин, сверкнув глазами вслед лучу, тотчас повернулся к массивному мраморному столику, установленному внизу лестницы. Два аппарата радиотелефона связывали площадку запуска непосредственно с Москвой и с Биссой. Никто не шелохнулся, пока тонко не пропел аппарат, заставив всех вздрогнуть. Андрюхин схватил трубку. — Паверман?.. Слушаю! — И голосом, загремевшим по всему полю, он начал повторять то, что с другого конца света говорил ему Борис Миронович Паверман. — Полная удача! Локаторы зарегистрировали появление двойника в назначенном квадрате над океаном! Двойник уже установил телефонную связь с Фароо-Маро! Всё! — Он радостно гаркнул последнее слово. И, тут же бросив трубку, Андрюхин повернулся к плакавшей, обнимавшейся, радостно вопящей толпе. Тряхнув головой, он вскинул вверх руки, задрав в небо бороду, и заорал так, что все невольно подхватили его крик. — Ура!.. Ура!.. Ура!.. Когда прошел первый порыв восторга, взгляды всех обратились к Юре. С ним уже прощались представители делегаций, ученые и общественные деятели. Юра был до предела растроган всей этой церемонией; пожилые, уже давно знакомые всему человечеству люди, портреты которых он с детства привык встречать в газетах и журналах, один за другим подходили к нему, многие с заплаканными лицами, но с сияющими молодыми глазами, и протягивали дрожащие, уже старые руки… Юра судорожно вздохнул, не замечая, что слезы уже давно катятся по щекам. Огромный негр ухватил Юрину руку и, раскачивая ее, что-то громко и быстро говорил. Юра, широко распахнув объятия, крепко, по-мужски сжал далекого товарища и сам ощутил его сильные руки. Чешский профессор, поглаживая Юрии рукав, что-то рассказывал, даже, кажется, пел, радостно улыбаясь. Вокруг теснились еще десятки лиц. Юра их уже плохо различал, поднимаясь все выше по лестнице, туда, где на площадке стоял последний человек, с кем ему надлежало проститься, — Иван Дмитриевич Андрюхин. Они молча, тяжело дыша, троекратно расцеловались. Андрюхин вопросительно и требовательно вскинул вверх голову. Юра кивнул головой и стал на фотонную площадку Словно посылая всем последний привет, он скользил глазами по лицам… Эти лица, черные, белые, желтые, были его опорой, тем, что было выше страха, выше ужаса исчезновения. Кто-то, стоя на толстой, черной ветке голого дуба, отчаянно размахивал пестрым шарфом. «Женя!» Он даже хотел приподняться на цыпочки, чтобы лучше ее разглядеть… Но не успел. Необыкновенно яркий луч скользнул над мокрым лесом и скрылся в серой мгле облаков… Сергеев исчез. И тотчас тоненько зажурчал телефон. — Паверман?.. — срывающимся голосом крикнул Андрюхин над затаившими дыхание людьми. Не сразу они поняли, что голос его упал, как падает подрезанный стебель. — Что?.. Что?.. В районе «М» локаторы обнаружили самолет? Самолет обстреливает двойника? А Сергеев?.. От Сергеева известий нет?.. Иван Дмитриевич медленно положил трубку, и таким тяжелым взглядом обвел присутствующих, что ближние невольно посторонились, когда он взял трубку московского телефона. — Правительственный комитет?.. Говорит Андрюхин. Двойник Сергеева обстрелян в квадрате «М» неизвестным самолетом. Сведения поступили в момент запуска самого Сергеева… Да, от него известий пока нет…
Глава тринадцатая НАД ОКЕАНОМ
Декретом его величества короля Биссы десятое апреля было объявлено праздничным днем на всей территории королевства. Так как невозможно было толком объяснить островитянам, что произойдет, ограничились сообщением: «Белые люди будут летать над океаном». Жители Фароо-Маро видели самолеты и раньше; познакомились с ними жители и других островов, когда на спешно созданные аэродромы одна за другой прибывали машины из Сиднея, Гонконга, Джакарты, Сингапура, даже Токио и Манилы… От одиннадцати до тринадцати часов в квадрате «М», граница которого проходила в двадцати километрах от Фароо-Маро, разрешено было находиться только туземным лодкам, и тот, кто не позаботился о лодке заранее, платил теперь колоссальные деньги даже не за лодку, а за место в ней. В знак уважения к советскому консулу староста деревни Вангуну прислал ему свою ладью. — Пожалуй, это единственное судно, на котором Хеджес не заработал ни гроша, — сказал консул, передавая Василию Ивановичу, своему помощнику, ковчег Вангуну. — Хеджес за гроши, за пачку—другую табака зафрахтовал весь, так сказать, туземный флот, а теперь берет по сто долларов за место… Каноэ деревни Вангуну было похоже на гондолу с высоким носом и кормой, украшенными множеством ярких флажков, чтобы отгонять злых духов. Тридцать темно-коричневых гребцов под руководством Тобуку вели его в океан, радостно сверкал ослепительными зубами при каждом ударе весел, а на подушках, благоразумно захваченных из дома консула, подпрыгивали, не в силах удержать восторженный хохот, Нинка и Бубырь, которых Василий Иванович безуспешно уговаривал вести себя солиднее… Ни одна из сотен лодок, скользивших в это утро по лагуне к выходу в океан, не шла ни в какое сравнение с каноэ деревни Вангуну. Все больше и больше отрываясь от своих соперников, разбрасывая веслами груды алмазов, Тобука и гребцы радостно улыбались и скоро промчались мимо какого-то островка, откуда Фароо-Маро уже едва виднелось на горизонте. А в следующую минуту произошло непонятное: каноэ деревни Вангуну вдруг потеряло ход, а гребцы мгновенно издали звук, похожий и на шипение и на свист, и замерли в напряженной тишине. Все это показалось Василию Ивановичу странным, даже подозрительным; он уже повернулся к Тобуке, чтобы выяснить, что произошло, но тут заметил, как десятки других лодок точно так же затормозили ход, едва оказались вблизи их каноэ. Поняв волнение пассажиров, Тобука молча протянул руку вперед. Там плавало что-то вроде коричневого острова в несколько гектаров величиной. Только когда, повинуясь беззвучным указаниям Тобуки, лодка приблизилась к загадочному острову, Василий Иванович понял, что это такое. — Черепахи! — шепнул он. — Морские черепахи! — Это черепахи мистера Крэгса? — Нинка тотчас вскочила на ноги. — У нас есть одна знакомая, ее зовут мистер Хеджес, но задачи она решать не умеет… — Нет, это настоящие морские черепахи, — заявил Василий Иванович, с любопытством следя за огромным стадом. Как только лодки окружили его, гребцы скользнули в воду и бесшумно, без единого всплеска, подплыли к черепахам. У многих черепах панцирь достигал в поперечнике без малого метр; такие черепахи весили по семьдесят — восемьдесят килограммов. Все это были спящие самки; теплая вода медленно несла их к берегу, где они должны были отложить яйца… Охотники, действуя по двое, одновременными ловкими движениями переворачивали черепаху за черепахой брюхом кверху. Беспомощно болтая в воздухе лапами, вытягивая над водой змеиные шеи и раскрывая клювы, схожие с клювами попугаев, черепахи уже не могли скрыться. А «остров», казалось, даже не уменьшился. И Тобука заметил, что очень редко встречается такое большое стадо… Перевернутых черепах охотники отбуксировали каждый к своей лодке, где добычу привязали к веревке, чтобы тащить в лагуну. Невозможно было заставить лодки идти дальше в океан. Как ни ругались корреспонденты и кинематографисты, как ни умоляли, какие деньги ни сулили, гребцы неумолимо держали к берегу, весело отвечая на все вопли белых людей: — Иес, мистер! Иес, сэр! Мясо черепах попадается не каждый день! На берегу их ждали восторженные вопли женщин и детей родной деревни, пир и праздник на всю ночь. Можно ли это было променять на бесцельный поход! Только лодка деревни Вангуну продолжала двигаться вперед. Гребцы и Тобука знали, что староста велел им выполнять все распоряжения белого человека, а Василий Иванович, имея строгое указание консула, твердо держал курс на квадрат «М». Нинка и Бубырь перебрались на нос лодки и, жмурясь от нестерпимо острого сверкания воды, спорили, кто первый увидит Юру Сергеева и как это будет. Василий Иванович то и дело прикладывал мощный морской бинокль к глазам, но, кроме бесконечных вспышек на гребнях волн и легкого марева вдалеке, не видел ничего. Вначале его несколько обеспокоило, что все лодки вернулись к острову, а он с ребятами уходит все дальше. Но потом Василий Иванович рассудил, что нетерпеливые журналисты и операторы, после того как черепахи будут доставлены на берег, найдут способ уговорить туземцев все же дойти до квадрата «М»; не пройдет и трех часов, как все они, вероятно, снова встретятся в океане. — Сколько я ни думаю, — вздохнул Бубырь, доставая из-за пазухи лепешку и делясь ею с Тобукой, — никак не могу придумать, как это они делают! — Что ты опять не понимаешь, Колобок? — насмешливо покосилась Нинка, развлекавшаяся попытками увидеть свое изображение в зеркальных струях океана. — Как это они делают? — хрустя сухой лепешкой, взволнованно таращил глаза Бубырь. — Ты помнишь, сколько мы сюда ехали? Даже самолет, самый сверхскоростной, «ТУ-150», долетает сюда за шесть, ну, пусть, за пять часов. А Юра Сергеев в Двенадцать часов еще будет в Майске, в академическом городке. Раз! — на часах все еще двенадцать, а он уже здесь! — Самолет! — вскрикнул вдруг Василий Иванович и, не веря себе, быстро протер бинокль и снова поднял его, закрыв им чуть не половину лица. — Идет прямиком в квадрат «М»… — Он подрегулировал линзы. — А может, выскочил из квадрата… Непонятно… Он оглянулся на гребцов, явно сожалея, что их каноэ не может развить такую же скорость, как самолет. — Уходит! Откуда он взялся, черт возьми? Выяснить это было невозможно. Бубырь, забыв о лепешке, молча смотрел на Василия Ивановича, а у Нинки дрогнули губы. — Может, чего с Юрой?.. Может, что случилось? Коралловый островок, торчавший над водой, давно исчез позади… Они плыли между двумя океанами: голубым, струившим горячее солнце, наверху, и то голубым, то синим, то зеленоватым, брызгающим белой пеной, под ними. Василий Иванович посмотрел на часы: было без четверти одиннадцать. Он проклинал себя последними словами за то, что не взял передатчик и не мог сейчас связаться с берегом. «Вернуться? Но до берега не меньше двух часов, все так или иначе кончится… Кроме того, какие, собственно, основания утверждать, что самолет был в квадрате „М“ или направляется туда? Наконец, локаторы прощупывают непрерывно весь квадрат, и, если самолет был там, они должны были его давно обнаружить. А что еще я могу сообщить?» И Василий Иванович решил двигаться дальше. Он не знал, что случайно обнаруженный им самолет, гидроплан неизвестной национальности, намеренно держится пока в стороне от квадрата «М» и что именно потому локаторы не смогли его обнаружить. — Что же может случиться с Юрой? — сказал он, подтаскивая к себе Нинку за лямки цветастого сарафанчика. — Юра пока только едет на аэродром академического городка… Еще целый час их лодка шла в океан, и казалось, что она не то двигается вперед, не то стоит на месте, не то кружится, взлетая вверх и вниз среди соленых брызг, летучих рыб и голубого неба. Утомленная водой и качкой, Нинка прикорнула на коленях Василия Ивановича, но Бубырь, напуганный бескрайностью океана и тревожимый смутным ощущением грозящей беды, почти лежал на носу, неотступно глядя вперед или молча проверяя, не увидел ли еще чего-нибудь Василий Иванович в бинокль. Неожиданно Бубырь приподнялся. — Что это? — спросил он, протягивая руку в небо. Василий Иванович моментально вскинул бинокль к глазам: там ничего не было. — Да нет! Слышите? — взволнованно выговорил Бубырь. — Вот опять… Теперь услышал и Василий Иванович. Бледнея, он медленно опустил бинокль. Казалось, тень легла на его лицо. — Это, брат, пулеметная очередь… — медленно сказал он, сжимая кулаки. Было ровно двенадцать часов. По вычислениям, которые Василий Иванович непрерывно вел, они пересекли границу квадрата «М» несколько минут назад. Квадрат образовался сторонами, каждая в пятьдесят километров длиной. Успеть попасть туда, где сейчас шла стрельба, они не могли. Да и что бы они сделали без всякого оружия?.. Тем не менее, определив по звуку наиболее вероятное место выстрелов, Василий Иванович, не колеблясь, направил туда каноэ. — Пусть спит! — торопливо сморщился взволнованный Бубырь, когда Василий Иванович покосился на Нинку. «Не заснуть бы нам всем тут!» — подумал Василий Иванович. Что там произошло? Юра уже над океаном. Он мог бы уже связаться с берегом. В небе с минуты на минуту должны были показаться гидропланы экспедиции, чтобы подобрать Сергеева… Что же случилось? Это были как раз те секунды, когда Паверман, окруженный всем составом экспедиции, принимал в радиорубке «Ильича» от взволнованной радистки первые сообщения двойника Сергеева. — Прибыл на место. Высота над уровнем океана четыреста шестьдесят восемь метров. Жду указаний… Еще не прошел пронесшийся по «Ильичу» шквал восторженных восклицаний, когда радистка, не отходившая от аппарата, требовательно подняла руку. Двойник Сергеева вел передачу. Автомат невозмутимо сообщил: — Внимание! В зоне появился самолет. Идет на меня. — Немедленно вызывайте Андрюхина! — крикнул, дрожа, как от озноба, Паверман. — Живее! Его сотрудники бросились к радиотелефону и замерли: двойник возобновил передачу. Так же размеренно он сообщил: — Самолет в двухстах метрах. Проходит мимо, требуя, по-английски и по-русски, чтобы я опустился на воду… Паверман, подняв жилистые кулаки, бросился к радистке: — Передавайте Андрюхину… Но опять заговорил автоматический радиопередатчик двойника: — Самолет начал обстрел… Дал очередь над головой. Второй очередью перебиты ноги… — Передавайте Андрюхину! — страшным голосом крикнул Паверман, хватаясь за стойку. — Самолет в квадрате «М». Обстрелян двойник! Задержать главный запуск!.. — Он спрашивает, что с Сергеевым… — бледный, как воротник рубашки, негромко выговорил сотрудник, связавшийся с Андрюхиным. — Как? Разве Сергеев?.. — Паверман бессильно прислонился к стене, глядя прямо перед собой на огромные часы в радиорубке. — Сообщите: от Сергеева пока сведений нет. Было принято решение: немедленно, на большой высоте, выслать дежурные гидропланы. В это время самолет, атаковавший двойника Сергеева, делал второй заход. На самолете не было никаких опознавательных знаков. Его экипаж состоял из пяти человек. Все они были в одинаковых белых рубашках, коротких белых штанишках и теннисных туфлях; даже стрелки, сидевшие у пулеметов, носили тот же костюм. Разговаривали они между собой по-английски, но это, конечно, еще не определяло национальности, тем более что двое говорили с явным акцентом. Небольшая черная такса в наморднике непрерывно скулила у ног одного из них. У этих людей были головы, лица, руки, ноги, даже глаза. И, хотя, вне всякого сомнения, все эти детали принадлежали именно людям, а не электронным машинам, у всякого, кто взглянул бы на членов экипажа неизвестного самолета, невольно возникло бы естественное чувство гадливости, отвращения. Их глаза были разного цвета и формы, но это были одинаковые глаза убийц. И даже эти беспардонные убийцы были потрясены появлением двойника. Их била дрожь, чувство ужаса все сильнее скребло душу. — Он продолжает вести передачу? — спросил старший, отшвыривая ногой черную таксу. — Да, мистер Френк. — Радист самолета с трудом шевелил губами. — Он сообщает обо всех наших движениях. — Сбей его! — приказал Френк левому стрелку. — Тысяча долларов за хороший выстрел! Стрелок не промахнулся и на этот раз. Очередь прошила грудь и шею двойника. — Замолчал! — глухо проговорил радист. — Отлично, но почему он висит в воздухе? Что за дьявольщина? — Человек, которого называли мистер Френк, в кровь искусал губы. Ему было до тошноты жутко, его била дрожь, но он не мог уйти отсюда, пока не собьет этого красного. — Босс! — крикнул один из стрелков. — Второй появился! В сияющей голубизне неба, примерно на той же высоте, что и двойник, но метров на триста в глубь квадрата, возник Юра Сергеев. — Бросьте в ад эту дьявольскую таксу! Швырните ее в океан! — заорал мистер Френк, не в силах терпеть дольше отчаянный скулеж забившейся под сиденье черной собачонки. — Пусть хоть она выкупается, раз эти фокусники не хотят идти в воду!.. Дай им еще, стрелок! Радист нервно сообщил: — Вторая радиограмма от какого-то короля Биссы. Предупреждает самолет неизвестной национальности, преступно вторгшийся в пределы квадрата «М», что с ним будет поступлено, как с бандитом и убийцей. — Вздор! — сплюнул Френк. — Стреляй! — Под нами туземная лодка, сэр, в ней белые… — нерешительно выговорил летчик. — Второй пулемет, очередь по лодке! — Мистер Френк в бешенстве колотил кулаками по подлокотникам кресла. — Босс, — доложил штурман, — к нам приближаются три гидроплана… Сжав зубы, Френк тихо застонал. — Надо удирать, — нехотя выговорил он. — Но раньше сбить этих акробатов… — Не буду я стрелять в этих парней! — пробурчал стрелок. — Это расстрел. Я не палач… Они сделали чудо. — Бунт?! — Мистер Френк выхватил браунинг. (Стрелок, хмуро поглядев на него, выразительно сплюнул.) — Бунт?! — почти шепотом выдохнул мистер Френк и с двух шагов разрядил всю обойму в разом обмякшее тело стрелка. — Сэр, — пролепетал радист, — второй… парашютист ведет передачу… Это был тот момент, когда и осунувшийся Паверман, лишь потом обнаруживший широкую седую прядь в своих огненных кудрях, услышал вновь характерное потрескивание радиоаппарата. — Сергеев! — звонко крикнула радистка «Ильича». — Передает: «Вышел на заданную точку. Самочувствие хорошее. В квадрате самолет. Двойник расстрелян. Самолет атакует меня…» — Ну? — Паверман, до боли скривив заострившееся лицо, впился костлявыми пальцами в ее плечо. — Ну? — Замолчал… — едва выговорила девушка. В это время Юра Сергеев проделывал примерно то же, чем он занимался, демонстрируя Крэгсу и Хеджесу антигравитационный костюм. Он то стремительно взмывал вверх, оказываясь над самолетом, то камнем падал вниз, лишь у поверхности воды застывая в воздухе. В момент одного из таких падений он заметил в пестрой, переливающейся самоцветами воде что-то барахтающееся, что-то маленькое, черное, старательно колотившее по воде черными лапками. Блестящий клеенчатый нос упрямо торчал кверху… — Детка! — крикнул Юра. Подхватив таксу, он снова взмыл в струящееся жарой небо, на ходу запихивая визжащего пса в широкий карман комбинезона. Самолета не было видно. Юра оглянулся, ища его, и тотчас острая судорога рванула плечо и левый бок. Свесив голову на грудь и уронив тяжелую руку на Деткины лапы, торчащие из кармана, Юра бессильно повис в воздухе, неподалеку от своего двойника… Напрасно песик пытался через намордник лизнуть руку Юры, напрасно скулил так, как не скулил и в самолете, — Юра не шевелился. Его тяжелое тело висело на заданной высоте, ничем не управляя, ничего не сообщая товарищам… К этому моменту сложилось следующее положение. Неизвестный самолет стремительно уходил на юг, в район, где крейсировала эскадра седьмого флота. Три гидроплана экспедиции на высоте примерно пяти тысяч метров на малой скорости входили с востока в квадрат «М», еще не обнаружив ни Юру, ни его двойника. Каноэ деревни Вангуну ближе всех находилось к месту катастрофы, и Василии Иванович в марской бинокль уже смутно различал в струящихся потоках раскаленного воздуха тело Юры и фигуру его двойника. Лодки, на которых все же плыли к квадрату «М» неугомонные корреспонденты и операторы, были еще далеко, но тоже приближались к месту, где разыгралась трагедия… Радисты на гидропланах, ни на что, собственно, не надеясь, упорно вызывали Юру и его двойника. Никто не отвечал на вызов… Пока пытались выяснить национальную принадлежность самолета, совершившего гнусное преступление, профессор Паверман, члены экспедиции и весь личный состав «Ильича» думали лишь о том, жив ли Юра и как при создавшихся условиях его найти. Предполагалось, что и он и его двойник, прибыв на место и несколько освоившись, дадут о себе знать по радио и при подходе судна или гидропланов спустятся на воду, откуда и будут подобраны. Теперь было ясно, что ни Юра, ни его двойник спуститься на воду не могут. Положение осложнялось еще тем, что метеосводки предупредили о приближении урагана. Обнаружив наконец Юру, гидропланы вызвали вертолет. Никто не знал еще размеров катастрофы, не знали, убит или только ранен Сергеев, и каждая новость из района Биссы жадно ловилась миллионами людей, не отходивших от своих приемников или уличных репродукторов. Новости были неясные и путаные, но сам факт огромной удачи великого эксперимента и чудовищное злодеяние неизвестного самолета потрясли сердца людей. Всюду возникали стихийные митинги; в воздух взлетали сжатые кулаки; полиция растерялась. В наэлектризованных толпах людей все чаще раздавались требовательные возгласы: — Мир! Мир! Руку Советам! К черту бомбы! Да здравствуют русские храбрецы! Виват советской науке! Между тем драма у острова Фароо-Маро продолжала развиваться. Моряки, спустившиеся по лестнице из остановившегося над Юрой вертолета, с трудом подхватили его грузное безжизненное тело. В тот момент, когда Юру поднимали по лестнице, какой-то черный, визжащий комок, раньше никем не замеченный, выпал у него из кармана и полетел в воду. Моряки растерялись, однако нельзя было терять ни мгновения, и они поторопились доставить Юру в вертолет. Прибывший на вертолете врач экспедиции, понимая, как ждут его сообщения во всем мире, осмотрев Юру и хмуро глядя перед собой, негромко сказал: — Жив. Но может умереть ежеминутно. Пробита сердечная сумка, вторая пуля застряла в легком… Даже на «Ильиче» нет условий для проведения такой сложной операции… Захватив и двойника Юры, храбро принявшего на себя первый удар, вертолет, словно траурная колесница, грузно полетел к «Ильичу».То, что шторм начинается в тропиках внезапно, Василий Иванович, конечно, слышал, однако он не мог оценить зловещего значения темного пятна, возникшего на востоке, среди веселых кучевых облаков. Но Тобука и все гребцы взволнованно показывали на это крохотное черное облако и, на этот раз не дожидаясь согласия Василия Ивановича, развернули свой нехитрый корабль и помчались к острову. Ни Василий Иванович, ни тем более ребята не могли оценить серьезность надвигавшейся угрозы. Между тем темное пятно стало уже огромной иссиня-черной тучей, налитой до краев дождем. Неожиданно холодный ветер резкими толчками повалил лодку набок, кидая ее с волны на волну. Нинка посинела, зубы у нее стучали, и даже Бубырь покрылся гусиной кожей. Огромная тень от тучи неумолимо двигалась на лодку и наконец накрыла ее. Сплошные потоки воды, подобные лавине ревущего водопада, обрушились на лодку. А в нескольких десятках метров, словно наблюдая, как здорово все это получается, насмешливо сверкало солнце. Лодку захлестывало водой. Огромные волны в гривах белой пены, рыча, шли на нее одна за другой. Отплевываясь от соленой воды, до того мокрые, что казалось, будто даже кожа у них промокла насквозь, Нинка в облепившем ее сарафане и неповоротливый Бубырь торопливо вычерпывали длинными черпаками воду из лодки, то и дело сваливаясь под ноги гребцам. По черным, равномерно сгибавшимся спинам гребцов текли потоки воды. По другую сторону от ребят орудовал ведром Василий Иванович. В уныло обвисшей шляпе, с закатанными брюками на волосатых ногах, он походил на дачника, попавшего на рыбалке под ливень. Бубырю уже показалось, что впереди мелькнул тот самый островок, около которого они несколько часов назад беспечно ловили черепах, когда огромная косая волна, величиной с многоэтажный дом, неожиданно накрыла лодку… Часть гребцов, растерявшись, в ужасе выпустила весла. Лодку понесло боком, и в следующее мгновение она опрокинулась, бросив в океан гребцов, Тобуку, Василия Ивановича и Бубыря с Нинкой. Глотая воду, фыркая, чувствуя, что погибает, что соленая вода беспощадно забила нос, боясь открыть рот и бешено перебирая ногами и руками, Бубырь, подхваченный следующей волной, вылетел на поверхность и жадно глотнул вместе с солеными брызгами изрядный запас воздуха. «Кораблекрушение! Шторм! Акулы!» Один страх в воспаленном мозгу Бубыря сменялся другим. И вдруг самое страшное заставило его выпрыгнуть из воды по пояс. «А где Нинка? Она же не умеет плавать!..» Он оглянулся и только сейчас увидел, что он не один. Волны то разбрасывали, то снова сближали черные тела гребцов; среди них он различил Тобуку. За нос опрокинувшейся лодки упорно держался Василий Иванович; другой рукой он поддерживал Нинку, которая что-то орала, задирая кверху белобрысую голову с жалко повисшими косичками… Кажется, она ругала океан. Обрадованный Бубырь поплыл к ним. Хотя это было очень трудно и, подплывая, он несколько раз больно стукнулся об лодку, до крови распоров бок, все же Леня добрался к Василию Ивановичу и подхватил яростно плюющуюся Нинку с другой стороны. Вскоре к лодке подплыли Тобука и другие гребцы. Тобука, все еще пытаясь улыбаться, посадил Нинку на плечи и, держась за лодку рядом с Василием Ивановичем, печально покачал головой. Они могут спастись, только если утихнет шторм и если до этого не появятся акулы, а их тут много… Акулы!.. Леня перестал слышать грохот океана, не замечал ливня, не видел многосаженных волн. До боли в глазах он вглядывался в мутно-сизую воду; ему то и дело казалось, что из неведомых глубин всплывает длинное, сильное тело с разинутой зубастой пастью и косым плавником… Но вместо акулы Леня увидел… Муху! Это было невероятно, но он ясно видел на гребне взметнувшейся волны, рядом с собой, мордочку Мухи. Еще не веря себе, забыв об акулах и не обращая внимания на крики Василия Ивановича и Тобуки, Леня ринулся туда, где волны подбрасывали и вертели блестящий, черный, почти безвольный, но еще живой комок. Муха была совсем близко, он видел ее блестящие глаза, лапы, упрямо колотившие взбешенный океан, задранный кверху клеенчатый нос. Но, злобствуя, злорадно воя, волны откатывались в стороны, и снова между Леней и Мухой лежала седая, в клочьях пены, жадно дышавшая пропасть… Ему помог Тобука. Он поплыл следом за мальчиком и, поняв, что надо добыть собаку, ловко скатился по взмыленному гребню прямо на Муху, успев подхватить ее за дрожащую шкурку. В следующую секунду океан снова вырвал Муху, но теперь Леня был рядом. Он обхватил собаку вокруг бьющегося, как в лихорадке, туловища и, тут же хлебнув с ведро воды, едва не пошел на дно. Его удержал Тобука… Так они и плыли втроем. Муха из последних сил все старалась выпрыгнуть из воды, хрипло взлаивала и, захлебываясь соленой пеной, облизывала Леню. — Лает она все-таки по-русски… — едва выговорил довольный Бубырь, когда они добрались до опрокинутой лодки, где с нетерпением ждали их Василий Иванович, Нинка и гребцы. Потоки воды по-прежнему с ревом валились на них, холодный ветер пытался оторвать их от лодки или размозжить об нее, когда Василий Иванович, взглянув на небо, радостно крикнул. Над ними стоял вертолет. Через несколько минут все было кончено. В огромное теплое брюхо вертолета поднялись по бешено качавшейся лестнице не только все тридцать гребцов во главе с Тобукой, не только ребята с Мухой и Василий Иванович; туда же с трудом втянули и славное каноэ деревни Вангуну. Грузно покачиваясь под ударами дождя и ветра,вертолет уже проходил над пенными бурунами прибоя, когда с востока, с противоположной стороны острова, до них донесся сквозь вой урагана протяжный рык артиллерийской канонады… Крейсеры, входящие в состав седьмого флота, дали первый залп по Фароо-Маро…
Глава четырнадцатая КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Залпу предшествовали переговоры. С крейсера «Атлантида» был продиктован ультиматум королю Биссы: «Предлагаю в течение шестидесяти минут обсудить и дать свое согласие на следующее: 1. Вами интернируется советское судно „Ильич“. 2. Вверенная мне эскадра оккупирует Биссу. В случае отказа или промедления корабли начнут обстрел Биссы». Шестьдесят минут нужны были для того, чтобы корабли могли занять боевую позицию… Радиостанция Биссы и «Ильича» немедленно сообщили о новой провокации. Но печать и другие средства оповещения западного мира, явно повинуясь невидимой указке, скрыли от населения своих стран зловещий ультиматум. Зато все средства пропаганды этих стран были мобилизованы на то, чтобы внушить необходимость оккупации Биссы и правильность действий командующего седьмым флотом. «Большевики вывозят черепах Крэгса! — вопили газеты и радио. — Мы не допустим воровства! Все на защиту цивилизации!» По истечении тридцати минут с момента приема ультиматума радио Биссы заявило: «Предупреждаю командующего седьмым флотом и командующего эскадрой в составе авианосца „Океан“, крейсеров „Атлантида“ и „Колумб“, что вход в территориальные воды Биссы запрещен. Нарушение территориальных вод повлечет немедленное насильственное выдворение эскадры. Крэгс». Адмирал расхохотался, получив этот ответ. Боевые корабли эскадры через двадцать минут вошли в территориальные воды Биссы и заняли боевую позицию. Жерла орудий, как огромные указательные пальцы, были направлены на Фароо-Маро и стоявший по ту сторону острова «Ильич»… Последовала новая радиограмма командующего эскадрой: «Через пять минут начинаю обстрел». Радиостанция Биссы ответила: «Руководствуясь человеколюбием, вторично предупреждаю: любое враждебное действие вызовет выдворение эскадры. Крэгс». По истечении пяти минут последовал залп… Это был тот самый залп, который был слышен на вертолете, спасшем Юру и всех потерпевших кораблекрушение на каноэ деревни Вангуну. Казалось, содрогнулась не только громада кораблей, но и весь остров и океан до самого горизонта… Бледно-кровавые вспышки пламени вспыхнули на волнах багряными бликами… Одновременный залп орудий «Атлантиды» и «Колумба» был достаточен, чтобы стереть с лица земли два таких острова, как Фароо-Маро. Командующий, стремясь наверняка покончить с Биссой и «Ильичей», распорядился пустить в ход атомную артиллерию… Снарядам с «Атлантиды» и «Колумба» надо было всего десять секунд, чтобы преодолеть расстояние до Фароо-Маро. Однако прошло десять, двенадцать, пятнадцать минут после залпа, а на острове не наблюдалось никаких последствий страшного огневого удара. Ни мечущихся, еще уцелевших жителей, ни рушащихся зданий, ни гибнущих пальм, ни языков пламени, сливающихся в один грандиозный пожар. Ничего. Не было слышно даже взрыва… На берег лагуны не торопясь вышли туземные женщины, видно не понявшие, что крейсеры начали обстрел острова. Оживленно переговариваясь, они расположились полоскать белье. Только теперь новая радиограмма Крэгса была выслушана и изучена на «Атлантиде» с должным вниманием и тревогой. «Крейсеры произвели обстрел ядерной артиллерией. Одного залпа было более чем достаточно, чтобы полностью уничтожить Фароо-Маро. Как видите, вы бессильны. Я предупреждаю в последний раз. Предупреждаю командующих флотом и эскадрой, их офицеров и матросов. Предупреждаю правительство и народ вашей страны. Прекратите безумие. Еще один залп, и эскадра будет превращена в ничто, так же, как я уничтожил посланную вами на остров смерть. Крэгс». Крейсеры дали второй залп. На острове это снова не произвело никакого впечатления. Женщины как будто и не слышали ничего: горланя по-прежнему, они полоскали белье. — Еще залп! Еще! — Командующий тряс кулаками перед своими офицерами. — Пока мы не найдем щель… Бледный от ужаса радист, заглянув в рубку, молча сунул адмиралу радиограмму. — Что там? — крикнул командующий, вырывая послание. — Опять угрозы? Он прочел: «Всем правительствам мира. Сообщаю, что эскадра, атаковавшая Биссу, в течение трех секунд выброшена вон». — Пропаганда!.. Этот Крэгс сошел с ума… — выговорил адмирал, бросая бумажку, но это было его последним словом и последним жестом. Женщины, весело полоскавшие у берега лагуны белье, заметили, как словно молния сверкнула там, где только что стояли грозные корабли. Вспышка, затмившая солнце, мелькнула над океаном и исчезла. И кораблей не стало. Океан свободно, до горизонта катил свои могучие лазоревые волны…* * *
В этот яркий, солнечный день все золотистые пляжи Великой песчаной косы, которая от побережья Флориды тянулась на десятки миль в сторону Мексиканского залива, были усеяны тысячами отдыхающих пловцов и любителями подводной охоты. Веселый гомон развлекающейся человеческой толпы заглушал не только пронзительные крики чаек, но даже могучий рез океана. Гремели импровизированные оркестры; стонали банджо и гитары; шутливо покрикивали продавцы мороженого, соков и горячих сосисок; целая компания подводных охотников в своих причудливых ластах и аквалангах пыталась на кромке берега у воды изобразить только что изобретенный танец Нептуна… Все было, как в обычное солнечное воскресенье. Поэтому, когда странный солнечный зайчик остро резанул всех по глазам мгновенной ярчайшей вспышкой, это восприняли, как чью-то шутку. Но тотчас огромный многокилометровый пляж, буйно гудевший весельем, оцепенел, застыв в самых неожиданных позах. В следующее мгновение все шумно ринулись бежать, но остановились, задержанные не то страхом, не то любопытством. Всего в нескольких десятках метров от берега, там, где только что лишь солнечные блики сверкали на гребнях волн, где на ослепительно синем небе мелькали ярко-оранжевые клювы чаек, стрелой падавших на летучих рыбок, там теперь лежали огромные корабли. Они были несуразны к страшны… На берегу не сразу поняли, что это военные корабли — два крейсера и авианосец — и что корабли находятся в самом неестественном положении: стоят на песке, медленно, но неотвратимо заваливаясь набок… Не сразу увидели с берега и людей — моряков. Похоже было, что моряки не то долго спали, не то перенесли какое-то потрясение, от которого не могут оправиться. Люди на берегу и люди на кораблях пришли в себя примерно в одно и то же время. Пока на берегу знатоки флота и политических событий, прочитав названия кораблей — «Атлантида», «Колумб», «Океан», — обменивались недоуменными репликами о том, что ведь эти суда входят в состав седьмого флота и крейсируют где-то между Австралией и Индонезией, на кораблях послышались нервные, торопливые команды… Первые репортеры — кто захватив у берега лодки, кто просто вплавь — уже вертелись около гигантских стальных громад, силясь жалкими человеческими голосами в самодельные рупоры прокричать свои вопросы. Но еще до этого пришедшие в себя радисты кораблей, убедившись, что связь работает, передали в эфир сенсационные сообщения. В это невозможно было поверить! Как? Три первоклассных корабля общим водоизмещением едва не сто тысяч тонн, вооруженные атомной артиллерией, имея на борту почти тридцать тысяч человек и пятьдесят реактивных самолетов, были, словно ничтожная пыль, брошены в воздух и перекинуты за тысячи километров!.. Все они оказались аккуратно посаженными на песчаные отмели у пляжей Флориды. И это сделал какой-то ничтожный король Биссы! Мир испытывал необычайное потрясение. Злодейское нападение на Сергеева, которого уже газеты всех континентов называли «Человек-луч» и «Герой человечества», вооруженная агрессия седьмого флота против беззащитной Биссы и научного судна, не имевших никакого вооружения, и, наконец, чудесное и загадочное поражение седьмого флота, выброшенного на людные пляжи Флориды, за много тысяч километров от берегов Биссы, — все это повергло мир в необычайное волнение. В газетах промелькнуло интервью с академиком Андрюхиным, которого все эти события застали в самолете, на пути к Биссе, куда он вылетел, получив сообщение об исчезновении Сергеева. Академик Андрюхин заявил: «Мир сейчас неуязвим. Война бесцельна. Вы можете бросить весь флот, всю авиацию к берегам Биссы, но ни один снаряд и ни один солдат не достигнут этих берегов Король Биссы не нападает. Он защищается». В специальных выпусках газет, посвященных этому заявлению, ядовито намекали, что некоторые воинствующие правительства претендовали на мировое господство, но не могут справиться с игрушечным королевством, где постоянно проживает всего двести человек белых, весь флот состоит из нескольких туземных лодок, авиация — из двух спортивных самолетов, а артиллерия — из фейерверков; ими, как говорят, премьер-министр Хеджес любит отмечать всякое знаменательное происшествие…Все эти тревожные часы Юра находился между жизнью и смертью. События развивались с такой стремительностью, что невозможно было поверить, будто с момента появления Юры над океаном и до настоящего времени прошло менее четырех часов. В лазарет на «Ильиче», где лежал Юра, не доносилось ничего из бурного потока событий, потрясших весь мир. Юра все еще не приходил в сознание. Ни врачебные советы, которые шли теперь со всех концов мира, ни молитвы простых людей — итальянцев и индийцев, англичан и тибетцев — кажется, уже не могли его спасти. Лицо врача становилось все более мрачным; он опасался даже того, что не сумеет еще хоть на час-два поддержать едва тлевшую в Юре жизнь. — Вы можете умереть сами, убить любого из нас, — заявил профессор Паверман, сверкая глазами и колотя при каждом слове сухоньким кулачком по столу, — но Сергеев должен жить до приезда Андрюхина! И теперь врач через каждые полчаса, с лицом все более откровенно тревожным, докладывал Паверману, что пока его приказ выполняется. — Не мной, — прибавлял врач, — я бессилен… Самим Сергеевым. Как он живет, чем — не знаю… Но положение — безнадежно… Бубырь и Нинка сидели безвыходно в тесной клетушке у Пашки Алеева, в его, как он говорил, персональной каюте. Они больше молчали, то и дело по очереди принимаясь тискать Муху. Но она, словно что-то понимая и чувствуя, что эти ласки предназначаются не ей, не прыгала, не лаяла, а только тихонько повизгивала, глядя на них удивительно умными глазами. — А может, им нужна кровь? — вдруг зашевелился Бубырь. — У меня знаете ее сколько! Но Пашка, сердито отмахнувшись, заявил, что он сразу же предлагал, но крови не нужно. — Изобретают эти ученые, изобретают, — зло пробурчал Пашка, — а того не могут, чтобы за нужного человека другой бы пусть помер, ненужный!.. — А может, этот другой, — с испугом пробормотала Нинка, смотря на Пашку сквозь слезы, — может, он тоже когда-нибудь станет очень нужный!..
После поражения седьмого флота премьер-министр Хеджес явился к своему королю в явно ненормальном состоянии Нет, он был трезв, великолепно одет и даже пытался вести себя с достоинством, но руки его лихорадочно вздрагивали, глаза были воспалены — все выдавало, что Хеджес находится во власти новой аферы. — Что еще? — простонал Крэгс. Менее чем кого-нибудь ему хотелось видеть Хед-жеса в момент, когда горе от надвигающейся на Юру смерти вместе с неотвязной мыслью о последствиях столкновения с седьмым флотом сливались в какой-то кошмар. — Что вам нужно? — Если около вас не будет Хеджеса, — заявил его премьер-министр, — вы умрете таким же невинным ребенком, каким были всю жизнь! Кто вам сказал: держитесь Эндрюхи? Я! Вы послушались — и вот результат! Теперь слушайтесь дальше. Хватит этой мышиной возни в каком-то забытом богом и людьми ничтожном углу Южных морей! Пора выходить на авансцену. Черт возьми! Пора от обороны переходить к наступлению. Мы завоюем весь мир! — Что?! — крикнул Крэгс, не веря своим ушам. — Да, да! — продолжал бесноваться Хеджес. — Но это только начало. Планета признает вас своим властителем! Вы властелин мира, а я… — Вон! — заорал Крэгс, не в силах далее переносить бред своего премьер-министра. — Вон! Я снимаю вас с поста премьер-министра! Вы назначаетесь… назначаетесь… — Он никак не мог подобрать ничего подходящего, но наконец его осенило: — Я назначаю вас заведующим королевской бильярдной! А теперь оставьте меня в покое… На крупнейших биржах началась паника. Обычно неколебимо стоявшие на бирже ценности, прежде всего акции многочисленных и наиболее могущественных компаний, связанных с производством военных материалов, неудержимо катились вниз. На улицах Нью-Йорка и Чикаго появились войска и танки. Но солдаты охотно обнимались с демонстрантами, требующими мира, — прежде всего мира! — и не возражали, когда группы девушек с цветами в руках забирались на танки… И танки, и солдаты, и толпы демонстрантов безмолвно стояли у репродукторов, передававших последние бюллетени о состоянии здоровья Юрия Сергеева… Человек-луч умирал. В палате госпиталя врач и его ассистенты уже ни на секунду не отлучались от него. В 16 часов 45 минут судорога прошла по большому телу Юры. Медленно, словно отлипая, раскрылись стекленевшие глаза. Дрогнули крупные запекшиеся губы. Врач прильнул к нему, пытаясь разобрать, что он хочет сказать. — Ко-онец? — вздохнули черные губы. Врач подумал, что Юра говорит о себе. — Очнулся? Великолепно! — заговорил он поспешно тем нарочито веселым, бодрым голосом, который пускает в ход врач, когда исчерпаны уже все средства для спасения больного. — Теперь будешь жить! Теперь, брат… — Ко-онец войне? — с невыразимой мукой упрямо выдохнули губы. И врач, позабыв все, чему его учили, позабыв, что он врач, неожиданно став смирно перед этим умирающим, хотел что-то сказать, но, чувствуя, что злое, ненужное рыдание прерывает его голос, только строго и выразительно принялся кивать головой. Ассистенты врача, профессор Паверман и вошедший в палату Крэгс, не шевелясь, замерли там, где их застала эта неожиданная сцена. В глазах Юры на мгновение словно проскочила искра. Рука его дрогнула. Врачу показалось, что Юра тянется куда-то. Шагнув вперед, врач хотел помочь, но не успел. Тяжелая рука Юры безвольно проползла по простыне и повисла вдоль кровати. Прошло, наверное, не более минуты, самой мучительной минуты в жизни всех присутствующих. Старый врач, стоя в ногах постели, выпрямившись, как часовой, сказал, глядя прямо в лица товарищей: — Все… Наступила клиническая смерть… Было так тихо, что все они услышали осторожные, почти бесшумные шаги профессора Павермана, услышали, как он взял телефонную трубку и, что-то выслушав, неожиданно резко сказал: — Всем слушать мою команду! Немедленно доставить Сергеева в фотонную камеру линкора… Великий хирург Синг Чандр предлагает свои услуги… Обернувшись к радисту, Паверман коротко приказал ему: — Свяжитесь с самолетом Андрюхина. Сообщите ему и Шумило, пусть возьмут курс на Калькутту.
В сверкающей серебром металла и белизной калькуттской хирургической клинике, у пустого операционного стола, рядом с Синг Чандром, стояла в напряженной позе Анна Михеевна Шумило. Оба были в белых хирургических масках, в их руках тускло поблескивали инструменты. Окружившие их ассистенты держали наготове перевязочный материал и шприцы. Лишь один посторонний был допущен в эту хирургическую, где еще не было больного, но он мог возникнуть ежесекундно… Этим посторонним был Иван Дмитриевич Андрюхин. Сидя в стороне, под бесшумным вентилятором, он считал: — Семнадцать… Шестнадцать… Пятнадцать… Голос его глухо звучал сквозь плотную марлевую повязку. Группа врачей застыла, как мраморные изваяния. Растопырив пальцы в маслянистых перчатках, наклонив крупную курчавую голову, увенчанную белоснежной шапочкой, впереди неподвижно стоял великий кудесник Синг Чандр, не отводя глаз от пустой, блестящей белизны стола. — Шесть… Пять… Четыре… — все тише, но напряженнее считал Андрюхин. И, словно подчиняясь его голосу, Чандр и Шумило непроизвольно нагнулись над столом. — Один! — неожиданно громко сказал Андрюхин. Искры полыхнули по острым ребрам стола, над ним заколебалось искрящееся туманное облачко. Врачи, жмурясь, невольно выпрямились. Но тотчас шагнули вперед. Когда они открыли глаза, на столе, несколько набок, в неудобной позе, было уже распростерто мертвое, слегка тронутое желтизной тело Юры Сергеева… — Внимание! — глухо произнес Синг Чандр, нагибаясь над этим огромным, бессильным и все же прекрасным телом. Андрюхин, коротко вздохнув, направился к двери, за которой его ждали сотни представителей печати и радио, — ждал весь мир, притихший от томительной неизвестности, от острого страха за судьбу Человека-луча…
Глава пятнадцатая СИЯНИЕ НАД ЗЕМЛЕЙ
Прошло немало дней, прежде чем Юра очнулся и открыл глаза. Однажды ночью Женя, дремавшая в кресле у его постели, проснулась от тревожного ощущения, что на нее смотрят, и, открыв глаза, увидела глаза Юры. — Женька… — Юра хотел сказать это весело, но вышел шелестящий шепот. — Заговорил!.. — Она сползла с кресла на пол и, стоя на коленях, на мгновение приникла распухшим от слез лицом к его бледной руке. — Заговорил!.. Она метнулась к двери, но, не решаясь оставить его, только нажала кнопку звонка, который был установлен в каюте Анны Михеевны. — Где мы? — с трудом вымолвил Юра, поводя глазами по сторонам. Действительно, огромная комната, прямо-таки величественная кровать, хрустальные люстры, великолепные гобелены на стенах, все это совершенно не походило на строгий лазарет «Ильича»… — Молчи! Молчи! — Женя метнулась к нему, но остановилась у кровати, стиснув у шеи худые кулаки и не решаясь даже нагнуться. — Юрка! Заговорил!.. — Почему я должен молчать? — Он с радостью чувствовал, что живет, попробовал даже пошевелиться, но тотчас острая боль едва не швырнула его в беспамятство. — Не шевелись! — крикнула Женя. Лицо ее мгновенно исказилось той же болью, какая пронзила его. — Молчи! Привычно застегивая халат и поправляя белоснежную круглую шапочку, в дверях показалась Анна Михеевна, вопросительно глядя на Женю. — Заговорил! — Женя поспешно отодвинулась от кровати. — Здравствуйте, Анна Михеевна! — прошелестел Юра, вглядываясь в знакомое моложавое лицо, над которым упрямо вились кудри седых волос. — Ну, ну… Очень рада! — Она присела рядом с кроватью. Ее широкая, мягкая ладонь легла на Юрино лицо, на шею, отодвинула простыню. И Юре, впервые после многих дней увидевшему свое тело, стало неловко за его ватную слабость, неподвижность. Он опять попробовал шевельнуться, и снова мрак на мгновение затопил его мозг. — Лежать! — прикрикнула Анна Михеевна. — Действительно, Бычок! Никакая наука не может пока создать, брат, такое сердце, такие легкие… — Приложив к его туго забинтованной груди ухо, пристраивая его между бинтами, она потянулась к Жене за фонендоскопом. — Не болтать! Тщательно выслушав больного, Анна Михеевна аккуратно свернула фонендоскоп и отдала его Жене, продолжая рассматривать Юру. — Кормить атмовитаминами, начнете с номера пятого… Утром сделайте вливание витоглюкозы… — Вливание? — Юра умоляюще взглянул на Анну Михеевну. — Запомните! — отрезала она голосом, не допускающим никаких возражений. — Вы находитесь на флагманском корабле флота Академии наук, на лайнере «Ломоносов». Родина и весь мир оказывают вам величайшие почести. Вы — Человек-луч, Герой человечества и прочее!.. Но, пока вы мой больной, забудьте об этом. Вы будете делать только то, что я прикажу. Сейчас я приказываю спать… Женя, вы уйдете со мной! — Но ведь я ничего не знаю… — пробормотал было Юра. — Вот и отлично! — Анна Михеевна, пропуская Женю вперед, плотно закрыла за собой дверь. Он долго лежал с открытыми глазами, удивленно улыбаясь, иногда хмурясь, вспоминая все, что с ним было, и думал о словах Анны Михеевны. Как он очутился на «Ломоносове»? Что это все значит? Что обозначают ее слова о почестях и прочем? Профессор Шумило была права: Юра, Женя и академик Андрюхин, профессор Паверман и Ван Лан-ши, а также ребята — Пашка, Бубырь и Нинка — возвращались домой на научном флагмане «Ломоносов». Почти все страны мира просили разрешения участвовать в почетном эскорте. И сейчас следом за «Ломоносовым» шло не менее семидесяти различных кораблей всех флотов мира. Даже ночью, даже в самую злую штормовую погоду корабли шли иллюминированными чуть ли не от ватерлинии до верхушек радиомачт, словно целый лес огромных новогодних елок… С авианосцев в воздух то и дело срывались, как стаи ласточек, самолеты. Фигурами высшего пилотажа, целым каскадом головокружительных взлетов, падений, своим виртуозным мастерством они словно пели песню бессмертному подвигу Сергеева, простого парня, секретаря заводской комсомольской организации. Теперь уже не сотни, а тысячи корреспондентов пытались проникнуть к Сергееву, увидеть академика Андрюхина или хотя бы поговорить с членами экспедиции. Во время стоянки кораблей на рейде в Коломбо, когда Бубырь и Нинка в сопровождении мистера Крэгса отправились в порт в надежде походить немного по твердой земле и посмотреть на заморские края, им даже не удалось высадиться. Необозримая толпа ждала любых вестей с «Ломоносова»; шлюпку окружили, ей навстречу плыли яхты, джонки, лодки любых фасонов и названий, настолько набитые людьми, что кто-нибудь то и дело сваливался в воду. Двое фотографов долго плыли неподалеку от шлюпки и, поддерживая друг друга, фотографировали Крэгса и ребят. Потом они начали умолять, чтобы им сказали что-нибудь, что угодно, хоть несколько слов. Тогда Нинка не выдержала, подтолкнула Бубыря. И не успели их удержать, как они, хохоча, заорали: — Ура! Ура! Ура!.. Пашка, Нинка и Бубырь получили около сотни почетных жетонов от детских организаций разных стран. Пашка особенно гордился свидетельством о своем назначении почетным юнгой флагмана китайского флота. Не обошлось и без неприятностей. Пронырливые корреспонденты, узнав кое-что о характерах и склонностях членов экспедиции, сообщили об этом всему миру. И в один прекрасный день Бубырь узнал, что он избран почетным членом французского гастрономического клуба «Чрево», а Нинка получила приглашение немедленно войти в правление Брюссельского дома моделей. Она очень испугалась. — Что я там буду делать? — приставала она ко всем. — Откажись! — мрачно бубнил Бубырь, удрученный нахальством французских чревоугодников. — Они же прислали бумагу с печатью! Что теперь будет? — ужасалась Нинка. Шел день за днем, ребята уже несколько освоились на «Ломоносове», два раза говорили с самим капитаном. Не только Павлик, но даже Бубырь, даже Нинка уже определяли флаги всех государств, чьи корабли шли в почетном эскорте. Нинка успела целый день проходить в сшитой для нее матросской форме и сбросила ее только под градом насмешек Бубыря и Павлика. Все шло хорошо, если бы не одно обстоятельство… С момента, когда вертолет опустился на экспедиционное судно «Ильич», и до настоящего времени — никто из ребят так и не видел Юру Сергеева… Ребята чувствовали что-то крайне несправедливое в том, что им не разрешают взглянуть на Юру. Нинка даже пыталась доказать, что это ухудшает его здоровье. — А что? — убеждала она Пашку и Бубыря. — Юра нас любит? Любит. Ему хочется нас повидать? Хочется. А желание больных надо удовлетворять, их нельзя нервировать… Она попыталась изложить свою теорию Анне Михеевне, но Женя ее прогнала. Нинка тотчас решила, что их главный враг — Женя. — У нее такой характер! — объяснила она. — Ей всегда хочется быть главной. Командовать. Чтобы все ее видели… Однажды Паверман, заблудившись на корабле, налетел на грустивших ребят. Поправив очки и взъерошив дыбом шевелюру, он подступил к Лёне, припоминая, что должен готовить из него ученого. — Что ты делаешь? — спросил он. — Мне кажется, ты теряешь даром время. — Нет, мы думаем, — возразил Леня. — Мы соображаем. — Вот как? Что именно? — Понимаете, — Леня решил, что профессор Паверман может пригодиться, — нам очень хочется повидать Юру. Мы же старые друзья! Никто из вас, даже академик Андрюхин, еще не знал Юру, а мы уже были знакомы… — К нему, — торжественно заявил Паверман, — имеют доступ только Женя, Анна Михеевна и академик Андрюхин… Но, наверное, профессор Паверман все же поделился с кем-нибудь этим разговором, потому что вечером, когда ребята уже укладывались спать, к ним таинственно заглянул сам Иван Дмитриевич. Прикрыв за собой дверь каюты и засунув руки в карманы широких брюк, он принялся прохаживаться между кроватями, хитро поглядывая на ребят, замиравших от любопытства. — Спите? — спросил он наконец. — Ага! — радостно хихикая, хором ответили Бубырь и Нинка. — Вот и чудесно. Животы, носы, руки-ноги в порядке? — В порядке! — подтвердили Бубырь и Нинка. — А может, вы бациллоносители? — подумав, спросил он страшным голосом. — Нет, нет, нет! — завизжала просвещенная еще с детского сада Нинка. — Очень хорошо! — сказал Андрюхин, щелкнул Бубыря по носу и ушел. Ребята тотчас уселись на своих кроватях и вытаращили друг на друга глаза. — Орлы, не спать! — завопил Бубырь. — Сейчас мы пойдем к Юре. — Пойдешь ты, как же! — отпарировала Нинка, не спуская глаз с двери и всей душой веря, что Бубырь прав. Но прошло полчаса, час… Заглянул приставленный к ним матрос и, ворча, выключил свет. — Спать, воробьи! — хмуро сказал Пашка, демонстративно отвернувшись носом к стене. На следующее утро их разбудили на рассвете. Женя вывела ребят на палубу, усадила в плетеные кресла, сунула по булке с маслом и велела сидеть. — А если кто будет гнать, скажите: вам здесь приказал сидеть сам адмирал. И ушла. Вскоре пришли во главе с боцманом матросы и принялись натягивать леера, отгораживая именно ту часть палубы, где находились ребята. — А ну, давай отсюда! — хмуро брякнул боцман. Проиграв Лёне партию в шахматы, он в глубине души твердо решил, что не дело ребятам быть на корабле. — Нам сам адмирал разрешил! — заявил Бубырь. — Я тебе покажу адмирала! — И боцман, ухватившись за плетеное кресло, поднял было его вместе с Бубырем, но откуда-то сверху начальственный голос коротко приказал: — Отставить! Торопясь поставить кресло, боцман чуть не уронил его. — Продолжать работу! — изрек тот же голос. Замкнув ребят, плотно сидевших в своих креслах, в тугую ограду лееров, матросы ушли. Зато вскоре вокруг начали накапливаться пассажиры «Ломоносова» — ученые, писатели, журналисты, официальные представители правительств. И чем дальше, тем больше. Все они собирались с двух сторон отгороженного пространства, оставляя свободной сторону, обращенную внутрь корабля. Ребята начинали чувствовать себя неловко. Было такое ощущение, что их посадили в клетку, а вокруг собираются зрители, правда с очень почтительными, даже радостными лицами, но явно ждущие чего-то. Вдруг рядом раздались негромкие, осторожные аплодисменты. Взгляды всех присутствующих устремились в глубь корабля, к проходу, по которому между двух шеренг матросов в парадной форме медленно катилось большое кресло. В нем с растерянным лицом, одновременно встревоженный и радостный, полулежал Юра Сергеев. Ребята узнали его, конечно, сразу, но сердца их сжались, когда они увидели, какой он стал худой, слабый и бледный до желтизны. Словно охраняя его, ни разу не взглянув по сторонам, не спуская глаз с Юры, шли по бокам Анна Михеевна и Женя, а позади академик Андрюхин. Ребята давно встали со своих плетеных кресел и, не зная, что делать, то передвигали кресла в угол, то начинали тоже аплодировать, стараясь принять независимый вид. Леера приподняли, кресло проехало к самому борту линкора. И тотчас на всех кораблях эскорта загремела музыка. Заглушая ее, понеслись радостные крики, суда одно за другим стали выбрасывать сигналы: «Да здравствует Человек-луч!», «Мир — миру!..» При виде этого величественного зрелища, при первых звуках музыки и восторженных криках, приветствовавших его появление, Юра, забыв обо всем, хотел встать, но твердые руки Анны Михеевны не дали ему даже пошевельнуться. Тогда он, вспомнив о чем-то, беспокойно зашевелился, крутя во все стороны головой. Но ему уже протянули трепещущий белоснежный комок — голубя. И вот один за другим из его рук несколько голубей взмыли в сияющее небо… Пока академик, осторожно раздвигая знаменитых гостей, шел к ошеломленным, вытянувшимся в струнку ребятам, первой, выскользнув из рук Бубыря, кинулась к Юре Муха. Захлебываясь от визга и, наверное, впервые горячо сожалея, что собакам не дано разговаривать, она подскочила к Юриному креслу, сделала даже попытку вспрыгнуть к нему на колени, перевернулась, шлепнулась на спину, принялась, вскочив, прыгать на задних лапах и, наконец, нежно повизгивая, замерла в своей классической позе: опрокинувшись на спину и настоятельно требуя внимания и ласки. Напряжение, выражение торжественности и неловкости словно смыло с бледного лица Юры. И на нем проступила та знакомая, широкая, лукавая улыбка, заметив которую ребята с глубоким вздохом облегчения, узнав прежнего Юру, осторожно приблизились к его креслу. — Смотри-ка, Павлик! — еще слабым, негромким, но веселым голосом сказал Юра. — О-о, Бубырь, Нинка! Здорово!.. — Здравствуйте! — пробурчал Пашка, впервые называя Юру на «вы» и не зная, куда девать руки и ноги, которых вдруг оказалось очень много. — А вставать вы еще не можете? — тревожно спросил Бубырь. Нинка, что-то беззвучно шепча, сердито дергала за штаны то Пашку, то Бубыря, возмущаясь тем, что они все делают совсем не так, говорят совсем не то и вообще оскандалились на глазах всего человечества. — Не бойся, друг! — с удовольствием глядя на Бубыря, говорил Юра. — Встану — выйду на лед. Все будет по-старому! И «Химик» станет чемпионом мира!Лучшие радиокомментаторы, крупнейшие писатели вели для всего мира радиопередачу с «Ломоносова», посвященную выздоровлению Человека-луча. На время радиопередачи были приостановлены все работы на земном шаре, движение всего транспорта. В Париже, в зале Плейель, где собралось межевропейское государственное совещание по выработке плана уничтожения всех запасов ядерного оружия, делегаты совещания стоя выслушали эту передачу. После этого было оглашено обращение к Советскому Союзу, единогласно принятое делегациями Англии, Франции, Швеции, Италии, Голландии и других держав. В этом обращении говорилось: «Руководствуясь принципами мира между народами, дальнейшего прогресса человечества, не сдерживаемого кошмаром войны, полномочные представители всех европейских стран обращаются от имени своих народов к правительству Советского Союза. 1. Мы просим вас на основе последних достижений науки помочь в уничтожении всех имеющихся на территории Европы запасов ядерного оружия, выбросив его за пределы земной атмосферы, с тем чтобы не допустить опасного заражения воздуха, воды и почвы. 2. Согласиться совместно с Соединенными Штатами на всеобщее уничтожение ядерного оружия, ставшего ныне полностью бесполезным с военной точки зрения. Присоединение Советского Союза и Соединенных Штатов к нашему решению, находящему горячую поддержку всех народов, навсегда развеет мучительный страх перед войной, грозящей истреблением человечеству». Обращение было благоприятно встречено Советским Союзом. Европа приступила к уничтожению тех арсеналов смерти, которые годами, как гнойные злокачественные язвы, росли на ее теле. Корабли проходили уже Северное море, когда необычайно высоко над горизонтом повисли всполохи, напоминающие северное сияние. Фотонные площадки академика Андрюхина чистили Европу, выбрасывая за тысячи километров от Земли ярчайшие стрелы лучей: это уходили с Земли зловещие ядерные взрывы, смертоносная радиоактивная пыль, уходила смерть… Через сутки корабли приблизились к Ленинграду. Корабли остановились на рейде Кронштадта. Вечером состоялась торжественная церемония прощания с экипажами кораблей. Рано утром два «ТУ-150», имея на борту более пятисот человек, приглашенных на празднования в Москву, поднялись в воздух. На первом самолете летели все члены экспедиции во главе с академиком Андрюхиным и Юрой. Вся Москва встречала наших путешественников. Даже в Кремле людьми были унизаны все здания и соборы; какая-то девушка, очень похожая на Женю, стояла на самой шишечке Царь-колокола, размахивая цветным шарфом и крича во все горло, а на Царь-пушке народу было больше, чем в вагоне метро в часы пик. Только у Большого Кремлевского дворца розовый от цветов квадрат площади был пуст. Милиция и добровольцы из толпы, стоя в несколько рядов и намертво сцепив руки, сдерживали натиск рвущейся вперед толпы. Когда путешественники, потрясенные встречей, до предела смятенные силой народной любви, запыхавшиеся, растрепанные, разгоряченные, осыпанные лепестками цветов, вошли в Георгиевский зал, навстречу им уже двигалась небольшая группа людей. Академик Андрюхин был знаком с членами правительства и представил Юру Сергеева, своих помощников, Лайонеля Крэгса, ученых академического городка, а также участников экспедиции. Когда прошли первые приветствия, все познакомились и, сидя за праздничным столом, стали несколько приходить в себя, Председатель Совета Министров наклонился к Юре и негромко спросил: — Как дальше думаете жить? Глаза его внимательно и дружелюбно рассматривали Юру. — Уеду в академический городок, — встрепенулся Юра. — У академика Андрюхина есть кое-какие планы… Если здоровье позволит, будем готовить новый полет. Вернусь в Майск, на свой комбинат. Буду работать, играть в хоккей, учиться…
Глава шестнадцатая ЧЕЛОВЕК-ЛУЧ, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Ночью Женя проснулась, придавленная страхом. Несколько мгновений она не смела открыть глаза, зная, что сейчас произошло что-то страшное. Не двигаясь, почти не дыша, она думала: что? И вдруг, широко открыв глаза, вскочила. Нет Юры! Включив свет, она сорвалась с кровати, подбежала к распахнутому окну, откуда тянуло острой свежестью, пахло Москвой, родным домом… Окончательно проснувшись, Женя вспомнила, как даже на торжественном приеме Юра и Андрюхин умудрились уединиться, о чем-то таинственно беседуя, как они, ничего не замечая, шли потом по коридору небольшого дома, где их расселили на ночь… Конечно, Юра у Андрюхина. Что же они еще затевают? Как была, в пижаме, она забралась с ногами на широкий подоконник и, ничего не видя, уставилась на темные ели, на плывущие далеко огни… Ей припомнились некоторые книги и фильмы, и она с горькой усмешкой перебирала туманные образы жен, преданных, безропотных, растворяющихся в деятельности великих мужей. Эти жены варили своим мужьям вкусные обеды, вовремя пришивали пуговицы, удостаивались чести переписывать их труды, собирали в семейные альбомы разные примечательные фотографии. Нет, Женю не манила такая жизнь; при одной мысли о подобном существовании ей становилось тошно. Потом, как маяк, выплыл образ гордой польки, Марии Склодовской, по мужу — Кюри. Рядом с мужем она прокладывала глубокую борозду по целине, еще не известной науке. И кто пахал глубже?.. Но Юрка увлекся кибернетикой, а Женя всей душой была предана медицине. Им не идти в одной упряжке! Что же, все равно, все равно — слышите? — она станет вровень с ним! И ветер, который пахнул в это мгновение в окно, как будто подхватил Женю и упруго поднял вверх. Она вся напряглась в радостном сознании своей силы, в нетерпеливой жажде сейчас же что-то делать, творить, дерзать. Девушка мечтательно закинула голову и, едва не свалившись с подоконника, неожиданно ощутила, что сидит в Кремле. Невольно запахнув пижаму, пригладив волосы и согнав ребячью улыбку беспричинного счастья, Женя спрыгнула в комнату, тихо забралась в кровать, но, как ни старалась, не могла придумать ничего интересного ни о человечестве, ни о мире… Она уже дремала, когда чуть слышно скрипнула дверь. Легкое движение в комнате заставило ее встрепенуться. Было уже светло. Она увидела, как небольшой черный ящик подплыл к кровати и остановился в метре над головой. Женя, щурясь, присмотрелась. Над нею, неясно поблескивая горящими лампами, едва слышно шипел готовый заговорить радиоприемник. Женя приподнялась и, вздохнув, выключила его: она не одобряла мальчишеских проделок академика Андрюхина. Тотчас, смущенно потирая руки, явился сам Иван Дмитриевич, а за ним и Юра. — Не спишь? — осведомились они. — Сплю, — возразила Женя, кутаясь в одеяло. — Совершенно зря! — возмутился академик. — Уже семь часов! В десять митинг. Неужели мы не проедемся по Москве, пока нас не начали снова тискать? Через полчаса их машина, никем не замеченная, выскользнула на уже оживленные улицы. Они долго колесили по Москве. Андрюхин сам вел машину. — Все это великолепно! — заявила Женя, не в силах дальше терпеть томительную неизвестность. — Но я хочу наконец знать, о чем вы шепчетесь, что от меня скрываете и во что еще должен будет превратиться мой муж! Вы знаете, — она подняла сердитые глаза на академика Андрюхина, — Юра Сергеев — мой муж… — Да-да, — заторопился Андрюхин, — ведь я до сих пор не принес вам своих поздравлений… Это непростительно! Крэгс прав — я бестактен, я свинья… — Иван Дмитриевич! — Женя, как будто делая академику выговор, укоризненно покачала головой. — Я хочу знать, во что будет превращен мой супруг. Андрюхин встревоженно покосился на Юру. Тот смотрел в сторону, как будто разговор его не касался. Андрюхин кашлянул. Юра не оглянулся. — Сказать, что ли? — сердито выговорил Андрюхин. Женя замерла, понимая, что сейчас откроется тайна, мучившая ее уже много дней. — Смотрите! — вскрикнул в этот момент Юра. — Узнаете?.. Они были где-то в районе Фрунзенской набережной. По свежевымытой улице двигалась небольшая группа в составе узкоплечего, сутулого мужчины, очень толстого мальчишки, быстрого, подвижного, как вьюн, подростка с хмурым и недоверчивым лицом и тощей, глазастой, с острым носиком девчонки. — Бубырь! — захохотал Андрюхин. — Нинка-пружинка! Павлик Алеев! Кто же это с ними? — Отец Бубырин, — сказала Женя, сердясь на помеху, но все же заинтригованная встречей. Их машина остановилась у тротуара, в пяти шагах от совещавшихся о чем-то ребят. Папа Бубырин не принимал участия в совещании; он с любопытством поглядывал по сторонам и взирал на огромный двенадцатиэтажный дом, перед которым они остановились. С десятков балконов, из сотен окон, несмотря на ранний час, жильцы наблюдали праздничную Москву. Им была видна даже Красная площадь… Подчиняясь решительному жесту Пашки, ребята скрылись в воротах огромного дома; пожимая плечами, что-то бормоча, папа Бубырин побрел сзади. — Пошли за ними! — решительно заявил Андрюхин, озорно блестя глазами. Вряд ли кому могло прийти в голову, что герои, ради которых Москва надела праздничный наряд, выскочив из машины, побежали за мальчишками. Во дворе им не встретилось ни души; после шумной улицы здесь было особенно тихо. — Вот она! — крикнул Пашка, бросаясь вперед. Обгоняя друг друга, ребята рванулись за ним; позади, спотыкаясь, бежал Бубырин-старший. А за всей этой компанией осторожно крались Андрюхин, Юра и Женя. Пашка первый подскочил к пожарной лестнице и, не оглядываясь, быстро полез вверх. За ним, не раздумывая, — Бубырь и Нинка. — Вы с ума сошли! — вскричал папа, останавливаясь у лестницы. — Свернете шеи! Что я скажу маме? Но, так как эти вопли оставались без ответа, папа, воровато оглянувшись по сторонам, тоже уцепился за лестницу и довольно ловко полез следом за ребятами. Когда они, преодолев все двенадцать этажей, скрылись на крыше, академик Андрюхин нетерпеливо спросил Юру: — Пояс при тебе? — Конечно. — Впрочем, интересно именно по лестнице… Зачем-то пригибаясь и пряча головы в плечи, они перебежали двор и один за другим вскарабкались на пожарную лестницу. Тем временем ребята, шагнув с лестницы на крышу, убедились, что отсюда действительно видно далеко. Теперь им могли позавидовать не только зрители, толпящиеся на улице, но даже те, кто сидел на балконах. Красная площадь была так близко, что это и радовало, и пугало… — Это Мавзолей, правда? — спросила Нинка негромко. — И Кремль… Смотри, Спасская башня, часы! — Бубырь словно удивлялся, что все осталось на месте после того как они залезли в центре Москвы на крышу двенадцатиэтажного дома. — А почему на Мавзолее никого нет? — спросила Нинка. — Еще рано… — Придерживаясь за парапет, Пашка взглянул на часы, висящие далеко внизу. — Только четверть десятого. Все правительство, академик Андрюхин и Юра Сергеев выйдут ровно в десять. — Ты бы хотел там быть? — Я? — Пашка хмуро пожал плечами. — Зачем? — А я бы пошла! — Нинка глядела на Пашку снизу вверх и расправляла грязными пальцами свой замечательный бант. — Я бы пошла и всем крикнула: «Здравствуйте, люди!» — Крикни здесь, — посоветовал Пашка. — А что? — Лицо Нинки вспыхнуло радостной решительностью. — Думаешь, не крикну? Думаешь, испугаюсь? Она уцепилась худыми пальцами за парапет, нагнулась над далекими, яркими толпами и пронзительно, что было мочи, закричала: — Здравствуйте-е!.. Люди-и!.. Но улица продолжала катить свои пестрые волны так, как будто ничего не случилось. — Боже мой! — задыхаясь, едва выговорил папа, показываясь в этот момент над крышей. — Что бы сказала мама!.. — Где-то сейчас Юра и академик Андрюхин?.. — мечтательно протянула Нинка, вглядываясь в Мавзолей. — А они здесь! — услышали ребята знакомый голос. Над крышей, одно за другим, показались смеющиеся лица академика Андрю-хина, Юры и Жени. Все бросились к ним. — Не знаю, выйдет лииз тебя ученый, — сказал Андрюхин, обнимая Пашку за плечи, — но на местности ты ориентируешься потрясающе! Какую высотку занял, а? Они уселись прямо на крыше, продев ноги сквозь железные прутья ограды. Несколько минут все любовались Москвой, нежно-голубым небом, пронизанным солнцем; прислушивались к праздничному гулу. Потом, глубоко вздохнув, Бубырь сказал: — А что дальше?.. Опять учиться? Улыбка на лице академика Андрюхина несколько потускнела. Он повернул к себе физиономию Бубыря и внимательно ее изучил. — М-да… — неопределенно проворчал затем академик. — Скажи, в четвертом классе вам рассказывали о пище, о ее калорийности, витаминах? — О пище он и так все знает, — немедленно ввернула Нинка. — Видишь ли, давно известно, что человеку необходимо ежедневно получать такое количество разнообразной пищи, которая бы давала в среднем три тысячи пятьсот калорий, — словно размышляя, продолжал Андрюхин. — Это известно. Насчет пищи. Три с половиной тысячи калорий. Но до сих пор не подсчитан и никому не известен тот минимум знаний, который человек тоже должен получать ежедневно, чтобы оставаться человеком. Мы не животные. Мы не машины по переработке пищи. Мы — люди! Пища — это очень важно: калории, витамины! Но знать — важнее всего! Теперь он стоял, расставив ноги, борода его развевалась, лицо как будто вздрагивало от восторга. — Знать! Знать!.. Вот голод, который будет вечно терзать человека! Только тот, кто перестал быть человеком, свободен от такого голода, сыт, удовлетворен, равнодушен. А мы не можем успокаиваться! Вчера впервые человек стал лучом, этот пучок света преодолел двадцать километров… Наши сердца были потрясены! Сегодня Человек-луч мгновенно пересек материки и океаны и возродился за десять тысяч километров! Завтра Человек-луч покинет пределы Земли и уйдет в Космос на сотни тысяч, а потом и на миллионы километров… — Что? — крикнула Женя. — Что?.. — Кто будет этим человеком, мы не знаем, — слегка запнувшись, продолжал Андрюхин. — Может быть, снова Юра, может — Женя, — он крепко взял ее за руку, — а возможно, что решение тех чертовски сложных задач, которые возникают при переброске луча в Космос, затянется и только вот он, лентяй, еще далеко не ставший человеком, — он щелкнул по носу Бубыря, — впервые уйдет в мировое пространство, став лучом… — Так вот о чем вы думаете, — пробормотала Женя, не спуская с Юры глаз. — Вот о чем… Он мягко вскочил и, улыбаясь ей, слегка пожал плечами: — До всего этого далеко! Зачем переживать заранее?.. — Он крепко сжал ее руки. — Ну, Женька! Ну! Да брось ты в самом деле! Обхватив ее за талию, Юра закружился в вальсе, упорно тормоша упирающуюся Женю. — Вальс на крыше. Великолепное зрелище! — пробормотал Андрюхин, вынимая часы. — Но, к сожалению… В тот же миг куранты на Спасской башне начали свой трепетный перезвон. — Придется поторопиться, — сказал Андрюхин и, спрятав часы, слегка сдвинул пряжку на поясе. Все невольно посторонились: академик на несколько метров приподнялся над крышей и, словно разминаясь, неловко пошел по воздуху в сторону и остановился над улицей, дожидаясь Юру. — Пойдем с нами! — шепнул Юра Жене. — Хочешь? Мы подхватим тебя и понесем! — Иди, иди! — Она притворно-сердито оттолкнула его, торопливо целуя на прощание. — Это не для меня… Я прорублю свою дорогу!.. И они ушли. Сначала, как будто пробуя, достаточно ли хорошо их держит воздух, они прошлись над крышей, над улицей, но с первым ударом часов быстро зашагали по воздуху напрямик к Красной площади, над заметившими их, ревущими в беспредельном восторге миллионными толпами москвичей…С. Марвич История одного ордена
Документальная повесть

ОТ АВТОРА
Об Анри Мартэне во Франции говорят, что он награжден высшим орденом республики потому, что моряк Анри, заключенный в тюрьму, получил его непосредственно от французского народа. О том, как это произошло, рассказано на последней странице нашей правдивой повести. С того дня, когда молодого моряка заперли в каменном мешке тулонской военной тюрьмы, вся передовая Франция, а затем борцы за мир в других странах поднялись на защиту Анри Мартэна. Его имя можно поставить в ряду тех патриотов Франции, пример которых объединял лучших людей страны для борьбы с темными силами реакции. Об Анри Мартэне много писали в газетах и в журналах, его жизни посвящали книги, он стал героем пьесы. Все эти материалы послужили основой нашего рассказа о нем.НА МАГИСТРАЛЯХ ТРЕХ СТРАН
В открытое окно вагона заглядывает большой букет пестрых полевых цветов. — Кому? — Анри Мартэну! — отвечает звонкий голос. На другой станции возле окна появляется корзиночка с вишнями, темными, переполненными соком. — Кому? — Анри Мартэну! Он здесь. Поезд идет по магистралям Чехословакии, Венгрии, Румынии, — поезд делегатов Всемирного фестиваля молодежи в Румынии. Станция. Легкий стук в дверь купе. На пороге — школьник в коротких штанах с помочами крест-накрест. Он молча протягивает блокнот. Делегат Анри Мартэн пишет: «Мы всё сделаем для того, чтобы ты не воевал, малыш». Еще станция. Входит женщина средних лет, одетая, как одеваются для уборки дома — в комбинезон из дешевой синей материи. Ее дом в минуте ходьбы от станции. Когда поезд уже был у семафора, она выключила пылесос. Не было времени переодеться. — Мне только взглянуть на вас, Анри Мартэн! Короткая пауза. И следующей фразой женщина, прервавшая домашнюю уборку, объясняет, почему ей хотелось взглянуть на Анри Мартэна: — У меня пятеро детей. Старшему сыну девятнадцать… И еще станция. Входит парень в зеленой вельветовой куртке, накинутой на плечи, в башмаках на здоровенной подметке. Он веснушчат, смешлив, немного знает по-французски. — Тебя в школе учили этому? — спрашивает Мартэн. — Нет, не в школе. Учил отец, когда я был малышом. Отец ездил на заработки в Париж. — А где он теперь? Улыбка сходит с лица смешливого парня: — Расстрелян гестаповцами. В сорок втором году, когда убили Гейдриха. Тогда многих наших расстреляли. В отместку. — Кто был твой отец? — Слесарь. — А ты? — Слесарь, как и ты, Анри. — Ты доволен работой? — Да. Но я хотел бы еще поплавать по морям, как и ты, Анри. И веснушчатый парень снова смеется. — Как я? — Мартэн немного удивлен. — Ты не понял меня. Просто поплавать моряком. — Не попав в такие переделки, как я? — Разумеется. Но ведь, Анри, если бы мне или ребятам, с которыми я вожусь, выпали на долю такие переделки… — То вы держались бы не хуже, чем я. Верю, конечно верю. — Напиши мне что-нибудь на память, Анри. А я покажу ребятам. — Охотно, дружище. И Мартэн пишет: «Навяжем мир тем, кто не хочет мира». Парень оглушительно смеется. Не все он может сказать на родном языке Мартэна и потому поглядывает на переводчика. — Навяжем мир? Анри, так еще, кажется, никогда не говорили. — Как будто. — Раньше говорили о том, что навязывают войну. — Да, так говорили. Но видишь ли, дружище, мы стали гораздо сильнее, чем были несколько лет назад… — Когда ты сидел в тюрьме? — Меня выпустили именно потому, что мы стали гораздо сильнее. — Это верно. — Ну, и теперь мы можем говорить, что навяжем мир. Не просьба, а воля, решимость. — Навяжем мир любителям холодной и горячей войны… — Их ничтожное меньшинство, этих любителей. — Верно, верно. Что это? Поезд идет?Просторы Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. Прямые и извилистые реки, горы, синеющие к вечеру, знойная степь, над которой подрагивает дымка, кудрявые леса, убегающие по косогорам к горизонту. И колонна автомобилей на горизонте. Дробный стук колес на несколько секунд сменяется коротким гулом — еще один стальной мост позади. Важный аист смотрит вслед поезду, смотрит так, будто все понимает. Вот она — даль чужих земель, которые так близки. Говорят на разных языках, а французу Анри Мартэну понятно все, что говорят ему и о нем. На станции, недалеко от венгерской границы, в вагон входит новый пассажир. Ему не нужен переводчик. Старый учитель, он прекрасно знает французский язык. Садится рядом с Мартэном, называет себя. Он втрое старше Мартэна, очень высок, сухощав, с седыми редкими волосами, тихим голосом и глубоким шрамом на морщинистом лице. — Это знак Бухенвальда! — говорит он, указав на шрам. — Вы были там? — Два года. Эту отметину мне поставил эсэсовец, один из тех, кто считает войну естественным занятием человечества. Узник Бухенвальда едет в этом вагоне почти до границы Венгрии. Он кладет свои костлявые, старые, со вздувшимися венами руки на сильные руки Мартэна и говорит: — Анри, вы молоды, но и вас можно считать ветераном. Вы понимаете, Анри, что они хотели устрашить не только вас? — Я это понял, но не сразу. — Они как бы показали типичную судьбу. — Типичную судьбу? — Да. Типичную для тех, кто будет бороться против войны. Они как бы сказали всем: вот так будет с тысячами Мартэнов, с десятками тысяч, если возьмут верх милитаристы, реакционеры… — Если мы не помешаем подготовке новой войны. — Судебное дело Анри Мартэна — это был призрак новой фашизации. А вы показали, как умеют бороться против нее новые силы Европы. И эти силы, поднявшиеся для того, чтобы защитить вас, заставили призадуматься сторонников войны. — Я сейчас вдруг вспомнил о Бессрочном… — задумчиво говорит Мартэн. — Кто это? — Негодяй, который предавал гитлеровцам французских патриотов. Он был приговорен к бессрочному заключению и сидел в той же тюрьме, где и я. Он пытался учить меня покорности. Он грозил мне. — Грозил? Вам? — Да, грозил, что иначе я не увижу свободы. А сам ждал, что влиятельные люди выручат его. — Он заслуживает петли. — От петли его спасли. И он надеется, что еще займет видное место в жизни, что сторонники войны ему помогут. — Значит, вы были рядом — сторонник мира и сторонник войны? — В одних арестантских куртках. Но ему жилось вольготнее. — Не будет, не будет того, на что он надеется. В этом и ваша заслуга, немалая, Анри, молодой ветеран. Вы достойны высокой награды. — Я уже получил ее. — Какую? Мартэн открывает коробочку. — Но это же орден «Военный крест». — Да, только меня наградило им не правительство. И, пока поезд идет до венгерской границы, Анри Мартэн рассказывает узнику Бухенвальда историю небывалого награждения, историю этого ордена. Это история нескольких лет молодой жизни моряка Анри Мартэна. Но свой рассказ он ведет не в хронологическом порядке. Он начинает его со странствий авианосца, который не мог найти стоянки для себя. Это был авианосец особого назначения, зловещее судно «холодной войны».
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК
Март 1950 года. Средиземное море. В неизвестном направлении ушел французский авианосец «Диксмюд». На его борту американские военные материалы. Порт назначения? Об этом никто не знает. Где выгрузить военные материалы? В Бизерте? На африканском берегу? Вряд ли удастся. Докеры ждут там прибытия авианосца, ждут, чтобы сбросить американский груз в море. Нельзя идти в Бизерту. Тулон? И в Тулоне нельзя бросить якорь. Докеры ждут… Оран? Нельзя и в Оран. Командир корабля посылает шифровки в министерство и получает ответные. Он совещается с помощниками, но решения найти не может. Где же найдется причал для «Диксмюда»? Ведь это корабль-символ. Только что вступил в силу Североатлантический пакт. «Диксмюд» везет первые материалы в счет военных поставок. Командир корабля не знает, где он сможет их выгрузить. Утром он получает по радио новое приказание — корабль ложится на заданный курс. Через час приказ меняют. Корабль-символ становится кораблем-призраком. Ему негде выгрузиться. Он рыщет по Средиземному морю. И опять шифровка летит в Париж. Она прибывает глубокой ночью. Через час—другой начнет просыпаться огромный город. Из кабаре, пошатываясь, выходит загулявший посетитель. Он зябко кутается в пальто и надвигает на брови цилиндр. Швейцар низко кланяется, принимая чаевые, и говорит не без легкой иронии в голосе: — Благодарю вас, ваше величество… Он насмешливо смотрит вслед кутиле. Да, это коронованная особа, император Индокитая Бао Дай. Бывший император. Он отрекся от престола, открыто признав, что не принес народу никакой пользы, и коротает время в ночных притонах Парижа. А «Диксмюд» везет оружие, которое будет отправлено во Вьетнам. Там экспедиционный корпус ведет безуспешные бои с народной армией. Колония должна остаться колонией — так решили банки, магнаты промышленности. Для этого им нужен на престоле Бао Дай. Париж. Рабочий квартал. Конец трудового дня. Пятый этаж. В углу небольшой комнаты на стене портрет юноши. На рамке траурная лента. Она появилась несколько дней назад, когда почтальон принес извещение о том, что юноша убит в Индокитае. Еще не скоро забудется горе, да и забудется ли? Глухо звучит голос пожилой женщины, матери убитого. Она находит в себе силу сдержать рыдания. Она говорит знакомой: — Я его вырастила, выкормила, все сделала для того, чтобы он обучился ремеслу. А теперь мне придется купить для него кусок земли, чтобы иметь право получить его гроб. Моего возвращают мертвым. Я говорю другим: «Добейтесь, чтобы ваших вернули живыми!» Она невольно подходит к открытому окну. Напротив через двор, в том же этаже такая же скромная квартира. И там мать таких же лет. И у нее сын, ровесник убитому. Они вместе играли на дворе. Сын также в Индокитае. От него приходят письма, раз в неделю, в определенный день. Только в этот день и спокойно сердце матери. Остальные полны муки, тревожного ожидания. «Добейтесь, чтобы ваших вернули живыми!» — этот призыв осиротевшей матери обращен к соседке. Другой дом неподалеку отсюда. Другая квартира, похожая на эту, и такой же портрет в углу. Портрет юноши на стене, траурная лента… Рядом географическая карта. Прямая линия ведет от Парижа далеко-далеко, за десять тысяч километров, в Индокитай. Она обрывается возле Сайгона. Едва видная точка на карте. Спросите у жильцов дома об убитом юноше — они многое расскажут. Весельчак, балагур, остряк, добрый малый, никому не сделавший зла, истый парижанин. Звали его Поль, но он называл себя Пауло. Была у него слабость — он был фантазер и мечтатель. Ему не сиделось на месте — тянуло в дальние края. И вот представилась возможность — Поль завербовался в иностранный легион. «Пауло избороздит весь мир!» — говорил он, прощаясь с соседями. Поль мира не избороздил и не вернется. Едва видная на карте точка — Сайгон. Там, на военном кладбище, лежит Поль. Точка поставлена рукой матери.Авианосец «Диксмюд», корабль-призрак, все кружит и кружит по Средиземному морю. Ему негде пристать.
«РАДИ ВАШИХ МИЛЛИОНОВ ВЫ ЖЕРТВУЕТЕ НАШЕЙ ЮНОСТЬЮ…»
Юг Франции. Военный порт Тулон. Жандармский патруль неторопливо обходит свой квартал. Город — работает ли он, погружен ли в сон — всегда под неусыпным надзором. Нельзя и получаса пробыть на улице, чтобы не встретиться с патрулем. Жандармы провожают вас взглядом. От внимания патруля не укрылось, как три моряка проскользнули в узкую улочку и затерялись. Ничего необычного в этом нет, но моряки запомнились жандармам. Спустя четверть часа патруль двинулся назад. На углу узкой улочки жандармы подобрали несколько листовок. Они доставили их морскому коменданту Тулона. Комендант проявил признаки острого беспокойства. Так начинается дело моряка Анри Мартэна. Окончится оно через несколько лет.«Теперь мы яснее, чем когда-либо, видим, что из-за бесчестного торгашества нас посылают умирать во Вьетнам. И у вас хватает наглости говорить о национальном достоянии. Ради ваших миллионов вы жертвуете нашей юностью. Настоящая честь республиканской армии состоит в том, чтобы не грязнить себя больше в борьбе против народа Вьетнама».Так написано в одной листовке. А в другой мы читаем:
«20 тысяч молодых французов убиты. Убиты десятки тысяч молодых вьетнамцев. Десятки тысяч больных, раненых, калек. 141 миллиард франков растрачивается ежегодно. Чтобы покончить с этой грязной войной, верните экспедиционный корпус».Обе листовки коротки, под каждой подпись — «Группа моряков». В середине марта была арестована группа моряков, среди них Анри Мартэн, помощник механика с опытной станции, где проверяется качество разных видов горючего. Всех, за исключением Мартэна, вскоре выпустили. Мартэна заключили в тулонскую военную тюрьму. Лет полтораста стоит военная тюрьма в Тулоне. Времена меняются, но ничто не меняется в этой тюрьме. Город вырос, город вплотную приблизился к ней, но за старыми стенами — все тот же режим. Бывает, что человека, проведшего за этими стенами год, под руки выводят за ворота — ноги отказываются служить ему. Но есть еще особый режим, удвоенная каторга. С первого дня заключения Мартэн испытывает на себе всю жестокость особого режима. Следователь чувствует в нем большую моральную силу. Ее надо сломить — лишь тогда арестант начнет говорить именно то, что нужно суду. Как же сломить эту волю, эту силу? Наглухо заколачивают выходящее наружу окошко одиночной камеры. Электрическая лампочка горит круглые сутки. Раз в день на несколько минут заключенного выводят на узкий тюремный двор. У выхода он закрывает глаза, прислоняется к стене. Южное солнце кажется нестерпимым, у моряка кружится голова. — Начинайте прогулку! — торопит надзиратель. Он знает, как действует солнце на заключенного, в камере которого наглухо заколочено окно. Заключенный, заложив руки за спину, делает несколько кругов. Его выводят в те часы, когда на дворе нет других арестантов, — ни с кем он не должен обмениваться ни словом, ни молчаливым приветствием. — Прогулка окончена! И снова сутки в камере с заколоченным окном. Проходит месяц и еще месяц. Наступает жаркое лето. Для воздуха заколоченное окошко непроницаемо. Но мистраль, южный, знойный, иссушающий ветер, который порой доводит человека до исступления, не знает преград. В особой камере становится невозможно дышать. Но не сломлена воля Анри Мартэна, не подорвана его моральная сила. Следователь не может добиться от него тех признаний, которые облегчат задачу военного суда. В тюрьму едва долетает шум города. Слышна только пронзительная сирена арсенала да гудки кораблей. Все сделано для того, чтобы заключенный в особой камере ничего не знал о том, что происходит в мире. А там каждый день события и перемены. В далеком Сайгоне баррикады. Вьетнамцы добиваются того, чтобы американские военные корабли ушли из гавани. Нет им там места. И корабли поднимают якоря. А «Диксмюд» все еще кружит по Средиземному морю… В Роанне тысячи жителей, построившихся в колонны, протестуют против отправки поезда с американскими боеприпасами. В Ла-Рошеле докеры отказываются грузить американское оружие на пароход «Богоматерь». В маленьком городке Нуази-ле-Сек судья пытался лишить слова адвоката, защищавшего группу участников борьбы за мир. Зал ответил такой бурной реакцией, что судья бежал. Разгораются бои во Вьетнаме. Батальоны экспедиционного корпуса гибнут в джунглях. Джунгли для них западня. Солдата убивает пуля невидимого стрелка, убивает лихорадка. Анри Мартэн все еще в своей камере с заколоченным окном. В газетах о нем ни слова. Не знают моряки, что автор листовок, которые их взволновали, уже давно сидит в военной тюрьме Тулона. …А «Диксмюд» все еще бороздит Средиземное море. В ночь на четвертое апреля он тайно показался возле маленького порта в Тунисе. Под утро пришлось уйти и оттуда. Авианосец возвращается на свою базу в Тулон. На корабле происходит событие, которое взволновало команду. Арестован матрос Хеймбюрже. Он обвинен в умышленном повреждении механизмов… И вскоре делу Мартэна, который по-прежнему отказывается подписать то, что предлагает следователь, дают другое направление.
ТИХИЙ ГОРОДОК РОЗЬЕР
Анри Мартэну всего двадцать три года. Его жизнь началась в маленьком, тихом городке Розьере, в центральной части Франции. Город прославился сковородками, которые он давно уже поставляет всей стране. Здесь находится маленький чугунолитейный заводик. Улицы оживляются четыре раза в день: когда рабочие идут на завод, когда дети спешат в школу, когда возвращаются из школы, когда кончается день на заводе. Все в этом городе собственность заводчика — старое предприятие, улицы, магазины, дома, где живут рабочие, огороды, на которых они работают по вечерам, и даже церковь. Человек всю свою жизнь связан с тем, что принадлежит богачу. Иногда удается забыть об этой зависимости, но избавиться от нее невозможно. Луи Мартэн, металлург, участник первой мировой войны, и его жена Матильда вырастили троих детей: двух дочерей и сына Анри. Вприпрыжку, в засученных штанах, как и все подростки в Розьере, с сумкой на спине, Анри Мартэн возвращается из школы. Дома много дела. Бюджет семьи рассчитан с предельной точностью. Анри и сестрам надо немало работать на огороде. После работы Анри принимается за уроки. Плохих отметок он домой не приносит, все книги — их у него очень немного — в образцовом порядке. Изредка Анри и его сверстникам удается отправиться за город. Набегавшись, ребята принимаются за завтрак — кусок хлеба с маргарином или вареньем. Замечательные истории рассказываются за завтраком. Отчасти они представляют собой пересказ прочитанного, отчасти дополнены собственным богатым вымыслом. Порой у себя дома, когда к отцу приходят старые друзья, Анри слышит разговоры о том, что по ту сторону границы, за Эльзасом и Лотарингией, возрождается армия, с которой воевал в молодости Луи Мартэн, — армия, принесшая столько несчастий Франции. Часто упоминают имя Гитлера, который вчера еще никому в Розьере не был известен. Быстро прошли годы детства. В двенадцать лет Анри поступил учеником на завод в соседнем городке. Спустя несколько месяцев он принес оттуда первый отличный отзыв о своих успехах. Ему было тринадцать лет, когда началась вторая мировая война. Вскоре он убедился в том, что очень трудно защищать рубежи Франции. Но в то время он еще не мог понять, почему же родина осталась беззащитной. Наступили страшные дни весны 1940 года. Гитлеровцы неудержимо движутся к Парижу. Тревога охватывает маленький Розьер. Тревожно и в доме, где живет семья Луи Мартэна. Хмуро молчит отец, притихли дети. Неужели Париж не устоит? Через несколько дней был подписан акт о капитуляции французской армии. Наступили долгие дни унижения.ГРАНАТЫ В ШКОЛЬНОЙ СУМКЕ
Городок Розьер сначала не был включен в зону оккупации. Здесь видели беженцев с севера, видели раненых солдат, которым удалось оторваться от неприятеля, но гитлеровцев не было. Они пришли через год, когда была нарушена линия демаркации. И тогда на перекрестках улиц, у выхода из города, появились посты гитлеровцев. Завод не работал, и тихий провинциальный город казался вымершим. Люди избегали показываться на улицах. Анри Мартэну к этому времени исполнилось пятнадцать лет. А спустя год до маленького Розьера донеслись раскаты сталинградской канонады. Всюду во Франции появились отряды Сопротивления. Взялись за оружие шахтеры севера, металлисты Парижа. Взялись за оружие и в Розьере. Внешне ничего не изменилось в Розьере — улицы так же пустынны. Но какой напряженной жизнью зажил теперь городок! Дом Луи Мартэна становится «почтовым ящиком». Без таких «почтовых ящиков» не могли бы ни жить, ни сражаться отряды Сопротивления. Но как это опасно для обитателей дома Мартэна. В этот дом передают записки, но в очень редких случаях, работа «почтового ящика» главным образом устная. Здесь находят еду, одежду для того, кто должен изменить внешний вид, номера подпольной газеты «Юманите». Самоотверженна служба таких «почтовых ящиков», много жертв унесла она. Анри Мартэну шестнадцать лет. Это сметливый, крепкий, быстрый в движениях подросток. С беспечным видом он выходит из «почтового ящика», отправляется в ближайшую деревню. Ленивым взглядом провожает его гитлеровский солдат. Пропуск у подростка имеется. Подросток как подросток, их тут много. Надо бы таких отправлять в трудовые лагери, но это еще придет — только недавно в этой стране начали устанавливать настоящий порядок. Пусть пока погуливает подросток. Анри выносит за городскую черту листовки. В школьной сумке лежат гранаты. А что, если гитлеровец заглянет в сумку? Тогда Анри не поколеблется. Много таких прогулок с листовками и гранатами совершил Анри. Однажды в воскресенье знакомые собрались на кухне в доме Луи Мартэна. Шел разговор на всякие темы. Внезапно в «почтовый ящик» пришли двое из отряда Сопротивления. Они похитили у гитлеровцев ручной пулемет. Надо его немедленно спрятать. — Как бы это сделать? — размышляет Луи Мартэи. — У меня люди в доме. Он делает незаметный знак Анри. Анри кивает головой — он понял отца. Как недовольна мать, что сын встал из-за стола! Ведь сегодня — такая редкость! — она всех может угостить картошкой с тушеным мясом. «…Милая мама, не сердись на меня. Можно бы тебе все сейчас объяснить, шепнув на ухо. Ты, мама, знаешь обо всем, что теперь происходит в нашем „почтовом ящике“. Без тебя нам ничего не удалось бы сделать. Если грянет беда, ты встретишь ее без страха. Палачи ничего не добьются от тебя. Сколько забот мы доставляем тебе теперь, когда едят даже белок! Сколько сил у тебя уходит, чтобы поддержать нас! Правда, мы не во всем согласны с тобой. Ты набожная католичка, не пропускаешь ни одной мессы. Кюре очень доволен тобой и недоволен мной и отцом. Отец говорит, посмеиваясь соседям: „Если жена не пошла к мессе, значит, она больна“. Для тебя Ватикан самое святое место на земле, а папа римский самый святой человек. А я и отец — атеисты, и сестры склоняются к тому же. Но это не заставит меня любить тебя меньше. Картошка с мясом… Ты радуешься тому, что можешь вкусно накормить нас. А сын встает из-за стола. Нет, я тебе сейчас ничего не скажу, мама. Зачем тревожить тебя лишний раз? Ну, поворчи, поворчи на непослушного сына. Потом все объяснится». Анри ловко спрятал пулемет в сарае для угля.РУАЙЯНСКИЙ МЕШОК
Ему нет еще семнадцати лет. Он стремится вступить в строй борцов Сопротивления, ему надо участвовать в их боевых делах. «Почтовый ящик» дал ему знакомства, связи. Анри разыскивает человека, который руководит Сопротивлением в секторе, где находится городок Розьер. — Я отвечаю за всех участников Сопротивления, — говорит ему человек, испытавший очень много. — Жизнь в отрядах тяжела. Они подолгу не имеют самого необходимого. Тебе трудно будет выдержать. — О-о! Вы не знаете меня с этой стороны. — Тебя еще никто не знает с этой стороны. — Поверьте, я всё вынесу! А разносить гранаты и листовки может каждый. — Нет, не каждому это можно поручить. Анри словно не слышит похвалы. — Я очень прошу вас… В первый раз Анри решительно отказали. Он не примирился с этим. И вот снова стоит он перед тем же человеком, упрямый, хмурый. — Если мне опять откажут, то я сам найду дорогу к отряду. Уж я — то сумею найти. Ничего не поделать с таким упорством. — Хорошо. Я объясню тебе, как связаться с отрядом. Редко теперь Анри видели дома. Да, жизнь в отряде оказалась тяжелой даже для бывалых фронтовиков. Но от бойца Анри Мартэна, самого молодого в отряде, которого нельзя еще считать юношей, никто не слышал ни одной жалобы. Освобождение Франции идет к концу. Освобожден Париж. На Эйфелевой башне водрузили национальный флаг. Но по пути к Парижу еще остались очаги сопротивления гитлеровцев. Один из этих мешков — в Руайяне. За линией укреплений расположились несколько отрядов германской армии. Англо-американские войска обошли этот пункт. Они не ликвидировали здесь фашистов. Это место становится пятном на карте освобожденной части Франции. Скоро гитлеровцы откатятся за линию своей границы, но в Руайяне они держатся цепко. У них достаточно живой силы, продовольствия. Из Руайяна проникают сведения о том, что гитлеровцы сжигают дома мирных жителей и расстреливают заложников. Даже в таком окружении фашисты остаются верны себе. Они надеются на безнаказанность и на сепаратный мир. Кто же ликвидирует эти гитлеровские части? Дело поручают партизанским отрядам. Идут бесконечные дожди. Руайян расположен в низине. В него стекают потоки осенней воды. У партизан нет теплой одежды, хорошей обуви. Почти каждый в башмаках на деревянной подошве. Партизаны ночуют под открытым небом, укрываются тонкими сдеялами. Гитлеровцы не прекращают огня. Они не испытывают недостатка в боеприпасах — их сбрасывают им с самолетов. А у партизан считанные патроны, вооружены, они только винтовками, мало у них пулеметов. Их снабжают гораздо хуже, чем окруженных. Каждые сто метров продвижения в этой болотистой местности стоят бойцам Сопротивления чувствительных потерь. Почему у партизан порой нет самого необходимого? Об этом думают многие. Но говорят об этом редко. Храбрым бойцом показал себя Анри в борьбе за Руайян. Его заметил молодой капитан Даньель, командир роты. Они подружились. Даньель был выходцем из буржуазной среды, получил отличное образование, но в тяжкие годы понял, какие люди являются залогом возрождения Франции. Это сблизило его с партизанами. Даньелю всего двадцать четыре года, но это авторитетный боевой командир. И его политический опыт позволяет ему ответить на вопрос, почему же так плохо вооружены партизаны. «Потому, — говорит себе Даньель, — что это отряды тружеников. Власти опасаются предоставить им оружие. Это ведь не регулярная армия, которая всегда под надзором, а отряды вооруженных тружеников. Они внушают опасение и нашим властям и американским. Они не отказываются от того, чтобы патриоты-партизаны проявляли самоотверженность, но пусть у них будет поменьше оружия в руках. Так спокойнее для хозяев Франции. Они также не забывают о Парижской коммуне». Даньель принес умение сплачивать людей, создавать обстановку боевого товарищества. Он принес несколько книг. — Ты любишь читать? — спрашивает он Анри. — Да, капитан. Только мне редко удавалось это. Они читают вместе сборник стихов Гюго — «Возмездие». Стихи волнуют Мартэна. Сцены кровавых насилий над честными людьми — как они перекликаются с сегодняшними днями! Они зовут к возмездию. — Да, Гюго живет и в наши дни, — говорит Даньель. — Он будет жить и после нас. Он все эти годы боролся вместе с партизанами. Ты читаешь в первый раз, а я уже много раз читал его, и всегда меня волнуют эти стихи. Всегда?.. Сказать по правде, Анри, это не так. — В твои годы мне нравились совсем другие стихи — те, в которых вовсе не было того, что называют политикой. Так меня воспитывали тогда. Гюго я полюбил недавно… Много мыслей будили в сознании Анри разговоры с молодым капитаном, в каждой беседе он узнавал новое. И казалось Анри, что дружба, завязавшаяся здесь, в дождливой низине возле Руайяна, будет дружбой навечно. Она скоро оборвалась. …Партизаны унесли Даньеля в кусты. Сюда, в это обстреливаемое место, уже направились ползком санитары с носилками. Анри наклонился над капитаном, расстегнул залитую кровью куртку. Даньель пытался подняться, но не хватило сил. Он сделал знак, его поддержали. — Друзья, — сказал он, — надо бороться до конца!.. За справедливость, за свободу, за то, чтобы Франция жила в мире!.. Он не мог больше говорить, его взгляд остановился. Самый молодой партизан, который никогда не жаловался на тяжелую жизнь, сложил умершему капитану руки и горько заплакал.ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО «КОСУЛЯ»
Позади Франция, Средиземное море, Египет; по левому борту остался Аравийский полуостров… Посыльное судно «Косуля» выходит в Индийский океан. Несколько дней люди на нем не увидят земли. У посыльного судна медленный ход. Кораблю уже немало лет. Свои рейсы он начал в те времена, когда банкиры не сомневались в том, что Индокитай, который дал им огромные богатства, на вечные времена останется колонией с послушным туземным императором. Много плаваний корабль совершил в Индокитай. По пути он иногда заходил в Северную Африку. Там на борт брали марокканских солдат, которые обходятся дешевле, чем французские. Марокканцев помещали в отдельном трюме. Их редко и ненадолго выпускали на верхнюю палубу. В другом трюме помещали солдат экспедиционного корпуса. На борту господствует строгая иерархия. Каюты, салоны — колониальным офицерам, колониальным чиновникам, их женам. Даже в эти две недели океанского плавания они держатся обособленным кругом. У них вой быт, свои интересы. Индокитай для них — это колония с плохим климатом, но с возможностями разбогатеть. Здесь высокие оклады. Здесь добывается право на большую пенсию. Для них на корабле ресторан, тенты, дансинги. Прохлада, которая так высоко ценится в тропиках, достается только им. В трюме — солдаты экспедиционного корпуса, тщательно отобранные наемники. Им негде больше приложить свои руки. Они из разных стран, некоторые плохо говорят по-французски. Но для них только и требуется понимать слова команды. Наемник получает жалованье, которое безработному кажется высоким. Не всякий безработный согласится пойти в наемники. Надо подписать контракт на много лет. Что произойдет в эти годы? Назад дороги нет. Некоторые дослужатся до звания младших командиров и станут профессионалами до конца дней. Для других конец может наступить скоро — тропические болезни, пуля патриота, защищающего свою страну от колонизаторов, оборвут безрадостную жизнь наемника. Порт назначения посыльного судна «Косуля» — Хайфон. До него от берегов Франции десять тысяч километров. Есть время перезнакомиться с соседями, много узнать о них, рассказать о себе. — Вы, кажется, знаете об этой стране, Мартэн, больше, чем я, хотя я там провел десять лет, а вы едете впервые? — не скрывая иронии, говорит сержант экспедиционного корпуса. Он уже не молод — ему лет сорок. Это высокий, сухопарый человек с желтоватым лицом, не выпускающий трубки изо рта. Анри Мартэн не слышит иронии в голосе сержанта. Анри полон своих дум о будущем. В прошлом году, после того как кончились бои возле Руайяна, Анри отправился в Тулон. Он просил принять его добровольцем во флот, немедленно отправить в Индокитай. — Почему вы стремитесь в Индокитай? — спрашивает морской офицер, ведущий запись добровольцев. — Добивать японских оккупантов. — Ах да, ведь вы участвовали в ликвидации руайянского мешка! — Офицер с любопытством смотрит на юношу. — Думаю, что там есть еще такие мешки. — Вероятно… Офицер как-то по особому ухмыльнулся: — Вы отвечаете всем требованиям, кроме одного. Вам не хватает одного года. — Но это немного… — Закон сильнее наших желаний. — Но ведь мне не хватает не целого года, а всего нескольких месяцев. — Закон неумолим. Вы еще не раз подумаете об этом, дорогой мой. Анри медлит. — Я уже прожил большую часть этого года, и если внести поправку… в мои документы, то… Офицер шумно смеется. Он хлопает Анри по колену: — Исправить документы? Вот на что вы меня толкаете, боец из-под Руайяна? Военная хитрость, а? — Только справедливость. — Такая справедливость нарушает закон! Нет, нет, мой милый, этого я на себя взять не могу. Анри возвращается домой. Мать — она как-то сдала в последнее время — часто спрашивает: — Анри, мальчик мой, скажи: это так надо, чтобы ты уехал за океан? Тревога слышна в ее тихом голосе. — Мама, — горячо отвечает Анри, — пойми одно: их нигде нельзя оставить на земле, нигде! Надо всюду кончать войну! Надо, чтобы нигде не было этих мешков, чтобы нигде не было выстрелов!.. Отец ничего не говорит. Если Анри принял решение, разубедить его не удастся. Он уже не мальчик. Он показал это под Руайяном. И чем отец может разубедить сына? В газетах много пишут о том, что теперь Франция будет помогать людям заморских владений, что теперь удастся построить наконец крепкое французское содружество метрополии и вчерашних колоний, которые отныне уже не следует называть колониями. Так пишут и говорят политические деятели. Будет ли так? Луи Мартэн не может с полной уверенностью утвердительно ответить на этот вопрос. Настает день отъезда. Мать не может сдержать слез. Отец бледен и молчалив. У Анри нет никаких предчувствий. Он снова едет на юг Франции. Он подписывает контракт на пять лет. Морская форма очень идет ему, стройному, ловкому, быстрому в движениях. …Две недели до Хайфона. Тяжелые волны океана раскачали старое посыльное судно. Верхняя палуба пуста. — А верно ли, что там по улицам водят ручных тигров? — интересуется молодой солдат экспедиционного корпуса. Анри объясняет ему, что не экзотика должна их занимать, а сознание своей миссии. — Какой миссии? — Солдат не понимает. Пожилой сержант, который плетет цепочку из тончайшей проволоки — он часто занимается этим, — на минуту оставляет плетение. Анри продолжает разговор с молодым солдатом: — Колонизаторы-вишийцы сдались японцам. Сдались без выстрела. Они передали им все оружие, склады, сели за один банкетный стол. Их надо было бы судить военным судом за предательство… — Все это, мой мальчик, ты не говори в присутствии начальства, — прерывает Мартэна сержант. Анри отмахивается от него: — Они предали Францию. Но вьетнамцы поднялись против оккупантов. Они боролись за свою родину, за французское содружество, за свое место в нем. Японцы не смогли их одолеть. Русские в несколько дней заставили японцев капитулировать. Другого выхода у микадо не было. Но отряды японцев остались в Индокитае. Это уж не отряды, а банды. С ними надо покончить. Вот для чего мы едем в Хайфон. Пожилой сержант внимательно глядит на Мартэна. В его взгляде и насмешка, и подобие сочувствия. Анри недоуменно смотрит на пожилого сержанта. Что хочет сказать ему сержант? Мартэн понял это много времени спустя.ГДЕ ЖЕ ВРАГ?
В ноябре «Косуля» бросила якорь в порту Хайфона. Анри вспомнил — год назад в этот самый день у него на руках умер капитан Даньель. Где же здесь «мешки», подобные руайянским, из которых надо будет выбивать банды японских оккупантов? Матрос Мартэн идет по улицам Хайфона. Ноябрь… В Париже дожди в эту пору. Дожди и в маленьком Розьере, а здесь жарко, как летом на юге Франции. В Хайфоне никогда не закрываются террасы кафе. Жара круглый год. На узкой улице шумное движение. Анри внимательно разглядывает вьетнамцев. Почему они так молчаливы? Почему они проходят стороной, словно опасаясь в этой толчее коснуться европейца? Лица у них сумрачные. Могло ли это показаться? Анри застыл возле одной из террас, на которой играл оркестр. Надо бы уйти, но он стоит и все смотрит, смотрит. На террасе за одними столами сидят французские и японские офицеры. Японцам полагается быть в лагере для военнопленных, а они здесь. Перед ними прохладительные напитки. Французские офицеры по-приятельски беседуют с ними. Почему же все-таки сидят здесь офицеры армии микадо? Великодушие победителя? Нет, что-то совсем другое… Таково было первое наблюдение Анри в Хайфоне, первое, над которым он тяжело задумался. — Сударь! — обратился он на улице за справкой к пожилому вьетнамцу. — Будьте добры сказать… Тот удивленно поднял брови, а потом улыбнулся. Оказалось, что он довольно хорошо говорит по-французски. Они дошли до ворот парка и присели на скамейку. — Чем я удивил вас, сударь? — спросил Анри. — Посмотрите, как обращаются к нам колониальные солдаты, офицеры, и вы всё поймете. Знаете вы такое слово — «ньяке»? — Нет. — Это означает «мужлан». Сколько раз меня так окликали: «Эй, послушай, ньяке!» Или: «Подойди сюда, вьет!» Мне приходилось слышать это от солдат, которые по годам подходят мне в сыновья. — От французов? — Да, и от французов. У американцев есть свои презрительные клички для японцев, для корейцев. Анри смущен. Он молчит, а потом горячо возражает: — Сударь, вы несправедливы! — В чем? — Вот в чем — народ есть народ. Для меня это святое понятие. — И для меня. — Но в каждой нации бывает отребье, негодяи, хамы. И народ не отвечает за них. — Я знаю. Но есть еще особое презрение, презрение к колониальным народам, и иногда им заражается даже такой человек, который вчера не был ни негодяем, ни хамом. Такое отношение к нам воспитывали десятилетиями, даже веками. — Но ведь теперь будет по-другому, должно быть по-другому. Иначе меня не было бы здесь. Они долго говорили. — В каждом доме, — собеседник показал в сторону города, — был портрет Хо Ши Мина. Он и сейчас есть, но спрятан. — Это изменится, поверьте! — Мы считали, что перемены уже наступили. Собеседник рассказал, что всего несколько дней назад город ликовал. Бао Дай, император-марионетка, отрекся от престола. Хо Ши Мин стал признанным главой правительства. И вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Французские власти возложили охрану порядка на японские войска. Власти объявили, что отряды вьетмин — народной армии — не смогут поддерживать порядок, и поэтому не обойтись без японцев. «Вьетмин не умеет обращаться с современным оружием, — говорили французские офицеры. — Вьетмин не держал его в руках». — Для нас непонятно было, — вспоминает собеседник Мартэна, — почему же вьетмину, народной армии, не давали современного оружия. «У партизан также не было хорошего оружия», — вспоминает Мартэн. И вскоре японские патрули начали расхаживать по городу, наглые, самоуверенные, с видом победителей. — Значит, эти японские офицеры… — Которых вы видели в кафе? Они не враги колониальным властям. — Так где же враг? Кто он? И Анри остается один со своими раздумьями.ГОРЯТ ХИЖИНЫ
«Горят хижины», — писал Анри домой в январе 1946 года. — Почему горят хижины? С кем же они воюют? Ответь мне наконец! — Мать металась по комнате, бросала работу, снова брала ее, чтобы успокоиться. — С кем воюют наши сыновья? Я ничего не понимаю, но чувствую — в этом есть что-то страшное. «Горят хижины»… Разве в хижинах живут враги наших сыновей? Ты читаешь газеты, толкуешь с друзьями о событиях. Объясни же мне. Покой домика в Розьере был потерян. Анри потерял его, и тревога передалась всей семье. Не по японцам стреляют солдаты французского экспедиционного корпуса, а по вьетнамскому народу. «Мешков», подобных руайянским, нет. Японские отряды воюют на стороне колониальных властей. Власти установили голодную блокаду Севера. На Севере — части вьетнамской народной армии. Посыльное судно «Косуля» ходит в дозоре по Тонкинскому заливу. На тихой воде покачивается неуправляемая джонка. К ней пристает шлюпка. Парус спущен. Под соломенным навесом лежит смертельно раненный человек. От него ничего не узнать. Но все понятно без слов. Джонку обстреляло без предупреждения другое дозорное судно. Ни одна джонка не должна показываться в заливе — таков приказ колониальных властей. Проходит неделя. У командира «Косули» удачный день. Он может внести в судовой журнал несколько записей: «Замечена джонка, туземцев заставили подняться на борт, джонка потоплена». Анри пишет в Розьер: «Зачем мы топим джонки, везущие рис на Север? Чтобы задушить голодом народ Вьетнама. Почему мы обстреливаем рыбачьи джонки? Ведь я сам видел, нельзя отрицать это». Тяжелая правда раскрывается перед Анри. Юноша, сражавшийся под Руайяном, понял, что обманут колонизаторами. Но вот появляется просвет. Весной 1946 года начинаются переговоры между Хо Ши Ммном и французскими властями. И здесь, и за десять тысяч километров отсюда — в Ханое, в Париже, в Розьере — все те, кому дорог мир, с нетерпением ждут исхода переговоров. Ждет этого и Анри. Переговоры прерываются. Колониальные власти требуют капитуляции народной армии, сдачи оружия. Это унизительные, коварные условия. И колониальные генералы знают, что их не примут — им нужно продолжение войны. И боевые действия возобновляются. «Косуля» должна взять на борт отряд легионеров, доставить их к определенному пункту и там подождать, пока отряд выполнит свою задачу. — Анри, ты видел? Что же это такое? — спрашивает товарищ. — Кого мы повезем? Анри не отвечает. По трапу поднимаются солдаты, которые всего год назад были в гитлеровской армии. Теперь они нанялись в иностранный легион. Им безразлично, кто хозяин, в кого стрелять — была бы обильная еда и заработок, разрешили бы грабить там, где идут бои. А впрочем, этого разрешения они и не будут спрашивать. Они твердо усвоили — в колониях все сходит с рук. Франция во время второй мировой войны также считалась гитлеровской колонией, завоеванной землей. Эх, и пожили же они там! А может быть, имена этих гитлеровцев занесены в списки военных преступников? Может быть, это те грабители, насильники, садисты, которые должны предстать перед судом французских патриотов? Все может быть… Но теперь шли солдаты иностранного легиона, а с солдата иностранного легиона не спрашивают за прошлое. Оно перечеркнуто. Не обращая внимания на французских моряков, легионеры располагаются в отведенном им помещении. Они получают обед, винную порцию и после отдыха выходят на палубу. Один из них вступает в разговор с Мартэном. На ломаном французском языке, помогая себе жестами, он объясняет: — Я хорошо знаю Францию… Париж… Дьепп… Гавр… Я хорошо знаю вашу родину, дружище! Сейчас он положит ему руку на плечо. — А Сталинград вы знаете, дружище? — раздельно спрашивает Анри. — Сталинград? — машинально повторяет легионер-немец. Его рука тотчас отдергивается. Легионер грозит пальцем: — Эй, нехорошо, нехорошо так, дружище! Теперь у нас одно общее дело. — У нас общее дело? С вами? Какое? — Против мирового большевизма. — У нас с вами не может быть общих дел! — Анри вплотную подходит к легионеру. Легионер пятится. Чего доброго, этот француз выбросит его за борт. На рассвете отряд бывших гитлеровцев, а ныне солдат колониальных войск Франции, высаживают. Спустя сутки их снова берут на борт. Один обвешан зарезанными курами, другой — местными украшениями, двое несут свинью на палке. Так было во Франции, в России, так они воюют в тропиках. Один помахивает над ухом соседа неплотно сжатым кулаком. Ему особенно посчастливилось — в руке звенят монеты. Ведут заложников. На носилках несут раненого. Легионер, который говорил с Анри, показывает ему пять пальцев и затем еще три. Это значит, что сожжено восемь деревень. Вот кто поджигает хижины!.. «Косуля» ложится на обратный курс. Легионеры расположились у себя в трюме. Началась мена награбленным. Кур и свинью отослали на кухню — это добавка к пайку, который и без того достаточен. Заложников заперли в арестантской. В этот день Анри понял, что престиж французского экспедиционного корпуса потерян здесь навсегда. Не забудут и не простят этих злодейств и глумлений. Вскоре Анри писал родным: «Когда мы пришли в Сайгон, Вьетнамцев расстреливали десятками. Их бросали в воду. Эти трупы мы видели в реке. Я вам писал раньше, что это были трупы убитых в последних боях, но это на случай, если мои письма вскроют. А теперь я говорю вам всю правду». Он ходил по Сайгону, по городу, из которого исчезло веселье, непринужденность. Местные жители без крайней необходимости не показывались на улицах. Здесь также в каждом доме спрятан портрет Хо Ши Мина. На одной из центральных улиц, у подъезда большого дома с занавешенными окнами, Анри увидел медную небольшую вывеску: «Индокитайский банк». Медь отлично протерта. Она горит под жарким тропическим солнцем. У дома — машины последних американских марок, большие, нарядные, сверкающие свежим лаком. Выходят двое — швейцар банка низко склонился перед ними. Эти двое — высокий старик в белом и полковник экспедиционного корпуса — мельком взглянули на Анри и садятся в машину. Мотор включается очень мягко, почти бесшумно. И Анри услышал обрывки разговора. — Они хотят еще — они получат! — скрипучим, бесстрастным голосом говорит старик, берясь за руль. Машина повернула за угол. Анри стоял возле здания банка. Такая короткая фраза — и все-все понятно. Непокорный Север страны «получит» и обострение голода, и карательные экспедиции….. А ты, военный моряк Анри Мартэн, обязан помогать колонизаторам. Ведь ты дал подписку о том, что выполнишь любой приказ начальства. Чьи же приказы теперь предстоит выполнить? Штаба? Нет, в первую очередь приказ владельцев дома, на стене которого пылает под тропическим солнцем медь вывески: «Индокитайский банк». И полковник экспедиционного корпуса, и ты, Анри Мартэн, выполняете приказы старика банкира. Да, конечно, есть различие между полковником и тобой, Анри. Полковник делает карьеру, а ты просто обманут, сын металлиста из Розьера. Но оба вы — слуги не Франции, а Индокитайского банка. «…В прошлом году в Тонкине умерло от голода два миллиона людей. Право покупки риса было предоставлено только двум компаниям (в обеих директорствуют французские дельцы). Рис был куплен по 50 пиастров за квинтал. А когда разразился голод, цену подняли до 800 пиастров. Тысяча шестьсот процентов прибыли — вот для чего нужно продолжение войны! Тысяча шестьсот процентов прибыли — да это же сказочные времена завоевания колоний!.. Можно ли пропустить такую удачу? Потому-то и сорваны мирные переговоры». Вот что вдали от родины читал на вывеске Индокитайского банка моряк Анри Мартэн. — Дружище, пора возвращаться! Его окликает морской патруль. В городе военное положение. Через полчаса нельзя будет показаться на улице без особого пропуска. Он направляется в порт. Темнеет, горизонт пылает — горят хижины.НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПОЖИЛЫМ СЕРЖАНТОМ
Переполненный госпиталь в Ханое. Никогда не предполагало прежде командование, что понадобится столько коек для раненых. Вьетмин умеет сражаться и с устарелым оружием в руках. Койки стоят даже в коридоре. В палатах сумрак. Спущены до пола соломенные занавески, включены электрические вентиляторы, и все же в госпитале душно. Сиделки поминутно вытирают тяжелораненым испарину. Анри зашел навестить товарища, но оказалось, что тот накануне был отправлен во Францию. — «Косуля»! — кто-то окликает Анри. Голос кажется знакомым. Анри оборачивается. На койке лежит пожилой сержант, с которым Анри познакомился на борту «Косули», — тот самый сержант, который от нечего делать плел цепочки из тонкой проволоки и так странно поглядел на молодого моряка Мартэна, когда он говорил о новой благородной миссии Франции в колониях. — Вы здесь? Давно? Сержант указывает ему на белый табурет: — Посидите со мной, если у вас есть время. — Конечно, конечно. Как дела? — Могло быть хуже… Забыл ваше имя. — Меня зовут Анри. Аир и Мартэн. — Могло быть гораздо хуже, Анри. Мне помогли выиграть несколько дней, а это означало — жизнь. — Простите, сержант, я не понимаю вас. Кто вам помог выиграть эти дни? — Те, с кем мы воюем. Их надо считать врагами. А мне теперь очень трудно думать, что это враги, которых надо истреблять. Сержант помолчал, оглянулся и заговорил так тихо, что Анри вплотную придвинул к койке табурет и наклонился над раненым. — Ты запомнился мне, Анри. Запомнился твой разговор, наивность, простодушие. — Я теперь уже не так простодушен, сержант. Я много видел, слышал. Я видел страшное. — Ну, так послушай и меня. Я совсем не чувствительный человек, Анри. Я колониальный солдат, наемник. Уже много лет. У тебя есть семья? — Да, в Розьере. — А у меня нет никого на свете. Наемник колониальной армии не должен торопиться с женитьбой. Жена, дети, родня — все это потом, потом, если наемник уцелеет. Я отслуживаю пенсионный срок и коплю деньги. Колонии — это колонии. Здесь трудная служба и жестокая война, жестокая для туземцев. Я всегда это знал. Я не был простодушен. Меня нанимают, я во всем подчиняюсь начальству… Почему ты так глядишь? — Потому, что неприятно вас слушать, сержант. Какая же у вас была цель? Ради чего вы служили, болели лихорадкой, наживали ревматизм? — Анри стискивает зубы. — Черт побери! Ради чего вы стреляли? Вы что же, ненавидели их? — За что ненавидеть тех, кого наши называют «ньяке»? Они мне ничего не сделали. А цель? Я же вам сказал: выслужить пенсию, вернуться во Францию и спокойно дожить свое… Анри качает головой. В его взгляде сквозит неприязнь к этому человеку. Если бы он не был ранен, если бы то же самое он сказал ему в другой обстановке, Мартэн ответил бы ему самыми жестокими словами. — Дожить свое? И все будут говорить «Вот идет почтенный человек, папаша… Не пригласить ли его выпить рюмочку?» — Вы осуждаете меня, Анри? — Да, осуждаю вас, сержант! — Я сам близок к тому, чтобы осудить себя. За всё осудить. — О чем же вы думаете теперь? — Я вспоминаю вот о чем. В той стычке я был ранен в бедро, не очень тяжело, но надолго. Меня не успели подобрать. Наши пробились из окружения. Я потерял сознание. Очнулся в хижине «ньяке». Рядом сидел с записной книжкой их офицер. «Ваше имя?» — спросил он по-французски. Я не стал отвечать, — думал, что это конец. Все мне было безразлично. Меня перевязали. Офицер — он оказался капитан — снова задал несколько вопросов. «Как видите, — сказал он, — я не спрашиваю вас о том, что ваш устав запрещает разглашать». Он был прав. Таких вопросов мне не задавали. Мы разговорились. Оказалось, он учился в Париже. Я откровенно сказал ему, что не ожидал такого обращения. Колониальная война есть колониальная война, и туземцам, когда они попадают в плен, приходится плохо. — Я это видел, — заметил Анри. — На «Косуле» их сразу же посадили в карцер. — Вы не видели самого страшного. При мне троим отрубили головы… Капитан ответил: «Я это знаю. Но у нас есть такой пункт в уставе. Он не записан, но соблюдается всеми солдатами: если враг стреляет в тебя, немедленно уничтожь его; если он ранен или сдался, накорми его». Меня накормили, обмыли, за мной ухаживали. Но капитан был озабочен: «Мы не в состоянии лечить вас так, как требует ваша рана. Придется отправить вас». — «Куда?» — «К вам». — «Как вы это сделаете?» — «Это несложно, мы часто бываем у вас. Мы-то знаем дороги нашей страны, реки». Меня отправили по реке до ближайшего пункта, который находился в наших руках. Капитан сам заплатил лодочнику. На прощание он мне сказал: «Если вы с вашей частью вернетесь сюда, постарайтесь не быть очень жестокими с нашими женщинами, стариками, детьми». Но… Мне бы не хотелось вернуться туда со своей частью… Не потому, что я боюсь, а потому, что не сумею предупредить жестокости. — Это самое ужасное для нас с вами. — И я думаю вот о чем. Если бы в прошедшие времена после всего того, что мы натворили в этой стране, после зверств и грабежей, я попал к ним в руки… Ну, в те времена, когда у них были только кремневые ружья или луки и копья, они бы мне отплатили полной мерой. А теперь за мной присматривала женщина, пока меня везли по реке. Я думал: «Значит, они ушли вперед. А мы? Мы те же, что были. Кто же теперь дикари? Мы или они?» Вот о чем я думаю, Анри. — Голос пожилого сержанта ослабел. Он стал забываться в дремоте. — Вам об этом нелегко думать. Я понимаю… Анри пожал ему руку и вышел из госпиталя.ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЖЕРТВ В ХАЙФОНЕ
«Надо дать вьетнамцам жестокий урок, заставить их просить милости», — так телеграфирует командующий колониальными войсками заместителю верховного комиссара Франции. Тот сносится с Парижем. Там временно находится верховный комиссар адмирал Д’Аржанлье. Адмирал не возражает против жестокого урока. Но, может быть, возразит преподобный отец Луи, видный деятель католической церкви, который все знает о том, что происходит в Индокитае? Нет, и преподобный отец не возражает, если согласен адмирал. Он и не может возразить, потому что адмирал Д’Аржанлье и преподобный отец Луи — одно лицо. Вряд ли было еще одно такое совместительство в истории военных флотов всех стран. Раньше миссионер был просто миссионером, а здесь слуга церкви в то же время и адмирал. Много лет назад Д’Аржанлье, не оставляя морской службы, принял монашеский сан. Он одновременно делал карьеру: и во флоте, и в католической церкви. Адмирал Д’Аржанлье стал близок французскому правительству, преподобный отец Луи замечен папой римским. Папа римский ничего не имеет против того, чтобы преподобный отец отправился в качестве верховного комиссара в Индокитай. Ватикан мотивировал свое решение тем, что адмирал-церковник «оказал и сможет оказывать значительные услуги Франции, а следовательно, и христианской цивилизации…» И вот, чтобы поддержать устои христианской цивилизации, адмирал-церковник приказывает произвести бомбардировку Хайфона. Переговоры с народным правительством Вьетнама прерваны, но война не объявлена. Народной армии ставят унизительные условия. Они не приняты. И двадцать третьего ноября французские корабли открывают огонь по Хайфону. В этот день Анри пишет: «…Пожары повсюду озарили небо над Хайфоном. Я ничего не слышу, кроме грохота пушек… Все в городе стерто с лица земли, все, кроме европейских кварталов». Командование Народной армии обращается с просьбой прекратить огонь. Ответа нет. Обстрел продолжается. Шесть тысяч человек убиты в Хайфоне. Но колонизаторы не достигли цели — мужественный народ не поставлен на колени. Он борется, он будет бороться. Хо Ши Мин обращается с двумя воззваниями. В одном он призывает народ продолжать сопротивление колонизаторам, другое направлено французам. Он призывает их сделать все, для того чтобы спасти жизни молодых вьетнамцев и французов. Из городов и деревень Индокитая, которые еще находятся под властью колонизаторов, уходит почти все мужское население. Там уже не встретить мужчин в возрасте от семнадцати до пятидесяти лет. Реками, тропами, джунглями, в которых теряются даже тропы, они пробираются туда, где находится Народная армия. Призыв Хо Ши Мина услышан в Париже. «…Добейтесь, чтобы ваших сыновей вернули живыми!» — требует мать убитого французского солдата. Но нет еще у простых людей Франции такой силы, которая могла бы заставить колонизаторов прекратить бойню. Молодой парижанин Поль, он же Пауло, собирался избороздить весь мир. Точка на карте возле Сайгона указывает, где окончилась его жизнь. Анри Мартэн видит это место не на географической карте. Он ходит по этому кладбищу возле Сайгона. На прошлой неделе там было триста солдатских могил, теперь прибавилось полтораста. Он пишет домой: «Даже если пришлют подкрепление, сделать ничего нельзя будет. Невозможно истребить весь народ». Он видел, как сражаются вьетнамцы. Он пишет в Розьер и об этом: «Солдат вьетмина с мешком патронов пробежал не сгибаясь пятьсот метров по открытому месту. За это время по соседству с ним разорвалось пять или шесть снарядов. Это люди, которые не боятся бича плантатора. Вот что надо понять прежде, чем попытаться установить взаимопонимание. Говорить с ними надо не так, как говорит властелин с рабами, а как человек с человеком…» Анри Мартэн поверяет мысли только близким. Но, видимо, не только близкие люди знают о заветных мыслях молодого моряка. Никогда не прекращается слежка тайной полиции за солдатами, за матросами. Анри Мартэн был нужен колонизаторам лишь до тех пор, пока сохранялась в нем простодушная вера в добрые намерения правительства. Не стало простодушной веры — не нужен Анри Мартэн в колониях. Более того — он нежелателен там. Молодой моряк получает приказ вернуться во Францию. Ему предстоит дослужить свой срок в Тулоне. Остается два года и несколько месяцев до окончания контракта. Он не станет просить о продлении контракта. А если бы обратился к начальству с такой просьбой? Оставили бы Анри Мартэна во флоте еще на один срок? Вряд ли… Но Мартэн об этом еще не знает. Получив отпуск, моряк садится в поезд. Розьер, тихий Розьер… Быстро проходят отпускные дни. Мать не спускает глаз с сына. — Скажи, Анри, тебя не пошлют больше туда? — Нет, мама, не беспокойся. Теперь до конца срока я в Тулоне. — Но ведь туда посылают все новых и новых. — Да, мама, посылают. — Лучше не думать об этом, Анри!.. Мать не знает, что сын не забыл о далекой стране, никогда он не примирится с тем, что обманули его, его поколение, обманули всю Францию. Он вернулся на родину не солдатом, который только и думает о том, чтобы дослужить свой срок, а пламенным борцом мира. В жизни Анри наступает перемена. — Моя невеста! Обними ее, мама. — Ах вы, хитрецы!.. Мать обнимает девушку, которую знает давно. Это Симона. Она училась вместе с Анри в школе. Теперь она работает портнихой. Симона — трудолюбивая, скромная девушка. Мать радуется счастью сына — лучшего выбора он не мог сделать. Свадьбу назначили на 1950 год, когда окончится срок службы Анри. — Я буду приезжать, — говорит он. — Мы расстаемся ненадолго. И вскоре Симона получила письмо от Анри из тюрьмы. Он рассказал ей все. Окончив трудовой день, Луи Мартэн видит Симону у заводских ворот. Что бы это могло означать? Симона показывает ему письмо. Они садятся на скамеечку под платаном и совещаются. Надо ли сообщить матери? После короткого раздумья Луи Мартэн отвечает: — Нет, сейчас нельзя сообщить — ее здоровье все хуже и хуже. Она очень сдала в последнее время. Я подумаю о том, как это лучше сделать. Спустя несколько дней Луи Мартэн, стараясь быть спокойным, говорит о том, что произошло с сыном в Тулоне. — Многие солдаты и матросы попадают в кутузку. На военной службе это не такая уж редкость. Я сам однажды попал в карцер. Ничего страшного нет, Матильда. Но мать бледнеет. Она держится за сердце. Спустя несколько дней приходит подробное письмо от Анри. Оно начинается словами: «Теперь вы должны знать…» и заканчивается коротким словом: «Мужайтесь!»ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОВОКАЦИЯ?
В Тулоне на станции по испытанию горючего появляется новый матрос Льебер. Он только что вышел из тюрьмы. Разнесся слух — Льебер был арестован за то, что не побоялся отстаивать перед начальством свои права. Это располагает к нему товарищей по службе. Льебер ведет себя как добрый малый. Он острослов, танцор, оживит любую компанию. Никто из матросов и офицеров не знает о его прошлом. Немного об этом знает, видимо, начальник станции, хмурый, молчаливый человек. Несколько раз он обращается к начальству с просьбой списать Льебера со станции. Начальству непонятна настойчивость старого офицера. Разве Льебер плохо служит? Нет, службу проходит неплохо, но у всех подчиненных незапятнанные формуляры, а у этого… Старому офицеру каждый раз отвечают, что он слишком нетерпим. Начальник станции старается не замечать Льебера, а тот, кажется, знает о его тщетных просьбах. При начальнике Льебер сама почтительность, но сколько наглости в глазах у канальи. Почему его прислали на станцию? Кто он? Не тайный ли агент секретной полиции? Начальник станции не ошибается в предположениях. Да, Льебер — тайный агент, шпик, провокатор, подлейший человек. Именно потому его и прислали на станцию. Разгульную, распущенную жизнь вел Льебер. Для этого нужны были деньги. Он добывал их грязными способами. Однажды Льебер совершил тяжелое нарушение устава. Предстоял суд, но суд не состоялся. Охранка избавила Льебера от наказания и приобрела в нем тайного агента, готового на любую гнусность. Об этом и не подозревают товарищи по службе. Льебер держится как хороший товарищ. С ним приятно провести время на берегу. В разговорах Льебер резко и насмешливо отзывается о начальстве, о правительстве. Он часто повторяет, что война в Индокитае унижает достоинство Франции — грязная, грязная война. — Я видел ее! — Да ты видел ее, Анри. Но она чувствуется и здесь. Сколько транспортов ушло туда! И сколько парней не вернется! Таких парней, как мы с тобой… Льебер располагает к себе. С ним можно было бы поделиться сокровенными мыслями. Можно было бы… Но что-то удерживает Мартэна. Льебер узнал о листовках, которые попадают на станцию. Он читал их. Но кто приносит листовки? Это Льеберу осталось неизвестным. Спустя несколько месяцев Льебера списали со станции. Начальник станции вздохнул с облегчением — наконец-то вняли его просьбе. Льебера перевели на авианосец «Диксмюд». Одно не совсем понятно: почему же на авианосец? Туда берут самых проверенных. А впрочем… Там, вероятно, нужен глаз Льебера, его уши. … «Диксмюд» кружит, кружит по Средиземному морю, нигде не находя пристанища. Покажется у африканских берегов и идет в Тулон, снова в Африку, снова в Тулон. Где же он надолго бросит якорь? Никто не знает. Это нервирует команду. Особенно же встревожен матрос Хеймбюрже, замкнутый человек, человек без друзей. В отпускные дни он отправляется один на берег и рано возвращается на корабль. Говорят, что он стал таким после того, как невеста порвала с ним, что он тяжело переживал разрыв. Но стоит узнать подробнее о жизни Хеймбюрже — и выяснятся другие причины. Хеймбюрже родом из Эльзаса. Он считал себя французом, потомком французов. Но в 1940 году гитлеровцы объявили его подданным «третьей империи». — Вы не Хеймбюрже, — строго сказал ему гитлеровский офицер. — Забудьте, что вы француз. Отныне и навсегда вы Гаймбургер. Слышите — Гаймбургер! «Нет, я все-таки Хеймбюрже», — думает молодой эльзасец, но думает очень робко. Он боязлив даже в мыслях. Его зачислили в воинскую часть и отправили в Румынию. Он проклинал свою участь, он ненавидел и войну и гитлеровцев. Хеймбюрже дезертирует из фашистской армии. Несколько лет он скрывается в Австрии; работает на ферме крестьянина, тайного врага гитлеровцев. Приходится уйти оттуда. Его прячут в горной деревушке. Становится опасно и там. Он живет в развалинах разбомбленного дома. Но испытания не прибавили Хеймбюрже мужества. Он только проклинает войну. Он готов бежать на край света, лишь бы забыть об этой страшной войне. Хеймбюрже надломлен. Он ни во что не верит, он не видит для себя места в жизни. Война окончилась. Что ему делать теперь? Возвратиться в Эльзас? Там большие разрушения. Предприятия не восстанавливают. Хеймбюрже не может найти работу. — Вам нужна работа? — спрашивает офицер в морской форме. — Поезжайте в Индокитай. Там требуются молодые, сильные люди. Эта служба обеспечит вам будущее. И Хеймбюрже, не раздумывая, подписывает контракт на службу во французском военном флоте. Он ничего не знал об Индокитае. Не знал, что со дня на день там должны начать войну против народа, отстаивающего свою независимость, и скоро он снова увидел войну. Тяжелая тропическая болезнь свалила его. Что с ним сделают дальше? Страх, от которого цепенеет воля, — единственное чувство, которое осталось в нем. Хеймбюрже возвращают во Францию. Его зачисляют в команду авианосца «Диксмюд». «Диксмюд» совершает бесцельные рейсы по Средиземному морю. Авианосец становится пленником, которому никуда не вырваться. Хеймбюрже ничего не понимает. В нем растет глухое отчаяние. Авианосец становится на стоянку в Тулоне. И здесь на борту появляется новый матрос Льебер. Нелегко сблизиться с молчаливым, недоверчивым Хеймбюрже. Но Льебер — его земляк-эльзасец, им есть о чем поговорить. Льебер также пострадал от гитлеровцев. Льебер сумел расположить к себе земляка. Сумрачный матрос ищет его общества и раскрывается перед ним. — Да, в скверную историю мы попали с тобой! — говорит Льебер. — Как мы из нее выберемся? — Скверно то, что нам некуда выбраться. Ну, кончится контракт — что делать дальше? Кому нужны мои руки? Кто даст мне кусок хлеба? — Ну, еще до того, как кончится контракт… Заварится такое… — Что ты имеешь в виду? — нетерпеливо перебивает Хеймбюрже. — Вот увидишь — в конце концов нас отправят в Индокитай. Говорю тебе, в скверную историю мы попали с тобой, пара эльзасцев. — Но почему, Льебер, они делают то, что хотят? Ведь все против этой войны! Все понимают, что она ничего не даст. — Да, все понимают. О том, что надо помешать, пишут в газетах, в листовках. Ты читал? Хеймбюрже признается земляку, что он не только читал листовки, подписанные «группой моряков», но сам распространял их, что он получил их у одного знакомого матроса, который служит на станции испытания горючего. — Славный парень, но… — Хеймбюрже мрачно усмехается. — Кто? Я там служил, на станции. Не Мартын ли? — Ты его знаешь? Славный парень, но… Что сделаешь листовками? Только разложишь их в разных местах, как является патруль морской полиции и все подбирает. Нет, тут, видно, нужны не листовки, а совсем другое… Хеймбюрже тяжело задумывается. Через несколько дней объявляют, что состоится пробный выход в море. — Пробный выход? — говорит Льебер. — Непохоже. У нас есть все для дальнего плавания. — Туда? — Хеймбюрже бледнеет от волнения. — Туда. Плохо мое дело. — Почему? — Я штрафованный. Понадобятся люди для рискованной операции, для высадки где-нибудь в чертовой дыре — я первый кандидат. Разве не так поступают с теми, кого не любит начальство? — Да, да! — шепчет перепуганный Хеймбюрже. — Я знаю — так бывало. Меня начальство тоже не любит. Спустя несколько часов обнаружили, что в двигатели подсыпан размельченный наждак. Это было замечено тотчас. И тотчас арестовали Хеймбюрже. Вероятно, за ним следили. Хеймбюрже сразу же перевезли на берег в тюрьму. Льебера перевели на другой корабль — он уже не нужен был на авианосце, а выход в пробное плавание отменили. Следователь морской прокуратуры очень торопился с допросом арестованного. Хеймбюрже был потрясен случившимся. Следователь говорит не столько о нем, Хеймбюрже, сколько о Мартэне. Через каждые две — три фразы имя Мартэна. Хеймбюрже подтверждал то, что требовалось следствию. Он показал, что Анри Мартэн убедил его подсылать в машину наждак. Долго ли уговаривал его Мартэн? Долго, долго! С самого начала знакомства? С самого начала знакомства. Рассказывал ли Мартэн о войне в Индокитае? Много, много рассказывал. «И вы, Хеймбюрже, не хотели бы снова попасть туда?» — «О, нет, нет!» — «Действовали ли на вас рассказы Мартэна?» — «О да, действовали»… Опытный следователь, который понимает состояние заключенного, может поставить любой вопрос, и перепуганный насмерть Хеймбюрже даст тот ответ, которого добивается следователь. Для чего понадобилась такая провокация? Зачем нужно было подсылать негодяя Льебера на станцию, где служил Мартэн, на авианосец, где он встретился с Хеймбюрже? Власти знают, для чего нужно было все это. Анри Мартэн писал в листовках то, что печаталось в газетах сторонников мира. Эти газеты выходят легально, но морские власти не пропускают их на корабли, в арсенал. Мартэн никогда не призывал к нарушению дисциплины, к беспорядкам. Эти листовки — голос патриота, который на своем опыте убедился в том, что война в далеком Индокитае не принесет добра Франции. Если судить Мартэна только за листовки, дело может окончиться оправданием. Скамья подсудимых превратится в трибуну сторонников мира, противников «грязной войны». Об Анри Мартэне уже говорят во Франции. О нем пишет «Юмамите». Оправдание сделает его популярнейшим человеком. Это опасно. Это увеличит влияние сторонников мира. Надо осудить Мартэна, обязательно осудить. Саботаж — вот настоящее обвинение, обвинение грозное. Матросу, которого изобличат в том, что он подстрекал товарища испортить машину, сочувствовать не будут. Это оттолкнет от него даже многих из тех, кто считает войну в Индокитае преступной. Французские корабли можно было выводить из строя, когда немцы захватили Тулон. Это было актом мужественной борьбы против врага. Но вредить военной мощи Франции теперь… Подвергать опасности жизнь французских моряков… Да это же тяжкое преступление против родимы, господа! И преступник находится в рядах тех, кого называют борцами за мир. Не доверяйте им, господа! Таков расчет реакции. Надо скомпрометировать Мартэна, а вместе с ним — движение сторонников мира.ГОЛОС С ВОЛИ
Почудилось? Или ветер донес эти слова? Анри стремительно встает, откладывает книгу. Тихо, как только может быть тихо в каменном мешке. Анри прислушивается. Нет, не почудилось, не почудилось ему. Это голос с воли, голоса с воли. Их много, они сливаются в едином возгласе. Совсем близко от тюремных стен люди скандируют: — Оправдайте Мартэна! Оправдайте Мартэна! Голоса не смолкают, не удаляются. — Оправдайте Мартэна! Оправдайте Мартэна! Анри бросается к окну и тогда только вспоминает, что оно заколочено. Значит, много людей собралось там, снаружи, если звуки доносятся до него. Люди не уходят. Они стоят возле ворот. Он словно видит их сквозь заколоченное тюремное окно. Это такие же простые люди, как те, к кому в последний раз обращался капитан Даньель, как те, кто работает с отцом. Они везде: в маленьком Розьере, в разрушенном гитлеровцами Руайяне, в огромном Париже, здесь, в Тулоне. Проходят сутки в каменном мешке. Наутро раздается снова: — Оправдайте Мартэна! Анри не знает, что это голос Парижа. Велосипедисты, участвующие в гонке на приз газеты «Юманите», достигли Тулона. Каждый в городе может показать им камеру Мартына — вон та, где окошко забито досками. Велосипедисты останавливаются на минуту возле тюремных ворот. Как бодрят эти возгласы, несущиеся снаружи! Можно забыть о недомогании, которое с каждым днем дает себя чувствовать все сильнее и сильнее, о том, что только раз в сутки несколько минут он видит солнце. — Оправдайте Мартэна! Стоя в душной камере с заколоченным окном, он машет рукой невидимым друзьям. Значит, их у него становится все больше и больше. В тюрьме остается твердым тот, кто чувствует себя правым, кто соблюдает дисциплину, установленную самим собой для себя. Анри много читает. Он просит не присылать ему романов. Книги по истории лежат на его узком тюремном столике. Он, противник «грязной войны», читает книги об Индокитае. Теперь он легко отделяет ложь от правды. А лжи так много и не только в том, что говорило начальство, но даже в этих солидных на вид книгах. Долгие десятилетия разбоя в Индокитае, зверств, истребления народа. Это колонизаторы называли своей «культурной миссией»! Они увековечили имя адмирала, который первым бросил якорь в водах Индокитая, — генерала, который первым обстрелял селения вьетнамцев. Пожилой сержант, наемник Индокитайского банка, профессионал войны, служивший только из-за денег, признал, что вьетнамцы стоят гораздо выше, чем он. Наемники и их хозяева остались такими же, как были, а народ Вьетнама, трудолюбивый, гуманный, осознал себя силой, которую не сломить. Теперь Анри стали особенно близки слова, которые читали в его листовке: «Ради ваших миллиардов вы жертвуете нашей юностью». В августе он писал из тюрьмы: «Теперь я знаю лучше, чем когда-либо, что означает свобода при капитализме». И в августе же Морис Торез призывает сторонников мира вырвать из тюрьмы Анри Мартэна и Раймонду Дьен. Начинается битва за жизнь Анри Мартэна.СУД
«Оправдайте Мартэна!» Этот возглас слышит заключенный, которого поместили в соседней камере. Это Хеймбюрже. Анри ни разу не встретился с ним в тюрьме. Хеймбюрже мечется по душной камере. Окошко у него не заколочено. Он дотягивается до решетки. Вот они стоят возле тюрьмы — сотни французов, мужчины, женщины, молодые, старые. Кто-то поднял на руки ребенка и показывает ему… Что он показывает? Они приветствуют Мартэна. Он здесь. Им это известно. Они узнают и, вероятно скоро, что Хеймбюрже оговорил человека, который стал им таким близким. Эта мысль невыносима. Нет сил слышать эти возгласы, видеть этих людей. Хеймбюрже колотит кулаками в дверь. Он требует чернил и бумаги. — Дополнительное показание? — спрашивает начальник тюрьмы. — Да, да, дополнительное показание! — шепчет Хеймбюрже. Через полчаса, получив исписанный лист, начальник тюрьмы говорит сквозь зубы: — Несчастный!.. — Он не без любопытства смотрит на взмокшего, тяжело дышащего, взъерошенного Хеймбюрже, который прислонился к стене. — Смотри, — говорит начальник тюрьмы, — как бы тебе не заколотили окно. — Все равно, все равно!.. — шепчет Хеймбюрже. «Однако наделает же это им хлопот!» — думает начальник тюрьмы, унося бумагу. Заявление Хеймбюрже переполошило военную прокуратуру. «Я один виновен в саботаже, — пишет Хеймбюрже. — Мартэн ничего не знал об этом. Я солгал на следствии». Власти уже ничего не могут предпринять. Приходится назначить день суда. Он начнется семнадцатого октября. Тулон называют городом «красных помпонов». Красный помпон пришит к синему берету матроса с французского военного корабля. Красные помпоны мелькают на улицах Тулона, старинной базы французского флота. Здесь в 1942 году «красные помпоны» пустили ко дну французские боевые корабли, чтобы они не достались гитлеровцам и не увеличили их военную мощь. Так патриоты отстояли честь своего флага. Но остался ли Тулон независимым после войны? Пройдитесь по улицам города «красных помпонов». На одном из домов вы увидите вывеску: «Американская морская комендатура» Матрос с американского военного корабля может выкинуть любое безобразие — оскорбить женщину, поколотить жителя города… Этот хулиган — неприкосновенная фигура для французских властей. В крайнем случае его отведут в американскую комендатуру, и там дежурный офицер пожурит хулигана. Могли ли «красные помпоны» — матросы, которые, рискуя жизнью, на глазах гитлеровцев топили свои корабли, — подумать, что после войны морской флаг Франции снова будет унижен? Анри Мартэна судят не только по приказу из Парижа. Действует и приказ, полученный из-за океана. Суд над Анри Мартэном — продолжение борьбы со сторонниками мира. И все сознают это — и народ и слуги агрессоров. Улицы Тулона, примыкающие к дому, где будет заседать суд, запружены матросами. Много гражданских жителей, много приезжих. Проносятся джипы морской полиции. Появились жандармы. Усилены отряды корпуса республиканской безопасности — из соседних городов спешно доставлены на грузовиках новые группы охранников. Тулон становится похож на осажденный город. Но это не может испугать сторонников мира. Утром во время футбольного матча и зрители и игроки почтили Мартына минутой молчания. Команды остановились в центральном круге, зрители поднялись с трибун. Никто не посмел нарушить минуту молчания, даже те, кто далек от сочувствия Мартэну. Не встать в такую минуту — это значит покинуть стадион под свистки, под возгласы негодования и презрения. В ста метрах от стен тюрьмы рабочие-строители организуют митинг. На стене морской комендатуры появляется огромный плакат: «Оправдайте Мартэна!» Военный трибунал заседает в маленьком зале. Так решили заранее. В зале едва могут поместиться сто человек. Места впереди заняли журналисты парижских газет. Входит, сняв вельветовую каскетку рабочего, старый человек. Это Луи Мартэн, отец подсудимого. У него усталое, бледное лицо. С ним две девушки: сестра Анри и его невеста. Они ему что-то тихо говорят. В два часа дня начинается процесс. Вот они, судьи. Один из них, председатель трибунала, известен своей жестокостью; другой — тем, что служил правительству Петэна; об остальных ничего не известно. На столе папка с материалами дела. А где же другие папки? Их также можно считать материалами по делу Мартэна. Это материалы, представленные народом Франции, — петиции, телеграммы протеста, письма простых людей. Народ обвиняет судей. Он осуждает организаторов процесса. Все эти материалы остались в архивах трибунала. Но не заглушить голоса народа. Слышно, как люди скандируют на улице: «Оправдайте Мартэна!» Мимо них проносятся автомобили с полицией. На минуту слышен только шум моторов, а потом опять и опять: «Оправдайте Мартэна!» Удар молотком. Тучный председатель трибунала приказывает: — Введите подсудимых! Их вводят. И с этой минуты Анри Мартэн становится виден всей Франции. Он, а не судья, ведет процесс в Тулоне. Анри обменялся взглядом с отцом, с невестой, с сестрой. Многое они сказали друг другу без слов. У юноши желто-бледное, утомленное лицо — сказались дни, проведенные в камере с заколоченным окошком; каштановые, зачесанные назад волосы, высокий лоб, черные живые глаза. Он очень спокоен. Председатель с небрежным видом перелистывает листы дела. В знак удивления он высоко поднимает плечи и как бы незаметно для себя укоризненно покачивает головой. Однако, подсудимый, у вас великолепные характеристики. Отовсюду: из партизанского отряда, с места работы. Отличное прошлое! Как же могло случиться такое? Со стороны простодушный человек может подумать, что председатель впервые в начале заседания увидел эти материалы, что раньше он ничего не знал о прошлом человека, которого судит. Актерские приемы нисколько не смущают Анри. — Что же именно случилось, господин председатель? Председатель говорит тоном огорченного человека, человека, который удручен тем, что сделал юноша. — Ну как же, Мартэн… Подписывая контракт, вы брали на себя известные обязательства. Серьезные обязательства, Мартэн. Распространяя листовки, вы их нарушили. Анри смотрит председателю в глаза и твердо отвечает: — Мои взгляды остались прежними. Обязательство нарушило правительство, нарушило тем, что развязало эту кровавую, постыдную войну. Наступает долгое молчание. Председатель как бы не слышал того, что сказал Мартэн. Председатель раздумывает вслух. — Листовка подписана: «Группа моряков». Кто это — группа моряков? — Это группа моряков, господин председатель. — Не вы один? — Не я один. — Но кто же еще? — Это группа моряков, господин председатель. На задних скамьях зашелестел смех. Председатель сдвигает брови: — Вы сказали, что берете всю ответственность на себя… — Я это повторяю. В листовках написано то, что можно прочесть в демократической печати. — У нас вся печать демократична… Неосторожная реплика. Над председателем смеются. Смеются даже сотрудники реакционных газет — они-то отлично знают нравы своей прессы. Любая из газет, которые они представляют в Тулоне, продается банкам, синдикатам, заокеанским магнатам. И как трудно приходится тем немногим газетам, которые можно считать демократичными! — В этой листовке оказано: «Ни одного человека в Индокитай!» Ну, Мартэн, это открытый призыв к неповиновению! Иначе это место нельзя понять. Что-то теперь скажет подсудимый? Но вопросы, которые судейскому чиновнику кажутся тонкими и коварными, не производят на подсудимого никакого впечатления. Никогда не покинет его сознание своей правоты. Дни, проведенные в тюрьме, не сломили, а закалили его. — Нет ничего противозаконного в борьбе против правительства, предающего интересы Франции! — раздельно отвечает он. Адвокат, одетый в мантию, наклоняется к соседу-адвокату и шепчет: — Я, кажется, не нужен моему подзащитному. У этого парня столько здравого смысла, что он даст сдачи любому казуисту. После паузы Анри добавляет: — Господин председатель, разве можно считать преступниками тех, кто боролись против Виши! А ведь Виши считало себя законным правительством Франции. Он смотрит в упор на второго члена трибунала, который служил Петэну в годы оккупации. Тот не выдерживает взгляда. Председатель поспешно вмешивается: — Но, если каждый будет делать то, что ему нравится, к чему это поведет? К чему это поведет, Мартэн? Председатель все еще старается вести допрос в духе добродушной, поучающей беседы. Поэтому он часто с оттенком благодушия в голосе повторяет имя подсудимого. — Есть разница между «делать то, что нравится», иотказом выполнять преступные распоряжения. В зале раздаются аплодисменты. Председатель сразу меняется в лице. Теперь уже нет благодушия в его голосе. Он кричит: — Я никому не позволю мешать нам! И тотчас снаружи раздаются пронзительные свистки. Охранники пытаются оттеснить толпу от дома, где заседает трибунал. Доносятся возгласы: «Мир Вьетнаму! Освободите Мартэна!» Вопросы задает прокурор: — Вы сказали, что один из жителей Тулона взял на себя печатание листовок, которые вы составляли. Человек этот здесь, в зале? Узнаёте вы его? Анри не отвечает. Пауза увеличивает напряжение в зале. Люди задерживают дыхание. Скрестив руки на груди, Анри с презрением смотрит на прокурора. Не надо бы прокурору повторять свой вопрос. Но он повторил и получил в ответ: — Я не намерен помогать вам! Объявляют перерыв. Наконец-то старый Мартэн может обнять сына. Анри целует невесту. Она держится робко. Он ободряет ее, он шутит. Симона гладит его руку и с таким доверием глядит на жениха! Что бы ни случилось, она не откажется от него. Но почему должно было случиться такое? Почему ее Анри в тюрьме? И что предстоит им? Подсудимых уводят. На улице моряки бросаются к Мартэну. Каждый хочет пожать ему руку. Проходят сутки. Как дальше председателю вести допрос? Для него остается только один вариант: подсудимый дал определенные обязательства, подписав контракт; подсудимый их нарушил — он виновен. Но вариант, который так долго обдумывал председатель трибунала, оказывается негодным. — Меня обманули, — говорит Анри. — Я был уверен, что буду бороться для блага вьетнамцев. В Индокитае я увидел то, что возмущает совесть честных людей. Я повторяю: обязательства нарушило правительство! Он рассказывает о том, как французские военные суда топили джонки, как поджигали деревни. Он рассказывает о зверствах экспедиционного корпуса, о шести тысячах жертв в Хайфоне. — Вопрос о войне решает государство! — внушительно напоминает председатель. — Несомненно. Но вопрос о мире также решает оно. И он мог быть заключен. Анри продолжает свой правдивый рассказ. — Мы — восемь миллионов молодых французов, — говорит он в заключение, — не хотим умирать ни за американских миллиардеров, ни за французских миллионеров. Но действиями одного лица не прекратить войну в Индокитае. Для этого нужна решимость всего народа. Я верю в такую решимость. «Действия одного лица» — все при этих словах посмотрели на Хеймбюрже. Он сидит, опустив голову. Наступает его очередь. — Хеймбюрже, когда вы говорили правду: на следствии или в заявлении? — спрашивает председатель. Хеймбюрже медленно отвечает: — Я один виноват в саботаже. Мартэн не виноват. Много вопросов задают ему и много раз незаметно возвращаются к одному, самому важному для трибунала. Пусть будет так, как говорит Хеймбюрже, — измельченный наждак подсыпал он один. Но, может быть, Мартэн, передавая листовки «группы моряков», убеждал Хеймбюрже причинить вред двигателю? Пусть Хеймбюрже хорошенько подумает и вспомнит. Судьи разочарованы. Хеймбюрже не отказывается от письменного заявления. Никогда Мартэн не говорил ему о том, что надо вывести двигатель из строя. Начинается допрос свидетелей. Первым идет провокатор Льебер. Здесь он чувствует себя неспокойно. Лицо у него подергивается. Провокатор на каждый вопрос отвечает так, как нужно судьям, прокурору. Но ложь так очевидна, что ни на кого не производит впечатления. Это чувствуют и судьи, и провокатор, и прокурор. Перед трибуналом проходит матрос Флок, который также служил на посыльном судне «Косуля». Впервые после долгого перерыва они встретились, товарищи по службе. Флок улыбнулся: не робей, мол, Мартэн. Мартын ответил улыбкой: и не думаю робеть, Флок. — Флок, — спрашивает Мартэн, — видел ли ты хотя бы одного француза, замученного вьетнамцами? Нет, Флок этого не видел. Он и не слышал об этом. А сколько было замучено вьетнамцев! — Много, много! — вспоминает Флок. Это ему приходилось видеть. Страшные картины, от которых содрогалось сердце… Он мог бы рассказать об этом подробно. — Отвечайте только на вопросы! — поспешно напоминает председатель. Он, Флок, также настаивал на том, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы его вернули во Францию. Его также обманули. — Весь экипаж требовал расторжения контракта. Верно, Флок? — Верно. Возле мыса Варела мы видели, как расстреливают рыбаков. Это было ужасно. — Помнишь, Флок, как убили ребенка? А родителям сказали: «Если вы недовольны, с вами сделают то же самое». — Помню. — А Хайфон? Дома, оставшиеся целыми, поливали бензином и поджигали. Верно, Флок? — Верно! Много таких вопросов задает Мартэн, и товарищ по службе отвечает: «Помню», «Да, верно, верно, дружище…» Сколько таких свидетелей можно было бы вызвать в трибунал! Площадь перед зданием суда наполнена охранниками. Они сдерживают демонстрантов. Цепь против цепи. У одних оружие, у других бесчисленные вымпелы: «Освободите Мартэна!» Эти надписи покрывают плиты тротуаров. Из зала, где судят Мартэна, можно увидеть, как над улицей низко проплывает воздушный шар с таким же вымпелом. Охранники в бешенстве бросаются вдогонку на джипе, а ветер уносит шар дальше и дальше. Издали доносится несколько выстрелов. Судьи переглядываются, в зале перешептываются. Здесь не знают, что у самого берега охранники расстреляли воздушный шар. Девятнадцатого октября трибунал выносит приговор. Он вынужден был снять с Мартэна обвинение в саботаже. От провокации пришлось отказаться. Трибунал признал его виновным в попытках «деморализовать военные силы». Анри Мартэн приговорен к пяти годам тюремного заключения. Когда Мартэна сопровождали на военный корабль, моряки соседних кораблей встретили его возгласами: «Освободите Мартэна!» Один из матросов был арестован. Спустя несколько дней ночью под усиленной стражей Анри Мартэн был посажен на гидросамолет. Никто не знал, куда отправлен осужденный. Но через два дня на стене военной тюрьмы в Бресте появилась огромная надпись: «Анри Мартэн здесь. Освободим его!» Патриоты ни на минуту не забывали об осужденном. Они всюду следовали за ним. Им становилось известным все, что власти делают с борцом за мир.СПЕКТАКЛЬ ВОЗЛЕ ТЮРЬМЫ
«Лицом к стене!» Часто на прогулке, продолжающейся всего несколько минут, Анри слышит этот резкий окрик. Для прогулки предоставлена совершенно изолированная площадка. Заключенного сопровождает надзиратель, не спускающий с него глаз. Когда навстречу показывается другой заключенный, надзиратель приказывает: «Лицом к стене!» И Анри, повернувшись к стене, выжидает, пока пройдет встречный. Если осужденный не исполнит приказания, он вернется с прогулки не в камеру, а в карцер. «Лицом к стене!» Во время гитлеровской оккупации этот окрик часто раздавался в старой тюрьме, где фашисты расстреливали французских патриотов. Тюрьма находится на окраине города, рядом с разрушенными во время войны домами, где погибли тысячи людей. Неподалеку поднимается земляная насыпь. Поразительное зрелище происходит здесь в одно из воскресений. Открытая площадка на насыпи превращается в театральную сцену. Из Бреста приходят тысячи зрителей. Артисты, приехавшие из Парижа, показывают пьесу — «Драма в Тулоне». Это пьеса об Анри Мартэне, запрещенная в столице Франции. Ее написали несколько литераторов и режиссеров. В пьесе рассказывается о борьбе Анри Мартэна против «грязной войны», о его процессе в Тулоне. Народный спектакль под открытым небом проходит с огромным успехом. Зрители шумно приветствуют главного героя пьесы, приветствуют актеров. Редкое совпадение: роль Анри Мартэна играет его однофамилец — Клод Мартэн. И какой необычный спектакль! У подножия насыпи — зрители. Позади зрителей — океан. Артист, играющий роль Анри Мартэна, проходит среди зрителей, одетых в синие рабочие блузы, поднимается на насыпь, садится на скамью подсудимых. Судья в длинной мантии начинает допрос. Мужественно отвечает Анри Мартэн. Каждое его слово зрители встречают аплодисментами. Он поворачивается лицом к ним. Только ли к ним, рабочим Бреста? Он видит тюремную стену, на которой написано: «Анри Мартэн здесь. Освободим его!» Он видит на горизонте орудийные башни французских крейсеров. Один из них недавно вернулся из далекого Индокитая. Матросам, таким же, как он, говорит Анри Мартэн: — Ни одного человека для грязной войны! Небывалый, неповторимый спектакль! Ни одного равнодушного зрителя. Могут сказать, что не совсем совершенна форма, что неровен текст пьесы. Но был ли во Франции когда-нибудь спектакль, который волновал бы зрителей так, как этот, со сценой на земляном валу? — Это сама правда! — говорит зритель-рыбак соседу. — Это то, что теперь важнее всего для народов! — отвечает сосед-возчик. Газета «Юманите» открывает кампанию в защиту Анри Мартэна. Каждый день она печатает статьи о нем, письма читателей. В океан из Бреста выходит для ловли тунцов рыбачье судно. По радио оно обращается к другим кораблям: «Вам известно, что патриот Анри Мартэн, который приговорен к пяти годам заключения за разоблачение войны во Вьетнаме и за призыв к морякам бороться против нее, находится в настоящее время в тюрьме Понтаньу, в Бресте. Его снова будут судить семнадцатого июля. Мы образовали комитет защиты. Мы призываем экипажи других кораблей учредить комитеты борьбы за его оправдание». Адвокаты, защищавшие Мартэна в Тулоне, сумели, опираясь на общественную поддержку, добиться пересмотра дела. В Брест приезжают Луи Мартэн и Симона, невеста Анри. На вокзале Луи Мартэна встречает старый рабочий Мазе. Его сын был убит в Бресте охранниками во время демонстрации. Сопровождаемые толпой, Луи Мартэн и Мазе направляются к зданию профессионального союза, где воздвигнут гранитный обелиск памяти погибшего Эдуарда Мазе. — Я чту память вашего сына! — говорит отец Анри Мартэна. — Я надеюсь, что справедливость восторжествует и ваш сын будет оправдан! — говорит Эдуард Мазе. Старые люди заключают друг друга в объятия.СНОВА СУД
Снова удар деревянного молотка. — Введите подсудимых! Члены трибунала в Бресте подобраны с особой тщательностью. В состав трибунала включен тот самый офицер, который арестовал в Тулоне матроса, выражавшего сочувствие Анри Мартэну. В Тулоне председатель трибунала говорил отеческим тоном. Председатель трибунала в Бресте сух, официален. Но и это поза. Напускным равнодушием судьи хотят показать, что разбирается обыкновенное уголовное дело, что они нисколько не смущены статьями в газетах, собраниями, петициями, листовками и даже манифестациями. Несмотря на июль, в Бресте стоит прохладная, дождливая погода. Улицы становятся серыми. Но непрерывный, монотонный дождь не может разогнать толпы жителей Бреста, которые собрались возле здания трибунала. Не удается это и отрядам охранников. Повторяется то, что было в Тулоне. По улицам снуют джипы и грузовики. На зданиях появляются надписи: «Освободите Мартэна!» Люди стоят с вымпелами, на которых написаны эти слова. Охранники пытаются схватить старую женщину — она встретила их возгласом: «Фашисты! Убийцы!» И тотчас выросла цепь между нею и наемниками реакции. Женщина исчезла в толпе. Об Анри Мартэне говорят всюду: на работе, во всех кафе, на рынке… Анри Мартэн стоит перед трибуналом. — Если любят свободу, — говорит он, — то ее желают всем народам. Судьи не прерывают его. Они сидят холодные, замкнутые. И заранее известно — приговор предрешен. Председатель проявляет беспокойство лишь тогда, когда на свидетельском месте появляется провокатор Льебер. Защитникам Мартэна, ему самому стали известны такие факты из биографии Льебера, которые до сих пор знала только тайная полиция. Один вопрос Льебер хотел бы оставить без ответа, но это не удается ему. Настойчиво, последовательно Анри Мартэн разоблачает шпика. — Льебер, — спрашивает Анри Мартэн, — в германском флоте служили рекруты или добровольцы? Льебер меняется в лице. — Были и те и другие… — А на подводных лодках? Льебер молчит. — Льебер, — спрашивает защитник, — служили ли вы добровольцем на германской подводной лодке? Провокатору вспоминается, как гитлеровский офицер строго напоминал ему: «Вы не Льебер, а Либер, отныне вы Либер. Забудьте о том, что вы француз». Льебер ради выгоды поспешил забыть о том, что он француз. Но теперь это стало известно многим. — Позвольте мне объяснить… В зале начинается шум. Предателя не хотят слушать. Председатель предупреждает, что посетители будут удалены, если не восстановится тишина. Льебер признается — да, он, эльзасец родом, записался добровольцем в германский подводный флот. Прокурор пытается помочь ему, он подыскивает смягчающие обстоятельства для Льебера: — Ведь вы сделали это под нажимом, Льебер? — Да, да, под нажимом… И все в зале понимают, что заставляет прокурора предпринять попытку обелить провокатора. В сущности, они оба предали Францию: и Льебер и прокурор. Один предал, пойдя добровольцем к гитлеровцам, другой служил Петэну. По точному смыслу закона обоих надо судить военным судом. Но оба они служат реакции, поджигателям новой войны. Им все прощено. А патриота Анри Мартэна отправили в тюрьму. Совещание трибунала было недолгим. Приговор оставлен в силе. Зал ответил трибуналу пением «Марсельезы». И судьи должны были остаться на месте, дослушать пение до конца. Иначе они не могли поступить. Потом они не ушли, а убежали. В эту минуту напускное спокойствие изменило им. Старый Мартэн обнял сына. Он и Симона прошли в последний раз по городу. Цветы, которые преподнесли им жители Бреста, они возложили возле гранитного обелиска, поставленного в память погибшего защитника мира Эдуарда Мазе.ЗАКЛЮЧЕННЫЙ № 2078
В четыре часа утра пятого августа Мартэна увозят из тюрьмы Понтаньу. Власти боятся манифестаций. Город погружен в сои, когда осужденного доставляют к стоянке гидросамолетов. Мартэна привозят в Ренн. И в тот же самый день на улицах Ренна появляются листовки. Патриоты требуют освобождения Мартэна. Демонстранты окружают тюрьму. Ночью с восьмого на девятое августа, когда город спит, из тюрьмы выходят три машины: одна, наглухо закрытая, с заключенным, две с охраной. Переезд длится всю ночь. Осужденный не знает куда его везут. В кузове машины нет окна. На Сене, на маленьком островке, расположена тюрьма Мелан. Она предназначена только для важных преступников. Стены старой кладки спускаются к самой воде. Внутри, вдоль этих стен, протоптаны узкие тропинки, обрамленные чахлой зеленью, — место коротких прогулок. На стенах караульные посты. Так как же здесь в день, когда три машины идут по деревянному мосту к тюремным воротам, на стене появилась огромная надпись «Освободите Анри Мартэна!»? Жандармы, едущие в открытых машинах, не верят своим глазам. Сторонники Мартэна уже успели всё узнать, сумели обмануть часовых. И только Мартэн, запертый в машине-ящике, не видит надписи. На пять лет он лишен имени. Имя осталось на воле, а в старой тюрьме нет Анри Мартэна, есть заключенный № 2078. Военная форма сдана в кладовую. На заключенном поношенное арестантское платье — брюки и куртка из грубой шерсти, поношенные, залатанные ботинки. В рукав куртки вшит номер — 2078. — Мы найдем для вас хорошенькое местечко, — мягко говорит начальник тюрьмы, пришедший поглядеть на арестанта, о котором писали и пишут так много. Мартэн — прямодушный человек. Он воспитан в семье простых людей, воспитан рабочими, партизанами, патриотами. Он никогда не кривит душой. Заключенный № 2078 отвечает: — Я не прошу милости! Едва заметная улыбка пробегает по губам начальника тюрьмы. На другой день Мартэн понял смысл этой улыбки. К нему и не собирались отнестись милостиво. Обещанное начальником «местечко» сделало его жизнь в старой тюрьме еще более трудной. Мартэн знает слесарное дело, он умеет собирать машины. Но ему отказывают в работе по специальности. Его назначают библиотекарем. Библиотека — тесный закуток, в котором хранятся несколько сот истрепанных, никому не нужных книг, пожертвованных благотворителями. Работа в библиотеке — это дни угнетающего одиночества. Старые тюремщики знают психологию заключенного. Для полного сил молодого человека, вышедшего из юношеского возраста, работа в «хорошеньком местечке» — дополнительная мука. Это месть за надпись, которая появилась на тюремной стене, за честность Мартэна, за его популярность, за настоящий патриотизм. Вместе с тем это и мера предосторожности. Молодые силы требуют движения, работы. А Мартэн лишен всякого общения. С утра до вечера он обречен на неподвижность, на безделье, которое изматывает гораздо больше, чем тяжелая физическая работа. Придет надзиратель за книгами для заключенных — они их требуют очень редко, — и никого не увидит больше Мартэн! Шесть часов утра — сирена. Семь тридцать — колокол. Мартэна отводят в закуток. В час дня он может выйти на тридцатиминутную прогулку, которая должна совершаться в молчании. В семь часов вечера его снова запирают в камере. Стены камеры всегда влажные. Дает себя знать близость Сены. Окошко не заколочено, но видно только небо. — Заключенный номер 2078, на свидание! Разговор с родными происходит через густую решетку. По ту сторону решетки стоят отец и невеста. — Как мама? Мать не приехала — значит, больна. Невозможно скрыть от него правду. Мать подолгу теперь не встает — хозяйство ведет сестра. Сестра не смогла приехать, потому что мать нельзя оставить одну. Вокруг шум. Люди стараются перекричать друг друга. Свидание коротко, а поездка в Мелан требует времени и расходов. Надо воспользоваться редкой возможностью и сказать все, что требуется сказать. Оттого-то люди и напрягают голос. Молчат только тюремщики, прохаживающиеся вдоль решетки. Анри держится за решетку и кричит, чтобы быть услышанным. Ну, а все-таки есть ли надежда, что матери станет лучше? Есть ли надежда? Отец кивает головой — да, надежда есть. Надзиратели ударяют ключами по решетке. Это знак того, что время свидания прошло. Если вы не сказали еще самого важного, торопитесь, господа. Сколько могут сказать друг другу отец и сын, Анри и Симона! Но время истекло.Неожиданно для арестанта № 2078 делают исключение из правил. Арестанту полагается гулять в строгом молчании. Но на прогулке к Мартэну присоединяется другой заключенный, пожилой человек, стройный, с выправкой военного. Тихим голосом он начинает разговор. «Заметят!» — предупреждает Анри. «Неважно!» — отвечает заключенный. «Неважно? За это карцер». — «Не торопитесь с карцером». — «Кто вы?» — «Бессрочный». Они делают круг. «Слушай, Мартэн, — говорит пожилой арестант, — я бессрочный, но с тобой дело хуже, чем со мной». Анри молчит. В нем возникает смутное подозрение. Кто этот человек? Пожилой не унимается: «Они сгноят тебя здесь. Они не выпустят тебя живым. Ты слишком заметная фигура. Ты известен всей Франции. О тебе знают и за границей. На твоем месте я бы знал, что делать». — «Что же?» — «Взяться за ум». Пожилой арестант сам приходит к нему в библиотеку. Ни у кого из заключенных нет такой привилегии. Анри насмешливо смотрит на нежданного посетителя: — Здесь нельзя говорить. Даже шепотом. Посетитель пожимает плечами. Он вытаскивает портсигар. Дорогие сигареты с золотым ободком. Анри отказывается. Он мог бы сразу выгнать пожилого, но пусть разговорится негодяй. У него, возможно, есть тайное поручение от властей. Пусть скажет. Пожилой хитер. Он говорит полунамеками. Он часто повторяет, что надо взяться за ум. — Но как? — Мартэн, Мартэн… Ты не настолько прост, чтобы сам не догадался. Ты неглуп — ты доказал это судьям. Но теперь надо вести себя иначе. Анри узнает, что этот заключенный был офицером петэновской армии. Он служил и Петэну и гестаповцам. Он лично убил одного партизана. За все это полагалось после освобождения Франции ответить смертью. Казнь заменили вечным заключением. Бессрочный мог бы сказать, что находится в резерве реакции. О нем заботятся влиятельные люди, патриоты не требуют его освобождения. Его имя не появляется на стенах домов и тюрьмы. Но о нем хлопочут. И покровителям доверительно отвечают: сейчас освобождение было бы преждевременным, но в будущем… Они не забудут о бессрочном, пусть потерпит. Этот арестант нужен реакции. В тюрьме ему живется намного лучше, чем Мартэну. Бессрочный пользуется всякими поблажками. Он часто получает посылки, иногда работает для развлечения; в камере он завел некоторые удобства. Бессрочный подчеркивает свою религиозность: он не пропускает ни одной службы в тюремной церкви и подолгу беседует со священником. — Ну как, решил ты взяться за ум? — спрашивает он Анри. — Скажи, я помогу советом. Анри смеется: — Слушайте, вы не только негодяй, но и глупец! Какой совет вы можете мне дать? Только один — оплевать мое прошлое, моих друзей. — Сгниешь! — грозит бессрочный. — Сгниешь здесь, несчастный! Не надейся на то, что отсидишь свой срок!.. — Он в бешенстве. — Есть сотня способов обеспечить тебе кладбище… Да, сотня способов! Я выйду, а ты нет. Сгниешь! — Ты уже сгнил! — спокойно отвечает Мартэн. Не следует продолжать разговор с этим отребьем. Мартэну вспоминается Хеймбюрже — вот того жалкого человека этот негодяй сумел бы обработать.
СИМОНА
Он всегда думал о Симоне. В тюрьме он старался себе представить, как она живет без него. Утро в Розьере. Симона идет на работу. Он помнит мастерскую и витрину с манекеном, изображающим модно одетую женщину. «Здравствуй, Симона! — Подруга нагоняет ее. — Письма оттуда есть?» Об этом, должно быть, спрашивают и заказчицы, приходящие на примерку. «Вы давно были там?» — «Я ездила в прошлое воскресенье»… — «Он здоров?» — «Говорит, что вполне здоров, но решетка густая, плохо видно». — «Как у него в семье?.. Передайте от меня привет ему». — «Спасибо, спасибо, мадам!» Все к Симоне относятся дружески. Незнакомые люди здороваются с ней. Пожилая женщина остановила ее, обняла и сказала: «Все мы желаем тебе, чтобы жених вернулся поскорее». Симона в письме рассказала об этом Анри. Он улыбнулся и задумался. Как долго ей ждать его… Не лучше ли написать ей отсюда, из тесного закутка, где сложены старые, истрепанные книги, последнее письмо? Не лучше ли освободить ее от слова, которое она дала? Ведь может случиться и так, как говорит бессрочный… Вот бумага, перо. Письмо сегодня же прочтет начальник тюрьмы, вероятно ухмыльнется, сообщит по секрету жене. Жена, возможно, посочувствует Симоне и ругнет мужа за черствость. О его заветном письме будут говорить чужие люди. Нет, нельзя это писать. Письмо оскорбит Симону. Нет, не надо, не надо писать! Что за мысли лезут в этом «хорошеньком местечке»! За станком он не додумался бы до такой чепухи. Как медленно тянется время в закутке! Книги не позволяют забыть об этом. На полках одно старье. Ни одной послевоенной книги. Есть книги по истории Франции, но это история королей, а не страны. И начальник тюрьмы, который получает от республики жалованье, не видит ничего плохого в том, что в книгах поносят революцию 1789 года. Но, если бы пришли книги о борьбе за мир, начальник задержал бы их. Этот же начальник мирится с тем, что бессрочный, который предал республику, завел комфорт у себя в камере. А для француза, который боролся за то, чтобы прекратилась гнусная, бесполезная, уносящая столько жизней война, установлен гораздо более суровый режим, чем для врага родины. Враг выполняет в тюрьме какие-то тайные, подлые поручения, идущие от тех, кто пытается навязать Франции новую войну. Им нужно раскаяние Мартэна, его покорность. Вот почему бессрочный заводит подлые разговоры. Если бы написать об этом на волю! Нет, не пропустит начальник. Не позволят и рассказать у решетки в минуты свидания. Надзиратели тотчас уведут заключенного № 2078. Далекий Розьер… Симона не перестает думать об Анри. Наступает день, когда она говорит подруге: — Завтра еду к нему. — Да? Ты решила? — Подруга внимательно смотрит на нее. — Окончательно. Пусть это поддержит его. Подруга знает, в чем состоит решение Симоны, — они уже говорили об этом. — Я поступила бы так же, поверь… — Верю. Подруга обнимает и целует Симону. Дома Симона с грустью смотрит на белое платье. Нет, его не придется брать с собой. Они выезжают в ночь — родители Анри, Симона, родители Симоны. Мать не вполне поправилась, но такой день она не может пропустить. О нем она будет вспоминать до конца жизни. Завтра в тюрьме будет зарегистрирован брак Анри и Симоны. Комната в маленьком доме в Мелане. Симона разглаживает темное платье. Через час ей надо быть в тюрьме. Мэр города не принадлежит к числу прогрессивных людей. Но и он обратился с просьбой к начальнику тюрьмы — нельзя ли доставить заключенного в мэрию. Его матери, здоровье которой пошатнулось, было бы легче увидеть своего сына там. Начальник тюрьмы ссылается на устав — арестант ни на минуту не может выйти за ворота, пока не истечет срок заключения. Мэр огорченно сообщает об этом родителям, невесте. — Что ж, — отвечает мать, — я была готова к этому. Вы не даете даже часа свободы человеку, который хочет одного — чтобы не убивали людей. Что ж… Пойдемте к моему сыну, в тюрьму. Небольшая группа людей идет по деревянному мосту. Перед ними ворота тюрьмы. Постовой сообщает: — Будут пропущены члены семьи, свидетели и еще пять человек. Остальные должны вернуться в город. За полчаса до того в тюрьме происходил разговор, очень неприятный для начальства. Мартэн заявил, что выйдет в своем обычном арестантском платье с номером, вшитым в рукав. Это напугало начальника. Из Парижа приехал журналист. Он может сделать снимок. Подумают, что начальник приказал заключенному быть в арестантской одежде. Анри понимал, почему беспокоится начальник. Пусть же он теперь понервничает. Страдания людей не трогают его. Зато он очень заботится о своей служебной репутации. Так вот, заключенному № 2078 представляется теперь случай наказать начальника — за «хорошенькое местечко», за льготы бессрочному. Насмешка сквозила во взгляде Мартэна. Он настаивал на своем. — В такой одежде в такую минуту жизни! Нет, это невозможно! — убеждал начальник. — Подумайте, что скажет ваша невеста! — Она ничего не скажет. Она не упрекнет меня. — Но меня упрекнут! — Начальник не выдержал. — Нет, нет, я прошу вас! — В нарушение устава он назвал заключенного № 2078 по имени: — Я прошу вас, дорогой Мартэн! Конечно, Анри и не думал выходить к родным в арестантской куртке. Но так комично было беспокойство тюремщика, что заключенный № 2078, известный на воле своим веселым нравом, остроумными шутками, не отказал себе в удовольствии позлить его. Спокоен отец Анри. Он поддерживает жену под руку. Мать не отрывает взгляда от сына. Слезы на глазах родителей Симоны. Впервые за долгое время Симона может встать рядом с Анри. Несколько минут они могут простоять так, только несколько минут! Мэр смущен. Он знает, что даже это событие в жизни Анри Мартэна заставило власти принять особые меры предосторожности. В тюрьму введено полтораста молодцов из корпуса республиканской безопасности. — Итак, — говорит мэр, маленький, щуплый человек, оглядывая присутствующих, — будем считать эту комнату на время, которое потребует церемония, помещением мэрии. Маленькая, плохо освещенная комната канцелярии. Зимний день глядит в решетчатое окно. — Свидетели. Родные. Прошу вас, господа! Свидетель Анри Мартэна — видный ученый, в прошлом начальник штаба партизанских отрядов. Свидетель Симоны — слесарь из Розьера, товарищ Анри по партизанскому отряду. Вместе они сражались у Руайяна. Так, в тюремной канцелярии, в необычной обстановке, собрались три товарища по оружию, три патриота-партизана, а среди охранников, которые, стоя у открытых дверей, с наглым любопытством глазеют на происходящее, можно найти предателей родины, служивших Петэну, гитлеровцам. Мэр скороговоркой прочитывает статьи закона о браке. Он чувствует себя неуверенно и все время теребит трехцветную перевязь на груди. В законе есть параграф: «Право выбора места жительства семьи принадлежит мужу». Мэр, чуть пожав плечами, сообщает об этом новобрачным. Анри Мартэн весело говорит: — Честное слово, я только того и хочу! А ты, Симона? Симона находит в себе силы пошутить: — Я покорна мужу и закону. Мэр спешит окончить церемонию. Он кланяется и торопливо уходит. Анри целует Симону. Он жмет руки свидетелям. Церемония окончена. Мать все время сдерживала себя. Но пора уходить. Она разражается слезами: — И это после всего того, что сделал мой сын для родины… Пусть стыдится правительство!.. Приехавшие уходят обратно по деревянному мосту. Анри в камере. На нем снова куртка с номером, вшитым в рукав. Наутро бессрочный приветствует его с преувеличенной любезностью: — Позволь поздравить тебя… Ну, как ответить ему? Ударом? Но этого-то он, возможно, и добивается. На этом могут сыграть негодяи. Анри молча проходит мимо. Симона, Симона!.. Когда-то он снова встретится с нею? Они увиделись летом. Анри опасно заболел. Все сразу сказалось: камера с заколоченным окошком в Тулоне, сырая тюрьма, вынужденное томительное безделье, скверная пища. Эту болезнь многие испытали в гитлеровских лагерях. Ее приносит истощение. Она называется гнойной экземой. Человек становится не похож на себя. Он не может открыть глаза. Угрожающе поднимается температура. Была послана телеграмма в Розьер. Почтальон, старый знакомый семьи, молча передал ее сестре Анри, работавшей в палисаднике. При этом он выразительно поглядел на окна дома. Предосторожность не мешает — он не видит матери Анри. Сестра осужденного кивнула головой — это был знак благодарности почтальону. Да, предосторожность оказалась нелишней. Мать снова прихворнула. Телеграмму скрыли от матери. Срочно выехали отец и Симона. Они сказали, что едут на очередное свидание. Их провели в лазарет. Анри поднял пальцами веки, чтобы увидеть Симону, стоявшую у его койки.ОТВЕТ СТРАНЫ И ОТВЕТ МАТЕРИ
Осень 1951 года. Поджигатели войны считают, что они основательно укрепили свои позиции, и потому предпринимают такие действия, которые можно считать прямым вызовом борцам за мир. В один день вышли из заключения несколько тысяч японских фашистов. Спустя короткое время, в годовщину освобождения Франции, были выпущены братья Рехлинг, крупные военные преступники. В сентябре в Бонне гитлеровский генерал Гудериан приступает к восстановлению милитаристских организаций. Освобождены из тюрьмы гитлеровцы, которые уничтожили французское селение Орадур, убили много женщин и детей. Октябрь. Военный трибунал оправдывает Франсуа Карбона и Жоржа Дюмулена. Оба они предатели Франции, один из них убивал участников Сопротивления. Оба семь лет назад были заочно приговорены к смертной казни; оба, выждав время, явились к властям и были немедленно прощены. У военных трибуналов много хлопот. Но они не осуждают гитлеровцев, предателей Франции, прислужников фашистов, палачей, садистов, а освобождают их. В день, когда в тюремной канцелярии регистрировали брак Анри Мартэна, из тюрем было выпущено сорок пять военных преступников. В ожидании полного освобождения гитлеровский фельдмаршал Манштейн по своему желанию уезжает из тюрьмы, возвращается в нее. Зато Анри Мартэну не позволяют покинуть тюрьму даже на час. А плюгавый человек с трехцветной перевязью предлагает жениху и невесте, родным, свидетелям представить себе, что они не под тюремными сводами, а в здании мэрии! …Заседание военного трибунала в одном из небольших городов Франции. На скамье подсудимых петэновский полицейский — квадратный человек с тяжелым взглядом, с тяжелыми руками. Он обвиняется в том, что при его содействии сто патриотов были арестованы, восемнадцать расстреляны, двадцать шесть заключены в лагери. Он не отрицает своей вины. Он скупо рассказывает о том, что делал, и часто повторяет: «Приходилось, господа судьи, да, приходилось». Прокурор требует минимального наказания. Он считает, что подсудимый только механически исполнял распоряжения начальства. Прокурор высокомерен. Разве можно, говорит он, считать, что подсудимый хоть в какой-то мере проникнут духом Франции? Нет, это только машина, его нельзя судить, как настоящего сына Франции. Ему еще предстоит понять, что такое сознание патриота. Трибунал возвращается после короткого совещания — подсудимый оправдан. Процесс окончен. Все одновременно покинули зал: оживленные судьи, прокурор, защитник, убийца патриотов и ошеломленная публика. Раздается чей-то возглас: — Негодяи, вы разыграли комедию! Что же происходит? Почему оправдывают военных преступников? Реакция, поджигатели новой войны мобилизуют силы. Им нужны кадры, негодяев — эти машины, выполняющие любой приказ. Все время выходят на свободу военные преступники. Но ключ от камеры, в которой заключен Анри Мартэн, власть не выпускает из рук. Сирена, колокол, сирена, томительное безделье в закутке, ночи без сна, недомогание — так проходят дни заключенного № 2078. Осуждение Анри Мартэна, амнистия, оправдание военных преступников, предателей Франции, наемников фашизма, убийц патриотов — были вызовом всей стране, жаждущей мира. Страна приняла этот вызов. Началасо борьба за освобождение Мартэна. Всюду собирали подписи под петициями об освобождении заключенного № 2078. Листы петиции открывались портретом Анри Мартэна в одежде арестанта, а под портретом — подписи, подписи, подписи… простых людей — и не только простых. Подпись иногда ставил ученый, иногда политический деятель, человек умеренных взглядов, иногда священник, поэт, артист… На предприятиях, на станциях метро, на рынках, в далекой рыбачьей гавани — всюду-всюду патриоты голосуют за освобождение Анри Мартэна. Депутации появляются в парламенте, в приемных министров. Вот группа женщин окружила депутата. Но он принадлежит к лагерю поджигателей войны и держится нагло: — Вы хлопочете за Мартэна? Я бы увеличил ему срок заключения… — Бесполезно, сударь! Мы не допустим, чтобы он отбыл и свой прежний срок. В министерстве: — Господин министр вас примет. Но какова цель вашего визита? — Мы требуем освобождения Анри Мартэна! — Но вы не первые… — И не последние… Спустя минуту секретарь приносит извинение министра — он занят срочными делами, не позволяющими ему… В приемной другого министерства: — Господин министр отбыл… — Мы подождем его! — Но он будет занят целый день. — Мы подождем. Не следует забывать, что Мартэн ждет в тюрьме! — Возможно, министр и не приедет сюда. — Пусть он назначит день для встречи. — Сначала надо подать заявление. — Мы подавали. Оно осталось без ответа. Секретарь смущен, обеспокоен: — Но чего же вы от меня хотите? Я сам передам ваше заявление. Не может министр принимать все делегации. — Но мы не делегация любителей тюльпанов. Мы хлопочем о Мартэне. Морской министр приезжает в Тулон, город «красных помпонов», где состоялся первый суд над Мартэном. Жители встречают его возгласами: «Освободите Анри Мартэна!» Министр укрывается в здании морской комендатуры. И в это время мимо дома комендатуры проплывает воздушный шар с флагом, на котором огромными буквами написано: «Освободите Анри Мартэна!» Этот шар не удается уничтожить. Он плывет, плывет по воздуху и исчезает за городом. В Бресте, где состоялся второй суд над Мартэном, морской министр собирается произнести речь на спуске нового корабля. Лишь только он появляется на трибуне, как листовки вихрем разносятся по верфи, они падают на корабль, ожидающий спуска на воду. И на каждой листовке портрет Анри Мартэна в одежде заключенного. И с этими листовками, устилающими палубу, новый корабль сходит на воду. Реакция пытается помешать кампании, которая стала делом национальной чести. Пытаются запрещать собрания — это не удается. Бесполезно и запугивать тех, кто ставит подписи под петицией. Тогда пытаются оказать психическое давление на заключенного. Депутат парламента Жан Поль Давид, слуга агрессоров, специалист по разным провокациям, придумал еще одну, едва ли не самую мерзкую. Больной матери Анри Мартэна он посылает письмо. Вполне вежливо, но издевательски он пишет, что ее молитвы (Матильда Мартэн — набожная католичка) не помогут сыну выйти из тюрьмы. И общественная кампания, надписи на стенах, листовки также не помогут. Что же поможет заключенному? Депутат-провокатор подает совет — поможет послушное поведение заключенного. Пусть заключенный № 2078 забудет о том, что его привело в тюрьму, и срок будет сокращен. Пусть прекратят кампанию в его защиту, и он будет освобожден. Мать должна просить общество о прекращении кампании в защиту сына — вот в чем смысл этого письма. Депутат-провокатор и «бессрочный» действуют заодно. Простая религиозная женщина отвечает агенту поджигателей войны: «Вы предлагаете мне отречься от того, что сделал мой сын. Знайте, что его отец и я, оба мы привили ему любовь к семье и родине, как привили честность и трудолюбие. Анри — рабочий. Во время оккупации он был в рядах Сопротивления. Я горда тем, что мой сын исполнил свой долг перед Францией… Я также желаю мира для всех народов». Кампания продолжается.Правительство республики Вьетнам освободило из плена очередную группу раненых французских солдат. Их снаряжают в путь. Возле лодок столпилась группа вьетнамских женщин. Они говорят раненым: — Передайте матери Анри Мартэна, что он не только ее сын, но и наш. Об Анри Мартэне знают и в далеком Индокитае. Поэты Вьетнама посвящают ему свои стихи. В Париже семнадцать пожилых женщин являются в морское министерство. У дверей приемной их спрашивают о цели посещения. Они отвечают: — Мы пришли навести справки, когда прибудет из Индокитая прах наших сыновей-моряков, убитых там. Некоторые из нас ждут уже больше двух лет. Чиновник говорит, что он тотчас все узнает. — Мы пришли также требовать освобождения Анри Мартэна. Перед женщинами тотчас захлопывают дверь.
Комната Анри в Розьере. В ней теперь живет Симона Мартэн. Она ждет мужа. На стене морская фуражка Анри, виды Индокитая. Заходит свекровь, по привычке прибирает. Для нее Анри все еще ребенок, хотя в шестнадцать лет он стал уже взрослым человеком, бойцом-патриотом. Кампания в защиту ее сына продолжалась, ширилась. Новые сотни тысяч честных людей принимали в ней участие. Их избивали, заключали в тюрьму, судили. Но не было у власти такой силы, которая могла бы подавить волю патриотов к борьбе за свободу верного сына Франции. «Драма в Тулоне» — только ли возле старой брестской тюрьмы видели ее? Нет, артисты объездили с этим спектаклем всю Францию. Они проехали пятьдесят тысяч километров. Двести тысяч зрителей смотрели спектакль. Власти запрещали его, жители городов и сел добивались отмены запрещения. Вспыхивали демонстрации, вмешивалась полиция, производились аресты, но занавес поднимался. И Анри Мартэн — моряк, сражающийся за мир, — показывался перед зрителями.
ОН ПРОДОЛЖАЕТ СРАЖАТЬСЯ ЗА МИР
Пять лет заключения, пять лет, начиная с 1951 года… Значит ли это, что только в 1956 году откроются перед Мартэном ворота старой островной тюрьмы Мелан? Сторонники мира становятся сильнее, чем поджигатели войны. Сторонники мира ни на один день не прекращают борьбу за освобождение Анри Мартэна. И победа остается за ними. Не в 1956 году, а на два года раньше открываются перед Мартэном ворота старой тюрьмы. Он идет по деревянному мосту. Его встречает весь Мелан от мала до велика. В этот час город Мелан представляет всю Францию — и Розьер, и Париж, и Брест, и Тулон. Всюду ждали этого дня. Ждали и в далеком Вьетнаме. Сообщение о том, что честные люди добились свободы для заключенного № 2078, приняли и на борту старого посыльного судна «Косуля» и на борту нового авианосца «Диксмюд». А с борта рыбачьего судна, где три года назад появился первый комитет зашиты Анри Мартэна, передали сообщение, что комитет считает свою задачу выполненной, шлет освобожденному привет и всем объявляет о том, что сегодня комитет прекращает свою деятельность. Как дальше жить Мартэну? Остаться в тихом Розьере, постараться забыть томительные годы в островной тюрьме? Нет, он не уйдет в себя. Он будет продолжать борьбу за мир. Лето 1954 года. Съезд Коммунистической партии Франции. Председатель от имени делегатов поручает Мартэну огласить приветствие, полученное из Вьетнама. Он не был коммунистом в тот день, когда переступил порог морской тюрьмы в Тулоне. Теперь он коммунист, делегат партийного съезда. И с трибуны съезда партии матрос посыльного судна «Косуля», свидетель зверств в Хайфоне, поднявший свой голос протеста против бесчеловечных преступлений милитаристов, узник тюрем в Тулоне, Бресте, Ме-лане, говорит, что лучшим ответом на привет вьетнамского народа будет последовательная и стойкая борьба патриотов Франции против грязной войны в Индокитае. Спустя два месяца в Индокитае прогремел последний выстрел грязной войны, длившейся восемь лет.ВЫСШАЯ НАГРАДА
…Поезд приближается к венгерской границе. — Кто же наградил вас этим орденом, Анри? — спрашивает седой спутник. — Это было тогда, когда я находился в Мелане, — заканчивает Анри свой рассказ. — В Розьер из другого города приехала неизвестная женщина. На собрании она подошла к моему отцу и сказала: «Мой сын погиб во Вьетнаме. После его смерти я получила вот эту награду. Но я не хочу хранить ее у себя. Если в этой войне кто-нибудь и заслужил французский орден, то это ваш сын, потому что он боролся против войны». И она передала отцу вот этот орден — «Военный крест». — Впервые военным орденом награжден человек,который защищал мир. Да, это можно считать решением всего народа. Вы заслужили высокую награду, заключенный № 2078. Поезд у границы. Седой спутник жмет руку Мартэну: — Анри, я хочу сказать вам на прощание: у тех, кто бросил вас в тюрьму, есть еще много сил, есть еще умение обманывать простодушных. Но что бы ни случилось завтра, — прямая дорога у нас, а не у них. У них только зигзаги. Мир для человечества мы отстоим. Мать пятерых детей, которая встречала этот поезд для того, чтобы взглянуть на Мартэна, может быть уверена в этом. — Как и все мы! — отвечает Мартэн. — Да, у нас прямая дорога к цели. В истории побеждает именно это. Седой спутник выходит из вагона. Поезд идет дальше.Вл. Савченко Черные звезды
Научно-фантастическая повесть

ПРОЛОГ НАБЛЮДЕНИЯ СТЕПАНА ГЕОРГИЕВИЧА ДРОЗДА
1
Рассвет угадывался лишь по тускнеющим звездам да по слабому, похожему на случайный сквознячок, ветерку. На юго-западе, за деревьями, гасло зарево зашедшей луны. В саду, где стояли павильоны Полтавской гравиметрической обсерватории, было тихо и сонно. Степан Георгиевич Дрозд, младший научный сотрудник обсерватории, человек уже в летах, даже задремал на крыльце своего павильона. Сыроватый предрассветный ветерок смахнул дремоту. Стенай Георгиевич зябко повел плечами, закурил и посмотрел на часы. Сегодня ему предстояло измерить точную широту обсерватории, — это было необходимо для изучения годичных качаний земной оси, которыми Степан Георгиевич занимался уже три года. Зенит-телескоп был приготовлен и направлен в ту точку темно-синего неба, где под утро в 5.51 должна появиться маленькая, невидимая простым глазом звездочка из созвездия Андромеды; по ее положению измерялось угловое отклонение широты. До урочного часа оставалось еще двадцать минут, можно было не спеша покурить, поразмышлять. Павильон отстроили недавно — большой, настоящий астрономический павильон с каменными стенами и раздвижной вращающейся крышей. До этого наблюдения проводились в двух деревянных павильонах, похожих на ларьки для мелкой торговли. Молодые сотрудники так и называли их пренебрежительно: «ларьки». Степан Георгиевич посмотрел в ту сторону, где среди деревьев смутно виднелись силуэты «ларьков». Работать в них было плоховато, особенно зимой — закоченеешь! Да и рефракторы в них маленькие, слабосильные… Не то что этот. Степан Георгиевич был склонен гордиться новым мощным телескопом, установленным в каменном павильоне: ведь он сам собирал его почти целый год, рассчитывал и заказывал линзы. «Конечно, не как в Пулкове — всего двухсоткратное увеличение, но для наших измерений больше и не нужно. Зато не искажает». Уже рассветало: на востоке серело небо; силуэтом, еще не приобревшим дневные краски, стояло двухэтажное, в восточном стиле, здание обсерватории; в саду и дальше — вдоль опускающейся в город булыжной мостовой — плавал прозрачный туман. Дрозд поглядел на часы: 5.45. Пора начинать. Он потер озябшие руки и вошел в павильон. Несмотря на рассвет, небольшой круг неба в телескопе был таким же черным, как и ночью. Заветная звездочка голубой точкой медленно подбиралась слева к перекрестию окуляра, к зениту. Степан Георгиевич, приложившийся к окуляру только так, порядка ради, хотел было уже отвести глаза, но внезапно через объектив быстро промелькнуло что-то темное, большое, продолговатое. Оно заслонило звездочку и исчезло. Степан Георгиевич не сразу сообразил: птица или померещилось напряженным глазам? Но звездочки в окуляре больше не было — на ее месте возник размытый светящийся след. «Метеор? Но почему же он не светился?» Раздумье заняло несколько мгновений. Степан Георгиевич поднял голову и увидел в щели купола тонкий светящийся след: он наращивался к северу и медленно угасал к югу. Такой след бывает у больших метеоров, но в начале этого следа не было ярко светящегося метеора. «С юга на север, по меридиану», — быстро определил Дрозд и включил мотор. Труба телескопа стала быстро поворачиваться за следом. Руки действовали умело и привычно: когда объектив телескопа дошел до начала следа, они быстро выключили мотор и начали крутить рукоятку ручной подачи. Небо уже посветлело, и Дрозд смог рассмотреть вплывшее в объектив черное продолговатое тело. Было трудно координировать движения: перевернутое изображение тела в телескопе неслось в ту сторону, куда двигалась труба. Вот труба дошла до упора и остановилась. Тело исчезло… Степан Георгиевич был немолодым, рядовым сотрудником скромной обсерватории. Он давно, еще до окончания университета, убедился, что в астрономии гораздо больше черновой работы — ремонтной и вычислительной, — чем наблюдений, и несравненно больше наблюдений, чем открытий. Он имел неподалеку от обсерватории домик, сад, имел большую семью, не любил выпячиваться впереди других и даже в глубине души был уверен, что, хотя он и астроном, но звезды с неба хватать ему не суждено. Поэтому сейчас это неожиданное наблюдение ошеломило и взбудоражило его до сердцебиения. Механически поворачивая рукоятку обратно, чтобы вернуть телескоп в зенитное положение, по привычке приглаживая свободной рукой редкие волосы на макушке, Степан Георгиевич напряженно размышлял: «Что бы это могло быть? Тело не собиралось падать, не было раскалено, хотя летело с огромной скоростью — воздух светился… Спутники Международного геофизического года? Но ведь они уже давно отлетали свое, упали в атмосферу и сгорели. Да и были они совсем не той формы…» Рассвело. Все вокруг приобретало естественную дневную окраску. До восхода солнца осталось не более получаса. Через открытую дверь павильона был виден склон холма, на котором стояла обсерватория; улица — по ней проехал первый велосипедист. Фонари на столбах горели, ничего не освещая. Город просыпался. Степан Георгиевич посмотрел на часы: «Ого! Ровно 5.48, пропускаю зенит». Он довел трубу телескопа до вертикальных рисок на угломере, приложил глаз к окуляру, ища звездочку. И… увидел уходящее из объектива такое же продолговатое тело. Теперь оно блеснуло ярким отсветом закрытого горизонтом солнца и исчезло. Опять!.. Второе! Может быть, не второе, а он прозевал несколько? Дрозд резко закрутил рукоятку и снова повел телескоп вдогонку за непонятным метеором. Теперь он был подготовлен и быстрее смог поймать тело в объектив. Оно шло с юга на север над меридиональной щелью павильона и имело такую же снарядообразную форму, как и первое. Больше Дрозд ничего не смог рассмотреть: тело быстро ушло за пределы наблюдаемого в телескоп неба. Степан Георгиевич выскочил из павильона и посмотрел на север. Он был дальнозорок и далекие предметы различал хорошо, но ничего не увидел в розовеющем небе, кроме самых ярких звезд. Мелкие уже погасли. «Что же это такое? Ведь тела шли явно в атмосфере…» Ему стало не по себе. Не раздумывая больше, он бросился в обсерваторию, в кабинет директора, к телефону. Коммутатор долго не отзывался. Заснули, черти, что ли?! — Алло! Алло!.. Наконец в трубке щелкнуло, и сонный женский голос отозвался: — Коммутатор слухает. — Соедините меня с телеграфом… Телеграф?.. Это обсерватория. Примите молнию: «Пулково, Обсерватория… наблюдал в 5.45 и 5.48 два тела снарядообразной формы, запятая». Записали?.. «Траектория — по меридиану с юга на север, точка. Научный сотрудник Полтавской гравиметрической обсерватории Дрозд». Такую же телеграмму отправьте в Харьков, в обсерваторию Харьковского госуниверситета… Что?.. Да, тоже молнией. Степан Георгиевич посмотрел на часы — было ровно шесть часов утра. Время для измерений широты было безвозвратно утеряно! Впервые за многие годы он при всех благоприятных условиях не провел наблюдений…2
За несколько минут до этого, а именно в 5.43, радиолокаторы службы наблюдения за воздухом (ВНОС) засекли перелет на территорию СССР двух баллистических ракет. Незадолго до этой ночи над Черноморьем произошел один из тех случаев международного воздушного хулиганства, после которого заинтересованные державы, обмениваются нотами. Над Украиной на предельной высоте пролетел неизвестный самолет и улетел обратно. Его обнаружили с большим опозданием и не смогли приземлить. После этого неприятного события служба ВНОС работала особенно отчетливо и бдительно. Локаторы не дают изображений. Поэтому естественно, что всплески линии, вычерчиваемой электронным пучком на экранах локатора, были расшифрованы именно как баллистические ракеты. Они шли на большой высоте — около 100 километров — и с такой колоссальной скоростью, что ее даже не удалось определить. Через три минуты была зафиксирована вторая ракета… Любопытно отметить, что Крымская обсерватория, находящаяся примерно на одной долготе с Полтавой и имеющая гораздо более мощные телескопы, не наблюдала полета этих тел. Это говорит о том, что в удачных наблюдениях Степана Георгиевича Дрозда огромную роль сыграла случайность: ему просто повезло. Но если вспомнить, что на земном шаре очень много обсерваторий и что наблюдение за небом ведется непрерывно, то станет ясно, что случайность в данном случае была проявлением закономерности: кто-то должен был первым заметить эти тела, и Дрозд их заметил. Сообщения Степана Георгиевича и радиограммы многочисленных постов ВНОС пошли разными путями, но произвели сходное действие. Они будто редким пунктиром отмечали полет ракет с юга на север. Где упадет? — ждали все наблюдатели. Но ракеты не упали. Не снижая высоты, они пролетели над Калинином, над Ладожским озером, над Карелией; их траектория заметно искривлялась к западу. Над Печенгой они покинули территорию СССР и ушли к норвежским островам Шпицберген. Их полет от границ до границ длился шесть с небольшим минут. Телеграмма Дрозда была передана в Харьков, в Пулково, в астрономический центр Академии наук, во все обсерватории Советского Союза и мира. В необычное время, когда в Восточном полушарии начинался день, астрономы Европы, Азии, Африки, Австралии начали обшаривать небо рефракторами, рефлекторами, радиотелескопами. Неизвестные тела не исчезли. Через час после наблюдений Степана Георгиевича они были замечены наблюдателями Кейптаунской обсерватории, еще через двадцать минут их засекли над Магдебургом… В Европе начиналось утро. Многие газеты Парижа, Лондона, Рима задержали свои утренние выпуски, чтобы опубликовать полученные в последний час сообщения о неизвестных спутниках, появившихся над Землей в эту ночь. Собственно, новость не была настолько уж потрясающей: не первый год над планетой кружат различимые в бинокль и простым глазом спутники для геофизических наблюдений. Необычным было, пожалуй, лишь то, что эти новые, таинственные спутники, двигавшиеся в стратосфере, пока что ни в какой степени не накалялись от трения об воздух. Однако это могло показаться важным лишь для ученых. Газетчики — люди, которым бойкое воображение успешно заменяет недостаток знаний, — создали сенсацию по своему разумению.«КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ КРУЖАТ НАД ЗЕМЛЕЙ!»
«МАРСИАНЕ ИЩУТ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ!»
«СПУТНИКИ-СНАРЯДЫ! НЕУЖЕЛИ В НИХ МАРСИАНСКИЕ МИШЕЛЬ АРДАН, КАПИТАН НИКОЛЬ И БАРБИКЕН?»
«ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ МИРОВЫХ ГЛУБИН!»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЖУКОГЛАЗЫЕ!»
«ИХ УЖЕ МОЖНО РАЗЛИЧИТЬ В БИНОКЛЬ! ПРИОБРЕТАЙТЕ ШЕСТНАДЦАТИКРАТНЫЕ БИНОКЛИ ЦЕЙССА!»
В этот день большинство людей только и делали, что смотрели в небо. Оптические магазины распродали все свои товары, даже очки с увеличительными стеклами. Энтузиасты разбирали объективы фотоаппаратов и мастерили из них подзорные трубы. Никто ничего толком не знал, кроме газетчиков, разумеется. Они осаждали обсерватории, выводя из себя привыкших к спокойной обстановке астрономов и астрофизиков непрерывными интервью. «Конечно же, это космические корабли! — публиковали газеты крупными буквами заявление известного астронома Рэдли. — Разве хоть одна держава мира удержалась бы, чтобы не заявить, что именно она запустила эти спутники?» За день черные звезды были замечены последовательно над Барселоной, Лондоном, Калифорнией, Средней Азией, Александрией, Польшей, Мельбурном, Новой Гвинеей, Алма-Атой и так далее. Выяснилось, что спутники все время сносятся к западу, отставая от вращения Земли; в этом нашли еще одно подтверждение космического происхождения тел. О каждом наблюдении публиковались экстренные сообщения в выпусках газет и радио. Сами наблюдения с точным указанием времени и координат отсылались в астрономические центры: в Гринвич, в Пулково, в Калифорнийскую обсерваторию Паломар. Там они систематизировались. В Европе к вечеру картина начала проясняться. Газеты опубликовали фотографии спутников, сделанные в Мексике специальным телескопом, предназначенным для наблюдения метеоров. Снимки, переданные фототелеграфом, были невыразительны, однако на них, на темно-сером фоне неба газетных клише, различались более темные снарядообразные силуэты; за ними тянулся светящийся шлейф. Размеры спутников, измеренные разными наблюдателями, примерно совпадали: 1,5–2 метра в длину и не более 0,5 метра в поперечнике. («Соображение о том, что в снарядах находятся живые существа, — писала одна газета, — придется отставить. Или предположить, что марсиане имеют размеры кроликов».) Скорость спутников составляла 8,1 км/сек для первого спутника и на 50 м/сек меньше для второго, который постепенно отставал. Траектория их была сильно искривлена и не проходила через полюсы. Снижения спутников не заметил никто из наблюдателей пяти континентов. Последняя новость, сообщенная из Пулкова, уже не попала в газеты, ее передало ночное радио: «…Объединение данных о полете неизвестных тел позволило определить их период и траекторию обращения. Это, в свою очередь, помогло рассчитать массу тел. Она оказалась одинаковой у обоих спутников и равной приблизительно 450 тоннам (при размере 1,5–2 метра в длину). Непостижимым является тот факт, что средний удельный вес материалов, из которых состоят эти тела, примерно равен 1300 граммам на кубический сантиметр: в сотни раз больше плотности самых тяжелых металлов! Такое соотношение массы и объема делают понятным факт незначительного торможения тел об атмосферу и их огромную кинетическую энергию. Сам же факт необычайной плотности тел ждет своего объяснения».3
Это было время, когда воображение людей, взбудораженное полетами советских автоматических ракет на Луну, еще не успокоилось и они готовы были поверить всему. Десятки тысяч страниц фантастических романов, сотни гипотез о внеземной жизни не сделали того, что сделал этот прыжок в Космос. Горизонты расширились. Вокруг Земли есть пространство, в нем есть движение, в нем может быть жизнь — это стало понятно всем. Поэтому появление над планетой двух снарядообразных тел и все связанные с ними полунаучные предположения были восприняты чуть ли не как должное, само собой разумеющееся. Если мы, люди Земли, собираемся совершить первое космическое путешествие, то почему бы кто-то из других миров не прилетел на Землю? Сообщение о небывало большой плотности тел еще раз подтвердило предположение об их неземном происхождении. Газеты публиковали расписание движения спутников-снарядов на два дня вперед, оговаривая в конце сообщений: «…если спутники не приземлятся в этот период». Десятки тысяч астрономов-профессионалов и астрономов-любителей следили за движением неизвестных тел, готовясь первыми сообщить об отклонении их от баллистической траектории. Радиолюбители всего мира дежурили у приемников, пытаясь на всех волнах поймать радиосигналы со спутников. Все ждали, когда эти «вестники других миров» — пусть даже без живых существ — приземлятся… Однако третий день принес сообщение, которое сразу изменило направление мыслей и настроение во всем мире.«ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИМЕЮТ ЗЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ!»
«АНГЛИЙСКИЕ МАТЕМАТИКИ ДОКТОР БЛЕККЕТ И ДОКТОР РАМСЕЙ С ФОРМУЛАМИ В РУКАХ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО СПУТНИКИ ПРИЛЕТЕЛИ НИОТКУДА».
Газеты напечатали портреты двух ученых из Оксфорда и их статью: «Нас в первый же день смутило несоответствие орбиты спутников плоскому эллипсу, — писали они. — Дело в том, что если бы эти тела пришли из Космоса, то вращение Земли не сказалось на их движении. Грубо говоря, для них было бы все равно: вращается Земля или не вращается. Они кружились бы вокруг планеты строго в одной плоскости относительно неподвижных звезд. Для обобщения нам не хватало данных о траектории спутников в приполярных областях Земли. Вчера вечером, когда эти данные были любезно предоставлены нам русскими наблюдателями, картина стала ясной: орбита вращения спутников не является плоской, как у эллипсов. Она искривлена в пространстве и все время проходит через различные точки околоземного пространства. Если угодно, каждый оборот спутника имеет форму велосипедного колеса с большой восьмеркой, то есть примерно такую же траекторию, какую описывают спутники, запущенные с Земли. Если бы мы имели возможность посмотреть на нашу планету со стороны, то увидели бы приблизительно следующую картину: в пространстве вращается огромный земной шар, а вокруг него описывают замысловатые петли два маленьких черных тела. Эти петли — траектории спутников, образно говоря, — наматываются на планету, как нитки на шпульку, не задевая ось Земли. Можно легко заметить, что смещение этих петель связано с вращением Земли. Что это значит? Несложный анализ показал нам, что на спутники действует кориолисова сила, которая у нас в Северном полушарии подмывает правый берег рек, сильнее изнашивает правый рельс и помогает лекторам демонстрировать вращение Земли: та сила, которая сдвигала траектории спутников МГГ, запущенных не по параллели. Эта кориолисова сила действует на все тела, сохранившие инерцию земного вращения, то есть на тела земного происхождения. Величина ее существенно зависит от географической широты местности: на разных широтах она придает спутникам различные смещения по параллели. Это и приводит к искривлению их орбиты в пространстве. Таким образом, мы утверждаем — и каждый, обладающий элементарными познаниями в механике и математике, может нас проверить, — что эти так называемые космические спутники, прежде чем подняться в ионосферу, находились на Земле; что они запущены с Земли в меридиональном направлении и, вероятнее всего, из приэкваториальных широт…» Последовало редчайшее в истории печати событие: все газеты поместили чертежи и интегральные выкладки Блеккета и Рамсея. Выкладки были обстоятельны, логичны и недвусмысленны; они показывали, что траектория спутников есть не что иное, как баллистическая кривая снарядов, выброшенных в атмосферу каким-то земным устройством со скоростью 8 км/сек. «Человечество проникается тревогой, — писала английская либеральная газета. — Если о марсианах, в существовании которых несколько дней назад никто не сомневался, а теперь никто не верит, мы не имеем оснований думать скверно, то от жителей Земли во второй половине XX века можно ожидать всего… Если спутники запущены с Земли (а это неопровержимо доказано), то почему ни одна держава не спешит объявить об этом большом событии? Почему мир не знал о материалах такой огромной плотности, как в спутниках? Почему спутники имеют форму снаряда крупного калибра? И еще множество „почему“. И, наконец, в течение одного дня по планете распространилось то, что позже журналисты назвали „цепной реакцией подозрительности и напряженности“». Неизвестно, кто первый выпустил эту сенсацию, но ни одна газета, ни одна радио- и телевизионная компания не оказалась в хвосте у других. Черными буквами заголовков грянуло сообщение:«НАД ЗЕМНЫМ ШАРОМ КРУЖАТ АТОМНЫЕ СНАРЯДЫ!!!»
В каждой стране, в каждом городе оно произвело такое действие, будто снаряды уже упали в этом городе и взорвались… Снаряды можно было видеть уже не только при восходе или на закате солнца — радиолокационные измерения показали, что они снизились до 70 километров. В ясном небе невооруженным глазом можно было увидеть маленькие черные пульки. Они прочерчивали небо, как реактивные самолеты: днем за ними оставался тонкий сине-голубой след раскаленного воздуха, ночью — тонкая серебристая нить, которая медленно таяла. Сами снаряды по-прежнему оставались темными. Предположение, что они раскалятся от трения об воздух и сгорят, не оправдалось. За сутки они дважды облетели все материки Земли, как бы предоставляя возможность еще раз посмотреть на них. Ученые предполагали, что они упадут в Северном полушарии: именно здесь был перигей спутников, и здесь они сильнее всего тормозились атмосферой. Северная, наиболее населенная часть Земли… По расчетам, первый снаряд должен упасть через две или три недели, когда его скорость уменьшится до 7,9 км/сек.ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА
Наблюдения астрономов, равно как и сенсационные газетные сообщения, отражают только внешние эпизоды этой истории. К сожалению, не все события, связанные с ней, могут быть описаны полно: часть сведений вместе со многими очевидцами погибла в пыли двух атомных взрывов, часть еще надежно хранится за семью замками секретности. Достаточно связное, но неполное изложение этих событий можно найти в дневнике тех лет Николая Николаевича Самойлова, ныне крупного специалиста в области ядерной техники, а тогда — молодого инженера, только что окончившего институт. Вот эти тетради, исписанные неровным почерком человека молодого и увлекающегося. «Без даты. Дневники обычно начинают в приступе любви и кончают, когда любовь проходит. Размякшие молодые люди неискренне кривляются в этом „зеркале чувств“, преувеличенно и неумело описывают свои радости и жестокие переживания… Хватит с меня одного такого дневника… Пусть второй будет не таким. Пусть это будет дневник инженера, потому что уже три недели, как я инженер. И пусть он повествует о моей работе инженера-исследователя. Я еще мало занимался исследовательской работой, но все-таки представляю, что в ней могут возникать чувства, не менее сильные, и переживания, не менее сложные, чем вызванные любовью к женщине. „Любовь к науке, — когда-то сказал в своей вводной лекции по общей физике Александр Александрович Тураев, ныне академик и директор того института, куда я направлен, — это любовь, которой не изменяют“. Пусть будет так! 15 апреля. Сегодня все в последний раз: в последний раз запереть пустую комнату студенческого общежития, сдать внизу ключ вахтеру, выйти в последний раз из студгородка… Студенчество кончилось! Все уже разъехались. Я последний. Да еще Яшка Якин. Он направлен туда же, куда и я, в Физический институт на Украину. И нас обоих задержало оформление документов. До отъезда еще часа полтора, можно не спешить. Вечер, хороший апрельский вечер в студгородке. Напротив, в корпусе электриков, за освещенными окнами, обычным порядком идет многоэтажная студенческая жизнь. На пятом этаже какой-то первокурсник склонился над чертежной доской. В соседнюю форточку выставили динамик мощной радиолы, и воздух содрогается от хрипловатых звуков джаза. Этажом ниже четверо „забивают козла“. Внизу энтузиасты доигрывают в волейбол при свете фонаря. Смех, удары по мячу; через недельку коменданту придется заново стеклить несколько окон… Все идет своим порядком, но я уже лишний в этом движении. Грустно уезжать, и все-таки славно. Последние дни не покидает ощущение, будто впереди меня ждет что-то необыкновенное и очень хорошее. Например, начну работать и сделаю какое-нибудь открытие. Какое? Неважно… Или встретится там, в новой жизни, необыкновенная женщина — „та самая“, и мы полюбим друг друга… Впрочем, — стоп! — о женщинах договорились не писать. Ого! Уже девять. Пора собираться. Итак, прощай, Москва! Прощай, город моего студенчества! Я уезжаю… 20 апреля. Приехали. Город называется Днепровск, и примечателен он, в основном, тем, что расположен на Днепре. Днепр здесь великолепен — полуторакилометровой ширины, с двухэтажными мостами, маленькими пароходиками и желто-зелеными островками. Город весь в полупрозрачной апрельской зелени, вывески на не столько непонятном, сколько непривычном украинском языке, необыкновенно безлюдные после Москвы улицы. Устроились мы с Яшкой в общежитии и вчера пошли оформляться в институт. Волновались, конечно, и даже Яшка, против обыкновения, не острил. Спустились вниз, к реке, прошли огромный парк и за ним увидели величественное восьмиэтажное здание, целиком из стекла и стали; оно было похоже на гигантский аквариум. Около стояли дома поменьше. Было утро, и передняя стена „аквариума“ блестела солнечными лучами. Высокая чугунная ограда, ворота, и по правую сторону золоченая вывеска: „Физический институт“, а слева — такая же по-украински. В канцелярии нам сообщили, что мы назначены в 17-ю лабораторию. Однако в самую лабораторию нас еще не пустили — не оформлены пропуска. Бдительный начальник отдела кадров даже уклонился от ответа на наш вопрос: чем же занимаются в этой лаборатории? „Не пожалеете, ребята! По вашей специальности“. Ну-ну… 29 апреля. Итак, две недели в Днепровске и одна неделя работы. Суммируем впечатления. Лаборатория 17-я, которую нам дали, как кота в мешке. („Похоже, что вместо кота — в мешке тигр“, — сказал Яшка, и правильно сказал.) Она скорее похожа на паровозное депо, чем на то, что обычно называют „лаборатория“. Огромный двухэтажный зал, занимающий основание левого крыла стеклянного корпуса; одна стена — стеклянная (ее, впрочем, завешивают обычно глухими шторами) и три — из белого кафеля. Из конца в конец зала расположились устройства: пятиметровой толщины ребристые трубы из серого бетона, оплетенные стальными лесенками, мостками, толстыми жилами кабелей. В середине зала почти до потолка поднялась наглухо защищенная стенами из бетона и свинца главная камера. Внизу возле нее лоснящийся лакированным металлом полукруг пульта управления с несколькими экранами, множеством приборов и ручек. Все это называется мезонатор. Мезонатор не простой ускоритель ядерных частиц вроде циклотрона или беватрона, он сложнее и интереснее. В ионизационных камерах-трубах создаются протоны, „ободранные“, без электронных оболочек ядра атомов водорода. Электрические ускорители собирают их в пучок и разгоняют до полусветовой скорости. Затем электромагнитная система в главной камере направляет их навстречу друг другу. Протоны сшибаются почти со скоростью света и разлетаются на тысячи осколков — мезонов. Получаются целые потоки этих коротко-живущих частиц, самых интересных и важных в ядре! Это нельзя получить ни в каком ускорителе. Девять десятых всего остального оборудования обслуживает мезонатор: батареи мощных вакуум-насосов („Лучший вакуум в Союзе делаем мы!“ — похвалился вчера Сердюк); электронный оператор-шкаф с тысячами радиоламп и сотнями реле, он установлен возле пульта и держит нужный режим работы мезонатора; высоковольтные трансформаторы, подающие напряжение к ускорителям, — они утыканы полуметровыми фарфоровыми изоляторами, и между их концами все время шипит тлеющий разряд… Здесь же „горячие“ бетонные камеры с управляемыми извне манипуляторами для анализа радиации, электронный микроскоп, все приспособления для химического микроанализа, — словом, лаборатория оборудована по последнему слову экспериментальной техники. Мы с Якиным пока находимся в положении экскурсантов: ходим по лаборатории, смотрим, читаем отчеты о прежних опытах, знакомимся с описанием мезонатора, инструкциями по радиоактивному и химическому анализу и так далее, потому что, как выяснилось в первом же нашем разговоре с Голубом, знаем мы ровно столько, сколько полагается молодым специалистам, то есть понемножку обо всем. А здесь требуется знать все о немногом. Правда, у Голуба хватило деликатности не тыкать нас носом в наше незнание, однако и у меня и у Якина после первого разговора с ним горели щеки. Следует немного написать о людях лаборатории. 1. Иван Гаврилович Голуб — наш начальник, доктор физико-математических наук и, насколько я понял, автор основных идей, из которых возник проект мезонатора. Ему лет пятьдесят с небольшим. Низенький (сравнительно со мной, конечно), толстоватый; лысина с венчиком седых волос, которые торчат на его голове и образуют нечто вроде нимба; короткий толстый нос, перерезанный пополам дужкой очков. Словом, внешность заурядная, и, если бы я не встречал имя Голуба во многих книгах по ядру, пожалуй, позволил бы себе отнестись к нему несерьезно. „Приставайте ко мне с разными вопросами, не стесняйтесь, — сказал он нам. — Лучше задать несколько глупых вопросов, чем не получить ответ на один умный…“ М-да… Особым тактом он, видно, не отличается, раз заранее определил большинство наших вопросов как глупые. „Приставать“ к нему что-то не хочется. Да и вообще с ним мы чувствуем себя как-то неловко: он большой ученый, а мы „зеленые инженерики“… До обеда он обычно сидит за своим столом возле оконной стены, что-то, насупившись, пишет, считает или читает и изредка сердито пускает папиросный дым. Мы с Яшкой избегаем попадаться ему на глаза. После обеда Иван Гаврилович уезжает в здешний университет читать лекции, и в лаборатории становится вольнее. 2. Алексей Осипович Сердюк — инженер, помощник Голуба. Он тоже нам начальник, но начальством себя не чувствует и ведет себя с нами по-простецки. Деды его, наверное, были чумаками, возили „силь з Крыму“ и снисходительно-философски смотрели на суету жизни, проходившей мимо их скрипящих возов. Высокий (почти моего роста), черноволосый и смугловатый, с длинным и прямым носом на продолговатом лице, хитроватым прищуром глаз, с медлительной и обстоятельной речью. Говорит он с нами на том преувеличенно чистом русском языке, на котором говорят украинцы, пожившие в России; однако буква „г“ у него все равно получается мягкая, как галушка. Ему лет сорок, он прошел войну, а после нее закончил электрофизический факультет нашего института. Словом, наш парень! К Сердюку мы и пристаем с разными вопросами. Он сразу бросает свое дело (а он всегда с чем-нибудь возится) и начинает обстоятельно рассказывать. Объяснив, что надо, он на этом не останавливается, а заводит рассказ о том, как они с Иваном Гавриловичем Голубом собирали мезонатор, сколько мороки было с наладкой, сколько скандалов он, Сердюк, закатил на заводах-изготовителях. Мы слушаем, и нам неловко: мы-то еще ничего не сделали… Лист, на котором можно было бы записать наши научные деяния, пока так же чист, как и халаты, которые нам выдали. А вот у Сердюка халат стираный и в пятнах, а на боку даже прожжена дырка азотной кислотой. И нам завидно. 3. Лаборантка-химичка Оксана (фамилию ее я еще не знаю), наверное, самая типичная из всех украинских Оксан со всеми их атрибутами: „чорнии брови“, „карии очи“, которые, согласно популярной песне, сводят с ума молодых людей, круглое личико, звонкий голос и т. д. Мы с ней уже подружились; она меня зовет „дядя, достаньте воробушка“, а я решаю ей примеры по математике из Берманта (она учится на втором курсе заочного института). Яшка, когда нет Голуба, начинает ее смешить. Смеется она великолепно — звонко, охотно, неудержимо. И прикрывает рот ладошкой. 4. Яков Якин. Ну, Яшка-это Яшка, и писать о нем особенно нечего. Двадцать четыре года, холост. Девушки находят его симпатичным. Глаза голубые. Роста среднего. Ну, чего еще о нем напишешь? По мне — скорее остроумен, чем глубокомыслен. А впрочем, кто его знает! Кроме того, есть еще техники-радисты, вакуумщики, электрики. Они обслуживают все большое хозяйство мезонатора. В основном это молодые ребята, недавно закончившие техникумы. Командует ими Сердюк. Я с ними еще мало соприкасался. Вот и все люди. Отношение к нам со стороны двух первых номеров пока неопределенное. Никаких заданий нам еще не дают. Ну что ж, ведь мы для них, в сущности, тоже „коты в мешках“. Сегодня первые полдня читали отчеты, а потом убирали лабораторию к Первому мая. „Ничего, — сказал Сердюк, — и это полезно: будете знать конкретно, где что“. М-да… 5 мая. Вникаем, то есть изучаем отчеты о прежних опытах. В сущности, идея их предельно проста: облучить мезонами все элементы менделеевской таблицы и установить их реакцию на облучение; так же как химики пробуют на все возможные реакции вновь полученное вещество. Однако это не химия. Мезоны-те самые частицы, которым приписывают ядерное взаимодействие. Подобно тому, как атомы взаимодействуют друг с другом с помощью внешних электронов, так и внутриядерные частицы притягиваются друг к другу с помощью предположительных мезонных оболочек. Так что мезоны — это ключ к объяснению огромных внутриядерных сил притяжения, самый передовой участок на фронте ядерных исследований. После облучения мезонами все вещества становятся радиоактивными. Очевидно, Голуб и пытался установить связь этой „послемезонной радиации“ с периодическими изменениями свойств элементов. Это интересно. Особенно любопытны опыты с отрицательными мезонами: они легко проникают в положительные ядра и вызывают самые неожиданные эффекты. В нескольких опытах даже получились мезонные атомы — отрицательные мезоны некоторое время (миллионные доли секунды) вращались вокруг ядер, как электроны. Да, все это интересно, но хотелось бы уже самим заняться опытами. А то читаешь, читаешь… Сегодня, специально для нас с Якиным, включили мезонатор. Сердюк со скучающим выражением на лице небрежно, не глядя, касался рычажков и рукояток на пульте: прыгали стрелки приборов, загорались красные и зеленые сигнальные лампочки, лязгали контакторы; на осциллографических экранах электронные лучи вычерчивали сложные кривые. Лабораторный зал наполнился сдержанным гудением. Оксана задернула все шторы, чтобы в зале был полумрак. Мы стали перед раструбом перископа и увидели то, что происходит там, в главной камере, за толщей двухметровой защитной стены из бетона и свинца. Мы увидели, как к мраморной плите в основании главной камеры потянулся сиреневый прозрачный дрожащий лучик — пучок отрицательных мезонов. Я представил себе, как это происходит: из двух бетонных труб-ускорителей в главную камеру врываются с космическими скоростями протоны, разбиваясь там на множество осколков — мезонов; эти осколки подхватываются могучими магнитными и электрическими полями и собираются в этот сиреневый дрожащий лучик. Все части мезонатора мы до этого уже подробно осмотрели и изучили: и ускорители, и огромные, даже на взгляд тяжелые, катушки магнитных фильтров на задней стенке мезонатора, и вспомогательную промежуточную камеру слева, через которую в главную камеру двухметровыми штангами манипуляторов вносились образцы. Удивительно послушны пальцы-щупальцы этих дистанционных манипуляторов. Мы мысленно прошли уже все раструбы, каналы откачки воздуха, даже извилистый путь, по которому луч света, отражаясь от призм перископа, вмонтированных в бетонные стены камеры, доходит до наших глаз. Мы все это понимаем, но только теперь смогли прочувствовать мощь и разумность этой машины „во взаимодействии всех ее частей“, как говорят. 27 мая. Нам не повезло. Программа уже исчерпана, и опыты в основном закончены. Голуб готовит отчет для научно-технического совета института о проделанной работе. И нам решительно нечего делать. 10 июня. Переводим статьи из журналов: я — с английского, Яшка — с немецкого. 18 июня. Кто сказал, что нам не повезло? Покажите мне этого нытика (только не показывайте зеркало) — и я убью его! Но — по порядку. Вчера состоялось расширенное заседание научно-технического совета. Иван Гаврилович отчитывался об опытах с мезонами. В конференц-зале, на третьем этаже белого корпуса, рядом с нашим „аквариумом“, яблоку негде было упасть. Собрались почти все инженеры института: и ядерщики, и электрофизики, и химики. В президиуме мы увидели Александра Александровича Тураева. Ох, как он постарел с тех пор, как читал нам общую физику! Волосы и знаменитая бородка клинышком не только поседели, а даже пожелтели, глаза выцвели, стали какие-то мутно-голубые. Что ж, ему уже под восемьдесят! Голуб стоял за кафедрой, раскинув руки на ее бортах; лысина отсвечивала в свете люстр. Он читал лежавший перед ним конспект, изредка исподлобья посматривал в зал, иногда поворачивался к доске и писал цифры. — Таким образом, можно выделить самое существенное, — говорил Иван Гаврилович звучным, густым голосом опытного лектора. — Отрицательные мезоны очень легко проникают в ядро. Это первое. Второе: соединяясь с ядром, минус-мезон понижает его заряд на одну единицу, то есть превращает один из протонов ядра в нейтрон. Поэтому после облучения мезонами мы находим в образцах серы — атомы фосфора и кремния, никель превращается в кобальт, а кобальт — в железо, и так далее. Мы наблюдали несколько превращений в газообразном и сжиженном водороде, когда ядра водорода превращались в нейтроны. Эти искусственно полученные нейтроны вели себя так же, как и естественные, и распадались снова на электрон и протон через несколько минут. Для более тяжелых, чем водород, веществ мезонные превращения также оказались неустойчивы: атомы железа снова превращались в атомы кобальта; атомы кремния, выбрасывая электрон, превращались в фосфор, и так далее. Однако… — здесь Голуб поднял вверх руку, — в некоторых случаях мы получали устойчивые превращения. Так, иногда, при облучении железа мы получали устойчивые атомы марганца, хрома, ванадия и даже титана. Это значит, что, например, в титане число нейтронов ядра увеличилось на четыре против обычного. Эти результаты, пока еще немногочисленные, являются не чем иным, как намеками на большое и великолепное явление, которое, возможно, уже осуществлено природой, а может быть, первым его осуществит человек. В самом деле, что может получиться, если мы будем последовательно создавать устойчивые мезонные превращения ядер? Постепенно все протоны ядра будут превращаться в нейтроны. Обеззараженные ядра не смогут удерживать электроны; они сомкнутся и под действием огромных ядерных сил образуют ядерный монолит — вещество сверхвысокой плотности и непостижимых свойств, лежащих за масштабами наших представлений… В зале возник шум. Яшка толкал меня в бок локтем и шептал: — Колоссально, а? Колька, понимаешь, какая сила?! Колоссально! А мы с тобой читали и ничего не поняли!.. — Давайте рассмотрим другую сторону вопроса, — продолжал Иван Гаврилович. — Мы имеем ядерную энергию — огромную, я бы сказал, космическую энергию. А достойных ее материалов нет. Действительно, ведь все обычные способы получения энергии заключаются в том, что мы каким-то образом воздействуем лишь на внешние электроны атомов. Магнитное поле перемещает электроны в проводнике — это электрическая энергия. Валентные электроны атомов угля взаимодействуют с валентными электронами атома кислорода — это дает тепловую энергию. Переход внешних электронов с одной орбиты на другую дает световую энергию, и так далее. Это, так сказать, поверхностное, не затрагивающее ядра использование атома дает небольшие температуры, небольшие излучения. И они вполне соответствуют нашим обычным материалам, их механической, тепловой, химической, электрической прочности. Но ядерная энергия — явление иного порядка: она возникает благодаря изменению состояний не электронов атома, а частиц самостоятельного ядра — протонов и нейтронов, — которые, как всем известно, связаны в миллионы раз более прочными силами. Поэтому она создает температуру в миллионы градусов и радиацию, проникающую через стены из бетона в несколько метров толщиной. И обычное вещество слишком непрочно, слишком ажурно, чтобы противостоять ей… Говорят о „веке атома“, но ведь это неправильно! Наше время можно назвать только временем применения ядерной энергии, причем — применения очень несовершенного. Возьмите откровенно варварское „применение“ ее в виде ядерных бомб. Возьмите примитивное в своей сложности использование делящегося урана и плутония в реакторах первых атомных электростанций. Ведь это смешно: при температуре в несколько сот градусов использовать энергию, заставляющую пылать звезды… Но мы не можем добиться ничего большего с нашими обычными материалами. Таким образом, будущее ядерной техники — и, должно быть, самое недалекое — зависит от того, будет ли найден материал, могущий полностью противостоять энергии ядерных сил и частиц. Очевидно, что такой материал не может состоять из обычных атомов, скрепленных внешними электронами. Он должен состоять из частиц ядра и скрепляться могучими ядерными силами. То есть это должен быть ядерный материал — таково философское решение вопроса. Те опыты, о которых я докладывал, показывают, что возможно получить такой материал, состоящий из обеззаряженных ядер, лабораторным способом. Свойства этого нового материала — назовем его для определенности нейтрид — каждый без труда сможет представить: необычайно большая плотность, огромная прочность и инертность, устойчивость против всех и всяческих механических и физических воздействий-Голуб замолчал, как будто запнулся, снял и протер очки, внимательно посмотрел в зал: — Мы еще многого не знаем, но ведь на то мы и исследователи, чтобы пробиваться сквозь неизвестное. Лучше пробиваться с целью, чем без цели. Лучше пробиваться с верой в то, что цель будет достигнута. И я верю — нейтрид может быть получен, нейтрид должен быть получен! Недаром над Землей вращаются искусственные спутники… Он собрал листки конспекта и сошел с кафедры. Интересно: у него горели щеки — совсем как у нас с Яшкой, как у всех сидевших в конференц-зале. Ну, тут началось! В зале все стали спорить друг с другом яростно, громко. Ивана Гавриловича засыпали вопросами. Он едва успевал отвечать. Яшка бормотал возле меня: „Вот это да! Колоссально!“ — потом сцепился в споре с каким-то сидевшим рядом рыжим скептиком. Бедный Тураев растерялся,не зная, как успокоить зал: его председательского колокольчика не было слышно; потом махнул рукой и стал о чем-то с необыкновенной для старика живостью рассуждать с Голубом. Было уже одиннадцать часов ночи. Когда все немного утихли, Тураев встал и сказал своим тенорком: — Сведения и идеи, сообщенные нам… э-э… профессором Голубом, столь же сложны, как интересны и важны. Обсуждение их, мне кажется, должно проходить менее… э-э… страстно и более обстоятельно. Научное обсуждение не должно походить на митинг. Научные мнения не должны быть опрометчивыми… — Он в раздумье пожевал губами. — Пожалуй, мы сделаем вот что: размножим сегодняшний отчет Ивана Гавриловича и распространим его с тем, чтобы присутствующие здесь… э-э… уважаемые коллеги смогли его обсудить в течение ближайших дней… А сейчас заседание совета… э-э… закрывается. Вот так, Николай Самойлов!.. Ты с унынием мусолил целую неделю этот отчет и не заметил в нем потрясающую идею. Вы ограниченны, Николай Самойлов, вы зубрила и бездарь! 8 июля. Обсуждение в институте закончилось, и дело пошло в высшие академические и административные сферы. Иван Гаврилович в лаборатории почти не бывает, мотается то в Киев, то в Москву, проталкивает тему. Институт во главе с Тураевым полностью за нас (я уже и себя причисляю к этому проекту). Мы готовимся. Обдумываем идеи опытов, последовательность анализов. Переводим и докладываем в лаборатории все, что есть в международной литературе об опытах с мезонами. Я даже перевел с помощью словаря две статьи с французского и немецкого, хотя толком никогда эти языки не изучал. Вот это значит энтузиазм! Интересно: в американских научных журналах нет почти никаких сообщений о работах с мезонами. Во всяком случае, за последний год. Одно из двух: либо они, американцы, не ведут сейчас серьезных исследований в этой области, либо — как это уже было, когда разрабатывали атомную бомбу, — они засекретили абсолютно все, относящееся к этой проблеме, как в сороковых годах было засекречено все, относящееся к делению урана. 15 июля. Сегодня прочитал великолепную космогоническую гипотезу Тураева и хожу под ее впечатлением. Это не гипотеза, а научная поэма об умирающих черных звездах. Мы видим в небе светящиеся миры, красивые и головокружительно далекие. Но не видим мы гораздо больше, чем видим. Непрерывный миллионнолетний ядерный взрыв — вот что такое звезда. И этот взрыв ее истощает. Звезды сжимаются, атомы внутри них спрессовываются, ядра соединяются друг с другом и выделяют еще большую энергию. Так получается ослепительно белая сверхплотная звезда — белый „карлик“. Но что же дальше? Дальше „карликов“ никто не заглядывал… Звезда выделяет огромную энергию, говорится в гипотезе, но известно, что, чем больше энергии выделяет система, тем устойчивее, прочнее она становится, тем плотнее и прочнее становится угасающий „карлик“. В пространстве Вселенной есть немало умерших звезд — огромных холодных солнц из ядерного вещества. Может быть, они дальше ближайших видимых звезд, а возможно и ближе — ведь мы их не видим. Может быть, радиосигналы из Космоса и есть последние лучи этих черных звезд. А мы собираемся получить в нашей лаборатории кусочек умершей звезды… Да, дело даже не в звездах; ведь это будет идеальный новый материал — сверхпрочное, сверхинертное вещество ядерного века. Атомные реакторы, сделанные из нейтрида, вместо бетонных громадин будут размерами с обыкновенный бензиновый мотор. Ракеты из нейтрида смогут садиться прямо на поверхность Солнца, потому что 6000 градусов для нейтрида — это прохладно. Резцом из нейтрида можно будет резать, как масло, любой самый твердый металл. Броня из нейтрида сможет выдержать даже атомный взрыв… Танк из нейтрида проникает на сотни километров в глубь Земли, ибо высокие температуры и давления ему не страшны… Уфф! 25 июля. Сегодня Иван Гаврилович с утра появился в лаборатории, прямо с аэродрома. Москва утвердила тему. Начинаем!.. 12 августа. Первые опыты — первые разочарования… Неделю назад с трепетом в душе сделали первое облучение. Все собрались у пульта и в торжественном молчании смотрели, как Иван Гаврилович — серьезный, в белом халате, с трубочкой виллемитового индикатора на груди — включал мезонатор. Неугомонный Яшка шепнул мне: „Обстановочка… Впору молебен…“, но даже Оксана не прыснула, а покосилась на него строго. Вот в перископе возник лучик отрицательных мезонов — этих осколков атомных ядер. Голуб поднялся на мостик, взялся за рукояти дистанционных манипуляторов, попробовал: тросики, уходившие вместе с трехметровыми подвижными штангами в бетон, точно и мягко передавали все движения его кистей на стальные пальцы в камере. Мы внизу, в раструбе перископа, увидели, как стальные пальцы подвели под мезонный луч фарфоровую ванночку с кусочком олова. Потом Голуб спустился вниз, посмотрел в перископ: — Свет мешает. Затемните лабораторию… Оксана задернула шторы, стало сумеречно. Мы, стараясь одновременно и не мешать Голубу, который настраивал луч, и посмотреть в перископ, столпились у раструба. Призмы передавали из камеры сине-оранжевое свечение, и оно странно освещало наши лица. Было тихо, только сдержанно гудели трансформаторы, негромко перестукивали вакуум-насосы, да еще Сердюк сопел возле моего уха. Так прошло минут десять. Внезапно кусочек олова шевельнулся — и все мы шевельнулись — и расплылся по ванночке в голубоватую лужицу. Оксана, устроившаяся сзади на стуле, сказала: „Ой!“ — и едва не свалилась на меня. — Расплавился! — вздохнул Голуб. — Вот это облучение!.. Больше ничего не произошло. Олово продержали под пучком мезонов два часа, потом извлекли из камеры. Оно стало сильно радиоактивным и выделяло такое тепло, что не могло застыть. Вот и всё. В сущности, почему я был уверен, что это произойдет с первого раза? Сто элементов, тысячи изотопов, множество режимов облучения… Кажется, я просто излишне распалил свое воображение. 29 августа. Облучили уже с десяток образцов: олово, железо, никель, серебро и многое другое. И все они получились радиоактивными. Пока нет даже тех устойчивых атомов с повышенным количеством нейтронов в ядре. А вокруг… кончается великолепное южное лето. Из лаборатории нам видны желтые пляжи на излучине Днепра и на островках, усыпанные купающимися. Облучения обычно затягиваются до позднего вечера, и мы возвращаемся к себе в общежитие под крупными яркими звездами в бархатно-черном небе. В парке тихо шелестит листва и смеются влюбленные. На главных аллеях парами ходят черноволосые и круглолицые девушки, которых некому провожать домой. Яшка смотрит им вслед и трагически вздыхает: — Вот так проходит жизнь… Единственная радость жизни — это замечательно вкусные и дешевые яблоки, которые продают на каждом углу. Мы их едим целыми днями. 12 сентября. Я работаю у мезонатора. Под голубым пучком мезонов — кубик из облучаемого металла. И вот металл начинает уплотняться, оседать, медленно, еле заметно для глаза. Он исчезает из ванночки, и вместо него на белом фарфоре остается небольшое пятнышко — нейтрид. Интересно, какого цвета будет нейтрид? 7 октября. Уже октябрь, желто-красный украинский октябрь. Чистый, звонкий воздух. Повсюду — на деревьях, на крышах домов, под ногами — листья: желто-зеленые, коричневые, медвяные. Голубое небо, теплое солнце. Хорошо! А мы делаем опыты. Облучили уже почти половину менделеевской таблицы. Несколько дней назад получили из кремния устойчивые, нерадиоактивные атомы магния и натрия. В них на один и на два нейтрона больше, чем нужно. Хоть маленькая, но победа! Мы с Яшкой специализировались на анализах. Я — на масс-спектрографическом, он — на радиохимическом. Это в наших опытах самая кропотливая работа. — Голуб — хитрый жук! — сказал мне Яшка. — Нарочно раззадорил нас, чтобы мы работали, как ишаки. 26 октября. Облучаем, снимаем анализы; снимаем анализы и облучаем. Устойчивые атомы магния и натрия, когда мы их еще раз облучили мезонами, тоже стали радиоактивными. Отрицательные мезоны, попадая в ядро, слишком возбуждают его — и оно становится радиоактивным. Вот в чем беда. 24 ноября. На улице слякотная погода. Дожди сменяются туманами. Лужи под ногами сменяются жидкой грязью. Словом, не погода, а насморк. Облучили всю таблицу Менделеева, кроме радиоактивных элементов, облучать которые нет смысла: они и без того неустойчивы. Становится скучно. В лаборатории все, даже Голуб, как-то избегают употреблять слово „нейтрид“. 30 ноября. Пожалуй, вся беда в том, что мезоны, которыми мы облучаем, имеют слишком большую скорость. Они врезаются в ядро, как бомба, и, конечно же, сильно возбуждают его. А нам нужно ухитриться, чтобы и обеззарядить ядро, освободив его от электронов, и в то же время не возбудить. Значит, следует тормозить мезоны встречным электрическим полем и до предела уменьшать их скорость. Ну-ка, посмотрим это в цифрах…» Далее в дневнике Николая Самойлова следует несколько страниц математических выкладок, которые мы опускаем. «13 декабря. Показал свои расчеты Ивану Гавриловичу. Он согласился со мной. Значит, и я могу! Тогда еще не все потеряно… Итак, переходим на замедленные мезоны. Жаль только, что мезонатор не приспособлен для регулирования скорости мезонов — не предусмотрели в свое время… На улице падает мокрый снег; он тает на одежде и чавкает под ногами. Так называемая южная зима! 25 декабря. Попробовали, сколько возможно, замедлить мезонный пучок. Облучили свинец. Увы! Ничего особенного не получилось. Свинец стал слаборадиоактивным — несколько слабее, чем при сильных облучениях быстрыми мезонами, и только. Нет, все-таки нужно поставить в камере тормозящее устройство, — это несложно: что-то вроде управляющей сетки в электронной лампе. Сегодня Якин высказал мысль: — Послушай, а может мальчика-то и не было? — Какого мальчика? — не понял я. — О чем ты? — О нейтриде, который мы, кажется, не получим. И вообще — не пора ли кончать? Собственно, в истории науки это не первый случай, когда исследователи перестают верить фактам, если факты опровергают выдуманную ими теорию. Никогда ничего хорошего из этого не получалось… За полгода мы, в сущности, ничего нового не получили — ничего такого, что приблизило бы нас к этому самому нейтриду. Понимаешь? — Как — ничего? А вот смотри — кривые спада радиации? — Я не нашелся сразу, что ему возразить, и стал показывать те кривые спада радиоактивности при замедленной энергии мезонов, которые только что рассчитал и нарисовал. Яшка небрежно скользнул по ним глазами и вздохнул: — Эх, милай!.. Природу на кривой не объедешь, даже если она нарисована на миллиметровке. Полгода работы, сотни опытов, сотни анализов — и никаких результатов! Понимаешь? Уж, видно чего нет — того не будет… Факты против нейтрида! Понимаешь? Сзади кто-то негромко кашлянул. Мы обернулись. Голуб стоял совсем рядом, возле пульта, и смотрел на нас сквозь дым своей папиросы. Яшка густо покраснел (и я, кажется, тоже). Иван Гаврилович помолчал и сказал: — Эксперименты, молодой человек, — это еще не факты. Чтобы они стали непреложными фактами, их нужно уметь поставить… — и отвернулся. Ох, как неловко все это получилось! 15 января. Вот и Новый год прошел. На улице снег и даже мороз. В лаборатории, правда, снега нет, но холод почти такой же, как и на улице. Во-первых, потому что эта чертова стеклянная стена не заклеена и из нее отчаянно дует. Во-вторых, потому что не работает мезонатор: когда он работал, то те сотни киловатт, которые он потребляет от силовой сети, выделялись в лаборатории в виде тепла, и было хорошо. Теперь он не включен. — Наша горница с богом не спорится! — смеется Иван Гаврилович и потирает посиневшие руки. А не работает мезонатор вот почему: мы с Сердюком ставим в камере тормозящие электроды, чтобы работать с медленными мезонами. Работа, как у печников, только несколько хуже. Сперва пытались установить пластины электродов с помощью манипуляторов. „Не прикладая рук“, — как выразился Якин. Ничего не вышло. Тогда плюнули, разломали бетонную стену и полезли в камеру. Бетон внутри камеры от многократных облучений сделался радиоактивным, но не сильно — работать можно, минут по пятнадцати. Иван Гаврилович стоит около камеры с часами и каждые десять минут выгоняет то меня, то Сердюка. Так и ковыряемся по очереди — то я, то Сердюк. Темпы, конечно, не блестящие. Перепачкаемся к концу дня так, что Оксана (она у нас подручная) только раскрывает до отказа свои „карий очи“ и в тихом ужасе всплескивает руками. Яшка же действительно работает „не прикладая рук“: часа два с утра покрутится в лаборатории, а потом уходит в библиотеку „повышать свой научный уровень“. Ладно, заставлять мы не можем — в камере все-таки повышенная радиация. После того разговора они с Голубом делают вид, что не замечают друг друга. 2 февраля. Боже, почти месяц возимся с этой проклятой камерой! Сколько опытов можно было бы сделать за это время! Вот что значит не предусмотреть эти электроды вовремя. Интересно, прав я или не прав? Верный этот выход — медленные мезоны — или нет? В теории как будто „да“, а вот как будет на опыте? 22 февраля. Уфф! Наконец закончили: установили пластины, замуровали стенку камеры. Вы хотели бы завтра же, немедля, приступить к облучениям, Николай Николаевич? Как бы не так! Теперь пять дней будем откачивать воздух из камеры, пока вакуум снова не поднимется до 10–12 миллиметров ртути. 1 марта. Сердюк посмотрел на приборы, небрежно кивнул; имеем лучший вакуум в мире… Итак, все отлажено, подогнано. Пучок мезонов можно затормозить и даже остановить совсем — голубой лучик расплывается и превращается в прозрачное облачко. Ну, теперь уж вплотную приступаем к облучениям. 2 марта. Болит голова. Уже половина второго ночи, нужно ложиться спать. Не засну… Яшка не зря сидел в библиотеке целыми днями. Высидел, черт, выискал, что надо… Впрочем, при чем здесь Яшка? Сегодня в десять часов — только что включили мезонатор — он подошел и с безразличным видом (дескать, я был прав, но, видите, не злорадствую) положил передо мной на стол журнал, открытый посередине. Это был январский номер „Физикал ревью“ (американское „Физическое обозрение“). Я стал разбирать заголовок и аннотацию:„Г. Дж. Вэбстер.Дальше английские слова запрыгали у меня перед глазами, и я перестал их понимать. — Не утруждайся, я сделал перевод, — Яшка протянул листки с переводом статьи. Я стал читать, с трудом заставляя себя вникнуть в смысл закругленных академических фраз. Впрочем, это уже было излишне. Итак, ясно, что медленные минус-мезоны, которые были нашей последней надеждой в борьбе за нейтрид, ничего не дадут. Так вот почему в моих расчетах получалось: медленные мезоны действительно не вызывают радиоактивности в облученном веществе. Они не возбуждают ядро просто потому, что не проникают в него. То, что я принял за нейтрид, оказалось обычным „химическим“ веществом. Потрясающе просто! О идиот! Не понять, не предвидеть… Собрались все. Якин читал вслух перевод статьи. Иван Гаврилович снял очки и из-за плеча Яшки смотрел в листки; тот постепенно, но густо краснел. Сердюк без нужды вытирал платком замасленные руки. Оксана еще не поняла, в чем дело, и тревожно смотрела на Якина… Понятно, почему краснел Голуб: он, как и я, не предусмотрел этого. Мы забыли об электронных оболочках — ведь при облучении частицами больших энергий ими всегда пренебрегают… Словом, тотчас же прекратили опыт и стали готовить новые препараты: кусочки калия, серы и меди. Загрузили их в мезонатор все вместе, стали облучать. Расплывчатое облачко мезонов окутало три маленьких кубика в фарфоровой ванночке синеватым туманным светом. Облучали четыре часа-до конца работы, потом вытащили, чтобы измерить радиоактивность. Но измерять было нечего: образцы остались нерадиоактивными, будто бы и не были под мезонным лучом. Когда возвращались в общежитие, Яшка захихикал: — „А ларчик просто открывается“, как говаривал в подобных случаях дедушка Крылов. То, что вы с Голубом считали вожделенным нуль—веществом, не дающим радиации после облучения, оказалось не нейтридом, а обыкновенным вульгарным стабильным веществом. Нуль-вещество — это просто медь, вот и все! — „Вы с Голубом?“ — переспросил я. — А ты разве не считал? — Я? А что я? — Яшка удивленно и ясно посмотрел на меня своими голубыми глазами. — Я исполнитель. И кто меня спрашивал? Вот сукин сын! …Ничего не будет: ни атомных двигателей величиной с мотор, ни ракет из нейтрида, садящихся на Солнце, ни машин из нейтрида, разрезающих горы, — ничего! Зачем же мы с Сердюком лезли в камеру, под радиацию, рисковали здоровьем, если не жизнью? Для того, чтобы хихикал Яшка? Чтобы все скептики теперь злорадно завыли: „Я ж говорил, я предупреждал! Я ж сомневался! Я внутренне не верил в эту научную аферу!“ О, таких теперь найдется немало! 10 марта. В лаборатории скучно. Иван Гаврилович сидит за своим столом, что-то рассчитывает весь в клубах папиросного дыма. Мы с Алексеем Осиповичем Сердюком помаленьку проводим облучения по прежней программе. Якин делает анализы. Исследования нужно довести до конца, план положено выполнять… А на кой черт его выполнять, когда уже известно, чем все окончится? 2 апреля. Сегодня Яшка закатил скандал. Последнее время он вообще работал из рук вон небрежно и вот нарвался на неприятность. Мы дали ему для анализа слиток калия, который облучали недавно. Он заложил стаканчик, в котором под слоем керосина лежал этот слиток, в свою „горячую“ камеру и, посвистывая, начал орудовать манипуляторами… Я сначала увидел только, как из окна „горячей“ камеры глянули оранжевые блики. Яшка покраснел и нерешительно вертел рукоятками манипуляторов. Я подскочил к нему: в камере, в большой чашке с водой, метались серебристые, горящие оранжевым пламенем капли расплавившегося калия. — Ты что? — Да уронил нечаянно слиток в воду… — пробормотал Яшка. — А красиво горит, правда? — Дурак! Он же сильно радиоактивный — теперь камера выйдет из строя!.. Я оттолкнул его, попытался выловить горящие капли пальцами манипуляторов, но ничего не получилось. Калий горел. Подбежала Оксана, увидела пламя: — Ой, пожар!.. Вместе подошли Иван Гаврилович и Сердюк. Голуб хмуро посмотрел через стекло: капли уже догорали, в камере все застилал дым. — Так… — Он повернулся к Якину. Тот потупился, приготовясь выслушать разнос. Но Голуб изобрел нечто другое: неожиданно для всех он заговорил мягким лекторским тоном: — Калий, молодой человек, имеет удельный вес 0,84 единицы. Если напомнить вам, что удельный вес воды равен единице, то вы легко сможете догадаться, что калий должен плавать в воде, что мы и видим. Существенно также то, что калий, опущенный в воду, бурно реагирует с нею, выделяя из воды тепло и водород. Затем калий и водород загораются — что мы так же видим. Он широким жестом показал в сторону камеры. Сердюк засмеялся откровенно и даже нахально. Оксана, тоже понявшая замысел Ивана Гавриловича, прыскала в ладошку. Яшка стоял красный как рак. — Поэтому, молодой человек, — заканчивал Иван Гаврилович, — калий хранят не в воде, а в керосине, в котором он не окисляется и не горит, а также не плавает… Вот так! Яшка не ожидал, что его так издевательски просто высекут: ему, инженеру, объяснять, как семикласснику, что такое калий! Теперь он был уже не красный, а бледный. — Спасибо, Иван Гаврилович… — ответил он; голос его противно дрожал. — Спасибо за первые полезные сведения, которые я получил за год работы в вашей лаборатории… Это было сказано явно со зла. И все это поняли. Голуб даже оторопел: — То есть… что вы хотите этим сказать? — А всего лишь то, что из всех наших опытов только этот, так сказать, „эксперимент“ с калием имеет очевидную ценность для науки, — со злым спокойствием объяснил Яшка. — Выходит… вы считаете нашу работу… ненужной? — Уже давно. На багровом лбу Голуба вздулась толстая синяя жила. Он начал спокойно: — Я здесь никого не держу… — но не выдержал и заорал так громко и неприятно, что Оксана даже отступила на шаг: — Вы можете уходить! Да! Убирайтесь куда угодно! Возвращайтесь на школьную скамью и пополните свои скудные знания по химии! Да! Никогда я не наблюдал ничего более постыдного, чем эта защита собственного невежества! Вы оскорбили не меня — вы оскорбили нашу работу!.. Уходите! — Голуб постепенно успокаивался: — Словом, я освобождаю вас от работы… За техническую неграмотность и за порчу камеры! Можете искать себе другое, более теплое место. — Он повернулся и пошел к своему столу. Яшка, несколько ошеломленный таким оборотом дела, вопросительно посмотрел на нас с Сердюком. Я молчал. Сердюк курил и внимательно смотрел на Якина. Тот нерешительно кивнул в сторону Голуба и, ища сочувствия, с ухмылкой проговорил: — Вида-ал какой? Дай прикурить, — и наклонился к папиросе Сердюка. Сердюк зло кинул окурок в пепельницу. У него заиграли желваки челюстей. Он повернулся к Яшке: — Иди отсюда, а то вот „дам прикурить“! Паникер. Якин снова вспыхнул, как мак, и быстро пошел к двери. — Краснеет… — сказал Сердюк. — Ну, если человек краснеет, то еще не все потеряно… И Яшка ушел. Пожалуй, если бы Сердюк дал ему разок—другой, я не стал бы за него заступаться… 16 апреля. Итак, исполнился год с того дня, как я в Днепровске. Снова апрель, снова зеленые брызги зелени на ветках деревьев. Тогда были мечты — радостные и неопределенные: приехать, удивить мир, сделать открытие. Смешно вспоминать… Все вышло не так: я просто работал. Итоги можно не подводить — их еще нет. А будут ли? Голуб последнее время изводит себя работой и сильно сдал: серое лицо, отечные мешки под глазами, красные веки. Он все пытается точно рассчитать „задачу о нейтриде“. Яшка уже устроился. Как-то я столкнулся с ним в коридоре. — Порядок! — сообщил он. — Буду работать у электрофизиков. Там народ понимающий: работают „не прикладая рук“, а между тем в журналах статейки печатают — то о полупроводниках, то о сверхпроводимости… Ребята неплохие. Смотри, Колька: не прогадай вместе со своим Голубом, ведь тебе тоже пора сколачивать научный капиталец. А там, в семнадцатой лаборатории… словом, неужели ты не чувствуешь, что природа повернулась к вам не тем местом? Впрочем, пока!.. Я побежал… Нет, Яшка! Научного ловчилы из меня не получится, к счастью. Даже если бы я и захотел — характер не тот. „Сколачивать научный капиталец“… Чудак! Пожалуй, он просто сильно обижен Голубом (оба они тогда зря полезли в бутылку) и теперь ищет утешения в цинизме. В науке, как и в жизни, пожалуй, следует всегда идти до конца. Идти не сворачивая, каким бы этот конец ни оказался. Пусть мы не получим нейтрид — неважно; зато мы докажем, что этим путем получить его невозможно. И это немало: люди, которые будут (пусть даже не скоро) снова искать ядерный материал, сберегут свои силы, будут более точно знать направление поисков. И наша работа — не впустую, нет… Нейтрид все равно будет получен, — не нами, так другими, потому что он необходим, потому что такова логика науки. А научные „кормушки“ пусть себе ищут Якины… Мы медленно идем по программе: приближаемся к облучению самыми медленными, тепловыми мезонами. 18 мая. Сегодня Голуб накричал на меня. Произошло это вот как: он показывал мне свои расчеты „задачи о нейтриде“. Там у него получилось что-то невразумительное — будто бы ядра тяжелых атомов, типа свинца, дают при облучении какое-то странное взаимодействие. Никакого окончательного решения он не получил — слишком сложные уравнения. Однако эти тяжелые ядра подтолкнули его к новой идее. — Понимаете? — втолковывал он мне. — Мезоны сообщают всем ядрам одинаковую энергию, но, чем массивнее ядро, тем меньше оно „нагреется“, тем меньше возбудится от этой энергии. В этом что-то есть. Понимаете? По-моему, нужно еще разок облучить все тяжелые элементы и посмотреть, что получится… Все это было крайне неубедительно, и я сказал: — Что ж, давайте проверим вашу гипотезу-соломинку. Вот тут Иван Гаврилович и взорвался. — Черт знает что! — закричал он. — Просто противно смотреть на этих молодых специалистов: чуть что, так они сразу и лапки кверху! Стоило им прочитать американскую статью, так уж решили, что все пропало… В конце концов, ведь это ваша идея с медленными мезонами, так почему вы от нее сразу отказываетесь? Почему я должен вам доказывать, что вы правы? „Гипотеза-соломинка“! А мы, выходит, утопающие? — Да нет, Иван Гаврилович, я… Откровенно говоря, я растерялся и не нашелся, что ответить. — Что — я? Вы что, считаете, будто эта статейка и несколько опытов перечеркивают все, сделанное нами за год? Это просто трусость! — нападал Голуб. Насилу мне удалось его убедить, что я так не считаю. В общем-то, он прав, если не математически, то психологически: еще далеко не все ясно, и в каждой из неясностей может таиться то ожидаемое неожиданное, которое принято называть открытием. 5 июня. Делаем опыты. Подошли к тепловым мезонам и все чаще и чаще получаем после облучения препаратов нуль радиоактивности. Мне уже полагается отпуск, но брать его сейчас не стоит: в лаборатории и так мало людей. Чертов Яшка! Мне теперь приходится работать и за себя и за него. А другого инженера взамен него нам не дают. В наши опыты уже никто, кажется, не верит… 27 июня. А ведь, пожалуй, наврал этот Вэбстер. Не все вещества отталкивают медленные мезоны. Сегодня облучали свинец, облучали настолько замедленными мезонами, что голубой лучик превратился в облачко. И свинец „впитывал“ мезоны! А масс-спектрографический анализ показал, что у него вместо обычных 105 нейтронов в атомах стало по 130–154 нейтрона. В сущности, это уже не свинец, а иридий, осмий, рений, вольфрам, йод с необычно большим содержанием нейтронов в атомах. Очевидно… Впрочем, ничего еще не очевидно. 5 июля. Получили из висмута устойчивый атом цинка, в котором 179 нейтронов вместо обычных 36! Правда, один только атом. Но дело не в количестве: он устойчив, вот что важно! Такой „цинк“ будет в три с лишним раза плотнее обычного… 16 июля. Эту дату нужно записать так, крупно: Шестнадцатое июля тысяча девятьсот… Эту дату будут высекать на мраморных плитах. Потому что мы… получили!!! На последнем дыхании, уже почти не веря, но получили! Нет, сейчас я не могу подробно: я еще как пьяный и в состоянии писать только одними прописными буквами и восклицательными знаками. Мне сейчас хочется не писать, а открыть окно и заорать в ночь, на весь город: „Эй! Слышите — вы, которые спят под луной и спутниками: мы получили нейтрид!!!“ 17 июля. Когда-нибудь популяризаторы, описывая это событие, будут фантазировать и приукрашивать его со свойственной им художественностью. А было так: три инженера, после сотен опытов уже уставшие ждать, уже стеснявшиеся в разговорах между собой упоминать слово „нейтрид“, вдруг стали получать в последних облучениях великое неожиданное: свинец, превращавшийся в тяжелый радиоактивный йод; сверхтяжелый устойчивый атом цинка из атома висмута… Они уже столько раз разочаровывались, что теперь боялись поверить: вот оно! Облучали ртуть. Был заурядный денек: ветер гнал лохматые облака, и в лаборатории становилось то солнечно, то серо. По залу гуляли сквозняки. Иван Гаврилович уже чихал. Пришла моя очередь работать у мезонатора. Все, что я делал, было настолько привычно, что даже теперь скучно это описывать: загрузил ванночку с ртутью, включил откачку воздуха, чтобы повысить вакуум, потом стал настраивать мезонный луч. В перископ было хорошо видно, как в выпуклое серебристое зеркальце ртути в ванночке упирался синий прозрачный луч. От ванночки во все стороны расходилось клубящееся бело-зеленое сияние — ртуть сильно испарялась в вакууме, и это светились ее пары, возбужденные мезонами. Я поворачивал потенциометр, усиливал тормозящее поле, и мезонный луч слегка изменился в оттенках, стал размываться в облачко. Внезапно (я даже вздрогнул от неожиданности) зеленое свечение ртутных паров исчезло. Остался только размытый пучок мезонов. И свет его дрожал, как огонь газовой горелки. Я чуть повернул потенциометр — пары ртути засветились снова. Должно быть, выражение лица у меня было очень растерянное. Иван Гаврилович подошел и спросил негромко: — Что у вас? — Да вот… ртутные пары исчезают… — Я почему-то ответил ненатуральным шепотом. — Вот смотрите… Пары ртути то поднимались зелеными клубами, то исчезали от малейшего поворота ручки потенциометра. Сколько мы смотрели — не знаю, но глаза уже слезились от напряжения, когда мне показалось, что голубое зеркальце ртути в ванночке стало медленно, очень медленно, со скоростью минутной стрелки, опускаться. — Оседает… — по-прежнему шептал я. Иван Гаврилович посмотрел на меня из-за очков шальными глазами: — Запишите режим… Ну, что было дальше, в течение трех часов, пока оседала ртуть в ванночке, я и сам еще не могу восстановить в памяти. В голове была какая-то звонкая пустота, полнейшее отсутствие мыслей. Подошел Сердюк, подошла Оксана, и все мы то вместе, то по очереди смотрели в камеру, где медленно и непостижимо оседала ртуть. Она именно оседала, а не испарялась — паров не было. Иван Гаврилович курил, потом брался за сердце, морщился, глотал какие-то пилюли — и все это делал, не отрывая взгляда от перископа. Все мы были как в лихорадке, все боялись, что это вдруг почему-то прекратится, что больше ничего не будет, что вообще все это нам кажется… И вот оседание в самом деле прекратилось — над оставшейся ртутью снова поднялись зеленые пары. У Ивана Гавриловича на лысине выступил крупный пот. Мне стало страшно… Так прождали еще полчаса, но ртуть больше не оседала. Наконец Голуб хрипло сказал: — Выключайте, — и тяжело поднялся на мостик, к вспомогательной камере, откуда вытаскивают ванночку. Сердюк выключил мезонатор. Иван Гаврилович перевел манипуляторами ванночку во вспомогательную камеру, поднял руку к моторчику, открывающему люк. — Иван Гаврилович, радиация! — робко напомнил я (ведь ртуть может стать сильно радиоактивной после облучения). Голуб посмотрел на меня, прищурился, в глазах его появилась веселая дерзость. — Радиации не будет. Не должно быть. — Однако стальными пальцами поднес к ванночке трубочку индикатора. Стрелка счетчика в бетонной стене камеры не шевельнулась. Голуб удовлетворенно засопел и открыл люк. Когда ртуть слили, на дне ванночки оказалось черное пятно величиной с пятак. Стали смотреть против света, и пятно странно блеснуло каким-то черным блеском. Отодрать пятно от поверхности фарфора не было никакой возможности — пинцет скользил по нему. Тогда Иван Гаврилович разбил ванночку: — Если нельзя отделить это пятно от ванночки, будем отделять ванночку от него! Фарфор стравили кислотой. Круглое пятно, вернее клочок черной пленки лежал на кружке фильтровальной бумаги… Потом уже мы измерили его ничтожную микротолщину, взвесили (пятно весило 48,5 грамма), определили громадную плотность. Неопровержимые цифры доказали нам, что это ядерный материал. Но сейчас мы видели только черную пленку, крошку космической материи, полученную в нашей лаборатории. — Вот! — помолчав, сказал Иван Гаврилович. — Это, должно быть, и есть то, что мы назвали „нейтрид“. — Нейтрид… — без выражения повторил Сердюк и стал хлопать себя по карманам брюк — должно быть, искал папиросы. А Оксана села на стул, закрыла лицо ладонями и… расплакалась. Мы с Голубом бросились ее утешать. У Ивана Гавриловича тоже покраснели глаза. И — черт знает что! — мне, не плакавшему с глупого возраста, тоже захотелось всласть пореветь. В сущности, мы — простые, слабые люди! — вырвали у природы явление, величие которого нам еще трудно себе представить, все свойства которого мы еще не скоро поймем, все применения которого окажут на человечество, может быть, большее влияние, чем открытие атомного взрыва. Мы много раз переходили от отчаяния к надежде, от надежды — к еще большему отчаянию. Сколько раз мы чувствовали злое бессилие своих знаний перед многообразием природы, сколько раз у нас опускались руки! Мы работали до отупения, чуть ли не до отвращения к жизни… И мы добились, а когда добились, не знаем, как себя вести. Потом реакция прошла. Оксана успокоилась. Сердюк отошел куда-то в сторону и вернулся с бутылкой вина. В химшкафчике нашлись две чистые мензурки и два химических стаканчика. — Алексей Осипович, ты когда успел сбегать в магазин? — удивился Голуб. Сердюк неопределенно пожал плечами, вытер ладонью пыль с бутылки, разлил вино по стаканчикам: — Скажите тост, Иван Гаврилович… Голуб поправил очки, торжественно поднял свою мензурку. — Вот… — Он в раздумье наморщил лоб. — Мне что-то в голову ничего этакого, подобающего случаю, не приходит. Поздравить вас? Это слишком… банально, что ли? Это огромно-то, что сделано. Мы и представить сейчас не можем, что означает эта ничтожная пленочка нейтрида. Будут машины, ракеты и двигатели, станки из нового, не виданного еще на земле материала сказочных, удивительных свойств… Машины — для людей!.. Да, для счастья людей — это главное! Для человека, дерзкого и нетерпеливого мечтателя и творца! — Он помолчал. — Думали ли вы, каким будет человек через тысячу лет? Я думал. Многие считают, что тогда люди будут настолько специализированы, что, скажем, музыкант будет иметь другое анатомическое строение, чем летчик, что физик-ядерщик не сможет понять идеи физика-металлурга, и так далее. По-моему, это чушь! — Иван Гаврилович поставил мешавшую ему мензурку с вином на стол, поднял ладонь. — Чушь! Тогда, могучие в своих знаниях, накопленных тысячелетиями, повелители послушной им огромной энергии — люди будут великолепны в своем разнообразии. В них будет естественно сочетаться то, что у нас носит характер узкой одаренности. Каждый человек будет писателем, чтобы прекрасно излагать свои прекрасные мысли; он будет художником, чтобы полно и ярко выражать свои ощущения; он будет ученым, чтобы творчески двигать науку; философом, чтобы мыслить самостоятельно; музыкантом, чтобы чувствовать и выражать в звуках тончайшие движения души; инженером, потому что он будет жить в мире техники. Каждый обязательно будет красивым. И то, что мы называем „счастьем“ — редкие мгновения, вроде этого, — для них будет обычным душевным состоянием. Они будут счастливы ежедневно, ежечасно! Да, все было необычно: Иван Гаврилович, хмурый, сердитый, а порой и несправедливо резкий, оказался великолепным и страстным мечтателем. Ему не шло мечтать: маленький, толстый, лысый, со смешным лицом и перекосившимися на коротком носу очками, он стоял, нелепо размахивая правой рукой, но голос его звучал размеренно и крепко: — Вот какие станут люди! И все это для них будет так же естественно, как для нас с вами прямохождение… И эти великолепные и совершенные люди, может быть, читая о том, как мы — на ощупь, в темноте незнания, с ошибками и отчаянием — искали новое, будут снисходительно улыбаться. Ведь и мы подчас так улыбаемся, читая об алхимиках, которые открыли винный спирт и под его воздействием решили, что это „живая вода“, или вспоминая, что в начале девятнадцатого века физики измеряли электрический ток языком или локтем… Понимаете, для наших внуков этот нейтрид будет так же обычен, как для нас сталь. Для них все будет просто… — Голуб помолчал. — Но все-таки это сделали мы, инженеры двадцатого века! Мы, а не они! И пусть они вспоминают об этом с почтением — без нас не будет будущего… — И Иван Гаврилович почему-то погрозил кулаком вверх. 18 июля. Сегодня снова включили мезонатор и облучали ртуть. Всем было тревожно: а вдруг больше не получится? Но снова, как тогда, под пучком мезонов в ванночке оседало блестящее зеркальце ртути, исчезали зеленые пары, и на дне осталось черное пятнышко нуль—вещества… Нет, это открытие не имеет никакого отношения к Его Величеству Случаю: оно было трудным, было выстрадано, и оно будет надежным. Сегодня же измерили, более или менее точно, плотность первого листика нейтрида. Это было сложно, потому что толщина его оказалась неизмеримо малой, за пределами измерений обычного микроскопа. С трудом определили толщину на электронном микроскопе: она оказалась равной примерно 3 А° — трем ангестремам. Толщина атома! Стало быть, объем пленки № 1 — около шести стамиллионных кубического сантиметра, а плотность около ста тонн в кубическом сантиметре. Весомое „ничто!“ 20 июля. Сегодня в лаборатории сопротивления материалов произошел конфуз. Пробовали определить механическую прочность пленки нейтрида на разрыв: 450-тонный гидравлический пресс развил предельное усилие… и лопнула штанга разрывного устройства! Пленка нейтрида — в десятки тысяч раз более тонкая, чем папиросная бумага! — выдержала усилие в 450 тонн, то, чего не выдерживают стальные рельсы! Стало быть, нейтрид в полтора миллиарда раз (а может, и больше!) прочнее стали. Когда обсуждали проект нейтрида, скептики говорили: „Ну хорошо, вы получите материал в миллионы раз прочнее всех обычных, но ведь он будет во столько же раз и тяжелее?“ Давайте прикинем, граждане скептики: нейтрид тяжелее стали в 150 миллионов раз, а прочнее ее не менее, чем в полтора миллиарда раз. Десятикратный выигрыш в весе! То есть выходит, что нейтрид как материал не самый тяжелый, а самый легкий из всех. Тогда нам нечего было возразить — мы не могли теоретически вычислить это. А пока многое еще неизвестно — скептики уверены, они всегда в состоянии доказать: чего нет, того и не может быть… Но покажите мне хоть одного скептика, который бы получил новое, добился нового! Не стоит и искать… Потому что правда скептиков — это правда трусости! А Яшка? Сегодня в обеденный перерыв столкнулись во дворе. Он сделал маневр, чтобы обойти меня незамеченным, но я его окликнул. Он без обычных выкрутасов подошел, протянул руку: — Поздравляю тебя! Здорово вы дали!.. — Да и тебя тоже следует поздравить, — не очень искренне ответил я. — Ведь ты тоже работал… — Ну, незачем мне приклеиваться к чужой славе! — резко ответил он. — Обойдусь! — и пошел. Неловкий вышел разговор. Да… Были мы с ним какие ни есть, а приятели: вместе учились, вместе приехали сюда, вместе работали. А теперь… Поздновато сработало твое самолюбие, Яшка! 28 июля. В химическом отношении нейтрид мертв, совершенно бесчувствен: он не реагирует ни с какими веществами. Этого и следовало ожидать — ведь в нем просто нет атомов, нет электронов, чтобы вступать в химическую реакцию. И еще: эти пленки нейтрида не пропускают радиацию частиц: протонов, нейтронов, быстрых электронов, альфа-частиц и так далее. И только в ничтожном количестве пропускают гамма-лучи: пленка нейтрида толщиной в несколько ангстерм ослабляет гамма-излучение примерно так же, как стена из свинца толщиной в метр! То есть и здесь то же самое: радиоактивная прочность в миллионы раз больше, чем у обычных материалов. Вот он — идеальный материал для атомной промышленности! Найденная прирученная человечеством колоссальная ядерная энергия получила наконец равный ей по силе материал. Два богатыря! 31 июля. Все уменьшается или увеличивается в миллионы раз. Теплопроводность нейтрида в несколько миллионов раз меньше теплопроводности, скажем, кирпича; мы нагревали пленку с одной стороны в пламени вольтовой дуги несколько часов — и так и не смогли измерить сколько-нибудь значительное повышение температуры на другой стороне… Теплоемкость нейтрида в сотни миллионов раз больше теплоемкости воды; потом эту же пленку мы в течение двух дней охлаждали „сухим льдом“, жидким азотом и чуть ли не целой рекой холодной воды: она запасла миллионы больших калорий тепла и не отдавала их. Наш так называемый здравый смысл, воспитанный на обычных представлениях, на обычных соотношениях между свойствами, протестует против таких цифр и масштабов. Мне было физически мучительно держать на ладони наш второй образец — кружок пленки нейтрида, неизмеримо тонкий, — и чувствовать, как его десятикилограммовая тяжесть невидимой гирей напрягает мускулы! Мало знать, что это вещество состоит из ядерных частиц, которые в тысячи раз меньше атомов, и что внутри его взаимодействуют ядерные силы, в миллиарды раз сильнее обычного междуатомного взаимодействия, — нужно прочувствовать это. К нейтриду, к его масштабам просто следует привыкнуть… Голуб все объясняет просто: нейтрид — нулевой элемент таблицы Менделеева. А известно, что нуль — необычное число, умножение числа на нуль — нуль; деление конечного числа на нуль дает бесконечность, и так далее. Вот то же самое и нуль-вещество: у него все свойства либо нуль, либо бесконечность. …Кстати, я настолько увлекся описанием ежедневно открываемых теперь свойств нейтрида, что совсем перестал отмечать, что делается у нас в лаборатории. Мезонатор сейчас загружен круглые сутки; мы делаем нейтрид в три смены. Тоненькие пленочки — чуть ли не прямо из рук — выхватывают и относят в другие лаборатории: весь институт сейчас изучает свойства нейтрида. Алексей Осипович целыми днями колдует у мезонатора — боится, как бы от такой нагрузки он не вышел из строя. Ему дали двух инженеров в помощь, но он старается не подпускать их к камере. Похудел, притворно ругается: — Вот морока! Лучше б не открывали этот нейтрид! Голуб изощряется в выдумывании новых опытов для определения свойств нейтрида, бегает подругим лабораториям, спорит. Я… впрочем, трудно связно описать, что приходится делать мне: работы невпроворот, вся разная и вся чертовски интересная. Мы находимся в состоянии „золотой лихорадки“: каждый опыт приносит нам новый самородок — открытие. 10 августа. Сердюк говорит: — Вы что думаете: если американцы откроют нейтрид, то так сразу и начнут звонить о нем на весь мир? Это же не атомная бомба — ее нельзя было скрыть уже после первых испытаний, а нейтрид ведет себя тихо… Они так и сделали: опубликовали результаты неудачных опытов, а об удачных промолчали. Может быть, тот же Вэбстер уже получил нейтрид, или как там он у них называется, я не знаю… О-о, это же бизнесмены, пройдохи! — И он смотрит на нас с Иваном Гавриловичем так, будто видит всех этих вэбстеров насквозь. Может, он и прав? Трудно предположить, что Вэбстер и его коллеги остановились на опытах с калием, медью, серой и не проверили все остальные элементы… И еще: после того как мы установили, что осаждается в нейтрид не вся ртуть, а лишь ее изотоп 198, который составляет только 10 процентов в природной ртути (поэтому-то у нас оседала не вся ртуть), я занялся экономикой. Пересмотрел кипы отчетов о мировой добыче ртути, об экспорте, импорте и так далее. И вот что выходит: главные месторождения киновари в мире — Амальден в Испании, Монте-Амьята в Италии, Нью-Амальден в Калифорнии (частью в США, частью в Мексике), Идрия в Югославии и Фергана у нас. Если в 1948 году добыча ртути на зарубежных рудниках достигала 4000 тонн, то в последнее время внезапно она необъяснимо увеличилась почти втрое. А нейтрид требует громадных количеств ртути. Конечно, это еще догадки, но если они оправдаются, то, судя по утроившейся добыче ртути, дело там дошло уже до промышленного применения нейтрида… Ай-ай, мистер Г. Дж. Вэбстер! Не знаю, к сожалению, как расшифровываются ваши „Г“ и „Дж.“! Такую шулерскую игру — и тащите в науку… Нехорошо! 20 августа. Получали — веселились, подсчитали — прослезились… Словом, нейтрид невероятно дорог: килограмм его стоит примерно столько же, сколько и килограмм очищенного полностью урана-235. Но килограмм урана-235 — это год работы атомной электростанции, а килограмм нейтрида — микроскопический кубик со стороной в 0,1 миллиметра. Но что из него можно сделать? Значит, пока мы не найдем дешевого способа применения нейтрида (удешевить производство мы еще не можем), все наши образцы годятся только для музеев. Вероятнее всего, что наиболее выгодно применять нейтрид в виде пленки толщиной много меньше ангстрема. Это будут тончайшие нейтрид-покрытия, защищающие обычный материал от температуры, радиации, разрыва и всего, что угодно. Вчера один плановик из центра, приехавший обсудить перспективы применения нейтрида, обиделся: „Пленки тоньше атома? Вы что, меня за дурака принимаете? Таких пленок не бывает“. Еле-еле мы доказали ему, что из нейтрида, который состоит из ядерных частиц в тысячи раз меньших атома, это делать можно… Его мы убедили, но все-таки как же мы будем контролировать толщину этих пленок? Инструментами, которые состоят из атомов?.. Вот что: нужно обдумать анализ с помощью гамма-лучей! Пожалуй…»ОБЛУЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ПИ-МЕЗОНАМИ
Сообщается о проведенной в институте Лоуренса экспериментальной работе по облучению минус-мезонами различных химических элементов… Опыты показывают, что возбуждение облученных мезонами ядер уменьшается вместе с энергией бомбардирующих мезонов… Однако по мере приближения скорости мезона к скоростям обычного теплового движения частиц (сотни километров в секунду) мезоны начинают рассеиваться электронными оболочками атомов и не проникают внутрь ядер… Облучаемые препараты калия, меди и серы в этих случаях оставались нерадиоактивными…“
Дальше в дневнике Самойлова следуют эскизы приборов, схемы измерений и расчеты, которые мы опускаем, так как не все может быть доступно читателю.
«16 сентября. Иван Гаврилович недели две назад как-то сказал: — Мне кажется, когда мы перейдем предел в один ангстрем, то свойства пленок резко изменятся. По-моему, они будут очень эластичными, а не жесткими, как нынешние. Позавчера Сердюк извлек из кассет куски фантастически тонкой, мягкой, черной ленты. Лента заполняла любую морщинку в бумаге, она сминалась в ничтожный комочек. Измерили на моем гаммаметре толщину: 0,05 ангстрема! — Что я говорил! — торжествовал Голуб, сияя очками. — Она мягкая, как… вода! Видите? Но всех нас потряс Сердюк. Он, видно, давно продумал этот эффект. Во всяком случае, у него все было готово. Одна из лент даже имела специальные утолщения на концах. Он достал из своего стола какое-то приспособление, похожее на лобзик, зажал в него пленку с утолщениями, натянул ее и обратился к нам со следующей речью: — Вы думаете, что представляете себе, что такое пленка толщиной в пять сотых ангстрема? Нет, не представляете. Вот, смотрите. — Сердюк наставил свое устройство с пленкой на обрубок толстого стального прута и легко, без нажима провел пленку сквозь него — прут остался целым. — Вот видите, как сквозь воздух проходит! — Он подал прут мне: — На, найди, где я резал. На прутке не осталось никаких следов. Сердюк, торжествуя, сказал: — Такая пленка уже не разрушает междуатомные связи, понятно? Итак, считаю предварительную морально-теоретическую подготовку законченной. Теперь слабонервных и женщин прошу отойти… Он закатал рукав халата на левой руке, снял часы. Потом вытянул руку и на запястье, на то место, где кожа под ремешком осталась белой, наставил пленку нейтрида. Затем размеренно, без усилия провел ее… сквозь руку! Даже не провел, а погрузил в руку. Мы не то чтобы не успели, а просто не смогли ахнуть. Оксана, стоявшая здесь, зажала себе ладонями рот, чтобы не закричать, и страшно побледнела. Черная широкая лента вошла в руку. Край ее выступал с одной стороны, резко выделяясь на фоне белой кожи. Мучительно медленно (так показалось мне) пленка прошла через мясо и кость запястья, отрезая кисть, и вышла с другой стороны. Мгновение казалось, что она целиком отделяла кисть от остальной части руки. На кисти набухли жилы. Лицо Сердюка было напряженным. Потом пленка целиком вышла с другой стороны. Доли секунды затаив дыхание все ждали, что вот сейчас кисть отвалится и хлестнет кровь. Но Алексей Осипович спортивно сжал ее в кулак, распрямил и „отрезанной“ рукой полез в карман за папиросой. — Эх, жаль киносъемочной камеры не было! — улыбнулся он закуривая. Иван Гаврилович вытер выступивший на лысине пот, внимательно посмотрел на Сердюка и рявкнул: — Голову себе нужно было отрезать, а не руку, черт бы тебя побрал! Трюкачество! Аттракционы мне здесь будет устраивать! — Ну что вы, Иван Гаврилович, какие аттракционы? — Сердюк искренне развел руками. — Обыкновенная научная демонстрация свойств сверхтонких пленок нейтрида. Что ж тут такого? — Вот я вам выговор по институту закачу, тогда поймете! — Голуб от возмущения даже перешел на „вы“. — Хорошо, что в этой пленке не было никаких случайных утолщений, а то полоснули бы себе… Мальчишество! Однако выговор Сердюку он не „закатил“. 2 октября. Проектируем скафандр из сверхтонкого нейтрида: два слоя нейтрид-фольги, проложенные мипором. Такой скафандр должен защищать от всего: в нем можно опуститься в кипящую лаву, в жидкий гелий, в расплавленную сталь, в бассейн уранового реактора… И весить он должен всего 20 килограммов — совсем немного для прогулок в жерло домны. Последнее время я читал все: наши научные журналы, иностранные сборники переводов, рукописные отчеты о всевозможных опытах. Но дня три не просматривал газет и едва не прозевал интересное событие. Оказывается, над Землей появились два тела снарядообразной формы. Их называют „черные звезды“, потому что они необычно темные. Эти черные звезды движутся на высоте около 100 километров, фактически в стратосфере и — что удивительно! — ни в малейшей степени не тормозятся о воздух. Прежние спутники давно бы сгорели, снизившись до такой высоты, а эти вращаются уже два дня, и до сих пор никто не заметил уменьшения их скорости. Из Пулкова сообщили расчеты баллистической орбиты черных звезд, по которым получается, что средняя плотность их… 1,3 килограмма в кубическом сантиметре. Если предположить, что снаряды не являются монолитами и пусты внутри, это становится похожим на космический нейтрид!.. 15 октября. Нет, это не космический нейтрид. Это вполне земные снаряды, настолько земные, что даже начинены атомной взрывчаткой. Впрочем, слухи относительно атомных зарядов в черных звездах, кажется, преувеличены, однако, никто не может их опровергнуть. Да и не мудрено: до сих пор все державы делают вид, что эти зловещие спутники не имеют к ним никакого отношения. Черт знает, какая опасная затея! И чья? Американцев? Возможно… В мире из-за этого творится невообразимое: жители бегут из городов, газеты выпускают одну сенсацию чудовищнее другой; дебаты в ООН, заявления разных деятелей. Какой-то чин Пентагона (кажется, его фамилия Хьюз или Хьюст) заявил по телевидению, что если хоть один из снарядов упадет на территорию США, то следует немедленно нанести России атомный удар… По расчетам, спутники будут вращаться еще две — три недели. Что-то случится за эти недели!.. 18 октября. Словом, для нас уже очевидно, что эти спутники — черные звезды, — имеют оболочку из нейтрида. За неделю вращения в атмосфере (если считать от момента, когда их впервые заметил этот полтавчанин-астроном) они должны нагреться до десятков тысяч градусов, и радиотермоприборы подтверждают это. Но звезды по-прежнему черные! Да и их удельный вес подтверждает наши догадки. Это безусловно снаряды, а не ракеты: форма говорит об отсутствии реактивных устройств. Значит, где-то должна быть и пушка, выбросившая их; причем эта пушка должна быть тоже из нейтрида. Чтобы сообщить пушечному снаряду скорость 8 км/сек, нужно осуществить управляемую ядерную реакцию, получить температуру не менее 15 тысяч градусов. При меньших температурах газы не будут вылетать из дула с нужной скоростью. Ну, а какой материал, кроме нейтрида, выдержит такое? Так… Теперь, пожалуй, можно объяснить, почему снаряды, вместо того чтобы попасть в какую-то определенную цель, уже целую неделю летают без толку. Все дело в погрешности. Возможно, что пушку проектировали с испытательными целями: для стрельбы на далекие расстояния, через континенты, в пику нашим баллистическим ракетам. А для этого нужно, чтобы снаряды имели скорость, близкую к 7,9 км/сек, и в то же время не перешли этот предел. Значит, необходимо с предельной точностью выдерживать температуру цепной реакции, что очень непросто. При испытаниях пушки, очевидно, не смогли точно выдержать скорость, она превысила критическую — и снаряды стали спутниками Земли. А теперь они — те, которые палили, — оконфузились и молчат: снаряд не воробей — вылетит, не поймаешь. Очередная неудача… Хотели испугать весь свет, а теперь сами испугались. Да, Земля слишком рискованное место для полигона. 20 октября. Заканчиваем первый скафандр из пленки нейтрида. Разрабатываем методы испытания его. Ивана Гавриловича вчера спешно вызвали в Москву. Соображение, что черные звезды из нейтрида, очевидно, заинтересовало не только нас. Сегодня я допоздна остался в лаборатории и видел, как высоко в холодном синем небе летела маленькая черная пулька — снаряд. Приказом велено предпринять кое-какие меры противоатомной защиты. 29 октября. В сущности, это первое приключение в моей жизни. Постараюсь описать его подробнее. Впрочем, назвать „приключением“ это можно с большой натяжкой: просто мы с Иваном Гавриловичем участвовали в одной несколько необычной экспертизе. Еще из Москвы Голуб дал телеграмму: „Немедленно заканчивайте скафандр“, а на следующий день прилетел и сам. Скафандр был почти готов — черный шелковистый мягкий костюм, вроде спортивного, с круглым шаром для головы и двумя выпуклыми рыбьими глазами на уровне рта; чтобы защитить глаза от прямых лучей, мы сделали перископическую приставку. Иван Гаврилович заставил меня примерить костюм (Оксана нашла, что скафандр мне идет), критически осмотрел: — Радио не наладили? Герметичность при высоких температурах не проверяли? — Нет… не успели еще. — Я был заинтригован этой спешкой. — Да выдержит, — заявил Сердюк. — В таком костюме я берусь отправиться хоть в пекло! — Нет, — подумав, возразил Голуб, — на этот раз в пекло предлагается отправиться не тебе, Алексей, а… — Он внимательно посмотрел на меня. — … Николаю Николаевичу. А инженер Сердюк, насмерть скомпрометировавший себя отрезыванием конечностей, останется замещать начальника лаборатории. Сердюк обиженно хмыкнул: — Подумаешь… — и закурил от огорчения. — Давайте домой, Николай Николаевич! Оденьтесь потеплее и на аэродром. Через два часа улетаем. — Зачем — потеплее? Разве в пекле прохладно? — пустил я пробную шутку. Но Голуб уже смотрел на часы: — Давайте скорее!.. И не пытайтесь выведать — что, как, зачем и куда. Все равно до вылета ничего не скажу. Сейчас не до праздного любопытства… В самолете Голуб молчал. Я не расспрашивал. Пробивались сквозь облачность — белая плоскость крыла ушла в густой туман. Ревели моторы, в кабине дребезжала какая-то плохо закрепленная железка. Внезапно выскочили в солнечную прозрачную синеву. Внизу бугрились холмы туч. — Будут пытаться сбить эти черные звезды… А нам предстоит засвидетельствовать, что они из нейтрида, — неожиданно сказал Голуб. — Иван Гаврилович, а… как же насчет международного права? — спросил я. — Ведь эти снаряды, вероятно, американские? — Что-о? — сердито скосил глаза Голуб. — Кто вам сказал? Может быть, сами американцы, по секрету? Но они помалкивают, воды в рот набрали… А если эти неизвестно чьи снаряды действительно несут ядерную взрывчатку? А если они упадут где-то в населенной местности да взорвутся? Вы знаете, что тогда может начаться? Это, если хотите, международная обязанность наша — устранить угрозу всему миру, а не только „право“. Ну, а кроме того, наше правительство уведомило державы через ООН, и протестов не поступило… — Иван Гаврилович фыркнул: — Тоже мне дипломат!
На белом полотне равнины были разбросаны темные силуэты машин, радарных установок, точки людей. Серый полярный день давал мало света. Под низкими тучами было тускло, сумрачно. Однообразие тундры сужало горизонт. Только в одном месте, на западе, тучи оттеняли контуры стартовых ракетных башен. Я не слишком серьезно отнесся к совету Ивана Гавриловича одеться потеплее и теперь бодро приплясывал в своих ботиночках на скрипящем снегу. Ух, и мороз же был! Ноги коченели. И Голуб хорош своей таинственностью: не мог объяснить обстоятельно. Кто же думал, что нас занесет на Север! Однако уходить в палатку не хотелось. Нам с Иваном Гавриловичем еще нечего было делать. Мы стояли в стороне, стараясь никому не мешать, и наблюдали. Мы находились в оперативном центре, управляющем всей этой сложной системой. В палатку сзади нас то и дело пробегали озабоченные люди; рядом, на аэросанях, стояли серо-белые, под цвет тундры, будки радаров; возле них возились операторы в коротких полушубках, с красными от мороза руками и лицами. По снегу, извиваясь, тянулись толстые кабели; они уходили туда, где ревели силовые передвижки. — Ни разу не были на испытаниях крупных ракет?.. — спросил меня Голуб. У него тоже посинел нос от холода. — Жаль, на этот раз мы ничего не увидим — тучи! — А как же они будут наводить? — Я показал на радистов. — Они не будут наводить, будут только следить. Даже если бы была прекрасная видимость, люди никогда не смогли бы навести ракету так точно, как это сделают вычислительные электронные устройства. Человеческое мышление слишком инерционно, а ведь здесь скорость сближения в десять или даже больше километров в секунду. Так что наводить визуально нельзя, обязательно промажешь. Полетят, понимаете ли, ракеты с тепловыми головками — чертовски чувствительные термоприборы и автоматика! Остроумная штука! — Иван Гаврилович потер руки не то от удовольствия, не то от холода и увлеченно показал в сторону стартовых башен. — Ведь черные звезды от долгого трения о воздух нагрелись до страшной температуры. А тепловая головка почувствует тепло этих звезд на расстоянии прямой видимости. На высоте семидесяти километров ракеты увидят цель за две тысячи километров! С земли радары заметили бы ее только за пятьсот — шестьсот километров! Нет, право, молодцы эти ракетчики, все рассчитали до секунды: как только „спутник“ появится на юге на широте Алма-Аты — сразу сигнал, уточненные данные о траектории, и старт… — Ракеты атомные? — А как же! Снаряд нужно обязательно сбить здесь, на безлюдных просторах. Потом лови момент… Из палатки, пригнувшись, одевая на ходу шапку, вышел руководитель операции — подтянутый старик с бородкой и в очках. Он посмотрел на часы, потом на небо, подергал себя за бородку. „Наверное, читает лекции в каком-нибудь техническом институте, — подумал я, — и не очень строг на зачетах“. Он подошел к нам: — Вы шли бы в палатку, Иван Гаврилович, все равно ничего не увидите. Только замерзнете. Вон молодой человек уже совсем закоченел… — Ничего, товарищ профессор! — шутливо вытянулся перед ним Голуб. — Здесь нам интереснее… Скоро? — Жду сигнала из Туркмении. — Профессор снова посмотрел на часы. Он, видимо, волновался: потер руки, достал из полушубка портсигар, закурил. — Ну, сейчас должен быть сигнал… Простите, я оставлю вас. — Он повернулся к палатке. Но в это время из нее выскочил связной и доложил: — Сигнал принят! Высота шестьдесят километров, направление — точно расчетное. — Хорошо. Микрофон! — Слушаюсь! Связной нырнул головой в палатку и вместе с двумя радистами выкатил из нее портативную радиоустановку. Профессор подошел к микрофону: — Внимание всем! — Голос его теперь звучал властно, лицо стало сердитым. — Доложить готовность стартовых установок! — Ракета номер один готова! — прозвучал в динамике хрипловатый от помех бас. — Ркетанмердвагтова! — единым духом отрапортовал звонкий юношеский голос. — Ракета номер три готова! — Ракета номер четыре готова! — Так. Доложить готовность радионавигационных установок! — разнесли радиоволны по тундре голос профессора. — Радиолокаторы наблюдения за черным спутником готовы! — Радиолокаторы наблюдения за ракетами готовы! — Радиоприцелы готовы! — Слушать всем! Приготовиться к старту через полторы минуты по моему сигналу. На радиоустановке замигала красная лампочка приема. Оператор, склонившись к щитку, переключил несколько рычажков. Теперь говорили пункты наблюдения У меня возникло ощущение, что они будто по цепочке передают спутник-снаряд из рук в руки. — Спутник прошел сорок пятую параллель. Направление расчетное… — Спутник прошел пятьдесят первую… — Спутник прошел пятьдесят третью… Профессор взглянул на хронометр, кивком головы приказал оператору выключить прием. Не сводя глаз с хронометра, нагнулся к микрофону: — Внимание всем! — и будто выстрелил голосом: — Старт!!! Вдали, на западе, ажурные стартовые вышки, снег и тучи осветились алыми вспышками. Я увидел, как пламя поползло вверх по башням; маленькие веретенообразные тела несколько долей секунды противоестественно висели в воздухе, опираясь на столбы огня, потом метнулись к тучам. Секундой позже накатился рокочущий грохот стартовых взрывов. Еще через секунду ракеты исчезли за тучами. Когда стартовые раскаты стихли, стало слышно тоненькое пение моторчиков — это на будках радаров вслед за ракетами поворачивались, будто уши насторожившегося зверя, параболические антенны. Я увидел, как зеленые линии на экранах радаров изломились двумя всплесками: радиоволны, отразившиеся от ракет, летели к антеннам. Всплески постепенно раздвигались. — Высота тридцать километров! — выкрикивал озябшим голосом оператор в полушубке. — Тридцать пять!.. Сорок!.. Пятьдесят километров! Шестьдесят пять! И вот параболические антенны радаров замерли на мгновение и начали медленно поворачиваться налево: это там, за тучами, в разреженном синем пространстве, изменили курс четыре ракеты с атомными зарядами, почувствовав тепловое излучение приближающегося спутника. — Ракеты легли на горизонтальный курс! Несколько секунд прошло в молчании. Профессор смотрел то на хронометры, то на экраны радаров. Внезапно оператор локатора, антенны которого были направлены на юго-запад, крикнул: — Есть спутник! Все повернулись к нему. Антенна этого локатора тоже ожила и начала заметно поворачиваться направо. Маленький штрих, пересекавший светящуюся линию пучка электронов на экране, постепенно вырастал. Вот навстречу этому штриху, обозначавшему снаряд-спутник, с другого края экрана поползли четыре тоненьких зеленых черточки — ракеты. Они сближались медленно, как букашки… Тучи, проклятые тучи! За их завесой с космическими скоростями неслись навстречу друг другу смертоносные снаряды, начиненные атомной взрывчаткой, а здесь все это выглядело крайне невыразительно: медленно ползут по экрану зеленые черточки: четыре справа и одна слева. Вот они почти сошлись, и… в ту тысячную долю секунды, которую осталось пройти ракетам до встречи со спутником, автоматически сработали электронные взрыватели урановых зарядов — вспыхнул атомный взрыв. Перед снарядом встала стена энергии, стена света и газов… На экране локатора все это выразилось так: всплески и светящаяся линия разбились на множество тонких зубчатых кривых, которые на несколько секунд заполнили весь экран, а потом исчезли. Из светящегося хаоса возник один всплеск и стал быстро перемещаться по экрану. Этого никто не ожидал. — Черная звезда падает! — воскликнул оператор. — Она не взорвалась, она падает! — Странно… — негромко сказал Голуб. — Почему же снаряд не взорвался? Профессор пожал плечами: — Возможно, это была просто испытательная болванка, а не боевой атомный снаряд… — Товарищ профессор, — раздался голос в динамике, — спутник падает в квадрат „40–12“. — Ага! Ну, пусть приземляется… — Профессор снял папаху и подставил разгоряченную лысину морозному ветерку, потом подозвал связного инженера: — Скомандуйте, пожалуйста, „отбой“. Я покурю… — Слушаюсь! — Инженер подошел к радиоустановке и весело пропел: — Группа, слуша-ай! Отбо-ой! Мы смотрели на запад: там посеревшие к сумеркам тучи быстро таяли, очищая огромный круг синего неба, на котором уже загорались звезды. Атомная вспышка, распространяясь к земле, испарила тучи. Вдруг почва под ногами упруго дрогнула. — Товарищ профессор, спутник упал в квадрате „40–12“! — доложил тот же наблюдатель. Профессор повернулся к нам: — Ну, Иван Гаврилович и… э-э… — он посмотрел на меня, пытаясь вспомнить мое имя и отчество, но не вспомнил, — и товарищ Самойлов, теперь выполняйте вашу задачу… Однако пора и спать — первый час ночи. Завтра надо подняться с рассветом. Эк, я расписался сегодня! Впрочем, допишу уж до конца. На нашу долю пришлось немного: посмотреть на упавший снаряд вблизи и с возможной достоверностью установить: нейтрид это или нет? Сперва мы пролетели над местом падения на вертолете, но ничего не рассмотрели: в квадрате „40–12“ горела земля. Нагревшийся до десятков тысяч градусов от многодневного движения в атмосфере, да к тому же еще и подогретый вспышкой четырех урановых ракет снаряд грохнулся в тундру, и вечная мерзлота вместе с мохом и снегом вспыхнула, как нефть, не успев растаять. Уже наступила ночь. И в темноте этот гигантский костер огня, дыма и пара освещал равнину на километры во все стороны; даже сквозь шум винтов был слышен треск горячей почвы и взрывы пара. Потом мы немножко поспорили с Иваном Гавриловичем, но я все-таки убедил его, что идти нужно сейчас — ведь снаряд может проплавить почву на десятки метров в глубину, ищи его потом! Словом, мы приземлились, я одел скафандр и направился к „костру“. Идти было нелегко: в скафандре было душно, его тяжесть давила, баллончики с кислородом колотили по спине, в перископические очки было видно не так уж много. Словом, конструкцию скафандра, наверное, придется еще дорабатывать… Сперва навстречу бежали ручьи растаявшего снега; потом они прекратились, из черной почвы валил пар. Некоторое время я брел, ничего не видя в этом тумане, и внезапно вырвался из него прямо в огонь. Странно: я не боялся, только где-то вертелась неприятная мысль, что скафандр не испытан. В сущности, жизнь не так уж и часто награждает опасностями работу инженера. Мне просто было интересно… Передо мной лежало озерцо расплавившейся земли: темно-красное у краев, оно накалялось к середине до желто-белого цвета. Жар пробивался сквозь призмы перископической приставки. Я уменьшил диафрагму. Теперь среди раскаленных паров было видно темное цилиндрическое тело, до половины окунувшееся в лаву. „Значит, неглубоко!“ И я шагнул в озерцо. Странное было ощущение: ноги чувствовали, как у самых колен содрогается и бурлит розовая огненная жидкость, но не ощущали ни малейшего тепла! До снаряда оставалось несколько метров — белая лава кипела вокруг него, черный цилиндр дрожал в ее парах. Было трудно рассмотреть детали: я видел лишь тыльную часть снаряда, напоминавшую дно огромной бутылки, — остальное было погружено в лаву. На выступавшем из лавы боку снаряда я еще заметил два скошенных жерла-отверстия. Они, оказывается, корректировали движение снаряда дополнительными ракетными взрывами — чтоб точнее было. И все равно ничего не вышло!.. Скоро призмы помутнели, от жара начала плавиться оптика. Я повернул назад. Да, несомненно, снаряд был из нейтрида… На следующий день снаряд ушел глубоко в землю; над ним кипело только озерцо лавы. Второй спутник сбили в тот же день, часа на два позже. 10 ноября. Сейчас в правительстве решается вопрос о заводе нейтрида. Мы втроем: Иван Гаврилович, Сердюк и я — все дни сидим и составляем примерную смету и технологический проект. 25 ноября. Итак, решено: завод будут строить в Днепровске, в Новом поселке. Это на окраине. Сейчас там уже воздвигают корпуса для цехов, подводят высоковольтную линию передачи. Целое конструкторское бюро трудится, разрабатывает по нашим наметкам мезонаторы-станки. Эти мезонаторы будут делаться из нейтрида: тонкие листы покрытой нейтридом стали вместо бетонных и свинцовых стен; небольшие компактные установки, размером с токарный станок, внутри которых в космической пустоте будут действовать электрические поля в сотни миллионов вольт; мощные магнитные вихри; громадные излучения и световые скорости частиц… Великолепные мезонаторы! Меня, очевидно, направят на этот завод. Пока я еще в лаборатории, потому что здесь делаются пластины для первых мезонаторов-станков. Но постепенно мне приходится все дальше и дальше отходить от дел 17-й лаборатории: езжу в Новый поселок, наблюдаю за строительством, консультирую конструкторов. В лаборатории на меня уже смотрят как на чужого. Иван Гаврилович поглядывает из-под очков хмуро, неодобрительно. Вчера он не выдержал: — Напрасно вы это затеяли, Николай Николаевич, — перебираться на завод! Да! Вы уже нашли свое призвание — вы экспериментатор, а не технолог. Стоит ли искать другого? — Да, но ведь я не по своей охоте — нужно! Уж если не нам браться за это дело, так кому же?.. Это объяснение для Ивана Гавриловича. А для себя? А для себя вот что: во-первых, конечно, я там сейчас нужнее; во-вторых, кажется, в ближайшее время в 17-й лаборатории ничего интересного не произойдет; в-третьих, не хватит ли мне работать подручным у Голуба? Нужно попробовать и самому… 30 ноября. С завтрашнего дня я уже не сотрудник 17-й, а главный технолог нейтрид-завода. Мезонаторный цех уже готов (темпы советские!). Будем собирать первый мезонатор из нейтрида и для нейтрида. Снова начинается зима: мокрыми лепешками падает снег, прохожие очень быстро становятся похожими на снежную бабу. Сыро и не очень холодно. Сегодня прощался с лабораторией. Конечно, я буду бывать у них очень часто — без Голуба не обойдешься. Сердюк тоже разбирается в нейтриде и мезонаторах не хуже меня. Но сегодня я ушел от них, как сотрудник, как свой парень, как „Колька Самойлов“ — для Сердюка, как „дядя, достаньте воробушка“ — для Оксаны… Ушел, как товарищ по работе. Было грустно и немного неловко. Как водится, старались шутить. Сердюк сказал: — Почтим его память молчанием, и черт бы его взял! Все в самом деле замолчали, будто я уже умер! Мне пришло в голову: пожалуй, если бы не были эти полтора года такими трудными, если бы они не были так насыщены мечтой о нейтриде, борьбой за нейтрид, неудачами, разочарованиями и радостью открытия, — уйти было бы гораздо проще и легче. Эти полтора года сблизили нас крепко и навсегда. Как определить степень родства тех, кто вместе творит? Они больше, чем братья. Они — как отцы одного ребенка, имя которому — Новое. — А что, Иван Гаврилович, ведь нет худа без добра? — сказал я, чтобы увести разговор от излишнего внимания к моей личности. — Если бы не эти черные звезды, пожалуй, нейтрид-завод не появился бы так скоро, верно? Голуб помолчал. — Верно-то верно… Только в этом „добре“ слишком много „худа“, Коля. (Он впервые назвал меня Колей.) Представьте себе: две партии людей через одну и ту же скалу роют два туннеля втайне друг от друга, опасаясь, как бы одни не услышали стук кирок других… Так и здесь. Ведь если они, американцы, работали над получением нуль—вещества, то и у них были неудачи, наши разочарования, наши ошибки. Может быть, и у них был период такого же отчаяния, когда они обнаружили, что минус-мезоны отталкиваются электронными оболочками атомов… Глупое, нелепое положение! В сложное время мы живем. Сейчас, когда каждое новое открытие требует громадной работы, громадного напряжения от многих исследователей, они предпочитают разъединяться, вместо того чтобы соединяться в работе; лгать и изворачиваться, вместо того чтобы вместе обсуждать непонятное. А открытия становятся все громаднее, все сложнее, все непонятнее. Каждое из них затрагивает уже не только ученых, а всех людей земли… Страшно подумать, к чему это может привести!.. Да, он прав. Угробить столько нейтрида на эти нелепые снаряды — и зачем? Чтобы напугать нас? Это даже не смешно. После того, что я видел в тундре, я понял, что у нас, в случае чего, каждый инженер станет офицером, каждый профессор — генералом. Нет, нас не запугаешь! А сколько мезонаторов или реакторов для электростанций можно было бы сделать из этих выброшенных на ветер 900 тонн нейтрида? Впрочем, я уже начинаю рассуждать, как технолог. Ладно, может, не так уж плоха эта сложность нашего времени. Как и сложность в науке — она приводит к новому в конце концов. И не мы запустили такие „спутники“. И раз нейтрид найден, мы используем его поумнее, чем американцы. Значит, завтра на завод! Новые дела, новые люди…»
БЕЛАЯ ТЕНЬ
Дальнейшие события распространяются широко и захватывают слишком много людей, чтобы мы смогли описать их только с помощью дневника Н. Н. Самойлова. К тому же описание Самойлова страдает, как, возможно, это уже успел заметить читатель, неполнотой, а характеристики людей пристрастны и довольно-таки поверхностны. Да это и понятно: ведь он инженер, глубоко вникает в научные проблемы, они волнуют его гораздо больше, чем поступки знакомых. Да ему и некогда скрупулезно разбираться в их переживаниях. Читатель, возможно, посетует, что и во второй части события описаны разрозненно и несвязно: это записи в лабораторных журналах и газетные сообщения, рассказы очевидцев и протоколы неудавшегося расследования, наблюдения астрономов и новые странички из дневника Самойлова. Автор не хочет скрывать от читателей, что многое пришлось додумывать, что не раз усилиями воображения восполнялся недостаток сведений и улавливалась связь событий. Многим это может не понравиться: ну, дескать, раз уж сам автор признается, что он кое-что придумал, значит, дело плохо! Но это не так. Даже научные теории создаются из нескольких отрывочных опытных фактов, далеко не полно описывающих явления природы; порой они скорее вызывают недоумение. Величайшая теория нашего времени — теория относительности — возникла всего из двух экспериментальных фактов: постоянство скорости света в пустоте и постоянство ускорения земного тяготения. Ученый силой воображения находит логическую связь между явлениями природы. И от литератора, который пытается описать несравненно более сложные явления жизни, нельзя требовать большего.ПРОЕКТ КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
Лопасти винта геликоптера слились в серебристый прозрачный круг; сквозь него были видны дрожащий желтый диск солнца, размытые очертания облаков. Внизу, с полуторамильной высоты, перемещалась плоская земля, аккуратно нарезанная прямоугольниками желтых кукурузных полей, зелеными квадратами виноградников и чайных плантаций. Вдали поднимались Кордильеры, сизо-коричневые горы, похожие на геологический макет. Внизу царил июльский зной. Здесь же, на высоте, было довольно прохладно. Вэбстер поеживался в своем полотняном костюме и с завистью поглядывал на генерала Хьюза — тот был в плотном комбинезоне из серой шерсти и не чувствовал холода. Геликоптер летел на запад, к горам. Вот внизу возникла широкая голубая лента реки Колорадо в бело-желтых песчаных берегах. К югу, за рекой, показались десятки приземистых и длинных корпусов из серого бетона с узкими, похожими на бойницы окнами. Дальше были видны трехэтажные жилые дома. Сюда, к этому городку, с трех сторон шли серые ленты шоссе, тянулись через реку нити высоковольтной линии; по игрушечным грибообразным будкам охраны можно было увидеть весь многомильный периметр оцепленной зоны. — Нью-Хэнфорд… — Вэбстер наклонился к окну кабины. — Что? — Генерал не расслышал из-за наполнявшего кабину жужжания. — Нью-Хэнфорд! — повысил голос Вэбстер. — Ага! — Генерал тоже склонился к окну, перегнувшись через сиденье Вэбстера, так что тот почувствовал его теплое рыхлое плечо. Генерал надел очки, довольно посопел. — Гм… точь-в-точь, как старый Хэнфорд, где делали плутоний. — Будем снижаться? — Нет. Сперва к «телескопу». — Генерал откинулся в кресле. Они были одни в комфортабельной кабине геликоптера: доктор Герман-Джордж Вэбстер, руководитель исследовательского центра в Нью-Хэнфорде, и генерал Рэндольф Хьюз, инспектировавший стратегические работы на западе страны. Вэбстер настороженно посматривал на новое начальство: каков будет этот? За восемнадцать лет, со времени Манхеттенского проекта, он перевидел немало таких полувоенных-полудельцов, генералов, которые завоевывали не города, а прочное положение в деловых и политических кругах и прославились не военными подвигами, а военным бахвальством. С ними было трудно работать: высшей истиной они считали собственные изречения, а на все тонкости научных исследований смотрели, как на выдумки «этих физиков». Прежний начальник обороны Западного побережья, бригадный генерал Джекоб Хорд, член правления концерна «XX век», сравнительно долго — полтора года — держался на этом посту, несмотря на свою очевидную неспособность и частые неудачи. Его не подкосили ни многочисленные неудавшиеся запуски спутников, ни скандальные прошлогодние испытания нейтриум-пушки, после которых снаряды долго вращались над Землей, пока их не сбили русские. Однако, когда полгода назад две русские автоматические ракеты одна за другой были направлены на Луну (первая облетела вокруг нее и вернулась на Землю, а вторая благополучно опустилась на лунную поверхность в районе Моря Дождей и в течение трех месяцев передавала на Землю информацию), генералом Хордом занялась сенатская комиссия, и его сместили. Так каков же будет этот? Пока что Рэндольф Хьюз был известен тем, что год назад, когда в мире бушевал скандал со снарядами из нейтриума, он потребовал готовить атомное нападение на Советский Союз и Китай, «если хоть один из снарядов упадет на американскую территорию». Уж не этим ли он обязан своему выдвижению на новый пост? «Хотя, — Вэбстер усмехнулся, — такая наглость достойна поощрения…» Геликоптер покачнулся, и Вэбстер на секунду почувствовал тошнотворную невесомость. «Снижаемся?» Он посмотрел наружу. Машина уже вошла в горы и летела в широком ущелье; жужжание винтов отражалось от скал гулким рокотом. Прямо перед ними на западе поднималась гора, выделяющаяся среди всех остальных своими размерами и формой. Должно быть, это был давно потухший вулкан: буро-коричневый конус, опоясанный внизу мелкими горными соснами, возвышался над скалами на сотни футов своей плоской вершиной. К этой вершине, навинчиваясь на нее спиралью, шло широкое бетонное шоссе; туда же карабкались стальные мачты подвесной дороги и линии высоковольтной передачи. Геликоптер приблизился к вершине горы. Стало видно, как на площадке забегали люди. Машина несколько секунд висела в воздухе неподвижно, потом стала опускаться на бетонную площадку. Генерал грузно вышел из кабины, размял затекшие ноги и повернулся к выстроившейся на площадке команде солдат. На него смотрели два десятка молодых физиономий под большими светлыми касками; у некоторых еще не сошло с лица сонное выражение. Стоявший справа офицер, худощавый брюнет с усиками и в сдвинутом на глаза пробковом шлеме, то угрожающе посматривал на солдат, то опасливо на начальство. После приветствий генерал спросил: — Что, ребята, скучно вам здесь? — Голос его звучал совсем так, как он и должен звучать у бравого, прославленного в сражениях генерала, который запросто беседует с солдатами. — Ничего, скоро здесь станет веселее. Уж можете на меня положиться… — потом повернулся к Вэбстеру: — Так покажите же мне ваш знаменитый «телескоп»… Это устройство в самом деле было похоже на павильон большого телескопа: круглая башня 30 метров в поперечнике поднималась над вершиной горы круглым куполом; стены и купол были покрыты черным, странно блестевшим под солнцем металлом. Пока офицер набирал код из букв электрического дверного замка, Хьюз безуспешно пытался поцарапать металл башни куском кремня. Вэбстер насмешливо наблюдал за ним. — Нейтриум? — повернулся к нему генерал. Вэбстер кивнул. — Это… атомная броня? — Да. Рассчитано на прямое попадание атомной бомбы. — Гм… — Генерал скептически прищурился. — Вы хотите сказать, что… пожелали бы остаться в этой башне, если бы на нее сбросили, скажем, пятитонную плутониевую? «Он, кажется, не очень сообразителен», — подумал Вэбстер. — Во всяком случае, лучше в ней, чем около нее… Но дело не в этом: «телескоп» может наводиться и управляться на расстоянии. А нейтриум-броня рассчитана на то, чтобы управление не расстроилось после атомного взрыва над колпаком. — Ага! — Генерал хотел еще что-то спросить, но в это время включился и взвыл электромотор замка: двери в башне начали медленно раздвигаться. Внутри башни сходство с астрономическим павильоном не исчезло. Генерал и Вэбстер стояли на краю огромного черного диска, из середины которого вверх, к куполу, наклонно уходил сужающийся в перспективе двадцатипятиметровый ствол. Ствол держался не только на этом диске-лафете: от стен и купола башни к нему сходились тонкие черные нити; они оплетали ствол, как спицы велосипедного колеса. Офицер, повозившись у вделанного в стену шита, включил освещение; однако в башне по-прежнему было мрачно; ствол, диск, нити отливали каким-то странным черным светом. У основания ствола смутно различались сложные устройства. — Включите тумблер «щель», Стиннер, — бросил офицеру Вэбстер. Голос его звучал глухо и не отразился, как ожидалось, эхом от стен башни. — Там, внизу, слева на щитке… Снова приглушенно завыли электродвигатели, в куполе появилась и стала медленно расширяться полоса синего высокогорного неба. Генерал осмотрелся вокруг, увидел металлическое сиденье возле угломерного устройства и тяжело опустился на него; потом повернулся к стоящему поодаль офицеру: — Вы свободны… э-э… — Да-да. Вы свободны, майор. Стиннер удалился. Генерал закурил сигарету, помолчал некоторое время, потом поднял глаза на Вэбстера: — Я уже наслышан о том, что произошло во время тех испытаний «телескопа»… Однако мне хотелось бы, чтобы вы, доктор, изложили мне самую суть этой, так сказать, неудачи. Кратко, пожалуйста… Вэбстера разозлило, что этот выскочка-генерал не позаботился о том, чтобы они оба сидели и разговаривали как равные. Однако сесть было больше негде, и он, чтобы не стоять перед генералом в позе подчиненного, тоже закурил и стал расхаживать взад и вперед по диску. Его голос звучал сухо и высокомерно: — Суть несложна: порочен сам принцип такой стрельбы. Земля, видите ли, шарообразна, и траектория межконтинентального снаряда должна быть почти параллельна поверхности планеты. Точка попадания является в этом случае местом пересечения двух почти параллельных кривых, что, как известно из геометрии, есть событие довольно неопределенное… — Он затянулся дымом, покосился на Хьюза, тот кивал головой. — Стало быть, чтобы попасть в заданную точку Земли, нужно предельно точно задать снаряду направление и скорость. Эта скорость должна быть близка к критической — семь и девять десятых километра в секунду, перейдя которую тело может вращаться вокруг планеты неопределенно долго… Вэбстер, казалось, забыл, что перед ним генерал, — он говорил громко и жестикулировал, как будто перед ним находилась аудитория. Хьюз ритмично кивал, показывая розовую лысину, старательно зачесанную редкими серыми прядями с висков, и окидывал оценивающим взглядом расхаживавшую перед ним долговязую фигуру. Он незаметно усмехнулся: все эти ученые топорщатся и стараются пустить пыль в глаза, пока их не возьмешь на крючок… — Задать нужную точность скорости и угла траектории — дело весьма сложное, — продолжал Вэбстер. — В затворе этого «телескопа» осуществляется цепная реакция, идущая почти со скоростью неуправляемого атомного взрыва. Ясно, что регулировать эту реакцию и развивающуюся в результате ее температуру в десятки тысяч градусов чрезвычайно трудно. Как я уже говорил, скорость снаряда может перейти предел в семь и девять десятых, и тогда… появляются «спутники». Мы были загипнотизированы потрясающими возможностями нейтриума и на некоторое время упустили из виду эти опасности. Когда же проект «телескопа» был уже закончен и здесь приступили к сборке павильона, мы заметили, что при расчете «азиатских траекторий» не все получается ладно… Я докладывал генералу Хорду, вашему предшественнику, сэр, об этих затруднениях,но он или ничего не понял, или излишне понадеялся на господа бога… Хьюз перестал кивать и нахмурился — ему не понравилось такое упоминание о боге. Вэбстер продолжал: — Хорд твердил, что сейчас следует как можно скорее противопоставить «телескоп» русским баллистическим ракетам, показать им, что и у нас есть не менее мощное оружие, что время не терпит и он не допустит замедления работ из-за каких-то перестраховочных пересчетов… — Да-да… — сочувственно пыхнул дымом генерал. — Словом, когда год назад мы произвели три первых пристрелочных выстрела в зону Антарктиды, то туда не попал ни один из снарядов: первый плюхнулся в океан неизвестно где, а два других перешли критический предел скорости и превратились в спутников Земли. Через девять дней их сбили русские… Все-таки для исправления траектории мы снабдили снаряды маломощными ракетными нейтрид-насадками: они должны были несколькими точными взрывами не допустить отклонения снарядов от пути. Мы контролировали радарами первую тысячу километров полета снарядов и в нужный момент замыкали радиовзрыватели ракеты. По-видимому, они сработали не так, как нам хотелось… — Однако эти черные звезды произвели в мире громадный эффект! — поднял палец Хьюз. — Какая тогда была военная конъюнктура, о-о! Так что испытания нельзя считать неудавшимися, дорогой док… Ладно, скажите, что вы предполагаете предпринять дальше с этой пушкой? — Ничего. — Вэбстер пожал плечами. — К сожалению, нейтриум не поддается переплавке. — Гм… — Генерал в задумчивости закурил новую сигарету. — Но скажите мне вот что, док: а как насчет обстрела внеземных объектов? — Что вы имеете в виду? — не понял Вэбстер. — Ну-у… скажем… — генерал задумчиво почесал переносицу, — крупные постоянные спутники и Луну. А? — Гм… Действительно, хотя это может показаться парадоксальным, но «телескоп» в гораздо большей степени годится именно для обстрела этих объектов. Снаряды будут летать по вертикальной траектории… — размышлял вслух Вэбстер. — Чтобы преодолеть земное притяжение, нужна скорость более шестнадцати километров в секунду. Если скорость увеличить, то возможна стрельба прицельная, абсолютно точная… Да, что касается Луны, то очевидно, что ее можно обстреливать с высокой степенью точности. Это при атомном взрыве легко осуществляется. Что же касается обстрела спутников, то здесь расчеты не столь легки. Вероятно, что спутники, вращающиеся на больших высотах — порядка радиуса Земли и более, — можно будет поразить. Это надо подсчитать… — Вэбстер вытащил из кармана блокнот. — Хорошо, хорошо! — Генерал махнул рукой. — Я полагаюсь на ваши знания, не нужно рассчитывать. Потом… Значит, если бы, скажем, Москва находилась не в восьми тысячах миль от «телескопа», а на Луне, то попасть в нее было бы гораздо легче, верно? — Да. Конечно, если бы она находилась на известной астрономам половине Луны, — тонко улыбнулся Вэбстер. Он еще не понимал, к чему клонится этот разговор. — А хорошо бы всех русских, да и китайцев заодно, переселить на Луну, — не слушая его, сострил генерал. — Пусть там строят свой коммунизм, а? — Да. Но они захватят с собой свои ракеты… — в тон генералу добавил Вэбстер. — Ведь запустить ракету с Луны на Землю гораздо легче, чем с Земли на Луну: там притяжение в шесть раз меньше… Вэбстер ожидал, что генерал оценит его остроту и рассмеется так же, как смеялся и своей, но Хьюз воспринял его слова совершенно необычным образом. Он вскочил со своего сиденья и уставился на Вэбстера помутневшими голубыми глазками в набрякших морщинах век. Потом стал быстро ходить по диску, потирая руки и бормоча: — В шесть раз легче? Это не шутки… Это не шутки, не шутки!.. В шесть раз меньше горючего для ракет, в шесть раз больше водородных ракет, в шесть раз точнее! Это не шутки!.. Бодрый старческий румянец исчез с круглых щек генерала, а в его неподвижных глазах стоял страх. И Вэбстеру тоже стало страшно.Солнце заметно сдвинулось к западу, и лучи его теперь искоса заглядывали в щель купола; от щели к стенам павильона протянулись прозрачные желтые полосы. Но нейтриум странно преобразовывал солнечный свет: коснувшись стен, лучи отражались от них уже темно-серыми, и этот серый свет без красок освещал внутренность павильона-блиндажа. Тускло лоснился огромный ствол нейтриум-пушки, запутавшийся в паутине тяжей; выступали из полутьмы могучие люльки лифта для снарядов, рычаги и колеса устройств наводки, приборы и рукояти регулятора цепной реакции. У стены павильона стояли мощные электродвигатели, похожие на черные бочки. Они тоже, будто зловещим налетом, были покрыты тонкой защитной пленкой нейтриума. Две фигурки внизу, на диске, почти терялись в слабом освещении, среди нагромождения больших устройств. Одна, небольшая и грузная, быстро ходила взад и вперед от края диска к центру; другая, худощавая и высокая, казалось, принадлежавшая не сорокалетнему ученому, а молодому спортсмену, стояла неподвижно… Наконец они успокоились. Генерал снова уселся в стальное кресло, закурил сигарету, некоторое время молча пускал струйки дыма. — Как вы думаете, док, — голос Хьюза звучал теперь хрипло и устало, — каково состояние дела с нейтриумом там? Вэбстер не сразу ответил: — По-моему, они находятся еще в самом начале пути… Может быть, они уже получили первые граммы нейтриума, если смогли понять, из чего сделаны наши снаряды — черные звезды… Может быть, у них еще ничего нет, если они поверили в наши сообщения об отрицательных результатах экспериментов. Во всяком случае, если рассчитывать на худшее… — «Если рассчитывать на худшее»! — перебил его Хьюз и снова вскочил. — Сколько раз мы ошибались в русских, принимали их за простачков, которых можно обмануть вот такими журнальными трюками, вроде вашей статьи! Сколько раз мы доказывали, что русские не смогут сделать атомной бомбы — и уже почти доказали это, — когда они ее сделали! После того как мы убедили самих себя и мир, что первыми выйдем в Космос, — они запустили свои спутники фантастических размеров! И, наконец, эти ракеты, запущенные на Луну!.. Вы ничему не научились, Вэбстер! Знаете ли вы, что русские имели нейтриум, или, как они его называют, нейтрид, еще до наших снарядов-спутников? Знаете ли вы, что они уже выстроили свой первый нейтриум-завод, который по масштабам не уступает нашему Нью-Хэнфорду? Знаете ли вы, что на этом заводе они начинают строить дорогие их сердцу ракеты? Ракеты из нейтриума, сэр! Не баллистические, не межконтинентальные, а космические ракеты! Знаете ли вы все это? — Нет!.. — прошептал ошеломленный Вэбстер — Я не представлял… Я не мог это предвидеть… На полном лице генерала возникла снисходительно-презрительная гримаса, смысл которой можно было расшифровать без труда: «Вы, ученые, воображаете, что знаете все, а на самом деле вы не знаете ничего!» — Ну хорошо… — Генерал уселся в свое кресло. — Не ваша вина, что вы этого не знали, ведь в научной литературе это не публиковалось. Итак, ближе к делу. Вы, конечно, прекрасно представляете себе, какую опасность несут эти русские ракеты из нейтриума. С помощью их русские смогут захватить все околоземное пространство. Таким образом, — генерал повысил голос, — этот «телескоп», на который вы ухлопали весь нейтриум, какой только смогли сделать за эти годы, должен стать нашим первым пунктом в проекте под названием «космическая оборона». Нужно усовершенствовать «телескоп». Нужно пристреляться по Луне и ближайшему пространству так, чтобы, когда понадобится, мы смогли послать в любую точку нейтриум-снаряды с ядерной взрывчаткой. Пока что ваш «телескоп»-единственное, что мы можем противопоставить русским ракетам… — Хьюз помолчал. — Ну, а из каких, так сказать, научных побуждений мы это будем делать: для установления, есть ли жизнь на Луне, для проверки ли русских данных или для анализа лунной поверхности, — это нам потом придумают газетчики и дипломаты. Важно, чтобы к тому времени, когда у русских появятся первые базы на Луне и спутниках, они были под прицелом. Игра переносится в Космос! Нам не придется особенно церемониться, я думаю. Слава всевышнему, на ночное светило и пустоту еще не распространяются нормы международного права. И нам нужно торопиться. Русские в последнее время стали работать что-то слишком быстро… Генерал встал, посмотрел на часы, потом на Вэбстера, на лице которого уже не осталось и следов от прежнего высокомерного выражения. — Так… Теперь в Нью-Хэнфорд! По пути обсудим подробности предстоящего дела…
НОВЫЕ ПОИСКИ
Луна плыла над городом, великолепная в своем холодном сиянии, украшая южную ночь. Она, как заботливый декоратор, прикрыла весь мусор и беспорядок дня, расстелила блестящие дорожки на обработанном шинами асфальте улиц, приглушила резкие дневные краски домов, заборов — будто набросила на них серо-зеленую пелену тишины и задумчивости. Луна плыла высоко над домами, парками, улицами, круглая и прекрасная, как лицо восточной красавицы. И звезды тушевались в ее сиянии. В такую ночь многим не спится. Бродят по улицам строгие молодые мечтатели; ликуя и улыбаясь до ушей, возвращаются домой ошалевшие после семичасовой прогулки с любимой девушкой влюбленные; навстречу им попадаются сомнамбулические пары, совсем забывшие о течении времени. Вспыхивает за Днепром трепещущее зарево над металлургическим заводом — там выпускают плавку. Грохочет за домами ночной трамвай-грузовик. Не стесняемая прохожими, летит по магистральному шоссе автомашина, рассекая темноту двумя пучками света; и долго еще слышен певучий шелест покрышек об асфальт. В такую ночь бродил по городу пожилой лысый человек в пиджаке нараспашку, на носу очки, в зубах папироса, руки в карманах, — профессор Иван Гаврилович Голуб. Он ходил по улицам, окунувшись в серебристо-зеленое сияние, мимо молчаливых домов и деревьев, шел задумчиво и неторопливо, будто по кабинету. Он так шагал уже давно: мысли захватили его еще днем, в лаборатории, и после работы он так и не дошел до своей квартиры. Сегодня все недодуманные, все мелькнувшие в спешке мысли завладели им, будто он вдруг наткнулся на не дочитанную когда-то интересную книгу. Луна висела над домами, крыши лоснились в ее свете. Иван Гаврилович прищурился на нее — как-то сразу шевельнулись молодые воспоминания — и, усмехнувшись им, он буркнул: — Ничего, матушка, вот скоро к тебе в гости летать начнем!.. Мысли снова вернулись к недавней дискуссии в институте. Иван Гаврилович посерьезнел: все-таки здорово они его пощипали, эти теоретики, — Александр Александрович Тураев и его «сотрудники по интегралам». Как ловко они доказывали ему, что он, профессор Голуб, не понимает того, что открыл, не понимает нейтрида! В том же институтском конференц-зале, где когда-то он выдвинул идею нуль—вещества, теперь за кафедрой стоял Александр Александрович и говорил своим звонким тенорком, то и дело поворачиваясь к нему, Голубу, будто и не было в зале других оппонентов: — Мало получить нуль—вещество, мало назвать его нейтридом. Нужно еще понять, определить его место в природе… А мы не знаем, что это за штука, — да, не знаем!.. — Он сердито хлопнул по борту кафедры ладонью. — Вы скажете… — он снова повернул изжелта-седую бородку в сторону Голуба, — вы скажете: «Но позвольте, мы измерили его плотность, механическую прочность, его… э-э… радиоактивную прочность, тепловые свойства… Вот цифры, вот графики…» Я знаю эти цифры — они потрясают воображение. И все-таки это не то! Ведь и уран не был ураном, пока знали только, что это серебристо-белый металл с удельным весом 18,7, тугоплавкий, не растворяется в воде, но растворяется в сильных кислотах… Понадобилось заглянуть внутрь атома, чтобы понять, что такое уран. Так и теперь: мы не знаем главного в нейтриде, не знаем тех необычных свойств, которых нет и не может быть у обыкновенных веществ, тех свойств, для которых еще нет названия… Да, конечно, прав этот престарелый, но молодой в душе Александр Александрович: нейтрид еще не открыт — он только получен. «Мы не открыли Луну, Кэйвор, — мы только добрались до нее…» Где это? Ах, ну да: «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. Иван Гаврилович снова посмотрел на лунный диск, дружески подмигнул ему; этот Берфорд был глубоко прав, верно! Но как проникнуть внутрь этого черного феномена, который не пробирают даже сильнейшие радиоактивные излучения? И что нужно ожидать от этих опытов? Невозможно представить себе, какова будет реакция возбужденного нейтрида… Что ожидать от него? Получится что-то вроде алхимии — пробовать одно, другое, третье: будет ли взаимодействовать нейтрид с быстрыми протонами, нейтронами, а с альфа-частицами, а с тяжелыми ядрами?.. Иван Гаврилович поморщился, покрутил головой: множество частиц, множество энергий, скоростей — огромная работа! Главное — не за что ухватиться. Голое место. Постой, а что тогда говорил Тураев, после дискуссии? Он советовал попробовать облучать нейтрид мезонами. Иван Гаврилович ему возразил, что-де мезонами они и без того облучают нейтрид при его получении из ртути — и ничего особенного при этом не происходит… Но ведь Александр Александрович, пожалуй, был прав! Они работают с очень медленными тепловыми минус-мезонами. А если перейти к большим скоростям, к световым… Да и почему он вбил себе в голову, что с мезонами ничего не получится? Мезоны — частицы, которые создали нейтрид… Пожалуй, именно с них нужно и начинать, потому что мезоны это ядерные силы, это своего рода «электроны ядра». Да, да! Еще не разумом, только интуицией исследователя Иван Гаврилович почувствовал верный путь. Он незаметно для себя ускорил шаги и, подчиняясь внутреннему радостному ритму, почти бежал вниз по какой-то пустынной и гулкой улице. «Ведь для этих опытов все есть: мезонатор, пластинки нейтрида… Что же должно получиться? Так, имеем конкретные условия: нейтрид — быстрые минус-мезоны. Ну-ка…» — Иван Гаврилович остановился под фонарем, вытащил из кармана блокнот, карандаш и начал прикидывать схему опыта… «Куда это меня занесло?» — Иван Гаврилович сложил блокнот и недоуменно огляделся. Луна большим багровым кругом висела у самого горизонта на западе; небо было еще черным, но звезды уже потускнели, предвещая рассвет. Улица кончалась, впереди, метрах в пятидесяти, в темной воде колыхались длинные блики огней. «Река? Ого! Прогулялся через весь город…» На той стороне горели огни завода. Под ногами шуршала мокрая от росы трава. Голуб почувствовал, что ноги у него гудят от усталости, присел на траву, закурил. Далеко-далеко внизу коротко ревнул буксирный пароходик; что-то всплескивало в реке. По-утреннему свежий воздух наполнял легкие бодростью. Иван Гаврилович с презрением посмотрел на окурок папиросы — отравлять себя такой дрянью! — и отшвырнул ее. Потом встал, подошел к воде, потрогал ее руками — теплая, удивительно теплая для сентября! Постоял минутку и решительно стал раздеваться. Иван Гаврилович внимательно осмотрел себя в сером свете утра: ничего, он еще крепок для своих пятидесяти двух лет. Напряг мышцы рук — есть сила! Еще работать и работать… Ничего, если приходится начинать на голом месте — для этого он и исследователь! Вода ласково взбодрила тело. Иван Гаврилович ступил несколько шагов по плотному песчаному дну, оттолкнулся и, стараясь подальше, не бултыхая, выбрасывать руки, поплыл саженками поперек течения…Когда Якина спрашивали, где он теперь работает, он отвечал коротко: «В зверинце». Высоковольтная лаборатория в самом деле была похожа на зверинец — кругом клетки, только вместо хищников в них были заключены молнии. Молнии прятались в красивых медных шарах разрядников, в высоковольтных конденсаторах; они сдержанно гудели в трансформаторах, невидимо собирались на фигурных гирляндах фарфоровых изоляторов, в проводах и только ждали, чтобы разрядиться на что-нибудь или кого-нибудь. Сейчас он занимался изучением электрического пробоя пластинок нейтрида. Что ж, теперь почти весь Физический институт исследует нейтрид… Яков с усилием поставил на металлический цилиндр тонкий черный лист: «Вот черт — килограммов двадцать, наверное, не меньше». Установил на лист нейтрида медную гирьку верхнего электрода, соединил провода и вышел из клетки. Лязгнула железная дверь, загорелась над нею красная неоновая лампочка. Яков стал медленно поворачивать ручку трансформатора. Стрелка киловольтметра неторопливо поползла по шкале: 10 киловольт, 15, 25… За серой защитной сеткой от гиреобразного электрода с еле слышным шипением стало расходиться оранжевое сияние — светился ионизированный высоким напряжением воздух. 40 киловольт, 50, 70… Черную пластину нейтрида окутали желтые и голубые нити: они тянулись, загибаясь за пластинку, к никелированному цилиндру, дрожали, извивались и шипели, как живые. Стрелка коснулась цифры «90». 90 киловольт! Якин остановил напряжение, чтобы полюбоваться. Теперь в клетке между электродами, ища выхода, разъяренно металась молния; нити разрядов были голубыми и шипели так громко, будто трещало разрываемое полотно. Могучие электрические силы, подчиняясь легкому повороту регулятора, напряглись и рвались сквозь тонкий слой нуль—вещества. Если бы между электродами лежало обычное вещество, даже в тысячи раз толще этой пластинки, то все было бы уже кончено, материал не выдержал бы: треск, громкий щелчок и пробой — маленькая дырочка с опаленными краями. Но путь электрическому току преграждал нейтрид… Яков снова стал поднимать напряжение. Когда стрелка доползла до 120 киловольт, нити разрядов, угрожающе шипя и треща, собрались в слепящий голубой жгут, огибая пластинку. Между электродами возникла дуга. Тотчас же перегрузочные реле-ограничители с лязгом отключили трансформатор. Все исчезло. Яков в задумчивости потер лоб. «Нужно попробовать пробить пластинку в трансформаторном масле; тогда можно повысить напряжение раза в четыре». При мысли об этом Якин вздохнул, он не любил иметь дело с трансформаторным маслом — сизо-коричневой густой жидкостью, которая пачкает халат и от которой руки противно пахнут рыбьим жиром и касторкой. Уже несколько месяцев он пытается пробить нейтрид — и все одно и то же: перекрытие по воздуху. Это, конечно, великолепно, когда нейтрид выдерживает сотни и тысячи миллиардов вольт на сантиметр! Но что же это за исследования, если они будут состоять из одних только отрицательных результатов? Нужно испытывать еще более тонкие пластинки нейтрида — может быть, пленки тоньше ангстрема. Но каково идти на поклон в 17-ю лабораторию, где Голуб, Сердюк, Оксана? Нет, лучше не показываться на глаза, а просто послать лаборантку с запиской… Якин снова вздохнул.
После дневника Николая Самойлова у читателей могло сложиться одностороннее и излишне категорическое представление о его бывшем однокурснике и товарище Якове Якине. Дескать, это циник, халтурщик, недалекий рвач и так далее. Словом — нехороший человек. Отрицательный персонаж. Конечно, это слишком поспешное суждение о Якове Якине. Иные книги приучают нас очень упрощенно судить о людях: если человек криво усмехается — значит, он сукин сын; если герой улыбается широко и открыто, как голливудский киноактер, — значит, он положительный, хороший. В жизни все не так просто. Если отбросить разные неприятные черты характера Якова Якина: его позерство, неуместные цинические прибауточки, неустойчивость в поступках, то можно выделить нечто самое главное в его жизни. Это главное — стремление сделать большое открытие или большое изобретение. «Открывать» он начал еще в детстве. Лет девяти от роду, прочитав первую книжку по астрономии, веснушчатый и лохматый второклассник Яша был потрясен внезапной идеей. Телескопы приближают Луну в несколько сот раз, значит, чтобы быстрее добраться до Луны, нужно выпускать ракеты и снаряды через большие телескопы! Тогда до Луны останется совсем немного — несколько сотен километров… В седьмом классе, после знакомства с электричеством, у него возникла «спасительная» для человечества мысль: человека, убитого током, можно оживить, пропустив через него ток в обратном направлении! Два месяца юный благодетель человечества собирал высоковольтный выпрямитель. Жертвой этой идеи пал домашний кот Гришка… Знакомство с химией родило новые мысли. Девятиклассник Якин спорил с товарищами, что сможет безвредно пить плавиковую и серную кислоту. Очень просто: чтобы пить плавиковую кислоту, нужно предварительно выпить расплавленный парафин: он покроет все внутренности, и кислота пройдет безвредно; а серную кислоту нужно запивать едким кали — произойдет нейтрализация, и ничего не будет… Хорошо, что в то время не оказалось под рукой кислот. Немало искрометных идей возникало в его вихрастой голове, пока он понял, что для того, чтобы изобретать, одних идей мало — нужны знания… И совсем недавно, год назад, он понял, что для того, чтобы изобретать, делать открытия, недостаточно иметь идеи и знания — нужны еще колоссальное упорство и мужество. Он хотел изобретать — и… отказался от величайшего открытия! Отказался, потому что струсил. Полтора года прошло с тех пор, но и теперь Яков густо краснел при воспоминаниях о том нелепом скандале. Да, конечно, дело не в том, что тогда Голуб накричал на него и он, Яков, обиделся. Он не обиделся, а струсил… Из окон высоковольтной лаборатории было хорошо видно левое крыло «аквариума», блестели две полосы стекол: «окно» 17-й лаборатории. По вечерам, когда там зажигали свет, Якин видел длинную фигуру Сердюка, мелькавшую за колоннами и бетонными параллелепипедами мезонатора; размеренно расхаживал Голуб, мелькал белый халатик Оксаны… Были и какие-то новые фигуры — должно быть, пришли новые инженеры вместо него и Кольки Самойлова. Что-то сейчас там делают? Говорят, Голуб начал новую серию экспериментов с нейтридом. Вот бы и ему к ним? Теперь бы он работал как черт!.. Нет, ничего не выйдет: и он не пойдет к ним проситься, и они не позовут. Яков отвернулся от окна и взглянул на клетку, в которой стояли электроды на пластинке нейтрида. «Так. Значит, будем испытывать в трансформаторном масле… Ничего. Я все-таки пробью эти черные пленки!» — И Якин открыл дверь в клетку.
Иван Гаврилович действительно ухватился за осенившую его в ту лунную ночь идею: облучать нейтрид быстрыми мезонами. Как и следовало ожидать, первые недели опытов не дали ничего: нейтрид отказывался взаимодействовать даже с быстрыми мезонами. Что ж, это было в порядке вещей — профессор Голуб не привык к легким победам. Первые опыты, собственно, и нужны для уточнения идеи. Плохо только, что каждый безрезультатный опыт занимает очень много времени… Осень начиналась с дождей. По стеклам лаборатории хлестали крупные капли, они расплывались, собирались в ручьи и стекали на цементные перекрытия. В зале было сумрачно от туч и серо от бетонных колонн и стен мезонатора. Сердюк с двумя новыми помощниками возился у мезонатора. Оксана у химического шкафа перетирала посуду. Иван Гаврилович вот уже полчаса стоял у раструба перископа и задумчиво смотрел на тысячи раз виденную картину: острый луч мезонов, направленный на черный квадратик нейтрида, сизо-голубые, в его свете, бетонные стены камеры мезонатора. «Нет, кажется, и этот опыт обречен… Что-то еще нужно додумать, а что — неясно». Напряжением мысли Иван Гаврилович попытался представить себе: маленькие ничтожные частицы стремительно врезаются в плотный монолит из нейтронов… Нет, не то. «Плохо, что не с кем посоветоваться. Сердюк? Он теперь кандидат наук, но… Конечно, у него золотые руки, он знает мезонатор, как часы, но и только. Сейчас сюда бы Николая Самойлова с его фонтаном идей. — Голуб улыбнулся. — У того есть идеи на все случаи жизни. Однако Самойлов с головой ушел в заводские дела». Иван Гаврилович поморщился и на секунду прикрыл слезящиеся от напряжения глаза: ему показалось, что лучик мезона начал плясать над пластинкой нейтрида… Однако, когда он открыл глаза, лучик снова ненормально расплывался над самой поверхностью нейтрида. Теперь он стал похож на струйку воды, бьющую в стенку. «Что такое? Мезоны расплываются по нейтриду?» — Алексей Осипович, ты что — меняешь режим? — крикнул Голуб. — Нет, — издали ответил Сердюк. — А в чем дело? — А вот смотри… Сердюк подошел и, пригнувшись, стал смотреть в раструб. Потом повернул смуглое лицо к Ивану Гавриловичу. Глаза его оживленно блестели: — А ведь такого мы еще никогда не видели, Иван Гаврилович, — чтобы луч расплывался!.. Когда через час извлекли пластинку нейтрида из мезонатора, ничего не обнаружили. Только точка нейтрида, в которую упирался пучок мезонов, оказалась нагретой до нескольких тысяч градусов. Это уже было что-то. И оно вселило в душу Ивана Гавриловича новые надежды.
ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ САМОПЛОВА
«8 октября. Некогда! Это слово теперь определяет всю мою жизнь. Некогда бриться по утрам. Некогда тратить деньги, которых сейчас получаю достаточно. Некогда читать газеты и научную периодику. Некогда, некогда, некогда! Каждое утро просыпаешься с ощущением, что день скоро кончится и ничего не успеешь сделать. Просто удивительно, что сегодня у меня свободный вечер, как-то даже неловко. Вот я и использую его на то, чтобы сразу записать в дневник события за те несколько месяцев, когда я к нему не прикасался. Завод мы пустили в конце мая. Было приятно смотреть на параллельные ряды мезонаторов-станков. Они в точности повторяли друг друга: ребристые трубы ускорителей частиц, небольшие черные коробки мезонных камер, перископические раструбы, светло-зеленые столы пультов — все было чистым и новеньким. Два огромных цеха под стеклянными крышами, десятки мезонаторов, каждый из которых мог давать десятки килограммов нейтрида в смену… Тогда мне казалось, что самое трудное уже пройдено, — теперь будем делать детали из нейтрида… и всё. И мы начали делать. Операторы заливали ртуть в формы и заводили их в камеры, в вакуум, под голубые пучки мезонов. Ртуть медленно осаждалась, превращаясь в тончайшую, но поражающую своей огромной тяжестью конструкцию. А потом… каждые восемь деталей из десяти шли в брак! Ей-богу, не было и не будет материала, более склонного к браку, чем нейтрид! Пленки и пластины получаются неровными, в них почему-то образуются дыры, изгибы… черт знает что! И все это нельзя ни подточить, ни переплавить, ни отрезать — ведь нейтрид не берет даже нейтридный резец, самые тонкие детали не может согнуть паровой молот. Единственное, что мы можем делать с нейтридом — это „сваривать“ его мезонным лучом: стык двух пластин нейтрида заливается ртутью, и эта ртуть осаждается мезонами в нейтридный шов. Так собираются сложные конструкции из нейтрида, так мы делали нейтрид-мезонаторы. Но ведь этого мало… Словом, для бракованной продукции пришлось выстроить отдельный склад, куда мы сваливаем все эти „изделия“ в надежде, что когда-нибудь придумаем, что с ними делать. И разве только это? А мезонаторы? Последнее время они начали сниться по ночам… Когда-то я с гордостью назвал их „станками“. Слов нет — они проще мезонатора Голуба, а благодаря нейтриду и лучше, совершеннее его. И все-таки как невероятно сложны они для заводского производства! Они капризничают, легко портятся и, мне даже кажется, охотно. И ремонтирует и налаживает их товарищ главный технолог Н. Н. Самойлов со своим помощником инженером Юрием Кованько, потому что никто из операторов и цеховых инженеров не может быстро разобраться в мезонаторе. Юрий Кованько — молодой парень, спортивного сложения, недюжинной силы. Он только в этом году кончил институт, но помощник хороший: у него нюх на неполадки. Как хороший пулеметчик может с завязанными глазами разобрать и собрать свой пулемет, как хороший механик по слегка изменившемуся стуку поршней улавливает неправильное зажигание — так и мы с ним по тембрам гудения трансформаторов, изменению окраски мезонного луча, малейшим колебаниям стрелок приборов наловчились исправлять, а иногда и предупреждать неполадки. А что толку? Мезонаторы все равно портятся, а конца этому не видно… Нет, это не „чудо техники“; они хороши для экспериментирования, но в поточном производстве никуда не годятся. Ремонт, наладка, контроль выхода нейтрида, борьба с браком — это называется „вариться в технологическом котле“. Я шел на завод как исследователь, стремился внести научную ясность в путаницу заводских проблем. А теперь — где уж там! — хоть бы не научно, а как-нибудь заткнуть дыры производства… Ну вот — хотел неторопливо и обстоятельно описать прошедшие события, а невольно начал жаловаться самому себе, брюзжать. Кажется, у меня портится характер… Да, собственно, никаких особенных событий со времени моей „экспертизы“ в тундре не происходило. Работа, работа, работа позади, и это же впереди. Вот и все. 15 октября. Сегодня целый день консультировал конструкторов в нашем конструкторском бюро. Да-а… Это настоящий цех творчества. Громадный зал под стеклянной крышей. И во всю его сорокаметровую стену развернулся огромный чертеж. Вдоль него, вверху и внизу, в специальных подвесных люльках передвигаются конструкторы, чертежники: они наносят на бумагу контуры космической ракеты из нейтрида. Это будет великолепный космический корабль с атомным двигателем. Применение нейтрида в атомном реакторе дает возможность рассчитывать на скорости полета в сотни километров в секунду. Корпус из нейтрида сможет противостоять не только космическим лучам, но излучениям и температурам атомного взрыва. Это будет корабль для космических полетов. Ну, а в случае чего — он легко превращается в боевую ракету. И не дай бог, чтобы такие ракеты пошли в дело!.. В ОКБ работает много известных конструкторов, создававших сверхзвуковые самолеты, баллистические и межконтинентальные ракеты, запускавшие спутники во время геофизического года. Как они волнуются и радуются, когда рассчитывают конструкции из нейтрида — ведь он открывает перед ними совершенно необъятные возможности! „Ах, Николай Николаевич! — восклицал сегодня, сверкая своей золотозубой улыбкой, старший конструктор Гольдберг — этакий подвижной и начисто лысый толстячок-бодрячок. — Вы сами не представляете, какой чудесный материал создаете! Это мечта! Даже нет, больше, чем мечта, потому что мы не могли и мечтать о нейтриде… Это знаете что? Философский камень древних алхимиков, который они не смогли получить. А вы смогли! Урановый двигатель получится по размерам не больше стола! Представляете? И весом всего в полторы тонны! Это вместо реактора размером в дом…“ Я-то представляю… А представляете ли вы, уважаемый Гольдберг, что для этого проекта потребуется десятки тонн нейтрида в виде готовых сложных деталей и что пока большая часть тех деталей, которые мы уже делаем для ракеты, идет на склад брака?.. Когда-то в детстве я, как, наверное, и все подростки, мечтал полететь на Луну, Марс. Венеру. А вот думал ли ты, Николай Самойлов, что тебе придется делать космическую ракету для полетов мечты твоего детства? Представлял ли ты, как это будет непросто? А, в сущности, чего ты ноешь, Николай Самойлов? Тысячи инженеров могут только мечтать о такой работе, которой утруждаешь себя ты! Или ты всерьез полагаешь, что в самом деле все пойдет так легко и интересно, как это описывается в приключенческих романах для среднего школьного возраста? Космические полеты делаются сейчас в цехах — это пока дело земное! — с потом, усталостью и скрежетом зубовным… Ну, а в этой ракете я обязательно полечу! Неужели за свой каторжный труд я не заслужил права если не на первый, то хоть на второй или третий полет? 25 октября. Сегодня в конце дня был в Физическом институте. Встретился с Иваном Гавриловичем. После конца работы обратно шли вместе через парк к остановке троллейбуса. День выдался великолепный. До сих пор времена года проходили как-то мимо моего внимания, и сейчас я смотрел на эту красоту осени глазами новорожденного. Небо было синее и чистое, большое солнце садилось за деревья и уже не грело. А под его косыми лучами в парке горела яркая осень. Вдоль аллеи пламенели желто-красными листьями клены; как рубины, отливали на солнце спелые ягоды шиповника. Дубы стояли в крепкой, будто вырезанной из меди листве. И всюду желтые, красные, багровые, оранжевые, охровые, светло-зеленые тона и переливы — пышные, но печальные краски увядания. Таких красок не увидишь в мезонаторных цехах… Иван Гаврилович что-то говорил, но я, каюсь, не очень внимательно слушал его. Не хотелось ни о чем думать, спорить, рассуждать, в голову лезли обрывки стихов: „Роняет лес багряный свой убор…“, „…люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса…“ и тому подобное. Конечно, мне следовало бы не забывать, что с Иваном Гавриловичем опасно быть рассеянным. Он говорил что-то о своей новой работе, об облучениях нейтрида мезонами. Я любовался красками осени и изредка кивал, ориентируясь на его интонации. Вдруг Иван Гаврилович остановился, посмотрел на меня исподлобья и гаркнул: — Слушайте, Самойлов, это же!.. Я уже десять минут заливаюсь перед вами соловьем, а вы не изволите слушать! Пользуетесь тем, что мы не на лекции и я не могу выставить вас из аудитории? Я покраснел: — Да нет, Иван Гаврилович… я слушаю… — Полно! Вот я только что упомянул о мезонии, и вы кивнули с авторитетным видом. Вы знаете, что такое мезоний?.. Нет! И не можете знать… — Голуб сердито засопел, вытащил из кармана поломанную папиросу, стал нашаривать другую. — Черт знает что: я рассказываю ему интересные вещи, а он выкручивается, как первокурсник на зачете… Ох, как горело мое лицо! В самом деле, свинство — не слушать, и кого? Ивана Гавриловича, который в свое время натаскивал меня на исследовательскую работу… Некоторое время Иван Гаврилович молчал, хмурился, потом сказал: — Ну ладно. Если вы ведете себя как мальчишка, то хоть мне не следует впадать в детство и дуться на вас… Значит, я вот о чем… И он вкратце повторил мне свои рассуждения. Нейтрид не стал пока идеальным материалом для промышленности. Он невероятно дорог. Изготовление его сложно и очень медленно. Он почти не поддается обработке. Значит, он не годится для массового применения… Все это было для меня не ново. Поэтому-то, наверное, я невнимательно и слушал его высказывания. Дальше: вся беда в принципе получения нейтрида с помощью сложных и неэкономичных мезонаторов. Даже точнее: в принципе получения мезонов в ускорителях. Мезонатор — суть ускоритель и, как и всякий ускоритель, имеет ничтожный к.п.д. (Браво, Иван Гаврилович! Уж мне ли не знать, что мезонаторы, даже сделанные из нейтрида, очень плохи!) Иван Гаврилович снова увлекся. Он размахивал перед собой рукой с потухшей папиросой: — Мезонатор обречен — он не годится для массового производства! Ведь это примерно то же самое, как если бы мы стали получать плутоний не с помощью цепной реакции деления, а в ускорителях. То же самое, что добывать огонь трением… Мезонатор обречен! Должен признать это, хоть он и является моим детищем. Нужно искать другой способ получения мезонов, такой же естественный и простой, как, например, получение нейтронов из делящегося урана-235… — Так что же такое мезоний, Иван Гаврилович? — перебил я его, чтобы форсировать разговор. — Вот это и есть мезоний. — Что — это?! — Вот это самое… — Иван Гаврилович сделал жест, будто пытаясь поймать что-то в воздухе: не то падавший лист клена, не то свой мезоний, — и показал мне пустую ладонь. Мезоний — это то, чего еще нет. — Он увидел гримасу разочарования на моем лице и рассмеялся. — Понимаете, это цель: нужно найти такое вещество, которое в известных условиях само выделяло бы мезоны также обильно, как уран-235, плутоний или торий выделяют нейтроны. Вещество, делящееся на мезоны! Понимаете? — Гм!.. — только и смог сказать я. — Такое вещество обязательно должно быть в той бесконечно большой и бесконечно разнообразной кладовой, которая именуется Вселенной, — продолжал Иван Гаврилович. — Его нужно только суметь добыть. — Каким образом? — А вот этого-то я еще и не знаю… („Так зачем же эти глубокомысленные рассуждения?“ — чуть не сказал я.) Мезоний должен быть, потому что он необходим. И его нужно искать! — Иван Гаврилович черкнул ладонью в воздухе. — Видите ли: мы еще очень смутно представляем себе возможности того вещества, которое сами открыли. Мы не знаем о нейтриде чего-то, очень важного и главного… — Он помолчал, прищурился. — Вот сейчас мы с Сердюком ломаем голову над одним непостижимым эффектом. Понимаете, если долго облучать нейтрид в камере быстрыми мезонами, то он начинает отталкивать мезонный луч! Похоже, что нейтрид сильно заряжается отрицательным зарядом, но когда мы вытаскиваем нейтридную пластинку из камеры, то никакого заряда нет!.. — Он даже топнул ногой, остановился и снизу вверх посмотрел на меня. — Нет! Если был заряд, то уйти он не мог: нейтрид — идеальный изолятор; если его не было, то почему же отталкиваются мезоны? Какие-то потусторонние силы, мистика, что ли? У нас это происходит уже десятый раз… — Да, но при чем здесь мезоний? — возразил я. — Видите ли… — Иван Гаврилович попытался пригладить волосы за лысиной, но они от этого только взъерошились. — Я уже сказал, что мезоний — это цель. Как бы это вам объяснить?.. Знаете, меня всегда мало увлекали те исследования, которые проводятся только ради выяснения какого-то явления, исследования ради исследований, если хотите. Такие эксперименты у меня, откровенно говоря, и получались неважно… Я привык ставить себе цель: что весомого, ощутимого дадут исследования? Грубо говоря: что это даст для людей? Пусть будет далекая цель, но необходимо ее иметь — поиски становятся целеустремленнее, мысль работает живее. Так вот: такой далекой целью — а может быть, и не очень далекой, кто знает? — нынешних наших с Алексеем Осиповичем исследований и является мезоний. — Что ж, — сказал я, — как мечта — это великолепно! Но как идея для экспериментов — нереально. — И с этим человеком я когда-то искал нейтрид! — Иван Гаврилович рассердился. — Давно ли нейтрид был нереален? Конечно, против того, чего еще нет, можно привести тьму возражений. А не лучше ли поискать доводы в защиту идеи? По-моему, мы на верном пути: мы облучаем ртуть мезонами и получаем нейтрид. А мезоны родственны ядерным силам, которые действуют внутри нейтрида. Если и можно получить мезоний, то только через нейтрид!.. — Да нет же, Иван Гаврилович! — Меня задело его восклицание, и я тоже начал сердиться. — Рассудите сами: нет и не может быть ни одного вещества, которое естественным образом, само по себе распадалось бы не на нуклоны, а на мезоны! Это принципиально невозможно, потому что распад на мезоны требует несравненно большей энергии, чем распад на нуклоны. Ведь не случайно все радиоактивные вещества распадаются с выделением электронов, нейтронов, протонов, альфа-частиц, — словом, чего угодно, только не мезонов!.. Некоторое время мы шли молча. Парк уже кончался, за желтыми кленами была видна фигурная изгородь, а за ней — шумная, сверкающая автомобилями улица. — Значит, я напрасно тратил порох! — сказал Иван Гаврилович. — А жаль, мне хотелось увлечь вас этой идеей, хотелось, чтобы и вы поразмышляли. Мне сейчас как раз не хватает человека с исследовательской жилкой, а вы это можете… Значит, вас это не увлекает? — По-моему, нужно усовершенствовать мезонаторы: нейтрид в них может дать многое, — ответил я. — Как они ни плохи, но это более реальная возможность увеличить выход нейтрида… Теперь молчание стало совсем тягостным, и я с облегчением увидел ворота парка. Мы вышли на улицу, Иван Гаврилович хмуро протянул руку: — Ну, мне прямо. А вон ваш троллейбус — спешите. И… знаете что? — Он из-под очков внимательно посмотрел на меня. — Не вырабатывается ли у вас от заводской сутолоки косность мысли, а? Не утрачиваете ли вы способность чувствовать неизведанное? Это плохо для исследователя. А вы исследователь, не забывайте это!.. Впрочем, до свиданья. Мы попрощались и разошлись. Неловкий разговор получился. Плохие мезонаторы, абстрактный мезоний, опыты по облучению нейтрида… Словом, мы не поняли друг друга. 27 октября. Что-то последнее время меня все раздражает: и непонятливость операторов, и поломки в мезонаторах, пыль на стеклах приборов… Страшно много мелочей, на которые уходит почти весь день. Неужели Голуб прав, и я действительно утрачиваю способность увидеть новое за множеством мелочей? Нет, все-таки его мезоний — дело нереальное… Но почему же у них нейтрид отталкивает мезонный пучок? Интересно, пробовали ли они измерить его заряд прямо в камере мезонатора, в вакууме? Нужно, когда увижусь, посоветовать. 31 октября. Сегодня мы с Кованько заметили интересное явление. Мы ремонтировали 14-й мезонатор (который за особую зловредность и склонность к поломкам инженеры прозвали „тещин мезонатор“), отлаживали настройку мезонного луча. И вот через раструб перископа, когда был погашен луч, мы увидели в темноте камеры редкие вспышки — будто мерцают далекие голубые звездочки. Что это за звездочки? Может быть, на стенках из нейтрида осаждается какое-то радиоактивное вещество? Но ведь нет таких веществ, распад атомов которых можно увидеть простым глазом… 2 ноября. Ну, это что-то невероятное! Дело вот в чем. Все наши мезонаторы работают по принципу „вечного вакуума“: в самом начале, когда запускали цех, из них выкачали воздух, и в главные камеры воздух никогда не впускается, иначе пришлось бы перед каждой операцией в течение недели снова откачивать воздух, пока давление не понизится до стомиллиардной доли миллиметра ртутного столба. Воздух допускается только во вспомогательные камеры. А то, что может просочиться в главные камеры, непрерывно откачивается нашей мощной вакуум-системой. Мы настолько привыкли к тому, что стрелки вакуумметров стоят на делении 10–11 мм ртути, что уже больше месяца не обращали на них внимания. А вчера посмотрели — и ахнули: почти на всех мезонаторах вакуум повысился до 10–20 мм ртути!.. Ведь это почти пустота межпланетного пространства! Почему? Насосы этого дать не могут, онидаже из собственного объема не в состоянии откачать воздух до такой степени разреженности — такого вакуума не может быть, однако он есть… И еще: за эти дни мерцания голубых звездочек заметили почти во всех мезонаторах. Почему-то наиболее густо эти звездочки мерцают у основания нейтридных стен камер. И интересно: чем больше в мезонаторе звездочек, тем выше вакуум… На выход нейтрида оба эти явления никак не влияют: ни мерцания, ни фантастически хороший вакуум. Но что же это такое? Вероятно, связано с тем, что камеры мезонаторов сделаны из нейтрида. Пожалуй, Голуб прав: мы не знаем что-то очень важное о нейтриде — то, что дает и его эффект отталкивания мезонов, и эти эффекты… Нужно обязательно поговорить с Иваном Гавриловичем».ВСПЫШКА
Случилось так, что Яков Якин в этот ноябрьский вечер надолго задержался в лаборатории. За окнами уже синело. Лампочки под потолком лили неяркий желтый свет. Сослуживцы Якова — старик инженер Оголтеев и техник Фрумкин — уже оделись и нетерпеливо посматривали на часы. Только что закончился очередной опыт с нейтридом. Пробоя снова не получилось: голубые ленты мощного коронного разряда огибали будто заколдованную пластинку нейтрида и с треском уходили в землю. «Что же делать дальше? Похоже, что электрический пробой нейтрида вообще неосуществим, — размышлял Яков, убирая стенд. — Похоже, что нейтрид абсолютно инертен к электрическому напряжению, так же как инертен и к химическим реакциям… Так что же делать?» Он вошел в клетку и взялся за верхний электрод, чтобы снять его с пластинки нейтрида. …Самое болезненное при электрическом ударе — это внезапность. Маленькая, невинно поблескивающая гирька с хвостиком-проводом вдруг ожила: тело передернуло от электрического тока, рука судорожно отдернулась, между пальцами и гирькой сверкнула длинная искра. Яков отлетел к сетке. На несколько секунд в глазах потемнело. Он не слышал, как прозвенел звонок, возвещавший о конце работы, как старик Оголтеев крикнул ему звонким тенорком: — Яков Викторович, вы еще не уходите? Не забудьте запереть лабораторию! Обессиленно прислонившись к сетке, Яков успокаивал бешено колотящееся сердце: «Фу, черт! Забыл разрядить…» Взбудораженные нервы руки долго ныли. Он поднес пальцы к носу — запахло горелой кожей. «Не меньше тысячи вольт… Хорошо, что руки были сухие». Он взял разрядную скобу, прикоснулся к электродам: гирька выстрелила синей искрой — заряд ушел в землю. «Долго держит заряд… Хорошо, что я не сразу стал снимать электроды, а помедлил, пока они частично разрядились через балластное сопротивление. Иначе бы — 120 киловольт! Конец!..» Якову стало не по себе от этой мысли. «Получается конденсатор солидной емкости, заряженный до сотни тысяч вольт… Запасается огромная энергия…» Яков снял электрод — да так и застыл с ним в руке. Сердце, только что успокоившееся, снова заколотилось; мелькнула ослепительная, как разряд, мысль: «Конденсаторы! Ну конечно же, как я раньше не догадался. Если такие сравнительно толстые пластинки нейтрида уже дают значительную емкость, то из тонких слоев большой площади получатся сверхъемкие аккумуляторы, которые можно зарядить до колоссальных напряжений… А ну-ка, если прикинуть…» Он сел к пульту и прямо на обложке лабораторного журнала стал писать формулы и расчеты. Что, если брать пленку толщиной в доли ангстрема? Те сверхтонкие пленки нейтрида, из которых сейчас на заводе у Кольки Самойлова делают скафандры? Яков никак не мог сосредоточиться: мысли в голове метались тревожно и радостно. Буквы неровными строчками бежали наискось, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга. Конечно, нейтрид-конденсаторы по мощности и емкости в тысячи раз превзойдут обычные кислотные аккумуляторы. Нужно рассчитывать на большие напряжения; запас энергии в конденсаторе растет, как квадрат напряжения… Итак, если взять пленку нейтрида площадью в десяток квадратных метров, проложить металлической фольгой и свернуть в рулон, получится сверхмощный конденсатор-аккумулятор. Его можно зарядить до нескольких тысяч вольт! Нейтрид выдержит и больше, но тогда уже трудно будет изолировать выводы. Такие конденсаторы смогут приводить в движение мощные электродвигатели. Это не жалкие два вольта нынешней кислотной банки. Очень просто: небольшие черные коробки, размером с книгу; в них можно нагнетать невесомую, но могучую электрическую энергию. Сколько? 2–3 тысячи киловатт-часов! Достаточно для машин, для мощных электровозов. Яков откинулся от пульта. Лицо горело. Вот оно — то, о чем он мечтал еще с детства, — большое изобретение! Он отодвинул подвернувшийся под руку стул. И сумбурные, нетерпеливые мечты, подхлестываемые воображением, охватили его и заставили бегать взад и вперед по лаборатории. Не было больше лаборатории, не было серых сетчатых клеток, медных шаров под потолком, тускло горящих лампочек. По широкому серому шоссе, залитому солнцем, стремительно и бесшумно мчатся голубые машины. Они похожи на вытянутые капли, положенные на колеса. Скорость — огромна! Не слышно рева бензиновых моторов, вместо него — еле ощутимое высокое пение электродвигателей. Ведь их можно установить прямо на колесах! Вместо сложного привода, поршней, валов, всевозможных муфт, сцеплений, зажигания — несколько проводов к нейтрид-аккумуляторам; вместо коробки скоростей и многих рычагов управления — две рукоятки реостатов: одна регулирует скорость, другая — направление. Вдоль дороги расставлены электроколонки, просто розетки, к которым подведено напряжение подземной электросети. Водитель останавливает машину, включает в розетку кабель от нейтрид-аккумуляторов, и по медным жилам в них переливается невесомая электрическая кровь… И разве только электромобили? А электролеты, электрокорабли! Всем прочим двигателям придет конец: бензин, уголь, нефть и даже урановое топливо будут вытеснены простыми и компактными нейтрид-аккумуляторами. Яков подошел к окну, коснулся разгоряченным лбом холодной поверхности стекла. Было уже совсем темно. Ветер качал голые ветки деревьев в институтском дворе, и далекие фонари, заслоняемые ими, мерцали, как большие, но тусклые звезды. Затуманенный взгляд Якова еще видел шоссе с голубыми электромобилями, но сквозь него проступили две широкие желтые полосы — это напротив светились окна 17-й лаборатории. Там тоже работали. Якин видел ходившего вдоль окон Голуба, склонившуюся у пульта долговязую фигуру Сердюка, и его наполнила гордая уверенность. Черт возьми, он еще покажет себя! Он теперь знает, что делать. Он сделает эти нейтрид-аккумуляторы. Он еще многое сделает! Целый год он презирал себя, потерял веру в свои силы, но теперь!.. Свет в 17-й погас. «Смотрят в перископ, — догадался Якин. — Интересно, что они сейчас видят там?» Снова вспыхнули полосы окон — теперь Голуб и Сердюк стояли на мостике. Голуб наклонился над рычагами манипуляторов. «Сейчас будут вытаскивать свои препараты из камеры наружу… Они что — только вдвоем сегодня работают? Интересно, есть ли у них сейчас пленки тоньше ангстрема? Может, пойти попросить?..» Якин видел, как Сердюк что-то сказал Ивану Гавриловичу, а тот кивнул. Вот они оба наклонились над чем-то… Громадная, нестерпимо яркая бело-голубая вспышка сверкнула напротив, во всю ширину громадных окон 17-й лаборатории! От взрывной волны осколки стекол полетели в лицо Якову. Несколько секунд он ничего не видел — только где-то под потолком плавали тусклые точки лампочек. Что это?! Он вытер лицо ладонью, измазавшись в чем-то липком, посмотрел наружу: из окон 17-й рвалось желтое пламя, казавшееся совсем неярким после блеска вспышки. Яков выбежал из лаборатории, помчался по бесконечно длинным коридорам. По институтскому двору в суматохе бегали охранники. Яков лишь на секунду хлебнул холодный дымный воздух двора и вбежал в дверь стеклянного корпуса. В коридоре, который вел к 17-й лаборатории, метался горячий сизый дым, ярким коптящим пламенем пылал паркет. Яков сорвал со стены цилиндр огнетушителя, с размаху ударил его острием о стенку и направил вперед длинную струю желтой пены. В горящем паркете образовалась черная дымящаяся дорожка. Он уже почти добрался до дверей 17-й; из них било пламя. Глаза разъедал горячий дым. Якин оглянулся: проложенная огнетушителем дорожка снова горела. Только теперь он услышал и понял пронзительные звонки, звучавшие в туннеле из дыма и пламени. Радиация! Сигнальные автоматы звенели непрерывно — значит, радиация уже превысила все безопасные нормы. Яков еще раз посмотрел на горящие двери 17-й, швырнул ненужный огнетушитель и, закрывая руками лицо от огня, побежал обратно по расстилавшемуся перед ним пламени. Во дворе уже стояли красные пожарные машины. В окна «аквариума» били тугие струи воды. Бегали люди. Горящую одежду Якина кто-то обдал водой, кто-то отвел его в сторону, спросил: «Там больше никого нет?» Вместо ответа Яков закашлялся не то от дыма, не то от подступивших к горлу слез…ИСПЫТАНИЕ «ЛУНА»
Они подружились в эти горячие месяцы спешной подготовки к испытанию. Во всяком случае, генерал теперь называл Вэбстера попросту Германом, а тот называл его Рэндольфом. Они удачно разделили сферы своей деятельности: Вэбстер ведал теоретической и технологической частью работ, рассчитывал траектории полета, наивыгоднейшие скорости, настройку автоматов управления «телескопом», следил за выпуском новых снарядов на нейтрид-заводе; Хьюз ворочал финансами и людьми. Нью-Хэнфорд — «телескоп» — ртутные рудники; их пути теперь часто пересекались. Сегодня они сошлись на скалистой вершине в двух километрах от потухшего вулкана — здесь находился блиндаж управления «телескопом». Глубокое ноябрьское небо, обрывающееся коричневыми лохмотьями скал, пересекли в нескольких направлениях белые облачные прямые. Эти прямые линии расплывались, таяли и снова непрерывно наращивались маленькими и блестящими, как наконечники стрел, реактивными истребителями, патрулировавшими в небе. Влево и вправо от блиндажа по выступам скал шли серые бетонные полушария зенитной охраны; они охватывали зону «телескопа» замысловатым пунктирным многоугольником. По серой спирали шоссе мчались вниз маленькие машины — это покидали площадку «телескопа» инженеры и солдаты охраны. Еще несколько минут — и шоссе увело машины в желто-зеленую растительность долины. «Телескоп» выделялся на холодном фоне ноябрьского неба черным, без подробностей, силуэтом; он был похож на древнюю арабскую мечеть, неизвестно как попавшую сюда, в Скалистые горы. — Смотрите-ка! — воскликнул генерал и протянул руку к горам на востоке. Вэбстер и майор Стиннер повернулись: над зазубренными вершинами поднялась бледно-голубая и прозрачная в дневном свете половинка луны. Хьюз посмотрел на Вэбстера, и в его маленьких голубых глазках появилось замешательство. — Гм… Однако… все рассчитано точно, не так ли? — Все в порядке, Рэндольф! — Вэбстер бросил окурок сигареты. — Они сойдутся там, где надо… — Он посмотрел на часы. — Дайте предупредительный сигнал, Стиннер. Майор исчез в блиндаже. — Ну скоро? — Хьюз чувствовал себя неуверенно. И это прибавляло уверенности Вэбстеру: — В 15.33. Еще четверть часа… Беспокоиться нечего. В Луну мы наверняка попадем. И даже в Море Дождей… А в кратер Платона?.. — Он пожал плечами. — В первый раз, может быть, и нет — это же пристрелка. — Во всяком случае, я думаю, — заметил генерал, — мы правильно сделали, что не пригласили корреспондентов телекомпаний. Это еще успеется… Хотя жаль, конечно, что такой исторический момент не станет известен, а? Да и мы с вами, Герман… Представляете, как бы нас величали во всем мире? — Генерал нервно рассмеялся. — Ладно, будем скрытны, как… как русские. Они замолчали. Внизу, на шоссе и около блиндажей охраны, уже прекратилось всякое движение. Только реактивные самолеты перечерчивали небо белыми полосами. — Пожалуй, пора, — сказал Вэбстер. В блиндаже стоял серый полумрак. Из широкой бетонной щели была видна часть площадки. Стиннер, наклонившись над пультом телеуправляющей установки, настраивал четкое изображение на экране. Увидев начальство, он вытянулся: — Приборы настроены, сэр! — и посторонился, пропуская генерала и Вэбстера к пульту. На мерцающей поверхности экрана застыл среди переплетения тяжей черный ствол «телескопа»; он уходил вертикально вверх, к щели в крыше павильона. Вэбстер, вращая рукоятки на пульте, переводил «глаз» телеустановки на приборы-автоматы, управляющие пушкой: на экране проползали черные рычаги, штурвалы, тускло лоснящиеся закругления огромного затвора пушки. Рядом, в самое ухо, напряженно дышал генерал. — Кажется, всё в порядке… Заряжаю. — Вэбстер переключил на пульте несколько тумблеров. Сектор черного лафетного диска в павильоне медленно отодвинулся влево, образуя широкую щель; из щели выдвинулись тонкие черные штанги, сочлененные суставами шарниров. Эти штанги, похожие на невероятно худые и длинные руки, осторожно поднесли к затвору «телескопа» продолговатый снаряд. На мгновение снаряд закрыл весь экран темной тенью. В затворе пушки раскрылся овальный люк, паучиные «руки» манипулятора мягко положили снаряд в люк и спрятались в щель. Диск снова сомкнулся. В блиндаже стояла тяжелая тишина. И Вэбстер только воображением представил себе страшный рев мощных моторов, наполнивший в эту минуту павильон. — Всё… Еще две с половиной минуты… — Вэбстер закурил, покосился на стоявшего рядом генерала и от удивления поперхнулся дымом. Генерал молился! Его дрябловатое лицо с бисеринками пота в морщинах щек и лба приняло странное, отсутствующее выражение; глаза неопределенно уставились в щель блиндажа; губы что-то беззвучно шептали; пальцы сложенных на животе рук слегка шевелились в такт словам. Вэбстер на мгновение засомневался в реальности всего происходящего: полно, действительно ли они через минуту произведут выстрел по Луне? Действительно ли этот смиренно просящий у бога удачи старик в генеральском мундире — тот самый генерал Хьюз, который выдвинул идею «космической обороны» и основательно потрудился, чтобы осуществить ее?.. Вэбстер деликатно кашлянул. Генерал прекратил беседу с богом, строго покосился на стоявшего в стороне майора Стиннера — с лица майора сразу смыло ироническую ухмылку под усиками. — Включаете вы? — спросил он Вэбстера. — Уже включено. Теперь действуют автоматы… Несколько долгих секунд все трое молча смотрели в щель. Ожидаемый миг все-таки не совпал с действительным: над черным силуэтом павильона вспыхнуло белое пламя и умчалось ввысь. В ту же секунду дрогнул бетонный пол под ногами. Еще через секунду грянул оглушительно звонкий звук атомного выстрела: «Б-а-а-м-м-м…» Вэбстер увидел, как слева дрогнула и обрушилась грудой камней и пыли источенная ветрами скала. Рокочущее эхо отдаленными взрывами ушло в горы. На экране телеустановки некоторое время ничего не было видно, кроме светящегося радиоактивного тумана. Потом вентиляторы выдули радиацию, и снова возник вертикальный ствол «телескопа» в паутине тяжей. Электронные автоматы быстро выправляли нарушившуюся от сотрясения наводку. Из щели в дисковом основании «телескопа» черные штанги снова подняли к затвору нейтриум-снаряд с водородным зарядом, и его опять поглотил люк затвора. После томительно долгой минуты вместе со звуком атомного выстрела дрогнула земля; ушла в высоту и растаяла слепящая вспышка газов и воздуха… Они вышли из блиндажа. Над горами стояла необыкновенная тишина. Желтое солнце клонилось к хребту на западе. На востоке поднималась полупрозрачная Луна. В самом зените небо пересекали полосы реактивных газов. Снаряды летели к Луне. Луна мчалась навстречу снарядам.Пожалуй, со времени возникновения обсерватории на горе Паломар это был первый случай, когда громаднейший телескоп-рефлектор с пятиметровым зеркалом был направлен не в головокружительные глубины Вселенной, а на самое близкое к Земле космическое тело — на Луну. Было за полночь. Маленький полудиск Луны перевалил через зенит и уже склонялся к западу. Ее свет лился внутрь павильона обсерватории через обширную щель в куполе. Верхнюю часть щели заслонял цилиндрический силуэт телескопа-рефлектора. В павильоне было прохладно и тихо. Еле слышно пели моторчики, поворачивая за движением Луны купол павильона. Генерал что-то спрашивал у сопровождавшего их старого профессора Ивенса. И тот оживленно объяснял ему, показывая на зубчатые колесики искателя. Вэбстер ходил из конца в конец павильона. Он давно, еще после выстрелов, чувствовал какое-то гнетущее, похожее на легкое недомогание волнение. Возможно, оно пришло от нервной усталости — в последние дни перед выстрелами почти не оставалось времени для сна. Голова была горячей, мысли то возникали беспорядочным комком, то исчезали. «Если все рассчитано точно, то снаряды должны попасть в кратер в расчетное время — в 46 минут первого, ровно через 9 часов 13 минут после выстрела… Если в назначенную минуту на Луне не будет вспышек, значит, промахнулись, снаряды ушли в сторону… Все-таки в этом отношении снаряды пасуют перед ракетами — у снаряда нельзя исправить траекторию полета». Он потер виски рукой, и мысли сразу перескочили на другое. Интересно: какие они, эти русские инженеры? Ведь они делают то же, что и он… Они ломают голову над теми же проблемами… Чужие, непонятные и… близкие люди. Черт возьми, ведь мы работаем над одним и тем же! Наверное, не однажды мысли там и здесь упирались в один и тот же неразрешимый вопрос. Интересно было бы поговорить с ними, поспорить, узнать, как у них идет дело, — просто так, без тайных целей. Вэбстер усмехнулся: как же, черта с два! Уж с ним они не станут разговаривать откровенно: ведь они знают его статью, а то, что он, Вэбстер, получил нейтриум — не знают. И он не знает, кто у них работал с мезонами, кто там открыл нейтрид. Здесь — нейтриум, там — нейтрид… Даже назвали по-разному. Будто на разных планетах… Вэбстер поморщился: голова начинала болеть не на шутку. «Видимо, я все-таки сильно переутомился…» Он подошел к телескопу и стал смотреть в окуляр. Освещенная с одной стороны половина Луны была сейчас в самом выгодном положении для наблюдений. В рефлекторе отражалась только часть лунного диска — Море Дождей, лунные «Альпы» и «Апеннины». Вэбстер смотрел на этот далекий и чуждый мир. Серебристо-зеленые горы были различимы до малейших скал; в косых лучах Солнца они отбрасывали черные четкие тени. На серой равнине Моря Дождей поднимались скалистые кольца исполинских лунных кратеров. Черная тень заполняла их, и они становились похожими на огромные дыры в лунном диске. Внизу Моря Дождей, среди «Альп», сверкал под Солнцем овал кратера Платон. К нему сейчас летели снаряды… Где-то поблизости должна лежать русская ракета… Хотя нет — она в затененной части. Рефлектор, следуя за Луной, переместился вправо. Вэбстеру пришлось сменить позицию у телескопа. Он едва не столкнулся с генералом. — Ну, док, — преувеличенно бодро сказал тот, — скоро, должно быть… Минуты через две — три. — Да-да, — согласился Вэбстер. Он поймал себя на том, что нисколько не волнуется. Он скорее равнодушен и даже чувствует неприязнь к тому, что они должны увидеть. — Как вы думаете, док, — генерал повернулся к Ивенсу, — мы сможем заметить снаряды до попадания, в полете, а? — Ну, вы слишком много требуете от нашего рефлектора, генерал! — Ивенс коротко рассмеялся старческим, дребезжащим хохотком. — Ведь они всего полметра в диаметре. Разве только они будут сильно блестеть на солнце, тогда… — Без пятнадцати час, — не дослушав его, сказал Хьюз и наклонился к своему окуляру. Все трое замолчали и приложились глазами к пластмассовым трубочкам в основании рефлектора. Серебристая поверхность Луны была по-прежнему величественно спокойной. Черный овал кратера Платон немного посерел, его дна уже касались солнечные лучи… Слабо тикал часовой механизм телескопа. Все трое медленно изгибали туловище вслед за движением окуляра… Голубовато-белая вспышка в темном пятне кратера на миг ослепила привыкший к полутьме глаз. Белый шарик расширился и поднялся; во все стороны от кратера побежали непроницаемо черные тени кольцевых скал. Еще через несколько секунд все пятно кратера закрыло мутное-серое пыльное облако, поднявшееся с лунной поверхности. Вторая вспышка сверкнула через минуту, левее кратера. — Есть! Великолепно! — Генерал протягивал свои полные руки навстречу Вэбстеру. — Поздравляю вас, дорогой док! Удача! Слава богу! Вэбстер вяло ответил на пожатие: — Второе попадание не так удачно… Должно быть, повлияло сотрясение пушки. Вокруг рефлектора суетился Ивенс. — Замечательно!.. — бормотал он. — Замечательное подтверждение гипотезы. Луна действительно покрыта слоем космической и метеоритной пыли. Нужно снять спектральный анализ. Он торопливо стал навинчивать на окуляр приставку с призмами анализатора. Вэбстер смотрел на него, и острая, болезненная зависть к этому старику с серыми усами и длинной седой шевелюрой (под покойного Эйнштейна) охватила его. Как давно не испытывал он этого чистого, без примесей каких-либо посторонних чувств, восторженного удивления перед таинственными явлениями Вселенной! Почему он не астроном! Почему ему не дано в великолепные звездные ночи пронизывать телескопом глубины Вселенной, чувствовать исполинские масштабы пространства и времени, придумывать величественные гипотезы о возникновении миров и о разлетающихся звездах! Почему за всеми его делами стоит мрачный, угрожающий призрак беды! Почему его великая наука стала в мире страшилищем!.. «Старика взволновали не попадания снарядов в Луну, а космическая пыль на лунных скалах… Неужели снаряды, выстрелы-все это не нужно? Да, для науки, пожалуй, нет. А для чего?» Какая-то главная мысль, еще не оформившись словами, возникала в мозгу, но его уже тормошил возбужденный Хьюз: — Ну, Герман, сейчас нужно устроиться где-либо переночевать, а завтра — на завод. Начало сделано, теперь будем разворачивать дело!.. В эту ночь многие астрономы западного побережья Америки, в Австралии, в Океании, Индонезии, на Филиппинах, на Дальнем Востоке Советского Союза и Китая наблюдали и сфотографировали две вспышки на Луне у кратера Платон, вызванные не то падением громадных болидов на Луну, не то внезапным извержением какого-то скрытого в кратере вулкана.
— Только откровенно, Рэндольф! Вы хотели бы войны?.. Машина мчалась по пустынному шоссе, подминая под себя серую полосу бетона. С обеих сторон дороги разворачивались желто-зеленые пейзажи калифорнийской осени: убранные поля кукурузы, опустевшие виноградники, одинокие сосны на песчаных холмах, пальмовые рощи; изредка мелькали домики фермеров. Горы синели далеко позади. В открытые стекла машины бил свежий, чистый воздух. Нежаркое солнце висело над дорогой. Они разговаривали о пустяках, когда Вэбстер без особенной связи с предыдущим задал этот вопрос. — Откровенно? — Генерал был слегка озадачен. — Гм… Видите ли, прежде говорили: плох тот военный, который не мечтает о сражениях. Да. Однако это говорили в те наивные времена, когда самым ужасным видом оружия были пушки, стреляющие ядрами. Сейчас не то время… Если говорить откровенно, то я был бы не прочь испробовать ту войну, которую мы с вами сейчас стараемся готовить: войну в Космосе, фантастическую и исполинскую битву ракет и снарядов, войну баз на спутниках и астероидах. Это был бы неплохой вариант. Земля уже тесна для нынешней войны. Но там, в пространстве, еще можно померяться силами… — Но вы, конечно, понимаете, что такой вариант нереален. Война неизбежно обрушится на Землю, даже если и будет начата в Космосе… И имеем ли мы право?.. Хьюз помолчал, потом заговорил с раздражением: — Странные вопросы вы задаете, Герман! Черт возьми, вы становитесь слюнтяем! Вы, сделавший столько для нашей силы и мощи… Некоторое время они ехали молча. Вэбстер бездумно следил за дорогой. Мимо мелькали высокие пальмы. Генерал закурил и уперся взглядом в спину водителя. — Когда говорят о нашей силе, о нашей ядерной мощи, — начал снова Вэбстер, — я не могу отделаться от мысли, что всего этого могло и не быть… (Хьюз быстро повернулся к нему, сиденье скрипнуло под его грузным телом.) Да-да! Ведь открытие, которому мы обязаны существованием ядерной бомбы, — это величайшая из случайностей в истории науки… Вы, конечно, знаете историю открытия радиоактивности? Анри Беккерель под впечатлением недавно открытых Х-лучей и свечений в разрядных трубках пытался найти что-то похожее в самосветящихся минералах. Вероятно, он и сам толком не знал, что искал, а такие опыты почти всегда обречены, поверьте мне. Это великая случайность, что из обширной коллекции фосфоресцирующих минералов, собранной его отцом, он выбрал именно соли урана; вероятность такого выбора была не более одной сотой. Еще большая случайность, что он в карман, где лежал пакетик с солями урана, сунул закрытую фотопластинку. Не произойди такого единственного в своем роде совпадения, мы могли бы не знать о радиоактивном распаде еще лет сорок—пятьдесят. А все дальнейшие открытия были продолжением этой случайности. Резерфорд — физик, не чета Беккерелю — совершенно случайно обнаружил, что атомы состоят из пустоты и ядра. Ган и Штрассман открыли деление ядер атомов урана. Так возникла атомная бомба. Но ведь все это было открыто преждевременно; ни общий уровень науки, ни уровень техники еще не были готовы к обузданию и использованию этой новой гигантской силы. И вышло так, что человечество воспользовалось силой примитивной, грубой, варварской формой этой силы — атомным взрывом… Гибелью несчастной Хиросимы… — Бог знает, что вы говорите, Герман! — резко перебил его генерал. — По-вашему, выходит, что главное оружие, с помощью которого мы еще можем держать наш мир в повиновении, а врагов в страхе, выпало нам случайно? Нет, Герман! — Голос генерала зазвучал патетически. — Бог, а не ваша слепая случайность, вложил в ваши руки это могучее оружие, чтобы мы подняли его над миром! Вэбстер пожал плечами. Они замолчали и промчались весь остаток пути, пока впереди не показались приземистые корпуса Нью-Хэнфорда, обнесенные забором с колючей проволокой. Узкие окна в толстых стенах, выходившие наружу почти на уровне земли, пропускали недостаточно света, поэтому в мезо-тронных цехах двумя цепочками под потолком горели лампы. Вдоль стен тянулись толстые трубы ртутепровода; отростки от них шли к причудливым черным устройствам, состоявшим из ребристых цилиндров, труб и коробок, к которым тянулись провода и штанги дистанционного управления. Эти устройства, двумя рядами выстроившиеся во всю длину цеха, в точности повторяли друг друга. Цех был наполнен мягким гудением трансформаторов. У пультов мезотронов склонились сосредоточенные люди в белых халатах. На генерала Хьюза, Вэбстера и сопровождавшего их пожилого инженера Свенсона, шведа с молочно-белым лицом и огненно-рыжей шевелюрой, почти никто не обращал внимания. Генерал вскользь осматривал мезотроны, задавал малозначительные вопросы. Было заметно, что его не очень интересует все это. Вэбстер повернулся к почтительно следовавшему за ним Свенсону: — Расскажите-ка, что нового, Свенсон? — Что нового, сэр? Пожалуй, почти ничего… Сейчас делаем примерно по десяти оболочек для снарядов в неделю. Из них, к сожалению, большая часть идет в брак, сэр. Сами знаете… — Да-да, — кивнул Вэбстер. — Все по-прежнему. — Делаем детали для новых мезотронов, скоро будет готов еще один, — продолжал Свенсон. — Да, еще вот что: сильно капризничают старые мезотроны, сэр. Просто с ног сбиваемся около них, все налаживаем… Особенно вон тот, сэр, — он показал рукой на второй в левом ряду мезотрон, — «два-бис». — А, один из первых! И что же с ним? — Ума не приложим, сэр! То происходят какие-то дикие скачки вакуума в камерах, то различные вспышки… Мезонный пучок колеблется. Трудно разобраться, в чем дело, сэр. Вы же сами знаете, что, когда эти проклятые машины расстроятся, с ними никакого сладу нет… Свенсону, видно, хотелось излить душу. Но они уже дошли до конца цеха, к дверям второго выхода. — Так… Теперь покажите-ка вашу продукцию, Герман, — сказал генерал. — Сейчас… — кивнул Вэбстер. — Вот что, Свенсон, распорядитесь, чтобы выключили этот «два-бис» и раскрыли. Я сам его посмотрю. — Хорошо. Будет сделано, сэр, — минут через двадцать… Они вышли на заводской двор. Солнце сияло в ясном лазурном, как и вчера, небе. Лучи его отражались от фарфоровых гирлянд на высоковольтных трансформаторах подстанции. По асфальтированным дорожкам электрокары везли черные лоснящиеся детали из нейтриума. — Что это? — Генерал показал на возвышавшийся слева белый резервуар с трубами. — Ртуть. — И много ее там? — Резервуар вмещает около двадцати тысяч тонн, но сейчас он заполнен наполовину, не больше. — Ого! У вас громадные запасы — почти вся мировая добыча за год… — Вашими заботами, генерал! — иронически кивнул Вэбстер. Молоденький низкорослый солдат, стоявший у входа в склад, вытянулся при их приближении. Вэбстер нажал кнопку в стене, и тяжелая стальная дверь медленно отъехала в сторону. Они вошли внутрь и стали опускаться вниз по бетонным ступеням. Склад находился под землей. Толстые бетонные колонны подпирали сводчатый потолок, на котором неярко горели лампочки в защитных сетках. Здесь было прохладно и немного сыро. Хьюз и Вэбстер медленно шли мимо чугунных стеллажей, мощных стальных контейнеров и люлек, в которых лежали черные метровые тела нейтриум-снарядов. — Это уже готовые? — спросил генерал. — Да. Эти двадцать два — с водородным зарядом. А там дальше — с усиленным урановым, на пятьдесят килотонн тротилового эквивалента. — Так… — Генерал несколько раз прошелся вдоль стеллажей. Его серая расплывчатая фигура почти сливалась с бетоном стен. — Так… Прекрасно! Мы с вами утром рассуждали о войне. Вот она, наша огромная сила! — Генерал широко развел руками. — И знаете, когда я думаю, что все это великолепие, все это могучее оружие может остаться неиспользованным, мне становится досадно от такой мысли. Черт возьми, ведь это же гигантские затраты ума, сил, денег и… Что это?! …Дернулся под ногами бетонный пол. Мигнув, погасли лампочки под потолком. Страшная, нестерпимо грохочущая темнота обрушилась на них вместе с содроганием стен и швырнула наземь.
ТЕНЬ НА СТЕНЕ
Территория Физического института вместе с прилегавшей к ней частью парка была оцеплена; по шоссе пропускали только машины сотрудников и аварийных команд. Пожар потушили сравнительно быстро; очевидно, часть пламени была сбита взрывом. По лужайкам и асфальтированным дорожкам, проверяя зараженность местности радиацией, ходили сотрудники в серых, холодно поблескивающих комбинезонах и капюшонах из толстой резины, в одинаковых уродливых масках. Утро начиналось сильным и холодным ветром. Он схватывал натекшие на асфальте лужи морщинистой корочкой льда, качал деревья, рвал облака и гнал их клочья к Днепру. Корпус возвышался обожженной десятиэтажной клеткой из горизонтальных бетонных перекрытий и стальных переплетов пустых оконных рам. Он слегка осел одной стороной и накренился; если поднять голову к быстро бежавшим облакам, то казалось, что это большой океанский пароход сел на мель и покинут всеми в крушении. Через несколько часов было установлено, что в 17-й лаборатории, в основании левого крыла корпуса, произошел взрыв, или вспышка, сопровождавшаяся сильным выделением тепла и радиоактивного излучения. Однако по силе фугасного действия она соответствовала всего лишь авиабомбе крупного калибра: полторы-две тонны тротилового эквивалента. Все это доложил Александру Александровичу Тураеву молодцеватый капитан со светлыми усиками на красном от холодного ветра лице. Отдавая рапорт, он стоял смирно и держал руку под козырек. Александр Александрович неловко, по-штатски сутулился перед ним. — Радиоактивная опасность во дворе незначительна. Отсутствует радиация в остальных частях корпуса и во вспомогательных зданиях. В семнадцатую лабораторию аварийщики проникнуть не могли из-за сильной радиации воздуха и самого помещения. Установлены и работают воздухоочистительные установки. Причины взрыва еще не установлены. Человеческих жертв не обнаружено… Окончив рапорт, капитан отступил на шаг и опустил руку: — Разрешите продолжать работу? — Да-да! Пожалуйста, идите. Однако вот что: пока ничего решительного, пожалуйста, не предпринимайте… без моего… э-э… указания. — За четкой напористостью рапорта академик Тураев все же смог уловить, что капитан далеко не тверд в ядерных исследованиях. — Дело-то, видите ли, необычное. — Слушаюсь: ждать вашего приказания! — Капитан снова козырнул и хотел выйти. — Погодите. Э-э… Скажите, пожалуйста, вы не догадались взять пробы воздуха для анализа радиоактивности? — Так точно… То есть, никак нет… — Капитан смешался и развел руками. — Не учел, товарищ академик… Прикажете взять? — Теперь уж поздно, пожалуй. Впрочем, возьмите. Капитан вышел. В разбитые окна комнаты административного корпуса свирепо задувало. Александр Александрович сидел в плаще, положив озябшие синие руки на стол. «Человеческих жертв не обнаружено…» Перед ним лежали только что принесенные из проходной два табельных жетона. Треугольные кусочки алюминия с дыркой для гвоздя и цифрами: «17–24» — жетон Ивана Гавриловича Голуба, и «17–40» — жетон Сердюка. Края округлились от многолетнего таскания в карманах. Александр Александрович чувствовал душевное смятение и растерянность и никак не мог справиться с этими чувствами. Разное бывало, особенно в первые годы крупных ядерных исследований: люди, по своей неопытности или от несовершенства защиты, заражались радиоактивной пылью, попадали под просачивающиеся излучения ускорителей, иногда выходили из управления реакторы. Это были аварии, несчастные случаи, но понятные несчастья… А сейчас — Тураев чувствовал это интуицией старого исследователя — случилась не простая авария. За этой катастрофой таилось что-то огромное, не менее огромное, чем нейтрид. Но что? С глухой, завистливой печалью чувствовал он, что не ему, восьмидесятилетнему старику, предстоит вести эти исследования: здесь нужна сила, бешеное напряжение мысли, энергия молодого воображения. Голуб и Сердюк! Что ж, они погибли, как солдаты в бою. Такой смерти можно только позавидовать! А ведь именно Иван Гаврилович сейчас так нужен для расследования этой катастрофы, которую он вызвал и от которой погиб. У него была и сила, и страстность исследователя, и молодая голова… Александр Александрович отогнал бесполезные печальные мысли, положил жетоны в карман и тяжело встал: нужно действовать. Он вышел во двор. На асфальтированных дорожках и лужайках небольшими группами стояли сотрудники. Они выглядели праздно среди тревожной обстановки — в синих, желтых, коричневых плащах и пальто, в красивых шляпах — и, должно быть, чувствовали это. Весть о том, что профессор Голуб и Сердюк находились в лаборатории вчера вечером, в момент взрыва, передавалась вполголоса. Никто ничего толком не знал. — Сердюк? Так я ж его вчера видел, здоровался! — удивлялся басом стоявший невдалеке от Тураева высокий, плотный мужчина. — Он вчера к нам в бюро приборов счетчик частиц приносил ремонтировать! — Как будто это обстоятельство могло опровергнуть случившееся. Прислонясь к дереву, плакала и беспомощно вытирала руками глаза красивая черноволосая девушка — кажется, она лаборантка из лаборатории Голуба. Возле нее хмуро стоял светловолосый молодой человек с непокрытой перебинтованной головой и в плаще с поднятым воротником — тот, который вчера видел вспышку в 17-й из окна высоковольтной лаборатории…По дороге в Физический институт Николай Самойлов пытался, но никак не мог осмыслить происшедшее. Только увидев покосившееся, ободранное взрывом здание главного корпуса, тревожные группы сотрудников, он почувствовал реальность нагрянувшей беды. «Ивана Гавриловича и Сердюка не стало! Совсем не стало!..» Разгорячившись от езды в машине, он снял шляпу, чтобы охладить голову ветром, да так и стоял в раздумье под скелетом корпуса, пока от холода и тоскливых мыслей его тело не пробил нервный озноб. Что же случилось? Диверсия? Нет, пожалуй… Неужели то, о чем Иван Гаврилович говорил тогда, в парке, и что он, Самойлов, не хотел понять?.. Николай увидел Тураева в легком распахнутом плаще, с посиневшим морщинистым лицом и подошел к нему. Помолчав, он сказал: — Здравствуйте, Александр Александрович! — Он пожал сухую, старческую руку. — Я привез два нейтрид-скафандра для… — Не найдя нужного слова, он кивнул в сторону разрушенного корпуса. Помолчал. — Думаю, что в лабораторию идти нужно мне. Я знаю положение всех установок, я хорошо знаю скафандры… — и, замявшись, добавил менее решительно: — Я ведь почти два года работал у Ивана Гавриловича… Тураев смотрел на высоченного Николая Самойлова, подняв голову вверх, внимательно и даже придирчиво, будто впервые его видел. Они нередко встречались и в институте, и на нейтрид-заводе, и на конференциях, но сейчас отсвет необычайности лежал на этом молодом инженере, как и на всем вокруг… Высокий, чуть сутулый, продолговатое смуглое лицо с крупными чертами; лоб, перерезанный тремя продольными морщинами, ветер растрепал над ним черные прямые пряди волос; хмурые темные глаза; все лицо будто окаменело от холода и горя. «Молод, силен… Да, такому это по плечу. Сможет и узнать и понять… Эх, хорошо молодым!» Не зависть, а какое-то светлое отцовское чувство поднималось в Александре Александровиче. Помолчав, он сказал: — Что ж, идите, если не боитесь… Только одному нельзя, подберите себе ассистента. — Ассистента? Хорошо, я сейчас спрошу у наших инженеров. Самойлов повернулся, чтобы идти, но в это время знакомый взволнованный голос окликнул его: — Николай, подожди! К нему подходил Яков Якин, хмурый, решительный, с белой повязкой на лбу. Они поздоровались. — Что это у тебя? — показал Самойлов на повязку. — Хочешь идти в семнадцатую? — не отвечая, спросил Яков. — Да… — Бери меня с собой. — Тебя? — неприятно поразился Николай. Подумалось: «Славы ищет?» — Что это тебе так захотелось? — Понимаешь… Я видел все это… Вспышку, Голуба, Сердюка… — сбивчиво забормотал Якин. — Я тебе хорошо помогу. Тебе там трудно будет понять… Труднее, чем мне. Потому что я видел это! Понимаешь? Больше никто не видел, только я… Из окна своей лаборатории. Понимаешь? — Так про это ты сможешь просто рассказать, потом… — Самойлов помолчал. — А в лабораторию мне бы нужно кого-нибудь… — запнулся, — понадежнее. Это слово будто наотмашь хлестнуло по щекам Якова; в них бросилась кровь. Он вскинул голову: — Слушай, ты! Ты думаешь… только ты такой хороший, да? — Голос его зазвенел. — Неужели ты не понимаешь, что со мной было за эти годы? Думаешь, я и теперь подведу, да? Да я… А, да иди ты к черту!.. — Он отвернулся. Николай почувствовал, что обидел Яшку сильнее, чем следовало. «Тоже, нашелся моралист! — выругал он себя. — Сам-то немногим лучше…» — Слушай, Яша! — Он взял Якова за плечо. — Я не подумав сказал. Беру обратно слова! Слышишь? Извини… Яков помолчал, спросил: — Меня берешь с собой? — Беру, беру… Все! Пошли, возьмем снаряжение… По дороге к машинам Николай внушительно поднес кулак к лицу Якина: — Ну, только смотри мне! Яков молча улыбнулся.
Натягивая на себя тяжелый и мягкий скафандр, покрытый нейтридной пленкой, Яков негромко спросил: — Коля, а от чего он предохраняет? — От всего: он рассчитан на защиту от огня, от холода, от радиации, от вакуума, от механических разрывов… В прошлом году я в таком скафандре бродил по луже расплавленной лавы. Так что не бойся… — Да с чего ты взял, что я боюсь? — снова вспылил Якин. На этом разговор оборвался. На них стали надевать круглые шлемы с перископическими очками. Высокий, плотный инженер из бюро приборов — тот, который недавно удивлялся, что Сердюка, — а он его только вчера видел, — нет больше в живых, — проверил все соединения и стыки, ввинтил в шлемы металлические палочки антенны. Николай включил миниатюрный приемопередатчик — в наушниках послышалось сдержанное дыхание Якина. — Яша, слышишь меня? — Слышу. — Якин повернулся, медленно кивнул тяжелым шлемом. — Перестань сопеть!.. Слышите нас, товарищи? — Да, слышим, — ответил в микрофон высокий инженер. Он сдержанно кашлянул. — Ни пуха, ни пера вам, хлопцы. Осторожно там… — К черту! — в один голос суеверно ответили Яков и Николай. Две странные фигуры с большими черновато блестящими головами, горбатые от кислородных приборов на спине, тяжелой походкой вошли в накренившееся здание главного корпуса. Они прошли по черному, обгоревшему коридору — угли хрустели под ногами — и вошли в 17-ю лабораторию. Вернее — туда, где совсем недавно была лаборатория. До сих пор Николай как-то глушил в себе ощущение случившегося несчастья — потом, на досуге, можно будет размышлять и жалеть, сейчас надо действовать. И вот гнетущая атмосфера катастрофы навалилась на него. Знакомый длинный, высокий зал стал темнее и ниже. Внешняя стена — точнее оставшийся от нее двухэтажный стальной каркас — осела и выгнулась наружу. Железобетонные колонны подкосились и согнулись под выпятившимся потолком, с которого на тонких железных прутьях свисали рваные клочья лопнувшего бетона. Ближе к центру зала, к пульту мезонатора, бетон сиял мутно-зелеными стекловидными подтеками, сквозь которые проступали темные жилы каркасов. Под ногами хрустели пересыпанные серой пылью осколки. В окнах не оставалось ни одного стекла, даже рамы вылетели. И в лабораторию беспрепятственно проникал яркий дневной свет, но в то же время она казалась сумрачнее, чем прежде. Самойлов, осмотревшись, понял, в чем дело: внутренняя стена, выложенная раньше ослепительно белымикафельными плитками, была теперь желто-коричневой, к середине зала почти черной: ее обожгло, опалило громадной вспышкой тепла и света. Темно-серая сорокаметровая громада мезонатора, улегшаяся вдоль искореженной стены, обгорелые остатки столов, вывороченные внутренности железобетона, потемневшая ребристая труба ускорителя, уходящая в сгущающуюся серо-коричневую муть… Якину лаборатория казалась чужой и незнакомой: будто он не только не работал, но и никогда раньше не был здесь. В наушниках слышались шипение и треск. «Наверно, помехи, — подумал он. — Воздух сильно ионизирован радиацией». — Яша! — позвал его приглушенный треском голос Самойлова. — Да? — У Якина было такое ощущение, будто он говорит по телефону. — Давай сейчас осмотрим бегло всю лабораторию, наметим самые главные участки. А в следующий заход придем с приборами… Ты иди по левой стороне, я по правой. Пошли… Взгляд, ограниченный перископическими очками, захватывал небольшой кусок пространства. Приходилось поворачивать все туловище, стесненное тяжелым скафандром. Они медленно продвигались к центру зала. Самойлов не напрасно решил на первый раз не задерживаться в лаборатории — его, как и Якина, непрестанно зудила мысль: а выдержат ли скафандры обстрел смертельными дозами радиации? Устоит ли неощутимо тонкая пленка нейтрида перед гамма-излучениями, пробивающими бетонные и свинцовые стены? Пока индикаторы радиации ничего не показывают, но… кто знает? Может быть, в недоступные для контроля складки скафандра уже просочились неощутимые губительные частицы, может быть, уже впитываются в тело… Они подошли к центру лаборатории, к пульту мезонатора. Собственно, пульта уже не было: стоял полукруглый железный каркас с зияющими дырами выгоревших приборов, с оплавившимися обрывками медных проводов. Николай заметил, что все — и горелое железо, и медь, и бетон, и угли — было покрыто зеленовато-пепельным налетом. «Что это такое?» Он поднял голову, поискал Якова. Тот ушел немного вперед и стоял между стеной и остатком железной лесенки, которая поднималась к бетонному мосту у вспомогательной камеры. Верхних ступеней и перил не было, торчали только стальные оплавленные прутья, заломленные назад. Приземистая черная фигура Якина неторопливо поворачивалась из стороны в сторону, чтобы лучше рассматривать. Внезапно он замер, подняв руку: — Николай, смотри! Самойлов повернулся в ту сторону, куда показывала рука Якина, и вздрогнул. Против лесенки, на обожженной темно-коричневой кафельной стене, ясно белел силуэт человека. Николай, спотыкаясь о что-то, сделал к нему несколько шагов. Силуэт был большой, во всю двухэтажную высоту стены, без ног — они, должно быть, не уместились на стене, — и слегка размытый полутенями. «Так вот оно что!.. Вот они как!» Это была как бы тень наоборот. Тепловая и световая вспышка затемнила кафель, а заслоненная телом человека часть стены осталась белой. Была различима занесенная к голове рука — видно, человек последним движением хотел прикрыть лицо… — Вот что от них осталось — негатив… — Голос Якина в наушниках звучал хрипло: — Кто это, по-твоему: Голуб или Сердюк? — Не знаю. Не разберешь… Нужно потом сфотографировать. Они вышли через двадцать минут. Разделись, проверили себя и внутренности скафандров щупами индикаторов радиации. Скафандры выдержали: ни излучения, ни радиоактивный воздух лаборатории не проникли в них. Посидели, покурили. После мрачного хаоса лаборатории, комнатка административного корпуса казалась, несмотря на выбитые стекла, очень чистой и уютной. Николай задумался; перед его глазами стоял белый силуэт на темно-коричневой стене. Что же произошло? Взрыв в мезонаторе? Открыли ли они вчера вечером свой мезоний и погибли вместе с открытием? И что это за мезоний? Голуб, Иван Гаврилович… Самойлов попытался представить себе лицо Голуба — и не смог. Вспоминал, что была лысина с коротким венчиком седых волос; мягкий короткий нос, пересеченный черной дужкой очков; мясистое, грубоватое лицо, взгляд исподлобья. Но подвижный, живой образ ускользал. Это было неприятно: столько видели друг друга, столько поработали вместе!.. «А не потому ли ты не можешь вспомнить его, Николай, что почти все время был занят собой и только собой? — возникла злая мысль. — Своими переживаниями, своими идеями, своей работой — и ничем другим… Поэтому и не понял, о чем говорил тогда Голуб». Сердюк вспоминался яснее: лицо с хитроватым выражением, смуглое во все месяцы года, с длинным, острым носом, черными глазами… — Слушай, Яша, расскажи, что ты вчера видел? Яков коротко рассказал, как, оставшись вчера в своей лаборатории, он из окна смотрел на корпус напротив, видел двигавшихся по 17-й Ивана Гавриловича и Сердюка, больше не было никого; наблюдал, как они поднялись на мостик мезонатора; видел вспышку… О том, что вчера его осенила идея нейтрид-конденсаторов, он промолчал. Отдохнули. Снова стали собираться на место катастрофы. На этот раз взяли с собой фотоаппарат, счетчики радиации, геологические молотки, чтобы отбивать образцы для анализа. Теперь они ориентировались лучше. Самойлов, подбирая по пути кусочки металла и бетона, снова добрался до пульта. Здесь он начал водить трубкой щупа вдоль оплавившихся бетонных стен камеры мезонатора. Радиация резко усиливалась, когда щуп поднимался вверх, к вспомогательной камере, к тому месту, где был мостик. Яков быстро, чтобы не испортить пленку излучениями, фотографировал мезонатор, стену и ближайшие участки лаборатории. От интенсивных движений стало жарко. Скафандр не отводил тепло наружу; скоро в нем стало душно, запахло потом и разогретой резиной, как в противогазе. Николай взобрался на лесенку, поставил на верхние ступени, где лесенка обрывалась, свои приборы и гимнастическим движением вскарабкался наверх. Белый силуэт на стене находился теперь прямо за его спиной. Здесь все было расплавлено и сожжено вспышкой. Железобетонная стена вспомогательной камеры была разворочена и выжжена, в поде камеры зияла полуметровая воронка с блестящими оплавившимися краями. Из стены торчали серые прожилки алюминиевых труб. Бетон кипел, плавился и застыл мутно зеленой пузырящейся массой. «Горело все: металл, стекло, камень и… люди. От них осталась только белая тень». Ноги с ощутимым хрустом давили застывшие брызги бетона. Николай вспомнил о радиации, посмотрел на счетчик — ого! Стрелка вышла за шкалу и билась о столбик ограничителя. Он уменьшил делителем ток-стрелка двинулась влево, стала против цифры «5». Пятьсот рентген! Самойлову стало не по себе: возникло малодушное чувство, будто его голым опустили в бассейн уранового реактора. Мелкие мурашки пошли по коже, будто впитывались незримые частицы… — Яша, полезай сюда! Нужно сфотографировать. — Сейчас… — Якин с помощью Самойлова взобрался на бетонную площадку, осмотрелся. — Боюсь, что ничего не выйдет, уже темнеет. — Его голос был почти не слышен из-за треска помех. Но он все же сделал несколько снимков. В лаборатории в самом деле потемнело — ноябрьский день кончался. — На сегодня хватит, — решил Николай. Они слезли с мезонатора и направились к выходу. У выхода Самойлов обернулся и громко ахнул: лаборатория светилась в сумерках! Исковерканный мезонатор сиял мягким зеленым светом, свечение начиналось на трубах ускорителей и сгущалось к центру. Переливалась изумрудными оттенками развороченная площадка бетонного мостика; синевато светились оплавленные металлические трубы и прутья; голубым облаком клубился над мезонатором насыщенный радиацией воздух. — Так вот почему днем все казалось серо-зеленым! — сказал Самойлов. — Фосфоресценция… Только выйдя из лаборатории, они почувствовали, как напряжены их нервы от сознания того, что их окружала радиация, которая мгновенно могла убить незащищенного человека. Они устали от этого напряжения. Веснушчатое лицо Якина побледнело; он с безучастным видом выкуривал одну папиросу за другой. Николай сдал собранные кусочки бетона и металла в уцелевшие лаборатории на анализ, отдал проявить пленку и почувствовал непреодолимое желание уснуть.
РАССЛЕДОВАНИЕ
На следующий день они снова осматривали место взрыва и сделали два ценных открытия. Самойлов изучал полуметровую воронку в бетонном основании вспомогательной камеры. Конус ее сходился к небольшой, размером со спичечную коробку, дырке правильной прямоугольной формы. «Откуда эта дыра?» Николай наклонился над дном воронки, чтобы рассмотреть ее получше: глубокое узкое отверстие с ровными оплавленными краями уходило куда-то вниз. «Интересно…» Он наклонился ниже — и сразу неярким красным светом вспыхнула трубочка виллемитового индикатора внутри шлема. Ему это сияние показалось ощутимым, как удар тока, — радиация проникла в скафандр! Николай резко отдернул голову — трубочка погасла. «Ничего, все обошлось быстро, — с колотящимся сердцем успокаивал он себя. — Значит, гамма-лучи. Интересно, при какой же интенсивности скафандр начинает пропускать лучи?» Он поднес к воронке щуп, и стрелка счетчика метнулась к концу шкалы. 2000 рентген — то, что убивает незащищенного человека мгновенно… Якин, возившийся в это время за камерой, поднял голову и увидел, как в перископических очках Николая появился и исчез красный свет. — Ты чего это извергаешь пламя? — Тебе видно? Запомни: при двух тысячах рентген скафандр начинает пропускать гамма-лучи. Следи за счетчиком… — Добро… «Что же это за дыра? Дефект в бетоне? Не может быть, за такие дефекты изготовителям сняли бы голову!..» Самойлов опустил в отверстие щуп счетчика; стрелка заметалась по шкале, потом стала падать — радиация уменьшилась. Щуп ушел на 30 сантиметров в глубину, не встречая преграды. «Глубоко!» Он опустил щуп еще чуть ниже — и снова с пугающей внезапностью вспыхнул индикатор, на этот раз другой, справа у щеки, тот, который был связан с правым рукавом скафандра. Рука! Он слишком приблизил руку к радиоактивному бетону! Лицу стало жарко, по потной коже спины рванулись морозные мурашки. Самойлов потерял самообладание, резко отдернул обратно руку и вытащил из отверстия только обломок стеклянной трубки. — Ах ты, дьявольщина проклятая! — выругался Николай, забыв о микрофоне перед ртом. — Ты что? — донесся удивленный голос Якина. — Да щуп разбил, понимаешь… Эти чертовы вспышки только на нервы действуют! — А-а… Иди-ка сюда! — В голосе Якова слышалось удивление. — Здесь, кажется, была неисправность. Самойлов слез с камеры и, осторожно обходя обломки труб, железа и бетона, подошел к Якину. Тот — по другую сторону мезонатора — согнулся над переплетением толстых медных шин, изоляторов и катушек. — Вот, смотри… Я решил проверить электрическую часть. Это, если помнишь, вытягивающие электромагниты… — Он черной перчаткой коснулся катушки на железном сердечнике, покрытой лоснящейся масляной бумагой. — Видишь? Типичное короткое замыкание на корпус. Действительно, в одном месте через масляную бумагу к железу сердечника выходила черная, обуглившаяся линия: будто червяк прогрыз в изоляции дорожку от меди к железу. Это было место пробоя. — Вытягивающие электромагниты отказали. Понимаешь? — Ну и что? — возразил Николай. — При таком взрыве, конечно, должны быть всякие пробои, короткие замыкания и тому подобное, хотя бы от высокой температуры. Здесь все полетело, не только эти магниты… («Нашел какую-то мелочь!» — подумал Самойлов, раздраженный своей неудачей.) Ты, я вижу, везде находишь электрические пробои… Ладно, сфотографируй, потом разберемся…Но Яков все-таки доказал свое. Вечером на полу одной из комнат института была расстелена огромная сиреневая фотокопия общего вида мезонатора. Самойлов и Якин ползали по ней на коленях. — Так….. Вот здесь главная камера, тут облучение… — задумчиво повторял Николай, водя карандашом. — Там — окно во вспомогательную камеру. Рядом были разложены еще не просохшие увеличенные фотоснимки того, что сейчас осталось от камер. Снимки были покрыты сыпью белых точек — следами радиации. — Взрыв произошел здесь, во вспомогательной камере, — рассуждал Николай. — Заметь: не в главной, а во вспомогательной, у самого ввода в главную. Странно… Анализа образцов еще не принесли? — Нет. Нужно позвонить. — Голос Якова прозвучал слабо и хрипло. Николай внимательно поглядел на него: — У тебя глаза красные. Устал? — Нет… — Яков упрямо крутнул перевязанной головой. — Угу. Так, значит, здесь… Кстати, где деталировка? Нужно выяснить, откуда появилось это странное отверстие. — Самойлов порылся в чертежах и развернул лист, на котором было вычерчено: «Плита основания вспомогательной камеры мезонатора, материал — бетон, масштаб 1:2». Сравнил с фотографией. Снимки вышли неважно, от обилия радиации они были скорее похожи на рентгеновский снимок. Особенно светлой выглядела воронка с черным прямоугольным отверстием в центре. На чертеже этого отверстия в плите не было. Яков ушел узнавать об анализе образцов. Самойлов подошел к окну, раскрыл форточку, подставил голову струе холодного воздуха… Беспорядочно бежали мысли: «Голуб облучал нейтрид минус-мезонами. Что-то новое получилось у них, какое-то неожиданное вещество. Мезоний? Сам Иван Гаврилович весьма абстрактно представлял себе его. Может быть, именно это вещество выделило громадную ядерную энергию. Но как? Распалось ли оно в момент образования под лучом мезонов? Или они нечаянно получили больше критического количества нового делящегося элемента? Или обычный нейтрид самопроизвольно разрушился? Но под воздействием чего?» Возбужденный оклик вернувшегося Якина рассеял мысли. — Слышишь? Анализ наших образцов еще обрабатывается, принесут завтра, — скороговоркой выпалил тот. — Я звонил главному энергетику на подстанцию. Этому, знаешь, Глейзерману? Да… Спрашиваю: «Когда произошел взрыв, мезонатор работал?» — «Нет, говорит, минут за пять до этого выключили высокое напряжение б лаборатории». Понимаешь? Я еще переспросил: «Точно ли?» Он даже обиделся: «Конечно, точно, безусловно. Нужно быть идиотом, чтобы не заметить это, ведь мезонатор Голуба тянул полторы тысячи киловатт!» — Ну и что же? — А то, что короткое замыкание в электромагнитах главной камеры, которое я тебе показывал, не могло произойти в момент вспышки по той простой причине, что в этот именно момент на электромагнитах не было напряжения. Замыкание произошло раньше! — А ведь верно! Странное обстоятельство! — Самойлов шальными глазами устало посмотрел на Якина. — Завтра нужно еще сходить в лабораторию. Меня волнует эта дырка…
— Непонятно! — озадаченно пробормотал Николай, вытаскивая прут из отверстия в воронке. Он заранее сделал отметки на этом пруте, чтобы измерить глубину дыры. Произошло непонятное: за ночь отверстие углубилось! Вчера он опускал в него тридцатисантиметровый щуп счетчика и хорошо помнит, что коснулся дна, прежде чем, испуганный вспышкой индикатора, сломал его. А сейчас прут вошел в отверстие больше, чем на полметра… Они уже привыкли к скафандрам, к непрерывному треску ионизации в наушниках; свыклись с мыслью об огромной радиации вокруг них. Только увесистые кислородные приборы неловко горбились на спине, да перископические очки неудобно стесняли обзор. Николай отыскал Якова — тот осматривал ускорители протонов — и подозвал его. Узнав, в чем дело, Якин удивился: — Мистика какая-то! Здесь никто не был без нас?.. Впрочем, идиотский вопрос! Кому это нужно? — Он наклонился над воронкой. — Осторожно!.. Но Якин уже сам отшатнулся — сработал индикатор. Самойлов увидел, как по бетону скользнул красный луч — виллемитовая трубочка через перископ бросила свет наружу. «Зайчик»! Это навело его на новую мысль. — Черт бы побрал эти индикаторы! — ругался Яков. — Только пугают… «Рискнуть? Ведь индикаторы показывают интенсивность облучения, опасную только при долгих выдержках. А если быстро?..» — Постой-ка! — Николай отстранил Якина. — Я сейчас попробую заглянуть в эту дырку. Он стал наклоняться над воронкой, стараясь сквозь перископы заглянуть внутрь черного прямоугольника. «Вот сейчас будет вспышка». От напряжения Николай сжал зубы. Вспыхнула трубочка индикатора — гамма-лучи проникли в шлем. Но он ждал этого и не отпрянул. Призмы перископа метнули красный отблеск на стены воронки. Николай, почти физически ощущая, как губительные кванты мурашками проникают в кожу лица, навел «зайчик» на отверстие. Красный лучик скользнул по гладким стенкам канала и упал на дно: там было что-то черное. «Хватит!» — Он выпрямился. — Ну, ты прямо, как врач-ляринголог! — с восхищением сказал Яков. — Какой врач? — Николаю страшно захотелось покурить. Забыв, что на нем скафандр, он провел рукой по боку, ища карман с папиросами. — Да эти, которые «ухо, горло, нос»… Они таким же способом заглядывают в горло пациента, — объяснил Якин. — У них зеркальце на лбу… Ну, что там? — Нейтрид! И как мы сразу не догадались! Ведь они облучали пластинку нейтрида. Он, наверное, накалился до десятков тысяч градусов и проплавил бетон, как воск, понимаешь? Ушел в бетон… — Значит, он еще не остыл? — Конечно! Поэтому-то отверстие и углубляется… Нужно его вытащить. Выйдя из лаборатории, они сверились с чертежами. Раскаленный кусочек нейтрида проплавил уже больше двух третей бетонной плиты, — значит, удобнее добыть его снизу. Они вернулись в лабораторию с отбойными молотками, за которыми волочились резиновые шланги и, стоя на коленях под мостиком, по очереди стали дырявить плиту. Через час последним ударом отбойного молотка пятикилограммовая прямоугольная пластинка нейтрида вывалилась из бетона. Прилипшие к ней крошки бетона раскалились докрасна и превратились в мелкие капли. Когда пластинка остыла и ее положили под микроскоп, то заметили в центре мелкую щербинку — размерами всего в десятки микрон. Если бы под микроскопом лежал не нейтрид, то щербинку можно было бы приписать случайному уколу булавкой.
Александр Александрович Тураев, походив тогда налегке под пронзительным ноябрьским ветром, простудился и сейчас лежал в постели с опасной температурой — много ли нужно старику в восемьдесят лет. Посоветоваться было не с кем. Самойлов и Якин сами попытались систематизировать все то отрывочное и несвязное, как фразы больного в бреду, что накопилось у них после нескольких посещений 17-й лаборатории. Якин составил перечень:
«1. Голуб и Сердюк со своими помощниками облучали образцы нейтрида отрицательными мезонами больших энергий с тем, чтобы выяснить возможность возбуждения нейтронов в нейтриде. Такова официальная тема. 2. Сведения от главного энергетика: взрыв произошел не во время опыта, а после него, когда мезонатор был уже выключен из высоковольтной сети института. 3. Взрыв произошел не в главной камере, где шло облучение мезонами, а во вспомогательной, промежуточной, откуда образцы обычно извлекаются из мезонатора наружу. 4. В образце нейтрида, найденном в воронке, обнаружена микроскопическая щербинка размером 25×30×10 микрон. Такую ямку невозможно ни выдолбить в нейтриде механическим путем, ни вытравить химическим. 5. Обнаружено короткое замыкание в электромагнитах, вытягивающих из главной камеры положительные мезоны и продукты их распада. Это замыкание не могло произойти при взрыве, так как в этот момент мезонатор был выключен. Таким образом, можно предположить, что опыт облучения нейтрида происходил не в чистом вакууме, а в „атмосфере“ из плюс-мезонов и позитронов. 6. Обнаружен силуэт на внутренней кафельной стене лаборатории. Судя по четким контурам его, первоначальная вспышка света и тепла была точечной, сосредоточенной в очень малом объеме вещества. 7. Проведенный анализ радиации образцов воздуха, металла и бетона из 17-й лаборатории показал, что характер радиоактивного распада после этой вспышки не совпадает с характером радиоактивности при урановом, плутониевом или термоядерном взрыве».— Гм, гм… — Самойлов положил листок на стол и прошелся по комнате из угла в угол. Он, как и Яков, осунулся за эти дни: смугловатое лицо стало желто-серым от бессонницы, на щеках отросла густая черная щетина. — Ты знаешь, — повернулся он к сидевшему у стола Якину, — я не могу себе представить, чтобы Сердюк просто не заметил вот это замыкание в вытягивающих магнитах. Не-ет… Ведь он, Алексей Осипыч, буквально чувствовал, где и что неладно! И вдруг такой грубый промах… Да наконец, ведь в мезонаторе была аварийная сигнализация. — Может быть, они заметили, но не придали значения? — сказал Якин. — Не хотели прерывать опыт? Самойлов молча пожал плечами. И снова они курили и думали об одном и том же. Николай подошел к окну. За окном чуть синели ранние сумерки. В воздухе, открывая зиму, кружил легкий праздничный снежок. Лохматые снежинки окутывали в декоративное кружево черный обгорелый труп «стеклянного» корпуса. Рабочие обносили корпус проволочной изгородью и вколачивали колышки с табличками: «Осторожно! Радиация!» «Наверное, скоро корпус будут сносить…» — лениво подумал Николай. В комнате было тепло — уже заработало паровое отопление. Ожившая от теплоты единственная муха ползала по стеклу, потом переворачивалась и, остервенело жужжа, билась крылышками об ощутимую, но невидимую преграду. Самойлов следил за ее движениями; вот так и он: чувствует, но не понимает, где главное препятствие. «Что же произошло? Что произошло? Что?» — надоедливо и бессильно билась в мозгу мысль. Николай вздохнул и, подойдя к столу, взял листики анализов радиации; несколько минут рассматривал их против света. — Ты знаешь, я где-то видел вот такие же данные, — задумчиво произнес он. — Или очень похожие… Якин скептически фыркнул. — Очень может быть: ты их рассматриваешь уже пятнадцатый раз… — Не-ет, это ты брось… Я видел их где-то очень давно. Где? — Самойлов снова разложил таблицы анализа и стал сравнивать их. Привычное мышление физика позволило ему по цифрам представить вид, длительность и спектры радиоактивного распада. Возникшие в воображении кусочки бетона и металлов, впитавшие в себя неизвестные ядерные осколки, излучали какие-то очень знакомые виды радиации. Какие?.. Память мучительно напряглась, и Николаю показалось, что он наконец вспомнил. Не доверяя своей догадке, он бегом помчался по лестницам и по двору в белый двухэтажный домик, где помещались библиотека и архив. В комнатах архива пахло замазкой: стекольщики осторожно вставляли в окна звонкие листы стекла взамен выбитых взрывом. Было холодно — служительницы надели пальто поверх синих халатиков. — Девушка! — едва не столкнувшись с одной из них, крикнул Николай. — Где у вас лежат материалы по теме «Луч»? Через несколько минут он рылся в старых, замусоленных и запылившихся лабораторных журналах. Чем-то грустным и близким пахнло на него от страниц, неряшливо заполненных столбиками цифр, графиками, таблицами, схемами и всевозможными записями. Вот его записи. Оказывается, у него испортился почерк, раньше он писал красивее. Вот Яшкины записи анализа радиоактивности первых образцов, облученных минус-мезонами. А вот — Ивана Гавриловича: четкий и крупный почерк опытного лектора. Вот целый лист заполнен каким-то хаосом из формул, схем и цифр: это когда-то он спорил с Сердюком — теперь не понять и не вспомнить, по какому поводу, — и оба яростно чертили на бумаге свои доводы. На минуту Николай забыл, что он ищет в этих журналах, — его охватили воспоминания. Ведь это было очень недавно — всего два года назад. Они с Яковом тогда были… так, ни студенты, ни инженеры, одним словом — молодые специалисты. Мало знали, мало умели, но зато много воображали о себе. Облучали мезонами разные вещества, искали нейтрид и не верили, что найдут его; слушали житейские сентенции Сердюка и научные рассуждения Ивана Гавриловича… Вот женский профиль, в раздумье нарисованный на полях, а под ним предательская надпись рукой Якова: «Это Лидочка Смирнова, а рисовал Н. Н. Самойлов». Ну да, ведь он тогда чуть не влюбился в Лидочку, инженера из соседней лаборатории. Но это увлечение было так скоротечно, что не оставило никаких следов ни в его душе, ни в дневнике. Начались самые интенсивные месяцы их работы, было некогда, и Лидочка благополучно вышла замуж за кого-то другого… И вот нет ничего… Нет Голуба. Нет Сердюка. Нет мезонатора — только груда радиоактивных обломков. Есть нейтрид и еще что-то неизвестное, что нужно узнать… «Ну, размяк!» — одернул себя Николай. Он достал из кармана анализы, расправил их и начал сравнивать с записями в журналах. Через четверть часа он нашел то, что искал: данные анализов сходились со спектрами радиоактивности тех образцов, которые они облучали больше двух лет назад, еще до возникновения идеи о нуль—веществе… Николай почувствовал, что найдена ниточка, очень тоненькая и пока не известно куда ведущая.
— Хорошо. Ну и что же? — спросил Яков, когда Николай рассказал ему об этом «открытии». — Что из этого следует? — Многое. Слушай, мы теперь уже действительно кое-что знаем об этом веществе: знаем, что оно распалось с выделением огромной энергии, большей, чем при синтезе тяжелого водорода; что оно, хоть и слабо, но способно разрушать несокрушимый нейтрид; наконец, что оно распалось с выделением мезонов… — Да, но нам неизвестно, как именно оно возникло в их опыте, — возразил Якин. — Вот что: раз кое-какие обстоятельства рождения этого вещества мы установили, так не повторить ли нам эксперимент Голуба и Сердюка, а? Тогда и увидим… Так же отключим вытягивающие электромагниты, так же будем облучать нейтрид быстрыми мезонами… — …так же разлетимся на отдельные атомы, и никто потом не разберет, где твои атомы, а где мои! — закончил Самойлов. — Это же авантюра! — Ты, пожалуйста, без демагогии! — разозлился Яков, и щеки его вспыхнули пятнами. — «Авантюра»! Опровергай по существу, если можешь! Николай внимательно посмотрел на него: «Еще не хватало поссориться сейчас». — Хорошо, давай по существу, — сказал он примирительно. — Во-первых, мы не знаем режима работы мезонатора, ведь лабораторный журнал Голуба сгорел. А ты помнишь, сколько месяцев мы искали режим для получения нейтрида? Во-вторых, ты думаешь, у нас на заводе или в каком-нибудь другом институте, где есть мезона-торы, тебе разрешат заниматься такими непродуманными и опасными опытами? В-третьих… — Ладно, убедил! — поднял руки Яков. — Что же ты предлагаешь? — Думать! Ну, а уж если ничего другого не придумаем… будем ставить опыт. Действительно, другого выхода не вижу…
Николай шел через парк к троллейбусной остановке. Снег прекратился. Дорожка по аллее была протоптана немногими пешеходами. Во влажном воздухе ясно светили сквозь деревья редкие фонари. По сторонам аллеи стояли на гипсовых тумбах посеревшие от холода статуи полуголых атлетов с веслами, ядрами и дисками. Двое малышей, приехавших в парк обновить лыжи, лепили плотные снежки и старались попасть в атлетов. По этой же аллее, совсем еще недавно, шли они вдвоем с Голубом и спорили. Иван Гаврилович тогда толковал о мезонии. «…мы еще очень смутно представляли себе возможности того вещества, которое сами открыли», — будто услышал Николай его раскатистый и четкий, с внушительной хрипотцой, голос. Постой, постой! Что-то было в этом воспоминании, что-то близкое к сегодняшним спорам и «открытиям». Николай даже остановился и прислушался к себе, чтобы не спугнуть тончайшую мысль. Где-то рядом с ветвей падали капли, падали, будто подчеркивая тишину, так звонко и размеренно, что по ним можно было считать время. Что же он тогда сказал? Об одном непонятном эффекте… Он у них получался несколько раз… Ага! Николай почувствовал, как у него отчаянно забилось сердце… «Если долго облучать нейтрид в камере быстрыми мезонами, — сказал тогда Иван Гаврилович, — то он начинает отталкивать мезонный луч… Похоже, что упрямый нейтрид все же заряжается отрицательно…» Так… Но потом, когда они вытаскивали пластинку нейтрида, то никакого заряда на ней не оказывалось. Значит, у них под мезонным лучом нейтрид заряжался и, видимо, очень сильно. А когда вытаскивали его на воздух… Воздух!!! Вот новый фактор! Самойлову от нахлынувших мыслей, от усталости на миг стало дурно; он набрал пригоршню снега и стал тереть лицо… Это была еще одна идея, и она оказалась решающей.
СЕНСАЦИЯ
Читатель должен помнить, что описываемые события, хотя и происходили в разных концах земного шара, но совпадали во времени. Поэтому и главы, излагающие их, переплелись таким образом. В этой главе собраны газетные вырезки, посвященные взрыву завода в Нью-Хэнфорде.«СООБЩЕНИЯ ОБ АТОМНОЙ КАТАСТРОФЕ В КАЛИФОРНИИ.
12 ноября. („Ассошиэйтед Пресс“.) Сегодня в 10 часов 10 минут утра по местному времени на одном из новых атомных заводов, в Нью-Хэнфорде (на юге Калифорнии, в бассейне реки Колорадо), произошел гигантский атомный взрыв. Звук взрыва был слышен на расстоянии 80 километров. Сотрясение почвы зафиксировано почти во всех городах западных штатов. На заводе находилась дневная смена рабочих. Причины взрыва неизвестны».
«„Сан-Франциско Морнинг пост“. Это был взрыв, по признакам напоминавший испытание урановой бомбы самого крупного калибра. В утреннее безоблачное небо Калифорнии взметнулся огненный гриб, который увидели в Сан-Бернардино и в Финиксе. Фотография, сделанная случайно с расстояния в 20 километров, зафиксировала уже последнюю стадию опадания огня и пыли… На заводе в это время находилось около 280 рабочих и инженеров. Очевидно, никто из них не сможет рассказать, как было дело. Немногие уцелели и из тех, кто в это время находился в домах прилегавшего к заводу поселка. Те, кого удалось спасти, либо находятся в таком тяжелом состоянии, когда всякие расспросы неуместны, либо сами ничего не могут объяснить. Город Нью-Хэнфорд фактически превращен в радиоактивную пустыню».
«„Чикаго геральд“. Что производил засекреченный завод в Нью-Хэнфорде, который принадлежал раньше концерну „XX век“, а теперь принадлежит только богу? Атомные бомбы? Но это монополия правительства. Урановые реакторы для электростанций? Вряд ли это было бы покрыто такой таинственностью, которая превосходила даже секретность обычных стратегических исследований, — такое начинание обязательно разрекламировалось бы. По некоторым сведениям, не подтвержденным еще правлением концерна (которое вообще старается сохранить невозмутимое молчание в этой трагедии!), на заводе производился нейтриум — ядерный материал огромной плотности и прочности, открытый несколько лет назад независимо друг от друга учеными США и России. Неужели этот материал, способный облагодетельствовать человечество, применялся для увеличения эффективности ядерных бомб? В свое время законопроект о разрешении группам частных предпринимателей заниматься „атомным бизнесом“ встретил горячие возражения со стороны сенаторов-республиканцев. Наша партия и сейчас придерживается прежних взглядов на этот счет. Катастрофа в Нью-Хэнфорде, беспрецедентная для всей истории атомной промышленности, — блестящее, хотя и излишне трагическое подтверждение правильности нашей позиции».
«Агентство „Ньюс“. В Соединенных Штатах объявлен траур по случаю трагической гибели более чем 700 человек в Нью-Хэнфорде. Население прилегающих городов и селений бежит от распространения радиации».
«„Юнайтед Пресс корпорейшен“. Представитель правления концерна „XX век“ Эндрью А. Дубербиллер на пресс-конференции в Сан-Франциско огласил заявление от имени правления концерна. Заявление было очень кратким. В нем сообщалось, что на заводе в Нью-Хэнфорде действительно производились изделия из нейтриума и имелся некоторый запас обогащенного изотопом-235 урана. В интересах внешней безопасности государства правление в настоящее время не может сообщить, какие именно стратегические заказы выполнял концерн на этом заводе. Дубербиллер утверждал, что вся работа на заводе и хранение запасов делящегося материала производились при тщательном соблюдении правил техники безопасности и что даже за день до катастрофы не было замечено никаких угрожающих признаков. Ведется расследование. Семьи погибших рабочих и служащих завода получат вознаграждение за счет концерна. Э. Дубербиллер отказался отвечать на все вопросы корреспондентов».
Из проповеди настоятеля англиканской общины в Лос-Анжелосе, Христофора Стилла, транслировавшейся по радио: «…Я позволю себе напомнить верующим братьям и сестрам некоторые идеи аббата Лэметра о возникновении Вселенной. Этот ученый, пытавшийся логическим путем постигнуть мудрость господа, сотворившего наш мир, показывает следующее: некогда мир состоял из одного гигантского ядра первичного вещества — нейтрнума, затем от неестественных причин произошел исполинский взрыв этого сверхплотного и сверхпрочного вещества, и мир разлетелся звездами. Следы этого взрыва ученый еще и сейчас находит во Вселенной… Я спрашиваю: а разве не это первичное вещество — нейтриум — производилось на погибшем заводе в Нью-Хэифорде? Разве не можем мы, просветленные как верой, так и наукой, увидеть в трагическом взрыве на этом заводе руку бога, указующего нам на грехи наши? Если он создал мир из нейтриума, то не может ли он и прикончить его таким же путем? Я спрашиваю: не есть ли это предостережение?..»
Из официального заявления представителя Белого дома для печати. «Научная и военная общественность Соединенных Штатов Америки скорбит по поводу безвременной трагической гибели двух крупных деятелей американской науки, армии и промышленности — директора завода в Нью-Хэнфорде, доктора физики, профессора университета в Беркли Германа Дж. Вэбстера и бригадного генерала, члена правления концерна „XX век“, члена артиллерийского комитета министерства обороны Рэндольфа Хьюза. Как выясняется теперь, доктор Вэбстер и генерал Хьюз в эти дни осуществляли один гигантский стратегический эксперимент, который закончился успешно. Установлено, что в момент взрыва они находились на заводе в Нью-Хэнфорде…»
Из доклада сенатора Старка, возглавлявшего комиссию по расследованию катастрофы в Нью-Хэнфорде: «…В настоящее время причин взрыва установить не удалось. Местность в радиусе нескольких миль заражена исключительно активной радиацией. По ночам над районом взрыва светится воздух. Таким образом, непосредственное расследование очага взрыва исключается до тех пор, пока активность радиации не уменьшится до допустимых пределов. Произведенный экспертами анализ радиоактивных остатков, к сожалению, не прибавил ясности в исследуемом вопросе. Они сошлись только на том, что такие радиоактивные следы не мог оставить ни урановый, ни ториевый, ни плутониевый, ни термоядерный взрыв… Будет ли установлена истина о взрыве — предсказать невозможно. Очевидно, что катастрофа уничтожила и материальные следы причин ее возникновения…»
В ЗАПАДНЕ
Они были еще живы, когда о них печатали некрологи. После грома и сотрясения стен они пришли в себя сравнительно быстро. Вэбстер, при падении ударившийся об угол чугунного стеллажа, очнулся от боли в плече. Было тихо и темно. Несколько минут он лежал на холодном шершавом полу, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Но как ни расширял он напряженные глаза, как ни всматривался, темнота по-прежнему оставалась непроницаемой; ни одного кванта света не просачивалось сюда снаружи. Откуда-то доносилось частое прерывистое дыхание. Вэбстер осторожно поднялся на ноги, ощупал себя. Плечо было цело — отделался ушибом. — Генерал, вы живы? — негромко спросил он. Невдалеке послышался хриплый стон. Вэбстер нашарил в кармане зажигалку, чиркнул ее. Вспыхнувший на фитиле огонек показался нестерпимо ярким. Колеблющийся свет выхватывал из темноты серые куски колонн, контейнеры с черными снарядами — от сотрясения некоторые из них сдвинулись с катков и перекосились. Впрочем все было сравнительно цело. «Что же произошло?» Вэбстер медленно продвигался вперед и едва не споткнулся о тело генерала. Тот лежал плашмя на полу, серый мундир сливался с бетоном. Глаза были закрыты, большой живот судорожно поднимался и опускался. Вэбстер, став на колени, расстегнул пуговицы у него на груди, потер ладонями лицо. Генерал пришел в себя, со стоном сел, посмотрел на Вэбстера дико расширенными глазами: в них был такой страх, что Вэбстеру стало не по себе. — Что с нами? Что случилось там? — Я знаю не больше вашего, Рэндольф. Кажется, произошел взрыв… вероятно, атомный. — Что это — война? Внезапное нападение? — Вряд ли… Не знаю, — раздраженно бросил Вэбстер. — Мне еще ничего не доложили. Бензиновый огонек в зажигалке заметно уменьшился. Вэбстер захлопнул крышку и спрятал зажигалку в карман. Все погрузилось в темноту. — Что вы делаете? Зачем погасили свет?! — панически крикнул генерал. — Нужно беречь бензин. Вам следует успокоиться, генерал! Они замолчали. «Что же произошло? — напряженно раздумывал Вэбстер. — Война? И первая ракета — на Нью-Хэнфорд? Сомнительно… Есть много гораздо более достойных объектов. Катастрофа? Но какая? Ведь все запасы урановой взрывчатки собраны здесь, на складе, и они целы… А взрыв был такой силы, что не ядерным он быть не мог. Если так… — он почувствовал, что покрывается холодным потом, — мы заживо погребены под радиоактивными развалинами…» Он поднялся. — Куда вы? — Посидите спокойно здесь. Я попытаюсь разведать наше положение. Он чиркнул зажигалкой и осторожно пошел между контейнерами. Генерал в смятении следил за синеватым трепещущим огоньком, за удаляющейся длинной тенью Вэбстера. Наконец все исчезло в глухой темноте. Генерал провел рукой по лбу, собираясь с мыслями. Что же случилось? Еще недавно все было великолепно: они осматривали запасы нейтриум-снарядов; шли по цеху, где двумя рядами стояли огромные и сложные мезотроны; мчались на автомобиле по пустынному солнечному шоссе — наблюдали за серебристым диском Луны, на котором рвались водородные снаряды; наводили «телескоп» и видели неяркие в свете дня вспышки атомных выстрелов. Летели на геликоптере к потухшему вулкану… Все было великолепно, все подчинялось и было на своем месте. И он был над всем этим порядком, он был над жизнью… И внезапно все перевернулось: удар, темнота, гибель. Гибель?! Неужели он скоро умрет? Он, Рэндольф Хьюз, которому так легко и охотно подчинялось все: и жизнь, и деньги, и люди. Он, который так любит жизнь и так хочет жить? Умрет здесь, в темноте, простой и медленной смертью?! Нет, не может быть! Кто-нибудь другой, но только не он… Он не хочет умирать. Не хочет!.. Генерал зажал себе рот, чтобы не закричать. «Что же делать? Господи, что же делать? Господи!..» Он стал горячо молиться. Пусть бог сделает чудо!.. Он всегда был верным христианином, он всегда противостоял своей верой против скепсиса грубых атеистов. Он имеет право на заботу господа. Пусть бог придумает что-нибудь, чтобы он спасся. Он никогда не думал, что смерть — это так страшно и трудно. Пусть бог сделает так, чтобы он спасся. Он, может быть, и сам потом пожелает умереть, но в другой раз… и не так. Он еще многое может сделать, он еще не так стар — всего пятьдесят лет… Пусть его спасут как-нибудь, о господи!..Вэбстер, спотыкаясь, поднимался по ступеням. Бензин в зажигалке уже выгорел — огонек погас. Вэбстер только изредка чиркал колесиком, чтобы хоть вылетающими из кремешка искрами на мгновение разогнать темноту. Здесь было теплее, чем внизу, — он чувствовал, что потоки теплого воздуха идут сверху. — Ноги глухо шаркали по бетонным ступеням. После первой площадки жар стал ощутимее. Вэбстер потрогал ладонью стены — бетон был заметно теплым. Впереди забрезжил свет. Вэбстер секунду поколебался, потом начал подниматься выше. Малиново-красный свет усиливался, уже можно было различить ступени под ногами. Жар бил в лицо, становилось трудно дышать… Вэбстер вышел на последнюю площадку перед выходом. Перед ним, в нескольких шагах, ровным малиновым накалом светилась большая стальная дверь. Отчетливо были видны полосы заклепок, темный прямоугольник замка. Из-под краев двери тонкими щелями пробивался свет. И этот свет, проникая внутрь, расходился слабым, чуть переливающимся голубым сиянием. Радиация! Вэбстер попятился назад и едва не сорвался со ступеньки. Итак, они не были ни завалены, ни заперты. Выход был свободен, дверь уцелела. И за ней — свет, воздух… Но их погребла здесь смертельная радиация. Она мгновенно уничтожит первого, переступившего порог склада. Да, несомненно, это была атомная вспышка — фугасный взрыв так не нагрел бы дверь. Вэбстер, шаря по стенам, вернулся вниз. Из темноты доносилось лихорадочное бормотание. Вэбстер прислушался: генерал молился… «Старый трусливый кретин! Он еще рассчитывает на бога!» Его охватило холодное бешенство.
Смену дня и ночи Вэбстер определял по щели под стальной дверью. Ночью щель темнела, и тогда просачивающийся радиоактивный воздух был заметен более явственно. Дверь уже почти остыла и не светилась больше малиновым накалом, только по-прежнему от нее шел теплый воздух. Постепенно накаливался бетон стен: даже внизу, в складе, было душно. Они потели от малейших движений и от голодной слабости. На второй день Вэбстер нашел в одном из закоулков склада пожарную бочку с теплой водой, противно отдающей нефтью. Генерал пил из бочки часто и жадно. Они почти не разговаривали между собой и много спали. Пока был бензин в зажигалке генерала — курили. Потом кончился и бензин и сигареты. С этого времени глухая темнота окутала все: они не видели и почти не замечали друг друга. Генерал уже не молился, только в беспокойном сне несвязно бормотал не то молитвы, не то проклятия. Так прошло четыре дня. Они еще надеялись на что-то…Вэбстер несколько раз подходил к двери. Ее можно было легко отодвинуть; раз есть щели, значит, она не заклинилась. А там — свет, свобода, воздух… и радиация. Он в нерешительности стоял и поворачивал обратно. Генерал впал в состояние тупого безразличия ко всему. Однажды, когда Вэбстер нашел на стеллажах оставленный кем-то небольшой ломик и окликнул генерала, тот долго не отзывался. Вэбстер нашел его в темноте, с руганью растолкал. Генерал долго не мог понять, что от него требуется, потом со стонами, кряхтением поднялся с пола и медленно побрел к двери. Долго, сменяя друг друга, они били ломиком в гулкий металл двери, били до полного изнеможения, пытаясь кого-нибудь привлечь звуками. Но никто не отзывался. На Хьюза эти упражнения подействовали несколько оживляюще: теперь он бродил по складу, что-то глухо бормоча про себя. Несколько раз они сталкивались — и бормотание замолкало. Вэбстер чувствовал что-то угрожающее в этой затаившейся в темноте фигуре. Когда он пытался завести разговор, генерал не отвечал. Однажды — это было на шестой день — Вэбстер спал. Сон был беспокойный, в нем повторялись назойливые видения: серое солнце над темными горами, вспышка атомного выстрела из «телескопа», потом темнота, снова вспышка. Сквозь сон он услышал какой-то шорох и проснулся, настороженно прислушиваясь. Шорох перешел в шарканье, приближающееся сзади. Вэбстер сел: — Рэндольф, это вы? Из темноты послышалось тяжелое сопение, звякнул металл. И Вэбстер скорее почувствовал, чем заметил, что над его головой занесен ломик. Он отшатнулся в сторону, пытаясь встать. Ломик больно чиркнул его по виску и бессильно упал на мякоть плеча. — Рэндольф, вы с ума сошли?! (Должно быть, так оно и есть.) — Вэбстер вскочил, стал вслепую нашаривать воздух. Он поймал дряблую кисть генерала как раз вовремя: занесенный снова ломик выпал и звонко покатился по полу. Хьюз, остервенело сопя, всей тушей навалился на Вэбстера, оба упали. Это было как кошмар во сне — когда ощущаешь надвигающуюся опасность и нет сил ни сопротивляться, ни убежать. Вэбстер бессильно извивался, придавленный генералом, по очереди отрывая обеими руками то одну, то другую его кисть от своего горла. Вэбстер почувствовал под своей спиной что-то твердое. Извернувшись, он левой рукой вытащил из-под себя ломик и из последних сил несколько раз ударил им по голове генерала. Тело Хьюза дрябло обмякло, отяжелело; пальцы его еще некоторое время бессильно сжимали горло Вэбстера, потом разжались. Вэбстер поднялся, опираясь на контейнер. От изнуряющей слабости подкашивались ноги, лихорадочно колотилось сердце. «Он хотел убить меня! Мания? Или он хотел сожрать меня, чтобы пожить еще немного?» Генерал глухо и отрывисто простонал. Вэбстер в инстинктивном страхе отодвинулся. Он почувствовал, как от бессильного отчаяния по щекам покатились слезы. «Господи, как звери! Даже хуже, чем звери… Что же, теперь мне есть его?» Генерал еще несколько раз глухо простонал, потом затих. Вэбстер, тяжело нагнувшись, нащупал на полу ломик — он был в чем-то теплом и липком — и, пошатываясь, направился к выходу. Нет, он больше не может так… Лучше уж сразу… От двери пахло горелым металлом. Вэбстер просунул острие ломика в щель, навалился на него всем телом — и дверь с протяжным скрежетом отодвинулась. Снаружи хлынул странный зелено-синий свет. Вэбстера на миг охватил страх перед пространством: здесь, за дверью, в темноте, было привычнее и безопаснее. Он шагнул назад, потом пересилил себя и вышел наружу. Вэбстер не сразу понял, что стояла ночь, — так вокруг было светло. Он рассеянно осмотрелся, пытаясь вспомнить, где что было; но повсюду только фантастическое нагромождение оплавившихся обломков камня, железа, бетона. Все это светилось ровным, без теней, светом. Казалось, что вокруг рассыпаны обломки разбитой снарядами Луны… Вэбстер осмотрел себя: перепачканные, черные тонкие руки, мятые изодранные брюки, свалявшийся, покрытый какими-то пятнами пиджак. Все это выглядело странно, мучительно странно… Он напряг мысль, чтобы понять, в чем дело: ну да, он ведь тоже не оставляет теней. «Как привидение…» Все мягко светилось, даже стена, к которой он прислонился. После нескольких неверных шагов по обломкам Вэбстер едва не свалился, поставив ногу на обманчиво светившийся острый камень. Что делать? Куда идти? Он беспомощно огляделся: вокруг было все то же ровное зеленое сияние, где-то вверху слабо светили редкие звезды — будто в тумане. Его охватило отчаяние. Как выбраться из этого светящегося радиоактивного кошмара? Может быть, закричать? Он набрал в легкие побольше воздуха: — На помощь! Помоги-ите!.. Крик получился слабый и хриплый. От напряжения он закашлялся. Тишина ночи равнодушно и внимательно слушала его. Ни звука не раздалось в ответ. Вэбстер почувствовал, что ему неудержимо хочется плакать; бессильная жалость к себе подступала тугим комком к горлу. Он сделал еще несколько шагов, оступился о что-то, сел на светящуюся землю и заплакал…
Слезы просохли так же внезапно, как и возникли. Теперь Вэбстер яростно полз по острым обломкам, не чувствуя боли от ссадин на руках и коленях; полз и бормотал что-то, безумное и непонятное. Под руками осыпались изумрудные осколки бетона, обнажая темные пятна под ними. Вэбстер не видел их — он полз вперед, влекомый последней вспышкой жизни. Руки его опустились в какую-то холодную, тугую, неподатливую жидкость. Он остановился на секунду, поднял ладонь и бессмысленно смотрел, как с нее стекают тяжелые, крупные светящиеся капли. «Ртуть! — мелькнула догадка в затуманенном мозгу. — Ну да, ведь здесь был резервуар с запасами ртути…» Он снова пополз вперед. Сначала руки опускались на дно лужи и упирались в какие-то скользкие камни. Потом жидкий металл стал упруго выталкивать его кисти и ступни на поверхность. И он, барахтаясь на локтях и коленях, упрямо плыл ползком сквозь бесконечное море зеленоватой радиоактивной ртути.
Грэхем Кейв, солдат 3-го танкового полка, заступил на караул в полночь. Ночь была безветренной, но довольно холодной; его разогревшееся и расслабившееся от короткого сна тело била зябкая дрожь. Чтобы унять ее, Грэхем принялся ходить по отведенному ему куску степи — 100 метров туда, потом обратно — по сухо шелестящей под ботинками траве. Наконец дрожь прошла. Он закурил и стал ходить медленнее. Вверху, в чистой безлунной темноте, мерцали звезды. Россыпь Млечного Пути перепоясывала небо наискось и была различима до мельчайших сверкающих пылинок. Вдали, у самого горизонта, поднималось широкое зеленое зарево. Оно медленно переливалось от слабых движений воздуха, точно какие-то огромные фосфорические флаги полоскались в высоте. Кейв мрачно выругался, посмотрев в ту сторону, ему стало тоскливо. И зачем их выставили здесь многомильной цепочкой? Охранять это радиоактивное пепелище? «Чтобы кто-нибудь не проник в зараженную зону», — объяснял сержант. Да какого дьявола туда попрется хоть один человек, если он в здравом уме? А если и сунется какой-нибудь самоубийца, туда ему и дорога… Светится… Уже неделя прошла, а светится лишь немногим слабее, чем в первый день. Говорят, где-то невдалеке, милях в пятидесяти, выпал радиоактивный дождь из ртути, как раз над поселком на перекрестке дорог. Теперь он пуст, все убежали. А здесь, в Нью-Хэнфорде? Был мощный завод, рабочий городок; один взрыв — и ничего нет. Погибли сотни людей. Одни пишут, что это диверсия красных, другие — что это несчастный случай. Один только взрыв!.. Офицеры говорят, что скоро будет война с русскими, которые собираются завоевать Америку. Что же будет тогда? Везде вот такие светящиеся зеленые пепелища вместо городов? И тогда их, солдат, пошлют сквозь места атомных взрывов в атаки. Вот с этими игрушками? Кейв пренебрежительно передвинул висевший на шее автомат. На что они годятся? Какой смысл в такой войне? Ему не остаться в живых — это наверняка. Уж если на маневрах этим летом трое ребят умерли от лучевой болезни, когда проводили учения с атомным взрывом, то что же будет на настоящей войне? А ему всего лишь двадцать два года. Какая она будет, его смерть: мгновенная, от взрыва бомбы, или медленная — от лучевой болезни? Лучше уж мгновенная… Бр-р-р! Его снова пробила нервная дрожь. И зачем все это? Давно уж ничего нельзя понять: для чего все делается… Страшно и тоскливо было Грэхему Кейву, солдату будущей войны, ходить по степи в холодную ноябрьскую ночь, охранять неизвестно что и неизвестно зачем, размышлять о смерти… Вэбстер пришел в себя только тогда, когда под его руками показалась черная, вязкая земля. Больше не было светящихся осколков и луж ртути. Он оглянулся: светящееся нагромождение развалин призрачно раскинулось сзади. Вэбстер перевернулся на спину и долго лежал, вдыхая свежий, пахнущий сырой землей воздух и глядя на звезды, спокойно светящиеся в темной глубине неба. «Генерал остался там. Он еще не умер, наверное, я его ударил несильно…» Он поднял руку и стал внимательно рассматривать призрачно светящуюся ладонь: на сине-зеленом фоне кожи отчетливо выделялись все морщины и царапины. Он лениво приподнял голову и осмотрел себя. Все тело, все лохмотья одежды светились — даже земля вокруг была слегка освещена, виднелись травинки и комочки. Вэбстер усмехнулся и снова опустил голову на землю. Зачем он выбрался? Лежал бы там вместе с Хьюзом… Какая сила протащила его сквозь эту зону? Интересно, сколько времени он полз? Даже если четверть часа — этого вполне достаточно. Впрочем, если он не умрет от радиоактивного заражения, то только потому, что раньше умрет от отравления ртутью… Сколько же рентген впитало его тело? Сколько еще осталось жить? Дня два — три? А зачем ему эти два — три дня? Чтобы рассказать людям, как было дело, как все это ужасно… Впрочем, что толку? Ведь он и сам не понимает, как все это произошло. Глаза бездумно следили за двигавшимися по небу двумя звездочками: красной и зеленой. Звездочки быстро перебирались из созвездия в созвездие; за ними тянулся мягкий музыкальный рев моторов. Вот они ушли к горизонту. «Значит, это не война — раз самолеты летают с огнями. Значит, где-то поблизости должны быть люди…» Вэбстер тяжело поднялся с земли. Подумав, он стал снимать с себя лохмотья — пусть хоть на несколько часов продлится жизнь. «Все равно ничего это не даст… Ладно. Нужно идти к людям. Рассказать им все, что знаю, и поесть. Хоть еще раз поесть…» Свежий воздух вернул ему ощущения многодневного голода, от которых свело желудок. Вэбстер медленно, пошатываясь, побрел вперед, прочь от светящихся развалин Нью-Хэнфорда. На земле остались светящиеся пятна одежды…
Грэхем Кейв был уже не рад тому, что стал раздумывать о тоскливых и страшных вещах. Он уже несколько раз принимался вспоминать последние кинобоевики, которые им показывали в солдатском клубе, анекдоты о неграх и женщинах, но при одном взгляде на колеблющееся на горизонте зеленое зарево мысли снова смешивались и устремлялись на прежнее, жутковатое. «Чертовщина какая-то! Разве пойти к напарнику слева, покурить, поговорить?» Кейв огляделся по сторонам. Прямо на него шла длинная, худая фигура. Грэхему она показалась гигантской. Фигура излучала слабое сине-зеленое сияние; были видны контуры голых рук, медленно шагающих ног, пятно головы с шевелящимися, мерцающими волосами. Фигура бесшумно, будто по воздуху, приближалась к нему. Сердце Кейва прыгнуло и провалилось куда-то, дыхание перехватило. — А-аа-ааа-ааа! А-аа-ааа-а-а-а!.. — истерически закричал, завизжал он и, нажав гашетку, начал полосовать вырывающимся из рук автоматом вдоль и поперек светящегося силуэта, пока тот не упал, и еще и еще стрелял по лежащему, до тех пор пока не иссякла обойма…
«ЭЛЕМЕНТ МИНУС 80»
Постепенно, деталь за деталью, перед Николаем Самойловым возникала общая картина катастрофы в 17-й лаборатории. Точнее говоря, это была не картина, а мозаика из фактов, теоретических сведений, исторических событий, лабораторных анализов и догадок исследователей. Еще очень многих штрихов не хватало. Чтобы уловить главные контуры — приходилось отступать на достаточно далекое расстояние. За девяносто с лишним лет до описываемых событий великий русский химик Д. И. Менделеев открыл общий закон природы, связавший все известные в то время элементы в единую периодическую систему. Менделеев был химик, он не верил в возможность взаимопревращения элементов, называл это «алхимией», а свою таблицу предназначал лишь для удобного объяснения свойств различных веществ. Глубочайший смысл этих периодов был понят позже, после открытия радиоактивности и искусственного получения новых элементов. Спустя тридцать лет чиновник Швейцарского бюро патентов, молодой и никому еще не известный инженер-физик Альберт Эйнштейн в небольшой статье, напечатанной в журнале «Анналы физики», впервые высказал мысль, что в веществе скрыта громадная энергия, пропорциональная массе этого вещества и квадрату скорости света. Это и было знаменитое соотношение: Е = Мс2, теперь известное почти каждому грамотному человеку. Спустя еще три десятилетия английский физик с французским именем Поль Дирак опубликовал свою теорию пустого пространства-вакуума. Одним из выводов этой теории было следующее: кроме обычных элементарных частиц атомов — протонов, электронов, нейтронов — должны существовать и античастицы, электрически симметричные им: антиэлектрон — частица с массой электрона, но заряженная положительно, и антипротон — частица с массой протона, но заряженная отрицательно. Вскоре после опубликования этой теории был действительно открыт антиэлектрон, получивший название «позитрон». Первые фотоснимки следов новой частицы, обнаруженной в космических лучах, принадлежат русскому академику Скобельцыну. За несколько лет до описываемых событий, а именно девятнадцатого октября 1955 года, в одной из лабораторий института Лоуренса при Калифорнийском университете проводились опыты на гигантском ускорителе заряженных частиц — беватроне. Протоны сверхвысоких энергий бомбардировали со скоростью света небольшой медный экран; некоторые из них отдали свою энергию на образование новых частиц. Эти частицы просуществовали несколько миллиардных долей секунды и оставили на фотопластинке след своего пути и «взрыва» при соединении с обычной частицей. Это была величайшая со времени первого термоядерного взрыва научная сенсация. Имена сотрудников института Лоуренса, ставивших опыты — Сегре, Виганд и Чемберлен, — стали известны всему миру. Это был антипротон — частица с массой протона и отрицательным зарядом. Если отвлечься от разницы во времени, в национальности, возрасте и подданстве людей, сделавших эти открытия, если пренебречь их субъективным толкованием созданного, то можно выделить самую суть: это были этапы одного и того же величайшего дела науки, начатого Д. И. Менделеевым, — завоевания для человечества Земли всех существующих во Вселенной веществ! Идея электрической симметрии веществ содержится в зародыше уже в периодическом законе Менделеева. В самом деле, почему таблица химических элементов может продолжаться только в одну сторону — в сторону увеличения порядкового номера? Ведь этот номер не является математической абстракцией — он определяет знак и величину положительного заряда ядра у атома вещества. Почему же не предположить существование элемента «номер нуль», стоящего перед водородом, или элемента номер «минус один», или «минус 15»? Физически это означало бы, что ядра таких веществ заряжены отрицательно. Отрицательные ядра должны, естественно, притягивать положительные позитроны всюду, где те могут возникнуть, и образовывать устойчивые атомы антиводорода, антигелия, антибора… Зеркальное отражение менделеевской таблицы! Первые же опыты с античастицами установили вероятность возникновения антиатомов и тот факт, что они устойчивы в вакууме. Но, встретясь с обычным веществом, антиатомы мгновенно взрываются, при этом выделяя полную энергию, заключенную в обоих веществах (2 Мс2), и распадаясь на мезоны и гамма-лучи. Итак, был открыт антиэлектрон — позитрон; был открыт антипротон. Потоки нейтронов, получаемые при делении урана, можно было считать «элементом номер нуль». Считалось, что существованием этих частиц идея электрической симметрии веществ доказана и исчерпала себя. Но это были всего лишь частицы… Когда за два года до описываемых событий ученые СССР и США, работая независимо друг от друга, получили осаждением ртути нуль—вещество — ядерный материал огромной плотности и прочности, состоящий из нейтронов и названный в обеих странах соответственно «нейтрид» и «нейтриум», — дело начало представляться в другом свете. Таким образом, почти столетие научных событий — работы Менделеева, Эйнштейна, Дирака, наблюдения за космическими лучами Андерсона и Скобельцына, эксперименты с беватроном в институте Лоуренса — подготовило то, к чему подошли сейчас Самойлов и Якин.Николай за всю свою жизнь не написал ни одной рифмованной строчки. Даже в юношескую пору первой любви, когда стихи пишут поголовно все, он вместо стихов писал для своей девушки контрольную по тригонометрии. И тем не менее Николай Самойлов был поэт. Потому что поэт — это прежде всего человек большого и яркого воображения. И хотя воображение Самойлова вдохновлялось атомами и атомными ядрами, это не значит, что называть его поэтом — кощунство. Николай и сам не подозревал, каким редким для физиков качеством обладает его мышление. Рассчитывая физическую задачу, он мог представить себе атом: прозрачно-голубое пульсирующее облачко электронов вокруг угольно-черной точки ядра. Ядро ему казалось черным, должно быть, потому, что черным был нейтрид. Он ясно представлял, как голубые ничтожные частицы мечутся и сталкиваются в газе, как пульсирует их расплывчатое облачко — то сплющиваясь, то вытягиваясь, то сливаясь с другим в молекулу; он видел, как в твердом кристалле пронизывает ажурное сплетение атомов стремительная ядерная частица, разбрызгивая в своем полете осколки встречных атомов. При особенно напряженном раздумье, когда что-то не получалось, он мог представить даже то, чего не представляет никто: электрон, волну-частицу. В науке есть факты, есть цифры и уравнения; в лабораториях существуют приборы и установки для тончайших наблюдений; есть счетно-аналитические машины, выполняющие математические операции с быстротой, в миллионы раз превышающей быстроту человеческой мысли. Однако, кроме логики фактов, существует и творческая логика воображения. Без воображения не было и нет науки. Без него невозможно понять факты, осмыслить формулы; без воображения нельзя заметить и выделить новые явления, получить новые знания о природе. Воображение — то, что отличает человека от любой, самой «умной» электронной машины, пусть даже о ста тысячах ламп. Воображение — способность увидеть то, что еще нельзя увидеть.
Самойлов и Якин, пользуясь добытыми фактами и догадками, пытались установить причины взрыва в 17-й лаборатории. В начале составленного ими «перечня событий» они записали:
«1. Голуб и Сердюк со своими помощниками облучали образцы нейтрида отрицательными мезонами больших энергий с тем, чтобы выяснить возможность возбуждения нейтронов в нейтриде. Такова официальная тема».А неофициальная? Ивану Гавриловичу нужно было больше, чем «выяснить возможность». Он искал мезоний — вещество, которого сейчас так не хватает нейтридной промышленности, которое сделало бы добычу нейтрида легким и недорогим делом. Опыты безрезультатно длились уже несколько месяцев. Никто не верил в гипотезу мезония — даже он, Николай. Впрочем, в ходе опыта возник феноменальный эффект — отталкивание мезонного луча от пластинки нейтрида. Для Ивана Гавриловича Голуба это означало, что к основной цели исследования прибавилась еще одна: узнать, понять этот эффект. Под влиянием чего нейтрид как-то странно заряжается отрицательным электричеством? Николай читал дальше:
«2. Обнаружено короткое замыкание в электромагнитах, вытягивающих из главной камеры положительные мезоны и продукты их распада — позитроны. Это замыкание не могло произойти при взрыве, так как в этот момент мезонатор был выключен…»Итак, испортились вытягивающие электромагниты — во время опыта, а может быть, и до него. Нельзя было не заметить этой неисправности: электронные следящие системы сообщают даже о малейшем отклонении от режима, не то что о коротком замыкании. Вероятнее всего, что Иван Гаврилович после многих неудачных опытов ухватился за эту идею, подсказанную случаем: облучать нейтрид не в чистом вакууме, а в атмосфере позитронов. Они начали опыт. Должно быть, Иван Гаврилович, деловитый и сосредоточенный, в белом халате, поднялся на мостик вспомогательной камеры, нажал кнопку: моторчик, спрятанный в бетонной стене, взвизгнув под током, поднял защитное стекло. Иван Гаврилович поставил в камеру образец, переключил моторчик на обратный ход — стекло герметически закрыло ввод в камеру; потом включил вакуумные насосы и стал следить но приборам, как из камеры выкачивались остатки воздуха. Вакуум восстановился — можно открывать главную камеру. Иван Гаврилович стальными штангами манипуляторов внес в нее образец. Алексей Осипович, не глядя на пульт, небрежно и быстро бросал пальцы на кнопки и переключатели. Загорелись разноцветные сигнальные лампочки, лязгнули силовые контакторы, прыгнули стрелки приборов; лабораторный зал наполнился упругим гудением. Иван Гаврилович сошел вниз и, морщась, смотрел в раструб перископа, наводил рукоятками потенциометров мезонный луч на черную поверхность нейтрида. Они не разговаривали друг с другом — каждый знал и понимал другого без слов. Облучение началось. В тот вечер была неровная ноябрьская погода: то налетал короткий и редкий дождь, стучал по стеклу, по железу подоконников, то из рваных туч выглядывал осколок месяца, прозрачно освещая затемненный зал, серые колонны, столы, мезонатор. Настроение у них, вероятно, было неважное — как всегда, когда что-то не ладится. То Иван Гаврилович, то Сердюк подходили к раструбу перископа, смотрели, как острый пучок мезонов уперся в тускло блестящую пластинку нейтрида. Изменений не было…,
«3. В образце нейтрида, найденном в воронке, обнаружена микроскопическая ямка размером 25×30×10 микрон».Эти пункты говорили о том, что происходило в камере мезонатора, где — теперь уже не в вакууме, а в позитронной атмосфере! — минус-мезоны стремительно врезались в темную пластинку нейтрида. Изменения были, только они их еще не замечали. Самойлов ясно видел, как отрицательные мезоны передавали свой заряд нейтронам, и нейтрид заряжался. Это случалось и раньше, но процесс кончался тем, что огромный отрицательный заряд антипротонов на поверхности нейтрида просто отталкивал последующие порции мезонов, и они видели расплывающийся мезонный луч. А когда извлекали пластинку нейтрида наружу, ничего не было. «Почему же тогда не было взрыва? — спрашивал себя Самойлов. — Да потому, что антипротонов было ничтожно мало, ничтожный слой на поверхности. Мог быть только слабый нагрев нейтрида в этом месте… Черт возьми, еще несколько опытов — и Голуб, наверное, понял бы, в чем дело!» В тот вечер из-за этой неисправности в мезонаторе все происходило по-иному. Антипротоны, вернее — антиядра, возникшие в нейтриде в микроскопической ямке, начали захватывать из вакуума положительные электроны. Возникали антиатомы — отрицательно заряженные ядра обрастали позитронными оболочками. Из нейтрида рождалось какое-то антивещество. Какое? Возможно, что это была антиртуть — ведь ядра нейтрида, осажденного из ртути, могли сохранить свою структуру… Ее было немного — ничтожная капелька антиртути, синевато сверкавшая под лучом мезонов. Чтобы лучше наблюдать за камерой, они, как обычно, выключили свет в лаборатории — окна можно было не затемнять: на дворе был уже вечер. Кто-то — Голуб или Сердюк — первый заметил, что под голубым острием мезонного луча на пластинке нейтрида возникло что-то еще непонятное. Что они чувствовали тогда? Пожалуй, это были те же чувства, как и при открытии нейтрида, — радость, надежда, тайный страх; может быть, не то, может, случайность, иллюзия?.. Полтора года назад, когда под облачком мезонов медленно и непостижимо оседала ртуть, все они в радостной растерянности метались по лаборатории. Алексей Осипович добыл из инструментального шкафа запылившуюся бутылку вина, которую хранил в ожидании того дня. Запасся ли он бутылкой и на этот раз?.. Через некоторое время, когда капелька антиртути увеличилась, они рассмотрели ее — и, наверное, были обескуражены. Обыкновенная ртуть! Ведь в вакууме антиртуть ничем не отличалась от обычной… Конечно, это было великолепно: снова превратить нейтрид в ртуть!.. «Сведения от главного энергетика: взрыв произошел не во время опыта, а после — когда мезонатор был уже выключен из высоковольтной сети института». Наконец «ртути» накопилось достаточно для анализа, и они выключили мезонатор. Николай знает ту глубокую, покойную тишину, которая устанавливалась в эти минуты в лаборатории. Зажгли свет, поднялись на мостик. Ведь даже если это была и простая ртуть, все равно — они, Голуб и Сердюк, сделали эти атомы! Вероятно, снова Иван Гаврилович взялся за рукояти манипуляторов, стальные пальцы осторожно подхватили пластинку нейтрида и перенесли ее во вспомогательную камеру. За свинцовым стеклом была хорошо видна темная пластинка, лежавшая на бетонной плите, и маленькая поблескивающая капелька «ртути». Она все еще была обыкновенной капелькой, эта антиртуть, пока в камере держался вакуум. Включили моторчик, стекло стало подниматься. Оба в нетерпении склонились к камере. В щель между бетоном и стеклом хлынул воздух — обыкновенный воздух, состоящий из обычных молекул, атомов, протонов, нейтронов, электронов и ставший теперь сильнейшей ядерной взрывчаткой. И в последнее мгновение, которое им осталось жить, они увидели, как блестящая капелька на нейтриде начинает расширяться, превращаясь в нестерпимо горячий и сверкающий бело-голубой шар… Взрыва они уже не услышали.
За окнами чернела ночь. Лампочки туманно горели под потолком в прокуренном воздухе. На голых стенах комнаты висели теперь уже ненужные сиреневые фотокопии чертежей мезонатора. Якин и Самойлов сидели за столом, заваленным бумагами, и молчали, думая каждый о своем. Николай еще видел, как отшатывается Иван Гаврилович от ослепительного блеска, как заносит руку к лицу Сердюк (они все-таки установили, что ему принадлежал силуэт на кафельной стене), как все исчезает в вихре атомной вспышки… А Якин… Якин сейчас мучительно завидовал Самойлову. Почему не он, не Якин, стремлением всей жизни которого было сделать открытие, сказал первый: «Это — антивещество»? Разве он, Якин, не подходил к этой же мысли? Разве не он видел вспышку? Разве не он установил и доказал, что в камере мезонатора были позитроны, что взрыв произошел после опыта? Почему же не он первый понял, в чем дело? До сих пор он объяснял себе все просто: Кольке Самойлову везло, а ему, Якову, который не хуже, не глупее, а может быть, и одареннее, не везло. И вот теперь… Он просто переосторожничал. Конечно! Ведь у него эта идея возникла одновременно с Самойловым, если не раньше. Испугался потому, что это было слишком огромно? Эх… — Понимаешь, Яша… — Самойлов поднял на него воспаленные глаза. — А ведь это, пожалуй, и есть тот самый мезоний, который искал Голуб. Ну конечно: ведь при взаимодействии антивещества с обычным они оба превращаются в множество мезонов. Капелька антиртути может заменить несколько мезонаторов! Представляешь, как здорово? Яков внимательно посмотрел на него, потом отвел глаза, чтобы не выдать своих чувств. — Слушай, Николай, похоже, что мы с тобой сделали гигантское открытие! — Голос его звучал ненормально звонко. — Антивещество — это же не только мезоны. Ведь оно выделяет двойную полную энергию — два эм цэ квадрат! Можно производить сколь угодно малые и сколь угодно большие взрывы. Управляемые взрывы! И еще, щербинка в пластинке нейтрида. Это же способ обработки нейтрида! Понимаешь? Пучком быстрых мезонов можно «резать» нейтрид, как сталь — автогеном. А выделяющуюся антиртуть можно либо уничтожать воздухом, либо собирать… Теперь мы можем обращаться с нейтридом так же, как со сталью: мы можем его обрабатывать, резать, кроить, наращивать. Гигантские перспективы! — Да, конечно… Но почему «мы»? При чем здесь мы? — Самойлов устало пожал плечами, потом принялся искать что-то у себя в карманах. — Мы это открытие не сделали, а в лучшем случае только расшифровали его. Открытие принадлежит им. У тебя есть папиросы? Дан, а то мои кончились…
ИСПЫТАНИЕ В СТЕПИ
Они бежали по мокрому от таявшего снега шоссе, отчаянно всматривались, искали за снежной пеленой зеленый огонек такси. Мимо шли люди со свертками, мчались машины с притороченными сверху елками — через неделю Новый год. Никто не подозревал об огромной опасности, нависшей над городом. Скорее, скорее! Теперь могут спасти минуты!.. Ага! Самойлов громко свистнул, замахал рукой. И к обочине подкатила «Победа» с клетчатым пояском. — В Новый поселок, скорее! Захлопнулась дверца, машина полетела по шоссе в снежную темноту.Еще полчаса назад они сидели в комнате и обсуждали, что следует сделать, чтобы повторить опыт Голуба. Теперь они знали, что искать. — А ты помнишь, — спросил Яков, — месяц назад было сообщение об атомном взрыве в Америке, в Нью-Хэнфорде, на нейтрид-заводе. Не случилось ли у них что-то подобное, а? — Помню… — в раздумье проговорил Николай. — Но ведь там делали атомные снаряды из нейтрида. Представитель концерна сам признал, что на заводе хранился обогащенный уран… Вряд ли. — Ладно, давай не отвлекаться, — решил Яков. Но это был первый толчок. Как приходят в голову идеи? Иногда достаточно небольшого внешнего толчка, чтобы возникла вереница ассоциаций, из которых рождается новая мысль; больше всего это похоже на перенасыщенный раствор соли, в котором от последней брошенной крупинки с прекрасной внезапностью рождаются кристаллы. Вопрос Якова повернул мысли Самойлова к своему заводу. Подумать только, ведь он не был там больше месяца! Как-то управляется Кованько? Постой, а над чем возились они тогда, в последние дни перед катастрофой? Николай вспомнил странные мерцания в камерах… Это был второй толчок. Мерцания! Ведь он хотел о них поговорить с Иваном Гавриловичем. Николай достал из кармана блокнот, перелистал исписанные цифрами и формулами страницы.
«Подумать: 1. Вакуум поднялся до 10–20 мм ртути, за пределы возможного для вакуумных насосов. Почему? От непрерывной работы? Влияние нейтрида? 2. В главных камерах — странные микровспышки на стенах из нейтрида. Когда буду в институте, обсудить с Иваном Гавриловичем».От этих торопливо записанных строчек на Самойлова повеяло еще не совсем осознанным ужасом. Мерцания и вакуум!.. Догадка промелькнула в голове настолько быстро, что изложение ее займет в тысячи раз больше времени. Якин о чем-то спрашивал, но он уже не слышал. …На стенках мезонаторов мерцали голубые звездочки то в одном, то в другом месте. Луч отрицательных мезонов несет в себе мезоны разных энергий. Часть их, пусть небольшая, будет с повышенной энергией — они не усвоятся ртутью, а рассеются и осядут на стенках нейтрида, образуют антипротоны. Теперь о фильтрах. Фильтры не могут вытянуть из камеры абсолютно все положительные мезоны, часть обязательно останется — та же квантовая статистика. Значит, в камерах заводских мезонаторов есть все условия для образования антивещества. «Спокойно, спокойно! — уговаривал себя Николай. — Без горячки… Значит, мерцания на стенках камеры — это следы элементарных взрывов атома воздуха и антиатома. Кроме того имеется вакуум — невероятный, идеальный вакуум! Антивещество уничтожало остатки воздуха: оно съедало его…» Он посмотрел на Якова и поразился его безучастности: тот причесывался, смотрясь в оконное стекло. Когда Николай рассказал ему свои рассуждения, Якин пришел в возбуждение: — Я ведь тебе сказал о заводе! Я предчувствовал! — Слушай дальше! — увлеченно продолжал Самойлов. — Мезонаторы работают в форсированном режиме — три смены в сутки. Кто знает, всегда ли хорошо работали вытягивающие фильтры, всегда ли мезонный луч был настроен правильно, много ли мезонов ушло на нейтридные стенки за эти десять месяцев непрерывной работы? Об этом никто не думал! Антивещество может накопляться незаметно. Оно накопляется за счет нейтрида, оно разъедает нейтридные стенки… — И, когда оно проест хоть мельчайшее отверстие, — ревниво подхватил Яков, — в камеру пойдет воздух и… взрыв, как в Америке! После этого они и бросились в мокрую декабрьскую пургу. На улицу — скорее на завод!
Город кончился. По свободному от машин и автоинспекторов шоссе водитель выжал предельную скорость; на пологих вмятинах асфальта «Победу» бросало, как на булыжниках. — Во всяком случае, следует проверить, — успокаиваясь, сказал Николай. — Может быть, нам не придется повторять опыт Голуба, а удастся просто получить антивещество. Американцы, наверное, тоже гнали мезонаторы несколько лет подряд — вот у них нейтрид и разрушился… — в раздумье продолжал свою мысль Яков.
Завод занимал огороженное каменным забором квадратное поле с километровыми сторонами. Такси затормозило у проходной. Возле окошка курил молодцеватый солдат заводской охраны. Увидев начальство, он бросил папиросу и выпрямился. — Ах ты, черт возьми! — с досадой вспомнил, глянув на него Самойлов. — У тебя же нет пропуска, Яша! Не пропустят. — Так точно, товарищ главный технолог, не пропущу! — сочувственно подтвердил караульный. — Не могу, не имею права. Мне за это знаете как влетит! — Ох, канитель!.. — Самойлов на секунду задумался. — Ну ладно, придется тебе подождать меня здесь. Я найду начальника охраны, скажу ему… Николай отдал свой жетон и ушел во двор завода. Яков растерянно посмотрел ему вслед: «Вот так-так!» — сел на скамью, закурил и стал ждать.
В мезонаторном цехе было так деловито спокойно, что Николай на минуту усомнился в основательности своих страхов. Длинной шеренгой стояли черные, лоснящиеся в свете лампочек громады мезонаторов. Возле пультов сидели операторы в белых халатах. Некоторые, глядя на экраны, что-то регулировали. Огромный высокий зал был наполнен сдержанным усыпляющим гудением. В проходе показалась высокая фигура в халате. Самойлов узнал своего помощника и заместителя Кованько — молодого инженера, отличного спортсмена. Его острый нос был снизу прикрыт респиратором. — А, Николай Николаевич! — Кованько приподнял респиратор, чтобы речь его звучала яснее. — Что это вы, на ночь глядя? А как в институте? — Потом, Юра… — Самойлов нервно пожал ему руку. — Скажи, все мезонаторы загружены? — Все. А что? — Давай погасим один. На каком сейчас сильно мерцает? — На всех… (от его спокойствия Самойлову стало не по себе). Вот давайте отключим двенадцатый… — Кованько подошел к ближайшему мезонатору, выключил ускорители, ионизаторы и взялся за рубильники вакуумных насосов. — Стоп! Не выключай! — крикнул Самойлов и схватил его за руку.
В полночь охрана в проходной сменилась. Новый боец посматривал на Якина подозрительно. «Как же, будет Николай искать начальника охраны! Он, наверное, как вошел в цех, так и забыл обо мне… — тоскливо раздумывал Яков. — Зачем ему я? Он на заводе хозяин, сам все сделает… Пропуск, видите ли, он не может организовать! А ведь это я первый подал ему мысль о заводе… Ну и Самойлов, ну и Коля! Товарищ называется! Оттереть меня хочет, в гении лезет… Ну нет, я его дождусь!»
Не в манере Юрия Кованько расспрашивать начальство. Он любил до всего доходить самостоятельно. Но сейчас, глядя на Самойлова, впившегося глазами в экран, на бисеринки пота на его лбу, он не выдержал: — Да скажите же, в чем дело, Николай Николаевич? Самойлов не услышал вопроса. Его взгляд притягивала небольшая группа непрерывно мерцающих в темноте камеры звездочек — в левом нижнем углу, на стыке трех пластин нейтрида. Он включил внутреннюю подсветку и направил луч в этот угол. Оттуда блеснула маленькая капелька. «Антиртуть! А вон еще небольшой подтек — тоже антиртуть». Он поднял голову, кивнул Кованько: — Смотри… Вон видишь — капелька в углу, крошечная… Видишь? — Вижу… — помолчав, сказал Кованько. — Я что-то раньше не замечал. — Это то самое вещество, от которого… — Самойлов почувствовал за спиной дыхание и вовремя оглянулся: вокруг них молча стояли операторы. Их собрало любопытство — все знали, что Самойлов расследует причины катастрофы в Физическом институте. «Скажи я сейчас, — мелькнуло в голове Николая, — ох, и паника начнется!» Он сухо обратился к операторам: — Между прочим, вы получаете зарплату за то, чтобы непрерывно следить за работой мезонаторов. Идите по своим местам, товарищи… (Белые халаты сконфуженно удалились.) У тебя ключи от кабинета? (Кованько порылся в карманах, достал ключи.) Я пойду позвоню директору, а ты пока проверь все вакуумные системы и включи дополнительную откачку. Самойлов прочел немой вопрос в карих глазах Кованько. — Вот это… то самое, от чего произошел взрыв в лаборатории Голуба! — тихо сказал Самойлов. — Только никому ни слова, иначе — сам понимаешь… В телефонной трубке прогудел сонный благодушный голос Власова. Директор, видно, собирался отойти ко сну. — Здравствуй, Николай Николаевич! Откуда это ты звонишь? — Я с завода, Альберт Борисович… — Самойлов запнулся. — Товарищ директор, я настаиваю на немедленной остановке завода, точнее — мезонаторного цеха. — Что-о? Ты с ума сошел! — Сонливости в директорском голосе как не бывало. — Это в конце года? Мы же провалим план! В чем дело? — Дело неотложное. Я прошу вас приехать на завод сейчас. — Хорошо! — Власов сердито повесил трубку. Якин видел, как, сверкнув фарами, подъехала к проходной длинная черная машина. Мимо быстро прошел невысокий, толстый человек в плаще и полувоенной фуражке. Солдаты охраны вытянулись. «Власов! — Якин посмотрел ему вслед. — Значит, Николай уже начал действовать…» Значит, их предположение оказалось правильным — даже директор приехал. А он сидит здесь, как бедный родственник, никому не нужный. Яков покраснел от унижения, вспомнив, как четверть часа ему пришлось объясняться с солдатом: кто он такой, почему здесь и кого ждет… Он посмотрел на часы: боже, уже половина второго! А что, если Самойлов застрянет там на всю ночь? И такси не найдешь, а до города пять километров по снегу… Черт знает что! Через полчаса случилось самое унизительное: вышел Самойлов и, не замечая сидящего на скамейке Якина, быстро пошел к машине. Якин окликнул его звенящим от возмущения голосом. Николай повернулся, хлопнул себя по щеке: — Ах ты, черт! Ведь я о тебе совсем забыл! А знаешь… — Знаю! — высоким голосом перебил его Якин: он решил высказать все, что думает о Самойлове. — Давно понял, что ты хочешь оттереть меня от этого дела! Ну что ж, Якина все оттирали! Мавр сделал свое дело — мавр может уйти, так? До Николая не сразу дошло, о чем говорит Яков, — в голове произошло какое-то болезненное раздвоение. Там — страшная опасность, затаившаяся в мезонаторах, новое вещество, из-за которого погибли Голуб и Сердюк. Здесь стоит Яшка Якин, с которым они вместе учились, вместе работали, вместе пошли в разрушенную лабораторию под обстрелом смертельной радиации, и несет какую-то чушь… Самойлов глядел на Якова такими бешеными глазами, что тот почувствовал — сейчас ударит — и, помимо воли, втянул голову в плечи. Этот миг перевернул все: Яков почувствовал себя таким мерзавцем, каким на самом деле, возможно, и не был. «Что я говорю?!» Он поднял глаза на Николая и виновато пробормотал: — Прости меня, Коля! Я сам не знаю, что несу. Я идиот! Черт бы взял мой нелепый характер!.. Самойлов уже «остыл» и жалостливо посмотрел на него. Сейчас не до скандала. «Да и я хорош — забыл о нем». — Ладно… Садись в машину — поедем в институт за своими скафандрами и приборами… Они сидели на заднем сиденье и молчали. Потом Николай сухо сказал: — Проверили три мезонатора. Во всех оказалось это антивещество, точнее — антиртуть. Небольшими капельками на стенках и в сгибах камеры… Решили пока остановить завод, выключить все, кроме вакуум-насосов — и добывать эту антиртуть. Потом испытать где-нибудь… Только вот как извлекать ее? Она жидкая, растекается, а каждый оставшийся миллиграмм — это взрыв сильнее бомбы… Якин кивнул. Они снова замолчали. Яков почувствовал, что сейчас он сможет себя реабилитировать только какой-нибудь дерзкой выдумкой, и стал размышлять. Когда подъезжали к Физическому институту, он несмело сказал: — Слушай, Коля, а ведь очень просто… — Что — просто? — буркнул Самойлов. — Брать эту антиртуть. Понимаешь, нужно трубочки из нейтрида — из той же нейтрид-пленки — охлаждать в жидком азоте. Они часов десять по меньшей мере будут сохранять температуру минус сто девяносто шесть градусов, ведь теплоотдача нейтрида ничтожна! И антиртуть будет к этим трубочкам примерзать. Понимаешь? Очевидно, у нее, как и у обыкновенной ртути, точка замерзания — минус тридцать восемь градусов. Верно? Николай рассмеялся: — Ведь ты гений, Яшка! — и добавил: — Хоть и дурак… Яков виновато вздохнул: — Характер мой идиотский! Сам не понимаю, что на меня нашло. Вообще, ты напрасно мне в морду не дал — крепче бы запомнил! — Ничего… Если сам понимаешь, что напрасно, значит не напрасно. Забыли об этом! Всё!.. Яков молча закурил и отвернулся.
Три недели спустя другая машина — мощная трехоска защитного цвета — мчалась по заснеженной волнистой полупустыне, то исчезая между увалами, то появляясь на гребнях невысоких барханов. В этих местах, на границе степи и бескрайной песчаной пустыни, раньше была база испытанияатомных бомб. Испытания уже давным-давно не проводились, и в зоне оставалась только маленькая инженерная команда, поддерживающая порядок. Небольшой аэродром с бетонированной взлетной площадкой для реактивных самолетов выделялся на снежном поле серой двухкилометровой полосой. Вдали маячили домики служб, позади них, в нескольких километрах, находились старые блиндажи для наблюдений за взрывами. Машина проезжала мимо остатков испытательных построек: глинобитные стены были разрушены почти до основания, обломки кирпичей ровно сброшены взрывной волной в одну сторону. Морозный резкий ветер бил в лицо. Машина ревела, буксуя в снегу. Наконец она пробралась туда, где на расчищенной от снега площадке стояло несложное устройство: многотонный крошечный цилиндрик из нейтрида и намертво соединенный с ним электродвигатель следящей системы. Внутри цилиндрика находилось около двух десятых грамма добытой из мезонаторов антиртути. Мотор должен был свинтить с цилиндрика герметическую крышку, чтобы в его пустоту через малое, с булавочный укол, отверстие вошел воздух, а затем — сгорел в огне ядерной вспышки. Николай Самойлов стоял в кузове и следил, как с большого барабана быстро сматывается и ложится на снег длинная черная змея кабеля. Когда он летел сюда, оставив Якина и Кованько на заводе добывать остальную антиртуть, в самолете его охватили сомнения. А что, если это вовсе не антиртуть? Может быть, просто ртуть, самая обыкновенная? Когда эта мысль впервые пришла ему в голову, он покраснел от стыда: тогда остановка завода и вся шумиха окажутся позорным и преступным делом. «Ведь из нейтрида может восстановиться и обыкновенная ртуть: отрицательные мезоны, распавшись, превратятся в электронные оболочки… Как мы раньше об этом не подумали?!» Он очень устал, Николай Самойлов. В этой огромной белой степи он чувствовал себя маленьким человечком, на которого взвалили груз непосильной ответственности. Горячка на заводе, потом эти полтора месяца, в которые было затрачено больше энергии и сил, чем за полтора года. Он измотался: впалые щеки, запавшие глаза, морщины на лбу от постоянных размышлений. Самойлов потрогал щеку — щетина. «Когда же я брился?» Сомнения одолевали, терзали его. «А что, если это не минус-вещество? Собственно, на чем мы основывались? На очень немногом: небывалый сверхвакуум, мерцания… Не слишком убедительные доказательства для такого огромного открытия. Почему бы вакууму не быть просто так: от хорошей герметизации и непрерывной работы насосов? Почему бы мерцаниям не возникнуть оттого, что в эти капельки ртути (просто ртути!) изредка попадали мезоны и вызывали свечение атомов? Ведь прямого доказательства еще нет. Может быть, у Голуба получилось одно, а у них совсем другое? Может быть… Бесконечные „может быть“ и ничего определенного…» Сегодня утром прилетела комиссия из центра: за исключением директора завода Власова, все незнакомые. Недоверчивое, как казалось Самойлову, внимание членов комиссии окончательно расстроило его. Вот и сюда он уехал, чтобы быть подальше от этого внимания, хотя прокладку кабеля можно было доверить другим инженерам. Машина, тихо урча, остановилась у площадки. Из кабины вышел молодой техник в очках, закурил папиросу: — Товарищ Самойлов, киньте мне конец. Николай снял с барабана конец кабеля, подал его технику и сам слез с кузова. Техник снял перчатки, посмотрел на папиросу, засмеялся: — Привычка! — Что — курение? — не понял Николай. — Да нет! Я бывший минер-подрывник. За послевоенные годы столько мин подорвал — не счесть! И всегда бикфордов шнур поджигал от папиросы. Удобно, знаете! С тех пор не могу к взрывчатке подойти без папиросы. Условный рефлекс! — Он снова засмеялся и потянул кабель к электродвигателю. Николай огляделся: снег уходил к горизонту, белый, чистый. Кое-где из-под него торчали вытянувшиеся по ветру кустики ковыля. Шофер, пожилой человек с усами, вышел из кабины и, от нечего делать, стучал сапогом по скатам. Техник, пуская дымок и что-то напевая, прилаживал кабель к контактам электродвигателя… Все это было так обыденно, что Николая снова охватили сомнения: не может быть, чтобы так просто произошло великое открытие… Он подошел к закрепленному на врытой в землю бетонной тумбе цилиндрику, потрогал его пальцем. «Так что же в нем: антиртуть или просто ртуть?..» На заводе он ставил этот цилиндрик манипуляторами в ме-зонную камеру и бросал в него свернутые из нейтрид-фольги охлажденные трубочки с примерзшими к ним блестящими брызгами, потом осторожно завинчивал крышку. Черный бок цилиндрика отдался в пальце холодом. «Что же там?» Самойлов положил руку на диск соединительной муфты. «А что, если… крутнуть сейчас муфту?» Страшное, опасное любопытство, как то, которое иногда ехидно подталкивает человека броситься под колеса мчащегося поезда или спустить курок, глядя в дуло пистолета, — на секунду овладело им. «Крутнуть муфту — и цилиндр откроется. В него хлынет воздух… И сразу все станет ясным…» Он даже шевельнул мускулами, сдерживаясь, чтобы не «крутнуть». — Товарищ Самойлов, все готово! — будто издалека донесся голос техника. — Можете проверить. — Уф, черт! — Николай отдернул руку, оставив на морозном металле кусочек кожи. — Я, кажется, с ума схожу… Он подошел к технику, подергал прикрепленные к контактам кабели: — Хорошо, поехали обратно…
Темно-серое с лохматыми тучами небо казалось из блиндажа особенно низким. В амбразурах посвистывал ветер, плясали снежинки. Члены комиссии подняли воротники пальто, засунули в карманы озябшие руки. Власов подошел к Николаю, тревожно посмотрел ему в глаза, но ничего не сказал и отошел. «А нос у него синий», — бессмысленно отметил Николай. Его бил нервный озноб. Председатель комиссии, академик из Москвы, грузный стареющий красавец, посмотрел на часы: — Что ж, Николай Николаевич, если все готово, скажите несколько сопровождающих слов и начинайте… Все замолчали, посмотрели на Самойлова. Ему стало тоскливо, как перед прыжком в осеннюю, леденящую воду. — Я кратко, товарищи, — внезапно осипшим голосом начал он. — Там, в цилиндрике, около двухсот миллиграммов добытого нами из мезонаторов антивещества. Как вы понимаете, мы не могли точно взвесить его. Если это предполагаемая нами антиртуть… («Трус, трус! Боюсь!») А это должна быть именно антиртуть! — Голос окреп и зазвучал уверенно. — Если это количество антивещества мгновенно соединится с воздухом, произойдет ядерный взрыв, соответствующий по выделенной энергии примерно семи тысячам тонн тринитротолуола. — Николай перевел дыхание и посмотрел на сероватые в полумраке лица. Он заметил, как академик-председатель ритмично кивал его словам: («Точь-в-точь, как Тураев когда-то на зачетах, чтобы подбодрить студента», — подумалось Самойлову.) — Однако взрыва мы производить не будем, — продолжал он, — во-первых, потому, что это опасно, а во-вторых, потому, что это неинтересно, да и не нужно… Будет осуществлена, так сказать, полууправляемая реакция превращения антивещества в энергию. Отверстие в нейтрид-цилиндре настолько мало, что воздух будет проникать в него в очень малых количествах… Если наши расчеты оправдаются, то «горение» антиртути продлится пятьдесят — шестьдесят секунд. Если мы не ошиблись, то получим принципиально новый метод использования ядерной энергии. Вот и все… — кончил Николай и с ужасом почувствовал — только что обретенная уверенность исчезла с последними словами. — Скажите, — спросил кто-то, — а цилиндр из нейтрида выдержит это? — Должен выдержать. Во всяком случае, установлено, что нейтрид выдерживает температуру сильного уранового взрыва… — Самойлов помолчал, потом вопросительно посмотрел на председателя. Академик кивнул: — Начинайте… С богом, как говорили деды. Николай включил кнопку сирены. По зоне разнеслось протяжное устрашающее завывание, сигнал всем: «Быть в укрытиях!» Все подошли к перископам. Сирена замолкла через минуту. Самойлов, ни на кого не глядя, подошел к столику, на котором был укреплен сельсин-мотор следящей системы, включил рубильник и взялся за рукоятку ротора… Сердце билось так громко, что Самойлову казалось, будто его стук слышен всем в блиндаже… «А что, если следящая система откажет?» Сейчас электрический кабель послушно передавал усилия руки за восемь километров в мотор, соединенный с крышкой цилиндрика. Сначала ротор поддавался туго, с резким дребезжанием возмущенного магнитного поля. Но вот сопротивление рукояти ослабло — крышка цилиндрика там, в степи, начала отвинчиваться. Николай, припав к окуляру своего перископа с темным светофильтром, крутнул еще и еще… Заснеженная равнина, только что казавшаяся в светофильтрах сине-черной, вдруг вспыхнула вдали широким ослепительным бело-голубым заревом, разделившим степь на контрастно-черную и огненно-белую части. Будто многосотметровая электрическая дуга включилась в степи, будто возник канал жидкого солнца. Глаза, до боли освещенные вспышкой, не видели ничего, кроме этой сияющей полосы. После нескольких секунд беззвучия налетел пронзительный, скрежещущий звук. С потолка блиндажа посыпалась пыль. Это можно было бы назвать свистом, если бы по силе своей он не был больше похож на нестерпимый рев. Там, у самого горизонта, из булавочного отверстия в нейтрид-цилиндрике вырывалась превратившаяся в пар антиртуть и сгорала космическим огнем. Немало испытаний видели эти люди, члены комиссии: военные, инженеры, конструкторы, создатели атомных электростанций, ученые-экспериментаторы. Они видели первые атомные взрывы, видели оплавленную землю и затмевающие солнце водородные взрывы в воздухе, видели гигантский зловещий гриб высоко в небе… И всегда к восторгу победившего человеческого разума примешивался ужас перед чудовищностью применений величайшего открытия. Но такого они еще не видели: вот уже десять, двадцать, сорок секунд из крошечной точки на краю степи вырывался ревущий ядерный огонь! Но теперь не было ужаса, потому что это строптиво ревела крепко взнузданная, покоренная и обезвреженная, самая могучая из энергий: энергия аннигиляции вещества и антивещества. Люди видели не только огненную полосу в степи, они видели будущее безграничное могущество человека, овладевшего этой энергией: видели космические ракеты, из нейтридовых дюз которых вырывалось это же пламя; могучие машины из нейтрида, создаваемые этим пламенем; растопленные им льды Севера и зазеленевшие пустыни Юга. Они ясно видели будущее. И Николай Самойлов видел его. Уже не было изможденного человека с осунувшимся лицом и болезненно блестевшими глазами. Все его смятение, вся неуверенность сгорели в этой яркой, как молния, минуте счастья. Глаза уже начинало резать от нестерпимой яркости вспышки, которую не могли погасить даже темные светофильтры в перископе. Он твердо смотрел на полосу ядерного огня не мигая. Наконец степь потухла. Стало тихо. Все вокруг — снег, лица людей, блиндаж — показалось тусклым и темным. В низких тучах все заметили какую-то черную полосу. Когда глаза освоились, то рассмотрели: тучи над местом вспышки испарились, образовав длинный просвет, сквозь который была видна голубизна зимнего неба. Но скоро от земли поднялись новые тучи испарившегося снега и закрыли просвет. Ошибки не было… И Николай только теперь полностью ощутил навалившуюся на него усталость, огромную, нечеловеческую усталость, от которой люди не могут спать.
ЭПИЛОГ ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕЙТРИДА И АНТИВЕЩЕСТВА (антиртути)
— …Мы берем на себя ответственность утверждать, что применение во взаимодействии этих двух веществ — нейтрида и антиртути — произведет неслыханный переворот в науке, технике и человеческих представлениях. Теперь открывается возможность дешевого производства нейтрида с помощью антиртути в самых широких масштабах и для самых различных применений. И из нейтрида снова можно воспроизводить антиртуть. Эти два вещества, гармонично дополняя друг друга, увеличивают мощь человечества в огромных масштабах и позволят совершить небывалый в истории научно-технический скачок вперед. Очевидно, что все виды двигателей: гидро-паро-электро- и газовые турбины, моторы внутреннего сгорания, громоздкие атомные реакторы, — теперь могут быть заменены компактными двигателями из нейтрида, работающими на антиртути. Принцип такого двигателя предельно прост: в сопло из нейтрида впрыскивается микрокапелька антиртути и определенное количество воздуха или воды. Соединение антивещества с атомами воздуха (или воды) нагреет остальную часть воздуха (или воды) до температуры в десятки и сотни тысяч градусов. Вытекая с огромными скоростями из сопла, этот газ будет толкать ракету или вращать турбину. 200 граммов антиртути, заложенные прямо в тело нейтрид-турбины, достаточны, чтобы она в течение года могла вращать электрогенераторы Куйбышевской ГЭС, вырабатывая те же 1,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Отпадает наконец угроза исчерпания энергетических ресурсов планеты, которые отныне можно считать неиссякаемыми. Огромные возможности мы видим в нейтрид-конденсаторах малых объемов, которые позволят накапливать громадную электроэнергию, а также огромные запасы тепла или холода… Изоляция из тончайших нейтрид-пленок позволит легко получать и передавать на большие расстояния электрический ток при напряжении в много миллионов вольт. Нейтрид позволит создавать стойкие против всех воздействий оболочки космических ракет, глубоководных кораблей и подземных танков, в которых мы сможем проникнуть не только в космический мир, но и в глубочайшие недра своей планеты. Можно назвать атомные домны и металлургические печи из нейтрида, могучие и простые станки для обработки всех металлов, сверхпрочные штампы, буровые станки, экраны от радиации, простые и дешевые синхроциклотроны… Концентрат энергии (грамм антиртути при соединении с обычным веществом выделяет столько же энергии, сколько и 4000 тонн угля) можно доставить в любое место Земли. Можно освободить эту энергию сразу или использовать малыми порциями, постепенно, в течение долгого времени… Человек уже почти два десятилетия обладает космической энергией атомного ядра. Но только теперь ядерная энергия может быть применена везде так же легко, как до сих пор применялся электрический ток. Сочетая нейтрид и антивещество, нейтрид и расщепляющееся горючее, нейтрид и термоядерное горючее, мы овладеем не только безграничной энергией, но и безграничными возможностями применения этой энергии…Страницы из дневника Николая Самойлова. «Без даты. Мой „дневник инженера“ постепенно вырождается. Все реже и реже вспоминаю я об этих тетрадях, наскоро записываю все события за большой кусок времени и снова прячу подальше. Дело в том, что он теряет свое значение: я и без записей помню все, что было за эти три года. Такие события не нуждаются в дневниках — они остаются в памяти навсегда. Вот уже снова весна. Из окна виден Днепр с грязно-белыми пятнами льдин. На улицах ручьи и лужи… Три года назад молодой специалист Н. Самойлов загадывал: вот приедет он сюда, в Днепровск, сделает великолепное открытие. Или встретит лучшую женщину в мире, и она полюбит его, или и то и другое… Мечты сбываются не так прямолинейно, как загадывались, — гораздо сложнее и интереснее. Были открытия — правда, доля моей работы в них не так уж значительна. Такие открытия не делаются одним человеком. Вот насчет любви у тебя, Николай Николаевич, увы… Очевидно, потому, что очень уж интересная и напряженная работа выпала на твою долю. Ни времени, ни мыслей не оставалось. А сейчас весна, свободное время, и вспоминаешь, что уже третий десяток на исходе, что, того и гляди, запишут в холостяки. Ну нет, дудки! Она — моя долгожданная незнакомка — придет! Яшка Якин — тот уже женился; причем явно по космической вспышке любви, а не по рассудку. Потому что на Оксане, бывшей лаборантке Ивана Гавриловича, той самой, что звала меня не иначе, как „дядя, достаньте воробушка“, по спокойному „плану“ жениться нельзя… Ох, этот Яшка! Он может броситься в горящую лабораторию, может в непроверенном скафандре пойти в радиоактивные развалины, придумать смелые и остроумные идеи, изобретать, но все это у него только, чтобы доказать, что он — пуп Вселенной, что мир вращается вокруг него! Не напрасно у нас на курсе его прозвали: „Я в квадрате“. Сейчас он у нас на заводе делает свои (свои!) нейтрид-аккумуляторы из энергии и сверхтонких пленок. И нужно видеть, как ревниво он оберегает свою конструкцию от всяких изменений, предлагаемых заводскими инженерами. А впрочем, что я к нему привязался? Человек делает дело — и делает хорошо. В конце концов у каждого свой стиль, свои противоречия… И нельзя требовать от других того, чего ты сам еще не достиг, а к чему только стремишься. Ты часто говоришь себе, что наука требует кристальной чистоты мыслей и устремлений, требует отказаться от хорошего ради лучшего и от лучшего ради прекрасного; что нельзя творить с завистливой оглядкой на других. А сам ты всегда придерживаешься этих прекрасных принципов? Нет. Ну, так и нечего, как говорил Марк Твен, „критиковать других на той почве, на которой сам стоишь не перпендикулярно“. Нейтрид и антиртуть постепенно уходят из сферы необычного. Антиртуть, конечно, опасна, но это уже понятая опасность и она не страшна. Все мезонаторы у нас на заводе вычистили от нее. Собрали граммов двести антиртути, в стакане это было бы на донышке, а на самом деле столько энергии вырабатывает за год Куйбышевская ГЭС: миллиард киловатт-часов… Остатки антиртути на нейтридных стенках, которые уже не смогли вычистить „методом Якина“ (да-да, это официально названо его именем!), выжгли, осторожно впустив разреженный воздух. Вот приду после отпуска, начнем делать специальные мезонаторы для получения антиртути, а потом специальные приборы для получения нейтрида и антивеществ без мезонаторов. Следы недавней катастрофы постепенно исчезают. Стеклянный корпус Физического института демонтирован; оборудование, даже уцелевшее, уничтожили или пустили в переплавку: невозможно проводить ядерные исследования там, где надолго остались неустранимые следы радиации, нельзя использовать приборы и оборудование, заряженные радиацией. В Новом поселке, неподалеку от нашего нейтрид-завода, строятся корпуса Института ядерных материалов имени профессора И. Г. Голуба. В стену главного корпуса сейчас вмонтируют обелиск — те самые кафельные плитки из стены 17-й лаборатории, на которых остался белый силуэт Сердюка. Это будет лучший памятник им… Впрочем, мне что-то не хочется шевелить прошедшее — отложим это до преклонных лет. Лучше подумать о будущем. А какое громадное будущее нетерпеливо ждет нас — голова кружится! И это будущее начнется скоро, почти завтра, потому что космическая ракета из нейтрида уже готова и начинает проходить испытания. И — парадоксально! — эта ракета безнадежно устареет, едва только совершит свой первый полет по межпланетному простору, потому что на смену обычным атомным двигателям придут (и уже идут) предельно простые и исполински могучие нейтридные двигатели, работающие на антиртути. Сколько еще будет сделано и в Космосе, и на Земле! Машины из нейтрида будут крушить горы там, где они не нужны, и воздвигать их на более удобном месте; мы проникнем в глубь Земли, мы насытим Землю энергией, изменим ее лицо, климат… Три года прошло — а сколько сделано! Впереди еще почти вся жизнь!»
В. Привальский Старый чачван
Рассказ

Железный ящичек, в котором старый бухгалтер держал деньги, исчез из палатки под самое Первое мая. Праздник был испорчен. Ребята расстроились не столько из-за пропажи семнадцати тысяч, предназначенных для премий, сколько из-за того, что в их палаточном городке в степи завелся вор. Сперва долго ругали рыжего Сеньку, дежурившего ночью у палатки с надписью «Бухгалтерия». Сенькина надутая физиономия в это утро вызывала всеобщее раздражение. Сенька молчал — в его положении больше ничего не оставалось делать. И только на ребром поставленный вопрос: «Спал?» — он вдруг ответил раздраженно: — Ну, спал! А Женька разве не спал? А Касымов, а Урунов, а Ахмет? Все спят! Это было правдой. На ночном дежурстве спали все, да, собственно, и само дежурство считалось проформой: с тех пор как ребята приехали в Голодную степь, в новом совхозе не случилось ни одной пропажи, если не считать исчезновения кота Андрея, одичавшего на ловле полевых мышей. Потом принялись за обсуждение самого главного и самого неприятного вопроса: кто украл? Стыдно было смотреть друг другу в глаза и думать: не ты ли вор? Не ты ли, мой товарищ, поехавший вместе со мной поднимать Голодную степь, сделал это черное дело? Директор совхоза хорошо понимал настроение молодежи и сказал, что вместе с секретарем комсомольской организации разберется в этом деле сам, а сегодня не надо портить себе праздник. Но ребята зашумели: — Не согласны! Сейчас разберемся! Давайте обыск!.. — Никакого обыска! Позор! Чтобы из-за одного мерзавца всем унижение терпеть? Тут кто-то спохватился: — А где Ляпунов с Максудовым? — Их с утра не видно! — Послать за ними домой! «Домой» — это было сказано громко. В степи, среди уже распаханных полей, стояло двадцать семь зеленых палаток новоселов. В них жило около трехсот человек — первая бригада молодого совхоза. Сборные стандартные дома еще находились в пути, поэтому в палатках помещались и бухгалтерия, и магазин, и радиоузел, и медпункт, о чем торжественно возвещали пришпиленные у входа таблички. Дома Ляпунова и Максудова не оказалось. Исчезли их вещи — под койками остались только два пустых зеленых сундучка. Первым обнаружил их Нуритдин Насретдинов — шофер грузовой машины. Вид опустевших сундучков привел его в ярость. — Догнать! — кричал он, потрясая крупными, как булыжники, кулаками. — На велосипедах удрали! — констатировала бригадная повариха, заглянувшая в полотняный сарайчик, где хранилась всякая утварь и где владельцы иногда оставляли свои велосипеды. Через пять минут Насретдинов уже сидел за рулем, а в кузов набралось с десяток возбужденных ребят. Машина рванулась с места и, подпрыгивая на ухабах, скрылась в клубах пыли. До ближайшего шоссе от нового совхоза было добрых два десятка километров. Преследователи вернулись только вечером, запыленные и усталые. Беглецов и след простыл. Насретдинов, бессменно просидевшей весь день за баранкой, рассказывал: — Жали по шоссе до самого райцентра. Всех встречных-поперечных расспрашивали, да мало ли велосипедистов катит по дороге! Нет, теперь ищи ветра в поле!.. Машина вернулась, но никто из встречавших ее не обратил внимания на щуплого человечка с полевой сумкой, который вышел из кабины и зашагал к бухгалтерской палатке. Это был старший оперуполномоченный Хасанов. Ребята заехали за ним в районное отделение милиции на обратном пути. Хасанов зашел в палатку бухгалтерии, посмотрел на пустое место, где еще недавно стоял железный ящичек с деньгами, поговорил с бухгалтером, в сотый раз рассказывавшим, как он обнаружил пропажу, и потребовал личные дела беглецов. Кое-что переписал в записную книжечку, особо отметив одно обстоятельство: Максудов год назад вернулся из заключения. — Хоп! — сказал уполномоченный и, выйдя на единственную улицу поселка, безошибочно направился к столовой, словно был здесь старожилом. Повариха, которую все звали тетя Галия, готовила сегодня пельмени. Пельмени были пересолены. Нет, тетя Галия не влюбилась, она очень сердилась: в украденной сумме была и ее премия. Но пуще всего раздражена была она тем, что беглецы не далее как вчера одолжили у нее двести пятьдесят рублей, на возвращение которых теперь, очевидно, не было никакой надежды. — Поймаете? — спросила она Хасанова, ставя перед ним полную миску соленых пельменей. — Угум! — ответил уполномоченный, набивая рот. — А как? Гость вытер рот, попросил напиться и только тогда ответил: — Очень просто. Знаешь, как в пустыне Саха, ре ловят львов? Возьми Сахару, пропусти сквозь сито, песок просеется, львы останутся. Так и мы… Тетя Галия поняла, что над ней подшутили, когда гость, вежливо попрощавшись, уже шагал по дороге. «А как?» — этот вопрос, простодушно высказанный поварихой, в сотый раз задавал себе и Хасанов. В сущности, перед оперативным работником, расследующим преступление, всегда стоят два вопроса: кто совершил преступление и как поймать преступника? В данном случае первый вопрос был ясным: ночью исчез денежный ящик, той же ночью из совхоза бежали два человека, причем один из них — бывший уголовник. Логическая связь между этими событиями была несомненной. Оставалось найти преступников. Но как? — Дело ясное! — докладывал Хасанов начальнику районного отделения. — Мальчишек надо искать дома — у папы с мамой. Куда же им еще податься? Начальник сидел, окутанный табачным дымом, как бог Саваоф в облаке. Это был человек сухой и педантичный — «Параграф», как называли его подчиненные за любовь ко всякого рода инструкциям и перепискам. — Действуйте! — сказал он лаконично и выпустил клуб дыма. «Действуйте» в словаре начальника означало: «Пишите». Итак, розыск начался за письменным столом. Мелким почерком Хасанов аккуратно выписал на листке бумаги адреса родственников Ляпунова и Максудова. В тот же день полетели запросы в Самарканд, где до отъезда в совхоз жил Ляпунов, и в Коканд, где жили родные Максудова. Ответ пришел через неделю: разыскиваемых не оказалось ни в Самарканде, ни в Коканде. — Дело запутывается! — доложил Хасанов начальнику и, услышав в ответ знакомое «действуйте», со вздохом отправился писать. На сей раз Коканд и Самарканд запросили об адресах ближайших родственников Ляпунова и Максудова. Коканд ответил быстро и дал три новых адреса. Самарканд ответил через неделю и сообщил пять адресов. Переписка расширялась, синяя папка с делом № 53 заполнялась бумажками. Время шло… Андижан и Шахрисябз, Фергана и Джизак, Ташкент, Свердловск и Куйбышев исправно отвечали на запрос: Ляпунова и Максудова по указанным адресам обнаружено не было. — Дело сложное! — объявил Хасанов, положив перед Параграфом пухлую папку с перепиской. — Объявить всесоюзный розыск! — распорядился начальник и почувствовал некоторое облегчение: тем самым трудности розыска в значительной степени перекладывались на других. Прошел месяц. Новых сведений не поступало, и папка с делом лежала запертой в шкафу. Однажды утром в кабинете Хасанова появилась совхозная повариха. Заполнив собой тесное креслице, отдуваясь от жары, тетя Галия ехидно спросила: — Как песок, просеялся? — Какой песок? — не понял Хасанов. — Песок пустыни Сахары. Возьми сито, просей песок… — А-а… — вспомнил уполномоченный и стал смущенно перекладывать на столе папки. — Нет, львы пока на свободе. — Какие там львы! Наглые мальчишки! — рассердилась повариха. — Вот, глядите. — И она протянула Хасанову письмо. «Наглые мальчишки» посылали тете Галии из Бухары свой долг — двести пятьдесят рублей — и сообщали, что очень жалеют обо всем случившемся. «Деньги кончаются, — писали они, — и что будет дальше — не знаем, домой писать боимся, стыдно». К письму был приложен адрес. «Жалеют о случившемся… Деньги кончаются…» Это было признание. — Дело ясное! — докладывал через полчаса решительный Хасанов начальнику райотделения. — Надо ехать в Бухару.
* * *
Поезд приходит в Бухару ночью. Он останавливается на станции Каган, откуда до Бухары еще двенадцать километров. Хасанов добрался до города с попутной машиной. Он слез на площади, около гостиницы, помещавшейся в старинном медресе, и остановился в раздумье. Спать не хотелось, до рассвета оставалось часа два. Не лучше ли сейчас же отправиться по адресу? Мальчишки наверняка спят, и их легко будет взять. Хасанов повернулся и быстро зашагал. Серый аист, свивший гнездо на минарете, неодобрительно посмотрел ему вслед и щелкнул клювом. Хасанов бывал в Бухаре и потому смело погрузился в кривые и путаные переулки старого города. Узенькие, похожие на ущелья, улочки с глухими глинобитными стенами тонули во мраке. Зайчик карманного фонарика, которым Хасанов освещал себе путь, перебегал с номера на номер. Пятнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый… Здесь! Хасанов остановился перед побеленной дверью и запоздало подумал о том, что, в сущности, неосторожно было идти сюда одному. Но раздумывать не приходилось, и он решительно постучал… Труп лейтенанта Хасанова был обнаружен на рассвете в соседнем переулке. Маленькая Мохиниса, выбежавшая утром, чтобы раньше мальчишек подобрать под деревом сладкие ягоды шелковицы, с плачем прибежала домой и разбудила мать. Скоро все соседи, взбудораженные событием, собрались в переулке. Вызвали милицию… Осмотр места происшествия дал сравнительно немного. Рядом с трупом нашли валявшийся в пыли крупный гаечный ключ, послуживший, видимо, орудием убийства. Следы крови, тянувшиеся по переулку, вели к дому номер 19, где, очевидно, и совершено было преступление. Маленькая Мохиниса, потрясенная виденным, долго не могла ответить на вопросы работников милиции. Наконец, с трудом проглотив слезы, она рассказала, как утром, выбежав из ворот, наткнулась на «дяденьку, который спал прямо на улице и совсем без подушки». Она осторожно подошла к «спящему» и присела на корточки. Тут дяденька застонал, открыл глаза, сказал одно слово и больше уже ничего не говорил. Мохиниса испугалась и убежала. — Какое же слово оказал дяденька? — спросили ее. Девочка наморщила лобик и ответила: — Старуха. Все это казалось более чем странно. Почему умирающий лейтенант вспомнил о какой-то старухе? Бред? Какое отношение могла иметь старуха к убийству, совершенному, судя по рэне, очень сильным человеком? Кому принадлежал тяжелый гаечный ключ? Особенно неприятным казалось одно обстоятельство: у Хасанова был похищен пистолет. Значит, теперь убийцы вооружены огнестрельным оружием. Дом номер 19 оказался нежилым. Небольшое полуразвалившееся строение было заколочено досками, окна забиты фанерой, крохотный дворик завален мусором. — Здесь давно уже никто не живет, — сказали соседи. — Ничего подобного! — заявили вездесущие мальчишки. — Сюда ходили двое ребят, только ночью. При более тщательном обследовании обнаружилось, что фанера на одном из заколоченных окон легко отодвигается. Впрочем, пахнущая пылью комната имела нежилой вид, и только две кучки тряпья в углу свидетельствовали о том, что тут кто-то ночевал. Рядом с «постелями» валялось несколько винных бутылок. Наконец, разворошив кучу тряпья, обнаружили самую важную улику: похищенный из совхоза железный ящичек. Он оказался пустым. Итак, вот где скрывались похитители! В доме устроили засаду, но прошло несколько ночей, и никто не являлся. Преступники бежали…* * *
— А не поручить ли это дело Пожарнику? — предложил начальник управления милиции, когда на совещании обсуждалась трагическая гибель Хасанова. «Пожарником» в управлении называли капитана Касыма Рахманова. Он не обижался. Когда-то, еще до поступления в милицию, он и в самом деле служил в пожарной охране. Прозвище это удержалось с тех пор. Правда, в последние годы оно приобрело уже другой смысл: Рахманову поручались самые трудные — «пожарные» — дела. Он брался за них неторопливо, но цепко и в путанице фактов, улик, свидетельских показаний умел отыскивать самое главное, словно шел сквозь дымовую пелену пожара прямо к его очагу. Это был невысокий, но широкоплечий человек, смуглый и черноволосый, с лицом, чуть тронутым щербинками оспы. Говорил Касымов немного и великолепно умел слушать — качество, весьма ценное для оперативного работника. При этом лицо его всегда оставалось спокойным. В нем была сдержанность крепко скрученной пружины: отпусти ее сразу — и она ударит, дай ей раскрутиться постепенно — она долго будет двигать механизм. Изучая синюю папку с делом, начатым лейтенантом Хасановым, Рахманов поражался количеству ошибок. Не допрошен часовой, дежуривший ночью у бухгалтерской палатки; не опрошены ближайшие друзья Ляпунова и Максудова, шофер, отправившийся за ними в погоню; небрежно осмотрено место происшествия. Наконец, упущена была из виду существеннейшая деталь. Ляпунов с Максудовым бежали из совхоза на велосипедах, очутились же они в Бухаре. Не на велосипедах же добрались они до Бухары! Несомненно, беглецы сели в поезд. Где же тогда велосипеды? Спрятаны или проданы? С них-то капитан и решил начать поиски преступников. В районе, на территории которого был расположен новый совхоз, оказалось около шести тысяч зарегистрированных велосипедов. Вдвоем с дорожным инспектором Рахманов просидел целый день над кучей регистрационных карточек. Большинство велосипедов было приобретено владельцами давно, и только десять зарегистрированы после Первого мая. Из этих десяти дорожный инспектор, превосходно знавший свой район и его обитателей, сразу отложил в сторону шесть карточек, объявив, что знает этих владельцев и знает, где приобрели они велосипеды. Оставалось еще четверо. Вместе с инспектором Рахманов отправился по записанным адресам. Первые три владельца приобрели своих «пензевцев» в районном универмаге, у них сохранились даже копии чеков. Четвертым оказался буфетчик железнодорожного буфета Акопян. Ударяя себя волосатым кулаком в жирную грудь, он клялся, что велосипед принадлежит ему много лет, а зарегистрирован недавно только потому, что «времени нет, очень большой объем работы». Буфетчик весьма неохотно разрешил осмотреть дровяной сарайчик, в котором стоял велосипед. Идя с ключом по двору, он все время сокрушался: — Зачем смотреть такую старую машину, когда можно посидеть в прохладном уголке, выпить стаканчик винца, а то и коньячку? — Но, глянув просительно в суровые глаза Рахманова, оборвал на полуслове свое бормотание и заспешил к двери. В сарайчике оказалось два велосипеда! Буфетчик представился удивленным и объявил, что решительно не знает, откуда взялся второй велосипед и кому он принадлежит. — Значит, чужой велосипед? — переспросил инспектор. — Придется забрать, чтобы отыскать владельца. Тут природная жадность, видимо, взяла верх, и буфетчик неохотно буркнул: — Ладно, мой велосипед! Чего надо? Так же неохотно он признался, что купил обе машины у каких-то мальчишек в ночь на Первое мая за тысячу рублей, и, конечно, соврал: как выяснилось впоследствии, заплатил он за велосипеды шестьсот. Довольно точно описав Ляпунова и Максудова, Акопян добавил: — Уехали утренним поездом в Бухару. Я же их и накормил… — И опять соврал: беглецы выпили на свой счет по две кружки пива и съели порцию остывшей шурпы. — Какие вещи были у них с собой? — Два узелка, больше ничего. — А кто из них держал железный ящичек? — попробовал Рахманов простейший прием. — Железный ящичек? — На жирном лице буфетчика отразилось неподдельное удивление. — Никакого ящика не было. «А ящичек все же очутился в Бухаре, — размышлял Рахманов. — Штука эта довольно тяжелая — в узелок не упрячешь. Может, врет пройдоха-буфетчик?» Возвращаясь со станции, Рахманов спросил инспектора: — Техосмотр машин в совхозе уже произведен? — Нет, — удивился инспектор — А зачем — техника у них вся новая. — Нельзя ли это сделать завтра? — Пожалуйста! — чуть обиженно повел плечами инспектор. — Хоть сейчас! — Сейчас поздновато, да и занят я: свидание с одним человечком назначено. «Одним человечком» оказался секретарь комсомольской организации совхоза Сайд Юнусов. — Я привез то, о чем вы мне писали, — сказал он Рахманову, кладя на стол две бумажки. Это оказались характеристики Ляпунова и Максудова. Составлены они были в почти одинаковых скупых выражениях и отражали не характеры Ляпунова и Максудова, а скорее растерянность писавшего, явно не знавшего, чем заполнить страницы. «На освоение Голодной степи поехал по собственному желанию, — читал Рахманов характеристику Максудова. — Работал прицепщиком на транспортном агрегате. С порученным делом справлялся. В общественной жизни ничем себя не проявил. Бежал из совхоза, похитив деньги». В тех же выражениях была составлена и характеристика Ляпунова; к ней Юнусов добавил только, что «похищение денег и побег Ляпунов совершил под влиянием бывшего уголовника Максудова». Рахманов с досадой отодвинул бумажки: — Скажите, Юнусов, по-вашему, человек, однажды отбывший наказание, уже навсегда остается преступником? Юнусов молчал. — Вы абсолютно убеждены, — продолжал Рахманов, — в том, что именно Ляпунов и Максудов похитили деньги? — Но кто же еще? — поднял брови секретарь. Рахманов сосредоточенно барабанил пальцами по столу. — Какими инструментами пользуются у вас прицепщики? — неожиданно спросил он. — Разными… — растерянно ответил Юнусов. — Ну, там, молоток, зубило, плоскогубцы, ключи гаечные… — Вот такие? — Рахманов вынул из кармана крупный ключ. — Бывают и такие. — Этот ключ и должен ответить на ваш вопрос: «Кто же еще?..» — Тут и сомневаться нечего. «А я вот сомневаюсь, — подумал Рахманов, когда Юнусов ушел. — Я обязан подвергать сомнению каждый даже самый очевидный факт. Хасанов вот не сомневался… — вдруг вспомнил он своего предшественника. — В чем все-таки состояла его версия?» — Рахманов взялся за карандаш. …В ночь на Первое мая похищен ящичек с деньгами. В ту же ночь из совхоза бегут двое рабочих. Значит, они-то и есть похитители? Быть может, так, а быть может, и нет. Зачем понадобилось Ляпунову и Максудову, раз уж они намеревались украсть такую крупную сумму, одалживать деньги у поварихи? Как и когда вскрыли они железный ящик? Почему не видел его буфетчик, когда Ляпунов с Максудовым садились в поезд? Каким образом очутился этот ящичек в Бухаре? Кстати, почему преступники поехали именно в Бухару? Для чего вдруг понадобилось им прихватывать с собой тяжелый гаечный ключ?.. «Вон сколько тайн!» — продолжал рассуждать Рахманов. Утром дорожный инспектор доставил Рахманова на мотоцикле в совхоз. Вылезая из коляски, Рахманов сказал инспектору: — Постарайтесь выяснить, у кого из шоферов не хватает вот такого ключа. — Он вынул из кармана большой гаечный ключ. — А я пока займусь кое-какими другими делами. Прежде всего Рахманов отправился к складу горючего. Старик сторож, дремавший неподалеку от склада, подозрительно посмотрел на необычного посетителя и потребовал документы. Покатый спуск, без ступеней, вел в хранилище, вырытое в земле. Здесь было прохладно, полутемно и остро пахло бензином. Рахманов осторожно шагал меж больших железных бочек. — Бабай! — окликнул он сторожа. — А где тут у вас автол? — В левом углу, — сердито ответил сторож. — Зачем тебе? Рахманов не ответил. Присев на корточки, он вынул перочинный нож и принялся ковырять землю возле бочки с автолом. Потом вырвал из блокнота чистый листок, свернул его фунтиком, насыпал щепотку земли и только тогда распрямился, больно стукнувшись о низкий накат хранилища. Потирая ушибленное место, Рахманов выбрался наверх. — Бабай, давно привезли эту бочку с автолом? — спросил капитан, жмурясь от солнца. Старик пожевал губами, вспоминая. — Недавно, — сказал он. — Скажи, пожалуйста, может один человек откатить полную бочку? — Если он сильный, как бык, — только сдвинет с места. — А полупустую бочку? — Если он глуп, как ишак, — может быть, и выкатит, если умный — позовет на помощь. Рахманов улыбнулся сравнениям старика. — Ну, а пустую? — спросил он. — Пустую бочку даже я, слабый человек, подниму. — На сколько дней хватит такой бочки автола? — Месяца на полтора. Рахманов вынул блокнот и принялся что-то вычислять. За этим занятием и застал его инспектор. — Ваше задание выполнил! — отчеканил он и затем перешел на шепот. — На машине «ЕХ28–34» в ящике с инструментами как раз не хватает такого ключа, какой вы показывали. — А чья машина? — живо спросил Рахманов. — Шофер Акмал Курбанов. — Он здесь? — Так точно! Только работает недавно, недели две. — А кто до него водил машину, узнали? — Узнал. Шофер Нуритдин Насретдинов. — Вы его видели? — Он уволился. — Вот как! Давно? — Две недели назад. — Почему уволился? Куда уехал? — По семейным обстоятельствам. Куда выехал — неизвестно. — Та-ак, — протянул Рахманов и вновь вынул блокнот. — Отвезите, пожалуйста, этот пакетик в агролабораторию и попросите срочно сделать анализ. — Слушаюсь! — Инспектор умчался на мотоцикле. Рахманов отправился в бухгалтерию: — Можете дать мне оправку: получал ли совхоз в начале мая автол? Старый бухгалтер достал книгу учета горючего: — Третьего мая была привезена бочка автола. — Кто доставлял? — Шофер Насретдинов. Рахманов уже собрался уезжать, когда его позвала повариха. — Отведайте пельменей! — пригласила тетя Галия. Пельмени были пересолены. Тетя Галия вновь была не в духе: перебирая вчера вечером вещи в своем сундучке, она обнаружила пропажу платья и старой паранджи с чачваном, которые сняла и бог весть сколько лет уже не носила, храня на дне своего сундука. — Скажи пожалуйста! — жаловалась она. — Какой шайтан польстился на старый чачван? Ни одна женщина в нашем совхозе паранджи не носит… Из совхоза Рахманов отправился в агролабораторию. Лаборантка протянула ему бумажку с готовым анализом. В ней было указано процентное содержание гумуса, кремнезема, фосфора, азота, кальция и других веществ, содержащихся обычно в почве. — Имейте в виду, — сказала лаборантка, — почва хорошая, но загрязнена автолом. Для сельскохозяйственных культур не пригодна. — Рахмат! Вот спасибо! — обрадованно воскликнул посетитель и от души протянул руку лаборантке. Та удивленно пожала плечами: она никак не могла взять в толк, почему этот человек обрадовался тому, что почва испорченаавтолом? Вечером Рахманов выехал в управление. Всю ночь в поезде он писал обстоятельный доклад и утром, войдя в кабинет начальника, как всегда сдержанный и спокойный, поставил на стол железный ящичек, положил гаечный ключ и два бумажных пакетика. — Преступление совершено не Ляпуновым и Максудовым, — начал свой доклад капитан. — Во всяком случае, не они похитили деньги. — Вот как? — Начальник с любопытством посмотрел на Пожарника. — Объяснитесь. — Еще до выезда в район я осмотрел этот ящичек, найденный, как вы знаете, в доме номер девятнадцать, где скрывались Ляпунов и Максудов. Это, разумеется, была веская улика против них. Так думал вначале и я. Ящик был взломан: у преступника, естественно, не было ключа. Однако при более тщательном осмотре я обнаружил вот это. — Рахманов развернул один из бумажных пакетиков. — Что это? — спросил начальник, разглядывая щепотку серого вещества. — Земля! Замочная скважина была забита вот этой землей. Откуда она могла взяться? Бухгалтер, которому принадлежал ящичек, открывал его, разумеется, ключом. Значит, земля попала в скважину уже после похищения. Очевидно, ящик был зарыт в землю. Но зачем же Ляпунову с Максудовым, которые так поспешно бежали ночью из совхоза, понадобилось забывать в землю ящик с деньгами? Может быть, они закопали его уже в Бухаре? На всякий случай я осмотрел двор дома номер девятнадцать, но там нет даже местечка, где можно выкопать яму. Рахманов закурил и продолжал свой доклад: — Я послал эту землю на анализ. А анализ показал серозем, какой бывает у нас на целине, хотя бы в том же самом совхозе. В лаборатории сказали также, что в земле есть примесь автола. Стало быть, ящичек зарывали в землю, пропитанную маслом для заправки автомашины. Я подумал — где в совхозе можно спрятать ящик? Кругом Голодная степь, ни одного деревца, местность абсолютно ровная. В палатке, где живут десять—двенадцать человек, такую громоздкую штуку не укроешь. И я понял: единственное укромное местечко — это склад горючего, который обычно устраивают под землей. Там, кстати сказать, земля всегда пропитана горючим. Но на оклад горючего может проникнуть, не вызывая подозрений, только шофер. Таким образом, я пришел к заключению, что похищение, вероятнее всего, совершено шофером. Это предположение подтверждал, кстати сказать, гаечный ключ, которым был убит Хасанов. Прежде чем выехать в совхоз, мне хотелось попытаться разыскать того, кто купил у Ляпунова и Максудова велосипеды, — только он мог видеть, был ли с ними железный ящичек. Я был убежден, что велосипеды кому-то проданы, — не бросать же их в дороге? Одним словом, покупатель нашелся и категорически объявил: никакого ящичка у Ляпунова и Максудова не было. Итак, оставалось только обследовать склад горючего и постараться узнать, кому из шоферов принадлежит гаечный ключ. Склад — это довольно глубокая землянка, там не очень-то развернешься: бочки стоят тесно, да полную бочку с автолом с места и не сдвинешь. Но как раз перед маем автол кончился, и пустую бочку легко было откатить, выкопать ямку и быстро поставить бочку на место. На всякий случай я взял из склада щепотку земли и отправил на анализ в агролабораторию. Результат вот он, смотрите. — Рахманов протянул бумажку. — Полное совпадение: то же содержание гумуса, кремнезема, фосфора и прочих веществ, такая же примесь автола!.. Пожарник пытался скрыть свое волнение. Чем ближе подходил он к концу доклада, тем больше сомнений возникало у него Он любил высказывать свои версии вслух: так легче было проверять самого себя. Однажды он высказал такую мысль: «версии создаются для того, чтобы их опровергать». Сейчас представился случай эту мысль подтвердить. Он-то знал слабые места своей теории, но хотел услышать о них от начальника. — Наконец, инспектор ГАИ провел по моей просьбе осмотр машин, — продолжал Рахманов. — В наборе инструментов машины «ЕХ28–34» недостает в точности такого гаечного ключа, каким был убит Хасанов. Шофер Нуритдин Насретдинов, работавший на этой машине, недавно уволился и выбыл в неизвестном направлении. Рахманов снова закурил, нервно затянулся сигаретой и тут же потушил ее. — Таким образом, возникает следующая версия, — сказал он. — Шофер Насретдинов узнаёт, что двое молодых рабочих совхоза Ляпунов и Максудов задумали дезертировать. Возможно, они сами рассказали ему о своем намерении, рассчитывая на помощь, скажем, на то, что он подвезет их на машине до станции. Насретдинов отказывается везти, но дает им адрес нежилого дома, где можно укрыться. Вместе с тем он решает воспользоваться случаем и в ту же ночь похищает ящичек с деньгами. Расчет у него простой: подозрение падет, конечно, на беглецов. Преступник зарывает ящик в землянке, зная, что там есть пустая бочка, которую легко откатить. А через три дня он сам привозит полную бочку автола, и клад оказывается на время погребенным. Переждав с месяц и убедившись, что розыск пошел по ложному пути, шофер подает заявление об уходе. К тому времени, когда он собирается уехать, бочка с автолом пустеет, и ящичек из-под нее легко извлечь. Насретдинов уехал из совхоза пятнадцатого июня и, очевидно, отправился по знакомому адресу в Бухару, где всего удобнее было вскрыть ящик с деньгами. Неизвестно, рассчитывал ли он застать в Бухаре Ляпунова с Максудовым, скорее всего нет: прошло уже полтора месяца со времени их побега. Но, в конце концов, это неважно. Важно другое: в ночь с семнадцатого на восемнадцатое преступника застал Хасанов. Должно быть, Насретдинов был в пустовавшем доме один, и железный ящичек — найди его Хасанов — выдавал шофера с головой. Вот почему он и пошел на убийство. Рахманов устало опустился на стул и полез в карман за носовым платком. — Н-да!.. — полуудивленно, полувосхищенно протянул начальник. — Интересно, убедительно! Но… — он поднял указательный палец, — как говорится, имеются вопросы. Рахманов весь напрягся, ожидая услышать те же сомнения, которые одолевали и его. — Во-первых: чем вы объясните признания Ляпунова и Максудова? Как там писали они в письме: «Жалеем о случившемся… деньги кончаются»? — Разрешите ответить сразу? — Давайте! — В письме не сказано, о чем именно они жалеют. Можно понять и так: жалеем о том, что испугались трудностей и сбежали… «Деньги кончаются»… Но какие? Что ж они, за какой-нибудь месяц истратили все семнадцать тысяч? Не проще ли предположить, что речь идет о деньгах, которые они получили, продав велосипеды? — Вполне правдоподобно, — согласился начальник. — Но о какой старухе поминал бедняга Хасанов? Рахманов развел руками: — Этого объяснить не могу. — Как намерены действовать дальше? — Надо искать Насретдинова. Искать в гаражах. Судя по всему, это опытный преступник и, наверное, великолепно понимает, что человек без определенных занятий легко вызовет подозрения. — Правильно! Учтите только, что такой человек может скрываться под чужой фамилией. Я дам через ГАИ указание всем инспекторам проверить личности шоферов, оформившихся на работу после восемнадцатого июня… Ну, а Ляпунов с Максудовым? — Разыщутся, товарищ начальник! — убежденно сказал Рахманов. — Домой явятся, а может, совесть их обратно в совхоз приведет. Начальник задумался. — Понимаешь, дорогой Пожарник… — начал он и осекся. — Понимаешь, товарищ Рахманов, конечно, наша первейшая обязанность искать преступника. Но мы не можем, не должны бросать этих ребят. Пропадут, если их вовремя не остановить. И так уж обились с пути, сбежали от товарищей, шляются невесть где. Может быть, связались с таким матерым преступником, как Насретдинов… Дай знать еще раз во все районы, куда писал Хасанов. Ближайшие четыре дня Рахманов провел в кабинетах ГАИ. Непрерывно звонили телефоны: из областей, из ближних и дальних районов сообщали обо всех шоферах, оформившихся в гаражи заводов, фабрик, учреждений, совхозов и колхозов после восемнадцатого июня. Это был шквал телефонных звонков, стихший лишь на пятый день. Среди полусотни фамилий Насретдинова не было. Рахманов, однако, не унывал. Несколько человек вызывали его подозрение. Особенно заинтересовался он неким Алиевым, поступившим недавно на автобазу Китабского винзавода. Внешность, возраст, ряд других данных — все это весьма подходило к Насретдинову. Захватив с собой фотокарточку преступника, капитан вылетел в Китаб. Гараж оказался расположенным на краю городка, близ Большого узбекского тракта — древней караванной дороги, превращенной ныне в великолепное шоссе. «Бывает же такое везение!» — думал впоследствии Рахманов, вспоминая необычайные события этого дня. Все произошло с калейдоскопической быстротой. Когда Рахманов подходил к автобазе, из ворот ее медленно выезжал грузовик. Затормозив, шофер высунулся из кабины, передавая вахтеру пропуск. В этот момент на него и взглянул Рахманов и чуть не свистнул: на него смотрел Насретдинов, точь-в-точь такой, как на фотографии. То ли на всегда бесстрастном лице Рахманова отразилось на этот раз удивление, то ли он сделал неосторожное движение, невольно потянувшись к пистолету, но преступник, видимо, что-то заподозрил. Не сводя с Рахманова прищуренных глаз, он медленно проехал мимо, выбрался на шоссе и свернул к горам. — Куда ж это он?! — с удивлением воскликнул вахтер. — Ему ж в другую сторону надо! Не знает, что ли? — Это Алиев? — спросил Рахманов. — Он самый. Новичок. — Номер машины? — «ЕФ12–50», — ответил вахтер, заглянув в пропуск. Рахманов бросился к телефону. Назвав себя начальнику районного отделения милиции, он торопливо спросил: — Есть дорожные посты на тракте в горах? — Нет. — Черт! — вырвалось у Рахманова. — Можете немедленно прислать мне мотоциклиста? — Сейчас будет! Через несколько минут к автобазе подкатил мотоцикл. — Вот что, друг, — сказал Рахманов старшине, отрапортовавшему по всем правилам: «Прибыл в ваше распоряжение!». — Бери на автобазе или где хочешь машину. Надо организовать преследование грузовика «ЕФ12–50», задержать опасного преступника. А мне давай твой мотоцикл, я еду вперед. Тут трасса одна, развилок нет? — Так точно! Дорога одна, но, ох, и трудная же! Первый десяток километров Рахманов пролетел по прямой ленте шоссе, обгоняя нагруженных ишаков, велосипедистов и машины, пристально всматриваясь в их номера. Потом начался подъем: асфальт сменился щебенкой, мотоцикл сбавил ход. Дорога поднималась все круче и круче, начались головокружительные виражи, облака словно приблизились, а внизу разверзлась пропасть. Рахманов пристально вглядывался вперед, наконец за каким-то поворотом он увидел машину: она шла двумя ярусами выше. Капитан дал сигнал, из кабины высунулась рука. «Фьюить!» — услышал вдруг Рахманов. — «Фьюить, фьюить!»… «Вот он, хасановский пистолет», — подумал капитан и спрятался за скалу. Еще дважды пролетели пули, чиркая о скалу и откалывая от нее мелкие осколки. Переждав несколько минут, Рахманов выглянул: машина летела по дороге, успев подняться еще одним ярусом выше. Рахманов вскочил на мотоцикл и приготовил пистолет. Выбрав удобный момент, он выстрелил, целясь в задний скат, но промахнулся. За перевалом дорога пошла круто вниз, стрелять было неудобно. И Рахманов решил выждать, когда оба они выедут на прямой тракт. Теперь он ехал почти вплотную за грузовиком, прячась за его кузов. Дважды преступник пробовал резко тормозить, рассчитывая, что преследователь натолкнется на машину и разобьется, но Рахманов успевал вовремя остановиться. И опять машина и мотоцикл мчались с бешеной скоростью. Мимо проносились кишлаки. Встречные машины и пешеходы испуганно жались к самому краю дороги. Наконец горы расступились, сменившись невысокими холмами. Кончились виражи, дорога выпрямилась и расширилась. Впереди показались хлопковые поля. Рахманов отстал и приготовил пистолет. Но преступник его опередил: из кабины высунулась рука, раздался выстрел, и передняя покрышка мотоцикла захлюпала, как мокрая тряпка на ветру. В ту же минуту руль рванулся у Рахманова из рук, и он полетел нэ землю. Уже лежа на обочине, он увидел удаляющуюся машину и тщательно прицелился. Машина мчалась на предельной скорости. «Если сейчас не попаду, все пропало — удерет, мерзавец», — думал Рахманов, крепко стискивая зубы. Медленно, как на ученье, он нажал курок. Машина судорожно вильнула и скрылась за поворотом. «Попал или не попал?» — Рахманов осторожно поднялся. До поворота было добрых пятьсот метров. Он медленно побрел, чувствуя, как вдруг заныла ушибленная в колене нога. Машина стояла у самого края дороги, грузно осев на правое заднее колесо. Впереди никого не было видно. Слева показалась легкая деревянная арка, а за ней зеленая аллея — дорога в какой-то колхоз. «Добро пожаловать!» — прочел Рахманов надпись на арке и усмехнулся. «Только сюда и можно свернуть», — отметил он про себя и пошел по аллее. Солнце село, быстро опускались мягкие сумерки. Аллея привела к большой террасе на берегу водоема. На террасе, поджав ноги, сидело множество людей. В конце ее на огороженной, освещенной электричеством площадке танцевали под мерный рокот бубна две девушки. «Самодеятельность или концерт, — отметил Рахманов и тут же подумал: — Здесь, надеясь затеряться в толпе, и должен спрятаться преступник». Капитан осторожно обошел импровизированный зрительный зал, пристально вглядываясь в лица, попробовал пробраться меж рядов — на него зашикали. Все же ему удалось найти председателя колхоза и отвести его в сторону. Через пять минут вдоль всей террасы вспыхнули яркие электрические лампочки. Зрители зашумели, несколько пожилых женщин торопливо спустили на лица чачваны. Рахманов лихорадочно вглядывался в людей. Преступника нигде не было видно. И вдруг он вздрогнул от пришедшей в голову мысли. «Старуха!» — вспомнил он последнее слово Хасанова. «Насретдинов переодет женщиной! Конечно: это он украл платье и старый чачван у тети Галии! Когда же он успел переодеться? Наверно, в кабине, пока я его догонял. Которая же из них? Как разоблачить эту мнимую старуху?» Рахманов пошептался с председателем. И, когда кончился очередной номер, на площадку, где выступали артисты, вышел Рахманов. Он подошел к самому краю, чувствуя на себе удивленные взгляды и не зная, с чего начать. — Прошу всех женщин снять чачваны! — вдруг сказал он. Колхозники недоумевали: конечно, носить чачван и паранджу — это феодально-байский пережиток. Но разве уместно ради этого прерывать интересный концерт? Рахманов тоже понимал, что говорит не то. «Надо сказать им все, они поймут и помогут… А если он будет стрелять? Что ж, пусть стреляет в меня. В пистолете у него осталась только одна пуля». И он шагнул вперед. Он не помнит, как говорил, какие выбирал выражения. Собственно, обращался он не ко всему залу, а к женщинам, к тем семи, что сидели, понурившись и испуганно закрыв лица. — Это опаснейший преступник! — закончил Рахманов свою речь. — Он похитил деньги и убил человека! А теперь он сидит здесь и пользуется вашими предрассудками, чтобы скрыться от правосудия. Помогите же мне разоблачить его — откройте ваши лица! Шесть женщин медленно поднялись со своих мест и сорвали чачваны, обнажив морщинистые, коричневые лица и яростные от гнева глаза. Седьмая осталась сидеть, не поднимая головы. И тогда со всех концов зала протянулись пальцы, указывая на «старуху», и сотня голосов грозно крикнула: — Вот он!.. Чья-то рука протянулась к нему и сорвала паранджу вместе с чачваном. И все увидели страшную маску страха. Глаза преступника торопливо перебегали по лицам, ища сочувствия, но видели один только гнев. Он понял: это конец — и опустил голову.Вл. Гуро Вера Чистякова
Повесть

Глава первая
КАТАСТРОФА
С утра над усеченным конусом сопки Медвежьей встала темная, тяжелая туча. К полудню пошел снег. Он падал весь день крупными, пушистыми хлопьями. Дальние горы исчезли из виду за его густой завесой. Невысокие холмы, вокруг которых петлял тракт, заволакивались туманной, будто парной, дымкой. Ненастный день незаметно сливался с сумерками. По тракту на средней скорости шла новенькая «эмка». Машиной управлял мужчина лет тридцати, с той ничем не примечательной наружностью, которая позволяет легко затеряться в толпе: худощавое лицо, не освещенное ни широкой улыбкой, ни открытым взглядом; фигура человека, в меру занимающегося спортом; одежда также не выделяла его — простое зимнее пальто, меховая шапка, сдвинутая на затылок. Рядом с ним, откинувшись на кожаные подушки, сидела молодая женщина. Светлые пряди волос падали ей на лоб из-под фетровой шапочки. Тракт был почти безлюден. Навстречу изредка попадались грузовые машины, идущие порожняком с Н-ского оборонного завода, куда они возили кирпич. Водители бегло оглядывали встречную машину. Так же они оглядели и мотоцикл с коляской, который шел позади «эмки». Если бы кто-нибудь из шоферов посмотрел внимательнее, он понял бы, что мотоцикл все время держится на одной и той же дистанции позади «эмки». Прибавит ходу легковая машина — начинает идти быстрее и мотоцикл, но дистанция остается неизменной. Водитель мотоцикла первый заметил, что с «эмкой» происходило что-то неладное. Он коснулся рукой плеча товарища и указал глазами вперед. — Вижу, товарищ Приходько! — прокричал тот сквозь ветер. Ход «эмки» заметно убыстрился. Не сбавляя скорости, она понеслась под уклон. Дверца приоткрылась и сразу захлопнулась; машина сделала бешеный рывок, будто кто-то пытался выпрыгнуть, но был с силой втащен обратно. Машина вихляла из стороны в сторону. Резко дернувшись, она едва не свалилась в кювет. И опять стремительный рывок, словно потеряно управление. Мотоциклист, поправив очки, нажал на газ. Его товарищ крепче ухватился за борт коляски. Они мчались, опасаясь упустить из виду странную машину. А впереди за колеблемой ветром завесой густого снега происходило непостижимое. «Эмка» летела с предельной скоростью. Она скользила по самому краю кювета, полного снегом. «Если машина не перевернется, это еще не конец…» — думает водитель мотоцикла. Но вот и конец. Рывок вправо — и «эмка» врезается в телеграфный столб. Задняя часть машины мгновенно поднялась в воздух. Белое облако — не то снег, взметенный страшным ударом, не то взрыв. Спустя несколько секунд мотоцикл был на месте катастрофы. — Поздно! — проговорил Приходько. Он наклонился к бездыханной женщине, лежавшей среди развороченных и искореженных частей машины. Меховое пальто ее распахнулось, и на шее женщины ясно видны были свежие ссадины. Миловидное лицо исказила гримаса боли. Мужчина прерывисто дышал. Сознание покинуло его, покидала и жизнь. Жизни оставалось несколько минут, быть может секунд. Приходько услышал, как он что-то сказал по-русски, едва шевеля губами. Затем умирающий дважды повторил немецкое слово. Приходько записал его. Он тронул мужчину за руку — пульса не было, сердце больше не билось. Отто-Генрих Келлер был мертв. Катастрофа на шоссе произошла зимой 1939 года.ЯВКА ПОТЕРЯНА
Поезд, идущий далеко на восток, всего несколько минут назад прибыл на станцию Н-ск. Высокий, широкоплечий человек вышел с чемоданом из вагона и, затерявшись среди пассажиров, направился к ресторану. У входа он помедлил, будто раздумывая, быстро оглянулся и затем решительно шагнул в дверь. Принимая от посетителя одежду и чемодан, гардеробщик подивился пышной, с рыжим отливом, шевелюре клиента, скользнул взглядом по молодому лицу и атлетической фигуре. Выбрав место в дальнем углу зала, приезжий принялся разглядывать людей, разместившихся за другими столами. Их было немного. Потом он углубился в изучение меню. Еле слышно шаркая по паркету мягкими туфлями, к посетителю подошла официантка с светлыми кудряшками, обрамленными накрахмаленной наколкой. Он заказал двойную порцию ростбифа и кружку пива. — А чего-нибудь более существенного не желаете ли? — с привычным радушием спросила официантка. — Есть превосходный коньяк. — Непьющий! — буркнул приезжий. Долго задерживаться в ресторане он не стал. Быстро покончив с едой и пивом, он молча расплатился и вышел. На привокзальной площади приезжий постоял некоторое время у трамвайной остановки, покурил, затем отправился в город пешком. От вокзала к центру города был не близкий путь. Злой ветер вышибал из глаз слезу; мороз, крепчавший к ночи, хватал за нос, за уши и щеки. Скрипел снег под ногами, а в свисте ветра приезжему чудилось недоброе. Он шагал и шагал, большой, настороженный, одинокий. Он исколесил много улиц, пока не подошел к дому, который был ему нужен. Войдя в подъезд гостиницы «Обь», приезжий взглянул на часы. В вестибюле он оглядел собравшуюся у окошечка дежурного администратора кучку претендентов на отдельные номера или «хотя бы на коечку». Мрачная физиономия дежурного, мелькавшая за стеклом, не предвещала ничего хорошего. Надпись над окошком извещала каждого: «Мест нет». В креслах и на диванах безучастно сидели те, кому уже надоело топтаться возле окошечка. Некоторые дремали. Вновь прибывший устроился на свободном стуле, закурил. Выпуская изо рта колечки дыма, он искоса изучал собравшихся здесь людей. Нет, человека, встречи с которым он ожидал, в вестибюле не было. Заметив дверь, ведущую в парикмахерскую, он заглянул и туда. Работали два мастера. Один обслуживал клиента, а другой, насвистывая, правил бритвы. Из зеркала равнодушно глядело намыленное лицо какого-то старика. Приезжий вернулся на свое место, переставил стул в затемненную часть вестибюля и, сев таким образом, чтобы видеть каждого входящего, стал терпеливо ждать. Звук открывающейся входной двери каждый раз заставлял его настораживаться. Он быстро окидывал вновь появляющегося острым взглядом и с досадой отворачивался. Люди приходили, уходили. Одни суетились у заветного окошечка, другие, получившие номер или койку в общей комнате, направлялись к лифту. Часы показывали девять. — Нет, батенька мой, видно, нам сегодня ничего здесь не дождаться! — раздался над головой рыжего хриплый бас толстяка в синей бекеше и лисьем треухе. — Надо, пока не поздно, искать частную квартиру. Оно вроде подороже, но зато надежнее. Могу составить вам компанию, если пожелаете. — А разве пускают к себе незнакомых? — вопросом ответил вновь прибывший. — Кому как повезет, а то бывает, что и в отдельных комнатах устраиваются, — тоном знающего человека проговорил толстяк. — Пойдемте! — Большое спасибо, но я думаю еще подождать здесь. Авось кто-нибудь выедет. — Ну, как знаете, а я пошел. До свидания, — сказал человек в треухе и вышел на улицу. — Желаю успеха! — крикнул ему вслед обладатель рыжей шевелюры. Неожиданная мысль осенила его. Когда часы пробили десять, он покинул гостиницу и пошел на трамвайную остановку. Улицы были пустынны. Редкие прохожие, закутав лица, подняв воротники пальто и полушубков, согнувшись, пробегали мимо. Издали слышались тяжелые вздохи завода-гиганта, вступающего на ночную вахту. Приезжий остановился, оглянулся, прислушиваясь, и глухо пробормотал: — Странно, очень странно. Почему же никто не встретил? Он сел в трамвай, идущий к вокзалу. В вагоне было почти пусто, дремала кондукторша; на передней скамье, тесно прижавшись друг к другу, шепталась парочка. Выйдя из вагона, незнакомец торопливо направился к ресторану. Пройдя в зал, он задержался у искусственной пальмы и окинул взглядом столики. Кудрявая официантка еще работала. Он сел за свободный столик, обслуживаемый ею, издали приветливо махнул рукой. Она не заставила себя ждать. — Так вы не уехали? Озябли?.. Сегодня кошмарный холод. Проголодались?.. Что же мы будем кушать? — Она вынула из кармашка блокнотик. — Прежде всего скажите, как ваше имя? — Галина. — Девушка чуть покраснела от неожиданности. Клиент показался ей при первой встрече таким угрюмым. — Значит, Галочка, Галя. Можно мне так называть вас? — Пожалуйста! А вас как зовут? — Меня зовут Романом Ивановичем. — Ну, вот и познакомились, — улыбнулась Галя. — Вот что, Галюша, — ласково заговорил он, — давайте сначала договоримся, что вы не будете на меня сердиться за то, что утром я был таким невежливым. У меня, понимаете, страшно болел зуб, белый свет был не мил… — Бедненький! — всплеснула Галочка полными руками. — Что ж вы мне не сказали? В нашей аптечке есть зубные капли. Хотите, принесу? — Спасибо, Галочка, не надо. Теперь меня другие заботы одолели. — Что-нибудь случилось? Вас не обокрали? — забросала она его вопросами, в которых чувствовалось участие. — Потом расскажу. А сейчас… — Ну конечно, сейчас вы хотите кушать. Есть сибирские пельмени. — Обожаю сибирские пельмени, — оживился Роман Иванович, — тащите, Галочка! И сто граммов этого вашего, — он щелкнул пальцами, — чудесного коньяку! — Сию минуту и накормлю и напою, — пообещала Галя и поспешила к буфету. Пельмени оказались превосходные. И Роман Иванович, хватив рюмку коньяку, с жадностью поглощал их. Галочка вертелась возле стола и снова принялась расспрашивать его, что же с ним стряслось в городе. — Фу-ты! — произнес, отдуваясь, Роман Иванович. — Вот и наелся. Спасибо! Ну, а насчет моих неприятностей… Ничего особенного не случилось. Просто я очутился в положении бездомной собаки и не представляю себе, что же нужно предпринять, чтобы не ночевать на улице. Все сложилось нелепо и, главное, совершенно неожиданно. Хорошенькое лицо Галочки с вздернутым носиком и веселыми, бойкими глазами выразило живейший интерес. Отвечая на ее вопросы, Роман Иванович будто нехотя рассказал: в Н-ск он приехал по письму приятеля устраиваться на работу. Сам он по специальности инженер. Приятель уже нашел ему приличную должность. Вся беда в том, что на дверях квартиры приятеля, «такого же холостяка, как и я», как бы ненароком вставил он, оказался замок. По словам соседей, приятель Романа Ивановича выехал в командировку, а сколько дней он будет отсутствовать — никому не известно. — И вот я остался беспризорным, — грустно закончил Роман Иванович. — Знакомых в городе нет, гостиницы переполнены. Я до десяти вечера ждал. Даже койки не дождался. — Ах, боже мой! Что же делать? Ко мне неудобно, — раздумывала Галя вслух, — тесно, квартирка крошечная, повернуться негде, да и мама строгая, незнакомого ни за что не пустит. Постойте, постойте! Да я вас за милую душу устрою у своей дальней родственницы. Она живет недалеко — здесь же, в привокзальном районе. Тетушка Никифоровна одна занимает целый дом из трех комнат и кухни. Да вы будете у нее, как у Христа за пазухой! — Вы золото, Галюша! — на этот раз с неподдельным чувством отозвался Роман Иванович. — Не знаю, чем я сумею отблагодарить вас… А когда же мы направимся в тихую обитель? — Я, Роман Иванович, освобожусь не раньше двух часов ночи. Придется вам поскучать. — А пустит меня так поздно богоспасаемая старушка? Галя заверила, что пустит. Роман Иванович, маленькими глотками потягивая холодное пиво, лениво курил и изредка окидывал усталым, потухшим взглядом опустевший зал. В два часа он и Галя ушли из ресторана и скоро постучались в окно небольшого домика, стоявшего на тихой, занесенной сугробами улице. Все оказалось так, как обещала девушка: и добродушная, заботливая Никифоровна, души не чаявшая в хохотушке Гале, и чистенькие комнатки, одну из которых старушка за сходную цену предоставила в распоряжение Романа Ивановича. Отрекомендовав приезжего как своего старого знакомого, Галя ушла.Она зачастила к Никифоровне, но, когда бы Галя ни приходила, квартиранта дома не было. — По делам мотается, — отвечала на безмолвный вопрос девушки старушка. — Почернел даже от забот. Работенки подходящей не найдет, что ли? А так из себя мужчина вполне самостоятельный, сурьезный. Ты бы, Галочка, пригляделась к нему. Кто знает, может, тут и судьба твоя. — Да, как же, приглядишься! Его никогда и дома не застанешь, — отвечала Галя. А Роман Иванович стал замкнутым. Неудачи неотступно преследовали его. Ранним утром он покидал квартиру и пешком шел к Н-скому заводу, норовя поспеть туда к началу первой смены. Он тщательно всматривался в мелькавшие перед ним лица людей, направлявшихся к проходной. Потом Роман Иванович спешил на станцию. Там он встречал все поезда, прибывающие с запада. Ровно в шесть часов Роман Иванович появлялся в вестибюле гостиницы «Обь» и просиживал там до десяти вечера. Он читал здесь газеты и время от времени спрашивал, не освободился ли дешевый номер — от дорогих номеров он неизменно отказывался, — сидел, курил и следил за всеми, кто входил в вестибюль. Питался Роман Иванович преимущественно всухомятку, где придется, домой возвращался не раньше полуночи и сразу ложился спать. Так продолжалось уже десять дней. Человек, для встречи с которым Роман Иванович приехал сюда, все не появлялся. Рыжий стал нервничать, сделался мнительным. Повсюду ему чудились глаза, подстерегающие его; руки, готовые тяжело опуститься на плечи. Подвыпивший прохожий, случайно задевший его безобидной шуткой: «Ты что, милок, бродишь тут, как потерянный?» — показался ему в первую минуту именно тем, кто выслеживает его. Он отшатнулся от пьяного. «Так больше нельзя! — сказал себе Роман Иванович. — Нужно действовать!» Это было на одиннадцатый день его пребывания в Н-ске. Разыскав нужную ему улицу, Роман Иванович принялся расхаживать по заснеженному тротуару вдоль небольшого трехэтажного дома. Вокруг не было ни души, из ворот никто не показывался, а войти в дом он считал для себя опасным. Он уже решил было уходить — сильно зябли ноги, а слоняться взад-вперед по пустынной улице было просто глупо, — но в это время из ворот вышел мужчина с лопатой в руках и занялся расчисткой тротуара. Оглянувшись и приготовившись в случае необходимости быстро ретироваться, Роман Иванович подошел к человеку. — Послушайте, товарищ! — окликнул он его. — Вы здесь живете? Мужчина еще некоторое время поскреб лопатой, будто не слыша, потом разогнулся, приставил лопату к штакетнику и, достав из кармана пиджака кисет, начал сворачивать папиросу. Закурив, он важно расправил пушистые усы и только после этого неожиданно тонким голосом спросил: — Вы чего? — Да вот, спрашиваю, вы живете на этой улице? — повторил Роман Иванович. — Знамо, на этой, а то где еще! Я здешний дворник. — Помогите, голубчик! Я, знаете, здесь в командировке, вспомнил, что в вашем городе мой давнишний знакомый живет, давно не виделись… Название улицы помню, а вот номер дома забыл. Я и хотел узнать… — Фамилие? — коротко спросил дворник. — Келлер, Отто-Генрих Келлер, инженер. — Эва, хватился! Жил твой Отта тут, а теперь на кладбище обретается, — внушительно сказал усач. — Вон как вышло! — Почему на кладбище? — растерянно спросил Роман Иванович и почувствовал, что ему стало очень жарко. — Почему? Чудак! Потому что помер. Почему же еще? — Умер? Келлер умер? — Расшибся насмерть, едучи по тракту на своей машине. Сам погиб, и машина вдребезги! Чинить нечего. Новая машина! Недолго и попользовался… — Почему же разбился? Пьян был? — Этого я точно не знаю. Ни разу его под мухой не видел. А слух прошел, что по гололеду забросило его на телеграфный столб. Так уж оно вышло… — заключил дворник. — Ну, а что с женой Келлера? — спросил Роман Иванович. — Живехонька, голубушка, и, можно сказать, по случайности. Была она в отъезде, а то угробил бы ее Келлер вместе с машиной. — Где же она? — Приезжий с неясной надеждой вскинул глаза на дворника. — Тяжело ей стало после такого случая, заболела, съехала от нас и после не заявлялась. Была сначала в больнице, я ей самолично вещички носил. Она мне адресок новый дала, если письма будут или кто спросит ее. — Адресок? Где же он? — А у меня дома. Коли надо, спиши. Через несколько минут Роман Иванович вышел из дворницкой. В его обличье не осталось и тени растерянности. Он расплатился с Никифоровной, захватил свой чемодан и покинул гостеприимный домик, передав Гале сердечный привет и заверения, что считает себя ее неоплатным должником. «Да ведь там же находится и Клеопатра! — подумал он, снова вглядываясь в бумажку с адресом. — Какое совпадение! Что же это — знак судьбы, перст божий?» Той же ночью Роман Иванович исчез из города.
В ТАЕЖНОМ ПОСЕЛКЕ
Кончилась узкоколейка, оборвалась насыпь. За тупиком колея выходила прямо из нетронутого, в лунном свете желтоватого снега. На горизонте чернел лес. Над ним висел светлый рожок месяца. Необычайная яркость казавшихся совсем близкими звезд поразила приезжего. Он разыскал станционного сторожа, расспросил у него дорогу в леспромкомбинат «Таежный». Сторож сказал, что ни поездов по узкоколейке, ни попутных автомашин на полустанке не ожидают, а когда появится какая-нибудь оказия, с которой можно добраться до «Таежного», — неизвестно. Может, и до вечера ничего не будет. Высокий человек с небольшим чемоданом в руках нетерпеливо повел широкими, как у борца, плечами и спросил, сколько же километров считается до леспромкомбината. Оказалось, что идти надо километров десять. И он, не раздумывая, двинулся в путь. Сначала дорога со свежими наметами снега шла по степи, потом привела в лес. Хотя ветер дул слабый, здесь стоял шум, невнятный и монотонный, будто шум дождя, который идет уже много часов подряд. Забрезжил рассвет. Густой хвойный лес, со всех сторон обступавший путника, раздвинулся, и в белесой мгле показался большой поселок. Огромные снежные подушки на крышах делали строения издали похожими на покрытые белым кремом пряничные домики, выставленные в витринах кондитерских магазинов. Десять километров были позади, перед приезжим открылся весь поселок. Его отстроили всего несколько лет назад, но, по понятиям таежного края, который раньше считался непроходимой глушью, а теперь так быстро оживал, поселок был уже не новый. У реки стояли лесные заводы. Река, сибирская, широкая, летом величавая, сейчас, как ледяной мост, лежала между крутыми берегами. Морозный туман плавал в воздухе. Несмотря на сорокаградусный мороз, грузчики работали в одних телогрейках. Люди подавали баланы[73] прямо на платформы со штабелей. Громадные стволы катились по помосту. Работали споро, с огоньком. Укладчики на платформах четкими движениями скрепляли груженый лес тросом. Женщины-учетчицы, пристроившись наверху, на крышах вагонов, отмечали на дощечках, заменявших здесь, на ветру, бумагу, уложенный лес: каждое погруженное бревно точкой. Вагоны и платформы обходил старый инженер-бракер, осматривавший казавшуюся ему подозрительной по качеству лесину. Старик, в облезлой лисьей шубе нараспашку, так увлекался своим кропотливым делом, что не замечал холода. Приезжий подошел к бракеру. Ему пришлось дважды повторить свой вопрос, прежде чем старик понял его. Занятый своим делом, он отрывисто ответил и, не повернув головы в его сторону, досадливо махнул рукой, указывая направление. Проворчав под нос ругательство, высокий пошел по дороге, ведущей к двухэтажному зданию, видневшемуся между оголенными деревьями с засыпанными снегом грачиными гнездами. Вывеска у входа указывала, что здесь помещается клуб леспромкомбината. Спустя несколько минут приезжий сидел на скамье в невзрачной комнатушке, пил чай. Его собеседница, высокая, прямо державшаяся старуха, не сводила с гостя увлажнившихся глаз. — Ах, Руди, где нам пришлось встретиться! — повторяла она. — Руди, сколько же лет прошло? Века! — Клеопатра Павловна, я сообщил вам свое нынешнее имя вовсе не для того, чтобы вы тотчас забыли его! — с неудовольствием заметил Рудольф. — Не ровен час, вы проболтаетесь при посторонних… Ведь я не вспоминаю вашей родословной… — О, не бойтесь, Руди! Воронцова обладает еще здравым умом и твердой памятью и умеет хранить тайны, — ответила старуха. Этот тон и гордо поднятая голова совершенно не вязались с неряшливостью жилья, с засаленным, грязным халатом, мешком висевшим на длинном, высохшем теле. Нет, она не могла, не могла не вспоминать о далеком прошлом! — Ваш батюшка, если помните, приняв в свое время фамилию Кунова, — продолжала Воронцова, — никогда не имел повода сетовать на мою забывчивость. А ему в 1914 году грозили серьезные неприятности, и он во многом на меня полагался… — Да я и в мыслях не имел обидеть вас, Клеопатра Павловна. Но ведь приходится напоминать об осторожности. Если мы еще хотим что-то сделать на этой земле, необходима конспирация. Вы поняли меня? — Поняла, но я, Рудольф, устарела для конспиративных дел. Мой удел жить прошлым и выжидать, терпеливо выжидать могучего урагана, способного очистить Россию, ждать, поглубже забившись в эту щель, и дождаться… — Нельзя ждать сложив руки. За такое ожидание никто платить не будет. — Я свое отработала, милый Руди. Молю всевышнего, чтобы и вам довелось сделать столько, сколько сделала я для отечества и монарха! — быстро проговорила Воронцова, ее глаза вспыхнули. — А ведь давно вы не произносили вслух этих слов, Клеопатра Павловна? — Ох, давно, давно! — Ну что же, — примирительно произнес Рудольф, — каждый вносит свою лепту… Только убейте меня, Клеопатра Павловна, не пойму, для чего вам понадобилось забиваться в эту дыру. — Так сложились обстоятельства, мой милый… — Воронцова подняла глаза к небу, вынула из маленького изящного портсигара дешевую папиросу и закурила. — Расскажите лучше: как вам удалось разыскать меня и зачем вы сами пожаловали в этот медвежий угол? — Ив медвежьих углах пребывают не одни медведи, — уклончиво ответил Рудольф и, не найдя пепельницы, с досадой бросил окурок к порогу. — Вы на первых порах сможете кое в чем помочь мне… Не беспокойтесь, ничего серьезного, — добавил он, заметив, что старуха нервно заерзала на табурете. — Сущие пустяки по сравнению с услугами, которые вы оказывали моему папаше. Ну, а разыскать вас в этой ссылке не представляло особых затруднений. Вы помните, кому вы оставили свой адрес в Ленинграде? Перед моим отъездом мы с этим человеком перебирали старых друзей и не могли не вспомнить хозяйку особняка на Мойке… Воронцова сидела неподвижно, сгорбившись, и молчала, будто пришибленная словами гостя. Только грудь ее с хрипом поднималась и опускалась, глаза были полузакрыты. В комнатушке застыла напряженная тишина, было слышно, как под печкой неутомимо скребется мышь. Потом старуха заговорила, медленно, словно с трудом собирала разбегавшиеся мысли: — Выслушайте меня, Руди, внимательно и, ради бога, не возвращайтесь больше к этой теме. Я беспредельно верила вашему батюшке, хотя у нас и были различные взгляды на некоторые вещи… Конечно, я оказывала ему ценные услуги, о которых вы так бестактно сейчас напомнили. Я знаю вас с детских лет, привыкла доверять и вам и не вижу причин изменять этой привычке. Говорю вам, как на духу: я давно отошла от дел… — Так зачем же?.. — невольно вырвалось у обескураженного Рудольфа. Воронцова властным движением головы заставила его замолчать. — Всё, Руди, очень просто, вполне в духе времени. Негодяй, давший вам мой адрес, в свое время втянул меня в спекулятивные махинации. Когда клубок стал разматываться и нити потянулись к нам, он, чтобы выйти сухим из воды, сделал ловкий ход — подставил под удар меня, а сам остался в тени. Он боялся, что в случае ареста я могу выдать его, потому и сплавил меня сюда, к своей дальней родственнице. Недавно она умерла. А у меня нет уже ни сил, ни воли к перемене своей судьбы. Воронцова опустила голову и замолчала. Молчал и Рудольф. Потом он сказал грубовато: — Все ли вы сказали, Клеопатра Павловна? — Нет, еще не все. У меня осталось кое-что, жалкие остатки фамильных драгоценностей. По нынешним временам это богатство. Моя единственная отрада, единственная надежда… — А вы не боитесь, что ваши богатства потеряете и здесь? — Здесь никто не знает моего прошлого. Я просто старая, нищая женщина, доживающая свой век в этой глуши. А надежда моя состоит в том, чтобы уехать отсюда куда-нибудь на юг, к морю, купить маленький домик с садом, разводить домашнюю птицу, сдавать курортникам койки, жить спокойно-спокойно… — «Спокойно-спокойно»! — насмешливо перебил Рудольф. — У вас есть представление о том, как живут у Черного моря. Но знаете ли вы, что реализовать ваши драгоценности совсем не просто? — Знаю. Время покажет, как это можно сделать. — Ну хорошо… Что вы делаете на комбинате? Чем вы тут занимаетесь? — Я двуликий Янус, а если пойти на искажение мифологии, то даже многоликий. Ну, начать хотя бы с того, что я незаменимый счетовод клуба. Затем правление клуба поручило мне заведование костюмерной… Да, в клубе есть и костюмерная. Здесь страшно увлекаются сценой, и почти все без исключения — простые рабочие, их жены, инженеры — играют в любительских спектаклях. Жизнь здесь однообразная, от города далеко, потому и… — Понимаю, понимаю. Вас это тоже увлекает? Старуха как бы не слышала вопроса. — В моем ведении, — продолжала она все тем же высокопарным тоном, — находится вся театральная бутафория и реквизит. Я суфлирую во время репетиций и на спектаклях. И это еще не все! Меня используют в качестве помощника режиссера. — А кто же режиссер? — спросил Рудольф. — Один старик, который, кроме своей службы и сцены, ничем не интересуется. Инженер-бракер Горностаев. Может быть, вы заметили его? Такой энтузиаст в лисьей шубе… — А-а… — промычал Рудольф. — Продолжайте! — Ну вот и вся моя разносторонняя деятельность, которая дает самые скромные средства к существованию… — При такой разносторонней деятельности, — снова бесцеремонно перебил Рудольф, — у вас должны быть обширные знакомства, широкий круг друзей… — Представьте, нет, — невозмутимо ответила Воронцова. — Ничего этого у меня нет. — Почему же? — Что это? Допрос, Руди? — холодным тоном произнесла Клеопатра. — Нет, только уточнение обстановки. — Ах, Руди, мне не с кем здесь дружить. Грубые, примитивные натуры. Вечные скучные разговоры о производственных планах… Нет, увольте! — Кто у вас бывает, в этих апартаментах? — Рудольф оглядел убогую комнату старухи. — Никто, я ведь вам уже говорила. Впрочем, заходит сюда изредка некий… Сенька. Молодой человек, почти подросток, работает в бригаде такелажников, увлекается живописью и пытается писать декорации. Тоже из когорты народных талантов. — Учтем народного Сеньку, — подхватил Руди. — Я намереваюсь обосноваться на вашем комбинате. Надо будет и мне приобщиться к самодеятельному искусству. Придется помогать Сеньке малевать декорации или его взять в помощники. — Я теряюсь в догадках, Руди, и не нахожу ответа на простой вопрос: для чего вам понадобилась эта затея? — Не всё сразу, Клеопатра Павловна. Расскажите лучше, что тут у вас, в лесах, нового? — Новости у нас всегда одни и те же: добились таких-то показателей, внесли такое-то рационализаторское предложение, усовершенствовали агрегат. Вывешивают портреты героев, выпускают стенгазету со стихами, с шаржами, с передовыми статьями. Словом, от достижения к достижению. — Язык у вас злой… — благодушно заметил Рудольф, — А скажите, Клеопатра Павловна, не появлялись за последнее время новые люди в комбинате? — Не замечала. Да и не интересовалась, признаться. — А мне интересно. Может быть, вспомните? — Ах, да. Одна новая фигура появилась на нашем горизонте. На нее стоит обратить внимание. Красивая женщина! — Кто она? — спросил Рудольф. — Преподавательница немецкого языка в школе. — Фамилия? — Келлер, Наталья Даниловна Келлер. Рудольф вздрогнул, хотя и ожидал услышать это имя. — Вы ее знаете? — поинтересовалась Клеопатра. Собеседник пропустил этот вопрос мимо ушей. — Откуда приехала Келлер? — отрывисто спросил он. — Не слышала. Судя по элегантным туалетам, она не провинциалка. — Вы с ней разговаривали? — Нет, только издали восторгалась ею. О Руди, это настоящая русская красавица! А как поет! — У нее тут много знакомых? — По всей видимости, нет. Держится она обособленно, грустит. Говорят, что красавица переживает какую-то тяжелую семейную драму. Подробностей никто не знает. — Выясняйте все касательно Натальи Даниловны, даже мелочи. Особое внимание обратите на тех, кто ее окружает, ищет дружбы с ней. — Это поручение, Руди? — Да, и вы его выполните! — Рудольф посмотрел старухе в глаза. — А для того чтобы выполнить, вам придется отказаться от некоторых привычек. Не будьте такой отшельницей. Не забывайте об осторожности. И не забывайте моего имени. Я повторяю — нельзя ждать сложа руки. Может быть, вы боитесь? — Нет, не то. — Так что же? — Я уже сказала: нет больше сил. — Чтобы сделать то, что я вам поручил, сил нужно совсем немного. А потом они у вас появятся. Вы, как говорят здесь, втянетесь в работу. И в вашей жизни появятся новые ощущения. — О, если бы так!.. — Мы будем встречаться, не демонстрируя своих свиданий. Верно? — Да, так лучше, — согласилась Клеопатра. — На прощание мне хочется сказать вам, дорогая Клеопатра Павловна, что я счастлив встретить здесь вас. И не потому только, что приобрел опытного помощника, нет! Вы мне во многом заменяли покойную мать. И думается мне, что я полюбил вас, как любил когда-то ее. — О мой мальчик! Я тоже люблю вас, как сына. Господь да поможет нам! Наступили зимние сумерки, когда Рудольф входил в управление комбината. Он заранее разузнал, в каких специалистах здесь нуждались. Его документы были в полном порядке.КОНЦЕРТ
Зрителям понравилось, что певица была одета в нарядное, длинное, вечернее платье с блестящими украшениями, играющими на свету. — В полном параде! — удовлетворенно заметил шофер газогенераторного автомобиля Пищик и оглушительно захлопал. И платье певицы, и сложная прическа, и улыбка, которой она ответила на аплодисменты, казалось, говорили: «Дорогие зрители! Я оделась так ради вас, потому что я хочу понравиться вам еще до того, как запою». В знакомом каждому клубном зале сразу стало, «как в театре». После коротких вздохов, замечаний, брошенных шепотом, покашливаний наступила глубокая тишина. Молодой лесоруб потянулся к уху соседа: — Откуда артистка приехала? Шофер Пищик ответил обиженным тоном: — Ниоткуда не приехала. Наша, здешняя. — Не встречал что-то такую. — Учительницей в школе работает. Немецкий язык преподает. Понял, еловая голова? Уж который раз выступает в клубе! — Я на бюллетене был, — словно извиняясь, объяснил молодой лесоруб. Вел концерт бригадир такелажников Алексей Донской, пожилой мужчина в хорошем, тщательно отутюженном костюме. Он пошептался с певицей — это также всем понравилось, потому что напоминало настоящий концерт, — и объявил звучным баском: — Наталья Даниловна исполнит арию Лизы… Рукоплескания заглушили его слова. Певица улыбнулась и еле заметно кивнула. Прозвучало короткое вступление. Пауза… И полились звуки, полные печали, страстная жалоба покинутой девушки. Она взволновала всех в этом зале: семейных людей, девушек, молодых лесорубов, считавшихся отчаянными ребятами, старика — станционного сторожа, пришедшего за десять километров на сегодняшний концерт… «И чего это мне сделалось так хорошо? — спрашивал себя Генка Пищик. — Ну, какое, в сущности, дело мне до этой самой Лизы, которая жила больше сотни лет тому назад? А вот берет за душу… И как берет! Почему?» — Редкий голос для здешних мест… — пробормотал высокий, широкоплечий мужчина, сидевший у самой стены. Он пристально смотрел на сцену. Певица взяла последнюю ноту и замерла, слегка подняв руку, словно прощаясь с улетевшей мелодией. В зале захлопали, зашумели. Лесорубы топали ногами, выражая этим свое одобрение. — Браво! — кричали во всех рядах. — Просим «Соловья»! «Катюшу»! Бригадир такелажников жестом призвал к тишине. — «В далекий край товарищ улетает»… — запела певица. Голос звучал так сильно, что казалось, ему тесно в четырех стенах, что рвется он наружу, в таежные дебри, в степь, чтобы звучать там на просторе и уйти далеко, за пологие холмы, укрытые мглой… Концерт был окончен. Оркестранты укладывали свои инструменты, дежурные тушили свет в зале клуба. Но на сцене задержалось много людей. Каждому хотелось поздравить певицу с успехом или просто еще раз посмотреть на нее вблизи. Пищик также был здесь. Он вертел во все стороны головой на несообразно длинной шее и не сводил с певицы влюбленных глаз. На сцене оказался и высокий мужчина, сидевший во время концерта у стены. Он, по-видимому, выжидал, когда людей вокруг исполнительницы поубавится, чтобы подойти к ней. За мужчиной из дальнего угла сцены незаметно наблюдал стройный, худощавый человек, одетый в черный полушубок и шапку-кубанку из черного каракуля. — Ну что же, пошли, товарищ Приходько? — окликнул его директор комбината. — Пошли, Григорий Петрович, — коротко отозвался тот. И они направились к выходу. Возле Натальи Даниловны теперь оставалось всего несколько человек, не спешивших расходиться. Молодая вертлявая женщина схватила певицу под руку и твердила, что она ни за что не отпустит ее, пока не напоит чаем со своим необыкновенным вареньем из ежевики и морошки. — Ко мне! Ко мне! — повторяла она. — Переоденьтесь и ко мне! Это была сослуживица Натальи Даниловны и ее соседка по квартире. К певице подошел Пищик. Ему хотелось сказать что-то свое, особое, чтобы вышло не так, как у других. — Наталья Даниловна… — торжественно начал он и осекся. Певица вопросительно смотрела на него. Она улыбалась, ее улыбка смущала Пищика. — Слушаю вас, Гена… — Вы просто за душу берете, Наталья Даниловна! Я чуть не заплакал, честное слово! Пищик для убедительности хлопнул шапкой по декорации. Поднялась туча пыли, кто-то чихнул. Пищик сконфузился и, все больше и больше смущаясь, машинально продолжал выколачивать пыль, повторяя: — Дорогая Наталья Даниловна, вы сегодня так пели… так пели… — Постараюсь петь еще лучше, Гена, — ласково сказала Наталья Даниловна. — Лучше нельзя, честное слово! — Разрешите и мне выразить свое восхищение вашим талантом, — раздался спокойный мужской голос. К певице подошел широкоплечий мужчина высокого роста. — Боюсь, что буду повторять уже сказанное другими, но что же делать. Талант покоряет всех. Позвольте, Наталья Даниловна, представиться: инженер-механизатор Кротов Роман Иванович. Наталья Даниловна повернулась к говорившему и взглянула на Кротова. Перед ней стоял человек атлетического сложения, с уверенными манерами. Совершенно голый череп, голубые умные и холодноватые глаза, плотно сжатые губы большого рта… — Я прибыл в ваши палестины недавно, по долгу службы, — продолжал Кротов, — но имею некоторое отношение и к искусству, как дилетант, конечно. Меня уже подключили к самодеятельности. Малюю декорации для здешней сцены. Прошу разрешения показать вам свои скромные труды. Глаза Кротова с какой-то особой пытливостью впивались в лицо Натальи Даниловны. Она спокойно выдержала его взгляд, улыбнувшись повела плечами и просто ответила: — Приятно, что прибыло пополнение в здешнюю самодеятельность. Но вот в живописи я мало смыслю. Вряд ли смогу быть вашим судьей. Сослуживица Натальи Даниловны заторопилась: — Пойдемте же, Наталья Даниловна. Нам завтра рано вставать! Кротов откланялся. Спустя два часа после концерта в поселке все затихло. Огни в окнах погасли. С окраины доносились захлебывающиеся звуки гармони и слышался хриплый собачий лай. Бодро постукивал движок небольшой электростанции. Со стороны лесной биржи несся грохот бревен. Там работа шла круглые сутки. Надвинувшиеся с севера снеговые тучи окутали всю территорию поселка непроницаемой тьмой. Но наблюдательный человек мог бы заметить, что вдоль стен и заборов, направляясь прямо к зданию школы, осторожно проходит человек в черном полушубке и шапке-кубанке. Все спали в этот час. Спал Пищик, спала восторженная соседка Натальи Даниловны. Спал в своей не вполне еще обжитой комнате и новый инженер комбината Кротов. Человек подошел к одному из окон школы. Внимательно оглядевшись по сторонам, прислушавшись к ночным звукам, он легонько постучал в окно. Занавеска на окне шевельнулась, и вскоре женщина выскользнула из дверей. Оба, тихо переговариваясь, отошли подальше от крыльца. — Ну как? Он? — шепотом спросил человек в кубанке. — Пока не знаю, — ответила женщина. — Где же его рыжий парик? — Надо думать, в чемодане. Он снял его при выезде из города. Они разошлись через минуту.БЕЗ ПАРОЛЯ
Прошло несколько недель с того вечера, когда Наталье Даниловне представился инженер-механизатор Роман Иванович Кротов. Давно не устраивали концертов и спектаклей на клубной сцене. Наступило горячее время: заканчивался очередной квартал. План был напряженный. Последний месяц должен был решить: сохранит ли «Таежный» переходящее знамя или его отвоюет другой комбинат, который выйдет на первое место? Лесорубы почти не покидали своих участков, ели и отдыхали здесь же, в тайге, у костров, в шалашах, оборудованных наспех. Водители тракторных тягачей день и ночь трелевали древесину от мест заготовки к лежневым дорогам. Непрерывным потоком текли по лежневкам кряжи и бревна. Среди шоферов газогенераторных автомашин выделялся Гена Пищик, выделялся тем, что никогда не унывал. Он заметно похудел, длинная шея еще больше вытянулась, но песня, как всегда, неслась из кабины газогенератора. Голос певца охрип на морозе, и озорно звучали слова старинной песни: «Начинаются дни золотые»… Ударили крепкие морозы, ветры бывали такими сильными, что становилось трудно дышать. Но нигде не замедлялась работа. Тяжело приходилось в эту пору инженеру Кротову. Он понимал, что не может держаться в стороне от коллектива, относиться безучастно к работе. То дело, о котором знал он один, требовало, чтобы Кротов считался в числе лучших сотрудников комбината. Роман Иванович понимал это холодным своим умом, но бывали такие минуты, когда ему, привыкшему вести жизнь, невидимую для других, становилось трудно сдерживать бешенство.Светает только в девять утра, но все поднимаются задолго до света, и инженер Кротов — одним из первых. В ремонтной мастерской холодно. Кротов в испачканном ватнике обходит машины, которые надо выпустить сегодня. Вчера были неприятные минуты. Трелевочный трактор проработал полсмены и вернулся на буксире в мастерскую. Директор развел руками и сказал, сдерживаясь: — Роман Иваныч, не ожидал от вас. Ведь наша с вами отдача должна быть больше, чем у других. «Отдача!» Когда она кончится? Далекий север, неуютная комната, общая баня — это похоже на ссылку. Сегодня график, завтра график… Завтра работа пойдет на лад — директор похлопает его по плечу: «Сегодня на уровне, Роман Иваныч… И дело подогнали, и свою прогрессивку. Добьем квартальный, тогда можно будет и по пельменям ударить. Моя старуха — мастерица!» Как он ненавидит все это! — Посмотрите, Роман Иваныч, даже наша отшельница Клеопатра вышла на линию огня, — говорит Кротову директор. Действительно, даже домоседка Клеопатра Павловна стала появляться на людях. Ей поручили читку газет в обеденный перерыв, и, кажется, это ее даже увлекло. Она внимательно прислушивалась к лаконичным разговорам, отвечала на вопросы, объясняла то, что могла объяснить. Старуха занималась этим каждый день. Вечером она иногда встречалась с глазу на глаз с Кротовым, но ничего полезного для него сообщить не могла. Да он и не ждал этого от нее. Кротов много раз подстерегал Наталью Даниловну и подыскивал повод для встречи, но его неизменно постигала неудача. То Наталья Даниловна была занята — давала дополнительные уроки отстающим ученикам, то самого Кротова дела загоняли на отдаленные участки и он пропадал надолго. Встречи же при свидетелях ничего не давали Кротову. Хмуро промямлив несколько ничего не значащих фраз, он уходил недовольный, ругая учительницу за ее недогадливость. Дважды вечером он, провожая Наталью Даниловну, заходил к ней домой. Но и это ни к чему не привело. У Натальи Даниловны тотчас появлялась ее шумная соседка Людочка, мастерица варить варенье. Наталья Даниловна говорила мало, зато Людочка трещала без умолку. Она хохотала, задавала Кротову неприятные вопросы: — Ну, признайтесь, почему вы так рано полысели? Бурная жизнь, да? Почему вы до сих пор не женились? — Потому что не встретил такой женщины, как вы. — Вы шутите? Почему же вы пришли не ко мне, а к Наталье Даниловне? Сибирские морозы не охладили еще вашего темперамента? Все-таки в кого вы в конце концов влюбитесь — в меня или в Наталью Даниловну? Кротов, ссылаясь на срочное дело, уходил, в душе посылая Людочку ко всем чертям. А дни шли да шли, дни складывались в недели… Веяло теплом, покров снега стал рыхлым, приобрел сизый оттенок. Лед на реке вздулся, почернел… В один из таких дней Наталья Даниловна вышла из квартиры директора комбината. Она только что закончила урок с директорским сыном, который в двух четвертях имел двойки по немецкому. Директор пообещал «содрать с первенца шкуру, если он и в этом квартале не выправится». — Плохой педагогический прием, Григорий Петрович, — сказала учительница директору, когда они остались одни. — Я уж и не знаю, какие приемы тут нужны. Догонит он других — я ваш должник на всю жизнь! Идя домой, Наталья Даниловна глубоко, всей грудью вдыхала весенние ароматы, которыми был напоен воздух. Она радовалась отдыху, теплому дню. На перекрестке из-за поворота неожиданно показался Кротов. — Здравствуйте, долгожданная Наталья Даниловна! — произнес Кротов, довольно улыбаясь. — Не скрою, что я специально поджидал вас. Давно добиваюсь возможности побыть с вами наедине. — Вот уж чего бы не подумала, — обронила Наталья Даниловна. — За чем же была остановка? — Да вспомните, Наталья Даниловна! — взмолился Кротов. — Когда бы я ни подошел к вам, нам мешали. Один ваш цербер Людочка чего стоит! Наталья Даниловна улыбнулась: — Она вам неприятна? — Признаться, терпеть ее не могу. — Ну, не надо быть сегодня злым. — Почему же сегодня? — Вы только посмотрите вокруг! Что делается! — Что делается! Обыкновенная весна. — Весна всегда необыкновенна. Незаметно они миновали территорию поселка и вышли к лесу. — Свернем на опушку, — предложила Наталья Даниловна. Небо было ясным, и с опушки виднелись далекие сопки с темнеющей тайгой на горизонте. — Вот уж скоро лето… — мечтательно протянула Наталья Даниловна. — Эти склоны покроются яркими травами. Красные и желтые цветы зацветут на лугах. Таких нет в центральной полосе… Станет так хорошо, что забудешь свое горе, на время конечно… Кротов насторожился: — Мне говорили, что вы переживаете какую-то личную драму… Не понимаю, как такая женщина, как вы… — Мы недавно знакомы, — прервала его Наталья Даниловна. — Вы многого не знаете, потому и не понять вам. — А если вы ошибаетесь и я понимаю решительно все? — медленно произнес Кротов. Наталья Даниловна с недоумением пожала плечами. — Послушайте, Наталья Даниловна, — продолжал Роман Иванович, — много раз я собирался вызвать вас на деловой разговор… — Какие у нас с вами могут быть деловые разговоры? — Прежде всего вы должны ответить на мои вопросы. Разрешите? — Задавайте, если это нужно. — Да, нужно и очень нужно. Не праздное любопытство руководит мной. Почему вы, русская женщина, с таким русским лицом, с именем Наталья Даниловна, носите немецкую фамилию Келлер? — Это фамилия моего мужа. — А где ваш муж? — Погиб самым нелепым образом. При автомобильной катастрофе… — нехотя пояснила Наталья Даниловна. Она заметила, что Кротов насторожился, что он каким-то особым взглядом посмотрел на нее. — А вам известно, чем Отто Келлер занимался в Советском Союзе? — О! Вы знаете его имя? — воскликнула Наталья Даниловна. — Да, мне известно, чем Отто Келлер занимался здесь. — Вам все известно? — Все. — У него не было от Вас секретов? — Уверена, что нет! — твердо отчеканила Наталья Даниловна. — Но не кажется ли вам, уважаемый Роман Иванович, что наш разговор принимает несколько неподходящую форму для малознакомых людей? — Нет, мне кажется, что все пока идет нормально и развязка приближается! Минуту терпения, и все станет на свое место. Скажите, Наталья Даниловна, Отто Келлер никогда не упоминал моего имени? — Нет, — спокойно ответила она, — имени Романа Ивановича Кротова мой покойный муж никогда не упоминал. Впервые я услышала это имя из ваших уст. Неподдельное изумление и как будто вызов были в глазах Натальи Даниловны. — Ну, а если на мгновение предположить, что моя настоящая фамилия не Кротов? — Он испытующе посмотрел на нее. — На предположениях можно далеко уехать, — хладнокровно ответила Наталья Даниловна. — Если следовать за вами, то можно договориться до того, что и моя настоящая фамилия не Келлер, а какая-то другая. — Ну нет! Имеются веские доказательства, что вы именно Наталья Даниловна Келлер и прибыли сюда из Н-ска после гибели мужа. Мне даже известно, что смерть мужа настолько на вас повлияла, что вы были не в состоянии появиться в своей городской квартире. — Да, вы кое-что знаете обо мне. Кое-что… — иронически заметила Наталья Даниловна и повернула назад, к поселку. — Однако мне пора возвращаться. Вы проводите меня, Роман Иванович? — Постойте! Я считаю, что наш разговор далеко не закончен… — Тогда продолжайте, — согласилась она и остановилась. — Почему вы не спрашиваете, как моя настоящая фамилия? Ведь я убежден, что Отто Келлер рассказывал вам обо мне. — Отто Келлер мне многое рассказывал. Что ж, если есть необходимость, назовите вашу «настоящую фамилию». — Она произнесла это с явной насмешкой. Кротов одобрительно посмотрел на нее: — Вашей выдержке может позавидовать любой мужчина, видавший виды. Да, Отто Келлер мог бы гордиться своей школой. — Действительно, я прошла хорошую школу, — скромно ответила Наталья Даниловна. — Я начинаю понимать, почему Келлер полюбил вас… — О! — подняла брови Наталья Даниловна. — Это тоже входит в наш деловой разговор? — Вы хотите подшутить надо мной, но я не обидчив. Объясняться с вами меня заставляет не любопытство, а долг. — В таком случае ближе к делу! К долгу! — Фамилия Куун ничего вам не говорит? — Кротов впился в нее глазами. — А при чем тут вы, Роман Иванович? — вопросом ответила она и спокойно встретила его взгляд. — Я — Рудольф Куун! Наталья Даниловна неожиданно расхохоталась. Она смеялась звонко, весело. Потом, сдерживая себя, обратила смеющееся лицо к Кротову и сказала: — Ну и лихо получилось! Прямо как на старой провинциальной сцене. Явление энное, те же и таинственный незнакомец. Вот что, — уже серьезным тоном продолжала Наталья Даниловна: — бросьте эту игру! Я не дура! Так и передайте подославшим вас ко мне фокусникам! Она казалась не на шутку рассерженной. — Как? — растерялся Куун. — Меня же еще и подозревают? Чего вы от меня хотите? — Доказательств! Понимаете? Неопровержимых доказательств того, что вы именно Рудольф Куун, а не Кротов. До того как эти доказательства мне предъявят, я не знаю никаких Куунов и не могу вести с вами двусмысленных разговоров… — Так… — Куун приблизил свое лицо к лицу женщины и произнес медленно. — Ваши любимые папиросы «Северная Пальмира»? Она ответила без удивления и с усмешкой: — Я не курю… Рудольф похолодел. Мгновение он молчал, мучительно раздумывая… Ответ был совершенно неожиданным. Неужели на этом конец всему? Почему она так ответила? Отзыв, которого он ждал: «Теперь я курю „Люкс“», — не был произнесен… Наталья Даниловна не знает пароля! Что же это — западня? Куун думал с лихорадочной быстротой. Надо что-то решить, сейчас же. Но могла ли она узнать пароль? Отто погиб внезапно. Может быть, он не успел передать пароль жене? Или (самое страшное) он еще не подготовил жену к той работе, которую ей придется вести здесь. Может быть, и так. Иначе — зачем она уехала в эту глушь? Но отступать было поздно. Приходилось идти на риск. Сколько сил отняла у него эта нежданная минута! — Хорошо, Наталья Даниловна, — сказал устало Рудольф, — я представлю вам человека, помнящего меня с детства и знающего мою настоящую фамилию. — Кто этот человек? Рудольф несколько успокоился. Такой вопрос могла задать только соучастница Келлера. Он почти благодарно посмотрел на Наталью Даниловну. — Этот человек — счетовод клуба Воронцова. — Но это же старая, выжившая из ума старуха! И откуда ей знать ваше прошлое? — Вы встречались с Воронцовой? Говорили с ней? — Нет, я не обращала на нее внимания. — Советую обратить. Это умный, но замкнувшийся в себе человек. В свое время она была близка с моим отцом — фон Кууном. Когда-нибудь я подробнее познакомлю вас с моей родословной. А принять облик свихнувшейся старухи Воронцову заставили обстоятельства… Наталья Даниловна с интересом слушала Рудольфа. Он проводил ее до дома. Они простились, договорившись о дне встречи с Воронцовой.
РАЗГОВОР ЗА КУЛИСАМИ
Репетировали комедию «Слуга двух господ». Клеопатра Павловна готовила костюмы для спектакля, когда Рудольф и Наталья Даниловна вошли в ее чуланчик. — Клеопатра Павловна, я привел к вам Наталью Даниловну. — Прошу вас, милочка. Тут вы в своем кругу. Руди говорил о вас. Отодвиньте там бутафорию и садитесь. — Дайте мне осмотреться, Клеопатра Павловна, — здесь у вас много интересного. Костюмерная, она же мастерская реквизита, представляла собой большой чулан без дневного света. Сильная лампа под матовым абажуром освещала все углы. По стенам до потолка шли деревянные простые полки, на которых стояли, сидели, лежали куклы, маски, парики и всевозможные предметы театральной бутафории. Но среди всего этого пестрого мира глаза посетителя приковывал к себе тряпичный человек в широких красных штанах. Немолодое лицо его выражало живость и усталость одновременно. Талантливой рукой лицу тряпичной куклы было придано выражение бесконечной человеческой усталости и скептицизма. Это был как бы символ обреченности и бессильного любопытства к завтрашнему дню. «Уходящий», — так хотелось назвать эту куклу. Хозяйка перехватила взгляд Натальи Даниловны. — Это мой друг Труфальдино. Он нравится вам? Моя работа. — Талантливо! Он почти живой. — Скоро он будет выступать в кукольной комедии. Я много говорю с ним. За те годы или месяцы, какие мне еще суждено прожить на белом свете, мы еще больше сроднимся с ним… Наталья Даниловна, Руди говорил мне о вас и о вашем покойном муже. Вам удалось побывать с ним за границей? — К сожалению, нет, но мой муж много рассказывал о Европе. Отпуск он однажды провел в Париже… — О, Париж!.. — воскликнула старуха. — И консьержка, конечно, говорила ему каждое утро: «Месье, сегодня день особенно чудесный, и Париж тоже!» Не правда ли? И каждый день был действительно чудесен… Морщинистое, худое лицо Воронцовой освещалось синими и теперь еще не совсем выцветшими глазами. Она вспоминала людей, давно умерших, и события, давно прошедшие. Она говорила о Париже, городе ее молодости. — В один из чудесных парижских дней на прогулке за городом я познакомилась с Иоганном фон Куун… О! Он тогда был совсем молодым человеком. Мы подружились. Дружба наша продолжалась несколько десятков лет. Особенно памятны мне встречи с ним уже в России, в Петербурге. Я хорошо знала и жену Иоганна фон Куун — Жюли, урожденную Ланскую. Это были родители нашего Руди… — задумчиво пояснила Воронцова. — Разве они умерли? — Умерла мать Рудольфа. Отец вынужден был бежать из России. Сейчас он в Германии… Не правда ли, Руди? Рудольф кивнул головой. Он сидел молча, иногда усмешка набегала на его крепкие губы. — Я рада, — говорила старуха, — что Руди дружит с вами. Бедный мальчик! Он так одинок… Руди показывал вам свою новую работу: декорации к «Борису Годунову»? Мы будем ставить одну картину из оперы. Рудольф засмеялся: — К сожалению, не удостоился. А заявку на критику Натальи Даниловны я сделал еще зимой. — Ну право, Руди, покажите полотна! Рудольф поднялся. Они прошли в зрительный зал. — Эй, Семен! — крикнул Рудольф. Выскочил растрепанный подросток лет пятнадцати, вымазанный красками и углем. — А вот верный рыцарь Мельпомены — Сенька. Быть может, он был бы величайшим театральным художником, если бы фортуна не сделала его пламенным поклонником газогенератора. Давай занавес, Сенька! Сцена у фонтана. Помните: «Я здесь не для того, чтоб слушать нежны речи любовника»… А ты, товарищ Семен, мне пока не нужен. Сенька ушел, обиженно пожав плечами. Воронцова вернулась в свой чулан. Рудольф и Наталья Даниловна остались вдвоем в пустом полутемном зале. — Ну как? Трактовка темы была необычной. Фонтан казался не искусственным сооружением, а водопадом в глухом месте. Вместо парка, где встречаются Марина и Самозванец, был изображен заросший лес, мрачный, дикий… — Я не ценитель живописи, — тихо сказала Наталья Даниловна, — но это я поняла. — Что вы поняли? — требовательно спросил Рудольф. — Вы написали то, что близко вам, — здешний лес, здешний пейзаж. Вы перенесли Самозванца в другую обстановку. — В ту, которую я ненавижу! Да, вы поняли. Хорошо сделано? — Неплохо, но страшновато. — В жизни много страшного… Разве не страшно то, что они сделали с Россией? — Рудольф, вы же очень молоды — вам тридцать лет. Что вы знаете о прежней России? — Я знаю, что моя жизнь могла бы быть прекрасной, если бы не катастрофа 1917 года. Отец был вынужден бежать отсюда, мать рано умерла. Я мог получить блестящее образование… — Но вы и так инженер, да еще и художник. — Здесь я не хочу быть ни инженером, ни художником. Все равно у них всё разрушат… — Нас могут услышать. — Никого нет. А с вами я могу говорить откровенно. Только единицы, только сильные духом, те, кто управляют жизнью своей, имеют право управлять жизнью других, — они останутся. Остальные должны погибнуть! Это неизбежно! Она внимательно слушала его, затем задумчиво обронила: — Я не думала, что встречу здесь таких людей… — Каких, Наталья Даниловна? — Значительных. Рудольф молча пожал ей руку: — Ну, а теперь вы верите, что я Рудольф Куун? Верите доказательствам, которые я вам представил? Достаточно ли их? — Достаточно. — Вы должны мне верить во всем, — продолжал Куун, стараясь говорить как можно убедительнее. — Отбросьте всякие подозрения. Скажите, вы знаете людей, с которыми встречался Отто Келлер? — спросил Рудольф тихо. — Тех, которые ему помогали… — пояснил он. — А вы разве их не знаете? — спросила Наталья Даниловна. На ее лице было удивление. — В том-то и дело, что не знаю. Черт бы побрал моего шефа. — За что? — За чрезмерную конспирацию. Все чрезмерное приводит к идиотизму. Он сорвал меня с насиженного места в Ленинграде, где я жил припеваючи, и погнал в Сибирь, дав единственную явку к вашему мужу… Видите, я откровенен с вами, Наталья Даниловна. — Иначе я не поняла бы, зачем вы здесь. — По милости дорогого шефа я топчусь у разбитого корыта! Но если поразмыслить, то и шеф не так уж виноват. Кому могло прийти в голову, что ваш муж глупейшим образом сойдет со сцены? И именно в такое время… Рудольф с досадой в голосе оборвал фразу. — А вы бы связались с шефом. Ведь Ленинград не так уж далеко, — посоветовала Наталья Даниловна. — Я несколько раз его запрашивал. Но Ленинград упорно отмалчивается. Шеф или выехал куда-то внезапно, или, быть может, произошло что-нибудь и похуже… Сами понимаете, в нашем деле всего приходится ожидать! — Да, вы правы, все может быть… — задумчиво сказала Наталья Даниловна. — Но позвольте! — воскликнула она. — Почему бы вам не обратиться к помощникам шефа в Ленинграде? — Никого я там не знаю. В Ленинграде я находился на пассивном положении и тихонько выжидал своего времени — времени действовать. Теперь-то вы поняли, насколько затруднительно мое положение сейчас? — Понять-то я поняла. Но что же нам делать? — Попытаться еще раз установить контакт с шефом, запросить его инструкций. Ну, а если и тогда ответа не последует… значит, провал! Нам с вами останется один выход. Единственный! — Какой же это выход? — Попробовать открыть крепко запертую дверь! — И эта дверь?.. — Успеем еще поговорить об этом. Не будем сидеть сложа руки. Мы сможем впоследствии достойно отчитаться. Здесь, а может быть, и на той стороне! — добавил он многозначительно. — Ну что же надо делать? — спросила Наталья Даниловна. — Прежде всего разыскать людей, которых называл вам ваш муж. Надо выяснить, какие они имели задания, что они уже выполнили. Если они ничего не сделали, мы должны заставить их выполнить свой долг. Ну, а к тому времени наше положение здесь должно полностью проясниться. — Мне кажется, что я знаю только троих… — Кто же они? — Все живут в Н-ске. Про двух могу рассказать подробно, а третьего я мало знаю — знаю только имя и отчество… Пойдемте отсюда, я все расскажу вам по дороге. Мы и то уж нарушаем приличия, оставаясь так долго вдвоем. Он молча пропустил ее к выходу.НОЧНЫЕ ТЕНИ
Библиотекарша заболела как раз тогда, когда в ней больше всего нуждались. Надо было ехать в Н-ск за книгами, приобретенными для комбината. Правление клуба «Таежного» решило командировать за литературой счетовода клуба Воронцову. Сначала Воронцова наотрез отказалась поехать. Ее убеждали. Она отвечала: «Стара, оставьте меня в покое. Разве я мало делаю для клуба?» На нее махнули было рукой, но тут Рудольф поневоле стал помощником клубной администрации и потребовал, чтобы Воронцова поехала в Н-ск. — Слушайте, Клеопатра Павловна, дорогая, ведь болезнь библиотекарши нам как с неба упала. — Кому — нам? — вызывающе спросила Воронцова. — Вы уже успели забыть, о чем мы с вами условились. — Мы не уславливались о том, что я буду разъезжать. — Нельзя предусмотреть все до последней мелочи. — Я устала. — Надо поехать, и вы поедете! — Зачем? — Вот это дельный вопрос. Рудольф рассказал, что ей предстоит сделать в Н-ске. — Это сложно… — пробормотала старуха. Она была испугана. — Ничего сложного нет. Надо разузнать, где эти люди, что с ними. И только. Разговор происходил в костюмерной. Воронцова время от времени бросала беспокойные взгляды на своего любимца Труфальдино. — Вы что же, просите у него совета или мысленно прощаетесь с ним? — насмешливо спросил Рудольф. — Я не люблю бестактных шуток! — сухо ответила Воронцова. — Хорошо, я еду. После отъезда Воронцовой Рудольф заглянул в костюмерную. Труфальдино не было на месте. — Даже в пути она не расстается с ним! — смеясь, сказал он Наталье Даниловне. — Труфальдино всегда с нею: дома, в костюмерной, теперь в командировке. — Вероятно, она суеверна? — Как и мы с вами. И Труфальдино стал для нее талисманом. — Талисманом? Чего она может ждать от судьбы? — Все мы ждем…Весенний вечер был холодным, трава — обильно росистой. С реки поднимался туман, настолько плотный, что скрывал всё понизу. Казалось, что деревья вырастают прямо из его белой пелены. Всходила круглая багровая луна. Где-то кричала болотная птица. Чуть слышно плескалась темная река. К воде быстро спускалась женщина. На берегу к колышку была привязана легкая лодка. Женщина вошла в нее и села на корму. Из кустов к лодке направился худощавый человек в темном плаще. Отвязав лодку, он оттолкнул ее, прыгнул сам и взял весла. В молчании проплыли мимо плавучего буйка с двухцветным фонариком. Теперь они шли по течению, бросив весла. Постепенно окружающее менялось. Поднявшийся ветер разогнал туман; все сверкало, искрилось, переливалось вокруг них. Движение лодки было незаметным. Очень медленно уходили назад берега… Мужчина снял кепи — светлые волосы блеснули при луне, — взглянул выжидающе на спутницу: — Теперь рассказывайте. — Рассказывать придется много, Приходько… — тихо ответила женщина. Лодка продолжала неслышно скользить по водной ряби, и вскоре исчезла за поворотом реки.
Колокол на пожарной каланче давно пробил полночь. Снова пал туман, придававший нереальный, фантастический вид всему окружающему. Перед рассветом ночная темень стала гуще. Из-за угла показалась фигура высокого, широкоплечего мужчины. Она скользнула на фоне белой стены клуба. Несколько мгновений мужчина повозился с замком. Послышался приглушенный щелчок, дверь подалась, и мужчина проник внутрь. Вошедший быстро разыскал вход в комнатушку Воронцовой. Занавесив окно одеялом, он зажег карманный фонарик. Тонкий, будто клинок шпаги, световой луч забегал по деревянному полу, незатейливому скарбу и блестящим кафелям печи. Человек переворачивал вещи, рылся в тряпье, аккуратно возвращал каждый предмет на свое место, выстукивал печь и доски пола, задержался с осмотром содержимого фанерного чемодана и порванного мешка с рухлядью. Человек устал. Испарина выступила на его лысой голове. Разочарование, досада были написаны на его лице, когда он покинул здание клуба. Спустя несколько дней возвратилась из командировки Воронцова, привезя из Н-ска книги. Разговор Воронцовой с Рудольфом был коротким. Все усилия Клеопатры Павловны оказались тщетными. Ни одного человека из названных Натальей Даниловной разыскать не удалось. — И больше не загружайте меня подобными поручениями! — заявила Воронцова огорченному Рудольфу. С видимым удовольствием она вернулась к своим обычным занятиям: кройке костюмов и возне с куклами. Несмотря на всегдашнюю свою осторожность, Клеопатра Павловна не замечала, что внимательные глаза следят за ней. Вечерами высокий, плечистый мужчина с оглядкой приближался к ее окну и, прильнув к стеклу, терпеливо что-то высматривал. Ночные шорохи на миг отпугивали человека — он отскакивал, а потом снова приближался к покинутому месту. Так продолжалось немало ночей. И вот однажды ночью человек увидел наконец то, что хотел увидеть давно… Через несколько минут слабый свет коптилки, проникавший наружу через еле заметную прореху в занавеси, погас. Белая длинная фигура показалась за стеклом. Окно открылось от толчка. Воронцова облокотилась на подоконник и пристально вглядывалась в ночную темноту. На улице стояла такая тишина, что старуха услышала биение собственного пульса на висках, обрамленных слежавшимися белыми волосами. Ничто не указывало на то, что за минуту до этого у окна кто-то стоял.
СЕМЕЙСТВО ФОН КУУНОВ
К крыльцу, на ступенях которого сидела Наталья Даниловна, подошел Генка Пищик. Под жарким солнцем выцвели его густые брови и пряди волос, вылезавшие из-под кепки. Синий комбинезон со множеством карманов ловко сидел на нем. — Любуетесь видом, Наталья Даниловна? — спросил он. — «Начинаются дни золотые». — Начались, Гена. — Да, вовсю солнце печет. Пищик, как всегда, с восхищением глядел на Наталью Даниловну: — Смотрите, Наталья Даниловна: по реке идет сплав. Знаете, как называются те большущие плоты? — Не знаю, Гена. — Кошели. Чтобы связать их, требуется большое искусство. Не каждому оно дается! Из рода в род передают его мастера сплава. Вот какие дела… На залитой солнцем реке разворачивалась своеобразная, ни с чем не сравнимая сибирская таежная картина. Между темной зеленью берегов, по серебряной от солнца речной зыби, торопясь, сталкиваясь, подгоняя одно другое, плыли отдельные бревна. И вдруг почти во всю ширь реки вступал огромный плот. Ладно связанный, медленно двигался он, раздвигая всё впереди и по сторонам, а на нем, обнаженные до пояса, прыгали с баграми сплавщики, обугленные солнцем. Ни одного свободного метра не находил глаз на реке. Стоя в воде вдоль берегов, сотни людей с баграми спускали, толкали, оттягивали лес. Шум сплава, особая смесь звуков, человеческих голосов, речного плеска, скрипа плотов не долетали сюда. Поэтому вся картина, полная жизни, красок, блеска, была словно кадр из немого фильма. К Пищику подошли два товарища-шофера, попросили прикурить. Генка протянул одному свою сигарету, другого отстранил: — Третий не прикуривает. Возьми у него огоньку. — Вы суеверны, Гена? — смеясь, спросила Наталья Даниловна. — Есть немного. — Стыдно! — Стыжусь. А знаете, откуда это пошло? — Что пошло? — То, что третий не прикуривает. — Не слыхала. — Расскажу. Это исторический факт! — с важностью заявил Гена. За «исторический факт» Пищик нередко выдавал то, что смахивало на вымысел. Таких «фактов» он знал много и рассказывать умел занятно. — Это было, Наталья Даниловна, когда англичане воевали с бурами. Пришли они в Трансвааль как разбойники и угнетатели. Буры, конечно, встали как один. Стреляли они великолепно — снайперы замечательные! Притаятся и выжидают. И вот ночью закурит англичанин на позиции — бур заметит. Другой англичанин прикурит — бур взведет курок. Третий прикурит — бур стреляет, третьему конец. Вот откуда пошло. Генку слушали с интересом, но один из приятелей пожал плечами: — Сказка! Чепуха! — Факт! — горячо возразил Генка. Он простился с Натальей Даниловной. — На лесную биржу надо, — спохватился он вдруг. Через минуту его мальчишеская фигура с длинной, худой шеей появилась на берегу. Издали донесся его голос:В конце прошлого столетия семья Куунов, разорившись, рассыпалась по свету. Старший брат Лео выехал в захудалый немецкий городишко, где, женившись на пожилой вдовушке, получил в приданое крошечное кафе. Он оставил при себе младшего в семье — девятилетнего брата Гуго. Сестра Амалия уехала в Ригу и поступила в бонны. Третий брат, двадцатилетний Иоганн, в будущем отец Рудольфа, выехал в Россию. Приятные манеры и приставка «фон» открыли перед ним двери богатых домов. У него нашлись высокие покровители, падкие на иностранные имена и немецкую предприимчивость. В их числе была Клеопатра Павловна Воронцова. Иоганн Куун прожил в России семнадцать лет. Он настолько обрусел, что его не тронули в 1914 году. Под именем Ивана Кунова он управлял угольными копями на юге России. Правда, ползли слухи о том, что Иван Кунов близок к лицам, уличенным в шпионаже в пользу немцев, и как-то в клубе раненый штабс-капитан публично назвал его немецким шпионом. Но штабс-капитан был известен как дебошир, а Кунов был принят в доме губернатора. Дело замяли. Кунов продолжал процветать. В Петербурге еще совсем молодым Куун женился на Жюли Ланской. До самой войны он аккуратно, каждый год, ездил с женой в отпуск на родину, куда обычно к этому времени приезжала и сестра Амалия. В 1910 году в берлинской квартире Иоганна Кууна родился сын Рудольф. Рудольф вырос и учился в Петрограде. Отцу в конце 1917 года пришлось бежать из России. Он не смог взять с собой семилетнего сына и тяжелобольную жену. Несколько лет она еще протянула как беспомощный инвалид и умерла в середине двадцатых годов. Младший брат в семье — Гуго-Амацей Куун вырос в атмосфере провинциального кафе, которое он должен был получить в наследство. С войны 1914 года он вернулся в чине лейтенанта, с железным крестом, без пальцев левой руки. Брат Лео умер. Кафе не давало дохода: инвалиды войны были плохой клиентурой. Гуго бедствовал. Он мечтал об иной доле. В 1920 году в мюнхенском локале,[74] в который случайно забрел Гуго Куун, он услышал выступление Гитлера. Гитлер извергал обещания, угрозы, пророчества. Гуго пламенно уверовал в «нового Мессию». С того дня началось знакомство Гуго Кууна с будущим фюрером. Оно стало близким. Куун никогда не занимал особо видных постов, не на виду он и сейчас. Но он всегда находился где-нибудь «близко от власти». В критический день 30 июня 1934 года он был около своего кумира. Именно он помогал Гитлеру в расправе с его недавним другом Ремом и сотнями других. Такие услуги не забываются. А следы Иоганна, отца Рудольфа, после бегства из России на некоторое время затерялись. Теперь он вот уже несколько лет проводит какие-то опыты в угольной промышленности Германии и живет в Берлине. Отец неоднократно оказывал сыну помощь через разных лиц, посылая валюту, вещи. Дважды он лично, под чужим именем, как представитель меховой фирмы, приезжал из Германии в Ленинград, якобы на пушной аукцион, и встречался с сыном. Последние годы связь между отцом и сыном проходила через представителей различных иностранных фирм, бывавших в Ленинграде. После окончания института Рудольф пытался уехать за границу, но в это время с ним установили связь «хозяева с той стороны», и он получил указание остаться в Ленинграде… — Да, история интересна, но печальна, — сказала Наталья Даниловна, когда Рудольф Куун кончил. — Вы видите, как я одинок… — Но есть шансы, что в будущем у вас все изменится. Ваш дядя Амадей Куун должен играть известную роль в Германии… — Несомненно! — подхватил Рудольф. — И дядюшка может очень пригодиться нам там… — Там? Нам? — Да, когда мы переберемся туда. — Неужели вы серьезно думаете об этом? — Абсолютно серьезно! Если люди Келлера попались, кто-нибудь из них может вспомнить и о вас. И тогда… вы пойдете вслед за ними! — А вы? — Обо мне можете рассказать только вы. А те меня не знают. Другое дело, если провалится ленинградский шеф… Меня томят дурные предчувствия, Наташа. Можно мне так называть вас? — Если хотите. — Я откровенен с вами. Чувство опасности, которое мы с вами испытываем ежеминутно, конечно, сроднило нас. Я полюбил бы вас, Наташенька, если бы… — Если бы?.. — Если бы мы были далеко отсюда. Здесь мы в плену, а в плену даже звери не любят… И знаете, — проникновенно продолжал Рудольф, — вы с вашим спокойствием, выдержкой, самообладанием и острым умом вселяете в меня уверенность, вы удваиваете мои силы… — Милый Руди, уместны ли в нашем положении лирические отступления? — Я только хотел, чтобы вы поняли, как необходимы мне! — Он помолчал, а потом неожиданно спросил: — Послушайте, а у вас есть какие-нибудь сбережения? — Почти никаких. — Наталья Даниловна с изумлением посмотрела на Рудольфа, словно хотела спросить, что это за перемена в настроениях: то лирика, то меркантильные соображения? — Для перехода на ту сторону, Наташа, нужны будут средства, и немалые. У меня, правда, созрел уже один план. Но такой шаг будет предпринят в крайнем случае… — добавил он загадочно. — Видите ли, Руди, муж много помогал своим родным в Берлине, и потом мы жили как-то нерасчетливо, тратились на всякую дребедень — на мои наряды, например. — А не дарил ли вам Отто драгоценности? — спросил Куун и взглянул на брошь, приколотую к блузке Натальи Даниловны, — большой зеленый камень в середине блестящей подковки излучал приятный блеск. — Нет, я к ним равнодушна. А если вы имеете в виду эту безделушку, — она перехватила взгляд Рудольфа, — то стоит она немного. Это подарок матери Отто, так же как и вот это… — Наталья Даниловна сняла с шеи газовый шарфик. — Ну что ж, в резерве будет мой план! — решительно заявил Куун. — Вы все здраво взвесили, Руди? Не решаетесь ли вы очертя голову на что-нибудь рискованное? — озабоченно спросила Наталья Даниловна. — Расскажите мне, что вы намерены предпринять? — Не могу. — Мне? — Именно вам! — угрюмо отрезал Руди. — Пойдемте, а то наша прогулка затянулась. Около школы им попался навстречу запыхавшийся рассыльный. — Инженера Кротова срочно требуют в дирекцию, — сообщил он. — А что случилось? — подавляя тревожные нотки в голосе, спросил Куун. — Нам оно без надобности, — безразлично ответил рассыльный. — Начальник какой-то из города приехал. Видать, ему и понадобилось… Наталья Даниловна увидела, как побледнел Куун. Немного овладев собой, он сказал: — Хорошо, передайте, что сейчас приду. — Вот что, Рудольф! — категорическим тоном заявила Наталья Даниловна. — В таком растревоженном виде вам появляться там нельзя. Вы посидите у меня и успокойтесь. Я сама выясню, что случилось. Наблюдайте в окно. Если вам что-либо будет грозить, я выйду, сняв шарфик с шеи, он будет у меня в руках. А предлог зайти к директору у меня имеется — я же занимаюсь с его сыном… — Какая смелая и преданная женщина! — прошептал он ей вслед. Прошло не больше десяти минут. На улице появилась Наталья Даниловна. Газовый шарфик весело развевался у нее на шее. Куун побежал ей навстречу. — Вам срочно готовят командировочные документы. Надо сегодня же ехать в город. Ну же, смелее! — Ждите с хорошими вестями! — благодарно отозвался он.
РЕЗЕРВНЫЙ ПЛАН КУУНА В ДЕЙСТВИИ
После торжественной части заседания — чествовали бригаду Алексея Донского — начался концерт. Наталья Даниловна смотрела из-за кулис на сцену. Рядом послышалось: — С приездом, Роман Иваныч. Сенька поздоровался с Рудольфом и тотчас исчез. Рудольф знаком поманил Наталью Даниловну к себе. Они прошли в костюмерную. Здесь никого не было. Глухо доносилась музыка со сцены. Рудольф молча протянул ей открытку. Она была адресована Кротову Р. И. и содержала несколько незначительных фраз: «Привет. Соскучились по своим. Ждем. Целуем». На обратной стороне ленинградский вид — бессмертные творения Растрелли на фоне северного неба… — Что это? — с удивлением спросила Наталья Даниловна. — Шифрованное сообщение некоего «сына». Пишет, что шефа по старому адресу не нашел. Соседи ничего, о нем не знают. Куда шеф девался, «сын» установить не может и отказывается от дальнейших поисков. Следовательно… — Кто этот «сын» и можно ли ему верить? — спросила Наталья Даниловна. — У меня нет оснований не доверять ему. Но оставим его в стороне. Есть дела поважнее. — Говорите! — Человек вашего мужа арестован… Вы понимаете, что это для нас значит? — Лишний вопрос… — Наталья Даниловна поморщилась. — Сначала скажите, верны ли ваши сведения. — Верны. Официантка Галочка оказалась везучей. Ей удалось расположить в свою пользу соседку одного из исчезнувших жалобами на то, что тот обманул ее, обещав жениться. Соседка посочувствовала и рассказала об аресте «соблазнителя». — Ну, а второй? — Со вторым получилось еще проще. Галочка неожиданно встретила своего постоянного клиента по ресторану. Узнав, что разыскиваемый ею человек «нажрал и напил на сотню рублей, а сам уполз, как гадина», — клиент коротко сказал: «Плакали твои денежки! Он выехал из города и адреса не оставил»… — Ну, а третий? — Напуган так, что к нему не подступишься. — Ситуация сложилась острая… — задумчиво заметила Наталья Даниловна. — Настолько острая, что нам здесь делать больше нечего! — закончил Рудольф. — Надо уносить ноги. Готовы ли вы? — Да, я решила! Другого выхода нет. Он быстро нагнулся и поцеловал ей руку. — Необходимо разрешить еще один важный вопрос, — сказал Куун. — Какой? — Ваш отъезд отсюда пройдет относительно незамеченным — у вас школьные каникулы, а со мной дело гораздо сложнее… — Почему? — Я еще не прослужил времени, дающего право на отпуск. А уехать просто так, незаметно испариться, — это вызовет кривотолки. Надо что-то придумать. — Я уже придумала. Концерт, кажется, заканчивается… — Они прислушались. — Вот что я придумала. Директор на днях спросил меня, какой подарок я хотела бы получить за занятия с его сыном. Сынок натянул на тройку — переэкзаменовки не будет. Я сказала, что подумаю. Ну вот и придумала. — Я начинаю догадываться, Наташа… — Погодите! — остановила она его. — Я ему объявлю, что придумала, какой подарок мне нужен, этим подарком будете вы! Сегодня же после концерта скажу директору, что мы решили пожениться и провести вместе отпуск в Ленинграде. Я попрошу выдать вам отпускные документы. И немедленно, потому что мои каникулярные дни уходят! — Уверены вы в удаче? — Почти. Если не это, вам придется скрыться. Завтра утром, до занятий, стукните в мое окно. Думаю, что смогу обрадовать вас. Из зала неслись звуки дружных аплодисментов. Слышно было, как отодвигались стулья, раздавался веселый смех, многоголосый говор. Зрители покидали клуб. Уходил вместе со всеми и инженер Кротов. Он раскланивался с сослуживцами, громко смеялся, делал все для того, чтобы люди заметили его уход из клуба. Когда же все в здании затихло, Рудольф вернулся. Вокруг не было ни души. Тусклый свет лился из окна комнаты Воронцовой. Рудольф с минуту смотрел на этот свет, потом, повозившись у входных дверей, вошел в коридор. Он без труда нашел дверь в комнату старухи. Дверь бесшумно открылась, когда Рудольф нажал на нее плечом. Ночник горел на тумбочке. Прерывистое дыхание долетало из-за ширмы. Рудольф задул слабое пламя ночника…Наталья Даниловна плохо спала в эту ночь. После разговора с директором она вернулась к себе и долго разбирала свои вещи. В чемодан вместе с необходимыми предметами она положила связку писем Отто Келлера. Это были его письма из командировок, с курорта. В этих письмах он был неизменно нежен и внимателен к жене. Она перечитала некоторые. Слабая улыбка тронула ее губы… Поздно ночью она забылась тревожным сном. Ее разбудил осторожный стук в окно. Как он ни был легок, она тотчас услышала его. В предрассветном сумраке она увидела Рудольфа. Он нетерпеливо делал ей знаки, просил выйти. Она наскоро оделась. — Что случилось? Почему вы являетесь ночью? Что за безрассудство? — Она присмотрелась к нему. — Что с вами, Руди? На вас лица нет… Ведь все в порядке — я договорилась с директором. — Ну вот и отлично… — устало сказал Рудольф. — Спрячьте это… — Что здесь, Руди? Он передал ей объемистый сверток. Наталья Даниловна развернула его и невольно отшатнулась: — Это… это какие-то украшения… — Да. Драгоценности. Теперь нам есть на что уехать. Туда… Она побледнела: — Как вы добыли их? Откуда? — Для вас это безразлично! — холодно ответил он. — Надеюсь, вы не истеричная дамочка… — Как вы смеете так говорить со мной! — воскликнула она. — Если вы и дальше намерены не считаться со мной, то лучше расстанемся… Куун взмолился: — Наташа, поймите — без денег мы погибли. Иного выхода я не видел. А не посвятил вас в свой план, оберегая вас, ваш покой… — Рассказывайте! — приказала Наталья Даниловна. Глаза ее сверкали. Она показалась ему красивее, чем когда-либо. Он заговорил сбивчиво, бессвязно… Когда он кончил свой рассказ, было уже совсем светло. Они все еще сидели на крыльце школы. Рудольф тревожно заглянул в лицо Натальи Даниловны. Оно было спокойно. Только бледность все еще покрывала его, и губы были крепко сомкнуты. Куун тихо говорил: — Если можно было бы найти другой выход, я нашел бы. Но его не было. Я подсмотрел, что старуха Воронцова прячет свои драгоценности в тряпичной кукле Труфальдино… — И вы не остановились перед убийством?! — воскликнула она. — Приходится шагать и через грязь, и через кровь. Когда-нибудь вы поймете это, а сейчас не думайте о старухе… В сущности, она уже давно умерла. Возьмите это… Спрячьте. — Давайте!.. — Наталья Даниловна взяла сверток. — Есть распоряжение директора. Вам дают месячный отпуск, — сказала она. — Вы должны немедленно все оформить, и сегодня же мы уезжаем. На полустанок отвезет нас Пищик. Я уже с ним договорилась. Мы едем в Ленинград? — Я должен сначала выяснить обстановку там. Было бы лучше, если бы вы задержались в Москве на несколько дней, а я поеду в Ленинград, чтобы все разузнать. А это разделим поровну… — Он кивнул на сверток с драгоценностями. — Как заправские уголовники… — с горькой усмешкой заметила Наталья Даниловна.
ОТЪЕЗД, ПОХОЖИЙ НА БЕГСТВО
Рудольф закончил денежные расчеты в бухгалтерии и с нетерпением ожидал Наталью Даниловну. Он нервно курил и мерил крупными шагами площадку перед зданием дирекции. Директор вышел вместе с Натальей Даниловной на крыльцо. — Поздравляю, новобрачные! — сказал он. — Вернетесь — выставляйте угощение! И Кууну пришлось улыбнуться шутке, от которой его передернуло. У школы уже стоял газогенератор Пищика. Водитель любезно открыл дверь. Отъезд был внезапным — никто не провожал инженера Кротова и его невесту. И все же Рудольф не переставал волноваться. Его волнение сразу передалось и Наталье Даниловне. Ей хотелось поскорее расстаться с этими местами, где она все время чувствовала себя скованной, до предела напряженной. Куун забрался в кузов. Наталья Даниловна вошла в кабину. И газогенератор Пищика, вздымая пыльные вихри, чертом понесся к полустанку. Стая разгоряченных погоней псов с высунутыми языками еще долго эскортировала машину. Ночью они садились в поезд. Поезд был рабочий, шел он быстро, но на каждой станции подолгу стоял. Двое суток ехали они кружной дорогой, прежде чем попали на главную магистраль. Здесь «новобрачные» сели в плацкартный вагон скорого поезда. Проходили часы и дни. Перевалили за Урал. Рудольф и Наталья Даниловна, стоя у окна, следили за быстро убегающими отрогами гор. Промелькнул пастух с пестрым стадом, три охотника с двустволками и собакой. И снова лесистые склоны, и опять одинокий охотник с резвым сеттером. Наталья Даниловна чувствовала, что Рудольф, несмотря на внешнее спокойствие, трусит. Он пытался шутить, играл с пассажирами в «козла», оказывал мелкие услуги соседям по вагону, старался иметь спокойный и независимый вид. Но Наталья Даниловна видела, что он не спит ночами, замечала нервное подергивание века и внезапную бледность своего спутника всякий раз, когда у вагона появлялась красная фуражка железнодорожного милиционера. Тем более дивился Рудольф самообладанию и выдержке своей спутницы. Она окончательно убедилась в том, что без нее он ничего не может предпринять. Поэтому-то он не хотел отпустить ее в Москве. — Едем сразу же в Ленинград! — предложил он. — Нет, Рудольф, лучше будет так, как вы предлагали в «Таежном». Даю вам два дня для того, чтобы все подготовить. — Ну хорошо, Наташа. — Он поцеловал ее руку. На короткое время он снова успокоился.ВЕРА ЧИСТЯКОВА
Анатолий Николаевич Платонов остановился на площадке лестницы, вынул из кармана пиджака ключ и отомкнул замок. Небольшая квартирка в одном из тихих арбатских переулков казалась нежилой. Такое впечатление создавалось от густого налета пыли на зеркале, на скромной мебели, на стекле письменного стола и книжных полках. В углу почти неприметно раскинул свои прозрачные сети паук, и на них болталась высохшая муха. В квартире было душно. В комнатах стоял спертый воздух давно не проветривавшегося помещения. Почти год назад владелица квартиры Вера Алексеевна Чистякова, уезжая, отдала второй ключ своему начальнику по службе Платонову и просила его хотя бы изредка навещать квартиру. Теперь Платонов упрекал себя за то, что ни разу с тех пор не был здесь, хотя и обещал это сделать. Он направился было к двери, чтобы позвать дворничиху, попросить ее убрать на скорую руку, но, взглянув на часы, передумал. Поздно! Вера с минуты на минуту могла появиться. Присутствие постороннего человека помешало бы встрече, оттянуло бы срочный служебный разговор. Разговор этот нельзя было откладывать. Потому-то Платонов и поспешил сюда, на квартиру Веры, как только получил сообщение о дне и часе ее приезда в Москву. Разыскав пепельницу, Платонов закурил, открыл окно и, стоя перед ним, задумался. Вера Чистякова… Он знал ее почти с детства и, можно сказать, создал как разведчицу. Он сумел привить ей любовь к профессии трудной, к делу, незаметному для многих, не сулящему ни широкого признания, ни шумных успехов, к работе человека, всегда остающегося в тени, движимого только высоким чувством патриотизма. Вера решительно сделала выбор между сценой и новой работой. Платонов с невольной улыбкой вспомнил Веру еще ученицей музыкальной школы, вспомнил и ее отца, старого железнодорожника, который в мечтах видел свою Верушу певицей большой сцены. Но девушка со всей страстью молодости отдалась новому делу. Да, Вера Чистякова инициативна, смела, беспредельна ее ненависть к врагам Родины. Но сейчас… Сейчас положение складывается сложное. Хватит ли у нее отваги, чтобы надолго, если понадобится, остаться в стане врагов? Хватит ли сил на нелегальный переход границы? И даже просто физической выносливости? Кто знает, как встретят ее на том берегу? Майор Платонов, неторопливый в движениях, коренастый, задумчиво ходил по комнате. На смугловатом открытом лице лежал отпечаток крайней озабоченности. Присев к столу, он вынул из бумажника фотографию Веры. Это была ее последняя фотография, сделанная уже в Сибири. Глаза Веры казались утомленными. Прежде не было этих морщинок у рта. Не сдвигались раньше так сурово тонкие темные брови. Правая бровь чуть выше левой, это видно даже на фотографии. «Да, нелегкую долю создали мы этой женщине!» — вздохнул Платонов. На лестнице послышались быстрые, энергичные шаги. Анатолий Николаевич прислушался, встал со стула. Дверь распахнулась, и в комнату с чемоданом в руках вошла невысокая, стройная женщина. Это была Вера Чистякова. — Так вот она какая тощая стала! — Платонов, смеясь, разглядывал ее. — С приездом, товарищ лейтенант! — Спасибо, Анатолий Николаевич. Да как вы-то здесь? — Ожидаю вас с нетерпением и прошу извинить за этот беспорядок. Признаюсь, что ни разу после вашего отъезда не был здесь. Видите, сколько пыли. — И дыма. Вы уже успели накурить. И все-таки эта комната показалась сейчас Вере верхом уюта и комфорта! — Вы в штатском? Оно вам не очень идет, Анатолий Николаевич. — Знакомая, чуть лукавая улыбка осветила лицо Веры. — Зато в нем удобнее! — А почему мы торчим посреди комнаты? Сядем сюда к окну, чтобы хотя одним глазком видеть московскую улицу. Боже, как я соскучилась по вас… всех! Даже по московскому воздуху! Если бы вы, Анатолий Николаевич, только знали!.. — Знаю, Вера. Понимаю!.. Ну, а как поживает Наталья Даниловна? — Наталья Даниловна рассталась на вокзале со своим спутником. Куун поехал в Ленинград и передал ей свой адрес, — в тон ему ответила Вера. — Какой? Вера назвала. — Я предполагал именно этот адрес… Остальное можете не рассказывать. Все известно. — И об убийстве Воронцовой? — И об этом, и о драгоценностях. — Ох, как гадко, как отвратительно!.. — Понимаю. — Анатолий Николаевич, я много думала о Наталье Даниловне Келлер. Мне кажется, что многого я еще не знаю. Мой отъезд в Сибирь был таким внезапным… — Что ж, будет полезным напомнить вам эту историю. Да, попробуем восстановить в памяти всю картину… Задумчиво шагая по комнате, он неторопливо заговорил, время от времени умолкая, чтобы припомнить нужную деталь. И перед глазами Веры постепенно разворачивалась история Натальи Даниловны Келлер.ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ
Шел 1939 год. На Западе разгоралась война. Новый Н-ский оборонный завод на востоке страны чрезвычайно интересовал иностранные разведки. Было установлено лицо, которое по заданию Абвера[75] руководило группой шпионов и диверсантов. Этим лицом являлся Отто-Генрих Келлер, уроженец Виттенберга, тридцати четырех лет, инженер-механик по образованию. Отто Келлер приехал в Советскую страну в качестве иностранного специалиста в начале тридцатых годов. Свое настоящее лицо Отто Келлер тщательно скрывал от всех, в том числе и от невесты, русской девушки Натальи Даниловны Соловьевой, переводчицы Н-ского завода. Наташа Соловьева искренне полюбила Отто Келлера. Весной 1938 года их брак был заключен в германском посольстве в Москве. Тогда же Келлер написал своим родным в Берлин о том, что женился и «обожает свою русскую жену». Мать Отто — Гертруда Келлер и брат Зигфрид сердечно поздравили невестку. Брак был одобрен и начальником Отто Келлера в Абвере. Он даже похвалил подчиненного за находчивость. Когда начнется война, Отто Келлер должен будет вести подрывную работу в Советской стране, перейдя на нелегальное положение. Женитьба на русской облегчит ему эту задачу. В начале зимы 1939 года Отто Келлер ожидал прибытия помощника. О его приезде было сообщено в очередной шифрованной телеграмме. Но Келлер не знал, что и о нем, и об агентуре, которую он успел насадить, и о помощнике, который едет к нему, уже известно советской разведке. О помощнике знали следующее: Зовут его Рудольф Куун, он 1910 года рождения, уроженец Берлина, много лет под разными именами жил в России. Куун богатырского телосложения. Совершенно лыс, иногда носит парик. Явку имеет только к Отто Келлеру. Но под каким именем Куун появится в Н-ске — известно не было. Это знал один Отто Келлер, так же как и пароль, с которым к нему явится его будущий помощник. В Берлине надеялись, что с приездом Кууна подрывная работа Келлера оживится. Агентура Келлера должна была совершить ряд диверсий по первому приказу из Берлина. Отто Келлер был женат уже второй год. С разрешения начальства он намеревался привлечь к тайной работе жену, открыв ей свое настоящее лицо… — Нам удалось перехватить на границе связного с письмами Келлера, из которых мы узнали о его намерении… — И впервые Келлер открылся своей жене именно там, на шоссе? — взволнованно перебила Платонова Вера. — Да, есть все основания предполагать это. Умирая на шоссе, Отто Келлер проговорил: «Теперь не выдашь»… И добавил по-немецки: «Ферретерин».[76] Это были его последние слова. Для фашиста Келлера его жена, отказавшаяся помогать ему, была предательницей. Несомненно, что Наталья Даниловна отказалась стать сообщницей Келлера. Видимо, она пыталась выпрыгнуть из машины. Завязавшаяся борьба и была причиной аварии. Машина потеряла управление и налетела на столб. Таким образом, у Кууна не оказалось явки. Нам удалось скрыть от него смерть Натальи Даниловны. От ее имени к дворнику приходили за вещами. Тем временем вы стали Натальей Даниловной. Куун явился к вам, но пароля вы не знали. Его не успела узнать и погибшая. Вот в основном все. — Но дворник сказал Кууну, что сам носил вещи Наталье Даниловне в больницу, что видел ее. — Дворник попался с богатой фантазией, но это к лучшему. Оба засмеялись. — Как вы полагаете, Куун не сделает попытки отделаться от вас? — спросил Платонов. — Нет, он не может теперь без меня. Я еле уговорила его придерживаться первоначального плана. Он хотел немедленно потащить меня в Ленинград. — Как он к вам лично относится? Питает ли он к вам, ну, какие-нибудь чувства? — Насчет чувств, кажется, не очень… Правда, один раз он мне сказал: «Я полюбил бы вас, если бы это было уже там», то есть за границей. — Приходько не сообщал мне этого. — Я ему не говорила. По-моему, Куун сказал об этом несерьезно. Но другом своим он меня считает. — Что он думает вам предложить, когда вы окажетесь на той стороне? — Свое покровительство и покровительство своих родных. Он считает себя многим обязанным мне. — Это действительно так. — И еще есть одно обстоятельство. Он стесняется говорить со мной об этом. Но, думается, я ему буду очень нужна и там, по крайней мере первое время. Язык я лучше его знаю. В современном разговорном языке он не очень-то силен. Так что покровительство покровительством, но и это не следует сбрасывать со счетов. — Совершенно правильно. Он не сказал вам, где намечает переходить границу? В каком пункте? — Нет. Я знаю только, что это будет финская граница. Я поняла так, что переход будет подготовлен друзьями Кууна в Ленинграде. — Где ценности, взятые Кууном у убитой? — Вот те камни, которые он отдал мне… — Она расстегнула сумочку и стала показывать. — Другую половину, в том числе и золото, Куун увез в Ленинград. Часть он намерен распродать сразу же по приезде в Ленинград. — Что же, сделаем выводы из всех имеющихся у нас фактов. Платонов склонил голову. В волосах было много седины. «В тридцать пять лет рановато, — невольно подумала Вера. — Но что же удивительного? Напряженная работа, бессонные ночи, жизнь, отданная до последней кровинки любимому делу»… Теплое чувство к этому человеку охватило ее с такой силой, что ей захотелось прижать к себе его седеющую голову… Платонов говорил медленно, своим характерным, глуховатым голосом: — Агентура Келлера обезврежена. Правда, мы предполагали, что встреча Келлера с Кууном раскроет нам что-нибудь новое, но гибель Келлера помешала этому. Куун оказался в преглупом положении. Приехал в Сибирь — ни людей, ни руководства. Его ленинградского патрона мы взяли раньше, Он уже не представлял для нас интереса, так же как и пособники Келлера по Н-ску. Мы вовремя командировали вас в «Таежный». Положение Кууна было критическим, потому-то он и бросился к вам. Он рассчитывал на то, что жена Отто Келлера могла быть посвящена в дела мужа, и решил это использовать… Итак, Куун, попав в тяжелое положение, не находит иного выхода, как выбираться за рубеж. Он считает вас своей единомышленницей. Вы нужны ему в качестве помощника здесь. На той стороне вы будете лицом, которое подтвердит то, что здесь он не сидел сложа руки. Нам же следует пойти навстречу планам Кууна и извлечь из них максимальную пользу. Вы меня понимаете, Вера Алексеевна? — Не вполне. — Вы унаследовали не только документы жены Келлера, Натальи Даниловны, но и ее биографию. Это очень важно. В Берлине, на Ноллендорфплац, живет семья Отто Келлера, вашего «мужа». Они знают жену Келлера по его письмам, но никогда не видели ее. У родных Отто Келлера нет даже фотографии Натальи Даниловны. Это твердо установлено. Я особенно тщательно проверил именно это обстоятельство. Фотографии Натальи Даниловны в Берлине нет. — Вот это удивительно! — Жизнь порой создает удивительные положения. У захваченного нами связного были не только служебные письма Отто Келлера, но и его личное письмо родным. Келлер имел основания отправлять его именно таким путем. Так вот в этом письме Отто пишет, что жена его очень красива… Вы похожи на погибшую, Вера… Черты лица, рост, цвет волос. Вот и фотография Натальи Даниловны. Взгляните. Вера долго глядела на фотографию: — Да, сходство есть. — Родные Келлера, может быть, вспомнят о письме Отто, глядя на вас. Это семья с прочными бытовыми традициями. Такие тридцать лет берут хлеб у одного булочника, шьют у одного портного, не знают другого часовщика, кроме почтенного Гофмана или Шмидта. Мать и отец Келлера после свадьбы снялись у фотографа господина Рейтера. И детей снимали у него. — Откуда вы это знаете? — Все из того же письма. Келлер просит передать почтенному господину Рейтеру, что, конечно, у него, только у него, будет фотографироваться со своей молодой женой. Фотографии, сделанные в сибирской глуши, не передают красоты Наташи. Платонов закурил. Лицо его было сумрачно. Какая-то мысль беспокоила его. Наконец он сказал: — Предстоит трудное, опасное дело, Вера. Придется и дальше играть роль Натальи Келлер. Может быть, вам удастся таким образом раскрыть вражеские планы. Сколько времени понадобится для этого, никто сказать не сумеет. Каждый день может принести неожиданности. Надо надеяться, что вы войдете в семью Куун. Что привлекает наш интерес к Куунам? Прежде всего личность Амадея Кууна — человека, близкого к нацистской верхушке. Чем он занят сегодня? Куда направляет его незаурядную энергию Гитлер? Есть данные, что Куун ведает организацией технической разведки в России. Это значит разведывание секретных изобретений, преимущественно в военной промышленности… В тревожное время вы едете туда. У Гитлера договор с нами, но есть сведения о том, что он готовит нападение… Платонов подал Вере лист бумаги, исписанный его крупным, энергичным почерком: — Это условия встречи в дальнейшем и пароль. Заучите сегодня же и уничтожьте. У вас нет вопросов ко мне? Ведь это последнее наше свидание перед уходом туда… Ей почудилась теплая нотка в его голосе. — Разве мы больше не увидимся до отъезда? — Полагаю, что нет. — Но ведь я должна буду известить вас о встречах в Ленинграде, сообщить, где будет намечен переход границы? — Я посылаю в Ленинград своего работника. Вы все скажете ему.Из Москвы Вера уезжала со стесненным сердцем. Все здесь было свое, родное. Ей предстояло надолго проститься с Москвой, тяжелое испытание ждало ее. Но долг звал Веру Чистякову, и она шла на этот зов без колебаний, как солдат, поднимающийся в атаку по приказу командира. Веры Чистяковой больше не было. Была Наталья Даниловна Келлер, срочно выезжающая в Ленинград к своему другу Рудольфу Куун.
Глава вторая
ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО
В Ленинграде, следуя подробным и точным указаниям Рудольфа, Наталья Даниловна разыскала парикмахерскую в конце глухой улицы на Петроградской стороне — «Мужской и дамский зал, окраска волос во все цвета». У третьего кресла справа молодая женщина с усталым лицом щелкала щипцами для завивки. Все было, как объяснял Рудольф. — Здравствуйте, Надя. Ждете меня? Это не было паролем. Женщину действительно звали Надей. Секретных разговоров с ней вести не нужно. Женщина проворно сунула щипцы в грелку: — Ждем, ждем, как же, Наталья Даниловна! Посидите, я скоро кончу, пойдем вместе домой. Устали с дороги?.. Нам недалеко. Они пошли пешком, дружески беседуя. Надя говорила без умолку. Единственной темой разговора был ее муж — управдом Карпов. Наталья узнала, что теперь они живут, слава богу, хорошо, что он теперь почти не пьет и на службе все в порядке. Домик, куда Надя провела Наталью Даниловну, был маленький, с тихим двориком, с кустами сирени под окном. В чисто выбеленной столовой под висячей лампой Рудольф играл с управдомом в подкидного дурака. Две пустые поллитровки стояли на столе среди грязных тарелок. Рудольф обрадовался Наталье Даниловне. Сели пить чай. Надя, развлекая гостью, раскрыла перед ней старый плюшевый альбом с пожелтевшими фотографиями. Управдом Карпов был изображен в разных видах: на отдыхе, за едой и даже за конторским столом со счетами в руках. Рудольф предложил Наталье Даниловне выйти на воздух — иначе поговорить было невозможно. Они ходили взад и вперед по провинциальной, поросшей кое-где травой улице пригорода. Рудольф был навеселе. Наталья Даниловна никогда не видела его таким разговорчивым. Самое главное, сказал он, заключается в том, что шефа в Ленинграде не оказалось. Он долго объяснял, почему он так и не собрался вторично побывать у некоего Паккайнена. Ей показалось, что он просто боится туда идти. По словам Рудольфа, Паккайнен был недоволен, когда к нему заходили в мастерскую. — Вы понимаете, — говорил Рудольф, — к Паккайнену ходило раньше много народу… И с границы всё привозили — ну, контрабанду… Но, когда брата его арестовали, он сразу оборвал связи. Надо только взять у него письмо… Если придет дама, это его больше устроит. — А насколько оно веско, это письмо? — У него свои люди там, где нам нужно. Поймите, ведь граница-то новая — она отодвинута на запад. А Паккайнен и там подобрал уже ключи. Вообще, он не тот, кем кажется, понятно? Когда мой отец приезжал на пушной аукцион, он встретился со мной не в «Астории», где жил, а на квартире, которую Паккайнен указал. Отец давно его знает. Они еще до революции в старом Петербурге встречались. — А кто такие эти Карповы? Можно ли им доверять? — Зачем им доверять? Они о наших делах ничего не знают. С Карповым у нас старая дружба. Мы познакомились в пивной. Они нуждаются. Я хорошо плачу, остальное их не интересует. Доводилось мне жить у них без прописки. Это надо ценить. И вот что еще, Наташа: в пограничную зону нужны пропуска. Без пропусков — ни шага! — Что же делать? — Я уже сделал. Мы получим пропуска. Деньги нужны. Много денег. Привезли драгоценности? — Конечно. — Умница! В эту субботу мы с вами идем на именины к одному нужному человеку, там все и поладим. Отдел пропусков, так сказать, на дому у некой дамы. Только уж вы за мою жену сойдете. — Эта дама ведает пропусками? — Муж у нее, Наташа, муж… Понятно? — Значит, ее муж ведает пропусками? — Не совсем, но имеет отношение к ним. — Отлично. Вы тоже умница! — А вы не цените, Наташа! — Откуда это видно, что не ценю? — По тону видно, по глазам. — Это еще не доказательство… Быстро прошло несколько дней. Рудольф кутил с нужными ему людьми. Пропусков пока не было. Он приезжал каждую ночь пьяный, будил Карпова, и они садились за стол. Надя поднималась, ставила водку и закуску. Лицо у нее было недовольное — временный жилец спаивал мужа. В один из этих дней Наталья Даниловна отправилась к Паккайнену. Нева, набережная, дворцы казались в этот день особенно красивыми. Сидя в трамвае, который шел через мост, Наталья Даниловна любовалась величественной картиной. Спустя полчаса она добралась до мрачного переулка между высокими скучными домами. В переулке были одни только склады да магазины скобяных изделий и железного лома. Над узкой дверью висела вывеска с надписью: «Исполнение всевозможных граверных работ. X. И. Паккайнен». Она толкнула дверь — звякнул колокольчик. В мастерской никого не было. На низком столе лежали инструменты. Наталья Даниловна села на табурет. Она чувствовала, что за нею наблюдают. Кто-то дышал за перегородкой. Она просидела так минуты три. Из-за фанерной переборки вышел маленький, сухой старичок. Его розовая лысина было окаймлена светлыми, но не седыми волосами. Светлыми были и ресницы и редкие усы под крупным носом. Глаза, окруженные красной каемкой, были воспалены. «Он действительно гравер», — решила Наталья Даниловна. Она сказала, как научил ее Рудольф: — Я невеста вашего друга. Вы согласились помочь нам в важном деле. Я пришла за письмом. Старик смотрел на нее безучастно, молча вздыхая, как будто бы то, что она говорила, печалило его. Наконец он ответил усталым голосом и с еле слышным акцентом на шипящих согласных: — Какие же важные дела? У меня и дел-то никаких нету. Материалу для работы нету. Не знаю, чем могу служить, в чем помочь… И знать вас не имею чести. Вот разве монограммочку на ридикюльчик? Он проворно взял у нее из рук сумку. Кусочек светлого металла блеснул в его руках. Он схватил щипцы со стола, повертел в руках и бросил их обратно на стол. На тисненой коже сумки красиво выделялись витиеватые буквы «Н.К.». Наталья Даниловна поняла — старик заранее приготовился к встрече. Она сказала: — Цену за вашу работу я знаю. И подала ему тридцатку. Крошечный комочек был вложен внутрь кредитки. Сквозь папиросную бумагу просвечивали рубины, окруженные брильянтиками. Старик с поклоном передал ей письмо. На улице Наталья Даниловна вынула из незапечатанного конверта лист старинной твердой бумаги. На нем дрожащим почерком без нажима было написано: «Уважаемый! Дети эти крайне нуждаются. Это сын Ивана Францевича. Он в наших краях в командировке. Они хотят закупить у вас там продуктов для своего молодого семейного хозяйства. Помогите им всем, чем можете. А то молодежь и деньги истратит и толку не будет. Как ваше драгоценное здоровье? И супруги и чад ваших? А мы живы и здоровы, благодарение богу. Остаюсь с совершенным и постоянным к вам почтением». Подписи не было. Не было также и адреса.Наталья Даниловна тщетно отказывалась пить. Все общество, уже сильно подвыпившее, выстроившись перед ней, орало нестройным хором:
ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ
Перед отъездом из Ленинграда Наталья Даниловна позвонила по телефону, который Платонов дал ей в Москве. В маленькой кондитерской состоялась встреча. В светлом зальце было пусто. Наталья Даниловна лениво мешала соломинкой коктейль в высоком граненом бокале. Она знала того, кто должен был прийти. Раньше они работали вместе у Платонова. Встреча с ним была ей приятна. Это был способный сотрудник. Он вносил в свой нелегкий — Платонов был требователен — труд неутомимую молодость и пылкость. Наталья Даниловна рассказала о том, что случилось в последние дни, особенно подробно о «сыне». — Я в курсе дела. Уже давно этот «сын» привлекает к себе наше внимание. Вы подтвердили наши догадки. Это удачно получилось. — Значит, я не сообщила вам новости? — Иногда подтверждение стоит любой новости! Теперь о предстоящем. Сейчас уже можно примерно сказать, где намечается переход границы. Он будет трудным. Мы облегчим его тем, что на нашей стороне по вас не будут стрелять. Но физических трудностей перехода устранить нельзя. Если ваш партнер потащит вас в непроходимые болота, где и потонуть недолго, тут уж ничего не поделаешь. Вы вынуждены будете вернуться и начинать снова в другом пункте. Хватит у него на это энергии, выносливости? — Надеюсь…Через день поезд уносил Кууна и Наталью Даниловну на северо-запад. В маленькое местечко в ста километрах от железной дороги Куун приехал как инспектор по лесозаготовкам. Вокруг бесконечные гати. Глушь. Нет даже электрического освещения. Они прожили здесь несколько дней, для вида занимались делами лесной промысловой артели. Письмо Паккайнена передано молчаливому бородатому человеку, десятнику. Он и помогает переходу. Наступает решающий день. Выгоревшая пустошь. Ее можно пересечь только ночью — здесь хороший обзор, могут заметить пограничники, говорит бородатый десятник. Наталья Даниловна знает, что в этом нет никакой опасности, знает одна из трех. И молчит. И они ждут ночи, прощаются с десятником. Дальше одни, дальше топь, на которой растет сочная зеленая трава. Потом опять сухое место. Оно таит в себе опасность — после войны эта полоса не полностью разминирована. И снова топь по горло. Рудольф оказался выносливым. В руках у них жерди. С ними легче продвигаться по этой топи. И вот кончилось самое глубокое место. Слышен крик петуха. — Финский или советский? — шепчет Рудольф, замирает на месте и оборачивается к Наталье Даниловне. Потом они услышали голоса. Сомнений не было — люди говорили по-фински. Узкоколейка. Рабочие грузят торф в вагонетки. И Наталье Даниловне стыдно показаться им на глаза, не потому, что она вся в грязи, в болотной тине. Нет, не потому!.. А Рудольф отряхивается, подходит к ним, что-то говорит, куда-то показывает рукой. Он держится уверенно и, пожалуй, властно. А люди в комбинезонах хмуро глядят на них обоих. Десять дней в тюрьме пограничного города. Маленькая чистая камера-одиночка. Ее допрашивает молодой офицер-пограничник. Он неплохо говорит по-русски. — Почему вы покинули родину? — Из-за моих политических взглядов. В его глазах сквозит недоверие. — Вы молоды. Когда же у вас успели сложиться такие взгляды? Ведь вы получили советское воспитание! — Возраст сам по себе ничего не решает. Он словно не слышит ответа. — Переход границы — рискованное дело. Советские пограничники хорошо стреляют. Что же вас толкало на такой риск? Он произносит как бы случайно несколько слов по-фински и следит за выражением ее лица. Наталья Даниловна не знает языка. Потом ее уводят обратно в камеру. Должно быть, офицер запросит начальника, тот пошлет запрос выше. Спустя несколько дней она в этой же комнате встречается с Рудольфом. Он широко улыбается и указывает на человека, который любезно кланяется Наталье Даниловне. — Вот наш избавитель! — говорит Рудольф. Высокий, очень худой человек, с болезненным лицом, с острым черепом представляется. — Вольфганг Мейснер к вашим услугам, фрау Натали, — говорит он по-немецки. Пограничник-офицер недовольно смотрит на всех. Он ругает себя за недогадливость. Он думал, что эта женщина послана к финским коммунистам, что ценности, обнаруженные при ней, предназначены для каких-то тайных целей, а дело совсем в Другом. Начиная с этого дня Мейснер надолго стал спутником Натальи Даниловны. Через час они подъезжали в машине Мейснера к ресторану при маленькой гостинице. По улице шагали германские солдаты. — Здесь стоит одна из наших частей, — сказал Мейснер.
В БЕРЛИНЕ
И вот она в Берлине… Наталья Даниловна была благодарна здешним понятиям о приличии, наконец-то разлучившим ее с Рудольфом. Ее поселили у тетки Рудольфа — Амалии. Дом, по старой привычке, назывался виллой (когда-то район был загородным), а дорога, проходившая вдоль ограды сада, — «Частной дорогой» («Приватвег»). В большом доме давно никто не жил, пожелтело и объявление на окне — «продается». Амалия занимала флигель в саду, предназначавшийся когда-то для тех гостей виллы, которых не очень ценили. Здесь стояла светлая, легкая мебель, висели в овальных рамах портреты членов семьи Куунов, и в двухэтажных клетках прыгали веселые, холеные канарейки. Тетка Амалия, старая дева с постным лицом, была молчалива и доброжелательна. Здесь, в этом тихом уголке, Наталья Даниловна могла немного отдохнуть от напряжения, в котором прожила первые дни на этой земле. Порой ей становилось очень тяжело, и она теряла надежду освоиться с окружающим. Она видела своры эсэсовцев с кривулями свастик на красных повязках, опоясывающих рукава черных мундиров. Перед ней проплывали тупые морды, стиснутые лакированными ремешками фуражек с высокими тульями. Она встречала повсюду воинственных парней в коричневых рубашках с ножами за поясом. Она слышала Геббельса в Спортпаласе и глядела на тех, кто, беснуясь, аплодировал карлику, кривлявшемуся на трибуне. О чем он говорил? Какие мысли крылись за бурным потоком бессвязной, бредовой речи? Смогут ли потом эти люди рассказать о том, что они слышали? А они ревели от восторга, вскакивали с мест, размахивали шляпами, вынесли на руках оратора. Не речь опьяняла их, а триумф победоносной войны, угар реванша. Уже было завоевано несколько стран. Мировое господство мерещилось тем, кто шел за Гитлером, твердо надеясь на легкий успех. Омерзение ко всему тому, что она видела, было так велико, что на первых порах оно заглушило у Натальи Даниловны чувство опасности. Опасения пришли потом. Уже несколько месяцев она прожила в Берлине, а положение все еще оставалось неопределенным. Прием, оказанный Рудольфу отцом, был холоднее, чем ожидали. По-видимому, в семье Рудольфа ждали «тона», который зададут «маасгебенде крайзен» — «дающие мерило круги». Дядя Гуго-Амадей — вот кто должен дать решающее указание. От того, как он примет племянника, зависело дальнейшее. Дядя Амадей занимал не очень видный пост в министерстве почт и телеграфа, но кому полагается знать — знали о значительной роли, которую он играл в организационном отделе нацистской партии. Часто у Натальи Даниловны в это время бывал Вольфганг Мейснер. Она присматривалась к нему и не могла решить, по своему желанию он бывает у нее или подослан. Порой неясное ощущение опасности появлялось у Натальи Даниловны при встречах с Мейснером, при виде его длинной, тощей фигуры, желтого лица с синеватыми мешочками под глазами, с заострившимся носом и узким лбом под зализами лысины, которую ему не удавалось скрыть. Казалось, такому болезненному на вид человеку недолго осталось жить. Но он жил и процветал, все знающий, все успевающий Вольфганг Мейснер. Служебное положение его было неясно. Он всегда при ком-то состоял, кого-то сопровождал, ожидал месяцами вызова куда-то. С поднятой рукой, рявкая: «Хайль!», он был всегда в первых рядах, когда под рез оркестров в зал или на площадь вступал Гитлер или его тучная тень — Геринг. Вольфганг говорил о своем родстве с «знаменитым» Мейснером, тем самым стариком, чиновником кайзеровских времен, которого Гинденбург сделал на долгие годы своим анекдотическим статс-секретарем. — Я ничего не знаю о вашем влиятельном родственнике, — сказала однажды Наталья Даниловна. Мейснер расхохотался: — О, святая простота! Вы прибыли из другого мира, потому и не слыхали о нем. А здесь он был видной фигурой. — Чем же он замечателен? — Тем, что служил ходячей памятью покойному президенту. Среди нацистов было принято подсмеиваться над Гинденбургом, конечно, не там, где собиралось много людей, и с должным тактом. — Уважаемый покойный президент, фрау Натали, в последние годы катастрофически терял память и тем не менее любил выступать с речами с балкона. Он останавливался на полуслове, теряя нить, но это не было непоправимой бедой. Мой уважаемый родственник прятался за портьерой и подсказывал уважаемому президенту, как суфлер подсказывает артисту. Забавно, не правда ли? — Нисколько не забавно. — Но почему, фрау Натали? — Мне не нравятся насмешки над старостью. Мейснер был удивлен. Мейснер?.. Пустой человек или соглядатай, которому она поручена? Вот сейчас послышался его голос в саду. Наталья Даниловна распахнула широкие стеклянные двери террасы. Рудольф и Мейснер шли по аллее к дому. Рудольф был радостно возбужден. С первых же его слов Наталья Даниловна подумала, что произошла какая-то важная перемена в его положении, и не ошиблась. Когда они остались вдвоем, Рудольф рассказал, что сегодня его принял дядя Амадей Куун. Прием был теплый. — Не думайте, Наташенька, — говорил Рудольф, — что мое отношение к вам изменилось. Но должен был пройти какой-то срок для того, чтобы я почувствовал себя здесь совсем уверенно и мы могли заняться своими личными делами. Вы умница! Вы не в обиде на меня за эту задержку, за то, что я уделял вам мало внимания все это время? — О нет, нет, Руди! Я и не думала обижаться. Голос Натальи Даниловны прозвучал вполне искренне. — У меня был деловой разговор с дядей. Он дал мне поручение, и, я думаю, вы сможете мне помочь. Сейчас требуется много людей для посылки в Россию со специальными заданиями. Мы на пороге новой войны. Кто так знает советские условия, как мы с вами? Кому еще в таких деталях известны требования, которым должны отвечать эти люди. Их надо искать среди русских. Здесь они есть, надо только уметь найти среди них нужных нам. — А почему ваш дядя занимается этим? — Есть такая организация — Фербиндунгсштаб. — Руди, когда у вас будет приличное произношение? — А что, разве так плохо?.. Дядя имеет отношение к этому штабу. В него ведь входит сам фюрер, и Геббельс, и Риббентроп, и Розенберг… — Что ж, мне кажется, дядино поручение вполне в вашем вкусе, в ваших возможностях. — И в ваших, Наташенька. — Да, но я до сих пор не познакомилась с моей здешней родней. — Стоит ли торопиться с этим? Думаю, что вам не будет там весело. — Но приличия требуют… — Наташенька, вы становитесь добропорядочной немкой. Это скучно. — Есть остроты, Руди, которые мне не по вкусу.Надо было нанести визит матери Келлера. Наталья Даниловна знала все мелочи семейной жизни Келлера и носила на груди медальон с миниатюрной фотографией и собственноручной надписью Отто Келлера: «Милой женушке от ее Отто». Брошь в виде подковы и пестрый шарфик были на ней. Но кто знает, какие вопросы подскажет материнское сердце? Ведь ей предстояла встреча с матерью, братом, сестрой. Инженер Отто-Генрих Келлер служил в германской разведке. Знали ли об этом его родные? Что они знали о жене Отто? Как много неясного в положении! Может быть, именно там, у Келлеров, ждет ее конец, провал, гибель… В один из погожих солнечных дней Наталья Даниловна вышла из подземки на Ноллендорфплац. Она быстро разыскала нужный ей дом. Серое, скучное здание. На двери в квартире третьего этажа дощечка с надписью: «Вход только для господ», и плакат: «Покончить с шептунами и критиками!» Номер «Фелькишер Беобахтер» торчит из почтового ящика, и медное кольцо для собаки начищено до ослепительного блеска. Наталья Даниловна передала пожилой горничной визитную карточку: «Фрау доктор Натали Келлер», и вошла в залу. Это была старая, давно обжитая квартира. В зале стояла старинная мягкая мебель. На стенах висело множество вышивок под стеклами в аккуратных рамках, мешочки для газет и сигар. На каждом готическими буквами было вышито назначение вещи: «Для газет», «Для сигар». Комната напоминала картинку из старого немецкого учебника, под которой стояла подпись: «Опишите, что находится в этой комнате». Дверь в кабинет была открыта, и там были видны старые кожаные кресла, старые птичьи чучела на старых шкафах. Новым был здесь только портрет Гитлера. Чтобы повесить его, пришлось, видимо, снять висевший тут раньше портрет какого-нибудь предка, больший по формату. Портрет фюрера был обрамлен полосками невыцветших обоев, словно орнаментом из дешевой бумаги в зеленых цветочках. Фюрер был изображен в три четверти, в момент произнесения речи, с открытым, как у рыбы, ртом. Художнику удалось передать с большой точностью идиотическую неподвижность взгляда и страшное напряжение позы. Под портретом на полочке стоял букет бессмертников. Жесткие лепестки мертвых цветов упирались в живот Гитлера. Было слышно, как на кухне шипел газ и звенели стаканы. В полуоткрытую дверь Наталья Даниловна увидела ослепительно белые полки и живо представила себе всю эту кухню — святилище хозяйки. Одинаковые фаянсовые банки с надписями: «соль», «перец», «рис» и так далее. На совочке для мусора также надпись: «мусор», и даже на ручке метлы мелкой готикой: «метла». Каждая вещь должна иметь свое назначение, а назначение определяется надписью. Надпись — это приказ. Вошла высокая седая женщина в черном старомодном платье, вышитом стеклярусом. Сердце Наташи дрогнуло. Мать… Что она спросит? Что захочет узнать о последних днях сына? Старуха прижимала платочек к глазам, но они были сухи. И вдруг Наталья Даниловна почувствовала, что разговор будет нетрудным для нее, что он не потребует особой настороженности, острого напряжения всех сил. Что же вызвало это чувство? Сухие глаза, глаза без единой слезинки к которым старая женщина манерно прижимала, кружевной платочек. …Да, она ждала фрау Натали Келлер. Она получила ее открытку по городской почте во вториик в четыре часа. Она медлила с приглашением, ожидая воскресенья. В воскресенье вся семья собирается к ней на кофе. Сын Зигфрид приводит свою невесту Лизелотту. Они обручены два года назад. Но жизнь теперь так тяжела! Приходится ждать лучших времен, чтобы вступить в брак. Лизелотта служит стенографисткой у «АЭГ».[77] Вы знаете: «Альгемайне электрише Гезельшафт», — но в ближайшее время предвидится вакансия корреспондентки. Тогда она будет зарабатывать значительно больше. Старуха принялась нудно к длинно подсчитывать будущие заработки будущей невестки. Наконец она заговорила о погибшем сыне: — Отти, бедный Отти! Ему не следовало ехать в Россию, в эту страшную страну. Но мы так нуждались. Ведь мы всё потеряли во время инфляции. И вот он поехал… Он зарабатывал там большие деньги, не правда ли? Иначе, зачем было ехать в дикую страну? Фрау Натали, вероятно, скажет ей что-нибудь о наследстве. Разве Отти ничего не оставил бедной матери? В России все дешево. Может быть, меха или какие-нибудь ценные вещицы? И тут Наталья Даниловна почувствовала твердую почву под ногами. Нет! Это была не та мать, которая всю жизнь горюет о потере сына, не та мать, о которой на языках всех народов слагают задушевные песни. Жалкое, жалкое существо находилось перед ней. И Наталья Даниловна вынула из сумки сафьяновый футляр: — Я позволю себе предложить матери моего покойного, горячо любимого мужа вот эту вещь, этот жемчуг… Тяжелые желтоватые зерна блеснули на синем бархате. И тут старуха прослезилась. Ценный подарок был тем ключом, который открыл приезжей сердца обитателей этого дома. И Зигфриду Келлеру, молодому человеку в роговых очках, с прекрасным пробором, и его невесте Лизелотте, тридцатилетней девице в таких же очках, и даже четырнадцатилетней Анни с косичками и в коричневой форме «гитлер-медхен»[78] — всем им сразу же стал близким этот человек, которого они еще не знали вчера. «Форнееме даме», «достойная дама», «приличная», «порядочная» — так думали здесь о Наталье Даниловне, солидной, представительной, в дорогом темном костюме и серьгах, в которых играло солнце, с белокурыми, уложенными в сложной прическе волосами под шляпкой с траурным крепом. «Форнееме даме» означало, что она была принята в доме, желанна в нем. Это не значило, что ее признали родной, что с нею вошло в дом воспоминание о близком, дорогом человеке. Нет, это было другое! В тяжелые дни эта дама явилась к ним не за поддержкой. Напротив, она сама могла оказать ее. Имя Кууна, оброненное в разговоре, было знакомо всем. Приезжая стала ценным приобретением семьи, как бы вкладом в их благополучие. Если бы в эту минуту Наталья Даниловна осталась одна, она сказала бы себе: «В страшный мир ты попала, Вера». Но, ведя непринужденную беседу с этими людьми, она не могла ни на одно мгновение стать Верой. Все ее силы уходили на то, чтобы казаться Натальей Даниловной — женщиной, отрекшейся от своей страны, готовой помочь врагам родины. Настали сумерки. Зажгли большую стоячую лампу под шелковым абажуром — в зале стало уютнее. Разговор не угасал ни на минуту. Наталья Даниловна услыхала то, что ей отчасти уже было известно из торгово-промышленного справочника с длинным названием, который она долго штудировала. «Дипломирте инженер» Зигфрид Келлер служил уже двенадцать лет в крупном химическом концерне, в отделе монтажа. Зигфрид Келлер был, несомненно, деловой человек. Ему были совершенно понятны слова Натальи Даниловны о том, что ей положительно необходимо какое-то занятие. Хотя она и не нуждается в заработке, но она получила высшее экономическое образование, знает иностранные языки, стенографирует… Она привыкла иметь свое место в деловом мире. Ей скучно сидеть дома и заниматься вышивкой, хотя она и не прочь это делать в часы отдыха… Да, Зигфриду Келлеру это было близко. — Деловые люди всегда поймут друг друга, — сказал он. Он сумеет даже помочь ей. Русский отдел их концерна в последнее время потерял многих сотрудников. Им ведает старый прокурист[79] фирмы — крупный коммерсант Герман Веллер. Он выходец из России. Зигфрид сможет порекомендовать ему фрау Натали… В этот вечер Наталья Даниловна сделала предварительный вывод: ни мать, ни брат Келлера не знали о том, что Отто работал в разведке.
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В ГАЗЕТЕ
Уже несколько дней они жили в Гамбурге. Рудольф был занят делами, а вечный их спутник Мейснер назойливо старался угодить Наталье Даниловне «экзотическими» развлечениями. В матросском притоне им показали «женскую борьбу» — отвратительное зрелище. Наталья Даниловна морщилась, Мейснер хохотал. На ковре сцепились две рослые, жирные участницы чемпионата, зрители бешено аплодировали им. На другой день вместе с тем же Мейснером она отправилась на ежегодную гамбургскую ярмарку. Пестрая толпа всякого сброда слонялась по площади. Люди горланили, хрипло распевали пошлые песенки, останавливались у мелких лавчонок, опустошали бутылки и, нацепив на пуговицы всякую всячину — игрушечных кукол, картонных зверей, бумажные фонарики, купленные тут же, — брели дальше. На площади горели разноцветными огнями балаганы, свистели дудки, трещали хлопушки, завывали саксофоны. Цыгане водили медведей, клоуны зазывали в павильоны посмотреть на всякие чудеса. На помосте фокусник вытаскивал из ушей живых лягушек. Крошечный мальчик висел наверху высоченного шеста, укрепленного на поясе отца-акробата. Великаны пугали публику. С электрических гор неслись крики и визг. Но больше всего здесь было уродов. Показывали даже женщину-паука-карлицу с восемью недоразвитыми конечностями. Она сидела в искусно сделанной паутине. Сославшись на головную боль, Наталья Даниловна оставила спутника и пешком отправилась в отель. Беспокойными были ее мысли. Вот уже несколько месяцев она здесь, а до сих пор нет связей, нет настоящего дела. На углу громко кричал газетчик: «Свежие берлинские газеты! Второй вечерний выпуск!» Наталья Даниловна взяла газету. Каждый день она покупала этот второй вечерний выпуск, каждый день она внимательно просматривала лист объявлений, напечатанных мелким готическим шрифтом. Но в них не было того, что она искала. Но сегодня… Наталья Даниловна не сразу поверила своим глазам. Вот оно, настоящее дело. Ее искали, искали ту, которая приняла имя Натальи Даниловны Келлер… Она нужна, она снова в строю. Две строки петита на плохонькой, военного времени газетной бумаге: «Продается пелерина из семи черно-бурых канадских лис на атласной подкладке. Смотреть по вторникам и средам с четырех до шести». Адрес она запомнила, а газету бросила в урну. Вечером она спросила Рудольфа: — Когда мы возвращаемся в Берлин? — Как, вам тут скучно, Натали? — У меня головная боль от этого крикливого средневековья. Вернувшись в Берлин, Наталья Даниловна сразу же отправилась по адресу, указанному в газетном объявлении. Дом был с удобствами. Посетитель у парадной двери называл свое имя в переговорную трубку. Наталья Даниловна сказала: «По поводу продажи меха». Было слышно, как в верхней квартире открылась дверь. Хорошо одетая дама сама проводила посетительницу в комнату. Седые волосы, по моде высоко поднятые надо лбом, придавали лицу женщины выражение спокойного достоинства. Квартира была обычная, буржуазная. Наталья Даниловна села, подняла вуалетку: — Я прочла в газете о том, что вы продаете мех. — Да, пожалуйста. Мадам может посмотреть. Дама вышла и немедленно вернулась с пелериной. Этой пелерины могло и не быть, но Наталья Даниловна подумала, что по объявлению, вероятно, ходили и другие покупатели и им тоже показывали пелерину. Она повернула мех к свету, сказав старательно, как на уроке: — В одной лисе имеется брак — у нее пришитый хвост. Дама быстро ответила: — Мадам ошибается, меха привез мой дядя из Канады в прошлом году. Они безупречны. Дама говорила с легким венским акцентом. «Попробуем дальше», — подумала Наталья Даниловна. — Мне нравится эта вещь, хотя в лисах мало седины… Теперь было уже достаточно. Наталья Даниловна поняла это по лицу собеседницы — оно стало приветливее, проще. Хозяйка поднялась, приглашая следовать за ней: — Здесь рядом находится один господин. Он также… интересуется мехами. Пройдя через столовую, сверкнувшую хрусталем, они вошли в кабинет. Наталья Даниловна подумала, спросят ли у нее ее имя. Нет, ее ни о чем не спрашивали. Навстречу поднялся пожилой мужчина в дымчатых очках, в костюме, «как у всех», с лысиной, «как у всех». Он протянул руку. Пожатие было крепким, не по-европейски. — Мое имя Вольф, — отрекомендовался коротко мужчина. — Вы будете встречаться с этой дамой и держать связь со мной через нее. Ее зовут Гедвиг Шульц. У нее свое дело: парикмахерская недалеко от ЦОО.[80] Просматривайте рекламу в газетах. А теперь я вас слушаю. Мой доверитель приказал мне самым подробным образом осведомиться о вашем положении… Он выражался несколько тяжеловесно, по-стариковски. Рассказывая, Наталья Даниловна заметила, как вспыхнул огонек интереса за очками незнакомца, когда она упомянула об обещании Зигфрида Келлер познакомить ее с Веллером. Она рассказала о том, что за это время сделал Рудольф. Наталья Даниловна знала об этом с его слов и по документам, которые он ей показывал. Рудольф объяснил Наталье Даниловне, что ему поручено подобрать людей для разведывательной работы в России, предпочтительно русских по национальности. Он должен найти таких людей, предварительно переговорить с ними. Остальное же — проверка их, подготовка — его не касается. Переброска агентов в Россию пойдет по двум линиям: в настоящее время Германия имеет оживленные торговые связи с Советским Союзом, объяснял Рудольф, и было бы преступлением не использовать этого; кроме того, разведчики будут нелегально переходить государственную границу СССР. — Это было связано с нашей поездкой в Гамбург, — сказала Наталья Даниловна. В Гамбурге Рудольф встретился с неким Хасановым, который выдает себя за азербайджанца. Хасанов кончил техническое училище в Германии. Он вступил в студенческую корпорацию гитлеровского толка и после прихода Гитлера к власти получил «первоклассные права на существование». Его предполагалось послать в Баку с паспортом купца «из восточной страны». — А что еще известно о Хасанове? — спросил слушавший. — Вот его визитная карточка. Здесь указан адрес транспортного общества, в котором он работает. Он специалист по транспортировке грузов. В разговоре упоминалось, что он живет около рыбного рынка. — А приметы его вы могли бы описать? — Среднего роста, сухощав, черные волосы с проседью зачесывает назад, на вид лет сорока, глаза карие с темными веками, нос большой, мясистый, носит короткие английские усы. Один передний зуб вверху золотой… По-немецки говорит с легким акцентом, по-русски — как русский. Холост. Больше мне о нем ничего не удалось узнать. — Вполне достаточно. А какое задание намечается для него? — Кроме того, что он должен обосноваться в Баку, я ничего не знаю… — О ком вы еще узнали? — О чете Дурново. — Кто они? — Юрий Мариусович Дурново и жена его Вильгельмина, урожденная Майнеке. Он эмигрант, петербуржец, женат на немке. Идет на эту работу, как говорит, «по идейным соображениям». Для поездки в Россию они получают шведские паспорта. Ему пятьдесят лет, высокий, полный, носит русую бородку, лысый, глаза светлые. Жена — маленькая блондинка. — На какие средства они сейчас существуют? — Очень бедствуют. Он служил кельнером в русском ресторане «Медведь». Теперь жена его открыла прачечную в Кепенге. — Вы, кажется, еще с кем-то встречались в Гамбурге? — Мейснер познакомил там нас с одной супружеской четой, но Рудольф отказался от их вербовки. — Кто это? — Курт Фанге и жена его Клара… Угадыватели мыслей… — Что? — Цирковые артисты. Сейчас они выступают на гамбургской ежегодной ярмарке. Это очень талантливая пара. Клара обладает феноменальной памятью. Их система «угадывания мыслей» основана на сложном словесном шифре. Она с завязанными глазами на сцене отгадывает, что делает ее муж в зрительном зале, что ему говорит на ухо кто-либо из зрителей, какие предметы ему передают. Он сигнализирует ей условными словами, звуками, акцентом. Кроме того, оба полиглоты. Жили в России. — А почему Куун отказался использовать их? — Считает, что они подозрительны. Подозревает, что они работают на англичан. Вольф проводил Наталью Даниловну в переднюю и церемонно подал ей пелерину из семи черно-бурых лис. — Вы должны быть в ней в четверг на вечернем представлении в «Скала». Наш хозяин вас хочет видеть… Издали. Вы должны приколоть к меху белый цветок. У Натальи Даниловны неожиданно мелькнула мысль, что ее хочет видеть Платонов. Это была нелепая мысль. Ведь он узнал бы ее и без меховой пелерины, и без цветка. И все же до самого четверга Наталья Даниловна не могла расстаться с нелепой, но приятной мыслью.«СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ»…
Теперь Наталья Даниловна по-новому осматривалась вокруг. Она замечала многое, мимо чего раньше проходила равнодушно. В мелочах вдруг оказывалось интересное и значительное. Даже тихие вечера, которые она проводила в гостиной тетки Амалии, расширяли ее представления об окружающем. Наталья Даниловна вышивала, как и подобает молодой одинокой даме, а тетка Амалия вязала из эрзац-шерсти перчатки для солдат. «Общество престарелых женщин, стоящих на страже интересов нации», в котором состояла Амалия, было завалено работой. Заготовлялись исключительно теплые вещи, какие не носят в Западной Европе. Кто вязал больше нормы, получал жетон со свастикой. Предстояла кампания в холодных краях. Старуха, проворно работая спицами, рассказывала: — Фюрер сам обратился с речью к нам, старым женщинам. «О старые мамочки! — воскликнул наш сладкий (она так и сказала — „зюс“) фюрер. — Не жалейте глаз для сыновей нации, вяжите перчатки и подштанники! И вы увидите на склоне ваших лет новую, светлую жизнь в обновленной Европе»… И мы кричали: «Хайль!», пока не охрипли. Тетка Амалия была из «истинно верующих». Ее долгая жизнь, лишенная каких бы то ни было событий, озарилась первым и последним увлечением. Она боготворила Гитлера. Однажды Наталья Даниловна увидела у Амалии циркулярное письмо обер-группенфюрера «Об организации помощи старых женщин армии». На письме стоял штамп: «Фертраурих» — доверительно. В письме сообщалось о плане организации больших тыловых госпиталей в ряде пунктов, расположение которых позволяло догадываться о направлении главного удара. Наталья Даниловна сообщила об этом Гедвиг. Нет, дружба с теткой Амалией была безусловно полезна. Однажды Наталья Даниловна приняла приглашение участвовать в воскресной прогулке «Общества престарелых женщин» в Грюнау — дачное место недалеко от Берлина. Был арендован пароходик, ровно в шесть часов утра наполнившийся старухами, увешанными жетонами со свастикой. Перед отплытием прибыл прыткий молодой человек в форме «СС». Он, как фюрер подпрыгивая на носках, произнес краткую речь о роли престарелых женщин в защите государства от «восточного варварства». Когда оратор кончил, старухи кинулись к нему и с неожиданной ловкостью трижды подбросили его в воздух с криками «Хайль Гитлер!». После чего он быстро сбежал по трапу и уехал, на прощанье оглушительно протрубив клаксоном малолитражки. Пароходик дал гудок, флаг с рогатым крестом взбежал по веревкам и взвился на мачте. Старухи запели дребезжащими голосами: «На зеленой травке стоит коричневый дом», и «безумный фрегат», как мысленно окрестила пароходик Наталья Даниловна, набитый старухами, двинулся по Шпрее. Во время прогулки, когда престарелые женщины развеселились, требовали без конца пива в палубном буфетике и, взявшись за руки и раскачиваясь, запели «Деревенский вальс», — Наталья Даниловна познакомилась с вдовой полицейского чиновника, Бригиттой Шванке.В довоенном Берлине на самой людной площади, на высоте четвертого этажа ежевечерне загорались огромные буквы: «А вечером в „Скала“…» Теперь реклама была скромнее, но все же достаточно броской. В зале варьете, однако, зияли пустотой незанятые кресла. Когда Наталья Даниловна с Мейснером проходили на свои места перед ложами, первое отделение уже началось. Эксцентрическая танцовщица-венгерка в форме альпийского стрелка исполняла «военный танец». То, что проделывала танцовщица, собственно, мало походило на танец и напоминало не то акробатические упражнения, не то занятия с новобранцами. Но вокруг раздавались крики восторга, и все уверяли, что это ново, свежо и «темпераментфоль», а главное — в духе времени. Во втором отделении танцовщица появилась в ложе позади Натальи Даниловны и Мейснера в манто из «морских собак», с волосами, покрытыми золотым лаком. Вместе с танцовщицей вошел Зигфрид Келлер. Третьим в ложе был господин с огромным животом шибера[81] и с умными, хитрыми глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками. Зигфрид представил Наталье Даниловне своих спутников — танцовщицу и толстяка. Так состоялось ее знакомство с Германом Веллером. Наталья Даниловна понимала, что оно произошло на глазах у невидимого «хозяина».
Она не видела Рудольфа около месяца. Он уезжал с отцом в Рурский угольный бассейн. Опыты, которыми занимался отец Рудольфа, были секретными. Он совершенствовал способы обогащения коксующихся углей. Это было связано с производством высококачественных сталей. Вернувшись из Рура, оживленный, бодрый Рудольф рассказывал, блестя глазами и загорелым голым черепом. Наталья Даниловна не торопилась с расспросами. Она знала: у Рудольфа сейчас не будет от нее тайн. Он стал объяснять ей детали, доказывающие значение открытия его отца. Разговаривая, они медленно ходили по саду тетки Амалии. Время от времени они останавливались, и Рудольф писал тонким прутиком на песке химические формулы. Желтые и красные листья, кружась, падали вокруг них. От медленного, как бы задумчивого их лёта на Наталью Даниловну повеяло невыразимой грустью. Родина! Как горько вдали от тебя думать, что осень бредет в твоих березовых рощах и свежими утрами первый иней уже ложится на необозримые поля!.. — Помните, Рудольф, — вдруг неожиданно для самой себя спросила Наталья Даниловна, — наши таежные, сибирские ночи, и реку, и сплав? Рудольфа передернуло. — По ночам я все это вижу в страшных снах! Она проводила его до ворот и, возвращаясь той же аллеей, где они бродили вдвоем, заучила формулы, написанные прутиком на песке.
ПРОВАЛ?!
Чем могла она заинтересовать Германа Веллера? Он не ухаживал за ней. Всем была известна его связь с танцовщицей венгеркой Ренатой. Она была давней и крепкой: квартира танцовщицы была обставлена красиво, даже роскошно. Не было и деловых мотивов к этому интересу. А между тем прокурист фирмы инженер Веллер проявлял не только интерес, но и благожелательность к фрау доктор Келлер. Он передал ей часть тех дел, которыми должен был заниматься сам. Может быть, он сделал это из лености? Нет, он был трудолюбив. Когда ей попали в руки данные о новых конструкциях предприятий концерна, выпускающего отравляющие вещества, с расчетами, чертежами и сметами под штампом «строго доверительно», Наталья Даниловна заподозрила ловушку. Но нет, Веллер просто доверял ей. А между тем из документов, с которыми теперь запросто знакомилась Наталья Даниловна, видно было, что здесь деятельно готовятся к войне с Советской страной. И эта война обещала быть ужасающей, судя по тем средствам уничтожения, которые готовили фашисты. Чувство опасности никогда не покидало Наталью Даниловну, но порой это бюро с белыми шторами, со счетной машиной для сложных вычислений, с аккуратными настольными корзинками для бумаг казалось ей надежным местом. Иногда Веллер приглашал ее провести вместе вечер. Он садился за руль своего серого «Мерседеса», и они ехали обычно в Грюневальд. Там они заходили в круглое кафе. Серый, под цвет машины, дог с достоинством следовал за ними. Веллер любил этот круглый зал, потому что сюда пускали с собаками. Он расспрашивал Наталью Даниловну о России. Однажды он осведомился, бывала ли она на Украине. В бюро, в минуту отдыха, он также как-то заговорил об Украине. Что заставляло его вспоминать о давно покинутой им стране? Сегодня они оказались в кафе почти одни. Танцующих не было вовсе. Веллер пил коньяк, Наталья Даниловна медленно тянула ликер. Разговор не налаживался, но это как-то не стесняло их. Веллер, отдуваясь — он страдал одышкой, — наконец заговорил: — Я не хотел бы сделать вам неприятность. Нет, меньше всего я бы хотел этого, но должен все же сказать вам, моя дорогая фрау доктор… — Умные глаза Веллера под тяжелыми веками приняли печальное выражение. — Я лично знал покойного инженера Келлера. И во время моего приезда в Москву он познакомил меня со своей женой, Натальей Даниловной Келлер. И это не были вы. Выпохожи на нее, да, но вы не та дама, которую я видел… Ну, вот и конец! Конец всему: работе, свободе, может быть, жизни… Наталья Даниловна ответила тотчас: — Вы стали жертвой шутки. Мой муж любил шутить! Что еще могла она придумать в эту минуту? Патрон, вздохнув, небрежно ответил: — Да-да, возможно… После этого вечера отношения их остались прежними. Он, как и раньше, доверял ей. Ничего угрожающего вокруг она не замечала. Но было бесспорно одно: ее разоблачил человек из враждебного лагеря. Зачем ему понадобилось открыть свои карты, предупреждать ее? Для чего?.. Вечером, лежа в мягком кресле парикмахерской фрау Гедвиг, Наталья Даниловна попросила передать Вольфу, что она находится под угрозой и на свидание с ним не придет. Но через несколько дней фрау Гедвиг, укладывая волосы Натальи Даниловны, шепнула ей, что Вольф будет ждать ее в субботу, в десять часов, в месте прошлой их встречи. Боясь навлечь опасность на Вольфа, Наталья Даниловна передала, что она раскрыта Веллером. И снова она получила предложение быть на свидании в субботу. На этот раз оно было передано «амтлих» — в форме приказа, требующего беспрекословного исполнения. Встреча должна была состояться в кабаре «Дом Европы». Внизу, в винном погребе, было бомбоубежище, вверху гастролировала модная певица. Чтобы установить, нет ли за ней слежки, Наталья Даниловна пошла пешком через парк. Падал снег, он тут же таял. Пронизывающий ветер шумел в деревьях. Изредка пробегали машины с притушенными фарами. Нищие продавали на углах улиц спички, шнурки для ботинок, камни для зажигалок: неприкрытое нищенство каралось концлагерем. Около Бранденбургских ворот пожилая певица в поношенном манто, известная всему Берлину, протягивая руку, пела романс Шуберта. Ее выгнали из оперы, когда выяснилось, что дед ее мужа был евреем. Оборванный подросток спал на скамье под липой. Охраняя все это «благополучие», на перекрестке аллей стоял огромный шупо.[82] Было холодно. Никогда еще Наталья Даниловна не шла с такими опасениями на встречу. Она была раскрыта. И все же ее вынуждают продолжать связь, ставить под удар ценного человека. Она тепло подумала о молчаливом, всегда усталом, уже немолодом Вольфе. Зал «Дома Европы» был полон. Хохот и хлопки неслись со всех концов. Выступала популярная исполнительница так называемых берлинских песенок. Не на эстраде, а посреди зала, между столиками, стояла женщина лет пятидесяти, нарочито просто одетая, с красным лицом стряпухи. Хриплым голосом, полуречитативом, с вульгарными взвизгами, она не то пела, не то говорила, прерываемая смехом и аплодисментами. Успех вызывался не тем, что она пела двусмысленные куплеты, — это не было ново, — а тем, что исполнительница передавала их с исключительной лихостью, жаргоном берлинского «дна», тем, нигде не записанным диалектом воров и сутенеров, который вошел в моду за последние годы и дополнялся гаммой междометий, ужимок и гримас. Едва Наталья Даниловна, толкнув вертящуюся входную дверь, очутилась в зале, она увидела Вольфа. Он был не один. Молодой, как ей показалось с первого взгляда, человек, с военной выправкой, с гладкими, «арийского» цвета волосами, сидел с ним за столиком, уставленным бутылками. Левая рука молодого человека была в перчатке. Вольф познакомил их. «Эрнст Медер», — назвал себя незнакомец. Произношение его было безупречным, наружность также. Все — от нелепого ярко-желтого галстука до ботинок с тщательно спрятанными узлами шнурков — было «ново-немецкое», «арийское». Вольф объяснил: — Всякое может случиться. Я, Вольф, например, могу стать жертвой… ну, уличного движения. Все трое сдержанно улыбнулись шутке. Кроме того, он подлежит мобилизации — да-да, он еще не так стар. Он в запасе первого призыва, он еще вояка, да-да… Вольф был в хорошем настроении, шутил. Спутник его слушал почтительно. Наташа заметила, что вместо левой руки у Медера был хорошо сделанный протез. — Вот наш друг Эрнст. Вы будете с ним связаны, когда меня не станет с вами… Но не раньше. Наташа вдруг увидела, как сильно постарел Вольф за эти месяцы, какие тусклые у него глаза, как сгорбились плечи. Но как можно было сейчас говорить о будущем? Лицо-маска Веллера с тяжелыми веками, прикрывшими хитрые глазки, неотступно стояло перед ее глазами. С досадой она заметила: — Но положение мое сильно изменилось. Ведь я передавала вам, обо мне знают… — Потому-то я вас и вызвал. Эрнст получил возможность ознакомиться с одним письмом. Речь в нем идет о вас. Одно учреждение — мы полагаем, что за ним скрывается канцелярия Амадея Кууна, — запросило у доверенных лиц в концерне вашу характеристику. И прокурист Веллер представил вас в самом положительном свете, добавив, что имел случай познакомиться с вами в России еще при жизни вашего супруга и тогда еще убедился в полной вашей благонадежности. Вы удивлены? — Ошеломлена! — Я давно думал о Веллере. Это делец. Он умен. Он не хочет идти ко дну с утлым ковчегом фюрера. Веллер не прочь застраховаться. Он ищет дружбы с нами. И поверьте моему жизненному опыту, когда-нибудь он окажет нам большие услуги.ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
Дождь прошел. Веллер велел вынести столик на террасу. Улица замирала в вечерний час. Постепенно стихали шумы дня, и реже скользили по мокрому асфальту прохожие, складывая зонтики. Они были одни на террасе кафе, не считая дога, положившего большую голову на колени хозяина. — Вы похудели за последнее время, фрау Натали. — Моя жизнь не очень спокойна, герр Веллер. — Догадываюсь. — Я давно ищу случая выразить вам свою благодарность за помощь. Вы проявили, признаться, неожиданное для меня мужество… — Но ведь вы проявляете его ежечасно! — прервал Веллер. — Для меня это долг. А вы следовали умному, далеко идущему расчету. — Вот как! — Вас удивляет моя прямота? — Какими же вы себе представляете мои побуждения? — Побуждениями здравого рассудка. — Пожалуйста, подробнее! — Веллер откинулся на спинку кресла с зажатой в зубах сигарой. — Вы человек с кругозором. Вы видите, что происходит вокруг нас с вами. От политики я отвлекаюсь… Останемся в области экономики. Вы ведь знаете, что уже многие годы Германия проедает свой основной капитал. Даже некоторые нацистские теоретики говорят о невозможности возместить истощение хозяйства страны. — Теоретики этого толка уже в концлагере, но выводы их, к сожалению, верны, фрау Натали. — А финансовая система? Пока удается сдерживать инфляцию, но ведь неизбежность финансовой катастрофы ясна каждому, кто видит дальше собственного носа. Правители же райха не заботятся об устойчивости валюты. — Все верно, фрау Натали. Да, это какой-то экономический авантюризм, пиратство в экономике!.. Пусть фрау Натали поймет его правильно. Он не политик. Но он сторонник здоровой коммерции. Ему не по пути с коричневыми. Нацисты фиглярничают на краю пропасти. Пусть дураки верят в коричневый рай, а ему ясно, что вся Германия пойдет по миру с таким хозяйствованием! Никто больше не в состоянии обеспечить себе спокойную старость. Он не социалист, он, Веллер, коммерсант, но может твердо заявить, что то, что делают в Советском Союзе, — делают солидно. У него бывали деловые связи с Москвой. Он никогда в этом не раскаивался и надеется возобновить их в будущем. Германия идет к хозяйственной катастрофе, и естественно, что у здравомыслящего человека есть стремление к иному порядку вещей… — Меня очень, очень интересует ваша страна, фрау Келлер! Веллер произнес фамилию «Келлер» с еле заметной улыбкой, подчеркнувшей его дружелюбие. — Мне почему-то кажется, что у вас есть какие-то личные причины, заставляющие вспоминать о нашей стране, герр Веллер… — Вы правы. Причины эти возникли давно, в молодости… — Эти слова Веллер неожиданно сказал по-русски, с легким акцентом, какой бывает у обрусевших немцев. — Радость, которую человек испытывает в молодости, не забывается, фрау Натали, — добавил он уже по-немецки. Веллер обрезал кончик сигары, зажег ее и начал свой рассказ.Незадолго до первой мировой войны в Киевском политехническом институте учились два молодых человека, связанные дружбой. Русский, воспитанный немецкой семьей директора русского отдела кредитного банка «Дисконтогезельшафт», Герман Веллер и сын русского инженера Олег Карцев. Они вместе изучали химию, чудесными украинскими ночами бродили по берегам Днепра, с гурьбой студентов ходили вечерами по Крещатику, распевая старинную студенческую песню «Гаудеамус», и дразнили городовых. Прекрасны были вечера на даче Карцевых. На всю жизнь запомнилась ему скромная святошинская дача. Дребезжащая на все голоса извозчичья пролетка останавливалась у высокой калитки, скрипевшей на блоке… И вот он с волнением прислушивается к песенке, звучащей в сиреневой аллее, и с бьющимся сердцем видит, как мелькает между кустов белое платье. Марина Карцева, сестра Олега, была красива, добра, умна… По мнению Германа, она обладала лучшими качествами женской натуры… Незабываемы были вечера в Святошинском бору, прогулки на лодке по зеркальному пруду… Все оборвала война. В 1914 году семья германских подданных Веллеров оказалась у себя на родине. Так в разных лагерях очутились два друга — Герман Веллер и Олег Карцев. В 1916 году Веллер, контуженный, вернулся с фронта в Берлин. Связи его приемного отца и состояние, которое увеличилось за годы войны, открыли ему двери в жизнь. Герман Веллер стал дельцом. В 1932 году советский ученый Олег Карцев приехал в Берлин в научную командировку. Друзья встретились. Всеми своими корнями Веллер уже врос в деловой мир послевоенной Германии. С грустью он смотрел на друга молодости. «Где Марина?» — «Давно замужем, давно стала матерью». — «Бываешь на святошииской даче?» — «Дачу сожгли белые во время гражданской войны». — «Итак, ты, Олег, человек из страны экспериментов?» — «Не считай, Герман, это экспериментом, ты ошибаешься». — «Олег, мечтания к лицу юности, а мы уже не юнцы». Веллер звал друга к себе, обещал обеспеченность, большое дело. Упрямец не согласился. Они расстались. Снова встретились. Опять расстались. Веллер читал русскую прессу. Имя друга часто упоминалось в ней. У него была кафедра, лаборатории. Последний раз они встретились в 1934 году. Веллер был откровенен с другом. Он продолжал богатеть, но будущее страшило его. Кругом кричали о «возрождении нации под эгидой великого фюрера», а Веллер видел впереди крах… — Вам понятно, фрау Натали, почему я был откровенен с Карцевым, с вами? Она понимала. Веллер был трезвым, дальновидным, расчетливым дельцом.
«ЗАБЫТЫЙ» ПОРТФЕЛЬ
В этом кругу не принято было принимать гостей в русском смысле слова — за столом, уставленным бутылками и блюдами, с шумной застольной беседой, с песнями за полночь. Это было чуждо всему укладу здешней жизни. Приглашение гостей означало совместное посещение кафе или ресторана с уплатой «каждый за себя», откуда и пошло выражение «на немецкий счет». Так тетка Амалия каждую субботу приглашала вдову полицейского чиновника Шванке. Кафе называлось «Орхидея», помещалось в садике с единственным деревцом посередине, — тихое, недорогое кафе, подходящее для беседы двух старых женщин. У дружбы старух были глубокие корни. Единственный сын фрау Шванке, Карл, состоял в «Гитлерюгепд». С детских лет он бегал по улицам столицы с железной кружкой. На кружке была изображена свастика, внутри позвякивали монеты. Карл собирал пожертвования в пользу многочисленных обществ, призванных обновить Европу. Карл Шванке учился на казенный счет, успехов в науке не проявил, но стал гонщиком-велосипедистом первой категории. Как вполне надежный и достойный юноша, он был принят посыльным в военное учреждение. Старуха Шванке могла бы жить без особых забот, если бы не пагубная страсть сына. Он играл на бегах. И однажды проиграл много больше, чем мог заплатить. Тетка Амалия спасла подругу от беды, одолжив ей крупную сумму под умеренные проценты. Наталья Даниловна узнала и самого Карла Шванке. Изредка он заходил за матерью в кафе, всегда со своим приятелем Иозефом Лимкемпером. Это были юноши в коричневой форме, каких встречаешь на каждом углу. Только Шванке был туп и громоздок, Лимкемпер — юрок, хитер и нечистоплотен, как хорек. И оба они сияли в эти весенние дни. Но не весна действовала на них, а легкая победа на Балканах. — Фрау Натали, это легендарная операция! — наперебой кричали рослый Шванке и маленький Лимкемпер, когда германские парашютисты опустились на Крите. — Мы, немцы, господствуем на земле, в воздухе, под водой. Мы будем господствовать на воде. Англии капут! Мы займем Россию и поставим англичан на колени. — Это мудрость группенфюрера, которую они повторяют, — брезгливо проговорил Вольф, когда Наталья Даниловна рассказала ему о Шванке и Лимкемпере. — Штампованные типы! Крит — это еще один шаг к катастрофе! Наталья Даниловна рассказала Вольфу о юношах в связи с неясными подозрениями, мелькнувшими у нее: Карл Шванке стал тратить большие деньги. Откуда они у него? Вольф улыбнулся, когда услышал об этом. Он знал источники доходов Карла и всю его несложную историю. Однажды вечером, когда свежий ветер играл в полосатых тентах над трибунами ипподрома, средних лет человек, приятный, хорошо одетый, не назойливый, коснулся локтя Шванке: — Прошу извинить. Мне кажется, я имею дело с знатоком. Ваше мнение о шансах «Сюрприза»? Он внимательно выслушал советы польщенного Шванке. Затем он проиграл и добродушно посмеялся над своим проигрышем. Юноша с уважением отметил, что ставка была не маленькой. В ресторане при ипподроме за столиком незнакомец представился: — Доктор фюр националь-экономи Бруно Гайге. Шванке знакомство польстило. В следующем заезде они выиграли, потом проиграли оба. Новый знакомый покрыл долг Шваике… Мелочь, стоит ли говорить, всего пятьдесят марок! Потом они снова поставили, проиграли, потом выиграли… И стали друзьями! Долг Шванке вырос. В следующее воскресенье он достиг довольно крупной цифры. И новый друг попросил расписку. Такой знаток беговых лошадей, как Карл Шванке, конечно, выиграет и покроет долг. Шванке иногда выигрывал, чаще проигрывал. Он засиживался с новым респектабельным знакомым в ресторане, а долг рос и рос. Наконец в беседке, в садике при пивной, произошел разговор. Речь шла о небольшой, в сущности, услуге. Фирма, в которой работает доктор Гайге, вполне солидная фирма, заинтересована в военных заказах. В этом деле есть конкуренция. Поэтому фирма интересуется документами учреждения, в котором служит Шванке. Требуется только кратковременное ознакомление в течение каких-нибудь двух часов. Обеспечены и тайна и вознаграждение. Ничего исключительного в этом нет. Коммерсантам приходится бороться за заказы — это эпизод борьбы, и только. Шванке попытался подсчитать, на какую сумму он выдал расписок доктору Гайге, запутался, согласился принять предложение… Он боялся задавать дополнительные вопросы. С этих пор он, как обычно, мчался на велосипеде с почтой. У безлюдного сквера курьер останавливался, садился на скамейку. Закуривал. Портфель с пакетами он клал рядом с собой. В это же время на другом конце скамейки усаживался с книжкой молодой человек в темных окулярах. Покурив, Шванке уходил, «забыв» на скамейке свой портфель. Карл Шванке ехал развозить остальные пакеты, находящиеся в ящике под седлом его велосипеда. Через определенный промежуток он появлялся у другого сквера. Здесь он снова встречал того же молодого человека, только уже без очков и в другом костюме. На этот раз портфель «забывал» незнакомец. А в промежутке между встречами человек, получивший портфель Шванке, заходил в полутемный подъезд какого-то дома, снимал очки и прятал их в карман вместе с париком и кепи. Затем, несколько раз меняя автобус, он доезжал до отдаленной части города. Тут он походкой гуляющего направлялся к крошечной лавке филателиста. Несколько минут он рассматривал витрину с марками. В зеркальном окне прекрасно отражались редкие прохожие. Потом он входил, после чего на двери появлялась карточка: «Закрыто на обед». В задней комнате лавки быстро производили обработку и фотографирование документов… …Лавка филателиста была известна Вольфу как явочная квартира английской разведки. Обо всем этом Вольф рассказал Наталье Даниловне, добавив: — Я хотел бы, чтобы вы знали всю историю Шванке. Может быть, она когда-нибудь вам пригодится.КОГДА РАЗРАЗИЛАСЬ ГРОЗА
Кафе «Фатерланд» обычно посещалось провинциалами. В пестрой толпе, заполняющей его залы, легко было укрыться от наблюдения. В главном зале дважды в вечер показывалась панорама: «Буря на Рейне с настоящим громом и молнией», как обещала реклама. Брызги «дождя» достигали даже столиков, ближайших к сцене, а «волны» Рейна приводили в восторг лавочников и коммивояжеров. Наталья Даниловна вошла в зал в разгар «бури», когда было еще темно и только по сцене метались голубые молнии. Посвечивая электрическим фонариком, кельнер проводил ее к указанному его столику подальше от «Рейна». Свет еще не зажигался и «буря» продолжала свирепствовать, когда лакей вернулся и прошептал, что один господин желал бы занять свободное место за ее столиком. В полной тьме коренастая фигура поместилась напротив Натальи Даниловны, неясно пробормотав приветствие. Оркестр заиграл «Рассвет» Грига, в зале забрезжил мутный свет, изображавший «утро на Рейне». Провинциалы, довольные зрелищем, вернулись к пиву и сосискам. Неожиданное видение возникло перед Натальей Даниловной: напротив нее за столиком в темном вечернем костюме сидел Платонов. Свет в зале увеличивался, но видение не исчезало. Оно даже поманило пальцем «герр обера» и заказало штейнхегер доппельт (крепкую водку) и шампанское для дамы. Когда обрадованный дорогим заказом кельнер понесся на кухню, помахивая салфеткой, Платонов обратился к Наталье Даниловне так, как будто они расстались только вчера. — Вот мы и встретились! Альберт Преде к вашим услугам… — Он наклонил голову, непривычно гладко причесанную на прямой пробор. Они говорили по-немецки: Платонов чуть тяжеловесными фразами, выдававшими иностранца; она же тем лаконичным, грубоватым языком, который был теперь принят в райхе… — Вы удивлены моим появлением здесь? — Больше обрадована, чем удивлена, — сказала Наталья Даниловна и смело посмотрела на Платонова. Он тоже пристально поглядел на нее. Это длилось мгновение. Он первый опустил ресницы и проговорил: — Не очень веселая обстановка для встречи, фрау Натали… Нас обеспокоили ваши сообщения. Вы здесь на решающем форпосте… Вам виднее. Готовится нападение на нас. Так? — Бесспорно… — А у нас не все верят этому. Я здесь, чтобы составить себе твердое мнение о сроках… Мы должны будем крепко поработать с вами эти дни. Следующую встречу он назначил ей в другом месте.Прошло две недели после отъезда Платонова. Стояли душные июньские дни. Жаркий воздух колебался над раскаленным асфальтом. На бульварах неподвижно застыли пыльные листья деревьев. Марево зноя висело над городом. Когда Наталья Даниловна вышла из подземки, она сразу же увидела, что все изменилось вокруг. Справа, слева, сзади, неизвестно откуда нахлынувшие толпы устремились к громкоговорителям. У черных труб толпа бурлила, как водовороты у быков моста. Со всех сторон подбегали мужчины, женщины, подростки. Многие кулаками пробивали себе дорогу. Пожилой мужчина в котелке ловко действовал тростью. Едва закончилась передача, на скамейку бульвара в гуще толпы вскочил молодой человек со свастикой в петлице. Он бросил в толпу несколько истеричных фраз. Пена клубилась в углах его рта. «Война с Россией!», «Началось»… «Конец России!» — эти слова ударили Наталью Даниловну в сердце. Смертельно бледная, оглушенная, она стояла среди обезумевших людей. Хорошо, что никто не обращал на нее внимания. Вдруг вокруг нее образовалась пустота. Никого не было рядом — толпа унесла оратора дальше. Но тут же набежали новые толпы. Наталью Даниловну вплотную притиснули к цепочке эсэсовцев, охранявших шествие. Эсэсовцы, взявшись под руки, образовали сплошную стену вдоль мостовой, не выпуская людей с тротуара. Стоял смутный гул, прерываемый частыми взвизгами и хриплыми выкриками. Послышался равномерный стук, как бы от хода множества машин, заведенных одновременно. Из-за угла выступила колонна по четыре человека в ряд. Несогнутыми ногами отбивая шаг, не похожий на людской, производя этот странный, нечеловеческий стук, проходили солдаты, похожие на заведенных. Проплывали каменные лица под касками. За солдатами следовали «гитлер-медхен» — девочки в коричневых курточках с цветами в руках. За ними — женщины с жетонами на груди несли транспаранты с крупными готическими буквами: «Женщины Германии, фюреру нужны солдаты!» Они тащили за руку усталых, спотыкающихся детей и орали во всю глотку. Толпа ринулась за шествием. На углу Фридрихштрассе образовался водоворот. Все гоготало, выло, кричало. Наталья Даниловна начала различать в окружающей толпе отдельные фигуры, и они испугали ее. Бледные потные лица, по-рыбьи открытые рты, взмокшие волосы, оскаленные зубы, вытаращенные пустые глаза… Вольф уезжал на фронт. Прощание было коротким. Он выглядел помолодевшим, и глаза не казались усталыми. Форма военного врача молодила его. — Я получил приказ отправить Гедвиг в Вену. Для связи с вами остается Медер. У него есть рация. Он инвалид — на фронт его не возьмут. Будете работать вдвоем. Вы можете поехать к нему в мастерскую, но не раньше, чем через неделю. Наталья Даниловна с грустью смотрела на Вольфа. Вот и он покидает ее. Вероятно, и на фронте он будет при малейшей возможности продолжать свое опасное дело. И ему и ей теперь придется еще труднее.
В это лето не многие выехали за город. В каждой семье кого-нибудь провожали на восточный фронт. И только стаи прыщавых и наглых молодых людей в коричневом по-прежнему слонялись по улицам. Мастерская Медера «Немедленный ремонт велосипедов» помещалась на бойком месте в парке с отличным велосипедным треком и всегда была полна клиентов. И сегодня Наталья Даниловна увидела у входа в мастерскую несколько человек: эсэсовца, девицу в клетчатых штанах, пожилого спортсмена в очках. Велосипеды их стояли у ограды. Но дверь в мастерскую была закрыта деревянным щитом. Эсэсовец молотил по ней ногой в тяжелом башмаке. Никто не открывал. На стук со двора вышел испачканный мальчик лет двенадцати. Наталья Даниловна вспомнила, что встречала его в мастерской Медера. Она стала так, чтобы мальчик не заметил ее. — Где хозяин? — спросил штурмовик. — Его нет, его совсем нет! — Как — нет? — заорал эсэсовец. — Может быть, этот однорукий отправился на восточный фронт бить русских? Ха! Где он? Позови его! Мальчик вытер рукавом лицо: — Он умер. Он сам убил себя. Три дня назад. Из пистолета. Да, у него был пистолет. Я клеил резину. И вдруг зашли в помещение человек десять. Эсэсовцы и два штатских. Хозяин схватил голубой чемоданчик и побежал по лестнице в кладовую… Да… Тогда они все закричали, бросились вверх по лестнице и стали требовать, чтобы он открыл. А он ругался через дверь. Я никогда не слышал, чтобы он так ругался, — даже тогда, когда я сломал машину господина советника… И они начали ломать дверь. Я спрятался под лестницей. Дверь упала. И хозяин сразу выстрелил. И один упал. Остальные испугались. — Ты думаешь, о чем говоришь, дурак?! — закричал эсэсовец. — Испугались! Он покосился на девицу, на пожилого спортсмена. Те слушали с жадным интересом. — Запомни — наши ничего не боятся! Что было дальше? — Простите, мой господин. Хозяин хотел перезарядить пистолет, но ему было трудно. У него одна рука… И тогда они бросились к нему. Все же он перезарядил пистолет и опять выстрелил. И еще один упал. А потом — в себя. А в комнате все было в дыму, и валялись какие-то поломанные части. Мне сказали, что здесь была радиостанция. Я не понимаю, какая радиостанция. Мы чинили велосипеды. Эсэсовец слушал, тупо уставясь на мальчика и открыв рот, в углу которого приклеился окурок дешевой сигары. Наконец он громогласно изрек: — Конечно, твой хозяин был из жидовско-коммунистической банды! Хайль Гитлер! Он поднял правую руку, сел на велосипед и уехал. …Это было первое настоящее горе в ее жизни. Как живой, стоял перед глазами тот, кого называли Эрнст Медер. Казалось, она видит его там, в дыму, за дверью, в маленькой кладовой. Он погиб здесь, единственный друг! И она снова одна. Отчаяние охватило ее. Это не была минута слабости, как когда-то, в самом начале пути в этой стране, а холодное отчаяние человека, который не видит выхода. Было ясно, что рацию Медера запеленговали. Что же будет теперь без рации? Как связаться со своими? Что оставалось делать? Быть немой свидетельницей кровавых преступлений? Отдаться на волю этого смерча, несущего разрушение и гибель всему живущему? Погибнуть, не принеся пользы? Погибнуть бесцельно, когда началась самая жестокая, самая кровавая война? Надо было принять решение. Она бродила долго. Созревал какой-то план, пока неясный, ей никак не удавалось додумать до конца. Потом она сказала сама себе: «Раньше я вам помогала, Рудольф, теперь вы мне поможете». И улыбка ее была недоброй.
Глава третья
ЕЩЕ ОДНА ПРОВЕРКА
Близился час затемнения. С тихой улицы доносились обычные мирные звуки: велосипедные звонки, шуршание шин по асфальту да песня старика точильщика, которого уже лет десять видели здесь. Рудольф вошел к себе. С начала войны он не выезжал из Берлина. Наталья Даниловна мысленно подивилась тому, как изменился он за последние месяцы. Он мало напоминал Романа Ивановича Кротова — потолстел, у него появились солидные манеры. — А я уже давно жду вас, Руди. Не зажигая света, они сели на низкий диван. Голос Рудольфа звучал виновато: — Мы так редко видимся, Натали. Это не моя вина. Условия войны… И притом неприятности, неприятности… — Какие же? У вас раньше не было от меня секретов. А я хотела бы поговорить с вами, посоветоваться. — Как всегда, готов служить вам, Натали. — Я пришла к выводу, что нам надо ехать на восточный фронт. Они говорили по-русски. Ни он, ни она еще не вполне привыкли к названию «восточный фронт», которое появилось в газетах, в телеграммах-молниях, — их выставляли в витринах магазинов. — Почему это пришло вам в голову? — А разве вы не упрекали меня в пассивности, не призывали к мести, не твердили, что это наш долг? — Не хитрите, Натали. Вам наплевать на идеалы. Просто вас привлекает война, как она привлекала авантюристов во все времена. — Вы считаете меня авантюристкой? — Нас с вами обоих, до известной степени… — Это что-то новое в вас, Руди. — Ах, Натали, вы не знаете всего! И это лучше для вас… — Знаю, Руди. Знаю, что любой мальчишка, одержавший «победу» в парижских кабаках, смотрит на вас свысока только потому, что вы не носите погоны, не были рядом с ним, что вы не «воевали»… — Не будем об этом! — сердито прервал Рудольф. Она поняла, что самолюбие его страдает. — А как же насчет поездки на фронт, Руди? — Натали, я делаю очень-очень важное дело, которое даст для войны с большевиками больше, чем я могу дать своим личным участием в ней. Может быть, и мне потом придется выехать на поля сражений. И тогда я хотел бы, чтобы вы были рядом со мной. Потому что вы смелая женщина и потому что я уже не мыслю своего будущего без вас. Вдвоем мы еще многого добьемся, Натали. — Пока вы завершите свою работу здесь, война уже закончится. Ведь все кругом говорят о молниеносной войне и близкой победе… Ну устройте мне выезд на фронт, Руди. У вас связи. Я германская подданная, свободно владею русским языком, знаю Россию. Неужели я не нужна там? Вы же считаете меня активной натурой. И в то же время не даете мне возможности активно работать… — Но вы ведь знаете, что в нашей армии женщины не допускаются на передовые позиции. — Неужели нельзя обойти эту формальность? — Возможно, для вас удастся сделать исключение. Но сначала надо выяснить, точно выяснить, какую работу вам поручат на фронте. — Вы сможете это сделать, Руди? — Надо будет устроить вам встречу с полковником фон Шлейниц, Натали, — сказал Рудольф, немного подумав. — Хоть с самим чертом! — воскликнула она обрадованно, вскакивая с дивана.Кафе, в котором фон Шлейниц назначил встречу, называлось именем старинного немецкого города и славилось до войны старомодной кухней и винным погребом, теперь превращенным в бомбоубежище. Зал, выбранный для встречи, был пуст. Четыре официанта, помахивая белоснежными салфетками, скучали у дверей. Сегодня менее чем когда-либо публика была склонна к посещению ресторанов. Накануне англичане бомбили западную окраину и центр. К утру места разрушений были обнесены забором с аккуратной надписью: «Здесь производится строительство». Редкий прохожий решался улыбнуться, прочитав ее. Наталья Даниловна и Рудольф вошли в зал без трех минут восемь. Ровно в восемь появился оберст фон Шлейниц. Он был в штатском с миниатюрным значком свастики в петлице, как носят чиновники высших рангов. Кто-то, видимо, сопровождал его, потому что было слышно, как он в дверях приказал спутнику ждать в соседнем зале. Рудольф поднялся. За оберстом Шлейницем лениво брел раскормленный коричневый сеттер. Полковник был чрезвычайно любезен с молодым Кууном. Оберст сыпал вопросами. Наталья Даниловна без удивления убедилась в том, что ее история известна во всех деталях и что о ней собраны материалы. Вопросы полковника в ничтожной степени коснулись ее прошлого. Она без труда разгадала и ход мыслей оберста. Если брать ее под подозрение, то, во всяком случае, у нее было достаточно времени, чтобы выучить взятую на себя роль, и ловить ее бесполезно. Фон Шлейниц спрашивал быстро, отрывисто: какие местности в России знает фрау Келлер — области, районы, города, местечки? По каким морям и рекам плавала, какие порты ей знакомы? Когда выяснилось, что Наталья Даниловна знает Смоленщину, немедленно последовали вопросы: какие именно районные центры Смоленщины ей известны, бывала ли она в Красном Бору, какие дачные местности под Смоленском ей знакомы? Наталья Даниловна старалась отвечать с предельной точностью. Она понимала, что точность и быстрота ответов могут послужить ей на пользу, показать пригодность к тому делу, которое ей хотят поручить. Она видела, что ее ответы удовлетворяют полковника. Несмотря на официальный характер беседы, он несколько раз благосклонно ей улыбнулся. При этом его широкое лицо с тупыми углами носа, бровей, рта оставалось неподвижным, и только очень красные губы раздвигались под темными усиками «а ля фюрер». Деловая часть разговора продолжалась часа два. Закончив ее, оберст любезно предложил своим «молодым друзьям» вместе поужинать и подозвал кельнера: — Дайте карточку. И пригласите господина, который ждет в соседнем зале. Тотчас оттуда вышел, изгибая спину, как сонный кот, тощий, по виду такой больной, Вольфганг Мейснер. Пригласили по телефону доктора Плечке. Фон Шлейниц отрекомендовал его как будущего начальника Натальи Даниловны. Она узнала, что доктор Плечке «посвятил свою жизнь изучению России и народностей, населяющих ее пространства», те «жизненные пространства», которые, по словам оберста, «самим положением своим обязаны войти в состав великой Германии». Перу доктора принадлежит труд, «поставивший его в первые ряды ученых новой Германии». Сочинение Плечке называется «Опыт этнографического исследования западных областей России». С начала войны этот ученый в чине хауптманна выполняет свой долг перед родиной в рядах германской армии. Он был в Праге и Париже. Теперь он едет во главе специальной группы на восточный фронт. Работать под руководством образованного и в высшем смысле слова культурного офицера, каким является доктор Плечке, делает честь, да, да, истинную честь, каждому немцу!.. Оберст говорил напыщенно, отчеканивая слова. Его темные усики топорщились над яркими губами. Кельнер подкатил маленький столик, уставленный бутылками и закусками. Фон Шлейниц замолчал, озабоченно разглядывая все это с видом человека, любящего покушать.
ДОКТРИНА ХАУПТМАННА ПЛЕЧКЕ
Доктор Плечке не замедлил явиться. По шрамам, пересекавшим в разных направлениях его лицо, стало понятно, что ученый-офицер был в молодости корпорантом, членом студенческого союза со средневековыми обычаями. Следы дуэлей придавали забавное выражение свирепости его мелким чертам. Видимо, шпагой у него была снесена часть уха. Прическа, принятая у нацистов: коротко подстриженные волосы с хохолком, оставленным посередине в виде петушиного гребня, — подчеркивала этот недостаток. Плечке был близорук, сильно щурил светло-голубые, водянистые глаза, но не носил очков, пользуясь попеременно то моноклем, то лорнетом, по старинке заткнутым за борт мундира. С этим человеком ей предстояло работать. От него зависела ее судьба на ближайшее время и судьба того дела, которое она задумала. Эта мысль заставляла Наталью Даниловну внимательно присматриваться к Плечке. За ужином говорили на отвлеченные темы. Из всех присутствовавших много пил один Плечке. Кельнер не успевал наливать ему коньяк. Он не пьянел, не делался ни угрюмее, ни оживленнее. Только шрамы на его лице ярко пламенели. В середине ужина заговорили о немецкой природе. Плечке, то и дело отрываясь от своего бифштекса, умиленным тоном рассказывал: — В начале войны я съездил на родину попрощаться со своими стариками. Я из Ганноверской области. Мои родители — простые крестьяне. Какие там луга, какие травы! Мой брат, житель деревни, оставил возделывание земли для защиты отечества… Наталья Даниловна вспомнила то, что ей приходилось читать и слышать о богатых кулацких хозяйствах Ганновера, которым благоприятствовал нацистский закон о «наследственном дворе». Хозяйство объявлялось неделимым и наследовалось старшим сыном в семье. Сколько же иностранных рабов возделывают теперь поля, оставленные братом Плечке! По поведению Мейснера, всегда служившему барометром, определяющим степень влиятельности его собеседников, Наталья Даниловна без труда установила, что хауптманн Плечке имеет больший вес, чем полковник фон Шлейниц, что чины в данном случае роли не играют. Плечке «входил в моду». Были вполне в духе времени и его родители — «простые крестьяне» — и «трудовые мозоли его юности», о которых он охотно упоминал, хотя «трудовая» его деятельность заключалась в том, что он несколько лет преподавал фехтование в среднем учебном заведении. Разговор в конце концов перешел на военные темы. Фон Шлейниц утверждал, что взятие Москвы — дело ближайших двух месяцев. — Германская армия, — говорил он, — развивает инерцию продвижения вперед в процессе завоевания новых областей. Инерция складывается, с одной стороны, из инстинктивных устремлений высшей расы к господству над низшими, с другой — из причин материального порядка, побуждающих армию уходить все глубже по мере того, как большое скопление продвигающихся армий подрывает продовольственную базу завоеванной зоны. «Сколько теоретизирования, чтобы прикрыть обыкновеннейший грабеж!» — подумала Наталья Даниловна. К ее удивлению, Плечке не разделял оптимизма полковника. — Нет, Россия не Франция, и война с ней не будет победным маршем. Изучение народностей, населяющих Россию, приводит нас к выводам о большой храбрости русских, причем храбрость эта прямо пропорциональна глубине вторжения неприятеля. Пространства и бездорожье России, ее отсталость являются положительными факторами для русских, хотя это и звучит парадоксально. Те самые причины, которые являются помехой продвижения прекрасно оснащенных техникой германских войск, служат на пользу явлению своеобразному, чисто русскому, варварскому, опасность которого, к сожалению, не вполне оценивается нами. Я имею в виду партизанскую войну, истинными мастерами которой являются русские с незапамятных времен. Партизанская война тем и опасна, что в самой сущности своей она глубоко чужда духу цивилизованного европейца и недоступна его пониманию. Несомненно, однако, что и это препятствие будет побеждено силой германского духа, — успокоительно заключил доктор. «Почему Плечке так много говорит о трудностях войны? — думала Наталья Даниловна. — Как будто опровергает то, о чем трубит фашистская пропаганда. Почему он предсказывает долгую войну? Не сказывается ли в этом большая его осведомленность по сравнению с остальными?» Далее Плечке заговорил как бы с кафедры теми туманными, очень длинными, с бесконечными периодами, затемняющими смысл фразами, которыми было принято говорить и писать в райхе последние годы. Это делалось в духе высказываний Гитлера: национал-социализм воспринимается не разумом, а интуицией… Сила оратора состоит не в логике построения речи, а в создании соответствующего состояния у толпы слушателей. Поэтому смысл дальнейших речей ученого хауптманна уловить было невозможно. Доктор понес несуразное. До слушателей дошли только отдельные выкрики и ссылки на профессора-экономиста Шульце-Геверниц, сказавшего: «Немецкая нация, согласно воле божией, станет во главе человечества». Это глубокомысленное изречение было «путеводной звездой» Плечке, как он высокопарно заявил. Наталье Даниловне стало ясно, что Плечке — один из тех псевдоученых, при помощи которых германскому фашизму удалось развратить часть немцев нелепой и лженаучной «теорией» о закономерности мирового господства немцев как высшей расы. Болтовня хауптманна утомила ее. Впрочем, сам Плечке, перейдя на сект[83] и закусывая жареным миндалем, несколько утратил свой пыл. В такси Рудольф наклонился к Наташе. — «Ну, теперь твоя душенька довольна?» — спросил он по-русски словами старой сказки. — И чего я тружусь? Что мне от того? «Какой ответ? Одна суровость»… Он пробормотал еще что-то невнятное и неожиданно уснул, сморенный вином, выпитым за ужином, и красноречием ученого хауптманна.ГРУППА «97-Ф»
Предполагалось, что группа выедет сразу же после взятия Смоленска. Но продвижение германских войск замедлилось. Лето было на исходе, когда группа Плечке специальным вагоном, прицепленным к воинскому составу, прибыла в распоряжение штаба армейской группы с тем, чтобы оттуда отправиться в указанный ей пункт. Группа была связана с отделом разведки штаба. Штаб армейской группы дислоцировался в бывшем областном центре, разрушенном и обезлюдевшем. Группа же, принявшая здесь условное обозначение «97-ф» и опознавательный знак — два желтых треугольника на красном поле, была выдвинута на сорок километров восточнее и расположилась в большом селе, в уцелевшем доме больницы. Дом был каменный, вместительный, с большой усадьбой и изолированными службами. Группа «97-ф» включала в себя руководство школой разведчиков, бюро по переброскам агентуры в тыл противника, техническое и информационное бюро и паспортный отдел. Школа разведчиков только начинала свою работу. Она была рассчитана на двести человек русских. Срок обучения три месяца. Сначала предполагалось готовить разведчиков с ограниченными задачами: получение сведений о переднем крае противника, о глубине его обороны. Плечке, однако, доказал необходимость подготовки таких разведчиков, которые проникнут далеко в страну и в партизанские зоны. Одну группу разведчиков собирались забросить под видом красноармейцев и командиров, бежавших из плена или отставших от своей части. Другая группа, подростки и девушки, должна была изображать потерявших и разыскивающих своих родных. Была еще особая группа «пострадавших». Этих предварительно избивали — пусть на той стороне показывают кровоподтеки, увечья. В школе преподавали основы топографии, «сведения о структуре Красной Армии», подрывное дело. Учили сигнализации ракетами, ориентировке на местности, чтению карты, обращению с компасом и особое внимание уделяли тому, как надо собирать сведения о противнике. Плечке говорил: — Этот ублюдок с жезлом маршала, Фош, неплохо написал: «Чтобы побороть ту неизвестность, которая сопровождает нас вплоть до вступления в бой частей противника, имеется только одно средство: добывание сведений до последнего момента». Техническое бюро занималось подготовкой радистов. Там учили также примитивной тайнописи. Информационное бюро собирало и обобщало полученные сведения. Оно систематизировало их в виде «Ежедневных докладов», «Разведывательных бюллетеней» за неделю и за месяц и «Разведывательных извещений» по отдельным вопросам. Здесь наносили на карты полученные данные, условными знаками изображали расположение войск противника. Для этого пользовались прозрачной бумагой. Ее накладывали на карту, давая возможность видеть расположение этих войск на местности. Бюро занималось установлением и распознаванием вновь прибывших или ранее неизвестных частей противника. Офицеры из бюро опрашивали пленных по специальным вопросам, выясняя обстановку, режим у русских в прифронтовой полосе, документацию… Но душой всего дела был «паспортный отдел» — детище Плечке. Разбирая ящики с имуществом, привезенным группой, Наталья Даниловна увидела, в чем состояли труды ее начальника. «Паспортная библиотечка» Плечке содержала два основных раздела: документы воинские и документы гражданские. Первый раздел был, как любовно говорил Плечке, «спартански скромен». Это был набор красноармейских книжек всех родов войск, продовольственных и вещевых аттестатов с педантично заполненными графами о выдаче портянок и ремней, командировочных удостоверений армейских фуражиров иветеринарных инспекторов. Забавная мысль мелькнула у Натальи Даниловны, когда она знакомилась с этими документами. Не всякий старшина записал бы в вещевой аттестат с такой точностью, сколько он выдал портянок, как это делалось у Плечке. Второй раздел «библиотечки» был разнообразен. Он отвечал условиям жизни прифронтовой полосы и тыла противника. Здесь были удостоверения об эвакуации, милицейские пропуска на выезд, пропуска военных комендатур. Документы хранились в ящиках портативного шкафа. По подлинникам, захваченным у пленных, в типографии изготовлялись бланки, куда, согласно образцам, вносились данные владельца документа, наклеивалась фотография, прилагалась подпись. Печати, штемпеля, перья, чернила, штемпельная краска — все изготовлялось соответственно образцу. Однажды от Плечке со сконфуженным видом вышел молодой лейтенант. Тотчас же Наталью Даниловну позвали к начальнику. — Полюбуйтесь, — сказал он, — на работу этого растяпы. — Он испытующе глядел на помощницу. — Посмотрим, проницательнее ли окажетесь вы, фрау Натали. Наталья Даниловна внимательно разглядывала документ, который показал ей Плечке. В чем мог ошибиться лейтенант? Как будто все было правильно. Подлог сделан чисто. Как будто… Внезапная догадка осенила Наталью Даниловну. — Да, — сказала она — это существенная ошибка. — Что вы имеете в виду? — быстро спросил Плечке. — Документ могут признать фальшивым. — Почему? — Чересчур острые углы букв «м» и «н». Они придают подписи готический стиль. Лейтенант еще неопытен. — Браво, фрау Натали! Вы русская, но догадались. А этот, прошедший великолепную немецкую школу, чего он стоит? Он будет отчислен. Мне не нужны ослы. Документы, которые уже были «в деле», то есть по которым разведчики благополучно ходили в тыл противника, Плечке называл «справками успеха». Были «свидетельства неудачи» — документы, послужившие причиной провала. Плечке держал специального мастера подписей, некоего Тиммиха, занимавшего низшую должность в группе «97-ф», — бессловесное существо с огромной головой идиота. В прошлом он был фальшивомонетчиком. Способность Тиммиха подделывать подписи, даже иностранные, была тем удивительнее, что он не знал толком даже родного языка. Плечке самодовольно говорил, что «не боится черной работы», — он лично проводил экзекуции при допросах пленных. В помощь он брал Тиммиха, охотно менявшего перо на плетку. Лицо Тиммиха при этом сохраняло идиотически спокойное выражение. Доктор с серьезным видом говорил ему: — Наполеон сказал: «Искусство допроса есть проявление опыта и военного такта». Что это значит, Тиммих? Тиммих пожимал плечами. Смысл изречений, которые любил Плечке, до него не доходил. — Это значит, Тиммих, что пленному надо помогать давать показания. — Плечке показывал кулак. Наталью Даниловну не удивило, что Плечке, хорошо разбиравшийся в тексте русских документов, вовсе не владел разговорным языком. Он полагался на свою систему и был уверен, что она действует безотказно. А в системе этой было много пороков. Сколько времени уходило на то, чтобы изготовить документ по точным правилам, разработанным Плечке! Иногда на это требовались недели. «97-ф» лишалась мобильности. А в это время русские меняли документацию, и кропотливая работа шла насмарку. Плечке как-то установил, что один русский контрольно-пропускной пункт недалеко от линии фронта делает отметку на документах не чернилами, а, как показал химический анализ, так называемой берлинской зеленью — медикаментом зеленого цвета. — Хвалю ваших соотечественников! — сказал Плечке. — У них есть голова на плечах. Остроумная выдумка! «Что бы это могло значить? — раздумывала Наталья Даниловна. — Почему берлинская зелень, а не чернила?» Она не находила ответа. Плечке приказал делать отметки на документах своих людей, которых забрасывали в зону, где находился этот контрольно-пропускной пункт, также берлинской зеленью. — У нас такой же капепе, — острил он. Не зная разговорного русского языка, он усвоил сокращения и любил щеголять ими. И вот из-за этих-то отметок, сделанных берлинской зеленью на фальшивых документах, провалились три агента Плечке. Хауптманн был озадачен: — Почему они вдруг перешли на обыкновенные чернила? Наталья Даниловна догадывалась, почему это случилось. Некоторое время у контрольно-пропускного пункта не было обыкновенных чернил, и они взяли берлинскую зелень в ближайшем медсанбате. Потом чернила им доставили. Плечке же заподозрил дьявольскую хитрость и попал в ловушку. Все больше и больше Наталья Даниловна убеждалась в бесплодности усилий хауптманна. Казалось, были все условия для успеха. Плечке работал много, упорно, систематично. К тому же он приучал и своих подчиненных. У него была первоклассная техника. Группа получала и обрабатывала много сведений. И все-таки Плечке не достигал основной цели, ради которой была создана группа: вовремя узнавать то, что предпринимает противник. Неудача следовала за неудачей. Плечке, твердо верившего в свою систему, они не смущали. Однако их становилось все больше и больше: то разведчики, завербованные из пленных, уходя в тыл к русским, на первой же заставе рассказывали, кто они, и сдавали документы, сделанные с таким трудом и искусством; то в самих документах допускались роковые для их владельцев ошибки. Наталья Даниловна нередко видела в «русских» документах, изготовленных Плечке, среди описания примет пометку: «цвет глаз серо-голубой», а это было буквальным переводом с немецкого. Внимательный работник контрольно-пропускного пункта обратил бы внимание на выражение, чуждое русскому языку. Почему же Плечке терпел неудачи? Из-за того, что переоценивал свою систему, свою технику? Пришло время, и Наталья Даниловна поняла, что основная причина неудач Плечке не в этом. Авантюристическая, антинародная политика фашизма определила и всю военную стратегию его. Порочность больших стратегических планов отразилась и на второстепенных делах. И это мешало успеху даже отдельных способных слуг фашизма, каким бесспорно являлся Плечке. Плечке не верил в скорое окончание войны не только потому, что лучше, чем другие, знал мощь противника, но и благодаря скептическому складу своего ума. Полагая, что война продлится долго, он строил свое дело прочно, придавая группе «97-ф» тот лоск наукообразности, который был характерен для самого Плечке. Чин капитана, руководство одной группой — этого было слишком мало для честолюбца Плечке. Но способность анализировать пришла к Наталье Даниловне позже, когда она освоилась в новой обстановке. Первое же время она была в душевном смятении, которое удалось побороть в себе только усилием воли. В недобрый час вернулась она в родные края. Великое испытание выпало на долю Родины! И Наталья Даниловна чувствовала это тем сильнее, что ей не с кем было разделить обуревавшие ее чувства. Никого, кроме врагов, не было рядом с нею.КТО СЛЕДИТ ЗА ШВАНКЕ?
Приезжая по поручению шефа в город, Наталья Даниловна иногда встречалась с Карлом Шванке. В небольшом помещении бывшего магазина Книготорга, наскоро окрашенном золотистой краской, было открыто кафе для офицеров, носившее претенциозное название: «Золотая коробка». Здесь собирались те офицеры, которые не имели доступа в «Казино», предназначенное для высших чинов. Некоторые приводили в «Золотую коробку» «дам», вывезенных из Польши и Германии. В кафе было грязновато и холодно. Мороз уже несколько дней доходил до пятнадцати градусов. «Как в Сибири», — говорили все, вспоминая, что в Берлине при десяти градусах мороза закрываются катки и школы. Карл Шванке сидел напротив Натальи Даниловны, дымя трофейной сигарой, уговаривал ее пить, был предупредителен и оживлен. Ему льстило общество фрау Келлер. Бесспорно, она была «настоящей дамой». Он понял это еще в те времена, когда она блистала, как звезда, в мещанском кафе «Орхидея» среди знакомых ему с детства скучных бюргерш и их унылых дочерей. Конечно, тогда он был просто мальчишкой. Теперь фрау Натали видит, как он вырос! Война — это путь к славе! Его знает весь город. Через полгода он будет обер-лейтенантом. Штандартенфюрер Оке предсказывает ему быструю карьеру. Карл не лгал. Весь город знал имя Шванке. Страшные вещи связывались с именами штандартенфюрера Окса и его подручного Шванке, коменданта лагеря военнопленных. Шванке распоряжался публичной казнью семнадцати заложников, взятых комендатурой после убийства немецкого солдата. Среди повешенных на площади были девушки. Наталья Даниловна сама еще не знала, зачем ей нужен Шванке, для чего, преодолевая свое отвращение к этому человеку, она возобновила старое знакомство с ним. Но смутное чувство ей подсказывало, что он еще пригодится ей. Она владела его тайной, она могла при случае напомнить ему историю «забытого» портфеля с секретными документами, попавшего в руки молодого человека в окулярах, с явно выдуманной фамилией. Карл уже успел поведать ей обо всем, что, по его мнению, могло показать его в выгодном свете. Он послал отсюда семь посылок своей бедной матери — дорогие посылки с ценными вещами. Он так любит свою бедную мать! Фрау Натали помнит ее? Ах! Фрау Келлер напоминает ему Берлин, лебедей на озере в Тиргартене, воскресные поездки в Шильдгорн… Наталья Даниловна почти не слушала его. Под мелодии кабацких пластинок, бравурных, визгливых, она продолжала думать всё об одном… Прошло много времени, а связи со своими все не было. Ей казалось, что она ищет недостаточно энергично, и за это она упрекала себя. Временами ужас охватывал ее. Что, если она не установит связи? Проникнуть в этот ад и здесь оказаться беспомощной! Так не лучше ли и честнее покончить с этим! Ей нетрудно было бы ликвидировать целую группу негодяев. А там будь что будет!.. И снова она вспоминала приказ Платонова: «Следуйте строго нашим указаниям. Мы запрещаем вам самостоятельные активные действия. Вы нужны для другого». Но она оказалась ненужной. Кому может она передать те важные, исключительно важные для нашей победы данные, которыми располагает? Правда, ей кое-что удалось. Ушел и не вернулся разведчик — русский парень Петр Евтушенков. В школе, где все носили вымышленные фамилии, его называли «Петроф». Трудно было бы Наталье Даниловне объяснить, почему она угадала, что слушатель школы по циклу «Сбор общих сведений о партизанах» «Петроф» не будет выполнять заданий, уйдет к партизанам, унеся в коротко остриженной русой голове нехитрую «науку» доктора Плечке о «роли русских народностей, подчиненных германской расе». Уйдет и расскажет своим все, что знает о заведении ученого хауптманна и о ней, Наталье Келлер. Он, конечно, расскажет, она об этом постаралась. Петр ее запомнил. Какими ненавидящими глазами сверлил он ее, когда она переводила ему напутственные поучения Плечке! И вот Евтушенков не вернулся к немцам. Но дойдут ли его рассказы куда надо? К Платонову? И еще одно наблюдение беспокоило Наталью Даниловну. Бывая в городе, она замечала, что за нею следят. Первый раз это показалось ей, когда она была с Карлом в кино, потом — в «Золотой коробке». Всегда одно и то же ощущение, обостренное привычной наблюдательностью: кто-то третий сопутствовал им, чья-то тень скользила позади, чей-то пристальный взгляд искал их. Кто следил за ними? Откуда могла грозить ей опасность? И почему этот третий появлялся тогда, когда она бывала в обществе Шванке? Первая пришедшая в голову догадка нуждалась в проверке. Наталья Даниловна поднялась. Карл поспешно бросил кельнеру: «Запишите за мной!» — и последовал за ней. Шел снег. В его дрожащей завесе тотчас же темная тень двинулась за ними. На этот раз Наталье Даниловне удалось рассмотреть преследователя, но смутно: среднего роста, хорошо одетый мужчина в меховой шапке. Он шел за ними осторожно, но настойчиво. Неожиданно для Шванке она стала прощаться. Нет, он не должен ее провожать, она встретится с ним завтра. Наталья Даниловна повернула за угол и огляделась: переулок был пуст. Она переждала немного, вышла снова на ту же прямую ночную улицу и увидела вдали быстро удалявшуюся крупную фигуру Шванке. Мужчина в меховой шапке двигался за ним неотступно, но осторожно, прижимаясь к стенам домов… Так вот за кем велось наблюдение! Кто же мог следить за Шванке? Не друг же? Нет! Глаза мстителя искали убийцу в снежной мгле. Рука врага тянулась к его горлу. И этот враг Шванке был ей другом, неведомым еще другом… Ей стало жарко. Она распахнула пальто. Вот снова весть о том, что она не одна! Близкие ей люди действовали здесь, в развалинах города. Она вспомнила семнадцать повешенных. Тебе отомстят за них, Шванке! Страшной ценой заплатишь ты, Шванке!..В городе и в воинских частях показывалась хроника «Победа германских войск под Москвой», газеты писали об «истощении сил русских», а бегство немцев от Москвы повсеместно объяснялось переходом на зимние квартиры. Но в узком кругу, который Плечке называл «кольцом фронтовой дружбы», не скрывали поражения гитлеровцев под Москвой. «Вольные» разговоры, некая «фронда» были в духе Плечке. Да, он и его друг, штандартенфюрер Окс[84] — фамилия удивительно шла к его грузному телу — могли себе позволить слегка, как «свои люди», покритиковать военное руководство, вспомнить старые анекдоты о Браухиче и даже недавние заверения «нашего толстого Германа» о том, что «ни один вражеский самолет не появится над Берлином». Иногда они позволяли себе заметить, что русские храбро дерутся. В этих разговорах все чаще, с уважением и завистью упоминалось имя Амадея Кууна. Значение его росло. «Старик имеет прошлое, — говорили все, — обеспечивающее ему будущее». Плечке был недоволен своим начальством. Он часто раздражался, много пил и принимал большие дозы фенамина, как он утверждал, поддерживавшего его работоспособность. Однажды он бросил на стол пачку документов и грубо обругал чиновников, приславших их. — От этих бумаг за километр воняет Александерплацем![85] — кричал он. Документы надо было срочно переделывать тут же, в группе «97-ф». Вечером Наталья Даниловна тщательно рассматривала их. На этот раз ей особенно трудно было скрыть волнение. Документы были советскими паспортами с московской пропиской. Группа агентов, подготовленных в тылу, вероятно в Берлине, готовилась к переброске через фронт с помощью «97-ф». Группа шла в Москву. Люди, прибывшие с этими документами, помещались в изолированном доме. И к ним никто не допускался. Но паспорта были у Натальи Даниловны, и на них имелись фотографии. Одно лицо Наталья Даниловна особенно хорошо запомнила. Ей думалось, что это был руководитель группы, — худое, с высоким лбом и глубоко сидящими глазами лицо. Особых примет, конечно, не было, а паспорт… Его легко переменить. Там, в Москве, они могут добыть другие паспорта. И найти этих людей будет уже невозможно. Холодок пробежал по спине Натальи Даниловны. Преступники останутся нераскрытыми! Будут действовать безнаказанно! Но что же делать? Фотографии, вот что нужно было ей. Но у нее не было возможности переснять карточки с паспортов. Она могла бы изъять их из фотолаборатории у старика фотографа, если бы эти люди фотографировались здесь… И она решилась. Плечке внимательно выслушал ее доводы. Да, фрау Келлер совершенно права. У русских действительно чрезвычайно редки фотографии на паспортах в светло-коричневом тоне. — Вы видите, какие тупицы сидят на Александерплац? Надо переснять. Пусть старик займется этим сейчас же. А вы проследите, чтобы все было сделано «тип-топ», как полагается… Выходя от Плечке, она столкнулась в дверях с майором Остриковым. Опустив руку с плетью, выставив вперед длинный хрящеватый нос, он входил в кабинет Плечке без стука, как свой.
Она не могла больше ждать. И вот Карл Шванке ведет ее по территории лагеря военнопленных. Это уже не был мешковатый юнец с бледным нечистым лицом. Бравый офицер «нового стиля», с «арийским выражением лица» — смесь тупости и нахальства, — подняв плечи, шел по лагерной зоне. За ним почтительно следовали чины лагерной охраны. Тысячи людей помещались в промерзших бараках бывшего кирпичного завода. И не только военнопленных согнали сюда. Женщины, дети и старики умирали за проволокой от тифа и голода. Истекала кровью только что родившая женщина. — Что здесь? Полузанесенная снегом лестница вела в подвальное помещение. Подвал был глубок. Крошечные покатые оконца занесены снегом. Шванке засмеялся: — Беда с этими эксцентричными особами! Слишком любопытны. Жаждут сильных ощущений. А Наталья Даниловна уже спускалась по лестнице. Узкий подвал, стены, покрытые корочкой льда, несколько человек в рваной одежде лежали на ледяной земле. У одного были вывернуты кисти рук и висели по бокам туловища, как плети. Другой поддерживал рукой вспухшую, страшную голову. Несмотря на окрик фельдфебеля: «Ауф!»,[86] — все остались на полу. Никто не взглянул на посетителей, не повернулся в их сторону. И вдруг Наталья Даниловна замерла на месте… Не отрываясь, смотрела она на одного из пленных. Он был в разорванной, окровавленной рубахе, с седой щетиной на черном лице, с глубокими-глубокими впадинами глаз. Но она видела этого человека совсем другим… Прошлое встало перед ней. Далекий край, снег, отражающий солнце. И этот человек в черном полушубке, молодое лицо под шапкой-кубанкой озарено солнцем. И вот снова он. Ночь. Величавая сибирская река. Они плывут в лодке. Приходько! Она чуть не окликнула его, едва удержалась, чтобы не закричать. Он не видел ее, нет, — он смотрел в одну точку, и глубокое безразличие было в этом взгляде. Наталья Даниловна поспешно вышла: — Что это за люди? Приняв важный вид, Шванке объяснил, что это группа особых пленных — они отказываются давать показания. А есть сведения, что именно их показания могут быть полезными. Это русские разведчики. — Вот как? Вам это известно?.. Вы молодец! — воскликнула Наталья Даниловна. Шванке был польщен: — О конечно, фрау Натали. Я досконально знаю этих бестий. — Шванке перечислил несколько пленных по фамилии. Среди них он назвал старшего лейтенанта Приходько. Она не слушала дальше. — Так завтра вечером в «Золотой коробке», не правда ли? — сказала Наталья Даниловна, прощаясь.
КАРЛ ШВАНКЕ В ЛОВУШКЕ
Сидя в машине, она снова необыкновенно ясно увидела перед собой заснеженный поселок и Приходько у крыльца школьного здания. И опять она с Приходько в лодке тихо плывет по медленной сибирской реке… Она хотела подготовиться к завтрашнему разговору с Шванке, собрать свои мысли, но эти картины всё стояли перед нею, и она не могла сосредоточиться. Возвращаясь к себе, в группу «97-ф», Наталья Даниловна встретила Плечке, прогуливавшегося по саду в громадной медвежьей шубе. Плечке даже внешним видом любил подчеркивать особый характер своей работы. Медвежья шуба, вероятно, была напоминанием о том, что доктор глубоко проник в специфику этой страны. Плечке был не один. С ним вместе ходил по саду высокий штатский. Наталья Даниловна тотчас узнала его по фотографии, которой уже завладела. Спутником Плечке был руководитель диверсионной группы, направлявшейся в Москву. Здесь его называли «капитан», настоящая же фамилия никому не была известна. Вечером Плечке вызвал Наталью Даниловну, чтобы переводить разговор с Остриковым, но деловая беседа, как бывало часто, не состоялась. Майор казачьих войск Остриков давно стал бывать у Плечке. Наталья Даниловна знала, что он был взят в плен с остатками своего эскадрона под Вязьмой, дал согласие служить у гитлеровцев, оказал им ценные услуги, ходил со своими людьми на операции против партизан. Остриков пользовался здесь известным доверием. Предполагалось передать ему формирование частей из русских военнопленных для борьбы с партизанами. Бывший майор держался уверенно. В его поведении не было ни следа приниженности, обычной у предателей, вращавшихся в кругу фашистских офицеров. И почему-то эта манера Острикова импонировала Плечке. Своеобразная дружба связывала этих людей. Хауптманн подшучивал над тем, что Острикову совершенно не дается немецкий язык. Он усвоил лишь десятка два слов, которые произносил с ужасающим акцентом. Трое мужчин сидели у письменного стола в свете зеленой настольной лампы. На круглом столике стояли бутылки. Плечке и Остриков, видимо, изрядно выпили. Невысокий, скуластый, с длинным хрящеватым носом, Остриков бросил на Наталью Даниловну наглый взгляд. Третьим был штандартенфюрер Оке. «Палач, предатель и теоретик палачества и предательства», — подумала Наталья Даниловна, прислушиваясь к разговору. Плечке жаловался на берлинских чиновников, часто упоминая имя фон Шлейница: — Они не верят там моим материалам, не верят в опасность нового вооружения русских. В первой мировой войне тупицы — технические советники при штабах — тоже не поверили сведениям о конструировании английских танков, пока в сражении при Камбре эти машины не толкнули их в зад. Один из дураков-экспертов потом застрелился. — Ну, фон Шлейниц не дурак — он не застрелится! С его-то деньгами! — вставил Оке. — Они говорят, — продолжал Плечке, — что я «теоретик», что даю разведчикам не задания, а трактаты. Невежды! Когда пророк Моисей посылал двенадцать сородичей посмотреть обетованную страну, он не ограничился топографическим заданием, а приказал разведчикам посмотреть, как живут люди, много ли их, сильны ли и каковы их земли. — Ну, так он же был не ариец, — опять коротко вставил Оке и налил в стакан водки, — а хитрый семит! Остриков вдруг захохотал, подняв кверху нос. Кажется, он был уже пьян. — Чему вы смеетесь? — неожиданно спросил Плечке, внимательно взглянув на Острикова. Сколько бы хауптманн ни выпил, он не терял способности наблюдать за окружающим. — Я понял, что вы упомянули Моисея, и в сочетании со словом «топография» это показалось мне смешным. — До вас поздно доходят мои остроты! — буркнул Плечке. — Если бы Моисей дожил до этих дней, вы бы упрятали его за проволоку, а потом… — Остриков щелкнул зажигалкой и поднес к огоньку лоскуток бумаги, затем аккуратно развеял пепел. Этот жест мог бы показаться страшным по своему холодному цинизму. Мог бы показаться… Но внимание Натальи Даниловны было приковано к другому. На одно мгновение ей почудилось, что Остриков понимает по-немецки и скрывает это: он засмеялся после реплики Окса. Это и насторожило Плечке. Наталью Даниловну отпустили; в переводе разговора не было нужды. Она постояла несколько минут на крыльце. Ночь была темная, тускло мерцал снег. Стояла глубокая тишина, словно вокруг не было ничего живого. Никогда не бывало таких безмолвных ночей в русской деревне. Не пели петухи, не мычали коровы. Даже в заселенной части, за тремя рядами колючей проволоки, ни проблеска света, ни звука. Она услышала, как дверь сзади нее открылась. Прошел, тихо звякая шпорами, Остриков. Он не видел ее. Она двинулась за ним, сделала несколько шагов и остановилась. Негромкий разговор послышался ей неподалеку — там, где стояла грузовая машина и около нее часовой. Кто-то проговорил негромко: — Да тут неловко говорить, вон попка торчит на посту. Голос показался Наташе знакомым. — Ну ладно! — Этот второй был голос Острикова, неожиданно трезвый. — Дай закурю только… Послышалось щелканье зажигалки. Она отказала. Остриков выругался. Кто-то чиркнул спичкой. Стали закуривать. Подошел немецкий солдат. — Тебе прикурить? Дудки! Третьему не полагается! Знакомый голос, знакомые слова! Кто это? Наталья Даниловна напряженно вслушивалась. Пищик? Может ли быть? Еще одно слово, и она узнает. Одно слово… — Пойдем, Петр Иванович, — сказал Остриков. «Петр Иванович»? Нет, Пищика звали Геной. Но голос, интонация… Они отошли, и из темноты послышалось: — «Трансваль, Трансваль, страна моя…» Она с трудом удержалась, чтобы не побежать за ними. Утром Наталья Даниловна стала осторожно наводить справки, но никакого Петра Ивановича в комендантском пункте группы «97-ф» не оказалось.Связи со своими все не было, и Наталья Даниловна решилась на смелый шаг. План ее был прост, но требовал большой напористости, самообладания. Старший лейтенант Приходько когда-то был человеком Платонова. Со слов Шванке она поняла, что и в лагере он оказался стойким и мужественным, пройдя через пытки и нечеловеческие муки. Если добиться его освобождения, он сумеет перебраться через линию фронта, сумеет связать ее с Платоновым. Такому человеку можно многое доверить. Надо было заставить Шванке освободить Приходько. И вот она сидит с Карлом в «Золотой коробке». — Помните, Карл, тихие улицы Шарлотенбурга, озеро в парке, кафе «Орхидея»? — Как же не помнить? Это же любимое кафе моей матери! И притом там впервые я встретил вас, фрау Натали. Вы, вероятно, тогда смеялись надо мной, а я робел в вашем присутствии, как школьник. — А вы могли бы оказать мне большую услугу, Карл? — Пусть фрау Натали только прикажет. Я не забыл услуги, оказанной моей матери старушкой Куун. Долг арийца — помнить добро. — Эта услуга имеет прямое отношение к вашей службе… — Все, что только не принесет вреда фюреру и Германии. — У вас были случаи, когда пленных из местных жителей отпускали из лагеря на поруки?.. Ну, хотя бы женам. — Да, было несколько случаев. Эти пленные хорошо себя вели. — Вы должны отпустить одного человека. — Кого, фрау Натали? И по какой причине? — Имя я вам, конечно, назову, а о причине вы будете иметь только самое общее представление. — Но… — Его имя — Приходько. В глазах Шванке отразился испуг. — Это невозможно. — Карл, вы в долгу у меня. Помните, как вы хотели броситься в Шпрее, задолжав крупную сумму, и как вас тогда поддержали? И никто не донес на вас, никто не сообщил вашему начальству, что пакеты, которые вы развозили на своем велосипеде, вскрывал кто-то еще, кроме адресата. Она проговорила все это очень медленно и тихо, пристально глядя Карлу в лицо. Он побледнел. — Мой бог! Вы это знаете?! — вырвалось у него. — Я работаю в немецкой разведке. Я должна и обязана все знать… Вы были тогда молоды, но теперь-то понимаете, чем пахнут такие дела? За это — топор! Шванке уже не был ни предупредительным, ни бравым. Капли пота выступили на его крупном носу. Все его огромное тело, казалось, съежилось и поникло. Наталья Даниловна холодно смотрела на него: — Мы пожалели вас тогда. Мы поняли, что вы стали жертвой своего увлечения. А вы знаете, что сделали со стенографисткой из военного министерства, которая передала некоторые сведения польскому военному атташе? Это было незадолго до войны. — Я не помню… — пролепетал Шванке. — Напомню: ее казнили… Мы же сохранили сына вашей бедной матери и не помешали вам сделать карьеру. Не будем мешать и дальше. — Но зачем вам нужен Приходько? Он же враг. Мы ничего не могли добиться от него. — Деловой вопрос. Он нужен нам именно, как враг. У нас есть план… — Не понимаю… — Большего вы не должны понимать. Есть тайны, которых мы никому не открываем. — Но я должен сообщить шефу. — Вы никому не сообщите, Карл! Вы дадите возможность Приходько уйти из лагеря! Карл молчал. Он был в ловушке и понимал это. Нитка жемчуга открыла перед ней, чужестранкой, дверь в семью Келлера. Деньги, которыми был когда-то куплен Шванке, открывали перед Приходько ворота лагеря.
С КЕМ ЖЕ ВОЮЕТ ОСТРИКОВ?
Дорога шла по опушке мелколесья. Наталья Даниловна пустила коня шагом. Она знала, что найдет в этой недавно захваченной деревеньке, куда послал ее неутомимый шеф. Войска продвигались в глубь страны, оставляя за собой зону пустыни, уничтожая села и города, угоняя людей в неволю. День был серый, бессолнечный. Низко склонились деревья над замерзшей рекой. Что-то темное мелькнуло среди покрытых снегом ветвей. Как будто человеческая фигура стояла на суку, готовясь прыгнуть в ноздреватую пену сугроба. Конь захрапел, когда Наталья Даниловна подъехала ближе. Перед нею был повешенный. Навстречу по проселочной дороге двигалась странная процессия. Дети, старики, старухи, молодые девушки, кое-как одетые, многие без шапок, медленно шли под конвоем солдат, подгонявших их штыками. Один из конвоиров нес прибитую к палке дощечку с надписью на немецком языке: «Разминировано». Позади всех, почесываясь, брел низкорослый ефрейтор. Наталья Даниловна окликнула его, но ефрейтор уже сам бежал к ней, лицо его оживилось. — Добрый день, уважаемая фрау. — Какие новости, Лимкемпер? — Мы сожгли деревню. Глядите! — Он указал на пожарище вдали. — А это кто? — Отряд деминеров. — Лимкемпер охотно пояснил: — Это местные жители. Мы гоним их на мины. Когда мины взорвутся, мы поставим эту дощечку. И будем собирать новый отряд. Вот и всё. Что вы так смотрите на меня, фрау Келлер? Счастливый путь! Хайль! Она обессилела. Ей трудно было держать поводья. Мимо нее провели обреченных, и ничего нельзя было сделать для них. Бывает ли в жизни что-нибудь страшнее? Она нашла коменданта участка, объяснила ему цель приезда. Есть данные, что уцелел дом районной милиции, там должны быть ценные документы. Комендант дал Наталье Даниловне провожатого. Просторная изба-пятистенка чудом уцелела. Кругом догорали развалины, доносился шум близкой стрельбы. На деревянной перегородке висел кусок картона с печатной надписью: «ЗАГС». От будничного слова повеяло воспоминаниями о другом времени, таком далеком… О другом мире. Она открывала один за другим ящики столов. Среди бумаг валялись чистые бланки. Она стала их разбирать. Легкие шаги послышались за ее спиной. В дверях стояла очень молодая девушка. Светлые косы выбились из-под платка. Девушка улыбалась. Давно уже Наталья Даниловна не видела такой хорошей улыбки. — Кто вы? — спросила Наталья Даниловна по-немецки. — Я местная учительница. Любой меня зовут. Она говорила по-немецки правильно, но с трудом подбирала слова. — Как вы попали сюда? Кто пропустил вас? — с оттенком строгости спросила Наталья Даниловна по-русски. — Школу сожгли, вот я пока здесь устроилась. — Но как же вас тут оставили? — А меня здесь все знают. Я немцам стираю, убираю у них. Комендант обещал меня взять переводчицей. — Вы, что же, и во время боев здесь были, Люба? — Я у тетки была, тут, недалеко. И сейчас вернулась. Она продолжала улыбаться все той же удивительной ясной улыбкой. — Ну, идите отсюда, не мешайте мне работать! Наталья Даниловна отобрала несколько бланков, которые не могли пригодиться Плечке, уничтожила остальные. На обратном пути, на опушке леса, она увидела три трупа, лежащих на снегу. Она подъехала ближе. К ее изумлению, это оказались Лимкемпер и два солдата — конвоиры «деминеров». Кто убил их? В лесу она обогнала четырех всадников. Бросив поводья, опустив к ноге правую руку с плетью, они углублялись в лес, стройно и красиво напевая вполголоса:«…К ВАМ ПОСЛАЛ СТАРЫЙ ХОЗЯИН»
Домик на глухой окраине был пуст. Сквозь щели закрытых ставен просачивался последний свет уходящего дня. Наталья Даниловна и Приходько были одни. Приходько немного поправился после освобождения из лагеря. С обритой головой он походил на мальчика. Они снова пересмотрели документы, принесенные накануне. И Приходько повторил все, что ему следовало передать на словах. У него был немецкий временный паспорт с отметкой о регистрации, пропуск немецкой комендатуры железнодорожному рабочему для отлучки на пять дней к жене, проживающей в прифронтовом пункте. Он пересчитал деньги — немецкие оккупационные марки. И вот что должен был передать своим старший лейтенант Приходько в случае удачного перехода линии фронта. Не позднее чем через неделю германская разведка перебросит на советскую территорию диверсионную группу из трех человек. Группа имеет явки в Москве. Руководитель, русский по национальности и уроженец Москвы, — эмигрант. Тут следовали данные по паспорту всех трех диверсантов. Фотокарточки их были вшиты в одежду Приходько. Место перехода линии фронта точно не установлено. Эти трое будут говорить, что представляют собой одну семью: отца и двух сыновей. Один из них проживал временно у отца — агронома совхоза в прифронтовой полосе; другой, советский работник из Москвы, приехал за ними, когда началось наступление немцев. Вывезти он их не успел и сам застрял: дороги были отрезаны. Группа несет взрывчатку и недавно изобретенные портативные мины, спрятанные в ручном багаже. Группа формировалась в Берлине и получила особое задание. «О них мы скоро услышим», — заметил Плечке в разговоре с Натальей Даниловной. Второе донесение, которое отправлялось с Приходько, также было весьма важным. Разработан план операции по окружению и разгрому соединений Красной Армии и партизан в лесных массивах области. После этой операции должен быть нанесен удар во фланг одной из советских армий. Вызвано несколько дивизий, состоящих главным образом из северян. Считалось, что эти солдаты привыкли к лесам. Для прочесывания лесов немцы формируют специальные части из военнопленных. Надо было передать также сведения о расположении складов боеприпасов, вооружения и инженерно-технических материалов фронтового значения. Склады хорошо замаскированы натянутыми над ними зелеными сетками. — Расскажите, Приходько, обо мне, — говорила Наталья Даниловна. — Передайте, что нужна постоянная связь…Приходько ушел. И казалось, что остановилась жизнь. Остановилась до того момента, когда Приходько подаст знак… Подаст ли? Дойдет ли? Несколько раз Наталья Даниловна заходила в домик на глухой окраине. Здесь жила молодая женщина Даша, вдова железнодорожника, погибшего во время крушения поезда за несколько лет до войны. Две недели назад Даша сходила к коменданту лагеря и заявила, что Приходько был ее вторым мужем. В эту страшную пору многие русские женщины воскрешали традиции революционных «невест» — тех девушек, которые приходили в царские тюрьмы повидаться с незнакомыми, но близкими им по стремлениям людьми, передать им весть от товарищей. Даша Хохлова ходила к ограде лагеря военнопленных, незаметно передавала лепешки и вареные картофелины. Она охотно взяла к себе в дом нежданного «мужа». Даша ни о чем не спросила его и молча проводила до ворот, когда он отправился в опасный путь. Вскоре Наталье Даниловне пришлось отказаться от посещений Даши. Начались облавы и аресты. Это случилось после того, как был убит комендант лагеря Карл Шванке. Его нашли недалеко от ворот лагеря с кинжалом в груди.
Группа «97-ф» со всеми людьми и имуществом отправилась за фронтом, который передвигался на восток. Потом движение остановилось. Пришел приказ о передислокации, и группа Плечке оказалась на старом месте. В последнее время хауптманн заметно нервничал. О его неудачах, о громоздком аппарате все чаще неодобрительно отзывалось начальство. Плечке часто пил в обществе Острикова. Майор все еще ничего не делал, писал планы каких-то операций и охотно слушал поучения и остроты доктора, переводимые Натальей Даниловной. Однажды по дороге в город Наталья Даниловна встретила Острикова. Он выпрыгнул из кабины полуторки, крикнув: — Петр Иванович, приезжай за мной через час! — и пешком отправился дальше, не заметив Наталью Даниловну, идущую по обочине. Она торопливо подошла ближе, и давно знакомое ощущение охватило ее. Ей показалось, что она в далеком «Таежном» и собирается в путь на стареньком газогенераторном грузовике… — «Трансваль, Трансваль страна моя…» — неслось из кабины. За рулем полуторки сидел, позевывая и закрывая рот меховой рукавицей, он, Пищик! Машина тронулась… Наталья Даниловна вскочила на подножку и на ходу влезла в кабину. Пищик, не бросая баранки, покосился на нее. Лицо его расплылось прежней, широкой улыбкой. — Непроходящие тени минувшего!.. Не располагали, Наталья Даниловна, со мной встретиться? А я как раз собирался вас проведать… Она молчала, потрясенная, ничего не понимающая. — Ближе к делу. Мне велено вам передать: то, что вам требуется, уже здесь. А подробности — завтра. Слезайте с машины — вам со мной нельзя! — Кто же послал вас? — К вам послал старый хозяин — Анатолий Николаевич. — Он… здоров? — Был ранен два раза. Велел кланяться. — Расскажите… — Не могу, не могу! Завтра. Кюсс ханд.[87] Он помахал рукой в рукавице и уехал.
ЛЮБА
Но прошло несколько дней, прежде чем им удалось встретиться. Они ехали вдвоем снежной дорогой, и казалось, что вот-вот знакомые строения «Таежного» возникнут впереди. — Был Генка Пищик, а стал Петр Иванович, шофер немецкого штаба. И как в романсе поется: «К прошлому возврата больше нет»… Впрочем, есть возврат. Будет! Наталья Даниловна уже знала, что с начала войны Пищик был на фронте, получил звание сержанта, служил в разведке у Платонова и был послан им в немецкий тыл для выполнения особых заданий. Он устроился шофером. Много раз ходил к партизанам, через которых держит связь с Платоновым. — В последнюю ходку мою, — рассказывал Пищик, — прилетал в леса на «уточке» сам Анатолий Николаевич… Худой стал с лица. — Про меня не говорил? — Ну конечно! Посидели в землянке, поговорили… — А про меня-то что говорил? — Об вас разговор был короткий. «Ты, говорит, ее личность хорошо знаешь, потому тебе и поручаю. Имею, говорит, от нее интересную весточку. Разыщи, говорит, и кланяйся. Молодец, скажи!» — Так и сказал? — Век счастья не видать, если вру! «Скажи ей: то, что вам нужно, то, о чем просили, уже здесь. А еще, говорит, познакомь Наталью Даниловну с молодой барышней, которую ты знаешь». — Кто же эта барышня? — Здешняя. Приходила отсюда к партизанам в лес. Неделю там жила. Я ее обратно сюда проводил. По-немецки здорово говорит, не хуже меня… Наталья Даниловна заметила, что они едут к той самой деревне, где она была однажды. Вот и опушка, на которой она нашла убитого Лимкемпера. Пищик остановил машину. — Мне в деревне появляться нельзя, я покажу вам отсюда. — И он указал ей тот самый уцелевший дом, где она отбирала бланки. — Там вас ждет эта особочка. Он сообщил ей пароль для встречи с «барышней». — Прощайте, Наталья Даниловна! — Прощайте, Петр Иванович! «А как же Остриков! — вспомнила она вдруг. — Кто он?» Но Пищик уже сделал лихой разворот. И она издали услышала его тенорок: — «Трансваль, Трансваль…» Наталья Даниловна заглянула в окно избы. В ней было прибрано и даже бумажный абажур надет на стержень керосиновой лампочки. Четыре солдата играли в карты за столом. Им прислуживала уже знакомая Наталье Даниловне учительница, подавая что-то в кружках, сделанных из консервных банок. Наталья Даниловна легонько стукнула в окно. Солдаты не обратили на стук ни малейшего внимания, но девушка, накинув платок, быстро спустилась с крыльца. Они пошли через пустой задний двор. — Я так обрадовалась, когда узнала из радиограммы, что вы со мной свяжетесь. Вы мне почему-то понравились тогда… в первый раз. Я почувствовала в вас что-то свое, хотя ничего не могла знать… — простодушно сказала Люба. Они перелезли через плетень, потом, долго прыгая по замерзшим кочкам, пробирались огородами. Заброшенная, полуразвалившаяся баня стояла над речкой. Внутри было тепло и пахло жильем… — Как вы пронесли сюда рацию? — Мы с Петром Ивановичем на санях под дровами привезли. Он в немецкой шинели был. Люба по записке с каракулями, понятными ей одной, прочла радиограмму, адресованную Наталье Даниловне. Ей предлагалось вступить в контакт с Остриковым… Наталья Даниловна не верила своим ушам, В радиограмме сообщалось, что, по данным партизан, Остриков — верный человек, на свой страх и риск ведущий борьбу с фашистами. Недавно Остриков спас группу советских людей, которых немцы гнали на мины. Люди эти бежали к партизанам и там рассказали об Острикове. Поднося листок радиограммы к пламени зажигалки, Наталья Даниловна вспомнила встречу в лесу. Скуластое лицо Острикова возникло перед ней… «Он еще ничего не знает обо мне… Как он примет необходимость работы под моим началом?» Но эти сомнения уступали место одной мысли: она снова стала Верой Чистяковой, она снова имеет связь с Родиной…«СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ»
Рудольф писал по-немецки: «Итак, Натали, милая, мы скоро увидимся. Уже два месяца мы ездим по фронту с дядей Амадеем и знакомым вам фон Шлейницем, — он недавно произведен в генералы. Дядя завален работой. Можно сказать, что ни один важный военный вопрос не проходит мимо него. Фюрер прислушивается к его мнению. Анализ военных событий, данный дядей, блестяще подтвердился. Работать с дядей исключительно приятно. И то взаимное понимание, которое между нами достигнуто, дает мне большое духовное удовлетворение. Мы собираемся к вам. Дядя имеет особые полномочия от фюрера. Он везет важные директивы и внесет свежую струю в руководство армейской группы. Тетка Амалия пишет мне исправно. Наша неутомимая старушка делает много полезного. Сейчас она занимается распределением рабочей силы, в огромном количестве притекающей иззавоеванных нами стран. Я часто думаю о вас и с нетерпением жду встречи с вами. Всегда ваш Руди». Письмо Наташе было личное, но все кругом уже говорили о приезде Кууна, представителя национал-социалистской партии и доверенного человека фюрера. Говорили о новых веяниях, о предстоящих переменах в личном составе командования, отделывали резиденцию для приезжих. В один из этих погожих весенних дней голубой «Мерседес» остановился у бывшей больницы, и в кабинет изумленного Плечке впорхнула в ярком дорожном плаще и с перышком на шапочке танцовщица Рената. Вечером Рената рассказывала берлинские новости: — Ганс Эверс снимается в главной роли нового фильма «Сверхлюди восточного фронта». Попал в концлагерь режиссер, поставивший нашумевшее ревю «Халло-халло Москау». В этом названии был усмотрен намек на провал зимнего наступления. — Понимаю. — Плечке ухмыльнулся. Все сочувственно посмотрели на него он-то ведь предсказывал, что война не будет продолжительной. Рената с жаром продолжала: — Во всех театрах показывают стихотворный фарс молодого талантливого поэта: «Густав мылся в бане, когда раздался вой сирен». Роль Густава исполняет несравненный Хуберт Клоц. Роль банщицы — Эмма Лампе… Юбки носят короткие. Доктор Геббельс сказал: женщины Германии должны сократить до минимума свою одежду — ткани нужны фронту. В кафе «Комикер» ведет программу старый Грабб. «Немцы, смейтесь! — говорит он публике. — Улыбайтесь, хохочите, покатывайтесь со смеху! Час смеха заменяет полкило мяса». Вообще Германия переживает расцвет искусства… Казалось, болтовне Ренаты не будет конца. Она сообщила, что сейчас работает над танцем-пантомимой: «Немецкий пехотинец в снегах России». Танец будет условно изображать действия пехоты, под прикрытием танков идущей в бой. Она была две недели на передовой, изучала движения немецкого пехотинца. — Бог мой! — воскликнул Оке. — И это будут показывать на сцене! — Вы безнадежный провинциал! — отрезала Рената. — Надо жить в стиле времени. В конце вечера Рената шепнула Наталье Даниловне, что Веллер вызывает ее в Берлин, а утром было получено согласие любезного Плечке «отпустить фрау Натали на несколько дней в Берлин повеселиться». И сейчас, перед отъездом, Наталье Даниловне было особенно приятно то, что здесь остается Остриков, свой человек, так решительно и достойно принявший на себя обязанности ее помощника. Рената получила отдельное купе в эшелоне. Здесь пахло карболкой и дешевыми сигарами. Рената вытащила из несессера духи и пульверизатор. Затем на скамейки были брошены пледы и мягкие шелковые подушечки. На столике появились флаконы и коробки. На вешалке затрепыхался по ветру тонкий резиновый плащ Ренаты. Стало очень похоже на ее театральную уборную в летнем кабаре «Какаду». Сама она бросилась на сиденье, вытянув свои мускулистые ноги танцовщицы. Рената больше не была блондинкой. Волосы ее на этот раз были выкрашены в модный рыжеватый, «лисий», цвет. На некрасивом личике с прекрасной розовой кожей сверкали синие глаза. Вторые сутки поезд шел лесами, и все говорили только о партизанах. Дам развлекал молодой лейтенант. Уважаемые дамы должны знать, что он уже имеет опыт, печальный опыт. Это было где-то здесь, несколько западнее. В момент катастрофы он находился на тормозной площадке. Взрывом его выбросило под откос. К счастью его самого и семьи — жена и две прелестные малютки в Дюссельдорфе! — он попал в болото. Оттуда он увидел сущий ад. На насыпи горели вагоны — ну просто, как дрова в очаге. Хвост поезда висел в воздухе над насыпью, и из него падали горящие, словно факелы, солдаты. Остальные метались по насыпи, и их поливали пулеметным огнем из рощицы, такой же, как эта вот… — Он показал на окно. — Какой ужас! — сказала Рената. — Неужели нет средств положить конец этому? — Не будем себя обманывать — борьба с партизанами пока не имеет успеха. Он начал объяснять дамам подрывную технику партизан. Рената заскучала, но Наталья Даниловна внимательно слушала. Лейтенант оказался сведущим. Он часто повторял технический термин, который Наталья Даниловна мысленно перевела с немецкого, — «упрощенный взрыватель». — Вы можете себе представить самообладание этих дьяволов? Мужицкие нервы! Лежать в кустах и ждать, пока пройдет паровоз и первые вагоны, а потом соединить концы проводов, дождаться взрыва и хладнокровно нас расстреливать. Ну, и мы их не щадим! В лесах под Оршей мы поймали мальчишку — так мы ему два дня кости ломали!.. — Пфуй! — сказала Рената. — Перемените тему, господин лейтенант! — Охотно! Разговорчивый лейтенант рассказал, что он состоит членом популярного общества «Крафт дурх фройде» — «Сила через радость». Он пустился в описание воскресных прогулок общества. — Ну, это скучно! — заявила Рената. — Я хочу спать. Лейтенант ушел. Поезд двигался медленно. В щель проникал мерцающий свет. Крошечный лучик прыгал по полу, от мелькания его хотелось спать, спать… Проезжали большую станцию — блеснули огни и исчезли. Женщины заснули. Наталья Даниловна проснулась от резкого толчка. Поезд стоял в поле. Сильный шум слышался за перегородкой. Можно было разобрать злобные, хриплые выкрики: «Живо!», «Не толкайся, свинья!», «Вон выходи!», «Шевелись же, корова!» Раздалась команда, подаваемая через ручной рупор: «Все из вагонов! Живо! Вы!», «Луфт! Луфт!»[88] — повторил тот же голос. Гремя амуницией, солдаты прыгали на землю. Про женщин забыли. Когда шум несколько утих, послышался звенящий, дальний звук. — Русские самолеты! — сказала Наталья Даниловна спутнице. — Давайте выйдем. Рената, проявив неожиданное присутствие духа, спокойно собирала дорожный несессер. Они вышли в лунную ночь. Облитый серебряным светом, стоял на пути их состав. Какие-то фигуры бегали по вагонам, выносили ящики с гранатами. Солдаты залегли в кюветах неподалеку. Метрах в трехстах от них была видна станция и строения за ней. В легких перистых облаках показалась девятка самолетов. Наталья Даниловна не почувствовала страха. Лежа в траве, она следила за полетом бомбардировщиков. Но и Рената, подняв голову, смотрела блестящими глазами в небо. Самолеты тройками развернулись над станцией и по одному йхо-дили в пике. С опозданием заработали зенитки. В небо взвился каскад разноцветных огней — били трассирующими пулеметными очередями. Стало совсем светло. Но боевой порядок машин не нарушался. Самолеты делали заходы, пикируя над станцией. Раздалось несколько взрывов. Все заволокло дымом, сквозь который жадно прорывались языки пламени. По-видимому, строения за станцией были складами боеприпасов — раздался взрыв большой силы, и облако земляной пыли двинулось на пассажиров, залегших в степи. Когда оно рассеялось, стало видно, что одна тройка самолетов приближается с огромной быстротой. Многие солдаты, не выдержав, выбегали из кюветов, бестолково метались по полю. Самолеты, отбомбившись, низко проносясь над степью и делая крутые виражи, расстреливали солдат из пулеметов. Гул моторов стоял в ушах. Рената лежала ничком, накрыв голову капюшоном плаща. Вторая тройка самолетов развернулась над поездом. У этих еще были бомбы: раздался двойной взрыв, и Тотчас вспыхнули цистерны, черные клубы дыма поползли от поезда. Когда Наталья Даниловна снова смогла открыть глаза, она поняла, что ее оглушило. Пробегавшие мимо нее с искаженными лицами солдаты и офицеры, казалось ей, беззвучно раскрывали рты. Когда и это ощущение прошло, она поднялась. Недалеко от нее лежал убитый офицер. Она взглянула в исковерканное лицо и узнала его: это был лейтенант, который развлекал их разговором, член общества «Сила через радость».НЕ БОИТЕСЬ ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТОВ
Подъезжая к Берлину, пассажиры «Де-цуга»[89] стали волноваться: узнали, что поезда не подходят ни к одному из вокзалов — опасались бомбардировок. Наталья Даниловна и Рената, попавшие в этот поезд после бомбежки, оказались где-то в районе Трептова, в дальнем пригороде Берлина. Не было ни такси, ни носильщиков. Пока они раздумывали, как им добраться до центра, завыли сирены, и тотчас мгновенно нахлынувшей толпой они были втиснуты в подземелье бомбоубежища. Здесь было так тесно и душно, что, не дожидаясь отбоя, женщины выбрались на улицу. Небо было залито мертвенным светом прожекторов. Громадные гроздья ракет висели в нем, как связки детских цветных шаров. По направлению к центру города мчались санитарные кареты, огромные и торжественные, как саркофаги. Они насчитали двенадцать карет. Это был разрушительный воздушный налет, о котором на следующий день писала мировая пресса. Свидание с Веллером было длительным. — Я должен был вызвать вас, — говорил толстяк, глубоко погрузившись в кожаное кресло, — потому что есть важные новости. Химические приготовления никогда не были такими широкими, как теперь. Возникла страшная угроза. Он открыл кожаную папку с золотыми буквами: «служебно», «срочно». — Здесь договоры с военным ведомством. А вот реализованные поставки. Особым спросом пользуется новый, необычайной стойкости газ. Вот его формула… Они работали долго, не замечая времени. Когда Веллер раздвинул тяжелые портьеры окон, скупой берлинский рассвет плыл над городом. Наталья Даниловна вышла на пустынную улицу. Сквер был пуст. Не бил фонтан из каменной чаши, и гипсовая нимфа, запыленная и потемневшая, напрасно приникала к ней сухими губами. Морды каменных львов тоскливо смотрели из зелени, частые трещины бороздили их мощные тела. За спинами мраморных зверей укрылись батареи. Маскировочная сетка скрывала зенитки. Знакомой аллеей Наталья Даниловна прошла к восточным воротам. Колючая проволока зацепилась за ее платье. Снизу — пожелтевший мох скрывал вход в дзот — появилась зеленая фигура с выставленным вперед штыком. Солдат рявкнул: — Цурюк![90] Она повернула в боковую аллею. Впереди виднелись затейливые чугунные узоры ворот выхода, но и здесь два скрещенных штыка преградили ей путь. На старом каштане была прибита дощечка: «Проход воспрещен. Сопротивление патрулю карается смертью». Она вернулась и, покинув сквер, пошла нелюдной улицей. На перекрестке раньше сверкали огромные зеркала парикмахерской. В них, как в озерах, играло солнце. Из разноцветных шелков выглядывали женские головки — все, как одна, одинаковой «арийской» масти, с одинаковыми высоко-высоко нарисованными на чистом лбу тонкими бровями — так достигалось модное выражение «изумленной невинности». Теперь не было больше удивленных головок. Не было и дома. Ничего не было здесь. На месте дома осталась гладкая четырехугольная площадка, видимо недавно залитая свежим асфальтом, с обелиском посередине. На обелиске под стеклом висело обращение: «Население Берлина! Не бойтесь воздушных налетов противника! Вы находитесь под защитой лучшей в мире артиллерии! Мы не допустим никаких разрушений в городе. Соблюдайте полный порядок. Паника и малодушие караются смертью». Неподвижная ворона сидела на обелиске. Наталья Даниловна снова неторопливо прочла плакат на пустынной площадке. Прохожий посмотрел на нее. Неужели эта надпись представляет такой интерес для женщины? Когда Наталья Даниловна обернулась к нему, он опустил глаза и прибавил шагу. Видимо, в таких местах останавливаться было небезопасно. Парикмахерскую она нашла у Потсдамерплац — тесную, убогую. Худая женщина с оживившимися глазами придвинула проспект моделей с раскрашенными головками: — Дама будет красить волосы? — Нет… Зачем же? — Следовало бы закрасить седые волосы. Правда, они мало заметны у блондинки. Но дама еще молода… — Седые? — Наталья Даниловна удивленно взглянула на себя в зеркало. Серебряные пряди белели в ее волосах, разобранных рукой мастерицы. Парикмахерская была едва освещена. Мастерица работала молча. И вот в мерцающей глубине зеркала поплыла горькая родная земля, облитая кровью и слезами. Это отсвечивал снег поутру, и тело повешенного колыхалось над ним. Это дрожало пламя над сожженными избами. Горе, горе шло дорогами ее Родины! Усилием воли Наталья Даниловна заставила себя вернуться к действительности. Мастерица дважды спросила ее: — Что еще пожелает дама? На следующий день она выезжала из Берлина. В изящную записную книжку аккуратнейшим образом занесена была опись белья и платьев, оставшихся в Берлине. При расшифровке цифры и слова давали те самые материалы, которые были переданы ей Веллером накануне.В группе 97-Ф Наталью Даниловну встретил взволнованный Остриков. Как только они остались наедине, он сообщил: — Генерал Амадей Куун вот-вот будет здесь. Это фигура. Что же, мы с вами любоваться на него будем? Ликвидировать гада, — так я считаю. Принимайте решение. — Примем вместе. Сегодня ночью, — ответила Наталья Даниловна. В тот же вечер при очередной связи с Москвой было получено задание: организовать похищение и доставку к партизанам генерала Амадея Кууна.
АМАДЕЙ КУУН ИНСПЕКТИРУЕТ
— Сила германского духа наиболее полно проявляет себя в войне молниеносной. Но «блицкриг» не получился. И что же произошло? Огромные армии победителей, вырвавшиеся на бесконечные просторы русских снегов, увязли в них, как блоха в гриве льва. Это мысли моего дяди… Рудольф говорил по-немецки с новыми для него интонациями грустной иронии. Было ясно, что он подражает дяде. — Есть у нас люди — и люди, стоящие у кормила, — которые позволяют себе сомневаться в успехе войны. Они рекомендуют меры чрезвычайного характера. В тотальной войне, которую мы ведем, должны приниматься крайние решения. Вы представляете себе, что такое тотальная мобилизация? Наталья Даниловна промолчала. И Рудольф продолжал: — Мы говорим о своей моральной победе под Москвой. Но под Москвой мы потерпели ужасное поражение. Фюрер сказал: «Мы были на волосок от гибели». Весеннее наступление провалилось. Дядя написал фюреру письмо. Он изложил свои мысли, предупреждал о возможной катастрофе. Не всякий бы на это решился! Но дядя привык поступать смело. Его письмо произвело впечатление. И вот результат — наша поездка по фронту. Дядя привез директивы по важнейшим вопросам предстоящих операций. Рудольф накинул свою шинель на плечи Наталье Даниловне. Они сидели на ступенях веранды. Огромный сад окружал особняк, уцелевший в недавних битвах. Прошел лишь год с тех пор, как в просторном доме, окруженном старыми липами, работали советские ученые: здесь был научно-исследовательский институт. Теперь за цветными стеклами дверей раздавался нестройный хор пьяных голосов. На банкет приглашали по строгому выбору, но когда именитый гость удалился на покой, в зал устремились младшие сотрудники. У серванта стоял Тиммих, столовой ложкой набирая черную икру из хрустальной вазы. Бывший фальшивомонетчик, как видно, знал толк в закусках. А в саду стояла тишина, аромат зацветающих лип; бездонное, в звездах, небо нависло над садом. Мысли Натальи Даниловны витали так далеко отсюда… Вкрадчивый голос Рудольфа вернул ее к действительности. — Вы поняли, какой умный и дальновидный человек дядя Амадей? — спросил Рудольф. — Да! Гуго-Амадей Куун и в самом деле произвел на нее впечатление умного человека. Днем Наталья Даниловна увидела его впервые. Это был толстяк с коротко остриженной головой, покрытой седой щетиной. Казалось, голова вбита в плечи. Холодноватая усмешка превосходства на лице, сановная свобода движений, небрежная манера, с которой он слушал собеседника… Ничто не обличало в Амадее Кууне провинциального трактирщика далеких времен. Оттопыривая нижнюю губу, Куун негромко говорил Плечке: — Глупости и глупости, господин хауптманн! Вы, доктор, педант! Вас портит излишняя ученость. Поменьше мыслей, побольше здорового арийского инстинкта! Вы корпите над бумагами, а русские вас обставляют. Я привез доказательства этого. Им становятся известными все ваши секреты! Вам кажется, что вы ловко замаскировались. Но из-под маски торчат ваши длинные уши. Помните нашу старую пословицу: «Ты хочешь казаться легкой птичкой, но я слышу, слон, как ты топаешь». Я вам напомню об одном французском педанте. Он очень похож на вас. В 1917 году французский офицер нашел германское наставление для стрельбы из пулеметов. За документом давно охотилась французская разведка. Но офицер попался ученый, вроде вас, доктор. Вместо того чтобы немедленно пустить наставление в дело, он сел писать трактат о нем, изучив его до корки. А мы тем временем косили да косили французов. Педант нам не мешал. Старик пилил и пилил. Из правого глаза Плечке выпал монокль, ярким пламенем загорелись его шрамы. Он был подавлен. Генерал говорил медленным, ровным голосом, буравя Плечке маленькими, острыми глазками. Вот он отвел их от Плечке, и знакомым показался Наталье Даниловне его взгляд. В нем было сложное выражение опустошенности, ума, скептицизма, усталости и бессильного любопытства к завтрашнему дню. Это было лицо Труфальдино — тряпичной куклы, висевшей на стене костюмерной за кулисами театра в «Таежном». И вместе с тем это было лицо целого мира. Лицо уходящего мира, для которого не наступит завтрашний день. — А как вы сблизились с дядей? — спросила Наталья Даниловна Рудольфа. — Нас соединила могила моего отца. — Ваш отец умер? — Убит при бомбардировке Маннгейма.02.15
Свежим утром Наталья Даниловна на мотоцикле возвращалась из города. На заставе дежурный офицер, вышедший из будки, козырнул ей. Шлагбаум поднялся, и она двинулась по шоссе. Глубокие колеи проезжей дороги шли рядом, желтые одуванчики цвели по обочинам. Нежаркое солнце поднималось в утренней дымке. Серый, как мышь, «Хорх» обогнал ее. Пассажиров в машине не было. Проехав, она остановилась. Пищик открыл дверцу: — Повышение получил, Наталья Даниловна! Теперь на этом звере ездим! Вчера вез одного приезжего, в дым пьяного. Прихватил у него книжечку на всякий случай. Наталья Даниловна взяла объемистую записную книжку в кожаном переплете. Золотом на зеленом сафьяне было вытиснено «В. Мейснер». На странице, которую она пробежала глазами, мелкими аккуратными буквами было вписано имя — Дарья Хохлова. Адрес Даши. Потом шли какие-то цифры, наверное код. А на другой странице вверху было написано «приметы» и два раза подчеркнуто. Под чертой: «среднего роста, стройная, худощавая, глаза серые. Волосы белокурые, укладывает короной. Нос прямой, лицо белое. Правая бровь чуть выше левой». Наталья Даниловна вздрогнула. Кровь отлила от лица. Это были ее собственные приметы. На ее след напали. Как? Раздумывать некогда. Если Мейснер обнаружит пропажу книжки, это может ускорить развязку. — Гена, — тихо сказала она, — верните книжку пассажиру, которого вы везли. Объясните, что нашли ее, когда чистили машину. Машина была грязная? — Как после свиньи. Он же был в дымину. Такого у нас в такси не посадят. — Поскорее верните ему! Мейснер не на шутку испугался, увидев свою записную книжку в руках шофера. Он небрежно поблагодарил и наградил шофера сигаретой — награда более чем скромная: этот парень не должен подозревать о значении находки.Было вполне естественно, что Остриков, заезжая в группу «97-ф», долго разговаривал с Натальей Даниловной в саду. Они ходили по аллеям, посмеивались, их лица сохраняли выражение людей, болтающих о всяких пустяках. А разговор был чрезвычайно напряженным. Здесь, в саду, они обсудили последние детали плана похищения Амадея Кууна, находящегося сейчас у Плечке. Но чем грозил Наталье Даниловне неожиданный приезд Мейснера? Мелькнула мысль, что Дашу Хохлову арестовали. Она могла под пытками рассказать… Но Даша не была арестована. Она по-прежнему жила на глухой окраине и уже была предупреждена о том, что немцы приглядываются к ней. Но, может быть, допросили ее дома или вызвали на короткое время, чтобы не возбудить подозрений арестом? Это маловероятно. Какие-то сведения пришли со стороны. План созрел вовремя. Нельзя было больше откладывать. Однако следующий день внес в него существенные изменения. Амадея Кууна вызвали в ставку фюрера. Вызов привез ему фон Шлейниц. С некоторым злорадством он предъявил документ, которым ему, фон Шлейницу, предписывалось остаться на некоторое время в группе 97-ф и завершить миссию генерала Кууна.
— Итак, мы едем послезавтра. В два часа пятнадцать минут. С генералом фон Шлейницем. — Это решено, Руди? — Уже дана шифрованная телеграмма во все пункты на пути. Заставы имеют извещения о часе, в который проследуют наши машины, и описание нашей колонны. Две машины с опознавательным знаком «лиловый медведь со щитом». Впереди два мотоцикла. Машины пройдут на заставах на полном ходу — генерал не терпит остановок в пути. У нас все это поставлено «тип-топ», как часы. Все эти дни связи с Москвой не было. Тогда Наталья Даниловна и Остриков решили осуществить похищение фон Шлей-ница и Рудольфа Кууна.
И вот наступил последний вечер. Они снова гуляли по саду. Было слышно, как у калитки сменялись часовые. Разводящий вышел из караульного помещения, ведя новый наряд часовых. А Рудольф говорил о своем: — …и не потому, что я был нерешителен. Меня сдерживал отец. Ему наш союз казался чудовищным. Совсем иначе смотрит на это дядя. Вы понравились ему. — Это приятно слышать. — Не позже, чем через месяц, я жду вас в Берлине. Почему вы молчите? Разве не пора нам связать свои жизни? Разве это не было предрешено еще там, в Сибири? Наталья Даниловна посмотрела ему прямо в глаза: — Да, все было предрешено еще в Сибири!.. Они рано разошлись по комнатам. Спальня генерала и комната Рудольфа сообщались между собой через маленький кабинет. Там стояло бюро, на котором лежал старомодный, темный, без застежек-молний портфель генерала и стояла его несгораемая шкатулка с секретными бумагами и приспособлениями для мгновенного сжигания их. Здесь спал на ковре генеральский сеттер Рольф, знавший Наталью Даниловну и ласкавшийся к ней. Когда стенные часы пробили один раз, Наталья Даниловна поднялась, поманила собаку и заперла ее у себя в комнате. В доме было тихо. Не спал только неугомонный сверчок. В час пятнадцать минут две машины, легковая и полугрузовичок, с опознавательными знаками «лиловый медведь со щитом» остановились неподалеку от резиденции группы «97-ф». Их сопровождали два мотоцикла. Из машин вышло восемнадцать человек в форме «СС». Командир группы молча подал знак. Отряд построился у ограды. С пакетом, опечатанным пятью сургучными печатями со свастикой, командир вошел в караульное помещение. Начальник караула, вскрыв пакет, прочел, что ему предписывается в час тридцать минут сдать объект подателю сего, начальнику команды вахмайстеру Мюллеру. Мюллер принимает охрану дома на себя, а затем вместе с группой будет сопровождать генерала в пути. Начальнику же караула Предлагалось немедленно снять своих людей с постов и тотчас же выступить к городской Заставе с тем, чтобы к восьми ноль—ноль прибыть в распоряжение комендатуры. Приказание было подписано комендантом и скреплено его же печатью. Этот документ был изготовлен Натальей Даниловной и точно соответствовал образцу, бывшему перед ее глазами. Начальник караула, следуя предписанию, начал снимать посты. Следом за ним шел начальник прибывшей команды, он расставлял своих людей. Все делалось быстро, четко и очень тихо, чтобы не разбудить спавших в доме. Сменившиеся солдаты, зевая, рассматривали в лунном свете генеральские машины, «лилового Медведя» и блестящих шоферов. Затем они Построились. Начальник караула козырнул вахмайстеру Мюллеру: — Доброй ночи, камрад. Хайль Гитлер! И небольшая колонна удалилась по направлению к городу. Как только шаги их смолкли вдалеке, двенадцать человек из вновь прибывших, оставшихся в резерве в караульном помещении, вошли в дом. Их вел Мюллер. Четыре направились по коридору к помещению, где спали денщики. Расположение комнат им было известно. Наталья Даниловна сидела на постели в своей комнате, поглаживая спину сеттера. Ее поразила удивительная тишина. Только раз послышалась глухая возня в спальне, Да упал задетый кем-то стул. Это Рудольф, выхватив из-под подушки пистолет, пытался сопротивляться. Его замотали в одеяло так крепко, что он едва не задохнулся в пути. Два человека вынесли генерала фон Шлейница. «Охрану» дома сняли. Наталья Даниловна видела в окно, как они тронулись в путь. Впереди шли два мотоцикла. За ними — камуфлированная зеленоватая длинная машина со знаком «лиловый медведь со щитом». На заднем сиденье ехал генерал, закрывая лицо воротником шинели. Сходство с фигурой фон Шлейница было поразительным. На полугрузовичке, рассевшись по скамейкам вдоль бортов, вооруженная до зубов ехала «генеральская охрана». Головную машину вел шофер в блестящем мундире. Его длинный нос выдавался из-под форменной фуражки с большим козырьком. Отъезд состоялся в назначенное время. Контрольные посты на заставах могли убедиться в аккуратности генерала.
ШЕСТЬ ЧАСОВ ОЖИДАНИЯ
Дом опустел. В нем оставались только мертвые. Быстро светало. Наталья Даниловна выключила электрический свет. Она вошла в соседний кабинет. Походная койка стояла пустой. Мертвый Плечке лежал на полу, скорчившись. Наталья Даниловна сбросила с койки подушку. Ключи здесь… Так она и предполагала. Этот плоский, с остроконечной головкой — от его сейфа. Порядок, в котором сложены бумаги, ей известен… Вот документы переброшенных за линию фронта. Прошло только двадцать минут. Только двадцать! Она прячет документы в свою полевую сумку. Выходит в соседнюю комнату. Телефоны безмолвствуют. …Сейчас она могла думать о чем угодно, сидеть тихо-тихо, прислушиваясь к гудению ветра в верхах сосен. Его никогда не было слышно в этих комнатах раньше. Она могла взять книгу, сосредоточиться на прочитанном. Или сесть за стол, написать что-нибудь… Письмо? Кому? О чем? Ей оставалось пробыть здесь шесть часов. И это было труднее, чем все то, что она пережила прежде. Шесть часов полного бездействия и настороженности. Эти шесть часов необходимы для того, чтобы дать возможность группе Острикова дойти до партизанской зоны. Она сама разрабатывала план, сама определила свое задание. В эти шесть часов она, оставаясь в пустом доме, где, кроме собаки и невидимого сверчка, были только мертвые, как бы прикрывала отход группы, похитившей фон Шлейница. Из штаба могли позвонить и ночью. Она ответит: «Хауптманн? Выехал. Будет к концу дня… Да, Остриков с ним…» Прошло всего полчаса. Группа миновала уже заставу. Рудольф возвращается туда, откуда бежал вместе с ней. …Интересно, что знает Мейснер? Нет сомнения, он унюхал кое-что… Кое-что. Не более. Однако остается еще целых пять часов и десять минут. Какие тяжелые часы, какие тяжелые минуты! Не надо смотреть на циферблат. Говорят, что самые тяжелые часы узника — последние перед освобождением. Но рядом с ним есть люди, а здесь только мертвые. Не надо смотреть на стрелки. Нет, бросила взгляд. Осталось четыре часа пятьдесят минут. Наталья Даниловна раздумывает, колеблется. Она берет трубку и вызывает штаб армейской группы, связанный с «97-ф». Кто сегодня дежурит? — Ах, это вы, герр лейтенант?.. — Она представляет себе розовощекое лицо лейтенанта Рунге. — Очень рада, что это именно вы. Вообразите, звоню вам вовсе не по делу. Нет. Просто наши все разъехались. Я одна, и время тянется ужасно медленно… Поболтаем? Если будет необходимость, нас прервут… Наталья Даниловна сообщает об отъезде фон Шлейница, рассказывает подробности: генерал острил, подшучивал над Плечке. Рунге в восторге. У них как раз затишье. В штабе любят такие разговоры. Рунге смакует подробности. Потом он будет козырять своей осведомленностью перед сослуживцами. Мимоходом она спрашивает, не собирается ли кто из штаба в их группу. Нет, никто. Она отнимает от уха трубку, отводит ее в сторону, переводит дух… Снова берется за трубку, слышит болтовню Рунге. Он рассказывает злободневный анекдот. Она не может с ним больше говорить, волнение сжимает ей горло… Но она смеется, весело смеется: — О да, герр лейтенант! Это забавно. Вы остроумный человек… Разговор с Рунге занял тридцать пять минут. И, значит, осталось еще… Не надо смотреть на циферблат.КОНЕЦ МЕЙСНЕРА
Она не смогла бы потом рассказать, как прошли остальные часы. Но вот последняя минута. Теперь надо торопиться. Они уже там. Если бы дело сорвалось, было бы уже известно. Наталья Даниловна вышла из дома, завела мотоцикл. Ее проводил вой запертого в доме пса. Когда она пересекла шоссе, солнце стояло уже высоко. Вот то место в лесу, где ее должен встретить Пищик. Оставалось еще десять минут до его приезда. Куковала кукушка. Наталья Даниловна загадала: «Сколько мне осталось жить?» Но кукушка внезапно замолчала. — Ну нет! — сказала вслух Наталья Даниловна и загадала снова: «Кукушка, кукушка, через сколько дней я увижу Платонова?» Где же Пищик? Двадцать минут. Неужели все-таки кончилось провалом? Дурные предчувствия охватили ее, и потому она не удивилась, когда на лесной дороге, на мотоцикле, показался Мейснер. Он обрадовался, увидев ее. — Случайная и приятная встреча. Еду встречаться с одним человеком, встречаю другого. Вундербар![91] «Он еще ни о чем не знает», — подумала Наталья Даниловна. Они поговорили минуты три. — Простите, мне пора, — сказала Наталья Даниловна и пошла к своему мотоциклу. — Нет, нет! — Мейснер крепко схватил ее за руку. — Вы останетесь здесь! Вы мне нужны. Я еду из штаба. Мне там сказали, что Плечке выехал. Мы подождем его. Вы нам нужны обоим. — Для чего? — Все в свое время, фрау Натали. Впрочем, мы сейчас можем договориться с вами. Плечке не понадобится. Генерал, говорят, поставил на место этого педанта. Правда? Говоря, он положил руку ей на плечо. Мейснер держал себя нагло. Как никогда раньше. Она не подала виду, что заметила это. Они мирно уселись на траве. — Покурим? Возьмите сигареты у меня в сумке под седлом, — сказала Наталья Даниловна. Когда Мейснер отошел, она, вытащив пистолет, стала целиться ему в спину. Но, сделав несколько шагов, как бы догадавшись о чем-то, Мейснер сам вытащил из кармана револьвер и обернулся. В этот момент Наталья Даниловна нажала спусковой крючок. Выстрелы прозвучали одновременно. Мейснер упал после первого выстрела. Вскочив на ноги, она расстреляла в него всю обойму. Наталья Даниловна не замечала, что из рукава у нее льется кровь. В перерывах между выстрелами ей слышался шум подъезжавшей машины. «За мной», — подумала она, и смертельная тоска сжала ее сердце. — Заждались? — послышался знакомый голос. Она обернулась. В гоночном двухместном «Мерседесе» сидел Пищик. — Простите, Наталья Даниловна, задержали меня. Поехали! Что это? Вы ранены? Пищик достал индивидуальный пакет. Он быстро закончил перевязку: — Ничего, кость цела.К СВОИМ!
Машина неслась по лесной дороге, подпрыгивая на ухабах. Пищик, одетый в немецкий мундир, молча сидел за рулем, покусывал трубочку. Они быстро приближались к шоссе, которое надо было пересечь. Там регулировщик проверял документы. — Я буду показывать бумаги. Если он их задержит, бросайте, — сказал Пищик, передавая Наталье Даниловне гранату. — Сможете бросить? — Смогу. Но регулировщик, внимательно прочитав документы, вернул их Пищику. Тот вежливо козырнул: — Мальцайт![92] — сказал любезно Пищик. — Молчите уж! — толкнула его Наталья Даниловна. Они снова въехали в лес. Солнце стояло высоко. Дорога становилась все хуже. — Дальше ходу нет, — объявил Пищик. Он осматривал колеса, увитые цепкими травами. Глухой лес стоял кругом. — Ну, давайте поделим оружие. — Он подал ей гранаты, пистолеты, автомат. — Идите вперед. Пройдя несколько шагов, она услышала взрыв. Пищик догонял ее. — «Мерседес» треснул, — объяснил он. Он тащил узел с одеждой. Они переоделись. Наталья Даниловна сменила свою замшевую куртку на простую деревенскую кофту и большой платок, под которым спрятала оружие. Пищик надел пиджак с полицейской повязкой на рукаве. — Как подойдем к железке, ступайте на три шага вперед, вроде вы арестованная, а я с автоматом, вроде конвоя сзади, — объяснил Пищик. Два раза надо было переходить железную дорогу. Однажды их задержал было солдат, стоявший на путях с автоматом. Но Пищик молча показал ему на пальцах решетку, выразительно кивнув на спутницу. Посмотрев на повязку Пищика, часовой сказал: — Проходи, полицай! Сняв фуражку, Пищик шел, вытирая со лба пот. — Теперь все будет лесом до самой деревни. Тут уже мне днем показываться нельзя — своих полицаев все знают. В ожидании темноты они залегли на опушке в виду незнакомой деревни. Два раза совсем близко от них проходили немецкие патрули. Какое-то странное спокойствие охватило Наталью Даниловну. Рана болела, хотелось спать. И она заснула. Ей снилось, что она у себя в своей комнате в «Таежном» и Пищик кричит под окном. Она открыла глаза. Пищик будил ее. Стояла глубокая звездная ночь. — Пошли в деревню. Я уже палку сломал собак отгонять. Двинулись к деревне. Задами они подошли к избе. Пищик стукнул в окно два раза. Вышел высокий мужчина в шинели, накинутой прямо на белье. Он узнал Пищика: — Нельзя ко мне. У меня фрицы ночуют. Я сейчас оденусь. Пойдем в присутствие. При свете лучины, вздутой хозяином, стало видно, что начальник полиции — пожилой человек с большим лбом над умными темными глазами. Он был одет в полувоенный костюм с полицейской повязкой на рукаве. Хозяин достал из канцелярского шкафа бутылку водки, немецкие консервы и хлеб. — Богато жить стали, Сидор Иванович! — заметил Пищик. — Фонды имеем! — с важностью отвечал начальник и показал на стену.При свете лучины Наталья Даниловна увидела немецкие плакаты и разные объявления. Одно из них гласило, что в распоряжение начальника полиции выделяются фонды для премирования за поимку партизан. Они сели ужинать. — Ты все-таки до утра переправь нас. Нам срочно надо туда, — сказал Пищик. — Сделаю, сделаю! Далеко за полночь, когда они вышли за околицу, звезды закрылись. Надвинулись тучи, вдали вспыхивали сполохи. Они спускались к реке по обрывистому склону, хватаясь за кусты. В камышах был спрятан кое-как сбитый плот. Сидор Иванович достал из кустов два коротких весла. Темная река шумела под порывами ветра. Первые капли дождя упали, когда они ступили на остров. Наталью Даниловну сморил сон. Проснувшись, она увидела Пищика около себя. Он жалобно просил ее съесть что-нибудь: — Сил надо набраться, Наталья Даниловна, ведь вы же раненая! Она о чем-то хотела спросить его и опять уснула… Второй раз она проснулась от холода. Видимо, Пищик ждал ее пробуждения. Он сразу спросил: — Как вы думаете, нашим уже сообщили о том, что мы здесь? — Конечно, они знают. Люба уже отстучала. — Почему же они не едут за нами?.. Уже ведь третьи сутки… — Третьи сутки? Что вы? — Третьи. — Сколько же я сплю? Вот когда сказалось напряжение последних дней, когда сказались эти шесть часов ожидания! Но все это было далеко, далеко… Потянув на себя плащ-палатку, она опять засыпала. Глаза закрывались сами собой, и дрему нагонял беспрерывный шум текущей внизу реки. И снова она проснулась ночью. Частый легкий плеск слышался неподалеку: кто-то греб к острову. Пищик со связкой гранат полз под откос. Было слышно, как лодка, разогнавшись, врезалась в песок. И тотчас раздался тихий голос Пищика: — Хальт! Щелкнул затвор, но выстрела не последовало. «Нет, все равно не могу двинуться», — подумала Наталья Даниловна. Потом она лежала на дне лодки. Ей было видно темное небо, тусклые и редкие звезды. Она очнулась в землянке, на свежем сене, покрывавшем носилки. Девушка в крестьянской одежде с кобурой на поясе сидела около нее. — Где я? — спросила Наталья Даниловна. — У партизан, в штабе отряда. Теперь она снова стала Верой Чистяковой.
ВСТРЕЧА
Стояла та особая выжидательная напряженная тишина, которая отличает ночь в партизанском лагере, — тишина, которая каждую минуту может взорваться вспышкой ракеты, залпом. Полковник Платонов несколько раз выходил из землянки, всматривался в темноту, еще более густую от огненной точки его папиросы, напряженно раздумывал. Вскоре ему предстояло отправиться на ответственное задание с Верой Чистяковой. Если только она вернется. Да, если вернется… Перед рассветом пришел начальник отряда. — Жива? — отрывисто спросил полковник. — Ранена и больна. — Пойдемте! — Платонов затоптал окурок и закурил новую папиросу. Санпункт помещался в центре лагеря. Молодой врач встретил их у входа в землянку. Он стал было объяснять, почему осложнилась несерьезная рана… — Простите, доктор! — Платонов, не дослушав, спустился по крутым ступеням в глубокую, в три наката, санитарную землянку. Фонарь «летучая мышь» светил тускло. Лицо Веры казалось зеленоватым, глаза были закрыты, темные ресницы бросали на щеки густую тень. Она услышала шаги и открыла глаза. Он опустился на земляной пол у носилок. — Здравствуйте, моя дорогая… — Голос его дрогнул. И, чтобы смягчить его тревогу, Вера проговорила: — Мне уже лучше. Я скоро поправлюсь. Сейчас, когда он услышал слабый голос и рассмотрел измученное лицо, ему показалось: только теперь он по-настоящему понял, кем была для него эта женщина. — Не было дня, чтобы я не думал о вас, Вера! Нет, она должна понять его до конца. — Не было минуты, чтобы я не думал о тебе, Вера… Ему хотелось сказать, что все это долгое время он нес на себе двойную тяжесть. Он тревожился за помощника и страшился за любимую женщину. Но надо ли говорить об этом, когда она, раненая, измученная, столько выстрадавшая, лежит в этой землянке, в глухом лесу? Надо ли сейчас говорить о своей любви? Прежняя, чуть лукавая улыбка тронула бескровные губы Веры. — Я знаю, — сказала она, подняв глаза на Платонова, — я всё знаю…Р. Романов Приключения за киноэкраном

С поезда на самолет, с самолета в седло или на легкую плоскодонную лодчонку «душегубку», на мерно покачивающийся верблюжий горб или оленьи нарты, а иногда и просто пешком, с увесистым аппаратом за плечами идут, мчатся, летят кинолетописцы наших дней. В холод и зной, месяцами не зная крова, сегодня по пояс в воде, а завтра подтягиваясь на канатах к горным вершинам, не досыпая и не умываясь, довольствуясь лишь скудным пайком или тем, что удается добыть метким выстрелом охотничьего ружья, — колесят они по стране. И все это для того, чтобы мы с вами, сидя в уютном кинозале, за десять минут перенеслись на сотни и тысячи километров в отдаленные уголки нашей Родины, на новостройки, в пустыни, в чужие, незнакомые края… «Короткометражка» должна уложиться в триста метров пленки. А занимательнейшие приключения участников киноэкспедиций часто так и не доходят до нас. Двадцать пять тысяч километров отмахали, например, за полгода неутомимые кинооператоры, снимавшие на необитаемом острове Ионы лежбище ушастых тюленей — сивучей и постройку автоматической метеостанции, передающей без участия человека сигналы о состоянии погоды в Охотском море. На каждый метр пленки картины пришлось сто километров пути! Ездившие недавно в Исландию советские кинооператоры Максимов и Киселев должны были снимать знаменитые исландские гейзеры. Гейзеры они сняли. Но самые сильные ощущения, по словам оператора Максимова, выпали на его долю во время вынужденной восьмидневной прогулки по Атлантическому океану в рыбачьем катере. Оператор вместе с рыбаками отправился снимать лов сельдей в Атлантике, но попал в девятибалльный шторм и провел восемь суток в разбушевавшемся океане. Громадными водяными валами была разбита спасательная лодка, порваны сети. Маленькое суденышко подбрасывало, как спичечную коробку. А советский кинооператор, к удивлению его исландских спутников, ползал на четвереньках, продолжая крутить ручку аппарата. Лишь на девятые сутки рыбакам удалось причалить к берегу. Старейший из советских кинопутешественников — Владимир Шнейдеров больше тридцати лет работает в области научно-популярного фильма. В каких только малоисследованных районах страны ему не приходилось бывать! Вместе с экспедицией Академии наук СССР, обследовавшей Памирское нагорье, Шнейдеров одним из первых взобрался на «Крышу мира». Она вполне оправдывала в то время свое таджикское название «Па-и-мор» — подножие смерти. Даже большие караваны, пробиравшиеся по этому пути, нередко погибали во время внезапно налетавших снежных бурь. Участники экспедиции проникли в область еще неисследованного «белого пятна», расположенного в месте сплетения высочайших снежных хребтов Гиндукуша, Тянь-Шаня, Куэнь-Луня, Каракорума и Гималаев, чтобы разведать таящиеся в его недрах богатства. Только часть дороги проходила по древним караванным путям, ведущим в Афганистан, Индию и Китай, и по так называемым оврингам. Это длинные подвесные карнизы, сооружаемые там, где нельзя проложить дорогу. Дальше шли уже наугад. Падение вьючных лошадей с висячих мостов в бурлящую горную реку, извлечение из ледовой трещины провалившегося туда альпиниста, встреча с огромными круторогими дикими баранами — архарами, обитающими только на горных вершинах… Да разве можноперечислить все не предусмотренные сценарием интересные кадры, заснятые киноработниками на недосягаемых даже для птиц высотах! В кровь изодранные о скалы руки операторов долго не заживали из-за повышавшегося на такой высоте кровяного давления. Участники экспедиции первыми прошли вековые льды, носящие название «ледника Федченко», обнаружили истоки четырех больших горных рек. Ими были открыты новые перевалы, даны названия высочайшим в мире горным вершинам. Оператор кинохроники В. Придорогин снимал недавно на Памире единственный в мире высокогорный ботанический сад и расположенный на высоте пяти с половиной тысяч метров яководческий совхоз. Пасущиеся на сочных пастбищах этого совхоза яки — неповоротливые животные с мордой коровы и лошадиным хвостом — дают ежедневно два с половиной литра молока такой жирности, что его можно приравнять к сливкам. «Выпьешь кружку этого молока, — уверяет Придорогин, — и затраченные на подъем силы сразу восстанавливаются. Будто на пять лет помолодел». Киноаппарат сопровождает полярников, фиксируя на пленку мельчайшие подробности их работы и быта, потому что подробности эти интересуют миллионы людей. «Как ни удобно стало теперь жить на льдине в отапливаемом переносном домике, — рассказывает оператор Е. Лозовский, зимовавший на дрейфующей станции „Северный полюс-4“, — а киноимущество, аппараты и пленку приходилось держать в разных местах, так как льдина все время ломалась. Однажды от нашей льдины отломился и был унесен за двадцать два километра от лагеря огромный кусище с находившимся на нем аэродромом. После этого о каждой новой трещине население лагеря извещалось тревожным гудком. Сразу же начинались авральные работы, требовавшие от оператора двойных усилий: я должен был участвовать в них наряду со всеми и в то же время не упускать ни одного интересного кадра». Теперь уже трудно обнаружить «белое пятно» на просторах Арктики. Ее избороздили вездесущие вертолеты и вездеходы. Впрочем, на гигантском, раскинувшемся на полмиллиона квадратных километров, полуострове Таймыр еще не так давно можно было найти «белое пятнышко» в сто пятьдесят тысяч квадратных километров. Именно на таком «пятнышке» снимались кинокартины «На побережье Ледовитого океана» и «Озеро Таймыр» — короткометражный фильм о самом большом в Арктике материковом водоеме. Похожие на верблюжьи горбы хребты Бырранга и встречающиеся здесь остатки известковых гор доледниковой эры защитили район озера от стиравших все на своем пути гигантских ледниковых утюгов. Эта каменная ширма до сих пор надежно прикрывает озеро от свирепых полярных ветров. Вот почему на берегах Таймыра можно встретить растительность, для Арктики необычную: тут и ромашки, и альпийские маки, незабудки, карликовые папоротники. Есть даже ивы и карликовые березы, вырастающие всего до пяти сантиметров. Рядом с такой березой обыкновенный гриб подберезовик кажется гигантом. Один ученый шутя предложил переименовать его в «надберезовик». Оператор оказался в затруднении: как заснять такой лесок? Ведь на экране при съемке крупным планом он может показаться обычным лесом! Выход был найден. Рядом с карликовыми деревцами режиссер поставил свою собственную ногу в болотном сапоге; она казалась ногой Гулливера. Однако не всегда в поисках необычайного нужно забираться в заоблачные высоты Памира или ледяные просторы Арктики. В дельте Волги, недалеко от Астрахани, и сейчас еще есть труднодоступные заповедные места, таящие сюрпризы для киноразведчиков. Немало усилий потребовала от операторов попытка заснять спрятавшийся в устье Волги древний цветок лотоса. Он сохранился здесь с незапамятных времен доледникового периода, так как Арало-Каспийская низменность не подвергалась оледенению. Это единственное место в Европе, где можно встретить редкостное растение, считавшееся священным у древних египтян и индусов. Но для этого, совсем как в сказке, охотникам за лотосом пришлось претерпеть немало испытаний. Колонии лотоса расположены в самых труднодоступных местах дельты, покрытых непроходимыми тростниками, густым ивняком и сплошными зарослями водяного ореха — чилима. Розово-алый цветок лотоса раскрывается не сразу. Утром он приоткрывается до половины, к вечеру опять сворачивается в бутон и только на следующий день показывается во всей своей красе, очень скоро сбрасывая, как надоевшее платье, свои побледневшие лепестки. Момент цветения нужно ловить. Сопровождаемые опытными проводниками из Астраханского государственного заповедника, по пояс в воде, толкая Впереди тяжелые рыбачьи лодки с аппаратурой, киноработники с большим трудом продрались сквозь все преграды и сумели заснять все превращения волшебного цветка.
ПО ПТИЧЬИМ БАЗАРАМ
При впадении в Каспийское море, разветвляясь на бесчисленные рукава и притоки, Волга образует обширное мелководье в двенадцать тысяч квадратных километров, густо заросшее влаголюбивыми растениями. Сюда слетаются миллионы птиц. Некоторых из них мы привыкли видеть только в зоологическом саду — например, больших белых цапель, перья которых шли когда-то на украшение шляп и на дорогие веера; горделивых хохлатых колпиков или прилетающих из Африки пеликанов обоих видов: курчавых и розовых, с вместительными кожаными мешками под клювом. Сотни тысяч пернатых живут постоянно целыми колониями в зарослях ивы и тростника. Иные посещают дельту «проездом» — во время линьки, весенних и осенних перелетов. Они останавливаются здесь, как в гостинице, чтобы набраться сил на дальнюю дорогу. Снимая в Астраханском государственном заповеднике фильм «В зарослях волжской дельты», участники киноэкспедиции сооружали из веток искусственные плавучие островки. Прикрепив эти островки к лодке, можно было под их прикрытием приблизиться к пеликаньим гнездовьям. И все же операторам нередко приходилось покидать островки и вести съемку по горло в воде, нахлобучив на голову накомарник с куском черной кисеи перед глазами. Так были засняты наиболее интересные кадры из жизни этих больших пугливых и необычайно подвижных птиц. Например, сцены кормления ими своих отличающихся удивительным уродством детей. Из-за беспомощности и неуклюжести птенцы пеликанов часто гибнут во время моряны, а в часы отлучек родителей терпят обиды от нахальных ворон. Впрочем, одной из таких отлучек воспользовались и кинооператоры, утащившие птенцов из гнезда для съемки крупным планом. Во время работы над картиной «В зарослях волжской дельты» экспедиция не ограничилась наблюдениями над жизнью птиц. Постоянные обитатели волжских джунглей — кабаны также попали на пленку. Питаясь преимущественно крахмалистыми корневищами покрывающих дельту тростников и водяными орехами чилима, кабаны не брезгуют и шмыгающей в мелководье рыбешкой. Участники экспедиции вместе с охотниками построили из крепких бревен загон и организовали отлов свирепых секачей, одним ударом клыков убивающих лошадь. Долго гнали охотники выслеженных собаками кабанов, пока тучные животные не обессилели. Настигнув усталого секача, охотник схватывал его сзади за уши и прижимал к земле. После этого животных связывали и доставляли в вольеру; но загнанные кабаны не доживали до съемки — на другое утро их находили мертвыми. Более эффективным оказался метод «засидок» — установка замаскированной ветками и тростниками камеры на пути убегающих от загонщиков животных. Даже при съемках, казалось бы, совсем безопасных видовых и научно-популярных фильмов операторы зачастую попадают в сложные переплеты. Немало любопытного могут рассказать об этом создатели кинокартины «Остров белых птиц». «Чтобы заснять жизнь чаек на одном из подмосковных водоемов — озере Киёво, — рассказывает режиссер Светозаров, — участники киногруппы пробрались на облюбованный птицами плавучий остров. Остров этот образовался из корневищ камышей и был настолько зыбким, что ходить по нему могли только птицы». Готовясь к съемке картины, киноработники забрались на остров еще зимой, по льду, когда чаек не было, и вбили прочные деревянные сваи. На сваях были сооружены помосты и шалаши. Два месяца жили они на этом острове, наблюдая суетливую жизнь пернатых обитателей. Если необходимо было выйти из укрытия, надевались широкие болотные лыжи и зимние толстые шапки. Как-то раз один смельчак вышел из шалаша без шапки, зоркие чайки стали на него пикировать и с ожесточением клевать в голову. Чайки очень хорошо защищают свое поселение. Когда возникает опасность для всего острова, они покидают птенцов и дружной стаей бросаются на врага. Чтобы показать это на экране, киноработники однажды выпустили привезенного с собой в клетке коршуна. Десятки тысяч птиц мгновенно взвились в небо такой плотной стаей, что заставили коршуна снизиться. Если бы люди не подоспели на помощь, чайки заклевали бы его. Не менее рискованные приключения пережили кинооператоры, снимавшие птичий базар в Арктике. «Вылетев на Новую Землю, — рассказывает режиссер картины „Во льдах океана“ А. Згуриди, — наша группа на лодке добралась до заселенного птицами скалистого острова губы Безымянной. Причалить к острову и выгрузить тяжелую аппаратуру было трудно. Высокая волна бросала лодку из стороны в сторону, берега были настолько крутые, что пришлось прыгать прямо в ледяную воду. Добраться до птичьих гнездовий можно было только с вершины скалы. Один из операторов закинул на эту вершину канат и, закрепив его, помог взобраться остальным. Съемочными площадками служили узкие карнизы отвесных скал, на которых едва мог удержаться один человек. На таких площадках операторы в пасмурную погоду неподвижно простаивали целыми часами, приучая птиц к своему присутствию и дожидаясь подходящего для съемки момента. Начался шторм, сопровождавшийся дождем и снегом. Операторы оказались отрезанными от своей базы на Новой Земле. Без палаток, спальных мешков и продуктов, в насквозь промокшей меховой одежде, киноработники, среди которых была и женщина, провели пять суток на шквальном ветру. Только на шестой день, обессиленные от холода и голода, они были наконец спасены приплывшими с Новой Земли товарищами».В МАСКХАЛАТЕ И… В КЛЕТКЕ ЛЬВА
На какие только ухищрения не приходится пускаться при съемке других, не менее пугливых, чем птицы, животных! Неповоротливая нерпа очень осторожна. Чтобы ее заснять, надо часами караулить около пробитой во льду лунки, поджидая, пока нерпа вылезет хлебнуть свежего воздуха. Шум киноаппарата заставляет ее снова нырнуть в воду. Операторы придумали такой способ: около лунки, из которой может появиться нерпа, они кладут обыкновенный лист фанеры с прикрепленным длинным тросиком. Чуть только нерпа выползет на лед, оператор дергает за трос и закрывает фанерой лунку. Путь отступления отрезан. Волей-неволей нерпа вынуждена позировать перед киноаппаратом. Чтобы заснять крупным планом тюленей, операторы должны были надевать белые маскировочные халаты и, прячась за торосами, подкрадываться к животным по льду; в лютый мороз члены съемочной группы вынуждены были подолгу лежать на льдинах, выжидая, когда тюлень повернется мордой к аппарату. Только доверчивые полярные мишки не боятся людей. «Однажды, — рассказывает оператор кинохроники Е. Лозовский, — три белых медведя подошли к самому борту застрявшего во льдах парохода. Мы бросали им хлеб и снимали сколько душе угодно. Зато позднее, чтобы отогнать мишек от парохода, пришлось даже прибегнуть к чрезвычайным мерам: капитан дал пронзительный гудок, и лишь после этого назойливые гости бросились наутек… Все же один на один с кем-нибудь из этих „покладистых артистов“, — добавляет Лозовский, — я не хотел бы встретиться. Когда отправляешься в Арктику, одеваешься очень тепло, и это затрудняет движения. А мишка в своей шубе бегает по торосам и разводьям очень быстро, отлично плавает и ныряет. Далеко от него не уйдешь, никуда не спрячешься. Такой „артист“ весьма опасен». Арктические озера кишат рыбами самых ценных пород. Достаточно опустить в воду крепкую бечевку с привязанным к ней кривым гвоздем и наживкой, как доверчивая и никем не пуганная полярная рыба заглатывает ее. Вытаскивай дурочку, пересаживай в аквариум и снимай! Но под объективом киноаппарата даже хладнокровные рыбы начинают нервничать. Известен случай, когда большая щука, снимавшаяся в фильме «Среди зверей», испугавшись яркого света «юпитеров», получила шок и «упала в обморок», всплыв вверх брюхом. Хорошо, что присутствовавший при этом научный консультант догадался привести ее в чувство массажем; съемка могла продолжаться. Очень болезненно реагируют на свет и беспозвоночные животные. Красивый морской хищник актиния, похожая на хризантему, обитает в темных уголках морского дна. Во время съемки картины «В глубинах моря» (режиссер А. Згуриди) актинии испугались света и сейчас же свернулись в «бутоны». Тогда их пересадили в специальный бассейн и стали давать пищу только при электрическом свете. Спустя две—три недели актинии научились есть при освещении и перестали свертываться. Таким же способом в фильме «Лесная быль» заставили сниматься и других животных, например бобров, выползающих из своих нор только по ночам. У каждого зверя свой характер. Нужно только изучить его нрав и повадки и, придумав какую-нибудь хитрость, использовать их в соответствии со сценарием. «Дрессированные звери, — утверждает кинорежиссер Б. Долин, постановщик известной картины из жизни лисиц „Закон великой любви“, — вообще не годятся для съемок. Они недостаточно свободны в своих движениях». Вместо бесплодных попыток научить четвероногую «кинозвезду» изображать грусть, гораздо проще взять дублером другую, всегда грустную собаку, похожую на первую. Зритель не заметит подмены. И вот во время съемок фильма «Закон великой любви» можно было увидеть в «артистической» уборной несколько похожих друг на друга пушистых лисят. Один из них был грустный, другой веселый, третий жалобно повизгивал. Все они изображали одного лисенка, главного «героя» картины, но в разных состояниях. Снимается как будто совсем простой эпизод: «Полкан подкрадывается к добыче». Аппетитный кусок мяса брошен на пол, свет включен, оператор приготовился. Но изображающий Полкана пес очень взволнован непривычной обстановкой. Перед объективом он не только не хочет «подкрадываться», но и вообще не притронется к «добыче», как бы ни был голоден. Помощник режиссера выпускает другую, менее щепетильную собаку. Ее не пугает ни киноаппарат, ни яркий свет «юпитера»; лишь бы скорее дорваться до мяса, подкрасться, схватить и убежать. Когда такой же кусок мяса бросили льву, флегматичный «царь зверей» не сдвинулся с места. Тогда его выпустили в вольеру, а кинооператора… посадили в львиную клетку, дав ему в придачу козленка. Что стало со львом! Как он преобразился! С каким нетерпением подкрадывался к клетке! Сидящему за железными прутьями оператору стало как-то не по себе, рука менее уверенно крутила ручку аппарата, и первые кадры вышли совсем не в фокусе. Едва козленок был выпущен на волю, лез прыгнул на него и ударом лапы сбил с ног. Прыжок этот удалось заснять. Кадр получился отличный! К съемке тигрицы в зоопарке готовились с большими предосторожностями. Ее перегнали из постоянной клетки в специально построенный раздвижной павильон, обеспечивавший все необходимые условия для съемки. Директор картины, предусмотрительно взявший у участников киногруппы подписку о том, что они не будут даже входить в павильон, был сильно озадачен, когда после включения света съемка оказалась сорванной из-за того, что осветитель… чихнул. Тигрица поджала хвост и, дрожа всем телом, бросилась от него в сторону. Иногда режиссеру помогает случай. При съемке одного эпизода в «Дуровском уголке» слон отказался выполнять то, что от него требовалось. В это время в саду, где работала съемочная группа, сын дрессировщика, трехлетний мальчуган, которого слон не раз возил в колясочке, поливал из шланга цветы. Слону захотелось пить, и он стал вырывать у малыша шланг. Мальчик был не из пугливых и продолжал тянуть шланг к себе. В конце концов победил, конечно, слон. Вырвав шланг, он пустил себе в рот сильную струю воды, а потом вежливо возвратил шланг своему давнему знакомому. Оператор успел заснять этот не предусмотренный сценарием эпизод, и он был вставлен в картину вместо первоначального, гораздо менее интересного. Так слон внес свою поправку в сценарий кинофильма. Уж, кажется, на что понятливые и умные животные — слоны, обезьяны и собаки! А попробуйте заставить слона поставить на определенное место какую-нибудь вещь. Взять-то он ее, конечно, возьмет, но потом будет долго водить хоботом по сторонам и поставит ее обязательно не в указанное вами, а в полюбившееся ему самому место. В том же фильме «Дуровский уголок» была показана знаменитая дуровская звериная железная дорога; слону здесь досталась роль грузчика: он должен был поднять клетку с мышами и поставить ее в вагончик. Клетку слон сейчас же поднял, но поставить ее на место, выбранное режиссером, ни за что не хотел. Конечно, дрессировщик, поработав месяц с этим слоном, добился бы желаемого результата, но режиссер короткометражки, в которой занято много зверей, не может возиться по месяцу с каждым упрямым «актером». Режиссер Н. Агапова применила хитрость: она сама поставила клетку с мышами в вагончик. Слон сейчас же подцепил ее своим хоботом и снял с вагона. Но как раз это и было теперь на руку режиссеру. Процесс снимания слоном клетки из вагончика был переснят методом обратной съемки, и на экране получилось, что слон все-таки ставит клетку в вагон. Для картины «Закон великой любви» нужно было снять драматическую сцену, в которой собака бросается на лису, защищавшую детенышей. Молодая овчарка, которой поручили эту роль, была очень ценной породы, и помреж опасался, как бы лиса не покусала ее. Поэтому, считая лису обреченной, он даже распорядился завязать ей морду. Каковы же были удивление и досада режиссера, когда он убедился, что овчарка, увидев лису с завязанной мордой, решила, что это «нечестная» борьба, и не только не бросилась на нее, а стала с ней играть. Пришлось заменить эту слишком щепетильную «актрису» другой. Когда в Московском зоопарке решили снимать шимпанзе Париса и приставили для этого к клетке киноаппарат, «артист» сразу же проникся недоверием к оператору. Просунув лалу сквозь решетку, Парис попытался схватить аппарат, как бы желая этим сказать: «Я предпочитаю снимать сам». Аппарата ему, конечно, не дали. Тогда шимпанзе попытался втащить в клетку стоявшую неподалеку научную сотрудницу зоопарка Левыкину. Он схватил ее за рукав жакета с такой силой, что Левыкина была вынуждена немедленно снять жакет. Втащив в клетку свой трофей, Парис принялся тщательно его исследовать. Обнаружив в кармане порошки от простуды и канцелярские скрепки, он тут же развернул бумажки и слизал весь стрептоцид, а скрепками великодушно поделился через решетку с другими обезьянами, громко выразившими ему свою благодарность. После этого весь обезьянник стал с интересом наблюдать за дальнейшим обследованием карманов. Основательно потрепанный жакет был возвращен владелице только после того, как Парису предложили его любимое угощение: яблоки и газированную воду. При виде яблок он еще колебался, но от газировки отказаться не смог и вернул жакет. Сколько пленки испортит оператор, прежде чем добьется даже от такого смышленого животного, как Парис, требуемого сценарием поведения! К счастью, это учитывается: для съемки картины, в которой «артистами» являются животные, разрешается расходовать в три раза больше пленки, чем для обычного кинофильма.ОСТОРОЖНО, «АКТЕР» КУСАЕТСЯ!
Длинноухий тушканчик целый день спит в своей норе, забитой земляной пробкой. Попробуй-ка, выуди его оттуда! Сурка еще можно встретить около норы, но едва он услышит шорох киноаппарата, как сейчас же нырнет обратно да успеет еще резким свистом предупредить об опасности всех своих сородичей. Дикий осел-кулан и тот научился стремительно бегать, а для того чтобы заснять быстроногую антилопу с лирообразными рогами — джейрана, надо устраивать настоящие автомобильные гонки по всей пустыне. В Кара-Кумах негде устроить засаду. Здесь не увидишь протоптанных животными звериных троп, ветер заметает песком все следы. Разве только приученный к охоте зоркий беркут поможет выследить зверя: зайца, лису или даже волка. Вцепившись острыми когтями в свою жертву, он будет держать ее и клевать до тех пор, пока подоспевший охотник не отнимет ее. Вот этот момент и нельзя пропустить. Надо успеть снять зверя, пока он еще дышит. Не слезая с коня, не выпуская из рук легкой автоматической камеры, операторы целые дни скачут на лошадях по раскаленной пустыне вдогонку за зоркими крылатыми хищниками. В картинах «Ядовитые змеи» и «В песках Средней Азии» основные «действующие лица» — обитатели пустыни. Змеи и ящерицы с трудом переносят семидесятивосьмиградусную жару. Днем, когда почва раскалена, они прячутся и выходят на охоту лишь по ночам. Снимать же кинофильмы можно только днем. Поэтому два специально командированных змеелова выехали ранней весной — в эту пору все пресмыкающиеся любят греться на солнце — в кишащую змеями долину Мургаб, чтобы отловить «актеров». Пойманные ими «трагические артистки» — кобры, гюрзы и эфы — были присланы в Москву по почте в особом ящике с предостерегающими надписями: «Опасно», «Не кантовать», «Ядовитые змеи»; затем «гастролеров» поместили в специальное отделение зоопарка, где и была проведена часть съемок. Глядя, как в кинокартине «Ядовитые змеи» опасная среднеазиатская змея эфа заглатывает мышонка, вы вряд ли догадаетесь, как долго бились режиссер этого фильма Н. Агапова и операторы, чтобы заставить ее это сделать перед объективом киноаппарата. Вначале, когда в клетку к змее впустили мышонка, она не обратила на него никакого внимания. Дежурившие посменно около змеи кинооператоры совсем потеряли терпение, ожидая, когда наконец эфа соблаговолит «позавтракать». Мышка беззаботно бегала по клетке, наслаждаясь радостями жизни на глазах у змеи. Однажды разыгравшийся мышонок даже сам укусил змею за хвост. Но змея и тут не обратила на него внимания. Только через несколько недель эфа сжалилась над киноработниками, укусила мышку, потом отползла и подождала смерти своей жертвы, как делают все гадюки, и лишь после этого приступила к трапезе. С помощью киноаппарата, снимающего двадцать четыре кадра в секунду, удалось уловить момент змеиного укуса. Для этого понадобилось всего шесть кадров. На первых двух было видно, как мгновенно выбросилась верхняя часть туловища эфы с тут же раскрывшейся пастью. Все участники киногруппы, снимавшие эту картину, единодушно утверждают, что змеи никогда не нападают на человека, если он их не потревожит. Но так как никто не может знать, когда именно змея сочтет себя потревоженной, во время съемок постоянно дежурила медсестра, готовая в любой момент вспрыснуть сыворотку, помогающую от змеиных укусов. Такая помощь понадобилась герпетологу И. Даревскому, которого укусила гюрза в тот момент, когда он укладывал в ящик другую пойманную им змею. Гюрза была очень недовольна тем, что ее потревожили. Живородящая змея эфа произвела на свет змееныша всего в два сантиметра, но, когда неопытная сотрудница взяла его в руки, только что появившийся на свет гаденыш счел себя потревоженным и укусил ее. Зуб его был настолько крохотным, что сотрудница даже не почувствовала укуса и через несколько часов могла бы умереть, если бы не были приняты чрезвычайные меры к ее спасению. Кинорежиссер А. Згуриди рассказывает, что во время съемки кинофильма «В песках Средней Азии» животных отлавливал очень смелый и ловкий юноша Борис Тишкин. Ему было только семнадцать лет, но в местном отделении Академии наук он считался одним из самых опытных специалистов по поимке ядовитых змей и ящериц. Борис ловил их по ночам, когда те выходили охотиться, и доставлял потом на базу киноэкспедиции. Однажды ранним утром юноша, очень испуганный, прибежал в лагерь и, разбудив всех, стал требовать, чтобы ему немедленно отрубили руку. Оказывается, его укусила эфа. Зная, что распространение яда грозит смертью, юноша пытался сразу же откусить проколотый зубами эфы палец, но не смог этого сделать. Искусанный змеей и им самим палец сильно распух. В лагере не оказалось медработника, но ему все же вспрыснули в руку противоядие и, укутав несколькими одеялами, с волнением ждали наступления следующего утра. Вакцина подействовала — юный змеелов выздоровел. Самыми опасными и трудно уловимыми змеями считаются кобры. Еще в древние времена они наводили священный ужас на египтян. Обитающая в Советском Союзе бурая одноцветная кобра отличается от своей индийской сестры, называемой «очковой змеей», отсутствием именно этого характерного, похожего на очки, рисунка на шее. За это нашу кобру называют «слепой». Однако по токсичности яда «слепая» кобра опаснее очкастой индийской. Эта осторожная дневная змея предпочитает жить на каменистых предгорьях и осыпях, в ущельях и поймах рек и только в редких случаях заползает в поисках пищи в сады и огороды. Охотясь в одиночку, кобры, по-видимому, даже разграничивают между собой участки: там, где охотится одна, редко встретишь вторую. После охоты змеи обычно возвращаются на свое место. Для съемки в картине «Ядовитые змеи» змееловам удалось поймать всего трех кобр. Но одна из них не вынесла переезда по железной дороге и околела в пути, у другой оказался оторванным язык, и поэтому ее нельзя было снимать крупным планом, и только третья оказалась полноценной «актрисой». Эту кобру особенно берегли. Герпетолог Даревский даже поил ее с ложечки водой. Но однажды, укладывая змею, он нечаянно задел кончиком хвоста кобры притаившуюся на дне ящика маленькую эфу. Разозленная эфа тут же укусила кобру, и вскоре, к большому горю всех участников съемочной группы, «премьерша» скончалась. Вот почему, учитывая не совсем обычные свойства характера и привычки этих «актеров», герпетолог прибегал к такому приему: он нарочно тревожил их, давал им кусать платок, кепку, все, что попадется под руку. Выпустив почти весь запас яда, кобры становятся менее опасными. «Но разве можно, — удивится читатель, — перед самой киносъемкой утомлять „актеров“?» Когда обратились с таким вопросом к Лебедеву, он ответил нам так: утомленных змей легче снимать, с ними меньше хлопот, они реже уползают из поля зрения кинооператора и не так часто зарываются в песок. Необычайно чувствительных ко всяким переменам температуры, заряжающихся на определенный срок теплом и по истечении этого срока как бы цепенеющих змей перед съемкой приходится искусственно подогревать или, наоборот, опускать в холодную воду. Так приходилось поступать со слишком разомлевшими от жары «актрисами», после того как съемки были перенесены из Москвы в их родную Мургабскую долину. Чтобы змеи не убегали, их снимали в специальных «вольерах», устроенных на столах. Однажды режисер Н. Агапова увидела на песке, недалеко от места съемки, свернувшуюся в клубок змею. — Почему вы распустили «актеров»? — спросила она герпетолога. — Вон лежит наша гюрза! Однако, когда змей пересчитали, все «артистки» оказались на месте. Выяснилось, что это была не «артистка», а «зрительница», обитавшая, очевидно, в районе съемки. Ее сразу же поймали и стали снимать. Пойманная гюрза отличалась большей подвижностью и вела себя перед аппаратом гораздо свободнее, чем ее прибывшие из Москвы товарки. Участникам экспедиции, снимавшим картину «Ядовитые змеи» в кишащих опасными пресмыкающими районах Средней Азии, приходилось постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на змею. В то же время они должны были поглядывать и на небо: над местом съемок часто кружили орлы-змеееды, которым ничего не стоило утащить из-под самого носа одну из «артисток». Спору нет, профессия киноартиста, оператора, режиссера таит в себе много привлекательного. Но что вы скажете, если вашим партнером по картине окажется четвероногий или пресмыкающийся «актер», только что выпущенный из клетки с бросающей в дрожь надписью: «Осторожно, кусается!»В ПЕСЧАНОЙ ЛОВУШКЕ
Тяжелый путь по горам и пескам Средней Азии от Сталинабада до Красноводска проделала киноэкспедиция, снимавшая под руководством молодого режиссера Ельницкой картину «Загадка лёсса». Эта картина наглядно подтверждает эоловую теорию крупнейшего русского геолога академика В. Обручева о пылевой структуре земли, выносимой ветрами из пустынь и превращающейся в плодородный лёсс. Участники экспедиции наблюдали стремительное скопление пылевых частиц в пустыне во время песчаных бурь. Они взбирались в Кара-Кумах на высокие песчаные барханы, прослеживали образование лёсса на водораздельных перевалах и адырах — крутых предгорьях, используемых в Узбекистане под пастбища. Возникавшие из этих частиц стойкие беловатые туманы застилали солнце даже в безветренную погоду. Несмотря на все предосторожности, песок забивался в кинокамеры, останавливал ручные часы, проникал в застегнутые карманы и под лацканы пиджаков. Съемка фильма, посвященного невесомой пылинке, оказалась далеко не легким предприятием. Еще более сложную задачу взяли на себя киноработники, снимавшие в малоисследованных районах Монголии научно-популярную картину «На поиски динозавров». Известный русский путешественник Г. М. Потанин нашел семьдесят лет назад кости этих древних животных возле останца Цундж — одинокой скалы, похожей на сфинкса или лежащего льва. Но как разыскать теперь этот останец? За семьдесят лет многое изменилось, проводника найти было невозможно — из-за засухи монголы откочевали в другое место. Участники экспедиции должны были целиком полагаться на самих себя. Они доверились знаниям и опыту возглавляющего экспедицию ученого — профессора Ефремова. «Мы шли сначала по старым картам, — рассказывает оператор Прозоровский, — потом по интуиции. Но коварная природа сильно осложнила путешествие. Она послала нам навстречу густой туман. За полкилометра впереди ничего не было видно. Двое суток мы с трудом продвигались в этом тумане на двух автомашинах. В радиаторах кончилась вода. Пришлось слить остатки ее в одну машину и вместо останца разыскивать колодец. От результата этих поисков зависел успех экспедиции. И вдруг, проезжая по заросшей саксаулом песчаной ложбине, мы наткнулись на отесанный столб. „Поблизости должна быть вода“, — сказал профессор Ефремов. Мы безуспешно искали ее в течение нескольких часов, но больше никаких примет, указывающих местонахождение колодца, не обнаружили. Лишь в одном месте мы наткнулись на большую кучу саксаула, заготовленного, очевидно, на топливо. „Вода должна быть под этой кучей“, — объявил профессор. Мы разобрали кучу, но и под ней не оказалось ничего, кроме песка. Однако профессор Ефремов на этом не успокоился. Он приказал разрывать песок. И действительно, вырыв яму глубиной в полметра, мы нашли под песком звериную шкуру. Она прикрывала деревянную решетку колодца, наполненного отличной водой».«САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВАРИТЬ КАШУ»
В Советском Союзе действующие вулканы имеются лишь на Камчатке и на Курильских островах. Впервые они были засняты в короткометражном фильме «В стране вулканов», показавшем работу специальной вулканологической станции Академии наук СССР около Ключевской сопки. Только один главный кратер вулкана во время большого извержения выбрасывал до четырнадцати миллионов кубометров лавы и сто шестьдесят миллионов кубометров пепла, песка и прочих «отходов». Из побочного кратера лава сползала огненным потоком длиной в шестнадцать километров. Когда вулкан успокоился, кинооператоры поднялись на склоны сопки вместе с учеными, чтобы снять их работу в этом побочном кратере. В момент съемки вулкан дремал. Еще по дороге к нему были сняты дымящиеся фумаролы — небольшие трещины в земле, выпускающие струйки газа. Попробуйте воткнуть в такую трещину сухую палку — она моментально обуглится и превратится в зажигалку: можно закурить от нее папиросу. Забитый большими глыбами камней и лавы кратер Туйлю извергал дым и газ. Дым застилал объектив камеры. Кашляя и задыхаясь, операторы нацелили киноаппарат в самый зев кратера, а один из научных работников спустился туда на канате, чтобы измерить температуру газов и взять пробы минералов. Еще не так давно все учебники географии утверждали, что водяные вулканы, или гейзеры, существуют только в трех странах: в Исландии, в Северной Америке (Иеллоустоунский парк) и в Новой Зеландии. В 1941 году сотрудница Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке Устинова установила, что и у нас в Советском Союзе имеются отличные гейзеры. Они были обнаружены на берегу камчатской реки Шумной, протекающей недалеко от вулкана Кихпыныч. Для съемки гейзеров к подножию вулкана была отправлена специальная экспедиция. Сквозь сплошную тайгу съемочная группа пробиралась на западную сторону вулкана Кихпыныч и по крутому склону, через забитое снегом ущелье спустилась в теплую долину гейзеров. Здесь, окруженные густыми облаками белого пара, из земли били сильные струи кипятка. Тут же рядом вскипали серые и коричневые грязевые вулканы, и около них поблескивали маленькие, тихие, слегка дымящиеся озера. Поставьте в такое озеро, лучше всего прямо в гейзер, кастрюльку с зачерпнутым здесь же кипятком, насыпьте туда крупы, и через несколько минут можете угощаться отличной кашей. Каждый гейзер действует по своему графику: он извергает кипяток через строго определенные промежутки времени, хоть часы проверяй. Самый большой гейзер назывался «Великаном». Каждые три часа он выбрасывал водяной столб вышиной шестьдесят метров и облако пара на высоту триста метров. Оператор ставил киноаппарат около бурлящего жерла грифона и, рискуя обвариться, снимал наиболее эффектные фонтаны. При этом чуть не погиб режиссер фильма Тихонов. Поскользнувшись на крутом склоне, он упал и покатился в широкий грифон уже начавшего фонтанировать «Великана». Если бы ему не удалось зацепиться за камни у самого края грифона, он мог бы свариться.В ГОРЯЩЕМ ВАГОНЕ СКВОЗЬ ДЖУНГЛИ
Сколько захватывающих эпизодов можно было бы рассказать о работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны! Многие из них, рискуя жизнью, шли вместе с партизанами в тыл врага и снимали кадры кинохроники с борта несущегося в бой танка или самолета. Такое же мужество совсем недавно проявили три советских киноработника: Р. Кармен, В. Ешурин и Е. Мухин, ездившие во Вьетнам для съемки документального фильма об отважной борьбе вьетнамского народа за свое право строить новую жизнь. Кинооператоры были первыми советскими людьми, ступившими на вьетнамскую землю в разгар освободительной войны. На беду, первые трое суток съемочной группе разрешалось передвигаться только ночью, когда снимать невозможно. Все дороги простреливались. При свете бамбуковых факелов происходили первые радостные встречи с жителями деревень. Когда автомобильный путь кончился, пришлось идти пешком по вырубленным в джунглях узким тропинкам, переходить вброд коварные речки или переправляться на бамбуковых плотах. Киноработники нередко попадали в тропические ливни, длившиеся сутками, подвергались опасности нападения тигров, грозный рев которых доносился из чащи. Однако, преодолев все трудности передвижения по тропическим зарослям и горным переходам в охваченной войной стране, операторы за полгода успели снять не только боевые действия народной армии, закончившиеся победоносным вступлением в освобожденную столицу Вьетнама — Ханой, но и жизнь мирного населения, занятого напряженным трудом на спрятанных в джунглях военных заводах, на рисовых полях, ананасных и кофейных плантациях. Если бы ездившие в Индонезию советские кинооператоры В. Микоша и И. Сокольников засняли на пленку все, что произошло лично с ними во время их путешествия, получился бы не хроникальный, а захватывающий, полный неожиданностей приключенческий фильм. Еще до выезда из столицы Индонезии — Джакарты советских операторов предупредили, что в густых зарослях джунглей, через которые им придется проезжать, скрываются бандиты, связанные с бывшими колонизаторами страны. Поэтому к поезду, идущему в Джокьякарту, был прицеплен специальный вагон с охраной. Но поезд все же подвергся нападению. Притаившиеся в джунглях бандиты обстреляли его зажигательными пулями. Вагон, в котором ехали советские кинооператоры, загорелся. Один из пассажиров нажал кнопку стоп-крана, но машинист не остановил поезд, а только слегка замедлил его ход и затем снова стал набирать скорость. Вагон продолжал гореть, и кинооператоры испытывали большую тревогу: ведь они взяли с собой легко воспламеняющуюся кинопленку и несколько кинофильмов для друзей Советского Союза в Джокьякарте, в том числе картину «За мир и дружбу». Как потом выяснилось, машинист не решился остановить поезд в джунглях, опасаясь нападения бандитов. Только когда опасный участок остался позади и поезд, поднявшись на высокую дамбу, въехал на мост, он остановился. Пламя уже было настолько сильным, что с помощью одних только огнетушителей загасить его не удалось. Пожар был прекращен на ближайшей станции, когда горящий вагон поставили под мощную струю водопроводного крана для паровозов. Индонезия, Америка, Китай, Италия, Египет, Англия, Швеция, Япония, Таиланд, Ирак, Исландия — во всех этих странах успел побывать Микоша во время своей работы в кинохронике. Ему не раз приходилось попадать в опасные переделки подобно той, какую он пережил в Индонезии. Америку, например, Микоша увидел… из окна полицейского автомобиля. Это было еще во время Великой Отечественной войны. На английском судне оператор прибыл в Нью-Йорк, чтобы оттуда поездом добраться до Сан-Франциско. Там Микошу ждал советский пароход, на борту которого предстояло провести дальнейшие съемки. Однако едва кинооператор ступил на землю дружественной союзной страны, как прямо с корабля его пересадили в полицейскую машину и привезли в Элис-Айленд — пресловутый «остров слез», где в чисто американском темпе, через несколько часов, над ним состоялся суд. Судья спросил Микошу, с какой целью он прибыл в Америку и не собирается ли он свергать существующий строй? Ответ кинооператора, что у него, разумеется, не было таких намерений, не убедил судью, и суд вынес решение о запрещении Микоше пребывания в Соединенных Штатах. Это решение могло быть обжаловано в двухмесячный срок. За это время Микоша успел побывать во многих американских городах и повидаться с Чарли Чаплиным, жившим тогда в Америке. Знаменитый артист очень гостеприимно встретил советского кинооператора и с интересом посмотрел показанный им фильм о героической обороне Севастополя. Надо сказать, что во время съемок этого фильма оператор был ранен. Микоша — один из трех советских операторов, сумевших накануне подписания японцами на борту американского линкора «Миссури» акта о капитуляции пробраться в еще никем не занятую столицу Японии прежде своих американских коллег. На площади перед дворцом микадо он даже застал корчившихся в предсмертных судорогах самураев, совершивших «харакири» в знак протеста против окончания войны. «Сначала я думал, — вспоминает Микоша, — что на площади валяются раненые во время последней бомбежки жители Токио, но оголтелые самураи сами распарывали себе животы уже после прекращения военных действий…» Во время этой киносъемки Микоша чуть не был подстрелен стражей императорского дворца. Все киноработники, производившие съемки в Китае, сходятся на одном: приветливое отношение населения к советским людям очень облегчало работу. И если и тут им иногда приходилось преодолевать затруднения, то это были трудности совсем особого рода. Кинооператор А. Хавчин, пробывший целый год в Китае, первым из советских людей побывал в городе Ханьчжоу. Отдав должное старинным храмам и пагодам на берегах священного озера Си-фу, Хавчин не упустил случая запечатлеть и окружающие город знаменитые чайные плантации, на которых проходили практику студенты агрономического факультета местного университета. На другой день он решил снять тех же студентов в помещении университета и попросил их прийти туда. Оператор был очень удивлен, когда в назначенный час увидел возле университета толпу в полторы тысячи человек. — Что здесь происходит? — спросил он. — Почему к университету собралось столько народу? — Это все студенты, — объяснили ему. — Они пришли сюда потому, что узнали о вашем приезде, и не отпустят, пока вы не расскажете, как живет советская молодежь. Уже давно вышедшему из юношеского возраста и никогда не делавшему докладов кинооператору пришлось удовлетворить просьбу студентов. Он рассказывал целых полтора часа. Слушатели засыпали его вопросами и упросили спеть им несколько советских песен. Только после этого Хавчин мог приступить к съемке. Ездившие на международную ярмарку в Дамаск советские кинохроникеры С. Киселев и И. Горчилин были первыми кинооператорами, снявшими в центре Сирийской пустыни развалины древнего города Пальмиры и отрытый во время производившихся там раскопок храм. Из 1460 колонн, окаймлявших парадную арку при въезде в город, сохранилось немногим больше ста. Но и они представляют большой научный интерес, так как на колоннах сохранились скульптурные портреты почетных граждан древнего города. Советские операторы были желанными гостями в шатрах кочевников-бедуинов и в глиняных лачугах землепашцев-феллахов. Многое из того, что наблюдал в Пакистане кинооператор О. Арцеулов, не уложилось в рамки снятого им там видового кинофильма. Арцеулов попал в Лахор во время большого наводнения, вызванного сильными дождями в горах. Это наводнение началось так стремительно, что многие жители, не успев забраться на деревья, утонули. Карабкавшимся на деревья вместе с женами и детьми крестьянам приходилось сгонять с ветвей огромныхгрифов-стервятников, уже приготовившихся клевать трупы утопленников. На деревья взбирались и обвивали плотным кольцом стволы выгнанные наводнением из своих нор большие четырехметровые змеи. Нетрудно представить себе состояние сутками не смыкавших глаз крестьян и их до смерти перепуганных ребятишек, вынужденных терпеть такое соседство! Пострадавшим от наводнения сбрасывали с самолетов продовольствие, но изголодавшиеся люди не могли выловить его из воды, так как обвившиеся вокруг стволов змеи не давали им спускаться вниз. Лишь на пятый день, когда вода стала спадать и змеи уползли, крестьяне смогли покинуть деревья.* * *
Постановщики научно-популярных и видовых фильмов, исколесившие вдоль и поперек многие страны и отдаленные малоисследованные уголки нашей Родины, сейчас готовятся к новым экспедициям. Об увлекательных приключениях, которые придется испытать участникам этих экспедиций, мы расскажем после их возвращения.А. Дугинец Боевой топорик Яношика
Партизанская быль

КЛЯТВА В ПЕЩЕРЕ
На высокой черной скале стоял загорелый суровый юноша с немецкой винтовкой за спиной. А внизу, в узком лесистом ущелье, дремали прикорнувшие возле речки домики словацкой деревни Туречка. Оставалось спуститься, разыскать Яна Ковача и передать ему тайну Вацлава Гудбы. Найти в деревне человека, если знаешь фамилию, совсем нетрудно. Зайди в первый попавшийся дом и спроси. Но о Яне Коваче запросто спрашивать нельзя. К этому надо подойти так, чтобы никто ничего не заметил. Вот если бы увидеть кого в лесу, да поговорить один на один! Но вечером кто пойдет в лес? Кому охота попасть на заметку гардистам?[93] И, поразмыслив, парень пошел в горы, искать ночлег под открытым небом. …Голодные орлята попискивали жалобно и тоскливо. Они то укладывались в гнезде и начинали дремать, время от времени вытягивая тонкие серые шейки и напряженно прислушиваясь, то выбирались из гнезда и неуклюже топтались по широкому карнизу утеса, заваленному кучами пожелтевших, давно обглоданных костей. Передвигались они смешно и беспомощно, вперевалку, как ребята, пробующие ходить. Сходство с мальчуганами особенно подчеркивалось оперением ног: орлята казались одетыми в короткие, аккуратно подогнанные белые штанишки. Оба они, конечно, от одной матери, но мало похожи друг на друга. Один выглядел чистеньким, гладеньким, будто кто его прилизал. Ходил он не спеша, тяжело переваливаясь с боку на бок. Другой — худой, взъерошенный забияка с пробитой головой и расцарапанной лапкой — везде старался быть первым. В гнездо он забрался первым, обратно выкатился первым и теперь опять первым приковылял на край утеса. Вытянув шею, он долго прислушивался, но так и не услышал долгожданного клекота родителей. Улетели они в полдень, когда солнце зорко стерегло гнездо, но вот уже солнце не греет и почти не светит, а орла и орлицы все нет. Забияка-орленок оглянулся, высокомерно посмотрел на прижавшегося к гнезду толстяка и с жадностью набросился на кучу наиболее свежих, еще не побелевших костей курицы и зайца. Разозлившись, что ничего съедобного не осталось, забияка клюнул в затылок присмиревшего брата. Тот в ответ долбанул его в шею. Вдруг, как по команде, орлята умолкли, вытянули шейки. Потом так же дружно и радостно заклекотали: родители возвращались с охоты. Мать летела впереди. За нею отец. В цепких лапах он нес трепещущего крошечного ягненка. Маленькие хищники уже заблаговременно дрались между собой за лучшую долю в предстоящем ужине, когда раздался выстрел и орел вместе со своей добычей упал к ногам парня, стоявшего на вершине утеса, в ста метрах от гнезда. Лишь теперь заметили орлята страшного соседа. Пугливо прижались друг к другу. Окаменели… Однако отсиживаться не пришлось — орлица пролетела над гнездом и тревожным клекотом приказала птенцам подняться в небо. Опережая один другого, белоногие малыши приковыляли к краю карниза и почти разом бросились со скалы. Беспомощные и смешные на земле, они казались гордыми и могучими в небе. Стремительно, размашисто выписывали орлята огромные восходящие круги, все дальше и дальше улетая от родного гнезда. — Ч-черти, как летают! — с завистью глядя вслед выводку, прошептал юноша. — Жалко их… Но что ж делать… Ничего, не пропадут, мать выходит… Тяжело вздохнув, он повесил за спину винтовку, столкнул в пропасть убитого орла и присел на большой камень возле пещеры. Из-за голенища рыжего, стоптанного сапога он вынул финку и начал свежевать ягненка. Под скалой, где-то на самом дне темной пропасти, шумела, бесновалась стиснутая каменными стенами бурная речка. На другой стороне ущелья чернел островерхий гранитный утес, похожий на изваяние сидящего орла. На голой макушке его горела охваченная пламенем заката старая сосна-двойняшка. Покореженные черные стволы ее были, как веревка, свиты в один: видно, так легче бороться с ветрами, налетающими со всех сторон света. Сгорбилась, почернела старая сосна и, подставив плешивую макушку заходящему солнцу, поскрипывала жалобно и тревожно. Когда перед пещерой запылал костер из сухого букового хвороста, парень еще раз с тоской посмотрел в сторону улетевших орлят, изгнанных им из родного гнезда. — А, не пропадут! — опять тихо произнес он. — Я ж не пропал… Разложив кусочки мяса на небольшом плоском камне, раскаленном в костре, он достал из кармана засаленных шахтерских штанов узелок с солью. Не спеша, почти благоговейно развязал его и положил перед собой. Чуть поджаренный снизу и прихваченный пламенем сверху, сочный кусочек мяса он макал в соль и бросал в рот. Выхваченное прямо из огня мясо обжигало, но именно от этого и казалось необычайно вкусным. Поужинав и напившись воды из немецкой баклажки, путешественник подбросил в костер сухого хвороста и вошел в пещеру. Теперь можно внимательнее осмотреть выбранное для ночевки место. До ужина куча неизвестно кем припасенного хвороста только радовала. А сейчас тревожила: кто и когда собрал, почему не сжег. По свежим изломам буковых веток нетрудно было догадаться, что сушняк собран дня три назад, уже после большого дождя, пролившегося над Малыми Татрами. Значит, приди на день—два раньше, он нашел бы здесь друзей, может быть даже попутчиков к линии фронта. Взяв из костра ярко горящее поленце, паренек, согнувшись, вошел в пещеру. Копотью лучины или спички на ржавых ее стенах латинскими буквами были написаны словацкие имена: Цирил, Ёжо. Над этими именами, как заглавие, стояло крупно выведенное: ЯНОШИК. Под каждым именем было по маленькому коричневому крестику. Чем они написаны? На краску не похоже. А глины такой здесь нет… Кроме надписей, в пещере ничего интересного не оказалось. Путник попробовал было отвалить камень в темном закоулке. Но круглый серый валун оказался так плотно вогнанным в расщелину, что без лома или крепкой палки сдвинуть его не удалось. Выйдя из пещеры, паренек разостлал возле угасающего костра пятнистую немецкую плащ-палатку, сунул под голову мягкую заячью шапку и лег, прижав к груди холодную сталь винтовки. Хорошее, надежное место попалось ему сегодня для ночлега. Здесь не придется вскакивать и бежать среди ночи, как не раз случалось во время двухмесячных скитаний по чужим горам и лесам. Но только прикрыл он глаза, как перед ним возникло видение, которое беспокоило его каждую ночь, со дня побега из лагеря смерти, из проклятого Бухенвальда. Словно живой, появился перед ним замученный, окровавленный Вацлав Гудба……Из-за высокой каменной ограды концентрационного лагеря предательски выглядывает луна. Она освещает лысину и скуластую щеку старого коммуниста-словака. С головы, пробитой разрывной пулей, черной струей тянется кровь по лицу, шее, по серой лагерной рубашке. Выбитый левый глаз кровавым яблоком висит на бледной щеке. Гудба упирается в землю руками, пытаясь подняться; напрасно, на простреленные ноги не встать. Он весь дрожит и еле держится на руках, но не стонет. И, кажется, даже не обращает внимания на свои смертельные раны. Всеми остатками сил Вацлав Гудба тянется к худому пареньку, остро смотрит в лицо ему единственным лихорадочно горящим правым глазом и, старательно выговаривая русские слова, твердит: — Гришькоо! Гришькоо! Товарищ Кравцов. Ты хтел бежать до русска. Бить фашистов. Иди в Словакию! Иди! Сделай то, цо я просим. То важнее, чем убить сто фашистов! Гришькоо!.. — В дрожащем, прерывающемся голосе раненого уже не просьба, а стон, отчаянный вопль человека, не успевшего сделать то, ради чего он жил на земле. — Гришькоо, не забудь адресу. Повтори! Повтори! — Туречка, в десяти километрах от Банска Быстрицы. Найти Яна Ковача, — горячо, скороговоркой шепчет Гриша. — Передать ему: берегитесь Цотака! По заданию гардистов он ищет валашку Яношика! — Гришькоо! — Старик шепчет так тихо, что юноша вынужден подставить ухо к самым его губам. — Валашка Яношика — то типография, друкарня. Тайная друкарня коммунистов! Григорий Кравцов опустился на колени, обнял раненого. Стиснув зубы, хотел что-то сказать. — О-о-о, Гришькоо! Я не подумал! — бессильно опустив голову, хрипит Гудба. — Ковача могут споймать… Его могут… Раздаются свистки гестаповцев, обнаруживших побег, гулкий топот кованых сапог, быстро нарастающий лай собак. — Если Ковача нету, — из последних сил шепчет умирающий, — найди… найди… Но то ли Гудба затрудняется в выборе надежного человека, то ли кровь заливает ему горло — Гриша никак не может понять фамилию второго человека, которому можно доверить важную тайну: Благовер, Дол-говер или Многовер… Свора собак и гестаповцев уже рядом. Вацлав Гудба падает, взмахнув рукой: беги! Гриша пожимает уже безжизненную руку старика и бросается в речку. В воде холодно. Темно. Луна скрылась. Где-то далеко позади на все голоса лают и поскуливают овчарки, оголтело свистят гестаповцы, тяжело ухают по гулкому берегу большие кованые сапоги. Мало-помалу все звуки стихают. Вода кажется теплее, приятнее… Гриша плывет на спине, отдыхает… И кажется ему, что не Эльба это, а родной Иртыш…
В костре догорел последний уголек. Перед тем как совсем погаснуть, он вспыхнул небесно-синим огоньком, покраснел ярче обычного, в последний раз освещая пещеру и свернувшегося возле теплого камня беглеца, потом изогнулся тонкой оранжевой змейкой, почернел и угас.
* * *
У человека, вынужденного долгое время скрываться, вырабатывается особое чутье, ощущение близкой опасности. Идет он густыми лесами, глубокими ущельями, выбирает безлюдные тропы да теневые стороны, случается, что забудется, начнет напевать или насвистывать и вдруг, ни с того ни с сего, остановится, застынет, весь превратится в слух и внимание. Кругом ни звука, ни шороха. Только собственное сердце стучит усиленно и четко, будто твердит: «Не верь! Не верь! Не верь!» И уж лучше не верь обманчивой тишине. Вслушайся, всмотрись… Гриша проснулся. Он еще ничего не слышал, не видел, но был уверен, что кто-то приближается к пещере. Кто? Человек? Горный олень? Дикие козы? Орлица вернулась отомстить? Ничего не видно. А на сердце давит, гнетет. Такое ощущение бывает перед грозой. Проснешься — и чувствуешь: надвигается на тебя что-то тяжелое, душное. Посмотришь — грозовая туча. Но в эту ночь на небе, густо усыпанном звездами, не было ни облачка. Ущелье, доверху заполненное темно-лиловым туманом, напоминало полноводную спокойную реку. На противоположном берегу этой дымящейся реки, из-за голой скалы с одинокой горбатой сосной осторожно, как пленник из-за ограды концлагеря, вылезала огромная багровая луна. Послышался далекий шорох камешков под чьими-то ногами. «Гардисты, — мелькнула догадка. — Не хватает попасться в их лапы возле самой Туречки!» Гриша скомкал плащ. Смёл в пропасть пепел от костра. Туда же бросил обглоданные кости ягненка. Остатками хвороста прикрыл пепелище. И, лишь убедившись, что следы ночевки скрыты, ушел по карнизу утеса к гнездовью орлов. Ни на миг не спускал он взгляда с тропинки, ведущей к пещере. Луна уже оторвалась от скалы, поднялась над сосной и стала бледной, почти прозрачной. В ее свете плоские камешки на тропе блестели старым, потускневшим серебром, будто бы кто-то нес из пещеры клад позеленевших слитков да так спешил, что половину растерял в пути. Укрывшись за каменной глыбой, Гриша стал ждать. Здесь его так просто не возьмешь. Зато каждого, кто появится на тропинке, он мог подстрелить. Одно плохо: уж очень несет падалью в этом гнездовье, среди тлеющих костей. «Черти, сколько ягнят уничтожили! — подумал Гриша. — А я жалел, что разорил гнездо». Сухое шуршание камешков приблизилось. Раздался тихий, осторожный посвист. На серебристой тропинке появился парнишка лет четырнадцати, одетый в белые, туго обтягивающие суконные штаны и полотняную белую рубашку. На лохматой голове белая шапка, похожая на берет. Оглянувшись, он сердито кому-то махнул и вполголоса проворчал: — Чего еще там? Ёжко, скорей! — Сам скачешь, как козел, потому что дорогу знаешь, — раздалось в ответ, — а Тоно — первый раз. Говорили они по-словацки. Но Гриша все понимал. Этот язык он изучил еще в Бухенвальде, когда попал в группу чехословацких коммунистов. Наконец и Ёжо показался на тропе. Ростом он был ниже товарища, но полнее и, пожалуй, сильнее. Неуклюже болтался на нем заплатанный серый пиджак с плеча взрослого человека. Мальчики остановились рядом. Луна бросала от них тень к орлиному гнезду. — Цирил, может, вернуться к нему? — спросил Ёжо. — Никуда не денется. Тропка тут одна. Пока разведем костер, придет. — А вдруг испугается, что дома его хватятся, да вернется назад? — Один побоится возвращаться. Успокоенный этим доводом, Ёжо спустился следом за другом к пещере. — Почему так мало хвороста? — строго спросил Цирил. — Поленился? Ёжо почесал остриженную под ерша черную голову, недоуменно посмотрел на небольшую кучку хвороста и пробормотал: — Я собирал много. Очень много… — А-а-а… — иронически откликнулся Цирил. — Это орлы забрали… Зайчатину жарить. Ладно уж. Пока нет Тоно, расскажи лучше, что нового узнал от Божены. — Что ж нового… В Батеванах среди бела дня партизаны устроили собрание, а когда нагрянули гардисты, все как сквозь землю провалились. Возле Ружомберга полетел под откос поезд с эсэсовцами, ехавшими на фронт с Райских Теплиц.[94] А в Турчанском Святом Мартине партизаны взяли в плен немецкого генерала. — Ух ты! — в восторге воскликнул Цирил. — Целого генерала? — Нет, половинку. — Я хотел сказать — настоящего… — Конечно, не игрушечного! Да еще, говорят, очень важного. Такого, что самим Гитлером был поставлен над всей словацкой армией! Гриша перевесил винтовку через плечо, прижался к скале и, подставив более чуткое правое ухо, даже приоткрыл рот, чтобы шум от дыхания не мешал слушать. Вспыхнул костер — в пещере стало светло, луна отошла куда-то далеко в сторону. Она всегда убегает от костра. Появился третий парнишка, толстый, видимо тяжелый на подъем. Цирил достал откуда-то лом и отвалил камень, который еще вечером заинтересовал Гришу. За камнем открылся лаз в пещеру. Цирил вполз туда и подал наверх три кирки, лопату с коротким черенком и ломик с расщепленным, как козье копытце, концом. Пока Цирил с горящей свечой в руке вылезал из ямы, Ёжо выбрал себе кирку поудобнее. Белоголовый толстяк, пришедший последним, стоял в стороне и на все приготовления смотрел широко раскрытыми глазами. Ясно было — он здесь впервые. — Держи, Тоно! — подавая отекающую свечу, сказал Цирил. — Иди сюда. Вот здесь, внизу, копотью свечки пиши свое имя. Новичок молча и сосредоточенно начал водить горящей свечой по стенке пещеры. Трудился он долго. Наконец к тайному списку прибавилось и его имя. Когда с этим делом было покончено, Цирил взял свечу, погасил и, повернув ее другой стороной, выковырнул из стеарина иголку. — Руку! — сурово насупив черные брови, сказал он новичку. Тот, не давая руки и смущенно оглядываясь, спросил: — Может… может, она и не здесь? — Что-о-о?! — Ну, валашка Яношика… «Валашка Яношика?!» — насторожился было Гриша, сразу вспомнив наказ Вацлава Гудбы. Но тут же догадался, в чем дело, улыбнулся и проникся еще большим уважением к незнакомым ребятам. Он уже знал, что валашка в прямом смысле этого слова — топорик с длинной, как тросточка, рукояткой. В былые времена валашка считалась грозным оружием словаков, особенно в руках легендарного Яношика. И едва ли найдется хоть один словак, который в детстве не пытался отыскать могучее оружие народного заступника. Слышал Гриша, что живет в народе поверье, будто валашка бесстрашного Яношика хранится где-то в горах, в расщелине скалы или в пещере. Впрочем, один лесник, у которого Гриша, раненный в стычке с бра-тиславским гардистом, прожил целую неделю, уверял, что Яношик спрятал свою валашку не в скале, а в лесу, что он с размаху глубоко вогнал ее в ствол старого дуба и лишь рукоятка осталась торчать. А чтобы никто недостойный не нашел топорика, рукоятка зазеленела, расцвела как и другие ветки дуба. Однако лесник уверял, что волшебная валашка сама откроется тому, кто решится, подобно Яношику, смело, не жалея собственной жизни, сражаться за народ. На недоуменный вопрос Гриши, как же это произойдет, лесник уверенно ответил, что черенок топорика, как стрелка компаса, сам повернется к достойному. — Может, она вовсе и не в этой пещере, — высказал свое сомнение Тоно. — Ведь Яношик любил голи,[95] а это обыкновенная скала. — Голи яношиковцы любили, пока все находились на свободе, — возразил Цирил, — а когда самого Яношика поездили в крепость да поставили целый полк стражи, хлопцам было уже не до прогулок на голях, и стали они прятаться по пещерам да под водопадами. — А, чего тут уговаривать! — махнул Ёжо. — Не хочет, пусть катится. Только если проболтается!.. — Сразу — катится! — обиделся Тоно. — Я просто к тому, что никто же по-настоящему не знает, где она спрятана. — Вот и хорошо, что не знают, — сказал Цирил. — Знали, так давно бы какие-нибудь жулики нашли… — Но почему вы ищете ее тут, а не в другом месте? — упорствовал Тоно. — Да ты посмотри хорошенько! Посмотри! — уже горячился Цирил. — Видел сосны да буки на самой середине тропы? По скольку им лет? — Есть такие, что по двести будет, — заметил Ёжо. — Значит, тропа эта появилась давным-давно. Верно? — Верно, — как эхо, отозвался Тоно. — А кто мог ее так глубоко притоптать в каменной горе? Я тебя спрашиваю: кто? — Яношик, — глядя на глубокую тропинку, сказал Тоно, — только у него и у Суровца была такая походка. — То-то же! — обрадовался Цирил. Гриша лукаво улыбнулся: тропка была размыта весенними дождевыми водами. — А этот камень? — Цирил подскочил к камню, на котором вечером сидел Гриша. — Камень этот ничего тебе не говорит?.. Совсем ничего? Эх, ты! Сам Яношик сидел на нем, как в кресле, и судил мадьярских князей да всяких богачей-мучителей! А в эту пропасть бросал их одного за другим, словно котят. Посмотри вниз, посмотри! — Вижу, — кивнул Тоно, однако в пропасть смотреть не стал. Цирил отполз в угол пещеры и вынес пару огромных почерневших лаптей, выгнутых из целых кусков толстой сыромятины. Гриша видел такие лапти на ногах некоторых лесников и знал, что называются они поршнями. — А на это что ты скажешь? — спросил Цирил, торжественно поднося лапти к самому носу маловера. — С чьей ноги эти поршни? — Эти поршни, может… может… даже самого Яношика, — ответил Тоно и решительно подставил указательный палец правой руки. — На, коли! — Не эту! — оттолкнул Цирил. — Левую, от сердца. — Цирил, а еще скажи… только одно слово… — протягивая левую руку, сказал Тоно. — Когда найдем валашку, тогда что? — Пойдем к ружомбергским партизанам. — Коли! Хоть сто раз коли! Ёжо подбросил хвороста. Костер вспыхнул ярче, торжественнее. Цирил поплевал на палец новичка, старательно вытер его рукавом рубашки и наколол иголкой. Пламя костра слегка колебалось, и длинные тени ребят качались по стенке пещеры. Кровью, выступившей из пальца, Тоно начертил крест под своим именем. Гриша улыбнулся, вспомнив и свои мальчишеские клятвы. Теперь он был твердо уверен, что с этими парнишками можно смело разговаривать. Закончив таинство клятвы, мальчишки взялись за кирки и принялись долбить стену пещеры, расширяя вход. «Гуу-ух!» — далеко в горах прокатился глухой, тяжелый взрыв. Ребята побросали работу, замерли. — В Ружомберге, — настороженно подняв указательный палец, сказал Цирил. — Партизаны! — со священным трепетом в голосе прошептал Ёжо. — Мост взорвали. — Склад боеприпасов! — уточнил Цирил. И вдруг как бы в подтверждение этих слов на северо-востоке взметнулось зарево. Взметнулось ярко, потом немного осело, расширилось, потемнело и снова брызнуло высокими кровавыми фонтанами. «Наверное, поезд с бензином полетел под откос. Цистерны рвутся и вспыхивают», — решил Гриша и уже вышел из своей засады, намереваясь заговорить с ребятами, как вдруг где-то внизу послышался топот. Понять, кто идет, было невозможно: в горах шорох маленькой птички иногда кажется гулом, а топот коня едва слышен. — Цирил, — зашептал Тоно, — сюда бегут! — Глупости! Кто может знать, что мы тут? — Да ты прислушайся! Внимательнее всех прислушивался Гриша: появление нового человека срывало все его планы. За скалой раздался звонкий девичий голос:ОДИН ПРОТИВ ТРОИХ
Кособокий деревянный домишко, в котором скрылся Цирил, одиноко ютился на самом краю деревни Туречки. К домику не было даже дороги. Как птичье гнездо, чудом держался он на круче, нависшей над рекой. Гриша давно заметил, что словаки дорожат каждым клочком пахотной земли и строятся в самых неудобных местах, лишь бы выгадать участок под огород или сад. Он видел дома, притулившиеся на голых скалах, в тесных ущельях, на стремнинах, куда ведет лишь узкая, похожая на козий след тропа. Но такое «ласточкино гнездо» парень встретил впервые. Мало того, что кручу, на которой повис домишко, дни и ночи подмывала быстрая горная река, ему еще и сверху угрожала опасность. Словно обрубленный взмахом огромного топора, вздымался над узким двориком гранитный утес. С вершины его большим тяжелым козырьком нависла над домом каменная глыба. Посередине глыбы — старая развесистая ель; под ее густыми ветвями и простоял Гриша остаток ночи, ожидая появления Цирила. Не случись с отцом Цирила беды, Гриша зашел бы в этот домишко. Но тревожить больного он не решался. Несколько раз парень задавал себе вопрос: правильно ли он поступил, что пошел за Цирилом, зная, какое в его доме несчастье? Но что ему оставалось делать, если остальные ребята вместе с Боженой шумной гурьбой вбежали прямо в село. Цирил вышел из дома только на заре. Схватив под навесом ведра и коромысло, он так стремительно промчался вниз, что Гриша не успел спуститься на уступ, с которого можно было заговорить, не боясь постороннего глаза. «Окликну, когда станет подниматься», — решил Гриша. Но Цирил возвратился не один. За ним шел полный, одетый в светлый добротный костюм и серую фетровую шляпу человек средних лет. Лицо его казалось настолько добродушным, что Гриша сперва даже подумал, не заговорить ли с ним. — Пан Маречек, вы в Ружомберге не были, когда загорелась фабрика? — спросил Цирил, мелко семеня ногами и сгибаясь под тяжестью полных ведер. — Вас не арестуют? — Пока что хожу на воле, а дальше цо пан бог даст! — вздохнул Маречек. — А гардисты не станут допрашивать папу, пока он больной?.. Но тут Цирил и Маречек окрылись под скалой, и больше Гриша ничего не слышал. Опять пришлось ждать. Утро началось за лысой макушкой горы. Солнца еще не было видно, а макушка уже вспыхнула золотым огнем. С этой горы утренний свет потоками хлынул в ущелье. Деревня сразу ожила, зашевелилась. Захлопали калитки, заскрипели ворота хлевов. Потянуло запахом теплого овечьего навоза. Из дворов по крутым, извилистым тропам стали спускаться коровы, телята, дойные овцы и козы. У реки они собирались в небольшие стада и не спеша уходили в лес, за деревню. Кое-где на крутых склонах, свободных от леса, появились косари. На свежевыкошенных зеленых полянах, в расщелинах и на казалось бы недоступных стремнинах выросли аккуратные, обвязанные лозой и придавленные камнями копны свежего сена. На противоположном склоне ущелья зеленело с полсотни сенокосных полянок. Ни одна из них не превышала четверти гектара. Среди них были такие крутые, на которых немыслимо, казалось, устоять человеку. Вдруг Гриша увидел, как на одной такой полянке копна зашевелилась и медленно поползла вниз, туда, где чернела крыша старого деревянного домика. Но странно сползала копна — не прямо под гору, а выбирая пологие спуски. Словно кто-то тянул ее или подталкивал сзади. Но кто и где он? Внизу, за селом, послышался гул мотора. Из-за поворота скалы, у подошвы которой пролегло неширокое шоссе, выскочила грузовая машина. В кузове стояли вооруженные винтовками гардисты. В руках у каждого резиновая дубинка. Гардисты бойко, но не дружно пели. Потом вдруг смолкли: машина остановилась — дальше дорога оказалась заваленной камнями. Видно, ночью обвалилась скала. А может быть, не сама по себе обвалилась. Может, кому-то это было нужно. Гардисты попрыгали с машины и бросились в село. Навстречу им шел человек в синей замасленной блузе и старой шляпе с опущенными полями. Гардисты схватили его, заломили за спину руки и надели железные, сверкающие под солнцем наручники. Один чернорубашечник взял винтовку наперевес и повел арестованного к машине. А новость уже полетела по деревне. Во всех дворах поднялась суматоха. Особенно встревожились мужчины — одни поспешно прятали и сжигали запретные книги; другие, захватив узелок и наскоро попрощавшись с детьми, направлялись в горы, в лес. Со скалы Гриша видел и то, что было скрыто от глаз гардистов, шнырявших по домам. Странная копна продолжала медленно спускаться с горы. Теперь уже стало очевидно, что направляется она прямо к домику, вросшему в гору. Вот копна остановилась, развалилась, и из сена вынырнул маленький, сухой человек в старой спецовке железнодорожника. Он рукавом смахнул с лица пот и недоуменно оглядел свой двор, в котором хозяйничали чернорубашечники. Вдруг из окна дома выскочила женщина. Размахивая платком, она кинулась навстречу железнодорожнику. Тот растерялся, но, заметив, что гардисты уже рядом, спрыгнул в расщелину и скрылся. Во дворе, под скалой, тоже послышались голоса. За домом Гриша увидел Цирила и старушку в клетчатой темно-зеленой кофте и серой юбке. Цирил совал ей за пазуху какие-то бумажки, газеты и книжонки. Старая женщина распределяла все это под кофтой, не спуская глаз с тропинки. Потом Цирил убежал домой, а старуха направилась в лес. Ушел и Маречек. В ту же минуту, словно из-под земли, во дворе Цирила появились три гардиста. Один встал на углу дома. Двое направились в сени. Дверь оказалась запертой. Постучали. Никто не ответил. Постучали еще. Молчание. Тогда один подошел к окну и закричал: — Ковач, открывай! Ян Ковач! «Ян Ковач? Отец Цирила — Ян Ковач?..» Раздвинув ветки, Гриша вскинул винтовку… В голове его мгновенно родился ясный, точно рассчитанный план: перестрелять гардистов, вбежать в дом и с помощью Цирила увести Ковача в лес… Но выстрелить он не успел: два гардиста сорвали дверь и вошли в сени, а третий завернул за угол. Несколько мгновений, которые показались вечностью, Гриша стоял в раздумье. Потом повернулся, осмотрел противоположный склон ущелья и почти бегом пустился вниз, укрываясь между елями и мелким кустарником.* * *
Для Яна Ковача приход гардистов был тоже неожиданным. Когда Маречек ушел, Ковач подозвал к себе сына. Цирил встал возле кровати и молча смотрел на отца: из-под бинтов виднелись только его рот да глаза. Запавшие суровые глаза смотрели прямо в душу, словно отец хотел узнать, каким вырастет сын, что из него получится, когда он останется один. — Два года… жили мы… без матери… — заговорил Ковач, отдыхая после каждого слова. — Было очень тяжело. А одному… будет еще труднее. Мальчик только кивал головой. Говорить он не мог: слезы душили его. Хотелось кричать на всю комнату. Хотелось куда-то бежать, с кем-то бороться, защитить, спасти отца… Но у него недоставало сил даже на то, чтобы сдержать слезы. — Сынок… Не плачь, не плачь… Запомни мою просьбу и обещай выполнить ее. Цирил кивнул головой, вытер глаза мокрой ладонью. — Работай. Честно работай всю жизнь. — Не бойся, воровать не пойду, — сказал Цирил и, наклонившись к самому лицу отца, прошептал: — Я буду, как ты, коммунистом. Отец благодарно положил руку на лохматую голову сына, а тот продолжал еще тише: — Мне бы только найти валашку Яношика. Папа, ты знаешь где она? Скажи, скажи! — Зачем тебе? — удивился отец. — Дедушка Франтишек говорил, что тот, кто найдет эту валашку, станет таким же сильным, каким был сам Яношик. — А-а-а, — понимающе протянул отец и, отдышавшись, объяснил, что валашку Яношика может найти только тот, кто всей душой стоит за народ, кто готов делить с ним и труд, и борьбу, и страдания. Цирил глянул в окно и вдруг закричал: — Гардисты! Он закрыл на крючок дверь. — Я не пущу их! Они тебя убьют! — Обеими руками подросток ухватился за крючок. — Не пущу! В дверь сеней застучали. Еще и еще. Отец позвал Цирила к себе. — Сынок, выслушай меня хорошенько, — заговорил Ковач, превозмогая боль и слабость. — Я не думал, что они так скоро придут за мной, и не успел увидеть бачу.[96] Передай ему… Гардист постучал в окно и окликнул. — Спокойно, Цирил. Не перепутай и не забудь… — Говори, папа, говори! — Скажи баче: если будут улики, все возьму на себя. Повтори! Цирил понял, что отец ради спасения товарищей обрекает себя на смерть. Но, глотая слезы и задыхаясь, он повторил его слова. — Открывай! А сам беги к баче Франтишеку. Это дело срочное. Беги! Цирил бросился к отцу, зарыдал. — Цирилко, беги. Беги! — Отец погладил сына по голове. — Бача поможет тебе найти валашку Яношика. Он все знает… Пропустив в комнату гардистов, Цирил шмыгнул вон и стремглав понесся в верхний конец деревни, откуда лесная тропа вела к шалашу бачи. На середине деревни он увидел бегущего к нему взлохмаченного Ёжо. — Цирил! Цирил! — задыхаясь, кричал Ёжо. — Твоего отца гардисты повели! Я стоял на крыше и видел, как они… Цирил остановился: — Ты обознался. Отец не может ходить. У него перебиты ноги. — Они его под руки тащили… Вдвоем. — Ёжо! — Цирил судорожно ухватил друга за руку, как бы прося помощи, и пустился обратно. Ёжо последовал за ним. Выбежав на край села и увидев гардистов, спускавшихся по тропинке к дороге, ребята остановились. Двое чернорубашечников волокли под руки перебинтованного с головы до ног Ковача, а третий с винтовкой наперевес шел позади. Дорога вилась по ущелью. С одной стороны ее был обрыв к шумящей реке; с другой — круто поднималась гора, густо поросшая лесом. В километре от деревни ущелье расширялось, переходя в долину, ведущую к местечку Старые Горы и дальше к Банска Быстрице. Но здесь, на пути ребят, проходила самая узкая часть дороги, и старые буки, растущие по склону, всю ее закрывали тенью своих развесистых ветвей. — Цирил, — шепчет Ёжо, — давай спрячемся за деревом и камнями забросаем гардистов! — Что камень против винтовки? — отмахнулся Цирил, поспешно взбираясь вверх по тропинке. Подбежав к отцу, Цирил бросился ему на шею. Гардист, шедший справа, ударил мальчика в живот. Тот согнулся и упал, не в силах даже крикнуть, Ёжо решил, что друг его убит, схватил камень и со всего размаха запустил в гардиста. Шедший позади высокий тонконогий чернорубашечник вскинул винтовку и прицелился в Ёжо. Но откуда-то со стороны раздался выстрел. Тонконогий гардист, не успев выстрелить, нелепо взмахнул винтовкой и распластался поперек дороги. Конвоиры, ведшие арестованного, бросили Ковача и подбежали к раненому. Один за другим раздались еще два выстрела. Ёжо наклонился над Цирилом, лежавшим с закрытыми глазами, стал его тормошить: — Цирил, Цирил! — и вдруг закричал во весь голос: — Цири-ил!.. Подумав, что Цирил убит, Ёжо хотел уже бежать в деревню, звать людей, как вдруг Цирил сжал его руку, Ёжо обнял друга, помог ему сесть. И тут они сразу увидели все, что произошло на дороге. Почти рядом с ними, уткнувшись носом в дорожную пыль, лежал гардист, целившийся в Ёжо. Второй вытянулся метрах в пяти от дороги. Его винтовка лежала далеко в стороне. А третий свалился с кручи в речку. Еще не понимая, что произошло, Цирил припал к отцу. Тот дышал тяжело, судорожно, точно ему не хватало воздуха. Но в глазах его, устремленных куда-то вверх, горела живая, радостная искра. В последнем усилии Ковач приподнял руку и, указывая на огромное дерево, прошептал: — Он там… Узнайте, кто он. Отведите к баче… Ребята посмотрели в сторону старого, развесистого бука, выступившего на несколько метров из сплошной полосы леса и стоявшего, как сторож, у самой дороги. В густых темно-зеленых ветвях они разглядели незнакомого парня, высокого, худого, с глубоким шрамом во всю правую щеку. Парень слез с дерева. Цирил и Ёжо смотрели на него как зачарованные и долго не могли заговорить. — Кто вы? — спросил наконец Ёжо. — Русский. — Рус… — шепотом в один голос повторили они. — Настоящий рус!.. Незнакомец спустился на дорогу. — Товарища надо унести в лес! — деловито распорядился он. — Сейчас нагрянут… Из села уже бежали мужчины, женщины, дети. — Гардисты идут! — крикнул Ёжо, когда Цирил и русский стали поднимать вдруг обмякшего Яна Ковача. — Пусть идут, если хотят того же! — ответил русский, низко склонившись над Ковачем. Он приложил ухо к груди, подержал за руку, встал и, тяжело вздохнув, медленно стянул с головы рваную заячью шапчонку. Люди из деревни были уже рядом. Слышался топот кованых сапог гардистов. Цирил, упав на труп отца, рыдал, вздрагивая всем телом. А Ёжо, вцепившись в руку русского, тянул его в лес и умолял: — Убегайте! Гардистов много! Убегайте! Гриша, не двигаясь с места, смотрел в открытые безжизненные глаза человека, к которому он два месяца шел таким трудным, далеким путем. Наконец он повернулся к Ёжо: — Если не боишься, проводи. — Скорее, скорее! Вас заметят! — горячился Ёжо. — Пусть они меня боятся, а не я их, — ответил юноша спокойно, забрал патроны у убитых гардистов и только тогда пошел за Ёжо. Пройдя километра два и перевалив через вершину горы, Ёжо остановился и предложил отдохнуть в укромном еловом лесочке. — Теперь не догонят, — махнул он в сторону дороги; оттуда еще доносились крики, ругань, стрекот мотоциклов. Посмотрев на своего спутника, паренек несмело спросил, как его зовут. — Гришка, — ответил русский. — Гришькоо, — певуче повторил Ёжо. — Гришькоо… Услышав такое своеобразное произношение своего имени, Гриша снова вспомнил старика Гудбу, его просящий, предсмертный взгляд и такое же певучее: «Гришькоо». А как только всплыл в его памяти образ старика коммуниста, в нем снова пробудилась жажда деятельности. Надо что-то делать. Нужно придумать какой-то выход. — Найти бы второго! — Гриша судорожно, как утопающий, схватил проводника за плечо. — Ты знаешь всех жителей своего села? — А как же! — Называй мне все фамилии по порядку! Только не пропусти ни одной! — потребовал Гриша, надеясь услышать фамилию, похожую на ту, которую назвал перед смертью Вацлав Гудба. Но только назвал Ёжо две фамилии, как до беглецов донесся тяжелый топот и шумное дыхание запыхавшегося человека. Потянув своего проводника за рукав, Гриша скрылся под большой елью. — Гришькоо, не бойся, — спокойно сказал Ёжо. — То наш бывший учитель, пан Шпицера. Самый добрый человек на свете. На поляне появился сухощавый, тщедушный человек лет сорока. Он боязливо озирался и близоруко щурился. Одной рукой поправляя пенсне, а другой прижимая к себе сверток, учитель остановился в нерешительности. Ёжо окликнул его. Тот подошел и, удивленно глядя в глаза Гриши, спросил: — Рус? — Да. — Товарищ? — улыбнувшись, добавил учитель так, будто это слово было какой-то особой, присущей русскому фамилией. — Здравствуй, товарищ! — И, придерживая локтем сверток, он неистово, обеими руками затряс руку Гриши. — Хорошо, товарищ! Не бойся. Мы гардистов направили совсем в другую сторону, за Грон. Мы сказали: там много парашютистов и все с пулеметами. — И они побежали за Грон? — Такие побегут на край света! — Учитель даже отвернулся, словно боялся, что русскому неприятно будет видеть его исказившееся от негодования худое, зеленоватое лицо. — Наш комендант так старается, словно ему сам Тиссо пообещал портфель Шанё-Маха[97]… — Вдруг он спохватился, заспешил: — Товарищ, вот возьми на дорогу. Тут аптечка, на случай, и еда. Я пойду в другую сторону, а то меня видел Ма-речек. — Маречек?! — невольно воскликнул Гриша, услышав уже знакомую фамилию. — Вы его знаете? — удивился учитель. — Н-нет, не знаю. Откуда же? Просто нехорошо, если вас видели. Спасибо за аптечку, товарищ учитель. Пекне дякуем, — добавил Гриша по-словацки. Учитель вынул из кармана зеленую с черными обводами бумажку в сто крон, сунул ее в руку Гриши, буркнув: «На всякий случай», — и поспешно ушел под гору. А Гриша и Ёжо отправились дальше. Через некоторое время Гриша спросил Ёжо, не выдаст ли их учитель. — Что вы! Он так ненавидит гардистов! Он очень больной, а то уже давно был бы в партизанах. — Ты, кажется, сказал, что это бывший учитель? — вспомнил Гриша. — Он не работает или ты не учишься? Ёжо гордо улыбнулся: — Нас обоих выгнали из школы за одно и то же дело. И Ёжо охотно рассказал историю своего исключения. Однажды от проходивших через село солдат Ёжо услышал загадку: «Кто за что воюет?» Придя в школу, он загадал ее ребятам. Прошло два урока, а никто не отгадал. Тогда Ёжо сказал: «Русский воюет за Родину. Немец — зафюрера. А гардист — за одну крону двадцать грошей в день». Вместе с ответом он написал загадку на доске. Вошел учитель, этот самый пан Шпицера. Прочитал, улыбнулся и все стер. Но директор об этом узнал. И на следующий день пан Шпицера уже не был учителем, а Ёжо Спишак — учеником. — Вот ты, оказывается, какой! — выслушав рассказ, обрадовался Гриша. — На ходу подметки рвешь! — Зачем рвать подметки? — удивился Ёжо. — Так говорят у нас про смелых. — Тогда это лучше про Цирила. Он самый смелый! — Ёжо посмотрел по сторонам и добавил почти шепотом: — Он знает, где спрятана валашка Яношика. — Да ну? — Только я это одному вам. Потому, что вы — товарищ. — Учитель помешал нам, продолжай называть фамилии жителей, — снова попросил Гриша. — Я называл Томашека и Седлака? Да?.. Это на самом верхнем конце. А дальше — Маречек. — Тот самый, про которого учитель говорил? — Маречек у нас один. — Почему учитель боится его? — Плохо знает. А Маречек коммунист и очень смелый. — Ты-то откуда знаешь? — Знаю. Мы с Цирилом видели, как он в полночь приклеивал на стене листовку. Против Гитлера. Страшно запрещенная. За такую листовку у нас в школе можно выменять велосипедную камеру или даже лампу к радиоприемнику. — Видели и никому не сказали? — Мы ж не девчонки! Насчет тайны у нас с Цирилом, как у Яношика. — А, кроме Маречека, в Туречке есть еще коммунисты? — У нас здесь все коммунисты! — выпалил Ёжо. И пояснил, что коммунистами всех жителей села назвал сам комендант полиции пан Младек за то, что ни один парень из их деревни не пошел добровольно в гар-дисты. Продолжали путь не спеша, Ёжо перечислил десятки фамилий, но той, какую хотел услышать Гриша, так и не назвал. Теперь одна надежда оставалась на бачу. Старый человек скорее что-нибудь придумает. К середине дня забрались в чащу, сели возле ручья и пообедали бутербродами с паприкашем, которые оказались в свертке учителя. Решено было отдохнуть здесь до вечера, так как днем к баче могут прийти люди из села. Показав на зеленевшую вдали лысую макушку горы, Ёжо сказал, что это и есть Крижна — гора, на которой стоит шалаш бачи. Крижна казалась отсюда совсем небольшой сопкой, вокруг которой на склонах и отрогах синели бесконечные густые леса. На выпуклой зеленой макушке, как бородавка на бритой голове великана, чернел большой камень. Гриша принял его за развалины крепости или древнего замка, каких он немало встречал в горах Словакии. Подобно сторожевым псам, покоятся эти руины на самых красивых голях и скалах. Гриша слышал немало местных легенд и преданий, связанных с борьбой против турок и мадьярских феодалов, которые совсем еще недавно были самыми жадными грабителями Словакии, Верховины и Моравии. — Ёжо, я сам теперь пойду, — проследив мысленно путь до Крижны, заявил Гриша. — Ты возвращайся домой, а то влетит тебе от матери. — Влетит? — Ёжо вздохнул и отвернулся. — У тебя нет матери? Прости, я не знал. — Есть, да только хуже, чем нет. Были бы дома отец да мать, так Боженка не пошла бы к коменданту, — тихо, словно жалуясь на судьбу, сказал Ёжо. — С нею и подруги не разговаривают за то, что служит у такого гада. — А пошла бы к кому другому? — скорее спросил, чем посоветовал Гриша. — Я уж не раз советовал ей. «Я, говорит, сама знаю, что мне делать. Я, говорит, здесь больше пользы принесу». Упрямая она у нас.В ГОСТЯХ У БАЧИ
Темнело, горы окутались густым фиолетовым туманом, когда Гриша и Ёжо выбрались из лесу и стали подниматься на Крижну. На самой середине этой необъятной лысины гордо чернела высокая скала, которая днем показалась Грише всего лишь большим камнем. — Камень Яношика, — сказал Ёжо, кивнув на скалу. — Камень? — недоуменно переспросил Гриша. — Так называют. Недалеко от Камня Яношика стоял курень. От костра, чуть поблескивавшего перед куренем, струился в темное небо сизый дымок. — Вот и салаш бачи Франтишека, — сказал Ёжо. — Шалаш, а не салаш, — поправил Гриша. Но Ёжо настаивал на своем: — Салаш. Добродушно улыбнувшись, Гриша махнул рукой: — Забыл! Мне сегодня почему-то кажется, что я у себя дома, на Алтае. Такие же горы, леса… Между шалашом и Камнем Яношика, на траву, словно прилегла небольшая сизая тучка. Казалось, она только что спустилась с неба, чтобы немножко отдохнуть и вновь отправиться в путь. Не то от шалаша, не то от этой тучки послышались тихие, как вздохи лесного ветерка, жалобные звуки. Они напоминали и кукование тоскующей кукушки, и курлыканье улетающих журавлей, и тяжелый, угрюмый плеск Иртыша. Гриша, учившийся когда-то музыке, догадался, что это скрипка и играет кто-то на одной басовой струне. Скрипка притихла. Чуть слышное эхо улеглось по кустам, обступившим Крижну, как толпа любопытных мальчишек. Послышался надтреснутый, старческий голос. И полилась песня, слова которой сразу же западали в душу, становились понятными даже плохо знающему словацкий язык:* * *
Горы с северной стороны Крижны выше, чем с южной, леса гуще. На десятки верст вокруг ни деревушки. Куда ни глянь — леса и леса. Хмурые, величавые и молчаливые, они по самой своей природе являются убежищем для всех, кому нет места в городах и селах. Ёжо вел без тропинок. Дорогу он знал отлично. Когда поднялись на перевал, Ёжо показал в сторону широкой лесистой долины, которая под косыми лучами луны горела тусклым фиолетовым огнем. — В этих лесах жил когда-то Яношик! Все так говорят… Мы пойдем вон к тому дереву… Недалеко, под склоном горы, Гриша увидел глубокую впадину, поросшую елями. На самой ее середине возвышалась многовековая мохнатая ель. Она была так высока, что окружающие ее столетние ели казались совсем маленькими. Сейчас, при луне, они напоминали русалок: словно оделись в зеленый наряд, взялись за руки и ждут музыки, чтобы пуститься в пляс. Только кто же тут заиграет: кругом суровая, дремучая тишь. Спустились во впадину. Елки вокруг мохнатой старухи росли негусто и потому были зелеными от макушек донизу. Ветви их, как старомодные платья словачек, пышно распускались до самой земли. А старая мохнатая ель оказалась настолько надежным прикрытием, что ничего лучшего и не придумаешь: во все стороны ощетинились колючие лапы тяжелых ветвей. Приподняв одну ветку за пучок темно-зеленых иголок, Ёжо гостеприимно промолвил: — Входите… Под покров ветвей вошли, как в шалаш. Ветка опустилась и закрыла вход. Со стороны ни за что не догадаешься, что под деревом прячутся люди. Самые нижние ветви начинались на высоте двух метров, и коромыслами опускались к земле. Над веером этого ряда ветвей шел второй, над ним — третий, н так чуть не сотня этажей поднималась к макушке. — Сюда и дождь не попадет, — заметил Гриша, расстилая плащ-палатку на пухлом слое хвои. — Вода тут далеко? — Рядом ручеек. А внизу, в ущелье, целая речка с водопадом, — шепотом ответил Ёжо. Оба они, находясь здесь почти в полной безопасности, продолжали говорить вполголоса — такая стояла вокруг тишина. Спать устроились почти как дома. Но долго лежали молча, не смыкая глаз. Теперь уже Гриша больше не терзался догадками, кому доверить свою тайну. По дороге он твердо решил все рассказать баче. Он даже винил себя, что не сделал этого сразу же. Ну, да один день в таком деле ничего не решает. И Гриша крепко уснул.ПОЗДНО ХВАТИЛСЯ
Тяжелым каскадом с высокого утеса падала быстрая, шумная речка. На дне мрачного холодного ущелья вода собиралась в огромный котел, в котором словно кипели и варились огромные серые камни. Почти у самого водопада, на зеленой полянке, спрятанной в густом березняке, жарко горел небольшой костер. Дыма от него нет: Гриша — мастер держать костер без дыма. — Ёжо, а ты ничего не перепутал? Бача обещал прийти к этому водопаду? Не к другому? А может, он ищет нас возле ели? Хотя нет, я сам слышал про водопад. Ёжо сидел у костра на камне и, нацелившись ложкой, ждал, когда надо будет помешивать кофе. За три дня ожиданий Ёжо уже не раз слышал этот вопрос и потому ответил неохотно. Он и сам тревожился за старика, да боялся говорить об этом: вдруг Гриша уйдет. Ёжо уверен, что Гриша недолго тут пробудет, еще день-два и отправится к фронту, а ты оставайся как знаешь. — Гришькоо, рассказывай дальше. — Всего не расскажешь… — ответил Гриша, но все же продолжал. — Ну вот, получили мы свидетельство об окончании семилетки. А Гале Лесовской и мне за отличную учебу дали путевки в самый лучший пионерский лагерь — в Артек. — Хорошо там? — спросил Ёжо. — Очень! И у вас такой будет. — Ну нет. У нас если и будет, так для сынков богачей да гардистов, — пробубнил Ёжо и со злостью бросил в костер сучковатое полено. — Да ты не порть костер из-за гардистов! Задымил! Увидит кто-нибудь… Ёжо поспешно вытащил из огня дымящееся полено и бросил в водопад — в ревущий, пенящийся омут. Красная от заката кипящая вода в миг проглотила его. — Так будет и с гардистами! — сказал Гриша, глядя туда, где исчезло полено. — Тогда и ты поедешь в пионерский лагерь. — Тогда я буду большой и в лагерь меня не возьмут, — пожалел Ёжо. — Мне тоже не пришлось побывать в Артеке. Наш поезд возле Белгорода немцы разбомбили… — Гриша умолк, и в уголках его полных, но бледных губ появились глубокие, страдальческие морщинки. Шрам на лице стал еще чернее, и краешки его возле глаза и уха быстро подергивались. — Началась война, — продолжал он. — Сначала мы с Галей и еще двое ребят жили в селе Бобры, недалеко от Белгорода. А когда туда пришли фашисты, я ушел к партизанам. Назначили меня связным. Мое дело было ходить в Бобры и от Галиной хозяйки получать сведения о немецких поездах. Старуха была стрелочницей на железной дороге… Кофе вскипел. Сняв котелок с огня, Ёжо налил кофе в чашки, сделанные из куска березы еще в первый день их совместной жизни. Гриша взял чашку обеими руками и, грея по бродяжьей привычке об нее руки, рассказывал: — Прихожу однажды на рассвете в село. А оно оцеплено гитлеровцами. Машины на улице гудят. Люди галдят. Детишки орут. Поросята визжат. Целый содом! Идут старики с узлами. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Молодежь в Германию берут». Как быть? Пока вернусь в отряд, фашистов и след простынет… — Гриша отхлебнул кофе. — А молодежь в селе оставалась, как на беду, самая зеленая, до шестнадцати лет. Мне, правда, и тринадцати не было. Но я все же считался партизаном. — Ну и как? — Да как же! Решил добровольцем уехать в Германию! — Что ты! — отмахнулся Ёжо. — Правда! Когда фашисты закончили облаву и сошлись на площади, я забежал в дом, где жила Галя. А там пусто. Сорвал со стены гармошку. Сына хозяйки гитлеровцы повесили в первый день оккупации. Осталась от него только гармошка. В ящике с инструментами нашел я кусочек ножовки, что железо режет. Сунул его в гармошку. И пошел по улице. Растягиваю гармонь, песню ору. Старухи меня чуть не убили. Заплевали с ног до головы — думали, что я и впрямь добровольцем еду в Германию. — И фашисты поверили? — Поверили, гады! С почетом посадили в машину. А в вагоне даже старшим назначили… Едем. Галя на меня даже не смотрит. Кое-кто из ребят сговариваются задушить, как только настанет ночь. — Ну и… — Не успели задушить, — хитро подмигнул Гриша. — Вечером я открыл гармошку и бросил им ножовку: «Пилите решетку!» Распилить решетку оказалось не так уж трудно. Но пролезть на ходу поезда в маленькое окно, подобраться к дверям и открыть их оказалось куда труднее. — Конечно! — понимающе сказал Ёжо. — Стенка вагона гладкая. Держаться не за что. — А Галя пробралась, — с теплотой в голосе сказал Гриша. — Скрутила веревку из полотенец, обвязалась и — в окно. Помню как сейчас: поезд мчится через густой лес, на повороте Галя открыла крюк, ребята отодвинули дверь и начали прыгать. Сговорились, что мы с Галей будем помогать другим, а сами спрыгнем последними. — Все успели? — не стерпел Ёжо. — Да вот я ж попал в самое пекло. — А Галя? — Слушай, Ёжик! Что ж это старик? Солнце заходит, а его все нет… — Придет, — успокаивал Ёжо, чтобы не прерывать рассказа. — Говори, говори! Гриша пил почти несладкий черный кофе и смотрел в кипящий водопад. Солнце уже позолотило острые зеленые пики елок. — Ну что ж, все спрыгнули. Остались мы с Галей. Вдруг она цап меня за рукав: «Стой!» Если б прыгнул, как раз угодил бы на стрелку. Хорошо, коли насмерть, а то покалечишься… Ну, а за стрелкой сразу станция. Вот и всё… — И вы не убежали? — Куда ж там бежать! Станция кишмя кишит гитлеровцами. Конвойные, стоявшие в тамбурах, видели, что творилось в пути. Только поезд остановился, все сразу окружили наш вагон. Убили бы меня, как пить дать. Да начальник поезда знал, что я доброволец. Всыпали мне за то, что не подал сигнала, и перевели в другой вагон. — В какой город привезли вас? — В Регенсбург. Это на западном берегу Дуная. Утром привезли, а к вечеру уже роздали помещикам. — А Галя? — Полгода искал ее. Я попал к такой злющей хозяйке, каких свет не видал. У нее три сына и все эсэсовцы. Одного сам видел. Сумасшедший, точная копия Гитлера. Но как мне ни доставалось, позже я узнал, что на заводах и фабриках нашим ребятам жилось еще хуже. Работать заставляли по двадцати часов в сутки, а кормили только баландой. На фабрику попала и Галя. Когда я нашел ее, она уже еле держалась на ногах. Увидела меня и залилась слезами: «Теперь я могу и умереть». — «Нет, говорю, надо бежать, обязательно бежать». — «А куда, спрашивает, бежать? Не все равно, где подыхать: тут или на дороге…» Не узнал я прежней Гали — замучили гады!.. Гриша подложил хворост и с тревогой посмотрел на выпуклую макушку Крижны. После заката солнца Крижна быстро обволакивалась фиолетовой дымкой и словно таяла в наступающих сумерках. Еще немножко — и макушка исчезнет совсем. Тогда уже едва ли придет к водопаду старый бача. — Гришькоо, что там? — подняв руку, насторожился Ёжо. — Кто-то идет?.. — Сухая сосна скрипит. — Так и не захотела бежать? — спросил Ёжо, уже больше думая о Гале, чем о старике. — Может, так и не согласилась бы. Да я напомнил ей изречение Долорес Ибаррури, которое когда-то написал в альбом: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». — И убежали? — Да. Только нелегко там было бежать. Это здесь свой народ. И покормят и оденут. А там ничего не достанешь. Карты у нас не было. Шли вслепую: на восток, и только. Если попадалось опасное место, я прятал Галю, а сам шел в разведку. Один раз я нарвался. Недалеко от Веймара, возле концентрационного лагеря. — Бухенвальд называется? Там пять человек из нашей деревни замучили. — Везде знают этот Бухенвальд! — зябко поежился Гриша. — В тот день как раз кто-то бежал из лагеря. За ним гнались с собаками. Я мог бы притаиться, и меня не заметили бы. Да эсэсовцы направлялись как раз в тот лес, где осталась Галя. Ну, я и отвлек их. — А те, за которыми гнались, убежали? — Убежали. Уже в лагере я узнал, что это была группа немецких коммунистов, приговоренных к расстрелу. — А Галя? — Больше я ее не видел… — оборвал свой рассказ Гриша и встал. — Вот что, Ёжо: надо идти навстречу старику. Одному остаться здесь, а другому идти. Мне кажется, с ним что-то случилось. — Подождем еще до утра. Куда спешить? — Эх, Ёжик… Знал бы ты, как я спешу… И Гриша решил наконец открыть часть своей тайны, чтобы и Ёжо понял, что отсиживаться нельзя, что надо действовать как можно скорее и решительнее. Он рассказал, почему шел именно через их село, назвал фамилии людей, которых должен был увидеть. Яна Ковача он назвал правильно, а вторую так и повторил наугад: то ли Благовер, то ли Долговер… Ёжо недолго думая поправил его: — Лонгавер. — Лонгавер? Точно! Лонгавер! — громко воскликнул Гриша, забыв на секунду о необходимости остерегаться. — Где живет? Кто он? Бежим к нему! — Так это и есть наш бача, — виновато ответил Ёжо. — Бача? — Гриша хлопнул рукой по прикладу винтовки, висевшей на груди, и, обессиленный, сел на камень. — Я как-то не подумал про него, когда ты просил называть фамилии. У нас привыкли: бача, бача… — убитым голосом оправдывался Ёжо. — Гришькоо, я сбегаю к нему. Я очень быстро. А ты обожди здесь… Может, еще придет. — Нет, Ёжо, теперь нам разлучаться нельзя, — вздохнул Гриша. — Идем вместе!* * *
По берегу реки Туречки быстро шел невысокий, сухощавый человек в светло-зеленой шляпе, украшенной фазаньим пером, и в костюме цвета еловой хвои. Прохожие и те, кто находился возле домов, низко кланялись ему. А цестарь[100] Спитак, хитрый рыжий старик, вышел специально со двора, чтобы снять шляпу и сказать: — Добрый день, пан горар. Как себя чувствуете? — Спасибо, — ответил горар, продолжая свой путь. — Чувствую себя, как пятилетний дубок в майское утро. — И, лукаво подмигнув, продолжал: — Только не тот дубок, который вы срубили в зеленом яру. Право же, пан Спитак, можно было не губить такое красивое деревце на какую-то подпорку в гнилом хлеву. Неужели сосны мало? Спитак молча мял свою шляпу и краснел. Горар шел дальше, а соседи не преминули посмеяться над незадачливым браконьером: — Что, Спитак, думал: «Срублю вечерком, и все будет шито-крыто?» Э-э, от Кошика не скроешь! — Он сквозь землю видит. — А сам не увидит — зайцы расскажут. Мой сын уже сказку сочинил про нашего горара: будто бы лисицы передают ему тайны лесные, а медведи погоду предсказывают. Горар, лесничий в горной словацкой деревне, — самый почетный человек. И неудивительно: вся жизнь селянина здесь связана с лесом. Все получает словак из зеленого царства: и топливо, и корм для скота, и дичь, и клочок пахотной земли. Горар не только страж, но и врач лесов. Ну, а Ярослав Кошик, в ведение которого входят леса шести деревень вокруг Крижны, — всем горарам горар. На вид неказистый; лицо черное, кожа да скулы; роста невысокого; тонкий и легкий. Но он совсем не чета тем лесничим, которые ленятся ходить по горам и лесам, везде посылают лесников, а сами жиреют и в сорок лет жалуются на одышку. Нет, этот не такой, хотя ему уже за пятьдесят. Спозаранок, еще до завтрака, Кошик обегает половину своего участка. Шагом он по лесу не ходит. С горы спускается бегом, потому что легко. А на гору поспешает, чтобы скорее взобраться. Кошик знает в своем лесу не только каждое дерево, но, пожалуй, и мышиные норки. Везде появляется неожиданно. Вот и сейчас он только вышел из села, свернул в лесистое ущелье, и сразу же раздался его спокойный, но строгий голос. — Пан Черный! Пан Черный! Что вы делаете? Перестаньте сейчас же! Бросьте топор! — Пан горар, я не сосну, я пенек, — слышится в ответ. Браконьер совсем молодой человек. Но лицо у него изможденное, землистого цвета, а глаза в глубоких, темных впадинах, усталые и воспаленные. Растерянно сунул он за пояс топор. Приподнял свою старенькую шляпу: — День добрый, пан горар. Какая хорошая погодка!.. А небо! Хочется лечь и смотреть на него целый день. Если бы кто услышал эти фразы со стороны, сразу понял бы, что браконьер старается умилостивить горара и говорит невпопад. Погода-то как раз незавидная: дует сырой холодный ветер; по небу плывут обрывки туч, похожих на грязное тряпье, пущенное по реке. К вечеру жди бури с ливнем. Горар, не ответив на приветствие, молча подошел к браконьеру. Осмотрел сосну — цела. Подрублен только пенек спиленного в прошлом году кривого бука, который обвивал сосну и портил ее кору. Глядя на щепки, разлетевшиеся по траве, горар заговорил вдруг тихо, так, чтобы слышал только браконьер. — Сколько ночей не спал? — Семь. — Зачем же так? Самый тупой полицейский по твоему лицу догадается, что работаешь в помещении без воздуха. Учти это, Лацо. — Да как же тут учитывать, товарищ Кошик… — Даже в лесу не произноси слова «товарищ». Будь осторожен. — Если мне спать, то… — Трудно тебе. Знаю. Сегодня на партийном собрании решим этот вопрос. Прибавим тебе человека. Беда — нет у нас специалиста по типографскому делу. — Был бы грамотный да старательный, а я его обучу в два счета. — Дадим тебе Маречека. А? Лацо молчал. — Не хочешь? — Нутро мое не переваривает его. Коммунист он, правда, старый, с заслугами, а живет как барин. — Ты должен понимать, Лацо, что его быт — это тоже маскировка. А другого… я и не придумаю, кого бы… — Да я что… Пришлете — будем работать, — нехотя согласился Лацо. — Ну, я пошел. Нужно отвести участок для рубки леса, — сказал горар и круто повернул в густой ельник.* * *
Несколькими минутами позже горар уже отвел группе лесорубов делянку и указал, в какую сторону валить деревья. Затем с другой группой он отправился в глубь леса. Возле большой, стройной сосны Кошик остановился и, любуясь ею, сказал тихо, но внятно: — В типографию нужно послать еще одного человека. Сделав засечку на сосне, он направился к другому дереву: — Это надо решить сегодня же. Следовавшие за ним лесорубы внимательно рассматривали намеченные деревья и говорили вполголоса. Со стороны показалось бы, что все здесь заняты только выбором хорошей древесины. — Валите и эту! — с сожалением указал горар еще на одну высокую, стройную сосну. — Жалко пилить такую, да нельзя поставлять только сухостой — заподозрят… А ты, Пишта, снимай кору и рассказывай, как разошлось воззвание к солдатам. Пишта не успел ничего сказать. Все обернулись на шум и треск, донесшийся из березняка. Как преследуемый волками лось, на делянку выбежал Маречек. Огляделся по сторонам и, задыхаясь, прошептал: — Простите, товарищи, опоздал! Чрезвычайное происшествие задер… — Он проглотил половину слова и, вынув из кармана белый, аккуратно сложенный платочек, торопливо вытер покрывшееся испариной полное, розовое лицо. — Можно подумать, что Гитлер уже подходит к Москве, — недовольно заметил Кошик, не любивший горячки. — Вон ручеек, охладись да сядь так, чтобы тебя меньше видели. Сбиваясь и недоговаривая, Маречек рассказал, что подслушал разговор коменданта о подпольной типографии. — Я понял, что они давно знают, где помещается валашка Яношика, да чего-то ждут. — Чего ж им ждать! — понимающе кивнул Кошик. — Засечь побольше следов к ней. — Меня комендант уже засек. — Маречек виновато опустил глаза. — Что это значит? — встревожился Кошик. — Он говорил заместителю, что считает меня слугой двух господ. — О-о! Это провал. — Кошик сокрушенно покачал головой. — Ну что ж, подробно обо всем доложите партийному собранию. Все, кроме Котика, уселись на поваленные бревна и топорами начали снимать кору, одновременно обсуждая новость. После недолгих споров партийное собрание постановило Маречека снять с работы в Старых Горах, где он занимался слежкой за полицией, и перевести в типографию. А типографию как можно скорее увезти в другое место и больше не называть валашкой Яношика.ОШИБКА ГРИШИ КРАВЦОВА
Разгулялась непогода, разбушевалось бескрайное море леса. Ветер гудел и стонал в верхушке старой ели. Тяжелые, мокрые ветви шумели сердито и жалобно. Холодно. А костра разводить не хотелось. Да и ничего не хотелось делать. Тесно прижавшись спина к спине, Гриша и Ёжо лежали под елью. — Теперь все пропало, — шептал Ёжо. — Нет, — возразил Гриша, — пока Лонгавер и мы живы, нельзя считать, что все пропало! — А если его перевезут куда-нибудь в большой город, в настоящую тюрьму, тогда как? — Не зуди, ёжик! И так черти по сердцу скребут. Спи… — Ладно, сплю. — Ёжо закутал голову концом плащ-палатки, прикрывающей обоих. — Утром пойдем в Туречку, что-нибудь да узнаем. Гриша замолк. Он зол на себя за недостаток находчивости, решительности, за все неудачи, которые постигли его. Закрыв глаза, он старался уснуть. Но снова и снова вставал перед ним Вацлав Гудба… «Гришькоо! Гришькоо! Если хочешь бить фашистов…» Гриша, сорвал с себя плащ-палатку, вскочил: — Ёжик, по моим следам пришли полицейские! Я виноват, что бачу взяли, я должен его выручать! Идем! — Куда? — Идем, идем, Ёжик!* * *
Ночь. Лютая, черная ночь с ветром, дождем и громом. На самой середине невысокой, продолговатой голи два дубка: один, стройный и тонкий, — не выше дома; другой — приземистый, вихрастый и крепкий. А вокруг ни былинки, ни кустика, только мягкая низенькая мурава, да кое-где темнеют огромные каменные глыбы. Сырой и тяжелый, как волны морского прибоя, ветер хлестал, перекатывался по голе и в ярости набрасывался на молодые дубки: то заламывал упругие ветки, как руки пойманного беглеца, и тянул деревца с горы; то пригибал дубки до самой земли, намереваясь если не переломить, то вывернуть с корнем, поднять в облака и унести на край света. Да не тут-то было. Это не хрупкая осина и не покорная унылая лоза. Это дубки! Молодые, тонкие, но уже коренастые и упрямые. Тот, что повыше, только на миг пригнулся под ветром и тут же опять выпрямился, тряхнул кудрявой макушкой и снова поднялся, решительный, разудалый, как борец, ожидающий нового удара противника. Сколько таких ветров пронеслось над голей? Где они? А дубки стоят. Твердо стоят. Набираются силы, красоты и удали. Налетайте, ветры буйные! — Гришькоо! Дубкам этим достается, как нам с тобой, — стараясь перекричать ветер, сказал Ёжо. — Их двое, а ветру против них вон сколько! — Неужели ты думаешь, что против нас больше, чем за нас? Чудак! — Гриша, поняв, что ветер гасит слова, как спички, повернулся к Ёжо и зашептал прямо над ухом: — Нам такая погодка на руку — у коменданта никого постороннего не будет. — Гришькоо, что ты задумал? Но Гриша только ускорил шаг. Когда спустились с горы, засверкала молния, ударил гром. На землю тяжелым водопадом обрушился ливень. Ветер потерял прежнюю силу, зато стал холоднее и пронзительнее. Новая вспышка молнии осветила перед путниками большой черный крест. — Святой копечек![101] — со страхом промолвил Ёжо. — Отсюда тропинка ведет прямо к дому коменданта. Когда вспышка молнии еще раз озарила крест, Гриша увидел женщину в мокром тряпье, уткнувшуюся головой в основание креста. В ту же минуту Ёжо схватил его за руку и потащил в сторону. — Замерз? — спросил Гриша, чувствуя, как дрожит рука подростка. — Нет. Матки боюсь. Под крестом моя матка. — Что она тут делает? — Молится. Она сошла с ума. Еще в начале войны. И теперь ничего не делает, только молится… Гришькоо, огонь!.. — лязгая зубами, с трудом выговорил Ёжо. — Это на кухне в доме коменданта. — Ты точно знаешь, что на квартире коменданта есть телефон? — Конечно! Я сто раз бывал у Божены! — ответил Ёжо, явно преувеличивая. — Тогда всё в порядке. Еще раз повтори мне, как там расположены комнаты. Где входы, выходы… Кстати, вот тебе деньги. — Гриша протянул другу сто крон, подаренные ему учителем. — Если что со мной случится… Одним словом, если я из этого дома не выйду, беги к бабке Лонгаверихе. Передай деньги. Пусть подкупит полицейских и добьется свидания со стариком. Если бабки не найдешь, пусть еще кто надежный проберется к старику. — Зачем? — Некогда объяснять. За эти деньги часовые согласятся? — За сто крон? Да они за десятку… — Впрочем, это на крайний случай, — перебил Гриша. — А вообще-то надеюсь на удачу. Не зря же я родился под счастливой звездой! — Разве и у вас верят в звезду? — удивился Ёжо. — А разве можно не верить в нашу звезду! Гриша проверил пистолет, сунул себе за пазуху, а товарищу отдал винтовку и немецкую баклажку. — Ёжо, с этой минуты я глухонемой. Понял?* * *
Божена мыла посуду на кухне. За окном сверкала молния, гремел гром и ветер хлестал в стекла крупным густым дождем. В комнате хозяйки тоже бушевала буря. Гремел гром, и подолгу повторялись его раскаты. Это пани играла на рояле. Она любила играть в непогоду… Дети уже спали. Хозяин в своем кабинете время от времени звонил по телефону. А потом подолгу молчал, наверное, что-то записывал. «Что ему писать? — думала девушка. — Арестовал человека, посадил — и крышка. Так нет, все пишет и пишет». Ой! Божена вздрогнула: показалось, что кто-то смотрит на нее. Глянула в окно и оцепенела. Прильнув к мокрому стеклу, так что расплющился нос, за окном стоял Ёжо и умоляюще смотрел на сестру. Божена яростно махнула рукой: мол, присядь — и пошла открывать дверь, выходившую в сад. Увидев на груди брата винтовку, девушка чуть не вскрикнула. — Кто у коменданта? — подступив к ней, спросил Ёжо. Божена качнула головой: никого. — Отнеси ему вот это. — Ёжо подал записочку, написанную им под окном. — Обо мае молчи. Скажи только про него. Из-за двери выступил Гриша. — Это глухонемой, — пояснил Ёжо сестре. — Ему надо к коменданту. Божена кивнула и убежала. Вскоре она вернулась в сопровождении хозяина, высокого, крепко сложенного человека, одетого в яркую полосатую пижаму. Правую руку он держал в кармане пижамы. Гриша понял, что в кармане у него пистолет. Остановившись на пороге слабо освещенного коридорчика, комендант замахал свободной рукой, как это делают те, кто не умеет говорить с глухонемыми. Гриша жестами потребовал бумагу и карандаш. Комендант впустил его на кухню. Но Гриша показал на Божену, на окно и, помахав головой, сморщился так, будто съел что-то очень кислое. Комендант понял: посторонние этому посетителю мешают. Покосившись на мокрую, рваную одежду «глухонемого», он решительно махнул рукой: идем. Вошли в кабинет. Комендант сел за письменный стол, освещенный настольной лампой под зеленым абажуром, и, указав «глухонемому» на стул, быстро набросал на листе бумаги несколько слов: «Кто вы? Зачем? Откуда?» Пока он писал, Гриша вынул из кармана небольшой, матово блеснувший пистолет и, перегнувшись через стол, наставил его на коменданта. Левой рукой «глухонемой» властно махнул, требуя, чтобы хозяин встал и поднял руки. Комендант молча повиновался. Черное дуло пистолета, гипнотизируя и замораживая, смотрело прямо в переносицу. Но страшнее пистолета были цепкие, вонзившиеся в самую душу, гневно горящие глаза «глухонемого». Глубокий, подергивающийся шрам на щеке, белый широкий рубец на лбу убедили коменданта втом, что «глухонемой», видно, прошел огонь и воду и, конечно, сумеет вогнать ему пулю в лоб. «Хорошо, если ему нужны только деньги, а вдруг это партизан?» — с замиранием сердца думал комендант, пока «глухонемой» шарил по его карманам. Вынув пистолет из кармана пижамы, «глухонемой» дал знак опустить руки и сесть. Комендант облегченно вздохнул и опустился в кресло. На этом можно было перестать притворяться глухонемым. Главное достигнуто: комендант обезоружен, и в доме никакого переполоха. Остается потребовать от него позвонить в комендатуру и вызвать к себе якобы для допроса Лонгавера. Но именно эта уверенность, что главное сделано, что враг обезврежен, и подвела Гришу Кравцова. Он заметил, но не придал значения тому что, опуская руки, комендант прижал к себе шнур от настольной лампы. А минутой позже комендант, делая вид, что поудобнее устраивается в кресле, наклонился вперед и выдернул этот шнур из розетки. Комната провалилась во тьму. Первая мысль была — выстрелить и бежать. Но в ту же минуту Гриша почувствовал, что врага перед ним уже нет, что он где-то сбоку или даже позади. Гриша отпрянул к порогу, но на полпути тяжелый удар по голове свалил его с ног. Перед глазами брызнули и погасли желтые искры…* * *
Тоно вышел из хлева с большой корзиной навоза на спине. Остановился. Поправил ремни, глубоко врезавшиеся в плечи. Усталыми, глубоко запавшими глазами посмотрел на вечернее солнце, окинул далекий путь на гору и вздохнул тяжело, как старый, немало повидавший горя человек. «Многовато наложил — пуда полтора!» — подумал он. Но отбавлять не стал, а, увидев гардистов, въезжающих в деревню, поспешно направился в горы. Извилистая сырая тропа карабкалась между соснами, тоже словно взбирающимися на высокую гору. Маленький клочок земли, которым кормились отец и мать, деды и прадеды Тоно Земака, находился в семи километрах от дома, за двумя высокими лесистыми перевалами. По крутой тропинке, политой их слезами и потом, должен был ходить теперь Тоно. Красивы склоны гор, покрытые лесом. Хороши перелески, зеленые поляны у водопадов, веселые березовые чащи, где с журчанием ручейков спорят голосистые птичьи хоры. Но все это видишь и слышишь, когда идешь налегке, ради прогулки. А какое проклятье взбираться по стремительно-крутой тропе с тяжелой корзиной навоза! Нелегкое это дело для взрослого. Тончику же только тринадцать лет. Тяжела, страшно тяжела эта вонючая корзина! Мальчик чуть не плакал, но шел вперед и вперед. С этой корзиной на спине он был похож на муравья, подхватившего тяжесть, во много раз большую его самого. Тоно изогнулся, низко опустил голову, руками уперся в колени, дышал тяжело и часто. Со лба по запыленному лицу грязными струйками стекал пот. На подбородке он собирался в крупные капли и падал под ноги. Кругом ни души. Да если бы кто и встретился, разве помог бы? У каждого свое горе и своя забота. Помощи не жди — наоборот, все вокруг против него: ветки сосен распустили свои широкие иглистые лапы и кололи лицо; камешки попадались под ноги самыми острыми углами. Даже солнце мешало: то припекало затылок, то било прямо в глаза. Пять километров шел Тоно без остановки и так без передышки хотел дойти до самого поля, как делал когда-то его отец. Однако это оказалось не по силам. Уже на полпути у него заныла спина, заболел живот, хоть плачь! И Тоно не вытерпел. Поставил корзину на высокий пенек, чтобы легче было потом поднимать, и лег на спину, разметав руки и ноги по траве. Долго лежал он, кляня в душе всех, кого только можно проклинать за такую жизнь. Но лиходеи были далеко, и пока свою досаду мальчик перенес на солнце. Оно так жгло, что полотняная рубашка прилипла к спине. Солнце совсем не спешило заходить, словно ждало, когда Тоно снова отправится в путь, чтобы еще хоть немножко его помучить. Мальчик с завистью думал о Ёжо. Тот теперь уже где-нибудь у партизан и, может быть, получил настоящий автомат или два пистолета за пояс… Вспомнил о Цириле, который после смерти отца как в воду канул. «Вынесу весь навоз на поле и тоже пойду искать партизан», — решил Тоно и опять задумался. Незаметно для себя он запел старинную песню, которую под этим же деревом и в таком же изнеможении пели, быть может, отец его, деды и прадеды:НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Гриша очнулся утром в камере с решеткой на единственном окне. На полу и нарах вповалку лежали люди. Когда пригрело солнце, заглянувшее сквозь решетку, арестанты зашевелились, начали вставать с нар, прохаживаться по узкой продолговатой камере. Но Гриша не шевелился: в голове звенело, перед глазами что-то мельтешило, и он боялся опять потерять сознание. К счастью, его никто не тревожил, хотя почти все уже разговаривали. Он повернулся на бок и с нетерпением смотрел на тяжелую, окованную железом дверь, за которой скрывалось его будущее. Загремели тяжелые ключи. С хрипом и скрежетом отворилась дверь. На пороге показался здоровенный носатый полицейский. — Опять Буйвол дежурит! — прошептал кто-то. — Лонгавер! — крикнул полицейский. Гриша чуть не вскрикнул, увидев бачу Франтишека, встающего с нар. Только теперь он совершенно пришел в себя и вспомнил все, что с ним произошло… Старик, придерживаясь рукой за косяк, вышел из камеры. Дверь захлопнулась гулко и плотно, как крышка свинцового гроба. Стало тихо. Только в ушах звенело после этого хлопка. В камере долго держалась гнетущая тишина. Все о чем-то сосредоточенно думали. А потом сразу, как по команде, заговорили. Гадали, каким вернется бача, да и вернется ли вообще. Лонгавера втолкнули обратно часа через два с разбитой щекой и черными кровоподтеками под глазами. Все бросились к нему на помощь. Он тихо повел рукой: отстаньте. Отдышавшись, Лонгавер подошел к старику, одетому в черный, засаленный костюм железнодорожника, что-то шепнул ему и отошел к окну, под которым на полу лежал Гриша. Лонгавер молча смотрел в окно, будто любовался солнечным утром. А железнодорожник уже завел с соседом спор о гардистах. В этот разговор вскоре втянулась вся камера. Сыпались проклятия и беспощадная брань. До сознания Гриши доходили только отдельные фразы. — Я толком так и не пойму, кто они, эти гардисты, — говорил простуженный бас. — Собаки, вот они кто! — Железнодорожник даже плюнул со злости. — Да что я говорю! Я вон своему псу прикажу лежать в будке — он лежит. И, если кто сунется во двор, горло перегрызет. А эти сами привели грабителей в дом. — Зачем тогда допустили их до власти? — Когда птичку ловят, ей ласково поют. В президенты Езеф Тиссо пробрался хитростью да сладкими обещаниями. А хитрости ему не занимать — он же бывший фарар.[102] В самый разгар этого спора Лонгавер словно в изнеможении опустился возле Гриши и, глядя на дверь, очень внятно прошептал: — Вас считают глухонемым, бандитом. Продолжайте играть эту роль. Выпустят. Меня не знаете, и я вас. Лонгавер встал и хотел отойти, но Гриша попросил подать ему воды. Бача принес с нар котелок с водой. Взяв котелок и глядя в глаза наклонившегося старика, Гриша быстро пересказал все, о чем просил его Вацлав Гудба. — Цотак — предатель?! — переспросил Лонгавер и, отодвинувшись, пристально посмотрел на юношу, как бы оценивая, в своем ли тот уме. Но тут же спросил, что случилось с Гудбой. — Ляжем рядом на нарах. И, пока они спорят, вы незаметно расскажете мне все, что знаете о Вацлаве. Но тут опять загромыхали ключи. Снова раздался сумасшедший скрежет железной двери. Гардист вошел в камеру, резиновой дубинкой хлопнул Гришу по плечу и махнул: идем. Гриша не спеша встал и пошел медленно, чтобы собраться с мыслями. Сердце забилось часто и тревожно, так что в глазах потемнело. Чтобы успокоиться, Гриша начал дышать как можно глубже: выдохнет — и опять вдыхает глубже прежнего. Сердце все спокойнее, спокойнее. Входя в кабинет коменданта, Гриша уже чувствовал себя готовым здраво обдумывать каждый вопрос. Но допрашивать его комендант не стал. Он посадил арестованного против окна так, чтобы солнечный свет падал в лицо, а сам сел за большой письменный стол под портретами Гитлера и Тиссо. Затем кивнул дежурному полицаю, застывшему у порога. Тот открыл дверь, вошли шесть гардистов и выстроились у стены. — Старуху! — скомандовал комендант. Вошла маленькая, подслеповатая бабка. Комендант подвел ее к Грише: — Он? Говори правду, иначе бог покарает твоих детей. Старуха пристально посмотрела в глаза начальнику и прошамкала: — Их было много, и все с пулеметами! После старухи ввели женщину. Но и эта его «не признала». Комендант дубинкой выгнал ее из кабинета. Шестнадцать человек прошло перед Гришей. Наконец ввели Лонгавера. — Ну, пан Лонгавер, вы в камере присмотрелись к этому молодцу? — кивнул комендант на Гришу. — Тот это, что приходил к вам на Крижну в день убийства гардистов? — Пан комендант, я вам уже сказал, что в тот вечер никто ко мне не приходил, — спокойно ответил Лонгавер. — Этого юношу я впервые увидел только здесь… А что он натворил? Комендант кивнул полицейскому. Тот схватил у стены широкую скамью. Поставил ее посередине комнаты и приказал Лонгаверу снять рубашку и лечь. Четверо гардистов, гулко топая сапогами, вышли из строя. — Приготовиться! — скомандовал дежурный. И полицейские стали не спеша засучивать рукава. Гриша, закусив губу, напряженно следил за всеми приготовлениями. Мысли в голове его путались. Дежурный, ставший над головой Лонгавера, полюбовался черной извивающейся, как змея, резиновой плетью, потом широко из-за спины размахнулся и ударил старика по голой спине. На худом, землистом теле вскочил красный широкий рубец. Замахнулся второй раз… «Убьет! — мелькнула в голове Гриши страшная мысль. — А если убьют Лонгавера, то погибнет вся организация!» Полицейский замахнулся в третий раз. — Стой! Стой, гадина! — двумя прыжками подскочив к палачу, Гриша выхватил из его рук тяжелую резиновую плеть. Гардисты от неожиданности расступились. Комендант, выскочив из-за стола, застыл на середине кабинета: — Русский? — Да, русский! — вызывающе ответил Гриша и, бросив к ногам коменданта черную плеть, возвратился на свое место. — Комсомол? — Конечно! — Фамилия? — Кравцов Григорий Васильевич. Семнадцать лет. Родился в Усть-Каменогорске. Отец рабочий! — выпалил Гриша и вызывающе спросил. — Что еще? — Как вы попали в Старые Горы? — Бежал из Германии. — Из Германии? — недоверчиво переспросил комендант. — Сколько времени вы там пробыли? — Три года и два месяца. — Так… — протяжно сказал комендант и, сев за стол, уставился на арестованного так, будто хотел пронзить его взглядом. — Три года? Значит, попали вы в Германию четырнадцатилетним? — Да. — И уже были комсомольцем? — Комендант пристукнул по столу кулаком. — Вы что же, совсем за дурака меня считаете?! Если я поверил, что вы глухонемой, то уж никак не поверю, что вы идете из Германии… Комендант встал. Молча прошелся по кабинету и, остановившись перед арестованным, тихо и даже мягко сказал: — Вы смелый. А я люблю смелость. Говорите правду, и я не только сохраню вам жизнь, но и отпущу на волю. Говорите, где остальные парашютисты из вашего десанта? — Я вам сказал правду. А смерти я не боюсь! — отрезал Гриша. — Что ж, выходит в комсомол ты вступал в Германии? — перейдя на «ты» и повысив тон, спросил Младек. — Я ведь знаю, что в комсомол не принимают с тринадцати лет. А ты с тринадцати лет был в Германии. Так где же ты вступал в комсомол? — В Бухенвальде, — спокойно ответил Гриша. — Больше я не скажу ни слова! — И он отвернулся к окну. …По голубому небу, обгоняя одна другую, спешили на восток две легкие, светлые тучки. Грише они казались самым дорогим из всего, что осталось на свете. Они свободно плыли в тот край, куда он никогда уже не попадет. Захотелось жить, так захотелось жить!.. Но перед глазами чернели толстые железные решетки.* * *
— Хорошая штука — эта пилорама! — говорил горар вполголоса, входя с Маречеком под тесовый навес лесопилки. — Просто жалко расставаться с таким местом. Вместе с досками мы отсюда совершенно незаметно развозили то, что хлопцы напечатают за ночь. А на новом месте с перевозкой печатного материала будет труднее. Ты это хорошо обмозгуй, Маречек. — За меня не бойся, — ответил Маречек, удивляясь тому, как он, живя рядом с лесопилкой, ни разу не подумал, что под нею что-то скрывается. И невольно Маречек вспомнил, как радовалось начальство этой пилораме. Сколько подняли тогда шума в газетах! Это было в первые дни прихода фашистов к власти. Кошик сам предложил поставить пилораму, чтобы и их местечко активно включилось в строительство «Новой Европы». Правда, пилорама хорошо работала только в первые дни. Но начальству дорог была слава, созданная затеей горара Кошика. Утро стояло серое: то дождь, то туман. Рабочих еще не было. И Кошик с Маречеком занялись осмотром бревен, заготовленных для распиловки. Уговорились так: если явится кто посторонний, делать вид, будто Маречек привез для распиловки несколько бревен и вот они советуются. Лишь когда сошлись рабочие и пустили пилораму, Кошик и Маречек вошли в столярную мастерскую, прикорнувшую за лесопилкой. Здесь работал брат наборщика Лацо — Ондро Кралик. Кроме горара, Лонгавера и погибшего Яна Ковача, Ондро один знал о том, где находится типография, потому что сам оборудовал вход в нее. — Добрый день, Ондро! — входя первым, сказал Кошик. — Вот пан Маречек хочет заказать себе кое-какую мебель. Так ты ему покажи образцы. Пусть выберет. Из всей этой длинной фразы Ондро Кралик принял во внимание только одно слово: «покажи». Это означало, что надо провести товарища в типографию. Кралик равнодушно склонил голову и попросил Маречека посидеть немножко, так как должен прийти посторонний человек, заказчик, за готовым креслом. Кошик вышел, чтобы подготовить машину к перевозке шрифтов и печатного станка, который Маречек и Лацо должны были разобрать и уложить в длинный тесовый ящик. Больше всего Кошик боялся за исход погрузки этого ящика. Необычайно тяжелый, неуклюжий, он мог обратить на себя внимание полицейских. А они в форме и переодетые так и шныряли теперь повсюду. Возле пилорамы к Котику подошла жена: — Ты что не идешь завтракать? Все остыло. — Не хочется. Я попозже. Но жена, взяв его за руку, толкнула под локоть и, нарочито громко и весело здороваясь с рабочими, повела домой. Кошик понял, что жена зовет его неспроста, и, уходя, пообещал Маречеку скоро вернуться. — Что случилось? — спросил он, когда спустились на тропинку, ведущую к его дому. — Прислуга коменданта пришла. Она была в комендатуре. Видела Лонгавера. Он передал какие-то деньги. Просил срочно вручить их тебе. — Деньги? — удивленно и встревоженно переспросил Кошик. Но тут же взял себя в руки, улыбнулся. — Вот старик… петля на шее, а он о долгах… Божена ожидала на крыльце, в комнату войти отказалась, объяснив, что давно уже из дому и пани будет ее ругать. С этими словами девушка протянула Кошику несколько старых, свернутых в трубку бумажек. Горар, не считая, сунул деньги в карман и спросил, зачем она ходила в комендатуру. — Ёжо просил отнести баче завтрак. Сказал, что бача Франтишек с голоду умрет, если не помочь. — Как же ты пробралась, ведь передачи запрещены? — Надула дежурного полицая, побожилась, что пан комендант разрешил. — А вдруг он спросит коменданта? — Побоится! Я, когда уходила, призналась этому оболтусу, что обманула. «Но, говорю, лучше не жалуйся коменданту, а то тебе же влетит!» — Ох, и дипломатка! Бача ничего не сказал? — Вслух, наверное для отвода глаз, он попросил, чтобы на эти деньги и купила ему курева и вина. А потихоньку шепнул: «Это долг пану горару за лес для сарайчика». Даже повторил и просил не забыть, что за лес для сарайчика… Божена убежала, а Кошик тут же пошел в сарайчик возле дома. Каждое слово Лонгавера было для него полно особого, понятного только ему одному смысла. В сарайчике Кошик развернул деньги и начал их просматривать. Всего насчитал двести сорок одну крону купюрами разных достоинств. Больше всего оказалось пятерок и десяток. На некоторых из них он увидел цифры, написанные карандашом. Часто бывает: люди записывают свои расходы прямо на деньгах. На одной пятерке Кошик увидел вычисление: 25+96=123. На то, что сумма от сложения чисел получилась неправильной, он даже не обратил внимания. Его интересовало другое: каждую цифру горар заменял соответствующей буквой шифра. На засаленной и забрызганной чернильными пятнами пятерке цифр не оказалось. Однако расположенные кружочком пятна тоже полны были смысла. Цифры, выведенные химическим и квасным карандашами, горар обнаружил еще на двух бумажках. Когда все, написанное на деньгах, было переведено на язык шифра, Кошику показалось, что он теряет сознание или сходит с ума. Он держал в руках деньги и смотрел на них, как на врага, занесшего нож для удара, который отвести уже невозможно. И вдруг, скомкав деньги, Кошик прошептал: — Но ведь он только сейчас узнал, где находится типография! Сообщить коменданту еще не успел. Значит, его нельзя выпускать!.. Сунув деньги в карман, горар направился было из сарая, но опять остановился. «Сегодня, — подумал он, — шпики следят за каждым моим шагом. Это ясно. Значит, горячиться нельзя…» Деньги Кошик сжег и вернулся в дом. Выпил чашку кофе и, внешне спокойный, отправился на лесопилку. Маленький подвал был ярко освещен электролампой. В углу, за наборной кассой, стоял Лацо. Возле него — Маречек. Объяснив, как набирается текст, Лацо перешел к печатной машине, «американке». — Тем же током, каким освещаются дома гардистов, работает и наша типография! — восторгался Маречек. — Это все брат оборудовал! — с гордостью ответил Лацо. Где-то в углу чуть слышно звякнул звоночек. Лацо выключил свет — и тотчас в потолке открылся люк, через который проник сюда Маречек. В подземелье спустился горар — и свет снова зажегся. — Ну как, Маречек, не пугает тебя такое некомфортабельное помещение? — весело спросил Кошик. — Что вы, товарищ Кошик! Я готов выполнить любое задание партии. А такое — тем более. — Значит, даешь согласие? Тогда сейчас же впрягайся. Помоги все упаковать и перевезти. Шоферу передай свой пистолет. Ему он нужнее, чем тебе. — И Кошик решительно протянул руку: — Дай, я сам ему передам. — Успеется, — вяло ответил Маречек и полез к станку, который Лацо уже начинал разбирать. — Пистолет шоферу нужен сейчас! — строго повторил Кошик. Маречек наклонился и, делая вид, что не придает этому особого значения, полез в задний карман брюк. Еще в кармане взвел курок. Но Кошик это заметил и ударил его по руке своим маленьким черным пистолетом, всегда хранившимся во внутреннем кармане пиджака. Маречек вскрикнул и выронил оружие. — Сядь! — наставив на него пистолет, сказал Кошик. — За тобой ящик. Садись! Маречек сел и левой рукой достал из кармана платок. — Лацо, поднимите пистолет и пишите протокол допроса! — потребовал Кошик. — Допроса? — недоуменно переспросили в один голос и Маречек и наборщик. — Скажите, Дюро Маречек, какая партийная кличка была у вас при Вацлаве Гудбе? — Цотак. — Совершенно верно. Вы работали с ним дружно? — Очень. Вацлав любил меня и доверял. Не то что ты. — Вот эта доверчивость и погубила его. — Да что с тобой, Яро! Ты какой-то сегодня… — Вот что, Маречек, — перебил Кошик: — каждая минута на счету! Говорите прямо и коротко, если хотите жить. Знает полиция, что типография находится здесь или нет? — Не знает, ничего не знает! Да я и сам не подозревал до последнего часа. — Но вы же позавчера сказали, что комендант пронюхал, где находится валашка Яношика. — Я вынужден был это сказать. Иначе мне там перестали бы доверять. — Еще один вопрос: за вами сегодня следят? — По опушке леса прогуливается толстый пан в клетчатом костюме. Он от коменданта, — ответил Маречек, вытирая платком лицо. — В таком случае мы должны увезти вас отсюда тайно. — Куда вы меня повезете? — вскочил Цотак-Маречек. — Вы же сами понимаете, что ваше дело требует тщательного расследования. — Товарищ Кошик! Я многое знаю. Я очень много могу помочь. Отправьте меня в центр! — взмолился Маречек. — Слишком далеко захотели!.. Через час шпик, прогуливавшийся у опушки леса и следивший в это утро за лесопилкой, собственными глазами видел, как Маречек вышел из столярной мастерской и по тропинке отправился домой. Полицейский в клетчатом костюме пошел за ним следом, по теневой стороне улицы. Маречек двигался не спеша. Дальше тропинка, изгибаясь, спускалась к дороге. Здесь полицейский вынужден был столкнуться с Маречеком лицом к лицу… Только теперь шпик понял, что обознался. Он хотел было тут же вернуться назад, но выстрел в упор уложил его на месте. На лесопилке в это время неуклюжий тесовый ящик был погружен на автомашину и заложен сверху короткими досками для Гандловских шахт. Автомашина ушла. Лесопилка продолжала пожирать бревно за бревном. Кабель, хитро пропущенный в подземелье, как и прежде, подавал электрический свет наборщику и энергию печатному станку, который не только не был разобран, но работал с еще большей нагрузкой. Все шло, как прежде. Изменилось лишь содержимое тесового ящика: в нем увезли предателя Маречека-Цотака.КУДА ДЕЛСЯ МАРЕЧЕК?
— Пиши: «Двадцать первого августа 1944 года в деревне Туречка были убиты три гардиста…» Перечисли имена и фамилии, год рождения и должность. Всё полностью. Вообще всю докладную пиши подробнее. Пан полковник любит обстоятельные, толковые докладные… — говорил комендант Младек секретарю, расхаживая по кабинету и потирая от удовольствия руки. — Написал? Сутулый, тощий секретарь в форме гардистского офицера утвердительно кивнул. — «На полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, среди бела дня напал отряд вооруженных коммунистов». Здесь перечисли имена, фамилии, год рождения всех, кто сидит сейчас в камере с русским. — И Лонгавера? — удивленно посмотрел секретарь. — Всех!.. Дальше: «Мной была организована облава, в результате которой банда из шести перечисленных коммунистов поймана. Потерь с нашей стороны нет. Легко ранен полицейский Любомир Заграда»… — Разве он ранен? — А ты не видел, какой у него под глазом фонарь и весь ободран? — Так это ж он пьяный свалился с кручи… еще в понедельник. — Пиши, а не рассуждай!.. — Комендант нервно топнул ногой и несколько раз молча прошелся по кабинету. — Готово? Секретарь покорно кивнул. — «Все бандиты признали свою вину и сегодня же будут расстреляны». — Комендант прихлопнул рукой по столу, что означало окончание дела. — Докладную повезешь сейчас же. — А может, часок подождать да сразу?.. — Намекаешь на типографию? — ухмыльнулся Младек. — Ты исполнительный и аккуратный служака, Иржи, но ты не дипломат. Два таких громких дела смазать в одно! Надо уметь не только работать, но и преподнести свою работу начальству. Дай ему сразу две докладные, так он второй так обрадуется, что первую и не заметит. А лучше не спеша, по порядку: сегодня в Старых Горах арестована банда, завтра в Старых Горах раскрыта подпольная типография, послезавтра еще что-нибудь. Думаешь, это не оценят? Секретарь подобострастно улыбнулся: — Быть вам, пан комендант, министром! — На мотоцикл! Комендант Младек только минуту оставался один. Дверь кабинета распахнулась, точно ее ветром сорвало, и в комнату влетел запыхавшийся помощник. — Что такое? — Убит Матейка! — Матейка?! — выходя из-за стола, угрожающе переспросил комендант. — Как вы это могли допустить, пан Быстрицкий? — Сегодня он был занят слежкой за Маречеком, — пояснил Быстрицкий. — Знаю. А где Маречек? — Пропал! — Как — пропал? Что значит пропал? — Нигде нет. Как в воду канул! — Горячку порешь! Задерживается он. Дело у него сложное… — Разрешите доложить? — Что еще? — Я думаю, что Маречек водил нас за нос, что он и туда и сюда. А теперь, когда Красная Армия близко, он сбежал, чтобы потом выплыть чистеньким, коммунистом… — Чистеньким? — Комендант захохотал. — Не бывать ему чистеньким! Не бывать! Большими шагами Младек мерил комнату из угла в угол. Теперь он уже не потирал удовлетворенно рук. — Да-а-а… Не зря меня фарар предупреждал… Ну, вот что: арест Кошика и его компании произведем ночью, после расстрела русского и шестерки. — Правильно, пан комендант: ночью, как кур на нашесте! А то у них такая связь, что не успеешь схватить одного, как все узнают. — Рядовых сейчас распусти. Только чтобы не напивались до бесчувствия. А в двадцать два ноль-ноль всем быть здесь.* * *
Дождь перестал. Ветер утих. Сквозь решетку смотрела белая, напуганная громами и молниями луна. На улице было тихо. Тихо, как бывает перед ожиданием чего-то самого страшного. Когда окровавленного, избитого до неузнаваемости Гришу полицейские втолкнулл в камеру, кто-то кинулся на помощь. Придя в себя, Гриша подполз к окну, медленно поднялся и, ухватившись за холодные толстые прутья решетки, приник к стеклу и молчал. Заключенные ходили на цыпочках. Объяснялись только жестами. Кто-то без слов дал воды. И Гриша залпом выпил целую кружку. Кто-то промыл на голове раны и перевязал. А юноша стоял, с жадностью глядя в окно, за которым навсегда осталась свобода. Свобода! Как дорого это слово для тех, кто попал за решетку, и как не ценят ее те, за кем никогда не закрывалась тюремная дверь! Свобода! Сколько раз приходилось Грише попадать в такие переплеты, когда самым дорогим на свете оставалась только свобода! Но раньше все как-то обходилось, появлялась щелка, через которую пробивался сначала маленький дерзкий луч надежды, а потом приходило спасение… А теперь? Теперь конец. Допрашивать его больше не станут. И, наверное, в эту же ночь расстреляют. Почему-то вспомнились слова из тюремной песни. Именно те слова, где привратник отвечает старушке, принесшей передачу. К удивлению заключенных, Гриша тихо запел старинную песню:* * *
Божена проснулась от громкого, настойчивого стука в окно. Вскочила и прильнула к холодному стеклу. За окном, как тогда, в дождь, стоял Ёжо. Божена на цыпочках выбежала на кухню. Открыла дверь коридорчика. — Входи! — шепнула в темноту. — Я не один. Нас трое, — ответил Ёжо. — Что ж не сказал — я не одета. — Одевайся скорее и забирай все свое, — войдя в коридорчик, прошептал Ёжо. — Почему? — испугалась Божена. — Ты с партизанами? Они хотят убить коменданта? Его нет дома. — Знаем. Сейчас мы дадим ему сигнал — и он прибежит. Да одевайся ты быстрее! — Торопись, Ёжо! — послышалось из-за двери. — Пора! — Начинайте! — ответил Ёжо и спросил сестру, где жена коменданта и дети. — Спят, — ответила Божена. — Покажи, где они, я их выведу из дома… Ребята, действуйте!* * *
Заключенные тихо, но дружно пели «Интернационал». Словаки на своем языке. Гриша по-русски. Кто-то в углу по-мадьярски. В коридоре с грохотом распахнулась дверь. Послышался срывающийся голос полицейского: — Горит дом пана коменданта! Все на пожар! Крики команд. Осатанелый топот кованых сапог. Лязг оружия. Стук наружной двери комендатуры. Пение в камере заключенных оборвалось. В комендатуре наступила гробовая тишина. А двор уже осветился заревом пожара. В камере стало так светло, что заключенные могли разглядеть недоуменные лица друг друга. Вдруг где-то на краю местечка раздался винтовочный выстрел. Второй, третий. Потом, как простуженный пес, забухал шкодовский пулемет. Пулемет умолк, и почти сразу в коридоре комендатуры опять раздался топот ног. Вбежали, видимо, человек пять. Двое протопали в дежурку, и там послышались выстрелы. В следующую минуту в дверях камеры загремели ключи. Дверь настежь распахнулась. На пороге с карманным фонарем в одной руке и пистолетом в другой появился Лацо. — Быстрее, товарищи! — махнул он пистолетом. — Лонгавер здесь? Где русский? Видя, что Гриша не в силах сдвинуться с места, Лонгавер и железнодорожник подхватили его под руки и повели к выходу… Вдоль улицы короткими очередями строчил пулемет. Трассирующие пули преграждали дорогу гардистам, пытавшимся возвратиться в комендатуру. Пулемет умолк совсем лишь тогда, когда освобожденные из заключения вышли на край Туречки. Дом коменданта догорал. Но уже никто не пытался его тушить. Улица, освещенная заревом пожара, оставалась пустынной и молчаливой до самого утра.* * *
Вечерело. На камне перед пещерой близ разоренного когда-то орлиного гнезда сидел Гриша Кравцов и, тихо насвистывая, чистил винтовку. Старик Лонгавер ломал хворост и по палочке подбрасывал в огонь. А Божена, присев на корточках в углу пещеры, месила в миске тесто на галушки. Под горой послышались веселые голоса ребят. — Вот они, яношиковцы, — с добродушной улыбкой сказал Лонгавер. — Теперь уж мне не сдобровать. — А что? — удивился Гриша. — Так это ж бегут друзья Цирила Ковача. Сейчас пристанут: «Давай, бача, показывай, где спрятана валашка Яношика». — Как же быть? — растерялся Гриша. — Они так вам верят. — Погоди, — загадочно подняв палец, сказал старик. — Я их не подведу. Шумной ватагой подбежали ребята к костру и вдруг смолкли, глядя на бачу и подталкивая друг друга. — Дедушка Франтишек, — заговорил наконец Цирил, — вы обещали помочь нам найти валашку Яношика. — Правду говоришь. Обещал, — серьезно ответил бача. Он не спеша достал из-за пазухи небольшую листовку и подал ее Цирилу: — Вот она! Цирил недоуменно посмотрел на листовку и передал Ёжо: — Читай! — «Братья словаки! — громко начал Ёжо. — Двадцать восьмого августа был освобожден от фашистов Турчанский Святый Мартин. Двадцать девятого утром партизаны взяли Ружомберг. Партизанская война на Словакии переходит в общенародное восстание против фашистов. Бейте гардистов! Уничтожайте их беспощадно! Идите в партизанские отряды!» — Эх, ты! — воскликнул Цирил и выхватил листовку из рук друга. — Дедушка Франтишек, вот бы эту листовку в Братиславу, на дом самого Тиссо! — Вот это да!.. — воскликнул Ёжо. — В Братиславу вам не попасть, а но селам вокруг Батеван не плохо бы разнести. — И Лонгавер выложил перед ребятами большую пачку листовок. — Вот вам и валашка… — А что? Вот это силища! Мы прямо сейчас пойдем! — горячо воскликнул Ёжо. — Нет. Вы переночуйте. А утречком я вас разбужу… — Дорогу на Батеваны знаете? — спросил Гриша. — Знаем! — хором ответили ребята. — Пойдемте вместе. — Так ты не уходишь сейчас домой, в Россию? — обрадовался бача Лонгавер. — Куда ж идти, раз ребята нашли наконец валашку Яношика! — развел Гриша руками. — Теперь вместе будем бить фашистов! — А вы откуда узнали, что мы искали валашку Яношика? — удивленно спросил Цирил и, нахмурившись, исподлобья глянул на Ёжо. — Думаешь, Ёжо проболтался? — улыбнулся Гриша. — Нет, мне камни рассказали… — Какие камни? — недоуменно вскинул брови Цирил. — Те, за которыми я стоял ночью, когда вы приходили сюда в последний раз!* * *
Ночь стремительно, как запоздавшая орлица, опустилась на Низкие Татры. И горы, и леса, и ущелья покрылись непроглядной тьмой. Гриша сидел на огромном валуне. Бача полулежал у костра. А Божена и ребята спали в углу пещеры. Где-то за рекой во тьме появился огонек. Сперва он колебался, набирая силу, а потом вспыхнул решительно и бойко. За ним, на другой голе, загорелся второй, потом третий, четвертый… — Что за огни? — спросил Гриша старика. — Партизанские, — тихо ответил бача. — Это только начало. Лонгавер смачно пососал свою трубку. Дым окутал его. Гриша почти не видел за этим дымом старика, слышал только голос. — Костры эти только разгораются… С каждым днем их будет все больше и больше. А придет время — сольются они в большой, неугасимый пожар! И пожрет он все нечистое, что пришло на нашу славянскую землю…Виктор Пекелис Электронный «мозг»
Очерк

На фоне изысканного, убранного в стиле Людовика XVI зала Тюильрийского дворца темный, громоздкий ящик казался неуклюжим мещанином, неведомо какими судьбами затесавшимся в блестящее общество. На ящике — большая кукла, не претендующая на изящество. Перед ней — шахматная доска. По другую сторону доски — Наполеон I. Император Франции, слывший первоклассным игроком в шахматы, встретился за доской с всемирно известным… шахматным автоматом. В зале царит торжественная тишина. Глубокое изумление, смешанное с суеверным страхом, испытывают зрители необычайного матча. Какая сверхъестественная сила вложила в грубую куклу способность к тонким комбинациям, стратегическому замыслу, упорной борьбе с живым, разумным противником? Ведь все убедились, что в ящике под куклой спрятаны лишь рычаги, валы и шестерни. Каждый собственными руками только что ощущал холод мертвых механизмов. Долгая, напряженная борьба между человеком и автоматом закончилась поражением человека. Победил не разум, а хитроумный механизм! Снова и снова пытается коронованный шахматист добиться победы в борьбе с равнодушным партнером. Но безуспешно! С фатальной неизбежностью побеждает автомат. Уже много лет длится триумфальное шествие удивительной куклы по странам Европы. Тысячи людей встретились с нею за шахматной доской. Большинство терпело поражение, и лишь немногим удалось выиграть. Но редкие поражения не влияли на огромную популярность первой в мире шахматной машины, построенной в 1769 году венгерским механиком и изобретателем Фаркашем Кемпеленом. «В те времена много было в стране самородных талантов, но лишь некоторые из них добивались успеха, хотя бы такого, как, например, Кемпелен из Пижони. Этот мастер разъезжал от короля к королю с машиной, которая обыгрывала в шахматы любого, самого сильного игрока, в том числе и самого Наполеона. До сих пор так никому и не удалось разгадать, в чем состоял секрет этой машины», — так писал о шахматном автомате и его изобретателе венгерский писатель К. Миксат в известном романе «Странный брак». Но секрет Кемпелена был все же открыт, и совершенно неожиданно. Однажды во время демонстрации автомата в Филадельфии в городе начался большой пожар. При криках «Пожар!» пришла в замешательство и машина — движения куклы стали вдруг беспорядочными. Вскоре ящик открылся… и из него вылез человек небольшого роста. Тщательно спрятанный шахматист с трудом выбрался из тайника, замаскированного деталями механизмов. Разоблаченный шахматный «автомат» прекратил свое существование. Ящик сгорел во время пожара, раскрывшего его тайну. И вот совсем недавно, несколько лет назад, любителей шахматной игры взволновало новое сенсационное известие. У шахматной доски опять появилась машина. Робкими и неуверенными были ее первые шаги. Машина мучительно-долго «размышляла» над каждым ходом, часто «зевала», легко попадала в простые ловушки. Но ее шахматное мастерство быстро совершенствовалось. Прошло совсем немного времени — и необычайный шахматист-машина уже сумела сделать ничью с гроссмейстером Самуилом Решевским. В наши дни трудно кого-либо удивить рассказами о самых необыкновенных автоматах, даже играющих в шахматы. В век электроники, радио и телевидения нет нужды прятать человека внутрь шахматного автомата. Он может управлять машиной с какого угодно расстояния: ясно, что машина сама, без помощи человека, не способна постигнуть все тонкости шахматной игры. Набор электронных ламп, проводов и механизмов не может стать равноправным членом многомиллионной семьи любителей шахматной игры и отвечать на неожиданные ловушки, поставленные ей человеческим разумом. Так подумают скептики, прочитав историю автомата Кемпелена и сообщение об успехах новой машины на шахматной доске. В конечном счете это верно! За самым «умным» автоматом где-то всегда стоит человек. Существует, однако, огромная разница между «автоматом» Кемпелена и современной шахматной машиной. Принципиальное, качественное отличие заключается в том, что «автомат» Кемпелена — только механические руки, по воле человека передвигающие фигуры на доске. А новый автомат — электронная вычислительная машина — это электронный «мозг», самостоятельно выполняющий действия по сложной программе, составленной для него человеком. Играя в шахматы, машина уже без непосредственного вмешательства человека внимательно следит за доской, анализирует и самостоятельно отвечает на очередной ход партнера. Мозг человека! Едва ли не самая сложная, едва ли не самая таинственная область человеческой природы. Беспрерывно познавая себя, мог ли человек оставить без внимания эту тайну из тайн живого, мог ли пройти мимо законов, которым подчиняется «думающий» аппарат? «Если бы можно было видеть сквозь черепную крышку и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью». Это слова великого физиолога Павлова. Он установил новые закономерности работы головного мозга и обратил внимание на то, что самые сложные и сокровенные процессы в живом организме возникают и управляются системой элементарных сигналов-приказов (импульсов-рефлексов). Физиолог теперь может сказать, как работает мозг, какие процессы происходят, когда человек мыслит. Вычисления — первая из областей умственного труда, которую стало возможным перевести на путь полной автоматизации. Людям удалось сложный логический процесс вычислений расчленить на ряд простейших, механических операций. Но разве вычислительный процесс составляет какой-то изолированный участок умственной деятельности человека? Разве между вычислительной работой и другими мыслительными процессами людей стоит непреодолимый барьер, охраняющий «святое-святых» от грубого вмешательства мертвого механизма? Математики, физики, инженеры — творцы «думающих» машин — без устали ищут пути механизации всё новых и новых отраслей мозговой работы человека. Наряду с уже привычными для нас приборами для автоматического анализа обстановки и контроля работы различных механизмов, теперь появился и электронный «мозг», который не только сигнализирует и контролирует, но и прямо выполняет сложные действия, повинуясь приказам заложенной в него специальной программы. Уже давно человек применяет для своих целей различные усилители мощности — механические силы, превосходящие ничтожную силу его мышц в миллионы раз. С помощью пара, электричества идвигателей внутреннего сгорания он выполняет гигантскую работу — буквально горы ворочает. Постепенно все больше усилителей вводит в жизнь человек. Современные средства передвижения по земле, воде и воздуху удлинили его ноги, управление на расстоянии — руки, телескоп усилил зрение, а микроскоп углубил его, телефон и радио усилили слух. Электронная вычислительная машина — новый помощник человека, усилитель его умственной работы. Подобно тому, как электрические машины умножили физические силы человека, вычислительные машины проникли в мир, который еще вчера был целиком во власти мозга. Когда я рядом со словами «мозг человека» пишу электронный «мозг», то сопоставляю их в той же мере, в какой сопоставимы глаз и фотоэлемент, зрение и телевидение, ухо и микрофон, слух и радиоприемник. Всего несколько лет назад были построены первые «умные» машины, а сегодня они уже превратились в прямых помощников мозга. Все больше и больше работы спрашивает с них человек. И недалек тот день, когда такие машины заменят, высвободят умственный труд миллионов людей.
БЕССТРАСТНЫЙ ПАРТНЕР
Нелегко было «посадить» электронную машину за шахматную доску. Не сразу удалось составить машинную инструкцию для одной из самых древних и трудных игр. Нужно было точным математическим языком описать правила игры, дать формулы, оценивающие ее ситуации и указывающие правильный путь к победе. В каждой игре, даже самой простой, сталкиваются противоположные интересы, каждый партнер стремится воспользоваться ошибкой противника, повернуть игру в свою пользу и добиться победы. Математика сумела проникнуть в сложный процесс соревнования между разумными существами и раскрыть ее закономерности. «Научить» электронную машину игре в шахматы очень трудно. Но более простые игры — «в камешки» или «крестики и нулики» — она осваивает быстро и проводит безошибочно. На столе кучка камешков. Два мальчика увлечены незатейливой, но интересной игрой. Правила просты. Каждый раз можно брать не больше трех камней. Выиграет тот, кто заставит партнера взять последний камень. Игра идет с переменным успехом — случайно выигрывает то один, то другой из партнеров. А между тем исход зависит не от случайного стечения обстоятельств, а вполне закономерен. И, когда играющие в этом убеждаются, интерес сразу же пропадает. Какая же это игра, если все заранее предопределено! Найти общие закономерности игры «в камешки» не так уж просто. Математические законы игры открыты, и теперь в нее с успехом играет машина. В одном из павильонов научной выставки, организованной во время Британского фестиваля, ежедневно с утра до позднего вечера царило необычайное оживление: громкие споры, восхищенные возгласы и скептические замечания сменялись тишиной, полной напряженного ожидания. Нетерпеливая молодежь, степенные отцы семейств и почтенные люди с увлечением играли в камешки с электронной машиной «Нимрод», специально построенной для игры в «Ним», похожей на нашу мальчишескую игру. Камни раскладываются на произвольное число кучек. Но каждый может при своем ходе брать камни только из одной кучки, сколько угодно камней — даже все. Выигрывает тот, кто заберет последние. Машина вела игру с полным знанием дела, как самый опытный игрок. Точно выполняя руководство к действию, она одерживала одну победу за другой. Только когда исход игры с самого начала был предопределен в пользу безошибочно играющего противника, машина бесстрастно извещала о своем поражении. Кто из нас в детстве не увлекался игрой в «крестики и нулики»? На переменах, а иногда — чего греха таить! — и во время урока на листке бумаги с девятью квадратами разыгрывались самые ожесточенные сражения. Кому удастся поставить подряд три своих значка — тот побеждал. Но чаще всего игра заканчивалась ничьей. Партнеры быстро постигали немудреный секрет. Чтобы электронную вычислительную машину приобщить к этой игре, нужно перевести на машинный язык возможные ситуации на игровом поле. Оказывается, в этой простой игре существует несколько серий вариантов. А в каждой серии — 512 вариантов по четыре хода. Играя по любому из них, машина не проиграет. А если ее партнер невнимателен, то 360 вариантов приведут к победе. В принципе, казалось бы, все очень просто — дело сводится к выбору наилучшего варианта хода из большого числа возможных. Но за простотой кроются немалые технические трудности. Чтобы вложить в машину 512 вариантов по четыре хода, приходится занять все ячейки машинной электронной «памяти». Кроме того, в нее нужно еще поместить программу игры. А это значит, что всей оперативной «памяти» большой электронной вычислительной машины едва-едва хватит для немудреной игры на девяти квадратах. Вернемся снова к шахматам. После знакомства с принципами механизации простых игр можно представить себе те огромные трудности, которые возникают при «обучении» машины квалифицированной шахматной игре. В теории игр доказывается, что исход шахматной партии, как и в игре «крестики и нулики», предрешен первым ходом и выбором стратегии каждого из партнеров. И если бы удалось составить перечень всех стратегий и выявить оптимальные, то древняя игра потеряла бы свою привлекательность. Как ни парадоксально, наше увлечение шахматами зиждется на том, что мы «не умеем» правильно играть, не знаем полностью математического решения этой игры. Бельгийский математик М. Крайчик попытался хотя бы приблизительно подсчитать общее число всевозможных вариантов шахматных партий. Оно оказалось равным 2×100116. Такое число оставляет далеко позади легендарное количество пшеничных зерен, испрошенных в награду за изобретение шахмат Если бы все население земного шара круглые сутки играло в шахматы, делая ежесекундно по одному ходу, то потребовалось бы не менее 10100 веков, чтобы переиграть все варианты шахматных партий. Любители шахматной игры могут не беспокоиться. Составить список всех стратегий и этим решить до конца задачу шахматной игры ближайшим поколениям не удастся даже с помощью самых быстродействующих машин. Шахматам пока не угрожает участь игры «в камешки». Как же при таких условиях составить руководство к действию для машинной игры? Оно строится на системе правил, позволяющих в каждой ситуации на шахматном поле выбрать очередной ход. Эта система правил является тактикой игры. Чаще всего тактика строится на оценке значимости каждой фигуры. Оценка выражается числом очков. Например, король 200 очков, ферзь — 9, ладья — 5, слон и конь — по 3, пешка — 1 очко, а отсталая, изолированная и сдвоенная — по полочка. Определенным образом оцениваются также позиционные преимущества: подвижность фигур, расположение на доске, защищенность. С помощью чисел можно дать общую оценку своей позиции и противника. Отношение общего числа очков позиции белых к числу очков позиции черных характеризует ситуацию игры. Если оно больше единицы — преимущество на стороне белых, если меньше — более выгодное положение у черных. Предположим, машина играет черными и должна сделать очередной ход. В ее «памяти» хранится положение на доске и отношение чисел очков в этой ситуации. Выбирая ход, машина начинает вычислять изменение этого отношения при различных вариантах. Ход, ведущий к максимальному изменению отношения в пользу машины, и будет ее выбором. Машина напечатает его на карточке. Описанная тактика, одноходовая, приведет, конечно, к очень плохой и неинтересной игре. Гораздо лучше строить игру на расчете нескольких ходов вперед. Лучшие шахматисты умеют рассчитывать комбинации вперед на десять и более ходов. Машина гоже может играть с выбором комбинаций на несколько ходов вперед в предположении, что противник будет также отвечать наилучшими ходами. Но ее возможности ограничены скоростью работы и емкостью «памяти». Если считать, что на обдумывание хода нельзя тратить больше 15 минут, то самая быстродействующая машина может планировать игру не более чем на три — четыре хода вперед. При огромном превосходстве над человеком в скорости вычисления машина пока не может с ним соревноваться в скорости игры за шахматной доской. Ведь ей приходится добросовестно перебрать и пересчитать почти все возможные варианты, даже те, которые человек сразу же отбрасывает, не задумываясь. Вот партия, сыгранная машиной (белые) с человеком (черные):1. е4 е5 2. КсЗ КГ6 3. d4 СЬ4 4. КХЗ d6 5. Cd2 Кс6 6. d5 Kd4 7. h4 Cg4 8. a4 К: f3+ 9. gf Ch5 10. Cb5+ c6 11. dc 0–0 12. cb ЛЬ8 13. Саб Фа5 14. Фе2 Kd7 15. Лgl Kc5 16. Лg5 Cg6 17. СЬ5 К: Ь7 18. 0-0-0 Kc5 19. Ссб ЛГс8 20. Cd5 С: с3 21. С: с3 Ф: а4 22. Kpd2 Кеб 23. Лg4 Kd4 24. ФdЗ КЬ5 25. СЬЗ Фаб 26. Сс4 Cho 27. ЛgЗ Фа4 28. С: b5 Ф: d5 29. Ф: d6 Лd8.В этой проигранной для белых (машина) позиции партия была прервана. Как видите, машина-шахматист оказалась не на высоте. Но это одна из первых партий. Вычислительная техника быстрыми шагами идет вперед. Совершенствуются методы управления электронной машиной. Уже сейчас электронная вычислительная машина решает трудные шахматные задачи и очень хорошо играет в шашки. Можно не сомневаться, что машина скоро «научится» гораздо лучше играть и в шахматы. Что произойдет, если «посадить» за шахматную доску две машины? Могут ли они вступить в единоборство и кто из них выйдет победителем? Конечно, могут! Машины прекрасно «поймут» друг друга, и каждый из этих бесстрастных партнеров будет упорно добиваться победы. Она достанется тому, кто обладает более совершенным руководством к действию, большей «памятью» и быстрее «соображает», то есть быстрее вычисляет. Игры, о которых я рассказывал, характерны тем, что их исход не зависит от случая. Но для других игр дело обстоит не так. Взять хотя бы домино или разнообразные карточные игры. Ведь их результат определяется не только ходами участников, но и «везением». Пришла хорошая карта — и выигрыш почти гарантирован. А при плохой карте самая совершенная игра мало поможет. Можно ли приобщить электронную вычислительную машину к подобным играм? Как составить руководство к действию, учитывающее неизбежную случайность? Оказывается, и в таких играх машина не «ударит лицом в грязь». Недавно вычислительная электронная машина «Стрела» в перерыве между основной работой сыграла свою первую партию в домино. Человек и машина играли против двух человек. И надо сказать, партнер машины не имел оснований к недовольству своим напарником. А противники очень быстро убедились, что машина играет, как самый опытный любитель, хотя и не сопровождает свои ходы мощными ударами костяшек об стол. Партию выиграли человек и машина. Машинная игра в домино и карты тоже базируется на выборе оптимальной стратегии. Решение задач в играх со случайными ходами производится аналогично играм с предрешенным исходом, но с привлечением законов теории вероятностей. Существуют игры, исход которых вообще не зависит от ходов участников. Они целиком строятся на случае. К таким играм относятся, например, лото и рулетка. Для них не существует ни стратегии, ни руководства к действию. Машина, как и человек, должна здесь играть наугад. Но, оказывается, есть игра, в которой машина предстает более сильным противником, чем человек. Это хорошо известная игра «чет-нечет». Один из участников пишет какое-нибудь число. Другой, не глядя на него, угадывает, четное оно или нечетное. Каждый из участников может играть по любой стратегии — оптимальной здесь не существует. Стратегия может заключаться в том, например, чтобы всегда называть «чет». Но противник очень быстро разгадает такую «чистую» стратегию партнера и начнет систематически выигрывать. Поэтому каждый старается самым произвольным способом чередовать свои ходы. И если два человека будут очень долго играть, то в среднем окажется, что в 50 процентах случаев выиграет один, а в 50 процентах выиграет другой партнер. Исход большого числа игр окажется ничейным. Но игра с машиной привела к другому, неожиданному результату. Запоминая все предшествующие ходы, машина устанавливает некоторую закономерность в случайных ходах человека, которой он бессознательно пользуется. Например, он чаще называет «чет», чем «нечет», или часто после двух ходов «нечет» делает три хода «чет» и так далее. Раскрыв это, машина вычисляет вероятность того или другого очередного хода и выигрывает чаще, чем человек. Оказалось, что из большого числа игр машина выигрывает уже 55 процентов. Побеждает бесстрастный автомат.
НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОПРИЩЕ
В наш прозаический рассказ врывается поэзия.When a practical problem in science or technology permits mathematical formulation, the chabces are rather good that it leads to one are more differential equations. This is true certainly of the vast category of problems associated mith force and motion, so that whether we wand to know the future path of Jupiter in the heavens or the path of an electron in an electron microscope we resort to the differential equations. The same is true For the study of phenomena in continuous media, propagatian of waves, Flow of heat, diffusion, static or dynamic electricity etc, except that we here deal with partial differential equations.
This was based on an expensive experiment done by myself and Dr. R. H. Richens, of Cambridge University, in which we worked out a method of translating small sections of selected text in foreign languages. We gave an account of this at a conference in Massachusetts in 1952, after which the International Business Machines Company, inconjuction with Georgetown. University, applied our methods to give a popular demonstration which was limited to translating a few sentences from Russian into English. There is no possibility at present of translating a book as work of art.
Если практическая задача в науке или технике допускает математическую формулировку, шансы довольно велики, что это приводит к одному или более дифференциальным уравнениям. Это верно безусловно для обширной категории задач, связанных с силой и движением, так что, хотим ли мы знать будущий путь Юпитера в небесах или путь электрона в электронном микроскопе, мы прибегаем к дифференциальным уравнениям. То же верно для изучения явлений в непрерывной среде, распространения волн, потока тепла, диффузии, статического или динамического электричества и т. д., за исключением того, что мы здесь будем рассматривать дифференциальные уравнения в частных производных.
Это было основано на дорогом эксперименте, проведенном иной и доктором R. H. Richens от Кэмбриджского университета, в котором мы разработали метод перевода малых отрывков выбранного текста на иностранные языки. Мы дали отчет об этом на конференции в Massachusetts в 1952. после которого I.В.М. компании в сотрудничестве с Джорджтаунским университетом применили наши методы, чтобы дать наглядную демонстрацию, которая была ограничена переводом нескольких предложений с русского на английский. Не имеется возможности в настоящее время перевода книги как произведения искусства.Для такого опытного перевода был составлен словарь из 952 английских и 1973 русских слов. Разумеется, это весьма ограниченный словарный запас. Его хватает только, чтобы перевести несложный научно-технический текст. Поэтому некоторые «вольности» стиля оригинала оказываются «выше понимания» автоматического переводчика. Любопытный случай произошел однажды с машиной, когда она переводила статью из английской газеты «Тайме», в которой речь шла об опыте переводов с помощью счетно-вычислительной техники. Ей встретились слова: «железный занавес». Машина «задумалась» и, опустив этот непонятный «технический» термин, продолжала переводить дальше. Объясняется такое поведение машины просто. Если какого-либо слова из переводимой фразы не окажется в словаре, то оно сохраняется в запоминающем устройстве без изменений. При выводе переведенной фразы ненайденное слово опускается — печатается латинскими буквами. Надо заметить, что машина пока еще переводит только как ученик. Поэтому она иногда допускает ошибки. Однажды машина перепутала номера слов «один» и «два» и вместо «двух» выдала в первый раз — «однух», во второй — «однум». В другой раз она написала вместо «хотим» — хочем, вместо «связанных» — «связатых». Все эти ошибки очень напоминают ошибки невнимательного школьника. Между прочим, сам факт критики машины за погрешности стиля говорит о том, что как переводчик она уже принимается всерьез. Для перевода разговорного языка и художественной литературы нужен запас в десятки тысяч слов, да еще специальный словарь идиом, чтобы можно было переводить на другой язык непереводимые выражения, вроде русского «съел на этом деле собаку» или английского приветствия «How do you do». Такие задачи еще можно решить. Но пока не удается преодолеть главной трудности художественного перевода. В предложении из художественного произведения должна быть тесная связь с самой природой языка, с бытом и жизнью народа. Естественно, возникает вопрос, выгоден ли машинный перевод? Может быть, это пустая трата времени, и после машинного перевода придется призывать батальон лингвистов для проверки и редактирования текста? К тому же машина, на которой проводились опыты по переводу, предназначена для решения сложнейших вычислительных и математических задач, и поэтому переводить на ней все равно что возить на слоне коробку спичек. Но опытный перевод помог филологам, математикам и инженерам установить, что для перевода нужно строить специальные машины: без сложных арифметических устройств, но с хорошей «логикой» и большим объемом «памяти». Тогда машина на любой вопрос грамматики сможет легко и быстро ответить «да» или «нет» и будет переводить с любого языка на любой. Все дело в том, что для машинного перевода нужно тщательно проанализировать язык и на строгой лингвистической основе подготовить специальную «машинную грамматику». Надо лишь грамматику языка записать в удобном для машины виде, выразив правила изменения слов и их сочетания в предложении в виде математических формул, говорят специалисты. Работа над «машинной грамматикой» очень трудоемка и сложна. Но наши ученые успешно овладевают принципами машинного перевода на лингвистической основе. Уже приступили к созданию машины-переводчика с французского языка на русский. Здесь пошли по единственно верному пути, определив для перевода главную особенность французского языка — категорию глагола. Ведутся исследования по автоматическому переводу на русский язык с немецкого, китайского, японского. Идет подготовка к переводу с одного иностранного языка на другой иностранный с использованием как посредника русского языка. Оказывается, при таком методе предельно упрощается задача автоматизации перевода. Опыты покажут, какой из языков наиболее «счастливый», то есть наиболее удобный для машинного перевода. Возможно, придется выработать какой-то новый «машинный язык», чтобы удобно и легко было приводить к нему все остальные, а потом уже и переводить с него на любой. Проблема автоматического перевода находится на стыке трех наук: лингвистики, математики и вычислительной техники. Упорные искания точек их соприкосновения привели уже к известным результатам. Возможно, что мы радуемся теперь таким успехам, которые стоят на уровне первых механических машин для воспроизведения речи или же первых, весьма примитивных устройств телеграфирования. И, хотя впереди еще большие трудности, ученые предполагают, что уже в течение десятилетия будут созданы машины, которые смогут переводить за одну минуту текст из тысячи типографских знаков. Предполагают, что в такие машины будет прямо вводиться печатный текст и тут же машина выдаст текст, напечатанный на другом языке.
Электронные машины могут не только переводить чужие произведения, но даже выступать как авторы собственных литературных и музыкальных произведений. Здесь, казалось бы, нашему удивлению не должно быть границ. Известно, что нет мук сильнее мук творчества, мук поисков слова. Это знает каждый пишущий. Недаром Маяковский говорил:
«Мой горизонт состоит лишь из красной портьеры, откуда с перерывами исходит удушливая жара. Едва можно различить мистический силуэт женщины, гордой и ужасной: эта знатная дама, должно быть, одно из времен года. Кажется, она прощается. Я больше ничего не вижу и продвигаюсь к занавесу, который мои руки смущенно раздвигают. Вот по ту сторону странный трагический пейзаж; циветта скребет землю, птицы летают с обеих сторон, садятся на ветви деревьев, наполовину иссохшие. А тут и черепаха, застывшая неподвижно: она почувствовала мое присутствие. Но почему она покрыта инеем? Мальчик подбегает; его пухленькие руки, его серьезное и смуглое лицо придают ему вид молодого героя».Как же машина пишет? Возможно, она «увидела» загадочную женщину у портьеры, может быть, «загляделась» на мальчика с пухленькими руками? Или машину «взволновала» черная ночь, расплывчатые края луны, снежная пропасть, измученный кочевник? Вы уже знаете, как переводит быстродействующая электронная вычислительная машина. Раз машина при переводе осуществляет синтез фразы, она с успехом может синтезировать и без перевода, составлять согласно программе целые предложения из запаса слов, которые находятся в ее «памяти». И если быть объективным, то идея механического «сочинителя» не нова. Вспомните, как блестяще высмеял ее Свифт в своей бессмертной сатире «Путешествия Гулливера». Он рассказал о профессоре лапутянской академии, благодаря изобретению которого «самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта». Изобретение лапутян представляло собой большую раму. Поверхность ее состояла из огромного множества деревянных кубиков, сцепленных между собой тонкими проволоками. Со всех сторон каждого кубика на бумажке было приклеено по слову их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. По команде профессора сорок студентов брались за сорок рукояток и поворачивали их на один оборот — расположение слов в раме совершенно изменялось. У этой машины не хватало двух «мелочей». Во-первых, она не имела программы выбора даже отдаленно логически связанных слов. Все было основано на чисто случайном подборе. Поэтому зря надеялся лапутянский профессор «усовершенствовать умозрительные знания при помощи технических и механических операций». Во-вторых, машина лапутян не располагала критерием сравнения. Она не могла из бесконечного множества вариантов выбрать не только наилучший, но даже сколько-нибудь подходящий. А число вариантов действительно очень велико. Это прекрасно показал Я. Перельман в рассказе «Литературный автомат». Оказывается, буквопечатающий механизм, имеющий тысячу букв, последовательно печатая все сочетания из них, выдаст наряду со многими бессмысленными страницами все литературные отрывки, какие мыслимо написать тысячей литер. А именно: по отдельным страницам, абзацам, фразам мы получим все, что когда-либо было написано или будет написано в прозе и в стихах на русском и на всех существующих и будущих языках! Все романы и рассказы, все научные сочинения и доклады, все журнальные и газетные статьи и известия, все стихотворения, все разговоры, когда-либо слышанные всеми прежде жившими людьми, и все то, что еще предстоит передумать и высказать людям грядущих поколений… Если наша литературная машина будет работать с наибольшей достижимой печатной скоростью, то и тогда машина закончит свою работу лишь через 1,5×101985 лет. В этом числе 1986 цифр! Миллионы раз погаснут звезды, миллионы раз зажгутся новые, прежде чем мы получим все эти литературные материалы. А сколько времени понадобится для того, чтобы отобрать из бесконечного множества нелепых сочетаний слов действительно логически связанные! Ведь среди «литературных произведений» будут, например, и такие, которые состоят из одних знаков препинания, а свыше 10300 будет состоять из одних восклицательных и вопросительных знаков. Конечно, «литературные способности» вычислительной машины зиждятся не на случайном подборе слов и предложений. Она, как и всегда, работает по определенному правилу. В частности, «Калиоппа» работает примерно по такому руководству к действию: в нее вложен словарь, в котором родственные понятия записаны близкими кодами, например, если 1001001 — животное, то 1001100 — птица, 1001101 — орел, между тем как 1010000 — млекопитающее и так далее. Машина по программе и по этим кодам подбирает близкие по смыслу слова. Основой служит некоторый первоначальный текст, введенный в машину. При каждом цикле повторения программы машина расширяет основной текст, эпитетами и синонимами отходя от него все дальше и дальше, но не искажая его до полной бессмыслицы. Машинные отрывки хорошо показывают сильные и слабые стороны литературных автоматов. Они логически отбирают из словаря уместные в любовном письме, стихотворении или рассказе слова, не «ввернув» туда ни одного технического, юридического или политического слова. Все слова грамматически правильно собраны в предложения. Но машина совершенно «не понимает» того, что пишет. Машина подходит к тексту, как к набору букв и слов, которые можно «вязать», «согласовать» по определенным логическим правилам. Составить программу можно не только для написания литературных произведений. Совсем недавно математикам удалось составить машинное руководство к действию для сочинения музыки. Как же машина пишет музыку? Оказывается, в популярных песенках содержится от 35 до 60 нот. Анализ большого числа песенок показал, что структура их такова: имеется одна часть (назовем ее А), охватывающая восемь тактов и содержащая от 18 до 25 нот. Эта часть повторяется. За ней идет часть В, также по восьми тактов, но уже содержащая от 17 до 35 нот. После нее снова повторяется часть А. Удалось установить и другие интересные закономерности. Если пять нот идут последовательно в возрастающем направлении, то шестая обязательно идет вниз, и наоборот. Другая закономерность: первая нота в части А обычно не является второй, четвертой или пятой минорной нотой в шкале. В песнях соблюдаются и давно подмеченные правила композиции; например, такие, как правила Моцарта: никогда интервал между соседними нотами не может превышать шести. Я мог бы продолжить описание руководства и дальше, но опасаюсь, что доверчивый читатель может попытаться сочинить по нему популярную песенку, и… у него ничего не получится. Нужна тщательно разработанная программа. Но даже и при подробной программе понадобится очень много времени, чтобы превратить ее в действие. А вот быстродействующая машина сочиняет музыку с непостижимой скоростью — 4000 песенок в час. Руководствуясь программой, она создает комбинации нот, а потом сверяет их с хранящимися в «памяти» законами музыки, выраженными в виде формул. В результате происходит отбор, и сочетания не подходящие, не укладывающиеся в правила, отбрасываются. На листы нотной бумаги попадает только «настоящая» музыка. В другой машине — электронном коммутаторе — в «памяти» хранятся на магнитной ленте звуки разной высоты и продолжительности. Одни звуки — чистые, без обертонов, какие издает камертон. Другие — звуки различных инструментов и голосов. Третьи — звуки, заимствованные у природы, например, различные шумы, пение птиц. И в этой машине музыка пишется согласно вложенной программе. В соответствии с ее командами из «памяти» машины выбираются звуки указанного тембра. Особые устройства собирают звуки в различные сочетания и отбрасывают не выдерживающие требований законов благозвучия. Австрийский инженер Земенек демонстрировал на Международном конгрессе по кибернетике в Бельгии в 1956 году записанную на магнитофоне музыку, сочиненную машиной. Появились и другие сообщения о музыкальных способностях электронных машин. Небольшую популярную мелодию написала вычислительная машина «Гениак». «Дадатрон» написал экзотическую песенку «Красотка с кнопочным управлением». Электронная счетная установка «Берта» порадовала слушателей «шедевром»: «Нажмите кнопку Берты»… На Западе не удержались от соблазна — и вот уже прослушивается множество машинных мелодий, пишутся слова, и… машинные песенки летят в эфир: передаются по радио и телевидению. Некоторые композиторы предполагают, что особенно больших успехов добьются машины в области оркестровки. Популярную мелодию машина сможет оркестровать меньше чем за минуту, композитор же затратит на это почти три дня. Не надо думать, что пришел конец бедной Эвтерне, греческой богине музыки, что наступила эпоха превращения классических основ музыкальной композиции в математический код, что отнимаются музыкальные мысли и воображение у человека и отдаются мертвой игре бездушной машины. С человеческим началом в музыкальном творчестве никогда не будет покончено. Да это и не нужно никому, разве что любителям додекафонии, электрофонии и так называемой конкретности, которые дошли до того, что вмонтировали в джазовые «мелодии» записанный на пленку крик рожающей женщины. А что касается математических закономерностей в музыке, позволивших счетным машинам «сочинять» музыку, то основы их известны очень давно. Как говорит предание, еще Пифагор, проходя мимо кузницы, заметил странные соотношения звуков, производимых ударами кузнецов. Прислушавшись, он понял: интервалы соответствуют кварте, квинте и октаве. Попросив молотки, он взвесил их. Оказалось: вес молотков, дававших октаву, квинту и кварту, был равен, соответственно, 1/2, 2/3 и 3/4 веса самого тяжелого молотка. Открытое Пифагором соотношение (правда, несколько уточненное) легло впоследствии в основу теории музыки.
Законы эстетики, пронизывающие поэтическое содержание искусства, пока еще не разработаны так четко, как законы математики. Их трудно, да вряд ли и возможно, заковать в строгие и точные формулы и дать математические критерии для художественного произведения. Пока этого не сделали — и сделают ли? — машина не может претендовать на признание ее литературных и музыкальных способностей. Свое отношение к ней высказал и поэт Владимир Котов, с которым я познакомил читателей в начале этой главы. Вот его ответ машине, посмевшей написать стихи:
ИНСТИТУТ-АВТОМАТ
В тихий московский переулок, недалеко от станции метро «Сокол», в Институт научной и технической информации, почта ежедневно доставляет из 85 стран до 500 иностранных книг и журналов на 50 языках. Сюда поступают также все научные и технические книги и журналы, изданные в нашей стране. Свои издания шлют 450 иностранных академии, научных ассоциаций и обществ. Небольшие пакеты с микрофильмами посылают библиотеки Британского музея, Сорбонны, Конгресса Соединенных Штатов и еще добрых два десятка зарубежных книгохранилищ. Все это собирается для того, чтобы держать наших ученых, инженеров и студентов в курсе современной литературы по точным и естественным наукам и технике, беспрерывно публикуемой во всем мире. Для обработки, систематизации и аннотирования этого огромного материала в Институте научной и технической информации трудится 1500 переводчиков. Им помогают еще 13 тысяч внештатных работников — высококвалифицированных специалистов: академиков, докторов и кандидатов наук, инженеров. Они выполняют большую работу. Подсчитано, что в мире на разных языках ежегодно публикуется почти 3 миллиона журнальных статей, до 200 тысяч патентов и около 50 тысяч книг по вопросам науки и техники. Сколько же нужно переводчиков и специалистов, чтобы обработать и перевести столько материалов? Ведь не каждый из них полиглот, не каждый, подобно знаменитому Григорию Колпакчи, живущему в Париже, владеет французским, немецким, испанским, португальским, итальянским, норвежским, турецким, русским, сербским, греческим, басским, берберийским и банту; не каждый, как он, читает без помощи словаря на всех европейских языках, по-латыни, по-древнегречески, по-китайски, по-японски, по-персидски, по-арабски, по-фински, на древнеассирийском и древнеегипетском языках. Говорят, он даже сам точно не установил, сколько языков знает: семьдесят или восемьдесят… А сколько их всего? Общее число живых языков достоверно пока неизвестно. Но считают, что цифра в 6000 (!) не будет преувеличением. Правда, достаточно знать всего 13 «великих» языков, чтобы практически общаться с большинством населения земного шара. Но научные работы издаются и на других языках. Институт информации только за один год обработал около 7000 иностранных и почти 1000 советских периодических изданий. Только в первой половине 1958 года выпущено полтора десятка серий реферативных журналов, в которых помещено несколько сот тысяч информационных материалов на различные темы. Эти журналы занимают на полках столько же места, сколько 50 томов Большой Советской Энциклопедии. А общий объем изданий института достигнет вскоре громадной цифры — 25 тысяч печатных листов! С каждым годом все труднее и труднее становится разбираться среди книг и журналов. Например, специальных научных работ, посвященных лишь одному химическому элементу — цинку, издано во всем мире с 1926 по 1946 год почти втрое больше, чем за 200 лет до этого. А возьмите физику, астрономию, механику! Часто ученому выгоднее провести заново какой-либо эксперимент, чем попытаться найти о нем сведения в океане опубликованной литературы. Если же он такую попытку и предпримет, то уподобится человеку, ищущему в стоге сена иголку. Раньше были опытные библиографы — настоящие лоцманы книжных морей. Они сравнительно быстро могли найти нужную книгу или хотя бы указать, где ее искать. Теперь таких специалистов становится все меньше и меньше. Человек физически не в силах ознакомиться с миллионами статей, с сотнями тысяч книг, накопившихся в книгохранилищах. Кроме того, крайне редко в одном лице сочетаются и блестящая память, и владение несколькими языками, и обширные знания по многим специальностям. Для того чтобы сделать общедоступным огромный материал и облегчить пользование им, советские ученые и инженеры усиленно работают над механизацией и совершенствованием службы научно-технической информации. Чтобы помочь библиографам быстро, в несколько минут, находить нужную справку среди десятков тысяч карточек, построена и испытывается информационная машина. Это целый агрегат, институт-автомат, работающий на перфокартах. Он состоит из четырех частей: кодирующего устройства, контролирующего приспособления, информационной машины и печатающей установки. Разработана система записи информации. Это специальный информационный язык, понятный не только людям, обслуживающим агрегат, но и самой машине. В него включаются все основные термины — понятия данной отрасли науки. Например, произведен отбор и определены термины, употребленные в механике. Насчитывается уже около 3000 терминов, позволяющих охватить много вопросов из этой отрасли науки. Каждый термин получил свой условный код, определенное сочетание и место перфорационных знаков, отверстий на карте. Машина обрела не только «язык», но и «память». Пользуясь специальным словарем, на перфокарты заносят отверстия, обозначающие содержание статьи, а также сведения, в каком журнале и когда она печаталась. Чем больше накапливается таких перфокарт, тем богаче становится «память» машины. Вы задаете машине вопрос. Он с помощью кодирующей установки заносится на перфокарту (конечно, на информационном «языке»). Затем, пользуясь перфокартой, оператор вносит этот вопрос на наборное устройство информационной части агрегата. А дальше машина начинает проверять каждую из огромного запаса карт, чтобы найти карты с кодами, совпадающими с кодом вопроса. Она просматривает их со скоростью 24 тысячи в час! Быстро растет стопка обработанных материалов. Перфокарты, на которые занесены нужные сведения, отбираются. Как же прочитать, что означают небольшие отверстия, пробитые на перфокарте, и получить нужную справку? Включается печатающее устройство, в него закладываются отобранные перфокарты. И вот машина печатает на русском языке ответ: это краткие библиографические данные о том, где и когда были опубликованы статьи на ту тему, которая интересовала задавшего вопрос. А сколько труда и времени потребовалось бы библиотекарю, чтобы составить такую справку!.. Конструкторы машины думают добиться увеличения скорости просмотра до нескольких миллионов записей в час! Другая информационная машина — автоматический каталог-справочник — устроена иначе. На киноленте отпечатаны с одной стороны аннотации статей, с другой — условный указатель содержания аннотированной статьи. Указатель записан условным кодом — белыми и черными точками. Автоматические устройства с фотоэлементами в одну минуту просматривают до 10 тысяч таких библиотечных карточек. За шесть—семь минут библиотекарь-автомат может найти любую из 70 тысяч аннотаций, записанных на ленте. Но и такой темп уже не удовлетворяет современные потребности. Сейчас решается проблема полной автоматизации информационной работы. Для этого широко будут применены быстродействующие электронные счетные машины-переводчики, радиосредства, микрофотокиносъемка, телевидение, магнитная запись. Особый интерес представляют специальные информационные машины. Они будут обладать почти неограниченной «памятью» и позволят построить специальные научно-справочные агрегаты, «запоминающие» гигантские запасы научных и технических сведений, мгновенно выдавая их по первому требованию в необходимой для ученого комбинации. Эти машины станут на службу науке и технике, умножая в сотни и тысячи раз производительность труда ученого, техника, конструктора. Они откроют новую эру в научной работе. Известно, что за 500-лстнюю историю книгопечатания выпущено более 12 миллионов названий книг, сотни миллионов газетных и журнальных статей. Количество книжных богатств все время возрастает. Считают, что оно каждое десятилетие удваивается. Только в нашей стране теперь хранится полтора миллиарда томов! Читателям библиотеки будущего не придется рыться в каталогах, словарях, указателях, искать шифр и номер книги, искать самую книгу, а затем перелистывать, чтобы найти страницу и именно те строки, в которых записана нужная мысль, формула, определение. Подобно тому, как сегодня абоненты автоматической телефонной станции набором цифр вызывают «службу времени» и узнают время, так и в электронной библиотеке информацию можно будет вызвать коммутатором к общему читающему устройству. В июне 1957 года был проделан опыт передачи из одного района Москвы в другой через городскую автоматическую телефонную станцию нескольких страниц текста, записанного в долговременной машинной «памяти». На экране телевизора можно было прочитать четкое изображение текста. В библиотеке будущего, согласно заранее составленной программе, импульсы сами найдут, прочитают и выдадут требуемую информацию в виде изображения на экране телевизора или удобочитаемого печатного текста. Текст появится молниеносно. Скорость выборки у новых машин будет очень большой. За один час может быть считано более 10 миллиардов цифр или 250 тысяч печатных листов: это же 4 миллиона страниц обычных книг. А в дальнейшем скорость можно довести до 12,5 миллиона печатных листов текста в час! Трудно даже представить себе, сколько понадобилось бы времена человеку на поиск нужной информации среди такого неисчислимого количества материала. Но не только этим сильна машина: можно будет, используя громадные скорости, проводить машинным способом тщательный анализ той или иной области человеческих знаний. Можно будет проверять, нет ли противоречий между вновь поступающим материалом и уже записанным. Можно будет синтезировать и обобщать информационный материал. Это во много крат облегчит решение сложных научных и технических задач. Совершенствование машин с долговременной «памятью» рисует в перспективе создание автоматической энциклопедии. В нее можно будет заложить все известные аксиомы, теоремы, формулы, определения и различные данные. По требованию человека энциклопедия сможет выдавать ценные научные справки и даже устанавливать новые аналогии в различных процессах, формулах, законах. Логические схемы исследования материала дадут возможность при помощи машины устанавливать в смежной области новые следствия из предпосылок, относящихся к двум различным областям знания. Например, следствие для физической химии по предпосылкам из физики к химии. В электронные «книги» можно записать огромные словари иностранных языков и осуществить автоматический перевод со скоростью, за которой не угонится и батальон переводчиков, — десять предложений в секунду! К одному устройству автоматического перевода подключат свыше тысячи абонентов, связанных с машиной телефонной сетью. У каждого абонента будет своеобразная пишущая машинка. Иностранный текст, пройдя линию связи, попадет в переводческую машину, превратится в русский текст и снова попадет к абоненту на автоматическую пишущую машинку, печатающую перевод. Можно установить у абонентов аппаратуру, которая с помощью светового устройства будет «читать» текст из журнала или книги и страница за страницей передавать его на переводческую станцию. Можно построить также машину устного перевода. Она незаменима для международных конференций и съездов и станет самым необходимым посредником между людьми, говорящими на разных языках. В основу конструирования такой машины положена возможность воспроизведения отдельных элементов речи — гласных и согласных слогов по сигналам, сопровождающим буквы текста. Недалеко то время, когда любой ученый, инженер или студент в любом уголке нашей страны, да и просто любой читатель обычным телефонным звонком и включением телевизора сможет получить любую справку, даже самую сложную, любой чертеж, формулу, громоздкий расчет, любой перевод из любого журнала или книги, увидевших свет всего несколько часов назад. Некоторые ученые утверждают, что целесообразно в будущем весь научно-технический материал одновременно с типографиями печатать на листах долговременной «памяти» информационных машин. Как все это обогатит, ускорит, усовершенствует информационное дело — столь важное в научном творчестве! Знакомство с долговременной «памятью» машин, с информационными устройствами, электронными «книгами», автоматической «энциклопедией», с идеей института-автомата, невольно заставляет оглянуться назад, как бы устремить взор в глубь веков. И вот встают перед вами два великих открытия. Изобретена письменность. В руках человека — могучая сила, и можно смело из поколения в поколение нести неугасимый факел знания. Не надо уже бояться искажений устной передачи и превратной человеческой памяти. Изобретено книгопечатание. Создано невиданное до того множительное приспособление. И сразу же расширился круг людей, могущих приобщиться к источнику знания — к книге. Шли века. И настало время, когда уже нельзя говорить о каком-то «круге» людей. Широким массам стали доступны сокровища человеческой культуры. Уже не единицы, а тысячи, сотни тысяч людей приносят свой вклад в общее дело познания мира. Сказочно быстро пошло накопление богатств разума в общечеловеческих кладовых. Накопилось столько драгоценностей, что не сразу отыщешь нужную. Множество блистательных мыслей остаются лежать нетронутыми, забываются. Настало время, когда начал назревать конфликт: человек уже не в силах справиться с обилием накопленных научных материалов. Пришла острая необходимость в «умном» автомате-помощнике, который мог бы быстро и ловко «рыться» в библиотеках и архивах, в патентных бюро и картотеках, мгновенно вычислять математические задачи с десятками тысяч заданных величин. Такой помощник создается, и мы накануне наступления новой эры — эры автоматизации трудоемких умственных процессов. С улыбкой будут взирать люди завтрашнего дня на ящики библиотечных каталогов, на хитроумную систему шифрования книг, на всевозможные справочники, реферативные сборники, на пишущие машинки, арифмометры и типографские агрегаты. Улыбка эта, вероятно, будет похожа на ту, с которой многие из нас сегодня смотрят на папирус, глиняные дощечки, гусиные перья и картины с изображением монахов — переписчиков книг. Но не успел человек начать борьбу за скорость в научной работе, как его уже не удовлетворяют достигнутые успехи. Требуется гигантская скорость работы электронного «мозга». И люди стремятся переложить на машину операции, замедляющие процесс умственного труда, — такие, как запись живой речи вручную или на пишущей машинке, преобразование записи в код и другие. И вот сегодня машина может не только печатать текст, но и произносить его. Машина научилась слышать и говорить, читать и писать, отбирать нужный материал. Уже построена машина, которая может читать любые напечатанные типографским шрифтом цифры со скоростью 120 цифр в минуту. Она предназначена для ввода данных в электронные счетные машины и заменяет 145 операторов. Эти операторы обычно готовят перфорированную ленту для вводного устройства. Читающая машина «смотрит» на чеки, накладные, выписки банковских счетов, статистические сводки, таблицы логарифмов или функций — на любой материал, который подлежит обработке, и передает его на вычислительную, либо информационную печатающую машину. Предполагают, что удастся довести скорость чтения до 500–600 знаков в секунду. «Читающая» машина в соединении с «говорящей» — настоящее благодеяние для слепых. Теперь представьте агрегат, в котором объединены читающая, считающая и говорящая машины. Он позволит получать готовые результаты подсчетов практически почти одновременно с передачей исходных данных в машину! А если вместо вычислительной машины установить переводческую, можно услышать перевод текста в тот же миг, как будет раскрыта книга! Я далеко не все рассказал об «умных» машинах, но читатель уже видит, что диапазон их применения очень велик и дела их поистине грандиозны.Е. Пермяков Крокодилы Янцзы
Очерк

Однажды археологи нашли в Индии окаменевший скелет длиной двадцать метров. Это был ископаемый крокодил, появившийся на Земле два с половиной миллиона лет назад. В ту пору крокодилы расселились по всей Земле. Теперь они живут в тропических и субтропических странах — в реках, озерах, у морских побережий. Их особенно много в водах Инда, Амазонки, Ганга, Миссисипи, в реках Бирмы, у морского побережья Австралии. Крокодил вылупляется из небольшого яйца и живет больше сотни лет. Крошечный детеныш вырастает в крупнейшее животное длиной от двух до десяти метров. Есть крокодилы и в Китае на Янцзы — Длинной реке, как называют ее сами китайцы. Мы садимся в джонку, широкую туфлеобразную лодку, и направляемся к островам Чан Иньша на Янцзы, где больше всего крокодилов. Палящее солнце стоит над головой, парус джонки чуть трепещет. Наш проводник — сорокалетний рыбак Муган; в переводе его имя означает «Мирная Сталь». Он уроженец Янцзы и знает родную реку, как хороший боцман свою гавань. С восхищением смотрим мы на быстрые воды Янцзы, протянувшейся на пять тысяч триста километров! Длина реки равняется примерно расстоянию от Сталинграда до Хабаровска. Вытекает она с заоблачных гор Тибета и несет свои мутно-кофейные воды в Тихий океан. Местами Янцзы растекается в ширину на десять километров, устье же ее похоже на Желтое море. Ни на одной реке мира нет такого оживления, такого огромного числа самых различных судов, как на Янцзы. Здесь и современные теплоходы, и бесконечная вереница парусных лодок. Густым роем идут друг за другом джонки — узкие и широкие, большие и малые, крутобортые, как яичная скорлупа, и низкие, словно квадратные башмаки. Джонки идут на баграх, парусах, моторах и лямках. Каких только парусов здесь нет! Ромбом, пирамидой, квадратом, высоким развернутым свитком. Есть паруса, сшитые из брезента, из распоротых мешков, из плетеных циновок. Крепкие загорелые люди на джонках широкими жестами приглашают нас к себе в гости. Мимо прошли массивные черно-красные пароходы. Раньше эти грузовые суда втридорога покупались за границей. Сейчас их строят сами китайцы. Пока наша мелкосидящая джонка приближается к левому берегу, где больше крокодилов, нам вспоминается вчерашнее посещение китайской аптеки. В «Зале Поднебесной» было торжественно и тихо. Аптекари в тяжелых серых халатах сидели па узких лакированных скамейках. На стене среди выставленных для обозрения ящериц, змей и скорпионов нам прежде всего бросился в глаза темно-коричневый сушеный крокодил, почти в человеческий рост. Медицина Китая весьма ценит крокодила, называя его специальным термином: «гуйто». Лекарство из гуйто спасает от укусов комаров и ос, лечит кости, желудок, приносит долголетие. О крокодилах сложено немало легенд. В них говорится, что крокодилы — это помесь дракона и черепахи, что они дышат ушами, летают по воде, оставляя за собой пар и огонь… Плывем вниз по реке. Плещется вода о тупой нос джонки. По берегу нескончаемой цепью тянутся селения, рисовые поля, рыбачьи поселки с развешанными для просушки черными сетями на бамбуковых шестах. Постепенно населенные пункты исчезают, уступая берега тростникам, серо-зеленым, покрытым жаркой солнечной пылью. Начинаются камышовые болота. В войну с Японией в них прятались партизаны, совершая отсюда набеги на японских оккупантов. Осторожно подходим к камышам. У самого берега пересаживаемся в сампан — узкую, длинную лодку. Надеваем для маскировки зеленые плащи из травы и большие тростниковые шляпы. В камышах таятся аллигаторы. Тут они охотятся, выводят свое многочисленное потомство. Настороженно смотрим вокруг: не блестят ли где глаза притаившегося хищника? Но все тихо. Лишь изредка выскакивают мелкие рыбки да, шурша крыльями, стремительно проносятся ярко-голубые стрекозы. Нестерпимо печет солнце. Опускаем руку в горячую, как чай, воду. Когда рука высыхает, на ней остается пленка стягивающего ила. Двигаемся дальше. В знойной полуденной дреме чуть слышно шуршат редкие бледно-зеленые тростники. Бесчисленные протоки, рукава, озера и мели из вязкого темно-желтого ила встречаются нам на Янцзы. В несметном количестве кишит здесь рыба, буро-зеленые волосатые крабы, юркие черные угри. «В опасных протоках, — как пишут древние книги Танской династии, — живет рыба крокодил». Под огненными лучами солнца сампан лавирует среди наносных отмелей. Скрипят шершавые листья камыша. В воду ныряют зеленые блестящие лягушки. Вдруг Муган подает сигнал остановки. Все замираем. — Каньба, смотри! — шепчет Муган. — Хайэ — крокодил! Сквозь листья тростника, в пятидесяти метрах от нас, видим группу аллигаторов. Хайэ правильнее называть аллигатором. Зубов у него больше, чем у крокодила, есть и другие особенности. В бинокль видим, как хайэ крепко спят, положив друг на друга хищные морды и закрыв мутно-белой пленкой выпуклые, похожие на ложки глаза. Веретенообразные тела аллигаторов тускло поблескивают буро-зеленым окостеневшим панцирем. Стараясь не шуметь, подходим к аллигаторам с подветренной стороны. Крокодилы очень чутки. Со всевозможными осторожностями приближаемся к ним на тридцать метров. Двухметровые панцирные ящерицы, подмяв под себя камыши, дремлют на небольшом наносном холме. Светлое брюхо хайэ расплющено наподобие резинового мешка — грелки. Ладони лап, напоминающих узловатую человеческую руку, вывернуты наружу. На задних ногах видна плавательная перепонка. Недвижно лежит грозное оружие нападения — длинный костистый хвост. — Хайэ в восемь футов на Янцзы редкость, — шепчет Муган, показывая на самого большого аллигатора. — Весит он дин триста. — Сколько ему может быть лет? Муган внимательно пересчитывает ряды острых гребней на спине аллигатора и, прикинув что-то в уме, отвечает: — Около девяноста. Еще осторожнее продвигаемся вперед. Слышно, как сопят аллигаторы, тяжело вздыхая брюхом. Разглядываем возле пасти животных набухшие черно-серые пиявки. Верхняя челюсть хайэ, от шишковатых ноздрей до выпуклых глаз, сильно вогнута вниз. На серо-зеленой спине большие, светлые пятна. Щелкаем фотоаппаратом. Девяностолетний крокодил приоткрывает глаза. В нас вперяется острый взгляд змеиных вертикальных зрачков. Ярко блестят зеленые, похожие на свечи хищные глаза. Аллигатор громко зевает, обнажая множество крупных желтоватых зубов. У аллигатора около восьмидесяти зубов, причем на месте любого выпавшего или сломавшегося вырастает новый. Еще раз взглянув в нашу сторону, аллигатор, неуклюже перебирая лапами, поворачивается к нам боком. Остальные хайэ продолжают безмятежно спать, положившись на зрение и слух своего вожака. Делаем зарисовки с крокодилов. Шея хайэ значительно светлее тела и очень морщиниста. Она словно перетянута множеством складок, похожих на пятнистые кожаные ленты. Хотим подойти к аллигаторам ближе, но Муган предостерегает нас: — Осторожно! Хайэ могут опрокинуть сампан. Когда эскиз спящих крокодилов был сделан, мы решили проверить остроту слуха хайэ. Муган легонько щелкнул языком — и тотчас же девяностолетний сторож открыл оба зеленых глаза. Рыбак щелкнул чуть громче — на этот раз глаза открыли остальные животные. Еще один звук — и тяжелые, будто лакированные ящерицы, грузно переваливаясь в иле, подобрались к воде и бесследно исчезли в мутно-желтом болоте. У хайэ крошечное сердце, но необъятные легкие. Они плавают быстро и бесшумно, работая лапами и могучим хвостом. Хайэ могут долго находиться под водой, выставляя наружу только глаза и шишковатые ноздри, которые в случае необходимости могут закрываться, как губы. Аллигаторы питаются рыбой, охотясь за ней по ночам. Ночью же можно услышать уханье крокодилов. Жители Янцзы утверждают, что о предстоящем дожде они узнают по особому стонущему крику «у-у», который хайэ издают в пасмурную погоду. Это преддождевое уханье называют в Китае «томин» — крокодилово пение. Днем прожорливые хайэ ловят неосторожных болотных птиц и доверчивых лягушек. В голодную пору они приближаются к людским селениям, подкарауливают у воды поросят, собак и наносят им молниеносный удар своим тяжелым, сильным хвостом. Затем они хватают жертву зубами и тащат ее в воду. Муган рассказал, что в глубоких протоках и тихих безлюдных заводях, которых на Янцзы великое множество, аллигаторы являются бичом рыбаков. Они похищают бамбуковые вентери, полные рыбы, и пожирают ее прямо с корзиной. Не гнушаются хайэ и мертвечины, плавающей по громадной реке. В желудке крокодилов можно найти песок и речную гальку. Кстати, камни, побывавшие в желудке крокодила, ценятся высоко и используются для разных изделий. На них даже гравируют стихи и изречения. Аллигаторы ненавистны владельцам плавучих птицеферм: хайэ уносят порой до десяти уток, спущенных на воду. Известны случаи, когда голодные хайэ нападали на детей. Однако в обычных условиях аллигатор не трогает человека. Слушая рассказ рыбака, мы смотрели на расходящиеся по застойной воде зыбкие круги — след исчезающих хайэ. Затем, повернув легкий сампан, направились в рыбачий поселок «Трех тополей». Там Муган обещал показать нам прирученных крокодилов. Вскоре мы вышли на широкие воды Янцзы. Все так же проплывали караваны джонок, стучали колеса пароходов. А Муган по-прежнему неторопливо рассказывал нам о крокодилах. …Как выводят крокодилы потомство? Летом, в период малых дождей, самки хайэ отползают от берега в глухие, хорошо прогретые солнцем места. Зубами натаскивают они в свои гнезда морскую траву, тростник, сухие листья. Затем в течение нескольких дней самки откладывают десятки белых, шероховатых яиц. — Уронишь на землю такое яйцо, размером с гусиное, — пояснял Муган, — а оно не разобьется. Чем крупнее самка, тем большее число яиц она сносит. Затем хайэ лапами засыпает гнездо и караулит его. Во время ожидания потомства хайэ очень опасны. Охраняя гнездо, аллигаторы могут напасть на человека и перегрызть ему ноги. Через шесть — семь недель из яиц выходят юркие светло-бурые крокодильчата, покрытые темными пятнами. Длиной они не больше пяти — шести дюймов. Едва вылупившись из яйца, они уже быстро бегают, энергично тычась носами во все стороны. Крокодильчата охотно идут в воду и плавают здесь дружной быстрой стайкой. Мать держит свое потомство в горячих лужах и тихих протоках. Здесь резвятся стаи серебристо-голубых рыбок, нередки и скользкие угри — любимое лакомство крошечных аллигаторов. Крокодильчата в поисках их изрывают носами горячий ил бесчисленного множества луж. Мать неусыпно наблюдает за своим выводком, не подпуская к глубоким местам, оберегая от бакланов, ворон и особенно от крокодилов-самцов. …Сампан продолжает идти вдоль берега. Уже кончились тростниковые чащи, чуть приподнялся берег, оживилось движение. Люди тащат корзины, толкают тачки с квадратными парусами, несут на коромыслах товары. Вдали зеленеют холмы, блестят рисовые поля. Кое-где виднеются темно-зеленые рощи — фамильные кладбища — с вековыми деревьями. В поселке «Трех тополей» Муган провел нас к глиняному дому своего друга, тоже рыбака. Здесь, на дворе, на жгучем солнцепеке по-кошачьи нежился двухметровый гребнистый хайэ. Его зеленые глаза воровато бегали по сторонам, следя за прогуливающимися по двору курами. Муган сказал, что крокодил ручной. Мы осторожно толкнули его бамбуковой палкой. Животное не шевельнулось. Осмелев, мы постучали по его спине., твердой, как доска. Аллигатор по-прежнему не обратил на нас ни малейшего внимания. Хозяин объяснил, что хайэ человека не трогает, но, если на него нападают бродячие псы, он бьет их своим страшным хвостом. Во дворе находился еще один крокодил, только что вылезший из Янцзы. От него тянулась веревка с привязанными к ней пустыми тыквами-горлянками, похожими на большие гантели. — Чтобы не потерять своих любимцев, — пояснил Муган, — дети надевают на них ошейники-поплавки и по ним всегда находят хайэ в воде. На шее мокрого аллигатора доверчиво улегся небольшой щенок. Было жарко, и ему нравилась влажная, холодная спина крокодила. Щенок и не подозревал, что в это время с больших, острых зубов крокодила обильно стекала прозрачная слюна. — Крокодилу, который греется на солнце, около пятидесяти лет, — сообщил нам хозяин. — Его приручил еще мой отец. Зовут крокодила Сяо Бар — Маленькая Кукуруза. Рыбак вынес из дома корзину с объедками и стал зычно кричать: — Пар, пар, пар! Тотчас же крокодилы, широко раскрыв пасть, кинулись к нему. Уснувший было щенок свалился со спины хайэ и жалобно завизжал. Мы стали бросать аллигатору стержни початков кукурузы, хвосты и головы рыбы. Пища исчезала в ненасытной зубастой пасти, словно в бездонной мясорубке. Когда «обед» был закончен, хозяин стал почесывать крокодилу бока тонкой бамбуковой палкой. Аллигатор с довольным сопением перевернулся на спину, обнажив салатно-желтый, по-змеиному пятнистый живот. После этого рыбак поднял крокодила на руки, и тот, довольный, вытянул свою морду. Длинный хвост хайэ упал до земли. Поглаживая голову крокодила, рыбак сказал, что ночью он отпускает в воду Маленькую Кукурузу и Котенка — так звали второго аллигатора, поменьше. В водах Янцзы они ловят себе пищу. На обратном пути в той же деревне мы увидели совсем юных крокодилов. Один из них был прикован цепью к столбу; другой лежал на песке. Когда мы вновь уселись в сампан, Муган рассказал, что поздней осенью, в период дождей, крокодилы становятся вялыми, апатичными и, прячась от холода, зарываются в ил и в береговые наносы. На зиму для крокодилов вырывают глубокую яму и застилают ее соломой. Здесь, прикрытые травой, песком и золой, в течение нескольких месяцев — до самой поздней весны — крокодилы спят, не принимая пищи. За время спячки они сильно теряют в весе. Это хорошо знают аптекари, и китайская фармакопея ценит осенних аллигаторов, бракуя весенних. Дрессировщики животных ловят крокодилов, обучают их различным трюкам, затем показывают на ярмарках юга. — Однако, — добавил Муган, — у хайэ мозги тяжелые, дрессировать их трудно. В Шанхайском музее, под ярко блестевшим футляром, мы увидели чучело аллигатора, пойманного на Янцзы, у Чунмина. Много слышали мы о хайэ и в больших городах. Аллигаторов используют полностью — от мяса до костей, от больших тяжелых зубов до спинной брони. На желтых зубах искусные мастера гравируют стихи и поэмы. Кожа хайэ идет на сбрую, ремни, портфели. В Ханькоу седой китайский библиотекарь неторопливо открыл нам старинную «Книгу песен» — сокровищницу мыслей и чувств, созданную в Китае еще три тысячи лет назад. Любовно перелистывая мягко шуршащие страницы, библиотекарь прочитал нам строфу «Барабан из кожи крокодила рассыпался гармоничной дробью». Древний стих «Книги песен» — свидетельство тому, что еще тысячелетия до нас китайцы вырабатывали из крокодиловой кожи и кости различные предметы. У любителей старины мы встречали трости с набалдашниками из крокодиловой кожи, шахматные доски, покрытые кожей аллигаторов. По народному поверью, сундуки, обтянутые шкурой крокодила, не тонут в воде. Мясо аллигаторов идет в пищу. Оно имеет вкус черепахового, но жестковато и отличается специфическим запахом. Жареные крокодильчата — дорогое лакомство. Их подают на банкетах приправленными острыми специями и нежными светло-зелеными ростками бамбука. В антикварных лавках по Янцзы мы видели многоцветные маски героев китайского классического театра, сделанные из крокодиловых яиц. Для этого яйца варят вкрутую и обрабатывают химическим раствором. Затем к скорлупе приделывают черные шелковые парики и разрисовывают их под полосатые маски героев древних классических драм… В багровых лучах заката темнеют тростники — говорливые стражи Длинной реки. Нам даже слышится, как они ведут бесконечную свою шуршащую беседу. Сплошным величественным потоком идут тысячи джонок, лодок, сампанов. Доносятся мелодичные тихие песни. Быстро темнеет. Зажигаются тусклые огоньки, и вот река уже сплошь усеяна несчетным количеством ламп-светильников, отражающихся в черном зеркале полноводного Чанцзяна. Мы снова плывем по необозримой, быстротекущей Янцзы.
Феликс Зигель Пункт назначения Луна
Научно-популярный очерк

Человек шагнул в Космос. Созданные им искусственные спутники Земли с успехом выполняют роль разведчиков ее окрестностей. Вокруг Солнца совершает свой стремительный полет первая искусственная планета, созданная трудом советских людей. Земля в будущем утратит роль единственной обители человека. Преодолев в наши дни границы атмосферы, человечество, по словам К. Э. Циолковского, завоюет со временем «все околосолнечное пространство». И первым небесным телом, которого достигнет человек, будет Луна. Штурм Луны, по существу, начался уже с запуска первого искусственного спутника Земли. Пройдут годы, и полеты на Луну станут почти таким же обычным делом, как ныне полеты на самолетах. Луна будет освоена человеком. Как же это произойдет?
ЗАГАДКИ ЛУННОГО МИРА
384 000 километров, отделяющие нас от Луны, — расстояние по астрономическим масштабам совсем небольшое. Но оно вполне достаточно, для того чтобы сегодня еще многие тайны лунного мира оставались неразгаданными. Возможно, некоторые из них смогут быть окончательно раскрыты лишь тогда, когда на поверхность Луны впервые ступит нога человека. Лунный шар в 49 раз по объему и в 81 раз по массе меньше земного. И все же масса Луны настолько велика, что теоретически Луна могла бы удержать вокруг себя некоторую, правда очень разреженную, атмосферу. К сожалению, прямых доказательств существования такой атмосферы пока не получено. Делались неоднократные попытки обнаружить действие предполагаемой лунной атмосферы на солнечные лучи. Луч солнца, до того как он попадет в лунную атмосферу, является, как говорят физики, естественным. Пройдя же сквозь атмосферу, солнечный свет должен претерпеть некоторые изменения. Световые колебания в атмосфере будут совершаться в определенной плоскости, тогда как в естественном луче они происходят во всевозможных направлениях. Такие изменения солнечного света называются его поляризацией. С помощью весьма чувствительных оптических приборов — поляриметров — явление поляризации света можно обнаружить. Чем плотнее, гуще атмосфера планеты, тем более сильную поляризацию света она производит. Однако все попытки обнаружить поляризацию света, вызванную лунной атмосферой, кончались неудачей. Учитывая чувствительность поляриметров, можно утверждать, как это следует из последних работ французского астронома Дольфуса, что плотность лунной атмосферы по крайней мере в миллиард раз меньше максимальной плотности атмосферы Земли. Таким образом, Луна, практически говоря, лишена атмосферы. Это приводит к тому, что за долгий лунный день, продолжающийся почти две земные недели, поверхность Луны нагревается до температуры +120°. Зато ночью на Луне господствует холод в –150°. Отсутствие атмосферы помогает понять многие особенности лунного мира, в частности своеобразие лунного рельефа. Вам, конечно, хорошо знакомы фотографии поверхности Луны, встречающиеся почти во всех популярных книжках по астрономии. Десятки тысяч странных кольцеобразных гор, называемых кратерами, составляют главную особенность лунного рельефа. На их фоне несколько теряются обширные горные цепи, вершины которых превосходят порой высочайшие из земных гор. Откуда взялось это множество кратеров, совсем не похожих на земные вулканы с узким и глубоким жерлом? Одно время была популярна метеоритная гипотеза их происхождения. Полагали, что в отдаленном прошлом на поверхность нашего спутника выпал рой исполинских метеоритов. Врезаясь с огромной скоростью в лунную поверхность, небесные камни взрывались, образуя нечто, напоминающее колоссальные воронки от артиллерийских снарядов. Считалось, что следы этой невиданной по своим масштабам космической бомбардировки сохранились до наших дней в виде многочисленных лунных «шрамов». Ныне метеоритная гипотеза представляется малоубедительной. Откуда, например, взялся рой метеоритов, искалечивших Луну? Почему, обрушившись на Луну, метеориты совершенно не задели Землю? К тому же исторический опыт человечества свидетельствует, что падение на Землю (а значит, и на Луну) исполинских метеоритов — событие исключительно редкое, происходящее в среднем не чаще, чем раз в тысячелетие. И, наконец, самое главное — строение и размеры лунных кратеров при углубленном исследовании оказываются совсем не похожими на воронки, возникающие при падении метеоритов. Разгадку лунного рельефа следует искать в другом. Скорее всего, на Луне в прошлом существовала бурная вулканическая деятельность. Из недр нашего спутника извергалась раскаленная лава; разливаясь по поверхности, она застывала в виде кольцевых гор. На Луне происходили лунотрясения. Тектонические движения лунной коры не один раз в истории Луны разрушали, казалось бы, уже навеки сложившийся рельеф. Но этим разрушительным действиям противостояли силы вулканизма, и на смену разрушенным горным цепям и кратерам возникали новые подобные им образования. Давно уже закончился на Луне бурный период ее молодости. В наши дни она выглядит уснувшим, почти мертвым миром. Но следы прошлого сохранились. Тщательно анализируя лунный рельеф, советский исследователь А. В. Хабаков нашел, что Луна пережила по крайней мере пять периодов вулканизма, сформировавших ее теперешнюю поверхность. Вулканическая гипотеза происхождения лунного рельефа имеет прочные фактические основания. Она способна, правда пока еще в очень общих чертах, воссоздать в нашем сознании историю Луны. Впрочем, некоторые из лунных форм до сих пор остаются загадочными. Если вам приходилось наблюдать в бинокль полную Луну, вы, наверное, заметили, что на Луне виднеются светлые полосы, расходящиеся почти радиально от некоторого центра в верхней части лунного диска. При наблюдениях в телескоп этот центр оказывается крупным лунным кратером Тихо, с поперечником около 80 километров. Светлые лучи тянутся на сотни и даже тысячи километров от Тихо в разные стороны. Они пересекают мощные горные цепи и многочисленные лунные кратеры, не изменяя своего направления. Загадочные светлые лучи как бы не замечают неровностей лунной поверхности. Любопытно, что начинаются они не от стен кратера Тихо, а отступя от него примерно на 60 километров. Ближе к кратеру видна темная зона, кольцом охватывающая кратер. Что же представляют собой странные светлые лучи? Их радиальное расположение позволяет думать, что перед нами нечто вроде вулканического пепла, выброшенного с огромной силой из недр Луны при образовании кратера Тихо. Однако, как предполагает харьковский астроном профессор Н. П. Барабашов, загадочные лучи, оказывается, рассеивают солнечный свет, а следовательно, состоять из раздробленного вещества они никак не могут. Если бы лучи являлись возвышениями над лунной поверхностью, чем-то вроде насыпей, они давали бы тень. Но теней таких никто никогда не видел даже при наблюдениях Луны в крупнейшие из современных телескопов. Недавно была выдвинута еще одна гипотеза, предполагающая, что светлые лучи являются трещинами в лунной коре, заполненными пористой, сравнительно хорошо рассеивающей солнечный свет лавой. Трудно, однако, представить себе трещины шириной во много километров и длиной в тысячи километров. Непонятно также, почему на Луне столь мощно выразился ее вулканизм, тогда как на гораздо более крупной Земле ничего подобного не наблюдалось. Светлые лучи обнаружены не только у кратера Тихо, но и у некоторых других лунных кратеров. Иногда они сливаются в сплошное сияние, окаймляющее кратер. В других случаях светлый придаток тянется от кратеров только в одну сторону и напоминает кометный хвост. Тайна светлых лучей сегодня еще далека от своего разрешения. Другим, не менее загадочным образованием лунного рельефа являются так называемые кратеры-призраки. На ровном сером фоне лунной поверхности кратер-призрак выглядит бледным кольцом, внешне напоминающим вал обычного кратера. Кажется, будто такой кратер просвечивает сквозь лунную поверхность. Но может ли это быть? Может ли сквозь твердую поверхность огромных темных лунных впадин, условно называемых «морями», что-либо просвечивать, даже если это «нечто» погружено в «море» на несколько метров? Во многих районах Луны выделяются странные, до сих пор не разгаданные образования, называемые бороздами. Внешне они напоминают русла бывших рек. При ширине в несколько километров длина этих борозд достигает десятков километров. Но о каких лунных реках может идти речь, если на Луне никогда небыло сколь-либо плотной атмосферы? Луну часто называют мертвым миром. Это не совсем верно. Только при поверхностном изучении Луны создается впечатление о ее полной неизменности. На самом деле в этом, казалось бы, совершенно застывшем мире происходят изменения, причины которых еще далеко не ясны. Вот уже более трех столетий лунный кратер Линней, расположенный в лунном Море Ясности, задает наблюдателям спутника Земли удивительные загадки. В 1645 году астроном Гевелий видел этот кратер вполне отчетливо. Кратер казался ему крупным и глубоким. А через несколько лет на месте кратера Линней появилось какое-то белое пятно, которое и изображалось на лунных картах в течение почти полутора столетий. В 1824 году кратер Линней снова появился. Во всяком случае, в этом году его снова заметили и потом в течение десятилетий изображали большим и глубоким. В 1866 году астроном Шмидт тщетно пытался разыскать кратер Линней в том районе, где он должен был находиться. Кратер поперечником 11 километров и глубиной до 300 метров исчез! В настоящее время на месте бывшего кратера Линней вновь появилось белое пятно переменной величины и очертаний и небольшая горка с узким глубоким жерлом. Приключения, происходящие с кратером Линней, не единственные в своем роде. Почти так же исчезал и снова появлялся кратер Таке, причем после исчезновения кратера наблюдалось тоже какое-то белое пятно. На фотоснимках Луны, сделанных в конце прошлого века и хранящихся в Парижской обсерватории, отлично виден кратер Альхазен поперечником 30 километров. В настоящее время кратер бесследно исчез. В 1950 году английский астроном Мур заметил внутри лунного кратера Мессье блестящее белое облако, впоследствии рассеявшееся. Годом раньше облако наблюдалось в лунной долине Геродота. В конце 1958 года советский астроном Н. А. Козырев наблюдал извержение лунного вулкана, расположенного в центре кратера Альфонс. Остатки когда-то мощных внутренних сил, по-видимому, еще производят изменения лунной поверхности. На дне некоторых огромных кратеров — Эратосфена, Платона и других — уже много лет наблюдаются странные темные пятна зеленоватого оттенка. В течение лунного дня эти пятна перемещаются по дну кратеров, изменяясь несколько и в окраске. В 1949 году уже упомянутый нами астроном Мур открыл около двух десятков лунных кратеров, на дне которых наблюдаются слабые темные радиальные полосы. Они периодически то укорачиваются, то вытягиваются, переходя даже за границу вала кратеров. Мур полагает, что некоторые из этих загадочных пятен являются своеобразной лунной растительностью, разумеется очень примитивной и неприхотливой. Границы распространенности жизни во Вселенной никем еще не установлены. Ведь жизнь необычайно многообразна и обладает удивительной приспосабливаемостью к самым суровым условиям. Можно ли утверждать, что существование органического мира на Луне абсолютно исключено? Если мы еще так плохо знаем природу той половины Луны, которая постоянно обращена к земному наблюдателю, то что же можно сказать о невидимом полушарии? Там, за краем лунного лимба, лежат неведомые лунные страны. Вряд ли рельеф невидимой части Луны сильно отличается от того, что мы видим. Но все же будущие путешественники по лунной поверхности, перейдя в область невидимого, станут первооткрывателями неизвестных доселе лунных «морей» и «океанов», горных цепей и многочисленных кратеров. Лунный мир полон нераскрытых тайн.ПЕРВЫЕ РАЗВЕДКИ ЛУНЫ
Чтобы высадиться на поверхность Луны, необходимо преодолеть 384 403 километра, отделяющих нас от спутника. Само по себе это расстояние не так уж велико — оно всего в 9,5 раза больше протяженности земного экватора. Многие летчики гражданской авиации налетали гораздо больший километраж. Трудности заключаются в том, что Землю и Луну разделяет бездна безвоздушного мирового пространства. Кроме того, для достижения Луны необходимо развить очень большую скорость, не меньшую 11,2 километра в секунду, то есть около 40 000 километров в час. Первое препятствие вполне преодолимо. Двигатель для полетов в безвоздушном мировом пространстве давно уже найден. На небесные тела и, в частности, на Луну нас перебросит ракета. Двигаясь за счет только внутренних сил, ракета не нуждается при своем полете в какой-нибудь внешней опоре. Если бы между Землей и Луной существовала разреженная среда типа воздуха, то, сопротивляясь продвижению ракеты, эта среда только мешала бы полету. Со вторым препятствием дело обстоит сложнее. Человеку, не осведомленному в вопросах астронавтики, может показаться непонятным, почему на Луну надо лететь непременно с очень большой скоростью. Нельзя ли совершить путешествие на соседнее небесное тело, как говорят железнодорожники, «малой скоростью»? Давайте разберемся, в чем тут дело. Представьте себе самолет, летящий в земной атмосфере. Работа, которую совершает его двигатель, идет на преодоление двух сил: притяжения Земли и сопротивления воздуха. Если двигатель остановится, самолет, пропланировав какое-то время в атмосфере, опустится на земную поверхность. Иначе ведут себя искусственные спутники Земли. Выведенные в безвоздушное пространство за границы атмосферы, они обращаются вокруг Земли без помощи двигателя, исключительно за счет силы собственного веса, или, иначе говоря, силы притяжения Земли. При горизонтальной скорости около 8 километров в секунду вес тела становится равным центростремительной силе, заставляющей тело обращаться вокруг Земли по круговой орбите, близкой к ее поверхности. Тяготение Земли в данном случае не только не мешает полету, но, наоборот, управляет им. Если орбита спутника целиком находится за границами земной атмосферы, то его полет вокруг Земли может продолжаться неограниченно долгое время. В будущем, вероятно, будут созданы самолеты, совершающие беспосадочные полеты вокруг земного шара. Но, двигаясь в атмосфере и обладая скоростью, меньшей 8 километров в секунду, они не смогут соперничать в количестве оборотов вокруг земного шара с искусственными спутниками Земли. Ведь двигатели их должны непрерывно работать, растрачивая горючее, и без регулярной заправки «на ходу» такие самолеты смогут облететь Землю весьма ограниченное количество раз. Теперь должно быть понятным, почему полет на Луну с малой скоростью практически пока невозможен. Ведь при малой скорости (точнее говоря, при скорости, меньшей 11,2 километра в секунду) двигатели космического корабля, борясь с земным тяготением, должны работать непрерывно. Только влетев в ту область пространства, где притяжение Луны будет преобладать над земным тяготением, можно, выключив двигатель, свободно падать на Луну. До этого момента борьба с земным тяготением совершенно необходима, и на эту борьбу пойдет так много горючего, что захватить его с собой в космический корабль, работающий на обычном химическом топливе, не представляется возможным. Рассчитывать же на дозаправку в пути не приходится. В будущем, когда человек создаст мощные атомные ракеты, ограничения в скорости и в направлении полетов будут сняты. Тогда станут возможны полеты в любом направлении и с любой, даже очень малой скоростью. А пока, как это ни парадоксально, поездки на Луну в космических экспрессах будут обходиться дешевле, чем преодоление того же пути малой скоростью. Все дело заключается в том, чтобы тяготение Земли превратить из врага в друга и попытаться использовать его при полете на Луну. Это вполне возможно. В популярных книгах и статьях о межпланетных путешествиях часто пишут, что для достижения других небесных тел надо якобы преодолеть притяжение Земли. Далее утверждается, что полная победа над земным тяготением одерживается в том случае, когда тело приобретает скорость в 11,2 километра в секунду. «Преодолев» подобным образом земное притяжение и «освободившись» от него, космический корабль, как уверяют такие статьи, устремляется в глубины мироздания. Все это, конечно, не просто неудачные выражения, а грубые ошибки. «Преодолеть» земное тяготение невозможно, какой бы скорости космический корабль ни достиг. Силу притяжения нельзя побить скоростью. Где бы ни находился космический корабль и как бы он ни двигался, Земля всюду и всегда будет притягивать его с той силой, которая может быть найдена по закону всемирного тяготения. Секрет здесь в другом. Развив скорость в 11,2 километра в секунду, космический корабль улетает от Земли по параболе, которая, в отличие от эллипса, уходит в бесконечность. При этом наш корабль вовсе не освобождается от притяжения Земли. Наоборот, именно земное тяготение заставляет его лететь по параболе, как вес искусственных спутников заставляет их обращаться вокруг Земли по эллипсам, а вес сорвавшегося с дерева яблока направляет его падение по прямой к центру Земли. Во всех трех случаях движением тел по разным кривым управляет одна и та же сила — сила земного притяжения. Разница же в траекториях возникает в результате того, что тела начинают свое движение с различной скоростью и в разных направлениях. Таким образом, можно выбрать для космического корабля такую скорость и такое направление вылета, при которых он полетит по параболе, неограниченно удаляясь от Земли. Для этого при отсутствии сопротивления воздуха нужна горизонтальная скорость именно в 11,2 километра в секунду. Развив такую скорость, космический корабль может далее лететь с выключенным двигателем, не расходуя ни грамма горючего. Притяжение Земли, как это ни парадоксально, уведет его в «бесконечность» от нашей планеты. То же произойдет и при скоростях, превышающих 11,2 километра в секунду, но только в этом случае полет будет совершаться не по параболе, а по одной из гипербол. Не случайно мы указываем точное значение «скорости отрыва» от Земли — 11,2 километра в секунду. При скорости, даже слегка меньшей (например, 11 километров в секунду), космический корабль останется пленником Земли. Земное тяготение заставит его или упасть на Землю, или (при скоростях больше 7,9 километра в секунду) обращаться вокруг Земли по эллипсу. Теперь уже практический метод достижения Луны становится более ясным. Путешествие разбивается на три этапа. Первый этап — отлет с Земли, который должен быть выполнен в определенном, связанном с расположением Луны направлении со скоростью не меньшей 11,2 километра в секунду. Второй этап — полет к Луне с выключенным двигателем, что составит и по времени и по расстоянию основную часть путешествия. Третий этап — падение на Луну в той области окружающего ее пространства, где притяжение Луны преобладает над тяготением Земли. Не уточняя пока вопросы, связанные с безопасностью посадки на Луну и с возвращением космического корабля обратно на Землю, рассмотрим детали намеченного плана. Осуществление первого этапа вполне реально. Уровень советской реактивной техники столь высок, что сообщение какому-либо небольшому телу скорости в 11–12 километров в секунду вполне возможно, что уже доказано запуском первой советской космической ракеты. Представьте себе, что это уже сделано, что за пределы земной атмосферы с параболической или гиперболической скоростью вырвалось какое-то тело. Как оно будет двигаться дальше? Во Вселенной существует не только Земля и притягиваемый ею космический корабль. Ракета, превратившись в самостоятельное небесное тело, будет, строго говоря, притягиваться не только Землей, а всеми телами Вселенной. Может показаться, что бесчисленное множество сил создаст такой «силовой вихрь», который увлечет космический корабль, как смерч увлекает пылинку! Не затеряется ли наш корабль в бездонных глубинах Космоса, вместо того чтобы попасть на Луну? К счастью, этого не произойдет. Мы ведь не учли одного важного обстоятельства — величину сил. Силы тяготения с увеличением расстояния между притягивающимися телами очень быстро ослабевают. Поэтому силы, с которыми далекие от Земли звезды, планеты и даже Солнце притягивают корабль или ракету, летящие на Луну, так малы, что ими вполне можно пренебречь. Мешать полетам на Луну они не будут. Другое дело — Луна. Не принимать в расчет ее воздействие на космический корабль ни в коем случае нельзя. Значит, при полете на Луну ракета будет «управляться» не только Землей, но и Луной. В небесной механике давно уже сформулирована так называемая «ограниченная задача трех тел». Представим себе, что в мировом пространстве имеются три притягивающих друг друга тела, из которых одно обладает ничтожно малой массой в сравнении с массами двух других тел. Задача заключается в том, чтобы найти кривые, по которым будут двигаться все три тела. Неспециалистам трудно себе представить, насколько сложна эта задача. В течение многих десятилетий она исследовалась крупнейшими математиками, но до последнего времени удавалось получить лишь небольшое число ее частных решений. С изобретением электронно-счетных машин положение изменилось. Значительно облегчая утомительный труд вычислителя, машины позволяют быстро решать сложнейшие задачи, в том числе и «ограниченную задачу трех тел». Итак, даны три тела: Земля, Луна и ракета. Масса последней ничтожно мала в сравнении с массами Земли и Луны. Известно, как движется Луна относительно Земли. Считая известными скорость и направление вылета ракеты с Земли, надо найти, как будет совершаться полет ракеты к Луне. Такая задача впервые и с достаточной полнотой была решена в Математическом институте Академии наук СССР советским ученым В. А. Егоровым. В течение двух лет (1953–1955) электронные машины, управляемые человеком, прокладывали возможные пути к Луне. С удивительной легкостью находили они множество решений, из которых затем можно было выбрать самые удобные и практически осуществимые. И вот главнейшие результаты проделанной В. А. Егоровым работы. В пространстве, разделяющем Землю и Луну, возможные пути свободного (то есть без работы двигателя) движения весьма разнообразны. Их можно разделить на несколько групп: в каждой будут объединены сходные траектории. Рассмотрим прежде всего облетные траектории. Двигаясь по ним, ракета совершает облет Луны, не снижаясь на ее поверхность. Вероятно, что первые разведки нашего спутника начнутся именно с таких облетов. Среди возможных облетных траекторий есть и такие, которые охватывают собой и Луну и Землю. Запущенная по такой траектории ракета превратилась бы одновременно в искусственный спутник Земли и Луны. Было бы, конечно, очень хорошо, если такой спутник «общего пользования» подходил близко к поверхности Земли и Луны. Однако это, как доказал В. А. Егоров, невозможно. Если облетная траектория подходит близко к поверхности Луны, то от Земли она будет отстоять на минимальном расстоянии в 100000 километров! О запуске ракеты с такой высоты пока не может быть и речи. Значит, создать спутник, который бы периодически облетал Землю и Луну, давая с помощью радио и телевизионного устройства информацию о виде Луны с близкого расстояния, нельзя. Другой вариант разведывательного облета Луны был разработан ленинградским астрономом профессором Г. А. Чеботаревым. Рассчитанная им орбита охватывает только Луну, но двумя своими нижними концами как бы упирается в Землю. Это означает, что ракета, запущенная с Земли по данной траектории, облетит вокруг Луны и, подобно бумерангу, вернется в исходную точку. Всего 30000 километров будут отделять ракету от Луны в момент наибольшего сближения этих тел. Пять суток потребуется, чтобы долететь до нашего спутника, около двух суток ракета будет находиться вблизи лунной поверхности, а затем через пять суток возвратится на Землю. Проект профессора Г. А. Чеботарева весьма заманчив. Правда, здесь нельзя забывать о необходимости найти способ затормозить ракету при ее падении на Землю. Это можно сделать, например, с помощью реактивного тормоза, то есть дополнительного реактивного двигателя, установленного на ракете. Включаясь в нужный момент по радиокоманде с Земли, тормоз будет выбрасывать газы в направлении полета ракеты и тем самым замедлит ее движение. Когда скорость ракеты снизится, из нее выбросятся контейнеры. Снижаясь на парашютах к поверхности Земли, эти контейнеры доставят в руки исследователя ценнейшие данные первой разведки Луны — фотографии ее невидимого полушария, крупномасштабные снимки поверхности и многое другое. Разведку Луны можно произвести и с помощью траекторий, названных В. А. Егоровым долетными. При всем их разнообразии у них есть общая черта: они начинаются с Земли и возвращаются к Земле, пролетев около Луны на близком расстоянии. Наконец, представляют большой интерес траектории попадания в Луну. Это своеобразная «стрельба по Луне». Весь перелет ракеты от Земли до ее спутника, как показал расчет, займет несколько десятков часов. Огромные размеры мишени облегчают попадание в цель. Однако если ставится задача попасть ракетой в определенный участок лунной поверхности, то точность «выстрела» должна резко возрасти. Все сказанное о разных типах траекторий верно, разумеется, только для пассивного, свободного полета, в котором двигатель ракеты не принимает участия. На самом же деле при полетах на Луну и вокруг нее движение ракеты в случае нужды будет исправляться, корректироваться кратковременным включением двигателя. Тогда станет возможным переход с одной траектории на другую, устранение ошибок, допущенных при старте, то есть, короче говоря, активное управление полетом. Управление космической ракетой на первых порах едва ли будет осуществляться находящимся внутри ее человеком. Большую роль в первых разведках Луны сыграют радиотелеуправляемые ракеты. По радиокомандам, подаваемым с Земли, автоматы ракеты включат в нужный момент ее двигатель и откорректируют полет. Технические трудности, связанные с осуществлением подобных проектов, конечно, огромны, хотя и преодолимы. Совсем немного времени отделяет нас от момента, когда начнутся первые разведки Луны. Что будет скорее осуществлено — облет Луны или попадание в нее, — сказать трудно. И то и другое представляет для науки огромный интерес. Облеты вокруг Луны автоматически управляемых ракет раскроют тайны ее невидимой половины. Ракеты-разведчики принесут нам крупномасштабные изображения лунной поверхности. Ведь с ракет можно фотографировать Луну, применяя телеобъективы с очень большим увеличением — в безвоздушном пространстве не может быть атмосферных помех. С помощью телевидения или фотоснимков мы, оставаясь пока в земных лабораториях, увидим такие подробности лунного ландшафта, как если бы наблюдали наш спутник с высоты птичьего полета. Составленные по фотоснимкам подробнейшие карты лунной поверхности помогут наметить маршруты первых лунных экспедиций. Автоматические приборы ракет-разведчиков установят также интенсивность солнечного и космического излучения в окрестностях Луны. Они принесут нам информацию о метеоритной опасности на пути к Луне: чувствительные микрофоны с дополнительным устройством зафиксируют частоту попадания в ракету мелких микрометеоритов. Короче говоря, облетные и долетные ракеты выяснят обстановку на путях к Луне и в ее окрестностях. После этого (или наряду с этим) будут посланы ракеты и по траекториям попадания. Некоторые из них, возможно, начинят каким-нибудь сильно рассеивающим солнечные лучи порошком. При ударе о лунную поверхность ракета взорвется, как метеорит, а разбросанный при этом порошок создаст блестящее пятно, которое можно будет заметить в сильные телескопы. Таким способом удастся не только убедиться в том, что цель достигнута, но и выяснить точность стрельбы. По другим проектам, на Луну посылается ракета с находящейся внутри нее атомной или водородной бомбой. Сильнейший взрыв на Луне ученые смогут не только заметить, но и сфотографировать с помощью спектрографов. Спектр первого атомного взрыва на спутнике Земли позволит узнать химический состав поверхностных лунных пород, которые при взрыве превратятся в ярко светящиеся раскаленные газы. Все это лишь некоторые из возможных вариантов первых разведок Луны. Прежде чем на Луну высадится человек, природа лунного мира должна быть исследована гораздо глубже и полнее, чем она известна теперь.ЛЮДИ НА ЛУНЕ
Звездолет приближается к Луне. В иллюминатор лунная поверхность кажется совсем близкой. Лунный шар непрерывно растет, заслоняя собой всё новые и новые участки неба. Верх и низ, казалось, поменялись местами. При отлете с Земли Луна казалась находящейся где-то наверху. Теперь, вблизи Луны, появилось новое ощущение — ощущение падения вниз. Когда до поверхности Луны осталось несколько сотен километров, свободный полет по одной из траекторий попадания прекратился. Взревели поворотные реактивные двигатели, и ракета повернулась дюзами к Луне. Если бы кто-нибудь в этот момент наблюдал полет звездолета, его глазам предстала бы странная картина: ракета словно стремится улететь с Луны на Землю, в то время как невидимые силы тянут ее вниз к Луне. Секрет маневра, конечно, понятен читателю. Повернувшись дюзами к Луне, звездолет начал торможение, противопоставив при этом тяготению Луны реактивную силу, развиваемую двигателем. Все медленнее и медленнее падает звездолет. Наконец он почти повисает на высоте нескольких десятков метров над лунной поверхностью. Еще секунды, и ракета плавно опускается на Луну, зарываясь в ее поверхность заранее выдвинутыми из корпуса звездолета опорами. Прилунение закончено. Теперь можно отправиться в путешествие по Луне. Возможно, что высадка на Луну первого пассажирского звездолета произойдет несколько иначе. Подлетев к лунной поверхности на несколько десятков километров, космический корабль может, сманеврировав, превратиться временно в искусственный спутник Луны. Не затрачивая ни грамма горючего, ракета сможет неограниченно долго обращаться вокруг Луны, позволив астронавтам не только подробно рассмотреть ее ландшафты, но и выбрать наиболее подходящий район для высадки. На высоте 20 километров искусственный спутник Луны облетал бы ее за 1 час 50 минут. На высоте же 100 километров, где Луна будет притягивать ракету слабее и где скорость полета значительно упадет, период обращения увеличится до двух часов. С высоты 20 километров невооруженный глаз различит на Луне предметы с поперечником в 3–4 метра. Может быть, первый полет пассажирского звездолета к Луне не завершится высадкой на ее поверхность. Превратившись в спутник Луны на несколько дней, а может быть, и недель, астронавты вернутся затем обратно на Землю. Но рано или поздно на поверхность Луны ступит нога человека. С этого момента, собственно, и начнется освоение Луны. Раскройте лунную карту.[103] Попробуем наметить возможные и наиболее интересные для науки маршруты первых лунных экспедиций. Маршрут № 1. Звездолет опускается в северной части (на карте север снизу) обширного лунного Моря Дождей. Этот район удобен для высадки своим равнинным ландшафтом. Кроме того, отсюда близок загадочный кратер Платон, на дне которого происходят странные изменения зеленоватых пятен. Двигаясь по намеченному на лунной карте маршруту, мы огибаем сначала несколько невысоких гор, а затем подходим к самому кратеру. Его диаметр равен 96 километрам, а окаймляющий вал представляет собой зубчатую горную цепь, отдельные вершины которой достигают 2000 метров! Нелегко будет пробраться через этот барьер на плоское дно исполинского кратера. Раскрыв загадку таинственных пятен, экспедиция отправится на запад, вдоль отрогов лунных Альп. Примерно в 150 километрах к западу от кратера Платон находится знаменитая Альпийская долина — огромная лунная борозда, длиной 130 километров и шириной до 10 километров. Исследовав это исключительное образование, происхождение которого остается пока неясным, экспедиция возвратится к исходному пункту, проделав в общей сложности путь около 400–500 километров. Напомним, что путешествовать по Луне гораздо легче, чем по Земле, — ведь сила тяжести там в шесть раз меньше, чем у земной поверхности. Кроме того, даже при первых лунных экспедициях, вероятно, будут использованы небольшие разведывательные ракеты, нечто вроде маленьких реактивных самолетов (конечно, без крыльев). Рассчитанные на два—три человека, они, отличаясь компактными размерами, свободно разместятся внутри звездолета. А можно поступить и еще проще. Уже сейчас разработаны миниатюрные реактивные двигатели в виде пояса. Эти двигатели рассчитаны на одного человека и просты в управлении. Подняв человека в воздух, такой двигатель может переносить его на значительное расстояние. Учитывая, что на Луне даже неспортсмен может прыгнуть в длину на несколько метров, прогулки на сотни километров с помощью индивидуальных реактивных двигателей вполне реальны. Но вернемся к планам первых лунных экспедиций. Вот, например, как может выглядеть маршрут № 2. Ракета опускается в Океан Бурь, точнее — на твердую поверхность этого лунного «океана», в районе кратера Коперник. По диаметру он превосходит даже Платон, а вал Коперника, плотный, ровный и очень высокий, кажется неприступным. Но экспедицию будет интересовать не столько кратер, сколько мощная система загадочных светлых лучей, расходящихся во все стороны от Коперника. Для их исследования кратер Коперник более удобен, чем кратер Тихо, расположенный далеко на юге, в необычайно гористой стране, сплошь усеянной кратерами. Высадка на такое кратерное поле сопряжена, конечно, с огромными трудностями. Вблизи Коперника, к югу и юго-востоку от него, есть несколько небольших кратеров с центральными горками в середине. Выяснить, действительно ли эти горки являются бывшими лунными вулканами, представляет для науки огромный интерес. Куда бы теперь направить маршрут № 3? Ну конечно, в район удивительного кратера Линней, одиноким светлым пятном выделяющегося на сероватом фоне Моря Ясности. Отсюда, раскрыв наконец причины таинственных изменений Линнея, можно перенестись на юго-запад, в район замечательной борозды Гигинуса, на дне которой удается различить до тринадцати мелких кратеров. Для начала этих трех маршрутов вполне достаточно. Они охватывают, пожалуй, наиболее интересные районы доступной нам части лунного диска. Как много открытий сделают те, кто не в воображении, а на самом деле совершит экспедицию хотя бы по одному из намеченных маршрутов! Вступив на поверхность Луны, астронавты исследуют состав и строение лунных пород, измерят температуру лунной поверхности, выяснят действие солнечной и космической радиации. Придется подумать и о том, как защититься не только от вредных для организма излучений, но и от попадания мелких метеоритов. Ведь на Луне, лишенной воздушной брони, обстановка совсем иная, чем на Земле. И крохотные и огромные метеориты беспрепятственно достигают лунной поверхности. Бесшумно взрываясь, метеориты постепенно разрыхляют лунную поверхность. Раздробленные лунные породы, сплавляясь после взрыва метеорита, образуют нечто вроде шлака — возможно, что именно такую природу и представляет собой поверхностный слой Луны. Как же защититься от метеоритов? Можно успокоиться ссылкой на теорию вероятностей — крупные метеориты падают на Луну редко. К тому же им совсем не обязательно падать именно в то место, куда будут высаживаться астронавты. Но от мелких метеоритов, весом в доли грамма, уберечься трудно. Их сравнительно много, и они врезаются в Луну со скоростями, в несколько раз большими, чем скорость пули. Особо бронированные костюмы защитят отважных покорителей Луны от этих космических пуль. Итак, первые экспедиции по Луне совершены. В земных академиях наук, в широкой печати опубликованы удивительные открытия, сделанные теми, кто первыми побывал на другом небесном теле. С этой поры начнется планомерное освоение Луны.ЛУННЫЙ ФИЛИАЛ ЗЕМЛИ
А теперь помечтаем. Перенесемся мыслью в будущее, от которого мы отдалены не годами, а десятилетиями… Первая половина XXI зека — века поразительных открытий, увеличивающих могущество человечества… Объединенное в единую дружную семью народов, человечество вступило на путь завоевания околосолнечного пространства. Первым освоенным небесным телом стала, конечно, Луна. С земных космодромов на Луну регулярно отправляются пассажирские звездолеты. В их комфортабельных салонах пассажиры проведут всего двое суток. А те, кто спешит, могут лететь на космическом экспрессе — атомный звездолет доставит их на Луну за несколько часов. На Луне построены первые города. Внешне они совсем не похожи на земные. Лунные здания выдолблены в горных массивах, надежно предохраняющих переселенцев с Земли от беспрерывной метеоритной бомбардировки. Это, скорее, огромные комфортабельные пещеры, вполне удовлетворяющие земным вкусам. Каждое лунное здание разделено на герметически изолированные отсеки. Такая же изоляция от безвоздушного пространства предусмотрена и при входе в здание. На Луне по-прежнему нет атмосферы. Но внутри лунных жилищ — чудесный, ароматный искусственный воздух, непрерывно очищаемый и восполняемый специальными машинами. Живительный кислород уже давно не завозится с Земли — его добывают в неограниченном количестве химическим путем из лунных пород. Главную энергетическую базу лунного города составляют гигантские солнечные установки. Собираемая ими солнечная энергия преобразуется в электричество, которое создает в лунных жилищах вполне земной комфорт. Сообщение между лунными городами осуществляется на реактивных везделетах. Они очень послушны и, подобно вертолету, опускаются на любую посадочную площадку. Столицей Луны избран город, разместившийся внутри гористого вала кратера Платон. Вблизи него, на равнине лунного Моря Дождей, построен самый крупный лунный космодром. Лунные колонисты (их, конечно, нельзя назвать колонизаторами) не чувствуют себя оторванными от Земли. Не только пассажирские и транспортные ракеты связывают оба мира — с помощью радиовидеотелефона житель Луны может легко переговариваться с жителем Земли. При этом оба не только слышат, но и отлично видят друг друга на экране космического телефона! В лунных клубах проводятся телевизионные трансляции концертов с Земли. Не меньшим успехом пользуются на Земле лунные передачи — кто не соблазнится, спокойно сидя в кресле кабинета, посмотреть на экране телевизора: что же делается на Луне. Луна превращена в филиал Земли, где человечество, умножая свою мощь, как и на Земле, покоряет природу. Интереснейшая трудовая жизнь кипит на Луне. Там созданы научные институты по изучению лунных недр, космических лучей, лунной ракетной техники и многие другие. Конечно, среди них можно встретить и лунные астрономические обсерватории. Под их удивительно прозрачным пластмассовым куполом виднеются такие огромные оптические инструменты, о которых земные астрономы не могли и мечтать. А главное — нет атмосферы, мешающей при наблюдениях небесных тел применять колоссальные увеличения. Рядом видны исполинские радиотелескопы. Здесь они полностью воспринимают космическое радиоизлучение, которое земной атмосферой пропускается лишь в очень небольшой дозе. Как много ценнейших ископаемых открыто на Луне! Какие изумительные исследования провели лунные физики! Ведь в условиях лунного мира получение вакуума, сверхнизких или очень высоких температур достигается легко и просто. Что же касается исследования космических лучей, то здесь ученые так далеко подвинули вперед атомную физику, что стало возможным омолодить Луну! Этот необыкновенный проект был выдвинут молодым поколением «лунатиков». Так коренные жители Земли в шутку назвали тех, кто родился в лунных городах и потому был вправе считать Луну своей родиной. «Да, мертвый лунный мир может и должен быть омоложен, — заявили молодые лунные патриоты. — Для этого необходимо создать вокруг Луны искусственную атмосферу. То, что казалось фантастическим нашим дедам и прадедам, теперь стало возможным. Мощные атомные установки, разбросанные по всей лунной поверхности, выделят из лунных поверхностных пород кислород и другие необходимые для жизни газы. Пройдут месяцы, может быть, годы, и Луну окутает сплошной атмосферный слой. Прольются первые дожди, появятся на Луне первые реки, они заполнят водой впадины современных „морей“ и „океанов“. На Луне расцветет органическая жизнь, перенесенная человеческим гением с Земли. Луна станет когда-нибудь второй Землей, колыбелью лунного человечества. Конечно, из-за небольшой массы Луны ее искусственная атмосфера будет постепенно, хотя и очень медленно, улетучиваться в мировое пространство. Но утечку эту можно восполнять теми атомными установками — атмосферогенами, которые будут непрерывно продолжать свою работу. Астрономические обсерватории и все те лаборатории, для которых атмосфера является помехой, будут вынесены на искусственные спутники Луны. А на самой Луне расцветет вполне „человеческая жизнь“. Луна может быть и будет омоложена!»Кирилл Андреев Хозяин замка Монте-Кристо
Литературный портрет

1
Восторженные поклонники, друзья и даже противники часто называли его «Александром Великим» — одни с восхищением, другие с гордостью, третьи с оттенком иронии. Это был человек огромного роста, с львиной головой, курчавыми волосами и маленькими хитрыми голубыми глазками. Его хрипловатый голос звучал, казалось, издалека, как рев обильного, но не бурного водопада. В его присутствии все обычно молчали, так как говорил «Александр Великий» по нескольку часов подряд, извлекая всё новые и новые факты из недр своей чудовищной памяти. Но у этого неисчерпаемого потока красноречия была одна особенность: о чем бы ни шла речь в разговоре, Дюма очень умело, но в то же время очень безапелляционно всегда сводил его к самому себе. В Сен-Жермене, аристократическом пригороде Парижа, у него был собственный замок «Монте-Кристо». Еще издали были видны готические башни, выступавшие из-за высоких вязов. Потом взорам посетителя открывались фигурные балконы, фронтон, украшенный итальянской скульптурой, витражи в свинцовой оправе, боковые башенки, сторожевые вышки, флюгера с вымпелами, золоченые инициалы А.Д., вплетенные в решетку. С каждым шагом взору посетителя открывались все новые постройки: птичник, конюшни, обезьянник, театр… И за каждой дверью стоял слуга араб в чалме. Волшебный сад окружал главное здание. Шумели искусственные водопады; как слюда, блестели миниатюрные озера с карликовыми островами. И на одном из них, как дом Гулливера в стране лилипутов, возвышался восьмиугольный павильон из массивных камней. Внутри он был оклеен голубыми обоями; лазурный потолок был усеян золотыми звездами. Снаружи, на каждом камне постройки, было высечено название одной из книг или пьес Дюма. Над аркой этого единственного здания, куда не допускался никто из посторонних и где писатель работал, красовалась латинская надпись: «Cavea canem» — собачья пещера! Вечный праздник царил в замке «Монте-Кристо», похожем на сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Хозяин — в черной или синей бархатной ермолке, в фантастической куртке с воротником из редкостных валансьенских кружев, с толстой цепью на животе — встречал посетителей у входа. Он приглашал гостей только по воскресеньям, «чтобы отличить этот день от других, — как говорил он сам, — когда они сами себя приглашают». Тем не менее, каждый день гости приезжали и уезжали; кто оставался на день, кто на неделю или на месяц. Хозяин был одинаково любезен со всеми, хотя часто не знал своих гостей даже в лицо, а не только по имени. Иногда в огромном зале не хватало места, тогда обеденный стол накрывали на лужайке. Вокруг, под сенью деревьев, стояли греческие амфоры, наполненные льдом, и восточные золотые вазы с фруктами. Хозяин говорил, не останавливаясь, как арабский сказочник. Винные погреба замка казались бездонными. Обед незаметно переходил в ужин. С наступлением темноты в саду вспыхивали бенгальские огни, и дрожащие лучи фейерверка озаряли здание театра, где каждый день для гостей Дюма шли его пьесы. Дюма был великим жизнелюбцем. И поэтому жизнь была для него вечным праздником, неисчерпаемым источником чудес. Он поистине опьянялся ощущением счастья и успеха, который казался ему бесконечным. «Я живу, как птица на ветке, — говорил он. — Если нет ветра, я спокоен, если он есть, я раскрываю свои крылья и улетаю туда, куда он меня несет…» Он любил толпу, и толпа любила его. И недаром над аркой главного входа в замок «Монте-Кристо» красовалась надпись: «Я люблю тех, кто любит меня». Он знал годы истинного величия, когда слава была его спутником и тенью. Во время путешествий Дюма встречали, как особу королевского ранга. В Мадриде его приветствовал караул гвардейцев, выстроенных во фронт. В Тунисе в его честь был дан салют в двадцать один выстрел. На масленицу 1847 года традиционный откормленный бык, которого украшают лентами и водят по улицам Парижа, именовался «Монте-Кристо». Противники писателя говорили, что его произведения представляют собой продукцию «фабрики романов», созданы «Торговым домом Александр Дюма и компания», что сам Дюма только их подписывает, а пишут их его сотрудники, безыменные литераторы, «негры», как говорили тогда во Франции. Сам Дюма не отрицал этих легенд — напротив, он ими гордился. «У меня столько помощников, — говорил он, — сколько было маршалов у Наполеона!» Он зарабатывал по двести тысяч франков в год, но тратил вдвое больше. Заключив договора с несколькими газетами одновременно, Дюма платил огромную неустойку одной, куда он не успел сдать в срок новый роман; судился с другой, которая обвиняла писателя в том, что представленная им рукопись написана не им, а сотрудниками. И тем не менее он успевал выпускать в свет по нескольку томов в месяц. Их читали в лачугах, трущобах и в императорских дворцах Парижа. Газеты не успевали закончить печатание очередного романа, как он уже переступал французскую границу, чтобы, победоносно пройдя равнины и долы старой Европы, переплыть океаны и моря, пересечь тропики и завоевать страны гипербореев и экваториальных народов, неся во все концы огромного мира славу Дюма, осененную трехцветным знаменем Франции. В 1845 году публицист Эжень де Мерикур в памфлете, озаглавленном «Фабрика романов, торговый дом Александр Дюма и K°», насчитал у него не меньше десяти сотрудников; другие увеличивали это число вдвое. И все же слава, его верная спутница, следовала за ним по пятам. И весь читающий мир восхищался его романами, даже если к этому восхищению примешивалась изрядная доля иронии. Он постоянно судился со своими издателями и кредиторами и утверждал, что ненавидит судейское сословие. Однажды к нему пришли просить на похороны умершего в нужде судебного исполнителя. — Нужно тридцать франков, мсье Дюма. — Всего лишь тридцать франков на одного судебного исполнителя? Вот вам шестьдесят — похороните двоих! Этот анекдот, как, впрочем, и многие другие, он сочинил про себя сам. На самом же деле он был очень добр и всегда готов поделиться с нуждающимся и последним франком или миллионом, если он у него в этот момент был; Дюма никогда не считал денег, он утверждал, что его карман наполняется золотом сам собой, как в сказке, что он неисчерпаем, как и его слава. Он умел великолепно вскипать гневом, но почти тотчас же отходил и охотно прощал любого — действительного или мнимого — врага. Он готов был, так же как и деньгами, поделиться с любым своей славой или талантом. Больше всего на свете он любил помогать молодым начинающим писателям и, как ребенок, радовался их успехам, пожалуй, даже больше, чем своей славе. У Дюма в жизни бывали трудные минуты, но он всегда утверждал, что чувствует себя великолепно, — это был своеобразный самогипноз, который заражал окружающих. Оптимизм Дюма был так велик, что он нисколько не сердился на людей, которым не нравились его произведения: он их только жалел за то, что они лишены хорошего вкуса. Дюма интересовался всем на свете и поэтому хотел, чтобы весь свет интересовался им самим. Ему нравилось, когда его имя было на устах у всего Парижа. Поэтому, когда не хватало фактов, писатель сам придумывал про себя анекдоты. Он любил делать вид, что его произведения ничего ему не стоят, что они рождаются сами собой. — Спросите у сливового дерева, как оно делает сливы, — говорил он. — Академики! — возмущался он. — Подумаешь! Пусть они дадут обещание выпускать восемьдесят томов в год — и все равно обанкротятся. А я один дам вам сто! — Отец, — спросил однажды его сын, — где ты успел изучить жизнь? — Ба! — ответил Дюма величественно. — Я весьма остерегался ее изучать, иначе где бы я взял время для того, чтобы писать!.. Но, конечно, это была только шутка. В действительности Александр Дюма был хорошо образованным человеком, глубоко знающим жизнь, большим писателем и великим тружеником.2
Все, что рассказано выше, — лишь великолепная декорация, изображающая парадный фасад чудесного, фантастического здания. Но за этим раскрашенным холстом находились полутемные кулисы, где кипела незаметная, но тяжелая работа людей, готовящих пышное и блестящее представление. Его рабочий кабинет в фантастическом павильоне был обставлен со спартанской простотой: большой белый деревянный стол, около стола — два стула, на камине — книги, рядом — железная кровать. Это скорее походило на мастерскую ремесленника, чем на кабинет модного писателя. В одном жилете, без галстука, он работал с наслаждением, со страстью по двенадцати — пятнадцати, часов в день. Перо его скользило без усилий. Писал он на бумаге большого формата, которую ему присылал один лилльский фабрикант, его поклонник. Он покрывал широкие листы своим крупным, быстрым, легким почерком, с огромным количеством прописных букв, появляющихся в неожиданных местах. Рукописиего были почти без знаков препинания, — этим занимались секретари: расставляли знаки, снижали буквы и уничтожали повторение слов. Он любил гостей и шум толпы. Но, когда он уединялся в своем рабочем кабинете, никто не должен был ему мешать. И если, даже с его разрешения, к нему заходил посетитель, то Дюма протягивал ему левую руку, не переставая писать даже во время разговора. Точно в назначенное время ему приносили завтрак на круглом столике. Не вставая со стула, он поворачивался, быстро ел, запивая острые блюда, которые так любил, сельтерской водой. Несмотря на гомерические излишества своих героев, Дюма был очень воздержанным человеком: не курил, не пил ни вина, ни даже кофе. Дюма был одним из самых талантливых каллиграфов Франции, чьим почерком восхищались знатоки. Романы он писал на голубой бумаге (все того же лилльского фабриканта), пьесы и статьи — на розовой, стихи — на желтой; драмы писал специальным почерком рондо, причем сочинял их не за своим рабочим столом, а лежа, опираясь локтем о подушку. Он работал без устали — как машина, как огромное литературное сообщество. Его останавливали лишь припадки страшной лихорадки. Но и тогда он был не побежден, не поддавался. Стуча зубами, он ложился на свою железную кровать, ощупью брал стакан с лимонадом, поворачивался лицом к стене и, по его собственным словам, «входил в свою лихорадку». Признавая наличие у себя помощников и сотрудников, Александр Дюма в глубине души все же считал себя — и не без оснований — единственным автором своих произведений. «Как вы могли поверить этой популярной басне, — писал он в интимном письме Беранже, — покоящейся всего лишь на авторитете нескольких неудачников, постоянно старающихся кусать пятки тех, у кого имеются крылья? Итак, вы могли поверить, что я завел фабрику романов, что я, как вы выражаетесь, имею рудокопов для обработки моей руды! Дорогой отец, единственная моя руда — это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по двенадцати часов в сутки. Мой рудокоп — это воля к выполнению того, чего до меня ни один человек не предпринимал. Мой рудокоп — это гордость или тщеславие (как хотите), чтобы одному сделать столько, сколько делают все мои собратья-романисты, вместе взятые, — и притом сделать лучше… Я совершенно один! Я не диктую Я все пишу самолично». Постоянные толки о сотрудниках Дюма были действительно очень часто местью его врагов, завистников и недоброжелателей. Первым из них был Мерикур, широко пустивший по свету легенду о том, что почти все романы Дюма написаны чужими руками. И эта легенда так живуча, что и сейчас, спустя столетие, приходится так многословно ее опровергать. Любопытно, однако, что именно главный обвинитель должен был бы сам сидеть на скамье подсудимых. В 1847 году Пьер Мазерель, сотрудник де Мерикура, выпустил книгу «Исповедь одного биографа. Предприятие Эжень де Мерикур и K°». В нем он рассказал, что памфлет, направленный против Дюма, был написан вместе с сотрудниками «Торгового дома Мерикур». Профессор Огюст Маке, неоднократно судившийся с Дюма по вопросу об авторстве и которому молва приписывала авторство и «Мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», писал своему мэтру: «Пока жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудником и другом самого блестящего из французских романистов». Роман «Прекрасная Габриель», написанный Маке после окончательной ссоры с Дюма и переведенный на русский язык, может служить лучшим оправдательным документом в пользу Дюма, ни одно из произведений, написанных его сотрудниками самостоятельно, никогда не достигало — и далеко! — уровня романов, выпущенных «фирмой Александр Дюма»! Обычно Дюма приглашал своих сотрудников в отдельный кабинет первоклассного модного ресторана и угощал фантасмагорическим ужином. Когда столы были убраны, за кофе (которого писатель не пил) и сигарами Дюма, воодушевляясь, рассказывал своим друзьям какую-нибудь романтическую повесть, которую, распределив ее главы между собой, они должны были потом изложить на бумаге. Этот устный черновик писателя имел для него огромное значение — недаром Дюма обладал чудовищной памятью и помнил свои произведения (по крайней мере написанные в этом году) почти наизусть Все словечки, рождающиеся при устном рассказе, все жесты, весь динамический стиль повествования, все мелодраматические эффекты, появляющиеся иногда лишь на мгновение, — все вновь возникало перед автором, когда он, после того как все было написано и отдельные части сведены вместе, брал огромный карандаш и редакторской рукой проходился по рукописи. Он вычеркивал отдельные сцены, писал черновики новых, правил слишком причесанный стиль своих сотрудников и там, где нужно, вписывал маленькие сценки, которые, как бенгальским огнем, освещали все произведение. Так рождались романы, в которых в каждой строчке была видна неповторимая индивидуальность Дюма — кто бы ни помогал ему над ними работать. И верным было мнение современников писателя: «Маке был только каменщиком, Дюма же — архитектором…» Но лучшие произведения Дюма — такие, как «Мушкетеры» и «Монте-Кристо», — написаны с начала до конца его собственной рукой. Признать Дюма подлинным автором почти всех подписанных его именем романов мы должны даже в тех случаях, когда он использовал (частью по-своему) готовые образы и широко черпал материал из чужих произведений. Ведь бродячие сюжеты всегда считались ничьей собственностью, пока они не попадали в руки гениев или даже просто талантливых людей! А то, что Дюма был талантлив, не отрицали даже его враги.3
Его любили Карл Маркс, Менделеев и Диккенс. «Вы сверхчеловек! — писал ему Ламартин. — Мое мнение о вас — это восклицательный знак!» Гейне так увлекался произведениями Дюма, что утверждал, будто Дюма первый открыл французам Шекспира, что в своих блестящих пьесах он создал новую школу французского театра. Парализованный, полуслепой, на пороге смерти — он мог передвигаться, лишь держась за веревку, висевшую над его постелью, — Гейне черпал оптимизм в романах Дюма и писал: «Дюма — самый замечательный рассказчик из всех, кого я знаю Какая легкость! Какая непринужденность! И какой он добрый малый!» Бальзак читал не отрываясь «Трех мушкетеров». Без сомнения, ему было неприятно так растрачивать время — ведь Дюма, по его мнению, так плохо осведомлен в истории! — «но следует признать, что он очаровательный рассказчик!» Проспер Мериме предпочитал Дюма Вальтеру Скотту. Романы Дюма — «лучшее лекарство от физической и моральной усталости, — писала Жорж Санд. — Ошибки же его — ошибки гения, слишком часто опьяненного своей мощью…» «Я поражен вашим неукротимым талантом, — писал знаменитый французский историк Мишле, — применяющимся к стольким абсурдным требованиям. Я поражен вашей героической твердостью… Я вас люблю, я вас обожаю потому, что вы явление природы!» И даже Гюго, ссорившийся с Дюма всю жизнь, писал в старости, что любит его с каждым днем все больше и больше и не только потому, что «вы тот, кто ослепляет своим блеском мой век, но и потому, что вы — одно из его утешений». Однако Дюма писал не для этих корифеев, которые, даже восхищаясь, все же ставили его ниже себя. Он писал для народа — для тех, кто, лишь недавно научившись читать, впервые приобщался к литературе. Это была миллионная аудитория, создавшая славу Дюма. Во время репетиции одной из его пьес писатель вдруг заметил, что из зала исчез пожарный, с любопытством наблюдавший за представлением. Тогда Дюма немедленно отправился в кабинет директора театра, взял рукопись той картины, что репетировалась, и бросил ее в камин. — Что вы делаете? — спросил изумленный директор. — Эта сцена не понравилась пожарному — он ушел. Поэтому я ее уничтожаю. Теперь я хорошо вижу, чего в ней не хватает. И он тут же, за столом директора, написал всю картину заново. Этот анекдот как нельзя лучше характеризует чуткое внимание Дюма к мнению массы — зрителей и читателей, — того самого Дюма, который, по утверждению многих исследователей, так нетерпимо относился ко всякой критике. Он все время стремился говорить со своими читателями через головы редакторов, издателей и критиков. Для этого он основал свои собственные журналы: сначала — «Монте-Кристо», потом — «Мушкетеры». Но они захирели еще во младенчестве: у великолепного «Александра Великого» было слишком много договоров и обязательств, слишком много кредиторов и долгов, и у него не хватало времени заполнять эти журналы только своими собственными произведениями, как он мечтал. Таким непосредственным разговором с читателями были и его бесчисленные «Путешествия», «Записки», «Дневники» и «Воспоминания». Все это — самые личные, самые задушевные мысли писателя, хотя часто и облеченные в фантастические одежды арабской сказки. Но достаточно отодвинуть в сторону этот пышный занавес в стиле «Тысячи и одной ночи», и мы услышим простой, чистый и ясный голос писателя. При всем своем благородном простодушии — а может быть, именно благодаря ему — Дюма очень любил интриговать своих читателей, изображать себя совсем иным, чем он был в действительности. Он даже выдумал шуточную басню, где изобразил свой труд таким, каким представляли его недоброжелатели. «Одна ферма обрабатывается тремя друзьями, — писал он. — Один жнет, другой возит снопы, третий молотит и веет. Я молочу и провеиваю. То, что остается на току, я отдаю курам. Вот почему все куры прибегают на мой голос, когда я зову: „Сюда, крошки, сюда!“ Курочки эти даже не знают голосов моих товарищей, занимающих на ферме более высокое положение, чем я…» В этой сказочке есть правда и неправда. Правда заключается в том, что он действительно пользовался чужим трудом, не только своих сотрудников, помощников, но и своих предшественников и современников; он и сам не скрывал этого, только называл это не заимствованием, а «завоеванием». Неверно то, что читатели не знали его великих современников, — они знали и Стендаля, и Гюго, и Бальзака, но предпочитали им Дюма, быть может, менее талантливого и глубокого, но более действенного, более понятного. Толпе, только что получившей в руки дешевую книгу (в 1827 году был построен первый механический печатный станок), нужна была массовая книга. И новые читатели нашли то, что искали, в романах Дюма, словно написанных ударами шпаги. Дюма обращался со своими читателями, как ветер обращается с древесным листком, — вел его туда, куда хотел. И увлеченные читатели полюбили нарисованные им картины, полные света и движения, озаренные фантастическими огнями фейерверка и блеском розовых молний, одушевленные жизнерадостными и смелыми героями — героями шляпы с перьями, плаща и шпаги. Дюма щедро наделял своих героев своим собственным красноречием, своей веселостью, своей любовью к приключениям. Поэтому народ полюбил не только персонажей его романов, но и их главного героя — их автора, Александра Дюма.4
Знаменитый писатель Александр Дюма родился 24 июля 1802 года (точнее — 5 термидора X года, так как тогда еще действовал революционный календарь) в местечке Вилле-Коттре, расположенном в самой середине Франции. Само местечко Вилле-Коттре ничем не было примечательно, кроме рынка и станции почтовых карет. Но в шести лье лежал старинный город Суассон — в средние века столица одного из франкских государств. А с другой стороны местечка на много лье простирался густой лес, с охотничьим замком Франциска I — королевский заповедник, где когда-то охотились Генрих II вместе с Дианой де Пуатье, Франциск I и Мария Стюарт, Генрих IV и прекрасная Габриэль. В двух лье от местечка родился великий поэт Расин, в семи лье — баснописец Лафонтен. На расстоянии одного лье лежала деревня, где начал жизнь знаменитый песенник французской революции Анж Питу. Вся эта долина представляла собой нечто вроде литературного сердца Франции или заповедника французской истории. Однако происхождение Дюма совсем не типично французское. Он унаследовал в своем характере не только задатки жителей различных французских провинций, но и разных классов и даже разных рас. Его дед, нормандский аристократ маркиз Дави де ля Пайетери, генеральный комиссар артиллерии королевской Франции, по-видимому разочаровавшись в пустой светской жизни, в возрасте пятидесяти лет покинул родину, чтобы поселиться на своих тропических плантациях в Вест-Индии, на острове Сан-Доминго, бывшем в те годы одной из колоний Франции. Там он надеялся обрести покой. Мы не знаем, исполнилось ли его желание, но через два года у него от «черной невольницы», как тогда говорили, Мари Сезетт Дюма родился сын — Тома Александр Дюма. Этому мулату суждено было стать отцом прославленного во всем мире романиста Александра Дюма. Враги никогда не забывали, что в жилах знаменитого писателя течет негритянская кровь. При случае они всегда старались напомнить ему о его происхождении. — Если не ошибаюсь, — спросил один недоброжелатель на светском балу, — в ваших жилах течет цветная кровь? — Вы не ошибаетесь, монсиньор, — ответил Дюма. — Мой отец был мулатом, бабушка негритянкой, а мои отдаленные предки — обезьянами. Как видите, мой род начинается тем, чем кончается ваш! Однако первому из трех Александров Дюма (третьим был Александр Дюма-сын, тоже известный французский писатель) была суждена иная судьба, чем участь раба на плантациях Сан-Доминго или прихлебателя при дворе знатного маркиза. По-видимому, отец хорошо к нему относился, так как, возвращаясь на родину, взял молодого Дюма с собой. Это были бурные годы Великой французской революции, провозгласившей лозунг: свобода, равенство, братство! Юноша с порабощенного острова любил свободу; рожденный от невольницы, он жаждал равенства; братство с французским народом, к которому он принадлежал лишь наполовину, было его мечтой. Он был смел, горяч, честолюбив. И Тома Александр Дюма, которому только что исполнилось двадцать лет, вступил в республиканскую армию. Его военная карьера была похожа на огненный полет метеора. Солдат, капрал, лейтенант, подполковник, бригадный генерал, генерал армии — на прохождение этой лестницы, по которой он шагал иногда через несколько ступенек, понадобилось всего лишь двадцать месяцев, а интервал между первым и последним генеральскими званиями составил только пять дней! Генерал Дюма был верным солдатом революции! И он остался ей верен до самой смерти. Сохранился портрет генерала Дюма работы художника Летвера. На нем изображен смуглый суровый человек огромного роста с огненным взглядом черных глаз. Правой рукой он удерживает за повод горячего коня; слева к нему ласкается охотничья собака; вдали, за его спиной, — поле битвы. Это тот мир, в котором он прожил свою короткую блестящую жизнь. Ему пришлось служить вместе с генералом Наполеоном Бонапартом и сопровождать его в египетском походе. Но позже их пути разошлись: любовь к республике была у Дюма в сердце, Бонапарт был республиканцем из политических соображений. Генерал Дюма умер сорока четырех лет, в 1806 году, — через два года после того, как Наполеон провозгласил себя императором. После него осталась вдова Мари-Луиза, урожденная Лабуре, дочь командира национальной гвардии местечка Вилле-Коттре, и четырехлетний сын. Мальчик очень любил отца. Когда генерал лежал на смертном одре, ребенок, сверкая глазами, с пистолетом в руке, выбежал из дома. — Куда ты бежишь? — остановила его заплаканная мать. — Я отправлюсь на небеса! — Зачем? — Чтобы убить доброго бога, который убил моего папу… Позже, когда Александр стал уже взрослым, мать уговаривала его принять фамилию Дави де ля Пайетери, своего деда, — это было в обычаях того времени, когда свирепствовала реакция, стремящаяся стереть даже память о революции. Но юноша ответил: — Нет, я сын генерала Дюма! Я знаю моего отца. Я не знаю своего деда… Писатель унаследовал много черт характера от своего отца и щедро наделял ими своих героев. Их жизненная сила, колоссальная энергия, воля к действию, непоколебимость, любовь к приключениям — наследство генерала. Это братство меча и мушкета на поле вечной жизненной битвы. Мальчик из провинциального Вилле-Коттре рос, не получая никакого образования. Аббат Грегуар, местный священник, научил его читать и писать. Каллиграфия стала для юного Александра поэзией и страстью — он писал поразительно красиво: ровно, как по линейке, выводя волосные штрихи и округлые нажимы. Книги открыли ему иной мир, не похожий на окружающую сонную французскую провинцию. Подбор его любимых книг несколько странен: библия, «Иллюстрированная мифология», «Естественная история» Бюффона, «Робинзон Крузо» и «Тысяча и одна ночь» в вольном переводе Галлана. Но в этом подборе — весь Дюма. Тринадцати лет он поступил писцом к местному нотариусу. К этому времени Дюма уже писал стихи и мечтал о славе писателя. Он утешал себя тем, что великий французский поэт Корнель тоже начинал свою карьеру писцом у нотариуса. К этому времени он уже открыл Вальтера Скотта и Шиллера. Юноша коротал свои досуги в тени королевского леса. И иногда ему казалось, что рядом оживают тени, будившие некогда звуком охотничьего рога тишину дубрав, что он чудом перенесен в другой век… В 1815 году мальчику пришлось дважды увидеть Наполеона. Сначала император во главе всей армии проследовал через Вилле-Коттре, следуя на поле Ватерлоо. Через несколько дней он один промчался по главной улице местечка после величайшего в своей жизни поражения. Это была живая история, которая, как видение, навсегда осталась жить в памяти будущего писателя. Восемнадцати лет Дюма довелось совершенно случайно увидеть в Суассоне, в исполнении учеников консерватории, «Гамлета». Так он одновременно открыл Шекспира и театр. Перед ним словно распахнулось окно в иной, сверкающий мир, где бушевали неистовые страсти, свирепствовали неимоверные бури и исполинские характеры героев раскрывались в яростных столкновениях… «Я был слеп, и я прозрел», — записал будущий писатель в своем дневнике. Теперь юноша не мог думать ни о чем другом, кроме театра. Но театры были только в Париже. Париж! В одном этом слове для Дюма был сконцентрирован весь огонь и блеск литературы того времени. Но у него не было никаких средств и даже не было денег на проезд до столицы. И, однако, он решился. Двадцати лет он покинул родной город: сел в омнибус, останавливающийся прямо против дверей его дома. В кармане юноши было пятьдесят три франка и рекомендательные письма матери к бывшим друзьям его отца, которые сами были в опале, как бывшие республиканцы и бонапартисты, и влачили жалкое существование. Проезд до Парижа ничего ему не стоил: он выиграл его на бильярде у содержателя омнибусов.5
Юноша, приехавший «завоевать Париж», как тогда говорили, был счастливчиком. Он мало знал, не имел профессии и не умел ничего делать. Но по рекомендации генерала Фуа, старого друга его отца, ему все же удалось получить место писца в канцелярии герцога Орлеанского с окладом в сто франков в месяц. Ему помогли две вещи: великолепный почерк и то, что сам герцог находился в оппозиции к королевскому правительству и даже некогда участвовал в знаменитой битве при Вальми, сражаясь на стороне республики. Судьба такого типичного «молодого человека девятнадцатого столетия» была не раз описана французскими писателями прошлого века: малообитаемый чердак, который в романах обычно именуется благородным французским словом «мансарда», случайный заработок, попытки напечатать или поставить на сцене свои произведения, жизнь впроголодь. Один из сотрудников канцелярии, заметив невежество молодого Дюма, шутя перечислил ему книги, которые, по его мнению, должен знать каждый образованный человек. Список был составлен не без иронии, со многими излишествами (он сохранился в «Воспоминаниях» Дюма), но молодой человек воспринял его всерьез. С этих пор он почти разучился спать. На сон он выделил лишь четыре часа в сутки. Остальное время, свободное от работы, он посвящал чтению. При его феноменальной памяти это был целый университет. Так он получил образование — быть может, одностороннее, изобилующее пробелами, но незаурядное по тем временам. В 1825 году в театре «Амбигю» была поставлена пьеса «Охота и любовь», написанная Дюма совместно с Левеном и Руссо. Как мы видим, Дюма начал свою карьеру с литературного сотрудничества, только на этот раз он был младшим компаньоном. Пьеса принесла авторам сборы по четыре франка за спектакль и скоро сошла с репертуара. Но герцог, которому нравилось иметь своим писцом драматурга, увеличил его оклад на двадцать пять франков в месяц. Вскоре в театре Порт Сен-Мартен была поставлена новая пьеса — «Свадьба и похороны». Авторами ее были Дюма, Юстав и Лассань. Она принесла драматургам уже по шести франков за спектакль. А оклад Дюма увеличили еще на двадцать пять франков. Это дало возможность Александру Дюма за свой счет издать в том же году небольшой томик новелл. Однако из всего тиража было продано всего лишь четыре экземпляра. Ему было двадцать три года. По современным понятиям, он уже был драматургом и прозаиком. В королевском Париже начала прошлого века он был никем, так как у него не было ничего, кроме долгов и фамилии республиканского генерала. То были годы бурного расцвета молодой французской литературы. Небольшая кучка молодых писателей во главе с Виктором Гюго, объединившись вместе, подняла знамя романтизма. Здесь было все, что волновало в те годы молодежь Франции: протест против жестких норм литературного классицизма, где героями могли быть только боги и короли, место действия ограничивалось одним домом, а время действия — сроком от рассвета до полночи. Здесь был культ революционной героики, отнесенной авторами к иным временам и далеким странам — для успокоения цензуры, — но понятный зрителям, заполнявшим зал. Здесь был протест против пережитков феодализма, здесь был народ — творец истории и создатель материальных и духовных ценностей. И романтики не остались одинокими, — за ними пошла вся молодая Франция. Молодой Дюма примкнул к кружку романтиков со всем пылом юности. Но молодому писателю, который позже любил изображать свою карьеру как сплошной триумфальный путь, по которому его вела Фортуна — богиня счастья древних римлян, — понадобилось шесть лет упорного труда, чтобы овладеть тайнами литературного мастерства. Его драма «Христина Шведская» произвела сенсацию в кружке, но не была принята на сцену. И лишь в 1829 году ему удалось поставить на сцене театра «Одеон» пьесу «Генрих Третий и его двор». Спектакль имел колоссальный успех. Вместо условных героев классического французского театра, двигающихся по сцене лишь лицом к публике, не разговаривающих друг с другом, но напыщенно декламирующих стихи, — толпа увидела живую жизнь, услышала прозаическую речь, выраженную тем языком, на котором говорила она сама. Пьеса состояла из ряда картин, живописных и эффектных, хотя и плохо связанных друг с другом. Страсти героев были необыкновенны, характеры их очерчены резко, действие полно драматизма, диалог похож на удары скрещенных шпаг противников. Сцена была полна блеска и движения. И зрители не могли отвести от нее глаз. Это была первая великая победа молодого французского театра. Пьеса Виктора Гюго «Эрнани», вокруг которой разыгрались особенно жестокие литературные битвы, появилась на сцене лишь год спустя. Парижская толпа особенно шумно приветствовала молодого драматурга еще и потому, что драма Дюма имела широкое общественное звучание. В ней смело обличались кровавые преступления французского королевского двора. Она звучала антимонархически. Стоит напомнить, что близилась революция 1830 года. Герцог Орлеанский, присутствовавший на премьере и бывший в то время главой умеренной оппозиции, похвалил драматурга и назначил его своим библиотекарем. Это была синекура — должность без обязанностей, но приносящая Дюма доход в тысячу двести франков в месяц. Противники пытались запретить пьесу, но народ оказался сильнее кучки реакционеров. II даже король Карл X, тоже побывавший на представлении, вынужден был уступить общественному мнению. На настойчивые требования придворных вмешаться он ответил: — В театре я только зритель, как и все. Слава Александра Дюма переступила порог его дома, раскинула крылья и покрыла ими весь Париж. Имя Дюма отныне знал каждый парижанин. Из мелкого служащего он в одну ночь превратился в профессионального драматурга и с тех пор ставил в парижских театрах по пяти—шести пьес в сезон. В 1830 году Дюма собрался путешествовать. Он решил начать с Алжира. Но двадцать шестого июля, в день отъезда, развернув правительственную газету «Монитер», он прочел шесть чрезвычайных указов короля Карла X, представлявших открытое нарушение конституции. В них объявлялась распущенной только что избранная палата депутатов, лишались права голоса промышленники и торговцы и ограничивалась свобода печати. — Я предпочел бы скорее колоть дрова, чем царствовать на таких условиях, как английский король!.. — сказал Карл, подписывая указы. — Черт возьми, я остаюсь! — заявил Дюма, прочтя газету. — Жозеф, подайте мою кольчугу, двуствольный мушкет и двести патронов двадцатого калибра! Улицы были заполнены шумящей толпой: рабочие, ремесленники, мелкие служащие, мелкие торговцы, студенты, отставные офицеры и солдаты наполеоновской армии взялись за оружие и воздвигали баррикады. Вечером раздался первый выстрел, и народ вступил в бой с королевскими войсками. Дюма — в кольчуге и каске, со шпагой на боку, мушкетом на плече и с карманами, оттопыренными от патронов, — участвовал в маршах и контрмаршах национальной гвардии, помогал строить баррикады и вместе с толпой пел «Марсельезу». Он был весь огонь: ему казалось, что и он творит историю Франции. Толпа была пестрой. — Да здравствует республика! — кричали одни. — Да здравствует конституция! — вторили другие. — Да здравствует император Наполеон Второй! — раздался одинокий голос. Но один лозунг объединял всех: — Долой Бурбонов! В восстании участвовало восемьдесят тысяч парижан. Двадцать девятого июля восставшие с боем овладели королевским Тюильрийским дворцом, над которым при криках «Да здравствует свобода!» взвился трехцветный флаг первой революции. Однако, несмотря на победу народа, власть была захвачена крупной буржуазией. Умеренный либерал герцог Орлеанский, покровитель Дюма, стал королем Луи-Филиппом. И все же новое правительство вынуждено было сохранить трехцветный флаг республики. — Ну что же, — сказал Дюма, — вместо одного короля мы получили другого. Только и всего! Однако положение Дюма упрочилось. Он был славен, он был велик, он был богат. Но он был лишь на полпути к вершине своей славы.6
Июльская монархия, как историки называют эпоху между двумя революциями — 1830–1848 годы, — была золотым веком крупной буржуазии: промышленников и финансистов. После июльских дней буржуазия стала считать революцию законченной и сделалась ярой сторонницей существующих порядков. Несмотря на введение избирательного права, голосовать имели право лишь очень богатые люди. На требование расширить избирательные права премьер-министр Гизо ответил: «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями». Слова: «Обогащайтесь, господа!» — стали лозунгом тех, кто пришел к власти и хотел прибрать к рукам все богатства страны, созданные народом Франции. Старая аристократия меча и шпаги смешалась с новой аристократией тугого кошелька. Возникали новые фабрики, строились железные дороги, ширилась заморская торговля. В 1830 году началось завоевание Алжира: готовился захват обширных и богатых африканских колоний. Буржуазная Франция выходила на мировую арену. Новые богачи, сколотившие миллионные состояния, стремились к внешней пышности. Великолепные дворцы воздвигались в пригородах Парижа. Глаза полуголодных парижан ослеплял блеск великолепных карет, сверкание золотого шитья и драгоценных камней, яркие цвета костюмов из шелка, бархата и бесценной парчи. И Александр Дюма не мог не поддаться соблазну этого внешнего величия: слишком глубок был контраст между нищетой его детства и нынешним богатством. Писатели, раньше жившие милостью королей и высшего дворянства, ныне составляли себе состояния, работая для многих тысяч читателей. Роман-фельетон, печатающийся с продолжениями, завоевал все газеты, так как именно он обеспечивал им тираж. За один только роман «Парижские тайны» Эжен Сю получил сто тысяч франков. Его «Парижские тайны», «Мартин Найденыш», «Тайны народа» читал весь Париж, вся Франция. За ним следовали «Два трупа», «Записки дьявола», «Влюбленный лев», «Призрак любви», «Герцог де Гиз» Фредерика Сулье, которые расходились в громадном количестве экземпляров. От них не отставал Поль Феваль с его романами «Белый волк», «Лондонские тайны», «Сын дьявола», «Горбун». Он уже не успевал выполнять заказы газет и стал прибегать к помощи сотрудников, которые, в свою очередь, нанимали себе помощников. Но признанным создателем этого нового направления приключенческой литературы, ее королем был Александр Дюма. В те годы весь мир зачитывался книгами Вальтера Скотта, создателя исторического романа, оказавшего сильнейшее влияние на современную ему литературу и особенно на весь круг французских романтиков. Если до него писатели брались за исторические сюжеты, то изображали их вне времени и пространства — герои лишь носили исторические имена, а обстановка, мысли и поступки людей были современными. Вальтер Скотт впервые открыл значение местных особенностей: страны, климата, национальности. Он открыл читателям народную поэзию и впервые показал, что не отдельные великие люди, а сам народ является творцом истории, и рассказал о великих народных движениях. Он искал в истории необыкновенного и чудесного, но вовсе не презирал обыденной действительности — наоборот, он и ее умел увидеть чудесной и поэтической. Там, где классики даже пламя страсти изображали как бы замороженным и превратившимся в разноцветные кристаллы, Вальтер Скотт своим горячим сердцем растоплял эти кристаллы и возвращал им жизнь и движение. Он умел заглядывать в душу человека другой эпохи. «Он не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румянами… Он сочетал щепетильную точность подлинных записей с величием исторической мысли», — сказал о нем Виктор Гюго. В кругу романтиков был создан подлинный культ Вальтера Скотта. Естественно, что Дюма, так любящий французскую историю, увлекся историческими романами шотландского писателя. А увлекаться он умел со страстью. И, так как он ничего не мог делать наполовину, он, образно выражаясь, должен был отбросить в сторону перо рондо и розовую бумагу, предназначенные для драм, и отдать предпочтение голубой. Наедине с самим собой и своими близкими друзьями Дюма был скромен и правдив. Несмотря на шумные похвалы поклонников, он не преувеличивал значения своих пьес. «Я не буду называть себя основателем нового драматического жанра, — писал он, — ибо на самом деле я ничего нового не создал. Виктор Гюго, Мериме… создали этот жанр раньше и лучше меня: они создали из меня то, чем я являюсь». Но для того, чтобы написать исторический роман, а тем более «драматизировать всю историю Франции», как пишут его восторженные поклонники, Дюма недостаточно знал историю, не был систематически образован. Нужен был помощник, нужен был материал, который Дюма мог бы одухотворить, оживить, так как это умел делать только он. Однажды к известному журналисту и издателю Жирардену явился молодой провинциальный профессор Огюст Маке с объемистой рукописью романа «Шевалье д’Арманталь». Роман был написан тяжелым слогом, но сюжет интересен, а материал собран с добросовестностью. Жирарден посоветовал обратиться к Дюма. Тот прошелся по рукописи своим огненным пером, и она стала неузнаваемой. — Роман, подписанный именем Дюма, стоит три франка за строчку, — сказал Жирарден. — Если же он подписан Дюма и Маке, строчка стоит тридцать су. Книжка вышла под именем одного лишь Дюма. Маке получил тысячу двести франков, Дюма — «все остальное», что выражалось в нескольких десятках тысяч. Но бывший профессор был доволен: и на него упала тень славы «Александра Великого». С этих пор началось длительное и плодотворное сотрудничество Дюма и Маке. Особенно много сделал Маке для «Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров» — этих лучших и наиболее типичных произведений Дюма. 1844 год, когда вышли в свет оба эти романа, был вершиной творчества и славы писателя. Тогда-то он начал возводить в Сен-Жермене свой фантастический замок, который обошелся ему почти в миллион франков. В Париже он строил свой собственный «Исторический театр», отделанный с небывалой роскошью, где должны были идти только его пьесы. Он писал одновременно несколько произведений и печатал их параллельно в разных газетах, не оставляя в то же время и драматургии. Свои романы, имеющие наибольший успех, он немедленно переделывал в пьесы. Работал Дюма без устали, как машина, и все же не успевал воплощать в жизнь свои необъятные замыслы. Щедрой рукой он разбрасывал деньги — ведь за каких-нибудь двадцать с лишним лет скудные франки, которые он копил на поездку в Париж, превратились в настоящий золотой дождь!7
Даже сверхчеловеческое, железное здоровье Дюма не могло долго выдержать такого темпа. Пришла усталость, а вместе с ней с новой силой возродилась детская мечта о путешествиях. Ему хотелось отдохнуть от бесконечной работы — он имел на это право — и набраться новых впечатлений. Вдобавок само путешествие могло превратиться в литературное произведение. Дюма останавливало только одно: щедрый, даже расточительный, он не хотел расходовать на это деньги. — Ведь это прямо постыдно, — жаловался он. — Мне, человеку такого положения, тратиться самому! Конечно, это было причудой. Но об этом заговорил весь Париж, а этого-то и было нужно Дюма. Мечта его исполнилась в 1846 году. Министр Сальванди предложил писателю совершить путешествие в Алжир и написать об этой колонии, в то время до конца не завоеванной (война там шла уже пятнадцатый год). Правительство рассчитывало, что книгу Дюма прочтет по крайней мере пять миллионов человек и что один из ста захочет стать поселенцем в этой богатой стране. Таким образом, за скромную сумму в десять тысяч франков, ассигнованных на поездку, правительство получит для Алжира по меньшей мере пятьдесят тысяч колонистов. Дюма согласился, но сразу стал вести себя почти как коронованная особа. Он потребовал для себя специальный корабль, и ему был предоставлен военный корвет «Белое». По дороге он «заехал» в Испанию и посетил Мадрид, а по прибытии на судно велел выстроить команду и прошел вдоль фронта, принимая приветствия. Когда корабль прибыл в Алжир, то оказалось, что маршал Бюжо, правивший в то время колонией, отсутствует. Тогда Дюма самовольно отдал приказание идти в Тунис. Капитан корабля, испуганный властным тоном, не терпящим возражения, исполнил этот приказ незамедлительно. При входе корабля на тунисский рейд береговые батареи дали двадцать один залп в честь «Александра Великого». На берегу он с царской снисходительностью отвечал на приветствия местных властей, в костюме тирольского охотника стрелял орлов в ущельях и с хлыстом в руках дрессировал пойманного грифа. — А, это вы, господин захватчик королевских судов? — приветствовал его Бюжо, когда наконец состоялась их встреча. — Господин маршал! — величественно заявил Дюма. — Я подсчитал вместе с капитаном, что стоил правительству одиннадцать тысяч франков. Путешествие Вальтера Скотта в Италию обошлось английскому адмиралтейству в сто тридцать тысяч франков. Следовательно, правительство должно мне еще сто девятнадцать тысяч!.. Слухи о самоуправстве Дюма дошли до Франции. И в палату поступил запрос, на который министр отказался отвечать. Узнав об этом, Дюма, возмущенный до глубины души, послал вызов на дуэль всем без исключения депутатам. Струсившие депутаты отказались драться, ссылаясь на свою депутатскую неприкосновенность, и общественное мнение, сначала осудившее любимца Франции, сразу повернулось в его сторону. Когда, закончив путешествие, писатель вернулся в Париж, ему устроили пышную встречу с фейерверком, который он так любил. За первым путешествием, которое вызвало к жизни книгу «По Средиземному морю и варварийским владениям», последовали другие, описанные в книгах «От Парижа до Кадикса», «На берегах Рейна», «По Швейцарии», «От Парижа до Астрахани», «Кавказ». В них в свойственной ему живой и остроумной манере, смешивая правду с вымыслом, он писал о жизни других стран, об их природе, делал экскурсы в историю, приводя местные сказки и легенды. Все это сопровождалось веселой болтовней, где Дюма подшучивал над своими знакомыми, заставляя их на страницах его книг участвовать в разного рода комических приключениях, иногда весьма сомнительного свойства, в то время как они на самом деле и не покидали Париж. Особенно доставалось скромному художнику Жадену, жившему безвыездно в своей мастерской на улице Де-Дам: он был непременным участником наиболее рискованных приключений, созданных фантазией Дюма. И все же, несмотря на обилие вымысла и преувеличения, «Путешествия» Дюма сыграли немалую роль в деле расширения кругозора французских читателей. Миллионы их, раскрывая очередную книгу «Путешествий», вступали в пестрый, разнообразный мир, полный блеска и движения, приобщались к широкому гуманизму и свободолюбию писателя. Они проникались верой в жизнь, в победу добра над злом, проникались живым и действенным оптимизмом.8
Романы Александра Дюма очень рано узнали и полюбили в России. В годы, когда началась его деятельность, нигде в мире так не ценили и не читали французскую литературу, как в нашей стране. Его первым переводчиком на русский язык был Виссарион Белинский и одним из первых читателей — Александр Герцен. Позже слава его померкла: революционные демократы немало упрекали писателя в безыдейности и «ложной занимательности». Зато позднее, уже в XX столетии, в нашей стране наступила новая эра славы Дюма. Сам Дюма тоже очень интересовался Россией. В те времена Россия казалась ему «страной гипербореев», огромной бескрайной равниной с редкими городами и бедными деревнями. В этих деревнях, по представлению Дюма, жили бородатые мужики, влачащие ярмо рабства; для него это был край, где плохие дороги тянутся без конца по степям и темным сосновым лесам и одинокие путники подвергаются нападению волков… Интерес Дюма был не только теоретическим. В свое время он написал роман «Записки учителя фехтования», посвященный декабристам, где немало стрел было направлено против русского самодержавия. Книгу эту с недовольством встретили в Зимнем дворце, и об этом хорошо знал сам писатель. «Княгиня Трубецкая, — писал он в своих дневниках, — друг императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне, что однажды вечером царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения растворилась дверь и вошел сам император. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил: — Вы читали? — Да, государь. — Что вы читали? Императрица молчала. — Вы читали роман Дюма „Записки учителя фехтования“. — Каким образом вы знаете это, государь? — Ну вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил!» Любопытно добавить к этому рассказу Дюма, что книга «Записки учителя фехтования» не могла появиться в свет на русском языке до самой революции. Впервые она была опубликована в нашей стране в 1925 году! Как видим, Дюма знал, что не может ждать благосклонного приема при санкт-петербургском дворе. Однако в 1858 году он все же решился: ведь для него это было не только путешествием, но и романом приключений. Это были годы широкого общественного движения в России за освобождение крестьян, годы крестьянских волнений. Дюма ехал не в гости к царствующей династии, но, по его собственным словам, «присутствовать при великом деле освобождения сорока пяти миллионов рабов». — Я не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вид, — сказал он, глядя на Неву с гранитной набережной, — который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой… Его поражали пространства, о которых он знал заранее, но не мог их себе реально представить. Его восхищали радушие и гостеприимство русских людей. Впечатления от России, изложенные в книге «От Парижа до Астрахани», принято упрекать за фантастичность, за ошибки в описании русской жизни французским писателем. Но сейчас, когда опубликованы документы секретных архивов, мы знаем, как внимательно следили работники Третьего отделения за путешествием Дюма, как старались создать искусственную стену между ним и русским народом. А путешествие это было совсем не простым. Дюма путешествовал не только по ухабистым трактам и проселкам, рекам, степям и горам. Книга была также путешествием по русской истории, литературе, русской политической действительности, с многочисленными экскурсами в область археологии, истории религии, стратегии и даже национальной кулинарии. Время от времени писатель позволял себе вторгаться в «запретную зону русской истории»: рассказывал об убийстве Павла I, о дворцовых переворотах XVIII века, об интимной жизни Петра I и Екатерины, о неприглядной политической действительности России… Однако рядом с этим в книгу попали и баядерки, и огнепоклонники, и калмыцкие наездники, и медвежья охота, и даже стычка с горцами, мюридами «священной армии» Шамиля — все это было организовано русской полицией, все, включая столкновение со сторонниками Шамиля: казаки, переодетые в национальные костюмы горцев, затеяли перестрелку, а потом французскому писателю показывали лохмотья, вымоченные в крови барана, заколотого к обеду. Да, он написал, чтоПушкин родился в Пскове и умер сорока восьми лет, а Лермонтов — сорока четырех. Он перепутал немало дат. Но он впервые рассказал миллионам французов о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, художнике Александре Иванове, Глинке, Марлинском и о русских писателях-современниках. Он впервые перевел на французский язык, быть может и неточно, стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Некрасова. Он рассказал Европе о поэте-декабристе Рылееве и его запрещенной поэме «Войнаровский». В журнале «Мушкетеры», где публиковались его записки о России, он напечатал «Ледяной дом» Лажечникова и «Фрегат „Надежда“» Марлин-ского… Мы должны оценивать писателя не по его случайным ошибкам, но по тому лучшему, что было им сделано. Александр Дюма любил Францию и писал для своего народа. Но мы справедливо считаем себя наследниками всего лучшего, что создано народами всего мира, и с гордостью можем сказать, что Александр Дюма — один из любимых писателей нашей молодежи и останется таким на долгие годы.9
Когда Дюма однажды упрекнули в том, что он искажает историю, он ответил: — Возможно, но история для меня — только гвоздь, на который я вешаю свою картину. И это было правдой: писатель совсем не был историческим романистом. Он был создателем и блестящим представителем приключенческого романа на историческом материале, но он не смог стать французским Вальтером Скоттом — для этого ему не хватало щепетильной точности в изложении фактов и величия исторической мысли. Вальтер Скотт не следовал позади колесницы Истории, подбирая упавшие крохи. Он воскрешал историю, выводя ее из тьмы забвения, и заставлял жить в сердцах. Он был прав даже тогда, когда не был щепетильно точен: психологическую правду он иногда предпочитал правде исторической. Дюма же любил эти крохи истории, как любил брызги фонтанов и огни фейерверка. Для него блеск брильянтов Анны Австрийской был ярче мрачных огней Варфоломеевской ночи и острие шпаги д’Артаньяна, направленной в грудь Мазарини, гораздо более грозным, чем все движение Фронды. И, когда после появления «Графа Монте-Кристо» гиды стали показывать в Марселе любопытным туристам дом Морелля, дом Мерседес, а в крепости Иф — камеры Эдмона Дантеса и аббата Фариа, Дюма гордился этим не потому, что он «сам творец истории», как сказал о нем один восторженный поклонник, но потому, что он создал образы героев такой запоминающейся силы. Несмотря на внешнюю поверхностность романов Дюма, в их основе всегда лежат реальные факты. Писатель хорошо знал закулисную историю Франции XVI–XVII веков и всегда опирался на большой, собранный им материал. Иногда он ошибался, но чаще он переиначивал историю в соответствии со своим замыслом. Он широко пользовался всякого рода дневниками, воспоминаниями и личными письмами — ведь его интересовали не большие исторические события, не широкие народные движения, а дворцовые интриги, быт эпохи. И главным для него были люди-герои с сильными страстями, всегда готовые к действию и борьбе. О том, как работал Дюма, можно проследить на примере создания им «Трех мушкетеров». В основу их легли «Мемуары д’Артаньяна», действительно существовавшего, хотя никогда ничего не писавшего. Эти подложные мемуары сочинил Куртиль де Сандрас, правда, знавший д’Артаньяна лично. Из этой книги Дюма взял имена героев — Атоса, Портоса и Арамиса, историю путешествия д’Артаньяна в Париж, историю Миледи и ряд приключений мушкетеров. Кроме этого, Дюма использовал «Мемуары ля Порта». Они легли в основу истории Атоса — графа де ля Фер. История с алмазами королевы заимствована из книги Редерера «Политические и любовные интриги французского двора». Что же внес нового Дюма в роман «Три мушкетера»? У Куртиля де Сандраса д’Артаньян только грубый вояка, охотник за богатыми вдовами, шпага и шпион Мазарини. Дюма наградил его умом, храбростью, хитростью, ловкостью, верностью в дружбе. Ничего этого нет в «Мемуарах». И, главное, из слуги Мазарини он превратился в его заклятого врага. Дюма сделал то, что может сделать только талантливый писатель: он оживил историю и одухотворил ее полнокровными образами людей. Рядом с д’Артаньяном на страницах романа обрели жизнь три мушкетера: Атос, Портос и Арамис, кардинал Ришелье, Мазарини, Людовик XIII, королева Анна Австрийская, Миледи, Букингем, король Карл I Английский — люди такие своеобразные, не похожие друг на друга и в то же время близкие и понятные читателю. Любопытно, что в «Трех мушкетерах» Дюма оказался историком больше, чем сам предполагал. Имена Атос, Портос и Арамис, которые он считал лишь псевдонимами, так как они звучали странно для французского уха, принадлежали людям, действительно существовавшим. Атос родился около Советерр де Беарн и умер в 1643 году. По-видимому, он был убит на дуэли, так как его тело, проколотое шпагой, было найдено утром вблизи рынка. Портос назывался Исаак де Порто. Он действительно был мушкетером, и его имя можно найти в списках времен Ришелье и Мазарини. Его род существует до сих пор, а потомки и сейчас живут во Франции. Арамис именовался д’Арамиц. Его владения были расположены в долине Бартон… Но Дюма писал не только исторические произведения. Один из его шедевров, роман «Граф Монте-Кристо», — книга о современной писателю Франции. Интересно, что основа сюжета и целый ряд подробностей были заимствованы Дюма из полицейских протоколов, то есть взяты из самой гущи окружающей его жизни. В 1807 году сапожный подмастерье Пико готовился вступить в блестящий брак. Упоенный успехом, он хвастался своей удачей перед посетителями кафе, где постоянно обедал. — Бьюсь об заклад, что я этому помешаю, — сказал своему приятелю Аллю хозяин кафе Лупьо, которого снедала низкая зависть. Лупьо вместе с несколькими собутыльниками написал донос полицейскому комиссару, который, признав дело чрезвычайно важным, так как оно касалось заговора против государства, передал его министру полиции. Пико был арестован и как опасный политический преступник заключен в замке Фенестрель. Два года спустя Лупьо женился на невесте Пико. Через семь лет Пико вышел из заключения. В тюрьме он был лакеем и преданно ухаживал за скромным миланским священником. После смерти священника он оказался обладателем колоссального состояния, которое тот ему целиком завещал. За годы тюрьмы несчастный Пико так изменился, что никто не мог его узнать. Озлобленный, он был одержим лишь одной мыслью: мстить всем тем, кто лишил его свободы и любимой девушки, мстить жестоко, мстить до конца. Ценой драгоценного алмаза стоимостью пятьдесят тысяч франков он выпытал у Аллю имена доносчиков. Потом он, никем не узнанный, поступил в кафе Лупьо в качестве лакея. Через несколько дней один из доносчиков был найден убитым ударом кинжала. На кинжале было выгравировано: «Номер первый». На следующей неделе другой был отравлен. На его гробу оказалась надпись: «Номер второй». Подозрение пало на Лупьо — это были его ближайшие приятели. Посетители стали сторониться его кафе, и Лупьо разорился. Он опустился, запил, жена его умерла с горя. Вечером, после похорон жены, Лупьо встретил Пико в Тюильрийском саду. Тот открылся Лупьо и вонзил ему кинжал в сердце. В этот момент Пико схватили, связали, заткнули ему рот и затем перенесли в подземелье. Это было сделано по наущению Аллю: алмаз, который он получил от Пико, возбудил его алчность. И он все время следил за мстителем, надеясь завладеть его огромным состоянием. Пико был посажен на цепь. Аллю сказал, что не собирается его убивать и что будет даже хорошо его кормить, но за каждый обед пленник должен платить по двадцать пять тысяч франков. Так как его жестокая месть была завершена, Пико уже ничего не оставалось в жизни. Он умер от голода, так и не сказав, где спрятано его богатство. На смертном одре Аллю открылся священнику, который сообщил об этом в префектуру. Так эта история попала в полицейский архив… Если сравнить историю из полицейского протокола с романом «Граф Монте-Кристо», то станет ясным творческий метод Дюма. В истории Пико есть почти все мотивы романа, и Дюма оставалось лишь усложнить интригу, добавить новые эпизоды, быть может заимствованные из других источников, расшить эту грубую ткань золотым узором… Но ни в одном протоколе он не мог найти характеров, которые составляют главную прелесть романа. Подлинный талант Дюма раскрывался не в приключениях его персонажей и даже не в ярких картинках, нарисованных его мастерским пером. Мы считаем Дюма большим писателем потому, что он создал блестящую галерею таких героев, как граф Монте-Кристо — во всех его превращениях, Мерседес, Фернан, Данглар, Вильфор, Нуартье, аббат Фариа, Бертуччо, — галерею, которая живет и не меркнет вот уже больше столетия! В истории Дюма предпочитал эпохи беспокойные, смутные, бурные, потому что они порождали сильные, действенные характеры. А то, что писатель всем другим краскам предпочитал черный и белый цвета, лишний раз свидетельствует, что это не картинки французского художника Мейсонье, который к каждому своему полотну прилагал лупу для его рассматривания, но мгновенные впечатления человека, находящегося в упоении битвой. Нельзя рассматривать романы Дюма как историю Франции в художественных образах, как сделал один исследователь, расположивший все его произведения в хронологическом порядке описываемых в них событий. Нет, Дюма писал не только о Франции, у него есть исторические романы и о России («Учитель фехтования»), и об Италии, и об Англии (два романа о Робине Гуде), да и задача его совсем иная. Но для современного читателя они могут служить волшебным ключом к библиотеке истории. Он запомнит из его романов имена, последовательность главных событий, проникнет в дух эпохи. И, когда он перейдет к более серьезным и даже специальным книгам и отсеет верное от случайного, он, несомненно, добром вспомнит того, кто, дружески взяв его за руку, ввел в этот яркий и удивительный мир.10
Александр Дюма прожил большую, пеструю жизнь. Он был человеком добрых намерений, большого, свободного сердца и демократических убеждений. Его детство было овеяно отблеском революционного пламени, и этого он не забывал всю жизнь. Он принимал участие в июльской революции 1830 года; сочувствовал освободительному движению во всех странах; ему были ненавистны рабство и национальное угнетение. Но во всякой революции его привлекала больше внешняя сторона: знамена, факелы, баррикады, революционные песни, а не их социальный смысл. Всякая революция была для него как бы продолжением бурных и неистовых религиозных войн XVII столетия между католиками и гугенотами или завершением блестящих и победоносных наполеоновских походов. Он принял деятельное участие в февральской революции 1848 года. В то время Дюма был командиром национальной гвардии Сен-Жермена. В решающий момент восстания он появился в мундире на Королевском мосту в сопровождении четырех или пяти гвардейцев, выкрикивая слова команды и жестикулируя так неистово, как если бы он командовал целой армией. Он прибежал в палату депутатов как раз тогда, когда народ требовал свержения короля и изгнания Орлеанского королевского дома. После перестрелки на Бульваре Капуцинов, где было много убитых, Дюма в знак траура закрыл свой Исторический театр. Спустя несколько недель он посадил перед зданием театра «дерево свободы». Оркестр Варнея, разместившийся на балконе, давал бесплатные концерты, и толпа танцевала на улице, перед театром, до четырех часов утра. Все это было точным воплощением того, как Дюма представляет себе революцию. Он был другом Гарибальди и уже далеко не молодым человеком принял участие в его походах в Сицилию и Неаполь. Для Гарибальди и его «тысячи» эти походы были битвой за свободу и объединение родного народа, для Дюма — очередной роман приключений. Но внешняя пышность и пестрая мишура, в которую он так по-детски любил рядиться, не должна заслонять от нас подлинного лица писателя. Торжественные приемы, витиеватые речи, обильные обеды, встречи с великими мира сего, суды с издателями, ссоры с сотрудниками — а их число к концу жизни Дюма превысило семьдесят человек! — все это было мишурой, которая забавляла, льстила самолюбию, но занимала лишь очень малую долю его жизни. Александр Дюма становился самим собой лишь за своим девственно белым письменным столом, перед стопкой разноцветной бумаги, с гусиным пером в руках. Сколько образов теснилось в его голове, сколько вымышленных героев толпилось около него, сколько эпитетов, метафор и метонимий висело на кончике его пера! И все они жаждали освобождения, мечтали воплотиться в буквы, строки и страницы каллиграфически написанной рукописи! Как бы ни был Дюма угрюм, мрачен, объят сплином, он преображался, когда брал в руки перо. — Мои самые безумные фантазии часто рождаются в мои самые пасмурные дни, — говорит он. — Вообразите себе грозу с розовыми молниями… Самым большим счастьем для него было играть роль Провидения, Судьбы, Фортуны (так выражались в те дни) по отношению к своим героям. Ведь он мог одного сделать счастливым, другого — несчастным, обогатить или разорить, отдать бедному юноше, никак не ожидавшему этого, женщину, которую он любит. Он распоряжался жизнью и смертью своих персонажей, хотя порой они вырывались из-под власти писателя и, помимо его воли, совершали поступки, которые он никак не мог предвидеть. Но перо Дюма всегда послушно следовало за героями, так как писатель хорошо знал, что, если созданные им люди вырвались из-под его власти, значит, роман удался! Он любил своих героев и почти верил в их существование. Однажды Александр Дюма-сын застал отца в слезах. — Что случилось, — спросил молодой человек. — Какое-нибудь несчастье? — Портос умер! — ответил писатель. — Я должен был принести его в жертву. Как мудрый и умелый советчик, почти как добрый отец, он убеждал своих неблагодарных блудных героев покинуть стезю порока и вернуться в отцовский дом. Он гипнотизировал читателя, одевал его то в королевскую парчу, то в лохмотья нищего. Он открыл поистине магические возможности романа, неизвестные до него. Несмотря на упреки современников, часто справедливые, на снисходительное — сверху вниз — отношение историков литературы, причисляющих Дюма к писателям «второго ранга», он все же остался жить — и сейчас жив не менее, чем сто лет назад. Его пыл и одушевление стали бессмертными, так как он смело и щедро награждал ими своих героев. Он и сам ценил их очень высоко: «Этими качествами — известно, с какой беспечной откровенностью я говорю о себе, — этими качествами я обладаю в совершенстве…» В конце жизни, вспоминая пройденный путь, люди обычно жалуются на то, что не успели воплотить в жизнь свои мечты, сделали слишком мало. Александр Дюма, умирая и подсчитывая итоги жизни, сетовал, наоборот, на то, что сделал чересчур много лишнего, что слишком много сора среди его жемчужин… Конец его жизни был печален: он скрывался от кредиторов, был вынужден бежать из столицы, прятался на даче своего сына. Парижская толпа, когда-то чтившая Дюма, как полубога, стала его забывать. Появились новые литературные кумиры. Это была эпоха Второй империи, диктатура Наполеона III, которого Виктор Гюго назвал Наполеоном Малым. Новое литературное направление с предельной откровенностью выражало идеал империи, олицетворяя его в непойманном преступнике и полицейском сыщике. Властителями дум парижской черни стали Понсон дю Терайль и Габорио. В их произведениях уже не было и намека на правду или искусство. А Дюма, постаревший, обрюзгший, старомодный, продолжал писать о благородных мушкетерах, о пленительной храбрости людей, готовых отдать жизнь за родину, за идею, за товарищей… Салонным плебеям и рыночным аристократам Второй империи все это казалось нелепым анахронизмом. И вот прошло столетие, забылись сановники Наполеона III; никто, кроме историков литературы, не помнит имен Понсона дю Терайля и Габорио, а Дюма жив и сейчас, жив почти как наш современник. Писателя нужно судить не по его ошибкам или неудачам, но по тому, что он сделал лучшего, что осталось в жизни. Пусть же он останется в нашей памяти таким, каким был только наедине с самим собой, — неистовым, страдающим одышкой, с пером в руках за своим письменным столом. Его обступают тени созданных им героев; сквозь тени просвечивает простая обстановка его мастерской: белая доска стола, плотно сбитый стул, железная кровать, камин со стоящими на нем книгами, три разноцветные стопки бумаги на столе. Тени, еще не воплотившиеся, требуют, чтобы он дал им вечную жизнь на страницах романов. Писатель поднимает перо, как шпагу; он прокалывает им злодеев, посвящает в рыцари любимцев и пишет, пишет, покрывал огромные листы бумаги своим быстрым, легким почерком. Александра Дюма читают уже свыше ста лет и прочли десятки, если не сотни миллионов восторженных почитателей на всех материках, во всех странах света. Он друг юношей и девушек всего мира и всегда готов вступить с ними в дружескую беседу: достаточно лишь снять с полки одну из его книг — а их столько, что можно ими наполнить целую библиотеку! — и раскрыть ее. И перед нами появится неутомимый рассказчик, подобный героям «Тысячи и одной ночи», окруженный неисчислимой толпой созданных им людей. А о какой более высокой и славной судьбе еще может мечтать писатель!МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1959 №4


Михаил Ляшенко Человек-луч
Фантастическая повесть[104]
Глава первая АНДРЮХИН
Все же неизвестно, где это началось… Быть может, в квартире Бубыриных, но возможно, что в кабинете Юры Сергеева, секретаря комитета комсомола Химкомбината в городе Майске, а может быть, в приемной советского консульства на островах Фароо-Маро, в Южном океане… Все великие события начинаются не с барабанного боя, не торжественными предупреждениями, а невзначай, в обыденной обстановке… Юра Сергеев только что пришел из второго цеха и, не раздеваясь, соображал, бежать ли ему в пионерский клуб или по общежитиям, к главному инженеру или к ребятам поговорить о ближайшем хоккее. Впрочем, больше всего ему хотелось взять в руки книгу, которая лежала перед ним на столе. Это была новинка, только что выпушенная Гостехиздатом. На корешке и на синем переплете жирно блестело золотом одно слово: «Кибернетика». Пониже было обозначено: «Сборник статей под редакцией акад. И. Д. Андрюхина». Юра ласково погладил книгу, потом раскрыл ее и, не удержавшись, словно лакомка, прочел несколько слов. Но тут сердито затрезвонил неугомонный телефон. Юра, деловито хмурясь, неохотно отложил книгу. — Сергеев? — услышал он незнакомый мужской голос, густой, звонкий к как будто насмешливый. — Да… — Нам с вами суждено вскоре познакомиться. Вы как, храбрый парень? — А что, будет здорово страшно? — Будет! — весело и твердо пообещал голос. — Давай! — усмехнулся и Юра, соображая, кто это его разыгрывает. Между тем голос продолжал: — Как насчет силенки? — Подходяще… — Ну да… Говорят, левой жмете семьдесят? — Нужно — и восемьдесят выжмем. — Юра никак не мог понять, кто же это говорит. — Неплохо! А сумеете отличить счетчик Гейгера от пишущей машинки? — Отличу. — Юру трудно было вывести из равновесия. — Есть такое чудное выражение — рисковый парень, — продолжал голос. — Так вот, рисковый ли вы парень? Любите ли неожиданности, приключения, риск? — Ага, — согласился Юра, вслушиваясь. — Одно достоинство очевидно: немногословие. Итак, сверим часы. Если не ошибаюсь, семнадцать минут второго? Сколько на ваших? Незнакомый голос прозвучал неожиданно серьезно. И Юра невольно взглянул на часы. Было уже двадцать минут второго. — Ваши спешат… — решил голос. — Как вы передвигаетесь? — Как передвигаюсь? — не понял Юра. — Ну да. Что вы делаете, если вам из точки А нужно перебраться в точку Б? — Иду, — сказал Юра. — Пёхом… — В таком случае, жду вас ровно через двадцать минут на Мичуринской, одиннадцать, третий этаж… Тотчас слабо звякнул отбой. Юра положил трубку и, недоумевая, пожал плечами. Не очень остроумно. Странный розыгрыш. Можно было ожидать что-нибудь более интересное… И вдруг он сообразил, что на третьем этаже дома номер 11 по Мичуринской улице помещается горком комсомола. Здравствуйте! Час от часу не легче. Что это все значит? Он позвонил в горком. Трубку взяла Вера Кучеренко, второй секретарь. — Здорово! Кто меня вызывал? — спросил Юра. — Не знаю… — Голос у нее был тоже с усмешкой. — Так что ж, идти? — спросил он, ничего не понимая. — Смотри! — сказала она строго и повесила трубку. Ну, это уж совсем ни на что не похоже! Делать им там нечего, что ли? Юра взглянул на часы: прошло три минуты. Он вылетел из комнаты, на ходу застегивая пальто и нахлобучивая шапку. Денек был пасмурный, на редкость теплый для зимы. Юра мчался, разбрызгивая хмурые лужи на тротуарах, скользя в новых сапогах и поглядывая на встречные часы. У него оставалось четыре минуты, когда он взбежал по ступенькам трехэтажного дома, где размещались горком партии, горисполком и горком комсомола. На третьем этаже Юра замедлил бег, привычно приводя в порядок дыхание. В ту же минуту впереди по коридору со звоном распахнулась стеклянная дверь кабинета Веры Кучеренко, и навстречу Юре легкой, будто танцующей, походкой двинулся удивительно знакомый человек. Знакомыми казались и продолговатое смуглое моложавое лицо, и длинная темная борода. Он был безусловно красив, своеобразной, яркой, цыганской красотой. Меховую шапку-ушанку он надвинул так низко, что брови слились с мехом. Из-под шапки смеялись коричневые, с искоркой, совсем еще мальчишечьи глаза. Человек был невысок, ко легкость и стройность, которые не могло скрыть и широкое пальто, делали его выше. Когда взгляд его ярких, любопытных, веселых глаз столкнулся со взглядом Юры, тот невольно приостановился. — Сергеев? Юра тотчас узнал четкий и звонкий голос, звучавший в телефонной трубке. Поняв, что не ошибся, человек протянул руку: — Ну, здравствуйте! Я — Андрюхин. Представьте, что в том самом, обычном, исхоженном вдоль и поперек коридоре, где вам приходится бывать ежедневно, встречается смутно знакомый человек, который, запросто улыбаясь, протягивает вам руку и говорит: «Здравствуйте, я Ломоносов!» Причем вы сразу понимаете, что перед вами не однофамилец, не дальний родственник, а настоящий Михайло Васильевич… Представьте это — и тогда сможете понять, что испытал Юра. Имя академика Ивана Дмитриевича Андрюхина было так же всемирно известно, как имя Ивана Петровича Павлова или Альберта Эйнштейна. Встретить его вот так, в коридоре горкома комсомола, да еще услышать, как он называет вашу фамилию, было, конечно, чудом, чудом тем большим, что всего полчаса назад Юра держал книгу статей о кибернетике, изданную под редакцией вот этого всемирно известного ученого… От отца, «профессора токарных дел», как его шутя звали на далеком уральском заводе, Юра унаследовал жадную любовь к технике. Известный активист школьных технических кружков, участник не только районных и областных, но даже всесоюзных выставок умельцев ремесленных училищ. Юра добился серьезных успехов в конструировании довольно сложных электронно-счетных устройств и мечтал о создании еще более совершенных «думающих» машин. Он пятый год работал на Химкомбинате, заочно учился на втором курсе института и в свободное время, в глубокой тайне от всех, пытался нащупать пути, чтобы с помощью кибернетических устройств прийти к овладению силой тяготения… — Аккуратен. Любопытен. Здоровенный мужик! — говорил между тем Андрюхин, с удовольствием поглядывая на крутые плечи Юры, выпиравшие и сквозь пальто, на его крупную стриженую, круглую, как чугунное ядро, голову, на широкое, сейчас красное, растерянное лицо. — А я ваш старинный поклонник! Когда на южной трибуне орут уж очень громко: «Бычок!» — так это я. Чудесно играете в хоккей! Не только клюшкой, но и головой!. И, подхватив его под руку, Андрюхин с неожиданной силой поволок слегка упиравшегося от смущения Юру в кабинет Веры Кучеренко. — Я его заберу сейчас же! — заявил Андрюхин, вталкивая Юру в кабинет. — Хоть он и сопротивляется… — Как — сопротивляется? — Вера вспыхнула. Ясно было, что она нервничает и смущена не меньше Юры. — Ты что же, не понимаешь, какое нам оказано доверие? Академик Иван Дмитриевич Андрюхин лично прибыл сюда, чтобы именно из нашей городской организации выбрать самого подходящего парня. Это дело чести всей комсомольской организации города. Неужели мы ошиблись в выборе? Андрюхин сморщился, как от зубной боли: — Я пошутил, родная, пошутил! Всё в порядке. Зачем так официально?.. И, если хотите дружить, не смотрите на меня, как на памятник! Это, знаете, довольно противно — ощущать себя памятником… Значит, мы едем? — Конечно, Иван Дмитриевич! — Вера вышла из-за стола, не глядя на Юру, еще не проронившего ни слова. — Он просто обалдел от радости. Я позвоню на комбинат. Там пока поработает его заместитель… Только в машине, когда уже выехали из города. Юра, шумно вздохнув, кое-как выдавил: — Извините, Иван Дмитриевич… — За что же, голубчик? — Академик, сам управлявший машиной, покосился на Юру. — Да что я так, чурбан-чурбаном… Вы не думайте… — Ну, думать мне приходится, тут уж ничего не поделаешь. — Андрюхин подмигнул Юре. — Вот подумаем теперь вдвоем над одной штучкой… — Над какой, Иван Дмитриевич? — А над такой, что о ней можно разговаривать только на территории нашего городка… Ты вообще сразу привыкай помалкивать. А еще лучше — начисто забывай все, что увидишь. — Это можно, — согласился Юра. — Ты знаешь, зачем я тебя везу? — спросил Андрюхин, помолчав. — Нет, — оживился Юра. — Нам нужны смелые, сильные и знающие ребята для участия в одной работе. — Андрюхин понизил голос. — Собственно, в одном чуде… Может быть, вскоре ты и завершишь наши чудеса! — Я? — удивился Юра. Холодок непонятного восторга остро сжал его сердце. — По ходу исследований всегда наступает минута, — торжественно продолжал Андрюхин, — когда ученому, конструктору нужен испытатель, человек мужественный, сильный, с точным глазом, стальной волей… Ты ведь интересуешься антигравитонами? — Я? — Юра медленно побагровел. — Да нет… Так, чепуха! — Очень может быть! — весело согласился ученый, словно не замечая смущения Юры. — Над проблемой преодоления силы тяготения тысячи ученых работают более десяти лет. Но они, представь, часто шли ложными путями и тоже занимались чепухой. Теперь, однако, многое прояснилось… Юра так круто повернулся, что даже толкнул академика. — Неужели вам удалось… — Он не сразу решился выговорить. — Удалось овладеть тяготением?.. — Ты помнишь сказки «Тысяча и одна ночь»? — вдруг спросил Андрюхин. — Джинны переносят дворцы и даже целые города за одну ночь на тысячу километров. Ничего невероятного в этом нет. Если мы действительно распоряжаемся тяготением, то почему бы в один прекрасный день всем домам и заводам Майска или даже Горького не подняться в воздух и не поплыть туда, куда мы захотим их перенести? Ведь если можно регулировать силу тяжести, то сотни и миллионы тонн могут весить граммы… Представь — весь Майск поднимается в воздух, плывут дома, люди поглядывают из окошек, споря, где лучше остановиться… Академик захохотал. В его темной бороде сверкнули влажные крепкие зубы, глаза внимательно присматривались к Юре. Под этим странным взглядом Юра ощутил необыкновенную легкость, крылатое предчувствие победы. Он с нетерпением смотрел на академика, ожидая продолжения, но ученый замолчал. Юра знал, что академический городок, где на некотором расстоянии друг от друга располагались научные институты, руководимые академиком Андрюхиным, лежал где-то в лесах между Майском и Горьким. Действительно, они ехали сначала по хорошо известному Горьковскому шоссе — огромной бетонной автостраде, которая, как река, лилась меж набухших влагой серых полей, мимо деревень с красными крышами и паучьими лапами телевизионных антенн на них, еловых рощ и торфяных болот, по которым далеко шагали вышки электропередачи, гордясь тяжелым грузом проводов… Примерно на двадцатом километре машина, переваливаясь с боку на бок и покряхтывая, сползла с шоссе на узкую бетонную ленту, уходившую в лес. Судя по знаку, въезд на эту дорогу был запрещен. Они проехали под этим красным кругом с желтой поперечной чертой и углубились в лес. Немолчный шум шоссе, доходивший сюда, как далекий прибой, вскоре совсем затих. — Я думал, с чего вам начать, — заговорил Андрюхин. — Впереди у вас крайне интересная, но опасная работа. Не сомневаюсь, что вы согласитесь, когда узнаете, в чем дело. Но первые день—два вам лучше всего просто осмотреться. А чтобы не скучать, потренируйте наших хоккеистов… Юра сразу почувствовал себя увереннее. Недаром тысячам болельщиков он был отлично известен под именем Бычка. Его слава центрального нападающего гремела по всему Майску и проникла даже за пределы города. Он усмехнулся, вообразив ученых на хоккейном поле. Андрюхин уловил его усмешку и захохотал: — Да, да, так и сделаем! Я отвезу вас прямо в Институт долголетия. Насладившись растерянной физиономией Юры, Андрюхин спросил: — Ну, а сколько же лет, по-вашему, мне? И он неожиданно пнул Юру в бок жестким, словно булыжник, кулаком так, что тот даже слегка задохнулся. Этот удар окончательно убедил Юру, что перед ним еще молодой человек. Но звание академика, всемирная слава, и то, что имя Андрюхина он встречал еще в школьных учебниках, — все это заставило его сделать молниеносный расчет. И он несколько неуверенно пробормотал: — Сорок? Сорок пять?.. — Неужели я так плохо выгляжу? — Андрюхин даже притормозил машину, разглядывая себя в косо посаженном зеркальце. — Врете-с! Врете-с, товарищ Бычок! Я выгляжу лет на двадцать восемь — тридцать! Да-с! — А борода? — пробормотал Юра. — Борода — для солидности! Все-таки неудобно такому молокососу руководить тремя институтами, ходить в академиках… — Он пронзительно-хитро поглядел на Юру и вдруг крикнул: — Восемьдесят семь! Да-с! Юра, вытаращив, как в детстве, глаза и приоткрыв рот, ошалело смотрел на академика. А тот остановил машину, резво выпрыгнул на особенно чистую, незаезженную дорогу и, присев на корточки в позиции бегуна, пригласил: — Нуте-с? До той сосны! И, свистнув по-разбойничьи в свой каменный кулак, так лихо рванулся с места, что Юра, не знавший, как себя вести в этом неожиданном состязании, припустил вовсю. Он перегнал Андрюхина только у самого финиша. — Нехорошо! — сердито фыркнул академик, не глядя на Юру. — Нехорошо, да-с! Каких-нибудь сто метров — и одышка! Все еще фыркая, он легкой рысцой побежал к машине. Тяжело топая сапогами, Юра уже не рискнул его обгонять. У него было странное ощущение приближения не то сна, не то старой, знакомой сказки. Этот старец в восемьдесят семь лет — с густой шелковистой бородой без признаков седины, с молочно-розовой кожей и блестящими глазами юноши, с силой и легкостью спортсмена — походил на волшебника, с которым сидеть рядом было увлекательно и страшновато.— Вот мы, собственно, и приехали. Прошу пожаловать в академический городок, — сказал Андрюхин и тотчас сердито кашлянул, останавливая машину. Юра невольно взглянул на спидометр: они отъехали от шоссе девятнадцать километров. В ту же минуту из кустов на шоссе вынырнул тощий, удивительно рыжий человек в очках и помчался к ним со всех ног, словно за ним гнались. — Профессор Паверман, следите за дыханием! — сказал Андрюхин, едва рыжий, подскочив к машине, открыл рот. — К черту… к черту дыхание! — Паверман действительно едва переводил дух. — Все пропало! Полный развал! Все погибло!.. Если вы не видели идиота, Иван Дмитриевич, то вот он! Человек, которого академик назвал профессором Паверманом, принял довольно картинную позу, откинув большую голову с пышной шевелюрой. — В чем дело? — спросил Андрюхин с веселым любопытством. — В чем дело? — Паверман, поправив очки, моментально задвигался и даже сделал попытку влезть в закрытую машину. — Неужели вам не докладывали? — Нет. Приблизив губы к уху Андрюхина, Паверман громко выдохнул: — С Деткой плохо!.. Руки Андрюхина, покойно лежавшие на руле, мгновенно сжались в кулаки, блестящие глаза потемнели. — Что-нибудь серьезное? — Не знаю. Лучше всего вам взглянуть самому… Беспокойна. В глазах просьба, почти мольба. Слизистые воспалены. Стула не было. Температура нормальная. Андрюхин полез было из машины, но, заметив Юру, приостановился: — Я отлучусь на час. Побродите тут один… Юра вышел из машины и огляделся. Перед ним возвышалось необыкновенное здание, похожее на огромную елочную игрушку. Хотя на дворе стояла слишком теплая для февраля погода, три — четыре градуса выше ноля, — все же это был февраль: вокруг, пусть серый, ноздреватый, как брынза, лежал снег. Дом, мягко блестевший гранями какого-то теплого и даже вкусного на вид материала, весь утопал в густом сплетении дикого винограда, хмеля и роз. Юра нерешительно приблизился к зданию. Только подойдя почти вплотную, он убедился, что розы, и хмель, и виноград находились внутри прозрачной, на вид невесомой массы, из которой были сделаны часть фасада и украшавшие его легкие галереи. — Слоистый полиэфир, — услышал Юра чье-то довольное хихиканье. — Новичок? — Да, — поспешно подтвердил Юра, оглядываясь. Никогда еще он не чувствовал себя до такой степени новичком. Перед ним стоял плотный, краснолицый человек, с коротко подстриженными бобриком седыми волосами. Он был без шляпы, в толстом свитере. Его лыжи валялись около скамьи воздушно-фиолетового цвета, на которую садиться, казалось, так же противоестественно, как на цветочную клумбу. Тем не менее, посмеиваясь над Юрой, лыжник спокойно плюхнулся на фиолетовую скамью. — Приходилось ли вам слышать такой научный термин — молекула? — озабоченно спросил он в следующую минуту, с явным превосходством поглядывая на Юру. — Приходилось? И о полимерах вы также, конечно, имеете представление — ведь сейчас это знает каждый школьник. — И, не дожидаясь ответа, лыжник продолжал. — Но, видно, вам не приходилось специально заниматься пластмассами. Знайте же, что если девятнадцатый век был веком пара и электроэнергии, то двадцатый стал веком атомной энергии и полимерных материалов! Из полимеров, этих гигантских молекул, делают всё. Пластмассы заменяют все цветные металлы: медь, никель, свинец, золото, тантал, что угодно! Они заменяют любые жаропрочные и кислотопрочные стали, любые антикоррозийные покрытия; они заменяют каучук, шерсть, шелк, хлопок. Средний завод синтетического волокна дает в год тридцать пять тысяч тонн пряжи — столько же, сколько дадут двадцать миллионов тонкорунных овец. Впрочем, никакие овцы не могут дать волокно такого качества, как современные химические заводы. Самолеты «ТУ-150» почти целиком сделаны из пластмасс. Даже в «ТУ-104», предке современного самолета, насчитывалось более ста двадцати тысяч деталей из пластмасс и органического стекла… Сегодня пластмассы — это водопроводные трубы и дома, самолеты и суда любого тоннажа, это одежда и станки, обувь и шины. Пластмассами начинают ремонтировать людей… Взглянув на лыжника, Юра поспешно отвел глаза, в которых мелькнула усмешка над горячностью открывателя всем известных истин. Он попытался остановить словоизвержение незнакомца: — Я работаю на Химическом комбинате и со многими вещами сталкивался, но… — Не верите?! — воскликнул возмущенный собеседник. — А между тем особые пластмассы уже много лет используются для операций сердца, операций на коже, для протезирования внутренних органов! У нас в горах я знал человека, которому сделали новый пищевод из пластмассы, а в этом городке вы сами увидите людей с искусственными руками и ногами, неотличимыми от настоящих. — Вы давно здесь живете? — спросил Юра, снова пытаясь остановить этот водопад слов. — Шестой год… Раньше я пас овец в Ставрополье, давал людям хорошую натуральную шерсть, гордился этим. Это была одна моя жизнь. Теперь начинается вторая. Я решил стать ученым и делать химическую шерсть, лучше натуральной… — А эта скамья, — спросил Юра, переминаясь с ноги на ногу, но все же не решаясь опуститься на великолепное фиолетовое сиденье, — она тоже из пластмасс? — Слой стеклянной ткани, слой полиэфирной пластмассы вперемежку, — заявил лыжник, похлопывая по скамье, в нежной глубине которой как будто плыли яркие кленовые листья. — Прочнее стали, но в шесть раз легче. Приподымите! Юра послушно подошел, взялся за скамью и неожиданно поднял ее в воздух вместе с лыжником. — Эй, вы! — завопил тот. — Полегче! Сам встревоженный этим фокусом. Юра осторожно опустил скамью на снег. — Верно, тоже из чабанов? — сердито спросил лыжник. — Ну конечно! А какого вы года? — Сорок пятого… — Молодец! — похвалил лыжник. — Прекрасно выглядите! Хотя рядом со мной — вы действительно юнец. Значит, тысяча восемьсот сорок пятого года? — Да нет! — рассмеялся Юра обмолвке чабана. — Девятьсот сорок пятого. — Как же вы сюда проникли?! — завопил встревоженный лыжник. — Что вы тут делаете? — Меня привез Иван Дмитриевич Андрюхин… Человек в свитере испытующе разглядывал Юру и, кажется, поверил, что тот говорит правду. — Ага, будете участвовать в испытаниях. Так это вы… Слыхал! Похвально!.. — одобрил он. — Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Они подошли к широкому крыльцу. Казалось, что оно вытесано из золотистого хрусталя. В глубине крыльца, внутри эластичной массы, веселой процессией шагали семь мастерски сделанных гномов. Юра перепрыгнул, стараясь не наступить на их бороды. Двери сами бесшумно распахнулись, и они вошли в высокий, наполненный смолистыми запахами вестибюль, облицованный пластмассой, выделанной под кору березы. Все здесь поражало удивительной, корабельной чистотой. Из пластмасс были сделаны не только полы, стены, прозрачные потолки и золотисто-голубая крыша, которая сразу заставила Юру позабыть серый денек и наполнила его радостным ощущением веселого солнца. Из пластмасс в этом доме было сделано всё: мебель, занавески, скатерти, ванны, абажуры, подоконники, раковины, посуда… И совсем не чувствовалось однообразия материала: казалось, здесь собраны все драгоценные породы дерева, различные мраморы, благородные металлы, хрусталь, редкие ткани… — Прогресс! — важно сказал лыжник. — Наука! В наше время ничего этого еще не было… И так как Юра, жадно рассматривавший все вокруг, не поддержал разговора, он скромно добавил: — Я ведь, знаете, ровесник Александра Сергеевича Пушкина… Юру словно ударили по голове. С отчетливым ощущением, что он сходит с ума, Юра уставился на коренастого лыжника. Тот не обиделся. — Да-да! Конечно, не верите? Проверьте — фамилия моя Долгов, звать Андрей Илларионович… Вам здесь всякий скажет. Год рождения 1799! Только Александр Сергеевич родился двадцать шестого мая, а я пораньше, да, пораньше! Семнадцатого февраля… Вот так! И, как видите, живу!.. Комната, предназначенная Юре, была нежно-синей и вся светилась, как прозрачная раковина. Мебель — белая, кремовых оттенков. Он еще не успел осмотреться, как над письменным столом серебристо вспыхнула часть стены, оказавшаяся большим экраном. С экрана весело смотрел на Юру и на лыжника Иван Дмитриевич Андрюхин. — Ну как, нравится? — спросил он так тихо, будто был рядом. — Спасибо… — Юра неуверенно раскланялся. — Доставьте-ка его, пожалуйста, Андрей Илларионович, в Институт кибернетики… А с Деткой все в порядке!
Глава вторая ИГРА
В суровом, несколько похожем на крепость, старинном здании Андрюхин встретил Юру и, по обыкновению посмеиваясь, предложил ему участвовать сегодня в хоккейном соревновании на первенство двух институтов. Команду кибернетиков будет возглавлять сам Андрюхин, команду долголетних — Юра. — А судить игру попросим вас, — сказал Андрюхин, обращаясь к сидящему в углу молчаливому гиганту с розовым равнодушным лицом. — Не возражаете? Тот молча наклонил голову. К вечеру этого дня, показавшегося на редкость коротким, Юра поверил, что питомцы Института долголетия, среди которых не оказалось ни одного моложе девяноста лет, действительно способны играть в хоккей. Более того, он пришел к выводу, что для того, чтобы добиться победы над долголетними, пришлось бы порядком повозиться даже славной команде майского «Химика», где Юра, как известно, играл центрального нападающего. Его все время не покидало ощущение нереальности всего происходящего; будто неведомая сила подхватила Юру и понесла в сказку. Но это не было сказкой; он мог пощупать романтические серые стены замка Института кибернетики, он ходил по комнатам воздушного дворца Института долголетия. Несколько раз в течение дня он проходил мимо подъезда и незаметно скользил глазами по маленькой вывеске: «Институт научной фантастики». Все было правильно! И ему очень хотелось выиграть сегодняшнюю спортивную встречу. Однако вечером, когда он увидел, кого выводит на лед академик Андрюхин, надежды на успех значительно поблекли. Против «долголетиков» вышли на лед плечистые, розовощекие атлеты, такие же, как и тот, которому Андрюхин предложил судить. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Среди зрителей и даже среди игроков Юриной команды пробежал сдержанный говор… Сначала все походило на обыкновенную игру. Население городка заполнило все трибуны и скамейки. Оттуда, из темноты, как всегда, несся рев, то угрожающий, то подхлестывающий. Над отливающей ртутью седой ледяной площадкой — гроздья ярких ламп. К вечеру подморозило, воздух стал колючим и вкусным. И, выезжая на лед, Юра ощутил привычный, радостный подъем. Зрители встретили его выход удивленным ирадостным криком: — Бычо-ок!.. Бычо-ок!.. Команда выстроилась, отрывисто прозвучали взаимные приветствия. Когда Юра и Андрюхин съехались к судье разыграть поле, Юру удивило, что судья, задавая свои обычные вопросы, громко прищелкивал языком. Еще более удивился Юра, когда Андрюхин с отеческой заботой поправил у судьи на шее свитер, после чего тот стал говорить без прищелкивания… Уже на первых секундах игры Юре удалось сравнительно легко вырваться к воротам противника. Он сильно бросил шайбу, уверенный, что гол есть. Но вратарь оказался на месте: подставленная клюшка ловко отразила Юрину шайбу в дальний угол. Игра началась… В схватке у борта Юра попробовал провести силовой прием. Он налетел на противника, но ему показалось, что он налетел на стену; никакого ответного толчка, ощущение полной непробиваемости… Во второй раз Юра попробовал толкнуть сильнее: то же самое! Глухая чугунная стена, а не человеческое плечо, способное поддаваться. Такой силы ему еще не приходилось встречать. Удивляло также, что эти гиганты сами не применяли силовых приемов. Вскоре Юра заметил, что команда гигантов играла как-то вяло. Они с редкой точностью отбивали шайбу, передавали ее друг другу, но по воротам били слишком медленно, обязательно выходя прямо против вратаря. Поэтому успеха они пока не имели. Иногда происходило что-то странное; как только удавалось перехватить их передачу, гиганты терялись. Тот, кто бросал шайбу, как будто примерзал ко льду, не в силах сообразить, что произошло. Тот, кому адресовалась шайба, вел себя еще более странно: как слепой, он удил ее клюшкой перед собой, хотя шайба давно ушла дальше… Только Андрюхин, появлявшийся то в защите, то в нападении, вносил в игру подлинное спортивное оживление. По-настоящему изумителен был вратарь гигантов. Казалось, что защищаемые им ворота пробить невозможно. Юра, хорошо знакомый с игрой лучших вратарей Советского Союза, смотрел на андрюхинского вратаря, как на чудо. Был момент, когда Юра, перескочив через клюшки бросившихся ему навстречу защитников, оказался один на один с вратарем. Гол был неминуем. Чтобы сделать его неотразимым, Юра резко замахнул клюшкой направо, в то же время посылая шайбу коньком в противоположный угол ворот. Такую шайбу невозможно было взять. Но вратарь взял ее! Счет открыла команда Андрюхина. За несколько минут до конца первого периода один из ее нападающих послал шайбу в ворота с такой необыкновенной силой, что Юрин вратарь, пытавшийся рукой удержать шайбу, летевшую под верхнюю планку ворот, не смог это сделать и вскрикнул от боли. А шайба так врезалась в ворота, что прогнула сетку. С результатом один—ноль команды ушли на отдых. Андрюхин со своей командой остался у ограды. Он заботливо осмотрел каждого игрока, сам поправил им свитеры, тщательно кутая шеи гигантов… Юра и его игроки ушли отдыхать в предоставленный им небольшой павильон. — Я ожидал всего, но такого… — услышал Юра возмущенный голос одного из защитников. — Чего вы злитесь? Ведь это чудо! — говорил другой. — Увидите, мы проиграем! — Ну-ну! — счел нужным вмешаться Юра. — Это что за разговорчики? Лично я не собираюсь проигрывать… — Это от вас не зависит! — сердито крикнул первый. — Можно собрать команду чемпионов, но и они проиграют! — Посмотрим! — сурово отрезал Юра. Едва начался второй период, как первая пятерка во главе с Юрой бросилась в атаку. Кажется, Андрюхин и его атлеты не ожидали такого натиска. Они были опрокинуты, прижаты к воротам и делали одну ошибку за другой. — Давай! — орали зрители, воодушевленные этим зрелищем. — Давай! Несколько раз за андрюхинскими воротами вспыхивала красная лампочка. Но каждая из этих вспышек свидетельствовала не о голе, а лишь о слабых нервах того, кто включал лампу… С андрюхинским вратарем ничего нельзя было сделать. Он был непробиваем. Юра попытался затолкнуть его в ворота вместе с шайбой, но вновь ощутил ту же глухую стену, тот же неумолимый чугун. Между тем игра снова переместилась в зону защиты Юриной команды. Теперь уже у их ворот одно напряженное мгновение сменяло другое. Зрителей лихорадило. То и дело они словно взрывались глухими вскриками. Назревал гол. Два раза Юра спасал свои ворота, успевая вовремя защитить их взамен выскакивавшего, излишне резвого вратаря. Юрины старцы играли всё хуже. Похоже было, что они махнули рукой на игру. Или устали? Во всяком случае, они никак не могли вырваться из своей зоны. А еще через минуту наступила развязка. Вратарь лежал на животе, выбросив вперед руку с клюшкой, а шайба, трепыхнувшись в сетке, шмякнулась на лед. Счет стал два—ноль. Юра угрюмо, не глядя на своих партнеров, начал с центра. И вдруг он увидел, что стоявший против него андрюхинский игрок улыбается. Улыбка была такой замороженной, неподвижной, что только сейчас Юре пришло в голову, до чего его противники похожи на тех рослых, румяных, плечистых манекенов, которых выставляют в витринах универмагов. Он взглянул на других андрюхинских игроков. Они все улыбались одинаковой, безжизненной улыбкой, демонстрируя отличные зубы… Юре стало не по себе. Он вспомнил ощущение не то скалы, не то металла, которое появлялось у него при каждом столкновении с андрюхинскими игроками. Такое ощущение не может вызвать живое существо! Но если они истуканы, манекены, большие заводные игрушки, то как же они играют в хоккей? Как успевают реагировать на каждое движение противника? Как проделывают все, что делают живые, настоящие игроки? Причем их вратарь так защищает ворота, как, пожалуй, не смог бы ни один живой игрок в мире! Но прежде всего — живые они или нет? В этом Юра решил убедиться немедленно. Он знал, что его сейчас же удалят с поля, и все же, не в силах более терпеть томительной неизвестности, делая вид, что пытается достать шайбу, сунул клюшку между ног катившего сбоку андрюхинского игрока. Тотчас раздался свисток великолепно проводившего встречу судьи. Толчок был, однако, таким, что от него свалился не только андрюхинский игрок, но и Юра. Первым вскочил розовощекий, все так же упорно улыбающийся атлет и протянул Юре руку в огромной перчатке. Юра ухватился за эту руку, но все-таки ничего не понял. Рука была как рука: даже как будто теплая… «Ерунда какая… — едва не пробормотал Юра с таким чувством, с каким наши далекие предки говорили: „Аминь, аминь, рассыпься, сатана“. — И что это мне пришло в голову? Ребята как ребята…» Но от механических улыбок, от фигур андрюхинских игроков веяло прямо-таки могильным холодом, и вообще нет-нет, да и подирал по коже дикий страх, когда снова приходила мысль, что это — не люди… Вот в таком состоянии Юра ни с того ни с сего попятился в сторону перед самыми своими воротами от двух стремительно шедших на него игроков. Через мгновение жаркий стыд залил его липкой волной, но было уже поздно: счет стал три—ноль. Команда Института долголетия явно проигрывала, и, кажется, дело шло к разгромному счету… Кое-как, вяло отбиваясь, они продержались со счетом три—ноль до конца второго периода и, понурив головы, под свист и улюлюканье особенно расходившихся зрителей, скрылись в своей раздевалке. Розовощекие атлеты снова остались на льду, а с ними и заботливый Андрюхин… — Вы что, до сих пор ничего не понимаете? — сердито спросил Юру его вратарь, едва они переступили порог. — До сих пор думаете выиграть? — Да! — отвечал Юра хмуро, хоть и не очень уверенно. Остальные игроки, кто ворча, кто весело подшучивая, только пожимали плечами, слушая их беседу. Впрочем, один из них сочувственно поглядывал на своего капитана, что-то соображая. — С кем вы играли? — продолжал вратарь. — Со слабой командой здоровенных молодых ребят, которых мы давно разложили бы, как хотели, — сообщил Юра, — если бы не их вратарь… — Уж не хотите ли вы сказать, что проигрываете из-за меня? — вскинулся вратарь Юриной команды. Юра поспешил его успокоить. — Так знайте, мое дитя, — благодушно заявил тогда вратарь, которому совсем недавно исполнилось ровно сто лет, — что впервые в истории не только хоккея, но, что гораздо важнее, в истории кибернетики сегодня на хоккейном поле академического городка против живых людей во всех трех периодах состязания выступают великолепные электронно-счетные машины, оформленные в виде людей… — Как вы сказали? — тихо переспросил Юра. — Оформленные?.. — Ну да! Говорят, один из канадских учеников Андрюхина, талантливейший Лионель Крэгс, населил в Южных морях чуть ли не три острова сплошь механическими черепахами… Он оформил свои машины в виде черепах. Это не имеет никакого значения! — Не имеет значения? — повторил Юра. — Ни малейшего! Важна специализация, то есть то, какая программа машине задана. Любой из игроков, выступавших против нас, способен производить с невероятной быстротой сложнейшие вычисления, заменяя один — тысячу и больше самых квалифицированных вычислителей. Может играть в шахматы, сочинять музыку. Может заменить целую научную библиотеку и выдавать справки по различным отраслям науки. Сегодня они работали по другой программе, играли в хоккей. — Но как? — закричал Юра, мгновенно переходя от подавленности к крайнему возбуждению. — Как? Я понимаю, что машина может двигаться, может бить клюшкой по шайбе. Но в хоккей необходимо принимать мгновенные решения! И ведь я видел, они, — эти, как вы говорите, «оформленные», — принимали такие решения сами! Сами! Что же — они умеют думать? — Нет, но Андрюхин сумел составить для них великолепную программу действий, ответных реакций и правил игры в хоккей. Не понимаете? Ну, вам потом объяснят подробнее. А пока поймите только, что любое действие, любую задачу можно расчленить на цепочку простых ответов: «да» или «нет». Машина выбирает эти «да» или «нет» с невероятной быстротой. Каждому «да» или «нет» соответствует электронный импульс в запоминающем устройстве машины. Этот сигнал-импульс и вызывает определенное действие, реакцию машины… — Все это я знаю! — горячо возразил Юра. — Я сам собирал простые решающие устройства. Но ведь эти «игроки» не отличимы от людей! Они реагируют на всё! Они действуют, как люди, как настоящие хоккеисты… — Слушайте, я нашел! — вскричал в этот момент тот игрок, который присматривался к Юре с сочувственным интересом и, видимо, тоже не потерял надежду выиграть. — Объяснять некогда, нам пора на поле, но я прошу вас тщательно следить за мной и бросать шайбу в ворота, как только я сделаю обманное движение… На ворота мы идем вместе!Их встретил веселый, насмешливый шум трибун. Откуда-то появились не только трещотки и губные гармошки, но даже чертики «уйди-уйди», с противным писком встретившие Юрину команду. Когда же на лед выехали игроки команды Андрюхина, их приветствовали аплодисментами и громовым рявканьем двух медных труб, притащенных из клуба веселыми энтузиастами. — Ничего, ничего, — проворчал Юрин игрок, тот, который что-то придумал, — сейчас мы им докажем, что люди — это, знаете, люди!.. Все-таки, когда началась игра, Юра не мог отделаться от странного и жутковатого чувства. Ведь на него, ловко двигая ногами, размахивая клюшками и глупо улыбаясь, катились не люди, а машины… — Давай! Давай! — орали с трибун, насмешливо приветствуя Юру и его партнера, которые без особых трудностей прорвались к воротам противника и толклись перед ними, видимо не зная, что же предпринять против непробиваемого вратаря. Они уже не то четыре, не то пять раз огибали ворота, разыгрывая между собой шайбу, даже пытались ее забросить, но вратарь стоял, как скала. И вдруг вспыхнула красная лампочка. Трибуны взорвались было смехом, но смех замер: лампочка не гасла! Это был гол, настоящий, полноценный, убедительный, бесспорный, классический и неотразимый гол! И тогда, поняв наконец, что непробиваемый андрюхинский вратарь пробит, трибуны словно сошли с ума. Десятки людей, сбивая друг друга, ринулись на тесное хоккейное поле, смяли и растворили в своей массе игроков, пробились к Юре. И он, не успев еще сам понять, каким образом ему удалось забросить шайбу, оказался в воздухе, подбрасываемый сильными руками. — Ура! — раздавалось вокруг на этот раз без всякой насмешки. — Ура, Бычок! Ура, Бычок! Вот это был удар!.. Наконец Андрюхину кое-как удалось установить порядок. Он подошел к Юре и, подозрительно глядя на него, спросил: — Вы забросили шайбу? — Вроде я… — смущенно улыбнулся Юра. — Это невозможно! — строго сказал Андрюхин. — Понимаете, это исключено! Юра растерянно развел руками, оглядываясь на своих игроков и ища поддержки у того, кто вместе с ним был у ворот. Но тот стоял позади всех и, похоже, даже прятался. Среди общей тишины Андрюхин подошел к своим воротам, где невозмутимо стоял и улыбался только что пропустивший шайбу вратарь, и с расстояния в два — два с половиной метра страшным, кинжальным ударом погнал шайбу в ворота. Вратарь легким движением, словно шутя, спокойно парировал этот смертельный удар. Раз за разом все сильнее, все неожиданнее Андрюхин бросал шайбу, но вратарь не пропустил ни одной… — Вы видите, что шайбу забросить невозможно! — сказал повеселевший Андрюхин. — Но я забросил ее, — упрямо возразил Юра, поддержанный одобрительным говором зрителей. — Судья! — крикнул Андрюхин, слегка хмурясь. — Прошу продолжать игру! Впрочем, последовавшие тотчас пронзительные свистки были даже излишни: зрители со всех ног убегали с поля, торопясь занять места и смотреть дальше это необыкновенное состязание. Едва возобновилась игра, как Юра со своим партнером вновь очутились перед воротами противников. Теперь они не крутились у ворот. Юра бросил шайбу в правый угол, но вратарь, который всегда оказывался на месте, на этот раз метнулся почему-то в левый угол… Шайба скользнула в ворота и скромно улеглась в углу, под сеткой… Счет стал три—два! Музыканты-трубачи ревели что-то оглушительное и дикое, что сами они потом назвали «маршем преисподней». В воздух летели шляпы, кепки, ушанки, кашне. А когда припадок восторга стих, стал слышен негодующий голос Андрюхина: — Это против правил! Так играть нельзя!.. Я все видел!.. — Красный, пышущий гневом, он подскочил к Юре: — Благоволите сказать-с — только громко, громко! — что вы бросили в наши ворота? — Шайбу! — недоумевая, растерянно улыбнулся Юра. Он действительно ничего не понимал, как и большинство зрителей. — Правильно! Очень хорошо-с! — отчеканил Андрюхин и, неожиданно крутнувшись на коньках, поймал за руку Юриного партнера. — Ну, а вы, что бросили вы? А? Что вы бросили? Юрин партнер пробормотал что-то невнятное. — Громче! Громче! — потребовал Андрюхин. — Все хотят слышать! Трибуны дружным воплем подтвердили это требование. — Я просто отбросил ледышку… — выговорил наконец прижатый к стене долголетний. — Куда вы ее отбросили? — Право, не знаю… — Ах, не знаете? Очень хорошо! А при первом голе вы тоже отбрасывали ледышку? — Может быть… — И тоже не знаете куда? Долголетний, пожав плечами, решительно поднял голову и ухмыльнулся, как напроказивший, но упрямый мальчишка: — Я закинул ее в ворота! И вторую — тоже. — Правильно! — заорал Андрюхин хватая его за плечи. — Вы делали это на какую-то долю секунды раньше, чем Бычок метал шайбу! Вратарь, как и положено, отбивал вашу ледышку, а в это время шайба проскакивала в ворота. Гениально придумано! Только это нарушает все правила честной игры! — Как вы назвали этот выпуск? — спросил упрямый долголетний, кивая на розовощеких атлетов, которые носились по полю, щелкая клюшками. — Пети, — сказал Андрюхин, — Петрушки. — В игре с вашими Петрушками старые правила не годятся. — Вот как! — вскричал Андрюхин. — Ну хорошо! Тогда я тоже введу новые правила. И, побежав по полю, он принялся подчеркнуто и плотно касаться ладонью плеча каждого из своих улыбавшихся атлетов. Тотчас с ними происходила перемена. Если раньше они двигались в быстром, но привычном для хоккея темпе, то сейчас Петрушки заметались по полю со скоростью не менее ста километров в час. Зрители, застыв от изумления, не успевали следить за движениями андрюхинских атлетов. — Что? — прищурился Андрюхин, проезжая мимо Юры. — Скисли? — Теперь вы окончательно проиграли, Иван Дмитриевич! — Юра сочувственно посмотрел на ученого. — Поглядим! Поглядим-с! — не поверил тот. — Начали! При невероятной скорости игроки Андрюхина все же не налетали ни на противника, ни друг на друга. В этом команда Юры убедилась, едва вышла на лед. И она перестала обращать на гигантов какое бы то ни было внимание. Задача заключалась только в том, чтобы ни в коем случае не терять шайбу. Пока гиганты с молниеносной быстротой, но совершенно бессмысленно метались по полю, команда Юры не торопясь проходила к воротам и, пользуясь приемом, изобретенным напарником Юры, забивала один гол за другим… Со счетом семь—три победили долголетние… По-детски надув губы, огорченный академик Андрюхин не торопился уходить с поля. Что-то шепча, словно выговаривая за нерадивость, он поправлял свитера на своих гигантах, окруживших его неподвижным кольцом… Неожиданно сквозь это кольцо прорвался профессор Паверман. Длинный, тощий, он размахивал радиограммой. — Слушайте! — кричал он. — Слушайте все! Это черт знает что происходит!.. — Если вы опять выдумали, что Детка умирает… — угрожающе начал было Андрюхин. Но Паверман, пренебрежительно махнув рукой, прервал его: — Детка спит! Да, Детка спит. И похоже, что мы спим вместе с ней! Вот сообщения от наших друзей из Средней Азии! Они запланировали на текущий год передачу обезьян на дальние расстояния… Андрюхин с мгновенно просиявшим лицом вырвал у него из рук радиограмму. Около них собрались все, кто был на матче, и с жадным любопытством старались рассмотреть если не радиограмму, то хотя бы лица стоявших впереди… Только Юра, ничего не понимая, стоял в стороне, и после жаркой игры и оваций чувствовал себя неожиданно одиноким. — Друзья! — воскликнул Андрюхин, высоко поднимая над головой белый листок. — Великолепные новости! Необходимо максимально форсировать опыт с Деткой! Прошу всех руководителей лабораторий собраться завтра в конференц-зале в девять часов утра…
Глава третья ЧЕРНЫЙ ПЕС
К девяти часам следующего дня большой, почти квадратный зал, примыкавший к жилым комнатам Андрюхина, был полон. Лифт забрасывал сюда, под крышу, работников городка. Благодаря тому что и крыша, и потолок, и стены были сделаны из необыкновенно прочного, но легкого, прозрачного материала, зал казался огромным. После оттепели наступил мороз, выглянуло солнце. И сейчас почти у каждого, входившего в этот прозрачный зал, появлялось светлое и подмывающее чувство счастливого полета. Отсюда весело было смотреть на темную щетину лесов до горизонта, на застывшие белые извивы любимой Ирги, на бледно-голубое небо, при взгляде на которое сегодня особенно отчетливо представлялось, что ведь Земля — это, собственно, корабль, межзвездный скиталец, на котором мы, поколение за поколением, свершаем свой путь сквозь Вселенную… В центре небольшой группы стоял костистый, желтолицый человек с пушистой родинкой на левой щеке и ласково улыбался, принимая поздравления по поводу исключительно удачного эксперимента с его машинами, игравшими вчера в хоккей. Это был профессор Ван Лан-ши, создатель вчерашних хоккеистов-атлетов, руководитель Института кибернетики и один из ближайших помощников Андрюхина. Усталые, полуприкрытые веками глаза его прятались в сети мелких, улыбчатых морщинок. — «Ум человеческий, — негромко сказал он, — открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней…» — Он поднял длинный желтый палец, спросил: — Знаете, кто сказал? — И тотчас гордо ответил сам: — Ленин! Ленин сказал… Наконец, появился и самый популярный после Андрюхина ученый академического городка, руководитель Института научной фантастики Борис Миронович Паверман. Ровно в девять часов к столу председателя вышел Андрюхин, как всегда молодой, но с лицом несколько озабоченным и строгим. — Товарищи! — начал он. — В силу ряда обстоятельств сегодня придется вспомнить, для чего правительство сочло необходимым развернуть здесь, в лесах над Иргой, три наших института с их многочисленными филиалами, лабораториями и всем прочим, что образует комплекс академического городка. Мы обошлись государству почти в тридцать миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы выстроить крупный город, такой, как Харьков… Советская страна сделала все, чтобы наука внесла и свой огромный вклад в достижение святой цели, можно сказать — народной мечты. Мы созданы, как вы знаете, для того, чтобы научно-техническими средствами помочь социалистическим странам выполнить их историческую миссию — навсегда покончить с войнами! Чтобы сделать войну невозможной! Слишком долго ученые придумывали, как лучше убивать людей. Нам сказали: подумайте над тем, чтобы людей нельзя было убивать. Вы, конечно, отлично понимаете, что никакие, даже самые гениальные технические открытия сами по себе не могут решать судьбу человеческого общества, не могут заменить собой объективных законов исторического развития. Борьба народов за новый прогрессивный социалистический строй и честное соревнование двух общественных систем, — вот что решит. И победит тот, на чьей стороне железные законы истории. Это ясно. Но в современном мире наука является огромной, могучей силой. Она может быть использована и во зло человечеству, и в помощь исторической правде. Все дело в том, в чьих руках находятся наука и техника. Война, отвратительная, дикарская угроза войны, является порождением уже обреченного, людоедского общественного строя. И он использует технический гений человека для того, чтобы держать мир под страхом новой всеобщей бойни… Перед нами, учеными нового социалистического мира, поставлена грандиозная задача: вырвать ядовитые зубы у змеи! Можно решить великий исторический спор, не подвергая человечество неслыханному избиению. Андрюхин вышел из-за стола, подошел вплотную к первому ряду слушателей и проговорил негромко, с трудом сдерживая волнение: — Ответственность ученых в решении этой важнейшей проблемы современности велика. Нужно ли говорить, какое счастье испытали бы миллиарды людей, если бы мы могли им сказать: с войной покончено, не думайте о ней — она невозможна… Сегодня мы еще не можем сказать: войне конец! Но уже сейчас, после ряда наших немаловажных успехов, ясно: такой день недалек!.. Он перелистал несколько лежавших перед ним листочков, и, уже спокойно, продолжал: — Наши институты работают над многими важнейшими проблемами. Сейчас их усилия необходимо объединить для главного. Итак, Институт долголетия. Высказанная некогда румынским академиком Пархоном безумно смелая идея о возможной обратимости процесса старения живых организмов стала путеводной звездой коллектива, возглавляемого Анной Михеевной Шумило. Институт разработал надежные и многократно проверенные на практике методы серьезного омоложения живых организмов, в том числе и человека, и сейчас завершает работы, в результате которых человек сможет сам регулировать свой возраст. Иначе говоря, старость будет излечиваться так же надежно, как, скажем, малярия. Старость исчезнет, как исчезли тиф и чума. Человеческую жизнь можно будет продлить в три — четыре раза. Эпидемия старости, тысячелетиями свирепствовавшая на земном шаре, будет так же невозможна, как эпидемия оспы или холеры! Зал ответил взрывом рукоплесканий. — Да! Это то, что некогда называлось чудом… — Андрюхин кашлянул, провел рукой по лицу, незаметно смахивая ненужную слезу. — Но, как ни дико, — не это сейчас самое важное… Война!.. Необходимо прежде всего покончить с этим проклятием, с угрозой войны. Он резко взмахнул кулаком, но, словно устыдившись несдержанности этого жеста, приостановился, хмуро взглянул поверх собравшихся: — Прошу прощения. В сторону эмоции. Итак, к делу… Институт научной фантастики вел работы над несколькими проблемами. Наиболее близки к решению две: преодоление силы тяготения и передача вещества при помощи электромагнитных волн. Собственно, коллектив, возглавляемый Борисом Мироновичем Паверманом, добился решения этих колоссально важных задач, однако возникли непредвиденные трудности, заключающиеся в том, что организм человека, видимо, совершенно не приспособлен и даже, быть может, беззащитен против тех явлений, которые возникают как при уничтожении силы тяжести, так и при переходах вещества в энергию… Именно при экспериментах с нашими приборами, уничтожающими силу тяжести, получил увечье товарищ Паверман и погибли семь его сотрудников, которых мы все знали… Тем не менее опыты эти продолжаются и будут продолжаться до полной победы. Мы думаем, что молодежь Майска поможет науке добиться торжества. Для этого, между прочим, приехал и Юра Сергеев. И все-таки наше решающее мирное оружие не здесь. Оно в еще не завершенных работах по взаимопревращению материи в энергию и наоборот. Поэтому такое архиважное первоочередное значение мы придаем опыту с Деткой! Институт научной фантастики овладел сложнейшей методикой превращения живой материи в концентрированный пучок энергии и воссоздания вновь, в начальных материальных формах, превращенной в энергию материи. Так, удалось более шестидесяти семи процентов проведенных опытов с лягушками; более пятидесяти восьми процентов опытов с мышами, ужами и воробьями. Имели место, как видите, и неудачи. В основном они сводились к двум моментам: полному исчезновению передаваемого объекта или его гибели при восстановлении. Причины, порождающие эти срывы, далеко не ясны; что касается первого, то мы до сих пор не знаем, в скольких случаях имели место отказы в восстановлении из данного пучка энергии, а в скольких из-за недостаточно точных расчетов восстановление произошло, и, может быть, совершенно благополучно, однако далеко не в том месте, которое было обусловлено расчетами… При этом наши подопытные зверьки, к крайнему нашему сожалению, оказались безвозвратно потерянными. Все эти обстоятельства тщательно учтены при организации и подготовке решающего опыта с Деткой… Успех упрочит надежду, что мы сможем преградить путь войне! Но подлинную уверенность, как вы знаете, даст лишь опыт с человеком… Группа, которую возглавляет наш уважаемый профессор Ван Лан-ши, предупреждала, что без решительного развития кибернетики мы не продвинемся далеко ни по одному из намеченных направлений… Именно поэтому разрешите сообщить вам некоторые свои соображения… Андрюхин отпил глоток воды из стакана и после небольшой паузы продолжал: — В Канаде и в США долгое время работает в области кибернетики известный многим из вас Лайонель Крэгс. Он добился немаловажных успехов. К величайшему сожалению, он с самого начала своей деятельности поставил кибернетику не на службу грядущему, а для того, чтобы наиболее полно собрать и законсервировать все человеческие знания. Крэгс убежден в неизбежности войны и в гибели всего живого. Блестящий ученый, он не побрезговал, однако, вступить в какой-то противоестественный союз с банкиром Хеджесом, нажившим состояние игрой в рулетку с помощью счетных машин Крэгса… Сегодня Крэгс заявляет, что будущего нет. До смерти напуганный уродливыми гримасами и противоречиями капиталистического строя, изверившийся в человечестве, живущий в обреченном мире конкуренции, торговли людскими жизнями, атомного психоза, — этот человек зашел в тупик. Ему везде чудится смерть. Он заявляет: «Единственное, что еще может сделать наука, это запечатлеть прошлое, сохранить все, что нами было достигнуто…» И на своих островах Крэгс занимается изготовлением таких кибернетических консервов… Вам ясно, почему Крэгса превозносит вся западная пресса, почему его представляют обывателям Нью-Йорка, Парижа, Токио как первого ученого мира, и так далее… Безнадежность — тоже оружие. Но Крэгс — подлинный ученый, и я глубоко уверен, что можно вывести его из того тупика, куда он зашел. Я верю, что, когда он очнется от оцепенения, то, как и все мы, увидит ясное, светлое будущее Человека и поможет нам в том, чтобы оно поскорее наступило. Вот почему я пригласил Крэгса приехать как частное лицо, как моего гостя, как моего бывшего ученика… Однако во вчерашнем номере «Нью-Йорк таймс» я прочел, что Крэгсу поручено неофициально посетить Советский Союз. Крэгс едет с каким-то загадочным предложением, которое должно, видимо, убедить нас в нашей слабости… Ну что ж… Посмотрим, кто кого убедит. Андрюхин сошел с трибуны. Началось деловое обсуждение предстоящих опытов с Деткой.Юра Сергеев не слышал ни речи академика Андрюхина, ни выступлений его учеников и помощников. Юра не присутствовал на этом историческом совещании. Позавтракав со своим знакомым, современником Пушкина, Юра, пользуясь предоставленной ему свободой, взял лыжи и пошел побродить по территории академического городка. Местный радиоузел все еще продолжал ту же не очень понятную передачу, которую Юра слушал за завтраком. «…Ночь Детка провела спокойно. Проснулась в пять часов сорок шесть минут. Настроение уверенно-бодрое, шаловливое. Глаза чистые, без выделений. Реакции отчетливы. Первый завтрак проводит в восемь тридцать Евгения Козлова…» Прямо перед ним, на фонарном столбе, висел большой плакат с великолепной фотографией какой-то симпатичной черной таксы. Плакат был украшен следующей надписью: «Пусть собака, помощник и друг человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства». Юра вспомнил, что эти строки высечены на памятнике собаки в Колтушах, знаменитом научном городке, где жил и работал великий русский ученый Иван Петрович Павлов. Но к чему портрет таксы и эта надпись здесь? Пожав плечами, Юра двинулся дальше. Скатываясь с небольшого холма и петляя между деревьями, он услышал собачье тявканье, а потом злое, с хрипотой, рычание. За темно-сизыми пиками елочек открылась небольшая полянка. Посреди нее, на твердо укатанном, желтоватом снегу, поднималась примерно на метр бетонная площадка, обшитая толстыми полосами золотистого металла. Несмотря на видимую массивность бетона, он, казалось, клубился, светясь изнутри неясным темно-синим светом. Ровный гул огромного напряжения шел откуда-то из глубины площадки. Подойдя ближе, Юра заметил, что верх площадки представляет собой прочную металлическую или пластмассовую сетку с мельчайшими, едва заметными, отверстиями. На тонкой кожаной подушке, брошенной поверх этой сетки, сидела молодая угольно-черная такса, вся обмотанная яркими, как цветные карандаши, тонкими и толстыми проводами. Такса была удивительно похожа на фотографию, только что виденную Юрой, но сейчас собачонка злобно скалила белые зубы. Неподалеку стоял и пристально разглядывал ее молодой парень в светлой кепочке, едва державшейся на его тугих, будто проволочных кудряшках. Увидев Юру, парень удалился не спеша, с независимым видом. Уже больше часа бродил Юра по парку, думая обо всех чудесах городка. На повороте одной аллеи он едва не столкнулся с лыжницей, бегущей ему навстречу. Коренастая, с густой гривой иссиня-черных кудрей, с широко расставленными, огромными, сердитыми глазами под высоким, крутым лбом, она поражала здоровьем, не красотой. Но по-своему она была и очень красива — не строгой правильностью черт, а чем-то неуловимым, что пряталось в изгибе губ, легких, как лепестки, в прохладной линии щек, слегка тронутых пушком, в суровой ясности глаз, просторно распахнувшихся навстречу миру. В глубине этих огромных черных глаз, как притаившийся костер, все время поблескивал смех. Юре было весело глядеть на нее. — Это вы и есть Евгения Козлова? — А что, непохожа? Зато вас узнать нетрудно. Вы — Бычок! Простите… Ну, в общем, вы понимаете. — И, прищурив смеющиеся глаза, девушка продекламировала с настоящим пафосом:
Глава четвертая КОРОЛЕВСТВО БИССА
Вся эта странная история, если рассказывать ее по порядку, началась не только в институтах Андрюхина, но также и в далекой южной стране лагун и коралловых рифов. Если мы назовем ее подмандатная территория такая-то или протекторат такой-то, от этого ничего не изменится. Не будем уточнять названия. Острова эти ничем не отличаются от других экзотических, сказочных островов, о которых так чудесно рассказывали Стивенсон и Джек Лондон, и где в их времена еще насчитывалось около четверти миллиона коренных жителей, а к нашим дням, несмотря на райский климат, выжило едва ли более десяти тысяч. Под напором «благ цивилизации» вымирали не только люди. От берегов Южных островов уходили стаи рыб, ушли киты. Все реже в океане стали встречаться стада огромных морских черепах, мясо которых так изысканно нежно, а необычайно твердые, причудливые щиты идут на изготовление дорогих и изящных вещиц. Вскоре на некоторых островах и во многих районах океана черепахи исчезли до единой, так, словно никогда и не копошились в теплой прибрежной воде. Правда, ходили неясные разговоры о каком-то чудаке, не то англичанине, не то канадце, который лет шесть назад для разведения черепах купил у португальского общества колонизации за очень крупную сумму три небольших островка, не имевших даже названия. Видимо, он был лишен чувства юмора, так как вскоре провозгласил себя королем этой территории и даже вступил в официальные дипломатические отношения с крупнейшими державами. Но, хотя островки были куплены для разведения черепах, никто не видел там ни одной живой черепахи. Вскоре выяснилось, что фамилия короля была Крэгс, Лайонель Крэгс. Здесь это имя звучало так же, как и любое другое, но в странах, где читали газеты, а случалось, и книги, и где даже встречались люди, интересующиеся наукой, кое-кто знал, что Крэгс был одним из крупнейших физиков Западного полушария, мировая величина в своей области. Но он посвятил себя не физике ядра, а хитроумному конструированию сверхсложных электронных счетных машин. Уход ученого из цивилизованного мира и появление его в стране лагун и рифов прошли почти незаметно, несмотря на забавную шутку с провозглашением королевства. Лишь в некоторых газетах промелькнуло нечто вроде короткого интервью с Крэгсом. «Мистер Крэгс, — спросил его репортер, — зачем вы отправляетесь в Южные моря?» «Что ж, — сообщил якобы Крэгс, — я отвечу вам откровенно, уверенный, что люди либо примут мои слова за шутку, либо просто не прочтут их… Я утверждаю, что в результате огромного скачка науки и техники, в результате гениальных открытий последних лет — человечеству приходит конец. Техника в наше время — это война. А война — это гибель планеты. Кроме того, человечество вырождается. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что мы живем в сумасшедшем доме; посмотрите на все эти рок-н-роллы, на дикое „искусство“ абстракционистов, почитайте в газетах о шайках детей-гангстеров… А грандиозные открытия науки, в чьих они руках? Любой аферист из „делового мира“, или любой авантюрист-генерал, заполучив парочку водородных бомб, запросто могут развязать мировую войну. А вы знаете, что это такое? Современная война — это уничтожение целых стран. Это медленное, мучительное умирание всех, кто останется в живых… Люди спятили с ума, они изжили себя, они обречены. Их надо заменить. Я отправляюсь на Южные острова, чтобы создать новую расу. Это будут машины, наделенные разумом и способностью размножаться. Им не страшны ни радиация, ни бактериологическая война… Они переживут все…» Крэгс сообщил также, что его предыдущие открытия и вклады нескольких крупнейших банков, в том числе банка Хеджеса, позволяют ему располагать неограниченными средствами… Предположение репортера, что человечество, быть может, все-таки уцелеет, вызвало иронические насмешки со стороны Крэгса. Тогда репортер осведомился, когда же, по мнению ученого, наступит этот страшный час. «Мне нужно лишь несколько лет, чтобы создать моих черепах, — проворчал Крэгс. — А потом, чем скорее вы все провалитесь в преисподнюю, тем лучше. Мне надоели люди. Осточертело их безумие. Я верю только в свои машины. Будущее — за ними!» Заметка была озаглавлена «Новый Адам», но, несмотря на то что репортер написал ее довольно бойко и даже с юмором, на нее не обратили внимания. Прочитали и через несколько часов забыли на много лет… На трех островках, которые вскоре получили официальное название «королевство Бисса», Крэгс начал, как уверяли туземцы, создавать черепах. Он не собирал уцелевшие экземпляры, не разводил их и не выращивал. В великой тайне, оберегаясь от нескромного взгляда, он делал нечто другое… В тех немногих местах, где морские черепахи еще водились, богатые владельцы прибрежных поместий устроили свои собственные охотничьи заповедники, похвалялись ими друг перед другом и охраняли не менее строго, чем банковские сейфы. Охотничий заповедник на острове Фароо-Маро — административном центре большого района — существовал уже более десяти лет и принадлежал к самым крупным. Никогда еще ни один европеец не был уличен здесь в браконьерстве. Иногда пытались воровать черепашьи яйца мальчишки-туземцы, но расправа с ними была короткой и грозной. Понятно поэтому чрезвычайное удивление надзирателя заповедника, который, проходя однажды по берегу, увидел белого человека, судя по одежде джентльмена, пытавшегося прикончить черепаху. Сторож решил присмотреться к этому господину. Безымянный палец левой руки незнакомца был украшен широким, плоским, но массивным золотым кольцом с брильянтом необычайной величины. Такое кольцо стоило несколько тысяч долларов. Истинные джентльмены не носят такие кольца, их носят игроки. Старик надзиратель повидал на своем веку немало господ и умел разбираться в них. Было в этом европейце что-то истерическое, дерганое, совершенно несвойственное джентльмену. Быть может, сумасшедший? — Вы приезжий, сэр? — осторожно осведомился надзиратель. Маленький человек с большим брильянтом надменно вздернул голову и, фыркнув, уничтожающим взглядом смерил стража с ног до головы. — Я — Хеджес! — сказал он с таким выражением, с каким представилась бы пирамида Хеопса или Эйфелева башня, если бы им был свойствен дар речи. — Рад познакомиться, сэр, — пробормотал старик, опасливо поглядывая на странного собеседника. — Джим Яриш, с вашего разрешения… — Это не имеет значения, — изрек тощий человек, которого звали Хеджес. — Ни вы, милейший, ни остальные три миллиарда двуногих не имеют для меня никакого значения. Ведь вы обречены на гибель, не так ли? — Вероятно, сэр, — сказал сторож, решив, что благоразумнее всего согласиться. — Конечно. Это неизбежно, черт возьми! — довольно уныло пробормотал Хеджес. — Бомба, радиация и все прочее. Иногда я чувствую, что это дьявольский стронций-90 уже сидит у меня в костях… Все-таки отвратительно, что мы должны погибнуть, а вот такие гадины выживут! Он злобно пнул недобитую черепаху тростью. — Вы думаете, сэр, их не берет бомба? — осведомился надзиратель, с отчаянием поглядывая по сторонам и мысленно проклиная сторожей, которые будто под землю провалились. — Я говорю не про этих! — Хеджес презрительно ковырнул безропотную черепаху. — Я говорю про тех, что делаем мы. Поэтому я и ненавижу этих гадин, что мне слишком много приходится их видеть на Биссе! Тысячи черепах! Сотни тысяч! Миллионы!.. — Как вы сказали, сэр? — Лицо надзирателя вдруг почтительно насторожилось. — На Биссе? Вы оттуда, сэр? — Вы понимаете, я путешествую инкогнито, — величественно изрек тощий человек, которого звали Хеджес. — Тем более вам не следует узнавать особу, которая сейчас заедет за мной… С королями шутки плохи, мой милый! — Ваше величество… — пролепетал Джим Яриш. — Вы ошибаетесь, — произнес с расстановкой Хеджес, наслаждаясь замешательством старика. — Я только премьер-министр… А вот и его величество! С мягким урчанием на шоссе, в нескольких метрах от них остановилась темно-оливковая сигара, выпустив сизое облачко отработанного бензина. Рослый смуглый человек с пронзительными смоляными глазами сидел чуть сгорбившись за рулем. Его лицо пересекал широкий багровый рубец. Он не взглянул на Хеджеса и хранителя заповедника. Только два резких сигнала обнаружили, что владелец машины торопится и не намерен ждать. Хеджес сел на заднее сиденье, испуганно поглядывая на своего короля, владыку королевства Бисса, Лайснеля Крэгса, который самолично вел машину. Судя по всему, король был человеком очень неразговорчивым. Его темное, неподвижное лицо внушало не то уважение, не то страх. Бледные губы были плотно сжаты, большие черные глаза нетерпеливо смотрели на дорогу. — Консул ждет нас? — наконец бросил он, не глядя на Хеджеса. — Консул в отъезде… — Хеджес был зол не на шутку. — Я разговаривал с каким-то мальчишкой. Похоже, он ничего не слыхал ни о королевстве Бисса, ни о вас, ни о вашей миссии… Он вас примет. — Примет! —Крэгс презрительно фыркнул. — Когда вы научитесь держаться с достоинством? Мне бы следовало взять одну из моих черепах, а не вас… — Тогда пусть ваши черепахи и добывают вам деньги! — отрезал Хеджес, внезапно нарушая этикет. — Вы направляетесь в консульство иностранной державы, безусловно враждебной, на переговоры, которые я, ваш премьер-министр, совершенно не одобряю… Крэгс молча просверлил Хеджеса такими глазами, что тот невольно поперхнулся и разозлился еще больше. — Пока вы были ученым и делали свои игрушки, я вам помогал! — зашипел он. — Но теперь вы лезете в политики! В спасители человечества! Получаете письма из Советов! Вам пишет какой-то Эндрюхи! — Андрюхин — крупный ученый! — сухо отчеканил Крэгс. — Говорят, он сочетал кибернетику с проблемой долголетия. Понятия не имею, как он это сделал… — Долголетия? — Хеджес поднял голову. — А на какой дьявол это долголетие, если всем нам и вашему Эндрюхи тоже осталось жить год, два, ну, может быть, три? Он не ученый — он идиот! — Мой друг, Архимед решал уравнение, когда меч римского солдата уже касался его шеи. Андрюхин — настоящий, большой ученый. Все отведенные ему в жизни секунды он будет думать о науке. — Вы полагаете, ему понравятся черепахи? — удивился Хеджес. — Берегитесь! Мне и то становится невыносимо думать, что ваши машинки выживут, а я — нет. Этот примитивный варвар постарается взорвать всю вашу затею!.. — Маловероятно! — отрезал Крэгс. Хеджес в полном изнеможении повалился на кожаные подушки. У Крэгса шевельнулись пушистые брови…Если бы вам довелось побывать в советском консульстве на Фароо-Маро, то среди ярчайших, голубых с золотом, плакатов пароходных компаний и великолепной коллекции туземного оружия, вы наверняка обратили бы внимание на таблицу, вычерченную с величайшим тщанием и любовью. Эту таблицу в часы досуга изготовил собственными руками помощник консула Василий Иванович Квашин. Для того чтобы содержание таблицы ни у кого не вызывало сомнений и кривотолков, Василий Иванович каллиграфическим почерком вывел вверху: «Розыгрыш первенства СССР по хоккею с шайбой в 19…–19… годы». Телефонный звонок Хеджеса и его предупреждение, что он заедет в консульство с королем Биссы, не произвели должного впечатления на Василия Ивановича. Он решил, что речь пойдет об одной из обычных торговых сделок. Наслаждаясь временным затишьем и не подозревая, в какие невероятные приключения судьба вовлечет его буквально через несколько минут, Василий Иванович, которому не минуло еще и тридцати лет, стоял перед своей роскошной таблицей, куда он только что занес последние данные, и наслаждался от души. Невыразимо приятно было в эту душную жарищу даже постоять вот так у таблицы и подумать о хоккее. От таблицы словно веяло освежающим холодком, попахивало искрящимся, синим снежком. Послышался рокот подъехавшего автомобиля. У дома консульства остановилась темно-оливковая сигара; по дороге к бунгало направились два совершенно не похожих друг на друга человека. Слева, лениво загребая ногами, шел вразвалку тощий, маленький джентльмен, лет сорока с небольшим, надменно вздернув плоское, крохотное личико с огромным лбом и красным носиком, на котором чудом держались толстые, темные очки. Справа, чуть позади, слегка хмуря черные, с проседью, густые брови, вышагивал человек, настолько похожий на морского разбойника далеких времен, что Василий Иванович даже присвистнул, явно заинтригованный. Тяжелое смуглое лицо незнакомца от уха до крутого, квадратного подбородка пересекал багровый рубец. Его смоляные колючие глаза так быстро и пронизывающе рассматривали людей, что каждый невольно поеживался. Он был широкоплеч, высок и, хотя ему явно перевалило за пятьдесят, легко нес свое сильное тело на длинных, мускулистых ногах спортсмена. Входя на веранду, он снял шляпу, очарование исчезло: незнакомец был лыс. — Крэгс, — сухо сообщил он густым басом, протягивая Василию Ивановичу широкую, огрубелую ладонь. — Около недели назад я получил письмо от моего ученого друга, вашего соотечественника академика Андрюхина. Вам известно его имя? — Он строго взглянул на Василия Ивановича. Тот несколько удивленно и в то же время почтительно наклонил голову. Академик Андрюхин был одним из тех людей, которыми гордилась его великая страна, и странно было бы не знать его. — Мы переписывались и раньше, — продолжал Крэгс. — Я не собираюсь отнимать у вас время, вдаваясь в скучные для неспециалиста научные подробности, но мы оба занимаемся одной и той же отраслью науки. Ее называют кибернетикой. Стоим мы на крайних полюсах. Он идет от мысли, что человеку суждено жить на Земле еще многие сотни тысяч лет. Я убежден, что жизнь на Земле будет трагически прервана в ближайшие годы, быть может дни, и не скорблю об этом. Андрюхин добился невероятных результатов в борьбе со старостью. Более того, ему удалось, не понимаю как, вдвое и даже втрое продлить человеческую жизнь. Это весьма замечательно, только люди вряд ли воспользуются этими достижениями. Мои успехи гораздо скромнее. Убежденный, что человечество вырождается полностью, я совершенствовал свои электронные машины. Им я отдал всю жизнь. Мне удалось создать систему, при которой мои механизмы не только запоминают массу фактов, читают, пишут, переводят, делают любые вычисления, но и воспроизводят сами себя. Им не страшны ни радиация, ни болезни, ни адские температуры, ни взрывы самой необузданной силы. Они не боятся и старости. Они переживут всё. Я создаю новую расу, которая сохранит все лучшее, сделанное несовершенным человечеством… Но я хочу получить поддержку и советы великого ученого — вашего Андрюхина. Я надеюсь его убедить… Вдвоем мы совершим чудеса! Короче говоря, я хотел бы получить визу на въезд в Советский Союз. Вот письмо Андрюхина. Он, видимо, тоже интересуется моей работой и настоятельно приглашает меня приехать еще в этом месяце. Есть формальные трудности — я король Биссы. Мое королевство не признано вашей страной. У меня нет другого подданства. Но, конечно, я готов просить о визе по моему старому паспорту канадского гражданина, лишь бы скорее покончить со всей этой ерундой. Я хотел бы выехать в Советский Союз через неделю. — Не знаю, — хмуро проговорил Василий Иванович. — Я не уполномочен решать такие вопросы. Свяжусь с нашим посольством в Австралии… На темное лицо Крэгса легла тень. — Я слышал, что консул возвращается в конце недели. Надеюсь, вы передадите письмо Андрюхина консулу. Я позвоню ему. Предупредите его кстати, — в голосе Крэгса послышалось торжество, — что остров Фароо-Маро вчера куплен мной и присоединен к королевству Бисса. Василий Иванович молча поклонился. Он следил за гостями, пока темно-оливковая сигара не тронулась в сторону центра, и снова занялся своей таблицей. Через неделю король Биссы Крэгс и его премьер-министр Хеджес получили въездные визы и отбыли с неофициальным визитом в Советский Союз.
Глава пятая СТРАДАНИЯ Л. БУБЫРИНА
Я люблю зверье. Увидишь собачонку — тут у булочной одна — сплошная плешь, из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!Приближался установленный срок решающего опыта с Деткой. Весь академический городок занимался подготовкой эксперимента. Около массивного бетонного основания, которое под напором энергии необычайной силы дрожало, как кисея на ветру, дежурили круглые сутки сотрудники Института научной фантастики. Работники Института кибернетики во главе с профессором Ван Лан-ши вторые сутки не спали и не ели, занятые последними расчетами. Между тем в городе Майске текла обычная жизнь. Среди событий исключительных следовало, пожалуй, отметить лишь тот факт, что некий Леня Бубырин — Бубырь, как его прозвали одноклассники, — человек в общем веселый, сегодня выглядел крайне озабоченным и удрученным. Ни мать, ни отец, ни тем более учителя не могли бы даже разобраться в причинах забот и скорби Бубыря, и, уж конечно, не стоило ждать от них сочувствия. Дело в том, что через два дня должна была состояться решающая игра между командой их дома № 18 и сборной Лесного проезда, а шайбы до сих пор не было! То есть шайба еще не так давно была, и довольно хорошая. Ее вырезали из старой автомобильной шины. В то время как нижняя часть шайбы оставалась совершенно гладкой, верхнюю бороздили уже сильно сточенные от долгой езды, но еще вполне заметные, твердые, несгибаемые складки. Ребята приспособились к этим особенностям и знали, когда какой стороной лучше ее кидать. Немногие команды имели такую шайбу. Собственно говоря, она ничем не отличалась от настоящей. И Пашка Алеев, который добыл где-то кусок старой шины и сам вырезал эту замечательную шайбу, уверял, что шайба, которой играет первая команда непобедимого «Химика», будет даже малость полегче. Ну, а теперь ни у команды П. Алеева, ни у команды Л. Бубырина шайбы не было. И виноват в этом был безусловно Бубырин, чего он и сам не отрицал. Да, вина была его. Они проводили во дворе товарищескую игру. Все шло отлично. Леня, как всегда, стоял в воротах. Он был непрошибаемый вратарь. И на этот раз, как противники ни старались, они так и не могли открыть счет. Неожиданно к воротам вырвался сам Пашка Алеев. Все остались позади, а он мгновенно оказался перед замершим Бубырем и метнул шайбу в левый угол ворот. За какую-то ничтожную долю секунды до броска Бубырь разгадал, куда Пашка бросит шайбу, и рванулся в левый угол одновременно с ней. Бубырь не мог объяснить, почему так произошло. Словно какая-то сила толкала его туда, куда нужно. Он принял шайбу на свою широкую, прочную клюшку, сделанную из дубовой клепки. Непробиваемый вратарь и на этот раз оказался на высоте! Но затем случилось ужасное: отскочив от клюшки, шайба угодила не то в щеку, не то в нос одному пожилому дяденьке, который жил на четвертом этаже с двумя взрослыми дочками и в этот момент зачем-то проходил мимо. Дяденька что-то пробормотал — что именно, осталось неизвестным — и, подняв шайбу, вошел в свой подъезд. Сколько ни ныли потом ребята под дверями, сколько ни стучались, ни скреблись, ни бросали снегом в темное окно, все было кончено. Шайба к ним не вернулась. Лишь на второй день, жалобно всхлипывая, растирая несуществующие слезы на своей толстой и румяной, очень похожей на колобок физиономии, Леня выведал у одной из дочек сурового дяденьки, что шайба была брошена в помойное ведро, а оттуда попала в мусорный ящик. Нелегко среди бела дня и в то же время в глубокой тайне от домашних и даже от всех окружающих организовать тщательное изучение содержимого мусорного ящика. Но это было сделано. Не замечая вони, ребята палками разгребли все, что было в ящике, но шайбы там не оказалось… Может быть, мусорщики раньше очистили ящик, может быть, все выдумала хитрая дочка, но шайбы не было… Несколько дней пытались играть чем попало. На свалке Химкомбината среди всяких любопытных предметов нашлись разъеденные кислотой резиновые пробки. Их набрали больше сотни, но все они оказались слишком малы. Была перепробована масса различных предметов: кусок дерева, банка из-под ваксы, набалдашник от трости, старая мыльница, сломанный кубарь, замерзшее лошадиное яблоко, — но все это было не то! Игра как-то не клеилась. И вот тогда перед Бубырем «во весь рост» была поставлена задача: достать любой ценой новую шайбу. После того как очередное лошадиное яблоко от удара о клюшку разлетелось вдребезги, Пашка пододвинулся к Бубырю и негромко, но очень внятно сказал: — Чтобы завтра была шайба! А не то знаешь что будет? Это Леня знал. Он и то удивлялся, что его так долго не трогали. Вечером, после того как уроки были сделаны, он уселся на пол в самом уютном месте — между тумбой письменного стола и платяным шкафом — и принялся размышлять. План у него был. Но как привести этот план в исполнение? Дело в том, что в корзине, в углу коридора, хранилась масса старой обуви, которую мама еще не решалась выбросить окончательно. На папиных ботинках, совершенно негодных, были замечательные каблуки литой резины. По всем Лениным расчетам, такой каблук, конечно аккуратно отодранный от ботинка, представлял бы великолепную шайбу. Но между идеей и ее осуществлением было столько препятствий! Сидя в своем углу, Леня вспомнил, как папа рассказывал маме о том, сколько трудов ему стоило провести в жизнь свое изобретение. «Куда легче изобрести, чем внедрить!» — повторял папа с ожесточением, и сейчас Леня понял, что это совершенно правильно. Если обо всем честно рассказать маме и попросить ее отдать хотя бы один каблук, немедленно выяснится, что это еще хорошие ботинки, что они очень нужны, что мама собиралась со дня на день отдать их в ремонт и так далее. Стащить этот никому не нужный башмак было бы легче всего, но Леня давно установил, что стоило тронуть любую вещь, и мама, совершенно непонятно каким образом, об этом узнавала. Для того же чтобы найти этот крайне необходимый ботинок, придется наверняка перерыть всю корзину: чем вещь нужнее, тем дальше она лежит. Несмотря на все трудности, был избран вариант похищения. Оно состоялось в ближайший вечер, когда папа и мама ушли в клуб на спектакль, а старшая сестра, вместо того чтобы сидеть над уроками, воспользовавшись неожиданной свободой, удрала к подругам. Леня взялся за дело обстоятельно. Выдвинув корзину под яркий свет лампы, он прежде всего решил твердо запомнить, как что лежит, чтобы уложить потом обувь в таком же порядке. Чего только не было в корзине! Он встретил свои первые крошечные ботинки, от которых остался один верх, поудивлялся и похихикал над гусариками с голубым помпоном, не сразу сообразив, что это не так давно тоже было его обувью. Зачем мама их хранит? Он увидел свои башмаки, уже настоящие, но такие маленькие, что сейчас в них не влезла бы и половина его ступни. Как он и ожидал, нужные ботинки отца с литыми каблуками оказались в нижнем ряду. Как часто бывает, что, мечтая о какой-нибудь вещи, мы представляем ее себе куда лучше, чем она выглядит в действительности! Леня, скорбно оттопырив губы, с вытянутым лицом, вертел в руках папины башмаки. Действительно, каблуки у них были литые. Но как немного осталось от этих каблуков! Он долго прикидывал, какой же каблук мог хоть в небольшой степени сойти за шайбу, и наконец, вздохнув, остановился на левом. Отодрать стоптанный каблук дело вовсе не простое. Если не верите — попробуйте. Леня едва справился с задачей и успел убрать корзину, когда в дверь постучали. В этот момент он работал веником, скрывая следы своего преступления. Поспешно забросив веник за велосипед, а ногой сунув под шкаф остатки мусора, он открыл дверь, не вынимая из кармана кулак, где был зажат драгоценный каблук. — А-а, это ты! — вздохнул Леня с облегчением, увидев сестру. — А ты думал? — сухо отозвалась она, расстроенная виденным у подруги замечательным розовым платьем с кружевным воротничком. — Нет, я так просто, — ухмыльнулся Леня и тотчас ушел в ванную. Там, тщательно заперев дверь, он снова извлек каблук и, полюбовавшись им, решил, что вернее всего будет пока спрятать его в велосипедный футляр для инструментов. На следующий день, едва позавтракав, Леня вылетел во двор, сжимая в кулаке заветный каблук. Пашка хмыкнул не очень одобрительно, увидев эту шайбу. Однако решающим испытанием должна была стать игра. И вот, выпущенная из рук Лени, шайба неуверенно запрыгала по мерзлым кочкам и буграм двора. — Конечно, — сказал Леня, — если бы на льду… — А старая и здесь была хороша, — сурово изрек Пашка. Ясно, шайба легка и слишком уж плоская! Игру пришлось прервать. Леня чуть не плакал. — Идея хорошая, — сказал Пашка, ковыряя шайбу ногтем. — Но нужен нельм каблук. Понимаешь, новый. Нестоптанный… — Где же я его возьму? — всхлипнул Леня. — Вот этого я не знаю… Никто не подозревал, как внимательно изучал Леня в ближайшие часы ноги всех членов своего семейства. Он быстро убедился, что мать и сестра не представляют для него никакого интереса. Оставались отец и он сам, Бубырь. Но ему на зиму были выданы валенки, срезать же каблук с ботинок, в которых отец ходил на работу, было настолько рискованной затеей, что Бубырь сразу благоразумно от нее отказался. Было от чего прийти в отчаяние! И в тот момент, когда казалось, что все пропало, Леня с трепетом вдохновения вспомнил, что ему еще весной были куплены ботинки навырост, что они, целехонькие до сих пор, лежат в нижнем ящике шкафа, там, где мама хранила новую обувь, и что об этих ботинках вряд ли кто-нибудь вспомнит до новой весны. А это еще когда будет! Дождавшись снова, чтобы все разошлись и оставили его в квартире одного, Леня не только с чрезвычайной аккуратностью отделил каблук, но даже прибил на его место теми же новыми гвоздями старый папин каблук, не сумевший стать шайбой. Что касается нового каблука, то он не вызывал никаких сомнений. Это была настоящая шайба, даже лучше той, знаменитой, вырезанной из старой шины. А как хороша она оказалась в игре! Когда уже поздно вечером пришлось расходиться по домам, Пашка забрал шайбу себе. — Целее будет! — сказал он многозначительно. И от этих слов сердце Лени сжалось в тяжелом предчувствии. Ему сразу показалось, что он очень устал и ноги не торопились нести его домой. Но когда он решительно позвонил, а потом, потянув на себя тяжелую дверь, незаметно взглянул на лицо открывавшей ему сестры, то ничего особенного не заметил. И мама была спокойна. Она позвала его ужинать, они поговорили о школьных делах и о мальчишках, которых мама знала. Она расспрашивала о Пашке. И только! Леня даже принялся болтать ногами и победоносно взглянул на сестру, которая вечно корчила из себя старшую и даже сейчас сидела с какой-то непроницаемой физиономией. Разве сумела бы она так здорово раздобыть шайбу? Отец, поужинав, включил телевизор. И Леня благодушно подсел к нему, когда внезапно сверкнула молния: мама вошла в столовую, держа в каждой руке по башмаку, над одним из которых Леня произвел хирургическую операцию. Она молча сунула их отцу. Он взял их и, явно не зная, что с ними делать, постучал одним о другой: — Малы? — Полюбуйся на забавы своего сына! — зловеще произнесла мама. Лёне показалось, что он стал совсем маленьким, что если сжаться еще сильнее, то можно целиком уйти в щель кресла и там пересидеть то ужасное, что сейчас должно было разразиться. Папа внимательно осмотрел верх ботинок и, ничего не обнаружив, перевернул их подошвами к себе. По тому, как он присвистнул, чувствовалось, что зрелище произвело на него впечатление. — Тонкая работа! — сказал папа и попробовал ковырнуть пальцем приколоченный Леней старый каблук, но без всякого успеха. — Парень потрудился на славу! Леня чуть было не приподнял голову, но, вспомнив, что папины реплики на такие темы в присутствии мамы ничего не значат, продолжал сидеть смирно. — Странно, что ты способен шутить. — Мама сделала внушительную паузу, вполне достаточную для того, чтобы папа прочувствовал свое недопустимое легкомыслие. — Шутки сейчас совершенно неуместны. Ботинки стоили семьдесят рублей… За эти деньги папа должен работать целый день… Это уже адресовалось Лёне. — А что? — не выдержав, буркнул он. — Я их и такими буду носить… Папа щелкнул ботинком о ботинок и протянул маме. — Зачем они мне? — удивилась мама. — Ты слышал, он их будет носить. Отлично! Валенки я уберу, а ты завтра же наденешь эту обувь и шерстяные носки… Леня был уверен, что отделался очень дешево. Но, если кому-нибудь из вас приходилось носить ботинки с разными каблуками, вы легко вообразите те мучения, которые он испытал еще по дороге в школу. На переменах он не вылезал из-за парты, а когда шли домой, не выдержал и, прихрамывая, попросил Пашку отдать каблук. — Шайбу? — удивился Пашка. — Ты что? Только через сутки Пашка сжалился. В сапожной мастерской каблук поставили на место, мама снова убрала ботинки и выдала бедному Бубырю валенки. Как приятно было их надеть и ходить не хромая!.. Но шайбы снова не было. Следовало предпринять решительные шаги. Оля, старшая сестра, по указанию мамы или из-за своего зловредного характера, внимательно следила теперь за Леней. — Она мне прямо дышать не дает! — пожаловался как-то Бубырь отцу. — Ничего, сынок, — отец шутя подтолкнул Бубыря, — а ты знай свое, дыши помаленьку… Похоже было, что Бубырь принял эти слова, как разрешение действовать. Во всяком случае, уже на следующий день хоккей возобновился. И каждый вечер стоило больших трудов загнать Леню домой. Он приходил до того извалявшись в снегу, что на ворсе лыжного костюма каменели сосульки, а снег нельзя было счистить. Едва держась на ногах от усталости, розовощекий, с блестящими, потемневшими глазами, он победоносно посматривал на сестру. Оля и мама с ног сбились, пытаясь сначала выяснить, что же теперь из домашнего имущества стало шайбой, а потом — хоть взглянуть на эту шайбу, которая не давала им покоя. Но, конечно, шайба исчезала, как только они появлялись поблизости. Так прошли среда, четверг и пятница. Наступила суббота. Никто в Майске не подозревал, что именно сегодня кончается срок, установленный академиком Андрюхиным для опыта с Деткой. Андрюхин предложил было снабдить Детку ошейником и выгравировать на нем адрес, куда в случае отклонения от заданного пути нашедшему следовало доставить таксу. — Отклонения не будет! — решительно воспротивился Паверман. — Я не понимаю, Иван Дмитриевич… — Ну хорошо, хорошо! — согласился Андрюхин. — Не хотите дать Детке ошейник — не надо… Ничего не подозревая, жители Майска занимались своими обычными делами. По субботам, как всегда, мама командовала генеральным купанием всех членов семьи. И, хотя она была занята более, чем обычно, ей бросились в глаза угрюмость и озабоченность сына, непонятные после трех дней безудержного веселья. Маме, впрочем, и в голову не приходило, что эта смена настроений, ванна и хоккей имеют между собой что-то общее. После уроков, чуть-чуть перекусив, что уже само по себе свидетельствовало о смятении в душе Бубыря, и убедившись, что ванна затоплена, он сбежал во двор. Первой купалась Оля. По субботам она мылась не под душем, как ежедневно, а напускала для себя полную ванну воды. Вот это-то было ужасно! Она долго возилась, что-то бурчала, так что наконец мама, не слыша плеска воды, окликнула ее: — Ты что, заснула? Когда же ты думаешь мыться? — Не знаю! — сердито отвечала Оля. — Ну, что тут еще? — Мама появилась в ванной. — Что еще стряслось? — Куда-то засунули пробку! — раскрасневшаяся и растрепанная, сердито ответила Оля. — Ищу, как дура, целый час… И вдруг она, прервав себя на полуслове, молча уставилась на мать вытаращенными глазами. Мать таким же остановившимся и очень сосредоточенным взглядом рассматривала дочь, хотя видела, казалось, вовсе не ее. В следующее мгновение, кое-как накинув шубку, Оля выскочила во двор. Там в это время шел жаркий спор. — Отдай, — просил Леня Пашку. — Сегодня ведь суббота, все моются раньше… А не то отнимут… — Не отнимут! — упрямился Пашка. — Откуда известно, что она у тебя? Нету, и всё! — Все равно узнают! — хныкал Леня. Задыхаясь, с мокрыми кудряшками, прилипшими ко лбу, между ними выросла Оля. — Где пробка? — выдохнула она. — Давай живо, мама идет! Леня молча, жалобно и укоризненно смотрел на Пашку, и тот, отвернувшись, нехотя сунул ему пробку от ванны, последнюю, быть может самую великолепную, шайбу… Бросив Лёне какую-то очень злую угрозу, Оля умчалась. Ребята потоптались около Бубыря, посмеялись, повздыхали и тоже разошлись. — Ладно уж, валяй домой! — сказал милостиво Пашка. — Не бойся, не убьют дорогого сыночка… — И тоже ушел, посвистывая. А Лёне совсем не хотелось свистеть. Было холодно, скучно и одиноко, но идти домой он не решался. Падал редкий снежок; во дворе было так темно, что и снежинки казались темными. Все люди сидели дома, и в окнах как будто дразнились и хвастались приветливые разноцветные абажуры. А во дворе не было никого и стояла такая неприятная и тяжелая тишина, как будто все навсегда покинули Бубыря, ушли в свои веселые, теплые комнаты. Он слонялся по двору, обошел заваленный грязным снегом скверик. И, если бы кто-нибудь в эту минуту сказал ему хоть слово, он бы немедленно заревел. Но никого не было. Петляя по двору, он все-таки незаметно приближался к своему подъезду. Но, подойдя к нему, снова не решился войти и присел на корточки, подперев спиной стену. Честно говоря, Бубырь немного хитрил. Он ждал. Должна же была выскочить в конце концов встревоженная его исчезновением мама или хотя бы Оля. Им давно уже следовало бы поинтересоваться… Так он сидел, тыкая прутиком в снег, немного тоскуя, немного боясь темноты и немного сердясь на свое затянувшееся одиночество. Потом ему показалось, что прямо перед глазами сверкнула необычайно яркая лампа; он услышал какой-то треск, легкий щелчок. Его смутно удивил стремительный порыв теплого ветра. И тотчас что-то живое мягко ткнулось в его валенок. Это было так неожиданно, что Леня едва не взвыл от страха. Но тут же он услышал жалобное, тоненькое повизгивание. Неужели щенок? Недоумевая, откуда он взялся, Леня слегка нагнулся вперед, всматриваясь. Верно, щенок! Совсем черный! Леня стал поднимать ему каждое ухо, лапы и даже хвост, чтобы убедиться, что это действительно песик. Даже не щенок, а вполне взрослая такса, хоть и молоденькая. — Черная, как муха, — прошептал Леня, все еще с недоверием присматриваясь к песику. Главное, что смущало Бубыря, это совершенно неожиданное появление таксы из ничего, из воздуха. И еще то, что она была или больна, или сильно избита. В самом деле, он же сидел здесь долго, смотрел вокруг, прислушивался — никого и ничего. И вдруг — собачонка, да такая, каких никто поблизости никогда не видел! И почему она так жалобно визжит? Леня, все еще сидя на корточках, пощупал таксу со всех сторон, но она не взвизгивала сильнее, как если бы встретилось больное место, а продолжала так же однообразно скулить. И все время мелко дрожала, будто ее бил озноб. Значит, она все-таки больна. И Леня решился. Осторожно взяв ее на руки и кряхтя, как столетний дед, он приподнялся. Собачонка неожиданно завизжала на весь двор, будто ей сделали больно. — Ты что? — испугался Леня. — Чего ты? Он держал таксу на весу и пытался заглянуть ей в глаза, но и глаза и нос у нее были такие же черные, как и короткая шерсть. Ничего нельзя было рассмотреть. Вдруг влажное, теплое прикосновение заставило Леню рассмеяться. — Он лижется! — в восторге вскрикнул Бубырь, прижимая к себе песика. — Ах ты, дурачок! И, совсем забыв о ванне, о пробке и об ожидавших его дома неприятностях, Бубырь, перепрыгивая через ступеньки и крепко держа драгоценную ношу, помчался домой. Он жил на третьем этаже и на полпути наскочил на самую вредную девчонку, Нинку Фетисову, которую Пашка почему-то не велел никому задирать, а только сам лупил изредка. — Куда катишься, Колобок? — спросила она, раскачивая перед носом Лени кожаную сумку. Леня даже не обратил внимания на обидное прозвище. — Вот, видела? — Он торжествующе показал все еще дрожащую таксу. — Моя! — Откуда? — Глаза Нинки вспыхнули любопытством, и она протянула руку к собачонке. Но Леня плечом отбросил ее руку. — Нельзя! Укусит! Нашел я ее. Она сама появилась… — сбивчиво объяснил он. — Стащил, стащил! — закричала Нинка и тотчас перешла на вкрадчивый шепот. — Давай я ее лучше пока к себе заберу. Я знаешь как спрячу! Никто в жизнь не найдет! Будем владеть ею вместе, понимаешь, коллективно… — То-о-же выдумала… Отойди, не мешай! — Леня упорно пропихивался вперед мимо прыгавшей перед ним Нинки. — Лучше дай! А то всем скажу, что стащил, что сама видела, как тащил из сарая… — Из какого сарая? Ты что! — испугался Леня. Может, и справилась бы с ним хитрющая Нинка-пружинка, но в это время наверху с треском распахнулась дверь и мамин голос, хоть и сердитый, но очень приятный, приказал: — Марш домой! — Тетя Лиза, а он щенка украл! — тотчас закричала Нинка. — Я сама видела, на соседнем дворе… — И покатилась вниз по лестнице. Будто идя на казнь, преодолел Леня оставшиеся до мамы пятнадцать ступенек. — Когда же это кончится? — простонала мама, увидев Леню с его находкой. — У всех дети, как дети… Немедленно брось эту гадость! — Это такса, — тихо сказал Леня. — Такая собака… Она больная… — Больная собака! Заразная! Ужас! — закричала мама, пытаясь вырвать таксу. (Впервые песик взывал настоящим собачьим голосом.) — Он еще кусается, наверно? Бешеная! Брось сейчас же! — Меня он не укусит, — упрямо сказал Леня. Всю эту беседу они вели на пороге. Наконец мама, не выдержав, втолкнула его в прихожую вместе с прижатой к животу собачонкой. — Ну хорошо! — сказала она решительно. — Сейчас я позову отца… Как всегда в таких случаях, Леня внутренне дрогнул. Он не мог понять, в чем тут секрет. Ведь мама распоряжалась дома всем, папа тоже ее слушался. Но, когда нужно было пустить в ход самую страшную угрозу, она звала папу. И это производило впечатление. — Я больше не могу! — заявила мама, когда папа послушно выглянул из кухни. — Он притащил домой больную собаку и не выпускает ее из рук. Папа подошел ближе. — А кто тебе сказал, что собака больна? — спросил он, с интересом присматриваясь к песику. — Да он же, он сам! Пришел и заявил: собака больна… — По-моему, она здоровехонька. — Папа слегка потряс таксу за длинное ухо. И та, поворачивая голову за его рукой, смотрела так умно и внимательно, что мама замолчала и, хмурясь, уставилась в живые, удивительно разумные собачьи глаза. — Теперь она здорова, — со вздохом сказал Леня. И, не глядя на маму, приготовившись к подзатыльнику, Леня осторожно опустил таксу на пол. Песик вильнул хвостом, метнулся к папиным ногам, к маминым и, покорно перевернувшись на спину, заюлил всем телом, принюхиваясь к халату хозяйки. — Абсолютно здоровый пес! — весело сказал папа. — И безусловно неглупый. — Чепуха, — растерянно сказала мама. Безропотная покорность таксы произвела на нее впечатление. — Отлично, если она здорова, но мне не нужны ворованные собаки. Папа, слегка приподняв брови, вопросительно посмотрел на своего Бубыря. — Я сидел у стены, — начал Леня, сразу увлекаясь, — вот так на корточках, и ковырял палкой. Никого не было, и вдруг блеснуло и откуда-то свалилась эта вот Муха… Это я ее так назвал, потому что она совсем черная и очень веселая. — Что ж, ее выбросили из окошка? — поинтересовалась мама. — Нет. Я сам не знаю, как это случилось. Но только не было ничего, и раз — собака… Она ничья. — Ну вот видишь, — сказал папа, щекоча мягкий Мухин живот, — она ничья. И чистенькая. — Пусть и останется ничьей, — не очень уверенно сказала мама и ушла на кухню. — Пусть переночует, а утром — вон! Папа и Бубырь обменялись понимающим, торжествующим взглядом. Так в квартире Бубыриных осталась неизвестная собачонка. Не раз в течение вечера мама, вспомнив о ее таинственном появлении, бросала начатое дело и пробовала беседовать с Мухой. — Непонятная собака, — говорила мама, — что-то есть в тебе странное. Откуда ты взялась? Терпеть не могу секретов! Муха внимательно прислушивалась к этим разговорам… Но через час, привыкнув, она при первом звуке маминого голоса, если в нем раздавался знакомый вопрос, опрокидывалась на спину и весело шевелила хвостом, ожидая, когда пощекочут ее брюхо. — Во всяком случае, — заканчивала мама, — ты как будто действительно здорова… Никто не знал, что теперешнюю Муху звали раньше Деткой, что она прожила необыкновенную и очень важную жизнь, что ее ищут и за ней охотятся… Десятки людей уже шли по ее следам.В. Маяковский
Глава шестая ТРЕВОГА
Среди множества людей, которых так или иначе коснулось исчезновение собаки, был и тот самый парень, которого Юра Сергеев встретил в парке научного городка возле стенда с Деткой. Этого парня за пьянство и нерадивость недавно уволили из института. Такая история была для него теперь совсем некстати. Когда он встретил несколько дней назад в Майске незнакомого человека, с которым вместе выпил, то полагал, что все будет куда проще. Собутыльники договорились, что парень украдет черную таксу Детку и передаст ее новому приятелю. А этот приятель был хоть с виду и древний старец, но настоящий мужик: деньги он не считал, сунул новому знакомому пятьсот на расходы и обещал еще тысячу, если все будет как надо. Сам он служил в каком-то другом институте или в лаборатории не то в Майске, не то в Москве. Парню он поставил условие: выкрасть собачонку так, чтобы Андрюхин ничего об этом не знал. В это утро Леня Бубырь — единственный человек, который многое мог бы рассказать об исчезнувшей таксе, — изнывал от безделья. Уроки были сделаны вечером, с Мухой он поиграл; до занятий оставалось больше трех часов, а делать было совершенно нечего. Леня уже дважды, захватив клюшку, выходил на двор. Но все словно сквозь землю провалились. В это время мама выпустила Муху погулять. И Леня с черным песиком помчались наперегонки через двор. Пока Муха металась где-то у сараев, он подбежал к третьему корпусу, подкрался к углу. Уже слыша негромкие голоса ребят, он переждал минуту, хихикая от нетерпения, и наконец выскочил из-за угла с криком: — А вот он и я! Тут же Бубырь отшатнулся и испуганно прижался к холодной стене. Прямо против него стоял незнакомый парень лет восемнадцати, а может и двадцати, в маленькой кепочке, сделанной, казалось, из одной пуговицы, и в короткой куртке с большим, поднятым вверх воротником. Парень курил и, щурясь от дыма, пускал вонючее облачко прямо в розовое лицо Бубыря. Леня бросился со всех ног к ребятам. Дикий свист пронесся, кажется, над самым его затылком. Но он уже видел Пашку, Вовку, всех других и, оглянувшись, убедился, что незнакомец следует за ним шагом, с ленивой ухмылкой. К тому же через пустырь, кувырком скатываясь с бугров в колдобины, по уши утопая в снегу, но захлебываясь злым лаем, галопом неслась на помощь Муха. У Бубыря отлегло от сердца, и он, за несколько метров от ребят перейдя на шаг, незаметно перевел дух, уверенный, что ребята встретят его насмешками. Но Пашка хмуро смотрел на медленно подходившего парня. — Кто это? — тихо спросил Бубырь. — Чужой, не знаю, — нехотя процедил Пашка. — Да видно, что хулиганье. Говорит, собака у него пропала… — Так как же будет, ребятки? — очень вежливо, как ни в чем не бывало, спросил незнакомый парень, подходя ближе. — Поможете сыскать собачку? Он не договорил. Задыхаясь, не то с лаем, не то с визгом, ему в ноги бросилась Муха, яростно рыча и изо всех своих небольших собачьих сил норовя вцепиться повыше кокетливого сапожка незнакомца. Он даже не отдернул ногу, внимательно рассматривая Муху. — Это… это чья же такая сердитая? — Незнакомец сунул руку во внутренний карман куртки, достал что-то, быстро поднес к глазам и тотчас спрятал. — Моя… — нерешительно выговорил Леня после короткого молчания. — Давно завел? — спросил парень без улыбки таким тоном, что сердце у Бубыря снова сжалось. — А я и не знал, что у тебя собака, — хмуро сказал Пашка. И Лёне ничего не оставалось, как признаться, что собака у него недавно, совсем недавно, в общем, всего два дня, что она приблудилась и хозяина Леня не знает… — Не знаешь? — Лицо парня стало совсем ласковым. — А ведь хозяин-то я. Моя это собачка!.. — И он позвал таксу: — Детка!.. Детка! И тогда все увидели, как, слабо вильнув хвостом, не поднимая головы, такса покорно перевернулась вверх брюхом у сапог своего владельца. Выдержать такое предательство Бубырь не мог. — Муха! — завопил он отчаянным голосом. Но, прежде чем такса успела переползти к Бубырю, незнакомец мгновенно нагнулся, схватил бывшую Муху за холку и сунул за пазуху, в свою куртку, сразу оттопырившуюся бугром.* * *
Еще ничего не зная об исчезновении Детки, Юра и Женя медленно брели в это время на лыжах по лесной просеке. С тех пор как, по личному распоряжению академика Андрюхина, для неусыпных наблюдений за здоровьем Юры Сергеева в помощь профессору Шумило прикрепили студентку четвертого курса Горьковского мединститута Женю Козлову, в характере Жени произошли крайне нежелательные изменения. Она стала требовательной, раздражительной и обидчивой, а от ее веселости не осталось и следа. Юра, первый заметивший эту перемену, объяснял ее скукой и бездельем. Действительно, делать его личному врачу, как прозвали Женю, было совершенно нечего. Три дня в неделю Юра проводил в академическом городке, испытывая, как он говорил, особое снаряжение. Больше из него ничего нельзя было выжать, да ребята и не пытались, понимая, что дело серьезное. Эти три дня Женя находилась с Юрой в городке Андрюхина. Потом они уезжали в Майск. И Юра возвращался к своей основной работе, а Женя, так же как и в академическом городке, обязана была каждые три часа измерять у него давление крови, температуру, делать специальные укрепляющие внутривенные вливания… В промежутках она томилась от безделья, да и сами эти процедуры как ей, так и Юре надоели очень скоро. Впрочем, Женя, стоя на страже достоинства медицины и ее тайн, недоступных простым смертным, строго пресекала малейшие попытки Юры уклониться от процедур или хотя бы поиронизировать над ними. — Противно смотреть, какой ты нормальный! — бубнила Женя, скользя следом за Юрой. — Давление нормальное. Температура нормальная… Вчера вливала в вену десять кубиков, так хотя бы точка осталась, хоть след… Если бы я не видела своими глазами, что ты проделываешь у Андрюхина, не поверила бы ни за что! Как можно оставаться таким возмутительно здоровым! А в лесу было чудесно! И постепенно, незаметно для них, молчаливая прелесть заснеженных елочек, суровая красота сосен, сонное небо, которое, готовясь задремать, всерьез куталось в облака, странные шорохи в глубине леса, где кто-то еще бегал или крался по следам, — все это словно входило в них, растворялось, делая их спокойнее, серьезнее и лучше… Теперь они шли медленно. И с каждым шагом в Жене разгоралось желание поговорить о чем-то большом и очень важном, что, она чувствовала, могло быть выяснено именно сейчас. А Юру все больше охватывало чувство радостной бодрости. Он бежал, играя палками, напевая себе под нос, и то и дело улыбался и даже коротко похохатывал своим быстрым и смешным мыслям. — Вот так и все, — вздохнула Женя, — шумят, прыгают, толкутся в магазинах… — Ну и что? — А война? — строго спросила Женя. — Я где-то читала, что вполне возможно изготовить такую бомбу, которая при взрыве даст воронку диаметром до восьмидесяти километров. И на площади более тысячи квадратных километров будет уничтожена всякая жизнь. Представляешь? Один человек, покуривая сигарету, нажмет кнопку — и из брюха самолета вывалится бомба, и через несколько мгновений перестанут существовать миллионы людей, и все, что было создано их трудом, трудом их отцов, дедов, прадедов, десятков поколений… — Но до этого, — медленно возразил Юра, — другую кнопку нажмет другой человек… Самолет с ядовитой начинкой будет выброшен за тысячи километров от Земли и там уничтожен. Женя пристально посмотрела на него. — Это так же возможно, как и кобальтовая бомба, — усмехнулся Юра. — Сейчас — а впрочем, это было, наверное, всегда — живут две науки: одна работает над тем, как наиболее эффективно и подешевле уничтожить людей; другая делает все, чтобы люди с каждым поколением жили разумнее и лучше. Конечно, кобальтовая бомба — это страшная сила. Только она вызывает еще большее отвращение и безудержную злобу к тем, кто, несмотря ни на что, готовит войну. У Андрюхина работают ученые всего десятка стран, но как колоссально много они уже сделали против войны! — А зачем приезжает Крэгс? — спросила Женя. — Совершенно не понимаю. — Юра шевельнул массивными плечами. — Как может ученый допустить, что мир погибнет? А ведь Крэгс верит в это. И знаешь, кажется надеется перекрестить в свою веру Ивана Дмитриевича. Вот будет потеха! Юра радостно захохотал, предвкушая эффект затеи, которой академик Андрюхин хотел встретить коллегу. — Больше всего меня бесит беспомощность! — упрямо сказала Женя. — Какая беспомощность? — сердито удивился Юра. — Ведь это мы не даем упасть бомбе! Конечно, каждый из нас поодиночке мало что может, но все вместе мы, как одна рука, уже много лет удерживаем бомбу. Это, по-твоему, беспомощность? Они помолчали. Теперь Юра хмурился, а на лице Жени проступила робкая улыбка. — По-моему, это хорошо, что люди думают о работе, о семье, о своем городе или о новых штанах, — продолжал Юра. — Пусть шутят, смеются, любят друг друга, растят детей и не думают об этой чертовой бомбе. Было бы ужасно, если бы, испугавшись, люди забыли о жизни, о ее маленьких радостях, которые складываются в общую, большую, если бы день и ночь, корчась от страха, люди думали о войне. Тогда она бы скоро началась. — А ты знаешь, что, собственно, делает Андрюхин? — То же, что и мы все: не дает бомбе упасть. Вот кто не боится войны! Он убежден, что войны не будет, а если она все же случится, мы сумеем предотвратить и преодолеть любые ее бедствия. Ты ведь знаешь, что вчера произошло в лабораториях Андрюхина? Детка указала дорогу людям! Человеку!Глава седьмая ПОИСКИ
Узнав о пропаже Детки, население академического городка бросилось на поиски, как по боевой тревоге. Юра с Женей собрали лыжную команду. Всю ночь лыжники прочесывали окрестные леса и овраги, исходив десятки километров. Выбившийся из сил, ставший похожим на сумасшедшего, профессор Паверман двое суток безуспешно обшаривал каждый кустик на трассе. Ничего не дали и ночные поиски, организованные Женей и Юрой. Следовало искать собаку в самом городе. И Майск немедленно стал похож на огромную выставку собак. Никто и не предполагал, что в городе их так много. Фотографии сизображением таксы, пропавшей из Института научной фантастики, появились к двенадцати часам дня, но и после этого вели собак всех мастей. Вой стоял над городом. Мальчишки натаскали столько щенят, что город пропах запахом псины и молока. Весь этот собачий базар проходил на большом поле футбольного стадиона. Теперь поле стало малым, хоккейным, и вокруг оставалось много места для собак, их хозяев и бригады из Института научной фантастики, которая возглавила поиски пропавшей таксы. Руководил этой бригадой высокий, костлявый, огненно-рыжий профессор Паверман. Сквозь очень сильные очки глаза его казались маленькими и злыми. Ни на мгновение он не оставался в покое. Пробегая по наскоро сколоченной трибуне, мимо которой проводили собак, он то и дело соскакивал на поле и кричал, хватая хозяев собак за рукава и отвороты пальто: — Вы что, издеваетесь, да? Разве это собака? Это теленок! Зачем мне ваша овчарка? Такса! Понимаете? Маленькая, вся черная, веселая, добрая, умная такса! На него не обижались: видели — человек не в себе. А собак привели, чтобы хоть чем-нибудь помочь: может, пригодятся. По радио уже дважды передавали запись короткого выступления академика Андрюхина с обращением к жителям Майска и окрестных колхозов: «Дорогие товарищи! От имени всего коллектива наших ученых прошу вас оказать всяческую помощь в поисках пропавшей собаки! С ней связано важное для нашей страны открытие. Собаку необходимо отыскать срочно, в противном случае поиски станут бесцельными…» В середине дня над стадионом повис вертолет. На трибуну, где бегал Борис Миронович Паверман, выбросили с вертолета лесенку. По ней, словно большой, темный жук, быстро перебирая ступеньки, спустился незнакомый большинству человек с отличной бородой и веселыми, яркими глазами. Это был Андрюхин. — Нашли?! Паверман отчаянно махнул обеими руками, едва не сбив с Андрюхина шапку: — Вообще ни одной таксы! Конечно, были и таксы — правда, немного. Каждый раз, когда среди визжащих, рычащих, старающихся мимоходом цапнуть кого-нибудь псов появлялась приплюснутая, с висячими до земли ушами раскоряка-такса, словно карикатура на настоящую собаку, вся бригада, ученых сбегала с трибуны и мчалась ей навстречу, наступая на собачьи лапы и хвосты. Впереди всегда неизменно оказывался Борис Миронович. Хотя руки у него, много раз перевязанные бинтами и даже просто носовыми платками, были все изгрызены неблагодарными псами, он первый хватал таксу на руки, иногда только рискуя получить новые укусы, а иногда и получая их. Не все было напрасно. Вертолет, сделав круг над стадионом, ушел вертикально вверх и исчез. Ребята с Ленькиного двора и соседних домов последними в городе узнали о пропаже необыкновенной собаки. Узнали они обо всем от Нинки. Со всех ног подлетела она к Бубырю, зажав в кулаке содранное с забора объявление с фотографией черного песика. На фотографии Детка казалась старше, крупнее, но Леня сразу узнал. — Муха! — простонал он горестно, вырывая у Нинки фотографию. — А где же она? — тотчас затараторила Нинка. — Где? А? Я все видела, я все помню! Теперь ты не отвертишься! Я все равно от тебя никогда не отстану… Лучше давай вместе сдадим, вдвоем. Так и понесем! Сначала ты, потом я. Хочешь?.. Знаешь, какие мы станем известные? На весь город! Могут даже в газетах написать: пионеры-отличники Бубырин и Фетисова вернули академику Андрюхину его замечательную собаку… — Заткнись! — диким голосом взвыл Бубырь, не в силах дальше терпеть. — Нет ее у меня. Нинка не сразу поверила, что собаки действительно нет. Только когда все ребята и Пашка рассказали, как сами, своими руками отдали Муху неизвестному парню, Нинка, все еще недоверчиво ворча, отстала от Бубыря. — Дураки! Ох, дураки! — заявила она, с невыразимым презрением глядя прямо на Пашку. — «Мы, мальчишки! Мы, самые умные! Всё можем!» Тьфу! Дурачье!.. — Что же теперь будет? — тоскливо спрашивал всех Бубырь. — Что с нами сделают? — Ничего не сделают! — отрезал Пашка. — Что, ты ее украл, что ли? Приблудилась, и всё. Кто ж ее знал, что это не простая собака, а научная, да еще академика Андрюхина. Мало, что ли, собак по городу бегает!.. Бояться нечего. Пошли! Он вскочил со скамейки и потащил за собой упирающегося Бубыря. Как были, на коньках, вылетели ребята со двора. — Куда мы бежим? — испуганно пискнул Бубырь. — На стадион! Ты слышал — они там, ну, эти, ученые… Сейчас мы им всё выложим. Пусть ищут! Будь уверен, найдут! — Попадет! — простонал Бубырь сморщившись. — За это — ничего. Пусть попадает! — Пашка деловито, на ходу, плюнул. — Пусть даже выдерут. Не обижусь. Чего там! Даже легче станет. Ведь я еще вчера понял, что это за парень: чужой человек! Но откуда он про нее знал? — Подожди! — остановил огорченного Пашку Леня. — Он и вторую кличку тоже знал — Детка! Помнишь, она к нему бросилась, когда он ее так называл… Выходит, он не просто собаку искал, а именно эту, научную, которая у академика пропала… Что же это за парень, а? Последние слова Ленька произнес почти шепотом, потому что ему внезапно стало страшно. Он побледнел до синевы и с трясущимися губами, молча вытаращив глаза, взирал на Пашку. С лицами сосредоточенными, сумрачными и даже торжественными Бубырь и Пашка медленно тронулись к стадиону. Из шумной оравы нетерпеливо воющих псов и их замерзших, но упрямо не уходивших хозяев мальчишки выбрались к трибуне. — Гляди, Юра Сергеев, Бычок!.. — подтолкнул Пашка Бубыря и побежал под трибуну, в помещение, где перед играми обычно переодевались хоккеисты. Потом Юра и Пашка ушли в милицию рассказать о парне, похитившем Муху, а Леню провели к высоченному рыжему человеку, которого все называли профессором. Они сидели за столом, друг против друга. И Паверман, ломая голову, с какого бока ему подступиться к своему собеседнику, затачивал карандаш. — Ты должен вспомнить все, что знаешь о нашей собаке. Все! Любая мелочь может иметь громадное значение… Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Приготовься отвечать. Помни, если ты что-нибудь забудешь, история тебе не простит! Но будет еще хуже, если ты что-нибудь присочинишь. Ты ведь врунишка, а? Лишь крайнее возмущение поддерживало силы Бубыря. Он даже не ответил своему собеседнику, только фыркнул. Но тот ничего не заметил. — Только правду! Только правду! — Профессор звонко щелкнул очинённым карандашом о стол. — Внимание! Слушай первый вопрос. Где, когда, при каких обстоятельствах ты встретил впервые нашу Детку? — Это Муху, что ли? — проворчал Леня. Паверман нервно поправил очки и еще раз стукнул карандашом: — Мальчик, нам необходимо договориться о терминологии. Собака, о которой идет речь, носила кличку Детка. Детка, и только Детка! Иногда, в веселые минуты, ее называли наш Большой Черный Пес, но это было неофициальное прозвище. Ты мог ее назвать Мухой, Комаром, Стрекозой или Кузнечиком, от этого ничего не меняется. Она — Детка!.. Точность! Итак? — Чего? — не понял Леня. — Я спрашиваю, где, когда и при каких обстоятельствах ты увидел нашу собаку? — Вечером… — Совершенно неопределенное понятие! Чему только учат в наших школах!.. В котором часу? — А я не знаю… Что у меня, часы на руке, что ли? — Леня рассердился. Ему уже захотелось есть от всех этих передряг. — Может, в полдесятого, а может, и в десять. — Да, да, да! — Профессор Паверман неожиданно вскочил и, сжимая ладонями виски, быстрой рысцой пробежал из угла в угол. — Совпадает! Совпадает!.. Ты видел эту собаку восемнадцатого февраля, в двадцать один час сорок шесть минут семь секунд. Запомни это, мальчик! Наступит момент, когда тебе будет завидовать все человечество! Ты первый и единственный из людей… — Тут он сильно дернул себя за рыжие кудри и круто повернулся к Лене: — Итак? Леня недоумевающе смотрел на него, но страх постепенно улетучивался. — Я спрашиваю, где произошло это всемирно-историческое событие? — У нас во дворе, — нерешительно выговорил Леня, присматриваясь, не смеется ли ученый. — Точнее! Точнее… На этом месте воздвигнут памятник. — Я сидел у стенки, около двери с нашей лестницы во двор. Было скучно. И вдруг чего-то как упало мне на коленки!.. — Не торопись, не торопись! Подумай хорошенько! Вспомни! В это мгновение было совершенно тихо или… — Словно бы что-то щелкнуло, — задумчиво произнес Леня, — или треснуло… И вроде как ярко так сверкнуло… — Ага, ага! — Перо ученого быстро забегало по бумаге. — Звук был громкий? — Нет. Я еще подумал, что это у бабушки с нижнего этажа перегорел предохранитель. — Не путай меня! Бабушка здесь ни при чем… Припомни теперь как можно лучше: в каком состоянии была собака в то мгновение, когда ты увидел ее? Это необычайно важно, это самое важное! — Я ее не увидел, — честно признался Леня. — Было так темно, что я и себя не видел. Она вся черная! Понимаете? Когда она прижалась к моему валенку, я от неожиданности валенок отдернул, и она повалилась как мертвая… — Боже мой! Бедный пес! — Паверман приподнялся за столом и впился глазами в Леню. — Ну? — Я потрогал ее… Знаете, я сначала подумал — это щенок! Потрогал за уши, за ноги, потом пощупал нос, и вдруг она меня лизнула. Честное слово! — Это очень важно! — Ученый торопился записать каждое слово Бубыря. — Чрезвычайно важное, сенсационное сообщение! Не мог бы ты припомнить — постарайся! подумай! не спеши! — не мог бы ты припомнить, сколько времени прошло от того мгновения, когда ты увидел собаку, до того, как она тебя лизнула? Резким жестом он сорвал с носа очки и уставился на Леню невооруженными глазами, от нетерпения слегка приоткрыв рот. Глаза его без очков были большие, очень добрые и растерянные. Он умоляюще смотрел на Леню. Усмехнувшись, Леня совсем расхрабрился: — Сколько времени?.. Да совсем немного — может, пять минут, а может, десять. — Пять или десять? — Ученый снова надел свои страшные очки, и добрые глаза спрятались. — Не знаю… Может, и десять. Паверман в отчаянии бросил карандаш: — Это невозможно! Ты был в самом центре событий! Но ты совсем не вел наблюдений. Такая небрежность! Здесь необходимы точные данные! Бубырь растерянно опустил голову. — Нет у меня точных данных… — пробормотал он сконфуженно. — Плохо, очень плохо, дорогой товарищ! — Паверман снова вскочил и пробежал по комнате. — Из-за твоей ненаблюдательности в поступательном движении науки произойдет крайне нежелательная задержка! — Он опустился на стул против Лени. — Итак? Леня поднял на него умоляющие глаза: — Ну не знаю я… Паверман решительно постучал карандашом: — Дальше, дальше! Незачем мусолить ваше незнание… Что было дальше? — Я схватил Муху на руки… — Детку! — сердито перебил Паверман. — Ну, Детку… Схватил на руки и побежал домой. Она была уже совсем живая. Только как будто больна… Мама еще не хотела пускать ее в квартиру. — Как — не хотела пускать? Возмутительно! Неужели можно было допустить, чтобы собака замерзла на улице? — Но папа сказал, что она уже здорова. И, правда, пока мы говорили, она развеселилась! Может быть, она просто смущалась сначала? Это бывает даже с людьми. — Возможно, возможно… — рассеянно согласился Паверман. — Значит, тебе и твоим родителям показалось, что не позднее чем через полчаса после того, как ты увидел собаку, она уже полностью пришла в себя? И больше она не болела? — Нет, ей у нас было хорошо. Даже мама примирилась с ней и кормила. — Послушай, — осторожно начал ученый, глядя на Леню сбоку и нерешительно покашливая, — а ты ничего не замечал потом такого… необыкновенного? — Нет, — ответил Бубырь, сразу оживившись. — А что? — И твои родители тоже?.. Впрочем, я их расспрошу. Детка всегда тебя узнавала? — Ну конечно! — Леня даже обиделся. — Она визжала за дверью, как только я поднимался по лестнице! — А не случалось ли ей лаять так просто — ни с того ни с сего? Или вдруг что-нибудь рвать, грызть? Всегда ли она узнавала пищу, воду? — Вы думаете, если больная, так сумасшедшая? — От возмущения Леня встал. — Она понимала всё на свете! — Тут же он вздрогнул и посмотрел в сторону. — Был, правда, один случай… — Да? — До сих пор не могу понять, — Бубырь поднял на ученого глаза, полные искренней тоски, — почему, когда тот парень, ну, который увел Муху, то есть Детку, назвал ее старой кличкой, она вздрогнула и пошла за ним! Одно ухо у нее стало торчком, и, когда он снова повторил «Детка», она бросилась его обнюхивать, завиляла хвостом и даже перевернулась на спину, задрав ноги! Мама называла это «верх покорности». А всего за минуту до этого Муха бросалась на пария как на чужого, она защищала меня и знаете как рычала! Готова была его разорвать! Чего ж она покорилась? — Он назвал ее так, как называли мы все в институте… — Паверман снял очки. (И Леня удивился, какие у него нежные глаза). — Это была необыкновенная собака! — сказал он растроганно. — Тонкий аналитический ум!.. А ты молодец, ты умнее, чем кажешься с виду. Смотри, как хорошо все запомнил! Ты помог нам. Понимаешь? Помог науке! Это большая честь. И если когда-нибудь ты станешь ученым, то свою научную биографию можешь начать с сегодняшнего дня.Глава восьмая ПОДГОТОВКА
Кроме сотрудников академического городка во главе с Иваном Дмитриевичем Андрюхиным, Крэгса встречали на Майском аэродроме десятки журналистов. Самолет, шедший без посадки от Праги, возник далеко в небе и через мгновение уже взревел над аэродромом. Вскоре появились пассажиры. Впереди, удивительно похожий на пирата, шел, настороженно улыбаясь, Крэгс, за ним величаво двигался Хеджес, опираясь на плечо какого-то молодого великана в шляпе набекрень. Этого русского атлета, с лица которого не сходила невозмутимая улыбка, Хеджес приметил в баре пражского аэропорта, и они сразу понравились друг другу. Во всяком случае, Хеджес был очень доволен своим новым знакомым, носившим, правда, очень трудное имя — Петр Николаевич. Спускаясь с самолета, Хеджес оступился, и так неловко, что его приятель едва успел подхватить незадачливого премьер-министра Биссы. Цепляясь за Петра Николаевича, Хеджес впервые заподозрил что-то неладное. Лицо Петра Николаевича преобразилось: улыбку сменила плаксивая гримаса, зубы задрожали, и все услышали странные, жалобные звуки, отдаленно напоминающие рыдания. — Что такое? — пролепетал Хеджес в явном испуге. — А, черт возьми! — и академик Андрюхин с этими словами быстро подошел к Петру Николаевичу и провел рукой по его кадыку: звук мгновенно прекратился. — Прошу извинить. По замыслу это должно было изображать рыдания в связи с грядущей гибелью человечества… — Он покосился на Крэгса. — Но наши звуковики изобразили бог знает что… — Позвольте! — пробормотал Хеджес. — Вы хотите сказать, что этот тип, — пятясь, он показывал пальцем на Петра Николаевича, — не человек? Андрюхин соболезнующе развел руками. — Но он пил пиво, всю дорогу напевал песенки… — А почему бы и нет? — поднял брови Андрюхин. Установленный порядок встречи не позволял останавливаться на этом вопросе, тем более, что Петр Николаевич куда-то исчез. Теперь прямо на Крэгса и Хеджеса, среди расступившихся журналистов и ученых, двигался краснощекий, толстый мальчишка лет десяти с огромным букетом цветов. — Дорогие гости… — пролепетал он вздрагивающим голосом, остановившись чуть ли не за две сажени. — Наши дорогие гости… — А этот из чего сделан? — крикнул Хеджес и, подойдя вплотную к толстому мальчишке, довольно бесцеремонно ухватил его костлявыми пальцами за плечо. — Ну, это вы бросьте! — Мальчишка отступил на шаг, отмахиваясь от него букетом. — Я — Леня Бубырин, самый настоящий человек. А вы профессор Крэгс? Но настоящий Крэгс, отодвинув Хеджеса, подхватил букет и попробовал было поднять в воздух Леню, но не рассчитал свои силы. — Это только Юра может… — сообщил Леня, хмуро поправляя шапку и втягивая свой живот. — А вы не пират? — Нет. — Крэгс с непривычным для него удовольствием рассматривал Леню и, что было совсем уже странно, искренне пожалел, что стал ученым, а не пиратом. — Но я живу на островах Южного океана и делаю черепах… — Вы привезли их? — Глаза мальчишки сверкнули любопытством. — Нет, — сказал Крэгс, совсем расстроившись. Тут его отвлекли и не дали больше поговорить со славным мальчуганом. Ученые на нескольких машинах, не задерживаясь в Майске, двинулись в академический городок. Едва машины, оставив Майск, вырвались на шоссе, Крэгс подчеркнуто холодно сказал: — Мне не понравилось одно ваше замечание, господин Андрюхин… Вы изволили подшутить над моими убеждениями в неизбежной и близкой гибели человечества. — Что же, я должен носить траур? — спросил Андрюхин, не оборачиваясь, так как он сам вел машину. — Бестактно. Дешевая острота, — отчеканил Крэгс. — Вроде тех, которые вы щедро расточали в своем неджентльменском письме… Полагаю, лучше всего заявить сразу: я приехал в вашу страну с официальным визитом, а вовсе не как ученик к своему учителю. Я приехал с особой миссией… — Кстати, в чем она заключается? — Андрюхин снова, не очень вежливо, перебил Крэгса. — Знаете, я сгораю от любопытства… — Вам придется потерпеть, — помолчав, едва выдавил Крэгс. — Я не намерен в такой обстановке рассматривать важнейшую для человечества проблему. — Обстановка самая подходящая, — улыбнулся Андрюхин. — Мы приближаемся к Институту научной фантастики. — Научной фантастики? — Крэгс пожал плечами. — Я просто не могу поверить, профессор. Вот вы чем занимаетесь… И вы коммунист? — Конечно, — просто ответил Андрюхин. — Вздор! — проворчал Крэгс. — Я всегда презирал политику, социологию и прочую чушь. Сейчас человечество может решить любой спор, не прибегая к сомнительным личным симпатиям и антипатиям, а целиком доверившись кибернетике, машинам. Даже спор между социализмом и капитализмом! Андрюхин, вскинув голову, с любопытством взглянул на Крэгса, но тот, не заметив этого взгляда, увлеченно продолжал: — Вы хотите мира, профессор, не так ли? Вы хотите, чтобы разум наконец восторжествовал? Андрюхин молча наклонил голову, рассматривая бежавшие навстречу кусты. — Я верю, что и все ваши друзья, миллионы и миллионы людей во всех странах, также горячо жаждут мира. Даже мой Хеджес мечтает о мире, правда лишь потому, что боится за свою шкуру… Уничтожения не может желать никто. Давайте же дадим человечеству мир, профессор! — А вы думаете, все дело в нас, в ученых? — спросил Андрюхин, не поднимая глаз, чтобы Крэгс не уловил промелькнувшей в них насмешки. — Вы поймете, вы согласитесь… — Никогда еще Крэгс, хмурый, немногословный, язвительный человек, не был в таком волнении. — Вы спрашивали о моей миссии. Она крайне проста. При всей своей величественности она может быть выражена в двух словах: доверимся гению созданных нами машин. Люди ограниченны. Человеку не под силу учесть все плюсы и минусы, имеющиеся в вашем и нашем социальном устройстве. А машины могут учесть всё! Они вне симпатий и предрассудков, обременяющих нас. Они вынесут решение, которому будет обязано следовать все человечество. Они определят: капитализм или социализм! Скажите, — голос Крэгса прозвучал надеждой, — вы, ваш народ, ваше правительство согласились бы на такой эксперимент? — Простите… — опешил Андрюхин. — Вы что это, серьезно? — Я никогда не говорил серьезнее! — торжественно заявил Крэгс. — Доверимся же машине! Пусть она, как безусловно нейтральная сила, решит, на чьей стороне правда. Человечество должно будет подчиниться этой истине!.. Андрюхин посмотрел на Крэгса с некоторым сочувствием, как смотрит врач на неизлечимого больного. — Да, да, — забормотал Андрюхин, соображая, как бы ему не очень обидеть Крэгса, — да, да… Когда-то, в рыцарские времена, говорят, перед сражением выезжали от каждого войска по богатырю, и победа присуждалась тому войску, чей богатырь одолевал своего противника. — Черт возьми, вы будете такими богатырями! — заорал Хеджес. — Вот это игра! Игра по крупной! Ставок больше нет, господа… — Замолчите, вы! — гневно бросил Крэгс и, словно извиняясь перед Андрюхиным, прибавил по-французски: — Ничтожество… — Тем не менее он уловил… мм… слабую сторону вашего плана, — ответил Андрюхин. — Это действительно лишь грандиозная игра. Крэгс выпрямился. Широкий шрам на его лице побагровел. Растерянное, горькое чувство появилось в глазах. — Почему? — бросил он. — Видимо, именно здесь корень наших противоречий… — задумчиво произнес Андрюхин, словно не замечая, что происходит с Крэгсом. — Простите мне это странное предположение, но у меня создается впечатление, что вы к своим чудесным машинам относитесь как к сознательным существам… — Они представляют нечто большее, чем так называемые сознательные существа! — запальчиво перебил Крэгс. — Видите! Даже нечто большее… А мы здесь убеждены, что эти удивительные машины, которые совершают умственную работу, непосильную для человека, машины, которые способны не только решать задачи, но даже совершенствовать и усложнять условия задач, то есть в какой-то степени ставить перед собой самостоятельно новые задачи, — эти сказочные машины без человека мертвы… Они не изобретают, не мечтают, не рассуждают. А раз так, то как же можно говорить о решении с помощью этих машин великого исторического спора между социализмом и капитализмом? Извините, — не удержавшись, Андрюхин весело улыбнулся, — это смешно. — Смешно?.. — пробормотал Крэгс. — Да, — решительно ответил Андрюхин. — Кто будет составлять программу для машин при решении этого спора? Грубо говоря, ваши ученые с помощью ваших машин докажут, как дважды два, преимущества капитализма, а мы докажем неоспоримые преимущества социализма… Доверим лучше человечеству, народам и железным законам развития истории решать — где истина! — В таком случае, — лицо Крэгса исказила брезгливая гримаса, — мое пребывание здесь становится бессмысленным. — Прошу вас, не торопитесь. — Андрюхин улыбнулся с таким подкупающим добродушием, что лохматые брови Крэгса удивленно поползли вверх. — До сих пор мы рассматривали только ваши предложения. Быть может, для вас представит некоторый интерес послушать и нас… — И вы полагаете, что вам удастся избавить мир от войны? — с крайним презрением процедил Крэгс. — Я убежден в этом, — мягко ответил ученый. — Безумие! — прошептал Крэгс. Машина остановилась на площади, у небольшого обелиска. Вокруг золотой стрелы вращались два светящихся рубиновых шарика, миниатюрные копии первых спутников Земли, некогда созданных советскими учеными. Проходя мимо, Хеджес сморщился и пробормотал: — Черт их знает, Крэгс… Они всегда преподносили нам сюрпризы. Андрюхин весело подмигнул Крэгсу и шепнул по-французски: — Устами младенцев глаголет истина… Едва гости оказались в своей комнате. Крэгс заявил: — С меня хватит. Завтра же мы покидаем эту обреченную на гибель страну. Здесь делать нечего. Остается одно: торопиться делать своих черепах. — Слушайте, Лайонель! — Хеджес для пущей убедительности ухватился за пуговицу на куртке Крэгса. — Этот Эндрюхи сделал ценное предложение. Он хочет показать вам свои работы. По-моему, было бы глупо уехать, не взглянув, что он держит за пазухой? — Хорошо, я посмотрю… — задумчиво сказал Крэгс — А, собственно, зачем, Фреди? Андрюхин не согласится отдать свои знания моим черепахам, а без этого — его знания бесполезны. Война сметет всё… В дверь коротко и решительно постучали. Несколько помедлив, Крэгс промолвил: — Войдите. Дверь распахнулась, и, пропуская вперед Юру, вошел академик Андрюхин. — Прошу познакомиться: этот юноша, Сергеев, — один из самых деятельных участников некоего эксперимента Института научной фантастики. Если хотите, мы вам кое-что покажем. Мне не терпится улучшить ваше настроение, господа! Это долг гостеприимства… Только заранее предупреждаю: вы увидите конечные результаты, факты, все же прочее, увы… — Он весело развел руками: — Так что мистер Хеджес может не волноваться. Беллетристики не будет. Одни факты… Вы готовы, господа? Широким коридором они вышли в оранжерею. Ни стены, ни потолки не отделяли великолепные розы и томно благоухающие кусты жасмина от лежащего в сотне метров снега… Морозное небо прямо над головой строго глядело бесчисленными глазами-звездами на то, как два человека в легких, спортивных костюмах и с непокрытыми головами (один был даже лыс), недоумевая, оглядываются по сторонам. — Что это? — спросил Крэгс, указывая на странный, седой лишайник, тяжело распластавший огромные лапы в стороне от терпко пахнущих цветов. — Это профессор Потехин привез с Луны… — Андрюхин, наклонившись, ласково потрогал массивные завитки лишайника. — Неплохо прижились… Вообще же я тут ни при чем. — Шутливым жестом Андрюхин словно отодвинул от себя загадочную оранжерею. — Это результаты работ академика Сорокина по микроклимату. Так сказать, факт номер один. Вас он, впрочем, не может интересовать… Пока товарищ Сергеев приготовится, посидим здесь. Они уселись втроем под пышным кустом цветущей сирени, и Хеджес вытащил было трубку, но Андрюхин, морщась, остановил его: — Посидите минуту. Дайте подышать сиренью. Люблю больше всего… — Он шумно вздохнул и, уже не обращая на Хеджеса ни малейшего внимания, повернулся к Крэгсу: — Итак, ваша миссия в том и заключалась, чтобы переложить на плечи кибернетических машин великий спор истории? — Не относитесь к этому слишком легко. — Крэгс говорил без раздражения, как человек, которому теперь уже все равно. — Я ждал от вас другого ответа. Соображения насчет того, кто же составит программу, кто, так сказать, сформулирует вопрос, были учтены, конечно… Создан, пока неофициально, центр по проведению испытания. В него вошли лидеры многих партий: ученые, писатели. Они установили контакт с Организацией Объединенных Наций. Образовался широкий фронт — от социал-демократических партий до папы римского… — Он тоже поддерживает? — грустно усмехнулся Андрюхин. — Вот до чего люди ненавидят войну! — Да. Ваш отказ вызовет взрыв возмущения. — Крэгс говорил, как постороннее лицо, даже как будто сочувствуя Андрюхину. — Люди не поймут, почему вы отказываетесь, тем более что испытания предложено провести на машине, которая должна быть сконструирована совместными усилиями лучших ученых Запада и Востока… — Наша точка зрения предельно ясна, — негромко и спокойно отвечал Андрюхин. — Есть вопросы, на которые человечество может получить убедительный и окончательный ответ только в результате своего собственного опыта, ценой, быть может, прямой борьбы и хода исторического развития человеческого общества, путем соревнования социальных систем, а не в результате научного эксперимента, как бы он ни был замечателен. Вещание вашей машины не убедит людей. Какой бы ответ ни дала машина, люди, не убедившись на опыте в правоте этого ответа, отнесутся к нему скептически. Ваша затея может вызвать лишь добавочное ожесточение в нашем и так неспокойном мире. — Что же его успокоит? — вяло усмехнулся Крэгс. — Смотрите!.. Перед ними, казалось, прямо из-под ног, вспыхнул и ушел в небо столб голубого огня. В его твердых, строго очерченных гранях клубились редкие снежинки. Небо почернело, и все, что было за пределами голубого столба, стало казаться чужим. В полосу света вошел человек в черном ватнике и лыжных брюках, заправленных в теплые ботинки. Глаза были прикрыты защитными очками. — Это Сергеев, — сказал Андрюхин. — Если хотите, господа, можете его осмотреть… Впрочем, сначала проведем испытание. Он поднял руку. Сергеев отчетливым жестом медленно передвинул металлическую пряжку на своем широком поясе. Тотчас, плавно и торжественно оторвавшись от земли, он начал подниматься прямо вверх. Его большая черная фигура выглядела особенно нереально среди смятенно толкущихся в голубом луче снежинок. Он поднялся примерно на высоту тридцати метров и пошел в сторону. Луч следовал за ним. Потом Сергеев медленно опустился, постоял всего в метре над головой испуганно вскочившего Хеджеса и, по знаку Андрюхина, неторопливо опустился на землю. — Испытания антигравитационного костюма, — сказал Андрюхин. — Можете взглянуть. Хеджес кинулся к Юре, и Крэгс последовал за ним. — Вам я могу сказать, — усмехнулся Андрюхин, когда Крэгс вставал, — что осмотр не даст ничего… Все же оба гостя минут десять ощупывали пояс, осматривали пряжки, а Хеджес торопливо потрогал всё: валенки, брюки, ватник… — Это можно повторить? — недоверчиво спросил он. Взглянув на Андрюхина, Юра так стремительно взмыл в небо, что Хеджес шарахнулся в сторону. Все увеличивая скорость полета, Юра то уходил вверх на пятьдесят — сто метров, то оказывался на земле. За ним было трудно следить. Наконец, слегка запыхавшись, вытирая пот с крутого лба, он приземлился окончательно и отстегнул пояс… Луч тотчас погас, и Юру не стало видно. — У меня нет слов… — Крэгс так и не садился во время полетов. Голос его звучал глухо и неуверенно. — С этим может сравниться только открытие внутриядерной энергии. Вы овладели силой тяготения… — Пока мы только учимся ею управлять, — поправил Андрюхин. — Помните, я писал вам в своем неджентльменском письме о джиннах, которые за ночь переносили дворец с одного конца Земли на другой. Это ведь не такая уж хитрая штука, если дворец невесом. Вот чем занимались наши машины, пока вы, Лайонель Крэгс, делали свои черепаховые консервы. — Прошу прощения! — Оказалось, что и Хеджес может быть вполне вежлив. — А я мог бы проделать то, что делал сейчас этот парень? — Пожалуйста! — Андрюхин покосился на Хеджеса. — Только раньше составьте завещание. — Простите, почему? — Нам недешево обошлось даже то небольшое умение преодолевать силу тяжести, которого мы сейчас достигли. — Андрюхин подчеркнуто обращался только к Крэгсу. — Несколько наших товарищей погибли. Сейчас установлено, что для работы в антигравитационном костюме человек должен быть абсолютно здоровым и пройти спортивную подготовку… Вы, господин Хеджес, рискуете отправиться прямо на небеса… — Преклоняюсь перед вами и вашими коллегами, — сказал Крэгс, несколько придя в себя. — И все же, поразмыслив, прихожу к выводу, что самое разумное — это воспользоваться моими черепаховыми консервами. Да, да! Как это ни печально! Ведь даже управление силой тяготения в тех пределах, какие вам пока доступны, не может спасти бедное человечество от атомной смерти. Гибель неотвратима! — Я прошу вас шире рассесться, господа, — деловым тоном произнес Андрюхин, не слушая пророчеств гостя. Крэгс и Хеджес молча, недоумевая, расселись по краям тяжелой садовой скамьи. — На старости лет я вынужден стать фокусником, — усмехнувшись сказал Андрюхин. — Не пугайтесь, господа… Он нажал на выступающую над верхней доской металлическую опору скамьи. Вспышка яркого света была столь мгновенной, что они не успели убедиться в ее реальности. И тотчас Крэгс и Хеджес увидели, что между ними стоит нечто вроде портативной пишущей машинки с перламутровыми клавишами. — Это похоже на то, что проделывают в китайском цирке, — вежливо улыбнулся Хеджес, отодвигаясь, на всякий случай, подальше от машинки. — Могу подтвердить, что один китаец серьезно причастен к тому, что я демонстрировал вам раньше и что покажу сейчас. С этими словами Андрюхин нагнулся над машинкой и весело подмигнул крайне удивленному этим Крэгсу: — Вы не обидитесь? — Пожалуйста… — нерешительно проговорил Крэгс, пытаясь сообразить, как все же появилась здесь машинка и что последует еще. — Конечно, по форме это далеко не Шекспир… — В голосе Андрюхина вдруг послышалось то самое древнее авторское самолюбие, порыв которого обязательно предшествует скверным стишкам или несуразной музыке. — Но зато мысль будет передана точно! И он ударил по клавишу одним пальцем, как делает человек, впервые сев за пишущую машинку. Тотчас на темной траве у ног Крэгса легла большая светящаяся буква «М». Крэгс невольно подобрал ноги. Тем более, что рядом уже поместилась вторая буква, за ней третья… Андрюхин, что-то упоенно шепча, изо всех сил ударял по клавишам. Наконец, стукнув последний раз, как музыкант, заканчивающий мелодию, он откинулся на спинку скамьи и бессильно опустил руки, ожидая, видимо, восторгов и аплодисментов. Восторгов не было. Недоумевая Андрюхин приоткрыл зажмуренные глаза и довольно бодро спросил: — Ну как? Не дождавшись ответа, он сам с удовольствием прочел получившийся стишок:В эту ночь Юра, пожалуй, впервые за всю жизнь, не спал. Из всего населения академического городка только он и еще два — три человека точно знали, с каким проектом вылетает на рассвете Андрюхин в Москву. Юра знал, насколько этот проект касался лично его. И у него было странное ощущение неправдоподобия, недостоверности всего, что должно произойти. Даже когда он пытался представить, как будет себя вести в случае, если поездка Ивана Дмитриевича увенчается успехом, ему казалось, что он думает не о себе, а о ком-то другом. Накануне они долго сидели с Иваном Дмитриевичем вдвоем в его служебном кабинете. — Сколько тебе лет? — спросил академик, когда они, наверное, уже в сотый раз обсуждали детали предстоящего эксперимента. — В мае исполнится двадцать пять, — ответил Юра. — Где твои родители? — В деревушке живут. Торбеевка называется, километрах в сорока от Саратова… — Надо их вызвать. — Вы забыли, Иван Дмитриевич, — усмехнулся Юрах- был у нас уже об этом разговор. — Ну да? Был? — удивился Андрюхин. — И как мы решили? — Решили их не тревожить… — Ага. Ну что ж. Может быть, и справедливо… Вообще должен вам сказать, Юрий Михайлович, — когда что-нибудь его волновало, Андрюхин всегда торопился перейти на официальный тон, — что дело это крайне опасное. Крайне! Не возражайте мне! — закричал он вдруг и продолжал с виду спокойно: — Удача опыта с Деткой и параллельных опытов с обезьянами еще ничего не доказывают. Ясно? Мы вступаем в совершенно неизведанную страну… Человек-луч! Юра улыбнулся — выражение «Человек-луч» ему понравилось. — Ты ясно понимаешь, на что идешь? — заторопился Андрюхин, расстроенный его улыбкой. — И этот разговор у нас был, — заметил Юра. — К чему снова его заводить, Иван Дмитриевич? Нет, он вовсе не чувствовал себя спокойно. Недавно он прочел воспоминания Константина Потехина — первого человека, побывавшего на Луне. Потехин описывал свои ощущения в дни перед стартом ракеты. И Юра находил, что это очень напоминает его собственное состояние. Были и страх, и гордость за свою судьбу, и мучительное ожидание, и нетерпение, но над всем этим жило сознание, что все уже решено и так надо. Иногда он вспоминал черную таксу, Детку, или Муху, веселую, умную собачонку… Она первая сверкнула нестерпимо ярким лучом с бетонированной площадки академического городка. Она проложила путь Юре, людям. Куда исчез этот «Большой Черный Пес», как любила говорить Женя? Опыт с Деткой удался блестяще, но где она? Юра чувствовал, что ему доставило бы сейчас большое удовольствие посмотреть на собаку, пощекотать ее розовое брюхо… Пожалуй, больше всего ему причиняло неприятностей то, что надо было молчать. Он привык обо всем советоваться с ребятами, а здесь нельзя было даже заикнуться. Он и с Женей пока не мог еще обмолвиться ни словом. «Ну, а если я все-таки погибну? — проскочила однажды мысль, которую Юра упорно не допускал. — Ну что ж, пойдут другие ребята… Кто-нибудь сделает!» Весь день, пока Андрюхин был в Москве, Юра бродил по лесу, исходив на лыжах несколько десятков километров и стараясь никого не встречать. Он вернулся, когда уже начало темнеть: полозья лыж скользили по синему снегу, а деревья в вечерней дымке словно сдвинулись теснее. Ему очень хотелось сразу кинуться к Андрюхину, который уже безусловно прилетел, но Юра не мог заставить себя идти туда. Ему казалось это навязчивым, недостойным. Он медленно шел к корпусу долголетних, когда из-за разукрашенного снегом куста выскочила Женя. — Ох, Юрка! — Ома едва не свалилась ему на руки. — Андрюхин прилетел, всюду тебя ищет… Где ты пропадал?.. Велел тебя с чем-то поздравить. С чем это, а? Не отвечая, он осторожно взял ее лицо в руки, пытливо заглянул в глаза и медленно поцеловал. Потом, молча подобрав свалившиеся палки, пошел к Андрюхину. Девушкарастерянно глядела ему вслед.
Два немолодых человека с усталыми, интеллигентными лицами сидели на садовой скамье в лондонском Гайд-парке и, бесцельно водя концами своих шелковых зонтиков по песку, мирно беседовали. Был один из тех дней, когда среди зимы вдруг ясно запахнет весной. Серое небо то нехотя роняло капли дождя, то начинало даже сеять снег, но, когда прорывалось солнце, становилось совсем тепло. Казалось, что голуби веселее хлопочут около тех посетителей парка, которые кормили их крошками; дети громче кричат, бегая наперегонки с собаками, а красивые лошади быстрее проносят по широким дорожкам парка молчаливых седоков. Никто не обращал внимания на двух пожилых джентльменов с одинаковыми черными зонтиками. И они, похоже, были совершенно равнодушны к окружающему веселью. — Сэр, я не буду говорить об условиях работы в этой стране, — усталым ровным голосом сказал один в старомодной черной шляпе. — Они общеизвестны… Как представитель солидной фирмы, поставлявшей различное оборудование, в том числе и для их лабораторий радиоэлектроники, я часто бывал и в Горьком, и в Майске… Мне приходилось беседовать на служебные темы с учеными и различными представителями научного городка Андрюхина. Но побывать там я не смог. Его собеседник крепче сжал массивную ручку зонтика с изображением рычащего льва и проворчал что-то явно неодобрительное. — Это было невозможно, сэр, — тем же ровным голосом продолжал джентльмен в старомодной шляпе; в равнодушии его тона была, однако, огромная убедительность. — Вы не забыли, конечно, что до меня шестеро ваших лучших работников пытались навестить Андрюхина… Они не вернулись, сэр, не так ли? — А что толку, что вы вернулись? — проворчал другой, слегка приподнимая костяное изображение рычащего льва и с силой всаживая острие зонтика в песок. — Я приехал не один, сэр, — пожал плечами первый. — Я доставил собаку. И до сих пор уверен, что в собаке что-то есть. Вам надо бы самому посмотреть, что там происходило, когда эта собачонка пропала! Нет, тогда она еще не досталась мне, просто ее подобрал один мальчишка. Похоже было, что пропала не собака, а внук самого Рокфеллера! Тогда я понял, что это неспроста, и решил действовать. Из лабораторий Андрюхина был уволен один молодой хулиган, пропойца, жалкое существо. Он принес мне собаку… В Ленинграде я сел на французский пароход, на рассвете в Стокгольме пересел на самолет, а к ночи самолет совершил посадку… — Я знаю, где совершил посадку самолет! — поспешно перебил второй. — Конечно, сэр, — равнодушно согласился первый. — Там меня ждали, вернее — ждали собаку. Впрочем, пока десятки ученых изучали маленькую таксу, ребята из бюро расследования и даже два генерала занимались мной. Они не верили ни единому моему слову, сэр. — Он помолчал. — Как, впрочем, не верите и вы… Второй собеседник, не поднимая головы, что-то сердито проворчал. — Но там, сэр, в Майске, говорили об этом десятки людей! — впервые в голосе равнодушного джентльмена в старомодной шляпе послышалось оживление. — Говорили, конечно, осторожно… Знаете, из тех людей, которые любят показать, что они бывают в верхах и обо всем осведомлены первые… Так вот: они болтали, прямо-таки захлебываясь от восторга, что в лабораториях Андрюхина овладели силой тяготения и могут делать любой предмет невесомым. Представляете, сэр?.. Но больше всего восхищал всех опыт с этой собакой, которая была превращена в пучок света и затем снова стала обыкновенной таксой! Ведь это чудо, сэр? — Что с вами? — брезгливо возразил собеседник. — Вы горячитесь. — Простите, сэр, — помолчав, вновь бесстрастно продолжал первый. — Так вот: никто не желал меня слушать и не желал верить. Пока не явился человек, которого все называли просто мистер Френк. — Осторожнее, — хмуро пробормотал его собеседник, незаметно оглядываясь по сторонам. — Я знаю, сэр… Но главное заключается в том, что мистер Френк мне, кажется, поверил. — Поверил в ваши россказни? — Человек с зонтиком растянул в улыбке свой собственный рот шире, чем была разинута пасть костяного льва на набалдашнике. — Поверил вам?!. — Да, мне! — Первый понизил голос. — Могу вам сообщить, сэр, что мистер Френк не расстается с собакой. Эта черная такса постоянно при нем. Все-таки это неспроста, сэр. Мистер Френк не такой человек… В этой собаке что-то есть…
Глава девятая ОПЫТ
Только теперь в академическом городке стало известно, какой опыт готовит академик Андрюхин… Итак, по пути, который уже проложили обезьяны и Детка, должен был проследовать первый человек, Юра Сергеев. При этом Андрюхин прямо заявил, что сейчас они готовятся лишь к репетиции, а настоящий опыт еще впереди. Репетиция заключалась в том, что Юра должен был превратиться в пучок энергии, мгновенно преодолеть расстояние в двадцать километров и снова стать самим собой. На опыт отводились ничтожные доли секунды, но подготовка к нему шла долгие годы. Тем не менее Андрюхину и Паверману было ясно, что еще далеко не все готово. Весь аппарат Института кибернетики был засажен за круглосуточную работу. Следовало не только уточнить ряд исходных данных, но и получить новые константы, соответствующие организму Сергеева в его нынешнем состоянии. Грубо говоря, задача сводилась к тому, чтобы точно рассчитать, как поведет себя в определенных, заданных условиях каждая молекула, каждый атом тела Сергеева, превращенный в пучок положительно и отрицательно заряженных частиц. Надо было предусмотреть реакцию частиц на различные внешние факторы, их взаимодействие в новом качественном состоянии. И самое главное — рассчитать движение их во времени и в пространстве так скрупулезно точно, чтобы в определенном месте частицы сублимировались вновь в ядра, атомы и молекулы в строгом порядке. Было совершенно очевидно, что многотысячная армия математиков, сидя за вычислениями многие столетия, не сделала бы и малейшей доли этой невероятной работы. Но электронные счетные машины, созданные гением профессора Ван Лан-ши и его сотрудников, отлично справлялись с этим титаническим трудом. В этом эксперименте наглядно проявлялись фантастические возможности кибернетики. Все эти машины в непостижимо короткие для человеческого сознания сроки решали сотни тысяч сложнейших математических задач. Поставленную перед ними задачу они могли усложнять, получать дополнительные решения, делать логические выводы, давать формулы взаимодействия миллионов частиц. Когда Крэгс в центральной лаборатории следил за работой удивительных машин, он восхищенно заявил Андрюхину: — Ваши Петруши великолепны… великолепны! Они не хуже моих черепах! Только не могут размножаться… Рядом с этими удивительными существами я испытываю то же, что ощутил в детстве около старинного парового молота! Ничтожна человеческая силенка перед тяжкой, страшной силой парового молота. То же и здесь. Даже гениальный человеческий мозг не сравнится с мозгом наших машин. — И все же без нас они ничто! — весело подмигнул Андрюхин Крэгсу, хлопая по плечу безмолвного, сосредоточенного Петра Николаевича, изо рта которого непрерывным потоком шла тонкая перфорированная лента с бесконечными рядами пробитых отверстий. — Никакому Петру Николаевичу, как и вашим плодовитым черепахам, никогда не придет в голову новая — понимаете? — совершенно новая идея, как будто даже противоречащая предшествующим законам… Институт долголетия, готовясь к историческому опыту, работал не менее напряженно. Юру положили на двадцать дней в специальную палату, за ним наблюдали десятки лучших биологов и врачей. Потом, спустя много времени, он вспоминал эти двадцать дней как напряженные и трудные в его жизни. У него было такое впечатление, что его выворачивают наизнанку. Юру кололи, просвечивали, заставляли глотать тоненькие и потолще резиновые шланги с какими-то радиоактивными бляхами на конце и без блях, брали бесконечное количество раз пробы крови, кожи, мышц, волос, оперировали, чтобы добыть образцы нервных волокон и сосудов, он должен был наполнять всякие баночки и бутылочки, через него пропускали токи различной частоты, подвергали действию каких-то лучей и только что не истолкли в порошок… Неожиданно Юра обнаружил, что отношение к нему многих людей, причем именно тех, кого он знал и к кому питал самые хорошие чувства, в чем-то изменилось. Как-то утром, когда Юре только что сделали очередное просвечивание «на клетки», зашел Борис Миронович Паверман. Он сунул ему огромный апельсин и уселся на постели, в ногах. Заглянувшая в палату сестра тотчас велела профессору пересесть на стул и отобрала у Юры апельсин. — О, нелепая биология! — возмутился Паверман. — Маги, чародеи! Несколько отведя душу, он незаметно для себя принялся поедать принесенный апельсин и, не глядя на ухмылявшегося Юру, спросил: — Ну как? — Нормально. — Хочешь апельсин? — Так ведь нельзя… — Плюнь ты на них! Они тебя вообще-то кормят? — Какими-то отварами, настоями… — Вот гадость, должно быть? — Паверман сморщился. — Нет, ничего. — Тебе все ничего… Ну, а как вообще? — Нормально… — Да? Слушай, ты все-таки того… Я пришел тебе сказать, что еще не поздно. Скажи, что ты передумал. — Что передумал? — удивился Юра. — Вообще, я ничего не понимаю! — Паверман вскочил и забегал по комнате. — Рихтер, изучая природу молнии, погиб, погиб сам, никого не подставляя! Менделеев сам поднимался в воздушном шаре! Пикар сам поднимался на стратостате! Ру и Павловский себе первым прививали новые сыворотки! Биб сам спускался в батисфере! Потехин сам летал на Луну! Почему же я должен уступать риск и честь первого испытания? Это нарушение научной этики. Я написал письмо в Цека! Юра молча смотрел на него и улыбался. Эта улыбка вывела профессора Павермана из себя. — Ах, вы улыбаетесь!.. Вы не хотите со мной разговаривать! — неожиданно он перешел на «вы». — Откуда-то является молодой человек, и почему-то именно он должен сделать то, что я готовил всю жизнь. Это справедливо? Я вас спрашиваю: это справедливо? Но Юра и тут промолчал. Улыбка медленно погасла, он спокойно смотрел на взволнованное лицо профессора. — Конечно, я просто дурак, — сказал вдруг Паверман, быстро наклонился, крепко обнял Юру и ушел, почти убежал… Потом пришли несколько человек из хоккейной команды долголетних во главе с тем, который так ловко помог Юре забрасывать шайбы в знаменитом матче с кибернетиками. Его звали Смельцов, ему шел сто двадцать восьмой год; коренастый, медлительный, с матово-бледным лицом и легкой проседью в густых, волнистых волосах, он выглядел сорокалетним. — Скажите, вы представляете себе нашу жизнь, жизнь так называемых долголетних? — заговорил Смельцов. — По условиям, которые заключены с нами, мы обязаны находиться постоянно на территории академического городка. Вам, например, за несколько дней надоели бесконечные анализы и исследования, а представляете, как они осточертели нам за много лет? Среди нас есть, конечно, и такие, которые просто радуются прожитым годам и тянут жизнь из какого-то спортивного интереса… Но большинство уполномочило нас переговорить с вами и с Иваном Дмитриевичем… Ну не разумнее разве провести опыт, использовав кого-либо из нас? В случае неудачи — потеря невелика… Мы просим вас подумать, отбросить всякие личные соображения и помочь Ивану Дмитриевичу решить вопрос по-государственному… Юра при первом удобном случае рассказал об этих визитах Жене, стараясь ее развеселить. — Тебя это удивляет? — Она коротко метнула на Юру взгляд огромных сердитых глаз. — Или смешит? — Скорее смешит, — признался он. — Вы слишком самонадеянны, товарищ Бычок! — заявила она. — То есть нет, извините, Человек-луч! Тебя ведь так теперь зовут. И тебе это, конечно, страшно нравится… — А что? Красиво! — согласился Юра. — Конечно!.. — сердито пробормотала Женя. И вдруг почувствовала, как на нее надвигается волна ужаса… Впервые она необыкновенно ясно поняла, что, собственно, произойдет: Юра исчезнет, его не станет, он превратится во что-то вроде солнечного луча, что нельзя ни взять в руки, ни потрогать. И все это готовят сотни людей, сотни машин, готовят нарочно… Он распадется на какую-то светящуюся пыль, даже не в пыль, а в ничто… Как может из ничего, просто из света, вновь возникнуть человек? Это невозможно, это заведомое убийство, в котором никто, конечно, не признается из упрямства, из почтения перед своей наукой…Население Майска, свободное от работы, и все, кто мог из окрестных колхозов, уже третьи сутки дежурили на границе академического городка. Среди толпы шли совершенно фантастические разговоры о том, что ученые изобрели способ оживлять умерших. Собрались тысячи людей, многие из них не уходили и ночью… Утром десятого февраля академический городок выглядел необычайно. Лишь пятьдесят человек получили специальные пропуска на территорию, откуда производился запуск луча, и лишь тридцать сотрудников имели допуск на аэродром. Но все, кто жил и работал в академическом городке, ушли в лес, окружавший аэродром, и нетерпеливо выглядывали из-за каждого куста, из-за каждого занесенного снегом пня… Машинально рассматривая толпившихся вокруг людей, Женя не знала и не хотела сейчас даже знать, что с академиком Андрюхиным стоят его старые друзья: генерал Земляков, академик Сорокин и профессор Потехин, первый астронавт, специально приехавший на сегодняшнее великое торжество науки. Недалеко от них вместе с профессором Паверманом стояли Крэгс и Хеджес. Секретарь обкома о чем-то тихо разговаривал с прилетевшим всего час назад президентом Академии наук СССР и все время тревожно посматривал то на снежное поле, то на часы. А Женя, казалось, оледенела, не сводя глаз с часов. Сухо шевеля пепельными губами, она шепотом отсчитывала: — Пятьдесят шесть, пятьдесят пять, пятьдесят четыре… Оставалось менее минуты до величайшего мига в истории науки. Теперь уже никто не разговаривал, никто не шевелился, кажется, никто не дышал. Не двигаясь, люди напряженно, до боли в глазах, всматривались в обыкновенное заснеженное поле… После оттепели ударил небольшой морозец; нетронутый, серебристо-чистый снег покрылся нежной голубоватой корочкой, и по ней завивалась, искрясь зелеными огоньками, снежная пыль. Андрюхин, выставив далеко вперед, торчком, свою бороду, стоял, вцепившись в рукава своих соседей — Землякова и Сорокина, которые даже не чувствовали этого. Слегка приоткрыв крупный рот, вытянув шею, Крэгс всматривался с таким напряжением, что шрам его стал лиловым. — Двадцать восемь, двадцать семь, двадцать шесть… — считала шепотом Женя, но шепот ее теперь слышали все. Вдруг ветка огромной сосны, стоявшей на краю поля, дрогнула, и целый сугроб беззвучно обрушился в снег. Всех ослепила молниеносная вспышка, но не резкая, а какая-то мягкая. Над полем, чуть покачиваясь, мгновение висело что-то, будто светящийся газовый шар. — Вот! — диким голосом вскрикнул Паверман, словно клещами сжимая руку Хеджеса. — Вот он! Смотрите! На том месте, куда показывал Борис Миронович, медленно редел, оседая, белый столб снега. Все, тяжело переводя дух, сердито оглянулись на Павермана. — Десять, девять, восемь, — считала Женя и вдруг замолчала. Больше она не могла считать. Казалось, что крупные, раскаленные искры мелькнули по снежному насту, в пятидесяти шагах… Над ними выросло облако пара. — Пар! Он сожжется! — отчаянным голосом крикнул Андрюхин. В центре этого плотного, сгущающегося облака, неожиданно возник Юра. Он слабо разводил руками, словно слепой, и не то шарил вокруг, не то пытался выбраться из горячей духоты. Впереди всех, проваливаясь по колено в снег, летел к Юре академик Андрюхин. С силой совершенно необыкновенной он выхватил Юру из горячего облака и, подняв на руки, потащил куда-то в сторону. — Иван Дмитриевич! — слабо шевелясь, бормотал Юра. — Оставьте, Иван Дмитриевич! — Санитарную машину! — заорал Андрюхин, хотя машина была уже в десяти шагах, а Женя и санитар, вооруженные носилками, стояли рядом. Не обращая ни малейшего внимания на пытавшегося сопротивляться Юру, Андрюхин бережно опустил его на носилки. — Ты что, хочешь держать речь? — прыгая рядом, кричал Юре Паверман. — Ты хочешь сделать маленький доклад? Ты его еще сделаешь! — Слезы градом катились у него из глаз, и он забывал их утирать. Андрюхин вскочил на подножку отъезжающей машины и, больно прижав рукой голову Жени к металлическому косяку, шепотом приказал: — Отвези сама. Спрячь! Чтобы никто не знал, где он. Отвечаешь головой! Приеду — доложишь. Санитарный вездеход, мягко проваливаясь в сугробы, поплыл полем к дороге на академический городок… Женя сидела рядом с Юрой и никак не могла заставить себя посмотреть на него. Она не могла поверить, что это он, живой, тот же Юрка, что все уже было, что он уже не Человек-луч… То есть нет, теперь-то он действительно Человек-луч. Она подняла на него глаза, только когда он зашевелился, приподнимаясь. — По мне как будто кто проехал, — прошептал он. — И голова чужая… — Как — чужая? — вздрогнула Женя. — Да моя, моя голова! — Он попытался улыбнуться, но гримаса перекосила его лицо. Острая жалость полоснула Женю, она бережно взяла его за плечи: — Может, что сделать? — Да нет. Холодно. И какой-то я весь не свой… Как я, по-твоему, в порядке? — Как будто все на месте. — Она осторожно улыбнулась, чтобы не зареветь, и шутливо провела по его крутым, тяжелым плечам. — Ты не сварился? — Вроде нет. Глаза не смотрят… — Не смотрят? — Она с ужасом взглянула в его широко открытые глаза. — Сейчас вижу, а иногда все плывет… — Он вдруг улыбнулся своей знакомой, Юрки-ной улыбкой. Не удержавшись, Женя улыбнулась ему в ответ, хотя глаза ее тонули в слезах. — А до чего чудно, Женька! Кажется, по всему телу искры, даже щекотно. Слушай, я есть хочу. — Есть? — Она растерянно оглянулась, но в машине не было ничего. А найдется ли что-нибудь дома? Кажется, найдется… Она решила отвезти его к себе, в свою комнату при медпункте. Там был телефон, откуда можно было позвонить Андрюхину, а главное — покой… Сейчас все население академического городка еще брело с аэродрома, автобусы только вышли им навстречу, и даже Андрюхин не появится раньше, чем через полчаса… Машина остановилась около домика, стоявшего на отшибе в березовой роще. Теперь следовало как-то обогреть Юру и накормить. Она с восторгом убедилась, что он двигается сам и довольно уверенно. Они вошли вдвоем в темную комнату, освещенную только голубым снегом за окном. Женя повернула выключатель, и, пока Юра, поеживаясь, стучал зубами, подпрыгивал и приседал, она включила чайник и, нырнув в шкаф, выбросила оттуда свои валенки: — Грейся! Потом будем чай пить. Юра постепенно приходил в себя. Он очень осторожно взял валенки, повертел их, приложил было к ноге. — Не лезут? Тогда знаешь что, ты ноги сунь под батарею. — Вскочив, она наглядно показала, как это делается. — Вот так… — Понятно… Юра аккуратно сложил валенки и нагнулся, чтобы засунуть их под кровать. Женя бросилась помогать, и они тотчас звонко стукнулись лбами. Минуту они сидели на корточках друг против друга, потирая лбы и не совсем соображая, что произошло. — Ты цела? — озабоченно спросил наконец Юра. — Для одного дня многовато испытаний… На Женю вдруг напал неудержимый хохот. Обхватив колени руками, она повалилась на пол, отмахиваясь, плача, утирая кулаками глаза, не в силах вымолвить хоть слово. Только буйство вскипевшего чайника заставило ее немного прийти в себя. — Ну тебя, — отмахнулась она от смирно сидевшего Юры, все еще всхлипывая от смеха. — Давай чай пить. Обжигаясь, он с наслаждением принялся пить чай с огромными бутербродами. Женю вдруг тоже обуял голод. И ей было страшно приятно, что Юра сидит против нее, пьет чай, ест колбасу, как самый обыкновенный человек, как будто с ним ничего не происходило. Быть может, действительно все обойдется, он будет здоров, будет жить? — Это ведь проводилась репетиция, — сказал Юра. — Она подтвердила, что все расчеты правильны и теперь можно ставить основной эксперимент. То же самое, но только, так сказать, на мировой арене. Ничего особенного. Ну, представь себе, — попробовал пошутить Юра, — то «Химик» играет на стадионе в Майске, а то где-нибудь в Стокгольме, на первенство мира. — Значит, ты еще раз будешь Человек-луч? — Глаза Жени расширились. — Боюсь, как бы это не стало моей профессией. — Юра засунул огромный кусок батона в рот и аппетитно откусил. — А ты, как верная жена, будешь каждый раз переживать? Привыкай! Женя сделала вид, что не слышала. — Теперь бы, знаешь, подремать… — Ну что ж, ложись… — Она торопливо сняла со своей строгой, белоснежной кровати покрывало. — Я посижу в кресле. Но Юра не ответил. Полусонный, он выбрался из-за стола, осторожно потрогал постель и, едва освободившись от лыжных ботинок, повалился боком на кровать и мгновенно заснул. Женя, выключив верхний свет и оставив ночник под коричневым грибком, забралась в кресло с ногами. Она долго просидела так, глядя на него. Лицо у Юры было бледное, волосы спутались и прилипли ко лбу. Теперь, когда он спал и ему не надо было притворяться, гримасы боли то и дело морщили его лоб и щеки. Женя не чувствовала, что ее лицо также дергается от боли за него… Вдруг она вскочила и, как была, в чулках, выбежала в прихожую, к телефону, с ужасом вспомнив, что еще не звонила Андрюхину. — Иван Дмитриевич! — Наконец-то! Скорей докладывай! — Все хорошо, Иван Дмитриевич, — поспешила она сообщить. — Он ел. Сейчас спит. — Ел? Спит? Отлично! Он где? — На медпункте… — выговорила она, запинаясь. — Ага. Так-так. Ну что же, пусть побудет там. Он вас не стеснит?.. Жене показалось, что она видит, как подмигивает ей Андрюхин.
Глава десятая Л. БУБЫРИН С ДРУЗЬЯМИ НАВЕЩАЕТ КОРОЛЯ БИССЫ
Иван Дмитриевич Андрюхин был все эти дни крайне занят. Он, Паверман и Ван Лан-ши вели долгие переговоры с Крэгсом, на которые не допускался никто, даже Хеджес. Премьер-министр Биссы был вне себя от такого унижения. Сначала он заявил, что немедленно покидает неблагодарного Крэгса и эту забытую богом страну, и даже начал собирать чемоданы. Вскоре, однако, он прекратил это занятие, остался и принялся обхаживать Крэгса. Он ныл, вздыхал, вдруг начинал шуметь, пробовал даже напоить Крэгса и все ради того, чтобы вытянуть из него хоть слово о таинственных переговорах. Но Крэгс, немногословный и ранее, теперь стал молчалив, как мумия. Он и внешне стал походить на мумию, все больше утрачивая сходство с пиратом. Втянулись щеки; шрам совсем побелел; нос перестал блестеть и стал еще хрящеватее. Глаза из-под густых ресниц смотрели все так же остро, но в них мелькало иногда не то смущение, не то сожаление… В эти дни в жизни Лайонеля Крэгса произошли два очень важных события: он испытал потрясение при знакомстве с результатами работ академика Андрюхина и впервые в жизни, неожиданно и стремительно, привязался к двум совершенно чужим малышам — Бубырю и Нинке Фетисовой… Крэгс был человеком со странностями. Он не был суеверен, относился к религии с усмешкой умного человека, но твердо верил в свои ощущения и предчувствия, в некий таинственный внутренний голос. И этот внутренний голос сразу же подсказал ему, что смешные маленькие человечки — толстенный Бубырь и худущая Нинка — обязательно принесут счастье глубоко несчастному, тяжело переживавшему свои неудачи Лайонелю Крэгсу… Для того, чтобы чаще их видеть, он даже стал ездить на ненавистный ему хоккей. И, как только Крэгс, несколько заискивающе улыбаясь и не зная, что сказать, усаживался на теплую скамью между быстро раздвигавшихся Бубыря и Нинки, он становился дедом, обыкновенным добродушным дедушкой. Когда он смотрел в большие, птичьи глаза Нинки или в блестящие, влажные глаза Бубыря, исчезала тоска о зря прожитой жизни, а уверенность, что мир будет жить и цвести, становилась необходимой, как эти теплые детские руки…Андрюхин ни на минуту не забывал о Юре. Как-то в конце очередного совещания с Крэгсом он кивнул профессору Паверману и Анне Михеевне Шумило, чтобы они задержались, позвонил в заводской дом отдыха и вызвал Женю. Она в это время делала Юре массаж. — Это Иван Дмитриевич, — сказал Юра, услыхав, что Женю зовут к телефону. Он оделся и побежал следом за ней. Женя каждый день докладывала Шумило очередную сводку Юриных анализов. И сейчас Андрюхин, видимо, передал трубку Анне Михеевне. Юра слушал Женю, ничего не понимая. Обилие медицинских терминов и то, что о нем можно так долго говорить по-латыни, привело его в ужас. Наконец последний белый листок, испещренный медицинской абракадаброй, был перевернут. Женя замолчала и внимательно, прижав трубку к уху, слушала. Ее хмурые глаза постепенно теплели, загорались. — Да? — сказала она задыхающимся, звонким голосом, совсем не так, как говорила обычно. — Да? Передам! Спасибо! Большое спасибо! Глядя на неуверенно улыбающегося Юру, Женя медленно прижала пальцами рычаг и вдруг, швырнув трубку, бросилась ему на шею. — Здоров! Понимаешь, дурак? — бранилась она почему-то, и прозрачные слезы висели на ее длинных, ресницах. — Совершенно здоров! И она дубасила по широкой Юриной спине своим довольно увесистым кулачком… В этот вечер они убежали на лыжах в лес. Снег был тяжелым, налипал, звенела капель, как весной, и, когда они целовались под старой, мохнатой, доброй елкой, рыхлый снег валился с веток за шиворот и щекотливой струйкой стекал по спине. Потом они попытались идти на лыжах обнявшись. Им не хотелось ни на секунду расставаться. Молодые ели хватали их черными руками в серебряных обшлагах, словно молча просили остаться….. И они остались. Навалили хвои, разожгли на поляне костер и долго сидели молча, обнявшись и глядя на огонь. — Хорошая штука — костер! — вздохнул Юра. — Я очень жалею, что не умею говорить. — Голос Жени звучал хрипло, как будто спросонья; она откашлялась. — Бот если бы умела, нашла бы такие слова, вот об этом костре и о нас, чтобы всем стало понятно… Ведь нам сейчас все понятно, правда? — Правда… — Я знаю, ну, вообще, чувствую, что все люди могут жить необыкновенно счастливо — все! Правда, Юрка? — Вообще, конечно… — Юра деловито подбросил в огонь сухую мелочь. — Могут!.. Вот снег, огонь — ведь до чего хорошо! Наверное, эта любовь к огню у нас от первобытных людей или от обезьян. — Почему? — Не знаю. Но это точно. А какие они были, эти первобытные? — Славные ребята, — решил Юра. — Только не любили философствовать… Помолчав, Женя спросила: — А мечтать ты любишь? Он медленно, едва касаясь, провел по ее холодным, припушенным снежной пылью, черным на фоне ночи кудрям. — У тебя такие волосы… Их всегда хочется потрогать, зарыться в них лицом… Бронзовая заря торжественно вставала за серебряными ветвями елей, когда они уходили из леса. Похожее сквозь седую дымку на мандарин, выкатывалось неяркое солнце, обещая морозный день. Как прошел этот день и начался следующий, они не заметили.
На двенадцать часов был назначен отъезд Крэгса, ускоренный шумом, поднятым в заокеанской прессе. Газеты изо дня в день писали о «резне» и «восстании» в королевстве Бисса, о том, что туземцы и белые рабочие громят старую резиденцию Крэгса, а по ночам совершают налеты даже на Фароо-Маро. Радио вопило о преступном бездействии Крэгса и намекало, что не случайно совпали два события: пребывание Крэгса в Советском Союзе и восстание на островах. Сообщалось, что если правительство Биссы не справится в ближайшие дни с положением, то начнет действовать морская пехота, которая спешно сосредоточивается в Рабауле, а правительство Португалии вынуждено будет направить к восточному берегу Фароо-Маро свой крейсер «Королева Изабелла». Газеты были в основном озабочены тем, как бы волнения с островов Крэгса не перекинулись на Малаиту, где восемьдесят тысяч туземцев работали на несколько сот белых. Они кричали, что тайные сношения между Биссой и Кремлем поддерживались много лет, что Крэгс шпион большевиков, что само создание королевства Бисса есть величайшая провокация, в сети которой попали все страны западного мира. «Чикаго-пост» требовала немедленных военных санкций против королевства Бисса. «Пока черепахи Крэгса, таящие все наши научные и технические секреты, еще не захвачены большевиками, мы требуем от правительства решительных действий! Корабли военно-морского флота и авиации должны немедленно оккупировать королевство Бисса. Крэгс должен быть низложен, а весь запас черепах вывезен в Штаты…» Стало известно, что от советских ученых король Биссы получил несколько громоздких, тщательно упакованных ящиков, которые были отправлены на аэродром в день отъезда Крэгса. Их сопровождали четверо коренастых парней. (Мы можем по секрету сообщить, что это были парни последнего выпуска Института кибернетики, преподнесенные в дар Крэгсу.) Кроме того, Крэгс просил, чтобы с экспедицией, которая должна была вскоре отправиться на Биссу, прибыли в качестве его личных гостей Бубырь, Нинка и Пашка. — Мне очень совестно, — говорил Крэгс в этот последний вечер, не решаясь поднять на Андрюхина глаза, — но я решаюсь признаться вам… Десятилетиями я копил силы и средства для своего эксперимента с черепахами. Люди мне опротивели. Я изверился, стал черств, нетерпим. Людям было плохо со мной, а мне было плохо с ними. Но с этими ребятишками мне хорошо. Я о многом забываю, когда они со мной, и опять начинаю верить в человечество… Пусть они погостят на Биссе. На проводах Крэгса, кроме представителей печати и советских ученых, не было никого; сотрудники посольств США и Великобритании на этот раз не явились. Выступая перед микрофоном, Крэгс заявил: — Двадцать лет назад я был учеником академика Андрюхина. Потом я вернулся на родину, и мне удалось кое-что сделать. Это было нелегко, потому что я наотрез отказался работать на войну. Обстановка безнадежности, широко распространенная на Западе, захватила и меня. Я решил, что мой долг как-то сохранять человеческие знания. Теперь я понял, что не только растерялся, но сдался силам войны, потому что потерять веру в Человека — это значит пойти против человечества. Становится горько и страшно, что огромный кусок своей жизни я прожил зря: Ученому это особенно страшно. Я очнулся, как после тяжкого, дурного сна. И в утро моей новой жизни я приглашаю советскую научную экспедицию для совместной работы во имя мира в мои владения на островах Южных морей. Я уезжаю, чтобы принять участие в грандиозном эксперименте институтов моего учителя академика Андрюхина… Наступает, кажется, день, когда на поджигателей и пророков войны будет надета смирительная рубашка. Наука в руках друзей мира поможет человечеству стать счастливым. Заявление Крэгса привело западные газеты в неописуемую ярость. Посыпались одно за другим заявления, среди них — даже официальных деятелей, что создавшаяся обстановка безусловно чревата новой мировой войной, что кризис может наступить мгновенно…
В этот же день, к вечеру, в кабинете Андрюхина собрались его ближайшие сотрудники. — Настало время, — сказал Андрюхин, когда собравшиеся расселись в настороженном молчании, — взять на себя величайшую ответственность. Гарантируем ли мы безусловную удачу эксперимента?.. Анна Михеевна, ваше слово. — Все последние опыты с животными приносили стопроцентный успех, — задумчиво постукивая крепкими пальцами по ручке кресла, заговорила профессор Шумило. — Увенчались полным успехом передачи в Среднюю Азию и на Дальний Восток… Состояние здоровья Сергеева тоже не вызывает ни малейших опасений. Это человек с идеальным здоровьем. Почти никаких отклонений. Андрюхин молча взглянул на профессора Ван Лан-ши. — Ни один опыт за все существование академического городка не был так тщательно подготовлен, — блестя очками, сдержанно сказал Ван Лан-ши. — Поведение всех элементов луча на протяжении трассы выверено и подтверждено расчетами высочайшей точности. Что касается нашего института, мы гарантируем успех и настаиваем на эксперименте. — Ясный ответ!.. — Андрюхин довольно улыбнулся. — Что скажет профессор Паверман? — Экспедиционное судно, атомоход «Ильич», — хмуро заговорил Паверман, выдержав солидную паузу, — будет готово к выходу в рейс через две недели. Экспедицию поручено возглавлять мне. По приглашению мистера Крэгса мы будем в районе Биссы не позднее двадцатого марта. Считаю, что эксперимент может быть проведен между пятым и десятым апреля. Андрюхин встал и подошел к сидевшему в глубине комнаты Юре Сергееву. Тот поднялся ему навстречу, смущенно и вопросительно улыбаясь. — Ваше последнее слово, мой друг! — Андрюхин крепко обнял его за плечи. — Я знаю, что вы скажете, но не торопитесь… Обстановка усложняется. Одно дело — послать луч за десять тысяч двести восемьдесят километров… — Десять тысяч двести восемьдесят семь километров четыреста тридцать метров шестьдесят три сантиметра, — негромко уточнил Ван Лан-ши. — Вот видите, еще дальше! Это совсем не то, что послать луч за двадцать километров… — Андрюхин широкой пятерней сгреб Юру за волосы, отодвинул его от себя и несколько секунд сердито и растерянно всматривался в спокойные глаза Юры. Тот нерешительно заулыбался, и тотчас Андрюхин, оттолкнув его, забегал по комнате. — Не исключено, что именно в районе Биссы готовится какая-то провокация! Этот опыт мы проводим перед лицом всего мира. За неделю до совершения опыта все страны будут о нем официально предупреждены. Для удачи эксперимента совершенно необходимо, чтобы в установленном квадрате размером пятьдесят на пятьдесят километров не было ни одного судна и, самое главное, чтобы ни один самолет не смел даже приблизиться к границам квадрата. Иначе произойдет непоправимая катастрофа… Ты будешь в антигравитационном костюме и в момент восстановления из луча окажешься на высоте пятисот метров над океаном… — На высоте пятисот метров четырнадцати сантиметров двадцати трех миллиметров, — мягко уточнил Ван Лан-ши. — Иван Дмитриевич, ну чего вы волнуетесь? — спросил Юра — Все будет в порядке. — Помолчи! — рявкнул Андрюхин, так сверкнув глазами, что Юра опустил растерянно руки. — Знаем, что ты храбрый парень, готов рискнуть собой… Да кто из нас не сделал бы того же? Профессор Паверман стал мне врагом из-за того, что идешь ты, а не он!.. Мы еще и еще раз должны себя проверить потому, что неудача и гибель Сергеева будут обозначать не только гибель Сергеева, а крушение надежд миллионов и миллионов людей. Ты готов? — вдруг оборвав себя, сердито спросил Андрюхин Юру. — Давно готов, Иван Дмитриевич… — сказал Юра, спокойно облокотясь на ручку кресла, но не спуская с академика глаз, словно желая о чем-то напомнить. — Да, да, да! — так же сердито кивнул Андрюхин. — Крэгс передал мне свою просьбу. Думаю, придется его уважить… Удивительное дело, какая популярная личность этот Бубырь! — И Нина Фетисова и Пашка Алеев, — усмехнулся Юра. — Да я и сам буду рад, если на этих островах, в каком-то там королевстве, встречу своих ребятишек… — Это решено! — перебил Паверман. — Они едут со мной. Я сделаю из Бубыря ученого! У него талант наблюдателя… — А я сделаю ученым Пашку! — улыбнулся профессор Ван Лан-ши. — А я — Нинку-пружинку! — заявила басом Анна Михеевна вставая. Так решена была судьба ребят, хотя об этом ничего пока не знали не только они, но даже их родители. А когда известие о готовящейся поездке дошло до ребят и их родителей, волнениям и тех и других не было конца. Наибольшее беспокойство это обстоятельство вызвало в семьях Бубыриных и Фетисовых. У Бубыриных волновались папа и мама, а сам путешественник внешне сохранял полное спокойствие. Папа бегал по книжным магазинам и библиотекам, доставая всевозможную литературу о странах Южных морей. Но ни в одной из книг не говорилось о том, в чем должен быть одет мальчик одиннадцати лет, отправляясь с берегов Волги на остров Фароо-Маро. — Трусы, — говорила похудевшая от хлопот мама. — Это ясно. Тапочки, две пары. Ботинки. Парадный костюм под галстук. — А тюбетейку? Быть может, ему придется представляться ко двору, — вставил папа, делая большие глаза. Но в такой момент маме было не до шуток. — Ты отвечаешь за то, чтобы ребенок вернулся целым, — заявила она. И папа был уже не рад, что вспомнил о существовании тюбетейки. В квартире Фетисовых родители, наоборот, сохраняли видимое спокойствие, но зато Нинка шумела и волновалась за троих. — Что ты кладешь? — бросалась она к матери, всплескивая руками. — Что ты кладешь в чемодан? При этом один глаз Нинки косил в зеркало: в новом платье, на фоне чемодана, она выглядела настоящей путешественницей. — Сарафанчик, — неторопливо отвечала мама. — Сарафанчик! Но кто в королевстве Бисса, и тем более на Фароо-Маро, носит твои сарафанчики? — Они свое носят, а ты свое, — улыбалась мама. В эти же дни Женя, которая никак не могла решить, что ей делать, уже дважды складывала свой чемодан, собираясь ехать, и дважды его распаковывала, приходя к выводу, что лучше остаться. — Я хотел бы, чтобы ты была и здесь и там, — сказал Юра. Но как это сделать, оставалось неизвестным. Она и сама хотела этого. Разве можно было представить, чтобы последний взгляд Юры, перед тем как он исчезнет и с фотонной панели блеснет ослепительный луч, не встретился с ее взглядом? Но точно так же дико и недопустимо не быть там, в океане, когда луч, мгновенно потемнев и превратившись в газовое облачко, станет снова Юрой! За два дня до выезда экспедиции из Майска Женю вызвал к себе академик Андрюхин. Он встретил ее так ласково, что Женя совершенно неожиданно разревелась, судорожно всхлипывая, не успевая вытирать глаза и сразу безобразно распухший нос. — Ага, вот и отлично! — неожиданно обрадовался академик. — Знаете, иногда пореветь всласть — великолепная штука. Первоклассная разрядка организма. Вообще, лучше всего, когда человек не подавляет свои эмоции, а проявляет их немедленно и в полной мере. Кажется, он готов был долго распространяться на эту тему, но Женя, проклиная себя за малодушие, уже вытерла и глаза и нос и, сердито посапывая, ждала, что Иван Дмитриевич скажет, зачем ее позвали. — Но и держать себя в руках — это тоже, знаете, неплохо! — совсем развеселился Андрюхин. — Так вот: причин для рыданий, пожалуй, нет. Решаем так: вместе проводим Юру в его нелегкий путь и немедленно на «ТУ-150» вылетаем на Биссу. Через пять — шесть часов увидим вашего Юрку. Идет? Жестом, полным бесконечной благодарности, Женя обняла академика Андрюхина и спрятала просиявшее лицо в зарослях его великолепной бороды… …Майск торжественно провожал экспедицию профессора Павермана. Гремели оркестры, что очень волновало Бориса Мироновича. Он то и дело наклонялся к кому-нибудь и тревожно спрашивал: — Слушайте, а зачем музыка? Ему казалось, что это накладывает на экспедицию какие-то дополнительные обязательства. Нинка Фетисова едва не отстала, подравшись около вокзальной парикмахерской с какой-то девчонкой, которая принялась передразнивать Нинку, когда та любовалась собой в огромном зеркале. Зато Бубырь, получив на прощание пачку мороженого от мамы и пачку мороженого от папы, был вполне доволен судьбой, и, откусывая то от одной, то от другой пачки, с легким сердцем отправлялся в Южные моря… Не было только Пашки, которого до сих пор не могли нигде отыскать… Поезд Майск—Ленинград прибывал ночью; поэтому переезд через город и прибытие на атомоход «Ильич» ребята частью проспали, а частью не рассмотрели… Утром, открыв глаза, Бубырь увидел, как профессор Паверман, радостно ухая, приседает в одних трусах перед открытым иллюминатором. Обрадованный Бубырь толкнул Нинку, и они с наслаждением принялись рассматривать огненно-рыжего профессора, на носу которого прыгали очки, когда он, разбрасывая руки, подставлял свою грудь под легкий морской ветерок. Это было совсем как дома, и Бубырь с Нинкой весело захихикали. Профессор страшно сконфузился, натянул штаны и майку и отправился умываться. Умывшись и позавтракав, они пустились в разведку. Ни Бубырь, ни Нинка не предполагали, что можно так долго бегать по различным закоулкам атомохода и даже по палубе и все-таки не видеть ни моря, ни города… Путаясь в коридорах, гостиных, салонах и служебных помещениях «Ильича» и боясь даже думать о том, смогут ли они найти теперь дорогу в свою каюту, Бубырь и Нинка, пробегая каким-то полутемным коридорчиком, услышали вдруг голос, до того знакомый, что ноги их сами приросли к полу, а в животах отчего-то похолодело. Они молча, глядя друг на друга, постояли так с минуту, затем осторожно сделали шаг навстречу голосу. — Нет, Василий Митрофанович, — говорил голос, — письмо я опущу, как в море выходить будем… А назад мне дороги нет! Старпом обещал после рейса в мореходное училище отдать… — Пашка! — взвизгнула Нинка, бросаясь к окошку, за которым слышался голос. — Пашка! — заорал и Бубырь. Через мгновение не замеченная ребятами дверь отодвинулась, и они увидели огромного, очень толстого, с очень красным, лоснящимся от пота лицом человека в белой куртке и белом колпаке… За ним в такой же куртке и колпаке, держа в одной руке нож, а в другой картофелину, стоял Пашка. От толстого дядьки пахло чем-то очень знакомым, почти родным… «Борщом!» — догадался Бубырь. — Это чьи такие? — грозно прогудел дядька. — Мы свои, мы вот с ним, с Пашкой, — поспешно залопотала Нинка, — мы здешние… — С Пашкой!.. А мне больше на камбуз не требуется! — Они с экспедицией, — хмуро внес ясность Пашка. — Паш, так ведь и ты с нами, ты тоже член экспедиции, — заторопилась Нинка. — Знаешь, как тебя все искали? Пойдем!.. Дяденька, вы его отпустите? — Нет, я останусь тут, — сказал Пашка, бросая классически вычищенную картофелину в блестящий, нарядный бачок. И сколько ни уговаривали Пашку, он не согласился. Даже когда в дело вмешался сам профессор Паверман и вдвоем скапитаном «Ильича» попробовали объяснить Пашке, что им хочет заняться профессор Ван Лан-ши, что Пашку ждет карьера ученого, сердце Пашки не дрогнуло. — Нет, я здесь, — твердо повторил он.
Глава одиннадцатая Л. БУБЫРИН С ДРУЗЬЯМИ НАВЕЩАЕТ КОРОЛЯ БИССЫ (продолжение)
Нет нужды описывать весь путь «Ильича». Последним крупным портом на пути к островам Крэгса был Сидней, на юго-восточном берегу Австралии. Отсюда «Ильич» взял курс прямо на королевство Бисса. Была темная, особенно влажная после дождя ночь, когда с атомохода увидели огни Фароо-Маро. На южном горизонте таяла бледно-зеленая полоска сумерек. Из-за сильного прибоя пришлось бросать якорь вдалеке. С берега доносились сладкие запахи, как будто там в огромном тазу варили варенье. Потом порыв ветра донес к борту дикий вопль, от которого у Бубыря будто холодная змея проползла по спине. — Сигналят в раковину, — сказал матрос. — Здесь так умеют дуть в раковины, что за пять километров слышно. «Надо будет научиться», — решил про себя Бубырь. Далеко по берегу протянулась едва заметная цепочка огней, часть из них поплыла по воде. Прошло не менее получаса, и, когда снова под самым бортом они услышали тот же дикий, ни с чем не сравнимый вопль, Бубырь едва не свалился на палубу. — Эге-ей! — тотчас донесся до них знакомый голос Крэгса. — Ало-о-оха! Ало-о-оха! И через минуту над бортом показалась его голова, более чем когда-либо похожая на голову пирата. С Крэгсом еще не успели поздороваться, как над бортом выросла еще одна голова. Под светло-желтым шаром сложнейшей прически, сооруженной, казалось, не из волос, а из спутанной металлической проволоки, дико вращались белки черных глаз на фоне огромного скуластого лица, исчерченного белой краской. Один глаз был тоже обведен жирным белым кружком, отчего казался подбитым. Гигантский рот черного незнакомца был широко раскрыт, а вывернутые наружу ноздри раздувались над длинным белым, продетым сквозь нос обломком кости. В причудливые завитки прически был воткнут большой красный цветок, а на плече сидел ручной какаду. За первым на палубу прыгнули еще три таких же, весь костюм которых составляла ситцевая повязка на бедрах. Но зато прически — то в виде шара, то в виде треугольника, веера или перьев, выкрашенных в любые цвета, — были верхом искусства. — Кино снимают! — восторженно пискнула Нинка и ринулась было к испуганно шарахнувшимся от нее незнакомцам. Но Пашка удержал ее за плечо. — Настоящие, — сказал он негромко. — Здешние жители. — А они вроде боятся… — шепнул Бубырь. — Белые их запугали. Колонизаторы. — Пашка с некоторым сомнением взглянул на Бубыря, потом на Нинку. — Вы тут правильную политику ведите! Это ничего, что у них в ушах и ноздрях понавешано, они — рабочий народ и крестьянство, угнетенные трудящиеся! Утром началась выгрузка. Матрос взял под мышки Нинку, спустился по трапу вдоль наружного борта «Ильича» почти до самой воды и вдруг швырнул Нинку, как котенка. Она не успела даже вскрикнуть. Чьи-то сильные, нежные руки мягко приняли ее внизу и посадили на скамеечку. Нинка открыла рот от изумления. Она сидела в ялике Крэгса, рядом с туземцем, на плече которого нетерпеливо перебирал лапками хохлатый какаду. Бубырь, который наблюдал все это с борта, пробурчал было: «Я сам», но матрос уже бросил его в ялик… Белая пена набежавшей сине-зеленой волны обдала Бубыря, Нинку, матросов, но сильные черные руки заботливо подхватили Бубыря и усадили его ближе к Крэгсу. Ялик оторвался от высоченного, как небоскреб, борта «Ильича» и запрыгал по волнам к берегу. Жаркий, сладко пахнущий воздух мягко укутал их. Летающие рыбы, вспенивая воду, подскакивали кверху с замершими, отливающими радугой плавниками и неистово били хвостами, словно желая долететь до красного флага «Ильича». Океан сверкал под тропическим солнцем, переливаясь грудами изумрудов. Впереди ревели буруны прибоя. Бубырь, судорожно вцепившись побелевшими толстыми пальцами в борт ялика, вспоминал все, что ему приходилось читать о кораблекрушениях. На всякий случай он проверил: пачка жестких, как фанера, сухарей была на месте, в кармане… С оглушающим ревом высоченный прибой бросился на прыгавший ялик. Бубырь в ужасе пригнул голову. И в тот же момент какая-то сила оторвала его от скамьи, бросила вверх. Он не успел даже вскрикнуть, как увидел, что сидит на широких черных плечах, его руки сами вцепились в роскошную прическу одного из матросов Крэгса, который вплавь бросился к берегу сквозь линию прибоя. Рядом, на плечах другого матроса, сидела Нинка с едва не вылезшими от страха и любопытства глазами. Они уже были на берегу, когда, наконец, появился Крэгс с двумя островитянами, тащившими чемоданчики ребят. Он шел почти на четвереньках, лицо его стало ярко-розовым и пылало нездоровым жаром. — Будь она проклята, эта лихорадка! — едва выговорил он, стуча зубами. Нестерпимая жара струилась кверху зыбкими потоками воздуха. Бубырь и Нинка невольно оглянулись, словно соображая, куда бы отойти от этой жары, но уходить было некуда. На ослепительно белом, раскаленном небе трепетали черно-зеленые веера пальм… — Ребята, сейчас же спрячьте ваши головы в шляпы, — пробормотал трясущийся Крэгс. И Бубырь с Нинкой тотчас послушно натянули: Нинка — белоснежную панаму, а Бубырь — тяжелую, негнущуюся тюбетейку, красный цвет и яркие блестки которой привели в необычайный восторг матросов Крэгса. Бубырю тут же очень захотелось подарить им тюбетейку. Сорвав ее с головы, он сунул эту драгоценность островитянину, на плече которого что-то верещал какаду. Но матрос испуганно отступил, пробормотав: «Ноу, мистер», и Бубырь вынужден был нахлобучить тюбетейку снова. По берегу тянулись длинные склады, крытые волнистым железом. На вершине горы, в жарком мареве, словно дрожала антенна радиостанции, а по скатам виднелись сквозь густую зелень белые домики. Там же, на горе, стоял дом побольше, оказавшийся дворцом его величества короля Биссы. Города Фароо-Маро Бубырь и Нинка почти не увидели, потому что дорога в резиденцию Крэгса шла стороной, поросла по краям кустарником, над плотной стеной которого тянулись в небо полчища кокосовых пальм. Машина Крэгса — темно-оливковая сигара с поднятым парусиновым верхом, сквозь который солнце проходило, однако, так же легко, как вода сквозь сито, — бежала по ослепительно белому коралловому песку, на котором плясали синие тени качающихся пальм. Дышать было нечем; от зеленого туннеля, по которому шла машина, тоже веяло зноем. Дом Крэгса был полон чудес. Из всех углов на Бубыря и Нинку угрожающе смотрели темные лица деревянных фигур, изображения, нарисованные на щитах и барабанах, огромные и страшные маски. Три большие комнаты были наполнены туземным оружием, а также украшениями и предметами домашнего обихода. Здесь были луки и стрелы, копья и наряды колдунов и много таких предметов, поглядев на которые даже Крэгс пожимал плечами и недоумевающе почесывал свой лысый череп. Впрочем, Крэгс скоро вынужден был заняться с профессором Паверманом и другими учеными неотложными делами по подготовке встречи Юры Сергеева, а ребята были поручены старшему матросу Крэгса, которого звали Тобука. Это был мускулистый, темно-коричневый парень с пышной синей прической. Он весело улыбался, глядя на Бубыря и Нинку. И ребята немедленно прониклись к нему полным доверием. У Тобуки было только два недостатка: он ежедневно красил волосы, так что они у него были то огненно-красные, то синие, то зеленые, то желтые, и в первое время ребятам было трудно его узнавать. Зато, привыкнув, они, укладываясь спать, гадали, какого цвета будут волосы у Тобуки на следующее утро. Второй недостаток матроса огорчал Нинку и особенно Бубыря куда больше: с первой же секунды знакомства Тобука начал звать Бубыря — сэр, а Нинку — леди, и отучить его от этого было невозможно… Следующий день был воскресным, когда на Фароо-Маро, как и на всех островах, не принято работать. Позавтракав, Бубырь и Нинка пошли бродить под присмотром Тобуки, волосы которого на этот раз пылали ярко-оранжевой краской. Сложность отношений с Тобукой определялась тем, что они почти не понимали друг друга. Английский ребята знали слабо, а по-русски сколько бы ни говорили Бубырь и Нинка, как бы ни коверкали слова, ни шептали и ни кричали, Тобука только улыбался, сверкая ослепительными зубами. Но тут же выяснилось, что жесты и мимика могут заменить и русский, и английский, и малаитский языки… Очень скоро ребята узнали, что в океане купаться нельзя, что спать надо только под сеткой от москитов, что песчаная муха легко прокусывает любую кожу, кроме кожи крокодила, и что именно крокодил жил в ручье, над которым стояла уборная. А в один прекрасный день около веранды белоснежного дома Крэгса остановилась самая обыкновенная «Волга». Оттуда вышел молодой, но уже толстенький человек, чем-то неуловимо схожий с Бубырем, и, радостно растянув свое пестрое от веснушек лицо, гаркнул не по-английски, а просто по-русски: — Здорво, ребята! Это был помощник консула на Фароо-Маро, любитель хоккея Василий Иванович. Он приехал, чтобы отвезти ребят в дом консула. …Не успели ребята прожить в доме консула и пяти дней, как появился мистер Хеджес. Он изнывал от безделья и просто взмолился, чтобы с ним отпустили ребят посмотреть знаменитых черепах Крэгса. — Я их терпеть не могу! — тут же заявил он. — По-моему, нет ничего более гнусного! Но ведь нельзя побывать в королевстве Бисса и не посмотреть эту гадость. Тем более, — сказал он, когда они уже садились в оливковую сигару Крэгса, — что вас будет сопровождать сам премьер-министр Биссы… Ведя машину вверх, к радиостанции, он принялся жаловаться, что его не принимают ни в какую игру. — Крэгс с утра до ночи занят с Паверманом и другими вашими учеными, и он гонит меня, как собаку. Консул не разрешает мне помочь ему в закупках снаряжения и продовольствия. Меня отстранили даже от строительства аэродрома для самолетов, которые ожидаются со всех концов мира… — А зачем они прилетят? — поинтересовался Бубырь. — Парень, — удивился Хеджес, — тебе одиннадцать лет, а ты ничего не понимаешь в бизнесе? Удивительно отсталые дети у русских. Было совершенно очевидно, что тайны бизнеса незнакомы ни Бубырю, ни Нинке. Тогда Хеджес снизошел до объяснений: — Ко дню, на который будет назначен великий опыт… Кстати, вы не слыхали, кажется, на двадцать второе апреля? (Ребята не слыхали.) — Хеджес недовольно хмыкнул, но продолжал: — Так вот: к этому дню в королевстве Бисса, где сейчас проживает менее двухсот белых, ожидается приезд гостей со всех пяти континентов, не менее шестидесяти тысяч человек! Вы представляете себе этот размах? Сейчас в различных районах Фароо-Маро, а также на трех других островах сооружаются аэродромы, легкие сборные отели, отдельные домики, рестораны… Подсчитано, что одной жевательной резинки и кока-кола потребуется почти на десять тысяч долларов! На этом можно потрясающе заработать, но мне не дают развернуться. Только виски потребуется больше двадцати тысяч ящиков! Скажу вам по секрету, что я зафрахтовал два парохода. И, если они не опоздают, Хеджес тоже прославится! Машина забралась уже довольно высоко. И вот на темном фоне сплошных джунглей ребята увидели низкие строения, над которыми безвольно повисла мягкая бахрома пальмовой крыши. Казалось, здесь не было ни одного живого существа. Но, когда машина остановилась у дома, к которому строения сходились, как лучи звезды, на веранду пулей вылетел туземец с розовой раковиной в руках. Он повернулся на восток и, напрягая жилы на висках и шее, протрубил сигнал. Звук был похож на долгий, протяжный зов охотничьего рога. Где-то внизу, под перистыми лапами верхушек пальм, ему ответил рокот барабана. — Теперь смотрите, — шепнул Хеджес, выключая мотор, но не вылезая из машины. Лицо премьер-министра исказилось в брезгливой гримасе. Глядя на него, Бубырь и Нинка предупредительно подобрали под себя ноги и с очень тревожными лицами оглядывались по сторонам. Сначала ничего не было видно. Потом Бубырю показалось, что сами по себе задвигались кокосовые орехи, валявшиеся в зарослях травы. В следующее мгновение он и Нинка с ужасом увидели, что на них надвигаются сплошные ряды черепах. Их было не сто, не тысяча, не десять тысяч… Казалось, что сама земля, морщась, ползет куда-то. Рокот барабана приближался, и черепахи ползли все быстрее. Сухой шелест, производимый ими, иногда заглушал удары барабана. Они были всего в пятидесяти метрах, когда барабан внезапно стих. Ряды черепах тотчас замерли. Бубырь и Нинка испуганно уставились на Хеджеса. Тот поднял палец, призывая к молчанию. Спустя мгновение сухой рокот барабана возобновился, удары звучали с лихорадочной быстротой. В бескрайных рядах черепах началось движение. Сначала было непонятно, что происходит. Но спустя минуту черепахи разбились на пять колонн. Каждая из колонн, подчиняясь музыкальному рокоту барабана, двигалась к одному из пяти строений. Широкие двери распахнулись сами, словно тоже повинуясь ритму барабана. И ряды черепах стали втягиваться в зеленоватый сумрак, скрываясь в строениях… — Они строят аэродромы, собирают дома, — негромко, словно боясь, что черепахи услышат, объяснял Хеджес — Вернувшись от вас, Крэгс перестал начинять их электронные клетки знаниями. Но все равно каждая из них знает страшно много, больше, чем любой человек… В ближайшее к ним строение последние ряды черепах втягивались с такой же быстротой, с какой беззвучно несется поток воды. Шествие замыкала черепаха огромного роста, с подвижной маленькой головой на шее змеи… — Скотина Крэгс, — не удержался Хеджес, — назвал эту черепаху моим именем! Она откликается, когда ее зовут Хеджес. Словно услыхав это имя, черепаха проделала нечто удивительное, совершенно несвойственное настоящим черепахам. Она поднялась на задние лапы, так что сквозь плотную пластмассу сверкнули детали ее сложного механизма, приложила переднюю лапу к брюшному панцирю и церемонно раскланялась. — А она может решать задачи? — замирая от любопытства, спросила Нинка. — Она? — Хеджес презрительно усмехнулся. — Она величайший математик! Рядом с ней сам Крэгс просто баран! — А можно, я ее спрошу? Хеджес нехотя открыл дверцу. — Лучше я спрошу! — жарким шепотом уверял Бубырь. — Ты только напутаешь… — Мистер Хеджес, — громко сказал Хеджес по-английски и сплюнул от негодования, — прошу вас сюда! Черепаха, поводя головой на змеиной шее, с достоинством приблизилась. — Неплохо держится, черт возьми! — осклабился Хеджес. — Я думаю, там, среди своих, она тоже премьер-министр. Ну, так что вы хотели спросить? Нинка замялась, и, пользуясь этим, Бубырь торопливо заговорил: — В саду пятьсот восемьдесят шесть яблонь. Это на сто тридцать деревьев больше, чем груш, и на девяносто пять деревьев меньше, чем вишен. Сколько всего деревьев в саду?.. Вот, пусть решит, — добавил он, с нескрываемым недоверием поглядывая на черепаху. — Только-то? — Хеджес присвистнул. — Я не успею перевести, как она даст ответ. — А как это будет? — спросила Нинка. — У нее там внутри барабан с бумагой. Лента с ответом выйдет изо рта… Внимание! — торжественно провозгласил Хеджес. — Я начинаю! И он, слегка запинаясь, все же довольно быстро справился с переводом. Черепаха продолжала пристально, без единого движения, глазеть на них блестящими глазами, но никакой ленты не появлялось ниоткуда… — Может, она не поняла? — спросил Бубырь. — Мне всегда надо прочесть несколько раз… — Не поняла? — фыркнул Хеджес. — Это исключено… Пожимая плечами, Хеджес все же повторил условие задачи. Черепаха безмолвствовала, не сводя с них глаз. — Я ж говорил, трудная задача, — сочувственно вздохнул Бубырь. Но Хеджес не мог смириться с таким ударом. Он влетел в дом, и через секунду все услышали, как он кричит в трубку телефона, вызывая Крэгса. — Черепаха не занимается арифметикой! — гордо провозгласил возвратившийся Хеджес. — Высшая математика — вот это ее пища! А на арифметику она и смотреть не хочет!.. Бубырь и Нинка в гостях всегда помнили о вежливости и потому не стали спорить. — Между прочим, — пробормотал Хеджес, явно недоумевая, — этому чудаку Крэг-су почему-то страшно понравилось, что его самая ученая черепаха не решила простой арифметической задачки для учеников четвертого класса. — Это вовсе не такая простая задачка! — обиделся Бубырь. К их приезду было приготовлено угощение. Мистер Хеджес сам любил покушать, и поэтому обед был на славу. Правда, ребята несколько забеспокоились, когда перед ними поставили по цыпленку, фаршированному тертыми кокосовыми орехами и запеченному в кокосовом тесте; когда в центре стола был воздвигнут тертый кокосовый торт; когда в качестве напитка было подано молоко из молодых кокосов; когда на десерт подали нарубленные спелые бананы, запеченные в толстую оболочку из тертого кокосового ореха. Но тревога ребят рассеялась, так как все оказалось необыкновенно вкусным. Ночевать им пришлось здесь же, в доме, который был не очень приспособлен к приему гостей. И впервые Бубырь и Нинка поняли, каково приходится на островах белым, которые живут не в дворцах, а в хижинах. Кровати для ребят, закрытые пологом от москитов, были поставлены в центре пустой и сырой комнаты. Серый, влажный от сырости полог был весь в дырках, и Нинка, добыв у мистера Хеджеса иголку и нитку, провозилась целый час, пока заделала большие дыры. Но комары немедленно освоили сотни мелких дырочек и шныряли сквозь них как хотели. Полночи Бубырь и Нинка лазили под пологом и били комаров. Светила яркая луна, и за темными окнами стояла нерушимая тишина, а дом был полон звуков. Под крышей шуршали ящерицы. Крысы азартно пищали, носясь в погоне за ящерицами по столбам и балкам. А когда Леня и Нинка все же уснули, то им показалось, что они тут же проснулись: было уже утро. Но все приключения и испытания, выпавшие на долю ребят, не шли ни в какое сравнение с тем, что приходилось испытывать ежедневно Крэгсу, Паверману, консулу и его помощнику Василию Ивановичу… Подготовку, начатую на островах королевства Бисса, невозможно было скрыть. Сведения о невиданном по масштабам этих мест строительстве, о зафрахтованных пароходах, о закупке огромных партий продовольствия и всяких предметов обихода просочились сначала на Новую Гвинею, затем в Австралию, а оттуда — во все уголки мира, вызывая повсюду удивление, горячий интерес, а во многих местах панику. После того как не удалось спровоцировать если не восстание, то хотя бы серьезный конфликт с туземцами Биссы, печать всех капиталистических стран начала особенно налегать на то, что таинственная экспедиция на атомоходе «Ильич» якобы день и ночь грузит в трюмы драгоценных черепах Крэгса… Телефонные звонки, поток телеграмм, сотни первых любопытствующих туристов и газетчиков, необходимость отвечать на особенно наглые газетные провокации, а главное — ежедневная горячка строительства, когда в две недели надо было приготовить на голом месте все, чтобы принять пятьдесят—шестьдесят тысяч человек, все это заставило Крэгса и его помощников позабыть, что такое сон. Они ложились по очереди, как на фронте, и спали не более четырех часов в сутки. Не менее напряженно работали ученые из экспедиции профессора Павермана. Здесь, на месте, необходимо было произвести ряд замеров, уточнить данные, касающиеся общего магнитного поля Земли. Результаты передавались по радио непосредственно Ван Лан-ши и подвергались немедленной обработке. Радиоперехваты приводили в полное смятение разведки Америки и Европы. Что собирались делать Крэгс и большевики? Перемещать полюсы Земли? Но зачем и как? Весь мир терялся в догадках. Между тем наступил уже апрель, шли первые дни месяца…Глава двенадцатая РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
Пятого апреля, в двенадцать часов дня, все радиостанции Советского Союза передали заявление ТАСС. В заявлении говорилось: «Во время неофициального визита его величества короля Биссы была достигнута договоренность между его величеством и представителем Академии наук СССР И. Д. Андрюхиным о проведении специального испытания в целях содействия всеобщему миру и дальнейшему прогрессу науки. Суть указанного эксперимента заключается в следующем. Советские ученые овладели сложнейшей методикой идеально точного расщепления любого материального тела. При этом особые установки (анализаторы) либо превращают материальное тело в пучок неорганизованной энергии, либо дают строго направленный луч. Во втором случае возможно восстановление ранее расщепленной материи. Многочисленные опыты проделывались сначала на так называемой мертвой, а затем и на живой материи. Были расщеплены до лучистой энергии, а затем восстановлены в естественном материальном виде сначала простейшие представители живой природы (различные виды планктона), а затем и высокоорганизованные животные (собака, обезьяны и др.). Опыты дали блестящие результаты. Постепенно совершенствуя методику, советские ученые прочно овладели небывало сложной техникой эксперимента. Решающее значение для успеха имели новые кибернетические машины и устройства, созданные под руководством профессора Ван Лан-ши. Проверка аппаратуры на собаках и обезьянах дала уверенность в праве на последний этан работы. Десятого февраля на территории научного городка академика И. Д. Андрюхина был впервые произведен эксперимент с человеком. Первым человеком, превращенным в направленный луч организованной энергии, был Юрий Сергеев, секретарь комитета ВЛКСМ Майского химкомбината. Передача направленного луча производилась на расстояние двадцати километров. Эксперимент полностью удался. Находясь после восстановления под непрерывным наблюдением врачей, Ю. Сергеев не обнаружил каких-либо отклонений или нарушений нормы в состоянии здоровья. Так, например, следует указать, что через десять дней после эксперимента он участвовал в финальном матче между хоккейными командами „Химик“ (Майск) и „Торпедо“ (Киров), причем блестящая игра тов. Сергеева в значительной степени помогла победе „Химика“. Ныне Академия наук СССР сочла возможным разрешить повторное проведение испытания, причем на этот раз Ю. Сергеев дал согласие преодолеть в виде луча расстояние в десять тысяч двести восемьдесят километров и быть восстановленным над океаном примерно на высоте пятисот метров в районе острова Фароо-Маро, входящего ныне в состав королевства Бисса. Запуск луча будет произведен 10 апреля, в 12 часов дня (по Гринвичу), со специальной фотонной площадки на территории академического городка. Мгновенно преодолев расстояние между районом города Горького и королевством Бисса, луч возникнет под 157°18 восточной долготы и 7°32 южной широты, пройдя над территорией Советского Союза, Пакистана, Индии, Индонезии. Прилагаемая карта указывает путь луча. Академия наук СССР, учитывая исключительную важность эксперимента для всего человечества, обращается с просьбой к правительствам всех стран мира и в первую очередь к государствам, над территорией которых пройдет луч, оказать содействие успеху испытания. Крайне важно, чтобы в коридоре, указанном на карте, по пути прохождения луча, в течение одного часа, с 11.30 до 12.30 (по Гринвичу), не появлялся ни один самолет или любой другой летательный аппарат. Совершенно необходимо, чтобы в квадрате, обозначенном на прилагаемой карте буквой „М“, с 11 часов до 13 часов (по Гринвичу) безусловно не было никаких судов, за исключением местных туземных лодок, и ни при каких обстоятельствах не появлялись любые летательные аппараты. Академия наук СССР выражает надежду, что правительства, научные общества и общественные организации всех направлений, во имя счастья людей и прогресса науки, приложат все силы, чтобы способствовать удаче эксперимента. За всеми справками по вопросам проведения эксперимента надлежит обращаться: Горьковская область, п/я 77, академику И. Д. Андрюхину (указывая на корреспонденции: „Эксперимент“), или с той же пометкой по адресу: Королевство Бисса, остров Фароо-Маро, профессору Б. М. Паверману». Немедленно после окончания передачи советскими радиостанциями полный текст заявления ТАСС был повторен всеми радиостанциями мира. Впервые в истории США была прервана передача бейсбольного матча, чтобы дать место заявлению ТАСС. Комментарии появились немедленно. Помощник государственного секретаря США заявил, что официальное мнение будет высказано после тщательного изучения документа, который пока представляется обычной коммунистической пропагандой. Если Москва хочет, чтобы мир поверил, будто советским ученым удалось добиться таких сказочных результатов, то для этого необходимо немедленно ознакомить ученых свободного мира со всей аппаратурой, применяемой при эксперименте. Кроме того, широкие и представительные делегации должны быть допущены как в академический городок Андрюхина, так и в район действий экспедиции профессора Павермана. В специальных выпусках газет тон был еще более резким. Они недвусмысленно требовали, чтобы в квадрат «М» были направлены специальные наблюдатели, чтобы именно в указанное время каждый сантиметр воздуха и океана просматривался американскими военными самолетами. Газеты пестрели заголовками: «Экспансия в Южном полушарии!», «Москва диктует свою волю свободному человечеству». Потом появились радостно подхваченные реакционными западными газетами раздраженные вопли некоторых ученых. Один из них вешал из своего особняка, что кощунству и безбожию должен быть положен предел. Есть границы и для науки! Ему вторил собрат из Мадрида, утверждая, что имеются такие тайны, касаться которых человек не может, ибо они принадлежат богу. Но основная масса заявлений была проникнута растерянностью, недоверием и даже доказательствами того, что подобный эксперимент невозможен. В вечерних газетах начали появляться первые панические комментарии военных деятелей и специалистов по различным проблемам экономики. Но уже и в эти первые часы стали появляться и совершенно другие отклики. Ряд крупных ученых — Гобель и Морлей в США и Канаде, Морроу и Макгрегор в Англии, Кардьер и Жильбер во Франции, Келлер и Шверин в Германии — и с ними множество других заявили, что они сочтут величайшей честью, если Академия наук СССР и уважаемый коллега И. Д. Андрюхин используют их возможности и знания на любом этапе проведения великого эксперимента. Всем этим ученым, а также любым другим, кто захотел бы к ним присоединиться, были посланы от имени Академии наук СССР приглашения присутствовать при проведении испытания на территории академического городка в СССР либо принять участие в экспедиции профессора Павермана. Английские и французские газеты поместили заявление всемирно известного доктора Шлима, посвятившего всю свою жизнь борьбе с детской смертностью; его имя пользовалось огромным уважением во всех странах мира. Доктор Шлим сказал: «Впервые мне стыдно за человечество, вернее — за мир, который мы называем свободным миром. Авторитетная научная организация — Академия наук величайшей страны заявляет о небывалом, чудеснейшем открытии. И вместо чувства восторга перед мощью человеческого разума, вместо преклонения перед силой духа человека, вторично поднимающегося на фотонную площадку, чтобы превратиться в луч, — мы унизительно мелко паясничаем, надеемся, что это сообщение недостоверно, то есть заранее готовы радоваться поражению науки и не хотим радоваться ее торжеству. Среди моря невежества, страха и злобного человеконенавистничества я поднимаю мой голос, чтобы выразить мое безмерное восхищение великим открытием академика Ивана Дмитриевича Андрюхина и великим подвигом юноши Юрия Сергеева». С каждым днем увеличивалось количество гостей, имевших пропуска в академический городок. И все они прежде всего хотели нанести визит Ивану Дмитриевичу Андрюхину и Юрию Сергееву. Именно это им, как правило, не удавалось. Поэтому пришлось одну за другой устроить две пресс-конференции, на которых присутствовали представители советских и зарубежных газет, телевидения, кино, радио, ученые, представители иностранных деловых кругов. Вот извлечения из отчета об этих пресс-конференциях, опубликованного в «Известиях» от 8 апреля. «Открывая пресс-конференцию, академик И. Д. Андрюхин вкратце ознакомил присутствующих с содержанием и целью предстоящего эксперимента, а также с работами Институтов кибернетики, научной фантастики и долголетия, позволившими подготовить эксперимент. При этом И. Д. Андрюхин обращает особое внимание присутствующих на то, что удачный исход этого опыта на глазах всего мира сделает практически невозможным ведение войны. Корреспондент лондонской „Ньюс“ просит несколько подробнее остановиться на этом вопросе. Академик Андрюхин: Овладение силой тяготения и наши кардинальные успехи в области кибернетики позволили нам решить проблему, казавшуюся фантастической: человек может управлять переходами материи в энергию, и наоборот. Любое инородное тело превратится в атомные частицы, прежде чем перейдет нашу границу или границы наших друзей. Мирное использование этого метода открывает огромные экономические перспективы перед всем человечеством. Корреспондент „Ньюс“: Можно ли предположить, что те успехи, которых ныне добилась советская наука, спустя какое-то время перестанут быть тайной? Академик Андрюхин: Несомненно. Соединенные Штаты, Англия и другие страны располагают первоклассными научными кадрами. Но вы всегда будете отставать, и, чем дальше, тем на больший промежуток времени. Корреспондент „Сан“: Как вы обработали Крэгса? Почему он стал большевиком? Академик Андрюхин: Благодарю за приятную новость: я не знал этого. После того что люди увидят десятого апреля, многие станут такими же большевиками… Корреспондент „Морнинг Таймс“: Я хочу задать вопрос господину Сергееву. Скажите, что вы лично получили после того первого эксперимента, который якобы состоялся десятого февраля? Ю. Сергеев: Я лично получил в тот день мой обычный дневной заработок, стакан хорошего чаю, массу варенья и завалился спать. Корреспонденты(хором): И это все? Корреспондент „Мессаджеро“: Что вы чувствовали, поднимаясь на фотонную площадку? Ю. Сергеев: Мне помнится, я чувствовал себя там лучше, чем на пресс-конференции…» Одновременно с материалами последней пресс-конференции газеты опубликовали краткое сообщение о решении одного из западных правительств направить в район Биссы эскадру в составе авианосца и двух крейсеров. Не было никаких разъяснений по этому поводу: представитель правительства сказал лишь, что эскадре дано указание не заходить в квадрат «М» в часы, установленные для проведения эксперимента. Вечером в этот день академик Андрюхин соединился по радио с Фароо-Маро и вызвал Лайонеля Крэгса. — Как идут дела? — спросил Андрюхин. — Отлично! Завтра к вечеру все будет готово. Надеемся эту ночь спать. — Имеете сведения об эскадре? — Она держится менее чем в пятидесяти километрах от границы квартала. И в Биссе, и особенно в Майске лихорадка ожидания нарастала с каждым часом. Фотонная площадка, с которой должен будет производиться запуск Юры, была воздвигнута на этот раз в центре старого аэродрома, примерно на том месте, где Сергеев оказался после первого испытания. Академический городок располагал самой мощной во всем мире атомной электростанцией. Почти весь чудовищный поток энергии в момент опыта должен быть подан на фотонную площадку. Вход на территорию аэродрома был строжайше воспрещен и в ночь накануне десятого апреля закрыт полностью. В эту ночь они сидели сначала впятером: Андрюхин, Ван Лан-ши, Анна Михеев-па, Юра и Женя, — трое пожилых людей и двое молодых. Они остались после диспетчерского часа, в последний раз проведенного Андрюхиным. Опрос всех служб шел по телеселектору. И вот уже все выяснено, все проверено, а разойтись они не могли… — Давайте споем! Что, в самом деле!.. — заявила вдруг Анна Михеевна и с такой лихостью махнула рукой, повела плечами и так вскинула голову, будто она всю жизнь только и делала, что распевала развеселые песенки. — Идея! — оживился Андрюхин. Ван Лан-ши только тихо улыбнулся, но был безусловно готов поддержать. Они исполнили «Подмосковные вечера», «Тачанку», «Москва моя», «По долинам и по взгорьям» и решили, что если когда-нибудь натворят в науке такое, за что их выгонят, то смогут организовать ансамбль. — Десять часов, — сказал Андрюхин, вставая. — Помни, Человек-луч, тебе надо хорошо выспаться. Ну, завтра некогда будет прощаться, да на людях оно как-то не так… Он крепко обнял Юру и несколько раз поцеловал его, щекоча своей замечательной бородой. — Вот сына хотел, — сказал он ни с того ни с сего Жене. — Дочка есть, внучка есть, а ни сына, ни внука… Но, когда и другие, расчувствовавшись, принялись целоваться с Юрой, который, смущенно улыбаясь, ласково отвечал на прощальные приветствия, Андрюхин, рассердившись, начал всех выгонять из комнаты.Погода была мерзкая. Всю ночь мокрые хлопья снега, расползавшегося у земли в капли дождя, беззвучно кропили все вокруг. Безжизненное, темно-серое небо упрятало куда-то и звезды и луну и вместе со снегом все ниже спускалось на землю. Сырой ветер размазывал по стеклу капли дождя. А Юра с Женей, стараясь не думать о том, что ждет их завтра, сидели и хохотали, захлебываясь до слез… — Юрка, перестань! — тоненько визжала Женя, обессилев от смеха. — Я больше не могу! Юра, едва выговаривая слова сквозь хохот, пытался рассказать, как он захватит с собой удочку и, вися над океаном, будет ловить акул, а потом пойдет по воде, яко по суху… Но Женя уже не смеялась; разглаживая ладонями лицо Юры, она старалась стереть улыбку с его губ. — Мне страшно, — сказала она. — А тебе бывает страшно? — Она вплотную приблизила свои глаза к его глазам, как будто хотела заглянуть в какую-то неведомую глубину. — Наверно, нет, никогда! Ты странный человек, Юрка! Когда ты стоял тогда, в первый раз, на этой проклятой решетке, у тебя был такой вид, словно ты просто слушаешь что-то интересное. Ты даже улыбался, а через секунду — исчез… — Она зябко передернула плечами. — Улыбаться… легче, — заметил он задумчиво. — А то вокруг люди. Не знаешь, куда руки девать. Я ведь не артист. — Ты герой! Неужели ты герой? — Она недоверчиво подняла на него свои яркие даже в полутьме глаза. — Конечно, герой… Как Корчагин или Матросов… Это очень страшно, Юрка? — Ну, какой я герой, Женя! Брось ты это… Лучше дай я тебя поцелую! Когда он уснул, Женя, поджав колени и положив на них голову так, чтобы были видны его нос картошечкой, просторный лоб, плотно сжатые губы, невольно начала вспоминать, как это все случилось, где они встретились. Неужели она знает его всего четыре месяца? Она решила высчитать точно, сколько дней они знакомы. Получилось сто десять дней. Сто десять дней — и целая жизнь!.. Она не помнила, как заснула и сколько спала, сидя вот так же, на стуле, и не спуская с Юры глаз. Ей показалось, что она тотчас проснулась. Было восемь часов. Андрюхин собирался заехать в половине одиннадцатого. Занимаясь приготовлением завтрака, меню которого было тщательно продумано заранее, она непрерывно смотрела то на часы, то в окно поверх занавески и прислушивалась, не проснулся ли Юра… С шести утра радиостанции Советского Союза и всех социалистических стран передавали через каждые полчаса: — Всем! Всем! Всем! Обеспечьте прохождение луча! Контролируйте квадрат «М»! Помните, что с одиннадцати до тринадцати часов по Гринвичу квадрат «М» должен быть свободен!.. Десятки тысяч людей, запрудивших Майск, вместе с сотнями миллионов жителей всего земного шара с рассвета десятого апреля ждали сообщения из академического городка. Те, кто имел пропуска в район аэродрома, с восьми часов стояли под мокрым снегом, подняв воротники и безропотно переступая по лужам замерзшими ногами. В одиннадцать часов на аэродром въехали машины. Митинг открыл президент Академии наук СССР, могучий человек с гривой седых волос, на которых незаметны были тающие снежинки. Глядя на море голов перед ним, слушая взволнованные слова руководителей советской науки, Юра ощутил такой огромный прилив гордости и радостного торжества, что совсем забыл о себе и о своей роли. «Эх, — думал он про себя: — Собрать бы оружие всего мира на эту медную решетку, на пусковую площадку и запустить его в небеса! И не надо такой луч восстанавливать, пусть растает… Сейчас мне идти. Ну, Юрка!» И со смущенной улыбкой, которая невольно возникала у него всегда, когда ему приходилось стоять перед людьми, он двинулся было к сияющей белизной лестнице, ведущей на площадку, но растерянно остановился. «Что же такое происходит?» — с ужасом подумал он. Было без четверти двенадцать, время подниматься на площадку. Но лестница была занята!.. По ней неторопливо шел, неловко улыбаясь окружающим… Юра Сергеев! Не он, а другой Юра Сергеев, удивительно похожий на настоящего… Он, этот другой Сергеев, был также одет в легкий комбинезон из золотистого майлона специальной выработки. Красивый, с набором серебряных пластин, широкий пояс крепко перехватывал комбинезон. На голове у него была такая же шапочка, похожая на те, которые надевают пловцы, а на ногах — светло-фиолетовые спортивные туфли… Юре долго пришлось привыкать к этому костюму, созданному лучшими мастерами московского Дома моделей; раньше костюм казался ему нелепым, пригодным разве что для балета… Но этот парень, взобравшийся уже на фотонную площадку, легко и спокойно нес свой изящный костюм… Что же это такое? Решили посылать не его, а кого-то подменного? Почему? Дикая обида, словно крючьями, рвала на части сердце Юры. Он ловил на себе недоумевающие взгляды окружающих и, побурев от стыда, готов был сорвать с себя золотистый майлон или включить пояс и взмыть в небо. По лестнице быстро взбежал академик Андрюхин и стал рядом с тем, двойником, положив ему на плечо руку. На стадионе стало так тихо, что Юра ясно услышал быстрые удары своего сердца. — Перед вами, — громко заявил Андрюхин, — кибернетический двойник Сергеева! Он распахнул комбинезон, обнажив живот и грудь, удивительно похожие на настоящие, человечьи, нажал на одно из ребер. И на глазах невольно ахнувшей толпы то, что изображало кожу груди и живота, распахнулось, и вместо кровоточащих внутренностей все увидели яркое и сложное переплетение электронной аппаратуры. — Закройся! — небрежно бросил Андрюхин. И, когда легким, совершенно человеческим движением машина подняла руку, опустила на место кожу и застегнула комбинезон, Андрюхин продолжал: — В целях максимальной безопасности он пойдет первым. За ним — настоящий Юра Сергеев! Иван Дмитриевич сделал Юре знак подняться на лестницу. Толпа, приветствуя его радостными криками, поднимая стиснутые в рукопожатии руки, невольно хлынула к фотонной площадке, но, отделенная широким и глубоким рвом, остановилась не менее чем в пятидесяти метрах. Через ров были пропущены только сто человек — восемьдесят делегатов всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций, и двадцать наиболее крупных ученых, всемирно известных общественных деятелей и представители советского правительства. Они перешли ров и уже подходили к лестнице, где стоял Сергеев, когда Андрюхин, взглянув на свой хронометр, предостерегающе поднял руку. Огромный бетонный постамент, высотой около десяти метров, светился фиолетово-желтыми искрами и вибрировал, как туго натянутая струна. Репродукторы, отсчитывающие последние секунды, молчали. Все замерли, не спуская глаз с меланхолически улыбавшегося двойника Сергеева. Вдруг лицо его дрогнуло, улыбка исчезла; он поднял руку; певуче прозвучал удар гонга. Фигура на площадке окуталась светящимся туманом. И тотчас яркий луч, мгновенно вспыхнув, исчез, прорезав сочившееся мокрым снегом небо… На фотонной площадке никого не было. Андрюхин, сверкнув глазами вслед лучу, тотчас повернулся к массивному мраморному столику, установленному внизу лестницы. Два аппарата радиотелефона связывали площадку запуска непосредственно с Москвой и с Биссой. Никто не шелохнулся, пока тонко не пропел аппарат, заставив всех вздрогнуть. Андрюхин схватил трубку. — Паверман?.. Слушаю! — И голосом, загремевшим по всему полю, он начал повторять то, что с другого конца света говорил ему Борис Миронович Паверман. — Полная удача! Локаторы зарегистрировали появление двойника в назначенном квадрате над океаном! Двойник уже установил телефонную связь с Фароо-Маро! Всё! — Он радостно гаркнул последнее слово. И, тут же бросив трубку, Андрюхин повернулся к плакавшей, обнимавшейся, радостно вопящей толпе. Тряхнув головой, он вскинул вверх руки, задрав в небо бороду, и заорал так, что все невольно подхватили его крик. — Ура!.. Ура!.. Ура!.. Когда прошел первый порыв восторга, взгляды всех обратились к Юре. С ним уже прощались представители делегаций, ученые и общественные деятели. Юра был до предела растроган всей этой церемонией; пожилые, уже давно знакомые всему человечеству люди, портреты которых он с детства привык встречать в газетах и журналах, один за другим подходили к нему, многие с заплаканными лицами, но с сияющими молодыми глазами, и протягивали дрожащие, уже старые руки… Юра судорожно вздохнул, не замечая, что слезы уже давно катятся по щекам. Огромный негр ухватил Юрину руку и, раскачивая ее, что-то громко и быстро говорил. Юра, широко распахнув объятия, крепко, по-мужски сжал далекого товарища и сам ощутил его сильные руки. Чешский профессор, поглаживая Юрии рукав, что-то рассказывал, даже, кажется, пел, радостно улыбаясь. Вокруг теснились еще десятки лиц. Юра их уже плохо различал, поднимаясь все выше по лестнице, туда, где на площадке стоял последний человек, с кем ему надлежало проститься, — Иван Дмитриевич Андрюхин. Они молча, тяжело дыша, троекратно расцеловались. Андрюхин вопросительно итребовательно вскинул вверх голову. Юра кивнул головой и стал на фотонную площадку Словно посылая всем последний привет, он скользил глазами по лицам… Эти лица, черные, белые, желтые, были его опорой, тем, что было выше страха, выше ужаса исчезновения. Кто-то, стоя на толстой, черной ветке голого дуба, отчаянно размахивал пестрым шарфом. «Женя!» Он даже хотел приподняться на цыпочки, чтобы лучше ее разглядеть… Но не успел. Необыкновенно яркий луч скользнул над мокрым лесом и скрылся в серой мгле облаков… Сергеев исчез. И тотчас тоненько зажурчал телефон. — Паверман?.. — срывающимся голосом крикнул Андрюхин над затаившими дыхание людьми. Не сразу они поняли, что голос его упал, как падает подрезанный стебель. — Что?.. Что?.. В районе «М» локаторы обнаружили самолет? Самолет обстреливает двойника? А Сергеев?.. От Сергеева известий нет?.. Иван Дмитриевич медленно положил трубку, и таким тяжелым взглядом обвел присутствующих, что ближние невольно посторонились, когда он взял трубку московского телефона. — Правительственный комитет?.. Говорит Андрюхин. Двойник Сергеева обстрелян в квадрате «М» неизвестным самолетом. Сведения поступили в момент запуска самого Сергеева… Да, от него известий пока нет…
Глава тринадцатая НАД ОКЕАНОМ
Декретом его величества короля Биссы десятое апреля было объявлено праздничным днем на всей территории королевства. Так как невозможно было толком объяснить островитянам, что произойдет, ограничились сообщением: «Белые люди будут летать над океаном». Жители Фароо-Маро видели самолеты и раньше; познакомились с ними жители и других островов, когда на спешно созданные аэродромы одна за другой прибывали машины из Сиднея, Гонконга, Джакарты, Сингапура, даже Токио и Манилы… От одиннадцати до тринадцати часов в квадрате «М», граница которого проходила в двадцати километрах от Фароо-Маро, разрешено было находиться только туземным лодкам, и тот, кто не позаботился о лодке заранее, платил теперь колоссальные деньги даже не за лодку, а за место в ней. В знак уважения к советскому консулу староста деревни Вангуну прислал ему свою ладью. — Пожалуй, это единственное судно, на котором Хеджес не заработал ни гроша, — сказал консул, передавая Василию Ивановичу, своему помощнику, ковчег Вангуну. — Хеджес за гроши, за пачку—другую табака зафрахтовал весь, так сказать, туземный флот, а теперь берет по сто долларов за место… Каноэ деревни Вангуну было похоже на гондолу с высоким носом и кормой, украшенными множеством ярких флажков, чтобы отгонять злых духов. Тридцать темно-коричневых гребцов под руководством Тобуку вели его в океан, радостно сверкал ослепительными зубами при каждом ударе весел, а на подушках, благоразумно захваченных из дома консула, подпрыгивали, не в силах удержать восторженный хохот, Нинка и Бубырь, которых Василий Иванович безуспешно уговаривал вести себя солиднее… Ни одна из сотен лодок, скользивших в это утро по лагуне к выходу в океан, не шла ни в какое сравнение с каноэ деревни Вангуну. Все больше и больше отрываясь от своих соперников, разбрасывая веслами груды алмазов, Тобука и гребцы радостно улыбались и скоро промчались мимо какого-то островка, откуда Фароо-Маро уже едва виднелось на горизонте. А в следующую минуту произошло непонятное: каноэ деревни Вангуну вдруг потеряло ход, а гребцы мгновенно издали звук, похожий и на шипение и на свист, и замерли в напряженной тишине. Все это показалось Василию Ивановичу странным, даже подозрительным; он уже повернулся к Тобуке, чтобы выяснить, что произошло, но тут заметил, как десятки других лодок точно так же затормозили ход, едва оказались вблизи их каноэ. Поняв волнение пассажиров, Тобука молча протянул руку вперед. Там плавало что-то вроде коричневого острова в несколько гектаров величиной. Только когда, повинуясь беззвучным указаниям Тобуки, лодка приблизилась к загадочному острову, Василий Иванович понял, что это такое. — Черепахи! — шепнул он. — Морские черепахи! — Это черепахи мистера Крэгса? — Нинка тотчас вскочила на ноги. — У нас есть одна знакомая, ее зовут мистер Хеджес, но задачи она решать не умеет… — Нет, это настоящие морские черепахи, — заявил Василий Иванович, с любопытством следя за огромным стадом. Как только лодки окружили его, гребцы скользнули в воду и бесшумно, без единого всплеска, подплыли к черепахам. У многих черепах панцирь достигал в поперечнике без малого метр; такие черепахи весили по семьдесят — восемьдесят килограммов. Все это были спящие самки; теплая вода медленно несла их к берегу, где они должны были отложить яйца… Охотники, действуя по двое, одновременными ловкими движениями переворачивали черепаху за черепахой брюхом кверху. Беспомощно болтая в воздухе лапами, вытягивая над водой змеиные шеи и раскрывая клювы, схожие с клювами попугаев, черепахи уже не могли скрыться. А «остров», казалось, даже не уменьшился. И Тобука заметил, что очень редко встречается такое большое стадо… Перевернутых черепах охотники отбуксировали каждый к своей лодке, где добычу привязали к веревке, чтобы тащить в лагуну. Невозможно было заставить лодки идти дальше в океан. Как ни ругались корреспонденты и кинематографисты, как ни умоляли, какие деньги ни сулили, гребцы неумолимо держали к берегу, весело отвечая на все вопли белых людей: — Иес, мистер! Иес, сэр! Мясо черепах попадается не каждый день! На берегу их ждали восторженные вопли женщин и детей родной деревни, пир и праздник на всю ночь. Можно ли это было променять на бесцельный поход! Только лодка деревни Вангуну продолжала двигаться вперед. Гребцы и Тобука знали, что староста велел им выполнять все распоряжения белого человека, а Василий Иванович, имея строгое указание консула, твердо держал курс на квадрат «М». Нинка и Бубырь перебрались на нос лодки и, жмурясь от нестерпимо острого сверкания воды, спорили, кто первый увидит Юру Сергеева и как это будет. Василий Иванович то и дело прикладывал мощный морской бинокль к глазам, но, кроме бесконечных вспышек на гребнях волн и легкого марева вдалеке, не видел ничего. Вначале его несколько обеспокоило, что все лодки вернулись к острову, а он с ребятами уходит все дальше. Но потом Василий Иванович рассудил, что нетерпеливые журналисты и операторы, после того как черепахи будут доставлены на берег, найдут способ уговорить туземцев все же дойти до квадрата «М»; не пройдет и трех часов, как все они, вероятно, снова встретятся в океане. — Сколько я ни думаю, — вздохнул Бубырь, доставая из-за пазухи лепешку и делясь ею с Тобукой, — никак не могу придумать, как это они делают! — Что ты опять не понимаешь, Колобок? — насмешливо покосилась Нинка, развлекавшаяся попытками увидеть свое изображение в зеркальных струях океана. — Как это они делают? — хрустя сухой лепешкой, взволнованно таращил глаза Бубырь. — Ты помнишь, сколько мы сюда ехали? Даже самолет, самый сверхскоростной, «ТУ-150», долетает сюда за шесть, ну, пусть, за пять часов. А Юра Сергеев в Двенадцать часов еще будет в Майске, в академическом городке. Раз! — на часах все еще двенадцать, а он уже здесь! — Самолет! — вскрикнул вдруг Василий Иванович и, не веря себе, быстро протер бинокль и снова поднял его, закрыв им чуть не половину лица. — Идет прямиком в квадрат «М»… — Он подрегулировал линзы. — А может, выскочил из квадрата… Непонятно… Он оглянулся на гребцов, явно сожалея, что их каноэ не может развить такую же скорость, как самолет. — Уходит! Откуда он взялся, черт возьми? Выяснить это было невозможно. Бубырь, забыв о лепешке, молча смотрел на Василия Ивановича, а у Нинки дрогнули губы. — Может, чего с Юрой?.. Может, что случилось? Коралловый островок, торчавший над водой, давно исчез позади… Они плыли между двумя океанами: голубым, струившим горячее солнце, наверху, и то голубым, то синим, то зеленоватым, брызгающим белой пеной, под ними. Василий Иванович посмотрел на часы: было без четверти одиннадцать. Он проклинал себя последними словами за то, что не взял передатчик и не мог сейчас связаться с берегом. «Вернуться? Но до берега не меньше двух часов, все так или иначе кончится… Кроме того, какие, собственно, основания утверждать, что самолет был в квадрате „М“ или направляется туда? Наконец, локаторы прощупывают непрерывно весь квадрат, и, если самолет был там, они должны были его давно обнаружить. А что еще я могу сообщить?» И Василий Иванович решил двигаться дальше. Он не знал, что случайно обнаруженный им самолет, гидроплан неизвестной национальности, намеренно держится пока в стороне от квадрата «М» и что именно потому локаторы не смогли его обнаружить. — Что же может случиться с Юрой? — сказал он, подтаскивая к себе Нинку за лямки цветастого сарафанчика. — Юра пока только едет на аэродром академического городка… Еще целый час их лодка шла в океан, и казалось, что она не то двигается вперед, не то стоит на месте, не то кружится, взлетая вверх и вниз среди соленых брызг, летучих рыб и голубого неба. Утомленная водой и качкой, Нинка прикорнула на коленях Василия Ивановича, но Бубырь, напуганный бескрайностью океана и тревожимый смутным ощущением грозящей беды, почти лежал на носу, неотступно глядя вперед или молча проверяя, не увидел ли еще чего-нибудь Василий Иванович в бинокль. Неожиданно Бубырь приподнялся. — Что это? — спросил он, протягивая руку в небо. Василий Иванович моментально вскинул бинокль к глазам: там ничего не было. — Да нет! Слышите? — взволнованно выговорил Бубырь. — Вот опять… Теперь услышал и Василий Иванович. Бледнея, он медленно опустил бинокль. Казалось, тень легла на его лицо. — Это, брат, пулеметная очередь… — медленно сказал он, сжимая кулаки. Было ровно двенадцать часов. По вычислениям, которые Василий Иванович непрерывно вел, они пересекли границу квадрата «М» несколько минут назад. Квадрат образовался сторонами, каждая в пятьдесят километров длиной. Успеть попасть туда, где сейчас шла стрельба, они не могли. Да и что бы они сделали без всякого оружия?.. Тем не менее, определив по звуку наиболее вероятное место выстрелов, Василий Иванович, не колеблясь, направил туда каноэ. — Пусть спит! — торопливо сморщился взволнованный Бубырь, когда Василий Иванович покосился на Нинку. «Не заснуть бы нам всем тут!» — подумал Василий Иванович. Что там произошло? Юра уже над океаном. Он мог бы уже связаться с берегом. В небе с минуты на минуту должны были показаться гидропланы экспедиции, чтобы подобрать Сергеева… Что же случилось? Это были как раз те секунды, когда Паверман, окруженный всем составом экспедиции, принимал в радиорубке «Ильича» от взволнованной радистки первые сообщения двойника Сергеева. — Прибыл на место. Высота над уровнем океана четыреста шестьдесят восемь метров. Жду указаний… Еще не прошел пронесшийся по «Ильичу» шквал восторженных восклицаний, когда радистка, не отходившая от аппарата, требовательно подняла руку. Двойник Сергеева вел передачу. Автомат невозмутимо сообщил: — Внимание! В зоне появился самолет. Идет на меня. — Немедленно вызывайте Андрюхина! — крикнул, дрожа, как от озноба, Паверман. — Живее! Его сотрудники бросились к радиотелефону и замерли: двойник возобновил передачу. Так же размеренно он сообщил: — Самолет в двухстах метрах. Проходит мимо, требуя, по-английски и по-русски, чтобы я опустился на воду… Паверман, подняв жилистые кулаки, бросился к радистке: — Передавайте Андрюхину… Но опять заговорил автоматический радиопередатчик двойника: — Самолет начал обстрел… Дал очередь над головой. Второй очередью перебиты ноги… — Передавайте Андрюхину! — страшным голосом крикнул Паверман, хватаясь за стойку. — Самолет в квадрате «М». Обстрелян двойник! Задержать главный запуск!.. — Он спрашивает, что с Сергеевым… — бледный, как воротник рубашки, негромко выговорил сотрудник, связавшийся с Андрюхиным. — Как? Разве Сергеев?.. — Паверман бессильно прислонился к стене, глядя прямо перед собой на огромные часы в радиорубке. — Сообщите: от Сергеева пока сведений нет. Было принято решение: немедленно, на большой высоте, выслать дежурные гидропланы. В это время самолет, атаковавший двойника Сергеева, делал второй заход. На самолете не было никаких опознавательных знаков. Его экипаж состоял из пяти человек. Все они были в одинаковых белых рубашках, коротких белых штанишках и теннисных туфлях; даже стрелки, сидевшие у пулеметов, носили тот же костюм. Разговаривали они между собой по-английски, но это, конечно, еще не определяло национальности, тем более что двое говорили с явным акцентом. Небольшая черная такса в наморднике непрерывно скулила у ног одного из них. У этих людей были головы, лица, руки, ноги, даже глаза. И, хотя, вне всякого сомнения, все эти детали принадлежали именно людям, а не электронным машинам, у всякого, кто взглянул бы на членов экипажа неизвестного самолета, невольно возникло бы естественное чувство гадливости, отвращения. Их глаза были разного цвета и формы, но это были одинаковые глаза убийц. И даже эти беспардонные убийцы были потрясены появлением двойника. Их била дрожь, чувство ужаса все сильнее скребло душу. — Он продолжает вести передачу? — спросил старший, отшвыривая ногой черную таксу. — Да, мистер Френк. — Радист самолета с трудом шевелил губами. — Он сообщает обо всех наших движениях. — Сбей его! — приказал Френк левому стрелку. — Тысяча долларов за хороший выстрел! Стрелок не промахнулся и на этот раз. Очередь прошила грудь и шею двойника. — Замолчал! — глухо проговорил радист. — Отлично, но почему он висит в воздухе? Что за дьявольщина? — Человек, которого называли мистер Френк, в кровь искусал губы. Ему было до тошноты жутко, его била дрожь, но он не мог уйти отсюда, пока не собьет этого красного. — Босс! — крикнул один из стрелков. — Второй появился! В сияющей голубизне неба, примерно на той же высоте, что и двойник, но метров на триста в глубь квадрата, возник Юра Сергеев. — Бросьте в ад эту дьявольскую таксу! Швырните ее в океан! — заорал мистер Френк, не в силах терпеть дольше отчаянный скулеж забившейся под сиденье черной собачонки. — Пусть хоть она выкупается, раз эти фокусники не хотят идти в воду!.. Дай им еще, стрелок! Радист нервно сообщил: — Вторая радиограмма от какого-то короля Биссы. Предупреждает самолет неизвестной национальности, преступно вторгшийся в пределы квадрата «М», что с ним будет поступлено, как с бандитом и убийцей. — Вздор! — сплюнул Френк. — Стреляй! — Под нами туземная лодка, сэр, в ней белые… — нерешительно выговорил летчик. — Второй пулемет, очередь по лодке! — Мистер Френк в бешенстве колотил кулаками по подлокотникам кресла. — Босс, — доложил штурман, — к нам приближаются три гидроплана… Сжав зубы, Френк тихо застонал. — Надо удирать, — нехотя выговорил он. — Но раньше сбить этих акробатов… — Не буду я стрелять в этих парней! — пробурчал стрелок. — Это расстрел. Я не палач… Они сделали чудо. — Бунт?! — Мистер Френк выхватил браунинг. (Стрелок, хмуро поглядев на него, выразительно сплюнул.) — Бунт?! — почти шепотом выдохнул мистер Френк и с двух шагов разрядил всю обойму в разом обмякшее тело стрелка. — Сэр, — пролепетал радист, — второй… парашютист ведет передачу… Это был тот момент, когда и осунувшийся Паверман, лишь потом обнаруживший широкую седую прядь в своих огненных кудрях, услышал вновь характерное потрескивание радиоаппарата. — Сергеев! — звонко крикнула радистка «Ильича». — Передает: «Вышел на заданную точку. Самочувствие хорошее. В квадрате самолет. Двойник расстрелян. Самолет атакует меня…» — Ну? — Паверман, до боли скривив заострившееся лицо, впился костлявыми пальцами в ее плечо. — Ну? — Замолчал… — едва выговорила девушка. В это время Юра Сергеев проделывал примерно то же, чем он занимался, демонстрируя Крэгсу и Хеджесу антигравитационный костюм. Он то стремительно взмывал вверх, оказываясь над самолетом, то камнем падал вниз, лишь у поверхности воды застывая в воздухе. В момент одного из таких падений он заметил в пестрой, переливающейся самоцветами воде что-то барахтающееся, что-то маленькое, черное, старательно колотившее по воде черными лапками. Блестящий клеенчатый нос упрямо торчал кверху… — Детка! — крикнул Юра. Подхватив таксу, он снова взмыл в струящееся жарой небо, на ходу запихивая визжащего пса в широкий карман комбинезона. Самолета не было видно. Юра оглянулся, ища его, и тотчас острая судорога рванула плечо и левый бок. Свесив голову на грудь и уронив тяжелую руку на Деткины лапы, торчащие из кармана, Юра бессильно повис в воздухе, неподалеку от своего двойника… Напрасно песик пытался через намордник лизнуть руку Юры, напрасно скулил так, как не скулил и в самолете, — Юра не шевелился. Его тяжелое тело висело на заданной высоте, ничем не управляя, ничего не сообщая товарищам… К этому моменту сложилось следующее положение. Неизвестный самолет стремительно уходил на юг, в район, где крейсировала эскадра седьмого флота. Три гидроплана экспедиции на высоте примерно пяти тысяч метров на малой скорости входили с востока в квадрат «М», еще не обнаружив ни Юру, ни его двойника. Каноэ деревни Вангуну ближе всех находилось к месту катастрофы, и Василии Иванович в марской бинокль уже смутно различал в струящихся потоках раскаленного воздуха тело Юры и фигуру его двойника. Лодки, на которых все же плыли к квадрату «М» неугомонные корреспонденты и операторы, были еще далеко, но тоже приближались к месту, где разыгралась трагедия… Радисты на гидропланах, ни на что, собственно, не надеясь, упорно вызывали Юру и его двойника. Никто не отвечал на вызов… Пока пытались выяснить национальную принадлежность самолета, совершившего гнусное преступление, профессор Паверман, члены экспедиции и весь личный состав «Ильича» думали лишь о том, жив ли Юра и как при создавшихся условиях его найти. Предполагалось, что и он и его двойник, прибыв на место и несколько освоившись, дадут о себе знать по радио и при подходе судна или гидропланов спустятся на воду, откуда и будут подобраны. Теперь было ясно, что ни Юра, ни его двойник спуститься на воду не могут. Положение осложнялось еще тем, что метеосводки предупредили о приближении урагана. Обнаружив наконец Юру, гидропланы вызвали вертолет. Никто не знал еще размеров катастрофы, не знали, убит или только ранен Сергеев, и каждая новость из района Биссы жадно ловилась миллионами людей, не отходивших от своих приемников или уличных репродукторов. Новости были неясные и путаные, но сам факт огромной удачи великого эксперимента и чудовищное злодеяние неизвестного самолета потрясли сердца людей. Всюду возникали стихийные митинги; в воздух взлетали сжатые кулаки; полиция растерялась. В наэлектризованных толпах людей все чаще раздавались требовательные возгласы: — Мир! Мир! Руку Советам! К черту бомбы! Да здравствуют русские храбрецы! Виват советской науке! Между тем драма у острова Фароо-Маро продолжала развиваться. Моряки, спустившиеся по лестнице из остановившегося над Юрой вертолета, с трудом подхватили его грузное безжизненное тело. В тот момент, когда Юру поднимали по лестнице, какой-то черный, визжащий комок, раньше никем не замеченный, выпал у него из кармана и полетел в воду. Моряки растерялись, однако нельзя было терять ни мгновения, и они поторопились доставить Юру в вертолет. Прибывший на вертолете врач экспедиции, понимая, как ждут его сообщения во всем мире, осмотрев Юру и хмуро глядя перед собой, негромко сказал: — Жив. Но может умереть ежеминутно. Пробита сердечная сумка, вторая пуля застряла в легком… Даже на «Ильиче» нет условий для проведения такой сложной операции… Захватив и двойника Юры, храбро принявшего на себя первый удар, вертолет, словно траурная колесница, грузно полетел к «Ильичу».То, что шторм начинается в тропиках внезапно, Василий Иванович, конечно, слышал, однако он не мог оценить зловещего значения темного пятна, возникшего на востоке, среди веселых кучевых облаков. Но Тобука и все гребцы взволнованно показывали на это крохотное черное облако и, на этот раз не дожидаясь согласия Василия Ивановича, развернули свой нехитрый корабль и помчались к острову. Ни Василий Иванович, ни тем более ребята не могли оценить серьезность надвигавшейся угрозы. Между тем темное пятно стало уже огромной иссиня-черной тучей, налитой до краев дождем. Неожиданно холодный ветер резкими толчками повалил лодку набок, кидая ее с волны на волну. Нинка посинела, зубы у нее стучали, и даже Бубырь покрылся гусиной кожей. Огромная тень от тучи неумолимо двигалась на лодку и наконец накрыла ее. Сплошные потоки воды, подобные лавине ревущего водопада, обрушились на лодку. А в нескольких десятках метров, словно наблюдая, как здорово все это получается, насмешливо сверкало солнце. Лодку захлестывало водой. Огромные волны в гривах белой пены, рыча, шли на нее одна за другой. Отплевываясь от соленой воды, до того мокрые, что казалось, будто даже кожа у них промокла насквозь, Нинка в облепившем ее сарафане и неповоротливый Бубырь торопливо вычерпывали длинными черпаками воду из лодки, то и дело сваливаясь под ноги гребцам. По черным, равномерно сгибавшимся спинам гребцов текли потоки воды. По другую сторону от ребят орудовал ведром Василий Иванович. В уныло обвисшей шляпе, с закатанными брюками на волосатых ногах, он походил на дачника, попавшего на рыбалке под ливень. Бубырю уже показалось, что впереди мелькнул тот самый островок, около которого они несколько часов назад беспечно ловили черепах, когда огромная косая волна, величиной с многоэтажный дом, неожиданно накрыла лодку… Часть гребцов, растерявшись, в ужасе выпустила весла. Лодку понесло боком, и в следующее мгновение она опрокинулась, бросив в океан гребцов, Тобуку, Василия Ивановича и Бубыря с Нинкой. Глотая воду, фыркая, чувствуя, что погибает, что соленая вода беспощадно забила нос, боясь открыть рот и бешено перебирая ногами и руками, Бубырь, подхваченный следующей волной, вылетел на поверхность и жадно глотнул вместе с солеными брызгами изрядный запас воздуха. «Кораблекрушение! Шторм! Акулы!» Один страх в воспаленном мозгу Бубыря сменялся другим. И вдруг самое страшное заставило его выпрыгнуть из воды по пояс. «А где Нинка? Она же не умеет плавать!..» Он оглянулся и только сейчас увидел, что он не один. Волны то разбрасывали, то снова сближали черные тела гребцов; среди них он различил Тобуку. За нос опрокинувшейся лодки упорно держался Василий Иванович; другой рукой он поддерживал Нинку, которая что-то орала, задирая кверху белобрысую голову с жалко повисшими косичками… Кажется, она ругала океан. Обрадованный Бубырь поплыл к ним. Хотя это было очень трудно и, подплывая, он несколько раз больно стукнулся об лодку, до крови распоров бок, все же Леня добрался к Василию Ивановичу и подхватил яростно плюющуюся Нинку с другой стороны. Вскоре к лодке подплыли Тобука и другие гребцы. Тобука, все еще пытаясь улыбаться, посадил Нинку на плечи и, держась за лодку рядом с Василием Ивановичем, печально покачал головой. Они могут спастись, только если утихнет шторм и если до этого не появятся акулы, а их тут много… Акулы!.. Леня перестал слышать грохот океана, не замечал ливня, не видел многосаженных волн. До боли в глазах он вглядывался в мутно-сизую воду; ему то и дело казалось, что из неведомых глубин всплывает длинное, сильное тело с разинутой зубастой пастью и косым плавником… Но вместо акулы Леня увидел… Муху! Это было невероятно, но он ясно видел на гребне взметнувшейся волны, рядом с собой, мордочку Мухи. Еще не веря себе, забыв об акулах и не обращая внимания на крики Василия Ивановича и Тобуки, Леня ринулся туда, где волны подбрасывали и вертели блестящий, черный, почти безвольный, но еще живой комок. Муха была совсем близко, он видел ее блестящие глаза, лапы, упрямо колотившие взбешенный океан, задранный кверху клеенчатый нос. Но, злобствуя, злорадно воя, волны откатывались в стороны, и снова между Леней и Мухой лежала седая, в клочьях пены, жадно дышавшая пропасть… Ему помог Тобука. Он поплыл следом за мальчиком и, поняв, что надо добыть собаку, ловко скатился по взмыленному гребню прямо на Муху, успев подхватить ее за дрожащую шкурку. В следующую секунду океан снова вырвал Муху, но теперь Леня был рядом. Он обхватил собаку вокруг бьющегося, как в лихорадке, туловища и, тут же хлебнув с ведро воды, едва не пошел на дно. Его удержал Тобука… Так они и плыли втроем. Муха из последних сил все старалась выпрыгнуть из воды, хрипло взлаивала и, захлебываясь соленой пеной, облизывала Леню. — Лает она все-таки по-русски… — едва выговорил довольный Бубырь, когда они добрались до опрокинутой лодки, где с нетерпением ждали их Василий Иванович, Нинка и гребцы. Потоки воды по-прежнему с ревом валились на них, холодный ветер пытался оторвать их от лодки или размозжить об нее, когда Василий Иванович, взглянув на небо, радостно крикнул. Над ними стоял вертолет. Через несколько минут все было кончено. В огромное теплое брюхо вертолета поднялись по бешено качавшейся лестнице не только все тридцать гребцов во главе с Тобукой, не только ребята с Мухой и Василий Иванович; туда же с трудом втянули и славное каноэ деревни Вангуну. Грузно покачиваясь под ударами дождя и ветра, вертолет уже проходил над пенными бурунами прибоя, когда с востока, с противоположной стороны острова, до них донесся сквозь вой урагана протяжный рык артиллерийской канонады… Крейсеры, входящие в состав седьмого флота, дали первый залп по Фароо-Маро…
Глава четырнадцатая КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Залпу предшествовали переговоры. С крейсера «Атлантида» был продиктован ультиматум королю Биссы: «Предлагаю в течение шестидесяти минут обсудить и дать свое согласие на следующее: 1. Вами интернируется советское судно „Ильич“. 2. Вверенная мне эскадра оккупирует Биссу. В случае отказа или промедления корабли начнут обстрел Биссы». Шестьдесят минут нужны были для того, чтобы корабли могли занять боевую позицию… Радиостанция Биссы и «Ильича» немедленно сообщили о новой провокации. Но печать и другие средства оповещения западного мира, явно повинуясь невидимой указке, скрыли от населения своих стран зловещий ультиматум. Зато все средства пропаганды этих стран были мобилизованы на то, чтобы внушить необходимость оккупации Биссы и правильность действий командующего седьмым флотом. «Большевики вывозят черепах Крэгса! — вопили газеты и радио. — Мы не допустим воровства! Все на защиту цивилизации!» По истечении тридцати минут с момента приема ультиматума радио Биссы заявило: «Предупреждаю командующего седьмым флотом и командующего эскадрой в составе авианосца „Океан“, крейсеров „Атлантида“ и „Колумб“, что вход в территориальные воды Биссы запрещен. Нарушение территориальных вод повлечет немедленное насильственное выдворение эскадры. Крэгс». Адмирал расхохотался, получив этот ответ. Боевые корабли эскадры через двадцать минут вошли в территориальные воды Биссы и заняли боевую позицию. Жерла орудий, как огромные указательные пальцы, были направлены на Фароо-Маро и стоявший по ту сторону острова «Ильич»… Последовала новая радиограмма командующего эскадрой: «Через пять минут начинаю обстрел». Радиостанция Биссы ответила: «Руководствуясь человеколюбием, вторично предупреждаю: любое враждебное действие вызовет выдворение эскадры. Крэгс». По истечении пяти минут последовал залп… Это был тот самый залп, который был слышен на вертолете, спасшем Юру и всех потерпевших кораблекрушение на каноэ деревни Вангуну. Казалось, содрогнулась не только громада кораблей, но и весь остров и океан до самого горизонта… Бледно-кровавые вспышки пламени вспыхнули на волнах багряными бликами… Одновременный залп орудий «Атлантиды» и «Колумба» был достаточен, чтобы стереть с лица земли два таких острова, как Фароо-Маро. Командующий, стремясь наверняка покончить с Биссой и «Ильичей», распорядился пустить в ход атомную артиллерию… Снарядам с «Атлантиды» и «Колумба» надо было всего десять секунд, чтобы преодолеть расстояние до Фароо-Маро. Однако прошло десять, двенадцать, пятнадцать минут после залпа, а на острове не наблюдалось никаких последствий страшного огневого удара. Ни мечущихся, еще уцелевших жителей, ни рушащихся зданий, ни гибнущих пальм, ни языков пламени, сливающихся в один грандиозный пожар. Ничего. Не было слышно даже взрыва… На берег лагуны не торопясь вышли туземные женщины, видно не понявшие, что крейсеры начали обстрел острова. Оживленно переговариваясь, они расположились полоскать белье. Только теперь новая радиограмма Крэгса была выслушана и изучена на «Атлантиде» с должным вниманием и тревогой. «Крейсеры произвели обстрел ядерной артиллерией. Одного залпа было более чем достаточно, чтобы полностью уничтожить Фароо-Маро. Как видите, вы бессильны. Я предупреждаю в последний раз. Предупреждаю командующих флотом и эскадрой, их офицеров и матросов. Предупреждаю правительство и народ вашей страны. Прекратите безумие. Еще один залп, и эскадра будет превращена в ничто, так же, как я уничтожил посланную вами на остров смерть. Крэгс». Крейсеры дали второй залп. На острове это снова не произвело никакого впечатления. Женщины как будто и не слышали ничего: горланя по-прежнему, они полоскали белье. — Еще залп! Еще! — Командующий тряс кулаками перед своими офицерами. — Пока мы не найдем щель… Бледный от ужаса радист, заглянув в рубку, молча сунул адмиралу радиограмму. — Что там? — крикнул командующий, вырывая послание. — Опять угрозы? Он прочел: «Всем правительствам мира. Сообщаю, что эскадра, атаковавшая Биссу, в течение трех секунд выброшена вон». — Пропаганда!.. Этот Крэгс сошел с ума… — выговорил адмирал, бросая бумажку, но это было его последним словом и последним жестом. Женщины, весело полоскавшие у берега лагуны белье, заметили, как словно молния сверкнула там, где только что стояли грозные корабли. Вспышка, затмившая солнце, мелькнула над океаном и исчезла. И кораблей не стало. Океан свободно, до горизонта катил свои могучие лазоревые волны…* * *
В этот яркий, солнечный день все золотистые пляжи Великой песчаной косы, которая от побережья Флориды тянулась на десятки миль в сторону Мексиканского залива, были усеяны тысячами отдыхающих пловцов и любителями подводной охоты. Веселый гомон развлекающейся человеческой толпы заглушал не только пронзительные крики чаек, но даже могучий рез океана. Гремели импровизированные оркестры; стонали банджо и гитары; шутливо покрикивали продавцы мороженого, соков и горячих сосисок; целая компания подводных охотников в своих причудливых ластах и аквалангах пыталась на кромке берега у воды изобразить только что изобретенный танец Нептуна… Все было, как в обычное солнечное воскресенье. Поэтому, когда странный солнечный зайчик остро резанул всех по глазам мгновенной ярчайшей вспышкой, это восприняли, как чью-то шутку. Но тотчас огромный многокилометровый пляж, буйно гудевший весельем, оцепенел, застыв в самых неожиданных позах. В следующее мгновение все шумно ринулись бежать, но остановились, задержанные не то страхом, не то любопытством. Всего в нескольких десятках метров от берега, там, где только что лишь солнечные блики сверкали на гребнях волн, где на ослепительно синем небе мелькали ярко-оранжевые клювы чаек, стрелой падавших на летучих рыбок, там теперь лежали огромные корабли. Они были несуразны к страшны… На берегу не сразу поняли, что это военные корабли — два крейсера и авианосец — и что корабли находятся в самом неестественном положении: стоят на песке, медленно, но неотвратимо заваливаясь набок… Не сразу увидели с берега и людей — моряков. Похоже было, что моряки не то долго спали, не то перенесли какое-то потрясение, от которого не могут оправиться. Люди на берегу и люди на кораблях пришли в себя примерно в одно и то же время. Пока на берегу знатоки флота и политических событий, прочитав названия кораблей — «Атлантида», «Колумб», «Океан», — обменивались недоуменными репликами о том, что ведь эти суда входят в состав седьмого флота и крейсируют где-то между Австралией и Индонезией, на кораблях послышались нервные, торопливые команды… Первые репортеры — кто захватив у берега лодки, кто просто вплавь — уже вертелись около гигантских стальных громад, силясь жалкими человеческими голосами в самодельные рупоры прокричать свои вопросы. Но еще до этого пришедшие в себя радисты кораблей, убедившись, что связь работает, передали в эфир сенсационные сообщения. В это невозможно было поверить! Как? Три первоклассных корабля общим водоизмещением едва не сто тысяч тонн, вооруженные атомной артиллерией, имея на борту почти тридцать тысяч человек и пятьдесят реактивных самолетов, были, словно ничтожная пыль, брошены в воздух и перекинуты за тысячи километров!.. Все они оказались аккуратно посаженными на песчаные отмели у пляжей Флориды. И это сделал какой-то ничтожный король Биссы! Мир испытывал необычайное потрясение. Злодейское нападение на Сергеева, которого уже газеты всех континентов называли «Человек-луч» и «Герой человечества», вооруженная агрессия седьмого флота против беззащитной Биссы и научного судна, не имевших никакого вооружения, и, наконец, чудесное и загадочное поражение седьмого флота, выброшенного на людные пляжи Флориды, за много тысяч километров от берегов Биссы, — все это повергло мир в необычайное волнение. В газетах промелькнуло интервью с академиком Андрюхиным, которого все эти события застали в самолете, на пути к Биссе, куда он вылетел, получив сообщение об исчезновении Сергеева. Академик Андрюхин заявил: «Мир сейчас неуязвим. Война бесцельна. Вы можете бросить весь флот, всю авиацию к берегам Биссы, но ни один снаряд и ни один солдат не достигнут этих берегов Король Биссы не нападает. Он защищается». В специальных выпусках газет, посвященных этому заявлению, ядовито намекали, что некоторые воинствующие правительства претендовали на мировое господство, но не могут справиться с игрушечным королевством, где постоянно проживает всего двести человек белых, весь флот состоит из нескольких туземных лодок, авиация — из двух спортивных самолетов, а артиллерия — из фейерверков; ими, как говорят, премьер-министр Хеджес любит отмечать всякое знаменательное происшествие…Все эти тревожные часы Юра находился между жизнью и смертью. События развивались с такой стремительностью, что невозможно было поверить, будто с момента появления Юры над океаном и до настоящего времени прошло менее четырех часов. В лазарет на «Ильиче», где лежал Юра, не доносилось ничего из бурного потока событий, потрясших весь мир. Юра все еще не приходил в сознание. Ни врачебные советы, которые шли теперь со всех концов мира, ни молитвы простых людей — итальянцев и индийцев, англичан и тибетцев — кажется, уже не могли его спасти. Лицо врача становилось все более мрачным; он опасался даже того, что не сумеет еще хоть на час-два поддержать едва тлевшую в Юре жизнь. — Вы можете умереть сами, убить любого из нас, — заявил профессор Паверман, сверкая глазами и колотя при каждом слове сухоньким кулачком по столу, — но Сергеев должен жить до приезда Андрюхина! И теперь врач через каждые полчаса, с лицом все более откровенно тревожным, докладывал Паверману, что пока его приказ выполняется. — Не мной, — прибавлял врач, — я бессилен… Самим Сергеевым. Как он живет, чем — не знаю… Но положение — безнадежно… Бубырь и Нинка сидели безвыходно в тесной клетушке у Пашки Алеева, в его, как он говорил, персональной каюте. Они больше молчали, то и дело по очереди принимаясь тискать Муху. Но она, словно что-то понимая и чувствуя, что эти ласки предназначаются не ей, не прыгала, не лаяла, а только тихонько повизгивала, глядя на них удивительно умными глазами. — А может, им нужна кровь? — вдруг зашевелился Бубырь. — У меня знаете ее сколько! Но Пашка, сердито отмахнувшись, заявил, что он сразу же предлагал, но крови не нужно. — Изобретают эти ученые, изобретают, — зло пробурчал Пашка, — а того не могут, чтобы за нужного человека другой бы пусть помер, ненужный!.. — А может, этот другой, — с испугом пробормотала Нинка, смотря на Пашку сквозь слезы, — может, он тоже когда-нибудь станет очень нужный!..
После поражения седьмого флота премьер-министр Хеджес явился к своему королю в явно ненормальном состоянии Нет, он был трезв, великолепно одет и даже пытался вести себя с достоинством, но руки его лихорадочно вздрагивали, глаза были воспалены — все выдавало, что Хеджес находится во власти новой аферы. — Что еще? — простонал Крэгс. Менее чем кого-нибудь ему хотелось видеть Хед-жеса в момент, когда горе от надвигающейся на Юру смерти вместе с неотвязной мыслью о последствиях столкновения с седьмым флотом сливались в какой-то кошмар. — Что вам нужно? — Если около вас не будет Хеджеса, — заявил его премьер-министр, — вы умрете таким же невинным ребенком, каким были всю жизнь! Кто вам сказал: держитесь Эндрюхи? Я! Вы послушались — и вот результат! Теперь слушайтесь дальше. Хватит этой мышиной возни в каком-то забытом богом и людьми ничтожном углу Южных морей! Пора выходить на авансцену. Черт возьми! Пора от обороны переходить к наступлению. Мы завоюем весь мир! — Что?! — крикнул Крэгс, не веря своим ушам. — Да, да! — продолжал бесноваться Хеджес. — Но это только начало. Планета признает вас своим властителем! Вы властелин мира, а я… — Вон! — заорал Крэгс, не в силах далее переносить бред своего премьер-министра. — Вон! Я снимаю вас с поста премьер-министра! Вы назначаетесь… назначаетесь… — Он никак не мог подобрать ничего подходящего, но наконец его осенило: — Я назначаю вас заведующим королевской бильярдной! А теперь оставьте меня в покое… На крупнейших биржах началась паника. Обычно неколебимо стоявшие на бирже ценности, прежде всего акции многочисленных и наиболее могущественных компаний, связанных с производством военных материалов, неудержимо катились вниз. На улицах Нью-Йорка и Чикаго появились войска и танки. Но солдаты охотно обнимались с демонстрантами, требующими мира, — прежде всего мира! — и не возражали, когда группы девушек с цветами в руках забирались на танки… И танки, и солдаты, и толпы демонстрантов безмолвно стояли у репродукторов, передававших последние бюллетени о состоянии здоровья Юрия Сергеева… Человек-луч умирал. В палате госпиталя врач и его ассистенты уже ни на секунду не отлучались от него. В 16 часов 45 минут судорога прошла по большому телу Юры. Медленно, словно отлипая, раскрылись стекленевшие глаза. Дрогнули крупные запекшиеся губы. Врач прильнул к нему, пытаясь разобрать, что он хочет сказать. — Ко-онец? — вздохнули черные губы. Врач подумал, что Юра говорит о себе. — Очнулся? Великолепно! — заговорил он поспешно тем нарочито веселым, бодрым голосом, который пускает в ход врач, когда исчерпаны уже все средства для спасения больного. — Теперь будешь жить! Теперь, брат… — Ко-онец войне? — с невыразимой мукой упрямо выдохнули губы. И врач, позабыв все, чему его учили, позабыв, что он врач, неожиданно став смирно перед этим умирающим, хотел что-то сказать, но, чувствуя, что злое, ненужное рыдание прерывает его голос, только строго и выразительно принялся кивать головой. Ассистенты врача, профессор Паверман и вошедший в палату Крэгс, не шевелясь, замерли там, где их застала эта неожиданная сцена. В глазах Юры на мгновение словно проскочила искра. Рука его дрогнула. Врачу показалось, что Юра тянется куда-то. Шагнув вперед, врач хотел помочь, но не успел. Тяжелая рука Юры безвольно проползла по простыне и повисла вдоль кровати. Прошло, наверное, не более минуты, самой мучительной минуты в жизни всех присутствующих. Старый врач, стоя в ногах постели, выпрямившись, как часовой, сказал, глядя прямо в лица товарищей: — Все… Наступила клиническая смерть… Было так тихо, что все они услышали осторожные, почти бесшумные шаги профессора Павермана, услышали, как он взял телефонную трубку и, что-то выслушав, неожиданно резко сказал: — Всем слушать мою команду! Немедленно доставить Сергеева в фотонную камеру линкора… Великий хирург Синг Чандр предлагает свои услуги… Обернувшись к радисту, Паверман коротко приказал ему: — Свяжитесь с самолетом Андрюхина. Сообщите ему и Шумило, пусть возьмут курс на Калькутту.
В сверкающей серебром металла и белизной калькуттской хирургической клинике, у пустого операционного стола, рядом с Синг Чандром, стояла в напряженной позе Анна Михеевна Шумило. Оба были в белых хирургических масках, в их руках тускло поблескивали инструменты. Окружившие их ассистенты держали наготове перевязочный материал и шприцы. Лишь один посторонний был допущен в эту хирургическую, где еще не было больного, но он мог возникнуть ежесекундно… Этим посторонним был Иван Дмитриевич Андрюхин. Сидя в стороне, под бесшумным вентилятором, он считал: — Семнадцать… Шестнадцать… Пятнадцать… Голос его глухо звучал сквозь плотную марлевую повязку. Группа врачей застыла, как мраморные изваяния. Растопырив пальцы в маслянистых перчатках, наклонив крупную курчавую голову, увенчанную белоснежной шапочкой, впереди неподвижно стоял великий кудесник Синг Чандр, не отводя глаз от пустой, блестящей белизны стола. — Шесть… Пять… Четыре… — все тише, но напряженнее считал Андрюхин. И, словно подчиняясь его голосу, Чандр и Шумило непроизвольно нагнулись над столом. — Один! — неожиданно громко сказал Андрюхин. Искры полыхнули по острым ребрам стола, над ним заколебалось искрящееся туманное облачко. Врачи, жмурясь, невольно выпрямились. Но тотчас шагнули вперед. Когда они открыли глаза, на столе, несколько набок, в неудобной позе, было уже распростерто мертвое, слегка тронутое желтизной тело Юры Сергеева… — Внимание! — глухо произнес Синг Чандр, нагибаясь над этим огромным, бессильным и все же прекрасным телом. Андрюхин, коротко вздохнув, направился к двери, за которой его ждали сотни представителей печати и радио, — ждал весь мир, притихший от томительной неизвестности, от острого страха за судьбу Человека-луча…
Глава пятнадцатая СИЯНИЕ НАД ЗЕМЛЕЙ
Прошло немало дней, прежде чем Юра очнулся и открыл глаза. Однажды ночью Женя, дремавшая в кресле у его постели, проснулась от тревожного ощущения, что на нее смотрят, и, открыв глаза, увидела глаза Юры. — Женька… — Юра хотел сказать это весело, но вышел шелестящий шепот. — Заговорил!.. — Она сползла с кресла на пол и, стоя на коленях, на мгновение приникла распухшим от слез лицом к его бледной руке. — Заговорил!.. Она метнулась к двери, но, не решаясь оставить его, только нажала кнопку звонка, который был установлен в каюте Анны Михеевны. — Где мы? — с трудом вымолвил Юра, поводя глазами по сторонам. Действительно, огромная комната, прямо-таки величественная кровать, хрустальные люстры, великолепные гобелены на стенах, все это совершенно не походило на строгий лазарет «Ильича»… — Молчи! Молчи! — Женя метнулась к нему, но остановилась у кровати, стиснув у шеи худые кулаки и не решаясь даже нагнуться. — Юрка! Заговорил!.. — Почему я должен молчать? — Он с радостью чувствовал, что живет, попробовал даже пошевелиться, но тотчас острая боль едва не швырнула его в беспамятство. — Не шевелись! — крикнула Женя. Лицо ее мгновенно исказилось той же болью, какая пронзила его. — Молчи! Привычно застегивая халат и поправляя белоснежную круглую шапочку, в дверях показалась Анна Михеевна, вопросительно глядя на Женю. — Заговорил! — Женя поспешно отодвинулась от кровати. — Здравствуйте, Анна Михеевна! — прошелестел Юра, вглядываясь в знакомое моложавое лицо, над которым упрямо вились кудри седых волос. — Ну, ну… Очень рада! — Она присела рядом с кроватью. Ее широкая, мягкая ладонь легла на Юрино лицо, на шею, отодвинула простыню. И Юре, впервые после многих дней увидевшему свое тело, стало неловко за его ватную слабость, неподвижность. Он опять попробовал шевельнуться, и снова мрак на мгновение затопил его мозг. — Лежать! — прикрикнула Анна Михеевна. — Действительно, Бычок! Никакая наука не может пока создать, брат, такое сердце, такие легкие… — Приложив к его туго забинтованной груди ухо, пристраивая его между бинтами, она потянулась к Жене за фонендоскопом. — Не болтать! Тщательно выслушав больного, Анна Михеевна аккуратно свернула фонендоскоп и отдала его Жене, продолжая рассматривать Юру. — Кормить атмовитаминами, начнете с номера пятого… Утром сделайте вливание витоглюкозы… — Вливание? — Юра умоляюще взглянул на Анну Михеевну. — Запомните! — отрезала она голосом, не допускающим никаких возражений. — Вы находитесь на флагманском корабле флота Академии наук, на лайнере «Ломоносов». Родина и весь мир оказывают вам величайшие почести. Вы — Человек-луч, Герой человечества и прочее!.. Но, пока вы мой больной, забудьте об этом. Вы будете делать только то, что я прикажу. Сейчас я приказываю спать… Женя, вы уйдете со мной! — Но ведь я ничего не знаю… — пробормотал было Юра. — Вот и отлично! — Анна Михеевна, пропуская Женю вперед, плотно закрыла за собой дверь. Он долго лежал с открытыми глазами, удивленно улыбаясь, иногда хмурясь, вспоминая все, что с ним было, и думал о словах Анны Михеевны. Как он очутился на «Ломоносове»? Что это все значит? Что обозначают ее слова о почестях и прочем? Профессор Шумило была права: Юра, Женя и академик Андрюхин, профессор Паверман и Ван Лан-ши, а также ребята — Пашка, Бубырь и Нинка — возвращались домой на научном флагмане «Ломоносов». Почти все страны мира просили разрешения участвовать в почетном эскорте. И сейчас следом за «Ломоносовым» шло не менее семидесяти различных кораблей всех флотов мира. Даже ночью, даже в самую злую штормовую погоду корабли шли иллюминированными чуть ли не от ватерлинии до верхушек радиомачт, словно целый лес огромных новогодних елок… С авианосцев в воздух то и дело срывались, как стаи ласточек, самолеты. Фигурами высшего пилотажа, целым каскадом головокружительных взлетов, падений, своим виртуозным мастерством они словно пели песню бессмертному подвигу Сергеева, простого парня, секретаря заводской комсомольской организации. Теперь уже не сотни, а тысячи корреспондентов пытались проникнуть к Сергееву, увидеть академика Андрюхина или хотя бы поговорить с членами экспедиции. Во время стоянки кораблей на рейде в Коломбо, когда Бубырь и Нинка в сопровождении мистера Крэгса отправились в порт в надежде походить немного по твердой земле и посмотреть на заморские края, им даже не удалось высадиться. Необозримая толпа ждала любых вестей с «Ломоносова»; шлюпку окружили, ей навстречу плыли яхты, джонки, лодки любых фасонов и названий, настолько набитые людьми, что кто-нибудь то и дело сваливался в воду. Двое фотографов долго плыли неподалеку от шлюпки и, поддерживая друг друга, фотографировали Крэгса и ребят. Потом они начали умолять, чтобы им сказали что-нибудь, что угодно, хоть несколько слов. Тогда Нинка не выдержала, подтолкнула Бубыря. И не успели их удержать, как они, хохоча, заорали: — Ура! Ура! Ура!.. Пашка, Нинка и Бубырь получили около сотни почетных жетонов от детских организаций разных стран. Пашка особенно гордился свидетельством о своем назначении почетным юнгой флагмана китайского флота. Не обошлось и без неприятностей. Пронырливые корреспонденты, узнав кое-что о характерах и склонностях членов экспедиции, сообщили об этом всему миру. И в один прекрасный день Бубырь узнал, что он избран почетным членом французского гастрономического клуба «Чрево», а Нинка получила приглашение немедленно войти в правление Брюссельского дома моделей. Она очень испугалась. — Что я там буду делать? — приставала она ко всем. — Откажись! — мрачно бубнил Бубырь, удрученный нахальством французских чревоугодников. — Они же прислали бумагу с печатью! Что теперь будет? — ужасалась Нинка. Шел день за днем, ребята уже несколько освоились на «Ломоносове», два раза говорили с самим капитаном. Не только Павлик, но даже Бубырь, даже Нинка уже определяли флаги всех государств, чьи корабли шли в почетном эскорте. Нинка успела целый день проходить в сшитой для нее матросской форме и сбросила ее только под градом насмешек Бубыря и Павлика. Все шло хорошо, если бы не одно обстоятельство… С момента, когда вертолет опустился на экспедиционное судно «Ильич», и до настоящего времени — никто из ребят так и не видел Юру Сергеева… Ребята чувствовали что-то крайне несправедливое в том, что им не разрешают взглянуть на Юру. Нинка даже пыталась доказать, что это ухудшает его здоровье. — А что? — убеждала она Пашку и Бубыря. — Юра нас любит? Любит. Ему хочется нас повидать? Хочется. А желание больных надо удовлетворять, их нельзя нервировать… Она попыталась изложить свою теорию Анне Михеевне, но Женя ее прогнала. Нинка тотчас решила, что их главный враг — Женя. — У нее такой характер! — объяснила она. — Ей всегда хочется быть главной. Командовать. Чтобы все ее видели… Однажды Паверман, заблудившись на корабле, налетел на грустивших ребят. Поправив очки и взъерошив дыбом шевелюру, он подступил к Лёне, припоминая, что должен готовить из него ученого. — Что ты делаешь? — спросил он. — Мне кажется, ты теряешь даром время. — Нет, мы думаем, — возразил Леня. — Мы соображаем. — Вот как? Что именно? — Понимаете, — Леня решил, что профессор Паверман может пригодиться, — нам очень хочется повидать Юру. Мы же старые друзья! Никто из вас, даже академик Андрюхин, еще не знал Юру, а мы уже были знакомы… — К нему, — торжественно заявил Паверман, — имеют доступ только Женя, Анна Михеевна и академик Андрюхин… Но, наверное, профессор Паверман все же поделился с кем-нибудь этим разговором, потому что вечером, когда ребята уже укладывались спать, к ним таинственно заглянул сам Иван Дмитриевич. Прикрыв за собой дверь каюты и засунув руки в карманы широких брюк, он принялся прохаживаться между кроватями, хитро поглядывая на ребят, замиравших от любопытства. — Спите? — спросил он наконец. — Ага! — радостно хихикая, хором ответили Бубырь и Нинка. — Вот и чудесно. Животы, носы, руки-ноги в порядке? — В порядке! — подтвердили Бубырь и Нинка. — А может, вы бациллоносители? — подумав, спросил он страшным голосом. — Нет, нет, нет! — завизжала просвещенная еще с детского сада Нинка. — Очень хорошо! — сказал Андрюхин, щелкнул Бубыря по носу и ушел. Ребята тотчас уселись на своих кроватях и вытаращили друг на друга глаза. — Орлы, не спать! — завопил Бубырь. — Сейчас мы пойдем к Юре. — Пойдешь ты, как же! — отпарировала Нинка, не спуская глаз с двери и всей душой веря, что Бубырь прав. Но прошло полчаса, час… Заглянул приставленный к ним матрос и, ворча, выключил свет. — Спать, воробьи! — хмуро сказал Пашка, демонстративно отвернувшись носом к стене. На следующее утро их разбудили на рассвете. Женя вывела ребят на палубу, усадила в плетеные кресла, сунула по булке с маслом и велела сидеть. — А если кто будет гнать, скажите: вам здесь приказал сидеть сам адмирал. И ушла. Вскоре пришли во главе с боцманом матросы и принялись натягивать леера, отгораживая именно ту часть палубы, где находились ребята. — А ну, давай отсюда! — хмуро брякнул боцман. Проиграв Лёне партию в шахматы, он в глубине души твердо решил, что не дело ребятам быть на корабле. — Нам сам адмирал разрешил! — заявил Бубырь. — Я тебе покажу адмирала! — И боцман, ухватившись за плетеное кресло, поднял было его вместе с Бубырем, но откуда-то сверху начальственный голос коротко приказал: — Отставить! Торопясь поставить кресло, боцман чуть не уронил его. — Продолжать работу! — изрек тот же голос. Замкнув ребят, плотно сидевших в своих креслах, в тугую ограду лееров, матросы ушли. Зато вскоре вокруг начали накапливаться пассажиры «Ломоносова» — ученые, писатели, журналисты, официальные представители правительств. И чем дальше, тем больше. Все они собирались с двух сторон отгороженного пространства, оставляя свободной сторону, обращенную внутрь корабля. Ребята начинали чувствовать себя неловко. Было такое ощущение, что их посадили в клетку, а вокруг собираются зрители, правда с очень почтительными, даже радостными лицами, но явно ждущие чего-то. Вдруг рядом раздались негромкие, осторожные аплодисменты. Взгляды всех присутствующих устремились в глубь корабля, к проходу, по которому между двух шеренг матросов в парадной форме медленно катилось большое кресло. В нем с растерянным лицом, одновременно встревоженный и радостный, полулежал Юра Сергеев. Ребята узнали его, конечно, сразу, но сердца их сжались, когда они увидели, какой он стал худой, слабый и бледный до желтизны. Словно охраняя его, ни разу не взглянув по сторонам, не спуская глаз с Юры, шли по бокам Анна Михеевна и Женя, а позади академик Андрюхин. Ребята давно встали со своих плетеных кресел и, не зная, что делать, то передвигали кресла в угол, то начинали тоже аплодировать, стараясь принять независимый вид. Леера приподняли, кресло проехало к самому борту линкора. И тотчас на всех кораблях эскорта загремела музыка. Заглушая ее, понеслись радостные крики, суда одно за другим стали выбрасывать сигналы: «Да здравствует Человек-луч!», «Мир — миру!..» При виде этого величественного зрелища, при первых звуках музыки и восторженных криках, приветствовавших его появление, Юра, забыв обо всем, хотел встать, но твердые руки Анны Михеевны не дали ему даже пошевельнуться. Тогда он, вспомнив о чем-то, беспокойно зашевелился, крутя во все стороны головой. Но ему уже протянули трепещущий белоснежный комок — голубя. И вот один за другим из его рук несколько голубей взмыли в сияющее небо… Пока академик, осторожно раздвигая знаменитых гостей, шел к ошеломленным, вытянувшимся в струнку ребятам, первой, выскользнув из рук Бубыря, кинулась к Юре Муха. Захлебываясь от визга и, наверное, впервые горячо сожалея, что собакам не дано разговаривать, она подскочила к Юриному креслу, сделала даже попытку вспрыгнуть к нему на колени, перевернулась, шлепнулась на спину, принялась, вскочив, прыгать на задних лапах и, наконец, нежно повизгивая, замерла в своей классической позе: опрокинувшись на спину и настоятельно требуя внимания и ласки. Напряжение, выражение торжественности и неловкости словно смыло с бледного лица Юры. И на нем проступила та знакомая, широкая, лукавая улыбка, заметив которую ребята с глубоким вздохом облегчения, узнав прежнего Юру, осторожно приблизились к его креслу. — Смотри-ка, Павлик! — еще слабым, негромким, но веселым голосом сказал Юра. — О-о, Бубырь, Нинка! Здорово!.. — Здравствуйте! — пробурчал Пашка, впервые называя Юру на «вы» и не зная, куда девать руки и ноги, которых вдруг оказалось очень много. — А вставать вы еще не можете? — тревожно спросил Бубырь. Нинка, что-то беззвучно шепча, сердито дергала за штаны то Пашку, то Бубыря, возмущаясь тем, что они все делают совсем не так, говорят совсем не то и вообще оскандалились на глазах всего человечества. — Не бойся, друг! — с удовольствием глядя на Бубыря, говорил Юра. — Встану — выйду на лед. Все будет по-старому! И «Химик» станет чемпионом мира!Лучшие радиокомментаторы, крупнейшие писатели вели для всего мира радиопередачу с «Ломоносова», посвященную выздоровлению Человека-луча. На время радиопередачи были приостановлены все работы на земном шаре, движение всего транспорта. В Париже, в зале Плейель, где собралось межевропейское государственное совещание по выработке плана уничтожения всех запасов ядерного оружия, делегаты совещания стоя выслушали эту передачу. После этого было оглашено обращение к Советскому Союзу, единогласно принятое делегациями Англии, Франции, Швеции, Италии, Голландии и других держав. В этом обращении говорилось: «Руководствуясь принципами мира между народами, дальнейшего прогресса человечества, не сдерживаемого кошмаром войны, полномочные представители всех европейских стран обращаются от имени своих народов к правительству Советского Союза. 1. Мы просим вас на основе последних достижений науки помочь в уничтожении всех имеющихся на территории Европы запасов ядерного оружия, выбросив его за пределы земной атмосферы, с тем чтобы не допустить опасного заражения воздуха, воды и почвы. 2. Согласиться совместно с Соединенными Штатами на всеобщее уничтожение ядерного оружия, ставшего ныне полностью бесполезным с военной точки зрения. Присоединение Советского Союза и Соединенных Штатов к нашему решению, находящему горячую поддержку всех народов, навсегда развеет мучительный страх перед войной, грозящей истреблением человечеству». Обращение было благоприятно встречено Советским Союзом. Европа приступила к уничтожению тех арсеналов смерти, которые годами, как гнойные злокачественные язвы, росли на ее теле. Корабли проходили уже Северное море, когда необычайно высоко над горизонтом повисли всполохи, напоминающие северное сияние. Фотонные площадки академика Андрюхина чистили Европу, выбрасывая за тысячи километров от Земли ярчайшие стрелы лучей: это уходили с Земли зловещие ядерные взрывы, смертоносная радиоактивная пыль, уходила смерть… Через сутки корабли приблизились к Ленинграду. Корабли остановились на рейде Кронштадта. Вечером состоялась торжественная церемония прощания с экипажами кораблей. Рано утром два «ТУ-150», имея на борту более пятисот человек, приглашенных на празднования в Москву, поднялись в воздух. На первом самолете летели все члены экспедиции во главе с академиком Андрюхиным и Юрой. Вся Москва встречала наших путешественников. Даже в Кремле людьми были унизаны все здания и соборы; какая-то девушка, очень похожая на Женю, стояла на самой шишечке Царь-колокола, размахивая цветным шарфом и крича во все горло, а на Царь-пушке народу было больше, чем в вагоне метро в часы пик. Только у Большого Кремлевского дворца розовый от цветов квадрат площади был пуст. Милиция и добровольцы из толпы, стоя в несколько рядов и намертво сцепив руки, сдерживали натиск рвущейся вперед толпы. Когда путешественники, потрясенные встречей, до предела смятенные силой народной любви, запыхавшиеся, растрепанные, разгоряченные, осыпанные лепестками цветов, вошли в Георгиевский зал, навстречу им уже двигалась небольшая группа людей. Академик Андрюхин был знаком с членами правительства и представил Юру Сергеева, своих помощников, Лайонеля Крэгса, ученых академического городка, а также участников экспедиции. Когда прошли первые приветствия, все познакомились и, сидя за праздничным столом, стали несколько приходить в себя, Председатель Совета Министров наклонился к Юре и негромко спросил: — Как дальше думаете жить? Глаза его внимательно и дружелюбно рассматривали Юру. — Уеду в академический городок, — встрепенулся Юра. — У академика Андрюхина есть кое-какие планы… Если здоровье позволит, будем готовить новый полет. Вернусь в Майск, на свой комбинат. Буду работать, играть в хоккей, учиться…
Глава шестнадцатая ЧЕЛОВЕК-ЛУЧ, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Ночью Женя проснулась, придавленная страхом. Несколько мгновений она не смела открыть глаза, зная, что сейчас произошло что-то страшное. Не двигаясь, почти не дыша, она думала: что? И вдруг, широко открыв глаза, вскочила. Нет Юры! Включив свет, она сорвалась с кровати, подбежала к распахнутому окну, откуда тянуло острой свежестью, пахло Москвой, родным домом… Окончательно проснувшись, Женя вспомнила, как даже на торжественном приеме Юра и Андрюхин умудрились уединиться, о чем-то таинственно беседуя, как они, ничего не замечая, шли потом по коридору небольшого дома, где их расселили на ночь… Конечно, Юра у Андрюхина. Что же они еще затевают? Как была, в пижаме, она забралась с ногами на широкий подоконник и, ничего не видя, уставилась на темные ели, на плывущие далеко огни… Ей припомнились некоторые книги и фильмы, и она с горькой усмешкой перебирала туманные образы жен, преданных, безропотных, растворяющихся в деятельности великих мужей. Эти жены варили своим мужьям вкусные обеды, вовремя пришивали пуговицы, удостаивались чести переписывать их труды, собирали в семейные альбомы разные примечательные фотографии. Нет, Женю не манила такая жизнь; при одной мысли о подобном существовании ей становилось тошно. Потом, как маяк, выплыл образ гордой польки, Марии Склодовской, по мужу — Кюри. Рядом с мужем она прокладывала глубокую борозду по целине, еще не известной науке. И кто пахал глубже?.. Но Юрка увлекся кибернетикой, а Женя всей душой была предана медицине. Им не идти в одной упряжке! Что же, все равно, все равно — слышите? — она станет вровень с ним! И ветер, который пахнул в это мгновение в окно, как будто подхватил Женю и упруго поднял вверх. Она вся напряглась в радостном сознании своей силы, в нетерпеливой жажде сейчас же что-то делать, творить, дерзать. Девушка мечтательно закинула голову и, едва не свалившись с подоконника, неожиданно ощутила, что сидит в Кремле. Невольно запахнув пижаму, пригладив волосы и согнав ребячью улыбку беспричинного счастья, Женя спрыгнула в комнату, тихо забралась в кровать, но, как ни старалась, не могла придумать ничего интересного ни о человечестве, ни о мире… Она уже дремала, когда чуть слышно скрипнула дверь. Легкое движение в комнате заставило ее встрепенуться. Было уже светло. Она увидела, как небольшой черный ящик подплыл к кровати и остановился в метре над головой. Женя, щурясь, присмотрелась. Над нею, неясно поблескивая горящими лампами, едва слышно шипел готовый заговорить радиоприемник. Женя приподнялась и, вздохнув, выключила его: она не одобряла мальчишеских проделок академика Андрюхина. Тотчас, смущенно потирая руки, явился сам Иван Дмитриевич, а за ним и Юра. — Не спишь? — осведомились они. — Сплю, — возразила Женя, кутаясь в одеяло. — Совершенно зря! — возмутился академик. — Уже семь часов! В десять митинг. Неужели мы не проедемся по Москве, пока нас не начали снова тискать? Через полчаса их машина, никем не замеченная, выскользнула на уже оживленные улицы. Они долго колесили по Москве. Андрюхин сам вел машину. — Все это великолепно! — заявила Женя, не в силах дальше терпеть томительную неизвестность. — Но я хочу наконец знать, о чем вы шепчетесь, что от меня скрываете и во что еще должен будет превратиться мой муж! Вы знаете, — она подняла сердитые глаза на академика Андрюхина, — Юра Сергеев — мой муж… — Да-да, — заторопился Андрюхин, — ведь я до сих пор не принес вам своих поздравлений… Это непростительно! Крэгс прав — я бестактен, я свинья… — Иван Дмитриевич! — Женя, как будто делая академику выговор, укоризненно покачала головой. — Я хочу знать, во что будет превращен мой супруг. Андрюхин встревоженно покосился на Юру. Тот смотрел в сторону, как будто разговор его не касался. Андрюхин кашлянул. Юра не оглянулся. — Сказать, что ли? — сердито выговорил Андрюхин. Женя замерла, понимая, что сейчас откроется тайна, мучившая ее уже много дней. — Смотрите! — вскрикнул в этот момент Юра. — Узнаете?.. Они были где-то в районе Фрунзенской набережной. По свежевымытой улице двигалась небольшая группа в составе узкоплечего, сутулого мужчины, очень толстого мальчишки, быстрого, подвижного, как вьюн, подростка с хмурым и недоверчивым лицом и тощей, глазастой, с острым носиком девчонки. — Бубырь! — захохотал Андрюхин. — Нинка-пружинка! Павлик Алеев! Кто же это с ними? — Отец Бубырин, — сказала Женя, сердясь на помеху, но все же заинтригованная встречей. Их машина остановилась у тротуара, в пяти шагах от совещавшихся о чем-то ребят. Папа Бубырин не принимал участия в совещании; он с любопытством поглядывал по сторонам и взирал на огромный двенадцатиэтажный дом, перед которым они остановились. С десятков балконов, из сотен окон, несмотря на ранний час, жильцы наблюдали праздничную Москву. Им была видна даже Красная площадь… Подчиняясь решительному жесту Пашки, ребята скрылись в воротах огромного дома; пожимая плечами, что-то бормоча, папа Бубырин побрел сзади. — Пошли за ними! — решительно заявил Андрюхин, озорно блестя глазами. Вряд ли кому могло прийти в голову, что герои, ради которых Москва надела праздничный наряд, выскочив из машины, побежали за мальчишками. Во дворе им не встретилось ни души; после шумной улицы здесь было особенно тихо. — Вот она! — крикнул Пашка, бросаясь вперед. Обгоняя друг друга, ребята рванулись за ним; позади, спотыкаясь, бежал Бубырин-старший. А за всей этой компанией осторожно крались Андрюхин, Юра и Женя. Пашка первый подскочил к пожарной лестнице и, не оглядываясь, быстро полез вверх. За ним, не раздумывая, — Бубырь и Нинка. — Вы с ума сошли! — вскричал папа, останавливаясь у лестницы. — Свернете шеи! Что я скажу маме? Но, так как эти вопли оставались без ответа, папа, воровато оглянувшись по сторонам, тоже уцепился за лестницу и довольно ловко полез следом за ребятами. Когда они, преодолев все двенадцать этажей, скрылись на крыше, академик Андрюхин нетерпеливо спросил Юру: — Пояс при тебе? — Конечно. — Впрочем, интересно именно по лестнице… Зачем-то пригибаясь и пряча головы в плечи, они перебежали двор и один за другим вскарабкались на пожарную лестницу. Тем временем ребята, шагнув с лестницы на крышу, убедились, что отсюда действительно видно далеко. Теперь им могли позавидовать не только зрители, толпящиеся на улице, но даже те, кто сидел на балконах. Красная площадь была так близко, что это и радовало, и пугало… — Это Мавзолей, правда? — спросила Нинка негромко. — И Кремль… Смотри, Спасская башня, часы! — Бубырь словно удивлялся, что все осталось на месте после того как они залезли в центре Москвы на крышу двенадцатиэтажного дома. — А почему на Мавзолее никого нет? — спросила Нинка. — Еще рано… — Придерживаясь за парапет, Пашка взглянул на часы, висящие далеко внизу. — Только четверть десятого. Все правительство, академик Андрюхин и Юра Сергеев выйдут ровно в десять. — Ты бы хотел там быть? — Я? — Пашка хмуро пожал плечами. — Зачем? — А я бы пошла! — Нинка глядела на Пашку снизу вверх и расправляла грязными пальцами свой замечательный бант. — Я бы пошла и всем крикнула: «Здравствуйте, люди!» — Крикни здесь, — посоветовал Пашка. — А что? — Лицо Нинки вспыхнуло радостной решительностью. — Думаешь, не крикну? Думаешь, испугаюсь? Она уцепилась худыми пальцами за парапет, нагнулась над далекими, яркими толпами и пронзительно, что было мочи, закричала: — Здравствуйте-е!.. Люди-и!.. Но улица продолжала катить свои пестрые волны так, как будто ничего не случилось. — Боже мой! — задыхаясь, едва выговорил папа, показываясь в этот момент над крышей. — Что бы сказала мама!.. — Где-то сейчас Юра и академик Андрюхин?.. — мечтательно протянула Нинка, вглядываясь в Мавзолей. — А они здесь! — услышали ребята знакомый голос. Над крышей, одно за другим, показались смеющиеся лица академика Андрю-хина, Юры и Жени. Все бросились к ним. — Не знаю, выйдет ли из тебя ученый, — сказал Андрюхин, обнимая Пашку за плечи, — но на местности ты ориентируешься потрясающе! Какую высотку занял, а? Они уселись прямо на крыше, продев ноги сквозь железные прутья ограды. Несколько минут все любовались Москвой, нежно-голубым небом, пронизанным солнцем; прислушивались к праздничному гулу. Потом, глубоко вздохнув, Бубырь сказал: — А что дальше?.. Опять учиться? Улыбка на лице академика Андрюхина несколько потускнела. Он повернул к себе физиономию Бубыря и внимательно ее изучил. — М-да… — неопределенно проворчал затем академик. — Скажи, в четвертом классе вам рассказывали о пище, о ее калорийности, витаминах? — О пище он и так все знает, — немедленно ввернула Нинка. — Видишь ли, давно известно, что человеку необходимо ежедневно получать такое количество разнообразной пищи, которая бы давала в среднем три тысячи пятьсот калорий, — словно размышляя, продолжал Андрюхин. — Это известно. Насчет пищи. Три с половиной тысячи калорий. Но до сих пор не подсчитан и никому не известен тот минимум знаний, который человек тоже должен получать ежедневно, чтобы оставаться человеком. Мы не животные. Мы не машины по переработке пищи. Мы — люди! Пища — это очень важно: калории, витамины! Но знать — важнее всего! Теперь он стоял, расставив ноги, борода его развевалась, лицо как будто вздрагивало от восторга. — Знать! Знать!.. Вот голод, который будет вечно терзать человека! Только тот, кто перестал быть человеком, свободен от такого голода, сыт, удовлетворен, равнодушен. А мы не можем успокаиваться! Вчера впервые человек стал лучом, этот пучок света преодолел двадцать километров… Наши сердца были потрясены! Сегодня Человек-луч мгновенно пересек материки и океаны и возродился за десять тысяч километров! Завтра Человек-луч покинет пределы Земли и уйдет в Космос на сотни тысяч, а потом и на миллионы километров… — Что? — крикнула Женя. — Что?.. — Кто будет этим человеком, мы не знаем, — слегка запнувшись, продолжал Андрюхин. — Может быть, снова Юра, может — Женя, — он крепко взял ее за руку, — а возможно, что решение тех чертовски сложных задач, которые возникают при переброске луча в Космос, затянется и только вот он, лентяй, еще далеко не ставший человеком, — он щелкнул по носу Бубыря, — впервые уйдет в мировое пространство, став лучом… — Так вот о чем вы думаете, — пробормотала Женя, не спуская с Юры глаз. — Вот о чем… Он мягко вскочил и, улыбаясь ей, слегка пожал плечами: — До всего этого далеко! Зачем переживать заранее?.. — Он крепко сжал ее руки. — Ну, Женька! Ну! Да брось ты в самом деле! Обхватив ее за талию, Юра закружился в вальсе, упорно тормоша упирающуюся Женю. — Вальс на крыше. Великолепное зрелище! — пробормотал Андрюхин, вынимая часы. — Но, к сожалению… В тот же миг куранты на Спасской башне начали свой трепетный перезвон. — Придется поторопиться, — сказал Андрюхин и, спрятав часы, слегка сдвинул пряжку на поясе. Все невольно посторонились: академик на несколько метров приподнялся над крышей и, словно разминаясь, неловко пошел по воздуху в сторону и остановился над улицей, дожидаясь Юру. — Пойдем с нами! — шепнул Юра Жене. — Хочешь? Мы подхватим тебя и понесем! — Иди, иди! — Она притворно-сердито оттолкнула его, торопливо целуя на прощание. — Это не для меня… Я прорублю свою дорогу!.. И они ушли. Сначала, как будто пробуя, достаточно ли хорошо их держит воздух, они прошлись над крышей, над улицей, но с первым ударом часов быстро зашагали по воздуху напрямик к Красной площади, над заметившими их, ревущими в беспредельном восторге миллионными толпами москвичей…С. Марвич История одного ордена
Документальная повесть

ОТ АВТОРА
Об Анри Мартэне во Франции говорят, что он награжден высшим орденом республики потому, что моряк Анри, заключенный в тюрьму, получил его непосредственно от французского народа. О том, как это произошло, рассказано на последней странице нашей правдивой повести. С того дня, когда молодого моряка заперли в каменном мешке тулонской военной тюрьмы, вся передовая Франция, а затем борцы за мир в других странах поднялись на защиту Анри Мартэна. Его имя можно поставить в ряду тех патриотов Франции, пример которых объединял лучших людей страны для борьбы с темными силами реакции. Об Анри Мартэне много писали в газетах и в журналах, его жизни посвящали книги, он стал героем пьесы. Все эти материалы послужили основой нашего рассказа о нем.НА МАГИСТРАЛЯХ ТРЕХ СТРАН
В открытое окно вагона заглядывает большой букет пестрых полевых цветов. — Кому? — Анри Мартэну! — отвечает звонкий голос. На другой станции возле окна появляется корзиночка с вишнями, темными, переполненными соком. — Кому? — Анри Мартэну! Он здесь. Поезд идет по магистралям Чехословакии, Венгрии, Румынии, — поезд делегатов Всемирного фестиваля молодежи в Румынии. Станция. Легкий стук в дверь купе. На пороге — школьник в коротких штанах с помочами крест-накрест. Он молча протягивает блокнот. Делегат Анри Мартэн пишет: «Мы всё сделаем для того, чтобы ты не воевал, малыш». Еще станция. Входит женщина средних лет, одетая, как одеваются для уборки дома — в комбинезон из дешевой синей материи. Ее дом в минуте ходьбы от станции. Когда поезд уже был у семафора, она выключила пылесос. Не было времени переодеться. — Мне только взглянуть на вас, Анри Мартэн! Короткая пауза. И следующей фразой женщина, прервавшая домашнюю уборку, объясняет, почему ей хотелось взглянуть на Анри Мартэна: — У меня пятеро детей. Старшему сыну девятнадцать… И еще станция. Входит парень в зеленой вельветовой куртке, накинутой на плечи, в башмаках на здоровенной подметке. Он веснушчат, смешлив, немного знает по-французски. — Тебя в школе учили этому? — спрашивает Мартэн. — Нет, не в школе. Учил отец, когда я был малышом. Отец ездил на заработки в Париж. — А где он теперь? Улыбка сходит с лица смешливого парня: — Расстрелян гестаповцами. В сорок втором году, когда убили Гейдриха. Тогда многих наших расстреляли. В отместку. — Кто был твой отец? — Слесарь. — А ты? — Слесарь, как и ты, Анри. — Ты доволен работой? — Да. Но я хотел бы еще поплавать по морям, как и ты, Анри. И веснушчатый парень снова смеется. — Как я? — Мартэн немного удивлен. — Ты не понял меня. Просто поплавать моряком. — Не попав в такие переделки, как я? — Разумеется. Но ведь, Анри, если бы мне или ребятам, с которыми я вожусь, выпали на долю такие переделки… — То вы держались бы не хуже, чем я. Верю, конечно верю. — Напиши мне что-нибудь на память, Анри. А я покажу ребятам. — Охотно, дружище. И Мартэн пишет: «Навяжем мир тем, кто не хочет мира». Парень оглушительно смеется. Не все он может сказать на родном языке Мартэна и потому поглядывает на переводчика. — Навяжем мир? Анри, так еще, кажется, никогда не говорили. — Как будто. — Раньше говорили о том, что навязывают войну. — Да, так говорили. Но видишь ли, дружище, мы стали гораздо сильнее, чем были несколько лет назад… — Когда ты сидел в тюрьме? — Меня выпустили именно потому, что мы стали гораздо сильнее. — Это верно. — Ну, и теперь мы можем говорить, что навяжем мир. Не просьба, а воля, решимость. — Навяжем мир любителям холодной и горячей войны… — Их ничтожное меньшинство, этих любителей. — Верно, верно. Что это? Поезд идет?Просторы Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. Прямые и извилистые реки, горы, синеющие к вечеру, знойная степь, над которой подрагивает дымка, кудрявые леса, убегающие по косогорам к горизонту. И колонна автомобилей на горизонте. Дробный стук колес на несколько секунд сменяется коротким гулом — еще один стальной мост позади. Важный аист смотрит вслед поезду, смотрит так, будто все понимает. Вот она — даль чужих земель, которые так близки. Говорят на разных языках, а французу Анри Мартэну понятно все, что говорят ему и о нем. На станции, недалеко от венгерской границы, в вагон входит новый пассажир. Ему не нужен переводчик. Старый учитель, он прекрасно знает французский язык. Садится рядом с Мартэном, называет себя. Он втрое старше Мартэна, очень высок, сухощав, с седыми редкими волосами, тихим голосом и глубоким шрамом на морщинистом лице. — Это знак Бухенвальда! — говорит он, указав на шрам. — Вы были там? — Два года. Эту отметину мне поставил эсэсовец, один из тех, кто считает войну естественным занятием человечества. Узник Бухенвальда едет в этом вагоне почти до границы Венгрии. Он кладет свои костлявые, старые, со вздувшимися венами руки на сильные руки Мартэна и говорит: — Анри, вы молоды, но и вас можно считать ветераном. Вы понимаете, Анри, что они хотели устрашить не только вас? — Я это понял, но не сразу. — Они как бы показали типичную судьбу. — Типичную судьбу? — Да. Типичную для тех, кто будет бороться против войны. Они как бы сказали всем: вот так будет с тысячами Мартэнов, с десятками тысяч, если возьмут верх милитаристы, реакционеры… — Если мы не помешаем подготовке новой войны. — Судебное дело Анри Мартэна — это был призрак новой фашизации. А вы показали, как умеют бороться против нее новые силы Европы. И эти силы, поднявшиеся для того, чтобы защитить вас, заставили призадуматься сторонников войны. — Я сейчас вдруг вспомнил о Бессрочном… — задумчиво говорит Мартэн. — Кто это? — Негодяй, который предавал гитлеровцам французских патриотов. Он был приговорен к бессрочному заключению и сидел в той же тюрьме, где и я. Он пытался учить меня покорности. Он грозил мне. — Грозил? Вам? — Да, грозил, что иначе я не увижу свободы. А сам ждал, что влиятельные люди выручат его. — Он заслуживает петли. — От петли его спасли. И он надеется, что еще займет видное место в жизни, что сторонники войны ему помогут. — Значит, вы были рядом — сторонник мира и сторонник войны? — В одних арестантских куртках. Но ему жилось вольготнее. — Не будет, не будет того, на что он надеется. В этом и ваша заслуга, немалая, Анри, молодой ветеран. Вы достойны высокой награды. — Я уже получил ее. — Какую? Мартэн открывает коробочку. — Но это же орден «Военный крест». — Да, только меня наградило им не правительство. И, пока поезд идет до венгерской границы, Анри Мартэн рассказывает узнику Бухенвальда историю небывалого награждения, историю этого ордена. Это история нескольких лет молодой жизни моряка Анри Мартэна. Но свой рассказ он ведет не в хронологическом порядке. Он начинает его со странствий авианосца, который не мог найти стоянки для себя. Это был авианосец особого назначения, зловещее судно «холодной войны».
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК
Март 1950 года. Средиземное море. В неизвестном направлении ушел французский авианосец «Диксмюд». На его борту американские военные материалы. Порт назначения? Об этом никто не знает. Где выгрузить военные материалы? В Бизерте? На африканском берегу? Вряд ли удастся. Докеры ждут там прибытия авианосца, ждут, чтобы сбросить американский груз в море. Нельзя идти в Бизерту. Тулон? И в Тулоне нельзя бросить якорь. Докеры ждут… Оран? Нельзя и в Оран. Командир корабля посылает шифровки в министерство и получает ответные. Он совещается с помощниками, но решения найти не может. Где же найдется причал для «Диксмюда»? Ведь это корабль-символ. Только что вступил в силу Североатлантический пакт. «Диксмюд» везет первые материалы в счет военных поставок. Командир корабля не знает, где он сможет их выгрузить. Утром он получает по радио новое приказание — корабль ложится на заданный курс. Через час приказ меняют. Корабль-символ становится кораблем-призраком. Ему негде выгрузиться. Он рыщет по Средиземному морю. И опять шифровка летит в Париж. Она прибывает глубокой ночью. Через час—другой начнет просыпаться огромный город. Из кабаре, пошатываясь, выходит загулявший посетитель. Он зябко кутается в пальто и надвигает на брови цилиндр. Швейцар низко кланяется, принимая чаевые, и говорит не без легкой иронии в голосе: — Благодарю вас, ваше величество… Он насмешливо смотрит вслед кутиле. Да, это коронованная особа, император Индокитая Бао Дай. Бывший император. Он отрекся от престола, открыто признав, что не принес народу никакой пользы, и коротает время в ночных притонах Парижа. А «Диксмюд» везет оружие, которое будет отправлено во Вьетнам. Там экспедиционный корпус ведет безуспешные бои с народной армией. Колония должна остаться колонией — так решили банки, магнаты промышленности. Для этого им нужен на престоле Бао Дай. Париж. Рабочий квартал. Конец трудового дня. Пятый этаж. В углу небольшой комнаты на стене портрет юноши. На рамке траурная лента. Она появилась несколько дней назад, когда почтальон принес извещение о том, что юноша убит в Индокитае. Еще не скоро забудется горе, да и забудется ли? Глухо звучит голос пожилой женщины, матери убитого. Она находит в себе силу сдержать рыдания. Она говорит знакомой: — Я его вырастила, выкормила, все сделала для того, чтобы он обучился ремеслу. А теперь мне придется купить для него кусок земли, чтобы иметь право получить его гроб. Моего возвращают мертвым. Я говорю другим: «Добейтесь, чтобы ваших вернули живыми!» Она невольно подходит к открытому окну. Напротив через двор, в том же этаже такая же скромная квартира. И там мать таких же лет. И у нее сын, ровесник убитому. Они вместе играли на дворе. Сын также в Индокитае. От него приходят письма, раз в неделю, в определенный день. Только в этот день и спокойно сердце матери. Остальные полны муки, тревожного ожидания. «Добейтесь, чтобы ваших вернули живыми!» — этот призыв осиротевшей матери обращен к соседке. Другой дом неподалеку отсюда. Другая квартира, похожая на эту, и такой же портрет в углу. Портрет юноши на стене, траурная лента… Рядом географическая карта. Прямая линия ведет от Парижа далеко-далеко, за десять тысяч километров, в Индокитай. Она обрывается возле Сайгона. Едва видная точка на карте. Спросите у жильцов дома об убитом юноше — они многое расскажут. Весельчак, балагур, остряк, добрый малый, никому не сделавший зла, истый парижанин. Звали его Поль, но он называл себя Пауло. Была у него слабость — он был фантазер и мечтатель. Ему не сиделось на месте — тянуло в дальние края. И вот представилась возможность — Поль завербовался в иностранный легион. «Пауло избороздит весь мир!» — говорил он, прощаясь с соседями. Поль мира не избороздил и не вернется. Едва видная на карте точка — Сайгон. Там, на военном кладбище, лежит Поль. Точка поставлена рукой матери.Авианосец «Диксмюд», корабль-призрак, все кружит и кружит по Средиземному морю. Ему негде пристать.
«РАДИ ВАШИХ МИЛЛИОНОВ ВЫ ЖЕРТВУЕТЕ НАШЕЙ ЮНОСТЬЮ…»
Юг Франции. Военный порт Тулон. Жандармский патруль неторопливо обходит свой квартал. Город — работает ли он, погружен ли в сон — всегда под неусыпным надзором. Нельзя и получаса пробыть на улице, чтобы не встретиться с патрулем. Жандармы провожают вас взглядом. От внимания патруля не укрылось, как три моряка проскользнули в узкую улочку и затерялись. Ничего необычного в этом нет, но моряки запомнились жандармам. Спустя четверть часа патруль двинулся назад. На углу узкой улочки жандармы подобрали несколько листовок. Они доставили их морскому коменданту Тулона. Комендант проявил признаки острого беспокойства. Так начинается дело моряка Анри Мартэна. Окончится оно через несколько лет.«Теперь мы яснее, чем когда-либо, видим, что из-за бесчестного торгашества нас посылают умирать во Вьетнам. И у вас хватает наглости говорить о национальном достоянии. Ради ваших миллионов вы жертвуете нашей юностью. Настоящая честь республиканской армии состоит в том, чтобы не грязнить себя больше в борьбе против народа Вьетнама».Так написано в одной листовке. А в другой мы читаем:
«20 тысяч молодых французов убиты. Убиты десятки тысяч молодых вьетнамцев. Десятки тысяч больных, раненых, калек. 141 миллиард франков растрачивается ежегодно. Чтобы покончить с этой грязной войной, верните экспедиционный корпус».Обе листовки коротки, под каждой подпись — «Группа моряков». В середине марта была арестована группа моряков, среди них Анри Мартэн, помощник механика с опытнойстанции, где проверяется качество разных видов горючего. Всех, за исключением Мартэна, вскоре выпустили. Мартэна заключили в тулонскую военную тюрьму. Лет полтораста стоит военная тюрьма в Тулоне. Времена меняются, но ничто не меняется в этой тюрьме. Город вырос, город вплотную приблизился к ней, но за старыми стенами — все тот же режим. Бывает, что человека, проведшего за этими стенами год, под руки выводят за ворота — ноги отказываются служить ему. Но есть еще особый режим, удвоенная каторга. С первого дня заключения Мартэн испытывает на себе всю жестокость особого режима. Следователь чувствует в нем большую моральную силу. Ее надо сломить — лишь тогда арестант начнет говорить именно то, что нужно суду. Как же сломить эту волю, эту силу? Наглухо заколачивают выходящее наружу окошко одиночной камеры. Электрическая лампочка горит круглые сутки. Раз в день на несколько минут заключенного выводят на узкий тюремный двор. У выхода он закрывает глаза, прислоняется к стене. Южное солнце кажется нестерпимым, у моряка кружится голова. — Начинайте прогулку! — торопит надзиратель. Он знает, как действует солнце на заключенного, в камере которого наглухо заколочено окно. Заключенный, заложив руки за спину, делает несколько кругов. Его выводят в те часы, когда на дворе нет других арестантов, — ни с кем он не должен обмениваться ни словом, ни молчаливым приветствием. — Прогулка окончена! И снова сутки в камере с заколоченным окном. Проходит месяц и еще месяц. Наступает жаркое лето. Для воздуха заколоченное окошко непроницаемо. Но мистраль, южный, знойный, иссушающий ветер, который порой доводит человека до исступления, не знает преград. В особой камере становится невозможно дышать. Но не сломлена воля Анри Мартэна, не подорвана его моральная сила. Следователь не может добиться от него тех признаний, которые облегчат задачу военного суда. В тюрьму едва долетает шум города. Слышна только пронзительная сирена арсенала да гудки кораблей. Все сделано для того, чтобы заключенный в особой камере ничего не знал о том, что происходит в мире. А там каждый день события и перемены. В далеком Сайгоне баррикады. Вьетнамцы добиваются того, чтобы американские военные корабли ушли из гавани. Нет им там места. И корабли поднимают якоря. А «Диксмюд» все еще кружит по Средиземному морю… В Роанне тысячи жителей, построившихся в колонны, протестуют против отправки поезда с американскими боеприпасами. В Ла-Рошеле докеры отказываются грузить американское оружие на пароход «Богоматерь». В маленьком городке Нуази-ле-Сек судья пытался лишить слова адвоката, защищавшего группу участников борьбы за мир. Зал ответил такой бурной реакцией, что судья бежал. Разгораются бои во Вьетнаме. Батальоны экспедиционного корпуса гибнут в джунглях. Джунгли для них западня. Солдата убивает пуля невидимого стрелка, убивает лихорадка. Анри Мартэн все еще в своей камере с заколоченным окном. В газетах о нем ни слова. Не знают моряки, что автор листовок, которые их взволновали, уже давно сидит в военной тюрьме Тулона. …А «Диксмюд» все еще бороздит Средиземное море. В ночь на четвертое апреля он тайно показался возле маленького порта в Тунисе. Под утро пришлось уйти и оттуда. Авианосец возвращается на свою базу в Тулон. На корабле происходит событие, которое взволновало команду. Арестован матрос Хеймбюрже. Он обвинен в умышленном повреждении механизмов… И вскоре делу Мартэна, который по-прежнему отказывается подписать то, что предлагает следователь, дают другое направление.
ТИХИЙ ГОРОДОК РОЗЬЕР
Анри Мартэну всего двадцать три года. Его жизнь началась в маленьком, тихом городке Розьере, в центральной части Франции. Город прославился сковородками, которые он давно уже поставляет всей стране. Здесь находится маленький чугунолитейный заводик. Улицы оживляются четыре раза в день: когда рабочие идут на завод, когда дети спешат в школу, когда возвращаются из школы, когда кончается день на заводе. Все в этом городе собственность заводчика — старое предприятие, улицы, магазины, дома, где живут рабочие, огороды, на которых они работают по вечерам, и даже церковь. Человек всю свою жизнь связан с тем, что принадлежит богачу. Иногда удается забыть об этой зависимости, но избавиться от нее невозможно. Луи Мартэн, металлург, участник первой мировой войны, и его жена Матильда вырастили троих детей: двух дочерей и сына Анри. Вприпрыжку, в засученных штанах, как и все подростки в Розьере, с сумкой на спине, Анри Мартэн возвращается из школы. Дома много дела. Бюджет семьи рассчитан с предельной точностью. Анри и сестрам надо немало работать на огороде. После работы Анри принимается за уроки. Плохих отметок он домой не приносит, все книги — их у него очень немного — в образцовом порядке. Изредка Анри и его сверстникам удается отправиться за город. Набегавшись, ребята принимаются за завтрак — кусок хлеба с маргарином или вареньем. Замечательные истории рассказываются за завтраком. Отчасти они представляют собой пересказ прочитанного, отчасти дополнены собственным богатым вымыслом. Порой у себя дома, когда к отцу приходят старые друзья, Анри слышит разговоры о том, что по ту сторону границы, за Эльзасом и Лотарингией, возрождается армия, с которой воевал в молодости Луи Мартэн, — армия, принесшая столько несчастий Франции. Часто упоминают имя Гитлера, который вчера еще никому в Розьере не был известен. Быстро прошли годы детства. В двенадцать лет Анри поступил учеником на завод в соседнем городке. Спустя несколько месяцев он принес оттуда первый отличный отзыв о своих успехах. Ему было тринадцать лет, когда началась вторая мировая война. Вскоре он убедился в том, что очень трудно защищать рубежи Франции. Но в то время он еще не мог понять, почему же родина осталась беззащитной. Наступили страшные дни весны 1940 года. Гитлеровцы неудержимо движутся к Парижу. Тревога охватывает маленький Розьер. Тревожно и в доме, где живет семья Луи Мартэна. Хмуро молчит отец, притихли дети. Неужели Париж не устоит? Через несколько дней был подписан акт о капитуляции французской армии. Наступили долгие дни унижения.ГРАНАТЫ В ШКОЛЬНОЙ СУМКЕ
Городок Розьер сначала не был включен в зону оккупации. Здесь видели беженцев с севера, видели раненых солдат, которым удалось оторваться от неприятеля, но гитлеровцев не было. Они пришли через год, когда была нарушена линия демаркации. И тогда на перекрестках улиц, у выхода из города, появились посты гитлеровцев. Завод не работал, и тихий провинциальный город казался вымершим. Люди избегали показываться на улицах. Анри Мартэну к этому времени исполнилось пятнадцать лет. А спустя год до маленького Розьера донеслись раскаты сталинградской канонады. Всюду во Франции появились отряды Сопротивления. Взялись за оружие шахтеры севера, металлисты Парижа. Взялись за оружие и в Розьере. Внешне ничего не изменилось в Розьере — улицы так же пустынны. Но какой напряженной жизнью зажил теперь городок! Дом Луи Мартэна становится «почтовым ящиком». Без таких «почтовых ящиков» не могли бы ни жить, ни сражаться отряды Сопротивления. Но как это опасно для обитателей дома Мартэна. В этот дом передают записки, но в очень редких случаях, работа «почтового ящика» главным образом устная. Здесь находят еду, одежду для того, кто должен изменить внешний вид, номера подпольной газеты «Юманите». Самоотверженна служба таких «почтовых ящиков», много жертв унесла она. Анри Мартэну шестнадцать лет. Это сметливый, крепкий, быстрый в движениях подросток. С беспечным видом он выходит из «почтового ящика», отправляется в ближайшую деревню. Ленивым взглядом провожает его гитлеровский солдат. Пропуск у подростка имеется. Подросток как подросток, их тут много. Надо бы таких отправлять в трудовые лагери, но это еще придет — только недавно в этой стране начали устанавливать настоящий порядок. Пусть пока погуливает подросток. Анри выносит за городскую черту листовки. В школьной сумке лежат гранаты. А что, если гитлеровец заглянет в сумку? Тогда Анри не поколеблется. Много таких прогулок с листовками и гранатами совершил Анри. Однажды в воскресенье знакомые собрались на кухне в доме Луи Мартэна. Шел разговор на всякие темы. Внезапно в «почтовый ящик» пришли двое из отряда Сопротивления. Они похитили у гитлеровцев ручной пулемет. Надо его немедленно спрятать. — Как бы это сделать? — размышляет Луи Мартэи. — У меня люди в доме. Он делает незаметный знак Анри. Анри кивает головой — он понял отца. Как недовольна мать, что сын встал из-за стола! Ведь сегодня — такая редкость! — она всех может угостить картошкой с тушеным мясом. «…Милая мама, не сердись на меня. Можно бы тебе все сейчас объяснить, шепнув на ухо. Ты, мама, знаешь обо всем, что теперь происходит в нашем „почтовом ящике“. Без тебя нам ничего не удалось бы сделать. Если грянет беда, ты встретишь ее без страха. Палачи ничего не добьются от тебя. Сколько забот мы доставляем тебе теперь, когда едят даже белок! Сколько сил у тебя уходит, чтобы поддержать нас! Правда, мы не во всем согласны с тобой. Ты набожная католичка, не пропускаешь ни одной мессы. Кюре очень доволен тобой и недоволен мной и отцом. Отец говорит, посмеиваясь соседям: „Если жена не пошла к мессе, значит, она больна“. Для тебя Ватикан самое святое место на земле, а папа римский самый святой человек. А я и отец — атеисты, и сестры склоняются к тому же. Но это не заставит меня любить тебя меньше. Картошка с мясом… Ты радуешься тому, что можешь вкусно накормить нас. А сын встает из-за стола. Нет, я тебе сейчас ничего не скажу, мама. Зачем тревожить тебя лишний раз? Ну, поворчи, поворчи на непослушного сына. Потом все объяснится». Анри ловко спрятал пулемет в сарае для угля.РУАЙЯНСКИЙ МЕШОК
Ему нет еще семнадцати лет. Он стремится вступить в строй борцов Сопротивления, ему надо участвовать в их боевых делах. «Почтовый ящик» дал ему знакомства, связи. Анри разыскивает человека, который руководит Сопротивлением в секторе, где находится городок Розьер. — Я отвечаю за всех участников Сопротивления, — говорит ему человек, испытавший очень много. — Жизнь в отрядах тяжела. Они подолгу не имеют самого необходимого. Тебе трудно будет выдержать. — О-о! Вы не знаете меня с этой стороны. — Тебя еще никто не знает с этой стороны. — Поверьте, я всё вынесу! А разносить гранаты и листовки может каждый. — Нет, не каждому это можно поручить. Анри словно не слышит похвалы. — Я очень прошу вас… В первый раз Анри решительно отказали. Он не примирился с этим. И вот снова стоит он перед тем же человеком, упрямый, хмурый. — Если мне опять откажут, то я сам найду дорогу к отряду. Уж я — то сумею найти. Ничего не поделать с таким упорством. — Хорошо. Я объясню тебе, как связаться с отрядом. Редко теперь Анри видели дома. Да, жизнь в отряде оказалась тяжелой даже для бывалых фронтовиков. Но от бойца Анри Мартэна, самого молодого в отряде, которого нельзя еще считать юношей, никто не слышал ни одной жалобы. Освобождение Франции идет к концу. Освобожден Париж. На Эйфелевой башне водрузили национальный флаг. Но по пути к Парижу еще остались очаги сопротивления гитлеровцев. Один из этих мешков — в Руайяне. За линией укреплений расположились несколько отрядов германской армии. Англо-американские войска обошли этот пункт. Они не ликвидировали здесь фашистов. Это место становится пятном на карте освобожденной части Франции. Скоро гитлеровцы откатятся за линию своей границы, но в Руайяне они держатся цепко. У них достаточно живой силы, продовольствия. Из Руайяна проникают сведения о том, что гитлеровцы сжигают дома мирных жителей и расстреливают заложников. Даже в таком окружении фашисты остаются верны себе. Они надеются на безнаказанность и на сепаратный мир. Кто же ликвидирует эти гитлеровские части? Дело поручают партизанским отрядам. Идут бесконечные дожди. Руайян расположен в низине. В него стекают потоки осенней воды. У партизан нет теплой одежды, хорошей обуви. Почти каждый в башмаках на деревянной подошве. Партизаны ночуют под открытым небом, укрываются тонкими сдеялами. Гитлеровцы не прекращают огня. Они не испытывают недостатка в боеприпасах — их сбрасывают им с самолетов. А у партизан считанные патроны, вооружены, они только винтовками, мало у них пулеметов. Их снабжают гораздо хуже, чем окруженных. Каждые сто метров продвижения в этой болотистой местности стоят бойцам Сопротивления чувствительных потерь. Почему у партизан порой нет самого необходимого? Об этом думают многие. Но говорят об этом редко. Храбрым бойцом показал себя Анри в борьбе за Руайян. Его заметил молодой капитан Даньель, командир роты. Они подружились. Даньель был выходцем из буржуазной среды, получил отличное образование, но в тяжкие годы понял, какие люди являются залогом возрождения Франции. Это сблизило его с партизанами. Даньелю всего двадцать четыре года, но это авторитетный боевой командир. И его политический опыт позволяет ему ответить на вопрос, почему же так плохо вооружены партизаны. «Потому, — говорит себе Даньель, — что это отряды тружеников. Власти опасаются предоставить им оружие. Это ведь не регулярная армия, которая всегда под надзором, а отряды вооруженных тружеников. Они внушают опасение и нашим властям и американским. Они не отказываются от того, чтобы патриоты-партизаны проявляли самоотверженность, но пусть у них будет поменьше оружия в руках. Так спокойнее для хозяев Франции. Они также не забывают о Парижской коммуне». Даньель принес умение сплачивать людей, создавать обстановку боевого товарищества. Он принес несколько книг. — Ты любишь читать? — спрашивает он Анри. — Да, капитан. Только мне редко удавалось это. Они читают вместе сборник стихов Гюго — «Возмездие». Стихи волнуют Мартэна. Сцены кровавых насилий над честными людьми — как они перекликаются с сегодняшними днями! Они зовут к возмездию. — Да, Гюго живет и в наши дни, — говорит Даньель. — Он будет жить и после нас. Он все эти годы боролся вместе с партизанами. Ты читаешь в первый раз, а я уже много раз читал его, и всегда меня волнуют эти стихи. Всегда?.. Сказать по правде, Анри, это не так. — В твои годы мне нравились совсем другие стихи — те, в которых вовсе не было того, что называют политикой. Так меня воспитывали тогда. Гюго я полюбил недавно… Много мыслей будили в сознании Анри разговоры с молодым капитаном, в каждой беседе он узнавал новое. И казалось Анри, что дружба, завязавшаяся здесь, в дождливой низине возле Руайяна, будет дружбой навечно. Она скоро оборвалась. …Партизаны унесли Даньеля в кусты. Сюда, в это обстреливаемое место, уже направились ползком санитары с носилками. Анри наклонился над капитаном, расстегнул залитую кровью куртку. Даньель пытался подняться, но не хватило сил. Он сделал знак, его поддержали. — Друзья, — сказал он, — надо бороться до конца!.. За справедливость, за свободу, за то, чтобы Франция жила в мире!.. Он не мог больше говорить, его взгляд остановился. Самый молодой партизан, который никогда не жаловался на тяжелую жизнь, сложил умершему капитану руки и горько заплакал.ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО «КОСУЛЯ»
Позади Франция, Средиземное море, Египет; по левому борту остался Аравийский полуостров… Посыльное судно «Косуля» выходит в Индийский океан. Несколько дней люди на нем не увидят земли. У посыльного судна медленный ход. Кораблю уже немало лет. Свои рейсы он начал в те времена, когда банкиры не сомневались в том, что Индокитай, который дал им огромные богатства, на вечные времена останется колонией с послушным туземным императором. Много плаваний корабль совершил в Индокитай. По пути он иногда заходил в Северную Африку. Там на борт брали марокканских солдат, которые обходятся дешевле, чем французские. Марокканцев помещали в отдельном трюме. Их редко и ненадолго выпускали на верхнюю палубу. В другом трюме помещали солдат экспедиционного корпуса. На борту господствует строгая иерархия. Каюты, салоны — колониальным офицерам, колониальным чиновникам, их женам. Даже в эти две недели океанского плавания они держатся обособленным кругом. У них вой быт, свои интересы. Индокитай для них — это колония с плохим климатом, но с возможностями разбогатеть. Здесь высокие оклады. Здесь добывается право на большую пенсию. Для них на корабле ресторан, тенты, дансинги. Прохлада, которая так высоко ценится в тропиках, достается только им. В трюме — солдаты экспедиционного корпуса, тщательно отобранные наемники. Им негде больше приложить свои руки. Они из разных стран, некоторые плохо говорят по-французски. Но для них только и требуется понимать слова команды. Наемник получает жалованье, которое безработному кажется высоким. Не всякий безработный согласится пойти в наемники. Надо подписать контракт на много лет. Что произойдет в эти годы? Назад дороги нет. Некоторые дослужатся до звания младших командиров и станут профессионалами до конца дней. Для других конец может наступить скоро — тропические болезни, пуля патриота, защищающего свою страну от колонизаторов, оборвут безрадостную жизнь наемника. Порт назначения посыльного судна «Косуля» — Хайфон. До него от берегов Франции десять тысяч километров. Есть время перезнакомиться с соседями, много узнать о них, рассказать о себе. — Вы, кажется, знаете об этой стране, Мартэн, больше, чем я, хотя я там провел десять лет, а вы едете впервые? — не скрывая иронии, говорит сержант экспедиционного корпуса. Он уже не молод — ему лет сорок. Это высокий, сухопарый человек с желтоватым лицом, не выпускающий трубки изо рта. Анри Мартэн не слышит иронии в голосе сержанта. Анри полон своих дум о будущем. В прошлом году, после того как кончились бои возле Руайяна, Анри отправился в Тулон. Он просил принять его добровольцем во флот, немедленно отправить в Индокитай. — Почему вы стремитесь в Индокитай? — спрашивает морской офицер, ведущий запись добровольцев. — Добивать японских оккупантов. — Ах да, ведь вы участвовали в ликвидации руайянского мешка! — Офицер с любопытством смотрит на юношу. — Думаю, что там есть еще такие мешки. — Вероятно… Офицер как-то по особому ухмыльнулся: — Вы отвечаете всем требованиям, кроме одного. Вам не хватает одного года. — Но это немного… — Закон сильнее наших желаний. — Но ведь мне не хватает не целого года, а всего нескольких месяцев. — Закон неумолим. Вы еще не раз подумаете об этом, дорогой мой. Анри медлит. — Я уже прожил большую часть этого года, и если внести поправку… в мои документы, то… Офицер шумно смеется. Он хлопает Анри по колену: — Исправить документы? Вот на что вы меня толкаете, боец из-под Руайяна? Военная хитрость, а? — Только справедливость. — Такая справедливость нарушает закон! Нет, нет, мой милый, этого я на себя взять не могу. Анри возвращается домой. Мать — она как-то сдала в последнее время — часто спрашивает: — Анри, мальчик мой, скажи: это так надо, чтобы ты уехал за океан? Тревога слышна в ее тихом голосе. — Мама, — горячо отвечает Анри, — пойми одно: их нигде нельзя оставить на земле, нигде! Надо всюду кончать войну! Надо, чтобы нигде не было этих мешков, чтобы нигде не было выстрелов!.. Отец ничего не говорит. Если Анри принял решение, разубедить его не удастся. Он уже не мальчик. Он показал это под Руайяном. И чем отец может разубедить сына? В газетах много пишут о том, что теперь Франция будет помогать людям заморских владений, что теперь удастся построить наконец крепкое французское содружество метрополии и вчерашних колоний, которые отныне уже не следует называть колониями. Так пишут и говорят политические деятели. Будет ли так? Луи Мартэн не может с полной уверенностью утвердительно ответить на этот вопрос. Настает день отъезда. Мать не может сдержать слез. Отец бледен и молчалив. У Анри нет никаких предчувствий. Он снова едет на юг Франции. Он подписывает контракт на пять лет. Морская форма очень идет ему, стройному, ловкому, быстрому в движениях. …Две недели до Хайфона. Тяжелые волны океана раскачали старое посыльное судно. Верхняя палуба пуста. — А верно ли, что там по улицам водят ручных тигров? — интересуется молодой солдат экспедиционного корпуса. Анри объясняет ему, что не экзотика должна их занимать, а сознание своей миссии. — Какой миссии? — Солдат не понимает. Пожилой сержант, который плетет цепочку из тончайшей проволоки — он часто занимается этим, — на минуту оставляет плетение. Анри продолжает разговор с молодым солдатом: — Колонизаторы-вишийцы сдались японцам. Сдались без выстрела. Они передали им все оружие, склады, сели за один банкетный стол. Их надо было бы судить военным судом за предательство… — Все это, мой мальчик, ты не говори в присутствии начальства, — прерывает Мартэна сержант. Анри отмахивается от него: — Они предали Францию. Но вьетнамцы поднялись против оккупантов. Они боролись за свою родину, за французское содружество, за свое место в нем. Японцы не смогли их одолеть. Русские в несколько дней заставили японцев капитулировать. Другого выхода у микадо не было. Но отряды японцев остались в Индокитае. Это уж не отряды, а банды. С ними надо покончить. Вот для чего мы едем в Хайфон. Пожилой сержант внимательно глядит на Мартэна. В его взгляде и насмешка, и подобие сочувствия. Анри недоуменно смотрит на пожилого сержанта. Что хочет сказать ему сержант? Мартэн понял это много времени спустя.ГДЕ ЖЕ ВРАГ?
В ноябре «Косуля» бросила якорь в порту Хайфона. Анри вспомнил — год назад в этот самый день у него на руках умер капитан Даньель. Где же здесь «мешки», подобные руайянским, из которых надо будет выбивать банды японских оккупантов? Матрос Мартэн идет по улицам Хайфона. Ноябрь… В Париже дожди в эту пору. Дожди и в маленьком Розьере, а здесь жарко, как летом на юге Франции. В Хайфоне никогда не закрываются террасы кафе. Жара круглый год. На узкой улице шумное движение. Анри внимательно разглядывает вьетнамцев. Почему они так молчаливы? Почему они проходят стороной, словно опасаясь в этой толчее коснуться европейца? Лица у них сумрачные. Могло ли это показаться? Анри застыл возле одной из террас, на которой играл оркестр. Надо бы уйти, но он стоит и все смотрит, смотрит. На террасе за одними столами сидят французские и японские офицеры. Японцам полагается быть в лагере для военнопленных, а они здесь. Перед ними прохладительные напитки. Французские офицеры по-приятельски беседуют с ними. Почему же все-таки сидят здесь офицеры армии микадо? Великодушие победителя? Нет, что-то совсем другое… Таково было первое наблюдение Анри в Хайфоне, первое, над которым он тяжело задумался. — Сударь! — обратился он на улице за справкой к пожилому вьетнамцу. — Будьте добры сказать… Тот удивленно поднял брови, а потом улыбнулся. Оказалось, что он довольно хорошо говорит по-французски. Они дошли до ворот парка и присели на скамейку. — Чем я удивил вас, сударь? — спросил Анри. — Посмотрите, как обращаются к нам колониальные солдаты, офицеры, и вы всё поймете. Знаете вы такое слово — «ньяке»? — Нет. — Это означает «мужлан». Сколько раз меня так окликали: «Эй, послушай, ньяке!» Или: «Подойди сюда, вьет!» Мне приходилось слышать это от солдат, которые по годам подходят мне в сыновья. — От французов? — Да, и от французов. У американцев есть свои презрительные клички для японцев, для корейцев. Анри смущен. Он молчит, а потом горячо возражает: — Сударь, вы несправедливы! — В чем? — Вот в чем — народ есть народ. Для меня это святое понятие. — И для меня. — Но в каждой нации бывает отребье, негодяи, хамы. И народ не отвечает за них. — Я знаю. Но есть еще особое презрение, презрение к колониальным народам, и иногда им заражается даже такой человек, который вчера не был ни негодяем, ни хамом. Такое отношение к нам воспитывали десятилетиями, даже веками. — Но ведь теперь будет по-другому, должно быть по-другому. Иначе меня не было бы здесь. Они долго говорили. — В каждом доме, — собеседник показал в сторону города, — был портрет Хо Ши Мина. Он и сейчас есть, но спрятан. — Это изменится, поверьте! — Мы считали, что перемены уже наступили. Собеседник рассказал, что всего несколько дней назад город ликовал. Бао Дай, император-марионетка, отрекся от престола. Хо Ши Мин стал признанным главой правительства. И вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Французские власти возложили охрану порядка на японские войска. Власти объявили, что отряды вьетмин — народной армии — не смогут поддерживать порядок, и поэтому не обойтись без японцев. «Вьетмин не умеет обращаться с современным оружием, — говорили французские офицеры. — Вьетмин не держал его в руках». — Для нас непонятно было, — вспоминает собеседник Мартэна, — почему же вьетмину, народной армии, не давали современного оружия. «У партизан также не было хорошего оружия», — вспоминает Мартэн. И вскоре японские патрули начали расхаживать по городу, наглые, самоуверенные, с видом победителей. — Значит, эти японские офицеры… — Которых вы видели в кафе? Они не враги колониальным властям. — Так где же враг? Кто он? И Анри остается один со своими раздумьями.ГОРЯТ ХИЖИНЫ
«Горят хижины», — писал Анри домой в январе 1946 года. — Почему горят хижины? С кем же они воюют? Ответь мне наконец! — Мать металась по комнате, бросала работу, снова брала ее, чтобы успокоиться. — С кем воюют наши сыновья? Я ничего не понимаю, но чувствую — в этом есть что-то страшное. «Горят хижины»… Разве в хижинах живут враги наших сыновей? Ты читаешь газеты, толкуешь с друзьями о событиях. Объясни же мне. Покой домика в Розьере был потерян. Анри потерял его, и тревога передалась всей семье. Не по японцам стреляют солдаты французского экспедиционного корпуса, а по вьетнамскому народу. «Мешков», подобных руайянским, нет. Японские отряды воюют на стороне колониальных властей. Власти установили голодную блокаду Севера. На Севере — части вьетнамской народной армии. Посыльное судно «Косуля» ходит в дозоре по Тонкинскому заливу. На тихой воде покачивается неуправляемая джонка. К ней пристает шлюпка. Парус спущен. Под соломенным навесом лежит смертельно раненный человек. От него ничего не узнать. Но все понятно без слов. Джонку обстреляло без предупреждения другое дозорное судно. Ни одна джонка не должна показываться в заливе — таков приказ колониальных властей. Проходит неделя. У командира «Косули» удачный день. Он может внести в судовой журнал несколько записей: «Замечена джонка, туземцев заставили подняться на борт, джонка потоплена». Анри пишет в Розьер: «Зачем мы топим джонки, везущие рис на Север? Чтобы задушить голодом народ Вьетнама. Почему мы обстреливаем рыбачьи джонки? Ведь я сам видел, нельзя отрицать это». Тяжелая правда раскрывается перед Анри. Юноша, сражавшийся под Руайяном, понял, что обманут колонизаторами. Но вот появляется просвет. Весной 1946 года начинаются переговоры между Хо Ши Ммном и французскими властями. И здесь, и за десять тысяч километров отсюда — в Ханое, в Париже, в Розьере — все те, кому дорог мир, с нетерпением ждут исхода переговоров. Ждет этого и Анри. Переговоры прерываются. Колониальные власти требуют капитуляции народной армии, сдачи оружия. Это унизительные, коварные условия. И колониальные генералы знают, что их не примут — им нужно продолжение войны. И боевые действия возобновляются. «Косуля» должна взять на борт отряд легионеров, доставить их к определенному пункту и там подождать, пока отряд выполнит свою задачу. — Анри, ты видел? Что же это такое? — спрашивает товарищ. — Кого мы повезем? Анри не отвечает. По трапу поднимаются солдаты, которые всего год назад были в гитлеровской армии. Теперь они нанялись в иностранный легион. Им безразлично, кто хозяин, в кого стрелять — была бы обильная еда и заработок, разрешили бы грабить там, где идут бои. А впрочем, этого разрешения они и не будут спрашивать. Они твердо усвоили — в колониях все сходит с рук. Франция во время второй мировой войны также считалась гитлеровской колонией, завоеванной землей. Эх, и пожили же они там! А может быть, имена этих гитлеровцев занесены в списки военных преступников? Может быть, это те грабители, насильники, садисты, которые должны предстать перед судом французских патриотов? Все может быть… Но теперь шли солдаты иностранного легиона, а с солдата иностранного легиона не спрашивают за прошлое. Оно перечеркнуто. Не обращая внимания на французских моряков, легионеры располагаются в отведенном им помещении. Они получают обед, винную порцию и после отдыха выходят на палубу. Один из них вступает в разговор с Мартэном. На ломаном французском языке, помогая себе жестами, он объясняет: — Я хорошо знаю Францию… Париж… Дьепп… Гавр… Я хорошо знаю вашу родину, дружище! Сейчас он положит ему руку на плечо. — А Сталинград вы знаете, дружище? — раздельно спрашивает Анри. — Сталинград? — машинально повторяет легионер-немец. Его рука тотчас отдергивается. Легионер грозит пальцем: — Эй, нехорошо, нехорошо так, дружище! Теперь у нас одно общее дело. — У нас общее дело? С вами? Какое? — Против мирового большевизма. — У нас с вами не может быть общих дел! — Анри вплотную подходит к легионеру. Легионер пятится. Чего доброго, этот француз выбросит его за борт. На рассвете отряд бывших гитлеровцев, а ныне солдат колониальных войск Франции, высаживают. Спустя сутки их снова берут на борт. Один обвешан зарезанными курами, другой — местными украшениями, двое несут свинью на палке. Так было во Франции, в России, так они воюют в тропиках. Один помахивает над ухом соседа неплотно сжатым кулаком. Ему особенно посчастливилось — в руке звенят монеты. Ведут заложников. На носилках несут раненого. Легионер, который говорил с Анри, показывает ему пять пальцев и затем еще три. Это значит, что сожжено восемь деревень. Вот кто поджигает хижины!.. «Косуля» ложится на обратный курс. Легионеры расположились у себя в трюме. Началась мена награбленным. Кур и свинью отослали на кухню — это добавка к пайку, который и без того достаточен. Заложников заперли в арестантской. В этот день Анри понял, что престиж французского экспедиционного корпуса потерян здесь навсегда. Не забудут и не простят этих злодейств и глумлений. Вскоре Анри писал родным: «Когда мы пришли в Сайгон, Вьетнамцев расстреливали десятками. Их бросали в воду. Эти трупы мы видели в реке. Я вам писал раньше, что это были трупы убитых в последних боях, но это на случай, если мои письма вскроют. А теперь я говорю вам всю правду». Он ходил по Сайгону, по городу, из которого исчезло веселье, непринужденность. Местные жители без крайней необходимости не показывались на улицах. Здесь также в каждом доме спрятан портрет Хо Ши Мина. На одной из центральных улиц, у подъезда большого дома с занавешенными окнами, Анри увидел медную небольшую вывеску: «Индокитайский банк». Медь отлично протерта. Она горит под жарким тропическим солнцем. У дома — машины последних американских марок, большие, нарядные, сверкающие свежим лаком. Выходят двое — швейцар банка низко склонился перед ними. Эти двое — высокий старик в белом и полковник экспедиционного корпуса — мельком взглянули на Анри и садятся в машину. Мотор включается очень мягко, почти бесшумно. И Анри услышал обрывки разговора. — Они хотят еще — они получат! — скрипучим, бесстрастным голосом говорит старик, берясь за руль. Машина повернула за угол. Анри стоял возле здания банка. Такая короткая фраза — и все-все понятно. Непокорный Север страны «получит» и обострение голода, и карательные экспедиции….. А ты, военный моряк Анри Мартэн, обязан помогать колонизаторам. Ведь ты дал подписку о том, что выполнишь любой приказ начальства. Чьи же приказы теперь предстоит выполнить? Штаба? Нет, в первую очередь приказ владельцев дома, на стене которого пылает под тропическим солнцем медь вывески: «Индокитайский банк». И полковник экспедиционного корпуса, и ты, Анри Мартэн, выполняете приказы старика банкира. Да, конечно, есть различие между полковником и тобой, Анри. Полковник делает карьеру, а ты просто обманут, сын металлиста из Розьера. Но оба вы — слуги не Франции, а Индокитайского банка. «…В прошлом году в Тонкине умерло от голода два миллиона людей. Право покупки риса было предоставлено только двум компаниям (в обеих директорствуют французские дельцы). Рис был куплен по 50 пиастров за квинтал. А когда разразился голод, цену подняли до 800 пиастров. Тысяча шестьсот процентов прибыли — вот для чего нужно продолжение войны! Тысяча шестьсот процентов прибыли — да это же сказочные времена завоевания колоний!.. Можно ли пропустить такую удачу? Потому-то и сорваны мирные переговоры». Вот что вдали от родины читал на вывеске Индокитайского банка моряк Анри Мартэн. — Дружище, пора возвращаться! Его окликает морской патруль. В городе военное положение. Через полчаса нельзя будет показаться на улице без особого пропуска. Он направляется в порт. Темнеет, горизонт пылает — горят хижины.НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПОЖИЛЫМ СЕРЖАНТОМ
Переполненный госпиталь в Ханое. Никогда не предполагало прежде командование, что понадобится столько коек для раненых. Вьетмин умеет сражаться и с устарелым оружием в руках. Койки стоят даже в коридоре. В палатах сумрак. Спущены до пола соломенные занавески, включены электрические вентиляторы, и все же в госпитале душно. Сиделки поминутно вытирают тяжелораненым испарину. Анри зашел навестить товарища, но оказалось, что тот накануне был отправлен во Францию. — «Косуля»! — кто-то окликает Анри. Голос кажется знакомым. Анри оборачивается. На койке лежит пожилой сержант, с которым Анри познакомился на борту «Косули», — тот самый сержант, который от нечего делать плел цепочки из тонкой проволоки и так странно поглядел на молодого моряка Мартэна, когда он говорил о новой благородной миссии Франции в колониях. — Вы здесь? Давно? Сержант указывает ему на белый табурет: — Посидите со мной, если у вас есть время. — Конечно, конечно. Как дела? — Могло быть хуже… Забыл ваше имя. — Меня зовут Анри. Аир и Мартэн. — Могло быть гораздо хуже, Анри. Мне помогли выиграть несколько дней, а это означало — жизнь. — Простите, сержант, я не понимаю вас. Кто вам помог выиграть эти дни? — Те, с кем мы воюем. Их надо считать врагами. А мне теперь очень трудно думать, что это враги, которых надо истреблять. Сержант помолчал, оглянулся и заговорил так тихо, что Анри вплотную придвинул к койке табурет и наклонился над раненым. — Ты запомнился мне, Анри. Запомнился твой разговор, наивность, простодушие. — Я теперь уже не так простодушен, сержант. Я много видел, слышал. Я видел страшное. — Ну, так послушай и меня. Я совсем не чувствительный человек, Анри. Я колониальный солдат, наемник. Уже много лет. У тебя есть семья? — Да, в Розьере. — А у меня нет никого на свете. Наемник колониальной армии не должен торопиться с женитьбой. Жена, дети, родня — все это потом, потом, если наемник уцелеет. Я отслуживаю пенсионный срок и коплю деньги. Колонии — это колонии. Здесь трудная служба и жестокая война, жестокая для туземцев. Я всегда это знал. Я не был простодушен. Меня нанимают, я во всем подчиняюсь начальству… Почему ты так глядишь? — Потому, что неприятно вас слушать, сержант. Какая же у вас была цель? Ради чего вы служили, болели лихорадкой, наживали ревматизм? — Анри стискивает зубы. — Черт побери! Ради чего вы стреляли? Вы что же, ненавидели их? — За что ненавидеть тех, кого наши называют «ньяке»? Они мне ничего не сделали. А цель? Я же вам сказал: выслужить пенсию, вернуться во Францию и спокойно дожить свое… Анри качает головой. В его взгляде сквозит неприязнь к этому человеку. Если бы он не был ранен, если бы то же самое он сказал ему в другой обстановке, Мартэн ответил бы ему самыми жестокими словами. — Дожить свое? И все будут говорить «Вот идет почтенный человек, папаша… Не пригласить ли его выпить рюмочку?» — Вы осуждаете меня, Анри? — Да, осуждаю вас, сержант! — Я сам близок к тому, чтобы осудить себя. За всё осудить. — О чем же вы думаете теперь? — Я вспоминаю вот о чем. В той стычке я был ранен в бедро, не очень тяжело, но надолго. Меня не успели подобрать. Наши пробились из окружения. Я потерял сознание. Очнулся в хижине «ньяке». Рядом сидел с записной книжкой их офицер. «Ваше имя?» — спросил он по-французски. Я не стал отвечать, — думал, что это конец. Все мне было безразлично. Меня перевязали. Офицер — он оказался капитан — снова задал несколько вопросов. «Как видите, — сказал он, — я не спрашиваю вас о том, что ваш устав запрещает разглашать». Он был прав. Таких вопросов мне не задавали. Мы разговорились. Оказалось, он учился в Париже. Я откровенно сказал ему, что не ожидал такого обращения. Колониальная война есть колониальная война, и туземцам, когда они попадают в плен, приходится плохо. — Я это видел, — заметил Анри. — На «Косуле» их сразу же посадили в карцер. — Вы не видели самого страшного. При мне троим отрубили головы… Капитан ответил: «Я это знаю. Но у нас есть такой пункт в уставе. Он не записан, но соблюдается всеми солдатами: если враг стреляет в тебя, немедленно уничтожь его; если он ранен или сдался, накорми его». Меня накормили, обмыли, за мной ухаживали. Но капитан был озабочен: «Мы не в состоянии лечить вас так, как требует ваша рана. Придется отправить вас». — «Куда?» — «К вам». — «Как вы это сделаете?» — «Это несложно, мы часто бываем у вас. Мы-то знаем дороги нашей страны, реки». Меня отправили по реке до ближайшего пункта, который находился в наших руках. Капитан сам заплатил лодочнику. На прощание он мне сказал: «Если вы с вашей частью вернетесь сюда, постарайтесь не быть очень жестокими с нашими женщинами, стариками, детьми». Но… Мне бы не хотелось вернуться туда со своей частью… Не потому, что я боюсь, а потому, что не сумею предупредить жестокости. — Это самое ужасное для нас с вами. — И я думаю вот о чем. Если бы в прошедшие времена после всего того, что мы натворили в этой стране, после зверств и грабежей, я попал к ним в руки… Ну, в те времена, когда у них были только кремневые ружья или луки и копья, они бы мне отплатили полной мерой. А теперь за мной присматривала женщина, пока меня везли по реке. Я думал: «Значит, они ушли вперед. А мы? Мы те же, что были. Кто же теперь дикари? Мы или они?» Вот о чем я думаю, Анри. — Голос пожилого сержанта ослабел. Он стал забываться в дремоте. — Вам об этом нелегко думать. Я понимаю… Анри пожал ему руку и вышел из госпиталя.ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЖЕРТВ В ХАЙФОНЕ
«Надо дать вьетнамцам жестокий урок, заставить их просить милости», — так телеграфирует командующий колониальными войсками заместителю верховного комиссара Франции. Тот сносится с Парижем. Там временно находится верховный комиссар адмирал Д’Аржанлье. Адмирал не возражает против жестокого урока. Но, может быть, возразит преподобный отец Луи, видный деятель католической церкви, который все знает о том, что происходит в Индокитае? Нет, и преподобный отец не возражает, если согласен адмирал. Он и не может возразить, потому что адмирал Д’Аржанлье и преподобный отец Луи — одно лицо. Вряд ли было еще одно такое совместительство в истории военных флотов всех стран. Раньше миссионер был просто миссионером, а здесь слуга церкви в то же время и адмирал. Много лет назад Д’Аржанлье, не оставляя морской службы, принял монашеский сан. Он одновременно делал карьеру: и во флоте, и в католической церкви. Адмирал Д’Аржанлье стал близок французскому правительству, преподобный отец Луи замечен папой римским. Папа римский ничего не имеет против того, чтобы преподобный отец отправился в качестве верховного комиссара в Индокитай. Ватикан мотивировал свое решение тем, что адмирал-церковник «оказал и сможет оказывать значительные услуги Франции, а следовательно, и христианской цивилизации…» И вот, чтобы поддержать устои христианской цивилизации, адмирал-церковник приказывает произвести бомбардировку Хайфона. Переговоры с народным правительством Вьетнама прерваны, но война не объявлена. Народной армии ставят унизительные условия. Они не приняты. И двадцать третьего ноября французские корабли открывают огонь по Хайфону. В этот день Анри пишет: «…Пожары повсюду озарили небо над Хайфоном. Я ничего не слышу, кроме грохота пушек… Все в городе стерто с лица земли, все, кроме европейских кварталов». Командование Народной армии обращается с просьбой прекратить огонь. Ответа нет. Обстрел продолжается. Шесть тысяч человек убиты в Хайфоне. Но колонизаторы не достигли цели — мужественный народ не поставлен на колени. Он борется, он будет бороться. Хо Ши Мин обращается с двумя воззваниями. В одном он призывает народ продолжать сопротивление колонизаторам, другое направлено французам. Он призывает их сделать все, для того чтобы спасти жизни молодых вьетнамцев и французов. Из городов и деревень Индокитая, которые еще находятся под властью колонизаторов, уходит почти все мужское население. Там уже не встретить мужчин в возрасте от семнадцати до пятидесяти лет. Реками, тропами, джунглями, в которых теряются даже тропы, они пробираются туда, где находится Народная армия. Призыв Хо Ши Мина услышан в Париже. «…Добейтесь, чтобы ваших сыновей вернули живыми!» — требует мать убитого французского солдата. Но нет еще у простых людей Франции такой силы, которая могла бы заставить колонизаторов прекратить бойню. Молодой парижанин Поль, он же Пауло, собирался избороздить весь мир. Точка на карте возле Сайгона указывает, где окончилась его жизнь. Анри Мартэн видит это место нена географической карте. Он ходит по этому кладбищу возле Сайгона. На прошлой неделе там было триста солдатских могил, теперь прибавилось полтораста. Он пишет домой: «Даже если пришлют подкрепление, сделать ничего нельзя будет. Невозможно истребить весь народ». Он видел, как сражаются вьетнамцы. Он пишет в Розьер и об этом: «Солдат вьетмина с мешком патронов пробежал не сгибаясь пятьсот метров по открытому месту. За это время по соседству с ним разорвалось пять или шесть снарядов. Это люди, которые не боятся бича плантатора. Вот что надо понять прежде, чем попытаться установить взаимопонимание. Говорить с ними надо не так, как говорит властелин с рабами, а как человек с человеком…» Анри Мартэн поверяет мысли только близким. Но, видимо, не только близкие люди знают о заветных мыслях молодого моряка. Никогда не прекращается слежка тайной полиции за солдатами, за матросами. Анри Мартэн был нужен колонизаторам лишь до тех пор, пока сохранялась в нем простодушная вера в добрые намерения правительства. Не стало простодушной веры — не нужен Анри Мартэн в колониях. Более того — он нежелателен там. Молодой моряк получает приказ вернуться во Францию. Ему предстоит дослужить свой срок в Тулоне. Остается два года и несколько месяцев до окончания контракта. Он не станет просить о продлении контракта. А если бы обратился к начальству с такой просьбой? Оставили бы Анри Мартэна во флоте еще на один срок? Вряд ли… Но Мартэн об этом еще не знает. Получив отпуск, моряк садится в поезд. Розьер, тихий Розьер… Быстро проходят отпускные дни. Мать не спускает глаз с сына. — Скажи, Анри, тебя не пошлют больше туда? — Нет, мама, не беспокойся. Теперь до конца срока я в Тулоне. — Но ведь туда посылают все новых и новых. — Да, мама, посылают. — Лучше не думать об этом, Анри!.. Мать не знает, что сын не забыл о далекой стране, никогда он не примирится с тем, что обманули его, его поколение, обманули всю Францию. Он вернулся на родину не солдатом, который только и думает о том, чтобы дослужить свой срок, а пламенным борцом мира. В жизни Анри наступает перемена. — Моя невеста! Обними ее, мама. — Ах вы, хитрецы!.. Мать обнимает девушку, которую знает давно. Это Симона. Она училась вместе с Анри в школе. Теперь она работает портнихой. Симона — трудолюбивая, скромная девушка. Мать радуется счастью сына — лучшего выбора он не мог сделать. Свадьбу назначили на 1950 год, когда окончится срок службы Анри. — Я буду приезжать, — говорит он. — Мы расстаемся ненадолго. И вскоре Симона получила письмо от Анри из тюрьмы. Он рассказал ей все. Окончив трудовой день, Луи Мартэн видит Симону у заводских ворот. Что бы это могло означать? Симона показывает ему письмо. Они садятся на скамеечку под платаном и совещаются. Надо ли сообщить матери? После короткого раздумья Луи Мартэн отвечает: — Нет, сейчас нельзя сообщить — ее здоровье все хуже и хуже. Она очень сдала в последнее время. Я подумаю о том, как это лучше сделать. Спустя несколько дней Луи Мартэн, стараясь быть спокойным, говорит о том, что произошло с сыном в Тулоне. — Многие солдаты и матросы попадают в кутузку. На военной службе это не такая уж редкость. Я сам однажды попал в карцер. Ничего страшного нет, Матильда. Но мать бледнеет. Она держится за сердце. Спустя несколько дней приходит подробное письмо от Анри. Оно начинается словами: «Теперь вы должны знать…» и заканчивается коротким словом: «Мужайтесь!»ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОВОКАЦИЯ?
В Тулоне на станции по испытанию горючего появляется новый матрос Льебер. Он только что вышел из тюрьмы. Разнесся слух — Льебер был арестован за то, что не побоялся отстаивать перед начальством свои права. Это располагает к нему товарищей по службе. Льебер ведет себя как добрый малый. Он острослов, танцор, оживит любую компанию. Никто из матросов и офицеров не знает о его прошлом. Немного об этом знает, видимо, начальник станции, хмурый, молчаливый человек. Несколько раз он обращается к начальству с просьбой списать Льебера со станции. Начальству непонятна настойчивость старого офицера. Разве Льебер плохо служит? Нет, службу проходит неплохо, но у всех подчиненных незапятнанные формуляры, а у этого… Старому офицеру каждый раз отвечают, что он слишком нетерпим. Начальник станции старается не замечать Льебера, а тот, кажется, знает о его тщетных просьбах. При начальнике Льебер сама почтительность, но сколько наглости в глазах у канальи. Почему его прислали на станцию? Кто он? Не тайный ли агент секретной полиции? Начальник станции не ошибается в предположениях. Да, Льебер — тайный агент, шпик, провокатор, подлейший человек. Именно потому его и прислали на станцию. Разгульную, распущенную жизнь вел Льебер. Для этого нужны были деньги. Он добывал их грязными способами. Однажды Льебер совершил тяжелое нарушение устава. Предстоял суд, но суд не состоялся. Охранка избавила Льебера от наказания и приобрела в нем тайного агента, готового на любую гнусность. Об этом и не подозревают товарищи по службе. Льебер держится как хороший товарищ. С ним приятно провести время на берегу. В разговорах Льебер резко и насмешливо отзывается о начальстве, о правительстве. Он часто повторяет, что война в Индокитае унижает достоинство Франции — грязная, грязная война. — Я видел ее! — Да ты видел ее, Анри. Но она чувствуется и здесь. Сколько транспортов ушло туда! И сколько парней не вернется! Таких парней, как мы с тобой… Льебер располагает к себе. С ним можно было бы поделиться сокровенными мыслями. Можно было бы… Но что-то удерживает Мартэна. Льебер узнал о листовках, которые попадают на станцию. Он читал их. Но кто приносит листовки? Это Льеберу осталось неизвестным. Спустя несколько месяцев Льебера списали со станции. Начальник станции вздохнул с облегчением — наконец-то вняли его просьбе. Льебера перевели на авианосец «Диксмюд». Одно не совсем понятно: почему же на авианосец? Туда берут самых проверенных. А впрочем… Там, вероятно, нужен глаз Льебера, его уши. … «Диксмюд» кружит, кружит по Средиземному морю, нигде не находя пристанища. Покажется у африканских берегов и идет в Тулон, снова в Африку, снова в Тулон. Где же он надолго бросит якорь? Никто не знает. Это нервирует команду. Особенно же встревожен матрос Хеймбюрже, замкнутый человек, человек без друзей. В отпускные дни он отправляется один на берег и рано возвращается на корабль. Говорят, что он стал таким после того, как невеста порвала с ним, что он тяжело переживал разрыв. Но стоит узнать подробнее о жизни Хеймбюрже — и выяснятся другие причины. Хеймбюрже родом из Эльзаса. Он считал себя французом, потомком французов. Но в 1940 году гитлеровцы объявили его подданным «третьей империи». — Вы не Хеймбюрже, — строго сказал ему гитлеровский офицер. — Забудьте, что вы француз. Отныне и навсегда вы Гаймбургер. Слышите — Гаймбургер! «Нет, я все-таки Хеймбюрже», — думает молодой эльзасец, но думает очень робко. Он боязлив даже в мыслях. Его зачислили в воинскую часть и отправили в Румынию. Он проклинал свою участь, он ненавидел и войну и гитлеровцев. Хеймбюрже дезертирует из фашистской армии. Несколько лет он скрывается в Австрии; работает на ферме крестьянина, тайного врага гитлеровцев. Приходится уйти оттуда. Его прячут в горной деревушке. Становится опасно и там. Он живет в развалинах разбомбленного дома. Но испытания не прибавили Хеймбюрже мужества. Он только проклинает войну. Он готов бежать на край света, лишь бы забыть об этой страшной войне. Хеймбюрже надломлен. Он ни во что не верит, он не видит для себя места в жизни. Война окончилась. Что ему делать теперь? Возвратиться в Эльзас? Там большие разрушения. Предприятия не восстанавливают. Хеймбюрже не может найти работу. — Вам нужна работа? — спрашивает офицер в морской форме. — Поезжайте в Индокитай. Там требуются молодые, сильные люди. Эта служба обеспечит вам будущее. И Хеймбюрже, не раздумывая, подписывает контракт на службу во французском военном флоте. Он ничего не знал об Индокитае. Не знал, что со дня на день там должны начать войну против народа, отстаивающего свою независимость, и скоро он снова увидел войну. Тяжелая тропическая болезнь свалила его. Что с ним сделают дальше? Страх, от которого цепенеет воля, — единственное чувство, которое осталось в нем. Хеймбюрже возвращают во Францию. Его зачисляют в команду авианосца «Диксмюд». «Диксмюд» совершает бесцельные рейсы по Средиземному морю. Авианосец становится пленником, которому никуда не вырваться. Хеймбюрже ничего не понимает. В нем растет глухое отчаяние. Авианосец становится на стоянку в Тулоне. И здесь на борту появляется новый матрос Льебер. Нелегко сблизиться с молчаливым, недоверчивым Хеймбюрже. Но Льебер — его земляк-эльзасец, им есть о чем поговорить. Льебер также пострадал от гитлеровцев. Льебер сумел расположить к себе земляка. Сумрачный матрос ищет его общества и раскрывается перед ним. — Да, в скверную историю мы попали с тобой! — говорит Льебер. — Как мы из нее выберемся? — Скверно то, что нам некуда выбраться. Ну, кончится контракт — что делать дальше? Кому нужны мои руки? Кто даст мне кусок хлеба? — Ну, еще до того, как кончится контракт… Заварится такое… — Что ты имеешь в виду? — нетерпеливо перебивает Хеймбюрже. — Вот увидишь — в конце концов нас отправят в Индокитай. Говорю тебе, в скверную историю мы попали с тобой, пара эльзасцев. — Но почему, Льебер, они делают то, что хотят? Ведь все против этой войны! Все понимают, что она ничего не даст. — Да, все понимают. О том, что надо помешать, пишут в газетах, в листовках. Ты читал? Хеймбюрже признается земляку, что он не только читал листовки, подписанные «группой моряков», но сам распространял их, что он получил их у одного знакомого матроса, который служит на станции испытания горючего. — Славный парень, но… — Хеймбюрже мрачно усмехается. — Кто? Я там служил, на станции. Не Мартын ли? — Ты его знаешь? Славный парень, но… Что сделаешь листовками? Только разложишь их в разных местах, как является патруль морской полиции и все подбирает. Нет, тут, видно, нужны не листовки, а совсем другое… Хеймбюрже тяжело задумывается. Через несколько дней объявляют, что состоится пробный выход в море. — Пробный выход? — говорит Льебер. — Непохоже. У нас есть все для дальнего плавания. — Туда? — Хеймбюрже бледнеет от волнения. — Туда. Плохо мое дело. — Почему? — Я штрафованный. Понадобятся люди для рискованной операции, для высадки где-нибудь в чертовой дыре — я первый кандидат. Разве не так поступают с теми, кого не любит начальство? — Да, да! — шепчет перепуганный Хеймбюрже. — Я знаю — так бывало. Меня начальство тоже не любит. Спустя несколько часов обнаружили, что в двигатели подсыпан размельченный наждак. Это было замечено тотчас. И тотчас арестовали Хеймбюрже. Вероятно, за ним следили. Хеймбюрже сразу же перевезли на берег в тюрьму. Льебера перевели на другой корабль — он уже не нужен был на авианосце, а выход в пробное плавание отменили. Следователь морской прокуратуры очень торопился с допросом арестованного. Хеймбюрже был потрясен случившимся. Следователь говорит не столько о нем, Хеймбюрже, сколько о Мартэне. Через каждые две — три фразы имя Мартэна. Хеймбюрже подтверждал то, что требовалось следствию. Он показал, что Анри Мартэн убедил его подсылать в машину наждак. Долго ли уговаривал его Мартэн? Долго, долго! С самого начала знакомства? С самого начала знакомства. Рассказывал ли Мартэн о войне в Индокитае? Много, много рассказывал. «И вы, Хеймбюрже, не хотели бы снова попасть туда?» — «О, нет, нет!» — «Действовали ли на вас рассказы Мартэна?» — «О да, действовали»… Опытный следователь, который понимает состояние заключенного, может поставить любой вопрос, и перепуганный насмерть Хеймбюрже даст тот ответ, которого добивается следователь. Для чего понадобилась такая провокация? Зачем нужно было подсылать негодяя Льебера на станцию, где служил Мартэн, на авианосец, где он встретился с Хеймбюрже? Власти знают, для чего нужно было все это. Анри Мартэн писал в листовках то, что печаталось в газетах сторонников мира. Эти газеты выходят легально, но морские власти не пропускают их на корабли, в арсенал. Мартэн никогда не призывал к нарушению дисциплины, к беспорядкам. Эти листовки — голос патриота, который на своем опыте убедился в том, что война в далеком Индокитае не принесет добра Франции. Если судить Мартэна только за листовки, дело может окончиться оправданием. Скамья подсудимых превратится в трибуну сторонников мира, противников «грязной войны». Об Анри Мартэне уже говорят во Франции. О нем пишет «Юмамите». Оправдание сделает его популярнейшим человеком. Это опасно. Это увеличит влияние сторонников мира. Надо осудить Мартэна, обязательно осудить. Саботаж — вот настоящее обвинение, обвинение грозное. Матросу, которого изобличат в том, что он подстрекал товарища испортить машину, сочувствовать не будут. Это оттолкнет от него даже многих из тех, кто считает войну в Индокитае преступной. Французские корабли можно было выводить из строя, когда немцы захватили Тулон. Это было актом мужественной борьбы против врага. Но вредить военной мощи Франции теперь… Подвергать опасности жизнь французских моряков… Да это же тяжкое преступление против родимы, господа! И преступник находится в рядах тех, кого называют борцами за мир. Не доверяйте им, господа! Таков расчет реакции. Надо скомпрометировать Мартэна, а вместе с ним — движение сторонников мира.ГОЛОС С ВОЛИ
Почудилось? Или ветер донес эти слова? Анри стремительно встает, откладывает книгу. Тихо, как только может быть тихо в каменном мешке. Анри прислушивается. Нет, не почудилось, не почудилось ему. Это голос с воли, голоса с воли. Их много, они сливаются в едином возгласе. Совсем близко от тюремных стен люди скандируют: — Оправдайте Мартэна! Оправдайте Мартэна! Голоса не смолкают, не удаляются. — Оправдайте Мартэна! Оправдайте Мартэна! Анри бросается к окну и тогда только вспоминает, что оно заколочено. Значит, много людей собралось там, снаружи, если звуки доносятся до него. Люди не уходят. Они стоят возле ворот. Он словно видит их сквозь заколоченное тюремное окно. Это такие же простые люди, как те, к кому в последний раз обращался капитан Даньель, как те, кто работает с отцом. Они везде: в маленьком Розьере, в разрушенном гитлеровцами Руайяне, в огромном Париже, здесь, в Тулоне. Проходят сутки в каменном мешке. Наутро раздается снова: — Оправдайте Мартэна! Анри не знает, что это голос Парижа. Велосипедисты, участвующие в гонке на приз газеты «Юманите», достигли Тулона. Каждый в городе может показать им камеру Мартына — вон та, где окошко забито досками. Велосипедисты останавливаются на минуту возле тюремных ворот. Как бодрят эти возгласы, несущиеся снаружи! Можно забыть о недомогании, которое с каждым днем дает себя чувствовать все сильнее и сильнее, о том, что только раз в сутки несколько минут он видит солнце. — Оправдайте Мартэна! Стоя в душной камере с заколоченным окном, он машет рукой невидимым друзьям. Значит, их у него становится все больше и больше. В тюрьме остается твердым тот, кто чувствует себя правым, кто соблюдает дисциплину, установленную самим собой для себя. Анри много читает. Он просит не присылать ему романов. Книги по истории лежат на его узком тюремном столике. Он, противник «грязной войны», читает книги об Индокитае. Теперь он легко отделяет ложь от правды. А лжи так много и не только в том, что говорило начальство, но даже в этих солидных на вид книгах. Долгие десятилетия разбоя в Индокитае, зверств, истребления народа. Это колонизаторы называли своей «культурной миссией»! Они увековечили имя адмирала, который первым бросил якорь в водах Индокитая, — генерала, который первым обстрелял селения вьетнамцев. Пожилой сержант, наемник Индокитайского банка, профессионал войны, служивший только из-за денег, признал, что вьетнамцы стоят гораздо выше, чем он. Наемники и их хозяева остались такими же, как были, а народ Вьетнама, трудолюбивый, гуманный, осознал себя силой, которую не сломить. Теперь Анри стали особенно близки слова, которые читали в его листовке: «Ради ваших миллиардов вы жертвуете нашей юностью». В августе он писал из тюрьмы: «Теперь я знаю лучше, чем когда-либо, что означает свобода при капитализме». И в августе же Морис Торез призывает сторонников мира вырвать из тюрьмы Анри Мартэна и Раймонду Дьен. Начинается битва за жизнь Анри Мартэна.СУД
«Оправдайте Мартэна!» Этот возглас слышит заключенный, которого поместили в соседней камере. Это Хеймбюрже. Анри ни разу не встретился с ним в тюрьме. Хеймбюрже мечется по душной камере. Окошко у него не заколочено. Он дотягивается до решетки. Вот они стоят возле тюрьмы — сотни французов, мужчины, женщины, молодые, старые. Кто-то поднял на руки ребенка и показывает ему… Что он показывает? Они приветствуют Мартэна. Он здесь. Им это известно. Они узнают и, вероятно скоро, что Хеймбюрже оговорил человека, который стал им таким близким. Эта мысль невыносима. Нет сил слышать эти возгласы, видеть этих людей. Хеймбюрже колотит кулаками в дверь. Он требует чернил и бумаги. — Дополнительное показание? — спрашивает начальник тюрьмы. — Да, да, дополнительное показание! — шепчет Хеймбюрже. Через полчаса, получив исписанный лист, начальник тюрьмы говорит сквозь зубы: — Несчастный!.. — Он не без любопытства смотрит на взмокшего, тяжело дышащего, взъерошенного Хеймбюрже, который прислонился к стене. — Смотри, — говорит начальник тюрьмы, — как бы тебе не заколотили окно. — Все равно, все равно!.. — шепчет Хеймбюрже. «Однако наделает же это им хлопот!» — думает начальник тюрьмы, унося бумагу. Заявление Хеймбюрже переполошило военную прокуратуру. «Я один виновен в саботаже, — пишет Хеймбюрже. — Мартэн ничего не знал об этом. Я солгал на следствии». Власти уже ничего не могут предпринять. Приходится назначить день суда. Он начнется семнадцатого октября. Тулон называют городом «красных помпонов». Красный помпон пришит к синему берету матроса с французского военного корабля. Красные помпоны мелькают на улицах Тулона, старинной базы французского флота. Здесь в 1942 году «красные помпоны» пустили ко дну французские боевые корабли, чтобы они не достались гитлеровцам и не увеличили их военную мощь. Так патриоты отстояли честь своего флага. Но остался ли Тулон независимым после войны? Пройдитесь по улицам города «красных помпонов». На одном из домов вы увидите вывеску: «Американская морская комендатура» Матрос с американского военного корабля может выкинуть любое безобразие — оскорбить женщину, поколотить жителя города… Этот хулиган — неприкосновенная фигура для французских властей. В крайнем случае его отведут в американскую комендатуру, и там дежурный офицер пожурит хулигана. Могли ли «красные помпоны» — матросы, которые, рискуя жизнью, на глазах гитлеровцев топили свои корабли, — подумать, что после войны морской флаг Франции снова будет унижен? Анри Мартэна судят не только по приказу из Парижа. Действует и приказ, полученный из-за океана. Суд над Анри Мартэном — продолжение борьбы со сторонниками мира. И все сознают это — и народ и слуги агрессоров. Улицы Тулона, примыкающие к дому, где будет заседать суд, запружены матросами. Много гражданских жителей, много приезжих. Проносятся джипы морской полиции. Появились жандармы. Усилены отряды корпуса республиканской безопасности — из соседних городов спешно доставлены на грузовиках новые группы охранников. Тулон становится похож на осажденный город. Но это не может испугать сторонников мира. Утром во время футбольного матча и зрители и игроки почтили Мартына минутой молчания. Команды остановились в центральном круге, зрители поднялись с трибун. Никто не посмел нарушить минуту молчания, даже те, кто далек от сочувствия Мартэну. Не встать в такую минуту — это значит покинуть стадион под свистки, под возгласы негодования и презрения. В ста метрах от стен тюрьмы рабочие-строители организуют митинг. На стене морской комендатуры появляется огромный плакат: «Оправдайте Мартэна!» Военный трибунал заседает в маленьком зале. Так решили заранее. В зале едва могут поместиться сто человек. Места впереди заняли журналисты парижских газет. Входит, сняв вельветовую каскетку рабочего, старый человек. Это Луи Мартэн, отец подсудимого. У него усталое, бледное лицо. С ним две девушки: сестра Анри и его невеста. Они ему что-то тихо говорят. В два часа дня начинается процесс. Вот они, судьи. Один из них, председатель трибунала, известен своей жестокостью; другой — тем, что служил правительству Петэна; об остальных ничего не известно. На столе папка с материалами дела. А где же другие папки? Их также можно считать материалами по делу Мартэна. Это материалы, представленные народом Франции, — петиции, телеграммы протеста, письма простых людей. Народ обвиняет судей. Он осуждает организаторов процесса. Все эти материалы остались в архивах трибунала. Но не заглушить голоса народа. Слышно, как люди скандируют на улице: «Оправдайте Мартэна!» Мимо них проносятся автомобили с полицией. На минуту слышен только шум моторов, а потом опять и опять: «Оправдайте Мартэна!» Удар молотком. Тучный председатель трибунала приказывает: — Введите подсудимых! Их вводят. И с этой минуты Анри Мартэн становится виден всей Франции. Он, а не судья, ведет процесс в Тулоне. Анри обменялся взглядом с отцом, с невестой, с сестрой. Многое они сказали друг другу без слов. У юноши желто-бледное, утомленное лицо — сказались дни, проведенные в камере с заколоченным окошком; каштановые, зачесанные назад волосы, высокий лоб, черные живые глаза. Он очень спокоен. Председатель с небрежным видом перелистывает листы дела. В знак удивления он высоко поднимает плечи и как бы незаметно для себя укоризненно покачивает головой. Однако, подсудимый, у вас великолепные характеристики. Отовсюду: из партизанского отряда, с места работы. Отличное прошлое! Как же могло случиться такое? Со стороны простодушный человек может подумать, что председатель впервые в начале заседания увидел эти материалы, что раньше он ничего не знал о прошлом человека, которого судит. Актерские приемы нисколько не смущают Анри. — Что же именно случилось, господин председатель? Председатель говорит тоном огорченного человека, человека, который удручен тем, что сделал юноша. — Ну как же, Мартэн… Подписывая контракт, вы брали на себя известные обязательства. Серьезные обязательства, Мартэн. Распространяя листовки, вы их нарушили. Анри смотрит председателю в глаза и твердо отвечает: — Мои взгляды остались прежними. Обязательство нарушило правительство, нарушило тем, что развязало эту кровавую, постыдную войну. Наступает долгое молчание. Председатель как бы не слышал того, что сказал Мартэн. Председатель раздумывает вслух. — Листовка подписана: «Группа моряков». Кто это — группа моряков? — Это группа моряков, господин председатель. — Не вы один? — Не я один. — Но кто же еще? — Это группа моряков, господин председатель. На задних скамьях зашелестел смех. Председатель сдвигает брови: — Вы сказали, что берете всю ответственность на себя… — Я это повторяю. В листовках написано то, что можно прочесть в демократической печати. — У нас вся печать демократична… Неосторожная реплика. Над председателем смеются. Смеются даже сотрудники реакционных газет — они-то отлично знают нравы своей прессы. Любая из газет, которые они представляют в Тулоне, продается банкам, синдикатам, заокеанским магнатам. И как трудно приходится тем немногим газетам, которые можно считать демократичными! — В этой листовке оказано: «Ни одного человека в Индокитай!» Ну, Мартэн, это открытый призыв к неповиновению! Иначе это место нельзя понять. Что-то теперь скажет подсудимый? Но вопросы, которые судейскому чиновнику кажутся тонкими и коварными, не производят на подсудимого никакого впечатления. Никогда не покинет его сознание своей правоты. Дни, проведенные в тюрьме, не сломили, а закалили его. — Нет ничего противозаконного в борьбе против правительства, предающего интересы Франции! — раздельно отвечает он. Адвокат, одетый в мантию, наклоняется к соседу-адвокату и шепчет: — Я, кажется, не нужен моему подзащитному. У этого парня столько здравого смысла, что он даст сдачи любому казуисту. После паузы Анри добавляет: — Господин председатель, разве можно считать преступниками тех, кто боролись против Виши! А ведь Виши считало себя законным правительством Франции. Он смотрит в упор на второго члена трибунала, который служил Петэну в годы оккупации. Тот не выдерживает взгляда. Председатель поспешно вмешивается: — Но, если каждый будет делать то, что ему нравится, к чему это поведет? К чему это поведет, Мартэн? Председатель все еще старается вести допрос в духе добродушной, поучающей беседы. Поэтому он часто с оттенком благодушия в голосе повторяет имя подсудимого. — Есть разница между «делать то, что нравится», и отказом выполнять преступные распоряжения. В зале раздаются аплодисменты. Председатель сразу меняется в лице. Теперь уже нет благодушия в его голосе. Он кричит: — Я никому не позволю мешать нам! И тотчас снаружи раздаются пронзительные свистки. Охранники пытаются оттеснить толпу от дома, где заседает трибунал. Доносятся возгласы: «Мир Вьетнаму! Освободите Мартэна!» Вопросы задает прокурор: — Вы сказали, что один из жителей Тулона взял на себя печатание листовок, которые вы составляли. Человек этот здесь, в зале? Узнаёте вы его? Анри не отвечает. Пауза увеличивает напряжение в зале. Люди задерживают дыхание. Скрестив руки на груди, Анри с презрением смотрит на прокурора. Не надо бы прокурору повторять свой вопрос. Но он повторил и получил в ответ: — Я не намерен помогать вам! Объявляют перерыв. Наконец-то старый Мартэн может обнять сына. Анри целует невесту. Она держится робко. Он ободряет ее, он шутит. Симона гладит его руку и с таким доверием глядит на жениха! Что бы ни случилось, она не откажется от него. Но почему должно было случиться такое? Почему ее Анри в тюрьме? И что предстоит им? Подсудимых уводят. На улице моряки бросаются к Мартэну. Каждый хочет пожать ему руку. Проходят сутки. Как дальше председателю вести допрос? Для него остается только один вариант: подсудимый дал определенные обязательства, подписав контракт; подсудимый их нарушил — он виновен. Но вариант, который так долго обдумывал председатель трибунала, оказывается негодным. — Меня обманули, — говорит Анри. — Я был уверен, что буду бороться для блага вьетнамцев. В Индокитае я увидел то, что возмущает совесть честных людей. Я повторяю: обязательства нарушило правительство! Он рассказывает о том, как французские военные суда топили джонки, как поджигали деревни. Он рассказывает о зверствах экспедиционного корпуса, о шести тысячах жертв в Хайфоне. — Вопрос о войне решает государство! — внушительно напоминает председатель. — Несомненно. Но вопрос о мире также решает оно. И он мог быть заключен. Анри продолжает свой правдивый рассказ. — Мы — восемь миллионов молодых французов, — говорит он в заключение, — не хотим умирать ни за американских миллиардеров, ни за французских миллионеров. Но действиями одного лица не прекратить войну в Индокитае. Для этого нужна решимость всего народа. Я верю в такую решимость. «Действия одного лица» — все при этих словах посмотрели на Хеймбюрже. Он сидит, опустив голову. Наступает его очередь. — Хеймбюрже, когда вы говорили правду: на следствии или в заявлении? — спрашивает председатель. Хеймбюрже медленно отвечает: — Я один виноват в саботаже. Мартэн не виноват. Много вопросов задают ему и много раз незаметно возвращаются к одному, самому важному для трибунала. Пусть будет так, как говорит Хеймбюрже, — измельченный наждак подсыпал он один. Но, может быть, Мартэн, передавая листовки «группы моряков», убеждал Хеймбюрже причинить вред двигателю? Пусть Хеймбюрже хорошенько подумает и вспомнит. Судьи разочарованы. Хеймбюрже не отказывается от письменного заявления. Никогда Мартэн не говорил ему о том, что надо вывести двигатель из строя. Начинается допрос свидетелей. Первым идет провокатор Льебер. Здесь он чувствует себя неспокойно. Лицо у него подергивается. Провокатор на каждый вопрос отвечает так, как нужно судьям, прокурору. Но ложь так очевидна, что ни на кого не производит впечатления. Это чувствуют и судьи, и провокатор, и прокурор. Перед трибуналом проходит матрос Флок, который также служил на посыльном судне «Косуля». Впервые после долгого перерыва они встретились, товарищи по службе. Флок улыбнулся: не робей, мол, Мартэн. Мартын ответил улыбкой: и не думаю робеть, Флок. — Флок, — спрашивает Мартэн, — видел ли ты хотя бы одного француза, замученного вьетнамцами? Нет, Флок этого не видел. Он и не слышал об этом. А сколько было замучено вьетнамцев! — Много, много! — вспоминает Флок. Это ему приходилось видеть. Страшные картины, от которых содрогалось сердце… Он мог бы рассказать об этом подробно. — Отвечайте только на вопросы! — поспешно напоминает председатель. Он, Флок, также настаивал на том, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы его вернули во Францию. Его также обманули. — Весь экипаж требовал расторжения контракта. Верно, Флок? — Верно. Возле мыса Варела мы видели, как расстреливают рыбаков. Это было ужасно. — Помнишь, Флок, как убили ребенка? А родителям сказали: «Если вы недовольны, с вами сделают то же самое». — Помню. — А Хайфон? Дома, оставшиеся целыми, поливали бензином и поджигали. Верно, Флок? — Верно! Много таких вопросов задает Мартэн, и товарищ по службе отвечает: «Помню», «Да, верно, верно, дружище…» Сколько таких свидетелей можно было бы вызвать в трибунал! Площадь перед зданием суда наполнена охранниками. Они сдерживают демонстрантов. Цепь против цепи. У одних оружие, у других бесчисленные вымпелы: «Освободите Мартэна!» Эти надписи покрывают плиты тротуаров. Из зала, где судят Мартэна, можно увидеть, как над улицей низко проплывает воздушный шар с таким же вымпелом. Охранники в бешенстве бросаются вдогонку на джипе, а ветер уносит шар дальше и дальше. Издали доносится несколько выстрелов. Судьи переглядываются, в зале перешептываются. Здесь не знают, что у самого берега охранники расстреляли воздушный шар. Девятнадцатого октября трибунал выносит приговор. Он вынужден был снять с Мартэна обвинение в саботаже. От провокации пришлось отказаться. Трибунал признал его виновным в попытках «деморализовать военные силы». Анри Мартэн приговорен к пяти годам тюремного заключения. Когда Мартэна сопровождали на военный корабль, моряки соседних кораблей встретили его возгласами: «Освободите Мартэна!» Один из матросов был арестован. Спустя несколько дней ночью под усиленной стражей Анри Мартэн был посажен на гидросамолет. Никто не знал, куда отправлен осужденный. Но через два дня на стене военной тюрьмы в Бресте появилась огромная надпись: «Анри Мартэн здесь. Освободим его!» Патриоты ни на минуту не забывали об осужденном. Они всюду следовали за ним. Им становилось известным все, что власти делают с борцом за мир.СПЕКТАКЛЬ ВОЗЛЕ ТЮРЬМЫ
«Лицом к стене!» Часто на прогулке, продолжающейся всего несколько минут, Анри слышит этот резкий окрик. Для прогулки предоставлена совершенно изолированная площадка. Заключенного сопровождает надзиратель, не спускающий с него глаз. Когда навстречу показывается другой заключенный, надзиратель приказывает: «Лицом к стене!» И Анри, повернувшись к стене, выжидает, пока пройдет встречный. Если осужденный не исполнит приказания, он вернется с прогулки не в камеру, а в карцер. «Лицом к стене!» Во время гитлеровской оккупации этот окрик часто раздавался в старой тюрьме, где фашисты расстреливали французских патриотов. Тюрьма находится на окраине города, рядом с разрушенными во время войны домами, где погибли тысячи людей. Неподалеку поднимается земляная насыпь. Поразительное зрелище происходит здесь в одно из воскресений. Открытая площадка на насыпи превращается в театральную сцену. Из Бреста приходят тысячи зрителей. Артисты, приехавшие из Парижа, показывают пьесу — «Драма в Тулоне». Это пьеса об Анри Мартэне, запрещенная в столице Франции. Ее написали несколько литераторов и режиссеров. В пьесе рассказывается о борьбе Анри Мартэна против «грязной войны», о его процессе в Тулоне. Народный спектакль под открытым небом проходит с огромным успехом. Зрители шумно приветствуют главного героя пьесы, приветствуют актеров. Редкое совпадение: роль Анри Мартэна играет его однофамилец — Клод Мартэн. И какой необычный спектакль! У подножия насыпи — зрители. Позади зрителей — океан. Артист, играющий роль Анри Мартэна, проходит среди зрителей, одетых в синие рабочие блузы, поднимается на насыпь, садится на скамью подсудимых. Судья в длинной мантии начинает допрос. Мужественно отвечает Анри Мартэн. Каждое его слово зрители встречают аплодисментами. Он поворачивается лицом к ним. Только ли к ним, рабочим Бреста? Он видит тюремную стену, на которой написано: «Анри Мартэн здесь. Освободим его!» Он видит на горизонте орудийные башни французских крейсеров. Один из них недавно вернулся из далекого Индокитая. Матросам, таким же, как он, говорит Анри Мартэн: — Ни одного человека для грязной войны! Небывалый, неповторимый спектакль! Ни одного равнодушного зрителя. Могут сказать, что не совсем совершенна форма, что неровен текст пьесы. Но был ли во Франции когда-нибудь спектакль, который волновал бы зрителей так, как этот, со сценой на земляном валу? — Это сама правда! — говорит зритель-рыбак соседу. — Это то, что теперь важнее всего для народов! — отвечает сосед-возчик. Газета «Юманите» открывает кампанию в защиту Анри Мартэна. Каждый день она печатает статьи о нем, письма читателей. В океан из Бреста выходит для ловли тунцов рыбачье судно. По радио оно обращается к другим кораблям: «Вам известно, что патриот Анри Мартэн, который приговорен к пяти годам заключения за разоблачение войны во Вьетнаме и за призыв к морякам бороться против нее, находится в настоящее время в тюрьме Понтаньу, в Бресте. Его снова будут судить семнадцатого июля. Мы образовали комитет защиты. Мы призываем экипажи других кораблей учредить комитеты борьбы за его оправдание». Адвокаты, защищавшие Мартэна в Тулоне, сумели, опираясь на общественную поддержку, добиться пересмотра дела. В Брест приезжают Луи Мартэн и Симона, невеста Анри. На вокзале Луи Мартэна встречает старый рабочий Мазе. Его сын был убит в Бресте охранниками во время демонстрации. Сопровождаемые толпой, Луи Мартэн и Мазе направляются к зданию профессионального союза, где воздвигнут гранитный обелиск памяти погибшего Эдуарда Мазе. — Я чту память вашего сына! — говорит отец Анри Мартэна. — Я надеюсь, что справедливость восторжествует и ваш сын будет оправдан! — говорит Эдуард Мазе. Старые люди заключают друг друга в объятия.СНОВА СУД
Снова удар деревянного молотка. — Введите подсудимых! Члены трибунала в Бресте подобраны с особой тщательностью. В состав трибунала включен тот самый офицер, который арестовал в Тулоне матроса, выражавшего сочувствие Анри Мартэну. В Тулоне председатель трибунала говорил отеческим тоном. Председатель трибунала в Бресте сух, официален. Но и это поза. Напускным равнодушием судьи хотят показать, что разбирается обыкновенное уголовное дело, что они нисколько не смущены статьями в газетах, собраниями, петициями, листовками и даже манифестациями. Несмотря на июль, в Бресте стоит прохладная, дождливая погода. Улицы становятся серыми. Но непрерывный, монотонный дождь не может разогнать толпы жителей Бреста, которые собрались возле здания трибунала. Не удается это и отрядам охранников. Повторяется то, что было в Тулоне. По улицам снуют джипы и грузовики. На зданиях появляются надписи: «Освободите Мартэна!» Люди стоят с вымпелами, на которых написаны эти слова. Охранники пытаются схватить старую женщину — она встретила их возгласом: «Фашисты! Убийцы!» И тотчас выросла цепь между нею и наемниками реакции. Женщина исчезла в толпе. Об Анри Мартэне говорят всюду: на работе, во всех кафе, на рынке… Анри Мартэн стоит перед трибуналом. — Если любят свободу, — говорит он, — то ее желают всем народам. Судьи не прерывают его. Они сидят холодные, замкнутые. И заранее известно — приговор предрешен. Председатель проявляет беспокойство лишь тогда, когда на свидетельском месте появляется провокатор Льебер. Защитникам Мартэна, ему самому стали известны такие факты из биографии Льебера, которые до сих пор знала только тайная полиция. Один вопрос Льебер хотел бы оставить без ответа, но это не удается ему. Настойчиво, последовательно Анри Мартэн разоблачает шпика. — Льебер, — спрашивает Анри Мартэн, — в германском флоте служили рекруты или добровольцы? Льебер меняется в лице. — Были и те и другие… — А на подводных лодках? Льебер молчит. — Льебер, — спрашивает защитник, — служили ли вы добровольцем на германской подводной лодке? Провокатору вспоминается, как гитлеровский офицер строго напоминал ему: «Вы не Льебер, а Либер, отныне вы Либер. Забудьте о том, что вы француз». Льебер ради выгоды поспешил забыть о том, что он француз. Но теперь это стало известно многим. — Позвольте мне объяснить… В зале начинается шум. Предателя не хотят слушать. Председатель предупреждает, что посетители будут удалены, если не восстановится тишина. Льебер признается — да, он, эльзасец родом, записался добровольцем в германский подводный флот. Прокурор пытается помочь ему, он подыскивает смягчающие обстоятельства для Льебера: — Ведь вы сделали это под нажимом, Льебер? — Да, да, под нажимом… И все в зале понимают, что заставляет прокурора предпринять попытку обелить провокатора. В сущности, они оба предали Францию: и Льебер и прокурор. Один предал, пойдя добровольцем к гитлеровцам, другой служил Петэну. По точному смыслу закона обоих надо судить военным судом. Но оба они служат реакции, поджигателям новой войны. Им все прощено. А патриота Анри Мартэна отправили в тюрьму. Совещание трибунала было недолгим. Приговор оставлен в силе. Зал ответил трибуналу пением «Марсельезы». И судьи должны были остаться на месте, дослушать пение до конца. Иначе они не могли поступить. Потом они не ушли, а убежали. В эту минуту напускное спокойствие изменило им. Старый Мартэн обнял сына. Он и Симона прошли в последний раз по городу. Цветы, которые преподнесли им жители Бреста, они возложили возле гранитного обелиска, поставленного в память погибшего защитника мира Эдуарда Мазе.ЗАКЛЮЧЕННЫЙ № 2078
В четыре часа утра пятого августа Мартэна увозят из тюрьмы Понтаньу. Власти боятся манифестаций. Город погружен в сои, когда осужденного доставляют к стоянке гидросамолетов. Мартэна привозят в Ренн. И в тот же самый день на улицах Ренна появляются листовки. Патриоты требуют освобождения Мартэна. Демонстранты окружают тюрьму. Ночью с восьмого на девятое августа, когда город спит, из тюрьмы выходят три машины: одна, наглухо закрытая, с заключенным, две с охраной. Переезд длится всю ночь. Осужденный не знает куда его везут. В кузове машины нет окна. На Сене, на маленьком островке, расположена тюрьма Мелан. Она предназначена только для важных преступников. Стены старой кладки спускаются к самой воде. Внутри, вдоль этих стен, протоптаны узкие тропинки, обрамленные чахлой зеленью, — место коротких прогулок. На стенах караульные посты. Так как же здесь в день, когда три машины идут по деревянному мосту к тюремным воротам, на стене появилась огромная надпись «Освободите Анри Мартэна!»? Жандармы, едущие в открытых машинах, не верят своим глазам. Сторонники Мартэна уже успели всё узнать, сумели обмануть часовых. И только Мартэн, запертый в машине-ящике, не видит надписи. На пять лет он лишен имени. Имя осталось на воле, а в старой тюрьме нет Анри Мартэна, есть заключенный № 2078. Военная форма сдана в кладовую. На заключенном поношенное арестантское платье — брюки и куртка из грубой шерсти, поношенные, залатанные ботинки. В рукав куртки вшит номер — 2078. — Мы найдем для вас хорошенькое местечко, — мягко говорит начальник тюрьмы, пришедший поглядеть на арестанта, о котором писали и пишут так много. Мартэн — прямодушный человек. Он воспитан в семье простых людей, воспитан рабочими, партизанами, патриотами. Он никогда не кривит душой. Заключенный № 2078 отвечает: — Я не прошу милости! Едва заметная улыбка пробегает по губам начальника тюрьмы. На другой день Мартэн понял смысл этой улыбки. К нему и не собирались отнестись милостиво. Обещанное начальником «местечко» сделало его жизнь в старой тюрьме еще более трудной. Мартэн знает слесарное дело, он умеет собирать машины. Но ему отказывают в работе по специальности. Его назначают библиотекарем. Библиотека — тесный закуток, в котором хранятся несколько сот истрепанных, никому не нужных книг, пожертвованных благотворителями. Работа в библиотеке — это дни угнетающего одиночества. Старые тюремщики знают психологию заключенного. Для полного сил молодого человека, вышедшего из юношеского возраста, работа в «хорошеньком местечке» — дополнительная мука. Это месть за надпись, которая появилась на тюремной стене, за честность Мартэна, за его популярность, за настоящий патриотизм. Вместе с тем это и мерапредосторожности. Молодые силы требуют движения, работы. А Мартэн лишен всякого общения. С утра до вечера он обречен на неподвижность, на безделье, которое изматывает гораздо больше, чем тяжелая физическая работа. Придет надзиратель за книгами для заключенных — они их требуют очень редко, — и никого не увидит больше Мартэн! Шесть часов утра — сирена. Семь тридцать — колокол. Мартэна отводят в закуток. В час дня он может выйти на тридцатиминутную прогулку, которая должна совершаться в молчании. В семь часов вечера его снова запирают в камере. Стены камеры всегда влажные. Дает себя знать близость Сены. Окошко не заколочено, но видно только небо. — Заключенный номер 2078, на свидание! Разговор с родными происходит через густую решетку. По ту сторону решетки стоят отец и невеста. — Как мама? Мать не приехала — значит, больна. Невозможно скрыть от него правду. Мать подолгу теперь не встает — хозяйство ведет сестра. Сестра не смогла приехать, потому что мать нельзя оставить одну. Вокруг шум. Люди стараются перекричать друг друга. Свидание коротко, а поездка в Мелан требует времени и расходов. Надо воспользоваться редкой возможностью и сказать все, что требуется сказать. Оттого-то люди и напрягают голос. Молчат только тюремщики, прохаживающиеся вдоль решетки. Анри держится за решетку и кричит, чтобы быть услышанным. Ну, а все-таки есть ли надежда, что матери станет лучше? Есть ли надежда? Отец кивает головой — да, надежда есть. Надзиратели ударяют ключами по решетке. Это знак того, что время свидания прошло. Если вы не сказали еще самого важного, торопитесь, господа. Сколько могут сказать друг другу отец и сын, Анри и Симона! Но время истекло.Неожиданно для арестанта № 2078 делают исключение из правил. Арестанту полагается гулять в строгом молчании. Но на прогулке к Мартэну присоединяется другой заключенный, пожилой человек, стройный, с выправкой военного. Тихим голосом он начинает разговор. «Заметят!» — предупреждает Анри. «Неважно!» — отвечает заключенный. «Неважно? За это карцер». — «Не торопитесь с карцером». — «Кто вы?» — «Бессрочный». Они делают круг. «Слушай, Мартэн, — говорит пожилой арестант, — я бессрочный, но с тобой дело хуже, чем со мной». Анри молчит. В нем возникает смутное подозрение. Кто этот человек? Пожилой не унимается: «Они сгноят тебя здесь. Они не выпустят тебя живым. Ты слишком заметная фигура. Ты известен всей Франции. О тебе знают и за границей. На твоем месте я бы знал, что делать». — «Что же?» — «Взяться за ум». Пожилой арестант сам приходит к нему в библиотеку. Ни у кого из заключенных нет такой привилегии. Анри насмешливо смотрит на нежданного посетителя: — Здесь нельзя говорить. Даже шепотом. Посетитель пожимает плечами. Он вытаскивает портсигар. Дорогие сигареты с золотым ободком. Анри отказывается. Он мог бы сразу выгнать пожилого, но пусть разговорится негодяй. У него, возможно, есть тайное поручение от властей. Пусть скажет. Пожилой хитер. Он говорит полунамеками. Он часто повторяет, что надо взяться за ум. — Но как? — Мартэн, Мартэн… Ты не настолько прост, чтобы сам не догадался. Ты неглуп — ты доказал это судьям. Но теперь надо вести себя иначе. Анри узнает, что этот заключенный был офицером петэновской армии. Он служил и Петэну и гестаповцам. Он лично убил одного партизана. За все это полагалось после освобождения Франции ответить смертью. Казнь заменили вечным заключением. Бессрочный мог бы сказать, что находится в резерве реакции. О нем заботятся влиятельные люди, патриоты не требуют его освобождения. Его имя не появляется на стенах домов и тюрьмы. Но о нем хлопочут. И покровителям доверительно отвечают: сейчас освобождение было бы преждевременным, но в будущем… Они не забудут о бессрочном, пусть потерпит. Этот арестант нужен реакции. В тюрьме ему живется намного лучше, чем Мартэну. Бессрочный пользуется всякими поблажками. Он часто получает посылки, иногда работает для развлечения; в камере он завел некоторые удобства. Бессрочный подчеркивает свою религиозность: он не пропускает ни одной службы в тюремной церкви и подолгу беседует со священником. — Ну как, решил ты взяться за ум? — спрашивает он Анри. — Скажи, я помогу советом. Анри смеется: — Слушайте, вы не только негодяй, но и глупец! Какой совет вы можете мне дать? Только один — оплевать мое прошлое, моих друзей. — Сгниешь! — грозит бессрочный. — Сгниешь здесь, несчастный! Не надейся на то, что отсидишь свой срок!.. — Он в бешенстве. — Есть сотня способов обеспечить тебе кладбище… Да, сотня способов! Я выйду, а ты нет. Сгниешь! — Ты уже сгнил! — спокойно отвечает Мартэн. Не следует продолжать разговор с этим отребьем. Мартэну вспоминается Хеймбюрже — вот того жалкого человека этот негодяй сумел бы обработать.
СИМОНА
Он всегда думал о Симоне. В тюрьме он старался себе представить, как она живет без него. Утро в Розьере. Симона идет на работу. Он помнит мастерскую и витрину с манекеном, изображающим модно одетую женщину. «Здравствуй, Симона! — Подруга нагоняет ее. — Письма оттуда есть?» Об этом, должно быть, спрашивают и заказчицы, приходящие на примерку. «Вы давно были там?» — «Я ездила в прошлое воскресенье»… — «Он здоров?» — «Говорит, что вполне здоров, но решетка густая, плохо видно». — «Как у него в семье?.. Передайте от меня привет ему». — «Спасибо, спасибо, мадам!» Все к Симоне относятся дружески. Незнакомые люди здороваются с ней. Пожилая женщина остановила ее, обняла и сказала: «Все мы желаем тебе, чтобы жених вернулся поскорее». Симона в письме рассказала об этом Анри. Он улыбнулся и задумался. Как долго ей ждать его… Не лучше ли написать ей отсюда, из тесного закутка, где сложены старые, истрепанные книги, последнее письмо? Не лучше ли освободить ее от слова, которое она дала? Ведь может случиться и так, как говорит бессрочный… Вот бумага, перо. Письмо сегодня же прочтет начальник тюрьмы, вероятно ухмыльнется, сообщит по секрету жене. Жена, возможно, посочувствует Симоне и ругнет мужа за черствость. О его заветном письме будут говорить чужие люди. Нет, нельзя это писать. Письмо оскорбит Симону. Нет, не надо, не надо писать! Что за мысли лезут в этом «хорошеньком местечке»! За станком он не додумался бы до такой чепухи. Как медленно тянется время в закутке! Книги не позволяют забыть об этом. На полках одно старье. Ни одной послевоенной книги. Есть книги по истории Франции, но это история королей, а не страны. И начальник тюрьмы, который получает от республики жалованье, не видит ничего плохого в том, что в книгах поносят революцию 1789 года. Но, если бы пришли книги о борьбе за мир, начальник задержал бы их. Этот же начальник мирится с тем, что бессрочный, который предал республику, завел комфорт у себя в камере. А для француза, который боролся за то, чтобы прекратилась гнусная, бесполезная, уносящая столько жизней война, установлен гораздо более суровый режим, чем для врага родины. Враг выполняет в тюрьме какие-то тайные, подлые поручения, идущие от тех, кто пытается навязать Франции новую войну. Им нужно раскаяние Мартэна, его покорность. Вот почему бессрочный заводит подлые разговоры. Если бы написать об этом на волю! Нет, не пропустит начальник. Не позволят и рассказать у решетки в минуты свидания. Надзиратели тотчас уведут заключенного № 2078. Далекий Розьер… Симона не перестает думать об Анри. Наступает день, когда она говорит подруге: — Завтра еду к нему. — Да? Ты решила? — Подруга внимательно смотрит на нее. — Окончательно. Пусть это поддержит его. Подруга знает, в чем состоит решение Симоны, — они уже говорили об этом. — Я поступила бы так же, поверь… — Верю. Подруга обнимает и целует Симону. Дома Симона с грустью смотрит на белое платье. Нет, его не придется брать с собой. Они выезжают в ночь — родители Анри, Симона, родители Симоны. Мать не вполне поправилась, но такой день она не может пропустить. О нем она будет вспоминать до конца жизни. Завтра в тюрьме будет зарегистрирован брак Анри и Симоны. Комната в маленьком доме в Мелане. Симона разглаживает темное платье. Через час ей надо быть в тюрьме. Мэр города не принадлежит к числу прогрессивных людей. Но и он обратился с просьбой к начальнику тюрьмы — нельзя ли доставить заключенного в мэрию. Его матери, здоровье которой пошатнулось, было бы легче увидеть своего сына там. Начальник тюрьмы ссылается на устав — арестант ни на минуту не может выйти за ворота, пока не истечет срок заключения. Мэр огорченно сообщает об этом родителям, невесте. — Что ж, — отвечает мать, — я была готова к этому. Вы не даете даже часа свободы человеку, который хочет одного — чтобы не убивали людей. Что ж… Пойдемте к моему сыну, в тюрьму. Небольшая группа людей идет по деревянному мосту. Перед ними ворота тюрьмы. Постовой сообщает: — Будут пропущены члены семьи, свидетели и еще пять человек. Остальные должны вернуться в город. За полчаса до того в тюрьме происходил разговор, очень неприятный для начальства. Мартэн заявил, что выйдет в своем обычном арестантском платье с номером, вшитым в рукав. Это напугало начальника. Из Парижа приехал журналист. Он может сделать снимок. Подумают, что начальник приказал заключенному быть в арестантской одежде. Анри понимал, почему беспокоится начальник. Пусть же он теперь понервничает. Страдания людей не трогают его. Зато он очень заботится о своей служебной репутации. Так вот, заключенному № 2078 представляется теперь случай наказать начальника — за «хорошенькое местечко», за льготы бессрочному. Насмешка сквозила во взгляде Мартэна. Он настаивал на своем. — В такой одежде в такую минуту жизни! Нет, это невозможно! — убеждал начальник. — Подумайте, что скажет ваша невеста! — Она ничего не скажет. Она не упрекнет меня. — Но меня упрекнут! — Начальник не выдержал. — Нет, нет, я прошу вас! — В нарушение устава он назвал заключенного № 2078 по имени: — Я прошу вас, дорогой Мартэн! Конечно, Анри и не думал выходить к родным в арестантской куртке. Но так комично было беспокойство тюремщика, что заключенный № 2078, известный на воле своим веселым нравом, остроумными шутками, не отказал себе в удовольствии позлить его. Спокоен отец Анри. Он поддерживает жену под руку. Мать не отрывает взгляда от сына. Слезы на глазах родителей Симоны. Впервые за долгое время Симона может встать рядом с Анри. Несколько минут они могут простоять так, только несколько минут! Мэр смущен. Он знает, что даже это событие в жизни Анри Мартэна заставило власти принять особые меры предосторожности. В тюрьму введено полтораста молодцов из корпуса республиканской безопасности. — Итак, — говорит мэр, маленький, щуплый человек, оглядывая присутствующих, — будем считать эту комнату на время, которое потребует церемония, помещением мэрии. Маленькая, плохо освещенная комната канцелярии. Зимний день глядит в решетчатое окно. — Свидетели. Родные. Прошу вас, господа! Свидетель Анри Мартэна — видный ученый, в прошлом начальник штаба партизанских отрядов. Свидетель Симоны — слесарь из Розьера, товарищ Анри по партизанскому отряду. Вместе они сражались у Руайяна. Так, в тюремной канцелярии, в необычной обстановке, собрались три товарища по оружию, три патриота-партизана, а среди охранников, которые, стоя у открытых дверей, с наглым любопытством глазеют на происходящее, можно найти предателей родины, служивших Петэну, гитлеровцам. Мэр скороговоркой прочитывает статьи закона о браке. Он чувствует себя неуверенно и все время теребит трехцветную перевязь на груди. В законе есть параграф: «Право выбора места жительства семьи принадлежит мужу». Мэр, чуть пожав плечами, сообщает об этом новобрачным. Анри Мартэн весело говорит: — Честное слово, я только того и хочу! А ты, Симона? Симона находит в себе силы пошутить: — Я покорна мужу и закону. Мэр спешит окончить церемонию. Он кланяется и торопливо уходит. Анри целует Симону. Он жмет руки свидетелям. Церемония окончена. Мать все время сдерживала себя. Но пора уходить. Она разражается слезами: — И это после всего того, что сделал мой сын для родины… Пусть стыдится правительство!.. Приехавшие уходят обратно по деревянному мосту. Анри в камере. На нем снова куртка с номером, вшитым в рукав. Наутро бессрочный приветствует его с преувеличенной любезностью: — Позволь поздравить тебя… Ну, как ответить ему? Ударом? Но этого-то он, возможно, и добивается. На этом могут сыграть негодяи. Анри молча проходит мимо. Симона, Симона!.. Когда-то он снова встретится с нею? Они увиделись летом. Анри опасно заболел. Все сразу сказалось: камера с заколоченным окошком в Тулоне, сырая тюрьма, вынужденное томительное безделье, скверная пища. Эту болезнь многие испытали в гитлеровских лагерях. Ее приносит истощение. Она называется гнойной экземой. Человек становится не похож на себя. Он не может открыть глаза. Угрожающе поднимается температура. Была послана телеграмма в Розьер. Почтальон, старый знакомый семьи, молча передал ее сестре Анри, работавшей в палисаднике. При этом он выразительно поглядел на окна дома. Предосторожность не мешает — он не видит матери Анри. Сестра осужденного кивнула головой — это был знак благодарности почтальону. Да, предосторожность оказалась нелишней. Мать снова прихворнула. Телеграмму скрыли от матери. Срочно выехали отец и Симона. Они сказали, что едут на очередное свидание. Их провели в лазарет. Анри поднял пальцами веки, чтобы увидеть Симону, стоявшую у его койки.ОТВЕТ СТРАНЫ И ОТВЕТ МАТЕРИ
Осень 1951 года. Поджигатели войны считают, что они основательно укрепили свои позиции, и потому предпринимают такие действия, которые можно считать прямым вызовом борцам за мир. В один день вышли из заключения несколько тысяч японских фашистов. Спустя короткое время, в годовщину освобождения Франции, были выпущены братья Рехлинг, крупные военные преступники. В сентябре в Бонне гитлеровский генерал Гудериан приступает к восстановлению милитаристских организаций. Освобождены из тюрьмы гитлеровцы, которые уничтожили французское селение Орадур, убили много женщин и детей. Октябрь. Военный трибунал оправдывает Франсуа Карбона и Жоржа Дюмулена. Оба они предатели Франции, один из них убивал участников Сопротивления. Оба семь лет назад были заочно приговорены к смертной казни; оба, выждав время, явились к властям и были немедленно прощены. У военных трибуналов много хлопот. Но они не осуждают гитлеровцев, предателей Франции, прислужников фашистов, палачей, садистов, а освобождают их. В день, когда в тюремной канцелярии регистрировали брак Анри Мартэна, из тюрем было выпущено сорок пять военных преступников. В ожидании полного освобождения гитлеровский фельдмаршал Манштейн по своему желанию уезжает из тюрьмы, возвращается в нее. Зато Анри Мартэну не позволяют покинуть тюрьму даже на час. А плюгавый человек с трехцветной перевязью предлагает жениху и невесте, родным, свидетелям представить себе, что они не под тюремными сводами, а в здании мэрии! …Заседание военного трибунала в одном из небольших городов Франции. На скамье подсудимых петэновский полицейский — квадратный человек с тяжелым взглядом, с тяжелыми руками. Он обвиняется в том, что при его содействии сто патриотов были арестованы, восемнадцать расстреляны, двадцать шесть заключены в лагери. Он не отрицает своей вины. Он скупо рассказывает о том, что делал, и часто повторяет: «Приходилось, господа судьи, да, приходилось». Прокурор требует минимального наказания. Он считает, что подсудимый только механически исполнял распоряжения начальства. Прокурор высокомерен. Разве можно, говорит он, считать, что подсудимый хоть в какой-то мере проникнут духом Франции? Нет, это только машина, его нельзя судить, как настоящего сына Франции. Ему еще предстоит понять, что такое сознание патриота. Трибунал возвращается после короткого совещания — подсудимый оправдан. Процесс окончен. Все одновременно покинули зал: оживленные судьи, прокурор, защитник, убийца патриотов и ошеломленная публика. Раздается чей-то возглас: — Негодяи, вы разыграли комедию! Что же происходит? Почему оправдывают военных преступников? Реакция, поджигатели новой войны мобилизуют силы. Им нужны кадры, негодяев — эти машины, выполняющие любой приказ. Все время выходят на свободу военные преступники. Но ключ от камеры, в которой заключен Анри Мартэн, власть не выпускает из рук. Сирена, колокол, сирена, томительное безделье в закутке, ночи без сна, недомогание — так проходят дни заключенного № 2078. Осуждение Анри Мартэна, амнистия, оправдание военных преступников, предателей Франции, наемников фашизма, убийц патриотов — были вызовом всей стране, жаждущей мира. Страна приняла этот вызов. Началасо борьба за освобождение Мартэна. Всюду собирали подписи под петициями об освобождении заключенного № 2078. Листы петиции открывались портретом Анри Мартэна в одежде арестанта, а под портретом — подписи, подписи, подписи… простых людей — и не только простых. Подпись иногда ставил ученый, иногда политический деятель, человек умеренных взглядов, иногда священник, поэт, артист… На предприятиях, на станциях метро, на рынках, в далекой рыбачьей гавани — всюду-всюду патриоты голосуют за освобождение Анри Мартэна. Депутации появляются в парламенте, в приемных министров. Вот группа женщин окружила депутата. Но он принадлежит к лагерю поджигателей войны и держится нагло: — Вы хлопочете за Мартэна? Я бы увеличил ему срок заключения… — Бесполезно, сударь! Мы не допустим, чтобы он отбыл и свой прежний срок. В министерстве: — Господин министр вас примет. Но какова цель вашего визита? — Мы требуем освобождения Анри Мартэна! — Но вы не первые… — И не последние… Спустя минуту секретарь приносит извинение министра — он занят срочными делами, не позволяющими ему… В приемной другого министерства: — Господин министр отбыл… — Мы подождем его! — Но он будет занят целый день. — Мы подождем. Не следует забывать, что Мартэн ждет в тюрьме! — Возможно, министр и не приедет сюда. — Пусть он назначит день для встречи. — Сначала надо подать заявление. — Мы подавали. Оно осталось без ответа. Секретарь смущен, обеспокоен: — Но чего же вы от меня хотите? Я сам передам ваше заявление. Не может министр принимать все делегации. — Но мы не делегация любителей тюльпанов. Мы хлопочем о Мартэне. Морской министр приезжает в Тулон, город «красных помпонов», где состоялся первый суд над Мартэном. Жители встречают его возгласами: «Освободите Анри Мартэна!» Министр укрывается в здании морской комендатуры. И в это время мимо дома комендатуры проплывает воздушный шар с флагом, на котором огромными буквами написано: «Освободите Анри Мартэна!» Этот шар не удается уничтожить. Он плывет, плывет по воздуху и исчезает за городом. В Бресте, где состоялся второй суд над Мартэном, морской министр собирается произнести речь на спуске нового корабля. Лишь только он появляется на трибуне, как листовки вихрем разносятся по верфи, они падают на корабль, ожидающий спуска на воду. И на каждой листовке портрет Анри Мартэна в одежде заключенного. И с этими листовками, устилающими палубу, новый корабль сходит на воду. Реакция пытается помешать кампании, которая стала делом национальной чести. Пытаются запрещать собрания — это не удается. Бесполезно и запугивать тех, кто ставит подписи под петицией. Тогда пытаются оказать психическое давление на заключенного. Депутат парламента Жан Поль Давид, слуга агрессоров, специалист по разным провокациям, придумал еще одну, едва ли не самую мерзкую. Больной матери Анри Мартэна он посылает письмо. Вполне вежливо, но издевательски он пишет, что ее молитвы (Матильда Мартэн — набожная католичка) не помогут сыну выйти из тюрьмы. И общественная кампания, надписи на стенах, листовки также не помогут. Что же поможет заключенному? Депутат-провокатор подает совет — поможет послушное поведение заключенного. Пусть заключенный № 2078 забудет о том, что его привело в тюрьму, и срок будет сокращен. Пусть прекратят кампанию в его защиту, и он будет освобожден. Мать должна просить общество о прекращении кампании в защиту сына — вот в чем смысл этого письма. Депутат-провокатор и «бессрочный» действуют заодно. Простая религиозная женщина отвечает агенту поджигателей войны: «Вы предлагаете мне отречься от того, что сделал мой сын. Знайте, что его отец и я, оба мы привили ему любовь к семье и родине, как привили честность и трудолюбие. Анри — рабочий. Во время оккупации он был в рядах Сопротивления. Я горда тем, что мой сын исполнил свой долг перед Францией… Я также желаю мира для всех народов». Кампания продолжается.Правительство республики Вьетнам освободило из плена очередную группу раненых французских солдат. Их снаряжают в путь. Возле лодок столпилась группа вьетнамских женщин. Они говорят раненым: — Передайте матери Анри Мартэна, что он не только ее сын, но и наш. Об Анри Мартэне знают и в далеком Индокитае. Поэты Вьетнама посвящают ему свои стихи. В Париже семнадцать пожилых женщин являются в морское министерство. У дверей приемной их спрашивают о цели посещения. Они отвечают: — Мы пришли навести справки, когда прибудет из Индокитая прах наших сыновей-моряков, убитых там. Некоторые из нас ждут уже больше двух лет. Чиновник говорит, что он тотчас все узнает. — Мы пришли также требовать освобождения Анри Мартэна. Перед женщинами тотчас захлопывают дверь.
Комната Анри в Розьере. В ней теперь живет Симона Мартэн. Она ждет мужа. На стене морская фуражка Анри, виды Индокитая. Заходит свекровь, по привычке прибирает. Для нее Анри все еще ребенок, хотя в шестнадцать лет он стал уже взрослым человеком, бойцом-патриотом. Кампания в защиту ее сына продолжалась, ширилась. Новые сотни тысяч честных людей принимали в ней участие. Их избивали, заключали в тюрьму, судили. Но не было у власти такой силы, которая могла бы подавить волю патриотов к борьбе за свободу верного сына Франции. «Драма в Тулоне» — только ли возле старой брестской тюрьмы видели ее? Нет, артисты объездили с этим спектаклем всю Францию. Они проехали пятьдесят тысяч километров. Двести тысяч зрителей смотрели спектакль. Власти запрещали его, жители городов и сел добивались отмены запрещения. Вспыхивали демонстрации, вмешивалась полиция, производились аресты, но занавес поднимался. И Анри Мартэн — моряк, сражающийся за мир, — показывался перед зрителями.
ОН ПРОДОЛЖАЕТ СРАЖАТЬСЯ ЗА МИР
Пять лет заключения, пять лет, начиная с 1951 года… Значит ли это, что только в 1956 году откроются перед Мартэном ворота старой островной тюрьмы Мелан? Сторонники мира становятся сильнее, чем поджигатели войны. Сторонники мира ни на один день не прекращают борьбу за освобождение Анри Мартэна. И победа остается за ними. Не в 1956 году, а на два года раньше открываются перед Мартэном ворота старой тюрьмы. Он идет по деревянному мосту. Его встречает весь Мелан от мала до велика. В этот час город Мелан представляет всю Францию — и Розьер, и Париж, и Брест, и Тулон. Всюду ждали этого дня. Ждали и в далеком Вьетнаме. Сообщение о том, что честные люди добились свободы для заключенного № 2078, приняли и на борту старого посыльного судна «Косуля» и на борту нового авианосца «Диксмюд». А с борта рыбачьего судна, где три года назад появился первый комитет зашиты Анри Мартэна, передали сообщение, что комитет считает свою задачу выполненной, шлет освобожденному привет и всем объявляет о том, что сегодня комитет прекращает свою деятельность. Как дальше жить Мартэну? Остаться в тихом Розьере, постараться забыть томительные годы в островной тюрьме? Нет, он не уйдет в себя. Он будет продолжать борьбу за мир. Лето 1954 года. Съезд Коммунистической партии Франции. Председатель от имени делегатов поручает Мартэну огласить приветствие, полученное из Вьетнама. Он не был коммунистом в тот день, когда переступил порог морской тюрьмы в Тулоне. Теперь он коммунист, делегат партийного съезда. И с трибуны съезда партии матрос посыльного судна «Косуля», свидетель зверств в Хайфоне, поднявший свой голос протеста против бесчеловечных преступлений милитаристов, узник тюрем в Тулоне, Бресте, Ме-лане, говорит, что лучшим ответом на привет вьетнамского народа будет последовательная и стойкая борьба патриотов Франции против грязной войны в Индокитае. Спустя два месяца в Индокитае прогремел последний выстрел грязной войны, длившейся восемь лет.ВЫСШАЯ НАГРАДА
…Поезд приближается к венгерской границе. — Кто же наградил вас этим орденом, Анри? — спрашивает седой спутник. — Это было тогда, когда я находился в Мелане, — заканчивает Анри свой рассказ. — В Розьер из другого города приехала неизвестная женщина. На собрании она подошла к моему отцу и сказала: «Мой сын погиб во Вьетнаме. После его смерти я получила вот эту награду. Но я не хочу хранить ее у себя. Если в этой войне кто-нибудь и заслужил французский орден, то это ваш сын, потому что он боролся против войны». И она передала отцу вот этот орден — «Военный крест». — Впервые военным орденом награжден человек, который защищал мир. Да, это можно считать решением всего народа. Вы заслужили высокую награду, заключенный № 2078. Поезд у границы. Седой спутник жмет руку Мартэну: — Анри, я хочу сказать вам на прощание: у тех, кто бросил вас в тюрьму, есть еще много сил, есть еще умение обманывать простодушных. Но что бы ни случилось завтра, — прямая дорога у нас, а не у них. У них только зигзаги. Мир для человечества мы отстоим. Мать пятерых детей, которая встречала этот поезд для того, чтобы взглянуть на Мартэна, может быть уверена в этом. — Как и все мы! — отвечает Мартэн. — Да, у нас прямая дорога к цели. В истории побеждает именно это. Седой спутник выходит из вагона. Поезд идет дальше.Вл. Савченко Черные звезды
Научно-фантастическая повесть

ПРОЛОГ НАБЛЮДЕНИЯ СТЕПАНА ГЕОРГИЕВИЧА ДРОЗДА
1
Рассвет угадывался лишь по тускнеющим звездам да по слабому, похожему на случайный сквознячок, ветерку. На юго-западе, за деревьями, гасло зарево зашедшей луны. В саду, где стояли павильоны Полтавской гравиметрической обсерватории, было тихо и сонно. Степан Георгиевич Дрозд, младший научный сотрудник обсерватории, человек уже в летах, даже задремал на крыльце своего павильона. Сыроватый предрассветный ветерок смахнул дремоту. Стенай Георгиевич зябко повел плечами, закурил и посмотрел на часы. Сегодня ему предстояло измерить точную широту обсерватории, — это было необходимо для изучения годичных качаний земной оси, которыми Степан Георгиевич занимался уже три года. Зенит-телескоп был приготовлен и направлен в ту точку темно-синего неба, где под утро в 5.51 должна появиться маленькая, невидимая простым глазом звездочка из созвездия Андромеды; по ее положению измерялось угловое отклонение широты. До урочного часа оставалось еще двадцать минут, можно было не спеша покурить, поразмышлять. Павильон отстроили недавно — большой, настоящий астрономический павильон с каменными стенами и раздвижной вращающейся крышей. До этого наблюдения проводились в двух деревянных павильонах, похожих на ларьки для мелкой торговли. Молодые сотрудники так и называли их пренебрежительно: «ларьки». Степан Георгиевич посмотрел в ту сторону, где среди деревьев смутно виднелись силуэты «ларьков». Работать в них было плоховато, особенно зимой — закоченеешь! Да и рефракторы в них маленькие, слабосильные… Не то что этот. Степан Георгиевич был склонен гордиться новым мощным телескопом, установленным в каменном павильоне: ведь он сам собирал его почти целый год, рассчитывал и заказывал линзы. «Конечно, не как в Пулкове — всего двухсоткратное увеличение, но для наших измерений больше и не нужно. Зато не искажает». Уже рассветало: на востоке серело небо; силуэтом, еще не приобревшим дневные краски, стояло двухэтажное, в восточном стиле, здание обсерватории; в саду и дальше — вдоль опускающейся в город булыжной мостовой — плавал прозрачный туман. Дрозд поглядел на часы: 5.45. Пора начинать. Он потер озябшие руки и вошел в павильон. Несмотря на рассвет, небольшой круг неба в телескопе был таким же черным, как и ночью. Заветная звездочка голубой точкой медленно подбиралась слева к перекрестию окуляра, к зениту. Степан Георгиевич, приложившийся к окуляру только так, порядка ради, хотел было уже отвести глаза, но внезапно через объектив быстро промелькнуло что-то темное, большое, продолговатое. Оно заслонило звездочку и исчезло. Степан Георгиевич не сразу сообразил: птица или померещилось напряженным глазам? Но звездочки в окуляре больше не было — на ее месте возник размытый светящийся след. «Метеор? Но почему же он не светился?» Раздумье заняло несколько мгновений. Степан Георгиевич поднял голову и увидел в щели купола тонкий светящийся след: он наращивался к северу и медленно угасал к югу. Такой след бывает у больших метеоров, но в начале этого следа не было ярко светящегося метеора. «С юга на север, по меридиану», — быстро определил Дрозд и включил мотор. Труба телескопа стала быстро поворачиваться за следом. Руки действовали умело и привычно: когда объектив телескопа дошел до начала следа, они быстро выключили мотор и начали крутить рукоятку ручной подачи. Небо уже посветлело, и Дрозд смог рассмотреть вплывшее в объектив черное продолговатое тело. Было трудно координировать движения: перевернутое изображение тела в телескопе неслось в ту сторону, куда двигалась труба. Вот труба дошла до упора и остановилась. Тело исчезло… Степан Георгиевич был немолодым, рядовым сотрудником скромной обсерватории. Он давно, еще до окончания университета, убедился, что в астрономии гораздо больше черновой работы — ремонтной и вычислительной, — чем наблюдений, и несравненно больше наблюдений, чем открытий. Он имел неподалеку от обсерватории домик, сад, имел большую семью, не любил выпячиваться впереди других и даже в глубине души был уверен, что, хотя он и астроном, но звезды с неба хватать ему не суждено. Поэтому сейчас это неожиданное наблюдение ошеломило и взбудоражило его до сердцебиения. Механически поворачивая рукоятку обратно, чтобы вернуть телескоп в зенитное положение, по привычке приглаживая свободной рукой редкие волосы на макушке, Степан Георгиевич напряженно размышлял: «Что бы это могло быть? Тело не собиралось падать, не было раскалено, хотя летело с огромной скоростью — воздух светился… Спутники Международного геофизического года? Но ведь они уже давно отлетали свое, упали в атмосферу и сгорели. Да и были они совсем не той формы…» Рассвело. Все вокруг приобретало естественную дневную окраску. До восхода солнца осталось не более получаса. Через открытую дверь павильона был виден склон холма, на котором стояла обсерватория; улица — по ней проехал первый велосипедист. Фонари на столбах горели, ничего не освещая. Город просыпался. Степан Георгиевич посмотрел на часы: «Ого! Ровно 5.48, пропускаю зенит». Он довел трубу телескопа до вертикальных рисок на угломере, приложил глаз к окуляру, ища звездочку. И… увидел уходящее из объектива такое же продолговатое тело. Теперь оно блеснуло ярким отсветом закрытого горизонтом солнца и исчезло. Опять!.. Второе! Может быть, не второе, а он прозевал несколько? Дрозд резко закрутил рукоятку и снова повел телескоп вдогонку за непонятным метеором. Теперь он был подготовлен и быстрее смог поймать тело в объектив. Оно шло с юга на север над меридиональной щелью павильона и имело такую же снарядообразную форму, как и первое. Больше Дрозд ничего не смог рассмотреть: тело быстро ушло за пределы наблюдаемого в телескоп неба. Степан Георгиевич выскочил из павильона и посмотрел на север. Он был дальнозорок и далекие предметы различал хорошо, но ничего не увидел в розовеющем небе, кроме самых ярких звезд. Мелкие уже погасли. «Что же это такое? Ведь тела шли явно в атмосфере…» Ему стало не по себе. Не раздумывая больше, он бросился в обсерваторию, в кабинет директора, к телефону. Коммутатор долго не отзывался. Заснули, черти, что ли?! — Алло! Алло!.. Наконец в трубке щелкнуло, и сонный женский голос отозвался: — Коммутатор слухает. — Соедините меня с телеграфом… Телеграф?.. Это обсерватория. Примите молнию: «Пулково, Обсерватория… наблюдал в 5.45 и 5.48 два тела снарядообразной формы, запятая». Записали?.. «Траектория — по меридиану с юга на север, точка. Научный сотрудник Полтавской гравиметрической обсерватории Дрозд». Такую же телеграмму отправьте в Харьков, в обсерваторию Харьковского госуниверситета… Что?.. Да, тоже молнией. Степан Георгиевич посмотрел на часы — было ровно шесть часов утра. Время для измерений широты было безвозвратно утеряно! Впервые за многие годы он при всех благоприятных условиях не провел наблюдений…2
За несколько минут до этого, а именно в 5.43, радиолокаторы службы наблюдения за воздухом (ВНОС) засекли перелет на территорию СССР двух баллистических ракет. Незадолго до этой ночи над Черноморьем произошел один из тех случаев международного воздушного хулиганства, после которого заинтересованные державы, обмениваются нотами. Над Украиной на предельной высоте пролетел неизвестный самолет и улетел обратно. Его обнаружили с большим опозданием и не смогли приземлить. После этого неприятного события служба ВНОС работала особенно отчетливо и бдительно. Локаторы не дают изображений. Поэтому естественно, что всплески линии, вычерчиваемой электронным пучком на экранах локатора, были расшифрованы именно как баллистические ракеты. Они шли на большой высоте — около 100 километров — и с такой колоссальной скоростью, что ее даже не удалось определить. Через три минуты была зафиксирована вторая ракета… Любопытно отметить, что Крымская обсерватория, находящаяся примерно на одной долготе с Полтавой и имеющая гораздо более мощные телескопы, не наблюдала полета этих тел. Это говорит о том, что в удачных наблюдениях Степана Георгиевича Дрозда огромную роль сыграла случайность: ему просто повезло. Но если вспомнить, что на земном шаре очень много обсерваторий и что наблюдение за небом ведется непрерывно, то станет ясно, что случайность в данном случае была проявлением закономерности: кто-то должен был первым заметить эти тела, и Дрозд их заметил. Сообщения Степана Георгиевича и радиограммы многочисленных постов ВНОС пошли разными путями, но произвели сходное действие. Они будто редким пунктиром отмечали полет ракет с юга на север. Где упадет? — ждали все наблюдатели. Но ракеты не упали. Не снижая высоты, они пролетели над Калинином, над Ладожским озером, над Карелией; их траектория заметно искривлялась к западу. Над Печенгой они покинули территорию СССР и ушли к норвежским островам Шпицберген. Их полет от границ до границ длился шесть с небольшим минут. Телеграмма Дрозда была передана в Харьков, в Пулково, в астрономический центр Академии наук, во все обсерватории Советского Союза и мира. В необычное время, когда в Восточном полушарии начинался день, астрономы Европы, Азии, Африки, Австралии начали обшаривать небо рефракторами, рефлекторами, радиотелескопами. Неизвестные тела не исчезли. Через час после наблюдений Степана Георгиевича они были замечены наблюдателями Кейптаунской обсерватории, еще через двадцать минут их засекли над Магдебургом… В Европе начиналось утро. Многие газеты Парижа, Лондона, Рима задержали свои утренние выпуски, чтобы опубликовать полученные в последний час сообщения о неизвестных спутниках, появившихся над Землей в эту ночь. Собственно, новость не была настолько уж потрясающей: не первый год над планетой кружат различимые в бинокль и простым глазом спутники для геофизических наблюдений. Необычным было, пожалуй, лишь то, что эти новые, таинственные спутники, двигавшиеся в стратосфере, пока что ни в какой степени не накалялись от трения об воздух. Однако это могло показаться важным лишь для ученых. Газетчики — люди, которым бойкое воображение успешно заменяет недостаток знаний, — создали сенсацию по своему разумению.«КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ КРУЖАТ НАД ЗЕМЛЕЙ!»
«МАРСИАНЕ ИЩУТ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ!»
«СПУТНИКИ-СНАРЯДЫ! НЕУЖЕЛИ В НИХ МАРСИАНСКИЕ МИШЕЛЬ АРДАН, КАПИТАН НИКОЛЬ И БАРБИКЕН?»
«ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ МИРОВЫХ ГЛУБИН!»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЖУКОГЛАЗЫЕ!»
«ИХ УЖЕ МОЖНО РАЗЛИЧИТЬ В БИНОКЛЬ! ПРИОБРЕТАЙТЕ ШЕСТНАДЦАТИКРАТНЫЕ БИНОКЛИ ЦЕЙССА!»
В этот день большинство людей только и делали, что смотрели в небо. Оптические магазины распродали все свои товары, даже очки с увеличительными стеклами. Энтузиасты разбирали объективы фотоаппаратов и мастерили из них подзорные трубы. Никто ничего толком не знал, кроме газетчиков, разумеется. Они осаждали обсерватории, выводя из себя привыкших к спокойной обстановке астрономов и астрофизиков непрерывными интервью. «Конечно же, это космические корабли! — публиковали газеты крупными буквами заявление известного астронома Рэдли. — Разве хоть одна держава мира удержалась бы, чтобы не заявить, что именно она запустила эти спутники?» За день черные звезды были замечены последовательно над Барселоной, Лондоном, Калифорнией, Средней Азией, Александрией, Польшей, Мельбурном, Новой Гвинеей, Алма-Атой и так далее. Выяснилось, что спутники все время сносятся к западу, отставая от вращения Земли; в этом нашли еще одно подтверждение космического происхождения тел. О каждом наблюдении публиковались экстренные сообщения в выпусках газет и радио. Сами наблюдения с точным указанием времени и координат отсылались в астрономические центры: в Гринвич, в Пулково, в Калифорнийскую обсерваторию Паломар. Там они систематизировались. В Европе к вечеру картина начала проясняться. Газеты опубликовали фотографии спутников, сделанные в Мексике специальным телескопом, предназначенным для наблюдения метеоров. Снимки, переданные фототелеграфом, были невыразительны, однако на них, на темно-сером фоне неба газетных клише, различались более темные снарядообразные силуэты; за ними тянулся светящийся шлейф. Размеры спутников, измеренные разными наблюдателями, примерно совпадали: 1,5–2 метра в длину и не более 0,5 метра в поперечнике. («Соображение о том, что в снарядах находятся живые существа, — писала одна газета, — придется отставить. Или предположить, что марсиане имеют размеры кроликов».) Скорость спутников составляла 8,1 км/сек для первого спутника и на 50 м/сек меньше для второго, который постепенно отставал. Траектория их была сильно искривлена и не проходила через полюсы. Снижения спутников не заметил никто из наблюдателей пяти континентов. Последняя новость, сообщенная из Пулкова, уже не попала в газеты, ее передало ночное радио: «…Объединение данных о полете неизвестных тел позволило определить их период и траекторию обращения. Это, в свою очередь, помогло рассчитать массу тел. Она оказалась одинаковой у обоих спутников и равной приблизительно 450 тоннам (при размере 1,5–2 метра в длину). Непостижимым является тот факт, что средний удельный вес материалов, из которых состоят эти тела, примерно равен 1300 граммам на кубический сантиметр: в сотни раз больше плотности самых тяжелых металлов! Такое соотношение массы и объема делают понятным факт незначительного торможения тел об атмосферу и их огромную кинетическую энергию. Сам же факт необычайной плотности тел ждет своего объяснения».3
Это было время, когда воображение людей, взбудораженное полетами советских автоматических ракет на Луну, еще не успокоилось и они готовы были поверить всему. Десятки тысяч страниц фантастических романов, сотни гипотез о внеземной жизни не сделали того, что сделал этот прыжок в Космос. Горизонты расширились. Вокруг Земли есть пространство, в нем есть движение, в нем может быть жизнь — это стало понятно всем. Поэтому появление над планетой двух снарядообразных тел и все связанные с ними полунаучные предположения были восприняты чуть ли не как должное, само собой разумеющееся. Если мы, люди Земли, собираемся совершить первое космическое путешествие, то почему бы кто-то из других миров не прилетел на Землю? Сообщение о небывало большой плотности тел еще раз подтвердило предположение об их неземном происхождении. Газеты публиковали расписание движения спутников-снарядов на два дня вперед, оговаривая в конце сообщений: «…если спутники не приземлятся в этот период». Десятки тысяч астрономов-профессионалов и астрономов-любителей следили за движением неизвестных тел, готовясь первыми сообщить об отклонении их от баллистической траектории. Радиолюбители всего мира дежурили у приемников, пытаясь на всех волнах поймать радиосигналы со спутников. Все ждали, когда эти «вестники других миров» — пусть даже без живых существ — приземлятся… Однако третий день принес сообщение, которое сразу изменило направление мыслей и настроение во всем мире.«ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИМЕЮТ ЗЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ!»
«АНГЛИЙСКИЕ МАТЕМАТИКИ ДОКТОР БЛЕККЕТ И ДОКТОР РАМСЕЙ С ФОРМУЛАМИ В РУКАХ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО СПУТНИКИ ПРИЛЕТЕЛИ НИОТКУДА».
Газеты напечатали портреты двух ученых из Оксфорда и их статью: «Нас в первый же день смутило несоответствие орбиты спутников плоскому эллипсу, — писали они. — Дело в том, что если бы эти тела пришли из Космоса, то вращение Земли не сказалось на их движении. Грубо говоря, для них было бы все равно: вращается Земля или не вращается. Они кружились бы вокруг планеты строго в одной плоскости относительно неподвижныхзвезд. Для обобщения нам не хватало данных о траектории спутников в приполярных областях Земли. Вчера вечером, когда эти данные были любезно предоставлены нам русскими наблюдателями, картина стала ясной: орбита вращения спутников не является плоской, как у эллипсов. Она искривлена в пространстве и все время проходит через различные точки околоземного пространства. Если угодно, каждый оборот спутника имеет форму велосипедного колеса с большой восьмеркой, то есть примерно такую же траекторию, какую описывают спутники, запущенные с Земли. Если бы мы имели возможность посмотреть на нашу планету со стороны, то увидели бы приблизительно следующую картину: в пространстве вращается огромный земной шар, а вокруг него описывают замысловатые петли два маленьких черных тела. Эти петли — траектории спутников, образно говоря, — наматываются на планету, как нитки на шпульку, не задевая ось Земли. Можно легко заметить, что смещение этих петель связано с вращением Земли. Что это значит? Несложный анализ показал нам, что на спутники действует кориолисова сила, которая у нас в Северном полушарии подмывает правый берег рек, сильнее изнашивает правый рельс и помогает лекторам демонстрировать вращение Земли: та сила, которая сдвигала траектории спутников МГГ, запущенных не по параллели. Эта кориолисова сила действует на все тела, сохранившие инерцию земного вращения, то есть на тела земного происхождения. Величина ее существенно зависит от географической широты местности: на разных широтах она придает спутникам различные смещения по параллели. Это и приводит к искривлению их орбиты в пространстве. Таким образом, мы утверждаем — и каждый, обладающий элементарными познаниями в механике и математике, может нас проверить, — что эти так называемые космические спутники, прежде чем подняться в ионосферу, находились на Земле; что они запущены с Земли в меридиональном направлении и, вероятнее всего, из приэкваториальных широт…» Последовало редчайшее в истории печати событие: все газеты поместили чертежи и интегральные выкладки Блеккета и Рамсея. Выкладки были обстоятельны, логичны и недвусмысленны; они показывали, что траектория спутников есть не что иное, как баллистическая кривая снарядов, выброшенных в атмосферу каким-то земным устройством со скоростью 8 км/сек. «Человечество проникается тревогой, — писала английская либеральная газета. — Если о марсианах, в существовании которых несколько дней назад никто не сомневался, а теперь никто не верит, мы не имеем оснований думать скверно, то от жителей Земли во второй половине XX века можно ожидать всего… Если спутники запущены с Земли (а это неопровержимо доказано), то почему ни одна держава не спешит объявить об этом большом событии? Почему мир не знал о материалах такой огромной плотности, как в спутниках? Почему спутники имеют форму снаряда крупного калибра? И еще множество „почему“. И, наконец, в течение одного дня по планете распространилось то, что позже журналисты назвали „цепной реакцией подозрительности и напряженности“». Неизвестно, кто первый выпустил эту сенсацию, но ни одна газета, ни одна радио- и телевизионная компания не оказалась в хвосте у других. Черными буквами заголовков грянуло сообщение:«НАД ЗЕМНЫМ ШАРОМ КРУЖАТ АТОМНЫЕ СНАРЯДЫ!!!»
В каждой стране, в каждом городе оно произвело такое действие, будто снаряды уже упали в этом городе и взорвались… Снаряды можно было видеть уже не только при восходе или на закате солнца — радиолокационные измерения показали, что они снизились до 70 километров. В ясном небе невооруженным глазом можно было увидеть маленькие черные пульки. Они прочерчивали небо, как реактивные самолеты: днем за ними оставался тонкий сине-голубой след раскаленного воздуха, ночью — тонкая серебристая нить, которая медленно таяла. Сами снаряды по-прежнему оставались темными. Предположение, что они раскалятся от трения об воздух и сгорят, не оправдалось. За сутки они дважды облетели все материки Земли, как бы предоставляя возможность еще раз посмотреть на них. Ученые предполагали, что они упадут в Северном полушарии: именно здесь был перигей спутников, и здесь они сильнее всего тормозились атмосферой. Северная, наиболее населенная часть Земли… По расчетам, первый снаряд должен упасть через две или три недели, когда его скорость уменьшится до 7,9 км/сек.ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА
Наблюдения астрономов, равно как и сенсационные газетные сообщения, отражают только внешние эпизоды этой истории. К сожалению, не все события, связанные с ней, могут быть описаны полно: часть сведений вместе со многими очевидцами погибла в пыли двух атомных взрывов, часть еще надежно хранится за семью замками секретности. Достаточно связное, но неполное изложение этих событий можно найти в дневнике тех лет Николая Николаевича Самойлова, ныне крупного специалиста в области ядерной техники, а тогда — молодого инженера, только что окончившего институт. Вот эти тетради, исписанные неровным почерком человека молодого и увлекающегося. «Без даты. Дневники обычно начинают в приступе любви и кончают, когда любовь проходит. Размякшие молодые люди неискренне кривляются в этом „зеркале чувств“, преувеличенно и неумело описывают свои радости и жестокие переживания… Хватит с меня одного такого дневника… Пусть второй будет не таким. Пусть это будет дневник инженера, потому что уже три недели, как я инженер. И пусть он повествует о моей работе инженера-исследователя. Я еще мало занимался исследовательской работой, но все-таки представляю, что в ней могут возникать чувства, не менее сильные, и переживания, не менее сложные, чем вызванные любовью к женщине. „Любовь к науке, — когда-то сказал в своей вводной лекции по общей физике Александр Александрович Тураев, ныне академик и директор того института, куда я направлен, — это любовь, которой не изменяют“. Пусть будет так! 15 апреля. Сегодня все в последний раз: в последний раз запереть пустую комнату студенческого общежития, сдать внизу ключ вахтеру, выйти в последний раз из студгородка… Студенчество кончилось! Все уже разъехались. Я последний. Да еще Яшка Якин. Он направлен туда же, куда и я, в Физический институт на Украину. И нас обоих задержало оформление документов. До отъезда еще часа полтора, можно не спешить. Вечер, хороший апрельский вечер в студгородке. Напротив, в корпусе электриков, за освещенными окнами, обычным порядком идет многоэтажная студенческая жизнь. На пятом этаже какой-то первокурсник склонился над чертежной доской. В соседнюю форточку выставили динамик мощной радиолы, и воздух содрогается от хрипловатых звуков джаза. Этажом ниже четверо „забивают козла“. Внизу энтузиасты доигрывают в волейбол при свете фонаря. Смех, удары по мячу; через недельку коменданту придется заново стеклить несколько окон… Все идет своим порядком, но я уже лишний в этом движении. Грустно уезжать, и все-таки славно. Последние дни не покидает ощущение, будто впереди меня ждет что-то необыкновенное и очень хорошее. Например, начну работать и сделаю какое-нибудь открытие. Какое? Неважно… Или встретится там, в новой жизни, необыкновенная женщина — „та самая“, и мы полюбим друг друга… Впрочем, — стоп! — о женщинах договорились не писать. Ого! Уже девять. Пора собираться. Итак, прощай, Москва! Прощай, город моего студенчества! Я уезжаю… 20 апреля. Приехали. Город называется Днепровск, и примечателен он, в основном, тем, что расположен на Днепре. Днепр здесь великолепен — полуторакилометровой ширины, с двухэтажными мостами, маленькими пароходиками и желто-зелеными островками. Город весь в полупрозрачной апрельской зелени, вывески на не столько непонятном, сколько непривычном украинском языке, необыкновенно безлюдные после Москвы улицы. Устроились мы с Яшкой в общежитии и вчера пошли оформляться в институт. Волновались, конечно, и даже Яшка, против обыкновения, не острил. Спустились вниз, к реке, прошли огромный парк и за ним увидели величественное восьмиэтажное здание, целиком из стекла и стали; оно было похоже на гигантский аквариум. Около стояли дома поменьше. Было утро, и передняя стена „аквариума“ блестела солнечными лучами. Высокая чугунная ограда, ворота, и по правую сторону золоченая вывеска: „Физический институт“, а слева — такая же по-украински. В канцелярии нам сообщили, что мы назначены в 17-ю лабораторию. Однако в самую лабораторию нас еще не пустили — не оформлены пропуска. Бдительный начальник отдела кадров даже уклонился от ответа на наш вопрос: чем же занимаются в этой лаборатории? „Не пожалеете, ребята! По вашей специальности“. Ну-ну… 29 апреля. Итак, две недели в Днепровске и одна неделя работы. Суммируем впечатления. Лаборатория 17-я, которую нам дали, как кота в мешке. („Похоже, что вместо кота — в мешке тигр“, — сказал Яшка, и правильно сказал.) Она скорее похожа на паровозное депо, чем на то, что обычно называют „лаборатория“. Огромный двухэтажный зал, занимающий основание левого крыла стеклянного корпуса; одна стена — стеклянная (ее, впрочем, завешивают обычно глухими шторами) и три — из белого кафеля. Из конца в конец зала расположились устройства: пятиметровой толщины ребристые трубы из серого бетона, оплетенные стальными лесенками, мостками, толстыми жилами кабелей. В середине зала почти до потолка поднялась наглухо защищенная стенами из бетона и свинца главная камера. Внизу возле нее лоснящийся лакированным металлом полукруг пульта управления с несколькими экранами, множеством приборов и ручек. Все это называется мезонатор. Мезонатор не простой ускоритель ядерных частиц вроде циклотрона или беватрона, он сложнее и интереснее. В ионизационных камерах-трубах создаются протоны, „ободранные“, без электронных оболочек ядра атомов водорода. Электрические ускорители собирают их в пучок и разгоняют до полусветовой скорости. Затем электромагнитная система в главной камере направляет их навстречу друг другу. Протоны сшибаются почти со скоростью света и разлетаются на тысячи осколков — мезонов. Получаются целые потоки этих коротко-живущих частиц, самых интересных и важных в ядре! Это нельзя получить ни в каком ускорителе. Девять десятых всего остального оборудования обслуживает мезонатор: батареи мощных вакуум-насосов („Лучший вакуум в Союзе делаем мы!“ — похвалился вчера Сердюк); электронный оператор-шкаф с тысячами радиоламп и сотнями реле, он установлен возле пульта и держит нужный режим работы мезонатора; высоковольтные трансформаторы, подающие напряжение к ускорителям, — они утыканы полуметровыми фарфоровыми изоляторами, и между их концами все время шипит тлеющий разряд… Здесь же „горячие“ бетонные камеры с управляемыми извне манипуляторами для анализа радиации, электронный микроскоп, все приспособления для химического микроанализа, — словом, лаборатория оборудована по последнему слову экспериментальной техники. Мы с Якиным пока находимся в положении экскурсантов: ходим по лаборатории, смотрим, читаем отчеты о прежних опытах, знакомимся с описанием мезонатора, инструкциями по радиоактивному и химическому анализу и так далее, потому что, как выяснилось в первом же нашем разговоре с Голубом, знаем мы ровно столько, сколько полагается молодым специалистам, то есть понемножку обо всем. А здесь требуется знать все о немногом. Правда, у Голуба хватило деликатности не тыкать нас носом в наше незнание, однако и у меня и у Якина после первого разговора с ним горели щеки. Следует немного написать о людях лаборатории. 1. Иван Гаврилович Голуб — наш начальник, доктор физико-математических наук и, насколько я понял, автор основных идей, из которых возник проект мезонатора. Ему лет пятьдесят с небольшим. Низенький (сравнительно со мной, конечно), толстоватый; лысина с венчиком седых волос, которые торчат на его голове и образуют нечто вроде нимба; короткий толстый нос, перерезанный пополам дужкой очков. Словом, внешность заурядная, и, если бы я не встречал имя Голуба во многих книгах по ядру, пожалуй, позволил бы себе отнестись к нему несерьезно. „Приставайте ко мне с разными вопросами, не стесняйтесь, — сказал он нам. — Лучше задать несколько глупых вопросов, чем не получить ответ на один умный…“ М-да… Особым тактом он, видно, не отличается, раз заранее определил большинство наших вопросов как глупые. „Приставать“ к нему что-то не хочется. Да и вообще с ним мы чувствуем себя как-то неловко: он большой ученый, а мы „зеленые инженерики“… До обеда он обычно сидит за своим столом возле оконной стены, что-то, насупившись, пишет, считает или читает и изредка сердито пускает папиросный дым. Мы с Яшкой избегаем попадаться ему на глаза. После обеда Иван Гаврилович уезжает в здешний университет читать лекции, и в лаборатории становится вольнее. 2. Алексей Осипович Сердюк — инженер, помощник Голуба. Он тоже нам начальник, но начальством себя не чувствует и ведет себя с нами по-простецки. Деды его, наверное, были чумаками, возили „силь з Крыму“ и снисходительно-философски смотрели на суету жизни, проходившей мимо их скрипящих возов. Высокий (почти моего роста), черноволосый и смугловатый, с длинным и прямым носом на продолговатом лице, хитроватым прищуром глаз, с медлительной и обстоятельной речью. Говорит он с нами на том преувеличенно чистом русском языке, на котором говорят украинцы, пожившие в России; однако буква „г“ у него все равно получается мягкая, как галушка. Ему лет сорок, он прошел войну, а после нее закончил электрофизический факультет нашего института. Словом, наш парень! К Сердюку мы и пристаем с разными вопросами. Он сразу бросает свое дело (а он всегда с чем-нибудь возится) и начинает обстоятельно рассказывать. Объяснив, что надо, он на этом не останавливается, а заводит рассказ о том, как они с Иваном Гавриловичем Голубом собирали мезонатор, сколько мороки было с наладкой, сколько скандалов он, Сердюк, закатил на заводах-изготовителях. Мы слушаем, и нам неловко: мы-то еще ничего не сделали… Лист, на котором можно было бы записать наши научные деяния, пока так же чист, как и халаты, которые нам выдали. А вот у Сердюка халат стираный и в пятнах, а на боку даже прожжена дырка азотной кислотой. И нам завидно. 3. Лаборантка-химичка Оксана (фамилию ее я еще не знаю), наверное, самая типичная из всех украинских Оксан со всеми их атрибутами: „чорнии брови“, „карии очи“, которые, согласно популярной песне, сводят с ума молодых людей, круглое личико, звонкий голос и т. д. Мы с ней уже подружились; она меня зовет „дядя, достаньте воробушка“, а я решаю ей примеры по математике из Берманта (она учится на втором курсе заочного института). Яшка, когда нет Голуба, начинает ее смешить. Смеется она великолепно — звонко, охотно, неудержимо. И прикрывает рот ладошкой. 4. Яков Якин. Ну, Яшка-это Яшка, и писать о нем особенно нечего. Двадцать четыре года, холост. Девушки находят его симпатичным. Глаза голубые. Роста среднего. Ну, чего еще о нем напишешь? По мне — скорее остроумен, чем глубокомыслен. А впрочем, кто его знает! Кроме того, есть еще техники-радисты, вакуумщики, электрики. Они обслуживают все большое хозяйство мезонатора. В основном это молодые ребята, недавно закончившие техникумы. Командует ими Сердюк. Я с ними еще мало соприкасался. Вот и все люди. Отношение к нам со стороны двух первых номеров пока неопределенное. Никаких заданий нам еще не дают. Ну что ж, ведь мы для них, в сущности, тоже „коты в мешках“. Сегодня первые полдня читали отчеты, а потом убирали лабораторию к Первому мая. „Ничего, — сказал Сердюк, — и это полезно: будете знать конкретно, где что“. М-да… 5 мая. Вникаем, то есть изучаем отчеты о прежних опытах. В сущности, идея их предельно проста: облучить мезонами все элементы менделеевской таблицы и установить их реакцию на облучение; так же как химики пробуют на все возможные реакции вновь полученное вещество. Однако это не химия. Мезоны-те самые частицы, которым приписывают ядерное взаимодействие. Подобно тому, как атомы взаимодействуют друг с другом с помощью внешних электронов, так и внутриядерные частицы притягиваются друг к другу с помощью предположительных мезонных оболочек. Так что мезоны — это ключ к объяснению огромных внутриядерных сил притяжения, самый передовой участок на фронте ядерных исследований. После облучения мезонами все вещества становятся радиоактивными. Очевидно, Голуб и пытался установить связь этой „послемезонной радиации“ с периодическими изменениями свойств элементов. Это интересно. Особенно любопытны опыты с отрицательными мезонами: они легко проникают в положительные ядра и вызывают самые неожиданные эффекты. В нескольких опытах даже получились мезонные атомы — отрицательные мезоны некоторое время (миллионные доли секунды) вращались вокруг ядер, как электроны. Да, все это интересно, но хотелось бы уже самим заняться опытами. А то читаешь, читаешь… Сегодня, специально для нас с Якиным, включили мезонатор. Сердюк со скучающим выражением на лице небрежно, не глядя, касался рычажков и рукояток на пульте: прыгали стрелки приборов, загорались красные и зеленые сигнальные лампочки, лязгали контакторы; на осциллографических экранах электронные лучи вычерчивали сложные кривые. Лабораторный зал наполнился сдержанным гудением. Оксана задернула все шторы, чтобы в зале был полумрак. Мы стали перед раструбом перископа и увидели то, что происходит там, в главной камере, за толщей двухметровой защитной стены из бетона и свинца. Мы увидели, как к мраморной плите в основании главной камеры потянулся сиреневый прозрачный дрожащий лучик — пучок отрицательных мезонов. Я представил себе, как это происходит: из двух бетонных труб-ускорителей в главную камеру врываются с космическими скоростями протоны, разбиваясь там на множество осколков — мезонов; эти осколки подхватываются могучими магнитными и электрическими полями и собираются в этот сиреневый дрожащий лучик. Все части мезонатора мы до этого уже подробно осмотрели и изучили: и ускорители, и огромные, даже на взгляд тяжелые, катушки магнитных фильтров на задней стенке мезонатора, и вспомогательную промежуточную камеру слева, через которую в главную камеру двухметровыми штангами манипуляторов вносились образцы. Удивительно послушны пальцы-щупальцы этих дистанционных манипуляторов. Мы мысленно прошли уже все раструбы, каналы откачки воздуха, даже извилистый путь, по которому луч света, отражаясь от призм перископа, вмонтированных в бетонные стены камеры, доходит до наших глаз. Мы все это понимаем, но только теперь смогли прочувствовать мощь и разумность этой машины „во взаимодействии всех ее частей“, как говорят. 27 мая. Нам не повезло. Программа уже исчерпана, и опыты в основном закончены. Голуб готовит отчет для научно-технического совета института о проделанной работе. И нам решительно нечего делать. 10 июня. Переводим статьи из журналов: я — с английского, Яшка — с немецкого. 18 июня. Кто сказал, что нам не повезло? Покажите мне этого нытика (только не показывайте зеркало) — и я убью его! Но — по порядку. Вчера состоялось расширенное заседание научно-технического совета. Иван Гаврилович отчитывался об опытах с мезонами. В конференц-зале, на третьем этаже белого корпуса, рядом с нашим „аквариумом“, яблоку негде было упасть. Собрались почти все инженеры института: и ядерщики, и электрофизики, и химики. В президиуме мы увидели Александра Александровича Тураева. Ох, как он постарел с тех пор, как читал нам общую физику! Волосы и знаменитая бородка клинышком не только поседели, а даже пожелтели, глаза выцвели, стали какие-то мутно-голубые. Что ж, ему уже под восемьдесят! Голуб стоял за кафедрой, раскинув руки на ее бортах; лысина отсвечивала в свете люстр. Он читал лежавший перед ним конспект, изредка исподлобья посматривал в зал, иногда поворачивался к доске и писал цифры. — Таким образом, можно выделить самое существенное, — говорил Иван Гаврилович звучным, густым голосом опытного лектора. — Отрицательные мезоны очень легко проникают в ядро. Это первое. Второе: соединяясь с ядром, минус-мезон понижает его заряд на одну единицу, то есть превращает один из протонов ядра в нейтрон. Поэтому после облучения мезонами мы находим в образцах серы — атомы фосфора и кремния, никель превращается в кобальт, а кобальт — в железо, и так далее. Мы наблюдали несколько превращений в газообразном и сжиженном водороде, когда ядра водорода превращались в нейтроны. Эти искусственно полученные нейтроны вели себя так же, как и естественные, и распадались снова на электрон и протон через несколько минут. Для более тяжелых, чем водород, веществ мезонные превращения также оказались неустойчивы: атомы железа снова превращались в атомы кобальта; атомы кремния, выбрасывая электрон, превращались в фосфор, и так далее. Однако… — здесь Голуб поднял вверх руку, — в некоторых случаях мы получали устойчивые превращения. Так, иногда, при облучении железа мы получали устойчивые атомы марганца, хрома, ванадия и даже титана. Это значит, что, например, в титане число нейтронов ядра увеличилось на четыре против обычного. Эти результаты, пока еще немногочисленные, являются не чем иным, как намеками на большое и великолепное явление, которое, возможно, уже осуществлено природой, а может быть, первым его осуществит человек. В самом деле, что может получиться, если мы будем последовательно создавать устойчивые мезонные превращения ядер? Постепенно все протоны ядра будут превращаться в нейтроны. Обеззараженные ядра не смогут удерживать электроны; они сомкнутся и под действием огромных ядерных сил образуют ядерный монолит — вещество сверхвысокой плотности и непостижимых свойств, лежащих за масштабами наших представлений… В зале возник шум. Яшка толкал меня в бок локтем и шептал: — Колоссально, а? Колька, понимаешь, какая сила?! Колоссально! А мы с тобой читали и ничего не поняли!.. — Давайте рассмотрим другую сторону вопроса, — продолжал Иван Гаврилович. — Мы имеем ядерную энергию — огромную, я бы сказал, космическую энергию. А достойных ее материалов нет. Действительно, ведь все обычные способы получения энергии заключаются в том, что мы каким-то образом воздействуем лишь на внешние электроны атомов. Магнитное поле перемещает электроны в проводнике — это электрическая энергия. Валентные электроны атомов угля взаимодействуют с валентными электронами атома кислорода — это дает тепловую энергию. Переход внешних электронов с одной орбиты на другую дает световую энергию, и так далее. Это, так сказать, поверхностное, не затрагивающее ядра использование атома дает небольшие температуры, небольшие излучения. И они вполне соответствуют нашим обычным материалам, их механической, тепловой, химической, электрической прочности. Но ядерная энергия — явление иного порядка: она возникает благодаря изменению состояний не электронов атома, а частиц самостоятельного ядра — протонов и нейтронов, — которые, как всем известно, связаны в миллионы раз более прочными силами. Поэтому она создает температуру в миллионы градусов и радиацию, проникающую через стены из бетона в несколько метров толщиной. И обычное вещество слишком непрочно, слишком ажурно, чтобы противостоять ей… Говорят о „веке атома“, но ведь это неправильно! Наше время можно назвать только временем применения ядерной энергии, причем — применения очень несовершенного. Возьмите откровенно варварское „применение“ ее в виде ядерных бомб. Возьмите примитивное в своей сложности использование делящегося урана и плутония в реакторах первых атомных электростанций. Ведь это смешно: при температуре в несколько сот градусов использовать энергию, заставляющую пылать звезды… Но мы не можем добиться ничего большего с нашими обычными материалами. Таким образом, будущее ядерной техники — и, должно быть, самое недалекое — зависит от того, будет ли найден материал, могущий полностью противостоять энергии ядерных сил и частиц. Очевидно, что такой материал не может состоять из обычных атомов, скрепленных внешними электронами. Он должен состоять из частиц ядра и скрепляться могучими ядерными силами. То есть это должен быть ядерный материал — таково философское решение вопроса. Те опыты, о которых я докладывал, показывают, что возможно получить такой материал, состоящий из обеззаряженных ядер, лабораторным способом. Свойства этого нового материала — назовем его для определенности нейтрид — каждый без труда сможет представить: необычайно большая плотность, огромная прочность и инертность, устойчивость против всех и всяческих механических и физических воздействий-Голуб замолчал, как будто запнулся, снял и протер очки, внимательно посмотрел в зал: — Мы еще многого не знаем, но ведь на то мы и исследователи, чтобы пробиваться сквозь неизвестное. Лучше пробиваться с целью, чем без цели. Лучше пробиваться с верой в то, что цель будет достигнута. И я верю — нейтрид может быть получен, нейтрид должен быть получен! Недаром над Землей вращаются искусственные спутники… Он собрал листки конспекта и сошел с кафедры. Интересно: у него горели щеки — совсем как у нас с Яшкой, как у всех сидевших в конференц-зале. Ну, тут началось! В зале все стали спорить друг с другом яростно, громко. Ивана Гавриловича засыпали вопросами. Он едва успевал отвечать. Яшка бормотал возле меня: „Вот это да! Колоссально!“ — потом сцепился в споре с каким-то сидевшим рядом рыжим скептиком. Бедный Тураев растерялся, не зная, как успокоить зал: его председательского колокольчика не было слышно; потом махнул рукой и стал о чем-то с необыкновенной для старика живостью рассуждать с Голубом. Было уже одиннадцать часов ночи. Когда все немного утихли, Тураев встал и сказал своим тенорком: — Сведения и идеи, сообщенные нам… э-э… профессором Голубом, столь же сложны, как интересны и важны. Обсуждение их, мне кажется, должно проходить менее… э-э… страстно и более обстоятельно. Научное обсуждение не должно походить на митинг. Научные мнения не должны быть опрометчивыми… — Он в раздумье пожевал губами. — Пожалуй, мы сделаем вот что: размножим сегодняшний отчет Ивана Гавриловича и распространим его с тем, чтобы присутствующие здесь… э-э… уважаемые коллеги смогли его обсудить в течение ближайших дней… А сейчас заседание совета… э-э… закрывается. Вот так, Николай Самойлов!.. Ты с унынием мусолил целую неделю этот отчет и не заметил в нем потрясающую идею. Вы ограниченны, Николай Самойлов, вы зубрила и бездарь! 8 июля. Обсуждение в институте закончилось, и дело пошло в высшие академические и административные сферы. Иван Гаврилович в лаборатории почти не бывает, мотается то в Киев, то в Москву, проталкивает тему. Институт во главе с Тураевым полностью за нас (я уже и себя причисляю к этому проекту). Мы готовимся. Обдумываем идеи опытов, последовательность анализов. Переводим и докладываем в лаборатории все, что есть в международной литературе об опытах с мезонами. Я даже перевел с помощью словаря две статьи с французского и немецкого, хотя толком никогда эти языки не изучал. Вот это значит энтузиазм! Интересно: в американских научных журналах нет почти никаких сообщений о работах с мезонами. Во всяком случае, за последний год. Одно из двух: либо они, американцы, не ведут сейчас серьезных исследований в этой области, либо — как это уже было, когда разрабатывали атомную бомбу, — они засекретили абсолютно все, относящееся к этой проблеме, как в сороковых годах было засекречено все, относящееся к делению урана. 15 июля. Сегодня прочитал великолепную космогоническую гипотезу Тураева и хожу под ее впечатлением. Это не гипотеза, а научная поэма об умирающих черных звездах. Мы видим в небе светящиеся миры, красивые и головокружительно далекие. Но не видим мы гораздо больше, чем видим. Непрерывный миллионнолетний ядерный взрыв — вот что такое звезда. И этот взрыв ее истощает. Звезды сжимаются, атомы внутри них спрессовываются, ядра соединяются друг с другом и выделяют еще большую энергию. Так получается ослепительно белая сверхплотная звезда — белый „карлик“. Но что же дальше? Дальше „карликов“ никто не заглядывал… Звезда выделяет огромную энергию, говорится в гипотезе, но известно, что, чем больше энергии выделяет система, тем устойчивее, прочнее она становится, тем плотнее и прочнее становится угасающий „карлик“. В пространстве Вселенной есть немало умерших звезд — огромных холодных солнц из ядерного вещества. Может быть, они дальше ближайших видимых звезд, а возможно и ближе — ведь мы их не видим. Может быть, радиосигналы из Космоса и есть последние лучи этих черных звезд. А мы собираемся получить в нашей лаборатории кусочек умершей звезды… Да, дело даже не в звездах; ведь это будет идеальный новый материал — сверхпрочное, сверхинертное вещество ядерного века. Атомные реакторы, сделанные из нейтрида, вместо бетонных громадин будут размерами с обыкновенный бензиновый мотор. Ракеты из нейтрида смогут садиться прямо на поверхность Солнца, потому что 6000 градусов для нейтрида — это прохладно. Резцом из нейтрида можно будет резать, как масло, любой самый твердый металл. Броня из нейтрида сможет выдержать даже атомный взрыв… Танк из нейтрида проникает на сотни километров в глубь Земли, ибо высокие температуры и давления ему не страшны… Уфф! 25 июля. Сегодня Иван Гаврилович с утра появился в лаборатории, прямо с аэродрома. Москва утвердила тему. Начинаем!.. 12 августа. Первые опыты — первые разочарования… Неделю назад с трепетом в душе сделали первое облучение. Все собрались у пульта и в торжественном молчании смотрели, как Иван Гаврилович — серьезный, в белом халате, с трубочкой виллемитового индикатора на груди — включал мезонатор. Неугомонный Яшка шепнул мне: „Обстановочка… Впору молебен…“, но даже Оксана не прыснула, а покосилась на него строго. Вот в перископе возник лучик отрицательных мезонов — этих осколков атомных ядер. Голуб поднялся на мостик, взялся за рукояти дистанционных манипуляторов, попробовал: тросики, уходившие вместе с трехметровыми подвижными штангами в бетон, точно и мягко передавали все движения его кистей на стальные пальцы в камере. Мы внизу, в раструбе перископа, увидели, как стальные пальцы подвели под мезонный луч фарфоровую ванночку с кусочком олова. Потом Голуб спустился вниз, посмотрел в перископ: — Свет мешает. Затемните лабораторию… Оксана задернула шторы, стало сумеречно. Мы, стараясь одновременно и не мешать Голубу, который настраивал луч, и посмотреть в перископ, столпились у раструба. Призмы передавали из камеры сине-оранжевое свечение, и оно странно освещало наши лица. Было тихо, только сдержанно гудели трансформаторы, негромко перестукивали вакуум-насосы, да еще Сердюк сопел возле моего уха. Так прошло минут десять. Внезапно кусочек олова шевельнулся — и все мы шевельнулись — и расплылся по ванночке в голубоватую лужицу. Оксана, устроившаяся сзади на стуле, сказала: „Ой!“ — и едва не свалилась на меня. — Расплавился! — вздохнул Голуб. — Вот это облучение!.. Больше ничего не произошло. Олово продержали под пучком мезонов два часа, потом извлекли из камеры. Оно стало сильно радиоактивным и выделяло такое тепло, что не могло застыть. Вот и всё. В сущности, почему я был уверен, что это произойдет с первого раза? Сто элементов, тысячи изотопов, множество режимов облучения… Кажется, я просто излишне распалил свое воображение. 29 августа. Облучили уже с десяток образцов: олово, железо, никель, серебро и многое другое. И все они получились радиоактивными. Пока нет даже тех устойчивых атомов с повышенным количеством нейтронов в ядре. А вокруг… кончается великолепное южное лето. Из лаборатории нам видны желтые пляжи на излучине Днепра и на островках, усыпанные купающимися. Облучения обычно затягиваются до позднего вечера, и мы возвращаемся к себе в общежитие под крупными яркими звездами в бархатно-черном небе. В парке тихо шелестит листва и смеются влюбленные. На главных аллеях парами ходят черноволосые и круглолицые девушки, которых некому провожать домой. Яшка смотрит им вслед и трагически вздыхает: — Вот так проходит жизнь… Единственная радость жизни — это замечательно вкусные и дешевые яблоки, которые продают на каждом углу. Мы их едим целыми днями. 12 сентября. Я работаю у мезонатора. Под голубым пучком мезонов — кубик из облучаемого металла. И вот металл начинает уплотняться, оседать, медленно, еле заметно для глаза. Он исчезает из ванночки, и вместо него на белом фарфоре остается небольшое пятнышко — нейтрид. Интересно, какого цвета будет нейтрид? 7 октября. Уже октябрь, желто-красный украинский октябрь. Чистый, звонкий воздух. Повсюду — на деревьях, на крышах домов, под ногами — листья: желто-зеленые, коричневые, медвяные. Голубое небо, теплое солнце. Хорошо! А мы делаем опыты. Облучили уже почти половину менделеевской таблицы. Несколько дней назад получили из кремния устойчивые, нерадиоактивные атомы магния и натрия. В них на один и на два нейтрона больше, чем нужно. Хоть маленькая, но победа! Мы с Яшкой специализировались на анализах. Я — на масс-спектрографическом, он — на радиохимическом. Это в наших опытах самая кропотливая работа. — Голуб — хитрый жук! — сказал мне Яшка. — Нарочно раззадорил нас, чтобы мы работали, как ишаки. 26 октября. Облучаем, снимаем анализы; снимаем анализы и облучаем. Устойчивые атомы магния и натрия, когда мы их еще раз облучили мезонами, тоже стали радиоактивными. Отрицательные мезоны, попадая в ядро, слишком возбуждают его — и оно становится радиоактивным. Вот в чем беда. 24 ноября. На улице слякотная погода. Дожди сменяются туманами. Лужи под ногами сменяются жидкой грязью. Словом, не погода, а насморк. Облучили всю таблицу Менделеева, кроме радиоактивных элементов, облучать которые нет смысла: они и без того неустойчивы. Становится скучно. В лаборатории все, даже Голуб, как-то избегают употреблять слово „нейтрид“. 30 ноября. Пожалуй, вся беда в том, что мезоны, которыми мы облучаем, имеют слишком большую скорость. Они врезаются в ядро, как бомба, и, конечно же, сильно возбуждают его. А нам нужно ухитриться, чтобы и обеззарядить ядро, освободив его от электронов, и в то же время не возбудить. Значит, следует тормозить мезоны встречным электрическим полем и до предела уменьшать их скорость. Ну-ка, посмотрим это в цифрах…» Далее в дневнике Николая Самойлова следует несколько страниц математических выкладок, которые мы опускаем. «13 декабря. Показал свои расчеты Ивану Гавриловичу. Он согласился со мной. Значит, и я могу! Тогда еще не все потеряно… Итак, переходим на замедленные мезоны. Жаль только, что мезонатор не приспособлен для регулирования скорости мезонов — не предусмотрели в свое время… На улице падает мокрый снег; он тает на одежде и чавкает под ногами. Так называемая южная зима! 25 декабря. Попробовали, сколько возможно, замедлить мезонный пучок. Облучили свинец. Увы! Ничего особенного не получилось. Свинец стал слаборадиоактивным — несколько слабее, чем при сильных облучениях быстрыми мезонами, и только. Нет, все-таки нужно поставить в камере тормозящее устройство, — это несложно: что-то вроде управляющей сетки в электронной лампе. Сегодня Якин высказал мысль: — Послушай, а может мальчика-то и не было? — Какого мальчика? — не понял я. — О чем ты? — О нейтриде, который мы, кажется, не получим. И вообще — не пора ли кончать? Собственно, в истории науки это не первый случай, когда исследователи перестают верить фактам, если факты опровергают выдуманную ими теорию. Никогда ничего хорошего из этого не получалось… За полгода мы, в сущности, ничего нового не получили — ничего такого, что приблизило бы нас к этому самому нейтриду. Понимаешь? — Как — ничего? А вот смотри — кривые спада радиации? — Я не нашелся сразу, что ему возразить, и стал показывать те кривые спада радиоактивности при замедленной энергии мезонов, которые только что рассчитал и нарисовал. Яшка небрежно скользнул по ним глазами и вздохнул: — Эх, милай!.. Природу на кривой не объедешь, даже если она нарисована на миллиметровке. Полгода работы, сотни опытов, сотни анализов — и никаких результатов! Понимаешь? Уж, видно чего нет — того не будет… Факты против нейтрида! Понимаешь? Сзади кто-то негромко кашлянул. Мы обернулись. Голуб стоял совсем рядом, возле пульта, и смотрел на нас сквозь дым своей папиросы. Яшка густо покраснел (и я, кажется, тоже). Иван Гаврилович помолчал и сказал: — Эксперименты, молодой человек, — это еще не факты. Чтобы они стали непреложными фактами, их нужно уметь поставить… — и отвернулся. Ох, как неловко все это получилось! 15 января. Вот и Новый год прошел. На улице снег и даже мороз. В лаборатории, правда, снега нет, но холод почти такой же, как и на улице. Во-первых, потому что эта чертова стеклянная стена не заклеена и из нее отчаянно дует. Во-вторых, потому что не работает мезонатор: когда он работал, то те сотни киловатт, которые он потребляет от силовой сети, выделялись в лаборатории в виде тепла, и было хорошо. Теперь он не включен. — Наша горница с богом не спорится! — смеется Иван Гаврилович и потирает посиневшие руки. А не работает мезонатор вот почему: мы с Сердюком ставим в камере тормозящие электроды, чтобы работать с медленными мезонами. Работа, как у печников, только несколько хуже. Сперва пытались установить пластины электродов с помощью манипуляторов. „Не прикладая рук“, — как выразился Якин. Ничего не вышло. Тогда плюнули, разломали бетонную стену и полезли в камеру. Бетон внутри камеры от многократных облучений сделался радиоактивным, но не сильно — работать можно, минут по пятнадцати. Иван Гаврилович стоит около камеры с часами и каждые десять минут выгоняет то меня, то Сердюка. Так и ковыряемся по очереди — то я, то Сердюк. Темпы, конечно, не блестящие. Перепачкаемся к концу дня так, что Оксана (она у нас подручная) только раскрывает до отказа свои „карий очи“ и в тихом ужасе всплескивает руками. Яшка же действительно работает „не прикладая рук“: часа два с утра покрутится в лаборатории, а потом уходит в библиотеку „повышать свой научный уровень“. Ладно, заставлять мы не можем — в камере все-таки повышенная радиация. После того разговора они с Голубом делают вид, что не замечают друг друга. 2 февраля. Боже, почти месяц возимся с этой проклятой камерой! Сколько опытов можно было бы сделать за это время! Вот что значит не предусмотреть эти электроды вовремя. Интересно, прав я или не прав? Верный этот выход — медленные мезоны — или нет? В теории как будто „да“, а вот как будет на опыте? 22 февраля. Уфф! Наконец закончили: установили пластины, замуровали стенку камеры. Вы хотели бы завтра же, немедля, приступить к облучениям, Николай Николаевич? Как бы не так! Теперь пять дней будем откачивать воздух из камеры, пока вакуум снова не поднимется до 10–12 миллиметров ртути. 1 марта. Сердюк посмотрел на приборы, небрежно кивнул; имеем лучший вакуум в мире… Итак, все отлажено, подогнано. Пучок мезонов можно затормозить и даже остановить совсем — голубой лучик расплывается и превращается в прозрачное облачко. Ну, теперь уж вплотную приступаем к облучениям. 2 марта. Болит голова. Уже половина второго ночи, нужно ложиться спать. Не засну… Яшка не зря сидел в библиотеке целыми днями. Высидел, черт, выискал, что надо… Впрочем, при чем здесь Яшка? Сегодня в десять часов — только что включили мезонатор — он подошел и с безразличным видом (дескать, я был прав, но, видите, не злорадствую) положил передо мной на стол журнал, открытый посередине. Это был январский номер „Физикал ревью“ (американское „Физическое обозрение“). Я стал разбирать заголовок и аннотацию:„Г. Дж. Вэбстер.Дальше английские слова запрыгали у меня перед глазами, и я перестал их понимать. — Не утруждайся, я сделал перевод, — Яшка протянул листки с переводом статьи. Я стал читать, с трудом заставляя себя вникнуть в смысл закругленных академических фраз. Впрочем, это уже было излишне. Итак, ясно, что медленные минус-мезоны, которые были нашей последней надеждой в борьбе за нейтрид, ничего не дадут. Так вот почему в моих расчетах получалось: медленные мезоны действительно не вызывают радиоактивности в облученном веществе. Они не возбуждают ядро просто потому, что не проникают в него. То, что я принял за нейтрид, оказалось обычным „химическим“ веществом. Потрясающе просто! О идиот! Не понять, не предвидеть… Собрались все. Якин читал вслух перевод статьи. Иван Гаврилович снял очки и из-за плеча Яшки смотрел в листки; тот постепенно, но густо краснел. Сердюк без нужды вытирал платком замасленные руки. Оксана еще не поняла, в чем дело, и тревожно смотрела на Якина… Понятно, почему краснел Голуб: он, как и я, не предусмотрел этого. Мы забыли об электронных оболочках — ведь при облучении частицами больших энергий ими всегда пренебрегают… Словом, тотчас же прекратили опыт и стали готовить новые препараты: кусочки калия, серы и меди. Загрузили их в мезонатор все вместе, стали облучать. Расплывчатое облачко мезонов окутало три маленьких кубика в фарфоровой ванночке синеватым туманным светом. Облучали четыре часа-до конца работы, потом вытащили, чтобы измерить радиоактивность. Но измерять было нечего: образцы остались нерадиоактивными, будто бы и не были под мезонным лучом. Когда возвращались в общежитие, Яшка захихикал: — „А ларчик простооткрывается“, как говаривал в подобных случаях дедушка Крылов. То, что вы с Голубом считали вожделенным нуль—веществом, не дающим радиации после облучения, оказалось не нейтридом, а обыкновенным вульгарным стабильным веществом. Нуль-вещество — это просто медь, вот и все! — „Вы с Голубом?“ — переспросил я. — А ты разве не считал? — Я? А что я? — Яшка удивленно и ясно посмотрел на меня своими голубыми глазами. — Я исполнитель. И кто меня спрашивал? Вот сукин сын! …Ничего не будет: ни атомных двигателей величиной с мотор, ни ракет из нейтрида, садящихся на Солнце, ни машин из нейтрида, разрезающих горы, — ничего! Зачем же мы с Сердюком лезли в камеру, под радиацию, рисковали здоровьем, если не жизнью? Для того, чтобы хихикал Яшка? Чтобы все скептики теперь злорадно завыли: „Я ж говорил, я предупреждал! Я ж сомневался! Я внутренне не верил в эту научную аферу!“ О, таких теперь найдется немало! 10 марта. В лаборатории скучно. Иван Гаврилович сидит за своим столом, что-то рассчитывает весь в клубах папиросного дыма. Мы с Алексеем Осиповичем Сердюком помаленьку проводим облучения по прежней программе. Якин делает анализы. Исследования нужно довести до конца, план положено выполнять… А на кой черт его выполнять, когда уже известно, чем все окончится? 2 апреля. Сегодня Яшка закатил скандал. Последнее время он вообще работал из рук вон небрежно и вот нарвался на неприятность. Мы дали ему для анализа слиток калия, который облучали недавно. Он заложил стаканчик, в котором под слоем керосина лежал этот слиток, в свою „горячую“ камеру и, посвистывая, начал орудовать манипуляторами… Я сначала увидел только, как из окна „горячей“ камеры глянули оранжевые блики. Яшка покраснел и нерешительно вертел рукоятками манипуляторов. Я подскочил к нему: в камере, в большой чашке с водой, метались серебристые, горящие оранжевым пламенем капли расплавившегося калия. — Ты что? — Да уронил нечаянно слиток в воду… — пробормотал Яшка. — А красиво горит, правда? — Дурак! Он же сильно радиоактивный — теперь камера выйдет из строя!.. Я оттолкнул его, попытался выловить горящие капли пальцами манипуляторов, но ничего не получилось. Калий горел. Подбежала Оксана, увидела пламя: — Ой, пожар!.. Вместе подошли Иван Гаврилович и Сердюк. Голуб хмуро посмотрел через стекло: капли уже догорали, в камере все застилал дым. — Так… — Он повернулся к Якину. Тот потупился, приготовясь выслушать разнос. Но Голуб изобрел нечто другое: неожиданно для всех он заговорил мягким лекторским тоном: — Калий, молодой человек, имеет удельный вес 0,84 единицы. Если напомнить вам, что удельный вес воды равен единице, то вы легко сможете догадаться, что калий должен плавать в воде, что мы и видим. Существенно также то, что калий, опущенный в воду, бурно реагирует с нею, выделяя из воды тепло и водород. Затем калий и водород загораются — что мы так же видим. Он широким жестом показал в сторону камеры. Сердюк засмеялся откровенно и даже нахально. Оксана, тоже понявшая замысел Ивана Гавриловича, прыскала в ладошку. Яшка стоял красный как рак. — Поэтому, молодой человек, — заканчивал Иван Гаврилович, — калий хранят не в воде, а в керосине, в котором он не окисляется и не горит, а также не плавает… Вот так! Яшка не ожидал, что его так издевательски просто высекут: ему, инженеру, объяснять, как семикласснику, что такое калий! Теперь он был уже не красный, а бледный. — Спасибо, Иван Гаврилович… — ответил он; голос его противно дрожал. — Спасибо за первые полезные сведения, которые я получил за год работы в вашей лаборатории… Это было сказано явно со зла. И все это поняли. Голуб даже оторопел: — То есть… что вы хотите этим сказать? — А всего лишь то, что из всех наших опытов только этот, так сказать, „эксперимент“ с калием имеет очевидную ценность для науки, — со злым спокойствием объяснил Яшка. — Выходит… вы считаете нашу работу… ненужной? — Уже давно. На багровом лбу Голуба вздулась толстая синяя жила. Он начал спокойно: — Я здесь никого не держу… — но не выдержал и заорал так громко и неприятно, что Оксана даже отступила на шаг: — Вы можете уходить! Да! Убирайтесь куда угодно! Возвращайтесь на школьную скамью и пополните свои скудные знания по химии! Да! Никогда я не наблюдал ничего более постыдного, чем эта защита собственного невежества! Вы оскорбили не меня — вы оскорбили нашу работу!.. Уходите! — Голуб постепенно успокаивался: — Словом, я освобождаю вас от работы… За техническую неграмотность и за порчу камеры! Можете искать себе другое, более теплое место. — Он повернулся и пошел к своему столу. Яшка, несколько ошеломленный таким оборотом дела, вопросительно посмотрел на нас с Сердюком. Я молчал. Сердюк курил и внимательно смотрел на Якина. Тот нерешительно кивнул в сторону Голуба и, ища сочувствия, с ухмылкой проговорил: — Вида-ал какой? Дай прикурить, — и наклонился к папиросе Сердюка. Сердюк зло кинул окурок в пепельницу. У него заиграли желваки челюстей. Он повернулся к Яшке: — Иди отсюда, а то вот „дам прикурить“! Паникер. Якин снова вспыхнул, как мак, и быстро пошел к двери. — Краснеет… — сказал Сердюк. — Ну, если человек краснеет, то еще не все потеряно… И Яшка ушел. Пожалуй, если бы Сердюк дал ему разок—другой, я не стал бы за него заступаться… 16 апреля. Итак, исполнился год с того дня, как я в Днепровске. Снова апрель, снова зеленые брызги зелени на ветках деревьев. Тогда были мечты — радостные и неопределенные: приехать, удивить мир, сделать открытие. Смешно вспоминать… Все вышло не так: я просто работал. Итоги можно не подводить — их еще нет. А будут ли? Голуб последнее время изводит себя работой и сильно сдал: серое лицо, отечные мешки под глазами, красные веки. Он все пытается точно рассчитать „задачу о нейтриде“. Яшка уже устроился. Как-то я столкнулся с ним в коридоре. — Порядок! — сообщил он. — Буду работать у электрофизиков. Там народ понимающий: работают „не прикладая рук“, а между тем в журналах статейки печатают — то о полупроводниках, то о сверхпроводимости… Ребята неплохие. Смотри, Колька: не прогадай вместе со своим Голубом, ведь тебе тоже пора сколачивать научный капиталец. А там, в семнадцатой лаборатории… словом, неужели ты не чувствуешь, что природа повернулась к вам не тем местом? Впрочем, пока!.. Я побежал… Нет, Яшка! Научного ловчилы из меня не получится, к счастью. Даже если бы я и захотел — характер не тот. „Сколачивать научный капиталец“… Чудак! Пожалуй, он просто сильно обижен Голубом (оба они тогда зря полезли в бутылку) и теперь ищет утешения в цинизме. В науке, как и в жизни, пожалуй, следует всегда идти до конца. Идти не сворачивая, каким бы этот конец ни оказался. Пусть мы не получим нейтрид — неважно; зато мы докажем, что этим путем получить его невозможно. И это немало: люди, которые будут (пусть даже не скоро) снова искать ядерный материал, сберегут свои силы, будут более точно знать направление поисков. И наша работа — не впустую, нет… Нейтрид все равно будет получен, — не нами, так другими, потому что он необходим, потому что такова логика науки. А научные „кормушки“ пусть себе ищут Якины… Мы медленно идем по программе: приближаемся к облучению самыми медленными, тепловыми мезонами. 18 мая. Сегодня Голуб накричал на меня. Произошло это вот как: он показывал мне свои расчеты „задачи о нейтриде“. Там у него получилось что-то невразумительное — будто бы ядра тяжелых атомов, типа свинца, дают при облучении какое-то странное взаимодействие. Никакого окончательного решения он не получил — слишком сложные уравнения. Однако эти тяжелые ядра подтолкнули его к новой идее. — Понимаете? — втолковывал он мне. — Мезоны сообщают всем ядрам одинаковую энергию, но, чем массивнее ядро, тем меньше оно „нагреется“, тем меньше возбудится от этой энергии. В этом что-то есть. Понимаете? По-моему, нужно еще разок облучить все тяжелые элементы и посмотреть, что получится… Все это было крайне неубедительно, и я сказал: — Что ж, давайте проверим вашу гипотезу-соломинку. Вот тут Иван Гаврилович и взорвался. — Черт знает что! — закричал он. — Просто противно смотреть на этих молодых специалистов: чуть что, так они сразу и лапки кверху! Стоило им прочитать американскую статью, так уж решили, что все пропало… В конце концов, ведь это ваша идея с медленными мезонами, так почему вы от нее сразу отказываетесь? Почему я должен вам доказывать, что вы правы? „Гипотеза-соломинка“! А мы, выходит, утопающие? — Да нет, Иван Гаврилович, я… Откровенно говоря, я растерялся и не нашелся, что ответить. — Что — я? Вы что, считаете, будто эта статейка и несколько опытов перечеркивают все, сделанное нами за год? Это просто трусость! — нападал Голуб. Насилу мне удалось его убедить, что я так не считаю. В общем-то, он прав, если не математически, то психологически: еще далеко не все ясно, и в каждой из неясностей может таиться то ожидаемое неожиданное, которое принято называть открытием. 5 июня. Делаем опыты. Подошли к тепловым мезонам и все чаще и чаще получаем после облучения препаратов нуль радиоактивности. Мне уже полагается отпуск, но брать его сейчас не стоит: в лаборатории и так мало людей. Чертов Яшка! Мне теперь приходится работать и за себя и за него. А другого инженера взамен него нам не дают. В наши опыты уже никто, кажется, не верит… 27 июня. А ведь, пожалуй, наврал этот Вэбстер. Не все вещества отталкивают медленные мезоны. Сегодня облучали свинец, облучали настолько замедленными мезонами, что голубой лучик превратился в облачко. И свинец „впитывал“ мезоны! А масс-спектрографический анализ показал, что у него вместо обычных 105 нейтронов в атомах стало по 130–154 нейтрона. В сущности, это уже не свинец, а иридий, осмий, рений, вольфрам, йод с необычно большим содержанием нейтронов в атомах. Очевидно… Впрочем, ничего еще не очевидно. 5 июля. Получили из висмута устойчивый атом цинка, в котором 179 нейтронов вместо обычных 36! Правда, один только атом. Но дело не в количестве: он устойчив, вот что важно! Такой „цинк“ будет в три с лишним раза плотнее обычного… 16 июля. Эту дату нужно записать так, крупно: Шестнадцатое июля тысяча девятьсот… Эту дату будут высекать на мраморных плитах. Потому что мы… получили!!! На последнем дыхании, уже почти не веря, но получили! Нет, сейчас я не могу подробно: я еще как пьяный и в состоянии писать только одними прописными буквами и восклицательными знаками. Мне сейчас хочется не писать, а открыть окно и заорать в ночь, на весь город: „Эй! Слышите — вы, которые спят под луной и спутниками: мы получили нейтрид!!!“ 17 июля. Когда-нибудь популяризаторы, описывая это событие, будут фантазировать и приукрашивать его со свойственной им художественностью. А было так: три инженера, после сотен опытов уже уставшие ждать, уже стеснявшиеся в разговорах между собой упоминать слово „нейтрид“, вдруг стали получать в последних облучениях великое неожиданное: свинец, превращавшийся в тяжелый радиоактивный йод; сверхтяжелый устойчивый атом цинка из атома висмута… Они уже столько раз разочаровывались, что теперь боялись поверить: вот оно! Облучали ртуть. Был заурядный денек: ветер гнал лохматые облака, и в лаборатории становилось то солнечно, то серо. По залу гуляли сквозняки. Иван Гаврилович уже чихал. Пришла моя очередь работать у мезонатора. Все, что я делал, было настолько привычно, что даже теперь скучно это описывать: загрузил ванночку с ртутью, включил откачку воздуха, чтобы повысить вакуум, потом стал настраивать мезонный луч. В перископ было хорошо видно, как в выпуклое серебристое зеркальце ртути в ванночке упирался синий прозрачный луч. От ванночки во все стороны расходилось клубящееся бело-зеленое сияние — ртуть сильно испарялась в вакууме, и это светились ее пары, возбужденные мезонами. Я поворачивал потенциометр, усиливал тормозящее поле, и мезонный луч слегка изменился в оттенках, стал размываться в облачко. Внезапно (я даже вздрогнул от неожиданности) зеленое свечение ртутных паров исчезло. Остался только размытый пучок мезонов. И свет его дрожал, как огонь газовой горелки. Я чуть повернул потенциометр — пары ртути засветились снова. Должно быть, выражение лица у меня было очень растерянное. Иван Гаврилович подошел и спросил негромко: — Что у вас? — Да вот… ртутные пары исчезают… — Я почему-то ответил ненатуральным шепотом. — Вот смотрите… Пары ртути то поднимались зелеными клубами, то исчезали от малейшего поворота ручки потенциометра. Сколько мы смотрели — не знаю, но глаза уже слезились от напряжения, когда мне показалось, что голубое зеркальце ртути в ванночке стало медленно, очень медленно, со скоростью минутной стрелки, опускаться. — Оседает… — по-прежнему шептал я. Иван Гаврилович посмотрел на меня из-за очков шальными глазами: — Запишите режим… Ну, что было дальше, в течение трех часов, пока оседала ртуть в ванночке, я и сам еще не могу восстановить в памяти. В голове была какая-то звонкая пустота, полнейшее отсутствие мыслей. Подошел Сердюк, подошла Оксана, и все мы то вместе, то по очереди смотрели в камеру, где медленно и непостижимо оседала ртуть. Она именно оседала, а не испарялась — паров не было. Иван Гаврилович курил, потом брался за сердце, морщился, глотал какие-то пилюли — и все это делал, не отрывая взгляда от перископа. Все мы были как в лихорадке, все боялись, что это вдруг почему-то прекратится, что больше ничего не будет, что вообще все это нам кажется… И вот оседание в самом деле прекратилось — над оставшейся ртутью снова поднялись зеленые пары. У Ивана Гавриловича на лысине выступил крупный пот. Мне стало страшно… Так прождали еще полчаса, но ртуть больше не оседала. Наконец Голуб хрипло сказал: — Выключайте, — и тяжело поднялся на мостик, к вспомогательной камере, откуда вытаскивают ванночку. Сердюк выключил мезонатор. Иван Гаврилович перевел манипуляторами ванночку во вспомогательную камеру, поднял руку к моторчику, открывающему люк. — Иван Гаврилович, радиация! — робко напомнил я (ведь ртуть может стать сильно радиоактивной после облучения). Голуб посмотрел на меня, прищурился, в глазах его появилась веселая дерзость. — Радиации не будет. Не должно быть. — Однако стальными пальцами поднес к ванночке трубочку индикатора. Стрелка счетчика в бетонной стене камеры не шевельнулась. Голуб удовлетворенно засопел и открыл люк. Когда ртуть слили, на дне ванночки оказалось черное пятно величиной с пятак. Стали смотреть против света, и пятно странно блеснуло каким-то черным блеском. Отодрать пятно от поверхности фарфора не было никакой возможности — пинцет скользил по нему. Тогда Иван Гаврилович разбил ванночку: — Если нельзя отделить это пятно от ванночки, будем отделять ванночку от него! Фарфор стравили кислотой. Круглое пятно, вернее клочок черной пленки лежал на кружке фильтровальной бумаги… Потом уже мы измерили его ничтожную микротолщину, взвесили (пятно весило 48,5 грамма), определили громадную плотность. Неопровержимые цифры доказали нам, что это ядерный материал. Но сейчас мы видели только черную пленку, крошку космической материи, полученную в нашей лаборатории. — Вот! — помолчав, сказал Иван Гаврилович. — Это, должно быть, и есть то, что мы назвали „нейтрид“. — Нейтрид… — без выражения повторил Сердюк и стал хлопать себя по карманам брюк — должно быть, искал папиросы. А Оксана села на стул, закрыла лицо ладонями и… расплакалась. Мы с Голубом бросились ее утешать. У Ивана Гавриловича тоже покраснели глаза. И — черт знает что! — мне, не плакавшему с глупого возраста, тоже захотелось всласть пореветь. В сущности, мы — простые, слабые люди! — вырвали у природы явление, величие которого нам еще трудно себе представить, все свойства которого мы еще не скоро поймем, все применения которого окажут на человечество, может быть, большее влияние, чем открытие атомного взрыва. Мы много раз переходили от отчаяния к надежде, от надежды — к еще большему отчаянию. Сколько раз мы чувствовали злое бессилие своих знаний перед многообразием природы, сколько раз у нас опускались руки! Мы работали до отупения, чуть ли не до отвращения к жизни… И мы добились, а когда добились, не знаем, как себя вести. Потом реакция прошла. Оксана успокоилась. Сердюк отошел куда-то в сторону и вернулся с бутылкой вина. В химшкафчике нашлись две чистые мензурки и два химических стаканчика. — Алексей Осипович, ты когда успел сбегать в магазин? — удивился Голуб. Сердюк неопределенно пожал плечами, вытер ладонью пыль с бутылки, разлил вино по стаканчикам: — Скажите тост, Иван Гаврилович… Голуб поправил очки, торжественно поднял свою мензурку. — Вот… — Он в раздумье наморщил лоб. — Мне что-то в голову ничего этакого, подобающего случаю, не приходит. Поздравить вас? Это слишком… банально, что ли? Это огромно-то, что сделано. Мы и представить сейчас не можем, что означает эта ничтожная пленочка нейтрида. Будут машины, ракеты и двигатели, станки из нового, не виданного еще на земле материала сказочных, удивительных свойств… Машины — для людей!.. Да, для счастья людей — это главное! Для человека, дерзкого и нетерпеливого мечтателя и творца! — Он помолчал. — Думали ли вы, каким будет человек через тысячу лет? Я думал. Многие считают, что тогда люди будут настолько специализированы, что, скажем, музыкант будет иметь другое анатомическое строение, чем летчик, что физик-ядерщик не сможет понять идеи физика-металлурга, и так далее. По-моему, это чушь! — Иван Гаврилович поставил мешавшую ему мензурку с вином на стол, поднял ладонь. — Чушь! Тогда, могучие в своих знаниях, накопленных тысячелетиями, повелители послушной им огромной энергии — люди будут великолепны в своем разнообразии. В них будет естественно сочетаться то, что у нас носит характер узкой одаренности. Каждый человек будет писателем, чтобы прекрасно излагать свои прекрасные мысли; он будет художником, чтобы полно и ярко выражать свои ощущения; он будет ученым, чтобы творчески двигать науку; философом, чтобы мыслить самостоятельно; музыкантом, чтобы чувствовать и выражать в звуках тончайшие движения души; инженером, потому что он будет жить в мире техники. Каждый обязательно будет красивым. И то, что мы называем „счастьем“ — редкие мгновения, вроде этого, — для них будет обычным душевным состоянием. Они будут счастливы ежедневно, ежечасно! Да, все было необычно: Иван Гаврилович, хмурый, сердитый, а порой и несправедливо резкий, оказался великолепным и страстным мечтателем. Ему не шло мечтать: маленький, толстый, лысый, со смешным лицом и перекосившимися на коротком носу очками, он стоял, нелепо размахивая правой рукой, но голос его звучал размеренно и крепко: — Вот какие станут люди! И все это для них будет так же естественно, как для нас с вами прямохождение… И эти великолепные и совершенные люди, может быть, читая о том, как мы — на ощупь, в темноте незнания, с ошибками и отчаянием — искали новое, будут снисходительно улыбаться. Ведь и мы подчас так улыбаемся, читая об алхимиках, которые открыли винный спирт и под его воздействием решили, что это „живая вода“, или вспоминая, что в начале девятнадцатого века физики измеряли электрический ток языком или локтем… Понимаете, для наших внуков этот нейтрид будет так же обычен, как для нас сталь. Для них все будет просто… — Голуб помолчал. — Но все-таки это сделали мы, инженеры двадцатого века! Мы, а не они! И пусть они вспоминают об этом с почтением — без нас не будет будущего… — И Иван Гаврилович почему-то погрозил кулаком вверх. 18 июля. Сегодня снова включили мезонатор и облучали ртуть. Всем было тревожно: а вдруг больше не получится? Но снова, как тогда, под пучком мезонов в ванночке оседало блестящее зеркальце ртути, исчезали зеленые пары, и на дне осталось черное пятнышко нуль—вещества… Нет, это открытие не имеет никакого отношения к Его Величеству Случаю: оно было трудным, было выстрадано, и оно будет надежным. Сегодня же измерили, более или менее точно, плотность первого листика нейтрида. Это было сложно, потому что толщина его оказалась неизмеримо малой, за пределами измерений обычного микроскопа. С трудом определили толщину на электронном микроскопе: она оказалась равной примерно 3 А° — трем ангестремам. Толщина атома! Стало быть, объем пленки № 1 — около шести стамиллионных кубического сантиметра, а плотность около ста тонн в кубическом сантиметре. Весомое „ничто!“ 20 июля. Сегодня в лаборатории сопротивления материалов произошел конфуз. Пробовали определить механическую прочность пленки нейтрида на разрыв: 450-тонный гидравлический пресс развил предельное усилие… и лопнула штанга разрывного устройства! Пленка нейтрида — в десятки тысяч раз более тонкая, чем папиросная бумага! — выдержала усилие в 450 тонн, то, чего не выдерживают стальные рельсы! Стало быть, нейтрид в полтора миллиарда раз (а может, и больше!) прочнее стали. Когда обсуждали проект нейтрида, скептики говорили: „Ну хорошо, вы получите материал в миллионы раз прочнее всех обычных, но ведь он будет во столько же раз и тяжелее?“ Давайте прикинем, граждане скептики: нейтрид тяжелее стали в 150 миллионов раз, а прочнее ее не менее, чем в полтора миллиарда раз. Десятикратный выигрыш в весе! То есть выходит, что нейтрид как материал не самый тяжелый, а самый легкий из всех. Тогда нам нечего было возразить — мы не могли теоретически вычислить это. А пока многое еще неизвестно — скептики уверены, они всегда в состоянии доказать: чего нет, того и не может быть… Но покажите мне хоть одного скептика, который бы получил новое, добился нового! Не стоит и искать… Потому что правда скептиков — это правда трусости! А Яшка? Сегодня в обеденный перерыв столкнулись во дворе. Он сделал маневр, чтобы обойти меня незамеченным, но я его окликнул. Он без обычных выкрутасов подошел, протянул руку: — Поздравляю тебя! Здорово вы дали!.. — Да и тебя тоже следует поздравить, — не очень искренне ответил я. — Ведь ты тоже работал… — Ну, незачем мне приклеиваться к чужой славе! — резко ответил он. — Обойдусь! — и пошел. Неловкий вышел разговор. Да… Были мы с ним какие ни есть, а приятели: вместе учились, вместе приехали сюда, вместе работали. А теперь… Поздновато сработало твое самолюбие, Яшка! 28 июля. В химическом отношении нейтрид мертв, совершенно бесчувствен: он не реагирует ни с какими веществами. Этого и следовало ожидать — ведь в нем просто нет атомов, нет электронов, чтобы вступать в химическую реакцию. И еще: эти пленки нейтрида не пропускают радиацию частиц: протонов, нейтронов, быстрых электронов, альфа-частиц и так далее. И только в ничтожном количестве пропускают гамма-лучи: пленка нейтрида толщиной в несколько ангстерм ослабляет гамма-излучение примерно так же, как стена из свинца толщиной в метр! То есть и здесь то же самое: радиоактивная прочность в миллионы раз больше, чем у обычных материалов. Вот он — идеальный материал для атомной промышленности! Найденная прирученная человечеством колоссальная ядерная энергия получила наконец равный ей по силе материал. Два богатыря! 31 июля. Все уменьшается или увеличивается в миллионы раз. Теплопроводность нейтрида в несколько миллионов раз меньше теплопроводности, скажем, кирпича; мы нагревали пленку с одной стороны в пламени вольтовой дуги несколько часов — и так и не смогли измерить сколько-нибудь значительное повышение температуры на другой стороне… Теплоемкость нейтрида в сотни миллионов раз больше теплоемкости воды; потом эту же пленку мы в течение двух дней охлаждали „сухим льдом“, жидким азотом и чуть ли не целой рекой холодной воды: она запасла миллионы больших калорий тепла и не отдавала их. Наш так называемый здравый смысл, воспитанный на обычных представлениях, на обычных соотношениях между свойствами, протестует против таких цифр и масштабов. Мне было физически мучительно держать на ладони наш второй образец — кружок пленки нейтрида, неизмеримо тонкий, — и чувствовать, как его десятикилограммовая тяжесть невидимой гирей напрягает мускулы! Мало знать, что это вещество состоит из ядерных частиц, которые в тысячи раз меньше атомов, и что внутри его взаимодействуют ядерные силы, в миллиарды раз сильнее обычного междуатомного взаимодействия, — нужно прочувствовать это. К нейтриду, к его масштабам просто следует привыкнуть… Голуб все объясняет просто: нейтрид — нулевой элемент таблицы Менделеева. А известно, что нуль — необычное число, умножение числа на нуль — нуль; деление конечного числа на нуль дает бесконечность, и так далее. Вот то же самое и нуль-вещество: у него все свойства либо нуль, либо бесконечность. …Кстати, я настолько увлекся описанием ежедневно открываемых теперь свойств нейтрида, что совсем перестал отмечать, что делается у нас в лаборатории. Мезонатор сейчас загружен круглые сутки; мы делаем нейтрид в три смены. Тоненькие пленочки — чуть ли не прямо из рук — выхватывают и относят в другие лаборатории: весь институт сейчас изучает свойства нейтрида. Алексей Осипович целыми днями колдует у мезонатора — боится, как бы от такой нагрузки он не вышел из строя. Ему дали двух инженеров в помощь, но он старается не подпускать их к камере. Похудел, притворно ругается: — Вот морока! Лучше б не открывали этот нейтрид! Голуб изощряется в выдумывании новых опытов для определения свойств нейтрида, бегает по другим лабораториям, спорит. Я… впрочем, трудно связно описать, что приходится делать мне: работы невпроворот, вся разная и вся чертовски интересная. Мы находимся в состоянии „золотой лихорадки“: каждый опыт приносит нам новый самородок — открытие. 10 августа. Сердюк говорит: — Вы что думаете: если американцы откроют нейтрид, то так сразу и начнут звонить о нем на весь мир? Это же не атомная бомба — ее нельзя было скрыть уже после первых испытаний, а нейтрид ведет себя тихо… Они так и сделали: опубликовали результаты неудачных опытов, а об удачных промолчали. Может быть, тот же Вэбстер уже получил нейтрид, или как там он у них называется, я не знаю… О-о, это же бизнесмены, пройдохи! — И он смотрит на нас с Иваном Гавриловичем так, будто видит всех этих вэбстеров насквозь. Может, он и прав? Трудно предположить, что Вэбстер и его коллеги остановились на опытах с калием, медью, серой и не проверили все остальные элементы… И еще: после того как мы установили, что осаждается в нейтрид не вся ртуть, а лишь ее изотоп 198, который составляет только 10 процентов в природной ртути (поэтому-то у нас оседала не вся ртуть), я занялся экономикой. Пересмотрел кипы отчетов о мировой добыче ртути, об экспорте, импорте и так далее. И вот что выходит: главные месторождения киновари в мире — Амальден в Испании, Монте-Амьята в Италии, Нью-Амальден в Калифорнии (частью в США, частью в Мексике), Идрия в Югославии и Фергана у нас. Если в 1948 году добыча ртути на зарубежных рудниках достигала 4000 тонн, то в последнее время внезапно она необъяснимо увеличилась почти втрое. А нейтрид требует громадных количеств ртути. Конечно, это еще догадки, но если они оправдаются, то, судя по утроившейся добыче ртути, дело там дошло уже до промышленного применения нейтрида… Ай-ай, мистер Г. Дж. Вэбстер! Не знаю, к сожалению, как расшифровываются ваши „Г“ и „Дж.“! Такую шулерскую игру — и тащите в науку… Нехорошо! 20 августа. Получали — веселились, подсчитали — прослезились… Словом, нейтрид невероятно дорог: килограмм его стоит примерно столько же, сколько и килограмм очищенного полностью урана-235. Но килограмм урана-235 — это год работы атомной электростанции, а килограмм нейтрида — микроскопический кубик со стороной в 0,1 миллиметра. Но что из него можно сделать? Значит, пока мы не найдем дешевого способа применения нейтрида (удешевить производство мы еще не можем), все наши образцы годятся только для музеев. Вероятнее всего, что наиболее выгодно применять нейтрид в виде пленки толщиной много меньше ангстрема. Это будут тончайшие нейтрид-покрытия, защищающие обычный материал от температуры, радиации, разрыва и всего, что угодно. Вчера один плановик из центра, приехавший обсудить перспективы применения нейтрида, обиделся: „Пленки тоньше атома? Вы что, меня за дурака принимаете? Таких пленок не бывает“. Еле-еле мы доказали ему, что из нейтрида, который состоит из ядерных частиц в тысячи раз меньших атома, это делать можно… Его мы убедили, но все-таки как же мы будем контролировать толщину этих пленок? Инструментами, которые состоят из атомов?.. Вот что: нужно обдумать анализ с помощью гамма-лучей! Пожалуй…»ОБЛУЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ПИ-МЕЗОНАМИ
Сообщается о проведенной в институте Лоуренса экспериментальной работе по облучению минус-мезонами различных химических элементов… Опыты показывают, что возбуждение облученных мезонами ядер уменьшается вместе с энергией бомбардирующих мезонов… Однако по мере приближения скорости мезона к скоростям обычного теплового движения частиц (сотни километров в секунду) мезоны начинают рассеиваться электронными оболочками атомов и не проникают внутрь ядер… Облучаемые препараты калия, меди и серы в этих случаях оставались нерадиоактивными…“
Дальше в дневнике Самойлова следуют эскизы приборов, схемы измерений и расчеты, которые мы опускаем, так как не все может быть доступно читателю.
«16 сентября. Иван Гаврилович недели две назад как-то сказал: — Мне кажется, когда мы перейдем предел в один ангстрем, то свойства пленок резко изменятся. По-моему, они будут очень эластичными, а не жесткими, как нынешние. Позавчера Сердюк извлек из кассет куски фантастически тонкой, мягкой, черной ленты. Лента заполняла любую морщинку в бумаге, она сминалась в ничтожный комочек. Измерили на моем гаммаметре толщину: 0,05 ангстрема! — Что я говорил! — торжествовал Голуб, сияя очками. — Она мягкая, как… вода! Видите? Но всех нас потряс Сердюк. Он, видно, давно продумал этот эффект. Во всяком случае, у него все было готово. Одна из лент даже имела специальные утолщения на концах. Он достал из своего стола какое-то приспособление, похожее на лобзик, зажал в него пленку с утолщениями, натянул ее и обратился к нам со следующей речью: — Вы думаете, что представляете себе, что такое пленка толщиной в пять сотых ангстрема? Нет, не представляете. Вот, смотрите. — Сердюк наставил свое устройство с пленкой на обрубок толстого стального прута и легко, без нажима провел пленку сквозь него — прут остался целым. — Вот видите, как сквозь воздух проходит! — Он подал прут мне: — На, найди, где я резал. На прутке не осталось никаких следов. Сердюк, торжествуя, сказал: — Такая пленка уже не разрушает междуатомные связи, понятно? Итак, считаю предварительную морально-теоретическую подготовку законченной. Теперь слабонервных и женщин прошу отойти… Он закатал рукав халата на левой руке, снял часы. Потом вытянул руку и на запястье, на то место, где кожа под ремешком осталась белой, наставил пленку нейтрида. Затем размеренно, без усилия провел ее… сквозь руку! Даже не провел, а погрузил в руку. Мы не то чтобы не успели, а просто не смогли ахнуть. Оксана, стоявшая здесь, зажала себе ладонями рот, чтобы не закричать, и страшно побледнела. Черная широкая лента вошла в руку. Край ее выступал с одной стороны, резко выделяясь на фоне белой кожи. Мучительно медленно (так показалось мне) пленка прошла через мясо и кость запястья, отрезая кисть, и вышла с другой стороны. Мгновение казалось, что она целиком отделяла кисть от остальной части руки. На кисти набухли жилы. Лицо Сердюка было напряженным. Потом пленка целиком вышла с другой стороны. Доли секунды затаив дыхание все ждали, что вот сейчас кисть отвалится и хлестнет кровь. Но Алексей Осипович спортивно сжал ее в кулак, распрямил и „отрезанной“ рукой полез в карман за папиросой. — Эх, жаль киносъемочной камеры не было! — улыбнулся он закуривая. Иван Гаврилович вытер выступивший на лысине пот, внимательно посмотрел на Сердюка и рявкнул: — Голову себе нужно было отрезать, а не руку, черт бы тебя побрал! Трюкачество! Аттракционы мне здесь будет устраивать! — Ну что вы, Иван Гаврилович, какие аттракционы? — Сердюк искренне развел руками. — Обыкновенная научная демонстрация свойств сверхтонких пленок нейтрида. Что ж тут такого? — Вот я вам выговор по институту закачу, тогда поймете! — Голуб от возмущения даже перешел на „вы“. — Хорошо, что в этой пленке не было никаких случайных утолщений, а то полоснули бы себе… Мальчишество! Однако выговор Сердюку он не „закатил“. 2 октября. Проектируем скафандр из сверхтонкого нейтрида: два слоя нейтрид-фольги, проложенные мипором. Такой скафандр должен защищать от всего: в нем можно опуститься в кипящую лаву, в жидкий гелий, в расплавленную сталь, в бассейн уранового реактора… И весить он должен всего 20 килограммов — совсем немного для прогулок в жерло домны. Последнее время я читал все: наши научные журналы, иностранные сборники переводов, рукописные отчеты о всевозможных опытах. Но дня три не просматривал газет и едва не прозевал интересное событие. Оказывается, над Землей появились два тела снарядообразной формы. Их называют „черные звезды“, потому что они необычно темные. Эти черные звезды движутся на высоте около 100 километров, фактически в стратосфере и — что удивительно! — ни в малейшей степени не тормозятся о воздух. Прежние спутники давно бы сгорели, снизившись до такой высоты, а эти вращаются уже два дня, и до сих пор никто не заметил уменьшения их скорости. Из Пулкова сообщили расчеты баллистической орбиты черных звезд, по которым получается, что средняя плотность их… 1,3 килограмма в кубическом сантиметре. Если предположить, что снаряды не являются монолитами и пусты внутри, это становится похожим на космический нейтрид!.. 15 октября. Нет, это не космический нейтрид. Это вполне земные снаряды, настолько земные, что даже начинены атомной взрывчаткой. Впрочем, слухи относительно атомных зарядов в черных звездах, кажется, преувеличены, однако, никто не может их опровергнуть. Да и не мудрено: до сих пор все державы делают вид, что эти зловещие спутники не имеют к ним никакого отношения. Черт знает, какая опасная затея! И чья? Американцев? Возможно… В мире из-за этого творится невообразимое: жители бегут из городов, газеты выпускают одну сенсацию чудовищнее другой; дебаты в ООН, заявления разных деятелей. Какой-то чин Пентагона (кажется, его фамилия Хьюз или Хьюст) заявил по телевидению, что если хоть один из снарядов упадет на территорию США, то следует немедленно нанести России атомный удар… По расчетам, спутники будут вращаться еще две — три недели. Что-то случится за эти недели!.. 18 октября. Словом, для нас уже очевидно, что эти спутники — черные звезды, — имеют оболочку из нейтрида. За неделю вращения в атмосфере (если считать от момента, когда их впервые заметил этот полтавчанин-астроном) они должны нагреться до десятков тысяч градусов, и радиотермоприборы подтверждают это. Но звезды по-прежнему черные! Да и их удельный вес подтверждает наши догадки. Это безусловно снаряды, а не ракеты: форма говорит об отсутствии реактивных устройств. Значит, где-то должна быть и пушка, выбросившая их; причем эта пушка должна быть тоже из нейтрида. Чтобы сообщить пушечному снаряду скорость 8 км/сек, нужно осуществить управляемую ядерную реакцию, получить температуру не менее 15 тысяч градусов. При меньших температурах газы не будут вылетать из дула с нужной скоростью. Ну, а какой материал, кроме нейтрида, выдержит такое? Так… Теперь, пожалуй, можно объяснить, почему снаряды, вместо того чтобы попасть в какую-то определенную цель, уже целую неделю летают без толку. Все дело в погрешности. Возможно, что пушку проектировали с испытательными целями: для стрельбы на далекие расстояния, через континенты, в пику нашим баллистическим ракетам. А для этого нужно, чтобы снаряды имели скорость, близкую к 7,9 км/сек, и в то же время не перешли этот предел. Значит, необходимо с предельной точностью выдерживать температуру цепной реакции, что очень непросто. При испытаниях пушки, очевидно, не смогли точно выдержать скорость, она превысила критическую — и снаряды стали спутниками Земли. А теперь они — те, которые палили, — оконфузились и молчат: снаряд не воробей — вылетит, не поймаешь. Очередная неудача… Хотели испугать весь свет, а теперь сами испугались. Да, Земля слишком рискованное место для полигона. 20 октября. Заканчиваем первый скафандр из пленки нейтрида. Разрабатываем методы испытания его. Ивана Гавриловича вчера спешно вызвали в Москву. Соображение, что черные звезды из нейтрида, очевидно, заинтересовало не только нас. Сегодня я допоздна остался в лаборатории и видел, как высоко в холодном синем небе летела маленькая черная пулька — снаряд. Приказом велено предпринять кое-какие меры противоатомной защиты. 29 октября. В сущности, это первое приключение в моей жизни. Постараюсь описать его подробнее. Впрочем, назвать „приключением“ это можно с большой натяжкой: просто мы с Иваном Гавриловичем участвовали в одной несколько необычной экспертизе. Еще из Москвы Голуб дал телеграмму: „Немедленно заканчивайте скафандр“, а на следующий день прилетел и сам. Скафандр был почти готов — черный шелковистый мягкий костюм, вроде спортивного, с круглым шаром для головы и двумя выпуклыми рыбьими глазами на уровне рта; чтобы защитить глаза от прямых лучей, мы сделали перископическую приставку. Иван Гаврилович заставил меня примерить костюм (Оксана нашла, что скафандр мне идет), критически осмотрел: — Радио не наладили? Герметичность при высоких температурах не проверяли? — Нет… не успели еще. — Я был заинтригован этой спешкой. — Да выдержит, — заявил Сердюк. — В таком костюме я берусь отправиться хоть в пекло! — Нет, — подумав, возразил Голуб, — на этот раз в пекло предлагается отправиться не тебе, Алексей, а… — Он внимательно посмотрел на меня. — … Николаю Николаевичу. А инженер Сердюк, насмерть скомпрометировавший себя отрезыванием конечностей, останется замещать начальника лаборатории. Сердюк обиженно хмыкнул: — Подумаешь… — и закурил от огорчения. — Давайте домой, Николай Николаевич! Оденьтесь потеплее и на аэродром. Через два часа улетаем. — Зачем — потеплее? Разве в пекле прохладно? — пустил я пробную шутку. Но Голуб уже смотрел на часы: — Давайте скорее!.. И не пытайтесь выведать — что, как, зачем и куда. Все равно до вылета ничего не скажу. Сейчас не до праздного любопытства… В самолете Голуб молчал. Я не расспрашивал. Пробивались сквозь облачность — белая плоскость крыла ушла в густой туман. Ревели моторы, в кабине дребезжала какая-то плохо закрепленная железка. Внезапно выскочили в солнечную прозрачную синеву. Внизу бугрились холмы туч. — Будут пытаться сбить эти черные звезды… А нам предстоит засвидетельствовать, что они из нейтрида, — неожиданно сказал Голуб. — Иван Гаврилович, а… как же насчет международного права? — спросил я. — Ведь эти снаряды, вероятно, американские? — Что-о? — сердито скосил глаза Голуб. — Кто вам сказал? Может быть, сами американцы, по секрету? Но они помалкивают, воды в рот набрали… А если эти неизвестно чьи снаряды действительно несут ядерную взрывчатку? А если они упадут где-то в населенной местности да взорвутся? Вы знаете, что тогда может начаться? Это, если хотите, международная обязанность наша — устранить угрозу всему миру, а не только „право“. Ну, а кроме того, наше правительство уведомило державы через ООН, и протестов не поступило… — Иван Гаврилович фыркнул: — Тоже мне дипломат!
На белом полотне равнины были разбросаны темные силуэты машин, радарных установок, точки людей. Серый полярный день давал мало света. Под низкими тучами было тускло, сумрачно. Однообразие тундры сужало горизонт. Только в одном месте, на западе, тучи оттеняли контуры стартовых ракетных башен. Я не слишком серьезно отнесся к совету Ивана Гавриловича одеться потеплее и теперь бодро приплясывал в своих ботиночках на скрипящем снегу. Ух, и мороз же был! Ноги коченели. И Голуб хорош своей таинственностью: не мог объяснить обстоятельно. Кто же думал, что нас занесет на Север! Однако уходить в палатку не хотелось. Нам с Иваном Гавриловичем еще нечего было делать. Мы стояли в стороне, стараясь никому не мешать, и наблюдали. Мы находились в оперативном центре, управляющем всей этой сложной системой. В палатку сзади нас то и дело пробегали озабоченные люди; рядом, на аэросанях, стояли серо-белые, под цвет тундры, будки радаров; возле них возились операторы в коротких полушубках, с красными от мороза руками и лицами. По снегу, извиваясь, тянулись толстые кабели; они уходили туда, где ревели силовые передвижки. — Ни разу не были на испытаниях крупных ракет?.. — спросил меня Голуб. У него тоже посинел нос от холода. — Жаль, на этот раз мы ничего не увидим — тучи! — А как же они будут наводить? — Я показал на радистов. — Они не будут наводить, будут только следить. Даже если бы была прекрасная видимость, люди никогда не смогли бы навести ракету так точно, как это сделают вычислительные электронные устройства. Человеческое мышление слишком инерционно, а ведь здесь скорость сближения в десять или даже больше километров в секунду. Так что наводить визуально нельзя, обязательно промажешь. Полетят, понимаете ли, ракеты с тепловыми головками — чертовски чувствительные термоприборы и автоматика! Остроумная штука! — Иван Гаврилович потер руки не то от удовольствия, не то от холода и увлеченно показал в сторону стартовых башен. — Ведь черные звезды от долгого трения о воздух нагрелись до страшной температуры. А тепловая головка почувствует тепло этих звезд на расстоянии прямой видимости. На высоте семидесяти километров ракеты увидят цель за две тысячи километров! С земли радары заметили бы ее только за пятьсот — шестьсот километров! Нет, право, молодцы эти ракетчики, все рассчитали до секунды: как только „спутник“ появится на юге на широте Алма-Аты — сразу сигнал, уточненные данные о траектории, и старт… — Ракеты атомные? — А как же! Снаряд нужно обязательно сбить здесь, на безлюдных просторах. Потом лови момент… Из палатки, пригнувшись, одевая на ходу шапку, вышел руководитель операции — подтянутый старик с бородкой и в очках. Он посмотрел на часы, потом на небо, подергал себя за бородку. „Наверное, читает лекции в каком-нибудь техническом институте, — подумал я, — и не очень строг на зачетах“. Он подошел к нам: — Вы шли бы в палатку, Иван Гаврилович, все равно ничего не увидите. Только замерзнете. Вон молодой человек уже совсем закоченел… — Ничего, товарищ профессор! —шутливо вытянулся перед ним Голуб. — Здесь нам интереснее… Скоро? — Жду сигнала из Туркмении. — Профессор снова посмотрел на часы. Он, видимо, волновался: потер руки, достал из полушубка портсигар, закурил. — Ну, сейчас должен быть сигнал… Простите, я оставлю вас. — Он повернулся к палатке. Но в это время из нее выскочил связной и доложил: — Сигнал принят! Высота шестьдесят километров, направление — точно расчетное. — Хорошо. Микрофон! — Слушаюсь! Связной нырнул головой в палатку и вместе с двумя радистами выкатил из нее портативную радиоустановку. Профессор подошел к микрофону: — Внимание всем! — Голос его теперь звучал властно, лицо стало сердитым. — Доложить готовность стартовых установок! — Ракета номер один готова! — прозвучал в динамике хрипловатый от помех бас. — Ркетанмердвагтова! — единым духом отрапортовал звонкий юношеский голос. — Ракета номер три готова! — Ракета номер четыре готова! — Так. Доложить готовность радионавигационных установок! — разнесли радиоволны по тундре голос профессора. — Радиолокаторы наблюдения за черным спутником готовы! — Радиолокаторы наблюдения за ракетами готовы! — Радиоприцелы готовы! — Слушать всем! Приготовиться к старту через полторы минуты по моему сигналу. На радиоустановке замигала красная лампочка приема. Оператор, склонившись к щитку, переключил несколько рычажков. Теперь говорили пункты наблюдения У меня возникло ощущение, что они будто по цепочке передают спутник-снаряд из рук в руки. — Спутник прошел сорок пятую параллель. Направление расчетное… — Спутник прошел пятьдесят первую… — Спутник прошел пятьдесят третью… Профессор взглянул на хронометр, кивком головы приказал оператору выключить прием. Не сводя глаз с хронометра, нагнулся к микрофону: — Внимание всем! — и будто выстрелил голосом: — Старт!!! Вдали, на западе, ажурные стартовые вышки, снег и тучи осветились алыми вспышками. Я увидел, как пламя поползло вверх по башням; маленькие веретенообразные тела несколько долей секунды противоестественно висели в воздухе, опираясь на столбы огня, потом метнулись к тучам. Секундой позже накатился рокочущий грохот стартовых взрывов. Еще через секунду ракеты исчезли за тучами. Когда стартовые раскаты стихли, стало слышно тоненькое пение моторчиков — это на будках радаров вслед за ракетами поворачивались, будто уши насторожившегося зверя, параболические антенны. Я увидел, как зеленые линии на экранах радаров изломились двумя всплесками: радиоволны, отразившиеся от ракет, летели к антеннам. Всплески постепенно раздвигались. — Высота тридцать километров! — выкрикивал озябшим голосом оператор в полушубке. — Тридцать пять!.. Сорок!.. Пятьдесят километров! Шестьдесят пять! И вот параболические антенны радаров замерли на мгновение и начали медленно поворачиваться налево: это там, за тучами, в разреженном синем пространстве, изменили курс четыре ракеты с атомными зарядами, почувствовав тепловое излучение приближающегося спутника. — Ракеты легли на горизонтальный курс! Несколько секунд прошло в молчании. Профессор смотрел то на хронометры, то на экраны радаров. Внезапно оператор локатора, антенны которого были направлены на юго-запад, крикнул: — Есть спутник! Все повернулись к нему. Антенна этого локатора тоже ожила и начала заметно поворачиваться направо. Маленький штрих, пересекавший светящуюся линию пучка электронов на экране, постепенно вырастал. Вот навстречу этому штриху, обозначавшему снаряд-спутник, с другого края экрана поползли четыре тоненьких зеленых черточки — ракеты. Они сближались медленно, как букашки… Тучи, проклятые тучи! За их завесой с космическими скоростями неслись навстречу друг другу смертоносные снаряды, начиненные атомной взрывчаткой, а здесь все это выглядело крайне невыразительно: медленно ползут по экрану зеленые черточки: четыре справа и одна слева. Вот они почти сошлись, и… в ту тысячную долю секунды, которую осталось пройти ракетам до встречи со спутником, автоматически сработали электронные взрыватели урановых зарядов — вспыхнул атомный взрыв. Перед снарядом встала стена энергии, стена света и газов… На экране локатора все это выразилось так: всплески и светящаяся линия разбились на множество тонких зубчатых кривых, которые на несколько секунд заполнили весь экран, а потом исчезли. Из светящегося хаоса возник один всплеск и стал быстро перемещаться по экрану. Этого никто не ожидал. — Черная звезда падает! — воскликнул оператор. — Она не взорвалась, она падает! — Странно… — негромко сказал Голуб. — Почему же снаряд не взорвался? Профессор пожал плечами: — Возможно, это была просто испытательная болванка, а не боевой атомный снаряд… — Товарищ профессор, — раздался голос в динамике, — спутник падает в квадрат „40–12“. — Ага! Ну, пусть приземляется… — Профессор снял папаху и подставил разгоряченную лысину морозному ветерку, потом подозвал связного инженера: — Скомандуйте, пожалуйста, „отбой“. Я покурю… — Слушаюсь! — Инженер подошел к радиоустановке и весело пропел: — Группа, слуша-ай! Отбо-ой! Мы смотрели на запад: там посеревшие к сумеркам тучи быстро таяли, очищая огромный круг синего неба, на котором уже загорались звезды. Атомная вспышка, распространяясь к земле, испарила тучи. Вдруг почва под ногами упруго дрогнула. — Товарищ профессор, спутник упал в квадрате „40–12“! — доложил тот же наблюдатель. Профессор повернулся к нам: — Ну, Иван Гаврилович и… э-э… — он посмотрел на меня, пытаясь вспомнить мое имя и отчество, но не вспомнил, — и товарищ Самойлов, теперь выполняйте вашу задачу… Однако пора и спать — первый час ночи. Завтра надо подняться с рассветом. Эк, я расписался сегодня! Впрочем, допишу уж до конца. На нашу долю пришлось немного: посмотреть на упавший снаряд вблизи и с возможной достоверностью установить: нейтрид это или нет? Сперва мы пролетели над местом падения на вертолете, но ничего не рассмотрели: в квадрате „40–12“ горела земля. Нагревшийся до десятков тысяч градусов от многодневного движения в атмосфере, да к тому же еще и подогретый вспышкой четырех урановых ракет снаряд грохнулся в тундру, и вечная мерзлота вместе с мохом и снегом вспыхнула, как нефть, не успев растаять. Уже наступила ночь. И в темноте этот гигантский костер огня, дыма и пара освещал равнину на километры во все стороны; даже сквозь шум винтов был слышен треск горячей почвы и взрывы пара. Потом мы немножко поспорили с Иваном Гавриловичем, но я все-таки убедил его, что идти нужно сейчас — ведь снаряд может проплавить почву на десятки метров в глубину, ищи его потом! Словом, мы приземлились, я одел скафандр и направился к „костру“. Идти было нелегко: в скафандре было душно, его тяжесть давила, баллончики с кислородом колотили по спине, в перископические очки было видно не так уж много. Словом, конструкцию скафандра, наверное, придется еще дорабатывать… Сперва навстречу бежали ручьи растаявшего снега; потом они прекратились, из черной почвы валил пар. Некоторое время я брел, ничего не видя в этом тумане, и внезапно вырвался из него прямо в огонь. Странно: я не боялся, только где-то вертелась неприятная мысль, что скафандр не испытан. В сущности, жизнь не так уж и часто награждает опасностями работу инженера. Мне просто было интересно… Передо мной лежало озерцо расплавившейся земли: темно-красное у краев, оно накалялось к середине до желто-белого цвета. Жар пробивался сквозь призмы перископической приставки. Я уменьшил диафрагму. Теперь среди раскаленных паров было видно темное цилиндрическое тело, до половины окунувшееся в лаву. „Значит, неглубоко!“ И я шагнул в озерцо. Странное было ощущение: ноги чувствовали, как у самых колен содрогается и бурлит розовая огненная жидкость, но не ощущали ни малейшего тепла! До снаряда оставалось несколько метров — белая лава кипела вокруг него, черный цилиндр дрожал в ее парах. Было трудно рассмотреть детали: я видел лишь тыльную часть снаряда, напоминавшую дно огромной бутылки, — остальное было погружено в лаву. На выступавшем из лавы боку снаряда я еще заметил два скошенных жерла-отверстия. Они, оказывается, корректировали движение снаряда дополнительными ракетными взрывами — чтоб точнее было. И все равно ничего не вышло!.. Скоро призмы помутнели, от жара начала плавиться оптика. Я повернул назад. Да, несомненно, снаряд был из нейтрида… На следующий день снаряд ушел глубоко в землю; над ним кипело только озерцо лавы. Второй спутник сбили в тот же день, часа на два позже. 10 ноября. Сейчас в правительстве решается вопрос о заводе нейтрида. Мы втроем: Иван Гаврилович, Сердюк и я — все дни сидим и составляем примерную смету и технологический проект. 25 ноября. Итак, решено: завод будут строить в Днепровске, в Новом поселке. Это на окраине. Сейчас там уже воздвигают корпуса для цехов, подводят высоковольтную линию передачи. Целое конструкторское бюро трудится, разрабатывает по нашим наметкам мезонаторы-станки. Эти мезонаторы будут делаться из нейтрида: тонкие листы покрытой нейтридом стали вместо бетонных и свинцовых стен; небольшие компактные установки, размером с токарный станок, внутри которых в космической пустоте будут действовать электрические поля в сотни миллионов вольт; мощные магнитные вихри; громадные излучения и световые скорости частиц… Великолепные мезонаторы! Меня, очевидно, направят на этот завод. Пока я еще в лаборатории, потому что здесь делаются пластины для первых мезонаторов-станков. Но постепенно мне приходится все дальше и дальше отходить от дел 17-й лаборатории: езжу в Новый поселок, наблюдаю за строительством, консультирую конструкторов. В лаборатории на меня уже смотрят как на чужого. Иван Гаврилович поглядывает из-под очков хмуро, неодобрительно. Вчера он не выдержал: — Напрасно вы это затеяли, Николай Николаевич, — перебираться на завод! Да! Вы уже нашли свое призвание — вы экспериментатор, а не технолог. Стоит ли искать другого? — Да, но ведь я не по своей охоте — нужно! Уж если не нам браться за это дело, так кому же?.. Это объяснение для Ивана Гавриловича. А для себя? А для себя вот что: во-первых, конечно, я там сейчас нужнее; во-вторых, кажется, в ближайшее время в 17-й лаборатории ничего интересного не произойдет; в-третьих, не хватит ли мне работать подручным у Голуба? Нужно попробовать и самому… 30 ноября. С завтрашнего дня я уже не сотрудник 17-й, а главный технолог нейтрид-завода. Мезонаторный цех уже готов (темпы советские!). Будем собирать первый мезонатор из нейтрида и для нейтрида. Снова начинается зима: мокрыми лепешками падает снег, прохожие очень быстро становятся похожими на снежную бабу. Сыро и не очень холодно. Сегодня прощался с лабораторией. Конечно, я буду бывать у них очень часто — без Голуба не обойдешься. Сердюк тоже разбирается в нейтриде и мезонаторах не хуже меня. Но сегодня я ушел от них, как сотрудник, как свой парень, как „Колька Самойлов“ — для Сердюка, как „дядя, достаньте воробушка“ — для Оксаны… Ушел, как товарищ по работе. Было грустно и немного неловко. Как водится, старались шутить. Сердюк сказал: — Почтим его память молчанием, и черт бы его взял! Все в самом деле замолчали, будто я уже умер! Мне пришло в голову: пожалуй, если бы не были эти полтора года такими трудными, если бы они не были так насыщены мечтой о нейтриде, борьбой за нейтрид, неудачами, разочарованиями и радостью открытия, — уйти было бы гораздо проще и легче. Эти полтора года сблизили нас крепко и навсегда. Как определить степень родства тех, кто вместе творит? Они больше, чем братья. Они — как отцы одного ребенка, имя которому — Новое. — А что, Иван Гаврилович, ведь нет худа без добра? — сказал я, чтобы увести разговор от излишнего внимания к моей личности. — Если бы не эти черные звезды, пожалуй, нейтрид-завод не появился бы так скоро, верно? Голуб помолчал. — Верно-то верно… Только в этом „добре“ слишком много „худа“, Коля. (Он впервые назвал меня Колей.) Представьте себе: две партии людей через одну и ту же скалу роют два туннеля втайне друг от друга, опасаясь, как бы одни не услышали стук кирок других… Так и здесь. Ведь если они, американцы, работали над получением нуль—вещества, то и у них были неудачи, наши разочарования, наши ошибки. Может быть, и у них был период такого же отчаяния, когда они обнаружили, что минус-мезоны отталкиваются электронными оболочками атомов… Глупое, нелепое положение! В сложное время мы живем. Сейчас, когда каждое новое открытие требует громадной работы, громадного напряжения от многих исследователей, они предпочитают разъединяться, вместо того чтобы соединяться в работе; лгать и изворачиваться, вместо того чтобы вместе обсуждать непонятное. А открытия становятся все громаднее, все сложнее, все непонятнее. Каждое из них затрагивает уже не только ученых, а всех людей земли… Страшно подумать, к чему это может привести!.. Да, он прав. Угробить столько нейтрида на эти нелепые снаряды — и зачем? Чтобы напугать нас? Это даже не смешно. После того, что я видел в тундре, я понял, что у нас, в случае чего, каждый инженер станет офицером, каждый профессор — генералом. Нет, нас не запугаешь! А сколько мезонаторов или реакторов для электростанций можно было бы сделать из этих выброшенных на ветер 900 тонн нейтрида? Впрочем, я уже начинаю рассуждать, как технолог. Ладно, может, не так уж плоха эта сложность нашего времени. Как и сложность в науке — она приводит к новому в конце концов. И не мы запустили такие „спутники“. И раз нейтрид найден, мы используем его поумнее, чем американцы. Значит, завтра на завод! Новые дела, новые люди…»
БЕЛАЯ ТЕНЬ
Дальнейшие события распространяются широко и захватывают слишком много людей, чтобы мы смогли описать их только с помощью дневника Н. Н. Самойлова. К тому же описание Самойлова страдает, как, возможно, это уже успел заметить читатель, неполнотой, а характеристики людей пристрастны и довольно-таки поверхностны. Да это и понятно: ведь он инженер, глубоко вникает в научные проблемы, они волнуют его гораздо больше, чем поступки знакомых. Да ему и некогда скрупулезно разбираться в их переживаниях. Читатель, возможно, посетует, что и во второй части события описаны разрозненно и несвязно: это записи в лабораторных журналах и газетные сообщения, рассказы очевидцев и протоколы неудавшегося расследования, наблюдения астрономов и новые странички из дневника Самойлова. Автор не хочет скрывать от читателей, что многое пришлось додумывать, что не раз усилиями воображения восполнялся недостаток сведений и улавливалась связь событий. Многим это может не понравиться: ну, дескать, раз уж сам автор признается, что он кое-что придумал, значит, дело плохо! Но это не так. Даже научные теории создаются из нескольких отрывочных опытных фактов, далеко не полно описывающих явления природы; порой они скорее вызывают недоумение. Величайшая теория нашего времени — теория относительности — возникла всего из двух экспериментальных фактов: постоянство скорости света в пустоте и постоянство ускорения земного тяготения. Ученый силой воображения находит логическую связь между явлениями природы. И от литератора, который пытается описать несравненно более сложные явления жизни, нельзя требовать большего.ПРОЕКТ КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
Лопасти винта геликоптера слились в серебристый прозрачный круг; сквозь него были видны дрожащий желтый диск солнца, размытые очертания облаков. Внизу, с полуторамильной высоты, перемещалась плоская земля, аккуратно нарезанная прямоугольниками желтых кукурузных полей, зелеными квадратами виноградников и чайных плантаций. Вдали поднимались Кордильеры, сизо-коричневые горы, похожие на геологический макет. Внизу царил июльский зной. Здесь же, на высоте, было довольно прохладно. Вэбстер поеживался в своем полотняном костюме и с завистью поглядывал на генерала Хьюза — тот был в плотном комбинезоне из серой шерсти и не чувствовал холода. Геликоптер летел на запад, к горам. Вот внизу возникла широкая голубая лента реки Колорадо в бело-желтых песчаных берегах. К югу, за рекой, показались десятки приземистых и длинных корпусов из серого бетона с узкими, похожими на бойницы окнами. Дальше были видны трехэтажные жилые дома. Сюда, к этому городку, с трех сторон шли серые ленты шоссе, тянулись через реку нити высоковольтной линии; по игрушечным грибообразным будкам охраны можно было увидеть весь многомильный периметр оцепленной зоны. — Нью-Хэнфорд… — Вэбстер наклонился к окну кабины. — Что? — Генерал не расслышал из-за наполнявшего кабину жужжания. — Нью-Хэнфорд! — повысил голос Вэбстер. — Ага! — Генерал тоже склонился к окну, перегнувшись через сиденье Вэбстера, так что тот почувствовал его теплое рыхлое плечо. Генерал надел очки, довольно посопел. — Гм… точь-в-точь, как старый Хэнфорд, где делали плутоний. — Будем снижаться? — Нет. Сперва к «телескопу». — Генерал откинулся в кресле. Они были одни в комфортабельной кабине геликоптера: доктор Герман-Джордж Вэбстер, руководитель исследовательского центра в Нью-Хэнфорде, и генерал Рэндольф Хьюз, инспектировавший стратегические работы на западе страны. Вэбстер настороженно посматривал на новое начальство: каков будет этот? За восемнадцать лет, со времени Манхеттенского проекта, он перевидел немало таких полувоенных-полудельцов, генералов, которые завоевывали не города, а прочное положение в деловых и политических кругах и прославились не военными подвигами, а военным бахвальством. С ними было трудно работать: высшей истиной они считали собственные изречения, а на все тонкости научных исследований смотрели, как на выдумки «этих физиков». Прежний начальник обороны Западного побережья, бригадный генерал Джекоб Хорд, член правления концерна «XX век», сравнительно долго — полтора года — держался на этом посту, несмотря на свою очевидную неспособность и частые неудачи. Его не подкосили ни многочисленные неудавшиеся запуски спутников, ни скандальные прошлогодние испытания нейтриум-пушки, после которых снаряды долго вращались над Землей, пока их не сбили русские. Однако, когда полгода назад две русские автоматические ракеты одна за другой были направлены на Луну (первая облетела вокруг нее и вернулась на Землю, а вторая благополучно опустилась на лунную поверхность в районе Моря Дождей и в течение трех месяцев передавала на Землю информацию), генералом Хордом занялась сенатская комиссия, и его сместили. Так каков же будет этот? Пока что Рэндольф Хьюз был известен тем, что год назад, когда в мире бушевал скандал со снарядами из нейтриума, он потребовал готовить атомное нападение на Советский Союз и Китай, «если хоть один из снарядов упадет на американскую территорию». Уж не этим ли он обязан своему выдвижению на новый пост? «Хотя, — Вэбстер усмехнулся, — такая наглость достойна поощрения…» Геликоптер покачнулся, и Вэбстер на секунду почувствовал тошнотворную невесомость. «Снижаемся?» Он посмотрел наружу. Машина уже вошла в горы и летела в широком ущелье; жужжание винтов отражалось от скал гулким рокотом. Прямо перед ними на западе поднималась гора, выделяющаяся среди всех остальных своими размерами и формой. Должно быть, это был давно потухший вулкан: буро-коричневый конус, опоясанный внизу мелкими горными соснами, возвышался над скалами на сотни футов своей плоской вершиной. К этой вершине, навинчиваясь на нее спиралью, шло широкое бетонное шоссе; туда же карабкались стальные мачты подвесной дороги и линии высоковольтной передачи. Геликоптер приблизился к вершине горы. Стало видно, как на площадке забегали люди. Машина несколько секунд висела в воздухе неподвижно, потом стала опускаться на бетонную площадку. Генерал грузно вышел из кабины, размял затекшие ноги и повернулся к выстроившейся на площадке команде солдат. На него смотрели два десятка молодых физиономий под большими светлыми касками; у некоторых еще не сошло с лица сонное выражение. Стоявший справа офицер, худощавый брюнет с усиками и в сдвинутом на глаза пробковом шлеме, то угрожающе посматривал на солдат, то опасливо на начальство. После приветствий генерал спросил: — Что, ребята, скучно вам здесь? — Голос его звучал совсем так, как он и должен звучать у бравого, прославленного в сражениях генерала, который запросто беседует с солдатами. — Ничего, скоро здесь станет веселее. Уж можете на меня положиться… — потом повернулся к Вэбстеру: — Так покажите же мне ваш знаменитый «телескоп»… Это устройство в самом деле было похоже на павильон большого телескопа: круглая башня 30 метров в поперечнике поднималась над вершиной горы круглым куполом; стены и купол были покрыты черным, странно блестевшим под солнцем металлом. Пока офицер набирал код из букв электрического дверного замка, Хьюз безуспешно пытался поцарапать металл башни куском кремня. Вэбстер насмешливо наблюдал за ним. — Нейтриум? — повернулся к нему генерал. Вэбстер кивнул. — Это… атомная броня? — Да. Рассчитано на прямое попадание атомной бомбы. — Гм… — Генерал скептически прищурился. — Вы хотите сказать, что… пожелали бы остаться в этой башне, если бы на нее сбросили, скажем, пятитонную плутониевую? «Он, кажется, не очень сообразителен», — подумал Вэбстер. — Во всяком случае, лучше в ней, чем около нее… Но дело не в этом: «телескоп» может наводиться и управляться на расстоянии. А нейтриум-броня рассчитана на то, чтобы управление не расстроилось после атомного взрыва над колпаком. — Ага! — Генерал хотел еще что-то спросить, но в это время включился и взвыл электромотор замка: двери в башне начали медленно раздвигаться. Внутри башни сходство с астрономическим павильоном не исчезло. Генерал и Вэбстер стояли на краю огромного черного диска, из середины которого вверх, к куполу, наклонно уходил сужающийся в перспективе двадцатипятиметровый ствол. Ствол держался не только на этом диске-лафете: от стен и купола башни к нему сходились тонкие черные нити; они оплетали ствол, как спицы велосипедного колеса. Офицер, повозившись у вделанного в стену шита, включил освещение; однако в башне по-прежнему было мрачно; ствол, диск, нити отливали каким-то странным черным светом. У основания ствола смутно различались сложные устройства. — Включите тумблер «щель», Стиннер, — бросил офицеру Вэбстер. Голос его звучал глухо и не отразился, как ожидалось, эхом от стен башни. — Там, внизу, слева на щитке… Снова приглушенно завыли электродвигатели, в куполе появилась и стала медленно расширяться полоса синего высокогорного неба. Генерал осмотрелся вокруг, увидел металлическое сиденье возле угломерного устройства и тяжело опустился на него; потом повернулся к стоящему поодаль офицеру: — Вы свободны… э-э… — Да-да. Вы свободны, майор. Стиннер удалился. Генерал закурил сигарету, помолчал некоторое время, потом поднял глаза на Вэбстера: — Я уже наслышан о том, что произошло во время тех испытаний «телескопа»… Однако мне хотелось бы, чтобы вы, доктор, изложили мне самую суть этой, так сказать, неудачи. Кратко, пожалуйста… Вэбстера разозлило, что этот выскочка-генерал не позаботился о том, чтобы они оба сидели и разговаривали как равные. Однако сесть было больше негде, и он, чтобы не стоять перед генералом в позе подчиненного, тоже закурил и стал расхаживать взад и вперед по диску. Его голос звучал сухо и высокомерно: — Суть несложна: порочен сам принцип такой стрельбы. Земля, видите ли, шарообразна, и траектория межконтинентального снаряда должна быть почти параллельна поверхности планеты. Точка попадания является в этом случае местом пересечения двух почти параллельных кривых, что, как известно из геометрии, есть событие довольно неопределенное… — Он затянулся дымом, покосился на Хьюза, тот кивал головой. — Стало быть, чтобы попасть в заданную точку Земли, нужно предельно точно задать снаряду направление и скорость. Эта скорость должна быть близка к критической — семь и девять десятых километра в секунду, перейдя которую тело может вращаться вокруг планеты неопределенно долго… Вэбстер, казалось, забыл, что перед ним генерал, — он говорил громко и жестикулировал, как будто перед ним находилась аудитория. Хьюз ритмично кивал, показывая розовую лысину, старательно зачесанную редкими серыми прядями с висков, и окидывал оценивающим взглядом расхаживавшую перед ним долговязую фигуру. Он незаметно усмехнулся: все эти ученые топорщатся и стараются пустить пыль в глаза, пока их не возьмешь на крючок… — Задать нужную точность скорости и угла траектории — дело весьма сложное, — продолжал Вэбстер. — В затворе этого «телескопа» осуществляется цепная реакция, идущая почти со скоростью неуправляемого атомного взрыва. Ясно, что регулировать эту реакцию и развивающуюся в результате ее температуру в десятки тысяч градусов чрезвычайно трудно. Как я уже говорил, скорость снаряда может перейти предел в семь и девять десятых, и тогда… появляются «спутники». Мы были загипнотизированы потрясающими возможностями нейтриума и на некоторое время упустили из виду эти опасности. Когда же проект «телескопа» был уже закончен и здесь приступили к сборке павильона, мы заметили, что при расчете «азиатских траекторий» не все получается ладно… Я докладывал генералу Хорду, вашему предшественнику, сэр, об этих затруднениях, но он или ничего не понял, или излишне понадеялся на господа бога… Хьюз перестал кивать и нахмурился — ему не понравилось такое упоминание о боге. Вэбстер продолжал: — Хорд твердил, что сейчас следует как можно скорее противопоставить «телескоп» русским баллистическим ракетам, показать им, что и у нас есть не менее мощное оружие, что время не терпит и он не допустит замедления работ из-за каких-то перестраховочных пересчетов… — Да-да… — сочувственно пыхнул дымом генерал. — Словом, когда год назад мы произвели три первых пристрелочных выстрела в зону Антарктиды, то туда не попал ни один из снарядов: первый плюхнулся в океан неизвестно где, а два других перешли критический предел скорости и превратились в спутников Земли. Через девять дней их сбили русские… Все-таки для исправления траектории мы снабдили снаряды маломощными ракетными нейтрид-насадками: они должны были несколькими точными взрывами не допустить отклонения снарядов от пути. Мы контролировали радарами первую тысячу километров полета снарядов и в нужный момент замыкали радиовзрыватели ракеты. По-видимому, они сработали не так, как нам хотелось… — Однако эти черные звезды произвели в мире громадный эффект! — поднял палец Хьюз. — Какая тогда была военная конъюнктура, о-о! Так что испытания нельзя считать неудавшимися, дорогой док… Ладно, скажите, что вы предполагаете предпринять дальше с этой пушкой? — Ничего. — Вэбстер пожал плечами. — К сожалению, нейтриум не поддается переплавке. — Гм… — Генерал в задумчивости закурил новую сигарету. — Но скажите мне вот что, док: а как насчет обстрела внеземных объектов? — Что вы имеете в виду? — не понял Вэбстер. — Ну-у… скажем… — генерал задумчиво почесал переносицу, — крупные постоянные спутники и Луну. А? — Гм… Действительно, хотя это может показаться парадоксальным, но «телескоп» в гораздо большей степени годится именно для обстрела этих объектов. Снаряды будут летать по вертикальной траектории… — размышлял вслух Вэбстер. — Чтобы преодолеть земное притяжение, нужна скорость более шестнадцати километров в секунду. Если скорость увеличить, то возможна стрельба прицельная, абсолютно точная… Да, что касается Луны, то очевидно, что ее можно обстреливать с высокой степенью точности. Это при атомном взрыве легко осуществляется. Что же касается обстрела спутников, то здесь расчеты не столь легки. Вероятно, что спутники, вращающиеся на больших высотах — порядка радиуса Земли и более, — можно будет поразить. Это надо подсчитать… — Вэбстер вытащил из кармана блокнот. — Хорошо, хорошо! — Генерал махнул рукой. — Я полагаюсь на ваши знания, не нужно рассчитывать. Потом… Значит, если бы, скажем, Москва находилась не в восьми тысячах миль от «телескопа», а на Луне, то попасть в нее было бы гораздо легче, верно? — Да. Конечно, если бы она находилась на известной астрономам половине Луны, — тонко улыбнулся Вэбстер. Он еще не понимал, к чему клонится этот разговор. — А хорошо бы всех русских, да и китайцев заодно, переселить на Луну, — не слушая его, сострил генерал. — Пусть там строят свой коммунизм, а? — Да. Но они захватят с собой свои ракеты… — в тон генералу добавил Вэбстер. — Ведь запустить ракету с Луны на Землю гораздо легче, чем с Земли на Луну: там притяжение в шесть раз меньше… Вэбстер ожидал, что генерал оценит его остроту и рассмеется так же, как смеялся и своей, но Хьюз воспринял его слова совершенно необычным образом. Он вскочил со своего сиденья и уставился на Вэбстера помутневшими голубыми глазками в набрякших морщинах век. Потом стал быстро ходить по диску, потирая руки и бормоча: — В шесть раз легче? Это не шутки… Это не шутки, не шутки!.. В шесть раз меньше горючего для ракет, в шесть раз больше водородных ракет, в шесть раз точнее! Это не шутки!.. Бодрый старческий румянец исчез с круглых щек генерала, а в его неподвижных глазах стоял страх. И Вэбстеру тоже стало страшно.Солнце заметно сдвинулось к западу, и лучи его теперь искоса заглядывали в щель купола; от щели к стенам павильона протянулись прозрачные желтые полосы. Но нейтриум странно преобразовывал солнечный свет: коснувшись стен, лучи отражались от них уже темно-серыми, и этот серый свет без красок освещал внутренность павильона-блиндажа. Тускло лоснился огромный ствол нейтриум-пушки, запутавшийся в паутине тяжей; выступали из полутьмы могучие люльки лифта для снарядов, рычаги и колеса устройств наводки, приборы и рукояти регулятора цепной реакции. У стены павильона стояли мощные электродвигатели, похожие на черные бочки. Они тоже, будто зловещим налетом, были покрыты тонкой защитной пленкой нейтриума. Две фигурки внизу, на диске, почти терялись в слабом освещении, среди нагромождения больших устройств. Одна, небольшая и грузная, быстро ходила взад и вперед от края диска к центру; другая, худощавая и высокая, казалось, принадлежавшая не сорокалетнему ученому, а молодому спортсмену, стояла неподвижно… Наконец они успокоились. Генерал снова уселся в стальное кресло, закурил сигарету, некоторое время молча пускал струйки дыма. — Как вы думаете, док, — голос Хьюза звучал теперь хрипло и устало, — каково состояние дела с нейтриумом там? Вэбстер не сразу ответил: — По-моему, они находятся еще в самом начале пути… Может быть, они уже получили первые граммы нейтриума, если смогли понять, из чего сделаны наши снаряды — черные звезды… Может быть, у них еще ничего нет, если они поверили в наши сообщения об отрицательных результатах экспериментов. Во всяком случае, если рассчитывать на худшее… — «Если рассчитывать на худшее»! — перебил его Хьюз и снова вскочил. — Сколько раз мы ошибались в русских, принимали их за простачков, которых можно обмануть вот такими журнальными трюками, вроде вашей статьи! Сколько раз мы доказывали, что русские не смогут сделать атомной бомбы — и уже почти доказали это, — когда они ее сделали! После того как мы убедили самих себя и мир, что первыми выйдем в Космос, — они запустили свои спутники фантастических размеров! И, наконец, эти ракеты, запущенные на Луну!.. Вы ничему не научились, Вэбстер! Знаете ли вы, что русские имели нейтриум, или, как они его называют, нейтрид, еще до наших снарядов-спутников? Знаете ли вы, что они уже выстроили свой первый нейтриум-завод, который по масштабам не уступает нашему Нью-Хэнфорду? Знаете ли вы, что на этом заводе они начинают строить дорогие их сердцу ракеты? Ракеты из нейтриума, сэр! Не баллистические, не межконтинентальные, а космические ракеты! Знаете ли вы все это? — Нет!.. — прошептал ошеломленный Вэбстер — Я не представлял… Я не мог это предвидеть… На полном лице генерала возникла снисходительно-презрительная гримаса, смысл которой можно было расшифровать без труда: «Вы, ученые, воображаете, что знаете все, а на самом деле вы не знаете ничего!» — Ну хорошо… — Генерал уселся в свое кресло. — Не ваша вина, что вы этого не знали, ведь в научной литературе это не публиковалось. Итак, ближе к делу. Вы, конечно, прекрасно представляете себе, какую опасность несут эти русские ракеты из нейтриума. С помощью их русские смогут захватить все околоземное пространство. Таким образом, — генерал повысил голос, — этот «телескоп», на который вы ухлопали весь нейтриум, какой только смогли сделать за эти годы, должен стать нашим первым пунктом в проекте под названием «космическая оборона». Нужно усовершенствовать «телескоп». Нужно пристреляться по Луне и ближайшему пространству так, чтобы, когда понадобится, мы смогли послать в любую точку нейтриум-снаряды с ядерной взрывчаткой. Пока что ваш «телескоп»-единственное, что мы можем противопоставить русским ракетам… — Хьюз помолчал. — Ну, а из каких, так сказать, научных побуждений мы это будем делать: для установления, есть ли жизнь на Луне, для проверки ли русских данных или для анализа лунной поверхности, — это нам потом придумают газетчики и дипломаты. Важно, чтобы к тому времени, когда у русских появятся первые базы на Луне и спутниках, они были под прицелом. Игра переносится в Космос! Нам не придется особенно церемониться, я думаю. Слава всевышнему, на ночное светило и пустоту еще не распространяются нормы международного права. И нам нужно торопиться. Русские в последнее время стали работать что-то слишком быстро… Генерал встал, посмотрел на часы, потом на Вэбстера, на лице которого уже не осталось и следов от прежнего высокомерного выражения. — Так… Теперь в Нью-Хэнфорд! По пути обсудим подробности предстоящего дела…
НОВЫЕ ПОИСКИ
Луна плыла над городом, великолепная в своем холодном сиянии, украшая южную ночь. Она, как заботливый декоратор, прикрыла весь мусор и беспорядок дня, расстелила блестящие дорожки на обработанном шинами асфальте улиц, приглушила резкие дневные краски домов, заборов — будто набросила на них серо-зеленую пелену тишины и задумчивости. Луна плыла высоко над домами, парками, улицами, круглая и прекрасная, как лицо восточной красавицы. И звезды тушевались в ее сиянии. В такую ночь многим не спится. Бродят по улицам строгие молодые мечтатели; ликуя и улыбаясь до ушей, возвращаются домой ошалевшие после семичасовой прогулки с любимой девушкой влюбленные; навстречу им попадаются сомнамбулические пары, совсем забывшие о течении времени. Вспыхивает за Днепром трепещущее зарево над металлургическим заводом — там выпускают плавку. Грохочет за домами ночной трамвай-грузовик. Не стесняемая прохожими, летит по магистральному шоссе автомашина, рассекая темноту двумя пучками света; и долго еще слышен певучий шелест покрышек об асфальт. В такую ночь бродил по городу пожилой лысый человек в пиджаке нараспашку, на носу очки, в зубах папироса, руки в карманах, — профессор Иван Гаврилович Голуб. Он ходил по улицам, окунувшись в серебристо-зеленое сияние, мимо молчаливых домов и деревьев, шел задумчиво и неторопливо, будто по кабинету. Он так шагал уже давно: мысли захватили его еще днем, в лаборатории, и после работы он так и не дошел до своей квартиры. Сегодня все недодуманные, все мелькнувшие в спешке мысли завладели им, будто он вдруг наткнулся на не дочитанную когда-то интересную книгу. Луна висела над домами, крыши лоснились в ее свете. Иван Гаврилович прищурился на нее — как-то сразу шевельнулись молодые воспоминания — и, усмехнувшись им, он буркнул: — Ничего, матушка, вот скоро к тебе в гости летать начнем!.. Мысли снова вернулись к недавней дискуссии в институте. Иван Гаврилович посерьезнел: все-таки здорово они его пощипали, эти теоретики, — Александр Александрович Тураев и его «сотрудники по интегралам». Как ловко они доказывали ему, что он, профессор Голуб, не понимает того, что открыл, не понимает нейтрида! В том же институтском конференц-зале, где когда-то он выдвинул идею нуль—вещества, теперь за кафедрой стоял Александр Александрович и говорил своим звонким тенорком, то и дело поворачиваясь к нему, Голубу, будто и не было в зале других оппонентов: — Мало получить нуль—вещество, мало назвать его нейтридом. Нужно еще понять, определить его место в природе… А мы не знаем, что это за штука, — да, не знаем!.. — Он сердито хлопнул по борту кафедры ладонью. — Вы скажете… — он снова повернул изжелта-седую бородку в сторону Голуба, — вы скажете: «Но позвольте, мы измерили его плотность, механическую прочность, его… э-э… радиоактивную прочность, тепловые свойства… Вот цифры, вот графики…» Я знаю эти цифры — они потрясают воображение. И все-таки это не то! Ведь и уран не был ураном, пока знали только, что это серебристо-белый металл с удельным весом 18,7, тугоплавкий, не растворяется в воде, но растворяется в сильных кислотах… Понадобилось заглянуть внутрь атома, чтобы понять, что такое уран. Так и теперь: мы не знаем главного в нейтриде, не знаем тех необычных свойств, которых нет и не может быть у обыкновенных веществ, тех свойств, для которых еще нет названия… Да, конечно, прав этот престарелый, но молодой в душе Александр Александрович: нейтрид еще не открыт — он только получен. «Мы не открыли Луну, Кэйвор, — мы только добрались до нее…» Где это? Ах, ну да: «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. Иван Гаврилович снова посмотрел на лунный диск, дружески подмигнул ему; этот Берфорд был глубоко прав, верно! Но как проникнуть внутрь этого черного феномена, который не пробирают даже сильнейшие радиоактивные излучения? И что нужно ожидать от этих опытов? Невозможно представить себе, какова будет реакция возбужденного нейтрида… Что ожидать от него? Получится что-то вроде алхимии — пробовать одно, другое, третье: будет ли взаимодействовать нейтрид с быстрыми протонами, нейтронами, а с альфа-частицами, а с тяжелыми ядрами?.. Иван Гаврилович поморщился, покрутил головой: множество частиц, множество энергий, скоростей — огромная работа! Главное — не за что ухватиться. Голое место. Постой, а что тогда говорил Тураев, после дискуссии? Он советовал попробовать облучать нейтрид мезонами. Иван Гаврилович ему возразил, что-де мезонами они и без того облучают нейтрид при его получении из ртути — и ничего особенного при этом не происходит… Но ведь Александр Александрович, пожалуй, был прав! Они работают с очень медленными тепловыми минус-мезонами. А если перейти к большим скоростям, к световым… Да и почему он вбил себе в голову, что с мезонами ничего не получится? Мезоны — частицы, которые создали нейтрид… Пожалуй, именно с них нужно и начинать, потому что мезоны это ядерные силы, это своего рода «электроны ядра». Да, да! Еще не разумом, только интуицией исследователя Иван Гаврилович почувствовал верный путь. Он незаметно для себя ускорил шаги и, подчиняясь внутреннему радостному ритму, почти бежал вниз по какой-то пустынной и гулкой улице. «Ведь для этих опытов все есть: мезонатор, пластинки нейтрида… Что же должно получиться? Так, имеем конкретные условия: нейтрид — быстрые минус-мезоны. Ну-ка…» — Иван Гаврилович остановился под фонарем, вытащил из кармана блокнот, карандаш и начал прикидывать схему опыта… «Куда это меня занесло?» — Иван Гаврилович сложил блокнот и недоуменно огляделся. Луна большим багровым кругом висела у самого горизонта на западе; небо было еще черным, но звезды уже потускнели, предвещая рассвет. Улица кончалась, впереди, метрах в пятидесяти, в темной воде колыхались длинные блики огней. «Река? Ого! Прогулялся через весь город…» На той стороне горели огни завода. Под ногами шуршала мокрая от росы трава. Голуб почувствовал, что ноги у него гудят от усталости, присел на траву, закурил. Далеко-далеко внизу коротко ревнул буксирный пароходик; что-то всплескивало в реке. По-утреннему свежий воздух наполнял легкие бодростью. Иван Гаврилович с презрением посмотрел на окурок папиросы — отравлять себя такой дрянью! — и отшвырнул ее. Потом встал, подошел к воде, потрогал ее руками — теплая, удивительно теплая для сентября! Постоял минутку и решительно стал раздеваться. Иван Гаврилович внимательно осмотрел себя в сером свете утра: ничего, он еще крепок для своих пятидесяти двух лет. Напряг мышцы рук — есть сила! Еще работать и работать… Ничего, если приходится начинать на голом месте — для этого он и исследователь! Вода ласково взбодрила тело. Иван Гаврилович ступил несколько шагов по плотному песчаному дну, оттолкнулся и, стараясь подальше, не бултыхая, выбрасывать руки, поплыл саженками поперек течения…Когда Якина спрашивали, где он теперь работает, он отвечал коротко: «В зверинце». Высоковольтная лаборатория в самом деле была похожа на зверинец — кругом клетки, только вместо хищников в них были заключены молнии. Молнии прятались в красивых медных шарах разрядников, в высоковольтных конденсаторах; они сдержанно гудели в трансформаторах, невидимо собирались на фигурных гирляндах фарфоровых изоляторов, в проводах и только ждали, чтобы разрядиться на что-нибудь или кого-нибудь. Сейчас он занимался изучением электрического пробоя пластинок нейтрида. Что ж, теперь почти весь Физический институт исследует нейтрид… Яков с усилием поставил на металлический цилиндр тонкий черный лист: «Вот черт — килограммов двадцать, наверное, не меньше». Установил на лист нейтрида медную гирьку верхнего электрода, соединил провода и вышел из клетки. Лязгнула железная дверь, загорелась над нею красная неоновая лампочка. Яков стал медленно поворачивать ручку трансформатора. Стрелка киловольтметра неторопливо поползла по шкале: 10 киловольт, 15, 25… За серой защитной сеткой от гиреобразного электрода с еле слышным шипением стало расходиться оранжевое сияние — светился ионизированный высоким напряжением воздух. 40 киловольт, 50, 70… Черную пластину нейтрида окутали желтые иголубые нити: они тянулись, загибаясь за пластинку, к никелированному цилиндру, дрожали, извивались и шипели, как живые. Стрелка коснулась цифры «90». 90 киловольт! Якин остановил напряжение, чтобы полюбоваться. Теперь в клетке между электродами, ища выхода, разъяренно металась молния; нити разрядов были голубыми и шипели так громко, будто трещало разрываемое полотно. Могучие электрические силы, подчиняясь легкому повороту регулятора, напряглись и рвались сквозь тонкий слой нуль—вещества. Если бы между электродами лежало обычное вещество, даже в тысячи раз толще этой пластинки, то все было бы уже кончено, материал не выдержал бы: треск, громкий щелчок и пробой — маленькая дырочка с опаленными краями. Но путь электрическому току преграждал нейтрид… Яков снова стал поднимать напряжение. Когда стрелка доползла до 120 киловольт, нити разрядов, угрожающе шипя и треща, собрались в слепящий голубой жгут, огибая пластинку. Между электродами возникла дуга. Тотчас же перегрузочные реле-ограничители с лязгом отключили трансформатор. Все исчезло. Яков в задумчивости потер лоб. «Нужно попробовать пробить пластинку в трансформаторном масле; тогда можно повысить напряжение раза в четыре». При мысли об этом Якин вздохнул, он не любил иметь дело с трансформаторным маслом — сизо-коричневой густой жидкостью, которая пачкает халат и от которой руки противно пахнут рыбьим жиром и касторкой. Уже несколько месяцев он пытается пробить нейтрид — и все одно и то же: перекрытие по воздуху. Это, конечно, великолепно, когда нейтрид выдерживает сотни и тысячи миллиардов вольт на сантиметр! Но что же это за исследования, если они будут состоять из одних только отрицательных результатов? Нужно испытывать еще более тонкие пластинки нейтрида — может быть, пленки тоньше ангстрема. Но каково идти на поклон в 17-ю лабораторию, где Голуб, Сердюк, Оксана? Нет, лучше не показываться на глаза, а просто послать лаборантку с запиской… Якин снова вздохнул.
После дневника Николая Самойлова у читателей могло сложиться одностороннее и излишне категорическое представление о его бывшем однокурснике и товарище Якове Якине. Дескать, это циник, халтурщик, недалекий рвач и так далее. Словом — нехороший человек. Отрицательный персонаж. Конечно, это слишком поспешное суждение о Якове Якине. Иные книги приучают нас очень упрощенно судить о людях: если человек криво усмехается — значит, он сукин сын; если герой улыбается широко и открыто, как голливудский киноактер, — значит, он положительный, хороший. В жизни все не так просто. Если отбросить разные неприятные черты характера Якова Якина: его позерство, неуместные цинические прибауточки, неустойчивость в поступках, то можно выделить нечто самое главное в его жизни. Это главное — стремление сделать большое открытие или большое изобретение. «Открывать» он начал еще в детстве. Лет девяти от роду, прочитав первую книжку по астрономии, веснушчатый и лохматый второклассник Яша был потрясен внезапной идеей. Телескопы приближают Луну в несколько сот раз, значит, чтобы быстрее добраться до Луны, нужно выпускать ракеты и снаряды через большие телескопы! Тогда до Луны останется совсем немного — несколько сотен километров… В седьмом классе, после знакомства с электричеством, у него возникла «спасительная» для человечества мысль: человека, убитого током, можно оживить, пропустив через него ток в обратном направлении! Два месяца юный благодетель человечества собирал высоковольтный выпрямитель. Жертвой этой идеи пал домашний кот Гришка… Знакомство с химией родило новые мысли. Девятиклассник Якин спорил с товарищами, что сможет безвредно пить плавиковую и серную кислоту. Очень просто: чтобы пить плавиковую кислоту, нужно предварительно выпить расплавленный парафин: он покроет все внутренности, и кислота пройдет безвредно; а серную кислоту нужно запивать едким кали — произойдет нейтрализация, и ничего не будет… Хорошо, что в то время не оказалось под рукой кислот. Немало искрометных идей возникало в его вихрастой голове, пока он понял, что для того, чтобы изобретать, одних идей мало — нужны знания… И совсем недавно, год назад, он понял, что для того, чтобы изобретать, делать открытия, недостаточно иметь идеи и знания — нужны еще колоссальное упорство и мужество. Он хотел изобретать — и… отказался от величайшего открытия! Отказался, потому что струсил. Полтора года прошло с тех пор, но и теперь Яков густо краснел при воспоминаниях о том нелепом скандале. Да, конечно, дело не в том, что тогда Голуб накричал на него и он, Яков, обиделся. Он не обиделся, а струсил… Из окон высоковольтной лаборатории было хорошо видно левое крыло «аквариума», блестели две полосы стекол: «окно» 17-й лаборатории. По вечерам, когда там зажигали свет, Якин видел длинную фигуру Сердюка, мелькавшую за колоннами и бетонными параллелепипедами мезонатора; размеренно расхаживал Голуб, мелькал белый халатик Оксаны… Были и какие-то новые фигуры — должно быть, пришли новые инженеры вместо него и Кольки Самойлова. Что-то сейчас там делают? Говорят, Голуб начал новую серию экспериментов с нейтридом. Вот бы и ему к ним? Теперь бы он работал как черт!.. Нет, ничего не выйдет: и он не пойдет к ним проситься, и они не позовут. Яков отвернулся от окна и взглянул на клетку, в которой стояли электроды на пластинке нейтрида. «Так. Значит, будем испытывать в трансформаторном масле… Ничего. Я все-таки пробью эти черные пленки!» — И Якин открыл дверь в клетку.
Иван Гаврилович действительно ухватился за осенившую его в ту лунную ночь идею: облучать нейтрид быстрыми мезонами. Как и следовало ожидать, первые недели опытов не дали ничего: нейтрид отказывался взаимодействовать даже с быстрыми мезонами. Что ж, это было в порядке вещей — профессор Голуб не привык к легким победам. Первые опыты, собственно, и нужны для уточнения идеи. Плохо только, что каждый безрезультатный опыт занимает очень много времени… Осень начиналась с дождей. По стеклам лаборатории хлестали крупные капли, они расплывались, собирались в ручьи и стекали на цементные перекрытия. В зале было сумрачно от туч и серо от бетонных колонн и стен мезонатора. Сердюк с двумя новыми помощниками возился у мезонатора. Оксана у химического шкафа перетирала посуду. Иван Гаврилович вот уже полчаса стоял у раструба перископа и задумчиво смотрел на тысячи раз виденную картину: острый луч мезонов, направленный на черный квадратик нейтрида, сизо-голубые, в его свете, бетонные стены камеры мезонатора. «Нет, кажется, и этот опыт обречен… Что-то еще нужно додумать, а что — неясно». Напряжением мысли Иван Гаврилович попытался представить себе: маленькие ничтожные частицы стремительно врезаются в плотный монолит из нейтронов… Нет, не то. «Плохо, что не с кем посоветоваться. Сердюк? Он теперь кандидат наук, но… Конечно, у него золотые руки, он знает мезонатор, как часы, но и только. Сейчас сюда бы Николая Самойлова с его фонтаном идей. — Голуб улыбнулся. — У того есть идеи на все случаи жизни. Однако Самойлов с головой ушел в заводские дела». Иван Гаврилович поморщился и на секунду прикрыл слезящиеся от напряжения глаза: ему показалось, что лучик мезона начал плясать над пластинкой нейтрида… Однако, когда он открыл глаза, лучик снова ненормально расплывался над самой поверхностью нейтрида. Теперь он стал похож на струйку воды, бьющую в стенку. «Что такое? Мезоны расплываются по нейтриду?» — Алексей Осипович, ты что — меняешь режим? — крикнул Голуб. — Нет, — издали ответил Сердюк. — А в чем дело? — А вот смотри… Сердюк подошел и, пригнувшись, стал смотреть в раструб. Потом повернул смуглое лицо к Ивану Гавриловичу. Глаза его оживленно блестели: — А ведь такого мы еще никогда не видели, Иван Гаврилович, — чтобы луч расплывался!.. Когда через час извлекли пластинку нейтрида из мезонатора, ничего не обнаружили. Только точка нейтрида, в которую упирался пучок мезонов, оказалась нагретой до нескольких тысяч градусов. Это уже было что-то. И оно вселило в душу Ивана Гавриловича новые надежды.
ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ САМОПЛОВА
«8 октября. Некогда! Это слово теперь определяет всю мою жизнь. Некогда бриться по утрам. Некогда тратить деньги, которых сейчас получаю достаточно. Некогда читать газеты и научную периодику. Некогда, некогда, некогда! Каждое утро просыпаешься с ощущением, что день скоро кончится и ничего не успеешь сделать. Просто удивительно, что сегодня у меня свободный вечер, как-то даже неловко. Вот я и использую его на то, чтобы сразу записать в дневник события за те несколько месяцев, когда я к нему не прикасался. Завод мы пустили в конце мая. Было приятно смотреть на параллельные ряды мезонаторов-станков. Они в точности повторяли друг друга: ребристые трубы ускорителей частиц, небольшие черные коробки мезонных камер, перископические раструбы, светло-зеленые столы пультов — все было чистым и новеньким. Два огромных цеха под стеклянными крышами, десятки мезонаторов, каждый из которых мог давать десятки килограммов нейтрида в смену… Тогда мне казалось, что самое трудное уже пройдено, — теперь будем делать детали из нейтрида… и всё. И мы начали делать. Операторы заливали ртуть в формы и заводили их в камеры, в вакуум, под голубые пучки мезонов. Ртуть медленно осаждалась, превращаясь в тончайшую, но поражающую своей огромной тяжестью конструкцию. А потом… каждые восемь деталей из десяти шли в брак! Ей-богу, не было и не будет материала, более склонного к браку, чем нейтрид! Пленки и пластины получаются неровными, в них почему-то образуются дыры, изгибы… черт знает что! И все это нельзя ни подточить, ни переплавить, ни отрезать — ведь нейтрид не берет даже нейтридный резец, самые тонкие детали не может согнуть паровой молот. Единственное, что мы можем делать с нейтридом — это „сваривать“ его мезонным лучом: стык двух пластин нейтрида заливается ртутью, и эта ртуть осаждается мезонами в нейтридный шов. Так собираются сложные конструкции из нейтрида, так мы делали нейтрид-мезонаторы. Но ведь этого мало… Словом, для бракованной продукции пришлось выстроить отдельный склад, куда мы сваливаем все эти „изделия“ в надежде, что когда-нибудь придумаем, что с ними делать. И разве только это? А мезонаторы? Последнее время они начали сниться по ночам… Когда-то я с гордостью назвал их „станками“. Слов нет — они проще мезонатора Голуба, а благодаря нейтриду и лучше, совершеннее его. И все-таки как невероятно сложны они для заводского производства! Они капризничают, легко портятся и, мне даже кажется, охотно. И ремонтирует и налаживает их товарищ главный технолог Н. Н. Самойлов со своим помощником инженером Юрием Кованько, потому что никто из операторов и цеховых инженеров не может быстро разобраться в мезонаторе. Юрий Кованько — молодой парень, спортивного сложения, недюжинной силы. Он только в этом году кончил институт, но помощник хороший: у него нюх на неполадки. Как хороший пулеметчик может с завязанными глазами разобрать и собрать свой пулемет, как хороший механик по слегка изменившемуся стуку поршней улавливает неправильное зажигание — так и мы с ним по тембрам гудения трансформаторов, изменению окраски мезонного луча, малейшим колебаниям стрелок приборов наловчились исправлять, а иногда и предупреждать неполадки. А что толку? Мезонаторы все равно портятся, а конца этому не видно… Нет, это не „чудо техники“; они хороши для экспериментирования, но в поточном производстве никуда не годятся. Ремонт, наладка, контроль выхода нейтрида, борьба с браком — это называется „вариться в технологическом котле“. Я шел на завод как исследователь, стремился внести научную ясность в путаницу заводских проблем. А теперь — где уж там! — хоть бы не научно, а как-нибудь заткнуть дыры производства… Ну вот — хотел неторопливо и обстоятельно описать прошедшие события, а невольно начал жаловаться самому себе, брюзжать. Кажется, у меня портится характер… Да, собственно, никаких особенных событий со времени моей „экспертизы“ в тундре не происходило. Работа, работа, работа позади, и это же впереди. Вот и все. 15 октября. Сегодня целый день консультировал конструкторов в нашем конструкторском бюро. Да-а… Это настоящий цех творчества. Громадный зал под стеклянной крышей. И во всю его сорокаметровую стену развернулся огромный чертеж. Вдоль него, вверху и внизу, в специальных подвесных люльках передвигаются конструкторы, чертежники: они наносят на бумагу контуры космической ракеты из нейтрида. Это будет великолепный космический корабль с атомным двигателем. Применение нейтрида в атомном реакторе дает возможность рассчитывать на скорости полета в сотни километров в секунду. Корпус из нейтрида сможет противостоять не только космическим лучам, но излучениям и температурам атомного взрыва. Это будет корабль для космических полетов. Ну, а в случае чего — он легко превращается в боевую ракету. И не дай бог, чтобы такие ракеты пошли в дело!.. В ОКБ работает много известных конструкторов, создававших сверхзвуковые самолеты, баллистические и межконтинентальные ракеты, запускавшие спутники во время геофизического года. Как они волнуются и радуются, когда рассчитывают конструкции из нейтрида — ведь он открывает перед ними совершенно необъятные возможности! „Ах, Николай Николаевич! — восклицал сегодня, сверкая своей золотозубой улыбкой, старший конструктор Гольдберг — этакий подвижной и начисто лысый толстячок-бодрячок. — Вы сами не представляете, какой чудесный материал создаете! Это мечта! Даже нет, больше, чем мечта, потому что мы не могли и мечтать о нейтриде… Это знаете что? Философский камень древних алхимиков, который они не смогли получить. А вы смогли! Урановый двигатель получится по размерам не больше стола! Представляете? И весом всего в полторы тонны! Это вместо реактора размером в дом…“ Я-то представляю… А представляете ли вы, уважаемый Гольдберг, что для этого проекта потребуется десятки тонн нейтрида в виде готовых сложных деталей и что пока большая часть тех деталей, которые мы уже делаем для ракеты, идет на склад брака?.. Когда-то в детстве я, как, наверное, и все подростки, мечтал полететь на Луну, Марс. Венеру. А вот думал ли ты, Николай Самойлов, что тебе придется делать космическую ракету для полетов мечты твоего детства? Представлял ли ты, как это будет непросто? А, в сущности, чего ты ноешь, Николай Самойлов? Тысячи инженеров могут только мечтать о такой работе, которой утруждаешь себя ты! Или ты всерьез полагаешь, что в самом деле все пойдет так легко и интересно, как это описывается в приключенческих романах для среднего школьного возраста? Космические полеты делаются сейчас в цехах — это пока дело земное! — с потом, усталостью и скрежетом зубовным… Ну, а в этой ракете я обязательно полечу! Неужели за свой каторжный труд я не заслужил права если не на первый, то хоть на второй или третий полет? 25 октября. Сегодня в конце дня был в Физическом институте. Встретился с Иваном Гавриловичем. После конца работы обратно шли вместе через парк к остановке троллейбуса. День выдался великолепный. До сих пор времена года проходили как-то мимо моего внимания, и сейчас я смотрел на эту красоту осени глазами новорожденного. Небо было синее и чистое, большое солнце садилось за деревья и уже не грело. А под его косыми лучами в парке горела яркая осень. Вдоль аллеи пламенели желто-красными листьями клены; как рубины, отливали на солнце спелые ягоды шиповника. Дубы стояли в крепкой, будто вырезанной из меди листве. И всюду желтые, красные, багровые, оранжевые, охровые, светло-зеленые тона и переливы — пышные, но печальные краски увядания. Таких красок не увидишь в мезонаторных цехах… Иван Гаврилович что-то говорил, но я, каюсь, не очень внимательно слушал его. Не хотелось ни о чем думать, спорить, рассуждать, в голову лезли обрывки стихов: „Роняет лес багряный свой убор…“, „…люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса…“ и тому подобное. Конечно, мне следовало бы не забывать, что с Иваном Гавриловичем опасно быть рассеянным. Он говорил что-то о своей новой работе, об облучениях нейтрида мезонами. Я любовался красками осени и изредка кивал, ориентируясь на его интонации. Вдруг Иван Гаврилович остановился, посмотрел на меня исподлобья и гаркнул: — Слушайте, Самойлов, это же!.. Я уже десять минут заливаюсь перед вами соловьем, а вы не изволите слушать! Пользуетесь тем, что мы не на лекции и я не могу выставить вас из аудитории? Я покраснел: — Да нет, Иван Гаврилович… я слушаю… — Полно! Вот я только что упомянул о мезонии, и вы кивнули с авторитетным видом. Вы знаете, что такое мезоний?.. Нет! И не можете знать… — Голуб сердито засопел, вытащил из кармана поломанную папиросу, стал нашаривать другую. — Черт знает что: я рассказываю ему интересные вещи, а он выкручивается, как первокурсник на зачете… Ох, как горело мое лицо! В самом деле, свинство — не слушать, и кого? Ивана Гавриловича, который в свое время натаскивал меня на исследовательскую работу… Некоторое время Иван Гаврилович молчал, хмурился, потом сказал: — Ну ладно. Если вы ведете себя как мальчишка, то хоть мне не следует впадать в детство и дуться на вас… Значит, я вот о чем… И он вкратце повторил мне свои рассуждения. Нейтрид не стал пока идеальным материалом для промышленности. Он невероятно дорог. Изготовление его сложно и очень медленно. Он почти не поддается обработке. Значит, он не годится для массового применения… Все это было для меня не ново. Поэтому-то, наверное, я невнимательно и слушал его высказывания. Дальше: вся беда в принципе получения нейтрида с помощью сложных и неэкономичных мезонаторов. Даже точнее: в принципе получения мезонов в ускорителях. Мезонатор — суть ускоритель и, как и всякий ускоритель, имеет ничтожный к.п.д. (Браво, Иван Гаврилович! Уж мне ли не знать, что мезонаторы, даже сделанные из нейтрида, очень плохи!) Иван Гаврилович снова увлекся. Он размахивал перед собой рукой с потухшей папиросой: — Мезонатор обречен — он не годится для массового производства! Ведь это примерно то же самое, как если бы мы стали получать плутоний не с помощью цепной реакции деления, а в ускорителях. То же самое, что добывать огонь трением… Мезонатор обречен! Должен признать это, хоть он и является моим детищем. Нужно искать другой способ получения мезонов, такой же естественный и простой, как, например, получение нейтронов из делящегося урана-235… — Так что же такое мезоний, Иван Гаврилович? — перебил я его, чтобы форсировать разговор. — Вот это и есть мезоний. — Что — это?! — Вот это самое… — Иван Гаврилович сделал жест, будто пытаясь поймать что-то в воздухе: не то падавший лист клена, не то свой мезоний, — и показал мне пустую ладонь. Мезоний — это то, чего еще нет. — Он увидел гримасу разочарования на моем лице и рассмеялся. — Понимаете, это цель: нужно найти такое вещество, которое в известных условиях само выделяло бы мезоны также обильно, как уран-235, плутоний или торий выделяют нейтроны. Вещество, делящееся на мезоны! Понимаете? — Гм!.. — только и смог сказать я. — Такое вещество обязательно должно быть в той бесконечно большой и бесконечно разнообразной кладовой, которая именуется Вселенной, — продолжал Иван Гаврилович. — Его нужно только суметь добыть. — Каким образом? — А вот этого-то я еще и не знаю… („Так зачем же эти глубокомысленные рассуждения?“ — чуть не сказал я.) Мезоний должен быть, потому что он необходим. И его нужно искать! — Иван Гаврилович черкнул ладонью в воздухе. — Видите ли: мы еще очень смутно представляем себе возможности того вещества, которое сами открыли. Мы не знаем о нейтриде чего-то, очень важного и главного… — Он помолчал, прищурился. — Вот сейчас мы с Сердюком ломаем голову над одним непостижимым эффектом. Понимаете, если долго облучать нейтрид в камере быстрыми мезонами, то он начинает отталкивать мезонный луч! Похоже, что нейтрид сильно заряжается отрицательным зарядом, но когда мы вытаскиваем нейтридную пластинку из камеры, то никакого заряда нет!.. — Он даже топнул ногой, остановился и снизу вверх посмотрел на меня. — Нет! Если был заряд, то уйти он не мог: нейтрид — идеальный изолятор; если его не было, то почему же отталкиваются мезоны? Какие-то потусторонние силы, мистика, что ли? У нас это происходит уже десятый раз… — Да, но при чем здесь мезоний? — возразил я. — Видите ли… — Иван Гаврилович попытался пригладить волосы за лысиной, но они от этого только взъерошились. — Я уже сказал, что мезоний — это цель. Как бы это вам объяснить?.. Знаете, меня всегда мало увлекали те исследования, которые проводятся только ради выяснения какого-то явления, исследования ради исследований, если хотите. Такие эксперименты у меня, откровенно говоря, и получались неважно… Я привык ставить себе цель: что весомого, ощутимого дадут исследования? Грубо говоря: что это даст для людей? Пусть будет далекая цель, но необходимо ее иметь — поиски становятся целеустремленнее, мысль работает живее. Так вот: такой далекой целью — а может быть, и не очень далекой, кто знает? — нынешних наших с Алексеем Осиповичем исследований и является мезоний. — Что ж, — сказал я, — как мечта — это великолепно! Но как идея для экспериментов — нереально. — И с этим человеком я когда-то искал нейтрид! — Иван Гаврилович рассердился. — Давно ли нейтрид был нереален? Конечно, против того, чего еще нет, можно привести тьму возражений. А не лучше ли поискать доводы в защиту идеи? По-моему, мы на верном пути: мы облучаем ртуть мезонами и получаем нейтрид. А мезоны родственны ядерным силам, которые действуют внутри нейтрида. Если и можно получить мезоний, то только через нейтрид!.. — Да нет же, Иван Гаврилович! — Меня задело его восклицание, и я тоже начал сердиться. — Рассудите сами: нет и не может быть ни одного вещества, которое естественным образом, само по себе распадалось бы не на нуклоны, а на мезоны! Это принципиально невозможно, потому что распад на мезоны требует несравненно большей энергии, чем распад на нуклоны. Ведь не случайно все радиоактивные вещества распадаются с выделением электронов, нейтронов, протонов, альфа-частиц, — словом, чего угодно, только не мезонов!.. Некоторое время мы шли молча. Парк уже кончался, за желтыми кленами была видна фигурная изгородь, а за ней — шумная, сверкающая автомобилями улица. — Значит, я напрасно тратил порох! — сказал Иван Гаврилович. — А жаль, мне хотелось увлечь вас этой идеей, хотелось, чтобы и вы поразмышляли. Мне сейчас как раз не хватает человека с исследовательской жилкой, а вы это можете… Значит, вас это не увлекает? — По-моему, нужно усовершенствовать мезонаторы: нейтрид в них может дать многое, — ответил я. — Как они ни плохи, но это более реальная возможность увеличить выход нейтрида… Теперь молчание стало совсем тягостным, и я с облегчением увидел ворота парка. Мы вышли на улицу, Иван Гаврилович хмуро протянул руку: — Ну, мне прямо. А вон ваш троллейбус — спешите. И… знаете что? — Он из-под очков внимательно посмотрел на меня. — Не вырабатывается ли у вас от заводской сутолоки косность мысли, а? Не утрачиваете ли вы способность чувствовать неизведанное? Это плохо для исследователя. А вы исследователь, не забывайте это!.. Впрочем, до свиданья. Мы попрощались и разошлись. Неловкий разговор получился. Плохие мезонаторы, абстрактный мезоний, опыты по облучению нейтрида… Словом, мы не поняли друг друга. 27 октября. Что-то последнее время меня все раздражает: и непонятливость операторов, и поломки в мезонаторах, пыль на стеклах приборов… Страшно много мелочей, на которые уходит почти весь день. Неужели Голуб прав, и я действительно утрачиваю способность увидеть новое за множеством мелочей? Нет, все-таки его мезоний — дело нереальное… Но почему же у них нейтрид отталкивает мезонный пучок? Интересно, пробовали ли они измерить его заряд прямо в камере мезонатора, в вакууме? Нужно, когда увижусь, посоветовать. 31 октября. Сегодня мы с Кованько заметили интересное явление. Мы ремонтировали 14-й мезонатор (который за особую зловредность и склонность к поломкам инженеры прозвали „тещин мезонатор“), отлаживали настройку мезонного луча. И вот через раструб перископа, когда был погашен луч, мы увидели в темноте камеры редкие вспышки — будто мерцают далекие голубые звездочки. Что это за звездочки? Может быть, на стенках из нейтрида осаждается какое-то радиоактивное вещество? Но ведь нет таких веществ, распад атомов которых можно увидеть простым глазом… 2 ноября. Ну, это что-то невероятное! Дело вот в чем. Все наши мезонаторы работают по принципу „вечного вакуума“: в самом начале, когда запускали цех, из них выкачали воздух, и в главные камеры воздух никогда не впускается, иначе пришлось бы перед каждой операцией в течение недели снова откачивать воздух, пока давление не понизится до стомиллиардной доли миллиметра ртутного столба. Воздух допускается только во вспомогательные камеры. А то, что может просочиться в главные камеры, непрерывно откачивается нашей мощной вакуум-системой. Мы настолько привыкли к тому, что стрелки вакуумметров стоят на делении 10–11 мм ртути, что уже больше месяца не обращали на них внимания. А вчера посмотрели — и ахнули: почти на всех мезонаторах вакуум повысился до 10–20 мм ртути!.. Ведь это почти пустота межпланетного пространства! Почему? Насосы этого дать не могут, они даже из собственного объема не в состоянии откачать воздух до такой степени разреженности — такого вакуума не может быть, однако он есть… И еще: за эти дни мерцания голубых звездочек заметили почти во всех мезонаторах. Почему-то наиболее густо эти звездочки мерцают у основания нейтридных стен камер. И интересно: чем больше в мезонаторе звездочек, тем выше вакуум… На выход нейтрида оба эти явления никак не влияют: ни мерцания, ни фантастически хороший вакуум. Но что же это такое? Вероятно, связано с тем, что камеры мезонаторов сделаны из нейтрида. Пожалуй, Голуб прав: мы не знаем что-то очень важное о нейтриде — то, что дает и его эффект отталкивания мезонов, и эти эффекты… Нужно обязательно поговорить с Иваном Гавриловичем».ВСПЫШКА
Случилось так, что Яков Якин в этот ноябрьский вечер надолго задержался в лаборатории. За окнами уже синело. Лампочки под потолком лили неяркий желтый свет. Сослуживцы Якова — старик инженер Оголтеев и техник Фрумкин — уже оделись и нетерпеливо посматривали на часы. Только что закончился очередной опыт с нейтридом. Пробоя снова не получилось: голубые ленты мощного коронного разряда огибали будто заколдованную пластинку нейтрида и с треском уходили в землю. «Что же делать дальше? Похоже, что электрический пробой нейтрида вообще неосуществим, — размышлял Яков, убирая стенд. — Похоже, что нейтрид абсолютно инертен к электрическому напряжению, так же как инертен и к химическим реакциям… Так что же делать?» Он вошел в клетку и взялся за верхний электрод, чтобы снять его с пластинки нейтрида. …Самое болезненное при электрическом ударе — это внезапность. Маленькая, невинно поблескивающая гирька с хвостиком-проводом вдруг ожила: тело передернуло от электрического тока, рука судорожно отдернулась, между пальцами и гирькой сверкнула длинная искра. Яков отлетел к сетке. На несколько секунд в глазах потемнело. Он не слышал, как прозвенел звонок, возвещавший о конце работы, как старик Оголтеев крикнул ему звонким тенорком: — Яков Викторович, вы еще не уходите? Не забудьте запереть лабораторию! Обессиленно прислонившись к сетке, Яков успокаивал бешено колотящееся сердце: «Фу, черт! Забыл разрядить…» Взбудораженные нервы руки долго ныли. Он поднес пальцы к носу — запахло горелой кожей. «Не меньше тысячи вольт… Хорошо, что руки были сухие». Он взял разрядную скобу, прикоснулся к электродам: гирька выстрелила синей искрой — заряд ушел в землю. «Долго держит заряд… Хорошо, что я не сразу стал снимать электроды, а помедлил, пока они частично разрядились через балластное сопротивление. Иначе бы — 120 киловольт! Конец!..» Якову стало не по себе от этой мысли. «Получается конденсатор солидной емкости, заряженный до сотни тысяч вольт… Запасается огромная энергия…» Яков снял электрод — да так и застыл с ним в руке. Сердце, только что успокоившееся, снова заколотилось; мелькнула ослепительная, как разряд, мысль: «Конденсаторы! Ну конечно же, как я раньше не догадался. Если такие сравнительно толстые пластинки нейтрида уже дают значительную емкость, то из тонких слоев большой площади получатся сверхъемкие аккумуляторы, которые можно зарядить до колоссальных напряжений… А ну-ка, если прикинуть…» Он сел к пульту и прямо на обложке лабораторного журнала стал писать формулы и расчеты. Что, если брать пленку толщиной в доли ангстрема? Те сверхтонкие пленки нейтрида, из которых сейчас на заводе у Кольки Самойлова делают скафандры? Яков никак не мог сосредоточиться: мысли в голове метались тревожно и радостно. Буквы неровными строчками бежали наискось, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга. Конечно, нейтрид-конденсаторы по мощности и емкости в тысячи раз превзойдут обычные кислотные аккумуляторы. Нужно рассчитывать на большие напряжения; запас энергии в конденсаторе растет, как квадрат напряжения… Итак, если взять пленку нейтрида площадью в десяток квадратных метров, проложить металлической фольгой и свернуть в рулон, получится сверхмощный конденсатор-аккумулятор. Его можно зарядить до нескольких тысяч вольт! Нейтрид выдержит и больше, но тогда уже трудно будет изолировать выводы. Такие конденсаторы смогут приводить в движение мощные электродвигатели. Это не жалкие два вольта нынешней кислотной банки. Очень просто: небольшие черные коробки, размером с книгу; в них можно нагнетать невесомую, но могучую электрическую энергию. Сколько? 2–3 тысячи киловатт-часов! Достаточно для машин, для мощных электровозов. Яков откинулся от пульта. Лицо горело. Вот оно — то, о чем он мечтал еще с детства, — большое изобретение! Он отодвинул подвернувшийся под руку стул. И сумбурные, нетерпеливые мечты, подхлестываемые воображением, охватили его и заставили бегать взад и вперед по лаборатории. Не было больше лаборатории, не было серых сетчатых клеток, медных шаров под потолком, тускло горящих лампочек. По широкому серому шоссе, залитому солнцем, стремительно и бесшумно мчатся голубые машины. Они похожи на вытянутые капли, положенные на колеса. Скорость — огромна! Не слышно рева бензиновых моторов, вместо него — еле ощутимое высокое пение электродвигателей. Ведь их можно установить прямо на колесах! Вместо сложного привода, поршней, валов, всевозможных муфт, сцеплений, зажигания — несколько проводов к нейтрид-аккумуляторам; вместо коробки скоростей и многих рычагов управления — две рукоятки реостатов: одна регулирует скорость, другая — направление. Вдоль дороги расставлены электроколонки, просто розетки, к которым подведено напряжение подземной электросети. Водитель останавливает машину, включает в розетку кабель от нейтрид-аккумуляторов, и по медным жилам в них переливается невесомая электрическая кровь… И разве только электромобили? А электролеты, электрокорабли! Всем прочим двигателям придет конец: бензин, уголь, нефть и даже урановое топливо будут вытеснены простыми и компактными нейтрид-аккумуляторами. Яков подошел к окну, коснулся разгоряченным лбом холодной поверхности стекла. Было уже совсем темно. Ветер качал голые ветки деревьев в институтском дворе, и далекие фонари, заслоняемые ими, мерцали, как большие, но тусклые звезды. Затуманенный взгляд Якова еще видел шоссе с голубыми электромобилями, но сквозь него проступили две широкие желтые полосы — это напротив светились окна 17-й лаборатории. Там тоже работали. Якин видел ходившего вдоль окон Голуба, склонившуюся у пульта долговязую фигуру Сердюка, и его наполнила гордая уверенность. Черт возьми, он еще покажет себя! Он теперь знает, что делать. Он сделает эти нейтрид-аккумуляторы. Он еще многое сделает! Целый год он презирал себя, потерял веру в свои силы, но теперь!.. Свет в 17-й погас. «Смотрят в перископ, — догадался Якин. — Интересно, что они сейчас видят там?» Снова вспыхнули полосы окон — теперь Голуб и Сердюк стояли на мостике. Голуб наклонился над рычагами манипуляторов. «Сейчас будут вытаскивать свои препараты из камеры наружу… Они что — только вдвоем сегодня работают? Интересно, есть ли у них сейчас пленки тоньше ангстрема? Может, пойти попросить?..» Якин видел, как Сердюк что-то сказал Ивану Гавриловичу, а тот кивнул. Вот они оба наклонились над чем-то… Громадная, нестерпимо яркая бело-голубая вспышка сверкнула напротив, во всю ширину громадных окон 17-й лаборатории! От взрывной волны осколки стекол полетели в лицо Якову. Несколько секунд он ничего не видел — только где-то под потолком плавали тусклые точки лампочек. Что это?! Он вытер лицо ладонью, измазавшись в чем-то липком, посмотрел наружу: из окон 17-й рвалось желтое пламя, казавшееся совсем неярким после блеска вспышки. Яков выбежал из лаборатории, помчался по бесконечно длинным коридорам. По институтскому двору в суматохе бегали охранники. Яков лишь на секунду хлебнул холодный дымный воздух двора и вбежал в дверь стеклянного корпуса. В коридоре, который вел к 17-й лаборатории, метался горячий сизый дым, ярким коптящим пламенем пылал паркет. Яков сорвал со стены цилиндр огнетушителя, с размаху ударил его острием о стенку и направил вперед длинную струю желтой пены. В горящем паркете образовалась черная дымящаяся дорожка. Он уже почти добрался до дверей 17-й; из них било пламя. Глаза разъедал горячий дым. Якин оглянулся: проложенная огнетушителем дорожка снова горела. Только теперь он услышал и понял пронзительные звонки, звучавшие в туннеле из дыма и пламени. Радиация! Сигнальные автоматы звенели непрерывно — значит, радиация уже превысила все безопасные нормы. Яков еще раз посмотрел на горящие двери 17-й, швырнул ненужный огнетушитель и, закрывая руками лицо от огня, побежал обратно по расстилавшемуся перед ним пламени. Во дворе уже стояли красные пожарные машины. В окна «аквариума» били тугие струи воды. Бегали люди. Горящую одежду Якина кто-то обдал водой, кто-то отвел его в сторону, спросил: «Там больше никого нет?» Вместо ответа Яков закашлялся не то от дыма, не то от подступивших к горлу слез…ИСПЫТАНИЕ «ЛУНА»
Они подружились в эти горячие месяцы спешной подготовки к испытанию. Во всяком случае, генерал теперь называл Вэбстера попросту Германом, а тот называл его Рэндольфом. Они удачно разделили сферы своей деятельности: Вэбстер ведал теоретической и технологической частью работ, рассчитывал траектории полета, наивыгоднейшие скорости, настройку автоматов управления «телескопом», следил за выпуском новых снарядов на нейтрид-заводе; Хьюз ворочал финансами и людьми. Нью-Хэнфорд — «телескоп» — ртутные рудники; их пути теперь часто пересекались. Сегодня они сошлись на скалистой вершине в двух километрах от потухшего вулкана — здесь находился блиндаж управления «телескопом». Глубокое ноябрьское небо, обрывающееся коричневыми лохмотьями скал, пересекли в нескольких направлениях белые облачные прямые. Эти прямые линии расплывались, таяли и снова непрерывно наращивались маленькими и блестящими, как наконечники стрел, реактивными истребителями, патрулировавшими в небе. Влево и вправо от блиндажа по выступам скал шли серые бетонные полушария зенитной охраны; они охватывали зону «телескопа» замысловатым пунктирным многоугольником. По серой спирали шоссе мчались вниз маленькие машины — это покидали площадку «телескопа» инженеры и солдаты охраны. Еще несколько минут — и шоссе увело машины в желто-зеленую растительность долины. «Телескоп» выделялся на холодном фоне ноябрьского неба черным, без подробностей, силуэтом; он был похож на древнюю арабскую мечеть, неизвестно как попавшую сюда, в Скалистые горы. — Смотрите-ка! — воскликнул генерал и протянул руку к горам на востоке. Вэбстер и майор Стиннер повернулись: над зазубренными вершинами поднялась бледно-голубая и прозрачная в дневном свете половинка луны. Хьюз посмотрел на Вэбстера, и в его маленьких голубых глазках появилось замешательство. — Гм… Однако… все рассчитано точно, не так ли? — Все в порядке, Рэндольф! — Вэбстер бросил окурок сигареты. — Они сойдутся там, где надо… — Он посмотрел на часы. — Дайте предупредительный сигнал, Стиннер. Майор исчез в блиндаже. — Ну скоро? — Хьюз чувствовал себя неуверенно. И это прибавляло уверенности Вэбстеру: — В 15.33. Еще четверть часа… Беспокоиться нечего. В Луну мы наверняка попадем. И даже в Море Дождей… А в кратер Платона?.. — Он пожал плечами. — В первый раз, может быть, и нет — это же пристрелка. — Во всяком случае, я думаю, — заметил генерал, — мы правильно сделали, что не пригласили корреспондентов телекомпаний. Это еще успеется… Хотя жаль, конечно, что такой исторический момент не станет известен, а? Да и мы с вами, Герман… Представляете, как бы нас величали во всем мире? — Генерал нервно рассмеялся. — Ладно, будем скрытны, как… как русские. Они замолчали. Внизу, на шоссе и около блиндажей охраны, уже прекратилось всякое движение. Только реактивные самолеты перечерчивали небо белыми полосами. — Пожалуй, пора, — сказал Вэбстер. В блиндаже стоял серый полумрак. Из широкой бетонной щели была видна часть площадки. Стиннер, наклонившись над пультом телеуправляющей установки, настраивал четкое изображение на экране. Увидев начальство, он вытянулся: — Приборы настроены, сэр! — и посторонился, пропуская генерала и Вэбстера к пульту. На мерцающей поверхности экрана застыл среди переплетения тяжей черный ствол «телескопа»; он уходил вертикально вверх, к щели в крыше павильона. Вэбстер, вращая рукоятки на пульте, переводил «глаз» телеустановки на приборы-автоматы, управляющие пушкой: на экране проползали черные рычаги, штурвалы, тускло лоснящиеся закругления огромного затвора пушки. Рядом, в самое ухо, напряженно дышал генерал. — Кажется, всё в порядке… Заряжаю. — Вэбстер переключил на пульте несколько тумблеров. Сектор черного лафетного диска в павильоне медленно отодвинулся влево, образуя широкую щель; из щели выдвинулись тонкие черные штанги, сочлененные суставами шарниров. Эти штанги, похожие на невероятно худые и длинные руки, осторожно поднесли к затвору «телескопа» продолговатый снаряд. На мгновение снаряд закрыл весь экран темной тенью. В затворе пушки раскрылся овальный люк, паучиные «руки» манипулятора мягко положили снаряд в люк и спрятались в щель. Диск снова сомкнулся. В блиндаже стояла тяжелая тишина. И Вэбстер только воображением представил себе страшный рев мощных моторов, наполнивший в эту минуту павильон. — Всё… Еще две с половиной минуты… — Вэбстер закурил, покосился на стоявшего рядом генерала и от удивления поперхнулся дымом. Генерал молился! Его дрябловатое лицо с бисеринками пота в морщинах щек и лба приняло странное, отсутствующее выражение; глаза неопределенно уставились в щель блиндажа; губы что-то беззвучно шептали; пальцы сложенных на животе рук слегка шевелились в такт словам. Вэбстер на мгновение засомневался в реальности всего происходящего: полно, действительно ли они через минуту произведут выстрел по Луне? Действительно ли этот смиренно просящий у бога удачи старик в генеральском мундире — тот самый генерал Хьюз, который выдвинул идею «космической обороны» и основательно потрудился, чтобы осуществить ее?.. Вэбстер деликатно кашлянул. Генерал прекратил беседу с богом, строго покосился на стоявшего в стороне майора Стиннера — с лица майора сразу смыло ироническую ухмылку под усиками. — Включаете вы? — спросил он Вэбстера. — Уже включено. Теперь действуют автоматы… Несколько долгих секунд все трое молча смотрели в щель. Ожидаемый миг все-таки не совпал с действительным: над черным силуэтом павильона вспыхнуло белое пламя и умчалось ввысь. В ту же секунду дрогнул бетонный пол под ногами. Еще через секунду грянул оглушительно звонкий звук атомного выстрела: «Б-а-а-м-м-м…» Вэбстер увидел, как слева дрогнула и обрушилась грудой камней и пыли источенная ветрами скала. Рокочущее эхо отдаленными взрывами ушло в горы. На экране телеустановки некоторое время ничего не было видно, кроме светящегося радиоактивного тумана. Потом вентиляторы выдули радиацию, и снова возник вертикальный ствол «телескопа» в паутине тяжей. Электронные автоматы быстро выправляли нарушившуюся от сотрясения наводку. Из щели в дисковом основании «телескопа» черные штанги снова подняли к затвору нейтриум-снаряд с водородным зарядом, и его опять поглотил люк затвора. После томительно долгой минуты вместе со звуком атомного выстрела дрогнула земля; ушла в высоту и растаяла слепящая вспышка газов и воздуха… Они вышли из блиндажа. Над горами стояла необыкновенная тишина. Желтое солнце клонилось к хребту на западе. На востоке поднималась полупрозрачная Луна. В самом зените небо пересекали полосы реактивных газов. Снаряды летели к Луне. Луна мчалась навстречу снарядам.Пожалуй, со времени возникновения обсерватории на горе Паломар это был первый случай, когда громаднейший телескоп-рефлектор с пятиметровым зеркалом был направлен не в головокружительные глубины Вселенной, а на самое близкое к Земле космическое тело — на Луну. Было за полночь. Маленький полудиск Луны перевалил через зенит и уже склонялся к западу. Ее свет лился внутрь павильона обсерватории через обширную щель в куполе. Верхнюю часть щели заслонял цилиндрический силуэт телескопа-рефлектора. В павильоне было прохладно и тихо. Еле слышно пели моторчики, поворачивая за движением Луны купол павильона. Генерал что-то спрашивал у сопровождавшего их старого профессора Ивенса. И тот оживленно объяснял ему, показывая на зубчатые колесики искателя. Вэбстер ходил из конца в конец павильона. Он давно, еще после выстрелов, чувствовал какое-то гнетущее, похожее на легкоенедомогание волнение. Возможно, оно пришло от нервной усталости — в последние дни перед выстрелами почти не оставалось времени для сна. Голова была горячей, мысли то возникали беспорядочным комком, то исчезали. «Если все рассчитано точно, то снаряды должны попасть в кратер в расчетное время — в 46 минут первого, ровно через 9 часов 13 минут после выстрела… Если в назначенную минуту на Луне не будет вспышек, значит, промахнулись, снаряды ушли в сторону… Все-таки в этом отношении снаряды пасуют перед ракетами — у снаряда нельзя исправить траекторию полета». Он потер виски рукой, и мысли сразу перескочили на другое. Интересно: какие они, эти русские инженеры? Ведь они делают то же, что и он… Они ломают голову над теми же проблемами… Чужие, непонятные и… близкие люди. Черт возьми, ведь мы работаем над одним и тем же! Наверное, не однажды мысли там и здесь упирались в один и тот же неразрешимый вопрос. Интересно было бы поговорить с ними, поспорить, узнать, как у них идет дело, — просто так, без тайных целей. Вэбстер усмехнулся: как же, черта с два! Уж с ним они не станут разговаривать откровенно: ведь они знают его статью, а то, что он, Вэбстер, получил нейтриум — не знают. И он не знает, кто у них работал с мезонами, кто там открыл нейтрид. Здесь — нейтриум, там — нейтрид… Даже назвали по-разному. Будто на разных планетах… Вэбстер поморщился: голова начинала болеть не на шутку. «Видимо, я все-таки сильно переутомился…» Он подошел к телескопу и стал смотреть в окуляр. Освещенная с одной стороны половина Луны была сейчас в самом выгодном положении для наблюдений. В рефлекторе отражалась только часть лунного диска — Море Дождей, лунные «Альпы» и «Апеннины». Вэбстер смотрел на этот далекий и чуждый мир. Серебристо-зеленые горы были различимы до малейших скал; в косых лучах Солнца они отбрасывали черные четкие тени. На серой равнине Моря Дождей поднимались скалистые кольца исполинских лунных кратеров. Черная тень заполняла их, и они становились похожими на огромные дыры в лунном диске. Внизу Моря Дождей, среди «Альп», сверкал под Солнцем овал кратера Платон. К нему сейчас летели снаряды… Где-то поблизости должна лежать русская ракета… Хотя нет — она в затененной части. Рефлектор, следуя за Луной, переместился вправо. Вэбстеру пришлось сменить позицию у телескопа. Он едва не столкнулся с генералом. — Ну, док, — преувеличенно бодро сказал тот, — скоро, должно быть… Минуты через две — три. — Да-да, — согласился Вэбстер. Он поймал себя на том, что нисколько не волнуется. Он скорее равнодушен и даже чувствует неприязнь к тому, что они должны увидеть. — Как вы думаете, док, — генерал повернулся к Ивенсу, — мы сможем заметить снаряды до попадания, в полете, а? — Ну, вы слишком много требуете от нашего рефлектора, генерал! — Ивенс коротко рассмеялся старческим, дребезжащим хохотком. — Ведь они всего полметра в диаметре. Разве только они будут сильно блестеть на солнце, тогда… — Без пятнадцати час, — не дослушав его, сказал Хьюз и наклонился к своему окуляру. Все трое замолчали и приложились глазами к пластмассовым трубочкам в основании рефлектора. Серебристая поверхность Луны была по-прежнему величественно спокойной. Черный овал кратера Платон немного посерел, его дна уже касались солнечные лучи… Слабо тикал часовой механизм телескопа. Все трое медленно изгибали туловище вслед за движением окуляра… Голубовато-белая вспышка в темном пятне кратера на миг ослепила привыкший к полутьме глаз. Белый шарик расширился и поднялся; во все стороны от кратера побежали непроницаемо черные тени кольцевых скал. Еще через несколько секунд все пятно кратера закрыло мутное-серое пыльное облако, поднявшееся с лунной поверхности. Вторая вспышка сверкнула через минуту, левее кратера. — Есть! Великолепно! — Генерал протягивал свои полные руки навстречу Вэбстеру. — Поздравляю вас, дорогой док! Удача! Слава богу! Вэбстер вяло ответил на пожатие: — Второе попадание не так удачно… Должно быть, повлияло сотрясение пушки. Вокруг рефлектора суетился Ивенс. — Замечательно!.. — бормотал он. — Замечательное подтверждение гипотезы. Луна действительно покрыта слоем космической и метеоритной пыли. Нужно снять спектральный анализ. Он торопливо стал навинчивать на окуляр приставку с призмами анализатора. Вэбстер смотрел на него, и острая, болезненная зависть к этому старику с серыми усами и длинной седой шевелюрой (под покойного Эйнштейна) охватила его. Как давно не испытывал он этого чистого, без примесей каких-либо посторонних чувств, восторженного удивления перед таинственными явлениями Вселенной! Почему он не астроном! Почему ему не дано в великолепные звездные ночи пронизывать телескопом глубины Вселенной, чувствовать исполинские масштабы пространства и времени, придумывать величественные гипотезы о возникновении миров и о разлетающихся звездах! Почему за всеми его делами стоит мрачный, угрожающий призрак беды! Почему его великая наука стала в мире страшилищем!.. «Старика взволновали не попадания снарядов в Луну, а космическая пыль на лунных скалах… Неужели снаряды, выстрелы-все это не нужно? Да, для науки, пожалуй, нет. А для чего?» Какая-то главная мысль, еще не оформившись словами, возникала в мозгу, но его уже тормошил возбужденный Хьюз: — Ну, Герман, сейчас нужно устроиться где-либо переночевать, а завтра — на завод. Начало сделано, теперь будем разворачивать дело!.. В эту ночь многие астрономы западного побережья Америки, в Австралии, в Океании, Индонезии, на Филиппинах, на Дальнем Востоке Советского Союза и Китая наблюдали и сфотографировали две вспышки на Луне у кратера Платон, вызванные не то падением громадных болидов на Луну, не то внезапным извержением какого-то скрытого в кратере вулкана.
— Только откровенно, Рэндольф! Вы хотели бы войны?.. Машина мчалась по пустынному шоссе, подминая под себя серую полосу бетона. С обеих сторон дороги разворачивались желто-зеленые пейзажи калифорнийской осени: убранные поля кукурузы, опустевшие виноградники, одинокие сосны на песчаных холмах, пальмовые рощи; изредка мелькали домики фермеров. Горы синели далеко позади. В открытые стекла машины бил свежий, чистый воздух. Нежаркое солнце висело над дорогой. Они разговаривали о пустяках, когда Вэбстер без особенной связи с предыдущим задал этот вопрос. — Откровенно? — Генерал был слегка озадачен. — Гм… Видите ли, прежде говорили: плох тот военный, который не мечтает о сражениях. Да. Однако это говорили в те наивные времена, когда самым ужасным видом оружия были пушки, стреляющие ядрами. Сейчас не то время… Если говорить откровенно, то я был бы не прочь испробовать ту войну, которую мы с вами сейчас стараемся готовить: войну в Космосе, фантастическую и исполинскую битву ракет и снарядов, войну баз на спутниках и астероидах. Это был бы неплохой вариант. Земля уже тесна для нынешней войны. Но там, в пространстве, еще можно померяться силами… — Но вы, конечно, понимаете, что такой вариант нереален. Война неизбежно обрушится на Землю, даже если и будет начата в Космосе… И имеем ли мы право?.. Хьюз помолчал, потом заговорил с раздражением: — Странные вопросы вы задаете, Герман! Черт возьми, вы становитесь слюнтяем! Вы, сделавший столько для нашей силы и мощи… Некоторое время они ехали молча. Вэбстер бездумно следил за дорогой. Мимо мелькали высокие пальмы. Генерал закурил и уперся взглядом в спину водителя. — Когда говорят о нашей силе, о нашей ядерной мощи, — начал снова Вэбстер, — я не могу отделаться от мысли, что всего этого могло и не быть… (Хьюз быстро повернулся к нему, сиденье скрипнуло под его грузным телом.) Да-да! Ведь открытие, которому мы обязаны существованием ядерной бомбы, — это величайшая из случайностей в истории науки… Вы, конечно, знаете историю открытия радиоактивности? Анри Беккерель под впечатлением недавно открытых Х-лучей и свечений в разрядных трубках пытался найти что-то похожее в самосветящихся минералах. Вероятно, он и сам толком не знал, что искал, а такие опыты почти всегда обречены, поверьте мне. Это великая случайность, что из обширной коллекции фосфоресцирующих минералов, собранной его отцом, он выбрал именно соли урана; вероятность такого выбора была не более одной сотой. Еще большая случайность, что он в карман, где лежал пакетик с солями урана, сунул закрытую фотопластинку. Не произойди такого единственного в своем роде совпадения, мы могли бы не знать о радиоактивном распаде еще лет сорок—пятьдесят. А все дальнейшие открытия были продолжением этой случайности. Резерфорд — физик, не чета Беккерелю — совершенно случайно обнаружил, что атомы состоят из пустоты и ядра. Ган и Штрассман открыли деление ядер атомов урана. Так возникла атомная бомба. Но ведь все это было открыто преждевременно; ни общий уровень науки, ни уровень техники еще не были готовы к обузданию и использованию этой новой гигантской силы. И вышло так, что человечество воспользовалось силой примитивной, грубой, варварской формой этой силы — атомным взрывом… Гибелью несчастной Хиросимы… — Бог знает, что вы говорите, Герман! — резко перебил его генерал. — По-вашему, выходит, что главное оружие, с помощью которого мы еще можем держать наш мир в повиновении, а врагов в страхе, выпало нам случайно? Нет, Герман! — Голос генерала зазвучал патетически. — Бог, а не ваша слепая случайность, вложил в ваши руки это могучее оружие, чтобы мы подняли его над миром! Вэбстер пожал плечами. Они замолчали и промчались весь остаток пути, пока впереди не показались приземистые корпуса Нью-Хэнфорда, обнесенные забором с колючей проволокой. Узкие окна в толстых стенах, выходившие наружу почти на уровне земли, пропускали недостаточно света, поэтому в мезо-тронных цехах двумя цепочками под потолком горели лампы. Вдоль стен тянулись толстые трубы ртутепровода; отростки от них шли к причудливым черным устройствам, состоявшим из ребристых цилиндров, труб и коробок, к которым тянулись провода и штанги дистанционного управления. Эти устройства, двумя рядами выстроившиеся во всю длину цеха, в точности повторяли друг друга. Цех был наполнен мягким гудением трансформаторов. У пультов мезотронов склонились сосредоточенные люди в белых халатах. На генерала Хьюза, Вэбстера и сопровождавшего их пожилого инженера Свенсона, шведа с молочно-белым лицом и огненно-рыжей шевелюрой, почти никто не обращал внимания. Генерал вскользь осматривал мезотроны, задавал малозначительные вопросы. Было заметно, что его не очень интересует все это. Вэбстер повернулся к почтительно следовавшему за ним Свенсону: — Расскажите-ка, что нового, Свенсон? — Что нового, сэр? Пожалуй, почти ничего… Сейчас делаем примерно по десяти оболочек для снарядов в неделю. Из них, к сожалению, большая часть идет в брак, сэр. Сами знаете… — Да-да, — кивнул Вэбстер. — Все по-прежнему. — Делаем детали для новых мезотронов, скоро будет готов еще один, — продолжал Свенсон. — Да, еще вот что: сильно капризничают старые мезотроны, сэр. Просто с ног сбиваемся около них, все налаживаем… Особенно вон тот, сэр, — он показал рукой на второй в левом ряду мезотрон, — «два-бис». — А, один из первых! И что же с ним? — Ума не приложим, сэр! То происходят какие-то дикие скачки вакуума в камерах, то различные вспышки… Мезонный пучок колеблется. Трудно разобраться, в чем дело, сэр. Вы же сами знаете, что, когда эти проклятые машины расстроятся, с ними никакого сладу нет… Свенсону, видно, хотелось излить душу. Но они уже дошли до конца цеха, к дверям второго выхода. — Так… Теперь покажите-ка вашу продукцию, Герман, — сказал генерал. — Сейчас… — кивнул Вэбстер. — Вот что, Свенсон, распорядитесь, чтобы выключили этот «два-бис» и раскрыли. Я сам его посмотрю. — Хорошо. Будет сделано, сэр, — минут через двадцать… Они вышли на заводской двор. Солнце сияло в ясном лазурном, как и вчера, небе. Лучи его отражались от фарфоровых гирлянд на высоковольтных трансформаторах подстанции. По асфальтированным дорожкам электрокары везли черные лоснящиеся детали из нейтриума. — Что это? — Генерал показал на возвышавшийся слева белый резервуар с трубами. — Ртуть. — И много ее там? — Резервуар вмещает около двадцати тысяч тонн, но сейчас он заполнен наполовину, не больше. — Ого! У вас громадные запасы — почти вся мировая добыча за год… — Вашими заботами, генерал! — иронически кивнул Вэбстер. Молоденький низкорослый солдат, стоявший у входа в склад, вытянулся при их приближении. Вэбстер нажал кнопку в стене, и тяжелая стальная дверь медленно отъехала в сторону. Они вошли внутрь и стали опускаться вниз по бетонным ступеням. Склад находился под землей. Толстые бетонные колонны подпирали сводчатый потолок, на котором неярко горели лампочки в защитных сетках. Здесь было прохладно и немного сыро. Хьюз и Вэбстер медленно шли мимо чугунных стеллажей, мощных стальных контейнеров и люлек, в которых лежали черные метровые тела нейтриум-снарядов. — Это уже готовые? — спросил генерал. — Да. Эти двадцать два — с водородным зарядом. А там дальше — с усиленным урановым, на пятьдесят килотонн тротилового эквивалента. — Так… — Генерал несколько раз прошелся вдоль стеллажей. Его серая расплывчатая фигура почти сливалась с бетоном стен. — Так… Прекрасно! Мы с вами утром рассуждали о войне. Вот она, наша огромная сила! — Генерал широко развел руками. — И знаете, когда я думаю, что все это великолепие, все это могучее оружие может остаться неиспользованным, мне становится досадно от такой мысли. Черт возьми, ведь это же гигантские затраты ума, сил, денег и… Что это?! …Дернулся под ногами бетонный пол. Мигнув, погасли лампочки под потолком. Страшная, нестерпимо грохочущая темнота обрушилась на них вместе с содроганием стен и швырнула наземь.
ТЕНЬ НА СТЕНЕ
Территория Физического института вместе с прилегавшей к ней частью парка была оцеплена; по шоссе пропускали только машины сотрудников и аварийных команд. Пожар потушили сравнительно быстро; очевидно, часть пламени была сбита взрывом. По лужайкам и асфальтированным дорожкам, проверяя зараженность местности радиацией, ходили сотрудники в серых, холодно поблескивающих комбинезонах и капюшонах из толстой резины, в одинаковых уродливых масках. Утро начиналось сильным и холодным ветром. Он схватывал натекшие на асфальте лужи морщинистой корочкой льда, качал деревья, рвал облака и гнал их клочья к Днепру. Корпус возвышался обожженной десятиэтажной клеткой из горизонтальных бетонных перекрытий и стальных переплетов пустых оконных рам. Он слегка осел одной стороной и накренился; если поднять голову к быстро бежавшим облакам, то казалось, что это большой океанский пароход сел на мель и покинут всеми в крушении. Через несколько часов было установлено, что в 17-й лаборатории, в основании левого крыла корпуса, произошел взрыв, или вспышка, сопровождавшаяся сильным выделением тепла и радиоактивного излучения. Однако по силе фугасного действия она соответствовала всего лишь авиабомбе крупного калибра: полторы-две тонны тротилового эквивалента. Все это доложил Александру Александровичу Тураеву молодцеватый капитан со светлыми усиками на красном от холодного ветра лице. Отдавая рапорт, он стоял смирно и держал руку под козырек. Александр Александрович неловко, по-штатски сутулился перед ним. — Радиоактивная опасность во дворе незначительна. Отсутствует радиация в остальных частях корпуса и во вспомогательных зданиях. В семнадцатую лабораторию аварийщики проникнуть не могли из-за сильной радиации воздуха и самого помещения. Установлены и работают воздухоочистительные установки. Причины взрыва еще не установлены. Человеческих жертв не обнаружено… Окончив рапорт, капитан отступил на шаг и опустил руку: — Разрешите продолжать работу? — Да-да! Пожалуйста, идите. Однако вот что: пока ничего решительного, пожалуйста, не предпринимайте… без моего… э-э… указания. — За четкой напористостью рапорта академик Тураев все же смог уловить, что капитан далеко не тверд в ядерных исследованиях. — Дело-то, видите ли, необычное. — Слушаюсь: ждать вашего приказания! — Капитан снова козырнул и хотел выйти. — Погодите. Э-э… Скажите, пожалуйста, вы не догадались взять пробы воздуха для анализа радиоактивности? — Так точно… То есть, никак нет… — Капитан смешался и развел руками. — Не учел, товарищ академик… Прикажете взять? — Теперь уж поздно, пожалуй. Впрочем, возьмите. Капитан вышел. В разбитые окна комнаты административного корпуса свирепо задувало. Александр Александрович сидел в плаще, положив озябшие синие руки на стол. «Человеческих жертв не обнаружено…» Перед ним лежали только что принесенные из проходной два табельных жетона. Треугольные кусочки алюминия с дыркой для гвоздя и цифрами: «17–24» — жетон Ивана Гавриловича Голуба, и «17–40» — жетон Сердюка. Края округлились от многолетнего таскания в карманах. Александр Александрович чувствовал душевное смятение и растерянность и никак не мог справиться с этими чувствами. Разное бывало, особенно в первые годы крупных ядерных исследований: люди, по своей неопытности или от несовершенства защиты, заражались радиоактивной пылью, попадали под просачивающиеся излучения ускорителей, иногда выходили из управления реакторы. Это были аварии, несчастные случаи, но понятные несчастья… А сейчас — Тураев чувствовал это интуицией старого исследователя — случилась не простая авария. За этой катастрофой таилось что-то огромное, не менее огромное, чем нейтрид. Но что? С глухой, завистливой печалью чувствовал он, что не ему, восьмидесятилетнему старику, предстоит вести эти исследования: здесь нужна сила, бешеное напряжение мысли, энергия молодого воображения. Голуб и Сердюк! Что ж, они погибли, как солдаты в бою. Такой смерти можно только позавидовать! А ведь именно Иван Гаврилович сейчас так нужен для расследования этой катастрофы, которую он вызвал и от которой погиб. У него была и сила, и страстность исследователя, и молодая голова… Александр Александрович отогнал бесполезные печальные мысли, положил жетоны в карман и тяжело встал: нужно действовать. Он вышел во двор. На асфальтированных дорожках и лужайках небольшими группами стояли сотрудники. Они выглядели праздно среди тревожной обстановки — в синих, желтых, коричневых плащах и пальто, в красивых шляпах — и, должно быть, чувствовали это. Весть о том, что профессор Голуб и Сердюк находились в лаборатории вчера вечером, в момент взрыва, передавалась вполголоса. Никто ничего толком не знал. — Сердюк? Так я ж его вчера видел, здоровался! — удивлялся басом стоявший невдалеке от Тураева высокий, плотный мужчина. — Он вчера к нам в бюро приборов счетчик частиц приносил ремонтировать! — Как будто это обстоятельство могло опровергнуть случившееся. Прислонясь к дереву, плакала и беспомощно вытирала руками глаза красивая черноволосая девушка — кажется, она лаборантка из лаборатории Голуба. Возле нее хмуро стоял светловолосый молодой человек с непокрытой перебинтованной головой и в плаще с поднятым воротником — тот, который вчера видел вспышку в 17-й из окна высоковольтной лаборатории…По дороге в Физический институт Николай Самойлов пытался, но никак не мог осмыслить происшедшее. Только увидев покосившееся, ободранное взрывом здание главного корпуса, тревожные группы сотрудников, он почувствовал реальность нагрянувшей беды. «Ивана Гавриловича и Сердюка не стало! Совсем не стало!..» Разгорячившись от езды в машине, он снял шляпу, чтобы охладить голову ветром, да так и стоял в раздумье под скелетом корпуса, пока от холода и тоскливых мыслей его тело не пробил нервный озноб. Что же случилось? Диверсия? Нет, пожалуй… Неужели то, о чем Иван Гаврилович говорил тогда, в парке, и что он, Самойлов, не хотел понять?.. Николай увидел Тураева в легком распахнутом плаще, с посиневшим морщинистым лицом и подошел к нему. Помолчав, он сказал: — Здравствуйте, Александр Александрович! — Он пожал сухую, старческую руку. — Я привез два нейтрид-скафандра для… — Не найдя нужного слова, он кивнул в сторону разрушенного корпуса. Помолчал. — Думаю, что в лабораторию идти нужно мне. Я знаю положение всех установок, я хорошо знаю скафандры… — и, замявшись, добавил менее решительно: — Я ведь почти два года работал у Ивана Гавриловича… Тураев смотрел на высоченного Николая Самойлова, подняв голову вверх, внимательно и даже придирчиво, будто впервые его видел. Они нередко встречались и в институте, и на нейтрид-заводе, и на конференциях, но сейчас отсвет необычайности лежал на этом молодом инженере, как и на всем вокруг… Высокий, чуть сутулый, продолговатое смуглое лицо с крупными чертами; лоб, перерезанный тремя продольными морщинами, ветер растрепал над ним черные прямые пряди волос; хмурые темные глаза; все лицо будто окаменело от холода и горя. «Молод, силен… Да, такому это по плечу. Сможет и узнать и понять… Эх, хорошо молодым!» Не зависть, а какое-то светлое отцовское чувство поднималось в Александре Александровиче. Помолчав, он сказал: — Что ж, идите, если не боитесь… Только одному нельзя, подберите себе ассистента. — Ассистента? Хорошо, я сейчас спрошу у наших инженеров. Самойлов повернулся, чтобы идти, но в это время знакомый взволнованный голос окликнул его: — Николай, подожди! К нему подходил Яков Якин, хмурый, решительный, с белой повязкой на лбу. Они поздоровались. — Что это у тебя? — показал Самойлов на повязку. — Хочешь идти в семнадцатую? — не отвечая, спросил Яков. — Да… — Бери меня с собой. — Тебя? — неприятно поразился Николай. Подумалось: «Славы ищет?» — Что это тебе так захотелось? — Понимаешь… Я видел все это… Вспышку, Голуба, Сердюка… — сбивчиво забормотал Якин. — Я тебе хорошо помогу. Тебе там трудно будет понять… Труднее, чем мне. Потому что я видел это! Понимаешь? Больше никто не видел, только я… Из окна своей лаборатории. Понимаешь? — Так про это ты сможешь просто рассказать, потом… — Самойлов помолчал. — А в лабораторию мне бы нужно кого-нибудь… — запнулся, — понадежнее. Это слово будто наотмашь хлестнуло по щекам Якова; в них бросилась кровь. Он вскинул голову: — Слушай, ты! Ты думаешь… только ты такой хороший, да? — Голос его зазвенел. — Неужели ты не понимаешь, что со мной было за эти годы? Думаешь, я и теперь подведу, да? Да я… А, да иди ты к черту!.. — Он отвернулся. Николай почувствовал, что обидел Яшку сильнее, чем следовало. «Тоже, нашелся моралист! — выругал он себя. — Сам-то немногим лучше…» — Слушай, Яша! — Он взял Якова за плечо. — Я не подумав сказал. Беру обратно слова! Слышишь? Извини… Яков помолчал, спросил: — Меня берешь с собой? — Беру, беру… Все! Пошли, возьмем снаряжение… По дороге к машинам Николай внушительно поднес кулак к лицу Якина: — Ну, только смотри мне! Яков молча улыбнулся.
Натягивая на себя тяжелый и мягкий скафандр, покрытый нейтридной пленкой, Яков негромко спросил: — Коля, а от чего он предохраняет? — От всего: он рассчитан на защиту от огня, от холода, от радиации, от вакуума, от механических разрывов… В прошлом году я в таком скафандре бродил по луже расплавленной лавы. Так что не бойся… — Да с чего ты взял, что я боюсь? — снова вспылил Якин. На этом разговор оборвался. На них стали надевать круглые шлемы с перископическими очками. Высокий, плотный инженер из бюро приборов — тот, который недавно удивлялся, что Сердюка, — а он его только вчера видел, — нет больше в живых, — проверил все соединения и стыки, ввинтил в шлемы металлические палочки антенны. Николай включил миниатюрный приемопередатчик — в наушниках послышалось сдержанное дыхание Якина. — Яша, слышишь меня? — Слышу. — Якин повернулся, медленно кивнул тяжелым шлемом. — Перестань сопеть!.. Слышите нас, товарищи? — Да, слышим, — ответил в микрофон высокий инженер. Он сдержанно кашлянул. — Ни пуха, ни пера вам, хлопцы. Осторожно там… — К черту! — в один голос суеверно ответили Яков и Николай. Две странные фигуры с большими черновато блестящими головами, горбатые от кислородных приборов на спине, тяжелой походкой вошли в накренившееся здание главного корпуса. Они прошли по черному, обгоревшему коридору — угли хрустели под ногами — и вошли в 17-ю лабораторию. Вернее — туда, где совсем недавно была лаборатория. До сих пор Николай как-то глушил в себе ощущение случившегося несчастья — потом, на досуге, можно будет размышлять и жалеть, сейчас надо действовать. И вот гнетущая атмосфера катастрофы навалилась на него. Знакомый длинный, высокий зал стал темнее и ниже. Внешняя стена — точнее оставшийся от нее двухэтажный стальной каркас — осела и выгнулась наружу. Железобетонные колонны подкосились и согнулись под выпятившимся потолком, с которого на тонких железных прутьях свисали рваные клочья лопнувшего бетона. Ближе к центру зала, к пульту мезонатора, бетон сиял мутно-зелеными стекловидными подтеками, сквозь которые проступали темные жилы каркасов. Под ногами хрустели пересыпанные серой пылью осколки. В окнах не оставалось ни одного стекла, даже рамы вылетели. И в лабораторию беспрепятственно проникал яркий дневной свет, но в то же время она казалась сумрачнее, чем прежде. Самойлов, осмотревшись, понял, в чем дело: внутренняя стена, выложенная раньше ослепительно белыми кафельными плитками, была теперь желто-коричневой, к середине зала почти черной: ее обожгло, опалило громадной вспышкой тепла и света. Темно-серая сорокаметровая громада мезонатора, улегшаяся вдоль искореженной стены, обгорелые остатки столов, вывороченные внутренности железобетона, потемневшая ребристая труба ускорителя, уходящая в сгущающуюся серо-коричневую муть… Якину лаборатория казалась чужой и незнакомой: будто он не только не работал, но и никогда раньше не был здесь. В наушниках слышались шипение и треск. «Наверно, помехи, — подумал он. — Воздух сильно ионизирован радиацией». — Яша! — позвал его приглушенный треском голос Самойлова. — Да? — У Якина было такое ощущение, будто он говорит по телефону. — Давай сейчас осмотрим бегло всю лабораторию, наметим самые главные участки. А в следующий заход придем с приборами… Ты иди по левой стороне, я по правой. Пошли… Взгляд, ограниченный перископическими очками, захватывал небольшой кусок пространства. Приходилось поворачивать все туловище, стесненное тяжелым скафандром. Они медленно продвигались к центру зала. Самойлов не напрасно решил на первый раз не задерживаться в лаборатории — его, как и Якина, непрестанно зудила мысль: а выдержат ли скафандры обстрел смертельными дозами радиации? Устоит ли неощутимо тонкая пленка нейтрида перед гамма-излучениями, пробивающими бетонные и свинцовые стены? Пока индикаторы радиации ничего не показывают, но… кто знает? Может быть, в недоступные для контроля складки скафандра уже просочились неощутимые губительные частицы, может быть, уже впитываются в тело… Они подошли к центру лаборатории, к пульту мезонатора. Собственно, пульта уже не было: стоял полукруглый железный каркас с зияющими дырами выгоревших приборов, с оплавившимися обрывками медных проводов. Николай заметил, что все — и горелое железо, и медь, и бетон, и угли — было покрыто зеленовато-пепельным налетом. «Что это такое?» Он поднял голову, поискал Якова. Тот ушел немного вперед и стоял между стеной и остатком железной лесенки, которая поднималась к бетонному мосту у вспомогательной камеры. Верхних ступеней и перил не было, торчали только стальные оплавленные прутья, заломленные назад. Приземистая черная фигура Якина неторопливо поворачивалась из стороны в сторону, чтобы лучше рассматривать. Внезапно он замер, подняв руку: — Николай, смотри! Самойлов повернулся в ту сторону, куда показывала рука Якина, и вздрогнул. Против лесенки, на обожженной темно-коричневой кафельной стене, ясно белел силуэт человека. Николай, спотыкаясь о что-то, сделал к нему несколько шагов. Силуэт был большой, во всю двухэтажную высоту стены, без ног — они, должно быть, не уместились на стене, — и слегка размытый полутенями. «Так вот оно что!.. Вот они как!» Это была как бы тень наоборот. Тепловая и световая вспышка затемнила кафель, а заслоненная телом человека часть стены осталась белой. Была различима занесенная к голове рука — видно, человек последним движением хотел прикрыть лицо… — Вот что от них осталось — негатив… — Голос Якина в наушниках звучал хрипло: — Кто это, по-твоему: Голуб или Сердюк? — Не знаю. Не разберешь… Нужно потом сфотографировать. Они вышли через двадцать минут. Разделись, проверили себя и внутренности скафандров щупами индикаторов радиации. Скафандры выдержали: ни излучения, ни радиоактивный воздух лаборатории не проникли в них. Посидели, покурили. После мрачного хаоса лаборатории, комнатка административного корпуса казалась, несмотря на выбитые стекла, очень чистой и уютной. Николай задумался; перед его глазами стоял белый силуэт на темно-коричневой стене. Что же произошло? Взрыв в мезонаторе? Открыли ли они вчера вечером свой мезоний и погибли вместе с открытием? И что это за мезоний? Голуб, Иван Гаврилович… Самойлов попытался представить себе лицо Голуба — и не смог. Вспоминал, что была лысина с коротким венчиком седых волос; мягкий короткий нос, пересеченный черной дужкой очков; мясистое, грубоватое лицо, взгляд исподлобья. Но подвижный, живой образ ускользал. Это было неприятно: столько видели друг друга, столько поработали вместе!.. «А не потому ли ты не можешь вспомнить его, Николай, что почти все время был занят собой и только собой? — возникла злая мысль. — Своими переживаниями, своими идеями, своей работой — и ничем другим… Поэтому и не понял, о чем говорил тогда Голуб». Сердюк вспоминался яснее: лицо с хитроватым выражением, смуглое во все месяцы года, с длинным, острым носом, черными глазами… — Слушай, Яша, расскажи, что ты вчера видел? Яков коротко рассказал, как, оставшись вчера в своей лаборатории, он из окна смотрел на корпус напротив, видел двигавшихся по 17-й Ивана Гавриловича и Сердюка, больше не было никого; наблюдал, как они поднялись на мостик мезонатора; видел вспышку… О том, что вчера его осенила идея нейтрид-конденсаторов, он промолчал. Отдохнули. Снова стали собираться на место катастрофы. На этот раз взяли с собой фотоаппарат, счетчики радиации, геологические молотки, чтобы отбивать образцы для анализа. Теперь они ориентировались лучше. Самойлов, подбирая по пути кусочки металла и бетона, снова добрался до пульта. Здесь он начал водить трубкой щупа вдоль оплавившихся бетонных стен камеры мезонатора. Радиация резко усиливалась, когда щуп поднимался вверх, к вспомогательной камере, к тому месту, где был мостик. Яков быстро, чтобы не испортить пленку излучениями, фотографировал мезонатор, стену и ближайшие участки лаборатории. От интенсивных движений стало жарко. Скафандр не отводил тепло наружу; скоро в нем стало душно, запахло потом и разогретой резиной, как в противогазе. Николай взобрался на лесенку, поставил на верхние ступени, где лесенка обрывалась, свои приборы и гимнастическим движением вскарабкался наверх. Белый силуэт на стене находился теперь прямо за его спиной. Здесь все было расплавлено и сожжено вспышкой. Железобетонная стена вспомогательной камеры была разворочена и выжжена, в поде камеры зияла полуметровая воронка с блестящими оплавившимися краями. Из стены торчали серые прожилки алюминиевых труб. Бетон кипел, плавился и застыл мутно зеленой пузырящейся массой. «Горело все: металл, стекло, камень и… люди. От них осталась только белая тень». Ноги с ощутимым хрустом давили застывшие брызги бетона. Николай вспомнил о радиации, посмотрел на счетчик — ого! Стрелка вышла за шкалу и билась о столбик ограничителя. Он уменьшил делителем ток-стрелка двинулась влево, стала против цифры «5». Пятьсот рентген! Самойлову стало не по себе: возникло малодушное чувство, будто его голым опустили в бассейн уранового реактора. Мелкие мурашки пошли по коже, будто впитывались незримые частицы… — Яша, полезай сюда! Нужно сфотографировать. — Сейчас… — Якин с помощью Самойлова взобрался на бетонную площадку, осмотрелся. — Боюсь, что ничего не выйдет, уже темнеет. — Его голос был почти не слышен из-за треска помех. Но он все же сделал несколько снимков. В лаборатории в самом деле потемнело — ноябрьский день кончался. — На сегодня хватит, — решил Николай. Они слезли с мезонатора и направились к выходу. У выхода Самойлов обернулся и громко ахнул: лаборатория светилась в сумерках! Исковерканный мезонатор сиял мягким зеленым светом, свечение начиналось на трубах ускорителей и сгущалось к центру. Переливалась изумрудными оттенками развороченная площадка бетонного мостика; синевато светились оплавленные металлические трубы и прутья; голубым облаком клубился над мезонатором насыщенный радиацией воздух. — Так вот почему днем все казалось серо-зеленым! — сказал Самойлов. — Фосфоресценция… Только выйдя из лаборатории, они почувствовали, как напряжены их нервы от сознания того, что их окружала радиация, которая мгновенно могла убить незащищенного человека. Они устали от этого напряжения. Веснушчатое лицо Якина побледнело; он с безучастным видом выкуривал одну папиросу за другой. Николай сдал собранные кусочки бетона и металла в уцелевшие лаборатории на анализ, отдал проявить пленку и почувствовал непреодолимое желание уснуть.
РАССЛЕДОВАНИЕ
На следующий день они снова осматривали место взрыва и сделали два ценных открытия. Самойлов изучал полуметровую воронку в бетонном основании вспомогательной камеры. Конус ее сходился к небольшой, размером со спичечную коробку, дырке правильной прямоугольной формы. «Откуда эта дыра?» Николай наклонился над дном воронки, чтобы рассмотреть ее получше: глубокое узкое отверстие с ровными оплавленными краями уходило куда-то вниз. «Интересно…» Он наклонился ниже — и сразу неярким красным светом вспыхнула трубочка виллемитового индикатора внутри шлема. Ему это сияние показалось ощутимым, как удар тока, — радиация проникла в скафандр! Николай резко отдернул голову — трубочка погасла. «Ничего, все обошлось быстро, — с колотящимся сердцем успокаивал он себя. — Значит, гамма-лучи. Интересно, при какой же интенсивности скафандр начинает пропускать лучи?» Он поднес к воронке щуп, и стрелка счетчика метнулась к концу шкалы. 2000 рентген — то, что убивает незащищенного человека мгновенно… Якин, возившийся в это время за камерой, поднял голову и увидел, как в перископических очках Николая появился и исчез красный свет. — Ты чего это извергаешь пламя? — Тебе видно? Запомни: при двух тысячах рентген скафандр начинает пропускать гамма-лучи. Следи за счетчиком… — Добро… «Что же это за дыра? Дефект в бетоне? Не может быть, за такие дефекты изготовителям сняли бы голову!..» Самойлов опустил в отверстие щуп счетчика; стрелка заметалась по шкале, потом стала падать — радиация уменьшилась. Щуп ушел на 30 сантиметров в глубину, не встречая преграды. «Глубоко!» Он опустил щуп еще чуть ниже — и снова с пугающей внезапностью вспыхнул индикатор, на этот раз другой, справа у щеки, тот, который был связан с правым рукавом скафандра. Рука! Он слишком приблизил руку к радиоактивному бетону! Лицу стало жарко, по потной коже спины рванулись морозные мурашки. Самойлов потерял самообладание, резко отдернул обратно руку и вытащил из отверстия только обломок стеклянной трубки. — Ах ты, дьявольщина проклятая! — выругался Николай, забыв о микрофоне перед ртом. — Ты что? — донесся удивленный голос Якина. — Да щуп разбил, понимаешь… Эти чертовы вспышки только на нервы действуют! — А-а… Иди-ка сюда! — В голосе Якова слышалось удивление. — Здесь, кажется, была неисправность. Самойлов слез с камеры и, осторожно обходя обломки труб, железа и бетона, подошел к Якину. Тот — по другую сторону мезонатора — согнулся над переплетением толстых медных шин, изоляторов и катушек. — Вот, смотри… Я решил проверить электрическую часть. Это, если помнишь, вытягивающие электромагниты… — Он черной перчаткой коснулся катушки на железном сердечнике, покрытой лоснящейся масляной бумагой. — Видишь? Типичное короткое замыкание на корпус. Действительно, в одном месте через масляную бумагу к железу сердечника выходила черная, обуглившаяся линия: будто червяк прогрыз в изоляции дорожку от меди к железу. Это было место пробоя. — Вытягивающие электромагниты отказали. Понимаешь? — Ну и что? — возразил Николай. — При таком взрыве, конечно, должны быть всякие пробои, короткие замыкания и тому подобное, хотя бы от высокой температуры. Здесь все полетело, не только эти магниты… («Нашел какую-то мелочь!» — подумал Самойлов, раздраженный своей неудачей.) Ты, я вижу, везде находишь электрические пробои… Ладно, сфотографируй, потом разберемся…Но Яков все-таки доказал свое. Вечером на полу одной из комнат института была расстелена огромная сиреневая фотокопия общего вида мезонатора. Самойлов и Якин ползали по ней на коленях. — Так….. Вот здесь главная камера, тут облучение… — задумчиво повторял Николай, водя карандашом. — Там — окно во вспомогательную камеру. Рядом были разложены еще не просохшие увеличенные фотоснимки того, что сейчас осталось от камер. Снимки были покрыты сыпью белых точек — следами радиации. — Взрыв произошел здесь, во вспомогательной камере, — рассуждал Николай. — Заметь: не в главной, а во вспомогательной, у самого ввода в главную. Странно… Анализа образцов еще не принесли? — Нет. Нужно позвонить. — Голос Якова прозвучал слабо и хрипло. Николай внимательно поглядел на него: — У тебя глаза красные. Устал? — Нет… — Яков упрямо крутнул перевязанной головой. — Угу. Так, значит, здесь… Кстати, где деталировка? Нужно выяснить, откуда появилось это странное отверстие. — Самойлов порылся в чертежах и развернул лист, на котором было вычерчено: «Плита основания вспомогательной камеры мезонатора, материал — бетон, масштаб 1:2». Сравнил с фотографией. Снимки вышли неважно, от обилия радиации они были скорее похожи на рентгеновский снимок. Особенно светлой выглядела воронка с черным прямоугольным отверстием в центре. На чертеже этого отверстия в плите не было. Яков ушел узнавать об анализе образцов. Самойлов подошел к окну, раскрыл форточку, подставил голову струе холодного воздуха… Беспорядочно бежали мысли: «Голуб облучал нейтрид минус-мезонами. Что-то новое получилось у них, какое-то неожиданное вещество. Мезоний? Сам Иван Гаврилович весьма абстрактно представлял себе его. Может быть, именно это вещество выделило громадную ядерную энергию. Но как? Распалось ли оно в момент образования под лучом мезонов? Или они нечаянно получили больше критического количества нового делящегося элемента? Или обычный нейтрид самопроизвольно разрушился? Но под воздействием чего?» Возбужденный оклик вернувшегося Якина рассеял мысли. — Слышишь? Анализ наших образцов еще обрабатывается, принесут завтра, — скороговоркой выпалил тот. — Я звонил главному энергетику на подстанцию. Этому, знаешь, Глейзерману? Да… Спрашиваю: «Когда произошел взрыв, мезонатор работал?» — «Нет, говорит, минут за пять до этого выключили высокое напряжение б лаборатории». Понимаешь? Я еще переспросил: «Точно ли?» Он даже обиделся: «Конечно, точно, безусловно. Нужно быть идиотом, чтобы не заметить это, ведь мезонатор Голуба тянул полторы тысячи киловатт!» — Ну и что же? — А то, что короткое замыкание в электромагнитах главной камеры, которое я тебе показывал, не могло произойти в момент вспышки по той простой причине, что в этот именно момент на электромагнитах не было напряжения. Замыкание произошло раньше! — А ведь верно! Странное обстоятельство! — Самойлов шальными глазами устало посмотрел на Якина. — Завтра нужно еще сходить в лабораторию. Меня волнует эта дырка…
— Непонятно! — озадаченно пробормотал Николай, вытаскивая прут из отверстия в воронке. Он заранее сделал отметки на этом пруте, чтобы измерить глубину дыры. Произошло непонятное: за ночь отверстие углубилось! Вчера он опускал в него тридцатисантиметровый щуп счетчика и хорошо помнит, что коснулся дна, прежде чем, испуганный вспышкой индикатора, сломал его. А сейчас прут вошел в отверстие больше, чем на полметра… Они уже привыкли к скафандрам, к непрерывному треску ионизации в наушниках; свыклись с мыслью об огромной радиации вокруг них. Только увесистые кислородные приборы неловко горбились на спине, да перископические очки неудобно стесняли обзор. Николай отыскал Якова — тот осматривал ускорители протонов — и подозвал его. Узнав, в чем дело, Якин удивился: — Мистика какая-то! Здесь никто не был без нас?.. Впрочем, идиотский вопрос! Кому это нужно? — Он наклонился над воронкой. — Осторожно!.. Но Якин уже сам отшатнулся — сработал индикатор. Самойлов увидел, как по бетону скользнул красный луч — виллемитовая трубочка через перископ бросила свет наружу. «Зайчик»! Это навело его на новую мысль. — Черт бы побрал эти индикаторы! — ругался Яков. — Только пугают… «Рискнуть? Ведь индикаторы показывают интенсивность облучения, опасную только при долгих выдержках. А если быстро?..» — Постой-ка! — Николай отстранил Якина. — Я сейчас попробую заглянуть в эту дырку. Он стал наклоняться над воронкой, стараясь сквозь перископы заглянуть внутрь черного прямоугольника. «Вот сейчас будет вспышка». От напряжения Николай сжал зубы. Вспыхнула трубочка индикатора — гамма-лучи проникли в шлем. Но он ждал этого и не отпрянул. Призмы перископа метнули красный отблеск на стены воронки. Николай, почти физически ощущая, как губительные кванты мурашками проникают в кожу лица, навел «зайчик» на отверстие. Красный лучик скользнул по гладким стенкам канала и упал на дно: там было что-то черное. «Хватит!» — Он выпрямился. — Ну, ты прямо, какврач-ляринголог! — с восхищением сказал Яков. — Какой врач? — Николаю страшно захотелось покурить. Забыв, что на нем скафандр, он провел рукой по боку, ища карман с папиросами. — Да эти, которые «ухо, горло, нос»… Они таким же способом заглядывают в горло пациента, — объяснил Якин. — У них зеркальце на лбу… Ну, что там? — Нейтрид! И как мы сразу не догадались! Ведь они облучали пластинку нейтрида. Он, наверное, накалился до десятков тысяч градусов и проплавил бетон, как воск, понимаешь? Ушел в бетон… — Значит, он еще не остыл? — Конечно! Поэтому-то отверстие и углубляется… Нужно его вытащить. Выйдя из лаборатории, они сверились с чертежами. Раскаленный кусочек нейтрида проплавил уже больше двух третей бетонной плиты, — значит, удобнее добыть его снизу. Они вернулись в лабораторию с отбойными молотками, за которыми волочились резиновые шланги и, стоя на коленях под мостиком, по очереди стали дырявить плиту. Через час последним ударом отбойного молотка пятикилограммовая прямоугольная пластинка нейтрида вывалилась из бетона. Прилипшие к ней крошки бетона раскалились докрасна и превратились в мелкие капли. Когда пластинка остыла и ее положили под микроскоп, то заметили в центре мелкую щербинку — размерами всего в десятки микрон. Если бы под микроскопом лежал не нейтрид, то щербинку можно было бы приписать случайному уколу булавкой.
Александр Александрович Тураев, походив тогда налегке под пронзительным ноябрьским ветром, простудился и сейчас лежал в постели с опасной температурой — много ли нужно старику в восемьдесят лет. Посоветоваться было не с кем. Самойлов и Якин сами попытались систематизировать все то отрывочное и несвязное, как фразы больного в бреду, что накопилось у них после нескольких посещений 17-й лаборатории. Якин составил перечень:
«1. Голуб и Сердюк со своими помощниками облучали образцы нейтрида отрицательными мезонами больших энергий с тем, чтобы выяснить возможность возбуждения нейтронов в нейтриде. Такова официальная тема. 2. Сведения от главного энергетика: взрыв произошел не во время опыта, а после него, когда мезонатор был уже выключен из высоковольтной сети института. 3. Взрыв произошел не в главной камере, где шло облучение мезонами, а во вспомогательной, промежуточной, откуда образцы обычно извлекаются из мезонатора наружу. 4. В образце нейтрида, найденном в воронке, обнаружена микроскопическая щербинка размером 25×30×10 микрон. Такую ямку невозможно ни выдолбить в нейтриде механическим путем, ни вытравить химическим. 5. Обнаружено короткое замыкание в электромагнитах, вытягивающих из главной камеры положительные мезоны и продукты их распада. Это замыкание не могло произойти при взрыве, так как в этот момент мезонатор был выключен. Таким образом, можно предположить, что опыт облучения нейтрида происходил не в чистом вакууме, а в „атмосфере“ из плюс-мезонов и позитронов. 6. Обнаружен силуэт на внутренней кафельной стене лаборатории. Судя по четким контурам его, первоначальная вспышка света и тепла была точечной, сосредоточенной в очень малом объеме вещества. 7. Проведенный анализ радиации образцов воздуха, металла и бетона из 17-й лаборатории показал, что характер радиоактивного распада после этой вспышки не совпадает с характером радиоактивности при урановом, плутониевом или термоядерном взрыве».— Гм, гм… — Самойлов положил листок на стол и прошелся по комнате из угла в угол. Он, как и Яков, осунулся за эти дни: смугловатое лицо стало желто-серым от бессонницы, на щеках отросла густая черная щетина. — Ты знаешь, — повернулся он к сидевшему у стола Якину, — я не могу себе представить, чтобы Сердюк просто не заметил вот это замыкание в вытягивающих магнитах. Не-ет… Ведь он, Алексей Осипыч, буквально чувствовал, где и что неладно! И вдруг такой грубый промах… Да наконец, ведь в мезонаторе была аварийная сигнализация. — Может быть, они заметили, но не придали значения? — сказал Якин. — Не хотели прерывать опыт? Самойлов молча пожал плечами. И снова они курили и думали об одном и том же. Николай подошел к окну. За окном чуть синели ранние сумерки. В воздухе, открывая зиму, кружил легкий праздничный снежок. Лохматые снежинки окутывали в декоративное кружево черный обгорелый труп «стеклянного» корпуса. Рабочие обносили корпус проволочной изгородью и вколачивали колышки с табличками: «Осторожно! Радиация!» «Наверное, скоро корпус будут сносить…» — лениво подумал Николай. В комнате было тепло — уже заработало паровое отопление. Ожившая от теплоты единственная муха ползала по стеклу, потом переворачивалась и, остервенело жужжа, билась крылышками об ощутимую, но невидимую преграду. Самойлов следил за ее движениями; вот так и он: чувствует, но не понимает, где главное препятствие. «Что же произошло? Что произошло? Что?» — надоедливо и бессильно билась в мозгу мысль. Николай вздохнул и, подойдя к столу, взял листики анализов радиации; несколько минут рассматривал их против света. — Ты знаешь, я где-то видел вот такие же данные, — задумчиво произнес он. — Или очень похожие… Якин скептически фыркнул. — Очень может быть: ты их рассматриваешь уже пятнадцатый раз… — Не-ет, это ты брось… Я видел их где-то очень давно. Где? — Самойлов снова разложил таблицы анализа и стал сравнивать их. Привычное мышление физика позволило ему по цифрам представить вид, длительность и спектры радиоактивного распада. Возникшие в воображении кусочки бетона и металлов, впитавшие в себя неизвестные ядерные осколки, излучали какие-то очень знакомые виды радиации. Какие?.. Память мучительно напряглась, и Николаю показалось, что он наконец вспомнил. Не доверяя своей догадке, он бегом помчался по лестницам и по двору в белый двухэтажный домик, где помещались библиотека и архив. В комнатах архива пахло замазкой: стекольщики осторожно вставляли в окна звонкие листы стекла взамен выбитых взрывом. Было холодно — служительницы надели пальто поверх синих халатиков. — Девушка! — едва не столкнувшись с одной из них, крикнул Николай. — Где у вас лежат материалы по теме «Луч»? Через несколько минут он рылся в старых, замусоленных и запылившихся лабораторных журналах. Чем-то грустным и близким пахнло на него от страниц, неряшливо заполненных столбиками цифр, графиками, таблицами, схемами и всевозможными записями. Вот его записи. Оказывается, у него испортился почерк, раньше он писал красивее. Вот Яшкины записи анализа радиоактивности первых образцов, облученных минус-мезонами. А вот — Ивана Гавриловича: четкий и крупный почерк опытного лектора. Вот целый лист заполнен каким-то хаосом из формул, схем и цифр: это когда-то он спорил с Сердюком — теперь не понять и не вспомнить, по какому поводу, — и оба яростно чертили на бумаге свои доводы. На минуту Николай забыл, что он ищет в этих журналах, — его охватили воспоминания. Ведь это было очень недавно — всего два года назад. Они с Яковом тогда были… так, ни студенты, ни инженеры, одним словом — молодые специалисты. Мало знали, мало умели, но зато много воображали о себе. Облучали мезонами разные вещества, искали нейтрид и не верили, что найдут его; слушали житейские сентенции Сердюка и научные рассуждения Ивана Гавриловича… Вот женский профиль, в раздумье нарисованный на полях, а под ним предательская надпись рукой Якова: «Это Лидочка Смирнова, а рисовал Н. Н. Самойлов». Ну да, ведь он тогда чуть не влюбился в Лидочку, инженера из соседней лаборатории. Но это увлечение было так скоротечно, что не оставило никаких следов ни в его душе, ни в дневнике. Начались самые интенсивные месяцы их работы, было некогда, и Лидочка благополучно вышла замуж за кого-то другого… И вот нет ничего… Нет Голуба. Нет Сердюка. Нет мезонатора — только груда радиоактивных обломков. Есть нейтрид и еще что-то неизвестное, что нужно узнать… «Ну, размяк!» — одернул себя Николай. Он достал из кармана анализы, расправил их и начал сравнивать с записями в журналах. Через четверть часа он нашел то, что искал: данные анализов сходились со спектрами радиоактивности тех образцов, которые они облучали больше двух лет назад, еще до возникновения идеи о нуль—веществе… Николай почувствовал, что найдена ниточка, очень тоненькая и пока не известно куда ведущая.
— Хорошо. Ну и что же? — спросил Яков, когда Николай рассказал ему об этом «открытии». — Что из этого следует? — Многое. Слушай, мы теперь уже действительно кое-что знаем об этом веществе: знаем, что оно распалось с выделением огромной энергии, большей, чем при синтезе тяжелого водорода; что оно, хоть и слабо, но способно разрушать несокрушимый нейтрид; наконец, что оно распалось с выделением мезонов… — Да, но нам неизвестно, как именно оно возникло в их опыте, — возразил Якин. — Вот что: раз кое-какие обстоятельства рождения этого вещества мы установили, так не повторить ли нам эксперимент Голуба и Сердюка, а? Тогда и увидим… Так же отключим вытягивающие электромагниты, так же будем облучать нейтрид быстрыми мезонами… — …так же разлетимся на отдельные атомы, и никто потом не разберет, где твои атомы, а где мои! — закончил Самойлов. — Это же авантюра! — Ты, пожалуйста, без демагогии! — разозлился Яков, и щеки его вспыхнули пятнами. — «Авантюра»! Опровергай по существу, если можешь! Николай внимательно посмотрел на него: «Еще не хватало поссориться сейчас». — Хорошо, давай по существу, — сказал он примирительно. — Во-первых, мы не знаем режима работы мезонатора, ведь лабораторный журнал Голуба сгорел. А ты помнишь, сколько месяцев мы искали режим для получения нейтрида? Во-вторых, ты думаешь, у нас на заводе или в каком-нибудь другом институте, где есть мезона-торы, тебе разрешат заниматься такими непродуманными и опасными опытами? В-третьих… — Ладно, убедил! — поднял руки Яков. — Что же ты предлагаешь? — Думать! Ну, а уж если ничего другого не придумаем… будем ставить опыт. Действительно, другого выхода не вижу…
Николай шел через парк к троллейбусной остановке. Снег прекратился. Дорожка по аллее была протоптана немногими пешеходами. Во влажном воздухе ясно светили сквозь деревья редкие фонари. По сторонам аллеи стояли на гипсовых тумбах посеревшие от холода статуи полуголых атлетов с веслами, ядрами и дисками. Двое малышей, приехавших в парк обновить лыжи, лепили плотные снежки и старались попасть в атлетов. По этой же аллее, совсем еще недавно, шли они вдвоем с Голубом и спорили. Иван Гаврилович тогда толковал о мезонии. «…мы еще очень смутно представляли себе возможности того вещества, которое сами открыли», — будто услышал Николай его раскатистый и четкий, с внушительной хрипотцой, голос. Постой, постой! Что-то было в этом воспоминании, что-то близкое к сегодняшним спорам и «открытиям». Николай даже остановился и прислушался к себе, чтобы не спугнуть тончайшую мысль. Где-то рядом с ветвей падали капли, падали, будто подчеркивая тишину, так звонко и размеренно, что по ним можно было считать время. Что же он тогда сказал? Об одном непонятном эффекте… Он у них получался несколько раз… Ага! Николай почувствовал, как у него отчаянно забилось сердце… «Если долго облучать нейтрид в камере быстрыми мезонами, — сказал тогда Иван Гаврилович, — то он начинает отталкивать мезонный луч… Похоже, что упрямый нейтрид все же заряжается отрицательно…» Так… Но потом, когда они вытаскивали пластинку нейтрида, то никакого заряда на ней не оказывалось. Значит, у них под мезонным лучом нейтрид заряжался и, видимо, очень сильно. А когда вытаскивали его на воздух… Воздух!!! Вот новый фактор! Самойлову от нахлынувших мыслей, от усталости на миг стало дурно; он набрал пригоршню снега и стал тереть лицо… Это была еще одна идея, и она оказалась решающей.
СЕНСАЦИЯ
Читатель должен помнить, что описываемые события, хотя и происходили в разных концах земного шара, но совпадали во времени. Поэтому и главы, излагающие их, переплелись таким образом. В этой главе собраны газетные вырезки, посвященные взрыву завода в Нью-Хэнфорде.«СООБЩЕНИЯ ОБ АТОМНОЙ КАТАСТРОФЕ В КАЛИФОРНИИ.
12 ноября. („Ассошиэйтед Пресс“.) Сегодня в 10 часов 10 минут утра по местному времени на одном из новых атомных заводов, в Нью-Хэнфорде (на юге Калифорнии, в бассейне реки Колорадо), произошел гигантский атомный взрыв. Звук взрыва был слышен на расстоянии 80 километров. Сотрясение почвы зафиксировано почти во всех городах западных штатов. На заводе находилась дневная смена рабочих. Причины взрыва неизвестны».
«„Сан-Франциско Морнинг пост“. Это был взрыв, по признакам напоминавший испытание урановой бомбы самого крупного калибра. В утреннее безоблачное небо Калифорнии взметнулся огненный гриб, который увидели в Сан-Бернардино и в Финиксе. Фотография, сделанная случайно с расстояния в 20 километров, зафиксировала уже последнюю стадию опадания огня и пыли… На заводе в это время находилось около 280 рабочих и инженеров. Очевидно, никто из них не сможет рассказать, как было дело. Немногие уцелели и из тех, кто в это время находился в домах прилегавшего к заводу поселка. Те, кого удалось спасти, либо находятся в таком тяжелом состоянии, когда всякие расспросы неуместны, либо сами ничего не могут объяснить. Город Нью-Хэнфорд фактически превращен в радиоактивную пустыню».
«„Чикаго геральд“. Что производил засекреченный завод в Нью-Хэнфорде, который принадлежал раньше концерну „XX век“, а теперь принадлежит только богу? Атомные бомбы? Но это монополия правительства. Урановые реакторы для электростанций? Вряд ли это было бы покрыто такой таинственностью, которая превосходила даже секретность обычных стратегических исследований, — такое начинание обязательно разрекламировалось бы. По некоторым сведениям, не подтвержденным еще правлением концерна (которое вообще старается сохранить невозмутимое молчание в этой трагедии!), на заводе производился нейтриум — ядерный материал огромной плотности и прочности, открытый несколько лет назад независимо друг от друга учеными США и России. Неужели этот материал, способный облагодетельствовать человечество, применялся для увеличения эффективности ядерных бомб? В свое время законопроект о разрешении группам частных предпринимателей заниматься „атомным бизнесом“ встретил горячие возражения со стороны сенаторов-республиканцев. Наша партия и сейчас придерживается прежних взглядов на этот счет. Катастрофа в Нью-Хэнфорде, беспрецедентная для всей истории атомной промышленности, — блестящее, хотя и излишне трагическое подтверждение правильности нашей позиции».
«Агентство „Ньюс“. В Соединенных Штатах объявлен траур по случаю трагической гибели более чем 700 человек в Нью-Хэнфорде. Население прилегающих городов и селений бежит от распространения радиации».
«„Юнайтед Пресс корпорейшен“. Представитель правления концерна „XX век“ Эндрью А. Дубербиллер на пресс-конференции в Сан-Франциско огласил заявление от имени правления концерна. Заявление было очень кратким. В нем сообщалось, что на заводе в Нью-Хэнфорде действительно производились изделия из нейтриума и имелся некоторый запас обогащенного изотопом-235 урана. В интересах внешней безопасности государства правление в настоящее время не может сообщить, какие именно стратегические заказы выполнял концерн на этом заводе. Дубербиллер утверждал, что вся работа на заводе и хранение запасов делящегося материала производились при тщательном соблюдении правил техники безопасности и что даже за день до катастрофы не было замечено никаких угрожающих признаков. Ведется расследование. Семьи погибших рабочих и служащих завода получат вознаграждение за счет концерна. Э. Дубербиллер отказался отвечать на все вопросы корреспондентов».
Из проповеди настоятеля англиканской общины в Лос-Анжелосе, Христофора Стилла, транслировавшейся по радио: «…Я позволю себе напомнить верующим братьям и сестрам некоторые идеи аббата Лэметра о возникновении Вселенной. Этот ученый, пытавшийся логическим путем постигнуть мудрость господа, сотворившего наш мир, показывает следующее: некогда мир состоял из одного гигантского ядра первичного вещества — нейтрнума, затем от неестественных причин произошел исполинский взрыв этого сверхплотного и сверхпрочного вещества, и мир разлетелся звездами. Следы этого взрыва ученый еще и сейчас находит во Вселенной… Я спрашиваю: а разве не это первичное вещество — нейтриум — производилось на погибшем заводе в Нью-Хэифорде? Разве не можем мы, просветленные как верой, так и наукой, увидеть в трагическом взрыве на этом заводе руку бога, указующего нам на грехи наши? Если он создал мир из нейтриума, то не может ли он и прикончить его таким же путем? Я спрашиваю: не есть ли это предостережение?..»
Из официального заявления представителя Белого дома для печати. «Научная и военная общественность Соединенных Штатов Америки скорбит по поводу безвременной трагической гибели двух крупных деятелей американской науки, армии и промышленности — директора завода в Нью-Хэнфорде, доктора физики, профессора университета в Беркли Германа Дж. Вэбстера и бригадного генерала, члена правления концерна „XX век“, члена артиллерийского комитета министерства обороны Рэндольфа Хьюза. Как выясняется теперь, доктор Вэбстер и генерал Хьюз в эти дни осуществляли один гигантский стратегический эксперимент, который закончился успешно. Установлено, что в момент взрыва они находились на заводе в Нью-Хэнфорде…»
Из доклада сенатора Старка, возглавлявшего комиссию по расследованию катастрофы в Нью-Хэнфорде: «…В настоящее время причин взрыва установить не удалось. Местность в радиусе нескольких миль заражена исключительно активной радиацией. По ночам над районом взрыва светится воздух. Таким образом, непосредственное расследование очага взрыва исключается до тех пор, пока активность радиации не уменьшится до допустимых пределов. Произведенный экспертами анализ радиоактивных остатков, к сожалению, не прибавил ясности в исследуемом вопросе. Они сошлись только на том, что такие радиоактивные следы не мог оставить ни урановый, ни ториевый, ни плутониевый, ни термоядерный взрыв… Будет ли установлена истина о взрыве — предсказать невозможно. Очевидно, что катастрофа уничтожила и материальные следы причин ее возникновения…»
В ЗАПАДНЕ
Они были еще живы, когда о них печатали некрологи. После грома и сотрясения стен они пришли в себя сравнительно быстро. Вэбстер, при падении ударившийся об угол чугунного стеллажа, очнулся от боли в плече. Было тихо и темно. Несколько минут он лежал на холодном шершавом полу, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Но как ни расширял он напряженные глаза, как ни всматривался, темнота по-прежнему оставалась непроницаемой; ни одного кванта света не просачивалось сюда снаружи. Откуда-то доносилось частое прерывистое дыхание. Вэбстер осторожно поднялся на ноги, ощупал себя. Плечо было цело — отделался ушибом. — Генерал, вы живы? — негромко спросил он. Невдалеке послышался хриплый стон. Вэбстер нашарил в кармане зажигалку, чиркнул ее. Вспыхнувший на фитиле огонек показался нестерпимо ярким. Колеблющийся свет выхватывал из темноты серые куски колонн, контейнеры с черными снарядами — от сотрясения некоторые из них сдвинулись с катков и перекосились. Впрочем все было сравнительно цело. «Что же произошло?» Вэбстер медленно продвигался вперед и едва не споткнулся о тело генерала. Тот лежал плашмя на полу, серый мундир сливался с бетоном. Глаза были закрыты, большой живот судорожно поднимался и опускался. Вэбстер, став на колени, расстегнул пуговицы у него на груди, потер ладонями лицо. Генерал пришел в себя, со стоном сел, посмотрел на Вэбстера дико расширенными глазами: в них был такой страх, что Вэбстеру стало не по себе. — Что с нами? Что случилось там? — Я знаю не больше вашего, Рэндольф. Кажется, произошел взрыв… вероятно, атомный. — Что это — война? Внезапное нападение? — Вряд ли… Не знаю, — раздраженно бросил Вэбстер. — Мне еще ничего не доложили. Бензиновый огонек в зажигалке заметно уменьшился. Вэбстер захлопнул крышку и спрятал зажигалку в карман. Все погрузилось в темноту. — Что вы делаете? Зачем погасили свет?! — панически крикнул генерал. — Нужно беречь бензин. Вам следует успокоиться, генерал! Они замолчали. «Что же произошло? — напряженно раздумывал Вэбстер. — Война? И первая ракета — на Нью-Хэнфорд? Сомнительно… Есть много гораздо более достойных объектов. Катастрофа? Но какая? Ведь все запасы урановой взрывчатки собраны здесь, на складе, и они целы… А взрыв был такой силы, что не ядерным он быть не мог. Если так… — он почувствовал, что покрывается холодным потом, — мы заживо погребены под радиоактивными развалинами…» Он поднялся. — Куда вы? — Посидите спокойно здесь. Я попытаюсь разведать наше положение. Он чиркнул зажигалкой и осторожно пошел между контейнерами. Генерал в смятении следил за синеватым трепещущим огоньком, за удаляющейся длинной тенью Вэбстера. Наконец все исчезло в глухой темноте. Генерал провел рукой по лбу, собираясь с мыслями. Что же случилось? Еще недавно все было великолепно: они осматривали запасы нейтриум-снарядов; шли по цеху, где двумя рядами стояли огромные и сложные мезотроны; мчались на автомобиле по пустынному солнечному шоссе — наблюдали за серебристым диском Луны, на котором рвались водородные снаряды; наводили «телескоп» и видели неяркие в свете дня вспышки атомных выстрелов. Летели на геликоптере к потухшему вулкану… Все было великолепно, все подчинялось и было на своем месте. И он был над всем этим порядком, он был над жизнью… И внезапно все перевернулось: удар, темнота, гибель. Гибель?! Неужели он скоро умрет? Он, Рэндольф Хьюз, которому так легко и охотно подчинялось все: и жизнь, и деньги, и люди. Он, который так любит жизнь и так хочет жить? Умрет здесь, в темноте, простой и медленной смертью?! Нет, не может быть! Кто-нибудь другой, но только не он… Он не хочет умирать. Не хочет!.. Генерал зажал себе рот, чтобы не закричать. «Что же делать? Господи, что же делать? Господи!..» Он стал горячо молиться. Пусть бог сделает чудо!.. Он всегда был верным христианином, он всегда противостоял своей верой против скепсиса грубых атеистов. Он имеет право на заботу господа. Пусть бог придумает что-нибудь, чтобы он спасся. Он никогда не думал, что смерть — это так страшно и трудно. Пусть бог сделает так, чтобы он спасся. Он, может быть, и сам потом пожелает умереть, но в другой раз… и не так. Он еще многое может сделать, он еще не так стар — всего пятьдесят лет… Пусть его спасут как-нибудь, о господи!..Вэбстер, спотыкаясь, поднимался по ступеням. Бензин в зажигалке уже выгорел — огонек погас. Вэбстер только изредка чиркал колесиком, чтобы хоть вылетающими из кремешка искрами на мгновение разогнать темноту. Здесь было теплее, чем внизу, — он чувствовал, что потоки теплого воздуха идут сверху. — Ноги глухо шаркали по бетонным ступеням. После первой площадки жар стал ощутимее. Вэбстер потрогал ладонью стены — бетон был заметно теплым. Впереди забрезжил свет. Вэбстер секунду поколебался, потом начал подниматься выше. Малиново-красный свет усиливался, уже можно было различить ступени под ногами. Жар бил в лицо, становилось трудно дышать… Вэбстер вышел на последнюю площадку перед выходом. Перед ним, в нескольких шагах, ровным малиновым накалом светилась большая стальная дверь. Отчетливо были видны полосы заклепок, темный прямоугольник замка. Из-под краев двери тонкими щелями пробивался свет. И этот свет, проникая внутрь, расходился слабым, чуть переливающимся голубым сиянием. Радиация! Вэбстер попятился назад и едва не сорвался со ступеньки. Итак, они не были ни завалены, ни заперты. Выход был свободен, дверь уцелела. И за ней — свет, воздух… Но их погребла здесь смертельная радиация. Она мгновенно уничтожит первого, переступившего порог склада. Да, несомненно, это была атомная вспышка — фугасный взрыв так не нагрел бы дверь. Вэбстер, шаря по стенам, вернулся вниз. Из темноты доносилось лихорадочное бормотание. Вэбстер прислушался: генерал молился… «Старый трусливый кретин! Он еще рассчитывает на бога!» Его охватило холодное бешенство.
Смену дня и ночи Вэбстер определял по щели под стальной дверью. Ночью щель темнела, и тогда просачивающийся радиоактивный воздух был заметен более явственно. Дверь уже почти остыла и не светилась больше малиновым накалом, только по-прежнему от нее шел теплый воздух. Постепенно накаливался бетон стен: даже внизу, в складе, было душно. Они потели от малейших движений и от голодной слабости. На второй день Вэбстер нашел в одном из закоулков склада пожарную бочку с теплой водой, противно отдающей нефтью. Генерал пил из бочки часто и жадно. Они почти не разговаривали между собой и много спали. Пока был бензин в зажигалке генерала — курили. Потом кончился и бензин и сигареты. С этого времени глухая темнота окутала все: они не видели и почти не замечали друг друга. Генерал уже не молился, только в беспокойном сне несвязно бормотал не то молитвы, не то проклятия. Так прошло четыре дня. Они еще надеялись на что-то… Вэбстер несколько раз подходил к двери. Ее можно было легко отодвинуть; раз есть щели, значит, она не заклинилась. А там — свет, свобода, воздух… и радиация. Он в нерешительности стоял и поворачивал обратно. Генерал впал в состояние тупого безразличия ко всему. Однажды, когда Вэбстер нашел на стеллажах оставленный кем-то небольшой ломик и окликнул генерала, тот долго не отзывался. Вэбстер нашел его в темноте, с руганью растолкал. Генерал долго не мог понять, что от него требуется, потом со стонами, кряхтением поднялся с пола и медленно побрел к двери. Долго, сменяя друг друга, они били ломиком в гулкий металл двери, били до полного изнеможения, пытаясь кого-нибудь привлечь звуками. Но никто не отзывался. На Хьюза эти упражнения подействовали несколько оживляюще: теперь он бродил по складу, что-то глухо бормоча про себя. Несколько раз они сталкивались — и бормотание замолкало. Вэбстер чувствовал что-то угрожающее в этой затаившейся в темноте фигуре. Когда он пытался завести разговор, генерал не отвечал. Однажды — это было на шестой день — Вэбстер спал. Сон был беспокойный, в нем повторялись назойливые видения: серое солнце над темными горами, вспышка атомного выстрела из «телескопа», потом темнота, снова вспышка. Сквозь сон он услышал какой-то шорох и проснулся, настороженно прислушиваясь. Шорох перешел в шарканье, приближающееся сзади. Вэбстер сел: — Рэндольф, это вы? Из темноты послышалось тяжелое сопение, звякнул металл. И Вэбстер скорее почувствовал, чем заметил, что над его головой занесен ломик. Он отшатнулся в сторону, пытаясь встать. Ломик больно чиркнул его по виску и бессильно упал на мякоть плеча. — Рэндольф, вы с ума сошли?! (Должно быть, так оно и есть.) — Вэбстер вскочил, стал вслепую нашаривать воздух. Он поймал дряблую кисть генерала как раз вовремя: занесенный снова ломик выпал и звонко покатился по полу. Хьюз, остервенело сопя, всей тушей навалился на Вэбстера, оба упали. Это было как кошмар во сне — когда ощущаешь надвигающуюся опасность и нет сил ни сопротивляться, ни убежать. Вэбстер бессильно извивался, придавленный генералом, по очереди отрывая обеими руками то одну, то другую его кисть от своего горла. Вэбстер почувствовал под своей спиной что-то твердое. Извернувшись, он левой рукой вытащил из-под себя ломик и из последних сил несколько раз ударил им по голове генерала. Тело Хьюза дрябло обмякло, отяжелело; пальцы его еще некоторое время бессильно сжимали горло Вэбстера, потом разжались. Вэбстер поднялся, опираясь на контейнер. От изнуряющей слабости подкашивались ноги, лихорадочно колотилось сердце. «Он хотел убить меня! Мания? Или он хотел сожрать меня, чтобы пожить еще немного?» Генерал глухо и отрывисто простонал. Вэбстер в инстинктивном страхе отодвинулся. Он почувствовал, как от бессильного отчаяния по щекам покатились слезы. «Господи, как звери! Даже хуже, чем звери… Что же, теперь мне есть его?» Генерал еще несколько раз глухо простонал, потом затих. Вэбстер, тяжело нагнувшись, нащупал на полу ломик — он был в чем-то теплом и липком — и, пошатываясь, направился к выходу. Нет, он больше не может так… Лучше уж сразу… От двери пахло горелым металлом. Вэбстер просунул острие ломика в щель, навалился на него всем телом — и дверь с протяжным скрежетом отодвинулась. Снаружи хлынул странный зелено-синий свет. Вэбстера на миг охватил страх перед пространством: здесь, за дверью, в темноте, было привычнее и безопаснее. Он шагнул назад, потом пересилил себя и вышел наружу. Вэбстер не сразу понял, что стояла ночь, — так вокруг было светло. Он рассеянно осмотрелся, пытаясь вспомнить, где что было; но повсюду только фантастическое нагромождение оплавившихся обломков камня, железа, бетона. Все это светилось ровным, без теней, светом. Казалось, что вокруг рассыпаны обломки разбитой снарядами Луны… Вэбстер осмотрел себя: перепачканные, черные тонкие руки, мятые изодранные брюки, свалявшийся, покрытый какими-то пятнами пиджак. Все это выглядело странно, мучительно странно… Он напряг мысль, чтобы понять, в чем дело: ну да, он ведь тоже не оставляет теней. «Как привидение…» Все мягко светилось, даже стена, к которой он прислонился. После нескольких неверных шагов по обломкам Вэбстер едва не свалился, поставив ногу на обманчиво светившийся острый камень. Что делать? Куда идти? Он беспомощно огляделся: вокруг было все то же ровное зеленое сияние, где-то вверху слабо светили редкие звезды — будто в тумане. Его охватило отчаяние. Как выбраться из этого светящегося радиоактивного кошмара? Может быть, закричать? Он набрал в легкие побольше воздуха: — На помощь! Помоги-ите!.. Крик получился слабый и хриплый. От напряжения он закашлялся. Тишина ночи равнодушно и внимательно слушала его. Ни звука не раздалось в ответ. Вэбстер почувствовал, что ему неудержимо хочется плакать; бессильная жалость к себе подступала тугим комком к горлу. Он сделал еще несколько шагов, оступился о что-то, сел на светящуюся землю и заплакал…
Слезы просохли так же внезапно, как и возникли. Теперь Вэбстер яростно полз по острым обломкам, не чувствуя боли от ссадин на руках и коленях; полз и бормотал что-то, безумное и непонятное. Под руками осыпались изумрудные осколки бетона, обнажая темные пятна под ними. Вэбстер не видел их — он полз вперед, влекомый последней вспышкой жизни. Руки его опустились в какую-то холодную, тугую, неподатливую жидкость. Он остановился на секунду, поднял ладонь и бессмысленно смотрел, как с нее стекают тяжелые, крупные светящиеся капли. «Ртуть! — мелькнула догадка в затуманенном мозгу. — Ну да, ведь здесь был резервуар с запасами ртути…» Он снова пополз вперед. Сначала руки опускались на дно лужи и упирались в какие-то скользкие камни. Потом жидкий металл стал упруго выталкивать его кисти и ступни на поверхность. И он, барахтаясь на локтях и коленях, упрямо плыл ползком сквозь бесконечное море зеленоватой радиоактивной ртути.
Грэхем Кейв, солдат 3-го танкового полка, заступил на караул в полночь. Ночь была безветренной, но довольно холодной; его разогревшееся и расслабившееся от короткого сна тело била зябкая дрожь. Чтобы унять ее, Грэхем принялся ходить по отведенному ему куску степи — 100 метров туда, потом обратно — по сухо шелестящей под ботинками траве. Наконец дрожь прошла. Он закурил и стал ходить медленнее. Вверху, в чистой безлунной темноте, мерцали звезды. Россыпь Млечного Пути перепоясывала небо наискось и была различима до мельчайших сверкающих пылинок. Вдали, у самого горизонта, поднималось широкое зеленое зарево. Оно медленно переливалось от слабых движений воздуха, точно какие-то огромные фосфорические флаги полоскались в высоте. Кейв мрачно выругался, посмотрев в ту сторону, ему стало тоскливо. И зачем их выставили здесь многомильной цепочкой? Охранять это радиоактивное пепелище? «Чтобы кто-нибудь не проник в зараженную зону», — объяснял сержант. Да какого дьявола туда попрется хоть один человек, если он в здравом уме? А если и сунется какой-нибудь самоубийца, туда ему и дорога… Светится… Уже неделя прошла, а светится лишь немногим слабее, чем в первый день. Говорят, где-то невдалеке, милях в пятидесяти, выпал радиоактивный дождь из ртути, как раз над поселком на перекрестке дорог. Теперь он пуст, все убежали. А здесь, в Нью-Хэнфорде? Был мощный завод, рабочий городок; один взрыв — и ничего нет. Погибли сотни людей. Одни пишут, что это диверсия красных, другие — что это несчастный случай. Один только взрыв!.. Офицеры говорят, что скоро будет война с русскими, которые собираются завоевать Америку. Что же будет тогда? Везде вот такие светящиеся зеленые пепелища вместо городов? И тогда их, солдат, пошлют сквозь места атомных взрывов в атаки. Вот с этими игрушками? Кейв пренебрежительно передвинул висевший на шее автомат. На что они годятся? Какой смысл в такой войне? Ему не остаться в живых — это наверняка. Уж если на маневрах этим летом трое ребят умерли от лучевой болезни, когда проводили учения с атомным взрывом, то что же будет на настоящей войне? А ему всего лишь двадцать два года. Какая она будет, его смерть: мгновенная, от взрыва бомбы, или медленная — от лучевой болезни? Лучше уж мгновенная… Бр-р-р! Его снова пробила нервная дрожь. И зачем все это? Давно уж ничего нельзя понять: для чего все делается… Страшно и тоскливо было Грэхему Кейву, солдату будущей войны, ходить по степи в холодную ноябрьскую ночь, охранять неизвестно что и неизвестно зачем, размышлять о смерти… Вэбстер пришел в себя только тогда, когда под его руками показалась черная, вязкая земля. Больше не было светящихся осколков и луж ртути. Он оглянулся: светящееся нагромождение развалин призрачно раскинулось сзади. Вэбстер перевернулся на спину и долго лежал, вдыхая свежий, пахнущий сырой землей воздух и глядя на звезды, спокойно светящиеся в темной глубине неба. «Генерал остался там. Он еще не умер, наверное, я его ударил несильно…» Он поднял руку и стал внимательно рассматривать призрачно светящуюся ладонь: на сине-зеленом фоне кожи отчетливо выделялись все морщины и царапины. Он лениво приподнял голову и осмотрел себя. Все тело, все лохмотья одежды светились — даже земля вокруг была слегка освещена, виднелись травинки и комочки. Вэбстер усмехнулся и снова опустил голову на землю. Зачем он выбрался? Лежал бы там вместе с Хьюзом… Какая сила протащила его сквозь эту зону? Интересно, сколько времени он полз? Даже если четверть часа — этого вполне достаточно. Впрочем, если он не умрет от радиоактивного заражения, то только потому, что раньше умрет от отравления ртутью… Сколько же рентген впитало его тело? Сколько еще осталось жить? Дня два — три? А зачем ему эти два — три дня? Чтобы рассказать людям, как было дело, как все это ужасно… Впрочем, что толку? Ведь он и сам не понимает, как все это произошло. Глаза бездумно следили за двигавшимися по небу двумя звездочками: красной и зеленой. Звездочки быстро перебирались из созвездия в созвездие; за ними тянулся мягкий музыкальный рев моторов. Вот они ушли к горизонту. «Значит, это не война — раз самолеты летают с огнями. Значит, где-то поблизости должны быть люди…» Вэбстер тяжело поднялся с земли. Подумав, он стал снимать с себя лохмотья — пусть хоть на несколько часов продлится жизнь. «Все равно ничего это не даст… Ладно. Нужно идти к людям. Рассказать им все, что знаю, и поесть. Хоть еще раз поесть…» Свежий воздух вернул ему ощущения многодневного голода, от которых свело желудок. Вэбстер медленно, пошатываясь, побрел вперед, прочь от светящихся развалин Нью-Хэнфорда. На земле остались светящиеся пятна одежды…
Грэхем Кейв был уже не рад тому, что стал раздумывать о тоскливых и страшных вещах. Он уже несколько раз принимался вспоминать последние кинобоевики, которые им показывали в солдатском клубе, анекдоты о неграх и женщинах, но при одном взгляде на колеблющееся на горизонте зеленое зарево мысли снова смешивались и устремлялись на прежнее, жутковатое. «Чертовщина какая-то! Разве пойти к напарнику слева, покурить, поговорить?» Кейв огляделся по сторонам. Прямо на него шла длинная, худая фигура. Грэхему она показалась гигантской. Фигура излучала слабое сине-зеленое сияние; были видны контуры голых рук, медленно шагающих ног, пятно головы с шевелящимися, мерцающими волосами. Фигура бесшумно, будто по воздуху, приближалась к нему. Сердце Кейва прыгнуло и провалилось куда-то, дыхание перехватило. — А-аа-ааа-ааа! А-аа-ааа-а-а-а!.. — истерически закричал, завизжал он и, нажав гашетку, начал полосовать вырывающимся из рук автоматом вдоль и поперек светящегося силуэта, пока тот не упал, и еще и еще стрелял по лежащему, до тех пор пока не иссякла обойма…
«ЭЛЕМЕНТ МИНУС 80»
Постепенно, деталь за деталью, перед Николаем Самойловым возникала общая картина катастрофы в 17-й лаборатории. Точнее говоря, это была не картина, а мозаика из фактов, теоретических сведений, исторических событий, лабораторных анализов и догадок исследователей. Еще очень многих штрихов не хватало. Чтобы уловить главные контуры — приходилось отступать на достаточно далекое расстояние. За девяносто с лишним лет до описываемых событий великий русский химик Д. И. Менделеев открыл общий закон природы, связавший все известные в то время элементы в единую периодическую систему. Менделеев был химик, он не верил в возможность взаимопревращения элементов, называл это «алхимией», а свою таблицу предназначал лишь для удобного объяснения свойств различных веществ. Глубочайший смысл этих периодов был понят позже, после открытия радиоактивности и искусственного получения новых элементов. Спустя тридцать лет чиновник Швейцарского бюро патентов, молодой и никому еще не известный инженер-физик Альберт Эйнштейн в небольшой статье, напечатанной в журнале «Анналы физики», впервые высказал мысль, что в веществе скрыта громадная энергия, пропорциональная массе этого вещества и квадрату скорости света. Это и было знаменитое соотношение: Е = Мс2, теперь известное почти каждому грамотному человеку. Спустя еще три десятилетия английский физик с французским именем Поль Дирак опубликовал свою теорию пустого пространства-вакуума. Одним из выводов этой теории было следующее: кроме обычных элементарных частиц атомов — протонов, электронов, нейтронов — должны существовать и античастицы, электрически симметричные им: антиэлектрон — частица с массой электрона, но заряженная положительно, и антипротон — частица с массой протона, но заряженная отрицательно. Вскоре после опубликования этой теории был действительно открыт антиэлектрон, получивший название «позитрон». Первые фотоснимки следов новой частицы, обнаруженной в космических лучах, принадлежат русскому академику Скобельцыну. За несколько лет до описываемых событий, а именно девятнадцатого октября 1955 года, в одной из лабораторий института Лоуренса при Калифорнийском университете проводились опыты на гигантском ускорителе заряженных частиц — беватроне. Протоны сверхвысоких энергий бомбардировали со скоростью света небольшой медный экран; некоторые из них отдали свою энергию на образование новых частиц. Эти частицы просуществовали несколько миллиардных долей секунды и оставили на фотопластинке след своего пути и «взрыва» при соединении с обычной частицей. Это была величайшая со времени первого термоядерного взрыва научная сенсация. Имена сотрудников института Лоуренса, ставивших опыты — Сегре, Виганд и Чемберлен, — стали известны всему миру. Это был антипротон — частица с массой протона и отрицательным зарядом. Если отвлечься от разницы во времени, в национальности, возрасте и подданстве людей, сделавших эти открытия, если пренебречь их субъективным толкованием созданного, то можно выделить самую суть: это были этапы одного и того же величайшего дела науки, начатого Д. И. Менделеевым, — завоевания для человечества Земли всех существующих во Вселенной веществ! Идея электрической симметрии веществ содержится в зародыше уже в периодическом законе Менделеева. В самом деле, почему таблица химических элементов может продолжаться только в одну сторону — в сторону увеличения порядкового номера? Ведь этот номер не является математической абстракцией — он определяет знак и величину положительного заряда ядра у атома вещества. Почему же не предположить существование элемента «номер нуль», стоящего перед водородом, или элемента номер «минус один», или «минус 15»? Физически это означало бы, что ядра таких веществ заряжены отрицательно. Отрицательные ядра должны, естественно, притягивать положительные позитроны всюду, где те могут возникнуть, и образовывать устойчивые атомы антиводорода, антигелия, антибора… Зеркальное отражение менделеевской таблицы! Первые же опыты с античастицами установили вероятность возникновения антиатомов и тот факт, что они устойчивы в вакууме. Но, встретясь с обычным веществом, антиатомы мгновенно взрываются, при этом выделяя полную энергию, заключенную в обоих веществах (2 Мс2), и распадаясь на мезоны и гамма-лучи. Итак, был открыт антиэлектрон — позитрон; был открыт антипротон. Потоки нейтронов, получаемые при делении урана, можно было считать «элементом номер нуль». Считалось, что существованием этих частиц идея электрической симметрии веществ доказана и исчерпала себя. Но это были всего лишь частицы… Когда за два года до описываемых событий ученые СССР и США, работая независимо друг от друга, получили осаждением ртути нуль—вещество — ядерный материал огромной плотности и прочности, состоящий из нейтронов и названный в обеих странах соответственно «нейтрид» и «нейтриум», — дело начало представляться в другом свете. Таким образом, почти столетие научных событий — работы Менделеева, Эйнштейна, Дирака, наблюдения за космическими лучами Андерсона и Скобельцына, эксперименты с беватроном в институте Лоуренса — подготовило то, к чему подошли сейчас Самойлов и Якин.Николай за всю свою жизнь не написал ни одной рифмованной строчки. Даже в юношескую пору первой любви, когда стихи пишут поголовно все, он вместо стихов писал для своей девушки контрольную по тригонометрии. И тем не менее Николай Самойлов был поэт. Потому что поэт — это прежде всего человек большого и яркого воображения. И хотя воображение Самойлова вдохновлялось атомами и атомными ядрами, это не значит, что называть его поэтом — кощунство. Николай и сам не подозревал, каким редким для физиков качеством обладает его мышление. Рассчитывая физическую задачу, он мог представить себе атом: прозрачно-голубое пульсирующее облачко электронов вокруг угольно-черной точки ядра. Ядро ему казалось черным, должно быть, потому, что черным был нейтрид. Он ясно представлял, как голубые ничтожные частицы мечутся и сталкиваются в газе, как пульсирует их расплывчатое облачко — то сплющиваясь, то вытягиваясь, то сливаясь с другим в молекулу; он видел, как в твердом кристалле пронизывает ажурное сплетение атомов стремительная ядерная частица, разбрызгивая в своем полете осколки встречных атомов. При особенно напряженном раздумье, когда что-то не получалось, он мог представить даже то, чего не представляет никто: электрон, волну-частицу. В науке есть факты, есть цифры и уравнения; в лабораториях существуют приборы и установки для тончайших наблюдений; есть счетно-аналитические машины, выполняющие математические операции с быстротой, в миллионы раз превышающей быстроту человеческой мысли. Однако, кроме логики фактов, существует и творческая логика воображения. Без воображения не было и нет науки. Без него невозможно понять факты, осмыслить формулы; без воображения нельзя заметить и выделить новые явления, получить новые знания о природе. Воображение — то, что отличает человека от любой, самой «умной» электронной машины, пусть даже о ста тысячах ламп. Воображение — способность увидеть то, что еще нельзя увидеть.
Самойлов и Якин, пользуясь добытыми фактами и догадками, пытались установить причины взрыва в 17-й лаборатории. В начале составленного ими «перечня событий» они записали:
«1. Голуб и Сердюк со своими помощниками облучали образцы нейтрида отрицательными мезонами больших энергий с тем, чтобы выяснить возможность возбуждения нейтронов в нейтриде. Такова официальная тема».А неофициальная? Ивану Гавриловичу нужно было больше, чем «выяснить возможность». Он искал мезоний — вещество, которого сейчас так не хватает нейтридной промышленности, которое сделало бы добычу нейтрида легким и недорогим делом. Опыты безрезультатно длились уже несколько месяцев. Никто не верил в гипотезу мезония — даже он, Николай. Впрочем, в ходе опыта возник феноменальный эффект — отталкивание мезонного луча от пластинки нейтрида. Для Ивана Гавриловича Голуба это означало, что к основной цели исследования прибавилась еще одна: узнать, понять этот эффект. Под влиянием чего нейтрид как-то странно заряжается отрицательным электричеством? Николай читал дальше:
«2. Обнаружено короткое замыкание в электромагнитах, вытягивающих из главной камеры положительные мезоны и продукты их распада — позитроны. Это замыкание не могло произойти при взрыве, так как в этот момент мезонатор был выключен…»Итак, испортились вытягивающие электромагниты — во время опыта, а может быть, и до него. Нельзя было не заметить этой неисправности: электронные следящие системы сообщают даже о малейшем отклонении от режима, не то что о коротком замыкании. Вероятнее всего, что Иван Гаврилович после многих неудачных опытов ухватился за эту идею, подсказанную случаем: облучать нейтрид не в чистом вакууме, а в атмосфере позитронов. Они начали опыт. Должно быть, Иван Гаврилович, деловитый и сосредоточенный, в белом халате, поднялся на мостик вспомогательной камеры, нажал кнопку: моторчик, спрятанный в бетонной стене, взвизгнув под током, поднял защитное стекло. Иван Гаврилович поставил в камеру образец, переключил моторчик на обратный ход — стекло герметически закрыло ввод в камеру; потом включил вакуумные насосы и стал следить но приборам, как из камеры выкачивались остатки воздуха. Вакуум восстановился — можно открывать главную камеру. Иван Гаврилович стальными штангами манипуляторов внес в нее образец. Алексей Осипович, не глядя на пульт, небрежно и быстро бросал пальцы на кнопки и переключатели. Загорелись разноцветные сигнальные лампочки, лязгнули силовые контакторы, прыгнули стрелки приборов; лабораторный зал наполнился упругим гудением. Иван Гаврилович сошел вниз и, морщась, смотрел в раструб перископа, наводил рукоятками потенциометров мезонный луч на черную поверхность нейтрида. Они не разговаривали друг с другом — каждый знал и понимал другого без слов. Облучение началось. В тот вечер была неровная ноябрьская погода: то налетал короткий и редкий дождь, стучал по стеклу, по железу подоконников, то из рваных туч выглядывал осколок месяца, прозрачно освещая затемненный зал, серые колонны, столы, мезонатор. Настроение у них, вероятно, было неважное — как всегда, когда что-то не ладится. То Иван Гаврилович, то Сердюк подходили к раструбу перископа, смотрели, как острый пучок мезонов уперся в тускло блестящую пластинку нейтрида. Изменений не было…,
«3. В образце нейтрида, найденном в воронке, обнаружена микроскопическая ямка размером 25×30×10 микрон».Эти пункты говорили о том, что происходило в камере мезонатора, где — теперь уже не в вакууме, а в позитронной атмосфере! — минус-мезоны стремительно врезались в темную пластинку нейтрида. Изменения были, только они их еще не замечали. Самойлов ясно видел, как отрицательные мезоны передавали свой заряд нейтронам, и нейтрид заряжался. Это случалось и раньше, но процесс кончался тем, что огромный отрицательный заряд антипротонов на поверхности нейтрида просто отталкивал последующие порции мезонов, и они видели расплывающийся мезонный луч. А когда извлекали пластинку нейтрида наружу, ничего не было. «Почему же тогда не было взрыва? — спрашивал себя Самойлов. — Да потому, что антипротонов было ничтожно мало, ничтожный слой на поверхности. Мог быть только слабый нагрев нейтрида в этом месте… Черт возьми, еще несколько опытов — и Голуб, наверное, понял бы, в чем дело!» В тот вечер из-за этой неисправности в мезонаторе все происходило по-иному. Антипротоны, вернее — антиядра, возникшие в нейтриде в микроскопической ямке, начали захватывать из вакуума положительные электроны. Возникали антиатомы — отрицательно заряженные ядра обрастали позитронными оболочками. Из нейтрида рождалось какое-то антивещество. Какое? Возможно, что это была антиртуть — ведь ядра нейтрида, осажденного из ртути, могли сохранить свою структуру… Ее было немного — ничтожная капелька антиртути, синевато сверкавшая под лучом мезонов. Чтобы лучше наблюдать за камерой, они, как обычно, выключили свет в лаборатории — окна можно было не затемнять: на дворе был уже вечер. Кто-то — Голуб или Сердюк — первый заметил, что под голубым острием мезонного луча на пластинке нейтрида возникло что-то еще непонятное. Что они чувствовали тогда? Пожалуй, это были те же чувства, как и при открытии нейтрида, — радость, надежда, тайный страх; может быть, не то, может, случайность, иллюзия?.. Полтора года назад, когда под облачком мезонов медленно и непостижимо оседала ртуть, все они в радостной растерянности метались по лаборатории. Алексей Осипович добыл из инструментального шкафа запылившуюся бутылку вина, которую хранил в ожидании того дня. Запасся ли он бутылкой и на этот раз?.. Через некоторое время, когда капелька антиртути увеличилась, они рассмотрели ее — и, наверное, были обескуражены. Обыкновенная ртуть! Ведь в вакууме антиртуть ничем не отличалась от обычной… Конечно, это было великолепно: снова превратить нейтрид в ртуть!.. «Сведения от главного энергетика: взрыв произошел не во время опыта, а после — когда мезонатор был уже выключен из высоковольтной сети института». Наконец «ртути» накопилось достаточно для анализа, и они выключили мезонатор. Николай знает ту глубокую, покойную тишину, которая устанавливалась в эти минуты в лаборатории. Зажгли свет, поднялись на мостик. Ведь даже если это была и простая ртуть, все равно — они, Голуб и Сердюк, сделали эти атомы! Вероятно, снова Иван Гаврилович взялся за рукояти манипуляторов, стальные пальцы осторожно подхватили пластинку нейтрида и перенесли ее во вспомогательную камеру. За свинцовым стеклом была хорошо видна темная пластинка, лежавшая на бетонной плите, и маленькая поблескивающая капелька «ртути». Она все еще была обыкновенной капелькой, эта антиртуть, пока в камере держался вакуум. Включили моторчик, стекло стало подниматься. Оба в нетерпении склонились к камере. В щель между бетоном и стеклом хлынул воздух — обыкновенный воздух, состоящий из обычных молекул, атомов, протонов, нейтронов, электронов и ставший теперь сильнейшей ядерной взрывчаткой. И в последнее мгновение, которое им осталось жить, они увидели, как блестящая капелька на нейтриде начинает расширяться, превращаясь в нестерпимо горячий и сверкающий бело-голубой шар… Взрыва они уже не услышали.
За окнами чернела ночь. Лампочки туманно горели под потолком в прокуренном воздухе. На голых стенах комнаты висели теперь уже ненужные сиреневые фотокопии чертежей мезонатора. Якин и Самойлов сидели за столом, заваленным бумагами, и молчали, думая каждый о своем. Николай еще видел, как отшатывается Иван Гаврилович от ослепительного блеска, как заносит руку к лицу Сердюк (они все-таки установили, что ему принадлежал силуэт на кафельной стене), как все исчезает в вихре атомной вспышки… А Якин… Якин сейчас мучительно завидовал Самойлову. Почему не он, не Якин, стремлением всей жизни которого было сделать открытие, сказал первый: «Это — антивещество»? Разве он, Якин, не подходил к этой же мысли? Разве не он видел вспышку? Разве не он установил и доказал, что в камере мезонатора были позитроны, что взрыв произошел после опыта? Почему же не он первый понял, в чем дело? До сих пор он объяснял себе все просто: Кольке Самойлову везло, а ему, Якову, который не хуже, не глупее, а может быть, и одареннее, не везло. И вот теперь… Он просто переосторожничал. Конечно! Ведь у него эта идея возникла одновременно с Самойловым, если не раньше. Испугался потому, что это было слишком огромно? Эх… — Понимаешь, Яша… — Самойлов поднял на него воспаленные глаза. — А ведь это, пожалуй, и есть тот самый мезоний, который искал Голуб. Ну конечно: ведь при взаимодействии антивещества с обычным они оба превращаются в множество мезонов. Капелька антиртути может заменить несколько мезонаторов! Представляешь, как здорово? Яков внимательно посмотрел на него, потом отвел глаза, чтобы не выдать своих чувств. — Слушай, Николай, похоже, что мы с тобой сделали гигантское открытие! — Голос его звучал ненормально звонко. — Антивещество — это же не только мезоны. Ведь оно выделяет двойную полную энергию — два эм цэ квадрат! Можно производить сколь угодно малые и сколь угодно большие взрывы. Управляемые взрывы! И еще, щербинка в пластинке нейтрида. Это же способ обработки нейтрида! Понимаешь? Пучком быстрых мезонов можно «резать» нейтрид, как сталь — автогеном. А выделяющуюся антиртуть можно либо уничтожать воздухом, либо собирать… Теперь мы можем обращаться с нейтридом так же, как со сталью: мы можем его обрабатывать, резать, кроить, наращивать. Гигантские перспективы! — Да, конечно… Но почему «мы»? При чем здесь мы? — Самойлов устало пожал плечами, потом принялся искать что-то у себя в карманах. — Мы это открытие не сделали, а в лучшем случае только расшифровали его. Открытие принадлежит им. У тебя есть папиросы? Дан, а то мои кончились…
ИСПЫТАНИЕ В СТЕПИ
Они бежали по мокрому от таявшего снега шоссе, отчаянно всматривались, искали за снежной пеленой зеленый огонек такси. Мимо шли люди со свертками, мчались машины с притороченными сверху елками — через неделю Новый год. Никто не подозревал об огромной опасности, нависшей над городом. Скорее, скорее! Теперь могут спасти минуты!.. Ага! Самойлов громко свистнул, замахал рукой. И к обочине подкатила «Победа» с клетчатым пояском. — В Новый поселок, скорее! Захлопнулась дверца, машина полетела по шоссе в снежную темноту.Еще полчаса назад они сидели в комнате и обсуждали, что следует сделать, чтобы повторить опыт Голуба. Теперь они знали, что искать. — А ты помнишь, — спросил Яков, — месяц назад было сообщение об атомном взрыве в Америке, в Нью-Хэнфорде, на нейтрид-заводе. Не случилось ли у них что-то подобное, а? — Помню… — в раздумье проговорил Николай. — Но ведь там делали атомные снаряды из нейтрида. Представитель концерна сам признал, что на заводе хранился обогащенный уран… Вряд ли. — Ладно, давай не отвлекаться, — решил Яков. Но это был первый толчок. Как приходят в голову идеи? Иногда достаточно небольшого внешнего толчка, чтобы возникла вереница ассоциаций, из которых рождается новая мысль; больше всего это похоже на перенасыщенный раствор соли, в котором от последней брошенной крупинки с прекрасной внезапностью рождаются кристаллы. Вопрос Якова повернул мысли Самойлова к своему заводу. Подумать только, ведь он не был там больше месяца! Как-то управляется Кованько? Постой, а над чем возились они тогда, в последние дни перед катастрофой? Николай вспомнил странные мерцания в камерах… Это был второй толчок. Мерцания! Ведь он хотел о них поговорить с Иваном Гавриловичем. Николай достал из кармана блокнот, перелистал исписанные цифрами и формулами страницы.
«Подумать: 1. Вакуум поднялся до 10–20 мм ртути, за пределы возможного для вакуумных насосов. Почему? От непрерывной работы? Влияние нейтрида? 2. В главных камерах — странные микровспышки на стенах из нейтрида. Когда буду в институте, обсудить с Иваном Гавриловичем».От этих торопливо записанных строчек на Самойлова повеяло еще не совсем осознанным ужасом. Мерцания и вакуум!.. Догадка промелькнула в голове настолько быстро, что изложение ее займет в тысячи раз больше времени. Якин о чем-то спрашивал, но он уже не слышал. …На стенках мезонаторов мерцали голубые звездочки то в одном, то в другом месте. Луч отрицательных мезонов несет в себе мезоны разных энергий. Часть их, пусть небольшая, будет с повышенной энергией — они не усвоятся ртутью, а рассеются и осядут на стенках нейтрида, образуют антипротоны. Теперь о фильтрах. Фильтры не могут вытянуть из камеры абсолютно все положительные мезоны, часть обязательно останется — та же квантовая статистика. Значит, в камерах заводских мезонаторов есть все условия для образования антивещества. «Спокойно, спокойно! — уговаривал себя Николай. — Без горячки… Значит, мерцания на стенках камеры — это следы элементарных взрывов атома воздуха и антиатома. Кроме того имеется вакуум — невероятный, идеальный вакуум! Антивещество уничтожало остатки воздуха: оно съедало его…» Он посмотрел на Якова и поразился его безучастности: тот причесывался, смотрясь в оконное стекло. Когда Николай рассказал ему свои рассуждения, Якин пришел в возбуждение: — Я ведь тебе сказал о заводе! Я предчувствовал! — Слушай дальше! — увлеченно продолжал Самойлов. — Мезонаторы работают в форсированном режиме — три смены в сутки. Кто знает, всегда ли хорошо работали вытягивающие фильтры, всегда ли мезонный луч был настроен правильно, много ли мезонов ушло на нейтридные стенки за эти десять месяцев непрерывной работы? Об этом никто не думал! Антивещество может накопляться незаметно. Оно накопляется за счет нейтрида, оно разъедает нейтридные стенки… — И, когда оно проест хоть мельчайшее отверстие, — ревниво подхватил Яков, — в камеру пойдет воздух и… взрыв, как в Америке! После этого они и бросились в мокрую декабрьскую пургу. На улицу — скорее на завод!
Город кончился. По свободному от машин и автоинспекторов шоссе водитель выжал предельную скорость; на пологих вмятинах асфальта «Победу» бросало, как на булыжниках. — Во всяком случае, следует проверить, — успокаиваясь, сказал Николай. — Может быть, нам не придется повторять опыт Голуба, а удастся просто получить антивещество. Американцы, наверное, тоже гнали мезонаторы несколько лет подряд — вот у них нейтрид и разрушился… — в раздумье продолжал свою мысль Яков.
Завод занимал огороженное каменным забором квадратное поле с километровыми сторонами. Такси затормозило у проходной. Возле окошка курил молодцеватый солдат заводской охраны. Увидев начальство, он бросил папиросу и выпрямился. — Ах ты, черт возьми! — с досадой вспомнил, глянув на него Самойлов. — У тебя же нет пропуска, Яша! Не пропустят. — Так точно, товарищ главный технолог, не пропущу! — сочувственно подтвердил караульный. — Не могу, не имею права. Мне за это знаете как влетит! — Ох, канитель!.. — Самойлов на секунду задумался. — Ну ладно, придется тебе подождать меня здесь. Я найду начальника охраны, скажу ему… Николай отдал свой жетон и ушел во двор завода. Яков растерянно посмотрел ему вслед: «Вот так-так!» — сел на скамью, закурил и стал ждать.
В мезонаторном цехе было так деловито спокойно, что Николай на минуту усомнился в основательности своих страхов. Длинной шеренгой стояли черные, лоснящиеся в свете лампочек громады мезонаторов. Возле пультов сидели операторы в белых халатах. Некоторые, глядя на экраны, что-то регулировали. Огромный высокий зал был наполнен сдержанным усыпляющим гудением. В проходе показалась высокая фигура в халате. Самойлов узнал своего помощника и заместителя Кованько — молодого инженера, отличного спортсмена. Его острый нос был снизу прикрыт респиратором. — А, Николай Николаевич! — Кованько приподнял респиратор, чтобы речь его звучала яснее. — Что это вы, на ночь глядя? А как в институте? — Потом, Юра… — Самойлов нервно пожал ему руку. — Скажи, все мезонаторы загружены? — Все. А что? — Давай погасим один. На каком сейчас сильно мерцает? — На всех… (от его спокойствия Самойлову стало не по себе). Вот давайте отключим двенадцатый… — Кованько подошел к ближайшему мезонатору, выключил ускорители, ионизаторы и взялся за рубильники вакуумных насосов. — Стоп! Не выключай! — крикнул Самойлов и схватил его за руку.
В полночь охрана в проходной сменилась. Новый боец посматривал на Якина подозрительно. «Как же, будет Николай искать начальника охраны! Он, наверное, как вошел в цех, так и забыл обо мне… — тоскливо раздумывал Яков. — Зачем ему я? Он на заводе хозяин, сам все сделает… Пропуск, видите ли, он не может организовать! А ведь это я первый подал ему мысль о заводе… Ну и Самойлов, ну и Коля! Товарищ называется! Оттереть меня хочет, в гении лезет… Ну нет, я его дождусь!»
Не в манере Юрия Кованько расспрашивать начальство. Он любил до всего доходить самостоятельно. Но сейчас, глядя на Самойлова, впившегося глазами в экран, на бисеринки пота на его лбу, он не выдержал: — Да скажите же, в чем дело, Николай Николаевич? Самойлов не услышал вопроса. Его взгляд притягивала небольшая группа непрерывно мерцающих в темноте камеры звездочек — в левом нижнем углу, на стыке трех пластин нейтрида. Он включил внутреннюю подсветку и направил луч в этот угол. Оттуда блеснула маленькая капелька. «Антиртуть! А вон еще небольшой подтек — тоже антиртуть». Он поднял голову, кивнул Кованько: — Смотри… Вон видишь — капелька в углу, крошечная… Видишь? — Вижу… — помолчав, сказал Кованько. — Я что-то раньше не замечал. — Это то самое вещество, от которого… — Самойлов почувствовал за спиной дыхание и вовремя оглянулся: вокруг них молча стояли операторы. Их собрало любопытство — все знали, что Самойлов расследует причины катастрофы в Физическом институте. «Скажи я сейчас, — мелькнуло в голове Николая, — ох, и паника начнется!» Он сухо обратился к операторам: — Между прочим, вы получаете зарплату за то, чтобы непрерывно следить за работой мезонаторов. Идите по своим местам, товарищи… (Белые халаты сконфуженно удалились.) У тебя ключи от кабинета? (Кованько порылся в карманах, достал ключи.) Я пойду позвоню директору, а ты пока проверь все вакуумные системы и включи дополнительную откачку. Самойлов прочел немой вопрос в карих глазах Кованько. — Вот это… то самое, от чего произошел взрыв в лаборатории Голуба! — тихо сказал Самойлов. — Только никому ни слова, иначе — сам понимаешь… В телефонной трубке прогудел сонный благодушный голос Власова. Директор, видно, собирался отойти ко сну. — Здравствуй, Николай Николаевич! Откуда это ты звонишь? — Я с завода, Альберт Борисович… — Самойлов запнулся. — Товарищ директор, я настаиваю на немедленной остановке завода, точнее — мезонаторного цеха. — Что-о? Ты с ума сошел! — Сонливости в директорском голосе как не бывало. — Это в конце года? Мы же провалим план! В чем дело? — Дело неотложное. Я прошу вас приехать на завод сейчас. — Хорошо! — Власов сердито повесил трубку. Якин видел, как, сверкнув фарами, подъехала к проходной длинная черная машина. Мимо быстро прошел невысокий, толстый человек в плаще и полувоенной фуражке. Солдаты охраны вытянулись. «Власов! — Якин посмотрел ему вслед. — Значит, Николай уже начал действовать…» Значит, их предположение оказалось правильным — даже директор приехал. А он сидит здесь, как бедный родственник, никому не нужный. Яков покраснел от унижения, вспомнив, как четверть часа ему пришлось объясняться с солдатом: кто он такой, почему здесь и кого ждет… Он посмотрел на часы: боже, уже половина второго! А что, если Самойлов застрянет там на всю ночь? И такси не найдешь, а до города пять километров по снегу… Черт знает что! Через полчаса случилось самое унизительное: вышел Самойлов и, не замечая сидящего на скамейке Якина, быстро пошел к машине. Якин окликнул его звенящим от возмущения голосом. Николай повернулся, хлопнул себя по щеке: — Ах ты, черт! Ведь я о тебе совсем забыл! А знаешь… — Знаю! — высоким голосом перебил его Якин: он решил высказать все, что думает о Самойлове. — Давно понял, что ты хочешь оттереть меня от этого дела! Ну что ж, Якина все оттирали! Мавр сделал свое дело — мавр может уйти, так? До Николая не сразу дошло, о чем говорит Яков, — в голове произошло какое-то болезненное раздвоение. Там — страшная опасность, затаившаяся в мезонаторах, новое вещество, из-за которого погибли Голуб и Сердюк. Здесь стоит Яшка Якин, с которым они вместе учились, вместе работали, вместе пошли в разрушенную лабораторию под обстрелом смертельной радиации, и несет какую-то чушь… Самойлов глядел на Якова такими бешеными глазами, что тот почувствовал — сейчас ударит — и, помимо воли, втянул голову в плечи. Этот миг перевернул все: Яков почувствовал себя таким мерзавцем, каким на самом деле, возможно, и не был. «Что я говорю?!» Он поднял глаза на Николая и виновато пробормотал: — Прости меня, Коля! Я сам не знаю, что несу. Я идиот! Черт бы взял мой нелепый характер!.. Самойлов уже «остыл» и жалостливо посмотрел на него. Сейчас не до скандала. «Да и я хорош — забыл о нем». — Ладно… Садись в машину — поедем в институт за своими скафандрами и приборами… Они сидели на заднем сиденье и молчали. Потом Николай сухо сказал: — Проверили три мезонатора. Во всех оказалось это антивещество, точнее — антиртуть. Небольшими капельками на стенках и в сгибах камеры… Решили пока остановить завод, выключить все, кроме вакуум-насосов — и добывать эту антиртуть. Потом испытать где-нибудь… Только вот как извлекать ее? Она жидкая, растекается, а каждый оставшийся миллиграмм — это взрыв сильнее бомбы… Якин кивнул. Они снова замолчали. Яков почувствовал, что сейчас он сможет себя реабилитировать только какой-нибудь дерзкой выдумкой, и стал размышлять. Когда подъезжали к Физическому институту, он несмело сказал: — Слушай, Коля, а ведь очень просто… — Что — просто? — буркнул Самойлов. — Брать эту антиртуть. Понимаешь, нужно трубочки из нейтрида — из той же нейтрид-пленки — охлаждать в жидком азоте. Они часов десять по меньшей мере будут сохранять температуру минус сто девяносто шесть градусов, ведь теплоотдача нейтрида ничтожна! И антиртуть будет к этим трубочкам примерзать. Понимаешь? Очевидно, у нее, как и у обыкновенной ртути, точка замерзания — минус тридцать восемь градусов. Верно? Николай рассмеялся: — Ведь ты гений, Яшка! — и добавил: — Хоть и дурак… Яков виновато вздохнул: — Характер мой идиотский! Сам не понимаю, что на меня нашло. Вообще, ты напрасно мне в морду не дал — крепче бы запомнил! — Ничего… Если сам понимаешь, что напрасно, значит не напрасно. Забыли об этом! Всё!.. Яков молча закурил и отвернулся.
Три недели спустя другая машина — мощная трехоска защитного цвета — мчалась по заснеженной волнистой полупустыне, то исчезая между увалами, то появляясь на гребнях невысоких барханов. В этих местах, на границе степи и бескрайной песчаной пустыни, раньше была база испытания атомных бомб. Испытания уже давным-давно не проводились, и в зоне оставалась только маленькая инженерная команда, поддерживающая порядок. Небольшой аэродром с бетонированной взлетной площадкой для реактивных самолетов выделялся на снежном поле серой двухкилометровой полосой. Вдали маячили домики служб, позади них, в нескольких километрах, находились старые блиндажи для наблюдений за взрывами. Машина проезжала мимо остатков испытательных построек: глинобитные стены были разрушены почти до основания, обломки кирпичей ровно сброшены взрывной волной в одну сторону. Морозный резкий ветер бил в лицо. Машина ревела, буксуя в снегу. Наконец она пробралась туда, где на расчищенной от снега площадке стояло несложное устройство: многотонный крошечный цилиндрик из нейтрида и намертво соединенный с ним электродвигатель следящей системы. Внутри цилиндрика находилось около двух десятых грамма добытой из мезонаторов антиртути. Мотор должен был свинтить с цилиндрика герметическую крышку, чтобы в его пустоту через малое, с булавочный укол, отверстие вошел воздух, а затем — сгорел в огне ядерной вспышки. Николай Самойлов стоял в кузове и следил, как с большого барабана быстро сматывается и ложится на снег длинная черная змея кабеля. Когда он летел сюда, оставив Якина и Кованько на заводе добывать остальную антиртуть, в самолете его охватили сомнения. А что, если это вовсе не антиртуть? Может быть, просто ртуть, самая обыкновенная? Когда эта мысль впервые пришла ему в голову, он покраснел от стыда: тогда остановка завода и вся шумиха окажутся позорным и преступным делом. «Ведь из нейтрида может восстановиться и обыкновенная ртуть: отрицательные мезоны, распавшись, превратятся в электронные оболочки… Как мы раньше об этом не подумали?!» Он очень устал, Николай Самойлов. В этой огромной белой степи он чувствовал себя маленьким человечком, на которого взвалили груз непосильной ответственности. Горячка на заводе, потом эти полтора месяца, в которые было затрачено больше энергии и сил, чем за полтора года. Он измотался: впалые щеки, запавшие глаза, морщины на лбу от постоянных размышлений. Самойлов потрогал щеку — щетина. «Когда же я брился?» Сомнения одолевали, терзали его. «А что, если это не минус-вещество? Собственно, на чем мы основывались? На очень немногом: небывалый сверхвакуум, мерцания… Не слишком убедительные доказательства для такого огромного открытия. Почему бы вакууму не быть просто так: от хорошей герметизации и непрерывной работы насосов? Почему бы мерцаниям не возникнуть оттого, что в эти капельки ртути (просто ртути!) изредка попадали мезоны и вызывали свечение атомов? Ведь прямого доказательства еще нет. Может быть, у Голуба получилось одно, а у них совсем другое? Может быть… Бесконечные „может быть“ и ничего определенного…» Сегодня утром прилетела комиссия из центра: за исключением директора завода Власова, все незнакомые. Недоверчивое, как казалось Самойлову, внимание членов комиссии окончательно расстроило его. Вот и сюда он уехал, чтобы быть подальше от этого внимания, хотя прокладку кабеля можно было доверить другим инженерам. Машина, тихо урча, остановилась у площадки. Из кабины вышел молодой техник в очках, закурил папиросу: — Товарищ Самойлов, киньте мне конец. Николай снял с барабана конец кабеля, подал его технику и сам слез с кузова. Техник снял перчатки, посмотрел на папиросу, засмеялся: — Привычка! — Что — курение? — не понял Николай. — Да нет! Я бывший минер-подрывник. За послевоенные годы столько мин подорвал — не счесть! И всегда бикфордов шнур поджигал от папиросы. Удобно, знаете! С тех пор не могу к взрывчатке подойти без папиросы. Условный рефлекс! — Он снова засмеялся и потянул кабель к электродвигателю. Николай огляделся: снег уходил к горизонту, белый, чистый. Кое-где из-под него торчали вытянувшиеся по ветру кустики ковыля. Шофер, пожилой человек с усами, вышел из кабины и, от нечего делать, стучал сапогом по скатам. Техник, пуская дымок и что-то напевая, прилаживал кабель к контактам электродвигателя… Все это было так обыденно, что Николая снова охватили сомнения: не может быть, чтобы так просто произошло великое открытие… Он подошел к закрепленному на врытой в землю бетонной тумбе цилиндрику, потрогал его пальцем. «Так что же в нем: антиртуть или просто ртуть?..» На заводе он ставил этот цилиндрик манипуляторами в ме-зонную камеру и бросал в него свернутые из нейтрид-фольги охлажденные трубочки с примерзшими к ним блестящими брызгами, потом осторожно завинчивал крышку. Черный бок цилиндрика отдался в пальце холодом. «Что же там?» Самойлов положил руку на диск соединительной муфты. «А что, если… крутнуть сейчас муфту?» Страшное, опасное любопытство, как то, которое иногда ехидно подталкивает человека броситься под колеса мчащегося поезда или спустить курок, глядя в дуло пистолета, — на секунду овладело им. «Крутнуть муфту — и цилиндр откроется. В него хлынет воздух… И сразу все станет ясным…» Он даже шевельнул мускулами, сдерживаясь, чтобы не «крутнуть». — Товарищ Самойлов, все готово! — будто издалека донесся голос техника. — Можете проверить. — Уф, черт! — Николай отдернул руку, оставив на морозном металле кусочек кожи. — Я, кажется, с ума схожу… Он подошел к технику, подергал прикрепленные к контактам кабели: — Хорошо, поехали обратно…
Темно-серое с лохматыми тучами небо казалось из блиндажа особенно низким. В амбразурах посвистывал ветер, плясали снежинки. Члены комиссии подняли воротники пальто, засунули в карманы озябшие руки. Власов подошел к Николаю, тревожно посмотрел ему в глаза, но ничего не сказал и отошел. «А нос у него синий», — бессмысленно отметил Николай. Его бил нервный озноб. Председатель комиссии, академик из Москвы, грузный стареющий красавец, посмотрел на часы: — Что ж, Николай Николаевич, если все готово, скажите несколько сопровождающих слов и начинайте… Все замолчали, посмотрели на Самойлова. Ему стало тоскливо, как перед прыжком в осеннюю, леденящую воду. — Я кратко, товарищи, — внезапно осипшим голосом начал он. — Там, в цилиндрике, около двухсот миллиграммов добытого нами из мезонаторов антивещества. Как вы понимаете, мы не могли точно взвесить его. Если это предполагаемая нами антиртуть… («Трус, трус! Боюсь!») А это должна быть именно антиртуть! — Голос окреп и зазвучал уверенно. — Если это количество антивещества мгновенно соединится с воздухом, произойдет ядерный взрыв, соответствующий по выделенной энергии примерно семи тысячам тонн тринитротолуола. — Николай перевел дыхание и посмотрел на сероватые в полумраке лица. Он заметил, как академик-председатель ритмично кивал его словам: («Точь-в-точь, как Тураев когда-то на зачетах, чтобы подбодрить студента», — подумалось Самойлову.) — Однако взрыва мы производить не будем, — продолжал он, — во-первых, потому, что это опасно, а во-вторых, потому, что это неинтересно, да и не нужно… Будет осуществлена, так сказать, полууправляемая реакция превращения антивещества в энергию. Отверстие в нейтрид-цилиндре настолько мало, что воздух будет проникать в него в очень малых количествах… Если наши расчеты оправдаются, то «горение» антиртути продлится пятьдесят — шестьдесят секунд. Если мы не ошиблись, то получим принципиально новый метод использования ядерной энергии. Вот и все… — кончил Николай и с ужасом почувствовал — только что обретенная уверенность исчезла с последними словами. — Скажите, — спросил кто-то, — а цилиндр из нейтрида выдержит это? — Должен выдержать. Во всяком случае, установлено, что нейтрид выдерживает температуру сильного уранового взрыва… — Самойлов помолчал, потом вопросительно посмотрел на председателя. Академик кивнул: — Начинайте… С богом, как говорили деды. Николай включил кнопку сирены. По зоне разнеслось протяжное устрашающее завывание, сигнал всем: «Быть в укрытиях!» Все подошли к перископам. Сирена замолкла через минуту. Самойлов, ни на кого не глядя, подошел к столику, на котором был укреплен сельсин-мотор следящей системы, включил рубильник и взялся за рукоятку ротора… Сердце билось так громко, что Самойлову казалось, будто его стук слышен всем в блиндаже… «А что, если следящая система откажет?» Сейчас электрический кабель послушно передавал усилия руки за восемь километров в мотор, соединенный с крышкой цилиндрика. Сначала ротор поддавался туго, с резким дребезжанием возмущенного магнитного поля. Но вот сопротивление рукояти ослабло — крышка цилиндрика там, в степи, начала отвинчиваться. Николай, припав к окуляру своего перископа с темным светофильтром, крутнул еще и еще… Заснеженная равнина, только что казавшаяся в светофильтрах сине-черной, вдруг вспыхнула вдали широким ослепительным бело-голубым заревом, разделившим степь на контрастно-черную и огненно-белую части. Будто многосотметровая электрическая дуга включилась в степи, будто возник канал жидкого солнца. Глаза, до боли освещенные вспышкой, не видели ничего, кроме этой сияющей полосы. После нескольких секунд беззвучия налетел пронзительный, скрежещущий звук. С потолка блиндажа посыпалась пыль. Это можно было бы назвать свистом, если бы по силе своей он не был больше похож на нестерпимый рев. Там, у самого горизонта, из булавочного отверстия в нейтрид-цилиндрике вырывалась превратившаяся в пар антиртуть и сгорала космическим огнем. Немало испытаний видели эти люди, члены комиссии: военные, инженеры, конструкторы, создатели атомных электростанций, ученые-экспериментаторы. Они видели первые атомные взрывы, видели оплавленную землю и затмевающие солнце водородные взрывы в воздухе, видели гигантский зловещий гриб высоко в небе… И всегда к восторгу победившего человеческого разума примешивался ужас перед чудовищностью применений величайшего открытия. Но такого они еще не видели: вот уже десять, двадцать, сорок секунд из крошечной точки на краю степи вырывался ревущий ядерный огонь! Но теперь не было ужаса, потому что это строптиво ревела крепко взнузданная, покоренная и обезвреженная, самая могучая из энергий: энергия аннигиляции вещества и антивещества. Люди видели не только огненную полосу в степи, они видели будущее безграничное могущество человека, овладевшего этой энергией: видели космические ракеты, из нейтридовых дюз которых вырывалось это же пламя; могучие машины из нейтрида, создаваемые этим пламенем; растопленные им льды Севера и зазеленевшие пустыни Юга. Они ясно видели будущее. И Николай Самойлов видел его. Уже не было изможденного человека с осунувшимся лицом и болезненно блестевшими глазами. Все его смятение, вся неуверенность сгорели в этой яркой, как молния, минуте счастья. Глаза уже начинало резать от нестерпимой яркости вспышки, которую не могли погасить даже темные светофильтры в перископе. Он твердо смотрел на полосу ядерного огня не мигая. Наконец степь потухла. Стало тихо. Все вокруг — снег, лица людей, блиндаж — показалось тусклым и темным. В низких тучах все заметили какую-то черную полосу. Когда глаза освоились, то рассмотрели: тучи над местом вспышки испарились, образовав длинный просвет, сквозь который была видна голубизна зимнего неба. Но скоро от земли поднялись новые тучи испарившегося снега и закрыли просвет. Ошибки не было… И Николай только теперь полностью ощутил навалившуюся на него усталость, огромную, нечеловеческую усталость, от которой люди не могут спать.
ЭПИЛОГ ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕЙТРИДА И АНТИВЕЩЕСТВА (антиртути)
— …Мы берем на себя ответственность утверждать, что применение во взаимодействии этих двух веществ — нейтрида и антиртути — произведет неслыханный переворот в науке, технике и человеческих представлениях. Теперь открывается возможность дешевого производства нейтрида с помощью антиртути в самых широких масштабах и для самых различных применений. И из нейтрида снова можно воспроизводить антиртуть. Эти два вещества, гармонично дополняя друг друга, увеличивают мощь человечества в огромных масштабах и позволят совершить небывалый в истории научно-технический скачок вперед. Очевидно, что все виды двигателей: гидро-паро-электро- и газовые турбины, моторы внутреннего сгорания, громоздкие атомные реакторы, — теперь могут быть заменены компактными двигателями из нейтрида, работающими на антиртути. Принцип такого двигателя предельно прост: в сопло из нейтрида впрыскивается микрокапелька антиртути и определенное количество воздуха или воды. Соединение антивещества с атомами воздуха (или воды) нагреет остальную часть воздуха (или воды) до температуры в десятки и сотни тысяч градусов. Вытекая с огромными скоростями из сопла, этот газ будет толкать ракету или вращать турбину. 200 граммов антиртути, заложенные прямо в тело нейтрид-турбины, достаточны, чтобы она в течение года могла вращать электрогенераторы Куйбышевской ГЭС, вырабатывая те же 1,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Отпадает наконец угроза исчерпания энергетических ресурсов планеты, которые отныне можно считать неиссякаемыми. Огромные возможности мы видим в нейтрид-конденсаторах малых объемов, которые позволят накапливать громадную электроэнергию, а также огромные запасы тепла или холода… Изоляция из тончайших нейтрид-пленок позволит легко получать и передавать на большие расстояния электрический ток при напряжении в много миллионов вольт. Нейтрид позволит создавать стойкие против всех воздействий оболочки космических ракет, глубоководных кораблей и подземных танков, в которых мы сможем проникнуть не только в космический мир, но и в глубочайшие недра своей планеты. Можно назвать атомные домны и металлургические печи из нейтрида, могучие и простые станки для обработки всех металлов, сверхпрочные штампы, буровые станки, экраны от радиации, простые и дешевые синхроциклотроны… Концентрат энергии (грамм антиртути при соединении с обычным веществом выделяет столько же энергии, сколько и 4000 тонн угля) можно доставить в любое место Земли. Можно освободить эту энергию сразу или использовать малыми порциями, постепенно, в течение долгого времени… Человек уже почти два десятилетия обладает космической энергией атомного ядра. Но только теперь ядерная энергия может быть применена везде так же легко, как до сих пор применялся электрический ток. Сочетая нейтрид и антивещество, нейтрид и расщепляющееся горючее, нейтрид и термоядерное горючее, мы овладеем не только безграничной энергией, но и безграничными возможностями применения этой энергии…Страницы из дневника Николая Самойлова. «Без даты. Мой „дневник инженера“ постепенно вырождается. Все реже и реже вспоминаю я об этих тетрадях, наскоро записываю все события за большой кусок времени и снова прячу подальше. Дело в том, что он теряет свое значение: я и без записей помню все, что было за эти три года. Такие события не нуждаются в дневниках — они остаются в памяти навсегда. Вот уже снова весна. Из окна виден Днепр с грязно-белыми пятнами льдин. На улицах ручьи и лужи… Три года назад молодой специалист Н. Самойлов загадывал: вот приедет он сюда, в Днепровск, сделает великолепное открытие. Или встретит лучшую женщину в мире, и она полюбит его, или и то и другое… Мечты сбываются не так прямолинейно, как загадывались, — гораздо сложнее и интереснее. Были открытия — правда, доля моей работы в них не так уж значительна. Такие открытия не делаются одним человеком. Вот насчет любви у тебя, Николай Николаевич, увы… Очевидно, потому, что очень уж интересная и напряженная работа выпала на твою долю. Ни времени, ни мыслей не оставалось. А сейчас весна, свободное время, и вспоминаешь, что уже третий десяток на исходе, что, того и гляди, запишут в холостяки. Ну нет, дудки! Она — моя долгожданная незнакомка — придет! Яшка Якин — тот уже женился; причем явно по космической вспышке любви, а не по рассудку. Потому что на Оксане, бывшей лаборантке Ивана Гавриловича, той самой, что звала меня не иначе, как „дядя, достаньте воробушка“, по спокойному „плану“ жениться нельзя… Ох, этот Яшка! Он может броситься в горящую лабораторию, может в непроверенном скафандре пойти в радиоактивные развалины, придумать смелые и остроумные идеи, изобретать, но все это у него только, чтобы доказать, что он — пуп Вселенной, что мир вращается вокруг него! Не напрасно у нас на курсе его прозвали: „Я в квадрате“. Сейчас он у нас на заводе делает свои (свои!) нейтрид-аккумуляторы из энергии и сверхтонких пленок. И нужно видеть, как ревниво он оберегает свою конструкцию от всяких изменений, предлагаемых заводскими инженерами. А впрочем, что я к нему привязался?Человек делает дело — и делает хорошо. В конце концов у каждого свой стиль, свои противоречия… И нельзя требовать от других того, чего ты сам еще не достиг, а к чему только стремишься. Ты часто говоришь себе, что наука требует кристальной чистоты мыслей и устремлений, требует отказаться от хорошего ради лучшего и от лучшего ради прекрасного; что нельзя творить с завистливой оглядкой на других. А сам ты всегда придерживаешься этих прекрасных принципов? Нет. Ну, так и нечего, как говорил Марк Твен, „критиковать других на той почве, на которой сам стоишь не перпендикулярно“. Нейтрид и антиртуть постепенно уходят из сферы необычного. Антиртуть, конечно, опасна, но это уже понятая опасность и она не страшна. Все мезонаторы у нас на заводе вычистили от нее. Собрали граммов двести антиртути, в стакане это было бы на донышке, а на самом деле столько энергии вырабатывает за год Куйбышевская ГЭС: миллиард киловатт-часов… Остатки антиртути на нейтридных стенках, которые уже не смогли вычистить „методом Якина“ (да-да, это официально названо его именем!), выжгли, осторожно впустив разреженный воздух. Вот приду после отпуска, начнем делать специальные мезонаторы для получения антиртути, а потом специальные приборы для получения нейтрида и антивеществ без мезонаторов. Следы недавней катастрофы постепенно исчезают. Стеклянный корпус Физического института демонтирован; оборудование, даже уцелевшее, уничтожили или пустили в переплавку: невозможно проводить ядерные исследования там, где надолго остались неустранимые следы радиации, нельзя использовать приборы и оборудование, заряженные радиацией. В Новом поселке, неподалеку от нашего нейтрид-завода, строятся корпуса Института ядерных материалов имени профессора И. Г. Голуба. В стену главного корпуса сейчас вмонтируют обелиск — те самые кафельные плитки из стены 17-й лаборатории, на которых остался белый силуэт Сердюка. Это будет лучший памятник им… Впрочем, мне что-то не хочется шевелить прошедшее — отложим это до преклонных лет. Лучше подумать о будущем. А какое громадное будущее нетерпеливо ждет нас — голова кружится! И это будущее начнется скоро, почти завтра, потому что космическая ракета из нейтрида уже готова и начинает проходить испытания. И — парадоксально! — эта ракета безнадежно устареет, едва только совершит свой первый полет по межпланетному простору, потому что на смену обычным атомным двигателям придут (и уже идут) предельно простые и исполински могучие нейтридные двигатели, работающие на антиртути. Сколько еще будет сделано и в Космосе, и на Земле! Машины из нейтрида будут крушить горы там, где они не нужны, и воздвигать их на более удобном месте; мы проникнем в глубь Земли, мы насытим Землю энергией, изменим ее лицо, климат… Три года прошло — а сколько сделано! Впереди еще почти вся жизнь!»
В. Привальский Старый чачван
Рассказ

Железный ящичек, в котором старый бухгалтер держал деньги, исчез из палатки под самое Первое мая. Праздник был испорчен. Ребята расстроились не столько из-за пропажи семнадцати тысяч, предназначенных для премий, сколько из-за того, что в их палаточном городке в степи завелся вор. Сперва долго ругали рыжего Сеньку, дежурившего ночью у палатки с надписью «Бухгалтерия». Сенькина надутая физиономия в это утро вызывала всеобщее раздражение. Сенька молчал — в его положении больше ничего не оставалось делать. И только на ребром поставленный вопрос: «Спал?» — он вдруг ответил раздраженно: — Ну, спал! А Женька разве не спал? А Касымов, а Урунов, а Ахмет? Все спят! Это было правдой. На ночном дежурстве спали все, да, собственно, и само дежурство считалось проформой: с тех пор как ребята приехали в Голодную степь, в новом совхозе не случилось ни одной пропажи, если не считать исчезновения кота Андрея, одичавшего на ловле полевых мышей. Потом принялись за обсуждение самого главного и самого неприятного вопроса: кто украл? Стыдно было смотреть друг другу в глаза и думать: не ты ли вор? Не ты ли, мой товарищ, поехавший вместе со мной поднимать Голодную степь, сделал это черное дело? Директор совхоза хорошо понимал настроение молодежи и сказал, что вместе с секретарем комсомольской организации разберется в этом деле сам, а сегодня не надо портить себе праздник. Но ребята зашумели: — Не согласны! Сейчас разберемся! Давайте обыск!.. — Никакого обыска! Позор! Чтобы из-за одного мерзавца всем унижение терпеть? Тут кто-то спохватился: — А где Ляпунов с Максудовым? — Их с утра не видно! — Послать за ними домой! «Домой» — это было сказано громко. В степи, среди уже распаханных полей, стояло двадцать семь зеленых палаток новоселов. В них жило около трехсот человек — первая бригада молодого совхоза. Сборные стандартные дома еще находились в пути, поэтому в палатках помещались и бухгалтерия, и магазин, и радиоузел, и медпункт, о чем торжественно возвещали пришпиленные у входа таблички. Дома Ляпунова и Максудова не оказалось. Исчезли их вещи — под койками остались только два пустых зеленых сундучка. Первым обнаружил их Нуритдин Насретдинов — шофер грузовой машины. Вид опустевших сундучков привел его в ярость. — Догнать! — кричал он, потрясая крупными, как булыжники, кулаками. — На велосипедах удрали! — констатировала бригадная повариха, заглянувшая в полотняный сарайчик, где хранилась всякая утварь и где владельцы иногда оставляли свои велосипеды. Через пять минут Насретдинов уже сидел за рулем, а в кузов набралось с десяток возбужденных ребят. Машина рванулась с места и, подпрыгивая на ухабах, скрылась в клубах пыли. До ближайшего шоссе от нового совхоза было добрых два десятка километров. Преследователи вернулись только вечером, запыленные и усталые. Беглецов и след простыл. Насретдинов, бессменно просидевшей весь день за баранкой, рассказывал: — Жали по шоссе до самого райцентра. Всех встречных-поперечных расспрашивали, да мало ли велосипедистов катит по дороге! Нет, теперь ищи ветра в поле!.. Машина вернулась, но никто из встречавших ее не обратил внимания на щуплого человечка с полевой сумкой, который вышел из кабины и зашагал к бухгалтерской палатке. Это был старший оперуполномоченный Хасанов. Ребята заехали за ним в районное отделение милиции на обратном пути. Хасанов зашел в палатку бухгалтерии, посмотрел на пустое место, где еще недавно стоял железный ящичек с деньгами, поговорил с бухгалтером, в сотый раз рассказывавшим, как он обнаружил пропажу, и потребовал личные дела беглецов. Кое-что переписал в записную книжечку, особо отметив одно обстоятельство: Максудов год назад вернулся из заключения. — Хоп! — сказал уполномоченный и, выйдя на единственную улицу поселка, безошибочно направился к столовой, словно был здесь старожилом. Повариха, которую все звали тетя Галия, готовила сегодня пельмени. Пельмени были пересолены. Нет, тетя Галия не влюбилась, она очень сердилась: в украденной сумме была и ее премия. Но пуще всего раздражена была она тем, что беглецы не далее как вчера одолжили у нее двести пятьдесят рублей, на возвращение которых теперь, очевидно, не было никакой надежды. — Поймаете? — спросила она Хасанова, ставя перед ним полную миску соленых пельменей. — Угум! — ответил уполномоченный, набивая рот. — А как? Гость вытер рот, попросил напиться и только тогда ответил: — Очень просто. Знаешь, как в пустыне Саха, ре ловят львов? Возьми Сахару, пропусти сквозь сито, песок просеется, львы останутся. Так и мы… Тетя Галия поняла, что над ней подшутили, когда гость, вежливо попрощавшись, уже шагал по дороге. «А как?» — этот вопрос, простодушно высказанный поварихой, в сотый раз задавал себе и Хасанов. В сущности, перед оперативным работником, расследующим преступление, всегда стоят два вопроса: кто совершил преступление и как поймать преступника? В данном случае первый вопрос был ясным: ночью исчез денежный ящик, той же ночью из совхоза бежали два человека, причем один из них — бывший уголовник. Логическая связь между этими событиями была несомненной. Оставалось найти преступников. Но как? — Дело ясное! — докладывал Хасанов начальнику районного отделения. — Мальчишек надо искать дома — у папы с мамой. Куда же им еще податься? Начальник сидел, окутанный табачным дымом, как бог Саваоф в облаке. Это был человек сухой и педантичный — «Параграф», как называли его подчиненные за любовь ко всякого рода инструкциям и перепискам. — Действуйте! — сказал он лаконично и выпустил клуб дыма. «Действуйте» в словаре начальника означало: «Пишите». Итак, розыск начался за письменным столом. Мелким почерком Хасанов аккуратно выписал на листке бумаги адреса родственников Ляпунова и Максудова. В тот же день полетели запросы в Самарканд, где до отъезда в совхоз жил Ляпунов, и в Коканд, где жили родные Максудова. Ответ пришел через неделю: разыскиваемых не оказалось ни в Самарканде, ни в Коканде. — Дело запутывается! — доложил Хасанов начальнику и, услышав в ответ знакомое «действуйте», со вздохом отправился писать. На сей раз Коканд и Самарканд запросили об адресах ближайших родственников Ляпунова и Максудова. Коканд ответил быстро и дал три новых адреса. Самарканд ответил через неделю и сообщил пять адресов. Переписка расширялась, синяя папка с делом № 53 заполнялась бумажками. Время шло… Андижан и Шахрисябз, Фергана и Джизак, Ташкент, Свердловск и Куйбышев исправно отвечали на запрос: Ляпунова и Максудова по указанным адресам обнаружено не было. — Дело сложное! — объявил Хасанов, положив перед Параграфом пухлую папку с перепиской. — Объявить всесоюзный розыск! — распорядился начальник и почувствовал некоторое облегчение: тем самым трудности розыска в значительной степени перекладывались на других. Прошел месяц. Новых сведений не поступало, и папка с делом лежала запертой в шкафу. Однажды утром в кабинете Хасанова появилась совхозная повариха. Заполнив собой тесное креслице, отдуваясь от жары, тетя Галия ехидно спросила: — Как песок, просеялся? — Какой песок? — не понял Хасанов. — Песок пустыни Сахары. Возьми сито, просей песок… — А-а… — вспомнил уполномоченный и стал смущенно перекладывать на столе папки. — Нет, львы пока на свободе. — Какие там львы! Наглые мальчишки! — рассердилась повариха. — Вот, глядите. — И она протянула Хасанову письмо. «Наглые мальчишки» посылали тете Галии из Бухары свой долг — двести пятьдесят рублей — и сообщали, что очень жалеют обо всем случившемся. «Деньги кончаются, — писали они, — и что будет дальше — не знаем, домой писать боимся, стыдно». К письму был приложен адрес. «Жалеют о случившемся… Деньги кончаются…» Это было признание. — Дело ясное! — докладывал через полчаса решительный Хасанов начальнику райотделения. — Надо ехать в Бухару.
* * *
Поезд приходит в Бухару ночью. Он останавливается на станции Каган, откуда до Бухары еще двенадцать километров. Хасанов добрался до города с попутной машиной. Он слез на площади, около гостиницы, помещавшейся в старинном медресе, и остановился в раздумье. Спать не хотелось, до рассвета оставалось часа два. Не лучше ли сейчас же отправиться по адресу? Мальчишки наверняка спят, и их легко будет взять. Хасанов повернулся и быстро зашагал. Серый аист, свивший гнездо на минарете, неодобрительно посмотрел ему вслед и щелкнул клювом. Хасанов бывал в Бухаре и потому смело погрузился в кривые и путаные переулки старого города. Узенькие, похожие на ущелья, улочки с глухими глинобитными стенами тонули во мраке. Зайчик карманного фонарика, которым Хасанов освещал себе путь, перебегал с номера на номер. Пятнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый… Здесь! Хасанов остановился перед побеленной дверью и запоздало подумал о том, что, в сущности, неосторожно было идти сюда одному. Но раздумывать не приходилось, и он решительно постучал… Труп лейтенанта Хасанова был обнаружен на рассвете в соседнем переулке. Маленькая Мохиниса, выбежавшая утром, чтобы раньше мальчишек подобрать под деревом сладкие ягоды шелковицы, с плачем прибежала домой и разбудила мать. Скоро все соседи, взбудораженные событием, собрались в переулке. Вызвали милицию… Осмотр места происшествия дал сравнительно немного. Рядом с трупом нашли валявшийся в пыли крупный гаечный ключ, послуживший, видимо, орудием убийства. Следы крови, тянувшиеся по переулку, вели к дому номер 19, где, очевидно, и совершено было преступление. Маленькая Мохиниса, потрясенная виденным, долго не могла ответить на вопросы работников милиции. Наконец, с трудом проглотив слезы, она рассказала, как утром, выбежав из ворот, наткнулась на «дяденьку, который спал прямо на улице и совсем без подушки». Она осторожно подошла к «спящему» и присела на корточки. Тут дяденька застонал, открыл глаза, сказал одно слово и больше уже ничего не говорил. Мохиниса испугалась и убежала. — Какое же слово оказал дяденька? — спросили ее. Девочка наморщила лобик и ответила: — Старуха. Все это казалось более чем странно. Почему умирающий лейтенант вспомнил о какой-то старухе? Бред? Какое отношение могла иметь старуха к убийству, совершенному, судя по рэне, очень сильным человеком? Кому принадлежал тяжелый гаечный ключ? Особенно неприятным казалось одно обстоятельство: у Хасанова был похищен пистолет. Значит, теперь убийцы вооружены огнестрельным оружием. Дом номер 19 оказался нежилым. Небольшое полуразвалившееся строение было заколочено досками, окна забиты фанерой, крохотный дворик завален мусором. — Здесь давно уже никто не живет, — сказали соседи. — Ничего подобного! — заявили вездесущие мальчишки. — Сюда ходили двое ребят, только ночью. При более тщательном обследовании обнаружилось, что фанера на одном из заколоченных окон легко отодвигается. Впрочем, пахнущая пылью комната имела нежилой вид, и только две кучки тряпья в углу свидетельствовали о том, что тут кто-то ночевал. Рядом с «постелями» валялось несколько винных бутылок. Наконец, разворошив кучу тряпья, обнаружили самую важную улику: похищенный из совхоза железный ящичек. Он оказался пустым. Итак, вот где скрывались похитители! В доме устроили засаду, но прошло несколько ночей, и никто не являлся. Преступники бежали…* * *
— А не поручить ли это дело Пожарнику? — предложил начальник управления милиции, когда на совещании обсуждалась трагическая гибель Хасанова. «Пожарником» в управлении называли капитана Касыма Рахманова. Он не обижался. Когда-то, еще до поступления в милицию, он и в самом деле служил в пожарной охране. Прозвище это удержалось с тех пор. Правда, в последние годы оно приобрело уже другой смысл: Рахманову поручались самые трудные — «пожарные» — дела. Он брался за них неторопливо, но цепко и в путанице фактов, улик, свидетельских показаний умел отыскивать самое главное, словно шел сквозь дымовую пелену пожара прямо к его очагу. Это был невысокий, но широкоплечий человек, смуглый и черноволосый, с лицом, чуть тронутым щербинками оспы. Говорил Касымов немного и великолепно умел слушать — качество, весьма ценное для оперативного работника. При этом лицо его всегда оставалось спокойным. В нем была сдержанность крепко скрученной пружины: отпусти ее сразу — и она ударит, дай ей раскрутиться постепенно — она долго будет двигать механизм. Изучая синюю папку с делом, начатым лейтенантом Хасановым, Рахманов поражался количеству ошибок. Не допрошен часовой, дежуривший ночью у бухгалтерской палатки; не опрошены ближайшие друзья Ляпунова и Максудова, шофер, отправившийся за ними в погоню; небрежно осмотрено место происшествия. Наконец, упущена была из виду существеннейшая деталь. Ляпунов с Максудовым бежали из совхоза на велосипедах, очутились же они в Бухаре. Не на велосипедах же добрались они до Бухары! Несомненно, беглецы сели в поезд. Где же тогда велосипеды? Спрятаны или проданы? С них-то капитан и решил начать поиски преступников. В районе, на территории которого был расположен новый совхоз, оказалось около шести тысяч зарегистрированных велосипедов. Вдвоем с дорожным инспектором Рахманов просидел целый день над кучей регистрационных карточек. Большинство велосипедов было приобретено владельцами давно, и только десять зарегистрированы после Первого мая. Из этих десяти дорожный инспектор, превосходно знавший свой район и его обитателей, сразу отложил в сторону шесть карточек, объявив, что знает этих владельцев и знает, где приобрели они велосипеды. Оставалось еще четверо. Вместе с инспектором Рахманов отправился по записанным адресам. Первые три владельца приобрели своих «пензевцев» в районном универмаге, у них сохранились даже копии чеков. Четвертым оказался буфетчик железнодорожного буфета Акопян. Ударяя себя волосатым кулаком в жирную грудь, он клялся, что велосипед принадлежит ему много лет, а зарегистрирован недавно только потому, что «времени нет, очень большой объем работы». Буфетчик весьма неохотно разрешил осмотреть дровяной сарайчик, в котором стоял велосипед. Идя с ключом по двору, он все время сокрушался: — Зачем смотреть такую старую машину, когда можно посидеть в прохладном уголке, выпить стаканчик винца, а то и коньячку? — Но, глянув просительно в суровые глаза Рахманова, оборвал на полуслове свое бормотание и заспешил к двери. В сарайчике оказалось два велосипеда! Буфетчик представился удивленным и объявил, что решительно не знает, откуда взялся второй велосипед и кому он принадлежит. — Значит, чужой велосипед? — переспросил инспектор. — Придется забрать, чтобы отыскать владельца. Тут природная жадность, видимо, взяла верх, и буфетчик неохотно буркнул: — Ладно, мой велосипед! Чего надо? Так же неохотно он признался, что купил обе машины у каких-то мальчишек в ночь на Первое мая за тысячу рублей, и, конечно, соврал: как выяснилось впоследствии, заплатил он за велосипеды шестьсот. Довольно точно описав Ляпунова и Максудова, Акопян добавил: — Уехали утренним поездом в Бухару. Я же их и накормил… — И опять соврал: беглецы выпили на свой счет по две кружки пива и съели порцию остывшей шурпы. — Какие вещи были у них с собой? — Два узелка, больше ничего. — А кто из них держал железный ящичек? — попробовал Рахманов простейший прием. — Железный ящичек? — На жирном лице буфетчика отразилось неподдельное удивление. — Никакого ящика не было. «А ящичек все же очутился в Бухаре, — размышлял Рахманов. — Штука эта довольно тяжелая — в узелок не упрячешь. Может, врет пройдоха-буфетчик?» Возвращаясь со станции, Рахманов спросил инспектора: — Техосмотр машин в совхозе уже произведен? — Нет, — удивился инспектор — А зачем — техника у них вся новая. — Нельзя ли это сделать завтра? — Пожалуйста! — чуть обиженно повел плечами инспектор. — Хоть сейчас! — Сейчас поздновато, да и занят я: свидание с одним человечком назначено. «Одним человечком» оказался секретарь комсомольской организации совхоза Сайд Юнусов. — Я привез то, о чем вы мне писали, — сказал он Рахманову, кладя на стол две бумажки. Это оказались характеристики Ляпунова и Максудова. Составлены они были в почти одинаковых скупых выражениях и отражали не характеры Ляпунова и Максудова, а скорее растерянность писавшего, явно не знавшего, чем заполнить страницы. «На освоение Голодной степи поехал по собственному желанию, — читал Рахманов характеристику Максудова. — Работал прицепщиком на транспортном агрегате. С порученным делом справлялся. В общественной жизни ничем себя не проявил. Бежал из совхоза, похитив деньги». В тех же выражениях была составлена и характеристика Ляпунова; к ней Юнусов добавил только, что «похищение денег и побег Ляпунов совершил под влиянием бывшего уголовника Максудова». Рахманов с досадой отодвинул бумажки: — Скажите, Юнусов, по-вашему, человек, однажды отбывший наказание, уже навсегда остается преступником? Юнусов молчал. — Вы абсолютно убеждены, — продолжал Рахманов, — в том, что именно Ляпунов и Максудов похитили деньги? — Но кто же еще? — поднял брови секретарь. Рахманов сосредоточенно барабанил пальцами по столу. — Какими инструментами пользуются у вас прицепщики? — неожиданно спросил он. — Разными… — растерянно ответил Юнусов. — Ну, там, молоток, зубило, плоскогубцы, ключи гаечные… — Вот такие? — Рахманов вынул из кармана крупный ключ. — Бывают и такие. — Этот ключ и должен ответить на ваш вопрос: «Кто же еще?..» — Тут и сомневаться нечего. «А я вот сомневаюсь, — подумал Рахманов, когда Юнусов ушел. — Я обязан подвергать сомнению каждый даже самый очевидный факт. Хасанов вот не сомневался… — вдруг вспомнил он своего предшественника. — В чем все-таки состояла его версия?» — Рахманов взялся за карандаш. …В ночь на Первое мая похищен ящичек с деньгами. В ту же ночь из совхоза бегут двое рабочих. Значит, они-то и есть похитители? Быть может, так, а быть может, и нет. Зачем понадобилось Ляпунову и Максудову, раз уж они намеревались украсть такую крупную сумму, одалживать деньги у поварихи? Как и когда вскрыли они железный ящик? Почему не видел его буфетчик, когда Ляпунов с Максудовым садились в поезд? Каким образом очутился этот ящичек в Бухаре? Кстати, почему преступники поехали именно в Бухару? Для чего вдруг понадобилось им прихватывать с собой тяжелый гаечный ключ?.. «Вон сколько тайн!» — продолжал рассуждать Рахманов. Утром дорожный инспектор доставил Рахманова на мотоцикле в совхоз. Вылезая из коляски, Рахманов сказал инспектору: — Постарайтесь выяснить, у кого из шоферов не хватает вот такого ключа. — Он вынул из кармана большой гаечный ключ. — А я пока займусь кое-какими другими делами. Прежде всего Рахманов отправился к складу горючего. Старик сторож, дремавший неподалеку от склада, подозрительно посмотрел на необычного посетителя и потребовал документы. Покатый спуск, без ступеней, вел в хранилище, вырытое в земле. Здесь было прохладно, полутемно и остро пахло бензином. Рахманов осторожно шагал меж больших железных бочек. — Бабай! — окликнул он сторожа. — А где тут у вас автол? — В левом углу, — сердито ответил сторож. — Зачем тебе? Рахманов не ответил. Присев на корточки, он вынул перочинный нож и принялся ковырять землю возле бочки с автолом. Потом вырвал из блокнота чистый листок, свернул его фунтиком, насыпал щепотку земли и только тогда распрямился, больно стукнувшись о низкий накат хранилища. Потирая ушибленное место, Рахманов выбрался наверх. — Бабай, давно привезли эту бочку с автолом? — спросил капитан, жмурясь от солнца. Старик пожевал губами, вспоминая. — Недавно, — сказал он. — Скажи, пожалуйста, может один человек откатить полную бочку? — Если он сильный, как бык, — только сдвинет с места. — А полупустую бочку? — Если он глуп, как ишак, — может быть, и выкатит, если умный — позовет на помощь. Рахманов улыбнулся сравнениям старика. — Ну, а пустую? — спросил он. — Пустую бочку даже я, слабый человек, подниму. — На сколько дней хватит такой бочки автола? — Месяца на полтора. Рахманов вынул блокнот и принялся что-то вычислять. За этим занятием и застал его инспектор. — Ваше задание выполнил! — отчеканил он и затем перешел на шепот. — На машине «ЕХ28–34» в ящике с инструментами как раз не хватает такого ключа, какой вы показывали. — А чья машина? — живо спросил Рахманов. — Шофер Акмал Курбанов. — Он здесь? — Так точно! Только работает недавно, недели две. — А кто до него водил машину, узнали? — Узнал. Шофер Нуритдин Насретдинов. — Вы его видели? — Он уволился. — Вот как! Давно? — Две недели назад. — Почему уволился? Куда уехал? — По семейным обстоятельствам. Куда выехал — неизвестно. — Та-ак, — протянул Рахманов и вновь вынул блокнот. — Отвезите, пожалуйста, этот пакетик в агролабораторию и попросите срочно сделать анализ. — Слушаюсь! — Инспектор умчался на мотоцикле. Рахманов отправился в бухгалтерию: — Можете дать мне оправку: получал ли совхоз в начале мая автол? Старый бухгалтер достал книгу учета горючего: — Третьего мая была привезена бочка автола. — Кто доставлял? — Шофер Насретдинов. Рахманов уже собрался уезжать, когда его позвала повариха. — Отведайте пельменей! — пригласила тетя Галия. Пельмени были пересолены. Тетя Галия вновь была не в духе: перебирая вчера вечером вещи в своем сундучке, она обнаружила пропажу платья и старой паранджи с чачваном, которые сняла и бог весть сколько лет уже не носила, храня на дне своего сундука. — Скажи пожалуйста! — жаловалась она. — Какой шайтан польстился на старый чачван? Ни одна женщина в нашем совхозе паранджи не носит… Из совхоза Рахманов отправился в агролабораторию. Лаборантка протянула ему бумажку с готовым анализом. В ней было указано процентное содержание гумуса, кремнезема, фосфора, азота, кальция и других веществ, содержащихся обычно в почве. — Имейте в виду, — сказала лаборантка, — почва хорошая, но загрязнена автолом. Для сельскохозяйственных культур не пригодна. — Рахмат! Вот спасибо! — обрадованно воскликнул посетитель и от души протянул руку лаборантке. Та удивленно пожала плечами: она никак не могла взять в толк, почему этот человек обрадовался тому, что почва испорчена автолом? Вечером Рахманов выехал в управление. Всю ночь в поезде он писал обстоятельный доклад и утром, войдя в кабинет начальника, как всегда сдержанный и спокойный, поставил на стол железный ящичек, положил гаечный ключ и два бумажных пакетика. — Преступление совершено не Ляпуновым и Максудовым, — начал свой доклад капитан. — Во всяком случае, не они похитили деньги. — Вот как? — Начальник с любопытством посмотрел на Пожарника. — Объяснитесь. — Еще до выезда в район я осмотрел этот ящичек, найденный, как вы знаете, в доме номер девятнадцать, где скрывались Ляпунов и Максудов. Это, разумеется, была веская улика против них. Так думал вначале и я. Ящик был взломан: у преступника, естественно, не было ключа. Однако при более тщательном осмотре я обнаружил вот это. — Рахманов развернул один из бумажных пакетиков. — Что это? — спросил начальник, разглядывая щепотку серого вещества. — Земля! Замочная скважина была забита вот этой землей. Откуда она могла взяться? Бухгалтер, которому принадлежал ящичек, открывал его, разумеется, ключом. Значит, земля попала в скважину уже после похищения. Очевидно, ящик был зарыт в землю. Но зачем же Ляпунову с Максудовым, которые так поспешно бежали ночью из совхоза, понадобилось забывать в землю ящик с деньгами? Может быть, они закопали его уже в Бухаре? На всякий случай я осмотрел двор дома номер девятнадцать, но там нет даже местечка, где можно выкопать яму. Рахманов закурил и продолжал свой доклад: — Я послал эту землю на анализ. А анализ показал серозем, какой бывает у нас на целине, хотя бы в том же самом совхозе. В лаборатории сказали также, что в земле есть примесь автола. Стало быть, ящичек зарывали в землю, пропитанную маслом для заправки автомашины. Я подумал — где в совхозе можно спрятать ящик? Кругом Голодная степь, ни одного деревца, местность абсолютно ровная. В палатке, где живут десять—двенадцать человек, такую громоздкую штуку не укроешь. И я понял: единственное укромное местечко — это склад горючего, который обычно устраивают под землей. Там, кстати сказать, земля всегда пропитана горючим. Но на оклад горючего может проникнуть, не вызывая подозрений, только шофер. Таким образом, я пришел к заключению, что похищение, вероятнее всего, совершено шофером. Это предположение подтверждал, кстати сказать, гаечный ключ, которым был убит Хасанов. Прежде чем выехать в совхоз, мне хотелось попытаться разыскать того, кто купил у Ляпунова и Максудова велосипеды, — только он мог видеть, был ли с ними железный ящичек. Я был убежден, что велосипеды кому-то проданы, — не бросать же их в дороге? Одним словом, покупатель нашелся и категорически объявил: никакого ящичка у Ляпунова и Максудова не было. Итак, оставалось только обследовать склад горючего и постараться узнать, кому из шоферов принадлежит гаечный ключ. Склад — это довольно глубокая землянка, там не очень-то развернешься: бочки стоят тесно, да полную бочку с автолом с места и не сдвинешь. Но как раз перед маем автол кончился, и пустую бочку легко было откатить, выкопать ямку и быстро поставить бочку на место. На всякий случай я взял из склада щепотку земли и отправил на анализ в агролабораторию. Результат вот он, смотрите. — Рахманов протянул бумажку. — Полное совпадение: то же содержание гумуса, кремнезема, фосфора и прочих веществ, такая же примесь автола!.. Пожарник пытался скрыть свое волнение. Чем ближе подходил он к концу доклада, тем больше сомнений возникало у него Он любил высказывать свои версии вслух: так легче было проверять самого себя. Однажды он высказал такую мысль: «версии создаются для того, чтобы их опровергать». Сейчас представился случай эту мысль подтвердить. Он-то знал слабые места своей теории, но хотел услышать о них от начальника. — Наконец, инспектор ГАИ провел по моей просьбе осмотр машин, — продолжал Рахманов. — В наборе инструментов машины «ЕХ28–34» недостает в точности такого гаечного ключа, каким был убит Хасанов. Шофер Нуритдин Насретдинов, работавший на этой машине, недавно уволился и выбыл в неизвестном направлении. Рахманов снова закурил, нервно затянулся сигаретой и тут же потушил ее. — Таким образом, возникает следующая версия, — сказал он. — Шофер Насретдинов узнаёт, что двое молодых рабочих совхоза Ляпунов и Максудов задумали дезертировать. Возможно, они сами рассказали ему о своем намерении, рассчитывая на помощь, скажем, на то, что он подвезет их на машине до станции. Насретдинов отказывается везти, но дает им адрес нежилого дома, где можно укрыться. Вместе с тем он решает воспользоваться случаем и в ту же ночь похищает ящичек с деньгами. Расчет у него простой: подозрение падет, конечно, на беглецов. Преступник зарывает ящик в землянке, зная, что там есть пустая бочка, которую легко откатить. А через три дня он сам привозит полную бочку автола, и клад оказывается на время погребенным. Переждав с месяц и убедившись, что розыск пошел по ложному пути, шофер подает заявление об уходе. К тому времени, когда он собирается уехать, бочка с автолом пустеет, и ящичек из-под нее легко извлечь. Насретдинов уехал из совхоза пятнадцатого июня и, очевидно, отправился по знакомому адресу в Бухару, где всего удобнее было вскрыть ящик с деньгами. Неизвестно, рассчитывал ли он застать в Бухаре Ляпунова с Максудовым, скорее всего нет: прошло уже полтора месяца со времени их побега. Но, в конце концов, это неважно. Важно другое: в ночь с семнадцатого на восемнадцатое преступника застал Хасанов. Должно быть, Насретдинов был в пустовавшем доме один, и железный ящичек — найди его Хасанов — выдавал шофера с головой. Вот почему он и пошел на убийство. Рахманов устало опустился на стул и полез в карман за носовым платком. — Н-да!.. — полуудивленно, полувосхищенно протянул начальник. — Интересно, убедительно! Но… — он поднял указательный палец, — как говорится, имеются вопросы. Рахманов весь напрягся, ожидая услышать те же сомнения, которые одолевали и его. — Во-первых: чем вы объясните признания Ляпунова и Максудова? Как там писали они в письме: «Жалеем о случившемся… деньги кончаются»? — Разрешите ответить сразу? — Давайте! — В письме не сказано, о чем именно они жалеют. Можно понять и так: жалеем о том, что испугались трудностей и сбежали… «Деньги кончаются»… Но какие? Что ж они, за какой-нибудь месяц истратили все семнадцать тысяч? Не проще ли предположить, что речь идет о деньгах, которые они получили, продав велосипеды? — Вполне правдоподобно, — согласился начальник. — Но о какой старухе поминал бедняга Хасанов? Рахманов развел руками: — Этого объяснить не могу. — Как намерены действовать дальше? — Надо искать Насретдинова. Искать в гаражах. Судя по всему, это опытный преступник и, наверное, великолепно понимает, что человек без определенных занятий легко вызовет подозрения. — Правильно! Учтите только, что такой человек может скрываться под чужой фамилией. Я дам через ГАИ указание всем инспекторам проверить личности шоферов, оформившихся на работу после восемнадцатого июня… Ну, а Ляпунов с Максудовым? — Разыщутся, товарищ начальник! — убежденно сказал Рахманов. — Домой явятся, а может, совесть их обратно в совхоз приведет. Начальник задумался. — Понимаешь, дорогой Пожарник… — начал он и осекся. — Понимаешь, товарищ Рахманов, конечно, наша первейшая обязанность искать преступника. Но мы не можем, не должны бросать этих ребят. Пропадут, если их вовремя не остановить. И так уж обились с пути, сбежали от товарищей, шляются невесть где. Может быть, связались с таким матерым преступником, как Насретдинов… Дай знать еще раз во все районы, куда писал Хасанов. Ближайшие четыре дня Рахманов провел в кабинетах ГАИ. Непрерывно звонили телефоны: из областей, из ближних и дальних районов сообщали обо всех шоферах, оформившихся в гаражи заводов, фабрик, учреждений, совхозов и колхозов после восемнадцатого июня. Это был шквал телефонных звонков, стихший лишь на пятый день. Среди полусотни фамилий Насретдинова не было. Рахманов, однако, не унывал. Несколько человек вызывали его подозрение. Особенно заинтересовался он неким Алиевым, поступившим недавно на автобазу Китабского винзавода. Внешность, возраст, ряд других данных — все это весьма подходило к Насретдинову. Захватив с собой фотокарточку преступника, капитан вылетел в Китаб. Гараж оказался расположенным на краю городка, близ Большого узбекского тракта — древней караванной дороги, превращенной ныне в великолепное шоссе. «Бывает же такое везение!» — думал впоследствии Рахманов, вспоминая необычайные события этого дня. Все произошло с калейдоскопической быстротой. Когда Рахманов подходил к автобазе, из ворот ее медленно выезжал грузовик. Затормозив, шофер высунулся из кабины, передавая вахтеру пропуск. В этот момент на него и взглянул Рахманов и чуть не свистнул: на него смотрел Насретдинов, точь-в-точь такой, как на фотографии. То ли на всегда бесстрастном лице Рахманова отразилось на этот раз удивление, то ли он сделал неосторожное движение, невольно потянувшись к пистолету, но преступник, видимо, что-то заподозрил. Не сводя с Рахманова прищуренных глаз, он медленно проехал мимо, выбрался на шоссе и свернул к горам. — Куда ж это он?! — с удивлением воскликнул вахтер. — Ему ж в другую сторону надо! Не знает, что ли? — Это Алиев? — спросил Рахманов. — Он самый. Новичок. — Номер машины? — «ЕФ12–50», — ответил вахтер, заглянув в пропуск. Рахманов бросился к телефону. Назвав себя начальнику районного отделения милиции, он торопливо спросил: — Есть дорожные посты на тракте в горах? — Нет. — Черт! — вырвалось у Рахманова. — Можете немедленно прислать мне мотоциклиста? — Сейчас будет! Через несколько минут к автобазе подкатил мотоцикл. — Вот что, друг, — сказал Рахманов старшине, отрапортовавшему по всем правилам: «Прибыл в ваше распоряжение!». — Бери на автобазе или где хочешь машину. Надо организовать преследование грузовика «ЕФ12–50», задержать опасного преступника. А мне давай твой мотоцикл, я еду вперед. Тут трасса одна, развилок нет? — Так точно! Дорога одна, но, ох, и трудная же! Первый десяток километров Рахманов пролетел по прямой ленте шоссе, обгоняя нагруженных ишаков, велосипедистов и машины, пристально всматриваясь в их номера. Потом начался подъем: асфальт сменился щебенкой, мотоцикл сбавил ход. Дорога поднималась все круче и круче, начались головокружительные виражи, облака словно приблизились, а внизу разверзлась пропасть. Рахманов пристально вглядывался вперед, наконец за каким-то поворотом он увидел машину: она шла двумя ярусами выше. Капитан дал сигнал, из кабины высунулась рука. «Фьюить!» — услышал вдруг Рахманов. — «Фьюить, фьюить!»… «Вот он, хасановский пистолет», — подумал капитан и спрятался за скалу. Еще дважды пролетели пули, чиркая о скалу и откалывая от нее мелкие осколки. Переждав несколько минут, Рахманов выглянул: машина летела по дороге, успев подняться еще одним ярусом выше. Рахманов вскочил на мотоцикл и приготовил пистолет. Выбрав удобный момент, он выстрелил, целясь в задний скат, но промахнулся. За перевалом дорога пошла круто вниз, стрелять было неудобно. И Рахманов решил выждать, когда оба они выедут на прямой тракт. Теперь он ехал почти вплотную за грузовиком, прячась за его кузов. Дважды преступник пробовал резко тормозить, рассчитывая, что преследователь натолкнется на машину и разобьется, но Рахманов успевал вовремя остановиться. И опять машина и мотоцикл мчались с бешеной скоростью. Мимо проносились кишлаки. Встречные машины и пешеходы испуганно жались к самому краю дороги. Наконец горы расступились, сменившись невысокими холмами. Кончились виражи, дорога выпрямилась и расширилась. Впереди показались хлопковые поля. Рахманов отстал и приготовил пистолет. Но преступник его опередил: из кабины высунулась рука, раздался выстрел, и передняя покрышка мотоцикла захлюпала, как мокрая тряпка на ветру. В ту же минуту руль рванулся у Рахманова из рук, и он полетел нэ землю. Уже лежа на обочине, он увидел удаляющуюся машину и тщательно прицелился. Машина мчалась на предельной скорости. «Если сейчас не попаду, все пропало — удерет, мерзавец», — думал Рахманов, крепко стискивая зубы. Медленно, как на ученье, он нажал курок. Машина судорожно вильнула и скрылась за поворотом. «Попал или не попал?» — Рахманов осторожно поднялся. До поворота было добрых пятьсот метров. Он медленно побрел, чувствуя, как вдруг заныла ушибленная в колене нога. Машина стояла у самого края дороги, грузно осев на правое заднее колесо. Впереди никого не было видно. Слева показалась легкая деревянная арка, а за ней зеленая аллея — дорога в какой-то колхоз. «Добро пожаловать!» — прочел Рахманов надпись на арке и усмехнулся. «Только сюда и можно свернуть», — отметил он про себя и пошел по аллее. Солнце село, быстро опускались мягкие сумерки. Аллея привела к большой террасе на берегу водоема. На террасе, поджав ноги, сидело множество людей. В конце ее на огороженной, освещенной электричеством площадке танцевали под мерный рокот бубна две девушки. «Самодеятельность или концерт, — отметил Рахманов и тут же подумал: — Здесь, надеясь затеряться в толпе, и должен спрятаться преступник». Капитан осторожно обошел импровизированный зрительный зал, пристально вглядываясь в лица, попробовал пробраться меж рядов — на него зашикали. Все же ему удалось найти председателя колхоза и отвести его в сторону. Через пять минут вдоль всей террасы вспыхнули яркие электрические лампочки. Зрители зашумели, несколько пожилых женщин торопливо спустили на лица чачваны. Рахманов лихорадочно вглядывался в людей. Преступника нигде не было видно. И вдруг он вздрогнул от пришедшей в голову мысли. «Старуха!» — вспомнил он последнее слово Хасанова. «Насретдинов переодет женщиной! Конечно: это он украл платье и старый чачван у тети Галии! Когда же он успел переодеться? Наверно, в кабине, пока я его догонял. Которая же из них? Как разоблачить эту мнимую старуху?» Рахманов пошептался с председателем. И, когда кончился очередной номер, на площадку, где выступали артисты, вышел Рахманов. Он подошел к самому краю, чувствуя на себе удивленные взгляды и не зная, с чего начать. — Прошу всех женщин снять чачваны! — вдруг сказал он. Колхозники недоумевали: конечно, носить чачван и паранджу — это феодально-байский пережиток. Но разве уместно ради этого прерывать интересный концерт? Рахманов тоже понимал, что говорит не то. «Надо сказать им все, они поймут и помогут… А если он будет стрелять? Что ж, пусть стреляет в меня. В пистолете у него осталась только одна пуля». И он шагнул вперед. Он не помнит, как говорил, какие выбирал выражения. Собственно, обращался он не ко всему залу, а к женщинам, к тем семи, что сидели, понурившись и испуганно закрыв лица. — Это опаснейший преступник! — закончил Рахманов свою речь. — Он похитил деньги и убил человека! А теперь он сидит здесь и пользуется вашими предрассудками, чтобы скрыться от правосудия. Помогите же мне разоблачить его — откройте ваши лица! Шесть женщин медленно поднялись со своих мест и сорвали чачваны, обнажив морщинистые, коричневые лица и яростные от гнева глаза. Седьмая осталась сидеть, не поднимая головы. И тогда со всех концов зала протянулись пальцы, указывая на «старуху», и сотня голосов грозно крикнула: — Вот он!.. Чья-то рука протянулась к нему и сорвала паранджу вместе с чачваном. И все увидели страшную маску страха. Глаза преступника торопливо перебегали по лицам, ища сочувствия, но видели один только гнев. Он понял: это конец — и опустил голову.Вл. Гуро Вера Чистякова
Повесть

Глава первая
КАТАСТРОФА
С утра над усеченным конусом сопки Медвежьей встала темная, тяжелая туча. К полудню пошел снег. Он падал весь день крупными, пушистыми хлопьями. Дальние горы исчезли из виду за его густой завесой. Невысокие холмы, вокруг которых петлял тракт, заволакивались туманной, будто парной, дымкой. Ненастный день незаметно сливался с сумерками. По тракту на средней скорости шла новенькая «эмка». Машиной управлял мужчина лет тридцати, с той ничем не примечательной наружностью, которая позволяет легко затеряться в толпе: худощавое лицо, не освещенное ни широкой улыбкой, ни открытым взглядом; фигура человека, в меру занимающегося спортом; одежда также не выделяла его — простое зимнее пальто, меховая шапка, сдвинутая на затылок. Рядом с ним, откинувшись на кожаные подушки, сидела молодая женщина. Светлые пряди волоспадали ей на лоб из-под фетровой шапочки. Тракт был почти безлюден. Навстречу изредка попадались грузовые машины, идущие порожняком с Н-ского оборонного завода, куда они возили кирпич. Водители бегло оглядывали встречную машину. Так же они оглядели и мотоцикл с коляской, который шел позади «эмки». Если бы кто-нибудь из шоферов посмотрел внимательнее, он понял бы, что мотоцикл все время держится на одной и той же дистанции позади «эмки». Прибавит ходу легковая машина — начинает идти быстрее и мотоцикл, но дистанция остается неизменной. Водитель мотоцикла первый заметил, что с «эмкой» происходило что-то неладное. Он коснулся рукой плеча товарища и указал глазами вперед. — Вижу, товарищ Приходько! — прокричал тот сквозь ветер. Ход «эмки» заметно убыстрился. Не сбавляя скорости, она понеслась под уклон. Дверца приоткрылась и сразу захлопнулась; машина сделала бешеный рывок, будто кто-то пытался выпрыгнуть, но был с силой втащен обратно. Машина вихляла из стороны в сторону. Резко дернувшись, она едва не свалилась в кювет. И опять стремительный рывок, словно потеряно управление. Мотоциклист, поправив очки, нажал на газ. Его товарищ крепче ухватился за борт коляски. Они мчались, опасаясь упустить из виду странную машину. А впереди за колеблемой ветром завесой густого снега происходило непостижимое. «Эмка» летела с предельной скоростью. Она скользила по самому краю кювета, полного снегом. «Если машина не перевернется, это еще не конец…» — думает водитель мотоцикла. Но вот и конец. Рывок вправо — и «эмка» врезается в телеграфный столб. Задняя часть машины мгновенно поднялась в воздух. Белое облако — не то снег, взметенный страшным ударом, не то взрыв. Спустя несколько секунд мотоцикл был на месте катастрофы. — Поздно! — проговорил Приходько. Он наклонился к бездыханной женщине, лежавшей среди развороченных и искореженных частей машины. Меховое пальто ее распахнулось, и на шее женщины ясно видны были свежие ссадины. Миловидное лицо исказила гримаса боли. Мужчина прерывисто дышал. Сознание покинуло его, покидала и жизнь. Жизни оставалось несколько минут, быть может секунд. Приходько услышал, как он что-то сказал по-русски, едва шевеля губами. Затем умирающий дважды повторил немецкое слово. Приходько записал его. Он тронул мужчину за руку — пульса не было, сердце больше не билось. Отто-Генрих Келлер был мертв. Катастрофа на шоссе произошла зимой 1939 года.ЯВКА ПОТЕРЯНА
Поезд, идущий далеко на восток, всего несколько минут назад прибыл на станцию Н-ск. Высокий, широкоплечий человек вышел с чемоданом из вагона и, затерявшись среди пассажиров, направился к ресторану. У входа он помедлил, будто раздумывая, быстро оглянулся и затем решительно шагнул в дверь. Принимая от посетителя одежду и чемодан, гардеробщик подивился пышной, с рыжим отливом, шевелюре клиента, скользнул взглядом по молодому лицу и атлетической фигуре. Выбрав место в дальнем углу зала, приезжий принялся разглядывать людей, разместившихся за другими столами. Их было немного. Потом он углубился в изучение меню. Еле слышно шаркая по паркету мягкими туфлями, к посетителю подошла официантка с светлыми кудряшками, обрамленными накрахмаленной наколкой. Он заказал двойную порцию ростбифа и кружку пива. — А чего-нибудь более существенного не желаете ли? — с привычным радушием спросила официантка. — Есть превосходный коньяк. — Непьющий! — буркнул приезжий. Долго задерживаться в ресторане он не стал. Быстро покончив с едой и пивом, он молча расплатился и вышел. На привокзальной площади приезжий постоял некоторое время у трамвайной остановки, покурил, затем отправился в город пешком. От вокзала к центру города был не близкий путь. Злой ветер вышибал из глаз слезу; мороз, крепчавший к ночи, хватал за нос, за уши и щеки. Скрипел снег под ногами, а в свисте ветра приезжему чудилось недоброе. Он шагал и шагал, большой, настороженный, одинокий. Он исколесил много улиц, пока не подошел к дому, который был ему нужен. Войдя в подъезд гостиницы «Обь», приезжий взглянул на часы. В вестибюле он оглядел собравшуюся у окошечка дежурного администратора кучку претендентов на отдельные номера или «хотя бы на коечку». Мрачная физиономия дежурного, мелькавшая за стеклом, не предвещала ничего хорошего. Надпись над окошком извещала каждого: «Мест нет». В креслах и на диванах безучастно сидели те, кому уже надоело топтаться возле окошечка. Некоторые дремали. Вновь прибывший устроился на свободном стуле, закурил. Выпуская изо рта колечки дыма, он искоса изучал собравшихся здесь людей. Нет, человека, встречи с которым он ожидал, в вестибюле не было. Заметив дверь, ведущую в парикмахерскую, он заглянул и туда. Работали два мастера. Один обслуживал клиента, а другой, насвистывая, правил бритвы. Из зеркала равнодушно глядело намыленное лицо какого-то старика. Приезжий вернулся на свое место, переставил стул в затемненную часть вестибюля и, сев таким образом, чтобы видеть каждого входящего, стал терпеливо ждать. Звук открывающейся входной двери каждый раз заставлял его настораживаться. Он быстро окидывал вновь появляющегося острым взглядом и с досадой отворачивался. Люди приходили, уходили. Одни суетились у заветного окошечка, другие, получившие номер или койку в общей комнате, направлялись к лифту. Часы показывали девять. — Нет, батенька мой, видно, нам сегодня ничего здесь не дождаться! — раздался над головой рыжего хриплый бас толстяка в синей бекеше и лисьем треухе. — Надо, пока не поздно, искать частную квартиру. Оно вроде подороже, но зато надежнее. Могу составить вам компанию, если пожелаете. — А разве пускают к себе незнакомых? — вопросом ответил вновь прибывший. — Кому как повезет, а то бывает, что и в отдельных комнатах устраиваются, — тоном знающего человека проговорил толстяк. — Пойдемте! — Большое спасибо, но я думаю еще подождать здесь. Авось кто-нибудь выедет. — Ну, как знаете, а я пошел. До свидания, — сказал человек в треухе и вышел на улицу. — Желаю успеха! — крикнул ему вслед обладатель рыжей шевелюры. Неожиданная мысль осенила его. Когда часы пробили десять, он покинул гостиницу и пошел на трамвайную остановку. Улицы были пустынны. Редкие прохожие, закутав лица, подняв воротники пальто и полушубков, согнувшись, пробегали мимо. Издали слышались тяжелые вздохи завода-гиганта, вступающего на ночную вахту. Приезжий остановился, оглянулся, прислушиваясь, и глухо пробормотал: — Странно, очень странно. Почему же никто не встретил? Он сел в трамвай, идущий к вокзалу. В вагоне было почти пусто, дремала кондукторша; на передней скамье, тесно прижавшись друг к другу, шепталась парочка. Выйдя из вагона, незнакомец торопливо направился к ресторану. Пройдя в зал, он задержался у искусственной пальмы и окинул взглядом столики. Кудрявая официантка еще работала. Он сел за свободный столик, обслуживаемый ею, издали приветливо махнул рукой. Она не заставила себя ждать. — Так вы не уехали? Озябли?.. Сегодня кошмарный холод. Проголодались?.. Что же мы будем кушать? — Она вынула из кармашка блокнотик. — Прежде всего скажите, как ваше имя? — Галина. — Девушка чуть покраснела от неожиданности. Клиент показался ей при первой встрече таким угрюмым. — Значит, Галочка, Галя. Можно мне так называть вас? — Пожалуйста! А вас как зовут? — Меня зовут Романом Ивановичем. — Ну, вот и познакомились, — улыбнулась Галя. — Вот что, Галюша, — ласково заговорил он, — давайте сначала договоримся, что вы не будете на меня сердиться за то, что утром я был таким невежливым. У меня, понимаете, страшно болел зуб, белый свет был не мил… — Бедненький! — всплеснула Галочка полными руками. — Что ж вы мне не сказали? В нашей аптечке есть зубные капли. Хотите, принесу? — Спасибо, Галочка, не надо. Теперь меня другие заботы одолели. — Что-нибудь случилось? Вас не обокрали? — забросала она его вопросами, в которых чувствовалось участие. — Потом расскажу. А сейчас… — Ну конечно, сейчас вы хотите кушать. Есть сибирские пельмени. — Обожаю сибирские пельмени, — оживился Роман Иванович, — тащите, Галочка! И сто граммов этого вашего, — он щелкнул пальцами, — чудесного коньяку! — Сию минуту и накормлю и напою, — пообещала Галя и поспешила к буфету. Пельмени оказались превосходные. И Роман Иванович, хватив рюмку коньяку, с жадностью поглощал их. Галочка вертелась возле стола и снова принялась расспрашивать его, что же с ним стряслось в городе. — Фу-ты! — произнес, отдуваясь, Роман Иванович. — Вот и наелся. Спасибо! Ну, а насчет моих неприятностей… Ничего особенного не случилось. Просто я очутился в положении бездомной собаки и не представляю себе, что же нужно предпринять, чтобы не ночевать на улице. Все сложилось нелепо и, главное, совершенно неожиданно. Хорошенькое лицо Галочки с вздернутым носиком и веселыми, бойкими глазами выразило живейший интерес. Отвечая на ее вопросы, Роман Иванович будто нехотя рассказал: в Н-ск он приехал по письму приятеля устраиваться на работу. Сам он по специальности инженер. Приятель уже нашел ему приличную должность. Вся беда в том, что на дверях квартиры приятеля, «такого же холостяка, как и я», как бы ненароком вставил он, оказался замок. По словам соседей, приятель Романа Ивановича выехал в командировку, а сколько дней он будет отсутствовать — никому не известно. — И вот я остался беспризорным, — грустно закончил Роман Иванович. — Знакомых в городе нет, гостиницы переполнены. Я до десяти вечера ждал. Даже койки не дождался. — Ах, боже мой! Что же делать? Ко мне неудобно, — раздумывала Галя вслух, — тесно, квартирка крошечная, повернуться негде, да и мама строгая, незнакомого ни за что не пустит. Постойте, постойте! Да я вас за милую душу устрою у своей дальней родственницы. Она живет недалеко — здесь же, в привокзальном районе. Тетушка Никифоровна одна занимает целый дом из трех комнат и кухни. Да вы будете у нее, как у Христа за пазухой! — Вы золото, Галюша! — на этот раз с неподдельным чувством отозвался Роман Иванович. — Не знаю, чем я сумею отблагодарить вас… А когда же мы направимся в тихую обитель? — Я, Роман Иванович, освобожусь не раньше двух часов ночи. Придется вам поскучать. — А пустит меня так поздно богоспасаемая старушка? Галя заверила, что пустит. Роман Иванович, маленькими глотками потягивая холодное пиво, лениво курил и изредка окидывал усталым, потухшим взглядом опустевший зал. В два часа он и Галя ушли из ресторана и скоро постучались в окно небольшого домика, стоявшего на тихой, занесенной сугробами улице. Все оказалось так, как обещала девушка: и добродушная, заботливая Никифоровна, души не чаявшая в хохотушке Гале, и чистенькие комнатки, одну из которых старушка за сходную цену предоставила в распоряжение Романа Ивановича. Отрекомендовав приезжего как своего старого знакомого, Галя ушла.Она зачастила к Никифоровне, но, когда бы Галя ни приходила, квартиранта дома не было. — По делам мотается, — отвечала на безмолвный вопрос девушки старушка. — Почернел даже от забот. Работенки подходящей не найдет, что ли? А так из себя мужчина вполне самостоятельный, сурьезный. Ты бы, Галочка, пригляделась к нему. Кто знает, может, тут и судьба твоя. — Да, как же, приглядишься! Его никогда и дома не застанешь, — отвечала Галя. А Роман Иванович стал замкнутым. Неудачи неотступно преследовали его. Ранним утром он покидал квартиру и пешком шел к Н-скому заводу, норовя поспеть туда к началу первой смены. Он тщательно всматривался в мелькавшие перед ним лица людей, направлявшихся к проходной. Потом Роман Иванович спешил на станцию. Там он встречал все поезда, прибывающие с запада. Ровно в шесть часов Роман Иванович появлялся в вестибюле гостиницы «Обь» и просиживал там до десяти вечера. Он читал здесь газеты и время от времени спрашивал, не освободился ли дешевый номер — от дорогих номеров он неизменно отказывался, — сидел, курил и следил за всеми, кто входил в вестибюль. Питался Роман Иванович преимущественно всухомятку, где придется, домой возвращался не раньше полуночи и сразу ложился спать. Так продолжалось уже десять дней. Человек, для встречи с которым Роман Иванович приехал сюда, все не появлялся. Рыжий стал нервничать, сделался мнительным. Повсюду ему чудились глаза, подстерегающие его; руки, готовые тяжело опуститься на плечи. Подвыпивший прохожий, случайно задевший его безобидной шуткой: «Ты что, милок, бродишь тут, как потерянный?» — показался ему в первую минуту именно тем, кто выслеживает его. Он отшатнулся от пьяного. «Так больше нельзя! — сказал себе Роман Иванович. — Нужно действовать!» Это было на одиннадцатый день его пребывания в Н-ске. Разыскав нужную ему улицу, Роман Иванович принялся расхаживать по заснеженному тротуару вдоль небольшого трехэтажного дома. Вокруг не было ни души, из ворот никто не показывался, а войти в дом он считал для себя опасным. Он уже решил было уходить — сильно зябли ноги, а слоняться взад-вперед по пустынной улице было просто глупо, — но в это время из ворот вышел мужчина с лопатой в руках и занялся расчисткой тротуара. Оглянувшись и приготовившись в случае необходимости быстро ретироваться, Роман Иванович подошел к человеку. — Послушайте, товарищ! — окликнул он его. — Вы здесь живете? Мужчина еще некоторое время поскреб лопатой, будто не слыша, потом разогнулся, приставил лопату к штакетнику и, достав из кармана пиджака кисет, начал сворачивать папиросу. Закурив, он важно расправил пушистые усы и только после этого неожиданно тонким голосом спросил: — Вы чего? — Да вот, спрашиваю, вы живете на этой улице? — повторил Роман Иванович. — Знамо, на этой, а то где еще! Я здешний дворник. — Помогите, голубчик! Я, знаете, здесь в командировке, вспомнил, что в вашем городе мой давнишний знакомый живет, давно не виделись… Название улицы помню, а вот номер дома забыл. Я и хотел узнать… — Фамилие? — коротко спросил дворник. — Келлер, Отто-Генрих Келлер, инженер. — Эва, хватился! Жил твой Отта тут, а теперь на кладбище обретается, — внушительно сказал усач. — Вон как вышло! — Почему на кладбище? — растерянно спросил Роман Иванович и почувствовал, что ему стало очень жарко. — Почему? Чудак! Потому что помер. Почему же еще? — Умер? Келлер умер? — Расшибся насмерть, едучи по тракту на своей машине. Сам погиб, и машина вдребезги! Чинить нечего. Новая машина! Недолго и попользовался… — Почему же разбился? Пьян был? — Этого я точно не знаю. Ни разу его под мухой не видел. А слух прошел, что по гололеду забросило его на телеграфный столб. Так уж оно вышло… — заключил дворник. — Ну, а что с женой Келлера? — спросил Роман Иванович. — Живехонька, голубушка, и, можно сказать, по случайности. Была она в отъезде, а то угробил бы ее Келлер вместе с машиной. — Где же она? — Приезжий с неясной надеждой вскинул глаза на дворника. — Тяжело ей стало после такого случая, заболела, съехала от нас и после не заявлялась. Была сначала в больнице, я ей самолично вещички носил. Она мне адресок новый дала, если письма будут или кто спросит ее. — Адресок? Где же он? — А у меня дома. Коли надо, спиши. Через несколько минут Роман Иванович вышел из дворницкой. В его обличье не осталось и тени растерянности. Он расплатился с Никифоровной, захватил свой чемодан и покинул гостеприимный домик, передав Гале сердечный привет и заверения, что считает себя ее неоплатным должником. «Да ведь там же находится и Клеопатра! — подумал он, снова вглядываясь в бумажку с адресом. — Какое совпадение! Что же это — знак судьбы, перст божий?» Той же ночью Роман Иванович исчез из города.
В ТАЕЖНОМ ПОСЕЛКЕ
Кончилась узкоколейка, оборвалась насыпь. За тупиком колея выходила прямо из нетронутого, в лунном свете желтоватого снега. На горизонте чернел лес. Над ним висел светлый рожок месяца. Необычайная яркость казавшихся совсем близкими звезд поразила приезжего. Он разыскал станционного сторожа, расспросил у него дорогу в леспромкомбинат «Таежный». Сторож сказал, что ни поездов по узкоколейке, ни попутных автомашин на полустанке не ожидают, а когда появится какая-нибудь оказия, с которой можно добраться до «Таежного», — неизвестно. Может, и до вечера ничего не будет. Высокий человек с небольшим чемоданом в руках нетерпеливо повел широкими, как у борца, плечами и спросил, сколько же километров считается до леспромкомбината. Оказалось, что идти надо километров десять. И он, не раздумывая, двинулся в путь. Сначала дорога со свежими наметами снега шла по степи, потом привела в лес. Хотя ветер дул слабый, здесь стоял шум, невнятный и монотонный, будто шум дождя, который идет уже много часов подряд. Забрезжил рассвет. Густой хвойный лес, со всех сторон обступавший путника, раздвинулся, и в белесой мгле показался большой поселок. Огромные снежные подушки на крышах делали строения издали похожими на покрытые белым кремом пряничные домики, выставленные в витринах кондитерских магазинов. Десять километров были позади, перед приезжим открылся весь поселок. Его отстроили всего несколько лет назад, но, по понятиям таежного края, который раньше считался непроходимой глушью, а теперь так быстро оживал, поселок был уже не новый. У реки стояли лесные заводы. Река, сибирская, широкая, летом величавая, сейчас, как ледяной мост, лежала между крутыми берегами. Морозный туман плавал в воздухе. Несмотря на сорокаградусный мороз, грузчики работали в одних телогрейках. Люди подавали баланы[105] прямо на платформы со штабелей. Громадные стволы катились по помосту. Работали споро, с огоньком. Укладчики на платформах четкими движениями скрепляли груженый лес тросом. Женщины-учетчицы, пристроившись наверху, на крышах вагонов, отмечали на дощечках, заменявших здесь, на ветру, бумагу, уложенный лес: каждое погруженное бревно точкой. Вагоны и платформы обходил старый инженер-бракер, осматривавший казавшуюся ему подозрительной по качеству лесину. Старик, в облезлой лисьей шубе нараспашку, так увлекался своим кропотливым делом, что не замечал холода. Приезжий подошел к бракеру. Ему пришлось дважды повторить свой вопрос, прежде чем старик понял его. Занятый своим делом, он отрывисто ответил и, не повернув головы в его сторону, досадливо махнул рукой, указывая направление. Проворчав под нос ругательство, высокий пошел по дороге, ведущей к двухэтажному зданию, видневшемуся между оголенными деревьями с засыпанными снегом грачиными гнездами. Вывеска у входа указывала, что здесь помещается клуб леспромкомбината. Спустя несколько минут приезжий сидел на скамье в невзрачной комнатушке, пил чай. Его собеседница, высокая, прямо державшаяся старуха, не сводила с гостя увлажнившихся глаз. — Ах, Руди, где нам пришлось встретиться! — повторяла она. — Руди, сколько же лет прошло? Века! — Клеопатра Павловна, я сообщил вам свое нынешнее имя вовсе не для того, чтобы вы тотчас забыли его! — с неудовольствием заметил Рудольф. — Не ровен час, вы проболтаетесь при посторонних… Ведь я не вспоминаю вашей родословной… — О, не бойтесь, Руди! Воронцова обладает еще здравым умом и твердой памятью и умеет хранить тайны, — ответила старуха. Этот тон и гордо поднятая голова совершенно не вязались с неряшливостью жилья, с засаленным, грязным халатом, мешком висевшим на длинном, высохшем теле. Нет, она не могла, не могла не вспоминать о далеком прошлом! — Ваш батюшка, если помните, приняв в свое время фамилию Кунова, — продолжала Воронцова, — никогда не имел повода сетовать на мою забывчивость. А ему в 1914 году грозили серьезные неприятности, и он во многом на меня полагался… — Да я и в мыслях не имел обидеть вас, Клеопатра Павловна. Но ведь приходится напоминать об осторожности. Если мы еще хотим что-то сделать на этой земле, необходима конспирация. Вы поняли меня? — Поняла, но я, Рудольф, устарела для конспиративных дел. Мой удел жить прошлым и выжидать, терпеливо выжидать могучего урагана, способного очистить Россию, ждать, поглубже забившись в эту щель, и дождаться… — Нельзя ждать сложив руки. За такое ожидание никто платить не будет. — Я свое отработала, милый Руди. Молю всевышнего, чтобы и вам довелось сделать столько, сколько сделала я для отечества и монарха! — быстро проговорила Воронцова, ее глаза вспыхнули. — А ведь давно вы не произносили вслух этих слов, Клеопатра Павловна? — Ох, давно, давно! — Ну что же, — примирительно произнес Рудольф, — каждый вносит свою лепту… Только убейте меня, Клеопатра Павловна, не пойму, для чего вам понадобилось забиваться в эту дыру. — Так сложились обстоятельства, мой милый… — Воронцова подняла глаза к небу, вынула из маленького изящного портсигара дешевую папиросу и закурила. — Расскажите лучше: как вам удалось разыскать меня и зачем вы сами пожаловали в этот медвежий угол? — Ив медвежьих углах пребывают не одни медведи, — уклончиво ответил Рудольф и, не найдя пепельницы, с досадой бросил окурок к порогу. — Вы на первых порах сможете кое в чем помочь мне… Не беспокойтесь, ничего серьезного, — добавил он, заметив, что старуха нервно заерзала на табурете. — Сущие пустяки по сравнению с услугами, которые вы оказывали моему папаше. Ну, а разыскать вас в этой ссылке не представляло особых затруднений. Вы помните, кому вы оставили свой адрес в Ленинграде? Перед моим отъездом мы с этим человеком перебирали старых друзей и не могли не вспомнить хозяйку особняка на Мойке… Воронцова сидела неподвижно, сгорбившись, и молчала, будто пришибленная словами гостя. Только грудь ее с хрипом поднималась и опускалась, глаза были полузакрыты. В комнатушке застыла напряженная тишина, было слышно, как под печкой неутомимо скребется мышь. Потом старуха заговорила, медленно, словно с трудом собирала разбегавшиеся мысли: — Выслушайте меня, Руди, внимательно и, ради бога, не возвращайтесь больше к этой теме. Я беспредельно верила вашему батюшке, хотя у нас и были различные взгляды на некоторые вещи… Конечно, я оказывала ему ценные услуги, о которых вы так бестактно сейчас напомнили. Я знаю вас с детских лет, привыкла доверять и вам и не вижу причин изменять этой привычке. Говорю вам, как на духу: я давно отошла от дел… — Так зачем же?.. — невольно вырвалось у обескураженного Рудольфа. Воронцова властным движением головы заставила его замолчать. — Всё, Руди, очень просто, вполне в духе времени. Негодяй, давший вам мой адрес, в свое время втянул меня в спекулятивные махинации. Когда клубок стал разматываться и нити потянулись к нам, он, чтобы выйти сухим из воды, сделал ловкий ход — подставил под удар меня, а сам остался в тени. Он боялся, что в случае ареста я могу выдать его, потому и сплавил меня сюда, к своей дальней родственнице. Недавно она умерла. А у меня нет уже ни сил, ни воли к перемене своей судьбы. Воронцова опустила голову и замолчала. Молчал и Рудольф. Потом он сказал грубовато: — Все ли вы сказали, Клеопатра Павловна? — Нет, еще не все. У меня осталось кое-что, жалкие остатки фамильных драгоценностей. По нынешним временам это богатство. Моя единственная отрада, единственная надежда… — А вы не боитесь, что ваши богатства потеряете и здесь? — Здесь никто не знает моего прошлого. Я просто старая, нищая женщина, доживающая свой век в этой глуши. А надежда моя состоит в том, чтобы уехать отсюда куда-нибудь на юг, к морю, купить маленький домик с садом, разводить домашнюю птицу, сдавать курортникам койки, жить спокойно-спокойно… — «Спокойно-спокойно»! — насмешливо перебил Рудольф. — У вас есть представление о том, как живут у Черного моря. Но знаете ли вы, что реализовать ваши драгоценности совсем не просто? — Знаю. Время покажет, как это можно сделать. — Ну хорошо… Что вы делаете на комбинате? Чем вы тут занимаетесь? — Я двуликий Янус, а если пойти на искажение мифологии, то даже многоликий. Ну, начать хотя бы с того, что я незаменимый счетовод клуба. Затем правление клуба поручило мне заведование костюмерной… Да, в клубе есть и костюмерная. Здесь страшно увлекаются сценой, и почти все без исключения — простые рабочие, их жены, инженеры — играют в любительских спектаклях. Жизнь здесь однообразная, от города далеко, потому и… — Понимаю, понимаю. Вас это тоже увлекает? Старуха как бы не слышала вопроса. — В моем ведении, — продолжала она все тем же высокопарным тоном, — находится вся театральная бутафория и реквизит. Я суфлирую во время репетиций и на спектаклях. И это еще не все! Меня используют в качестве помощника режиссера. — А кто же режиссер? — спросил Рудольф. — Один старик, который, кроме своей службы и сцены, ничем не интересуется. Инженер-бракер Горностаев. Может быть, вы заметили его? Такой энтузиаст в лисьей шубе… — А-а… — промычал Рудольф. — Продолжайте! — Ну вот и вся моя разносторонняя деятельность, которая дает самые скромные средства к существованию… — При такой разносторонней деятельности, — снова бесцеремонно перебил Рудольф, — у вас должны быть обширные знакомства, широкий круг друзей… — Представьте, нет, — невозмутимо ответила Воронцова. — Ничего этого у меня нет. — Почему же? — Что это? Допрос, Руди? — холодным тоном произнесла Клеопатра. — Нет, только уточнение обстановки. — Ах, Руди, мне не с кем здесь дружить. Грубые, примитивные натуры. Вечные скучные разговоры о производственных планах… Нет, увольте! — Кто у вас бывает, в этих апартаментах? — Рудольф оглядел убогую комнату старухи. — Никто, я ведь вам уже говорила. Впрочем, заходит сюда изредка некий… Сенька. Молодой человек, почти подросток, работает в бригаде такелажников, увлекается живописью и пытается писать декорации. Тоже из когорты народных талантов. — Учтем народного Сеньку, — подхватил Руди. — Я намереваюсь обосноваться на вашем комбинате. Надо будет и мне приобщиться к самодеятельному искусству. Придется помогать Сеньке малевать декорации или его взять в помощники. — Я теряюсь в догадках, Руди, и не нахожу ответа на простой вопрос: для чего вам понадобилась эта затея? — Не всё сразу, Клеопатра Павловна. Расскажите лучше, что тут у вас, в лесах, нового? — Новости у нас всегда одни и те же: добились таких-то показателей, внесли такое-то рационализаторское предложение, усовершенствовали агрегат. Вывешивают портреты героев, выпускают стенгазету со стихами, с шаржами, с передовыми статьями. Словом, от достижения к достижению. — Язык у вас злой… — благодушно заметил Рудольф, — А скажите, Клеопатра Павловна, не появлялись за последнее время новые люди в комбинате? — Не замечала. Да и не интересовалась, признаться. — А мне интересно. Может быть, вспомните? — Ах, да. Одна новая фигура появилась на нашем горизонте. На нее стоит обратить внимание. Красивая женщина! — Кто она? — спросил Рудольф. — Преподавательница немецкого языка в школе. — Фамилия? — Келлер, Наталья Даниловна Келлер. Рудольф вздрогнул, хотя и ожидал услышать это имя. — Вы ее знаете? — поинтересовалась Клеопатра. Собеседник пропустил этот вопрос мимо ушей. — Откуда приехала Келлер? — отрывисто спросил он. — Не слышала. Судя по элегантным туалетам, она не провинциалка. — Вы с ней разговаривали? — Нет, только издали восторгалась ею. О Руди, это настоящая русская красавица! А как поет! — У нее тут много знакомых? — По всей видимости, нет. Держится она обособленно, грустит. Говорят, что красавица переживает какую-то тяжелую семейную драму. Подробностей никто не знает. — Выясняйте все касательно Натальи Даниловны, даже мелочи. Особое внимание обратите на тех, кто ее окружает, ищет дружбы с ней. — Это поручение, Руди? — Да, и вы его выполните! — Рудольф посмотрел старухе в глаза. — А для того чтобы выполнить, вам придется отказаться от некоторых привычек. Не будьте такой отшельницей. Не забывайте об осторожности. И не забывайте моего имени. Я повторяю — нельзя ждать сложа руки. Может быть, вы боитесь? — Нет, не то. — Так что же? — Я уже сказала: нет больше сил. — Чтобы сделать то, что я вам поручил, сил нужно совсем немного. А потом они у вас появятся. Вы, как говорят здесь, втянетесь в работу. И в вашей жизни появятся новые ощущения. — О, если бы так!.. — Мы будем встречаться, не демонстрируя своих свиданий. Верно? — Да, так лучше, — согласилась Клеопатра. — На прощание мне хочется сказать вам, дорогая Клеопатра Павловна, что я счастлив встретить здесь вас. И не потому только, что приобрел опытного помощника, нет! Вы мне во многом заменяли покойную мать. И думается мне, что я полюбил вас, как любил когда-то ее. — О мой мальчик! Я тоже люблю вас, как сына. Господь да поможет нам! Наступили зимние сумерки, когда Рудольф входил в управление комбината. Он заранее разузнал, в каких специалистах здесь нуждались. Его документы были в полном порядке.КОНЦЕРТ
Зрителям понравилось, что певица была одета в нарядное, длинное, вечернее платье с блестящими украшениями, играющими на свету. — В полном параде! — удовлетворенно заметил шофер газогенераторного автомобиля Пищик и оглушительно захлопал. И платье певицы, и сложная прическа, и улыбка, которой она ответила на аплодисменты, казалось, говорили: «Дорогие зрители! Я оделась так ради вас, потому что я хочу понравиться вам еще до того, как запою». В знакомом каждому клубном зале сразу стало, «как в театре». После коротких вздохов, замечаний, брошенных шепотом, покашливаний наступила глубокая тишина. Молодой лесоруб потянулся к уху соседа: — Откуда артистка приехала? Шофер Пищик ответил обиженным тоном: — Ниоткуда не приехала. Наша, здешняя. — Не встречал что-то такую. — Учительницей в школе работает. Немецкий язык преподает. Понял, еловая голова? Уж который раз выступает в клубе! — Я на бюллетене был, — словно извиняясь, объяснил молодой лесоруб. Вел концерт бригадир такелажников Алексей Донской, пожилой мужчина в хорошем, тщательно отутюженном костюме. Он пошептался с певицей — это также всем понравилось, потому что напоминало настоящий концерт, — и объявил звучным баском: — Наталья Даниловна исполнит арию Лизы… Рукоплескания заглушили его слова. Певица улыбнулась и еле заметно кивнула. Прозвучало короткое вступление. Пауза… И полились звуки, полные печали, страстная жалоба покинутой девушки. Она взволновала всех в этом зале: семейных людей, девушек, молодых лесорубов, считавшихся отчаянными ребятами, старика — станционного сторожа, пришедшего за десять километров на сегодняшний концерт… «И чего это мне сделалось так хорошо? — спрашивал себя Генка Пищик. — Ну, какое, в сущности, дело мне до этой самой Лизы, которая жила больше сотни лет тому назад? А вот берет за душу… И как берет! Почему?» — Редкий голос для здешних мест… — пробормотал высокий, широкоплечий мужчина, сидевший у самой стены. Он пристально смотрел на сцену. Певица взяла последнюю ноту и замерла, слегка подняв руку, словно прощаясь с улетевшей мелодией. В зале захлопали, зашумели. Лесорубы топали ногами, выражая этим свое одобрение. — Браво! — кричали во всех рядах. — Просим «Соловья»! «Катюшу»! Бригадир такелажников жестом призвал к тишине. — «В далекий край товарищ улетает»… — запела певица. Голос звучал так сильно, что казалось, ему тесно в четырех стенах, что рвется он наружу, в таежные дебри, в степь, чтобы звучать там на просторе и уйти далеко, за пологие холмы, укрытые мглой… Концерт был окончен. Оркестранты укладывали свои инструменты, дежурные тушили свет в зале клуба. Но на сцене задержалось много людей. Каждому хотелось поздравить певицу с успехом или просто еще раз посмотреть на нее вблизи. Пищик также был здесь. Он вертел во все стороны головой на несообразно длинной шее и не сводил с певицы влюбленных глаз. На сцене оказался и высокий мужчина, сидевший во время концерта у стены. Он, по-видимому, выжидал, когда людей вокруг исполнительницы поубавится, чтобы подойти к ней. За мужчиной из дальнего угла сцены незаметно наблюдал стройный, худощавый человек, одетый в черный полушубок и шапку-кубанку из черного каракуля. — Ну что же, пошли, товарищ Приходько? — окликнул его директор комбината. — Пошли, Григорий Петрович, — коротко отозвался тот. И они направились к выходу. Возле Натальи Даниловны теперь оставалось всего несколько человек, не спешивших расходиться. Молодая вертлявая женщина схватила певицу под руку и твердила, что она ни за что не отпустит ее, пока не напоит чаем со своим необыкновенным вареньем из ежевики и морошки. — Ко мне! Ко мне! — повторяла она. — Переоденьтесь и ко мне! Это была сослуживица Натальи Даниловны и ее соседка по квартире. К певице подошел Пищик. Ему хотелось сказать что-то свое, особое, чтобы вышло не так, как у других. — Наталья Даниловна… — торжественно начал он и осекся. Певица вопросительно смотрела на него. Она улыбалась, ее улыбка смущала Пищика. — Слушаю вас, Гена… — Вы просто за душу берете, Наталья Даниловна! Я чуть не заплакал, честное слово! Пищик для убедительности хлопнул шапкой по декорации. Поднялась туча пыли, кто-то чихнул. Пищик сконфузился и, все больше и больше смущаясь, машинально продолжал выколачивать пыль, повторяя: — Дорогая Наталья Даниловна, вы сегодня так пели… так пели… — Постараюсь петь еще лучше, Гена, — ласково сказала Наталья Даниловна. — Лучше нельзя, честное слово! — Разрешите и мне выразить свое восхищение вашим талантом, — раздался спокойный мужской голос. К певице подошел широкоплечий мужчина высокого роста. — Боюсь, что буду повторять уже сказанное другими, но что же делать. Талант покоряет всех. Позвольте, Наталья Даниловна, представиться: инженер-механизатор Кротов Роман Иванович. Наталья Даниловна повернулась к говорившему и взглянула на Кротова. Перед ней стоял человек атлетического сложения, с уверенными манерами. Совершенно голый череп, голубые умные и холодноватые глаза, плотно сжатые губы большого рта… — Я прибыл в ваши палестины недавно, по долгу службы, — продолжал Кротов, — но имею некоторое отношение и к искусству, как дилетант, конечно. Меня уже подключили к самодеятельности. Малюю декорации для здешней сцены. Прошу разрешения показать вам свои скромные труды. Глаза Кротова с какой-то особой пытливостью впивались в лицо Натальи Даниловны. Она спокойно выдержала его взгляд, улыбнувшись повела плечами и просто ответила: — Приятно, что прибыло пополнение в здешнюю самодеятельность. Но вот в живописи я мало смыслю. Вряд ли смогу быть вашим судьей. Сослуживица Натальи Даниловны заторопилась: — Пойдемте же, Наталья Даниловна. Нам завтра рано вставать! Кротов откланялся. Спустя два часа после концерта в поселке все затихло. Огни в окнах погасли. С окраины доносились захлебывающиеся звуки гармони и слышался хриплый собачий лай. Бодро постукивал движок небольшой электростанции. Со стороны лесной биржи несся грохот бревен. Там работа шла круглые сутки. Надвинувшиеся с севера снеговые тучи окутали всю территорию поселка непроницаемой тьмой. Но наблюдательный человек мог бы заметить, что вдоль стен и заборов, направляясь прямо к зданию школы, осторожно проходит человек в черном полушубке и шапке-кубанке. Все спали в этот час. Спал Пищик, спала восторженная соседка Натальи Даниловны. Спал в своей не вполне еще обжитой комнате и новый инженер комбината Кротов. Человек подошел к одному из окон школы. Внимательно оглядевшись по сторонам, прислушавшись к ночным звукам, он легонько постучал в окно. Занавеска на окне шевельнулась, и вскоре женщина выскользнула из дверей. Оба, тихо переговариваясь, отошли подальше от крыльца. — Ну как? Он? — шепотом спросил человек в кубанке. — Пока не знаю, — ответила женщина. — Где же его рыжий парик? — Надо думать, в чемодане. Он снял его при выезде из города. Они разошлись через минуту.БЕЗ ПАРОЛЯ
Прошло несколько недель с того вечера, когда Наталье Даниловне представился инженер-механизатор Роман Иванович Кротов. Давно не устраивали концертов и спектаклей на клубной сцене. Наступило горячее время: заканчивался очередной квартал. План был напряженный. Последний месяц должен был решить: сохранит ли «Таежный» переходящее знамя или его отвоюет другой комбинат, который выйдет на первое место? Лесорубы почти не покидали своих участков, ели и отдыхали здесь же, в тайге, у костров, в шалашах, оборудованных наспех. Водители тракторных тягачей день и ночь трелевали древесину от мест заготовки к лежневым дорогам. Непрерывным потоком текли по лежневкам кряжи и бревна. Среди шоферов газогенераторных автомашин выделялся Гена Пищик, выделялся тем, что никогда не унывал. Он заметно похудел, длинная шея еще больше вытянулась, но песня, как всегда, неслась из кабины газогенератора. Голос певца охрип на морозе, и озорно звучали слова старинной песни: «Начинаются дни золотые»… Ударили крепкие морозы, ветры бывали такими сильными, что становилось трудно дышать. Но нигде не замедлялась работа. Тяжело приходилось в эту пору инженеру Кротову. Он понимал, что не может держаться в стороне от коллектива, относиться безучастно к работе. То дело, о котором знал он один, требовало, чтобы Кротов считался в числе лучших сотрудников комбината. Роман Иванович понимал это холодным своим умом, но бывали такие минуты, когда ему, привыкшему вести жизнь, невидимую для других, становилось трудно сдерживать бешенство.Светает только в девять утра, но все поднимаются задолго до света, и инженер Кротов — одним из первых. В ремонтной мастерской холодно. Кротов в испачканном ватнике обходит машины, которые надо выпустить сегодня. Вчера были неприятные минуты. Трелевочный трактор проработал полсмены и вернулся на буксире в мастерскую. Директор развел руками и сказал, сдерживаясь: — Роман Иваныч, не ожидал от вас. Ведь наша с вами отдача должна быть больше, чем у других. «Отдача!» Когда она кончится? Далекий север, неуютная комната, общая баня — это похоже на ссылку. Сегодня график, завтра график… Завтра работа пойдет на лад — директор похлопает его по плечу: «Сегодня на уровне, Роман Иваныч… И дело подогнали, и свою прогрессивку. Добьем квартальный, тогда можно будет и по пельменям ударить. Моя старуха — мастерица!» Как он ненавидит все это! — Посмотрите, Роман Иваныч, даже наша отшельница Клеопатра вышла на линию огня, — говорит Кротову директор. Действительно, даже домоседка Клеопатра Павловна стала появляться на людях. Ей поручили читку газет в обеденный перерыв, и, кажется, это ее даже увлекло. Она внимательно прислушивалась к лаконичным разговорам, отвечала на вопросы, объясняла то, что могла объяснить. Старуха занималась этим каждый день. Вечером она иногда встречалась с глазу на глаз с Кротовым, но ничего полезного для него сообщить не могла. Да он и не ждал этого от нее. Кротов много раз подстерегал Наталью Даниловну и подыскивал повод для встречи, но его неизменно постигала неудача. То Наталья Даниловна была занята — давала дополнительные уроки отстающим ученикам, то самого Кротова дела загоняли на отдаленные участки и он пропадал надолго. Встречи же при свидетелях ничего не давали Кротову. Хмуро промямлив несколько ничего не значащих фраз, он уходил недовольный, ругая учительницу за ее недогадливость. Дважды вечером он, провожая Наталью Даниловну, заходил к ней домой. Но и это ни к чему не привело. У Натальи Даниловны тотчас появлялась ее шумная соседка Людочка, мастерица варить варенье. Наталья Даниловна говорила мало, зато Людочка трещала без умолку. Она хохотала, задавала Кротову неприятные вопросы: — Ну, признайтесь, почему вы так рано полысели? Бурная жизнь, да? Почему вы до сих пор не женились? — Потому что не встретил такой женщины, как вы. — Вы шутите? Почему же вы пришли не ко мне, а к Наталье Даниловне? Сибирские морозы не охладили еще вашего темперамента? Все-таки в кого вы в конце концов влюбитесь — в меня или в Наталью Даниловну? Кротов, ссылаясь на срочное дело, уходил, в душе посылая Людочку ко всем чертям. А дни шли да шли, дни складывались в недели… Веяло теплом, покров снега стал рыхлым, приобрел сизый оттенок. Лед на реке вздулся, почернел… В один из таких дней Наталья Даниловна вышла из квартиры директора комбината. Она только что закончила урок с директорским сыном, который в двух четвертях имел двойки по немецкому. Директор пообещал «содрать с первенца шкуру, если он и в этом квартале не выправится». — Плохой педагогический прием, Григорий Петрович, — сказала учительница директору, когда они остались одни. — Я уж и не знаю, какие приемы тут нужны. Догонит он других — я ваш должник на всю жизнь! Идя домой, Наталья Даниловна глубоко, всей грудью вдыхала весенние ароматы, которыми был напоен воздух. Она радовалась отдыху, теплому дню. На перекрестке из-за поворота неожиданно показался Кротов. — Здравствуйте, долгожданная Наталья Даниловна! — произнес Кротов, довольно улыбаясь. — Не скрою, что я специально поджидал вас. Давно добиваюсь возможности побыть с вами наедине. — Вот уж чего бы не подумала, — обронила Наталья Даниловна. — За чем же была остановка? — Да вспомните, Наталья Даниловна! — взмолился Кротов. — Когда бы я ни подошел к вам, нам мешали. Один ваш цербер Людочка чего стоит! Наталья Даниловна улыбнулась: — Она вам неприятна? — Признаться, терпеть ее не могу. — Ну, не надо быть сегодня злым. — Почему же сегодня? — Вы толькопосмотрите вокруг! Что делается! — Что делается! Обыкновенная весна. — Весна всегда необыкновенна. Незаметно они миновали территорию поселка и вышли к лесу. — Свернем на опушку, — предложила Наталья Даниловна. Небо было ясным, и с опушки виднелись далекие сопки с темнеющей тайгой на горизонте. — Вот уж скоро лето… — мечтательно протянула Наталья Даниловна. — Эти склоны покроются яркими травами. Красные и желтые цветы зацветут на лугах. Таких нет в центральной полосе… Станет так хорошо, что забудешь свое горе, на время конечно… Кротов насторожился: — Мне говорили, что вы переживаете какую-то личную драму… Не понимаю, как такая женщина, как вы… — Мы недавно знакомы, — прервала его Наталья Даниловна. — Вы многого не знаете, потому и не понять вам. — А если вы ошибаетесь и я понимаю решительно все? — медленно произнес Кротов. Наталья Даниловна с недоумением пожала плечами. — Послушайте, Наталья Даниловна, — продолжал Роман Иванович, — много раз я собирался вызвать вас на деловой разговор… — Какие у нас с вами могут быть деловые разговоры? — Прежде всего вы должны ответить на мои вопросы. Разрешите? — Задавайте, если это нужно. — Да, нужно и очень нужно. Не праздное любопытство руководит мной. Почему вы, русская женщина, с таким русским лицом, с именем Наталья Даниловна, носите немецкую фамилию Келлер? — Это фамилия моего мужа. — А где ваш муж? — Погиб самым нелепым образом. При автомобильной катастрофе… — нехотя пояснила Наталья Даниловна. Она заметила, что Кротов насторожился, что он каким-то особым взглядом посмотрел на нее. — А вам известно, чем Отто Келлер занимался в Советском Союзе? — О! Вы знаете его имя? — воскликнула Наталья Даниловна. — Да, мне известно, чем Отто Келлер занимался здесь. — Вам все известно? — Все. — У него не было от Вас секретов? — Уверена, что нет! — твердо отчеканила Наталья Даниловна. — Но не кажется ли вам, уважаемый Роман Иванович, что наш разговор принимает несколько неподходящую форму для малознакомых людей? — Нет, мне кажется, что все пока идет нормально и развязка приближается! Минуту терпения, и все станет на свое место. Скажите, Наталья Даниловна, Отто Келлер никогда не упоминал моего имени? — Нет, — спокойно ответила она, — имени Романа Ивановича Кротова мой покойный муж никогда не упоминал. Впервые я услышала это имя из ваших уст. Неподдельное изумление и как будто вызов были в глазах Натальи Даниловны. — Ну, а если на мгновение предположить, что моя настоящая фамилия не Кротов? — Он испытующе посмотрел на нее. — На предположениях можно далеко уехать, — хладнокровно ответила Наталья Даниловна. — Если следовать за вами, то можно договориться до того, что и моя настоящая фамилия не Келлер, а какая-то другая. — Ну нет! Имеются веские доказательства, что вы именно Наталья Даниловна Келлер и прибыли сюда из Н-ска после гибели мужа. Мне даже известно, что смерть мужа настолько на вас повлияла, что вы были не в состоянии появиться в своей городской квартире. — Да, вы кое-что знаете обо мне. Кое-что… — иронически заметила Наталья Даниловна и повернула назад, к поселку. — Однако мне пора возвращаться. Вы проводите меня, Роман Иванович? — Постойте! Я считаю, что наш разговор далеко не закончен… — Тогда продолжайте, — согласилась она и остановилась. — Почему вы не спрашиваете, как моя настоящая фамилия? Ведь я убежден, что Отто Келлер рассказывал вам обо мне. — Отто Келлер мне многое рассказывал. Что ж, если есть необходимость, назовите вашу «настоящую фамилию». — Она произнесла это с явной насмешкой. Кротов одобрительно посмотрел на нее: — Вашей выдержке может позавидовать любой мужчина, видавший виды. Да, Отто Келлер мог бы гордиться своей школой. — Действительно, я прошла хорошую школу, — скромно ответила Наталья Даниловна. — Я начинаю понимать, почему Келлер полюбил вас… — О! — подняла брови Наталья Даниловна. — Это тоже входит в наш деловой разговор? — Вы хотите подшутить надо мной, но я не обидчив. Объясняться с вами меня заставляет не любопытство, а долг. — В таком случае ближе к делу! К долгу! — Фамилия Куун ничего вам не говорит? — Кротов впился в нее глазами. — А при чем тут вы, Роман Иванович? — вопросом ответила она и спокойно встретила его взгляд. — Я — Рудольф Куун! Наталья Даниловна неожиданно расхохоталась. Она смеялась звонко, весело. Потом, сдерживая себя, обратила смеющееся лицо к Кротову и сказала: — Ну и лихо получилось! Прямо как на старой провинциальной сцене. Явление энное, те же и таинственный незнакомец. Вот что, — уже серьезным тоном продолжала Наталья Даниловна: — бросьте эту игру! Я не дура! Так и передайте подославшим вас ко мне фокусникам! Она казалась не на шутку рассерженной. — Как? — растерялся Куун. — Меня же еще и подозревают? Чего вы от меня хотите? — Доказательств! Понимаете? Неопровержимых доказательств того, что вы именно Рудольф Куун, а не Кротов. До того как эти доказательства мне предъявят, я не знаю никаких Куунов и не могу вести с вами двусмысленных разговоров… — Так… — Куун приблизил свое лицо к лицу женщины и произнес медленно. — Ваши любимые папиросы «Северная Пальмира»? Она ответила без удивления и с усмешкой: — Я не курю… Рудольф похолодел. Мгновение он молчал, мучительно раздумывая… Ответ был совершенно неожиданным. Неужели на этом конец всему? Почему она так ответила? Отзыв, которого он ждал: «Теперь я курю „Люкс“», — не был произнесен… Наталья Даниловна не знает пароля! Что же это — западня? Куун думал с лихорадочной быстротой. Надо что-то решить, сейчас же. Но могла ли она узнать пароль? Отто погиб внезапно. Может быть, он не успел передать пароль жене? Или (самое страшное) он еще не подготовил жену к той работе, которую ей придется вести здесь. Может быть, и так. Иначе — зачем она уехала в эту глушь? Но отступать было поздно. Приходилось идти на риск. Сколько сил отняла у него эта нежданная минута! — Хорошо, Наталья Даниловна, — сказал устало Рудольф, — я представлю вам человека, помнящего меня с детства и знающего мою настоящую фамилию. — Кто этот человек? Рудольф несколько успокоился. Такой вопрос могла задать только соучастница Келлера. Он почти благодарно посмотрел на Наталью Даниловну. — Этот человек — счетовод клуба Воронцова. — Но это же старая, выжившая из ума старуха! И откуда ей знать ваше прошлое? — Вы встречались с Воронцовой? Говорили с ней? — Нет, я не обращала на нее внимания. — Советую обратить. Это умный, но замкнувшийся в себе человек. В свое время она была близка с моим отцом — фон Кууном. Когда-нибудь я подробнее познакомлю вас с моей родословной. А принять облик свихнувшейся старухи Воронцову заставили обстоятельства… Наталья Даниловна с интересом слушала Рудольфа. Он проводил ее до дома. Они простились, договорившись о дне встречи с Воронцовой.
РАЗГОВОР ЗА КУЛИСАМИ
Репетировали комедию «Слуга двух господ». Клеопатра Павловна готовила костюмы для спектакля, когда Рудольф и Наталья Даниловна вошли в ее чуланчик. — Клеопатра Павловна, я привел к вам Наталью Даниловну. — Прошу вас, милочка. Тут вы в своем кругу. Руди говорил о вас. Отодвиньте там бутафорию и садитесь. — Дайте мне осмотреться, Клеопатра Павловна, — здесь у вас много интересного. Костюмерная, она же мастерская реквизита, представляла собой большой чулан без дневного света. Сильная лампа под матовым абажуром освещала все углы. По стенам до потолка шли деревянные простые полки, на которых стояли, сидели, лежали куклы, маски, парики и всевозможные предметы театральной бутафории. Но среди всего этого пестрого мира глаза посетителя приковывал к себе тряпичный человек в широких красных штанах. Немолодое лицо его выражало живость и усталость одновременно. Талантливой рукой лицу тряпичной куклы было придано выражение бесконечной человеческой усталости и скептицизма. Это был как бы символ обреченности и бессильного любопытства к завтрашнему дню. «Уходящий», — так хотелось назвать эту куклу. Хозяйка перехватила взгляд Натальи Даниловны. — Это мой друг Труфальдино. Он нравится вам? Моя работа. — Талантливо! Он почти живой. — Скоро он будет выступать в кукольной комедии. Я много говорю с ним. За те годы или месяцы, какие мне еще суждено прожить на белом свете, мы еще больше сроднимся с ним… Наталья Даниловна, Руди говорил мне о вас и о вашем покойном муже. Вам удалось побывать с ним за границей? — К сожалению, нет, но мой муж много рассказывал о Европе. Отпуск он однажды провел в Париже… — О, Париж!.. — воскликнула старуха. — И консьержка, конечно, говорила ему каждое утро: «Месье, сегодня день особенно чудесный, и Париж тоже!» Не правда ли? И каждый день был действительно чудесен… Морщинистое, худое лицо Воронцовой освещалось синими и теперь еще не совсем выцветшими глазами. Она вспоминала людей, давно умерших, и события, давно прошедшие. Она говорила о Париже, городе ее молодости. — В один из чудесных парижских дней на прогулке за городом я познакомилась с Иоганном фон Куун… О! Он тогда был совсем молодым человеком. Мы подружились. Дружба наша продолжалась несколько десятков лет. Особенно памятны мне встречи с ним уже в России, в Петербурге. Я хорошо знала и жену Иоганна фон Куун — Жюли, урожденную Ланскую. Это были родители нашего Руди… — задумчиво пояснила Воронцова. — Разве они умерли? — Умерла мать Рудольфа. Отец вынужден был бежать из России. Сейчас он в Германии… Не правда ли, Руди? Рудольф кивнул головой. Он сидел молча, иногда усмешка набегала на его крепкие губы. — Я рада, — говорила старуха, — что Руди дружит с вами. Бедный мальчик! Он так одинок… Руди показывал вам свою новую работу: декорации к «Борису Годунову»? Мы будем ставить одну картину из оперы. Рудольф засмеялся: — К сожалению, не удостоился. А заявку на критику Натальи Даниловны я сделал еще зимой. — Ну право, Руди, покажите полотна! Рудольф поднялся. Они прошли в зрительный зал. — Эй, Семен! — крикнул Рудольф. Выскочил растрепанный подросток лет пятнадцати, вымазанный красками и углем. — А вот верный рыцарь Мельпомены — Сенька. Быть может, он был бы величайшим театральным художником, если бы фортуна не сделала его пламенным поклонником газогенератора. Давай занавес, Сенька! Сцена у фонтана. Помните: «Я здесь не для того, чтоб слушать нежны речи любовника»… А ты, товарищ Семен, мне пока не нужен. Сенька ушел, обиженно пожав плечами. Воронцова вернулась в свой чулан. Рудольф и Наталья Даниловна остались вдвоем в пустом полутемном зале. — Ну как? Трактовка темы была необычной. Фонтан казался не искусственным сооружением, а водопадом в глухом месте. Вместо парка, где встречаются Марина и Самозванец, был изображен заросший лес, мрачный, дикий… — Я не ценитель живописи, — тихо сказала Наталья Даниловна, — но это я поняла. — Что вы поняли? — требовательно спросил Рудольф. — Вы написали то, что близко вам, — здешний лес, здешний пейзаж. Вы перенесли Самозванца в другую обстановку. — В ту, которую я ненавижу! Да, вы поняли. Хорошо сделано? — Неплохо, но страшновато. — В жизни много страшного… Разве не страшно то, что они сделали с Россией? — Рудольф, вы же очень молоды — вам тридцать лет. Что вы знаете о прежней России? — Я знаю, что моя жизнь могла бы быть прекрасной, если бы не катастрофа 1917 года. Отец был вынужден бежать отсюда, мать рано умерла. Я мог получить блестящее образование… — Но вы и так инженер, да еще и художник. — Здесь я не хочу быть ни инженером, ни художником. Все равно у них всё разрушат… — Нас могут услышать. — Никого нет. А с вами я могу говорить откровенно. Только единицы, только сильные духом, те, кто управляют жизнью своей, имеют право управлять жизнью других, — они останутся. Остальные должны погибнуть! Это неизбежно! Она внимательно слушала его, затем задумчиво обронила: — Я не думала, что встречу здесь таких людей… — Каких, Наталья Даниловна? — Значительных. Рудольф молча пожал ей руку: — Ну, а теперь вы верите, что я Рудольф Куун? Верите доказательствам, которые я вам представил? Достаточно ли их? — Достаточно. — Вы должны мне верить во всем, — продолжал Куун, стараясь говорить как можно убедительнее. — Отбросьте всякие подозрения. Скажите, вы знаете людей, с которыми встречался Отто Келлер? — спросил Рудольф тихо. — Тех, которые ему помогали… — пояснил он. — А вы разве их не знаете? — спросила Наталья Даниловна. На ее лице было удивление. — В том-то и дело, что не знаю. Черт бы побрал моего шефа. — За что? — За чрезмерную конспирацию. Все чрезмерное приводит к идиотизму. Он сорвал меня с насиженного места в Ленинграде, где я жил припеваючи, и погнал в Сибирь, дав единственную явку к вашему мужу… Видите, я откровенен с вами, Наталья Даниловна. — Иначе я не поняла бы, зачем вы здесь. — По милости дорогого шефа я топчусь у разбитого корыта! Но если поразмыслить, то и шеф не так уж виноват. Кому могло прийти в голову, что ваш муж глупейшим образом сойдет со сцены? И именно в такое время… Рудольф с досадой в голосе оборвал фразу. — А вы бы связались с шефом. Ведь Ленинград не так уж далеко, — посоветовала Наталья Даниловна. — Я несколько раз его запрашивал. Но Ленинград упорно отмалчивается. Шеф или выехал куда-то внезапно, или, быть может, произошло что-нибудь и похуже… Сами понимаете, в нашем деле всего приходится ожидать! — Да, вы правы, все может быть… — задумчиво сказала Наталья Даниловна. — Но позвольте! — воскликнула она. — Почему бы вам не обратиться к помощникам шефа в Ленинграде? — Никого я там не знаю. В Ленинграде я находился на пассивном положении и тихонько выжидал своего времени — времени действовать. Теперь-то вы поняли, насколько затруднительно мое положение сейчас? — Понять-то я поняла. Но что же нам делать? — Попытаться еще раз установить контакт с шефом, запросить его инструкций. Ну, а если и тогда ответа не последует… значит, провал! Нам с вами останется один выход. Единственный! — Какой же это выход? — Попробовать открыть крепко запертую дверь! — И эта дверь?.. — Успеем еще поговорить об этом. Не будем сидеть сложа руки. Мы сможем впоследствии достойно отчитаться. Здесь, а может быть, и на той стороне! — добавил он многозначительно. — Ну что же надо делать? — спросила Наталья Даниловна. — Прежде всего разыскать людей, которых называл вам ваш муж. Надо выяснить, какие они имели задания, что они уже выполнили. Если они ничего не сделали, мы должны заставить их выполнить свой долг. Ну, а к тому времени наше положение здесь должно полностью проясниться. — Мне кажется, что я знаю только троих… — Кто же они? — Все живут в Н-ске. Про двух могу рассказать подробно, а третьего я мало знаю — знаю только имя и отчество… Пойдемте отсюда, я все расскажу вам по дороге. Мы и то уж нарушаем приличия, оставаясь так долго вдвоем. Он молча пропустил ее к выходу.НОЧНЫЕ ТЕНИ
Библиотекарша заболела как раз тогда, когда в ней больше всего нуждались. Надо было ехать в Н-ск за книгами, приобретенными для комбината. Правление клуба «Таежного» решило командировать за литературой счетовода клуба Воронцову. Сначала Воронцова наотрез отказалась поехать. Ее убеждали. Она отвечала: «Стара, оставьте меня в покое. Разве я мало делаю для клуба?» На нее махнули было рукой, но тут Рудольф поневоле стал помощником клубной администрации и потребовал, чтобы Воронцова поехала в Н-ск. — Слушайте, Клеопатра Павловна, дорогая, ведь болезнь библиотекарши нам как с неба упала. — Кому — нам? — вызывающе спросила Воронцова. — Вы уже успели забыть, о чем мы с вами условились. — Мы не уславливались о том, что я буду разъезжать. — Нельзя предусмотреть все до последней мелочи. — Я устала. — Надо поехать, и вы поедете! — Зачем? — Вот это дельный вопрос. Рудольф рассказал, что ей предстоит сделать в Н-ске. — Это сложно… — пробормотала старуха. Она была испугана. — Ничего сложного нет. Надо разузнать, где эти люди, что с ними. И только. Разговор происходил в костюмерной. Воронцова время от времени бросала беспокойные взгляды на своего любимца Труфальдино. — Вы что же, просите у него совета или мысленно прощаетесь с ним? — насмешливо спросил Рудольф. — Я не люблю бестактных шуток! — сухо ответила Воронцова. — Хорошо, я еду. После отъезда Воронцовой Рудольф заглянул в костюмерную. Труфальдино не было на месте. — Даже в пути она не расстается с ним! — смеясь, сказал он Наталье Даниловне. — Труфальдино всегда с нею: дома, в костюмерной, теперь в командировке. — Вероятно, она суеверна? — Как и мы с вами. И Труфальдино стал для нее талисманом. — Талисманом? Чего она может ждать от судьбы? — Все мы ждем…Весенний вечер был холодным, трава — обильно росистой. С реки поднимался туман, настолько плотный, что скрывал всё понизу. Казалось, что деревья вырастают прямо из его белой пелены. Всходила круглая багровая луна. Где-то кричала болотная птица. Чуть слышно плескалась темная река. К воде быстро спускалась женщина. На берегу к колышку была привязана легкая лодка. Женщина вошла в нее и села на корму. Из кустов к лодке направился худощавый человек в темном плаще. Отвязав лодку, он оттолкнул ее, прыгнул сам и взял весла. В молчании проплыли мимо плавучего буйка с двухцветным фонариком. Теперь они шли по течению, бросив весла. Постепенно окружающее менялось. Поднявшийся ветер разогнал туман; все сверкало, искрилось, переливалось вокруг них. Движение лодки было незаметным. Очень медленно уходили назад берега… Мужчина снял кепи — светлые волосы блеснули при луне, — взглянул выжидающе на спутницу: — Теперь рассказывайте. — Рассказывать придется много, Приходько… — тихо ответила женщина. Лодка продолжала неслышно скользить по водной ряби, и вскоре исчезла за поворотом реки.
Колокол на пожарной каланче давно пробил полночь. Снова пал туман, придававший нереальный, фантастический вид всему окружающему. Перед рассветом ночная темень стала гуще. Из-за угла показалась фигура высокого, широкоплечего мужчины. Она скользнула на фоне белой стены клуба. Несколько мгновений мужчина повозился с замком. Послышался приглушенный щелчок, дверь подалась, и мужчина проник внутрь. Вошедший быстро разыскал вход в комнатушку Воронцовой. Занавесив окно одеялом, он зажег карманный фонарик. Тонкий, будто клинок шпаги, световой луч забегал по деревянному полу, незатейливому скарбу и блестящим кафелям печи. Человек переворачивал вещи, рылся в тряпье, аккуратно возвращал каждый предмет на свое место, выстукивал печь и доски пола, задержался с осмотром содержимого фанерного чемодана и порванного мешка с рухлядью. Человек устал. Испарина выступила на его лысой голове. Разочарование, досада были написаны на его лице, когда он покинул здание клуба. Спустя несколько дней возвратилась из командировки Воронцова, привезя из Н-ска книги. Разговор Воронцовой с Рудольфом был коротким. Все усилия Клеопатры Павловны оказались тщетными. Ни одного человека из названных Натальей Даниловной разыскать не удалось. — И больше не загружайте меня подобными поручениями! — заявила Воронцова огорченному Рудольфу. С видимым удовольствием она вернулась к своим обычным занятиям: кройке костюмов и возне с куклами. Несмотря на всегдашнюю свою осторожность, Клеопатра Павловна не замечала, что внимательные глаза следят за ней. Вечерами высокий, плечистый мужчина с оглядкой приближался к ее окну и, прильнув к стеклу, терпеливо что-то высматривал. Ночные шорохи на миг отпугивали человека — он отскакивал, а потом снова приближался к покинутому месту. Так продолжалось немало ночей. И вот однажды ночью человек увидел наконец то, что хотел увидеть давно… Через несколько минут слабый свет коптилки, проникавший наружу через еле заметную прореху в занавеси, погас. Белая длинная фигура показалась за стеклом. Окно открылось от толчка. Воронцова облокотилась на подоконник и пристально вглядывалась в ночную темноту. На улице стояла такая тишина, что старуха услышала биение собственного пульса на висках, обрамленных слежавшимися белыми волосами. Ничто не указывало на то, что за минуту до этого у окна кто-то стоял.
СЕМЕЙСТВО ФОН КУУНОВ
К крыльцу, на ступенях которого сидела Наталья Даниловна, подошел Генка Пищик. Под жарким солнцем выцвели его густые брови и пряди волос, вылезавшие из-под кепки. Синий комбинезон со множеством карманов ловко сидел на нем. — Любуетесь видом, Наталья Даниловна? — спросил он. — «Начинаются дни золотые». — Начались, Гена. — Да, вовсю солнце печет. Пищик, как всегда, с восхищением глядел на Наталью Даниловну: — Смотрите, Наталья Даниловна: по реке идет сплав. Знаете, как называются те большущие плоты? — Не знаю, Гена. — Кошели. Чтобы связать их, требуется большое искусство. Не каждому оно дается! Из рода в род передают его мастера сплава. Вот какие дела… На залитой солнцем реке разворачивалась своеобразная, ни с чем не сравнимая сибирская таежная картина. Между темной зеленью берегов, по серебряной от солнца речной зыби, торопясь, сталкиваясь, подгоняя одно другое, плыли отдельные бревна. И вдруг почти во всю ширь реки вступал огромный плот. Ладно связанный, медленно двигался он, раздвигая всё впереди и по сторонам, а на нем, обнаженные до пояса, прыгали с баграми сплавщики, обугленные солнцем. Ни одного свободного метра не находил глаз на реке. Стоя в воде вдоль берегов, сотни людей с баграми спускали, толкали, оттягивали лес. Шум сплава, особая смесь звуков, человеческих голосов, речного плеска, скрипа плотов не долетали сюда. Поэтому вся картина, полная жизни, красок, блеска, была словно кадр из немого фильма. К Пищику подошли два товарища-шофера, попросили прикурить. Генка протянул одному свою сигарету, другого отстранил: — Третий не прикуривает. Возьми у него огоньку. — Вы суеверны, Гена? — смеясь, спросила Наталья Даниловна. — Есть немного. — Стыдно! — Стыжусь. А знаете, откуда это пошло? — Что пошло? — То, что третий не прикуривает. — Не слыхала. — Расскажу. Это исторический факт! — с важностью заявил Гена. За «исторический факт» Пищик нередко выдавал то, что смахивало на вымысел. Таких «фактов» он знал много и рассказывать умел занятно. — Это было, Наталья Даниловна, когда англичане воевали с бурами. Пришли они в Трансвааль как разбойники и угнетатели. Буры, конечно, встали как один. Стреляли они великолепно — снайперы замечательные! Притаятся и выжидают. И вот ночью закурит англичанин на позиции — бур заметит. Другой англичанин прикурит — бур взведет курок. Третий прикурит — бур стреляет, третьему конец. Вот откуда пошло. Генку слушали с интересом, но один из приятелей пожал плечами: — Сказка! Чепуха! — Факт! — горячо возразил Генка. Он простился с Натальей Даниловной. — На лесную биржу надо, — спохватился он вдруг. Через минуту его мальчишеская фигура с длинной, худой шеей появилась на берегу. Издали донесся его голос:В конце прошлого столетия семья Куунов, разорившись, рассыпалась по свету. Старший брат Лео выехал в захудалый немецкий городишко, где, женившись на пожилой вдовушке, получил в приданое крошечное кафе. Он оставил при себе младшего в семье — девятилетнего брата Гуго. Сестра Амалия уехала в Ригу и поступила в бонны. Третий брат, двадцатилетний Иоганн, в будущем отец Рудольфа, выехал в Россию. Приятные манеры и приставка «фон» открыли перед ним двери богатых домов. У него нашлись высокие покровители, падкие на иностранные имена и немецкую предприимчивость. В их числе была Клеопатра Павловна Воронцова. Иоганн Куун прожил в России семнадцать лет. Он настолько обрусел, что его не тронули в 1914 году. Под именем Ивана Кунова он управлял угольными копями на юге России. Правда, ползли слухи о том, что Иван Кунов близок к лицам, уличенным в шпионаже в пользу немцев, и как-то в клубе раненый штабс-капитан публично назвал его немецким шпионом. Но штабс-капитан был известен как дебошир, а Кунов был принят в доме губернатора. Дело замяли. Кунов продолжал процветать. В Петербурге еще совсем молодым Куун женился на Жюли Ланской. До самой войны он аккуратно, каждый год, ездил с женой в отпуск на родину, куда обычно к этому времени приезжала и сестра Амалия. В 1910 году в берлинской квартире Иоганна Кууна родился сын Рудольф. Рудольф вырос и учился в Петрограде. Отцу в конце 1917 года пришлось бежать из России. Он не смог взять с собой семилетнего сына и тяжелобольную жену. Несколько лет она еще протянула как беспомощный инвалид и умерла в середине двадцатых годов. Младший брат в семье — Гуго-Амацей Куун вырос в атмосфере провинциального кафе, которое он должен был получить в наследство. С войны 1914 года он вернулся в чине лейтенанта, с железным крестом, без пальцев левой руки. Брат Лео умер. Кафе не давало дохода: инвалиды войны были плохой клиентурой. Гуго бедствовал. Он мечтал об иной доле. В 1920 году в мюнхенском локале,[106] в который случайно забрел Гуго Куун, он услышал выступление Гитлера. Гитлер извергал обещания, угрозы, пророчества. Гуго пламенно уверовал в «нового Мессию». С того дня началось знакомство Гуго Кууна с будущим фюрером. Оно стало близким. Куун никогда не занимал особо видных постов, не на виду он и сейчас. Но он всегда находился где-нибудь «близко от власти». В критический день 30 июня 1934 года он был около своего кумира. Именно он помогал Гитлеру в расправе с его недавним другом Ремом и сотнями других. Такие услуги не забываются. А следы Иоганна, отца Рудольфа, после бегства из России на некоторое время затерялись. Теперь он вот уже несколько лет проводит какие-то опыты в угольной промышленности Германии и живет в Берлине. Отец неоднократно оказывал сыну помощь через разных лиц, посылая валюту, вещи. Дважды он лично, под чужим именем, как представитель меховой фирмы, приезжал из Германии в Ленинград, якобы на пушной аукцион, и встречался с сыном. Последние годы связь между отцом и сыном проходила через представителей различных иностранных фирм, бывавших в Ленинграде. После окончания института Рудольф пытался уехать за границу, но в это время с ним установили связь «хозяева с той стороны», и он получил указание остаться в Ленинграде… — Да, история интересна, но печальна, — сказала Наталья Даниловна, когда Рудольф Куун кончил. — Вы видите, как я одинок… — Но есть шансы, что в будущем у вас все изменится. Ваш дядя Амадей Куун должен играть известную роль в Германии… — Несомненно! — подхватил Рудольф. — И дядюшка может очень пригодиться нам там… — Там? Нам? — Да, когда мы переберемся туда. — Неужели вы серьезно думаете об этом? — Абсолютно серьезно! Если люди Келлера попались, кто-нибудь из них может вспомнить и о вас. И тогда… вы пойдете вслед за ними! — А вы? — Обо мне можете рассказать только вы. А те меня не знают. Другое дело, если провалится ленинградский шеф… Меня томят дурные предчувствия, Наташа. Можно мне так называть вас? — Если хотите. — Я откровенен с вами. Чувство опасности, которое мы с вами испытываем ежеминутно, конечно, сроднило нас. Я полюбил бы вас, Наташенька, если бы… — Если бы?.. — Если бы мы были далеко отсюда. Здесь мы в плену, а в плену даже звери не любят… И знаете, — проникновенно продолжал Рудольф, — вы с вашим спокойствием, выдержкой, самообладанием и острым умом вселяете в меня уверенность, вы удваиваете мои силы… — Милый Руди, уместны ли в нашем положении лирические отступления? — Я только хотел, чтобы вы поняли, как необходимы мне! — Он помолчал, а потом неожиданно спросил: — Послушайте, а у вас есть какие-нибудь сбережения? — Почти никаких. — Наталья Даниловна с изумлением посмотрела на Рудольфа, словно хотела спросить, что это за перемена в настроениях: то лирика, то меркантильные соображения? — Для перехода на ту сторону, Наташа, нужны будут средства, и немалые. У меня, правда, созрел уже один план. Но такой шаг будет предпринят в крайнем случае… — добавил он загадочно. — Видите ли, Руди, муж много помогал своим родным в Берлине, и потом мы жили как-то нерасчетливо, тратились на всякую дребедень — на мои наряды, например. — А не дарил ли вам Отто драгоценности? — спросил Куун и взглянул на брошь, приколотую к блузке Натальи Даниловны, — большой зеленый камень в середине блестящей подковки излучал приятный блеск. — Нет, я к ним равнодушна. А если вы имеете в виду эту безделушку, — она перехватила взгляд Рудольфа, — то стоит она немного. Это подарок матери Отто, так же как и вот это… — Наталья Даниловна сняла с шеи газовый шарфик. — Ну что ж, в резерве будет мой план! — решительно заявил Куун. — Вы все здраво взвесили, Руди? Не решаетесь ли вы очертя голову на что-нибудь рискованное? — озабоченно спросила Наталья Даниловна. — Расскажите мне, что вы намерены предпринять? — Не могу. — Мне? — Именно вам! — угрюмо отрезал Руди. — Пойдемте, а то наша прогулка затянулась. Около школы им попался навстречу запыхавшийся рассыльный. — Инженера Кротова срочно требуют в дирекцию, — сообщил он. — А что случилось? — подавляя тревожные нотки в голосе, спросил Куун. — Нам оно без надобности, — безразлично ответил рассыльный. — Начальник какой-то из города приехал. Видать, ему и понадобилось… Наталья Даниловна увидела, как побледнел Куун. Немного овладев собой, он сказал: — Хорошо, передайте, что сейчас приду. — Вот что, Рудольф! — категорическим тоном заявила Наталья Даниловна. — В таком растревоженном виде вам появляться там нельзя. Вы посидите у меня и успокойтесь. Я сама выясню, что случилось. Наблюдайте в окно. Если вам что-либо будет грозить, я выйду, сняв шарфик с шеи, он будет у меня в руках. А предлог зайти к директору у меня имеется — я же занимаюсь с его сыном… — Какая смелая и преданная женщина! — прошептал он ей вслед. Прошло не больше десяти минут. На улице появилась Наталья Даниловна. Газовый шарфик весело развевался у нее на шее. Куун побежал ей навстречу. — Вам срочно готовят командировочные документы. Надо сегодня же ехать в город. Ну же, смелее! — Ждите с хорошими вестями! — благодарно отозвался он.
РЕЗЕРВНЫЙ ПЛАН КУУНА В ДЕЙСТВИИ
После торжественной части заседания — чествовали бригаду Алексея Донского — начался концерт. Наталья Даниловна смотрела из-за кулис на сцену. Рядом послышалось: — С приездом, Роман Иваныч. Сенька поздоровался с Рудольфом и тотчас исчез. Рудольф знаком поманил Наталью Даниловну к себе. Они прошли в костюмерную. Здесь никого не было. Глухо доносилась музыка со сцены. Рудольф молча протянул ей открытку. Она была адресована Кротову Р. И. и содержала несколько незначительных фраз: «Привет. Соскучились по своим. Ждем. Целуем». На обратной стороне ленинградский вид — бессмертные творения Растрелли на фоне северного неба… — Что это? — с удивлением спросила Наталья Даниловна. — Шифрованное сообщение некоего «сына». Пишет, что шефа по старому адресу не нашел. Соседи ничего, о нем не знают. Куда шеф девался, «сын» установить не может и отказывается от дальнейших поисков. Следовательно… — Кто этот «сын» и можно ли ему верить? — спросила Наталья Даниловна. — У меня нет оснований не доверять ему. Но оставим его в стороне. Есть дела поважнее. — Говорите! — Человек вашего мужа арестован… Вы понимаете, что это для нас значит? — Лишний вопрос… — Наталья Даниловна поморщилась. — Сначала скажите, верны ли ваши сведения. — Верны. Официантка Галочка оказалась везучей. Ей удалось расположить в свою пользу соседку одного из исчезнувших жалобами на то, что тот обманул ее, обещав жениться. Соседка посочувствовала и рассказала об аресте «соблазнителя». — Ну, а второй? — Со вторым получилось еще проще. Галочка неожиданно встретила своего постоянного клиента по ресторану. Узнав, что разыскиваемый ею человек «нажрал и напил на сотню рублей, а сам уполз, как гадина», — клиент коротко сказал: «Плакали твои денежки! Он выехал из города и адреса не оставил»… — Ну, а третий? — Напуган так, что к нему не подступишься. — Ситуация сложилась острая… — задумчиво заметила Наталья Даниловна. — Настолько острая, что нам здесь делать больше нечего! — закончил Рудольф. — Надо уносить ноги. Готовы ли вы? — Да, я решила! Другого выхода нет. Он быстро нагнулся и поцеловал ей руку. — Необходимо разрешить еще один важный вопрос, — сказал Куун. — Какой? — Ваш отъезд отсюда пройдет относительно незамеченным — у вас школьные каникулы, а со мной дело гораздо сложнее… — Почему? — Я еще не прослужил времени, дающего право на отпуск. А уехать просто так, незаметно испариться, — это вызовет кривотолки. Надо что-то придумать. — Я уже придумала. Концерт, кажется, заканчивается… — Они прислушались. — Вот что я придумала. Директор на днях спросил меня, какой подарок я хотела бы получить за занятия с его сыном. Сынок натянул на тройку — переэкзаменовки не будет. Я сказала, что подумаю. Ну вот и придумала. — Я начинаю догадываться, Наташа… — Погодите! — остановила она его. — Я ему объявлю, что придумала, какой подарок мне нужен, этим подарком будете вы! Сегодня же после концерта скажу директору, что мы решили пожениться и провести вместе отпуск в Ленинграде. Я попрошу выдать вам отпускные документы. И немедленно, потому что мои каникулярные дни уходят! — Уверены вы в удаче? — Почти. Если не это, вам придется скрыться. Завтра утром, до занятий, стукните в мое окно. Думаю, что смогу обрадовать вас. Из зала неслись звуки дружных аплодисментов. Слышно было, как отодвигались стулья, раздавался веселый смех, многоголосый говор. Зрители покидали клуб. Уходил вместе со всеми и инженер Кротов. Он раскланивался с сослуживцами, громко смеялся, делал все для того, чтобы люди заметили его уход из клуба. Когда же все в здании затихло, Рудольф вернулся. Вокруг не было ни души. Тусклый свет лился из окна комнаты Воронцовой. Рудольф с минуту смотрел на этот свет, потом, повозившись у входных дверей, вошел в коридор. Он без труда нашел дверь в комнату старухи. Дверь бесшумно открылась, когда Рудольф нажал на нее плечом. Ночник горел на тумбочке. Прерывистое дыхание долетало из-за ширмы. Рудольф задул слабое пламя ночника…Наталья Даниловна плохо спала в эту ночь. После разговора с директором она вернулась к себе и долго разбирала свои вещи. В чемодан вместе с необходимыми предметами она положила связку писем Отто Келлера. Это были его письма из командировок, с курорта. В этих письмах он был неизменно нежен и внимателен к жене. Она перечитала некоторые. Слабая улыбка тронула ее губы… Поздно ночью она забылась тревожным сном. Ее разбудил осторожный стук в окно. Как он ни был легок, она тотчас услышала его. В предрассветном сумраке она увидела Рудольфа. Он нетерпеливо делал ей знаки, просил выйти. Она наскоро оделась. — Что случилось? Почему вы являетесь ночью? Что за безрассудство? — Она присмотрелась к нему. — Что с вами, Руди? На вас лица нет… Ведь все в порядке — я договорилась с директором. — Ну вот и отлично… — устало сказал Рудольф. — Спрячьте это… — Что здесь, Руди? Он передал ей объемистый сверток. Наталья Даниловна развернула его и невольно отшатнулась: — Это… это какие-то украшения… — Да. Драгоценности. Теперь нам есть на что уехать. Туда… Она побледнела: — Как вы добыли их? Откуда? — Для вас это безразлично! — холодно ответил он. — Надеюсь, вы не истеричная дамочка… — Как вы смеете так говорить со мной! — воскликнула она. — Если вы и дальше намерены не считаться со мной, то лучше расстанемся… Куун взмолился: — Наташа, поймите — без денег мы погибли. Иного выхода я не видел. А не посвятил вас в свой план, оберегая вас, ваш покой… — Рассказывайте! — приказала Наталья Даниловна. Глаза ее сверкали. Она показалась ему красивее, чем когда-либо. Он заговорил сбивчиво, бессвязно… Когда он кончил свой рассказ, было уже совсем светло. Они все еще сидели на крыльце школы. Рудольф тревожно заглянул в лицо Натальи Даниловны. Оно было спокойно. Только бледность все еще покрывала его, и губы были крепко сомкнуты. Куун тихо говорил: — Если можно было бы найти другой выход, я нашел бы. Но его не было. Я подсмотрел, что старуха Воронцова прячет свои драгоценности в тряпичной кукле Труфальдино… — И вы не остановились перед убийством?! — воскликнула она. — Приходится шагать и через грязь, и через кровь. Когда-нибудь вы поймете это, а сейчас не думайте о старухе… В сущности, она уже давно умерла. Возьмите это… Спрячьте. — Давайте!.. — Наталья Даниловна взяла сверток. — Есть распоряжение директора. Вам дают месячный отпуск, — сказала она. — Вы должны немедленно все оформить, и сегодня же мы уезжаем. На полустанок отвезет насПищик. Я уже с ним договорилась. Мы едем в Ленинград? — Я должен сначала выяснить обстановку там. Было бы лучше, если бы вы задержались в Москве на несколько дней, а я поеду в Ленинград, чтобы все разузнать. А это разделим поровну… — Он кивнул на сверток с драгоценностями. — Как заправские уголовники… — с горькой усмешкой заметила Наталья Даниловна.
ОТЪЕЗД, ПОХОЖИЙ НА БЕГСТВО
Рудольф закончил денежные расчеты в бухгалтерии и с нетерпением ожидал Наталью Даниловну. Он нервно курил и мерил крупными шагами площадку перед зданием дирекции. Директор вышел вместе с Натальей Даниловной на крыльцо. — Поздравляю, новобрачные! — сказал он. — Вернетесь — выставляйте угощение! И Кууну пришлось улыбнуться шутке, от которой его передернуло. У школы уже стоял газогенератор Пищика. Водитель любезно открыл дверь. Отъезд был внезапным — никто не провожал инженера Кротова и его невесту. И все же Рудольф не переставал волноваться. Его волнение сразу передалось и Наталье Даниловне. Ей хотелось поскорее расстаться с этими местами, где она все время чувствовала себя скованной, до предела напряженной. Куун забрался в кузов. Наталья Даниловна вошла в кабину. И газогенератор Пищика, вздымая пыльные вихри, чертом понесся к полустанку. Стая разгоряченных погоней псов с высунутыми языками еще долго эскортировала машину. Ночью они садились в поезд. Поезд был рабочий, шел он быстро, но на каждой станции подолгу стоял. Двое суток ехали они кружной дорогой, прежде чем попали на главную магистраль. Здесь «новобрачные» сели в плацкартный вагон скорого поезда. Проходили часы и дни. Перевалили за Урал. Рудольф и Наталья Даниловна, стоя у окна, следили за быстро убегающими отрогами гор. Промелькнул пастух с пестрым стадом, три охотника с двустволками и собакой. И снова лесистые склоны, и опять одинокий охотник с резвым сеттером. Наталья Даниловна чувствовала, что Рудольф, несмотря на внешнее спокойствие, трусит. Он пытался шутить, играл с пассажирами в «козла», оказывал мелкие услуги соседям по вагону, старался иметь спокойный и независимый вид. Но Наталья Даниловна видела, что он не спит ночами, замечала нервное подергивание века и внезапную бледность своего спутника всякий раз, когда у вагона появлялась красная фуражка железнодорожного милиционера. Тем более дивился Рудольф самообладанию и выдержке своей спутницы. Она окончательно убедилась в том, что без нее он ничего не может предпринять. Поэтому-то он не хотел отпустить ее в Москве. — Едем сразу же в Ленинград! — предложил он. — Нет, Рудольф, лучше будет так, как вы предлагали в «Таежном». Даю вам два дня для того, чтобы все подготовить. — Ну хорошо, Наташа. — Он поцеловал ее руку. На короткое время он снова успокоился.ВЕРА ЧИСТЯКОВА
Анатолий Николаевич Платонов остановился на площадке лестницы, вынул из кармана пиджака ключ и отомкнул замок. Небольшая квартирка в одном из тихих арбатских переулков казалась нежилой. Такое впечатление создавалось от густого налета пыли на зеркале, на скромной мебели, на стекле письменного стола и книжных полках. В углу почти неприметно раскинул свои прозрачные сети паук, и на них болталась высохшая муха. В квартире было душно. В комнатах стоял спертый воздух давно не проветривавшегося помещения. Почти год назад владелица квартиры Вера Алексеевна Чистякова, уезжая, отдала второй ключ своему начальнику по службе Платонову и просила его хотя бы изредка навещать квартиру. Теперь Платонов упрекал себя за то, что ни разу с тех пор не был здесь, хотя и обещал это сделать. Он направился было к двери, чтобы позвать дворничиху, попросить ее убрать на скорую руку, но, взглянув на часы, передумал. Поздно! Вера с минуты на минуту могла появиться. Присутствие постороннего человека помешало бы встрече, оттянуло бы срочный служебный разговор. Разговор этот нельзя было откладывать. Потому-то Платонов и поспешил сюда, на квартиру Веры, как только получил сообщение о дне и часе ее приезда в Москву. Разыскав пепельницу, Платонов закурил, открыл окно и, стоя перед ним, задумался. Вера Чистякова… Он знал ее почти с детства и, можно сказать, создал как разведчицу. Он сумел привить ей любовь к профессии трудной, к делу, незаметному для многих, не сулящему ни широкого признания, ни шумных успехов, к работе человека, всегда остающегося в тени, движимого только высоким чувством патриотизма. Вера решительно сделала выбор между сценой и новой работой. Платонов с невольной улыбкой вспомнил Веру еще ученицей музыкальной школы, вспомнил и ее отца, старого железнодорожника, который в мечтах видел свою Верушу певицей большой сцены. Но девушка со всей страстью молодости отдалась новому делу. Да, Вера Чистякова инициативна, смела, беспредельна ее ненависть к врагам Родины. Но сейчас… Сейчас положение складывается сложное. Хватит ли у нее отваги, чтобы надолго, если понадобится, остаться в стане врагов? Хватит ли сил на нелегальный переход границы? И даже просто физической выносливости? Кто знает, как встретят ее на том берегу? Майор Платонов, неторопливый в движениях, коренастый, задумчиво ходил по комнате. На смугловатом открытом лице лежал отпечаток крайней озабоченности. Присев к столу, он вынул из бумажника фотографию Веры. Это была ее последняя фотография, сделанная уже в Сибири. Глаза Веры казались утомленными. Прежде не было этих морщинок у рта. Не сдвигались раньше так сурово тонкие темные брови. Правая бровь чуть выше левой, это видно даже на фотографии. «Да, нелегкую долю создали мы этой женщине!» — вздохнул Платонов. На лестнице послышались быстрые, энергичные шаги. Анатолий Николаевич прислушался, встал со стула. Дверь распахнулась, и в комнату с чемоданом в руках вошла невысокая, стройная женщина. Это была Вера Чистякова. — Так вот она какая тощая стала! — Платонов, смеясь, разглядывал ее. — С приездом, товарищ лейтенант! — Спасибо, Анатолий Николаевич. Да как вы-то здесь? — Ожидаю вас с нетерпением и прошу извинить за этот беспорядок. Признаюсь, что ни разу после вашего отъезда не был здесь. Видите, сколько пыли. — И дыма. Вы уже успели накурить. И все-таки эта комната показалась сейчас Вере верхом уюта и комфорта! — Вы в штатском? Оно вам не очень идет, Анатолий Николаевич. — Знакомая, чуть лукавая улыбка осветила лицо Веры. — Зато в нем удобнее! — А почему мы торчим посреди комнаты? Сядем сюда к окну, чтобы хотя одним глазком видеть московскую улицу. Боже, как я соскучилась по вас… всех! Даже по московскому воздуху! Если бы вы, Анатолий Николаевич, только знали!.. — Знаю, Вера. Понимаю!.. Ну, а как поживает Наталья Даниловна? — Наталья Даниловна рассталась на вокзале со своим спутником. Куун поехал в Ленинград и передал ей свой адрес, — в тон ему ответила Вера. — Какой? Вера назвала. — Я предполагал именно этот адрес… Остальное можете не рассказывать. Все известно. — И об убийстве Воронцовой? — И об этом, и о драгоценностях. — Ох, как гадко, как отвратительно!.. — Понимаю. — Анатолий Николаевич, я много думала о Наталье Даниловне Келлер. Мне кажется, что многого я еще не знаю. Мой отъезд в Сибирь был таким внезапным… — Что ж, будет полезным напомнить вам эту историю. Да, попробуем восстановить в памяти всю картину… Задумчиво шагая по комнате, он неторопливо заговорил, время от времени умолкая, чтобы припомнить нужную деталь. И перед глазами Веры постепенно разворачивалась история Натальи Даниловны Келлер.ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ
Шел 1939 год. На Западе разгоралась война. Новый Н-ский оборонный завод на востоке страны чрезвычайно интересовал иностранные разведки. Было установлено лицо, которое по заданию Абвера[107] руководило группой шпионов и диверсантов. Этим лицом являлся Отто-Генрих Келлер, уроженец Виттенберга, тридцати четырех лет, инженер-механик по образованию. Отто Келлер приехал в Советскую страну в качестве иностранного специалиста в начале тридцатых годов. Свое настоящее лицо Отто Келлер тщательно скрывал от всех, в том числе и от невесты, русской девушки Натальи Даниловны Соловьевой, переводчицы Н-ского завода. Наташа Соловьева искренне полюбила Отто Келлера. Весной 1938 года их брак был заключен в германском посольстве в Москве. Тогда же Келлер написал своим родным в Берлин о том, что женился и «обожает свою русскую жену». Мать Отто — Гертруда Келлер и брат Зигфрид сердечно поздравили невестку. Брак был одобрен и начальником Отто Келлера в Абвере. Он даже похвалил подчиненного за находчивость. Когда начнется война, Отто Келлер должен будет вести подрывную работу в Советской стране, перейдя на нелегальное положение. Женитьба на русской облегчит ему эту задачу. В начале зимы 1939 года Отто Келлер ожидал прибытия помощника. О его приезде было сообщено в очередной шифрованной телеграмме. Но Келлер не знал, что и о нем, и об агентуре, которую он успел насадить, и о помощнике, который едет к нему, уже известно советской разведке. О помощнике знали следующее: Зовут его Рудольф Куун, он 1910 года рождения, уроженец Берлина, много лет под разными именами жил в России. Куун богатырского телосложения. Совершенно лыс, иногда носит парик. Явку имеет только к Отто Келлеру. Но под каким именем Куун появится в Н-ске — известно не было. Это знал один Отто Келлер, так же как и пароль, с которым к нему явится его будущий помощник. В Берлине надеялись, что с приездом Кууна подрывная работа Келлера оживится. Агентура Келлера должна была совершить ряд диверсий по первому приказу из Берлина. Отто Келлер был женат уже второй год. С разрешения начальства он намеревался привлечь к тайной работе жену, открыв ей свое настоящее лицо… — Нам удалось перехватить на границе связного с письмами Келлера, из которых мы узнали о его намерении… — И впервые Келлер открылся своей жене именно там, на шоссе? — взволнованно перебила Платонова Вера. — Да, есть все основания предполагать это. Умирая на шоссе, Отто Келлер проговорил: «Теперь не выдашь»… И добавил по-немецки: «Ферретерин».[108] Это были его последние слова. Для фашиста Келлера его жена, отказавшаяся помогать ему, была предательницей. Несомненно, что Наталья Даниловна отказалась стать сообщницей Келлера. Видимо, она пыталась выпрыгнуть из машины. Завязавшаяся борьба и была причиной аварии. Машина потеряла управление и налетела на столб. Таким образом, у Кууна не оказалось явки. Нам удалось скрыть от него смерть Натальи Даниловны. От ее имени к дворнику приходили за вещами. Тем временем вы стали Натальей Даниловной. Куун явился к вам, но пароля вы не знали. Его не успела узнать и погибшая. Вот в основном все. — Но дворник сказал Кууну, что сам носил вещи Наталье Даниловне в больницу, что видел ее. — Дворник попался с богатой фантазией, но это к лучшему. Оба засмеялись. — Как вы полагаете, Куун не сделает попытки отделаться от вас? — спросил Платонов. — Нет, он не может теперь без меня. Я еле уговорила его придерживаться первоначального плана. Он хотел немедленно потащить меня в Ленинград. — Как он к вам лично относится? Питает ли он к вам, ну, какие-нибудь чувства? — Насчет чувств, кажется, не очень… Правда, один раз он мне сказал: «Я полюбил бы вас, если бы это было уже там», то есть за границей. — Приходько не сообщал мне этого. — Я ему не говорила. По-моему, Куун сказал об этом несерьезно. Но другом своим он меня считает. — Что он думает вам предложить, когда вы окажетесь на той стороне? — Свое покровительство и покровительство своих родных. Он считает себя многим обязанным мне. — Это действительно так. — И еще есть одно обстоятельство. Он стесняется говорить со мной об этом. Но, думается, я ему буду очень нужна и там, по крайней мере первое время. Язык я лучше его знаю. В современном разговорном языке он не очень-то силен. Так что покровительство покровительством, но и это не следует сбрасывать со счетов. — Совершенно правильно. Он не сказал вам, где намечает переходить границу? В каком пункте? — Нет. Я знаю только, что это будет финская граница. Я поняла так, что переход будет подготовлен друзьями Кууна в Ленинграде. — Где ценности, взятые Кууном у убитой? — Вот те камни, которые он отдал мне… — Она расстегнула сумочку и стала показывать. — Другую половину, в том числе и золото, Куун увез в Ленинград. Часть он намерен распродать сразу же по приезде в Ленинград. — Что же, сделаем выводы из всех имеющихся у нас фактов. Платонов склонил голову. В волосах было много седины. «В тридцать пять лет рановато, — невольно подумала Вера. — Но что же удивительного? Напряженная работа, бессонные ночи, жизнь, отданная до последней кровинки любимому делу»… Теплое чувство к этому человеку охватило ее с такой силой, что ей захотелось прижать к себе его седеющую голову… Платонов говорил медленно, своим характерным, глуховатым голосом: — Агентура Келлера обезврежена. Правда, мы предполагали, что встреча Келлера с Кууном раскроет нам что-нибудь новое, но гибель Келлера помешала этому. Куун оказался в преглупом положении. Приехал в Сибирь — ни людей, ни руководства. Его ленинградского патрона мы взяли раньше, Он уже не представлял для нас интереса, так же как и пособники Келлера по Н-ску. Мы вовремя командировали вас в «Таежный». Положение Кууна было критическим, потому-то он и бросился к вам. Он рассчитывал на то, что жена Отто Келлера могла быть посвящена в дела мужа, и решил это использовать… Итак, Куун, попав в тяжелое положение, не находит иного выхода, как выбираться за рубеж. Он считает вас своей единомышленницей. Вы нужны ему в качестве помощника здесь. На той стороне вы будете лицом, которое подтвердит то, что здесь он не сидел сложа руки. Нам же следует пойти навстречу планам Кууна и извлечь из них максимальную пользу. Вы меня понимаете, Вера Алексеевна? — Не вполне. — Вы унаследовали не только документы жены Келлера, Натальи Даниловны, но и ее биографию. Это очень важно. В Берлине, на Ноллендорфплац, живет семья Отто Келлера, вашего «мужа». Они знают жену Келлера по его письмам, но никогда не видели ее. У родных Отто Келлера нет даже фотографии Натальи Даниловны. Это твердо установлено. Я особенно тщательно проверил именно это обстоятельство. Фотографии Натальи Даниловны в Берлине нет. — Вот это удивительно! — Жизнь порой создает удивительные положения. У захваченного нами связного были не только служебные письма Отто Келлера, но и его личное письмо родным. Келлер имел основания отправлять его именно таким путем. Так вот в этом письме Отто пишет, что жена его очень красива… Вы похожи на погибшую, Вера… Черты лица, рост, цвет волос. Вот и фотография Натальи Даниловны. Взгляните. Вера долго глядела на фотографию: — Да, сходство есть. — Родные Келлера, может быть, вспомнят о письме Отто, глядя на вас. Это семья с прочными бытовыми традициями. Такие тридцать лет берут хлеб у одного булочника, шьют у одного портного, не знают другого часовщика, кроме почтенного Гофмана или Шмидта. Мать и отец Келлера после свадьбы снялись у фотографа господина Рейтера. И детей снимали у него. — Откуда вы это знаете? — Все из того же письма. Келлер просит передать почтенному господину Рейтеру, что, конечно, у него, только у него, будет фотографироваться со своей молодой женой. Фотографии, сделанные в сибирской глуши, не передают красоты Наташи. Платонов закурил. Лицо его было сумрачно. Какая-то мысль беспокоила его. Наконец он сказал: — Предстоит трудное, опасное дело, Вера. Придется и дальше играть роль Натальи Келлер. Может быть, вам удастся таким образом раскрыть вражеские планы. Сколько времени понадобится для этого, никто сказать не сумеет. Каждый день может принести неожиданности. Надо надеяться, что вы войдете в семью Куун. Что привлекает наш интерес к Куунам? Прежде всего личность Амадея Кууна — человека, близкого к нацистской верхушке. Чем он занят сегодня? Куда направляет его незаурядную энергию Гитлер? Есть данные, что Куун ведает организацией технической разведки в России. Это значит разведывание секретных изобретений, преимущественно в военной промышленности… В тревожное время вы едете туда. У Гитлера договор с нами, но есть сведения о том, что он готовит нападение… Платонов подал Вере лист бумаги, исписанный его крупным, энергичным почерком: — Это условия встречи в дальнейшем и пароль. Заучите сегодня же и уничтожьте. У вас нет вопросов ко мне? Ведь это последнее наше свидание перед уходом туда… Ей почудилась теплая нотка в его голосе. — Разве мы больше не увидимся до отъезда? — Полагаю, что нет. — Но ведь я должна буду известить вас о встречах в Ленинграде, сообщить, где будет намечен переход границы? — Я посылаю в Ленинград своего работника. Вы все скажете ему.Из Москвы Вера уезжала со стесненным сердцем. Все здесь было свое, родное. Ей предстояло надолго проститься с Москвой, тяжелое испытание ждало ее. Но долг звал Веру Чистякову, и она шла на этот зов без колебаний, как солдат, поднимающийся в атаку по приказу командира. Веры Чистяковой больше не было. Была Наталья Даниловна Келлер, срочно выезжающая в Ленинград к своему другу Рудольфу Куун.
Глава вторая
ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО
В Ленинграде, следуя подробным и точным указаниям Рудольфа, Наталья Даниловна разыскала парикмахерскую в конце глухой улицы на Петроградской стороне — «Мужской и дамский зал, окраска волос во все цвета». У третьего кресла справа молодая женщина с усталым лицом щелкала щипцами для завивки. Все было, как объяснял Рудольф. — Здравствуйте, Надя. Ждете меня? Это не было паролем. Женщину действительно звали Надей. Секретных разговоров с ней вести не нужно. Женщина проворно сунула щипцы в грелку: — Ждем, ждем, как же, Наталья Даниловна! Посидите, я скоро кончу, пойдем вместе домой. Устали с дороги?.. Нам недалеко. Они пошли пешком, дружески беседуя. Надя говорила без умолку. Единственной темой разговора был ее муж — управдом Карпов. Наталья узнала, что теперь они живут, слава богу, хорошо, что он теперь почти не пьет и на службе все в порядке. Домик, куда Надя провела Наталью Даниловну, был маленький, с тихим двориком, с кустами сирени под окном. В чисто выбеленной столовой под висячей лампой Рудольф играл с управдомом в подкидного дурака. Две пустые поллитровки стояли на столе среди грязных тарелок. Рудольф обрадовался Наталье Даниловне. Сели пить чай. Надя, развлекая гостью, раскрыла перед ней старый плюшевый альбом с пожелтевшими фотографиями. Управдом Карпов был изображен в разных видах: на отдыхе, за едой и даже за конторским столом со счетами в руках. Рудольф предложил Наталье Даниловне выйти на воздух — иначе поговорить было невозможно. Они ходили взад и вперед по провинциальной, поросшей кое-где травой улице пригорода. Рудольф был навеселе. Наталья Даниловна никогда не видела его таким разговорчивым. Самое главное, сказал он, заключается в том, что шефа в Ленинграде не оказалось. Он долго объяснял, почему он так и не собрался вторично побывать у некоего Паккайнена. Ей показалось, что он просто боится туда идти. По словам Рудольфа, Паккайнен был недоволен, когда к нему заходили в мастерскую. — Вы понимаете, — говорил Рудольф, — к Паккайнену ходило раньше много народу… И с границы всё привозили — ну, контрабанду… Но, когда брата его арестовали, он сразу оборвал связи. Надо только взять у него письмо… Если придет дама, это его больше устроит. — А насколько оно веско, это письмо? — У него свои люди там, где нам нужно. Поймите, ведь граница-то новая — она отодвинута на запад. А Паккайнен и там подобрал уже ключи. Вообще, он не тот, кем кажется, понятно? Когда мой отец приезжал на пушной аукцион, он встретился со мной не в «Астории», где жил, а на квартире, которую Паккайнен указал. Отец давно его знает. Они еще до революции в старом Петербурге встречались. — А кто такие эти Карповы? Можно ли им доверять? — Зачем им доверять? Они о наших делах ничего не знают. С Карповым у нас старая дружба. Мы познакомились в пивной. Они нуждаются. Я хорошо плачу, остальное их не интересует. Доводилось мне жить у них без прописки. Это надо ценить. И вот что еще, Наташа: в пограничную зону нужны пропуска. Без пропусков — ни шага! — Что же делать? — Я уже сделал. Мы получим пропуска. Деньги нужны. Много денег. Привезли драгоценности? — Конечно. — Умница! В эту субботу мы с вами идем на именины к одному нужному человеку, там все и поладим. Отдел пропусков, так сказать, на дому у некой дамы. Только уж вы за мою жену сойдете. — Эта дама ведает пропусками? — Муж у нее, Наташа, муж… Понятно? — Значит, ее муж ведает пропусками? — Не совсем, но имеет отношение к ним. — Отлично. Вы тоже умница! — А вы не цените, Наташа! — Откуда это видно, что не ценю? — По тону видно, по глазам. — Это еще не доказательство… Быстро прошло несколько дней. Рудольф кутил с нужными ему людьми. Пропусков пока не было. Он приезжал каждую ночь пьяный, будил Карпова, и они садились за стол. Надя поднималась, ставила водку и закуску. Лицо у нее было недовольное — временный жилец спаивал мужа. В один из этих дней Наталья Даниловна отправилась к Паккайнену. Нева, набережная, дворцы казались в этот день особенно красивыми. Сидя в трамвае, который шел через мост, Наталья Даниловна любовалась величественной картиной. Спустя полчаса она добралась до мрачного переулка между высокими скучными домами. В переулке были одни только склады да магазины скобяных изделий и железного лома. Над узкой дверью висела вывеска с надписью: «Исполнение всевозможных граверных работ. X. И. Паккайнен». Она толкнула дверь — звякнул колокольчик. В мастерской никого не было. На низком столе лежали инструменты. Наталья Даниловна села на табурет. Она чувствовала, что за нею наблюдают. Кто-то дышал за перегородкой. Она просидела так минуты три. Из-за фанерной переборки вышел маленький, сухой старичок. Его розовая лысина было окаймлена светлыми, но не седыми волосами. Светлыми были и ресницы и редкие усы под крупным носом. Глаза, окруженные красной каемкой, были воспалены. «Он действительно гравер», — решила Наталья Даниловна. Она сказала, как научил ее Рудольф: — Я невеста вашего друга. Вы согласились помочь нам в важном деле. Я пришла за письмом. Старик смотрел на нее безучастно, молча вздыхая, как будто бы то, что она говорила, печалило его. Наконец он ответил усталым голосом и с еле слышным акцентом на шипящих согласных: — Какие же важные дела? У меня и дел-то никаких нету. Материалу для работы нету. Не знаю, чем могу служить, в чем помочь… И знать вас не имею чести. Вот разве монограммочку на ридикюльчик? Он проворно взял у нее из рук сумку. Кусочек светлого металла блеснул в его руках. Он схватил щипцы со стола, повертел в руках и бросил их обратно на стол. На тисненой коже сумки красиво выделялись витиеватые буквы «Н.К.». Наталья Даниловна поняла — старик заранее приготовился к встрече. Она сказала: — Цену за вашу работу я знаю. И подала ему тридцатку. Крошечный комочек был вложен внутрь кредитки. Сквозь папиросную бумагу просвечивали рубины, окруженные брильянтиками. Старик с поклоном передал ей письмо. На улице Наталья Даниловна вынула из незапечатанного конверта лист старинной твердой бумаги. На нем дрожащим почерком без нажима было написано: «Уважаемый! Дети эти крайне нуждаются. Это сын Ивана Францевича. Он в наших краях в командировке. Они хотят закупить у вас там продуктов для своего молодого семейного хозяйства. Помогите им всем, чем можете. А то молодежь и деньги истратит и толку не будет. Как ваше драгоценное здоровье? И супруги и чад ваших? А мы живы и здоровы, благодарение богу. Остаюсь с совершенным и постоянным к вам почтением». Подписи не было. Не было также и адреса.Наталья Даниловна тщетно отказывалась пить. Все общество, уже сильно подвыпившее, выстроившись перед ней, орало нестройным хором:
ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ
Перед отъездом из Ленинграда Наталья Даниловна позвонила по телефону, который Платонов дал ей в Москве. В маленькой кондитерской состоялась встреча. В светлом зальце было пусто. Наталья Даниловна лениво мешала соломинкой коктейль в высоком граненом бокале. Она знала того, кто должен был прийти. Раньше они работали вместе у Платонова. Встреча с ним была ей приятна. Это был способный сотрудник. Он вносил в свой нелегкий — Платонов был требователен — труд неутомимую молодость и пылкость. Наталья Даниловна рассказала о том, что случилось в последние дни, особенно подробно о «сыне». — Я в курсе дела. Уже давно этот «сын» привлекает к себе наше внимание. Вы подтвердили наши догадки. Это удачно получилось. — Значит, я не сообщила вам новости? — Иногда подтверждение стоит любой новости! Теперь о предстоящем. Сейчас уже можно примерно сказать, где намечается переход границы. Он будет трудным. Мы облегчим его тем, что на нашей стороне по вас не будут стрелять. Но физических трудностей перехода устранить нельзя. Если ваш партнер потащит вас в непроходимые болота, где и потонуть недолго, тут уж ничего не поделаешь. Вы вынуждены будете вернуться и начинать снова в другом пункте. Хватит у него на это энергии, выносливости? — Надеюсь…Через день поезд уносил Кууна и Наталью Даниловну на северо-запад. В маленькое местечко в ста километрах от железной дороги Куун приехал как инспектор по лесозаготовкам. Вокруг бесконечные гати. Глушь. Нет даже электрического освещения. Они прожили здесь несколько дней, для вида занимались делами лесной промысловой артели. Письмо Паккайнена передано молчаливому бородатому человеку, десятнику. Он и помогает переходу. Наступает решающий день. Выгоревшая пустошь. Ее можно пересечь только ночью — здесь хороший обзор, могут заметить пограничники, говорит бородатый десятник. Наталья Даниловна знает, что в этом нет никакой опасности, знает одна из трех. И молчит. И они ждут ночи, прощаются с десятником. Дальше одни, дальше топь, на которой растет сочная зеленая трава. Потом опять сухое место. Оно таит в себе опасность — после войны эта полоса не полностью разминирована. И снова топь по горло. Рудольф оказался выносливым. В руках у них жерди. С ними легче продвигаться по этой топи. И вот кончилось самое глубокое место. Слышен крик петуха. — Финский или советский? — шепчет Рудольф, замирает на месте и оборачивается к Наталье Даниловне. Потом они услышали голоса. Сомнений не было — люди говорили по-фински. Узкоколейка. Рабочие грузят торф в вагонетки. И Наталье Даниловне стыдно показаться им на глаза, не потому, что она вся в грязи, в болотной тине. Нет, не потому!.. А Рудольф отряхивается, подходит к ним, что-то говорит, куда-то показывает рукой. Он держится уверенно и, пожалуй, властно. А люди в комбинезонах хмуро глядят на них обоих. Десять дней в тюрьме пограничного города. Маленькая чистая камера-одиночка. Ее допрашивает молодой офицер-пограничник. Он неплохо говорит по-русски. — Почему вы покинули родину? — Из-за моих политических взглядов. В его глазах сквозит недоверие. — Вы молоды. Когда же у вас успели сложиться такие взгляды? Ведь вы получили советское воспитание! — Возраст сам по себе ничего не решает. Он словно не слышит ответа. — Переход границы — рискованное дело. Советские пограничники хорошо стреляют. Что же вас толкало на такой риск? Он произносит как бы случайно несколько слов по-фински и следит за выражением ее лица. Наталья Даниловна не знает языка. Потом ее уводят обратно в камеру. Должно быть, офицер запросит начальника, тот пошлет запрос выше. Спустя несколько дней она в этой же комнате встречается с Рудольфом. Он широко улыбается и указывает на человека, который любезно кланяется Наталье Даниловне. — Вот наш избавитель! — говорит Рудольф. Высокий, очень худой человек, с болезненным лицом, с острым черепом представляется. — Вольфганг Мейснер к вашим услугам, фрау Натали, — говорит он по-немецки. Пограничник-офицер недовольно смотрит на всех. Он ругает себя за недогадливость. Он думал, что эта женщина послана к финским коммунистам, что ценности, обнаруженные при ней, предназначены для каких-то тайных целей, а дело совсем в Другом. Начиная с этого дня Мейснер надолго стал спутником Натальи Даниловны. Через час они подъезжали в машине Мейснера к ресторану при маленькой гостинице. По улице шагали германские солдаты. — Здесь стоит одна из наших частей, — сказал Мейснер.
В БЕРЛИНЕ
И вот она в Берлине… Наталья Даниловна была благодарна здешним понятиям о приличии, наконец-то разлучившим ее с Рудольфом. Ее поселили у тетки Рудольфа — Амалии. Дом, по старой привычке, назывался виллой (когда-то район был загородным), а дорога, проходившая вдоль ограды сада, — «Частной дорогой» («Приватвег»). В большом доме давно никто не жил, пожелтело и объявление на окне — «продается». Амалия занимала флигель в саду, предназначавшийся когда-то для тех гостей виллы, которых не очень ценили. Здесь стояла светлая, легкая мебель, висели в овальных рамах портреты членов семьи Куунов, и в двухэтажных клетках прыгали веселые, холеные канарейки. Тетка Амалия, старая дева с постным лицом, была молчалива и доброжелательна. Здесь, в этом тихом уголке, Наталья Даниловна могла немного отдохнуть от напряжения, в котором прожила первые дни на этой земле. Порой ей становилось очень тяжело, и она теряла надежду освоиться с окружающим. Она видела своры эсэсовцев с кривулями свастик на красных повязках, опоясывающих рукава черных мундиров. Перед ней проплывали тупые морды, стиснутые лакированными ремешками фуражек с высокими тульями. Она встречала повсюду воинственных парней в коричневых рубашках с ножами за поясом. Она слышала Геббельса в Спортпаласе и глядела на тех, кто, беснуясь, аплодировал карлику, кривлявшемуся на трибуне. О чем он говорил? Какие мысли крылись за бурным потоком бессвязной, бредовой речи? Смогут ли потом эти люди рассказать о том, что они слышали? А они ревели от восторга, вскакивали с мест, размахивали шляпами, вынесли на руках оратора. Не речь опьяняла их, а триумф победоносной войны, угар реванша. Уже было завоевано несколько стран. Мировое господство мерещилось тем, кто шел за Гитлером, твердо надеясь на легкий успех. Омерзение ко всему тому, что она видела, было так велико, что на первых порах оно заглушило у Натальи Даниловны чувство опасности. Опасения пришли потом. Уже несколько месяцев она прожила в Берлине, а положение все еще оставалось неопределенным. Прием, оказанный Рудольфу отцом, был холоднее, чем ожидали. По-видимому, в семье Рудольфа ждали «тона», который зададут «маасгебенде крайзен» — «дающие мерило круги». Дядя Гуго-Амадей — вот кто должен дать решающее указание. От того, как он примет племянника, зависело дальнейшее. Дядя Амадей занимал не очень видный пост в министерстве почт и телеграфа, но кому полагается знать — знали о значительной роли, которую он играл в организационном отделе нацистской партии. Часто у Натальи Даниловны в это время бывал Вольфганг Мейснер. Она присматривалась к нему и не могла решить, по своему желанию он бывает у нее или подослан. Порой неясное ощущение опасности появлялось у Натальи Даниловны при встречах с Мейснером, при виде его длинной, тощей фигуры, желтого лица с синеватыми мешочками под глазами, с заострившимся носом и узким лбом под зализами лысины, которую ему не удавалось скрыть. Казалось, такому болезненному на вид человеку недолго осталось жить. Но он жил и процветал, все знающий, все успевающий Вольфганг Мейснер. Служебное положение его было неясно. Он всегда при ком-то состоял, кого-то сопровождал, ожидал месяцами вызова куда-то. С поднятой рукой, рявкая: «Хайль!», он был всегда в первых рядах, когда под рез оркестров в зал или на площадь вступал Гитлер или его тучная тень — Геринг. Вольфганг говорил о своем родстве с «знаменитым» Мейснером, тем самым стариком, чиновником кайзеровских времен, которого Гинденбург сделал на долгие годы своим анекдотическим статс-секретарем. — Я ничего не знаю о вашем влиятельном родственнике, — сказала однажды Наталья Даниловна. Мейснер расхохотался: — О, святая простота! Вы прибыли из другого мира, потому и не слыхали о нем. А здесь он был видной фигурой. — Чем же он замечателен? — Тем, что служил ходячей памятью покойному президенту. Среди нацистов было принято подсмеиваться над Гинденбургом, конечно, не там, где собиралось много людей, и с должным тактом. — Уважаемый покойный президент, фрау Натали, в последние годы катастрофически терял память и тем не менее любил выступать с речами с балкона. Он останавливался на полуслове, теряя нить, но это не было непоправимой бедой. Мой уважаемый родственник прятался за портьерой и подсказывал уважаемому президенту, как суфлер подсказывает артисту. Забавно, не правда ли? — Нисколько не забавно. — Но почему, фрау Натали? — Мне не нравятся насмешки над старостью. Мейснер был удивлен. Мейснер?.. Пустой человек или соглядатай, которому она поручена? Вот сейчас послышался его голос в саду. Наталья Даниловна распахнула широкие стеклянные двери террасы. Рудольф и Мейснер шли по аллее к дому. Рудольф был радостно возбужден. С первых же его слов Наталья Даниловна подумала, что произошла какая-то важная перемена в его положении, и не ошиблась. Когда они остались вдвоем, Рудольф рассказал, что сегодня его принял дядя Амадей Куун. Прием был теплый. — Не думайте, Наташенька, — говорил Рудольф, — что мое отношение к вам изменилось. Но должен был пройти какой-то срок для того, чтобы я почувствовал себя здесь совсем уверенно и мы могли заняться своими личными делами. Вы умница! Вы не в обиде на меня за эту задержку, за то, что я уделял вам мало внимания все это время? — О нет, нет, Руди! Я и не думала обижаться. Голос Натальи Даниловны прозвучал вполне искренне. — У меня был деловой разговор с дядей. Он дал мне поручение, и, я думаю, вы сможете мне помочь. Сейчас требуется много людей для посылки в Россию со специальными заданиями. Мы напороге новой войны. Кто так знает советские условия, как мы с вами? Кому еще в таких деталях известны требования, которым должны отвечать эти люди. Их надо искать среди русских. Здесь они есть, надо только уметь найти среди них нужных нам. — А почему ваш дядя занимается этим? — Есть такая организация — Фербиндунгсштаб. — Руди, когда у вас будет приличное произношение? — А что, разве так плохо?.. Дядя имеет отношение к этому штабу. В него ведь входит сам фюрер, и Геббельс, и Риббентроп, и Розенберг… — Что ж, мне кажется, дядино поручение вполне в вашем вкусе, в ваших возможностях. — И в ваших, Наташенька. — Да, но я до сих пор не познакомилась с моей здешней родней. — Стоит ли торопиться с этим? Думаю, что вам не будет там весело. — Но приличия требуют… — Наташенька, вы становитесь добропорядочной немкой. Это скучно. — Есть остроты, Руди, которые мне не по вкусу.Надо было нанести визит матери Келлера. Наталья Даниловна знала все мелочи семейной жизни Келлера и носила на груди медальон с миниатюрной фотографией и собственноручной надписью Отто Келлера: «Милой женушке от ее Отто». Брошь в виде подковы и пестрый шарфик были на ней. Но кто знает, какие вопросы подскажет материнское сердце? Ведь ей предстояла встреча с матерью, братом, сестрой. Инженер Отто-Генрих Келлер служил в германской разведке. Знали ли об этом его родные? Что они знали о жене Отто? Как много неясного в положении! Может быть, именно там, у Келлеров, ждет ее конец, провал, гибель… В один из погожих солнечных дней Наталья Даниловна вышла из подземки на Ноллендорфплац. Она быстро разыскала нужный ей дом. Серое, скучное здание. На двери в квартире третьего этажа дощечка с надписью: «Вход только для господ», и плакат: «Покончить с шептунами и критиками!» Номер «Фелькишер Беобахтер» торчит из почтового ящика, и медное кольцо для собаки начищено до ослепительного блеска. Наталья Даниловна передала пожилой горничной визитную карточку: «Фрау доктор Натали Келлер», и вошла в залу. Это была старая, давно обжитая квартира. В зале стояла старинная мягкая мебель. На стенах висело множество вышивок под стеклами в аккуратных рамках, мешочки для газет и сигар. На каждом готическими буквами было вышито назначение вещи: «Для газет», «Для сигар». Комната напоминала картинку из старого немецкого учебника, под которой стояла подпись: «Опишите, что находится в этой комнате». Дверь в кабинет была открыта, и там были видны старые кожаные кресла, старые птичьи чучела на старых шкафах. Новым был здесь только портрет Гитлера. Чтобы повесить его, пришлось, видимо, снять висевший тут раньше портрет какого-нибудь предка, больший по формату. Портрет фюрера был обрамлен полосками невыцветших обоев, словно орнаментом из дешевой бумаги в зеленых цветочках. Фюрер был изображен в три четверти, в момент произнесения речи, с открытым, как у рыбы, ртом. Художнику удалось передать с большой точностью идиотическую неподвижность взгляда и страшное напряжение позы. Под портретом на полочке стоял букет бессмертников. Жесткие лепестки мертвых цветов упирались в живот Гитлера. Было слышно, как на кухне шипел газ и звенели стаканы. В полуоткрытую дверь Наталья Даниловна увидела ослепительно белые полки и живо представила себе всю эту кухню — святилище хозяйки. Одинаковые фаянсовые банки с надписями: «соль», «перец», «рис» и так далее. На совочке для мусора также надпись: «мусор», и даже на ручке метлы мелкой готикой: «метла». Каждая вещь должна иметь свое назначение, а назначение определяется надписью. Надпись — это приказ. Вошла высокая седая женщина в черном старомодном платье, вышитом стеклярусом. Сердце Наташи дрогнуло. Мать… Что она спросит? Что захочет узнать о последних днях сына? Старуха прижимала платочек к глазам, но они были сухи. И вдруг Наталья Даниловна почувствовала, что разговор будет нетрудным для нее, что он не потребует особой настороженности, острого напряжения всех сил. Что же вызвало это чувство? Сухие глаза, глаза без единой слезинки к которым старая женщина манерно прижимала, кружевной платочек. …Да, она ждала фрау Натали Келлер. Она получила ее открытку по городской почте во вториик в четыре часа. Она медлила с приглашением, ожидая воскресенья. В воскресенье вся семья собирается к ней на кофе. Сын Зигфрид приводит свою невесту Лизелотту. Они обручены два года назад. Но жизнь теперь так тяжела! Приходится ждать лучших времен, чтобы вступить в брак. Лизелотта служит стенографисткой у «АЭГ».[109] Вы знаете: «Альгемайне электрише Гезельшафт», — но в ближайшее время предвидится вакансия корреспондентки. Тогда она будет зарабатывать значительно больше. Старуха принялась нудно к длинно подсчитывать будущие заработки будущей невестки. Наконец она заговорила о погибшем сыне: — Отти, бедный Отти! Ему не следовало ехать в Россию, в эту страшную страну. Но мы так нуждались. Ведь мы всё потеряли во время инфляции. И вот он поехал… Он зарабатывал там большие деньги, не правда ли? Иначе, зачем было ехать в дикую страну? Фрау Натали, вероятно, скажет ей что-нибудь о наследстве. Разве Отти ничего не оставил бедной матери? В России все дешево. Может быть, меха или какие-нибудь ценные вещицы? И тут Наталья Даниловна почувствовала твердую почву под ногами. Нет! Это была не та мать, которая всю жизнь горюет о потере сына, не та мать, о которой на языках всех народов слагают задушевные песни. Жалкое, жалкое существо находилось перед ней. И Наталья Даниловна вынула из сумки сафьяновый футляр: — Я позволю себе предложить матери моего покойного, горячо любимого мужа вот эту вещь, этот жемчуг… Тяжелые желтоватые зерна блеснули на синем бархате. И тут старуха прослезилась. Ценный подарок был тем ключом, который открыл приезжей сердца обитателей этого дома. И Зигфриду Келлеру, молодому человеку в роговых очках, с прекрасным пробором, и его невесте Лизелотте, тридцатилетней девице в таких же очках, и даже четырнадцатилетней Анни с косичками и в коричневой форме «гитлер-медхен»[110] — всем им сразу же стал близким этот человек, которого они еще не знали вчера. «Форнееме даме», «достойная дама», «приличная», «порядочная» — так думали здесь о Наталье Даниловне, солидной, представительной, в дорогом темном костюме и серьгах, в которых играло солнце, с белокурыми, уложенными в сложной прическе волосами под шляпкой с траурным крепом. «Форнееме даме» означало, что она была принята в доме, желанна в нем. Это не значило, что ее признали родной, что с нею вошло в дом воспоминание о близком, дорогом человеке. Нет, это было другое! В тяжелые дни эта дама явилась к ним не за поддержкой. Напротив, она сама могла оказать ее. Имя Кууна, оброненное в разговоре, было знакомо всем. Приезжая стала ценным приобретением семьи, как бы вкладом в их благополучие. Если бы в эту минуту Наталья Даниловна осталась одна, она сказала бы себе: «В страшный мир ты попала, Вера». Но, ведя непринужденную беседу с этими людьми, она не могла ни на одно мгновение стать Верой. Все ее силы уходили на то, чтобы казаться Натальей Даниловной — женщиной, отрекшейся от своей страны, готовой помочь врагам родины. Настали сумерки. Зажгли большую стоячую лампу под шелковым абажуром — в зале стало уютнее. Разговор не угасал ни на минуту. Наталья Даниловна услыхала то, что ей отчасти уже было известно из торгово-промышленного справочника с длинным названием, который она долго штудировала. «Дипломирте инженер» Зигфрид Келлер служил уже двенадцать лет в крупном химическом концерне, в отделе монтажа. Зигфрид Келлер был, несомненно, деловой человек. Ему были совершенно понятны слова Натальи Даниловны о том, что ей положительно необходимо какое-то занятие. Хотя она и не нуждается в заработке, но она получила высшее экономическое образование, знает иностранные языки, стенографирует… Она привыкла иметь свое место в деловом мире. Ей скучно сидеть дома и заниматься вышивкой, хотя она и не прочь это делать в часы отдыха… Да, Зигфриду Келлеру это было близко. — Деловые люди всегда поймут друг друга, — сказал он. Он сумеет даже помочь ей. Русский отдел их концерна в последнее время потерял многих сотрудников. Им ведает старый прокурист[111] фирмы — крупный коммерсант Герман Веллер. Он выходец из России. Зигфрид сможет порекомендовать ему фрау Натали… В этот вечер Наталья Даниловна сделала предварительный вывод: ни мать, ни брат Келлера не знали о том, что Отто работал в разведке.
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В ГАЗЕТЕ
Уже несколько дней они жили в Гамбурге. Рудольф был занят делами, а вечный их спутник Мейснер назойливо старался угодить Наталье Даниловне «экзотическими» развлечениями. В матросском притоне им показали «женскую борьбу» — отвратительное зрелище. Наталья Даниловна морщилась, Мейснер хохотал. На ковре сцепились две рослые, жирные участницы чемпионата, зрители бешено аплодировали им. На другой день вместе с тем же Мейснером она отправилась на ежегодную гамбургскую ярмарку. Пестрая толпа всякого сброда слонялась по площади. Люди горланили, хрипло распевали пошлые песенки, останавливались у мелких лавчонок, опустошали бутылки и, нацепив на пуговицы всякую всячину — игрушечных кукол, картонных зверей, бумажные фонарики, купленные тут же, — брели дальше. На площади горели разноцветными огнями балаганы, свистели дудки, трещали хлопушки, завывали саксофоны. Цыгане водили медведей, клоуны зазывали в павильоны посмотреть на всякие чудеса. На помосте фокусник вытаскивал из ушей живых лягушек. Крошечный мальчик висел наверху высоченного шеста, укрепленного на поясе отца-акробата. Великаны пугали публику. С электрических гор неслись крики и визг. Но больше всего здесь было уродов. Показывали даже женщину-паука-карлицу с восемью недоразвитыми конечностями. Она сидела в искусно сделанной паутине. Сославшись на головную боль, Наталья Даниловна оставила спутника и пешком отправилась в отель. Беспокойными были ее мысли. Вот уже несколько месяцев она здесь, а до сих пор нет связей, нет настоящего дела. На углу громко кричал газетчик: «Свежие берлинские газеты! Второй вечерний выпуск!» Наталья Даниловна взяла газету. Каждый день она покупала этот второй вечерний выпуск, каждый день она внимательно просматривала лист объявлений, напечатанных мелким готическим шрифтом. Но в них не было того, что она искала. Но сегодня… Наталья Даниловна не сразу поверила своим глазам. Вот оно, настоящее дело. Ее искали, искали ту, которая приняла имя Натальи Даниловны Келлер… Она нужна, она снова в строю. Две строки петита на плохонькой, военного времени газетной бумаге: «Продается пелерина из семи черно-бурых канадских лис на атласной подкладке. Смотреть по вторникам и средам с четырех до шести». Адрес она запомнила, а газету бросила в урну. Вечером она спросила Рудольфа: — Когда мы возвращаемся в Берлин? — Как, вам тут скучно, Натали? — У меня головная боль от этого крикливого средневековья. Вернувшись в Берлин, Наталья Даниловна сразу же отправилась по адресу, указанному в газетном объявлении. Дом был с удобствами. Посетитель у парадной двери называл свое имя в переговорную трубку. Наталья Даниловна сказала: «По поводу продажи меха». Было слышно, как в верхней квартире открылась дверь. Хорошо одетая дама сама проводила посетительницу в комнату. Седые волосы, по моде высоко поднятые надо лбом, придавали лицу женщины выражение спокойного достоинства. Квартира была обычная, буржуазная. Наталья Даниловна села, подняла вуалетку: — Я прочла в газете о том, что вы продаете мех. — Да, пожалуйста. Мадам может посмотреть. Дама вышла и немедленно вернулась с пелериной. Этой пелерины могло и не быть, но Наталья Даниловна подумала, что по объявлению, вероятно, ходили и другие покупатели и им тоже показывали пелерину. Она повернула мех к свету, сказав старательно, как на уроке: — В одной лисе имеется брак — у нее пришитый хвост. Дама быстро ответила: — Мадам ошибается, меха привез мой дядя из Канады в прошлом году. Они безупречны. Дама говорила с легким венским акцентом. «Попробуем дальше», — подумала Наталья Даниловна. — Мне нравится эта вещь, хотя в лисах мало седины… Теперь было уже достаточно. Наталья Даниловна поняла это по лицу собеседницы — оно стало приветливее, проще. Хозяйка поднялась, приглашая следовать за ней: — Здесь рядом находится один господин. Он также… интересуется мехами. Пройдя через столовую, сверкнувшую хрусталем, они вошли в кабинет. Наталья Даниловна подумала, спросят ли у нее ее имя. Нет, ее ни о чем не спрашивали. Навстречу поднялся пожилой мужчина в дымчатых очках, в костюме, «как у всех», с лысиной, «как у всех». Он протянул руку. Пожатие было крепким, не по-европейски. — Мое имя Вольф, — отрекомендовался коротко мужчина. — Вы будете встречаться с этой дамой и держать связь со мной через нее. Ее зовут Гедвиг Шульц. У нее свое дело: парикмахерская недалеко от ЦОО.[112] Просматривайте рекламу в газетах. А теперь я вас слушаю. Мой доверитель приказал мне самым подробным образом осведомиться о вашем положении… Он выражался несколько тяжеловесно, по-стариковски. Рассказывая, Наталья Даниловна заметила, как вспыхнул огонек интереса за очками незнакомца, когда она упомянула об обещании Зигфрида Келлер познакомить ее с Веллером. Она рассказала о том, что за это время сделал Рудольф. Наталья Даниловна знала об этом с его слов и по документам, которые он ей показывал. Рудольф объяснил Наталье Даниловне, что ему поручено подобрать людей для разведывательной работы в России, предпочтительно русских по национальности. Он должен найти таких людей, предварительно переговорить с ними. Остальное же — проверка их, подготовка — его не касается. Переброска агентов в Россию пойдет по двум линиям: в настоящее время Германия имеет оживленные торговые связи с Советским Союзом, объяснял Рудольф, и было бы преступлением не использовать этого; кроме того, разведчики будут нелегально переходить государственную границу СССР. — Это было связано с нашей поездкой в Гамбург, — сказала Наталья Даниловна. В Гамбурге Рудольф встретился с неким Хасановым, который выдает себя за азербайджанца. Хасанов кончил техническое училище в Германии. Он вступил в студенческую корпорацию гитлеровского толка и после прихода Гитлера к власти получил «первоклассные права на существование». Его предполагалось послать в Баку с паспортом купца «из восточной страны». — А что еще известно о Хасанове? — спросил слушавший. — Вот его визитная карточка. Здесь указан адрес транспортного общества, в котором он работает. Он специалист по транспортировке грузов. В разговоре упоминалось, что он живет около рыбного рынка. — А приметы его вы могли бы описать? — Среднего роста, сухощав, черные волосы с проседью зачесывает назад, на вид лет сорока, глаза карие с темными веками, нос большой, мясистый, носит короткие английские усы. Один передний зуб вверху золотой… По-немецки говорит с легким акцентом, по-русски — как русский. Холост. Больше мне о нем ничего не удалось узнать. — Вполне достаточно. А какое задание намечается для него? — Кроме того, что он должен обосноваться в Баку, я ничего не знаю… — О ком вы еще узнали? — О чете Дурново. — Кто они? — Юрий Мариусович Дурново и жена его Вильгельмина, урожденная Майнеке. Он эмигрант, петербуржец, женат на немке. Идет на эту работу, как говорит, «по идейным соображениям». Для поездки в Россию они получают шведские паспорта. Ему пятьдесят лет, высокий, полный, носит русую бородку, лысый, глаза светлые. Жена — маленькая блондинка. — На какие средства они сейчас существуют? — Очень бедствуют. Он служил кельнером в русском ресторане «Медведь». Теперь жена его открыла прачечную в Кепенге. — Вы, кажется, еще с кем-то встречались в Гамбурге? — Мейснер познакомил там нас с одной супружеской четой, но Рудольф отказался от их вербовки. — Кто это? — Курт Фанге и жена его Клара… Угадыватели мыслей… — Что? — Цирковые артисты. Сейчас они выступают на гамбургской ежегодной ярмарке. Это очень талантливая пара. Клара обладает феноменальной памятью. Их система «угадывания мыслей» основана на сложном словесном шифре. Она с завязанными глазами на сцене отгадывает, что делает ее муж в зрительном зале, что ему говорит на ухо кто-либо из зрителей, какие предметы ему передают. Он сигнализирует ей условными словами, звуками, акцентом. Кроме того, оба полиглоты. Жили в России. — А почему Куун отказался использовать их? — Считает, что они подозрительны. Подозревает, что они работают на англичан. Вольф проводил Наталью Даниловну в переднюю и церемонно подал ей пелерину из семи черно-бурых лис. — Вы должны быть в ней в четверг на вечернем представлении в «Скала». Наш хозяин вас хочет видеть… Издали. Вы должны приколоть к меху белый цветок. У Натальи Даниловны неожиданно мелькнула мысль, что ее хочет видеть Платонов. Это была нелепая мысль. Ведь он узнал бы ее и без меховой пелерины, и без цветка. И все же до самого четверга Наталья Даниловна не могла расстаться с нелепой, но приятной мыслью.«СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ»…
Теперь Наталья Даниловна по-новому осматривалась вокруг. Она замечала многое, мимо чего раньше проходила равнодушно. В мелочах вдруг оказывалось интересное и значительное. Даже тихие вечера, которые она проводила в гостиной тетки Амалии, расширяли ее представления об окружающем. Наталья Даниловна вышивала, как и подобает молодой одинокой даме, а тетка Амалия вязала из эрзац-шерсти перчатки для солдат. «Общество престарелых женщин, стоящих на страже интересов нации», в котором состояла Амалия, было завалено работой. Заготовлялись исключительно теплые вещи, какие не носят в Западной Европе. Кто вязал больше нормы, получал жетон со свастикой. Предстояла кампания в холодных краях. Старуха, проворно работая спицами, рассказывала: — Фюрер сам обратился с речью к нам, старым женщинам. «О старые мамочки! — воскликнул наш сладкий (она так и сказала — „зюс“) фюрер. — Не жалейте глаз для сыновей нации, вяжите перчатки и подштанники! И вы увидите на склоне ваших лет новую, светлую жизнь в обновленной Европе»… И мы кричали: «Хайль!», пока не охрипли. Тетка Амалия была из «истинно верующих». Ее долгая жизнь, лишенная каких бы то ни было событий, озарилась первым и последним увлечением. Она боготворила Гитлера. Однажды Наталья Даниловна увидела у Амалии циркулярное письмо обер-группенфюрера «Об организации помощи старых женщин армии». На письме стоял штамп: «Фертраурих» — доверительно. В письме сообщалось о плане организации больших тыловых госпиталей в ряде пунктов, расположение которых позволяло догадываться о направлении главного удара. Наталья Даниловна сообщила об этом Гедвиг. Нет, дружба с теткой Амалией была безусловно полезна. Однажды Наталья Даниловна приняла приглашение участвовать в воскресной прогулке «Общества престарелых женщин» в Грюнау — дачное место недалеко от Берлина. Был арендован пароходик, ровно в шесть часов утра наполнившийся старухами, увешанными жетонами со свастикой. Перед отплытием прибыл прыткий молодой человек в форме «СС». Он, как фюрер подпрыгивая на носках, произнес краткую речь о роли престарелых женщин в защите государства от «восточного варварства». Когда оратор кончил, старухи кинулись к нему и с неожиданной ловкостью трижды подбросили его в воздух с криками «Хайль Гитлер!». После чего он быстро сбежал по трапу и уехал, на прощанье оглушительно протрубив клаксоном малолитражки. Пароходик дал гудок, флаг с рогатым крестом взбежал по веревкам и взвился на мачте. Старухи запели дребезжащими голосами: «На зеленой травке стоит коричневый дом», и «безумный фрегат», как мысленно окрестила пароходик Наталья Даниловна, набитый старухами, двинулся по Шпрее. Во время прогулки, когда престарелые женщины развеселились, требовали без конца пива в палубном буфетике и, взявшись за руки и раскачиваясь, запели «Деревенский вальс», — Наталья Даниловна познакомилась с вдовой полицейского чиновника, Бригиттой Шванке.В довоенном Берлине на самой людной площади, на высоте четвертого этажа ежевечерне загорались огромные буквы: «А вечером в „Скала“…» Теперь реклама была скромнее, но все же достаточно броской. В зале варьете, однако, зияли пустотой незанятые кресла. Когда Наталья Даниловна с Мейснером проходили на свои места перед ложами, первое отделение уже началось. Эксцентрическая танцовщица-венгерка в форме альпийского стрелка исполняла «военный танец». То, что проделывала танцовщица, собственно, мало походило на танец и напоминало не то акробатические упражнения, не то занятия с новобранцами. Но вокруг раздавались крики восторга, и все уверяли, что это ново, свежо и «темпераментфоль», а главное — в духе времени. Во втором отделении танцовщица появилась в ложе позади Натальи Даниловны и Мейснера в манто из «морских собак», с волосами, покрытыми золотым лаком. Вместе с танцовщицей вошел Зигфрид Келлер. Третьим в ложе был господин с огромным животом шибера[113] и с умными, хитрыми глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками. Зигфрид представил Наталье Даниловне своих спутников — танцовщицу и толстяка. Так состоялось ее знакомство с Германом Веллером. Наталья Даниловна понимала, что оно произошло на глазах у невидимого «хозяина».
Она не видела Рудольфа около месяца. Он уезжал с отцом в Рурский угольный бассейн. Опыты, которыми занимался отец Рудольфа, были секретными. Он совершенствовал способы обогащения коксующихся углей. Это было связано с производством высококачественных сталей. Вернувшись из Рура, оживленный, бодрый Рудольф рассказывал, блестя глазами и загорелым голым черепом. Наталья Даниловна не торопилась с расспросами. Она знала: у Рудольфа сейчас не будет от нее тайн. Он стал объяснять ей детали, доказывающие значение открытия его отца. Разговаривая, они медленно ходили по саду тетки Амалии. Время от времени они останавливались, и Рудольф писал тонким прутиком на песке химические формулы. Желтые и красные листья, кружась, падали вокруг них. От медленного, как бы задумчивого их лёта на Наталью Даниловну повеяло невыразимой грустью. Родина! Как горько вдали от тебя думать, что осень бредет в твоих березовых рощах и свежими утрами первый иней уже ложится на необозримые поля!.. — Помните, Рудольф, — вдруг неожиданно для самой себя спросила Наталья Даниловна, — наши таежные, сибирские ночи, и реку, и сплав? Рудольфа передернуло. — По ночам я все это вижу в страшных снах! Она проводила его до ворот и, возвращаясь той же аллеей, где они бродили вдвоем, заучила формулы, написанные прутиком на песке.
ПРОВАЛ?!
Чем могла она заинтересовать Германа Веллера? Он не ухаживал за ней. Всем была известна его связь с танцовщицей венгеркой Ренатой. Она была давней и крепкой: квартира танцовщицы была обставлена красиво, даже роскошно. Не было и деловых мотивов к этому интересу. А между тем прокурист фирмы инженер Веллер проявлял не только интерес, но и благожелательность к фрау доктор Келлер. Он передал ей часть тех дел, которыми должен был заниматься сам. Может быть, он сделал это из лености? Нет, он был трудолюбив. Когда ей попали в руки данные о новых конструкциях предприятий концерна, выпускающего отравляющие вещества, с расчетами, чертежами и сметами под штампом «строго доверительно», Наталья Даниловна заподозрила ловушку. Но нет, Веллер просто доверял ей. А между тем из документов, с которыми теперь запросто знакомилась Наталья Даниловна, видно было, что здесь деятельно готовятся к войне с Советской страной. И эта война обещала быть ужасающей, судя по тем средствам уничтожения, которые готовили фашисты. Чувство опасности никогда не покидало Наталью Даниловну, но порой это бюро с белыми шторами, со счетной машиной для сложных вычислений, с аккуратными настольными корзинками для бумаг казалось ей надежным местом. Иногда Веллер приглашал ее провести вместе вечер. Он садился за руль своего серого «Мерседеса», и они ехали обычно в Грюневальд. Там они заходили в круглое кафе. Серый, под цвет машины, дог с достоинством следовал за ними. Веллер любил этот круглый зал, потому что сюда пускали с собаками. Он расспрашивал Наталью Даниловну о России. Однажды он осведомился, бывала ли она на Украине. В бюро, в минуту отдыха, он также как-то заговорил об Украине. Что заставляло его вспоминать о давно покинутой им стране? Сегодня они оказались в кафе почти одни. Танцующих не было вовсе. Веллер пил коньяк, Наталья Даниловна медленно тянула ликер. Разговор не налаживался, но это как-то не стесняло их. Веллер, отдуваясь — он страдал одышкой, — наконец заговорил: — Я не хотел бы сделать вам неприятность. Нет, меньше всего я бы хотел этого, но должен все же сказать вам, моя дорогая фрау доктор… — Умные глаза Веллера под тяжелыми веками приняли печальное выражение. — Я лично знал покойного инженера Келлера. И во время моего приезда в Москву он познакомил меня со своей женой, Натальей Даниловной Келлер. И это не были вы. Вы похожи на нее, да, но вы не та дама, которую я видел… Ну, вот и конец! Конец всему: работе, свободе, может быть, жизни… Наталья Даниловна ответила тотчас: — Вы стали жертвой шутки. Мой муж любил шутить! Что еще могла она придумать в эту минуту? Патрон, вздохнув, небрежно ответил: — Да-да, возможно… После этого вечера отношения их остались прежними. Он, как и раньше, доверял ей. Ничего угрожающего вокруг она не замечала. Но было бесспорно одно: ее разоблачил человек из враждебного лагеря. Зачем ему понадобилось открыть свои карты, предупреждать ее? Для чего?.. Вечером, лежа в мягком кресле парикмахерской фрау Гедвиг, Наталья Даниловна попросила передать Вольфу, что она находится под угрозой и на свидание с ним не придет. Но через несколько дней фрау Гедвиг, укладывая волосы Натальи Даниловны, шепнула ей, что Вольф будет ждать ее в субботу, в десять часов, в месте прошлой их встречи. Боясь навлечь опасность на Вольфа, Наталья Даниловна передала, что она раскрыта Веллером. И снова она получила предложение быть на свидании в субботу. На этот раз оно было передано «амтлих» — в форме приказа, требующего беспрекословного исполнения. Встреча должна была состояться в кабаре «Дом Европы». Внизу, в винном погребе, было бомбоубежище, вверху гастролировала модная певица. Чтобы установить, нет ли за ней слежки, Наталья Даниловна пошла пешком через парк. Падал снег, он тут же таял. Пронизывающий ветер шумел в деревьях. Изредка пробегали машины с притушенными фарами. Нищие продавали на углах улиц спички, шнурки для ботинок, камни для зажигалок: неприкрытое нищенство каралось концлагерем. Около Бранденбургских ворот пожилая певица в поношенном манто, известная всему Берлину, протягивая руку, пела романс Шуберта. Ее выгнали из оперы, когда выяснилось, что дед ее мужа был евреем. Оборванный подросток спал на скамье под липой. Охраняя все это «благополучие», на перекрестке аллей стоял огромный шупо.[114] Было холодно. Никогда еще Наталья Даниловна не шла с такими опасениями на встречу. Она была раскрыта. И все же ее вынуждают продолжать связь, ставить под удар ценного человека. Она тепло подумала о молчаливом, всегда усталом, уже немолодом Вольфе. Зал «Дома Европы» был полон. Хохот и хлопки неслись со всех концов. Выступала популярная исполнительница так называемых берлинских песенок. Не на эстраде, а посреди зала, между столиками, стояла женщина лет пятидесяти, нарочито просто одетая, с красным лицом стряпухи. Хриплым голосом, полуречитативом, с вульгарными взвизгами, она не то пела, не то говорила, прерываемая смехом и аплодисментами. Успех вызывался не тем, что она пела двусмысленные куплеты, — это не было ново, — а тем, что исполнительница передавала их с исключительной лихостью, жаргоном берлинского «дна», тем, нигде не записанным диалектом воров и сутенеров, который вошел в моду за последние годы и дополнялся гаммой междометий, ужимок и гримас. Едва Наталья Даниловна, толкнув вертящуюся входную дверь, очутилась в зале, она увидела Вольфа. Он был не один. Молодой, как ей показалось с первого взгляда, человек, с военной выправкой, с гладкими, «арийского» цвета волосами, сидел с ним за столиком, уставленным бутылками. Левая рука молодого человека была в перчатке. Вольф познакомил их. «Эрнст Медер», — назвал себя незнакомец. Произношение его было безупречным, наружность также. Все — от нелепого ярко-желтого галстука до ботинок с тщательно спрятанными узлами шнурков — было «ново-немецкое», «арийское». Вольф объяснил: — Всякое может случиться. Я, Вольф, например, могу стать жертвой… ну, уличного движения. Все трое сдержанно улыбнулись шутке. Кроме того, он подлежит мобилизации — да-да, он еще не так стар. Он в запасе первого призыва, он еще вояка, да-да… Вольф был в хорошем настроении, шутил. Спутник его слушал почтительно. Наташа заметила, что вместо левой руки у Медера был хорошо сделанный протез. — Вот наш друг Эрнст. Вы будете с ним связаны, когда меня не станет с вами… Но не раньше. Наташа вдруг увидела, как сильно постарел Вольф за эти месяцы, какие тусклые у него глаза, как сгорбились плечи. Но как можно было сейчас говорить о будущем? Лицо-маска Веллера с тяжелыми веками, прикрывшими хитрые глазки, неотступно стояло перед ее глазами. С досадой она заметила: — Но положение мое сильно изменилось. Ведь я передавала вам, обо мне знают… — Потому-то я вас и вызвал. Эрнст получил возможность ознакомиться с одним письмом. Речь в нем идет о вас. Одно учреждение — мы полагаем, что за ним скрывается канцелярия Амадея Кууна, — запросило у доверенных лиц в концерне вашу характеристику. И прокурист Веллер представил вас в самом положительном свете, добавив, что имел случай познакомиться с вами в России еще при жизни вашего супруга и тогда еще убедился в полной вашей благонадежности. Вы удивлены? — Ошеломлена! — Я давно думал о Веллере. Это делец. Он умен. Он не хочет идти ко дну с утлым ковчегом фюрера. Веллер не прочь застраховаться. Он ищет дружбы с нами. И поверьте моему жизненному опыту, когда-нибудь он окажет нам большие услуги.ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
Дождь прошел. Веллер велел вынести столик на террасу. Улица замирала в вечерний час. Постепенно стихали шумы дня, и реже скользили по мокрому асфальту прохожие, складывая зонтики. Они были одни на террасе кафе, не считая дога, положившего большую голову на колени хозяина. — Вы похудели за последнее время, фрау Натали. — Моя жизнь не очень спокойна, герр Веллер. — Догадываюсь. — Я давно ищу случая выразить вам свою благодарность за помощь. Вы проявили, признаться, неожиданное для меня мужество… — Но ведь вы проявляете его ежечасно! — прервал Веллер. — Для меня это долг. А вы следовали умному, далеко идущему расчету. — Вот как! — Вас удивляет моя прямота? — Какими же вы себе представляете мои побуждения? — Побуждениями здравого рассудка. — Пожалуйста, подробнее! — Веллер откинулся на спинку кресла с зажатой в зубах сигарой. — Вы человек с кругозором. Вы видите, что происходит вокруг нас с вами. От политики я отвлекаюсь… Останемся в области экономики. Вы ведь знаете, что уже многие годы Германия проедает свой основной капитал. Даже некоторые нацистские теоретики говорят о невозможности возместить истощение хозяйства страны. — Теоретики этого толка уже в концлагере, но выводы их, к сожалению, верны, фрау Натали. — А финансовая система? Пока удается сдерживать инфляцию, но ведь неизбежность финансовой катастрофы ясна каждому, кто видит дальше собственного носа. Правители же райха не заботятся об устойчивости валюты. — Все верно, фрау Натали. Да, это какой-то экономический авантюризм, пиратство в экономике!.. Пусть фрау Натали поймет его правильно. Он не политик. Но он сторонник здоровой коммерции. Ему не по пути с коричневыми. Нацисты фиглярничают на краю пропасти. Пусть дураки верят в коричневый рай, а ему ясно, что вся Германия пойдет по миру с таким хозяйствованием! Никто больше не в состоянии обеспечить себе спокойную старость. Он не социалист, он, Веллер, коммерсант, но может твердо заявить, что то, что делают в Советском Союзе, — делают солидно. У него бывали деловые связи с Москвой. Он никогда в этом не раскаивался и надеется возобновить их в будущем. Германия идет к хозяйственной катастрофе, и естественно, что у здравомыслящего человека есть стремление к иному порядку вещей… — Меня очень, очень интересует ваша страна, фрау Келлер! Веллер произнес фамилию «Келлер» с еле заметной улыбкой, подчеркнувшей его дружелюбие. — Мне почему-то кажется, что у вас есть какие-то личные причины, заставляющие вспоминать о нашей стране, герр Веллер… — Вы правы. Причины эти возникли давно, в молодости… — Эти слова Веллер неожиданно сказал по-русски, с легким акцентом, какой бывает у обрусевших немцев. — Радость, которую человек испытывает в молодости, не забывается, фрау Натали, — добавил он уже по-немецки. Веллер обрезал кончик сигары, зажег ее и начал свой рассказ.Незадолго до первой мировой войны в Киевском политехническом институте учились два молодых человека, связанные дружбой. Русский, воспитанный немецкой семьей директора русского отдела кредитного банка «Дисконтогезельшафт», Герман Веллер и сын русского инженера Олег Карцев. Они вместе изучали химию, чудесными украинскими ночами бродили по берегам Днепра, с гурьбой студентов ходили вечерами по Крещатику, распевая старинную студенческую песню «Гаудеамус», и дразнили городовых. Прекрасны были вечера на даче Карцевых. На всю жизнь запомнилась ему скромная святошинская дача. Дребезжащая на все голоса извозчичья пролетка останавливалась у высокой калитки, скрипевшей на блоке… И вот он с волнением прислушивается к песенке, звучащей в сиреневой аллее, и с бьющимся сердцем видит, как мелькает между кустов белое платье. Марина Карцева, сестра Олега, была красива, добра, умна… По мнению Германа, она обладала лучшими качествами женской натуры… Незабываемы были вечера в Святошинском бору, прогулки на лодке по зеркальному пруду… Все оборвала война. В 1914 году семья германских подданных Веллеров оказалась у себя на родине. Так в разных лагерях очутились два друга — Герман Веллер и Олег Карцев. В 1916 году Веллер, контуженный, вернулся с фронта в Берлин. Связи его приемного отца и состояние, которое увеличилось за годы войны, открыли ему двери в жизнь. Герман Веллер стал дельцом. В 1932 году советский ученый Олег Карцев приехал в Берлин в научную командировку. Друзья встретились. Всеми своими корнями Веллер уже врос в деловой мир послевоенной Германии. С грустью он смотрел на друга молодости. «Где Марина?» — «Давно замужем, давно стала матерью». — «Бываешь на святошииской даче?» — «Дачу сожгли белые во время гражданской войны». — «Итак, ты, Олег, человек из страны экспериментов?» — «Не считай, Герман, это экспериментом, ты ошибаешься». — «Олег, мечтания к лицу юности, а мы уже не юнцы». Веллер звал друга к себе, обещал обеспеченность, большое дело. Упрямец не согласился. Они расстались. Снова встретились. Опять расстались. Веллер читал русскую прессу. Имя друга часто упоминалось в ней. У него была кафедра, лаборатории. Последний раз они встретились в 1934 году. Веллер был откровенен с другом. Он продолжал богатеть, но будущее страшило его. Кругом кричали о «возрождении нации под эгидой великого фюрера», а Веллер видел впереди крах… — Вам понятно, фрау Натали, почему я был откровенен с Карцевым, с вами? Она понимала. Веллер был трезвым, дальновидным, расчетливым дельцом.
«ЗАБЫТЫЙ» ПОРТФЕЛЬ
В этом кругу не принято было принимать гостей в русском смысле слова — за столом, уставленным бутылками и блюдами, с шумной застольной беседой, с песнями за полночь. Это было чуждо всему укладу здешней жизни. Приглашение гостей означало совместное посещение кафе или ресторана с уплатой «каждый за себя», откуда и пошло выражение «на немецкий счет». Так тетка Амалия каждую субботу приглашала вдову полицейского чиновника Шванке. Кафе называлось «Орхидея», помещалось в садике с единственным деревцом посередине, — тихое, недорогое кафе, подходящее для беседы двух старых женщин. У дружбы старух были глубокие корни. Единственный сын фрау Шванке, Карл, состоял в «Гитлерюгепд». С детских лет он бегал по улицам столицы с железной кружкой. На кружке была изображена свастика, внутри позвякивали монеты. Карл собирал пожертвования в пользу многочисленных обществ, призванных обновить Европу. Карл Шванке учился на казенный счет, успехов в науке не проявил, но стал гонщиком-велосипедистом первой категории. Как вполне надежный и достойный юноша, он был принят посыльным в военное учреждение. Старуха Шванке могла бы жить без особых забот, если бы не пагубная страсть сына. Он играл на бегах. И однажды проиграл много больше, чем мог заплатить. Тетка Амалия спасла подругу от беды, одолжив ей крупную сумму под умеренные проценты. Наталья Даниловна узнала и самого Карла Шванке. Изредка он заходил за матерью в кафе, всегда со своим приятелем Иозефом Лимкемпером. Это были юноши в коричневой форме, каких встречаешь на каждом углу. Только Шванке был туп и громоздок, Лимкемпер — юрок, хитер и нечистоплотен, как хорек. И оба они сияли в эти весенние дни. Но не весна действовала на них, а легкая победа на Балканах. — Фрау Натали, это легендарная операция! — наперебой кричали рослый Шванке и маленький Лимкемпер, когда германские парашютисты опустились на Крите. — Мы, немцы, господствуем на земле, в воздухе, под водой. Мы будем господствовать на воде. Англии капут! Мы займем Россию и поставим англичан на колени. — Это мудрость группенфюрера, которую они повторяют, — брезгливо проговорил Вольф, когда Наталья Даниловна рассказала ему о Шванке и Лимкемпере. — Штампованные типы! Крит — это еще один шаг к катастрофе! Наталья Даниловна рассказала Вольфу о юношах в связи с неясными подозрениями, мелькнувшими у нее: Карл Шванке стал тратить большие деньги. Откуда они у него? Вольф улыбнулся, когда услышал об этом. Он знал источники доходов Карла и всю его несложную историю. Однажды вечером, когда свежий ветер играл в полосатых тентах над трибунами ипподрома, средних лет человек, приятный, хорошо одетый, не назойливый, коснулся локтя Шванке: — Прошу извинить. Мне кажется, я имею дело с знатоком. Ваше мнение о шансах «Сюрприза»? Он внимательно выслушал советы польщенного Шванке. Затем он проиграл и добродушно посмеялся над своим проигрышем. Юноша с уважением отметил, что ставка была не маленькой. В ресторане при ипподроме за столиком незнакомец представился: — Доктор фюр националь-экономи Бруно Гайге. Шванке знакомство польстило. В следующем заезде они выиграли, потом проиграли оба. Новый знакомый покрыл долг Шваике… Мелочь, стоит ли говорить, всего пятьдесят марок! Потом они снова поставили, проиграли, потом выиграли… И стали друзьями! Долг Шванке вырос. В следующее воскресенье он достиг довольно крупной цифры. И новый друг попросил расписку. Такой знаток беговых лошадей, как Карл Шванке, конечно, выиграет и покроет долг. Шванке иногда выигрывал, чаще проигрывал. Он засиживался с новым респектабельным знакомым в ресторане, а долг рос и рос. Наконец в беседке, в садике при пивной, произошел разговор. Речь шла о небольшой, в сущности, услуге. Фирма, в которой работает доктор Гайге, вполне солидная фирма, заинтересована в военных заказах. В этом деле есть конкуренция. Поэтому фирма интересуется документами учреждения, в котором служит Шванке. Требуется только кратковременное ознакомление в течение каких-нибудь двух часов. Обеспечены и тайна и вознаграждение. Ничего исключительного в этом нет. Коммерсантам приходится бороться за заказы — это эпизод борьбы, и только. Шванке попытался подсчитать, на какую сумму он выдал расписок доктору Гайге, запутался, согласился принять предложение… Он боялся задавать дополнительные вопросы. С этих пор он, как обычно, мчался на велосипеде с почтой. У безлюдного сквера курьер останавливался, садился на скамейку. Закуривал. Портфель с пакетами он клал рядом с собой. В это же время на другом конце скамейки усаживался с книжкой молодой человек в темных окулярах. Покурив, Шванке уходил, «забыв» на скамейке свой портфель. Карл Шванке ехал развозить остальные пакеты, находящиеся в ящике под седлом его велосипеда. Через определенный промежуток он появлялся у другого сквера. Здесь он снова встречал того же молодого человека, только уже без очков и в другом костюме. На этот раз портфель «забывал» незнакомец. А в промежутке между встречами человек, получивший портфель Шванке, заходил в полутемный подъезд какого-то дома, снимал очки и прятал их в карман вместе с париком и кепи. Затем, несколько раз меняя автобус, он доезжал до отдаленной части города. Тут он походкой гуляющего направлялся к крошечной лавке филателиста. Несколько минут он рассматривал витрину с марками. В зеркальном окне прекрасно отражались редкие прохожие. Потом он входил, после чего на двери появлялась карточка: «Закрыто на обед». В задней комнате лавки быстро производили обработку и фотографирование документов… …Лавка филателиста была известна Вольфу как явочная квартира английской разведки. Обо всем этом Вольф рассказал Наталье Даниловне, добавив: — Я хотел бы, чтобы вы знали всю историю Шванке. Может быть, она когда-нибудь вам пригодится.КОГДАРАЗРАЗИЛАСЬ ГРОЗА
Кафе «Фатерланд» обычно посещалось провинциалами. В пестрой толпе, заполняющей его залы, легко было укрыться от наблюдения. В главном зале дважды в вечер показывалась панорама: «Буря на Рейне с настоящим громом и молнией», как обещала реклама. Брызги «дождя» достигали даже столиков, ближайших к сцене, а «волны» Рейна приводили в восторг лавочников и коммивояжеров. Наталья Даниловна вошла в зал в разгар «бури», когда было еще темно и только по сцене метались голубые молнии. Посвечивая электрическим фонариком, кельнер проводил ее к указанному его столику подальше от «Рейна». Свет еще не зажигался и «буря» продолжала свирепствовать, когда лакей вернулся и прошептал, что один господин желал бы занять свободное место за ее столиком. В полной тьме коренастая фигура поместилась напротив Натальи Даниловны, неясно пробормотав приветствие. Оркестр заиграл «Рассвет» Грига, в зале забрезжил мутный свет, изображавший «утро на Рейне». Провинциалы, довольные зрелищем, вернулись к пиву и сосискам. Неожиданное видение возникло перед Натальей Даниловной: напротив нее за столиком в темном вечернем костюме сидел Платонов. Свет в зале увеличивался, но видение не исчезало. Оно даже поманило пальцем «герр обера» и заказало штейнхегер доппельт (крепкую водку) и шампанское для дамы. Когда обрадованный дорогим заказом кельнер понесся на кухню, помахивая салфеткой, Платонов обратился к Наталье Даниловне так, как будто они расстались только вчера. — Вот мы и встретились! Альберт Преде к вашим услугам… — Он наклонил голову, непривычно гладко причесанную на прямой пробор. Они говорили по-немецки: Платонов чуть тяжеловесными фразами, выдававшими иностранца; она же тем лаконичным, грубоватым языком, который был теперь принят в райхе… — Вы удивлены моим появлением здесь? — Больше обрадована, чем удивлена, — сказала Наталья Даниловна и смело посмотрела на Платонова. Он тоже пристально поглядел на нее. Это длилось мгновение. Он первый опустил ресницы и проговорил: — Не очень веселая обстановка для встречи, фрау Натали… Нас обеспокоили ваши сообщения. Вы здесь на решающем форпосте… Вам виднее. Готовится нападение на нас. Так? — Бесспорно… — А у нас не все верят этому. Я здесь, чтобы составить себе твердое мнение о сроках… Мы должны будем крепко поработать с вами эти дни. Следующую встречу он назначил ей в другом месте.Прошло две недели после отъезда Платонова. Стояли душные июньские дни. Жаркий воздух колебался над раскаленным асфальтом. На бульварах неподвижно застыли пыльные листья деревьев. Марево зноя висело над городом. Когда Наталья Даниловна вышла из подземки, она сразу же увидела, что все изменилось вокруг. Справа, слева, сзади, неизвестно откуда нахлынувшие толпы устремились к громкоговорителям. У черных труб толпа бурлила, как водовороты у быков моста. Со всех сторон подбегали мужчины, женщины, подростки. Многие кулаками пробивали себе дорогу. Пожилой мужчина в котелке ловко действовал тростью. Едва закончилась передача, на скамейку бульвара в гуще толпы вскочил молодой человек со свастикой в петлице. Он бросил в толпу несколько истеричных фраз. Пена клубилась в углах его рта. «Война с Россией!», «Началось»… «Конец России!» — эти слова ударили Наталью Даниловну в сердце. Смертельно бледная, оглушенная, она стояла среди обезумевших людей. Хорошо, что никто не обращал на нее внимания. Вдруг вокруг нее образовалась пустота. Никого не было рядом — толпа унесла оратора дальше. Но тут же набежали новые толпы. Наталью Даниловну вплотную притиснули к цепочке эсэсовцев, охранявших шествие. Эсэсовцы, взявшись под руки, образовали сплошную стену вдоль мостовой, не выпуская людей с тротуара. Стоял смутный гул, прерываемый частыми взвизгами и хриплыми выкриками. Послышался равномерный стук, как бы от хода множества машин, заведенных одновременно. Из-за угла выступила колонна по четыре человека в ряд. Несогнутыми ногами отбивая шаг, не похожий на людской, производя этот странный, нечеловеческий стук, проходили солдаты, похожие на заведенных. Проплывали каменные лица под касками. За солдатами следовали «гитлер-медхен» — девочки в коричневых курточках с цветами в руках. За ними — женщины с жетонами на груди несли транспаранты с крупными готическими буквами: «Женщины Германии, фюреру нужны солдаты!» Они тащили за руку усталых, спотыкающихся детей и орали во всю глотку. Толпа ринулась за шествием. На углу Фридрихштрассе образовался водоворот. Все гоготало, выло, кричало. Наталья Даниловна начала различать в окружающей толпе отдельные фигуры, и они испугали ее. Бледные потные лица, по-рыбьи открытые рты, взмокшие волосы, оскаленные зубы, вытаращенные пустые глаза… Вольф уезжал на фронт. Прощание было коротким. Он выглядел помолодевшим, и глаза не казались усталыми. Форма военного врача молодила его. — Я получил приказ отправить Гедвиг в Вену. Для связи с вами остается Медер. У него есть рация. Он инвалид — на фронт его не возьмут. Будете работать вдвоем. Вы можете поехать к нему в мастерскую, но не раньше, чем через неделю. Наталья Даниловна с грустью смотрела на Вольфа. Вот и он покидает ее. Вероятно, и на фронте он будет при малейшей возможности продолжать свое опасное дело. И ему и ей теперь придется еще труднее.
В это лето не многие выехали за город. В каждой семье кого-нибудь провожали на восточный фронт. И только стаи прыщавых и наглых молодых людей в коричневом по-прежнему слонялись по улицам. Мастерская Медера «Немедленный ремонт велосипедов» помещалась на бойком месте в парке с отличным велосипедным треком и всегда была полна клиентов. И сегодня Наталья Даниловна увидела у входа в мастерскую несколько человек: эсэсовца, девицу в клетчатых штанах, пожилого спортсмена в очках. Велосипеды их стояли у ограды. Но дверь в мастерскую была закрыта деревянным щитом. Эсэсовец молотил по ней ногой в тяжелом башмаке. Никто не открывал. На стук со двора вышел испачканный мальчик лет двенадцати. Наталья Даниловна вспомнила, что встречала его в мастерской Медера. Она стала так, чтобы мальчик не заметил ее. — Где хозяин? — спросил штурмовик. — Его нет, его совсем нет! — Как — нет? — заорал эсэсовец. — Может быть, этот однорукий отправился на восточный фронт бить русских? Ха! Где он? Позови его! Мальчик вытер рукавом лицо: — Он умер. Он сам убил себя. Три дня назад. Из пистолета. Да, у него был пистолет. Я клеил резину. И вдруг зашли в помещение человек десять. Эсэсовцы и два штатских. Хозяин схватил голубой чемоданчик и побежал по лестнице в кладовую… Да… Тогда они все закричали, бросились вверх по лестнице и стали требовать, чтобы он открыл. А он ругался через дверь. Я никогда не слышал, чтобы он так ругался, — даже тогда, когда я сломал машину господина советника… И они начали ломать дверь. Я спрятался под лестницей. Дверь упала. И хозяин сразу выстрелил. И один упал. Остальные испугались. — Ты думаешь, о чем говоришь, дурак?! — закричал эсэсовец. — Испугались! Он покосился на девицу, на пожилого спортсмена. Те слушали с жадным интересом. — Запомни — наши ничего не боятся! Что было дальше? — Простите, мой господин. Хозяин хотел перезарядить пистолет, но ему было трудно. У него одна рука… И тогда они бросились к нему. Все же он перезарядил пистолет и опять выстрелил. И еще один упал. А потом — в себя. А в комнате все было в дыму, и валялись какие-то поломанные части. Мне сказали, что здесь была радиостанция. Я не понимаю, какая радиостанция. Мы чинили велосипеды. Эсэсовец слушал, тупо уставясь на мальчика и открыв рот, в углу которого приклеился окурок дешевой сигары. Наконец он громогласно изрек: — Конечно, твой хозяин был из жидовско-коммунистической банды! Хайль Гитлер! Он поднял правую руку, сел на велосипед и уехал. …Это было первое настоящее горе в ее жизни. Как живой, стоял перед глазами тот, кого называли Эрнст Медер. Казалось, она видит его там, в дыму, за дверью, в маленькой кладовой. Он погиб здесь, единственный друг! И она снова одна. Отчаяние охватило ее. Это не была минута слабости, как когда-то, в самом начале пути в этой стране, а холодное отчаяние человека, который не видит выхода. Было ясно, что рацию Медера запеленговали. Что же будет теперь без рации? Как связаться со своими? Что оставалось делать? Быть немой свидетельницей кровавых преступлений? Отдаться на волю этого смерча, несущего разрушение и гибель всему живущему? Погибнуть, не принеся пользы? Погибнуть бесцельно, когда началась самая жестокая, самая кровавая война? Надо было принять решение. Она бродила долго. Созревал какой-то план, пока неясный, ей никак не удавалось додумать до конца. Потом она сказала сама себе: «Раньше я вам помогала, Рудольф, теперь вы мне поможете». И улыбка ее была недоброй.
Глава третья
ЕЩЕ ОДНА ПРОВЕРКА
Близился час затемнения. С тихой улицы доносились обычные мирные звуки: велосипедные звонки, шуршание шин по асфальту да песня старика точильщика, которого уже лет десять видели здесь. Рудольф вошел к себе. С начала войны он не выезжал из Берлина. Наталья Даниловна мысленно подивилась тому, как изменился он за последние месяцы. Он мало напоминал Романа Ивановича Кротова — потолстел, у него появились солидные манеры. — А я уже давно жду вас, Руди. Не зажигая света, они сели на низкий диван. Голос Рудольфа звучал виновато: — Мы так редко видимся, Натали. Это не моя вина. Условия войны… И притом неприятности, неприятности… — Какие же? У вас раньше не было от меня секретов. А я хотела бы поговорить с вами, посоветоваться. — Как всегда, готов служить вам, Натали. — Я пришла к выводу, что нам надо ехать на восточный фронт. Они говорили по-русски. Ни он, ни она еще не вполне привыкли к названию «восточный фронт», которое появилось в газетах, в телеграммах-молниях, — их выставляли в витринах магазинов. — Почему это пришло вам в голову? — А разве вы не упрекали меня в пассивности, не призывали к мести, не твердили, что это наш долг? — Не хитрите, Натали. Вам наплевать на идеалы. Просто вас привлекает война, как она привлекала авантюристов во все времена. — Вы считаете меня авантюристкой? — Нас с вами обоих, до известной степени… — Это что-то новое в вас, Руди. — Ах, Натали, вы не знаете всего! И это лучше для вас… — Знаю, Руди. Знаю, что любой мальчишка, одержавший «победу» в парижских кабаках, смотрит на вас свысока только потому, что вы не носите погоны, не были рядом с ним, что вы не «воевали»… — Не будем об этом! — сердито прервал Рудольф. Она поняла, что самолюбие его страдает. — А как же насчет поездки на фронт, Руди? — Натали, я делаю очень-очень важное дело, которое даст для войны с большевиками больше, чем я могу дать своим личным участием в ней. Может быть, и мне потом придется выехать на поля сражений. И тогда я хотел бы, чтобы вы были рядом со мной. Потому что вы смелая женщина и потому что я уже не мыслю своего будущего без вас. Вдвоем мы еще многого добьемся, Натали. — Пока вы завершите свою работу здесь, война уже закончится. Ведь все кругом говорят о молниеносной войне и близкой победе… Ну устройте мне выезд на фронт, Руди. У вас связи. Я германская подданная, свободно владею русским языком, знаю Россию. Неужели я не нужна там? Вы же считаете меня активной натурой. И в то же время не даете мне возможности активно работать… — Но вы ведь знаете, что в нашей армии женщины не допускаются на передовые позиции. — Неужели нельзя обойти эту формальность? — Возможно, для вас удастся сделать исключение. Но сначала надо выяснить, точно выяснить, какую работу вам поручат на фронте. — Вы сможете это сделать, Руди? — Надо будет устроить вам встречу с полковником фон Шлейниц, Натали, — сказал Рудольф, немного подумав. — Хоть с самим чертом! — воскликнула она обрадованно, вскакивая с дивана.Кафе, в котором фон Шлейниц назначил встречу, называлось именем старинного немецкого города и славилось до войны старомодной кухней и винным погребом, теперь превращенным в бомбоубежище. Зал, выбранный для встречи, был пуст. Четыре официанта, помахивая белоснежными салфетками, скучали у дверей. Сегодня менее чем когда-либо публика была склонна к посещению ресторанов. Накануне англичане бомбили западную окраину и центр. К утру места разрушений были обнесены забором с аккуратной надписью: «Здесь производится строительство». Редкий прохожий решался улыбнуться, прочитав ее. Наталья Даниловна и Рудольф вошли в зал без трех минут восемь. Ровно в восемь появился оберст фон Шлейниц. Он был в штатском с миниатюрным значком свастики в петлице, как носят чиновники высших рангов. Кто-то, видимо, сопровождал его, потому что было слышно, как он в дверях приказал спутнику ждать в соседнем зале. Рудольф поднялся. За оберстом Шлейницем лениво брел раскормленный коричневый сеттер. Полковник был чрезвычайно любезен с молодым Кууном. Оберст сыпал вопросами. Наталья Даниловна без удивления убедилась в том, что ее история известна во всех деталях и что о ней собраны материалы. Вопросы полковника в ничтожной степени коснулись ее прошлого. Она без труда разгадала и ход мыслей оберста. Если брать ее под подозрение, то, во всяком случае, у нее было достаточно времени, чтобы выучить взятую на себя роль, и ловить ее бесполезно. Фон Шлейниц спрашивал быстро, отрывисто: какие местности в России знает фрау Келлер — области, районы, города, местечки? По каким морям и рекам плавала, какие порты ей знакомы? Когда выяснилось, что Наталья Даниловна знает Смоленщину, немедленно последовали вопросы: какие именно районные центры Смоленщины ей известны, бывала ли она в Красном Бору, какие дачные местности под Смоленском ей знакомы? Наталья Даниловна старалась отвечать с предельной точностью. Она понимала, что точность и быстрота ответов могут послужить ей на пользу, показать пригодность к тому делу, которое ей хотят поручить. Она видела, что ее ответы удовлетворяют полковника. Несмотря на официальный характер беседы, он несколько раз благосклонно ей улыбнулся. При этом его широкое лицо с тупыми углами носа, бровей, рта оставалось неподвижным, и только очень красные губы раздвигались под темными усиками «а ля фюрер». Деловая часть разговора продолжалась часа два. Закончив ее, оберст любезно предложил своим «молодым друзьям» вместе поужинать и подозвал кельнера: — Дайте карточку. И пригласите господина, который ждет в соседнем зале. Тотчас оттуда вышел, изгибая спину, как сонный кот, тощий, по виду такой больной, Вольфганг Мейснер. Пригласили по телефону доктора Плечке. Фон Шлейниц отрекомендовал его как будущего начальника Натальи Даниловны. Она узнала, что доктор Плечке «посвятил свою жизнь изучению России и народностей, населяющих ее пространства», те «жизненные пространства», которые, по словам оберста, «самим положением своим обязаны войти в состав великой Германии». Перу доктора принадлежит труд, «поставивший его в первые ряды ученых новой Германии». Сочинение Плечке называется «Опыт этнографического исследования западных областей России». С начала войны этот ученый в чине хауптманна выполняет свой долг перед родиной в рядах германской армии. Он был в Праге и Париже. Теперь он едет во главе специальной группы на восточный фронт. Работать под руководством образованного и в высшем смысле слова культурного офицера, каким является доктор Плечке, делает честь, да, да, истинную честь, каждому немцу!.. Оберст говорил напыщенно, отчеканивая слова. Его темные усики топорщились над яркими губами. Кельнер подкатил маленький столик, уставленный бутылками и закусками. Фон Шлейниц замолчал, озабоченно разглядывая все это с видом человека, любящего покушать.
ДОКТРИНА ХАУПТМАННА ПЛЕЧКЕ
Доктор Плечке не замедлил явиться. По шрамам, пересекавшим в разных направлениях его лицо, стало понятно, что ученый-офицер был в молодости корпорантом, членом студенческого союза со средневековыми обычаями. Следы дуэлей придавали забавное выражение свирепости его мелким чертам. Видимо, шпагой у него была снесена часть уха. Прическа, принятая у нацистов: коротко подстриженные волосы с хохолком, оставленным посередине в виде петушиного гребня, — подчеркивала этот недостаток. Плечке был близорук, сильно щурил светло-голубые, водянистые глаза, но не носил очков, пользуясь попеременно то моноклем, то лорнетом, по старинке заткнутым за борт мундира. С этим человеком ей предстояло работать. От него зависела ее судьба на ближайшее время и судьба того дела, которое она задумала. Эта мысль заставляла Наталью Даниловну внимательно присматриваться к Плечке. За ужином говорили на отвлеченные темы. Из всех присутствовавших много пил один Плечке. Кельнер не успевал наливать ему коньяк. Он не пьянел, не делался ни угрюмее, ни оживленнее. Только шрамы на его лице ярко пламенели. В середине ужина заговорили о немецкой природе. Плечке, то и дело отрываясь от своего бифштекса, умиленным тоном рассказывал: — В начале войны я съездил на родину попрощаться со своими стариками. Я из Ганноверской области. Мои родители — простые крестьяне. Какие там луга, какие травы! Мой брат, житель деревни, оставил возделывание земли для защиты отечества… Наталья Даниловна вспомнила то, что ей приходилось читать и слышать о богатых кулацких хозяйствах Ганновера, которым благоприятствовал нацистский закон о «наследственном дворе». Хозяйство объявлялось неделимым и наследовалось старшим сыном в семье. Сколько же иностранных рабов возделывают теперь поля, оставленные братом Плечке! По поведению Мейснера, всегда служившему барометром, определяющим степень влиятельности его собеседников, Наталья Даниловна без труда установила, что хауптманн Плечке имеет больший вес, чем полковник фон Шлейниц, что чины в данном случае роли не играют. Плечке «входил в моду». Были вполне в духе времени и его родители — «простые крестьяне» — и «трудовые мозоли его юности», о которых он охотно упоминал, хотя «трудовая» его деятельность заключалась в том, что он несколько лет преподавал фехтование в среднем учебном заведении. Разговор в конце концов перешел на военные темы. Фон Шлейниц утверждал, что взятие Москвы — дело ближайших двух месяцев. — Германская армия, — говорил он, — развивает инерцию продвижения вперед в процессе завоевания новых областей. Инерция складывается, с одной стороны, из инстинктивных устремлений высшей расы к господству над низшими, с другой — из причин материального порядка, побуждающих армию уходить все глубже по мере того, как большое скопление продвигающихся армий подрывает продовольственную базу завоеванной зоны. «Сколько теоретизирования, чтобы прикрыть обыкновеннейший грабеж!» — подумала Наталья Даниловна. К ее удивлению, Плечке не разделял оптимизма полковника. — Нет, Россия не Франция, и война с ней не будет победным маршем. Изучение народностей, населяющих Россию, приводит нас к выводам о большой храбрости русских, причем храбрость эта прямо пропорциональна глубине вторжения неприятеля. Пространства и бездорожье России, ее отсталость являются положительными факторами для русских, хотя это и звучит парадоксально. Те самые причины, которые являются помехой продвижения прекрасно оснащенных техникой германских войск, служат на пользу явлению своеобразному, чисто русскому, варварскому, опасность которого, к сожалению, не вполне оценивается нами. Я имею в виду партизанскую войну, истинными мастерами которой являются русские с незапамятных времен. Партизанская война тем и опасна, что в самой сущности своей она глубоко чужда духу цивилизованного европейца и недоступна его пониманию. Несомненно, однако, что и это препятствие будет побеждено силой германского духа, — успокоительно заключил доктор. «Почему Плечке так много говорит о трудностях войны? — думала Наталья Даниловна. — Как будто опровергает то, о чем трубит фашистская пропаганда. Почему он предсказывает долгую войну? Не сказывается ли в этом большая его осведомленность по сравнению с остальными?» Далее Плечке заговорил как бы с кафедры теми туманными, очень длинными, с бесконечными периодами, затемняющими смысл фразами, которыми было принято говорить и писать в райхе последние годы. Это делалось в духе высказываний Гитлера: национал-социализм воспринимается не разумом, а интуицией… Сила оратора состоит не в логике построения речи, а в создании соответствующего состояния у толпы слушателей. Поэтому смысл дальнейших речей ученого хауптманна уловить было невозможно. Доктор понес несуразное. До слушателей дошли только отдельные выкрики и ссылки на профессора-экономиста Шульце-Геверниц, сказавшего: «Немецкая нация, согласно воле божией, станет во главе человечества». Это глубокомысленное изречение было «путеводной звездой» Плечке, как он высокопарно заявил. Наталье Даниловне стало ясно, что Плечке — один из тех псевдоученых, при помощи которых германскому фашизму удалось развратить часть немцев нелепой и лженаучной «теорией» о закономерности мирового господства немцев как высшей расы. Болтовня хауптманна утомила ее. Впрочем, сам Плечке, перейдя на сект[115] и закусывая жареным миндалем, несколько утратил свой пыл. В такси Рудольф наклонился к Наташе. — «Ну, теперь твоя душенька довольна?» — спросил он по-русски словами старой сказки. — И чего я тружусь? Что мне от того? «Какой ответ? Одна суровость»… Он пробормотал еще что-то невнятное и неожиданно уснул, сморенный вином, выпитым за ужином, и красноречием ученого хауптманна.ГРУППА «97-Ф»
Предполагалось, что группа выедет сразу же после взятия Смоленска. Но продвижение германских войск замедлилось. Лето было на исходе, когда группа Плечке специальным вагоном, прицепленным к воинскому составу, прибыла в распоряжение штаба армейской группы с тем, чтобы оттуда отправиться в указанный ей пункт. Группа была связана с отделом разведки штаба. Штаб армейской группы дислоцировался в бывшем областном центре, разрушенном и обезлюдевшем. Группа же, принявшая здесь условное обозначение «97-ф» и опознавательный знак — два желтых треугольника на красном поле, была выдвинута на сорок километров восточнее и расположилась в большом селе, в уцелевшем доме больницы. Дом был каменный, вместительный, с большой усадьбой и изолированными службами. Группа «97-ф» включала в себя руководство школой разведчиков, бюро по переброскам агентуры в тыл противника, техническое и информационное бюро и паспортный отдел. Школа разведчиков только начинала свою работу. Она была рассчитана на двести человек русских. Срок обучения три месяца. Сначала предполагалось готовить разведчиков с ограниченными задачами: получение сведений о переднем крае противника, о глубине его обороны. Плечке, однако, доказал необходимость подготовки таких разведчиков, которые проникнут далеко в страну и в партизанские зоны. Одну группу разведчиков собирались забросить под видом красноармейцев и командиров, бежавших из плена или отставших от своей части. Другая группа, подростки и девушки, должна была изображать потерявших и разыскивающих своих родных. Была еще особая группа «пострадавших». Этих предварительно избивали — пусть на той стороне показывают кровоподтеки, увечья. В школе преподавали основы топографии, «сведения о структуре Красной Армии», подрывное дело. Учили сигнализации ракетами, ориентировке на местности, чтению карты, обращению с компасом и особое внимание уделяли тому, как надо собирать сведения о противнике. Плечке говорил: — Этот ублюдок с жезлом маршала, Фош, неплохо написал: «Чтобы побороть ту неизвестность, которая сопровождает нас вплоть до вступления в бой частей противника, имеется только одно средство: добывание сведений до последнего момента». Техническое бюро занималось подготовкой радистов. Там учили также примитивной тайнописи. Информационное бюро собирало и обобщало полученные сведения. Оно систематизировало их в виде «Ежедневных докладов», «Разведывательных бюллетеней» за неделю и за месяц и «Разведывательных извещений» по отдельным вопросам. Здесь наносили на карты полученные данные, условными знаками изображали расположение войск противника. Для этого пользовались прозрачной бумагой. Ее накладывали на карту, давая возможность видеть расположение этих войск на местности. Бюро занималось установлением и распознаванием вновь прибывших или ранее неизвестных частей противника. Офицеры из бюро опрашивали пленных по специальным вопросам, выясняя обстановку, режим у русских в прифронтовой полосе, документацию… Но душой всего дела был «паспортный отдел» — детище Плечке. Разбирая ящики с имуществом, привезенным группой, Наталья Даниловна увидела, в чем состояли труды ее начальника. «Паспортная библиотечка» Плечке содержала два основных раздела: документы воинские и документы гражданские. Первый раздел был, как любовно говорил Плечке, «спартански скромен». Это был набор красноармейских книжек всех родов войск, продовольственных и вещевых аттестатов с педантично заполненными графами о выдаче портянок и ремней, командировочных удостоверений армейских фуражиров и ветеринарных инспекторов. Забавная мысль мелькнула у Натальи Даниловны, когда она знакомилась с этими документами. Не всякий старшина записал бы в вещевой аттестат с такой точностью, сколько он выдал портянок, как это делалось у Плечке. Второй раздел «библиотечки» был разнообразен. Он отвечал условиям жизни прифронтовой полосы и тыла противника. Здесь были удостоверения об эвакуации, милицейские пропуска на выезд, пропуска военных комендатур. Документы хранились в ящиках портативного шкафа. По подлинникам, захваченным у пленных, в типографии изготовлялись бланки, куда, согласно образцам, вносились данные владельца документа, наклеивалась фотография, прилагалась подпись. Печати, штемпеля, перья, чернила, штемпельная краска — все изготовлялось соответственно образцу. Однажды от Плечке со сконфуженным видом вышел молодой лейтенант. Тотчас же Наталью Даниловну позвали к начальнику. — Полюбуйтесь, — сказал он, — на работу этого растяпы. — Он испытующе глядел на помощницу. — Посмотрим, проницательнее ли окажетесь вы, фрау Натали. Наталья Даниловна внимательно разглядывала документ, который показал ей Плечке. В чем мог ошибиться лейтенант? Как будто все было правильно. Подлог сделан чисто. Как будто… Внезапная догадка осенила Наталью Даниловну. — Да, — сказала она — это существенная ошибка. — Что вы имеете в виду? — быстро спросил Плечке. — Документ могут признать фальшивым. — Почему? — Чересчур острые углы букв «м» и «н». Они придают подписи готический стиль. Лейтенант еще неопытен. — Браво, фрау Натали! Вы русская, но догадались. А этот, прошедший великолепную немецкую школу, чего он стоит? Он будет отчислен. Мне не нужны ослы. Документы, которые уже были «в деле», то есть по которым разведчики благополучно ходили в тыл противника, Плечке называл «справками успеха». Были «свидетельства неудачи» — документы, послужившие причиной провала. Плечке держал специального мастера подписей, некоего Тиммиха, занимавшего низшую должность в группе «97-ф», — бессловесное существо с огромной головой идиота. В прошлом он был фальшивомонетчиком. Способность Тиммиха подделывать подписи, даже иностранные, была тем удивительнее, что он не знал толком даже родного языка. Плечке самодовольно говорил, что «не боится черной работы», — он лично проводил экзекуции при допросах пленных. В помощь он брал Тиммиха, охотно менявшего перо на плетку. Лицо Тиммиха при этом сохраняло идиотически спокойное выражение. Доктор с серьезным видом говорил ему: — Наполеон сказал: «Искусство допроса есть проявление опыта и военного такта». Что это значит, Тиммих? Тиммих пожимал плечами. Смысл изречений, которые любил Плечке, до него не доходил. — Это значит, Тиммих, что пленному надо помогать давать показания. — Плечке показывал кулак. Наталью Даниловну не удивило, что Плечке, хорошо разбиравшийся в тексте русских документов, вовсе не владел разговорным языком. Он полагался на свою систему и был уверен, что она действует безотказно. А в системе этой было много пороков. Сколько времени уходило на то, чтобы изготовить документ по точным правилам, разработанным Плечке! Иногда на это требовались недели. «97-ф» лишалась мобильности. А в это время русские меняли документацию, и кропотливая работа шла насмарку. Плечке как-то установил, что один русский контрольно-пропускной пункт недалеко от линии фронта делает отметку на документах не чернилами, а, как показал химический анализ, так называемой берлинской зеленью — медикаментом зеленого цвета. — Хвалю ваших соотечественников! — сказал Плечке. — У них есть голова на плечах. Остроумная выдумка! «Что бы это могло значить? — раздумывала Наталья Даниловна. — Почему берлинская зелень, а не чернила?» Она не находила ответа. Плечке приказал делать отметки на документах своих людей, которых забрасывали в зону, где находился этот контрольно-пропускной пункт, также берлинской зеленью. — У нас такой же капепе, — острил он. Не зная разговорного русского языка, он усвоил сокращения и любил щеголять ими. И вот из-за этих-то отметок, сделанных берлинской зеленью на фальшивых документах, провалились три агента Плечке. Хауптманн был озадачен: — Почему они вдруг перешли на обыкновенные чернила? Наталья Даниловна догадывалась, почему это случилось. Некоторое время у контрольно-пропускного пункта не было обыкновенных чернил, и они взяли берлинскую зелень в ближайшем медсанбате. Потом чернила им доставили. Плечке же заподозрил дьявольскую хитрость и попал в ловушку. Все больше и больше Наталья Даниловна убеждалась в бесплодности усилий хауптманна. Казалось, были все условия для успеха. Плечке работал много, упорно, систематично. К тому же он приучал и своих подчиненных. У него была первоклассная техника. Группа получала и обрабатывала много сведений. И все-таки Плечке не достигал основной цели, ради которой была создана группа: вовремя узнавать то, что предпринимает противник. Неудача следовала за неудачей. Плечке, твердо верившего в свою систему, они не смущали. Однако их становилось все больше и больше: то разведчики, завербованные из пленных, уходя в тыл к русским, на первой же заставе рассказывали, кто они, и сдавали документы, сделанные с таким трудом и искусством; то в самих документах допускались роковые для их владельцев ошибки. Наталья Даниловна нередко видела в «русских» документах, изготовленных Плечке, среди описания примет пометку: «цвет глаз серо-голубой», а это было буквальным переводом с немецкого. Внимательный работник контрольно-пропускного пункта обратил бы внимание на выражение, чуждое русскому языку. Почему же Плечке терпел неудачи? Из-за того, что переоценивал свою систему, свою технику? Пришло время, и Наталья Даниловна поняла, что основная причина неудач Плечке не в этом. Авантюристическая, антинародная политика фашизма определила и всю военную стратегию его. Порочность больших стратегических планов отразилась и на второстепенных делах. И это мешало успеху даже отдельных способных слуг фашизма, каким бесспорно являлся Плечке. Плечке не верил в скорое окончание войны не только потому, что лучше, чем другие, знал мощь противника, но и благодаря скептическому складу своего ума. Полагая, что война продлится долго, он строил свое дело прочно, придавая группе «97-ф» тот лоск наукообразности, который был характерен для самого Плечке. Чин капитана, руководство одной группой — этого было слишком мало для честолюбца Плечке. Но способность анализировать пришла к Наталье Даниловне позже, когда она освоилась в новой обстановке. Первое же время она была в душевном смятении, которое удалось побороть в себе только усилием воли. В недобрый час вернулась она в родные края. Великое испытание выпало на долю Родины! И Наталья Даниловна чувствовала это тем сильнее, что ей не с кем было разделить обуревавшие ее чувства. Никого, кроме врагов, не было рядом с нею.КТО СЛЕДИТ ЗА ШВАНКЕ?
Приезжая по поручению шефа в город, Наталья Даниловна иногда встречалась с Карлом Шванке. В небольшом помещении бывшего магазина Книготорга, наскоро окрашенном золотистой краской, было открыто кафе для офицеров, носившее претенциозное название: «Золотая коробка». Здесь собирались те офицеры, которые не имели доступа в «Казино», предназначенное для высших чинов. Некоторые приводили в «Золотую коробку» «дам», вывезенных из Польши и Германии. В кафе было грязновато и холодно. Мороз уже несколько дней доходил до пятнадцати градусов. «Как в Сибири», — говорили все, вспоминая, что в Берлине при десяти градусах мороза закрываются катки и школы. Карл Шванке сидел напротив Натальи Даниловны, дымя трофейной сигарой, уговаривал ее пить, был предупредителен и оживлен. Ему льстило общество фрау Келлер. Бесспорно, она была «настоящей дамой». Он понял это еще в те времена, когда она блистала, как звезда, в мещанском кафе «Орхидея» среди знакомых ему с детства скучных бюргерш и их унылых дочерей. Конечно, тогда он был просто мальчишкой. Теперь фрау Натали видит, как он вырос! Война — это путь к славе! Его знает весь город. Через полгода он будет обер-лейтенантом. Штандартенфюрер Оке предсказывает ему быструю карьеру. Карл не лгал. Весь город знал имя Шванке. Страшные вещи связывались с именами штандартенфюрера Окса и его подручного Шванке, коменданта лагеря военнопленных. Шванке распоряжался публичной казнью семнадцати заложников, взятых комендатурой после убийства немецкого солдата. Среди повешенных на площади были девушки. Наталья Даниловна сама еще не знала, зачем ей нужен Шванке, для чего, преодолевая свое отвращение к этому человеку, она возобновила старое знакомство с ним. Но смутное чувство ей подсказывало, что он еще пригодится ей. Она владела его тайной, она могла при случае напомнить ему историю «забытого» портфеля с секретными документами, попавшего в руки молодого человека в окулярах, с явно выдуманной фамилией. Карл уже успел поведать ей обо всем, что, по его мнению, могло показать его в выгодном свете. Он послал отсюда семь посылок своей бедной матери — дорогие посылки с ценными вещами. Он так любит свою бедную мать! Фрау Натали помнит ее? Ах! Фрау Келлер напоминает ему Берлин, лебедей на озере в Тиргартене, воскресные поездки в Шильдгорн… Наталья Даниловна почти не слушала его. Под мелодии кабацких пластинок, бравурных, визгливых, она продолжала думать всё об одном… Прошло много времени, а связи со своими все не было. Ей казалось, что она ищет недостаточно энергично, и за это она упрекала себя. Временами ужас охватывал ее. Что, если она не установит связи? Проникнуть в этот ад и здесь оказаться беспомощной! Так не лучше ли и честнее покончить с этим! Ей нетрудно было бы ликвидировать целую группу негодяев. А там будь что будет!.. И снова она вспоминала приказ Платонова: «Следуйте строго нашим указаниям. Мы запрещаем вам самостоятельные активные действия. Вы нужны для другого». Но она оказалась ненужной. Кому может она передать те важные, исключительно важные для нашей победы данные, которыми располагает? Правда, ей кое-что удалось. Ушел и не вернулся разведчик — русский парень Петр Евтушенков. В школе, где все носили вымышленные фамилии, его называли «Петроф». Трудно было бы Наталье Даниловне объяснить, почему она угадала, что слушатель школы по циклу «Сбор общих сведений о партизанах» «Петроф» не будет выполнять заданий, уйдет к партизанам, унеся в коротко остриженной русой голове нехитрую «науку» доктора Плечке о «роли русских народностей, подчиненных германской расе». Уйдет и расскажет своим все, что знает о заведении ученого хауптманна и о ней, Наталье Келлер. Он, конечно, расскажет, она об этом постаралась. Петр ее запомнил. Какими ненавидящими глазами сверлил он ее, когда она переводила ему напутственные поучения Плечке! И вот Евтушенков не вернулся к немцам. Но дойдут ли его рассказы куда надо? К Платонову? И еще одно наблюдение беспокоило Наталью Даниловну. Бывая в городе, она замечала, что за нею следят. Первый раз это показалось ей, когда она была с Карлом в кино, потом — в «Золотой коробке». Всегда одно и то же ощущение, обостренное привычной наблюдательностью: кто-то третий сопутствовал им, чья-то тень скользила позади, чей-то пристальный взгляд искал их. Кто следил за ними? Откуда могла грозить ей опасность? И почему этот третий появлялся тогда, когда она бывала в обществе Шванке? Первая пришедшая в голову догадка нуждалась в проверке. Наталья Даниловна поднялась. Карл поспешно бросил кельнеру: «Запишите за мной!» — и последовал за ней. Шел снег. В его дрожащей завесе тотчас же темная тень двинулась за ними. На этот раз Наталье Даниловне удалось рассмотреть преследователя, но смутно: среднего роста, хорошо одетый мужчина в меховой шапке. Он шел за ними осторожно, но настойчиво. Неожиданно для Шванке она стала прощаться. Нет, он не должен ее провожать, она встретится с ним завтра. Наталья Даниловна повернула за угол и огляделась: переулок был пуст. Она переждала немного, вышла снова на ту же прямую ночную улицу и увидела вдали быстро удалявшуюся крупную фигуру Шванке. Мужчина в меховой шапке двигался за ним неотступно, но осторожно, прижимаясь к стенам домов… Так вот за кем велось наблюдение! Кто же мог следить за Шванке? Не друг же? Нет! Глаза мстителя искали убийцу в снежной мгле. Рука врага тянулась к его горлу. И этот враг Шванке был ей другом, неведомым еще другом… Ей стало жарко. Она распахнула пальто. Вот снова весть о том, что она не одна! Близкие ей люди действовали здесь, в развалинах города. Она вспомнила семнадцать повешенных. Тебе отомстят за них, Шванке! Страшной ценой заплатишь ты, Шванке!..В городе и в воинских частях показывалась хроника «Победа германских войск под Москвой», газеты писали об «истощении сил русских», а бегство немцев от Москвы повсеместно объяснялось переходом на зимние квартиры. Но в узком кругу, который Плечке называл «кольцом фронтовой дружбы», не скрывали поражения гитлеровцев под Москвой. «Вольные» разговоры, некая «фронда» были в духе Плечке. Да, он и его друг, штандартенфюрер Окс[116] — фамилия удивительно шла к его грузному телу — могли себе позволить слегка, как «свои люди», покритиковать военное руководство, вспомнить старые анекдоты о Браухиче и даже недавние заверения «нашего толстого Германа» о том, что «ни один вражеский самолет не появится над Берлином». Иногда они позволяли себе заметить, что русские храбро дерутся. В этих разговорах все чаще, с уважением и завистью упоминалось имя Амадея Кууна. Значение его росло. «Старик имеет прошлое, — говорили все, — обеспечивающее ему будущее». Плечке был недоволен своим начальством. Он часто раздражался, много пил и принимал большие дозы фенамина, как он утверждал, поддерживавшего его работоспособность. Однажды он бросил на стол пачку документов и грубо обругал чиновников, приславших их. — От этих бумаг за километр воняет Александерплацем![117] — кричал он. Документы надо было срочно переделывать тут же, в группе «97-ф». Вечером Наталья Даниловна тщательно рассматривала их. На этот раз ей особенно трудно было скрыть волнение. Документы были советскими паспортами с московской пропиской. Группа агентов, подготовленных в тылу, вероятно в Берлине, готовилась к переброске через фронт с помощью «97-ф». Группа шла в Москву. Люди, прибывшие с этими документами, помещались в изолированном доме. И к ним никто не допускался. Но паспорта были у Натальи Даниловны, и на них имелись фотографии. Одно лицо Наталья Даниловна особенно хорошо запомнила. Ей думалось, что это был руководитель группы, — худое, с высоким лбом и глубоко сидящими глазами лицо. Особых примет, конечно, не было, а паспорт… Его легко переменить. Там, в Москве, они могут добыть другие паспорта. И найти этих людей будет уже невозможно. Холодок пробежал по спине Натальи Даниловны. Преступники останутся нераскрытыми! Будут действовать безнаказанно! Но что же делать? Фотографии, вот что нужно было ей. Но у нее не было возможности переснять карточки с паспортов. Она могла бы изъять их из фотолаборатории у старика фотографа, если бы эти люди фотографировались здесь… И она решилась. Плечке внимательно выслушал ее доводы. Да, фрау Келлер совершенно права. У русских действительно чрезвычайно редки фотографии на паспортах в светло-коричневом тоне. — Вы видите, какие тупицы сидят на Александерплац? Надо переснять. Пусть старик займется этим сейчас же. А вы проследите, чтобы все было сделано «тип-топ», как полагается… Выходя от Плечке, она столкнулась в дверях с майором Остриковым. Опустив руку с плетью, выставив вперед длинный хрящеватый нос, он входил в кабинет Плечке без стука, как свой.
Она не могла больше ждать. И вот Карл Шванке ведет ее по территории лагеря военнопленных. Это уже не был мешковатый юнец с бледным нечистым лицом. Бравый офицер «нового стиля», с «арийским выражением лица» — смесь тупости и нахальства, — подняв плечи, шел по лагерной зоне. За ним почтительно следовали чины лагерной охраны. Тысячи людей помещались в промерзших бараках бывшего кирпичного завода. И не только военнопленных согнали сюда. Женщины, дети и старики умирали за проволокой от тифа и голода. Истекала кровью только что родившая женщина. — Что здесь? Полузанесенная снегом лестница вела в подвальное помещение. Подвал был глубок. Крошечные покатые оконца занесены снегом. Шванке засмеялся: — Беда с этимиэксцентричными особами! Слишком любопытны. Жаждут сильных ощущений. А Наталья Даниловна уже спускалась по лестнице. Узкий подвал, стены, покрытые корочкой льда, несколько человек в рваной одежде лежали на ледяной земле. У одного были вывернуты кисти рук и висели по бокам туловища, как плети. Другой поддерживал рукой вспухшую, страшную голову. Несмотря на окрик фельдфебеля: «Ауф!»,[118] — все остались на полу. Никто не взглянул на посетителей, не повернулся в их сторону. И вдруг Наталья Даниловна замерла на месте… Не отрываясь, смотрела она на одного из пленных. Он был в разорванной, окровавленной рубахе, с седой щетиной на черном лице, с глубокими-глубокими впадинами глаз. Но она видела этого человека совсем другим… Прошлое встало перед ней. Далекий край, снег, отражающий солнце. И этот человек в черном полушубке, молодое лицо под шапкой-кубанкой озарено солнцем. И вот снова он. Ночь. Величавая сибирская река. Они плывут в лодке. Приходько! Она чуть не окликнула его, едва удержалась, чтобы не закричать. Он не видел ее, нет, — он смотрел в одну точку, и глубокое безразличие было в этом взгляде. Наталья Даниловна поспешно вышла: — Что это за люди? Приняв важный вид, Шванке объяснил, что это группа особых пленных — они отказываются давать показания. А есть сведения, что именно их показания могут быть полезными. Это русские разведчики. — Вот как? Вам это известно?.. Вы молодец! — воскликнула Наталья Даниловна. Шванке был польщен: — О конечно, фрау Натали. Я досконально знаю этих бестий. — Шванке перечислил несколько пленных по фамилии. Среди них он назвал старшего лейтенанта Приходько. Она не слушала дальше. — Так завтра вечером в «Золотой коробке», не правда ли? — сказала Наталья Даниловна, прощаясь.
КАРЛ ШВАНКЕ В ЛОВУШКЕ
Сидя в машине, она снова необыкновенно ясно увидела перед собой заснеженный поселок и Приходько у крыльца школьного здания. И опять она с Приходько в лодке тихо плывет по медленной сибирской реке… Она хотела подготовиться к завтрашнему разговору с Шванке, собрать свои мысли, но эти картины всё стояли перед нею, и она не могла сосредоточиться. Возвращаясь к себе, в группу «97-ф», Наталья Даниловна встретила Плечке, прогуливавшегося по саду в громадной медвежьей шубе. Плечке даже внешним видом любил подчеркивать особый характер своей работы. Медвежья шуба, вероятно, была напоминанием о том, что доктор глубоко проник в специфику этой страны. Плечке был не один. С ним вместе ходил по саду высокий штатский. Наталья Даниловна тотчас узнала его по фотографии, которой уже завладела. Спутником Плечке был руководитель диверсионной группы, направлявшейся в Москву. Здесь его называли «капитан», настоящая же фамилия никому не была известна. Вечером Плечке вызвал Наталью Даниловну, чтобы переводить разговор с Остриковым, но деловая беседа, как бывало часто, не состоялась. Майор казачьих войск Остриков давно стал бывать у Плечке. Наталья Даниловна знала, что он был взят в плен с остатками своего эскадрона под Вязьмой, дал согласие служить у гитлеровцев, оказал им ценные услуги, ходил со своими людьми на операции против партизан. Остриков пользовался здесь известным доверием. Предполагалось передать ему формирование частей из русских военнопленных для борьбы с партизанами. Бывший майор держался уверенно. В его поведении не было ни следа приниженности, обычной у предателей, вращавшихся в кругу фашистских офицеров. И почему-то эта манера Острикова импонировала Плечке. Своеобразная дружба связывала этих людей. Хауптманн подшучивал над тем, что Острикову совершенно не дается немецкий язык. Он усвоил лишь десятка два слов, которые произносил с ужасающим акцентом. Трое мужчин сидели у письменного стола в свете зеленой настольной лампы. На круглом столике стояли бутылки. Плечке и Остриков, видимо, изрядно выпили. Невысокий, скуластый, с длинным хрящеватым носом, Остриков бросил на Наталью Даниловну наглый взгляд. Третьим был штандартенфюрер Оке. «Палач, предатель и теоретик палачества и предательства», — подумала Наталья Даниловна, прислушиваясь к разговору. Плечке жаловался на берлинских чиновников, часто упоминая имя фон Шлейница: — Они не верят там моим материалам, не верят в опасность нового вооружения русских. В первой мировой войне тупицы — технические советники при штабах — тоже не поверили сведениям о конструировании английских танков, пока в сражении при Камбре эти машины не толкнули их в зад. Один из дураков-экспертов потом застрелился. — Ну, фон Шлейниц не дурак — он не застрелится! С его-то деньгами! — вставил Оке. — Они говорят, — продолжал Плечке, — что я «теоретик», что даю разведчикам не задания, а трактаты. Невежды! Когда пророк Моисей посылал двенадцать сородичей посмотреть обетованную страну, он не ограничился топографическим заданием, а приказал разведчикам посмотреть, как живут люди, много ли их, сильны ли и каковы их земли. — Ну, так он же был не ариец, — опять коротко вставил Оке и налил в стакан водки, — а хитрый семит! Остриков вдруг захохотал, подняв кверху нос. Кажется, он был уже пьян. — Чему вы смеетесь? — неожиданно спросил Плечке, внимательно взглянув на Острикова. Сколько бы хауптманн ни выпил, он не терял способности наблюдать за окружающим. — Я понял, что вы упомянули Моисея, и в сочетании со словом «топография» это показалось мне смешным. — До вас поздно доходят мои остроты! — буркнул Плечке. — Если бы Моисей дожил до этих дней, вы бы упрятали его за проволоку, а потом… — Остриков щелкнул зажигалкой и поднес к огоньку лоскуток бумаги, затем аккуратно развеял пепел. Этот жест мог бы показаться страшным по своему холодному цинизму. Мог бы показаться… Но внимание Натальи Даниловны было приковано к другому. На одно мгновение ей почудилось, что Остриков понимает по-немецки и скрывает это: он засмеялся после реплики Окса. Это и насторожило Плечке. Наталью Даниловну отпустили; в переводе разговора не было нужды. Она постояла несколько минут на крыльце. Ночь была темная, тускло мерцал снег. Стояла глубокая тишина, словно вокруг не было ничего живого. Никогда не бывало таких безмолвных ночей в русской деревне. Не пели петухи, не мычали коровы. Даже в заселенной части, за тремя рядами колючей проволоки, ни проблеска света, ни звука. Она услышала, как дверь сзади нее открылась. Прошел, тихо звякая шпорами, Остриков. Он не видел ее. Она двинулась за ним, сделала несколько шагов и остановилась. Негромкий разговор послышался ей неподалеку — там, где стояла грузовая машина и около нее часовой. Кто-то проговорил негромко: — Да тут неловко говорить, вон попка торчит на посту. Голос показался Наташе знакомым. — Ну ладно! — Этот второй был голос Острикова, неожиданно трезвый. — Дай закурю только… Послышалось щелканье зажигалки. Она отказала. Остриков выругался. Кто-то чиркнул спичкой. Стали закуривать. Подошел немецкий солдат. — Тебе прикурить? Дудки! Третьему не полагается! Знакомый голос, знакомые слова! Кто это? Наталья Даниловна напряженно вслушивалась. Пищик? Может ли быть? Еще одно слово, и она узнает. Одно слово… — Пойдем, Петр Иванович, — сказал Остриков. «Петр Иванович»? Нет, Пищика звали Геной. Но голос, интонация… Они отошли, и из темноты послышалось: — «Трансваль, Трансваль, страна моя…» Она с трудом удержалась, чтобы не побежать за ними. Утром Наталья Даниловна стала осторожно наводить справки, но никакого Петра Ивановича в комендантском пункте группы «97-ф» не оказалось.Связи со своими все не было, и Наталья Даниловна решилась на смелый шаг. План ее был прост, но требовал большой напористости, самообладания. Старший лейтенант Приходько когда-то был человеком Платонова. Со слов Шванке она поняла, что и в лагере он оказался стойким и мужественным, пройдя через пытки и нечеловеческие муки. Если добиться его освобождения, он сумеет перебраться через линию фронта, сумеет связать ее с Платоновым. Такому человеку можно многое доверить. Надо было заставить Шванке освободить Приходько. И вот она сидит с Карлом в «Золотой коробке». — Помните, Карл, тихие улицы Шарлотенбурга, озеро в парке, кафе «Орхидея»? — Как же не помнить? Это же любимое кафе моей матери! И притом там впервые я встретил вас, фрау Натали. Вы, вероятно, тогда смеялись надо мной, а я робел в вашем присутствии, как школьник. — А вы могли бы оказать мне большую услугу, Карл? — Пусть фрау Натали только прикажет. Я не забыл услуги, оказанной моей матери старушкой Куун. Долг арийца — помнить добро. — Эта услуга имеет прямое отношение к вашей службе… — Все, что только не принесет вреда фюреру и Германии. — У вас были случаи, когда пленных из местных жителей отпускали из лагеря на поруки?.. Ну, хотя бы женам. — Да, было несколько случаев. Эти пленные хорошо себя вели. — Вы должны отпустить одного человека. — Кого, фрау Натали? И по какой причине? — Имя я вам, конечно, назову, а о причине вы будете иметь только самое общее представление. — Но… — Его имя — Приходько. В глазах Шванке отразился испуг. — Это невозможно. — Карл, вы в долгу у меня. Помните, как вы хотели броситься в Шпрее, задолжав крупную сумму, и как вас тогда поддержали? И никто не донес на вас, никто не сообщил вашему начальству, что пакеты, которые вы развозили на своем велосипеде, вскрывал кто-то еще, кроме адресата. Она проговорила все это очень медленно и тихо, пристально глядя Карлу в лицо. Он побледнел. — Мой бог! Вы это знаете?! — вырвалось у него. — Я работаю в немецкой разведке. Я должна и обязана все знать… Вы были тогда молоды, но теперь-то понимаете, чем пахнут такие дела? За это — топор! Шванке уже не был ни предупредительным, ни бравым. Капли пота выступили на его крупном носу. Все его огромное тело, казалось, съежилось и поникло. Наталья Даниловна холодно смотрела на него: — Мы пожалели вас тогда. Мы поняли, что вы стали жертвой своего увлечения. А вы знаете, что сделали со стенографисткой из военного министерства, которая передала некоторые сведения польскому военному атташе? Это было незадолго до войны. — Я не помню… — пролепетал Шванке. — Напомню: ее казнили… Мы же сохранили сына вашей бедной матери и не помешали вам сделать карьеру. Не будем мешать и дальше. — Но зачем вам нужен Приходько? Он же враг. Мы ничего не могли добиться от него. — Деловой вопрос. Он нужен нам именно, как враг. У нас есть план… — Не понимаю… — Большего вы не должны понимать. Есть тайны, которых мы никому не открываем. — Но я должен сообщить шефу. — Вы никому не сообщите, Карл! Вы дадите возможность Приходько уйти из лагеря! Карл молчал. Он был в ловушке и понимал это. Нитка жемчуга открыла перед ней, чужестранкой, дверь в семью Келлера. Деньги, которыми был когда-то куплен Шванке, открывали перед Приходько ворота лагеря.
С КЕМ ЖЕ ВОЮЕТ ОСТРИКОВ?
Дорога шла по опушке мелколесья. Наталья Даниловна пустила коня шагом. Она знала, что найдет в этой недавно захваченной деревеньке, куда послал ее неутомимый шеф. Войска продвигались в глубь страны, оставляя за собой зону пустыни, уничтожая села и города, угоняя людей в неволю. День был серый, бессолнечный. Низко склонились деревья над замерзшей рекой. Что-то темное мелькнуло среди покрытых снегом ветвей. Как будто человеческая фигура стояла на суку, готовясь прыгнуть в ноздреватую пену сугроба. Конь захрапел, когда Наталья Даниловна подъехала ближе. Перед нею был повешенный. Навстречу по проселочной дороге двигалась странная процессия. Дети, старики, старухи, молодые девушки, кое-как одетые, многие без шапок, медленно шли под конвоем солдат, подгонявших их штыками. Один из конвоиров нес прибитую к палке дощечку с надписью на немецком языке: «Разминировано». Позади всех, почесываясь, брел низкорослый ефрейтор. Наталья Даниловна окликнула его, но ефрейтор уже сам бежал к ней, лицо его оживилось. — Добрый день, уважаемая фрау. — Какие новости, Лимкемпер? — Мы сожгли деревню. Глядите! — Он указал на пожарище вдали. — А это кто? — Отряд деминеров. — Лимкемпер охотно пояснил: — Это местные жители. Мы гоним их на мины. Когда мины взорвутся, мы поставим эту дощечку. И будем собирать новый отряд. Вот и всё. Что вы так смотрите на меня, фрау Келлер? Счастливый путь! Хайль! Она обессилела. Ей трудно было держать поводья. Мимо нее провели обреченных, и ничего нельзя было сделать для них. Бывает ли в жизни что-нибудь страшнее? Она нашла коменданта участка, объяснила ему цель приезда. Есть данные, что уцелел дом районной милиции, там должны быть ценные документы. Комендант дал Наталье Даниловне провожатого. Просторная изба-пятистенка чудом уцелела. Кругом догорали развалины, доносился шум близкой стрельбы. На деревянной перегородке висел кусок картона с печатной надписью: «ЗАГС». От будничного слова повеяло воспоминаниями о другом времени, таком далеком… О другом мире. Она открывала один за другим ящики столов. Среди бумаг валялись чистые бланки. Она стала их разбирать. Легкие шаги послышались за ее спиной. В дверях стояла очень молодая девушка. Светлые косы выбились из-под платка. Девушка улыбалась. Давно уже Наталья Даниловна не видела такой хорошей улыбки. — Кто вы? — спросила Наталья Даниловна по-немецки. — Я местная учительница. Любой меня зовут. Она говорила по-немецки правильно, но с трудом подбирала слова. — Как вы попали сюда? Кто пропустил вас? — с оттенком строгости спросила Наталья Даниловна по-русски. — Школу сожгли, вот я пока здесь устроилась. — Но как же вас тут оставили? — А меня здесь все знают. Я немцам стираю, убираю у них. Комендант обещал меня взять переводчицей. — Вы, что же, и во время боев здесь были, Люба? — Я у тетки была, тут, недалеко. И сейчас вернулась. Она продолжала улыбаться все той же удивительной ясной улыбкой. — Ну, идите отсюда, не мешайте мне работать! Наталья Даниловна отобрала несколько бланков, которые не могли пригодиться Плечке, уничтожила остальные. На обратном пути, на опушке леса, она увидела три трупа, лежащих на снегу. Она подъехала ближе. К ее изумлению, это оказались Лимкемпер и два солдата — конвоиры «деминеров». Кто убил их? В лесу она обогнала четырех всадников. Бросив поводья, опустив к ноге правую руку с плетью, они углублялись в лес, стройно и красиво напевая вполголоса:«…К ВАМ ПОСЛАЛ СТАРЫЙ ХОЗЯИН»
Домик на глухой окраине был пуст. Сквозь щели закрытых ставен просачивался последний свет уходящего дня. Наталья Даниловна и Приходько были одни. Приходько немного поправился после освобождения из лагеря. С обритой головой он походил на мальчика. Они снова пересмотрели документы, принесенные накануне. И Приходько повторил все, что ему следовало передать на словах. У него был немецкий временный паспорт с отметкой о регистрации, пропуск немецкой комендатуры железнодорожному рабочему для отлучки на пять дней к жене, проживающей в прифронтовом пункте. Он пересчитал деньги — немецкие оккупационные марки. И вот что должен был передать своим старший лейтенант Приходько в случае удачного перехода линии фронта. Не позднее чем через неделю германская разведка перебросит на советскую территорию диверсионную группу из трех человек. Группа имеет явки в Москве. Руководитель, русский по национальности и уроженец Москвы, — эмигрант. Тут следовали данные по паспорту всех трех диверсантов. Фотокарточки их были вшиты в одежду Приходько. Место перехода линии фронта точно не установлено. Эти трое будут говорить, что представляют собой одну семью: отца и двух сыновей. Один из них проживал временно у отца — агронома совхоза в прифронтовой полосе; другой, советский работник из Москвы, приехал за ними, когда началось наступление немцев. Вывезти он их не успел и сам застрял: дороги были отрезаны. Группа несет взрывчатку и недавно изобретенные портативные мины, спрятанные в ручном багаже. Группа формировалась в Берлине и получила особое задание. «О них мы скоро услышим», — заметил Плечке в разговоре с Натальей Даниловной. Второе донесение, которое отправлялось с Приходько, также было весьма важным. Разработан план операции по окружению и разгрому соединений Красной Армии и партизан в лесных массивах области. После этой операции должен быть нанесен удар во фланг одной из советских армий. Вызвано несколько дивизий, состоящих главным образом из северян. Считалось, что эти солдаты привыкли к лесам. Для прочесывания лесов немцы формируют специальные части из военнопленных. Надо было передать также сведения о расположении складов боеприпасов, вооружения и инженерно-технических материалов фронтового значения. Склады хорошо замаскированы натянутыми над ними зелеными сетками. — Расскажите, Приходько, обо мне, — говорила Наталья Даниловна. — Передайте, что нужна постоянная связь…Приходько ушел. И казалось, что остановилась жизнь. Остановилась до того момента, когда Приходько подаст знак… Подаст ли? Дойдет ли? Несколько раз Наталья Даниловна заходила в домик на глухой окраине. Здесь жила молодая женщина Даша, вдова железнодорожника, погибшего во время крушения поезда за несколько лет до войны. Две недели назад Даша сходила к коменданту лагеря и заявила, что Приходько был ее вторым мужем. В эту страшную пору многие русские женщины воскрешали традиции революционных «невест» — тех девушек, которые приходили в царские тюрьмы повидаться с незнакомыми, но близкими им по стремлениям людьми, передать им весть от товарищей. Даша Хохлова ходила к ограде лагеря военнопленных, незаметно передавала лепешки и вареные картофелины. Она охотно взяла к себе в дом нежданного «мужа». Даша ни о чем не спросила его и молча проводила до ворот, когда он отправился в опасный путь. Вскоре Наталье Даниловне пришлось отказаться от посещений Даши. Начались облавы и аресты. Это случилось после того, как был убит комендант лагеря Карл Шванке. Его нашли недалеко от ворот лагеря с кинжалом в груди.
Группа «97-ф» со всеми людьми и имуществом отправилась за фронтом, который передвигался на восток. Потом движение остановилось. Пришел приказ о передислокации, и группа Плечке оказалась на старом месте. В последнее время хауптманн заметно нервничал. О его неудачах, о громоздком аппарате все чаще неодобрительно отзывалось начальство. Плечке часто пил в обществе Острикова. Майор все еще ничего не делал, писал планы каких-то операций и охотно слушал поучения и остроты доктора, переводимые Натальей Даниловной. Однажды по дороге в город Наталья Даниловна встретила Острикова. Он выпрыгнул из кабины полуторки, крикнув: — Петр Иванович, приезжай за мной через час! — и пешком отправился дальше, не заметив Наталью Даниловну, идущую по обочине. Она торопливо подошла ближе, и давно знакомое ощущение охватило ее. Ей показалось, что она в далеком «Таежном» и собирается в путь на стареньком газогенераторном грузовике… — «Трансваль, Трансваль страна моя…» — неслось из кабины. За рулем полуторки сидел, позевывая и закрывая рот меховой рукавицей, он, Пищик! Машина тронулась… Наталья Даниловна вскочила на подножку и на ходу влезла в кабину. Пищик, не бросая баранки, покосился на нее. Лицо его расплылось прежней, широкой улыбкой. — Непроходящие тени минувшего!.. Не располагали, Наталья Даниловна, со мной встретиться? А я как раз собирался вас проведать… Она молчала, потрясенная, ничего не понимающая. — Ближе к делу. Мне велено вам передать: то, что вам требуется, уже здесь. А подробности — завтра. Слезайте с машины — вам со мной нельзя! — Кто же послал вас? — К вам послал старый хозяин — Анатолий Николаевич. — Он… здоров? — Был ранен два раза. Велел кланяться. — Расскажите… — Не могу, не могу! Завтра. Кюсс ханд.[119] Он помахал рукой в рукавице и уехал.
ЛЮБА
Но прошло несколько дней, прежде чем им удалось встретиться. Они ехали вдвоем снежной дорогой, и казалось, что вот-вот знакомые строения «Таежного» возникнут впереди. — Был Генка Пищик, а стал Петр Иванович, шофер немецкого штаба. И как в романсе поется: «К прошлому возврата больше нет»… Впрочем, есть возврат. Будет! Наталья Даниловна уже знала, что с начала войны Пищик был на фронте, получил звание сержанта, служил в разведке у Платонова и был послан им в немецкий тыл для выполнения особых заданий. Он устроился шофером. Много раз ходил к партизанам, через которых держит связь с Платоновым. — В последнюю ходку мою, — рассказывал Пищик, — прилетал в леса на «уточке» сам Анатолий Николаевич… Худой стал с лица. — Про меня не говорил? — Ну конечно! Посидели в землянке, поговорили… — А про меня-то что говорил? — Об вас разговор был короткий. «Ты, говорит, ее личность хорошо знаешь, потому тебе и поручаю. Имею, говорит, от нее интересную весточку. Разыщи, говорит, и кланяйся. Молодец, скажи!» — Так и сказал? — Век счастья не видать, если вру! «Скажи ей: то, что вам нужно, то, о чем просили, уже здесь. А еще, говорит, познакомь Наталью Даниловну с молодой барышней, которую ты знаешь». — Кто же эта барышня? — Здешняя. Приходила отсюда к партизанам в лес. Неделю там жила. Я ее обратно сюда проводил. По-немецки здорово говорит, не хуже меня… Наталья Даниловна заметила, что они едут к той самой деревне, где она была однажды. Вот и опушка, на которой она нашла убитого Лимкемпера. Пищик остановил машину. — Мне в деревне появляться нельзя, я покажу вам отсюда. — И он указал ей тот самый уцелевший дом, где она отбирала бланки. — Там вас ждет эта особочка. Он сообщил ей пароль для встречи с «барышней». — Прощайте, Наталья Даниловна! — Прощайте, Петр Иванович! «А как же Остриков! — вспомнила она вдруг. — Кто он?» Но Пищик уже сделал лихой разворот. И она издали услышала его тенорок: — «Трансваль, Трансваль…» Наталья Даниловна заглянула в окно избы. В ней было прибрано и даже бумажный абажур надет на стержень керосиновой лампочки. Четыре солдата играли в карты за столом. Им прислуживала уже знакомая Наталье Даниловне учительница, подавая что-то в кружках, сделанных из консервных банок. Наталья Даниловна легонько стукнула в окно. Солдаты не обратили на стук ни малейшего внимания, но девушка, накинув платок, быстро спустилась с крыльца. Они пошли через пустой задний двор. — Я так обрадовалась, когда узнала из радиограммы, что вы со мной свяжетесь. Вы мне почему-то понравились тогда… в первый раз. Я почувствовала в вас что-то свое, хотя ничего не могла знать… — простодушно сказала Люба. Они перелезли через плетень, потом, долго прыгая по замерзшим кочкам, пробирались огородами. Заброшенная, полуразвалившаяся баня стояла над речкой. Внутри было тепло и пахло жильем… — Как вы пронесли сюда рацию? — Мы с Петром Ивановичем на санях под дровами привезли. Он в немецкой шинели был. Люба по записке с каракулями, понятными ей одной, прочла радиограмму, адресованную Наталье Даниловне. Ей предлагалось вступить в контакт с Остриковым… Наталья Даниловна не верила своим ушам, В радиограмме сообщалось, что, по данным партизан, Остриков — верный человек, на свой страх и риск ведущий борьбу с фашистами. Недавно Остриков спас группу советских людей, которых немцы гнали на мины. Люди эти бежали к партизанам и там рассказали об Острикове. Поднося листок радиограммы к пламени зажигалки, Наталья Даниловна вспомнила встречу в лесу. Скуластое лицо Острикова возникло перед ней… «Он еще ничего не знает обо мне… Как он примет необходимость работы под моим началом?» Но эти сомнения уступали место одной мысли: она снова стала Верой Чистяковой, она снова имеет связь с Родиной…«СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ»
Рудольф писал по-немецки: «Итак, Натали, милая, мы скоро увидимся. Уже два месяца мы ездим по фронту с дядей Амадеем и знакомым вам фон Шлейницем, — он недавно произведен в генералы. Дядя завален работой. Можно сказать, что ни один важный военный вопрос не проходит мимо него. Фюрер прислушивается к его мнению. Анализ военных событий, данный дядей, блестяще подтвердился. Работать с дядей исключительно приятно. И то взаимное понимание, которое между нами достигнуто, дает мне большое духовное удовлетворение. Мы собираемся к вам. Дядя имеет особые полномочия от фюрера. Он везет важные директивы и внесет свежую струю в руководство армейской группы. Тетка Амалия пишет мне исправно. Наша неутомимая старушка делает много полезного. Сейчас она занимается распределением рабочей силы, в огромном количестве притекающей из завоеванных нами стран. Я часто думаю о вас и с нетерпением жду встречи с вами. Всегда ваш Руди». Письмо Наташе было личное, но все кругом уже говорили о приезде Кууна, представителя национал-социалистской партии и доверенного человека фюрера. Говорили о новых веяниях, о предстоящих переменах в личном составе командования, отделывали резиденцию для приезжих. В один из этих погожих весенних дней голубой «Мерседес» остановился у бывшей больницы, и в кабинет изумленного Плечке впорхнула в ярком дорожном плаще и с перышком на шапочке танцовщица Рената. Вечером Рената рассказывала берлинские новости: — Ганс Эверс снимается в главной роли нового фильма «Сверхлюди восточного фронта». Попал в концлагерь режиссер, поставивший нашумевшее ревю «Халло-халло Москау». В этом названии был усмотрен намек на провал зимнего наступления. — Понимаю. — Плечке ухмыльнулся. Все сочувственно посмотрели на него он-то ведь предсказывал, что война не будет продолжительной. Рената с жаром продолжала: — Во всех театрах показывают стихотворный фарс молодого талантливого поэта: «Густав мылся в бане, когда раздался вой сирен». Роль Густава исполняет несравненный Хуберт Клоц. Роль банщицы — Эмма Лампе… Юбки носят короткие. Доктор Геббельс сказал: женщины Германии должны сократить до минимума свою одежду — ткани нужны фронту. В кафе «Комикер» ведет программу старый Грабб. «Немцы, смейтесь! — говорит он публике. — Улыбайтесь, хохочите, покатывайтесь со смеху! Час смеха заменяет полкило мяса». Вообще Германия переживает расцвет искусства… Казалось, болтовне Ренаты не будет конца. Она сообщила, что сейчас работает над танцем-пантомимой: «Немецкий пехотинец в снегах России». Танец будет условно изображать действия пехоты, под прикрытием танков идущей в бой. Она была две недели на передовой, изучала движения немецкого пехотинца. — Бог мой! — воскликнул Оке. — И это будут показывать на сцене! — Вы безнадежный провинциал! — отрезала Рената. — Надо жить в стиле времени. В конце вечера Рената шепнула Наталье Даниловне, что Веллер вызывает ее в Берлин, а утром было получено согласие любезного Плечке «отпустить фрау Натали на несколько дней в Берлин повеселиться». И сейчас, перед отъездом, Наталье Даниловне было особенно приятно то, что здесь остается Остриков, свой человек, так решительно и достойно принявший на себя обязанности ее помощника. Рената получила отдельное купе в эшелоне. Здесь пахло карболкой и дешевыми сигарами. Рената вытащила из несессера духи и пульверизатор. Затем на скамейки были брошены пледы и мягкие шелковые подушечки. На столике появились флаконы и коробки. На вешалке затрепыхался по ветру тонкий резиновый плащ Ренаты. Стало очень похоже на ее театральную уборную в летнем кабаре «Какаду». Сама она бросилась на сиденье, вытянув свои мускулистые ноги танцовщицы. Рената больше не была блондинкой. Волосы ее на этот раз были выкрашены в модный рыжеватый, «лисий», цвет. На некрасивом личике с прекрасной розовой кожей сверкали синие глаза. Вторые сутки поезд шел лесами, и все говорили только о партизанах. Дам развлекал молодой лейтенант. Уважаемые дамы должны знать, что он уже имеет опыт, печальный опыт. Это было где-то здесь, несколько западнее. В момент катастрофы он находился на тормозной площадке. Взрывом его выбросило под откос. К счастью его самого и семьи — жена и две прелестные малютки в Дюссельдорфе! — он попал в болото. Оттуда он увидел сущий ад. На насыпи горели вагоны — ну просто, как дрова в очаге. Хвост поезда висел в воздухе над насыпью, и из него падали горящие, словно факелы, солдаты. Остальные метались по насыпи, и их поливали пулеметным огнем из рощицы, такой же, как эта вот… — Он показал на окно. — Какой ужас! — сказала Рената. — Неужели нет средств положить конец этому? — Не будем себя обманывать — борьба с партизанами пока не имеет успеха. Он начал объяснять дамам подрывную технику партизан. Рената заскучала, но Наталья Даниловна внимательно слушала. Лейтенант оказался сведущим. Он часто повторял технический термин, который Наталья Даниловна мысленно перевела с немецкого, — «упрощенный взрыватель». — Вы можете себе представить самообладание этих дьяволов? Мужицкие нервы! Лежать в кустах и ждать, пока пройдет паровоз и первые вагоны, а потом соединить концы проводов, дождаться взрыва и хладнокровно нас расстреливать. Ну, и мы их не щадим! В лесах под Оршей мы поймали мальчишку — так мы ему два дня кости ломали!.. — Пфуй! — сказала Рената. — Перемените тему, господин лейтенант! — Охотно! Разговорчивый лейтенант рассказал, что он состоит членом популярного общества «Крафт дурх фройде» — «Сила через радость». Он пустился в описание воскресных прогулок общества. — Ну, это скучно! — заявила Рената. — Я хочу спать. Лейтенант ушел. Поезд двигался медленно. В щель проникал мерцающий свет. Крошечный лучик прыгал по полу, от мелькания его хотелось спать, спать… Проезжали большую станцию — блеснули огни и исчезли. Женщины заснули. Наталья Даниловна проснулась от резкого толчка. Поезд стоял в поле. Сильный шум слышался за перегородкой. Можно было разобрать злобные, хриплые выкрики: «Живо!», «Не толкайся, свинья!», «Вон выходи!», «Шевелись же, корова!» Раздалась команда, подаваемая через ручной рупор: «Все из вагонов! Живо! Вы!», «Луфт! Луфт!»[120] — повторил тот же голос. Гремя амуницией, солдаты прыгали на землю. Про женщин забыли. Когда шум несколько утих, послышался звенящий, дальний звук. — Русские самолеты! — сказала Наталья Даниловна спутнице. — Давайте выйдем. Рената, проявив неожиданное присутствие духа, спокойно собирала дорожный несессер. Они вышли в лунную ночь. Облитый серебряным светом, стоял на пути их состав. Какие-то фигуры бегали по вагонам, выносили ящики с гранатами. Солдаты залегли в кюветах неподалеку. Метрах в трехстах от них была видна станция и строения за ней. В легких перистых облаках показалась девятка самолетов. Наталья Даниловна не почувствовала страха. Лежа в траве, она следила за полетом бомбардировщиков. Но и Рената, подняв голову, смотрела блестящими глазами в небо. Самолеты тройками развернулись над станцией и по одному йхо-дили в пике. С опозданием заработали зенитки. В небо взвился каскад разноцветных огней — били трассирующими пулеметными очередями. Стало совсем светло. Но боевой порядок машин не нарушался. Самолеты делали заходы, пикируя над станцией. Раздалось несколько взрывов. Все заволокло дымом, сквозь который жадно прорывались языки пламени. По-видимому, строения за станцией были складами боеприпасов — раздался взрыв большой силы, и облако земляной пыли двинулось на пассажиров, залегших в степи. Когда оно рассеялось, стало видно, что одна тройка самолетов приближается с огромной быстротой. Многие солдаты, не выдержав, выбегали из кюветов, бестолково метались по полю. Самолеты, отбомбившись, низко проносясь над степью и делая крутые виражи, расстреливали солдат из пулеметов. Гул моторов стоял в ушах. Рената лежала ничком, накрыв голову капюшоном плаща. Вторая тройка самолетов развернулась над поездом. У этих еще были бомбы: раздался двойной взрыв, и Тотчас вспыхнули цистерны, черные клубы дыма поползли от поезда. Когда Наталья Даниловна снова смогла открыть глаза, она поняла, что ее оглушило. Пробегавшие мимо нее с искаженными лицами солдаты и офицеры, казалось ей, беззвучно раскрывали рты. Когда и это ощущение прошло, она поднялась. Недалеко от нее лежал убитый офицер. Она взглянула в исковерканное лицо и узнала его: это был лейтенант, который развлекал их разговором, член общества «Сила через радость».НЕ БОИТЕСЬ ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТОВ
Подъезжая к Берлину, пассажиры «Де-цуга»[121] стали волноваться: узнали, что поезда не подходят ни к одному из вокзалов — опасались бомбардировок. Наталья Даниловна и Рената, попавшие в этот поезд после бомбежки, оказались где-то в районе Трептова, в дальнем пригороде Берлина. Не было ни такси, ни носильщиков. Пока они раздумывали, как им добраться до центра, завыли сирены, и тотчас мгновенно нахлынувшей толпой они были втиснуты в подземелье бомбоубежища. Здесь было так тесно и душно, что, не дожидаясь отбоя, женщины выбрались на улицу. Небо было залито мертвенным светом прожекторов. Громадные гроздья ракет висели в нем, как связки детских цветных шаров. По направлению к центру города мчались санитарные кареты, огромные и торжественные, как саркофаги. Они насчитали двенадцать карет. Это был разрушительный воздушный налет, о котором на следующий день писала мировая пресса. Свидание с Веллером было длительным. — Я должен был вызвать вас, — говорил толстяк, глубоко погрузившись в кожаное кресло, — потому что есть важные новости. Химические приготовления никогда не были такими широкими, как теперь. Возникла страшная угроза. Он открыл кожаную папку с золотыми буквами: «служебно», «срочно». — Здесь договоры с военным ведомством. А вот реализованные поставки. Особым спросом пользуется новый, необычайной стойкости газ. Вот его формула… Они работали долго, не замечая времени. Когда Веллер раздвинул тяжелые портьеры окон, скупой берлинский рассвет плыл над городом. Наталья Даниловна вышла на пустынную улицу. Сквер был пуст. Не бил фонтан из каменной чаши, и гипсовая нимфа, запыленная и потемневшая, напрасно приникала к ней сухими губами. Морды каменных львов тоскливо смотрели из зелени, частые трещины бороздили их мощные тела. За спинами мраморных зверей укрылись батареи. Маскировочная сетка скрывала зенитки. Знакомой аллеей Наталья Даниловна прошла к восточным воротам. Колючая проволока зацепилась за ее платье. Снизу — пожелтевший мох скрывал вход в дзот — появилась зеленая фигура с выставленным вперед штыком. Солдат рявкнул: — Цурюк![122] Она повернула в боковую аллею. Впереди виднелись затейливые чугунные узоры ворот выхода, но и здесь два скрещенных штыка преградили ей путь. На старом каштане была прибита дощечка: «Проход воспрещен. Сопротивление патрулю карается смертью». Она вернулась и, покинув сквер, пошла нелюдной улицей. На перекрестке раньше сверкали огромные зеркала парикмахерской. В них, как в озерах, играло солнце. Из разноцветных шелков выглядывали женские головки — все, как одна, одинаковой «арийской» масти, с одинаковыми высоко-высоко нарисованными на чистом лбу тонкими бровями — так достигалось модное выражение «изумленной невинности». Теперь не было больше удивленных головок. Не было и дома. Ничего не было здесь. На месте дома осталась гладкая четырехугольная площадка, видимо недавно залитая свежим асфальтом, с обелиском посередине. На обелиске под стеклом висело обращение: «Население Берлина! Не бойтесь воздушных налетов противника! Вы находитесь под защитой лучшей в мире артиллерии! Мы не допустим никаких разрушений в городе. Соблюдайте полный порядок. Паника и малодушие караются смертью». Неподвижная ворона сидела на обелиске. Наталья Даниловна снова неторопливо прочла плакат на пустынной площадке. Прохожий посмотрел на нее. Неужели эта надпись представляет такой интерес для женщины? Когда Наталья Даниловна обернулась к нему, он опустил глаза и прибавил шагу. Видимо, в таких местах останавливаться было небезопасно. Парикмахерскую она нашла у Потсдамерплац — тесную, убогую. Худая женщина с оживившимися глазами придвинула проспект моделей с раскрашенными головками: — Дама будет красить волосы? — Нет… Зачем же? — Следовало бы закрасить седые волосы. Правда, они мало заметны у блондинки. Но дама еще молода… — Седые? — Наталья Даниловна удивленно взглянула на себя в зеркало. Серебряные пряди белели в ее волосах, разобранных рукой мастерицы. Парикмахерская была едва освещена. Мастерица работала молча. И вот в мерцающей глубине зеркала поплыла горькая родная земля, облитая кровью и слезами. Это отсвечивал снег поутру, и тело повешенного колыхалось над ним. Это дрожало пламя над сожженными избами. Горе, горе шло дорогами ее Родины! Усилием воли Наталья Даниловна заставила себя вернуться к действительности. Мастерица дважды спросила ее: — Что еще пожелает дама? На следующий день она выезжала из Берлина. В изящную записную книжку аккуратнейшим образом занесена была опись белья и платьев, оставшихся в Берлине. При расшифровке цифры и слова давали те самые материалы, которые были переданы ей Веллером накануне.В группе 97-Ф Наталью Даниловну встретил взволнованный Остриков. Как только они остались наедине, он сообщил: — Генерал Амадей Куун вот-вот будет здесь. Это фигура. Что же, мы с вами любоваться на него будем? Ликвидировать гада, — так я считаю. Принимайте решение. — Примем вместе. Сегодня ночью, — ответила Наталья Даниловна. В тот же вечер при очередной связи с Москвой было получено задание: организовать похищение и доставку к партизанам генерала Амадея Кууна.
АМАДЕЙ КУУН ИНСПЕКТИРУЕТ
— Сила германского духа наиболее полно проявляет себя в войне молниеносной. Но «блицкриг» не получился. И что же произошло? Огромные армии победителей, вырвавшиеся на бесконечные просторы русских снегов, увязли в них, как блоха в гриве льва. Это мысли моего дяди… Рудольф говорил по-немецки с новыми для него интонациями грустной иронии. Было ясно, что он подражает дяде. — Есть у нас люди — и люди, стоящие у кормила, — которые позволяют себе сомневаться в успехе войны. Они рекомендуют меры чрезвычайного характера. В тотальной войне, которую мы ведем, должны приниматься крайние решения. Вы представляете себе, что такое тотальная мобилизация? Наталья Даниловна промолчала. И Рудольф продолжал: — Мы говорим о своей моральной победе под Москвой. Но под Москвой мы потерпели ужасное поражение. Фюрер сказал: «Мы были на волосок от гибели». Весеннее наступление провалилось. Дядя написал фюреру письмо. Он изложил свои мысли, предупреждал о возможной катастрофе. Не всякий бы на это решился! Но дядя привык поступать смело. Его письмо произвело впечатление. И вот результат — наша поездка по фронту. Дядя привез директивы по важнейшим вопросам предстоящих операций. Рудольф накинул свою шинель на плечи Наталье Даниловне. Они сидели на ступенях веранды. Огромный сад окружал особняк, уцелевший в недавних битвах. Прошел лишь год с тех пор, как в просторном доме, окруженном старыми липами, работали советские ученые: здесь был научно-исследовательский институт. Теперь за цветными стеклами дверей раздавался нестройный хор пьяных голосов. На банкет приглашали по строгому выбору, но когда именитый гость удалился на покой, в зал устремились младшие сотрудники. У серванта стоял Тиммих, столовой ложкой набирая черную икру из хрустальной вазы. Бывший фальшивомонетчик, как видно, знал толк в закусках. А в саду стояла тишина, аромат зацветающих лип; бездонное, в звездах, небо нависло над садом. Мысли Натальи Даниловны витали так далеко отсюда… Вкрадчивый голос Рудольфа вернул ее к действительности. — Вы поняли, какой умный и дальновидный человек дядя Амадей? — спросил Рудольф. — Да! Гуго-Амадей Куун и в самом деле произвел на нее впечатление умного человека. Днем Наталья Даниловна увидела его впервые. Это был толстяк с коротко остриженной головой, покрытой седой щетиной. Казалось, голова вбита в плечи. Холодноватая усмешка превосходства на лице, сановная свобода движений, небрежная манера, с которой он слушал собеседника… Ничто не обличало в Амадее Кууне провинциального трактирщика далеких времен. Оттопыривая нижнюю губу, Куун негромко говорил Плечке: — Глупости и глупости, господин хауптманн! Вы, доктор, педант! Вас портит излишняя ученость. Поменьше мыслей, побольше здорового арийского инстинкта! Вы корпите над бумагами, а русские вас обставляют. Я привез доказательства этого. Им становятся известными все ваши секреты! Вам кажется, что вы ловко замаскировались. Но из-под маски торчат ваши длинные уши. Помните нашу старую пословицу: «Ты хочешь казаться легкой птичкой, но я слышу, слон, как ты топаешь». Я вам напомню об одном французском педанте. Он очень похож на вас. В 1917 году французский офицер нашел германское наставление для стрельбы из пулеметов. За документом давно охотилась французская разведка. Но офицер попался ученый, вроде вас, доктор. Вместо того чтобы немедленно пуститьнаставление в дело, он сел писать трактат о нем, изучив его до корки. А мы тем временем косили да косили французов. Педант нам не мешал. Старик пилил и пилил. Из правого глаза Плечке выпал монокль, ярким пламенем загорелись его шрамы. Он был подавлен. Генерал говорил медленным, ровным голосом, буравя Плечке маленькими, острыми глазками. Вот он отвел их от Плечке, и знакомым показался Наталье Даниловне его взгляд. В нем было сложное выражение опустошенности, ума, скептицизма, усталости и бессильного любопытства к завтрашнему дню. Это было лицо Труфальдино — тряпичной куклы, висевшей на стене костюмерной за кулисами театра в «Таежном». И вместе с тем это было лицо целого мира. Лицо уходящего мира, для которого не наступит завтрашний день. — А как вы сблизились с дядей? — спросила Наталья Даниловна Рудольфа. — Нас соединила могила моего отца. — Ваш отец умер? — Убит при бомбардировке Маннгейма.02.15
Свежим утром Наталья Даниловна на мотоцикле возвращалась из города. На заставе дежурный офицер, вышедший из будки, козырнул ей. Шлагбаум поднялся, и она двинулась по шоссе. Глубокие колеи проезжей дороги шли рядом, желтые одуванчики цвели по обочинам. Нежаркое солнце поднималось в утренней дымке. Серый, как мышь, «Хорх» обогнал ее. Пассажиров в машине не было. Проехав, она остановилась. Пищик открыл дверцу: — Повышение получил, Наталья Даниловна! Теперь на этом звере ездим! Вчера вез одного приезжего, в дым пьяного. Прихватил у него книжечку на всякий случай. Наталья Даниловна взяла объемистую записную книжку в кожаном переплете. Золотом на зеленом сафьяне было вытиснено «В. Мейснер». На странице, которую она пробежала глазами, мелкими аккуратными буквами было вписано имя — Дарья Хохлова. Адрес Даши. Потом шли какие-то цифры, наверное код. А на другой странице вверху было написано «приметы» и два раза подчеркнуто. Под чертой: «среднего роста, стройная, худощавая, глаза серые. Волосы белокурые, укладывает короной. Нос прямой, лицо белое. Правая бровь чуть выше левой». Наталья Даниловна вздрогнула. Кровь отлила от лица. Это были ее собственные приметы. На ее след напали. Как? Раздумывать некогда. Если Мейснер обнаружит пропажу книжки, это может ускорить развязку. — Гена, — тихо сказала она, — верните книжку пассажиру, которого вы везли. Объясните, что нашли ее, когда чистили машину. Машина была грязная? — Как после свиньи. Он же был в дымину. Такого у нас в такси не посадят. — Поскорее верните ему! Мейснер не на шутку испугался, увидев свою записную книжку в руках шофера. Он небрежно поблагодарил и наградил шофера сигаретой — награда более чем скромная: этот парень не должен подозревать о значении находки.Было вполне естественно, что Остриков, заезжая в группу «97-ф», долго разговаривал с Натальей Даниловной в саду. Они ходили по аллеям, посмеивались, их лица сохраняли выражение людей, болтающих о всяких пустяках. А разговор был чрезвычайно напряженным. Здесь, в саду, они обсудили последние детали плана похищения Амадея Кууна, находящегося сейчас у Плечке. Но чем грозил Наталье Даниловне неожиданный приезд Мейснера? Мелькнула мысль, что Дашу Хохлову арестовали. Она могла под пытками рассказать… Но Даша не была арестована. Она по-прежнему жила на глухой окраине и уже была предупреждена о том, что немцы приглядываются к ней. Но, может быть, допросили ее дома или вызвали на короткое время, чтобы не возбудить подозрений арестом? Это маловероятно. Какие-то сведения пришли со стороны. План созрел вовремя. Нельзя было больше откладывать. Однако следующий день внес в него существенные изменения. Амадея Кууна вызвали в ставку фюрера. Вызов привез ему фон Шлейниц. С некоторым злорадством он предъявил документ, которым ему, фон Шлейницу, предписывалось остаться на некоторое время в группе 97-ф и завершить миссию генерала Кууна.
— Итак, мы едем послезавтра. В два часа пятнадцать минут. С генералом фон Шлейницем. — Это решено, Руди? — Уже дана шифрованная телеграмма во все пункты на пути. Заставы имеют извещения о часе, в который проследуют наши машины, и описание нашей колонны. Две машины с опознавательным знаком «лиловый медведь со щитом». Впереди два мотоцикла. Машины пройдут на заставах на полном ходу — генерал не терпит остановок в пути. У нас все это поставлено «тип-топ», как часы. Все эти дни связи с Москвой не было. Тогда Наталья Даниловна и Остриков решили осуществить похищение фон Шлей-ница и Рудольфа Кууна.
И вот наступил последний вечер. Они снова гуляли по саду. Было слышно, как у калитки сменялись часовые. Разводящий вышел из караульного помещения, ведя новый наряд часовых. А Рудольф говорил о своем: — …и не потому, что я был нерешителен. Меня сдерживал отец. Ему наш союз казался чудовищным. Совсем иначе смотрит на это дядя. Вы понравились ему. — Это приятно слышать. — Не позже, чем через месяц, я жду вас в Берлине. Почему вы молчите? Разве не пора нам связать свои жизни? Разве это не было предрешено еще там, в Сибири? Наталья Даниловна посмотрела ему прямо в глаза: — Да, все было предрешено еще в Сибири!.. Они рано разошлись по комнатам. Спальня генерала и комната Рудольфа сообщались между собой через маленький кабинет. Там стояло бюро, на котором лежал старомодный, темный, без застежек-молний портфель генерала и стояла его несгораемая шкатулка с секретными бумагами и приспособлениями для мгновенного сжигания их. Здесь спал на ковре генеральский сеттер Рольф, знавший Наталью Даниловну и ласкавшийся к ней. Когда стенные часы пробили один раз, Наталья Даниловна поднялась, поманила собаку и заперла ее у себя в комнате. В доме было тихо. Не спал только неугомонный сверчок. В час пятнадцать минут две машины, легковая и полугрузовичок, с опознавательными знаками «лиловый медведь со щитом» остановились неподалеку от резиденции группы «97-ф». Их сопровождали два мотоцикла. Из машин вышло восемнадцать человек в форме «СС». Командир группы молча подал знак. Отряд построился у ограды. С пакетом, опечатанным пятью сургучными печатями со свастикой, командир вошел в караульное помещение. Начальник караула, вскрыв пакет, прочел, что ему предписывается в час тридцать минут сдать объект подателю сего, начальнику команды вахмайстеру Мюллеру. Мюллер принимает охрану дома на себя, а затем вместе с группой будет сопровождать генерала в пути. Начальнику же караула Предлагалось немедленно снять своих людей с постов и тотчас же выступить к городской Заставе с тем, чтобы к восьми ноль—ноль прибыть в распоряжение комендатуры. Приказание было подписано комендантом и скреплено его же печатью. Этот документ был изготовлен Натальей Даниловной и точно соответствовал образцу, бывшему перед ее глазами. Начальник караула, следуя предписанию, начал снимать посты. Следом за ним шел начальник прибывшей команды, он расставлял своих людей. Все делалось быстро, четко и очень тихо, чтобы не разбудить спавших в доме. Сменившиеся солдаты, зевая, рассматривали в лунном свете генеральские машины, «лилового Медведя» и блестящих шоферов. Затем они Построились. Начальник караула козырнул вахмайстеру Мюллеру: — Доброй ночи, камрад. Хайль Гитлер! И небольшая колонна удалилась по направлению к городу. Как только шаги их смолкли вдалеке, двенадцать человек из вновь прибывших, оставшихся в резерве в караульном помещении, вошли в дом. Их вел Мюллер. Четыре направились по коридору к помещению, где спали денщики. Расположение комнат им было известно. Наталья Даниловна сидела на постели в своей комнате, поглаживая спину сеттера. Ее поразила удивительная тишина. Только раз послышалась глухая возня в спальне, Да упал задетый кем-то стул. Это Рудольф, выхватив из-под подушки пистолет, пытался сопротивляться. Его замотали в одеяло так крепко, что он едва не задохнулся в пути. Два человека вынесли генерала фон Шлейница. «Охрану» дома сняли. Наталья Даниловна видела в окно, как они тронулись в путь. Впереди шли два мотоцикла. За ними — камуфлированная зеленоватая длинная машина со знаком «лиловый медведь со щитом». На заднем сиденье ехал генерал, закрывая лицо воротником шинели. Сходство с фигурой фон Шлейница было поразительным. На полугрузовичке, рассевшись по скамейкам вдоль бортов, вооруженная до зубов ехала «генеральская охрана». Головную машину вел шофер в блестящем мундире. Его длинный нос выдавался из-под форменной фуражки с большим козырьком. Отъезд состоялся в назначенное время. Контрольные посты на заставах могли убедиться в аккуратности генерала.
ШЕСТЬ ЧАСОВ ОЖИДАНИЯ
Дом опустел. В нем оставались только мертвые. Быстро светало. Наталья Даниловна выключила электрический свет. Она вошла в соседний кабинет. Походная койка стояла пустой. Мертвый Плечке лежал на полу, скорчившись. Наталья Даниловна сбросила с койки подушку. Ключи здесь… Так она и предполагала. Этот плоский, с остроконечной головкой — от его сейфа. Порядок, в котором сложены бумаги, ей известен… Вот документы переброшенных за линию фронта. Прошло только двадцать минут. Только двадцать! Она прячет документы в свою полевую сумку. Выходит в соседнюю комнату. Телефоны безмолвствуют. …Сейчас она могла думать о чем угодно, сидеть тихо-тихо, прислушиваясь к гудению ветра в верхах сосен. Его никогда не было слышно в этих комнатах раньше. Она могла взять книгу, сосредоточиться на прочитанном. Или сесть за стол, написать что-нибудь… Письмо? Кому? О чем? Ей оставалось пробыть здесь шесть часов. И это было труднее, чем все то, что она пережила прежде. Шесть часов полного бездействия и настороженности. Эти шесть часов необходимы для того, чтобы дать возможность группе Острикова дойти до партизанской зоны. Она сама разрабатывала план, сама определила свое задание. В эти шесть часов она, оставаясь в пустом доме, где, кроме собаки и невидимого сверчка, были только мертвые, как бы прикрывала отход группы, похитившей фон Шлейница. Из штаба могли позвонить и ночью. Она ответит: «Хауптманн? Выехал. Будет к концу дня… Да, Остриков с ним…» Прошло всего полчаса. Группа миновала уже заставу. Рудольф возвращается туда, откуда бежал вместе с ней. …Интересно, что знает Мейснер? Нет сомнения, он унюхал кое-что… Кое-что. Не более. Однако остается еще целых пять часов и десять минут. Какие тяжелые часы, какие тяжелые минуты! Не надо смотреть на циферблат. Говорят, что самые тяжелые часы узника — последние перед освобождением. Но рядом с ним есть люди, а здесь только мертвые. Не надо смотреть на стрелки. Нет, бросила взгляд. Осталось четыре часа пятьдесят минут. Наталья Даниловна раздумывает, колеблется. Она берет трубку и вызывает штаб армейской группы, связанный с «97-ф». Кто сегодня дежурит? — Ах, это вы, герр лейтенант?.. — Она представляет себе розовощекое лицо лейтенанта Рунге. — Очень рада, что это именно вы. Вообразите, звоню вам вовсе не по делу. Нет. Просто наши все разъехались. Я одна, и время тянется ужасно медленно… Поболтаем? Если будет необходимость, нас прервут… Наталья Даниловна сообщает об отъезде фон Шлейница, рассказывает подробности: генерал острил, подшучивал над Плечке. Рунге в восторге. У них как раз затишье. В штабе любят такие разговоры. Рунге смакует подробности. Потом он будет козырять своей осведомленностью перед сослуживцами. Мимоходом она спрашивает, не собирается ли кто из штаба в их группу. Нет, никто. Она отнимает от уха трубку, отводит ее в сторону, переводит дух… Снова берется за трубку, слышит болтовню Рунге. Он рассказывает злободневный анекдот. Она не может с ним больше говорить, волнение сжимает ей горло… Но она смеется, весело смеется: — О да, герр лейтенант! Это забавно. Вы остроумный человек… Разговор с Рунге занял тридцать пять минут. И, значит, осталось еще… Не надо смотреть на циферблат.КОНЕЦ МЕЙСНЕРА
Она не смогла бы потом рассказать, как прошли остальные часы. Но вот последняя минута. Теперь надо торопиться. Они уже там. Если бы дело сорвалось, было бы уже известно. Наталья Даниловна вышла из дома, завела мотоцикл. Ее проводил вой запертого в доме пса. Когда она пересекла шоссе, солнце стояло уже высоко. Вот то место в лесу, где ее должен встретить Пищик. Оставалось еще десять минут до его приезда. Куковала кукушка. Наталья Даниловна загадала: «Сколько мне осталось жить?» Но кукушка внезапно замолчала. — Ну нет! — сказала вслух Наталья Даниловна и загадала снова: «Кукушка, кукушка, через сколько дней я увижу Платонова?» Где же Пищик? Двадцать минут. Неужели все-таки кончилось провалом? Дурные предчувствия охватили ее, и потому она не удивилась, когда на лесной дороге, на мотоцикле, показался Мейснер. Он обрадовался, увидев ее. — Случайная и приятная встреча. Еду встречаться с одним человеком, встречаю другого. Вундербар![123] «Он еще ни о чем не знает», — подумала Наталья Даниловна. Они поговорили минуты три. — Простите, мне пора, — сказала Наталья Даниловна и пошла к своему мотоциклу. — Нет, нет! — Мейснер крепко схватил ее за руку. — Вы останетесь здесь! Вы мне нужны. Я еду из штаба. Мне там сказали, что Плечке выехал. Мы подождем его. Вы нам нужны обоим. — Для чего? — Все в свое время, фрау Натали. Впрочем, мы сейчас можем договориться с вами. Плечке не понадобится. Генерал, говорят, поставил на место этого педанта. Правда? Говоря, он положил руку ей на плечо. Мейснер держал себя нагло. Как никогда раньше. Она не подала виду, что заметила это. Они мирно уселись на траве. — Покурим? Возьмите сигареты у меня в сумке под седлом, — сказала Наталья Даниловна. Когда Мейснер отошел, она, вытащив пистолет, стала целиться ему в спину. Но, сделав несколько шагов, как бы догадавшись о чем-то, Мейснер сам вытащил из кармана револьвер и обернулся. В этот момент Наталья Даниловна нажала спусковой крючок. Выстрелы прозвучали одновременно. Мейснер упал после первого выстрела. Вскочив на ноги, она расстреляла в него всю обойму. Наталья Даниловна не замечала, что из рукава у нее льется кровь. В перерывах между выстрелами ей слышался шум подъезжавшей машины. «За мной», — подумала она, и смертельная тоска сжала ее сердце. — Заждались? — послышался знакомый голос. Она обернулась. В гоночном двухместном «Мерседесе» сидел Пищик. — Простите, Наталья Даниловна, задержали меня. Поехали! Что это? Вы ранены? Пищик достал индивидуальный пакет. Он быстро закончил перевязку: — Ничего, кость цела.К СВОИМ!
Машина неслась по лесной дороге, подпрыгивая на ухабах. Пищик, одетый в немецкий мундир, молча сидел за рулем, покусывал трубочку. Они быстро приближались к шоссе, которое надо было пересечь. Там регулировщик проверял документы. — Я буду показывать бумаги. Если он их задержит, бросайте, — сказал Пищик, передавая Наталье Даниловне гранату. — Сможете бросить? — Смогу. Но регулировщик, внимательно прочитав документы, вернул их Пищику. Тот вежливо козырнул: — Мальцайт![124] — сказал любезно Пищик. — Молчите уж! — толкнула его Наталья Даниловна. Они снова въехали в лес. Солнце стояло высоко. Дорога становилась все хуже. — Дальше ходу нет, — объявил Пищик. Он осматривал колеса, увитые цепкими травами. Глухой лес стоял кругом. — Ну, давайте поделим оружие. — Он подал ей гранаты, пистолеты, автомат. — Идите вперед. Пройдя несколько шагов, она услышала взрыв. Пищик догонял ее. — «Мерседес» треснул, — объяснил он. Он тащил узел с одеждой. Они переоделись. Наталья Даниловна сменила свою замшевую куртку на простую деревенскую кофту и большой платок, под которым спрятала оружие. Пищик надел пиджак с полицейской повязкой на рукаве. — Как подойдем к железке, ступайте на три шага вперед, вроде вы арестованная, а я с автоматом, вроде конвоя сзади, — объяснил Пищик. Два раза надо было переходить железную дорогу. Однажды их задержал было солдат, стоявший на путях с автоматом. Но Пищик молча показал ему на пальцах решетку, выразительно кивнув на спутницу. Посмотрев на повязку Пищика, часовой сказал: — Проходи, полицай! Сняв фуражку, Пищик шел, вытирая со лба пот. — Теперь все будет лесом до самой деревни. Тут уже мне днем показываться нельзя — своих полицаев все знают. В ожидании темноты они залегли на опушке в виду незнакомой деревни. Два раза совсем близко от них проходили немецкие патрули. Какое-то странное спокойствие охватило Наталью Даниловну. Рана болела, хотелось спать. И она заснула. Ей снилось, что она у себя в своей комнате в «Таежном» и Пищик кричит под окном. Она открыла глаза. Пищик будил ее. Стояла глубокая звездная ночь. — Пошли в деревню. Я уже палку сломал собак отгонять. Двинулись к деревне. Задами они подошли к избе. Пищик стукнул в окно два раза. Вышел высокий мужчина в шинели, накинутой прямо на белье. Он узнал Пищика: — Нельзя ко мне. У меня фрицы ночуют. Я сейчас оденусь. Пойдем в присутствие. При свете лучины, вздутой хозяином, стало видно, что начальник полиции — пожилой человек с большим лбом над умными темными глазами. Он был одет в полувоенный костюм с полицейской повязкой на рукаве. Хозяин достал из канцелярского шкафа бутылку водки, немецкие консервы и хлеб. — Богато жить стали, Сидор Иванович! — заметил Пищик. — Фонды имеем! — с важностью отвечал начальник и показал на стену.При свете лучины Наталья Даниловна увидела немецкие плакаты и разные объявления. Одно из них гласило, что в распоряжение начальника полиции выделяются фонды для премирования за поимку партизан. Они сели ужинать. — Ты все-таки до утра переправь нас. Нам срочно надо туда, — сказал Пищик. — Сделаю, сделаю! Далеко за полночь, когда они вышли за околицу, звезды закрылись. Надвинулись тучи, вдали вспыхивали сполохи. Они спускались к реке по обрывистому склону, хватаясь за кусты. В камышах был спрятан кое-как сбитый плот. Сидор Иванович достал из кустов два коротких весла. Темная река шумела под порывами ветра. Первые капли дождя упали, когда они ступили на остров. Наталью Даниловну сморил сон. Проснувшись, она увидела Пищика около себя. Он жалобно просил ее съесть что-нибудь: — Сил надо набраться, Наталья Даниловна, ведь вы же раненая! Она о чем-то хотела спросить его и опять уснула… Второй раз она проснулась от холода. Видимо, Пищик ждал ее пробуждения. Он сразу спросил: — Как вы думаете, нашим уже сообщили о том, что мы здесь? — Конечно, они знают. Люба уже отстучала. — Почему же они не едут за нами?.. Уже ведь третьи сутки… — Третьи сутки? Что вы? — Третьи. — Сколько же я сплю? Вот когда сказалось напряжение последних дней, когда сказались эти шесть часов ожидания! Но все это было далеко, далеко… Потянув на себя плащ-палатку, она опять засыпала. Глаза закрывались сами собой, и дрему нагонял беспрерывный шум текущей внизу реки. И снова она проснулась ночью. Частый легкий плеск слышался неподалеку: кто-то греб к острову. Пищик со связкой гранат полз под откос. Было слышно, как лодка, разогнавшись, врезалась в песок. И тотчас раздался тихий голос Пищика: — Хальт! Щелкнул затвор, но выстрела не последовало. «Нет, все равно не могу двинуться», — подумала Наталья Даниловна. Потом она лежала на дне лодки. Ей было видно темное небо, тусклые и редкие звезды. Она очнулась в землянке, на свежем сене, покрывавшем носилки. Девушка в крестьянской одежде с кобурой на поясе сидела около нее. — Где я? — спросила Наталья Даниловна. — У партизан, в штабе отряда. Теперь она снова стала Верой Чистяковой.
ВСТРЕЧА
Стояла та особая выжидательная напряженная тишина, которая отличает ночь в партизанском лагере, — тишина, которая каждую минуту может взорваться вспышкой ракеты, залпом. Полковник Платонов несколько раз выходил из землянки, всматривался в темноту, еще более густую от огненной точки его папиросы, напряженно раздумывал. Вскоре ему предстояло отправиться на ответственное задание с Верой Чистяковой. Если только она вернется. Да, если вернется… Перед рассветом пришел начальник отряда. — Жива? — отрывисто спросил полковник. — Ранена и больна. — Пойдемте! — Платонов затоптал окурок и закурил новую папиросу. Санпункт помещался в центре лагеря. Молодой врач встретил их у входа в землянку. Он стал было объяснять, почему осложнилась несерьезная рана… — Простите, доктор! — Платонов, не дослушав, спустился по крутым ступеням в глубокую, в три наката, санитарную землянку. Фонарь «летучая мышь» светил тускло. Лицо Веры казалось зеленоватым, глаза были закрыты, темные ресницы бросали на щеки густую тень. Она услышала шаги и открыла глаза. Он опустился на земляной пол у носилок. — Здравствуйте, моя дорогая… — Голос его дрогнул. И, чтобы смягчить его тревогу, Вера проговорила: — Мне уже лучше. Я скоро поправлюсь. Сейчас, когда он услышал слабый голос и рассмотрел измученное лицо, ему показалось: только теперь он по-настоящему понял, кем была для него эта женщина. — Не было дня, чтобы я не думал о вас, Вера! Нет, она должна понять его до конца. — Не было минуты, чтобы я не думал о тебе, Вера… Ему хотелось сказать, что все это долгое время он нес на себе двойную тяжесть. Он тревожился за помощника и страшился за любимую женщину. Но надо ли говорить об этом, когда она, раненая, измученная, столько выстрадавшая, лежит в этой землянке, в глухом лесу? Надо ли сейчас говорить о своей любви? Прежняя, чуть лукавая улыбка тронула бескровные губы Веры. — Я знаю, — сказала она, подняв глаза на Платонова, — я всё знаю…Р. Романов Приключения за киноэкраном

С поезда на самолет, с самолета в седло или на легкую плоскодонную лодчонку «душегубку», на мерно покачивающийся верблюжий горб или оленьи нарты, а иногда и просто пешком, с увесистым аппаратом за плечами идут, мчатся, летят кинолетописцы наших дней. В холод и зной, месяцами не зная крова, сегодня по пояс в воде, а завтра подтягиваясь на канатах к горным вершинам, не досыпая и не умываясь, довольствуясь лишь скудным пайком или тем, что удается добыть метким выстрелом охотничьего ружья, — колесят они по стране. И все это для того, чтобы мы с вами, сидя в уютном кинозале, за десять минут перенеслись на сотни и тысячи километров в отдаленные уголки нашей Родины, на новостройки, в пустыни, в чужие, незнакомые края… «Короткометражка» должна уложиться в триста метров пленки. А занимательнейшие приключения участников киноэкспедиций часто так и не доходят до нас. Двадцать пять тысяч километров отмахали, например, за полгода неутомимые кинооператоры, снимавшие на необитаемом острове Ионы лежбище ушастых тюленей — сивучей и постройку автоматической метеостанции, передающей без участия человека сигналы о состоянии погоды в Охотском море. На каждый метр пленки картины пришлось сто километров пути! Ездившие недавно в Исландию советские кинооператоры Максимов и Киселев должны были снимать знаменитые исландские гейзеры. Гейзеры они сняли. Но самые сильные ощущения, по словам оператора Максимова, выпали на его долю во время вынужденной восьмидневной прогулки по Атлантическому океану в рыбачьем катере. Оператор вместе с рыбаками отправился снимать лов сельдей в Атлантике, но попал в девятибалльный шторм и провел восемь суток в разбушевавшемся океане. Громадными водяными валами была разбита спасательная лодка, порваны сети. Маленькое суденышко подбрасывало, как спичечную коробку. А советский кинооператор, к удивлению его исландских спутников, ползал на четвереньках, продолжая крутить ручку аппарата. Лишь на девятые сутки рыбакам удалось причалить к берегу. Старейший из советских кинопутешественников — Владимир Шнейдеров больше тридцати лет работает в области научно-популярного фильма. В каких только малоисследованных районах страны ему не приходилось бывать! Вместе с экспедицией Академии наук СССР, обследовавшей Памирское нагорье, Шнейдеров одним из первых взобрался на «Крышу мира». Она вполне оправдывала в то время свое таджикское название «Па-и-мор» — подножие смерти. Даже большие караваны, пробиравшиеся по этому пути, нередко погибали во время внезапно налетавших снежных бурь. Участники экспедиции проникли в область еще неисследованного «белого пятна», расположенного в месте сплетения высочайших снежных хребтов Гиндукуша, Тянь-Шаня, Куэнь-Луня, Каракорума и Гималаев, чтобы разведать таящиеся в его недрах богатства. Только часть дороги проходила по древним караванным путям, ведущим в Афганистан, Индию и Китай, и по так называемым оврингам. Это длинные подвесные карнизы, сооружаемые там, где нельзя проложить дорогу. Дальше шли уже наугад. Падение вьючных лошадей с висячих мостов в бурлящую горную реку, извлечение из ледовой трещины провалившегося туда альпиниста, встреча с огромными круторогими дикими баранами — архарами, обитающими только на горных вершинах… Да разве можно перечислить все не предусмотренные сценарием интересные кадры, заснятые киноработниками на недосягаемых даже для птиц высотах! В кровь изодранные о скалы руки операторов долго не заживали из-за повышавшегося на такой высоте кровяного давления. Участники экспедиции первыми прошли вековые льды, носящие название «ледника Федченко», обнаружили истоки четырех больших горных рек. Ими были открыты новые перевалы, даны названия высочайшим в мире горным вершинам. Оператор кинохроники В. Придорогин снимал недавно на Памире единственный в мире высокогорный ботанический сад и расположенный на высоте пяти с половиной тысяч метров яководческий совхоз. Пасущиеся на сочных пастбищах этого совхоза яки — неповоротливые животные с мордой коровы и лошадиным хвостом — дают ежедневно два с половиной литра молока такой жирности, что его можно приравнять к сливкам. «Выпьешь кружку этого молока, — уверяет Придорогин, — и затраченные на подъем силы сразу восстанавливаются. Будто на пять лет помолодел». Киноаппарат сопровождает полярников, фиксируя на пленку мельчайшие подробности их работы и быта, потому что подробности эти интересуют миллионы людей. «Как ни удобно стало теперь жить на льдине в отапливаемом переносном домике, — рассказывает оператор Е. Лозовский, зимовавший на дрейфующей станции „Северный полюс-4“, — а киноимущество, аппараты и пленку приходилось держать в разных местах, так как льдина все время ломалась. Однажды от нашей льдины отломился и был унесен за двадцать два километра от лагеря огромный кусище с находившимся на нем аэродромом. После этого о каждой новой трещине население лагеря извещалось тревожным гудком. Сразу же начинались авральные работы, требовавшие от оператора двойных усилий: я должен был участвовать в них наряду со всеми и в то же время не упускать ни одного интересного кадра». Теперь уже трудно обнаружить «белое пятно» на просторах Арктики. Ее избороздили вездесущие вертолеты и вездеходы. Впрочем, на гигантском, раскинувшемся на полмиллиона квадратных километров, полуострове Таймыр еще не так давно можно было найти «белое пятнышко» в сто пятьдесят тысяч квадратных километров. Именно на таком «пятнышке» снимались кинокартины «На побережье Ледовитого океана» и «Озеро Таймыр» — короткометражный фильм о самом большом в Арктике материковом водоеме. Похожие на верблюжьи горбы хребты Бырранга и встречающиеся здесь остатки известковых гор доледниковой эры защитили район озера от стиравших все на своем пути гигантских ледниковых утюгов. Эта каменная ширма до сих пор надежно прикрывает озеро от свирепых полярных ветров. Вот почему на берегах Таймыра можно встретить растительность, для Арктики необычную: тут и ромашки, и альпийские маки, незабудки, карликовые папоротники. Есть даже ивы и карликовые березы, вырастающие всего до пяти сантиметров. Рядом с такой березой обыкновенный гриб подберезовик кажется гигантом. Один ученый шутя предложил переименовать его в «надберезовик». Оператор оказался в затруднении: как заснять такой лесок? Ведь на экране при съемке крупным планом он может показаться обычным лесом! Выход был найден. Рядом с карликовыми деревцами режиссер поставил свою собственную ногу в болотном сапоге; она казалась ногой Гулливера. Однако не всегда в поисках необычайного нужно забираться в заоблачные высоты Памира или ледяные просторы Арктики. В дельте Волги, недалеко от Астрахани, и сейчас еще есть труднодоступные заповедные места, таящие сюрпризы для киноразведчиков. Немало усилий потребовала от операторов попытка заснять спрятавшийся в устье Волги древний цветок лотоса. Он сохранился здесь с незапамятных времен доледникового периода, так как Арало-Каспийская низменность не подвергалась оледенению. Это единственное место в Европе, где можно встретить редкостное растение, считавшееся священным у древних египтян и индусов. Но для этого, совсем как в сказке, охотникам за лотосом пришлось претерпеть немало испытаний. Колонии лотоса расположены в самых труднодоступных местах дельты, покрытых непроходимыми тростниками, густым ивняком и сплошными зарослями водяного ореха — чилима. Розово-алый цветок лотоса раскрывается не сразу. Утром он приоткрывается до половины, к вечеру опять сворачивается в бутон и только на следующий день показывается во всей своей красе, очень скоро сбрасывая, как надоевшее платье, свои побледневшие лепестки. Момент цветения нужно ловить. Сопровождаемые опытными проводниками из Астраханского государственного заповедника, по пояс в воде, толкая Впереди тяжелые рыбачьи лодки с аппаратурой, киноработники с большим трудом продрались сквозь все преграды и сумели заснять все превращения волшебного цветка.
ПО ПТИЧЬИМ БАЗАРАМ
При впадении в Каспийское море, разветвляясь на бесчисленные рукава и притоки, Волга образует обширное мелководье в двенадцать тысяч квадратных километров, густо заросшее влаголюбивыми растениями. Сюда слетаются миллионы птиц. Некоторых из них мы привыкли видеть только в зоологическом саду — например, больших белых цапель, перья которых шли когда-то на украшение шляп и на дорогие веера; горделивых хохлатых колпиков или прилетающих из Африки пеликанов обоих видов: курчавых и розовых, с вместительными кожаными мешками под клювом. Сотни тысяч пернатых живут постоянно целыми колониями в зарослях ивы и тростника. Иные посещают дельту «проездом» — во время линьки, весенних и осенних перелетов. Они останавливаются здесь, как в гостинице, чтобы набраться сил на дальнюю дорогу. Снимая в Астраханском государственном заповеднике фильм «В зарослях волжской дельты», участники киноэкспедиции сооружали из веток искусственные плавучие островки. Прикрепив эти островки к лодке, можно было под их прикрытием приблизиться к пеликаньим гнездовьям. И все же операторам нередко приходилось покидать островки и вести съемку по горло в воде, нахлобучив на голову накомарник с куском черной кисеи перед глазами. Так были засняты наиболее интересные кадры из жизни этих больших пугливых и необычайно подвижных птиц. Например, сцены кормления ими своих отличающихся удивительным уродством детей. Из-за беспомощности и неуклюжести птенцы пеликанов часто гибнут во время моряны, а в часы отлучек родителей терпят обиды от нахальных ворон. Впрочем, одной из таких отлучек воспользовались и кинооператоры, утащившие птенцов из гнезда для съемки крупным планом. Во время работы над картиной «В зарослях волжской дельты» экспедиция не ограничилась наблюдениями над жизнью птиц. Постоянные обитатели волжских джунглей — кабаны также попали на пленку. Питаясь преимущественно крахмалистыми корневищами покрывающих дельту тростников и водяными орехами чилима, кабаны не брезгуют и шмыгающей в мелководье рыбешкой. Участники экспедиции вместе с охотниками построили из крепких бревен загон и организовали отлов свирепых секачей, одним ударом клыков убивающих лошадь. Долго гнали охотники выслеженных собаками кабанов, пока тучные животные не обессилели. Настигнув усталого секача, охотник схватывал его сзади за уши и прижимал к земле. После этого животных связывали и доставляли в вольеру; но загнанные кабаны не доживали до съемки — на другое утро их находили мертвыми. Более эффективным оказался метод «засидок» — установка замаскированной ветками и тростниками камеры на пути убегающих от загонщиков животных. Даже при съемках, казалось бы, совсем безопасных видовых и научно-популярных фильмов операторы зачастую попадают в сложные переплеты. Немало любопытного могут рассказать об этом создатели кинокартины «Остров белых птиц». «Чтобы заснять жизнь чаек на одном из подмосковных водоемов — озере Киёво, — рассказывает режиссер Светозаров, — участники киногруппы пробрались на облюбованный птицами плавучий остров. Остров этот образовался из корневищ камышей и был настолько зыбким, что ходить по нему могли только птицы». Готовясь к съемке картины, киноработники забрались на остров еще зимой, по льду, когда чаек не было, и вбили прочные деревянные сваи. На сваях были сооружены помосты и шалаши. Два месяца жили они на этом острове, наблюдая суетливую жизнь пернатых обитателей. Если необходимо было выйти из укрытия, надевались широкие болотные лыжи и зимние толстые шапки. Как-то раз один смельчак вышел из шалаша без шапки, зоркие чайки стали на него пикировать и с ожесточением клевать в голову. Чайки очень хорошо защищают свое поселение. Когда возникает опасность для всего острова, они покидают птенцов и дружной стаей бросаются на врага. Чтобы показать это на экране, киноработники однажды выпустили привезенного с собой в клетке коршуна. Десятки тысяч птиц мгновенно взвились в небо такой плотной стаей, что заставили коршуна снизиться. Если бы люди не подоспели на помощь, чайки заклевали бы его. Не менее рискованные приключения пережили кинооператоры, снимавшие птичий базар в Арктике. «Вылетев на Новую Землю, — рассказывает режиссер картины „Во льдах океана“ А. Згуриди, — наша группа на лодке добралась до заселенного птицами скалистого острова губы Безымянной. Причалить к острову и выгрузить тяжелую аппаратуру было трудно. Высокая волна бросала лодку из стороны в сторону, берега были настолько крутые, что пришлось прыгать прямо в ледяную воду. Добраться до птичьих гнездовий можно было только с вершины скалы. Один из операторов закинул на эту вершину канат и, закрепив его, помог взобраться остальным. Съемочными площадками служили узкие карнизы отвесных скал, на которых едва мог удержаться один человек. На таких площадках операторы в пасмурную погоду неподвижно простаивали целыми часами, приучая птиц к своему присутствию и дожидаясь подходящего для съемки момента. Начался шторм, сопровождавшийся дождем и снегом. Операторы оказались отрезанными от своей базы на Новой Земле. Без палаток, спальных мешков и продуктов, в насквозь промокшей меховой одежде, киноработники, среди которых была и женщина, провели пять суток на шквальном ветру. Только на шестой день, обессиленные от холода и голода, они были наконец спасены приплывшими с Новой Земли товарищами».В МАСКХАЛАТЕ И… В КЛЕТКЕ ЛЬВА
На какие только ухищрения не приходится пускаться при съемке других, не менее пугливых, чем птицы, животных! Неповоротливая нерпа очень осторожна. Чтобы ее заснять, надо часами караулить около пробитой во льду лунки, поджидая, пока нерпа вылезет хлебнуть свежего воздуха. Шум киноаппарата заставляет ее снова нырнуть в воду. Операторы придумали такой способ: около лунки, из которой может появиться нерпа, они кладут обыкновенный лист фанеры с прикрепленным длинным тросиком. Чуть только нерпа выползет на лед, оператор дергает за трос и закрывает фанерой лунку. Путь отступления отрезан. Волей-неволей нерпа вынуждена позировать перед киноаппаратом. Чтобы заснять крупным планом тюленей, операторы должны были надевать белые маскировочные халаты и, прячась за торосами, подкрадываться к животным по льду; в лютый мороз члены съемочной группы вынуждены были подолгу лежать на льдинах, выжидая, когда тюлень повернется мордой к аппарату. Только доверчивые полярные мишки не боятся людей. «Однажды, — рассказывает оператор кинохроники Е. Лозовский, — три белых медведя подошли к самому борту застрявшего во льдах парохода. Мы бросали им хлеб и снимали сколько душе угодно. Зато позднее, чтобы отогнать мишек от парохода, пришлось даже прибегнуть к чрезвычайным мерам: капитан дал пронзительный гудок, и лишь после этого назойливые гости бросились наутек… Все же один на один с кем-нибудь из этих „покладистых артистов“, — добавляет Лозовский, — я не хотел бы встретиться. Когда отправляешься в Арктику, одеваешься очень тепло, и это затрудняет движения. А мишка в своей шубе бегает по торосам и разводьям очень быстро, отлично плавает и ныряет. Далеко от него не уйдешь, никуда не спрячешься. Такой „артист“ весьма опасен». Арктические озера кишат рыбами самых ценных пород. Достаточно опустить в воду крепкую бечевку с привязанным к ней кривым гвоздем и наживкой, как доверчивая и никем не пуганная полярная рыба заглатывает ее. Вытаскивай дурочку, пересаживай в аквариум и снимай! Но под объективом киноаппарата даже хладнокровные рыбы начинают нервничать. Известен случай, когда большая щука, снимавшаяся в фильме «Среди зверей», испугавшись яркого света «юпитеров», получила шок и «упала в обморок», всплыв вверх брюхом. Хорошо, что присутствовавший при этом научный консультант догадался привести ее в чувство массажем; съемка могла продолжаться. Очень болезненно реагируют на свет и беспозвоночные животные. Красивый морской хищник актиния, похожая на хризантему, обитает в темных уголках морского дна. Во время съемки картины «В глубинах моря» (режиссер А. Згуриди) актинии испугались света и сейчас же свернулись в «бутоны». Тогда их пересадили в специальный бассейн и стали давать пищу только при электрическом свете. Спустя две—три недели актинии научились есть при освещении и перестали свертываться. Таким же способом в фильме «Лесная быль» заставили сниматься и других животных, например бобров, выползающих из своих нор только по ночам. У каждого зверя свой характер. Нужно только изучить его нрав и повадки и, придумав какую-нибудь хитрость, использовать их в соответствии со сценарием. «Дрессированные звери, — утверждает кинорежиссер Б. Долин, постановщик известной картины из жизни лисиц „Закон великой любви“, — вообще не годятся для съемок. Они недостаточно свободны в своих движениях». Вместо бесплодных попыток научить четвероногую «кинозвезду» изображать грусть, гораздо проще взять дублером другую, всегда грустную собаку, похожую на первую. Зритель не заметит подмены. И вот во время съемок фильма «Закон великой любви» можно было увидеть в «артистической» уборной несколько похожих друг на друга пушистых лисят. Один из них был грустный, другой веселый, третий жалобно повизгивал. Все они изображали одного лисенка, главного «героя» картины, но в разных состояниях. Снимается как будто совсем простой эпизод: «Полкан подкрадывается к добыче». Аппетитный кусок мяса брошен на пол, свет включен, оператор приготовился. Но изображающий Полкана пес очень взволнован непривычной обстановкой. Перед объективом он не только не хочет «подкрадываться», но и вообще не притронется к «добыче», как бы ни был голоден. Помощник режиссера выпускает другую, менее щепетильную собаку. Ее не пугает ни киноаппарат, ни яркий свет «юпитера»; лишь бы скорее дорваться до мяса, подкрасться, схватить и убежать. Когда такой же кусок мяса бросили льву, флегматичный «царь зверей» не сдвинулся с места. Тогда его выпустили в вольеру, а кинооператора… посадили в львиную клетку, дав ему в придачу козленка. Что стало со львом! Как он преобразился! С каким нетерпением подкрадывался к клетке! Сидящему за железными прутьями оператору стало как-то не по себе, рука менее уверенно крутила ручку аппарата, и первые кадры вышли совсем не в фокусе. Едва козленок был выпущен на волю, лез прыгнул на него и ударом лапы сбил с ног. Прыжок этот удалось заснять. Кадр получился отличный! К съемке тигрицы в зоопарке готовились с большими предосторожностями. Ее перегнали из постоянной клетки в специально построенный раздвижной павильон, обеспечивавший все необходимые условия для съемки. Директор картины, предусмотрительно взявший у участников киногруппы подписку о том, что они не будут даже входить в павильон, был сильно озадачен, когда после включения света съемка оказалась сорванной из-за того, что осветитель… чихнул. Тигрица поджала хвост и, дрожа всем телом, бросилась от него в сторону. Иногда режиссеру помогает случай. При съемке одного эпизода в «Дуровском уголке» слон отказался выполнять то, что от него требовалось. В это время в саду, где работала съемочная группа, сын дрессировщика, трехлетний мальчуган, которого слон не раз возил в колясочке, поливал из шланга цветы. Слону захотелось пить, и он стал вырывать у малыша шланг. Мальчик был не из пугливых и продолжал тянуть шланг к себе. В конце концов победил, конечно, слон. Вырвав шланг, он пустил себе в рот сильную струю воды, а потом вежливо возвратил шланг своему давнему знакомому. Оператор успел заснять этот не предусмотренный сценарием эпизод, и он был вставлен в картину вместо первоначального, гораздо менее интересного. Так слон внес свою поправку в сценарий кинофильма. Уж, кажется, на что понятливые и умные животные — слоны, обезьяны и собаки! А попробуйте заставить слона поставить на определенное местокакую-нибудь вещь. Взять-то он ее, конечно, возьмет, но потом будет долго водить хоботом по сторонам и поставит ее обязательно не в указанное вами, а в полюбившееся ему самому место. В том же фильме «Дуровский уголок» была показана знаменитая дуровская звериная железная дорога; слону здесь досталась роль грузчика: он должен был поднять клетку с мышами и поставить ее в вагончик. Клетку слон сейчас же поднял, но поставить ее на место, выбранное режиссером, ни за что не хотел. Конечно, дрессировщик, поработав месяц с этим слоном, добился бы желаемого результата, но режиссер короткометражки, в которой занято много зверей, не может возиться по месяцу с каждым упрямым «актером». Режиссер Н. Агапова применила хитрость: она сама поставила клетку с мышами в вагончик. Слон сейчас же подцепил ее своим хоботом и снял с вагона. Но как раз это и было теперь на руку режиссеру. Процесс снимания слоном клетки из вагончика был переснят методом обратной съемки, и на экране получилось, что слон все-таки ставит клетку в вагон. Для картины «Закон великой любви» нужно было снять драматическую сцену, в которой собака бросается на лису, защищавшую детенышей. Молодая овчарка, которой поручили эту роль, была очень ценной породы, и помреж опасался, как бы лиса не покусала ее. Поэтому, считая лису обреченной, он даже распорядился завязать ей морду. Каковы же были удивление и досада режиссера, когда он убедился, что овчарка, увидев лису с завязанной мордой, решила, что это «нечестная» борьба, и не только не бросилась на нее, а стала с ней играть. Пришлось заменить эту слишком щепетильную «актрису» другой. Когда в Московском зоопарке решили снимать шимпанзе Париса и приставили для этого к клетке киноаппарат, «артист» сразу же проникся недоверием к оператору. Просунув лалу сквозь решетку, Парис попытался схватить аппарат, как бы желая этим сказать: «Я предпочитаю снимать сам». Аппарата ему, конечно, не дали. Тогда шимпанзе попытался втащить в клетку стоявшую неподалеку научную сотрудницу зоопарка Левыкину. Он схватил ее за рукав жакета с такой силой, что Левыкина была вынуждена немедленно снять жакет. Втащив в клетку свой трофей, Парис принялся тщательно его исследовать. Обнаружив в кармане порошки от простуды и канцелярские скрепки, он тут же развернул бумажки и слизал весь стрептоцид, а скрепками великодушно поделился через решетку с другими обезьянами, громко выразившими ему свою благодарность. После этого весь обезьянник стал с интересом наблюдать за дальнейшим обследованием карманов. Основательно потрепанный жакет был возвращен владелице только после того, как Парису предложили его любимое угощение: яблоки и газированную воду. При виде яблок он еще колебался, но от газировки отказаться не смог и вернул жакет. Сколько пленки испортит оператор, прежде чем добьется даже от такого смышленого животного, как Парис, требуемого сценарием поведения! К счастью, это учитывается: для съемки картины, в которой «артистами» являются животные, разрешается расходовать в три раза больше пленки, чем для обычного кинофильма.ОСТОРОЖНО, «АКТЕР» КУСАЕТСЯ!
Длинноухий тушканчик целый день спит в своей норе, забитой земляной пробкой. Попробуй-ка, выуди его оттуда! Сурка еще можно встретить около норы, но едва он услышит шорох киноаппарата, как сейчас же нырнет обратно да успеет еще резким свистом предупредить об опасности всех своих сородичей. Дикий осел-кулан и тот научился стремительно бегать, а для того чтобы заснять быстроногую антилопу с лирообразными рогами — джейрана, надо устраивать настоящие автомобильные гонки по всей пустыне. В Кара-Кумах негде устроить засаду. Здесь не увидишь протоптанных животными звериных троп, ветер заметает песком все следы. Разве только приученный к охоте зоркий беркут поможет выследить зверя: зайца, лису или даже волка. Вцепившись острыми когтями в свою жертву, он будет держать ее и клевать до тех пор, пока подоспевший охотник не отнимет ее. Вот этот момент и нельзя пропустить. Надо успеть снять зверя, пока он еще дышит. Не слезая с коня, не выпуская из рук легкой автоматической камеры, операторы целые дни скачут на лошадях по раскаленной пустыне вдогонку за зоркими крылатыми хищниками. В картинах «Ядовитые змеи» и «В песках Средней Азии» основные «действующие лица» — обитатели пустыни. Змеи и ящерицы с трудом переносят семидесятивосьмиградусную жару. Днем, когда почва раскалена, они прячутся и выходят на охоту лишь по ночам. Снимать же кинофильмы можно только днем. Поэтому два специально командированных змеелова выехали ранней весной — в эту пору все пресмыкающиеся любят греться на солнце — в кишащую змеями долину Мургаб, чтобы отловить «актеров». Пойманные ими «трагические артистки» — кобры, гюрзы и эфы — были присланы в Москву по почте в особом ящике с предостерегающими надписями: «Опасно», «Не кантовать», «Ядовитые змеи»; затем «гастролеров» поместили в специальное отделение зоопарка, где и была проведена часть съемок. Глядя, как в кинокартине «Ядовитые змеи» опасная среднеазиатская змея эфа заглатывает мышонка, вы вряд ли догадаетесь, как долго бились режиссер этого фильма Н. Агапова и операторы, чтобы заставить ее это сделать перед объективом киноаппарата. Вначале, когда в клетку к змее впустили мышонка, она не обратила на него никакого внимания. Дежурившие посменно около змеи кинооператоры совсем потеряли терпение, ожидая, когда наконец эфа соблаговолит «позавтракать». Мышка беззаботно бегала по клетке, наслаждаясь радостями жизни на глазах у змеи. Однажды разыгравшийся мышонок даже сам укусил змею за хвост. Но змея и тут не обратила на него внимания. Только через несколько недель эфа сжалилась над киноработниками, укусила мышку, потом отползла и подождала смерти своей жертвы, как делают все гадюки, и лишь после этого приступила к трапезе. С помощью киноаппарата, снимающего двадцать четыре кадра в секунду, удалось уловить момент змеиного укуса. Для этого понадобилось всего шесть кадров. На первых двух было видно, как мгновенно выбросилась верхняя часть туловища эфы с тут же раскрывшейся пастью. Все участники киногруппы, снимавшие эту картину, единодушно утверждают, что змеи никогда не нападают на человека, если он их не потревожит. Но так как никто не может знать, когда именно змея сочтет себя потревоженной, во время съемок постоянно дежурила медсестра, готовая в любой момент вспрыснуть сыворотку, помогающую от змеиных укусов. Такая помощь понадобилась герпетологу И. Даревскому, которого укусила гюрза в тот момент, когда он укладывал в ящик другую пойманную им змею. Гюрза была очень недовольна тем, что ее потревожили. Живородящая змея эфа произвела на свет змееныша всего в два сантиметра, но, когда неопытная сотрудница взяла его в руки, только что появившийся на свет гаденыш счел себя потревоженным и укусил ее. Зуб его был настолько крохотным, что сотрудница даже не почувствовала укуса и через несколько часов могла бы умереть, если бы не были приняты чрезвычайные меры к ее спасению. Кинорежиссер А. Згуриди рассказывает, что во время съемки кинофильма «В песках Средней Азии» животных отлавливал очень смелый и ловкий юноша Борис Тишкин. Ему было только семнадцать лет, но в местном отделении Академии наук он считался одним из самых опытных специалистов по поимке ядовитых змей и ящериц. Борис ловил их по ночам, когда те выходили охотиться, и доставлял потом на базу киноэкспедиции. Однажды ранним утром юноша, очень испуганный, прибежал в лагерь и, разбудив всех, стал требовать, чтобы ему немедленно отрубили руку. Оказывается, его укусила эфа. Зная, что распространение яда грозит смертью, юноша пытался сразу же откусить проколотый зубами эфы палец, но не смог этого сделать. Искусанный змеей и им самим палец сильно распух. В лагере не оказалось медработника, но ему все же вспрыснули в руку противоядие и, укутав несколькими одеялами, с волнением ждали наступления следующего утра. Вакцина подействовала — юный змеелов выздоровел. Самыми опасными и трудно уловимыми змеями считаются кобры. Еще в древние времена они наводили священный ужас на египтян. Обитающая в Советском Союзе бурая одноцветная кобра отличается от своей индийской сестры, называемой «очковой змеей», отсутствием именно этого характерного, похожего на очки, рисунка на шее. За это нашу кобру называют «слепой». Однако по токсичности яда «слепая» кобра опаснее очкастой индийской. Эта осторожная дневная змея предпочитает жить на каменистых предгорьях и осыпях, в ущельях и поймах рек и только в редких случаях заползает в поисках пищи в сады и огороды. Охотясь в одиночку, кобры, по-видимому, даже разграничивают между собой участки: там, где охотится одна, редко встретишь вторую. После охоты змеи обычно возвращаются на свое место. Для съемки в картине «Ядовитые змеи» змееловам удалось поймать всего трех кобр. Но одна из них не вынесла переезда по железной дороге и околела в пути, у другой оказался оторванным язык, и поэтому ее нельзя было снимать крупным планом, и только третья оказалась полноценной «актрисой». Эту кобру особенно берегли. Герпетолог Даревский даже поил ее с ложечки водой. Но однажды, укладывая змею, он нечаянно задел кончиком хвоста кобры притаившуюся на дне ящика маленькую эфу. Разозленная эфа тут же укусила кобру, и вскоре, к большому горю всех участников съемочной группы, «премьерша» скончалась. Вот почему, учитывая не совсем обычные свойства характера и привычки этих «актеров», герпетолог прибегал к такому приему: он нарочно тревожил их, давал им кусать платок, кепку, все, что попадется под руку. Выпустив почти весь запас яда, кобры становятся менее опасными. «Но разве можно, — удивится читатель, — перед самой киносъемкой утомлять „актеров“?» Когда обратились с таким вопросом к Лебедеву, он ответил нам так: утомленных змей легче снимать, с ними меньше хлопот, они реже уползают из поля зрения кинооператора и не так часто зарываются в песок. Необычайно чувствительных ко всяким переменам температуры, заряжающихся на определенный срок теплом и по истечении этого срока как бы цепенеющих змей перед съемкой приходится искусственно подогревать или, наоборот, опускать в холодную воду. Так приходилось поступать со слишком разомлевшими от жары «актрисами», после того как съемки были перенесены из Москвы в их родную Мургабскую долину. Чтобы змеи не убегали, их снимали в специальных «вольерах», устроенных на столах. Однажды режисер Н. Агапова увидела на песке, недалеко от места съемки, свернувшуюся в клубок змею. — Почему вы распустили «актеров»? — спросила она герпетолога. — Вон лежит наша гюрза! Однако, когда змей пересчитали, все «артистки» оказались на месте. Выяснилось, что это была не «артистка», а «зрительница», обитавшая, очевидно, в районе съемки. Ее сразу же поймали и стали снимать. Пойманная гюрза отличалась большей подвижностью и вела себя перед аппаратом гораздо свободнее, чем ее прибывшие из Москвы товарки. Участникам экспедиции, снимавшим картину «Ядовитые змеи» в кишащих опасными пресмыкающими районах Средней Азии, приходилось постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на змею. В то же время они должны были поглядывать и на небо: над местом съемок часто кружили орлы-змеееды, которым ничего не стоило утащить из-под самого носа одну из «артисток». Спору нет, профессия киноартиста, оператора, режиссера таит в себе много привлекательного. Но что вы скажете, если вашим партнером по картине окажется четвероногий или пресмыкающийся «актер», только что выпущенный из клетки с бросающей в дрожь надписью: «Осторожно, кусается!»В ПЕСЧАНОЙ ЛОВУШКЕ
Тяжелый путь по горам и пескам Средней Азии от Сталинабада до Красноводска проделала киноэкспедиция, снимавшая под руководством молодого режиссера Ельницкой картину «Загадка лёсса». Эта картина наглядно подтверждает эоловую теорию крупнейшего русского геолога академика В. Обручева о пылевой структуре земли, выносимой ветрами из пустынь и превращающейся в плодородный лёсс. Участники экспедиции наблюдали стремительное скопление пылевых частиц в пустыне во время песчаных бурь. Они взбирались в Кара-Кумах на высокие песчаные барханы, прослеживали образование лёсса на водораздельных перевалах и адырах — крутых предгорьях, используемых в Узбекистане под пастбища. Возникавшие из этих частиц стойкие беловатые туманы застилали солнце даже в безветренную погоду. Несмотря на все предосторожности, песок забивался в кинокамеры, останавливал ручные часы, проникал в застегнутые карманы и под лацканы пиджаков. Съемка фильма, посвященного невесомой пылинке, оказалась далеко не легким предприятием. Еще более сложную задачу взяли на себя киноработники, снимавшие в малоисследованных районах Монголии научно-популярную картину «На поиски динозавров». Известный русский путешественник Г. М. Потанин нашел семьдесят лет назад кости этих древних животных возле останца Цундж — одинокой скалы, похожей на сфинкса или лежащего льва. Но как разыскать теперь этот останец? За семьдесят лет многое изменилось, проводника найти было невозможно — из-за засухи монголы откочевали в другое место. Участники экспедиции должны были целиком полагаться на самих себя. Они доверились знаниям и опыту возглавляющего экспедицию ученого — профессора Ефремова. «Мы шли сначала по старым картам, — рассказывает оператор Прозоровский, — потом по интуиции. Но коварная природа сильно осложнила путешествие. Она послала нам навстречу густой туман. За полкилометра впереди ничего не было видно. Двое суток мы с трудом продвигались в этом тумане на двух автомашинах. В радиаторах кончилась вода. Пришлось слить остатки ее в одну машину и вместо останца разыскивать колодец. От результата этих поисков зависел успех экспедиции. И вдруг, проезжая по заросшей саксаулом песчаной ложбине, мы наткнулись на отесанный столб. „Поблизости должна быть вода“, — сказал профессор Ефремов. Мы безуспешно искали ее в течение нескольких часов, но больше никаких примет, указывающих местонахождение колодца, не обнаружили. Лишь в одном месте мы наткнулись на большую кучу саксаула, заготовленного, очевидно, на топливо. „Вода должна быть под этой кучей“, — объявил профессор. Мы разобрали кучу, но и под ней не оказалось ничего, кроме песка. Однако профессор Ефремов на этом не успокоился. Он приказал разрывать песок. И действительно, вырыв яму глубиной в полметра, мы нашли под песком звериную шкуру. Она прикрывала деревянную решетку колодца, наполненного отличной водой».«САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВАРИТЬ КАШУ»
В Советском Союзе действующие вулканы имеются лишь на Камчатке и на Курильских островах. Впервые они были засняты в короткометражном фильме «В стране вулканов», показавшем работу специальной вулканологической станции Академии наук СССР около Ключевской сопки. Только один главный кратер вулкана во время большого извержения выбрасывал до четырнадцати миллионов кубометров лавы и сто шестьдесят миллионов кубометров пепла, песка и прочих «отходов». Из побочного кратера лава сползала огненным потоком длиной в шестнадцать километров. Когда вулкан успокоился, кинооператоры поднялись на склоны сопки вместе с учеными, чтобы снять их работу в этом побочном кратере. В момент съемки вулкан дремал. Еще по дороге к нему были сняты дымящиеся фумаролы — небольшие трещины в земле, выпускающие струйки газа. Попробуйте воткнуть в такую трещину сухую палку — она моментально обуглится и превратится в зажигалку: можно закурить от нее папиросу. Забитый большими глыбами камней и лавы кратер Туйлю извергал дым и газ. Дым застилал объектив камеры. Кашляя и задыхаясь, операторы нацелили киноаппарат в самый зев кратера, а один из научных работников спустился туда на канате, чтобы измерить температуру газов и взять пробы минералов. Еще не так давно все учебники географии утверждали, что водяные вулканы, или гейзеры, существуют только в трех странах: в Исландии, в Северной Америке (Иеллоустоунский парк) и в Новой Зеландии. В 1941 году сотрудница Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке Устинова установила, что и у нас в Советском Союзе имеются отличные гейзеры. Они были обнаружены на берегу камчатской реки Шумной, протекающей недалеко от вулкана Кихпыныч. Для съемки гейзеров к подножию вулкана была отправлена специальная экспедиция. Сквозь сплошную тайгу съемочная группа пробиралась на западную сторону вулкана Кихпыныч и по крутому склону, через забитое снегом ущелье спустилась в теплую долину гейзеров. Здесь, окруженные густыми облаками белого пара, из земли били сильные струи кипятка. Тут же рядом вскипали серые и коричневые грязевые вулканы, и около них поблескивали маленькие, тихие, слегка дымящиеся озера. Поставьте в такое озеро, лучше всего прямо в гейзер, кастрюльку с зачерпнутым здесь же кипятком, насыпьте туда крупы, и через несколько минут можете угощаться отличной кашей. Каждый гейзер действует по своему графику: он извергает кипяток через строго определенные промежутки времени, хоть часы проверяй. Самый большой гейзер назывался «Великаном». Каждые три часа он выбрасывал водяной столб вышиной шестьдесят метров и облако пара на высоту триста метров. Оператор ставил киноаппарат около бурлящего жерла грифона и, рискуя обвариться, снимал наиболее эффектные фонтаны. При этом чуть не погиб режиссер фильма Тихонов. Поскользнувшись на крутом склоне, он упал и покатился в широкий грифон уже начавшего фонтанировать «Великана». Если бы ему не удалось зацепиться за камни у самого края грифона, он мог бы свариться.В ГОРЯЩЕМ ВАГОНЕ СКВОЗЬ ДЖУНГЛИ
Сколько захватывающих эпизодов можно было бы рассказать о работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны! Многие из них, рискуя жизнью, шли вместе с партизанами в тыл врага и снимали кадры кинохроники с борта несущегося в бой танка или самолета. Такое же мужество совсем недавно проявили три советских киноработника: Р. Кармен, В. Ешурин и Е. Мухин, ездившие во Вьетнам для съемки документального фильма об отважной борьбе вьетнамского народа за свое право строить новую жизнь. Кинооператоры были первыми советскими людьми, ступившими на вьетнамскую землю в разгар освободительной войны. На беду, первые трое суток съемочной группе разрешалось передвигаться только ночью, когда снимать невозможно. Все дороги простреливались. При свете бамбуковых факелов происходили первые радостные встречи с жителями деревень. Когда автомобильный путь кончился, пришлось идти пешком по вырубленным в джунглях узким тропинкам, переходить вброд коварные речки или переправляться на бамбуковых плотах. Киноработники нередко попадали в тропические ливни, длившиеся сутками, подвергались опасности нападения тигров, грозный рев которых доносился из чащи. Однако, преодолев все трудности передвижения по тропическим зарослям и горным переходам в охваченной войной стране, операторы за полгода успели снять не только боевые действия народной армии, закончившиеся победоносным вступлением в освобожденную столицу Вьетнама — Ханой, но и жизнь мирного населения, занятого напряженным трудом на спрятанных в джунглях военных заводах, на рисовых полях, ананасных и кофейных плантациях. Если бы ездившие в Индонезию советские кинооператоры В. Микоша и И. Сокольников засняли на пленку все, что произошло лично с ними во время их путешествия, получился бы не хроникальный, а захватывающий, полный неожиданностей приключенческий фильм. Еще до выезда из столицы Индонезии — Джакарты советских операторов предупредили, что в густых зарослях джунглей, через которые им придется проезжать, скрываются бандиты, связанные с бывшими колонизаторами страны. Поэтому к поезду, идущему в Джокьякарту, был прицеплен специальный вагон с охраной. Но поезд все же подвергся нападению. Притаившиеся в джунглях бандиты обстреляли его зажигательными пулями. Вагон, в котором ехали советские кинооператоры, загорелся. Один из пассажиров нажал кнопку стоп-крана, но машинист не остановил поезд, а только слегка замедлил его ход и затем снова стал набирать скорость. Вагон продолжал гореть, и кинооператоры испытывали большую тревогу: ведь они взяли с собой легко воспламеняющуюся кинопленку и несколько кинофильмов для друзей Советского Союза в Джокьякарте, в том числе картину «За мир и дружбу». Как потом выяснилось, машинист не решился остановить поезд в джунглях, опасаясь нападения бандитов. Только когда опасный участок остался позади и поезд, поднявшись на высокую дамбу, въехал на мост, он остановился. Пламя уже было настолько сильным, что с помощью одних только огнетушителей загасить его не удалось. Пожар был прекращен на ближайшей станции, когда горящий вагон поставили под мощную струю водопроводного крана для паровозов. Индонезия, Америка, Китай, Италия, Египет, Англия, Швеция, Япония, Таиланд, Ирак, Исландия — во всех этих странах успел побывать Микоша во время своей работы в кинохронике. Ему не раз приходилось попадать в опасные переделки подобно той, какую он пережил в Индонезии. Америку, например, Микоша увидел… из окна полицейского автомобиля. Это было еще во время Великой Отечественной войны. На английском судне оператор прибыл в Нью-Йорк, чтобы оттуда поездом добраться до Сан-Франциско. Там Микошу ждал советский пароход, на борту которого предстояло провести дальнейшие съемки. Однако едва кинооператор ступил на землю дружественной союзной страны, как прямо с корабля его пересадили в полицейскую машину и привезли в Элис-Айленд — пресловутый «остров слез», где в чисто американском темпе, через несколько часов, над ним состоялся суд. Судья спросил Микошу, с какой целью он прибыл в Америку и не собирается ли он свергать существующий строй? Ответ кинооператора, что у него, разумеется, не было таких намерений, не убедил судью, и суд вынес решение о запрещении Микоше пребывания в Соединенных Штатах. Это решение могло быть обжаловано в двухмесячный срок. За это время Микоша успел побывать во многих американских городах и повидаться с Чарли Чаплиным, жившим тогда в Америке. Знаменитый артист очень гостеприимно встретил советского кинооператора и с интересом посмотрел показанный им фильм о героической обороне Севастополя. Надо сказать, что во время съемок этого фильма оператор был ранен. Микоша — один из трех советских операторов, сумевших накануне подписания японцами на борту американского линкора «Миссури» акта о капитуляции пробраться в еще никем не занятую столицу Японии прежде своих американских коллег. На площади перед дворцом микадо он даже застал корчившихся в предсмертных судорогах самураев, совершивших «харакири» в знак протеста против окончания войны. «Сначала я думал, — вспоминает Микоша, — что на площади валяются раненые во время последней бомбежки жители Токио, но оголтелые самураи сами распарывали себе животы уже после прекращения военных действий…» Во время этой киносъемки Микоша чуть не был подстрелен стражей императорского дворца. Все киноработники, производившие съемки в Китае, сходятся на одном: приветливое отношение населения к советским людям очень облегчало работу. И если и тут им иногда приходилось преодолевать затруднения, то это были трудности совсем особого рода. Кинооператор А. Хавчин, пробывший целый год в Китае, первым из советских людей побывал в городе Ханьчжоу. Отдав должное старинным храмам и пагодам на берегах священного озера Си-фу, Хавчин не упустил случая запечатлеть и окружающие город знаменитые чайные плантации, на которых проходили практику студенты агрономического факультета местного университета. На другой день он решил снять тех же студентов в помещении университета и попросил их прийти туда. Оператор был очень удивлен, когда в назначенный час увидел возле университета толпу в полторы тысячи человек. — Что здесь происходит? — спросил он. — Почему к университету собралось столько народу? — Это все студенты, — объяснили ему. — Они пришли сюда потому, что узнали о вашем приезде, и не отпустят, пока вы не расскажете, как живет советская молодежь. Уже давно вышедшему из юношеского возраста и никогда не делавшему докладов кинооператору пришлось удовлетворить просьбу студентов. Он рассказывал целых полтора часа. Слушатели засыпали его вопросами и упросили спеть им несколько советских песен. Только после этого Хавчин мог приступить к съемке. Ездившие на международную ярмарку в Дамаск советские кинохроникеры С. Киселев и И. Горчилин были первыми кинооператорами, снявшими в центре Сирийской пустыни развалины древнего города Пальмиры и отрытый во время производившихся там раскопок храм. Из 1460 колонн, окаймлявших парадную арку при въезде в город, сохранилось немногим больше ста. Но и они представляют большой научный интерес, так как на колоннах сохранились скульптурные портреты почетных граждан древнего города. Советские операторы были желанными гостями в шатрах кочевников-бедуинов и в глиняных лачугах землепашцев-феллахов. Многое из того, что наблюдал в Пакистане кинооператор О. Арцеулов, не уложилось в рамки снятого им там видового кинофильма. Арцеулов попал в Лахор во время большого наводнения, вызванного сильными дождями в горах. Это наводнение началось так стремительно, что многие жители, не успев забраться на деревья, утонули. Карабкавшимся на деревья вместе с женами и детьми крестьянам приходилось сгонять с ветвей огромных грифов-стервятников, уже приготовившихся клевать трупы утопленников. На деревья взбирались и обвивали плотным кольцом стволы выгнанные наводнением из своих нор большие четырехметровые змеи. Нетрудно представить себе состояние сутками не смыкавших глаз крестьян и их до смерти перепуганных ребятишек, вынужденных терпеть такое соседство! Пострадавшим от наводнения сбрасывали с самолетов продовольствие, но изголодавшиеся люди не могли выловить его из воды, так как обвившиеся вокруг стволов змеи не давали им спускаться вниз. Лишь на пятый день, когда вода стала спадать и змеи уползли, крестьяне смогли покинуть деревья.* * *
Постановщики научно-популярных и видовых фильмов, исколесившие вдоль и поперек многие страны и отдаленные малоисследованные уголки нашей Родины, сейчас готовятся к новым экспедициям. Об увлекательных приключениях, которые придется испытать участникам этих экспедиций, мы расскажем после их возвращения.А. Дугинец Боевой топорик Яношика
Партизанская быль

КЛЯТВА В ПЕЩЕРЕ
На высокой черной скале стоял загорелый суровый юноша с немецкой винтовкой за спиной. А внизу, в узком лесистом ущелье, дремали прикорнувшие возле речки домики словацкой деревни Туречка. Оставалось спуститься, разыскать Яна Ковача и передать ему тайну Вацлава Гудбы. Найти в деревне человека, если знаешь фамилию, совсем нетрудно. Зайди в первый попавшийся дом и спроси. Но о Яне Коваче запросто спрашивать нельзя. К этому надо подойти так, чтобы никто ничего не заметил. Вот если бы увидеть кого в лесу, да поговорить один на один! Но вечером кто пойдет в лес? Кому охота попасть на заметку гардистам?[125] И, поразмыслив, парень пошел в горы, искать ночлег под открытым небом. …Голодные орлята попискивали жалобно и тоскливо. Они то укладывались в гнезде и начинали дремать, время от времени вытягивая тонкие серые шейки и напряженно прислушиваясь, то выбирались из гнезда и неуклюже топтались по широкому карнизу утеса, заваленному кучами пожелтевших, давно обглоданных костей. Передвигались они смешно и беспомощно, вперевалку, как ребята, пробующие ходить. Сходство с мальчуганами особенно подчеркивалось оперением ног: орлята казались одетыми в короткие, аккуратно подогнанные белые штанишки. Оба они, конечно, от одной матери, но мало похожи друг на друга. Один выглядел чистеньким, гладеньким, будто кто его прилизал. Ходил он не спеша, тяжело переваливаясь с боку на бок. Другой — худой, взъерошенный забияка с пробитой головой и расцарапанной лапкой — везде старался быть первым. В гнездо он забрался первым, обратно выкатился первым и теперь опять первым приковылял на край утеса. Вытянув шею, он долго прислушивался, но так и не услышал долгожданного клекота родителей. Улетели они в полдень, когда солнце зорко стерегло гнездо, но вот уже солнце не греет и почти не светит, а орла и орлицы все нет. Забияка-орленок оглянулся, высокомерно посмотрел на прижавшегося к гнезду толстяка и с жадностью набросился на кучу наиболее свежих, еще не побелевших костей курицы и зайца. Разозлившись, что ничего съедобного не осталось, забияка клюнул в затылок присмиревшего брата. Тот в ответ долбанул его в шею. Вдруг, как по команде, орлята умолкли, вытянули шейки. Потом так же дружно и радостно заклекотали: родители возвращались с охоты. Мать летела впереди. За нею отец. В цепких лапах он нес трепещущего крошечного ягненка. Маленькие хищники уже заблаговременно дрались между собой за лучшую долю в предстоящем ужине, когда раздался выстрел и орел вместе со своей добычей упал к ногам парня, стоявшего на вершине утеса, в ста метрах от гнезда. Лишь теперь заметили орлята страшного соседа. Пугливо прижались друг к другу. Окаменели… Однако отсиживаться не пришлось — орлица пролетела над гнездом и тревожным клекотом приказала птенцам подняться в небо. Опережая один другого, белоногие малыши приковыляли к краю карниза и почти разом бросились со скалы. Беспомощные и смешные на земле, они казались гордыми и могучими в небе. Стремительно, размашисто выписывали орлята огромные восходящие круги, все дальше и дальше улетая от родного гнезда. — Ч-черти, как летают! — с завистью глядя вслед выводку, прошептал юноша. — Жалко их… Но что ж делать… Ничего, не пропадут, мать выходит… Тяжело вздохнув, он повесил за спину винтовку, столкнул в пропасть убитого орла и присел на большой камень возле пещеры. Из-за голенища рыжего, стоптанного сапога он вынул финку и начал свежевать ягненка. Под скалой, где-то на самом дне темной пропасти, шумела, бесновалась стиснутая каменными стенами бурная речка. На другой стороне ущелья чернел островерхий гранитный утес, похожий на изваяние сидящего орла. На голой макушке его горела охваченная пламенем заката старая сосна-двойняшка. Покореженные черные стволы ее были, как веревка, свиты в один: видно, так легче бороться с ветрами, налетающими со всех сторон света. Сгорбилась, почернела старая сосна и, подставив плешивую макушку заходящему солнцу, поскрипывала жалобно и тревожно. Когда перед пещерой запылал костер из сухого букового хвороста, парень еще раз с тоской посмотрел в сторону улетевших орлят, изгнанных им из родного гнезда. — А, не пропадут! — опять тихо произнес он. — Я ж не пропал… Разложив кусочки мяса на небольшом плоском камне, раскаленном в костре, он достал из кармана засаленных шахтерских штанов узелок с солью. Не спеша, почти благоговейно развязал его и положил перед собой. Чуть поджаренный снизу и прихваченный пламенем сверху, сочный кусочек мяса он макал в соль и бросал в рот. Выхваченное прямо из огня мясо обжигало, но именно от этого и казалось необычайно вкусным. Поужинав и напившись воды из немецкой баклажки, путешественник подбросил в костер сухого хвороста и вошел в пещеру. Теперь можно внимательнее осмотреть выбранное для ночевки место. До ужина куча неизвестно кем припасенного хвороста только радовала. А сейчас тревожила: кто и когда собрал, почему не сжег. По свежим изломам буковых веток нетрудно было догадаться, что сушняк собран дня три назад, уже после большого дождя, пролившегося над Малыми Татрами. Значит, приди на день—два раньше, он нашел бы здесь друзей, может быть даже попутчиков к линии фронта. Взяв из костра ярко горящее поленце, паренек, согнувшись, вошел в пещеру. Копотью лучины или спички на ржавых ее стенах латинскими буквами были написаны словацкие имена: Цирил, Ёжо. Над этими именами, как заглавие, стояло крупно выведенное: ЯНОШИК. Под каждым именем было по маленькому коричневому крестику. Чем они написаны? На краску не похоже. А глины такой здесь нет… Кроме надписей, в пещере ничего интересного не оказалось. Путник попробовал было отвалить камень в темном закоулке. Но круглый серый валун оказался так плотно вогнанным в расщелину, что без лома или крепкой палки сдвинуть его не удалось. Выйдя из пещеры, паренек разостлал возле угасающего костра пятнистую немецкую плащ-палатку, сунул под голову мягкую заячью шапку и лег, прижав к груди холодную сталь винтовки. Хорошее, надежное место попалось ему сегодня для ночлега. Здесь не придется вскакивать и бежать среди ночи, как не раз случалось во время двухмесячных скитаний по чужим горам и лесам. Но только прикрыл он глаза, как перед ним возникло видение, которое беспокоило его каждую ночь, со дня побега из лагеря смерти, из проклятого Бухенвальда. Словно живой, появился перед ним замученный, окровавленный Вацлав Гудба……Из-за высокой каменной ограды концентрационного лагеря предательски выглядывает луна. Она освещает лысину и скуластую щеку старого коммуниста-словака. С головы, пробитой разрывной пулей, черной струей тянется кровь по лицу, шее, по серой лагерной рубашке. Выбитый левый глаз кровавым яблоком висит на бледной щеке. Гудба упирается в землю руками, пытаясь подняться; напрасно, на простреленные ноги не встать. Он весь дрожит и еле держится на руках, но не стонет. И, кажется, даже не обращает внимания на свои смертельные раны. Всеми остатками сил Вацлав Гудба тянется к худому пареньку, остро смотрит в лицо ему единственным лихорадочно горящим правым глазом и, старательно выговаривая русские слова, твердит: — Гришькоо! Гришькоо! Товарищ Кравцов. Ты хтел бежать до русска. Бить фашистов. Иди в Словакию! Иди! Сделай то, цо я просим. То важнее, чем убить сто фашистов! Гришькоо!.. — В дрожащем, прерывающемся голосе раненого уже не просьба, а стон, отчаянный вопль человека, не успевшего сделать то, ради чего он жил на земле. — Гришькоо, не забудь адресу. Повтори! Повтори! — Туречка, в десяти километрах от Банска Быстрицы. Найти Яна Ковача, — горячо, скороговоркой шепчет Гриша. — Передать ему: берегитесь Цотака! По заданию гардистов он ищет валашку Яношика! — Гришькоо! — Старик шепчет так тихо, что юноша вынужден подставить ухо к самым его губам. — Валашка Яношика — то типография, друкарня. Тайная друкарня коммунистов! Григорий Кравцов опустился на колени, обнял раненого. Стиснув зубы, хотел что-то сказать. — О-о-о, Гришькоо! Я не подумал! — бессильно опустив голову, хрипит Гудба. — Ковача могут споймать… Его могут… Раздаются свистки гестаповцев, обнаруживших побег, гулкий топот кованых сапог, быстро нарастающий лай собак. — Если Ковача нету, — из последних сил шепчет умирающий, — найди… найди… Но то ли Гудба затрудняется в выборе надежного человека, то ли кровь заливает ему горло — Гриша никак не может понять фамилию второго человека, которому можно доверить важную тайну: Благовер, Дол-говер или Многовер… Свора собак и гестаповцев уже рядом. Вацлав Гудба падает, взмахнув рукой: беги! Гриша пожимает уже безжизненную руку старика и бросается в речку. В воде холодно. Темно. Луна скрылась. Где-то далеко позади на все голоса лают и поскуливают овчарки, оголтело свистят гестаповцы, тяжело ухают по гулкому берегу большие кованые сапоги. Мало-помалу все звуки стихают. Вода кажется теплее, приятнее… Гриша плывет на спине, отдыхает… И кажется ему, что не Эльба это, а родной Иртыш…
В костре догорел последний уголек. Перед тем как совсем погаснуть, он вспыхнул небесно-синим огоньком, покраснел ярче обычного, в последний раз освещая пещеру и свернувшегося возле теплого камня беглеца, потом изогнулся тонкой оранжевой змейкой, почернел и угас.
* * *
У человека, вынужденного долгое время скрываться, вырабатывается особое чутье, ощущение близкой опасности. Идет он густыми лесами, глубокими ущельями, выбирает безлюдные тропы да теневые стороны, случается, что забудется, начнет напевать или насвистывать и вдруг, ни с того ни с сего, остановится, застынет, весь превратится в слух и внимание. Кругом ни звука, ни шороха. Только собственное сердце стучит усиленно и четко, будто твердит: «Не верь! Не верь! Не верь!» И уж лучше не верь обманчивой тишине. Вслушайся, всмотрись… Гриша проснулся. Он еще ничего не слышал, не видел, но был уверен, что кто-то приближается к пещере. Кто? Человек? Горный олень? Дикие козы? Орлица вернулась отомстить? Ничего не видно. А на сердце давит, гнетет. Такое ощущение бывает перед грозой. Проснешься — и чувствуешь: надвигается на тебя что-то тяжелое, душное. Посмотришь — грозовая туча. Но в эту ночь на небе, густо усыпанном звездами, не было ни облачка. Ущелье, доверху заполненное темно-лиловым туманом, напоминало полноводную спокойную реку. На противоположном берегу этой дымящейся реки, из-за голой скалы с одинокой горбатой сосной осторожно, как пленник из-за ограды концлагеря, вылезала огромная багровая луна. Послышался далекий шорох камешков под чьими-то ногами. «Гардисты, — мелькнула догадка. — Не хватает попасться в их лапы возле самой Туречки!» Гриша скомкал плащ. Смёл в пропасть пепел от костра. Туда же бросил обглоданные кости ягненка. Остатками хвороста прикрыл пепелище. И, лишь убедившись, что следы ночевки скрыты, ушел по карнизу утеса к гнездовью орлов. Ни на миг не спускал он взгляда с тропинки, ведущей к пещере. Луна уже оторвалась от скалы, поднялась над сосной и стала бледной, почти прозрачной. В ее свете плоские камешки на тропе блестели старым, потускневшим серебром, будто бы кто-то нес из пещеры клад позеленевших слитков да так спешил, что половину растерял в пути. Укрывшись за каменной глыбой, Гриша стал ждать. Здесь его так просто не возьмешь. Зато каждого, кто появится на тропинке, он мог подстрелить. Одно плохо: уж очень несет падалью в этом гнездовье, среди тлеющих костей. «Черти, сколько ягнят уничтожили! — подумал Гриша. — А я жалел, что разорил гнездо». Сухое шуршание камешков приблизилось. Раздался тихий, осторожный посвист. На серебристой тропинке появился парнишка лет четырнадцати, одетый в белые, туго обтягивающие суконные штаны и полотняную белую рубашку. На лохматой голове белая шапка, похожая на берет. Оглянувшись, он сердито кому-то махнул и вполголоса проворчал: — Чего еще там? Ёжко, скорей! — Сам скачешь, как козел, потому что дорогу знаешь, — раздалось в ответ, — а Тоно — первый раз. Говорили они по-словацки. Но Гриша все понимал. Этот язык он изучил еще в Бухенвальде, когда попал в группу чехословацких коммунистов. Наконец и Ёжо показался на тропе. Ростом он был ниже товарища, но полнее и, пожалуй, сильнее. Неуклюже болтался на нем заплатанный серый пиджак с плеча взрослого человека. Мальчики остановились рядом. Луна бросала от них тень к орлиному гнезду. — Цирил, может, вернуться к нему? — спросил Ёжо. — Никуда не денется. Тропка тут одна. Пока разведем костер, придет. — А вдруг испугается, что дома его хватятся, да вернется назад? — Один побоится возвращаться. Успокоенный этим доводом, Ёжо спустился следом за другом к пещере. — Почему так мало хвороста? — строго спросил Цирил. — Поленился? Ёжо почесал остриженную под ерша черную голову, недоуменно посмотрел на небольшую кучку хвороста и пробормотал: — Я собирал много. Очень много… — А-а-а… — иронически откликнулся Цирил. — Это орлы забрали… Зайчатину жарить. Ладно уж. Пока нет Тоно, расскажи лучше, что нового узнал от Божены. — Что ж нового… В Батеванах среди бела дня партизаны устроили собрание, а когда нагрянули гардисты, все как сквозь землю провалились. Возле Ружомберга полетел под откос поезд с эсэсовцами, ехавшими на фронт с Райских Теплиц.[126] А в Турчанском Святом Мартине партизаны взяли в плен немецкого генерала. — Ух ты! — в восторге воскликнул Цирил. — Целого генерала? — Нет, половинку. — Я хотел сказать — настоящего… — Конечно, не игрушечного! Да еще, говорят, очень важного. Такого, что самим Гитлером был поставлен над всей словацкой армией! Гриша перевесил винтовку через плечо, прижался к скале и, подставив более чуткое правое ухо, даже приоткрыл рот, чтобы шум от дыхания не мешал слушать. Вспыхнул костер — в пещере стало светло, луна отошла куда-то далеко в сторону. Она всегда убегает от костра. Появился третий парнишка, толстый, видимо тяжелый на подъем. Цирил достал откуда-то лом и отвалил камень, который еще вечером заинтересовал Гришу. За камнем открылся лаз в пещеру. Цирил вполз туда и подал наверх три кирки, лопату с коротким черенком и ломик с расщепленным, как козье копытце, концом. Пока Цирил с горящей свечой в руке вылезал из ямы, Ёжо выбрал себе кирку поудобнее. Белоголовый толстяк, пришедший последним, стоял в стороне и на все приготовления смотрел широко раскрытыми глазами. Ясно было — он здесь впервые. — Держи, Тоно! — подавая отекающую свечу, сказал Цирил. — Иди сюда. Вот здесь, внизу, копотью свечки пиши свое имя. Новичок молча и сосредоточенно начал водить горящей свечой по стенке пещеры. Трудился он долго. Наконец к тайному списку прибавилось и его имя. Когда с этим делом было покончено, Цирил взял свечу, погасил и, повернув ее другой стороной, выковырнул из стеарина иголку. — Руку! — сурово насупив черные брови, сказал он новичку. Тот, не давая руки и смущенно оглядываясь, спросил: — Может… может, она и не здесь? — Что-о-о?! — Ну, валашка Яношика… «Валашка Яношика?!» — насторожился было Гриша, сразу вспомнив наказ Вацлава Гудбы. Но тут же догадался, в чем дело, улыбнулся и проникся еще большим уважением к незнакомым ребятам. Он уже знал, что валашка в прямом смысле этого слова — топорик с длинной, как тросточка, рукояткой. В былые времена валашка считалась грозным оружием словаков,особенно в руках легендарного Яношика. И едва ли найдется хоть один словак, который в детстве не пытался отыскать могучее оружие народного заступника. Слышал Гриша, что живет в народе поверье, будто валашка бесстрашного Яношика хранится где-то в горах, в расщелине скалы или в пещере. Впрочем, один лесник, у которого Гриша, раненный в стычке с бра-тиславским гардистом, прожил целую неделю, уверял, что Яношик спрятал свою валашку не в скале, а в лесу, что он с размаху глубоко вогнал ее в ствол старого дуба и лишь рукоятка осталась торчать. А чтобы никто недостойный не нашел топорика, рукоятка зазеленела, расцвела как и другие ветки дуба. Однако лесник уверял, что волшебная валашка сама откроется тому, кто решится, подобно Яношику, смело, не жалея собственной жизни, сражаться за народ. На недоуменный вопрос Гриши, как же это произойдет, лесник уверенно ответил, что черенок топорика, как стрелка компаса, сам повернется к достойному. — Может, она вовсе и не в этой пещере, — высказал свое сомнение Тоно. — Ведь Яношик любил голи,[127] а это обыкновенная скала. — Голи яношиковцы любили, пока все находились на свободе, — возразил Цирил, — а когда самого Яношика поездили в крепость да поставили целый полк стражи, хлопцам было уже не до прогулок на голях, и стали они прятаться по пещерам да под водопадами. — А, чего тут уговаривать! — махнул Ёжо. — Не хочет, пусть катится. Только если проболтается!.. — Сразу — катится! — обиделся Тоно. — Я просто к тому, что никто же по-настоящему не знает, где она спрятана. — Вот и хорошо, что не знают, — сказал Цирил. — Знали, так давно бы какие-нибудь жулики нашли… — Но почему вы ищете ее тут, а не в другом месте? — упорствовал Тоно. — Да ты посмотри хорошенько! Посмотри! — уже горячился Цирил. — Видел сосны да буки на самой середине тропы? По скольку им лет? — Есть такие, что по двести будет, — заметил Ёжо. — Значит, тропа эта появилась давным-давно. Верно? — Верно, — как эхо, отозвался Тоно. — А кто мог ее так глубоко притоптать в каменной горе? Я тебя спрашиваю: кто? — Яношик, — глядя на глубокую тропинку, сказал Тоно, — только у него и у Суровца была такая походка. — То-то же! — обрадовался Цирил. Гриша лукаво улыбнулся: тропка была размыта весенними дождевыми водами. — А этот камень? — Цирил подскочил к камню, на котором вечером сидел Гриша. — Камень этот ничего тебе не говорит?.. Совсем ничего? Эх, ты! Сам Яношик сидел на нем, как в кресле, и судил мадьярских князей да всяких богачей-мучителей! А в эту пропасть бросал их одного за другим, словно котят. Посмотри вниз, посмотри! — Вижу, — кивнул Тоно, однако в пропасть смотреть не стал. Цирил отполз в угол пещеры и вынес пару огромных почерневших лаптей, выгнутых из целых кусков толстой сыромятины. Гриша видел такие лапти на ногах некоторых лесников и знал, что называются они поршнями. — А на это что ты скажешь? — спросил Цирил, торжественно поднося лапти к самому носу маловера. — С чьей ноги эти поршни? — Эти поршни, может… может… даже самого Яношика, — ответил Тоно и решительно подставил указательный палец правой руки. — На, коли! — Не эту! — оттолкнул Цирил. — Левую, от сердца. — Цирил, а еще скажи… только одно слово… — протягивая левую руку, сказал Тоно. — Когда найдем валашку, тогда что? — Пойдем к ружомбергским партизанам. — Коли! Хоть сто раз коли! Ёжо подбросил хвороста. Костер вспыхнул ярче, торжественнее. Цирил поплевал на палец новичка, старательно вытер его рукавом рубашки и наколол иголкой. Пламя костра слегка колебалось, и длинные тени ребят качались по стенке пещеры. Кровью, выступившей из пальца, Тоно начертил крест под своим именем. Гриша улыбнулся, вспомнив и свои мальчишеские клятвы. Теперь он был твердо уверен, что с этими парнишками можно смело разговаривать. Закончив таинство клятвы, мальчишки взялись за кирки и принялись долбить стену пещеры, расширяя вход. «Гуу-ух!» — далеко в горах прокатился глухой, тяжелый взрыв. Ребята побросали работу, замерли. — В Ружомберге, — настороженно подняв указательный палец, сказал Цирил. — Партизаны! — со священным трепетом в голосе прошептал Ёжо. — Мост взорвали. — Склад боеприпасов! — уточнил Цирил. И вдруг как бы в подтверждение этих слов на северо-востоке взметнулось зарево. Взметнулось ярко, потом немного осело, расширилось, потемнело и снова брызнуло высокими кровавыми фонтанами. «Наверное, поезд с бензином полетел под откос. Цистерны рвутся и вспыхивают», — решил Гриша и уже вышел из своей засады, намереваясь заговорить с ребятами, как вдруг где-то внизу послышался топот. Понять, кто идет, было невозможно: в горах шорох маленькой птички иногда кажется гулом, а топот коня едва слышен. — Цирил, — зашептал Тоно, — сюда бегут! — Глупости! Кто может знать, что мы тут? — Да ты прислушайся! Внимательнее всех прислушивался Гриша: появление нового человека срывало все его планы. За скалой раздался звонкий девичий голос:ОДИН ПРОТИВ ТРОИХ
Кособокий деревянный домишко, в котором скрылся Цирил, одиноко ютился на самом краю деревни Туречки. К домику не было даже дороги. Как птичье гнездо, чудом держался он на круче, нависшей над рекой. Гриша давно заметил, что словаки дорожат каждым клочком пахотной земли и строятся в самых неудобных местах, лишь бы выгадать участок под огород или сад. Он видел дома, притулившиеся на голых скалах, в тесных ущельях, на стремнинах, куда ведет лишь узкая, похожая на козий след тропа. Но такое «ласточкино гнездо» парень встретил впервые. Мало того, что кручу, на которой повис домишко, дни и ночи подмывала быстрая горная река, ему еще и сверху угрожала опасность. Словно обрубленный взмахом огромного топора, вздымался над узким двориком гранитный утес. С вершины его большим тяжелым козырьком нависла над домом каменная глыба. Посередине глыбы — старая развесистая ель; под ее густыми ветвями и простоял Гриша остаток ночи, ожидая появления Цирила. Не случись с отцом Цирила беды, Гриша зашел бы в этот домишко. Но тревожить больного он не решался. Несколько раз парень задавал себе вопрос: правильно ли он поступил, что пошел за Цирилом, зная, какое в его доме несчастье? Но что ему оставалось делать, если остальные ребята вместе с Боженой шумной гурьбой вбежали прямо в село. Цирил вышел из дома только на заре. Схватив под навесом ведра и коромысло, он так стремительно промчался вниз, что Гриша не успел спуститься на уступ, с которого можно было заговорить, не боясь постороннего глаза. «Окликну, когда станет подниматься», — решил Гриша. Но Цирил возвратился не один. За ним шел полный, одетый в светлый добротный костюм и серую фетровую шляпу человек средних лет. Лицо его казалось настолько добродушным, что Гриша сперва даже подумал, не заговорить ли с ним. — Пан Маречек, вы в Ружомберге не были, когда загорелась фабрика? — спросил Цирил, мелко семеня ногами и сгибаясь под тяжестью полных ведер. — Вас не арестуют? — Пока что хожу на воле, а дальше цо пан бог даст! — вздохнул Маречек. — А гардисты не станут допрашивать папу, пока он больной?.. Но тут Цирил и Маречек окрылись под скалой, и больше Гриша ничего не слышал. Опять пришлось ждать. Утро началось за лысой макушкой горы. Солнца еще не было видно, а макушка уже вспыхнула золотым огнем. С этой горы утренний свет потоками хлынул в ущелье. Деревня сразу ожила, зашевелилась. Захлопали калитки, заскрипели ворота хлевов. Потянуло запахом теплого овечьего навоза. Из дворов по крутым, извилистым тропам стали спускаться коровы, телята, дойные овцы и козы. У реки они собирались в небольшие стада и не спеша уходили в лес, за деревню. Кое-где на крутых склонах, свободных от леса, появились косари. На свежевыкошенных зеленых полянах, в расщелинах и на казалось бы недоступных стремнинах выросли аккуратные, обвязанные лозой и придавленные камнями копны свежего сена. На противоположном склоне ущелья зеленело с полсотни сенокосных полянок. Ни одна из них не превышала четверти гектара. Среди них были такие крутые, на которых немыслимо, казалось, устоять человеку. Вдруг Гриша увидел, как на одной такой полянке копна зашевелилась и медленно поползла вниз, туда, где чернела крыша старого деревянного домика. Но странно сползала копна — не прямо под гору, а выбирая пологие спуски. Словно кто-то тянул ее или подталкивал сзади. Но кто и где он? Внизу, за селом, послышался гул мотора. Из-за поворота скалы, у подошвы которой пролегло неширокое шоссе, выскочила грузовая машина. В кузове стояли вооруженные винтовками гардисты. В руках у каждого резиновая дубинка. Гардисты бойко, но не дружно пели. Потом вдруг смолкли: машина остановилась — дальше дорога оказалась заваленной камнями. Видно, ночью обвалилась скала. А может быть, не сама по себе обвалилась. Может, кому-то это было нужно. Гардисты попрыгали с машины и бросились в село. Навстречу им шел человек в синей замасленной блузе и старой шляпе с опущенными полями. Гардисты схватили его, заломили за спину руки и надели железные, сверкающие под солнцем наручники. Один чернорубашечник взял винтовку наперевес и повел арестованного к машине. А новость уже полетела по деревне. Во всех дворах поднялась суматоха. Особенно встревожились мужчины — одни поспешно прятали и сжигали запретные книги; другие, захватив узелок и наскоро попрощавшись с детьми, направлялись в горы, в лес. Со скалы Гриша видел и то, что было скрыто от глаз гардистов, шнырявших по домам. Странная копна продолжала медленно спускаться с горы. Теперь уже стало очевидно, что направляется она прямо к домику, вросшему в гору. Вот копна остановилась, развалилась, и из сена вынырнул маленький, сухой человек в старой спецовке железнодорожника. Он рукавом смахнул с лица пот и недоуменно оглядел свой двор, в котором хозяйничали чернорубашечники. Вдруг из окна дома выскочила женщина. Размахивая платком, она кинулась навстречу железнодорожнику. Тот растерялся, но, заметив, что гардисты уже рядом, спрыгнул в расщелину и скрылся. Во дворе, под скалой, тоже послышались голоса. За домом Гриша увидел Цирила и старушку в клетчатой темно-зеленой кофте и серой юбке. Цирил совал ей за пазуху какие-то бумажки, газеты и книжонки. Старая женщина распределяла все это под кофтой, не спуская глаз с тропинки. Потом Цирил убежал домой, а старуха направилась в лес. Ушел и Маречек. В ту же минуту, словно из-под земли, во дворе Цирила появились три гардиста. Один встал на углу дома. Двое направились в сени. Дверь оказалась запертой. Постучали. Никто не ответил. Постучали еще. Молчание. Тогда один подошел к окну и закричал: — Ковач, открывай! Ян Ковач! «Ян Ковач? Отец Цирила — Ян Ковач?..» Раздвинув ветки, Гриша вскинул винтовку… В голове его мгновенно родился ясный, точно рассчитанный план: перестрелять гардистов, вбежать в дом и с помощью Цирила увести Ковача в лес… Но выстрелить он не успел: два гардиста сорвали дверь и вошли в сени, а третий завернул за угол. Несколько мгновений, которые показались вечностью, Гриша стоял в раздумье. Потом повернулся, осмотрел противоположный склон ущелья и почти бегом пустился вниз, укрываясь между елями и мелким кустарником.* * *
Для Яна Ковача приход гардистов был тоже неожиданным. Когда Маречек ушел, Ковач подозвал к себе сына. Цирил встал возле кровати и молча смотрел на отца: из-под бинтов виднелись только его рот да глаза. Запавшие суровые глаза смотрели прямо в душу, словно отец хотел узнать, каким вырастет сын, что из него получится, когда он останется один. — Два года… жили мы… без матери… — заговорил Ковач, отдыхая после каждого слова. — Было очень тяжело. А одному… будет еще труднее. Мальчик только кивал головой. Говорить он не мог: слезы душили его. Хотелось кричать на всю комнату. Хотелось куда-то бежать, с кем-то бороться, защитить, спасти отца… Но у него недоставало сил даже на то, чтобы сдержать слезы. — Сынок… Не плачь, не плачь… Запомни мою просьбу и обещай выполнить ее. Цирил кивнул головой, вытер глаза мокрой ладонью. — Работай. Честно работай всю жизнь. — Не бойся, воровать не пойду, — сказал Цирил и, наклонившись к самому лицу отца, прошептал: — Я буду, как ты, коммунистом. Отец благодарно положил руку на лохматую голову сына, а тот продолжал еще тише: — Мне бы только найти валашку Яношика. Папа, ты знаешь где она? Скажи, скажи! — Зачем тебе? — удивился отец. — Дедушка Франтишек говорил, что тот, кто найдет эту валашку, станет таким же сильным, каким был сам Яношик. — А-а-а, — понимающе протянул отец и, отдышавшись, объяснил, что валашку Яношика может найти только тот, кто всей душой стоит за народ, кто готов делить с ним и труд, и борьбу, и страдания. Цирил глянул в окно и вдруг закричал: — Гардисты! Он закрыл на крючок дверь. — Я не пущу их! Они тебя убьют! — Обеими руками подросток ухватился за крючок. — Не пущу! В дверь сеней застучали. Еще и еще. Отец позвал Цирила к себе. — Сынок, выслушай меня хорошенько, — заговорил Ковач, превозмогая боль и слабость. — Я не думал, что они так скоро придут за мной, и не успел увидеть бачу.[128] Передай ему… Гардист постучал в окно и окликнул. — Спокойно, Цирил. Не перепутай и не забудь… — Говори, папа, говори! — Скажи баче: если будут улики, все возьму на себя. Повтори! Цирил понял, что отец ради спасения товарищей обрекает себя на смерть. Но, глотая слезы и задыхаясь, он повторил его слова. — Открывай! А сам беги к баче Франтишеку. Это дело срочное. Беги! Цирил бросился к отцу, зарыдал. — Цирилко, беги. Беги! — Отец погладил сына по голове. — Бача поможет тебе найти валашку Яношика. Он все знает… Пропустив в комнату гардистов, Цирил шмыгнул вон и стремглав понесся в верхний конец деревни, откуда лесная тропа вела к шалашу бачи. На середине деревни он увидел бегущего к нему взлохмаченного Ёжо. — Цирил! Цирил! — задыхаясь, кричал Ёжо. — Твоего отца гардисты повели! Я стоял на крыше и видел, как они… Цирил остановился: — Ты обознался. Отец не может ходить. У него перебиты ноги. — Они его под руки тащили… Вдвоем. — Ёжо! — Цирил судорожно ухватил друга за руку, как бы прося помощи, и пустился обратно. Ёжо последовал за ним. Выбежав на край села и увидев гардистов, спускавшихся по тропинке к дороге, ребята остановились. Двое чернорубашечников волокли под руки перебинтованного с головы до ног Ковача, а третий с винтовкой наперевес шел позади. Дорога вилась по ущелью. С одной стороны ее был обрыв к шумящей реке; с другой — круто поднималась гора, густо поросшая лесом. В километре от деревни ущелье расширялось, переходя в долину, ведущую к местечку Старые Горы и дальше к Банска Быстрице. Но здесь, на пути ребят, проходила самая узкая часть дороги, и старые буки, растущие по склону, всю ее закрывали тенью своих развесистых ветвей. — Цирил, — шепчет Ёжо, — давай спрячемся за деревом и камнями забросаем гардистов! — Что камень против винтовки? — отмахнулся Цирил, поспешно взбираясь вверх по тропинке. Подбежав к отцу, Цирил бросился ему на шею. Гардист, шедший справа, ударил мальчика в живот. Тот согнулся и упал, не в силах даже крикнуть, Ёжо решил, что друг его убит, схватил камень и со всего размаха запустил в гардиста. Шедший позади высокий тонконогий чернорубашечник вскинул винтовку и прицелился в Ёжо. Но откуда-то со стороны раздался выстрел. Тонконогий гардист, не успев выстрелить, нелепо взмахнул винтовкой и распластался поперек дороги. Конвоиры, ведшие арестованного, бросили Ковача и подбежали к раненому. Один за другим раздались еще два выстрела. Ёжо наклонился над Цирилом, лежавшим с закрытыми глазами, стал его тормошить: — Цирил, Цирил! — и вдруг закричал во весь голос: — Цири-ил!.. Подумав, что Цирил убит, Ёжо хотел уже бежать в деревню, звать людей, как вдруг Цирил сжал его руку, Ёжо обнял друга, помог ему сесть. И тут они сразу увидели все, что произошло на дороге. Почти рядом с ними, уткнувшись носом в дорожную пыль, лежал гардист, целившийся в Ёжо. Второй вытянулся метрах в пяти от дороги. Его винтовка лежала далеко в стороне. А третий свалился с кручи в речку. Еще не понимая, что произошло, Цирил припал к отцу. Тот дышал тяжело, судорожно, точно ему не хватало воздуха. Но в глазах его, устремленных куда-то вверх, горела живая, радостная искра. В последнем усилии Ковач приподнял руку и, указывая на огромное дерево, прошептал: — Он там… Узнайте, кто он. Отведите к баче… Ребята посмотрели в сторону старого, развесистого бука, выступившего на несколько метров из сплошной полосы леса и стоявшего, как сторож, у самой дороги. В густых темно-зеленых ветвях они разглядели незнакомого парня, высокого, худого, с глубоким шрамом во всю правую щеку. Парень слез с дерева. Цирил и Ёжо смотрели на него как зачарованные и долго не могли заговорить. — Кто вы? — спросил наконец Ёжо. — Русский. — Рус… — шепотом в один голос повторили они. — Настоящий рус!.. Незнакомец спустился на дорогу. — Товарища надо унести в лес! — деловито распорядился он. — Сейчас нагрянут… Из села уже бежали мужчины, женщины, дети. — Гардисты идут! — крикнул Ёжо, когда Цирил и русский стали поднимать вдруг обмякшего Яна Ковача. — Пусть идут, если хотят того же! — ответил русский, низко склонившись над Ковачем. Он приложил ухо к груди, подержал за руку, встал и, тяжело вздохнув, медленно стянул с головы рваную заячью шапчонку. Люди из деревни были уже рядом. Слышался топот кованых сапог гардистов. Цирил, упав на труп отца, рыдал, вздрагивая всем телом. А Ёжо, вцепившись в руку русского, тянул его в лес и умолял: — Убегайте! Гардистов много! Убегайте! Гриша, не двигаясь с места, смотрел в открытые безжизненные глаза человека, к которому он два месяца шел таким трудным, далеким путем. Наконец он повернулся к Ёжо: — Если не боишься, проводи. — Скорее, скорее! Вас заметят! — горячился Ёжо. — Пусть они меня боятся, а не я их, — ответил юноша спокойно, забрал патроны у убитых гардистов и только тогда пошел за Ёжо. Пройдя километра два и перевалив через вершину горы, Ёжо остановился и предложил отдохнуть в укромном еловом лесочке. — Теперь не догонят, — махнул он в сторону дороги; оттуда еще доносились крики, ругань, стрекот мотоциклов. Посмотрев на своего спутника, паренек несмело спросил, как его зовут. — Гришка, — ответил русский. — Гришькоо, — певуче повторил Ёжо. — Гришькоо… Услышав такое своеобразное произношение своего имени, Гриша снова вспомнил старика Гудбу, его просящий, предсмертный взгляд и такое же певучее: «Гришькоо». А как только всплыл в его памяти образ старика коммуниста, в нем снова пробудилась жажда деятельности. Надо что-то делать. Нужно придумать какой-то выход. — Найти бы второго! — Гриша судорожно, как утопающий, схватил проводника за плечо. — Ты знаешь всех жителей своего села? — А как же! — Называй мне все фамилии по порядку! Только не пропусти ни одной! — потребовал Гриша, надеясь услышать фамилию, похожую на ту, которую назвал перед смертью Вацлав Гудба. Но только назвал Ёжо две фамилии, как до беглецов донесся тяжелый топот и шумное дыхание запыхавшегося человека. Потянув своего проводника за рукав, Гриша скрылся под большой елью. — Гришькоо, не бойся, — спокойно сказал Ёжо. — То наш бывший учитель, пан Шпицера. Самый добрый человек на свете. На поляне появился сухощавый, тщедушный человек лет сорока. Он боязливо озирался и близоруко щурился. Одной рукой поправляя пенсне, а другой прижимая к себе сверток, учитель остановился в нерешительности. Ёжо окликнул его. Тот подошел и, удивленно глядя в глаза Гриши, спросил: — Рус? — Да. — Товарищ? — улыбнувшись, добавил учитель так, будто это слово было какой-то особой, присущей русскому фамилией. — Здравствуй, товарищ! — И, придерживая локтем сверток, он неистово, обеими руками затряс руку Гриши. — Хорошо, товарищ! Не бойся. Мы гардистов направили совсем в другую сторону, за Грон. Мы сказали: там много парашютистов и все с пулеметами. — И они побежали за Грон? — Такие побегут на край света! — Учитель даже отвернулся, словно боялся, что русскому неприятно будет видеть его исказившееся от негодования худое, зеленоватое лицо. — Наш комендант так старается, словно ему сам Тиссо пообещал портфель Шанё-Маха[129]… — Вдруг он спохватился, заспешил: — Товарищ, вот возьми на дорогу. Тут аптечка, на случай, и еда. Я пойду в другую сторону, а то меня видел Ма-речек. — Маречек?! — невольно воскликнул Гриша, услышав уже знакомую фамилию. — Вы его знаете? — удивился учитель. — Н-нет, не знаю. Откуда же? Просто нехорошо, если вас видели. Спасибо за аптечку, товарищ учитель. Пекне дякуем, — добавил Гриша по-словацки. Учитель вынул из кармана зеленую с черными обводами бумажку в сто крон, сунул ее в руку Гриши, буркнув: «На всякий случай», — и поспешно ушел под гору. А Гриша и Ёжо отправились дальше. Через некоторое время Гриша спросил Ёжо, не выдаст ли их учитель. — Что вы! Он так ненавидит гардистов! Он очень больной, а то уже давно был бы в партизанах. — Ты, кажется, сказал, что это бывший учитель? — вспомнил Гриша. — Он не работает или ты не учишься? Ёжо гордо улыбнулся: — Нас обоих выгнали из школы за одно и то же дело. И Ёжо охотно рассказал историю своего исключения. Однажды от проходивших через село солдат Ёжо услышал загадку: «Кто за что воюет?» Придя в школу, он загадал ее ребятам. Прошло два урока, а никто не отгадал. Тогда Ёжо сказал: «Русский воюет за Родину. Немец — за фюрера. А гардист — за одну крону двадцать грошей в день». Вместе с ответом он написал загадку на доске. Вошел учитель, этот самый пан Шпицера. Прочитал, улыбнулся и все стер. Но директор об этом узнал. И на следующий день пан Шпицера уже не был учителем, а Ёжо Спишак — учеником. — Вот ты, оказывается, какой! — выслушав рассказ, обрадовался Гриша. — На ходу подметки рвешь! — Зачем рвать подметки? — удивился Ёжо. — Так говорят у нас про смелых. — Тогда это лучше про Цирила. Он самый смелый! — Ёжо посмотрел по сторонам и добавил почти шепотом: — Он знает, где спрятана валашка Яношика. — Да ну? — Только я это одному вам. Потому, что вы — товарищ. — Учитель помешал нам, продолжай называть фамилии жителей, — снова попросил Гриша. — Я называл Томашека и Седлака? Да?.. Это на самом верхнем конце. А дальше — Маречек. — Тот самый, про которого учитель говорил? — Маречек у нас один. — Почему учитель боится его? — Плохо знает. А Маречек коммунист и очень смелый. — Ты-то откуда знаешь? — Знаю. Мы с Цирилом видели, как он в полночь приклеивал на стене листовку. Против Гитлера. Страшно запрещенная. За такую листовку у нас в школе можно выменять велосипедную камеру или даже лампу к радиоприемнику. — Видели и никому не сказали? — Мы ж не девчонки! Насчет тайны у нас с Цирилом, как у Яношика. — А, кроме Маречека, в Туречке есть еще коммунисты? — У нас здесь все коммунисты! — выпалил Ёжо. И пояснил, что коммунистами всех жителей села назвал сам комендант полиции пан Младек за то, что ни один парень из их деревни не пошел добровольно в гар-дисты. Продолжали путь не спеша, Ёжо перечислил десятки фамилий, но той, какую хотел услышать Гриша, так и не назвал. Теперь одна надежда оставалась на бачу. Старый человек скорее что-нибудь придумает. К середине дня забрались в чащу, сели возле ручья и пообедали бутербродами с паприкашем, которые оказались в свертке учителя. Решено было отдохнуть здесь до вечера, так как днем к баче могут прийти люди из села. Показав на зеленевшую вдали лысую макушку горы, Ёжо сказал, что это и есть Крижна — гора, на которой стоит шалаш бачи. Крижна казалась отсюда совсем небольшой сопкой, вокруг которой на склонах и отрогах синели бесконечные густые леса. На выпуклой зеленой макушке, как бородавка на бритой голове великана, чернел большой камень. Гриша принял его за развалины крепости или древнего замка, каких он немало встречал в горах Словакии. Подобно сторожевым псам, покоятся эти руины на самых красивых голях и скалах. Гриша слышал немало местных легенд и преданий, связанных с борьбой против турок и мадьярских феодалов, которые совсем еще недавно были самыми жадными грабителями Словакии, Верховины и Моравии. — Ёжо, я сам теперь пойду, — проследив мысленно путь до Крижны, заявил Гриша. — Ты возвращайся домой, а то влетит тебе от матери. — Влетит? — Ёжо вздохнул и отвернулся. — У тебя нет матери? Прости, я не знал. — Есть, да только хуже, чем нет. Были бы дома отец да мать, так Боженка не пошла бы к коменданту, — тихо, словно жалуясь на судьбу, сказал Ёжо. — С нею и подруги не разговаривают за то, что служит у такого гада. — А пошла бы к кому другому? — скорее спросил, чем посоветовал Гриша. — Я уж не раз советовал ей. «Я, говорит, сама знаю, что мне делать. Я, говорит, здесь больше пользы принесу». Упрямая она у нас.В ГОСТЯХ У БАЧИ
Темнело, горы окутались густым фиолетовым туманом, когда Гриша и Ёжо выбрались из лесу и стали подниматься на Крижну. На самой середине этой необъятной лысины гордо чернела высокая скала, которая днем показалась Грише всего лишь большим камнем. — Камень Яношика, — сказал Ёжо, кивнув на скалу. — Камень? — недоуменно переспросил Гриша. — Так называют. Недалеко от Камня Яношика стоял курень. От костра, чуть поблескивавшего перед куренем, струился в темное небо сизый дымок. — Вот и салаш бачи Франтишека, — сказал Ёжо. — Шалаш, а не салаш, — поправил Гриша. Но Ёжо настаивал на своем: — Салаш. Добродушно улыбнувшись, Гриша махнул рукой: — Забыл! Мне сегодня почему-то кажется, что я у себя дома, на Алтае. Такие же горы, леса… Между шалашом и Камнем Яношика, на траву, словно прилегла небольшая сизая тучка. Казалось, она только что спустилась с неба, чтобы немножко отдохнуть и вновь отправиться в путь. Не то от шалаша, не то от этой тучки послышались тихие, как вздохи лесного ветерка, жалобные звуки. Они напоминали и кукование тоскующей кукушки, и курлыканье улетающих журавлей, и тяжелый, угрюмый плеск Иртыша. Гриша, учившийся когда-то музыке, догадался, что это скрипка и играет кто-то на одной басовой струне. Скрипка притихла. Чуть слышное эхо улеглось по кустам, обступившим Крижну, как толпа любопытных мальчишек. Послышался надтреснутый, старческий голос. И полилась песня, слова которой сразу же западали в душу, становились понятными даже плохо знающему словацкий язык:* * *
Горы с северной стороны Крижны выше, чем с южной, леса гуще. На десятки верст вокруг ни деревушки. Куда ни глянь — леса и леса. Хмурые, величавые и молчаливые, они по самой своей природе являются убежищем для всех, кому нет места в городах и селах. Ёжо вел без тропинок. Дорогу он знал отлично. Когда поднялись на перевал, Ёжо показал в сторону широкой лесистой долины, которая под косыми лучами луны горела тусклым фиолетовым огнем. — В этих лесах жил когда-то Яношик! Все так говорят… Мы пойдем вон к тому дереву… Недалеко, под склоном горы, Гриша увидел глубокую впадину, поросшую елями. На самой ее середине возвышалась многовековая мохнатая ель. Она была так высока, что окружающие ее столетние ели казались совсем маленькими. Сейчас, при луне, они напоминали русалок: словно оделись в зеленый наряд, взялись за руки и ждут музыки, чтобы пуститься в пляс. Только кто же тут заиграет: кругом суровая, дремучая тишь. Спустились во впадину. Елки вокруг мохнатой старухи росли негусто и потому были зелеными от макушек донизу. Ветви их, как старомодные платья словачек, пышно распускались до самой земли. А старая мохнатая ель оказалась настолько надежным прикрытием, что ничего лучшего и не придумаешь: во все стороны ощетинились колючие лапы тяжелых ветвей. Приподняв одну ветку за пучок темно-зеленых иголок, Ёжо гостеприимно промолвил: — Входите… Под покров ветвей вошли, как в шалаш. Ветка опустилась и закрыла вход. Со стороны ни за что не догадаешься, что под деревом прячутся люди. Самые нижние ветви начинались на высоте двух метров, и коромыслами опускались к земле. Над веером этого ряда ветвей шел второй, над ним — третий, н так чуть не сотня этажей поднималась к макушке. — Сюда и дождь не попадет, — заметил Гриша, расстилая плащ-палатку на пухлом слое хвои. — Вода тут далеко? — Рядом ручеек. А внизу, в ущелье, целая речка с водопадом, — шепотом ответил Ёжо. Оба они, находясь здесь почти в полной безопасности, продолжали говорить вполголоса — такая стояла вокруг тишина. Спать устроились почти как дома. Но долго лежали молча, не смыкая глаз. Теперь уже Гриша больше не терзался догадками, кому доверить свою тайну. По дороге он твердо решил все рассказать баче. Он даже винил себя, что не сделал этого сразу же. Ну, да один день в таком деле ничего не решает. И Гриша крепко уснул.ПОЗДНО ХВАТИЛСЯ
Тяжелым каскадом с высокого утеса падала быстрая, шумная речка. На дне мрачного холодного ущелья вода собиралась в огромный котел, в котором словно кипели и варились огромные серые камни. Почти у самого водопада, на зеленой полянке, спрятанной в густом березняке, жарко горел небольшой костер. Дыма от него нет: Гриша — мастер держать костер без дыма. — Ёжо, а ты ничего не перепутал? Бача обещал прийти к этому водопаду? Не к другому? А может, он ищет нас возле ели? Хотя нет, я сам слышал про водопад. Ёжо сидел у костра на камне и, нацелившись ложкой, ждал, когда надо будет помешивать кофе. За три дня ожиданий Ёжо уже не раз слышал этот вопрос и потому ответил неохотно. Он и сам тревожился за старика, да боялся говорить об этом: вдруг Гриша уйдет. Ёжо уверен, что Гриша недолго тут пробудет, еще день-два и отправится к фронту, а ты оставайся как знаешь. — Гришькоо, рассказывай дальше. — Всего не расскажешь… — ответил Гриша, но все же продолжал. — Ну вот, получили мы свидетельство об окончании семилетки. А Гале Лесовской и мне за отличную учебу дали путевки в самый лучший пионерский лагерь — в Артек. — Хорошо там? — спросил Ёжо. — Очень! И у вас такой будет. — Ну нет. У нас если и будет, так для сынков богачей да гардистов, — пробубнил Ёжо и со злостью бросил в костер сучковатое полено. — Да ты не порть костер из-за гардистов! Задымил! Увидит кто-нибудь… Ёжо поспешно вытащил из огня дымящееся полено и бросил в водопад — в ревущий, пенящийся омут. Красная от заката кипящая вода в миг проглотила его. — Так будет и с гардистами! — сказал Гриша, глядя туда, где исчезло полено. — Тогда и ты поедешь в пионерский лагерь. — Тогда я буду большой и в лагерь меня не возьмут, — пожалел Ёжо. — Мне тоже не пришлось побывать в Артеке. Наш поезд возле Белгорода немцы разбомбили… — Гриша умолк, и в уголках его полных, но бледных губ появились глубокие, страдальческие морщинки. Шрам на лице стал еще чернее, и краешки его возле глаза и уха быстро подергивались. — Началась война, — продолжал он. — Сначала мы с Галей и еще двое ребят жили в селе Бобры, недалеко от Белгорода. А когда туда пришли фашисты, я ушел к партизанам. Назначили меня связным. Мое дело было ходить в Бобры и от Галиной хозяйки получать сведения о немецких поездах. Старуха была стрелочницей на железной дороге… Кофе вскипел. Сняв котелок с огня, Ёжо налил кофе в чашки, сделанные из куска березы еще в первый день их совместной жизни. Гриша взял чашку обеими руками и, грея по бродяжьей привычке об нее руки, рассказывал: — Прихожу однажды на рассвете в село. А оно оцеплено гитлеровцами. Машины на улице гудят. Люди галдят. Детишки орут. Поросята визжат. Целый содом! Идут старики с узлами. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Молодежь в Германию берут». Как быть? Пока вернусь в отряд, фашистов и след простынет… — Гриша отхлебнул кофе. — А молодежь в селе оставалась, как на беду, самая зеленая, до шестнадцати лет. Мне, правда, и тринадцати не было. Но я все же считался партизаном. — Ну и как? — Да как же! Решил добровольцем уехать в Германию! — Что ты! — отмахнулся Ёжо. — Правда! Когда фашисты закончили облаву и сошлись на площади, я забежал в дом, где жила Галя. А там пусто. Сорвал со стены гармошку. Сына хозяйки гитлеровцы повесили в первый день оккупации. Осталась от него только гармошка. В ящике с инструментами нашел я кусочек ножовки, что железо режет. Сунул его в гармошку. И пошел по улице. Растягиваю гармонь, песню ору. Старухи меня чуть не убили. Заплевали с ног до головы — думали, что я и впрямь добровольцем еду в Германию. — И фашисты поверили? — Поверили, гады! С почетом посадили в машину. А в вагоне даже старшим назначили… Едем. Галя на меня даже не смотрит. Кое-кто из ребят сговариваются задушить, как только настанет ночь. — Ну и… — Не успели задушить, — хитро подмигнул Гриша. — Вечером я открыл гармошку и бросил им ножовку: «Пилите решетку!» Распилить решетку оказалось не так уж трудно. Но пролезть на ходу поезда в маленькое окно, подобраться к дверям и открыть их оказалось куда труднее. — Конечно! — понимающе сказал Ёжо. — Стенка вагона гладкая. Держаться не за что. — А Галя пробралась, — с теплотой в голосе сказал Гриша. — Скрутила веревку из полотенец, обвязалась и — в окно. Помню как сейчас: поезд мчится через густой лес, на повороте Галя открыла крюк, ребята отодвинули дверь и начали прыгать. Сговорились, что мы с Галей будем помогать другим, а сами спрыгнем последними. — Все успели? — не стерпел Ёжо. — Да вот я ж попал в самое пекло. — А Галя? — Слушай, Ёжик! Что ж это старик? Солнце заходит, а его все нет… — Придет, — успокаивал Ёжо, чтобы не прерывать рассказа. — Говори, говори! Гриша пил почти несладкий черный кофе и смотрел в кипящий водопад. Солнце уже позолотило острые зеленые пики елок. — Ну что ж, все спрыгнули. Остались мы с Галей. Вдруг она цап меня за рукав: «Стой!» Если б прыгнул, как раз угодил бы на стрелку. Хорошо, коли насмерть, а то покалечишься… Ну, а за стрелкой сразу станция. Вот и всё… — И вы не убежали? — Куда ж там бежать! Станция кишмя кишит гитлеровцами. Конвойные, стоявшие в тамбурах, видели, что творилось в пути. Только поезд остановился, все сразу окружили наш вагон. Убили бы меня, как пить дать. Да начальник поезда знал, что я доброволец. Всыпали мне за то, что не подал сигнала, и перевели в другой вагон. — В какой город привезли вас? — В Регенсбург. Это на западном берегу Дуная. Утром привезли, а к вечеру уже роздали помещикам. — А Галя? — Полгода искал ее. Я попал к такой злющей хозяйке, каких свет не видал. У нее три сына и все эсэсовцы. Одного сам видел. Сумасшедший, точная копия Гитлера. Но как мне ни доставалось, позже я узнал, что на заводах и фабриках нашим ребятам жилось еще хуже. Работать заставляли по двадцати часов в сутки, а кормили только баландой. На фабрику попала и Галя. Когда я нашел ее, она уже еле держалась на ногах. Увидела меня и залилась слезами: «Теперь я могу и умереть». — «Нет, говорю, надо бежать, обязательно бежать». — «А куда, спрашивает, бежать? Не все равно, где подыхать: тут или на дороге…» Не узнал я прежней Гали — замучили гады!.. Гриша подложил хворост и с тревогой посмотрел на выпуклую макушку Крижны. После заката солнца Крижна быстро обволакивалась фиолетовой дымкой и словно таяла в наступающих сумерках. Еще немножко — и макушка исчезнет совсем. Тогда уже едва ли придет к водопаду старый бача. — Гришькоо, что там? — подняв руку, насторожился Ёжо. — Кто-то идет?.. — Сухая сосна скрипит. — Так и не захотела бежать? — спросил Ёжо, уже больше думая о Гале, чем о старике. — Может, так и не согласилась бы. Да я напомнил ей изречение Долорес Ибаррури, которое когда-то написал в альбом: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». — И убежали? — Да. Только нелегко там было бежать. Это здесь свой народ. И покормят и оденут. А там ничего не достанешь. Карты у нас не было. Шли вслепую: на восток, и только. Если попадалось опасное место, я прятал Галю, а сам шел в разведку. Один раз я нарвался. Недалеко от Веймара, возле концентрационного лагеря. — Бухенвальд называется? Там пять человек из нашей деревни замучили. — Везде знают этот Бухенвальд! — зябко поежился Гриша. — В тот день как раз кто-то бежал из лагеря. За ним гнались с собаками. Я мог бы притаиться, и меня не заметили бы. Да эсэсовцы направлялись как раз в тот лес, где осталась Галя. Ну, я и отвлек их. — А те, за которыми гнались, убежали? — Убежали. Уже в лагере я узнал, что это была группа немецких коммунистов, приговоренных к расстрелу. — А Галя? — Больше я ее не видел… — оборвал свой рассказ Гриша и встал. — Вот что, Ёжо: надо идти навстречу старику. Одному остаться здесь, а другому идти. Мне кажется, с ним что-то случилось. — Подождем еще до утра. Куда спешить? — Эх, Ёжик… Знал бы ты, как я спешу… И Гриша решил наконец открыть часть своей тайны, чтобы и Ёжо понял, что отсиживаться нельзя, что надо действовать как можно скорее и решительнее. Он рассказал, почему шел именно через их село, назвал фамилии людей, которых должен был увидеть. Яна Ковача он назвал правильно, а вторую так и повторил наугад: то ли Благовер, то ли Долговер… Ёжо недолго думая поправил его: — Лонгавер. — Лонгавер? Точно! Лонгавер! — громко воскликнул Гриша, забыв на секунду о необходимости остерегаться. — Где живет? Кто он? Бежим к нему! — Так это и есть наш бача, — виновато ответил Ёжо. — Бача? — Гриша хлопнул рукой по прикладу винтовки, висевшей на груди, и, обессиленный, сел на камень. — Я как-то не подумал про него, когда ты просил называть фамилии. У нас привыкли: бача, бача… — убитым голосом оправдывался Ёжо. — Гришькоо, я сбегаю к нему. Я очень быстро. А ты обожди здесь… Может, еще придет. — Нет, Ёжо, теперь нам разлучаться нельзя, — вздохнул Гриша. — Идем вместе!* * *
По берегу реки Туречки быстро шел невысокий, сухощавый человек в светло-зеленой шляпе, украшенной фазаньим пером, и в костюме цвета еловой хвои. Прохожие и те, кто находился возле домов, низко кланялись ему. А цестарь[132] Спитак, хитрый рыжий старик, вышел специально со двора, чтобы снять шляпу и сказать: — Добрый день, пан горар. Как себя чувствуете? — Спасибо, — ответил горар, продолжая свой путь. — Чувствую себя, как пятилетний дубок в майское утро. — И, лукаво подмигнув, продолжал: — Только не тот дубок, который вы срубили в зеленом яру. Право же, пан Спитак, можно было не губить такое красивое деревце на какую-то подпорку в гнилом хлеву. Неужели сосны мало? Спитак молча мял свою шляпу и краснел. Горар шел дальше, а соседи не преминули посмеяться над незадачливым браконьером: — Что, Спитак, думал: «Срублю вечерком, и все будет шито-крыто?» Э-э, от Кошика не скроешь! — Он сквозь землю видит. — А сам не увидит — зайцы расскажут. Мой сын уже сказку сочинил про нашего горара: будто бы лисицы передают ему тайны лесные, а медведи погоду предсказывают. Горар, лесничий в горной словацкой деревне, — самый почетный человек. И неудивительно: вся жизнь селянина здесь связана с лесом. Все получает словак из зеленого царства: и топливо, и корм для скота, и дичь, и клочок пахотной земли. Горар не только страж, но и врач лесов. Ну, а Ярослав Кошик, в ведение которого входят леса шести деревень вокруг Крижны, — всем горарам горар. На вид неказистый; лицо черное, кожа да скулы; роста невысокого; тонкий и легкий. Но он совсем не чета тем лесничим, которые ленятся ходить по горам и лесам, везде посылают лесников, а сами жиреют и в сорок лет жалуются на одышку. Нет, этот не такой, хотя ему уже за пятьдесят. Спозаранок, еще до завтрака, Кошик обегает половину своего участка. Шагом он по лесу не ходит. С горы спускается бегом, потому что легко. А на гору поспешает, чтобы скорее взобраться. Кошик знает в своем лесу не только каждое дерево, но, пожалуй, и мышиные норки. Везде появляется неожиданно. Вот и сейчас он только вышел из села, свернул в лесистое ущелье, и сразу же раздался его спокойный, но строгий голос. — Пан Черный! Пан Черный! Что вы делаете? Перестаньте сейчас же! Бросьте топор! — Пан горар, я не сосну, я пенек, — слышится в ответ. Браконьер совсем молодой человек. Но лицо у него изможденное, землистого цвета, а глаза в глубоких, темных впадинах, усталые и воспаленные. Растерянно сунул он за пояс топор. Приподнял свою старенькую шляпу: — День добрый, пан горар. Какая хорошая погодка!.. А небо! Хочется лечь и смотреть на него целый день. Если бы кто услышал эти фразы со стороны, сразу понял бы, что браконьер старается умилостивить горара и говорит невпопад. Погода-то как раз незавидная: дует сырой холодный ветер; по небу плывут обрывки туч, похожих на грязное тряпье, пущенное по реке. К вечеру жди бури с ливнем. Горар, не ответив на приветствие, молча подошел к браконьеру. Осмотрел сосну — цела. Подрублен только пенек спиленного в прошлом году кривого бука, который обвивал сосну и портил ее кору. Глядя на щепки, разлетевшиеся по траве, горар заговорил вдруг тихо, так, чтобы слышал только браконьер. — Сколько ночей не спал? — Семь. — Зачем же так? Самый тупой полицейский по твоему лицу догадается, что работаешь в помещении без воздуха. Учти это, Лацо. — Да как же тут учитывать, товарищ Кошик… — Даже в лесу не произноси слова «товарищ». Будь осторожен. — Если мне спать, то… — Трудно тебе. Знаю. Сегодня на партийном собрании решим этот вопрос. Прибавим тебе человека. Беда — нет у нас специалиста по типографскому делу. — Был бы грамотный да старательный, а я его обучу в два счета. — Дадим тебе Маречека. А? Лацо молчал. — Не хочешь? — Нутро мое не переваривает его. Коммунист он, правда, старый, с заслугами, а живет как барин. — Ты должен понимать, Лацо, что его быт — это тоже маскировка. А другого… я и не придумаю, кого бы… — Да я что… Пришлете — будем работать, — нехотя согласился Лацо. — Ну, я пошел. Нужно отвести участок для рубки леса, — сказал горар и круто повернул в густой ельник.* * *
Несколькими минутами позже горар уже отвел группе лесорубов делянку и указал, в какую сторону валить деревья. Затем с другой группой он отправился в глубь леса. Возле большой, стройной сосны Кошик остановился и, любуясь ею, сказал тихо, но внятно: — В типографию нужно послать еще одного человека. Сделав засечку на сосне, он направился к другому дереву: — Это надо решить сегодня же. Следовавшие за ним лесорубы внимательно рассматривали намеченные деревья и говорили вполголоса. Со стороны показалось бы, что все здесь заняты только выбором хорошей древесины. — Валите и эту! — с сожалением указал горар еще на одну высокую, стройную сосну. — Жалко пилить такую, да нельзя поставлять только сухостой — заподозрят… А ты, Пишта, снимай кору и рассказывай, как разошлось воззвание к солдатам. Пишта не успел ничего сказать. Все обернулись на шум и треск, донесшийся из березняка. Как преследуемый волками лось, на делянку выбежал Маречек. Огляделся по сторонам и, задыхаясь, прошептал: — Простите, товарищи, опоздал! Чрезвычайное происшествие задер… — Он проглотил половину слова и, вынув из кармана белый, аккуратно сложенный платочек, торопливо вытер покрывшееся испариной полное, розовое лицо. — Можно подумать, что Гитлер уже подходит к Москве, — недовольно заметил Кошик, не любивший горячки. — Вон ручеек, охладись да сядь так, чтобы тебя меньше видели. Сбиваясь и недоговаривая, Маречек рассказал, что подслушал разговор коменданта о подпольной типографии. — Я понял, что они давно знают, где помещается валашка Яношика, да чего-то ждут. — Чего ж им ждать! — понимающе кивнул Кошик. — Засечь побольше следов к ней. — Меня комендант уже засек. — Маречек виновато опустил глаза. — Что это значит? — встревожился Кошик. — Он говорил заместителю, что считает меня слугой двух господ. — О-о! Это провал. — Кошик сокрушенно покачал головой. — Ну что ж, подробно обо всем доложите партийному собранию. Все, кроме Котика, уселись на поваленные бревна и топорами начали снимать кору, одновременно обсуждая новость. После недолгих споров партийное собрание постановило Маречека снять с работы в Старых Горах, где он занимался слежкой за полицией, и перевести в типографию. А типографию как можно скорее увезти в другое место и больше не называть валашкой Яношика.ОШИБКА ГРИШИ КРАВЦОВА
Разгулялась непогода, разбушевалось бескрайное море леса. Ветер гудел и стонал в верхушке старой ели. Тяжелые, мокрые ветви шумели сердито и жалобно. Холодно. А костра разводить не хотелось. Да и ничего не хотелось делать. Тесно прижавшись спина к спине, Гриша и Ёжо лежали под елью. — Теперь все пропало, — шептал Ёжо. — Нет, — возразил Гриша, — пока Лонгавер и мы живы, нельзя считать, что все пропало! — А если его перевезут куда-нибудь в большой город, в настоящую тюрьму, тогда как? — Не зуди, ёжик! И так черти по сердцу скребут. Спи… — Ладно, сплю. — Ёжо закутал голову концом плащ-палатки, прикрывающей обоих. — Утром пойдем в Туречку, что-нибудь да узнаем. Гриша замолк. Он зол на себя за недостаток находчивости, решительности, за все неудачи, которые постигли его. Закрыв глаза, он старался уснуть. Но снова и снова вставал перед ним Вацлав Гудба… «Гришькоо! Гришькоо! Если хочешь бить фашистов…» Гриша, сорвал с себя плащ-палатку, вскочил: — Ёжик, по моим следам пришли полицейские! Я виноват, что бачу взяли, я должен его выручать! Идем! — Куда? — Идем, идем, Ёжик!* * *
Ночь. Лютая, черная ночь с ветром, дождем и громом. На самой середине невысокой, продолговатой голи два дубка: один, стройный и тонкий, — не выше дома; другой — приземистый, вихрастый и крепкий. А вокруг ни былинки, ни кустика, только мягкая низенькая мурава, да кое-где темнеют огромные каменные глыбы. Сырой и тяжелый, как волны морского прибоя, ветер хлестал, перекатывался по голе и в ярости набрасывался на молодые дубки: то заламывал упругие ветки, как руки пойманного беглеца, и тянул деревца с горы; то пригибал дубки до самой земли, намереваясь если не переломить, то вывернуть с корнем, поднять в облака и унести на край света. Да не тут-то было. Это не хрупкая осина и не покорная унылая лоза. Это дубки! Молодые, тонкие, но уже коренастые и упрямые. Тот, что повыше, только на миг пригнулся под ветром и тут же опять выпрямился, тряхнул кудрявой макушкой и снова поднялся, решительный, разудалый, как борец, ожидающий нового удара противника. Сколько таких ветров пронеслось над голей? Где они? А дубки стоят. Твердо стоят. Набираются силы, красоты и удали. Налетайте, ветры буйные! — Гришькоо! Дубкам этим достается, как нам с тобой, — стараясь перекричать ветер, сказал Ёжо. — Их двое, а ветру против них вон сколько! — Неужели ты думаешь, что против нас больше, чем за нас? Чудак! — Гриша, поняв, что ветер гасит слова, как спички, повернулся к Ёжо и зашептал прямо над ухом: — Нам такая погодка на руку — у коменданта никого постороннего не будет. — Гришькоо, что ты задумал? Но Гриша только ускорил шаг. Когда спустились с горы, засверкала молния, ударил гром. На землю тяжелым водопадом обрушился ливень. Ветер потерял прежнюю силу, зато стал холоднее и пронзительнее. Новая вспышка молнии осветила перед путниками большой черный крест. — Святой копечек![133] — со страхом промолвил Ёжо. — Отсюда тропинка ведет прямо к дому коменданта. Когда вспышка молнии еще раз озарила крест, Гриша увидел женщину в мокром тряпье, уткнувшуюся головой в основание креста. В ту же минуту Ёжо схватил его за руку и потащил в сторону. — Замерз? — спросил Гриша, чувствуя, как дрожит рука подростка. — Нет. Матки боюсь. Под крестом моя матка. — Что она тут делает? — Молится. Она сошла с ума. Еще в начале войны. И теперь ничего не делает, только молится… Гришькоо, огонь!.. — лязгая зубами, с трудом выговорил Ёжо. — Это на кухне в доме коменданта. — Ты точно знаешь, что на квартире коменданта есть телефон? — Конечно! Я сто раз бывал у Божены! — ответил Ёжо, явно преувеличивая. — Тогда всё в порядке. Еще раз повтори мне, как там расположены комнаты. Где входы, выходы… Кстати, вот тебе деньги. — Гриша протянул другу сто крон, подаренные ему учителем. — Если что со мной случится… Одним словом, если я из этого дома не выйду, беги к бабке Лонгаверихе. Передай деньги. Пусть подкупит полицейских и добьется свидания со стариком. Если бабки не найдешь, пусть еще кто надежный проберется к старику. — Зачем? — Некогда объяснять. За эти деньги часовые согласятся? — За сто крон? Да они за десятку… — Впрочем, это на крайний случай, — перебил Гриша. — А вообще-то надеюсь на удачу. Не зря же я родился под счастливой звездой! — Разве и у вас верят в звезду? — удивился Ёжо. — А разве можно не верить в нашу звезду! Гриша проверил пистолет, сунул себе за пазуху, а товарищу отдал винтовку и немецкую баклажку. — Ёжо, с этой минуты я глухонемой. Понял?* * *
Божена мыла посуду на кухне. За окном сверкала молния, гремел гром и ветер хлестал в стекла крупным густым дождем. В комнате хозяйки тоже бушевала буря. Гремел гром, и подолгу повторялись его раскаты. Это пани играла на рояле. Она любила играть в непогоду… Дети уже спали. Хозяин в своем кабинете время от времени звонил по телефону. А потом подолгу молчал, наверное, что-то записывал. «Что ему писать? — думала девушка. — Арестовал человека, посадил — и крышка. Так нет, все пишет и пишет». Ой! Божена вздрогнула: показалось, что кто-то смотрит на нее. Глянула в окно и оцепенела. Прильнув к мокрому стеклу, так что расплющился нос, за окном стоял Ёжо и умоляюще смотрел на сестру. Божена яростно махнула рукой: мол, присядь — и пошла открывать дверь, выходившую в сад. Увидев на груди брата винтовку, девушка чуть не вскрикнула. — Кто у коменданта? — подступив к ней, спросил Ёжо. Божена качнула головой: никого. — Отнеси ему вот это. — Ёжо подал записочку, написанную им под окном. — Обо мае молчи. Скажи только про него. Из-за двери выступил Гриша. — Это глухонемой, — пояснил Ёжо сестре. — Ему надо к коменданту. Божена кивнула и убежала. Вскоре она вернулась в сопровождении хозяина, высокого, крепко сложенного человека, одетого в яркую полосатую пижаму. Правую руку он держал в кармане пижамы. Гриша понял, что в кармане у него пистолет. Остановившись на пороге слабо освещенного коридорчика, комендант замахал свободной рукой, как это делают те, кто не умеет говорить с глухонемыми. Гриша жестами потребовал бумагу и карандаш. Комендант впустил его на кухню. Но Гриша показал на Божену, на окно и, помахав головой, сморщился так, будто съел что-то очень кислое. Комендант понял: посторонние этому посетителю мешают. Покосившись на мокрую, рваную одежду «глухонемого», он решительно махнул рукой: идем. Вошли в кабинет. Комендант сел за письменный стол, освещенный настольной лампой под зеленым абажуром, и, указав «глухонемому» на стул, быстро набросал на листе бумаги несколько слов: «Кто вы? Зачем? Откуда?» Пока он писал, Гриша вынул из кармана небольшой, матово блеснувший пистолет и, перегнувшись через стол, наставил его на коменданта. Левой рукой «глухонемой» властно махнул, требуя, чтобы хозяин встал и поднял руки. Комендант молча повиновался. Черное дуло пистолета, гипнотизируя и замораживая, смотрело прямо в переносицу. Но страшнее пистолета были цепкие, вонзившиеся в самую душу, гневно горящие глаза «глухонемого». Глубокий, подергивающийся шрам на щеке, белый широкий рубец на лбу убедили коменданта в том, что «глухонемой», видно, прошел огонь и воду и, конечно, сумеет вогнать ему пулю в лоб. «Хорошо, если ему нужны только деньги, а вдруг это партизан?» — с замиранием сердца думал комендант, пока «глухонемой» шарил по его карманам. Вынув пистолет из кармана пижамы, «глухонемой» дал знак опустить руки и сесть. Комендант облегченно вздохнул и опустился в кресло. На этом можно было перестать притворяться глухонемым. Главное достигнуто: комендант обезоружен, и в доме никакого переполоха. Остается потребовать от него позвонить в комендатуру и вызвать к себе якобы для допроса Лонгавера. Но именно эта уверенность, что главное сделано, что враг обезврежен, и подвела Гришу Кравцова. Он заметил, но не придал значения тому что, опуская руки, комендант прижал к себе шнур от настольной лампы. А минутой позже комендант, делая вид, что поудобнее устраивается в кресле, наклонился вперед и выдернул этот шнур из розетки. Комната провалилась во тьму. Первая мысль была — выстрелить и бежать. Но в ту же минуту Гриша почувствовал, что врага перед ним уже нет, что он где-то сбоку или даже позади. Гриша отпрянул к порогу, но на полпути тяжелый удар по голове свалил его с ног. Перед глазами брызнули и погасли желтые искры…* * *
Тоно вышел из хлева с большой корзиной навоза на спине. Остановился. Поправил ремни, глубоко врезавшиеся в плечи. Усталыми, глубоко запавшими глазами посмотрел на вечернее солнце, окинул далекий путь на гору и вздохнул тяжело, как старый, немало повидавший горя человек. «Многовато наложил — пуда полтора!» — подумал он. Но отбавлять не стал, а, увидев гардистов, въезжающих в деревню, поспешно направился в горы. Извилистая сырая тропа карабкалась между соснами, тоже словно взбирающимися на высокую гору. Маленький клочок земли, которым кормились отец и мать, деды и прадеды Тоно Земака, находился в семи километрах от дома, за двумя высокими лесистыми перевалами. По крутой тропинке, политой их слезами и потом, должен был ходить теперь Тоно. Красивы склоны гор, покрытые лесом. Хороши перелески, зеленые поляны у водопадов, веселые березовые чащи, где с журчанием ручейков спорят голосистые птичьи хоры. Но все это видишь и слышишь, когда идешь налегке, ради прогулки. А какое проклятье взбираться по стремительно-крутой тропе с тяжелой корзиной навоза! Нелегкое это дело для взрослого. Тончику же только тринадцать лет. Тяжела, страшно тяжела эта вонючая корзина! Мальчик чуть не плакал, но шел вперед и вперед. С этой корзиной на спине он был похож на муравья, подхватившего тяжесть, во много раз большую его самого. Тоно изогнулся, низко опустил голову, руками уперся в колени, дышал тяжело и часто. Со лба по запыленному лицу грязными струйками стекал пот. На подбородке он собирался в крупные капли и падал под ноги. Кругом ни души. Да если бы кто и встретился, разве помог бы? У каждого свое горе и своя забота. Помощи не жди — наоборот, все вокруг против него: ветки сосен распустили свои широкие иглистые лапы и кололи лицо; камешки попадались под ноги самыми острыми углами. Даже солнце мешало: то припекало затылок, то било прямо в глаза. Пять километров шел Тоно без остановки и так без передышки хотел дойти до самого поля, как делал когда-то его отец. Однако это оказалось не по силам. Уже на полпути у него заныла спина, заболел живот, хоть плачь! И Тоно не вытерпел. Поставил корзину на высокий пенек, чтобы легче было потом поднимать, и лег на спину, разметав руки и ноги по траве. Долго лежал он, кляня в душе всех, кого только можно проклинать за такую жизнь. Но лиходеи были далеко, и пока свою досаду мальчик перенес на солнце. Оно так жгло, что полотняная рубашка прилипла к спине. Солнце совсем не спешило заходить, словно ждало, когда Тоно снова отправится в путь, чтобы еще хоть немножко его помучить. Мальчик с завистью думал о Ёжо. Тот теперь уже где-нибудь у партизан и, может быть, получил настоящий автомат или два пистолета за пояс… Вспомнил о Цириле, который после смерти отца как в воду канул. «Вынесу весь навоз на поле и тоже пойду искать партизан», — решил Тоно и опять задумался. Незаметно для себя он запел старинную песню, которую под этим же деревом и в таком же изнеможении пели, быть может, отец его, деды и прадеды:НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Гриша очнулся утром в камере с решеткой на единственном окне. На полу и нарах вповалку лежали люди. Когда пригрело солнце, заглянувшее сквозь решетку, арестанты зашевелились, начали вставать с нар, прохаживаться по узкой продолговатой камере. Но Гриша не шевелился: в голове звенело, перед глазами что-то мельтешило, и он боялся опять потерять сознание. К счастью, его никто не тревожил, хотя почти все уже разговаривали. Он повернулся на бок и с нетерпением смотрел на тяжелую, окованную железом дверь, за которой скрывалось его будущее. Загремели тяжелые ключи. С хрипом и скрежетом отворилась дверь. На пороге показался здоровенный носатый полицейский. — Опять Буйвол дежурит! — прошептал кто-то. — Лонгавер! — крикнул полицейский. Гриша чуть не вскрикнул, увидев бачу Франтишека, встающего с нар. Только теперь он совершенно пришел в себя и вспомнил все, что с ним произошло… Старик, придерживаясь рукой за косяк, вышел из камеры. Дверь захлопнулась гулко и плотно, как крышка свинцового гроба. Стало тихо. Только в ушах звенело после этого хлопка. В камере долго держалась гнетущая тишина. Все о чем-то сосредоточенно думали. А потом сразу, как по команде, заговорили. Гадали, каким вернется бача, да и вернется ли вообще. Лонгавера втолкнули обратно часа через два с разбитой щекой и черными кровоподтеками под глазами. Все бросились к нему на помощь. Он тихо повел рукой: отстаньте. Отдышавшись, Лонгавер подошел к старику, одетому в черный, засаленный костюм железнодорожника, что-то шепнул ему и отошел к окну, под которым на полу лежал Гриша. Лонгавер молча смотрел в окно, будто любовался солнечным утром. А железнодорожник уже завел с соседом спор о гардистах. В этот разговор вскоре втянулась вся камера. Сыпались проклятия и беспощадная брань. До сознания Гриши доходили только отдельные фразы. — Я толком так и не пойму, кто они, эти гардисты, — говорил простуженный бас. — Собаки, вот они кто! — Железнодорожник даже плюнул со злости. — Да что я говорю! Я вон своему псу прикажу лежать в будке — он лежит. И, если кто сунется во двор, горло перегрызет. А эти сами привели грабителей в дом. — Зачем тогда допустили их до власти? — Когда птичку ловят, ей ласково поют. В президенты Езеф Тиссо пробрался хитростью да сладкими обещаниями. А хитрости ему не занимать — он же бывший фарар.[134] В самый разгар этого спора Лонгавер словно в изнеможении опустился возле Гриши и, глядя на дверь, очень внятно прошептал: — Вас считают глухонемым, бандитом. Продолжайте играть эту роль. Выпустят. Меня не знаете, и я вас. Лонгавер встал и хотел отойти, но Гриша попросил подать ему воды. Бача принес с нар котелок с водой. Взяв котелок и глядя в глаза наклонившегося старика, Гриша быстро пересказал все, о чем просил его Вацлав Гудба. — Цотак — предатель?! — переспросил Лонгавер и, отодвинувшись, пристально посмотрел на юношу, как бы оценивая, в своем ли тот уме. Но тут же спросил, что случилось с Гудбой. — Ляжем рядом на нарах. И, пока они спорят, вы незаметно расскажете мне все, что знаете о Вацлаве. Но тут опять загромыхали ключи. Снова раздался сумасшедший скрежет железной двери. Гардист вошел в камеру, резиновой дубинкой хлопнул Гришу по плечу и махнул: идем. Гриша не спеша встал и пошел медленно, чтобы собраться с мыслями. Сердце забилось часто и тревожно, так что в глазах потемнело. Чтобы успокоиться, Гриша начал дышать как можно глубже: выдохнет — и опять вдыхает глубже прежнего. Сердце все спокойнее, спокойнее. Входя в кабинет коменданта, Гриша уже чувствовал себя готовым здраво обдумывать каждый вопрос. Но допрашивать его комендант не стал. Он посадил арестованного против окна так, чтобы солнечный свет падал в лицо, а сам сел за большой письменный стол под портретами Гитлера и Тиссо. Затем кивнул дежурному полицаю, застывшему у порога. Тот открыл дверь, вошли шесть гардистов и выстроились у стены. — Старуху! — скомандовал комендант. Вошла маленькая, подслеповатая бабка. Комендант подвел ее к Грише: — Он? Говори правду, иначе бог покарает твоих детей. Старуха пристально посмотрела в глаза начальнику и прошамкала: — Их было много, и все с пулеметами! После старухи ввели женщину. Но и эта его «не признала». Комендант дубинкой выгнал ее из кабинета. Шестнадцать человек прошло перед Гришей. Наконец ввели Лонгавера. — Ну, пан Лонгавер, вы в камере присмотрелись к этому молодцу? — кивнул комендант на Гришу. — Тот это, что приходил к вам на Крижну в день убийства гардистов? — Пан комендант, я вам уже сказал, что в тот вечер никто ко мне не приходил, — спокойно ответил Лонгавер. — Этого юношу я впервые увидел только здесь… А что он натворил? Комендант кивнул полицейскому. Тот схватил у стены широкую скамью. Поставил ее посередине комнаты и приказал Лонгаверу снять рубашку и лечь. Четверо гардистов, гулко топая сапогами, вышли из строя. — Приготовиться! — скомандовал дежурный. И полицейские стали не спеша засучивать рукава. Гриша, закусив губу, напряженно следил за всеми приготовлениями. Мысли в голове его путались. Дежурный, ставший над головой Лонгавера, полюбовался черной извивающейся, как змея, резиновой плетью, потом широко из-за спины размахнулся и ударил старика по голой спине. На худом, землистом теле вскочил красный широкий рубец. Замахнулся второй раз… «Убьет! — мелькнула в голове Гриши страшная мысль. — А если убьют Лонгавера, то погибнет вся организация!» Полицейский замахнулся в третий раз. — Стой! Стой, гадина! — двумя прыжками подскочив к палачу, Гриша выхватил из его рук тяжелую резиновую плеть. Гардисты от неожиданности расступились. Комендант, выскочив из-за стола, застыл на середине кабинета: — Русский? — Да, русский! — вызывающе ответил Гриша и, бросив к ногам коменданта черную плеть, возвратился на свое место. — Комсомол? — Конечно! — Фамилия? — Кравцов Григорий Васильевич. Семнадцать лет. Родился в Усть-Каменогорске. Отец рабочий! — выпалил Гриша и вызывающе спросил. — Что еще? — Как вы попали в Старые Горы? — Бежал из Германии. — Из Германии? — недоверчиво переспросил комендант. — Сколько времени вы там пробыли? — Три года и два месяца. — Так… — протяжно сказал комендант и, сев за стол, уставился на арестованного так, будто хотел пронзить его взглядом. — Три года? Значит, попали вы в Германию четырнадцатилетним? — Да. — И уже были комсомольцем? — Комендант пристукнул по столу кулаком. — Вы что же, совсем за дурака меня считаете?! Если я поверил, что вы глухонемой, то уж никак не поверю, что вы идете из Германии… Комендант встал. Молча прошелся по кабинету и, остановившись перед арестованным, тихо и даже мягко сказал: — Вы смелый. А я люблю смелость. Говорите правду, и я не только сохраню вам жизнь, но и отпущу на волю. Говорите, где остальные парашютисты из вашего десанта? — Я вам сказал правду. А смерти я не боюсь! — отрезал Гриша. — Что ж, выходит в комсомол ты вступал в Германии? — перейдя на «ты» и повысив тон, спросил Младек. — Я ведь знаю, что в комсомол не принимают с тринадцати лет. А ты с тринадцати лет был в Германии. Так где же ты вступал в комсомол? — В Бухенвальде, — спокойно ответил Гриша. — Больше я не скажу ни слова! — И он отвернулся к окну. …По голубому небу, обгоняя одна другую, спешили на восток две легкие, светлые тучки. Грише они казались самым дорогим из всего, что осталось на свете. Они свободно плыли в тот край, куда он никогда уже не попадет. Захотелось жить, так захотелось жить!.. Но перед глазами чернели толстые железные решетки.* * *
— Хорошая штука — эта пилорама! — говорил горар вполголоса, входя с Маречеком под тесовый навес лесопилки. — Просто жалко расставаться с таким местом. Вместе с досками мы отсюда совершенно незаметно развозили то, что хлопцы напечатают за ночь. А на новом месте с перевозкой печатного материала будет труднее. Ты это хорошо обмозгуй, Маречек. — За меня не бойся, — ответил Маречек, удивляясь тому, как он, живя рядом с лесопилкой, ни разу не подумал, что под нею что-то скрывается. И невольно Маречек вспомнил, как радовалось начальство этой пилораме. Сколько подняли тогда шума в газетах! Это было в первые дни прихода фашистов к власти. Кошик сам предложил поставить пилораму, чтобы и их местечко активно включилось в строительство «Новой Европы». Правда, пилорама хорошо работала только в первые дни. Но начальству дорог была слава, созданная затеей горара Кошика. Утро стояло серое: то дождь, то туман. Рабочих еще не было. И Кошик с Маречеком занялись осмотром бревен, заготовленных для распиловки. Уговорились так: если явится кто посторонний, делать вид, будто Маречек привез для распиловки несколько бревен и вот они советуются. Лишь когда сошлись рабочие и пустили пилораму, Кошик и Маречек вошли в столярную мастерскую, прикорнувшую за лесопилкой. Здесь работал брат наборщика Лацо — Ондро Кралик. Кроме горара, Лонгавера и погибшего Яна Ковача, Ондро один знал о том, где находится типография, потому что сам оборудовал вход в нее. — Добрый день, Ондро! — входя первым, сказал Кошик. — Вот пан Маречек хочет заказать себе кое-какую мебель. Так ты ему покажи образцы. Пусть выберет. Из всей этой длинной фразы Ондро Кралик принял во внимание только одно слово: «покажи». Это означало, что надо провести товарища в типографию. Кралик равнодушно склонил голову и попросил Маречека посидеть немножко, так как должен прийти посторонний человек, заказчик, за готовым креслом. Кошик вышел, чтобы подготовить машину к перевозке шрифтов и печатного станка, который Маречек и Лацо должны были разобрать и уложить в длинный тесовый ящик. Больше всего Кошик боялся за исход погрузки этого ящика. Необычайно тяжелый, неуклюжий, он мог обратить на себя внимание полицейских. А они в форме и переодетые так и шныряли теперь повсюду. Возле пилорамы к Котику подошла жена: — Ты что не идешь завтракать? Все остыло. — Не хочется. Я попозже. Но жена, взяв его за руку, толкнула под локоть и, нарочито громко и весело здороваясь с рабочими, повела домой. Кошик понял, что жена зовет его неспроста, и, уходя, пообещал Маречеку скоро вернуться. — Что случилось? — спросил он, когда спустились на тропинку, ведущую к его дому. — Прислуга коменданта пришла. Она была в комендатуре. Видела Лонгавера. Он передал какие-то деньги. Просил срочно вручить их тебе. — Деньги? — удивленно и встревоженно переспросил Кошик. Но тут же взял себя в руки, улыбнулся. — Вот старик… петля на шее, а он о долгах… Божена ожидала на крыльце, в комнату войти отказалась, объяснив, что давно уже из дому и пани будет ее ругать. С этими словами девушка протянула Кошику несколько старых, свернутых в трубку бумажек. Горар, не считая, сунул деньги в карман и спросил, зачем она ходила в комендатуру. — Ёжо просил отнести баче завтрак. Сказал, что бача Франтишек с голоду умрет, если не помочь. — Как же ты пробралась, ведь передачи запрещены? — Надула дежурного полицая, побожилась, что пан комендант разрешил. — А вдруг он спросит коменданта? — Побоится! Я, когда уходила, призналась этому оболтусу, что обманула. «Но, говорю, лучше не жалуйся коменданту, а то тебе же влетит!» — Ох, и дипломатка! Бача ничего не сказал? — Вслух, наверное для отвода глаз, он попросил, чтобы на эти деньги и купила ему курева и вина. А потихоньку шепнул: «Это долг пану горару за лес для сарайчика». Даже повторил и просил не забыть, что за лес для сарайчика… Божена убежала, а Кошик тут же пошел в сарайчик возле дома. Каждое слово Лонгавера было для него полно особого, понятного только ему одному смысла. В сарайчике Кошик развернул деньги и начал их просматривать. Всего насчитал двести сорок одну крону купюрами разных достоинств. Больше всего оказалось пятерок и десяток. На некоторых из них он увидел цифры, написанные карандашом. Часто бывает: люди записывают свои расходы прямо на деньгах. На одной пятерке Кошик увидел вычисление: 25+96=123. На то, что сумма от сложения чисел получилась неправильной, он даже не обратил внимания. Его интересовало другое: каждую цифру горар заменял соответствующей буквой шифра. На засаленной и забрызганной чернильными пятнами пятерке цифр не оказалось. Однако расположенные кружочком пятна тоже полны были смысла. Цифры, выведенные химическим и квасным карандашами, горар обнаружил еще на двух бумажках. Когда все, написанное на деньгах, было переведено на язык шифра, Кошику показалось, что он теряет сознание или сходит с ума. Он держал в руках деньги и смотрел на них, как на врага, занесшего нож для удара, который отвести уже невозможно. И вдруг, скомкав деньги, Кошик прошептал: — Но ведь он только сейчас узнал, где находится типография! Сообщить коменданту еще не успел. Значит, его нельзя выпускать!.. Сунув деньги в карман, горар направился было из сарая, но опять остановился. «Сегодня, — подумал он, — шпики следят за каждым моим шагом. Это ясно. Значит, горячиться нельзя…» Деньги Кошик сжег и вернулся в дом. Выпил чашку кофе и, внешне спокойный, отправился на лесопилку. Маленький подвал был ярко освещен электролампой. В углу, за наборной кассой, стоял Лацо. Возле него — Маречек. Объяснив, как набирается текст, Лацо перешел к печатной машине, «американке». — Тем же током, каким освещаются дома гардистов, работает и наша типография! — восторгался Маречек. — Это все брат оборудовал! — с гордостью ответил Лацо. Где-то в углу чуть слышно звякнул звоночек. Лацо выключил свет — и тотчас в потолке открылся люк, через который проник сюда Маречек. В подземелье спустился горар — и свет снова зажегся. — Ну как, Маречек, не пугает тебя такое некомфортабельное помещение? — весело спросил Кошик. — Что вы, товарищ Кошик! Я готов выполнить любое задание партии. А такое — тем более. — Значит, даешь согласие? Тогда сейчас же впрягайся. Помоги все упаковать и перевезти. Шоферу передай свой пистолет. Ему он нужнее, чем тебе. — И Кошик решительно протянул руку: — Дай, я сам ему передам. — Успеется, — вяло ответил Маречек и полез к станку, который Лацо уже начинал разбирать. — Пистолет шоферу нужен сейчас! — строго повторил Кошик. Маречек наклонился и, делая вид, что не придает этому особого значения, полез в задний карман брюк. Еще в кармане взвел курок. Но Кошик это заметил и ударил его по руке своим маленьким черным пистолетом, всегда хранившимся во внутреннем кармане пиджака. Маречек вскрикнул и выронил оружие. — Сядь! — наставив на него пистолет, сказал Кошик. — За тобой ящик. Садись! Маречек сел и левой рукой достал из кармана платок. — Лацо, поднимите пистолет и пишите протокол допроса! — потребовал Кошик. — Допроса? — недоуменно переспросили в один голос и Маречек и наборщик. — Скажите, Дюро Маречек, какая партийная кличка была у вас при Вацлаве Гудбе? — Цотак. — Совершенно верно. Вы работали с ним дружно? — Очень. Вацлав любил меня и доверял. Не то что ты. — Вот эта доверчивость и погубила его. — Да что с тобой, Яро! Ты какой-то сегодня… — Вот что, Маречек, — перебил Кошик: — каждая минута на счету! Говорите прямо и коротко, если хотите жить. Знает полиция, что типография находится здесь или нет? — Не знает, ничего не знает! Да я и сам не подозревал до последнего часа. — Но вы же позавчера сказали, что комендант пронюхал, где находится валашка Яношика. — Я вынужден был это сказать. Иначе мне там перестали бы доверять. — Еще один вопрос: за вами сегодня следят? — По опушке леса прогуливается толстый пан в клетчатом костюме. Он от коменданта, — ответил Маречек, вытирая платком лицо. — В таком случае мы должны увезти вас отсюда тайно. — Куда вы меня повезете? — вскочил Цотак-Маречек. — Вы же сами понимаете, что ваше дело требует тщательного расследования. — Товарищ Кошик! Я многое знаю. Я очень много могу помочь. Отправьте меня в центр! — взмолился Маречек. — Слишком далеко захотели!.. Через час шпик, прогуливавшийся у опушки леса и следивший в это утро за лесопилкой, собственными глазами видел, как Маречек вышел из столярной мастерской и по тропинке отправился домой. Полицейский в клетчатом костюме пошел за ним следом, по теневой стороне улицы. Маречек двигался не спеша. Дальше тропинка, изгибаясь, спускалась к дороге. Здесь полицейский вынужден был столкнуться с Маречеком лицом к лицу… Только теперь шпик понял, что обознался. Он хотел было тут же вернуться назад, но выстрел в упор уложил его на месте. На лесопилке в это время неуклюжий тесовый ящик был погружен на автомашину и заложен сверху короткими досками для Гандловских шахт. Автомашина ушла. Лесопилка продолжала пожирать бревно за бревном. Кабель, хитро пропущенный в подземелье, как и прежде, подавал электрический свет наборщику и энергию печатному станку, который не только не был разобран, но работал с еще большей нагрузкой. Все шло, как прежде. Изменилось лишь содержимое тесового ящика: в нем увезли предателя Маречека-Цотака.КУДА ДЕЛСЯ МАРЕЧЕК?
— Пиши: «Двадцать первого августа 1944 года в деревне Туречка были убиты три гардиста…» Перечисли имена и фамилии, год рождения и должность. Всё полностью. Вообще всю докладную пиши подробнее. Пан полковник любит обстоятельные, толковые докладные… — говорил комендант Младек секретарю, расхаживая по кабинету и потирая от удовольствия руки. — Написал? Сутулый, тощий секретарь в форме гардистского офицера утвердительно кивнул. — «На полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, среди бела дня напал отряд вооруженных коммунистов». Здесь перечисли имена, фамилии, год рождения всех, кто сидит сейчас в камере с русским. — И Лонгавера? — удивленно посмотрел секретарь. — Всех!.. Дальше: «Мной была организована облава, в результате которой банда из шести перечисленных коммунистов поймана. Потерь с нашей стороны нет. Легко ранен полицейский Любомир Заграда»… — Разве он ранен? — А ты не видел, какой у него под глазом фонарь и весь ободран? — Так это ж он пьяный свалился с кручи… еще в понедельник. — Пиши, а не рассуждай!.. — Комендант нервно топнул ногой и несколько раз молча прошелся по кабинету. — Готово? Секретарь покорно кивнул. — «Все бандиты признали свою вину и сегодня же будут расстреляны». — Комендант прихлопнул рукой по столу, что означало окончание дела. — Докладную повезешь сейчас же. — А может, часок подождать да сразу?.. — Намекаешь на типографию? — ухмыльнулся Младек. — Ты исполнительный и аккуратный служака, Иржи, но ты не дипломат. Два таких громких дела смазать в одно! Надо уметь не только работать, но и преподнести свою работу начальству. Дай ему сразу две докладные, так он второй так обрадуется, что первую и не заметит. А лучше не спеша, по порядку: сегодня в Старых Горах арестована банда, завтра в Старых Горах раскрыта подпольная типография, послезавтра еще что-нибудь. Думаешь, это не оценят? Секретарь подобострастно улыбнулся: — Быть вам, пан комендант, министром! — На мотоцикл! Комендант Младек только минуту оставался один. Дверь кабинета распахнулась, точно ее ветром сорвало, и в комнату влетел запыхавшийся помощник. — Что такое? — Убит Матейка! — Матейка?! — выходя из-за стола, угрожающе переспросил комендант. — Как вы это могли допустить, пан Быстрицкий? — Сегодня он был занят слежкой за Маречеком, — пояснил Быстрицкий. — Знаю. А где Маречек? — Пропал! — Как — пропал? Что значит пропал? — Нигде нет. Как в воду канул! — Горячку порешь! Задерживается он. Дело у него сложное… — Разрешите доложить? — Что еще? — Я думаю, что Маречек водил нас за нос, что он и туда и сюда. А теперь, когда Красная Армия близко, он сбежал, чтобы потом выплыть чистеньким, коммунистом… — Чистеньким? — Комендант захохотал. — Не бывать ему чистеньким! Не бывать! Большими шагами Младек мерил комнату из угла в угол. Теперь он уже не потирал удовлетворенно рук. — Да-а-а… Не зря меня фарар предупреждал… Ну, вот что: арест Кошика и его компании произведем ночью, после расстрела русского и шестерки. — Правильно, пан комендант: ночью, как кур на нашесте! А то у них такая связь, что не успеешь схватить одного, как все узнают. — Рядовых сейчас распусти. Только чтобы не напивались до бесчувствия. А в двадцать два ноль-ноль всем быть здесь.* * *
Дождь перестал. Ветер утих. Сквозь решетку смотрела белая, напуганная громами и молниями луна. На улице было тихо. Тихо, как бывает перед ожиданием чего-то самого страшного. Когда окровавленного, избитого до неузнаваемости Гришу полицейские втолкнулл в камеру, кто-то кинулся на помощь. Придя в себя, Гриша подполз к окну, медленно поднялся и, ухватившись за холодные толстые прутья решетки, приник к стеклу и молчал. Заключенные ходили на цыпочках. Объяснялись только жестами. Кто-то без слов дал воды. И Гриша залпом выпил целую кружку. Кто-то промыл на голове раны и перевязал. А юноша стоял, с жадностью глядя в окно, за которым навсегда осталась свобода. Свобода! Как дорого это слово для тех, кто попал за решетку, и как не ценят ее те, за кем никогда не закрывалась тюремная дверь! Свобода! Сколько раз приходилось Грише попадать в такие переплеты, когда самым дорогим на свете оставалась только свобода! Но раньше все как-то обходилось, появлялась щелка, через которую пробивался сначала маленький дерзкий луч надежды, а потом приходило спасение… А теперь? Теперь конец. Допрашивать его больше не станут. И, наверное, в эту же ночь расстреляют. Почему-то вспомнились слова из тюремной песни. Именно те слова, где привратник отвечает старушке, принесшей передачу. К удивлению заключенных, Гриша тихо запел старинную песню:* * *
Божена проснулась от громкого, настойчивого стука в окно. Вскочила и прильнула к холодному стеклу. За окном, как тогда, в дождь, стоял Ёжо. Божена на цыпочках выбежала на кухню. Открыла дверь коридорчика. — Входи! — шепнула в темноту. — Я не один. Нас трое, — ответил Ёжо. — Что ж не сказал — я не одета. — Одевайся скорее и забирай все свое, — войдя в коридорчик, прошептал Ёжо. — Почему? — испугалась Божена. — Ты с партизанами? Они хотят убить коменданта? Его нет дома. — Знаем. Сейчас мы дадим ему сигнал — и он прибежит. Да одевайся ты быстрее! — Торопись, Ёжо! — послышалось из-за двери. — Пора! — Начинайте! — ответил Ёжо и спросил сестру, где жена коменданта и дети. — Спят, — ответила Божена. — Покажи, где они, я их выведу из дома… Ребята, действуйте!* * *
Заключенные тихо, но дружно пели «Интернационал». Словаки на своем языке. Гриша по-русски. Кто-то в углу по-мадьярски. В коридоре с грохотом распахнулась дверь. Послышался срывающийся голос полицейского: — Горит дом пана коменданта! Все на пожар! Крики команд. Осатанелый топот кованых сапог. Лязг оружия. Стук наружной двери комендатуры. Пение в камере заключенных оборвалось. В комендатуре наступила гробовая тишина. А двор уже осветился заревом пожара. В камере стало так светло, что заключенные могли разглядеть недоуменные лица друг друга. Вдруг где-то на краю местечка раздался винтовочный выстрел. Второй, третий. Потом, как простуженный пес, забухал шкодовский пулемет. Пулемет умолк, и почти сразу в коридоре комендатуры опять раздался топот ног. Вбежали, видимо, человек пять. Двое протопали в дежурку, и там послышались выстрелы. В следующую минуту в дверях камеры загремели ключи. Дверь настежь распахнулась. На пороге с карманным фонарем в одной руке и пистолетом в другой появился Лацо. — Быстрее, товарищи! — махнул он пистолетом. — Лонгавер здесь? Где русский? Видя, что Гриша не в силах сдвинуться с места, Лонгавер и железнодорожник подхватили его под руки и повели к выходу… Вдоль улицы короткими очередями строчил пулемет. Трассирующие пули преграждали дорогу гардистам, пытавшимся возвратиться в комендатуру. Пулемет умолк совсем лишь тогда, когда освобожденные из заключения вышли на край Туречки. Дом коменданта догорал. Но уже никто не пытался его тушить. Улица, освещенная заревом пожара, оставалась пустынной и молчаливой до самого утра.* * *
Вечерело. На камне перед пещерой близ разоренного когда-то орлиного гнезда сидел Гриша Кравцов и, тихо насвистывая, чистил винтовку. Старик Лонгавер ломал хворост и по палочке подбрасывал в огонь. А Божена, присев на корточках в углу пещеры, месила в миске тесто на галушки. Под горой послышались веселые голоса ребят. — Вот они, яношиковцы, — с добродушной улыбкой сказал Лонгавер. — Теперь уж мне не сдобровать. — А что? — удивился Гриша. — Так это ж бегут друзья Цирила Ковача. Сейчас пристанут: «Давай, бача, показывай, где спрятана валашка Яношика». — Как же быть? — растерялся Гриша. — Они так вам верят. — Погоди, — загадочно подняв палец, сказал старик. — Я их не подведу. Шумной ватагой подбежали ребята к костру и вдруг смолкли, глядя на бачу и подталкивая друг друга. — Дедушка Франтишек, — заговорил наконец Цирил, — вы обещали помочь нам найти валашку Яношика. — Правду говоришь. Обещал, — серьезно ответил бача. Он не спеша достал из-за пазухи небольшую листовку и подал ее Цирилу: — Вот она! Цирил недоуменно посмотрел на листовку и передал Ёжо: — Читай! — «Братья словаки! — громко начал Ёжо. — Двадцать восьмого августа был освобожден от фашистов Турчанский Святый Мартин. Двадцать девятого утром партизаны взяли Ружомберг. Партизанская война на Словакии переходит в общенародное восстание против фашистов. Бейте гардистов! Уничтожайте их беспощадно! Идите в партизанские отряды!» — Эх, ты! — воскликнул Цирил и выхватил листовку из рук друга. — Дедушка Франтишек, вот бы эту листовку в Братиславу, на дом самого Тиссо! — Вот это да!.. — воскликнул Ёжо. — В Братиславу вам не попасть, а но селам вокруг Батеван не плохо бы разнести. — И Лонгавер выложил перед ребятами большую пачку листовок. — Вот вам и валашка… — А что? Вот это силища! Мы прямо сейчас пойдем! — горячо воскликнул Ёжо. — Нет. Вы переночуйте. А утречком я вас разбужу… — Дорогу на Батеваны знаете? — спросил Гриша. — Знаем! — хором ответили ребята. — Пойдемте вместе. — Так ты не уходишь сейчас домой, в Россию? — обрадовался бача Лонгавер. — Куда ж идти, раз ребята нашли наконец валашку Яношика! — развел Гриша руками. — Теперь вместе будем бить фашистов! — А вы откуда узнали, что мы искали валашку Яношика? — удивленно спросил Цирил и, нахмурившись, исподлобья глянул на Ёжо. — Думаешь, Ёжо проболтался? — улыбнулся Гриша. — Нет, мне камни рассказали… — Какие камни? — недоуменно вскинул брови Цирил. — Те, за которыми я стоял ночью, когда вы приходили сюда в последний раз!* * *
Ночь стремительно, как запоздавшая орлица, опустилась на Низкие Татры. И горы, и леса, и ущелья покрылись непроглядной тьмой. Гриша сидел на огромном валуне. Бача полулежал у костра. А Божена и ребята спали в углу пещеры. Где-то за рекой во тьме появился огонек. Сперва он колебался, набирая силу, а потом вспыхнул решительно и бойко. За ним, на другой голе, загорелся второй, потом третий, четвертый… — Что за огни? — спросил Гриша старика. — Партизанские, — тихо ответил бача. — Это только начало. Лонгавер смачно пососал свою трубку. Дым окутал его. Гриша почти не видел за этим дымом старика, слышал только голос. — Костры эти только разгораются… С каждым днем их будет все больше и больше. А придет время — сольются они в большой, неугасимый пожар! И пожрет он все нечистое, что пришло на нашу славянскую землю…Виктор Пекелис Электронный «мозг»
Очерк
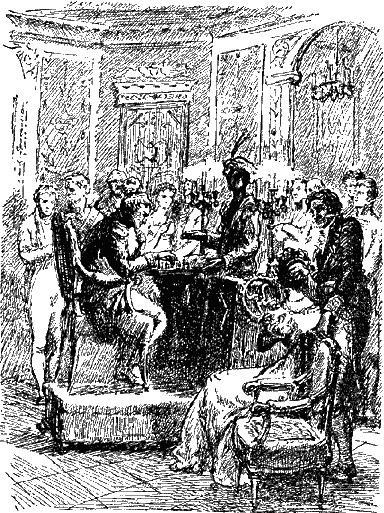
На фоне изысканного, убранного в стиле Людовика XVI зала Тюильрийского дворца темный, громоздкий ящик казался неуклюжим мещанином, неведомо какими судьбами затесавшимся в блестящее общество. На ящике — большая кукла, не претендующая на изящество. Перед ней — шахматная доска. По другую сторону доски — Наполеон I. Император Франции, слывший первоклассным игроком в шахматы, встретился за доской с всемирно известным… шахматным автоматом. В зале царит торжественная тишина. Глубокое изумление, смешанное с суеверным страхом, испытывают зрители необычайного матча. Какая сверхъестественная сила вложила в грубую куклу способность к тонким комбинациям, стратегическому замыслу, упорной борьбе с живым, разумным противником? Ведь все убедились, что в ящике под куклой спрятаны лишь рычаги, валы и шестерни. Каждый собственными руками только что ощущал холод мертвых механизмов. Долгая, напряженная борьба между человеком и автоматом закончилась поражением человека. Победил не разум, а хитроумный механизм! Снова и снова пытается коронованный шахматист добиться победы в борьбе с равнодушным партнером. Но безуспешно! С фатальной неизбежностью побеждает автомат. Уже много лет длится триумфальное шествие удивительной куклы по странам Европы. Тысячи людей встретились с нею за шахматной доской. Большинство терпело поражение, и лишь немногим удалось выиграть. Но редкие поражения не влияли на огромную популярность первой в мире шахматной машины, построенной в 1769 году венгерским механиком и изобретателем Фаркашем Кемпеленом. «В те времена много было в стране самородных талантов, но лишь некоторые из них добивались успеха, хотя бы такого, как, например, Кемпелен из Пижони. Этот мастер разъезжал от короля к королю с машиной, которая обыгрывала в шахматы любого, самого сильного игрока, в том числе и самого Наполеона. До сих пор так никому и не удалось разгадать, в чем состоял секрет этой машины», — так писал о шахматном автомате и его изобретателе венгерский писатель К. Миксат в известном романе «Странный брак». Но секрет Кемпелена был все же открыт, и совершенно неожиданно. Однажды во время демонстрации автомата в Филадельфии в городе начался большой пожар. При криках «Пожар!» пришла в замешательство и машина — движения куклы стали вдруг беспорядочными. Вскоре ящик открылся… и из него вылез человек небольшого роста. Тщательно спрятанный шахматист с трудом выбрался из тайника, замаскированного деталями механизмов. Разоблаченный шахматный «автомат» прекратил свое существование. Ящик сгорел во время пожара, раскрывшего его тайну. И вот совсем недавно, несколько лет назад, любителей шахматной игры взволновало новое сенсационное известие. У шахматной доски опять появилась машина. Робкими и неуверенными были ее первые шаги. Машина мучительно-долго «размышляла» над каждым ходом, часто «зевала», легко попадала в простые ловушки. Но ее шахматное мастерство быстро совершенствовалось. Прошло совсем немного времени — и необычайный шахматист-машина уже сумела сделать ничью с гроссмейстером Самуилом Решевским. В наши дни трудно кого-либо удивить рассказами о самых необыкновенных автоматах, даже играющих в шахматы. В век электроники, радио и телевидения нет нужды прятать человека внутрь шахматного автомата. Он может управлять машиной с какого угодно расстояния: ясно, что машина сама, без помощи человека, не способна постигнуть все тонкости шахматной игры. Набор электронных ламп, проводов и механизмов не может стать равноправным членом многомиллионной семьи любителей шахматной игры и отвечать на неожиданные ловушки, поставленные ей человеческим разумом. Так подумают скептики, прочитав историю автомата Кемпелена и сообщение об успехах новой машины на шахматной доске. В конечном счете это верно! За самым «умным» автоматом где-то всегда стоит человек. Существует, однако, огромная разница между «автоматом» Кемпелена и современной шахматной машиной. Принципиальное, качественное отличие заключается в том, что «автомат» Кемпелена — только механические руки, по воле человека передвигающие фигуры на доске. А новый автомат — электронная вычислительная машина — это электронный «мозг», самостоятельно выполняющий действия по сложной программе, составленной для него человеком. Играя в шахматы, машина уже без непосредственного вмешательства человека внимательно следит за доской, анализирует и самостоятельно отвечает на очередной ход партнера. Мозг человека! Едва ли не самая сложная, едва ли не самая таинственная область человеческой природы. Беспрерывно познавая себя, мог ли человек оставить без внимания эту тайну из тайн живого, мог ли пройти мимо законов, которым подчиняется «думающий» аппарат? «Если бы можно было видеть сквозь черепную крышку и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью». Это слова великого физиолога Павлова. Он установил новые закономерности работы головного мозга и обратил внимание на то, что самые сложные и сокровенные процессы в живом организме возникают и управляются системой элементарных сигналов-приказов (импульсов-рефлексов). Физиолог теперь может сказать, как работает мозг, какие процессы происходят, когда человек мыслит. Вычисления — первая из областей умственного труда, которую стало возможным перевести на путь полной автоматизации. Людям удалось сложный логический процесс вычислений расчленить на ряд простейших, механических операций. Но разве вычислительный процесс составляет какой-то изолированный участок умственной деятельности человека? Разве между вычислительной работой и другими мыслительными процессами людей стоит непреодолимый барьер, охраняющий «святое-святых» от грубого вмешательства мертвого механизма? Математики, физики, инженеры — творцы «думающих» машин — без устали ищут пути механизации всё новых и новых отраслей мозговой работы человека. Наряду с уже привычными для нас приборами для автоматического анализа обстановки и контроля работы различных механизмов, теперь появился и электронный «мозг», который не только сигнализирует и контролирует, но и прямо выполняет сложные действия, повинуясь приказам заложенной в него специальной программы. Уже давно человек применяет для своих целей различные усилители мощности — механические силы, превосходящие ничтожную силу его мышц в миллионы раз. С помощью пара, электричества и двигателей внутреннего сгорания он выполняет гигантскую работу — буквально горы ворочает. Постепенно все больше усилителей вводит в жизнь человек. Современные средства передвижения по земле, воде и воздуху удлинили его ноги, управление на расстоянии — руки, телескоп усилил зрение, а микроскоп углубил его, телефон и радио усилили слух. Электронная вычислительная машина — новый помощник человека, усилитель его умственной работы. Подобно тому, как электрические машины умножили физические силы человека, вычислительные машины проникли в мир, который еще вчера был целиком во власти мозга. Когда я рядом со словами «мозг человека» пишу электронный «мозг», то сопоставляю их в той же мере, в какой сопоставимы глаз и фотоэлемент, зрение и телевидение, ухо и микрофон, слух и радиоприемник. Всего несколько лет назад были построены первые «умные» машины, а сегодня они уже превратились в прямых помощников мозга. Все больше и больше работы спрашивает с них человек. И недалек тот день, когда такие машины заменят, высвободят умственный труд миллионов людей.
БЕССТРАСТНЫЙ ПАРТНЕР
Нелегко было «посадить» электронную машину за шахматную доску. Не сразу удалось составить машинную инструкцию для одной из самых древних и трудных игр. Нужно было точным математическим языком описать правила игры, дать формулы, оценивающие ее ситуации и указывающие правильный путь к победе. В каждой игре, даже самой простой, сталкиваются противоположные интересы, каждый партнер стремится воспользоваться ошибкой противника, повернуть игру в свою пользу и добиться победы. Математика сумела проникнуть в сложный процесс соревнования между разумными существами и раскрыть ее закономерности. «Научить» электронную машину игре в шахматы очень трудно. Но более простые игры — «в камешки» или «крестики и нулики» — она осваивает быстро и проводит безошибочно. На столе кучка камешков. Два мальчика увлечены незатейливой, но интересной игрой. Правила просты. Каждый раз можно брать не больше трех камней. Выиграет тот, кто заставит партнера взять последний камень. Игра идет с переменным успехом — случайно выигрывает то один, то другой из партнеров. А между тем исход зависит не от случайного стечения обстоятельств, а вполне закономерен. И, когда играющие в этом убеждаются, интерес сразу же пропадает. Какая же это игра, если все заранее предопределено! Найти общие закономерности игры «в камешки» не так уж просто. Математические законы игры открыты, и теперь в нее с успехом играет машина. В одном из павильонов научной выставки, организованной во время Британского фестиваля, ежедневно с утра до позднего вечера царило необычайное оживление: громкие споры, восхищенные возгласы и скептические замечания сменялись тишиной, полной напряженного ожидания. Нетерпеливая молодежь, степенные отцы семейств и почтенные люди с увлечением играли в камешки с электронной машиной «Нимрод», специально построенной для игры в «Ним», похожей на нашу мальчишескую игру. Камни раскладываются на произвольное число кучек. Но каждый может при своем ходе брать камни только из одной кучки, сколько угодно камней — даже все. Выигрывает тот, кто заберет последние. Машина вела игру с полным знанием дела, как самый опытный игрок. Точно выполняя руководство к действию, она одерживала одну победу за другой. Только когда исход игры с самого начала был предопределен в пользу безошибочно играющего противника, машина бесстрастно извещала о своем поражении. Кто из нас в детстве не увлекался игрой в «крестики и нулики»? На переменах, а иногда — чего греха таить! — и во время урока на листке бумаги с девятью квадратами разыгрывались самые ожесточенные сражения. Кому удастся поставить подряд три своих значка — тот побеждал. Но чаще всего игра заканчивалась ничьей. Партнеры быстро постигали немудреный секрет. Чтобы электронную вычислительную машину приобщить к этой игре, нужно перевести на машинный язык возможные ситуации на игровом поле. Оказывается, в этой простой игре существует несколько серий вариантов. А в каждой серии — 512 вариантов по четыре хода. Играя по любому из них, машина не проиграет. А если ее партнер невнимателен, то 360 вариантов приведут к победе. В принципе, казалось бы, все очень просто — дело сводится к выбору наилучшего варианта хода из большого числа возможных. Но за простотой кроются немалые технические трудности. Чтобы вложить в машину 512 вариантов по четыре хода, приходится занять все ячейки машинной электронной «памяти». Кроме того, в нее нужно еще поместить программу игры. А это значит, что всей оперативной «памяти» большой электронной вычислительной машины едва-едва хватит для немудреной игры на девяти квадратах. Вернемся снова к шахматам. После знакомства с принципами механизации простых игр можно представить себе те огромные трудности, которые возникают при «обучении» машины квалифицированной шахматной игре. В теории игр доказывается, что исход шахматной партии, как и в игре «крестики и нулики», предрешен первым ходом и выбором стратегии каждого из партнеров. И если бы удалось составить перечень всех стратегий и выявить оптимальные, то древняя игра потеряла бы свою привлекательность. Как ни парадоксально, наше увлечение шахматами зиждется на том, что мы «не умеем» правильно играть, не знаем полностью математического решения этой игры. Бельгийский математик М. Крайчик попытался хотя бы приблизительно подсчитать общее число всевозможных вариантов шахматных партий. Оно оказалось равным 2×100116. Такое число оставляет далеко позади легендарное количество пшеничных зерен, испрошенных в награду за изобретение шахмат Если бы все население земного шара круглые сутки играло в шахматы, делая ежесекундно по одному ходу, то потребовалось бы не менее 10100 веков, чтобы переиграть все варианты шахматных партий. Любители шахматной игры могут не беспокоиться. Составить список всех стратегий и этим решить до конца задачу шахматной игры ближайшим поколениям не удастся даже с помощью самых быстродействующих машин. Шахматам пока не угрожает участь игры «в камешки». Как же при таких условиях составить руководство к действию для машинной игры? Оно строится на системе правил, позволяющих в каждой ситуации на шахматном поле выбрать очередной ход. Эта система правил является тактикой игры. Чаще всего тактика строится на оценке значимости каждой фигуры. Оценка выражается числом очков. Например, король 200 очков, ферзь — 9, ладья — 5, слон и конь — по 3, пешка — 1 очко, а отсталая, изолированная и сдвоенная — по полочка. Определенным образом оцениваются также позиционные преимущества: подвижность фигур, расположение на доске, защищенность. С помощью чисел можно дать общую оценку своей позиции и противника. Отношение общего числа очков позиции белых к числу очков позиции черных характеризует ситуацию игры. Если оно больше единицы — преимущество на стороне белых, если меньше — более выгодное положение у черных. Предположим, машина играет черными и должна сделать очередной ход. В ее «памяти» хранится положение на доске и отношение чисел очков в этой ситуации. Выбирая ход, машина начинает вычислять изменение этого отношения при различных вариантах. Ход, ведущий к максимальному изменению отношения в пользу машины, и будет ее выбором. Машина напечатает его на карточке. Описанная тактика, одноходовая, приведет, конечно, к очень плохой и неинтересной игре. Гораздо лучше строить игру на расчете нескольких ходов вперед. Лучшие шахматисты умеют рассчитывать комбинации вперед на десять и более ходов. Машина гоже может играть с выбором комбинаций на несколько ходов вперед в предположении, что противник будет также отвечать наилучшими ходами. Но ее возможности ограничены скоростью работы и емкостью «памяти». Если считать, что на обдумывание хода нельзя тратить больше 15 минут, то самая быстродействующая машина может планировать игру не более чем на три — четыре хода вперед. При огромном превосходстве над человеком в скорости вычисления машина пока не может с ним соревноваться в скорости игры за шахматной доской. Ведь ей приходится добросовестно перебрать и пересчитать почти все возможные варианты, даже те, которые человек сразу же отбрасывает, не задумываясь. Вот партия, сыгранная машиной (белые) с человеком (черные):1. е4 е5 2. КсЗ КГ6 3. d4 СЬ4 4. КХЗ d6 5. Cd2 Кс6 6. d5 Kd4 7. h4 Cg4 8. a4 К: f3+ 9. gf Ch5 10. Cb5+ c6 11. dc 0–0 12. cb ЛЬ8 13. Саб Фа5 14. Фе2 Kd7 15. Лgl Kc5 16. Лg5 Cg6 17. СЬ5 К: Ь7 18. 0-0-0 Kc5 19. Ссб ЛГс8 20. Cd5 С: с3 21. С: с3 Ф: а4 22. Kpd2 Кеб 23. Лg4 Kd4 24. ФdЗ КЬ5 25. СЬЗ Фаб 26. Сс4 Cho 27. ЛgЗ Фа4 28. С: b5 Ф: d5 29. Ф: d6 Лd8.В этой проигранной для белых (машина) позиции партия была прервана. Как видите, машина-шахматист оказалась не на высоте. Но это одна из первых партий. Вычислительная техника быстрыми шагами идет вперед. Совершенствуются методы управления электронной машиной. Уже сейчас электронная вычислительная машина решает трудные шахматные задачи и очень хорошо играет в шашки. Можно не сомневаться, что машина скоро «научится» гораздо лучше играть и в шахматы. Что произойдет, если «посадить» за шахматную доску две машины? Могут ли они вступить в единоборство и кто из них выйдет победителем? Конечно, могут! Машины прекрасно «поймут» друг друга, и каждый из этих бесстрастных партнеров будет упорно добиваться победы. Она достанется тому, кто обладает более совершенным руководством к действию, большей «памятью» и быстрее «соображает», то есть быстрее вычисляет. Игры, о которых я рассказывал, характерны тем, что их исход не зависит от случая. Но для других игр дело обстоит не так. Взять хотя бы домино или разнообразные карточные игры. Ведь их результат определяется не только ходами участников, но и «везением». Пришла хорошая карта — и выигрыш почти гарантирован. А при плохой карте самая совершенная игра мало поможет. Можно ли приобщить электронную вычислительную машину к подобным играм? Как составить руководство к действию, учитывающее неизбежную случайность? Оказывается, и в таких играх машина не «ударит лицом в грязь». Недавно вычислительная электронная машина «Стрела» в перерыве между основной работой сыграла свою первую партию в домино. Человек и машина играли против двух человек. И надо сказать, партнер машины не имел оснований к недовольству своим напарником. А противники очень быстро убедились, что машина играет, как самый опытный любитель, хотя и не сопровождает свои ходы мощными ударами костяшек об стол. Партию выиграли человек и машина. Машинная игра в домино и карты тоже базируется на выборе оптимальной стратегии. Решение задач в играх со случайными ходами производится аналогично играм с предрешенным исходом, но с привлечением законов теории вероятностей. Существуют игры, исход которых вообще не зависит от ходов участников. Они целиком строятся на случае. К таким играм относятся, например, лото и рулетка. Для них не существует ни стратегии, ни руководства к действию. Машина, как и человек, должна здесь играть наугад. Но, оказывается, есть игра, в которой машина предстает более сильным противником, чем человек. Это хорошо известная игра «чет-нечет». Один из участников пишет какое-нибудь число. Другой, не глядя на него, угадывает, четное оно или нечетное. Каждый из участников может играть по любой стратегии — оптимальной здесь не существует. Стратегия может заключаться в том, например, чтобы всегда называть «чет». Но противник очень быстро разгадает такую «чистую» стратегию партнера и начнет систематически выигрывать. Поэтому каждый старается самым произвольным способом чередовать свои ходы. И если два человека будут очень долго играть, то в среднем окажется, что в 50 процентах случаев выиграет один, а в 50 процентах выиграет другой партнер. Исход большого числа игр окажется ничейным. Но игра с машиной привела к другому, неожиданному результату. Запоминая все предшествующие ходы, машина устанавливает некоторую закономерность в случайных ходах человека, которой он бессознательно пользуется. Например, он чаще называет «чет», чем «нечет», или часто после двух ходов «нечет» делает три хода «чет» и так далее. Раскрыв это, машина вычисляет вероятность того или другого очередного хода и выигрывает чаще, чем человек. Оказалось, что из большого числа игр машина выигрывает уже 55 процентов. Побеждает бесстрастный автомат.
НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОПРИЩЕ
В наш прозаический рассказ врывается поэзия.When a practical problem in science or technology permits mathematical formulation, the chabces are rather good that it leads to one are more differential equations. This is true certainly of the vast category of problems associated mith force and motion, so that whether we wand to know the future path of Jupiter in the heavens or the path of an electron in an electron microscope we resort to the differential equations. The same is true For the study of phenomena in continuous media, propagatian of waves, Flow of heat, diffusion, static or dynamic electricity etc, except that we here deal with partial differential equations.
This was based on an expensive experiment done by myself and Dr. R. H. Richens, of Cambridge University, in which we worked out a method of translating small sections of selected text in foreign languages. We gave an account of this at a conference in Massachusetts in 1952, after which the International Business Machines Company, inconjuction with Georgetown. University, applied our methods to give a popular demonstration which was limited to translating a few sentences from Russian into English. There is no possibility at present of translating a book as work of art.
Если практическая задача в науке или технике допускает математическую формулировку, шансы довольно велики, что это приводит к одному или более дифференциальным уравнениям. Это верно безусловно для обширной категории задач, связанных с силой и движением, так что, хотим ли мы знать будущий путь Юпитера в небесах или путь электрона в электронном микроскопе, мы прибегаем к дифференциальным уравнениям. То же верно для изучения явлений в непрерывной среде, распространения волн, потока тепла, диффузии, статического или динамического электричества и т. д., за исключением того, что мы здесь будем рассматривать дифференциальные уравнения в частных производных.
Это было основано на дорогом эксперименте, проведенном иной и доктором R. H. Richens от Кэмбриджского университета, в котором мы разработали метод перевода малых отрывков выбранного текста на иностранные языки. Мы дали отчет об этом на конференции в Massachusetts в 1952. после которого I.В.М. компании в сотрудничестве с Джорджтаунским университетом применили наши методы, чтобы дать наглядную демонстрацию, которая была ограничена переводом нескольких предложений с русского на английский. Не имеется возможности в настоящее время перевода книги как произведения искусства.Для такого опытного перевода был составлен словарь из 952 английских и 1973 русских слов. Разумеется, это весьма ограниченный словарный запас. Его хватает только, чтобы перевести несложный научно-технический текст. Поэтому некоторые «вольности» стиля оригинала оказываются «выше понимания» автоматического переводчика. Любопытный случай произошел однажды с машиной, когда она переводила статью из английской газеты «Тайме», в которой речь шла об опыте переводов с помощью счетно-вычислительной техники. Ей встретились слова: «железный занавес». Машина «задумалась» и, опустив этот непонятный «технический» термин, продолжала переводить дальше. Объясняется такое поведение машины просто. Если какого-либо слова из переводимой фразы не окажется в словаре, то оно сохраняется в запоминающем устройстве без изменений. При выводе переведенной фразы ненайденное слово опускается — печатается латинскими буквами. Надо заметить, что машина пока еще переводит только как ученик. Поэтому она иногда допускает ошибки. Однажды машина перепутала номера слов «один» и «два» и вместо «двух» выдала в первый раз — «однух», во второй — «однум». В другой раз она написала вместо «хотим» — хочем, вместо «связанных» — «связатых». Все эти ошибки очень напоминают ошибки невнимательного школьника. Между прочим, сам факт критики машины за погрешности стиля говорит о том, что как переводчик она уже принимается всерьез. Для перевода разговорного языка и художественной литературы нужен запас в десятки тысяч слов, да еще специальный словарь идиом, чтобы можно было переводить на другой язык непереводимые выражения, вроде русского «съел на этом деле собаку» или английского приветствия «How do you do». Такие задачи еще можно решить. Но пока не удается преодолеть главной трудности художественного перевода. В предложении из художественного произведения должна быть тесная связь с самой природой языка, с бытом и жизнью народа. Естественно, возникает вопрос, выгоден ли машинный перевод? Может быть, это пустая трата времени, и после машинного перевода придется призывать батальон лингвистов для проверки и редактирования текста? К тому же машина, на которой проводились опыты по переводу, предназначена для решения сложнейших вычислительных и математических задач, и поэтому переводить на ней все равно что возить на слоне коробку спичек. Но опытный перевод помог филологам, математикам и инженерам установить, что для перевода нужно строить специальные машины: без сложных арифметических устройств, но с хорошей «логикой» и большим объемом «памяти». Тогда машина на любой вопрос грамматики сможет легко и быстро ответить «да» или «нет» и будет переводить с любого языка на любой. Все дело в том, что для машинного перевода нужно тщательно проанализировать язык и на строгой лингвистической основе подготовить специальную «машинную грамматику». Надо лишь грамматику языка записать в удобном для машины виде, выразив правила изменения слов и их сочетания в предложении в виде математических формул, говорят специалисты. Работа над «машинной грамматикой» очень трудоемка и сложна. Но наши ученые успешно овладевают принципами машинного перевода на лингвистической основе. Уже приступили к созданию машины-переводчика с французского языка на русский. Здесь пошли по единственно верному пути, определив для перевода главную особенность французского языка — категорию глагола. Ведутся исследования по автоматическому переводу на русский язык с немецкого, китайского, японского. Идет подготовка к переводу с одного иностранного языка на другой иностранный с использованием как посредника русского языка. Оказывается, при таком методе предельно упрощается задача автоматизации перевода. Опыты покажут, какой из языков наиболее «счастливый», то есть наиболее удобный для машинного перевода. Возможно, придется выработать какой-то новый «машинный язык», чтобы удобно и легко было приводить к нему все остальные, а потом уже и переводить с него на любой. Проблема автоматического перевода находится на стыке трех наук: лингвистики, математики и вычислительной техники. Упорные искания точек их соприкосновения привели уже к известным результатам. Возможно, что мы радуемся теперь таким успехам, которые стоят на уровне первых механических машин для воспроизведения речи или же первых, весьма примитивных устройств телеграфирования. И, хотя впереди еще большие трудности, ученые предполагают, что уже в течение десятилетия будут созданы машины, которые смогут переводить за одну минуту текст из тысячи типографских знаков. Предполагают, что в такие машины будет прямо вводиться печатный текст и тут же машина выдаст текст, напечатанный на другом языке.
Электронные машины могут не только переводить чужие произведения, но даже выступать как авторы собственных литературных и музыкальных произведений. Здесь, казалось бы, нашему удивлению не должно быть границ. Известно, что нет мук сильнее мук творчества, мук поисков слова. Это знает каждый пишущий. Недаром Маяковский говорил:
«Мой горизонт состоит лишь из красной портьеры, откуда с перерывами исходит удушливая жара. Едва можно различить мистический силуэт женщины, гордой и ужасной: эта знатная дама, должно быть, одно из времен года. Кажется, она прощается. Я больше ничего не вижу и продвигаюсь к занавесу, который мои руки смущенно раздвигают. Вот по ту сторону странный трагический пейзаж; циветта скребет землю, птицы летают с обеих сторон, садятся на ветви деревьев, наполовину иссохшие. А тут и черепаха, застывшая неподвижно: она почувствовала мое присутствие. Но почему она покрыта инеем? Мальчик подбегает; его пухленькие руки, его серьезное и смуглое лицо придают ему вид молодого героя».Как же машина пишет? Возможно, она «увидела» загадочную женщину у портьеры, может быть, «загляделась» на мальчика с пухленькими руками? Или машину «взволновала» черная ночь, расплывчатые края луны, снежная пропасть, измученный кочевник? Вы уже знаете, как переводит быстродействующая электронная вычислительная машина. Раз машина при переводе осуществляет синтез фразы, она с успехом может синтезировать и без перевода, составлять согласно программе целые предложения из запаса слов, которые находятся в ее «памяти». И если быть объективным, то идея механического «сочинителя» не нова. Вспомните, как блестяще высмеял ее Свифт в своей бессмертной сатире «Путешествия Гулливера». Он рассказал о профессоре лапутянской академии, благодаря изобретению которого «самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта». Изобретение лапутян представляло собой большую раму. Поверхность ее состояла из огромного множества деревянных кубиков, сцепленных между собой тонкими проволоками. Со всех сторон каждого кубика на бумажке было приклеено по слову их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. По команде профессора сорок студентов брались за сорок рукояток и поворачивали их на один оборот — расположение слов в раме совершенно изменялось. У этой машины не хватало двух «мелочей». Во-первых, она не имела программы выбора даже отдаленно логически связанных слов. Все было основано на чисто случайном подборе. Поэтому зря надеялся лапутянский профессор «усовершенствовать умозрительные знания при помощи технических и механических операций». Во-вторых, машина лапутян не располагала критерием сравнения. Она не могла из бесконечного множества вариантов выбрать не только наилучший, но даже сколько-нибудь подходящий. А число вариантов действительно очень велико. Это прекрасно показал Я. Перельман в рассказе «Литературный автомат». Оказывается, буквопечатающий механизм, имеющий тысячу букв, последовательно печатая все сочетания из них, выдаст наряду со многими бессмысленными страницами все литературные отрывки, какие мыслимо написать тысячей литер. А именно: по отдельным страницам, абзацам, фразам мы получим все, что когда-либо было написано или будет написано в прозе и в стихах на русском и на всех существующих и будущих языках! Все романы и рассказы, все научные сочинения и доклады, все журнальные и газетные статьи и известия, все стихотворения, все разговоры, когда-либо слышанные всеми прежде жившими людьми, и все то, что еще предстоит передумать и высказать людям грядущих поколений… Если наша литературная машина будет работать с наибольшей достижимой печатной скоростью, то и тогда машина закончит свою работу лишь через 1,5×101985 лет. В этом числе 1986 цифр! Миллионы раз погаснут звезды, миллионы раз зажгутся новые, прежде чем мы получим все эти литературные материалы. А сколько времени понадобится для того, чтобы отобрать из бесконечного множества нелепых сочетаний слов действительно логически связанные! Ведь среди «литературных произведений» будут, например, и такие, которые состоят из одних знаков препинания, а свыше 10300 будет состоять из одних восклицательных и вопросительных знаков. Конечно, «литературные способности» вычислительной машины зиждятся не на случайном подборе слов и предложений. Она, как и всегда, работает по определенному правилу. В частности, «Калиоппа» работает примерно по такому руководству к действию: в нее вложен словарь, в котором родственные понятия записаны близкими кодами, например, если 1001001 — животное, то 1001100 — птица, 1001101 — орел, между тем как 1010000 — млекопитающее и так далее. Машина по программе и по этим кодам подбирает близкие по смыслу слова. Основой служит некоторый первоначальный текст, введенный в машину. При каждом цикле повторения программы машина расширяет основной текст, эпитетами и синонимами отходя от него все дальше и дальше, но не искажая его до полной бессмыслицы. Машинные отрывки хорошо показывают сильные и слабые стороны литературных автоматов. Они логически отбирают из словаря уместные в любовном письме, стихотворении или рассказе слова, не «ввернув» туда ни одного технического, юридического или политического слова. Все слова грамматически правильно собраны в предложения. Но машина совершенно «не понимает» того, что пишет. Машина подходит к тексту, как к набору букв и слов, которые можно «вязать», «согласовать» по определенным логическим правилам. Составить программу можно не только для написания литературных произведений. Совсем недавно математикам удалось составить машинное руководство к действию для сочинения музыки. Как же машина пишет музыку? Оказывается, в популярных песенках содержится от 35 до 60 нот. Анализ большого числа песенок показал, что структура их такова: имеется одна часть (назовем ее А), охватывающая восемь тактов и содержащая от 18 до 25 нот. Эта часть повторяется. За ней идет часть В, также по восьми тактов, но уже содержащая от 17 до 35 нот. После нее снова повторяется часть А. Удалось установить и другие интересные закономерности. Если пять нот идут последовательно в возрастающем направлении, то шестая обязательно идет вниз, и наоборот. Другая закономерность: первая нота в части А обычно не является второй, четвертой или пятой минорной нотой в шкале. В песнях соблюдаются и давно подмеченные правила композиции; например, такие, как правила Моцарта: никогда интервал между соседними нотами не может превышать шести. Я мог бы продолжить описание руководства и дальше, но опасаюсь, что доверчивый читатель может попытаться сочинить по нему популярную песенку, и… у него ничего не получится. Нужна тщательно разработанная программа. Но даже и при подробной программе понадобится очень много времени, чтобы превратить ее в действие. А вот быстродействующая машина сочиняет музыку с непостижимой скоростью — 4000 песенок в час. Руководствуясь программой, она создает комбинации нот, а потом сверяет их с хранящимися в «памяти» законами музыки, выраженными в виде формул. В результате происходит отбор, и сочетания не подходящие, не укладывающиеся в правила, отбрасываются. На листы нотной бумаги попадает только «настоящая» музыка. В другой машине — электронном коммутаторе — в «памяти» хранятся на магнитной ленте звуки разной высоты и продолжительности. Одни звуки — чистые, без обертонов, какие издает камертон. Другие — звуки различных инструментов и голосов. Третьи — звуки, заимствованные у природы, например, различные шумы, пение птиц. И в этой машине музыка пишется согласно вложенной программе. В соответствии с ее командами из «памяти» машины выбираются звуки указанного тембра. Особые устройства собирают звуки в различные сочетания и отбрасывают не выдерживающие требований законов благозвучия. Австрийский инженер Земенек демонстрировал на Международном конгрессе по кибернетике в Бельгии в 1956 году записанную на магнитофоне музыку, сочиненную машиной. Появились и другие сообщения о музыкальных способностях электронных машин. Небольшую популярную мелодию написала вычислительная машина «Гениак». «Дадатрон» написал экзотическую песенку «Красотка с кнопочным управлением». Электронная счетная установка «Берта» порадовала слушателей «шедевром»: «Нажмите кнопку Берты»… На Западе не удержались от соблазна — и вот уже прослушивается множество машинных мелодий, пишутся слова, и… машинные песенки летят в эфир: передаются по радио и телевидению. Некоторые композиторы предполагают, что особенно больших успехов добьются машины в области оркестровки. Популярную мелодию машина сможет оркестровать меньше чем за минуту, композитор же затратит на это почти три дня. Не надо думать, что пришел конец бедной Эвтерне, греческой богине музыки, что наступила эпоха превращения классических основ музыкальной композиции в математический код, что отнимаются музыкальные мысли и воображение у человека и отдаются мертвой игре бездушной машины. С человеческим началом в музыкальном творчестве никогда не будет покончено. Да это и не нужно никому, разве что любителям додекафонии, электрофонии и так называемой конкретности, которые дошли до того, что вмонтировали в джазовые «мелодии» записанный на пленку крик рожающей женщины. А что касается математических закономерностей в музыке, позволивших счетным машинам «сочинять» музыку, то основы их известны очень давно. Как говорит предание, еще Пифагор, проходя мимо кузницы, заметил странные соотношения звуков, производимых ударами кузнецов. Прислушавшись, он понял: интервалы соответствуют кварте, квинте и октаве. Попросив молотки, он взвесил их. Оказалось: вес молотков, дававших октаву, квинту и кварту, был равен, соответственно, 1/2, 2/3 и 3/4 веса самого тяжелого молотка. Открытое Пифагором соотношение (правда, несколько уточненное) легло впоследствии в основу теории музыки.
Законы эстетики, пронизывающие поэтическое содержание искусства, пока еще не разработаны так четко, как законы математики. Их трудно, да вряд ли и возможно, заковать в строгие и точные формулы и дать математические критерии для художественного произведения. Пока этого не сделали — и сделают ли? — машина не может претендовать на признание ее литературных и музыкальных способностей. Свое отношение к ней высказал и поэт Владимир Котов, с которым я познакомил читателей в начале этой главы. Вот его ответ машине, посмевшей написать стихи:
ИНСТИТУТ-АВТОМАТ
В тихий московский переулок, недалеко от станции метро «Сокол», в Институт научной и технической информации, почта ежедневно доставляет из 85 стран до 500 иностранных книг и журналов на 50 языках. Сюда поступают также все научные и технические книги и журналы, изданные в нашей стране. Свои издания шлют 450 иностранных академии, научных ассоциаций и обществ. Небольшие пакеты с микрофильмами посылают библиотеки Британского музея, Сорбонны, Конгресса Соединенных Штатов и еще добрых два десятка зарубежных книгохранилищ. Все это собирается для того, чтобы держать наших ученых, инженеров и студентов в курсе современной литературы по точным и естественным наукам и технике, беспрерывно публикуемой во всем мире. Для обработки, систематизации и аннотирования этого огромного материала в Институте научной и технической информации трудится 1500 переводчиков. Им помогают еще 13 тысяч внештатных работников — высококвалифицированных специалистов: академиков, докторов и кандидатов наук, инженеров. Они выполняют большую работу. Подсчитано, что в мире на разных языках ежегодно публикуется почти 3 миллиона журнальных статей, до 200 тысяч патентов и около 50 тысяч книг по вопросам науки и техники. Сколько же нужно переводчиков и специалистов, чтобы обработать и перевести столько материалов? Ведь не каждый из них полиглот, не каждый, подобно знаменитому Григорию Колпакчи, живущему в Париже, владеет французским, немецким, испанским, португальским, итальянским, норвежским, турецким, русским, сербским, греческим, басским, берберийским и банту; не каждый, как он, читает без помощи словаря на всех европейских языках, по-латыни, по-древнегречески, по-китайски, по-японски, по-персидски, по-арабски, по-фински, на древнеассирийском и древнеегипетском языках. Говорят, он даже сам точно не установил, сколько языков знает: семьдесят или восемьдесят… А сколько их всего? Общее число живых языков достоверно пока неизвестно. Но считают, что цифра в 6000 (!) не будет преувеличением. Правда, достаточно знать всего 13 «великих» языков, чтобы практически общаться с большинством населения земного шара. Но научные работы издаются и на других языках. Институт информации только за один год обработал около 7000 иностранных и почти 1000 советских периодических изданий. Только в первой половине 1958 года выпущено полтора десятка серий реферативных журналов, в которых помещено несколько сот тысяч информационных материалов на различные темы. Эти журналы занимают на полках столько же места, сколько 50 томов Большой Советской Энциклопедии. А общий объем изданий института достигнет вскоре громадной цифры — 25 тысяч печатных листов! С каждым годом все труднее и труднее становится разбираться среди книг и журналов. Например, специальных научных работ, посвященных лишь одному химическому элементу — цинку, издано во всем мире с 1926 по 1946 год почти втрое больше, чем за 200 лет до этого. А возьмите физику, астрономию, механику! Часто ученому выгоднее провести заново какой-либо эксперимент, чем попытаться найти о нем сведения в океане опубликованной литературы. Если же он такую попытку и предпримет, то уподобится человеку, ищущему в стоге сена иголку. Раньше были опытные библиографы — настоящие лоцманы книжных морей. Они сравнительно быстро могли найти нужную книгу или хотя бы указать, где ее искать. Теперь таких специалистов становится все меньше и меньше. Человек физически не в силах ознакомиться с миллионами статей, с сотнями тысяч книг, накопившихся в книгохранилищах. Кроме того, крайне редко в одном лице сочетаются и блестящая память, и владение несколькими языками, и обширные знания по многим специальностям. Для того чтобы сделать общедоступным огромный материал и облегчить пользование им, советские ученые и инженеры усиленно работают над механизацией и совершенствованием службы научно-технической информации. Чтобы помочь библиографам быстро, в несколько минут, находить нужную справку среди десятков тысяч карточек, построена и испытывается информационная машина. Это целый агрегат, институт-автомат, работающий на перфокартах. Он состоит из четырех частей: кодирующего устройства, контролирующего приспособления, информационной машины и печатающей установки. Разработана система записи информации. Это специальный информационный язык, понятный не только людям, обслуживающим агрегат, но и самой машине. В него включаются все основные термины — понятия данной отрасли науки. Например, произведен отбор и определены термины, употребленные в механике. Насчитывается уже около 3000 терминов, позволяющих охватить много вопросов из этой отрасли науки. Каждый термин получил свой условный код, определенное сочетание и место перфорационных знаков, отверстий на карте. Машина обрела не только «язык», но и «память». Пользуясь специальным словарем, на перфокарты заносят отверстия, обозначающие содержание статьи, а также сведения, в каком журнале и когда она печаталась. Чем больше накапливается таких перфокарт, тем богаче становится «память» машины. Вы задаете машине вопрос. Он с помощью кодирующей установки заносится на перфокарту (конечно, на информационном «языке»). Затем, пользуясь перфокартой, оператор вносит этот вопрос на наборное устройство информационной части агрегата. А дальше машина начинает проверять каждую из огромного запаса карт, чтобы найти карты с кодами, совпадающими с кодом вопроса. Она просматривает их со скоростью 24 тысячи в час! Быстро растет стопка обработанных материалов. Перфокарты, на которые занесены нужные сведения, отбираются. Как же прочитать, что означают небольшие отверстия, пробитые на перфокарте, и получить нужную справку? Включается печатающее устройство, в него закладываются отобранные перфокарты. И вот машина печатает на русском языке ответ: это краткие библиографические данные о том, где и когда были опубликованы статьи на ту тему, которая интересовала задавшего вопрос. А сколько труда и времени потребовалось бы библиотекарю, чтобы составить такую справку!.. Конструкторы машины думают добиться увеличения скорости просмотра до нескольких миллионов записей в час! Другая информационная машина — автоматический каталог-справочник — устроена иначе. На киноленте отпечатаны с одной стороны аннотации статей, с другой — условный указатель содержания аннотированной статьи. Указатель записан условным кодом — белыми и черными точками. Автоматические устройства с фотоэлементами в одну минуту просматривают до 10 тысяч таких библиотечных карточек. За шесть—семь минут библиотекарь-автомат может найти любую из 70 тысяч аннотаций, записанных на ленте. Но и такой темп уже не удовлетворяет современные потребности. Сейчас решается проблема полной автоматизации информационной работы. Для этого широко будут применены быстродействующие электронные счетные машины-переводчики, радиосредства, микрофотокиносъемка, телевидение, магнитная запись. Особый интерес представляют специальные информационные машины. Они будут обладать почти неограниченной «памятью» и позволят построить специальные научно-справочные агрегаты, «запоминающие» гигантские запасы научных и технических сведений, мгновенно выдавая их по первому требованию в необходимой для ученого комбинации. Эти машины станут на службу науке и технике, умножая в сотни и тысячи раз производительность труда ученого, техника, конструктора. Они откроют новую эру в научной работе. Известно, что за 500-лстнюю историю книгопечатания выпущено более 12 миллионов названий книг, сотни миллионов газетных и журнальных статей. Количество книжных богатств все время возрастает. Считают, что оно каждое десятилетие удваивается. Только в нашей стране теперь хранится полтора миллиарда томов! Читателям библиотеки будущего не придется рыться в каталогах, словарях, указателях, искать шифр и номер книги, искать самую книгу, а затем перелистывать, чтобы найти страницу и именно те строки, в которых записана нужная мысль, формула, определение. Подобно тому, как сегодня абоненты автоматической телефонной станции набором цифр вызывают «службу времени» и узнают время, так и в электронной библиотеке информацию можно будет вызвать коммутатором к общему читающему устройству. В июне 1957 года был проделан опыт передачи из одного района Москвы в другой через городскую автоматическую телефонную станцию нескольких страниц текста, записанного в долговременной машинной «памяти». На экране телевизора можно было прочитать четкое изображение текста. В библиотеке будущего, согласно заранее составленной программе, импульсы сами найдут, прочитают и выдадут требуемую информацию в виде изображения на экране телевизора или удобочитаемого печатного текста. Текст появится молниеносно. Скорость выборки у новых машин будет очень большой. За один час может быть считано более 10 миллиардов цифр или 250 тысяч печатных листов: это же 4 миллиона страниц обычных книг. А в дальнейшем скорость можно довести до 12,5 миллиона печатных листов текста в час! Трудно даже представить себе, сколько понадобилось бы времена человеку на поиск нужной информации среди такого неисчислимого количества материала. Но не только этим сильна машина: можно будет, используя громадные скорости, проводить машинным способом тщательный анализ той или иной области человеческих знаний. Можно будет проверять, нет ли противоречий между вновь поступающим материалом и уже записанным. Можно будет синтезировать и обобщать информационный материал. Это во много крат облегчит решение сложных научных и технических задач. Совершенствование машин с долговременной «памятью» рисует в перспективе создание автоматической энциклопедии. В нее можно будет заложить все известные аксиомы, теоремы, формулы, определения и различные данные. По требованию человека энциклопедия сможет выдавать ценные научные справки и даже устанавливать новые аналогии в различных процессах, формулах, законах. Логические схемы исследования материала дадут возможность при помощи машины устанавливать в смежной области новые следствия из предпосылок, относящихся к двум различным областям знания. Например, следствие для физической химии по предпосылкам из физики к химии. В электронные «книги» можно записать огромные словари иностранных языков и осуществить автоматический перевод со скоростью, за которой не угонится и батальон переводчиков, — десять предложений в секунду! К одному устройству автоматического перевода подключат свыше тысячи абонентов, связанных с машиной телефонной сетью. У каждого абонента будет своеобразная пишущая машинка. Иностранный текст, пройдя линию связи, попадет в переводческую машину, превратится в русский текст и снова попадет к абоненту на автоматическую пишущую машинку, печатающую перевод. Можно установить у абонентов аппаратуру, которая с помощью светового устройства будет «читать» текст из журнала или книги и страница за страницей передавать его на переводческую станцию. Можно построить также машину устного перевода. Она незаменима для международных конференций и съездов и станет самым необходимым посредником между людьми, говорящими на разных языках. В основу конструирования такой машины положена возможность воспроизведения отдельных элементов речи — гласных и согласных слогов по сигналам, сопровождающим буквы текста. Недалеко то время, когда любой ученый, инженер или студент в любом уголке нашей страны, да и просто любой читатель обычным телефонным звонком и включением телевизора сможет получить любую справку, даже самую сложную, любой чертеж, формулу, громоздкий расчет, любой перевод из любого журнала или книги, увидевших свет всего несколько часов назад. Некоторые ученые утверждают, что целесообразно в будущем весь научно-технический материал одновременно с типографиями печатать на листах долговременной «памяти» информационных машин. Как все это обогатит, ускорит, усовершенствует информационное дело — столь важное в научном творчестве! Знакомство с долговременной «памятью» машин, с информационными устройствами, электронными «книгами», автоматической «энциклопедией», с идеей института-автомата, невольно заставляет оглянуться назад, как бы устремить взор в глубь веков. И вот встают перед вами два великих открытия. Изобретена письменность. В руках человека — могучая сила, и можно смело из поколения в поколение нести неугасимый факел знания. Не надо уже бояться искажений устной передачи и превратной человеческой памяти. Изобретено книгопечатание. Создано невиданное до того множительное приспособление. И сразу же расширился круг людей, могущих приобщиться к источнику знания — к книге. Шли века. И настало время, когда уже нельзя говорить о каком-то «круге» людей. Широким массам стали доступны сокровища человеческой культуры. Уже не единицы, а тысячи, сотни тысяч людей приносят свой вклад в общее дело познания мира. Сказочно быстро пошло накопление богатств разума в общечеловеческих кладовых. Накопилось столько драгоценностей, что не сразу отыщешь нужную. Множество блистательных мыслей остаются лежать нетронутыми, забываются. Настало время, когда начал назревать конфликт: человек уже не в силах справиться с обилием накопленных научных материалов. Пришла острая необходимость в «умном» автомате-помощнике, который мог бы быстро и ловко «рыться» в библиотеках и архивах, в патентных бюро и картотеках, мгновенно вычислять математические задачи с десятками тысяч заданных величин. Такой помощник создается, и мы накануне наступления новой эры — эры автоматизации трудоемких умственных процессов. С улыбкой будут взирать люди завтрашнего дня на ящики библиотечных каталогов, на хитроумную систему шифрования книг, на всевозможные справочники, реферативные сборники, на пишущие машинки, арифмометры и типографские агрегаты. Улыбка эта, вероятно, будет похожа на ту, с которой многие из нас сегодня смотрят на папирус, глиняные дощечки, гусиные перья и картины с изображением монахов — переписчиков книг. Но не успел человек начать борьбу за скорость в научной работе, как его уже не удовлетворяют достигнутые успехи. Требуется гигантская скорость работы электронного «мозга». И люди стремятся переложить на машину операции, замедляющие процесс умственного труда, — такие, как запись живой речи вручную или на пишущей машинке, преобразование записи в код и другие. И вот сегодня машина может не только печатать текст, но и произносить его. Машина научилась слышать и говорить, читать и писать, отбирать нужный материал. Уже построена машина, которая может читать любые напечатанные типографским шрифтом цифры со скоростью 120 цифр в минуту. Она предназначена для ввода данных в электронные счетные машины и заменяет 145 операторов. Эти операторы обычно готовят перфорированную ленту для вводного устройства. Читающая машина «смотрит» на чеки, накладные, выписки банковских счетов, статистические сводки, таблицы логарифмов или функций — на любой материал, который подлежит обработке, и передает его на вычислительную, либо информационную печатающую машину. Предполагают, что удастся довести скорость чтения до 500–600 знаков в секунду. «Читающая» машина в соединении с «говорящей» — настоящее благодеяние для слепых. Теперь представьте агрегат, в котором объединены читающая, считающая и говорящая машины. Он позволит получать готовые результаты подсчетов практически почти одновременно с передачей исходных данных в машину! А если вместо вычислительной машины установить переводческую, можно услышать перевод текста в тот же миг, как будет раскрыта книга! Я далеко не все рассказал об «умных» машинах, но читатель уже видит, что диапазон их применения очень велик и дела их поистине грандиозны.Е. Пермяков Крокодилы Янцзы
Очерк

Однажды археологи нашли в Индии окаменевший скелет длиной двадцать метров. Это был ископаемый крокодил, появившийся на Земле два с половиной миллиона лет назад. В ту пору крокодилы расселились по всей Земле. Теперь они живут в тропических и субтропических странах — в реках, озерах, у морских побережий. Их особенно много в водах Инда, Амазонки, Ганга, Миссисипи, в реках Бирмы, у морского побережья Австралии. Крокодил вылупляется из небольшого яйца и живет больше сотни лет. Крошечный детеныш вырастает в крупнейшее животное длиной от двух до десяти метров. Есть крокодилы и в Китае на Янцзы — Длинной реке, как называют ее сами китайцы. Мы садимся в джонку, широкую туфлеобразную лодку, и направляемся к островам Чан Иньша на Янцзы, где больше всего крокодилов. Палящее солнце стоит над головой, парус джонки чуть трепещет. Наш проводник — сорокалетний рыбак Муган; в переводе его имя означает «Мирная Сталь». Он уроженец Янцзы и знает родную реку, как хороший боцман свою гавань. С восхищением смотрим мы на быстрые воды Янцзы, протянувшейся на пять тысяч триста километров! Длина реки равняется примерно расстоянию от Сталинграда до Хабаровска. Вытекает она с заоблачных гор Тибета и несет свои мутно-кофейные воды в Тихий океан. Местами Янцзы растекается в ширину на десять километров, устье же ее похоже на Желтое море. Ни на одной реке мира нет такого оживления, такого огромного числа самых различных судов, как на Янцзы. Здесь и современные теплоходы, и бесконечная вереница парусных лодок. Густым роем идут друг за другом джонки — узкие и широкие, большие и малые, крутобортые, как яичная скорлупа, и низкие, словно квадратные башмаки. Джонки идут на баграх, парусах, моторах и лямках. Каких только парусов здесь нет! Ромбом, пирамидой, квадратом, высоким развернутым свитком. Есть паруса, сшитые из брезента, из распоротых мешков, из плетеных циновок. Крепкие загорелые люди на джонках широкими жестами приглашают нас к себе в гости. Мимо прошли массивные черно-красные пароходы. Раньше эти грузовые суда втридорога покупались за границей. Сейчас их строят сами китайцы. Пока наша мелкосидящая джонка приближается к левому берегу, где больше крокодилов, нам вспоминается вчерашнее посещение китайской аптеки. В «Зале Поднебесной» было торжественно и тихо. Аптекари в тяжелых серых халатах сидели па узких лакированных скамейках. На стене среди выставленных для обозрения ящериц, змей и скорпионов нам прежде всего бросился в глаза темно-коричневый сушеный крокодил, почти в человеческий рост. Медицина Китая весьма ценит крокодила, называя его специальным термином: «гуйто». Лекарство из гуйто спасает от укусов комаров и ос, лечит кости, желудок, приносит долголетие. О крокодилах сложено немало легенд. В них говорится, что крокодилы — это помесь дракона и черепахи, что они дышат ушами, летают по воде, оставляя за собой пар и огонь… Плывем вниз по реке. Плещется вода о тупой нос джонки. По берегу нескончаемой цепью тянутся селения, рисовые поля, рыбачьи поселки с развешанными для просушки черными сетями на бамбуковых шестах. Постепенно населенные пункты исчезают, уступая берега тростникам, серо-зеленым, покрытым жаркой солнечной пылью. Начинаются камышовые болота. В войну с Японией в них прятались партизаны, совершая отсюда набеги на японских оккупантов. Осторожно подходим к камышам. У самого берега пересаживаемся в сампан — узкую, длинную лодку. Надеваем для маскировки зеленые плащи из травы и большие тростниковые шляпы. В камышах таятся аллигаторы. Тут они охотятся, выводят свое многочисленное потомство. Настороженно смотрим вокруг: не блестят ли где глаза притаившегося хищника? Но все тихо. Лишь изредка выскакивают мелкие рыбки да, шурша крыльями, стремительно проносятся ярко-голубые стрекозы. Нестерпимо печет солнце. Опускаем руку в горячую, как чай, воду. Когда рука высыхает, на ней остается пленка стягивающего ила. Двигаемся дальше. В знойной полуденной дреме чуть слышно шуршат редкие бледно-зеленые тростники. Бесчисленные протоки, рукава, озера и мели из вязкого темно-желтого ила встречаются нам на Янцзы. В несметном количестве кишит здесь рыба, буро-зеленые волосатые крабы, юркие черные угри. «В опасных протоках, — как пишут древние книги Танской династии, — живет рыба крокодил». Под огненными лучами солнца сампан лавирует среди наносных отмелей. Скрипят шершавые листья камыша. В воду ныряют зеленые блестящие лягушки. Вдруг Муган подает сигнал остановки. Все замираем. — Каньба, смотри! — шепчет Муган. — Хайэ — крокодил! Сквозь листья тростника, в пятидесяти метрах от нас, видим группу аллигаторов. Хайэ правильнее называть аллигатором. Зубов у него больше, чем у крокодила, есть и другие особенности. В бинокль видим, как хайэ крепко спят, положив друг на друга хищные морды и закрыв мутно-белой пленкой выпуклые, похожие на ложки глаза. Веретенообразные тела аллигаторов тускло поблескивают буро-зеленым окостеневшим панцирем. Стараясь не шуметь, подходим к аллигаторам с подветренной стороны. Крокодилы очень чутки. Со всевозможными осторожностями приближаемся к ним на тридцать метров. Двухметровые панцирные ящерицы, подмяв под себя камыши, дремлют на небольшом наносном холме. Светлое брюхо хайэ расплющено наподобие резинового мешка — грелки. Ладони лап, напоминающих узловатую человеческую руку, вывернуты наружу. На задних ногах видна плавательная перепонка. Недвижно лежит грозное оружие нападения — длинный костистый хвост. — Хайэ в восемь футов на Янцзы редкость, — шепчет Муган, показывая на самого большого аллигатора. — Весит он дин триста. — Сколько ему может быть лет? Муган внимательно пересчитывает ряды острых гребней на спине аллигатора и, прикинув что-то в уме, отвечает: — Около девяноста. Еще осторожнее продвигаемся вперед. Слышно, как сопят аллигаторы, тяжело вздыхая брюхом. Разглядываем возле пасти животных набухшие черно-серые пиявки. Верхняя челюсть хайэ, от шишковатых ноздрей до выпуклых глаз, сильно вогнута вниз. На серо-зеленой спине большие, светлые пятна. Щелкаем фотоаппаратом. Девяностолетний крокодил приоткрывает глаза. В нас вперяется острый взгляд змеиных вертикальных зрачков. Ярко блестят зеленые, похожие на свечи хищные глаза. Аллигатор громко зевает, обнажая множество крупных желтоватых зубов. У аллигатора около восьмидесяти зубов, причем на месте любого выпавшего или сломавшегося вырастает новый. Еще раз взглянув в нашу сторону, аллигатор, неуклюже перебирая лапами, поворачивается к нам боком. Остальные хайэ продолжают безмятежно спать, положившись на зрение и слух своего вожака. Делаем зарисовки с крокодилов. Шея хайэ значительно светлее тела и очень морщиниста. Она словно перетянута множеством складок, похожих на пятнистые кожаные ленты. Хотим подойти к аллигаторам ближе, но Муган предостерегает нас: — Осторожно! Хайэ могут опрокинуть сампан. Когда эскиз спящих крокодилов был сделан, мы решили проверить остроту слуха хайэ. Муган легонько щелкнул языком — и тотчас же девяностолетний сторож открыл оба зеленых глаза. Рыбак щелкнул чуть громче — на этот раз глаза открыли остальные животные. Еще один звук — и тяжелые, будто лакированные ящерицы, грузно переваливаясь в иле, подобрались к воде и бесследно исчезли в мутно-желтом болоте. У хайэ крошечное сердце, но необъятные легкие. Они плавают быстро и бесшумно, работая лапами и могучим хвостом. Хайэ могут долго находиться под водой, выставляя наружу только глаза и шишковатые ноздри, которые в случае необходимости могут закрываться, как губы. Аллигаторы питаются рыбой, охотясь за ней по ночам. Ночью же можно услышать уханье крокодилов. Жители Янцзы утверждают, что о предстоящем дожде они узнают по особому стонущему крику «у-у», который хайэ издают в пасмурную погоду. Это преддождевое уханье называют в Китае «томин» — крокодилово пение. Днем прожорливые хайэ ловят неосторожных болотных птиц и доверчивых лягушек. В голодную пору они приближаются к людским селениям, подкарауливают у воды поросят, собак и наносят им молниеносный удар своим тяжелым, сильным хвостом. Затем они хватают жертву зубами и тащат ее в воду. Муган рассказал, что в глубоких протоках и тихих безлюдных заводях, которых на Янцзы великое множество, аллигаторы являются бичом рыбаков. Они похищают бамбуковые вентери, полные рыбы, и пожирают ее прямо с корзиной. Не гнушаются хайэ и мертвечины, плавающей по громадной реке. В желудке крокодилов можно найти песок и речную гальку. Кстати, камни, побывавшие в желудке крокодила, ценятся высоко и используются для разных изделий. На них даже гравируют стихи и изречения. Аллигаторы ненавистны владельцам плавучих птицеферм: хайэ уносят порой до десяти уток, спущенных на воду. Известны случаи, когда голодные хайэ нападали на детей. Однако в обычных условиях аллигатор не трогает человека. Слушая рассказ рыбака, мы смотрели на расходящиеся по застойной воде зыбкие круги — след исчезающих хайэ. Затем, повернув легкий сампан, направились в рыбачий поселок «Трех тополей». Там Муган обещал показать нам прирученных крокодилов. Вскоре мы вышли на широкие воды Янцзы. Все так же проплывали караваны джонок, стучали колеса пароходов. А Муган по-прежнему неторопливо рассказывал нам о крокодилах. …Как выводят крокодилы потомство? Летом, в период малых дождей, самки хайэ отползают от берега в глухие, хорошо прогретые солнцем места. Зубами натаскивают они в свои гнезда морскую траву, тростник, сухие листья. Затем в течение нескольких дней самки откладывают десятки белых, шероховатых яиц. — Уронишь на землю такое яйцо, размером с гусиное, — пояснял Муган, — а оно не разобьется. Чем крупнее самка, тем большее число яиц она сносит. Затем хайэ лапами засыпает гнездо и караулит его. Во время ожидания потомства хайэ очень опасны. Охраняя гнездо, аллигаторы могут напасть на человека и перегрызть ему ноги. Через шесть — семь недель из яиц выходят юркие светло-бурые крокодильчата, покрытые темными пятнами. Длиной они не больше пяти — шести дюймов. Едва вылупившись из яйца, они уже быстро бегают, энергично тычась носами во все стороны. Крокодильчата охотно идут в воду и плавают здесь дружной быстрой стайкой. Мать держит свое потомство в горячих лужах и тихих протоках. Здесь резвятся стаи серебристо-голубых рыбок, нередки и скользкие угри — любимое лакомство крошечных аллигаторов. Крокодильчата в поисках их изрывают носами горячий ил бесчисленного множества луж. Мать неусыпно наблюдает за своим выводком, не подпуская к глубоким местам, оберегая от бакланов, ворон и особенно от крокодилов-самцов. …Сампан продолжает идти вдоль берега. Уже кончились тростниковые чащи, чуть приподнялся берег, оживилось движение. Люди тащат корзины, толкают тачки с квадратными парусами, несут на коромыслах товары. Вдали зеленеют холмы, блестят рисовые поля. Кое-где виднеются темно-зеленые рощи — фамильные кладбища — с вековыми деревьями. В поселке «Трех тополей» Муган провел нас к глиняному дому своего друга, тоже рыбака. Здесь, на дворе, на жгучем солнцепеке по-кошачьи нежился двухметровый гребнистый хайэ. Его зеленые глаза воровато бегали по сторонам, следя за прогуливающимися по двору курами. Муган сказал, что крокодил ручной. Мы осторожно толкнули его бамбуковой палкой. Животное не шевельнулось. Осмелев, мы постучали по его спине., твердой, как доска. Аллигатор по-прежнему не обратил на нас ни малейшего внимания. Хозяин объяснил, что хайэ человека не трогает, но, если на него нападают бродячие псы, он бьет их своим страшным хвостом. Во дворе находился еще один крокодил, только что вылезший из Янцзы. От него тянулась веревка с привязанными к ней пустыми тыквами-горлянками, похожими на большие гантели. — Чтобы не потерять своих любимцев, — пояснил Муган, — дети надевают на них ошейники-поплавки и по ним всегда находят хайэ в воде. На шее мокрого аллигатора доверчиво улегся небольшой щенок. Было жарко, и ему нравилась влажная, холодная спина крокодила. Щенок и не подозревал, что в это время с больших, острых зубов крокодила обильно стекала прозрачная слюна. — Крокодилу, который греется на солнце, около пятидесяти лет, — сообщил нам хозяин. — Его приручил еще мой отец. Зовут крокодила Сяо Бар — Маленькая Кукуруза. Рыбак вынес из дома корзину с объедками и стал зычно кричать: — Пар, пар, пар! Тотчас же крокодилы, широко раскрыв пасть, кинулись к нему. Уснувший было щенок свалился со спины хайэ и жалобно завизжал. Мы стали бросать аллигатору стержни початков кукурузы, хвосты и головы рыбы. Пища исчезала в ненасытной зубастой пасти, словно в бездонной мясорубке. Когда «обед» был закончен, хозяин стал почесывать крокодилу бока тонкой бамбуковой палкой. Аллигатор с довольным сопением перевернулся на спину, обнажив салатно-желтый, по-змеиному пятнистый живот. После этого рыбак поднял крокодила на руки, и тот, довольный, вытянул свою морду. Длинный хвост хайэ упал до земли. Поглаживая голову крокодила, рыбак сказал, что ночью он отпускает в воду Маленькую Кукурузу и Котенка — так звали второго аллигатора, поменьше. В водах Янцзы они ловят себе пищу. На обратном пути в той же деревне мы увидели совсем юных крокодилов. Один из них был прикован цепью к столбу; другой лежал на песке. Когда мы вновь уселись в сампан, Муган рассказал, что поздней осенью, в период дождей, крокодилы становятся вялыми, апатичными и, прячась от холода, зарываются в ил и в береговые наносы. На зиму для крокодилов вырывают глубокую яму и застилают ее соломой. Здесь, прикрытые травой, песком и золой, в течение нескольких месяцев — до самой поздней весны — крокодилы спят, не принимая пищи. За время спячки они сильно теряют в весе. Это хорошо знают аптекари, и китайская фармакопея ценит осенних аллигаторов, бракуя весенних. Дрессировщики животных ловят крокодилов, обучают их различным трюкам, затем показывают на ярмарках юга. — Однако, — добавил Муган, — у хайэ мозги тяжелые, дрессировать их трудно. В Шанхайском музее, под ярко блестевшим футляром, мы увидели чучело аллигатора, пойманного на Янцзы, у Чунмина. Много слышали мы о хайэ и в больших городах. Аллигаторов используют полностью — от мяса до костей, от больших тяжелых зубов до спинной брони. На желтых зубах искусные мастера гравируют стихи и поэмы. Кожа хайэ идет на сбрую, ремни, портфели. В Ханькоу седой китайский библиотекарь неторопливо открыл нам старинную «Книгу песен» — сокровищницу мыслей и чувств, созданную в Китае еще три тысячи лет назад. Любовно перелистывая мягко шуршащие страницы, библиотекарь прочитал нам строфу «Барабан из кожи крокодила рассыпался гармоничной дробью». Древний стих «Книги песен» — свидетельство тому, что еще тысячелетия до нас китайцы вырабатывали из крокодиловой кожи и кости различные предметы. У любителей старины мы встречали трости с набалдашниками из крокодиловой кожи, шахматные доски, покрытые кожей аллигаторов. По народному поверью, сундуки, обтянутые шкурой крокодила, не тонут в воде. Мясо аллигаторов идет в пищу. Оно имеет вкус черепахового, но жестковато и отличается специфическим запахом. Жареные крокодильчата — дорогое лакомство. Их подают на банкетах приправленными острыми специями и нежными светло-зелеными ростками бамбука. В антикварных лавках по Янцзы мы видели многоцветные маски героев китайского классического театра, сделанные из крокодиловых яиц. Для этого яйца варят вкрутую и обрабатывают химическим раствором. Затем к скорлупе приделывают черные шелковые парики и разрисовывают их под полосатые маски героев древних классических драм… В багровых лучах заката темнеют тростники — говорливые стражи Длинной реки. Нам даже слышится, как они ведут бесконечную свою шуршащую беседу. Сплошным величественным потоком идут тысячи джонок, лодок, сампанов. Доносятся мелодичные тихие песни. Быстро темнеет. Зажигаются тусклые огоньки, и вот река уже сплошь усеяна несчетным количеством ламп-светильников, отражающихся в черном зеркале полноводного Чанцзяна. Мы снова плывем по необозримой, быстротекущей Янцзы.
Феликс Зигель Пункт назначения Луна
Научно-популярный очерк
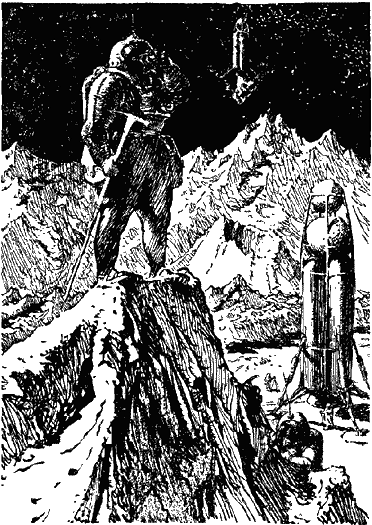
Человек шагнул в Космос. Созданные им искусственные спутники Земли с успехом выполняют роль разведчиков ее окрестностей. Вокруг Солнца совершает свой стремительный полет первая искусственная планета, созданная трудом советских людей. Земля в будущем утратит роль единственной обители человека. Преодолев в наши дни границы атмосферы, человечество, по словам К. Э. Циолковского, завоюет со временем «все околосолнечное пространство». И первым небесным телом, которого достигнет человек, будет Луна. Штурм Луны, по существу, начался уже с запуска первого искусственного спутника Земли. Пройдут годы, и полеты на Луну станут почти таким же обычным делом, как ныне полеты на самолетах. Луна будет освоена человеком. Как же это произойдет?
ЗАГАДКИ ЛУННОГО МИРА
384 000 километров, отделяющие нас от Луны, — расстояние по астрономическим масштабам совсем небольшое. Но оно вполне достаточно, для того чтобы сегодня еще многие тайны лунного мира оставались неразгаданными. Возможно, некоторые из них смогут быть окончательно раскрыты лишь тогда, когда на поверхность Луны впервые ступит нога человека. Лунный шар в 49 раз по объему и в 81 раз по массе меньше земного. И все же масса Луны настолько велика, что теоретически Луна могла бы удержать вокруг себя некоторую, правда очень разреженную, атмосферу. К сожалению, прямых доказательств существования такой атмосферы пока не получено. Делались неоднократные попытки обнаружить действие предполагаемой лунной атмосферы на солнечные лучи. Луч солнца, до того как он попадет в лунную атмосферу, является, как говорят физики, естественным. Пройдя же сквозь атмосферу, солнечный свет должен претерпеть некоторые изменения. Световые колебания в атмосфере будут совершаться в определенной плоскости, тогда как в естественном луче они происходят во всевозможных направлениях. Такие изменения солнечного света называются его поляризацией. С помощью весьма чувствительных оптических приборов — поляриметров — явление поляризации света можно обнаружить. Чем плотнее, гуще атмосфера планеты, тем более сильную поляризацию света она производит. Однако все попытки обнаружить поляризацию света, вызванную лунной атмосферой, кончались неудачей. Учитывая чувствительность поляриметров, можно утверждать, как это следует из последних работ французского астронома Дольфуса, что плотность лунной атмосферы по крайней мере в миллиард раз меньше максимальной плотности атмосферы Земли. Таким образом, Луна, практически говоря, лишена атмосферы. Это приводит к тому, что за долгий лунный день, продолжающийся почти две земные недели, поверхность Луны нагревается до температуры +120°. Зато ночью на Луне господствует холод в –150°. Отсутствие атмосферы помогает понять многие особенности лунного мира, в частности своеобразие лунного рельефа. Вам, конечно, хорошо знакомы фотографии поверхности Луны, встречающиеся почти во всех популярных книжках по астрономии. Десятки тысяч странных кольцеобразных гор, называемых кратерами, составляют главную особенность лунного рельефа. На их фоне несколько теряются обширные горные цепи, вершины которых превосходят порой высочайшие из земных гор. Откуда взялось это множество кратеров, совсем не похожих на земные вулканы с узким и глубоким жерлом? Одно время была популярна метеоритная гипотеза их происхождения. Полагали, что в отдаленном прошлом на поверхность нашего спутника выпал рой исполинских метеоритов. Врезаясь с огромной скоростью в лунную поверхность, небесные камни взрывались, образуя нечто, напоминающее колоссальные воронки от артиллерийских снарядов. Считалось, что следы этой невиданной по своим масштабам космической бомбардировки сохранились до наших дней в виде многочисленных лунных «шрамов». Ныне метеоритная гипотеза представляется малоубедительной. Откуда, например, взялся рой метеоритов, искалечивших Луну? Почему, обрушившись на Луну, метеориты совершенно не задели Землю? К тому же исторический опыт человечества свидетельствует, что падение на Землю (а значит, и на Луну) исполинских метеоритов — событие исключительно редкое, происходящее в среднем не чаще, чем раз в тысячелетие. И, наконец, самое главное — строение и размеры лунных кратеров при углубленном исследовании оказываются совсем не похожими на воронки, возникающие при падении метеоритов. Разгадку лунного рельефа следует искать в другом. Скорее всего, на Луне в прошлом существовала бурная вулканическая деятельность. Из недр нашего спутника извергалась раскаленная лава; разливаясь по поверхности, она застывала в виде кольцевых гор. На Луне происходили лунотрясения. Тектонические движения лунной коры не один раз в истории Луны разрушали, казалось бы, уже навеки сложившийся рельеф. Но этим разрушительным действиям противостояли силы вулканизма, и на смену разрушенным горным цепям и кратерам возникали новые подобные им образования. Давно уже закончился на Луне бурный период ее молодости. В наши дни она выглядит уснувшим, почти мертвым миром. Но следы прошлого сохранились. Тщательно анализируя лунный рельеф, советский исследователь А. В. Хабаков нашел, что Луна пережила по крайней мере пять периодов вулканизма, сформировавших ее теперешнюю поверхность. Вулканическая гипотеза происхождения лунного рельефа имеет прочные фактические основания. Она способна, правда пока еще в очень общих чертах, воссоздать в нашем сознании историю Луны. Впрочем, некоторые из лунных форм до сих пор остаются загадочными. Если вам приходилось наблюдать в бинокль полную Луну, вы, наверное, заметили, что на Луне виднеются светлые полосы, расходящиеся почти радиально от некоторого центра в верхней части лунного диска. При наблюдениях в телескоп этот центр оказывается крупным лунным кратером Тихо, с поперечником около 80 километров. Светлые лучи тянутся на сотни и даже тысячи километров от Тихо в разные стороны. Они пересекают мощные горные цепи и многочисленные лунные кратеры, не изменяя своего направления. Загадочные светлые лучи как бы не замечают неровностей лунной поверхности. Любопытно, что начинаются они не от стен кратера Тихо, а отступя от него примерно на 60 километров. Ближе к кратеру видна темная зона, кольцом охватывающая кратер. Что же представляют собой странные светлые лучи? Их радиальное расположение позволяет думать, что перед нами нечто вроде вулканического пепла, выброшенного с огромной силой из недр Луны при образовании кратера Тихо. Однако, как предполагает харьковский астроном профессор Н. П. Барабашов, загадочные лучи, оказывается, рассеивают солнечный свет, а следовательно, состоять из раздробленного вещества они никак не могут. Если бы лучи являлись возвышениями над лунной поверхностью, чем-то вроде насыпей, они давали бы тень. Но теней таких никто никогда не видел даже при наблюдениях Луны в крупнейшие из современных телескопов. Недавно была выдвинута еще одна гипотеза, предполагающая, что светлые лучи являются трещинами в лунной коре, заполненными пористой, сравнительно хорошо рассеивающей солнечный свет лавой. Трудно, однако, представить себе трещины шириной во много километров и длиной в тысячи километров. Непонятно также, почему на Луне столь мощно выразился ее вулканизм, тогда как на гораздо более крупной Земле ничего подобного не наблюдалось. Светлые лучи обнаружены не только у кратера Тихо, но и у некоторых других лунных кратеров. Иногда они сливаются в сплошное сияние, окаймляющее кратер. В других случаях светлый придаток тянется от кратеров только в одну сторону и напоминает кометный хвост. Тайна светлых лучей сегодня еще далека от своего разрешения. Другим, не менее загадочным образованием лунного рельефа являются так называемые кратеры-призраки. На ровном сером фоне лунной поверхности кратер-призрак выглядит бледным кольцом, внешне напоминающим вал обычного кратера. Кажется, будто такой кратер просвечивает сквозь лунную поверхность. Но может ли это быть? Может ли сквозь твердую поверхность огромных темных лунных впадин, условно называемых «морями», что-либо просвечивать, даже если это «нечто» погружено в «море» на несколько метров? Во многих районах Луны выделяются странные, до сих пор не разгаданные образования, называемые бороздами. Внешне они напоминают русла бывших рек. При ширине в несколько километров длина этих борозд достигает десятков километров. Но о каких лунных реках может идти речь, если на Луне никогда не было сколь-либо плотной атмосферы? Луну часто называют мертвым миром. Это не совсем верно. Только при поверхностном изучении Луны создается впечатление о ее полной неизменности. На самом деле в этом, казалось бы, совершенно застывшем мире происходят изменения, причины которых еще далеко не ясны. Вот уже более трех столетий лунный кратер Линней, расположенный в лунном Море Ясности, задает наблюдателям спутника Земли удивительные загадки. В 1645 году астроном Гевелий видел этот кратер вполне отчетливо. Кратер казался ему крупным и глубоким. А через несколько лет на месте кратера Линней появилось какое-то белое пятно, которое и изображалось на лунных картах в течение почти полутора столетий. В 1824 году кратер Линней снова появился. Во всяком случае, в этом году его снова заметили и потом в течение десятилетий изображали большим и глубоким. В 1866 году астроном Шмидт тщетно пытался разыскать кратер Линней в том районе, где он должен был находиться. Кратер поперечником 11 километров и глубиной до 300 метров исчез! В настоящее время на месте бывшего кратера Линней вновь появилось белое пятно переменной величины и очертаний и небольшая горка с узким глубоким жерлом. Приключения, происходящие с кратером Линней, не единственные в своем роде. Почти так же исчезал и снова появлялся кратер Таке, причем после исчезновения кратера наблюдалось тоже какое-то белое пятно. На фотоснимках Луны, сделанных в конце прошлого века и хранящихся в Парижской обсерватории, отлично виден кратер Альхазен поперечником 30 километров. В настоящее время кратер бесследно исчез. В 1950 году английский астроном Мур заметил внутри лунного кратера Мессье блестящее белое облако, впоследствии рассеявшееся. Годом раньше облако наблюдалось в лунной долине Геродота. В конце 1958 года советский астроном Н. А. Козырев наблюдал извержение лунного вулкана, расположенного в центре кратера Альфонс. Остатки когда-то мощных внутренних сил, по-видимому, еще производят изменения лунной поверхности. На дне некоторых огромных кратеров — Эратосфена, Платона и других — уже много лет наблюдаются странные темные пятна зеленоватого оттенка. В течение лунного дня эти пятна перемещаются по дну кратеров, изменяясь несколько и в окраске. В 1949 году уже упомянутый нами астроном Мур открыл около двух десятков лунных кратеров, на дне которых наблюдаются слабые темные радиальные полосы. Они периодически то укорачиваются, то вытягиваются, переходя даже за границу вала кратеров. Мур полагает, что некоторые из этих загадочных пятен являются своеобразной лунной растительностью, разумеется очень примитивной и неприхотливой. Границы распространенности жизни во Вселенной никем еще не установлены. Ведь жизнь необычайно многообразна и обладает удивительной приспосабливаемостью к самым суровым условиям. Можно ли утверждать, что существование органического мира на Луне абсолютно исключено? Если мы еще так плохо знаем природу той половины Луны, которая постоянно обращена к земному наблюдателю, то что же можно сказать о невидимом полушарии? Там, за краем лунного лимба, лежат неведомые лунные страны. Вряд ли рельеф невидимой части Луны сильно отличается от того, что мы видим. Но все же будущие путешественники по лунной поверхности, перейдя в область невидимого, станут первооткрывателями неизвестных доселе лунных «морей» и «океанов», горных цепей и многочисленных кратеров. Лунный мир полон нераскрытых тайн.ПЕРВЫЕ РАЗВЕДКИ ЛУНЫ
Чтобы высадиться на поверхность Луны, необходимо преодолеть 384 403 километра, отделяющих нас от спутника. Само по себе это расстояние не так уж велико — оно всего в 9,5 раза больше протяженности земного экватора. Многие летчики гражданской авиации налетали гораздо больший километраж. Трудности заключаются в том, что Землю и Луну разделяет бездна безвоздушного мирового пространства. Кроме того, для достижения Луны необходимо развить очень большую скорость, не меньшую 11,2 километра в секунду, то есть около 40 000 километров в час. Первое препятствие вполне преодолимо. Двигатель для полетов в безвоздушном мировом пространстве давно уже найден. На небесные тела и, в частности, на Луну нас перебросит ракета. Двигаясь за счет только внутренних сил, ракета не нуждается при своем полете в какой-нибудь внешней опоре. Если бы между Землей и Луной существовала разреженная среда типа воздуха, то, сопротивляясь продвижению ракеты, эта среда только мешала бы полету. Со вторым препятствием дело обстоит сложнее. Человеку, не осведомленному в вопросах астронавтики, может показаться непонятным, почему на Луну надо лететь непременно с очень большой скоростью. Нельзя ли совершить путешествие на соседнее небесное тело, как говорят железнодорожники, «малой скоростью»? Давайте разберемся, в чем тут дело. Представьте себе самолет, летящий в земной атмосфере. Работа, которую совершает его двигатель, идет на преодоление двух сил: притяжения Земли и сопротивления воздуха. Если двигатель остановится, самолет, пропланировав какое-то время в атмосфере, опустится на земную поверхность. Иначе ведут себя искусственные спутники Земли. Выведенные в безвоздушное пространство за границы атмосферы, они обращаются вокруг Земли без помощи двигателя, исключительно за счет силы собственного веса, или, иначе говоря, силы притяжения Земли. При горизонтальной скорости около 8 километров в секунду вес тела становится равным центростремительной силе, заставляющей тело обращаться вокруг Земли по круговой орбите, близкой к ее поверхности. Тяготение Земли в данном случае не только не мешает полету, но, наоборот, управляет им. Если орбита спутника целиком находится за границами земной атмосферы, то его полет вокруг Земли может продолжаться неограниченно долгое время. В будущем, вероятно, будут созданы самолеты, совершающие беспосадочные полеты вокруг земного шара. Но, двигаясь в атмосфере и обладая скоростью, меньшей 8 километров в секунду, они не смогут соперничать в количестве оборотов вокруг земного шара с искусственными спутниками Земли. Ведь двигатели их должны непрерывно работать, растрачивая горючее, и без регулярной заправки «на ходу» такие самолеты смогут облететь Землю весьма ограниченное количество раз. Теперь должно быть понятным, почему полет на Луну с малой скоростью практически пока невозможен. Ведь при малой скорости (точнее говоря, при скорости, меньшей 11,2 километра в секунду) двигатели космического корабля, борясь с земным тяготением, должны работать непрерывно. Только влетев в ту область пространства, где притяжение Луны будет преобладать над земным тяготением, можно, выключив двигатель, свободно падать на Луну. До этого момента борьба с земным тяготением совершенно необходима, и на эту борьбу пойдет так много горючего, что захватить его с собой в космический корабль, работающий на обычном химическом топливе, не представляется возможным. Рассчитывать же на дозаправку в пути не приходится. В будущем, когда человек создаст мощные атомные ракеты, ограничения в скорости и в направлении полетов будут сняты. Тогда станут возможны полеты в любом направлении и с любой, даже очень малой скоростью. А пока, как это ни парадоксально, поездки на Луну в космических экспрессах будут обходиться дешевле, чем преодоление того же пути малой скоростью. Все дело заключается в том, чтобы тяготение Земли превратить из врага в друга и попытаться использовать его при полете на Луну. Это вполне возможно. В популярных книгах и статьях о межпланетных путешествиях часто пишут, что для достижения других небесных тел надо якобы преодолеть притяжение Земли. Далее утверждается, что полная победа над земным тяготением одерживается в том случае, когда тело приобретает скорость в 11,2 километра в секунду. «Преодолев» подобным образом земное притяжение и «освободившись» от него, космический корабль, как уверяют такие статьи, устремляется в глубины мироздания. Все это, конечно, не просто неудачные выражения, а грубые ошибки. «Преодолеть» земное тяготение невозможно, какой бы скорости космический корабль ни достиг. Силу притяжения нельзя побить скоростью. Где бы ни находился космический корабль и как бы он ни двигался, Земля всюду и всегда будет притягивать его с той силой, которая может быть найдена по закону всемирного тяготения. Секрет здесь в другом. Развив скорость в 11,2 километра в секунду, космический корабль улетает от Земли по параболе, которая, в отличие от эллипса, уходит в бесконечность. При этом наш корабль вовсе не освобождается от притяжения Земли. Наоборот, именно земное тяготение заставляет его лететь по параболе, как вес искусственных спутников заставляет их обращаться вокруг Земли по эллипсам, а вес сорвавшегося с дерева яблока направляет его падение по прямой к центру Земли. Во всех трех случаях движением тел по разным кривым управляет одна и та же сила — сила земного притяжения. Разница же в траекториях возникает в результате того, что тела начинают свое движение с различной скоростью и в разных направлениях. Таким образом, можно выбрать для космического корабля такую скорость и такое направление вылета, при которых он полетит по параболе, неограниченно удаляясь от Земли. Для этого при отсутствии сопротивления воздуха нужна горизонтальная скорость именно в 11,2 километра в секунду. Развив такую скорость, космический корабль может далее лететь с выключенным двигателем, не расходуя ни грамма горючего. Притяжение Земли, как это ни парадоксально, уведет его в «бесконечность» от нашей планеты. То же произойдет и при скоростях, превышающих 11,2 километра в секунду, но только в этом случае полет будет совершаться не по параболе, а по одной из гипербол. Не случайно мы указываем точное значение «скорости отрыва» от Земли — 11,2 километра в секунду. При скорости, даже слегка меньшей (например, 11 километров в секунду), космический корабль останется пленником Земли. Земное тяготение заставит его или упасть на Землю, или (при скоростях больше 7,9 километра в секунду) обращаться вокруг Земли по эллипсу. Теперь уже практический метод достижения Луны становится более ясным. Путешествие разбивается на три этапа. Первый этап — отлет с Земли, который должен быть выполнен в определенном, связанном с расположением Луны направлении со скоростью не меньшей 11,2 километра в секунду. Второй этап — полет к Луне с выключенным двигателем, что составит и по времени и по расстоянию основную часть путешествия. Третий этап — падение на Луну в той области окружающего ее пространства, где притяжение Луны преобладает над тяготением Земли. Не уточняя пока вопросы, связанные с безопасностью посадки на Луну и с возвращением космического корабля обратно на Землю, рассмотрим детали намеченного плана. Осуществление первого этапа вполне реально. Уровень советской реактивной техники столь высок, что сообщение какому-либо небольшому телу скорости в 11–12 километров в секунду вполне возможно, что уже доказано запуском первой советской космической ракеты. Представьте себе, что это уже сделано, что за пределы земной атмосферы с параболической или гиперболической скоростью вырвалось какое-то тело. Как оно будет двигаться дальше? Во Вселенной существует не только Земля и притягиваемый ею космический корабль. Ракета, превратившись в самостоятельное небесное тело, будет, строго говоря, притягиваться не только Землей, а всеми телами Вселенной. Может показаться, что бесчисленное множество сил создаст такой «силовой вихрь», который увлечет космический корабль, как смерч увлекает пылинку! Не затеряется ли наш корабль в бездонных глубинах Космоса, вместо того чтобы попасть на Луну? К счастью, этого не произойдет. Мы ведь не учли одного важного обстоятельства — величину сил. Силы тяготения с увеличением расстояния между притягивающимися телами очень быстро ослабевают. Поэтому силы, с которыми далекие от Земли звезды, планеты и даже Солнце притягивают корабль или ракету, летящие на Луну, так малы, что ими вполне можно пренебречь. Мешать полетам на Луну они не будут. Другое дело — Луна. Не принимать в расчет ее воздействие на космический корабль ни в коем случае нельзя. Значит, при полете на Луну ракета будет «управляться» не только Землей, но и Луной. В небесной механике давно уже сформулирована так называемая «ограниченная задача трех тел». Представим себе, что в мировом пространстве имеются три притягивающих друг друга тела, из которых одно обладает ничтожно малой массой в сравнении с массами двух других тел. Задача заключается в том, чтобы найти кривые, по которым будут двигаться все три тела. Неспециалистам трудно себе представить, насколько сложна эта задача. В течение многих десятилетий она исследовалась крупнейшими математиками, но до последнего времени удавалось получить лишь небольшое число ее частных решений. С изобретением электронно-счетных машин положение изменилось. Значительно облегчая утомительный труд вычислителя, машины позволяют быстро решать сложнейшие задачи, в том числе и «ограниченную задачу трех тел». Итак, даны три тела: Земля, Луна и ракета. Масса последней ничтожно мала в сравнении с массами Земли и Луны. Известно, как движется Луна относительно Земли. Считая известными скорость и направление вылета ракеты с Земли, надо найти, как будет совершаться полет ракеты к Луне. Такая задача впервые и с достаточной полнотой была решена в Математическом институте Академии наук СССР советским ученым В. А. Егоровым. В течение двух лет (1953–1955) электронные машины, управляемые человеком, прокладывали возможные пути к Луне. С удивительной легкостью находили они множество решений, из которых затем можно было выбрать самые удобные и практически осуществимые. И вот главнейшие результаты проделанной В. А. Егоровым работы. В пространстве, разделяющем Землю и Луну, возможные пути свободного (то есть без работы двигателя) движения весьма разнообразны. Их можно разделить на несколько групп: в каждой будут объединены сходные траектории. Рассмотрим прежде всего облетные траектории. Двигаясь по ним, ракета совершает облет Луны, не снижаясь на ее поверхность. Вероятно, что первые разведки нашего спутника начнутся именно с таких облетов. Среди возможных облетных траекторий есть и такие, которые охватывают собой и Луну и Землю. Запущенная по такой траектории ракета превратилась бы одновременно в искусственный спутник Земли и Луны. Было бы, конечно, очень хорошо, если такой спутник «общего пользования» подходил близко к поверхности Земли и Луны. Однако это, как доказал В. А. Егоров, невозможно. Если облетная траектория подходит близко к поверхности Луны, то от Земли она будет отстоять на минимальном расстоянии в 100000 километров! О запуске ракеты с такой высоты пока не может быть и речи. Значит, создать спутник, который бы периодически облетал Землю и Луну, давая с помощью радио и телевизионного устройства информацию о виде Луны с близкого расстояния, нельзя. Другой вариант разведывательного облета Луны был разработан ленинградским астрономом профессором Г. А. Чеботаревым. Рассчитанная им орбита охватывает только Луну, но двумя своими нижними концами как бы упирается в Землю. Это означает, что ракета, запущенная с Земли по данной траектории, облетит вокруг Луны и, подобно бумерангу, вернется в исходную точку. Всего 30000 километров будут отделять ракету от Луны в момент наибольшего сближения этих тел. Пять суток потребуется, чтобы долететь до нашего спутника, около двух суток ракета будет находиться вблизи лунной поверхности, а затем через пять суток возвратится на Землю. Проект профессора Г. А. Чеботарева весьма заманчив. Правда, здесь нельзя забывать о необходимости найти способ затормозить ракету при ее падении на Землю. Это можно сделать, например, с помощью реактивного тормоза, то есть дополнительного реактивного двигателя, установленного на ракете. Включаясь в нужный момент по радиокоманде с Земли, тормоз будет выбрасывать газы в направлении полета ракеты и тем самым замедлит ее движение. Когда скорость ракеты снизится, из нее выбросятся контейнеры. Снижаясь на парашютах к поверхности Земли, эти контейнеры доставят в руки исследователя ценнейшие данные первой разведки Луны — фотографии ее невидимого полушария, крупномасштабные снимки поверхности и многое другое. Разведку Луны можно произвести и с помощью траекторий, названных В. А. Егоровым долетными. При всем их разнообразии у них есть общая черта: они начинаются с Земли и возвращаются к Земле, пролетев около Луны на близком расстоянии. Наконец, представляютбольшой интерес траектории попадания в Луну. Это своеобразная «стрельба по Луне». Весь перелет ракеты от Земли до ее спутника, как показал расчет, займет несколько десятков часов. Огромные размеры мишени облегчают попадание в цель. Однако если ставится задача попасть ракетой в определенный участок лунной поверхности, то точность «выстрела» должна резко возрасти. Все сказанное о разных типах траекторий верно, разумеется, только для пассивного, свободного полета, в котором двигатель ракеты не принимает участия. На самом же деле при полетах на Луну и вокруг нее движение ракеты в случае нужды будет исправляться, корректироваться кратковременным включением двигателя. Тогда станет возможным переход с одной траектории на другую, устранение ошибок, допущенных при старте, то есть, короче говоря, активное управление полетом. Управление космической ракетой на первых порах едва ли будет осуществляться находящимся внутри ее человеком. Большую роль в первых разведках Луны сыграют радиотелеуправляемые ракеты. По радиокомандам, подаваемым с Земли, автоматы ракеты включат в нужный момент ее двигатель и откорректируют полет. Технические трудности, связанные с осуществлением подобных проектов, конечно, огромны, хотя и преодолимы. Совсем немного времени отделяет нас от момента, когда начнутся первые разведки Луны. Что будет скорее осуществлено — облет Луны или попадание в нее, — сказать трудно. И то и другое представляет для науки огромный интерес. Облеты вокруг Луны автоматически управляемых ракет раскроют тайны ее невидимой половины. Ракеты-разведчики принесут нам крупномасштабные изображения лунной поверхности. Ведь с ракет можно фотографировать Луну, применяя телеобъективы с очень большим увеличением — в безвоздушном пространстве не может быть атмосферных помех. С помощью телевидения или фотоснимков мы, оставаясь пока в земных лабораториях, увидим такие подробности лунного ландшафта, как если бы наблюдали наш спутник с высоты птичьего полета. Составленные по фотоснимкам подробнейшие карты лунной поверхности помогут наметить маршруты первых лунных экспедиций. Автоматические приборы ракет-разведчиков установят также интенсивность солнечного и космического излучения в окрестностях Луны. Они принесут нам информацию о метеоритной опасности на пути к Луне: чувствительные микрофоны с дополнительным устройством зафиксируют частоту попадания в ракету мелких микрометеоритов. Короче говоря, облетные и долетные ракеты выяснят обстановку на путях к Луне и в ее окрестностях. После этого (или наряду с этим) будут посланы ракеты и по траекториям попадания. Некоторые из них, возможно, начинят каким-нибудь сильно рассеивающим солнечные лучи порошком. При ударе о лунную поверхность ракета взорвется, как метеорит, а разбросанный при этом порошок создаст блестящее пятно, которое можно будет заметить в сильные телескопы. Таким способом удастся не только убедиться в том, что цель достигнута, но и выяснить точность стрельбы. По другим проектам, на Луну посылается ракета с находящейся внутри нее атомной или водородной бомбой. Сильнейший взрыв на Луне ученые смогут не только заметить, но и сфотографировать с помощью спектрографов. Спектр первого атомного взрыва на спутнике Земли позволит узнать химический состав поверхностных лунных пород, которые при взрыве превратятся в ярко светящиеся раскаленные газы. Все это лишь некоторые из возможных вариантов первых разведок Луны. Прежде чем на Луну высадится человек, природа лунного мира должна быть исследована гораздо глубже и полнее, чем она известна теперь.ЛЮДИ НА ЛУНЕ
Звездолет приближается к Луне. В иллюминатор лунная поверхность кажется совсем близкой. Лунный шар непрерывно растет, заслоняя собой всё новые и новые участки неба. Верх и низ, казалось, поменялись местами. При отлете с Земли Луна казалась находящейся где-то наверху. Теперь, вблизи Луны, появилось новое ощущение — ощущение падения вниз. Когда до поверхности Луны осталось несколько сотен километров, свободный полет по одной из траекторий попадания прекратился. Взревели поворотные реактивные двигатели, и ракета повернулась дюзами к Луне. Если бы кто-нибудь в этот момент наблюдал полет звездолета, его глазам предстала бы странная картина: ракета словно стремится улететь с Луны на Землю, в то время как невидимые силы тянут ее вниз к Луне. Секрет маневра, конечно, понятен читателю. Повернувшись дюзами к Луне, звездолет начал торможение, противопоставив при этом тяготению Луны реактивную силу, развиваемую двигателем. Все медленнее и медленнее падает звездолет. Наконец он почти повисает на высоте нескольких десятков метров над лунной поверхностью. Еще секунды, и ракета плавно опускается на Луну, зарываясь в ее поверхность заранее выдвинутыми из корпуса звездолета опорами. Прилунение закончено. Теперь можно отправиться в путешествие по Луне. Возможно, что высадка на Луну первого пассажирского звездолета произойдет несколько иначе. Подлетев к лунной поверхности на несколько десятков километров, космический корабль может, сманеврировав, превратиться временно в искусственный спутник Луны. Не затрачивая ни грамма горючего, ракета сможет неограниченно долго обращаться вокруг Луны, позволив астронавтам не только подробно рассмотреть ее ландшафты, но и выбрать наиболее подходящий район для высадки. На высоте 20 километров искусственный спутник Луны облетал бы ее за 1 час 50 минут. На высоте же 100 километров, где Луна будет притягивать ракету слабее и где скорость полета значительно упадет, период обращения увеличится до двух часов. С высоты 20 километров невооруженный глаз различит на Луне предметы с поперечником в 3–4 метра. Может быть, первый полет пассажирского звездолета к Луне не завершится высадкой на ее поверхность. Превратившись в спутник Луны на несколько дней, а может быть, и недель, астронавты вернутся затем обратно на Землю. Но рано или поздно на поверхность Луны ступит нога человека. С этого момента, собственно, и начнется освоение Луны. Раскройте лунную карту.[135] Попробуем наметить возможные и наиболее интересные для науки маршруты первых лунных экспедиций. Маршрут № 1. Звездолет опускается в северной части (на карте север снизу) обширного лунного Моря Дождей. Этот район удобен для высадки своим равнинным ландшафтом. Кроме того, отсюда близок загадочный кратер Платон, на дне которого происходят странные изменения зеленоватых пятен. Двигаясь по намеченному на лунной карте маршруту, мы огибаем сначала несколько невысоких гор, а затем подходим к самому кратеру. Его диаметр равен 96 километрам, а окаймляющий вал представляет собой зубчатую горную цепь, отдельные вершины которой достигают 2000 метров! Нелегко будет пробраться через этот барьер на плоское дно исполинского кратера. Раскрыв загадку таинственных пятен, экспедиция отправится на запад, вдоль отрогов лунных Альп. Примерно в 150 километрах к западу от кратера Платон находится знаменитая Альпийская долина — огромная лунная борозда, длиной 130 километров и шириной до 10 километров. Исследовав это исключительное образование, происхождение которого остается пока неясным, экспедиция возвратится к исходному пункту, проделав в общей сложности путь около 400–500 километров. Напомним, что путешествовать по Луне гораздо легче, чем по Земле, — ведь сила тяжести там в шесть раз меньше, чем у земной поверхности. Кроме того, даже при первых лунных экспедициях, вероятно, будут использованы небольшие разведывательные ракеты, нечто вроде маленьких реактивных самолетов (конечно, без крыльев). Рассчитанные на два—три человека, они, отличаясь компактными размерами, свободно разместятся внутри звездолета. А можно поступить и еще проще. Уже сейчас разработаны миниатюрные реактивные двигатели в виде пояса. Эти двигатели рассчитаны на одного человека и просты в управлении. Подняв человека в воздух, такой двигатель может переносить его на значительное расстояние. Учитывая, что на Луне даже неспортсмен может прыгнуть в длину на несколько метров, прогулки на сотни километров с помощью индивидуальных реактивных двигателей вполне реальны. Но вернемся к планам первых лунных экспедиций. Вот, например, как может выглядеть маршрут № 2. Ракета опускается в Океан Бурь, точнее — на твердую поверхность этого лунного «океана», в районе кратера Коперник. По диаметру он превосходит даже Платон, а вал Коперника, плотный, ровный и очень высокий, кажется неприступным. Но экспедицию будет интересовать не столько кратер, сколько мощная система загадочных светлых лучей, расходящихся во все стороны от Коперника. Для их исследования кратер Коперник более удобен, чем кратер Тихо, расположенный далеко на юге, в необычайно гористой стране, сплошь усеянной кратерами. Высадка на такое кратерное поле сопряжена, конечно, с огромными трудностями. Вблизи Коперника, к югу и юго-востоку от него, есть несколько небольших кратеров с центральными горками в середине. Выяснить, действительно ли эти горки являются бывшими лунными вулканами, представляет для науки огромный интерес. Куда бы теперь направить маршрут № 3? Ну конечно, в район удивительного кратера Линней, одиноким светлым пятном выделяющегося на сероватом фоне Моря Ясности. Отсюда, раскрыв наконец причины таинственных изменений Линнея, можно перенестись на юго-запад, в район замечательной борозды Гигинуса, на дне которой удается различить до тринадцати мелких кратеров. Для начала этих трех маршрутов вполне достаточно. Они охватывают, пожалуй, наиболее интересные районы доступной нам части лунного диска. Как много открытий сделают те, кто не в воображении, а на самом деле совершит экспедицию хотя бы по одному из намеченных маршрутов! Вступив на поверхность Луны, астронавты исследуют состав и строение лунных пород, измерят температуру лунной поверхности, выяснят действие солнечной и космической радиации. Придется подумать и о том, как защититься не только от вредных для организма излучений, но и от попадания мелких метеоритов. Ведь на Луне, лишенной воздушной брони, обстановка совсем иная, чем на Земле. И крохотные и огромные метеориты беспрепятственно достигают лунной поверхности. Бесшумно взрываясь, метеориты постепенно разрыхляют лунную поверхность. Раздробленные лунные породы, сплавляясь после взрыва метеорита, образуют нечто вроде шлака — возможно, что именно такую природу и представляет собой поверхностный слой Луны. Как же защититься от метеоритов? Можно успокоиться ссылкой на теорию вероятностей — крупные метеориты падают на Луну редко. К тому же им совсем не обязательно падать именно в то место, куда будут высаживаться астронавты. Но от мелких метеоритов, весом в доли грамма, уберечься трудно. Их сравнительно много, и они врезаются в Луну со скоростями, в несколько раз большими, чем скорость пули. Особо бронированные костюмы защитят отважных покорителей Луны от этих космических пуль. Итак, первые экспедиции по Луне совершены. В земных академиях наук, в широкой печати опубликованы удивительные открытия, сделанные теми, кто первыми побывал на другом небесном теле. С этой поры начнется планомерное освоение Луны.ЛУННЫЙ ФИЛИАЛ ЗЕМЛИ
А теперь помечтаем. Перенесемся мыслью в будущее, от которого мы отдалены не годами, а десятилетиями… Первая половина XXI зека — века поразительных открытий, увеличивающих могущество человечества… Объединенное в единую дружную семью народов, человечество вступило на путь завоевания околосолнечного пространства. Первым освоенным небесным телом стала, конечно, Луна. С земных космодромов на Луну регулярно отправляются пассажирские звездолеты. В их комфортабельных салонах пассажиры проведут всего двое суток. А те, кто спешит, могут лететь на космическом экспрессе — атомный звездолет доставит их на Луну за несколько часов. На Луне построены первые города. Внешне они совсем не похожи на земные. Лунные здания выдолблены в горных массивах, надежно предохраняющих переселенцев с Земли от беспрерывной метеоритной бомбардировки. Это, скорее, огромные комфортабельные пещеры, вполне удовлетворяющие земным вкусам. Каждое лунное здание разделено на герметически изолированные отсеки. Такая же изоляция от безвоздушного пространства предусмотрена и при входе в здание. На Луне по-прежнему нет атмосферы. Но внутри лунных жилищ — чудесный, ароматный искусственный воздух, непрерывно очищаемый и восполняемый специальными машинами. Живительный кислород уже давно не завозится с Земли — его добывают в неограниченном количестве химическим путем из лунных пород. Главную энергетическую базу лунного города составляют гигантские солнечные установки. Собираемая ими солнечная энергия преобразуется в электричество, которое создает в лунных жилищах вполне земной комфорт. Сообщение между лунными городами осуществляется на реактивных везделетах. Они очень послушны и, подобно вертолету, опускаются на любую посадочную площадку. Столицей Луны избран город, разместившийся внутри гористого вала кратера Платон. Вблизи него, на равнине лунного Моря Дождей, построен самый крупный лунный космодром. Лунные колонисты (их, конечно, нельзя назвать колонизаторами) не чувствуют себя оторванными от Земли. Не только пассажирские и транспортные ракеты связывают оба мира — с помощью радиовидеотелефона житель Луны может легко переговариваться с жителем Земли. При этом оба не только слышат, но и отлично видят друг друга на экране космического телефона! В лунных клубах проводятся телевизионные трансляции концертов с Земли. Не меньшим успехом пользуются на Земле лунные передачи — кто не соблазнится, спокойно сидя в кресле кабинета, посмотреть на экране телевизора: что же делается на Луне. Луна превращена в филиал Земли, где человечество, умножая свою мощь, как и на Земле, покоряет природу. Интереснейшая трудовая жизнь кипит на Луне. Там созданы научные институты по изучению лунных недр, космических лучей, лунной ракетной техники и многие другие. Конечно, среди них можно встретить и лунные астрономические обсерватории. Под их удивительно прозрачным пластмассовым куполом виднеются такие огромные оптические инструменты, о которых земные астрономы не могли и мечтать. А главное — нет атмосферы, мешающей при наблюдениях небесных тел применять колоссальные увеличения. Рядом видны исполинские радиотелескопы. Здесь они полностью воспринимают космическое радиоизлучение, которое земной атмосферой пропускается лишь в очень небольшой дозе. Как много ценнейших ископаемых открыто на Луне! Какие изумительные исследования провели лунные физики! Ведь в условиях лунного мира получение вакуума, сверхнизких или очень высоких температур достигается легко и просто. Что же касается исследования космических лучей, то здесь ученые так далеко подвинули вперед атомную физику, что стало возможным омолодить Луну! Этот необыкновенный проект был выдвинут молодым поколением «лунатиков». Так коренные жители Земли в шутку назвали тех, кто родился в лунных городах и потому был вправе считать Луну своей родиной. «Да, мертвый лунный мир может и должен быть омоложен, — заявили молодые лунные патриоты. — Для этого необходимо создать вокруг Луны искусственную атмосферу. То, что казалось фантастическим нашим дедам и прадедам, теперь стало возможным. Мощные атомные установки, разбросанные по всей лунной поверхности, выделят из лунных поверхностных пород кислород и другие необходимые для жизни газы. Пройдут месяцы, может быть, годы, и Луну окутает сплошной атмосферный слой. Прольются первые дожди, появятся на Луне первые реки, они заполнят водой впадины современных „морей“ и „океанов“. На Луне расцветет органическая жизнь, перенесенная человеческим гением с Земли. Луна станет когда-нибудь второй Землей, колыбелью лунного человечества. Конечно, из-за небольшой массы Луны ее искусственная атмосфера будет постепенно, хотя и очень медленно, улетучиваться в мировое пространство. Но утечку эту можно восполнять теми атомными установками — атмосферогенами, которые будут непрерывно продолжать свою работу. Астрономические обсерватории и все те лаборатории, для которых атмосфера является помехой, будут вынесены на искусственные спутники Луны. А на самой Луне расцветет вполне „человеческая жизнь“. Луна может быть и будет омоложена!»Кирилл Андреев Хозяин замка Монте-Кристо
Литературный портрет

1
Восторженные поклонники, друзья и даже противники часто называли его «Александром Великим» — одни с восхищением, другие с гордостью, третьи с оттенком иронии. Это был человек огромного роста, с львиной головой, курчавыми волосами и маленькими хитрыми голубыми глазками. Его хрипловатый голос звучал, казалось, издалека, как рев обильного, но не бурного водопада. В его присутствии все обычно молчали, так как говорил «Александр Великий» по нескольку часов подряд, извлекая всё новые и новые факты из недр своей чудовищной памяти. Но у этого неисчерпаемого потока красноречия была одна особенность: о чем бы ни шла речь в разговоре, Дюма очень умело, но в то же время очень безапелляционно всегда сводил его к самому себе. В Сен-Жермене, аристократическом пригороде Парижа, у него был собственный замок «Монте-Кристо». Еще издали были видны готические башни, выступавшие из-за высоких вязов. Потом взорам посетителя открывались фигурные балконы, фронтон, украшенный итальянской скульптурой, витражи в свинцовой оправе, боковые башенки, сторожевые вышки, флюгера с вымпелами, золоченые инициалы А.Д., вплетенные в решетку. С каждым шагом взору посетителя открывались все новые постройки: птичник, конюшни, обезьянник, театр… И за каждой дверью стоял слуга араб в чалме. Волшебный сад окружал главное здание. Шумели искусственные водопады; как слюда, блестели миниатюрные озера с карликовыми островами. И на одном из них, как дом Гулливера в стране лилипутов, возвышался восьмиугольный павильон из массивных камней. Внутри он был оклеен голубыми обоями; лазурный потолок был усеян золотыми звездами. Снаружи, на каждом камне постройки, было высечено название одной из книг или пьес Дюма. Над аркой этого единственного здания, куда не допускался никто из посторонних и где писатель работал, красовалась латинская надпись: «Cavea canem» — собачья пещера! Вечный праздник царил в замке «Монте-Кристо», похожем на сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Хозяин — в черной или синей бархатной ермолке, в фантастической куртке с воротником из редкостных валансьенских кружев, с толстой цепью на животе — встречал посетителей у входа. Он приглашал гостей только по воскресеньям, «чтобы отличить этот день от других, — как говорил он сам, — когда они сами себя приглашают». Тем не менее, каждый день гости приезжали и уезжали; кто оставался на день, кто на неделю или на месяц. Хозяин был одинаково любезен со всеми, хотя часто не знал своих гостей даже в лицо, а не только по имени. Иногда в огромном зале не хватало места, тогда обеденный стол накрывали на лужайке. Вокруг, под сенью деревьев, стояли греческие амфоры, наполненные льдом, и восточные золотые вазы с фруктами. Хозяин говорил, не останавливаясь, как арабский сказочник. Винные погреба замка казались бездонными. Обед незаметно переходил в ужин. С наступлением темноты в саду вспыхивали бенгальские огни, и дрожащие лучи фейерверка озаряли здание театра, где каждый день для гостей Дюма шли его пьесы. Дюма был великим жизнелюбцем. И поэтому жизнь была для него вечным праздником, неисчерпаемым источником чудес. Он поистине опьянялся ощущением счастья и успеха, который казался ему бесконечным. «Я живу, как птица на ветке, — говорил он. — Если нет ветра, я спокоен, если он есть, я раскрываю свои крылья и улетаю туда, куда он меня несет…» Он любил толпу, и толпа любила его. И недаром над аркой главного входа в замок «Монте-Кристо» красовалась надпись: «Я люблю тех, кто любит меня». Он знал годы истинного величия, когда слава была его спутником и тенью. Во время путешествий Дюма встречали, как особу королевского ранга. В Мадриде его приветствовал караул гвардейцев, выстроенных во фронт. В Тунисе в его честь был дан салют в двадцать один выстрел. На масленицу 1847 года традиционный откормленный бык, которого украшают лентами и водят по улицам Парижа, именовался «Монте-Кристо». Противники писателя говорили, что его произведения представляют собой продукцию «фабрики романов», созданы «Торговым домом Александр Дюма и компания», что сам Дюма только их подписывает, а пишут их его сотрудники, безыменные литераторы, «негры», как говорили тогда во Франции. Сам Дюма не отрицал этих легенд — напротив, он ими гордился. «У меня столько помощников, — говорил он, — сколько было маршалов у Наполеона!» Он зарабатывал по двести тысяч франков в год, но тратил вдвое больше. Заключив договора с несколькими газетами одновременно, Дюма платил огромную неустойку одной, куда он не успел сдать в срок новый роман; судился с другой, которая обвиняла писателя в том, что представленная им рукопись написана не им, а сотрудниками. И тем не менее он успевал выпускать в свет по нескольку томов в месяц. Их читали в лачугах, трущобах и в императорских дворцах Парижа. Газеты не успевали закончить печатание очередного романа, как он уже переступал французскую границу, чтобы, победоносно пройдя равнины и долы старой Европы, переплыть океаны и моря, пересечь тропики и завоевать страны гипербореев и экваториальных народов, неся во все концы огромного мира славу Дюма, осененную трехцветным знаменем Франции. В 1845 году публицист Эжень де Мерикур в памфлете, озаглавленном «Фабрика романов, торговый дом Александр Дюма и K°», насчитал у него не меньше десяти сотрудников; другие увеличивали это число вдвое. И все же слава, его верная спутница, следовала за ним по пятам. И весь читающий мир восхищался его романами, даже если к этому восхищению примешивалась изрядная доля иронии. Он постоянно судился со своими издателями и кредиторами и утверждал, что ненавидит судейское сословие. Однажды к нему пришли просить на похороны умершего в нужде судебного исполнителя. — Нужно тридцать франков, мсье Дюма. — Всего лишь тридцать франков на одного судебного исполнителя? Вот вам шестьдесят — похороните двоих! Этот анекдот, как, впрочем, и многие другие, он сочинил про себя сам. На самом же деле он был очень добр и всегда готов поделиться с нуждающимся и последним франком или миллионом, если он у него в этот момент был; Дюма никогда не считал денег, он утверждал, что его карман наполняется золотом сам собой, как в сказке, что он неисчерпаем, как и его слава. Он умел великолепно вскипать гневом, но почти тотчас же отходил и охотно прощал любого — действительного или мнимого — врага. Он готов был, так же как и деньгами, поделиться с любым своей славой или талантом. Больше всего на свете он любил помогать молодым начинающим писателям и, как ребенок, радовался их успехам, пожалуй, даже больше, чем своей славе. У Дюма в жизни бывали трудные минуты, но он всегда утверждал, что чувствует себя великолепно, — это был своеобразный самогипноз, который заражал окружающих. Оптимизм Дюма был так велик, что он нисколько не сердился на людей, которым не нравились его произведения: он их только жалел за то, что они лишены хорошего вкуса. Дюма интересовался всем на свете и поэтому хотел, чтобы весь свет интересовался им самим. Ему нравилось, когда его имя было на устах у всего Парижа. Поэтому, когда не хватало фактов, писатель сам придумывал про себя анекдоты. Он любил делать вид, что его произведения ничего ему не стоят, что они рождаются сами собой. — Спросите у сливового дерева, как оно делает сливы, — говорил он. — Академики! — возмущался он. — Подумаешь! Пусть они дадут обещание выпускать восемьдесят томов в год — и все равно обанкротятся. А я один дам вам сто! — Отец, — спросил однажды его сын, — где ты успел изучить жизнь? — Ба! — ответил Дюма величественно. — Я весьма остерегался ее изучать, иначе где бы я взял время для того, чтобы писать!.. Но, конечно, это была только шутка. В действительности Александр Дюма был хорошо образованным человеком, глубоко знающим жизнь, большим писателем и великим тружеником.2
Все, что рассказано выше, — лишь великолепная декорация, изображающая парадный фасад чудесного, фантастического здания. Но за этим раскрашенным холстом находились полутемные кулисы, где кипела незаметная, но тяжелая работа людей, готовящих пышное и блестящее представление. Его рабочий кабинет в фантастическом павильоне был обставлен со спартанской простотой: большой белый деревянный стол, около стола — два стула, на камине — книги, рядом — железная кровать. Это скорее походило на мастерскую ремесленника, чем на кабинет модного писателя. В одном жилете, без галстука, он работал с наслаждением, со страстью по двенадцати — пятнадцати, часов в день. Перо его скользило без усилий. Писал он на бумаге большого формата, которую ему присылал один лилльский фабрикант, его поклонник. Он покрывал широкие листы своим крупным, быстрым, легким почерком, с огромным количеством прописных букв, появляющихся в неожиданных местах. Рукописи его были почти без знаков препинания, — этим занимались секретари: расставляли знаки, снижали буквы и уничтожали повторение слов. Он любил гостей и шум толпы. Но, когда он уединялся в своем рабочем кабинете, никто не должен был ему мешать. И если, даже с его разрешения, к нему заходил посетитель, то Дюма протягивал ему левую руку, не переставая писать даже во время разговора. Точно в назначенное время ему приносили завтрак на круглом столике. Не вставая со стула, он поворачивался, быстро ел, запивая острые блюда, которые так любил, сельтерской водой. Несмотря на гомерические излишества своих героев, Дюма был очень воздержанным человеком: не курил, не пил ни вина, ни даже кофе. Дюма был одним из самых талантливых каллиграфов Франции, чьим почерком восхищались знатоки. Романы он писал на голубой бумаге (все того же лилльского фабриканта), пьесы и статьи — на розовой, стихи — на желтой; драмы писал специальным почерком рондо, причем сочинял их не за своим рабочим столом, а лежа, опираясь локтем о подушку. Он работал без устали — как машина, как огромное литературное сообщество. Его останавливали лишь припадки страшной лихорадки. Но и тогда он был не побежден, не поддавался. Стуча зубами, он ложился на свою железную кровать, ощупью брал стакан с лимонадом, поворачивался лицом к стене и, по его собственным словам, «входил в свою лихорадку». Признавая наличие у себя помощников и сотрудников, Александр Дюма в глубине души все же считал себя — и не без оснований — единственным автором своих произведений. «Как вы могли поверить этой популярной басне, — писал он в интимном письме Беранже, — покоящейся всего лишь на авторитете нескольких неудачников, постоянно старающихся кусать пятки тех, у кого имеются крылья? Итак, вы могли поверить, что я завел фабрику романов, что я, как вы выражаетесь, имею рудокопов для обработки моей руды! Дорогой отец, единственная моя руда — это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по двенадцати часов в сутки. Мой рудокоп — это воля к выполнению того, чего до меня ни один человек не предпринимал. Мой рудокоп — это гордость или тщеславие (как хотите), чтобы одному сделать столько, сколько делают все мои собратья-романисты, вместе взятые, — и притом сделать лучше… Я совершенно один! Я не диктую Я все пишу самолично». Постоянные толки о сотрудниках Дюма были действительно очень часто местью его врагов, завистников и недоброжелателей. Первым из них был Мерикур, широко пустивший по свету легенду о том, что почти все романы Дюма написаны чужими руками. И эта легенда так живуча, что и сейчас, спустя столетие, приходится так многословно ее опровергать. Любопытно, однако, что именно главный обвинитель должен был бы сам сидеть на скамье подсудимых. В 1847 году Пьер Мазерель, сотрудник де Мерикура, выпустил книгу «Исповедь одного биографа. Предприятие Эжень де Мерикур и K°». В нем он рассказал, что памфлет, направленный против Дюма, был написан вместе с сотрудниками «Торгового дома Мерикур». Профессор Огюст Маке, неоднократно судившийся с Дюма по вопросу об авторстве и которому молва приписывала авторство и «Мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», писал своему мэтру: «Пока жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудником и другом самого блестящего из французских романистов». Роман «Прекрасная Габриель», написанный Маке после окончательной ссоры с Дюма и переведенный на русский язык, может служить лучшим оправдательным документом в пользу Дюма, ни одно из произведений, написанных его сотрудниками самостоятельно, никогда не достигало — и далеко! — уровня романов, выпущенных «фирмой Александр Дюма»! Обычно Дюма приглашал своих сотрудников в отдельный кабинет первоклассного модного ресторана и угощал фантасмагорическим ужином. Когда столы были убраны, за кофе (которого писатель не пил) и сигарами Дюма, воодушевляясь, рассказывал своим друзьям какую-нибудь романтическую повесть, которую, распределив ее главы между собой, они должны были потом изложить на бумаге. Этот устный черновик писателя имел для него огромное значение — недаром Дюма обладал чудовищной памятью и помнил свои произведения (по крайней мере написанные в этом году) почти наизусть Все словечки, рождающиеся при устном рассказе, все жесты, весь динамический стиль повествования, все мелодраматические эффекты, появляющиеся иногда лишь на мгновение, — все вновь возникало перед автором, когда он, после того как все было написано и отдельные части сведены вместе, брал огромный карандаш и редакторской рукой проходился по рукописи. Он вычеркивал отдельные сцены, писал черновики новых, правил слишком причесанный стиль своих сотрудников и там, где нужно, вписывал маленькие сценки, которые, как бенгальским огнем, освещали все произведение. Так рождались романы, в которых в каждой строчке была видна неповторимая индивидуальность Дюма — кто бы ни помогал ему над ними работать. И верным было мнение современников писателя: «Маке был только каменщиком, Дюма же — архитектором…» Но лучшие произведения Дюма — такие, как «Мушкетеры» и «Монте-Кристо», — написаны с начала до конца его собственной рукой. Признать Дюма подлинным автором почти всех подписанных его именем романов мы должны даже в тех случаях, когда он использовал (частью по-своему) готовые образы и широко черпал материал из чужих произведений. Ведь бродячие сюжеты всегда считались ничьей собственностью, пока они не попадали в руки гениев или даже просто талантливых людей! А то, что Дюма был талантлив, не отрицали даже его враги.3
Его любили Карл Маркс, Менделеев и Диккенс. «Вы сверхчеловек! — писал ему Ламартин. — Мое мнение о вас — это восклицательный знак!» Гейне так увлекался произведениями Дюма, что утверждал, будто Дюма первый открыл французам Шекспира, что в своих блестящих пьесах он создал новую школу французского театра. Парализованный, полуслепой, на пороге смерти — он мог передвигаться, лишь держась за веревку, висевшую над его постелью, — Гейне черпал оптимизм в романах Дюма и писал: «Дюма — самый замечательный рассказчик из всех, кого я знаю Какая легкость! Какая непринужденность! И какой он добрый малый!» Бальзак читал не отрываясь «Трех мушкетеров». Без сомнения, ему было неприятно так растрачивать время — ведь Дюма, по его мнению, так плохо осведомлен в истории! — «но следует признать, что он очаровательный рассказчик!» Проспер Мериме предпочитал Дюма Вальтеру Скотту. Романы Дюма — «лучшее лекарство от физической и моральной усталости, — писала Жорж Санд. — Ошибки же его — ошибки гения, слишком часто опьяненного своей мощью…» «Я поражен вашим неукротимым талантом, — писал знаменитый французский историк Мишле, — применяющимся к стольким абсурдным требованиям. Я поражен вашей героической твердостью… Я вас люблю, я вас обожаю потому, что вы явление природы!» И даже Гюго, ссорившийся с Дюма всю жизнь, писал в старости, что любит его с каждым днем все больше и больше и не только потому, что «вы тот, кто ослепляет своим блеском мой век, но и потому, что вы — одно из его утешений». Однако Дюма писал не для этих корифеев, которые, даже восхищаясь, все же ставили его ниже себя. Он писал для народа — для тех, кто, лишь недавно научившись читать, впервые приобщался к литературе. Это была миллионная аудитория, создавшая славу Дюма. Во время репетиции одной из его пьес писатель вдруг заметил, что из зала исчез пожарный, с любопытством наблюдавший за представлением. Тогда Дюма немедленно отправился в кабинет директора театра, взял рукопись той картины, что репетировалась, и бросил ее в камин. — Что вы делаете? — спросил изумленный директор. — Эта сцена не понравилась пожарному — он ушел. Поэтому я ее уничтожаю. Теперь я хорошо вижу, чего в ней не хватает. И он тут же, за столом директора, написал всю картину заново. Этот анекдот как нельзя лучше характеризует чуткое внимание Дюма к мнению массы — зрителей и читателей, — того самого Дюма, который, по утверждению многих исследователей, так нетерпимо относился ко всякой критике. Он все время стремился говорить со своими читателями через головы редакторов, издателей и критиков. Для этого он основал свои собственные журналы: сначала — «Монте-Кристо», потом — «Мушкетеры». Но они захирели еще во младенчестве: у великолепного «Александра Великого» было слишком много договоров и обязательств, слишком много кредиторов и долгов, и у него не хватало времени заполнять эти журналы только своими собственными произведениями, как он мечтал. Таким непосредственным разговором с читателями были и его бесчисленные «Путешествия», «Записки», «Дневники» и «Воспоминания». Все это — самые личные, самые задушевные мысли писателя, хотя часто и облеченные в фантастические одежды арабской сказки. Но достаточно отодвинуть в сторону этот пышный занавес в стиле «Тысячи и одной ночи», и мы услышим простой, чистый и ясный голос писателя. При всем своем благородном простодушии — а может быть, именно благодаря ему — Дюма очень любил интриговать своих читателей, изображать себя совсем иным, чем он был в действительности. Он даже выдумал шуточную басню, где изобразил свой труд таким, каким представляли его недоброжелатели. «Одна ферма обрабатывается тремя друзьями, — писал он. — Один жнет, другой возит снопы, третий молотит и веет. Я молочу и провеиваю. То, что остается на току, я отдаю курам. Вот почему все куры прибегают на мой голос, когда я зову: „Сюда, крошки, сюда!“ Курочки эти даже не знают голосов моих товарищей, занимающих на ферме более высокое положение, чем я…» В этой сказочке есть правда и неправда. Правда заключается в том, что он действительно пользовался чужим трудом, не только своих сотрудников, помощников, но и своих предшественников и современников; он и сам не скрывал этого, только называл это не заимствованием, а «завоеванием». Неверно то, что читатели не знали его великих современников, — они знали и Стендаля, и Гюго, и Бальзака, но предпочитали им Дюма, быть может, менее талантливого и глубокого, но более действенного, более понятного. Толпе, только что получившей в руки дешевую книгу (в 1827 году был построен первый механический печатный станок), нужна была массовая книга. И новые читатели нашли то, что искали, в романах Дюма, словно написанных ударами шпаги. Дюма обращался со своими читателями, как ветер обращается с древесным листком, — вел его туда, куда хотел. И увлеченные читатели полюбили нарисованные им картины, полные света и движения, озаренные фантастическими огнями фейерверка и блеском розовых молний, одушевленные жизнерадостными и смелыми героями — героями шляпы с перьями, плаща и шпаги. Дюма щедро наделял своих героев своим собственным красноречием, своей веселостью, своей любовью к приключениям. Поэтому народ полюбил не только персонажей его романов, но и их главного героя — их автора, Александра Дюма.4
Знаменитый писатель Александр Дюма родился 24 июля 1802 года (точнее — 5 термидора X года, так как тогда еще действовал революционный календарь) в местечке Вилле-Коттре, расположенном в самой середине Франции. Само местечко Вилле-Коттре ничем не было примечательно, кроме рынка и станции почтовых карет. Но в шести лье лежал старинный город Суассон — в средние века столица одного из франкских государств. А с другой стороны местечка на много лье простирался густой лес, с охотничьим замком Франциска I — королевский заповедник, где когда-то охотились Генрих II вместе с Дианой де Пуатье, Франциск I и Мария Стюарт, Генрих IV и прекрасная Габриэль. В двух лье от местечка родился великий поэт Расин, в семи лье — баснописец Лафонтен. На расстоянии одного лье лежала деревня, где начал жизнь знаменитый песенник французской революции Анж Питу. Вся эта долина представляла собой нечто вроде литературного сердца Франции или заповедника французской истории. Однако происхождение Дюма совсем не типично французское. Он унаследовал в своем характере не только задатки жителей различных французских провинций, но и разных классов и даже разных рас. Его дед, нормандский аристократ маркиз Дави де ля Пайетери, генеральный комиссар артиллерии королевской Франции, по-видимому разочаровавшись в пустой светской жизни, в возрасте пятидесяти лет покинул родину, чтобы поселиться на своих тропических плантациях в Вест-Индии, на острове Сан-Доминго, бывшем в те годы одной из колоний Франции. Там он надеялся обрести покой. Мы не знаем, исполнилось ли его желание, но через два года у него от «черной невольницы», как тогда говорили, Мари Сезетт Дюма родился сын — Тома Александр Дюма. Этому мулату суждено было стать отцом прославленного во всем мире романиста Александра Дюма. Враги никогда не забывали, что в жилах знаменитого писателя течет негритянская кровь. При случае они всегда старались напомнить ему о его происхождении. — Если не ошибаюсь, — спросил один недоброжелатель на светском балу, — в ваших жилах течет цветная кровь? — Вы не ошибаетесь, монсиньор, — ответил Дюма. — Мой отец был мулатом, бабушка негритянкой, а мои отдаленные предки — обезьянами. Как видите, мой род начинается тем, чем кончается ваш! Однако первому из трех Александров Дюма (третьим был Александр Дюма-сын, тоже известный французский писатель) была суждена иная судьба, чем участь раба на плантациях Сан-Доминго или прихлебателя при дворе знатного маркиза. По-видимому, отец хорошо к нему относился, так как, возвращаясь на родину, взял молодого Дюма с собой. Это были бурные годы Великой французской революции, провозгласившей лозунг: свобода, равенство, братство! Юноша с порабощенного острова любил свободу; рожденный от невольницы, он жаждал равенства; братство с французским народом, к которому он принадлежал лишь наполовину, было его мечтой. Он был смел, горяч, честолюбив. И Тома Александр Дюма, которому только что исполнилось двадцать лет, вступил в республиканскую армию. Его военная карьера была похожа на огненный полет метеора. Солдат, капрал, лейтенант, подполковник, бригадный генерал, генерал армии — на прохождение этой лестницы, по которой он шагал иногда через несколько ступенек, понадобилось всего лишь двадцать месяцев, а интервал между первым и последним генеральскими званиями составил только пять дней! Генерал Дюма был верным солдатом революции! И он остался ей верен до самой смерти. Сохранился портрет генерала Дюма работы художника Летвера. На нем изображен смуглый суровый человек огромного роста с огненным взглядом черных глаз. Правой рукой он удерживает за повод горячего коня; слева к нему ласкается охотничья собака; вдали, за его спиной, — поле битвы. Это тот мир, в котором он прожил свою короткую блестящую жизнь. Ему пришлось служить вместе с генералом Наполеоном Бонапартом и сопровождать его в египетском походе. Но позже их пути разошлись: любовь к республике была у Дюма в сердце, Бонапарт был республиканцем из политических соображений. Генерал Дюма умер сорока четырех лет, в 1806 году, — через два года после того, как Наполеон провозгласил себя императором. После него осталась вдова Мари-Луиза, урожденная Лабуре, дочь командира национальной гвардии местечка Вилле-Коттре, и четырехлетний сын. Мальчик очень любил отца. Когда генерал лежал на смертном одре, ребенок, сверкая глазами, с пистолетом в руке, выбежал из дома. — Куда ты бежишь? — остановила его заплаканная мать. — Я отправлюсь на небеса! — Зачем? — Чтобы убить доброго бога, который убил моего папу… Позже, когда Александр стал уже взрослым, мать уговаривала его принять фамилию Дави де ля Пайетери, своего деда, — это было в обычаях того времени, когда свирепствовала реакция, стремящаяся стереть даже память о революции. Но юноша ответил: — Нет, я сын генерала Дюма! Я знаю моего отца. Я не знаю своего деда… Писатель унаследовал много черт характера от своего отца и щедро наделял ими своих героев. Их жизненная сила, колоссальная энергия, воля к действию, непоколебимость, любовь к приключениям — наследство генерала. Это братство меча и мушкета на поле вечной жизненной битвы. Мальчик из провинциального Вилле-Коттре рос, не получая никакого образования. Аббат Грегуар, местный священник, научил его читать и писать. Каллиграфия стала для юного Александра поэзией и страстью — он писал поразительно красиво: ровно, как по линейке, выводя волосные штрихи и округлые нажимы. Книги открыли ему иной мир, не похожий на окружающую сонную французскую провинцию. Подбор его любимых книг несколько странен: библия, «Иллюстрированная мифология», «Естественнаяистория» Бюффона, «Робинзон Крузо» и «Тысяча и одна ночь» в вольном переводе Галлана. Но в этом подборе — весь Дюма. Тринадцати лет он поступил писцом к местному нотариусу. К этому времени Дюма уже писал стихи и мечтал о славе писателя. Он утешал себя тем, что великий французский поэт Корнель тоже начинал свою карьеру писцом у нотариуса. К этому времени он уже открыл Вальтера Скотта и Шиллера. Юноша коротал свои досуги в тени королевского леса. И иногда ему казалось, что рядом оживают тени, будившие некогда звуком охотничьего рога тишину дубрав, что он чудом перенесен в другой век… В 1815 году мальчику пришлось дважды увидеть Наполеона. Сначала император во главе всей армии проследовал через Вилле-Коттре, следуя на поле Ватерлоо. Через несколько дней он один промчался по главной улице местечка после величайшего в своей жизни поражения. Это была живая история, которая, как видение, навсегда осталась жить в памяти будущего писателя. Восемнадцати лет Дюма довелось совершенно случайно увидеть в Суассоне, в исполнении учеников консерватории, «Гамлета». Так он одновременно открыл Шекспира и театр. Перед ним словно распахнулось окно в иной, сверкающий мир, где бушевали неистовые страсти, свирепствовали неимоверные бури и исполинские характеры героев раскрывались в яростных столкновениях… «Я был слеп, и я прозрел», — записал будущий писатель в своем дневнике. Теперь юноша не мог думать ни о чем другом, кроме театра. Но театры были только в Париже. Париж! В одном этом слове для Дюма был сконцентрирован весь огонь и блеск литературы того времени. Но у него не было никаких средств и даже не было денег на проезд до столицы. И, однако, он решился. Двадцати лет он покинул родной город: сел в омнибус, останавливающийся прямо против дверей его дома. В кармане юноши было пятьдесят три франка и рекомендательные письма матери к бывшим друзьям его отца, которые сами были в опале, как бывшие республиканцы и бонапартисты, и влачили жалкое существование. Проезд до Парижа ничего ему не стоил: он выиграл его на бильярде у содержателя омнибусов.5
Юноша, приехавший «завоевать Париж», как тогда говорили, был счастливчиком. Он мало знал, не имел профессии и не умел ничего делать. Но по рекомендации генерала Фуа, старого друга его отца, ему все же удалось получить место писца в канцелярии герцога Орлеанского с окладом в сто франков в месяц. Ему помогли две вещи: великолепный почерк и то, что сам герцог находился в оппозиции к королевскому правительству и даже некогда участвовал в знаменитой битве при Вальми, сражаясь на стороне республики. Судьба такого типичного «молодого человека девятнадцатого столетия» была не раз описана французскими писателями прошлого века: малообитаемый чердак, который в романах обычно именуется благородным французским словом «мансарда», случайный заработок, попытки напечатать или поставить на сцене свои произведения, жизнь впроголодь. Один из сотрудников канцелярии, заметив невежество молодого Дюма, шутя перечислил ему книги, которые, по его мнению, должен знать каждый образованный человек. Список был составлен не без иронии, со многими излишествами (он сохранился в «Воспоминаниях» Дюма), но молодой человек воспринял его всерьез. С этих пор он почти разучился спать. На сон он выделил лишь четыре часа в сутки. Остальное время, свободное от работы, он посвящал чтению. При его феноменальной памяти это был целый университет. Так он получил образование — быть может, одностороннее, изобилующее пробелами, но незаурядное по тем временам. В 1825 году в театре «Амбигю» была поставлена пьеса «Охота и любовь», написанная Дюма совместно с Левеном и Руссо. Как мы видим, Дюма начал свою карьеру с литературного сотрудничества, только на этот раз он был младшим компаньоном. Пьеса принесла авторам сборы по четыре франка за спектакль и скоро сошла с репертуара. Но герцог, которому нравилось иметь своим писцом драматурга, увеличил его оклад на двадцать пять франков в месяц. Вскоре в театре Порт Сен-Мартен была поставлена новая пьеса — «Свадьба и похороны». Авторами ее были Дюма, Юстав и Лассань. Она принесла драматургам уже по шести франков за спектакль. А оклад Дюма увеличили еще на двадцать пять франков. Это дало возможность Александру Дюма за свой счет издать в том же году небольшой томик новелл. Однако из всего тиража было продано всего лишь четыре экземпляра. Ему было двадцать три года. По современным понятиям, он уже был драматургом и прозаиком. В королевском Париже начала прошлого века он был никем, так как у него не было ничего, кроме долгов и фамилии республиканского генерала. То были годы бурного расцвета молодой французской литературы. Небольшая кучка молодых писателей во главе с Виктором Гюго, объединившись вместе, подняла знамя романтизма. Здесь было все, что волновало в те годы молодежь Франции: протест против жестких норм литературного классицизма, где героями могли быть только боги и короли, место действия ограничивалось одним домом, а время действия — сроком от рассвета до полночи. Здесь был культ революционной героики, отнесенной авторами к иным временам и далеким странам — для успокоения цензуры, — но понятный зрителям, заполнявшим зал. Здесь был протест против пережитков феодализма, здесь был народ — творец истории и создатель материальных и духовных ценностей. И романтики не остались одинокими, — за ними пошла вся молодая Франция. Молодой Дюма примкнул к кружку романтиков со всем пылом юности. Но молодому писателю, который позже любил изображать свою карьеру как сплошной триумфальный путь, по которому его вела Фортуна — богиня счастья древних римлян, — понадобилось шесть лет упорного труда, чтобы овладеть тайнами литературного мастерства. Его драма «Христина Шведская» произвела сенсацию в кружке, но не была принята на сцену. И лишь в 1829 году ему удалось поставить на сцене театра «Одеон» пьесу «Генрих Третий и его двор». Спектакль имел колоссальный успех. Вместо условных героев классического французского театра, двигающихся по сцене лишь лицом к публике, не разговаривающих друг с другом, но напыщенно декламирующих стихи, — толпа увидела живую жизнь, услышала прозаическую речь, выраженную тем языком, на котором говорила она сама. Пьеса состояла из ряда картин, живописных и эффектных, хотя и плохо связанных друг с другом. Страсти героев были необыкновенны, характеры их очерчены резко, действие полно драматизма, диалог похож на удары скрещенных шпаг противников. Сцена была полна блеска и движения. И зрители не могли отвести от нее глаз. Это была первая великая победа молодого французского театра. Пьеса Виктора Гюго «Эрнани», вокруг которой разыгрались особенно жестокие литературные битвы, появилась на сцене лишь год спустя. Парижская толпа особенно шумно приветствовала молодого драматурга еще и потому, что драма Дюма имела широкое общественное звучание. В ней смело обличались кровавые преступления французского королевского двора. Она звучала антимонархически. Стоит напомнить, что близилась революция 1830 года. Герцог Орлеанский, присутствовавший на премьере и бывший в то время главой умеренной оппозиции, похвалил драматурга и назначил его своим библиотекарем. Это была синекура — должность без обязанностей, но приносящая Дюма доход в тысячу двести франков в месяц. Противники пытались запретить пьесу, но народ оказался сильнее кучки реакционеров. II даже король Карл X, тоже побывавший на представлении, вынужден был уступить общественному мнению. На настойчивые требования придворных вмешаться он ответил: — В театре я только зритель, как и все. Слава Александра Дюма переступила порог его дома, раскинула крылья и покрыла ими весь Париж. Имя Дюма отныне знал каждый парижанин. Из мелкого служащего он в одну ночь превратился в профессионального драматурга и с тех пор ставил в парижских театрах по пяти—шести пьес в сезон. В 1830 году Дюма собрался путешествовать. Он решил начать с Алжира. Но двадцать шестого июля, в день отъезда, развернув правительственную газету «Монитер», он прочел шесть чрезвычайных указов короля Карла X, представлявших открытое нарушение конституции. В них объявлялась распущенной только что избранная палата депутатов, лишались права голоса промышленники и торговцы и ограничивалась свобода печати. — Я предпочел бы скорее колоть дрова, чем царствовать на таких условиях, как английский король!.. — сказал Карл, подписывая указы. — Черт возьми, я остаюсь! — заявил Дюма, прочтя газету. — Жозеф, подайте мою кольчугу, двуствольный мушкет и двести патронов двадцатого калибра! Улицы были заполнены шумящей толпой: рабочие, ремесленники, мелкие служащие, мелкие торговцы, студенты, отставные офицеры и солдаты наполеоновской армии взялись за оружие и воздвигали баррикады. Вечером раздался первый выстрел, и народ вступил в бой с королевскими войсками. Дюма — в кольчуге и каске, со шпагой на боку, мушкетом на плече и с карманами, оттопыренными от патронов, — участвовал в маршах и контрмаршах национальной гвардии, помогал строить баррикады и вместе с толпой пел «Марсельезу». Он был весь огонь: ему казалось, что и он творит историю Франции. Толпа была пестрой. — Да здравствует республика! — кричали одни. — Да здравствует конституция! — вторили другие. — Да здравствует император Наполеон Второй! — раздался одинокий голос. Но один лозунг объединял всех: — Долой Бурбонов! В восстании участвовало восемьдесят тысяч парижан. Двадцать девятого июля восставшие с боем овладели королевским Тюильрийским дворцом, над которым при криках «Да здравствует свобода!» взвился трехцветный флаг первой революции. Однако, несмотря на победу народа, власть была захвачена крупной буржуазией. Умеренный либерал герцог Орлеанский, покровитель Дюма, стал королем Луи-Филиппом. И все же новое правительство вынуждено было сохранить трехцветный флаг республики. — Ну что же, — сказал Дюма, — вместо одного короля мы получили другого. Только и всего! Однако положение Дюма упрочилось. Он был славен, он был велик, он был богат. Но он был лишь на полпути к вершине своей славы.6
Июльская монархия, как историки называют эпоху между двумя революциями — 1830–1848 годы, — была золотым веком крупной буржуазии: промышленников и финансистов. После июльских дней буржуазия стала считать революцию законченной и сделалась ярой сторонницей существующих порядков. Несмотря на введение избирательного права, голосовать имели право лишь очень богатые люди. На требование расширить избирательные права премьер-министр Гизо ответил: «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями». Слова: «Обогащайтесь, господа!» — стали лозунгом тех, кто пришел к власти и хотел прибрать к рукам все богатства страны, созданные народом Франции. Старая аристократия меча и шпаги смешалась с новой аристократией тугого кошелька. Возникали новые фабрики, строились железные дороги, ширилась заморская торговля. В 1830 году началось завоевание Алжира: готовился захват обширных и богатых африканских колоний. Буржуазная Франция выходила на мировую арену. Новые богачи, сколотившие миллионные состояния, стремились к внешней пышности. Великолепные дворцы воздвигались в пригородах Парижа. Глаза полуголодных парижан ослеплял блеск великолепных карет, сверкание золотого шитья и драгоценных камней, яркие цвета костюмов из шелка, бархата и бесценной парчи. И Александр Дюма не мог не поддаться соблазну этого внешнего величия: слишком глубок был контраст между нищетой его детства и нынешним богатством. Писатели, раньше жившие милостью королей и высшего дворянства, ныне составляли себе состояния, работая для многих тысяч читателей. Роман-фельетон, печатающийся с продолжениями, завоевал все газеты, так как именно он обеспечивал им тираж. За один только роман «Парижские тайны» Эжен Сю получил сто тысяч франков. Его «Парижские тайны», «Мартин Найденыш», «Тайны народа» читал весь Париж, вся Франция. За ним следовали «Два трупа», «Записки дьявола», «Влюбленный лев», «Призрак любви», «Герцог де Гиз» Фредерика Сулье, которые расходились в громадном количестве экземпляров. От них не отставал Поль Феваль с его романами «Белый волк», «Лондонские тайны», «Сын дьявола», «Горбун». Он уже не успевал выполнять заказы газет и стал прибегать к помощи сотрудников, которые, в свою очередь, нанимали себе помощников. Но признанным создателем этого нового направления приключенческой литературы, ее королем был Александр Дюма. В те годы весь мир зачитывался книгами Вальтера Скотта, создателя исторического романа, оказавшего сильнейшее влияние на современную ему литературу и особенно на весь круг французских романтиков. Если до него писатели брались за исторические сюжеты, то изображали их вне времени и пространства — герои лишь носили исторические имена, а обстановка, мысли и поступки людей были современными. Вальтер Скотт впервые открыл значение местных особенностей: страны, климата, национальности. Он открыл читателям народную поэзию и впервые показал, что не отдельные великие люди, а сам народ является творцом истории, и рассказал о великих народных движениях. Он искал в истории необыкновенного и чудесного, но вовсе не презирал обыденной действительности — наоборот, он и ее умел увидеть чудесной и поэтической. Там, где классики даже пламя страсти изображали как бы замороженным и превратившимся в разноцветные кристаллы, Вальтер Скотт своим горячим сердцем растоплял эти кристаллы и возвращал им жизнь и движение. Он умел заглядывать в душу человека другой эпохи. «Он не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румянами… Он сочетал щепетильную точность подлинных записей с величием исторической мысли», — сказал о нем Виктор Гюго. В кругу романтиков был создан подлинный культ Вальтера Скотта. Естественно, что Дюма, так любящий французскую историю, увлекся историческими романами шотландского писателя. А увлекаться он умел со страстью. И, так как он ничего не мог делать наполовину, он, образно выражаясь, должен был отбросить в сторону перо рондо и розовую бумагу, предназначенные для драм, и отдать предпочтение голубой. Наедине с самим собой и своими близкими друзьями Дюма был скромен и правдив. Несмотря на шумные похвалы поклонников, он не преувеличивал значения своих пьес. «Я не буду называть себя основателем нового драматического жанра, — писал он, — ибо на самом деле я ничего нового не создал. Виктор Гюго, Мериме… создали этот жанр раньше и лучше меня: они создали из меня то, чем я являюсь». Но для того, чтобы написать исторический роман, а тем более «драматизировать всю историю Франции», как пишут его восторженные поклонники, Дюма недостаточно знал историю, не был систематически образован. Нужен был помощник, нужен был материал, который Дюма мог бы одухотворить, оживить, так как это умел делать только он. Однажды к известному журналисту и издателю Жирардену явился молодой провинциальный профессор Огюст Маке с объемистой рукописью романа «Шевалье д’Арманталь». Роман был написан тяжелым слогом, но сюжет интересен, а материал собран с добросовестностью. Жирарден посоветовал обратиться к Дюма. Тот прошелся по рукописи своим огненным пером, и она стала неузнаваемой. — Роман, подписанный именем Дюма, стоит три франка за строчку, — сказал Жирарден. — Если же он подписан Дюма и Маке, строчка стоит тридцать су. Книжка вышла под именем одного лишь Дюма. Маке получил тысячу двести франков, Дюма — «все остальное», что выражалось в нескольких десятках тысяч. Но бывший профессор был доволен: и на него упала тень славы «Александра Великого». С этих пор началось длительное и плодотворное сотрудничество Дюма и Маке. Особенно много сделал Маке для «Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров» — этих лучших и наиболее типичных произведений Дюма. 1844 год, когда вышли в свет оба эти романа, был вершиной творчества и славы писателя. Тогда-то он начал возводить в Сен-Жермене свой фантастический замок, который обошелся ему почти в миллион франков. В Париже он строил свой собственный «Исторический театр», отделанный с небывалой роскошью, где должны были идти только его пьесы. Он писал одновременно несколько произведений и печатал их параллельно в разных газетах, не оставляя в то же время и драматургии. Свои романы, имеющие наибольший успех, он немедленно переделывал в пьесы. Работал Дюма без устали, как машина, и все же не успевал воплощать в жизнь свои необъятные замыслы. Щедрой рукой он разбрасывал деньги — ведь за каких-нибудь двадцать с лишним лет скудные франки, которые он копил на поездку в Париж, превратились в настоящий золотой дождь!7
Даже сверхчеловеческое, железное здоровье Дюма не могло долго выдержать такого темпа. Пришла усталость, а вместе с ней с новой силой возродилась детская мечта о путешествиях. Ему хотелось отдохнуть от бесконечной работы — он имел на это право — и набраться новых впечатлений. Вдобавок само путешествие могло превратиться в литературное произведение. Дюма останавливало только одно: щедрый, даже расточительный, он не хотел расходовать на это деньги. — Ведь это прямо постыдно, — жаловался он. — Мне, человеку такого положения, тратиться самому! Конечно, это было причудой. Но об этом заговорил весь Париж, а этого-то и было нужно Дюма. Мечта его исполнилась в 1846 году. Министр Сальванди предложил писателю совершить путешествие в Алжир и написать об этой колонии, в то время до конца не завоеванной (война там шла уже пятнадцатый год). Правительство рассчитывало, что книгу Дюма прочтет по крайней мере пять миллионов человек и что один из ста захочет стать поселенцем в этой богатой стране. Таким образом, за скромную сумму в десять тысяч франков, ассигнованных на поездку, правительство получит для Алжира по меньшей мере пятьдесят тысяч колонистов. Дюма согласился, но сразу стал вести себя почти как коронованная особа. Он потребовал для себя специальный корабль, и ему был предоставлен военный корвет «Белое». По дороге он «заехал» в Испанию и посетил Мадрид, а по прибытии на судно велел выстроить команду и прошел вдоль фронта, принимая приветствия. Когда корабль прибыл в Алжир, то оказалось, что маршал Бюжо, правивший в то время колонией, отсутствует. Тогда Дюма самовольно отдал приказание идти в Тунис. Капитан корабля, испуганный властным тоном, не терпящим возражения, исполнил этот приказ незамедлительно. При входе корабля на тунисский рейд береговые батареи дали двадцать один залп в честь «Александра Великого». На берегу он с царской снисходительностью отвечал на приветствия местных властей, в костюме тирольского охотника стрелял орлов в ущельях и с хлыстом в руках дрессировал пойманного грифа. — А, это вы, господин захватчик королевских судов? — приветствовал его Бюжо, когда наконец состоялась их встреча. — Господин маршал! — величественно заявил Дюма. — Я подсчитал вместе с капитаном, что стоил правительству одиннадцать тысяч франков. Путешествие Вальтера Скотта в Италию обошлось английскому адмиралтейству в сто тридцать тысяч франков. Следовательно, правительство должно мне еще сто девятнадцать тысяч!.. Слухи о самоуправстве Дюма дошли до Франции. И в палату поступил запрос, на который министр отказался отвечать. Узнав об этом, Дюма, возмущенный до глубины души, послал вызов на дуэль всем без исключения депутатам. Струсившие депутаты отказались драться, ссылаясь на свою депутатскую неприкосновенность, и общественное мнение, сначала осудившее любимца Франции, сразу повернулось в его сторону. Когда, закончив путешествие, писатель вернулся в Париж, ему устроили пышную встречу с фейерверком, который он так любил. За первым путешествием, которое вызвало к жизни книгу «По Средиземному морю и варварийским владениям», последовали другие, описанные в книгах «От Парижа до Кадикса», «На берегах Рейна», «По Швейцарии», «От Парижа до Астрахани», «Кавказ». В них в свойственной ему живой и остроумной манере, смешивая правду с вымыслом, он писал о жизни других стран, об их природе, делал экскурсы в историю, приводя местные сказки и легенды. Все это сопровождалось веселой болтовней, где Дюма подшучивал над своими знакомыми, заставляя их на страницах его книг участвовать в разного рода комических приключениях, иногда весьма сомнительного свойства, в то время как они на самом деле и не покидали Париж. Особенно доставалось скромному художнику Жадену, жившему безвыездно в своей мастерской на улице Де-Дам: он был непременным участником наиболее рискованных приключений, созданных фантазией Дюма. И все же, несмотря на обилие вымысла и преувеличения, «Путешествия» Дюма сыграли немалую роль в деле расширения кругозора французских читателей. Миллионы их, раскрывая очередную книгу «Путешествий», вступали в пестрый, разнообразный мир, полный блеска и движения, приобщались к широкому гуманизму и свободолюбию писателя. Они проникались верой в жизнь, в победу добра над злом, проникались живым и действенным оптимизмом.8
Романы Александра Дюма очень рано узнали и полюбили в России. В годы, когда началась его деятельность, нигде в мире так не ценили и не читали французскую литературу, как в нашей стране. Его первым переводчиком на русский язык был Виссарион Белинский и одним из первых читателей — Александр Герцен. Позже слава его померкла: революционные демократы немало упрекали писателя в безыдейности и «ложной занимательности». Зато позднее, уже в XX столетии, в нашей стране наступила новая эра славы Дюма. Сам Дюма тоже очень интересовался Россией. В те времена Россия казалась ему «страной гипербореев», огромной бескрайной равниной с редкими городами и бедными деревнями. В этих деревнях, по представлению Дюма, жили бородатые мужики, влачащие ярмо рабства; для него это был край, где плохие дороги тянутся без конца по степям и темным сосновым лесам и одинокие путники подвергаются нападению волков… Интерес Дюма был не только теоретическим. В свое время он написал роман «Записки учителя фехтования», посвященный декабристам, где немало стрел было направлено против русского самодержавия. Книгу эту с недовольством встретили в Зимнем дворце, и об этом хорошо знал сам писатель. «Княгиня Трубецкая, — писал он в своих дневниках, — друг императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне, что однажды вечером царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения растворилась дверь и вошел сам император. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил: — Вы читали? — Да, государь. — Что вы читали? Императрица молчала. — Вы читали роман Дюма „Записки учителя фехтования“. — Каким образом вы знаете это, государь? — Ну вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил!» Любопытно добавить к этому рассказу Дюма, что книга «Записки учителя фехтования» не могла появиться в свет на русском языке до самой революции. Впервые она была опубликована в нашей стране в 1925 году! Как видим, Дюма знал, что не может ждать благосклонного приема при санкт-петербургском дворе. Однако в 1858 году он все же решился: ведь для него это было не только путешествием, но и романом приключений. Это были годы широкого общественного движения в России за освобождение крестьян, годы крестьянских волнений. Дюма ехал не в гости к царствующей династии, но, по его собственным словам, «присутствовать при великом деле освобождения сорока пяти миллионов рабов». — Я не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вид, — сказал он, глядя на Неву с гранитной набережной, — который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой… Его поражали пространства, о которых он знал заранее, но не мог их себе реально представить. Его восхищали радушие и гостеприимство русских людей. Впечатления от России, изложенные в книге «От Парижа до Астрахани», принято упрекать за фантастичность, за ошибки в описании русской жизни французским писателем. Но сейчас, когда опубликованы документы секретных архивов, мы знаем, как внимательно следили работники Третьего отделения за путешествием Дюма, как старались создать искусственную стену между ним и русским народом. А путешествие это было совсем не простым. Дюма путешествовал не только по ухабистым трактам и проселкам, рекам, степям и горам. Книга была также путешествием по русской истории, литературе, русской политической действительности, с многочисленными экскурсами в область археологии, истории религии, стратегии и даже национальной кулинарии. Время от времени писатель позволял себе вторгаться в «запретную зону русской истории»: рассказывал об убийстве Павла I, о дворцовых переворотах XVIII века, об интимной жизни Петра I и Екатерины, о неприглядной политической действительности России… Однако рядом с этим в книгу попали и баядерки, и огнепоклонники, и калмыцкие наездники, и медвежья охота, и даже стычка с горцами, мюридами «священной армии» Шамиля — все это было организовано русской полицией, все, включая столкновение со сторонниками Шамиля: казаки, переодетые в национальные костюмы горцев, затеяли перестрелку, а потом французскому писателю показывали лохмотья, вымоченные в крови барана, заколотого к обеду. Да, он написал, что Пушкин родился в Пскове и умер сорока восьми лет, а Лермонтов — сорока четырех. Он перепутал немало дат. Но он впервые рассказал миллионам французов о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, художнике Александре Иванове, Глинке, Марлинском и о русских писателях-современниках. Он впервые перевел на французский язык, быть может и неточно, стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Некрасова. Он рассказал Европе о поэте-декабристе Рылееве и его запрещенной поэме «Войнаровский». В журнале «Мушкетеры», где публиковались его записки о России, он напечатал «Ледяной дом» Лажечникова и «Фрегат „Надежда“» Марлин-ского… Мы должны оценивать писателя не по его случайным ошибкам, но по тому лучшему, что было им сделано. Александр Дюма любил Францию и писал для своего народа. Но мы справедливо считаем себя наследниками всего лучшего, что создано народами всего мира, и с гордостью можем сказать, что Александр Дюма — один из любимых писателей нашей молодежи и останется таким на долгие годы.9
Когда Дюма однажды упрекнули в том, что он искажает историю, он ответил: — Возможно, но история для меня — только гвоздь, на который я вешаю свою картину. И это было правдой: писатель совсем не был историческим романистом. Он был создателем и блестящим представителем приключенческого романа на историческом материале, но он не смог стать французским Вальтером Скоттом — для этого ему не хватало щепетильной точности в изложении фактов и величия исторической мысли. Вальтер Скотт не следовал позади колесницы Истории, подбирая упавшие крохи. Он воскрешал историю, выводя ее из тьмы забвения, и заставлял жить в сердцах. Он был прав даже тогда, когда не был щепетильно точен: психологическую правду он иногда предпочитал правде исторической. Дюма же любил эти крохи истории, как любил брызги фонтанов и огни фейерверка. Для него блеск брильянтов Анны Австрийской был ярче мрачных огней Варфоломеевской ночи и острие шпаги д’Артаньяна, направленной в грудь Мазарини, гораздо более грозным, чем все движение Фронды. И, когда после появления «Графа Монте-Кристо» гиды стали показывать в Марселе любопытным туристам дом Морелля, дом Мерседес, а в крепости Иф — камеры Эдмона Дантеса и аббата Фариа, Дюма гордился этим не потому, что он «сам творец истории», как сказал о нем один восторженный поклонник, но потому, что он создал образы героев такой запоминающейся силы. Несмотря на внешнюю поверхностность романов Дюма, в их основе всегда лежат реальные факты. Писатель хорошо знал закулисную историю Франции XVI–XVII веков и всегда опирался на большой, собранный им материал. Иногда он ошибался, но чаще он переиначивал историю в соответствии со своим замыслом. Он широко пользовался всякого рода дневниками, воспоминаниями и личными письмами — ведь его интересовали не большие исторические события, не широкие народные движения, а дворцовые интриги, быт эпохи. И главным для него были люди-герои с сильными страстями, всегда готовые к действию и борьбе. О том, как работал Дюма, можно проследить на примере создания им «Трех мушкетеров». В основу их легли «Мемуары д’Артаньяна», действительно существовавшего, хотя никогда ничего не писавшего. Эти подложные мемуары сочинил Куртиль де Сандрас, правда, знавший д’Артаньяна лично. Из этой книги Дюма взял имена героев — Атоса, Портоса и Арамиса, историю путешествия д’Артаньяна в Париж, историю Миледи и ряд приключений мушкетеров. Кроме этого, Дюма использовал «Мемуары ля Порта». Они легли в основу истории Атоса — графа де ля Фер. История с алмазами королевы заимствована из книги Редерера «Политические и любовные интриги французского двора». Что же внес нового Дюма в роман «Три мушкетера»? У Куртиля де Сандраса д’Артаньян только грубый вояка, охотник за богатыми вдовами, шпага и шпион Мазарини. Дюма наградил его умом, храбростью, хитростью, ловкостью, верностью в дружбе. Ничего этого нет в «Мемуарах». И, главное, из слуги Мазарини он превратился в его заклятого врага. Дюма сделал то, что может сделать только талантливый писатель: он оживил историю и одухотворил ее полнокровными образами людей. Рядом с д’Артаньяном на страницах романа обрели жизнь три мушкетера: Атос, Портос и Арамис, кардинал Ришелье, Мазарини, Людовик XIII, королева Анна Австрийская, Миледи, Букингем, король Карл I Английский — люди такие своеобразные, не похожие друг на друга и в то же время близкие и понятные читателю. Любопытно, что в «Трех мушкетерах» Дюма оказался историком больше, чем сам предполагал. Имена Атос, Портос и Арамис, которые он считал лишь псевдонимами, так как они звучали странно для французского уха, принадлежали людям, действительно существовавшим. Атос родился около Советерр де Беарн и умер в 1643 году. По-видимому, он был убит на дуэли, так как его тело, проколотое шпагой, было найдено утром вблизи рынка. Портос назывался Исаак де Порто. Он действительно был мушкетером, и его имя можно найти в списках времен Ришелье и Мазарини. Его род существует до сих пор, а потомки и сейчас живут во Франции. Арамис именовался д’Арамиц. Его владения были расположены в долине Бартон… Но Дюма писал не только исторические произведения. Один из его шедевров, роман «Граф Монте-Кристо», — книга о современной писателю Франции. Интересно, что основа сюжета и целый ряд подробностей были заимствованы Дюма из полицейских протоколов, то есть взяты из самой гущи окружающей его жизни. В 1807 году сапожный подмастерье Пико готовился вступить в блестящий брак. Упоенный успехом, он хвастался своей удачей перед посетителями кафе, где постоянно обедал. — Бьюсь об заклад, что я этому помешаю, — сказал своему приятелю Аллю хозяин кафе Лупьо, которого снедала низкая зависть. Лупьо вместе с несколькими собутыльниками написал донос полицейскому комиссару, который, признав дело чрезвычайно важным, так как оно касалось заговора против государства, передал его министру полиции. Пико был арестован и как опасный политический преступник заключен в замке Фенестрель. Два года спустя Лупьо женился на невесте Пико. Через семь лет Пико вышел из заключения. В тюрьме он был лакеем и преданно ухаживал за скромным миланским священником. После смерти священника он оказался обладателем колоссального состояния, которое тот ему целиком завещал. За годы тюрьмы несчастный Пико так изменился, что никто не мог его узнать. Озлобленный, он был одержим лишь одной мыслью: мстить всем тем, кто лишил его свободы и любимой девушки, мстить жестоко, мстить до конца. Ценой драгоценного алмаза стоимостью пятьдесят тысяч франков он выпытал у Аллю имена доносчиков. Потом он, никем не узнанный, поступил в кафе Лупьо в качестве лакея. Через несколько дней один из доносчиков был найден убитым ударом кинжала. На кинжале было выгравировано: «Номер первый». На следующей неделе другой был отравлен. На его гробу оказалась надпись: «Номер второй». Подозрение пало на Лупьо — это были его ближайшие приятели. Посетители стали сторониться его кафе, и Лупьо разорился. Он опустился, запил, жена его умерла с горя. Вечером, после похорон жены, Лупьо встретил Пико в Тюильрийском саду. Тот открылся Лупьо и вонзил ему кинжал в сердце. В этот момент Пико схватили, связали, заткнули ему рот и затем перенесли в подземелье. Это было сделано по наущению Аллю: алмаз, который он получил от Пико, возбудил его алчность. И он все время следил за мстителем, надеясь завладеть его огромным состоянием. Пико был посажен на цепь. Аллю сказал, что не собирается его убивать и что будет даже хорошо его кормить, но за каждый обед пленник должен платить по двадцать пять тысяч франков. Так как его жестокая месть была завершена, Пико уже ничего не оставалось в жизни. Он умер от голода, так и не сказав, где спрятано его богатство. На смертном одре Аллю открылся священнику, который сообщил об этом в префектуру. Так эта история попала в полицейский архив… Если сравнить историю из полицейского протокола с романом «Граф Монте-Кристо», то станет ясным творческий метод Дюма. В истории Пико есть почти все мотивы романа, и Дюма оставалось лишь усложнить интригу, добавить новые эпизоды, быть может заимствованные из других источников, расшить эту грубую ткань золотым узором… Но ни в одном протоколе он не мог найти характеров, которые составляют главную прелесть романа. Подлинный талант Дюма раскрывался не в приключениях его персонажей и даже не в ярких картинках, нарисованных его мастерским пером. Мы считаем Дюма большим писателем потому, что он создал блестящую галерею таких героев, как граф Монте-Кристо — во всех его превращениях, Мерседес, Фернан, Данглар, Вильфор, Нуартье, аббат Фариа, Бертуччо, — галерею, которая живет и не меркнет вот уже больше столетия! В истории Дюма предпочитал эпохи беспокойные, смутные, бурные, потому что они порождали сильные, действенные характеры. А то, что писатель всем другим краскам предпочитал черный и белый цвета, лишний раз свидетельствует, что это не картинки французского художника Мейсонье, который к каждому своему полотну прилагал лупу для его рассматривания, но мгновенные впечатления человека, находящегося в упоении битвой. Нельзя рассматривать романы Дюма как историю Франции в художественных образах, как сделал один исследователь, расположивший все его произведения в хронологическом порядке описываемых в них событий. Нет, Дюма писал не только о Франции, у него есть исторические романы и о России («Учитель фехтования»), и об Италии, и об Англии (два романа о Робине Гуде), да и задача его совсем иная. Но для современного читателя они могут служить волшебным ключом к библиотеке истории. Он запомнит из его романов имена, последовательность главных событий, проникнет в дух эпохи. И, когда он перейдет к более серьезным и даже специальным книгам и отсеет верное от случайного, он, несомненно, добром вспомнит того, кто, дружески взяв его за руку, ввел в этот яркий и удивительный мир.10
Александр Дюма прожил большую, пеструю жизнь. Он был человеком добрых намерений, большого, свободного сердца и демократических убеждений. Его детство было овеяно отблеском революционного пламени, и этого он не забывал всю жизнь. Он принимал участие в июльской революции 1830 года; сочувствовал освободительному движению во всех странах; ему были ненавистны рабство и национальное угнетение. Но во всякой революции его привлекала больше внешняя сторона: знамена, факелы, баррикады, революционные песни, а не их социальный смысл. Всякая революция была для него как бы продолжением бурных и неистовых религиозных войн XVII столетия между католиками и гугенотами или завершением блестящих и победоносных наполеоновских походов. Он принял деятельное участие в февральской революции 1848 года. В то время Дюма был командиром национальной гвардии Сен-Жермена. В решающий момент восстания он появился в мундире на Королевском мосту в сопровождении четырех или пяти гвардейцев, выкрикивая слова команды и жестикулируя так неистово, как если бы он командовал целой армией. Он прибежал в палату депутатов как раз тогда, когда народ требовал свержения короля и изгнания Орлеанского королевского дома. После перестрелки на Бульваре Капуцинов, где было много убитых, Дюма в знак траура закрыл свой Исторический театр. Спустя несколько недель он посадил перед зданием театра «дерево свободы». Оркестр Варнея, разместившийся на балконе, давал бесплатные концерты, и толпа танцевала на улице, перед театром, до четырех часов утра. Все это было точным воплощением того, как Дюма представляет себе революцию. Он был другом Гарибальди и уже далеко не молодым человеком принял участие в его походах в Сицилию и Неаполь. Для Гарибальди и его «тысячи» эти походы были битвой за свободу и объединение родного народа, для Дюма — очередной роман приключений. Но внешняя пышность и пестрая мишура, в которую он так по-детски любил рядиться, не должна заслонять от нас подлинного лица писателя. Торжественные приемы, витиеватые речи, обильные обеды, встречи с великими мира сего, суды с издателями, ссоры с сотрудниками — а их число к концу жизни Дюма превысило семьдесят человек! — все это было мишурой, которая забавляла, льстила самолюбию, но занимала лишь очень малую долю его жизни. Александр Дюма становился самим собой лишь за своим девственно белым письменным столом, перед стопкой разноцветной бумаги, с гусиным пером в руках. Сколько образов теснилось в его голове, сколько вымышленных героев толпилось около него, сколько эпитетов, метафор и метонимий висело на кончике его пера! И все они жаждали освобождения, мечтали воплотиться в буквы, строки и страницы каллиграфически написанной рукописи! Как бы ни был Дюма угрюм, мрачен, объят сплином, он преображался, когда брал в руки перо. — Мои самые безумные фантазии часто рождаются в мои самые пасмурные дни, — говорит он. — Вообразите себе грозу с розовыми молниями… Самым большим счастьем для него было играть роль Провидения, Судьбы, Фортуны (так выражались в те дни) по отношению к своим героям. Ведь он мог одного сделать счастливым, другого — несчастным, обогатить или разорить, отдать бедному юноше, никак не ожидавшему этого, женщину, которую он любит. Он распоряжался жизнью и смертью своих персонажей, хотя порой они вырывались из-под власти писателя и, помимо его воли, совершали поступки, которые он никак не мог предвидеть. Но перо Дюма всегда послушно следовало за героями, так как писатель хорошо знал, что, если созданные им люди вырвались из-под его власти, значит, роман удался! Он любил своих героев и почти верил в их существование. Однажды Александр Дюма-сын застал отца в слезах. — Что случилось, — спросил молодой человек. — Какое-нибудь несчастье? — Портос умер! — ответил писатель. — Я должен был принести его в жертву. Как мудрый и умелый советчик, почти как добрый отец, он убеждал своих неблагодарных блудных героев покинуть стезю порока и вернуться в отцовский дом. Он гипнотизировал читателя, одевал его то в королевскую парчу, то в лохмотья нищего. Он открыл поистине магические возможности романа, неизвестные до него. Несмотря на упреки современников, часто справедливые, на снисходительное — сверху вниз — отношение историков литературы, причисляющих Дюма к писателям «второго ранга», он все же остался жить — и сейчас жив не менее, чем сто лет назад. Его пыл и одушевление стали бессмертными, так как он смело и щедро награждал ими своих героев. Он и сам ценил их очень высоко: «Этими качествами — известно, с какой беспечной откровенностью я говорю о себе, — этими качествами я обладаю в совершенстве…» В конце жизни, вспоминая пройденный путь, люди обычно жалуются на то, что не успели воплотить в жизнь свои мечты, сделали слишком мало. Александр Дюма, умирая и подсчитывая итоги жизни, сетовал, наоборот, на то, что сделал чересчур много лишнего, что слишком много сора среди его жемчужин… Конец его жизни был печален: он скрывался от кредиторов, был вынужден бежать из столицы, прятался на даче своего сына. Парижская толпа, когда-то чтившая Дюма, как полубога, стала его забывать. Появились новые литературные кумиры. Это была эпоха Второй империи, диктатура Наполеона III, которого Виктор Гюго назвал Наполеоном Малым. Новое литературное направление с предельной откровенностью выражало идеал империи, олицетворяя его в непойманном преступнике и полицейском сыщике. Властителями дум парижской черни стали Понсон дю Терайль и Габорио. В их произведениях уже не было и намека на правду или искусство. А Дюма, постаревший, обрюзгший, старомодный, продолжал писать о благородных мушкетерах, о пленительной храбрости людей, готовых отдать жизнь за родину, за идею, за товарищей… Салонным плебеям и рыночным аристократам Второй империи все это казалось нелепым анахронизмом. И вот прошло столетие, забылись сановники Наполеона III; никто, кроме историков литературы, не помнит имен Понсона дю Терайля и Габорио, а Дюма жив и сейчас, жив почти как наш современник. Писателя нужно судить не по его ошибкам или неудачам, но по тому, что он сделал лучшего, что осталось в жизни. Пусть же он останется в нашей памяти таким, каким был только наедине с самим собой, — неистовым, страдающим одышкой, с пером в руках за своим письменным столом. Его обступают тени созданных им героев; сквозь тени просвечивает простая обстановка его мастерской: белая доска стола, плотно сбитый стул, железная кровать, камин со стоящими на нем книгами, три разноцветные стопки бумаги на столе. Тени, еще не воплотившиеся, требуют, чтобы он дал им вечную жизнь на страницах романов. Писатель поднимает перо, какшпагу; он прокалывает им злодеев, посвящает в рыцари любимцев и пишет, пишет, покрывал огромные листы бумаги своим быстрым, легким почерком. Александра Дюма читают уже свыше ста лет и прочли десятки, если не сотни миллионов восторженных почитателей на всех материках, во всех странах света. Он друг юношей и девушек всего мира и всегда готов вступить с ними в дружескую беседу: достаточно лишь снять с полки одну из его книг — а их столько, что можно ими наполнить целую библиотеку! — и раскрыть ее. И перед нами появится неутомимый рассказчик, подобный героям «Тысячи и одной ночи», окруженный неисчислимой толпой созданных им людей. А о какой более высокой и славной судьбе еще может мечтать писатель!МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ (№5 1959)
Г. Матвеев ПОСЛЕ БУРИ Повесть
1. РОЖДЕСТВО
Короткий день быстро угасал, и на потемневшем небе кое-где робко мигали звезды. Дым из трубы топившейся печки столбом поднялся вверх и застыл без движения. В учительском доме зажгли елку. Огоньки свечей двоились на заледеневших стеклах, переливаясь разными цветами. Несмотря на стужу, околоточный Кандыба шел неторопливо, прислушиваясь к своим собственным шагам. Снег под ногами скрипел ну совсем как новые сапоги. Под горой заиграла гармонь, и девичий голос звонко запел:ДАЛОЙ ЦАРЯ.Положив на стол бумагу, Аким Акимович заложил руки за спину и долго ходил из угла в угол, не глядя на остолбеневшего Кандыбу. Затем он остановился около печки и, поднимая к огню то одну, то другую ногу, не поворачиваясь, неожиданно спросил: — Ты мне вот что скажи, Кандыба… Почему тебя зовут «братоубивцем»? — Ваше высокоблагородие, напраслина это, — хрипло проговорил околоточный. — По злобе дразнят. — А все-таки? Нет дыма без огня. Кандыба откашлялся, опустил руки по швам и, часто моргая широко открытыми глазами, заговорил: — Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие, всю правду, как на исповеди. Был у меня брат… не отрекаюсь. Оба мы раньше на копях работали. А потом, значит, когда я на своей супруге оженился, то переехал сюда в собственный ейный дом. Супруга моя приходилась родной дочерью здешнему надзирателю и, как, значит, я по наследственности тоже поступил служить в полицию, то между нами с братом произошла свара. Конечно, ваше высокоблагородие, кто себе враг… Я желаю лучшей жизни. При моей старательности… — Не размазывай! Короче! — подстегнул его пристав. — В прошлом году, ваше высокоблагородие, когда на копях беспорядки учинились… Крамола, забастовка, бунт и всякие комитеты… Так что, брат мой, по слабости ума, с внутренним врагом связался и вместе с другими против царя бунтовал… Он, конечно, не социлист, как вы изволили говорить, а только что вроде… Пролетарий! — Кандыба горестно вздохнул и покосился на икону спасителя, как бы призывая его в свидетели. — А потом, когда вы приехали усмирять и покарали виноватых… Так что, брата моего во время стрельбы убили… Вот и говорят, будто я его убил… Ваше высокоблагородие, напраслина это… Так что, меня самого чуть жизни не лишили. Оружие отобрали… В погреб посадили… Казалось, Кутырин не слушал и думал о чем-то другом. Прищурившись, он смотрел на огонь и медленно покачивал головой. — Следовательно, брата твоего убил я? — спросил он. — Нет… Как можно?.. Что вы, ваше высокоблагородие! — испуганно забормотал Кандыба. — С твоих слов так выходит. — Никак нет… И в мыслях не имел… Да разве там разберешь!.. Как на войне… Я к тому говорил, как вы есть… — Ну, довольно! — остановил его пристав. — Черт занес меня в эту дыру! В первый день рождества — и некуда деваться. Со скуки сдохнешь! Кандыба давно привык к таким резким переходам своего начальника. — Истинная правда, ваше благородие! — угодливо согласился он. — Места здесь глухие, медвежьи… образованной компании не собрать. Дикость! — В конторе сегодня бал-маскарад. Воображаю, чт это за бал! Аким Акимыч вернулся к столу, взял бумажку и сложил ее вчетверо. — Я считал, что типографию они успели увезти… — медленно проговорил он. — Это первый случай. Надо ждать еще… Типография где-то здесь. Понял? Держи нос по ветру. Большую награду получишь, если типографию найдем. Пока молчать!.. Ты здесь всех знаешь. Подумай, где искать и кто еще остался ненадежный. — Ой, ваше высокоблагородие! — вздохнул Кандыба. — Так что, много тут ненадежных… Притаились. — Ничего! Больше не посмеют! Голову мы им оторвали, а без головы они не страшны… Типографию надо искать! С этими словами пристав направился в свой кабинет, находившийся в соседней комнате. Околоточный схватил лампу и догнал начальника в дверях. Спрятав бумажку в ящик стола, Кутырин надел перчатки и на ходу приказал: — Я буду в конторе. По пустякам меня не беспокоить!
2. БРОДЯГА
Городовой, по фамилии Жига, в валенках, в овчинном тулупе, в башлыке, медленно шагал по середине улицы, с завистью и досадой поглядывая на освещенные окна домов. Края башлыка и поднятого воротника покрывались инеем, на усах наросли сосульки, но он не замерз. Обидно было дежурить в первый день рождества, да еще на наружном посту.
Против конторы Жига остановился. Нижние окна двухэтажного каменного здания были ярко освещены. Здесь инженеры, техники и служащие копей устраивали сегодня бал-маскарад. «Интересно было бы поглядеть, как вырядились господа!» — подумал Жига, вспомнив, что в молодости он и сам с приятелями ходил ряженым по деревне. Обычно он выворачивал наизнанку шубу, мазал лицо сажей и изображал не то зверя, не то черта. Другие наряжались кто во что горазд. Чаще всего мужчины надевали женскую одежду, а женщины мужскую и при этом наводили сажей усы и мазали подбородок. Главное, чтобы не узнали… — Кто это? — раздался за спиной знакомый резкий голос. — Это я… Жига, ваше высокоблагородие! Аким Акимович, не поворачивая головы, быстро прошел мимо, вбежал на крыльцо и, широко распахнув дверь, ушел внутрь. Жига проводил его глазами, запахнул полу тулупа и медленно тронулся дальше. По натуре трусоватый человек, он одобрял решительное и жестокое поведение начальника. За спиной пристава Жига чувствовал себя в полной безопасности. Рабочих-бунтовщиков, не желающих покориться царю-помазаннику, городовой ругал последними словами. Но особенно ненавидел он студентов и «социлистов». И о тех, и о других он имел смутное представление со слов Кутырина. Ему казалось, что это были переодетые слуги антихриста в образе людей. А в антихриста Жига верил и знал, что его пришествие ожидается в ближайшие годы. Все признаки, указанные в библии, точно сходились. И русско-японская война и смута по всей земле… Пройдя несколько шагов, Жига снова остановился и прислушался. Звуки пианино пробивались через двойные рамы и еле слышно, но четко доносились до слуха полицейского. Музыку Жига любил только в пьяном состоянии. В трезвом она настраивала его на грустный лад. Сердце начинало сжиматься от непонятной жалости, а кого и что надо было жалеть, — он не знал. Жигу никто не жалел, а он и подавно. Так и сейчас. Как только в тихом звоне струн появилась стройная мелодия вальса, к сердцу полицейского подкралась жалость. Чтобы не расстроиться окончательно, он тронулся дальше, заглушая музыку скрипом шагов. Дойдя до переулка, Жига остановился как вкопанный. Во втором доме от угла из трубы поднимался столб дыма и был ясно виден на фоне неба. По спине у полицейского поползли мурашки. «Что за наваждение! — подумал он. — Печка топится». Дом этот был давно покинут и стоял с заколоченными окнами, наполовину занесенный снегом. Принадлежал он повешенному после восстания шахтеру Зотову. Сообразив, что дело «не чисто», Жига торопливо перекрестился, но дым не пропал и противное чувство страха не исчезло. Если бы это случилось в другое время, Жига, пожалуй, бы не испугался или испугался меньше, но на рождество от нечистой силы можно ждать чего угодно. Долг призывал выяснить «происшествие», и Жига, вторично перекрестившись, свернул в переулок и осторожно приблизился к дому. Щели заколоченного досками окна светились ровным огоньком. Полицейский оглянулся. В переулке ни души. «Что, если хозяин домой вернулся?» — мелькнула в голове непрошеная догадка. Городовой ясно представил себе, как сейчас из дома выйдет Зотов, этот крупный, суровый, большой силы человек и неторопливой, развалистой походкой подойдет к нему. Пойдет он босым, как и был повешен, а ноги его не будут проваливаться в снегу… На шее у него черный рубец от веревки… В этот момент конторский сторож захлопал деревянной колотушкой. От неожиданности Жига шарахнулся в сторону. Опомнившись, он крикнул, не поворачивая головы: — Архипыч! Ты? — Ась! — Поди сюда! Когда старик подошел, Жига молча указал рукой на огонек, по-прежнему мелькавший в щелях. — Чего там? — не понял сторож. — Огонь, что ли? Присутствие старика прибавило бодрости. Кроме того, полицейский заметил глубокие следы в снегу, протоптанные от дороги к дому. — Хозяин вернулся… — хрипло сказал Жига, показывая рукой на дом. — С нами крестная сила! — прошептал, крестясь, старик. — Скажет же такое… — Пойдем поглядим… Иди за мной, не бойся. Они направились к крыльцу. Следы шли кругом, делали петли. Видимо, кто-то долго бродил около дома, прежде чем войти. Держась друг за друга, ощупью, полицейский и сторож прошли сени, нащупали скобу, распахнули дверь и увидали бородатого, высокого, незнакомого мужчину. Вероятно, он слышал их шаги в сенях и спокойно ждал около печки, которую успел недавно растопить. — Кто такой? — строго спросил Жига, внимательно разглядывая незнакомца. — А что, разве не видишь? Человек мужского пола, с руками, с ногами, — шут~ ливо ответил тот. — Фамилия как? — Непомнящий. — Это фамилия такая?.. Ну-ка, покажи паспорт. — Нет у меня паспорта. — Почему нет паспорта? Беглый? — Зачем беглый… На заработках в Перми был. Сейчас домой пробираюсь. — Куда домой? — В Чердынь. Насмешливые глаза мужчины и спокойный тон ответов сбивали с толку, но Жигу трудно было провести. В полиции он служил не первый год и редко смущался. Обстоятельства встречи и одежда этого человека говорили сами за себя. — А зачем ты сюда пришел? Видишь, дом заколочен? — грубо продолжал спрашивать Жига. — Вижу… Потому и зашел, что заколочен. Значит, не живут. Хотел переночевать. — Для ночевки я тебе найду место потеплее. Ну-ка, гаси огонь! — А что я такое сделал? Мешаю тебе, что ли? — Бродяга ты — вот что. Беглый! Меня не проведешь. Глаз у меня наметанный. Архипыч, погаси в печке огонь, а ты пойдем со мной! Старик вышел. Мужчина стоял в нерешительности. Жиге вдруг показалось, что он хочет броситься на него и даже сделал движение. Городовой невольно отскочил в сторону и схватился за кобуру. — Какой пугливый!.. Не бойся, не трону, — усмехнулся мужчина и, взяв кушак с лавки, стал неторопливо подпоясываться. Жига все-таки вытащил револьвер. Влажный от меховой варежки палец цеплялся за мерзлую сталь. — Вот, будь ты неладная! — выругался он и, подойдя к печке, стал отогревать наган. Так они стояли некоторое время, поглядывая друг на друга, пока старик не принес снегу. — Выходите. Погашу, темно станет. Вышли на улицу и неторопливо двинулись к участку. Жига надеялся, что задержанный попросит его отпустить, может быть, даже предложит хорошие деньги из награбленных по дороге, но тот молчал. — Из Сибири бежал? — спросил городовой. — По одежде видать — снял с кого-то? Мужчина молчал. — Что ты, в рот воды набрал? Говори, когда спрашивают, — рассердился Жига. — Не о чем нам говорить. С приставом буду говорить. — С приставом? Поговори, поговори… Он вашего брата жалует! Жига шел сзади. Когда нужно было поворачивать в переулок, где находился участок, мужчина, не оглядываясь, свернул. — Дорогу знаешь? — удивился Жига. — Бывал, что ли, здесь? Задержанный молчал.
3. СИРОТЫ
Поднимаясь по улице в гору, лошади выбивают желоб на дороге. В таком желобе хорошо кататься на ледяшке. Еще лучше — на санках с тонкими железными полозьями. Сеня Богатырев шагал по дороге и мечтал о санках, обитых красным бархатом, с кистями по бокам. На днях он видел, как неумело пытались кататься на таких санках инженерские дети. Бороздилками у них были тонкие машинные гвозди, править они не умели и на первом же повороте перевернулись… — Эй! Эй! Берегись! — раздался крик за спиной, и он отскочил в сторону. По желобу вихрем пронесся на ледяшке мальчик. — Кузька! Кузька! Кузя услышал окрик приятеля, ловко свернул в переулок и, поднимая бороздилками снежную пыль, изо всей силы затормозил. Когда Сеня подбежал, он пытался выправить согнувшийся при торможении кончик большого кованого гвоздя. — Сделал ледяшку? — спросил Сеня, перевернув обрубок толстой доски, затесанной спереди наподобие лодочного носа. С видом знатока, он провел грязной от угольной пыли варежкой по гладкой поверхности льда. — Сам наращивал лед? Кузя не считал нужным отвечать на такой вопрос. Кто же будет наращивать лед на его ледяшке, кроме него? — Едем, что ли? Подобрав полы длинной женской капа-вейки, Кузя сел на задний конец ледяшки, вытянул ноги вперед и слегка раздвинул колени. — Садись! Сеня сел между его ногами, наклонил голову набок, чтобы не мешать править. Кузя оттолкнулся бороздилками, и ледяшка покатилась по утрамбованной дороге, быстро увеличивая скорость. От встречного воздуха было трудно дышать. Мороз колол лицо, угрожая побелить щеки, нос… Но спуск уже кончился, и ледяшка остановилась у плотины. Приятели встали и двинулись дальше пешком, таща за собой ледяшку. Скоро они пришли к низенькому дому, где жил Карасев с матерью. Мать Карасева работала в ночной смене на угольных печах, и поэтому ребята смело вошли в дом. В комнате жарко натоплено. Около двери стояла приготовленная рождественская звезда на длинной палке. На стене горела маленькая керосиновая лампа с сильно привернутым фитилем. — Где же Карась? — спросил Сеня. — Я знаю! У коровы! Он ледяшку хотел делать, — догадался Кузя. Мальчики вышли во двор. Прежде чем наращивать лед на ледяшку, доску надо смазать тонким слоем свежего коровьего навоза, иначе лед отскочит при первом же ударе. Навоз крепко пристанет к доске, и тогда можно смело наращивать лед, поливая поверхность водой на морозе. Карасев сидел на приготовленной для ледяшки доске в коровнике, в ожидании необходимого материала. Здесь было темно. Тощая корова беззвучно жевала, не обращая внимания на молодого хозяина. — Карась! — Я тут! — отозвался мальчик. Кузя и Сеня вошли в коровник. — Темно! Зажгем огарок, — предложил Кузя. — Сенька, у тебя спички есть? — На звезду надо огарки, — предупредил Карасев. — Я много набрал. Полный карман. Хоть на всю ночь хватит! Сеня чиркнул спичку. Корова повернула голову на свет, равнодушно посмотрела на ребят и шумно вздохнула. Кузя вытащил из кармана огарок тонкой восковой свечи и зажег его. Когда огонек разгорелся, он нашел толстый гвоздь, вколоченный в бревно, накапал воску и прилепил к нему свечку. Затем вытащил две просфоры и протянул их приятелям. — Держите. Мягкие, понимаешь! — Где ты взял? — спросил Карасев. — В церкви. Просвирня на продажу принесла цельный мешок. Вот я и взял! Она сама велела. Возьми, грит, штучки три… Я и взял. Говоря это, Кузя присел на корточки к стене, вытащил из-за пазухи пять штук белых просфор и положил их на колени. Ребята с аппетитом принялись жевать мягкие, вкусные хлебцы. Отец Кузи был убит на русско-японской войне. Мальчик пользовался расположением священника и каждую субботу и воскресенье прислуживал в церкви: раздувал кадило, ходил с тарелкой собирать копейки у молящихся, тушил свечки у икон, следил за лампадками. Выгода от этого легкого занятия была не малая: больше, чем он зарабатывал на откатке вагонеток. Корова почуяла хлебный запах, развернулась и, вытянув шею, потянулась к хозяину. — Ну да… тебе надо сто штук… — проворчал он, отталкивая морду коровы. — Дай одну, — великодушно сказал Кузя, протягивая просфору. Карасев взял хлебец, посмотрел на корову и спрятал просфору в карман. — Пускай сено жует, все равно не доится. А просфорку я лучше мамке дам. Ели не спеша. Разобрать вкус хлеба и получить от этого удовольствие можно, только сильно его разжевав. Поэтому ребята откусывали маленькие кусочки и подолгу жевали. — Ребята, а поп грит, мой батя в раю живет и сверху на меня смотрит, — задумчиво произнес Кузя. — Ну да! Откуда он знает? — насмешливо отозвался Сеня. — Он, грит, помер за веру, царя и отечество на поле брани. — А японцы, грит, нехристи. Верно? — Врет он все, — тем же тоном сказал Сеня. — А Васькин отец, грит, в аду на сковородке жарится, потому что бунтовщик… — продолжал Кузя, — против царя пошел. — А ты и поверил? — возмутился Кара-сев. — Он революционер! За рабочее дело дрался… Наших бы тоже могли повесить… Отцы обоих мальчиков, после разгрома восстания, были сосланы в Сибирь на каторгу. — А я что, не знаю, что ли? — смущенно сказал Кузя, поняв, что поповские речи обидели друзей. За стеной послышался тонкий голос Маруси: — Мальчики, где вы? — Здесь! — крикнул Кузя. — Заходи, не бойся. Маруся нашарила рукой скобу и с трудом распахнула дверь. — Ой, мальчики, стынь какая! У меня совсем нос отморозился! Пойдем славить-то? — Конечно пойдем, — ответил Карасев, помогая закрыть дверь. Маруся подула на пальцы и погладила коровью морду. — А что вы тут делаете? — Спрос. Кто спросит, тому в нос! — серьезно ответил Кузя и протянул ей просфору. — На вот… ешь! Девочка взяла просфору, села на корточки в уголок и молча принялась жевать. Давно было заведено, что никогда ни один углан не водится с девчонками, но отец Маруси, веселый балагур, с ярко-рыжими волосами, после восстания умер от ран в больнице, и поэтому мальчики добровольно взяли над ней опеку и приняли в свою компанию. Маруся дорожила исключительным положением и старалась держать себя с достоинством. В коровнике сравнительно тепло. Уютно горит свечка.
— Ты давно ждесь, Карась? — спросил Сеня. — Засветло пришел, а она… как нарочно… — сердито ответил тот и бросил в корову щепку. Терпение его иссякло. «Придет Васька, пойдем славить, и доска останется не намазана», — думал он. — А как это может быть? — проговорил Кузя, ни к кому не обращаясь. — В церкви икона нарисована… Рождество Христово. Он, грят, во хлеву родился, а печки там не было. Как он не замерз. — Потому что бог! — сразу отозвалась Маруся. — Ну да… бог! — передразнил ее Сеня. — В такой мороз и богу не вытерпеть. Там жаркая страна и морозов не бывает. — А на том свете морозы бывают? — спросил Кузя. — А про это никто не знает… Снова восстановилось молчание, но ненадолго. — Надо бы спевку устроить, — предложил Кузя, заметив, что ребята съели просфорки, и, не дожидаясь согласия, откашлялся и запел. Не понимая смысла славянских слов, коверкая их по-своему, пели старательно, вытягивая шеи на высоких нотах. «Рождество твое, Христе, боже наш, вос-сия мирови свет ра-а-зума-а. В нем бо звездам служа-ащие и звездою уча-ахуся. Тебе кланятися, солнцу пра-авды, и тебе видети с высоты восто-ока. Господи, слава тебе». Закончив одну молитву, сейчас же запели: «Дева днесь», но вдруг послышались долгожданные звуки коровьих шлепков. Карасев вскочил, схватил приготовленную доску и деревянную лопаточку. — Кузька, посвети… Быстро принялись за дело и, когда все было готово, намазанную доску выставили на мороз. — Во! За ночь так прихватит… Я те дам, — сказал Сеня. — Утром я тебе помогу, Карась. — Очень толсто не наращивайте, — посоветовал Кузя. — Тонкий лед крепче. — И без тебя знаем. — А что это Васька долго? — недовольно протянула Маруся. — Пора уж… — Успеешь. Свечки надо поставить. Пошли… Отряхнув ноги в сенях, вошли в дом, прибавили в лампе свет и занялись звездой. Карманы у Кузи дырявые, и все содержимое проваливалось за подкладку кацавейки. Вытаскивая огарки свечей, он не заметил, как обронил на пол небольшой металлический предмет. — Чур на одного! — сказала Маруся, нагибаясь. Занятые звездой, ребята не обратили внимания на восклицание девочки. Маруся подошла к лампе и стала разглядывать находку. Четырехгранные, с углублением посредине, металлические палочки были связаны вместе. На одном конце они имели букву. Некоторые буквы она сразу узнала: Д, О, И. Другие были почему-то перевернуты задом наперед. — Ты где взяла? — неожиданно грозно спросил Кузя, выхватив у нее из рук находку. — Я нашла… — робко ответила Маруся. — Где нашла? — А вот здесь. Девочка показала рукой на пол и такими ясными глазами посмотрела на мальчика, что сомневаться не приходилось. Положение создалось затруднительное: надо было как-то объяснить, предупредить, иначе она могла проболтаться и наделать бед. — Это мое. Марусенька, ты никому не сказывай, — таинственно прошептал Кузя. — Слышишь, Маруська? Если узнают, все пропадем. Посадят в «чижовку». — Я не скажу… Кузя, а на что тебе? — таким же шепотом спросила она. Мальчик оглянулся. Карасев и Сеня вставляли огарок свечи в звезду и не обращали на них внимания. — Гляди! Он взял руку девочки и приложил связку буквами к ладони, сильно нажал. На коже отпечатались слова. — Видала! — прошептал он. — Такими буквами книжки печатают. Только ты никому не сказывай. Маруся недоверчиво слушала и с удивлением смотрела на ладонь. Буквы вдавились на коже и сначала были синеватыми с белыми каемками, затем начали краснеть, расплываться и, наконец, стали еще заметнее. — А где ты взял? — поинтересовалась она. — Я тоже нашел, — соврал он и, погрозив пальцем, спрятал связку в карман. — Только ты никому… Побожись! — Нет, ей-богу, никому, — охотно сказала девочка и перекрестилась на Кузю. Звезда была готова; время шло, ожидание томило, и ребята устроились кучкой в темном углу около печки, разговорились. — А сегодня в полиции Кандыба дежурит, — сообщил Кузя, знавший все новости поселка. — Он «братоубивец», — заметила Маруся. — Дядя Степа сказывал, его надо в шурф спустить вниз головой. — Не твоя забота. Придет время, и спустят, — остановил ее Сеня. — Ты лучше помалкивай. — А он один там? — спросил Карасев. — Один. — Вот бы ему теперь стекла вышибить! На улице-то мороз! — предложил Карасев. — Давайте! — живо согласился Кузя. — Возьмем полены да ка-ак звизданем, одним разом! — Нет… Стекла не надо. Ни к чему, — возразил Сеня. — Вот если спалить. Фараоны пьяные, никто не увидит… Глаза ребят загорелись злым огоньком. Воображение легко представило картину возможного пожара. Бьет в набат церковный колокол, и тревожные удары гулко разносятся над поселками. Огонь разгорается все ярче и ярче, искры летят к небу, и никто не хочет тушить ненавистную «чижовку». Неукротимую злобу затаили сироты против полиции после восстания. Там служили, по их мнению, виновники всех бед, горя и страданий. А главное, пристав или, как они его называли между собой, «живодер». Часто мечтали ребята о мести за отцов, строили всевозможные планы, но Вася Зотов всегда останавливал и, что называется, охлаждал их пыл. Ослушаться его они не смели. И только Кандыба дважды почувствовал на себе силу их ненависти. Один раз они подобрались к его дому и по команде выбили все стекла. В другой раз достали каустика и, когда Устинья, жена Кандыбы, развесила на дворе после стирки белье, они ночью перемазали его ядовитой солью. Кандыба, конечно, догадывался, кто это сделал, но молчал. Во-первых, «не пойман — не вор», а во-вторых, боялся, что может быть и хуже: пустят «красного петуха». — Мальчики, мамка сказывала, вчера в кузнице драка была. Мастера побили… — Ну и пускай… — неопределенно промолвил Сеня. Он еще не расстался с мыслью поджечь полицию, хотя и был уверен, что Васька не позволит. Наконец распахнулась дверь и вошел Вася Зотов. Он был самый старший. Отцовский полушубок, большие валенки и мохнатая шапка велики, но в них легко угадывалось стройное, сильное тело юноши. — Все собрались? — Все… А чего ты так долго? — Дело было… Ну-ка, покажи звезду. — Вася взял звезду, проверил, крепко ли она держится на палке. — Хорошо! Инженера Камышина встретил. Велел приходить к нему славить, — сообщил он. — Он добрый, — сказала Маруся. — Ну да, добрый, — усмехнулся Сеня. — Он трус! «Медведь» говорил, что он не наш. — Не болтай, если не знаешь. Он тоже революционер. Только он в другой партии состоит. С рабочими он не хочет, — уверенно сказал Вася, хотя сам имел довольно смутное представление о партиях. — Потому что сам не рабочий, — подтвердил Карасев. — Не потому. Разные партии есть… Которые за царя, которые за фабрикантов и за помещиков, а которые за рабочих, — также уверенно пояснил юноша. — Вася, бери просфорку. Это тебе, — сказал Кузя и протянул просфорку. — Украл? — Я с разрешения. Нет, верно! Просвирня сама велела взять. Вася сунул просфорку в карман, взял звезду и оглядел свою команду. — Марусь, а ты ведь замерзнешь… Девочка сразу заморгала глазами и замотала головой. — Нет… Я теплая. Я пойду с вами. — Пускай идет, а замерзнет, домой прогоним, — заступился Сеня. — Ну ладно. Только потом не реветь. Пошли! Потушив лампу, славельщики гурьбой вышли из дома и направились к рабочим баракам.
4. В УЧАСТКЕ
В полицейском участке тепло и тихо. В печке изредка потрескивали еловые дрова, в шкафчике шуршали тараканы, в кабинете начальника тикали часы. Кандыба сидел за столом и, положив голову на ладонь согнутой руки, тупо глядел на огонек лампы. «Кто же тут еще ненадежный?» — думал он. Рабочих много, и все они казались ему ненадежными. Все смотрят волками, все отворачиваются при встрече или просто не замечают. Перебирая в памяти наиболее известных, он вспомнил о Денисове, по прозвищу Медведь. «Вот этот, пожалуй, самый ненадежный… — решил Кандыба. — Вот на кого надо указать приставу!» Брат Денисова после восстания был сослан на каторгу, а он каким-то чудом уцелел. — Погоди, Медведь… Ты еще меня попомнишь… — сказал околоточный вслух и погрозил кулаком в сторону двери. Были у Кандыбы с Денисовым кое-какие счеты с давних времен, и вот, кажется, пришло время рассчитаться. От этой мысли на душе стало веселее. Кандыба достал из-за деревянного сундука «мерзавчик» и поставил его на стол. Из кармана висящей шинели вынул две рюмки в виде бочоночков и кусок пирога, завернутого в цветистый платок. Ударом о ладонь раскупорил бутылку, налил в обе рюмки и развернул платок. — С праздником! — сказал он вслух. Взяв в каждую руку по рюмке, он чокнулся ими сначала о бутылку, затем рюмку о рюмку и, не переводя дыхания, выпил одну за другой. Крякнул и начал закусывать пирогом. В сенях послышалось хлопанье дверей и шарканье ног. Кандыба быстро спрятал бутылку за сундук, рюмки сунул в карманы шаровар и принял озабоченно-деловой вид. Вошли двое. — Принимай гостя! — сказал Жига, пропустив перед собой задержанного мужчину. — В зотовский дом, понимаешь ли, забрался, печку затопил и сидит, как хозяин! — В зотовский дом? — переспросил Кандыба. — Он же заколочен… — А ему что… Заколочен, так еще и лучше, — ответил Жига. — С приставом желает говорить. Беспаспортный. Кандыба внимательно посмотрел на задержанного, но тот, не обращая внимания на околоточного, скусывал лед, наросший на усах. — Протокол завтра напишу, — сказал городовой, собираясь уходить. — Замерз? — Пока ничего. — Пьяных много? — Кто их знает! По домам сидят. Жига ушел. Кандыба вторично и по возможности строго уставился на мужчину, но это не подействовало. Разглядев толстого с громадными пушистыми усами, добродушного на вид полицейского, человек подмигнул ему и улыбнулся. — Чего тебе смешно? — сердито спросил околоточный. — Как зовут? — Непомнящий. — Имя как? — Никак. Нет у меня имени. — Имя нет? По-нимаю… А мать у тебя есть? — Нет. — Матери нет? Откуда же ты взялся? — В канаве нашли. — В канаве, говоришь?.. Так… Это другое дело… А как же без матери? — Не было матери. Русским языком тебе говорят, — спокойно ответил мужчина и, не дожидаясь приглашения, сел на скамейку около печки. — Впервые такого человека вижу… Без матери! — не то шутливо, не то серьезно удивился Кандыба. — Много бродяг ловили, но такого не видал! Ты из Сибири бежал? — О чем нам с тобой говорить?.. С начальством буду говорить. — Я начальник! Говори со мной. — Видали мы такое начальство, — презрительно, сквозь зубы проговорил мужчина и отвернулся к печке. Кандыба растерялся. Независимое поведение и уверенный тон бывалого человека в полиции сильно его смущали. — Пристав где? — громко спросил задержанный. — Пристава тебе надо? — прищурив глаза, переспросил Кандыба. — Увидишь и пристава. Не торопись. Увидишь, второй раз не захочешь. Он с тобой возжаться долго не будет. — А кто у вас пристав? Теперь Кандыба догадался, почему этот человек держится так уверенно. По-видимому, он знает старого пристава, служившего здесь до восстания. Слабого, безвольного «либерала», как его называл Аким Акимыч, новый пристав. — Пристав у нас теперь настоящий! Ему скажешь… И мать вспомнишь… — угрожающе растягивая слова, начал говорить Кандыба, но вдруг замолчал и прислушался. На улице возле дома кто-то ходил. Скрип шагов ясно доносился сюда. Околоточный подошел к окну и на кружевных морозных узорах выскоблил ногтем кружок. Затем, закрывшись ладонями от света, прильнул к стеклу. Действительно, недалеко от уличного фонаря, напротив участка, стоял человек в длиннополой шубе. Некоторое время Кандыба напряженно всматривался и, узнав священника, по-детски всплеснул руками и проворно побежал встречать. Как только захлопнулась дверь за околоточным, мужчина вскочил и быстро прошел в кабинет. Убедившись, что комната не имеет выхода, он вернулся и сел на прежнее место. В это время в сенях послышались голоса. — Батюшка! Отец Игнатий!—ласково, нараспев, говорил Кандыба, широко распахивая дверь. — Заходите. Никого у нас нет. Один дежурю. Священник осторожно вошел в комнату и подозрительно покосился на сидевшего возле печки человека. — Не подобает священнослужителю без крайней надобности… — пробормотал он. — Благословите, отец Игнатий! — суетился Кандыба около священника, помогая расстегнуть длиннополую шубу. — Погоди… Ну и мороз! Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его…— бормотал он, снимая варежки. Затем, переложив имевшийся с ним сверток в левую руку, широким крестом осенил околоточного.— Во имя отца и сына, и святого духа. Аминь! Кандыба поймал руку священника и звонко чмокнул. — Завернул по пути… — Душевно рад, батюшка! Видите, какая моя планида. В святой праздник дежурить пришлось… — «Сам» где? — «Сам» на вечеру… в копейской конторе. — Это кто? — снова покосившись на мужчину, тихо спросил священник. — Бродягу задержали. Беспаспортный. — Беспаспортный? Не здешний? — Никак нет, отец Игнатий. Так что, много их теперь шатается по Руси. Мужчина вытянул ноги к огню и, казалось, дремал, не обращая никакого внимания на говоривших. Священник развернул епитрахиль, достал завернутое в него евангелие и стал молча листать. Наконец он нашел нужную страницу. — Смотри! Кандыба наклонился. На чистых полях евангелия были четко напечатаны уже знакомые ему два слова:ДАЛОЙ ЦАРЯ.— Господи! Куда припечатали! На святом евангелии!.. — с ужасом прошептал он и перекрестился. — Утром ничего не было. После литургии заметил. Типографские буквы-то. Рука крамольника наложила. Серьезное дело! — сильно окая, вполголоса сказал священник. — Так что, сурьезней и быть не может! — подтвердил околоточный. — Аким Акимыч сильно беспокоились… При упоминании этого имени глаза дремлющего мужчины вдруг блеснули, и он переменил позу. Кандыба услышал шорох, оглянулся, но задержанный уже по-прежнему сидел спокойно с закрытыми глазами. — Отец Игнатий, они не велели беспокоить их по пустякам, а только об таком деле надо немедля доложить. Прикажете кого-нибудь послать? — Не надо. Я сам схожу. Шуму поменьше. — В одно слово с ним. Секрет. И кто бы ведь мог? Всех я тут знаю наперечет. Денисов разве, — вкрадчиво намекнул околоточный. — Это какой Денисов? — Шахтер с копей, по прозвищу Медведь, у которого брата на каторгу присудили. — Так он и в церковь не ходит… Отец Игнатий на минуту задумался. Кандыба ждал, хитро поглядывая на священника. Сам он вряд ли решился бы назвать приставу фамилию человека, от которого хотелось избавиться, и рассчитывал, что это сделает иерей. — Ну ладно. Аким Акимыч дельный человек. Найдет виновника. Евангелие оставлю до его прихода. Непристойно туда, на бал… — сказал отец Игнатий и положил на стол евангелие. Кандыба услужливо открыл дверь и, когда священник, запахнув полу шубы и надев варежки, вышел, вернулся к столу. Евангелие он спрятал в сундучок и, оглянувшись на дремавшего мужчину, налил еще рюмку и выпил. — Пристав-то у вас из Соликамска? — неожиданно спросил задержанный, потягиваясь. — А ты его знаешь? — Раньше знавал. Из жандармов. Аким Акимыч Кутырин… Когда-то приятелями были… Кандыба, широко открыв глаза, уставился на говорившего. Он не мог понять, серьезно тот говорит или шутит. — Жестокий человек Аким Акимыч. Ледяное сердце. Стальные нервы. Спуску никому не дает, — продолжал между тем задержанный. — Стало быть, он у вас и восстание подавлял? Дорвался. Озадаченный Кандыба молчал и недоверчиво следил за каждым движением странного человека, глаза которого насмешливо поблескивали из-под нависших бровей. «Врет или не врет? — с тревогой Думал он. — Неужели и в самом деле знаком с приставом, да еще и приятелем числится?» — Да-а. Аким Акимыч очень даже мужчина достойный, — сказал вслух Кандыба, уже совсем другим тоном. — Это вы правильно изволили выразиться, что спуску никому не дает. Без него тут такое творилось. Беда. А теперь ничего. Спокойно. — Снаружи спокойно, — не то согласился, не то спросил задержанный. В это время за стеной послышался скрип половиц и топот кованых сапог. Мужчина повернул голову и прислушался. — Это наши побегли. За подкреплением, — пояснил околоточный и при этом щелкнул себя пальцами по шее. — Известно, праздник. Курица и та пьет. Некоторое время молчали. От выпитой водки Кандыба пришел в благодушное настроение. Он чувствовал, что задержанный был человеком грамотным, бывалым, и ему захотелось поговорить о чем-нибудьумном. — Вот ведь какое явное несоответствие, — начал он. — По счислению православной церкви от сотворения мира нынче исполняется семь тысяч четыреста пятнадцать лет, а по заграничной церкви считается восемь тысяч восемьсот шесть лет. Большая разница получается. Почему бы это? Как вы об этом можете рассудить? Вместо ответа задержанный взглянул исподлобья на околоточного и, кивнув головой на печку, сказал: — Надо бы дров подкинуть. — Подкиньте, — разрешил Кандыба. — А что, я тебе нанимался в истопники, что ли?.. Кандыба встал и подошел к печке. Нагнувшись, он неторопливо начал укладывать поленья на красные угли. Мужчина отодвинулся и молча наблюдал. Вдруг он быстрым и точным движением взял березовое полено, взмахнул и сильно ударил околоточного по затылку. Послышался хруст, словно удар пришелся по спелому арбузу. Кандыба выпрямился, но в глазах у него все потемнело, и он со стоном рухнул на пол.
5. СО ЗВЕЗДОЙ
В рабочем бараке было шумно Через тонкие перегородки комнат в коридор доносились пьяные голоса, топот ног. В одной из комнат тренькала балалайка и в разноголосицу играли три гармошки, а казалось, что их десяток. Ребята в нерешительности остановились в темном коридоре. «Что делать? Идти славить по комнатам или спеть здесь?» Открылась дверь, и в коридор вышел Никитич. Придерживаясь одной рукой за стену, он неуверенным шагом направился к выходу. Поравнявшись с ребятами, посмотрел на звезду и подмигнул.
— Славить пришли? — спросил он и, не дожидаясь ответа, вышел на двор. — Пойдем к Данилову, — предложил Кузя. — Данилова дома нет. Он холостой, в гости пошел к своим, — ответил Вася. Вернулся Никитич и, прислонившись спиной к столбу, уставился на ребят. — Ну, что стали? Зачинай! — сказал он, засунув руки глубоко в карманы и поеживаясь от холода. Борода у него торчала в разные стороны, брови нахмурены. Кузьма неуверенно запел: «Рождество твое…» Остальные подхватили. Пели тихо, медленно. Голоса от волнения дрожали. В конце молитвы осмелели и «Дева днесь» пели звонко, перекрывая пьяный шум барака. Гармошки замолкли. В коридор выскочили сначала дети. Все они были сегодня в новых рубахах, платьях, причесанные, с чистыми лицами, и только вокруг глаз у них не отмылась угольная пыль. Впрочем, и у взрослых, которые вышли следом за ними, глаза были словно нарочно подведены черной краской. v От раскрытых дверей стало светло. Женщины, увидев славелыциков, возвращались обратно, выносили и совали им по карманам гостинцы: картофельные шаньги, куски морковных пирогов, леденцы. Сердобольная Настасья принесла громадную коврижку и, положив ее на руки Марусе, заплакала. — Сиротки горемычные… Рабочие сумрачно смотрели на сгрудившуюся стайку ребят. Это был живой памятник кровавой битвы и горького поражения. Когда кончили молитвы, Карасев, как и условились, снял шапку. Пока он ходил по коридору, спели шуточную песенку:
6. ЛАСКОВЫЙ «ЖИВОДЕР»
Кандыба широко открыл глаза. Большие кольца разных цветов плавали в темноте, растягиваясь и сжимаясь. Постепенно они стали желтеть, сливаться вместе, пока не образовали один сплошной круг. В ушах гудело, словно туда нагоняли воздух и он не выходил обратно, раздувая и без того разбухшую голову. Сознание возвращалось медленно. Круг перед глазами сузился и превратился в лампу. Она еще имела неясное очертание и покачивалась вместе со столом, но это была знакомая лампа. Сквозь шум в ушах начал различать какое-то пощелкивание и понял, что это трещат в печке дрова. В затылке появилась острая боль, будто туда вколотили гвоздь. Боль все усиливалась, и хотелось пощупать, не вбили ли туда действительно… Но странное дело: ни рук, ни ног Кандыба вообще не чувствовал, словно ничего, кроме тяжелой, налитой чугуном, разбухшей головы, у него и не было. Прошло еще немало времени, пока он окончательно пришел в себя и понял, что лежит на полу в участке, около печки. Появились руки, ноги, и Кандыба, с трудом перевернувшись, на четвереньках добрался до стола. Надо было бежать во флигель, где жили городовые, наряжать погоню за беглецом, но не было сил. Все тело расслабло, ноги дрожали и в горле щекотало хуже, чем после попойки. Ухватившись обеими руками за край стола, он встал и грудью навалился на него. Согнув голову, как бык, дышал отрывисто, со стоном, и каждый раз с рычанием из груди вырывались слова. — Ой, худо мне!.. Ой, смерть моя!.. В таком положении его застал пристав, вернувшийся вместе со священником. — Ты что, болван? Напился, что ли? Услышав строгий голос начальника, Кандыба поднял голову и мутными глазами бессмысленно посмотрел вокруг. — Ой, ваше высокоблагородие! Убежал… По затылку… Ой, чуть не убил!.. — Кто убежал? Кого убил? Чего ты бормочешь? Говори, как следует! Раскис, как баба! Ну! — прикрикнул пристав. Это подействовало. Продолжая держаться за стол, Кандыба выпрямился, скорчил болезненно-страдальческую гримасу и, широко открывая рот, как рыба на суше, начал рассказывать. — Так что, убежал… Бродягу тут… бродягу без вас задержали… Вот… беспаспортный… Сидел тут у печки… Вот отец Игнатий видели. Сидел и сидел… все ничего… А потом схватил полено и по голове… вдарил… Меня по голове. Ой!.. Ваше высокоблагородие… сюда, по затылку… В глазах потемнело… Думал, смерть пришла… Говоря это, Кандыба закатывал глаза к потолку, моргал, часто прикладывал к груди то одну, то другую руку. Страдальческое выражение на толстом красном лице с большими пушистыми усами делало его смешным и сочувствия не вызывало. Казалось, что он представляется, преувеличивает. Не верилось, что этот тупой, грубый человек может испытывать какую-то боль и что-то переживать. «Телячьи нежности», — подумал пристав, а когда Кандыба умолк, с презрением процедил сквозь зубы: — Болван! Так тебе и надо! Я бы еще добавил. Вперед умнее будешь! — Ваше высокоблагородие! Я за веру, царя и отечество… Дозвольте доложить, облаву надо… погоню! Никуда не денется. Не здешний… — Замолчи! Без тебя знаю, что надо делать. Побег бродяги мало беспокоил Акима Акимовича. Сейчас все его мысли были заняты так неожиданно появившимися крамольными словами, и он, как хорошая собака, почуял свежий след. — Выйди на двор. Остудись! — сказал он и, резко повернувшись, ушел в свой кабинет, но сейчас нее вернулся с листком бумаги. — Где евангелие? Кандыба с недоумением посмотрел сначала на священника, затем на пристава. — Евангелие? — Ну да, евангелие! Что он, у тебя из башки последние остатки мозгов вышиб? Евангелие, которое отец Игнатий принес? Кандыба вспомнил все и со страхом открыл сундук. Евангелие лежало на месте. Священник помог найти страницу. — Один и тот же отпечаток… — обрадовался пристав, сличая отпечаток на листке и евангелии. — «Далой»! И здесь ошибка… Странно! В двух простых словах — и ошибка… — Темный народ, неграмотный, — заметил отец Игнатий и горестно вздохнул. На лице священнослужителя, как маска, застыло обычное выражение кротости и умиления. Глядя на него, можно было подумать, что все это его не касается, что в полиции он оказался по недоразумению, случайно и что, как убежденный служитель бога, далек от дел мирских. Но хищный огонек любопытства в глазах выдавал, и Кутырин, еще мало знавший священника, понял, что имеет хорошего помощника и советчика. — Нет. Прокламации они без ошибок печатали. Народ они грамотный… ученые. Инженеры среди них имеются… подзуживают. К сожалению, покровители мешают. Я бы им показал, как в революцию играть… — говорил он с раздражением и ходил по комнате, размахивая евангелием. — Поиграли… Довольно! Либералы проклятые! Они не могут жить просто так, без идей. Скучно, видите ли. Вот и доигрались, допрыгались… А сейчас в кусты! Извольте, расхлебывайте кашу… Кандыба слушал и не понимал, на кого сердится начальник, а священник стоял около печки, задумчиво пощипывая бородку. — Аким Акимыч, а не дети ли? — вкрадчиво спросил он. Пристав мельком взглянул на священника и замолчал, продолжая ходить по комнате. — Сегодня у меня в алтаре прислуживал Кузьма Кушелев, — продолжал священник. — Отец его на поле брани погиб, и я считал своим христианским долгом принять участие… — Ваше высокоблагородие… Ваше преподобие… позвольте доложить, — встрепенулся околоточный. — Кузька этот из одной шайки… Пятеро их. Копейские. Одной шайкой разбойничают. Нонешней осенью мне стекла вышибли, белье каустиком сожгли… — Почему молчал? — едва сдерживая себя, грозно спросил пристав. — Так что, ваше высокоблагородие, опасался… — сразу снизив тон, ответил околоточный. — У них заступники есть. Боюсь, петуха пустят. Озверелые они совсем! Вас-то они боятся, а меня ни во что не ставят. — Как их фамилии? — Главный у них Зотов Василий… сын того… повешенного. Кузька этот… Потом Семен Богатырев и Карасев. Отцы у них в Сибирь сосланы, на каторгу… Константин Денисов еще… ну, тот безногий. Девчонка около них. Маруська Шишкина. У этой отец в больнице скончался. Помните, рыжий такой? На плотине все отстреливался… Дюже они озлобились, ваше высокоблагородие… Как волчата дикие. — А ты в лицо их знаешь? — Как мне не знать, ваше высокоблагородие!.. Пристав на минуту задумался. Все это было вероятно и правдоподобно. Вряд ли взрослые революционеры стали бы заниматься таким делом. Какой смысл печатать на евангелии фразу, когда, кроме священника ее никто не прочитает? Дети же могли это сделать ради озорства, ради игры, подражая взрослым, да, наконец, их могли и подучить. — Так-с… Вот что, Кандыба, пойди сейчас и приведи кого-нибудь из них. Только не пугай. Поласковей. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — Пройдемте ко мне, отец Игнатий. С этими словами пристав взял со стола лампу, распахнул дверь и, пропустив священника вперед, ушел в кабинет. От топившейся печки было достаточно светло. Морщась от боли, Кандыба начал одеваться. Каждое движение отдавалось в затылке. Кряхтя и ругаясь, он надел шинель, подпоясался, несколько раз напяливал шапку, но каждый раз боль вынуждала снимать. Вернулся с лампой пристав. В кабинете уже горела другая, с зеленым абажуром. — Ну? В чем дело? — спросил он, увидев стоявшего без шапки околоточного. Кандыба не решился жаловаться на боль, зная, что начальник все равно не поверит. — А как же дежурство, ваше высокоблагородие? Прикажете вызвать? — Не надо. Я буду здесь. Набравшись духу, Каидыба напялил шапку и направился к двери. …Маруся торопливо шла, низко опустив голову. Она заметила, что при быстрой ходьбе мороз сильнее щиплет нос. Чем скорее и чаще шагать, тем хуже. А если побежать, — совсем плохо. Можно и отморозиться. Но если опустить голову пониже и согнуться в пояснице, то ничего. Надо только под ноги смотреть… Девочка была уже близко от инженерского дома, как вдруг налетела на человека. — Тихо ты! Бежит, как угорелый! От неожиданного столкновения и оттого, что она сразу узнала голос Кандыбы, Маруся присела. — А-а… Маруська! Тебя-то мне и надо, касатка, — обрадовался околоточный и схватил ее за шиворот. Маруся рванулась в сторону, но полицейский держал ее крепко. — Куда! Погоди, девчонка! — Пусти-и-и… дяденька-а!.. — Да ты не бойся. Не признала меня, что ли? Я тебе ничего не сделаю. Пойдем-ка со мной… Идем! Маруся упиралась что было сил. Присела еще ниже, ноги вытянула вперед и повисла на руке у полицейского. — Пусти-и… Я дяде Андрею скажу-у, — пищала она, дрыгая ногами. Не ожидая такого сопротивления, Кандыба растерялся. В руках у него билось живое существо, и каждое его движение больно отдавалось в затылке. В сердце закипела злоба, но, сдерживая себя, он только крепче сжал воротник. — Ну вот… Ну чего ты, глупая!.. Я же тебя не забижаю. Идем. Чего упираешься? Пристав тебе гостинца даст, пряников, — уговаривал он девочку как можно ласковее. Услышав слово «пристав», Маруся испугалась еще больше. Она повернулась кругом, отчего ворот тулупчика сдавил горло. Стало трудно дышать, но, к счастью, Кандыба переменил руку. Продолжая держать девочку на весу, околоточный стоял в нерешительности. Смешное, нелепое положение. Упирается девчонка отчаянно, шагу не дает ступить, слушать ничего не хочет, а сделать ничего нельзя. В другом случае он бы припугнул ее как следует или просто взял за косу и притащил в участок силой, не обращая внимание на крик. Но сейчас было приказано не пугать. — Вот дурная!.. Что я тебя, режу, что ли?.. Иди без опаски. Там тебя матерь ждет, — неожиданно для себя соврал Кандыба, и это сразу подействовало. Девочка перестала брыкаться. — Мамка? Где мамка? — Ну да! У нас она в гостях. Велела за тобой сходить. — Врешь! Она на печах работает. — Была на печах, а теперь к нам пришла. Доверчивая Маруся верила даже сверстницам, когда они явно обманывали ее. Как же она могла не поверить взрослому человеку? — А зачем? — Значит, надо… Ну идем, что ли, глупая! — как можно ласковее сказал Кандыба и слегка подтолкнул девочку. Маруся покорно тронулась вперед. …Аким Акимович был уже один, когда Маруся, в сопровождении Кандыбы, вошла в полицейский участок. — Вот, ваше высокоблагородие! Встретил по дороге. Упиралась, хуже нельзя! Сказал, что мать велела… Пристав понял его хитрость. Он широко и радостно развел руками, словно встретил родную дочь. — Здравствуй, красавица! Сейчас твоя мамаша придет. А ты пока подожди и погрейся у печки. Наверно, замерзла? Говоря это, пристав подвел девочку к печке, помог развязать платок и пододвинул скамейку. Маленького роста, худая, с русой косичкой и большими светлыми глазами, наполненными ужасом, девочка напомнила приставу бездомного рыжего котенка. — Садись к печке и грейся. Как тебя зовут? — Маруська, — еле внятно пролепетала она. — Замерзла, бедненькая… Грейся, грейся. Платок ты положи, никто его не тронет… Да ты не бойся меня… Маруся со страхом смотрела то на пристава, то по сторонам. Она слышала много жутких рассказов про «чижовку», особенно раньше, когда была поменьше. Но это оказалась обыкновенная комната. На стене висел портрет царя, в углу — икона; топившаяся печка, стол, скамейка, — все это было обычным. И нигде никаких решеток. Но самым удивительным было то, что страшный пристав говорил с ней приветливо и даже улыбался. — А где мамка? — с тревогой спросила она. — Мамка твоя скоро придет. — Сейчас же успокоил ее пристав. — А что ж ты де-лала на улице в такой мороз, Маруся? — Славить ходила. — Ах, славить! Похвально! Очень похвально! С кем же ты ходила славить? — С ребятами. — Очень хорошо. Оч-чень… А с какими ребятами? — С нашими. — Девочка, а водится с угланами… — проворчал Кандыба и, словно поперхнувшись, замолчал. Маруся не могла видеть, как за ее спиной пристав погрозил Кандыбе кулаком и какие свирепые глаза он сделал при этом. Руки ее начали отходить, и кончики пальцев приятно пощипывало тепло. — А где же они сейчас, твои товарищи? — все так же ласково спросил пристав, останавливаясь возле девочки. — Пошли к инженеру славить, — доверчиво ответила она. — Ах, вот оно что! К инженеру! Прекрасно. А к какому инженеру? К Камышину? — Да. — Та-ак… Похвально! Очень похвально. Ну что, согрелась? Ласковый голос «живодера», который оказался совсем не страшным, тепло от печки окончательно успокоили Марусю. Она осмелела настолько, что даже, заметив на волосах пристава несколько разноцветных кругляшек, сказала ему с улыбкой: — Дяденька, а у вас гумашки на голове. — Какие гумажки? — переспросил тот и стряхнул конфетти на пол. — Ах, бумажки! Да, да… Бумажки. Спасибо, что сказала. В ожидании матери, Маруся сидела перед печкой и, протянув руки к огню, поворачивала их то одной, то другой стороной. Неожиданно пристав сел рядом и взял ее за руку у самой кисти. Девочка давно забыла, что на ладони у нее напечатаны буквы, и, когда спохватилась, было поздно. — Что это такое? — Пусти, дяденька… Она хотела вырвать руку, но пристав держал крепко. — Подожди… не дергай. Подтянув руку ближе к огню, он нагнулся и с трудом разобрал еле заметные буквы:ДАЛОЙ ЦАРЯ.— Вот оно что! Любопытно! Кто же это тебе напечатал? Глаза у девочки сделались большими и круглыми. Она с ужасом смотрела на пристава, но тот по-прежнему приветливо улыбался. — Ну, что же ты испугалась, Маруся? Ты слышала, о чем я тебя спросил? Кто это тебе напечатал? — Я не знаю… — еле слышно произнесла Маруся. — Не знаешь? — переспросил пристав и, прищурив один глаз, погрозил пальцем. — Ой, врешь! По глазам вижу, что врешь! — Это я так… — опустив глаза, пробормотала она. — Мы играли, дяденька… Я ничего не знаю. — А ты, я вижу, хитрая, Маруся! Ну и хитрая! Только я все-таки хитрей… Я, например, знаю, кто это напечатал. — Кто? — А ты сначала пробуй сама вспомнить. — Нет… Я не знаю, — упрямо повторила девочка. — Забыла? — Ага! Забыла. — Ну, хорошо! Сейчас ты вспомнишь… Аким Акимович резко встал и ушел в кабинет. Здесь на стене висела ременная плеть. После событий пятого года, когда над Россией грозно гремела буря первой революции, когда был дан приказ «патронов не жалеть», Акиму Акимовичу предоставилась возможность, и он показал свои способности. Из Соликамска его спешно направили в Кизел на усмирение «взбунтовавшихся рабочих-». В короткий срок он восстановил порядок, а всех оставшихся в живых бунтовщиков передал в суд. Прошел год. Копи работают, домна плавит чугун, печи дымят, но как-то так случилось, что про него забыли и заслуги его перед престолом до сих пор не оценены. Нужно было напомнить о себе. Если дети достали где-то шрифт, то, значит, подпольную типографию не вывезли. Она здесь, в его владениях и где-то совсем близко. Если бы ему удалось ее найти, о нем вспомнят и, конечно, наградят, повысят, а главное — могут перевести в большой город, хотя бы в Пермь. Сняв плеть с гвоздя, Кутырин задумался. В памяти снова встал образ маленького, худого рыжего котенка, и злое, нехорошее чувство защекотало под сердцем. Плеть много раз помогала ему на допросах, но холодный расчет подсказывал, что с детьми горячиться не следует, что сейчас нужна хитрость. Бросив плеть на стол, он вернулся назад. Маруся почувствовала угрозу в последней фразе и ждала «живодера» с ужасом. Кандыба с ехидной улыбочкой поглядывал па дверь и был сильно удивлен, когда увидел, что начальник вернулся без плети. — Ну что, вспомнила? — мирно спросил пристав. — Нет. Я не знаю… — еле слышно пролепетала девочка. — Ну, хорошо. Я тебе помогу вспомнить. Хочешь, я сам угадаю… Кузька Кушелев! — А кто тебе сказал? — вырвалось у Маруси. И столько искреннего удивления было в этом восклицании, что пристав засмеялся. — Ну, вот видишь! Я, милая моя, все знаю. От меня ничего не скроется. Маруся растерялась. Откуда он мог об этом узнать? Никто их с Кузей не видел, она никому не говорила, и было это совсем недавно. — Ну, а теперь скажи мне, Маруся: где он взял эти буквы? — Не знаю. — Опять не знаешь! Посмотри-ка мне в глаза. — Он не сказывает, дяденька, — прошептала девочка, не решаясь поднять голову и взглянуть на пристава. — Значит, не сказывает… Значит, он тебе не верит. Как же так?.. Как же так?.. — задумчиво произнес пристав и, вдруг повернувшись к околоточному, резко приказал: — Кандыба, девчонку не выпускать до моего возвращения. Смотри, чтобы она не стирала надпись на руке. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Затем пристав ушел в кабинет, оделся и, застегивая на ходу шинель, быстро вышел из участка.
7. У ИНЖЕНЕРА
Над обеденным столом уютно горит большая лампа под зеленым абажуром. Она подвешена к потолку на цепи. Кроме лампы, на цепи висит еще тяжелый шар с дыркой. Если залезть на стол и наклонить шар, из дырки посыплется мелкая дробь. Дробью можно заполнять пустоту в битке-бабке, которую называют свинчаткой, — от слова «свинец». Шар уже наполовину пуст, но лампа еще держится, и никто, кроме няньки, даже не подозревает, что Сережа вот уже вторую весну, когда начинается игра в бабки, отсыпает дробь. Ну, а нянька не выдаст. Напротив Сережи, едва касаясь коленями стула, лежит животом на столе кудрявая розовощекая девочка и держит в руках пучок красных бумажных полосок. На столе лежат: разноцветная бумага, ножницы, клей, кедровые орехи, перемешанное со скорлупой, тарелка с водой, смятое полотенце. Нянька, сидящая сбоку, режет узкие полоски, а Сережа клеит цепь для елки. Цепь лежит уже на полу горкой, а конца работе не видно. — А теперь красная… — говорит девочка и протягивает полоску. — Нет, синяя, — с усмешкой отвечает мальчик и берет со стола полоску синего цвета. — Ну вот, опять синяя… Няня, что он все синяя да синяя!.. — Ему видней, Ритуша. Пойдем-ка лучше спать. — Нет… Я не хочу спать. Я когда сама захочу… — плаксиво тянет она, видя, что нянька положила ножницы и отодвигает бумагу. — Пускай тогда и Сережка идет спать. — Он старше. Ему можно еще часок посидеть. В это время в столовую вошел высокий мужчина с коротко подстриженной квадратной бородкой. Увидев его, девочка соскользнула со стула и бросилась навстречу. — Папа пришел! Инженер подхватил дочь на руки, нежно поцеловал в щеку и, устроившись к столу, посадил ее на колени. — Папа, а Сережка мне не дает клеить, — вытянув нижнюю губу, пожаловалась она, разглаживая отцовскую бороду. — Я тоже умею… — Ну да, умеешь ты… Она, папа, криво клеит и все перемазала… Посмотри, на что у нее похоже платье! Отец взял руку девочки и шутливо продекламировал:

— Куда вы звезду тащите! Оставьте ее в прихожей! — сердито приказала нянька. — А славить-то как? — удивился Кузя. — Без нее хорошо. — А-а… славельщики! — обрадовался Камышин и, подойдя к двери, крикнул: — Рита, Сережа, идите сюда! Славельщики пришли! — Куда вы лезете, прости господи!.. Встаньте в сторонку! — все так же сердито командовала нянька. — Оставьте их, няня, — нахмурился инженер. Прибежали Рита и Сережа. Георгий Сергеевич взял девочку на руки, а Сережа подошел к ребятам и дружески им улыбнулся. Ребята сняли шапки и, смущенно переглядываясь, молчали. — Начинайте, пожалуйста… Не стесняйтесь! — ободрил их хозяин. — Давай, Кузя! — вполголоса сказал Вася Зотов. — Не шмыгай ты носом-то! — В тепле оттаял, — тихо пояснил Кузя, вытирая нос рукавом и, кашлянув для порядка, запел «Рождество твое, Христе, боже наш…» От волнения он запел слишком высоко, и поэтому пели давясь и напрягаясь. Когда кончили первую молитву, Зотов дернул его за рукав и начал сам: «Дева днесь пресущественного рождает…» Взял он правильный тон, и вторую молитву спели стройно и дружно. Шуточную песню петь не решились, а просто Карасев вышел на середину комнаты, наклонился и, протянув шапку, сказал: — С праздником! — Очень хорошо! Спасибо. Няня, принесите им конфет, пряников, орехов… И побольше, пожалуйста. — Вы лучше деньгами дайте, — неожиданно попросил Зотов. Камышин взглянул на гостя и пожал плечами. — Детям в руки я денег не даю, Вася. Это мой педагогический принцип… И, только сказав, он понял, как это глупо. Вот она жизнь, о которой хотел знать его сын, — мелькнуло в голове. — «Это же сироты. Жертвы безумия отцов, бросившихся с оружием на самодержавие. Чем они виноваты?» — Хорошо, хорошо… — поправился Камышин. — Сейчас. — Спустив девочку на пол, порылся в карманах и не нашел мелочи. — Одну минутку подождите меня. Погрейтесь у камина, — сказал он и вышел. Сережа видел, как смутился отец. Проводив его глазами, он сделал шаг к ребятам, намереваясь что-то сказать, но повернулся и ушел за отцом. Иван Иванович стоял у стола и с обычной улыбкой молча наблюдал. — Пойдем-ка, Ритуша, спать, — со вздохом сказала нянька. — Не дай бог, мамаша придет. Попадет нам всем. — Няня, а зачем они пели? — Христа славили… Наследили-то! Господи! Вот наказанье на мою голову. Кресло-то хоть не лапай! Руки-то у тебя… Она не докончила. Безнадежно махнув рукой, взяла девочку и вышла следом за хозяином. Ребята столпились у камина и шептались. — Пряников-то не дадут, стало быть? — шепотом спросил Кузя, но его толкнул в бок Сеня и глазами показал на Орлова. — А кто это такой? — Новый инженер. На домне… — Скуластый… — Он хороший… Медведь говорил, — побольше бы таких… — Зотов, поди-ка сюда! — громко позвал Иван Иванович. Вася отделился от группы и неуверенно приблизился к незнакомому человеку. — Держи. Хорошо славили! — сказал инженер и протянул ему золотую монету. — Бери, Василий, бери… Пригодится. Ребята прислушивались к разговору затаив дыхание. Они видели, как покраснел Вася, не решаясь брать такие деньги, и как инженер взял его руку, вложил монету в ладонь, загнул пальцы и похлопал по руке. — А вы откуда меня знаете? — спросил юноша. — Откуда ты меня знаешь, оттуда и я тебя. Слухом земля полнится. Ты в шахте на откатке работаешь? — спросил инженер. — Да. — Не тяжело? — Что ж… я крепкий. — Перебирайся ко мне на домну. — А что делать? — Работа будет полегче, а заработаешь не меньше. — Вы бы лучше Карася взяли. Его в шахту не принимают. Я хотел Георгия Сергеевича просить. — Хорошо. Приходите вместе. В проход-, ной спросите Мальцева. Я ему скажу. — Спасибо. А вы не обманете?.. — спросил Вася, но спохватился и, невольно заглушив голос, пояснил: — Вы, может, не знаете… Наши отцы против царя бунтовали… Инженер отвернулся, подошел к столику, налил в рюмку водки и взял ее в руки. Но, прежде чем выпить, прищурившись посмотрел на юношу и сердито сказал: — А мне какое дело! Что ты мне об этом говоришь? Если ваши отцы бунтовали против царя, пускай царь и спрашивает с них… Так-то вот, Зотов… За твое здоровье! С трудом сдерживая радость, вернулся Вася к друзьям, по-прежнему стоявшим у камина. — Карась, слышал? На домну берет! Тебя и меня… Вот заживем! — Сколько дал? — спросил Кузя. Вася разжал кулак и показал монетку. — Золотая!.. — поразился Кузя. Такую монету ребята видели первый раз. На одной стороне ее была отчеканена отрезанная голова царя, а на другой — цифры и слова. Монету попробовали на зуб, вертели, передавали из рук в руки, пока в прихожей не раздался звонок. Вошла нянька, а за ней Камышин. На тарелке он принес гостинцев и, пока старуха ходила открывать, разделил их между всеми поровну. Затем он дал три рубля и сказал: — Только, пожалуйста, не благодарите! А если будете нуждаться в чем-нибудь, то смело приходите ко мне… в контору. Открылась дверь, и на пороге появился пристав. За его спиной выглядывал городовой. Камышин побледнел. Кутырин скользнул взглядом по комнате, приложил руку к шапке и сделал на лице приятную улыбку. — Господа, прошу простить, что заглянул без приглашения. Так сказать, нежданно-негаданно, — вежливо сказал он, обращаясь к инженерам. — Милости просим, Аким Акимыч. Что же вы не раздеваетесь? — с трудом ответил инженер с такой же неискренней, натянутой улыбкой. — Не могу! По делам службы… Иван Иваныч, кажется… Имею честь поздравить! — Вас также, — ответил Орлов и сел в кресло. — Ваши гости, Георгий Сергеевич? — кивнул пристав на ребят. — Кто из вас Кузьма Кушелев? — Я Кушелев… — робко отозвался мальчик. — Так-с… Славили, значит! Похвально!.. А ты Зотов? — Я Зотов! — смело подтвердил Вася. — Очень рад познакомиться. Пройдемте-ка со мной, друзья. — Зачем? — Есть у меня к вам маленькое дельце… Пустяки. Но важные пустяки. Кое-какие документы нужно оформить, — пояснил он. — Не пугайтесь. — А я и не пугаюсь! — ответил Вася. — Тем лучше! Еще раз прошупрощенья, господин Камышин. Ваших гостей приходится потревожить. По исключительно вежливому тону пристава, с каким он обращался к Камышину, и по заметной бледности последнего Иван Иванович понял, что между ними есть много недоговоренного. Вася не понимал, зачем он понадобился «живодеру», но знал, что может задержаться. Были слухи, что его собираются выслать куда-то в Сибирь, и он давно примирился с этим. Зато у Кузи «душа ушла в пятки». «Далой царя» лежало в кармане, и смутное предчувствие подсказывало, что «оно» имеет отношение к приходу пристав? Надо было что-то делать, спрятать, выбросить, но у дверей стоял городовой, и Кузе казалось, что не спускал с него глаз. — Так, значит, мне и Кушелеву идти? — спросил Вася. — Да. Тебе и Кушелеву. — Тогда я отдам деньги и гостинцы… — Какие деньги? Подожди… — остановил его Кутырин. — Славили они, господин пристав, — вмешался Иван Иванович. — Славили? Та-ак-с… Деньги твои никто не тронет… А впрочем, отдай! — разрешил он. Вася сделал шаг к Карасеву и переложил из карманов в бурак пряники и конфеты. — Гостинцы Маруське, а деньги отдай матери, Карась… — Подожди, подожди, — остановил его Кутырин, пристально следя за передачей. — Откуда у тебя золотой? Вася взглянул на пристава, и густая краска обиды выступила у него на лице. В глазах «живодера» он увидел явное подозрение. Захотелось ответить, и на языке уже вертелся дерзкий вопрос «По себе судите?» — но снова вмешался Иван Иванович: — Это я им дал. — Ага! Так… Ну, ну, передавай. Всё? — Всё. — Идите, молодцы, вперед! До свиданья, господа! Сережа стоял у дверей отцовского кабинета и слышал каждое слово. Он не решался войти, будучи уверен, что его все равно выгонят. Славельщиков он знал, как знали их все ребята поселков, и у него сложилось двойственное отношение к ним. Мама говорила, что это «конченые, обреченные»; отец называл их: «бедные сироты», кухарка жалела, а нянька почему-то ругала «разбойниками». Впрочем, Сережа знал почему. Нянька находилась в приятельских отношениях с Устиньей, женой околоточного, а та особенно ненавидела этих ребят. Вдумчивый, серьезный мальчик хотел разобраться во всем, что происходило на его глазах в прошлом году. Почему рабочие хотели свергнуть царя? Почему стреляли на копях и целый месяц ему было запрещено выходить на улицу? Почему папа ссорится с мамой и последнее время ведет себя как-то странно? За что повесили Зотова и отправили на каторгу многих рабочих? Сотни вопросов возникали в голове Сережи, но никто не хотел ему отвечать на них. А если он спрашивал отца или мать, они сердились и говорили: «Не твое дело. Вырастешь — узнаешь». Вот и сейчас. Пришел без приглашения пристав, которого так не любили в доме, а папа любезно сказал: «Милости просим, Аким Акимыч». И почему он увел двух мальчиков? Когда пристав ушел, нянька грубо выпроводила остальных. — Ну, а вы чего рот разинули? Так и будете стоять? Погрелись — и хватит. Идите, идите… Закрыв за ребятами дверь, нянька отправилась в комнату, где спала Рита, а Сережа притаился у дверей, прислушиваясь к доносившемуся из кабинета разговору. — Что это все значит, Иван Иванович? Как вы думаете? — спросил Камышин, оставшись наедине с Орловым. — Вам лучше знать… Я здесь человек новый. — Вы обратили внимание, как он ехидно сказал: «ваших гостей»? А как он был вежлив… Приторно вежлив! — Да уж… Оба вы вежливо разговаривали. Георгий Сергеевич, слышал я, что вы вместе с Зотовым прокламации печатали в прошлом году. Говорят, подпольная типография здесь была… — Вот-вот… Эта сплетня ходит, и ничего удивительного нет, что пристав верит ей… А как доказать, что это ложь? — горячо и взволнованно заговорил Камышин. — Неужели ложь? Да вы меня не бойтесь, Георгий Сергеевич, я не шпик, не донесу. — Правда, я сочувствую рабочему движению, как всякий интеллигентный человек, но я за легальные формы борьбы. Царь пошел на уступки: манифест, дума — это первый шаг, а это уже много… — А это не маневр? С одной стороны манифест, а с другой — виселицы, так называемые столыпинские галстуки. — Ну, это, знаете ли… «Как аукнется, так и откликнется». Не надо было браться за оружие. Если бы вы были здесь в прошлом году. Безумие… Разве я мог предполагать, что они стрельбу откроют!.. Это большевики виноваты… Они призывали к оружию… — А вы думали, что оружие для украшения выдают? — Кому выдают? — Жандармам, полиции, войскам! — Я говорю о рабочих. — Извините, Георгий Сергеевич, но мне кажется, что если дело до драки дошло, то с кулаками против винтовок глупо кидаться. А страхи ваши неосновательны. Все кончилось. Если кое-где еще и горит, вернее догорает… Ничего, ничего. Пятый год больше не повторится. Самодержавие уцелело. А у вас есть, насколько мне известно, сиятельный покровитель, и все знают, что вы за легальные формы борьбы. Это не опасно. Это разрешается. — Вас трудно понять, Иван Иванович. Не то вы успокаиваете, не то иронизируете. Давайте поговорим серьезно. — Настроения нет… Давайте лучше выпьем! За думу, за манифест! — Да, да! — оживился Камышин. — Дума, манифест… — «Мертвым свобода, живых под арест». — Должен сознаться, что это довольно ядовито и метко сказано… За ваше здоровье! Затем Сережа услышал смех отца и звон рюмок.
8. НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
Когда Марусины шаги затихли и Непомнящий убедился, что кругом никого нет, он решительно свернул с дороги и направился к домику. Переступая порог, пришлось сильно согнуться, чтоб не удариться о косяк. Выпрямляясь, он взглянул на потолок и увидел, что может стоять во весь рост. Большая русская печь перегораживала комнату пополам. На столе, покрытом пестрой скатертью, стояла зажженная лампа. Чисто вымытый пол, белая печка, занавески на окнах, начищенный до блеска медный рукомойник и вышитое полотенце говорили о заботливых руках хозяйки. — Дома кто есть? — спросил он. — Есть! — раздался детский голос с печки. Только сейчас Непомнящий заметил, что на него с любопытством уставились два глаза. Мальчик неподвижно сидел в тени на печке, и его не было видно. — Денисов здесь живет? — Здесь, — охотно ответил мальчик. — А тебе на что? — Надо. Где же он? — Он к тете Даше пошел, — доверчиво сказал мальчик и, словно боясь, что гость уйдет, торопливо прибавил: — Он скоро вернется, дяденька… Ты подожди! Непомнящий снял шапку, расстегнул полушубок и сел на табурет. — А ты почему на печке сидишь? Товарищи твои со звездой ходят… — У меня, дяденька, ноги нет. Видишь, чего осталось? Обрубочка. Мальчик подвинулся к краю печки и высунул замотанный в тряпки обрубок ноги. Вторую босую ногу он свесил вниз. — О-о! Ишь ты, бедняга! — Дядя обещал деревянную сделать, тогда опять бегать стану. Хорошо! Сапогов не надо. Я, дяденька, буду как баба-яга, деревянная нога, — весело сказал мальчик и даже засмеялся. Он был рад гостю. — И давно ты без ноги живешь? — Нет. С прошлого года. Она у меня долго болела. Я в больнице маялся. Теперь зажила. Я живучий! — А что с ногой случилось? Отморозил? Улыбка сбежала с губ мальчика, отчего лицо вдруг потемнело и стало совсем не детским. — Не-ет… Я политицкий, дяденька, — многозначительно прошептал он. — Жандармы меня подстрелили. Я к тятьке ходил на копи, когда революция была, меня и саданули. — А родители у тебя есть? — Есть. Мамка есть; она в ночной смене работает, а тятьку в Сибирь угнали. Тятька-то у меня тоже политицкий… Непомнящий слушал болтовню мальчика и хмурился. Он старался о чем-то вспомнить. — Тебя Костей зовут? — неожиданно спросил он. — Ага! — Вот оно что-о, — протянул он. — Значит, Денисов твой дядя… Понимаю. Отца твоего Андреем зовут. — Да. А ты его знаешь? — заволновался мальчик. — Дяденька, а? Ты тятьку знаешь? — Знаю. Видел я твоего отца. — Где? Дяденька, голубчик, скажи! От нетерпения Костя заерзал на печке и готов был спрыгнуть. — Встречались раньше. Он про тебя мне рассказывал. «Шустрый, — говорит, — у меня сынишка есть, затейный». Непомнящий задумался. Молчал и Костя. — Дяденька, а тятька-то в кандалах? — тихо спросил он. — В кандалах, — машинально ответил Непомнящий, но, взглянув на мальчика, спохватился. — В кандалах, говоришь? Нет, Костя, сняли кандалы. Ты не беспокойся за него. Вернется! Все вернутся! — Хорошо, что живой остался! Верно? У Васьки вон отца-то повесили. Непомнящий подошел к печке и неловко погладил мальчика по голове. — Ничего, Костя, ничего. Ты не грусти. Вернется! На печке были разбросаны нож, железные стружки, угли, бабки, а в углу горкой свален железный хлам. Около трубы прилепилось какое-то сооружение из глины и мелкой гальки, в котором теплился огонь. Непомнящий заинтересовался. — Что это ты делаешь? — Доменку сложил. Она у меня работает. Взаправдешная! — похвастался Костя. — Свинец враз плавит! Карась обещал медных опилков принести. Хочешь, покажу? — А ну, покажи! Костя подбросил в «домну» несколько угольков и подул. Затем он достал согнутую из листа железа коробку и стал рыться в куче железного хлама. Делал он все это неохотно: видимо, мысли его были в другом месте. — Дяденька, а кормят их там? — спросил он. Непомнящий понял, что вопрос относился к отцу. — Кормят, Костя. Не шибко жирно, а кормят. — Холодно им. Мороз-то какой! Тятька мне пимы оставил, а мне и ни к чему… Лучше бы себе взял. Костя нашел кусочек свинцовой палочки и бросил се в железную коробку, но в этот момент за окном послышался скрип шагов. — Кто-то идет! Костя, если это чужой, не говори, что я здесь, — предупредил Непомнящий и спрятался за занавеску. Вошел Денисов, Это был человек могучего сложения, с широкой окладистой бородой и добрыми светлыми глазами. Двигался он медленно, неуклюже, и сразу становилось попятно, почему ему дали прозвище Медведь. — Дядя, а Даша не придет? — Придет ужо… Никак гость? — спросил он, заметив чужую шапку на столе. — Незваный гость, — сказал Непомнящий, выходя из-за занавески и протягивая руку. — Здравствуйте, товарищ! Денисов исподлобья взглянул на человека, пожал плечами, но руку подал. — Что ж… здравствуй… — неохотно проговорил он. — Дядя, он тятьку знает… Говорит, кандалы сняли… — Что ж… Его многие знали… Н вот гостинца тебе. — Денисов подошел к печке, положил перед мальчиком принесенный узелок и шепнул. — Ты помалкивай, Костя… Это жандарм переодетый. У Кости сделались большие глаза Взяв узелок, он поспешно убрался на старое место в тень. Между тем Непомнящий подпорол шов пиджака, достал во много раз сложенную бумажку, развернул ее и, когда Денисов вернулся к столу, положил перед ним. — Я из Перми, — начал он тихо. — Приехал с партийным поручением наладить связь с вашей организацией и вывезти типографию. Явка была дана к Зотову, но там меня задержали… Из полиции пришлось бежать. Случайно я выяснил, что приставом у вас теперь Кутырин, а он меня знает в лицо. Вашу фамилию я узнал там же, в полиции… как человека ненадежного. — Это они напрасно… Я человек рабочий. Кусок хлеба зарабатываю — мне больше ничего и не надо. — Вот, прочитайте мой документ. Денисов взглянул на бумажку и отстранил ее своей большой, загрубевшей рукой. — Это я ничего не знаю, господин хороший. — Неохотно сказал он. — Брат у меня такими делами занимался. Теперь вот наказание несет по заслугам. А я ничего не знаю. Если мальчишка что и болтал, вы ему не верьте. Он по молодости… Не желаете ли для праздничка рюмочку?.. Говоря это, Денисов достал из висевшего на стене шкафчика небольшой графин с водкой и поставил его на стол. — Вы мне не доверяете… Прочитайте документ. — Не знаю, не знаю, господин хороший… Документы мне ни к чему… Вот извольте! Чем богаты… — Как же вам доказать?.. Времени у нас мало. В полиции, наверно, уже хватились… Вашего брата я лично знал. Он бывал в Перми за литературой и останавливался у меня. — Брата моего многие знали. Он был человек компанейский, — неопределенно сказал Денисов. — Как же быть?.. Как вам доказать? — Ничего я про это не знаю. Вы, господин хороший, не туда попали. Мало ли чего наговорят на меня. Язык у людей долгий, без костей. Денисов не случайно называл гостя господином. Внешне тот походил на мастерового. Черная борода, давно не знавшая ножниц, простая одежда, какую обычно носит трудовой народ, простуженный, хрипловатый голос. Но манера разговора, руки без мозолей и трещин, длинные пальцы и особое выражение лица не соответствовали такой внешности. Наблюдательному, осторожному человеку, каким был Денисов, это сразу бросилось в глаза, и он не верил ни одному слову необычного гостя. Положение создалось безвыходное. Непомнящий сидел нахмурив брови, нервно покусывая усы. Он понимал осторожность Денисова и не имел ни малейшего чувства досады или обиды. Времена наступили тяжелые. Ищейки, провокаторы рыскали повсюду. Малейшего повода было достаточно, чтобы схватить «неблагонадежного», и хорошо, если он отделывался только ссылкой на каторгу. «Но что же теперь делать? Как поступил бы на моем месте опытный революционер?» — мучительно думал Непомнящий, перебирая в памяти похожие случаи, о которых слышал раньше, но ничего подходящего вспомнить не мог. Вдруг глаза его блеснули хитрым огоньком. Откинувшись назад, он хлопнул ладонью по столу. — Подожди-ка… Послушай меня минутку, только не перебивай. Слышал я про один случай… В каком году это было, не знаю. На копейской конюшне служил конюх, — начал он оживленно рассказывать. — И было у него два сына: Андрей и Михаил. Тогда же, на конюшне, жил старый козел. Звали его, если память не обманывает, Чужбан… При этих словах Денисов выпрямился. — Да, да… Чужбан, — продолжал гость. — Мальчишки у этого конюха были озорные. Они часто дразнили козла. Дергали его за хвост, махали перед мордой тряпкой, щипали. Чужбан был старый, и рассердить его было трудно, но все-таки и у него терпение лопалось. Вот тогда и начиналась потеха. Чужбан вставал на задние ноги, тряс бородой и с прискоком бросался на ребят. Рога у него были большие, закрученные в кольца. Ребята увертывались и смеялись. Это еще больше сердило козла, и он начинал кидаться на все, что попадало на глаза. Опрокидывал бочки, гонял по двору конюхов. Однажды ребята рассердили козла так, что сами испугались и выскочили за ворота. Чужбан за ними! В это время мимо проходила толстая купчиха… Как ее по фамилии… забыл… — Чирикова, — с улыбкой подсказал Денисов. — Да, да, Чирикова. Козел выскочил за ребятами, увидел купчиху, поднялся на дыбы и со всего размаху поддел ее рогами под зад… Купчиха упала в канаву. Ребята не растерялись. Они отвлекли внимание козла, загнали его обратно на конюшню, помогли выбраться купчихе из грязи, довели ее до дому и за это получили серебряный полтинник. В конце рассказа Денисов беззвучно смеялся, хлопая себя по коленке. Вместе с ним хохотал на печке и Костя. На душе у всех стало легко. Эту давным-давно забытую историю мог рассказать гостю только брат Андрей в дружеской беседе. Не было никакого сомнения в том, что Непомнящий был с Андреем в хороших отношениях. Неужели бы брат стал изливаться перед подозрительным и ненадежным человеком, да еще вспоминать свое детство? Бумажку легко подделать, но рассказанная история с Чужбаном была лучше всяких документов. — Ну, здоров, товарищ! — радостно сказал Денисов, пожимая рассказчику руку. — А ведь я думал, что ко мне шпика подослали. Эту историю тебе только братишка мог рассказать. Чужбана вспомнил… Ох, ну и козлище был! Огромный, борода во! Это верно, все так и было… И купчиха знатно в канаву кувырнулась. Ну, пойдем, товарищ хороший, потолкуем. Они прошли во вторую половину комнаты и заговорили так, чтобы не слышал мальчик. — Так ты за типографией? — проговорил Денисов, почесывая бороду. — Это, знаешь, загвоздка… Насчет связи — чего лучше… Связь мы, конечно, наладим. И люди у нас есть настоящие и всё… А вот насчет типографии хуже. Я ведь не знаю, где она спрятана. Зотов прятал. Говорили наши, что инженер Камышин знает. Он тоже там чего-то делал… — Как же теперь быть? Денисов подумал и нерешительно продолжал: — Вот разве еще сын Зотова знает… Василий. Было у них, видишь ли, свидание с отцом перед казнью. Так я полагаю, что он ему шепнул. Спрашивал я его, — отпирается! Чего-то он боится, скрытничает, от него трудно добиться. Мальчишка упорный, с отцовским норовом. — А Камышин здесь? — Камышин-то здесь, а только, видишь ли, он того… Сильно перепуганный после восстания. Черт его знает, что у него в голове! Ненадежный он какой-то… Сунешься и как раз в капкан попадешь! Потрепали нас тут крепко, товарищ хороший. Сейчас начинаем опять силы собирать. Голова есть… Денисов оборвал фразу на полуслове и, повернувшись, предостерегающе поднял руку. До слуха донеслись глухие голоса и скрип шагов за стеной. Непомнящий встал. — Идут. Не за мной ли? — проговорил Денисов. — Нет, дяденька! Это тетя Даша, — крикнул Костя, услышав женский голос. — Это мои, — подтвердил шахтер. — А на случай, все-таки схоронись! Мало ли кто с ними увязался. Непомнящий спрятался за занавеску, а Денисов направился к двери. Захватив по пути шапку Непомнящего, по-прежнему лежавшую на столе, он бросил ее на печку. Широко распахнулась дверь, и в избу шумно вошли раскрасневшиеся на морозе: Матвей — старинный приятель братьев Денисовых, Дарья-вдова — соседка — и кузнец Фролыч, по прозвищу Кержацкий сын. — С праздником, хозяин! — поздравил Матвей, снимая полушубок. — Славельщиков пускаешь? — спросил кузнец. — «Не красна изба углами…» А где твои пироги, мил дружок Мишенька? — спросила Дарья, задорно подперев бока и останавливаясь перед столом, на котором стоял одинокий графин и две рюмки. — Назвал гостей, припасай и костей… Костя расхохотался на шутку, а Денисов, еще больше нахмурившись, серьезно сказал: — Распоряжайся, Даша, за хозяйку, а у меня дельце есть. Женщина взглянула на шахтера и как-то сразу потускнела. Широкое краснощекое лицо вытянулось, улыбка исчезла, свет в глазах потух, и Косте показалось, что в доме стало темнее. — Стряслось что? — тревожно спросила она. — Пугливая ты стала, как я погляжу… — с усмешкой продолжал он. — Тут вот в шкафчике все стоит. А без меня не расходитесь. Вылезай, друг. Это свои… Вот приехал из Перми товарищ посчитать, много ли нас уцелело, — представил он Непомнящего, когда тот вышел из-за занавески. — Много не много, а все воробьи стреляные, — дружелюбно сказал Матвей, пожимая руку незнакомца. Даша недоверчиво и даже с неприязнью поглядывала на высокого бородатого человека. Она, как и Денисов, почувствовала в нем противоречие между тем, что он есть, и тем, чем хотел казаться. — Ничего тут не осталось. Одни кроты! — мрачно пробурчал Фролыч. — Ну идем, друг. Раз такое дело, надо рисковать, — сказал Денисов, одеваясь. — Надолго уходишь? — спросила Дарья. — К инженеру Камышину и назад. Не расходитесь, — предупредил еще раз Денисов. После ухода хозяина Дарья тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли, и захлопотала, собирая на стол угощенье. Костя, получив пару вкусных шанег, уплетал их и с удовольствием следил за ее проворными руками. Даша была своим человеком в доме, и мальчику было известно, что она скоро выйдет замуж за дядю Мишу. Матвей был приятелем отца, и Костя помнил его с самого раннего детства. Фролыча мальчик знал мало и больше по рассказам, но он вызывал у всех ребят поселка особый интерес. Высокий, сухощавый, с железными мускулами, Фролыч обладал большой силой, и Костя даже видел однажды, как они боролись с дядей и тот не скоро его одолел. Кузнец он был необыкновенный. Лет шесть назад Фролыч неизвестно откуда появился в Кизеле. Подкараулив главного инженера, он попросился на работу, и тот отправил его в кузницу на пробу. Для определения мастерства и опытности кузнецам для пробы предлагали сделать обыкновенную шестигранную гайку. Фролычу указали наковальню, дали инструмент, приставили молотобойца, и он приступил к делу. Выхватив из горна раскаленную болванку, кинул ее на наковальню, перехватил и скомандовал: — Бей, да полегче… Работа началась. Нехитрое это дело — гайка. Мастер издали наблюдал за новичком и видел, что ухватки у него опытного кузнеца, хотя и возился он с гайкой долго. Потемневший под ударами красный кусок железа принимал нужную форму, но гайка имела не шесть граней, как полагается, а пять. Первым заметил эту странную ошибку молотобоец и засмеялся. — Дядя, да ты никак обсчитался… — Бей, дурень! Учить станешь потом, когда молоко на губах пообсохнет. Молотобойцем был молодой парень. Когда гайка была сделана и остужена, ее показали другим кузнецам. Поднялся смех: — Обсчитался, братцы! — Чудная гайка! — Это он с похмелья один грань откусил. Видя замешательство мастера, Фролыч сказал: — Неси инженеру. Не для вас она делана. Мастер долго чесал в затылке, но наконец отправился к инженеру. — Вот это настоящий кузнец! — воскликнул инженер, едва взглянув на гайку. — Золотые руки. Это артист! Измерив циркулем грани, он оставил гайку себе на память, а кузнецу вместо ответа прислал с мастером серебряный рубль. — Ну, значит, инженер у вас понимающий, — с одобрением заметил Фролыч, принимая рубль. Сконфуженные и озадаченные кузнецы попробовали сами сделать пятигранную гайку, но не тут-то было. Это оказалось очень трудно. Был еще случай, о котором знал Костя. Однажды Фролыч пошел в лес, и на спину к нему прыгнула рысь. Она нацелилась и зубами точно вцепилась в шею. Кузнец не растерялся. Закинув руки, он мгновенно схватил хищницу за горло и крепко сжал. Рысь не могла разжать челюсти, задыхалась и начала отчаянно отбиваться. Порвала пиджак, исцарапала в кровь всю спину, но кузнец все крепче сжимал пальцы и в конце концов ее задушил. Так в мертвом виде он и принес на спине у себя животное прямо в больницу. Здесь, прежде чем снять рысь, пришлось развести сведенные челюсти, и тогда из прокушенных мышц хлынула кровь. Не схвати Фролыч вовремя рысь за горло — и конец. Жил кузнец бобылем и, выполняя сложные кузнечные работы, зарабатывал хорошо, но деньги у него расходились, как вода между пальцами. Раздавал в долг или пропивал с приятелями, которых у него было не мало. — А теперь, Фролыч, у нас будет с тобой разговор! — многозначительно сказал Матвей, когда на столе стояло угощение. — А что я? — насторожился кузнец. — Сказывали ребята, — на тебя протокол составили? — Ну, составили… — хмуро сознался кузнец. — За что ты мастеру в зубы дал? — Он знает, что за дело. — Он-то знает, да мы не знаем! — вмешалась Дарья. — А вам и знать ни к чему, — сердито ответил кузнец. — Как же так?.. Ты свой брат, рабочий… — примирительно проговорил Матвей. — А-а… чего там свой!.. Фролыч махнул рукой и хотел встать, но Даша удержала его за рукав. — Ты не ершись, не ершись! Говори! — сказала она, подсаживаясь рядом. — А что говорить? Что вы, сами не знаете? Дал в зубы? Ну и дал. И еще давать буду! Они нас штрафами допекают, а нам что остается? В ножки им кланяться? — Один против хозяев пошел… Богатырь! — насмешливо сказал Матвей. — Посадят ведь. — А пускай! — А потом в Сибирь, — предупредила Даша. — А что мне Сибирь? Мать родная! Там народ свой. Все мои други в Сибири. Вы здесь, как мыши, попрятались… — Не горячись, молодец! Берите! — предложила Дарья и, подмигнув Матвею, первая взяла рюмку. — Славить полагается! — заметил Матвей. — Запевай, Даша. Дарья оглянулась на Костю, потом на дверь и тихо запела приятным задушевным голосом:9. СТРАХИ
Когда Георгий Сергеевич, проводив гостя, вернулся в кабинет, он застал у камина Сережу. В сильном смущении мальчик вертел в руках какой-то предмет, но отец, слишком занятый собой, своими мыслями, не обратил на это внимания. — Сережа, не пора ли спать? Времени много, — машинально сказал он, усаживаясь в кресло. Приход пристава взволновал его не на шутку. «Зачем он явился? Почему именно сюда, в первый день рождества? Откуда он знал, что Зотов у меня?» — размышлял он, и, чем больше думал, тем тревожнее становилось у него на душе. Отдельные выражения, интонация голоса, бегающий по сторонам взгляд Кутырина, его приторно-вежливое обращение казались ему неспроста. Он видел во всем этом какой-то другой смысл и пытался его разгадать. Плохо скрытое ироническое отношение Ивана Ивановича, по поводу прихода пристава и его страхов, не только не успокоило, но даже наоборот, раздражало Камышина. «Хорошо говорить, когда он просидел все эти годы где-то там, — подумал он, но спохватился. Было известно, что пятый и шестой год Орлов находился в Петербурге, а значит, в самой гуще событий. — Но почему он уклоняется говорить на политические темы? Или он беспартийный? Трудно поверить! Оставаться сейчас в стороне от политической борьбы, не иметь убеждений — это значит быть обывателем, мещанином». Георгий Сергеевич уважал людей с убеждениями, независимо от того, какого толка они были, и презирал остальных. Он любил спорить, доказывать, убеждать и в такие минуты любовался собой, своим голосом, красноречием, манерой держаться. «В партии можно и не числиться, — продолжал он размышлять, — но иметь убеждения необходимо. Кстати, выбор большой. «Союз Русского народа», «Союз Михаила Архангела», — начал он перечислять в уме известные ему партии и при этом невольно загибал пальцы, — монархисты, Совет объединенного дворянства, октябристы, кадеты, эсеры, народные социалисты, анархисты и, наконец, партия социал-демократов». Были еще какие-то мелкие партии, о которых упоминалось в газетах, но ни программы их, ни задач он не знал. Камышин взглянул на сжатые кулаки и усмехнулся. «Пожалуй, надо бы еще один палец. Социал-демократическая рабочая партия раскололась, и нет никакого сомнения, что объединить их больше не удастся. А значит, две самостоятельные партии…» — Папа, что это такое? — прервал Сережа размышления отца и, подойдя к нему, протянул руку, на которой лежал продолговатый предмет. Камышин мельком взглянул, схватил предмет и, сильно побледнев, с ужасом спросил: — Где ты взял? — Здесь. Нашел около камина. — Не лги, негодный мальчишка! Сейчас же сознайся, — где ты взял? — Папа, я же говорю правду! Ты ушел в прихожую с Иваном Ивановичем, а я пошел сюда и увидел… у камина лежит эта штучка. Это буквы, папа? Они печатают, да? Георгий Сергеевич растерялся. Сын без тени смущения, смело смотрел в глаза. Он говорил правду. «Но как могла попасть эта связка типографского шрифта в его кабинет? Да тут что-то набрано?»ДАЛОЙ ЦАРЯ.Холодный пот выступил на лбу инженера, когда он разобрал слова. — Сережа… мальчик мой! Знаешь ли ты, что за это могут сделать со мной? Меня могут повесить, как повесили Зотова… Что ты делаешь?! Что ты делаешь! Разве это игрушки?.. Боже мой! — простонал он, и на лице его изобразилось такое страдание, словно заболели зубы. — Папа, я же не знал, — со слезами пробормотал Сережа. — Я не нарочно нашел….. Она тут лежала… Может быть, полицейские потеряли?.. При этих словах Георгий Сергеевич вскочил, как будто его шилом укололи. — Да, да… Это он подбросил! — заговорил Камышин, бегая по кабинету. — От него можно ждать все, что угодно! Да, да… Это он! Это провокация!.. Но тогда он должен вернуться с обыском… Что делать? В этот момент раздался звонок в прихожей. Отец и сын, оба бледные, со страхом смотрели друг на друга, готовые бежать, прятаться. Страх, панический страх, от которого подкашиваются ноги, путаются мысли и теряется воля, охватил инженера. «Что делать? Куда скрыться?» В голове мелькнула мысль научить сына сказать, что он нашел эту связку где-нибудь вне дома. «Нет, Сережа мал, запутается и сделает еще хуже». — Подожди… Сейчас… Нет… Нет… Сейчас… Камышин заметался по кабинету в поисках места, куда бы можно было спрятать эту страшную находку. Наконец сообразил, что в доме ее оставить нельзя. — Вот что… Слушай меня внимательно… Пойди на кухню, открой форточку и выбрось… Впрочем, я сам… Никому… Слышишь, никому об этом не говори… Снова раздался звонок. Георгий Сергеевич вытолкнул в столовую сына, а следом за ним выскочил и сам. — Сейчас же спать!.. Притворись, что спишь… — прошептал он и дрогнувшим голосом крикнул: — Няня, откройте дверь! Пока задремавшая старуха ворча надевала туфли, он прошмыгнул в темную кухню, крадучись подошел к двери черного хода, прислушался и с бьющимся сердцем снял крюк. На дворе было тихо. Размахнувшись, швырнул тяжелую связочку за забор и захлопнул дверь. «Упала в снег и глубоко утонула» — подумал он, и на душе сразу стало легче. — Барин, там двое рабочих пришли, — сообщила нянька, встретив хозяина. — Зачем? — Кто их знает! Авария, может, на копях. Один-то шахтер с копей, Денисов, а другого впервые вижу. Страх исчез, и вместо него появилось чувство жгучего стыда. Камышин прошел в спальню, нагнулся к лежавшему уже в кровати сыну, погладил его по голове и виновато сказал: — Ничего, ничего, Сереженька… Теперь все будет хорошо. Не думай об этом. Постарайся забыть. Там пришли рабочие… В кабинет он вернулся спокойный, причесанный, без малейшего признака пережитых волнений. С рабочими он держал себя всегда просто, непринужденно, но никакого панибратства не допускал, стараясь быть требовательным и справедливым. Несколько снисходительно-барский тон давал понять им разницу в положении. Он был убежденным демократом, но высшее образование делало его на много голов выше, и это должно чувствоваться. Камышин любил быть учителем-наставником и, когда это было можно и удобно, — разъяснял, поучал. Рабочие, как ему казалось, ценили и уважали его. Увидев Денисова, он с достоинством пожал ему руку, а незнакомцу приветливо кивнул головой. Острый, изучающий и чуть насмешливый взгляд мужчины, взгляд, проникающий в самую душу, какой бывает у волевых людей, не понравился инженеру. «Что ему надо от меня?» — подумал он и сделал широкий жест рукой. — Садитесь, пожалуйста. — Нам некогда, господин инженер, — сказал Денисов и, понизив тон, неожиданно спросил. — Никто нас не услышит? Камышин насторожился. Такое начало ничего приятного не сулило, а нервы его и так были растрепаны. — А что случилось? Говорите, пожалуйста; дома только дети и прислуга. Все они спят. — Меня вы знаете, господин инженер, а это товарищ приехал из Перми с поручением. Дело к вам есть. Секретное. — Я слушаю… Что за дело? — сухо спросил Камышин. Бородатый мужчина подошел к двери в соседнюю комнату, приоткрыл ее и заглянул. Успокоившись, он вернулся назад и, пристально глядя в глаза Камышина, твердо сказал: — Вы храните революционную тайну! Теперь вся кровь бросилась в лицо инженера. В первый момент он даже не нашелся, что ответить. — Что такое? Не понимаю… — Вы храните революционную тайну, — повторил тот. — Вы с ума сошли! Я-а? Тайну? Какую тайну? — возмутился вдруг Камышин, но, вместо того, чтобы забегать по кабинету, как это он делал в минуты сильного волнения, беспомощно сел в кресло. — Господин инженер, не опасайтесь, — успокоил его шахтер. — Это надежный человек, проверенный. Сами понимаете… Я не привел бы к вам, если б не надеялся… — Вы знаете, где спрятана наборная касса типографии и станок. Сегодня же ночью шрифт… Главным образом шрифт надо вывезти отсюда. Мне поручили доставку, — спокойно и четко сказал Непомнящий и, подумав, прибавил: — Типография здесь не нужна сейчас. Очень хорошо, что вы ее сохранили! Камышин сидел в кресле и закрыл лицо руками, словно плакал. — Нет, нет… Я ничего не знаю… Мне некогда… Да что же это такое?.. Скоро придет жена… — жалобно заговорил он, поднимаясь. Денисов загородил ему дорогу. — Господин инженер, революция вам приказывает! Какие могут быть разговоры! — сурово проговорил он. — Революция? Какая революция? — словно очнувшись, спросил инженер. — Некогда нам! — уже совсем сердито сказал шахтер. — Послушайте, — устало заговорил Камышин, обращаясь к Денисову. — Вот вы говорите, революция… Какая революция? Все в прошлом. Теперь все погибло! Ведь я говорил вам… Я предупреждал вас… Не беритесь за оружие. Это безумие. Ничего бы этого не было… Вы меня не послушались… — Ладно. Мы все знаем и ничего не забудем! О чем сейчас говорить? — остановил его Денисов. — Из пустого в порожнее переливать. — Нам нужен шрифт, — подхватил Непомнящий. — Или вы полиции успели передать? Такого оскорбления инженер не ожидал и в первый момент растерялся. — Я попрошу меня не оскорблять! Я вас вижу в первый раз… — сухо и несколько брезгливо сказал он. — Хорошо! Я передам вам типографию и после этого прошу забыть обо мне. Мне с вами не по пути. — Эх вы… пингвин! — вырвалось у Непомнящего. Камышин удивленно поднял брови и боком повернул голову, словно не расслышал. — Пингвин? Почему пингвин? — Где типография? — вместо ответа строго спросил Непомнящий. — Я покажу. Она спрятана в старой, заброшенной шахте… — За Доменным угором? — спросил Денисов. — Да. — Я так и думал. Только шахта там не одна… — Ее называют «Кузнецовская», — пояснил Камышин. — Вот что!.. Лошадь придется кружным путем подводить. На руках такую тяжесть не вынесем, — деловито сказал шахтер и, подумав, продолжал: — Я пойду подготовлю людей и все такое… а вы через полчаса выходите. Мы встретим вас на Доменном угоре! Денисов надел шапку и направился к двери, но, сделав несколько шагов, повернулся и угрюмо предупредил: — Вот что, господин инженер… Если нас накроют, вы тоже с нами сядете. Я так… на всякий случай. — Нет, нет… — запротестовал инженер. — Я не отвечаю! Делайте, что хотите! Сдам типографию — и всё… Я в подполье уходить не собираюсь. — Да вас и не приглашают, — также хмуро сказал шахтер. — Когда увезем, — считайте конец! А пока типография в Ки-зеле, — не отвертитесь! Денисов ушел. Камышин закрыл за ним дверь и с каким-то смешанным чувством, в котором он и сам не мог разобраться, вернулся в кабинет. С одной стороны на душе стало легко. Наконец-то он разделается с проклятой типографией, которая не давала спокойно спать! С другой стороны, было досадно передавать ее в руки большевиков. А в том, что приехавший с таким поручением был большевик, в этом он не сомневался. Через час — полтора ему предстояло пережить еще последние страхи, но он был не один, и это его успокаивало. На народе Камышин вообще чувствовал себя по-другому. — Закусить хотите? — предложил он Непомнящему, который рассматривал висевшую на стене картину. — Не откажусь, — охотно согласился тот. Они подошли к столу. — Ваше лицо мне знакомо, но никак не припомню, где я вас видел, — соврал Камышин, чтобы завязать разговор. — Обознались, наверно, — неохотно ответил Непомнящий, принимаясь за еду. Пока он ел, Камышин подошел к догоревшему камину, кочергой лениво порылся в углях и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по комнате. — Послушайте… А почему я все-таки пингвин? — спросил он через некоторое время. — «Буревестника» Горького читали? — Кажется, нет. А впрочем, не помню, может быть и читал. — Значит, не читали! — уверенно сказал Непомнящий. — Там и найдете объяснение. Камышин снова заходил по комнате. Он рассчитывал, что, когда гость утолит голод, можно будет с ним поговорить по душам, высказать свои сомнения, которых так много накопилось. Можно будет поспорить, расспросить о новостях. Здесь, в Кизеле, он чувствовал себя одиноким, непонятым, обиженным судьбой, забросившей его в такую глушь. Непомнящий сразу оценил этого бесхарактерного, безвольного и трусоватого человека. С такими людьми никогда нельзя быть уверенным ни в чем, и Денисов, как и другие рабочие, видимо, знали его не плохо. Между тем Денисов торопливо шагал домой, обдумывая, как лучше и безопаснее вывезти типографию. Лошадь можно взять в заводской конюшне. Там работает старшим конюхом старик татарин Хамидуло. Он даст без лишних расспросов. Плохо, если после побега полиция ищет Непомнящего и сообщила о нем на другие копи. Из Кизела типографию вывезут, но как с ней быть дальше, нужно обдумать. Свернув на главную улицу, Денисов увидел впереди себя темную фигуру невысокого человека. Он сразу узнал его и прибавил шагу. — Иван Иваныч! — окликнул шахтер вполголоса. Орлов остановился. — Кто это? А-а… Миша! Это хорошо, что я тебя встретил! Ты мне нужен, — сказал Иван Иванович, крепко пожимая руку шахтера. — И вы мне нужны. — Тогда совсем отлично! С тротуара они перешли на середину безлюдной улицы и некоторое время молча шагали рядом. Орлов еще не привык к живописным и суровым пейзажам Урала, и ему казалось, что он видит какую-то необычную картину, нарисованную мастером, а все эти краски, их удивительные сочетания, эта величественная, могучая и в то же время спокойная природа — плод воображения, фантазия художника. Так и сейчас… Силуэт горы сливался с чернотой неба. По бокам желтыми неровными полосками из окон падал свет на снежные сугробы. Редкие фонари, по одной стороне улицы, уходили вверх, и было похоже, что дорога поднималась к звездам. Не хватало только символического изображения людей, измученных невзгодами, но упорно стремящихся вверх по этой дороге. От фонаря стало светлее. Когда они поравнялись с ним, Орлов заметил сбоку собственную тень. С каждым шагом тень передвигалась, забегала вперед, словно хотела перегнать и заглянуть в лицо. Наконец она раздвоилась и обе тени начали вытягиваться, пока не растворились в окружающей темноте. Движение теней разрушило впечатление картины, и все стало обычным. — Был я недавно с визитом у Камышина… — начал Иван Иванович. — А я как раз от него иду, — сказал шахтер. — Вот как? Неужели поздравлял с праздником? — Поздравлял, да только в обратном порядке, — усмехнулся Денисов. — Так поздравили, что он, поди, и сейчас, как заведенный, по комнате бегает… Так что вы говорили про Камышина? — спросил Денисов. — Пришел туда пристав и забрал двух мальчиков: Зотова и Кушелева… Не нравится мне это! Зачем они понадобились полиции? — Может, набедокурили где или украли чего-нибудь? — Нет… Это вряд ли. Не похоже. Надо бы нам с сиротами заняться, Миша. Присматривать за ними. — Это верно! Костя мне сказывал, что они Кандыбу донимают. Стекла, говорит, однажды в доме вышибли… — Ну вот, видишь! — Пробирал я Зотова. Он обещался ничего такого не делать… Ну, об этом поговорим в другой раз. Ты послушай меня, Иван Иваныч… И Денисов подробно рассказал о приходе Непомнящего, о согласии Камышина показать, где спрятана типография, и о своем плане перевозки шрифта. — Что ж, все хорошо, — согласился инженер. — А что это за товарищ? Ты в нем уверен? — Теперь уверен. Сначала-то я было его за шпика принял… — Может быть, мне с ним встретиться? — А стоит ли? Пойдет слух, что ты здесь живешь. Жандармы узнают. Пущай в Питере думают, что ты за границу скрылся. — Я ему не скажу своей настоящей фамилии. Иван Иванович — и всё! А связь с пермской организацией надо восстановить. — Дело, конечно, важное, — согласился Денисов. — А только я сейчас шибко осторожным стал. Может, и с излишком. Некоторое время шли молча. Когда дошли до поворота на Почайку, остановились. — Зайдем? — предложил Денисов. — Там у менягости… Фролыча обламываем, Кержацкого сына. — Это кузнеца-то? — Да. Озлобился шибко. Прямо на рожон лезет. Мастера побил. Мужик-то он боевой… — Нет, Миша, заходить я не буду. Вы действуйте, а я прямо пройду на Доменный угор. — Кузнецовскую шахту найдешь? Она близко от дороги. Как на Кижье сворачивать. — Найду, — уверенно сказал Орлов и вздохнул. — Очень меня беспокоит Зотов. Хороший он мальчишка. — Весь в отца! — согласился Денисов и тоже вздохнул. Под горой послышались голоса и смех. Видимо, из гостей возвращалась целая компания.
10. ДОПРОС
Когда Вася Зотов и Кузя Кушелев в сопровождении полицейских вышли из квартиры инженера и направились в участок, Кандыба, выведенный из терпенья слезами и просьбами Маруси, сделал свирепое лицо и прикрикнул на нее: — Ты долго еще носом шмыгать станешь? Утрись! Распустила нюни! Безобразить она умеет, а как ответ держать, так сейчас в слезы… Девочка вытерла концом платка мокрые глаза и посмотрела на околоточного. — Ты меня за решетку посадишь? — жалобно спросила она. — Посажу, если станешь ревить, — Кандыба так и говорил «ревить». — Не люблю я, когда бабы слезами допекают, — несколько мягче проворчал он. — Лучше бы ругались. С этими словами Кандыба подошел к печке и потрогал теплые кирпичи. Видимо, этого ему показалось мало. Держась левой рукой за затылок и стараясь не сгибаться, он присел перед топкой и подбросил дров. — Я дяде Васе скажу, что ты меня посадил, — вздыхая и всхлипывая, протянула девочка. — Да разве я тебя посадил? — как можно вразумительнее сказал Кандыба. — Тебя Аким Акимыч посадил. Господи?! Кутырин! Заруби себе это на носу. Господин пристав!.. А я не виноват. Я человек казенный. После ухода пристава у Кандыбы было время подумать, и он, как всякий трусливый человек, в своем воображении нарисовал довольно мрачную картину возможных последствий в связи с задержанием девчонки. Девчонка расскажет матери, та прибавит от себя и перескажет другим. Скоро все на копях узнают, что он — Кандыба — сажает невинных детей, бьет их, пытает… Да мало ли чего еще могут наговорить! Напуганный восстанием, околоточный постоянно дрожал за свой дом, корову, за нажитое добро, за собственную жизнь. И он понимал, что дом его загорится по «неизвестной» причине или в темном переулке вдруг кто-то ударит его по затылку, да не поленом, как сегодня, а топором. Теперь он стал «царской собакой», а с царем у рабочих особые счеты. «Кровавое воскресенье» они ему никогда не простят. «Приставу что! — думал Кандыба. — Сегодня он здесь, а завтра уехал. А вот каково тут мне жить?» — Кандыба, пусти-и… — снова плаксиво попросила Маруся. — Да как я тебя могу пустить, когда велено не пускать? Я же человек маленький. Мне что прикажут, то я и должон сполнять. — Пусти, Кандыба-а!.. — протянула девочка. — Тьфу ты, неладная! Вот и толкуй с ней! Зарядила одно: пусти да пусти! Просись у пристава. Вот он уже скоро придет. С минуту Кандыба ждал и, видя, что девочка молчит, заговорил ворчливо-дружелюбным тоном. — Зачем ты с угланами водишься? Ты девочка. Матери должна помогать, а ты что делаешь? Безобразишь! Матери-то тяжело сейчас… Маруся не слушала околоточного. Грустно опустив голову, она сидела на скамейке и теребила конец платка. Кандыбу она не боялась, а, слыша о нем разговоры взрослых, просто презирала. Чтобы как-нибудь выбраться из участка, она испробовала всевозможные средства: плакала, просила, но ничего не помогло. И теперь, отчаявшись, она, чисто по-женски, вдруг перешла в наступление. — А ты убивец! — неожиданно сказала девочка, зло блеснув глазами. — Что-о? — Ты брата убил! В первый момент околоточный растерялся и не знал, как поступить. Появилось желание отодрать девчонку за уши, но он удержался. — Да разве я его убил? Его каратели убили. — Нет, ты-ы… — упрямо протянула она. Кандыба как можно страшнее вытаращил глаза и, постучав пальцем по столу, гаркнул: — Замолчать! Но девочка не испугалась. Каким-то детским чутьем она угадывала, что Кандыба ей ничего сделать не может. Вместо страха на лице ее появилось вызывающее выражение. — А ты царская собака. В полиции служишь. Кандыба ударил кулаком по столу и крикнул: — Молчать, говорю! Маруся почувствовала, что попала в самое больное место, и не унималась. — Тебя все равно в шурф спустят… Вниз головой… Вот погоди ужо. Тятька вернется… — У-у-у… змееныш! — только и нашелся что сказать околоточный. — Вернется он, дожидай! То, о чем так часто думал Кандыба и чего боялся больше всего, девочка высказала вслух. Ясно, что она повторяла чужие слова, слова взрослых. Значит, о нем говорили и что-то ему готовилось. «В шурф… головой вниз», — вспомнил он, и сразу стало жарко. Шурфом называют глубокие колодцы, которые роют геологи-разведчики, разыскивая каменный уголь, руду и другие полезные ископаемые. В окрестностях много таких шурфов. Края их заросли молодой порослью, и для того, чтобы туда не провалился скот или люди, они загорожены жердями. В шурфы бросали убитых во время восстания рабочих, и ходили слухи, что среди убитых были и раненые. Живущие поблизости слышали глухие стоны из-под земли. Маруся видела, что Кандыбе не по себе, и с поджатыми губами, зло смотрела на него. И было в этом взгляде что-то такое, что напоминало околоточному жену, когда та сердилась. — Глупая ты, глупая! Да разве можно такие слова говорить! Подумала бы ты, что мелешь-то. Да за такие слова, знаешь, что тебе будет? На каторгу сошлют. — А вот и не сошлют. Я маленькая. — Маленькая! Там не посмотрят, что ты маленькая. «В шурф, вниз головой». Ай-ай-ай! Болтаешь языком. От кого ты это наслушалась? Про шурф-то? — Ни от кого! — опустив глаза, сказала Маруся. Она почувствовала, что наговорила лишнее, и если Кандыба пожалуется приставу, то ей попадет. Да и не только ей. Она маленькая и за нее должна отвечать мать. — Я зна-аю! — протянул Кандыба. — Я все знаю. Денисов это говорил. — А вот и нет. — А кто же? — Все говорят. — Врешь, змееныш!.. В это время в сенях раздался топот многих ног и голос пристава: — Подождите здесь! Кутырин вошел один и, потирая руки, взглянул на сидевшую возле печки девочку. — Так-с! Согрелась, красавица! Кандыба, отведи-ка ее ко мне в кабинет. И побудь с ней. Когда будет нужно, я позову. — Дяденька, пусти!.. — сложив руки на груди, жалобно протянула Маруся. — Меня мамка ждет. — Скоро отпущу. Иди туда! — Иди, змееныш! — проворчал Кандыба и легкими толчками в спину увел ее в кабинет пристава. В кабинете по-прежнему горела лампа и было тепло. Первое, что увидела Маруся, --это лежащую на столе плеть. Глаза ее широко открылись. Про эту плеть она слышала много раз. — Что? Гостинец увидела? — злорадно сказал околоточный, заметив, какое впечатление произвела плеть на Марусю. — Ничего, ничего… — продолжал он. — Придет срок, дождешься и ты… Тогда узнаешь, как меня головой в шурф! Садись и не дыши… Змееныш! Между тем пристав закрыл плотно дверь в кабинет и открыл входную. — Ну-ка, пожалуйте сюда. Настроение его было приподнятое. Он часто с удовольствием потирал руки, а внутри чувствовал какой-то особый прилив энергии. Он был на верном следу, а значит, скоро можно будет писать рапорт о розыске, о захвате подпольной типографии бунтовщиков с риском для жизни и прочими геройскими подвигами. — Ну-с… детки… Проходите смелей! Мальчики остановились посреди комнаты и скорее с любопытством, чем со страхом, оглядывались по сторонам. В «чижовку» они попали впервые. — Садись к дверям и никого не пускай! — приказал пристав одному из полицейских. — Как вы себя чувствуете? Замерзли? Не стесняйтесь. Чувствуйте себя, как дома… Раздевайтесь! Да, да… Снимите шубы. Здесь тепло, — приветливо говорил пристав, потирая руки. — А зачем? — хмуро спросил Вася. — В гости пришли, надо раздеться. Как же иначе? Правил вежливости не знаешь! Кутырин помог снять мальчикам полушубки, шапки и бросил их на руки второго полицейского. — Теперь подойдите сюда и выкладывайте все, что есть в карманах, — сказал он, указав пальцем на угол стола. Мальчики послушно вынули и положили содержимое карманов, а затем, по приказанию пристава, вывернули их наружу. Кузя даже отряхнул приставшие крошки. — Все? Больше карманов нет?.. — спросил Кутырин. — Теперь снимите пимы. Когда ребята остались босиком, он внимательно осмотрел валенки и начал ощупывать мальчиков с головы до ног. Пальцы его проворно бегали по телу. — Что такое? — Щекотно… — сказал Кузя, поеживаясь. — Щекотки боишься! Так-с… Ну, теперь садитесь к печке и грейтесь. С особой тщательностью принялся он осматривать полушубки. Все, что находил в карманах, вытаскивал и раскладывал на столе. — Чей ножик? Твой? Зачем тебе ножик? — Строгать что-нибудь, — пробурчал Кузя. — А что строгать? — Ну, мало ли что… Вот, когда ледяшку делал… Лучину. Вытащив небольшой темный пузырек, Кутырин открыл его, понюхал и, прищурившись, уставился на Кузю. — Это что? — спросил он, взбалтывая жидкость. — Чернила. — Зачем у тебя чернила? Кузя пожал плечами. Неужели пристав не знает, зачем нужны чернила мальчику, работающему на копях? — Отметки на вагонетках делаю, — ответил он. — А чем ты делаешь отметки? — Чем делаю? Ясно, пальцем! — А ну покажи палец! Та-ак… — протянул он, взглянув на черный от краски палец. — А больше нигде отметок не делаешь? — Нет. — Очень хорошо! Так и запишем… Отметок не делаешь, — рассеянно говорил пристав, обыскивая одежду. С нарастающим беспокойством Вася наблюдал за Кутыриным. Он видел, что «живодер» взволнован, и понимал, что карманы тот выворачивает неспроста. «Что он шарит? — думал юноша, и на душе становилось все тревожнее. — Неужели что-то знает? А вдруг пронюхал про шрифт?» Улучив момент, Вася осторожно дернул приятеля за рукав и, когда тот оглянулся, спросил беззвучно, одними губами. Кузя понял и, улыбнувшись, мотнул головой. Это движение не ускользнуло от Кутырина. — Что вы там перемигиваетесь? — строго спросил он и погрозил пальцем. Ребята сделали невинные лица и отвернулись в разные стороны. — Да тут у тебя целый склад… — засовывая руку в другой карман, сказал пристав. — Гайки, гвозди… Свечки. Откуда у тебя эти огарки? — Из церкви. — Зачем? — А для звезды. Вот когда славить ходили… Все было осмотрено, но того, что Кутырин рассчитывал найти, не оказалось. Он вплотную подошел к Кузе, двумя пальцами за подбородок поднял его голову и медленно спросил: — Отдал кому-нибудь или выбросил? — Чего? — искренне удивился Кузя. — Сам знаешь чего! — Ничего я не знаю. — Не ври! Хуже будет! За правду ничего не сделаю, а если будешь отпираться, — пеняй на себя. Со мной, брат, шутки плохи! Может быть, ты знаешь, Зотов? — А что? — Где вы брали типографский шрифт? — Какой шрифт? Первый раз слышу, — угрюмо проговорил Зотов. — Типографские буквы! Никогда не слышал? А? Кушелев, где шрифт? Говори правду. — Вот, ей-богу, я ничего не знаю. — Так-с… Пристав в раздумье прошелся по комнате и как бы мимоходом спросил: — Отца-то вспоминаешь, Зотов? — Во всю жизнь не забуду! — сказал юноша, и в глазах его блеснула такая ненависть, что Кутырин сразу понял, что имеет дело не с мальчиком. Это уже враг. — По той же дорожке пошел! Смотри, дорожка эта туда же и приведет! — зловеще предупредил он, но сейчас же перешел на веселый, дружеский тон. — Ну так как, детки? Будем в молчанку играть? Полицейские хорошо знали своего начальника и, чувствуя, что приближается гроза, застыли без движения. Ребята, опустив головы, молчали. Пристав еще раз прошелся по комнате и, подойдя к двери своего кабинета, вдруг резким движением распахнул ее. — Кандыба, приведи! Эта барышня вам знакома? — спросил он, когда Маруся появилась в дверях. — Знакома? А? — Знаем, — ответил Зотов. Пристав взял Марусю за кисть руки, подвел ее к Кузе и, повернув руку ладонью вверх, поднял к самому носу мальчика. — Посмотри. Это что такое? Маруся, кто тебе тут напечатал? А? Глазами, полными слез, девочка взглянула на Кузю и еле слышно прошептала: — Кузя, я ничего не сказывала. Он сам про тебя узнал. — Ну что, попался? Опять будешь запираться? Кто печатал? — продолжая держать Марусину руку, спросил пристав. — Я, — со вздохом сознался Кузя. — Давно бы так! — с кривой усмешкой сказал пристав. — А теперь, Маруська, ты иди к своей мамке и сиди дома. Слышишь? Сиди дома. Чтобы я тебя больше не видел! Маруся растерянно оглянулась по сторонам, не понимая, что тут происходит. Почему мальчики раздеты? Почему два полицейских стоят в неподвижных позах и на руках одного знакомая одежда? — Ты слышала, что я сказал? — крикнул пристав, нетерпеливо топнув ногой. Маруся наскоро запахнула полушубок, кое-как надела платок и без оглядки выбежала на улицу. — Ну-с, Кушелев, а теперь мы с тобой поговорим откровенно. Где взял шрифт? Положение у мальчиков создалось тяжелое. Теперь надо было изворачиваться. Кузя сделал наивно-глупое лицо, рукавом рубахи вытер нос и преувеличенно-охотно, почти радостно, рассказал. — А я нашел… Когда мы играли… бегали, значит. Вдруг я вижу, лежит такая штучка… ниткой перевязана. Смотрю, а там буковки… Ну я и взял… Пристав расхохотался. И так он весело, заразительно смеялся, что заулыбались полицейские, Кандыба и даже сам Кузя. Только Вася оставался серьезным. — Лежит штучка! Скажите, пожалуйста! — смеясь, повторял пристав. — Он и взял. А там буковки. Вот оно как просто оказывается? А я — то думал… Где же сейчас эта штучка? — А я потерял, — простодушно ответил Кузя, разводя руками. Продолжая улыбаться, пристав сходил в кабинет, принес евангелие и, найдя нужную страницу, показал ее мальчику. — Твоя работа? — Моя, — сознался Кузя. — Баловался? — подсказал пристав. — Да. — Ай-ай-ай! Нехорошо! Аи, как нехорошо! Разве можно баловаться в церкви! Святую книгу испортил. Слова-то какие! «Долой царя»! Ну, а как же мы без царя будем жить? Говорил он это таким тоном, каким говорят с провинившимися маленькими детьми или с умными собаками. Вася чувствовал, что пристав издевается над Кузей, и угрюмо ждал, что будет дальше. Кузя, казалось, раскаялся в своем поступке и стоял, стыдливо опустив голову. Он верил в искренность пристава и внутренне ликовал, что так ловко его перехитрил. Поверил и Кандыба в простоту своего начальника и поэтому решил вмешаться. — Так что, дозвольте доложить, ваше высокоблагородие… — Ну что? — с раздражением спросил пристав. — Не верьте ему… — Замолчи, болван! — рявкнул Кутырин и, быстро подойдя, хотел ударить по глупой физиономии с выпученными глазами, но сдержался. — Если ты еще хоть одно слово скажешь, — шкуру спущу! Тупица! — прошипел он и отошел к окну. Наступила неловкая тишина. Кандыба стоял навытяжку, боясь пошевельнуться. Обиженно моргая глазами, он недоумевал, почему так неожиданно и так сильно обозлился начальник. Застыли без движения полицейские, и на их вытянувшихся лицах не трудно было прочесть испуг и удивление. Никто из присутствующих не понимал хитроумного плана допроса. Прикинувшись доверчивым простачком, пристав хотел расположить к себе мальчика, усыпить его настороженность, успокоить, а затем неожиданным вопросом вынудить признание. «Все испортил идиот, — думал Кутырин, машинально разглядывая узоры на стенке, — тупица! Ну, как тут работать с такими остолопами! Хоть кол на голове теши! Ведь родятся же такие дураки». Через минуту, несколько успокоившись, пристав понял, что испортил не Кандыба, а он сам своей вспышкой: «Можно было бы не обращать внимания на этого болвана и продолжать допрос». Еще через минуту, окончательно успокоившись, он решил, что ничего не испорчено и можно продолжать. Сети расставлены, и мальчишка сунет голову в петлю раньше, чем сообразит, куда лезет. — Учил я вас не вмешиваться в разговор и никогда меня не перебивать? — примирительно опросил он Кандыбу. — Учил или нет? — Так точно, ваше высокоблагородие! — отбарабанил тот. — Не люблю я, когда меня перебивают. Садись за стол и занимайся своим делом! — Слушаюсь! Пока Кандыба устраивался за столом, пристав несколько раз прошелся по комнате и, остановившись перед мальчиком, неожиданно спросил: — А ты учился, Кушелев? Грамотный? — Немного учился, -охот но ответил Кузя. — Читать можешь? — Могу. — И писать? — И писать могу. — Ну вот… Могу, могу, а делаешь ошибки. «Далой». Кто же так пишет? Правильно будет как? «Долой», а не «далой». Понимаешь? Почему ты сделал такую ошибку? — спросил он и впился глазами в лицо Кузи. Но тот не растерялся. Вместо того, чтобы проговориться или оправдываться, как рассчитывал пристав, он пожал плечами и, потупив глаза, ответил: — Это я ничего не знаю. Так было. — Так было? — переспросил пристав. — Я вижу, нам придется с тобой другим языком говорить… Кандыба, принеси плеть! Кандыба сорвался с места, шмыгнул в кабинет и сейчас же вернулся назад. Плеть он принес и подал обеими руками, как подают к столу блюдо с кушаньем. Пристав взял за рукоятку плеть, пальцами прихватил болтающийся конец и подошел к мальчику. Глаза его сузились, а на лице застыла мертвая улыбка. Кузя побледнел, но стоял без движения. Будучи убежден, что мальчика подучил печатать и дал шрифт кто-нибудь из взрослых, пристав собирался вынудить Кушелева назвать фамилию. Ему очень хотелось, чтобы этим человеком оказался Камышин. Инженера он органически ненавидел, как ненавидел всех либерально настроенных интеллигентов вообще. — Мне правду не говоришь, а плеточке скажешь! Ну? Где взял шрифт? — Нашел, — сиплым от волнения голосом упрямо повторил Кузя. — Врешь! Последний раз спрашиваю… Кто тебе дал эти буквы? Отвечай! Пристав говорил медленно, на одной ноте, отчеканивая каждое слово, и было похоже, что он подкрадывается, как рысь для прыжка. Что ни слово, то осторожный мягкий шаг. Еще момент — и рысь прыгнет, вцепится… «Эх, ружье бы сейчас!..» — с тоской подумал Вася, и, когда пристав замахнулся, он бросился вперед, закрыл собой Кузю и очутился лицом к лицу с ним. — Не бей! Он все равно не знает. Я дал ему буквы! Я сам и сложил их! Пристав уже отступил для удара, но, услышав признание, сразу опустил плеть. — А ты где взял? — недоверчиво спросил он. — В ящике. — В каком ящике? — Там, где типография. — А где типография? — Спрятана. — Где? — Отпусти его… Он не виноват. — А ты откуда знаешь, где спрятана типография? — настойчиво спросил пристав. — Отец сказал… перед смертью. Отпусти его. Пристав бросил плеть на стол и, потирая руки, зашагал по комнате. Он не ожидал такого удивительно блестящего результата допроса и с трудом скрывал радость. «Типография здесь! Типография спрятана! И Зотов знает, где именно». Было отчего потирать руки. Зашевелились, заулыбались городовые. Только теперь они поняли, почему нервничал и горячился начальник. «Типография-дело серьезное! — со вздохом облегчения подумал городовой, сидевший у двери. — Напечатают прокламаций, раскидают везде, расклеют, а потом собирай. Да разве мыслимо собрать их! В такие места налепят, что ни достать, ни соскоблить». Кандыба сидел по-прежнему мрачный. В этом деле была его заслуга. Он указал на виновников, а значит, обещанную награду можно считать в кармане. Но даже и это его не радовало. Что-то непонятное угнетало его, и не верилось, что все так просто кончится. Обдумывая дальнейший план своих действий, пристав решил сначала расположить к себе Зотова. Он знал, что придется с ним повозиться, прежде чем тот откроет тайну. Остановившись перед Кузей и шутливо ткнув его пальцем в нос, он сказал: — Вот, Кушелев! Скажи ему спасибо! Угостил бы я тебя как следует! Быстро одевайся и уходи! И больше мне на глаза не попадайся. Хвалю, Зотов! Выручил товарища! Кузя одевался нехотя. Сердце сжималось от предчувствия чего-то страшного, и до слез было жалко Васю.11. «БЕСХРЕБЕТНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ»
В детской слабо горит ночник. Нянька опит и, когда выдыхает воздух, то забавно шлепает губами. Рита сбросила одеяло и спит на спине, закинув руки за голову, наполовину голая. Сережа лежит с открытыми глазами и не мигая смотрит в угол, где висит большая икона в золотой ризе. На иконе нарисована отрезанная голова мужчины с небольшой бородкой, лежащая на тарелке. Из кабинета отца, через столовую, доносятся глухие голоса, но, как ни напрягает Сережа слух, слов разобрать не может. Мысли мальчика снова возвращаются к найденной связочке букв, так сильно испугавшей отца. Там было всего два таинственных и непонятных слова:«йолад ярац».«Что они означают? — думал Сережа. — Может быть, это не по-русски? Неужели действительно за эти слова могут повесить?» Правда, отец любит преувеличивать и всегда делает «из мухи слона», как говорит мама. Но ведь какая-то доля правды, наверно, есть. Если и не повесят, то могут арестовать, выслать в Сибирь или прогнать с работы с «волчьим паспортом». А что такое «волчий паспорт»? Много непонятных выражений и слов появилось в последнее время. Когда Сережа слышал такое слово, то обычно обращался к отцу, матери или няньке. Чаще всего ему отвечали: «Не твое дело» или: «Подрастешь- узнаешь», «Не суй ты нос, куда тебя не спрашивают!». Но иногда отвечали и почти всегда по-разному. — Папа, а что такое пролетарий? — спросил он однажды отца. Тот подумал и неторопливо ответил. — «Пролетарий, пролетариат» — это латинское слово. В античном обществе так называли свободных граждан… Там были рабы, были и свободные граждане, — пояснил он и продолжал. — Так вот, свободных граждан, у которых не было средств производства, так сказать, обездоленных, называли пролетариями. В наше время пролетариями называют неимущих людей, наемных рабочих. Короче говоря, пролетарий — это человек, продающий свою рабочую силу. Ответ отца был длинный и мало понятный, и Сережа обратился к матери. — Пролетарий — это голь перекатная. Всякие босяки и нищие! — ответила презрительно мать. Нянька ответила короче всех. — Пролетел в трубу — вот и пролетарий! В конце концов в голове у мальчика создавалось какое-то среднее, свое понятие. Завозилась Рита и что-то жалобно пропищала во сне. Нянька, спавшая очень чутко, подняла голову, вздохнула и поплелась к ее кроватке. Когда она, вытянув из-под девочки одеяло, укрыла ее, в детскую на цыпочках вошел отец. Сережа закрыл глаза и притворился спящим. — Няня, я ненадолго уеду… на часок, — шепотом сказал Георгий Сергеевич. — Если жена спросит, скажите, что спешно вызвали на копи. — Авария, что ли, какая? — спросила нянька. — Да. Небольшая. Вода показалась. Георгий Сергеевич подошел к дочери, поцеловал ее в лоб, перешел к сыну и, убедившись, что тот спит, направился к двери. — Закройте, пожалуйста, за мной. Нянька вышла за хозяином. Сережа открыл глаза. До слуха донеслось: шарканье ног в прихожей, приглушенные голоса, звяканье дверной цепочки и, наконец, хлопанье двери. «Куда они пошли ночью? Неужели действительно авария?» — подумал мальчик, и в душе снова появилось тревожное чувство. Сережа любил отца. Любил его тихий, ласкающий голос, добрые светлые глаза, мягкую, спокойную походку. Никогда Сережа не слышал от отца грубого слова или резкого окрика. Георгий Сергеевич всегда был внимательным, чутким, отзывчивым, но, несмотря на все это, вместо уважения он вызывал в сыне какое-то странное чувство жалости. Сережа видел, что никто в доме с отцом не считается, а если и слушают его замечания и даже соглашаются, то только так, для вида. Делают все равно по-своему. «Неужели он этого не понимает? — с горечью подумал Сережа. — Почему он такой?» Вот и сейчас. Говорил с нянькой таким тоном, как будто просил позволения поехать на копи. «Как она смеет задавать ему вопросы? Все равно же ничего не смыслит в горном деле, — возмутился Сережа. — А он? Вместо того, чтобы обрезать ее, как это делает мама, отвечает». Повернувшись к стене, мальчик глубоко вздохнул. «Почему он такой «бесхребетный интеллигент»?» Это странное выражение, которое Сережа не совсем точно понимал, он узнал давно. Однажды, гуляя в садике, мальчик случайно услышал за забором разговор об отце. Говорили двое мужчин. — А вот, например, инженер Камышин? — спросил один из них. — Ну, знаете ли… Тут нужен человек твердый, а это бесхребетный интеллигент, — ответил второй и засмеялся. Невольно подслушанный разговор сначала так поразил Сережу, что он даже не догадался подбежать к забору и в щелку посмотреть, кто говорил. «Как это можно быть бесхребетным? Что значит без хребта?» Позднее Сережа выяснил, что выражение это образное, и ему иногда казалось, что оно очень подходит к отцу, особенно когда тот спорит с матерью. «Про маму бы ни за что не сказали, что она бесхребетная. Она и накричит, и прикажет, и ногой топнет, и нахлопает, когда рассердится». Рита пробормотала что-то во сне и засмеялась. «А ведь папа хороший инженер», — продолжал размышлять Сережа. Ему было хорошо известно, что князь Абамелек-Лазарев — хозяин копей — очень уважает и ценит отца. Захотелось есть. Сережа вспомнил, что от обеда остались пирожки. — Няня, я хочу кушать! — заявил он, когда та вернулась в детскую. — Вот еще выдумал! Ночью-то! — Няня, я тебе говорю, что хочу кушать! — настойчиво повторил Сережа. — Что, тебе жалко? Я же не твое прошу! — Господи! Вот наказанье! Минуты покоя не дадут. Ну, поди возьми в буфете хлеба. — Нет! От обеда пирожки остались! — Ну, и пирожки в буфете. Сходи и возьми. — Нет! Принеси сама. Ты за это жалованье получаешь! — капризным и злым тоном приказал Сережа. Нянька посмотрела на мальчика, вздохнула и пошла за пирожками. На душе у Сережи стало легче. Ему казалось что он отомстил за отца. Вдоль домов и заборов была прорыта канава, а над ней на поперечных бревешках настланы деревянные тротуары. Сейчас доски засыпаны снегом и на их месте протоптана тропинка. Для двоих тропинка узка, и поэтому Камышин с Непомнящим шли по дороге. Разговор не клеился. Несколько раз Георгий Сергеевич пытался завязать спор, но Непомнящий отделывался короткими замечаниями и умолкал. — Неужели вы серьезно думаете, что сейчас, после такого разгрома, возможна серьезная работа, борьба? — начал инженер и, не дождавшись ответа, продолжал. — Я допускаю, что с большим риском вы наладите типографию. Но что она даст? Что печатать? Что и кому сейчас можно сказать? Есть такая пословица, и она как нельзя кстати подходит к создавшемуся сейчас положению. «Не до жиру, быть бы живу». Настроение у рабочих сейчас подавленное. Я-то с ними встречаюсь ежедневно, и это мне хорошо известно. Они ничего не хотят: ни слушать, ни говорить. Теперь они поняли, что экономическая, да и политическая борьба должна вестись эволюционным путем. Медленно, от случая к случаю… так сказать, шаг за шагом. Большевистская тактика провалилась, и слишком дорого стоило нам это поражение. Я уверен, что подобной возможности история нам больше не предоставит. Такой подъем, такое стечение обстоятельств бывает в двести лет один раз. — Скажите, господин инженер, — перебил его Непомнящий, — этой улицей мы выйдем к конторе? Камышин повернул голову и с удивлением посмотрел на спутника. Вопрос никакого отношения не имел к его речи, и он не сразу понял, о чем спросил спутник. — Я спрашиваю, эта улица выходит к конторе? — повторил свой вопрос Непомнящий. — Да. — А нельзя ли как-нибудь обойти? — А почему? — удивится Камышин. — Не хотелось бы мне там встретиться с одним человечком. С городовым! Он меня видел сегодня. Ну, и кто его знает… может, заприметил. — Понимаю… — многозначительно промычал инженер — Ну, что ж… Давайте свернем. Правда, тут немного дальше. Они свернули в первый переулок и долго шли молча. Настороженность Непомнящего, молчаливо сосредоточенный вид и этот обход передались Камышину и вернули инженера к действительности. Когда он затевал какую-нибудь беседу или спор, то быстро увлекался и забывал обо всем. Так и сейчас. Знакомые улицы, ночь, тишина успокоили Георгия Сергеевича совсем, и ему стало казаться, что они и на самом деле идут на копи по вызову. А между тем опасность стояла за спиной, и забывать об этом не следовало. Случись что-нибудь, — и последствия будут самые ужасные. — Да! Так о чем мы говорили? — немного погодя спросил инженер вполголоса. — Это вы говорили! — Совершенно верно. Говорю только я. Вы человек молчаливый. Трудно вас расшевелить… — А собственно, о чем сейчас говорить? В пятом году наговорились досыта! — Вот именно — досыта! — согласился инженер. — Говорили много, это верно. Он поправил болтавшийся у него на груди шахтерский фонарь, поднял воротник шубы и, поглубже засунув руки в карманы, дал понять, что разговор он прекратил. Домна, как маленький вулкан, то затухала, то разгоралась, выбрасывая красное пламя. Рядом с домной вытянулась кверху тонкая железная труба, над которой неподвижно висел красноватый от света домны столб дыма. Странно было сквозь него видеть звезды, — таким он казался плотным и прочным. Выйдя из главного поселка и поднимаясь по дороге на Доменный угор, Камышин почувствовал, что опасность позади, и к нему снова вернулось хорошее настроение. — В позапрошлом году у нас все-таки козлика заморозили, — сказал он и, видя, что спутник не понял этого выражения, пояснил. — Не спустили чугун, и он застыл. В таких случаях приходится ломать домну, чтобы извлечь козла… Вон он лежит! Непомнящий посмотрел вниз, по направлению руки, но из-за темноты ничего не разобрал. Повернув голову, увидел ночную панораму поселка и невольно залюбовался. Тусклые фонари еле намечали линии улиц и стояли один над другим. По огням в окнах можно было угадывать контуры домов. Далеко за поселком, в долине кучкой виднелись огоньки Княжеских копей, и все это походило на какую-то игрушку-макет. Начавшийся лес закрыл панораму. Некоторое время между деревьями мелькали огоньки поселка, но скоро высокие сосны сомкнулись плотной стеной и сжали дорогу по бокам. Стало совсем темно. Непомнящий шагал наугад, не разбирая дороги, всецело доверяясь ногам. И странное дело: пока он не смотрел под нога и не думал о том, правильно ли идет, ноги ступали без ошибки. Но стоило хоть на секунду усомниться, как он сейчас же попадал в сугроб. — Может быть, фонарь зажечь? — предложил Камышин и взял фонарь в руку. — Не надо! — остановил ею Непомнящий. Где-то здесь поблизости должны их встретить. Камышин это знал, все время был настороже. И все-таки, когда перед ними неожиданно появилась темная фигура, инженер почувствовал, как екнуло и забилось сердце, а по спине поползли противные мурашки. — Кто это? — сипло спросил он. — Свои, господин инженер, — ответил Денисов и из-под полушубка достал зажженный фонарь. — На всякий случай прикрыл. Огонек-то далеко видно. За шахтером стояли еще два человека. У одного из них был за спиной чем-то набитый мешок, другая была женщина. Они пропустили инженера вперед и молча пошли следом. «Заговорщики, — думал Камышин, прислушиваясь к скрипу шагов за спиной. — Как это было все интересно, увлекательно раньше, в юности… Но зачем это сейчас? Жизнь уже сложилась. Теперь семья, спокойная хорошая работа. Удобная квартира. Что еще надо? Пора успокоиться. Вся эта революционная романтика хороша в молодые годы». В лесу вдруг раздался резкий, пронзительный, похожий на свист, крик, и кто-то бесшумно пролетел над головой. — Филин! — усмехнулся Денисов. — Напугал, дьявол пучеглазый! «Кажется, плохая примета», — с тоской подумал Камышин и втянул голову еще глубже в воротник. Чем ближе подходили они к нужной шахте, тем неспокойнее становилось на душе у Камышина. «А вдруг это какая-нибудь ловушка, подстроенная Кутыриным?» — подумал он, но сразу отбросил эту мысль. Денисова он знал давно, и на него можно было положиться. Лес кончился как-то внезапно, и замигали огоньки шахтерского поселка. Большинство домов были брошены, и постепенно их ломали на дрова, но кое-где жили и в окнах горел свет. Недалеко от опушки, саженях в десяти от дороги, стояла первая бездействующая шахта. Мимо нее шла дорога в деревню Кижье, откуда возили бревна на лесопилку. — Здесь поворот, — сказал Камышин, останавливаясь у развилки дорог. — А я считал, — дальше, на третьей… — удивился Денисов. — Вы говорили, у теплого ключа. — Теплый ключ недалеко. — Тем лучше. Тут и дорога близко. Можно лошадь подвести… Ну, а чего мы встали? Давайте сворачивать! Конусообразная вышка с тупым обрезанным верхом была зашита со всех сторон досками. Когда подошли к полуоткрытой двери, оттуда выскочила лиса. Она испуганно метнулась в сторону и скрылась. — Эх, черт! Знать бы, поймать можно! — с сожалением проговорил Фролыч. Вошли внутрь. Денисов поднял над головой фонарь. В углах намело сугробы снега. Валялась разбитая бадья и кое-какой железный хлам. Посредине стояло громадное колесо лебедки. Попробовали его повернуть, но раздался такси визгливый скрип, что пришлось сразу оставить эту затею. — Придется на веревке поднимать, — решил Денисов. — Не сомневайся, поднимем! — пробасил Фролыч. Зажгли еще фонарик. Осмотрели лестницу. Фролыч достал из мешка целую бухту веревки. — Придется обвязаться, а то загремим вниз головой. Лестница-то, поди, скользкая, — говорил он, перебирая и укладывая веревку около спуска. — Даша, ты останься наверху. Если Матвей придет… — начал было Денисов, но она решительно запротестовала. — Нечего мне тут делать. Я под землю пойду, а ты сторожи здесь. Мало ли что может быть! И груз поднимешь. — Тебе в этой шахте доводилось работать? — спросил Фролыч, пробуя верхние перекладины ступенек. — Нет, не пришлось. Я сразу на Княгиненские нанялся. — Ну, а раз не работал, то нечего тебе там и делать. — Да. Вам, пожалуй, лучше остаться на поверхности, — согласился Непомнящий, помогая Фролычу распутать веревку. — А управитесь ли втроем… — Меня ты не считаешь? — обиженно спросила Даша. — Я тут заместо мебели, что ли? Денисов с усмешкой посмотрел на Дашу, поднял над головой фонарь и шутливо сказал: — О! Скажите на милость! В пузырек полезла. Откуда ты такая взялась? Говоря о троих, Денисов как раз и имел в виду: Дашу, Фролыча и Непомнящего. Не принимал он в расчет Камышина, но сказать об этом прямо не хотел, боясь обидеть инженера. Камышин это, конечно, понял, но не обиделся, а полушутливо оправдался. — Не сердитесь, пожалуйста. Разговор идет обо мне. К сожалению, от меня действительно помощь плохая. Я не предполагал, что придется работать и, как видите, не переоделся. — Господин инженер, позвольте ваш фонарик, — обратился к нему Фролыч. — Я хоть и не шахтер) а полезу первый. Вы сверху глядите. Я дам сигнал. Светить буду фонарем. Он обвязал себя веревкой вокруг пояса, повесил на грудь фонарь и, весело сверкнув глазами, подошел к торчащим концам лестницы. — Это дело мне, открыто говоря, по душе! Лишь бы сиднем не сидеть! Ну, была не была. Трави веревку, Медведь. Камышин с удивлением следил за ловкими движениями этого крупного и неуклюжего, на первый взгляд, человека. Он не знал этого рабочего и не понимал, чему тот радуется.
12. СИЛА ВОЛИ
Тоскливо взглянул Кузя на стоявшего понурив голову друга и, глотая слезы, вышел из «чижовки». Некоторое время Аким Акимович с Довольным видом ходил из угла в угол, поглядывая то на Кандыбу, застывшего без движения за столом, то на ухмылявшихся городовых. Он не торопился. Типография теперь в его руках. Ни на одну секунду он не усомнился в том, что справится с юношей. В его распоряжении столько всевозможных средств. Ласка, деньги, угроза, плеть и многое другое, о чем сейчас даже не хотелось думать. Все дело во времени Само собой разумеется, что Зотов будет сопротивляться, но не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, а типографию он получит. — Послушай, Зотов! Знаешь ли ты, как называется твой поступок? — опросил Аким Акимович, останавливаясь перед юношей. Чувствуя, что недостаточно точно выразился, пояснил: — Я говорю о поступке по отношению к товарищу. Не знаешь? Я тебе скажу. Бла-го-ро-дный! Да, да. Ты поступил очень благородно. И скажу откровенно, ты меня удивил. Не задумываясь. Это своего рода порыв благородной души. Прекрасно! Затем Кутырин прошел и широко распахнул двери своего кабинета. — Ну что ж, а теперь прошу ко мне, — любезно пригласил пристав. Пропустив Зотова в кабинет, он оглянулся и совсем уже другим тоном приказал: — Чураков, останешься здесь, а ты можешь идти! Закрыв за собой дверь, Аким Акимович бросил плеть на стол, сел в кресло и, откинувшись на спинку, достал папиросы. Машинально постукивая мундштуком о портсигар, он долго смотрел на покорно стоявшую перед ним жертву, как бы изучая, с какой стороны к ней подойти. Взгляд его был пристальный, холодный, как у змеи. Не так ли смотрит удав на кролика, собираясь его проглотить? Но Вася кроликом не был и чувств кролика не испытывал. Не было у него и страха перед жестоким и беспощадным врагом. Вася был уверен, что сейчас ему придется попробовать плети. «Пускай бьет. Рабочим-революционерам еще хуже было», — думал он. И от этой мысли сильнее билось сердце и сохло в горле. Ему даже хотелось испытать себя и пострадать за революцию. — Где же спрятана типография? — спросил, наконец, пристав. Настала решительная минута. — Далеко спрятана. Вам не найти, — угрюмо пробормотал Вася и покосился на лежащую плеть. Он ждал, что пристав вскочит, схватит плеть и начнет бить. — Не найти? — усмехнулся Кутырин. — Может быть, вместе найдем? — Ищите сами. Я не скажу! — твердо, почти вызывающе заявил Вася и поднял голову. Но пристав остался невозмутим. Он неторопливо зажег спичку, прикурил и затянулся. — А ты напрасно торопишься, — спокойно проговорил он, тонкой струйкой выпуская дым. — Давай поговорим, Зотов, по-хорошему. Да ты садись! Настояться еще успеешь. Послушай внимательно, что я скажу, и подумай! Выбор у тебя небольшой… Если скажешь, где спрятана типография, то я в долгу не останусь. С этими словами Аким Акимович оглянулся, заметил что-то в углу, встал и, пройдя в конец комнаты, взял стоявшие там новые черные валенки. Похлопав их по голенищам, поставил рядом с Зотовым. — Не купите! — сказал Вася, сильно покраснев. — Не на того напали. — Вот, например, пимы! — продолжал пристав, как будто не слышал его слов. — Новенькие, теплые! Ты таких никогда и не носил. Но это еще не все! Пристав достал из бокового кармана бумажник, вынул сторублевую бумажку с портретом Екатерины и положил на стол. — Вот… Радужная! Посмотри… Не видал ведь таких денег, — сказал Аким Акимович, откинувшись на спинку кресла. — Значит, в одном случае пимы и деньги, а в другом… Если начнешь упорствовать, — пеняй на себя. Надеюсь, ты про меня не раз и не два слышал? Знаешь, что я шутить не люблю! — Знаю! — хрипло, от душившей его ненависти, сказал Вася. — Хорошо знаю. Я вам за отца всю жизнь не забуду. Придет срок — рассчитаемся. Угроза юноши вывела из равновесия пристава. — Молчать! — крикнул он и, выбежав из за стола, схватил плеть. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, словно выжидая, кто первый начнет». — Ну, бей! — неожиданно звонко выкрикнул Вася. — Ну, бей! Твоя власть!.. Чего стал? Не боюсь я тебя! За пимы, думаешь, типографию продам? Эта типография правду про тебя расскажет всему народу, а я за пимы продам! Не знаешь ты Ваську. Я Зотова сын… Отец мой тебе в рожу плюнул! А думаешь, я не плюну? — все сильнее выкрикивал юноша в каком-то радостном исступлении, не думая о том, что он здесь в полной власти «живодера», который может с ним сделать все, что угодно. Глаза его горели и слова вырывались из груди, как расплавленный металл из домны. Кутырин, прищурив глаза, стоял бледный, с плотно сжатыми губами, но уже овладевший своей неукротимой натурой. Да. Он помнит Зотова. Большой, сильный человек, с которым едва справились семь жандармов во время ареста. Такие же глаза, такой желоб и подбородок. Действительно, на первом допросе, когда Кутырин предложил Зотову сообщить настоящие имена членов Пермского комитета, за что обещал сохранить жизнь и даже свободу, тот плюнул ему в лицо. Но откуда об этом знает мальчик? — Ну! Теперь все сказал? — спросил Кутырин, когда Вася, тяжело дыша, остановился. — Все! — Та-ак… — протянул пристав. — Не ожидал! Характер у тебя, действительно, отцовский… А ты мне нравишься! Смелый! Плети, значит, не боишься! Ну, это мы еще успеем проверить. Не таких, как ты, ломали! И плети попробуешь и скажешь… — Не скажу! — А нет, скажешь! — с улыбкой, словно дразня и подзадоривая, сказал пристав. — Отца повесил… вешай и меня, «живодер»! Аким Акимович знал, что его здесь наградили таким прозвищем, и неожиданно расхохотался. — Ну, а что еще придумаешь? — Все. Теперь больше слова не услышишь. — Ну, что же делать? По-хорошему не хочешь… Сам виноват! — с сожалением сказал пристав и, взяв со стола деньги, неторопливо сложил их и спрятал обратно в бумажник. — Жаль мне тебя, Зотов. Честно говорю»- жаль! Все равно скажешь и ничего не получишь. Революционер тоже!.. Типографию спрятали, а подумал ты, — зачем? Кому она теперь нужна? Лежит где-то, ржавеет… Или ты надеешься, что отец с того света вернется и опять прокламации будет печатать? Не-ет, голубчики. Теперь всё! Больше бунтовать не придется. Кандыба! Чураков! — вдруг крикнул он. Когда полицейские прибежали на зов начальника, он кивнул головой на стенку. Откуда-то взялась веревка, и через минуту руки у юноши были связаны. Вася не сопротивлялся. Его охватило какое-то тупое безразличие ко всему, и он равнодушно смотрел, что с ним делают. Вот связали руки, но почему-то спереди. Ага! В стенку вбита скоба, за которую привязали руки. Вот заворотили через голову рубаху. Значит, сейчас будут бить. Звуки голосов, топот ног доносились глухо, словно в уши набралась вода, как это бывает во время купания. — Последний раз я тебе советую, Зотов… Давай лучше по-хорошему сговоримся. Все равно,пока не скажешь, не выпущу! Оглох, что ли? Ну-ка, резани, Кандыба! Острая боль обожгла спину, и Вася чуть не крикнул. От второго удара он дернулся вперед и что было силы прижался к стене, словно хотел уйти в нее… Еще… и еще… Он стиснул зубы, зажмурил глаза и затаил дыхание. «Держись, Василий, крепко держись… Терпи за рабочее дело. Ты уж не маленький. Это тебе мерещится, а на самом деле не больно», — мысленно уговаривал он себя, и ему казалось, что это говорит отец. В наступившей тишине было слышно, как зловеще посвистывала плеть и коротким щелчком ложилась на голое тело. Ни крика, ни стона, ни просьбы о пощаде… — Ты что, болван! Жалеешь? Ты как бьешь? — заорал вдруг пристав на Кан-дыбу. — Ваше, высокоблагородие, я как полагается… Да разве его прошибешь, звереныша!.. — Не рассуждай! Бей! Наконец, пристава прорвало. Он не выдержал и, подскочив к околоточному, выхватил у него из рук плеть. — Запорю-у-у! Уничтожу-у… Щенок! — в бешенстве кричал он, нанося удары. Плеть свистела, но воля победила, и боль уже притупилась. Теперь Вася был уверен, что стерпит и не такое и что страшно было только сначала. При каждом ударе он вздрагивал и все сильнее прижимался к стене. Пристав устал. Он с силой бросил плеть на пол, выбежал в соседнюю комнату и нервно зашагал из угла в угол. Кандыба вытаращенными от испуга глазами проводил начальника и подошел к юноше. — Ты что, Васька… Очумел? Хуже будет… Зотов медленно повернул к нему красное лицо, несколько секунд смотрел, словно не узнал, затем глухо сквозь зубы проговорил: — А ты, Кандыбище, свое получишь… Если не я, так другие тебя найдут… — Вот так углан! — не то с восторгом, не то со страхом, сказал Чураков, стоявший все время в стороне. — Озверелый… Ну как есть озверелый! Волчонок! — пробормотал околоточный, вытирая лицо красным платком. Вася не слушал. Уткнувшись головой в холодную стенку, он замер, а из глаз его катились крупные слезы. Спина горела, как будто ее поджаривали, но плакал он не от боли, а от бессильной ненависти, кипевшей в груди. «Эх, ружье бы…» — с тоской шептал он. И вдруг в голове молнией мелькнула мысль. — «Луньевка. Пожар в горе. Газ». Лет пятнадцать тому назад на одной из шахт, в Луньевке, вспыхнул пожар. Пожары в горе не такая редкость, но в тот раз не приняли вовремя мер и огонь с креплений перешел на уголь. Уголь не потушить. Забои с горевшим углем перегородили сплошной стеной или, иначе, перемычкой, чтобы прекратить доступ воздуха, а шахту забросили. Прошли годы, и никому не известно, прекратился пожар или уголь продолжает медленно гореть. В шахту спускаться нельзя. Она наполнилась углекислым газом. Это мертвый газ. В нем не может гореть свет и все живое моментально гибнет. Он не имеет ни запаха, ни цвета. Он значительно тяжелее воздуха и льется, как вода, растекается по всем забоям, штрекам и, наконец, начинает заполнять главный ствол. «Сказать, что типография спрятана там, и увести пристава и других полицейских, — лихорадочно думал Вася. — Мы спустимся вниз и будем двигаться вперед, пока не погаснут фонари. А тогда все… Никто не уйдет. Газ поднимется и все захлебнутся. Спасать некому». О себе Вася не думал. Себя он как-то выключил из жизни, и ему стало все безразлично. «А если живодер или кто другой знает, что в шахте пожар? — Эта мысль сразу остудила воспаленную голову. — Нет, так не выйдет». В комнату вернулся пристав. Он уже успокоился и снова обрел обычное насмешливое, жизнерадостное настроение. — Вот что, Кандыба, — весело сказал он. — Быстро одевайся и приведи его шайку, его товарищей. Всех, кто попадет. Понял? — Так точно! Понял! — Да поживей! — уже вдогонку крикнул пристав. — Ну что, Зотов? Долго ты намерен молчать?.. Жаль мне тебя… А ничего не поделаешь, приходится… — с притворным сочувствием сказал он, глядя на рубцы от плети. — Не хотел бы я быть на твоем месте! Подумай, подумай, пока не поздно. Какой тебе смысл упорствовать? Исполосовали спину, других поставил под удар… Все равно сказать придется… Чураков! — обратился он к городовому. — Принеси-ка сюда еще веревку и соли. Да смотри, чтобы соль была мелкая. — Много соли, ваше высокоблагородие? — Горсть. — Слушаюсь! Чураков вышел. Кутырин устроился за столом и, вытянув ноги, потянулся. — Ну, что забеспокоился, Зотов? Эта соль не для тебя, не бойся. Конечно, если бы тебе полосы посыпать, теплее бы стало, но я думаю, что ты и это выдержишь. Ты крепкий… А вот сейчас мы проверим твоих товарищей! Как они? Такие же, как и ты? Будут они молчать или заговорят? Как ты полагаешь? Я вас всех плеточкой поучу. Вы у меня шелковые будете, ручные! Я вас научу, сопливых революционеров! Только сейчас Вася понял, зачем «живодеру» понадобились его друзья. — Они все равно не знают. Напрасно мучить, — глухо сказал он. — Ага! Уже заговорил! — засмеялся пристав. — Вернулся дар речи! А вот посмотрим, как ты заговоришь, когда я привяжу их на твое место да всыплю, как тебе, а потом еще и солью посыплю! — Они не знают, — с отчаянием почти простонал Вася. — Никто, кроме меня, не знает. — А вот мы сейчас и проверим, знают они или не знают! Не все же вы такие каленые. Кто-нибудь да проговорится! А если они не знают, тебя попросят. На коленки встанут перед своим атаманом. «Скажи, Васенька, пожалей нас, бедненьких», — плаксиво протянул Аким Акимович и снова засмеялся. — Я ведь предупреждал тебя по-хорошему! Со мной шутки плохи. Ой, плохи, Зотов! Вошел Чураков со стеклянной солонкой и веревкой. — Куда прикажете, ваше высокоблагородие? — Поставь на стол. А веревку положи. Теперь Вася понял, какую мучительную пытку готовит ему «живодер». Если бы можно было спрятать, убрать из поселка ребят, он стерпел бы любую боль. Но они где-то тут близко, за стеной, ничего не подозревают, и, наверно, скоро Кандыба приведет их. Воображение его нарисовало страшную картину. Вот Карась, Сеня, Кузя, Маруся привязаны за руки, плеть свистит и красными полосами рубцует тело… А потом соль. Нет, они, конечно, не станут его просить… Они тоже стерпят… О-о! Если б свободны были у него сейчас руки! Он бы, как рысь, зубами вцепился в горло этого ненавистного «живодера» и перегрыз… — Думай, думай. Время еще есть, — сказал пристав, услышав, как застонал привязанный юноша. Сейчас Аким Акимович развлекался тем, что пускал кольцами дым. Чураков с удивлением наблюдал, как изо рта начальника вылетало густое кольцо и, повиснув в воздухе, начинало медленно увеличиваться. Сквозь него проскакивало второе, затем третье. — А если скажу… пимы дашь? — хрипло спросил Вася. — Дам! — оживился пристав. — И денег дашь? — И денег дам. Вот они! Пристав торопливо достал из бумажника обещанную сторублевку и положил ее на стол. — Ладно… скажу! — с трудом проговорил Вася. — Давно бы так! Зачем было ссориться? На такие деньги ты с йог до головы оденешься. Гармошку купишь… — с облегчением заговорил пристав и, подойдя к юноше, хотел дружески похлопать по плечу, но, сообразив, что вряд ли это доставит тому удовольствие, удержался. — Только там подпольщики могут быть. Они с оружием, — предупредил Вася. — Подпольщики? С каким оружием? И много? — насторожился пристав. — Нет… Человека три. — Вот как?.. — задумчиво произнес пристав. — Это что-то новое… А где спрятана типография? — В старой шахте, заброшенной, за Доменным угором. Вам не найти. Я сам сведу до места. — Ну, конечно, конечно! Отлично! Оч-чень хорошо! Откладывать мы не будем… Чураков, развяжи его! Пока городовой возился у скобы, развязывая узел, пристав, сильно встревоженный сообщением Васи, задумчиво пощипывал подбородок. — А что это за подпольщики? Как их фамилии? — опросил он. — Не знаю. Я видел их один раз… Темно там. Будто не наши. — А шахта не затоплена? — спросил пристав, но, сообразив, что сказал глупость, поправился. — То есть, я хотел спросить, воды много? Мокро там? — Нет. Шахта сухая. Пристав смутно чувствовал, что тут что-то не так, и не знал, верить или нет этому отчаявшемуся и готовому на все мальчишке. «Но что он может сделать? Понимает же он, что деваться ему некуда? Как и зачем он будет обманывать? С другой стороны, все это вполне возможно. В шахтах вместе с типографией могут прятаться подпольщики, бывшие участники восстания. Многих из них не нашли. Исчезли, как в воду канули». — Чураков! Сейчас же сюда всех людей. Всех до одного! И чтоб сапоги надели! — приказал он, когда Зотов был отвязан и растирал затекшие руки. — Слушаюсь! А которые в гостях, ваше высокоблагородие?.. — Как в гостях? Сколько сейчас времени? — Я говорю к тому, что с праздником напоздравлялись… — Пьяные, что ли? Ничего! На морозе вытрезвятся… Быстро. Всех до одного! — Слушаюсь! Чураков вышел. Пристав передвинул ногой валенки и переложил деньги на край стола. — Ну что ж, надевай! Мое слово свято. А вот и деньги! Портянки были в соседней комнате, но Вася не стал их просить и надел валенки прямо на босые ноги. — Вот! Совсем другое дело! Не жмут? — Нет. Впору, — угрюмо одобрил Вася. — Я ведь не такой злой, как меня считают… Ты вот за отца хочешь мне мстить. А разве я виноват? Разве твой отец один? Сколько таких, как твой отец, перевешали! Что ж, в их смерти разве тоже я виноват? — говорит неохотно пристав. Он считал нужным как-то сгладить впечатление от недавней порки и расположить к себе Зотова, понимая, что на душе у юноши скверно. Первое предательство некоторым дается не так просто. Кроме того, он боялся, что Зотов передумает и затянет дело. В соседней комнате захлопали двери и послышался кашель, гул голосов, бряцанье. — А кто виноват? — продолжал вслух пристав. — Сами виноваты! Закон есть закон. Закон никого не щадит. Не нами заведен порядок, не нами и будет изменен. Всё от бога… Вошел Кандыба, держа за воротник Карасева. — Так что, нигде их не нашел, а этот около наших окон крутился. Тоже из евонной шайки, ваше высокоблагородие! — Теперь он нам больше не нужен. Отпусти его! — А чего он шею давит?.. — пожаловался мальчик. — Господин пристав, можно ему старые пимы отдать? Пускай домой унесет, — попросил Вася, видя, что пристав собирается выйти. — Можно. Кандыба, принеси ему пимы и одежду, — приказал пристав и вышел. Кандыба с удивлением посмотрел на новые валенки и, неодобрительно покачав головой, вышел. Минуты через две он вернулся с одеждой и застал ребят, горячо о чем-то говоривших. У обоих глаза блестели от возбуждения, но при появлении околоточного они смолкли. Все это было крайне подозрительно. — Смотри, Васька… Что-то ты не того… — предупредил Кандыба. — А что? — вызывающе спросил юноша. — Я скажу Акиму Акимовичу, что вы шушукались… — А что шушукались? Ты слышал? Ну и скажи. Я сам скажу… Предатель. Братоубийца! — с ненавистью сказал Вася и, грубо выхватив одежду, начал одеваться, крякая и морщась от боли. При последних словах Зотова Кандыба выпучил глаза, и на лице его появились красные пятна. Похоже было на то, что околоточный начал медленно надуваться. Несколько секунд он чего-то жевал губами, намереваясь ответить и… ничего не сказал. — Забирай, Карась, мои пимы. Не слушай этого предателя! Он свое еще получит! Никуда не уйдет! — тихо, но так, чтобы Кандыба слышал, проговорил Вася. Движения юноши были порывисты, решительны, хоть гримаса боли не сходила с лица. — Так ты что? Сознался, значит? — спросил Кандыба. — А это не твоего ума дело. Вернемся, тогда и узнаешь! Болван! Тупица! — подражая Кутырину и чувствуя свою полную безнаказанность, выругался Вася. Снова Кандыба налился краской и вытаращил глаза и снова промолчал. В это время вошел переодетый в полушубок и очень оживленный пристав. — Ну, готов? Прекрасно! Кандыба, ты остаешься здесь один. Людей я забираю с собой. Смотри в об?! — погрозил он пальцем.13. ВОСПОМИНАНИЯ
С валенками под мышкой Карасев выскочил из полицейского участка, словно сзади его пнули ногой. Остановившись посреди улицы, он огляделся. «Как быть? — задал он себе вопрос и сейчас же ответил. — В первую очередь надо разыскать ребят». Размышлять долго некогда, и Карасев что было духу побежал вниз по улице. Он рассчитывал найти их в первом же переулке. Скоро полночь. Обычно в этот поздний час поселок затихает, но сегодня наоборот. Гости расходились по домам, и на улицах появились прохожие. Жена поддерживала мужа, и Карасев, обгоняя их, услышал, как она вполголоса уговаривала: — Степа, переступай ты ногами-то, наказанье, прости, господи! Не могу я тебя тащить… Навстречу из переулка вышла большая шумная группа по-праздничному одетых людей и загородила всю дорогу. Бестолково размахивая руками, они говорили все разом, стараясь перекричать друг друга. Карасев вынужден был остановиться и даже свернуть в снег, чтобы пропустить подвыпившую компанию. И снова бегом. В первом же переулке он услышал окрик: — Карась! Так и есть. Друзья поджидали его у забора, заслонившего их от света фонаря. — Ну что, Карась? — Во! Теперь держитесь! Это вам не игрушки. Это вам… знаете что… — запыхавшись, начал Карасев. — Вот увидите сами… Тише вы, не орите! — крикнул он и оглянулся. Кузя и Сеня молчали. — Они сейчас пройдут… — уже шепотом предупредил он. Проваливаясь по колено в снег, Кара-сев прошел на угол и, прижимаясь к доскам забора, выглянул. Ребята последовали его примеру, Свет от фонаря доставал до домов противоположной стороны, и было хорошо видно, чт делается на улице. Вот под фонарем остановились разгоряченные спором и отставшие от остальной компании трое мужчин. О чем они спорили и что хотели доказать друг другу, неизвестно. Ни одного слова разобрать было невозможно. Да ребята и не интересовались этим праздничным разговором. Вдруг, как по команде, спорщики смолкли и, расступившись, пропустили довольно странную процессию. Впереди шел хорошо известный в поселке пристав с мальчиком, а сзади них растянулась в цепочку дюжина полицейских. В руках у городовых были шахтерские фонари, а последний нес перекинутый через плечо моток веревки. — Аким Акимыч, с праздничком! Куда это вы? — громко сказал один из мужчин. — На пикник! — весело отозвался пристав Когда полиция скрылась в темноте, а успокоившиеся спорщики разошлись в разные стороны, Карасев шепотом сказал: — Видали? А теперь айда за ними! Я все знаю… По дороге скажу что надо! …Вася шел опустив голову, стараясь не думать о плохом, но это ему не удавалось. Здесь он родился, здесь вырос, и всё, что встречалось на пути, упорно толкало на приятные воспоминания. А это было сейчас плохим. Оно бередило душу. Вот плотина. Здесь они летом ловили чебаков и ершей. По другую сторону плотины, где течет речка, почти пересыхавшая летом, искали окаменевшие раковины и гладко отшлифованные камни. Слева домна, а за ней целые горы ярко раскрашенного шлака. Вот здесь, в переулке, сегодня, возвращаясь из рабочих бараков, они встретили мужчину с бородой… И вдруг Вася вспомнил! Так некстати и не вовремя вспомнил, где и когда он видел этого человека. И было это почти три года назад. Как же он мог забыть? Забыть те дни, самые счастливые дни его короткой жизни! …Вечер. Приветливо горит лампа, и свет ее ласкает вороненую сталь новенького ружья. Уставший после работы отец лежит на кровати. Довольный и гордый, он наблюдает за сыном. Вася держит в руках собственную одноствольную шомполку и с бьющимся сердцем первый раз заряжает ее дробью. Самостоятельно высыпал в дуло мерочку черного пороха и крепко запыжил бумагой. Затем в пригоршню насыпал дроби. — Много, сынок! Много… Отбавь чуток. Вот! Теперь как раз будет, — учил отец. — Много дроби возьмешь, рассыпчато полетит и бой не тот… Живить станет. …Скрип шагов сливался в один хрустящий звук и не мешал думать. Спину ломило и острая зудящая боль не прекращалась ни на секунду. Рубашка прилипла к ссадинам и не позволяла делать резких движений, но все это не могло отвлечь от приятных воспоминаний. …Было еще совсем темно, когда Вася на следующее утро вышел с отцом из поселка. Направились они малопроезжей дорогой на Косьву. У обоих за плечами котомки с хлебом, луком, солью, рыболовными принадлежностями для удочек. К ремню прицеплены банки с порохом и мешочек с дробью. В карманах пистоны. И у обоих по ружью. Отцу что! Для него это дело привычное, а для Васи это первый выход на настоящую охоту. Когда они вошли в лес, начинало светать. Васе не терпелось. Он надел медный пистон и осторожно опустил курок. Готово! Теперь можно стрелять. Отец шагал крупно, и, чтобы не отстать, приходилось делать ненормально длинные шаги. — В охоте главное не ружье, — говорил отец — Главное глаз! Увидел дичь вовремя- твоя! Прозевал — улетела. И как раз в этот момент совсем близко из кустов шумно сорвался рябчик Вася перехватил ружье, вскинул, нажал курок, но вместо выстрела услышал смех отца. — Вот так штука! Ну, беги скорей! Может, догонишь! Вася сделал несколько шагов по направлению улетевшего рябчика и остановился обескураженный неудачей. Он не сразу понял, что перед выстрелом забыл поднять курок. Обидно. — Не торопись, сынок, — успокоил отец. — Идти нам далеко. Зачем таскать на себе птицу? Устанешь. Придем на место, тогда и стреляй. Взошло солнце и осветило удивительную картину. Даже привычному глазу невозможно не заметить такой красоты и остаться равнодушным. Справа и слева высились горы. Дорога то поднималась, то опускалась, то сворачивала за скалу, и все время открывались новые виды, не похожие друг на друга. Покрытые лесом горы раскрашены осенью разными красками: темно-зеленые ели и вперемежку с ними красные рябины, светло-желтые липы и кое-где бордовые осины. Все это присыпано серебристым инеем и блестит на солнце. Но вот стали попадаться кедры. — Вася, орехов наберем? — А ты полезешь? Вася задрал голову и оценил высоту голого ствола одиноко стоявшего у дороги кедра. Охватить руками его невозможно, но если обвязать себя и ствол веревкой, можно лезть. Делается это так: откидываясь назад, натягивают веревку и перебирают ногами Затем, упираясь ногами, выпрямляются и одновременно передвигают веревку. Лучше, если при этом на ноги надеть железные когти. Но если их нет, можно босиком. — Полезу босиком и с веревкой! — задорно вызвался Вася. — А кто орехи потащит? — Ты. — Нет, сынок! У меня будет другой груз, и не малый. О каком грузе говорил отец, Вася не понял, но, как всегда, расспрашивать не стал… …Сзади закашлял один из городовых и вернул Васю к действительности. — Тише вы там! — крикнул пристав, оглянувшись назад. — Ты у меня покашляй еще!.. Я тебе покашляю! — Ваше высокоблагородие, мороз в ноздрю лезет… — Молчать! Варежкой заткни свою ноздрю! Болван! Впереди чернел лес. Вася грустно взглянул на огоньки поселка, на красный огонь домны, где он должен был работать после праздников. Ему казалось, что он видит все это последний раз. Вошли в лес, и пристав решил зажечь фонарь. — Дозвольте покурить, ваше благородие, — робким басом спросил один из городовых. — Курите! Да поживей! — разрешил пристав. Вася смотрел на звездное небо, и в ушах его снова зазвучал то шутливый, то суровый, то ласковый голос отца, а перед глазами встали чудесные картины прерванных воспоминаний. …Косьва. Говорят, эта речка стекает с высокой горы, вершина которой всегда окутана тучами. Говорят, что гора эта сделана из платины и вода отрывает ее по маленьким кусочкам и катит вниз. Вот почему у самой подошвы платина крупная и встречаются самородки, а чем дальше, тем мельче, пока не исчезнет совсем. Вася лежит у костра на берегу Косьвы и смотрит на звездное небо. Он думает о том, что завтра на рассвете пойдет ловить харюзов на плес, который уже присмотрел и видел, как там играют эти бойкие и сторожкие рыбки. Отец сладко похрапывает, а иногда что-то бормочет во сне. Поужинали они славно. Вася убил пять рябчиков и здорового черныша с широкими красными бровями. Он убил бы и больше, но много времени уходило на заряжение шомполки. Отец на охоту не пошел и весь вечер просидел у костра на берегу. Он явно кого-то поджидал. В те дни Вася был еще мал. Что он понимал в делах отца? Этот выход на охоту был обещан давно, и поэтому ничего подозрительного он не заметил. А если бы и заметил и спросил, то отец бы коротко ответил: — Не твое дело. Подрасти сначала. Утром Вася проснулся от холода. Вся одежда была мокрая от росы. Костер еле теплился. Отца не было, но голос его был слышен совсем недалеко. «С кем это он разговаривает?» — подумал Вася, услышав второй незнакомый голос. Подойдя к самому берегу, посмотрел по сторонам и увидел немного ниже по течению лодку. В лодке, опираясь на шест, стоял бородатый старик. Вася вернулся к стоянке, положил на угли сучьев и начал раздувать. Скоро показалось пламя и костер весело затрещал. Вернулся отец с высоким молодым человеком. В руках у этого человека был четырехугольный пакет, похожий на связанную пачку книг. — Это сынишка мой, — сказал отец. — Ничего растет углан! Самостоятельный! Вскипятили чай. Кружек было две, и поэтому пили по очереди. Приехавший сказался веселым, много знающим человеком. Он так увлекательно рассказывал об Урале, что Вася забыл о харюзах и, вероятно, пропустил бы лучшие часы ловли, если бы отец не напомнил: — Васюк, а ты хотел рыбки поймать. Оно бы не плохо к обеду ушицы! Вася взял приготовленную с вечера удочку и отправился к плесу. Харюзов ловят на муху. Берут они и на червя, но на муху лучше, да и ловить интереснее. Вася об этом знал давно и захватил с собой пузырек, набитый рыжими тараканами. Когда таракана насадишь на крючок, он распускает крылья. Ни дать ни взять — муха. Харюз очень осторожная рыба. Нужно простоять на берегу без движения минут двадцать, пока спугнутые рыбки не успокоятся и не вернутся назад. В прозрачной воде видны их черные спины. Три… пять… целая стайка. Сейчас они смело плывут, но стоит пошевельнуть пальцем, как вся стайка мгновенно исчезнет. Подойдя к плесу, Вася остановился далеко от берега, надел таракана и осторожно направился к кустарнику, густо разросшемуся у самой воды. Придерживая пальцем конец нитки, он просунул удочку между веток, раздвинул кусты и отпустил леску. Таракан повис в воздухе. Ветерок дул снизу и относил нитку. Мальчик начал наклонять удочку. Лишь только таракан коснулся воды, как около него блеснуло, булькнуло и по удочке словно кто палкой ударил. Харюз попался крупный. Это было сразу видно по тому, как дергалась удочка. Сердце у мальчика от волнения замерло, но он не потерялся. Тащить надо осторожно, чтобы не испугать остальных… …— Бросай курить! — крикнул пристав. Снова захрустел под ногами снег. Оранжевый свет от фонарей метался по сугробам. Иногда из темноты вдруг появлялась молодая сосенка, до половины утонувшая в снегу, с белой пушистой шапкой на верхушке. …«Так вот где я видел этого человека», — думал Вася, вспоминая встречу на берегу Косьвы. — Но тогда он был без бороды и выглядел совсем молодым». Значительно позднее Вася узнал, зачем эти люди поднялись на лодке из Чусовой. Привезенный ими пакет Васе пришлось тащить, помогая отцу. Тяжелый был пакет. Теперь он понимает, что была там нелегальная литература, революционные прокламации… …Сзади послышалось лошадиное фырканье, и скоро раздался крик: — Эй! Поберегись! Пришлось сворачивать в снег, чтобы пропустить лошадь. Сытый копейский жеребец, запряженный в розвальни, мотая головой, прошел мимо. На мгновенье лицо возницы попало в полосу света, и Вася сразу узнал Матвея. «Куда это он на ночь глядя поехал?» — Носят их черти! — проворчал пристав, вылезая на дорогу.14. «КУЗНЕЦОВСКАЯ» ШАХТА
Тихой морозной ночью звуки разносятся далеко, и поэтому Денисов не удивился, когда слух его уловил очень далекий скрип шагов. Прикрыв полой полушубка фонарь, он подошел к полуоткрытой двери и прислушался. «Никого! Почудилось, что ли? У страха глаза велики», — решил он, но в ту же секунду совершенно ясно услышал сухой хрустящий звук шагов. Кто-то шел по дороге. Если бы это было не в полночь и если бы Денисов не оберегал спустившихся под землю товарищей, он не придал бы этому значения. Ну, идет прохожий; ну и пускай себе идет. Но сейчас нужно быть настороже. Мало ли какая случайность? Всего не предусмотришь. Вначале скрип шагов, закрытый лесом, доносился глухо, но вдруг сразу стал яснее и короче. «Вышел на опушку, — решил Денисов. Через минуту–другую звук исчез. — Остановился… И как раз у развилины», — подумал шахтер, сдерживая дыхание. Снова заскрипели шаги, и звук их начал быстро нарастать. Теперь не было сомнения, что прохожий свернул к шахте. Притаившись у двери, Денисов напряженно всматривался, пока не увидел темную фигуру человека. Поравнявшись с шахтой, человек остановился и тихо кашлянул. Денисов ждал. — Тут кто-нибудь есть? — раздался знакомый голос. — Фу ты, неладная! — пробормотал Денисов, облегченно вздохнув. Он вынул фонарь и, высунув его из двери, осветил протоптанную недавно тропинку. — Кто это? Миша, ты? — Я. Это я, Иван Иваныч, — сказал Денисов, выходя навстречу. — Сперва было не признал. Что, думаю, за оказия! Хруп-хруп!.. Кто, думаю, по ночам тут бродит? Из гостей, что ли, вертается? Вроде как поздно бы… А потом, как ты с дороги свернул, совсем мозга за мозгу заскочила… — Напугался? — усмехнулся Орлов, входя в сарай и оглядываясь. — Похоже, что напугался. — Ну как? Шрифт нашли? — Нашли. Увязывают. Сейчас поднимать станем. Матвея поджидаю. Должен вот-вот на лошади приехать. — Камышин внизу? — Там. — Это хорошо. Не надо, чтобы он видел меня. Человек он вполне порядочный, но, как говорится, сделан не из крепкого материала. Пугливый товарищ! — Это да… Не тот человек, — согласился шахтер. — Передам, говорит, вам типографию — и конец. Мне, говорит, с вами не по пути. Считайте, что в кадеты ушел. — Так и сказал? — удивился Орлов. — Да нет. Насчет кадетов я пошутил, — смеясь, сознался Денисов. — Шутка очень похожа на правду. Туда его по ветру несет, — сказал инженер и достал портсигар. — Будешь курить? — Можно. Руки у Денисова крупные, кожа потрескалась, пальцы заскорузлые, огрубевшие. Не руки, а лапы. — Вытряхни сам, Иван Иваныч, — попросил он, не решаясь взять тонкую папироску из протянутого портсигара. — Руки-то у меня не по тому калибру деланы. Только и годятся кружева плести, — пошутил он. Орлов достал папиросу и передал ее Денисову. — Покупные? — Нет. Сам набиваю. Прикурив от фонаря, инженер надел рукавицы и потер ими щеки. — Говорят, что на морозе курить вредно, — заметил он. А уральский мороз мне нравится Сырости той нет, что в Питере. Там в десять градусов хуже, чем здесь в тридцать. — Я вот что соображаю, Иван Иваныч, — сказал Денисов. — Как мы будем шрифт подымать? Груз не малый. Попробовали было колесо повернуть и бросили. Так скрипит проклятое, — мертвых подымет. Орлов взял фонарь и обошел с ним вокруг колодца. — Воды надо достать, — посоветовал он, разглядывая один из углов. — Вот эту ложбинку заморозить, и по ней веревка пойдет, как по маслу. Денисов задумался. Он привык без возражения выполнять распоряжения инженеров и совет Орлова принял, как приказ. — Легко сказать, воды! В поселке разве попросить? Сказать, что для лошади… — вслух начал размышлять он. — Нет… Это не годится. Пока ходишь, — замерзнет. Не донести. Разве у Сохатого? Там теплый ключ есть. Недалеко тут. Всю зиму не замерзает. — Где это Сохатый? — А вот по дороге, где ты шел, немного вперед и налево. Не доходя до «Фокеевской» шахты. Тоже старые разработки, брошенные. — Откуда здесь может быть теплый ключ? — заинтересовался Орлов. — А кто его знает? Мы еще когда мальчишками были, все бегали. Вокруг того ключа все ржавчиной покрыто. — А воду на вкус не пробовал? — По вкусу на чернила похожа. Пощипывает язык малость. — Медный купорос, наверно. Но почему он теплый? Это надо будет посмотреть… А приехавший товарищ тоже в шахте? — спросил Орлов, заглядывая в колодец. — Все там. — Лезет кто-то… Денисов подошел к колодцу, посмотрел и отстранил инженера рукой. — Камышин, — вполголоса сказал он. — Схоронись, Иван Иваныч. Выйди за дверь. Я его уведу, Орлов вышел за дверь и, проваливаясь по колено в снегу, завернул за угол строения. На высоте головы заметил выпавший из доски сучок. Через круглое, величиной в две копейки, отверстие было видно, что делается внутри. Денисов после ухода инженера как ни в чем не бывало занялся поисками подходящей посуды для воды. Скоро он нашел большую деревянную бадью, похожую на кадку. Она была тяжелая, — ко дну пристал толстый слой известки; но понятие о тяжести для Медведя было иное, чем у остальных людей. Он повертел ее перед фонарем и, убедившись, что она нигде не просвечивает, похвалил: — Бадейка что надо! Из шахты показался Камышин. — Ну вот и все, — с облегчением сказал он, вылезая из шахты и обращаясь не то к Денисову, не то к самому себе. — Гора с плеч долой, если можно так выразиться. Перемазался-то, боже мой! На кого я похож! Пока он счищал приставшую к шубе грязь, Денисов помог вылезти Непомнящему и, отойдя с ним в сторонку, рассказал о приходе Орлова, с которым тому необходимо было связаться. Камышин искоса поглядывал на них и делал вид, что ничего не замечает. Он чувствовал отчуждение, видел, что к нему относятся с недоверием, и это его больно задевало. Но вместо того, чтобы обидеться, как это сделал бы другой человек на его месте, Камышин пытался рассеять это недоверие тем, что все время заводил разговор на политические темы, и сильно надоел Непомнящему. — Я вас больше не задерживаю, Георгий Сергеевич, — сказал Непомнящий, подходя к Камышину. — Теперь вы свободны. — Спасибо! Очень рад, что оказался вам полезен. Эта типография мне спать не давала. Нет, серьезно! Боялся во сне проговориться, — шутливым тоном признался он. — Следовательно, теперь я могу уходить домой? — Да, да. Торопитесь. Жена беспокоится. — Вероятно, — согласился Камышин. — Ну, прощайте! Может быть, увидимся еще когда-нибудь. Очень рад был познакомиться. Надеялся поговорить с вами по душам. Сомнениями поделиться. Здесь так мало людей. Живем в глуши… — Вы бы лучше свои сомнения при себе держали, — посоветовал Непомнящий, протягивая на прощанье руку. — Сомнения, колебания, неверие — это все не качество. — Да, да… Совершенно верно, — это не качество. — Идемте, господин инженер, — вмешался Денисов. — Я провожу вас и другую дорогу покажу. — Какую дорогу? — До Сохатого. Там будет попрямей. — Ах, эта!.. Там очень круто спускаться. Хотя… Ну, хорошо, идемте! Счастливого пути! Он махнул рукой и вышел за Денисовым. Предупрежденный шахтером, Непомнящий с нетерпением ждал. Где-то поблизости находился боевой товарищ, большевик, руководитель, приехавший из столицы. С того момента, как он попал в полицию и был принят за бродягу, прошло всего часов пять, но ему казалось, что это было давно, что Денисова и его друзей он знает уже не первый день, что партийное поручение благополучно выполнено и осталось совсем немного. Если этот товарищ окажется действительно таким, как рекомендовал его шахтер, то за кизеловскую организацию можно быть спокойным. В дверях показалась фигура невысокого коренастого человека. — Аркадий, ты? Вопрос был так неожидан, что в первый момент Непомнящий растерялся. Он поднял фонарь и всматривался в черты как будто знакомого лица. — Нет… не узнаю… — признался он. — Что-то очень знакомое, но не могу вспомнить. — Неужели я так изменился? Да смотри же, как следует! Это я — Александр Навагин, — сказал Иван Иванович. — Саша! Неужели? Голубчик мой! Непомнящий бросил фонарь на землю и крепко обнял инженера. — Вот уж не ожидал!.. — говорил он, крепко пожимая руку Орлова. — Да как ты здесь?.. Фу ты, какая встреча! Мог ли я думать?.. Позволь, позволь… Но ведь тебя судили, кажется? — Хотели судить, да сорвалось. Из-под носа ушел, — весело сказал инженер. — А ты-то на кого похож! Бородища! — В полиции меня приняли за бродягу, бежавшего с каторги. Похож я на бродягу? — Похож… Очень похож. Значит, ты в Перми, Аркаша. Это великолепно! Ну, а что сестренка? Замужем, наверно? Где мать? — спрашивал инженер, похлопывая друга по спине. — Не спрашивай, Саша. Всех растерял. — Между прочим, ты про Сашу забудь, — предупредил Орлов. — Саша Навагин за границей. Перед тобой стоит горный инженер, по имени Иван Иванович Орлов. — Запомню. Сейчас у меня такая великолепная память… Никакой рассеянности. Оказывается, все дело в тренировке… Но как ты здесь оказался… Иван Иваныч? — Долгая история! Сразу всего не расскажешь. Я действительно собирался за границу, но остался. Места здесь хотя и глухие, а работать можно Народ хороший, боевой, надежный. Здесь восстание было… — Это я всё знаю. — Очень я рад, что судьба свела нас! Потерял я тебя из вида и часто вспоминал. — А в Питере что? — Реакция страшная! Погромы, суды… Партия в подполье. Да ты не меньше меня знаешь, наверно. Я сейчас оторвался. — Где Ленин? — Ленин цел, но где он, этого я точно не знаю. — Так. Ну, а твоя сестра? — Она в Питере живет. Несмотря на значительную разницу лет, казалось, что встретились два друга, два сверстника, у которых так много общих интересов в жизни. И как это всегда бывает, после первой радости встречи наступил момент, когда оба не знали, о чем говорить. Рассказывать о жизни последних лет… Но для этого не хватит всей ночи. В этот момент послышался топот копыт и скрип полозьев. — Это, наверно, Матвей, — догадался Иван Иванович и подошел к двери. — Осторожность не мешает, Аркаша. Закрой фонарь. Молча, в полной темноте, они ждали, пока не подошла лошадь и не остановилась у шахты. И только когда встревоженный Матвей торопливо вошел внутрь, открыли фонарь. — Иван Иваныч, — удивился Матвей, — что-то неладно. Полиция идет. Пристав там… Васька Зотов ведет их сюда. — Зотов? — спросил инженер. — Далеко они? — С полверсты, если не больше… — Почему же ты думаешь, что они идут именно сюда? — Некуда тут больше. Главное, что Зотов с ними. На конюшню прибегала одна женщина, когда мы лошадь запрягали. Говорила, что будто Кутырин нашел какие-то буквы, — торопливо рассказывал Матвей. — Будто угланы баловались и на руке у Маруськи что-то такое про царя напечатали. А Маруська эта… Есть тут девчонка, малолетка, дочь рыжего Егора… Так она будто показала на Зотова. Понял теперь, какая беда, Иван Иванович? Что будем делать теперь? — Сейчас подумаем, — спокойно сказал Орлов. — Аркадий, тебе надо спуститься вниз и предупредить людей. Эх, Денисов-то ушел не вовремя. Матвей, ты не знаешь, — штольни здесь соединены между собой? — Точно не скажу, Иван Иваныч. — Во всяком случае, под землей прятаться лучше всего. Если придется ждать, не замерзнем. Оружие есть? Вместо ответа Непомнящий поднял кверху палец. Все трое повернули головы и прислушались… Шаги! Но это были шаги одного человека. — Денисов, — уверенно сказал инженер. Он оказался прав. Вернулся с водой Денисов. Увидев стоявшую лошадь, он еще на улице заговорил. — Матвей! Ты, что ли? А не уйдет она самолично? Привязал бы. — Войдя внутрь, Денисов поднес бадью к фонарю и заглянул. — Донес ли что? Куда лить, Иван Иваныч? — Подожди, Миша, — остановил его инженер. Узнав, что на Доменный угор идет полиция и ведет ее Вася Зотов, Денисов нахмурился. — Что бы это могло значить? — произнес он. — Я думаю, что полиция тоже идет сюда за типографией! — уверенно сказал Непомнящий. — Кутырин мог вынудить мальчика. Это человек страшный. Зверь. У него все средства хороши. — Ваську вынудить? — спросил Денисов. — Ну, не знаю. Не верю. Не из таких он. Тут что-то другое. Но, конечно, меры надо принять, пока не поздно. Ты как считаешь, Иван Иваныч? Бою дадим, если сюда сунутся? — Нет. Никаких боев! Мы с Аркадием и Матвеем отъедем на лошади в сторону. Ты оставайся пока наверху. Если увидишь, что полиция свернула сюда, быстро спускайся вниз, предупреди людей и прячьтесь. Черт с ним, со шрифтом. Пускай берут. Там штольни соединяются между собой? Другой выход есть? — Не знаю. Надо полагать, что есть. Да вы за нас не тревожьтесь, — сказал Денисов и повернулся к Матвею. — Езжай на Кижье и жди наготове. Тут близко есть сворот. Далеко не езди. Я филином крикну, когда можно будет вертать. А если буду молчать, объезжай кругом — и на копи. Так? — Так, — согласился Матвей. — Не рискуй, Миша, — предупредил Иван Иванович. — Твоя голова нам дороже десяти типографий. — Я себе не враг, Иван Иванович. Идите, идите! — заторопил их Денисов. Провожать он не пошел, а, прикрыв фонарь, остался стоять в дверях. Денисов слышал, как чмокнул на лошадь Матвей, как заскрипели полозья и постепенно затихли. Наступила глубокая тишина. «Зотов ведет полицию!» — Эта мысль никак не укладывалась в голове шахтера. Верно, что Зотов знает, где спрятана типография, но откуда об этом пронюхал пристав и что он мог сделать такое, чтобы Васька согласился вести сюда полицию. Вспомнился недавний разговор с Иваном Ивановичем; инженер говорил, что пристав побывал у Камышина на квартире, встретил там ребят, которые пришли славить, и забрал Зотова. Нехорошая мысль закралась в душу Денисова: «Не Камышин ли подсказал приставу чтобы отвести от себя подозрение» Денисов не любил Камышина и даже сам не мог разобраться почему. «Барин как барин! Мало ли таких, как он? Есть и похуже», — убеждал он себя, но всем своим существом чувствовал к Камышину неприязнь и недоверие. «Революционер на словах. Прикидывается борцом за рабочие интересы, а на деле трус…» В шахте забубнили голоса. «Вот несет их не вовремя!» — встревожился Денисов, подходя к колодцу. Дарья с Фролычем были уже близко, и отсылать их назад не было смысла. — Дай руку, Мишенька, — громко начала Дарья. — Тихо, Даша. По тону, каким ее остановил Денисов, женщина поняла, что случилось что-то серьезное. — Приехал Матвей? — спросила она шепотом. — Приехал и уехал… Денисов помог выбраться друзьям и коротко рассказал, в чем дело. — Ну, так идемте к лошади, — предложила Даша -Объедем кругом — и домой. — А чего раньше времени полошиться? — А то, что попадемся мы, как зайцы, в силки. — Отсидимся, — мрачно заметил Фролыч. — Галерей под землей много. — Тише… Слушайте! — прошептал Денисов, закрывая фонарь. Все подошли к двери и прислушались. Не нужно было сильно напрягать слух, чтобы услышать похрустывание снега. — Идут… — одним дыханием произнесла Дарья и сделала движение назад. — Спускаться? — Успеем, — шепнул Фролыч. Денисов высунулся за дверь и внимательно слушал, стараясь определить, сколько идет полицейских, но звуки шагов сливались. Вдруг между деревьями замелькал огонек и, миновав опушку, плавно поплыл низко над землей. Осталась еще минута–другая ожидания. Если фонарик не свернет, нужно спускаться в шахту. «Не забыть бы веревку отвязать. Вода замерзнет», — подумал Денисов, следя за огоньком. Послышались приглушенные голоса, но слов Денисов разобрать не мог. Фонарик уходил все дальше и дальше. Чтобы видеть его, пришлось выступить за дверь. Передвигаясь вперед, Денисов зацепился шубой за ручку двери и чуть не открыл свой фонарь. — Мимо… — прошептал он и услышал, как шумно вздохнула Дарья за спиной — Будем считать, что беду пронесло мимо. Когда огонек полицейских исчез за поворотом, Денисов вернулся назад и, вытащив свой фонарь, исподлобья взглянул на друзей. Тревога еще не совсем сошла с их лиц, но в глазах поблескивало другое чувство. Было смешно и стыдно за свой кратковременный испуг. — А что бы это означало? — спросил шахтер. — Куда он полицию повел? Видимо, эта мысль беспокоила и Фролыча. — Я схожу, Миша, посмотрю, — предложил он. — А ежели заметят? — Отговорюсь! Смотрю, мол, что тут за люди бродят ночью. Не разбойники ли? — Натурально, — согласился Денисов. — В самом деле. Нечего здесь по ночам разгуливать. Сходи узнай. — Я тоже пойду, — вызвалась Даша. — А если поймают, скажем, что из гостей ворочались и фонарь ихний заметили. — Ладно, идите! А я маленько погодя Матвея крикну. Фролыч и Дарья вышли за дверь и, торопясь догнать полицию, крупно зашагали по дороге. Не успели они пройти и полсотни шагов, как Дарья схватила кузнеца за рукав. — Еще кто-то… Шаги! — шепнула она, и оба остановились, как вкопанные. Действительно, из леса шли люди… — Отставшие, — еле слышно прошептал Фролыч, не поворачивая головы. Деваться было некуда, бежать поздно. Приходилось стоять не шевелясь. Авось не заметят, Как ни темна была ночь, но при свете звезд на открытом месте, на фоне снега, можно было разглядеть три невысокие фигуры мальчиков, бойко шагавших друг за другом. Когда ребята подошли к развилке дорог, за спиной застывших без движения рабочих вдруг громко и протяжно крикнул филин. Это Денисов дал знак Матвею. От неожиданности оба вздрогнули, но продолжали стоять не шевелясь.15. «ФОКЕЕВСКАЯ» ШАХТА
Карасев давно рассказал обо всем, что наказывал ему Вася, и мальчики, полные решимости, не думая об опасности, шли по хорошо известной им дороге, следом за полицией. Впереди себя ребята ничего не видели и даже не знали, какое расстояние отделяет их от полиции. Иногда казалось, что полиция ушла далеко вперед, и тогда они прибавляли ходу. Через некоторое время появлялось опасение, что полиция близко, что их уже заметили, и шаги сами собой замедлялись и укорачивались. Так в неведении поднимались они на Доменный угор и, только подходя к лесу, заметили, как мелькнул и загорелся огонек. — Вон они… Видали? Вот! Опять! Фонарь зажигает… — горячо зашептал Кузя, от волнения перевирая слова. — Ну да… — как всегда, с сомнением начал возражать Сеня, но Кузя не дал ему договорить: — Я тебе говорю, — они! Давай на спор! — А ты сначала слушай, — спокойно ответил Сеня. — Я не сказал, что не они…, А только не фонарь… Видишь, закуривают. — И закуривают, и фонарь зажгли, — примирил их Карасев. Скоро огонек, плавно покачиваясь, начал удаляться. Мальчики выждали с минуту и двинулись вперед. Идти стало интереснее. Огонек впереди волновал, и появилось такое чувство, какое испытываетохотник в лесу. — Карась, у меня нос онемел. Отморозился, — пожаловался вдруг Кузя. — Тери снегом! — посоветовал Сеня. — Н тебе пим. Дыши в него, — предложил Карасев, передавая Васин валенок. Тот немедленно уткнулся носом в голенище. Через минуту Карасев повернул голову и спросил сзади идущего Сеню. — Слышал? — Ага! Вроде как чего-то фыркнуло. — Это филин! Я знаю. Тут гнездо, — не поднимая головы, глухо сказал Кузя. — Ну да! Будет тебе филин лошадиным голосом фыркать, — возразил Сеня. — А что? По-человечьи даже может! — загорячился Кузя. Даже хохочет, когда смешно. Они постоянно спорили между собой. По натуре Кузя был живой, доверчивый, с пылкой фантазией, тогда как спокойный, вечно во всем сомневающийся Сеня на веру ничего не принимал, любил точность и требовал доказательств. — Тише вы! — остановил их Карасев. — Слышите? Лошадь! Действительно, сзади кто-то ехал. Пришлось сворачивать с дороги в сугроб, но это ребят не беспокоило. Штаны у них туго натянуты на валенки и снег не попадает за голенища. Матвей обогнал мальчиков, и в темноте они не узнали друг друга. До опушки дошли молча. Здесь, у развилки дорог, их и на самом деле напугал филин. Он так неожиданно громко и пронзительно крикнул, что ребята присели. — Ну, а это что? Лошадь? Да? — язвительно спросил Кузя. — Это филин! — с достоинством ответил Сеня. — Леший! Летает тут зря, — проворчал Карасев. — Давайте поймаем его как-нибудь? — А на что? — Продадим Сереге Камышину. Он, дурак, все покупает. — Как его поймаешь? Днем он прячется. Ребята потоптались на месте. Острые глаза Карасева заметили в стороне темные фигуры, очень похожие на людей. Но если это люди, то почему они не двигаются и молчат? Может быть, это деревья, наполовину занесенные снегом и в темноте принявшие такой причудливый вид? Решив, что это так и есть, Карасев ничего не сказал друзьям. — Ну, пошли! Теперь близко. Фонарик полицейских давно скрылся за поворотом, но ребята знали, что полиция идет к самой крайней шахте — «Фокеевской», — и не торопились. Каждая шахта в официальных бумагах имела свой номер, но в народе они имели еще и название: «Кузнецовская», «Рыжая», «Мокрая», «Фокеевская». Названия эти даны не случайно. В «Кузнецовской» шахте из-за плохих креплений когда-то произошел обвал и задавил шахтера, по фамилии Кузнецов. В «Мокрой» шахте затопило нижний горизонт и из-за плохих, маломощных насосов погибло много рабочих. Фокеев подорвался на оставленном динамитном патроне. Все эти случаи давно позабыты. И разве только глубокие старики, покопавшись в памяти, расскажут, сколько сирот оставил после себя Кузнецов или сколько дней голосили бабы около шахты, пока откачивали воду. Несчастные случаи в шахтах нередки. Позднее случались и более страшные аварии, но название в память первых жертв прочно держалось. Третья шахта, «Фокеевская», по какой-то причине была заброшена раньше других, и все свободное пространство вокруг нее давно заросло лесом. С дороги вышка не видна, и если бы не одна особенность, то шахту вообще трудно найти. Шахта была не очень глубокой, расположена ближе всех к поселку, и сюда приходили жители добывать для своих нужд каменный уголь. Брать уголь для себя запрещается, но никто не обращает никакого внимания на запрет, и вспоминают о нем, только когда попадаются. А попадаются редко. Обычно уголь запасают летом, но бывает, что и зимой спускаются под землю, поднимают уголь на поверхность и увозят на санках. С дороги к вышке бывает протоптана тропинка. Именно на это и рассчитывал Вася, когда сказал приставу, что в шахте прячутся подпольщики. — Здесь! — сказал Вася, останавливаясь у поворота. Пристав сразу заметил следы, ведущие в лес. Подняв над головой фонарь, он нагнулся и внимательно осмотрел их. Следы шли в обоих направлениях. Городовые уже слышали о подпольщиках, о возможном сопротивлении и, вытянув шеи, напряженно наблюдали за начальником. — Так-с… Действительно, кто-то ходит, — вполголоса сказал пристав, выпрямляясь. — Зажигайте фонари! От многих фонарей вокруг стало светло. Просека сдвинулась еще больше и казалась совсем узкой. Вася смотрел на городовых и думал о том, что план, так неожиданно пришедший ему в голову, был до того отчаянный, что он и сам в него плохо верил. Каждую минуту Вася ждал, что пристав спохватится и повернет назад… Но пока все шло удачно. — Проверить оружие! — распорядился Кутырин. — Нужно быть готовым ко всему. Мягко защелкали поворачиваемые барабаны револьверов. — Я лично думаю, что людей там нет. Следы старые, — пробормотал пристав. — Но кто знает… Сзади послышался приглушенный кашель. — Ты опять! — Ваше высокоблагородие! — взмолился Жига. — Сил моих нету. Мороз донимает. Больной совсем. На дежурстве полночи стоял… Отпустите домой — Я тебе дам домой! Ты у меня узнаешь… Струсил, мерзавец! Чураков, следи за ним. Если вздумает кашлять, бей по загривку! — приказал пристав и повернулся к Васе. — Иди вперед, Зотов! Вася свернул с дороги и между деревьев направился к вышке. Чувствуя за спиной дюжину вооруженных и напуганных полицейских, он внутренне ликовал. О том, что будет дальше, не хотелось думать. Лишь бы пристав не догадался, не раздумал, не повернул бы назад. Вот и шахта. Большие сосны росли вплотную к вышке, словно намеревались ее раздавить. Двери выломаны, стекла выбиты вместе с рамой и кое-где не хватает досок. Аким Акимович, как собака, идущая по следу, сначала обошел строение кругом, и только тогда вошел внутрь. — Глубоко тут? — спросил он, заглядывая в колодец. — Нет. — Хватит ли веревки? У кого веревка? — А на что веревка? — спросил Вася. — Лестница старая, гнилая, можно и сорваться. Типография спрятана далеко от спуска? — С полверсты по главной штольне, — подумав, ответил Вася, — а там боковой забой. — Сыро там? — Нет. Шахта сухая. Пока разматывали веревку, пристав собрал городовых в кружок. — Слушайте меня внимательно! Под землей тихо! Чтобы никаких разговоров! Не кашлять, не чихать… — Он добавил еще несколько крепких слов, от которых на губах у полицейских появились улыбки. — Там могут быть бунтовщики. С ними не церемониться, но лучше если захватим живыми! Если возьмем типографию, всех представлю к медалям, а кроме того, получите, денежную награду. Кто отличится, о том разговор отдельный! Понятно? В ответ раздался нестройный гул. — Рады стараться… — Тише вы!.. — зашипел на них пристав. — Вот уж действительно рады стараться. Спускаться будем по одному. Наверху останется Чураков. — Ваше высокоблагородие! Прикажите мне наверху остаться, — жалобно попросил Жига. — У меня в ногах слабость… Сорвусь. По тому, чт он сказал и как сказал, Вася видел, что этот здоровенный мужик сильно струсил. Вероятно, боялся он не один, но все остальные это как-то скрывали. — Ничего, ничего! За веревку будешь держаться. Ты замерз, а под землей согреешься. В шахте тепло, — сказал пристав и нервно перекрестился. — Ну, господи, благослови! Городовые вразброд замахали руками. — Кто первый? Наступила тишина. Желающих не находилось. — Никто? Трусы! — презрительно процедил сквозь зубы Аким Акимович. — За что вас только кормят? Я спущусь первый! За мной пустите мальчишку, а за ним все остальные по очереди. С этими словами он взял конец приготовленной веревки и начал обвязывать ее вокруг пояса. — Когда я спущусь, то дерну за веревку. Другой конец привяжите сюда. И не шуметь! Аким Акимович еще раз перекрестился и, держа одной рукой фонарь, а другой придерживаясь за край лестницы, осторожно полез вниз. Чураков и двое других опускали веревку, готовые в любой момент удержать начальника. С ненавистью и с каким-то брезгливым чувством смотрел Вася на эти тупые, грубые лица. Не то от мороза, не то от пьянства, почти у всех были красные носы. У одного из полицейских окладистая широкая борода, и, если снять с него форму, он бы походил на простого мужика, каких много в Заречье. У другого усы лихо завернуты кольцами. Сейчас они покрылись инеем и казались седыми. У третьего лицо толстое, красное, с сонными заплывшими жиром, бесцветными глазами. Раньше, еще до восстания, когда Вася видел городового в толпе, на базаре или на улице, он считал его особенным человеком. Обычно городовой держал себя с народом валено. Говорил снисходительно-покровительственным тоном, как большой начальник. Не говорил, а изрекал. И мальчику думалось, что городовой все знает и все может. Во время восстания Вася узнал, что это злейшие враги народа или, как их называл отец, «свора царских цепных собак». А сейчас, столкнувшись так близко с городовыми, Вася увидел, что это обыкновенные, да еще вдобавок недалекие, трусливые люди. По тому, как с ними обращался пристав, можно было думать, что все они дураки, лентяи, тунеядцы, мерзавцы. — Много их там? Эй, углан! — спросил Жига, подходя к Зотову. Вася, занятый своими мыслями, сначала не понял. — Кого? — спросил он. — Бунтарей-то? — Трое. — Трое — ничего. Если врасплох захватим, не уйдут. Оружие у них есть? Не знаешь? Вася пристально посмотрел на городового. Красная от мороза физиономия Жиги с трусливыми и наглыми глазами, освещенная снизу фонарем, производила особенно отвратительное впечатление. Вася вспомнил, что этот полицейский просился у пристава домой, а потом захотел остаться наверху. Поманив пальцем и подождав, когда полицейский нагнулся, Вася внятно шепнул ему на ухо: — Не говори другим. Пристав не велел. У них там динамиту пудов десять. И бомбы есть. — Ой, господи, спаси и помилуй! — с ужасом прошептал Жига, крестясь на лебедку. — А ну как рванут!.. С другой стороны к Зотову подошел франтоватый городовой, с лихо закрученными усами — Из каких они будут? Слышишь? — небрежно спросил он. — Кто? — Бунтовщики-то? — Шахтеры… Кто больше, — пожав плечами, ответил Вася. — Не купцы же, — насмешливо заметил Чураков. — Может, студенты, — высокомерно сказал усатый. — Социалисты, они больше из студентов. — Откуда здесь студентам быть? — вмешался в разговор третий. — Студенты — они в больших городах: в Питере, в Москве. — В Перьми их тоже хватает, — возразил Чураков. — Много вы знаете! — усмехнувшись, сказал бородатый городовой. — Я полагаю, что никого там нет. Были, да сплыли. — А следы-то. Видел? — Ну так что? Следы как следы. Уголь таскают. — Так-то оно и лучше бы, — проговорил городовой, стоявший у колодца и перебиравший веревку… — Да кто его знает… В этот момент пристав кончил спускаться. — Дергает, дергает, — сказал Чураков — Давай, углан! Вася подошел к колодцу, но, прежде чем спуститься, не выдержал и, зло свергнув глазами, сказал: — Дураки вы! Болтаете языком и ничего не знаете. Собаки царские! Такая смелость в первый момент смутила полицейских. Не привыкли они, чтобы с ними так разговаривали. — Вот и толкуй с ним, — с недоумением сказал один из городовых, когда Вася скрылся в колодце шахты. — Отца у него повесили, вот он и кидается на всех, — пояснил бородатый. — Так это Васька Зотов! Отчаянная головушка. У них тут шайка. Сынишка мой их до смерти боится, — сказал толстый городовой. — Ну, кто следующий? Приготовься! Жига, что ли?.. — предупредил Чураков. — А что тебе дался Жига! Лезьте! Вон Жуков замерз. Пускай нагреется, — огрызнулся Жига. — Когда их переловят! Никакого спокоя нет. Ловят, ловят, все не убывает, — со вздохом проговорил один из полицейских. — Одних поймают, новые придут, — мрачно сказал бородатый. — Откуда? — Вырастут. Вон Зотов-то! Слышал? Дай ему в руки винтовку, не задумается, куда стрелять. — Ну, этому теперь крышка! — заметил усатый. — Типографию показал, стало быть, своих продал. Теперь всё! Раскаялся. — Под плетью покаешься, — усмехнулся Чураков. — Как на исповеди! — Ну-у? Бил он его? — спросил бородатый. — А ты думал как? Снова задергалась веревка, и очередной городовой, перекрестившись варежкой, начал спускаться.16. НА ПОВЕРХНОСТИ
Мальчики догнали полицейских, когда те с зажженными фонарями свернули с дороги и, вытянувшись вереницей, уходили в лес. — Во! — прошептал Карасев, показывая на мелькавшие между деревьев огни. Дальше идти было опасно, и ребята остановились. — Карась, а теперь что? — спросил Кузя. — Теперь?.. Пока подождем. Вот в шахту улезут, тогда лесенку ломать. Наступило тяжелое молчание. Приближался момент, о котором ребята еще не думали. Сломать лестницу, — значит, лишить людей возможности выбраться из шахты на поверхность собственными силами. «Ну, полиция — это хорошо! Так им и надо! А Вася? Ведь он тоже с ними!» Эта мысль пришла в голову каждому. — Они его там убьют… — прошептал Сеня. В этих словах Карасев почувствовал какой-то упрек себе и горячим шепотом заговорил: — Он сам велел! Понимаешь, сам! Ты думаешь, мне Ваську не жалко? Может, еще жальчей тебя. Ты думаешь как? Это не в игрушки играть. Не то что Кандыбе стекла бить Раз велел… Стало быть, погибай, а делай! Вот… Слезы перехватили горло, и он не договорил. Ребята молчали. Только сейчас до их сознания по-настоящему глубоко начинало доходить, что они теряют старшего друга и руководителя, что Вася пошел на гибель и они его больше никогда не увидят. — Это я виноватый… — вдруг сознался Кузя, и крупные слезы покатились у него из глаз. — Как ты? — удивился Сеня. — Я Маруське на ладошке тиснул про царя, а живодер увидел. Лучше бы мне идти вместо Васьки, — прошептал он и шумно вытер нос рукавом кацавейки. — Голову тебе надо оторвать! — только и нашел что сказать Карасев. — И то мало! — подтвердил Сеня. — Конечно, мало, — согласился Кузя. — Какой-то ты, Кузька, не самостоятельный, — начал было Сеня, но Карасев его остановил: — Потом. Пора к шахте. Только по тропинке не ходите. Снег скрипучий… Аида! Стараясь ступать по самому краю дороги, где рыхлый снег не скрипел, ребята осторожно двинулись вперед. Дойдя до тропинки, свернули. Высоко поднимая ноги, затаив дыхание, они медленно приближались к месту. Вот показался свет в проломах вышки, и ребята невольно спрятались за стволом деревьев. Некоторое время они стояли без движения по колено в снегу, напряженно вслушиваясь. Гудели мужские голоса. Васиного голоса слышно не было. Освоившись, Карасев передал валенок Сене и еле слышно шепнул: — Стойте здесь и ждите, Я подберусь с той стороны… Затем он для чего-то глубже нахлобучил шапку, туже затянул тряпичный поясок и сгинул в темноте. Между тем почти все городовые спустились и наверху остались только двое. Жига тянул до самой последней возможности. Под, землей он был всего один раз и запомнил это ощущение на всю жизнь. Наслушавшись рассказов про обвалы, он решил, что подземные ходы годятся только для кротов, что они очень ненадежны и каждую минуту земля может осесть и раздавить всех, кто там находится. О том, что под землей ежедневно работают люди по двенадцати, четырнадцати часов в сутки, он не думал. Жига вообще никогда не думал о других. Десять пудов динамита, да еще и бомбы, о которых сообщил ему по секрету Зотов, довели полицейского до того, что он решился на ослушание, лишь бы не лезть в проклятый колодец. — А ты чего стоишь? — спросил Чураков — Один остался! — Неужели один? — притворно удивился Жига, оглядываясь по сторонам. — Ах, ты, господи! Не полезу я туда! — Да ты что, в своем уме? Как ты можешь не подчиняться? Да он, знаешь, что с тобой сделает!. — Живот у меня схватило… Больной… — жалобно заявил Жига. — Полезай заместо меня. — Вон что надумал! Мне приказано тут караулить. Как я могу ослушаться? Он шкуру спустит! — Он и не увидит… темно там. Полезай, я тебе целковый заплачу. В шахте тепло, а тут на морозе… Вон он какой мороз-то… Для пущей убедительности Жига замахал руками, хлопая варежками то за спиной, то впереди себя, — Нельзя! — твердо сказал Чураков. — Давай лазь, дергают! — Два целковых хочешь? — Попадет… — уже не так твердо возразил Чураков. — Трешницу! — предложил Жига. Чураков задумался. Предложение было заманчиво. «Деньги не малые, риск не большой, а если и попадет, то Жиге». — Давай синенькую — так и быть, полезу, — на всякий случай запросил полицейский, но, к его удивлению, Жига сразу согласился. — По рукам! Если спросит про меня, скажи, — болен. Я уж докладывал… — Деньги давай. Без денег не полезу. Жига торопливо снял варежки и, зажав их между колен, полез в карман. Из кошелька вытащил в несколько раз сложенную пятирублевую бумажку и передал се Чуракову. Тот сунул деньги в кобуру, взял фонарь, перекрестился и молча полез в колодец. Весь этот торг слышал Карасев, близко подобравшийся к вышке. С противоположной от входа стороны выломаны две доски, и в пролом были ясно видны оба полицейских. Из всего разговора мальчик понял одно: тот, который заплатил деньги, остался наверху караулить. Такое осложнение никто, даже Вася, не предусмотрел. «Как быть? — с тревогой подумал Кара-сев. — Жига здоровый мужик, с оружием. И что мы можем с ним сделать голыми руками». На первый взгляд положение показалось безвыходным, но мальчик не отчаивался. Во-первых, их трое, а полицейский один; во-вторых, они его видят, а он и не видит их и не знает, что они здесь. Кузя и Сеня неподвижно стояли за деревьями и напряженно вслушивались в доносившиеся голоса, но слов разобрать не могли. Прошло довольно много времени, пока, наконец, послышался шорох. Вернулся Карасев. Он шепотом сообщил о городовом, оставшемся наверху. — Жига остался. Знаете, такой здоровый мужик из Заречья. — Он вредный! — сказал Сеня, вспомнив, как осенью городовой поймал его за ухо и ни за что, ни про что, просто для потехи дал коленкой под зад. — Давайте фонарь разобьем, а его палкой. В темноте он и не узнает! — предложил Кузя. — Не справиться! — с явным сожалением сказал Сеня. Обескураженные, подавленные собственным бессилием, стояли мальчики в двадцати шагах от цели. Время шло, а они ничего сделать не могли. Подобраться вплотную к вышке, выждать удобный момент и наброситься на полицейского? Нет. Из этого ничего хорошего не получится. — Знаете что? — горячо зашептал Кузя. — Надо его водой окатить… Вначале предложение показалось настолько нелепым и невыполнимым, что оба замотали головой. — А что? — продолжал уговаривать Кузя. — Тут у Сохатого теплый ключ. Я знаю! Там не замерзает всю зиму! А ты знаешь… если на таком морозе водой облить… — Вот голова… А в чем принести? — А в пимах! — сразу нашелся Кузя. — Подожди, Сеня, — зашептал Кара-сев. — Он дело говорит. Надо обмозговать, чтобы без осечки… Карасев чувствовал себя старшим и понимал, что малейшая оплошность будет всем стоить очень дорого. Но и колебаться долго нельзя. Надо что-то решать и делать. …Жига мучился. Отдал сгоряча деньги и теперь жалел. «Дернуло меня, дурака, согласиться, — думал он. — Хватило бы и трешки». Потом Жига решил, что и трех рублей было много, и, наконец, пришел к заключению, что Чураков спустился бы и даром, если бы он уперся или хорошенько его попросил. «Пропали деньги», — вздыхал Жига. Теперь эту пятерку он будет помнить до самой смерти, как помнил другую пятерку, на которую его однажды обсчитали при покупке лошади. Это было давно, но Жига до сих пор не может забыть. Вдруг до слуха полицейского долетел какой-то посторонний звук. Не то хрустел снег за стеной, не то какой-то шорох в шахте. Думая, что это возвращается кто-нибудь из своих, Жига заглянул в колодец. Черно! Когда спускались, то огонь фонаря хорошо освещал побелевшие от инея и плесени бревна и был виден до самого дна. «Может, белка? — подумал Жига и сейчас же спохватился. — Полночь. Все белки спят». Городовому стало не по себе. Первый день рождества. Полночь. Любимый час нечистой силы. В голове мелькнула даже тревожная мысль — не напрасно ли он остался наверху? Не лучше ли было идти со всеми вместе? Снова шорох, но теперь очень ясный и где-то совсем близко за стеной. «Не зверь ли?» Но маленький зверь, вроде зайца или лисы, не мог так шуршать. Медведи, которых здесь много, спят в берлогах, рысь на огонь не пойдет. «Значит, люди». Только сейчас Жига сообразил, какую ошибку он сделал, решив остаться один в глухом лесу. Помощи ждать неоткуда. Бунтовщики могли вернуться назад, увидели огонь и сейчас через щели и открытую дверь смотрят на него, а может быть, даже целятся из ружья. Недаром у него сегодня было предчувствие. Смертельная тоска, безнадежное отчаяние сжало сердце Он готов был поднять кверху руки и крикнуть: «Сдаюсь! Не губите христианскую душу!» Снова шорох у самой двери. Жига замер. Каждую секунду он ждал, выстрела. Надо было покаяться в грехах, но вместо грехов, как нарочно, вспоминалась загубленная пятерка. Томительно тянулись мгновения. Выстрела все не было. — Кто там есть? — спросил, наконец, Жига и не узнал своего голоса. Надо бы достать револьвер, но он не решался. Куда стрелять, городовой все равно не видел и в то же время почти физически ощущал на себе взгляды многих глаз со всех сторон. Превозмогая страх, Жига направился к выходу, но тут случилось невероятное. Как только он подошел к двери, в лицо ему ударило что-то жидкое и словно обожгло. От неожиданности и со страху ничего не разобрав, Жига закрыл лицо руками и присел. Кузя, плеснувший первым, отскочил в сторону и спрятался за дерево. Сеня видел, что вода попала городовому прямо в лицо, и хотел добавить, но тот в это время присел. К счастью, Сеня успел удержать руку и не выплеснул воду. При тусклом свете фонаря мальчик разглядел у присевшего оттопырившиеся голенища валенок. Недолго думая, он вылил воду в них и так же стремительно кинулся за дерево. Все это произошло в две–три секунды, и трудно сказать, что пережил и передумал в это время полицейский. Страх, животный страх охватил Жигу, и он, не разбираясь в том, что делает, на корточках подбежал к колодцу, ухватился за веревку и, с риском сорваться, исчез в черной глубине шахты, оставив наверху фонарь. Ребятам казалось, что Жига удрал в шахту от мороза. Но на самом деле это было не так. Холода Жига не чувствовал и в первый момент даже не понял, что облит водой. Убежал он в шахту потому, что больше некуда было бежать. Если бы наверху оказался Чураков, все было бы иначе, и вряд ли ребятам удалось бы так легко и просто отделаться от полицейского. На их счастье, на поверхности остался трус, который даже не подозревал, что имеет дело с мальчиками. Первым подошел к колодцу Карасев. Он полагал, что городовой, стоя на верхних перекладинах лестницы, только спрятался в колодец и в любой момент может выглянуть. С замирающим сердцем, стараясь держаться в чета, крадучись подошел мальчик к колодцу и потрогал веревку. Веревка была натянута и чуть вздрагивала. «Развязать», — мелькнуло в голове, и Карасев лихорадочно принялся за дело. Узел был затянут крепко, пальцы закоченели и плохо слушались. Осторожно, не веря тому что случилось, вошли друзья. — Удрал? — шепотом спросил Кузя. — Веревку… скорей! — скомандовал Карасев. Ребята бросились на помощь. Толкаясь и мешая друг другу, они никак не могли развязать узел. — Разрезать! — предложил Кузя и полез в карман. «Вот на что нужен ножик», — подумал он, вспомнив вопрос пристава. Ножик был острый. Как только последние волокна были перерезаны, веревка юркнула в колодец, и ребята услышали глухой крик и шум падения. — Свалился! — сказал Сеня. Заглянув в колодец, прислушались. — Охает!.. — радостно произнес Кузя. — Ох, наверно, и загремел!.. — Так ему и надо! Мало еще! Жига упал с небольшой высоты и остался цел и невредим. Вскрикнул и стонал он больше от испуга. Поняв, что он еще жив, Жига встал на ноги, готовый бежать. Но куда? Кругом полная темнота, и неизвестно, куда бежать. Ощупывая руками мокрую бороду, постоянно спотыкаясь о балки, крепления, куски разбросанного угля, камни и какие-то предметы, Жига забрался в угол и притаился. Здесь он решил ждать возвращения пристава. — Лесенку!.. Живей!.. Лесенку!.. — командовал между тем Карасев и метался по сараю в поисках какого-нибудь инструмента, которым можно сломать лестницу. Из-под снега торчал шест. С трудом ребята вытащили его, подняли и одним концом зацепили под верхнюю перекладину. — Давайте. Ну, беритесь! — Карась! Стой! А Васька-то! — крикнул Кузя. — Ему тогда не вылезть… — Он же сам велел! — А вдруг он убежит от них?.. А мы обломаем! От этих слов у Карасева опустились руки, но ненадолго. — Да как вы не понимаете? Тоже революционеры!.. Он же сам велел! Беритесь! Ребята нехотя взялись за шест. — Ну, взяли! Раз, два — дружно! Не тут-то было. Лестница оказалась крепче, чем казалось Сил не хватало. Попробовали засунуть шест поглубже, затем зацепили сбоку. Шест либо соскальзывал, и тогда ребята падали, либо они повисали на нем свободно. Нужны были настоящие инструменты. И вдруг за спиной раздался голос: — Вы чего тут делаете? Ребята оцепенели. Фонарь освещал хмурое лицо высокого человека, стоявшего в дверях, а за ним выглядывал кто-то еще. — Ой! Тетя Даша! Фролыч! — обрадовался Кузя — Скорей! Скорей! Помогайте!.. Там полиция… — Это мы знаем, что полиция… А вы-то чего тут делайте? — Лесенку ломаем и никак… Расспросив и узнав подробности, Дарья хлопнула себя по бокам. — Что вы наделали, разбойники! — Вот это угланы! — с удовлетворением проговорил Фролыч. — Это по-нашему! Это выходит, что вся полиция в шахте? — Все до одного. В «чижовке» только один Кандыба на дежурстве, — ответил Карасев. — Это ничего… Это мне по душе, — говорил смеясь Фролыч. — И пристав там? Даша, я теперь тут на дежурстве поселюсь Как, значит, который покажется, я его стук по голове, он летом вниз. Палку бы мне только покрепче… Дарья не выдержала и засмеялась. — Ну и скажешь ты!.. — «Нет худа без добра», Даша, — многозначительно продолжал Фролыч. — Иди туда. Скажи, пускай не торопятся. Скажи, что я полицию охраняю, чтобы кто не обидел! Им там тепло и не дует. Иди, иди….. Ребята с восторгом смотрели на кузнеца. Теперь они были спокойны. Такой силач не выпустит полицейских из шахты.17. ПОД ЗЕМЛЕЙ
Вася Зотов был, что называется, потомственным горняком и в душе этим гордился. И отец его, и дед были шахтерами и добывали каменный уголь. Прадед работал на медных рудниках. Про Зотовых в народе говорили, что «нрав у них веселый, покладистый, рука легкая и знают они «горное слово». Потому земля и принимает их легко и без злобы отдает свои богатства». Все это было верно. Характер у Зотовых действительно был добрый, жизнерадостный, рука легкая, но знали они не «горное слово», а был у них особый талант, наблюдательность, смекалка и опыт. Опыт все время накапливался и переходил от отца к сыну. Вася помнил, как отец после двух–трех ударов киркой точно указывал направление пласта и тем удивлял инженеров. С одного взгляда на кусок отколотого угля он определял, в какой части пласта они находятся: в верхней, нижней или средней. По звуку падающих капель, по гулкому стуку сапог в штольне он мог сказать больше, чем другой инженер после недели работы. Знал он, где нужно сильно крепить, а где можно не бояться обвала. Знал все породы и без ошибки определял, какой слой встретится дальше и какой он будет толщины. Невежественным людям казалось, что Зотов знается с нечистой силой и видит сквозь землю. Вася понимал, что ничего сверхъестественного в этом нет, что это закон, и как бы горы ни были изломаны, слои чередуются всегда в одном порядке. Мать Васи умерла, когда ему исполнилось четыре года, и мальчик ее почти не помнил. До семи лет он был под присмотром деда, а после его смерти остался вдвоем с отцом. Отец работал в горе по двенадцать часов в сутки и, скучая по сыну, часто брал его с собой под землю. Вначале Вася боялся темноты, гулкого эха, но скоро освоился. В забое о играл, спал и даже пытался помогать отцу отгребать уголь. Конечно, это была не помощь, а скорее игра, но в такой игре он многому научился, многое полюбил и ко многому привык. Впоследствии, когда Вася стал старше, он любил спускаться один в заброшенные шахты и подолгу бродил в пустых штольнях, штреках. Ему нравилось угадывать направление пласта, определять при свете фонаря породу. Уже тогда мальчик понял, какие громадные запасы угля лежат под Кизелом. — На тысячу лет работы хватит, — говорил он отцу, и тот одобрительно кивал головой. Отец не запрещал сыну уходить под землю и не боялся, что с ним случится там какое-нибудь несчастье. Однажды на упреки соседки отец сказал: — Не шуми, кума. Зотовы — кроты. Под землей не погибнут. На поверхности с ним скорей может что-нибудь приключиться. В пруду потонет или с камня сорвется… Мало ли что! А под землей наш дом. Крыша толстая, стены надежные… Только что окошек нет. — А как обвалится? — Не-ет! Такого с ним не случится! — убежденно говорил отец. — Земля кормит нас… Земля ему мать родная. Пустое ты мелешь. — Других-то заваливает, — не унималась соседка. — То других… А Ваську не тронет! Поколебать эту фатальную уверенность отца было невозможно. Эта уверенность передалась и сыну, а жизнь подтверждала, что отец прав. Прадеда уже в старости задавил на охоте медведь, сломавший рогатину. Дед умер своей смертью, а отца повесили на поверхности земли. «Нет, земля Зотовых не тронет», — думал Вася, сидя на сломанной тачке в ожидании, когда спустятся городовые. Спина у него по-прежнему болела, и прилипшая к рубцам рубаха не позволяла делать резких движений. Пристав нервничал и каждого спустившегося встречал сердитым шипением: — Копаются там… Мер-рзавцы!.. Полицейский почтительно выслушивал начальника и, сильно приседая, как на пружинах, чтобы доказать, что он идет на носках, отходил в сторону и со страхом оглядывался. Большинство из них под землю спустились впервые. Низкий потолок, подпираемый столбами, висел над самой головой и заставлял невольно втягивать ее в плечи. Столбы стояли ровными рядами, перекрывали друг друга, а там, где между ними было пространство, свет фонаря не достигал стен, растворяясь в черноте. Каждый считал необходимым убедиться в прочности столбов и, колупнув ближайший, со страхом поднимал глаза кверху. Столбы были гнилые. Вася с каким-то злорадным чувством наблюдал за врагами. Он понимал их состояние и страх. Полицейским уже мерещилось, что земля медленно оседает и скоро рухнет. Такое испытывает почти каждый человек, впервые попавший в шахту. В колодце не страшно. Над головой небо., Но когда над головой висит подпираемая гнилыми столбами такая толщина земли, то в душу невольно заползает страх и хочется скорее отсюда выбраться. Темно и сыро, как в могиле. Это сравнение обязательно приходит в голову каждому человеку. Но разве в могиле бывают звуки? Совсем недалеко что-то изредка звонко щелкало., Это капли воды падают сверху на отполированный ими же камень. Вода? На поверхности снег, трескучий мороз, а тут вода. Наверху произошла какая-то заминка, но вот, наконец, и последний «блюститель порядка» спустился вниз. — А почему ты? Я что тебе приказал? — с удивлением спросил пристав, увидя Чуракова. — Ваше высокоблагородие, Жига больным сказался… Никак не может слезать… — С-скотина!.. Остался все-таки. Ну ладно. Он у меня не обрадуется, — пробормотал пристав и, повернувшись к юноше, скомандовал: — Зотов, веди! Вася поднялся и, не оглядываясь, направился между столбами. Пристав махнул рукой, пальцем показал на ноги и потряс в воздухе кулаком. Это означало: «Смотреть под ноги, а не то в зубы дам». Прошли немного и не заметили, как оказались в узком и совсем низком коридоре. По-прежнему по краям и над головой бревна. Один из передних, высокого роста городовой, гулко ударился лбом о поперечное крепление, и это послужило уроком. Пришлось нагибать голову. Главная штольня, по которой они шли, имела сильный наклон. Ноги сами несли. Оглянувшись назад, пристав увидел, что его команда сильно растянулась. Догнав Зотова, он остановил его за рукав. — Не растягиваться! — прошипел пристав, когда отставите подтянулись. — Идите на дистанции двух шагов. Снова двинулись вперед. Начали попадаться боковые забои, штреки. Скоро свернули налево, потом направо и еще раз налево. Вася прекрасно помнил все разветвления, но, чтобы случайно не сбиться, считал в уме. «Вот! Сейчас надо бежать, иначе пристав заметит, куда я свернул», — подумал он и решительно поднял руку, давая знак стоять на месте. Пристав, а за ним и все остальные, поняли знак и остановились. Вася оглянулся и быстрой, крадущейся походкой ушел вперед. «На разведку пошел он, что ли?» — недоумевал пристав, но не двигался. Он достал револьвер и положил палец на курок, готовый в любую секунду выстрелить.

Зотов уходил все дальше в черноту и уже был едва виден. «Что за чертовщина! Куда это он?» — с раздражением думал пристав. Ему и в голову не могло прийти, что мальчишка может их оставить и убежать без фонаря. Вася рассчитал точно. Чтобы сбить полицию с толку, он два раза свернул и вывел их снова в главную штольню, но у них должно было сложиться впечатление, что ход надо искать где-то в стороне, а значит, придется долго плутать и тыкаться в разные забои и штреки. Вася шел, пока свет фонаря освещал столбы креплений, и, когда почувствовал, что полицейские его уже не видят, побежал. Первый штрек, второй, а вот и третий… Здесь он последний раз взглянул на далекие огоньки и свернул в полную темноту. В конце этого штрека есть надежда на спасение. Левый забой соединяется с «Кузнецовской» шахтой. Правда, выход завален, но лазейка осталась, и он дважды пробирался туда. Это было два года назад, но что могло случиться за это время? Неужели осело? Как темно! Где-то Вася слышал, что совершенно черного цвета нет. Черный цвет всегда имеет синеватый или коричневатый оттенок. А разве окружающая его темнота не совершенно черного цвета? Вот он поворачивает голову в разные стороны — и в совершенной темноте перед глазами прыгают светлые точки. Нет. Это не черный цвет, а просто он ничего не видит. Как слепой. Где-то здесь должен быть поворот. Вася вытянул руку влево и наткнулся на мокрую балку. Темнота обманывала. Пришлось сделать еще шагов десять, пока рука не попала в пустоту. Вот он, забой… Вдруг Вася услышал гулкий, повторяемый эхом крик и остановился. «Пристав орет, — догадался Вася. — Ну, пускай покричит». Через несколько секунд раскатисто прогремел выстрел. «Пугает, — подумал Вася, и ему вдруг стало так весело, радостно, как давно не было. Внутри все ликовало и пело. Отомстил, отомстил!» Радость все росла, распирала грудь, давила на сердце и готова была разорвать юношу на части. Он не выдержал и крикнул во весь голос. — Батя-а! Я им отомстил за тебя! И сейчас же из глаз полились слезы. Горячими струйками они текли по щекам, и Вася их не вытирал, не сдерживал. На душе становилось легче, спокойнее, славно с этими слезами вытекала часть его ненависти. Так много ее скопилось и так долго она жгла сердце, не имея выхода. Слезы кончились и сами собой высохли. Но теперь Вася почувствовал сильную усталость. Ноги и руки ослабли и далее голова плохо держалась. «Лечь бы… уснуть», — подумал он. Вдруг ему показалось, что он видит в конце штрека у самого входа слабый свет. Или это мерещится? Нет… Кто-то с фонарем приближался к повороту. Его ищут. «Ну, пускай ищут. Пускай, пускай», — думал Вася и чувствовал, как возвращаются силы и снова окрепло тело. Он быстро пошел в тупик, вытянув руки вперед. Скоро пальцы наткнулись на скользкое дерево. Здесь должен быть обвал. Крепления сломались, но удержали отвалившийся пласт. Когда он ощупывал балки и наваленные глыбы, из груди его вырвался стон, так нестерпимо болели рубцы на спине. Где-то здесь, в левом углу, должно быть свободное пространство. Так и есть. Вася встал на колени и, сильно нагибаясь, полез. Вот когда над ним нависла угроза смерти. Сдвинь он неосторожно какую-нибудь глыбу или надломленную балку — и тысячепудовая тяжесть осядет и задавит его. «Нет, земля Зотовых не тронет», — вспомнил он слова отца, смело пробираясь вперед. Проход становился все уже. Раньше он не был таким. За два года что-то изменилось. Воздух затхлый, тяжелый, балки скользкие. Несколько раз Вася задевал больной спиной за острые выступы породы и едва удерживал стон. Проход сузился настолько, что пришлось ползти на животе. К счастью, мокрая от пота рубаха отлипла и свободно ходила по коже. «Еще немного. Теперь скоро», — утешал себя юноша, упорно пробираясь вперед. Вот, наконец, проход стал просторнее… Можно опять ползти на коленях. Но вскоре щель снова резко сузилась, и вдруг рука не нашла пустого пространства. «Все! Завалило!» — мелькнуло в голове. Нет. Вася не испугался и не пал духом, но снова вернулась усталость и расслабила тело. Он решил немного отдохнуть и, повернувшись на бок, положил голову на согнутую руку. Захотелось есть. Вспомнилось, что У Карасева на столе осталась целая куча вкусной праздничной еды: шаньги, пироги, коврижка… — Эх! Захватить бы с собой и пожевать сейчас, — прошептал Вася, поворачиваясь на другой бок. Давно ли они ходили славить? Часов пять–шесть тому назад… И весь этот вечер, такой богатый событиями, промелькнул в памяти. Неожиданная встреча на дороге с Аркадием Петровичем, — так звали приехавшего в Кизел революционера. Припомнилась и теплая квартира Камышина. «А хороший человек Иван Иванович! — подумал Вася. — Глаза добрые и не кичится, что инженер. Дал золотой и глазом не моргнул». Вася вспомнил, что в кармане лежит сторублевая кредитка, полученная от пристава, и ему стало смешно. «Купил Ваську Зотова! Дорого же он тебе обошелся», — сказал он вслух. Если ребята сломают в шахте лестницу, как выйдет отсюда пристав с полицейскими? Пока не придут из поселка за углем, — придется посидеть под землей. «Эх, поставить бы кого-нибудь у шахты и не подпускать никого!.. Сдохли бы с голоду собаки царские. Пускай вас царь и выручает», — сквозь зубы процедил Вася. Только сейчас юноша понял, что месть его может оказаться гораздо страшней, чем было задумано. Вначале он собирался просто завести пристава подальше и бросить. Пока бы полиция плутала в подземном лабиринте, он успел бы вылезти и убежать. Первое время его бы спрятал Денисов, а потом можно уехать куда-нибудь на прииски. Но все случилось иначе. Кандыба привел в участок Карасева, и, оставшись с другом наедине, Вася придумал новый план. Обломать лестницу, чтобы дольше удержать полицию под землей… Жаль, что наверху остался городовой, а значит, ребятам не удастся выполнить это поручение. Но как знать? Ребята они отчаянные, упорные и могут что-нибудь сделать! «Лишь бы сами не попались, — размышлял Вася. — Полиции и так достанется. Пока они ходят, в фонарях кончится керосин, затем устанут, захотят есть, ослабнут…» И воображение нарисовало такую страшную (картину, что он отогнал эти мысли. «Лучше думать о хорошем», — решил он. Дышать становилось все труднее «А нет ли тут газа? — тревожно подумал Вася, но, вспомнив, что газ захватывает дыхание сразу и человек теряет сознание, успокоился — Просто мало воздуха». Ни на одну секунду юноша не допускал мысли, что ему придется здесь погибнуть. Зотовы под землей не погибали, так неужели ой — последний Зотов — найдет могилу в шахте? Эта уверенность помогла. Силы снова вернулись. Скоро Вася нашарил небольшую пустоту и начал перекладывать куски породы в ноги, постепенно продвигаясь вперед. Сейчас приходилось лежать на спине, но он стойко переносил боль «Неправда! Проход есть», — подбадривал он себя, с трудом протискиваясь вперед. Сколько прошло времени с того момента, когда он оставил полицейских, Вася не знал. Не понимал он и того, какое расстояние прополз под землей. Возврата назад все равно не было. В таком узком проходе он не мог развернуться, и если бы далее вздумал вылезать обратно, ногами вперед, то сейчас и это ему бы не удалось. Он сам закупорил проход… «Только вперед… Только вперед!» …Жига сидел в полной темноте и дрожал Зубы его часто цокали, во теперь уже не от страха, а от холода. В шахте было теплее, чем на поверхности, но не настолько, чтобы не чувствовать холода вообще. Тем более, в мокрых валенках. Вода, выплеснутая в лицо и попавшая немного за шиворот, тоже давала себя знать. Ноги же совсем закоченели. Пробовал Жига греться, прыгая на одном места, но ударился головой обо что-то твердое. Тогда, согнувшись пополам, устроил бег на месте. Это немного помогло. Зубы перестали Выбивать мелкую дрожь. Никакого представления о том, куда он попал и что его окружает, Жига не имел. Почему-то ему казалось, что сидит он на небольшой площадке, которую успел прощупать руками, а дальше за краем площадки пропасть, бездна, и стоит ему сделать неосторожный шаг, как он сорвется и полетит вниз. Разум говорил, что это не так, что он и без того спустился глубоко и дальше некуда, но это ощущение крепко сидело в сознании. Захотелось проверить и выяснить, велика ли его площадка. Сидя на корточках, Жига начал ощупывать землю, постепенно передвигаясь вперед Руки натыкались на какие-то предметы. Один ив них он узнал. Это была сломанная тачка. Скоро рука нащупала покрытый инеем, холодный столб Шагов через пять опять столб. Странно! Ощущение, что впереди и сбоку пропасть, не исчезало; и даже туда, где он находился минуту назад, Жига не решался идти. Наверху что-то скрипнуло. Звук был далекий, но Жиге показалось, что это трещит земля над головой. Скрип повторился. Теперь он ясно его услышал и, не понимая, откуда исходит этот звук и что он означает, беспомощно завертел головой. Везде была темнота. Снова скрип — и вдруг что-то затрещало и со страшным, все нарастающим шумом и грохотом стало быстро приближаться, пока не ударилось о землю. Жига закрыл голову руками, лег ничком и замер. Он долго так сидел, боясь пошевелиться. Испуганный до колик в животе, он не знал, что и подумать. Вероятно, Жига испугался бы еще больше, если бы узнал, что это упало самое верхнее звеню лестницы.
18. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Детские интересы неразрывно связаны с делами отцов и происходящими вокругсобытиями. Кто виноват в том, что дети не желают оставаться в стороне и ждать, «пока подрастут»? Всякое происшествие, случай, прочитанная книга, услышанный рассказ вызывают у них живой отклик и претворяются в дела. Фролыч в детстве считался большим озорником, и ему на память пришел один случай. Услышав однажды от отца, что за городом будут испытывать новую пушку, Фролыч с друзьями отправился посмотреть. Пришли рано. До прихода начальства солдаты допустили ребят к пушке, и им удалось не только посмотреть, но даже пощупать эту диковину. Выстрел они наблюдали издали, и этот мощный звук произвел на них чарующее впечатление. Через три дня Фролыч с друзьями из большой железной трубы соорудили свою собственную пушку, и она казалась им не хуже настоящей Они поставили ее на колеса, заклепали конец, просверлили дыру для фитиля, достали пороху, зарядили и пальнули. Как они остались живы после такого выстрела, отделавшись легкими повреждениями, Фролыч и сам не понимал. И таких случаев у Фролыча было не мало Нет, это не озорство. Каждый такой случай имел объяснение и вызван был искренним желанием научиться, попробовать, не отстать от взрослых. Так и сейчас. Будь он на месте этих сирот, разве бы ждал, «когда подрастет»? Неужели не стал бы бороться по примеру отцов? Тем более, что в сердце горит священный огонь ненависти к врагам, обездолившим их. Поджидая возвращения Дарьи, Фролыч с улыбкой слушал ребят, изредка задавая вопросы Картина постепенно прояснилась. — Погоди, Кузьма, — остановил он мальчика. — Спора нет, что вы угланы геройские, а только в голове у вас дырки есть. Переглянувшись, ребята засмеялись. — Да, да… Не смейтесь раньше времени, — продолжал он. — Раскиньте мозгами да пошевелите, сами увидите. Вы думаете, что тут и конец? Заманили полицию в старую шахту — и всё? Нет, братцы, тут начало! Утром полицию хватятся… Куда, мол, пропали фараоны? Туда-сюда, начнут искать. Кандыбу спросят. Да он, пожалуй, и сам первый панику подымет… — А он и не знает, — возразил Карасев. — Как это так не знает? — спросил Фролыч. — Не знает, — подтвердил Кузя. — Пристав его все время ругал. Ты, грит, болван, тупица, пьяница… и еще как-то… — Понятно. Ну, скажем, не знает! — согласился Фролыч и, помолчав, повернулся к Карасеву. — А ты говорил, что Кандыба вас видел? Когда вы с Зотовым-то шептались? Видел? — Видел, — сознался тот. — Ну вот. Видел… И значит, в первую голову тебя за шкирку. Почему шептались? Про что шептались? А ну отвечай, такой сякой, немазаный, сухой… — А я не скажу. — Погоди, не перебивай, — остановил Фролыч мальчика и продолжал: — Переловят вас, голубчиков, и пойдет заваруха. Что да почему, да куда… Поарестуют народ… У-у-у… время, братцы, сейчас такое- беда! Царь до того революции напугался, что, поди, из нужника не вылазит. Рад бы всех рабочих перевешать, перестрелять. Только бы ему зацепиться за что-нибудь. А теперь и раскиньте мозгами. Хорошо ли вы сделали, что полицию в шахту заманили? На вас не подумают… Вы малолетние. Через вас нашего брата станут тянуть. И найдут… Это уж так заведено. Виноватый ты или не виноватый, чего там разбирать! Кто ты такой есть? Дворянин, купец, помещик, фабрикант? Ага! Рабочий, пролетарий! Тебя нам и надо. Вот какие дела-то, братцы… Плевые дела! — Фролыч похлопал по плечу сидящего рядом с ним Сеню и вздохнул. — Я вот сижу, кумекаю, как же теперь это дело распутывать, — ткнув пальцем в колодец, продолжал он. — А придумать ничего не могу. У меня у самого сердце горит! Уморить бы их там с голоду, проклятых, за ихние зверства. В прошлом году что делали? Раненых в шурфы кидали вместе с покойниками. Сами, поди, знаете… Поникнув головой, ребята молчали. На душе у них было смутно и тревожно. — Ну, уморим, а что толку? — говорил кузнец. — Новых пришлют, да таких, что еще хуже! Нет. В одиночку, братцы, воевать не годится. Пустое дело. Ничего не получается. Это я по себе знаю. Был и у меня грех. Надо всем сразу сговориться и опрокинуть строй самодержавия. Кузнец встал, подошел к выломанной двери и прислушался. Приунывшие мальчики молча смотрели на него и ждали. Дружеские рассуждения кузнеца были простыми, убедительными, и они поняли, что заварилась такая каша, которую не скоро расхлебают. Что же теперь делать? — А мы вот что сделаем, братцы, — сказал кузнец, словно услышал этот вопрос. — Время сейчас позднее. Идите-ка по домам спать. А мы здесь с товарищами посоветуемся и что-нибудь да надумаем. — А как же фараоны? Стало быть, вылезут? — спросил Кузя. — Нет. Вылезать им не следует. Пускай денек–другой там погорюют. Может, и сообразят, что палка бывает о двух концах. Жука или, как его?.. Жига вас не видел, значит? Это хорошо, — в раздумье произнес Фролыч. — Вот если бы он вас приметил, тогда совсем плохо… Сказав это, кузнец взял шест, подцепил концом за лестницу и потянул на себя. Раздался сильный скрип. — Эге! Да она только с виду гнилая, — крякнув, сказал он и нажал еще раз. Лестница снова скрипнула, но не поддалась. Просунув шест глубже, кузнец залез на бревно колодца и, упираясь в него йогами, потянул шест на себя. — А ну давай, давай!.. Еще маленько! Лестница заскрипела и, вдруг перестав сопротивляться, с шумом, грохотом рухнула вниз. Фролыч потерял равновесие и чуть было не полетел за ней, но удержался за шест, упавший поперек колодца. Ребята бросились к кузнецу и уцепились за плечи полушубка. — Ладно, ладно… не тяните! — добродушно говорил он, вылезая. — Чуть не загремел. Вот бы дров наделал… — А мы бы тебя на веревке вытащили, — сказал Кузя. — Было бы что тащить!.. Я бы, пожалуй, на мелкие кусочки разломался, — пошутил он. — Ну, теперь ваши душеньки довольны? Приказ Василия исполнили! Пошли, братцы, по домам. А что мы с фонарем станем делать? — Заберем! — Нет, забирать нельзя. Жига фонарь оставил, — пускай он тут и стоит. А мы знать ничего не знаем и ведать не ведаем. Пошли, братцы. — А ты с нами? — спросил Карасев. — Я пойду к Даше навстречу. А завтра с утра вы ко мне домой прибегите, мы все обмозгуем. Знаете, где я живу? — Знаем! — хором ответили ребята, уже выходя на тропинку. — Дядя Фрол, а как же Васька? — спросил Карасев. Мысль эта не покидала ребят; и, видя, что кузнец не торопится с ответом, Сеня добавил: — Убьют они его? — Убить не убьют… — сказал Фролыч, подумав. — Но и не помилуют… Я так полагаю, что судить будут Ваську. Это уж как пить дать. — А потом? — А потом, что суд присудит… На каторгу… Недалеко от поворота на Кижье, где так недавно напугал всех «филин», ребята, шагавшие впереди, заметили идущего навстречу человека. — Дядя Фрол, идет кто-то! — шепотом предупредил Карасев. — Пущай идет! — Тетя Даша! — скорее догадался, чем узнал Кузя. Это была она. Поравнявшись и узнав, что лестница обломана, фонарь остался стоять на месте и что все отправились домой, Даша одобрительно кивнула головой и присоединилась к ним. — Что так долго? — спросил Фролыч. — Ты же сказал — не торопиться… Она пошла рядом, умышленно замедляя шаги и удерживая кузнеца за полу. — Идите, идите, мы догоним, — сказала Дарья ушедшим вперед ребятам, когда те остановились подождать. Мальчики поняли и пошли не оглядываясь. — Ну, как? — спросил Фролыч. — Говорила ты им? — Сказала всё. Погрузились и поехали к Медведю. Инженер велел туда приходить. — А что с полицией решили делать? — А нам какая забота! Мы их в шахту не приглашали… Сами полезли, — шутливо ответила она, но сейчас же серьезно добавила: — Дома поговорим. Валенки у ребят были велики, и ноги заплетались друг за друга. А может быть, в этом виноваты не валенки, а что-то другое? Например, усталость Ребята столько ходили, бегали сегодня, что немудрено и устать. К счастью, дорога шла под гору и не требовалось много усилий. Туловище само стремилось вперед, знай только переставляй ноги. Кузя чувствовал, как руки, ноги, шея постепенно слабели и начинали хлябать, болтаться. Ощущение было такое, будто в местах сгибов развинтились какие-то скрепляющие винтики. Перед глазами пелена, в ушах вата, а в голове туман, и ни о чем не хотелось ни думать, ни говорить. Тело мальчика клонилось вперед, и он механически передвигал ноги, чтобы не упасть. — Кузька, ты что? — спросил Карасев, заметив, как тот спотыкается. — Спишь на ходу? Кузя, не поворачивая головы, пробурчал что-то невразумительное. «Огарков осталось много. Хватит на завтра», — все время вертелась мысль в голове у Сени, и он упорно ее отгонял, стараясь сосредоточиться на другом, на настоящем. «Где-то тут под ногами глубоко в подземных коридорах Вася. Что он там делает?» — думал мальчик и никак не мог в это поверить. Карасев тоже пробовал представить, что делает в эту минуту Вася, но не мог. Воображение его устало, притупилось. Вот, наконец, и плотина. Скоро дом. За спиной послышался голос Фролыча. — Значит, утречком приходите! Ребята остановились. Фролыч с Дарьей уже сворачивали в переулок. — Ладно! — ответил за всех Карасев, и ребята молча поплелись дальше. …Костя спал чутко. Не по летам развитый мальчик понимал, что дядя с друзьями отправились на опасное дело, и тревога не покидала его весь вечер. Стукнет ли мороз в углу дома, заскребется ли мышь под печкой, или сам он, во сне передвинув ногой, зашуршит и тотчас же проснется — сами собой откроются глаза, — Костя поднимет голову, прислушается. Что за звук? Не вернулись ли? Через минуту, успокоившись, перевернется на другой бок, закроет глаза и долго не может заснуть. «Обещались прийти звезду показать и не пришли», — с обидой думает Костя о своих друзьях, но, по своей доброте, сейчас же находит им оправдание: — Наверно, ушли на копи, замерзли, устали. Завтра придуг». Снова приходит сон, и снова малейший шорох будит мальчика. Наконец за стеной послышались долгожданные звуки. Заскрипели полозья, фыркнула лошадь, загудели голоса, и скоро в комнату вошли люди, внеся с улицы вкусный морозный запах, очень похожий на запах свежих огурцов. Костя решил притвориться спящим, но устроился на краю печки так, чтобы все видеть. Первым в комнату вошел дядя Миша и зажег лампу. Приехавший сегодня товарищ с бородой долго сдирал сосульки, намерзшие на усах. Вместе с ним вошел незнакомый инженер, которого звали Иваном Ивановичем, как потом услышал Костя. Позднее вошел Матвей. Денисов подошел к Косте и, убедившись, что тот спит, вернулся назад. — Племяш у меня там спит, — пояснил он вполголоса. — Раздевайтесь, пожалуйста. Я чайку согрею. На дорогу надо согреться. — Задерживаться долго не следует, — предупредил Иван Иванович. — К утру надо успеть в Губаху. Расстегнув шубу и не снимая шапки, Иван Иванович сел к столу и задумался. Непомнящий сбросил свой полушубок, стянул валенки и начал перематывать портянки. Денисов возился возле печи, разогревая самовар. Вошел Матвей. — Дал жеребцу овса. Дорога не малая, — сказал он. — Ага! Нам тоже овес будет… Это хорошо! Об чем загрустил, Иван Иваныч? Теперь все пойдет как по маслу. Опасаться некого. — Я думаю относительно Зотова. Жаль мне его. Вы только подумайте, товарищи, на что решился этот мальчик! Вот он — настоящий героизм! — Да, это верно! — подтвердил Непомнящий. — И наша вина тут большая, — продолжал инженер. — Я, например, никогда себе не прощу, если он погибнет. Я готов на любое безумство, чтобы спасти его. — А как? — Еще не знаю. Может быть, потребовать от пристава, что вытащим их с условием, что они отпустят мальчика… Не знаю, не знаю. — Это значит разоблачить себя, — возразил Непомнящий. — Ну, конечно. Это я так… Первый пришедший в голову пример. Что-то надо придумать? Костя слушал затаив дыхание и ничего не понимал. Говорили о Васе, о том, как его спасти, как разыскать полицию. Вспомнили зачем-то других ребят. Все это было странно и загадочно. Почему надо было искать полицию? Откуда спасать Васю? Какие неприятности грозили его друзьям? И, наконец, куда едет Матвей с бородатым дядей и что они такое везут опасное? Когда зашумел самовар и Денисов собрал на столе посуду, пришли тетя Даша и Фролыч. — Ну, как там? — А там теперь надежно! Лесенку обломал. Если не сжалимся, будут сидеть до второго пришествия. Угланы пошли домой, — сообщил Фролыч, растирая над самоваром руки. Костя надеялся, что с приходом тети Даши он разберется во всем, что произошло, но ошибся. По-прежнему загадочная история оставалась непонятной. Чай пили с наслаждением и говорили мало. — Ну, Аркаша, тебе пора! Буду ждать в конце января, — сказал Иван Иванович, поднимаясь. Все задвигали мебелью, зашумели и не слышали, как открылась дверь и на пороге появился Вася Зотов. Его было трудно узнать. Грязь на лице смешалась с кровью из царапин. Одежда ободрана и перемазана глиной. — Васька! — крикнул Костя. Тот повернул голову и, слабо улыбнувшись, покачнулся назад. Дарья и Денисов бросились к нему и успели подхватите — Зотов? — Василий! — Что с тобой?.. — Голубчик ты мой, родной!.. Юношу посадили на табурет. Денисов налил рюмку водки и поднес к губам. — Выпей, выпей!.. Это ничего. Полегче станет… Вася отстранил руку и, глядя на встревоженные лица обступивших его людей, улыбнулся.
— Нет… Я сейчас. Голова закружилась. Пройдет… — Откуда ты? — Я из шахты… Полиция там осталась… Я убежал… — Как же ты вылез? — спросил Фролыч — Лесенка сломана… — Я через Кузнецовскую… Иван Иванович с беспокойством переглянулся с Денисовым. — Так они тоже могут за тобой? — спросил он. — Нет… Там обвал… узкая лазейка… Вон как я породой поцарапался… Им не пролезть… и не найдут… Все с облегчением вздохнули.
19. В ПИТЕР
Скрипят полозья саней, скользя по укатанной дороге. Жеребец бежит ходко, из-редка фыркая от мороза. Громадные, в два — три обхвата, сосны и ели уходят вверх и там почти смыкаются макушками, оставляя лишь узкую полосу, всю усыпанную звездами. Матвей правит, стоя на коленях впереди. Сзади него лежат двое.
Вася в новом полушубке лежит на спине, смотрит в небо и думает о новой жизни, навстречу которой он едет. Спина его перевязана, царапины на лице вымыты и смазаны лекарством. Ему тепло и удобно. В кармане лежит письмо к Надежде Ивановне, сестре инженера Орлова. — Она хорошая, умная женщина и заменит тебе мать и руководителя, — сказал Иван Иванович при прощанье. — Тебе нужно учиться. Помни: это самая главная твоя задача. Надеюсь, что мы с тобой скоро увидимся. В столице ты встретишь много всего… и плохого, и хорошего. Я уверен, что плохое к тебе не пристанет. Ты закален и понимаешь, к чему надо стремиться в жизни. Впереди серьезная и трудная борьба, и надо к ней упорно, настойчиво готовиться, а для этого нужны в первую очередь знания. Эти слова Вася запомнил крепко. Питер! Это очень, очень далеко. Гор там нет, но зато есть море… Говорят, там домов и людей в сто раз больше, чем в Кизеле. Трудно представить такой город… Аркадий Петрович устал и дремлет., Равномерный топот коня и поскрипывание убаюкивают. Он слышит спокойное дыхание спутника, и мысли его лениво бродят… Буря первой русской революции вырвала с корнем и сломала многие деревья, но уцелевшие стволы снова расправили ветви, а на месте погибших буйно растет новая поросль… — Аркадий Петрович, а ведь мы с вами давно знакомы! — вдруг заговорил Вася. — Ну как давно? — А помните, три года назад вы на лодке из Чусовой поднимались по Косьве? — Как же, как же!.. Отлично помню! — А кто вас ухой кормил из харюзов? Забыли? Вы еще тогда часы в траве потеряли, а я нашел. — Помню. Так этот мальчик был ты? — Я. — Да, да, да… Совершенно верно! Он же мне говорил, что сын… Как же я запамятовал? Теперь все вспомнил. Извини, Вася, но столько людей я встречал после этого, столько событий пережил… Да и были-то мы с тобой знакомы всего сутки. — Я понимаю. Я маленький был. У вас тогда бороды не было, и я сперва не узнал, а потом, когда с приставом к шахте шел, меня как осенило… Жалко, что я не узнал сразу. Я бы сказал вам, где спрятана типография… Вам бы сказал, — повторил Вася. — Батя мне строго наказывал… «Покажи, — говорит, — только надежному человеку, когда сам уверишься…» — Разве Денисов ненадежный? — Как ненадежный? Он самый надежный! — А почему же ты ему не сказал? — А на что ему типография? Он не шибко грамотный. А потом я думал, что он на виду у полиции. Брата его на каторгу присудили… Ну, известно… Брат с братом — одного поля ягода. — Логично. — Что? — Справедливо, говорю. Ты правильно рассудил. — А вам бы я сказал — и, может, этого ничего не было б… — Может быть, может быть, — задумчиво произнес Аркадий Петрович, — трудно угадать, что было бы… Недаром: «Если бы да кабы, росли во рту бобы, то был бы не рот, а огород». Вася не знал этой поговорки, и она показалась ему очень смешной. На самом деле, если бы было не так, а иначе, то неизвестно как. А теперь повернулось все к лучшему. — А вы бывали в Питере, Аркадий Петрович? — Бывал. Я учился там, Вася. — Большой город? — Порядочный. Словами трудно описать. Надо увидеть. Ты даже в Перми не бывал? — Нет. Батя обещался свозить и не успел. — Ну, вот видишь! Значит, и сравнивать не с чем. Сначала Питер тебя ошеломит… — Как это ошеломит? — Ты испугаешься, растеряешься… Но это только вначале. Потом освоишься, — сказал Аркадий Петрович и, приподнявшись на локте, повернулся к Матвею. — Скоро приедем в Губаху? — С полчаса еще… Революционеры снова улеглись на сено и минут пять ехали молча. — Дядя Матвей, — сказал Вася. — Ваську моего отнеси Кузе, а все остальное возьми себе. — Ну, ну… У Васи был тезка: большой серый кот, любимец отца. Этот кот знал много занятных штук: прыгал через палку, служил на задних лапах, искал спрятанное мясо и мяукал по приказанию. Всему этому его научил отец, и Вася дорожил ученым котом. Но что было делать? Не брать же кота с собой в Питер. Небо посерело, и звезды горели уже не так ярко. Они выехали из леса, и Вася жадно смотрел на силуэты родных гор. Нет, он не прощался с ними. Он твердо был уверен, что вернется сюда; хотя, может быть, и не скоро…

Е. Андреева ОСТРОВ СОКРОВИЩ Очерк
Без сомнения, все читали увлекательную книгу — «Остров сокровищ» Стивенсона, рассказывающую о морских разбойниках и поясках кладов. И, наверное, многие из читателей мечтали когда-нибудь попасть в Караибское море, исследовать опасные рифы и окаймленные пальмами желтые песчаные отмели! Разве, в самом деле, не интересно посетить острова, которые служили убежищем пиратов? Видеть на горизонте три вершины описанного Стивенсоном острова, бросить якорь в бухте у «Буксирной головы», сражаться с пиратами. А потом, как Джим Гокинс, прикасаться собственными руками к найденному кладу, одному из тех, из-за которых гибли люди, тонули корабли, совершались подвиги, а честные матросы иногда превращались в разбойников! «Остров сокровищ» не выдуман Стивенсоном. Правда, когда Стивенсон писал свою книгу, он не знал, где находится загадочный остров. Но перед ним была подлинная пиратская карта с указанием места, где лежит клад. И, кроме того, была рукопись, которая говорила о том, что сокровище зарыто известным в истории пиратом Флинтом, составившим и карту острова. Только несколько лет назад одна американская экспедиция нашла остров, описанный Стивенсоном. Если посмотреть на карту западной части Атлантического океана (Караибское море), то ясно видно, что от мыса Святого Антония в Юкатанском проливе до города Сиенфуэгос на южном побережье Кубы тянется целый ряд мелких островов. И на всех этих островах, как и на других побережьях Караибского моря, возможны находки пиратской добычи. Самым крупным из островов южного побережья Кубы является остров Пинос. Это и есть описанный Стивенсоном знаменитый Остров сокровищ! Его берега открыл сам Христофор Колумб в самом конце XV века, и они хорошо известны Кортесу — завоевателю Мексики в начале XVI столетия. И если бы известный английский пират Хаукинс и адмирал английской королевы Елизаветы — Дрейк (конца XVI века), и знаменитые французские и голландские пираты — Черная Борода, Лафит, Олинуа и Ван-Хорн — могли в наше время повторить свои набеги, они бы увидели на этом острове все те же песчаные берега, глубокие пещеры и известковые скалы. Ничто не изменилось с тех пор, и волны Караибского моря все так же разбиваются о подводные рифы и все так же стоят холмистые вершины острова Пинос — свидетеля испанского завоевания, начала африканской работорговли и темных годов морского разбоя!ИСПАНСКИЕ СОКРОВИЩА
Еще во время завоевания Мексики испанцы были поражены богатством открытой ими страны. Вождь ацтеков Монтесума, желая умилостивить завоевателя Кортеса, послал ему в дар два больших диска размером с колесо телеги, сделанных из серебра и золота и служивших символами луны и солнца. Кроме того, он послал несколько плащей из перьев редчайших птиц, множество золотых изображений птиц и зверей и наполнил шлем одного из солдат золотым пескам. А когда испанцы были впущены в главный город ацтеков, они были ослеплены его великолепием и богатством: повсюду стояли крупные и мелкие изваяния животных. На храмах блестели громадные золотые диски, изображавшие солнце. Плащи жрецов и богатых горожан были в изобилии украшены драгоценностями. Через несколько лет в одном из горных ущелий, где только бушевали ветры и где впоследствии был построен город Сакатекас, испанцы открыли залежи серебра. И почти одновременно в Гуагахуато среди крутых ущелий и огромных порфировых скал было найдено еще одно небывало богатое месторождение серебряной руды. В реках же в изобилии вымывался золотой песок и самородки золота. Сразу же после завоевания Мексики и Перу серебро, золото и драгоценности потоком хлынули из Нового света в Испанию. Через Юкатанский пролив проходило два пути, по которым ежегодно следовали большие испанские флотилии, груженные неисчислимыми богатствами. По одному пути везли сокровища инков и все богатство Андов: золото из Маракаиба и Перу, серебро из Потози, жемчуг и изумруды из Гвиакилы и Маргариты. Из Гвиакилы их везли морем до Панамы, потом через перешеек караванным путем в Порто-Бело или морем в Картахену, где выжидали благоприятной погоды и военных кораблей для охраны, чтобы отправить драгоценный груз через Юкатанский пролив и затем мимо Флориды в Испанию. Картахена!.. Знаменитый своим богатством город!.. Его крепостные стены были украшены драгоценными камнями и покрыты золотом Они были так высоки и блестящи, что должны быть видны из Мадрида! — как говорил когда-то испанский король, ослепленный богатством Нового света. С севера и запада на Вера-Крус сухим путем и затем через Юкатанский пролив шел второй путь, по которому вывозились драгоценности из храмов, дворцов и рудников Мексики. Эти корабли приставали у мыса Святого Антония, затем заходили в Гаванну и шли дальше, в Испанию. Это были целые караваны судов, груженных золотом и драгоценными камнями. Двадцать или больше галеонов с крестом святого Якова — покровителя Испании — на парусах. Дюжина сильных военных каравелл для охраны с бронзовыми пушками и высокой кормой, на которой теснились вооруженные аркебузьеры Быстрые шлюпки — «паташи» — сновали разведчиками взад и вперед, чтобы предупредить эскадру о приближении пиратов. И, наконец, галеры на парусах и на веслах, на которых работали скованные цепями рабы И в трюмах всех этих кораблей лежали невиданные дотоле богатства. Три биллиона долларов только золотом и серебром, и еще бесчисленные драгоценности — рубины и изумруды, сапфиры и жемчуг! Сокровища, которые трудно себе представить! Их вывозили из Нового света в Старый в продолжение трех столетий морского владычества Испании.ПИРАТЫ
Не удивительно, что это громадное богатство, заключенное в трюмах неуклюжих, медленно двигающихся кораблей, возбуждало в те времена алчность людей всего света. Английские, французские и голландские любители приключений, испанцы и португальцы — все одинаково жадные до наживы — кишели у берегов Караибского моря, подстерегая испанские сокровища. Самыми упорными среди пиратов были англичане. Когда в 1568 году был послан из Испании в Мексику новый вице-король и его корабль подошел к гавани Вера-Крус, гавань оказалась занятой английским флотом под командой пирата Джона Хаукинса и его племянника — Френсиса Дрейка. Хаукинс промышлял не только морским разбоем в испанских водах, но и продажей рабов-негров, вывезенных из Африки. Нуждаясь в свежей воде и в починке кораблей, потрепанных бурей, пират смело вошел в гавань Вера-Крус Новому испанскому вице-королю не улыбалась прогулка в открытом море, пока пираты не соизволят уйти из гавани, тем более, что наступало время ураганов. И он заверил пиратов, что даст им уйти, если его корабль пустят в гавань Но только он благополучно высадился на берег, как тотчас же приказал открыть огонь по англичанам Англичане на трех судах, бывших в их распоряжении, защищались до темноты, а ночью ушли из Гавайи мелководным проливом, по которому еще не плавал ни один испанец Корабли пиратов были так загружены награбленными сокровищами, чго рисковали сесть на мель Тогда Хаукинс, чтобы облегчить их, без сожаления высадил на берег близ Пануко око то двухсот человек своей команды Все эги люди были схвачены и перебиты испанцами После этого побоища Френсис Дрейк стал жаждать не только добычи, но и мести И целых тридцать лет, до своей смерти, Дрейк был самым дерзким из пира тов, сражавшихся с испанцами и совершавших набеги в Караибское море Испанский флот, перевозивший сокровища, двигался всегда с большой осторожностью Только на один морской переход or Вера-Крус до Гаванны он тратил от шести до восьми недель Море кишело пиратскими кораблями, испанцам подолгу приходилось отстаиваться в портах, но морские разбойники не только грабили и топили корабли, они иной раз захватывали и прибрежные города, разоряли население и заставляли платить большой выкуп XVII век считался золотым веком пиратов Караибское море особенно привлекало разноплеменных морских разбойников. Атаманы пиратских шаек втайне поощрялись европейскими королями, получавшими от них часть добычи Большой славой среди английских пиратов, кроме Хаукинса и адмирала Дрейка, пользовался еще сэр Генри Морган, которого потом английский король назначил губернатором Ямайки. Самым смелым из пиратских набегов считался захват порга Вера-Крус голландскими пиратами Ван Хорном и де Гаффом в 1683 году. В Вера-Крус, в ожидании испанского флота, скопились громадные ценности: все склады были переполнены слитками серебра, золота и мешками с золотым песком и драгоценностями. Однажды на закате солнца в виду города появились два корабля под испанскими флагами. Они подавали сигналы бедствия и извещали, что за ними гонится пиратский флот. Портовые чиновники поторопились зажечь маяки, чтобы скорее впустить их в гавань. Эти корабли принадлежали голландскому пирату Ван-Хорну. И в то время, как Ван-Хорн подходил к Вера-Крус, его сообщник де Гафф высаживался со своей шайкой на берегу несколькими милями выше. Когда наступила ночь, пираты де Гаффа напали на Вера-Крус с суши, а пираты Ван-Хорна — с кораблей в гавани Всех жителей города заперли в церквах, стражу и гарнизон перебили, серебро и золото погрузили на свои корабли. Испанский губернатор спрятался в конюшне под сеном. И он, и жители города провели три дня без пищи и без воды. На четвертый день жителей города, обезумевших от голода и жажды, пираты заставили перепоешь на корабли собственное имущество горожан. И только когда весь город был разграблен и на горизонте показались паруса испанского флота, обе шайки ушли в море, увезя с собой сокровища и негров для продажи в рабство. Дрейк, Ван-Хорн и другие пираты грабили испанцев с разрешения своих королей и обогащали испанскими сокровищами Англию, Францию и Голландию. Большинство же пиратских шаек нападали на испанский флот только в целях личной наживы. Они устраивали наблюдательные посты на прибрежных скалах, прятали свои корабли в мангровых зарослях и в защищенных от ветра бухтах. Они предпринимали набеги за добычей и быстро скрывались от погони на мелководье у берегов, не доступных для более крупных кораблей. Главным местом стоянки и лагерем крупных пиратских шаек был остров Пинос, описанный Стивенсоном. Остров был выгодно расположен на морских путях; на нем в изобилии была ключевая вода, бродили большие стада дикого скота, который служил пищей пиратам.
В продолжение больше чем трех столетий — с 1520 по 1830 год — здесь жили морские разбойники. Они убивали команды захваченных ими кораблей, похищали рабов и женщин. Добычу они зарывали в землю. Это было целое разбойничье государство, с общим хозяйством, своими строгими законами. Члены этого сообщества называли себя «береговыми братьями» или «джентльменами удачи». Они выбирали главного вождя, который жил в поселке Санта-Фе в центре острова и оттуда управлял действиями отдельных шаек, получая с них определенную часть добычи. Под управлением этого вождя пираты строили каменные крепости по берегам острова и содержали целую армию для их защиты. Здесь же они строили и ремонтировали свои корабли.
ТЕНИ ОДНОНОГОГО ДЖОНА СИЛЬВЕРА
Остров Пинос нам интересен не тем, что в течение нескольких столетий это было пристанище пиратов, но тем, что это «Остров сокровищ» Стивенсона. Если взять любое издание книги Стивенсона и сравнить карту острова, как она нарисована на первой странице, с картой острова Пинос, сходство сразу бросается в глаза. Остров круглой формы, как «жирный дракон, стоящий на своем хвосте»; глубокая кривая бухта, узкий мыс, замыкающий ее, и даже три холма «Фок-мачта, Бизань-мачта и Грот-мачта», которые были помечены на пиратской карте, ясно видны и на карте острова Пинос. Весьма вероятно, что пират, отмечавший место клада, имел перед собой карту острова, когда составлял свой план. На острове Пинос, как и на всех близких к нему островах, были запрятаны в свое время и вырыты такие сокровища, о которых Вилли Бонс, долговязый предатель Джон Сильвер и пират Флинт никогда не мечтали. Добыча, накопленная пиратами в течение столетий в их лагерях и городах, была огромна. Часть ее тратилась на жизнь и на кутежи в Порт-Рояле на острове Тортуге, где долгое время была одна из главных баз пиратских шаек Но значительно большая часть добычи оставалась схороненной. Кувшины, сундуки и ящики с деньгами и драгоценностями зарывали в землю в мало доступных местах. Место зарытого клада обыкновенно замечали по легко узнаваемым деревьям или родникам. Сокровище закапывали на столько-то шагов от дерева или ручья по компасу или, гораздо чаще, в направлении захода или восхода солнца. Бронзовые гвозди вбивали в стволы или корни деревьев, цепи или пушечные ядра, закопанные в землю, обозначали место, где лежит клад.
Пираты иногда писали грамоты и чертили карты, подписанные всей шайкой. Эти грамоты скреплялись клятвой. Страшная кара ждала того, кто нарушит тайну или попытается похитить клад. Имеется, например, испанская рукопись, дошедшая до наших дней от шайки пиратов:
«1673 год. На побережье Аннунциаты есть остров, называемый «Сундук мертвеца». Он имеет форму, показанную на плане [136]. Иди на север к дереву в шести шагах от взморья. В нем вбит гвоздь на высоте одного ярда. От дерева иди сорок три шага в ту же сторону и ты найдешь другое дерево, в котором два гвоздя. Один вбит в корень у основания, другой на пол-ярда выше. Повернись лицом к восходу солнца и, щупая почву палкой, ты найдешь земляной вал. Тут копай с пол-ярда глубины и ты найдешь кувшин с шестью тысячами онз [137] золотом, сундук с золотыми брусьями, шкатулку с драгоценностями, на которых выгравированы инициалы принцессы из Кастель-Бела и которые ценнее всего золота. Там же восемь рукояток от мечей, усыпанных бриллиантами, одно распятие, три пары тяжелых золотых подсвечников, также 23 кремневых мушкета и пистолей Если кто-нибудь из нас тронет этот клад, пусть разделит его поровну между нами, чьи имена подписаны здесь, а если они умерли, пусть их долю отдадут семьям»Дальше стоят подписи и метки шестнадцати пиратов. Имеется несколько подобных грамот, дошедших до наших дней. Они случайно сохранились в частных руках или у священнослужителей, к которым попадали после смерти покаявшегося пирата. Теперь некоторые богатые американцы выискивают и собирают старинные пиратские карты и грамоты, написанные на разных языках. Они скупают их в монастырях, церквах и у потомков морских разбойников. Это бедные люди, которым пиратские грамоты, доставшиеся от предков, кажутся не имеющими никакой ценности. Они рады хоть сколько-нибудь получить за эти ненужные старые бумаги. Богачи же покупают грамоты не потому, что они интересуются стариной, а с тайной целью найти забытые клады.
ТАЙНА ПЕЩЕР
В годы второй мировой войны американец Гордон, владевший несколькими пиратскими грамотами, снарядил небольшую экспедицию на поиски кладов. Собственная яхта вышла в море. Прошло благополучно несколько дней; погода была ясная, море спокойно. Яхта шла к острову Пинос тем же путем, каким шла «Испаньола», описанная Стивенсоном. Мальчик Джим Гокинс, по роману Стивенсона, однажды, сидя в бочке из-под яблок на палубе «Испаньолы», подслушал разговор одноногого Джона Сильвера с командой корабля. Так он узнал о заговоре. Команда, состоявшая из бывших пиратов, собиралась убить капитана, доктора и его самого, Джима, чтобы завладеть кладом, который должны были найти на острове. И вот полтораста лет спустя, так же совершенно случайно, Гордон услыхал на палубе своей яхты разговор двух матросов. Они собрались убить Гордона ударом в затылок, тело Гордона выбросить за борт, яхту затопить и уйти на шлюпке с похищенным сокровищем к одному из островов Кеймен. Но современный искатель кладов был человеком более трусливым и осторожным, чем пираты прежних времен. Гордой понял, с кем имеет дело, и не захотел рисковать жизнью. Он повел яхту не на то место, которое было указано в пиратской грамоте, произвел розыски клада, дал заговорщикам убедиться, что клада нет, и повернул яхту обратно, не дойдя до острова Пинос. А из грамоты он узнал, что у берега этого острова на точно указанном месте затонул корабль, в кузове которого лежало 14 тонн испанского серебра и золота. На следующий год Гордон снова снарядил экспедицию. На этот раз он взял на борт быстроходного катера только преданных ему людей и отправился к мысу Святого Антония, рядом с которым лежит остров Пинос. Катер быстро подошел к острову Куба. Юго-западная часть этого острова кажется с моря необитаемой и не пригодной к жизни. Нигде нет и следа поселений. Густые дикие леса, не знавшие топора, покрывают горы. Но по мере приближения к мысу Святого Антония страна меняет свой вид. Известковые скалы громоздятся до самого берега. В них зияют темные углубления пещер. Вершины скал покрыты густыми зарослями колючего кустарника. Мыс святого Антония, как и близлежащий остров Пинос, был когда-то пристанищем пиратов, и его немногие обитатели являются их законными преемниками. Ободранные, жадные, угрюмые, злые и подозрительные, они внушают мало доверия. Экспедиция Гордона высадилась на берег. Местные жители следили за каждым шагом американцев и явно собирались расправиться с непрошеными пришельцами. У Гордона была пиратская грамота, указывающая, что в одной из пещер лежит клад. Но в нежеланных гостей полетели камни, над их головами засвистели пули. Одна пуля ударилась в скалу над головой Гордона, и это заставило его уехать, пробыв на суше всего несколько часов. Не стоило рисковать жизнью! Ведь у Гордона было еще несколько грамот с указанием на богатые клады в других местах. Когда судно отчалило, американцы ясно увидели у подножия одного утеса сплошную стену наваленных камней, незаметно сцементированных между собой. Это была искусственно сложенная груда каменных глыб, которая закрывала вход в большую пещеру со стороны моря, незаметную и недоступную сверху. И в этой пещере, как было указано в грамоте, лежала половина сокровищ, захваченных испанцами в соборе Мерида в Юкатане. После неудачной попытки на мысе Святого Антония Гордон, решив, что это сокровище от него все равно не уйдет, направил свое судно на 30 миль западнее, где была спрятана вторая половина богатств, спасенная от пиратов.
Из пиратской хроники известно, что испанцы вывозили церковные ценности на трех кораблях из Мериды в Гаванну. У мыса Святого Антония на них напали пираты. Они быстро взяли испанские корабли на абордаж. Но, пока они сражались с испанцами на палубах, трем испанским монахам удалось спустить шлюпку и перетащить в нее часть сокровищ. В пылу битвы пираты не заметили «святых отцов», которые быстро уходили на шлюпке к берегу. Монахи спрятали все ценности в пещере и завалили вход в нее землен и камнями. С тех пор прошло триста лет. Вес место заросло густой чащей кустарника. И, как Гордон ни искал пещеру, он не мог ее найти. Только после долгих и упорных исследований ему удалось обнаружить остатки разбитых кувшинов и железных ящиков. По-видимому, недалеко от этого места в одной из пещер до сих пор лежат нетронутые богатства: множество золотых монет, золотая корона и платье «божьей матери», усыпанное драгоценностями. Весь тот край полон пещер, некоторые из них огромны. Многие пещеры уже исследованы, и в них найдено несколько кладов. В одной обнаружен каменный идол и обломки глиняной посуды — по-видимому, остатки индейского поселения еще доколумбовой эпохи. Самая же главная пещера, прозванная пиратами «Куэва де Диос» (пещера богов), до сих пор не найдена. По дошедшим записям известно, что в этой пещере скрыты 12 статуй апостолов в человеческий рост, вылитых из серебра, и статуя богоматери с младенцем на руках, вылитая из чистого золота. Также сохранились сведения о трех ненайденных кладах западнее пещер, к которым Гордон и направил в конце концов свое судно. В точно указанном месте лежал сундук, зарытый на берегу и привязанный бронзовой цепью к гигантскому дереву. Но сундук и цепь оказались погруженными в море. Когда люди Гордона стали тащить сундук из воды, цепь оборвалась и сундук еще глубже ушел в илистое дно. Не было никаких возможностей извлечь его без особых приспособлений, которые Гордон не захватил с собой, и поэтому искатель кладов остался ни с чем. Впоследствии Гордон возвращался к этому месту еще раз, но приметы, сделанные им, исчезли, и он не смог найти сундука. Так, вероятно, и будет этот сундук вечно лежать под слоем ила и песка недалеко от берега. Почти в то же время другой богатый американец Стефенс, также обладавший пиратской грамотой, направился к острову Пинос — главному пристанищу пиратов. Его судно остановилось в том же проливе между островом Пинос и островком, прозванным пиратами «Остров скелета», где бросала когда-то якорь «Испаньола», по роману Стивенсона. Так же, как и тогда, пролив терялся среди густых лесов, начинавшихся у самой воды. Исследовав южное побережье острова, Стефенс подобрал пушечные ядра и осколки снарядов у стен старинной бревенчатой пиратской крепости. Весьма возможно, что как раз в этой крепости сражался капитан Смолетт, сквайр доктор Ливси и Джим Гокинс против одноногого Джона Сильвера и его шайки. И не исключена возможность, что найденные пушечные ядра были ядрами с «Испаньолы», если Стивенсон описал действительно происшедшие события. В другом месте, называемом «Калета Луго», американцы видели жалкие остатки когда-то бывшего здесь невольничьего рынка. Сюда работорговцы привозили негров из Африки и продавали их в рабство испанцам, англичанам и португальцам. Затем судно Стефенса заходило в три бухты, прозванные морскими разбойниками: Раем, Чистилищем и Преисподней. Обыкновенно в этих бухтах спасались застигнутые бурей пиратские корабли. Интересного здесь экспедиция ничего не нашла, убедившись только в том, что южное побережье острова Пинос представляет собой настоящее кладбище кораблей. У крайнего юго-западного мыса на четверть мили от берега тянется подводный риф. Некоторые корабли разбивались там во время шторма, другие погибали, не имея на борту хорошего лоцмана. Одним из погибших кораблей был испанский фрегат «Дон Карлос III». Этот фрегат шел в 1828 году из Испании в Америку. Он перевозил золотые и серебряные испанские деньги, общей стоимостью в пять миллионов долларов, для уплаты испанским солдатам в Мексике. Известно, что фрегат благополучно дошел до острова Куба и повернул в Юкатанский пролив. После этого он пропал без вести Через несколько месяцев был послан военный испанский корабль на его поиски. И на южном побережье острова Пинос испанцы натолкнулись на следы катастрофы. Оказывается, фрегат налетел на подводный риф, перескочил через него и сел на дно в четверти мили от берега. Золотой груз исчез. Но испанцы нашли остатки ободранной и голодной команды, бродящей по берегу. Ни одного офицера среди них не было Как оказалось при опросах команды, крушение было злоумышленным. Лоцман фрегата участвовал в заговоре и намеренно направил корабль на подводный риф. Матросы перебили офицеров и все золото перевезли на берег. В течение пяти–шести месяцев они питались запасами с корабля и пили родниковую воду из найденного на острове источника. Ни угрозы, ни пытки не могли заставить матросов сказать, где спрятаны деньги. Не добившись ничего от преступников, испанцы расстреляли и повесили большую часть команды, а остальных отвезли в тюрьму в Гаванне.
ВЫКРАДЕННАЯ ГРАМОТА
Только одна карта с надписями, составленная этими преступниками, сохранилась до наших дней. Эта единственная карта была выкрадена и пронесена тайком из гаваннской тюрьмы. Какимобразом она дошла до Испании и попала к жене одного из заключенных, неизвестно. Она бережно хранилась в семье, пока правнуки не продали ее какому-то искателю приключений. Потом карта попала в антикварную лавку; оттуда ее извлек любитель старины; и, наконец, она оказалась в руках Стефенса. В рукописи, приложенной к карте, сказано:«На Пуэнто дель Эсте Остров Пинос. Однолинейный корабль «Дон Карлос III». На берегу три дерева, в середине самое большое. В его корне бронзовый гвоздь; от него под землей протянута цепь — 20 шагов на север Четверть на запад. Небольшое озеро Десять шагов назад от восходящего солнца. Небольшой холм, с него видно два берега в одну линию на запад и на восток. Рядом родник пресной воды В тени холма, на стороне, противоположной роднику, зарыто три бочонка с золотыми монетами. В пещерах среди скал золотые и серебряные монеты, общей стоимостью в 20 миллионов пезет, брошены в пещеру радиусом в десять шагов».Судно Стефенса подошло к месту крушения фрегата; и через 120 лет после катастрофы американцы обнаружили следы погибшего корабля на рифе в виде глубокой борозды и даже стояли на его обломках во время отлива. Исследуя берег, Стефенс с трудом нашел место, где когда-то росли три дерева. После долгих и упорных поисков у подножия небольшого холма он нашел высохшее русло родника. Стефенс знал, что неисчислимое сокровище лежит где-то близко под землей. Но почва была покрыта таким густым кустарником, что инструменты, определяющие скрытый под землей металл, не действовали. Очистить же в короткий срок почву от кустарника было невозможно, а укусы москитов и главное — отсутствие пресной воды не позволяли затягивать поиски. Стефенсу пришлось покинуть остров.
ЗАГАДОЧНЫЕ ПУШКИ
В течение веков островок Кайо-Авалос был также пристанищем пиратов. Это первая земля на прямом пути от Ямайки и Панамского перешейка до Кубы и Га-ванны. Много кладов зарыто на этом островке, и много сокровищ уже здесь найдено. Один американец, по фамилии Броун, жил на этом островке в течение долгих лет. У него была подлинная карта, составленная пиратами, и он решил не уезжать с острова, пока не найдет клада. Броун выстроил домик, добывал пищу охотой, пил чистую родниковую воду и даже засеял небольшое кукурузное поле. Жил он совершенно одиноко. Разыскивая на острове описанные приметы, Броун вскоре убедился, что многие из примет исчезли. Так, например, он не нашел двух больших деревьев, которые должны были расти на том месте, где зарыт клад. По-видимому, оба дерева были сломаны ураганом и потом успели истлеть. Зато Броун легко нашел самую первую примету. Это были две пушки. Они лежали на дне близ берега на отмели, которая отлагалась во время отлива. Эти пушки соприкасались дулами и представляли собой нечто вроде наконечника стрелы, указывающей внутрь острова на плоский утес. На этом утесе были высечены цифры и лицо, смотрящее по направлению лагуны, как раз позади домика Броуна. Предполагая, что клад находится на дне лагуны, Броун пытался ее осушить. Над этим он работал несколько лет, но ничего не добился и умер в одиночестве в 1925 году. А три года спустя его домик снесло ураганом.
По рассказам лоцмана с судна Стефенса, оказалось, что отец лоцмана — местный обитатель — не раз сидел с Броуном на загадочных пушках. Они видели, что стволы их замазаны цементом, но не обращали на это никакого внимания. Через десять лет после смерти Броуна остров посетили какие-то искатели кладов. Были ли у тех пиратские грамоты или нет, об этом никто и не узнал, но во всяком случае они проломали цемент в пушках и обнаружили, что обе они доверху наполнены монетами и драгоценностями. Оказалось, что в пиратской хронике написано про известного разбойника Лафита, часто бывавшего на этих островах. Лафит всегда набивал добычей пушки, замазывал их цементом и погружал у берега в мелкую воду. Если бы Броун читал исторические хроники и знал о привычке Лафита, он бы, наверное, нашел этот клад.
ПОГРЕБЕННЫЙ В СЫПУЧЕМ ПЕСКЕ
Лоцман Стефенса рассказал ему, что он в детстве часто бывал с отцом на острове Кайо Авалос. Однажды, гуляя вдоль лагуны, за сто ярдов от домика Броуна, он нашел чугунное ядро, лежавшее в рыхлом углублении и засыпанное песком. Мальчик позвал своего отца и дядю. Они кирками стали раскапывать яму под ядром и скоро нашли несколько досок с выжженным на них словом «Мексика». Вытащив доски, они натолкнулись на плоскую цементную плиту, под которой увидали крышку железного сундука, смазанную смолой. Взволнованные находкой, они усердно стали копать дальше, но вода и сыпучий песок все время заполняли яму и стали засасывать ядро, державшее сундук. Чем больше они рыли, тем глубже оседали ядро и сундук. Тогда отец лоцмана решил, что сундук заколдован. Это был необразованный, суеверный человек. Он велел привести к яме двух собак, тут же их зарезал и залил яму кровью. По старинному поверью пиратов, свежая кровь будто бы разрушает колдовские чары. Уверенный, что теперь сундук от него не уйдет, отец спрыгнул в яму и схватился за его ручку. Но засасывающая сила воды и песка была так велика, что одному человеку было не справиться с ней. Тогда в яму спрыгнул и дядя лоцмана. Но сундук неудержимо погружался все глубже и тащил за собой двух человек. Они не отпускали ручку сундука до тех пор, пока с головой не ушли под воду. Едва-едва они выбрались из ямы. Когда Стефенс услыхал рассказ своего лоцмана, он предложил ему большие деньги за то, чтобы тот указал ему место, где лежит этот сундук. Лоцман согласился. Судно Стефенса подошло к острову Кайо Авалос. Стефенс и лоцман тотчас же сошли на берег. Они взяли с собой два насоса для откачивания воды и песка, доски для настила, балки для укрепления ямы, ящик с инструментами и запас пресной воды. Все это пришлось тащить на себе с полкилометра через непроходимые заросли. Дорогу пришлось прорубать топорами, — так густо переплелись ветви кустарника. Груз был очень велик; один только насос весил больше полутонны! Приходилось перетаскивать все по очереди на несколько шагов вперед, затем возвращаться по нескольку раз, прорубать тропинку дальше и снова в несколько приемов тащить груз. Когда они с трудом добрались до места, перед ними оказалась яма, наполненная водой. Кругом было много следов и лежали разбросанные доски. Приладили насос и стали откачивать воду. Через десять минут уровень воды понизился на четыре фута. Исследуя яму палками, Стефенс нащупал что-то, похожее на крышку сундука. Но, когда они откачали воду и песок еще на два фута, пришлось разочароваться. В яме на глубине шести футов лежал не сундук, а деревянный щит, сколоченный из двенадцати досок. По-видимому, кто-то из современных пиратов побывал здесь до Стефенса — и сундук с сокровищем исчез! Доски были новые: им было не более двух лет, и были они не из дерева с острова Кубы, а сосновые, привезенные из штата Георгии. Должно быть, это была хорошо снаряженная экспедиция таких, же предприимчивых искателей кладов! И им посчастливилось найти клад всего за несколько месяцев до Стефенса.СОКРОВИЩЕ НАЙДЕНО
Несколько лет назад другой американец, Уиккер, также скупавший пиратские грамоты, снарядил небольшую экспедицию. Во избежание заговора команды, на его судне было всего четыре человека. Он сам был начальником экспедиции и капитаном судна. Его сын Билль — матросом. Офицер береговой охраны — механиком. Лоцман, обитатель одного из островов, был в то же время и водолазом. Он все детство провел в поисках кладов и, не найдя ни одного, перестал верить в их существование. Экспедиция вышла в море из Флориды на небольшом быстроходном катере. Уиккер сразу направил свое судно к подводному рифу в пяти милях от острова Пинос, где погибло немало кораблей с драгоценными грузами. Неожиданно, как это бывает в Караибском море, поднялся сильный ветер. Взбудораженное море катило громадные волны, и судно Уиккера не могло с ними бороться. Однако нетерпение четырех человек было так велико, что лоцман и сын Уиккера, Билль, поплыли к опасному рифу на маленькой шлюпке. Волны кидали ее вверх и вниз, но шлюпка упорно продвигалась к подводному рифу, над которым кипели буруны. Дойдя до них, она на мгновение исчезла среди столбов соленых брызг, затем появилась снова. Уиккер следил за ней в бинокль. Его сыну-студенту было девятнадцать лет. Он был прекрасным пловцом. Но буря все усиливалась. Шлюпка могла каждую минуту затонуть, разбиться о подводные скалы, и человеку было почти невозможно бороться с силой бушующих воли. Когда на мгновение шлюпка показалась над волной, Уиккер увидал, что Билль смотрит в воду через специальный водяной бинокль, потом вдруг радостно взмахнул рукой и что-то крикнул лоцману. Но крик его потонул среди рева бушующего моря, и в следующий же момент громадная волна перевернула шлюпку и потащила с собой на риф. Прошло несколько минут, после которых Уиккер увидал, как Билль и лоцман схватились за киль опрокинутой лодки и как бы приросли к ней. Они вместе с лодкой то взлетали с волнами на самый край рифа, то скатывались обратно в мрачную клокочущую бездну. Уиккер спустил оставшуюся шлюпку и тоже стал грести к рифу. Ни Билль, ни лоцман не теряли присутствия духа и крепко держались. И вдруг Уиккер увидал, что Билль оторвался от шлюпки и погрузился в воду. Громадная волна, откатившись и снова нарастая, подняла лодку Уиккера на огромную высоту, и в это мгновение он увидел Билля, показавшегося над водой. Билль держал что-то в поднятой левой руке. Уиккер понял, что сын нырнул на дно и схватил там кусок коралла. Но не нырял же его сын в такую минуту за простым кораллом! С удесятеренной силой продолжал он грести. Билль и лоцман мужественно боролись с волнами, и вскоре им удалось отплыть достаточно далеко от опасного места и вскарабкаться в лодку Уиккера. В куске коралла, который Билль достал с морского дна, был золотой браслет, как будто вросший в камень Сомнений больше не могло быть: здесь лежало сокровище; никто его не трогал, и Уиккер мог им завладеть. Четыре дня подряд упорно пыталось судно американца подойти к намеченной цели, но все четыре дня дул сильный ветер и волны разбивались о риф. На пятый день шторм стал стихать. Уиккеру удалось подплыть на лодке и укрепить буй на том месте, где Билль достал со дна золотой браслет.
Только на шестой день выдалось четыре часа спокойной погоды. Судно Уиккера прошло узким каналом между подводными камнями за линию рифа и бросило якорь. С лихорадочной поспешностью все схватились за водяные бинокли и не могли больше оторвать от них глаз. Там было на что посмотреть! На морском дне среди разросшихся кораллов лежал старый железный сундук. Он был открыт, и в нем и вокруг него была разбросана груда золотых украшений и слитков. Рядом с сундуком торчал угол еще одного, свинцового ящика, тоже заросшего кораллом. Лоцман спешно надел водолазный костюм. Костюм, из предосторожности, был голубого цвета. Вокруг судна плавали акулы, а порода акул, живущая в Караибском море, имеет обыкновение набрасываться на темные и скородвигающиеся в воде предметы. Поэтому водолазу, одетому под цвет морской воды, было безопаснее работать. Когда водолаз прошел по дну к открытому сундуку, ему спустили на веревке лом и ведро. Оставшиеся на судне наблюдали через водяные бинокли, как он ломал коралл, освобождая из него браслеты и кольца. Потом водолаз повернулся к закрытому свинцовому ящику. Сдвинуть его с места он не мог — ящик со всех сторон плотно зарос кораллом. Тогда он проломал ломом одну стенку ящика и стал выгребать содержимое. Когда почти все сокровище было поднято на палубу, водолаз отколол большой кусок коралла с вросшими в него браслетами. Этот кусок и другие малоценные образцы находятся в настоящее время в музеях США. Всем остальным завладел Уиккер, наградив за труды лоцмана и механика. Специалисты определили, что браслеты и кольца были обменной африканской монетой. Такие деньги употреблялись в течение многих десятилетий и до сих пор встречаются в Африке, начиная от Эфиопии и кончая Большим Бассамом. Но для чего же надо было везти деньги и украшения в Караибское море к острову Пинос из далекой Африки? После произведенных исследований оказалось, что известный работорговец Хуан Гомец когда-то жил на острове Пинос. Он посылал каждый год в Африку девять или десять кораблей, нагруженных порохом, ружьями, бусами и бумажными тканями. Там эти товары обменивались на невольников-негров. Иногда Гомец нуждался в еще более дешевом товаре. Тогда он по своему обыкновению располагался в африканском селении, пользуясь гостеприимством простодушных негров. Он задаривал их безделушками, тканями и деньгами, потом приглашал все селение на свои корабли пировать. Доверчивых негров угощали вином и, когда они пьянели до потери сознания, их связывали и увозили с собой для продажи в рабство. У рабов отбирали обратно полученные подарки, чтобы использовать их еще раз в следующей поездке. Таким образом и очутились браслеты, брусья и кольца на корабле, шедшем из Африки к невольничьему рынку на острове Пинос. Очевидно, почти у самой цели один из кораблей Гомеца наскочил на риф. Весьма вероятно, что в настоящее время предприимчивые и алчные искатели кладов вроде Гордона, Стефенса, Уиккера и другие, им подобные, уже нашли клады, помеченные на пиратских картах. Быстроходные катера и современная техника, а также осторожность и расчетливость американцев — это два преимущества, которыми не обладали ни пираты прежних времен, ни легкомысленный сквайр, владелец «Испаньолы», выпутавшийся из беды благодаря находчивости мальчика Джима. И к сожалению, ценности, доставшиеся испанцам в результате жестокого порабощения древних индейских племен, ценности, пролежавшие столетия в земле и на дне моря, теперь попадают в жадные руки частных владельцев и служат только предметом их обогащения, хотя являются народным достоянием.

Ф. Зубарев В ДОРОГЕ Рассказ
Весь день упряжка пробиралась морем через обширные пространства, загроможденные битым льдом. Каюр Ятынто часто останавливался, залезал на высокие льдины и высматривал, где лучше проехать. Отыскав чистую прогалину, трогался дальше. Наконец заторы кончились. Собаки подхватили нарту и с громким лаем помчались по гладкой прибрежной полосе. Справа тянулся отлогий берег, за которым утопала в зеленоватом лунном свете тундра, слева чернели вздыбленные торосы. При быстрой езде они тоже, казалось, куда-то бегут, торопятся, обгоняя друг друга. Иногда они подходят к самому берегу, а затем, отступив, исчезают во тьме. Шла пора долгих зимних ночей. Солнце давно уже не показывалось. Лишь в полдень чуть-чуть заалеет краешек неба и через час — полтора снова загораются звезды. Нигде ни дыма, ни огонька, ни человека. Только молчаливая луна неизменно сопровождала нас. При ее щедром освещении мы на остановках пили чай, ремонтировали нарту, разрубали мерзлую нерпу на корм собакам, спали, забравшись в спальные мешки-кукули. Даже когда темно-малахитовое небо светлело и звезды меркли, луна, уйдя на запад, по-прежнему улыбалась нам. Хорошо ехать в лунную полярную ночь среди первобытного покоя и слушать тихое мурлыканье полозьев! Хорошо дышать чистым морозным воздухом и чувствовать, что ты не жалкая пылинка, затерявшаяся среди белой пустыни, а хозяин своей страны, хозяин моря, земли и неба. Когда легко скользит нарта, собаки весело перебирают лапами и цель твоей жизни ясна, — гордость переполняет душу. Хочется петь. Петь про широкие просторы, необъятные края, исполинские горы. И ты поешь. Каюр Ятынто медленно раскачивается в такт пеоне. Он поворачивает голову. Лицо его сияет. — Хорошие песни. Пой еще про горы. Мы едем в далекое стойбище в промысловый колхоз. Едем уже третьи сутки — и все то же море, та же безлюдная тундра с замерзшими озерами, голыми сопками. Сегодня мы ночевали в лагуне у жарко пылающего костра. Щедрое Чукотское море накидало сюда кучи бревен, горбылей, шпал, досок. Если собрать их, — можно выстроить целый поселок. За лагуной вновь появились торосы, рытвины, ухабы, заструги. Словно кто-то прошелся по морю с рубанком, да так и бросил, не закончив работу. Погода тоже начала хмуриться. По желтоватому диску луны поползли длинные серые пряди. Горизонт помутнел На тундру и море легла широкая дымчатая тень. — Пурга будет, — оглядывая небо, сказал Ятынто. — Успеть бы переехать через бухту, а там в скалах укроемся. Но пурга захватила нас на полпути. Подуло с материка. Сначала тихо, еле заметно, потом взметнулась поземка. Дорога запрыгала перед нами. Повалил снег. Вскоре и луна и звезды исчезли. Послышался протяжный гул, идущий откуда-то издалека Рванул ветер, и вдруг снежный ливень обрушился на землю. Теперь уже не разберешь, где море и где небо. Все слилось в сплошную клубящуюся муть. Миллионы колючих снежинок, как в водовороте, со свистом закружились в воздухе. Они злобно хлестали по лицу; слезы выступали из глаз, и не было сил защищаться от яростной снежной атаки. Шквальным ветром нарту раскатывало из стороны в сторону. Упряжку валило с ног. Собаки тявкали, жались одна к другой, пряча морды от режущего ветра. Мы ехали неизвестно куда. Ветер метался, как взбесившийся зверь. Забегал то справа, то слева, срывал снежный покров и с воем швырял белые хлопья. Больше не существовало ни севера, ни юга, ни востока, ни запада. Все части света перемешались между собой.

Так продолжалось долго. Упряжка без конца блуждала, колесила в снежной пене. Временами ураган загонял ее в торосы. Вокруг грохотало, стонало. Раздавался треск льда. Мы впрягались в лямки и вместе с собаками спешили уйти подальше от страшного места. Наши меховые кухлянки, торбаза, малахаи обросли толстой снежной коркой. Мы брели согнувшись и походили на жалких, но непобежденных рыцарей, закованных в ледяные панцири. От усталости еле-еле тащили ноги. Хотелось повалиться и заснуть… В мутном снежном потоке мелькнули очертания чего-то темного и бесформенного. Это оказалась пустая железная бочка, выброшенная на отмель прибоем. Мы вышли на низину, покрытую щебнем, галькой и изредка голыми валунами. Ятынто долго всматривался в снежную мглу, пытаясь опознать место. Он подошел к бочке, оглядел ее, перевернул, поставил на землю дном. — Незнакомое место Не видел раньше… Мы направились по низине, в надежде найти хоть маленькое укрытие от ветра, чтобы согреть на примусе чайник и скормить собакам остатки нерпы. Но, сколько ни кружили, все напрасно. Снег несся гудящей лавиной, и невозможно было что-либо рассмотреть в пляшущем хаосе. Мы хотели уже остановиться у первого попавшегося валуна, залезть в кукули и ждать, пока не утихнет метель. Неожиданно собаки сбились в кучу, обнюхали снег и, должно быть, учуяв чьи-то следы, подхватили нарту. Все исчезло в белых клубах вихря. Нарта налетала на камни, трещала, валилась на бок. Я что есть силы ухватился одеревеневшими руками за нащепы и с трепетом ждал: вот-вот нарта опрокинется и я затеряюсь в пурге. — Наверно, берлога близко! — крикнул каюр, поспешно выдергивая из-под себя тормозную палку-остол. У белых медведей обычно в конце зимы появляются медвежата, поэтому они заранее делают себе берлоги и большую часть времени находятся в них, лишь изредка вылезая за добычей Вдруг шевельнулся в снежном вихре черный предмет. Не успел Ятынто затормозить нарту, как упряжка подскочила к торчащему остроконечному камню и зацепилась за него постромками. Собаки затявкали, порываясь дальше. — Вон и берлога, — проговорил Ятынто, указывая рукой на снежный холм. — Умка сейчас там. В такую погоду они спят как убитые. Каюр цыкнул на скуливших собак и стал вынимать из чехла винтовку. — Надо мяса собакам достать. Пурга может с неделю быть. — Ятынто зарядил винтовку, нащупал на ремне нож и направился к холму. Пошел и я. Ветер дул с прежней силой. Белая режущая пыль секла лицо, проникала под капюшон, в рукавицы и даже просачивалась через швы одежды.

Добравшись до холма, мы стали огибать его с подветренной стороны, где не так пуржило, как на открытом месте. Ятынто шел впереди, держа оружие на боевом взводе. Он остановился у большой черной дыры, идущей в глубь холма. Возле дыры кружился снег и оседал на верхней кромке отверстия узорчатой бахромой. У основания лаза ветром намело свежий рыхлый сугроб. Я подошел поближе к отверстию, чтобы получше рассмотреть, как вдруг сугроб под ногами осел, и я немедленно сполз в берлогу. Лежу затаив дыхание, боюсь шевельнуться. Кругом тихо. Мрак. Ни звука. Только сверху доносится протяжный вой и свист ветра. Лежу на спине с полусогнутыми ногами. Они уперлись во что-то твердое: не то в камень, не то в дерево. Немного спустя приподнялся, сел, еще раз послушал, затем вытряс из-за ворота кухлянки снег, встал на ноги и начал, как слепой, шарить по сторонам, разыскивая выход из берлоги. Неожиданно руки нащупали что-то мягкое и волосатое. «Медведь», — мелькнуло в мозгу. От страха в горле пересохло. Чувствую, как на голове приподнимается малахай, а перед глазами пляшут желтые светлячки. Наконец потихоньку, осторожно, чтобы не вспугнуть спящего зверя, стал пятиться, отступать назад. И тут мои пальцы наткнулись на круглый металлический предмет. «Что за штука? — соображаю про себя. — Неужели скобка? Да, она… А тут, значит, дверь, обитая шкурой!» Вероятно, это была допотопная промысловая избушка, давно заброшенная охотником. При мысли, что можно будет переждать пургу, напиться и отдохнуть, я поспешно открыл дверь и шагнул через порог. Темно, хоть глаз коли. Достал спички. Тусклое красноватое пламя робко скользнуло по заиндевевшим бревенчатым стенам. В правой стене показалась большая дверь, сколоченная из грубо отесанных горбылей. Решив, что там кладовая, направился в следующую, более высокую дверь, выступавшую прямо передо мной. Открыл и зажмурился, ослепленный ярким светом. Я оказался на кухне. Налево, у маленького оконца, забитого с наружной стороны снегом, стоял с посудой стол. Напротив стола излучала тепло еще неостывшая плита, возле которой громоздилась большая куча каменного угля. У передней стены, за перегородкой, помещались аккумуляторы. От них шли провода: одни — к электрической лампочке, висевшей над кухонным столом, другие — в соседнюю комнату, где стояли две железные заправленные кровати. Между ними на простенке тикали круглые судовые часы с недельным заводом. Пониже часов висели на стене фотографические карточки. На одной из них улыбалась девушка. На ее груди виднелся комсомольский значок. На обратной стороне снимка была надпись: «На долгую память от Лены Боре». «Куда мы попали?» — теряюсь в догадках. Странно все это видеть в пустынной тундре за сотни километров от населенных пунктов! Топчусь на месте и не знаю: или позвать каюра, или остановиться здесь, или же поскорее убирать отсюда ноги. Стою, а сам ни с места. Прислушиваюсь… Тихо, — значит, никого нет. Вижу, валяются в углу несколько капканов, цепи и стоит двуствольная курковая «тулка». Она оказалась заряженной разрывными пулями. Подумав, я вытащил из стволов патроны и сунул их на кровать под матрац. «Так, — думаю, — поспокойнее будет. Кто знает, для кого приготовлены такие пули». В этот момент с улицы донесся глухой настойчивый голос каюра Ятынта. Он шумно топтался за дверью и что-то кричал. Когда я впустил его, он судорожно схватил меня за рукав. — Пошли отсюда скорей, пошли! — с тревогой заговорил Ятынто. — Тут плохие люди живут. Бандиты!.. Вернутся — беда нам… Они же убили нашего охотника… Прошлым летом двое бродяг ворвались в одну промысловую избушку, очистили ее, а охотника Туккая зарезали ножом. Говорят, они до сих пор скрываются на побережье моря, где-то в этих местах. У меня внутри будто что-то оборвалось. Я так и чувствовал, — уж не попали ли мы в лапы именно к этим злодеям? — А ты не ошибся, — может, охотники тут живут? — возразил я каюру, хотя, признаться, и сам в это мало верил. — У них, — говорю, — есть и капканы, и цепи, и двуствольное ружье. Иди посмотри. С большим трудом затащил я оробевшего каюра в кухню. Глянув по сторонам, Ятынто в страхе замахал руками. — Карэм! Карэм! (Нет! Нет!) Какие охотники! Здесь никогда их не было. Я прошлую зиму ездил тут! Каюр утверждал, будто все вещи, находящиеся в избушке, бандиты притащили с берега, куда выбросило их штормом с погибшего корабля. О крушении судна, направлявшегося на фактории с грузом, мне не раз приходилось слышать от местных жителей — чукчей. Так что доводы Ятынто казались убедительными. Всё могло быть, особенно здесь, в отдаленных, еще не обжитых окраинах страны. Каюр продолжал испуганно бросать по сторонам взгляд. — Не тут ли где бандиты притаились? — оглядывая помещение, вполголоса зашептал Ятынто. Он передернул затвор винтовки и, набравшись храбрости, заглянул сначала под одну кровать, затем под другую. За соседней стеной будто что-то зашуршало и щелкнуло. Погодя немного вновь щелкнуло, только подальше и потише. Если разбойники и могли скрыться, так только в кладовке, которую мы упустили из виду. Постояв с минуту, мы направились к кладовке, чтобы ее осмотреть. Ятынто встал с винтовкой у двери, а я, чиркнув спичку, открыл ее. Никого… На земляном полу валялись разбитые ящики, рваные рогожи, дырявое ведро. В одном углу стоял, должно быть снятый с катера, двигатель, предназначенный сейчас для зарядки аккумуляторов; рядом лежали оцинкованная бочка с горючим и еще какие-то части от двигателя. Мой взгляд случайно упал на черневший у дальней стены кособокий самодельный стол. То, что виднелось на нем, бросило меня в трепет. Я забыл на мгновение, где нахожусь. Казалось, будто попал в место страшных пыток. Из-под брезента торчала лишенная кожи, с оголенными сухожилиями человеческая ступня! Свежие следы ножа указывали на недавно совершенное страшное преступление. Кто эти преступники? Где они? Может быть, отправились на новый разбой, да задержались из-за пурги? Все еще не веря глазам, я зажег сразу несколько спичек и шагнул поближе к столу. — Это умка убит, — зашептал мне подошедший Ятынто. Так и есть, под брезентом лежал разрубленный на части белый медведь. Без шкуры медвежьи лапы очень напоминают конечности человека. Ятынто осмотрел, как разрублена медвежья туша, и покачал головой: — Охотники так не разделывают зверя. Бандиты тут. Уезжать надо. Не будь пурги, мы, безусловно, убрались бы отсюда. Сейчас же об этом нечего было и думать. Ураган бушевал пуще прежнего. Казалось, он только еще набирал силы. Ветер метал подхваченные где-то щепки, осколки льда, мелкий щебень, кочки. Вместо собак возвышались белые полукруглые холмики, а нарта совсем скрылась в сугробе. Волей-неволей приходилось сидеть в землянке и ждать, пока не затихнет метель. Оказавшись в теплом и уютном помещении, Ятынто немного успокоился, притих, хотя изредка и бросал боязливый взгляд на дверь. У меня, конечно, тоже на сердце кошки скребли. Кто знает, чем может кончиться вся эта история. Пока грелся на плите чайник и оттаивали принесенные с нарты мерзлые хлеб и консервы, Ятынто еще раз пять вылезал с винтовкой из землянки понаведать упряжку. Он не расставался с оружием даже и во время еды. После горячей пищи, у жарко натопленной плиты, после мучительной дороги и тревожного нервного напряжения смертельно хотелось спать. Тело обмякло, голова никла от навалившейся тяжести, веки смыкались. Все становилось безразличным. Было одно желание: хоть на секунду да забыться, вздремнуть. Но каждый из нас понимал, что этого делать нельзя. С минуты на минуту могли вернуться бандиты. Чтобы не уснуть сразу обоим, мы решили установить двухчасовое дежурство и, в случае чего, — стрелять сначала вверх, а потом, смотря по обстоятельствам, бить по цели. Первая вахта была моя. Каюр растянулся у стола на полу в чем был и сразу же захрапел. Зажав между коленями винтовку, я сидел, как на горячих углях, не отрывая взгляд от двери. От напряжения глаза резало до боли. Текли слезы. С улицы беспрерывно доносился протяжный гул и вой урагана. Стрелка на судовых часах показывала два часа ночи, но таинственные хозяева не появлялись. Правда, их могла задержать пурга, все еще продолжавшая разгуливать над морем и тундрой. Отстояв положенное время, я разбудил каюра, передал ему винтовку, бросил свою кухлянку в спальне между кроватей и, не разуваясь, лег. …Время во сне летит быстро. Пурга давно прошла. Мы уже в стойбище. Утро. У жителей большое оживление. Все суетятся, шумят. Мужчины собираются в тундру на промысел. Женщины помогают им укладывать на нарты капканы, ружья, мясо морского зверя на приманки песцам. Ребятишки с криком бегают вокруг яранг, ловят собак. Схватив за шиворот упрямого пса, волокут его к нарте и ловко набрасывают ему на шею ременную шлейку-алык. Вот и упряжки готовы. Щелкнули в воздухе кнуты, и мы помчались на участки. Мне надлежало показать охотникам новый способ маскировки капканов и применение пахучих приманок. Но вдруг, словно в сказке, все преобразилось. Раздался гул, потом крик: «Стой! Ни с места!» Потом опять чей-то крик: «Брось винтовку, брось!» И вновь, будто в яму проваливаюсь. Звуки постепенно замирают, замирают и затихли совсем. Спустя немного слышу: кто-то тащит меня за ногу, дергает, трясет. Спросонья ничего не разберу. Веки слиплись, не раскрыть, а в голове карусель: стойбище… Пурга… Разбойники… Неожиданно как затрубит над самым моим ухом.

— Эй-й!.. Вставай! Вот дрыхнет!.. Ну и ну!.. — Пусти, пусти, — говорю, силясь приподнять словно налитую свинцом, отяжелевшую голову. — Кого, — говорю, — вам надо? У нас ничего нет. Нас пурга сюда загнала, пурга! Будто сквозь мутную желтоватую перепонку вижу склонившуюся надо мной взлохмаченную незнакомую голову. «Бандит, — бормочу я. — Сейчас нам крышка». Но тут голова мгновенно исчезла и как захохочет, затрубит басом: — Хо-хо! Слышишь, Лена, за кого нас гости принимают? «Что за Лена! — думаю, раскрывая заспанные глаза. — Вот чертовщина!» Мысли мельницей крутятся. Фотографическая карточка… Постой… постой!.. Да это же она, вот! Настоящая, живая! И тут будто ветром сдуло с меня сон. Вскакиваю, оглядываюсь. Мой каюр на кухне, жив и невредим. — Ятынто, ты ли это? — Он чуть не убил нас, — с обидой говорит девушка в лыжном костюме. — В потолок пальнул. Не пускает в дверь, хоть обратно иди. Широкое лицо каюра расплылось в довольную улыбку.

— А ты, товарищ, спишь, как морж на лежбище, — хитро прищурив глаза, заметил мне Ятынто. Он сидел у стола и не спеша прихлебывал из блюдца ароматный плиточный чай. Перед ним на противне лежала гора медвежьих котлет. Их было не менее сотни. — Бери, бери котлеты, — угощала каюра хозяйка. — Нам они приелись. Вчера Борис еще одного медведя повалил. Повадился косолапый в землянку… Через минуту мы с хозяевами пили чай, шутили, расспрашивали друг друга. — Мы теперь новоселы, — улыбаясь, рассказывала девушка. — Километрах в четырых отсюда, у сопки, еще восемнадцать таких избушек-времянок. Целый поселок. Там и главная наша база. Осенью судно-то поздно сюда пришло, льды помешали, не успели весь груз с берега на базу перевезти. Вот и пришлось нам здесь поселиться. Надо же кому-то за оборудованием присматривать. А его под снегом лежит больше половины. Там и катер, и экскаваторы, и бульдозеры, и горючее. Хозяйка подлила каюру горячего чаю и посмотрела в заснеженное окно. — Ну и погодка тут! Мы ходили на базу — своих навестить — и едва обратно пришли. Ветер с, ног валил! Я без привычки совсем обессилела. Хорошо, что Борис был. Наверно, с полкилометра тащил меня на себе. — Она шлепнула мужа ладонью по шее и звонко рассмеялась. — Такой Поддубный хоть двоих утащит. Недаром шахтер. Только квартира нешахтерская. — Ничего, Лена, — пробасил Борис. — Обожди немного. Весной привезут сюда на кораблях настоящие дома. А там, глядишь, через годик–два и город вырастет. Слыхала, сколько в тундре обнаружено угля и ценной руды? На сто лет хватит. А песца, зверя в море? Какова Чукотка, а? За разговорами мы и не заметили, как прошла ночь. Метель давно утихла. Ятынто с Борисом снесли собакам медвежатины. Досыта накормили. Нам время было уже отправляться в путь. Каюр высушил и починил упряжь, очистил от снега нарту… Снова мелькают в море и лунном свете тысячи вздыбленных торосов; так же бежит впереди изрезанный бухтами берег. Иногда он переходит в высокие отвесные скалы с глубокими впадинами у подножий. Наверно, не одну тысячу лет трудилось море, чтобы выдолбить в толще гранита такие огромные ниши! Я подвернул под себя поудобнее ноги, прижался к широкой спине каюра и мечтаю. Хорошо, когда весело поскрипывает нарта, когда ты не жалкая пылинка среди безбрежных снегов, всюду встречаешь друзей!.. — Ярай, ярай, ярай! — подбадривал Ятынто собак.

От знакомых слов, обещающих недалекий отдых и дом, собаки нетерпеливо повизгивают и сильнее налегают на лямки.

В СТРАНЕ ЗВЕРЕЙ
На свете есть страна, хозяева которой не люди, а дикие звери. По своей территории эта страна равна Бельгии. Название ее — Национальный парк имени Крюгера. Этот парк расположен в Южно-Африканском Союзе и носит имя выдающегося патриота и борца против английских колонизаторов — президента Крюгера, по инициативе которого он был создан. Территория парка была объявлена заповедной полвека назад. В то время на этой территории оставалось очень мало крупных представителей африканской фауны — львов, слонов, зебр, носорогов, гиппопотамов, леопардов и других. Поэтому с 1904 по 1927 год в заповедник не допускалась публика. Но вот уже больше четверти века ворота его широко раскрыты для автомобилистов. Впрочем, говорить о воротах тут не приходится. Национальный парк имени Крюгера вообще не имеет ограды. Но звери, нашедшие в нем убежище, редко покидают его территорию, словно понимая, что за его пределами им грозит смерть. Администрация заповедника разработала целую систему мер, которые охраняют посетителей от «хозяев», а «хозяев» — от посетителей. При въезде в парк у всех автомобилистов отбирается огнестрельное оружие. Им запрещается выходить из машин за пределами огороженных лагерей для отдыха. Вскоре после захода солнца ворота этих лагерей запираются и всякому, кто будет обнаружен в парке после этого часа, придется заплатить большой штраф. Однако «хозяева» парка порою даже без приглашения являются навестить своих гостей. Это относится прежде всего к африканским слонам. За последние годы слоновое население заповедника сильно увеличилось — не столько даже за счет естественного размножения, сколько за счет иммиграции из португальской Восточной Африки, с которой граничит страна зверей. Ночью слоны иногда ломают ограды лагерей отдыха и поедают молодые побеги деревьев, которые высятся над домиками. Администрация парка считает африканских слонов наиболее опасными из его обитателей. В отличие от своих индийских собратьев, они обладают крутым нравом и, хотя не нападают первыми, от них лучше держаться подальше: ведь такому слону ничего не стоит растоптать не только человека, но и автомобиль! Что касается львов, то они оказались гораздо более уживчивыми. Зато львы нередко создают трудности для автомобильного движения по дорогам заповедника. Дело в том, что они очень любят целыми семействами принимать солнечные ванны посреди дороги, и убедить их уступить путь автомобилю бывает очень нелегко. Львы охотно дают себя фотографировать, а иной раз попадают на фотоснимки даже помимо желания фотографа. Один из посетителей парка как-то решил сфотографировать жену и детей на фоне густого кустарника. Когда несколько дней спустя семья вернулась в Иоганнесбург, глава ее проявил пленку. Кроме жены и детей, он, к своему удивлению, обнаружил на снимке огромного льва, который преспокойно сосал лапу в тени того же кустарника, но не был замечен фотолюбителем и его семьей. В те месяцы, когда в парке особенно много посетителей, домиков не хватает, и некоторым приходится располагаться в палатках — конечно, в пределах огороженных лагерей для отдыха. Однажды ночью семья, расположившаяся в такой палатке, была разбужена сердитым рычанием. Большая львица, неведомыми путями преодолевшая ограду, терлась о палатку, а зарычала тогда, когда нечаянно ударилась об один из кольев. Львы питаются преимущественно зебрами и антилопами. Однако в связи с запрещением охоты количество травоядных в парке не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается. В настоящее время в заповеднике имени Крюгера насчитывается семнадцать разновидностей одних антилоп. Заповедник завоевал в Южной Африке заслуженную популярность. Хотя он открыт для посещения только с конца мая до середины октября, туда прибывает до 16 тысяч автомобилей в год.(«Нэчюрал хистори»)

Ф. Зубарев АНДРЕЙКА Рассказ
При входе в пролив возвышался черный скалистый мыс. Недалеко от него в Карское море впадает небольшая тундровая речка Унда. В устье этой речки и стояла избушка охотника Тимофея Дулепина. Тимофей перебрался сюда вскоре после возвращения с Великой Отечественной войны. Раньше он жил на побережье Югорского Шара и добывал пушного зверя. Во время войны жена и дети Дулепина при эвакуации попали под вражескую бомбежку и погибли. Придя с фронта, Тимофей не захотел оставаться на прежнем месте, где все ему напоминало о семье. Правление колхоза разрешило ему уехать на освоение нового промыслового района. Район на речке Унде оказался богатый и песцом, и морским зверем, и ценной красной рыбой — гольцом. Всего тут было много. Только работай, не ленись. И Тимофей не ленился. В пургу и мороз ездил на собачьей упряжке в тундру, ставил капканы и ловил песцов, летом стрелял в проливе тюленей, морских зайцев, а осенью, когда голец после жировки возвращался из моря по Унде в озеро, — Тимофей заготовлял рыбу. Работы хватало на круглый год. Только вот место было еще глухое, не обжитое. Не с кем поговорить, посоветоваться. Правда, Дулепин имел радиоприемник, но хотелось лицом к лицу поговорить с живым человеком. А где он? Кругом тундра, холмы, сотни озер да море. Редко кто заглядывал к Тимофею, особенно в долгую полярную ночь. Да и летом гостей было не густо. Разве привернет иногда зверобойная шхуна, чтобы запастись пресной водой, или ботик, застигнутый штормом, заскочит сюда на отстой в устье Унды. Даже корабли, что с грузом шли на Восток, и те избегали прямого пути через пролив. Опасаясь наскочить на подводные камни-валуны, они круто разворачивались у мыса и изменяли курс. — Эх вы, швабры, боитесь! — крикнет, бывало, Тимофей вдогонку кораблям, махнет с досады рукой и уйдет в избушку. Зато радости Тимофея не было конца, когда приезжал к нему на летние каникулы пятнадцатилетний племянник Андрейка. Тимофей не знал тогда, чем и занять гостя. Учил его стрелять гусей на лету, ходил с ним в тундру искать свежие песцовые норы, а когда в них появлялись щенята, они вместе таскали им подкормку. Андрейке нравилась профессия дяди. Особенно его захватывала охота на морского зверя. Уедут в лодке к мысу и посматривают, не покажется ли где усатая голова. Приходилось иногда и страху повидать. Охота на морского зверя — дело ведь не легкое, а подчас и опасное. Всякое может случиться в море. Чуть прозевал, — и беды не оберешься. Однажды тяжело раненного моржа потащило вдоль пролива морским течением на подводные камни-валуны. А в таких местах во время приливов и отливов известно, — водоворот бурлит, крутит… Не успели охотники опомниться, как их лодку втянуло струей между валунов, закрутило и перевернуло. Хорошо, что Тимофей и Андрейка — прекрасные пловцы, и берег рядом, а то бы достались акулам на закуску. И то сказать, просто посчастливилось им, случайная удача выпала. У Тимофея валуны, как бельмо на глазу. Ни кораблям мимо них, ни лодкам не проехать. — Чтоб вас черт, проклятых, разорвал! — ругал Тимофей валуны. Совсем неожиданно, в конце лета, в пролив вошло гидрографическое судно и бросило якорь против зимовья Тимофея. В это время Дулепин стоял в лодке, нагруженной кольями. С ним находился и племянник. Время от времени Андрейка подавал дяде колья, а тот тяжелой березовой кувалдой забивал их в речное дно. Они строили через Унду забор. Это нехитрое сооружение напоминало собой стену с полуметровыми промежутками меж кольев. Посредине забора были ворота. Во время хода рыбы в эти ворота опускалась мерёжа, а ее боковые крылья натягивались и вертикально прижимались к стенке забора. Увидев на рейде судно, Тимофей оставил работу. На судне уже трещали лебедки, скрипели подъемные стрелы, гремели крышки трюмов. Вскоре матросы опустили за борт похожие на низкие баржи моторные плашкоуты. Началась выгрузка. Часа через два на берегу громоздились деревянные балки, толстые плахи, брусья, доски. Рядом лежали ломы, железные скобы, болты и черные, похожие на мины, баллоны. В стороне от них стояли в особой упаковке ящики с надписью: «Крайне опасно!» Эти ящики тут же забрал подскочивший быстроходный катер и умчался с ними в пролив. Вместе с обычным грузом судно привезло продукты и тару Дулепину: из фактории — муку, масло, сахар; из колхоза — пустые бочки для засолки рыбы, а также новый моторный вельбот. Последний плашкоут доставил на берег трактор-тягач с металлическими санями-волокушами. Тягач уже был на ходу. Едва коснувшись земли, он несколько раз чихнул, кашлянул и загремел гусеницами. Весь строительный материал грузчики на тракторе стали перевозить на мыс. Как только перевозка закончилась, плотники принялись за постройку маяка. Они делали на балках всевозможные пазы, шипы, вырезы, затем балки ставили на каменный фундамент искрепляли поперечинами. Для бльшей устойчивости поперечины прибивали не параллельно одну другой, а крестообразно, впереплет. Маяк походил на усеченную пирамиду, на вершине которой была устроена площадка, обнесенная невысоким дощатым бортиком. На площадке маячники установили специальную лампу-мигалку со стеклянным колпаком. От лампы шли к подножию маяка металлические трубы, по которым поступал из баллонов светильный газ ацетилен. Зажженная однажды лампа-мигалка не переставала гореть до тех пор, пока не выгорал весь газ. Строительные работы были закончены. Начальник по установке морских сигнальных огней, в форменной фуражке, в кителе с золотыми пуговицами, зажег ацетиленовую лампу. Внутри стеклянного колпака вспыхнул яркий, ослепляющий свет. В тот же момент раздался оглушительный грохот и треск. Земля вздрогнула, словно от боли. Где-то под обрывом зашумели обвалившиеся камни… Взрывы продолжались минут пять. Вода в проливе кипела, как в котле. К небу взлетали столбы брызг, морские водоросли, глина и огромные осколки от раздробленных валунов. — Ну вот и готово! — спустившись с площадки, сказал начальник. — Нет валунов. Пролив очищен. Теперь, при свете маяка, корабли и ночью его найдут. — А если туман? — неожиданно спросил подвернувшийся Андрейка. — Тогда другое дело, — развел руками начальник и посмотрел на любознательного паренька. — Во время тумана сигналы подаются при помощи сирены. В следующем году здесь тоже будет поставлена «туманная» станция с моторами для запуска сирены. Начальник поправил на голове фуражку. — У нас, товарищи, на Крайнем Севере, — продолжал он, — развертывается большая стройка. День и ночь корабли будут проходить через этот важный пролив. Наш маяк должен работать бесперебойно Начальник подошел к Тимофею Дулепину и попросил его присматривать за маяком. — Маяк этот временный, деревянный и сделан наскоро, — пояснил он. — Мало ли что может случиться. Оторвет штормом на площадке доску и разобьет лампу, — вот тебе и задержка транспорта. А еще хуже, если судно наскочит впотьмах на прибрежную скалу и погибнет. Ты, Андрюша, — улыбнулся начальник Андрейке, — пока не уехал в школу, тоже не забывай мигалку, особенно в отсутствие дяди. Ты ведь, наверно, пионер? Вот и отлично. Значит, договорились. …Приближалась осень. Солнце скупо, словно нехотя, дарило людям свое тепло. Стали пошаливать северные ветры. Нет-нет, да и вынырнут из-за горизонта, будто вспуганные лебеди, одинокие, разрозненные льдины. С каждым днем льдин становилось все больше и больше. Они подступали к островам и однажды, соединившись в ледяное поле, прижались к берегам, замерли. Но пролив, защищенный островами, все еще был свободен ото льдов. Сейчас по нему беспрерывной вереницей ползли караваны кораблей. Они спешили до конца навигации доставить по назначению свои грузы. В ожидании подхода рыбы Тимофей и Андрейка частенько выходили на берег пролива и махали шапками проходившим мимо них караванам. Корабли тоже приветствовали зимовщиков, посылая им ответные гудки. Голец в этом году появился в речке неожиданно. Еще не было ни одного настоящего заморозка, а уж рыба валом валила. Жирные серебристые гольцы, как поленья, бултыхались у стенки забора, отыскивая проход к озеру. Большие и сильные рыбины десятками, сотнями перепрыгивали через препятствие. Крикливые стаи разнообразных чаек-моевок, поморников, бургомистров — носились над речкой, высматривая лакомую добычу. Рыбы хватало всем. Улов был на редкость богатый. Рыбаки едва успевали вынимать из мережи гольцов и разделывать их. План уже был давно перевыполнен, а рыбе, казалось, и конца не будет. Тимофей радовался добыче и, покручивая седеющие усы, хитро подмигивал Андрейке, хлопал его по плечу. — Ну, племяш, живем! Нынче, наверно, и на твою долю трудодней полтораста перепадет. Но в то же время Дулепин с тревогой поглядывал на тощий мешок с солью. Хватит ли? До конца путины, по всем приметам, еще далеко. Ночи стоят темные, рыбные. Голец идет без задержки, дружно и весь, как на подбор, что твоя семга, крупный, жирный. Жаль товар упускать. Люди просмеют. Поразмыслив, Тимофей решил поставить Андрейку на забор, а самому на моторном вельботе съездить в факторию за солью. С отъездом дяди парнишка совсем замотался. Ему и отдохнуть стало некогда. Только успеет вытряхнуть из мережи рыбу, ошкерить ее и засолить, глядь, а в мереже снова гольцы ходуном ходят. Вздремнет Андрейка с полчасика на берегу возле бочек, поплещет на лицо холодной воды, освежится — и снова за дело. В первое время Андрейка побаивался в ночную пору один ездить к мереже. Выйдет из избушки на крыльцо — и оторопь парня возьмет. Непроглядная темень. Ничего не разберешь. Под ногами будто не земля, а черная бездонная пропасть. Постоит, постоит и повернется обратно, в теплую постель, под одеяло. Но, как только посмотрит на мигающий глазок маяка, сразу делается как-то веселее, и страх проходит, и смелости прибавляется. И Андрейка забыл о своем одиночестве. Бывало, в самую глухую полночь столкнет с берега плоскодонку и, как ни в чем не бывало, айда к забору за рыбой. Но однажды ночью с моря неожиданно донеслись тревожные гудки. Андрейка вздрогнул, взглянул на мыс и глазам не верит. Маяк погас! Вокруг нависла черная непроницаемая мгла. «Что с мигалкой? Почему не горит? — терялся парень в догадках. — Может, горелка у лампы не в порядке и газ не поступает?»
Андрейка вспомнил слова начальника и сразу представил себе, какая опасность грозит сейчас кораблям. Без маяка не войти им в пролив. Станут кружить в темноте возле мыса, а там берег крутой, скалистый, наткнутся — вот тебе и несчастье. Бросив мережу, Андрейка повернул лодку обратно, к берегу. У него блеснула счастливая мысль: зажечь фонарь «летучую мышь» и поставить его на площадку маяка.

Прибежав в избушку, Андрейка зажег фонарь, перекинул через плечо дядину двустволку, чтобы веселее было идти, сунул в карман немного тонкой проволоки от балалаечной струны, на случай, если горелка засорилась, и пустился на мыс. Дорога была неровная, с буграми, каменистая и шла в гору. Ночь тоже выдалась — ни луны, ни звезд. На небе висели густые тяжелые тучи. Даже с огнем за два шага впереди не разберешь, что там чернеет: не то камень, не то воронка, вырытая весенними ручьями. После каждого тревожного гудка Андрейка бежал все быстрее и быстрее. — Постойте маленько, постойте, я же сейчас! — обливаясь птом, шептал он тихо гудящим кораблям. А ноги уже устали, не слушаются. Вот-вот парень растянется, запнувшись за камень. В одном месте он упал и чуть не разбил фонарь. От избушки до мыса не было и полкилометра, но Андрейке казалось, что дороге и конца-края нет. Маяк выступил из темноты, будто ночной великан — высокий, черный. Андрейка заметил, что на площадке мигнул огонек. Мигнул и погас. Потом еще встрепенулся, еще, но не со стороны пролива, а со стороны тундры. — Горелка, горелка засорилась, — щупая в кармане проволоку, бормотал запыхавшийся парнишка. Поставив двустволку возле будки с баллонами, Андрейка торопливо полез на площадку маяка. Лестница была неудобная: крутая, узкая и с поворотами. Лезть приходилось боком, согнувшись. Ноги то и дело срывались со ступенек, фонарь задевал за боковые перила, — того и гляди стекло разобьется. А гудки не затихают, ревут… В море, точно светлячки, в разных местах мелькают красноватые огни кораблей. За вторым поворотом лестница стала еще круче. Остановиться бы, передохнуть хоть самую малость. Но парню не до отдыха. Глотая воздух, он карабкался все выше и выше. Дальше еще один поворот, еще ступенек семь–восемь. Андрейка вбежал на площадку и остолбенел: шуба! Кто-то в огромной вывороченной шубе заслонил собою свет маяка и стоит во весь рост, топчется. Парень от изумления раскрыл рот и фонарь из рук выронил, — в глазах зарябило: здоровенный белый медведь! Хищник отпрянул к лестнице и повернулся к выходу задом. Его морда перепачкана кровью. Он испуганно облизывался, чавкал и враждебно косился на непрошеного гостя. Андрейка втянул голову в плечи, трясется весь, дохнуть боится. Все перепуталось. В ушах звон, шум. Куда теперь бежать? Зверь загородил к лестнице дорогу и вот-вот бросится на него. При одной мысли об этом Андрейка похолодел, пот выступил на лбу. Он еще стоял с секунду в напряжении, затем присел и, не спуская с медведя глаз, чуть-чуть попятился и юркнул за стеклянный колпак. Яркий свет мигалки до боли резнул Андрейке глаза. Он пригнулся к полу и вдруг увидел раскиданную по площадке рыбу! Гольцы были ошкерены, в местах разрезов блестела при свете нерастаявшая соль — бузун. Андрейка знал из рассказов охотников, что нередко медведи уносят целых тюленей в прибрежные скалы и там их прячут. Парень чуть не заплакал от горя. Жаль ему стало рыбы. Самый лучший, отборный голец! Что теперь скажет дядя? Ведь он нарадоваться не мог такой добыче. Наверное, всё растаскал и слопал этот косолапый обжора! Забыв и медведя, и опасность, Андрейка торопливо принялся ползать на коленях, собирать раскиданных гольцов и складывать их в кучу. Вдруг хищник глухо заурчал, заворочался у лестницы, а потом как рявкнет и в один прыжок оказался у стеклянного колпака. Медведь порывисто дышал; маленькие сверлящие глаза налились кровью, нижняя черная губа дрожала. «Смерть!» — мелькнуло в мозгу Андрейки. Бросив рыбу, он рванулся к борту, перепрыгнул через Него, уцепился руками за ребро доски и замер, повиснув в воздухе. Медведь подошел к рыбе, обнюхал ее, потрогал лапой, посмотрел по сторонам, принялся жрать. Огромная туша зверя вновь загородила свет маяка. С моря опять понеслись тревожные сигналы. Андрейка поспешно опустился на следующую кромку нижней доски и стал нащупывать носками сапог точку опоры. У него созрел план спуститься с маяка за ружьем и убить или прогнать медведя с площадки. Однако перекладины были далеко, ноги не доставали до них, а прыгнуть на землю — высоко, да и камни там, разобьешься.

Андрейка висел. Шероховатая кромка доски больно резала ему пальцы. В ладони впились тонкие острые занозы. Стиснув зубы, парень не сдавался, терпел. Он напряженно искал способ прогнать хищника от света. Наконец, собрав все силы, подтянулся до уровня верхней доски, сорвал с головы шапку-ушанку и, удерживаясь на одной руке, замахал ушанкой в воздухе. Любопытство медведя взяло верх. Он поднял голову и, втягивая ноздрями воздух, направился к борту. В этот момент шапка, пролетев мимо него, хлопнулась возле спуска с площадки. Хищник, вероятно, принял шапку за нерпичью ласту, до которых, как известно, медведи большие охотники. Андрейка воспользовался этим моментом. Перелез через борт, схватил одного гольца, второго, третьего, четвертого и стал швырять их за борт площадки. Хищник остановился, проследил, куда улетела рыба и, круто повернувшись, направился к выходу. Долго еще слышно было, как косолапый сопел и кряхтел, спускаясь по крутой неудобной лестнице. Мигалка вновь заработала. Яркие лучи ацетиленовой лампы, разрезая ночной мрак, рванулись к проливу. Андрейка только сейчас почувствовал страшную усталость во всем теле. Он еле держался на ногах. Голова кружилась, к глазам подступали слезы. Облокотившись на борт, он с минуту стоял без движения. А в море десятки живых огоньков один за другим медленно ползли к проливу. На душе у Андрейки стало легко; он улыбнулся. Но при мысли, что зверь снова может вернуться на площадку и проверить, не осталась ли еще рыба, он снова встревожился. Медведь не выходил у него из головы. Спускаясь по лестнице, парень то и дело поглядывал вниз: не там ли страшный хищник На последнем повороте Андрейка остановился. До земли оставалось не более трех–четырех метров. Широким кругом лежала бледная тень маяка. Валялись обрезки досок, чурки, горбыли. Возле основания маяка лежали оставшиеся от фундамента каменные плиты, щебень «Куда же ушел медведь? — размышлял про себя Андрейка. — Уж не забрался ли опять в сарай за новой добычей? А может, тут бродит?.. Нет, не видно». Где-то далеко, в тундре, тявкнул два раза песец и смолк Немного погодя прокричала в соседнем озерке горластая гагара, пискнула спросонья на скале за мысом чайка, и опять тишина Но что это? Будто у речки, по направлению избушки, что-то треснуло. Вскоре опять затрещало. «Так и есть, медведь, — решил Андрейка. — Ясно, что в сарае бочку с гольцом ломает». Чуть не кубарем скатился парень с лестницы — и прямо к будке, где находилась заряженная пулями двустволка Из-за будки, словно привидение, вывернулся хищник с гольцом в зубах и встал на дыбы. Захваченный врасплох, Андрейка все же успел схватить ружье, и через несколько мгновений медведь лежал, растянувшись близ маяка, убитый почти в упор.

…Теперь Андрейка уже большой, и не ученик седьмого класса из города Нарьян-Мара, и не Андрейка, а Андрей Викторович, студент-биолог Ленинградского университета. Когда я прихожу его навестить, первым долгом останавливаюсь перед огромной шкурой белого медведя, прибитой к стене над кроватью.

СОВРЕМЕННИЦА ДИНОЗАВРОВ
Представьте себе, что на улице вашего города или села появился живой динозавр. Такое может приключиться только во сне или в научно-фантастическом фильме. И, конечно, никакому ученому не придет в голову разыскивать ныне здравствующих динозавров. Однако многие зоологи мечтают заполучить экземпляр современницы динозавра — рыбы коэлякантус. Коэлякантусы появились ни много, ни мало — 60 миллионов лет назад и считались вымершими вместе с другими чудовищами мезозойской эры. Они были известны науке только по отпечаткам, сохранившимся в отложениях той далекой поры. И вдруг среди ученых распространилась, казалось бы, невероятная весть: коэлякантус преспокойно дожил до нашего времени. Это произошло 22 декабря 1938 года. Траулер, производивший лов рыбы в Индийском океане, зашел в порт Ист-Лондон в юго-восточной Африке. Рыбаки рассказывали, что среди улова имеется огромная рыбина весом свыше 50 килограммов, какой им прежде никогда не доводилось видеть. Этот слух дошел до хранительницы местного музея — Куртнэ-Латимер. Латимер отправилась на траулер, осмотрела и обмерила диковинную рыбу. Длина ее оказалась свыше полутора метров, цвет синевато-стальной. Тело рыбы было покрыто толстой чешуей. Обращали на себя внимание выдающаяся вперед массивная челюсть, а также торчавшие в разные стороны плавники, которые напоминали собой конечности животных. Куртнэ-Латимер не сумела определить, что это за рыба, и сообщила о находке самому известному в Южной Африке знатоку рыб — профессору Смиту. Смит установил, что диковинная рыба — не что иное, как коэлякантус. Находка коэлякантуса представляла огромный интерес для науки. Эта рыба считается ближайшим родичем тех, которые в ходе эволюции сумели приспособиться к условиям жизни на суше и являются предками современных животных и самого человека. Коэлякантуса перевели из разряда ископаемых в разряд ныне существующих рыб и назвали в честь хранительницы музея в Ист-Лондоне — «латимерией». Но первая пойманная латимерия явилась только своеобразным сигналом для ученых: ее не удалось сохранить. Профессор Смит решил во что бы то ни стало заполучить второй экземпляр. Он отпечатал и стал распространять листовки, в которых содержалось подробное описание латимерии и обещание награды тому, кто ее поймает. Однако начавшаяся вскоре вторая мировая война отвлекла внимание от диковинной рыбы. Война окончилась; профессор Смит еще активнее, чем прежде, продолжал свои поиски, но латимерия словно вернулась назад, в девонский период, — больше о ней не было слышно. В 1952 году Смит внезапно получил телеграмму от английского капитана Ханта, который прочел одну из его листовок. В телеграмме говорилось, что в районе принадлежащих Франции Коморских островов (в Индийском океане) поймана рыба, которая подходит под описание Смита. Коморские острова находились в трех с половиной тысячах километрах от южноафриканского города, где жил профессор Смит. В жарком климате пойманная рыба не могла сохраниться долго. Тогда профессор Смит решил просить у главы тогдашнего правительства Южно-Африканского Союза — Малана, чтоб тот предоставил ему военный самолет. Малан был отъявленным врагом передовой науки и не раз выступал против эволюционной теории Дарвина. Однако он, к счастью, не сообразил, что подробное изучение такой рыбы, как коэлякантус, даст новое подтверждение правильности эволюционной теории. К тому же Смит обещал, что если пойманная рыба окажется отличной от латимерии, то он назовет ее в честь Малана. Благодаря этому он получил в свое распоряжение военный самолет и вылетел на Коморские острова Между тем пойманной рыбе угрожало быстрое гниение Рыбак Ахмед Гуссейн, вытянувший ее с глубины свыше 180 метров, не читал листовок Смита и вынес ее на рынок вместе с остальным уловом. Там ее и распознал местный учитель. Врач-француз, по фамилии Гарруст, набальзамировал рыбу еще до прибытия самолета профессора Смита. Исследовав эту рыбу, профессор Смит обнаружил, что она несколько отличается от латимерии, пойманной в 1938 году, и назвал ее в честь Малана — «маланией». Когда обо всем этом стало известно в Париже, известный французский зоолог профессор Мийо поспешил на Мадагаскар, чтобы организовать лов и изучение коэлякантуса на месте (Коморские острова находятся в районе Мадагаскара). Работники научно-исследовательского института в Тананариве (столица Мадагаскара) обнаружили, что коэлякантус давным-давно известен рыбакам Коморских островов, которые зовут эту рыбу «комбесса». О комбессе были сложены различные сказания: говорили, что это рыба-людоед, что она по ночам вылезает на берег, и так далее. Комбесса попадается с сентября по январь на глубине в 150-400 метров. Рыба эта хищная, — в ее желудке находили остатки других рыб. Рыбаки утверждали, что однажды была поймана такая рыба весом свыше 90 килограммов. Когда жители Коморских островов узнали, что за каждую комбессу установлено значительное вознаграждение, все они стали мечтать о поимке нового экземпляра. В сентябре 1953 года это удалось рыбаку Хумаду Хасани. Выехав на ночной лов на своей лодочке, Хасани почувствовал вдруг сильный толчок. Он полагал, что на его крючок попалась акула, и стал медленно подтягивать ее к лодке. После получасовой борьбы рыба показалась на поверхности. Раньше рыбаки обычно убивали больших рыб ударами весла. Так именно поступил в 1952 году Ахмад Гуссейн и при этом сильно повредил коэлякантуса. Хумад Хасани действовал осторожнее и умертвил рыбу, не повредив ее. Вернувшись на берег, Хумад Хасани побежал к дому доктора Гарруста и стал просить его набальзамировать пойманную рыбу. Но Гарруст сначала не поверил рыбаку. Тот рассказал, что рыба коричневая, с белыми пятнами, а Гарруст видел синевато-стальную. По словам Хасани, глаза у его рыбы светились, а у рыбы, которую набальзамировал французский врач, этого не наблюдалось. В конце концов доктор Гарруст все же отправился с Хасани к его домику и сразу же убедился, что рыбак прав. Зная, как важно немедленно доставить рыбу на Мадагаскар, к профессору Мийо, Гарруст вызвал санитарную машину. Но машина не смогла пройти по узким улочкам той части города, где жил Хасани Тогда Гарруст и Хасани сняли дверь с домика последнего и на ней дотащили огромную рыбу до машины. После этого губернатор острова задержал вылет почтового самолета до тех пор, пока не сделали специальный ящик для перевозки коэлякантуса. Затем машина с этим ящиком помчалась на аэродром, причем полиция приостановила движение на поперечных дорогах, чтобы автомобиль скорее добрался до самолета. Благодаря этим мерам профессор Мийо получил рыбу уже через три часа после ее поимки. К этому времени она приобрела синевато-стальную окраску, как и первые экземпляры; исчез фосфорический блеск глаз. Вместе с тем профессор Мийо установил, что плавники ее несколько отличаются от плавников ранее выловленных рыб, а грудные — разнятся даже между собой. В январе 1954 года в том же районе было поймано еще три экземпляра, а затем еще пять. Изучив их, профессор Мийо снова обнаружил наличие характерных особенностей у плавников каждого из них, равно как и различия между плавниками одной и той же рыбы. Он полагает, что это явление позволит ответить на вопрос: как превратились плавники рыб в конечности животных. Вместе с тем Мийо доказал, что между латимерией и маланией нет коренных различий, что это одна и та же рыба. Таким образом, Малану не повезло: предоставив из тщеславия самолет Смиту, он невольно помог утверждению ненавистной ему теории Дарвина и материалистического мировоззрения, а имя его все равно оказалось вычеркнутым из книг по зоологии. В конце 1954 года рыбакам Зема бин Сайду Мухамеду и Мади Бикари удалось извлечь из глубины свыше 250 метров самку латимерии (первые девять оказались самцами). Они решили доставить ее на берег живьем. Им удалось привязать огромную рыбу к лодке, для чего Зема не побоялся засунуть руку ей в пасть. Несмотря на опасность со стороны акул, рыбаки осуществили свое намерение. Рыба прожила несколько часов в полузатопленной шлюпке у берега. Множество жителей видели фосфорический блеск ее глаз, видели, как она плавала, совершая странные, как бы вращательные движения подхвостовым плавником, помогая ему спинным. Ночью рыба чувствовала себя хорошо, но, когда взошло солнце, она забилась в самый темный угол и вскоре издохла, несмотря на то, что на шлюпку натянули тент. Причиной ее смерти явился, видимо, свет и повышение температуры воды. Профессор Мийо написал о коэлякантусах четырехтомный труд и обещает снабдить экземплярами этой рыбы музеи различных стран.(«Нэчюрал хистори»)

В ДЕБРЯХ НОВОЙ ГВИНЕИ
Прошло много десятилетий с тех пор, как великий русский путешественник Н.Н.Миклухо-Маклай отправился к берегам Новой Гвинеи, чтобы изучить на месте быт и нравы первобытных людей, не соприкасавшихся ранее с европейцами. Однако и поныне на этом огромном острове есть обширные районы, где еще не ступала нога «белого» человека. Только районы эти расположены уже не на побережье острова, а в глубине его. Юго-восточная часть Новой Гвинеи, которая со времени окончания первой мировой войны перешла под управление Австралии, изучена еще далеко не полностью. Неисследованные районы находятся в той части территории, которая прилегает к географическому центру острова. В горах центральной части Новой Гвинеи немало почти полностью изолированных друг от друга долин, куда до последнею времени не проникали ни европейцы, ни австралийцы. В 1954 году австралийская воздушная экспедиция обнаружила одну такую долину, о существовании которой ничего не было известно. В дальнейшем туда отправился наземный исследовательский отряд, который установил, что население долины достигает 100 тысяч человек. Жители этой долины принадлежат к племени дуна, родственному племени тари, которое населяет другую долину, находящуюся поблизости от первой. Эта долина открыта еще в 1920 году, но по-настоящему исследование ее началось только в 1952 году, когда туда прибыла австралийская экспедиция, основавшая там постоянный пост. С помощью местных жителей, принадлежащих к племени тари, австралийцы оборудовали в долине посадочную площадку, так что первый вид транспорта, который соединил страну тари с внешним миром, — это воздушный транспорт. Племя тари поддерживало сношения с племенем дуна. Открытие долины дуна стало возможным благодаря сведениям, полученным от тари. В дальнейшем, когда воздушная разведка подтвердила эти сведения, проводник-тари привел австралийцев в долину дуна. 30 тысяч тари ведут такой же образ жизни, как и 100 тысяч дуна. Поэтому то, что стало известно о тари от поселившихся среди них австралийцев, относится в значительной мере и к дуна. Главное занятие этих племен — охота. Мужчины всегда имеют при себе лук, стрелы, каменный топор и костяной кинжал. Тари и дуна знакомы, однако, с сельским хозяйством. Они разводят свиней, имеют огороды, на которых выращивают главным образом сладкий картофель. Несмотря на то, что их страна расположена более чем в полутора километрах над уровнем моря и ночи там бывают довольно холодные, тари и дуна почти не носят одежды. У мужчин вся одежда состоит из узкой набедренной повязки, у женщин — из короткой юбки (такие юбки сплетают из травы). Мужчины заботятся о своей внешности гораздо больше, чем женщины. Они надевают на голову замысловатые парики, многие носят также браслеты из перламутра, а через носовой хрящ продевают кольцо из ужовок (род моллюска), нанизанных на палочку из бамбука. У женщин украшений меньше, на голове нет парика. Они обычно носят на спине большой плетеный мешок, который завязывают тесемками на груди. В мешке бывает самая разнообразная поклажа, иногда мать сажает туда ребенка. Живут тари и дуна в низеньких хижинах, высотою в среднем около 1,2 метра. Во избежание нападения врагов, хижины обычно тщательно замаскированы и нередко окружены сухим рвом. Ночью жители долин наглухо закрывают двери своих жилищ и спят вокруг огня, разведенного прямо на земле. Никакой вентиляции в этих жилищах нет, и спящим приходится вдыхать дым. У тари и дуна есть уже зачатки искусства. Они играют на примитивных бамбуковых флейтах, поют и танцуют. Несмотря на то, что условия горной местности неблагоприятны для сношений между родами и племенами, эти сношения все же поддерживаются; распространен меновой торг. В качестве «денег» используется перламутр, а также свиньи. У тари и дуна нет ни рабства, ни иных форм эксплуатации человека человеком. Однако племена часто враждуют и даже воюют друг с другом по пустяковым поводам. Как и другие первобытные люди, горцы Новой Гвинеи думают, что болезни вызываются колдовством. Это суеверие разжигает раздоры между ними. Другой причиной вражды и войн является кровная месть. Однако «войны» в этих местах носят скорее характер потасовок и не являются кровопролитными. Осыпав друг друга градом стрел, враждующие стороны обычно расходятся в разные стороны — до следующего раза. Часто враждуя между собой, жители ново-гвинейских гор свято соблюдают закон гостеприимства по отношению к пришельцам. Поэтому австралийцы, впервые проникшие в долины, населенные воинственными племенами тари и дуна, не только не подверглись нападению, а наоборот, были приняты дружески и радушно. Без помощи местных жителей им никогда бы не удалось, например, оборудовать посадочную площадку. И сейчас каждый вновь прибывший самолет встречается толпами людей. Взрослые приглашают вновь прибывших посетить свои жилища, охотно показывают свое незамысловатое хозяйство, дети подносят гостям цветы. Живя в своих долинах, словно в «Потерянном мире» Конан-Дойля, тари и дуна, конечно, отстали в своем развитии от передовых народов и даже многих племен Новой Гвинеи. Порою им бывает трудно освоиться с простейшими достижениями цивилизации. Например, когда сооружалась посадочная площадка, начальник австралийской экспедиции передал по радио просьбу прислать в долину тари лопаты. Эта просьба была выполнена, и австралийский самолет сбросил на парашютах партию лопат. Однако тари не сумели воспользоваться ими. Они продолжали копать землю остроконечными палками, какими пользуются у себя на огородах, и носить ее в плетеных корзинках и на банановых листьях. Но это не значит, что горцы Новой Гвинеи не способны к развитию. Наоборот, они быстро освоились с многими полезными новшествами. На своих огородах тари начали разводить томаты, капусту, морковь и другие овощи, которые ранее не были им известны. Несмотря на веру в колдовство как причину болезней, тари стали лечиться у австралийских врачей, прибывших в их долину. Более того, они даже соглашаются эвакуировать тяжело больных на самолетах. До сих пор общение с внешним миром приносило тари и дуна немалую пользу. Но над жителями уединенных горных долин Новой Гвинеи нависла уже страшная угроза. Дело в том, что почва этих долин оказалась пригодной для разведения кофе. И капиталисты Австралии уже поговаривают о том, что надо по-настоящему колонизовать нагорья Новой Гвинеи, устроить там кофейные плантации, чтобы предприятие давало прибыль. А что несут с собой плантации коренному населению, хорошо известно из истории многих других стран и островов, больших и малых. Плантаторы захватывают землю местных жителей, а законных хозяев этой земли заставляют работать на себя за гроши в самых тяжелых условиях. Плантации несут с собой колониальное рабство в худшей его форме. Но, какова бы ни была дальнейшая судьба тари и дуна, они уже внесли, сами того не зная, определенный вклад в борьбу передового человечества за мир и свободу, против колониального гнета. То, что доказал в свое время Н.Н. Миклухо-Маклай, опять подтвердилось на примере Новой Гвинеи. Люди снова увидели, что россказни о «кровожадных дикарях», распространяемые колонизаторами, являются клеветой, что даже самые первобытные люди гостеприимны, честны, радушны и в моральном отношении стоят неизмеримо выше колониальных дельцов. Восприимчивость тари и дуна к достижениям культуры, их доверие к науке и честным ее представителям опровергли и другую клевету колонизаторов. Еще раз доказано, что нет народов «неполноценных», обреченных будто бы на вечную отсталость, а есть лишь народы, отставшие от других в силу неблагоприятных условий своего развития.(«Сьянс эви»)

СЕРДИТЫЕ НОСОРОГИ
Представитель Международного Союза охраны природы — Тальбот — побывал в Индонезии и Индии. Тальбот дал высокую оценку заботам правительств этих стран об охране редких представителей животного мира. Он побывал в заповеднике на острове Яве, где сохранилось около 30 однорогих носорогов, отличающихся необыкновенной свирепостью. При встрече с такими носорогами местные жители спешат забраться на деревья, чтобы не подвергнуться нападению. В Ассаме (Индия) Тальботу пришлось познакомиться поближе с индийским носорогом — также однорогим. Однажды, едучи на слоне, он случайно завидел самку носорога с детенышами. Самка тоже увидела Тальбота и немедленно бросилась на незваного гостя. Слон обратился в бегство, не обращая внимания на погонщика, который не слетел на землю только потому, что успел ухватиться за его ухо. Самка носорога преследовала слона и, пробежав около полукилометра, нагнала его. Индийские носороги обычно не пользуются рогом как оружием — вместо этого они применяют резец. Этим резцом она распорола слону бок, — рана имела в длину около 2 метров. Удовлетворившись этим, самка носорога удалилась, — это спасло Тальбота.(«Сайэнс ньюс леттер»)

Г. Мартынов СЕСТРА ЗЕМЛИ Научно-фантастическая повесть
ОТ АВТОРА
Уже совсем близко подошло то время, когда межпланетные полеты из «дерзкой» мечты превратятся в действительность. Наука и техника семимильными шагами приближаются к осуществлению этой грандиозной задачи. Теперь уже нельзя сомневаться, что на глазах ныне растущего поколения первый космический корабль оторвется от Земли. И, как это всегда бывает, за первым последуют другие, во все возрастающем количестве. И то, что сейчас кажется таким опасным, героическим, превратится в повседневную «текущую» работу науки. Вспомним полюс. Было время, когда достижение этой географической точки казалось далекой мечтой. Несколько веков люди стремились к ней. С огромным трудом, ценой жизни многих отважных исследователей полюс был открыт. Началось его «освоение». Папанинская экспедиция в течение года была в центре внимания всего мира. А сейчас работники Арктического института отправляются на полюс, как в обычную, ничем не примечательную командировку. То же самое произойдет и с межпланетными полетами. Посещение других планет кажется сейчас таким сказочным потому, что оно еще не осуществлено. Но пройдет сравнительно немного времени — и человек, побывавший, скажем, на спутнике Юпитера, не привлечет особого внимания. Мысль стремится вперед. Если бы это было не так, остановился бы прогресс. Как только достигнута очередная цель, человек устремляется дальше, к следующей цели, и то, что недавно казалось заманчивым и необычайным, превращается в обыденное. И это очень хорошо! Запуск советских искусственных спутников Земли показал, что космические полеты — дело ближайшего будущего. Поэтому так велик сейчас интерес ко всему, что связано со звездоплаванием, будь то научный трактат или фантастический роман. Автор далек от мысли, что его повесть даст действительную картину близких уже космических путешествий. Такую картину никто дать не может. Жизнь всегда отлична от вымысла.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ
День двадцатого июня 19… года выдался на редкость хорошим. Небо было безоблачно, и легкий ветерок шевелил разноцветные флаги на чугунной ограде ракетодрома. Поле, тщательно политое ночью уборочными машинами, влажно блестело безукоризненной чистотой. Здание «межпланетного вокзала», также украшенное флагами и убранное внутри и снаружи зеленью, имело праздничный вид, соответствующий торжественному дню. С раннего утра улицы начали наполняться бесчисленными автомашинами. Еще больше их останавливалось за чертой города, плотным кольцом окружая ракетодром. Автобусы, один за другим, непрерывно подвозили все новые и новые толпы москвичей, желавших присутствовать при старте «СССР-КС 3». Сегодня, в шестой раз, советский звездолет должен был улететь с Земли на очередную разведку космоса. Его целью была Венера — «Сестра Земли» — ближайшая наша соседка, куда еще ни разу не ступала нога человека. Рейс звездолета «СССР-КС 2», который проник под облачный покров Венеры, только слегка приоткрыл завесу ее тайн. Предстояло опуститься на поверхность планеты и узнать, наконец, что таится под красивой внешностью утренней звезды. Но задача «СССР-КС 3» этим не ограничивалась. Звездолет, под управлением Белопольского, самого знаменитого, после Камова, звездоплавателя Земли, намеревался опуститься на поверхность одного из астероидов — «Арсены», названный так в честь астрофизика Пайчадзе, первым заметившего эту маленькую планету. Грандиозная экспедиция советской Академии наук вызывала огромный интерес не только среди ученых, но и у широкой публики. К десяти часам, насколько хватал глаз, все окрестности были заполнены гудящей толпой. По шоссе, ведущему из Москвы, было трудно проехать из-за плотных масс любопытных, желавших увидеть участников полета. По нему оставалась узкая дорожка, едва достаточная для легковой машины. Автомобили замедляли ход и буквально «продирались» через эту живую стену. Звездоплавателей встречали громом приветствий. Их легко узнавали по портретам или специального покроя кожаному комбинезону. К одиннадцати часам поток машин стал реже, но никто не уходил с шоссе. Ждали Камова. Все члены экипажа «СССР-КС 3» уже проехали, а он все не появлялся. Москвичи хотели видеть знаменитого конструктора, первого на Земле звездоплавателя, ставшего при жизни легендарным героем. В вестибюле «вокзала» собрались все приглашенные на старт. Члены правительства, сотрудники Космического института, ученые, родные и друзья окружали тех, кто сегодня покидал Землю и отправлялся в далекий, полный неведомых опасностей путь. Белопольский и его заместитель — Борис Николаевич Мельников — стояли у стеклянной двери, ведущей на поле. Возле них были: Ольга Мельникова, Серафима Петровна Камова и сестра Белопольского, совершенно седая старушка — его единственная родственница. Тут же, на одном из диванов, сидел Арсен Георгиевич Пайчадзе, с женой и дочерью. Мельников и Ольга внешне были спокойны. Только бледность и синева под глазами свидетельствовали о бессонной ночи и тяжелом прощании, которое они, не любящие проявлять свои чувства на людях, пережили дома. Белопольский и Пайчадзе были такими же, как всегда. Нина Арчиловна даже смеялась чему-то. Проводы в космический рейс были для нее привычными. Сегодня она провожала мужа в пятый раз. Члены экспедиции, подражая своим руководителям, старались быть такими же спокойными, но не всем это удавалось. — Пора бы! — тихо сказал Мельников, обращаясь к Белопольскому. — Многим тяжело это ожидание. Стрелки часов на стене вестибюля показывали четверть двенадцатого. — Когда же он, наконец, приедет? — спросил Константин Евгеньевич. — На шоссе творится что-то невероятное, — заметил кто-то из стоявших поблизости. — Машину Сергея Александровича могли задержать. Как раз в эту минуту отдаленный гул, все время слышный в открытые окна, резко усилился, перейдя в оглушительный шум, быстро приближавшийся к вокзалу. Очевидно тот, кого ждали, был уже недалеко. В вестибюле произошло поспешное движение. Все расступились, освобождая широкий проход от двери к месту, где стоял Белопольский. Корреспонденты, подняв свои аппараты над головой, пробирались поближе ко входу. Директор института космических исследований, Герой Социалистического Труда — Сергей Александрович Камов — показался на пороге двери в сопровождении президента Академии наук СССР. На мгновение остановившись и жестом руки ответив на дружные аплодисменты собравшихся, он быстрыми шагами пересек вестибюль и подошел к Белопольскому. — Долгие проводы — лишние слезы! — громко, чтобы все слышали, сказал Камов. — На корабль, Константин Евгеньевич! — Мы только вас и ждали, — как всегда, сухо ответил Белопольский. Пайчадзе первый, поцеловав жену и дочь, подошел к нему. Нина Арчиловна, ведя дочь за руку, направилась к лестнице, ведущей на крышу вокзала. Примеру семьи прославленного звездоплавателя последовали и все остальные. Вестибюль опустел. В нем остались только участники полета и члены правительственной комиссии. — Прощальные речи не приняты на наших стартах — сказал Камов. — Скажу коротко: счастливый путь! Он трижды поцеловался с Белопольским и пожал руки всем остальным, не исключая Пайчадзе. (Старые друзья простились утром, еще в городе). Ольга не ушла наверх. Она стояла возле Мельникова, крепко сжимая его руку. Внешнее спокойствие не покидало ее даже теперь, в минуту последнего прощания. Характер Камова, умевшего владеть собой при любых обстоятельствах, сказывался в его дочери. — Оля! — позвал Камов. Она молча поцеловала мужа и подошла к отцу. Всем существом Мельников рвался к ней. Ему хотелось еще раз прижать ее к себе, но он знал, что этого нельзя делать. На него смотрели его товарищи по полету. Он не имел права показывать им пример малодушия. — Поехали! — весело сказал Пайчадзе. — Кто со мной в первой машине? Взяв под руку биолога Коржевского, который казался взволнованнее всех остальных, он вышел на поле, где, в ожидании, стояли две автомашины. До центра ракетодрома было несколько километров. — Вы поедете с нами на площадку? — спросил Белопольский у Камова. — Нет, — Сергей Александрович показал глазами на Ольгу. — Мы посмотрим на ваш отлет с крыши. Он еще раз пожал руку Белопольскому и, кивнув головой Мельникову, ушел наверх. За ним ушли все, кто еще оставался в вестибюле. Участники экспедиции один за другим выходили на поле. Мельников сел в машину последним. Только когда она тронулась и помчалась по гладкой бетонированной поверхности ракетодрома, его нервы пришли в порядок. Уже давно ставшее привычным, спокойствие снова вернулось к нему. Ольга и все, что было с ней связано, осталось позади. Впереди был знакомый старт, полет, просторы Вселенной, близкий его сердцу космический рейс. Он посмотрел на своих спутников. Те, кто улетали с Земли не в первый раз — начальник научной части экспедиции академик Баландин, пожилой, полный, с розовым лицом и длинными поседевшими волосами, и инженер радиотехник Топорков, худощавый человек с резкими крупными чертами немного цыганского лица, казались спокойными. Остальные вызывали в Мельникове сочувствие, — так сильно они волновались. Но он хорошо знал, что ничем, кроме личного примера, не может помочь им. Геолог Василий Романов, механик атомных двигателей Александр Князев и кинооператор Геннадий Второв старались держаться поближе к Мельникову, инстинктивно ища поддержки в его спокойствии, казавшемся им удивительным и непонятным. Встречая взгляд их глаз, тревожных и лихорадочно блестевших, Мельников ободряюще улыбался. Они смотрели на него — заместителя начальника экспедиции — как на старшего и опытного товарища; а давно ли он сам, начинающий звездоплаватель, с мучительным волнением ожидал первого в своей жизни старта, ища поддержки своему мужеству у Камова и Пайчадзе! Прошло всего восемь лет, и вот он должен служить примером другим в начале их «космического пути», передавать дальше полученную от старших эстафету опыта. За восемь лет Мельников сильно изменился. На борт звездолета «СССР-КС 2» он ступил в возрасте двадцати семи лет, но по внешнему виду ему тогда можно было дать двадцать. Теперь это был тридцатипятилетний мужчина, выглядевший старше своих лет. Исчезли юношеская округлость щек, веселый блеск глаз. По краям губ, сжатых в твердую прямую линию, появились первые признаки будущих глубоких морщин, на висках серебрилась седина. С левой стороны лба виднелся длинный шрам — память о трагическом случае на Луне, когда метеорит пробил бак вездехода и вызвал взрыв. Он и Пайчадзе чудом спаслись тогда. На левой руке не хваталоодного пальца — результат падения в лунную трещину, на его счастье оказавшуюся неглубокой. И в тот раз только случайность сохранила ему жизнь. И много других случаев, всегда смертельно опасных, хранила его память. Природа не любит раскрывать свои тайны. Машина остановилась в центре ракетодрома. Вокзал и окружающие его здания казались отсюда совсем маленькими. Во все стороны расстилалось ровное желтовато-серое поле. Чугунная решетка, окружавшая ракетодром, четко проступала на самом горизонте непрерывной черной линией. Видное отсюда целиком, поле казалось грандиознее, чем от вокзала. Оно было пустынно. Только один человек медленно ходил по краю стартовой площадки, где, подобно исполинскому киту, лежал «СССР-КС 3». Это был начальник ракетодрома — инженер Ларин. Как всегда, он последним провожал улетающих с Земли звездоплавателей в их долгий и нелегкий путь. Мельников заметил неведомо откуда взявшуюся тучу и показал на нее Арсену Георгиевичу. — Она нас не задержит, — пошутил Пайчадзе. «Если будет дождь, Оля может промокнуть на крыше», — подумал Мельников. Но эта мысль мелькнула как-то бледно и тотчас же исчезла. Он любил жену, но и она отодвинулась далеко, в покрытую туманной дымкой даль прошлого, осталась в другой жизни, отличной от той, которая ждала его, не имеющей с ней ничего общего. Находясь еще на Земле, он всем своим существом был уже в космическом пространстве. «СССР-КС 3» лежал в неглубокой бетонной траншее. Корабль имел в длину около ста пятидесяти метров и метров двадцать пять в диаметре наиболее широкой части. По форме это была металлическая сигара с острым носом и массивной кормой, которая казалась хаотическим нагромождением различного размера труб и раструбов. Идеально гладкая поверхность звездолета не имела ни одного шва, и было непонятно, как скреплялись его части. Только посередине, почти от носа и до кормы, виднелись две параллельные узкие щели — пазы крыльев. — До свидания, Семен Павлович! — сказал Мельников. — Не задерживайтесь здесь! Уезжайте сейчас же! — Не беспокойтесь! Счастливого пути! Мельников, снова последним, вошел в камеру. — Арсен Георгиевич! — сказал Белопольский. — Возьмите на свое попечение тех, кто летит впервые. Борис Николаевич будет со мной на пульте. — Хорошо, Константин Евгеньевич! Все, кроме Белопольского и Мельникова, прошли внутрь звездолета. Обе двери выходной камеры были открыты. Закрыть их надо было с пульта управления, чтобы ввести в действие автоматику, не позволявшую дверям одновременно быть открытыми. На чужих планетах, с иным составом атмосферы, чем на Земле, такая предосторожность имела жизненное значение. — Я пройду на пульт, — сказал Белопольский. — А вы останьтесь здесь и проверьте, как закрываются двери. Правда, Семен Павлович, конечно, уже проверял, но все-таки… Потом присоединяйтесь ко мне. Не задерживайтесь! — Будет исполнено! — ответил Мельников. Белопольский ушел. Через минуту обе двери с мягким звоном закрылись. Мельников внимательно следил за ходом механизма. Убедившись, что все в порядке, он нажал кнопку. Внутренняя дверь открылась, наружная оставалась запертой. Значит, автоматика работает исправно. Он нажал другую кнопку. Теперь закрылась внутренняя, и через несколько секунд автоматически открылась наружная. Все было как следует. Мельников закрыл наружную дверь и, когда так же автоматически открылась другая, вошел в круглый, как труба, коридор. Он был освещен лампами, прикрытыми толстыми выпуклыми пластмассовыми пластинами. В десяти шагах первый люк был закрыт. Значит, Белопольский, готовясь к старту, уже запер все двери и все люки на звездолете. Мельников подошел к стене, осторожно ступая по мягкой обивке. Открыв дверцу лифта, он забрался в узкую кабину. Она освещалась маленькой лампочкой, дававшей достаточно света, чтобы различать кнопки на щитке. Мельников нажал одну из кнопок. Кабина двинулась вперед и помчалась по стальной трубе. Через несколько секунд вспыхнула на щитке зеленая лампочка, потом желтая. Кабина остановилась. Он почувствовал, как она вместе с ним повернулась, встав почти вертикально, и стала подниматься. Снова загорелась зеленая, затем желтая лампочка. Кабина приняла горизонтальное положение, прошла небольшое расстояние и остановилась. Он открыл дверцу и вышел. Автоматический лифт звездолета работал точно, и Мельников оказался там, где хотел, — на командном пункте, расположенном почти в носовой части. Впереди была только обсерватория. Белопольский сидел перед огромным пультом. На трех экранах, расположенных в его центре, были видны стены стартовой площадки. Два боковых были темными. Мельников окинул взглядом длинные ряды лампочек. Они горели зеленым светом. Это означало, что все помещения корабля готовы к старту. Он сел рядом с Белопольским. Часы, вделанные в пульт, большие часы с секундной стрелкой, бегающей по всему циферблату, показывали без пяти минут двенадцать. — Проверьте экипаж! — приказал Белопольский. Сам он быстро нажимал различные кнопки, и разноцветные лампочки, вспыхивая и погасая, давали ему ответы на эти немые вопросы, обращенные к стенкам корабля, двигателям и приборам автоматики. Мельников включил правый боковой экран, и на нем появился светлый прямоугольник. Потом он увидел внутренность одной из общих кают. В ней находились шесть человек. Они лежали в мягких кожаных «люльках», прикрепленных к стенам резиновыми амортизаторами. Пайчадзе стоял возле своей «люльки» и смотрел в экран. — Готовы? — спросил Мельников. — Готовы, — ответил Пайчадзе. Остальные четверо находились в другой, общей каюте, появившейся на экране, как только Мельников нажал нужную кнопку. — Экипаж готов, — доложил Мельников. — Поднимайте корабль! Мельников повернул окрашенную в синий цвет ручку. Тотчас же он почувствовал, что нос звездолета начал приподниматься. Это было заметно по экранам и изменению направления силы тяжести. Мощные моторы медленно выдвигали две «лапы», которые, упираясь в дно стартовой площадки, немного поднимали переднюю часть корабля для облегчения взлета, тогда как корма оставалась в прежнем положении. Мельников подумал, — с каким волнением наблюдают за тем, что происходило на площадке, все собравшиеся проводить экспедицию. В бинокли, должно быть, хорошо видно, что нос корабля поднялся, а это означает, что через несколько минут звездолет оторвется от земли и в ужасающем грохоте своих двигателей, ослепляющем пламени дюз, со все увеличивающейся скоростью прочертит огненную траекторию и меньше чем через минуту скроется с глаз в голубой бесконечности. — Приготовиться! Во всех помещениях звездолета прозвучал звонок, предупреждающий о старте. Белопольский уверенно и спокойно переставил стрелки на круглых циферблатах; одну — на цифру «2000», другую — на «20». Потом он повернул красную ручку и включил автопилот. Оставалось нажать кнопку пуска — и звездолет отправится в путь с ускорением в двадцать метров и через две тысячи секунд, то есть через тридцать три минуты и двадцать секунд, полетит по инерции со скоростью сорок километров в секунду. — Готов! — отрывисто сказал Белопольский. — Готов! — ответил Мельников. Стрелки часов показывали двенадцать и три минуты. Белопольский нажал красную пусковую кнопку. Чуть заметная дрожь корпуса корабля, через приборы управления, передалась рукам Мельникова. Он хорошо знал, что чудовищный грохот сотрясает сейчас воздух на несколько километров вокруг. Огненный вихрь бушует в узком пространстве между кормой звездолета и стенками стартовой площадки, взлетая вверх клубами черного дыма. Плавится бетон, превращаясь в раскаленную добела жидкую массу. Шестнадцать могучих двигателей работают одновременно, преодолевая тяжесть сотен тонн исполинского корабля. Секунда… вторая… и ощущение повышенной тяжести показало, что звездолет покинул площадку и начал свой ускоряющийся полет. Все быстрей и быстрей… Стрелка указателя скорости неуклонно скользила по циферблату: 20, 40, 60, 80, 100, 120… «СССР-КС 3» поднимался все выше. Корпус перестал дрожать. Часть двигателей прекратила работу. Оставшиеся включенными работали уже спокойно и равномерно. Для тех, кто был на Земле, грохот постепенно утихал, теряясь в воздушных просторах. Двенадцать часов восемь минут… С Земли их уже давно не видно. Звездолет поднялся в самые верхние, разреженные слои атмосферы. Там, внизу, зрители покидают окрестности ракетодрома. Через три месяца они вновь соберутся здесь, чтобы встретить вернувшийся корабль. Ольга, наверное, еще не ушла с крыши вокзала и все еще смотрит вверх, туда, где исчез построенный ее отцом корабль, унесший мужа навстречу неведомой судьбе…

Увидит ли он ее? Вернется ли обратно?.. На экранах голубое небо постепенно темнело, становилось синим, потом фиолетовым. Появились отдельные звезды. Внизу правого экрана виднелся кусочек Земли — туманная масса с ясно видимой кривизной поверхности. Все больше и больше сверкающих точек звезд. Фиолетовый цвет переходил в черный. Распахнулись перед «СССР-КС 3» необъятные просторы Вселенной. Где-то там, среди бесчисленных ярких точек, находится Венера — «сестра Земли» — конечная цель далекого пути. Все быстрее врезается в пустоту стальной корпус. Огненная полоса стремительно отлетает назад. Чуткие невидимые лучи радиопрожекторов несутся вперед, опережая корабль, охраняя безопасность его экипажа. На ленте локационного прибора перо вычерчивает ровную линию. Путь свободен!
БУДНИ ПОЛЕТА
— В конце восемнадцатого века астрономы Боде и Тициус сделали интересное открытие. Чисто эмпирическим путем они нашли числовой ряд, довольно точно выражающий действительные расстояния первых семи планет — Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна и Урана — от Солнца, в радиусах земной орбиты или в так называемых астрономических единицах. Нептун и Плутон в то время были еще не известны. Взяв числа «0; 0,3; 0,6» и так далее, каждый раз увеличивая предыдущее в два раза, а затем прибавив к каждому из них по «0,4», они получили следующий ряд чисел. Астроном, Леонид Николаевич Орлов, повернулся к доске и написал на ней крупным отчетливым почерком:«0,4; 0,7; 1,0; 1,6; 2,8; 5,2; 10,0; 19,6».Левой рукой он крепко держался за укрепленную в стене ременную петлю, но при каждом нажиме мела на доску его тело отклонялось в сторону и приходилось подтягиваться обратно. Писать в условиях невесомости было трудно, но за прошедшие десять дней Орлов приобрел некоторый опыт. По поручению Пайчадзе, он уже три раза читал членам экспедиции небольшие лекции. Сегодняшней темой была «Арсена», к которой приближался «СССР-КС 3». — В этом ряду, — продолжал астроном, — обращает на себя внимание одно странное обстоятельство. Если первые четыре цифры соответствуют расстояниям Меркурия, Венеры, Земли и Марса, то Юпитер почему-то попадает не на пятое место, а на шестое, Сатурн — на седьмое, а Уран — на восьмое. Закономерность, которая не может быть случайной, нарушается. Пятая цифра ряда — 2,8 — выпадает. Планеты, находящейся на таком расстоянии, не существует. Получается как бы разрыв между Марсом и Юпитером. Как я уже говорил вам, в этом месте солнечной системы расположен пояс астероидов, крохотных планеток, размером от 770 километров в диаметре; астероид Церера — до одного километра. В настоящее время нам известно несколько тысяч астероидов. Большинство из них имеет резко выраженную неправильную форму. Естественно, возникло предположение, что в далеком прошлом между Марсом и Юпитером существовала еще одна планета, по неизвестной причине распавшаяся на части, и что астероиды — обломки этой планеты. Окончательное доказательство наука, может быть, получит после того, как мы с вами побываем на Арсене и обследуем ее. Мне остается рассказать вам о том, что представляет собой Арсена. Ее диаметр в наиболее широкой части равен сорока восьми километрам, и, по-видимому, этот астероид состоит из железа и гранита. По размерам Арсена равна астероиду Ганимед, открытому астрономом Бааде в 1924 году. Масса Арсены меньше массы Земли почти в тридцать два миллиона раз, и, следовательно, сила тяжести на ней составляет всего одну двести восемьдесят восьмую земной тяжести. Человек, весящий на Земле семьдесят килограммов, на Арсене будет весить приблизительно двести сорок пять граммов. При таком малом весе достаточно сделать легкое усилие, чтобы подняться на значительную высоту. Ходить по Арсене будет очень трудно. — Нам помогут магнитные подошвы, — вставил инженер Зайцев. — Но даже с ними придется быть осторожными. Мускульная сила человека чрезмерно велика для таких условий. — Научимся быстро, — сказал Князев. С оптимизмом юности он все считал очень простым и легко выполнимым. В красном уголке звездолета собрались почти все участники экспедиции. Шарообразное помещение было лишено мебели. Кроме телевизионного экрана, непременной принадлежности всех кают на корабле, в нем ничего не было. Мягкие стены были обиты кожей голубого цвета. Для проведения лекции в красный уголок принесли небольшую черную доску. Она «висела» на стене, ничем к ней не прикрепленная. Лектор и его слушатели находились возле этой доски, в разнообразных позах, прямо на воздухе. Звездоплаватели успели уже привыкнуть к отсутствию веса и чувствовали себя вполне уверенно, но некоторые все же держались за ременные петли. Странно выглядела эта группа людей, непринужденно расположившаяся без всякой опоры в центре пустого шара. Электрический свет освещал их одновременно со всех сторон. Лица и фигуры казались плоскими; отсутствие на них теней уничтожало рельеф лица и одежды. Космический корабль казался неподвижным. Ничто не указывало на умопомрачительную быстроту, с которой мчался «СССР-КС 3» в безвоздушном пространстве. — Когда мы прибудем на Арсену? — спросил Андреев. — Через пятьдесят часов. По земному календарю, второго июля, между одиннадцатью и двенадцатью часами. — И пробудем на ней?.. — Приблизительно часов двадцать. Этого времени должно хватить на выполнение намеченного плана работ. Но может случиться, что мы найдем что-нибудь интересное. Тогда, возможно, задержимся. — А Венера? — спросил Князев. — Не убежит от нас? Орлов улыбнулся приятной, словно освещающей все лицо, улыбкой. — Скорость Венеры по орбите, — сказал он, — на пять километров меньше, чем скорость «СССР-КС 3». Это во-первых. А во-вторых, траектория нашего полета зависит от нас самих. Ее можно изменить и встретиться с планетой в какой-нибудь другой, более выгодной точке. Мы будем на Венере десятого июля, при любых обстоятельствах. Раздался негромкий звонок. Засветился экран, и на нем появилось лицо Игоря Топоркова — радиотехника корабля. — Константин Васильевич здесь? — спросил он. Зайцев подтянулся с помощью ремня ближе к экрану. — Зайдите на радиостанцию, — сказал Топорков. — Вас вызывает Земля. Зайцев слегка оттолкнулся от стены и подплыл в воздухе к двери. Нажав кнопку, он сдвинул в сторону круглую крышку люка и «вышел» в коридор. Чуть касаясь руками стен, он быстро плыл, как фантастическая воздушная рыба, к носу звездолета. Радиостанция помещалась рядом с рубкой. Это была небольшая каюта, такая же круглая, как и все помещения корабля, но обитая не кожей, а бархатом. Приемник и передатчик занимали больше половины ее объема. Собственно, радиостанция была невелика, она работала на полупроводниках, но много места занимали мощные усилители, для передачи и приема радиограмм на расстояние миллионов километров. Связь с Землей осуществлялась на сверхультракоротких волнах, которые по пути от корабля к Земле и наоборот проходили через промежуточно-усилительные станции, находящиеся на искусственных спутниках Земли. Такие станции были необходимы, так как слой Хевисайда настолько ослаблял сигналы, что без усиления они никогда не дошли бы по назначению, несмотря на жестко направленные антенны. Космическая радиосвязь впервые была применена во время полета на Луну экспедиции Белопольского — Пайчадзе и теперь проходила окончательные испытания. Все станции — земная, корабельная и находящиеся на спутниках — были сконструированы при непосредственном участии Топоркова, и он сам проводил испытания в обоих рейсах. Члены экспедиции ежедневно имели возможность поговорить со своими близкими. До сих пор связь не прерывалась и, по расчетам Топоркова, не должна была прерваться до самой Венеры. Будет ли она действовать с поверхности планеты, через ее атмосферу, сказать, конечно, было нельзя. Венера находилась ближе к Солнцу, чем Земля, и интенсивность солнечных радиации в верхних слоях ее атмосферы должна быть во много раз более сильной. Смогут ли радиоволны пробить безусловно существующий на Венере ионизированный слой, как они это смогли сделать с земным, покажет будущее. Когда Зайцев, убедившись предварительно, что над дверью горит зеленая лампочка, «вошел» в каюту, у аппарата находились Топорков и Мельников. Борис Николаевич только что поговорил с Ольгой. Топорков протянул Зайцеву микрофон. — Ваши жена и сын ждут вас. — Константин Зайцев у телефона, — сказал инженер, рассмешив этой фразой обоих своих товарищей, и спокойно положил микрофон в специальное гнездо. Ответ мог прийти только через семь минут. За десять суток звездолет пролетел свыше тридцати пяти миллионов километров, и сейчас его отделяло от Земли расстояние в шестьдесят миллионов. Земля не стояла на месте, а удалялась в противоположную сторону. «СССР-КС 3», используя притяжение Солнца, летел к Венере по направлению, обратному движению Земли по орбите, навстречу ее «сестре». — Звук очень ослабел, — озабоченно сказал Топорков. Зайцев и Мельников посмотрели друг на друга и рассмеялись. Каждый день они слышали эту стереотипную фразу. Игорь Дмитриевич болезненно переживал ослабление звука, неизбежное с увеличением расстояния, и ему всегда казалось, что станция работает хуже, чем было на самом деле. Он часами возился с ней и всегда был недоволен ее работой. — Придется поставить дополнительные генераторы. — Пока в этом нет нужды, — возразил Мельников. — Радиосвязь работает бесперебойно и достаточно хорошо. Подождем. Он знал, что если дать Топоркову волю, то задолго до прилета на Венеру станция останется без всяких резервов мощности, а их следовало сохранить. — Хотя бы один! — Нет! — Мельников постарался придать своему голосу как можно больше строгости. — Я запрещаю вам это делать. Что вы выдумываете, Игорь Дмитриевич? — добавил он более мягко. — Я только что говорил с Землей и прекрасно все слышал. Семь минут, наконец, прошли, и Зайцев, надев наушники, выслушал все, что хотели ему сказать жена и сын. Проговорив ответ, он вместе с Мельниковым вышел из каюты. Время было ограничено, и членам экспедиции разрешалось обмениваться со своими родными только одной фразой. Место у микрофона уже занял профессор Баландин. Радиосвязь доставляла звездоплавателям много радости. Сознание оторванности от Земли меньше угнетало людей, имевших возможность услышать голос близкого человека. Все, что происходило на Земле и на звездолете, сразу становилось известным. Краткий перечень событий в СССР и других странах передавался с Земли автоматической передачей, не задерживающей разговора. «Космическая газета» ежедневно вывешивалась Топорковым в красном уголке. — Борис Николаевич! — сказал Зайцев, когда за ними закрылась дверь станции. — Разрешите мне и Князеву выйти из корабля и осмотреть дюзы. — Зачем это? — На всякий случай. Ведь предстоит торможение при подходе к Арсене. — И вы еще смеетесь над Игорем Дмитриевичем! — улыбнулся Мельников. — А сами… Ничего с дюзами не случилось. Осмотр произведете, когда корабль будет стоять на Арсене. — Слушаюсь! — хмуро ответил Зайцев. В кабине лифта, переносящего его в другой коридор, Мельников думал об этом разговоре. Какие люди! Каждый из них готов работать без отдыха, чтобы все было в порядке и «СССР-КС 3» совершил свой рейс на Венеру и обратно «без сучка и задоринки». С такими помощниками было одно наслаждение работать, но их приходилось все время удерживать от излишней траты сил, не оправдываемой необходимостью. Выйдя из лифта, Мельников направился к рубке управления. Ярко освещенные коридоры были пустынны и безмолвны. Тишина, царящая на звездолете, никогда не нарушалась. Двенадцать человек не могли заполнить исполинский корпус корабля, и невольно казалось, что в нем никого нет. В первые дни это было неприятно, но постепенно люди привыкли. Звездолетом управлял автопилот. Войдя в рубку, Мельников внимательно прочитал записи всех приборов. Лента локатора показала, что за несколько минут до его прихода на расстоянии трех тысяч километров пролетел небольшой метеорит, исчезнувший задолго до того, как звездолет достиг этой точки. Направление полета не изменялось. Привычно нажимая нужные кнопки, Мельников проверил состояние всех частей корабля. Разноцветные лампочки давали успокоительные ответы. Все было в порядке. Он заметил, что в каюте номер восемь открылась дверь — соответствующая ей лампочка загорелась красным светом, и подождал, чтобы она закрылась. Но прошла минута, а красный свет не сменялся зеленым. Тогда он включил экран и соединил его с восьмым номером. Появилась внутренность каюты. Геолог Василий Романов находился в ней. Услышав звонок вызова, он повернул голову. — Почему не закрыли дверь? — спросил Мельников. — Виноват, товарищ начальник! — Делаю вам замечание. В космическом рейсе рассеянность недопустима. Геолог метнулся к двери с такой стремительностью, что, вероятно, больно ударился о раму. Мельников улыбнулся и выключил экран. Хотя «СССР-КС 3» почти не угрожала опасность со стороны метеоритов, на нем свято соблюдался закон космических рейсов — все двери и люки всегда должны быть герметически закрыты. Из рубки Мельников направился на обсерваторию. Она занимала всю носовую часть звездолета. В противоположность другим помещениям, не имевшим никаких внешних отверстий, здесь были широкие окна-иллюминаторы. Они закрывались снаружи пластмассовыми щитами. Многочисленные астрономические инструменты, вычислительные машины новейшей конструкции, тут же помещавшаяся фотохимическая лаборатория, — все это оставляло мало свободного места. Пайчадзе и Второв возились у спектроскопа, Орлов приник глазом к окуляру рефрактора; Белопольского не было. — Где Константин Евгеньевич? — спросил Мельников. — Сейчас придет, — ответил Пайчадзе, не оборачиваясь. Здесь царила атмосфера напряженного труда. Не желая мешать астрономам, Мельников подошел к окну и, нажав кнопку, отодвинул в сторону закрывавшую его плиту. Знакомая, много раз виденная картина звездного мира раскинулась за бортом. Неподвижными точками горели вечные огни Вселенной. Туманная вуаль Млечного Пути неясно проступала на «самом горизонте». Прямо перед собой Мельников увидел висящий в пространстве косматый, с огненными выступами протуберанцев, ослепительно сверкающий шар Солнца. Звездолет летел повернувшись к нему правым бортом. Из всех зрелищ, которыми богато одаряла звездоплавателей Вселенная, зрелище висящего в пустоте Солнца было самым поразительным. Человек привык видеть его диск у себя над головой или перед собой, на горизонте. Но с борта корабля картина была совсем иной. Солнце казалось светившим снизу. Хотя на звездолете не было четкого ощущения, где «низ» и где «верх», невозможно было отделаться от впечатления, что корабль находится выше Солнца. Почему это так происходило, было непонятно, но все члены экипажа поддавались этому странному обману зрения. Мельников посмотрел назад, стараясь увидеть Землю, и вскоре нашел ее. Крупная голубая звезда сияла спокойным светом. Рядом с ней желтым огоньком виднелась Луна. Очень красива была эта звездная пара, казавшаяся отсюда самой крупной и яркой из всех видимых звезд. Там, на этой затерявшейся в просторах Вселенной, трудно находимой точке, было все, что составляло смысл жизни экипажа «СССР-КС 3». И там же была Ольга…
АРСЕНА
2 июля 19… года «СССР-КС 3» приблизился к месту, где должна была состояться встреча с астероидом. Накануне Пайчадзе удалось найти Арсену и произвести наблюдения за ее движением. Электронносчетные машины в несколько минут произвели сложнейший расчет траектории маленькой планетки и подтвердили, что встреча произойдет сегодня, около двенадцати часов по московскому времени. Без этих машин подобный расчет потребовал бы нескольких месяцев напряженной работы доброго десятка вычислителей. С самого «утра» Белопольский и Мельников находились на пульте управления, готовясь к ответственному маневру. Посадку космического корабля на астероид еще ни разу никто не производил. В десять часов весь экипаж находился на своих местах. Зайцев, Топорков и Князев, под руководством профессора Баландина, готовились в нужный момент сбросить на Арсену электромагнитные якоря. Пайчадзе, Орлов и Второв были на обсерватории, следя за планетой и сообщая на пульт о ее местонахождении. Остальные собрались в резервной рубке и могли в экраны наблюдать за «приземлением». «СССР-КС 3» находился в ста пятидесяти шести тысячах километрах от намеченной точки встречи, когда были включены двигатели для торможения, с отрицательным ускорением в пять метров. Через один час и сорок минут быстрота полета снизится до десяти километров в секунду и будет немного меньше, чем скорость Арсены. Когда планета догонит звездолет, он увеличит скорость и, в свою очередь догоняя планету, опустится на нее. Таков был план спуска на астероид, составленный еще на Земле. Теперь предстояло осуществить его на практике. Неслышно для экипажа работали могучие двигатели корабля, гася медленно и постепенно его космическую скорость. Только стрелки приборов, да еще появившаяся тяжесть указывали, что торможение происходит. В помещениях, где находились люди, не слышно было ни одного слова. Все молчали, охваченные волнением. Это был не страх, экипаж верил в знания и опыт командира корабля, а другое, более сильное чувство — благородное волнение исследователей. Нога человека еще никогда не ступала ни на один из астероидов, таящих в себе тайну «пятой планеты» и ее гибели. Посещение людьми Арсены могло приподнять завесу этой тайны. В молчаливом ожидании медленно текли минуты. Звездолет, неуклонно замедляя скорость, приближался к цели. А с другой стороны, к той же невидимой точке с равномерной, веками неизменной скоростью летела исполинская глыба железа и камня, когда-то давно бывшая частью такой же планеты, как Земля или Марс. И, кто знает, может быть, была на этой планете и жизнь, были растения, животные, а возможно, и разумные существа, уничтоженные ужасающей космической катастрофой, причины которой могли навсегда остаться неизвестными. Перед глазами Белопольского и Мельникова на экране пульта была темная бездна с бесчисленными точками немигающих звезд. Где-то между ними, ярко освещенная Солнцем, находилась Арсена, которую еще нельзя было увидеть невооруженным глазом. Через каждые три минуты из обсерватории сообщали расстояние до планеты. Все шло пока нормально. Звездолет и астероид сближались «по плану». Но вот Белопольский протянул руку и указал на крохотную блестящую звездочку, появившуюся на экране. Наблюдая за ней в течение нескольких минут, Мельников убедился, что она заметно увеличивает свой блеск. Это была Арсена. Постепенно она сдвигалась к краю экрана, и, чтобы следить за ней, пришлось включить боковой. Но вскоре планета исчезла и с него. Звездолет летел теперь впереди. Белопольский поворотом газовых рулей постепенно изменил направление полета, и «СССР-КС 3» лег на орбиту планеты. Двигатели замолкли, и корабль летел по инерции со скоростью десяти километров в секунду. Солнце очутилось прямо по носу, и пришлось выключить центральный экран. Арсена догоняла корабль и через три минуты должна была оказаться в непосредственной близости. Наступал решительный момент. Мельников длительным звонком предупредил экипаж. Как только на экране показался неровный, ломаный край астероида, включили на малую мощность один из двигателей. Звездолет полетел чуть быстрее, заметно приближаясь к поверхности Арсены. Подход к планете был осуществлен блестяще, со свойственной Белопольскому математической точностью. Теперь нужно было так же точно совершить спуск. Все ближе и ближе — и вот уже весь экран заполнила громада астероида. Мельников разглядел ровную площадку на одной из скал, достаточно большую, чтобы на ней мог поместиться корабль. Очевидно, и Белопольский увидел ее. Он быстро нажимал кнопки управления двигателями и поворачивал ручки газовых рулей. Каждую секунду могло произойти столкновение с многочисленными вершинами острых пиков… До боли сжав зубы, Белопольский впился взглядом в экран. Профессор Баландин всматривался через оптическую систему в медленно плывущую внизу панораму скал, пропастей и узких бездонных трещин. Он не видел ни одного места, на которое мог бы опуститься корабль длиной в сто пятьдесят метров, а вместе с тем по движению корабля чувствовал, что командир нашел такое место. Высота полета неуклонно уменьшалась. В нескольких шагах, готовые сбросить якоря и дать в них ток, застыли у своих аппаратов Топорков, Зайцев и Князев. Могло показаться странным, что звездолет, находясь так близко от «земли», не падает на нее. Но «СССР-КС 3» летел с огромной скоростью, и, пока ни одна из его частей не коснулась планеты, его движение оставалось независимым от нее. Тяготение между Арсеной и кораблем было слабо и не мешало маневрированию. В ту самую секунду, когда Баландин заметил, наконец, ровную площадку среди утесов, раздался резкий, отрывистый звонок сигнала. Три кнопки были нажаты одновременно, и сжатый воздух с силой выбросил из корабля три якоря, которые, разматывая за собой толстые тросы, помчались вниз. (Членам экипажа невольно казалось, что Арсена находится «внизу», но ее, на равных основаниях, можно было считать и «наверху».) По команде Баландина был включен ток, и мгновенно возникшая сила электромагнитов плотно прижала якоря к грунту. «СССР-КС 3» медленно опустился под действием собственной тяжести и неподвижно замер на площадке, образованной на одной из скал капризом природы. Экипаж стал готовиться к выходу. Группа состояла из шести человек: Мельникова, Баландина, Романова, Второва с неизменным киноаппаратом, Топоркова с радиоприборами для геологической разведки и Коржевского. Остальные пока остались на корабле. Планета представляла собой хаос скал, и воспользоваться вездеходом не было никакой возможности. Под черным небом, усеянным звездами, всюду, куда бы ни обращался взгляд, были острые изломанные выступы, чернели глубокие ущелья, зияли пропасти, отвесно вздымались изрезанные трещинами склоны серо-стальных утесов. Освещенные Солнцем места казались белыми; в тени был густой мрак. Никаких полутеней, как и следовало в этом мире, лишенном даже намека на атмосферу. Контрасты белого и черного цвета резали глаз четкой определенностью границ. Суровой красотой веяло от этой картины мертвого покоя. — В сравнении с Арсеной даже Луна могла бы показаться веселой, — заметил Баландин. Участники экспедиции одевались с помощью товарищей в «пустолазные» костюмы. Они были сделаны из плотного гибкого материала, покрытого металлическими пластинками, и представляли собой одно целое, исключая шлема, который надевался отдельно, как у водолазов. В очень толстых подошвах были вделаны сильные электромагниты, соединенные проводами, идущими внутри костюма, с аккумуляторной батареей из полупроводниковых элементов. Батарея вместе с баллонами сжатого кислорода и приемно-передающей радиостанцией помещалась в наспинном ранце. На груди был расположен маленький щиток управления, а на шлемах — небольшой прожектор. Под эти костюмы звездоплаватели надели «астронавтокожу». Так называли упругое трико, надевавшееся прямо на тело, и закрывавшее голову, оставляя свободным только лицо. Трико было сделано из особой, сильно сжимающейся, не проницаемой для воздуха ткани, которая равномерно давила на всю кожу тела, заменяя этим обычное атмосферное давление, необходимое для человека. В случае повреждения пустолазного костюма «астронавтокожа» предохраняла тело от разрыва внутренним давлением[138]. Пустолазный костюм был очень тяжел, и на Земле в нем было бы трудно передвигаться, но здесь он почти ничего не весил. Сила тяжести на Арсене была ничтожна. Внутри шлема были вделаны микрофон и миниатюрный динамик, — «пустолазы» могли говорить с кораблем и друг с другом на очень большом расстоянии. Белопольский лично проверил костюм каждого и разрешил выход. Один за другим, все шестеро прошли в выходную камеру. Закрылась внутренняя дверь, и насосы быстро удалили воздух. Каждый доложил Мельникову, что подача кислорода в шлем идет нормально. Тогда он нажал кнопку. В четырех метрах под ними была девственная почва, на которую никогда не ступала ничья нога. — Борис Николаевич! — обратился к Мельникову Баландин. — Вам принадлежит право первым вступить на планету. Вы самый старый звездоплаватель среди нас. Мельников подошел к краю двери. Василий Романов ожидал, что будет установлена лестница, но, к его удивлению, заместитель начальника экспедиции просто сделал шаг в пустое пространство. Его огромная, в костюме, фигура стала медленно опускаться вниз. Прошло не менее четырнадцати секунд, пока это странное «падение» окончилось. Молодой геолог вспомнил лекцию Орлова об Арсене и понял, в чем дело. Притяжение планеты было так мало, что Мельников падал с ускорением всего 36 миллиметров в секунду. Вторым прыгнул Второв. Он торопился заснять на пленку выход из корабля его экипажа. Затем на Арсену спустились и все остальные.

Стоять тут было очень трудно. При малейшем движении люди теряли чувство равновесия и качались в пустоте, словно здесь бушевал сильнейший вихрь. Они поспешили включить ток в подошвы. Железистая почва планеты хорошо притягивалась электромагнитами, и люди обрели устойчивость. Чтобы сделать шаг, приходилось даже напрягать мускулы ног. Опасность взлететь высоко вверх при неосторожном движении больше не угрожала. Согласно ранее разработанному плану, разбились на две партии. Профессор Баландин, Романов и Топорков занялись установкой аппаратов для радиогеоразведки. В их задачу входило определение состава внутренних пород планеты. Мельников, Коржевский и Второв должны были произвести рекогносцировку местности. Едва они отошли от корабля, как прямо перед ними, в трех шагах, беззвучно ударился о скалу метеорит. Вспышка огня отметила место его падения. Все трое невольно остановились. Одна и та же мысль мелькнула у всех, — а что, если бы метеорит попал в кого-нибудь? Радиопрожекторы звездолета были выключены. При неподвижном положении корабля они были совершенно бесполезны. Избежать встречи с метеоритом, даже зная, что он приближается к Арсене, было невозможно. — Пошли дальше! — сказал Мельников. На краю площадки, круто обрываясь вниз, чернела глубокая пропасть. Противоположный край находился в ста метрах. Обойти ее было негде. Пропасть тянулась, сколько хватал глаз, теряясь вдали в нагромождениях скал. — Придется идти в другую сторону, — сказал Коржевский. — Выключить магниты! — приказал Мельников. — Прыгать, как будто ширина один метр. На той стороне сразу включить магниты обратно. Я прыгаю первым. — Одну секунду! — сказал Второв. — Ваш прыжок надо заснять. Мельников повернул ручку на щитке, выключая ток, и, присев, прыгнул вперед. Его тело взвилось над пропастью и перелетело через нее с непостижимой легкостью. Затаив дыхание Коржевский и Второв видели, как на той стороне Мельников ударился о скалу и медленно скользнул по ней на ровное место. Они ясно слышали его прерывистое дыхание. — Сильно ударились? — спросил Второв. — Да, очень сильно, — ответил Мельников. — Даже в голове звенит. Прыжок был слишком резким. Прыгайте совсем слабо. По-земному — на один шаг. — Осторожнее! — раздался в их шлемах голос Белопольского. — Борис Николаевич, — прибавил он, — может быть, вам лучше вернуться на звездолет? — Нет, — ответил Мельников. — Я не пострадал. Впредь буду осторожнее. Ну, что же вы? — обратился он к своим спутникам, видя, что они не двигаются с места. — Страшновато! — сказал Коржевский. Было психологически трудно решиться на подобный прыжок. Дно гигантской пропасти находилось неведомо где. Казалось немыслимым, что, сделав легкое усилие, можно перепрыгнуть стометровое расстояние. Сознание, привыкшее к земным масштабам, отказывалось верить тому, что только что видели глаза. — Смелее! — услышал Коржевский голос Пайчадзе. Биологу стало стыдно. Товарищи видят из корабля его страх. Он отступил на шаг и прыгнул, сколько хватало сил. — Что вы делаете? — услышал он крик Второва. Но было уже поздно. Коржевский, как камень, выпущенный из пращи, летел через бездну. На размышление не было времени. Мельников сделал первое, что пришло ему в голову, — подпрыгнул и поймал товарища на лету. Коржевский почти ничего не весил, но и Мельников весил не больше. Удар получился сильный. Оба отлетели назад и, упав, покатились по «земле». — Я же вам сказал! — воскликнул Мельников, поднимаясь на ноги. — Прыгайте на один шаг, а вы… — он вспомнил свой собственный прыжок и закончил уже другим тоном: — Надо слушать, что говорят. — Извините! — робко сказал Коржевский. — Я постараюсь не повторять такого промаха. Вы сильно ударились из-за меня? — Прыгайте, Второв! — крикнул Мельников. От пережитого волнения он забыл, что кричать ни к чему. Радиоустановки в их шлемах и так работали достаточно громко. Прыжок инженера оказался гораздо удачнее, чем у его товарищей. Он мягко опустился рядом с Мельниковым. — Молодец! — раздался голос Пайчадзе. — У меня сердце замерло, когда вы прыгнули, — сказал Второв. — Хорошо, что Борис Николаевич догадался перехватить вас. Вы могли разбить стекла шлема. — Я тоже подвергнулся этой опасности, — миролюбиво сказал Мельников. — Пошли дальше! Но идти, собственно, было некуда. Со всех сторон вздымались почти отвесные скалы. Мельников смерил взглядом их высоту. — Метров шестьдесят, — сказал он. — На Луне я быстро научился соразмерять силы с расстоянием. Тут требуется известное воображение. Надо представить себе, что высота меньше во столько раз, во сколько меньше сила тяжести. Шестьдесят метров на Арсене — это то же самое, что четверть метра на Земле. На всякий случай возьмём чуть больше. Он присел и подпрыгнул. Эффект получился совершенно непредвиденный. Мельников взлетел вдвое выше, чем следовало. На мгновение он повис на стометровой высоте и медленно стал падать на вершину утеса. Он видел внизу широкую панораму скал Арсены, ограниченную до странности близким горизонтом, а прямо под собой — крохотные фигурки своих спутников. Казалось, совсем рядом с ними ослепительно блестела под лучами Солнца «крыша» звездолета. Скорость падения постепенно возрастала. Мельников с тревогой думал — попадет ли он на вершину утеса? На Земле он давно бы разбился. Он падал уже секунд десять, но все еще находился на большой высоте. В шлеме раздавались взволнованные голоса товарищей, следивших за его «полетом». — По-моему, он опустится на самый край вершины, — услышал Мельников голос Баландина. — Я тоже так думаю, — ответил ему Белопольский. — Насколько можно судить по экрану, Борису Николаевичу придется падать метров пятьдесят — шестьдесят. Это займет около минуты. — А он не разобьется? — спросил Второв. — Нет. Скорость в конце падения будет не больше двух метров в секунду. — А если он промахнется и не попадет на вершину? — И тогда не страшно, — ответил сам Мельников. — Но я уже на месте. Действительно, как раз в этот момент он опустился на самый край утеса и поспешил включить ток в подошвы, чтобы закрепиться. Здесь была сравнительно большая ровная площадка. За ней тянулся пологий склон, а дальше снова виднелась широкая пропасть. — Арсена мало пригодна для прогулок, — сказал Мельников, поделившись с товарищами своими наблюдениями. Коржевский и Второв присоединились к нему. Они учли опыт Мельникова и «перепрыгнули» всего на несколько метров. — Сплошная фантастика! — заметил Коржевский. Вторую пропасть преодолели уже легко и уверенно. Мускулы приспособились к необычным условиям.
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ
Дикий характер местности не изменялся. Как и в начале пути, всюду были только утесы, пропасти и трещины. Идти можно было в редких случаях. Все время приходилось прыгать — вперед, вверх или вниз. Через час такого пути они настолько привыкли, что перелетали через препятствия без всякой подготовки, все трое одновременно. Иногда, дойдя до относительно ровного места, кто-нибудь прыгал вверх, употребляя всю силу ног. Поднявшись на чудовищную высоту, откуда открывался широкий кругозор, разведчик сообщал товарищам, что он видит. Обратное падение происходило так медленно, что он успевал зарисовать план местности. Это помогало выбирать дорогу. Конечно, во время таких подъемов Второв снимал киноаппаратом, а его товарищи — фотоаппаратами вид Арсены «с птичьего полета». «СССР-КС 3» давно скрылся из виду. Они были одни среди хаотической путаницы скал. Как и следовало ожидать, нигде не попадалось ни малейших следов растительности. Всюду голый камень, преимущественно серого цвета. Иногда заходили под нависшую скалу, и тогда можно было наблюдать интересную картину. Человек, как только егозакрывала тень, мгновенно пропадал из глаз, словно растворялся во мраке. Причиной этого феномена являлось отсутствие атмосферы, которая на Земле рассеивает лучи солнца, препятствуя полному мраку даже в самой густой тени. Вспыхивал прожектор на шлеме, и казалось, что в черной пустоте плавает неведомо откуда взявшийся белый шар. На открытых местах было почти жарко, но в тени тело мгновенно охватывал жестокий мороз и приходилось поспешно включать электрическое «отопление». Часто попадались глубокие пещеры. Одна из них тянулась так далеко внутрь горы, что они повернули обратно, не дойдя до ее конца. Разведчики не пропускали ни одной трещины без того, чтобы тщательно не осмотреть ее. Один из звездоплавателей обвязывался бечевкой, которая была так тонка, что на Земле не выдержала бы тяжести даже грудного ребенка, и товарищи опускали его вниз. Во время одного из таких спусков Второе обнаружил какой-то красноватый камень. Отколов порядочный кусок, он поднялся наверх. Коржевский внимательно осмотрел находку. — Это никелистое железо, — сказал он. — Его цвет показывает, что в нем много кислорода. Вы сделали чрезвычайно ценную находку. Она прольет свет на происхождение Арсены. Добычу уложили в мешок. В нем было уже много образцов, и на Земле он весил бы, вероятно, четверть тонны. Но звездоплаватели уже забыли о существовании в природе тяжести. Увлеченные своими исследованиями, они шли все дальше и не заметили, как Солнце все ниже опускалось к горам. Внезапно хлынувшая тьма застала их врасплох. — Этого надо было ожидать, — сказал Мельников. — Арсена довольно быстро вращается вокруг оси. Но ночь долго не продлится. Местность, мало пригодная для передвижения днем, ночью была совершенно непроходима. — Надо вызвать радиостанцию корабля, — посоветовал Коржевский. — Я вас слушаю, — ответил голос Пайчадзе. — Темнота поймала нас в ловушку. — Мельников улыбнулся, представив себе, с каким выражением лица слушает его всегда склонный к насмешке Арсен Георгиевич. — Долго продлится эта ночь? — Старожилы говорили, что часа два. Мы почти на полюсе. Арсена вращается «лежа». День — шесть часов, ночь — два. Вам не холодно? — Нет. Отопление костюма хорошо работает. Даже жарко. — Ну, так спите спокойно. Хищных зверей здесь нет. — Закусим! — предложил Второв. Трое товарищей нажали кнопки на своих щитках. Тотчас же они почувствовали, как ко рту подвинулась гибкая трубка, идущая от термоса с горячим шоколадом. Утолив голод, они приготовились терпеливо ждать «утра». К микрофону подошел Белопольский, и Мельников подробно рассказал ему обо всем, что видели разведчики. Когда он упомянул про найденное Второвым железо, в голосе Константина Евгеньевича послышалось волнение. — Кислород? — сказал он. — Если это так, то отпадают последние сомнения. Железо окислилось на воздухе. Воздуха не может быть на астероиде таких маленьких размеров. Арсена — обломок планеты. — Я тоже так думаю. Ночь показалась им длинной. Никто не садился на «землю», так как, не имея почти никакого веса, они отлично чувствовали себя на ногах. Трое людей молча стояли на вершине скалы. При свете звезд они смутно различали неясные тени друг друга. Глубокая тишина окружала их. Мельников почувствовал, что стоявший рядом Коржевский тронул его за плечо. В призрачном мраке он различил протянутую руку биолога. Обернувшись, увидел на черном бархате неба, усеянном бесчисленными звездами, яркую голубую точку. Рядом виднелась другая — желтая. Земля! За десятки миллионов километров родная планета посылала им, одиноко стоявшим на голой скале, среди пустоты и мрака, молчаливый привет. И вдруг под металлическим шлемом в ушах Мельникова зазвучали стихи. Это было так неожиданно, что в первую секунду он не поверил своему слуху.

Почувствовав под собой выступ карниза, инженер включил ток и, твердо став на ноги, отвязал веревку. Посмотрев наверх, он не увидел своих товарищей. Трехсотметровая стена уходила, казалось, к самым звездам. Солнце сияло прямо над головой, окруженное огненным кольцом протуберанцев. Сквозь костюм чувствовались его горячие лучи. Второву показалось, что кругом какая-то особенная тишина, не такая, как наверху. Им внезапно овладело томящее чувство одиночества. Прислонившись к стене, он несколько мгновений стоял неподвижно, стараясь совладать со своими нервами. Мрачный, черно-белый пейзаж показался ему враждебным. «Почему они молчат?» — подумал он о Мельникове и Коржевском. И вдруг услышал далекие голоса. Он ясно различил голос профессора Баландина и ответивший ему голос Белопольского. Потом он услышал, как Пайчадзе окликнул Мельникова и спросил его, как идет дело. — Опускаем Второва вниз. Так вот почему они не подают голоса, — думают, что он еще не достиг карниза. Второв посмотрел на веревку. Она все еще опускалась и ложилась кольцами у его ног. Коржевский не замечал, что груз стал меньше. — Что-то невероятное! — сказал Второв, и эти громко произнесенные слова сразу стряхнули с него непонятное оцепенение. — Что вы сказали, Геннадий Андреевич? — спросил, очевидно не расслышавший, Мельников. — Я говорю, что вы опускаете пустую веревку. Неужели Станислав Казимирович не замечает, что я уже на карнизе? — Далеко до дна? — Метров сто восемьдесят. Прыгаю! Ощущение одиночества бесследно исчезло. Природа Арсены уже не казалась враждебной. Голоса товарищей вернули спокойствие и решимость. Карниз был не так узок, как казалось сверху. От стены до его края было метра два. Второв подошел к обрыву и, не задумываясь, шагнул в пустоту. Падение продолжалось более полутора минут. Мимо него все быстрее плыла вверх уже не гладкая, а изрезанная трещинами стена пропасти. Иногда приходилось отталкиваться ногой от выступов, преграждавших дорогу. Он хорошо видел дно. Оно было до странности гладким, словно залитое асфальтом. Это было похоже на огромную городскую площадь. Только вместо домов кругом поднимались отвесные стены. Посередине возвышалась груда камней, которая отсюда еще больше походила на развалины гигантского здания. Коснувшись дна, Второв включил магниты и легко удержался на ногах. Сообщив товарищам о благополучном приземлении, он пошел к центру, до которого было метров шестьсот. С момента выхода из корабля прошло около семи часов, но Второв не чувствовал усталости. За это время он ничего не ел, если не считать нескольких глотков шоколада, но и голода он не ощущал. Расход энергии на Арсене был ничтожно мал. Воздуха должно было хватить еще на четыре часа. Правда, нужно выбраться отсюда и вернуться на звездолет, но все же не к чему было особенно торопиться. Второв решил тщательно осмотреть странную котловину. Электромагнитные подошвы, как бы прилипающие к почве, делали шаг обычным земным шагом. Второву понадобилось несколько минут быстрой ходьбы, чтобы добраться до загадочных развалин. Часто попадались длинные извилистые трещины. Он легко перепрыгивал через них, даже не выключая тока. Поверхность дна была поразительно ровной. Если это был не асфальт, то что-то чрезвычайно на него похожее. Это место так резко отличалось от всего, что они видели на Арсене, что Второв все больше и больше изумлялся. Ему невольно начало казаться, что это не «игра природы», а искусственная площадь, с развалинами здания, когда-то возвышавшегося на ее середине, опустившаяся вниз при гибели планеты. Он все больше и больше ускорял шаг. Казавшиеся издали небольшими, «развалины» быстро увеличивались в размерах. Это было нагромождение огромных камней. Второву внезапно бросились в глаза ровные границы и прямые углы занятой камнями площади. Ему показалось, что это квадрат, каждая сторона которого имела не меньше ста метров в длину. Он остановился, охваченный сильнейшим волнением. Неужели перед ним действительно развалины сооружения неведомых обитателей погибшей планеты, обломком которой является Арсена? В расположении каменных обломков он уже ясно видел какой-то определенный, но пока неуловимый порядок. Ближайший к нему камень, составлявший угол квадрата, был значительно выше остальных. Это не могло быть делом случая. — Наконец-то! — прошептал он. Но, как ни тихо было произнесено это слово, его услышали. — Повторите! — сказал Мельников. — Я вас не слышу! Что случилось? Второв перевел дыхание и ответил как мог спокойнее: — Ничего. Со мной ничего не случилось. Но вот передо мной… — Что перед вами? Второв не ответил. С непреодолимой силой его внимание сосредоточилось на камне, бывшем прямо перед ним. Чтобы лучше охватить взглядом пятиметровую глыбу, он отошел немного назад. Сомнений нет! Перед ним выточенный из гранита гигантский пирамидальный куб. Четыре сходящиеся треугольника боковой грани ясно видны. Время сильно изменило первоначальную форму, когда-то острые края обсыпались, искрошились, многих кусков не хватает, но все же никаких сомнений быть не может. Эта геометрически правильная фигура не могла быть создана природой, это дело рук разумных существ! Второв подробно рассказал обо всем, что видит. Он был уверен, что весь экипаж звездолета слушает его, но не раздалось ни одного возгласа удивления. Очевидно, сенсационная новость взволновала всех также, как его самого. Когда он кончил говорить, наступило продолжительное молчание. — Возвращайтесь на корабль, — сказал, наконец, Белопольский. — Запоминайте дорогу. К этому месту пойдем большой партией. — Выходите наверх! — прибавил Мельников. Но, прежде чем выполнить распоряжение, Второв несколько раз сфотографировал куб. Он знал, что его нетерпеливо ждут наверху, но не мог удержаться, чтобы не пройти к видневшемуся в сорока — пятидесяти метрах другому огромному камню, имевшему метров шесть в поперечнике. Подойдя к нему, он вскрикнул от удивления. Перед ним, прекрасно сохранившийся, стоял гранитный икоситетраэдр. Каменный «бриллиант», на котором видны следы тщательной обработки. Второв без труда узнал изящное сочетание граней, которое так часто придают драгоценным камням земные ювелиры. Титаническая работа! Труд исполинов! Какой же крепостью должны были обладать эти гранитные фигуры, если даже космическая катастрофа, разрушившая огромную планету, не в силах была уничтожить их? А вон там, вдали, стоит пирамидальный октаэдр!.. Еще дальше — ромбический додекаэдр! Второв с трудом заставил себя отвернуться от волшебного зрелища. Товарищи ждут его. Труд неизвестных строителей должны осмотреть ученые. Идя обратно к подножию стены, он все время оглядывался назад. Но стоило отойти на триста — четыреста шагов — и каменные «бриллианты» исчезли, слились с остальной массой камней, превратились опять во что-то, похожее на развалины — и только. Будто и не было их никогда… Подойдя к стене, он смерил глазами расстояние до карниза и, выключив электромагниты, разбежался и прыгнул. Опыт последних часов сказался. Второв рассчитал точно. Его ноги спустились на самый край карниза; и, ухватившись за веревку, он сильно наклонился вперед и мягко упал. Очевидно, Коржевский не выпускал шпагата из рук и почувствовал рывок. — Поднимать? — спросил он. — Поднимайте, — ответил Второв. Он не стал обвязываться. Сила руки была совершенно достаточна, чтобы не сорваться во время подъема. Через несколько минут он был уже рядом с товарищами. — Поразительное, невероятное открытие! — сказал он. — На корабль! — коротко распорядился Мельников. Обратный путь занял всего один час. Они хорошо запомнили дорогу и уверенно перебирались со скалы на скалу. Топорков поставил перед микрофоном передатчика метроном, и его стук, становившийся все громче и отчетливее, указывал, что направление взято правильно. На звездолете их с нетерпением ждали. Все работы были прекращены. Неожиданное и столь важное сообщение Второва взволновало ученых, и они не могли больше ни о чем думать. Следы разумной деятельности, которые тщетно разыскивались на Луне и Марсе, найдены на крохотном астероиде. Было от чего прийти в нервное возбуждение!.. Приближавшаяся ночь заставила задержаться на корабле. Решили идти к таинственной котловине через пять часов. Это время было использовано для отдыха. Экипаж давно не смыкал глаз, и утомление давало себя чувствовать. Выслушав подробный рассказ Второва, все разошлись по каютам. Мельников взял на себя дежурство. К развалинам должен был идти Белопольский, а ему предстояло остаться на звездолете. Ни на минуту не оставлять корабль без командира — было законом в космических рейсах. Через два часа солнце скрылось за высокой скалой, и сразу наступила полная темнота. Арсена исчезла из глаз, и казалось, что звездолет снова летит в пространстве. Только отсутствие звезд внизу, под кораблем, доказывало, что он стоит на поверхности астероида. Арсена представляла собой обломок очень неправильной формы. Продолжительность «дня» и «ночи» в разных ее местах была различна. Там, где опустился «СССР-КС 3», день продолжался шесть часов, а ночь — только два. Астероид летел по орбите полюсом вперед, вращаясь, по выражению Пайчадзе, «лежа». Когда он, огибая Солнце, окажется по другую от него сторону, место, где стоял сейчас звездолет, погрузится в долгую непрерывную ночь. Но это могло случиться только через три месяца, а экспедиция не собиралась задерживаться на Арсене так долго. Как только снова появилось Солнце, звездолет ожил. Восемь человек из его экипажа собирались идти под водительством Второва и Коржевского для осмотра найденных развалин. На звездолете, кроме Мельникова, оставались Топорков и занятые у двигателей Зайцев и Князев. Брали с собой длинные веревки, кирки, заступы, двойной запас кислорода, взрывные патроны и радиоаппаратуру для новой разведки недр. После плотного завтрака экспедиция вышла из корабля и, преодолев первую пропасть, исчезла среди скал. Четверо оставшихся проводили товарищей взглядом и, пожелав им по радио счастливого пути, занялись своими делами. Мельников ушел на пульт, Топорков остался дежурить на радиостанции, а оба механика снова отправились на корму корабля — продолжать работу, прерванную сообщением Второва.
СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ
Около часу Мельников спокойно занимался записями в своем дневнике. После полета на Марс он сохранил привычку ежедневно заносить на его страницы свои мысли и наблюдения. За двенадцать суток полета от Земли до Арсены пришлось изменить этому правилу — не хватало времени. Теперь он решил наверстать упущенное, хотя чувствовал усталость и охотнее всего лег бы спать. Но он хорошо знал, что не заснет, пока товарищи не вернутся на корабль. Дневник перенес его на Землю. Последние страницы были испещрены именем Ольги, и образ жены с мучительной ясностью возник перед ним. Еще долгие три месяца они не увидятся… Усилием воли подавив возникшее чувство тоски, Мельников принялся за описание своего похода по астероиду. Но, едва он дошел до спуска Второва в круглую котловину, как звонок вызова прервал работу. Вызывал Топорков. — Посмотрите, что творится снаружи, — сказал он. Мельников поспешно повернулся к экрану. Сначала он не заметил никаких перемен. Панорама Арсены была такой же, как всегда. Но потом он обратил внимание на странные огоньки, которые вспыхивали на площадке, где стоял звездолет, на утесах, на склонах гор — всюду. Точно невидимые каменщики ударяли невидимыми молотами, высекая искры из каменных пород. Секунду Мельников недоуменно смотрел на эту картину. В следующее мгновение острым ножом его мозг пронзила жуткая догадка. «Метеориты!.. Арсена встретилась с метеоритным потоком!.. Товарищи на открытом месте, незащищенные… Успеют ли найти прикрытие?..» Совсем рядом с кораблем со страшной силой ударился о скалу крупный камень. Блеснуло яркое пламя. В ту же секунду Мельников ясно услышал, как о борт звездолета ударились еще два, один за другим. Не теряя самообладания, он нажал кнопки и закрыл щитами все окна обсерватории. По контрольным приборам он видел, что ни одно из них еще не пострадало. Корпус корабля также остался цел. Включив боковой экран, он соединил его с радиорубкой, чтобы узнать, нет ли известий от Белопольского. Но Топоркова в рубке не было. Открылась дверь, и на пороге появился инженер. При одном взгляде на его лицо, на котором застыла гримаса боли, Мельников понял, что произошла катастрофа. Сердце замерло. — Кто? — едва смог он выговорить. — Леонид Орлов, — ответил Топорков, и его губы дрогнули. Мельников закрыл глаза рукой. Как живой встал перед ним погибший товарищ. «Я лечу только потому, что предстоит посещение астероида», — вспомнил он слова, как-то сказанные Орловым. Он говорил их со своей приятной улыбкой, словно освещающей его красивое лицо, не подозревая, что говорит пророчески. — А остальные? — Успели укрыться в пещере. Леонид Николаевич погиб у самого входа. Метеорит ударил прямо в лицо. Какие тяжелые минуты пережили участники похода, на глазах которых погиб их спутник!, «Прямо в лицо!» — подумал Мельников. На мгновение он ясно увидел глаза Орлова — два чистейших аквамарина, вставленные в оправу длинных черных ресниц, и вздрогнул всем телом. — Где Зайцев и Князев? — Я сказал им, чтобы они не выходили наружу. Мельников провел рукой по лбу. — Было бы легче погибнуть самому, чем переживать это, — сказал он. — Идите на радиостанцию, Игорь Дмитриевич. Я сейчас приду. Этот «дождь» скоро кончится. Топорков вышел. В солнечной системе бесчисленное множество метеоритных тел. Очень часто они летят густыми роями, так называемыми потоками. Наряду с кометами, метеориты «засоряют» межпланетное пространство. В полете при огромной скорости у звездолета мало шансов встретиться с ними. Иначе обстоит дело с астероидами. В сравнении с межпланетными кораблями их размеры чудовищно огромны. У них нет атмосферы, которая защищает большие планеты от небесной бомбардировки. Метеорный поток, встретив на своем пути астероид, обрушивает на него каменный ливень, каждая «капля» которого имеет космическую скорость, во много раз большую, чем скорость пули или снаряда. Энергия стремительного полета при столкновении превращается в тепловую. Происходит взрыв. Поверхности малых планет покрыты мельчайшей пылью от разбившихся метеоритов. Никакой защитный костюм не спасет человека в безвоздушном пространстве, если подобный «разрывной снаряд» попадет в него. Это верная смерть. Прямое попадание в такую маленькую цель, как человек, может произойти исключительно редко, но все же «метеоритная опасность» является одной из самых реальных для звездоплавателей. Звездолеты были достаточно надежно защищены от нее радиопрожекторами — сверхчувствительными локаторными установками, соединенными с автопилотами, но, как уже говорилось, в условиях стоянки на астероиде эти «глаза» корабля были бесполезны. Дальность их действия была велика, — до пяти тысяч километров, но даже это, казалось бы огромное, расстояние было ничтожно мало для метеорита, летящего с космической скоростью. Раньше чем экипаж звездолета сумел бы принять меры для защиты, замеченный метеорит уже прошел бы это расстояние. Исследователи космического пространства смело идут навстречу риску. Все это было известно Мельникову, но боль утраты не становилась меньше от рассуждений. Ему было мучительно жаль Орлова. И кроме того, он хорошо знал, какое потрясающее впечатление произведет на Земле известие о гибели одного из участников экспедиции. Скрыть трагический случай до возвращения звездолета было невозможно… Метеоритный поток проходил через орбиту Арсены полтора часа. Потом он как-то сразу прекратился. За все это время только пять раз о корпус корабля ударились небольшие камни, не пробившие, однако, его оболочки. Когда стало ясно, что Арсена разошлась в пространстве с метеоритами и опасность миновала, Мельников прошел в радиорубку. Зайцев и Князев были уже там. Глаза механика были заплаканы, и он всеми силами старался скрыть это. Самый молодой член экипажа, он стыдился слез. — Андреев и Второв несут его сюда, — сообщил Топорков. — А остальные? — Пошли дальше. Топорков сказал это тоном недоумения, но Мельников понял Белопольского. — Как они переносят тело через пропасти? — спросил Зайцев. — Для Второва не составит труда перепрыгнуть вместе с ним. — Неужели, мы оставим его здесь? — прошептал Князев. Мельников нахмурился и ничего не ответил. Эта мысль и ему приходила в голову. Другого выхода как будто не было. Из громкоговорителя слышались редкие голоса. Чувствовалось, что в группе Белопольского люди обменивались только самыми необходимыми словами. На экране был виден скалистый хребет по ту сторону пропасти, находившейся рядом со звездолетом. Мельников и его товарищи не спускали с него глаз. На нем должны были появиться двое живых членов экипажа, несущие третьего — мертвого. Всего три часа тому назад они провожали Леонида Орлова, как всегда полного энергии, жизнерадостного, с серьезным взглядом красивых глаз на худощавом лице. Могли ли они думать, что через час этот полный сил человек превратится в труп!.. Может быть, никогда раньше они не сознавали так ясно грозную силу природы, в тайны которой они хотели проникнуть. — Вот они, — сказал Зайцев.
Две крохотные фигурки показались на гребне утеса. Можно было легко отличить высокую фигуру Второва от более низкого Андреева. Тело Орлова было на руках инженера. Он первый со своей ношей спрыгнул вниз. Андреев последовал за ним. В том же порядке они преодолели и пропасть. Мельников, Зайцев и Князев пошли к выходной камере. Топорков остался. Он не имел права покинуть радиостанцию. Через несколько минут они услышали, как закрылась наружная дверь и раздалось характерное шипение насоса, наполнявшего воздухом камеру. Вспыхнула зеленая лампочка, и внутренняя дверь открылась. Стараясь не смотреть на обезображенное лицо Орлова, Зайцев и Князев помогли пришедшим снять костюмы. — Отнесем его в красный уголок! — предложил Мельников. — Дверь уголка очень высоко, — сказал Андреев. — Будет трудно опустить его вниз. — Тогда на обсерваторию. Мельников вынул платок и закрыл им шлем. С Орлова сняли наспинный ранец и кислородные баллоны. Потом, не снимая костюма, его отнесли в помещение обсерватории и положили на стол, поставленный несколько часов тому назад самим астрономом, который собирался за время стоянки на Арсене привести в порядок собранные в пути материалы. — Принесите знамя, — сказал Мельников. — Оно в каюте Белопольского. Второв вышел и вскоре вернулся с алым полотнищем. — Я встану первым в почетный караул, — объявил Мельников. — Смените меня через тридцать минут. Товарищи поняли, что он хочет остаться один с погибшим, и вышли. Шли часы один за другим с томительной медленностью. Наступила третья ночь, затем солнце взошло опять. Огромный корабль словно вымер. Люди сменяли друг друга в почетном карауле и расходились, не обмолвившись ни единым словом. На радиостанции редко-редко раздавались отрывистые фразы, доносившиеся сюда из круглой котловины. Словно невидимая траурная вуаль легла на Арсену, придавив всех своей тяжестью. Через девять часов после ухода пять человек вернулись на звездолет. Их встречали и помогали раздеться молча. Если бы вернулись все шесть, их засыпали бы вопросами. — Где он? — вполголоса спросил Пайчадзе, как только с него был снят шлем. — На обсерватории, — так же тихо ответил Мельников. У пришедших были мрачные, осунувшиеся лица. Сняв костюмы, все сразу направились к обсерватории. За ними туда же собрались и бывшие на корабле. Одиннадцать человек долго стояли у тела товарища, молча прощаясь с ним. Белопольский отогнул край знамени и, наклонившись, пристально вгляделся в то, что совсем недавно было лицом его ученика. — Это был талантливый ученый, — сказал он, словно самому себе. — Я возлагал на него большие надежды. Семья звездоплавателей понесла тяжелую утрату. Он отдал жизнь за науку. — Белопольский выпрямился. — Леонида Николаевича Орлова мы вынуждены оставить на Арсене. Он будет лежать здесь, пока следующая экспедиция не доставит его тело на Землю. Похороны назначаю через два часа. Бориса Николаевича и Константина Васильевича прошу подыскать место. — Пойдемте, Борис Николаевич! — сказал Зайцев. Место для могилы нашли под сенью нависшей скалы. Сюда никогда не проникнут лучи Солнца, и замерзшее тело в полной сохранности будет ждать часа, когда его вынут и, запаяв в свинцовый гроб, перевезут на родину. — Здесь будет на вечные времена установлен памятник, — сказал Мельников, указывая на скалу. Беззвучно метнулась огненная вспышка взрыва. У подножия скалы образовалась яма. Из кладовой запасных частей Зайцев принес двухметровую стальную плиту, на которой острием автогенного пламени написал имя погибшего и дату. Могила была готова. В назначенный час состоялись похороны. Вместо гроба тело находилось в «пустолазном» костюме. Разбитый шлем заменили новым. В печальной церемонии участвовали все, кроме Мельникова, Зайцева, Баландина и Андреева. Даже теперь закон космических рейсов не был нарушен, часть экипажа осталась на корабле. Когда стальная плита закрыла могилу, раздался салют — тремя залпами. Их не было слышно. Только вспышки огня из дул пистолетов. В безвоздушном пространстве нет звуков. На следующее «утро» Белопольский, Баландин, Романов и Второв снова отправились в котловину. Они взяли с собой на этот раз электролебедку, аккумуляторные батареи для нее и два отбойных молотка с баллонами сжатого воздуха. Этот груз был тяжел даже на Арсене. — Вы не справитесь вчетвером, — сказал Мельников. — Возьмите еще кого-нибудь. — Справимся, — ответил Белопольский. — Будем переправлять груз через пропасти и поднимать на скалы с помощью веревки. В конце концов все это весит здесь не более тридцати килограммов. Физическая сила Второва нас выручит. — Но почему вы не хотите взять больше людей? — Потому что вчерашний опыт показал — нельзя ходить большой партией. Это опасно. Четыре человека ушли и вернулись только через десять часов. У троих был донельзя утомленный вид. — Подготовьте звездолет к старту, — сказал Мельникову Белопольский и, ничего больше не прибавив, ушел в свою каюту. — Я так измучился, словно на Земле ворочал пятипудовые мешки, — сказал Романов. — Но что вы делали? — спросили его. — Ломали и растаскивали камни. — Значит, гранитные фигуры уничтожены? — Нет, их мы не трогали. Что касается Второва, то у него был такой же вид, как всегда. Железный организм этого спортсмена не поддавался усталости. Прошли еще одни «сутки». Зайцев и Князев закончили ревизию двигателей, и ничто больше не задерживало звездолет на Арсене. Корабль пробыл на астероиде тридцать шесть часов. Этого времени хватило на все работы, намеченные раньше, и на непредвиденную, ставшую самой главной. Теперь, оставляя здесь одного из членов экипажа, «СССР-КС 3» был готов продолжать путь. В час ночи, по московскому времени, 4 июля с одним работающим двигателем звездолет легко оторвался от Арсены. С чувством глубокой скорби следили звездоплаватели за удаляющимся астероидом. Скоро он превратился в звездочку, быстро теряющую блеск. Потом исчез совсем. Но они долго не отрывали глаз от экрана, на котором только что видели маленькую планету, унесшую на себе тело товарища, вырванного смертью из их дружного коллектива. Они знали, что на долгом пути завоевания человеком космического пространства неизбежно будут жертвы. Природа не сдается без жестокого боя. История открытий заполнена именами погибших героев. Так было на Земле, так будет и в межпланетных просторах. Они это знали. Но сердце не всегда бывает покорно рассудку… Два дня на корабле было траурное молчание. Члены экипажа отсиживались по своим каютам, сходясь только во время завтрака, обеда или ужина, но и тогда они почти не говорили друг с другом. Но как бы ни была сильна печаль, жизнь властно предъявляет к живым свои требования. Космический полет продолжался. Нужно было жить и работать. От Арсены до Венеры звездолету было всего шесть суток пути, а программа научных работ, намеченная на это время, еще не была выполнена. Астрономы первыми взялись за дело, показывая пример остальным. 8 июля Белопольский попросил всех собраться на радиостанции, чтобы выслушать доклад о результатах посещения Арсены. Время было выбрано так, чтобы на Земле могли принять волну звездолета, и ученые, собравшиеся в космическом институте, как бы присутствовали на этом собрании. Доклад сделал профессор Баландин. Энциклопедически образованный человек, он в одном лице соединял три научные специальности — был выдающимся океанографом, зоологом и крупным теоретиком звездоплавания. Хотя материал его выступления был настолько обширен, что его с избытком хватило бы на целую научную монографию, профессор сумел уложиться в двадцать минут. Предельная сухость и четкая формулировка фактов, с ясными, словно остро отточенными выводами — таков был стиль доклада. Профессор начал с характеристики Арсены. Он сообщил результаты геологической разведки недр астероида, который оказался состоящим на три четверти из самородного железа. — Такой же состав имеют метеориты, падающие на Землю. Это доказывает, что астероиды и метеориты имеют общее происхождение. Являются ли они обломками «пятой планеты» или нет, сказать с уверенностью еще нельзя. Присутствие в железе кислорода говорит в пользу планетной гипотезы. Сообщив о размерах, массе, скорости вращения вокруг оси в составе внутренних пород, Баландин перешел к находке развалин. — Предположение, что обнаружены остатки здания, когда-то стоявшего на поверхности погибшей планеты, не подтвердилось. Этого следовало ожидать. Ничто, сделанное искусственно, не могло уцелеть при космической катастрофе. Под камнями мы обнаружили такую же асфальтовую поверхность, как и во всей котловине. Геометрические фигуры не укреплены в почве, а просто поставлены на нее. Возникают три вопроса — кто поставил фигуры, зачем и почему они разрушены? Достоверно можно ответить только на третий вопрос. Сооружение разрушено крупным метеоритом. Следы его взрыва при падении ясно видны. По первым двум вопросам мы можем только предполагать. Любопытную мысль высказал Константин Евгеньевич. Предоставляю слово ему. Белопольский передвинулся ближе к микрофону. — Гипотеза спорна, — начал он. — Но пока не видно другого объяснения. Гранитные фигуры высечены человеком или существом, подобным ему. Они находятся на астероиде, где не может быть живых существ. Вывод — они поставлены такими же звездоплавателями, как мы с вами. В радиорубке послышались возгласы удивления. Неожиданный вывод Белопольского поразил всех, хотя сам по себе он был строго логичен. — Нельзя даже приблизительно сказать когда, — продолжал Константин Евгеньевич, — но нашу солнечную систему безусловно посетил космический корабль. Откуда он прилетел? Этот вопрос прояснится только тогда, когда отдаленные потомки этих звездоплавателей еще раз прилетят к нам. Или мы прилетим к ним. Мельникову показалось, что Белопольский оговорился. — Вы же сами подчеркнули, что неизвестно, откуда прилетел корабль, — сказал он. — Не перебивайте! — недовольно поморщился академик. — На этот вопрос я отвечу. Итак, что же увидели неизвестные звездоплаватели у Солнца? Из планет только Земля, Венера и Марс имели органическую жизнь. Только на Земле они могли увидеть людей, которые тогда стояли на низкой ступени развития. Но для них было несомненно, что человек высоко поднимется по эволюционной лестнице. Поставив себя на их место, я подумал о том, что они должны были сделать. Надо было дать знать будущим ученым Земли, что на нее прилетал корабль из другого мира. Но какой памятник уцелеет тысячи лет? На Земле, Марсе и Венере это невозможно. Климатические изменения, дожди, ветры уничтожат и развеют любое сооружение за столь долгий срок. — Не вполне убедительно! — заметил Баландин. — Можно поставить памятник почти что на вечные времена. — Именно «почти что». Но они этого не сделали. По крайней мере на Земле такой памятник не найден. Мне кажется, они должны были поступить иначе. На Арсене нет атмосферы, нет климатических явлений. Астероид близко подходит к орбитам и Земли и Венеры. Когда люди «вырастут» и станут совершать межпланетные полеты, то обязательно посетят астероид и найдут на нем оставленный памятник. Именно так они должны были рассуждать. И памятник действительно был найден нами. Конечно, они могли оставить более ясные сведения о себе. Мы ничего не нашли, но это не значит, что ничего нет. За короткий срок мы не могли разобрать развалины и добраться до того, что завалено взрывом. Это сделает следующая экспедиция. Такова моя гипотеза. Возникает вопрос — неужели этим разумным, притом высоко разумным, существам были неизвестны квадратная, гексагональная и ромбическая системы? Неужели они знали только кубическую? Мы видели октаэдры, додекаэдры, тетраэдры и кубы. Ни одной пирамиды, ни одной призмы, ни одной брахидомы! Случайно ли это? Я думаю, что не случайно. В этом есть какой-то смысл. Загадка гранитных фигур должна быть нами разгадана. И тогда мы узнаем, откуда прилетал корабль. Это ответ Борису Николаевичу на его вопрос, — прибавил Белопольский. Собрание закончилось около трех часов дня. Члены экспедиции разошлись по своим каютам. На следующий день Топорков принял длинную радиограмму, сообщавшую о реакции на гипотезу Белопольского земных ученых. Большинство было согласно с его выводом.
СЕСТРА ЗЕМЛИ
На среднем расстоянии в сто восемь миллионов километров от Солнца, на сорок два миллиона километров ближе, чем Земля, величественно плывет по своей орбите вторая планета солнечной системы, названная нашими далекими предками Венерой — богиней весны и любви древней мифологии. Почти равная Земле по размерам и массе, ее ближайшая соседка в пространстве, планета по праву носит свое поэтическое имя. Нет на небе Земли более красивого зрелища, чем Венера, блистающая на слегка порозовевшем утреннем небосклоне. На вечернем небе, как привыкло видеть ее большинство жителей городов, планета менее красива. Любопытно отметить, что в некоторых арабских странах Венеру называли совершенно противоположным именем — Люцифер, что соответствует слову «Сатана». Какие причины побудили назвать так белоснежную красавицу, трудно понять. Для астрономов Венера представляла, пожалуй, еще большую загадку, чем Марс. Поверхность планеты недоступна наблюдениям с Земли: ее скрывают никогда не расходящиеся облака. Одни считали, что космические путешественники, опустившись на Венеру, не увидят ни морей, ни лесов, а только каменную пустыню, покрытую вулканическим пеплом, другие — сплошное топкое болото. Последователи замечательного поборника идеи повсеместности жизни во Вселенной — Гавриила Адриановича Тихова — утверждали обратное, — жизнь на Венере есть, но, конечно, не такая, как на Земле. Исследователи не увидят там зеленых лесов; растительность на сестре Земли должна быть оранжевая и красная, по причине жаркого климата. Ведь и на Земле в тропиках много красных растений, и не только в тропиках. В горячих источниках Камчатки, где температура достигает +80°, живут багровые и пунцовые водоросли, и берега этих источников покрыты оранжевыми и желтыми мхами. Жизнь приспосабливается к любым условиям. В сверхтропическом климате Венеры и в сверхсуровом климате Марса она одинаково возможна. Методами радиоастрономии было установлено, что температура поверхности планеты близка к ста градусам, но это следовало проверить. Предстояло еще точно установить продолжительность суток, наклон оси и многое другое. Объем предстоящих работ был велик, а звездолет, по плану, не должен был задерживаться на Венере больше сорока восьми суток (разумеется, земных). Все это было изложено Белопольским на собрании экипажа корабля. «СССР-КС 3» подлетал к цели. До орбиты Венеры оставалось около трех с половиной миллионов километров, то есть немного больше суток пути. Звездолет уже не летел прямо. Газовые рули были повернуты, и он описывал в пространстве гигантскую кривую, чтобы оказаться позади планеты и лететь в одном с ней направлении. Двигатели работали на минимальной мощности, но этого было достаточно для возникновения слабой силы тяжести. Свободно плавать в воздухе было уже невозможно, — левый борт словно притягивал к себе все предметы внутри корабля. Белопольский и Мельников, сменяя друг друга, непрерывно дежурили на пульте. Автоматические приборы управления вели корабль по заданной трассе, но все же было необходимо проверять полет и вычислять местонахождение на каждый час. Остальные члены экипажа приступили к установке временных полов в каютах и коридорах. Ведь на Венере звездоплавателей ждали обычные условия тяжести, и следовало так оборудовать помещения, чтобы с возможно большими удобствами прожить все полтора месяца стоянки на сестре Земли. Прошло уже девятнадцать суток с того памятного всем утра, когда «СССР-КС 3» оторвался от ракетодрома и начал свой трудный и опасный рейс. За этот сравнительно короткий срок членам экспедиции пришлось многое пережить и испытать. Тридцать шесть часов, проведенных на Арсене, и в особенности трагическая гибель Орлова наложили на каждого глубокий и неизгладимый след. Люди изменились. Больше всего это было заметно у тех, кто впервые участвовал в межпланетном полете. Некоторые, например Романов, Князев или Второв, при старте с Земли еще не отдавали себе ясного отчета в том, что их ожидает. Космический рейс, посещение астероида, исследование Венеры — все это было в их глазах покрыто романтической дымкой. Теперь они увидели оборотную сторону, поняли суровую действительность, — победы над природой не приходят сами, они завоевываются в упорной и смертельно опасной борьбе. Кое-кому первые дни полета доставили много тяжелых минут. Сознание безграничности пустого пространства, в центре которого, казалось, неподвижно висел крохотный звездолет, отсутствие видимой опоры, спутавшиеся понятия, где верх, а где низ, само ощущение невесомости — все это сильно подействовало на психику, и добрая половина экипажа переболела «космической болезнью». С начала второй половины пути все изменилось. Экипаж корабля превратился в единый, проникнутый одними мыслями и общими целями, сплоченный коллектив исследователей, каждый член которого до конца осознал и понял, что требует и чем угрожает ему выбранная профессия. И хотя после гибели Орлова перед каждым реально встала угроза смерти, ни один из них не пожалел о принятом решении. 9 июля ровно в двадцать два часа тридцать минут траектория полета «СССР-КС 3» точно совпала с орбитой Венеры. С этой минуты звездолет «пустился в погоню» за планетой, которая находилась впереди него на сто тысяч километров и «убегала» со скоростью 34,99 километра в секунду. Через пять часов и тридцать три минуты корабль догонит сестру Земли.
В круглые окна обсерватории и на экранах Венера была видна как исполинский полумесяц, почти в одиннадцать раз больший, чем Луна на небе Земли. Освещенная Солнцем половина планеты ослепительно блестела белоснежной пеленой облаков. Ночная половина отчетливо проступала на фоне звезд, закрывая их своей массой и светясь слабым сиянием, похожим на свечение верхних слоев земной атмосферы. Полоса сумерок, ясно видимая, делала терминатор неразличимым. В этой полосе временами появлялись какие-то яркие вспышки и светлые линии. — Мы наблюдаем полярное сияние в атмосфере Венеры, — сказал Белопольский. — Благодаря близости к Солнцу это явление на ней должно быть гораздо более мощно, чем на Земле. — С поверхности планеты полярное сияние, вероятно, изумительное зрелище, — заметил Мельников. Эти фразы были единственными словами, произнесенными за все часы «погони» между командирами корабля. Оба сосредоточенно наблюдали за показаниями приборов. Расстояние между планетой и звездолетом неуклонно сокращалось, а спуск на Венеру, как и на Землю, был очень трудным маневром. Требовалось максимальное внимание и точность каждого движения. Быстро увеличиваясь в размерах, планета, казалось, сама надвигалась на корабль. Вскоре все звезды исчезли из поля зрения, заслоненные ее огромным телом. Впереди и по сторонам был виден только облачный океан, нестерпимо белый со стороны, обращенной к Солнцу, и постепенно темневший, переходя в черный, — с другой. В четыре часа утра 10 июля по московскому времени «СССР-КС 3» поравнялся с планетой и, замедлив скорость, как бы «включился» в ее движение. Он находился в этот момент в самых верхних, разреженных слоях атмосферы, и с этой высоты начал замедляющий спуск. Двигатели работали на полную мощность, удерживая корабль от стремительного падения. Облачный океан приближался… Предстояло впервые опуститься на самую поверхность четвертого небесного тела, посещенного людьми, ступить ногой на «землю» Венеры. К этому нельзя было отнестись равнодушно. Человек еще не приобрел привычки летать с планеты на планету, и для него посещение Венеры было еще огромным событием. Когда-нибудь придет время и космические рейсы станут обычной,«повседневной» работой науки. Тогда люди будут без особого волнения выходить из кораблей на почву других миров. Но до этого времени было еще очень далеко. — Крылья! — отрывисто приказал Бело-польский, когда облачная масса закрыла экран белой мглой. Мельников нажал нужные кнопки. Через несколько секунд загорелись синие лампочки, — крылья вышли из своих гнезд. Превратившись в реактивный самолет, «СССР-КС 3» опускался все ниже, прорезывая толщу облаков. Внизу, где-то у ее границы, уже появились неясные вспышки молний. Корабль летел теперь в воздушной среде, и управление им приняло иной характер. Четыре двигателя, расположенные у основания крыльев, несли его вперед. Маневрирование осуществлялось обычными элеронами и хвостовым рулем. От командира корабля требовались уже навыки управления реактивным самолетом. Белопольский поставил ноги на педали и взялся за штурвал. Могло показаться странным, что академик так уверенно берется за трудную работу пилота, да еще на таком гигантском корабле, но в этом не было ничего необычайного. Все члены экипажа «СССР-КС 3», за исключением профессора Баландина, Андреева и Второва, прошли длительный курс обучения в летной школе, практику вождения больших самолетов и имели дипломы пилотов реактивной авиации. Ровно через восемь минут после начала спуска «СССР-КС 3» вынырнул из облачной массы в блестящую почти непрерывными молниями сплошную стену страшного ливня. Экран сразу потемнел. Водяные потоки уничтожили всякую видимость, и казалось, что звездолет погрузился в океан. Но стрелка альтиграфа показывала, что до поверхности Венеры еще полтора километра. Внезапно, словно кто-то губкой провел по экрану, потоки воды исчезли. Перед глазами экипажа раскинулась панорама безграничного океана. Мельников наклонился вперед, с глубоким волнением всматриваясь в знакомую картину, которая так часто возникала в его памяти… Свинцовые волны с длинными белыми гребнями пены, с нависшими над ними темными клочковатыми тучами, черные стены ливней, испещренные зигзагами молний, все тот же тусклый полусвет… Ничто не изменилось за эти восемь лет. В жизни планеты века короче, чем секунды в человеческой жизни. Природе некуда торопиться, — перед нею вечность. Мельников взглянул на Константина Евгеньевича. Командир корабля сидел спокойно, откинувшись на спинку кресла, внимательно, но без тревоги вглядываясь в экран. Ему нечего было опасаться. Венера уже не была загадочной незнакомкой. Он вел корабль к заранее намеченному месту, которое нужно было только найти. Уже три часа летел «СССР-КС 3» над океаном, а ни малейшего признака берега не появлялось. Может быть, материк, открытый первой экспедицией, находился сейчас на ночной половине планеты? Это было возможно; а есть ли на Венере какой-нибудь другой материк, никто не мог знать. Время обращения вокруг оси — сутки планеты — было неизвестно. Могло случиться, что ночь над оранжевыми лесами континента продлится еще недели. В этом случае придется искать другое место для стоянки, но существовало ли такое место?.. Мельников и Белопольский поменялись ролями. Теперь Борис Николаевич вел корабль, а Белопольский отдыхал, в любую секунду готовый помочь. Сколько времени придется провести в воздухе, они не знали. Опуститься на волны среди океана, даже не видя берега, было бессмысленно. Во что бы то ни стало надо найти твердую «землю». Звездолет все время летел прямо, держа направление на запад, опережая Солнце. За плотной массой облаков оно было невидимо, но чувствительные фотометры, установленные снаружи корпуса, сообщали на пульт, что сила дневного света не убывает — и, значит, корабль еще не достиг полосы сумерок. В рубку вошли Пайчадзе и Баландин. Руководящий состав экспедиции обменялся мнениями. — Если материк не покажется, мы можем пролететь не очень далеко в сумеречную полосу, — сказал Белопольский. — Поворачивать и лететь назад бесполезно, — согласился с ним Баландин, — Если там и есть земля, нам от нее мало толку. «Восточные» части планеты движутся в ночь. — Может быть, лучше повернуть на север или на юг? — предложил Мельников. — Это мы всегда успеем сделать, — ответил Белопольский. — Мы находимся сейчас на той же широте, где пролетали в прошлый раз. Задача — найти устье реки. Если это окажется невозможным, тогда придется менять направление. — В крайнем случае, — сказал Пайчадзе, — продержимся в воздухе, пока материк не выйдет из ночи. — Вы забываете, что атмосферные двигатели не могут работать слишком долго. — Так что же делать? — Опускаться на океан нельзя, — подытожил Баландин. — Насколько можно судить, ветер очень силен. Под нами буря. — А если учесть непрерывные ливни, то положение корабля на волнах будет совсем скверным, — добавил Мельников. Миновало еще два часа, но никаких изменений не произошло. Под кораблем по-прежнему был безграничный океан. Часто приходилось пролетать через грозовые фронты, и тогда непроницаемая тьма закрывала экраны. Только приборы сообщали, что впереди нет берега. Доктор Андреев предложил подкрепить силы завтраком. За все время пути в его обязанности входило кормить членов экспедиции. Это было не трудно и не отнимало много времени. В кладовых звездолета все продукты питания были заранее рассортированы и упакованы в специальные пакеты. Достаточно было взять очередной пакет (они были пронумерованы) и, если требовалось, подогреть его содержимое в термостате. Десять минут — и завтрак, обед или ужин были готовы. Мытье посуды не обременяло звездоплавателей по той простой причине, что никакой посуды не было — в условиях невесомости ею все равно нельзя было пользоваться. Металлические или пластмассовые сосуды, коробки и банки вместе с остатками пищи уничтожались в электропечи, а пепел выбрасывался наружу. И сегодня, когда наступил час завтрака, Андреев быстро все приготовил, но в этот раз его труды пропали даром. Только Топорков, Зайцев и Коржевский воспользовались его приглашением. Остальных волнение лишило аппетита. Уступая настойчивым требованиям врача, Белопольский и Мельников выпили по чашке шоколада и снова заняли свои места за пультом. Одни и те же мысли беспокоили всех участников экспедиции. Если на стороне Венеры, обращенной сейчас к Солнцу, нет «земли», могло создаться очень неприятное положение. По всем данным астрономии, сутки Венеры были весьма продолжительны и во всяком случае не короче двух — трех недель. Сколько пройдет времени, пока вращение планеты вынесет материк «в день» Может быть, ночь на континенте наступила совсем недавно. Как ни мощны были «атмосферные» двигатели звездолета, они не могли работать без отдыха более чем сорок часов. Если за это время корабль не приземлится, то останется только одно — покинуть атмосферу Венеры и, вылетев снова в межпланетное пространство, превратиться на время в спутника планеты. Такая перспектива никому не улыбалась, так как отнимала драгоценное время, предназначенное на исследовательские работы, объем которых был чрезвычайно велик, не говоря уже о том, что повторные спуски в атмосферу таили в себе большую опасность. Для экипажа корабля время шло с томительным однообразием. «СССР-КС 3» летел над волнующимся океаном на высоте одного километра, час за часом. Сверху было все то же мрачное небо, низвергающееся на воду частыми ливнями. Иногда встречались большие области, затянутые сплошным туманом, и тогда казалось, что корабль опять летит в облаках. Несколько раз ослепительная молния соединяла небо и океан в непосредственной близости от корабля, и сквозь стальные стенки корпуса слышался страшный треск электрического разряда. Стихийные силы, которым близость планеты к Солнцу давала во много раз большую мощь, чем на Земле, невольно наводили на мысль — что будет с людьми, когда корабль опустится и они выйдут из него? Не станут ли люди Земли игрушкой в руках враждебной им природы Венеры? Сожженные молнией, смытые потоками ливней, отравленные ядовитой атмосферой, не будут ли они уничтожены сразу, как только лишатся защиты своего звездолета? Быть может, еще десятки неизвестных опасностей заготовлено Венерой, чтобы расправиться с незваными пришельцами, посланными ее «сестрой»… Об этом думали все члены экипажа «СССР-КС 3», наблюдая в экраны за разгулом стихий за бортом звездолета. — Никогда не предполагал, что природа Венеры так негостеприимна, хотя и видел все это в кинокартине, — сказал Романов, дежуривший вместе с Топорковым на радиостанции. — Сможем ли мы вообще выйти из корабля? Игорь Дмитриевич посмотрел на него и усмехнулся. — Надо выйти — и выйдем! — сказал он. — А если бы вы знали, что вас ждет, отказались бы участвовать в рейсе? — Я не боюсь, — обиженно ответил молодой геолог. — А я так уверен, что боитесь. И я тоже боюсь. Знаете, что любит говорить Борис Николаевич? «Дело не в том, чтобы не бояться, а в умении преодолевать страх». — Ну, Борис Николаевич… — А он что, — перебил Топорков, — из другого теста сделан? Такой же человек, как вы и я. Не думайте об опасности, и она не будет страшна. Здесь, как на войне. Люди боятся, но идут. — Я, право же, не боюсь, Игорь Дмитриевич… — начал Романов, но как раз в этот момент исполинская молния ударила, казалось, в самый корпус корабля. Оглушительный треск вырвался из динамика. Звездолет ощутимо вздрогнул. Романов невольно отшатнулся от экрана. — Извольте! — сказал Топорков. — Попробуйте уверить меня, что это вас не пугает. О, нет! Космические полеты страшны!.. — Но когда дойдет до дела… — А это другой вопрос. Мы знаем, на что пошли. Если бы в вас сомневались, вы не попали бы в число членов экипажа. В начале восьмого часа полета над океаном фотометры отметили постепенное ослабление освещенности. Звездолет достиг полосы сумерок. Позади него Солнце склонялось к восточному горизонту. Благодаря медленности вращения планеты вокруг оси «СССР-КС 3» легко обгонял Солнце. Берег континента по-прежнему не показывался. Белопольский решил еще один час лететь к западу. Если суша не откроется, звездолет вылетит из сумеречной полосы обратно и будет искать «землю» на севере или юге. Постепенно становилось все темнее. Приборы пульта давали возможность вести корабль «слепым полетом», но проникать в область полной ночи было все равно бесполезно. Совершить посадку на материк в темноте было совершенно невозможно. Венера не имела оборудованных ракетодромов. В самый последний момент, когда Мельников, управлявший кораблем, готовился переложить рули и повернуть назад, радиоволны локатора нащупали твердую «землю» и, отразившись от нее, заставили стрелку прибора дрогнуть. Прямая линия на ленте, в течение восьми часов свидетельствовавшая, что впереди нет ничего, кроме воды, резко прыгнула вверх и зазмеилась ломаными скачками, отмечая неровности далекой «земли». Было еще достаточно светло. Материк должен был показаться через несколько минут, если, конечно, это был материк, а не какой-нибудь остров. Но и остров мог оказаться пригодным для посадки. — Кажется, мы выиграли в последний момент, — сказал Белопольский. — Посмотрим! — сдержанно отозвался Мельников. — Судя по прибору, «земля» прямо по носу корабля. Звездолет влетел в очередной грозовой фронт, и всякая видимость исчезла. Создалась опасность пролететь мимо «земли», и Мельников замедлил скорость. Это было не совсем безопасно, — сила водяного потока могла сбросить корабль с высоты, но приходилось сознательно рисковать. Может быть, полоса грозы не широка?.. И действительно, через три минуты звездолет миновал грозу. Перед глазами экипажа открылась оранжево-красная полоса. Если это был остров, то, по-видимому, очень большой и вполне пригодный для посадки и длительной стоянки. Он находился сейчас на самой границе дня и ночи, и на нем вскоре должен был наступить день, долгий день Венеры. Мельников повернул к югу и, ведя корабль на высоте ста метров, внимательно вглядывался в рельеф берега, ища подходящее место… То же делали и все остальные. Профессор Баландин первый заметил узкий залив, глубоко врезывающийся в сушу, окруженный обрывистыми берегами, заросшими огромными деревьями, и сообщил о нем командиру. В этом заливе, защищенном от ветра, вода была спокойна. Подлетев ближе, увидели, что залив имел метров двести в ширину и не меньше чем на километр вдавался в глубь берега. Гавань была очень хорошей. Мельников посмотрел на командира корабля. — Опускайтесь! — сказал Белопольский. — Неизвестно, где и когда мы найдем другую «землю». Описав широкий полукруг, звездолет пошел на посадку. Смолкли двигатели, и, спланировав на крыльях, «СССР-КС 3», взметая пенные буруны своим острым носом, врезался в воду и заскользил по ней на плоских реданах своего днища, как гигантский глиссер. Крылья исчезли в пазах корпуса, и стопятидесятиметровая «сигара» неподвижно застыла на поверхности залива в ста метрах от берега. Несколько секунд экипаж оставался на своих местах. Людям казалось, что наступила какая-то особенная, торжественная тишина. Звездолет чуть заметно покачивался. Потом, как по команде, все устремились к рубке. Белопольский и Мельников, под дружные аплодисменты, обнялись. — Дорогие друзья! — сказал Константин Евгеньевич. — Первая половина нашего пути, самая трудная половина, закончилась. Мы достигли цели: «СССР-КС 3» находится на Венере. Благодарю вас всех! Но в эту радостную для нас минуту вспомним тех, кто способствовал ей на Земле, тех, кто построил наш замечательный корабль. Честь им и слава! Вспомним с благодарностью нашего учителя и друга — Сергея Александровича Камова. Его нет здесь, но мыслями он всегда с нами. Мы на Венере! Но не все, кто улетел с Земли, достигли ее. В одержанной победе есть заслуга и Леонида Николаевича Орлова. Почтим же память нашего погибшего товарища минутным молчанием.
НЕОБЪЯСНИМАЯ НАХОДКА
Звездоплаватели могли смело сказать, — им повезло! Венера неожиданно предоставила кораблю прекрасную естественную гавань. На реке пришлось бы бороться с течением, грозящим вынести звездолет в океан, — здесь вода была неподвижна: высокие обрывистые берега надежно защищали корабль от ветров и волн. Со стороны океана залив был прегражден длинной скалистой грядой. С какой бы стороны ни подул ветер, вода залива должна оставаться спокойной. Если бы показалось Солнце, это место могло стать даже красивым. Легкий прозрачный туман поднимался от темно-синей поверхности воды, напоминая раннее летнее утро на Земле. Коричневая линия берегового обрыва была увенчана сплошной стеной растений и громадных деревьев причудливой формы, окрашенных во все оттенки оранжевого, красного и желтого цветов. Стволы деревьев, странного для глаза — розового цвета, были переплетены густой сетью лиан (так казалось издали). Но вместо голубого неба над заливом и лесом нависала мрачная пелена густых туч. Вместо яркого солнечного света — тусклый полусвет, скрадывающий очертания и придававший пейзажу какой-то призрачный вид. Залив находился в полосе утра, но и днем вид не должен был измениться. Будет немного светлее — и только. Многокилометровый слой облаков, скупо пропускавший лучи дневного светила, создавал на Венере даже в полдень освещение земного вечера. Ученые уже знали, что на сестре Земли постоянно дуют ветры, достигающие иногда силы урагана. По косым струям недавно прошедшего ливня они видели, что и сейчас очень сильный ветер. Но лес, поднимавшийся на высоту ста и больше метров, был странно неподвижен. Ни малейшего движения не замечалось на вершинах деревьев. Словно каменные стояли оранжево-красные великаны, поражая взор исполинскими размерами, застывшие в бурном воздухе своей планеты в непонятном спокойствии. Такими же неподвижными казались и заросли желтых растений, густой массой облепившие нижние части розовых стволов. Если бы не движение воды и тумана, картина выглядела бы мертвой, нарисованной на фоне свинцового неба безумным художником, перепутавшим все краски, которыми следует изображать растительность. Нигде не было зеленого цвета, столь привычного для людей Земли. Чем дольше всматривались звездоплаватели через иллюминаторы обсерватории в окружающий пейзаж, тем более странным он казался. Было трудно убедить себя, что это действительно лес — царство растений. Слишком неподвижными, безжизненными выглядели все эти кусты и деревья. В бинокль были отчетливо видны беспорядочно, одна за другой растущие ветви, похожие на изогнутые трубки, покрытые не листьями, а какими-то разноцветными наростами продолговатой формы. От подножия до вершины стволы деревьев были почти одинаковой толщины, около метра в диаметре, что было еще более странным при такой значительной высоте. Желтые кусты казались сплошной массой, и даже сильные стекла биноклей не могли разделить их на отдельные ветви. Всюду виднелись причудливо переплетающиеся «лианы» с руку толщиной, пурпурного цвета, с черными поперечными кольцами, что делало их похожими на коралловых аспидов, обвивших своими гибкими телами розовые стволы, красные и оранжевые ветви. — Что об этом думаете? — спросил Пайчадзе, отрываясь от бинокля и обращаясь к Коржевскому. — Царство актиний, — ответил биолог. Трудно было придумать более удачное сравнение. Деревья Венеры действительно были очень похожи на исполинские кораллы, на сцифоидных кишечнополостных животных, живущих в теплых водах экваториальных океанов Земли. — А желтые кусты напоминают губки, — заметил Мельников. Профессор Баландин улыбнулся. — По-вашему, получается, — сказал он, — что на Венере нет растений и мы попали в царство животное. — Возможно, что это так и есть, — серьезно сказал Белопольский. — А если вспомнить, что, по данным спектрального анализа, растения Венеры поглощают кислород и выделяют углекислоту, что свойственно животному миру, то даже не удивительно. — Когда же мы выйдем из корабля? — нетерпеливо спросил Коржевский. — Как только Степан Аркадьевич закончит анализ. Доктор Андреев, старший врач звездолета (вторым был Коржевский), был зачислен в состав экспедиции на Венеру не только врачом, но и химиком. Как только «СССР-КС 3» опустился на воду, были взяты пробы воздуха, и теперь Степан Аркадьевич производил его количественный и качественный анализ. Коржевскому, и не только ему, пришлось запастись терпением. Андреев не любил поспешности в серьезных делах, и все знали, что он доложит результаты анализа только после двух, а то и трехкратных проверок своей работы. Часы звездолета показывали половину первого. Это было время ежедневной связи с Землей. Последняя радиограмма была отправлена при подходе к орбите Венеры, ровно сутки тому назад. Члены экспедиции хорошо понимали, с каким нетерпением на Земле ожидают сегодняшнего разговора. Ведь там знали, что «СССР-КС 3» уже опустился на сестру Земли и, конечно, беспокоились, как прошел спуск. Было вполне вероятно, что на радиостанции собрались сейчас родственники экипажа, ученые и все работники Космического института во главе с Камовым. Первая радиовесть с поверхности Венеры была большим событием, и неудивительно, что все члены экипажа корабля (кроме Андреева, не пожелавшего прервать свою работу) попросили разрешения присутствовать при этом событии. Топорков попытался протестовать, но вмешательство Белопольского заставило его подчиниться общему желанию. Но все не могли поместиться на небольшом свободном пространстве радиорубки, ставшим еще более тесным из-за пола, перерезавшего пополам шарообразное помещение. Зайцеву, Князеву, Романову и Второву пришлось остаться в коридоре, устроившись у открытой двери. Радиограмма, в форме рапорта директору Космического института и президенту Академии наук СССР, была составлена и подписана всеми членами экспедиции. Игорь Топорков включил микрофон. На этот раз никто не запрещал ему ввести в действие все резервы мощности, что он, конечно, и сделал. Передача через атмосферу Венеры была во много раз труднее, чем из пространства. К тому же, не зная точно местоположения корабля относительно Солнца, нельзя было поручиться, что антенна звездолета правильно ориентирована, Пайчадзе и Белопольский сделали все возможное, чтобы указать Топоркову направление на Землю, но непроницаемая толща облаков позволила определить это направление только приблизительно. Ровно без пяти минут час по московскому времени Топорков громко и отчетливо сказал в микрофон: — Говорит звездолет!.. Говорит звездолет «СССР-КС 3»! Отвечайте! Отвечайте!.. Перехожу на прием! Радиоволны, зажатые в узкие границы жестко направленной антенны, подхватили его голос и понесли к далекой Земле через девяносто миллионов километров межпланетного пространства. Спустя пять минут они должны были достигнуть «небесной станции» — искусственного спутника Земли и, пройдя через усилители, помчаться дальше, к Москве. После детектирования радиоволна отдаст модулированный на ней голос, и он зазвучит из динамика, находящегося на Земле, так же, как прозвучал только что на Венере. А когда, пройдя тот же путь в обратном направлении, здесь, на станции звездолета, раздастся голос с Земли, первый в истории разговор между двумя планетами станет свершившимся фактом. Гений Александра Попова и Константина Циолковского одержит новую, блистательную победу. И чувствуя приближение торжества этой победы разума, десять звездоплавателей приготовились ждать десять минут, которые должны были показаться им очень длинными. И вдруг… Не прошло и пяти секунд, как из репродуктора раздался человеческий голос… голос Топоркова: — Говорит звездолет! Говорит звездолет «СССР-КС 3»! Отвечайте! Отвечайте! Перехожу на прием! Еще никто не успел осознать, что случилось, как снова прозвучал тот же голос, но уже заметно тише: — Говорит звездолет! Говорит звездолет «СССР-КС 3»!.. И еще несколько раз все тише и тише. Потом все смолкло. Внезапно побледнев, инженер инстинктивно протянул руки к верньерам настройки, но тут же, поняв бесполезность своей попытки, безнадежно махнул рукой и умоляюще посмотрел на Белопольского, словно начальник экспедиции мог ему чем-нибудь помочь. В радиорубке наступило тягостное молчание. Все было ясно — Земля не услышит голос с Венеры. Радиосвязь прервана. В поединке человеческой техники с силами природы победу на этот раз одержала природа. И хотя эта победа была только временной, люди осознали ее с тяжестью в сердце. Приходилось подчиниться судьбе. На Земле ничего не узнают о звездолете, пока не закончатся работы на Венере и он не вылетит в обратный путь. Друзья и близкие членов экипажа были обречены на мучительную неизвестность. — Вы использовали всю мощность? — прервал молчание Белопольский. Его голос звучал так же сухо и спокойно, как всегда. Казалось, что Константина Евгеньевича беспокоит только техническая сторона вопроса. — Всю, целиком, — с тяжелым вздохом ответил Игорь Дмитриевич. Белопольский нахмурился, но ничего больше не сказал. Все молчали. Гнетущую тишину нарушил Пайчадзе. — Не унывайте, друзья! — сказал он. — На Земле поймут. Это беда предвиденная. Перерыв радиосвязи действительно не должен был оказаться чересчур неожиданным для тех, кто на Земле ждал сообщения с космического корабля. Подобная возможность была, как и сказал Пайчадзе, предвидена еще до старта звездолета. Практика радиосвязи с Луной и искусственными спутниками Земли давно показала, что радиоволны иногда отказывались проходить через ионизированный слой, создаваемый в атмосфере солнечной радиацией. В часы активизации деятельности Солнца связь с «небесными станциями» прерывалась. Слой Хевисайда, находящийся на высоте 90–130 километров над поверхностью Земли, создавал труднопроходимый барьер, и только ультракороткие волны могли пробивать его и уноситься в межпланетное пространство, и то при помощи направленных антенн, создающих мощный электромагнитный поток в желаемом направлении. Считалось вероятным, что на Венере, находящейся значительно ближе к Солнцу, чем Земля, солнечные радиации во много раз активнее и должны создать в ее атмосфере мощный ионизированный слой, который мог стать непреодолимым даже для сверхультракоротких волн, несмотря на всю силу генераторов «СССР-КС 3». Кое-кто, в частности Топорков, верили в успех, но правы оказались скептики. Наткнувшись на невидимый экран, которым Солнце окружило сестру Земли, радиоволна, покинувшая антенну звездолета, отразилась обратно на Венеру, которая снова отбросила ее вверх. Так, постепенно замирая, волна несколько раз возвращалась, пока не истощилась вся энергия. Каждый раз, касаясь антенны корабля, радиоэхо «честно» возвращало ей недоставленную радиограмму. — Я только одного не понимаю, — сказал Топорков, оставшись вдвоем с Белопольским: — Как мы могли так отчетливо услышать «эхо»? Звуки должны были слиться друг с другом. Одно «эхо» смешаться со следующим. Ведь окружность Венеры равна всего тридцати семи тысячам километров. Для радиоволн это одна десятая секунды. — Я подумал об этом сразу, — ответил Белопольский. — Очевидно, прохождение радиоволн в атмосфере Венеры происходит очень медленно. Это новая загадка, которую надо разгадать. Пусть это послужит нам утешением за неудачу связи с Землей. — А нельзя?.. — Нет, — резко ответил Белопольский. — Об этом мы не смеем думать. Звездолет сейчас нельзя поднимать в воздух. Будем ежедневно посылать на Землю радиограммы. Может быть, хоть одна из них использует случайную благоприятную обстановку и вырвется из плена. — Вы думаете, что там будут все время дежурить у приемника? Белопольский посмотрел на Топоркова и, пожав плечами, не отвечая на вопрос, вышел из рубки. — Он прав, — сказал инженер самому себе. — Я задал глупый вопрос. Действительно, перерыв связи для тех, кто находился на Земле, был гораздо мучительнее, чем для звездоплавателей. Они знали, что с Землей ничего не случилось, а молчание корабля могло означать катастрофу. Если до сих пор на радиостанции дежурили только в условленные часы, то теперь это дежурство должно стать непрерывным. Иначе не могло быть. Участники полета на Венеру обладали сильной волей, и уныние недолго царило на корабле. Как только Андреев закончил и доложил Белопольскому результаты анализа, все внимание перешло на предстоявший выход из корабля первой партии. Из осторожности в нее было зачислено только четыре человека. Выходили Белопольский, Баландин, Коржевский и, конечно, Второв с киноаппаратом. Анализ воздуха дал малоутешительный вывод. Процент содержания углекислого газа и формальдегида был настолько велик, что не могло быть и речи о свободном дыхании. Находиться вне звездолета можно было только в противогазе. Измерение температуры наружного воздуха в полете дало различные результаты; от сорока до девяноста двух градусов выше нуля. У поверхности залива термометр Цельсия показывал +53°. Вероятно, температура повысится днем, но пока можно было обойтись без охлаждающего костюма. Группе Белопольского предстояло обследовать берега, выяснить возможность воспользоваться вездеходом, а также ознакомиться со странными растениями Венеры. Противогазы, специально сконструированные для пребывания человека в атмосфере Венеры, по смешанному фильтрующе-изолирующему способу, давали возможность дышать в основном воздухом Венеры, очищенном от углекислого газа и формальдегида (с помощью фильтра из соли кислого сернокислого натрия) и обогащенном кислородом из баллона, находящегося на спине исследователя. Благодаря такому способу расход кислорода был сравнительно невелик. Головной шлем представлял собой прозрачный кварцевый шар, герметически соединяющийся с воротником комбинезона. Внутри шлема были вделаны микрофон, динамик и крохотная автоматическая аппаратура для подачи воздуха и удаления продуктов дыхания. Миниатюрная радиостанция помещалась на поясе, штыревая антенна — на спине, рядом с кислородным баллоном. Она намеренно была сделана довольно длинной и оканчивалась выше головы. На подошвах ботинок были металлические пластины, от которых шли пришитые к костюму гибкие провода, оканчивающиеся у основания антенны. Промежуток между антенной и заземляющим проводом, равный одному миллиметру, являлся, таким образом, грозовым разрядником, и костюм отчасти защищал человека от удара молнии. Члены экспедиции еще на Земле прошли специальную тренировку на длительность пребывания и работы при высокой температуре и не боялись ожидавшей их за бортом звездолета тропической жары. На корабле были охлаждающие костюмы, но, как уже говорилось, решили пока обойтись без них. Не были забыты ультразвуковые кинжалы, которыми можно было легко и быстро перерезать «лианы» и другие препятствия из органического вещества, могущие встретиться на пути, мотки крепкой веревки и палки, типа альпенштоков, которые одновременно служили и электровибраторами, — стоило только присоединить их проводом к батарее радиостанции. Такой вибратор мог глубоко войти даже в очень твердую гранитную скалу. Как и на «пустолазном» костюме, наверху шлема был укреплен небольшой прожектор, на случай, если встретится какая-нибудь темная пещера. Неожиданное наступление ночи не угрожало, как на Арсене; залив только вступал в область дня и вечер мог наступить не раньше как через полторы земные недели. Снаряженные таким образом четверо звездоплавателей вошли в выходную камеру, и внутренняя дверь закрылась за ними. Оставалось нажать кнопку — откроется наружная дверь, и они окажутся в атмосфере Венеры. Из предосторожности автоматическое управление дверями выходной камеры было заменено ручным. — Костюмы в порядке? — спросил Белопольский. — Подача воздуха? — Нормально, — по очереди ответили все. — На пульте! Как герметичность двери? — Зеленый, — ответил голос Мельникова. (Подразумевалась контрольная лампочка). — Лестница? — Здесь. — Открываю! Раздвинулась и исчезла в пазах двустворчатая дверь. Даже сквозь плотную ткань комбинезона они почувствовали, как тело охватил влажный и горячий воздух. Легкая дымка тумана заполнила камеру. Внизу, совсем близко, колыхалась вода залива, в темной глубине которой смутно угадывались очертания каких-то не то растений, не то скалистых выступов. Сквозь шлем со всех сторон слышались то отдаленные, то близкие — оглушительные раскаты грома. Временами яркий блеск молнии заставлял закрывать глаза. В ста метрах виднелся желанный берег — высокий обрыв с венчающей его панорамой оранжево-красного «леса». — На Арсене мы в один прыжок были бы на берегу, — сказал Второв. Никто не ответил на это шутливое замечание. Сдерживая волнение, звездоплаватели молча смотрели на открывшийся перед ними, не заслоненный больше стеклами окон пейзаж Венеры. Белопольский попросил Мельникова подать катер. Внизу, под выходной камерой, раздвинулись двери одного из многочисленных ангаров, и оттуда показалась висящая на «стрелах» электромоторная лодка. Сверху она была закрыта прозрачным пластмассовым кожухом, сейчас раздвинутым. Второв установил лестницу, и все четверо один за другим спустились на борт судна, которое свободно могло вместить человек восемь. С центрального пульта были пущены в ход барабаны тросов, доставивших лодку вместе с людьми на поверхность залива. Баландин немедленно опустил в воду руку в тонкой перчатке. Он не почувствовал ни тепла, ни холода, — значит, температура воды равнялась температуре человеческого тела. Термометр подтвердил это, показав +37,2°. Профессор наполнил водой заранее подготовленные бутылки и тщательно закрыл их стеклянными пробками. Коржевский взял на себя роль механика. Отцепив тросы, он включил мотор, и лодка медленно отошла от корабля. Второв приник глазом к окуляру киноаппарата, снимая исторический момент — началась первая экспедиция на Венере. В двадцати метрах от берега лодка остановилась. Измерили глубину; дно оказалось в пятнадцати метрах. Обрыв отвесно спускался вниз. Нигде не видно было удобного места, чтобы высадиться на берег. Высоко над головой виднелись края желтых «кустов», которые и отсюда казались сплошной губчатой массой. Над ними в самое небо поднимались стволы «деревьев»; казалось, что тучи касаются их неподвижных вершин. Ослепительно блеснула молния, ударившая где-то близко, в противоположный берег, и оглушительный удар грома прокатился над «лесом». Они едва успели сдвинуть обе половины кожуха и закрыть лодку, как хлынул чудовищный ливень. Грозовой фронт, один из тех, сквозь которые недавно пролетал звездолет, налетел на залив, мгновенно погрузив его в полную темноту. Все исчезло из глаз — корабль, берег, небо. Они не видели ни воды, ни лодки, ни друг друга и только чувствовали, как сотрясается их судно под тяжестью сплошных водяных потоков, обрушившихся на него. Если пластмассовый кожух не выдержит напора воды, лодка будет мгновенно потоплена. Почти одновременно вспыхнули прожекторы на шлемах Белопольского и Баландина. Осветилась клокочущая белая пена вокруг лодки, неразличимо сливающиеся друг с другом струи ливня и низвергающийся с высоты берега, совсем рядом, бурный водопад. — Отведите лодку немного дальше от берега, — сказал Белопольский. В его голосе не слышно было ни малейшего волнения. Казалось, что опасное положение, в которое они попали, его нисколько не тревожит. Коржевский выполнил приказание, и лодка отошла на почтительное расстояние от водопада. — Как бы нас не вынесло в океан, — заметил Второв. — Здесь нет ветра, — ответил Баландин. — А выдержит ли кожух? — Он рассчитан на такой случай. Если он цел до сих пор, то таким и останется. Опасность нам не угрожает. — Почему нас не вызывает корабль? — спросил Баландин. — Это очень странно. Борис Николаевич! — громко позвал он. Никакого ответа не последовало. — Может быть, на станции никого нет… — нерешительно сказал Коржевский. — Это совершенно невозможно. Товарищ Мельников! — еще раз позвал профессор. Снова молчание. — Они нас не слышат! — Не могут не слышать. Продолжительный, потрясающей силы раскат грома прервал разговор. Словно раскалывалось на части само небо Венеры. Засверкали десятки молний,осветив залив мерцающим светом. Близкой громадой выступил из мрака сквозь стену ливня исполинский корпус звездолета, на котором огненной сеткой дрожали вспышки разрядов, точно на корабль обрушились потоки не водяного, а электрического дождя. Гроза, казалось, еще усилилась. Лодка судорожно задрожала, и они почувствовали, как она начала погружаться в воду. Бешено клокочущая пена все выше поднималась по борту, захлестывая нижнюю часть кожуха.
Внезапно на конце металлического форштевня загорелось голубое пламя, сжалось в маленький светящийся мячик шаровой молнии и лопнуло с оглушающим треском, рассыпав в темноте каскад голубых искр. В наступившей на несколько секунд тишине неожиданно раздался голос Второва. — Я знаю! — сказал он. Никто не отозвался. Подавленные грозной мощью стихии, люди молча ждали; лодка продолжала медленно опускаться, точно какая-то непреодолимая сила затягивала ее в пучину. И вдруг, точно на экране кино один кадр сменился другим, гроза промчалась мимо. Раздался прощальный затихающий гром, и темный занавес ливня, быстро удаляясь, исчез за «лесом» противоположного берега. Все приняло прежний вид, и даже низвергающийся с обрыва водопад как-то сразу прекратился. Словно обрадовавшись, что с нее сняли давящую тяжесть, лодка резко подпрыгнула и закачалась на поверхности залива. — Посмотрите, что творится с компасом! — воскликнул Баландин. Стрелка судорожно дергалась по циферблату во все стороны. — Магнитная буря, — сказал Белопольский. И, точно согласившись с его заключением, стрелка компаса качнулась несколько раз и успокоилась, повернувшись в прежнюю сторону, — туда, где находился неизвестный магнитный полюс Венеры. — Я знаю, — вторично сказал Второв. — Причину радиоэха надо искать в электрических свойствах грозовых фронтов. — Совершенно правильно, — раздался в их шлемах голос Топоркова. — Во время грозы приборы показали исключительную силу ионизации воздуха. — Все в порядке? — спросил Мельников. — Если бы гроза не прекратилась так скоро, то не было бы в порядке, — ответил Баландин. — Мы шли ко дну. — Лодка непотопляема, — сухо поправил его Белопольский. Было очевидно, что радиосвязь прервалась по вине грозы. Радиоволны не проходили через ионизированный воздух и насыщенные электричеством струи ливня. — На Венере, — сказал Топорков, — грозы постоянны. Мы будем иметь частую возможность изучать это странное явление и разгадаем загадку эха. Не было никакой гарантии, что затишье продлится долго. В любую минуту мог налететь новый грозовой фронт. Но никто и не подумал вернуться на корабль. Лодка снова двинулась вперед, на поиски места, где можно высадиться на берег. Но, сколько они ни смотрели, нигде не было никакой возможности причалить. Обрыв всюду был неприступен. Коржевский, управлявший лодкой и менее других занятый рассматриванием берегов, вдруг весь подался вперед и резко повернул руль. — Что случилось? — спросил Белопольский. Биолог молча указал на какой-то предмет, плававший на воде. Второв опустил руку за борт и вытащил из воды длинную плоскую дощечку. Это была… линейка с нанесенными на ней метками делений.
КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ
Если бы в лодке появился неизвестный зверь, выскочивший из воды, они, вероятно, меньше бы удивились. Живое существо, — это было понятно, даже на Венере, где не предполагали найти высокоорганизованную жизнь. Но мертвый кусочек дерева, которому чья-то рука придала форму хорошо известного измерительного инструмента, это бесспорное доказательство разума было совершенно необъяснимо. — Что же это такое? — нарушил продолжительное молчание профессор Баландин. — Может быть, на Венере побывал другой звездолет? — высказал предположение Коржевский. Подобная мысль возникла у всех, как только убедились, что перед ними действительно линейка, а не просто кусок дерева. Белопольский взял линейку из рук Второва и внимательно осмотрел ее. — Это сделано не на Земле, — сказал он. — Деления не соответствуют никаким земным мерам. Единица измерения, примененная при изготовлении этого инструмента, неизвестна у нас. Если линейку потеряли звездоплаватели, то они прилетели не с Земли. Его спутники молча переглянулись. «Не с Земли!..» Неужели на планете побывали обитатели другого мира? Может быть, их корабль и сейчас находится на Венере? Линейка найдена в заливе, куда ее не могли занести волны океана. Все одновременно повернулись к берегу, словно ожидая, что из оранжево-красных зарослей появится вдруг неведомое существо, пришелец с другой планеты. Но все было по-прежнему, никто не появлялся и никакого движения нельзя было заметить на высоком обрыве. Очевидно, на звездолете слышали непонятный им разговор. Мельников спросил, чт случилось. Ему подробно рассказали все. О дальнейшем обследовании залива никто больше не думал. Лодка повернула обратно. Всем не терпелось как следует осмотреть поразительную находку, точно определить, из чего она сделана. Линейка казалась деревянной, но в этом следовало убедиться. Процедура входа на корабль была томительно длинной. Когда наружные двери закрылись, заработал воздушный фильтр. Это продолжалось десять минут. Потом надо было снять комбинезоны, обувь и шлемы, сложить их в специально предназначенный для этого ящик с герметически закрывающейся крышкой и снова фильтровать воздух в течение пяти минут. И только после всех этих предосторожностей стало возможным открыть двери и войти внутрь звездолета. Весь экипаж собрался в лаборатории. Белопольский положил линейку на стол… Долгое время единственными не земными объектами, которые могли быть подвергнуты непосредственному научному изучению, являлись метеориты. С начала эпохи межпланетных перелетов в руки ученых начали поступать образцы пород, собранных на Луне, представители фауны и флоры Марса. Не случайное падение метеорита, а планомерная, сознательная работа человека давала материалы для изучения жизни во Вселенной. Но еще никогда человек не держал в своих руках предмета, искусственно сделанного на другой планете. Можно было допустить, что в результате невероятного стечения обстоятельств кусок дерева был отщеплен и принял форму линейки — плоского удлиненного прямоугольника, но никакая случайность не могла нанести по краю этого прямоугольника ровные, отстоящие друг от друга на одинаковом расстоянии, метки делений. Это могло сделать только разумное существо, знакомое хотя бы с начатками математической науки. — Как странно, — сказал Князев, — что мы натолкнулись на новую тайну сразу, как только опустились на Венеру! Это действительно было странно. Словно кто-то намеренно подкинул линейку, предупреждая, что планета имеет своих хозяев, что она обитаема. — Я все-таки убежден, что на Венере нет разумных существ, — сказал Белопольский. — Откуда же взялась эта линейка? Константин Евгеньевич пожал плечами. — Этого я не знаю, так же, как и вы. — До чего досадно! — сказал Топорков. — Если бы работала связь!.. Ему никто не ответил, но все подумали о том же. Таинственная находка произвела бы сенсацию на Земле. Но связь была прервана. Баландину и Андрееву поручили исследовать находку. — Постарайтесь определить, сколько времени линейка пробыла в воде, — попросил их Белопольский. Звездоплаватели решили продолжить прерванную вылазку. Вместо Баландина в группу был зачислен Топорков. Учитывая высоту обрыва, который был явно неприступен на всем своем протяжении, Белопольский и Мельников приняли решение подвести звездолет к самому берегу. Это не трудно было сделать, — глубина у берегов была вполне достаточной, а силы двигателей двух электромоторных лодок должно было хватить на то, чтобы отбуксировать даже такой громадный корабль. Романов и Князев вышли через две разные камеры и сели в лодки. Один направился к носу корабля, другой — к корме. Зацепив тросами за специально предназначенные для этой цели массивные кольца, они по команде с пульта одновременно пустили моторы на полную мощность. Исполинский «кит» медленно тронулся с места и величественно поплыл в сторону ближайшего берега. Когда корабль получил достаточную инерцию, тросы были отцеплены и обе лодки поспешно удалились на почтительное расстояние. Корабль подходил к берегу очень медленно, но его масса была настолько велика, что удар о береговой обрыв получился значительной силы. Две волны прошли но заливу, и было видно, как на противоположном берегу прокатился пенный бурун прибоя. Механики звездолета — Зайцев и Князев — быстро собрали легкий мостик с перилами и, воспользовавшись случаем, прошли вместе со всей группой в выходную камеру, чтобы установить его. Как и всем остальным, им очень хотелось хоть ненадолго ступить на «землю» Венеры. Когда все надели комбинезоны и шлемы, Белопольский задал традиционный вопрос об исправности подачи воздуха. Получив положительные ответы, он нажал кнопку, и наружная дверь открылась. «Кусты» и «деревья» были теперь так близко, что сразу бросились в глаза незамеченные раньше подробности. Пока механики с помощью Второва возились с мостом, Белопольский, Коржевский и Топорков внимательно осматривали местность. Первоначальное предположение, что «лес» Венеры трудно проходим, полностью подтвердилось. Самые дикие уголки тропических лесов Земли показались бы просторной аллеей в сравнении с перепутанным хаосом «кустов», «лиан» и «деревьев», между которыми по земле стлались сплошным ковром лентообразные кроваво-красные растения с острыми шипами в метр длиной. Всюду, пробиваясь через этот красный ковер, поднимались какие-то странные, мясистые трубки, увенчанные разноцветной бахромой. Прямо напротив дверей выходной камеры находился большой «куст». Сразу стало ясно, что это желтое «растение» не имеет ничего общего с растительным миром Земли. Определение, данное Мельниковым, лучше всего подходило к его внешнему виду. Это была гигантская «губка», с таким же, как у земных губок, комкообразным телом, пронизанным бесчисленными мелкими отверстиями, между которыми во все стороны торчали тонкие острые иглы. Стволы «деревьев» не имели никакой коры. Гладкие, нежно-розовые, они казались почти прозрачными. Как на картине, написанной акварелью, розовый цвет стволов незаметно переходил в красный и оранжевый цвет ветвей. Пунцовые, с черными поперечными кольцами, гибкие «лианы» были пористы с множеством мелких отверстий. Коржевский вдруг схватил и сжал руку Белопольского. — Смотрите! — сказал он, указывая на ствол ближайшего дерева. Пунцовая «лиана», плотно обвивавшая нижние ветви великана, чуть заметно шевелилась. Было такое впечатление, что длинное гибкое тело «кораллового аспида» равномерно сжимается и раздувается дыханием. — Ветер, — тихо сказал Белопольский. Биолог отрицательно покачал головой. — Тут нет ветра, — прошептал он. С напряженным вниманием звездоплаватели всматривались в окружающий пейзаж. — Жизнь! Всюду жизнь! — взволнованно сказал Коржевский. Теперь все ясно видели, что «лес» полон движения. «Дышали» бесчисленные «лианы», равномерно покачивалась разноцветная бахрома трубок, плавно колыхалась, и временами отдельные волоски медленно вытягивались, словно щупальца, отыскивающие добычу. Где-то внутри розовых стволов пробегали вверх темные точки, как в воде цепочка пузырьков воздуха. Красные ленты, стелющиеся по земле, тоже шевелились. Иногда, точно электрический ток проходил по ним, судорожно вздрагивали растущие на них шипы и сама лента изгибалась, словно корчилась от боли, и замирала в новом положении. — Тут ступить некуда, — заметил Второв. Почвы, из которой росли все эти причудливые «растения», совершенно не было видно. До самого края обрыва расстилался живой ковер. — Не понимаю! — сказал вдруг Коржевский. — Это морские животные, которые должны жить в воде. Посмотрите на эти мясистые трубки с венцом щупалец, — это в точности земные актинии. Я убежден, что у них есть ротовое отверстие. Но какую пищу они могут получить из воздуха? А эти иглы? Типично морские образования. А коралловые деревья? Мы точно очутились на внезапно обмелевшем дне моря. А губки? Откуда они могли взяться на суше? Может быть, ливни? — спросил он самого себя. — Нет, нет! Этого не достаточно. Совсем недавно все это место было покрыто океаном. — Почему же оно вдруг обмелело? — спросил Топорков. Белопольский хмурил брови, напряженно думая. Слова Коржевского вызвали какую-то, сразу ускользнувшую мысль, и он старался припомнить, что именно пришло ему в голову, когда биолог говорил о внезапно обнажившемся дне. Вопрос Топоркова послужил толчком его памяти. — Вспомнил! — внезапно сказал он. — Это безусловно так! Отлив! — пояснил он удивленно посмотревшим на него товарищам. — Солнце находится сейчас на восточном горизонте. Оно вызвало отлив. Ночью этот берег был покрыт волной прилива. — Похоже, что вы угадали, — сказал Коржевский. Такое предположение кое-что может объяснить. Ведь ночь на Венере длится долго. — Значит, к вечеру здесь опять будет океан? — спросил Топорков. — Что мы тогда будем делать? — Темнеет! — раздался предупреждающий возглас Князева. Приближалась гроза. Все поспешно отступили в глубь камеры, и Белопольский закрыл двери. Едва он успел это сделать, как дробный стук, сразу перешедший в ровный гул, показал, что на звездолет обрушились очередные потоки ливня. Сравнительно тонкие стенки выходной камеры позволяли отчетливо слышать раскаты грома, треск молний и шум берегового водопада, льющегося совсем рядом. — Грозы не оставят нас в покое все время пребывания на Венере, — сказал Белопольский. — Плохо нам будет, если гроза застанет на открытом месте. Никто не отозвался на это, совершенно справедливое замечание Второва. — Где вы находитесь? — раздался голос Мельникова. — В выходной камере. Просвета не видно? — Ничего не видно. Экраны черные. Приходилось терпеливо ждать окончания грозы. Проделывать снова длительную процедуру входа на корабль не имело смысла. Гроза могла промчаться в любую минуту. Они хорошо знали, что грозовые фронты в большинстве случаев были не широки. И действительно, через двадцать минут гроза прошла. Снова открыли двери. — Что меня больше всего удивляет, — сказал Коржевский, — это отсутствие луж. После такого потопа нет никаких следов. — Они могут быть под этим красным ковром, — предположил Топорков. — Возможно, что там сплошное болото. Вид местности не изменился, но сразу бросилось в глаза, что бывшее раньше чуть заметным движение на берегу усилилось. Чаще дышали «лианы», быстрее шевелились волоски «актиний», заметнее изгибались красные ленты. — Лишнее доказательство, что родной средой этих организмов является вода, — торжествовал биолог. — Вы не ошиблись, Константин Евгеньевич! — Сойдем на берег! — Одну минуту! — сказал Второв, видя, что Белопольский собирается ступить на мостик. — Разрешите на всякий случай обвязать вас веревкой. — Да, пожалуй, это не лишняя предосторожность, — согласился академик. — Геннадий Андреевич, как альпинист, всегда помнит о таких вещах, — улыбнувшись, сказал Топорков. Обвязанный концом крепкой веревки, которую Второв держал в своих сильных руках, Белопольский перешел мост. Он на секунду остановился, выбирая место, куда поставить ногу, и осторожно ступил в узкий промежуток между двумя красными лентами. Потом сделал шаг вперед. — Воды здесь нет, — сказал он. И в то же мгновение провалился. Веревка резко натянулась, но Второв даже не пошатнулся. Одним движением он вытащил Белопольского обратно на мостик. — Вот вам и «такие вещи», — насмешливо сказал он Топоркову. Коржевский помог Константину Евгеньевичу подняться на ноги. Брюки комбинезона были слегка запачканы, но совершенно сухие. Значит, Белопольский провалился не в воду. — Подошва скользнула по твердой покатой поверхности, — сказал он. — Мне кажется, что здесь пористый грунт, и это объясняет отсутствие воды. Она уходит через поры в залив. — Разрешите попробовать мне. — Нет, я сам. Он снова подошел к краю мостика и концом электровибратора прощупал почву. — Держите крепче, — озабоченно сказал Топорков. Второв посмотрел на него и усмехнулся. Белопольский уверенно, хотя и очень медленно, пошел вперед, тщательно прощупывая перед собой дорогу. По тому, как часто его вибратор уходил вглубь, было видно, что он идет по невидимой тропинке между ямами, глубина которых была совершенно неизвестна. Может быть, они доходили до поверхности залива. Отойдя шагов за шесть, Белопольский остановился и повернулся к товарищам. — Идите за мной, привязавшись веревкой друг к другу. Как следует прощупывайте дорогу. Борис Николаевич! — позвал он. — Я вас слушаю, — ответил Мельников. — Поднимите перископ! Внимательно наблюдайте за горизонтом и в случае приближения грозового фронта предупредите нас. — Сию минуту! Над кораблем взвился двухметровый шар. В несколько секунд он поднялся до уровня верхушек розовых стволов и закачался на толстом тросе. Было видно, как ветер тотчас же отнес его в сторону выхода из залива. — Как видимость? — спросил Белопольский. — Вполне достаточная. — Не торопитесь! Предупреждайте нас только в случае явной опасности. Мельников ничего не ответил. — Вы меня слышите? — Конечно, Константин Евгеньевич. — Так что же вы молчите? Белопольский улыбнулся про себя. Он хорошо знал характер своего ученика. Мельников не любил, когда ему делали указания подобного рода. — Берегитесь! — внезапно крикнул Второв. — Шип! Но академик и сам заметил опасность. Острый конец метрового шипа с ближайшей ленты наклонялся в его сторону. В медленном движении «растения» была явная угроза. Почти инстинктивно Белопольский ударил вибратором. Странный шип не сломался на середине, как можно было ожидать, а отлетел целиком. На месте, откуда он рос, из красной ленты выступило несколько капель черной жидкости, как кровь раненого животного. Белопольский подошел к сбитому шипу, поднял его и перебросил товарищам. Одновременно он зорко наблюдал за другими шипами. Каждый раз, как он приближался к ним ближе чем на метр, тонкие «шпаги» наклонялись в его сторону, словно намереваясь впиться в тело острым жалом, но стоило немного отодвинуться — и они принимали прежнее положение. «Актинии» угрожающе вытягивали свои волоски навстречу протянутой к ним руке. Казалось, что тело человека притягивает к себе обитателей Венеры, что они видят чуждое им существо и готовы схватить его. — Надо быть очень осторожными, — сказал Белопольский. — Может быть, они ядовиты. Трое звездоплавателей один за другим сошли на берег. Второв шел последним. Его самого держали Зайцев и Князев, оставшиеся, по приказанию Белопольского, на пороге камеры. Топорков поскользнулся, но его легко удержали товарищи. Коржевский подошел к Белопольскому. Глаза биолога блестели радостью. — Это животные, животные! — повторял он в крайнем возбуждении. — Они охотятся на нас. Понимаете? Они привыкли ловить добычу, когда она приближается к ним. Это значит, что в воде океана есть живые существа, которые движутся… плавают. Вы понимаете, что это значит? — Да, я хорошо понимаю, — ответил Белопольский. — Вот, смотрите! Коржевский схватил руками бахрому «актинии». В ту же секунду гибкие волоски обвились вокруг его кистей и потянули к обнажившемуся круглому отверстию. — Видите, это ротовое отверстие, совсем такое же, как у земных актиний! — в восторге вскричал биолог. Он и не думал противиться, позволяя растению (или, быть может, животному) все глубже затягивать свои руки. Белопольский схватил увлекшегося ученого за плечи и с силой рванул к себе. — Будьте же благоразумны, — сказал он с обычным спокойствием. — Это не земная актиния. Коржевский с огорчением смотрел на оторванные волоски, которые медленно, точно нехотя, раскручивались и падали на землю. — Надо взять одну из них на корабль, — сказал он. — Берите сколько хотите, но будьте осмотрительны. Белопольский сбил ближайший шип и, взяв его в руку, поднес конец к другой «актинии». Волоски тотчас же схватили шип и потянули ко «рту». Все с интересом следили, что будет дальше. Через минуту в руках академика остался, только небольшой кусок шипа. Остальное исчезло. — Вот вам, пожалуйста! Где гарантия, что этого не могло случиться с вашей рукой? — Да! — только и смог ответить сконфуженный биолог. Стало очевидным, что «актинии» Венеры имеют совсем другое устройство, чем их земные собратья. Белопольский попробовал разломить оставшийся в его руках кусок шипа, но тщетно. Он был тверд, как железный, а ведь это хрупкое и мягкое на вид «растение» с легкостью «перекусило» его пополам. — Я назову их: «Actiniaria Ferrumus»[139], — торжественно объявил Коржевский. Длина веревки не позволяла далеко отойти от корабля. Кроме того, надо было соблюдать особую осторожность. Грозы еще не были изучены; любая из них могла быть смертельно опасной. Удастся ли незащищенному человеку противостоять силе водяных потоков, никто не знал. Но, и не отходя далеко, можно было многое сделать. Соблюдая величайшую осторожность, исследователи собрали несколько шипов, с помощью ультразвуковых кинжалов отделили от почвы три «актинии» и значительный кусок красной ленты. Всё это перенесли в выходную камеру. Когда приблизились к первому «дереву», Коржевский тщательно осмотрел его. — Это типично коралловое образование, — заявил он. — Хорошо бы достать кусок ветки. Второв посмотрел вверх. Ответвления от главного ствола начинались невысоко над землей. «Дерево» было густо переплетено «лианами». — Разрешите попробовать, — обратился он к Белопольскому. Константин Евгеньевич с сомнением посмотрел на гладкий, точно отполированный ствол. — Мне помогут «лианы», — добавил Второв. — Только не высоко, — решился начальник экспедиции. — Отломите ближайшую тонкую ветку. И быстрее! Может налететь гроза. В каком положении вы окажетесь на дереве! — Грозового фронта вблизи нет, — сказал Мельников. — Встаньте ко мне на плечи, — предложил Коржевский. Второв, передав киноаппарат Белопольскому, отвязал веревку от пояса и, взобравшись на плечи биолога, ухватился руками за «лиану», обвившуюся вокруг нижней ветви. В следующее мгновение произошло то, чего никто ожидать не мог. Едва только руки Второва сжали пунцовый «канат», как с молниеносной быстротой он раскрутился с ветви и длинный гибкий конец мелькнул в воздухе. В три секунды Второв оказался «спеленутым». Совершенно беспомощный, не имея возможности пошевелить рукой или ногой, инженер повис над головами своих товарищей, ошеломленных этим нападением «растения». Топорков сорвал с себя стесняющую веревку и, в свою очередь, вскочил на плечи Коржевского. Острием кинжала он провел по телу «лианы». Ультразвук, как бритвой, перерезал растительного хищника. Второв упал на руки Белопольского. Сквозь шлем было видно, что он задыхается, сжатый в объятиях «лианы», которая по-прежнему обвивала его тело. Попытка снять путы руками ни к чему не привела, и только звуковым кинжалом удалось разрезать кольца и освободить грудь. Комбинезон оказался разорванным во многих местах. — Скорее на корабль! — испуганно воскликнул Коржевский. Он руками обхватил шею Второва, словно собираясь задушить его. Сквозь прорехи мог непосредственно в шлем проникнуть отравленный формальдегидом воздух Венеры. Белопольский схватил веревку и отрезал от нее порядочный кусок. Этим концом плотно обмотали воротник комбинезона. — У вас ничего не сломано? — спросил Коржевский. — Как будто ничего, — ответил Второв. — У этих чудовищ исполинская сила. У меня все тело болит. — Но идти вы можете? — Конечно могу. Очутившись в выходной камере, Второв протянул руку Топоркову. — Спасибо, Игорь Дмитриевич! — сказал он. — Вы спасли мне жизнь. — То ли еще будет, Геннадий Андреевич! Сегодня я вам, а завтра вы мне. Даже тогда, когда они торопились на корабль, чтобы осмотреть найденную в заливе линейку, процедура фильтрования не казалась такой томительно долгой. Все с беспокойством наблюдали за лицом Второва, ожидая увидеть признаки отравления. Герметичность веревочного воротника вызывала законные сомнения. — Как вы себя чувствуете? — поминутно спрашивал его Коржевский. — Голова болит. — Вы слышите какой-нибудь запах? — Да, очень сильный и неприятный. Значит, формальдегид все-таки проходил, минуя коробку фильтра. На звездолете уже знали обо всем, что случилось. У дверей выходной камеры в полной готовности стоял Степан Аркадьевич с сумкой первой помощи в руках. Баландин и Пайчадзе держали носилки. Как ни велико было беспокойство за здоровье товарища, время, установленное для дезинфекции, было соблюдено полностью. Из выходной камеры можно было говорить только с центральным пультом. Собравшиеся в коридоре ничего не знали о том, что происходит за дверью. Когда она, наконец, открылась, они увидели, что Зайцев и Князев держат Второва на руках. — Он потерял сознание три минуты тому назад, — сказал Белопольский. Андреев молча открыл сумку. — Положите его на пол, — сказал Коржевский. Оба врача склонились над пострадавшим. Через минуту Второв открыл глаза, и Андреев приказал перенести его в лазарет. — Ничего, все в порядке, — ответил он на вопрос Белопольского. Романов и Князев, как самые сильные из всех, понесли носилки. Ходить по звездолету, да еще с грузом, было очень трудно. «Клиника», как в шутку называли лазаретное помещение, по счастью, находилась в этом же коридоре. — Венера щедра на сюрпризы, — сказал Зайцев. — Что-то будет дальше? — Как с линейкой, Зиновий Серапионович? — спросил Белопольский у Баландина. — Она несомненно деревянная, — ответил профессор. — Породы дерева мы не могли определить… — Не удивительно! — Но можно с уверенностью утверждать, что она очень долго находилась в воде. По-моему, не меньше года. — Не меньше года, — задумчиво повторил Белопольский. — Так! Выходит, что линейка попала в воду год тому назад? — Как будто так. — В таком случае бесполезно искать ее хозяев. За такой долгий срок ее могло принести из другого полушария планеты. — А если ее потеряли звездоплаватели, то их корабль давно покинул Венеру, — добавил Мельников. — Звездоплаватели?.. Белопольский пожал плечами. По этому жесту было видно, что Константин Евгеньевич не очень верит в посещение Венеры обитателями другого мира. — Перископ еще наверху? — спросил он. — Конечно нет. — Поднимем его еще раз. Пройдемте на пульт, Зиновий Серапионович! Воздушный шар с подвешенной к нему телевизионной камерой снова поднялся над звездолетом. На экране появился океан. Камера медленно вращалась, и водная равнина сменилась оранжево-красной панорамой «леса». — Поднимите перископ выше! Мельников исполнил приказание. Было заметно, что шар сильно относит к востоку, но все же горизонт расширился. — Так и знал! — сказал Белопольский. — Смотрите! Глазок перископа повернулся в это время к северу. И Баландин и Мельников одновременно заметили вдали темную полоску воды. Такие же полоски оказались с запада и юга. — Мы на острове, — сказал Белопольский. — Когда Станислав Казимирович говорил, что деревья на берегу в действительности кораллы, я сразу подумал, что нам попался не материк, а коралловый остров, который выходит на поверхность только днем, во время отлива. Ночью — это дно океана. Становится понятным, почему здесь нет растительности, которая должна быть на Венере, а только морские организмы. Необходимо отыскать материк и перелететь на него. — Остров совсем не так уж велик, — заметил Баландин. — Даже удивительно, что мы не заметили, подлетая, что это остров. — Было гораздо темнее, — ответил Мельников, — и горизонт был закрыт грозовыми фронтами. — Но все же, — продолжал профессор, — он гораздо больше, чем самые большие коралловые постройки на Земле. Правда, и сами кораллы, если это действительно кораллы, неизмеримо крупнее земных. Во всяком случае, прежде чем улететь, надо тщательно изучить остров. — Безусловно! — согласился Белопольский. — Тем более, что мы и не можем скоро покинуть это место. Кораблю негде развернуться для старта. Он останется здесь до вечера, то есть недели полторы.ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА
На Земле, которая в полтора раза дальше от Солнца, чем Венера, приливная волна достигает в некоторых местах, например в бухте Фанди в Северной Америке, между Новой Шотландией и Новым Брауншвейгом, двадцати одного метра в высоту. Правда, земные приливы обязаны своим происхождением главным образом Луне, притяжение которой заметно влияет на них, но близость Венеры к Солнцу должна была с избытком возместить отсутствие у планеты спутника. По мнению Белопольского и Баландина, приливы на Венере могли достигать восьмидесяти метров. Ночью, когда вслед за Солнцем, уходящим к западному горизонту, на остров надвигается приливная волна, только вершины самых высоких коралловых деревьев остаются над поверхностью океана. Всё остальное погружается в воду. Находящиеся сейчас на суше морские растения и животные с наступлением ночи «просыпаются» для питания и жизни. Днем, оказавшись на воздухе, они впадают в состояние своеобразного анабиоза, наподобие «земной спячки» у некоторых земных животных и растений. К такому выводу пришли Баландин и Коржевский. Уже больше ста часов, почти пять земных суток, звездолет находился на Венере. Научная работа, к которой так тщательно готовились на Земле и в пути, постепенно развертывалась. Помимо вполне естественного желания как можно лучше и полнее изучить то, что никогда и никем не изучалось, и свойственного ученым «ненасытного» любопытства, заставлявшего их забывать об отдыхе, членов экипажа «подгоняли» мысли о Земле. Перерыв радиосвязи, сознание, что близкие люди, ставшие в разлуке еще дороже, мучаются страшной неизвестностью, тяжело переживалось всеми. Постоянная занятость помогала бороться с томящей тоской. Андрееву приходилось часто обращаться к Белопольскому или Мельникову, чтобы поддерживать неизменным установленный ими распорядок дня, а в особенности «ночи». В определенные часы экипаж звездолета обязан был ложиться спать, но почти «ежедневно» кто-нибудь пытался нарушить это правило. За бортом был «вечный» день, — туманная полумгла, не рассеиваемая ни единым лучом Солнца. Чуть ли не через каждый час свет сменялся полным мраком наступающих гроз. Некоторые члены экспедиции начали проявлять нервозность. Андреев и Коржевский ввели обязательные лечебные процедуры, которые должны были ежедневно проходить все без исключения. Попытки уклониться от них, особенно частые со стороны Второва, Топоркова и Князева, решительно пресекались командирами корабля. Сохранить здоровье — это было одной из главнейших задач. Белопольский и Мельников, которые сами чувствовали себя превосходно, первыми являлись в «клинику», показывая пример остальным. — Условия на Венере, — говорил Андреев тем, кто сомневался в необходимости его мероприятий, — настолько необычны для нас, что совсем незаметно может подкрасться болезнь. Нервная система — это всё. Когда она в порядке, человек гарантирован от многих неприятностей. — Я здоров, как никогда, — говорил Топорков. — Не зарекайтесь! Вы не на Земле. Ближайшие окрестности звездолета были уже тщательно осмотрены, и холодильники приняли на хранение обширные коллекции образцов фауны и флоры острова. Звездоплаватели освоились с «коварным» нравом обитателей планеты, и едва не ставший трагическим случай со Второвым больше не повторялся. С каждым днем опасность пребывания на берегу уменьшалась. Чем выше поднималось над горизонтом невидимое Солнце, тем заметнее замирала жизнь. Все медленнее шевелились «лианы», «ленты» и «актинии». Нужно было подойти к ним вплотную, чтобы вызвать ответное движение, которое с каждым часом становилось всё более и более вялым. Природа засыпала на глазах. Частые ливни уже не вызывали оживления, как это было ранним утром. Ученые смелее и дальше проникали в дебри «леса». По-прежнему приходилось опасаться гроз, но и эта опасность благодаря Топоркову почти перестала угрожать. Занимаясь исследованием электрических свойств грозовых фронтов, Игорь Дмитриевич заметил, что ионизация воздуха, которая особенно его интересовала в связи с тем, что могла помочь раскрыть тайну радиоэха, возникает задолго до грозы и постепенно возрастает по мере ее приближения. Это натолкнуло его на мысль использовать ионизацию как своеобразный предсказатель погоды. С помощью Зайцева он сконструировал и изготовил простой прибор — «электрический барометр», который с большой точностью предупреждал о приближении грозового фронта минут за пятнадцать. Такой предсказатель невозможно было переоценить. Он буквально развязал ученым руки. Белопольский немедленно распорядился изготовить несколько таких «барометров», и они были установлены на пульт управления, в радиорубке и в выходных камерах. Теперь звездоплаватели всегда знали о приближении грозы. Как только барометр начинал показывать повышение ионизации, с корабля давали предупреждающий сигнал, и все бывшие на берегу спешили укрыться в выходной камере. Страшный ливень ни разу никого не захватил вне звездолета. Температура наружного воздуха неуклонно повышалась. На пятые сутки термометр показал +70°. Легкая дымка, поднимавшаяся от воды, постепенно превращалась в туман. Звездоплаватели были вынуждены одеться в охлаждающие костюмы. Белопольский торопил с устройством аэродрома, желая осмотреть остров сверху и разыскать континент. На берегу острова были обнаружены явственные следы высокого прилива, и это, по мнению Белопольского, служило доказательством близости материка. В открытом океане, вдали от других берегов, прилив не мог быть таким высоким. Устройством площадки занимались Пайчадзе, Второв, Романов и Князев под руководством Зайцева. Взлетным полем должен был служить залив; реактивные самолеты, имевшиеся на борту «СССР-КС 3», были гидросамолетами, но собрать и держать их на воде было невозможно. Первый же грозовой фронт разломал бы крылья аппаратов. Надо было устроить что-то вроде защищенного ангара и снабдить его приспособлением для спуска самолета на воду и обратного подъема после возвращения из полета. Это было тяжелой задачей, учитывая высоту обрыва и обилие кустов-губок и коралловых «деревьев». Но упорство и изобретательность победили. Пламенем огнеметов и мощными ультразвуковыми аппаратами уничтожили всё, что было на берегу, на пространстве трехсот квадратных метров. Обломками коралловых «деревьев» засыпали многочисленные ямы. Над этой площадкой устроили крепкий навес, прикрепив его к специально для этой цели оставленным стволам. Направленные взрывы разрушили часть берега, образовав пологий склон. Когда установили электролебедку, аэродром был готов. Оставалось перетащить сюда один из самолетов и собрать его крылья. Несколько раз потоки ливня ломали начатый навес, и его приходилось делать заново, но когда он, наконец, был установлен, то самые мощные грозы уже не смогли повредить его. Убежище для самолета было надежным. Доставить гидросамолет в ангар было нетрудно. Спущенный на воду, он был отбуксирован к берегу и лебедкой поднят на площадку. В сборке и установке крыльев участвовали почти все члены экипажа корабля. Было очевидно, что под навесом могут во время грозы прятаться и люди, но Белопольский не разрешил этого, и сборщики самолета укрывались в лодке. На шестой день, 15 июля, самолет был готов в любую минуту подняться в воздух. Белопольский поручил Мельникову совершить первый полет над островом вместе со Второвым, который должен был заснять его с высоты на кинопленку. Кстати сказать, отравление формальдегидом не повлекло за собой никаких вредных последствий, и, пробыв два дня в лазарете, инженер стал здоровым как всегда. Баландин и Коржевский все эти дни тщетно пытались выловить из воды каких-нибудь ее обитателей. Ничто не попадало в их сети, а вместе с тем было несомненно, что в океане Венеры имеются плавающие живые существа, так как иначе трудно было объяснить поведение «актиний» и других организмов на берегу. Оставалось предположить, что все эти существа с наступлением отлива уплывали в открытый океан. Но, несмотря на неудачу «рыбной ловли», звездоплаватели могли быть вполне довольны результатами своей работы. За шесть дней были сделаны такие открытия, которые переворачивали все прежние представления о жизни на сестре Земли, по крайней мере о жизни в ее океане. Кораллы, губки и остающиеся пока загадочными «ленты» были уже не зародышами, а вполне сформировавшимися живыми организмами со сложной структурой. А служившие им пищей неизвестные «рыбы» должны еще выше стоять на эволюционной лестнице. Кораллы и губки Венеры были подобиями земных, но это, на первый взгляд странное, обстоятельство не удивляло ни Баландина, ни Коржевского. Вода в океане была обыкновенной водой, такой же, как в земных океанах. На таких близких друг к другу планетах жизнь должна была зародиться примерно одинаковым путем и в низших формах могла оказаться идентичной. Очень слабый раствор формалина в воде Венеры не мог служить препятствием для развития жизни. Шестнадцатого числа был назначен первый пробный полет над островом. Выждав относительное прояснение погоды, самолет спустили на воду. Мельников занял место пилота, Второв устроился на пассажирском сидении. Взревел мотор, и, прочертив пенную полосу по глади залива, серебристая птица поднялась в воздух. По просьбе Второва, Мельников сделал круг над заливом. Геннадию Андреевичу хотелось запечатлеть на пленке вид корабля, стоявшего у берега. Длинная «сигара» звездолета, с возвышавшейся над его носовой частью сложной конструкцией направленной антенны, была как на ладони. Топорков ежедневно посылал радиограммы, адресованные Земле, и антенна не убиралась внутрь. Они разглядели площадку ангара и крохотные фигурки товарищей, следивших за полетом. Туман сильно мешал наблюдениям. Мельников подумал, что пройдет еще несколько «дней», и остров не будет виден сверху. Испарения с поверхности воды с каждым часом становились все более и более густыми. Самолет летел вдоль побережья. Слева расстилался покрытый белыми греблями пены безграничный океан, справа — оранжево-красный лес, за которым снова виднелась водная равнина. Берег все время был одним и тем же — высокий обрыв, заросший коралловыми деревьями. Часто попадались заливы, большей частью очень узкие, напоминавшие щели, далеко вдававшиеся в сушу. Долетев до южной оконечности острова, Мельников повернул на северо-запад, продолжая следовать за всеми извилинами берега. Прозрачный пластмассовый кожух не мешал киносъемке, и Второв заполнял одну пленку за другой. Ветер теперь был встречный, и о его силе можно было судить по тому, как упала скорость их мощной машины. Вскоре снова пришлось поворачивать, на этот раз на северо-восток. Местность не изменялась, и ничего нового не попадалось на их пути. Всюду была одна и та же картина. Самолет облетел остров кругом за пятнадцать минут, несколько раз пересек его с севера на юг, с востока на запад и обратно. Мельников собирался повернуть «домой», когда Топорков передал, что барометр резко идет вверх и, по-видимому, приближается гроза. — Ионизация стремительно возрастает, — передавали с корабля. — Ее сила значительно больше, чем обычно. Будьте крайне осторожны. Мельников осмотрел горизонт. Действительно, с северо-востока приближалась широкая черная полоса. Быстро вырастая, она, казалось, стремительно надвигалась на остров, сверкая частыми молниями. Медлить было нельзя. Еще пять, шесть минут — и гроза накроет остров. О посадке не приходилось и думать. Это значило бы погубить самолет. Ливень начнется раньше, чем он будет в ангаре. Мельников переключил мотор на полную мощность. Легкокрылая птица быстрее звука помчалась на юг, одновременно поднимаясь выше, к облакам. Если не удастся проскочить перед грозой, то оставался еще путь вверх — над ней, Черная полоса быстро приближалась к самолету, но Мельников уже видел далеко впереди ее конец. Входить в облака и вести машину слепым полетом ему не хотелось, и он повернул немного к западу, уходя от грозы и выигрывая этим время. Им удалось проскочить буквально в последнюю секунду. Зловещая водяная стена промчалась у самого хвоста машины. Как всегда, на Венере грозовой фронт имел резкие, словно обрезанные границы. Если бы не ветер, можно было бы находиться в нескольких шагах от потока, льющегося с неба, и оставаться сухим. Убедившись, что опасность миновала, Мельников снизил скорость и повернул на восток. Остров давно скрылся из глаз. Они были одни, среди просторов чужой планеты, на маленьком хрупком аппарате, с которым дикая мощь стихий могла бы справиться в одно мгновение. Радиосвязь со звездолетом прервалась, как только остров закрыла стена ливня. Острое чувство одиночества охватило Второва. Все кончено!.. Никогда больше они не увидят острова и корабля. Один из грозовых фронтов, видневшихся всюду, куда бы он ни посмотрел, налетит на них, волны океана сомкнутся над сломанным самолетом, и никто не узнает, где нашли они оба свою могилу… Он инстинктивно потянулся вперед, к Мельникову. Борис Николаевич — это все, что ему осталось от многомиллионного населения Земли… Одни!.. Никто не придет на помощь! Широкая спина пилота была неподвижна. Руки в перчатках уверенно держали штурвал. Мельников повернул голову, всматриваясь в горизонт, и Второв увидел сквозь стекло шлема невозмутимо спокойные черты его лица, на котором не было и тенитревоги. И Второв почувствовал, как к лицу хлынула горячая волна крови. Ему стало мучительно стыдно за свои малодушные мысли. Какой же он звездоплаватель, если первое же трудное положение вывело его из равновесия? Гроза пройдет над островом, радиосвязь восстановится, и они, даже если отлетят очень далеко, по радиомаяку найдут дорогу обратно. Он вспомнил, что такой же случай минутного малодушия был с ним и на Арсене, когда он один спустился в круглую котловину. Пролетев пять минут к западу, Мельников повернул обратно. Он не хотел слишком удаляться от острова… Весь северный горизонт закрывал ливень. С юга, угрожающе близко, надвинулся другой грозовой фронт. Самолет поднялся выше. Если оба фронта сомкнутся, будет некуда деваться, кроме как вверх. Они летали уже свыше сорока минут. Сколько времени будет продолжаться ливень над островом? Еще двадцать минут, а может быть целый час. Мельников вспомнил тысячекилометровую тучу, которую они встретили на Венере восемь лет тому назад. Кто знает, может быть, эта еще больше. Оба грозовых фронта шли рядом на расстоянии четверти километра друг от друга, и в этом узком коридоре на самой малой скорости летал с востока на запад и с запада на восток самолет с двумя людьми. Прошло еще пятнадцать минут. Казалось, что северный горизонт никогда не прояснится. — Вот действительно не повезло! — сказал Мельников. — Сколько дней ливни были непродолжительны, а именно сейчас налетела такая громадина. Похоже, что нам с вами, Геннадий Андреевич, придется спасаться в облаках. Второв ничего не ответил. «Коридор» становился все более узким. Тучи сближались. Вот-вот они сомкнутся — и на самолет обрушатся неистовые потоки воды. Больше нельзя было медлить. Мельников взял штурвал на себя. Послушная машина подняла острый нос к небу. Мгновение — и облачная масса поглотила их. Мельников сосредоточил внимание на приборах слепого полета. Он вел машину круто вверх, стремясь опередить тучи, не дать сомкнуться, захватить самолет в свои водяные объятия. Но было уже поздно. Грозовые фронты соединились. Мельников и Второв догадались об этом, когда плотная мгла сменила белесый сумрак. Они почувствовали, что самолет пошел вниз под давящей тяжестью обрушившейся на него воды. — Вот это уже похоже на конец, — сказал Мельников. — Надо было подняться раньше. Приготовьтесь! Как только нас сбросит в океан, скидывайте крылья. Это последний шанс. Конструкция самолета предусматривала превращение его в герметически закрытую лодку. Стоило повернуть специальный рычаг, — крылья и шасси отделятся от корпуса машины, и она, как легкий поплавок, станет непотопляемой. Конечно, исполинские волны будут швырять ее, как щепку, но все же, как сказал Мельников, это был шанс… последний. — Мы врежемся в воду с большой скоростью, — сказал Второв. — Увидим! — отрывисто ответил Мельников. Мотор работал на полную мощность. Длинная огненная полоса тянулась за самолетом, видная даже сквозь сплошной поток ливня. Машина изо всех сил сопротивлялась тяжести воды, но стрелка альтиметра неуклонно и быстро шла вниз. Самолет падал в океан с работающим мотором, находясь почти в вертикальном положении. Мельников напряженно следил за высотой. Он знал, что реактивный двигатель надо выключить раньше, чем машина погрузится в океан, иначе неизбежен взрыв, но хотел сделать это в самый последний момент, чтобы до конца использовать подъемную силу, тормозящую скорость падения. До поверхности океана осталось двести метров. Страшный удар встряхнул самолет. Оглушительный треск электрического разряда… ослепляюще яркая вспышка… Мотор перестал работать. И, точно в насмешку, как раз в это мгновение гроза окончилась. Грозовой фронт прошел. Беспомощный самолет качнулся с крыла на крыло, перевернулся носом вниз и стрелой ринулся в воду. Мельников не растерялся, работая штурвалом, он выровнял самолет в тридцати метрах от воды. — Сбрасывать? — крикнул Второв. — Погодите! Надо опуститься ниже. Планируя на крыльях, машина полого опускалась. Громадные волны обдавали пеной поплавки самолета. Прошла минута… вторая. Они все еще летели. Грозовой фронт промчался, но связь не восстанавливалась. Очевидно, ливень еще продолжался над островом. Он находился где-то сзади. И, по-видимому, очень далеко. Ветер срывал гребни волн; мелкая водяная пыль туманом закрывала видимость. Самолет упорно держался в воздухе. И вдруг волнение стихло. Бушующие волны как-то сразу улеглись. Под крыльями была почти неподвижная, плавно колыхающаяся поверхность. Туман рассеялся. — Берег! — отчаянно закричал Второв. Угрожающе близко, словно вынырнув из бездны океана, на самолет надвигался незнакомый скалистый берег. Мельников инстинктивно рванул штурвал на себя. Но с остановившимся двигателем самолет уже не мог подняться. Гибель была неминуема… Машина уже коснулась воды и мчалась, скользя на поплавках, прямо на скалы.НА ПОМОЩЬ!
Весь экипаж «СССР-КС 3» находился в радиорубке. Топорков сидел у приемника, готовый, как только прекратится проклятый ливень, возобновить связь с самолетом. Приборы показывали, что снаружи воздух насыщен электричеством до опасных пределов. Звездолет очутился как бы внутри огромной непрекращающейся молнии. Грозовой фронт надвинулся на остров пятьдесят минут тому назад, и было неизвестно, когда он, наконец, пройдет. Такой грозы еще ни разу не было. Белопольский, внешне спокойный, сидел рядом с Топорковым, поминутно взглядывая на часы. Все молчали. Мысли звездоплавателей были далеко, там, где одинокий самолет с двумя их товарищами носился в воздухе, отрезанный стеной ливня от острова и корабля. Где он находится? На каком расстоянии отсюда? Они не знали. Может быть, грозовой фронт раскинулся на сотни километров в обе стороны. Время шло мучительно медленно. Но вот гроза прошла, Топорков включил передатчик. Хотя, судя по прибору, ионизация воздуха была еще чрезмерно велика, он все же начал звать Мельникова на волне радиостанции самолета. Личные рации могли отказать, если Мельников и Второв слишком далеко отлетели от острова. Проходили минуты, но связь не восстанавливалась. Прекратились неистовые трески. В эфире стояла полная тишина. Стрелка ионного прибора опустилась к нулю, воздух очистился от электричества. — Говорит звездолет! Где вы? Где вы? Отвечайте! Говорит звездолет!.. — Немедленно приступить к сборке второго самолета! — приказал Белопольский. — Как можно скорее! Все, кроме Топоркова, бросились к двери. — Пайчадзе, Андреев, Топорков и я остаемся на корабле. Константин Васильевич! Сделайте все, что возможно для ускорения работы. — Слушаюсь! — ответил Зайцев. — Говорит звездолет! Где вы? Отвечайте! Отвечайте!.. — Если самолет слишком далеко, — сказал Андреев, — между ним и нами мог оказаться грозовой фронт, и радиоволны не проходят. — Как у них с воздухом? — спросил Пайчадзе. — Для двух человек его хватит на двадцать четыре часа. — Говорит звездолет! Где вы?.. Шли часы… Короткие грозы несколько раз заставляли пятерых человек прерывать работу. Нужно было не менее двенадцати часов, чтобы собрать крылья большого самолета, и эти вынужденные перерывы взвинчивали и без того напряженные нервы людей. Всегда спокойный и уравновешенный Зайцев ругался, как одержимый, ожидая прояснения погоды. Белопольский не выдержал и прислал на помощь Андреева и Пайчадзе. На звездолете осталось два человека. Это было грубейшим нарушением законов космических рейсов. Работа шла бешеным темпом. Все хорошо понимали, что, если Мельников залетел очень далеко, найти остров в просторах океана без радиосвязи невозможно. А она все не восстанавливалась. Они боялись думать, что все уже кончено, что Мельников и Второв давно погибли. Отсутствие связи объясняли грозовыми фронтами. Последнее сообщение с самолета гласило, что он направляется к югу. Значит, в этом направлении и следовало искать. Но для этого надо закончить сборку, выждать благоприятный момент и вылететь. Куда?.. «На юг!» — говорили они сами себе, отгоняя мысль, что «юг» — это весьма неточное понятие. Найти маленькую машину в условиях плохой видимости, при непрерывном маневрировании, чтобы не попасть под ливень, было бы чистой случайностью. Но ничего другого, кроме надежды на такую случайность, не оставалось. Пока не пройдут роковые двадцать четыре часа, никто не прекратит попыток спасти товарищей. Через пять часов после начала работы одно крыло уже стояло на месте. Если не помешают грозы, самолет будет готов на два часа раньше. Два часа! В таких обстоятельствах это было очень много! Казалось, что природа Венеры сжалилась над гостями. Работа шла без задержек. Грозы стороной обходили остров. У микрофона Белопольский и Топорков, сменяя друг друга, непрерывно звали Мельникова, чутко прислушиваясь, не раздастся ли ответ. Но тишина в эфире нарушалась только то близкими, то далекими грозовыми разрядами. — Если радиосвязи мешают грозовые фронты, — сказал Топорков, — то не могут же они быть сплошными. За несколько часов должны были образоваться просветы. Белопольский хмурился. Мысль о гибели Мельникова и Второва все чаще приходила ему в голову, заставляя покрытое морщинами лицо академика бледнеть, как от боли. Он понимал, что его товарищи, изматывая силы, трудятся над почти безнадежным делом, но приказать прекратить работу не мог решиться. Еще шестнадцать часов Мельников и Второв, теоретически, могут быть живы… Через девять часов двадцать минут Баландин неузнаваемо хриплым голосом доложил, что самолет готов. — Разрешите мне и Зайцеву вылететь на поиски. — Ни в коем случае! — ответил Белопольский. — Спустите самолет на воду. Полетит Топорков. Всем, кроме Князева и Романова, немедленно вернуться на звездолет. Он выключил передатчик, не слушая возражений профессора. — Отправляйтесь, Игорь Дмитриевич! Никто из них не в силах лететь. Придется вам одному. В отсутствие Бориса Николаевича я не имею права покинуть корабль. — Я сделаю все, что возможно, — ответил инженер и вышел из рубки. Белопольский остался один. Он знал, что Топорков не будет ждать возвращения других на корабль, а сразу отправится к самолету, сознавал огромную ответственность, которую взял на себя, лишив звездолет всего экипажа. Все может случиться на чужой планете. Но поступить иначе он был не в силах. Возможно, что если бы дело касалось не Мельникова, Константин Евгеньевич сохранил бы благоразумие. Никто, кроме Камова, не знал глубокой привязанности молчаливого и сурового академика к его молодому спутнику в полете на Марс. Мельников был дорог Белопольскому, как родной сын. Не забывая через равные промежутки времени вызывать пропавший самолет, Белопольский наблюдал по экрану за всем, что происходило на заливе. Одновременно он внимательно следил за показаниями электробарометра. Но грозовые фронты, наделавшие столько бед, словно сговорившись, обходили остров. Погода благоприятствовала полету. Сквозь туман он смутно различал лодку Топоркова, скользившую по заливу, видел, как она разошлась с другой, направлявшейся к кораблю. Его приказание выполнялось, и пятеро работавших над самолетом возвращались. Романов и Князев, проводив Топоркова, вернутся на его лодке. Белопольский видел, как крохотная фигурка скрылась в кабине самолета, который тотчас же тронулся с места и со все возрастающей скоростью промчался по воде и поднялся в воздух. С теплым чувством благодарности подумал он о смелом человеке, не задумываясь бросившемся навстречу опасностям, чтобы попытаться спасти Бориса и его спутника. Весь подавшись вперед, он следил за машиной, пока, превратившись в еле заметную точку, она не скрылась среди просторов свинцового неба. «И этот может никогда не вернуться», — мелькнула страшная мысль. Чей-то голос, раздавшийся из репродуктора, заставил Белопольского стремительно выпрямиться. Вызывает Топорков?.. Нет, голос был не Топоркова. Этот голос, такой знакомый, родной… — Звездолет! Звездолет! Говорит Мельников! Говорит Мельников! Отвечайте!.. Еще не веря неожиданному счастью, Белопольский переключился на передачу. — Слышу, Борис, слышу! Где ты? — Самолет стоит у неизвестного берега, к западу от вас. Ударом молнии выведен из строя двигатель. При посадке самолет наскочил на мель. Шасси сломано. Я и Второв не пострадали. От толчка вышел из строя генератор радиостанции, который удалось исправить только сейчас. Снять самолет своими силами не можем. — На поиски вылетел Топорков. Соединитесь с ним на вашей волне. Как с воздухом и продуктами питания? — Я слышал весь разговор, — донесся откуда-то с неба голос Топоркова, — Борис Николаевич! Дайте радиомаяк! — Лететь к нам на самолете незачем, — ответил Мельников. — Возвращайтесь назад! Константин Евгеньевич! Прикажите Игорю Дмитриевичу немедленно вернуться. Если считаете возможным, вышлите за нами подводную лодку. — То есть, как это «считаете возможным»? — рассердился Белопольский. — Мы готовы сделать все, чтобы спасти вас. Но хватит ли вам кислорода? — Его хватит еще на четырнадцать часов. И часа два мы можем жить за счет кислорода в баллонах противогазов. Я считаю, что только подводной… Голос Мельникова неожиданно оборвался. Встревоженный Белопольский тщетно звал его, но он больше не отвечал. — На западном горизонте мощный грозовой фронт, — сообщил Топорков. — Немедленно возвращайтесь! Маяк нужен? — Нет. Остров еще виден. В рубке появился Баландин. У профессора был крайне изнуренный вид. Войдя, он услышал, как Белопольский приказывал Романову и Князеву задержаться у ангара и встретить Топоркова. — Самолет возвращается? Так скоро! Вслед за Баландиным вошли Коржевский, Пайчадзе, Андреев и Зайцев. Белопольский рассказал товарищам о неожиданном разговоре с Мельниковым. Он не забыл включить передатчик, чтобы Романов и Князев тоже слышали. Казалось, что это, столь радостное, известие сразу вернуло всем силы. — Сможет ли лодка выйти из залива? — озабоченно спросил Баландин. — Это мы сейчас выясним, — ответил Белопольский. — Саша! — позвал он. Юного механика все называли по имени. — Слушаю, — ответил Князев. — Как только поставите самолет в ангар, отправляйтесь к выходу из залива и выясните, сможет ли подводная лодка пройти в океан. Промерьте глубину. — Есть! — А если не сможет? — спросил Коржевский. — Тогда мы взорвем скалы, загораживающие выход, — с обычной энергией ответил Белопольский. — На лодке отправятся Зиновий Серапионович и Константин Васильевич. — В таком случае прошу обоих пройти со мной, — сказал Андреев. — Сколько времени займет подготовка лодки к походу? — Если не придется взрывать скалы, то часа полтора. — Достаточно, чтобы вернуть силы. Пойдемте, Станислав Казимирович! Постараемся привести подводников в нормальное состояние. Коржевский, Баландин и Зайцев вышли с Андреевым. Топорков благополучно совершил посадку и, как только самолет был укреплен в ангаре, моторная лодка, не теряя ни минуты, пошла к выходу из залива. Фарватер для прохода подводной лодки был найден и промерен. Но, едва лодка вернулась на корабль, начался новый ливень. Тот самый грозовой фронт, о котором Топорков сообщал по радио, закрыл остров. Но он не задержал работу. Внутри звездолета подводная лодка поспешно оснащалась всем необходимым. Наученные горьким опытом, звездоплаватели старались предусмотреть самое худшее. На лодку погрузили двойной запас продуктов на пять человек, с расчетом на неделю, тройной комплект кислородных баллонов и дополнительных аккумуляторов, тщательно проверили механизм и радиоаппаратуру. Не были забыты водолазные и охлаждающие костюмы. Топорков установил на пульте управления свой электробарометр. Люди торопились, но каждый узел, каждая деталь были трижды проверены. Подводная лодка, построенная специально для рейса на Венеру, была не велика — восемь метров в длину и два с половиной в диаметре. Ее корпус был отлит из пластмассы, крепкой, как сталь, и прозрачной, как стекло. Четыре мощных прожектора давали возможность осветить все пространство вокруг лодки. Два винта, приводимые в действие электромоторами, могли сообщить ей скорость в пятьдесят километров в час. Почти все части оборудования были пластмассовые, что делало лодку легкой и подвижной. Как только грозовой фронт прошел, возобновилась связь с самолетом. Мельников уточнил положение открытой ими земли. По его расчету, она находилась на юго-западо-западе от острова, в ста пятидесяти километрах. Протяженность берега была настолько велика, что лодка никак не могла проскочить мимо. — По-моему, это материк, — сказал Борис Николаевич. — Было бы неплохо, если бы Зиновий Серапионович по дороге к нам осмотрел берега к северу и югу. Надо уточнить, материк это или остров. Мы хорошо видим лес, и это не кораллы. — В каком состоянии самолет? — спросил Белопольский. — Шасси сломано, крыльев нет. Боюсь, что он окончательно не годен. — Я не об этом спрашиваю. В каком состоянии фюзеляж, где вы находитесь? — Он медленно погружается. Очевидно, его засасывает песчаное дно, да еще ливни помогают. — А вы говорите, чтобы Баландин осматривал берега! Хладнокровие Мельникова восхищало всех членов экипажа, торопящихся к нему на помощь. Через два часа лодка, спущенная на воду, готовая стояла у выходной камеры. Появились Баландин и Зайцев. Ни следа утомления не осталось после вмешательства медицины. Оба были полны сил и энергии. — Отправляйтесь прямо к Мельникову и Второву, — сказал им Белопольский. — Что бы ни встретилось на пути, не задерживайтесь. Если Борис Николаевич предложит вам заняться какими-нибудь исследованиями, я запрещаю его слушаться. — Какие же тут исследования? — удивился Баландин. Ему передали разговор с Мельниковым. Профессор только покачал головой в ответ. Опасение, что снова начнется длительная гроза, заставило поторопиться с выходом в океан. Скалистую гряду, запиравшую залив, надо было пройти при ясной погоде, а когда лодка окажется в открытом море, она погрузится в воду, и никакие ливни не будут ей страшны. Тщательно выполненный план фарватера был вручен Зайцеву. Звездоплаватели были теперь почти спокойны. Крепость лодки не вызывала сомнений. Расстояние в сто пятьдесят километров она пройдет, руководствуясь радиосигналами с самолета, за три часа. Пусть даже встретятся непредвиденные препятствия, на преодоление которых потребуется еще три часа, Мельников и Второв вовремя будут сняты с обломков самолета. На специальный запрос Белопольского пришел ответ, что фюзеляж погружается на пять — шесть сантиметров в час. Вода не могла проникнуть в герметически закрытую кабину. Крайнее переутомление взяло свое. Как только лодка отошла от звездолета, все, кроме Белопольского и Топоркова, ушли на отдых. На корабле наступила полная тишина и покой, сменившие недавнюю напряженную деятельность. — Идите и вы на отдых, — сказал Топоркову Белопольский. — Через три часа я вас разбужу. — А вы? — Я устал меньше всех. В репродукторе монотонно звучали сигналы радиомаяка. Иногда Белопольский обменивался фразами с Мельниковым или Баландиным, когда перерывы связи сменялись кратковременным прохождением радиоволн. Все шло пока хорошо… Остался позади извилистый проход между скалами, которым подводная лодка вышла из залива. Сразу началась качка. Чем дальше отходили от берега, тем она становилась сильнее. Легкое судно то взлетало на гребень океанской волны, то стремительно проваливалось вниз. Они не решались погрузиться под воду в прибрежной полосе, опасаясь столкновения с коралловым рифом. Только когда эхолот показал значительную глубину, Зайцев, сидевший за пультом управления, открыл краны заполнения цистерн. Лодка пошла вниз. Уже ставший привычным слабый дневной свет Венеры сменился непроницаемым мраком. На глубине десяти метров качка совершенно прекратилась. Зажгли прожектор. Мощный луч электрического света пробил толщу воды далеко вперед. Сквозь прозрачные стенки корпуса виднелись быстро скользящие неясные тени, которые бесследно исчезали, как только лодка приближалась к ним. — Это несомненно рыбы! — взволнованно сказал Баландин. — Хотя бы одну из них увидеть вблизи! Тише ход! — закричал он, увидя в луче прожектора, совсем близко, мелькнувшее на мгновение длинное тело. — Давайте ни на что не обращать внимания, — предложил Зайцев. — Если это морские животные, они никуда не денутся. Рассмотрим их на обратном пути. Сейчас у нас одна задача — спасти Мельникова и Второва. Мы не знаем, что встретим дальше. Лучше всего точно выполнить полученное приказание. Не надо задерживаться. — Вы правы, Константин Васильевич, — упавшим голосом ответил профессор. — Я увлекся, простите меня. Дайте полный ход. — Это еще рано. Как только обогнули с юга коралловый остров, на экране локатора появилась туманная полоса. Зайцев повернул руль. Нос лодки отклонился больше к западу. Полоса на экране сузилась, стала ярче. Когда она превратилась в узкую черточку, светящуюся зеленым светом, оба мотора были пущены на максимальную скорость. Лодка стрелой помчалась к цели. На Земле радиосигналы, как правило, распространяются в воде хуже, чем в воздухе. На Венере дело обстояло иначе. Ионизация в районах грозовых фронтов, создающая перерывы в прохождении радиоволн, не отражалась на проводимости водяных слоев океана. По указанию Топоркова, Мельников опустил антенну самолета в воду, и сигналы радиомаяка в виде зеленой линии, хотя и ослабленные, не исчезали с экрана подводной лодки. Работавший одновременно звуковой маяк был едва слышен и часто замолкал совсем. Корпус лодки разогрелся от скорости движения, и видимость ухудшилась, но Зайцев не замедлял хода. Приборы локации успокоительно сообщали, что впереди нет никаких препятствий. Стремительно скользящие струйки воды мешали видеть и по сторонам. Профессор Баландин был даже доволен этим. Трудно было не обращать внимания на подводный мир Венеры, куда впервые проник человек. Глядя вперед, он видел, как далеко, в конце светового коридора, то и дело появлялись плохо различимые, но безусловно живые существа, мгновенно исчезавшие в неосвещенном пространстве. Сквозь боковые стенки во мраке вод чувствовалось движение. Смутные тени приближались так близко, что становились почти видимыми. Вспыхивали и погасали разноцветные точки. Баландин с трудом сдерживал желание зажечь все прожекторы и осветить воду вокруг… По тому, как часто прерывалась связь с звездолетом, они узнавали, что наверху один за другим проходят многочисленные грозовые фронты. Но здесь, в глубине океана, ничто не изменялось. Прошел первый час. Пятьдесят километров остались позади. Зеленая линия на экране постепенно становилась все более яркой. Лента локатора указывала, что его луч еще не нащупал берега. Лодка с прежней скоростью мчалась вперед. С напряженным вниманием Баландин и Зайцев вглядывались в освещенную прожектором толщу воды. Могло встретиться неожиданное препятствие, о котором локатор не предупредит их, — какие-нибудь растительные заросли, «прозрачные» для радиоволн и потому не отразившие их обратно. Кто мог знать, какие сюрпризы может поднести человеку сестра Земли?.. Мысли Баландина все время возвращались к загадкам планеты. — Венера, — рассуждал профессор, — давно прошла период первоначального зарождения жизни. Как и на Земле, ее жизнь развилась в океане. Разделение организмов на растительный и животный мир — пройденный этап. Мы можем считать установленным, что растения вышли на сушу и приспособились к неблагоприятным климатическим условиям. Но сделали ли это животные? Или они остались в воде? Принимая во внимание длительность дня и ночи, а так же высокую температуру, которая стоит днем на суше, я был бы склонен считать, что животные остались в океане, где более равномерны условия существования. Это было бы даже очевидно, но найденная нами линейка опровергает такой выход. Ах, эта злосчастная линейка! Она не дает мне покоя. За ней кроется тайна жизни на Венере, и, пока эта тайна не раскрыта, мы не можем ничего считать твердо установленным, каким бы очевидным оно ни казалось. — Значит, вы решительно отвергаете теорию посещения планеты космическим кораблем? — спросил Зайцев. Баландин посмотрел на него со странным выражением. — Скажите, Константин Васильевич, — спросил он после непродолжительного молчания, — среди ваших инструментов на звездолете есть деревянные линейки? — Нет, конечно! — Вы пользуетесь более совершенными измерительными приборами? — Разумеется. — Так почему же мы должны думать, что звездоплаватели с другой планеты, техника которых во всяком случае не ниже нашей, пользуются таким грубым и неточным измерительным прибором? — А ведь это верная мысль! — удивленно сказал Зайцев. — Как это никто не обратил внимания на то, что найденная нами линейка крайне примитивна? — Мне тоже кажется, что это верная мысль. Она высказана Арсеном Георгиевичем, и вы сами натолкнули его на эту мысль. — Я? Вот уж не помню… — Не прямо! Сегодня, когда мы собирали самолет, вы сделали Пайчадзе замечание за то, что он измерил диаметр какого-то отверстия линейкой. Точной, металлической, а не деревянной. Вы сказали ему, что существует штангенциркуль. — Верно, — улыбнулся Зайцев. — Было такое. — Вот тогда Пайчадзе и сказал мне, что, по-видимому, линейку никто не принес на Венеру. Она сделана здесь «человеком» — существом, обладающим сознательным разумом, хотя он может и не походить на нас внешним видом. А разум, способный к математическому познанию, очень высокая ступень эволюционного развития материи. Но где следы деятельности этого разума? Кроме все той же линейки, их нет. — Найдем! — Вот именно, надо найти…ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА
Накренившийся немного набок и на половину погрузившийся в воду, самолет стоял в шестидесяти метрах от берега. Вернее сказать, не самолет, а один только фюзеляж. Когда погода прояснялась, Мельников и Второв открывали пластмассовый кожух и дышали воздухом Венеры через противогазы. Это было выгоднее, из соображений экономии драгоценного запаса кислорода, который следовало беречь. Было неизвестно, когда придет помощь. Подводная лодка шла пока без задержек, но нельзя было поручиться, что так будет и дальше. Непредвиденные препятствия могли встретиться в любую минуту. Мель, совершенно незаметная со стороны, спасла жизнь обоим летчикам. Поплавки самолета налетели на нее в последнюю секунду, когда, казалось, ничто уже не сможет предотвратить рокового столкновения со скалами, с трех сторон обступившими узкий залив. Повернуть, чтобы избежать катастрофы, было некуда, затормозить так близко от берега уже поздно. Летевший с большой скоростью самолет и после остановки мотора сохранил огромный запас инерции. Все произошло в несколько секунд. Оба звездоплавателя уже простились с жизнью, когда страшный удар отшвырнул их к передней стенке кабины. Мельников рассек лоб о штурвал. Второв ударился о приборную доску, и разбившийся шлем порезал ему щеки и подбородок. С окровавленными лицами они поднялись, еще не понимая, чт произошло, и зная только, что остались живы. Оказав друг другу первую помощь, осмотрелись. Самолет неподвижно стоял на мели, посреди спокойной воды залива. Поплавки глубоко врезались в песок, и это помешало машине опрокинуться при внезапной остановке. Шасси было сломано, приборы управления разбиты, тросы оборваны. Кругом высились, по-видимому, гранитные, скалы. Поднимавшийся от воды пар мешал разглядеть мелкие подробности, но хорошо было видно траву или что-то вроде травы желто-коричневого цвета, росшую на обрывах. Еще дальше — верхушки деревьев, настоящих, не коралловых, с ветвями и листьями шевелились под ветром. Какого цвета были их стволы и как они выглядели, мешал рассмотреть гребень берега. — Как можно скорее надо связаться с кораблем, — сказал Мельников. — Своими силами нам не выбраться. Второв молча указал на радиостанцию. Она представляла собой печальную картину. Поблескивали разбитые стекла приборов, висели какие-то оборванные провода. При ближайшем рассмотрении оказалось, что генератор, сорванный с места, вышел из строя. Мельников нахмурился. — Я не радист, — сказал он. — Вы тоже. Но если мы не восстановим связь, то погибнем. Кислорода хватит только на двадцать четыре часа. — Нас будут искать другим самолетом. — Его надо собрать, а это займет много времени. — Мельников замолчал, потом тихо добавил: — Они не знают, куда мы улетели. Второв вспомнил. Он сам радировал на корабль, что самолет направляется к югу, убегая от грозы. О повороте на запад они уже не могли сообщить. Где их будут искать? Конечно, к югу от острова. «Смерть!» — подумал Второв с острым чувством безнадежности. — Значит, все кончено? — спросил он, стараясь говорить спокойно, но голос предательски дрогнул. — Ну, зачем так поспешно делать выводы? Будем бороться! Доставайте-ка аварийный комплект радиодеталей. — Вы думаете, что… — Нам не о чем думать. Если мы не отремонтируем передатчик, то погибнем. Значит, надо его отремонтировать во что бы то ни стало. Вот и всё! — Попробуем! — сказал Второв. Слова, а главное тон, которым говорил Борис Николаевич, вселили в него надежду. Не теряя времени, взялись за дело. Налетевший грозовой фронт не помешал им. Защищенные крепким кожухом, при свете электрических ламп они заменяли разбитые части радиоустановки новыми. Приходилось механически устанавливать детали на те же места, с которых снимали поврежденные, и с крайней осторожностью соединять порванные провода. Спутать хоть один из них с другим — значило свести на нет всю работу. С благодарностью вспоминали они при этом уроки Топоркова по радиотехнике, которые, по приказанию Белопольского, слушали все члены экипажа «СССР-КС 3». Без этих, пусть неполных и поверхностных, знаний невероятно трудная работа никогда не увенчалась бы успехом. Они даже не заметили, как над самолетом одна за другой пронеслось несколько сильных гроз, и очень удивились, когда обнаружили, что с начала работы прошло девять часов. Радиоустановка была отремонтирована. Но будет ли она работать?.. — Попробуем! — сказал Мельников. — Медлить ни к чему, — согласился Второв, Когда раздался сухой щелк включенного генератора, он невольно закрыл глаза. — Слышу, Борис, слышу! Где ты?.. Голос Белопольского… Почему сразу ответ? Разве Мельников говорил что-нибудь?.. Спокойный голос Бориса Николаевича звучал в кабине разбитого самолета призывом к жизни. Второв почувствовал легкое головокружение. Захотелось полной грудью вдохнуть чистый морской воздух. Но его не было. Снаружи был отравленный воздух Венеры. — Я считаю, что только подводной лодкой… Потухшая лампочка индикатора прервала фразу. Связь оборвалась. Где-то между ними и островом проходил грозовой фронт. — Признаться, я сомневался в успехе, — сказал Мельников. — Думал, что мы не сумеем исправить передатчик. — Я тоже, — тихо ответил Второв. — Посмотри, Геннадий! — сказал Мельников, незаметно для себя самого перейдя на «ты». — У самолета нет крыльев. Действительно, оба крыла, очевидно, сломанные ливнем, исчезли. Когда это случилось и почему они не слышали шума и треска ломающегося металла, ни тот, ни другой не могли объяснить. — Мне кажется, что самолет глубже погрузился в воду, — сказал Второв. — А мне не кажется, — ответил Мельников. — Я в этом уверен. Его затягивает песок., Он сказал это так просто, что Второв не решился задать напрашивающийся вопрос, что будет, когда самолет целиком уйдет под воду. Лодки, чтобы перебраться на берег, у них не было. Надувная шлюпка лежала в крыле и исчезла вместе с ним. Через два часа Белопольский сообщил, что подводная лодка отошла от звездолета. Потянулись часы ожидания. Кабина медленно, но неуклонно погружалась все глубже. Вода дошла уже до края кожуха. Часто налетали ливни, и сила водяных потоков еще больше вдавливала самолет в песок мели. Скоро пришлось отказаться от наружного воздуха и целиком перейти на кислородные баллоны. Открыть кожух — значило пустить в кабину воду. Ее уровень был на несколько сантиметров выше борта. — Жаль, что у нас нет водолазных костюмов, — сказал Мельников. Когда прояснилось, они внимательно рассматривали в бинокли берега, окружавшие их с трех сторон. Не было никакого сомнения, что перед ними настоящие деревья — гигантские представители растительного мира. Листва была ярко-оранжевой. За стенками кабины сильный порыв ветра пронесся по заливу. Мелкой рябью покрылась поверхность воды, зашевелилась трава на берегу, сильнее закачались верхушки деревьев. — Как не похожа эта картина на пейзаж острова! — сказал Второв. — Там мертвый покой, здесь жизнь. Не хватает только птиц. — Посмотри на листву. — Мельников протянул руку к берегу. — Вот где совершенно непонятная вещь. Как могут держаться листья при таких ливнях? — Вероятно, они устроены иначе, чем листья земных деревьев. — Это безусловно так. И их надо основательно осмотреть. Кратковременная, но сильная гроза прервала разговор. При шуме потока, тресках молний и раскатах грома они не слышали друг друга. Клокочущая пена целиком накрывала кабину. А когда прояснилось, они увидели, что над водой осталась незначительная часть кожуха. Еще один — два грозовых фронта — и поверхность залива сомкнётся над ними. — Кажется, самый раз прийти подводной лодке, — заметил Второв. — Придет в свое время. На панели приемника замигала лампочка вызова. Второв повернул ручку верньера. Вызывал Топорков. — Как положение? — спросил он. Мельников опередил своего товарища, собравшегося ответить. — Без особых перемен, — поспешно сказал он. — Погружение? — Идет нормально. Ничего угрожающего. — Я уже давно не имею связи с лодкой, — сказал Топорков. — Где она? — Километрах в пятидесяти. Было слышно, как Игорь Дмитриевич тяжело вздохнул. — Мы очень тревожимся за вас. — Нет никаких оснований. Связь снова прервалась. Условия прохождения радиоволн на Венере были на редкость капризны. — Зачем вы их обманываете? — спросил Второв. — Не лучше ли сказать правду? Мельников не сразу ответил. Он смотрел на Второва, словно изучая его лицо. — По личному опыту, — медленно заговорил он, — я знаю, что переживать бедственное положение товарища гораздо труднее, чем самому находиться в таком положении. Они ничего не могут сделать для нас, кроме того, что уже сделали. Что же мне им сказать? Что лодка может подойти не раньше как через час, они сами знают. Что, если пройдут еще два ливня, мы окажемся под водой и найти нас будет неизмеримо трудней? Что любой грозовой фронт может оказаться таким же длительным, как тот, который послужил причиной нашего теперешнего положения?.. Он с минуту молчал, потом спокойно произнес: — Правда хороша всегда, но во имя спокойствия друзей ею иногда надо жертвовать. Пусть они думают, что у нас все по-прежнему. — Вы думаете, что наше спасение еще под вопросом? Мельников улыбнулся. — Ты сам знаешь «милый» характер Венеры. Пока мы не окажемся внутри лодки, я ни в чем не уверен. Но сейчас у нас неизмеримо больше шансов, чем до ремонта радиостанции. Тогда не было почти ни одного. Но и это еще не причина приходить в отчаяние. — А если бы радиостанция не заработала? — Вот тогда мы оказались бы в серьезном положении. Возможно, что пришлось бы погибнуть… Этот последний час ожидания был самым длинным. Казалось, что секунды превратились в минуты… Баландин сообщил, что локационный прибор показывает твердую землю в пятнадцати километрах от лодки. Это мог быть только тот берег, возле которого находился самолет, — подводная лодка шла прямо на него. Прошло еще двадцать минут, в продолжение которых ни один ливень не обрушивался на залив, и лодка подошла совсем близко. Маяк был выключен: в нем не было больше никакой нужды. — Вот нам и достался тот шанс, о котором вы говорили, — весело сказал Второв. Вместо ответа Мельников поспешно наклонился к микрофону. — Зиновий Серапионович! — Слышу. — Не всплывайте! Держитесь на глубине! Приближается мощный фронт. Из-за вершин леса, зловеще поднимаясь все выше и быстрее, надвигалась широкая темная полоса. По количеству молний, по раскатам нарастающего грома Второв понял, что это не кратковременный, а долгий, затяжной ливень. Края водяного занавеса скрывались в туманной дали. — Ну, держись, Геннадий! — сказал Мельников. — Это последнее и самое серьезное испытание. Сорок минут непроницаемый мрак скрывал от них положение кабины; сорок минут неистовствовала вокруг разнузданная ярость стихии. При свете лампы они видели над головой только белую пену. Удары грома приглушенно доносились до них. Это могло быть следствием того, что кабина ушла вглубь, ниже поверхности залива. И Мельников и Второв были уверены, что не увидят неба, когда гроза пройдет, что они уже «с головой» погрузились в воду. Но, когда, наконец, грозовой фронт промчался, они, к своему величайшему удивлению, не заметили никакой перемены в положении. Уровень залива относительно кабины был на той же высоте, что и раньше, до грозы. Сорок минут тяжесть водяного потока «вдавливала» самолет, но он ни на сантиметр не опустился ниже. — В чем тут дело? — озадаченно спросил Второв. — Вероятно, мы легли на плотный грунт. Это было единственным и, по-видимому, правильным объяснением. Теперь уже никакая опасность не угрожала и можно было бы спокойно ждать еще несколько часов, пока не истощатся запасы кислорода. Но в этом не было нужды, — подводная лодка находилась где-то близко. — Вы были правы, Борис Николаевич, — сказал Второв. — Если бы мы сказали правду, то доставили бы этим много напрасных волнений. — Запомни, Геннадий! — ответил Мельников. — Основное правило — думать всегда о других прежде, чем о себе. Это всегда полезно, а в космических рейсах является законом. Следуй этому закону — и ты никогда не ошибешься. — Ваших слов я не забуду, — с чувством сказал молодой инженер. Ожидать пришлось всего несколько минут. Недалеко от них забурлила вода, и прозрачная «спина» подводной лодки показалась на поверхности залива. Можно было только поражаться изумительному искусству, с которым Зайцев провел лодку в совершенно неизвестном ему океане Венеры, руководствуясь сигналами радиомаяка, точно к цели. Открылся люк, и над ним появилась голова профессора Баландина в шлеме противогаза. Вступили в действие личные рации. — Друзья мои! — сказал он. — Да ведь вы совсем затонули. Сию минуту снимем вас. — Можно не торопиться, — ответил Мельников. — Кабина больше не погружается. Зайцев, тоже вышедший наверх, приветствовал друзей жестами обеих рук. — Вы так погрузились в воду, — сказал он, — что еще немного или будь тут малейшее волнение, — мы не смогли бы увидеть вас. Опасаясь новой грозы, поспешно вынесли и опустили на воду надувную резиновую лодку. Зайцев подплыл на ней к затонувшему самолету. Инженер был одет в непромокаемый костюм, не имевший охлаждающей системы, и почувствовал себя словно внутри доменной печи. Горячий воздух, нагретый до восьмидесяти градусов, проходя через фильтр противогаза, обжигал лицо и затруднял дыхание.
Не мешкая он прыгнул в воду и, ощупью отыскав стойку стабилизатора, прикрепил к ней конец троса. — Тащите! — крикнул он, забираясь обратно в лодку и отплывая в сторону. Баландин дал задний ход. Выходной люк подводной лодки имел свой самостоятельный пульт управления, и, чтобы пустить моторы, не нужно было проделывать длительную процедуру входа внутрь. Полторы тысячи лошадиных сил, заключенные в моторе, «шутя» вытащили самолет из песчаной могилы. Через несколько секунд он всплыл на поверхность и был подтянут вплотную к борту лодки. — Добро пожаловать! — пошутил Баландин, обнимая спасенных. — Вы блестяще выполнили задачу, — сказал Мельников. — Спасибо! Прежде всего связались со звездолетом и сообщили о благополучном завершении спасательной операции. Ко всеобщему удовольствию, радиосвязь действовала. — Что делать с самолетом? — спросил Мельников. — Нельзя вынести его на берег? — Невозможно. Кругом почти отвесные скалы. — Значит, придется его бросить. Пользуясь передышкой, предоставленной грозами, фюзеляж самолета полностью разгрузили. Пустая кабина с открытым кожухом будет потоплена первым же ливнем. — Жаль машину, — сказал Мельников, — но что поделаешь! — Хорошо бы выйти на берег и осмотреть его, — предложил Второв. — Здесь это опасно. Слишком круты скалы. Постараемся найти такое место, где можно в случае грозы успеть укрыться в лодке. — Надо направиться прямо на корабль, — вдруг сказал Баландин. — Вы ранены. — Это не раны, а царапины, — ответил Мельников. — Мы о них совсем забыли. Профессор продолжал настаивать. Мельникову и Второву с трудом удалось уговорить его не сообщать на звездолет о полученных ими, действительно, незначительных повреждениях. Баландин согласился только тогда, когда лично осмотрел обоих и переменил неумело наложенные повязки. — Константин Евгеньевич будет очень сердиться, — сказал он. — Это я беру на себя, — ответил Мельников. — Зачем терять время? Мы у неизвестной земли, и надо исследовать ее. Было решено пройти на лодке вдоль берега и выяснить, остров это или материк. Держась в надводном положении, лодка вышла из залива и повернула на север. Кабина самолета осталась покачиваться на воде, в ожидании очередной грозы, которая пустит ее на дно. Линия берега тянулась в обе стороны до самого горизонта. Сколькохватал глаз, она была сплошь заросшей лесом из гигантских оранжево-красных деревьев. Иногда он подходил к самой воде, иногда отступал, образуя поляны, покрытые желтой и коричневой травой. У подножия деревьев виднелась сплошная стена более низкой растительности. Были это кустарники или молодая поросль тех же деревьев, нельзя было определить. Из осторожности лодка держалась в двухстах метрах от берега. Здесь было уже заметное волнение, качка мешала наблюдениям, но с этим приходилось мириться. Зайцев опасался сесть на мель. Когда проходили грозы, подводная лодка опускалась в глубину и пережидала стоя на месте. Этими остановками пользовались, чтобы осмотреть подводный мир, но он был очень беден. При свете прожекторов они видели только красноватые водоросли и пунцовые мхи, облепившие каждый выступ, и многочисленные камни, лежавшие на песчаном дне. Ни рыб, ни моллюсков. Действительно ли их не было здесь или они исчезали, когда появлялась лодка и загорался ее свет? Кто мог ответить на этот вопрос? — Мы собственными глазами видели живых существ в океане, — говорил Баландин. — Положим, это не совсем так, — поправлял его Зайцев. — Мы их не видели, а предполагали, что видим. Может быть, это были не животные, а плавающие растения. Профессор не соглашался. — Разве вы не помните, — отвечал он, — что, попав в луч прожектора, эти «растения» спешили уйти в темноту, что совершенно естественно для животных Венеры, привыкших к мраку? Здесь, у берега, ни животных, ни плавающих растений не было видно. Час за часом подводная лодка шла на север. Радиосвязь со звездолетом прерывалась только по вине грозовых фронтов. Характер местности не изменялся. Все тот же лес тянулся без конца, закрывая западный горизонт. Берега были все такими же высокими и обрывистыми. Попадались небольшие холмы, так же заросшие деревьями. Ни малейших следов другой, не растительной, жизни не замечалось. Уже больше суток никто из них не смыкал глаз, но, как это ни странно, об усталости вспомнили не на лодке, а на корабле. Доктор Андреев категорически потребовал, чтобы они остановились «на ночь». Мельников поддержал это требование. Все с удовольствием согласились. Лодка погрузилась и легла на грунт. Поужинав, легли спать. Сказалось физическое и нервное утомление. Экипаж лодки проспал десять часов подряд. Отдохнувшие и освеженные, поднялись на поверхность и поплыли дальше. Снова потянулся нескончаемый лес. От места, где оставили кабину самолета, отошли километров на двести. Внезапно береговая полоса круто повернула на северо-запад. Далеко на горизонте виднелся другой берег, идущий как будто параллельно. — Залив, — сказал Баландин. — Будем заходить в него? — Разумеется, — ответил Мельников. Залив, по-видимому, очень глубоко врезывался в сушу. Замыкающий его берег был не виден даже в бинокль. Лодка шла вдоль южного побережья. Несколько раз грозы заставляли останавливаться и погружаться. — А может быть, это не залив, а пролив? — высказал предположение Зайцев. — Возможно. — Мельников пристально всматривался в противоположный берег, который стал заметно ближе. — Остановитесь! Приказание было выполнено. Лодка слегка покачивалась с кормы на нос. — Смотрите на берег! Теперь все заметили, что лодка не стояла на месте, а медленно двигалась назад. — Это не залив и не пролив, а река. Та самая, которую мы видели, пролетая на «СССР-КС2», — сказал Мельников. — Константин Евгеньевич, как всегда, оказался прав, — заметил Баландин. — Это материк. — Пройдемте дальше, вверх по реке, — предложил Зайцев. — Берег должен стать ниже, и тогда можно будет высадиться на него. Его предположение оправдалось. Уже через час стало заметно понижение берегов. Обрыв постепенно опускался к воде, становился менее крутым. Поверхность реки была пустынна. Иногда попадались ветви, плывшие по течению, навстречу лодке. На исходе четвертого часа пути гидрофоны передали на пульт отдаленный гул. Было похоже, что где-то впереди находился водопад. Лодка замедлила ход. Берег сходились все ближе и ближе. Река суживалась, течение становилось быстрее. Еще около трех километров осторожно продвигались вперед. Шум становился все более явственным, Наконец увидели его источник. Поперек реки, которая в этом месте имела не больше трехсот метров ширины, протянулось нагромождение огромных камней. Вода с ревом неслась между ними, крутясь пенными водоворотами. В воздухе стоял туман водяных брызг, — Обыкновенные пороги, — сказал Мельников. Товарищам послышалось разочарование в его голосе. Но что он рассчитывал увидеть? — Наше путешествие по реке окончилось, — сказал Баландин. — Дальше лодка не пройдет. — Мне кажется, что именно здесь лучше всего выйти на берег. Как вы думаете, Борис Николаевич? — спросил Зайцев. — Да, именно здесь, — подчеркивая последнее слово, ответил Мельников. Он казался чем-то очень недовольным. Зайцев направил лодку к северному берегу, который был заметно ниже южного. На тихом ходу лодку сильно сносило течением. Лес почти вплотную подходил к реке, но перед ним была узкая, поросшая травой полоса, полого спускавшаяся к воде. — На берег выйдем вдвоем, — сказал Мельников: — я и Зиновий Серапионович. Киноаппарат я возьму сам, — прибавил он, видя, что Второв собирается возразить. Геннадий Андреевич только тяжело вздохнул. На его несчастье, заместитель начальника экспедиции прекрасно владел искусством киносъемки. Приходилось молча подчиниться. Лодку удалось подвести к самому берегу. Глубина оказалось вполне достаточной для судна, осадка которого не превышала полутора метров. — Внимательно следите за барометром, — говорил Зайцеву Баландин, одеваясь, как и Мельников, в охлаждающий костюм. — Как только он начнет показывать ионизацию, немедленно предупредите нас. — Не беспокойтесь! Предупредим вовремя. Но не удаляйтесь слишком далеко от лодки. Через двойной люк Баландин и Мельников выбрались наверх. Берег был так близко, что можно без труда перепрыгнуть на него. Но, прежде чем это сделать, они внимательно осмотрелись. — Тпи как будто нет, — сказал Мельников. — Но на всякий случай обвяжите меня веревкой. Я прыгну первым. — Это будет самое лучшее, — согласился Баландин. Мельников прыгнул. Его ноги погрузились по щиколотку, и из-под травы брызнула вода. Он быстро сделал несколько шагов по склону и вышел на сухое место. — Прыгайте, профессор! — Одну минуту! — раздался голос Второва. — Погодите! Борис Николаевич, — сказал он тоном упрека, — если вы взялись за мое дело, то относитесь к нему как следует. Снимите, как Зиновий Серапионович будет сходить на берег. — Успокойся! — ответил Мельников. — Я потому и прыгнул первым, чтобы это сделать. На самом деле он совершенно забыл про камеру, висевшую на груди, и поспешил выполнить законное требование оператора экспедиции. Гигантские деревья, вершины которых находились где-то в небе, были теперь так близко, что можно было хорошо рассмотреть их. Ничего общего с «коралловыми деревьями», растущими на острове, не было. Это настоящие деревья — исполинские представители растительного мира. Стволы, имевшие у земли до трех метров в диаметре, были покрыты гладкой корой красноватого цвета с темно-вишневыми пятнами. Ветви с длинными листьями начинались высоко, и до них невозможно было добраться. Между деревьями густо разросся оранжевый кустарник, переплетенный какой-то другой, не такой, как под их ногами, высокой, в рост человека, травой странного, мертвенно-белого цвета. Ветви кустарника были усеяны острыми шипами. Обоим звездоплавателям сразу бросилась в глаза особенность этих деревьев, отличающая их от земных пород. Образно можно было сказать, что если на Земле деревья стояли «на одной ноге», то деревья Венеры имели их несколько. По пять, по шесть, а иногда и больше, стволы соединялись между собой на высоте тридцати — сорока метров над землей и уже дальше, выше, переходили в ветви, образуя своеобразные арки. — Никакой ураган не вырвет такое дерево из земли, — задумчиво сказал Мельников. — Но ведь мы же видели в прошлый раз плывущие деревья. — Возможно, что в другом месте, где-нибудь выше по течению, они не так грандиозны. Мельников пошел вперед, к порогам. Баландин видел, что какая-то навязчивая мысль не дает покоя его спутнику, и решил спросить его, как только подвернется удобный случай. От места, где причалила подводная лодка, до порогов было порядочное расстояние. Профессор подумал, что они могут не успеть вернуться, если налетит гроза, и сказал об этом Мельникову. — Я думаю, успеем. Барометр Топоркова предупреждает о приближении грозы минут за пятнадцать. А если и не успеем… — Мельников показал рукой на лес, находившийся совсем рядом. — Посмотрите, как густо растут эти стволы. Вместе с ветвями они образуют непроницаемую крышу. По-моему, под ними можно укрыться от ливня. — А если нет? Мельников остановился и посмотрел в глаза Баландину. — Если вы боитесь рискнуть, — сказал он сухо, — то возвращайтесь на лодку. — Я, кажется, не давал вам повода считать меня трусом, — обиделся профессор. — Я этого не говорил. Но понятие о благоразумии у людей различно. В будущем нам придется тщательно обследовать лес. Как видите, вездеходом нельзя будет воспользоваться. Придется углубляться в него пешком. Кому-нибудь надо первому испытать, дает лес надежное убежище от грозы или нет. Я хочу сделать это. Пожалуй, вы правы. Лучше мне одному подвергнуться опасности. Идите обратно! — Я вас не оставлю, — твердо сказал Баландин. — В таком случае идем дальше. «Константин Евгеньевич, наверное, не одобрил бы такого эксперимента», — думал Баландин, идя за Мельниковым. Они дошли до возвышенного места, откуда можно было хорошо рассмотреть пороги. Выше по течению берега снова расходились в стороны. Широкий простор водной поверхности был пустынен. Мельников пристально всматривался в противоположный берег. — Вон там, — сказал он, — на берегу, у первых камней. Вы ничего не видите? Профессор посмотрел по указываемому направлению. Он не обладал таким острым зрением, как Мельников, но все же рассмотрел какой-то красно-оранжевый холм, плохо различимый на фоне лесного массива. — Это, вероятно, группа кустов, — сказал он. — Отнюдь нет. Это совсем другое. Вернемся на лодку. — И, не ожидая ответа, Мельников быстро пошел обратно. Было ясно, что он намерен отправиться на другой берег. И действительно, когда они взобрались на лодку, он, не спускаясь в выходной люк, приказал Зайцеву переплыть реку. На южной стороне рос такой же лес. Поросшая желто-коричневой травой береговая полоса оказалась значительно шире, опушка леса в несколько раз дальше. Здесь было больше простора и совершенно сухо. Холм, который они видели с того берега, оказался вблизи грудой наваленных друг на друга деревьев. Это были не те гиганты, которых они видели вокруг себя, а тонкие прямые стволы с ветвями, покрытыми не листьями, а длинными красными иглами. — Ну, вот и замкнулся круг моих наблюдений, — каким-то странным тоном сказал Мельников. И только теперь Баландин увидел то, что ускользнуло сначала от его сознания, хотя и находилось перед глазами. Это было невероятно, поразительно и необъяснимо! Но это было не миражем, а реальной действительностью. Деревья лежали в порядке — вершинами в одну сторону. Это была не беспорядочно сваленная груда, а штабель. Со стороны реки его подпирал ряд врытых в землю столбов из неотесанных, грубо обломанных стволов тех же деревьев. А ближе к лесу Баландин увидел второй штабель… бревен. Оранжевые стволы лежали уже без веток.
ПОДВОДНЫЙ МИР
Прошло несколько минут, пока ошеломленный профессор обрел, наконец, дар речи. — Что же это такое? — спросил он растерянно. — Разгадка линейки, — ответил Мельников. — Окончательное доказательство, что на Венере есть разумные существа, стоящие, по-видимому, на низкой ступени развития. Гипотезу о космическом корабле надо оставить. — Но где они, эти разумные существа? Почему мы их не видели? — Потому что мы еще ничего вообще не видели. Они должны быть там. — Мельников указал на лес. — Под защитой этих растительных великанов могла развиться жизнь, и, как мы видим, она действительно развилась. Там мы найдем «людей» Венеры, по всем данным — дикарей. — Почему вы так думаете? — возразил Баландин. — Линейка… — А что она доказывает? — перебил Мельников. — Понятие о измерении линейных расстояний мы находим у самых диких племен Африки. Это еще не цивилизация. Посмотрите лучше на эти бревна. Они обломаны самым грубым образом. Ветви оторваны, а не отрублены. Это работа существ не знакомых с пилой и топором, но обладающих большой физической силой. — Но ведь линейку нельзя сделать голыми руками, — не сдавался профессор. — Австралийцы изготовляли каменными ножами такой точный метательный прибор, как бумеранг. Плоскую дощечку сделать гораздо проще. — У австралийцев и африканцев не было линеек. — Верно. Но ведь мы не на Земле, а на Венере. Нельзя механически переносить историю земного человека на другую планету. — По-видимому, — сказал Баландин, — вы составили себе определенное мнение, и раньше, чем мы вышли из лодки. Что навело вас на эту мысль? — Это не совсем так, — ответил Мельников. — Раньше я только подозревал. Ход моих рассуждений можно передать в нескольких словах. Когда мы убедились, что плывем по реке, а не по заливу, я вспомнил о деревьях, плывущих по воде, которые мы видели в прошлую экспедицию. Почему же теперь их нет? Нет на реке, нет и в океане, куда впадает река и куда она должна выносить их. Я решил, что выше по течению имеется какая-то преграда, задерживающая деревья. — Вполне логично, — сказал Баландин. — Но у такой преграды, — продолжал Мельников, — за тысячи лет должно было скопиться неисчислимое количество стволов. Погружаясь в воду под тяжестью новых, плывущих сверху, они должны были давным-давно запрудить реку, прервать ее течение. Но этого не случилось. Я пытался убедить себя, что мы не встречаем плывущих деревьев случайно, что они были раньше и будут после. Но почему же их нет у устья реки, где сила течения ничтожна? — Да, это трудно понять. — Тогда я впервые подумал об искусственном сплаве леса, но сам же отверг такое предположение. Но чем дальше, тем чаще возвращалась эта «нелепая» мысль. Обратили вы внимание на ветви, которые мы встречали в пути? Они плыли не одиночно, а пачками. Словно кто-то собирал их в охапку и бросал в реку. Ветви плыли, а стволов не было. В конце концов я почти поверил, что мы увидим искусственную преграду, у которой задерживаются деревья. Но, когда мы подплыли к порогам, мои ожидания как будто не оправдались. Мне показалось, что это природное препятствие. — Показалось? — спросил Баландин, с удивлением глядя на Мельникова. — Да, в первый момент. Потом я обратил внимание на одно странное обстоятельство. Река очень широка на всем своем протяжении. «СССР-КС 2» подлетел к ней и повернул вдоль русла севернее этого места, но недалеко от него. До самых гор, где находятся ее истоки, река не имеет такого узкого места. Только здесь, в единственном месте, берега близко подходят друг к другу. И именно здесь, где любой инженер Земли предложил бы место для плотины, находится этот порог. — Это можно объяснить иначе, — возразил Баландин. — За тысячи лет, как вы сами сказали, река могла принести с гор много камней. Как раз потому, что здесь река суживается, они могли задерживаться. — Допустим, — ответил Мельников. — Правда, трудно поверить, что течение, как бы оно ни было сильно, могло доставить далеко такие громадины. Но мы с вами увидели пороги сверху, с берега. Вы ничего не заметили необычайного? — Как будто ничего. Обыкновенный порог. — Ошибаетесь, Зиновий Серапионович! Этот порог совсем не обычен. Давайте взберемся на этот штабель, и посмотрите внимательнее. Баландин с сомнением оглянулся на чащу леса, находившуюся совсем близко. — А хозяева этих дров, — сказал он, — не могут внезапно явиться сюда? — Я очень хотел бы их увидеть. Но они не явятся. На этот счет у меня есть определенное мнение. Потом я вам скажу. По плотно уложенным стволам они без труда взобрались на штабель. С этой высоты пороги были отлично видны. — Я просто слепец, — сказал Баландин. — Это яснее ясного. — Вы не заметили раньше потому, что не думали об этом. А я ждал этого и потому сразу заметил. Река бурным потоком проносилась между огромными камнями, которые все были примерно одинаковых размеров. Мало того, Баландин увидел, что камни лежат не как попало, а в три ряда и в «шахматном» порядке. — Ни одно дерево не проскочит через эту плотину, — сказал Мельников. — Мы не можем больше называть эти камни порогами. Это плотина, очень примитивная, но несомненно плотина — инженерное сооружение. Картина рисуется в таком виде. За много сотен километров отсюда лес состоит из небольших деревьев. Там их ломают и спускают по течению. А здесь вытаскивают из воды и делают из них бревна. И все это, заметьте, просто руками. Какой тяжелый и неблагодарный труд только для того, чтобы достать древесину, которой и здесь сколько угодно! Но здешние деревья не по силам этим несчастным существам. — Камни для плотины, — сказал Баландин, — доставлены, вероятно, не с гор, а с берегов океана. Но как они доставлены? Это ведь неимоверная тяжесть. — А как строилась пирамида Хеопса? Тоже почти руками. Этот порог, вернее плотина, создавался, может быть, сотни лет. Ну, давайте спускаться. А то еще гроза налетит. — Вы обещали сказать, почему не явятся обитатели леса, — напомнил Баландин, когда они спускались на «землю». — Это только предположение, и весьма спорное. Я подумал о том, что сутки Венеры равны трем нашим неделям или около того. Значит, день продолжается примерно двести пятьдесят часов и столько же — ночь. А река имеет больше двух тысяч километров в длину. Чтобы дерево могло доплыть по течению от истоков до этого места, требуется очень много времени. Мы видели плывущие деревья, когда было утро. Сейчас, днем, их нет. Или еще нет, это вернее. Они плывут где-то выше, а здесь будут к вечеру. Обитателей Венеры мы ни разу нигде не видели. Все это, вместе взятое, приводит к мысли, что они работают по ночам, когда не так жарко. Может быть, это вообще ночные существа, спящие днем. Почему-то мне кажется, что такое объяснение правильно, — закончил Мельников. Баландин задумался. — Ваша мысль имеет основание, — сказал он. — Сейчас примерно полдень, и воздух нагрет до восьмидесяти, девяноста градусов. Трудно допустить, что живые существа могут работать при такой жаре. Вероятно, они прячутся в глубине лесов, где прохладнее. Тон профессора был каким-то неуверенным. Мельников заметил это. — Вы, кажется, не очень верите тому, что говорите? — Я вынужден верить, — ответил Баландин. — Доказательство находится у меня перед глазами. Но если говорить откровенно, я не понимаю, как могли появиться люди на Венере. Человек как создание природы не является сразу, в готовом виде. Он продукт длительного развития менее совершенных организмов, длящегося миллионы и миллионы лет. Жизнь, как правило, должна зарождаться в воде, а затем уже выходить на сушу. Но как могли слабые и неразвитые существа удержаться на суше? Климатические условия на планете, даже теперь, неблагоприятны. Раньше они были еще хуже. Но если зародыши жизни удержались все-таки на суше, то почему нет никаких животных? Не может человек или другое существо быть единственным представителем животного мира. Это противоречит законам биологии. — Да! — сказал Мельников. — То, что вы говорите, очень убедительно. Значит, перед нами еще одна загадка. Час от часу не легче. Но пора возвращаться на звездолет, — прибавил он. — Наша разведка дала огромные результаты. А загадки будем разгадывать все вместе. Грозовые фронты по-прежнему не появлялись, и они могли спокойно заняться сбором «экспонатов». Баландин ультразвуковым кинжалом отрезал кусок бревна и несколько веток с иглами. — Надо определить, когда и сколько времени они плыли по воде, — сказал он. — Это поможет установить, правильно ваше предположение или нет. Мельников собрал образцы трав — желтой, коричневой и белой. Срезали также несколько веток кустарника и порядочный кусок коры с одного из гигантских деревьев. Нагруженные добычей, они направились к лодке и дошли до нее как раз в тот момент, когда Зайцев сообщил о начале ионизации. Как только вошли в камеру и наружный люк был закрыт герметической крышкой, Мельников приказал отходить от берега и погружаться. С северо-запада надвигалась огромная туча. Процедуру фильтрования закончили уже под водой. — Вы же хотели переждать грозу на берегу, — не удержавшись, пошутил Баландин. Мельников только пожал плечами. Радиосвязи со звездолетом удалось добиться, когда подводная лодка вышла уже из реки в открытый океан. Мельников подробно рассказал Белопольскому об их открытии. Новость произвела, как и следовало ожидать, огромное впечатление. Вопросы градом посыпались на него. Было слышно, что Коржевский просил разрешения, как только лодка вернется, выйти на ней обратно к порогам, на что Белопольский ответил: — Перелетим туда на звездолете. Радиомаяк работал с большими перерывами, но Зайцев уверенно вел лодку. Теперь, когда особенно торопиться было некуда, Баландин и его спутники могли сколько угодно наблюдать подводную жизнь. Вперед подвигались очень медленно и часто останавливались. Океан Венеры был полон живыми существами. Профессор насчитал больше сорока различных видов. Многих из них удалось заснять на кинопленку. Впереди, в ярком луче прожектора, океан был пуст. Все живое торопилось уйти из освещенного пространства. Но сзади и с боков «рыбы» близко подплывали к лодке, очевидно привлеченные незнакомым движущимся предметом, который, вероятно, казался им новым животным. Когда внезапно загорался свет, они на мгновение замирали неподвижно и начинали метаться, стремясь в темноту. В эти секунды люди могли рассматривать их. Формы тела большинства обитателей океана были похожи на формы земных рыб. — В этом нет ничего удивительного, — говорил Баландин. — В одинаковой среде должны были развиться одинаковые или почти одинаковые организмы. Природа всегда идет по самому простому пути. — Почему они так боятся света? — спросил Второв. — И это понятно. Иначе не может быть, — ответил профессор. — На Земле свет Солнца проникает в воду морей и океанов на глубину до четырехсот метров. Здесь почти полная мгла у самой поверхности. Органы зрения здешних рыб должны быть гораздо чувствительнее, чем у земных. Свет причиняет им боль и пугает их. Они видели бесчисленное множество маленьких быстрых рыбок с синеватой чешуей — «близких родственников» земных уклеек. Светясь слабым фосфорическим светом, стремительно проносились длинные узкие тела, в которых, будь это на Земле, Баландин узнал бы миксины. Звездоплаватели заметили несколько существ, до странности похожих на представителей земного отряда скатов — «морских орлов» с плавниками в виде крыльев и тонким длинным хвостом или похожих на смятую тряпку «шиповатых скатов». Один раз при вспышке прожектора они прямо перед собой увидели тупую морду — копию обыкновенного круглопера, только с тремя глазами вместо двух. Другой раз уродливая зубастая голова «хаулиода» уставилась на них также тремя глазами. — Как замечательно продуманно работает природа! — восхищался Баландин. — На Земле и Венере она создает похожие существа, приспособленные к жизни в воде. Но на Земле у рыб два глаза, а здесь, где гораздо темнее, она дает своим созданиям три. Это просто замечательно! Но наряду с обитателями вод, тела которых напоминали соответствующие виды земных рыб, звездоплаватели могли наблюдать существ, не имевших ничего общего с земными. Прозрачные и почти неразличимые плыли круглые, как шары, или, наоборот, плоские, видимые только сбоку, непонятные «рыбы», тело которых состояло, казалось, из одной наружной пленки. Часто встречались еще более странные создания, похожие формой на гимнастические гантели, оба шара которых светились каждый своим светом — синим и зеленым, зеленым и белым, белым и ярко-красным. Снизу, из глубин океана поднимались вертикально вверх бесконечно длинные причудливые «змеи» с квадратными головами. Когда на них падал луч прожектора, они мгновенно свертывались в клубок и «камнем» падали вниз. Далеко, куда не достигал свет лодки, виднелись быстро мелькающие разноцветные огни, но к ним не удавалось подойти. Даже когда намеренно тушили прожектор, они не подплывали близко. — В океан надо отправиться в водолазном костюме, — заявил Баландин. — Никто вам этого не позволит, — ответил Мельников. — Мы взяли эти костюмы, считая океан Венеры необитаемым. Тут слишком опасно. Действительно, несколько раз на мгновение показывались огромные рыбы, по-видимому принадлежащие к породе хищников. Гибкие сильные тела с мощными плавниками проносились мимо с такой быстротой, что не было возможности рассмотреть их как следует. Но, по счастливой случайности, одна из них налетела на лодку, которая заметно покачнулась от удара. Ошеломленная столкновением рыба на секунду замерла неподвижно, и они успели рассмотреть ее зубастую пасть и пятиметровое туловище, покрытое крупными пятнами, как у кошачьей акулы. — Встретиться с такой рыбкой — это верная смерть для водолаза, — сказал Зайцев. Дно океана иногда поднималось, и тогда они могли наблюдать придонное население. В отличие от «рыб», оно никуда не исчезало, и с остановившейся лодки его можно было рассматривать сколько угодно. Тут было неисчислимое множество разнообразных «актиний», «акцидий», коралловых кустов и разноцветных водорослей. Странные фантастические «звезды», состоявшие из нескольких, словно сросшихся между собой змей ползали по дну, шевеля семью или восемью головами квадратной формы, по сторонам которых на длинных отростках светились, словно фонарики, разноцветные огни. Всюду виднелись извивающиеся в непрерывном движении пунцовые канаты с черными поперечными кольцами.
— Это же лианы! — сказал Второв. — Те самые, в объятиях которых я побывал в первый день прилета на Венеру. — Да, это они, — подтвердил Баландин. Кроме «лиан», они видели также знакомые им «ленты». Их острые шипы казались живыми. На некоторых, как на вертеле, трепетали, очевидно недавно пойманные, рыбки. — Если бы мы могли не зажигать света! — вздыхал профессор. — Тогда мы увидели бы картину охоты этих «растений». Наш прожектор разгоняет всю дичь. — В вашем распоряжении имеется локаторный экран, — напомнил Зайцев. — Боюсь, что он мало поможет. — Попробуем все-таки! Но профессор оказался прав. Когда потушили свет и бледно-зеленым прямоугольником вспыхнул «ночной» экран, они увидели на нем неясные тени. Ничего нельзя было рассмотреть. — Здесь нужен не радио-, а ультразвуковой экран, — сказал Зайцев. — Кто же мог предвидеть, что он нам понадобится? Никто не ожидал, что в океане Венеры есть жизнь. Это был первый случай, когда экспедиция, столь тщательно и продуманно оснащенная, оказалась «безоружной». Волей-неволей вернулись к прежнему способу наблюдений. Внимательно всматриваясь, заметили, что под водорослями прячутся мелкие «ящерицы». Удалось довольно хорошо рассмотреть некоторых из них. Они были отдаленно похожи на земноводных Земли, на гаттерии (только не зеленого, а синего цвета), на гекконы, на агамы, на рогатых фринозом и на змееголовок. — Действительно, Венера — сестра Земли, — заметил Мельников. — Какое сходство населения! В одном месте, где дно океана близко подошло к поверхности, обнаружили громадное скопище панцирных животных, в которых сразу признали родичей земных черепах — «зубчатых циниксов». Они были самых разнообразных размеров, от нескольких сантиметров до двух и трех метров в поперечнике, и медленно передвигались на четырех чрезвычайно длинных суставчатых ногах. Их панцири были разных оттенков, от нежно-розового до темно-красного цвета. Казалось, что по дну двигаются ожившие беседки — крыша на четырех столбах. «Черепахи» как будто не обращали внимания на подводную лодку, висящую над ними, но головы не показывались. Мельников посоветовал на время погасить свет. Хитрость удалась. Когда через несколько минут зажгли прожектор, они успели заметить трехглазые головы, которые моментально спрятались под панцири. Несколько раз повторив этот маневр, звездоплаватели убедились, что некоторые из животных ведут себя иначе, чем другие. Это были «черепахи» не с круглыми, а с эллипсоидными панцирями размером около трех метров, темно-красного цвета. При вспышке прожектора можно было заметить, что они стоят поднявшись на задние ноги, очевидно рассматривая лодку в темноте. С длинными передними ногами, висящими как руки, и треугольными трехглазыми головами, они отдаленно напоминали уродливых обезьян. Когда появлялся свет, эти странные существа падали на дно и прятались под панцирь, становясь похожими на красные холмики, совершенно неподвижные. Ни разу ни одно из них не встало при свете. Вторично включили «ночной» экран. До предела сузив радиолуч, удалось получить достаточно отчетливое изображение. Четверо товарищей хорошо видели, как в наступившей темноте быстро поднялись три продолговатые тени. Неясные контуры их голов шевелились, наклоняясь друг к другу, точно черепахи переговаривались между собой. Поднялась и снова спустилась длинная суставчатая «рука». — Она показала на нас, — взволнованно прошептал Баландин. — Ни одно животное не способно на такой жест. — По-моему, просто махнула лапой, — возразил Зайцев. — Вы увлекаетесь, Зиновий Серапионович. — Смотрите внимательней! Но черепахи больше не шевелили «руками». Почти час звездоплаватели, не зажигая света, наблюдали за ними. К трем теням присоединилась четвертая, потом все четыре куда-то исчезли. Вспыхнул прожектор. Темно-красных эллипсоидных панцирей нигде не было видно. По-прежнему медленно передвигались по дну круглые «беседки», казалось не обращая внимания на лодку. Но страшные создания, умеющие стоять на задних ногах и делать жесты передними, больше не появлялись. — Куда они могли деваться? — недоумевал Баландин. — И почему убежали? Раз они умеют ходить на двух ногах, то значит… — Откуда вы взяли, что они умеют ходить? — перебил профессора Зайцев. — Мы видели, что они стоят, это верно, но отсюда не следует… — У вас совсем нет воображения, — сердито сказал Баландин. Зайцев засмеялся. — Зато у вас его слишком много. Даже удивительно много для ученого. — К этим черепахам надо как следует присмотреться, — сказал Мельников. — Мне тоже показалось, что она протянула «руку» к лодке. — Присмотреться! А как присмотреться, если их нет? — Вернемся сюда еще раз. — Если найдем это место, — уныло сказал Баландин. — В любое время я доставлю вас сюда. Отсутствие воображения, — Зайцев улыбнулся, — мне восполняют приборы навигации. — Давайте прямо к острову! — сказал Мельников, видя, что профессор начинает серьезно сердиться. — На этот раз хватит. Константин Евгеньевич очень недоволен. Действительно, Белопольский несколько раз радировал, чтобы лодка не задерживалась. На звездолете ее с нетерпением ждали. Зайцев дал полный ход. Через полтора часа подводная лодка уже знакомым фарватером вошла в залив и пришвартовалась к борту звездолета. Белопольский, Пайчадзе и Топорков встретили ее экипаж у дверей выходной камеры. — Это что такое? — спросил Константин Евгеньевич, увидя перевязанные головы Мельникова и Второва. — Почему не сообщили о ранениях? — Это не ранения, а царапины, — ответил Мельников. — Немедленно в лазарет. — Нет ничего серьезного. — Об этом будет судить Степан Аркадьевич. Удивляюсь, Зиновий Серапионович, — прибавил Белопольский, — как вы могли допустить это! Надо было сразу направиться на корабль. Баландин показал глазами на Мельникова и красноречиво пожал плечами. — Надо убрать лодку в ангар. Может налететь гроза, — сказал Зайцев. — Это без вас сделают. В лазарет, а затем на отдых! Но профессор категорически отказался уйти в свою каюту до тех пор, пока не исследует кусок бревна и иглы деревьев, взятые из штабеля у порогов. С помощью Андреева и Коржевского он хотел определить, сколько времени тому назад дерево было сломано, как долго плыло по реке и когда было вытащено на берег. Успехи ботаники, органической химии и наличие в лаборатории корабля электронного микроскопа позволяли надеяться, что на все эти вопросы, имевшие огромное значение, ответ будет получен. — Успех обеспечен, — сказал он Белопольскому, — если деревья Венеры родственны земным по своему строению. Я думаю, что это именно так. — Обещайте, что разбудите меня, как только закончите анализ, — попросил Мельников. — Иначе я буду ждать. — Иди, иди! — подтолкнул его к двери Пайчадзе. — Разбудим, конечно! Лабораторное исследование заняло несколько часов. Как только оно было закончено, Белопольский попросил всех собраться в красном уголке. Разумеется, никто не заставил себя ждать. — Дерево, — начал Баландин, — из которого сделано бревно, имеет некоторые особенности, но в общем оно родственно земным растениям. Мы считаем, что с большой долей вероятности можно сказать, — оно было сломано больше восьмисот часов тому назад. Состояние древесных волокон у места слома и внутри приводит к такому выводу. — Насколько больше? — спросил Пайчадзе. — Станислав Казимирович считает, что восемьсот пятьдесят. Пайчадзе переглянулся с Белопольским. — Подождите! — сказал он. — Я сейчас соображу. Восемьсот пятьдесят. Так! Это выходит тридцать пять наших суток. Иначе говоря, двенадцатого июня. — В полночь, — сказал Белопольский. — Разве вам уже известна продолжительность суток на Венере? — удивился Баландин. — Да. Вчера в четырнадцать часов тридцать одну минуту был точно полдень. — Как же вы это определили, не видя Солнца? — По фотографиям. Арсен Георгиевич ежедневно производил снимки неба в лучах инфракрасной части спектра. На них ясно можно различить положение Солнца. Это позволило рассчитать продолжительность суток. Они равны двадцати трем земным суткам. Таким образом получается, что дерево было сломано с корня около полутора венерианских суток тому назад, примерно в полночь. — А вам удалось определить, когда оно было вытащено из воды? — нарушил продолжительное молчание Зайцев. — Это можно сказать не так точно. Деревья, сложенные на берегу, часто мокнут под дождем. По счастью, кусок был отрезан от бревна, лежавшего внизу, под другими. В общем мы думаем, что оно пробыло на суше не менее девяти — десяти наших суток. — И плыло по реке целые венерианские сутки? — Тут не все понятно, — сказал Баландин. — Скорость течения такова, что сплав не может идти так долго. — А по-моему, все достаточно ясно, — неожиданно заявил Белопольский. — Борис Николаевич прав. Обитатели Венеры выходят из своих убежищ и принимаются за работу только по ночам. В предыдущую ночь деревья были сломаны и спущены в воду. Днем они плыли и задержались у порогов, которые для того и предназначены. В следующую ночь их вытащили и сложили в штабель. Это произошло перед восходом Солнца, — сегодня. Можно предположить, что в следующую ночь, которая начнется через пять наших суток, штабели будут куда-то перенесены, а на их месте сложат новые. — Если все это действительно так, — сказал Коржевский, — то для того, чтобы увидеть жителей Венеры, надо явиться к ним ночью. — Мы так и сделаем, — ответил ему Белопольский. — Программа работ требует пребывания звездолета на ночной половине Венеры. С наступлением вечера мы перелетим на континент и спустимся где-нибудь в районе порогов. Там мы проведем много времени, в том числе и ночного. Работа на острове закончена. Больше здесь нечего делать. — А успеем ли мы за пять суток подготовить ракетодром? — спросил Зайцев. — Чтобы корабль мог взлететь, надо уничтожить часть коралловых деревьев на западном берегу и в значительной степени разрушить самый береговой обрыв. — В этом нет нужды. Сегодня замечены первые признаки начинающегося прилива. К вечеру уровень воды поднимется на восемьдесят метров. Коралловые деревья больше чем на половину их высоты будут залиты, а берег и подавно. Кстати, Борис Николаевич, дойдет прилив до порогов? — Думаю, что нет, — ответил Мельников. — На обратном пути мы с Зиновием Серапионовичем измерили скорость течения и расстояние от порогов до океана. Расчет показывает, что плотина находится на высоте двухсот метров над уровнем моря. — А можно опуститься на берег реки? — Безусловно, на южном берегу. Расстояние между рекой и лесом вполне достаточно. — Значит, через пять суток, двадцать второго июля, звездолет покинет остров, — сказал Белопольский. — И перелетит на берег реки как можно ближе к найденной плотине. Будем надеяться, что там мы разгадаем, наконец, загадку разумных существ на Венере.
ПЕРЕЛЕТ НА МАТЕРИК
Во второй половине длинного, двухсотсемидесятичасового дня на берегу острова прекратились всякие проявления жизни. «Актинии», «ленты», «лианы», казалось, умерли. К ним можно было сколько угодно прикасаться, брать их руками, гнуть — они не реагировали. Самые продолжительные ливни уже не вызывали никакого движения. — Состояние дневного анабиоза, — говорил Коржевский. — Такое явление наблюдается и на Земле. Только там оно зависит от времени года, а здесь дня. Многие растения Земли «умирают» на зиму и снова «воскресают» весной. Некоторые животные на зиму засыпают. А на Венере неблагоприятное время для жизненных процессов — это день. Конечно, здесь, на острове, решающую роль играют приливы и отливы. Морские организмы «заснули» потому, что лишились водной среды. На дне океана, как мы видели, жизнь кипит и днем. Обитатели острова приспособились к особенностям жизни на коралловом рифе, который то погружается в воду, то выходит из нее. Это очень интересно. Вообще на Венере предстоит много работы. Для биолога тут обширное поле деятельности. Он улыбался и потирал руки от удовольствия. — К сожалению, мы пробудем на Венере только полтора месяца, — ответил Баландин. — Надо добиться скорейшей организации второй экспедиции, и на более длительный срок. Ведь и вы этого хотите. Жизнь в океане Венеры вам так же интересна, как и мне. — Что можно изучать, не выходя из лодки, — говорил профессор и тяжело вздыхал. Предсказание Мельникова сбылось. Белопольский категорически запретил пользоваться водолазными костюмами. Он даже приказал убрать их из лодки и запереть в кладовой, опасаясь, не без оснований, что ученые способны забыть об опасности. Непредвиденное обилие животных в океане Венеры нарушило весь план работы, тщательно составленный еще на Земле Баландиным и Коржевским. Экспедиция оказалась в этом отношении неподготовленной. Не было никаких средств, чтобы раздобыть образцы фауны и флоры морского дна. Подводная лодка не была оснащена механическими драгами. Водолазные костюмы, легкие и удобные, рассчитанные на максимальную свободу движений, не давали никакой защиты от нападения опасных хищников, существование которых, так же как и других высокоорганизованных организмов, считалось маловероятным. — Все это так, — говорил Баландин. — Но мы оказались в самом нелепом положении. — Ив этом значительная доля вашей собственной вины, — указал ему Белопольский. — Подготовка к работе в океане проводилась вами. Я хорошо помню, что конструкторы предлагали снабдить лодку механическими драгами, но вы отвечали им, что они не нужны. Кто, как не вы, доказывал, что в океане Венеры нет органической жизни? Вполне естественно, что было решено не загружать лодку ненужным оборудованием. — Я рассчитывал на водолазные костюмы. Не мог же я предвидеть, что вы запретите ими пользоваться. Присутствующие при разговоре невольно рассмеялись. — А что же вы хотите? — возмутился Белопольский. — Разрешить вам отправиться прямо в пасть «кошачьей акулы»? И вот в результате допущенной еще на Земле ошибки Баландину и Коржевскому приходилось довольствоваться наблюдениями за подводным миром Венеры сквозь прозрачные стенки лодки. Зайцев сдержал свое обещание и уже на следующий «день» после возвращения от порогов доставил Баландина и Коржевского на то место, где они видели загадочных красных черепах. Но, к огорчению ученых, их не оказалось. Огромное количество «зубчатых циниксов» лежало и ходило по дну, но эллипсоидных панцирей нигде не было. Они бесследно исчезли. То же самое повторилось на второй и на третий «день». — Куда они подевались? — недоуменно говорил Баландин. — Почему только они ушли отсюда? — Жаль! — печалился Коржевский. — Судя по вашим описаниям, это совершенно особенные животные. — Новая загадка, — подытоживал Зайцев. День подходил к концу. Невидимое Солнце склонилось к западному горизонту. С каждым часом прилив становился выше. Казалось, что коралловый остров медленно погружается в океан. Сначала пришлось перенести мостик к двери нижней выходной камеры, потом убрать его совсем, а на берег сходить по лестнице. 21 июля остров окончательно скрылся под водой. Из океана поднимались теперь только верхние части коралловых стволов, между которыми могла свободно проходить моторная лодка. Ветер все чаще и чаще дул с востока. Не защищенный больше ушедшей под воду скалистой грядой, звездолет сильно качался на волнах. В конце концов пришлось отказаться и от экскурсий на подводной лодке. Переход на нее из выходной камеры становился опасным. Кроме того, испарение нагретой воды настолько усилилось, что, как только лодка отходила от корабля на несколько метров, он исчезал из виду, словно растворяясь в тумане. За ужином Белопольский сообщил, что «завтра» они перелетят на материк. — Вкотором часу? — поспешно спросил Топорков. — В десять. — А нельзя отложить до половины первого? Константин Евгеньевич с недоумением пожал плечами. — Можно; но зачем? Не все ли равно — в десять или в двенадцать? Топорков нервно вертел в руке вилку. — Мне кажется, — сказал он, — что если звездолет поднимается в воздух, то ему не мешает подняться и над облаками. — Понимаю! Вы хотите послать на Землю радиограмму. Но ведь не облака мешают этому, а ионизированный слой, который, по вашим же вычислениям, находится на высоте двухсот сорока пяти километров. За столом все прекратили еду. С напряженным вниманием члены экипажа следили за этим разговором. Во взглядах, устремленных на командира корабля, можно было прочесть волнение, надежду и горячую мольбу. Один Мельников не поднял головы. Он знал Белопольского лучше всех. — А разве нельзя подняться выше? — спросил Топорков. Белопольский нахмурил брови. — Можно, — сказал он. — Но я не могу подвергать звездолет опасностям спуска без достаточных оснований. Мельников вдруг резко выпрямился. Побледневший, с сурово сдвинутыми бровями, он посмотрел в глаза Белопольскому. Привычная выдержка на этот раз изменила ему. — Без достаточных оснований? — раздельно произнес он. — Тревога и волнение наших родных и близких, мучительная неизвестность, бессонные ночи, горе и отчаяние — все это недостаточные основания? В кают-компании наступила тишина. Казалось, Белопольский нисколько не обиделся. Тем же ровным и спокойным голосом он сказал: — Я отвечаю перед всей нашей страной за успешное окончание рейса. Если корабль не вернется на Землю, горе наших родных и близких будет во много раз сильнее. Кому другому, но не тебе, Борис, упрекать меня в эгоизме. Ужин закончился в унылом молчании. Но, когда стали расходиться, Белопольский, уже подойдя к двери, обернулся к Зайцеву. — Константин Васильевич, — сказал он самым обыденным тоном, — подсчитайте запасы горючего и дайте мне расчет необходимой затраты для полета корабля на высоте трехсот километров в течение одного часа. Борис Николаевич поможет вам это сделать. И на следующий «день», 22 июля, в двенадцать часов двадцать минут повернутый моторными лодками носом на восток, чтобы не мешали верхушки коралловых стволов, «СССР-КС 3» расправил крылья и, промчавшись по воде более полутора километров, поднялся в воздух. Далеко внизу остались волны океана, нависшие над ними мрачные тучи, грозовые фронты и бесчисленные молнии. Над звездолетом раскинулся чистый темно-голубой купол неба; ослепительно ярко сияло на нем огромное Солнце. Все выше поднимался корабль, все более темнело небо. Его цвет постепенно переходил в синий, потом в темно-синий и, наконец, в фиолетовый. На высоте восьмидесяти километров звездолет начал проваливаться. Разреженный воздух не давал достаточной опоры его крыльям. Тогда включили два основных двигателя. С их помощью поднялись еще на сто километров. Небо стало почти черным, появились звезды. Когда был включен третий, а затем и четвертый двигатель, Мельников убрал крылья; они стали ненужными — реактивный самолет превратился в ракету. Ионизированный слой, препятствующий распространению радиоволн, начался в двухстах километрах от поверхности планеты и закончился в двухстах шестидесяти семи.
Как только приборы показали, что цель достигнута, Топорков, не теряя ни минуты, включил передатчик. Направленная антенна была уже выдвинута и ориентирована на Землю. По Солнцу и звездам Пайчадзе легко определил точное направление. Экипаж корабля был уверен, что на радиостанции Космического института ежедневно настраиваются на их волну. Иначе не могло быть. Ровно в двенадцать часов пятьдесят пять минут по московскому времени радиограмма, содержащая краткий, но обстоятельный отчет о событиях на Венере, начала свой далекий путь. — Через сколько времени может прийти ответ? — спросил Мельников. — Когда мы опустились на Венеру, — с обычной точностью ответил Белопольский, — расстояние между планетами равнялось девяноста миллионам километров. С тех пор прошло двести восемьдесят два часа. Венера догоняет Землю, и расстояние сокращается. Сейчас оно равно восьмидесяти одному миллиону. Радиоволне нужно четыре с половиной минуты, чтобы одолеть это расстояние в один конец. — Значит, ответ придет через девять минут?. — Прибавь минуту на прочтение радиограммы и еще минуту на составление ответа. Ответ придет через одиннадцать минут. Если наша радиограмма дойдет, — прибавил Белопольский. — Почему же она может не дойти? Ведь ионизированный слой остался под нами. — Мы ровно ничего не знаем об атмосфере Венеры. Может быть, в ней есть второй ионизированный слой, даже более мощный, чем первый. Кроме командиров корабля, весь экипаж находился в радиорубке. Девять человек не спускали глаз с секундной стрелки. Прошло девять, десять, одиннадцать минут. Ответа не было. Двенадцать… Никто не проронил ни слова. Все затаили дыхание. Неудача казалась очевидной. Радиограмма не дошла до Земли. Надо было подниматься еще выше, вылетать в межпланетное пространство. Никто не допускал мысли, что на Земле на радиостанции никого нет. Это было невозможно, немыслимо… Потрясенным людям секунды казались минутами… И когда все окончательно уверились, что попытка не удалась, из репродуктора раздался слабый, но отчетливый голос: — Ваша радиограмма принята. Благодарим за то, что пошли на риск, чтобы успокоить нас. Советую немедленно вернуться на поверхность Венеры. Желаем полного успеха в работе и ее благополучного завершения. Семьи экипажа здоровы, у них все в порядке. Подтвердите получение нашей радиограммы и немедленно опускайтесь. Горячий привет. Сергей Камов. Словно ярче вспыхнули электрические лампы, словно свежее стал самый воздух. Давящая тяжесть ушла из сердца. — Приняли. Поняли. Следующая связь двадцать седьмого августа. Выключаю передатчик, — сказал Топорков. И только успели прозвучать эти слова, звездолет пошел вниз, туда, где далеко, белоснежной массой раскинулся необъятный облачный океан. Мельников случайно посмотрел на Белопольского и поразился необычайному зрелищу. Константин Евгеньевич улыбался. Это было не то подобие усмешки, которое он иногда видел на суровом лице академика, а широкая, радостная улыбка человека, с плеч которого свалился камень. Казалось, еще секунда — и Белопольский засмеется. «Расскажу Арсену, ни за что не поверит», — подумал Мельников. Спуск занял значительно меньше времени, чем подъем. Через восемнадцать минут корабль влетел в облака. И так же, как двенадцать дней тому назад, миновав их толщу, оказались в самой середине грозового фронта. Словно Венера не умела другим способом встречать гостей. — В третий раз мы с вами опускаемся на Венеру, — сказал Мельников. — Через несколько минут снова увидим оранжевый лес… Хоть бы что-нибудь зеленое!.. — Это результат духовной связи с Землей, — чуть насмешливо ответил Белопольский. — Я ни на минуту не терял этой связи, — обиженно возразил Мельников. — Охотно верю. Но раньше все заглушалось интересом к работе. Какая разница — зеленый или оранжевый цвет! «Все-таки, странный он человек, — подумал Мельников. — Никак не понять его до конца». Материк находился сейчас почти на границе дневной и ночной половины Венеры. Направляясь на запад, звездолет не мог пролететь мимо. И действительно, через двадцать минут полета увидели на экране оранжево-красный лес. Мельников, управлявший кораблем, повернул на север, ища устье реки. Проходили минуты, но она не появлялась. Вскоре заметили, что лес становится реже; начали попадаться равнины, которых не видели с борта подводной лодки. — Или мы гораздо южнее, или, наоборот, севернее реки, — сказал Мельников. — Местность мне незнакома. — Скорей всего севернее, — ответил Белопольский. — Повернем на юг. Мельников переложил рули. Описав широкий полукруг, звездолет повернул обратно. Еще около получаса летели вдоль берега, не встретив ни одного грозового фронта. Они виднелись всюду, но, по-видимому, шли также на юг. С высоты шестисот метров открывался широкий кругозор. Белопольский и Мельников одновременно заметили искомую реку. Недалеко от океана она круто сворачивала на северо-запад, исчезая за лесным массивом. В той стороне горизонт был закрыт полосой грозы. — Всегда и везде, — с досадой сказал Мельников. Уже хорошо знакомые пейзажи Венеры сегодня почему-то раздражали его. Такое же чувство испытывали и остальные члены экипажа. Все смотрели на свинцовое небо и оранжево-красную полосу берега с раздражением. Хотелось увидеть что-нибудь, что хоть немного напоминало бы родину. Но, кроме воды океана, все было иным, чуждым….. — Переждем! — спокойно сказал Константин Евгеньевич. — Особенно торопиться нам некуда. На самой малой скорости звездолет стал летать по кругу, не удаляясь от реки и ожидая прохождения фронта. Вскоре дорога очистилась. Еще пятнадцать минут полета — и вдали показались пороги, казавшиеся с высоты тонкой белой линией, протянутой поперек реки. — Смотри, там озеро! — вдруг сказал Белопольский. Мельников вгляделся в экран. Действительно, совсем близко от порога, среди деревьев, виднелось лесное озеро, имевшее, насколько можно было судить на расстоянии, километра два в поперечнике. Когда подлетели ближе, стало видно, что северный берег плоский, а южный поднимается над водой крутым обрывом. Лес подступал почти к самой поверхности воды. Звездолет опустился к вершинам леса. Моторы работали на минимально допустимой на столь незначительной высоте мощности, но все же скорость была не менее пятидесяти метров в секунду. Долетев до озера, Мельников повел корабль вдоль его берегов. — Вижу бревна на северном берегу, — раздался из репродуктора голос Пайчадзе. Вместе со всеми он находился в обсерватории и мог не на экране, а непосредственно в окна наблюдать местность. В этот момент Мельников и сам увидел высокий штабель, и не один, а несколько. Они стояли на равном расстоянии друг от друга и были сложены из таких же бревен, какие они с Баландиным видели у порогов. Но корабль пролетел мимо так быстро, что нельзя было ничего рассмотреть как следует. — Вижу деревянную плотину! Голос Зайцева дрожал от волнения… Одновременно с ним ту же фразу крикнули Баландин и Князев. Звездолет как раз подлетел к западной оконечности озера и, наклонившись на левое крыло, плавно поворачивал к югу. Ни Белопольский, ни Мельников ничего не успели увидеть. — Где вы видите плотину? — спросил Константин Евгеньевич. — Она уже позади, — ответил ему Баландин. — Из озера вытекает небольшая речка. У самого истока ее перегораживает деревянный забор из тесно поставленных бревен. — Это озеро еще загадочнее порогов, — сказал Мельников. — Его длина вполне достаточна. Посадим корабль здесь. — На воду ни в коем случае, — ответил Белопольский. — Только на берегу. — На берегу негде. Он слишком узок. — Тогда у реки, там, где хотели раньше. Мельников повел корабль к реке. Она была совсем близко от озера. Их разделяло расстояние не превышающее одного километра. Еще при первом посещении порогов Мельников заметил удобное место для посадки звездолета. Это была широкая и длинная полоса берега, целое поле, на котором корабль мог свободно опуститься и подняться впоследствии. Поле было ровным и как будто совсем сухим, поросшим желто-коричневой травой. — Поторопись! — сказал Белопольский. — Вон там надвигается туча. Мельников звонком предупредил экипаж о посадке. Как только впереди показалось выбранное место, моторы остановились. Огромный корабль летел по инерции, быстро теряя скорость. Тяжелая корма постепенно опускалась все ниже. Посадка «на лапы» требовала от пилота предельного внимания и точности каждого движения. Маневр был настолько труден, что, несмотря на все усилия конструкторов, автопилот не мог заменить человека. Белопольский и Мельников затратили много усилий, чтобы овладеть искусством, (это было уже не техникой, а искусством) посадки. Надо было с исключительной точностью уловить момент, когда корабль почти остановится и окажется в воздухе в состоянии неустойчивого равновесия. На маленьком тренировочном «звездолете» они десятки раз проделывали этот маневр на Земле. Но посадить «на лапы» такой исполинский корабль, как «СССР-КС 3», было неизмеримо труднее. Константин Евгеньевич, учитывая свой возраст, поручил это ответственное дело своему молодому товарищу, у которого рука была тверже, а нервы, по всеобщему мнению, вообще отсутствовали. Мельников не смотрел на экран. Все свое внимание он сосредоточил на указателях высоты и скорости. Обе стрелки быстро приближались к нулю. — Один, — отрывисто сказал Белопольский. Это означало, что корма корабля находится в одном метре от земли. Еще секунда… другая… — Лапы! — скомандовал Мельников. Белопольский нажал кнопку. Они почувствовали слабый толчок, — это корма коснулась почвы. В ту же секунду амортизаторы выпали из гнезд. Звездолет, вздрогнув, остановился. Мощные моторы плавно и быстро убрали «лапы». Крылья исчезли в пазах, и корабль всем корпусом лег на землю. — Браво! — раздался голос Пайчадзе. — Молодец, Борис! — Кажется, все в порядке, — сдержанно сказал Мельников. — Конструкция Сергея Александровича выдержала последнее и самое серьезное испытание. «СССР-КС 3» опустился точно посередине между рекой и лесом. До порогов, находящихся выше по течению, было километра полтора. Было четыре часа дня по московскому времени. До захода Солнца оставалось десять часов. Приближалась долгая, одиннадцатисуточная ночь Венеры.
ПОД УДАРОМ ГРОЗЫ
В задачу экспедиции на «СССР-КС 3» входило разрешение ряда спорных вопросов, стоящих перед астрономией, космогонией, астрофизикой. Со дня, когда звездолет покинул ракетодром, прошло больше месяца. За этот сравнительно короткий срок научный состав экспедиции проделал огромную работу. Специально сконструированные приборы и отсутствие постоянного врага астрономии — атмосферы — за бортом корабля дало возможность значительно расширить знания о вселенной, уточнить уже известное и сделать новые открытия. Пайчадзе, специально занимавшийся солнечной короной, детально исследовал ее верхние слои, имеющие такое огромное влияние на земную атмосферу и происходящие в ней процессы. Одно это уж оправдывало всю экспедицию. Посещение Арсены, выяснение ее структуры проливало свет на вопрос о происхождении астероидов. Наконец, на самой Венере была окончательно выяснена продолжительность ее суток, вызывавшая столько споров и разногласий среди ученых. «Сверх плана» экспедиция Белопольского обнаружила на сестре Земли органическую жизнь. Не зародышевую, в виде микроорганизмов, как предполагали, а высоко развитую растительную и животную. Как уже говорилось, до захода Солнца оставалось десять часов. Но это не значило, что сразу настанет темнота. Вращение Венеры вокруг оси совершалось так медленно, что вечерние сумерки должны были продлиться долго. Ночь в прямом смысле этого слова могла наступить не раньше как через пятьдесят часов. Это время надо было использовать. Как только «СССР-КС 3» опустился на место своей новой стоянки, Мельников и Коржевский вышли из корабля, чтобы обследовать берег и — выяснить, можно ли воспользоваться вездеходом. До порогов было полтора километра, и экскурсия туда пешком была опасна. Можно было не успеть вернуться при приближении грозового фронта. Предположение, высказанное Мельниковым, что от ливня можно укрыться под сводами леса, требовало еще проверки. Оба звездоплавателя без труда убедились, что грунт берега достаточно тверд. Гусеницам вездехода не грозила опасность провалиться. Под оранжево-коричневым ковром трав находился слой плотно слежавшегося песка. Был ли это действительно песок, такой же как на Земле, или что-то другое, только похожее на него, пока оставалось неизвестным, но одно было несомненно — вездеходом можно пользоваться, а это было сейчас самым главным. Где-то близко находились неизвестные обитатели Венеры, судя по всему, существа с большой физической силой, привыкшие к ночному мраку. Как отнесутся они к пришельцам с Земли? Если это дикари, как думал Мельников, то вполне возможны враждебные действия с их стороны. Звездоплаватели не хотели прибегать к оружию. В случае нападения вездеходы будут надежной защитой. Чтобы выполнить программу «ночных» работ, предстояло часто и на длительное время покидать корабль. Кроме того, они твердо решили поближе познакомиться с хозяевами планеты. Это можно было сделать только ночью. Экскурсии к порогам (а возможно и к озеру) в полной темноте таили в себе большие опасности. Если бы почва оказалась болотистой, что было вполне естественно из-за частых ливней, задачи, стоявшие перед экспедицией, еще больше бы затруднились. Но береговая полоса ни в малейшей степени не походила на болото. Это был твердый и, по-видимому, сухой грунт. — Мне кажется, что это самый обыкновенный песок, — сказал Коржевский, — и его слой очень толст. Иначе он не смог бы впитывать всю воду, приносимую ливнями. — Таким свойством обладает не только песок, — ответил Мельников. — Берег имеет заметный уклон от леса к реке. Основная масса воды может стекать в реку, а остальное впитывает почва. — И это возможно, — согласился биолог. Вернувшись на корабль, они доложили Белопольскому результаты своей разведки. Константин Евгеньевич приказал немедленно приготовить машину. Через полчаса один из вездеходов уже стоял у двери нижней выходной камеры. На звездолете были машины разных размеров. Для первой поездки было решено воспользоваться самой легкой и быстроходной. Белопольский хотел лично осмотреть пороги и штабеля бревен, сложенные на берегу, а так как он не мог покинуть корабль одновременно с Мельниковым, сопровождать его должен был профессор Баландин. Ни он, ни Константин Евгеньевич не умели работать с киноаппаратом, и Второв снабдил их фотокамерами. — Снимайте как можно больше, — просил он при этом. — Каждый снимок бесценен. — Знаем, знаем! — улыбался Баландин. — Обещаю использовать всю пленку. — Может быть, найдется еще одно место в машине? — Второв смотрел на командира корабля умоляющими глазами. — Успеете! — сухо ответил Белопольский. — Эта поездка не последняя. Как всегда, грозовые фронты задержали выезд. Звездоплаватели успели уже привыкнуть к постоянным ливням, но на этот раз их терпение подверглось длительному испытанию. Три часа подряд одна гроза сменяла другую, отнимая драгоценное время. Но вынужденная задержка принесла некоторую пользу. Они убедились, что вездеход, намеренно оставленный снаружи, выдерживает тяжесть водяных потоков, — следовательно, и люди могли в нем укрываться от гроз. Наблюдая в окна обсерватории, в короткие промежутки между ливнями они убедились и в том, что предположение Мельникова правильно. Вода не задерживалась на берегу, а стекала в реку по естественному уклону почвы; опасность, что окружающая местность превратится в болото, не угрожала. Как только барометр Топоркова показал, что воздух очистился от электричества, Белопольский и Баландин, не теряя ни минуты, вышли из корабля и сели в машину. Она была настолько низка, что им пришлось заменить личные рации акустическими усилителями. Антенна противогазового костюма не умещалась в машине. До порогов шли на самой малой скорости. Разведка, произведенная Мельниковым и Коржевским, коснулась только ближайших окрестностей, и Константин Евгеньевич очень осторожно продвигался вперед. Полтора километра они проехали за пятнадцать минут и остановились у самого штабеля. Баландин сразу увидел, что за это время никто не прикасался к штабелям. Бревна лежали в том же порядке, что и раньше. Он заметил тот ствол, от которого отрезал кусок. Белопольский молча кивнул головой, когда профессор поделился с ним своими наблюдениями и, отворив дверцу, вышел из машины. Но если загадочные штабеля не изменили своего вида, то совсем другое произошло с рекой. Когда сюда приходила подводная лодка, в этом месте был настоящий порог. Полноводная река, встретив препятствие, проносилась мимо с неистовым шумом, клубясь пеной, обдавая громадные камни тучами брызг. Теперь здесь было почти тихо. На пространстве около пятидесяти метров выше порогов от берега до берега плотной массой загородили реку стволы деревьев. Они были так тесно прижаты друг к другу силой течения, что по ним можно было, как по мосту, перейти с южного берега на северный. — Это подтверждает нашу догадку, — сказал Баландин. — Обитатели Венеры работают по ночам. Белопольский пристально вглядывался в плотину. Чтобы лучше видеть, он поднялся на вершину штабеля. Линия камней была отсюда как на ладони. — Никакого сомнения быть не может, — сказал он, спустившись вниз. — Эта преграда искусственная. Но если исключить помощь технических средств, такое сооружение могли создать только существа, наделенные исключительно большой физической силой. — То же самое сказал и Борис Николаевич — ответил Баландин. — Лес сплавляют откуда-то сверху. И затем перетаскивают его на озеро. Мы же видели штабеля на его берегу. Но зачем им так много древесины? Здесь тысячи стволов, — прибавил Белопольский, указывая на реку. — И можно смело предположить, что такое же количество сплавляется каждый день, или, по-нашему, каждые три недели. Вот что непонятно. Но мы узнаем это, когда посетим жителей Венеры там, где они живут. — Мне кажется, что их поселения должны находиться на берегу озера, в лесу, — заметил Баландин. — В лесу? — Да, я полагаю, что в лесу. А разве вы думаете иначе? — Проедем на озеро, — не отвечая на вопрос, предложил Белопольский. — Через лес? — Конечно. Раз от реки до озера протаскивают длинные бревна, — должна быть просека. — Поищем ее, — лаконично ответил профессор. Он подумал, что подобная экскурсия очень опасна и лучше было бы отправиться на более мощной машине, и не на одной, а по крайней мере на двух. Но вслух он ничего не сказал. Ему совсем не хотелось услышать от Белопольского то, что он услышал от Мельникова. Эти четыре человека — Камов, Пайчадзе, Белопольский и Мельников — были людьми особого склада. В их спокойной смелости было что-то, что заставляло молчать голос обычного благоразумия. Втайне профессор надеялся, что они не найдут достаточно широкой просеки. — Опасности нет, — словно услышав его мысли, сказал Белопольский. — Обитатели Венеры безусловно ночные существа. — Едем! Они заняли свои места в вездеходе. Баландин по радио сообщил на корабль об их намерении. Со стороны Мельникова, находившегося у рации, никаких возражений не последовало. Он только попросил держать со звездолетом связь. Долго искать не пришлось. Ожидаемая просека оказалась совсем рядом, почти напротив штабелей, и была достаточно широка для вездехода. Белопольский остановил машину у первых деревьев. Извилистая тропа уходила в темную глубину леса, лавируя между гигантскими стволами. Слабый свет дня — вернее, вечера — не проникал сквозь густую листву, и в десяти шагах впереди уже ничего нельзя было рассмотреть. Дорога скрывалась во мраке. — Вы обратили внимание на почву? Кажется, Борис Николаевич прав и в лесу ливни не страшны, — сказал Белопольский. — Из чего вы это заключаете? — Разве вы не видите, как вытоптана трава в лесу? А от леса до штабелей никаких следов нет. На открытом месте ливни восстанавливают свежесть травы, а в лесу они не оказывают такого же действия. Он включил скорость, и вездеход медленно двинулся вперед. Ширина дороги была едва достаточна для машины. На каждом шагу приходилось работать рулями поворота. Чем дальше, тем темнее становилось вокруг. Густая заросль кустарника, переплетенного белыми травами, вплотную окружала машину. Исполинские стволы, словно колонны, поддерживающие оранжево-красный свод, поднимались высоко вверх, ограничивая кругозор со всех сторон. Едва вездеход сделал первый поворот, деревья словно сомкнулись позади него. Берег исчез из виду. Куда бы они ни посмотрели, всюду была темно-красная стена, испещренная вишневого цвета пятнами, окаймленная снизу оранжево-белой полосой. Белопольский и Баландин молчали, взволнованные и несколько подавленные величием и грандиозностью этой картины непроходимого, девственного леса, по которому шла их машина, по единственному пути, проложенному существами еще неизвестными им, но родственными, как родственны между собой мыслящие существа всей необъятной вселенной. Не прошло и минуты, как мрак настолько сгустился, что пришлось включить прожектор. Ослепительно ярким, но чуждым и неуместным показался здесь электрический свет. Сотни, а может быть тысячи лет стояли эти лесные великаны, и ни разу луч Солнца не коснулся их. Привыкшие к мраку, они должны были возмутиться этим непрошеным и дерзким освещением, нарушившим их вековой покой. Но растения не чувствуют и не возмущаются. В немерцающем белом свете с рельефной отчетливостью выступили из темноты деревья, кустарники и странно неподвижная, мертвенно-белая трава. Ни малейшего движения… Мертвый покой… И извилистым коридором уходила куда-то вдаль таинственная дорога. Осторожно и медленно вездеход шел вперед. Следы его гусениц, ясно видимые, налагали на пейзаж Венеры земное клеймо. «Что подумают обитатели планеты об этих следах, непонятных и загадочных для них, когда с наступлением ночи пойдут этой дорогой, сотни раз исхоженной ими? Поймут ли они, что это означает? Может ли прийти им в голову мысль о посещении Венеры обитателями другого мира? Или, не видя звездного неба, скрытого толщей никогда не расходящихся облаков, они не представляют себе, что, кроме их планеты, существуют другие, что они не единственные живые существа во вселенной?.. Но как могут они заподозрить самое существование вселенной, если никто из них никогда не видел ни Солнца, ни звезд?.. Следы гусениц будут восприняты как следы неизвестного животного — и только. И хотя до сих пор они не встречали таких животных, мысль о них появится сразу». Перед профессором Баландиным возникла картина. Во мраке ночи огромные тени склоняются над следами, указывают на них друг другу, переговариваются на незнакомом языке. Глаза пристально вглядываются в чащу леса, в поисках неведомого зверя… Он почему-то представлял их себе на двух ногах, с глазами, светящимися в темноте зеленым огнем, как у хищных зверей Земли. «Что, если вот сейчас из темноты леса появятся его хозяева? Существа, способные голыми руками (или чем бы то ни было, заменяющим руки) передвигать огромные камни, ломать деревья. Что, если свет прожектора не испугает их?.. Что стоит перевернуть вездеход, разбить окна, сорвать дверцы? Успеем ли мы перед гибелью предупредить по радио товарищей?» Баландин невольно бросил взгляд на рацию, желая убедиться, что она в порядке. Зеленый огонек индикаторной лампочки спокойно горел в темноте кабины. Вот рядом с ним вспыхнул красный — сигнал вызова. — Я слушаю, — обычным голосом сказал Белопольский. — Приближается грозовой фронт, — сообщил Мельников. — И, по-видимому, мощный. — С какой стороны? — С севера. Пока он еще далеко. — Следите за ним. Как только ливень подойдет к реке, сообщите нам. — Хорошо. Несколько секунд Мельников молчал. Потом спросил: — Где вы находитесь? — В лесу. — Может быть, лучше вернуться? — Не успеем. Будет интересно и важно проверить… Белопольский не закончил фразы. Красная лампочка на щитке рации погасла. Это означало, что связь прервана. — Очевидно, грозовой фронт исключительной мощности, — сказал он. — Барометр Топоркова предупреждает о грозе за пятнадцать минут. Так рано радиосвязь не прерывалась. Выходит, что сейчас воздух ионизирован с большой силой. Ни малейшей тревоги не слышалось в голосе Белопольского. Он говорил в своей обычной манере — словно сам с собой. Баландин ничего не ответил. Да и что было отвечать? Вернуться на звездолет они действительно уже не успеют. Оставалось надеяться на крепость машины и защиту лесного купола. Вездеход так же медленно продолжал путь. В лучах прожекторов они видели все такой же лес, — его характер не изменялся. Тропа делала причудливые зигзаги, оставаясь все время одной и той же ширины. Кустарник, переплетенный белой травой, по-прежнему подступал к дороге. Так прошло минут десять. Внезапно Белопольский остановил машину. Несколько мгновений он пристально всматривался в лес, потом протянул руку и выключил прожекторы. — Смотрите! — сказал он почти шепотом. После яркого света мрак показался Баландину особенно густым. Он закрыл глаза, «ослепленные» внезапной темнотой. Через несколько секунд радужная паутина на сетчатке глаз исчезла. — Смотрите! — повторил Белопольский. — Что это? Профессор посмотрел вперед и по сторонам, но ничего не увидел. Их окружала плотная мгла. — Куда же смотреть? — спросил он, не видя даже своего спутника. — В какую сторону? — Куда угодно, — ответил Белопольский. — Это всюду! — Что «это»? Ответа не последовало. Баландин чувствовал, что его товарищ всецело захвачен зрелищем, которого он сам еще не видел. Но постепенно его глаза привыкли к темноте. И тогда он вдруг понял, что мрака нет. С каждой секундой все яснее и отчетливее он стал различать стволы деревьев. Странно дрожащий, розовый свет освещал их. Он становился все сильнее, но источника этого света нигде не было видно. Посмотрев вверх, через прозрачную крышу вездехода, Баландин убедился, что вершины деревьев скрыты во мраке. Освещены были только стволы. Кустарник и дорога были так же невидимы. Потом он заметил, что сами стволы освещены по-разному. Одни из них были видны только в нижней части, другие — посередине, третьи представляли собой странное зрелище половины дерева, освещенного с какой-нибудь одной стороны — справа или слева, тогда как вторая половина оставалась невидимой. Профессор с изумлением смотрел на эту картину, не зная, чем и как объяснить ее, но внезапно догадка мелькнула в его мозгу. — Они светятся сами! — Да, — ответил Белопольский. — Свет исходит из самих стволов. Но это какой-то странный свет. Он делает видимым ствол дерева, но не освещает окружающих предметов. Впрочем, нет! — прибавил он. — Я смутно различаю кустарник. «Ну и зрение у Константина Евгеньевича! — подумал Баландин. — Как мог он заметить тогда еще слабое свечение при ярком свете прожекторов?» С каждой минутой деревья становились все более ясно видимыми. Казалось, что внутри гигантских стволов все сильнее и ярче разгорается неведомое пламя, просвечивая сквозь кору. Розовый цвет темнел, переходя в красный. Это мерцающее сияние становилось столь сильным, что больно было смотреть на него. Внезапно ближайшее к ним дерево покрылось словно дрожащей сеткой из ослепительно белых нитей. Извилисто скользя по стволу, подобно струйкам добела раскаленного металла, они потоком стремились откуда-то сверху и исчезали в земле. А потом дерево вдруг «потухло». Ярко-красная колонна исчезла из глаз, оставаясь видимой, как черный силуэт на фоне других деревьев. И снова начала разгораться, сначала розовым, потом все более красным светом. Этот загадочный феномен стал все чаще и чаще повторяться то с одним, то с другим деревом. Как будто кто-то там, наверху, пытался залить горящее в них пламя; и, потухая на несколько мгновений, оно снова разгоралось с прежней и даже большей силой, — Хорошо, что наша машина не металлическая, — тихо сказал Белопольский. — Но это еще не гроза, а прелюдия к ней. Баландин только что подумал о том же. Было ясно, что вся эта фантасмагория вызвана электризацией воздуха. Кора деревьев, очевидно, была электропроводна. Той же причине надо было приписать и свечение стволов. Электричество накапливалось в коре дерева и разряжалось в землю, когда его концентрация становилась чрезмерно большой. Что же это за кора, обладающая такими необычайными свойствами?.. — Еще одна загадка, — сказал профессор. Белопольский ничего не успел ответить. Ослепляющий свет разлился по лесу. Высоко над ними, невидимые до сих пор, ветви и листья вспыхнули снежно-белым пламенем. Отчетливо выступила каждая травинка, каждая веточка кустарника. Красный свет стволов исчез в этом сияющем блеске. И одновременно раздался ужасающий удар грома, точно сломались сразу все деревья в лесу. Оглушенные, они инстинктивно закрыли лица руками. Но в последнюю секунду успели заметить, что весь блеск купола над их головами словно мгновенно собрался в один огненный столб и рухнул на крышу машины. Перед самыми глазами сквозь закрытые веки что-то нестерпимо ярко вспыхнуло внутри вездехода. Послышался сильный треск, заглушённый вторым, еще более странным раскатом грома. Теряя сознание, профессор почувствовал сильный запах озона. В потрясенном мозгу успела пронестись одна мысль: «Антенна!»… Белопольский привстал, судорожно изогнулся, словно стараясь удержать равновесие, и рухнул на пол кабины. Сверху на него упало тело Баландина… Сияющий свод стал еще ярче, еще ослепительнее. Но они уже не видели этого. Они ничего больше не видели и не слышали…
И, точно празднуя победу над земными пришельцами, торжествующе гремели раскаты грома. Сквозь купол листьев пронизывали чащу леса яркие молнии, растекаясь «металлическими» потоками по стволам деревьев. Погасали и вспыхивали красным светом лесные великаны… Послышался отдаленный, постепенно нарастающий и усиливающийся гул. К месту, где стояла машина с уничтоженной, сожженной антенной, приближался неистовый ливень Венеры.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
Эта гроза была самой короткой и самой страшной из всех, которые пришлось пережить звездоплавателям на сестре Земли. Бывали минуты, когда они сомневались, выдержит ли корпус корабля непрерывные «потоки» молний и чудовищную силу ливня, от которых весь звездолет дрожал мелкой дрожью. При каждом ударе грома, а они были почти непрерывны, исполинский корабль так сильно вздрагивал, что, казалось, еще немного — и он упадет на бок и покатится по берегу, как соломинка, гонимая ураганом. Атмосфера за бортом превратилась в сплошное электрическое море. Все приборы главного пульта, имевшие связь со внешним миром, мгновенно вышли из строя. Корабль «ослеп» и «оглох». По счастью, Топорков успел вовремя убрать наружную антенну, и это позволяло надеяться, что они не лишились радиосвязи. Крепко ухватившись за первые, попавшие под руку укрепленные предметы, члены экипажа «СССР-КС 3» молча ждали конца этого хаоса. За все двенадцать минут, которые понадобились грозовому фронту, чтобы пройти мимо, никто из них ни разу не подумал о себе, о том, что их ждет, если корабль перевернется. Все их мысли были в лесу. Звездолет, весящий сотни тонн, с трудом выдерживал натиск бури. Что же стало с маленьким, легким вездеходом? Что стало с двумя людьми, находившимися в нем? Достаточной ли окажется защита леса, на которую они надеялись, пускаясь в свой опасный путь? Мучительно медленно текли секунды и минуты. Дрожал и качался огромный корабль. Им начинало казаться, что гроза никогда не кончится. Впоследствии было странно вспомнить, что короткие двенадцать минут могли показаться долгими часами, но это было именно так. Как только грозовой фронт, с обычной на Венере внезапностью, промчался мимо, во всех помещениях звездолета раздался твердый и внешне спокойный голос Мельникова, который неотлучно находился на пульте, готовый в любую минуту поднять корабль в воздух, если пребывание на «земле» станет слишком опасным: — Немедленно проверить и доложить мне состояние приборов и аппаратуры радиорубки, обсерватории и кормовых помещений. Товарищам Князеву и Второву подготовить второй вездеход и быть готовыми в случае необходимости направиться на помощь первому. Степану Аркадьевичу — возглавить спасательную экспедицию. Игорю Дмитриевичу — сделать все возможное для скорейшего установления связи с Белопольским и Баландиным. Я буду находиться на пульте. В ожидании, пока выполнялись его приказания, Мельников занялся проверкой корабля в целом. Он уже знал, что центральный экран вышел из строя, но как обстояло дело со всем остальным?.. Методично нажимая контрольные кнопки, он внимательно «читал» ответы, которые давали ему лампочки пульта и ленты самопишущих приборов. Корпус звездолета, механизмы амортизаторов и крыльев были в порядке. Выдвижная антенна так же осталась целой. Вышли из строя все слуховые аппараты, наружные экраны и радиопрожекторы. Это было неприятно, но отнюдь не угрожающе. Зайцев и Топорков в один — два «дня» всё исправят. Покончив с этим делом, Мельников стал терпеливо ждать донесений. Торопить с ответом было не в его правилах. Мельников казался совершенно спокойным. Пожалуй, одна только Ольга по потемневшим глазам и подчеркнуто-неторопливым движениям Бориса Николаевича поняла бы его истинное состояние. Даже Пайчадзе, придя на пульт, чтобы доложить о полной исправности астрономических приборов, ничего не заметил. — Разреши отправиться вместо Андреева, — сказал он. — Волнуюсь за Константина Евгеньевича. — Этого никак нельзя сделать, — ответил Мельников и, помолчав, сказал, понизив голос: — Все может случиться. Нельзя оставлять звездолет без командира и без астронома. Ведь с нами нет больше Леонида Николаевича. Упоминание о погибшем Орлове заставило Пайчадзе вздрогнуть. Он внимательно посмотрел в лицо друга. — Ты думаешь?.. Мельников отвернулся. — Степан Аркадьевич врач, — сказал он, — а ты нет. Может быть, они ранены. Вскоре Топорков доложил, что радиостанция не пострадала. — Все в порядке, — сказал инженер, — кроме локаторных установок. Но об этом вы, вероятно, уже знаете? — Знаю. Сколько времени понадобится на их ремонт? — Двадцать четыре часа. Не больше. — Хорошо! Как связь? — Пока еще нет. Ионизация воздуха слишком сильна. Радиоволны не проходят. — Следите, и, как только явится возможность, вызывайте! Мельников выключил экран. — Что-то долго молчит Константин Васильевич, — сказал он. — Зайцев и Князев вышли из корабля наружу, — сообщил вошедший в рубку управления Коржевский. — Что-нибудь случилось? — Кажется, да. У Константина Васильевича был очень встревоженный вид. Мельников не на шутку забеспокоился. Повреждение двигателей — это было самое страшное, что могло случиться со звездолетом. Один за другим все члены экипажа, кроме Топоркова, Зайцева и Князева, собрались на пульте. Андреев доложил, что вездеход готов и стоит у выходной камеры. — Который из них вы взяли? — Средний, пятиместный. — Правильно. Машина Константина Евгеньевича может оказаться поврежденной. Все глаза неотступно следили за показаниями электробарометра. Против обыкновения, стрелка долго не опускалась к нулю. Становилось очевидным, что прошедшая гроза была не такой, как всегда. Прошло минут десять, и в рубке появились Зайцев и Князев. — Двенадцать двигателей выведены из строя, — как-то необычайно сухо доложил Мельникову старший инженер корабля. — Три из них можно отремонтировать. Девять не будут работать. — Отчего это произошло? — на мгновение растерявшись, спросил Мельников. — Кормовые помещения сильно пострадали. Похоже, что туда ударило несколько сильнейших молний. Там ведь сплошной металл, — как бы в пояснение добавил Зайцев. — Значит ли это, что мы обречены остаться на Венере? — медленно произнося слова, спросил Мельников. Все с трепетом ждали ответа. — Улететь с Венеры мы сможем, — ответил Константин Васильевич. — Вопрос в том, каковы будут ускорение и конечная скорость. Засветился экран, и появившийся на нем Топорков сообщил, что Белопольский не отвечает на вызовы. — Ионизация? — Совершенно прекратилась три минуты тому назад. Мельников повернулся к Андрееву. — Отправляйтесь, Степан Аркадьевич! В сопровождении Второва и Князева, врач звездолета поспешно вышел. — Итак, — сказал Мельников, — у нас семь двигателей вместо шестнадцати, — Да, только семь. — И вы утверждаете, что корабль сможет оторваться от Венеры? — Сможет. Но дело… — Знаю, — перебил Мельников. — Об этом вы уже говорили. — Он на минуту задумался. — Прошу вас и Арсена Георгиевича немедленно заняться расчетами. Каковы будут ускорение и конечная скорость, сколько времени понадобится кораблю для перелета на Землю, когда мы должны вылететь? Все это я должен знать как можно скорее…* * *
Александр Князев на полной скорости вел вездеход прямо к порогам. Все трое знали, что Белопольский и Баландин проникли в лес где-то рядом со штабелями бревен. Молодой механик был уверен, что легко найдет просеку, но его тревожила мысль, — будет ли она достаточно широкой для их машины, значительно большей, чем первая. На Земле этот вопрос не беспокоил бы его. Как мощный танк, вездеход мог продираться через любой лес, но на Венере, с ее гигантскими деревьями, это могло не удаться. Достигнув ближайшего штабеля, Князев, ни на секунду не задерживаясь, повернул к лесу. Никто из них не обратил никакого внимания на загадочные груды бревен, на реку с бесчисленными деревьями, запрудившими ее у не менее загадочных порогов. Все это, так сильно интересовавшее их раньше, сейчас как бы перестало существовать. Все их мысли были направлены к тому, чтобы как можно скорее найти товарищей и убедиться, что они живы и не пострадали от страшного грозового фронта. Андреев то и дело посматривал на свою сумку, соображая, все ли взято, что могло понадобиться в том или ином случае. Многое могло случиться. Корпус машины могбыть поврежден, а ее пассажиры отравлены формальдегидом и углекислым газом. Могла ударить молния и вызвать ожоги. Вездеход мог опрокинуться, а Белопольский и Баландин — получить при этом ушибы и даже переломы. Да мало ли что могло произойти в незнакомом лесу чужой планеты! Второв держал непрерывную связь со звездолетом. Белопольский все еще не отвечал на вызовы, и, по мнению Топоркова, рация вездехода вышла из строя. — Я начинаю опасаться, что они забыли убрать антенну, когда началась гроза, — сказал Игорь Дмитриевич, — и в нее ударила молния, «Если это действительно так, — подумал Андреев, — наша помощь уже бесполезна». Просека была обнаружена сразу, как только вездеход подошел к лесу. Не колеблясь Князев смело направил в нее машину. Ширина дороги была более чем достаточна, но из осторожности он снизил скорость до десяти километров в час. На берегу, поросшем густой травой, они не заметили никаких следов. Это было не удивительно, — их уничтожил ливень. Но и в лесу их не было. Просека уходила вдаль почти прямой линией. Лучи прожектора освещали ее далеко вперед. На темно-коричневой земле, совершенно лишенной травы, не было ни малейшей влаги, что показалось им очень странным, так как ливень окончился совсем недавно. Почва была сухой. Оглядываясь назад, они видели, что гусеницы их машины оставляют за собой глубокий след. Почему же не видно следов первой машины? — Уж не ошиблись ли мы? — сказал Андреев. — Может быть поехали другой дорогой? — Константин Евгеньевич сообщал, что просека начинается прямо напротив штабеля, — ответил Князев. — Трудно предположить, что здесь две дороги, почти рядом. — Так почему же нет следов? — Они смыты ливнем. Степан Аркадьевич с сомнением покачал головой. Ему помнилось, что Белопольский говорил о просеке, что она узка и извилиста. А эта была широкой и прямой. Что же делать? Вернуться поскорей назад и искать другую дорогу? А если потеря времени окажется роковой? Если следы действительно смыты, а вода полностью впиталась в землю? Кто мог знать, какими свойствами обладает земля Венеры? Белопольский мог ошибиться, описывая в коротких словах найденную ими просеку; да к тому же Степан Аркадьевич не был вполне уверен, что он говорил именно так. Андреев попросил Топоркова вызвать к микрофону Мельникова, чтобы посоветоваться с ним. Борис Николаевич только что вышел из рубки; и за то время, пока он вернулся в нее, вездеход успел пройти порядочное расстояние. — Вы уверены, что дорога идет к озеру? — спросил Мельников, выслушав сомнения Андреева. — По-видимому это так. Мы видели бревна. На дороге попадались стволы деревьев, очищенные от веток, совсем такие же, как в штабеле на берегу. Они лежали по краю просеки на примерно равном расстоянии друг от друга, очевидно положенные не случайно. — Как далеко вы проникли в лес? — Около пятисот метров. — В таком случае нет смысла возвращаться назад. Если на берегу озера вы не увидите вездехода, тогда ищите другую просеку. — Хорошо, Борис Николаевич. Возрастающая тревога заставила Князева увеличить скорость. Дорога была удивительно ровной, точно аллея в парке где-нибудь на Земле. За все время они встретили только два некрутых поворота. Величественная картина первобытного леса — гигантские деревья, стволы которых, похожие на исполинские колонны, поднимались высоко вверх; непроницаемый купол ветвей и листьев, плотные заросли кустарника переплетенного странно белой травой, — все это прошло как-то мимо их сознания. Даже Второв ни разу не взялся за свой киноаппарат, который, кстати сказать, он захватил с собой совершенно машинально и о котором сейчас совершенно забыл. Напряженно вглядываясь вперед, они старались найти хоть какой-нибудь намек на след, хоть что-нибудь, что указало бы — вот здесь проходил вездеход, — но ничего не находили. Постепенно у всех троих крепла уверенность, что они ошиблись, избрали ложный путь. Если бы не совет Мельникова, который они считали приказом, вездеход, возможно, повернул бы назад…* * *
Если бы кто-нибудь из экипажа «СССР-КС 3» во время грозы оказался над лесом, он мог бы наблюдать странную и, с земной точки зрения, совершенно необъяснимую картину. Но никто не видел ее, и очередная тайна Венеры осталась неизвестной. При первом взгляде сверху могло создаться впечатление, что лес на сестре Земли ничем не отличается от земного леса, если, конечно, не учитывать его цвета и исполинской высоты. Но внимательный наблюдатель вскоре заметил бы существенные особенности. Прежде всего бросилось бы в глаза, что все деревья леса совершенно одинаковы и решительно ничем не отличаются друг от друга, чего никогда не бывает на Земле. Потом он заметил бы, что вершины деревьев находятся на одной и той же высоте, словно их намеренно подрезали ножницы великана-садовника. Вглядываясь еще пристальнее, наблюдатель заметил бы, что ветви и листья на них становятся гуще и увеличиваются в размерах не сверху вниз, как у земных деревьев, а наоборот — снизу вверх. Листья обратили бы на себя его особое внимание. Он мог бы отметить их длину, достигавшую нескольких метров, и странную форму — каждый лист был свернут в трубку. Сильный ветер почти не влиял на них, они едва шевелились при самых свирепых его порывах. Доискиваясь причины этого непонятного явления, наблюдатель, если бы имел возможность приблизиться вплотную, увидел бы, что листья растут не так, как на Земле. Каждый из них прикреплялся к ветке не одним стеблем, а двумя, находящимися на противоположных концах, что давало им большую устойчивость. Его поразила бы толщина стеблей и самого листа, достигавшая нескольких сантиметров. В сплошной «крыше» лесного массива он не увидел бы ни одного просвета, ни одной «отдушины», куда мог бы проникнуть взгляд. Находясь над лесом, невозможно было даже представить себе, что скрывается внизу, как выглядит этот лес изнутри. Непроницаемый купол ветвей надежно скрывал все от нескромного глаза. Огромной оранжево-красной площадью, почти неподвижной, словно застывшей в вечном покое, показался бы сверху лес Венеры. Но вот темная стена грозового фронта начала приближаться к нему. И картина сразу изменилась. Чем ближе подходила гроза, тем явственнее возникало движение. Сперва чуть заметное, оно быстро усиливалось. Свернутые в трубку листья стали сначала медленно, потом все скорее развертываться, раскрываясь навстречу ливню всей своей площадью. Наблюдателю показалось бы, что они борются между собой, стараясь отнять друг у друга как можно больше свободного пространства. Раскрываясь, каждый лист словно стремился лечь сверху на соседей, которые в свою очередь стремились к тому же. Вскоре панорама леса неузнаваемо изменилась. Теперь он ничем не напоминал земной лес. Гладкая блестящая поверхность раскинулась во все стороны, похожая сверху на цветной паркет. Если бы наблюдателем оказался Белопольский или Баландин, они безусловно обратили бы внимание, что красочный фейерверк, который они наблюдали внизу, совершенно незаметен сверху. Развернувшиеся во всю ширину листья скрыли его под собой. Могучая стена ливня надвинулась на лес, и тут-то наблюдатель мог бы увидеть нечто непостижимое. «СССР-КС 3» с трудом выдерживал натиск водяных потоков; крылья самолета Мельникова были сломаны, а листья деревьев, мягкое растительное вещество, с легкостью выдерживали страшный напор воды. В несколько секунд оранжево-красный «паркет» исчез из глаз. На его месте было клокочущее море, низвергающееся на берега реки и лесного озера пенящимися водопадами. Тому, кто имел бы возможность видеть эту картину, сразу стало бы ясно, что весь поток задерживается куполом леса, что ливень не в силах пробить его и залить корни деревьев, которые питались влагой либо сверху, через ветви, либо откуда-то из глубины почвы. Загадка сухого грунта на лесных просеках перестала бы быть загадкой, если бы кто-нибудь из экипажа звездолета мог наблюдать эту картину. Но они ее не наблюдали и не могли наблюдать…* * *
Первым пришел в себя Белопольский. Открыв глаза, он ничего не увидел; кругом была мгла. Несколько минут он лежал неподвижно, с трудом соображая, где он и что с ним. Голова невыносимо болела. Потом он почувствовал тяжесть своего спутника, тело которого лежало на нем, ощутил резкий запах озона и как будто гари. Его правая рука была свободна; и, почти не сознавая, чт делает, Белопольский потянулся к знакомой рукоятке воздушного шланга и повернул ее. Струя кислорода сразу прояснила его мысль. Несколько раз глубоко вдохнув живительный газ, он закрыл кран. Осторожно выбираясь из-под тела Баландина, который, очевидно, еще не очнулся, Константин Евгеньевич окончательно пришел в сознание. Он вспомнил всю картину начала грозы, огненный столб, обрушившийся на их вездеход, и с беспокойством нащупал в темноте электрощиток. На ощупь щиток казался целым. Он повернул выключатель и с чувством огромного облегчения убедился, что лампы, аккумуляторы и проводка не пострадали. Яркий свет залил внутренность кабины. Достаточно было одного взгляда на радиоустановку, чтобы понять все. Приемник и передатчик, заключенные в один футляр, превратились в бесформенную массу сожженного и частично расплавившегося металла. Стало ясно, что в антенну, которую они забыли убрать, ударила молния. Других повреждений как будто не было. «Непростительная рассеянность! — подумал академик. — Удивительно, что мы остались живы». Но он тут же пенял, что пока это относится к нему одному. Его спутник, не подавая признаков жизни, неподвижно лежал на полу кабины. Баландин находился ближе к рации и вследствие этого мог пострадать сильнее. Поспешно, но все же очень осторожно, Белопольский перевернул профессора на спину. Мертвенно-бледное лицо, запавшие глаза, синеватый цвет губ. Неужели конец?.. Радиосвязь вышла из строя. Вызвать звездолет и спросить совета у врача невозможно. Личных раций не было. Белопольский сделал первое, что пришло ему в голову. Расстегнув воротник комбинезона, он поднес к губам товарища конец шланга от кислородного баллона, полностью открыв кран. Затем, достав из аварийного запаса фляжку, влил в полуоткрытый рот несколько капель спирта. Это простое мероприятие увенчалось полным успехом. Сначала исчез синий цвет губ, потом лицо Баландина сильно покраснело от прилива крови. Еще через минуту он открыл глаза и застонал. — Вам больно? — Голова и… ноги. Белопольский посмотрел на ноги профессора и вздрогнул. От колен до самого низа брюки комбинезона совершенно сгорели. Зловеще чернели покрытые огромными волдырями, обожженные голени. Стараясь ничем не показывать охватившего его ужаса, Белопольский, как мог спокойнее, сказал: — Сейчас я наложу повязку. Сильный ожог. Он знал, как надо поступать в подобных случаях. Методы оказания первой помощи были хорошо известны всем звездоплавателям. В вездеходе находилась под рукой походная аптечка. Он быстро срезал остатки комбинезона на ногах профессора и наложил пикриновую повязку. Потом он помог товарищу сесть в кресло. — Теперь легче? — Боль очень сильна, — ответил Баландин. — Но ничего! На звездолете меня быстро вылечат. Белопольский занял свое место. — Могло быть хуже, — угрюмо сказал он, — мы чудом остались живы. — Это моя вина, — профессор уже увидел сожженную рацию. — Я должен был подумать об антенне. — Теперь уже поздно винить кого бы то ни было. Надо скорей выбраться из лесу. Посмотрев на часы, Белопольский с удивлением увидел, что они оба были без сознания не больше пятнадцати минут. Время, когда начали светиться деревья, он заметил. Погасив внутренний свет, он зажег прожекторы, ожидая увидеть залитую водой просеку. Но она оказалась сухой, как и раньше, до грозы. — Странно! — сказал он. — Неужели почва так быстро впитывает в себя воду? Ливень закончился не более как пять минут тому назад. — А может быть, он еще не начинался? — Почему же не слышно грома, не видно молний и деревья больше не светятся? Нет, гроза прошла. Это очевидно. И она была очень короткой. — Мне помнится, что Борис Николаевич говорил о мощном грозовом фронте. — Да, но я хорошо помню, сколько было времени. Баландин, морщась от боли в ногах, пожал плечами. — Нет конца загадкам, — сказал он. — Одна за другой. Белопольский включил мотор. Он заработал, как всегда, беззвучно и плавно. Только по приборам можно было заметить, что могучий двигатель вездехода не стоит, а работает. Ни малейшей дрожи не чувствовалось внутри машины. Кустарник, с двух сторон сдавивший дорогу, внешне казался хрупким. Никому не пришло бы в голову, что он может оказать какое-нибудь сопротивление стальным гусеницам. Но это только лишний раз доказывало, как неосмотрительно подходить к природе другой планеты с земными представлениями. «Хрупкое» растение оказалось непреодолимым. Под напором машины кустарник упруго сжимался, не пропуская ее ни на шаг. Гусеницы буксовали на месте. После нескольких тщетных попыток Белопольский понял, что повернуть назад не удастся. Оставался один путь — к берегу озера, которое должно было находиться где-то близко, и уже там, на берегу, развернуть машину. Выбираться из леса по узкой извилистой просеке, «пятясь» задним ходом, значило потерять очень много времени, а следовало торопиться. Баландина надо как можно скорее доставить на звездолет. — Придется продолжить путь, — сказал он. — Не беспокойтесь обо мне, — ответил Баландин. — Боль вполне терпима. Доведем нашу экскурсию до конца. — К сожалению, ничего другого и не остается. Вездеход снова пошел вперед. Дорога оставалась прежней — все время приходилось поворачивать то вправо, то влево. Это не позволяло увеличить скорость, — машина продвигалась «черепашьим» шагом. — Никак не могу понять, — сказал вдруг Баландин. — Как могут обитатели Венеры протаскивать здесь длинные бревна? Разве что держат их вертикально. — Возможно, что так. — А на звездолете не знают, чт и думать. Вероятно, Борис Николаевич вышлет по нашим следам второй вездеход. — Кроме этой, ни одна наша машина не сможет пройти по просеке, — ответил Белопольский. — Она слишком узка. Неожиданно совсем близко блеснула вода. Еще один небольшой поворот — и машина вышла на опушку. Перед ними раскинулась гладкая поверхность лесного озера — цель их пути. В этом месте ширина берега, поросшего густой желтой травой, не превышала тридцати метров. К востоку береговая полоса расширялась, и совсем близко от себя они увидели загадочные штабеля бревен. Их было четыре. Совершенно одинаковые, равной ширины и высоты, они молчаливо свидетельствовали, что неведомые их хозяева хорошо знакомы с линейными измерениями. Уложить с такой точностью громадное количество древесных стволов случайно было невозможно. Как ни спешил Белопольский, он невольно остановил машину. Где-то здесь должны были находиться разумные обитатели планеты. Отсюда уходили они по ночам к реке, чтобы доставить очередную партию бревен для неведомой цели… Несколько минут они молча смотрели на озеро, ожидая, не появится ли вдруг кто-нибудь из его обитателей. — Едем обратно! — решительно сказал Белопольский. Но, поглощенные ожиданием и созерцанием озера, они совершенно забыли о коварном характере планеты, на которой находились. Едва Белопольский успел коснуться рулей управления, как плотная мгла сразу превратила тусклый свет вечера в кромешную ночь. Незаметно подкравшийся ливень обрушился на машину. Вездеход остановился у самой опушки; и, неожиданно для себя, они оказались под мощным водопадом, низвергающимся на них с вершин леса. Не подозревая причины, они догадались об этом по неистовому шуму водяного потока, заглушавшему шум ливня и раскаты грома. Корпус вездехода, сделанный из пластмассы, обладал крепостью стали; но, не желая подвергаться излишнему риску, Белопольский включил мотор и отвел машину подальше от леса, ближе к озеру. При свете прожекторов они видели, что берег превратился в сплошной водяной поток, под которым скрылись гусеницы их машины. — Удивительно, что ливни не смывают в озеро штабелей, — сказал Баландин. — Вероятно, они хорошо укреплены. Повернув прожекторы, Белопольский направил лучи их света назад. Но в нескольких шагах от машины он увидел только сплошную стену гигантского водопада. Где-то за ним находился узкий вход на лесную дорогу. Было безнадежно пытаться найти ее в этом хаосе воды и мрака. Долгие десять минут положение не изменялось. Оглушительный гром, шум водопада и ливня, молнии — яркие вблизи и тусклые сквозь водяную стену — все это, много раз виденное, уже не привлекало их внимания. Они нетерпеливо ждали конца, уверенные, что гроза промчится так же внезапно, как и налетела. Так было до сих пор; к такому финалу они привыкли и не сомневались, что и на этот раз будет так же. Но Венера, очевидно, решила преподнести им еще один сюрприз, доказать лишний раз, что в ее распоряжении имеется много такого, с чем люди Земли еще не встречались. Белопольский и Баландин с удивлением заметили, что ливень начинает стихать. Обычно он оканчивался сразу. На этот раз они видели совсем иное. Гроза не проносилась мимо. Она продолжалась, но становилась все слабее и слабее. Реже и тише грохотал гром, реже и не так ослепительно сверкали молнии. Темнота сменилась сумрачным полумраком. Как-то сразу берег очистился от воды, появилась мокрая трава. Прошло еще несколько минут; и они с изумлением убедились, что перед ними обычная, хорошо им знакомая картина самого обыкновенного «проливного» дождя. Точно волшебная сила в одно мгновение перенесла их с Венеры на Землю. Посветлело настолько, что они видели прибрежную полосу озера, на поверхности которого часто-часто прыгали крохотные фонтанчики. — Полюбуйтесь! — сказал Белопольский. — Нет конца сюрпризам. — Никогда не думал, что мы можем увидеть на Венере обыкновенный дождь, — отозвался Баландин. — Хотя гроза и кончилась, нам от этого не легче. — Белопольский указал назад, в сторону леса. Водопад, льющийся откуда-то сверху, не прекратился. Он только перестал быть таким стремительным и бурным. Между машиной и лесом висела прозрачная тонкая водяная завеса, сквозь которую смутно просвечивали деревья и кустарники. Но, как ни тонка была эта преграда, узкий проход на лесную дорогу оставался невидимым. — Надо попытаться найти его, — сказал Белопольский. — Этот дождь может продолжаться несколько часов. Он решительно взялся за рычаги управления. Протянул руку к пусковой кнопке мотора… И замер, устремив изумленные глаза на смутно различаемую полосу озера. Баландин, мгновенно забыв о мучительной боли в ногах, всем телом наклонился вперед. Что-то темное шевелилось в воде у самого берега. Потом это «что-то» поднялось над водой и вышло из озера. Сквозь частую сетку дождевых струй они видели туманный силуэт огромного бесформенного тела. В высоту оно имело, вероятно, больше трех метров. Призрачный полумрак не давал возможности рассмотреть его. Профессор протянул руку, чтобы включить прожектор, но Белопольский остановил его. — Не надо! — прошептал он. — Не пугайте его! Это они! Задыхаясь от волнения, звездоплаватели увидели, как вслед за первым из озера показался второй обитатель Венеры. Потом один за другим вышли еще трое.
Пять неясных, расплывающихся фигур медленно приближались к машине. — Они нас видят, — едва слышно сказал Баландин. — Конечно, видят, — странно спокойным голосом ответил Белопольский. Три шага отделяло обитателей Венеры от людей Земли. Теперь уже ясно можно было видеть толстые короткие ноги, огромное эллипсоидное тело и треугольную голову ближайшего из этих существ. Остальные четверо обходили машину, очевидно намереваясь окружить ее со всех сторон. Что они думали о ней? За что ее принимали?.. В медленном движении этих громадных тел чувствовалась явная угроза. Надо было бежать, и бежать немедленно. Все произошло в короткие секунды. Стряхнув с себя оцепенение, Белопольский схватился за рычаги машины. Но было уже поздно. Резкий толчок повалил их друг на друга. Венериане бросились на машину. В одно мгновение она была оторвана от «земли» и поднята на воздух. Чудовищная физическая сила, которую люди подозревали у жителей Венеры, трагически подтвердилась на деле. Отчаянным усилием Белопольский дотянулся до пусковой кнопки и включил мотор. Гусеницы вездехода дрогнули, но не двинулись с места. Что их держало? Неужели руки венериан могли противиться мощи двигателя?.. Держа на руках полуторатонную машину, пятеро непонятных существ кинулись к озеру. — Прощайте, Зиновий Серапионович! — прошептал Белопольский. — Прощайте! — ответил Баландин. — Это конец!
МИНУТА ОПОЗДАНИЯ
Андреев, Князев и Второв узнали о том, что началась гроза, только потому, что им сообщили об этом со звездолета. Правда, они слышали раскаты грома, но ни одна капля воды не падала на просеку, по которой шла их машина. Как рассказал им Топорков, грозовой фронт налетел неожиданно. «Барометр» не предупредил о его приближении. Больше того, — радиосвязь не прервалась. Корабль и лес были закрыты ливнем, а с вездеходом можно было говорить, как в ясную погоду. Такого явления еще ни разу не наблюдалось на Венере. Словно намеренно, планета продемонстрировала гостям два новых для них вида своих гроз. Исключительно сильно насыщенная электричеством сменилась другой, которая была полной противоположностью первой. И обе были не похожи на обычные грозы. — Не знаю, что и думать, — сказал Игорь Дмитриевич. — Запишите эту загадку под номером восемнадцать, — пошутил Второв. — Нет, где уж тут восемнадцать, — они слышали, как Топорков тяжело вздохнул, — нет ни конца, ни краю! Световые эффекты, которые наблюдали Белопольский и Баландин, на этот раз отсутствовали. Ничего о них не зная и даже не подозревая о существовании подобного феномена, трое товарищей, конечно, не удивились этому. Зато они очень удивлялись другому. Им говорили, что над ними гроза, сменившаяся затем обыкновенным дождем, а в лесу по-прежнему было совершенно сухо. Их недоумение разделяли все члены экипажа, оставшиеся на корабле. — Неужели листва настолько густа, что способна задержать такой сильный ливень? — говорил Коржевский. — Это просто невероятно! — Это факт, — отвечал ему Второв. — Дорога абсолютно суха, и ни единой капли на нее не попадает. — Снова загадка! — вздыхал биолог. И вдруг совершенно внезапно дорогу преградила водяная стена. Она появилась так неожиданно, что Князев едва успел выключить двигатели и нажать на тормоз. Еще немного — и они с полного хода врезались бы в эту непонятную преграду, не зная, что ждет их за нею. Ярко освещенная сильным светом прожекторов вездехода загадочная завеса казалась прозрачной, но за ней ничего не было видно. Присмотревшись, они поняли, что вода падает сверху, словно с гладкой крыши, не огражденной водосточными желобами. — Она кажется очень тонкой, — заметил Второв. — Все равно! — сказал Андреев. — Мы не должны рисковать. Я сейчас выйду и произведу разведку. — Ни в коем случае! — решительно заявил Князев. — Пойду я. — Или я, — поддержал его Второв. Степан Аркадьевич рассердился. — Я начальник экспедиции. — И тем не менее, — все так же решительно сказал молодой механик — вы не пойдете, как не пойдет и Второв. Здесь самый элементарный расчет. Мы торопимся на помощь нашим товарищам, которые, быть может, нуждаются в медицинской помощи. Вы здесь единственный врач. Геннадий Андреевич — единственный оператор. Вдруг встретятся важные кадры. Вы не имеете права рисковать собой без крайней необходимости. Пойду я, и только я. Говоря все это, он быстро надевал на себя резиновый костюм, а с последними словами скрыл голову под прозрачным шлемом, показывая, что не хочет ничего больше слушать. — Саша прав! — раздался из репродуктора голос Мельникова. Радиосвязь все время оставалась включенной, и на звездолете слышали весь разговор. — Пусть будет так! — сдался Андреев. И он и Второв надели противогазы, так как в открывшуюся дверь неизбежно проникнет воздух Венеры, не очищенный фильтрами. Князев вышел из машины. Без тени колебания он подошел к водяной завесе и, смело войдя в нее, скрылся из глаз своих спутников, которые с тревогой следили за ним. Одно мгновение они видели сквозь толщу воды туманный контур его фигуры, освещенной лучом прожектора. Потом и она исчезла… Но не прошло и минуты, как Князев буквально вылетел обратно. Одним прыжком он вскочил на свое место и включил моторы, рывком переведя рычаг на максимальную скорость. Вездеход рванулся вперед и, прежде чем они успели что-либо сообразить, проскочил завесу и оказался на самом берегу озера. На полном ходу Князев резко повернул вправо. Левая гусеница поднялась над «землей», и машина едва не опрокинулась. Мощный поток света прожекторов осветил сцену, от которой Андреев и Второв почувствовали, как сердце на мгновение остановилось от охватившего их ужаса. Только в воспаленном мозгу тяжело больного могла возникнуть подобная картина… Электрический свет дрожал и переливался всеми цветами в дождевых струях, превращая их в искрящиеся нити. За этой мерцающей сеткой совсем близко неподвижно застыла группа… Точно ожили и явились изумленному взору современного человека ископаемые чудовища доисторической эпохи. В ослепительных лучах прожекторов, как на остановившемся кадре мультипликационного фильма, стояли пять фантастических фигур — огромные «черепахи», поднявшиеся на задние ноги, с ярко-красными панцирями и непропорционально маленькими треугольными головами, на которых желтым огнем горели по три громадных круглых глаза. Лишенные шерсти, морщинистые тела бледно-розового цвета блестели, как металлические. Толстые ноги, казалось, не имели ступней, во всю длину одинаково бесформенные и покрытые мясистыми складками кожи. Передние конечности по-видимому служили руками. Эти «руки» были так же толсты и безобразны, как ноги. На концах они снабжены четырьмя отростками, каждый из которых толщиной с человеческую руку. Между этими подобиями «пальцев» виднелась тонкая прозрачная пленка, что делало «руки» похожими на гигантские лапы утки. Второв сразу узнал их. Это были те самые черепахи, которых они видели с борта подводной лодки. Именно их тщетно разыскивали Баландин и Коржевский. Но не вид этих чудовищ наполнил ужасом сердца трех мужественных людей. Они давно ожидали, что встретятся лицом к лицу с обитателями Венеры, и не рассчитывали, что формы их тела будут похожи на формы тела человека Земли. Они не испугались бы при виде еще более уродливых и страшных существ. Но они почувствовали, что кровь застыла в их жилах, когда поняли, что огромный темный предмет, который эти «ископаемые» черепахи держали на руках, представляет собой не что иное, как вездеход, сквозь окна которого виднелись головы Белопольского и Баландина.

«Черепахи» уже ступили в воду. Их намерения не вызывали ни малейшего сомнения. Захватив вездеход, они тащили его в глубину озера. Трое товарищей поняли, что явились к последнему акту разыгравшейся здесь драмы, подробностей которой они не знали. Яркий свет, сменивший столь внезапно привычную темноту, заставил пятерых обитателей Венеры остановиться. На мгновение они замерли, ошеломленные, а возможно, и смертельно испуганные, ослепленные беспощадными лучами прожекторов, которые должны были болезненно ударить по их чувствительным к свету огромным глазам. Вездеход мчался прямо на них. Казалось, что Александр Князев намеревается смять всю группу вместе с захваченной ими машиной. Все это, долгое в описании, заняло не больше двух секунд. В следующее мгновение, когда вездеход находился уже в трех шагах, венериане, не выпуская из рук добычу, с непостижимой быстротой бросились в воду и исчезли в ее темной глубине. Вне себя от отчаяния, не сознавая, что делает, Князев рванул рычаг тормоза левой гусеницы. На полном ходу машина влетела в озеро. По счастью, Второв не растерялся в эту трагическую минуту. С молниеносной быстротой он выключил оба мотора и, вырвав из рук Князева рычаги управления, затормозил вездеход в двух метрах от берега. Выручила физическая сила молодого спортсмена. Вода доходила до половины корпуса. Уклон берега был очень крут. Опомнившийся Князев дал задний ход, и машина медленно, с трудом вылезла обратно на берег. Лучи света далеко освещали гладкую поверхность озера. Дождь прекратился. Ни в воде, ни на берегу нельзя было заметить никакого движения. Тяжелая тишина камнем легла на плечи трех человек. Мгновенным кошмаром промелькнула и исчезла перед ними жуткая картина гибели двух товарищей. Медленно протянув руку, Второв выключил прожекторы. Все кончено! Начальник экспедиции и его спутник погибли! В темноте кабины, судорожно вздрагивая плечами, рыдал Князев. Остановившимися, широко открытыми глазами Андреев и Второв все еще смотрели на то место, где скрылись отвратительные «черепахи», унесшие вездеход Белопольского. Так вот где суждено было погибнуть знаменитому звездоплавателю, второму после Камова «звездному капитану» Земли! Вот где нашел смерть крупнейший ученый, академик Баландин! Страшная развязка наступила так внезапно, что они долго-долго не могли ни сказать, ни сделать что-нибудь осмысленное. Минуты шли за минутами, а трое людей все так же неподвижно сидели, подавленные свалившимся на них непоправимым несчастьем. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. Второв совершенно машинально включил приемник. — Как дела? — раздался спокойный голос Мельникова. — Где вы находитесь? Почему долго молчали? Неужели придется сказать? Иначе нельзя. Кому же из них выпадет на долю сообщить на корабль ужасное известие? Все трое молчали. — Отвечайте! — уже с тревогой вызывал Мельников. — Вездеход! Вездеход! Отвечайте! Усилием воли Второв заставил себя заговорить: — Слышу! Находимся на берегу озера. Только что… Секунда молчания. — Что случилось! Да отвечайте же! — Только что сейчас, на наших глазах, «черепахи» унесли в озеро машину вместе с Белопольским и Баландиным! Ни звука не раздалось в ответ. Там, у реки, на звездолете, и здесь, у озера, на вездеходе, молчание. Словно сочувствуя горю гостей, полная тишина царила и в атмосфере Венеры. Не слышно отдаленных раскатов грома, не шумят под ветром верхушки деревьев. Замерла вода в озере и не шевелится трава. Или это только кажется людям?.. — Оставайтесь на месте! В случае грозы укройтесь в лесу, на опушке. Через полчаса придет вездеход-амфибия. Кто это сказал? Конечно, Мельников. Но они не узнали его голоса. Амфибия! Да, конечно! На корабле есть амфибии. Но чем они могут помочь?.. Кто приведет ее? Конечно, не Мельников — единственный командир звездолета. До самого финиша, на Земле, он уже не покинет борта корабля. Не могут уйти из него ни Пайчадзе, ни Зайцев, ни Топорков. Без них нельзя пускаться в обратный путь. Значит, Коржевский и Романов. Только они одни остались в резерве. Казалось, что время остановилось, но они даже не заметили, как прошло двадцать минут. — Вездеход только что вышел к вам, — сообщил Топорков. — Борис Николаевич приказывает, чтобы разведку произвели Князев и Коржевский. Действовать с максимальной осторожностью. — Где Борис Николаевич? — спросил Второв. — Сейчас вернется. Он вам нужен? — Нет, это я так. — В чем дело? — спросил сам Мельников. Очевидно, он вернулся в рубку. — Что вы хотите, Геннадий Андреевич? — Нет, ничего. Извините, Борис Николаевич! — Вы хотите участвовать в разведке? — Я думал… — Вы думали правильно. — Мельников говорил, как-то необычно отчетливо выговаривая каждую букву. — Ничто не должно мешать нашей работе на Венере. Киноаппарат с вами? — Да. — Разрешаю заменить Коржевского. Из леса вырвался длинный прямой луч света. Его усиливающаяся яркость говорила, что не видимый еще вездеход быстро приближается к озеру. И вдруг снова раздался голос Топоркова. — Станислав Казимирович, остановитесь! — сказал он. — Саша! Укройся в лесу. Приближается гроза, Опять!.. — Когда это, наконец, кончится? — со злобой спросил Князев. — Тогда, когда мы покинем Венеру. Гремел гром, низвергался с верхушек леса мощный водопад; в бурный поток превратился берег. Но световых эффектов и на этот раз не было. По-прежнему никто, кроме Белопольского и Баландина, не знал о загадочном феномене. Наконец грозовые фронты прошли и связь восстановилась. — Задача разведки, — тотчас же сказал Мельников, — найти вездеход на дне, определить, на какой глубине он находится, и есть ли возможность вытащить его из озера. Действовать быстро, но крайне осторожно. Кабина машины герметична, и, если «черепахи» ее не разломали, Белопольский и Баландин еще живы. Звездолет в любую минуту перелетит на озеро. Быстрей, товарищи! Как же случилось, что никто из них не вспомнил об этом? В закрытую машину вода проникнуть не может. Они считали товарищей уже мертвыми, а в действительности были все основания считать их живыми. Один только Мельников не потерял способности рассуждать здраво. Надежда вернула энергию. Вездеходы вышли из леса и подошли к самой кромке воды. Князев и Второв сменили Романова и Коржевского в амфибии. Подобно подводной лодке, вездеход-амфибия был целиком сделан из прозрачной пластмассы. Даже ленты гусениц были из этого материала. Рассчитанная на двух человек, легкая и подвижная, эта машина могла ходить по земле, плавать и погружаться под воду с помощью выдвижных плоскостей, похожих на крылья планера. Глубина погружения, правда, была незначительна — не более семи — восьми метров, но звездоплаватели имели все основания думать, что «черепахи» сами не могут находиться под водой глубже. Земноводные Земли никогда не уходят очень глубоко. Давление воды возрастает с каждым метром. Глубоководные организмы не живут на поверхности — их разрывает. Почему же на Венере могло быть иначе? Раз венериане выходят на сушу, они никак не могут быть обитателями глубин. Черепахи Земли умеют плавать. Обладают ли этой способностью «черепахи» Венеры? Ответ на этот вопрос имел огромное значение. Если нет, — амфибии не угрожала опасность. Если да, — машина могла быть схвачена так же, как был схвачен вездеход Белопольского. Тогда вместо двух будут четыре жертвы. Но кто мог ответить на такой вопрос? — Мы с Борисом Николаевичем говорили об этом, — сказал Коржевский, — и решили, что амфибия может уйти от «черепах», если они нападут на нее в воде. Плавать быстрее машины они, во всяком случае, не могут. — Будьте крайне осторожны, — еще раз напутствовал Князева Мельников. — При малейшей опасности — к берегу! Со звездолета были привезены скорострельные ружья, заряженные разрывными пулями. Вооружившись ими, Коржевский и Романов вышли из машины и приготовились, в случае необходимости, отразить нападение на амфибию. Если снова не налетит грозовой фронт, они будут караулить у самой воды до тех пор, пока Князев и Второв не вернутся. О том, что может произойти, если гроза все-таки будет, они старались не думать. Андреев остался в машине. На его обязанности лежала связь с Князевым и звездолетом. Кроме того, он должен был при появлении «черепах» встретить их светом прожектора. — Мне кажется, что лучшим оружием против них является свет, — сказал Коржевский. — Нельзя забывать, что глаза венериан привыкли к темноте. Без колебаний Князев включил двигатель. С легким всплеском вездеход вошел в воду. Оставшиеся на берегу видели, как выдвинулись «подводные» плоскости, наклонились и, зацепив острыми краями, увлекли машину под воду. След от ее винта пенным буруном прочертил гладкую поверхность озера. На мгновение мелькнула едва различимая в сумрачном полумраке прозрачная крыша, и все исчезло. Потом где-то в глубине вспыхнул свет. Это Князев включил прожектор. Светлое пятно медленно удалялось от берега. Трое людей не спускали глаз с озера, следя за светлым пятном в его темной глубине. Оно постепенно удалялось, становилось все более тусклым. Потом исчезло совсем. Очевидно, машина ушла вглубь. На звездолете, в помещении радиорубки, Мельников и Топорков не отрываясь следили за электробарометром. Они с ужасом думали о возможности мощного грозового фронта, каждый про себя умоляя небо Венеры сжалиться над ними. Продолжительная гроза — это было самое страшное, что могло случиться. Под тяжестью водяного потока амфибия не сможет выйти из озера и окажется в полной власти его хозяев. Минутная стрелка, словно превратившись в часовую, невыносимо медленно ползла по циферблату. Уже час с четвертью амфибия находится под водой. И то, что должно было случиться на Венере, случилось. Тонкая стрелка дрогнула и медленно отошла от нуля. — Амфибия! Амфибия! — Слышу, — ответил Второв. — Гроза! Немедленно на берег! Как можно скорей! — Выходим! Успеют ли? Им казалось, что стрелка барометра стремительно ползет вверх. Получив известие о приближении грозового фронта, Коржевский и Романов отошли от воды, поближе к вездеходу. До последней секунды они решили не входить в него и оставаться на своем посту. Со звездолета непрерывно запрашивали, не появилась ли амфибия. Второв сообщил, что они поднимаются на поверхность так быстро, как только может машина. «Черепахи» их не преследовали. — На дне озера их очень много, — сказал он. Радиосвязь вскоре прервалась. Это означало, что гроза совсем близко. Амфибии не было. Где-то над лесом блеснула первая молния. Раскатисто прогремел удар грома. — Входите скорей! — сказал Андреев. — Еще немного! — не спуская глаз с озера, ответил Романов. Но вот далеко, почти у противоположного берега, появилось быстро возрастающее в яркости светлое пятно. Прямой луч прожектора вырвался из воды. Они успели заметить белый пенящийся след, приближавшийся со стремительной быстротой. Скорей! Еще несколько секунд!.. Удар хлынувшей воды опрокинул Романова на землю. Коржевский успел вскочить в открытую дверцу вездехода. Плотная мгла окутала берег.
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД
— Прощайте, Зиновий Серапионович! — сказал Белопольский. — Прощайте! — ответил Баландин. Они были уверены, что погибли, что смерть близка и неизбежна. Как могли они защищаться против огромных животных, тащивших вездеход в озеро?.. Белопольский сделал последнюю попытку. Пустив в ход мотор, он надеялся, что обитатели озера выпустят из лап захваченную машину, но гусеницы остались неподвижными. Физическая сила «черепах» оказалась выше, чем мощь двигателя. Люди имели огнестрельное оружие. Оно было заряжено разрывными пулями и могло оказаться действенным даже против таких гигантов, но воспользоваться им не было времени. Прежде чем они успеют открыть окна и пустить его в ход, «черепахи» погрузятся в воду. Она хлынет внутрь машины и только ускорит развязку. Передние «черепахи» ступили в воду. И вдруг откуда-то сбоку вспыхнул свет. Одно мгновение Белопольский и Баландин отчетливо видели совсем близко от себя головы своих похитителей, ярко освещенных лучами прожектора. «Черепахи» были поразительно уродливы. Три огромных глаза, казавшихся при свете совсем черными, сильно выдающийся вперед оскаленный рот с длинными острыми клыками, торчащими по сторонам, — больше на этом «лице», казалось, ничего не было. Свирепая морда кровожадного зверя. Голый морщинистый череп сразу над глазами круто отгибался назад. Никакого признака «лба». Свет прожектора, быстро возрастая в яркости, стремительно приближался. «Черепахи», словно окаменев, стояли неподвижно. Оба звездоплавателя хорошо знали, что представляет собой этот светлый луч. Им на помощь спешили товарищи. Пламенной искрой мелькнула надежда. Они увидели, как «черепахи» отвернулись от света, Баландин машинально отметил про себя, что их глаза не имели век и не могли закрываться. Сквозь стенки кабины послышался быстро усиливающийся шум. Мощная машина была совсем рядом… Еще мгновение, и она со всего разгона врежется в неподвижную группу… Словно очнувшись, «черепахи», не выпуская добычу, с непостижимой быстротой бросились в воду. Поверхность озера сомкнулась над вездеходом. Искра надежды мелькнула и погасла… Венериане быстро уходили в глубину. Тусклое освещение вечера сменилось кромешной мглой. Глаза «черепах» вспыхнули желтым огнем. Белопольский выключил мотор. Все равно он был уже бесполезен. Герметически закрытая кабина не пропускала воду. Если «черепахи» не сломают машину и не тронут стекла ее окон, людям не угрожала непосредственная опасность. Они чувствовали, что дно быстро понижается. Их тащили все дальше в темную глубину. Белопольский зажег прожектор. Луч света осветил воду далеко вперед. Они успели заметить, как несколько «черепах», очевидно направлявшихся к ним, бросились в сторону. И вдруг что-то мелькнуло перед самым окном. Страшный удар обрушился на машину. — Все! — глухо сказал Баландин. Казалось, что действительно наступила последняя минута. «Черепахи» начали ломать вездеход. При их исполинской силе это не должно было занять много времени. Но вода, которую ждали люди, не хлынула в кабину. Удар не повторялся. Наступившая темнота объяснила им всё. «Черепахи» разбили прожектор. Чем? По-видимому бревном. Свет мешал им, и они расправились с его источником, не трогая машины. — Весьма решительно! — сказал Белопольский. — Хотя и невежливо. Он не решился включить второй прожектор или зажечь свет внутри кабины. Это могло привести к быстрой развязке. В полной темноте люди ждали, что произойдет дальше. «Черепахи» по-прежнему несли вездеход по дну озера. Машина слегка покачивалась в их«руках». — Почему они не плывут? — спросил Баландин. — Вероятно, мешает тяжесть нашей машины. — Мы вообще не видели плывущей «черепахи». — Это не земные циниксы. Может быть, они совсем не умеют плавать. — Возможно. Оба звездоплавателя испытывали гнетущую тревогу. Темнота, неизвестность, ожидание гибели, которая могла прийти в любую минуту, — все это не могло не действовать даже на этих закаленных людей. Человек, как бы он ни был бесстрашен, не может равнодушно ждать насильственной смерти. Но минуты шли, а «черепахи» не высказывали никаких агрессивных намерений. Куда они несли их? Почему так долго? Это становилось странным. По расчету Белопольского, они удалились от берега не меньше как на полкилометра. Движение вперед продолжалось с прежней скоростью. Постепенно глаза людей привыкли к мраку, и тогда они заметили слабый, но несомненный свет. Дно озера было освещено, но чем и откуда, они долго не могли понять. Смутно, словно при свете звезд где-нибудь на Земле, они стали различать контуры окружающего. Они поняли, что их машину несут уже не пять, а восемь «черепах». Их глаза горели, как желтые фонари. Но не они же освещали воду!.. Баландин первый заметил по сторонам дороги груды каких-то светящихся полосок и понял, чт это такое. — Смотрите! — сказал он. — Это бревна. Они светятся и освещают дно. Он не ошибся. Теперь и Белопольский видел, что свет действительно исходит от знакомых им стволов деревьев. — Так вот для чего, оказывается, им нужны деревья! — сказал Баландин. — Да! — ответил Белопольский. — Это не строительный материал, как мы думали, а природные фонари. — Как жаль, что эта тайна умрет с нами! Константин Евгеньевич не ответил. Баландин видел, как его товарищ поспешно достал блокнот и, наклонившись к приборам пульта, светившимся слабым голубым светом, стал поспешно писать. Профессор понял, что Белопольский хочет послать письмо оставшимся наверху товарищам. Но как он думает доставить его? — Я закупорю бумагу в одну из бутылочек нашей аптечки, — сказал Белопольский. — Когда мы увидим, что наступает конец, то откроем дверь и выбросим ее. Пустая бутылка всплывет на поверхность озера, и там ее найдут. Профессор кивнул головой. Это действительно был единственный способ, оставшийся в их распоряжении. «Черепахи» неутомимо продолжали путь. Белопольскому казалось, что они движутся по прямой линии, к противоположному берегу озера. Намерения похитителей оставались неясными. Что им там нужно? Почему они не расправились с ними и машиной где-нибудь на середине? При розовом свете деревянных «ламп» они видели, что толпа обитателей озера увеличивается. Их сопровождало не меньше ста «черепах». — Посмотрите вперед! — сказал Баландин. — Что это такое? Из мрака далеко впереди показалось какое-то светлое пятно. По мере приближения оно становилось все более ярким. «Черепахи» направлялись прямо к нему. Вскоре оба звездоплавателя смогли различить что-то вроде светящейся арки. Еще несколько десятков шагов их носильщиков — и арка встала прямо перед глазами. Это были все те же бревна, которые лежали в штабелях на берегу и кучами на дне озера. Сложенные правильным полукругом, они обрамляли вход в туннель, по-видимому уходящий в глубь южного высокого берега озера. Стены этого туннеля были выложены также бревнами, и он казался светящимся проходом, ведущим куда-то вдаль, скрывающуюся в розовом сумраке. Туннель был наполнен водой. «Черепахи» прошли арку и углубились в проход. Дно туннеля заметно поднималось. Свет, исходивший из бревенчатых стен, окрашивал воду в красноватый цвет. Было настолько светло, что Белопольский и Баландин могли без труда рассмотреть самые мелкие подробности. Сопровождающая их толпа «черепах» с их розовыми телами и красными панцирями в этом освещении стала походить на толпу фантастических призраков. Желтый огонь их глаз погас. «Черепахи», несшие машину, шли на двух ногах, в вертикальном положении. Большинство остальных передвигалось на четырех. Туннель был очень длинен, выход все не показывался. — Вряд ли можно предположить, что этот туннель искусственный, — сказал Белопольский. — Вероятно, он пробит водой. — Кто их знает! — ответил Баландин. — Все может быть. Но скоро мы это узнаем. Впереди, в розовом сумраке, наконец показалось что-то более яркое. Еще несколько минут — и перед ними открылось огромное пространство, показавшееся им в первую секунду совершенно пустым. «Черепахи» вышли из воды. Исполинская пещера уходила куда-то далеко, в неразличимую глазом глубину берегового обрыва. (Было совершенно очевидно, что озеро осталось позади и что их доставили к его южному берегу.) Над головой, примерно в пятнадцати метрах, нависал каменный свод. Пещеру освещал слабый свет. Основание пещеры было совершенно сухо. Правильными рядами поднимались какие-то странные кубы. Это было похоже на улицы, застроенные домами без окон, приблизительно одинаковых размеров. — Вот он где, их город! — сказал Белопольский тоном удовлетворения. — Похоже на то, — ответил Баландин. «Черепахи» шли посередине одной из «улиц». Вдали часто мелькали какие-то неясные фигуры. Судя по размерам, это были не «черепахи». Деревянные кубы казались домами неведомых жителей этого подземного города. Но для огромных «черепах» такие жилища были довольно тесны. Выход из туннеля остался далеко позади. Толпа «черепах» шла все дальше и дальше. Наконец они остановились. Потом подошли к стене одного из «домов» и стали спускаться куда-то вниз. Спустившись, «черепахи» метров пять шли прямо, потом начали подниматься и вышли уже внутри здания. Пройдя еще несколько шагов, они осторожно поставили машину на бревенчатый пол. В общей сложности они пронесли вездеход, весящий больше полутора тонн километра два с половиной, что лишний раз доказывало их чудовищную силу. Одна за другой «черепахи» вышли тем же путем, как вошли. — Вот мы и в тюрьме, — сказал Белопольский, — а я так и не успел выбросить бутылку с письмом. Теперь это вряд ли удастся. Они внимательно осмотрелись. Помещение было совершенно пусто. Никаких внутренних перегородок в нем не было. Это была одна сплошная «комната», очевидно единственная в «доме», без окон и без потолка. Глядя с «улицы» казалось, что кубы закрыты со всех сторон. На самом деле это были не кубы, а просто четыре стены, высотой метров в пять. Оба звездоплавателя подумали, что такое устройство «домов» вполне логично. Над «городом» не было неба, ему не угрожали ни дождь, ни ветер. Потолок с успехом заменял каменный свод пещеры. Дверь, если можно было назвать так этот вход, помещалась в одном из углов. Стены и пол, сделанные из хорошо им известных бревен, как обычно, светились розовым светом. Минут двадцать люди молча ждали, не появится ли кто-нибудь из венериан, но время шло, а никто не приходил к ним. — Что они собираются с нами сделать? — спросил Баландин. — Во всяком случае ничего хорошего. Но пока мы живы. Будем благодарны и за это. — На сколько времени нам хватит кислорода? — Почти на двое суток. Но какое это имеет значение? Только продление агонии. — Нельзя ли бежать отсюда? Белопольский пожал плечами. — Как ваши ноги? — спросил он вместо ответа. — Какое это имеет значение? — повторил слова своего командира Баландин. — Я забыл о них. — Все равно! Пока есть время, надо переменить повязку. Кто знает, что нас ждет впереди. Белопольский зажег свет в кабине. Осторожно сняв повязку, он внимательно осмотрел обожженные голени и нахмурился. По краям вздувшихся волдырей кожа была ярко-красной, что указывало на сильное воспаление. «Может начаться гангрена, — подумал он. — Как он терпит? Это, вероятно, адская боль». Кроме пикриновой кислоты, никаких средств от ожогов в аптечке не было. Она предназначалась только для оказания первой помощи. Да Белопольский все равно не знал, чт надо делать в таком тяжелом случае. Как мог лучше, он наложил новую повязку и забинтовал ноги профессора. Потянулись томительные минуты ожидания. Стараясь экономить энергию аккумуляторов, Белопольский погасил свет в кабине. Свечения стен было вполне достаточно. С того момента, как они очнулись после обморока, вызванного ударом молнии, прошло уже больше двух часов. Полчаса они находились в кубе, но ни единого звука не доносилось к ним, Кругом словно все вымерло. Глубокая тишина царила «в доме». Была ли это действительно тюрьма? Кто мог сказать? Но не принесли же их так далеко только для того, чтобы бросить в этой бревенчатой «комнате». Кто-то должен был прийти к ним. Но кто и зачем? Что с ними сделают?.. Белопольский открыл дверцу и вышел из машины. Их маленький вездеход не имел выходного тамбура. С того времени, как они покинули звездолет, оба не снимали противогазов. Внутри машины был воздух Венеры, такой же, как и снаружи. Стоять на круглых бревнах было трудно. Ноги скользили по гладкому дереву. Белопольский подошел к ближайшей стене и попытался найти щель, через которую можно было бы заглянуть наружу, но бревна были пригнаны друг к другу очень плотно. Щелей не было. Он осторожно обошел камеру их тюрьмы, в любую секунду готовый броситься обратно к машине при появлении венериан. Подойдя к «двери», он опустил туда руку, стараясь нащупать ступеньку лестницы, но ее не было. Спуск состоял из тех же бревен. Было трудно себе представить, как могли «черепахи» с тяжелым грузом подняться по такой «лестнице». Отверстие входа было квадратной формы и имело метра три в поперечнике. Закончив свой обход, Белопольский вернулся к машине, казавшейся в небольшом помещении огромной, и снова занял свое место. Прошло еще около часа. Никто не приходил, и это становилось странным и угрожающим. Неужели «черепахи» бросили их умирать здесь?.. Тишина стала зловещей. — Если нас не перетащат опять в воду, — сказал Белопольский только для того, чтобы прервать гнетущее молчание, — мы сможем пользоваться для дыхания воздухом Венеры через противогазы. Это сэкономит нам запас кислорода. Тогда его хватит дней на пять — шесть. Но у нас нет никаких продуктов, кроме аварийного запаса, а он очень невелик. Все же я предлагаю подкрепить силы. — Пожалуй, это не лишнее, — согласился Баландин. Но только они успели достать свой «НЗ», как услышали какой-то звук, точно глухое топание огромных ног. Белопольский поспешно запер дверцу машины. Они увидели, как у входа появилась уродливая голова «черепахи». Потом появилось и все ее огромное тело. Зверь ступил на пол. В «руках» он нес какой-то длинный и узкий предмет. В розовом сумраке «комнаты» они не могли рассмотреть, что это такое. Взойдя на пол, «черепаха» поставила свою ношу и исчезла. Не веря своим глазам, Белопольский и Баландин узнали в этом предмете человека, одетого в противогазовый костюм.
Это был геолог экспедиции — Василий Васильевич Романов.
НОЧЬ
Тщательно выполненные расчеты дали неутешительный вывод. Экспедиция была на грани катастрофы. — Оставшиеся у нас семь двигателей, — доложил Мельникову Зайцев, — не могут дать ускорение больше чем восемь метров в секунду. За тридцать пять минут работы это составит скорость — шестнадцать километров восемьсот метров в секунду, то есть намного меньше, чем скорость Земли по орбите. Мы можем заставить двигатели работать дольше, но это опасно, ввиду перегрева дюз. — Дальше! — нахмурившись сказал Мельников. — Земля и Венера сейчас близки друг к другу, — ответил Пайчадзе, — это может нас спасти. Мы должны вылететь с Венеры седьмого августа ровно в семнадцать часов одиннадцать минут. Тогда с имеющейся в нашем распоряжении скоростью мы встретимся с Землей через восемь месяцев после старта с Венеры. Если же мы не сможем вылететь седьмого августа, то должны будем провести на Венере не менее двух лет, пока повторится удобное для нас положение обеих планет. — Это совершенно немыслимо, — сказал Мельников. — Проверьте расчеты еще раз, и, если все окажется правильно, мы вылетим седьмого августа. Что поделаешь! Могло быть хуже. Нашу работу закончит следующая экспедиция. А мы должны сделать все, что успеем за оставшиеся пятнадцать «земных» дней. 24 июля вечер Венеры подошел к концу. Как и предполагали, сумерки длились почти пятьдесят часов после захода Солнца. Уже «с утра» (звездоплаватели все время вели счет по земным часам) темнота начала быстро сгущаться. К восемнадцати часам ночь полностью вступила в свои права. Но эта ночь была далеко не такой темной, как ожидали. Если бы Пайчадзе не сказал, что она наступила, они, вероятно, продолжали бы считать ее вечером. Ничего похожего на черный мрак, который, казалось бы, должен быть на поверхности планеты, под толстым слоем облачных масс не наблюдалось. Из окон обсерватории они видели реку, лес на ее берегу и даже могли различить вдали линию порогов. Освещение напоминало земную ночь при свете Луны в первой четверти. — Теоретические расчеты подтвердились, — сказал Пайчадзе. — Яркость ночного неба Венеры благодаря близости к Солнцу в пятьдесят раз сильнее, чем на Земле, и только в пять раз слабее света полной Луны. Мы не ошиблись. Звездоплаватели готовились к ночной работе. Ее программа была обширна и разнообразна. Надо было сделать целый ряд точных фотометрических измерений освещенности в различные моменты ночи, составить график изменений нагрева почвы, а также и воздуха на разной высоте и опять-таки в различное время; в начале, середине и в конце ночи. Предстояло заняться интенсивностью падения на планету космических лучей, определением радиометодами внутреннего строения Венеры и бесконечным количеством других, не менее важных работ, из которых часть предназначалась на эту ночь, а остальные на следующую. Звездолет должен был находиться на планете двое суток. Теперь оставалось только пятнадцать земных дней. Ни одну из работ нельзя было производить внутри корабля. Приходилось выносить приборы и аппараты на берег и находиться возле них длительное время. Хотя многие процессы могли проходить автоматически, ученые все же дежурили у своих установок, не рискуя оставить их без присмотра. Жители Венеры уже доказали, что относятся враждебно к пришельцам с другой планеты, а ночью в любую минуту кто-нибудь из них мог оказаться вблизи. При огромной физической силе этих существ им ничего не стоит сломать и уничтожить хрупкие аппараты людей. Все меры предосторожности были приняты. В радиусе ста метров вокруг звездолета берег заливал яркий свет прожекторов. Никто и ничто не могло приблизиться к месту работы, не будучи своевременно замеченным. Каждого члена экипажа, которому нужно было выйти из корабля на берег, всегда сопровождали два товарища, хорошо вооруженные и готовые отразить нападение. Надо сказать, что никто из ученых не верил, что «черепахи» действительно могут напасть на звездолет. Охрана осуществлялась «на всякий случай», больше для очистки совести. Поиски в глубине озера вездехода Белопольского с очевидностью показали, что свет прожекторов является вполне достаточной защитой. Для органов зрения подводных жителей, привыкших к темноте, этот свет, видимо, был совершенно непереносим. Грозовые фронты почти не мешали работам. С наступлением ночи они стали появляться все реже и реже и были гораздо слабее. Когда экипаж находился на борту, прожекторы потухали и прозрачная темнота опускалась на звездолет. Тогда ночные бинокли и лучи радиолокаторов устремлялись на далекую линию порогов. Возле них смутно виднелись штабеля бревен, но никакого движения не удавалось заметить. Вид штабелей не изменялся, и было очевидно, что обитатели озера почему-то не трогают их. Несколько раз звездоплаватели внезапно зажигали прожектор, направляя луч его света на близкую опушку леса, но и там ничего не обнаруживали. — Они боятся нашего корабля, — говорил Мельников, — и не рискуют приблизиться к нему. Наше присутствие мешает им производить обычную ночную работу. Это было более чем вероятно. Исполинский корабль, неведомо как очутившийся на берегу реки, неведомо откуда взявшийся и неизвестно что собою представляющий, должен был казаться венерианам чем-то таинственным, непонятным и пугающим. Первобытные существа даже отдаленно не могли вообразить истинного назначения этого чудовищного огромного предмета. Он должен был возбуждать в них ужас. — Неужели, — говорил Второв, — мы так и вернемся на Землю, не имея ни одного снимка «черепахи»? Я никогда не прощу себе этого. У Геннадия Андреевича были все основания быть недовольным собой. Он видел «черепах», они неподвижно стояли, ярко освещенные светом прожекторов; в его руках был киноаппарат; более удачных условий съемки нельзя было себе представить, но… ни одного снимка обитателей Венеры не было. Исправить «упущение», очевидно, было нельзя. Венериане не появятся возле корабля. О том, чтобы попытаться еще раз увидеть их на берегу озера, не могло быть и речи. Мельников, вступивший в командование кораблем, категорически заявил, что не допустит ни одной экскурсии куда бы то ни было. До самого старта на Землю ни один член экипажа не отойдет далеко от корабля. — Довольно жертв! — сказал он своим товарищам. — Их и так слишком много. С обитателями Венеры познакомимся в следующем рейсе. Как ни хотелось Второву получить снимки венериан, он должен был признать, что это решение единственно правильное. Экспедиция потеряла четырех человек. Это действительно было слишком много. Случайность, которую невозможно было предвидеть и предупредить, погубила на Арсене Леонида Орлова. По своей вине жертвой собственной неосторожности стал Василий Романов. Неизвестно, как Белопольский и Баландин попали в руки венериан и были унесены ими на дно озера. Никаких надежд на их спасение уже не могло быть. Вездеход исчез бесследно. Князев и Второв восемь раз погружались в озеро на амфибии, но не обнаружили машины. Куда ее могли унести? Это оставалось тайной. После восьмой бесплодной попытки Мельников приказал возвращаться на корабль. — Мы сделали все, что могли, — сказал он, — больше рисковать нельзя. Гроза, прервавшая первый поиск, по счастью, оказалась слабой и непродолжительной. Но, когда она окончилась, Коржевский и Андреев с ужасом увидели, что их товарища, не успевшего вскочить в машину, нигде нет. Стало очевидно, что Василий Романов был оглушен ударом ливня и смыт в озеро. — Немедленно найти! — приказал Мельников. Вездеход-амфибия нисколько не пострадал. Как только началась гроза, Князев погрузился под воду, где им уже не могли угрожать ни ливень, ни молнии. Опасения, что на машину нападут «черепахи», не оправдались. Венериане, которых оба разведчика насчитывали на дне больше сотни, панически боялись прожекторов. Как только появлялся свет, они падали на дно, прячась под свои панцири, совершенно так же, как делали это в океане. Амфибия могла плавать под водой сколько угодно, без всяких опасений. Узнав об исчезновении Романова, Князев немедленно приблизился к берегу и тщательно обыскал дно. Но молодой геолог исчез так же бесследно, как вездеход Белопольского. С энергией отчаяния, забыв обо всем, они, сменяя друг друга, искали пропавших товарищей двенадцать часов подряд. Дно озера было обследовано на всем своем протяжении. Напрасно!.. Ни вездехода, ни тела Романова нигде не было. Озеро оказалось неглубоким. Они видели на его дне огромное количество бревен, лежавших кучами, многочисленные виды водорослей и других растений, но, кроме «черепах», не заметили ни одного живого существа, ни одной «рыбы». — Спрятать машину там абсолютно негде, — сказал Князев. — Мы не могли не заметить ее. — Где же она может быть? — Не знаю, но в озере ее нет. Почти одновременная гибель трех товарищей угнетающе подействовала на всех членов экспедиции. «Вечером» 24 июля Мельников записал в своем дневнике: «Последний срок миновал! До сих пор какое-то неясное чувство говорило мне, что Константин Евгеньевич и его спутник живы. Так хотелось надеяться! Мне казалось, что, против всякой вероятности, они вернутся к нам. Сегодня эта призрачная надежда окончательно рухнула. Даже теоретически не на что рассчитывать. Все кончено! Запас кислорода в вездеходе исчерпан. Если они были живы до сих пор, то сейчас безусловно мертвы. Им нечем больше дышать! Какая страшная участь!.. Я хочу верить (вот до чего дошло!), что «черепахи» сразу сломали стенки машины, разбили окна, умертвили. Ужасно думать, что они жили двое суток без надежды на спасение во власти свирепых зверей!.. Насколько счастливее (какое слово!) судьба Романова! Если он не был убит сразу ударом ливня, то все же умер очень скоро: запас кислорода в его баллоне был так мал. Ирония судьбы! Я жалел, что прервана связь с Землей. А сейчас я благославляю это обстоятельство. Какими словами могли бы мы рассказать о случившемся?.. Конечно, это эгоистично, но я думаю об Оле. Сколько томительных дней выпало ей на долю, когда после спуска на Венеру на Земле не знали о нашей судьбе! Известие о гибели еще трех членов экспедиции… Нет, лучше не думать об этом кошмаре!.. Куда все-таки делся вездеход? Куда исчезло тело Романова? Неужели кто-нибудь сможет упрекнуть нас, что мы плохо искали? Не попробовать ли еще раз? Нет, я не имею на это права. Василия Романова схватили «черепахи». Это очевидно. И спрятали его тело так же, как вездеход К.Е. Зачем они это сделали? И куда спрятали? Князев и Второв утверждают, что на дне озера машины нет. Зловещая тайна. Неужели «черепахи» разломали вездеход на мелкие куски? В клочья разорвали тела наших несчастных товарищей? А может быть… жутко думать, что и это могло случиться!.. Что мы знаем о жителях Венеры? Ничего не знаем. «Черепахи»! Какие странные и причудливые создания! Я хорошо помню их. Назойливо стоят они перед моими глазами. Могли ли мы думать, когда смотрели на них из подводной лодки, что это и есть разумные обитатели Венеры, что именно они, эти земноводные, и есть люди планеты? Даже сейчас, когда, казалось бы, отпали последние сомнения, я не могу верить этому. Что сказал Коржевский? Он утверждает, что, судя по описаниям, «руки» черепах не могли создать линейку, — они не способны к такому труду, это не руки, а лапы животных. Я убежден в правильности этого рассуждения. Линейку сделал кто-то другой. Может быть, «черепахи» — только животные? Их поведение не похоже на поведение животных Земли. Что из этого? Мы имеем дело с животными Венеры. Слоны в Индии работают. Они ломают деревья, переносят бревна. Совсем так же, как «черепахи». К тому же мы не знаем, они ли делают это. Кто же тогда настоящие венериане? Где они? Как они выглядят?.. Увидим ли мы их? Нет, в этом рейсе не увидим. Я сам запретил всякие попытки. И не изменю этого решения. Потом! В следующем рейсе! Как тяжело, как трудно казаться спокойным, ничем не высказывать боли, которая ни на минуту не оставляет тебя! Как часто приходится усилием воли сдерживать рыдания, готовые вырваться. Иногда хочется выть, как зверю, дать выход отчаянию. Нельзя! Любому из моих товарищей можно. Мне нельзя. Даже наедине с собой я должен держаться. Я не принадлежу себе. Потом! Когда наш несчастный рейс закончится!..»* * *
В ночь на 25-е дежурил Князев. В три часа «утра» он неожиданно разбудил всех звонком тревоги. Не прошло и пяти минут, как в рубке управления собрались все восемь человек. — Что случилось? — спросил Мельников, первым вошедший в рубку. Князев молча показал на экран. Небо Венеры пылало заревом. Зловещий красный свет был так силен, что можно было отчетливо видеть все, что окружало корабль. Обычно темные, тучи сверкали всеми оттенками рубина. Казалось, что где-то за горизонтом разгорается гигантский пожар. С сильно бьющимся сердцем звездоплаватели не спускали глаз с непонятной картины. Что это?.. Пожар? Извержение вулкана?.. Им казалось, что кровавый свет становится сильнее, что-то неведомое приближается к звездолету, неся с собой таинственную угрозу. Мельников переглянулся с Зайцевым. Одна и та же мысль мелькнула у обоих — не пора ли поднять корабль в воздух и, пока не поздно, уйти от неизвестной опасности. Вдруг откуда-то из-за леса взметнулись к зениту и рассыпались по небу искрящимся занавесом зеленые и фиолетовые линии. Мерцающей сеткой они закрыли весь горизонт, переплетаясь и сверкая всеми оттенками изумрудов и вишнево-красных гранатов. — Полярное сияние! — первым догадался Пайчадзе. — Оно вспыхнуло внезапно, — сказал Князев. Успокоившись, все перешли в обсерваторию и, столпившись у окон, молча смотрели на поразительное зрелище. Второв вертел ручку киноаппарата, заряженного цветной пленкой. Рубиновый цвет неба сменился оранжевым. Потом, пройдя всю гамму цветов, неожиданно вспыхнул аквамарином. Изумрудные и гранатовые линии, уступили место сверкающему потоку хрустальных нитей. Фантастический калейдоскоп красок непрерывно сменялся больше полутора часов, поражая взор неистощимым разнообразием сочетаний всех мыслимых цветов и оттенков. Во всем богатстве предстала перед людьми палитра величайшего из художников — Великой Природы. Уходящее все ниже, за горизонт, Солнце давало прощальный спектакль. К пяти часам «утра» полярное сияние Венеры стало меркнуть. Все слабее окрашивалось небо, все яснее проступали на нем свинцовые тучи. — Изумительно! — сказал Коржевский. — Вопрос — что! — отозвался Пайчадзе. — Изумительно не само зрелище. Оно должно быть красочным. Венера близка к Солнцу. Изумительно другое. Полярное сияние — в верхних слоях атмосферы, за десятикилометровым слоем облаков. Почему мы видели его так ярко? Непонятно. — Что же бы мы увидели, если бы поднялись над облаками? — спросил Второв. — Скорей всего ослепли бы, — ответил Пайчадзе. Взволнованные всем виденным, звездоплаватели неохотно разошлись по каютам. Но никто не смог заснуть сразу. И когда, не прошло и часу, Князев вторично дал сигнал тревоги, все кинулись к рубке, надеясь еще раз увидеть чудесное зрелище, которым не успели вдоволь налюбоваться. Но на этот раз их ожидало совсем другое. Ставшая памятной ночь преподнесла еще один сюрприз. С бледным, взволнованным лицом Князев встретил товарищей непонятной фразой: — Они только что принесли! — Кто «они»? — спросил Мельников. — «Черепахи». Все бросились к экрану. Но в мутном полусвете ночи они не увидели ничего. — Свет! — приказал Мельников. Ослепительный луч прожектора лег на землю. И тогда совсем близко от корабля они увидели маленький темный предмет, лежавший на траве. — Я заметил, — рассказал молодой механик, — как со стороны порогов стала приближаться плохо различимая масса, какое-то темное тело. Сначала мне показалось, что это огромное животное. Оно медленно подходило все ближе. Я не стал зажигать прожектор, — хотелось рассмотреть его, а свет мог его испугать. Ведь оно не могло причинить вреда звездолету, как бы велико ни было. Когда оно приблизилось, я узнал «черепах», совсем таких же, каких мы видели у озера. Они что-то несли. С ними было другое животное, гораздо меньших размеров, но я его не мог рассмотреть как следует. Не зная, что делать, я дал сигнал. Но пока вы успели прийти, «черепахи» подошли вплотную к кораблю и положили этот предмет на землю. Потом они исчезли очень быстро в сторону реки. — Вот тогда и следовало зажечь прожектор, — сердито сказал Коржевский. — Я не решился. Мне не хотелось пугать их. — Правильно! — одобрил его Мельников. Значит, обитатели озера не боялись приблизиться к звездолету. Они что-то принесли людям. Что и зачем? — Товарищ Второв, — приказал Мельников, — выйдите на берег и принесите этот предмет на корабль. С вами пойдет Андреев. Полчаса, которые понадобились для выполнения этого распоряжения, показались всем оставшимся на корабле очень долгими. Но, наконец, таинственное подношение внесли в обсерваторию. Все с любопытством обступили подарок. Это было что-то вроде деревянного блюда, имевшего форму ромба, с загнутыми внутрь полукруглыми краями. Оно было тщательно отделано, гладкое до блеска, с тремя тонкими, тоже деревянными, остриями, прикрепленными ко дну. «Блюдо» было аккуратно устлано пучками оранжевых водорослей и красными листьями. Сверху лежали восемь плоских лепешек красного цвета и… золотые часы. Не веря глазам, Мельников схватил их. — Это часы Константина Евгеньевича, — сказал он.ХОЗЯЕВА ПЛАНЕТЫ
Одним из основных факторов в жизни любого существа является питание. Первые представления едва развитого мозга неразрывно связаны с ним. И от нижних до верхних ступеней эволюционной лестницы все живое подчиняется этому незыблемому закону природы. Все существа, наделенные разумом, независимо от степени его развития, заботятся о питании, и не только для себя, но и для других существ, связанных с ними. Птицы и звери добывают корм своему семейству. То же делают люди. Хищник уступает добычу другому хищнику, если не хочет драться с ним из-за нее. Это свидетельство миролюбия. Дикие племена, в знак мира, предлагают врагу добытые ими продукты питания. У восточных народов сохранился обычай — не есть в доме врага. Разделить пищу с врагом значит помириться с ним. Предложить человеку поесть — значит, высказать к нему добрые чувства. Закон питания диктует нравы и обычаи. Так было, так есть и так будет всегда, потому что пища — основа жизни, потому что это первый закон природы для живых существ. И можно с уверенностью сказать, что закон этот действителен не только на Земле. Он властно царит всюду, где есть живые существа, способные хотя бы к примитивному мышлению, которые растут и размножаются. Это закон Вселенной! Одинаковые представления о предмете должны неизбежно породить и одинаковые понятия о его роли в том или ином случае. Что же удивительного в том, что венериане поступили так же, как на их месте поступили бы люди Земли! Только человеческие законы меняются и могут быть различными. Законы природы всюду одинаковы. Принеся свой «хлеб» к звездолету, жители Венеры показали этим, что хотят мира. Понять их поступок как-нибудь иначе было невозможно. В этом смысле высказался биолог Коржевский, когда после детального анализа выяснилось, что восемь «лепешек», принесенных «черепахами», представляют собой питательный продукт, изготовленный из рыбы. В значении неожиданного подарка никто не сомневался. Это был знак мира. Что же думали жители Венеры о звездолете? За что его принимали? — Не видя Солнца, не видя звезд, они не могут знать о существовании других миров, — сказал Пайчадзе. — Они принимают нас за неизвестных до сих пор жителей той же Венеры. Это было вполне возможно. Встречали же дикие жители островов впервые увиденные ими корабли европейцев плодами и изделиями своих рук. Но зачем рядом со своим «хлебом» венериане положили часы Белопольского? Что означает это зловещее напоминание о погубленном ими человеке? Часы не шли, а всем было хорошо известно, что Константин Евгеньевич никогда не забывал завести их. Что это? Предупреждение или знак раскаяния? Мысль, одновременно пришедшую всем, высказал Пайчадзе. — Они сняли часы с тела Константина Евгеньевича, — сказал он, — и принесли нам, чтобы показать — тела у них. Почему они не принесли их сами, не знаю. Предлагают нам это сделать. Питательные лепешки показывают, что они хотят мира и больше не нападут на машину. Я считаю, — мы обязаны нанести им вторичный визит. Конечно, на берегу озера. Если они выйдут и пригласят к себе, можно проникнуть в озеро на амфибии. Несколько минут в кают-компании, где происходил разговор, стояла тишина. Никто не решался первым высказать свое мнение по столь ответственному вопросу, раньше чем выскажется Мельников. А Борис Николаевич долго молчал. Он казался всецело погруженным в свои мысли. — Я присоединяюсь к Арсену Георгиевичу, — решился заговорить Топорков. — Советским ученым не пристало бояться опасности. — Дело не в опасности, — сказал Мельников и снова задумался. — Почему лепешек восемь? — неожиданно спросил он. — Можно ли считать это простой случайностью? Все бывшие в каюте переглянулись. В самом деле! Никто не обратил внимания, что число «хлебцев» точно соответствует числу оставшихся на корабле членов его экипажа. Каждому по одной! — Откуда же они могли узнать? — нерешительно сказал Коржевский. — Вот именно, откуда? — Мельников посмотрел на товарищей заблестевшими глазами. — Они могли узнать об этом от… Он не договорил, но все сразу поняли. Загадочное появление золотого хронометра, с которым, как они все знали, никогда не расставался Белопольский, могло означать совсем не то, что они думали. Он сам отдал его венерианам. Это могло означать: «На помощь!» Неужели Белопольский и его спутник живы?.. — На озеро! — страстно вскричал Пайчадзе. — Да! — ответил Мельников. — Мы должны немедленно отправиться на озеро. Возможно, мы ошиблись, но возможно, что угадали правильно. Медлить преступно. Решение командира обрадовало всех. Один только Коржевский нахмурился и покачал головой с видом большого сомнения. — Кому же Константин Евгеньевич мог сказать о нас? — спросил он. — «Черепахам»? И как он говорил с ними? — Саша видел какое-то существо вместе с ними, — ответил Мельников. — Это, наверное, и был настоящий венерианин. Как бы то ни было, мы не можем пройти мимо появления часов, что бы это ни означало. — Я не спорю, — согласился биолог. Приняв решение, звездоплаватели, не теряя времени, приступили к его выполнению. Из ангара вывели самый крупный из вездеходов. Это была сплошь металлическая могучая машина с двумя моторами, по две с половиной тысячи лошадиных сил каждый, с двумя самостоятельными панелями управления. Она могла двигаться в обе стороны с одинаковой скоростью, достигавшей ста двадцати километров в час. Узкие окна, расположенные со всех сторон, вместо стекол имели прозрачные пластмассовые пластины толщиной в три сантиметра. Гусеницы были так широки, что машина могла устойчиво держаться на болотистой почве. Передняя и задняя стенки были снабжены острыми, расходящимися по бортам таранами, прикрывавшими гусеницы… Вездеход мог продираться через непроходимую для других машин чащу. Длина машины — восемь метров — предохраняла ее от опасности опрокинуться при крутых подъемах или спусках. Вес — тридцать две тонны — защищал от участи машины Белопольского. Вряд ли «черепахи» могли поднять подобную тяжесть. Завод, изготовивший ее специально для рейса на Венеру, позаботился и об удобствах экипажа. В вездеходе было шесть мягких кресел, которые могли превращаться в постели. Автоматически действующие аппараты «следили» за чистотой воздуха и его температурой. Двери были двойные, с выходным тамбуром. Три радиоустановки — основная, аварийная и телевизионная — обеспечивали надежную связь. В отличие от всех, которые до сих пор употреблялись в космических рейсах, эта машина не была безоружна. Крупнокалиберный пулемет находился в специальной башенке, возвышавшейся на носу. Камов заставил Белопольского согласиться взять с собой эту вооруженную машину «на всякий случай». — Кто знает, может быть, мы жестоко ошибаемся относительно обитаемости Венеры, — сказал он. — Сделайте это для нашего спокойствия. — Это тридцать две тонны лишнего груза. — Все равно вам нужен большой вездеход. Когда начали обсуждать, кому участвовать в поездке, возникли горячие споры. Каждому хотелось быть зачисленным в экипаж. В конце концов Мельникову пришлось употребить власть командира. — Машину поведет Князев, — сказал он. — С ним отправятся: Коржевский — как врач и Второв — как кинооператор. Командовать вездеходом поручаю Князеву. В половине восьмого утра 25 июля, по земному календарю, и глухой ночью, по календарю Венеры, вездеход отошел от звездолета и, миновав освещенную прожектором полосу берега, направился на тихом ходу к порогам. Оставшиеся на борту корабля, собравшись в помещении обсерватории, следили за ним до тех пор, пока неясный силуэт машины не потонул в темноте ночи. Но и тогда они продолжали стоять у окна, напряженно всматриваясь вдаль. Минут через десять далеко-далеко мелькнул светлый луч, — их товарищи искали вход на просеку. Потом и этот луч скрылся. Очевидно, машина вошла в лес. Пять человек перешли на радиостанцию. Топорков включил экран. И тотчас же на нем появилась лесная дорога. Телекамера, установленная на вездеходе, работала. Они отчетливо видели медленно двигавшуюся на них панораму леса, освещенную ярким светом прожекторов машины. Из репродуктора раздался шорох ее гусениц. Им казалось, что они находятся рядом с друзьями, вместе с ними участвуют в этой беспримерной ночной экспедиции. Они слышали каждое слово, которыми изредка обменивались Князев, Коржевский и Второв, и при желании могли, включив радиосвязь, принять участие в разговоре. Топорков протянул руку, чтобы сделать это, но Мельников остановил его. — Не нужно отвлекать их внимания. Если понадобится, они сами нас вызовут. Он говорил так тихо, словно боялся, что экипаж вездехода его услышит. Но передатчик был выключен. Пять человек молча сидели в затемненной рубке перед светящимся экраном, всем своим существом участвуя в каждом движении машины; они как бы слились с ней в одно целое. Зайцев даже покачнулся в кресле, когда панорама на экране дрогнула и пошла быстрее. Князев резко увеличил скорость. И вдруг… Пять человек стремительно подались вперед. Подавленное восклицание замерло на всех устах. Из-за поворота, к которому быстро приближалась машина, неожиданно появилась группа обитателей озера. Их было не меньше двадцати… Все пятеро физически ощутили, как Князев затормозил вездеход. Картина на экране остановилась. И так же неподвижно застыла группа «черепах». Несколько секунд можно было отчетливо видеть красные панцири, бледно-розовые морщинистые тела и маленькие треугольные головы… А потом прожекторы машины погасли. Лес погрузился в полную темноту. И такая же темнота хлынула с экрана в радиорубку… Встреча с жителями Венеры не была неожиданной для Князева и его товарищей, которые в любой момент ожидали, что вот-вот покажутся хозяева планеты. Они даже удивились, когда, подъехав к порогам, не увидели ни одной «черепахи». Штабеля казались нетронутыми. Почти километр прошла машина по лесной дороге, никого не встретив. Два раза в самом конце «светового коридора» в луче прожектора промелькнуло что-то живое, но это случилось так внезапно и так быстро, что они не могли решить, действительно ли они что-то видели или им только показалось. — Неужели на Венере все-таки есть животный мир? — недоуменно сказал Коржевский. — И живые существа появляются по ночам? И вдруг из-за поворота показались венериане. Князев остановил машину. «Черепахи» также остановились. Между ними и вездеходом было шагов тридцать. С этого близкого расстояния можно было хорошо рассмотреть подробности, которые ускользнули от внимания тех, кто видел эту группу на экране. Пять человек заметили только «черепах». Коржевский, Второв и Князев увидели еще и другое. И когда убедились, что зрение их не обманывает, что перед ними не мираж, а реальная действительность, они поняли, что великая тайна Венеры, наконец, раскрылась. Коржевский был прав. Не «черепахи» были хозяевами планеты, не они были теми разумными существами, присутствие которых на сестре Земли звездоплаватели почувствовали с первого же дня пребывания на ней… Громадные розовые тела с уродливыми красными панцирями на спинах, со странно маленькими треугольными головами заполнили просеку плотной стеной. Их было очень много, и из-за поворота выходили все новые и новые. Передние стояли неподвижно и не выказывали никаких враждебных намерений. Возможно, что они были ослеплены светом прожекторов.
Но все внимание трех звездоплавателей сосредоточилось не на них, а на том, что находилось впереди «отряда». Не сразу различимые на фойе этой розовой массы, глазам людей предстали три странных существа. Для сомнений не оставалось места. Это были «люди» Венеры… Рядом с гигантскими «черепахами» они казались совсем маленькими; их рост не превышал метра с четвертью. Тело, покрытое бледно-розовой, почти белой кожей, оканчивалось коротким толстым хвостом. Две пары конечностей были снабжены свободными, без плавательных перепонок, пальцами. На короткой шее помещалась голова с выдающимися вперед губами и тремя огромными глазами, расположенными не с боков, а спереди, в один ряд. Близко посаженные друг к другу, они казались издали черной повязкой. Гладкий блестящий череп не имел волос. Они стояли прямо, упираясь в землю хвостом и нижними конечностями, которые можно было назвать «ногами». Только у этих «ног» не было ступней, а только пальцы, длинные и толстые. Что касается верхних конечностей, то в их назначении нельзя было сомневаться. Это были «руки» — гладкие, круглые, оканчивающиеся широкими кистями с четырьмя гибкими пальцами. В руках венериане держали различные предметы. У одного была длинная деревянная палка, похожая на копье без металлического наконечника. У другого — каменный сосуд в форме чаши. В руках третьего была линейка. Совершенно такая же, как выловленная в воде залива кораллового острова: — длинная тонкая деревянная линейка. Та самая линейка, которая не давала людям покоя все это время. Теперь они увидели ее в руках владельца. Несколько секунд люди молча смотрели на хозяев планеты. Коржевский машинально отметил, что над тремя черными глазами имеется характерная выпуклость лба. У «черепах» головы были плоскими, их глаза светились в темноте желтым огнем, как у земных зверей они светятся зеленым. Еще не видя ни «черепах», ни их хозяев, он чутьем биолога понял, что первые не могут быть разумными существами. Все, что он слышал о них, противоречило такому заключению. И теперь он убедился, что былправ. То же думали Второв и Князев. Люди видели, как замершие на месте при неожиданном появлении вездехода венериане (не «черепахи») несколько мгновений стояли неподвижно. Потом они подняли руку и закрыли ею глаза, защищаясь от света. Ни один из них не сделал ни шагу назад. «Черепахи», как по команде, повернулись спиной к машине. И тогда Коржевский сделал то, что другой на его месте, возможно, не решился бы сделать. Он погасил прожекторы. — Опасность нам не угрожает, — сказал он спокойно. С этими словами он повернул выключатель и зажег свет внутри машины. Он как бы приглашал венериан подойти ближе и взглянуть на людей Земли. — Их так много, что они могут поднять вездеход и понести его, — сказал Второв. — Они этого не сделают, — уверенно сказал Коржевский. «Ведь они принесли нам свой «хлеб»», — подумал он.
ХОЗЯЕВА ПЛАНЕТЫ (продолжение)
За окном машины была темнота. Свет, зажженный внутри, делал ее еще более непроницаемой. Трое звездоплавателей молча ждали. Что делают сейчас обитатели Венеры, они не знали. Может быть, венериане боялись подойти к непонятной им машине или совещались, что предпринять. А может быть, им мешал даже относительно слабый свет лампочки внутри кабины. Коржевский подумал, что это последнее наиболее вероятно, и выключил ее. Теперь внутренность вездехода освещал только слабый голубоватый свет приборов пульта. И тогда они увидели движущиеся желтые огоньки. Это светились в темноте глаза «черепах». Огоньки приближались. Громадные животные медленно и осторожно подходили к машине. Люди обратили внимание, что на высоте метра от земли никаких глаз не было видно. Это означало, что сами венериане либо не хотели приблизиться, либо их глаза не обладали способностью светиться. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. Коржевский наклонился к рации. — Подождите! — шепотом сказал он. — Они подходят к нам. Неясные тени показались совсем близко. Люди не видели их. Им казалось, что шевелится сама темнота, окружающая машину. Светящаяся желтым огнем цепочка огромных глаз, словно вися в воздухе, надвигалась на них, охватывая вездеход полукругом. Точно темная стена заслонила собой темноту леса. «Черепахи» находились в метре от машины. Каждое мгновение могло последовать нападение. Князев крепче сжал в руках рычаги управления… Были ли с «черепахами» люди Венеры?.. В кабине стоял голубой сумрак. Звездоплаватели едва видели друг друга. Призрачный свет приборов не выходил наружу, но иногда они замечали, как рядом с окнами мелькали смутно различимые тусклые отблески — блики света на блестящих розовых телах. Чуть слышный шорох доносился до их напряженного слуха — «черепахи» ощупывали машину. Коржевский неожиданно громко кашлянул. Сразу прекратился шорох. Желтые огни глаз отступили назад. Темная стена отодвинулась. Биолог удовлетворенно улыбнулся. Венериане обладали тонким слухом. И они боялись вездехода. Минуты две желтые огни глаз не приближались. Но, очевидно, полная тишина внутри машины успокоила озерных жителей. Стена снова придвинулась. Но шорох больше не раздавался. Венериане не осмеливались или не хотели опять дотронуться до вездехода. Князев, Коржевский и Второв понимали, что обитатели планеты внимательно рассматривают их. Привыкшие к темноте глаза венериан должны были хорошо видеть все подробности внутри машины. Свет приборов не мог мешать им, он был слабее, чем обычное освещение ночей Венеры. Какой-то предмет вплотную приблизился к переднему окну. Князеву показалось, что это не что иное, как «знаменитая» линейка. Кто-то осторожно и тихо постучал в стекло. Через полминуты стук повторился. Желтая цепочка глаз отодвинулась на несколько метров. — Они приглашают нас выйти, — сказал Князев. Коржевский и Второв молча посмотрели друг на друга. Выйти из машины… Оказаться в полной власти этих непонятных существ… Правда, они не выказывают никаких враждебных намерений, но все же… Кто их знает, что у них на уме! Может быть, они пытались поднять машину, но, увидя, что это невозможно, выманивают из нее людей. — Надо спросить Бориса Николаевича, — сказал Коржевский. — Зачем? — было видно, как Князев нетерпеливо пожал плечами. — Мы должны выйти, если хотим познакомиться с венерианами. Я выйду! — Тогда лучше я, — возразил Второв, — на звездолете ты нужнее. — Это еще вопрос, кто из нас нужнее. Но к чему этот спор? Никакой опасности нет. — Ну, так и разреши выйти мне. — Пустите лучше меня, — сказал Коржевский. Князев даже не повернул головы в его сторону. Он будто не слышал слов биолога. — Хорошо! — сказал он. — Если тебе так хочется, Геннадий, то иди. Но я считаю, что надо зажечь прожектор. — Это ослепит их. — Мы направим луч его света вверх. Иначе ты не сможешь шагу ступить в такой темноте. Отражение света от ветвей и листьев даст тебе возможность ориентироваться, а им не помешает. — Все-таки лучше посоветоваться с Мельниковым, — вторично предложил Коржевский. — Я не возражаю, — ответил Князев. — Но Борис Николаевич не может не согласиться. Мельников действительно ни слова не сказал против. Выслушав подробный, но очень короткий рассказ Коржевского, он только спросил, кто выйдет из машины. — Геннадий Андреевич, — ответил Коржевский. Несколько секунд Мельников молчал. — Будьте ко всему готовы, — сказал он. — Пусть один из вас находится у прожекторов, а другой станет у пулемета. Пока шли все эти переговоры, венериане еще дальше отодвинулись от вездехода. Они явно ждали. Второв надел на себя шлем противогаза. Князев повернул штурвал прожектора и включил ток. Белый столб света взметнулся вверх. Высоко над головой выступил из темноты лесной свод. Мгла рассеялась — ее сменил прозрачный полусумрак. В двадцати шагах они увидели плотную толпу «черепах» и три фантастические фигуры венериан. Все головы наклонились, словно приветствуя гостей. Но было ясно, что венериане сделали это не в знак привета, а просто спрятали глаза от блеска луча прожектора. Двое заслонили глаза рукой. И ни одно из этих странных созданий не двинулось с места. — Станьте у пулемета, — сказал Князев Коржевскому. Он считал эту предосторожность излишней, но так приказал им Мельников. Биолог поднялся в башенку. Как и все члены экипажа «СССР-КС 3», он хорошо владел всем находящимся в их распоряжении оружием. Второв без малейшего колебания открыл внутреннюю дверь и прошел в тамбур. Затем он вышел из вездехода и спокойно направился к венерианам. Один из них двинулся ему навстречу. «Черепахи» ходили подобно людям, передвигая ногами. Венерианин поступал иначе. Он не шел, а прыгал. Помогая себе хвостом, он короткими прыжками приближался к человеку. В руках он нес каменную чашу. Коржевский и Князев с напряженным вниманием следили за каждым движением венерианина. Одновременно они не выпускали из поля зрения двух оставшихся на месте и их грозную свиту. Второв сделал только пять шагов и остановился. Венерианину понадобилось больше двадцати прыжков, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Человек Земли и «человек» Венеры сошлись вплотную. Второв протянул руку.
Венерианин не взял руки. Он даже отскочил на шаг назад. Потом он протянул вперед свою чашу и, дотронувшись ею до руки Второва, отпустил ее. Чаша упала на землю и разбилась. Остальное произошло в несколько секунд… Венерианин отскочил и поднял руки. Это было, очевидно, сигналом. Пять «черепах» бросились вперед, на Второва. Князев мгновенно повернул штурвал. Луч света, описав стремительную дугу, ударил прямо в глаза нападающим. Словно споткнувшись, «черепахи» остановились. Молодой механик почувствовал, что через секунду Коржевский нажмет на гашетку. Свинцовый ливень обрушится на плотную массу розовых тел, сея смерть и увечья. — Не стреляйте! — крикнул он, зажигая второй прожектор. Но и одного было достаточно. Нападающие «черепахи» упали на землю, спрятав головы под панцири. Остальные повернулись спиной к машине. Венерианин, подходивший ко Второву, «на четвереньках» прыгал к своим сородичам. Геннадий Андреевич наклонился и подобрал обломки чаши. Потом он отступил, пятясь. Он не боялся повернуться спиной к неожиданным врагам — прожектор создавал между ними непроходимую стену, а просто не мог стать лицом к вездеходу, от которого, исходил ослепляющий свет. Как только Князев услышал, что за Второвым закрылась дверца тамбура, он погасил один прожектор, а луч другого направил опять вверх. Он даже не подумал, что, может быть, следует дать задний ход и уйти от опасности. Он хотел знать, что будут делать венериане. Он не боялся их — свет был надежной защитой. — В чем тут дело? — недоуменно спросил Коржевский. — Что случилось? — раздался из репродуктора встревоженный голос Мельникова. — Почему Станислав Казимирович хотел стрелять? Князев рассказал обо всем, что только что произошло. — Можно предположить, — закончил он, — что каменная чаша имела какое-то символическое значение. Геннадий Андреевич не успел ее взять. Я это ясно видел. Чаша разбилась. Они поняли это как отказ принять дар, Мы ведь не знаем их обычаев. Может быть, по их понятиям это означает враждебные намерения или даже объявление войны. Кто их знает! — Надо подобрать осколки и показать этим, что мы принимаем их подношение. — Геннадий Андреевич так и сделал. — А что венериане? — Они отошли шагов на тридцать и как будто совещаются. По крайней мере у них такой вид. — Будьте крайне осторожны. — Разумеется, Борис Николаевич! — Досадный случай! — сказал Коржевский. — Если бы Второв успел взять чашу, события могли принять чрезвычайно любопытный оборот. — Они и так достаточно любопытны, — -ответил Князев. — Даже слишком. Венериане продолжали стоять на том же месте. Они не приближались к машине, но и не уходили. «Черепахи», все до одной, повернулись спиной к вездеходу. Трое венериан стояли тесной кучкой, и у них действительно был такой вид, что они совещаются. — Интересно! — сказал Коржевский. — Мне кажется, они думают, что наше единственное оружие — свет. Повернувшись спиной, они считают себя в полной безопасности. — И в этом они правы, — сказал Мельников, — свет — надежное и достаточное оружие. Применить другое — жестоко и бесчеловечно. — Вы правы, Борис Николаевич! — ответил Князев. — Эти существа не опасны. Против нас они бессильны. Но прошло совсем немного времени, и он убедился, что ошибся в своей оценке. Больше десяти минут положение оставалось прежним. Вездеход не двигался, венериане тоже. Второв закончил «дезинфекционный» процесс и вышел из тамбура. — Я действительно не успел ее взять, — ответил он на вопрос Коржевского, — не ожидал этого. — А где обломки? — Оставил в тамбуре. Рассмотрим на корабле. Что мы будем делать дальше? — обратился он к Князеву. — Там увидим! Предоставим инициативу венерианам. Ожидать «инициативы» пришлось недолго. Где-то в задних рядах толпы красных панцирей произошло движение. Стоявшие впереди расступились в стороны, уступая дорогу чему-то, что в первый момент показалось людям непонятной машиной. Вглядевшись пристальнее, они поняли, что на них движется большой деревянный щит, сделанный из бревен. Они были скреплены между собой чем-то вроде веревок. Те, кто его несли, были не видны. — Открытие военных действий, — сказал Князев. — Исключительно интересно! — воскликнул Коржевский. — Становится очевидным, что на Венере есть различные племена и что они воюют между собой. Никакого сомнения, — война им известна. — Очень жаль, — заметил Второв. Щит приближался. Намерения венериан не вызывали сомнений. Прикрываясь щитом от света, они хотели приблизиться к вездеходу вплотную. — Нельзя отказать им в смелости, — сказал Коржевский. — Наша машина должна вызывать в них страх, но его не заметно. Отчего это происходит? — он рассуждал словно сам с собой и так спокойно, точно никакая опасность им не могла угрожать. — Земные дикари не осмелились бы напасть на вездеход. Венериане либо гораздо умнее их, либо, наоборот, гораздо глупее и не сознают опасности… — Создавать гипотезы будем на звездолете, — прервал его Князев. — Стойте у пулемета, но без моей команды не стреляйте. Геннадий! Пересядь к заднему пульту. — Может быть, лучше уйти от них? — Я хочу выяснить их намерения. Убежать мы всегда успеем. Произнося эту фразу, он даже не подозревал, как скоро будет вынужден переменить мнение. Чтобы узнать нравы, обычаи, характер и силу народа, другому народу всегда нужно было время. Особенно если они встретились впервые. Если так обстояло дело на Земле, между родственными друг другу существами, то насколько труднее обитателям одной планеты узнать обитателей другой! Между людьми и венерианами общим был только разум. Во всем остальном они были совершенно различны. И не только по внешнему виду, но, очевидно, и по восприятию мира. Люди не могли понять, почему незначительный, с их точки зрения, случай привел к такому резкому изменению отношения к ним со стороны хозяев планеты. Венериане, по-видимому, действительно опасались только прожекторов. Понимали они, чт представляют собой эти аппараты, или считали их живыми и опасными существами, осталось неизвестным, но свои действия они направили именно против них. Люди поняли это слишком поздно. Князев не сомневался, что «черепахи» повторят свой прежний маневр — попытаются поднять машину и унести в озеро. Он был уверен, что вездеход слишком тяжел для них. Но случилось иное. Деревянный щит приблизился и остановился в четырех шагах. Потом он упал на землю, открыв гигантские фигуры венерианских «воинов». В лапах «черепах» были огромные камни. Люди поняли все, когда плотная мгла сменила недавний свет. Прожекторы были разбиты или сорваны чудовищной силой удара. — Вперед! — крикнул Князев. Даже сейчас, при явном нападении, он не решился дать команду, которую ждал Коржевский. Второв включил мотор. В кромешной тьме вездеход рванулся в сторону реки. Просека была прямой, но развить полную скорость, ничего не видя впереди, было нельзя. Они надеялись, что и на тихом ходу легко оторвутся от неуклюжих противников. Глядя назад, Князев видел, что желтые огоньки глаз удаляются все дальше и дальше. «Черепахи» остались на том же месте и не пытались преследовать машину. И тогда ему неожиданно пришла в голову мысль, которая потом на звездолете всеми была признана вероятной: «Венериане и не думали нападать на нас. Первые «черепахи», которые, как нам показалось, бросились на Второва, сильно пострадали от света, ударившего им прямо в чувствительные глаза. Возможно, что они совсем ослепли. И, не понимая причины, не зная, зачем нужны людям источники света, венериане отомстили прожекторам, как живым и враждебным существам. Они уничтожили их, возможно, полагая, что этим нисколько не вредят ни машине, ни тем, кто находится в ней. Что они знают о нас, если само существование иных, чем на их планете, условий жизни им совершенно неизвестно? Венерианам свет не нужен и чужд. Ведь даже луча Солнца они никогда не видели». — Все, что случилось, — одно сплошное недоразумение! — сказал он. — Но как поправить дело? — Возвращайтесь на звездолет, — сказал Мельников в ответ на рассказ, переданный но радио, — тогда и обдумаем, как нам поступить. Поскорее! — Мы не можем двигаться быстро, не видя дороги. — Дорога видна, — неожиданно сказал Второв. Все, кто был в машине и на корабле, одинаково удивились, услышав эти слова. — Как ты можешь ее видеть? — спросил Князев. — Смотри сам, — ответил инженер. Внутренний свет в кабине, естественно, не зажигался. Вглядевшись в переднее окно, Коржевский и Князев заметили в нескольких шагах от вездехода слабо светящуюся полосу. Потом они увидели вторую — метрах в ста. — Что это такое? — удивился Коржевский. — Стволы, — ответил Второв, — те, что лежат вдоль просеки. — Да, это они, — подтвердил Князев, — так вот, оказывается, для чего они здесь положены. — Это дает нам право думать, что венериане не так уж хорошо видят в темноте, — заметил биолог. — Вероятно, — предположил Князев, — стволы очищены от коры именно потому, что она мешает им светиться в темноте. Вскоре выяснилось назначение и тех бревен, которые лежали не одиночно, а кучками. Они означали повороты дороги. — Это изумительно! — восхищался Коржевский. — В ботанике эти деревья произведут сенсацию. — Странно, что мы не заметили свечения штабеля на берегу. Он ведь тоже состоит из очищенных стволов. — Мы видели его только днем или при свете прожекторов. Загадочные бревна лежали на одинаковом расстоянии друг от друга. Стоило проехать одно, как вдали ясно видной светлой полоской появлялось следующее. Руководствуясь этими своеобразными указателями, Князев, сменивший Второва за пультом управления, уверенно вывел машину из леса. Оказавшись на берегу реки, они легко убедились, что штабель действительно светился. Каждое бревно испускало из себя слабый, слегка розоватый свет. — Во что бы то ни стало надо захватить на Землю несколько таких деревьев, — сказал Коржевский. — Ничего не может быть легче. Над звездолетом взвилась огненная нить ракеты. На высоте ста метров ока вспыхнула ослепительным светом и повисла на парашюте. По ярко освещенному берегу вездеход полным ходом помчался «к дому». Через несколько минут он остановился у выходной камеры. — Жаль, — сказал Князев, — наша поездка окончилась бесплодно. — Почему бесплодно? — возразил Второв. — «Черепахи» и венериане у меня здесь. Он похлопал рукой по вороненой стенке кинокамеры. Через несколько часов после возвращения машины Мельников собрал совещание в помещении центрального пульта. Главная цель похода не была достигнута. О судьбе пропавших товарищей они ничего не узнали. — Прошу всех высказать свое мнение, — сказал Борис Николаевич. Первым взял слово Пайчадзе. — То, что случилось, непоправимо, — сказал он, — дальнейшие попытки считаю неразумными. Один за другим, шесть человек сказали то же самое. — Присоединяюсь… — начал Мельников и вдруг замолчал, стремительно обернувшись. Все услышали тихий, но хорошо им знакомый звук. Сработал один из автоматов пульта. Они увидели, как вспыхнула красная лампочка, соответствующая наружной двери нижней выходной камеры. Потом она погасла и загорелась зеленая. Стрелки приборов вздрогнули и задвигались. В камере начался дезинфекционный процесс. Никто не двинулся с места. С побледневшими лицами члены экипажа смотрели на своего командира. Что это значит?.. Кто может быть в камере? Все восемь человек были на пульте! Неужели?.. — Это один из них, — с трудом справляясь с голосом, сказал Мельников, — больше некому. Топорков вдруг кинулся к пульту и включил экран. Путаясь от волнения в ручках, он настроил его на левую, от корабля, сторону. Все увидели совсем рядом с бортом темный предмет и сразу узнали его. Это был пропавший вездеход Белопольского.
ВЕНЕРИАНЕ
— …Я не успел вскочить в машину, — закончил свой рассказ Романов, — Станислав Казимирович, кажется, успел. Хлынул ливень. Что было дальше, я не знаю. Очнулся в воде. Кругом было темно. Сначала мне показалось, что я свободно плыву, но потом почувствовал, что меня кто-то крепко держит. Совсем рядом горели в темноте три огромных желтых глаза. Я понял, что эго «черепаха» и что именно она держит меня и несет куда-то. Я знал, что моя рация включена, и стал звать на помощь. «Черепаха» вздрогнула от звука моего голоса, я это ясно ощутил, но не только не выпустила меня из лап, но сжала так крепко, что у меня кости затрещали. Тогда я замолчал и стал прислушиваться. Но ответа не было. Меня или не слышали или, наоборот, я не слышал ответа. Повторить попытку я не решился. «Черепаха» могла меня раздавить, я и так еле дышал в ее объятиях. Мне казалось странным, что вода не проникает в костюм. Оказывается, наши противогазовые костюмы непроницаемы. Ни одна капля не попала внутрь, и подача кислорода шла нормально. Но дышать было все труднее, — кружилась голова. Я понял, что это оттого, что я дышу чистым кислородом. Потом я увидел странный туннель с бревенчатыми стенами, от которых шел розовый свет. Я убедился, что меня действительно несет «черепаха». Она была совсем такой, каких вы нам описывали, Зиновий Серапионович. Отвратительное создание! Неужели это и есть венериане? Из туннеля меня пронесли в огромную пещеру, а затем сюда. Я никак не ожидал, что увижу вас здесь. — Так же, как и мы не ожидали увидеть вас, — хмуро ответил Белопольский. — Плохо, очень плохо! Трое членов экипажа попали в плен. На звездолете осталось восемь человек. Я надеюсь, что Борис Николаевич никого больше не отпустит далеко от корабля. — Они безусловно будут пытаться найти нас или, по крайней мере, наши тела, — сказал Баландин. — Обшарят все озеро и в конце концов найдут туннель. — Если амфибия войдет в него, это может закончиться катастрофой. Ее захватят. Ах, если бы у нас были личные рации! Я категорически запретил бы всякие попытки. Позвольте! — воскликнул Белопольский. — Ведь у вас, Василий Васильевич, есть рация. — Я уже сказал, что она почему-то не работает. — Очень просто, — спокойно сказал Баландин, — не работает потому, что ее нет. — Как нет?! Но маленького черного футляра портативной радиостанции действительно не было. Сиротливо висел оборванный провод. — Проклятая «черепаха»! — сказал Романов. — Это она. Было ясно, что футляр был сорван в тот момент, когда животное схватило геолога. — Теперь вся надежда на Мельникова, — сказал Белопольский. — Он должен понять, что единственная его задача — это закончить программу работ и вернуться на Землю. Знакомство с венерианами завершит следующая экспедиция. Константин Евгеньевич говорил таким тоном, словно его самого совершенно не касались последствия «предложенного» Мельникову плана. Было ясно, что Белопольский считал их троих безнадежно погибшими. — Нельзя ли бежать отсюда? — спросил Романов. — Наши костюмы вполне пригодны для путешествия под водой. Мне кажется, что в этом помещении нет запоров., — Зиновий Серапионович не может идти, — ответил Белопольский. — Только не думайте обо мне, — поспешно сказал Баландин. — Я не могу, но вы-то можете! Не будьте сентиментальны. Лучше погибнуть одному, чем троим. — Все равно это совершенно невозможно. Стоит нам показаться в туннеле или на дне озера — и «черепахи» сразу увидят. Они тут же нас схватят, а может быть, и убьют. Нет! Если мы хотим, чтобы наша смерть не была напрасна, то надо действовать совсем иначе. Надо наблюдать, узнать как можно больше и все записывать. Может быть, подвернется случай отправить письмо в закупоренной бутылке. Когда станет ясно, что наши часы сочтены, сделаем попытку прорваться через туннель и выбросить ее. — Если Борис Николаевич будет придерживаться образа действий, который вы считаете самым разумным, то они никогда не найдут нашего послания, — заметил Баландин. Белопольский посмотрел на профессора, и что-то вроде улыбки появилось на его суровом лице. — Если будет?.. — сказал он. — К сожалению, в этом вопросе правы вы, а не я. Боюсь, что они будут нас искать. Но даже если и не будут, у нас есть надежда, что бутылку найдет следующая экспедиция. — Слабая надежда! — сказал Романов. — Я бы сделал попытку немедленно. Они замолчали, каждый думая одну и ту же невеселую думу. Положение было трагическим. Оторванные от товарищей пленники неведомых им венериан, они были совершенно беспомощны. Какую участь готовят им обитатели планеты? Что они хотят сделать с людьми, попавшими в их руки?.. Белопольский сказал: «Ничего хорошего!» Но венериане до сих пор не причинили людям никакого вреда, и это невольно оставляло место для какой-то надежды. И каждый из них продолжал надеяться, вопреки вероятности. Таково уж свойство человека. Прошел час, второй, третий… Белопольский еще раз переменил повязку на ногах Баландина. Профессор со стоическим терпением переносил боль. Никто не приходил. Они изредка обменивались короткими фразами. Говорить было не о чем. Все было достаточно понятно и достаточно скверно. — Если бы нас взяли в плен на Земле, — сказал вдруг Баландин, — то любые, какие ни есть дикари подумали бы о нашем питании. Венериане не могут знать, что у нас есть свои продукты. Мне это очень не нравится. Ни Романов, ни Белопольский ничего ему не ответили. Тревога, которую каждый старался скрыть от других, постепенно увеличивалась. Окружающая тишина становилась невыносимой. Что бы ни ждало их впереди, они хотели только одного — чтобы скорее наступила развязка. Прошел еще час, потом еще… Неожиданно Белопольский вздрогнул и стал прислушиваться. — Кто-то идет! — сказал он. — И это не «черепаха». Не те шаги! Через открытую дверцу машины они услышали царапающие звуки. Они доносились из угла, где находился вход в куб. Кто-то, несомненно, поднимался по наклонной бревенчатой «лестнице». Звуки были не похожи на тяжелый топот огромных ног «черепах». Бревна не скрипели. Белопольский запер дверцу. Стенки вездехода были их единственной защитой. Трое людей молча ждали. Вошли два существа, до такой степени странных, что звездоплаватели в первое мгновение подумали, что видят сон. Это были отнюдь не «черепахи»… С удлиненных вперед голов смотрели на них по три черных глаза, расположенных не с боков, а спереди, в один ряд. Издали они казались черной повязкой. Розовые тела были плохо различимы в розовом сумраке. Странные существа, точно сошедшие со страниц волшебной сказки, прыгали на двух ногах, помогая себе хвостом. В руках они несли: одно — каменную чашу, другое — что-то вроде деревянного блюда. Онемев от изумления, Белопольский, Баландин и Романов молча следили за фантастическими фигурами. Они разглядели гибкие пальцы, которыми кончались руки, выпуклые лбы над глазами, и все трое одновременно подумали, что видят перед собой венериан. Так вот как выглядят подлинные хозяева планеты! Венериане приблизились вплотную к вездеходу. Очевидно, они не опасались подойти к людям, хотя их было только двое против трех. Может быть, самая мысль об опасности не могла прийти им в голову. — Наконец-то! — прошептал профессор. Оба венерианина заметно вздрогнули. Сквозь стенки машины они явно услышали шепот. Оба повернулись друг к другу, точно хотели обменяться мнениями. Но плоские губы остались недвижимы. Было такое впечатление, что венериане молча переглянулись. Один из них (тот, который нес блюдо) поставил свою ношу на пол и, протянув руку, постучал в стекло. Потом оба отступили на шаг, вернее отпрыгнули. Шесть темных глаз, казалось, следили за каждым движением пленников. — Они хотят, чтобы мы вышли, — сказал Баландин. — Хорошо, я выйду к ним. — Белопольский взялся за ручку двери. Он посмотрел на Романова и прибавил: — Категорически запрещаю пользоваться оружием. Что бы ни случилось. Геолог послушно отвел руку. Константин Евгеньевич открыл дверцу и ступил на бревенчатый пол. Тотчас же венерианин с чашей прыгнул вперед. Он был не больше метра ростом, и Белопольский рядом с ним казался огромным. Они стояли друг против друга почти вплотную. Венерианин протянул чашу. Она была пуста. Белопольский взял ее. Чаша была очень тяжелой, и было непонятно, как это небольшое и хрупкое на вид существо могло держать ее. Венерианин чего-то ждал. Он не двигался с места и, казалось, пристально смотрел в глаза человеку. Второй венерианин также не шевелился. Чего они ждали?.. Белопольский держал чашу в руках, не зная, что делать дальше. Он чувствовал, что от его поведения зависит многое, но секунды бежали, а никакая спасительная мысль не приходила ему в голову. Положение было явно затруднительным. Как угадать, чего хотят от него венериане? Каменная чаша оттягивала вниз его руки. Было тяжело держать ее на весу. Прошла минута, и руки Белопольского невольно опустились. Чаша оказалась на уровне груди венерианина. Он взял ее обратно. Его спутник, в свою очередь, протянул деревянное блюдо и, когда Белопольский принял его, оба повернулись и запрыгали к колодцу входа. Унося с собой таинственную чашу, они скрылись. Белопольский, недоумевая, повернулся к товарищам, все еще держа блюдо в руках. Что тут произошло? Что означала эта непонятная церемония с каменной чашей?. Сделал ли он то, что нужно, или нет? — Раз они оставили нам блюдо, — сказал Баландин, — значит, все в порядке. Они хотят нас накормить. Никогда не предлагают еду если имеют враждебные намерения. Деревянное блюдо было необычайной ромбической формы, с загнутыми внутрь полукруглыми краями. Оно было устлано мокрыми растениями, похожими на оранжевые водоросли. На них лежали три красноватые лепешки. — Рассмотрим их как следует, — сказал Белопольский. — Все равно нам надо что-нибудь съесть. Голод — плохой помощник в нашем положении. Перед появлением Романова они с Баландиным собирались подкрепить силы, но так и не сделали этого. Белопольский плотно запер дверцу и включил в работу дезинфекционную установку. Через полчаса воздух внутри машины очистился от углекислого газа и формальдегида. Установка была портативной, и не удивительно, что на такой маленький объем понадобилось столько времени. Все трое с удовольствием сняли прозрачные шлемы. Баландин сразу же взял одну из принесенных венерианами лепешек и поднес ее к носу. — Ее запах, — сказал он, — похож на запах сырой рыбы. Но все же я не рекомендую их пробовать. — Пока в этом нет нужды, — ответил Белопольский, — у нас есть свое. Употреблять пищу венериан, без крайней необходимости, не будем. Блюдо упрятали под сидением. Было бы неосторожно оставить его снаружи. Венериане могли подумать, что люди отвергли их дар. — Обратите внимание на водоросли, — сказал Баландин, — блюдо тщательно выложено ими. Я бы сказал, — «любовно». Пищу для пленников, которых собираются убить, так не украшают. Это лишнее свидетельство их миролюбия и дружеских чувств. — Возможно, что это так, — неопределенно ответил Белопольский. Насытившись, они снова надели шлемы и открыли дверцу вездехода. Было крайне важно экономить кислород, да и хозяева могли в любую минуту вернуться. Снова потянулись часы ожидания. Венериане явно не торопились. Иногда казалось, что они совсем забыли о своих пленниках, — так медленно шло время. Часы Белопольского показывали двенадцать часов дня. Прошло шестнадцать часов с начала роковой экскурсии к озеру. Всю «ночь» никто из них не сомкнул глаз. Хотя они были сильно возбуждены, но усталость давала себя чувствовать. Прошло еще несколько часов без всяких перемен в положении. Наступал «вечер». Никто по-прежнему не шел к ним. Все трое проснулись одновременно. Они не помнили, как заснули, но, посмотрев на часы, поняли, что проспали десять часов. Было «утро» 24 июля. На полу возле машины стояло блюдо с лепешками. Значит, венериане приходили «ночью». Романов перенес блюдо в машину и поставил его рядом с первым. Белопольский переменил повязку на ногах Баландина. Потом они позавтракали и приготовились ждать. Часы шли за часами… Наконец, в два часа «дня» послышался шум. Трещали бревна, доносился топот огромных ног. Десять «черепах» и три венерианина окружили машину. Наступила решающая минута. Зачем их пришло так много? Что они собираются делать?.. Один из венериан подскочил к машине и постучал в стекло. Люди уже знали, что это означает приглашение выйти. Белопольский, внешне спокойный, вышел первым. За ним Романов. Но венерианин снова постучал. Он требовал, чтобы вышли все трое; это было совершенно очевидно. Баландин не мог выйти. Обожженные ноги при малейшем движении причиняли жестокую боль. Как объяснить это венерианам?.. Белопольский показал рукой на ноги профессора и отрицательно покачал головой. Но странное существо не поняло и продолжало стучать. Второй венерианин поднял руку. «Черепахи» приблизились. Положение становилось угрожающим. Баландин сделал над собой невероятное усилие и попытался выйти, но со стоном упал обратно в кресло. Крупный пот выступил на его лице. — Я не могу! — сказал он. — Лучше смерть! Венерианин перестал стучать. Он повернул голову к двум другим, а те посмотрели на него. Можно было поклясться, что они говорят друг с другом, но не раздалось никакого звука, и плоские губы не шевельнулись. Если и был разговор, то он происходил «молча». «Обмен мыслями, что ли? — подумал Белопольский. — Или незаметная для нас мимика?» Венериане «совещались» недолго. Один из них запрыгал к выходу. Остальные остались стоять возле машины, но больше не настаивали, чтобы Баландин вышел из нее. Они чего-то ждали. Близкое соседство огромных «черепах» с их свирепыми мордами, сверху нависшими над головами людей, неприятно действовало на обоих звездоплавателей, вынужденных оставаться на месте. Они не знали, можно ли им вернуться в машину. Романов решился. Стараясь двигаться как можно медленнее, он спокойно повернулся и открыл дверцу. Ни «черепахи», ни двое оставшихся венериан никак не реагировали. Тогда он вошел в машину и сел на свое место. Никакого угрожающего движения. Белопольский последовал за геологом и даже запер за собой дверь. Ему также никто не помешал. «Черепахи» опустились на четыре лапы и стали поразительно похожи на земных циниксов, только гигантских размеров. Они стояли неподвижно. Точно десять розово-красных беседок на четырех столбах выросли на полу «комнаты». Двое венериан короткими прыжками обошли вездеход кругом. Казалось, они внимательно осматривают его. Выглядевшая громадной в тесном помещении, машина нисколько не пугала их. Потом они удалились к стене и стали друг против друга. И снова у них был такой вид, что они беседуют. Но трое людей, следивших за ними, видели, что губы по-прежнему не шевелятся. — Если они разумны, — сказал Баландин, — а это очевидно так, то у них должен существовать язык. Мы знаем, что они умеют делать линейки, блюда, каменные чаши. Умеют строить дома. Все это проявление творческой мысли. А она невозможна без обмена мыслями, то есть без языка. Они говорят друг с другом, но как это делается?.. Ни Белопольский, ни Романов ничего не ответили на это рассуждение. Сейчас им было не до теорий. Ничего угрожающего в поведении венериан как будто не было, но людей угнетала полная неизвестность об их намерениях. Зачем и куда ушел венерианин? Может быть, они решили заставить Баландина выйти из машины? Чувства сострадания, жалости, милосердия не являются прирожденными свойствами разумных существ. Все это появляется только с цивилизацией. А какова степень цивилизованности венериан? Это было совершенно неизвестно. За кого принимают их венериане? За разумных существ или за неизвестных животных? Сказал ли им что-нибудь внешний вид людей и их вездеход? Отдают ли они себе отчет в том, сколь необычайно то, что находится перед их глазами?.. «Не видя Солнца, они не могут знать о его существовании. Не видя звезд, не знают о Вселенной, — думал Белопольский. — Мысль, что мы — обитатели другого мира, не придет им в голову. Что же они должны думать о нашем появлении на планете?» Прошло минут двадцать… Уходивший венерианин вернулся. Впрочем, тот ли это или другой, люди не знали. Все венериане казались им одинаковыми. Короткими прыжками он «подошел» к двум другим, и было похоже, что-то сказал им. Потом все трое повернулись к «черепахам». Никакого звука не раздалось и на этот раз, но «черепахи», как по команде, поднялись на две ноги и, окружив машину, взялись за нее огромными лапами. Без видимого усилия они подняли вездеход и понесли его к выходу. Венериане направились за ними. — Никакого сомнения! — сказал Баландин. — Существует язык и существует возможность отдавать распоряжения, которые понятны для «черепах». Но как они это делают? Но и на этот раз он не дождался ответа от своих товарищей. Белопольский и Романов не слушали. Снова их пронесли через проход и вынесли на «улицу». Толпы «черепах», несколько часов тому назад сопровождавших вездеход, больше не было. «Город» казался пустым. Ни одного из его «жителей» не было видно. «Черепахи» шли быстро. Через две–три минуты они снова спустились в «подъезд» и внесли машину с людьми в «комнату», которая была раз в десять больше первой. Здесь также не было ни одного окна. В домах без потолков они были не нужны. Пол и стены испускали розовый свет. Было похоже, что все постройки «города» одинаковы, и отличались только размерами. У стены, противоположной входу, стояло «человек» двадцать венериан. «Черепахи» отнесли машину на середину помещения и поставили на пол. Потом они удалились. Сопровождавшие людей трое венериан также вошли в «дом». Один из них постучал в окно вездехода, Белопольский и Романов тотчас же вышли. Баландин остался в машине. Венериане ничем не возражали против этого. Неужели они поняли, что человек не хочет, а не может выйти? Все, что произошло до сих пор, говорило в пользу такого предположения. Венериане прыгнули вперед, остановились и обернулись к людям. Смысл этого движения был ясен — они хотели убедиться, что люди следуют за ними. Усилием воли звездоплаватели преодолели невольную нерешительность. Все равно у них не было возможности не выполнить требование хозяев. Они пошли за своими провожатыми. Венериане направились к середине группы, стоявшей у стены. Не доходя метров трех, они остановились и снова обернулись. Один из них сделал рукой отталкивающий жест. Это могло значить только одно: «Остановитесь!» Увидя, что люди поняли и не идут дальше, трое венериан смешались с другими. Теперь при всем желании нельзя было сказать, кто именно приходил за людьми. Прямо напротив Белопольского и Романова, обособленно от остальных, стояли два венерианина. Они были такими же, как другие. Один из них обернулся назад. Тотчас же подали каменную чашу. Опять на сцене появился этот таинственный символ, но люди уже знали, что следует делать, если венериане поднесут его. Так и случилось. Венерианин сделал несколько прыжков вперед и протянул чашу Романову, напротив которого случайно оказался. Молодой ученый принял дар и протянул его обратно. При этом он поклонился. Венерианин взял чашу и передал тому, кто подал ее с самого начала. Церемония прошла как будто так, как и следовало.
Жестом руки, совершенно таким же, как у людей, венерианин пригласил обоих звездоплавателей идти за ним. Стоявшие у стены расступились, и люди увидели дверь. Это было квадратное отверстие, ничем не завешенное. За ним виднелась другая комната. Оба венерианина прошли туда. Людям пришлось согнуться, так как высота двери была только немногим больше метра. Все остальные венериане остались в первом помещении. За дверью оказалась небольшая комната также без потолка. Ее стены были сплошь закрыты длинными ветвями оранжевых, желтых и красных растений, сквозь которые проникал розовый свет. Это было красиво. Посредине находилось низкое, не больше шестидесяти сантиметров высотой, возвышение, сделанное из бревен. Его поверхность, тщательно отделанная, была гладкой и ровной. Возвышение напоминало стол без ножек. На нем стояла уже знакомая людям каменная чаша. Возле стола они увидели трех венериан. Один из них жестом пригласил звездоплавателей подойти к «столу». Белопольский и Романов подчинились желанию хозяев и сели возле стола на пол. Они понимали, что готовится длительная «беседа», но не представляли себе, как она может произойти. Общего языка между ними, очевидно, не могло быть. Венериане расположились стоя. Хвост давал им возможность устойчиво и, по-видимому, удобно обходиться без каких-либо «стульев».
НЕМАЯ БЕСЕДА
Несколько минут длилось взаимное рассматривание. Обитатели двух планет, двух «сестер», внимательно изучали друг друга. Звездоплаватели молчали. Необычайность обстановки сжимала их сердца никогда не испытанным чувством какого-то особого, трепетного волнения. Вокруг поднимались украшенные странными растениями бревенчатые стены. Исходивший от них розовый свет делал эти растения прозрачными, стеклянно-хрупкими и почти нереальными. Высоко над головой нависал свод пещеры. На его неровных каменных выступах светлыми бликами играли лучи белого света, исходившие неизвестно откуда. Призрачный полусвет «комнаты» скрадывал очертания предметов. Тускло блестела гладкая поверхность «стола», и стоявшая на нем каменная чаша, казалось, парила в воздухе. А напротив себя, совсем близко, звездоплаватели видели фантастические головы с тремя черными глазами и тонкими плоскими ртами. Ни носа, ни ушей, ни волос. Никакой одежды. Обнаженная розовая кожа их рук и плеч при каждом движении отливала металлическим блеском. Человекоподобные! Жители чужого мира! Венериане!.. Василий Романов на секунду закрыл глаза. Вот сейчас он откроет их и увидит белые стены госпитального отсека звездолета. Все это только плод его фантазии, бред воспаленного мозга. Он болен, и больное воображение вызвало перед ним неправдоподобное видение. Он откроет глаза — и видение исчезнет, как исчезает с пробуждением кошмарный сон. Но «сон» не исчез, а продолжался. Один из венериан наклонился и достал откуда-то из-за стола несколько пучков чего-то вроде тонкой веревки и куски дерева различных размеров. Все это он положил на стол. Его движения были гибки и эластичны. Руки венериан, по-видимому, не имели локтевого сустава. Романов встряхнул головой и окончательно пришел в себя. Фантастическая картина была реальной действительностью. Он видел рядом сосредоточенно-серьезное лицо Белопольского. Венерианин приступил к делу. На столе появилась извилистая линия,сделанная из веревки. Параллельно ей легла вторая. Между ними он положил в шахматном порядке три ряда маленьких деревянных кубиков. Сбоку появился продолговатый брусок. Указав на него рукой, венерианин другую руку протянул к людям. Звездоплаватели с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Они знали, что во что бы то ни стало должны понять смысл этих действий. Венериане хотели вести разговор с помощью рисунка. Не понять — это означало отказаться от надежды найти общий язык. Оба склонились над столом. Первым догадался Белопольский. — Это изображение реки и плотины, — сказал он, — а брусок — это наш корабль. — Место, где он стоит, указано правильно, — согласился Романов. Белопольский положил палец на «макет» звездолета, кивнул головой и вопросительно посмотрел на венерианина. Тот медленно наклонил голову. Черты его «лица» остались неподвижны. Другой венерианин поставил рядом с «кораблем» три маленьких кубика. Одной рукой он указал на них, а другой — сначала на Романова, потом — на Белопольского, потом — на дверь. И это было достаточно ясно. Три кубика изображали трех людей. Венериане спрашивали: сколько человек находится на корабле? Ответить было не трудно. Белопольский взял несколько кубиков (их подвинул к нему венерианин) и положил рядом с тремя первыми еще восемь. «Разговор» пока что шел успешно. Пятеро венериан были понятливы. Они ясно задавали вопросы и, очевидно, хорошо понимали ответы. Их умственное развитие было высоким. Белопольский подумал, что это, по всей вероятности, ученые Венеры, которые явились сюда на это озеро, когда им сообщили о том, что захвачены в плен неизвестные существа. Становилось понятным, почему людей так долго держали в одиночестве. Местные жители ждали «приезда ученой комиссии». Но откуда она явилась?.. Венериане убрали со стола «рисунок». Что они теперь спросят? Очередной чертеж оказался более сложным и потребовал много времени. На столе появилась целая карта. Река протянулась наискось через весь стол. (Один из венериан отодвинул стоявшую на нем чашу на самый край.) Плотина и «звездолет» оказались в углу. Рядом с плотиной венериане изобразили контур озера и даже тонкой веревочкой показали лесную просеку. Она была прямой и, очевидно, изображала не ту, которая была найдена Белопольским. В противоположном конце стола они поместили контур другого озера, гораздо больших размеров. Рядом появились большие куски дерева. Река заканчивалась у этого озера. — Эти большие куски, по всей видимости, изображают горы, — сказал Белопольский. — Это горное озеро, где берет начало река. Но что они хотят этим сказать? Пока я ничего не понимаю. — Я тоже, — сказал Романов. Но им не пришлось долго ждать. Вскоре все стало ясно и достаточно страшно. Венерианин взял три маленьких кубика и положил их возле изображения озера, где они находились. Он дал понять, что эти кубики изображают трех людей. Потом он взял их в руку и перенес к другому, горному, озеру. Белопольский и Романов все поняли. Это было ужасно и грозило им быстрой смертью. Венериане собирались перетащить своих пленников к горам. Было необходимо во что бы то ни стало объяснить им положение. С лихорадочной быстротой Белопольский соображал, как ему поступить. Венериане, по-видимому, не понимают, что люди не могут дышать воздухом их планеты. Они, конечно, видят, что на головах пленников надеты шлемы, не являющиеся частями их тела. Но смогут ли они понять назначение этих шлемов? Белопольский принялся объяснять. Употребив в дело все свои мимические способности он старался показать, что без шлемов они дышать не могут. Романов старательно помогал ему. Со стороны они оба выглядели в этот момент довольно комично. Венериане внимательно следили за всеми их движениями. Но поняли они что-нибудь или нет, осталось неизвестным. Один из них обошел стол и, подойдя к Белопольскому, взялся за его шлем руками. Он медленно тянул его вверх, словно желая снять. Белопольский отрицательно качал головой и очень осторожно оттолкнул от себя венерианина, Тот не возобновил попытки и вернулся на свое место. Все пятеро повернулись друг к другу. Их плоские губы не шевелились, но было совершенно очевидно, что между ними происходит какой-то разговор. Казалось, что венериане обладают даром речи и могут высказывать друг другу свои мысли. Но как и чем они говорят, оставалось непонятным. «Разговор» продолжался недолго. Один из венериан снова взял три кубика, положил их на контур озера и снова перенес к горам. Венериане повторяли свою угрозу. Стало ясно, что они ничего не поняли. Белопольский усилием воли заставил себя успокоиться. Он решительным движением перенес три кубика обратно на прежнее место. Потом перенес их к «макету» звездолета и, взяв его в руку вместе с кубиками, поставил у горного озера. Романов повторил всю операцию. Им обоим казалось, что венериане не смогут на этот раз не понять их. Просьба была достаточно ясна — они вернутся на корабль, и он со всем экипажем перелетит к горам. Они с волнением ждали, что ответят венериане. Между ними опять начался немой разговор. На этот раз он продолжался долго. Люди молча ждали. Их жизнь и смерть зависели от степени сообразительности хозяев планеты. Наконец венериане снова повернулись к людям. Они убрали со стола «карту» реки и стали «рисовать» что-то новое. — Нам необходимо вернуться в машину, — тихо сказал Белопольский, — и перезарядить баллоны. Романов кивнул головой. Уже больше трех часов они не возобновляли запас кислорода, и он подходил к концу. — Мы можем просто уйти отсюда, — сказал он — нас никто не держит. — Это опасно. Они могут неправильно понять наш поступок. Подождем немного. Они хотят что-то спросить. На столе появился тот же рисунок, который был уже один раз «нарисован», — река с плотиной на ней, звездолет, лесная просека и озеро. Но рядом с озером венериане на этот раз изобразили еще и пещеру. По их рисунку она была почти так же велика, как и озеро. В пещере они положили три кубика, которые, как уже было известно, изображали трех людей. Потом один из венериан положил руку на каменную чашу и указал на «звездолет». Белопольский и Романов ничего не поняли. — Вероятно, они говорят этим, что отпустят нас, — предположил Романов. — Вряд ли! Совсем не похоже. Белопольский взял кубики и перенес их к «макету» корабля. Венерианин вернул их обратно и снова дотронулся рукой до чаши. «Разговор» зашел в тупик. Три раза подряд венериане повторяли одно и то же. Романов в отчаянии посмотрел на своего командира. Белопольский напряженно думал. Понять было необходимо. Когда венерианин в четвертый раз настойчиво повторил те же движения, ему показалось, что он уловил их мысль. Он вспомнил, как им самим два раза подносили таинственный символ. Не спрашивают ли венериане, — могут ли они поднести чашу тем, кто остался на корабле, не встретят ли их там враждебно? — Скорей всего, это именно так! — обрадованно сказал Романов, когда Белопольский поделился с ним своей догадкой. Константин Евгеньевич положил возле «звездолета» восемь кубиков. Потом он указал на них и положил руку на чашу. Венерианин точно повторил его движения. Было ясно, что Белопольский правильно понял вопрос и что венериане, в свою очередь, правильно поняли его ответ. Так казалось и людям, и венерианам. Привычные понятия и представления всегда выглядят простыми и общеизвестными. Каждый разум стремится наделить другое существо разумом параллельным. Люди думали, что поняли назначение каменной чаши как символа мира, как своеобразный способ выражать дружеские чувства. «Ответы» венериан казались им подтверждением этого. Люди Земли, они невольно наделяли венериан земным разумом и придавали их поступкам земной смысл. Их ошибке немало способствовала форма чаши, хорошо им знакомая. Не замечая, что путают форму с содержанием, они не смогли даже заподозрить истинного назначения каменного сосуда. Венериане также ошиблись, и ошиблись по той же причине. «Люди» Венеры, они приписывали своим гостям привычные им самим понятия о предмете и, по-своему воспринимая их «ответы», решили, что люди поняли их и согласны удовлетворить просьбу, которая на самом деле осталась для людей совершенно неизвестной. Но все это стало ясно только впоследствии. Теперь же как гости, так и хозяева были вполне удовлетворены достигнутым «успехом». И те и другие считали, что добились полного взаимопонимания в вопросе о каменной чаше. Венериане жестами пригласили людей следовать за собой и вернулись в большой «зал» к вездеходу. Баландин встретил их радостно. Долгое ожидание и тревога измучили его. Ведь он не знал, куда и зачем увели его товарищей, не знал, чт с ними сделали. Увидев обоих живыми и невредимыми, он облегченно вздохнул. Белопольский и Романов поспешили войти в машину. Они чувствовали, что кислород кончается. Дышать становилось трудно. Хотя и очищенный фильтрами противогазов от углекислого газа и формальдегида, воздух Венеры был непригоден для дыхания — кислорода в нем было недостаточно. Пятеро венериан окружили машину. Все остальные куда-то исчезли. — Они ушли сразу, как только ушли вы, — сказал профессор. — Здесь все время никого не было. Зарядить наспинные баллоны кислородом было делом нескольких минут. Венериане следили за всеми действиями людей и поминутно поворачивали головы друг к другу, словно делясь впечатлениями. — Говорят они? — спросил Баландин. — Нет, — ответил Белопольский, — только жестами. Он рассказал о способе разговора и его результатах. — Что они с нами сделают? — Я уже сказал, — перетащат к горам. Все наши старания объяснить, что нам нечем дышать, не увенчались успехом. Они нас не понимают. — И вы примирились с этим? Белопольский пожал плечами. — Сейчас они собираются пойти к звездолету, — сказал он вместо ответа, — и проделать церемонию с чашей. Я надеюсь, что наши друзья догадаются, как надо поступить. — Может быть, возможно отправить с ними записку? — Именно об этом я и думаю. Надо попробовать. Белопольский и Романов снова вышли из машины. Ее дверцу они оставили открытой, желая показать, что относятся к венерианам с полным доверием. Константин Евгеньевич подошел к одному из них и жестом пригласил пройти в комнату со столом. Венерианин понял и тотчас же пошел туда. Белопольский захватил с собой карандаш и блокнот. Подойдя к «столу», он нарисовал на листке тот же план, который два раза изображали венериане — реку с плотиной, звездолет и озеро. Потом на другом листке написал короткое письмо Мельникову. Венерианин с видимым интересом следил за его действиями. Он осторожно потрогал рукой блокнот и карандаш. Белопольский принялся объяснять, что записку надо доставить на звездолет. Несколько раз подряд он указывал на нее и на изображение корабля. Потом положил записку внутрь чаши. Венерианин замер. Он смотрел на чашу, и Белопольскому показалось, что его поза выражает напряженное ожидание. Чего он ждал? Так прошла минута. Внезапно венерианин кинулся к чаше и, вытащив записку, бросил бумагу на стол. Этот жест мог означать презрение, негодование или просто отказ выполнить просьбу. Может быть, человек оскорбил его, положив посторонний предмет в священный сосуд? Как угадать, если на «лицах» венериан не отражалось никаких чувств? Если они всегда были совершенно неподвижны? Но почему он не сразу вынул бумагу из чаши? Почему он чего-то ждал? Белопольский был убежден, что попытка не удалась. Венериане не доставят записку. И вдруг странное существо взяло бумагу в руку, другой рукой показало на рисунок и затем — на чашу. Неужели он все-таки согласен? Белопольский кивнул головой и снова повторил свое объяснение. Венерианин в точности повторил все его жесты. Снова возникла надежда, что записка будет доставлена. Очевидно, ее нельзя было класть в чашу — и только. Белопольский подумал, что как бы мало ни были похожи друг на друга разумные существа различных планет, они всегда могут найти способ обмена мыслями. Венерианин еще раз показал на записку и на изображение корабля на рисунке. Это было уже вполне убедительно — венериане согласны. Но кто доставит записку? Если «черепаха», то по пути к звездолету она неизбежно пройдет под водой. Как оградить письмо от воздействия воды? Стеклянная бутылка могла разбиться. Белопольский не колебался. Он вынул из кармана золотой хронометр. Это был подарок его учителя — знаменитого русского астронома, — и Константин Евгеньевич никогда не расставался с дорогой ему вещью. Но выбора не было, приходилось рискнуть часами. Он сложил бумажку и положил ее под двойную заднюю крышку. Часы закрывались плотно, и вода не проникнет в них. Потом он протянул хронометр венерианину. Но тот не взял. Он смотрел на часы, и, казалось, боялся до них дотронуться. В чем дело? Белопольский вспомнил, что венериане обладают тонким слухом. Не беспокоит ли его тикание часов? Скорее всего так. Но как остановить их? Даже находясь в плену, Белопольский «утром» завел пружину. И снова он ни минуты не колебался. Открыв заднюю крышку, он пальцем надавил на маятник. Рубиновый молоточек сломался — часы остановились. На этот раз венерианин взял непонятный ему предмет. При этом он, в третий раз, указал на изображение звездолета. Белопольский облегченно вздохнул. Записка будет доставлена, на корабле узнают, чт с ними случилось и где они находятся. Остальное будет зависеть от Мельникова. Белопольский был уверен, что его заместитель окажется на высоте положения…. Они вернулись к машине. Часы остались лежать на «"столе». Там же Белопольский оставил карандаш и блокнот. Он видел, что эти предметы очень заинтересовали венерианина. Романов встретил его новостью. — Они просят показать им наш вездеход в движении, — сказал он. — Что ж, — ответил Белопольский, — это вполне понятно. Исполните их желание. Комната достаточно велика, и машина может сделать круг. Только не вздумайте зажигать прожектор. Романов сел за рули управления. Белопольский остался с венерианами и жестом объяснил им, что надо отойти к стене. Они послушно выполнили указание. Язык жестов пока что с успехом заменял слова. Это происходило потому, что основные жесты существ, наделенных разумом и руками, не могут сильно отличаться. Они не выдуманы, а подсказаны природой. Вездеход двинулся вперед. На бревенчатом полу его гусеницы подняли невероятный грохот. Венериане схватились руками за нижнюю часть головы, возле самой шеи. Очевидно, именно там помещались их органы слуха, — судя по всему, очень чувствительные. Все пятеро повернулись лицами к стене. Белопольский понял, что означает это движение. Он бросился к машине. — Остановитесь! — крикнул он Романову. Вездеход замер на месте. Грохот прекратился. — Они не могут вынести такого шума, — пояснил Константин Евгеньевич, — у них чувствительные уши. Венериане снова подошли к машине. Казалось, что они осматривают ее еще более внимательно, чем раньше. Один из них направился к выходу из комнаты и исчез. Четверо оставшихся «попросили» Белопольского войти в машину. Он повиновался, недоумевая. — Что случилось? Куда ушел венерианин?.. Каждая перемена в поведении венериан невольно вызывала тревогу. Люди все время находились на грани жизни и смерти. Понимая, как они думали, жесты своих тюремщиков, они совершенно не понимали их психологии и образа мыслей. Угадать их намерения в каждом отдельном случае было невозможно. Как внешние формы «людей» Венеры отличались от людей Земли, так и их поступки должны были отличаться от поступков людей. Все было неизвестно; нравы, обычаи, восприятие окружающего, самый способ мышления — все было таинственно. Минут через десять венерианин вернулся. С ним было десять «черепах». Подняв машину, они понесли ее к выходу. Пятеро венериан остались в «доме». Они не пошли с ними, и трое людей почувствовали еще большую тревогу. Присутствие, хотя и не похожих на них, несомненно высокоразумных существ действовало успокаивающе. С «черепахами» у людей не было ничего общего. Как-то невольно звездоплавателям казалось, что, находясь рядом с венерианами, они в безопасности. Это ошибочное убеждение объяснилось тем уважением, которое человек привык оказывать разуму, в какой бы форме он ни проявлялся. От разума естественно ожидать «человечности». «Черепахи» миновали проход и вышли на «улицу». Куда они несли вездеход? Это вскоре выяснилось. Через несколько минут перед ними появился знакомый «дом». «Черепахи» поставили машину на прежнее место и одна за другой исчезли. Снова вокруг замкнулись голые стены тюрьмы. — Если они оставят нас здесь еще на сутки, мы погибли, — сказал Белопольский.ТАЙНА КАМЕННОЙ ЧАШИ
Продукты питания подходили к концу. Но, что было еще страшнее, к концу подходили запасы кислорода. Звездоплаватели начали последний резервуар. При самой жестокой экономии его могло хватить на двенадцать часов, при условии дышать в основном воздухом Венеры, Уже пятнадцать часов они находились в «тюрьме». Ученые Венеры, казалось, забыли о них. Никто не приходил, кроме двух венериан, которые два раза принесли людям «рыбные» лепешки. Это показывало, что венериане как-то заботились о своих пленниках и не хотели, чтобы они умерли с голоду. Но было ясно, что о самом главном вопросе — дыхании — они нисколько не думали. — Сегодня! — сказал Белопольский. Баландин и Романов промолчали. Да! Сегодня все будет кончено! Раньше чем наступит «ночь», они будут мертвы. Белопольский ждал смерти с олимпийским спокойствием. Он считал, что сделал все, что можно было сделать в их положении. Если венериане доставили письмо, Мельников предупрежден. Звездолет вернется на Землю, и люди узнают о том, что Венера населена разумными существами. Будет организована большая экспедиция, которая обследует пещеру, найдет горное озеро и раскроет все тайны. Белопольский находил утешение в этой мысли, — их смерть будет не напрасна. Он был твердо уверен, что Мельников не ослушается его приказания и не предпримет безумной попытки проникнуть в пещеру. Это могло привести только к новым жертвам. Баландин тоже покорился своей участи, но по другой причине. Обожженные ноги причиняли ему жестокие страдания, и он почти с удовольствием думал, что скоро избавится от мучительной боли. Пикриновая кислота больше не помогала. Раны почернели и нагноились. Профессор находился в таком состоянии, что не мог думать ни о чем, кроме близкого избавления от пытки. Романов, молодой и здоровый, не мог рассуждать так спокойно. Он хотел жить и один за другим предлагал самые фантастические проекты спасения. Белопольский выслушивал его внимательно, но неизменно разбивал все иллюзии. Холодная логика начальника экспедиции приводила Романова в отчаяние. Он не знал, что Константин Евгеньевич давно обдумал и хотел осуществить последнюю попытку спасти именно его. Для этого надо было дождаться, когда венериане осуществят свою угрозу и отправят пленников к горному озеру. Было вполне вероятно, что они не заставят людей выйти из вездехода, а понесут его, как делали это до сих пор. Дорога могла быть только по реке. Но время шло, а венериане ничего не предпринимали. Белопольский опасался, что его замысел не успеет осуществиться — кислород кончится раньше, и Романову придется разделить участь их двоих. Белопольский с грустью и щемящей жалостью думал об этом. Часы, вделанные в пульт машины, показывали половину десятого «утра», когда они услышали, наконец, что приближаются «черепахи». Звук их шагов нельзя было спутать с легкими прыжками венериан. — Вероятно, начинается путешествие к горам, — сказал Белопольский. — Очень хорошо! Это все, чего я желаю. Баландин не слышал. Романов удивленно посмотрел на Белопольского, не понимая смысла его слов. Что хорошего могло быть в том, что вездеход или их самих потащат куда-то к далеким горам? Это не избавит их от смерти, а наоборот, ускорит ее. Без наружного воздуха расход кислорода резко увеличится. В «комнату» вошли десять «черепах». Как всегда, без видимого усилия они подняли машину и вынесли ее на «улицу». Белопольский ожидал, что они повернут к туннелю, пройдут через озеро и дальше направятся к реке. На ее берегу он намеревался пустить на полную мощность двигатель вездехода и связать руки носильщиков. Романов воспользуется этим и попытается бежать, применив в случае необходимости оружие. Он сам поможет ему — работой мотора, светом прожектора и оружием. Шансов на успех было, правда, немного, но другого способа Белопольский не находил. О себе и Баландине он не заботился. Профессор все равно не мог бежать, а оставить его одного в жертву ярости «черепах» для Белопольского было совершенно немыслимо. Если спасется самый молодой из них, то и на том спасибо, — он думал так. Но «черепахи» не пошли к туннелю. Они повернули в глубь пещеры, прошли знакомым уже путем и доставили их в тот же самый «дом», в котором они были вчера. Снова они увидели большой «зал», и снова возле двери стояло «человек» двадцать венериан. «Черепахи», поставив вездеход на пол, удалились. Никто не подходил и не предлагал выйти. Венериане как будто ждали. Не зрением, а смутным ощущением, шестым чувством Белопольский заметил, что венериане держатся не так, как прежде. Ему показалось, что они смотрят на машину и на людей враждебно. Он не мог бы объяснить, отчего такая мысль пришла ему в голову, но почему-то был уверен, что не ошибается. Что-то случилось, и это «что-то» было неблагоприятно для них. Венериане не подходили. Белопольский решил пойти навстречу неизвестности. Ожидать, ничего не предпринимая, было невыносимо. — Оставайтесь в машине, — сказал он Романову. — Я постараюсь выяснить, чего они ждут. Выйдя из вездехода, он прямо направился к венерианам. Они расступились при его приближении, открыв дорогу к двери. Белопольский не колеблясь прошел в комнату со столом. Трое венериан пошли за ним. Ничто, казалось, не изменилось в этом помещении. Так же висели на стенах хрустально-прозрачные растения, освещенные сзади розовым светом. «Стол» имел тот же вид, но Белопольский сразу заметил, что каменной чаши на нем не было. Не было ни блокнота, ни карандаша, ни его хронометра. На столе лежали три каких-то обломка. Венериане с помощью веревок, кубиков и бруска быстро «нарисовали» карту. Это был все тот же рисунок, изображавший реку, просеку, звездолет и озеро. Рядом с «макетом» корабля они поставили восемь кубиков. Белопольский отметил про себя, что венериане не забыли число членов экипажа. Потом один из них взял три кубика и перенес их на изображение лесной просеки. У «звездолета» осталось пять. Что это значит?.. Неужели трое звездоплавателей предприняли разведку к озеру и попали в руки венериан?.. Белопольский почувствовал мучительную тревогу. Неужели Мельников не исполнил его приказа? Венерианин указал рукой на три кубика, а другую протянул к обломкам, по-прежнему лежавшим на столе. Внимательно приглядевшись к ним, Белопольский понял. Это были обломки каменной чаши. Что случилось? Что произошло на просеке, где, очевидно, венериане встретились с тремя людьми? Почему символ мира и дружбы разбит? Венерианин явно хотел сказать, что чашу разбил человек. Белопольский не допускал мысли, что его товарищи могли намеренно совершить такую неосторожность. Что-то крылось за этим. Было ясно, что он не ошибся и что венериане действительно переменили свое отношение к людям и переменили именно после того, как чаша была разбита. Как разобраться во всем и восстановить прежние отношения? Венериане пришли ему на помощь. Один из них повернул голову к двери. Он не крикнул, не издал никакого звука, но тотчас же, словно в ответ на неслышное приказание, вошел один из венериан, оставшихся в большом «зале», и поставил на стол другую чашу, в точности похожую на первую. Белопольский почувствовал, что окончательно запутался. Он ничего не мог понять. Если у венериан есть несколько чаш, то почему они так разгневались на потерю одной? Что означает, в конце концов, этот странный предмет, которому венериане, очевидно, придают столь большое значение?.. Трое венериан указали одной рукой на чашу, а другую протянули к стоящему напротив них человеку. Их вид был очень красноречив. Они что-то приказывали. И этот приказ относился к каменной чаше. Белопольский почувствовал, как на его лбу выступил холодный пот. Чего хотят от него венериане? Что он должен сделать? Он вспомнил вчерашний «разговор», и ему показалось, что он по-новому понял его смысл. Венериане и вчера могли требовать то же самое, что сегодня. Потом они могли согласиться, чтобы это требование было выполнено на звездолете. И вот их постигла неудача — чаша была разбита. По чьей вине это произошло, сейчас неважно. Они решили добиться цели у него. Но в чем заключалась эта цель? Что им нужно?.. Белопольский привык владеть своими нервами. Он заставил себя успокоиться и хладнокровно подумать. Все дело, очевидно, заключалось в каменной чаше. С ней надо было что-то сделать. Неужели не удастся выяснить это у венериан? Ведь вчера он сумел с ними договориться. «Суммируем все, что известно», — подумал он. — Два раза венериане подносили нам чашу и принимали обратно. Это могло означать, но их понятиям, что мы согласны исполнить просьбу. Потом они поняли нас так, что просьба будет выполнена на корабле. Потерпев неудачу, неважно по какой причине, они хотят, чтобы ее выполнил я здесь, на месте». Белопольский взял чашу в руки. Венериане не препятствовали ему, они ждали. С необычайной отчетливостью мысли Белопольский обдумывал, что делать дальше. Вернуть чашу? Конечно, нет! Взять ее в машину? Не то! Положить в нее что-нибудь? Он вспомнил, как венерианин выбросил положенную им записку. Опять не то! Что же тогда?.. Белопольский внимательно осмотрел каменный сосуд. Тусклый розовый свет «комнаты» мешал ему. Но все же он заметил, что на внешней стороне чаши имеются какие-то украшения, какая-то резьба. Он вгляделся, напрягая свое острое зрение, и увидел… Что это?.. Мгновенным видением промелькнули перед ним мрачные черно-белые скалы Арсены… Круглая котловина… Гранитные фигуры… Октаэдры, додекаэдры, кубы… Именно они были изображены на каменной чаше, принадлежащей венерианам. Белопольский поднял голову. Напротив себя он увидел венериан. Они?.. Нет, это было невозможно! Венериане — и межпланетный полет… Ничего общего! Это была случайность. Странная случайность! Но ведь он может спросить. Белопольский указал пальцем на вырезанные на чаше фигуры. Венерианин повторил его жест и указал на него самого. Двое других сделали то же самое. «Дикая» мысль пришла в голову Белопольского. Уж не хотят ли венериане сказать, что чаша принадлежит людям? Что именно люди ее сделали?.. А если не люди, то… Да, конечно, это так! Ученые знают такие мгновения. В запутанном лабиринте бьется пытливая мысль, ища разгадки. И вдруг ослепительным светом вспыхивает в мозгу правильное решение, и все, что казалось темным и загадочным, становится ясным. Белопольский понял. Каменные чаши сделаны не венерианами. Кто-то, очень давно, принес их на Венеру. Кто? Те же, кто поставил гранитные фигуры на Арсене. Из поколения в поколение передается память о неведомых пришельцах. Венериане думают, что чаши оставили им люди Земли, вторично посетившие их планету. Конечно, они не знают о существовании Земли, не знают, откуда и зачем явились к ним тогда и теперь не похожие на них существа, обладающие неведомой им техникой. Но они хотят, чтобы им вернули то, что представляли собой эти чаши в далеком прошлом и что, несомненно, забыто или скорее всего утеряно ими. Для чего же служили эти чаши? Весь вопрос заключался теперь только в этом. Белопольский взял в руку один из обломков разбитой чаши. Внешняя сторона была, несомненно, каменная, но на внутренней он увидел слой какого-то вещества. Оно было твердо, но это был не камень. Обследовав еще раз чашу, он убедился, что вся ее внутренняя полость покрыта тем же веществом. Здесь, и только здесь таилась разгадка. Белопольский показал, что хочет вернуться к вездеходу. Венериане поняли и пошли вместе с ним. Один из них захватил с собой чашу. «Зал» был полон венерианами. Вероятно, их было не менее двухсот. Подойдя к машине (причем венериане поспешно расступались перед ним), Белопольский рассказал товарищам обо всем, что пришло ему в голову, и показал захваченный с собой обломок. — Помогите разгадать загадку до конца, — попросил он. Баландин плохо понял его слова. Профессор находился почти в обморочном состоянии. Романов взял обломок. Несмотря на молодость, геолог был опытным и разносторонним ученым. Он сразу понял, что перед ним не природное вещество, а искусственный сплав. Его цвет был серым. — Это напоминает термит, — сказал он. Термит!.. Белопольскому показалось, что его оглушили обухом по голове. Огонь!.. В чаше горел огонь. Огонь был оставлен венерианам неизвестными звездоплавателями, и венериане потеряли его. Они не умели сами получить огонь, но память о нем сохранилась у них, и они просили зажечь его снова. Так, именно так! Разгадка найдена. — Чем можно зажечь его? — спросил он. — Если это слой термита, — сказал Романов, — то он должен был давно выгореть. Термит горит быстро. — Это вещество не земного происхождения. Возможно, что это совсем не термит. Но оно должно гореть. — Термит поджигается магнием, — сказал Романов. — У нас его нет. Но у Второва он, конечно, есть. — Это не термит, — повторил Белопольский, — нет ли у вас спичек? — Конечно, нет. Но у нас есть аккумуляторы. — Скорее! — нетерпеливо сказал Белопольский. Аккумуляторы дают постоянный ток. При достаточно высоком напряжении получить с его помощью огонь проще простого. Для этого достаточно приблизить друг к другу два проводника, соединенные с полюсами аккумулятора. Между ними появится вольтова дуга. От нее легко зажечь щепку или бумагу. — Осторожнее! — сказал Романов, когда в руках Белопольского желтым пламенем вспыхнул листок из блокнота. — Если это все-таки термит, появится очень высокая температура. Как только появилось пламя, венериане поспешно отошли от машины. Было ясно видно, что они испуганы. Тот, который держал в руках чашу, быстро поставил ее на пол и отступил вместе со всеми. — Они знают, что произойдет, — сказал Романов. — Ради всего святого, осторожнее! — У нас нет выбора! Белопольский поднес горящую бумагу к чаше. Бросить ее он не решился. Бумажка могла погаснуть, — а кто мог знать, что последует в случае неудачи! Пламя бумаги коснулось внутренней поверхности чаши. Короткая вспышка!.. Облачко дыма взлетело и растаяло в воздухе. Над каменной чашей высоко поднялось бледно-голубое пламя. Такой огонь дает тонкая пленка горящего спирта. Огонь был «холодным». Стоя рядом с чашей, Белопольский не чувствовал никакого тепла. — Это не термит, — сказал Романов. Венериане не отрываясь смотрели на чашу. Пламя не ослепляло их, оно было совсем слабым. Потом они стали медленно приближаться к ней. Белопольский вошел в машину. Люди стали свидетелями языческого поклонения огню. Каждый венерианин дотрагивался головой и руками до чаши и «отходил» к стене. Эта церемония заняла много времени, — венериан было не меньше двухсот. Но вот последний венерианин «поклонился» чаше. Возле нее остались пятеро. Один из них поднял чашу и понес ее к выходу. Все пошли за ним. Казалось, они совсем забыли о людях. «Комната» опустела. Люди остались одни. — Стоило стараться! — сказал Белопольский, пожимая плечами. Но не прошло и двух минут, как двое венериан вернулись. С ними было десять «черепах». — Ну вот и всё! — сказал Романов. — Больше мы им не нужны, и они покончат с нами. — Не думаю, — ответил Белопольский, выходя из машины. Венериане подошли и упали перед ним на пол. Константин Евгеньевич не удивился, — он ожидал этого. Преклоняясь перед непонятным им пламенем, венериане должны были преклоняться и перед теми, которые зажгли его. Но почему они не делали этого раньше, если знали, что люди могут дать им огонь? Это было совсем не «по-человечески». «Это не преклонение, а выражение благодарности», — подумал Белопольский. Венериане поднялись. Они жестами попросили человека пройти с ними в комнату со столом. Что им еще нужно? Белопольский исполнил их желание. На «столе» остался недавно сделанный рисунок. Венерианин поставил возле «звездолета» восемь кубиков. Это изображало восемь человек, оставшихся в нем. В контуре озера он поместил пять других кубиков. Почему пять? Ведь пленников было трое. Но тут же все объяснилось. Венерианин указал на кубики и протянул руку к Белопольскому. Потом указал на себя и другого венерианина. Пока что было достаточно ясно. Пять кубиков изображали трех людей и двух венериан. Что будет дальше?
Дальше произошло такое, что Белопольский никак не ожидал. Венерианин взял пять кубиков и перенес их к звездолету. Сомнений не было! Венериане хотели посетить корабль! Белопольский был изумлен. Выходило, что венериане нисколько не боялись корабля. Они даже хотели осмотреть его. Но не только удивление почувствовал начальник экспедиции. Он окончательно запутался в вопросе, за кого считать венериан. Кто они? Высокоразумные существа или дикари, поклоняющиеся каменной чаше и горящему в ней огню, который им, очевидно, не нужен? Понятие о высоком развитии разума не вяжется с той картиной, которую люди наблюдали недавно. А желание посетить корабль совершенно не вязалось с представлениями о дикарях, которые должны бояться непонятного огромного предмета. Простая и естественная мысль, что люди слишком мало знают о жителях Венеры, чтобы делать выводы, почему-то не приходила в голову Белопольского. Его раздражали эти загадки, встававшие одна за другой. Он был до предела измучен трехдневным пленом и непрерывной тревогой. Он не мог рассуждать сейчас с обычной ясностью мысли. Но по той же причине он не додумался и до этого. Что ответить венерианам? Разумеется, согласиться! Пусть посетят корабль, если им этого хочется. У Белопольского мелькнула мысль, что хорошо бы захватить одного венерианина на Землю, но он тут же с негодованием отбросил ее. Это было бы гнуснейшим насилием, недостойным советского человека. Как могла возникнуть подобная мысль?.. Он повторил движения венерианина, показывая этим, что согласился на просьбу. Они вернулись к вездеходу. — Чем они будут дышать на нашем корабле? — спросил Романов, когда Белопольский рассказал о намерении венериан. — Это совсем просто, — ответил Константин Евгеньевич, — воздухом Венеры. Белопольский вошел в машину. Он пригласил обоих венериан последовать за собой, но они отказались. Значило ли это, что они дойдут сами? Или Белопольский снова не понял их? И то и другое было возможно. «Черепахи» подняли и понесли вездеход. Венериане пошли за ними. «Город» по-прежнему казался пустым. Но люди уже знали, что это впечатление обманчиво. «Жаль, что мы не видели, их жилищ, — подумал Белопольский. — Те дома, где мы были, явно не жилые. У них должны быть мастерские, где изготовляются, например, блюда». Их пронесли мимо знакомого дома «тюрьмы». Белопольский и Романов тревожно подумали, что «черепахи» повернут к ней и оставят их на этот раз на верную смерть. Но они прошли мимо опасного места. Вот, наконец, и розовый туннель. Оба венерианина, сопровождавшие машину, повернули куда-то в сторону и исчезли. «Черепахи» вошли в воду. Почти трое земных суток люди пробыли в плену у венериан, в подземном «городе». Что они видели за это время? Можно сказать, — ничего! Что узнали о венерианах? Очень мало! Приключение, едва не стоившее им жизни, ни на шаг не продвинуло вперед их знаний о жителях планеты. Загадок стало, пожалуй, еще больше. Вот и дно озера, освещенное слабым светом загадочных бревен. Лесная просека… Снова появились венериане. Было совершенно очевидно, что они вышли из пещеры другим, наземным, выходом и обошли озеро по берегу. Значило ли это, что венериане не могли находиться под водой? Безусловно. Берег реки… И, наконец, в темноте ночи громадой возник перед людьми силуэт родного корабля.
КОНЕЦ ПЛЕНА
Несколько минут восемь человек в каком-то оцепенении стояли перед светящимся экраном. Радость и горе, надежда и отчаяние — чувства, противоречившие друг другу, боролись в них, попеременно уступая место одно другому. Они боялись поверить своему зрению и страстно желали, чтобы все это не оказалось сном. То, что они видели, было слишком невероятно. Появление вездехода, который на глазах трех членов экипажа был унесен в озеро, походило на сказку. Всего несколько минут назад Мельников сказал: «Если они найдут нужным, то сами доставят тела наших погибших товарищей». И вот, словно ему в ответ, машина стоит у двери выходной камеры. В ней должны находиться три мертвых тела. Но приборы пульта решительно опровергали такой вывод. Фильтровальная установка работала. Никто, кроме Белопольского, Баландина или Романова, не мог пустить ее в ход, не мог даже проникнуть в выходную камеру. Но как могло случиться, что кто-то из них остался в живых, если кислород в резервуарах вездехода кончился еще вчера? Под водой, без доступа наружного воздуха его нельзя экономить. — Может быть, вернулся только один из них, — прошептал Мельников. Это было единственным и, очевидно, правильным объяснением. На одного человека кислорода могло хватить на лишние сутки. Кто же из трех вернулся на звездолет? Кого придется оплакивать?.. Один из тех, кого они уже «похоронили», находился в выходной камере, совсем рядом. Но из восьми человек ни один не кинулся к ней. Они хорошо знали, что внутренняя дверь не откроется раньше чем через двадцать минут. Мучаясь неизвестностью, все оставались на месте, не спуская глаз с экрана, И они увидели… В состоянии растерянности никто не догадался включить прожектор и осветить вездеход. В полумраке ночи он казался неясной тенью. И вот рядом с ним появились другие, движущиеся, тени. Их было три! Но ведь кто-то, пусть даже один человек, находился в камере. Людей возле машины не могло быть больше чем двое. Но теней было три. Наклонившись к экрану, звездоплаватели напряженно всматривались. Одна из этих теней… Они узнали высокую фигуру Белопольского. Возле него смутно шевелилось что-то… два существа, темные силуэты которых имели странные, непривычные формы… Что это?.. — Зажгите свет! — приказал Мельников. — Не надо! — вдруг закричал Князев. — Это венериане! — Да, это они! — взволнованно подтвердил Коржевский. Новая, и еще более поразительная неожиданность! Неужели удалось найти общий язык с обитателями озера? Неужели венериане обладают развитой техникой и сумели снабдить людей кислородом для дыхания? Но как иначе могли остаться в живых оба звездоплавателя? В выходной камере, очевидно, находился Баландин. Белопольский почему-то оставался снаружи вместе с венерианами. Из трех человек двое были живы. — Мы не ошиблись, — сказал Топорков. — Рация вездехода вышла из строя. А личных у них не было. — Да, — со вздохом отозвался Мельников, — это ясно. И не менее ясно, что Василий Васильевич погиб. У него была личная рация. Все указывало на печальную истину. Если бы Романов был жив, связь была бы давно восстановлена. Но он погиб, в этом невозможно было сомневаться. Напрасная и бесполезная смерть — оба человека, из-за которых погиб Романов, были живы. — О чем мы думаем? — сказал Игорь Дмитриевич. — Почему не включаем связь с камерой? Даже об этом они все забыли… — Но ведь Баландин и сам может вызвать центральный пульт. Почему же он этого не делает? Топорков повернул ручку и нажал кнопку. Боковой экран вспыхнул, появилась внутренность выходной камеры. Крик радости и испуга вырвался у всех. В камере живой и, по-видимому, невредимый, стоял Василий Романов. На его руках было неподвижное человеческое тело, с бессильно повисшей головой. С ужасом они узнали в нем Баландина. Профессор казался мертвым. Геолог смотрел на приборы. На общий крик, который должен быть слышен в камере, он никак не реагировал. Топорков пристально вгляделся и понял, в чем дело. — У него нет рации, — сказал он, — она куда-то исчезла. Сквозь шлем он нас не слышит. Вернулись все трое. Это было необъяснимо! Как это произошло?.. Никто не хотел мучиться догадками. Пройдет немного времени, и они все узнают. Они видели, как геолог осторожно положил тело Баландина на пол. Потом он снял с себя противогазовый костюм и начал раздевать профессора. Так, значит, он жив! Никто бы не стал снимать костюм с мертвого. — Василий Васильевич! — тихо позвал Мельников. Геолог вздрогнул и повернулся на голос. В выходной камере не было экрана, и он не мог видеть, кто с ним говорит. — Я слушаю, — сказал он. — Василий Васильевич, дорогой! Мы так рады! Что с Зиновием Серапионовичем? Почему Константин Евгеньевич не вошел в камеру? — Он остался с венерианами. Они пришли к нам в гости. Зиновий Серапионович очень плох. Пусть Степан Аркадьевич приготовится принять его. Романов говорил «возмутительно» спокойно. Точно они трое вернулись из короткой поездки и ничего особенного с ними не произошло. — Немного потерпите, — прибавил он, — мы вам все расскажем. Константин Евгеньевич приказал, чтобы вы ни в коем случае не зажигали прожектор. — Мы просто забыли о нем, — ответил Мельников. — Очень хорошо. Глаза венериан не выносят света. Встретьте меня у двери камеры с носилками. Процесс окончится через десять минут. Да! Еще надо — герметически закрыть все двери, кроме коридора, идущего от камеры к центральному пульту, самого пульта и обсерватории. Но сначала надодоставить Зиновия Серапионовича в госпиталь. И всюду уменьшить свет. — Зачем это? — Я же говорил, к нам в гости пришли венериане. Придется пустить на корабль воздух Венеры. Иначе наши гости не смогут дышать. — Но как вы остались живы? — Об этом после. Пришлось сдержать нетерпение. Геолог был достойным товарищем Белопольского. Было ясно, что он и не подумает удовлетворить их любопытство. Семь человек отправились к камере. Мельников остался на пульте, чтобы выполнить приказ начальника экспедиции. Пустить в часть помещений звездолета воздух Венеры было не страшно. Придется только всем надеть противогазы. Потом, когда венериане покинут корабль, его можно быстро освободить от формальдегида и углекислого газа. Фильтровальные установки были достаточно мощны. Внимательно следя за всем, что происходило внутри корабля и за его бортом, Мельников часто останавливался взглядом на высокой фигуре Константина Евгеньевича, который медленно и, казалось, совсем спокойно прохаживался возле вездехода. Там же виднелись трудно различимые в темноте небольшие фигурки венериан. Кто бы мог подумать совсем недавно, что между людьми и жителями Венеры так быстро возникнут дружеские отношения? Всего несколько часов тому назад это казалось безнадежно недостижимым. Только что все казалось потерянным, трое человек погибшими, цель экспедиции — недостигнутой. И вот, точно волшебством, все изменилось. Начальник экспедиции и его спутники живы, венериане через несколько минут будут здесь, внутри корабля. Бурная радость, которую Мельников испытывал, увидя живым учителя и друга, сменилась спокойным и ровным ощущением счастья. И только мысль о Баландине, который, по словам Романова, находился в тяжелом состоянии, омрачала радость. Что с ним?.. Мельников видел на экране, как отворилась дверь выходной камеры, видел, как Второв и Князев приняли от Романова безжизненное тело Баландина и бережно уложили на носилки. Потам, сопровождаемые Андреевым и Коржевским, они понесли профессора в госпитальный отсек. Пайчадзе, Топорков и Зайцев горячо обнимали молодого геолога. А немного спустя Мельников и сам обнял чудом спасенного товарища. — Надо торопиться! — оказал Романов. — В баллоне Константина Евгеньевича почти не осталось кислорода. Мельников невольно взглянул на экран. Белопольский все так же медленно «прогуливался» возле машины. Было совсем не похоже, что этот человек знает, что промедление может стоить ему жизни. Но он, конечно, хорошо это знал. — Что надо делать? Говорите скорей! — Открыть обе двери выходной камеры. Почему Белопольский не входит на корабль? Неужели нельзя оставить венериан одних на несколько минут? Мельников действовал быстро. Закрыть все люки и двери — это заняло одну минуту. Баландина уже внесли в лазарет. Мельников предупредил Андреева, что он и Коржевский вместе с больным будут отрезаны от остальных помещений на все время пребывания на корабле венериан. Тревога за командира, находящегося в смертельной опасности, заставила его забыть обо всем, и он даже не спросил у врача о состоянии пострадавшего. Впрочем, Андреев все равно не мог еще ничего сказать. — Одевайтесь! — приказал он всем остальным. Не прошло и пяти минут, а все и он сам уже были в противогазовых костюмах. Мельников протянул руки к нужным кнопкам. Конструкторы звездолета сделали все, чтобы оградить корабль от проникновения в него воздуха другой планеты. В космическом рейсе это было одной из важнейших задач. Совершенная автоматика, установки фильтров, взаимная блокировка дверей и окон обсерватории, термические выключатели дверных кнопок — все подчинялось одной цели. Открыть обе двери выходной камеры случайно было совершенно невозможно. Чтобы сделать это, приходилось один за другим выключить шестнадцать автоматов. Усилием воли Мельников подавил в себе невольно возникшее чувство протеста. Приказ командира звездолета должен быть выполнен. Погасла расположенная в центре пульта, на самом видном месте, ни разу с самого старта на Земле не потухавшая лампочка. Ее зеленый свет сменился красным — грозным сигналом катастрофы. Спустились к нулю стрелки приборов автоматики. Корабль лишился защиты! Мельникове положил пальцы на последние кнопки. Укоренившееся в четырех космических рейсах, вошедшее в плоть и кровь звездоплавателя сознание, что этого нельзя делать, против воли удерживало его руку. Понадобилось физическое усилие, чтобы нажать легко поддающиеся кнопки. То, что, казалось бы, никогда не произойдет, свершилось… Белопольский терпеливо ждал. Он знал, что Мельников не будет медлить. Но он чувствовал, как все труднее и труднее становится дышать. Кислород в баллоне кончался. Резервуары вездехода были уже пусты. Они вернулись к кораблю буквально в последний момент. Может быть, ему следовало войти в камеру вместе с Романовым? Но как отнеслись бы к этому венериане? Они могли уйти, а Белопольский придавал огромное значение предстоящему посещению корабля жителями Венеры. Это было столь важно, что он не колеблясь решился впустить в звездолет воздух планеты. Оба венерианина стояли возле вездехода. «Черепахи», принесшие машину, куда-то исчезли. Прозрачная темнота, черный контур близкого леса, почти невидимая река — все это Белопольский видел впервые. Он знал, что сумерки уже окончились, что сейчас ночь. Ее относительная «светлость» не удивляла астронома, — он ждал этого. Полчаса показались ему бесконечно долгими. Но вот с хорошо знакомым мелодичным звоном раскрылись двери выходной камеры. На Землю быстро спустились трое и подбежали к нему. Белопольский с облегчением увидел в руках одного из них кислородный баллон. Кто-то сильно сжал его в объятиях. Белопольский сумел разглядеть, что это Пайчадзе. Двое других возились за его спиной. — Задержите дыхание! — раздался голос. Белопольский вздрогнул, голос принадлежал Мельникову. Что это значит?.. Он почувствовал, что закрыли краник на шланге. Через несколько секунд свежая струя воздуха проникла в его грудь. Истощенный баллон заменили новым. Белопольский резко обернулся. — Что это значит, Борис? — спросил он ледяным тоном. — Как ты осмелился покинуть корабль, когда меня в нем нет? Мельников исчез, как привидение. Рядом стоял только Романов. Белопольский повернулся к Пайчадзе. — Это и к тебе относится, Арсен, — сказал он. Не так поспешно, но и Пайчадзе немедленно вернулся на корабль. И он и Мельников сгорали со стыда. Что бы ни случилось, они не имели права нарушить главнейший закон космических рейсов. Оба знали, что Белопольский долго не простит им. Люди плохо видели в темноте ночи. Но они знали, что венериане видят отлично. Белопольский жестами пригласил обоих ученых Венеры пройти на корабль. Он не сомневался, что они охотно примут приглашение. Ведь они сами просили об этом. Но оба венерианина отступили на шаг. Это могло означать отказ. Белопольский, а за ним Романов повторили свои жесты, которые должны быть понятны венерианам. Тот же ответ. — В чем дело? — недоуменно спросил Белопольский. — Может быть, их смущает лестница? — Нет, не думаю. Один из венериан сделал шаг вперед. Он протянул руку к Белопольскому, а другой указал назад, на лес. — Ничего не понимаю! — сказал Константин Евгеньевич. Из выходной камеры, находящейся над их головой, лился слабый свет притушенной лампочки. Чтобы лучше видеть, Белопольский перешел на освещенное ею место. Оба венерианина пошли за ним. Он еще раз пригласил их подняться наверх. И снова венериане отступили на шаг. Они указали на людей, потом на лес. — Может быть, они требуют, чтобы мы вернулись к озеру? — предположил Романов. Белопольский молчал. Он видел, что им не понять, чего хотят венериане. Выходило, что там, в пещере, снова произошла ошибка. Ему казалось тогда, что венериане хотят посетить корабль. Теперь становилось ясным, что они не думают об этом. Их действия имеют другую цель; но как можно догадаться, какую именно? Из корабля быстро спустился Князев. — Борис Николаевич спрашивает, почему вы не идете, — сказал он. — Я знаю это не лучше, чем он сам, — сквозь зубы ответил Белопольский. — Степан Аркадьевич просит вас скорее прийти. Зиновию Серапионовичу очень плохо. Белопольский понял, что надо принять какое-то решение. Он сделал последнюю попытку. Но венериане, как и раньше, ответили отказом. Все планы рушились. Если люди уйдут на корабль, оставив венериан одних, то как поймут это венериане? Не поведет ли это к разрыву с таким трудом достигнутых отношений? Что делать? — Попробуем поднять их по лестнице на руках, — предложил Романов. Может быть, действительно геолог прав, и венериане просто боятся подниматься по лестнице? Или не могут этого сделать? — Попробуйте! — согласился Белопольский. — Только осторожно. Романов подошел к одному из венериан и, указав наверх, протянул руки, чтобы взять его. Поймет ли венерианин? Он понял, это было очевидно. Но не менее очевидно было и то, что он не согласен. Венерианин отступил и поднял руку, указывая на дверь камеры. Другой рукой он сделал уже знакомый людям отталкивающий жест. Ответ был совершенно ясен. Зачем же они пришли сюда? Что они хотят от людей, отпущенных ими на волю? Долг благодарности требовал исполнить их желание, но как это сделать, если желания никак не понять? Белопольский сделал единственное, что можно было сделать в столь затруднительном положении. Он постарался показать, что желание хозяев планеты не встречает возражений. Он не знал, в чем состоит это желание, но, так же как венериане, указал на лес и на себя. Потом он поставил ногу на нижнюю ступень лестницы, внимательно наблюдая за венерианами. Они медленно наклонили головы, точно прощаясь. Это могло означать и другое — согласие. Оба отступили на шаг, еще раз показывая, что не последуют за людьми. Больше нельзя было медлить. С чувством досады, недоумения и разочарования Белопольский поднялся в камеру. Романов и Князев последовали за ним. Дверь закрылась. Венериане остались снаружи. Что они думали о бегстве от них людей? Какие последствия будет иметь то, что люди не поняли хозяев планеты?.. Белопольский поспешно прошел на пульт. Мельников встретил его сдержанно. Ему хотелось обнять Белопольского, выразить ему всю свою радость, но он понимал, что командир звездолета возмущен его недавним поведением. В глазах такого человека, как Белопольский, проступок Мельникова не мог иметь никаких оправданий. Сухо кивнув головой, Константин Евгеньевич подошел к экрану. Но венериан уже не было. — Пустите в ход фильтровальные установки выходной камеры и обсерватории, — приказал он. — Надо как можно скорее очистить воздух. Мельников молча повиновался. Ему было грустно, что они встретились так сухо. Он заметил, что Белопольский обратился к нему на «вы». Неужели он не может понять? Нет, не поймет… Ведь он сам никогда бы этого не сделал. Белопольский соединился с лазаретом. — Дело плохо, — доложил ему Андреев. — Вероятно, придется ампутировать левую ногу. — Сделайте все возможное, чтобы избежать этого. — Разумеется, Константин Евгеньевич! Пайчадзе и Топорков, бывшие на пульте, вышли. Белопольский повернулся к Мельникову и молча посмотрел на него. — Это было в первый и в последний раз, — сказал Борис Николаевич. — Что ты предполагал делать? — Закончить те работы, на которые могло хватить людей, и вернуться на Землю точно в срок. Но вы еще не знаете этого, мы должны вылететь седьмого августа. — Почему? — удивился Белопольский. Мельников рассказал об аварии двигателей. — Три из них восстановлены, но девять не могут работать, — закончил он. Белопольский принял это известие, нарушавшее все планы, внешне спокойно. — Ты получил мою записку? — спросил он. Мельников вздрогнул. Сомнения быть не могло. В часах была записка. Как же могло случиться, что ни он и никто из его товарищей не подумали о том, чтобы открыть их? Вторично краска стыда залила его лицо. — Я думал, вы поймете, — сказал Белопольский. — Мы считали вас мертвыми. Мы думали, что венериане, неизвестно зачем, сняли хронометр с вашего тела. Мы поняли это как приглашение взять ваши тела у озера. — И вы отправились туда? Вы встретились с венерианами и разбили каменную чашу? Мельников с изумлением посмотрел на Белопольского. Откуда он знает эти подробности? — И ты сам повел вездеход? — безжалостно спросил академик. Мельников вспыхнул в третий раз. — Конечно, нет! — ответил он. — Как вы можете так думать? — Приходится, — пожал плечами Белопольский. — Кто же и почему разбил чашу? — Ее разбил Второв. Вернее, она сама разбилась. Это произошло так… — Подожди! — перебил его Белопольский. — Надо обо всем поговорить подробно. И вам и нам надо много рассказать друг другу. Отложим пока. Процесс очистки воздуха, как оказалось, напрасно испорченного, продолжался больше полутора часов. Все это время члены экипажа не снимали противогазовых костюмов и почти не разговаривали. Наконец приборы показали, что никаких примесей не осталось в атмосфере звездолета. Двери выходной камеры были закрыты, и автоматика введена в действие. Привычная зеленая лампочка вспыхнула на пульте. Как только открылись двери, Белопольский ушел в госпитальный отсек. Тревога за здоровье Баландина ни на минуту не покидала его. Профессор был без сознания. Землисто-серый, с посиневшими губами, он лежал на койке, похожий на труп. — Сердце плохо работает, — ответил Андреев на вопрос Белопольского, — положение угрожающее. Если бы он попал ко мне немного раньше… — Какой выход? — Немедленно произвести ампутацию ноги. Это единственная надежда. — Но вы сами говорите, что сердце слабое. — Если не ампутировать ногу, он не проживет и часа. Белопольский закрыл глаза рукой. Оплошность, в которой он и себя считал виновным, навеки вычеркивала профессора Баландина из рядов звездоплавателей. Константин Евгеньевич почувствовал, как к горлу подступил горячий комок. — И ничего нельзя сделать? — Ничего. Слишком поздно. — Но операция спасет его? Вы уверены в этом? Андреев опустил голову. — Мы надеемся на это, — чуть слышно ответил он. Белопольский ничего не сказал. Он медленно повернулся и вышел. Началась операция над бесчувственным, едва живым телом. Весь экипаж звездолета собрался у запертой двери госпитального отсека. Время тянулось для них нескончаемо. Никто не проронил ни слова. И вот открылась дверь. Коржевский в белом халате появился на пороге. Он был смертельно бледен. — Зиновий Серапионович скончался, — сказал он.НА БЕРЕГАХ ГОРНОГО ОЗЕРА
Неожиданная смерть Зиновия Серапионовича Баландина была тяжелым ударом для его товарищей, жестоким испытанием их мужества, воли и решимости. Белопольский с тревогой наблюдал за членами экспедиции, опасаясь, что трагическая развязка первой по существу попытки проникнуть в тайны планеты подорвет в них веру в их общее дело. И с глубоким чувством удовлетворения и гордости убедился, что все девять участников космического полета на высоте положения. Никто не упал духом. Ровно в полночь на опушке леса звездоплаватели опустили в глубокую яму стальной гроб, изготовленный Князевым из запасных плит. Могилу тщательно сравняли, чтобы венериане не смогли обнаружить ее. Земля Венеры сохранит тело до следующей экспедиции. Нормальному и здоровому человеку не свойственно думать о смерти. Возможность ее как-то невольно не учитывается, забывается. И при подготовке экспедиции на сестру Земли никто не предусмотрел, никто не подумал о том, что будет делать экипаж корабля в случае чьей-нибудь гибели. Никаких средств сохранить тело до возвращения на Землю не было. Положить тело умершего товарища в холодильник вместе с образцами фауны и флоры Венеры казалось им кощунством. Пусть лучше тело Баландина ждет следующей экспедиции, которая доставит его на родину, так же, как ждет этого тело Орлова на Арсене. Похоронив Зиновия Серапионовича, звездоплаватели с удвоенной энергией взялись за работу под общим руководством Пайчадзе, который заменил профессора на посту начальника научной части экспедиции. Времени оставалось совсем мало. Быстро и незаметно проходили часы и «сутки» ночи. Напряженный труд помогал забыть не человека, а горе, причиненное его смертью. Несколько раз экипаж корабля наблюдал волшебное полярное сияние Венеры. Они жалели, что на Земле не увидят всю несравненную красоту этого зрелища. Заснятая Второвым кинопленка могла дать только слабое представление об этой фантасмагории красок. Чем ближе к утру, тем слабее и реже появлялись эти сияния.
Общение с венерианами совершенно прекратилось. Только раз жители озера явились к кораблю целой толпой, «человек» в сто. Около часа они простояли у опушки леса, очевидно рассматривая звездолет, но не подошли к нему ближе. Константин Евгеньевич был убежден, что люди снова встретятся с ними у горного озера, куда венериане хотели перетащить своих пленников. Все обстоятельства пребывания Белопольского и его спутников в подземном городе, а также встречи вездехода на лесной просеке постоянно служили темой горячих споров. Романов высказал предположение, что венериане вовсе не собирались насильно переправить пленников к горам, а просто предложили им самим сделать это. Белопольский долго не соглашался с таким выводом, но в конце концов и сам стал иначе понимать весь «немой» разговор, происшедший в пещере. Выходило, что венериане ничем никогда не угрожали людям, относились к ним с самого начала дружелюбно. То, что в глазах людей Земли казалось насилием — захват вездехода, трехдневный плен, — в глазах венериан могло иметь совсем другое значение. Это могло быть даже выражением гостеприимства. Кто мог знать обычаи этого народа? И то, что произошло у звездолета, когда венериане отказались войти на корабль, после того как сами как будто изъявили желание осмотреть его, подверглось после длительного обсуждения переоценке. Все сошлись на том, что венериане просто проводили своих гостей «домой», а на прощание попросили их еще раз посетить пещеру. Осматривать звездолет они и не собирались. Но, несмотря на столь благоприятные выводы, Белопольский не считал возможным рисковать и на просьбу Второва разрешить посещение пещеры с целью киносъемки ответил категорическим отказом. — Жесты венериан при нашем последнем свидании с ними, — сказал он, — могли означать не просьбу посетить пещеру, а как раз обратное — запрещение. Лучше оставим это до следующей экспедиции, которая будет соответствующим образом подготовлена к такой экскурсии. Эти слова показали членам экипажа, что Константин Евгеньевич не совсем согласен с общим мнением. Было ясно, что начальник экспедиции не доверяет венерианам и боится новых жертв. Второву пришлось покориться, но совсем неожиданно он вознаградил себя другими кадрами. Уже на следующий «день» после похорон Баландина звездоплаватели заметили движение у плотины. Внимательное наблюдение вскоре с очевидностью показало, что венериане принялись за ночную работу. Белопольский сам предложил посмотреть на нее вблизи. Появление у штабелей мощного вездехода не произвело на обитателей озера никакого видимого впечатления. Они продолжали свое дело, не обращая на него внимания. Люди благоразумно не зажигали прожекторов. Сквозь окна Второв мог снимать сколько ему угодно, что он, конечно, и сделал. Сверхчувствительные пленки, изготовленные специально для него, позволяли получить достаточно отчетливые снимки даже в условиях ночи. Зрелище было исключительно любопытно. «Ежедневно» вездеход на несколько часов отправлялся к плотине. Кроме Второва, в машине попеременно были все члены экипажа. Всем хотелось увидеть фантастическую картину работы венериан. Но не только интерес вызвала эта картина. Внимательное наблюдение за процессом работы позволило сделать чрезвычайно важные выводы относительно умственного развития жителей озера. Работа производилась главным образом «черепахами». С ними было несколько венериан. Окончательно выяснилось, что «черепахи» не более как дрессированные животные. Их работа — механическое исполнение приказаний венериан. Несколько раз люди наблюдали действия этих гигантов в тот момент, когда вблизи не было ни одного венерианина. Каждый раз предоставленные самим себе «черепахи» начинали работать совершенно бессмысленно. Они хватались за одно бревно целой толпой, тащили его не туда, куда нужно, и даже, мешая друг другу, пытались идти в разные стороны. Но стоило появиться венерианину, и все приходило в порядок, работа принимала разумный вид, действия «черепах» становились «осмысленными». Венериане, очевидно, командовали, отдавали распоряжения. Но как это делалось, люди не могли понять. Никаких жестов, никакого звука. Создавалось впечатление, что венериане отдают распоряжения мысленно и что «черепахи» слышат и подчиняются этому мысленному приказу. Но это было явно невозможно, — тут была еще нераскрытая тайна. Наблюдая за «черепахами», Белопольский часто задумывался о том, как был захвачен в плен их вездеход. Действия «черепах» в тот роковой вечер выглядели вполне осмысленно; они взяли машину «по всем правилам военного искусства». Единственным объяснением было то, что при этом присутствовали венериане, хотя ни он, ни покойный Баландин не заметили их. Еще более сложный маневр осуществили «черепахи» при атаке на вездеход Князева. Правда, при этом ими уже наверняка руководили венериане, но все же то, что сделали «черепахи», выходило за пределы мыслимой дрессировки. Земные обезьяны, слоны и другие наиболее развитые животные не были бы способны на такие действия. Это имело уже характер цирковой дрессировки. Но ведь венериане не могли заранее предвидеть встречу с вездеходом и научить «черепах», как надо действовать при столь внезапных обстоятельствах. После долгого раздумья Коржевский высказал свое предположение по этому поводу, — Все, что мы узнали о «черепахах», — сказал он, — доказывает, что они не обладают разумом и не способны, как и все животные, к логическому умозаключению. Свое дело они выполняют механически, не понимая его смысла. Но их действия при нашей встрече, направленные против прожекторов, нельзя объяснить предварительной дрессировкой, Я думал, что им знакома война, — это ошибка. «Черепахи» воевать не могут. Но они умеют пользоваться щитами, подходить к чему-то под их защитой и нападать с помощью камней. Как это объяснить? Только охотой. Существует охота на какое-то большое и опасное животное. «Черепахи» приучены охотиться со щитами и камнями и выполнили знакомое дело. Разницы между обычной целью и нашей машиной они не понимали. Мы думали, что они целились в прожекторы. Это не так. Они швырнули камни вообще в машину. То, что при этом были разбиты прожекторы, — простая случайность. — Значит, — спросил его Второв, — в тот момент венериане проявили к нам враждебность? — Нисколько! — ответил биолог. — Вспомните, — они не преследовали вездеход. Звездоплаватели согласились с Коржевским. Такое объяснение действий венериан многое делало понятным. Работы у плотины закончились к утру. Старые штабеля были перенесены к озеру, а на их месте уложены новые. При этом снова только один штабель состоял из очищенных стволов, а другой — из деревьев с корой и ветвями. Коржевский придавал этому обстоятельству огромное значение. — Совершенно очевидно, — сказал он, — что не только черепахи, но и сами венериане действуют по раз навсегда установленному шаблону. Ведь можно наверняка сказать, что эта работа производится сотни лет. Но она все же крайне примитивна. Действительно, наблюдая за работой, люди видели, что многое можно было делать более результативно и с меньшей затратой сил. Для этого требовались только самые элементарные представления об организации труда. Но, очевидно, венериане даже не догадывались об этом. Не было ни малейшего намека на технику. Все делалось руками, физическим трудом. Принцип рычага, который мог оказать им большую помощь, был не известен венерианам. Даже до самых простых каменных топоров, известных людям Земли с незапамятных времен, они не додумались. — Очень скоро здесь все изменится, — сказал Белопольский: — Мы научим их трудиться разумно. Венериане — дикари в сравнении с нами. Но они наши младшие братья. Долг человека Земли — дать им все, что нужно, чтобы облегчить жизнь, и труд. И это будет сделано! — Без общего языка… — начал Коржевский, но командир корабля перебил его. — Это будет сделано! — повторил он. — А общий язык будет найден. Как они говорят, пока тайна. Но эту тайну мы должны раскрыть и раскроем. Топорков, присутствовавший при этом разговоре, посмотрел на Белопольского и загадочно усмехнулся. — А что вы скажете, — спросил он, — если мне известна эта тайна? — Вам?.. Игорь Дмитриевич пожал плечами. — Не обязательно, — сказал он, — быть биологом, чтобы раскрыть биологическую тайну. Может случиться, что возможность говорить с венерианами или, во всяком случае, обмениваться с ними мыслями люди получат от техники. — Но что вы знаете? — Во-первых, я не знаю, а только думаю, что знаю. Это не одно и то же. А во-вторых, я вам пока ничего не скажу. Ваше восклицание, Константин Евгеньевич, когда вы с таким недоверием спросили «вам?», относилось не ко мне лично, я это понимаю, а к технике, которую я представляю. Вы не можете допустить, что эту тайну откроют инженеры. Я обиделся за мою корпорацию. У меня есть план; когда он будет осуществлен, вы его узнаете, но не раньше. Товарищам показалось, что Топорков шутит. Но Игорь Дмитриевич, по-видимому, действительно обиделся. Он так и не сказал ничего, несмотря на все мольбы Коржевского, который в конце концов, рассердился на Белопольского. — Откуда я мог знать, — чуть заметно улыбнулся академик, — что Игорь Дмитриевич так обидчив? Да не в этом и дело. Он просто не хочет говорить, пока не убедится, что прав. — В таком случае нечего было и начинать. — Ничего не поделаешь! Потерпите! Нетерпеливый биолог несколько раз возобновлял свои попытки, но ничего не добился. Игорь Дмитриевич иногда бывал на редкость упрям. Было ясно, что он никому не откроет своего секрета. Коржевскому пришлось покориться и ждать. Но один из членов экипажа все же узнал тайну раньше других, но с него Топорков взял слово молчать. Это был Зайцев. Помощь инженера-механика была необходима для осуществления задуманного. Но старший инженер звездолета умел хранить то, что ему доверяли. Наступило утро. Снова поднялось над горизонтом невидимое солнце. Конец ночи ознаменовался чудовищной грозой, продолжавшейся двенадцать часов подряд. Точно после двухсотсемидесятичасовой спячки природа Венеры праздновала свое пробуждение. Звездоплаватели готовились в путь. Программа работ, намеченная на первую ночь, была перевыполнена. Белопольский решил перелететь к горам, найти показанное венерианами горное озеро и провести там оставшиеся дни. 4 августа звездолет покинул место своей стоянки, оставив жителям озера на память о своем пребывании сожженную полосу берега. Мельников, управлявший кораблем, пролетел над озером, прощаясь с ним. Звездоплаватели взволнованно смотрели на гладкую поверхность воды. Там, под ней, находится странный мир, освещенный розовым светом загадочных деревьев. Ползают похожие на ожившие беседки огромные «черепахи» — «рабочая сила» Венеры. А там, в недрах высокого обрыва южного берега, таится от глаз огромная пещера — подземный «город» со странными «домами» без крыш, со светящимися стенами. Трое людей побывали в этом «городе» венериан, но почти ничего не видели в нем. Там нашел свою смерть Зиновий Серапионович Баландин. Бревенчатые стены розового туннеля были последним, что он видел в жизни, потому что там он потерял сознание и до последнего вздоха уже не пришел в себя. Что делают сейчас жители «города»? Коржевский утверждал, что они спят. Для венериан день — то же, что для человека ночь. Три недели для человека — одни сутки для венериан. Так ли это? Может быть, именно сейчас люди могли бы проникнуть в «город» и, пользуясь сном его хозяев, осмотреть его?.. Озеро осталось позади. Под крыльями машины широкая река. Никаких признаков жизни, кроме растений! Не удивительно, что первые люди, посетившие Венеру, ошиблись. Экипаж «КС-3» мог впасть в ту же ошибку. Ничто не указывало, что планета населена, имеет свое человечество. В начале второй половины пути стали попадаться плывущие по воде деревья. К вечеру они соберутся у плотины, а ночью будут вытащены и уложены в штабеля. Кто же ломает и сплавляет их по реке? Какая связь существует между жителями озера и гор? Как осуществляется эта связь?.. Люди ничего не знали. Образ жизни венериан, их общественное устройство — закрытая книга. Ее прочтут до конца следующие экспедиции. Вот, наконец, и горный хребет. Его вершины прячутся в толще облаков. Корабль поднялся к самым тучам. Отсюда, с высоты полутора километров, легче найти озеро, если оно существует, если люди правильно поняли «рисунки» венериан. — Вот оно! — сказал Белопольский. Подобно Гокче, высоко в горах раскинулось огромное озеро. Почти правильной круглой формы, оно имело километров восемь в диаметре. И как из Гокчи вытекает река Занга, так и из этого озера брала свое начало безымянная река Венеры. Подлетев ближе, звездоплаватели увидели, что на берегу можно посадить корабль. С востока и юга озеро окружал лес, а перед ним были широкие и длинные поляны, поросшие, как казалось сверху, такой же травой желто-коричневого цвета, какую они видели у плотины. — Это очень удачно, — сказал Белопольский. — Садиться на воду нежелательно. Мельников кивнул головой. Второй раз предстояло ему совершить трудный и опасный маневр посадки громадного корабля на сушу. Он напряженно всматривался в экран, не выпуская в то же время из поля зрения многочисленные приборы пульта. — Вон там! — указал Константин Евгеньевич. — Видишь, где озеро образует небольшой залив? По-моему, подходящее место. Скорость падала. Корабль все ближе и ближе подходил к земле. — Один! — сказал Белопольский. Секунда… вторая, — и звездолет остановился на новом месте. Как и в первый раз, посадка прошла с автоматической точностью. — Что-то ожидает нас здесь? — задумчиво сказал Мельников. Берег и озеро были пустынны. Здесь, в заливе, вода была спокойна, но там, на просторе, ветер срывал гребни волн, и они рассыпались белыми клочьями пены, хорошо видными в бинокль. Лес начинался метрах в трехстах и состоял из каких-то, еще не встречавшихся деревьев меньших размеров, чем у порогов. Примерно в километре за ним поднимались крутые склоны гор. Трава на берегу была густой и высокой, в половину роста человека. Бурное озеро с низко нависшими над ним тучами производило более дикое и неприветливое впечатление, чем лесное озеро. — Там было как-то уютнее, — заметил Князев. Вылазка, произведенная Мельниковым и Коржевским, показала, что почва под густой травой сухая и твердая. — Константин Васильевич, — сказал Белопольский, — приступайте к сборке самолета. Необходимо обследовать местность сверху. — Придется снова строить ангар, — ответил Зайцев. — День! Будут частые грозы. И будто в подтверждение его слов, мощный грозовой фронт закрыл озеро. Место было высокое, ближе к тучам, и гроза казалась страшнее, чем на равнине. А за первой грозой последовала вторая, затем третья и четвертая… Двое «суток» звездоплаватели не могли выйти из корабля. Точно все грозовые фронты Венеры собрались здесь. Наконец, 6 августа, наступило относительное прояснение. О сборке самолета не могло быть и речи. Завтра корабль покинет Венеру. Белопольский решил осмотреть лес. В экскурсии приняли участие Коржевский и Второв. Предположение биолога, что венериане спят днем, судя по всему, было правильным, но все же решили воспользоваться самым мощным из вездеходов. Сомнения вызывала только кажущаяся густота леса; было не известно, есть ли здесь просеки, сможет ли большая машина войти в него. Вездеход-танк был спущен на берег. Трое звездоплавателей, хорошо вооруженные, заняли в нем свои места. Семеро оставшихся на корабле собрались в радиорубке перед экраном телесвязи. Местность казалась совершенно необитаемой, но Венера уже научила людей не доверять внешнему виду. Высокая желто-коричневая трава легко уступала натиску гусениц. Но позади машины она снова выпрямлялась и казалась нетронутой. Словно и не прошел по ней тридцатидвухтонный вездеход. — Снова загадка, снова неизвестное свойство! — говорил Коржевский. — Как богата сюрпризами природа Венеры! Деревья леса были значительно ниже, чем на равнине, тоньше, и кора была не столь гладкой. Но стволы так же соединялись между собой, образуя арки. Но если там ни одна машина не могла войти в чащу, то здесь это было довольно легко. Деревья стояли редко. Между ними всюду лежали груды упавших стволов, росла молодая поросль, и все это было покрыто бурно разросшейся травой, такой же, как на берегу озера. Вездеход медленно и осторожно вошел в лес, подминая под себя, вдавливая в землю и ломая все, что попадалось на его пути. Белопольский старался выдерживать прямое направление, чтобы звездолет все время находился сзади. Это легко удавалось: промежутки между стволами были раз в пять больше длины машины. Отошли метров на двести от берега. И вдруг… При очередном повороте впереди что-то блеснуло. Еще раз!.. Ошибиться было невозможно… Слишком хорошо знаком был этот характерный блеск металла! Луч прожектора скользнул по гладкой металлической поверхности!.. Еще несколько оборотов гусениц — и путь преградила полукруглая стена. Огромная труба уходила в обе стороны, в глубину леса. Белопольский затормозил. Трое людей в вездеходе и семеро перед экраном радиорубки не верили глазам. Венериане не могли иметь металлургической промышленности. Все, что было известно о них, противоречило такому допущению. Уж не сон ли — эта невероятная картина?.. Из какого-то незнакомого желто-серого металла, труба была метров четырех в диаметре и отливала тусклым блеском. Металл как будто был совсем новый, без малейших признаков ржавчины.
В ЛОВУШКЕ
Когда в заливе кораллового острова была найдена деревянная линейка, первое, о чем подумали звездоплаватели, — о космическом корабле, посетившем Венеру. Но загадка линейки получила другое, более простое и естественное объяснение, и эта версия была оставлена. А потом, на каменной чаше венериан, Белопольский увидел украшения в форме тел простой кубической системы, тех самых, которые были найдены в круглой котловине Арсены. И мысль о космическом корабле возникла снова. И вот в лесу у горного озера… — Мы проехали вдоль всей трубы, — подытожил результаты экскурсии Константин Евгеньевич, — и убедились, что она имеет форму замкнутого кольца. Хотя металл кажется совсем новым, кольцо-труба лежит здесь очень давно. Это с очевидностью доказывают деревья, сросшиеся над ней. Многие растут из-под трубы, изгибаясь по ее поверхности. Можно уверенно сказать, что весь лес вырос после того, как появилась здесь эта труба. Станислав Казимирович считает, что лес имеет за собой тысячи лет. Значит, и труба появилась тысячи лет тому назад. Если ее сделали венериане, то это означало бы, что тысячи лет назад у них была развитая техника. В этом случае она должна была развиться еще больше и находиться сейчас в цветущем состоянии. Но этого нет. Вывод — труба сделана не венерианами. Кем же? Вспомним каменные чаши, вспомним фигуры на Арсене, имеющие с ними какую-то связь. Сомнений быть не может. Мы нашли то, что осталось от космического корабля, тысячи лет тому назад прилетевшего на Венеру. — Но почему же?.. — начал Топорков. — Вы правы, Игорь Дмитриевич! Встает ряд загадок. Почему корабль остался на Венере? Что случилось с его экипажем? И самое главное — откуда он прилетел и когда? — Но если труба или корабль, как хотите, лежит тут тысячи лет, почему не видно следов времени? — спросил Второв. — Это еще одна загадка. Вероятно, потому, что металл совсем особый, неизвестный на Земле. — Надо проникнуть внутрь, — сказал Мельников. — Мы не видели ничего, что походило бы на запертую дверь. Поверхность трубы всюду гладкая. Ее надо осмотреть с внутренней стороны кольца. Я думаю поручить это тебе, — прибавил Белопольский. Мельников обрадовался. — Я сделаю это, — ответил он. — Со мной будут Второв и Князев. — Очень хорошо. Я сам хотел предложить именно их. — Когда отправляться? — Чем скорее, тем лучше. Как всегда, задержали грозы. Но звездоплаватели настолько привыкли, что не обращали на эту помеху особого внимания. — В дорогу! — сказал Мельников, как только барометр Топоркова после очередной грозы показал, что воздух очистился. Под управлением Князева, которому Второв показывал направление, вездеход быстро дошел до загадочной трубы. Все уже были уверены, что это звездолет. Мельников и Второв, захватив с собой раздвижную лестницу, вышли через тамбур. Князев должен был ожидать их возвращения. Если приблизится грозовой фронт, он даст сигнал — и разведчики вернутся в машину до ливня. Путаясь ногами в высокой траве, Второв установил лестницу; и один за другим, они поднялись на трубу. Свет прожекторов, направленных вверх, отражался от листвы и создавал достаточное освещение. Внутри кольца был тот же лес. Сверху было хорошо видно, что труба плавно загибается в обе стороны. Диаметр кольца был не меньше двухсот метров. Второв первый заметил второе кольцо. Оно находилось в пяти — шести метрах и было той же толщины. Может быть, там, в глубине леса, они найдут еще несколько? Форма космического корабля была, очевидно, совсем необычной. — Кольца должны соединяться между собой, — сказал Мельников. Они осторожно пошли вперед по гладкой и скользкой трубе. Князев, лавируя между деревьями, повел вездеход вслед за ними, стараясь не отходить далеко. Соединение обнаружилось очень скоро. Тонкие с виду трубы из того же металла, расположенные в форме ромба, соединяли оба кольца. Сквозь этот ромб поднималось огромное дерево, трех метров в обхвате, что лишний раз доказывало, как давно находится здесь это странное сооружение. Шагов через тридцать они увидели второй ромб. И словно нарочно, сквозь него опять-таки выросло дерево. Оно задело в своем росте металл, и ромб был искривлен. — Такие гиганты, — задумчиво сказал Мельников, — растут сотни и сотни лет. — Коржевский утверждает, что тысячи. — Еще того лучше! — Я очень волнуюсь, — признался Второв. — Эти трубы… Мы ходим по ним. Кто построил эти кольца? Кто прилетел в них на Венеру? Здесь, под нашими ногами величайшие тайны. Что, если внутри все так же хорошо сохранилось, как снаружи? — Удастся ли только попасть внутрь? С корабля сообщили о приближении грозы, и Мельников со Второвым спустились к вездеходу. Но грозовой фронт прошел стороной. Вопрос о надежности защиты лесного купола остался по-прежнему открытым. — Нам надо перебраться за вторую трубу. Иначе мы ничего не выясним. — А если гроза? — Укроемся под трубой. Наши костюмы не проницаемы для воды. Это доказано опытом Романова. Белопольский, которому Мельников сообщил о своем намерении, разрешил поход к центру колец. Прожекторы на их шлемах должны дать достаточно света, чтобы ориентироваться в лесу. Лестницу можно было носить с собой, — она была очень легкой. И вот началась эта необычайная экскурсия в далекое прошлое. Впоследствии, когда они снова очутились в привычной обстановке звездолета, только снимки, сделанные Второвым, служили доказательством, что все это действительно видели их глаза, насколько странным и похожим на сказку было все виденное. Прежде чем углубиться в лес, Мельников и Второв, неотступно сопровождаемые вездеходом, прошли по всей длине наружной трубы. Подсчет сделанных шагов подтверждал, что диаметр кольца равен двумстам метров. Вторая труба вое время шла параллельно первой на одном и том же расстоянии и прикреплялась к ней через каждые пятнадцать — шестнадцать метров ромбовидными конструкциями. В двух местах, расположенных, очевидно, по диаметру, от наружной трубы отходила другая, прямая и меньшего размера и, пройдя сквозь внутреннюю трубу, исчезала среди деревьев. — Там, — Мельников указал рукой к центру колец, — должно быть что-то. Какое-то центральное ядро. — Я тоже так думаю, — согласился Второв. Обойдя кольцо, они вернулись немного назад и остановились у радиальной трубы. Идти к центру лучше всего было прямо по ней. Металлические подошвы их ботинок сильно затрудняли хождение по гладкому металлу, но продираться через бурелом и высокую траву было еще труднее. Приказав Князеву не отходить от этого места, Мельников первым спустился по лестнице, которую держал Второв. Потом он помог спуститься товарищу. Преодолев второе кольцо, они углубились в лес. Свет прожекторов вездехода вскоре померк и перестал освещать путь. Вспыхнули лампы на шлемах. Дорога по трубе оказалась не столь легкой, как они думали. Чуть не на каждом шагу путь преграждали стволы деревьев, изогнувшиеся самым причудливым образом. Приходилось перелезать через них с помощью лестницы или спускаться на землю и обходить препятствие. Они убедились при этом, что путешествие по земле заняло бы очень много времени, — трава была настолько упругой, что каждый шаг стоил больших усилий. Труба была прямой, метров двух с половиной в диаметре, и не лежала на земле подобно двум кольцевым, а висела в воздухе. Учитывая ее длину, они пришли к выводу, что металл исключительной прочности. Об этом же говорил тот факт, что ни одно дерево, выросшее из-под трубы, не смяло ее, а изгибалось по поверхности. Они видели раньше, чтокрепления не выдерживали страшного натиска растущего великана. — И, кроме того, — сказал Мельников, — нельзя забывать, что она лежит тут тысячи лет. Ни один земной металл не уцелел бы столько времени. В пятидесяти метрах от второго кольца они наткнулись на третье. Оно было той же толщины, что и два первых. — Система концентрических колец, — заметил Второв. — Интересно, — что находится в центре? Они узнали это через несколько минут. Деревья стали редеть. Все яснее и отчетливее они видели дальше, чем достигал свет их прожекторов. Над головой сквозь листву тоже можно было увидеть клочок неба. И вот что-то огромное, казавшееся бесформенным, встало на их пути. «Что-то», плотно обросшее деревьями, было целью их лесного похода. Это был центр космического корабля. Его форма была скрыта от глаз, настолько крепко зажал его в своих объятиях лес. Но им обоим показалось, что это не шар и не куб, а что-то другое. — Константин Евгеньевич! — позвал Мельников. — Слушаю, — тотчас же ответил Белопольский. — Мы дошли до центра. Но деревья так обступили его, что даже формы мы не можем определить. Но если есть вход внутрь, он должен быть здесь. Надо уничтожить деревья. Придется вернуться за ультразвуковым аппаратом. — Постойте! — сказал вдруг Второв. — Вот, кажется, дверь. Действительно, сбоку от трубы, в месте, не закрытом деревьями, ясно виднелась тонкая линия, образующая собой правильный пятиугольник. — Правда, похоже на дверь! — сказал Мельников. — И она должна открываться снаружи. — Не видно ни кнопок, ни замка. — Должны быть! Если, конечно, это дверь, а не что-нибудь другое. — Очень похоже на дверь. Пятиугольник находился на уровне центра трубы, и рассматривать его приходилось низко нагнувшись. Мельников и Второв спустились на землю. Но теперь предполагаемая дверь оказалась над головой. — Приставьте лестницу! Луч света упал на металлическую поверхность, и прямо перед собой Мельников увидел какие-то выступы. Их было три. Средний имел форму пятиугольника, два боковые — квадрата. — Это, безусловно, механизм двери! — взволнованно сказал Второв. — Да, по-видимому, — сдерживая себя, ответил Мельников. — Попробуем разобраться. — Борис Николаевич, — раздался голос Белопольского, — соблюдайте крайнюю осторожность. Мы не знаем, что произойдет, если вы дотронетесь до механизма. Что он собой представляет? Мельников рассказал. — По-моему, — закончил он, — ничего не может произойти, кроме того, что дверь, возможно, откроется. Но шансов на это мало. Скорей всего механизм давно не работает. Пожалуй, будет лучше, если один из нас отойдет подальше. — Я очень прошу вас, — умоляюще сказал Второв, — доверьте это мне. Мельников видел, что молодой инженер даже побледнел от волнения. Отказ глубоко заденет его. — Хорошо, разбирайтесь вы. Когда кончите, позовите меня. Он поднялся на трубу и, не оглядываясь, скрылся за деревьями. Оставшись один, Второв внимательно осмотрел выступы. Они казались вылитыми на металле корпуса, но, если это был механизм, они должны поддаваться нажиму или поворачиваться. «Но, может быть, — подумал он, — время испортило механизм и все усилия будут напрасны». Ему страстно хотелось добиться успеха, особенно после того, как он взялся за это вместо Мельникова. «Стыдно будет, если не догадаюсь. Сочтут хвастуном». Странная форма космического корабля была чужда ему — человеку Земли, но это было создание рук существ, близких по своему умственному развитию. Второв был убежден, что человек может понять их мысль. — Будем рассуждать так, как будто это сделано на Земле! — Правильно! — ответил невидимый Мельников. — Спокойно, Геннадий! Второв осторожно взялся за средний пятиугольник. Сперва он попробовал нажать на него — выступ не поддавался. Тогда он сделал попытку повернуть — что-то дрогнуло под его пальцами. Второв нажал сильнее — послышался тягучий скрип. «Ага! Пятиугольник поворачивается! Поставим его на место и возьмемся за квадраты». Квадратные выступы повернуть не удалось. Но, когда Второв со всей силы нажал на них, они поддались. — Средний выступ поворачивается, — сказал он, — а крайние действуют по принципу кнопки. — Десятки возможных комбинаций! — заметил Мельников. — Вы сами решили рассуждать так, как будто это сделано на Земле, — вмешался Зайцев. — Путь правильный! Мы не запираем входы на звездолет на манер несгораемых сейфов. Вряд ли и они это сделали. Ищите простое решение. Второв стал нажимать на квадраты, то на один, то на оба сразу, поворачивая пятиугольник в разные стороны. Тщетно! Дверь не открывалась. Выступы поддавались с большим трудом. Ему приходилось пускать в ход всю свою недюжинную силу. — Ничего не выходит! — сказал он, тяжело дыша. — Отдохните! А мы пока подумаем! — посоветовал Белопольский. Второв слышал, как члены экипажа обменивались мнениями. В обсуждении принимали участие — Как расположен средний выступ? — спросил Зайцев. — Это правильный пятиугольник. — Я спрашиваю, — как он расположен относительно пятиугольника двери? — Постойте! — воскликнул Второв. — Да, действительно, — прибавил он, внимательно вглядевшись в тонкую линию над своей головой, — они расположены несимметрично. — Попробуйте поставить их в симметричное положение. Оказалось, что средний выступ можно было повернуть на сто восемьдесят градусов. Как только маленький пятиугольник совпал по положению с большим, раздался негромкий звук, точно упало что-то металлическое. Второв отскочил назад. Но ничего не случилось. Дверь оставалась в прежнем положении. С сильно бьющимся сердцем инженер протянул руки к квадратам. Он почему-то был уверен, что на этот раз его ждет удача. Металлический звук доказывал, что, несмотря на прошедшее огромное время, механизм работал. Со всей силы он нажал на оба выступа. Над ним что-то мелькнуло. Второв инстинктивно пригнулся к земле. Полная тишина… Он поднял голову. Двери не было! На месте металлического пятиугольника он увидел что-то бледно-голубое, казавшееся прозрачным и нереальным. Точно газовая пленка заменила металл. Мельников, Князев и все, кто находился на звездолете, услышали отчаянный, как им показалось, крик Второва: — Свет! Свет! Теперь он видел! Видел ясно!.. Это «что-то» не было пленкой голубого газа! Перед ним находилось пятиугольное отверстие, из которого откуда-то из недр космического корабля, тысячи лет пролежавшего на Венере, исходил слабый, но несомненный голубой свет. Тусклые блики его лежали на стволах деревьев, на металлической поверхности трубы!.. Свет!.. Что же это?.. Разве может какой бы то ни было искусственный источник света просуществовать тысячи лет?.. Второв стоял и смотрел, не отвечая на градом сыпавшиеся на него вопросы товарищей. Он, пришел в себя, почувствовал прикосновение к плечу. Рядом был Мельников. Борис Николаевич, не отрываясь, смотрел вверх на таинственный и непонятный свет, бессознательно сжимая все сильнее плечо Второва. — Что это? — прошептал он. — Откуда? — Не знаю, — машинально ответил Второв. — Неужели не знаете? — послышался насмешливый голос Пайчадзе. — Скажите хотя бы, что вы видите. — Свет! — И что же? Мельников перевел дыхание и рассказал о непонятном явлении. Долго никто не отвечал ему. Наконец они услышали, как Белопольский произнес: — Несомненно… И снова молчание. — Ну что ж, — сказал Мельников, — дверь открыта. Войдем! Всего можно было ожидать на давно «умершем» корабле с неведомой планеты, но только не света — спутника жизни! Это было более чем непонятно, — это походило на чудо! — Войдем! — повторил Мельников, но в его голосе не слышно было обычной решительности. Второв молча приставил лестницу. Он видел, что Мельников — образец хладнокровия, мужества и воли, человек, по общему мнению, без нервов — колеблется и словно не может решиться поставить ногу на ступеньку. Молодой инженер внезапно осознал, что никакие силы не принудили бы его самого первым подняться по лестнице. Живое существо, будь оно самым чудовищным порождением фантазии, не заставило бы его отступить. Но этот «сверхъестественный» свет лишал его всякой власти над собой, сковал мозг непреодолимым чувством страха. Прошла минута… — Войдем! — в третий раз сказал Мельников и быстро поднялся к двери. Его согнутая фигура скрылась в отверстии, и тотчас же раздался его голос: — Идите скорее! Страх как-то сразу исчез. Второв поднялся за своим командиром. Отверстие было слишком мало для его роста, и пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Мельников стоял у самой двери. Второв выпрямился, взглянул и почувствовал, как у него закружилась голова. Что это было?.. Куда попали из темного леса Венеры два человека Земли?.. Казалось, тут не было ни пола, ни стен, ни потолка. Всюду было что-то неопределенное, не имеющее ясных очертаний, расплывчатое и… живое. Со всех сторон их окружало нечто, непрерывно меняющее свой цвет, переливаясь и дрожа всеми цветами радуги, создавая дикий хаос красок. И везде — наверху, внизу, по сторонам — шевелились причудливые разноцветные фигуры… людей — изломанные, исковерканные подобия человека, в немыслимых позах. Точно толпа призраков, уродливых и все время меняющих свою окраску, окружила их. Мельников поднял руку, словно защищаясь от этого зрелища, и тотчас же вся толпа призраков повторила его движение. — Это наши собственные отражения! — тихо и с видимым облегчением сказал он. Очевидно, стены, потолок и пол были зеркальные. Каждое движение его и Второва вызывало ответное движение, бесчисленное количество раз повторяющееся всюду, куда бы они ни посмотрели. Но почему эти отражения так изломаны, исковерканы?.. На середине, а может быть и у стены (они потеряли чувство перспективы и расстояния), непонятно на чем стояла каменная чаша — единственный реальный и неподвижный предмет в этом помещении — чаша точно такая же, какую видел Второв и которая разбилась тогда, на лесной просеке. По краям, они рассмотрели это, она была украшена изображениями тел простой кубической системы. Над чашей поднималось ровное бледно-голубое пламя. Такое пламя дает тонкая пленка горящего спирта. Это и был источник непонятного света.
— Константин Евгеньевич! — сказал Мельников так тихо, что его вряд ли могли услышать. Но на звездолете были мощные приемники. — Я слушаю тебя! — ответил Белопольский. — Каменная чаша! — Я ожидал этого. — Но в ней горит огонь! — В этом нет ничего невероятного. Тысячи лет должны были изгладить из памяти венериан искусственное пламя. Их чаши, очевидно, погасли совсем недавно. Относительно недавно, конечно. Но расскажите нам, что вы видите. Спокойный голос Белопольского окончательно привел в себя обоих разведчиков. Ничего «сверхъестественного» тут не было. Перед ними была химическая загадка — не больше. Тайну «вечного» огня раскроет наука. — Рассказать! Это не так просто! — ответил Мельников. — Лучше потом, когда вернемся. — Тогда мы иллюстрируем ваш рассказ фотоснимками, — прибавил Второв, вспомнив только сейчас о фотоаппарате. Они уже спокойно и более внимательно осмотрелись. Перекрещивающиеся отражения меняющих свой цвет стен, пола и потолка мешали глазам, но постепенно они как-то привыкли, и тогда смогли рассмотреть помещение. Оно оказалось, если не считать пола, круглым, из странной формы остроугольных граней, переплетающихся в непривычном узоре. Пол был ровным и как будто стеклянным. Чаша стояла, безусловно, на середине, но на чем она держалась, никак не удавалось рассмотреть. — Подойдем ближе! — нерешительно предложил Мельников. — Пожалуй, — еще более робко ответил Второв. Но ни один из них не двинулся с места. Мельников что-то обдумывал, а его товарищ не решался первый отойти от двери. Второв слышал, как Мельников пробормотал что-то насчет металлических стен. — Константин Евгеньевич! — сказал он громко. — Здесь нет никаких дверей внутри корабля. Но, может быть, мы их найдем. Стены звездолета металлические. Радиосвязь может прерваться. Если это случится, — не беспокойтесь! — Постараемся! — ответил за Белопольского Пайчадзе. — Но ручаться за успех не можем. — Осторожнее! — сказал Константин Евгеньевич. Мельников и Второв отошли от стены. Но, едва они сделали первый шаг, позади послышался негромкий звук — точно упало что-то металлическое. Оба испуганно обернулись. Двери не было! Там, где только что находился пятиугольник, сквозь который виднелся лес Венеры, разноцветно блестели остроугольные грани. Все слилось неразличимо! Где выход, — неизвестно!..
ИЗ ГЛУБИН ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Второв бросился на стену и больно ударился о какой-то острый выступ. Это привело его к сознанию действительности. Заперты!.. — Кто закрыл дверь? — Конечно, никто, — ответил Мельников, — она закрылась сама. Прошли тысячи лет, но механизмы работают исправно, как этот огонь в чаше. — Как же мы выйдем? — Не знаю! Может быть, совсем не выйдем. Я сам предупредил, что связь может прерваться. — Звездолет! — позвал Второв. Никакого ответа не последовало. — Эти стены из какого-то металла, — сказал Мельников, — нас не могут услышать. Пока что мы отрезаны от внешнего мира. Второву пора было привыкнуть к хладнокровию своего спутника. — Что же делать? — спросил он. — То, что хотели. Осматривать корабль. Вот только ни одной двери не… Он «споткнулся» на полуслове, изумленно глядя на стену. Совсем близко, как будто рядом с исчезнувшим входом, что-то странное и непонятное происходило с разноцветными гранями. Они стали быстро тускнеть, терять очертания. Обозначился пятиугольный контур, резко выделявшийся на стене, имевшей прежний вид. Вот уже внутри этого контура почти не видно граней — они исчезают, тают на глазах, превращаясь в пустоту. Еще момент — и перед ними оказалось пятиугольное отверстие. — Вот и дверь! — сказал Мельников. В первый раз Второв услышал дрожь в его голосе. — Куда девалась стена? — Кто может ответить на такой вопрос? Факт тот, что перед нами дверь внутрь корабля. Она открылась автоматически, как только закрылась наружная. Наклонившись, они заглянули в отверстие. За ним находилась радиальная труба, по которой они пришли сюда. Голубое пламя, горящее в чаше, отражалось на ее стенках длинными светлыми полосами. Противоположный конец трубы скрывался во мраке. — Наружная дверь закрылась, как только мы от нее отошли, — сказал Второв. — Да, одному из нас следовало остаться на пороге. Здесь автоматика иная, чем у нас. Она видит и действует самостоятельно. И самое поразительное, — она сохранилась в полной исправности тысячелетия. Этот корабль многому научит нас. — Мы сумели открыть дверь снаружи, — сказал Второв, — неужели не сумеем сделать это изнутри? — Если не мы, то наши товарищи откроют ее. Они знают, где мы находимся. Это шанс на спасение. — Перерыв связи заставит их поторопиться на помощь. — Вряд ли! Мы предупредили, что радиосвязь может прерваться. — Мельников внимательно посмотрел на Второва. — Неужели ты боишься, Геннадий? Молодой инженер покраснел. — Не знаю, — откровенно ответил он, — я не боялся, когда мы с вами сидели в кабине разломанного самолета. Но здесь… кажется, боюсь. — Что непонятно, то должно вызывать страх, — задумчиво сказал Мельников, — это верно. Однако, — прибавил он обычным тоном, — не будем терять времени. Они подошли к каменной чаше. Даже вблизи не видно было, на чем она стояла. Но не могла же чаша висеть в воздухе, без всякой опоры. Второв попробовал провести рукой под чашей. Его пальцы коснулись чего-то твердого, и он нервно отдернул руку. Мельников осторожно ощупал невидимую опору. Чаша стояла на чем-то, имевшем кубическую форму. Но это «что-то» было абсолютно невидимо, — непонятным образом застывший воздух. Они тщательно обследовали все помещение, имевшее в диаметре метров шесть. Только ощупью можно было определить его размеры. Перекрещивающиеся отражения уничтожали видимость расстояний. Толпа фантастических призраков — десятки Мельниковых и Второвых — в неестественных позах (прямо, боком и вверх ногами) при каждом их движении причудливо переплетались со всех сторон, извиваясь в какой-то дикой пляске. Второв старался не смотреть, но они отовсюду «лезли» в глаза. — Надо уйти отсюда, — сказал он наконец, — у меня кружится голова. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало на механизм двери, они не нашли. — Вероятно, он находится на центральном пульте управления, — сказал Мельников. — Здесь должен быть какой-то пульт. Да, — ответил он Второву, — надо уйти. У меня тоже кружится голова. Но я опасаюсь, что и эта дверь закроется, как только мы войдем в трубу. Логически должно быть так. — Давайте я войду один, а вы останетесь здесь. — А что из этого толку? Нет, лучше вместе. Они стояли перед загадочной «дверью», не решаясь войти. Здесь, в центре, было, конечно, безопаснее. Белопольский спустя некоторое время поймет, что разведчики попали в какую-то ловушку, и пришлет помощь. Как открывается наружная дверь, на звездолете знают. Но если они окажутся запертыми внутри корабля, то рискуют остаться там навсегда, — было совершенно неизвестно, удастся ли найти способ выбраться. «Что же делать? — думал Мельников. — Как поступить? Остаться здесь и ожидать товарищей? Но ведь все равно когда-нибудь придется пройти внутрь». Будь он один, он не колебался бы ни минуты. Но Второв! Ответственность за него лежала на Мельникове. Эх, была не была! В крайнем случае они сумеют прорезать стенку трубы или даже взорвать ее». — На всякий случай оставим записку, — сказал он. Кратко, но достаточно подробно описав все, что с ними произошло, Мельников положил записную книжку возле чаши, на невидимый постамент. Книжка казалась висящей в воздухе, и ее нельзя было не заметить сразу…. — Ну, теперь идем! Пятиугольное отверстие было той же величины, что и наружная дверь. Неизвестные звездоплаватели, очевидно, были небольшого роста. Мельников, нагнувшись, перешагнул порог. Второв последовал за ним. Они остановились сразу за дверью, тревожно наблюдая за ней. Закроется или нет?.. Дверь закрылась. Они увидели, как отверстие затянулось точно прозрачной газовой пленкой, сперва чуть заметной, но быстро густевшей. Потом как-то сразу, резким скачком только что бывшее перед ними отверстие исчезло. На его месте блестела гладкая, по-видимому металлическая, стена. Это было так странно, так необъяснимо, что несколько минут оба звездоплавателя смотрели на чудесную стену, не будучи в состоянии сказать хоть одно слово. Они задыхались от волнения. Только что на их глазах произошло явление совершенно неизвестное земной науке. Пустота, сквозь которую они свободно прошли, превратилась в металл! Высшей наукой — непонятной, загадочной — повеяло на них от этого феномена, который, несомненно, являлся только применением еще не известных им законов природы. — С этой стороны почему-то нет граней, — сказал, наконец, Мельников. — А вам не кажется странным, что мы ее видим? — спросил вдруг Второв. — Кого? — Стену. Здесь должно быть совсем темно. «В самом деле, — подумал Мельников, — почему мы видим?» Они потушили лампы на шлемах, когда вошли внутрь корабля. Голубой огонь чаши остался за стеной. Но стена была видна. Больше того! Они заметили свои тени, шевелившиеся на ней. Значит, за спиной свет! Мельников обернулся и вскрикнул. В его голосе были радость и удивление. В трех шагах труба, которую они видели из-за двери, идущей в темную даль, оканчивалась. Смутно виднелись деревья леса. Свет был светом дня, — очевидно, не таким слабым, как им казалось в лесу. Этот свет был достаточным, чтобы видеть внутри короткого отрезка трубы, непонятным образом заменившего целую трубу. Этот свет создавал тени. — Выход! — радостно вскричал Второв. — Нет! — сказал Мельников. — Это не выход. Смотри внимательнее! И Второв увидел. Неясная масса деревьев была по сторонам и сверху, но прямо впереди ее не было. Темная пустота уходила в глубь леса. Видимая труба оканчивалась в трех шагах, а дальше продолжалась труба, о существовании которой можно было догадываться, но не видеть ее. И все же это была та самая труба, по которой они пришли сюда. Только она стала, по неизвестной причине, абсолютно прозрачной, как пьедестал, на котором стояла чаша. Мельников подошел к «краю». Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы шагнуть дальше. Внизу, под ногами, он различал траву; казалось, что еще шаг, — и падение неизбежно. Но металлическая подошва его ботинка ступила на гладкий пол. Рука ощущала полукруглую стенку. Труба была тут, твердая, как и раньше. И невидимая!.. Они шли в полутора метрах над землей, как будто по воздуху. Ноги не слушались, хотя пол был ровным. Ходить, не видя по чему идешь, было не так просто. — Если бы кто-нибудь мог на нас посмотреть! — сказал Второв. — Странное зрелище! Два человека идут по воздуху. — Если труба прозрачна снаружи. — А разве может быть иначе? — Все возможно. Мельников включил лампу на шлеме. Луч света лег на металлическую стенку трубы. Они видели характерные блики, создаваемые светом на поверхности гладкого металла. Но одновременно они видели и то, что находилось за трубой. Это противоречие производило ошеломляющее впечатление. Как раз в этом месте вплотную к трубе росло дерево. До того, как зажегся свет, его было плохо видно, — черный контур ствола. Но и теперь дерево осталось таким же темным, хотя находилось в метре от их глаз, и на него должен был падать луч света. — Вот доказательство! — сказал Мельников. — Металл трубы прозрачен односторонне. Внешний свет проходит свободно, но внутренний не может пройти. Снаружи нас никто не смог бы увидеть. — Из этого материала мы будем строить стены домов, — сказал Второв, — когда узнаем, что это такое. Представляете себе, сколько света будет в таких домах, а снаружи ничего не видно. — Ты начинаешь фантазировать, Геннадий! — Раз мы попали в сказку из «Тысячи и одной ночи»… — Где-то здесь, — сказал Мельников, — должно быть внутреннее кольцо. — Да, оно недалеко. Половину трубы мы безусловно прошли. Они знали, какую форму имел весь этот странный корабль. В центре находилось шестиметровое ядро. Его окружали три трубы-кольца; одно в пятидесяти метрах, а два других, близко расположенных друг к другу, в ста метрах. Центр и кольца соединялись прямой трубой. Первое внутреннее кольцо должно было вот-вот показаться. «Если оно куда-нибудь не исчезло», — подумал Второв. Но кольцо оказалось на своем месте. Через несколько шагов они увидели его сквозь стенку трубы. И так же, как в начале — у ядра, так и теперь — в трех шагах от кольца, — труба перестала быть прозрачной. Но ничто не преградило путь. Там дальше опять виднелись прозрачные стенки. Радиальная труба проходила через внутреннее кольцо насквозь. — Тут должен быть вход. Лучи прожекторов освещали гладкие стенки. Никакого намека на скрытую дверь, никаких выступов или другого признака механизма. И снова проявилась непонятная и пугающая в своей таинственности техника космического корабля неведомой планеты. Словно кто-то разумный и внимательный наблюдал за ними, стерег каждый их шаг. — Тут должен быть вход, — сказал Мельников, протягивая руку к стене. И в ответ на это движение они увидели, что вход действительно существует. Часть металлической стены резко изменила свой вид. Сразу потускнели на ней блики света. Обозначился пятиугольный контур. Металл быстро «таял», превращаясь в пустоту. Словно обрадовавшись, лучи прожекторов рванулись вперед, внутрь кольца. Сверкнули какие-то длинные цилиндры — красные, зеленые, желтые. От двери в глубину шла узкая, как будто стеклянная, дорожка — странный, почти невидимый мостик. Куда он вел? Что находится там, в темной неизвестности?.. Второв внезапно схватил руку Мельникова. — Смотрите! — воскликнул он, указывая назад. Это было новым доказательством «разумности» автоматики, управлявшей дверями и стенами космического корабля. Прозрачная труба, по которой они только что пришли, не видя ее, превратилась в металлическую, потеряла прозрачность. Исчез лес Венеры. Плотную мглу рассеивал только свет их прожекторов, скользивший по стенкам длинными светлыми полосами. И там, по ту сторону кольца, невидимая труба превратилась в видимую. — Какая-то чертовщина! — сказал Второв. — Стенки трубы становятся прозрачными, когда в ней кто-нибудь находится, — задумчиво произнес Мельников. — Двери открываются, когда к ним кто-нибудь подходит. Соединение техники телевидения с автоматикой «мыслящих» машин вполне может справиться с такой задачей. Лет пятьдесят тому назад это могло показаться «чертовщиной», но сейчас… — Этак мы можем, сами того не подозревая, пустить в ход двигатели корабля. Мельников вздрогнул. — Ты прав, Геннадий! Надо быть очень осторожными. Попробуй пойти обратно к центру. А я останусь здесь. Увидим, что произойдет. Произошло то, чего и ждал Мельников. Едва Второв сделал три шага в сторону центра и вышел за края кольца, стенки трубы стали опять прозрачны. Это случилось почти мгновенно. Было ясно, что тысячелетняя автоматика работает с поразительной точностью, реагирует на каждое движение. Создавалась грозная опасность. Кто были хозяева этого корабля? Каков был их умственный уровень? Не приходилось сомневаться, что неизвестные звездоплаватели стояли на очень высокой ступени развития. Но, может быть, эта ступень была слишком высокой? Может быть, человек Земли не в силах понять то, что для них было просто и естественно? Малейшая неосторожность могла привести к совершенно непредвиденным последствиям. Ни Мельников, ни Второв не имели никакого представления о принципах работы автоматики корабля; они блуждали по нему «с завязанными глазами». Точно в таком же положении мог оказаться человек, не имеющий специальных знаний, очутившийся в полном одиночестве на пульте управления современной атомной электростанции и вздумавший наугад поворачивать ручки и нажимать непонятные ему кнопки. Второв вернулся обратно. Как и следовало ожидать, труба снова потеряла прозрачность. Они стояли перед пятиугольной дверью, не решаясь пройти туда, где казавшийся хрупким «стеклянный» мостик уходил вдаль, окруженный разноцветными цилиндрами неизвестного назначения. — Может быть, благоразумнее вернуться? — спросил Второв. — Дверь в центр закрыта. — Она, вероятно, откроется, когда мы к ней подойдем. — Это вполне возможно. Но раз мы рискнули прийти сюда, — пойдем дальше. Только не надо делать никаких жестов и ни до чего дотрагиваться. «Разве не может быть так, что на этом корабле все приводится в действие автоматикой, реагирующей на жесты? — думал Мельников. — Двери, прозрачность стен, двигатели. А может быть, и еще что-нибудь, о чем мы даже не подозреваем. Мы не знаем, какие жесты могли делать существа, о внешнем облике которых ничего не известно. Я протянул руку к стене — и открылась дверь. Это произошло здесь. Но, может быть, в другом месте движение моей руки приведет к пуску двигателей — и корабль вдруг поднимется. Никакие деревья, как бы крепко они ни срослись друг с другом, не удержат звездолет и будут сорваны, как бумажные. Мы рискуем улететь с Венеры, не умея управлять кораблем». Но, думая так, он внешне спокойно ступил на мостик. Казавшийся стеклянным, он заметно прогнулся, когда Второв вслед за Мельниковым ступил на него. Не было никаких перил. Узкая, не шире тридцати сантиметров, прозрачная полоска висела в воздухе примерно на середине кольцевой трубы. На чем она держалась, было неизвестно, — как будто ни на чем. — Вернись! — отрывисто сказал Мельников, каждую секунду ожидая, что мостик сломается. — Некуда! — ответил Второв. Действительно, дверь позади них уже закрылась. Круглая стена казалась сплошной — никаких следов пятиугольного отверстия. — Протяни к ней руку! Второв повиновался. Но жест, который с той стороны привел к появлению двери, на этот раз не оказал никакого действия. — Стой на месте! Мельников осторожно сделал шаг вперед. И вдруг… Неяркий, странно голубой свет озарил внутренность трубы. Казалось, что воздух внезапно получил способность светиться; источника света нигде не было видно. Мельников замер. Второв боялся дышать. Оба стояли неподвижно, как статуи. Голубой свет физически ощутимо обволакивал их со всех сторон, как легкая дымка тумана. Они не видели ни одной тени. Свет не имел направления, он был повсюду, в самом воздухе. Таинственные цилиндры странно изменили свой цвет — красные стали фиолетовыми, желтые — зелеными, а те, которые раньше были бледно-зелеными, теперь стали бирюзовыми. Мостик совсем исчез из глаз, словно растворившись в светящемся воздухе. И вот они почувствовали едва уловимый незнакомый им запах. Воздух космического корабля проходил через фильтры противогазов и, смешиваясь с земным кислородом, проникал в их легкие. Мысль о возможном отравлении этим чужим воздухом заставила их вздрогнуть. Это не был воздух Венеры, — они не слышали раньше этого запаха, — это был воздух какой-то другой планеты, откуда прилетел корабль, и который тысячи лет находился в замкнутом пространстве кольцевой трубы. Было вполне возможно, что он смертелен для человека Земли. «Бежать!» — подумал Второв. Но бежать было некуда. Выход был отрезан сомкнувшейся за ними стеной. Как открыть его, как заставить появиться пятиугольное отверстие, они не знали. Кругом лежали загадочные цилиндры; длинные, окрашенные в различные цвета. Между ними, неизвестно как державшаяся в воздухе, проходила узкая дорожка, которую почти невозможно было увидеть, — в голубом свете она стала какой-то нереальной. Метрах в сорока впереди дорожка исчезала за поворотом, плавно загибаясь влево вместе со всей трубой. Мельников машинально потушил лампу на шлеме. Симптомы отравления не появлялись, но если бы они даже и появились, отступать было некуда. — Будь, что будет! — сказал он. — Вперед, Геннадий! Он пошел по дорожке, балансируя плечами, чтобы сохранить равновесие на почти невидимом пути. Пошевелить руками он не решался. Второв пропустил его вперед на десять шагов и в свою очередь отошел от стены. Мостик упруго сгибался под их тяжестью. Его прозрачный материал был, очевидно, прочен, хотя и не рассчитан на земного человека. Неизвестные звездоплаватели, если судить по дверям, были маленького роста и, вероятно, весили немного. Сразу за поворотом они увидели, что трубу снова перегораживает круглая стена. От первой ее отделяло метров шестьдесят. — Похоже, что труба разделена на пять отсеков, — сказал Мельников. — Так и должно быть на космическом корабле. — Похоже, что мы заперты здесь с двух сторон, — ответил Второв. — Посмотрим! Но, еще не дойдя до стены, они поняли, что опасения напрасны. Невидимый глаз зорко следил за ними. Отсутствующие хозяева корабля «гостеприимно» принимали незваных гостей — людей другой планеты. Загадочная автоматика снова начала свою работу. На стене резко выступил уже знакомый пятиугольный контур. Быстро потускнел блестящий металл, «растворился», «растаял» и исчез. Открылось взору темное, без света помещение — второй отсек кольцевой трубы. Но, как только Мельников, шедший впереди, перешагнул порог, повторился прежний феномен — голубым светом вспыхнул воздух. А там позади, в оставленном ими помещении, воздух «погас». Дверь за Второвым сразу закрылась. Второй отсек был точным повторением первого. Так же шла ни к чему не прикрепленная «стеклянная» дорожка, такие же цилиндры лежали кругом. Все было точно таким же. — Вероятно, это машинные залы, — сказал Мельников. — Возможно, что все внутреннее кольцо занято механизмами. — Пойдем назад? — А как открыть двери? Нет, лучше обойти всю трубу. Может быть, по ней можно ходить только в одном направлении. Через шестьдесят метров перед ними снова встала глухая стена. Подходя к ней, они были уверены, что и на этот раз откроется дверь. Но отверстие не появлялось. Мельников попробовал протянуть руку. Никакого действия. — Что случилось? — недоуменно сказал он. — Или автомат испортился? — Пойдем назад. — Но ведь и там дверь закрыта. Они стояли, не зная что предпринять. Дверь в радиальную трубу не открывалась, — они уже пробовали ее открыть. А здесь, казалось, и не было никакой двери. Глубокая тишина окружала их. Светящийся туман беззвучно и мягко обволакивал разноцветные цилиндры и двух людей, беспомощно стоявших на узкой полоске прозрачного «стекла». Что-то неотвратимое неумолимо приближалось, как возмездие за их дерзкое вторжение. Они молчали, инстинктивно прислушиваясь. Слуховые аппараты их шлемов восприняли бы малейший шорох, но, кроме дыхания товарища, ни тот, ни другой ничего не слышали. Да и откуда могли бы взяться звуки жизни на «мертвом» звездолете? Может быть, там, где помещались чудесные, автоматы, обладающие «зрением» и «разумом», проявилась бы каким-нибудь звуком их загадочно сохранившаяся жизнь. Но здесь царила полная тишина. Что-то приближалось, неотвратимое и грозное… Что они могли предпринять для своего спасения?.. И вот, когда оба человека поняли, что только другие, оставшиеся на свободе люди могут прийти к ним на помощь, ЭТО случилось. Если бы не свидетельство фотоаппарата, которым успел воспользоваться Второв, они сами усомнились бы, что действительно видели непонятное явление. Но беспристрастный и точный объектив навсегда зафиксировал невероятную картину. Желто-серая стена, закрывавшая им дорогу, внезапно исчезла. Исчезла сразу вся целиком. Но то, что находилось за ней, по-прежнему оставалось невидным. Там, где только что был металл, на краю «стеклянного» мостика, дрожали синими искрами перекрещивающиеся полосы, точно сетка, из хрустальных нитей, бездонная глубина которой там, дальше, переходила в темно-синий мрак. И в двух шагах ошеломленные люди Земли увидели… человека другой планеты — хозяина этого странного и непонятного корабля. Он стоял прямо перед ними и, казалось, смотрел на них. Окруженный искрящимся ореолом синих нитей, он выглядел вполне реально и казался живым человеком, из плоти и крови. Маленького роста, стройный и хрупкий, во всем подобный человеку Земли, с густой белой бородой и длинными, тоже белыми волосами, он был одет в плотно облегающий тело темно-синий костюм, похожий на трико гимнастов. Тонкая серебряная (по цвету) цепочка висела на его шее. Только секунду, не больше, и он и люди стояли неподвижно. За спиной Мельникова послышался щелчок затвора фотоаппарата — он понял, что Второв сфотографировал незнакомца. Медленным, плавным движением таинственный хозяин протянул вперед руки, словно приветствуя людей Земли.
И тогда оба звездоплавателя поняли, что перед ними не человек, а чудесное явление человека, — вероятно, давно умершего. Хрустальные нити насквозь пронизывали его тело и руки. Движения были чуть заметны, но несомненно прерывисты. И они поняли смысл того, что произошло перед ними. Неведомые хозяева корабля давно, тысячи лет тому назад, предвидели их приход, подготовились к нему и с помощью своей совершенной техники приветствуют их. Перед ними была ожившая тень далекого прошлого. И тень заговорила. Послышался певучий звук, точно песня, исполняемая в медленном темпе. Глубоко потрясенные люди слушали голос уже не существующего жителя другой планеты, приветственные слова старшего брата, обращенные к тем, кого он не знал, но в приход которых верил тысячи лет тому назад. Голос смолк. Словно растаяв, исчез призрак. В стремительной быстроте перекрещивающихся нитей загустел и слился в плотную завесу синий мрак. И снова глухая стена отливает желто-серым блеском. Будто никогда не было сказочного видения. И словно для того, чтобы люди не усомнились в значении только что виденного, «гостеприимно» раскрылась дверь в следующий отсек. Он был освещен тем же неярким голубым светом. Там не было ни цилиндров, ни «стеклянного» мостика. Совсем другая обстановка предстала их глазам. — Из глуби тысячелетий, — сказал Мельников, — первые люди, посетившие Венеру, передали нам свой братский привет. Мы не знаем, как и почему они погибли здесь, не вернулись на свою родину. Но мы должны это узнать и узнаем. Мы их наследники!
ПЯТАЯ ПЛАНЕТА
Наука Земли достигла огромной высоты. С этой высоты она видит далеко. И она «видит» бесконечное число обитаемых миров, населенных, как и Земля, разумными существами, идущими по тому же пути медленного, постепенного, но неуклонного развития. Мыслящий разум идет вперед и вверх. И по мере подъема перед ним открываются все более и более обширные горизонты. Нельзя себе представить широкое развитие разума без такого же широкого взгляда на мир. И в первую очередь это относится к взгляду на жизнь как на явление не местного, а вселенного масштаба. Смерть человека не прекращает жизни человечества. Но и смерть человечества не может прекратить жизни на других мирах. И если бы (допустим на минуту) исчезла жизнь во всей видимой нами вселенной жизнь осталась бы там, куда не может (пока не может) проникнуть взгляд человека. Было время, когда солнечная система имела не девять, а десять планет. Между Марсом и Юпитером находилась пятая планета. Но она погибла. Как и почему погибла, никто не знает. Но то, что неизвестно сегодня, станет известным завтра. Обитатели пятой планеты исчезли с лица вселенной. Но их мысль, прошедшая, как и везде, долгий и трудный путь развития, была уже достаточно могучей, чтобы дать знать другим мирам, другим разумным существам, что она существовала когда-то. Обитатели погибшей планеты умели строить космические корабли и смогли покинуть свою гибнущую родину. Присутствие на Венере их корабля свидетельствовало, что они это сделали. Был ли этот корабль единственным? Куда улетели другие, спасая от гибели своих хозяев? Где нашли приют осиротевшие люди? Когда-нибудь и это станет известным. Но один корабль достиг Венеры и теперь был на ней найден. Те, кто находились в нем, хорошо знали, что их планета не единственный, населенный разумными существами мир. Они верили, что рано или поздно на Венере появятся жители других планет. Они знали, что их звездолет просуществует тысячи лет. Они верили, что разум неизвестных им звездоплавателей будет подобен их собственному. И, зная это, веря в это, они подготовились к приходу тех, кто получит оставленное ими наследство знаний, расширит и разовьет его дальше, в бесконечной последовательности развития мыслящего разума. Знания и техника передаются не только из поколения в поколение на одной планете. Они могут переходить с планеты на планету, осуществляя на практике великое братство мыслящих существ. Те, кто прилетели на Венеру в кольцевом корабле, знали это.* * *
Первое, что увидели Мельников и Второв, войдя в третий отсек звездолета, была схема солнечной системы, висевшая на стене прямо напротив входа. Это был большой лист голубоватой бумаги или чего-то, очень похожего на бумагу. Оба звездоплавателя сразу заметили особенность этой схемы, отличающую ее от аналогичных схем земной астрономии. И они поняли, что схема повешена тут специально для них, — для тех, кто войдет внутрь космического корабля через тысячи лет после смерти последнего из членов его экипажа. Это было первое указание на оказавшееся огромным наследство, оставленное им наукой другой планеты, исчезнувшей с лица вселенной. На схеме было десять орбит планет солнечной системы. Десять, а не девять! Каждая планета была изображена маленьким кружком, с соблюдением их относительных размеров и орбитами спутников. Мельников и Второв еще от двери увидели «лишнюю» планету и все поняли. — Вот, наконец, бесспорное доказательство, что пятая планета действительно существовала, — сказал Мельников. — И они прилетели с нее. — В нашей астрономии ее, кажется, называют «Фаэтоном»? — спросил Второв. — Да, такое название существует. Они подошли ближе. Отсек был гораздо короче двух предыдущих, метров пятнадцати в длину. От волнения и любопытства они не обратили никакого внимания на его странную обстановку и даже не заметили, что дверь за ними закрылась. Открытие пятой планеты поглотило все их внимание. Это была новость огромного значения для науки. Вблизи они заметили, что, кроме орбит планет, на схеме изображены гораздо слабее три орбиты астероидов. Схема оказалась не бумажной, а чем-то вроде цветного плексигласа. И она не висела на стене, а находилась перед ней, как будто ничем и никак не прикрепленная. И вот тут-то они и стали свидетелями самого замечательного явления, самого удивительного и самого важного из всего, что успели увидеть на звездолете. Из тьмы веков хозяева корабля «рассказали» им все, что случилось с ними на Венере и раньше. Это было новым доказательством продуманности, с которой они готовились к приходу людей другой планеты, свидетельством их стремления оставить после себя как можно более полные сведения. Заранее настроенные и отрегулированные автоматы «провели» гостей прямо сюда, в это помещение. Никуда больше они не могли пройти, потому что двери не открылись бы перед ними. Это стало совершенно ясно, когда все окончилось. И здесь они должны были «выслушать» короткий, но достаточно полный рассказ, чтобы понять многое из того, что до сих пор было покрыто мраком тайны. А то, что все-таки осталось непонятным, должно было проясниться впоследствии, так как им ясно указали, где искать ключ к тайнам. Хозяева корабля предусмотрели всё!..* * *
Сначала «ожила» схема. Медленно двинулись с места и поплыли по своиморбитам кружки планет и их спутников. Находящееся в центре изображение Солнца засверкало, как маленький бриллиант. Вместе со всеми пришел в движение и Фаэтон. Возле него обращался крохотный спутник. И вдруг от пятой планеты отделилась маленькая блестящая точка. На мгновение она увеличилась в размерах и превратилась в три кольца, соединенных прямой линией. Это было изображение звездолета, на котором Мельников и Второв сейчас находились. Превратившись опять в точку, звездолет подошел к Марсу, на секунду слился с ним и двинулся дальше, к Земле. Демонстрировался путь звездолета, совершившего в баснословном прошлом космический рейс. И вот, когда точка слилась с изображением Земли, что ясно показывало приземление, на месте, где находился Фаэтон, вспыхнуло яркое пламя, точно загорелся магний. Ослепительная вспышка сразу погасла, но Фаэтона больше не было на схеме. Не было и его спутника. По орбите планеты побежали один за другим крохотные огоньки. Потом они погасли, и сразу выделились орбиты астероидов. У Мельникова и Второва буквально захватило дух. Только что перед их глазами произошла «катастрофа», уничтожившая пятую планету, раскрылась предполагаемая многими астрономами тайна появления астероидов в солнечной системе. Они были «свидетелями» трагической судьбы экипажа звездолета, несомненно видевшего картину гибели своей родины. Что же дальше случилось с ними? Отчего погиб Фаэтон? Что вызвало страшную катастрофу?.. Демонстрация продолжалась. Точка «звездолета» отделилась от Земли и направилась к одному из обломков планеты. Обойдя его кругом, направилась ко второму, затем к третьему. Немая, но такая красноречивая картина! Двоим людям казалось, что они видят лица экипажа корабля, глаза, полные слез, устремленные на то, что осталось от родной планеты, от всего, что они оставили на ней, улетая в рейс. Может быть, каждый из них с острой болью сознавал, что никогда больше не увидит родных и близких людей, что никогда не ступит на родную землю. Нет родины, нет близких; одни во всей вселенной, на маленьком корабле, без надежды и без цели. Какая страшная участь! «Звездолет» направился к Венере и слился с ней. Схема «погасла». Перед двумя людьми был гладкий и пустой лист «плексигласа». И снова все повторилось с начала, в той же последовательности. На этот раз Второв не забыл воспользоваться фотоаппаратом. Снимок за снимком, он израсходовал всю пленку и с лихорадочной быстротой заменил ее новой. Каждое мгновение можно было ожидать появления еще чего-нибудь. Он жалел, что не захватил с собой кинокамеру. И «что-нибудь» не замедлило появиться. Они поняли, что сейчас произойдет, когда лист «плексигласа» вдруг исчез, а в образовавшемся пустом пространстве появилось лицо фаэтонца. Начался рассказ о космическом рейсе последних людей погибшей планеты. Не только Мельников, но и Второв — специалист кинематографии — не смогли потом объяснить, что это было, как была снята и продемонстрирована им эта удивительная картина. Впрочем, рассказывать о ней мог один Мельников. Второв за все тридцать минут демонстрации ни разу не оторвал глаза от видоискателя фотоаппарата и почти ничего не запомнил. Пять раз он менял пленку, проделывая это с непостижимой быстротой. «Картина» шла при голубом свете, заливающем отсек, но это не мешало хорошо видеть. Она была объемной и цветной. Без экрана, на месте, где был лист, казавшийся пустым, возникали один за другим и исчезали ее кадры, поразительно реальные, точно куски подлинной жизни, силой разума воскрешенные через тысячи лет после того, как ушли из нее последние участники показываемых событий. «Рассказ» не был связным и законченным произведением. Скорее всего это были отдельные куски, снятые без определенного плана, своеобразные путевые наброски. Несколько дней спустя Мельников высказал предположение, что фаэтонцы сначала не собирались показывать эту картину людям другой планеты, а снимали ее для себя. Только потом они решили оставить ее в наследство будущим людям. Многое из того, что было загадочным и непонятным не только на Венере, но и на Арсене, получило, наконец, достоверное объяснение. Сначала появилась во весь экран голова фаэтонца. Это был не тот, который приветствовал их у входа в отсек, а очевидно, его товарищ. Густая белая борода и длинные, тоже белые, волосы обрамляли его своеобразно красивое лицо с огромными, раз в пять больше, чем у человека Земли, бледно-голубыми глазами, тонким носом и узкими губами. Глубокие морщины покрывали лоб и щеки. Он явно был в преклонном возрасте. Мельников вспомнил, что первый фаэтонец тоже был далеко не молод. Но было трудно, почти невозможно предположить, что экипаж космического корабля составляли исключительно старики. Самым вероятным было, что эти люди, лишившиеся родины, долгие годы жили на Венере и состарились на ней. Последующие кадры подтвердили правильность этой догадки. Фаэтонец произнес несколько слов. Люди снова услышали певучие звуки неведомого языка. Потом голова исчезла и появилась уже виденная два раза схема солнечной системы. Вероятно, она была сделана способом мультипликации. Желто-серый «звездолет» перелетел с Фаэтона на Марс. И вот, точно через открытое окно, Мельников увидел хорошо ему знакомую картину марсианской пустыни. За тысячи лет она нисколько не изменилась. Те же растения, те же озера, то же фиолетово-синее небо с Солнцем и звездами. На берегу одного из озер лежал на земле кольцевой корабль. Возле него ходили фаэтонцы, стояли какие-то странные аппараты — не то автомобили, не то самолеты. Один из членов экипажа подошел к самому «окну», и можно было хорошо рассмотреть молодое энергичное лицо маленького и на вид хрупкого человека. На нем был костюм с прозрачным шлемом, очень похожий на их собственные противогазовые костюмы. Судя по количеству времени, которое заняло демонстрирование пребывания на Марсе, фаэтонцы были там недолго. Снова появилась схема, и «звездолет», покинув Марс, направился к одному из астероидов. Они увидели такую же дикую картину, как на Арсене — хаос скал, пропастей и ущелий. Второй астероид оказался точно таким же. Ни на первом, ни на втором фаэтонцы, видимо, не опускались. Снимки производились с борта корабля, в полете. Но вот на «экране» хорошо знакомая, круглая котловина Арсены. На этот раз фаэтонцы опустились и вышли из корабля. Появились непонятной конструкции сложные машины. Они ломали скалы, обтачивали их и устанавливали на искусственно выровненном дне. Машины работали как будто самостоятельно, никого из фаэтонцев возле них не было. Появилась странная постройка — огромный квадрат с гранитными изображениями тел простой кубической системы.

Зачем же ее поставили на диком и необитаемом астероиде? «Фильм» дал ответ на этот вопрос. Под каждой из гранитных фигур был замурован металлический ящик. Гипотеза, высказанная Белопольским, сразу же после отлета с Арсены блестяще подтвердилась. Там, на куске Фаэтона был оставлен для людей огромный научный клад. Там, под символическими фигурами, пока еще не понятными, спрятаны на долгие века сокровища знаний и техники исчезнувшего мира. Их предстояло найти, извлечь, понять и изучить. Не зная, что ожидает их на Венере, фаэтонцы приняли меры к сохранению своего «архива». Мельников подумал, что лучший сейф трудно было найти. А затем перед двумя людьми появились пейзажи Венеры. Они увидели, как из кольцевого корабля, лежавшего на берегу озера, того самого, где стоял сейчас «СССР-КС 3» вышли восемь фаэтонцев — все молодые, без бород, одетые в защитные костюмы. Это доказывало, что воздух Венеры был им так же чужд, как и человеку Земли. Леса, который окружал теперь звездолет, тогда не было. От озера до гор расстилалась равнина, покрытая высокой и густой травой желто-коричневого цвета. Звездолет провел на Венере на одном и том же месте очень долгое время. Это было видно по лицам его экипажа, становившимся все более и более старыми. Отросли бороды, сначала золотисто-желтые, потом седые. Фаэтонцы путешествовали по планете на странных экипажах, напоминавших автомобиль и самолет одновременно. Люди увидели, как умер первый член экипажа, присутствовали на его похоронах. Разъяснилась еще одна тайна. Тело умершего положили в каменную чашу. Вспыхнуло пламя и полностью уничтожило труп. Потом они видели, как таким же способом хоронили и других. Число фаэтонцев уменьшалось. Чаша потухала после каждой погребальной церемонии. Ее тушили, но, как это делалось, они не видели. И оба внезапно поняли, почему пламя горит в чаше теперь. Его некому было потушить. Последний фаэтонец СЖЕГ САМ СЕБЯ! Пламя его могилы встретило их на пороге звездолета последним приветом из глуби тысячелетий, символом горящего светильника вечно живущего разума! Большая половина «фильма» была посвящена Венере. И одна за другой раскрылись ее загадки. Фаэтонцы научили венериан выращивать светящиеся деревья, родиной которых, по-видимому, был Фаэтон. Они построили плотины на этой и на других реках и научили венериан сплаву леса. Они снабдили их многими инструментами, в том числе линейками, которые одни остались в пользовании венериан. Все остальное было забыто или утеряно впоследствии. Они помогли построить город в пещере. Они научили ловить и дрессировать «черепах», превращать их в домашних животных, для тяжелых работ. И было ясно, что фаэтонцы говорили с венерианами на их языке, пользуясь для этого какими-то аппаратами с наушниками. Венериане потеряли большую часть того, чем снабдили их фаэтонцы. Осталось ничтожно мало — жалкие намеки на огромную и кропотливую работу, проделанную пришельцами с другой планеты. Но могло ли быть иначе? Слишком кратковременно было пребывание на Венере фаэтонцев. Семена, посеянные ими, не проросли полностью. В заключение «фильма» были ясно и просто показаны способы открывать двери на звездолете. Предположение Мельникова, что они реагируют на жесты, не подтвердилось. Существовали кнопки, и было показано, где их искать. То, что пятиугольные отверстия открывались как будто сами собой, было результатом подготовки фаэтонцев к приходу людей; их «провели» по кораблю заранее намеченным путем. Все было продумано и предусмотрено. А когда промелькнул и исчез последний «кадр», «картина» пошла снова с самого начала. Очевидно, хозяева корабля предполагали, что неизвестные им зрители могут не успеть запомнить и понять с одного раза. Но Мельников и Второв не стали смотреть «картину» еще раз, хотя охотно бы это сделали. Они торопились на звездолет, чтобы рассказать обо всем, что видели. Может быть, Белопольский захочет сам посетить корабль Фаэтона. Времени было мало. До вынужденного отлета с Венеры оставалось немногим больше двадцати двух часов. Руководствуясь только что полученными указаниями, они прошли тем же путем обратно в центр, где по-прежнему горело голубое пламя и разноцветно переливались, отражаясь друг в друге, остроугольные грани стен. Оба, не сговариваясь, поклонились каменной чаше и горевшему в ней огню — могиле последнего человека погибшего Фаэтона, старшего брата человека Земли. Мельников снял с невидимого постамента свою записную книжку. Если бы он знал, чт представляет собой эта чаша, то никогда не положил бы ее сюда. Он протянул руку к незаметной кнопке, чтобы открыть наружную дверь, но она вдруг исчезла. В первое мгновение они подумали, что это прощальная «любезность» хозяев корабля, но по ту сторону пятиугольного отверстия увидели Пайчадзе и Коржевского. Обеспокоенные продолжительным молчанием разведчиков, товарищи пришли им на помощь. Именно они открыли дверь, намереваясь войти на корабль. — Что вы видели? — в один голос спросили оба. — Слишком долго и сложно рассказывать сейчас, — ответил Мельников. — Подождите, когда вернемся на корабль. — А можно нам пройти внутрь? — Лучше не делать этого. Мы слышали какой-то незнакомый запах. Там воздух не Венеры. Если отравились мы оба, то незачем еще и вам подвергаться неизвестной опасности. Белопольский, выслушав соображения Мельникова, согласился с ним и приказал возвращаться на звездолет.
* * *
— У меня нет никаких сомнений, что фаэтонцы говорили с венерианами, — закончил свой рассказ Мельников, — с помощью какого-то аппарата. К сожалению, нет никаких указаний, что это за аппарат. — Я могу объяснить, — сказал Топорков. — Такой же или, во всяком случае похожий аппарат изготовлен мною и Константином Васильевичем. Венериане говорят ультразвуком, и потому мы их не слышим. Чтобы говорить с ними, нужен трансформатор звука. Как я сказал, он готов. Аппарат трансформирует ультразвук в частоту, воспринимаемую нашим ухом. Если бы не авария с двигателями, мы ночью услышали бы их речь. — Но как вы догадались? — спросил Белопольский. — Не будучи биологом? — улыбнулся Игорь Дмитриевич. — Догадался, как видите. Мне помог случай. Когда вы вернулись к нам со дна озера, я следил по экрану за венерианами и вдруг заметил на экране стоявшего рядом звукового локатора какие-то линии. Они возникали каждый раз, когда венериане пытались что-то объяснить жестами. Локатор что-то «слышал». Вы знаете, — он работает на ультразвуке. Тогда и мелькнула эта догадка. Потом я проверил ее у порогов, во время работы венериан. Удалось даже установить, что ультразвук издают только сами венериане, а «черепахи» нет. Частота их голоса находится на самом пороге слышимой нами полосы частот. Константин Васильевич помог мне, и вот аппарат к вашим услугам, но, увы, он бесполезен. — Вы сделали большое дело, — сказал Белопольский. — Не нам, так следующей экспедиции такой аппарат очень пригодится. Если люди услышат венериан, то изучить их язык — вопрос времени. Фаэтонцы смогли это сделать, сможем и мы. Жаль, конечно, что не удастся испробовать ваш аппарат теперь же. Действительно, рассчитывать на встречу с венерианами днем не приходилось. Было ясно, что они, да и не только они, не появляются на поверхности Венеры в дневное время. Коржевский, Князев и Второв видели в лесу каких-то живых существ, по всей видимости животных. Не могли венериане — «люди» планеты — быть единственными сухопутными обитателями Венеры. Вероятно, население сестры Земли было разнообразно и обширно. Но все они скрывались днем в своих убежищах, и ни одного нельзя было увидеть в светлое и жаркое время суток. — Следующей экспедиции придется работать почти исключительно ночью, — сказал Коржевский. 7 августа в точно назначенное время звездолет взял свой последний старт. С семью двигателями он был уже не тем кораблем, каким вылетел с земного ракетодрома. Предстояло долгие восемь месяцев томиться среди его металлических стенок. Венера жестоко расправилась с непрошеными гостями. Она отняла одного из членов экипажа и едва не погубила остальных. Но самое главное было сделано, — тайна жизни на сестре Земли раскрылась. Это было достаточной наградой за понесенные жертвы. Белопольский не разрешил никому вторично посетить корабль фаэтонцев. — Лучше всего, — сказал он, — оставить его в покое до следующей экспедиции. Он никуда не денется. Здесь нужны крупные технические специалисты. Против этого нечего было возразить. Космический корабль пятой планеты представлял собой техническую загадку колоссальной трудности. Никто не знал, где расположены его двигатели, что они такое, какие силы приводят их в действие, как устроена система управления и, самое главное, что надо сделать, чтобы двигатели заработали. А в том, что они могут работать, сомневаться было нельзя. Техника звездолета, очевидно, была в полной исправности. Доктор Андреев тщательно обследовал обоих разведчиков и не нашел никаких признаков отравления воздухом корабля. По-видимому, его состав был безвреден для людей Земли. Он не допускал, чтобы какие-нибудь бактерии могли уцелеть тысячи лет. Но, конечно, нельзя было ручаться, что эти признаки не появятся спустя некоторое время. И все восемь месяцев Мельников и Второв подвергались систематическим обследованиям. Но все обошлось благополучно.
Через двести пятьдесят дней после старта с Венеры «СССР-КС 3» опустился на ракетодроме, с опозданием, больше чем на полгода, против намеченного срока. Очередная вылазка науки в космос окончилась…
* * *
Автор вынужден на этом закончить свой рассказ. Объем книги не позволяет ему продолжать его. Он знает, что оставляет без ответа ряд законных вопросов — о Венере и ее жителях, о пятой планете и причине ее гибели, о кладе, оставленном фаэтонцами на Арсене. Что же такое Фаэтон? Был ли он на самом деле? Астрономы, правда не все, считают, что был, что пояс малых планет между орбитами Марса и Юпитера образовался после распада Фаэтона от неизвестной причины. Почему же он погиб и когда? Этого никто не знает. Автор вправе отнести его гибель к любому времени, в интересах фабулы своего рассказа. Такая вольность допустима в фантастическом произведении. Но раз уж автор допустил, что Фаэтон существовал и даже был населен высокоразумными обитателями, он обязан иметь какую-то гипотезу о причинах его гибели. Автор имеет такую гипотезу. О ней, а также обо всем, что осталось неясным для читателя, он намерен рассказать в следующей книге.
ПОСЛЕДНИЕ ИЗ СТРАНДЛООПЕРОВ
Роман Фенимора Купера «Последний из могикан» прославил мужество и благородство последнего представителя одного из индейских племен, истребленных колонизаторами. И поэтому могикан помнят миллионы людей, миллионы ребят во всем мире. А сколько есть других индейских и неиндейских племен, тоже уничтоженных колонизаторами, о которых никто не знает и не помнит! Сколько других племен обречены на вымирание колониальной системой! Одно из этих племен — страндлооперы, которые наряду с готентотами и бушменами принадлежат к числу древнейших обитателей Южной Африки. Хотя страндлооперы живут в Юго-западной Африке — стране, известной европейцам уже несколько сот лет, очень немногим путешественникам удалось повидать их. На языке африканеров (буров — потомков первых европейских колонистов в Южной Африке) «страндлоопер» значит: «житель побережья». Казалось бы, живя на побережье, страндлооперы должны были издавна вступить в более тесные отношения с колонистами, нежели племена, населяющие внутренние области страны. Но побережье побережью рознь. Северная часть, берега Юго-западной Африки, где укрывались страндлооперы, поныне плохо исследована. Объясняется это двумя причинами. С одной стороны, предательские подводные течения делают очень опасным плавание у этого берега. С другой — прибрежная местность представляет собой песчаную пустыню, в которой чужеземцам трудно найти себе пищу и воду. Да и страндлооперам было очень нелегко снискать себе пропитание в этом суровом краю. Остатки этого племени бродили с места на место, питаясь рыбой, морскими птицами, ящерицами, различными кореньями и дикими огурцами. Постепенно число страндлооперов все сокращалось. Проще говоря, они вымирали. В последние годы полагали, что их осталось всего десять–двенадцать человек. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке снарядил специальную экспедицию в Юго-западную Африку, чтобы изучить последних из страндлооперов. Экспедиция имела в своем распоряжении вездеходы для передвижения по пустыне, киноаппараты и аппараты звукозаписи. Экспедиция долго колесила по пустыне, но не обнаружила никаких следов страндлооперов. После долгих и бесплодных поисков участники экспедиции решили отдохнуть в небольшом оазисе Сесфонтейн, населенном готентотами. И здесь, к своему удивлению, американцы обнаружили последних из страндлооперов. Их было уже не двенадцать и даже не десять, а только четверо: трое пожилых мужчин и одна старуха. Готентоты рассказали исследователям, что группа страндлооперов ежегодно проводила некоторое время в их оазисе, а затем возвращалась в пустыню. С каждым годом их приходило все меньше. Наконец последние четверо страндлооперов решили дожить свой век в оазисе. Готентоты гостеприимно приняли бедняков и помогают им продовольствием. Недра Юго-западной Африки богаты алмазами, медью и другими полезными ископаемыми. Американские, английские и южноафриканские богачи наживают огромные деньги, разрабатывая природные богатства обширной страны руками коренных жителей. Юго-западной Африкой уже более семидесяти лет управляют различные колонизаторы — сначала германские, потом южноафриканские. Но никто из колонизаторов не подумал позаботиться о последних представителях древнего племени. Позаботились о страндлооперах такие же, как они, горемыки — готентоты, которых колонизаторы тоже лишили земли и свободы, загнали в отдаленные местности или превратили в своих батраков. Американские исследователи установили, что страндлооперы отличаются не только от готентотов, язык которых они приняли, ко и от бушменов (по сравнению с последними у них, например, более густая растительность на лице). Цвет кожи у страндлооперов коричневатый. Рост невысокий — около полутора метров. Несмотря на помощь готентотов, последние из страндлооперов оказались настолько худыми и изможденными, что было видно, как бьются их сердца, словно между сердцем и кожей у них вовсе нет мышц. Страндлооперы живут в жалких убежищах из коры, травы и листьев. Все их имущество — звериная шкура на земляном полу, мешок для лекарственных трав, ведро, большое деревянное блюдо для зерна. Несмотря на свою бедность и отсталость, страндлооперы оказались добродушными и совсем не глупыми людьми. Они не только не испугались киноаппаратов и аппаратов звукозаписи, о которых не имели прежде никакого понятия, но и охотно согласились участвовать в киносъемках. Благодаря этому был создан документальный фильм о последних из страндлооперов А аппараты звукозаписи сохранили голоса этих людей. Записана, в частности, древняя легенда о прошлом этого племени, рассказанная единственной уцелевшей женщиной-страндлооперкой. В легенде говорится, что когда-то страндлооперы жили там, где встречаются два океана (то есть, очевидно, в районе мыса Доброй Надежды). Дальше легенда повествует о том, как трудно пришлось страндлооперам, когда они перекочевали на север и поселились на морском берегу. Выручила их собака, поевшая дикого растения, которое нашла в высохшем русле реки. Вслед за собакой отведали этого растения и страндлооперы. Растение это оказалось диким огурцом. Старуха рассказывала легенду сидя, опершись о колени сына. Но рассказ так утомил ее, что она заснула. Закончив свою работу, американская экспедиция вернулась на родину. Это было в 1953 году. Снимки, сделанные ею в Сесфонтейне, были напечатаны в 1955 году. С этих снимков смотрят на нас лица старых, много перенесших на своем веку людей. Живы ли они еще? Кто знает!(«Нэчюрал хистори»)

ОХОТНИКИ ЗА РЫБОЙ
Мы привыкли к тому, что рыбу ловят сетями, неводами, удочками. Но есть такие места, где на рыбу охотятся — как охотятся на зверей. Такая охота широко распространена у индейских племен бассейна реки Амазонки. К числу охотников за рыбой принадлежит и племя кампа, живущее в центральном Перу, на восточных склонах Андов. До последнего времени кампа, численность которых достигает, возможно, 15 тысяч человек, почти не соприкасались с «белыми», сохранили в неприкосновенности свои древние обычаи. Американский музей естественной истории направил в страну кампа специальную экспедицию, в задачу которой входила съемка документального цветного фильма о жизни этого племени, включая коллективную охоту за рыбой. Прежде чем встретиться с кампа, ученым пришлось выслушать немало рассказов об их нападениях на речные пароходы и враждебности к «белым». Однако установить дружеский контакт с кампа оказалось не так уже трудно. На ферме одного перуанца, обосновавшегося на самой границе области кампа, было несколько работников из этого племени. Через них американцам удалось связаться с вождем кампа и многими соплеменниками работников фермы. Больше всею помог им аппарат для звукозаписи. Вечером жена одного из работников, которого звали Ингери, напевала колыбельную песню. Американцы включили аппарат, а затем предложили Ингери и его жене прослушать песню. Оба заулыбались, потом стали смеяться. Вдруг из темноты выступило человек двадцать кампа-мужчин, женщин и детей. Среди них оказался их вождь Тони. Лицо его было украшено сине-черной татуировкой и покрыто ярко-красной краской. На коротких волосах был надет головной убор, напоминавший колпак. У затылка в волосы были воткнуты два длинных пера. Прослушав песенку индианки, вождь пожелал узнать, может ли машина говорить. Ученые предложили вождю сказать что-нибудь в микрофон, а затем он вдруг услышал только что произнесенные им слова. Это произвело на него такое же впечатление, как на Ингери и его жену. Он расхохотался и хлопнул себя по ляжкам. Остальные кампа тоже принялись смеяться и кричать, стали вырывать друг у друга наушники. Кто-то принес барабан, обтянутый обезьяньей кожей, и музыкальный инструмент, похожий на дудку. Под аккомпанемент этих инструментов индейцы стали петь свои песни, и запись затянулась до полуночи. В дальнейшем этнографы договорились с кампа о проведении охоты на рыбу. Кампа, как и многие другие индейские племена бассейна Амазонки, дурманят рыбу в реках, опрокидывая в них целые челны, наполненные растительными ядами. Они растирают корень барбаско, смешивают с глиной и водой, а затем спускают в реку. Барбаско парализует жабры рыб, отчего те задыхаются. Для людей этот растительный яд безвреден. Однако мало только парализовать рыбу, надо еще воспрепятствовать тому, чтобы быстрое течение реки не увлекло ее за собой. На помощь кампа приходит их искусство стрельбы из лука. Пронзенную легкой тростниковой стрелой рыбу обыкновенно прибивает к берегу. Приготовления к охоте развернулись вовсю, но тут начался ливень, который продолжался несколько суток без перерыва. Вода затопила часть леса, прилегающую к реке и ученые с величайшим трудом добрались до берега, спотыкаясь о покрытые водою корни. Продовольствие, захваченное с собой кампа, стало подходить к концу. А между тем этнографы настаивали на том, что охоту нужно отложить до ясного дня, чтобы получились хорошие цветные снимки. Но кампа, не знакомые с техникой съемок, и слышать не хотели о дальнейшей отсрочке. — Всякий дурак — даже если он и белый человек — должен знать, что охотиться в пасмурный день гораздо приятнее, чем под палящими лучами солнца, — говорили они. Прежнее дружелюбное отношение к ученым сменилось враждебным; оглядываясь в их сторону, кампа всякий раз плевались. Наконец вождь объявил, что охота состоится на следующий день — при любой погоде. К счастью, этнографам повезло: на следующий день с утра выглянуло солнце, которое, словно по заказу, светило до тех пор, пока продолжалась охота. Стрелки выстроились по обоим берегам реки, заняв стратегические позиции на валунах и корягах. Линия их протянулась метров на восемьсот или даже больше. Вверх по течению от этого места, где река суживалась и текла между крутыми берегами, обнаженные индейцы смешивали в челнах тертый корень барбаско с глиной и водой. Глина применяется для того, чтобы смесь достигала дна реки и рыбе было некуда податься. За этой операцией следил сам вождь — Тони. Когда он решил, что наступил подходящий момент, челны, по его команде, перевернули. Вниз по реке покатилась желтая волна. Через несколько минут на поверхности показалось множество задыхающихся рыб. Среди них были большие и маленькие, золотистые и серебристые, и всякие иные. Некоторые из них пытались выпрыгнуть из воды, другие — выбрасывались на берег. Отовсюду в воду посыпались стрелы. У индейцев не было времени нанизывать пойманную рыбу на веревки. Они просто выхватывали пронзенных стрелами рыб из воды и бросали их на камни у самой воды. Тех рыб, которые избегли стрел, пронзали копьями охотники, расположившиеся на пирогах, других ловили в корзины. Повсюду виднелись кучи пойманной рыбы. Через некоторое время волна отравленной воды миновала стремнину и растворилась в водах постепенно расширявшейся реки. Тогда вверх по течению реки устремилось огромное количество рыбы, которая направилась к тому участку, где рыбье население было только что уничтожено. Съемка охоты на рыб удалась на славу. В кинофильме американской экспедиции она была заснята с начала до конца. Довольны были и кампа. Рыбы было выловлено много — в копченом виде она сохранится долго. У племени будет вдоволь пищи на много дней. Тщательно завернув копченую рыбу в листья, кампа погрузили ее в свои челны и поплыли к своему поселку. В этот момент снова хлынул дождь. Но он ничего уже не мог испортить.(«Нэчюрал хистори»)

БОРЦЫ С ЛАВИНАМИ
Жителям горной местности нередко угрожают снежные лавины. Порою лавины вызывают настоящие катастрофы, уносят много жертв. Так, в 1910 году в штате Вашингтон (США) огромная лавина смела в пропасть три поезда, застрявших на железнодорожных путях вследствие заносов. При этом погибло 118 человек. На горняцкий поселок Альта в штате Ута столько раз обрушивались лавины, что после того как в 1874 году погибло 60 жителей этого поселка, оставшиеся в живых покинули его и больше не вернулись. Лавины представляют собой опасность и для автомобильного движения по горным дорогам, для альпинистов и любителей горнолыжного спорта, для рабочих — дорожников и связистов. Остановить движение лавины, когда она несется вниз по склону, сметая все на своем пути, конечно нельзя! Но можно, оказывается, сделать ее безвредной, неопасной. Для этого нужно внимательно следить за состоянием снежного покрова на крутых склонах и время от времени обрушивать лавины искусственным путем, заранее предупредив местных жителей и водителей транспорта. В Швейцарии уже давно существует служба наблюдения за снегами. Когда работники этой службы приходят к выводу о необходимости обрушить лавину, они вызывают артиллерийскую часть, которая открывает огонь по угрожающим участкам из 75-миллиметровых или 105-миллиметровых орудий. Американцы сначала применили у себя этот швейцарский опыт. Однако поднимать орудия такого калибра по занесенным снегом дорогам довольно затруднительно. Поэтому наряду с использованием артиллерийского огня служба наблюдения за снегами в горных районах США пользуется и другими приемами, требующими от работников этой службы большого мужества и выдержки. Они систематически обходят на лыжах занесенные снегом крутые склоны и с помощью специальных щупов проверяют сопротивление снега на различных уровнях. Вот они обнаружили участок, на котором снег угрожает обвалом. Тогда в ход идет динамит. Его закладывают в различных точках с таким расчетом, чтобы не одна большая лавина, а несколько малых пошли в определенном направлении, наиболее безопасном для жителей и строений. Затем, отойдя на некоторое расстояние, «разведчики снегов», как их называют в США, вызывают взрыв. Наиболее известным из этих разведчиков является Монти Атуотэр, который утверждает, что интерес его к снежным лавинам — наследственный. За два года до того как он родился, отец Монти — рудокоп — был погребен под снегом, когда огромная снежная лавина обрушилась на горняцкий поселок Теллуриде в штате Колорадо. Отца Монти удалось откопать, но пятьдесят его товарищей погибли. Сам Монти, еще годовалым ребенком, едва не погиб, когда другая лавина обрушилась на домик его родителей. Сделав борьбу с лавинами своей специальностью, Монти пережил немало удивительных приключений. Однажды он с товарищами взялись подорвать лавину, угрожавшую линии связи, проходящей через весь материк Северной Америки. На месте оказался только еще один лыжник. Поэтому, отправившись в горы, Монти, его товарищ Визе и этот лыжник не смогли захватить с собой достаточно провода. Три первых взрыва они смогли произвести из надежного укрытия, а на четвертый провода не хватило. Возвращаться назад Монти не хотелось, так как это могло бы привести к катастрофе. Тогда он принял смелое решение: товарищей отправил на обратный скат холма, а сам произвел взрыв с небольшого расстояния, укрывшись за деревом, стоявшим на пути лавины, которую должен был обрушить взрыв. Главная опасность угрожала Монти не от динамита, а от снега. Поэтому он обвязался спасательной веревкой, конец которой держал его товарищ — Ральф Визе. Раздался взрыв — и снежная лавина покатилась вниз по склону со страшной быстротой. Монти стал карабкаться на дерево, но тут почувствовал, что его держит веревка. Потом он узнал, что, почувствовав, как натянулась веревка, когда он полез на дерево, Ральф стал тянуть ее к себе, полагая, что Монти засыпало и лавина увлекла его за собой. И чем сильнее вырывался Монти, стараясь взобраться на дерево, тем сильнее тянул его обратно Визе. Когда лавина, наконец, остановилась, Монти оказался засыпанным почти до плеч. «Разведчики снегов» практикуют еще один способ обрушить лавину, требующий особенного умения и выдержки. Двое из них поднимаются по безопасному пути на склон, с которого угрожает рухнуть лавина. Один разведчик остается на страже. Другой быстро пробегает на лыжах поперек склона, в нескольких сантиметрах выше того места, где появилась трещина. Тяжесть лыжника и режущее действие его лыж приводят к тому, что снежный покров с треском лопается в этом месте и снег обрушивается вниз. Тем временем лыжник спешит в безопасное место. На всякий случай он предварительно освобождает ноги от креплений, чтобы сбросить с себя лыжи, если его настигнет снег. В этом случае он может спастись, «плывя» по верху снежной массы. Кроме того, он тащит за собой длинный красный шнур, с помощью которого товарищи смогут обнаружить и откопать его, если он окажется под снегом. Несмотря на принимаемые меры предосторожности, «разведчикам снегов» не раз приходилось катиться вниз со снежной лавиной. Но и в этом случае многое зависит от человека, от его наблюдательности, смелости, ловкости. Монти Атуотэр рассказывает, что, попадая в лавину, он чувствует себя, как в болоте, — порою удается выбраться на поверхность, но затем движущийся снег снова засасывает. Самый опасный момент наступает тогда, когда падение лавины замедляется: снег всей своей тяжестью обрушивается на попавшего в лавину человека. Но и тут еще не все потеряно. В лавинах наблюдается волнообразное движение; если воспользоваться этим, можно в последний момент «вынырнуть» на поверхность. Монти однажды удалось это. В другой раз он не смог полностью высвободиться из снежных объятий, но по крайней мере высунул голову наружу. Если человек полностью засыпан, сильный рывок в момент остановки лавины создает вокруг него свободное пространство, воздухом которого он сможет долго дышать. «Разведчики снегов» не только предотвращают катастрофы, но и спасают засыпанных людей. В первые два часа засыпанному обычно не угрожает опасность задохнуться. Но после этого срока у засыпанного остается мало шансов на спасение. Были, впрочем, случаи, когда люди проводили под снегом 10–12 часов и все же оставались живы. А один человек провел под снегом 72 часа и, когда его откопали, был еще жив! Но этот случай считается почти чудом. Первая забота «разведчиков снегов» — о безопасности других. Однажды Монти, понадеявшийся на прочность снежного покрова, оказался погребенным в лавине. Голова его осталась на поверхности, но высвободиться своими силами он не смог. Через некоторое время его заметил лыжник, который хотел помочь ему. Но «разведчик снегов» отказался от помощи и послал лыжника предупредить о случившемся пост своей службы, чтобы товарищи закрыли всякое движение в этой местности. Предупрежденный лыжником спасательный отряд откопал Монти Атуотэра. Через несколько минут на место, где он был погребен, обрушилась новая лавина.(«Нэчюрал хистори»)

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕБЕНОК
В Йерксе (штат Флорида, США) находится биологическая лаборатория с обширным обезьянником, в котором живут 60 шимпанзе. В 1947 году в число сотрудников лаборатории был принят только что окончивший аспирантуру по психологии молодой ученый Хейс. Хейс и его жена решили проделать своеобразный опыт: взять к себе новорожденную самку шимпанзе и воспитывать ее, как своего ребенка. В течение семи лет Вики, — так назвали маленькую шимпанзе, — жила совершенно в таких же условиях, в каких живут дети, играла с такими же игрушками, как и они, возилась с мальчиками и девочками своего возраста. У Вики оказались неплохие способности к технике. Она научилась пользоваться отвертками, молотками, пилами и рядом других инструментов, а также наждачной бумагой. Особенно хорошо действовала она консервовскрывателями. Если ей попадалась консервная банка нового образца и она не могла открыть ее привычным инструментом, то искала и находила другой, но неизменно добивалась своего. Научилась Вики управляться и с электроприборами, в частности с комнатным вентилятором и пылесосом, с помощью которого успешно чистила ковры. Маленькая шимпанзе усвоила также назначение штепселя и вилки. Умела она и включать свет. Если после того как Вики поворачивала выключатель, свет не зажигался, обезьянка вывертывала лампочку и заменяла ее другой. Пользоваться автоматическим телефоном она не могла, но умела поворачивать пальцем диск, как делают люди, набирая нужный номер. Уже в трехлетнем возрасте Вики не хуже своих сверстников-детей управлялась с мозаикой, кубиками и т.п., а также расстегивала и застегивала одежду. Вики научилась решать и более сложные задачи — разумеется, тогда, когда ей нужно было раздобыть какое-нибудь лакомство. Чтобы получить награду, она сбивала ее мячиком, выталкивала палкой из трубы, поджигала свечой нить, поворачивала выключатель, чем уничтожалось магнитное поле, которое удерживало предмет у потолка. Наконец, когда нужно было открыть ящик, она в определенной последовательности передвигала три рычага. Характерно, что другая маленькая обезьянка-шимпанзе, которая была на 9 месяцев старше Вики, но жила в питомнике не сумела решить ни одной из этих задач, за исключением самой первой. Самое удивительное — это то, что Вики не только научилась обращаться с инструментами, но и стала «изобретать» их. Однажды она заметила, что пустая банка из-под сгущенного молока издает дребезжащий звук, — в банке лежал кусочек пайки. Впоследствии, потеряв эту банку, Вики опустила в отверстие другой головную шпильку, после чего и эта банка стала издавать понравившийся ей звук. В другой раз она играла на дворе с кирпичом. Кирпич сломался, причем в месте излома образовался острый край. Тогда Вики стала пользоваться этим куском кирпича, чтобы копать землю и резать то, что ей хотелось. Вики стала постепенно разбираться в картинках и изображениях. Показывая ей фотографию мужа, госпожа Хейс добивалась того, чтобы Вики принимала такую же позу, в какой он был заснят. Вики очень любила слушать тикание часов и нередко подносила их к уху. Однажды супруги застали обезьянку прижимающей к уху журнал с изображением часов. В отличие от детей своего возраста, Вики так и не научилась членораздельной речи. Однако некоторые слова она все же произносила. Это явилось результатом упорных усилий супругов Хейс, которые сначала сами управляли ее губами, а затем приучили повторять движения собственных губ. Так, Вики отчетливо произносила слова «папа» и «мама», причем не делала ошибок в употреблении этих слов. Научилась она произносить слово «кап» (чашка). Это слово она должна была произносить, когда ей хотелось пить. Научить Вики пониманию человеческой речи также не удалось. Однако она отлично усвоила значение отдельных слов и даже выражений. Вики очень любила кататься на машине. Произнести слова «поедем кататься» она не могла, — вместо этого обезьянка скрежетала зубами. Если Хейс говорил: «Поехали», — Вики выбегала из дому и впрыгивала в машину. — Закрой окно, — говорил, садясь в машину, Хейс. И Вики бралась за ручку и поднимала стекло. Если стекло поднималось не до конца, Хейс говорил: «Закрой совсем». И обезьянка точно выполняла его просьбу. Когда Вики была маленькая, супруги Хейс обычно брали с собой в машину несколько бумажных полотенец из ванной комнаты. Всякий раз, как они собирались куда-либо поехать, Вики стала приносить им пачку таких полотенец. Но потом полотенца убрали из ванной комнаты. Тогда Вики стала приносить вместо них тряпки. Однажды Вики стала скрежетать зубами, показывая, что хочет покататься на машине. Затем она принесла тряпку. — Хорошо, но принеси мой шарф, — сказал Хейс. Обезьянка отправилась прямо в ванную комнату и принесла шарф, который висел там на гвозде. Затем она принялась оборачивать шарф вокруг своей шеи. — Нет, — сказал Хейс, — надень его на меня. — Вики тотчас же исполнила приказание. После этого Хейс велел ей принести ключ от комнаты. До этого обезьянка неоднократно открывала письменный стол Хейса и показывала на ключ ящика, но никогда его не вынимала. На сей раз она отправилась к двери, вынула ключ и принесла его Хейсу. Только после этого он посадил ее в машину. В 1954 году для Вики построили отдельный домик, в который она должна была переселиться. Но она не успела пожить в нем. За несколько дней до намеченногопереезда Вики тяжело заболела. Врачи поставили диагноз: эпидемический энцефалит. Обезьянку лечили как человека, даже сделали ей переливание человеческой крови, что ей не повредило. Но все усилия спасти Вики оказались напрасны. Через несколько дней семилетняя обезьянка умерла. Но Вики недаром прожила свою короткую жизнь. Наблюдения, проводившиеся над ней представляют большую ценность, будут использованы и при изучении высшей нервной деятельности человека.(«Сейнтифик Америкен»)

В. Домбровский и А.Шмульян СПОСОБНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Рассказ
Красивый, прекрасно одетый молодой человек неторопливо шагает по шумным улицам огромного города Губы его то и дело складываются в приветливую улыбку, так свойственную жителям этой обширной страны.
Он явно доволен собой и всем окружающим, что, естественно, делает честь его патриотизму и характеру. Молодой человек не заговаривает с прохожими, но видно, — он общителен и словоохотлив. По временам он что-то тихо произносит. Вслушавшись, вы могли бы узнать немало интересного и поучительного: «От Земли до Луны двести десять тысяч миль… Век живи — век учись. В прошлом году в нашей стране от автомобильных катастроф погибло тридцать восемь тысяч человек. Все люди — братья. Наш парламент состоит из двух палат…» Можно подумать, что юноша готовится к какому-то универсальному экзамену, и, судя по всему, он отлично сдаст этот экзамен. Вот молодой человек остановился у витрины кондитерской. Что заинтересовало его? Уж не пирожные ли? Но нет, юноша, как видно, не голоден. Через минуту он продолжает свой путь со словами: «Пирожки бывают жареные, печеные и слоеные…» Эрудиция молодого человека поистине необъятна! Вообразим, что это не рассказ, а кинофильм, и с кинематографической быстротой перенесемся в другую часть города. Видите это авто? Вон то, небесно-голубого цвета с никелированным радиатором? Его уверенно ведет пожилой господин, настолько похожий на вышеописанного юношу, что не составляет никакого труда догадаться: это отец. И на его лице сияет улыбка. Вероятно, он с удовольствием вспоминает о своем детище и думает: «Мне здрово повезло с моим Бобби! У кого еще есть такие парни, как он? Правда, он еще далек от совершенства, но уже сколько достоинств! Способность к самоанализу и самообразованию, блестящая память, внешний лоск. Остальное я вложу в него со временем, не щадя сил и средств. Во всяком случае уже теперь он может отлично работать, а в хороших руках — это просто клад. Мне сейчас пришло в голову — ему не хватает подруги. Машинистка-стенографистка с уклоном к шахматной игре и бальным танцам. Приму меры. Все говорят, что мой Бобби — вылитый я, конечно, каким был лет тридцать назад. Я доволен. Как приятно возвращаться домой, где меня ждет Роберт Эрскин! Наперед знаю: лишь войду, приветливо улыбнется и скажет: «Добрый день, как поживаете, па?» Но джентльмен ошибся. Из первых кадров мы уже знаем, что Роберт Эрскин не ждал его, сидя дома, а фланировал по улицам города, где происходит действие нашего фильма. А если это фильм, то что мешает нам сделать еще один смелый скачок? Перенесемся снова в ту часть города, где мы оставили нашего милого Бобби. Проникнем в один из домов и войдем в помещение, в котором не трудно распознать деловую контору. В кабинете владельца конторы налицо сам владелец и главный бухгалтер. — Только что сообщили?.. — говорит владелец конторы. — Да, сэр. Бедный Эдди! Кто мог подумать? Вся передняя часть вдребезги. — У Эдди? — У машины. Только что купленной. Эдди скончался от внутреннего кровоизлияния, вызванного нервным потрясением… И двое детей… — Что же нам делать? — Нужен новый. — До зарезу. Мгновенно. И нет никого на примете. — Слишком ответственно, чтобы просто вывесить объявление; а, как вы полагаете, сэр? — Но что же делать? Нужно составить и разослать циркуляры и подготовить материалы для моей предвыборной речи. Эдди как-то справлялся. — Сложно. Тридцать мыслей в минуту. — И каких мыслей! Я сказал бы: озарен-но-чеканных. Расчет и чутье. Коммерческий гром и политическая молния. А как этог Бен Джеферсон? Помните, с университетским дипломом? Заходил как-то, просил работу. Он как будто подходит. Наверняка еще без места… У вас есть его телефон? — Я слышал, с ним что-то случилось. То ли он кого-то убил, то ли его самого укокошили, то ли повесился с голоду. Отпадает. — А ваш родственник, как его, Джимми Фог? — Небоскреб радиоцентра, на прошлой неделе. Вдребезги. Отпадает. — Знаете что, Смитсон? Мы так больше времени потеряем, чем, если… Одним словом, вывесьте объявление у входа. — Слушаюсь, мистер Додд. Через три минуты объявление было вывешено (Роберт Эрскин в это время стоял у витрины кондитерской). Сразу стали скапливаться кандидаты. Все похожие друг на друга, со стандартной прической и стереотипной улыбкой, с одинаковыми жестами и словами, словно это были не люди, а бездушные автоматы. И способности к весьма трудной и ответственной роли секретаря мистера Доцда, финансиста и общественного деятеля, были у них одинаково недостаточными. После минутной беседы мистер Додд освобождал их одного за другим. Тем не менее число претендентов все росло и росло, и когда мистер Эрскин-младший поравнялся с конторой, там собралась уже небольшая толпа. Кто-то дружески, но довольно сильно хлопнул его по плечу. — А, Бнг Джон, как живешь?.. Не сюда ли, как мы? Хлопнувший по плечу заглянул Бобби в лицо и добавил: — Виноват, обознался. Не обиделись? В глазах Бобби вспыхнул и тут же погас гневный огонек. Любопытный отпрянул в сторону, а Бобби вместо ответа резко повернулся налево и стал прокладывать себе путь к дверям. Люди в очереди расступались перед нашим рослым героем, как рыбачьи лодки перед линкором. Вскоре он оказался в присутствии босса.

Мистер Додд бросил на вошедшего восхищенный взор: ничего не скажешь, по внешности во всяком случае этот ему подходит. Мистер Додд увлекался тяжелой атлетикой и обожал рекордсменов, да и помимо того, просто было приятно глядеть на такого краснощекого парня, видимо еще не испытавшего длительной безработицы и сохранившего свежий румянец и неиапускной оптимизм, не в пример большинству других кандидатов. Мистер Додд радостно потряс мощную руку молодого человека. «Ну, если он и по способностям такой же», — мелькнуло у него в голове. А вслух мистер Додд сказал: — Попробуем память. Он прочитал вслух строк пятнадцать из лежащей перед ним на столе инструкции калькуляторам. — Повторите! Бобби повторил без запинки Мистер Додд весело усмехнулся и звонком вызвал бухгалтера. — Кажется, то, — шепнул он Смитсону — Наблюдайте! Мистер Додд прочитал вслух колонку пятизначных чисел из отчета. — Повторите! Бобби повторил все числа без ошибки. — К вашим услугам, сэр, — сказал Бобби. — Ваше имя? — Роберт Эрскин, к вашим услугам, сэр. — Сразу видно, что опытный, — прошептал Смитсон, — хотя так молод. И к тому же атлет. Главному бухгалтеру нравилось точь-в-точь то же, что и хозяину, и в этом, право же, нет ничего странного, особенно в период экономического спада, когда, лишившись места, вряд ли найдешь другое. — Итак, мистер Эрскин, вы сейчас без дела? — Дело? — задумчиво переспросил Бобби. — Что значит дело? Виноват… — он задумался на секунду. Босс и бухгалтер в изумлении глядели друг на друга. Не знать слова «дело»? Но в этот момент Бобби дважды быстро щелкнул пальцами. — Да, конечно, — сказал он — «дело» знаю: занятие, обязанность, коммерческая деятельность, торговое предприятие, фирма. Да, я без дела. Додд и бухгалтер облегченно вздохнули. — Какие способности! — восторженно закричал мистер Додд. — Нет, я его ни за что не выпущу, ни за что! Мистер Смитсон, сообщите кандидатам, что вакансия занята. Мистер Эрскин, — повернулся он к Бобби, — вы по объявлению? Мне нужен секретарь. — Я секретарь-универсал, — охотно откликнулся Бобби. Он вытер лоб изящным шелковым платочком и закурил сигару. Дым выходил у него, как у фокусника, из глаз и из ушей. — Какой шутник! — прошептал мистер Смитсон. — Секретарь, — повторил мистер Додд, — и по конторе и личный, составлять мои речи. Вы согласны? Садитесь! Очень срочно: толковый, ясный, лаконичный циркуляр калькуляторам и речь перед избирателями. Я — независимый, понимаете, мистер Эрскин? Калькуляторам сказать об идеалах, выдвинутых в свое время великой французской революцией и живущих поныне, а избирателям напомнить про технические нормы. То есть, наоборот, разумеется. — Свобода, равенство и братство. Технические нормы — основа каждого производства, — с готовностью откликнулся Бобби. — Изумительно! — воскликнул босс. — Смитсон, немедленно стенографистку! Есть еще какая-то сентенция насчет… насчет… надо пить, чтобы жить, или что-то в этом роде… — Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Жан Лафонтен. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вильям Шекспир. Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Талейран. Без технической нормы не добьешься установленной формы. — Бесподобно! — восторженно крикнул босс. — Вы просто начинены афоризмами. Я вдвое увеличиваю ваше жалованье. Мистер Эрскин молча поклонился. Смитсон чуть завистливо посмотрел на него: что значит быть молодым… иметь такой пробор… такие ослепительно-белые зубы и модный костюм; не слишком ли, однако, самонадеян этот юнец, которому явно везет? — Но для начала речи, — упоенно размахивал руками мистер Додд, — мне нужно что-нибудь душеспасительное, нечто библейское! — Не убий, — охотно отозвался Бобби. — Не убий… Превосходно… но… несколько прямолинейно, если можно так выразиться. Бывают случаи, когда… словом, мне хотелось бы что-нибудь более дипломатическое. Вспомните Талейрана. — Я принес не мир, но меч. — Вот это вполне подходит. А теперь факты. Расстояние от Венеры до Марса? Год свадьбы Ливингстона, а кстати, был ли он женат? Количество щетинок у свиньи йоркширской породы? Сколько новых квартир построено за этот год, считая те, что получены разделением больших на маленькие. Сколько фирм возникло вновь за счет объединения мелких в крупные? Но пока Роберт Эрскин дает на все эти и многие другие вопросы точные и ясные ответы, перенесемся к мистеру Эрскину-старшему. Он вернулся к себе домой, но Бобби не встретил его, как обычно. Эрскин-старший обежал весь дом, заглянул в столовую, ванну, спальню, гараж, обследовал большую мастерскую, но его любимец исчез. Старый джентльмен был взбешен: — Ушел… в таком состоянии… Да он не знает своего адреса! Что он там натворит? — неистово завопил он и набросился на поспешно вбежавшего слугу: — Как ты допустил его уйти, сын тысячи чертей и двух со ген ведьм! (Мы приносим извинения за жаргон джентльмена). Слуга в ответ пробормотал что-то невнятное. — Недоглядел? Порождение сатаны! Придется повесить тебя, чтобы ты тоже не сбежал до моего прихода. Или, может быть, лучше сразу снять с тебя голову? Но джентльмен вовсе не был так жесток: вместо того, чтобы вздернуть негра, он просто швырнул его в темный чулан и запер дверь на ключ. — Где же искать его? — вслух думал мистер Эрскин-старший, имея, несомненно, в виду своего непутевого отпрыска. — Придется обзвонить полицейские участки. Он шагнул было к телефону, но нетерпение слишком уж овладело им. Старый джентльмен двинулся к выходу… А теперь вернемся к нашему Бобби. Чем больше радовался мистер Додд своему приобретению, тем больше, в тайне души разумеется, негодовал мистер Смитсон. Ему начинало казаться, что хитрый юнец поставил своей затаенной целью вытеснить его, Смит-сона, из конторы и занять сразу и место секретаря, и должность главного бухгалтера. В самом деле, Бобби не ограничивался изложением сведений из всемирной истории, географии, статистики; он к тому же еще решил буквально на ходу две–три головоломные счетоводные задачи, предложенные ему мистером Доддом. Наклонившись к уху босса, Смитсон шепнул: — Сэр, я вас предостерегаю: это явный авантюрист. Он знает слишком много для честного человека. Спросите его, где он живет, и хорошенько проверьте это дело. Да что, я сам спрошу. Мистер Эрскин, сообщите, пожалуйста, нам ваш адрес. Гробовое молчание. — Ага, — ехидно шепнул Смитсон. — Вы меня сбили с толку, — сокрушенно вздохнул мистер Додд. — Такой превосходный сборник всех событий и фактов… Нет, мне трудно поверить, да и, наконец, если он нам полезен… — Сколько у нас сейчас безработных? — обратился он к Бобби. Тот молчал. — Видите, — шепнул босс бухгалтеру, — вы и его сбили с толку. Он молчит. Да говорите же, мистер Эрскин, — Додд хлопнул секретаря по плечу. Тотчас же Бобби заговорил: — На пятнадцатое число текущего месяца — пять миллионов. — Это не годится для моей речи, — невольно нахмурился босс, между тем как бухгалтер довольно потирал руки. — Может быть, это и правда, но… вспомните Талейрана. А какова среди наших бедняков детская смертность? — Пятьдесят из каждых ста новорожденных, в виду крайне тяжелых жизненных условий родителей, — сказал Бобби. — Кажется, вы правы, Смитсон. Его нужно уволить. Такие недозволенные речи. Кто-нибудь может услышать. — И стены имеют уши, — заявил Бобби. — Век живи, век учись. Не все то золото, что блестит. — Верно, все верно, — в один голос закричали Додд и Смитсон. — Мистер Эрскин, мы в вас не нуждаемся. Вот вам… за консультацию, — и мистер Додд сунул в руку Бобби несколько ассигнаций. Но тот и не думал уходить. Напротив, он расположился, как дома. — Каков разбойник, а, Смитсон! — воскликнул в негодовании Додд. — Разбойник — это бизнесмен на большой дороге, как сказал Амброз Бирс, — бойко отпарировал Бобби. — Ну, это уж слишком! Вон отсюда! Смитсон, позовите швейцара! Огромного роста швейцар явился без промедления и схватил мистера Роберта Эрскина за шиворот. Но Бобби был, как видно, хорошим боксером. Классический «апперкот» — и швейцар был выведен из строя на первой секунде. Шум, крики сбежавшихся сотрудников конторы, телефонные звонки, прибытие наряда полиции, арест пылкого юноши, равно как и доставку его в полицейский участок — все это гораздо легче было бы изобразить могучими средствами современного кино, чем пером, даже и вечным. Но ничего не поделаешь, попробуем хотя бы очутиться в участке. — Прямо в суд, — несловоохотливо заметил начальник участка. Поправив сбившийся набок парик, мировой судья сказал: — Имена, адреса, социальное положение и сущность дела. — Ваша честь, — одновременно воскликнули Додд и Смитсон, — контора «Успех», Бизнес-стрит, 13. Додд — владелец, Смитсон — главный бухгалтер, авантюрист и мошенник… Последние слова относились, разумеется, к Бобби, но, так как оба истца в это мгновение замолкли, то получился конфуз. На многих лицах, втом числе и у Бобби, появилась улыбка, менее сдержанные из публики хихикнули в кулаки. Отчего же остановились оба истца? Да очень просто: Бобби неожиданно схватил чернильницу, стоявшую на столе секретаря и залпом выпил чернила. (Улыбнулся Бобби до или после поглощения казенного добра, не установлено, в протокол судебного заседания это почему-то не вносилось.)

— Неуважение к суду! — рявкнул судья. — Это еще что, — не совсем логично подхватил мистер Додд. — Он такие говорил вещи, ваша честь, что… Мистер Эрскин, повторите, пожалуйста, что вы говорили по дороге в участок. — Каждому человеку гарантировано право на свободу. Долой тиранию глупости и богатства, — охрипшим, вероятно, от слишком холодных чернил голосом изрек Бобби. — Неуважение к верховному органу нашей законодательной власти! — вскричал судья. — Я налагаю на вас штраф в размере… — Как сказал Джордж Вашингтон, — закончил Бобби. Судья поперхнулся. — Наверное, пьян, — решил судья. — Нашел где цитировать конституцию. Сержант, понюхайте, чем разит от этого субъекта! Полицейский подошел к Бобби, но сразу же очутился на улице: окно было открыто. — Да он просто сумасшедший! — догадался судья. — В лечебницу его! Немедленно! В это время голубое авто с хода затормозило у подъезда здания суда, и уже успевший посетить контору Додда, пожилой джентльмен, в котором, будь все это в кино, зрители без труда узнали бы мистера Эрскина-старшего, вышел из автомобиля и, прыгая через четыре ступеньки, помчался вверх по лестнице. Уже по шуму, слышному даже на улице, он догадался, что Бобби находится тут. — Черт возьми, — кричал он на ходу, — так я и думал! Угораздило меня позабыть, что у него в кассете памяти — факты без прикрас! Да еще сдерживающие центры не в порядке! Слава богу, что при моей системе питания он не продержится до вечера, а то пришлось бы вызывать пожарную команду, чтобы утихомирить его! С этими словами он вбежал в дверь, откуда валом валила перепуганная публика, и бросился к Бобби. — Не подходите к нему, у него котелок не в порядке, винтиков не хватает, — взвизгнул судья, предупредительно размахивая париком. — Сам знаю, что не хватает, — огрызнулся мистер Эрскин-старший. И, подойдя к Бобби вплотную, он стал отвинчивать ему голову… — Понимаете, он был еще не совсем готов, — говорил мистер Эрскин, вынимая винтики и реле. — Мог бы быть отличным секретарем-автоматом. Я уезжал по делам, а он сбежал. Негр, слуга-автомат, тоже был в неисправности и дал ему уйти из дому. А вы тоже хороши, — набросился он на пораженных Додда и Смитсона, — не знаете, как обращаться с такой машиной! «Разбойник, вон отсюда! Швейцар, выведите его», — передразнил он Додда. — Это же тончайший механизм, а не какой-нибудь изголодавшийся кандидат в секретари! Он требует деликатного обращения!

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ И МУЖЕСТВО
Ново-Гебридские острова, лежащие в Тихом океане, к востоку от Австралии, — единственная страна в мире, которой управляют две державы. Эти державы — Англия и Франция. Несказанно тяжела жизнь коренных жителей островов, оказавшихся под двойным гнетом английских и французских колонизаторов. От голода и болезней, занесенных европейцами, население Ново-Гебридского архипелага, которое, по подсчетам некоторых исследователей, достигало когда-то миллиона человек, сократилось до нескольких десятков тысяч. Колонизаторы не только грабят и угнетают коренных жителей, но и всячески издеваются над ними, не считают их за людей. В оправдание своих действий они ссылаются на отсталость ново-гебридцев. Жители Ново-Гебридских островов, которые тысячелетиями были оторваны от народов других стран, действительно отстали в своем развитии. Однако они проявляют изобретательность и мужество, которые нередко ставят в тупик пришельцев и убедительно опровергают клевету, распространяемую колонизаторами. Наиболее замечательным примером храбрости и в то же время технической сметки ново-гебридцев является любимый спорт обитателей острова Троицы. Спорт этот во многом напоминает прыжки с парашютных вышек. «Парашютная вышка» ново-гебридцев сооружается всякий раз, как островитяне решают испытать свое мужество. Для этого в джунглях выбирается холм, на вершине которого растут большие деревья. Самое высокое из этих деревьев используется как опора всего сооружения, в которое не забивают ни единого гвоздя. Дерево, служащее опорой, очищается от листвы и мелких веток, но наиболее толстые ветви сохраняются. При помощи крепких лиан это дерево скрепляется со стволами других, меньших деревьев, растущих на холме. Таким образом, «парашютная вышка» ново-гебридцев представляет собой эластичное сооружение из древесных стволов, переплетенных массой лиан. На различной высоте устраивается большое количество (до нескольких десятков) трамплинов, представляющих собой обыкновенные доски, привязанные к вышке теми же лианами. Некоторые островитяне совершают прыжки с высоты в 20–25 метров, а чемпион этого вида спорта старик Уолл в молодости прыгал и с 30-метровой высоты. Но как же удается прыгать с такой высоты (на землю, а не в воду) и при этом оставаться невредимым? Прежде всего место приземления (у подножия холма) тщательно расчищают, с него удаляют камни и все, что может поранить смельчака. Затем островитяне тщательно разрыхляют в этом месте землю руками. Но это только полдела. Главное же — в необыкновенной системе торможения, которую изобрели ново-гебридцы. Перед прыжком каждый спортсмен надевает себе на щиколотки петли из лиан, концы которых завернуты в банановые листья, что сохраняет их влажными и свежими. Длина петли, остающейся прикрепленной к вышке, имеет огромное значение. Если она окажется слишком коротка, спортсмен повиснет в воздухе, не долетев до земли. Если же, наоборот, она будет слишком велика, смельчак обязательно сломает себе шею. Ново-гебридцы, не имеющие понятия о математике, рассчитывают длину лиановых петель с такой точностью, что в тот самый миг, когда прыгающий касается головой земли, эти петли, подобно пружине, смягчают силу удара и переворачивают спортсмена в воздухе. Толчок ослабляется так же и тем, что в определенный момент лианы сильно натягиваются, отчего подпорки трамплина выскакивают и трамплин падает. При прыжке все сооружение качается и пружинит. Американским путешественникам, супругам Джонсон, довелось быть свидетелями этого поразительного зрелища. С песнями и плясками направились жители одной из деревень острова Троицы к выстроенной ими «парашютной вышке». Высота этого сооружения превышала 25 метров. На разных уровнях было устроено 28 трамплинов. По установившейся традиции, спортивный праздник открыл мальчик. Восьмилетний храбрец прыгал с трамплина, расположенного на высоте около 8 метров над землей. Не только Джонсоны и местные плантаторы, но и сами островитяне с замиранием сердца следили за его прыжком. Вместе с мальчиком на трамплин поднялся взрослый мужчина, который надел на его щиколотки петли из лиан. Затем мальчик улыбнулся, похлопал себя ладонями по бокам, сложил руки над головой и полетел вниз. Дальше все произошло так, словно вышкою управляли самые современные автоматические приборы. В нужный момент из-под трамплина выскочили подпорки, и он рухнул вниз, тормозя падение. В то самое мгновение, когда мальчик коснулся головой земли и американцам показалось, что он уже погиб, сработала пружина из лиан, подбросив его в воздух ногами вверх. После этого мальчик упал на землю плашмя — совершенно невредимым. Наиболее искусные мастера этого спорта умудряются, перевернувшись в воздухе, сами встать на ноги. Если же при прыжке островитянин вытягивает вперед руки и касается земли не головой, а пальцами, то это считается признаком трусости, и его никто не уважает. Трусишки попадаются и среди ребят. Второй мальчик, участвовавший в спортивном празднике, побоялся прыгать с трамплина, но его преспокойно столкнул вниз взрослый островитянин. Этот мальчик приземлился так же счастливо, как и первый, который ничего не боялся. Вслед за ребятами выступили взрослые (всего в этот день прыгало 28 человек). Они поднимались все выше и выше. Но на самый верхний трамплин, от которого до земли было добрых 25 метров, взобрался только один отважный юноша, по имени Варисул. Друзья и родные отговаривали Варисула от этого прыжка: как ни уверены ново-гебридцы в добротности своей «парашютной вышки», эта высота казалась многим чрезмерной. Но Варисул не обратил внимания на уговоры и предупреждения. Американцам удалось измерить продолжительность полета, Варисул летел к земле со скоростью курьерского поезда — свыше 70 километров в час. В момент, когда голова его коснулась земли, «пружины» из лиан выполнили свое назначение, но одна из двух разорвалась. Однако и оставшаяся петля сумела подбросить Варисула в воздух. С ловкостью кошки молодой островитянин перевернулся и приземлился на ноги. Он остался совершенно невредим. Вообще в этот день из двадцати восьми прыгавших с вышки пострадал только один: петля из лиан врезалась ему в ногу настолько глубоко, что последнюю пришлось перевязать. Большинство прыгавших сохраняли присутствие духа. Некоторые, однако, потеряли сознание. Таких быстро приводили в чувство простейшими способами: таскали за волосы, массировали им шею, обливали водой. Помимо Джонсонов, при прыжках островитян присутствовал американский врач с судна, доставившего их на Ново-Гебридские острова. Этот врач был крайне удивлен тем, что кости и суставы жителей архипелага выдерживают такое напряжение. Но самих островитян это нисколько не удивляет. Они верят в себя, свои крепкие тела, свой природный разум.(«Нэшэнэл джеогрэфик мэгэзин»)

П. Капица и Н. Яковлев ОСТРОВ ПАНДАНГО Повесть
Глава первая
НА ПОЗАБЫТОМ БЕРЕГУ
Вспененные волны прибоя одна за другой накатывались на бесконечный песчаный пляж Позабытого берега, распространяя горьковатый запах соли и морских трав. Пустынен здесь океан: на сотни миль — ни дымка, ни паруса. Пассажирские лайнеры далеко стороной обходят опасные воды, изобилующие скрытыми банками и рифами. Только изредка показываются рыбачьи кечи, небольшие рефрижераторы и чумазые грузовые суда, идущие за копрой, рудой и фруктами. Они стараются держаться ближе к берегу, чтобы вовремя укрыться в безопасных бухтах. Позабытый берег находится в полосе бурь. Чуть зазеваешься, не заметишь фиолетового марева на горизонте — никакие молитвы не спасут: налетевший шквал если не опрокинет судно, то выбросит на рифы и разобьет в щепы. Спокойствие океана обманчиво. Была и другая причина, по которой рыбаки Позабытого берега не уходили далеко в океан, но о ней они помалкивали. Разве только подвыпив в «Осьминоге», храбрецы намеками говорили о трупах, попадавших в сети. А если кто из рыбаков обращался в полицию, то кончал плохо: его обычно находили у своего собственного кеча с пробитой головой. Правда, живет в селении рыбак с ветром в голове, не умеющий держать язык за зубами. Любители загадочного еще недавно могли послушать забавного собеседника, готового вспомнить всевозможные таинственные истории, происходившие в море. Но теперь и он помалкивает. Обломки кеча, которым так гордился Сильвейро, догнивают на отмели, а сам прославленный шкипер ежедневно курсирует от стойки «Осьминога» до старой, полузасыпанной песком баржи, выброшенной на берег. «Осьминог», видно, цепко опутал ослабевшую волю одинокого моряка. Виноваты в этом, конечно, захожие шкипера, угощавшие рюмкой виски старого приятеля. Да и сам он не мало сделал, чтобы навлечь на себя беду. Год назад Сильвейро вышел в океан с двумя племянниками на ночной лов. Напрасно все-таки он не прислушался к словам патера, обладавшего редкостной на побережье вещью — барометром. Занесенные далеко в океан внезапно налетевшим ураганом, рыбаки увидели… Впрочем, что именно они увидели, — никто толком понять не мог. Доходя до этого места, Сильвейро прикладывался к даровой рюмочке, морщился, крутил головой и дальше начинал говорить такое, что примерещится не каждому. Будто бы из мрака выплыл остров с вертящимся огнем. Воспрянув духом, племянники собрались было возблагодарить святого Матэо, но не успели. В вихре брызг на гребнях волн показался катер, мигающий оранжевыми вспышками… Свинцовый град обрушился на кеч. Племянники, видимо, были убиты; их сразу слизнуло волной. Сильвейро очнулся на днище изрешеченного кеча, когда на светлеющем горизонте еще виднелись пальмы незнакомого острова. На счастье, шторм стих так же неожиданно, как и налетел. Это обстоятельство спасло рыбака. Разорвав рубашку, он кое-как перевязал раненую голову и, отдавшись на волю течения, лег у кормы. Лишь на третьи сутки море прибило к берегу полузатопленный кеч с человеком, в беспамятстве припавшем к румпелю. В горячечном бреду он бормотал о каком-то черном катере, вертящемся огне и пальмах. Со временем у выжившего из ума Сильвейро количество пальм, катеров и даже островов возрастало в несомненной зависимости от опрокинутых в вечно жаждущую глотку шкипера рюмок виски и рома. Время шло. Сильвейро, фантазируя, так запутал происшедшую с ним историю, что никто ему уже не верил и не преподносил виски. Даже шкипера захожих судов не величали его, как прежде, стариной, и не усаживали за свой столик. Но недавно престиж Сильвейро вновь поднялся. Как-то утром в «Осьминог» заглянул велосипедист в костюме песочного цвета, Пока смахивали с него пыль, гость успел понравиться всем своими шуточками и прибаутками. Он благосклонно выслушал историю старого рыбака и покорил его дружелюбным обращением. Пожалуй, это был единственный за все времена собеседник, заинтересовавшийся бреднями Сильвейро. Старый рыбак, кстати, был трезв, — дело-то происходило утром. Проезжий не выразил сомнений в достоверности событий и даже что-то записал. — Да пусть я подавлюсь рюмкой виски, которую вы мне преподнесете, если я вру! — поклялся Сильвейро. — Не поперхнешься, старый брехун! Вы не очень доверяйте, синьор, ему все прибре-дилось, — сказал хозяин «Осьминога» Дон Амбросио, наливая за счет гостя рюмку виски шкиперу. Задетый за живое Сильвейро подсел к велосипедисту и доверительно шепнул: — Они полагают, что все это я выдумал. Жалкие люди! — Старик пошарил в кармане и вытащил вместе с табачными крошками три смятые крупнокалиберные пули, с потускневшей никелевой оболочкой. — Недавно я их выковырял из борта кеча. Что же3 сам господь бог стрелял в нас этими штучками? — произнес он. — Нет! Мне ничего не прибредилось! На вопросы велосипедиста старик лишь приблизительно, больше по догадкам, смог определить направление таинственного острова. А выпив вторую рюмку виски, он так разошелся, что даже добавил: — Вот если бы у меня была карта, я живо разыскал бы это место, а так ведь не объяснишь… — У меня дома где-то валяется мореходная карта, — как бы между прочим, сказал собеседник. — Прихватите ее с собой, если еще заглянете сюда. Не будь я Сильвейро, проклятый остров будет найден! — пообещал старик. Уезжая, велосипедист подарил шкиперу десять аргентинских песо. Но, когда дон Амбросио попытался обсчитать доверчивого гостя, тот этак взглянул на него, что почтенный хозяин харчевни в растерянности передал лишку сдачи, чего на памяти старожилов с ним давно уже не случалось. Сильвейро вскоре размечтался и пустился в немыслимые предположения. Разумеется, проезжий был столичным репортером, он скоро так распишет все, что в «Осьминог» хлынут толпы любителей необычайного. Они будут пить, слушать его рассказы и тратить без счета деньги. Даже дон Амбросио — насколько все же легковерна человеческая натура- — и тот поддался чарам этой фантазии. На всякий случай он выкатил к стойке бочонок лучшего рому и, в припадке великодушия, первый стаканчик пожертвовал старику. Но как обманчива фортуна! Ни один любопытный богач не спешил из столицы! А когда Сильвейро навязался со своей историей двум гулякам, прикатившим откуда-то на серебристой гоночной машине, те выволокли его на улицу, сбили кулаком на землю и, дав несколько пинков ногами, пригрозили: — Если не перестанешь бредить, старый чурбан, будешь покойником. Местные парни хотели было проучить их, но их смутили недвусмысленно оттопыренные задние карманы туристов. С такими людьми лучше не связываться. «Придется помалкивать!» — решил Сильвейро и замкнулся в себя. А жаль! От его рассказов, казалось, иногда раздвигались прокопченные стены старой харчевни и оживала былая романтика южных морей. На целый вечер забывались повседневные тяготы жизни и начинались рассказы о далеких походах отцов и дедов. Ведь не часто рыбаки Позабытого берега рисковали уходить на своих утлых кечах далеко в океан, хотя знали, что там есть пустынные острова с кокосовыми пальмами и рощами панданусов.* * *
В одно из воскресений на Позабытом берегу вновь появился человек в песочном костюме. Правда, теперь его нельзя было назвать велосипедистом, так как он катил на мотоцикле, и не один, а с молодой блондинкой, носившей защитные очки, шапочку с широким целлулоидным козырьком и кремовый пыльник. Оба они походили на жителей столицы, которым лишь по воскресеньям удается вырваться к просторам моря и гор. Мотоцикл катил по кромке песчаного пляжа, которую лениво лизали набегавшие волны прибоя. Он остановился невдалеке от лежавшего на боку, занесенного песком кеча. — Долорес! — сказал мотоциклист сидевшей в коляске девушке. — Взгляните на это затонувшее рыбачье суденышко; оно было расстреляно в океане каким-то таинственным катером. И полиция не ведет расследования. Не странно ли, а? — Хосе, а вам не опасно вновь показываться в «Осьминоге»? Может, лучше пойти мне одной? — спросила девушка. — Нет, мы подъедем вместе. Почему бы нам не остановиться и не выпить кока-кола? Я ведь турист, выбравшийся в горы со своей невестой. — Вы всерьез? — А как же? Неужели вы бы согласились поехать сюда только для маскировки? Трудно было понять, шутит ли Хосе Реаль по обыкновению или говорит всерьез. Как хотелось бы Долорес, чтобы в словах его была правда! Они выкатили на дорогу, по которой шли женщины с молитвенниками в руках. Судя по серьезным и печальным лицам, рыбачки возвращались с похорон. Поравнявшись с кудрявой босоногой девочкой, несшей на руках полуголого чумазого карапуза, Реаль спросил: — Девочка, ты не скажешь нам, почему так печально звонит колокол? — Хоронили старого Сильвейро, — ответила она. — Сильвейро? Но ведь недавно он был здоров! Что случилось? — Его нашли на отмели у кеча. Кто-то ударил старика. Он упал и захлебнулся. — Безбожника Сильвейро покарал господь, — строго заметила дородная матрона, проходившая мимо. — Он наказывает пьяниц и безбожников! Реалю стало понятно, что произошло здесь. Ниточка, которую он случайно нащупал, опять оборвалась. — Теперь бессмысленно ехать в «Осьминог», надо возвращаться, — хмурясь сказал он. Развернув мотоцикл, они вновь выехали на пляж и помчались по старому следу, едва приметному на мокром песке. Здесь не могли помешать автомашины. Хосе дал полный газ… Стрелка спидометра подскочила к цифре «90». Мотоцикл рокоча летел по песчаной равнине. Долорес сидела пригнув голову, так как в лицо дул соленый морской ветер. Иногда мотоцикл влетал в голубоватые лужи и разбрасывал в стороны брызги. «Этак можно и шею свернуть», — думала девушка, но она не останавливала Хосе. Ей нравилась быстрая езда. Так они мчались километров семьдесят. Потом Хосе сбавил ход, выбрался на шоссе и поехал за вереницей автомашин, никого не обгоняя. «О чем он сейчас думает? — хотелось бы знать Долорес. — Ведь скоро нам расставаться». Солнце уже стало заходить, когда из-за крутого поворота перед ними возник большой город. Он лежал в долине, на берегу океана, окруженный синеющими силуэтами гор. Это была столица Южной республики. Реаль остановил мотоцикл на развилине двух дорог, недалеко от деревянного распятия Христа; католические кресты теперь попадались почти на всех перекрестках. Проверив, достаточно ли осталось бензина в мотоцикле, Хосе сказал: — Возвратите владельцу с благодарностью. Впрочем, один ваш взгляд вознаградит его больше, чем мои слова. — Вечно вы шутите, — с укором заметила Долорес. — К сожалению, в меня влюбляются не те, кто мне нужны.

Девушка стала грустной. Сегодня ей не хотелось так быстро расставаться, — слишком короткими были их встречи, всегда связанные с партийными поручениями. — Как же быть дальше? — спросила она. — Вы не отказываетесь от поисков? — Что вы! Какой журналист отступится, когда он на пути к открытию? К тому же я друг вашего брата. Не могли бы вы точнее вспомнить, как все произошло — Я вам уже говорила: пошли к докерам с листовками. Неожиданно порт оцепила полиция. Энрико отдал свою пачку мне и сказал: «Беги, только не раньше, чем начнется свалка» Он свистнул, помахал рукой крановщику и, прикинувшись подвыпившим матросом, затеял драку с полицейскими… Хосе представил себе, как начал действовать рослый пароходный механик Энрико Диас, умевший одним ударом кулака сбивать противников на землю. — К нему на помощь прибежали еще какие-то портовые парни. Началась свалка. К дерущимся ринулись все полицейские. Я перебежала к складам и ушла. Энрико не был убит, нет. На другой день я сама побывала во всех моргах. Хосе знал, что и ни в одном из концентрационных лагерей, как лишайники, покрывших всю страну, Диаса не было. Не оказалось его и в числе безымянных жертв полицейских застенков. У компартии всюду, где требовали сложные обстоятельства подпольной борьбы, существовали свои глаза и уши. Так бесследно исчезли не один Диас, а еще десятки активных товарищей. Нужно было во что бы то ни стало узнать, куда же отправляет их кровавый диктатор, и разоблачить его перед народом. — Хорошо, Долорес, я еще в одно место съезжу. В среду мы с вами увидимся в сквере у Центральной площади. Я не потеряю следа, не беспокойтесь. А теперь… разрешите поблагодарить за компанию, за приятную поездку. Реаль крепко сжал ее руку. Мимо них то и дело проносились автомобили и двухэтажные автобусы, возвращавшиеся с загородных прогулок. Хосе очень не хотелось расставаться с девушкой, но он должен был покинуть ее. На Центральной площади его ждал товарищ. — До встречи! — добавил он. Долорес села за руль, дала газ и включила сцепление. Мотор взвыл на первой скорости, потом изменил тон и умчал ее в темноту. Реаль, проводив девушку взглядом, вздохнул и пешком направился в город. В восьмом часу он остановился у тумбы с афишами на большой площади, залитой вечерним сиянием реклам и витрин. Вскоре к нему приблизился сухощавый человек в форме тюремного стражника. — Найдите свободную скамейку, — негромко сказал ему Реаль. Стражник молча направился к бульвару, где по одной стороне росли, сливаясь в сплошную массу, приземистые бенгальские смоковницы, а по другую — высокие стройные пальмы. Найдя скамейку, на которую не падал свет фонарей, он уселся и закурил. Реаль подошел к нему минут через десять и, прикурив, уселся рядом. Проходившая парочка собралась было также отдохнуть на этой скамейке, но, разглядев погоны и блестящие пуговицы стражника, раздумала и прошла дальше. — Как они ненавидят мою форму! — с горечью произнес стражник. — Настанет час, и вы скинете ее, а сейчас партии нужно, чтобы вы служили там, — сказал Реаль. Стражник вытащил из-за пазухи небольшой пакет и отдал его Хосе. — Письма от заключенных из подследственного флигеля, — объяснил он -Там связь надежная. Ест контакт с флигелем «Зет», где содержатся особо опасные. Мне передали оттуда странную записку. Известно одно: пролежала спрятанной месяца три, прежде чем попасть ко мне. Стражник поднялся, собираясь уходить. Хосе развернул смятый клочок бумаги — на нем ничего не было Тогда он повернул его и, убедясь, что и на обороте нет ничего, спросил: — Вы не ошиблись? Стражник мотнул головой. — Я не имею права ошибаться. Принес, что передано. Во флигеле «Зет» не дают чернил. Там, кроме соли и хлеба, ничего нет… — Кроме соли, сказали вы? — переспросил Реаль, но стражник был уже далеко.
Глава вторая
НАДО ИДТИ НА РИСК
Южная республика — одна из двадцати стран Латинской Америки. Она «независима и свободна», как уверяет пресса, но это обычная ложь продажных газет. Южной республикой, как и большинством ее соседок, негласно управляет Зеленый папа. Кто такой Зеленый папа? Почему ему подчиняются президенты республик, министры, епископы, генералы, редакторы газет и полицейские? Говорят, что в капиталистическом мире он молод, так как появился на свете всего лишь в семидесятых годах прошлого столетия. Породил его обычный морской бродягa — бостонский капитан дальнего плавания мистер Бейкер. Доставив груз на остров Ямайку, он не хотел возвращаться домой порожняком. На полсотни долларов предприимчивый моряк накупил столько бананов, что загрузил ими все трюмы и палубы парусника. Бостонцам понравились незнакомые, чуть вяжущие рот, сладкие плоды. Они нарасхват брали бананы, платя за них доллары. Капитан Бэйкер заработал столько, что ему захотелось вновь отправиться на Ямайку. Объединившись с местным купцом Престоном, он стал привозить фрукты, а тот торговать ими. Их дело так разрослось, что пришлось основать компанию, которая вскоре получила название «Юнайтед фрут». Банковская компания под безобидным флагом оптовых торговцев фруктами начала захватывать банановые рощи, леса, огромные плодородные земли, для разведения сахарного тростника, ананасов и цитрусов. Она строила железные дороги, исследовала недра, вывозила руду. У нее появился огромный флот, собственные телефонные линии, радиостанций, рекламные бюро и авиация. «Юнайтед фрут компани», чтобы властвовать в Латинской Америке, подогревала старые споры малых стран, вызывала пограничные инциденты, натравливала одних на других. Подкупами, шантажом, подготовкой путчей она свергала неугодные ей правительства и ставила у власти послушных ей диктаторов. И в храмы она засылала своих служителей, поэтому заслуженно получила титул «Зеленого папы». Репортеры то и дело употребляли его для хлестких заголовков в газетах, а народ произносил его с ненавистью, как имя подлого и беспощадного врага. Не зря же среди бедноты ходила поговорка: «Мы живем слишком далеко от бога и очень близко от Соединенных Штатов». Зеленый папа, словно огромный спрут, из Бостона и Нью-Йорка протянул свои бесчисленные щупальца вдоль побережья Атлантического и Тихого океанов далеко на юг и высасывалсоки из чужих земель и кровь из людей, живущих впроголодь. В выкачке богатств из Южной республики, кроме «Юнайтед фрут», были заинтересованы и другие американские монополии, поэтому недавнее восстание шахтеров и батраков было зверски подавлено военной хунтой, пришедшей к власти, а коммунистическая партия объявлена вне закона. В стране свирепствовал террор. Столица Южной республики, как и прежде, жила шумной жизнью приморских городов. В ее огромном порту день и ночь гудели моторы автокаров, лебедок, погрузочных кранов. В море то и дело выходили тяжело осевшие суда, а навстречу им, завывая сиренами, спешили к причалам новые. Под эстакадами мелькали черные и бронзовые спины грузчиков. Согнувшись, подгоняемые надсмотрщиками, люди поднимались по зыбким сходням и скрывались в недрах трюмов. В огромные пароходные пасти укладывались богатства Южной республики. У складов и на длинных пирсах вереницами стояли самоопрокидывающиеся вагонетки с висмутом, вольфрамом и цинком, грудами высились мешки с зернами какао, кофе, ящики со смолой Чикле и «райскими орехами». Надрывно мычали быки, обвязанные сетями и вознесенные кранами чуть ли не под облака. Блеяли овцы, сбившиеся в кучу у трапа, перекинутого на борт грязного «Скотовоза». А весь этот шум покрывала веселая песня, несшаяся из радиорепродукторов только что прибывшего парохода, на который грузили солдат в новых, топорщившихся гимнастерках.«25 апреля одна из групп преступников, бежавших из замка Сан-Стефанио, была настигнута в горах. При перестрелке автомобиль беглецов сорвался в ущелье. Установлена гибель одного из организаторов побега — бывшего журналиста Хосе Реаля».На снимке изображались среди обломков автомашины изувеченные тела погибших. — Видите ли, в машине остался не я, а мой пиджак с документами. Если бы полиция внимательнее вгляделась, то она бы опознала в трупах своих конвоиров и шофера. Но я опровергать не буду. Пусть мое дело с дактилоскопическими отпечатками пальцев навсегда будет списано в архивы полиции. А сейчас покойнику хотелось бы позавтракать с вами. Реаль выложил на колченогий стол свои покупки. Пока хозяин разворачивал свертки, гость стал присматриваться к разнообразным склянкам, стоявшим где попало, чтобы использовать их вместо рюмок. Старик-креол вовремя перехватил его руку, готовую выплеснуть остатки какого-то реактива. Понюхав отобранный раствор, ученый сообщил: — Обыкновенный цианистый калий! Правда, слабый раствор… Хосе даже привскочил и осторожно отодвинул какую-то колбу, обнаруженную под ногами. А хозяин продолжал: — Здесь яды на все вкусы. Ну, вот эта посуда, пожалуй, подойдет. Он протянул два стаканчика явно лабораторного назначения. Смущенный гость, помня, что иной посуды здесь никогда не водилось, сказал: — А нельзя ли, уважаемый профессор, хоть предварительно обезвредить их чем-нибудь? — Не стоит, здесь была лишь соляная кислота! Жилье ученого, заставленное диковинными приборами, напоминало лабораторию средневекового алхимика. Старик был в привычной среде, но гость никак не мог здесь освоиться и чуть не уселся на каменную ступку с пестиком. — Садитесь-ка лучше в кресло, — предложил хозяин. Хосе уселся в покосившуюся развалину, из которой торчали пружины и жесткая морская трава. — Рассказывайте, — что снова привело вас сюда? Знаю без причины не являетесь. Нехорошо забывать старых друзей, — сказал с укоризной креол. — Все дела, профессор, — оправдываясь, ответил Реаль и налил в стаканчики водки. — Ну-с, за ваше появление! — промолвил хозяин, беря стаканчик. — Мы с Фанни прочли о вашей гибели и, признаюсь, загрустили. Красавица Фанни, протяжно мяукнув, появилась из-под дивана и приветственно потерлась о ногу гостя. Это было второе живое существо в домике. Профессор, вспомнив что-то, поставил стаканчик на стол и потащил Реаля в дальний угол за полог. Там стоял прибор, похожий на старинный «волшебный фонарь», с конструкцией которого старик давно возился. — Отлично работает — похвастался он. — Вот посмотрите, ничего в этом векселе не замечаете? — Вексель как вексель, — ответил Реаль, повертев продолговатую бумажку. — А теперь взгляните! — сказал старик, вставив вексель в аппарат. Вторичное свечение или люминесценция, — пояснил он. Хосе заметил, что тексты, напечатанные типографской краской и вписанные чернилами, светились по-разному, а первая цифра суммы сияла совершенно своеобразно. — Счет подделан! — сказал профессор. — Вписана двойка. Замечаете, цифры светятся по-иному? Подделка была выполнена искусно, но невидимые лучи разоблачили фальшь. — Вытравленная надпись, попав в поле действия ультрафиолетовых лучей, становится видимой, — продолжал объяснять старик. — Любой элемент испускает свечение, характерное исключительно для него. Представляете, какое значение имеют эти лучи? Они могут установить присутствие нефти в куске каменной породы, обнаруживают примеси… — Я читал, что в Советской России ультрафиолетовые лучи уже широко применяются в промышленности. Там на консервных заводах они даже сортируют рыбу… — Стоило упомянуть об этом, как меня попросили покинуть кафедру. Пропаганда! — с горечью заметил профессор. — Ничего, мы еще отпразднуем день вашего возвращения к студентам в настоящую науку, для народа! — Готов выпить за это. Они вернулись к столу и чокнулись. Старик отпил глоток вина и спросил: — Вы ведь, наверное, неспроста ко мне? Опять что-нибудь вроде смывания паспортных бланков? — Сегодня дело посложнее. Нужно знать: не было ли здесь что-либо написано? Профессор, взяв обрывок бумаги, осмотрел его, понюхал и понес к своему аппарату. Реаль устроился поудобнее в шатком кресле. Он помнил, что хозяин не переносил когда «вертятся под рукой», и поэтому терпеливо ждал результатов применения ультрафиолетовых лучей. Через четверть часа профессор подгл ему несколько фотоотпечатков и сказал: — Записка написана раствором обыкновенной поваренной соли. Это не трудно установить по спектру свечения. Оригинальные чернила! — Откуда же, дорогой профессор, в застенках Централа взяться чернилам? А применить соль догадается не всякий, — ответил Реаль, со скрытым волнением читая записку.
* * *
В точно назначенный час в небольшой квартире на улице Снов, имевшей два выхода, собрался подпольный Комитет Компартии столицы. Заседание близилось к концу, когда седовласый человек, с лицом, изрезанным морщинами, объявил: — У товарища Хосе сегодня важное сообщение. Прошу внимания. Реаль поднялся, тряхнул головой, чтобы откинуть спадавшую на глаза светлую прядь волос, и негромко заговорил: — Наша группа разведки несколько месяцев бьется над тем, чтобы разыскать хоть какие-нибудь следы пропадающих товарищей. Их нет ни в известных нам концлагерях, ни в списках убитых. Столь необъяснимое исчезновение самых активных коммунистов тревожит не только родственников и соратников по подполью, но и пугает сочувствующих. Они боятся встречаться с нами. А суеверное население верит в сказки церковников, что против марксистов идут силы неба. Такие бредни терпеть больше нельзя. Надо выяснить, где находятся наши товарищи. В начале этого месяца, проезжая по делу, я заглянул в рыбацкий поселок. В таверне на Позабытом берегу ко мне подсел спившийся шкипер. И вот он поведал историю о странном острове в океане, о котором обычно рыбаки помалкивают. Они считают, что даже простой разговор о нем приносит несчастье. Кеч этого старика, унесенный штормом в океан, был обстрелян из пулеметов именно у этого острова. Убитых смыло волной, а тяжело раненного шкипера вместе с кечем прибило течением к берегу. Местные жители считают, что после этой истории старик «тронулся». Сегодня мы получили подтверждение: в океане действительно существует тайный концлагерь. В наши руки из Централа попал этот листок, — Хосе показал обрывок серой бумаги. — На нем не было никакого текста. Обработка реактивами тоже ничего не дала. — А почему вы решили, что должен быть текст? — спросил коричневолицый метис[140] — один из членов комитета. — Его нам передали как письмо. Когда были применены ультрафиолетовые лучи, то появилось несколько слов. Вместе с обрывком бумаги Реаль выложил на стол несколько фотокопий. Члены комитета без труда прочли:«Отправляют на какой-то остров в океане. Оттуда, говорят, никто не возвращается. Прощай, Долорес! Прощайте, товарищи! Да здравствует компартия!— Значит, Энрико жив! — обрадованно воскликнул крановщик из порта. — Это несомненно его рука, я узнаю. — Но записка ничего не раскрывает, — заметил метис. — Как мы найдем этот остров? Ведь у нас нет возможности послать экспедицию? Да и рискованно. — Одну минуту, — вновь заговорил Реаль. — Обстрелянный кеч дрейфовало и принесло течением к берегу. Следовательно, загадочный остров лежит где-то в зоне течения, омывающего Позабытый берег. Любой из вас может теперь разыскать его, руководясь этими данными. Хосе стал разворачивать принесенные карты. — Узнаю журналистскую предусмотрительность Реаля. Молодец, достал все, что нужно, — одобрительно отметил председательствующий. Все нагнулись над столом, рассматривая на карте голубые извивы океанских течений. — Не здесь ли? — спросил крановщик, ткнув пальцем в группу небольших островов. — Сомневаюсь; эти острова заселены и эксплуатируются, — ответил Реаль. — Л вот этот подозрителен. — Он указал на едва заметную точку на карте. — Примерно в ста пятнадцати милях от Позабытого берега существует островок Панданго. На новых мореходных лоциях он отмечен как необитаемый. Лежит он в стороне от оживленных морских путей! Прежде, как я узнал от одного старого моряка, на нем пытались добывать кокосовые орехи, развести сахарные и кофейные плантации, но ничего не получилось. В дни войны на каменном утесе, отделенном от острова проливом, была служба наблюдения и база для заправки кораблей — охотников за подводными лодками. Землями владеет «Юнайтед фрут». — Самое подходящее место для концлагеря, — признал метис. — Какую же помощь мы можем оказать? — В их положении самое ценное — свобода! — Но остров, без сомнения, под надежной охраной? — Тюрьма в Сан-Стефанио ведь тоже охранялась. Однако это не помешало спасти семнадцать товарищей, — возразил Реаль. Все вспомнили дерзкое проникновение в тюрьму отважных помощников Реаля, освободивших товарищей, приговоренных к смертной казни. — Это не тюремный замок, куда вы добрались на пригородном автобусе, — подчеркнул председатель. — Новые обстоятельства потребуют и нового плана действий, — сказал Хосе. — Установить связь с этим островом — нелегкая задача. — Можно другое предпринять: отправиться на остров и организовать побег, — предложил Реаль. Все переглянулись. — Это слишком рискованно! — произнес председательствующий. — Вы говорили так же, когда готовили «визит» в замок Сан-Стефанио, потом поздравляли с успехом. Помните? — Помню и повторяю еще раз: слишком рискованно! В случае опознания вас ждет верная гибель. — Она ожидает многих в случае ареста, но я что-то не замечаю бледных лиц, — отозвался Реаль. — Кроме того, Хосе Реаля нельзя опознать. Согласно официальным сообщениям полиции, его уже не существует. — Но что вы сможете сделать там один? — спросил метис. — Я и не собираюсь действовать в одиночку. На острове наши товарищи, коммунисты. Я окажусь лишь фитилем, поднесенным к пороху. К тому же можно наладить связь. Течение приносит не только продырявленные кечи, но и другие плавающие предметы. — Хорошо, — сказал председательствующий. — Хотя предложение Реаля необычное, но я о нем доложу Центральному Комитету. — И он обратился к Хосе: — Прошу к завтрашнему дню разработать подробный план проникновения на остров и налаживания связи.Э. Диас».
Глава третья
УДАЧНОЕ НАЧАЛО
Деловая жизнь в столице Южной республики затихла. Наступил час, когда дневной свет стал уступать место быстро надвигающейся тропической ночи. Высокие здания банков и торговых компаний начали терять во мгле свои очертания. Вдруг с крыши одного из небоскребов, словно стая голубей, разлетелись листовки. Кружась и кувыркаясь в воздухе, они падали на панели, на мостовые. Пешеходы хватали их и спешили исчезнуть в узких переулках. Но вот послышались свистки. Забегали полицейские. Они кого-то поймали, стали бить… Завыли сирены тюремных машин. Не прошло и получаса, как в центре был восстановлен прежний порядок, зажглись уличные фонари, и стали вспыхивать разноцветные огни световых реклам, зазывающие в игорные дома, рестораны, ночные бары, кинотеатры… С огромной афиши беззаботно улыбалась, показывая жемчужные зубы, холливудская кинозвезда с красиво изогнутыми фальшивыми ресницами. На главном проспекте появились хорошо одетые праздные люди. Послышались завывание и грохот джазов. Двери кафе и баров раскрывались настежь, столики по желанию публики выносились на улицу. Их занимали отдыхающие биржевые дельцы и маклеры, пришедшие за чашкой кофе почитать вечерние газеты, столичные щеголи с дамами, желающие утолить жажду пивом со льдом или прохладным кокосовым соком. Тут нее шныряли и чумазые мальчишки. В поисках заработка они пролезали под столики и начинали наводить глянец на обувь посетителей баров, а те лениво награждали их пинками и очень редко — монетами. По центральной площади столицы проносились автомобили, обгоняя старинные, поблескивающие лаком кабриолеты и фаэтоны в парных упряжках. Невдалеке раскинулся старый тенистый сквер. Здесь народу было немного. — А если они опознают вас, Хосе? — тихо спросила Долорес сидящего рядом с ней широкоплечего парня в грубой одежде. — Наши специалисты основательно потрудились над моим превращением в «неизвестного», а личное дело с фотографиями уже списано полицией в архив, — ответил он. — Вы действительно неузнаваемы. Особенно эти усы: они придают какое-то, я бы сказала, наивное выражение. Да вы ли это? — рассмеялась она, еще раз вглядевшись в преображенного Реаля. — Я теперь ковбой, вернувшийся на родину. С вами расстаюсь на неопределенный срок. Риск не в опознании, а в ошибке… но л не допущу ее. Через два — три месяца поселяйтесь на Позабытом берегу. Прикиньтесь болезненной горожанкой, нуждающейся в морском воздухе. По утрам, и как можно раньше, прогуливайтесь вдоль полосы прибоя и вглядывайтесь в предметы, выброшенные морем. Особое внимание обращайте на скорлупу кокосовых орехов. Шифр вам известен. Ждите вестей от Энрико. Но это, наверное, будет не скоро. Реаль вытащил бумажник и, вытряхнув все содержимое в широкополую ковбойскую шляпу, стал отбирать ненужное. — Второй паспорт навредит, — сказал он, кладя его в открытую сумочку Долорес. — Фотокарточки — тоже. Здесь четыреста аргентинских песо… гонорар за статью в прогрессивном журнале. Возьмите их, не отказывайтесь. Вам они понадобятся, а у меня — станут лишь добычей полицейских. Себе оставлю только две долларовые бумажки и несколько сентавосов. Прошу паспорт с моим новым именем. Она вытащила спрятанный на груди паспорт и сунула ему в бумажник. Хосе запихал отощавший бумажник в задний карман брюк, затем, взглянув на часы, снял их и надел на запястье Долорес. — Пусть они напоминают вам о минутах. проведенных вместе, — едва слышно произнес он. — Как коротки были эти минуты! — вздохнула Долорес. Реаль поднялся со скамьи. Встала и она. Наступил последний момент расставания. — Я скоро вернусь, и тогда… — он умолк, не решаясь закончить фразу. — Что же будет тогда, Хосе? — тихо спросила она. — Если бы вы знали, как трудно было всякий раз расставаться! Хотелось… Даже сегодня не осмелюсь… — Он неожиданно обнял ее и поцеловал. — Ждите меня. Начнем не раньше сезона дождей Я обязательно вернусь. Хосе быстро зашагал в сторону неоновых огней, мигающих на площади. Долорес видела, как он оглянулся у фонаря и помахал шляпой. — Почему ты не сказал всего этого раньше, милый и глупый Хосе? Как трудно было тебе произнести простые слова! А я так ждала их, — прошептала она. Долорес вновь опустилась на скамейку и, сжимая в руках сумочку, стала вслушиваться: не донесутся ли свистки полицейских? Прошло около получаса. К скверу вдруг приблизилась возбужденная толпа. Впереди двигались полицейские. Они вели, вернее — волочили человека с бессильно склонившейся головой. Рядом шагали двое в штатской одежде. Один из них стирал кровь с подбородка и бранился: — Чему вас только учат, ослы! В таких случаях нужно действовать решительно, а не собирать толпу. Тащите его в нашу машину; она дежурит за углом. Поравнявшись с Долорес, человек в светло-серых бриджах добавил: — А сильный, скотина! Троих разбросал! Прямо буйвол какой-то… За тайными агентами двигалась в отдалении толпа зевак. Долорес присоединилась к ним.

Полицейские дотащили арестованного к закрытой черной машине, бросили его в кузов и стали усаживаться сами. Вскоре, завывая сиреной, черная машина умчалась в темноту, озаряемую вспышками реклам. Долорес, сдерживая слезы, смотрела ей вслед и думала: «Теперь я могу сказать товарищам: «Все прошло удачное. Но какая же это удача, когда его без сознания бросили в машину! Не разбили ли они ему голову? Какие бессердечные, звери!»
Глава четвертая
НА ПАЛУБЕ ЛАЙНЕРА
Под утро депутата скотоводов дона Гонсалеса, едущего в Чикаго для переговоров, вторично выпроводили из бара лайнера. Бурная кровь потомка конкистадоров[141] звала к мщению, но природная сметливость подсказывала: «Здесь поднимать стрельбу нельзя. В море нравы крутые, не спасет и депутатская неприкосновенность». Все же он не мог спокойно стоять на палубе, — хотелось с кем-нибудь поделиться своими горестями. Палуба лайнера была еще безлюдна. Лишь у прохода к люкс-каютам за столиками под тентом сидели на шезлонгах два скучающих джентльмена. Дон Гонсалес заплетающейся походкой направился к ним и стал жаловаться. — Когда нужны деньги, — все ко мне! Туда давай, сюда жертвуй! А если я желаю плясать на столе, меня выталкивают проветриться. Да где же справедливость? Я спрашиваю. Певичкам можно, а мне, депутату, нельзя? — И он вытер слезу волосатой рукой. — Потребую в сенате внести ясность в этом вопросе. Довольно, не позволю притеснять свободных скотоводов! Секретарь! Где ты, каналья, прячешься? Из мглы парохода, откуда доносилась приглушенная музыка, появился тонконогий человек в черном костюме. Почтительно поклонившись, он остановился на изрядном расстоянии от скотовода. Джентльмен с лицом, напоминавшим замшелый, потрескавшийся камень, тотчас же пальцем поманил к себе секретаря депутата и, сделав свирепое лицо, шепнул ему несколько слов. — Хорошо, сэр, не беспокойтесь. Сею минуту, — пообещал тот. Подбежав к своему эстансьеро[142], секретарь схватил его за руку и потащил в каюту, подальше от скучающих джентльменов. — Туман, сплошной туман! — глядя на море, пробормотал краснолицый человек в светло-серых бриджах; затем он заглянул в пустой стакан и огорчился. — В этих южных морях все не по-человечески: лето зимой, а зимы совсем нет. Зато сколько угодно лихорадки. Брр! Надо бы по этому случаю еще по глотку, а?.. Но его собеседник, убрав виски со стола и указав на сифон с содовой, внушительно сказал: — Пока мы на дежурстве, — вот ваше питье! А чтобы не было скучно, расскажу назидательную историю. В ней есть даже мораль. — Валяйте! — согласился краснолицый и прикрыл ладонью невольную зевоту. — Вот так же, как и мы, в личной охране полковника Луиса подвизался один джентльмен. Звали его, кажется, Мальвини. Он был не плохим служакой, но слишком часто лакал виски, жаловался на сварливую жену и лихорадку. Однажды он исчез. Что сталось с его лихорадкой, неизвестно, но вдовушка торгует теперь в порту спичками. Рекомендую никогда не забывать о судьбе неудачника Мальвини. За бортом легшего в дрейф лайнера колыхалась молочная кисея тумана. Из бара вышла на верхнюю палубу парочка: светловолосая девушка и летчик в новом мундире, хорошо облегавшем его статную фигуру. Серебристые полоски на рукаве свидетельствовали о том, что пилот служит не в армии, а в наемном «воздушном легионе». Молодые люди направились к фальшборту и, остановись, стали любоваться затуманенным океаном. Замшелый джентльмен покосился на краснолицего. Тот поспешил сообщить: — Пилот Наварро, из легиона. Следует к месту службы. Между прочим, известный гусь: был когда-то чемпионом по плаванию. Кумир всех девиц и… никакого делового соображения. Эх, я бы на его месте давно разбогател! Глуп; мог сделать карьеру в армии, но свихнулся. — Причины известны? — Начал размышлять! Летчик явно охмелел; он слегка покачивался, но с собеседницей держался вежливо и предупредительно. Это, видимо, было случайное пароходное знакомство. Девушка, наверное, тоже выпила немного вина: она была возбуждена, теребила за рукав кавалера и говорила: — Взгляните, Рамон, как изумительно кругом! — Обыкновенный восход солнца, мисс Лилиан. Оно имеет манеру подниматься по утрам, — меланхолично ответил Наварро, закуривая сигарету. Туман постепенно расползался; вдали показался остров. Он был окружен белым кольцом прибоя, разбивавшегося на рифах. На острове росли высокие пальмы. — Так бывает лишь в сказках! — восторженно продолжала девушка. — Остров должен называться очень красиво! — Не увлекайтесь, Лилиан! — усмехнулся летчик. — Зеленый папа наверняка уже устроил на нем какой-нибудь склад копры или печи для сжигания излишков кофе. Сказок давно нет на свете! — Ах, вы не хотите понять! На таком острове должны жить только необыкновенные люди! Посмотрите, там вдали светится звезда. Скажите, Рамон, вы верите в то, что у каждого человека есть своя счастливая звезда? Ее только надо найти. — Не знаю. Вблизи я видел звезды на хвостовом оперении самолета. Они мне ничего хорошего не принесли. Моя звезда закатывается. Прошу вас, — потанцуйте со мной последний раз. Наварро бережно взял под руку свою спутницу и увел с верхней палубы. — Не возьму в толк, — возобновил прерванный разговор краснолицый. — Зачем полковник везет трех арестантов? Особенно этого… кареглазого. Ну и взгляд! Людей с подобными глазами необходимо уничтожать сразу же. Ненавижу таких. Хотел было при посадке закатить ему оплеуху, а он таким сатаной взглянул, что я даже опешил, рука не поднялась. — Сразу видно, что вас перевели к нам из полиции; слишком прямолинейное мышление, — заметил старший агент. — А наша работа требует соображения: знай, когда бить можно. — Как прикажете понимать сию премудрость? — Провожал я однажды из Управления в тюрьму арестанта. Не понравился он мне. Ну я, конечно, по пути съездил ему по роже несколько раз. — А он вам — сдачи? — догадался краснолицый. — Ничего подобного! Только коротко сказал: «Запомним!» Ну, привез, сдал и забыл о нем. Месяца через три вызывает меня полковник и говорит: «Нужен толковый сотрудник интеллигентного вида». Я щелкнул каблуками: «К вашим, мол, услугам». А в кабинете у него два каких-то майора. Вдруг один из них и говорит: «Годится вполне. Я эту морду давно заприметил, даже должен ему». Смотрю, тот самый арестант… только в форме. Полковник смеется: «Долги платить всегда полезно!» Ка-ак развернется майор… Меня даже в угол от его удара занесло. Вот какие ошибочки бывают! Я под его начальством больше года работал; многому научил. А рассказываю я вам это для науки. В нашем деле необходимо чутье, — пояснил рассказчик и налил собеседнику в фужер виски. — Следовательно, среди них могут оказаться и наши? — пришел к выводу краснолицый. — Вы удивительно догадливы! Кстати, этот кареглазый арестант — наш общий знакомый. — Мне и то показалось, что уже где-то встречался с ним. — Месяца полтора назад мы с вами задержали на площади какого-то дурня… Жалкий эмигрантишко, вернулся на родину, кажется, из Аргентины. Он пристал к полисмену с просьбой почитать вслух коммунистическую прокламацию! Должны бы вспомнить; ведь он вам тогда еще зуб вышиб! — Неужели это он? — изумился краснолицый, потрогав нижнюю челюсть. — Тогда ничего не понимаю: зачем такой болван полковнику? — Во всяком деле всегда участвуют дураки и умные; причем выигрывают лишь те, кто с головой. Полковник хитер, и просто так он ничего не делает. Запомните это! — и рассказчик многозначительно поднял па-лед.* * *
Полковник Луис во время второй мировой войны был резидентом тайной немецкой разведки в странах Латинской Америки. После поражения гитлеровцев он притаился, но ненадолго. Его ненависть к коммунизму привлекла внимание агентов Зеленого папы. Вскоре он был приглашен на секретную службу: нужно было любыми путями вести разведку в странах Центральной и Южной Америки и убирать с пути враждебные компании элементы. Служба оказалась очень прибыльной; в ней были заинтересованы, кроме «Юнайтед фрут», еще и «Стандарт ойл», «Ванадиум корпорейшен» и много других компаний. Благодаря подкупам и влиянию Уолл-стрита, он получил доступ к секретным документам и выступил в роли шефа тайной полиции многих республик. К его указаниям даже прислушивались министры внутренних дел. В это раннее утро полковник Луис смазывал маленький маузер — подарок Гиммлера, которым чрезвычайно гордился. Адъютант с прилизанным пробором, почувствовав хорошее настроение шефа, вкрадчиво спросил: — Сеньор полковник, почему вы всегда чистите пистолет сами? Я был бы счастлив… — Мы, солдаты, бодрствующие во мраке, — цветисто ответил Луис, — в своем оружии должны быть уверены в любую минуту. — Но ваше время так драгоценно, — замялся адъютант. — Есть кое-что поценнее, — ответил полковник. — Собственная жизнь! Катер с острова придет минут через сорок. Приведите ко мне этого ковбоя. Следователи, кажется, не сумели разобраться в нем. Посмотрю; может, пригодится для разведывательных целей. Адъютант вышел на палубу первого класса. Захватив краснолицего охранника, он спустился по трапу за пленником. Когда они вытолкали арестанта из камеры, он все время порывался вежливо уступать дорогу, но ничего путного из этой затеи не получилось: ковбой безбожно давил ноги, поминутно извинялся и задерживал всех. Поднимаясь по трапу, он обратился к адъютанту: — Господин старший, чего же меня домой не отпускают? — Прекратить разговоры! — прикрикнул тот. Полковник, поглядев на доставленного ковбоя, жестом отпустил всех. — Как вас зовут? — спросил он, пристально взглянув на арестанта. — Я уже всем начальникам рассказывал… Роберто Юррита! А все равно не отпускают! — Сядьте, Роберто, отвечайте на вопросы! — Сижу, тридцать лет сижу, а что толку? — пробормотал Юррита, присаживаясь на краешек стула. — Вас держат всего лишь сорок два дня, а вы уже успели надоесть всем своей феноменальной тупостью! — Как? — оживился арестант и даже заерзал на месте. — Могу я спросить, — что бы значило это словечко? — Оно означает, что ты такой дурень, какого еще никто не видывал! — объяснил полковник, всегда гордившийся своим хладнокровием. — А-а! Ну, это-то мне и прежде говорили. Некоторое время Луис пытался проникнуть во внутренний мир собеседника, но скоро убедился в бесплодности этого занятия. Арестант оказался на редкость глупым, и вытянуть из него что-либо было просто невозможно. — Н-да! Догадываюсь, как вы осточертели моим следователям! — наконец сказал полковник, вытирая платком лоб. — Так ведь не я, а они пристают ко мне с пустяками! — пожаловался арестант. — Вот когда я был гаучо[143] у дона Густаво. Да вы его, наверное, встречали. Его любая собака знает… Сдерживая нараставший гнев, Луис строго приказал: — Отвечайте только на вопросы. Кто ваши родители? — Мои родители, в том числе и мамаша, скончалась при моем рождении, а возможно, немного позже. Никто достоверно не знает, а я сам был в те дни очень маленький. Я, видите ли, бедный сирота! — сообщил арестант с подкупающей простосердечностью. — Послушайте, вы… бедный сирота! Вас арестовали за приставание к полисмену с листовкой! — Как, и вы о том же? — изумился пленник. — Сунула мне на улице какая-то девчонка пачку листиков. Я даже обрадовался: думаю, афишки насчет цирка. В цирке мне нравится: клоуны, лошади под музыку пляшут. В дверях самый настоящий генерал стоит, весь в золоте. Строгий, — у него без билета не проскочишь. Глаза арестанта разгорелись, но полковник вовремя остановил его и заставил вернуться к истории с прокламацией. — Смотрел-смотрел, ничего не понял: читаю я плохо, — продолжал рассказывать Ро-берто Юррита.->А на площади полицейский; я к нему: «Прочти, добрый человек, объясни, что к чему?» Смотрю, а у него глаза на лоб, — видно, тоже неграмотный. «Отдай, — говорю, — афишку, поищу людей поумней». И стал я эти листочки прохожим совать. Только и всего. А полицейский цап меня за ворот и давай свистеть. Тут еще двое подскочили, рожи такие — карманы береги. Один меня в зубы — я его… так и пошло. Драчунов не тронули, а меня в тюрьму. В Аргентине, правда, меня тоже за решетку водили, но к утру вытолкали, даже сна не дали досмотреть. Полковник глубоко вздохнул и опять вытер лоб. Один из следователей высказал подозрение, что вернувшийся на родину ковбой не так глуп, как притворяется. Проверка установила, что человек, по имени Роберто Юррита, действительно проживал когда-то в скотоводческих районах Аргентины и числился среди неблагонадежных. Следователей так же смущала внешность арестанта. Большой высокий лоб, серые, словно смеющиеся, чуть прищуренные глаза делали его лицо чрезмерно интеллигентным для неграмотного ковбоя. А на допросах он казался болтливым идиотом, изводящим не относящимися к делу вопросами и бесконечными рассказами. — Ваши политические убеждения? — как бы между прочим поинтересовался Луис. — Чего? — искренне недоумевал Роберто Юррита. — Ну, кому вы сочувствуете? — упростил вопрос полковник. — Католикам, анархистам… социалистам? Что нужно, по-вашему, чтобы людям жилось лучше? — Ах, вот вы о ком! — обрадовался арестант. — Значит, тоже о бедняках подумываете? Это хорошо! Вам бы с одним моряком поговорить. В десяти словах умел все объяснить: богачей, значит, по шапке, а народ сам, без них хорошую жизнь наладит… — Где этот чертов моряк? — В Уругвае остался. Звал я его с собой, а он: «Нет, — говорит, — своих дел хватит, без меня добивайтесь». — Так вот ты за каким дьяволом вернулся? Бунтовать захотелось? — А как же! Если начнется, я от людей не отстану. — Понятно! Твое счастье, что ты бедный сирота! — сказал полковник. Вглядываясь в безмятежно-спокойные глаза допрашиваемого, Луис пришел к выводу: «Наследственный идиотизм. Потому и обманчив весь его вид. Вырождение!» — Скоро ли меня отпустят, господин начальник? — спросил Юррита. — Тут все какие-то скупые, есть ничего не дают. Полковник молча подчеркнул надпись «бессрочная каторга» на сопроводительной карточке, позвонил адъютанту и приказал: — Уведите этого идиота, надоел.* * *
Туман, разгоняемый утренними лучами солнца, постепенно рассеивался. Капитан уже посылал штурмана к полковнику, по приказу которого лайнер несколько отклонился от обычного курса и лег в дрейф. Луис ответил, что по прибытии катера с острова можно будет продолжать рейс. Зная, какую роль играет полковник в этих краях, капитан не рискнул больше надоедать ему. Плюнув на расписание, он сдал вахту старшему помощнику и завалился спать. Пассажирам первого класса было безразлично, где находится пароход. Их больше интересовало местонахождение стюарда, уже разносившего по каютам виски с содовой. Все шло именно так, как и положено во время океанских путешествий. Наварро вновь появился на палубе. Он перехватил мчавшегося с подносом стюарда и попросил: — Голубчик Самбос! Три коктейля истребительного типа. Вон на тот столик, если джентльмены не возражают. Джентльмены не возражали. Стюард, польщенный оригинальным обращением, довольно быстро выполнил просьбу летчика. Краснолицый оживился. — За успех в жизни! — провозгласил он, поднимая фужер. Наварро чокнулся с ним. — Благодарю, — сказал он. — Вот именно этого мне и не хватает! — Странно! — заметил джентльмен с замшелым лицом. — Вижу первого военного, жалующегося на судьбу. Молод, красив, небеса к услугам… Чего же вам еще надо? — Честно работать и получать свои деньги. Не желаю вмешиваться в чужие дела, и пусть ко мне никто не суется! Каждый должен жить, как ему нравится! — Программа — одно восхищение! С таким мировоззрением можно далеко преуспеть в жизни. — Не выходит! — признался летчик. — Во все мои начинания под конец обязательно впутается какая-нибудь пакость. Прямо злой рок! Чувствовалось, что ему хотелось поделиться с кем-либо своими злоключениями. — Был я когда-то рекордсменом по плаванию. Сперва все шло отлично, потом вдруг ни с того, ни с сего мне предложили проиграть слабому пловцу. Эх, и славно же летел от меня антрепренер по лестнице! — За это вам, конечно, дали под зад и выгнали? — спросил краснолицый, стремясь предугадать развязку. — Нет! Просто девушка, довольно симпатичная, будто случайно оцарапала мне булавкой руку. Началась весьма странная инфекция. Пришлось плыть с распухшей рукой. Ну, конечно, как тут выиграешь! — Остроумно проделано! — восхитился джентльмен с замшелым лицом. — Стал инструктором. Думал, других научу плавать, — все меньше утопленников будет; а меня заставили развлекать в бассейне пышных дамочек. Закатит глаза этакая пышка килограммов на восемьдесят и шепчет: «Ах, держите крепче, я, кажется, тону!» А жиру в ней — топи, не утопишь! Слушатели расхохотались. Летчик, не замечая их веселья, продолжал: — Призвали в армию, сделали пилотом. Рассчитывал летать над Антарктикой. Да кому нужны мои мечты? Нанялся вот теперь в легион, буду возить гразы. — Бомбы, между прочим, тоже именуются грузом, — напомнил джентльмен с замшелым лицом. — Только работа, мистер! Я не собираюсь воевать! — решительно сказал летчик. — Какая разница, — привезете вы консервы или оружие? Винтовку возьмет другой, закусит вашими консервами и пойдет стрелять Цивилизация! — Не интересуюсь политикой, мои идеалы… — Идеалов не существует! Их выдумали коммунисты, — перебил его джентльмен с замшелым лицом. — Точно! — едва ворочая языком, подтвердил краснолицый.

Летчик вскоре покинул странных джентльменов Отойдя к фальшборту и задумчиво глядя на расползавшиеся клубы тумана, он вслух рассуждал: — А пожалуй, эти канальи правы: грузом могут быть и бомбы. Но я их бросать не буду. Внизу, у трапа, покачивался морской катер. Он только что выскочил из тумана. Это было небольшое суденышко с короткой мачтой и зачехленным пулеметом на носу. Прибывшие поднялись на борт лайнера. Чернобровый человек в черном плаще и военной фуражке доложил подошедшему адъютанту Луиса: — Капрал Варош. Прибыл по приказанию майора Чинча! Хотя он и четко выговаривал слова, но чувствовался акцент, обычно присущий людям, говорящим на не родном языке. Адъютант забрал запечатанный пакет и, приказав подождать, ушел к полковнику. Наварро тем временем, перехватив у стюарда бифштекс и графин виски, уселся за крайний столик под тентом. — Капрал, вы с этого острова? — спросил он прибывшего. — Завидую вам. Ну-ка, хлопните стаканчик, пока начальство не видит, — и он дружелюбно протянул гостю виски. Капрал не заставил себя упрашивать: оглянувшись, он произнес: — За вашу удачу, господин летчик, на земле и в воздухе! Залпом выпив виски, капрал поставил на стол стаканчик и доверительно сказал: — А завидовать, разрешите доложить, не приходится. Этот остров… он хорош лишь издали. А так — пальмы, камни да тоска. Главное — тоска. Вернувшийся адъютант поманил к себе капрала, и они по трапу спустились в трюм. Наварро опять погрузился в бездумное созерцание рассвета над океаном. Летчик не заметил, как на палубе показался высокий широкоплечий человек, сопровождаемый краснолицым джентльменом и капралом. Поравнявшись со скучающим Наварро, пленник неожиданно шагнул к его столику, схватил с тарелки бифштекс и, поклонившись, сказал: — Благодарю, сэр! Весьма признателен! При этом спокойно стал рвать бифштекс зубами. Краснолицый, зашипев, как кот, которому наступили на хвост, двинул похитителя кулаком в бок, но голоса не подал. Странная процессия молчаливо проследовала к трапу и словно растворилась. Наварро изумленно смотрел им вслед. — Сомнительно, чтобы все это мне приснилось, — сказал он озадаченно, — бифштекс только что вот тут был! Не пьяный ли его схватил? — Вдруг летчика осенила догадка: — Да он просто голоден, сидел в арестантском трюме. Стюард! Немедленно дюжину самых отборных бифштексов! Наварро вскочил. Он бы побежал за неизвестным ему голодным парнем, если бы джентльмен с замшелым лицом, сидевший невдалеке и наблюдавший за всем происходящим, не удержал его. — Не вмешивайтесь, пилот, не в свои дела, — ведь это не соответствует вашему мировоззрению. В ближайшем будущем вам вполне хватит собственных огорчений. Никто не заметил, как на верхней палубе появилась девушка в светлом плаще. Она остановилась в тени около шлюпбалки и смотрела вниз. Зарокотал мотор, послышался свисток — сигнал отплытия. В ответ прозвучал басистый гудок и за кормой зашумели винты. Лайнер и катер распрощались. Если бы в эту минуту кто-либо находился рядом с девушкой, он расслышал бы, как она, вздохнув, прошептала: — Счастливого пути, мой милый! Возвращайся скорей! На корме уходящего катера среди трех арестантов сидел широкоплечий усатый ковбой. Лишь он сумел заметить рядом со шлюпбалкой женскую фигуру в светлом плаще. Она сняла с себя шарфик и помахала ему. Полковник Луис, к которому вернулось хорошее настроение, увидев в иллюминатор уходящий в туман катер, закурил сигару и сказал пришедшему агенту из «Юнайтед фрут компани»: — Сейчас на остров Панданго отправилась довольно любопытная компания. Один из них — явный коммунист, а другой — наш тайный осведомитель. И в придачу к ним — совершеннейший дурак. Очень забавная комбинация!
Глава пятая
ОСТРОВ МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ
На огромном темно-синем небосводе тропиков, густо усыпанном изумрудными, желтыми, фиолетовыми и красноватыми мерцающими звездами, ровно и ясно сияло скромное созвездие Южного Креста. Беспрестанной чередой набегали волны прибоя на каменистые берега затерянного в океане острова Панданго и с шипением откатывались. Одинокий остров во всех лоциях был помечен как необитаемый, но эти сведения не соответствовали действительности: на Панданго уже несколько лет ссылались люди, приговоренные к медленной смерти. За пальмовой рощей раскинулся, скрытый под сенью огромных деревьев, концентрационный лагерь, начальство которого подчинялось лишь полковнику Луису. В крайнем бараке для белых, сооруженном из бамбука, тростника и пальмовых листьев, каторжники, копошась на трехэтажных нарах, готовились ко сну. Один из них, по имени Мануэль, с грустью рассматривал свои штаны. Они ничем не отличались от традиционной полосатой формы каторжников, разница была лишь в количестве дыр на парусине. — Они честно прослужили три года, Мануэль; от них нельзя ожидать невозможного, — сказал черноглазый и смуглый Жан, лежавший на верхних нарах. — Да, три года и десять дней… Вполне достаточно для человека, не говоря уже о штанах, — согласился Мануэль и положил одежду у стены вместо подушки. Оставшись в ветхих трусах, он взобрался нанары и там, подняв руку, торжественно произнес: — Будь проклят остров Панданго! Провалиться бы ему вместе с Зеленым папой, его диктаторами и военной хунтой. Аминь! Закончив странное заклинание, он трижды плюнул и улегся спать. — Ты настойчив, — заметил Жан — Я слушаю твои проклятия уже много времени; они неизменны. — Кто-то должен провалиться; либо остров, либо наши враги. Ни на что другое я не надеюсь. Отсюда не убежишь, — ответил Мануэль. Вдруг входная дверь с грохотом распахнулась под ударом чьей-то ноги. В барак вошли два стражника с автоматами в руках. — Встать! — рявкнул один из них, выпятив вперед длинную челюсть. В лагере его называли «Лошадью». У второго автоматчика на лице виднелись рубцы и лиловые шрамы, поэтому ему дали кличку «Лиловый». — Обход врача! — крикнул стражник. — Встать! Появившийся медик Эулохия Вилламба — пучеглазый и круглый, как кубышка, испанец — строго оглядел арестантов, стоявших перед ним вытянув руки по швам. Потом он взглянул на нары, туда, где лежал арестант, укрытый циновкой. — Смеет дрыхнуть в моем присутствии! — возмутился представитель милосердия и вытянул лежащего хлыстом. — Он не встанет, господин доктор. Он умер! — доложил Мануэль. — Как умер? Когда умер? — Лишь вы изволили войти, господин доктор, он и того… Видно, сердце не выдержало! — объяснил Жан. Медику почудилась в ответе какая-то ирония, но смиренный вид заключенного успокоил его, и он важно произнес: — Как рапортуешь? Слишком много рассуждаешь… Необразованные черти! — Осмотрев мертвого, врач согласился: — Да, действительно подох. Кто он? — Был когда-то человеком. Звали его, кажется, Мальвини, — отрапортовал Мануэль, презиравший соседа. В Мальвини все подозревали шпиона. — Болван, номер говори… У вас здесь нет имен! Записав номер, Вилламбо добавил: — Жаль мне вас, негодяи. Зачем только вы существуете на свете? Из полутьмы появился сгорбленный седой человек. Он снял измятую и дырявую фетровую шляпу и с поклоном произнес: — Рад вас видеть, коллега. Если будут затруднения, прошу не стесняться, обращайтесь ко мне. Никто не знал, за что этот старик попал на остров, но к нему все относились хорошо и звали его «профессором». Его старомодная вежливость в лагере выглядела нелепо; стражники потешались над ним. — А-а, ученое светило! Очень кстати, — с серьезным видом произнес медик, а стражники, предчувствуя забаву, ухмыльнулись. — А ну, господин профессор, определите, — когда подох этот тип? — Таких выражений я не признаю, — строго заметил старик. — Советовал бы и вам воздержаться. Медик задохнулся от злости. — Что? Ты мне еще указывать будешь? — заорал он. — А ну, повертись, как земля вертится! И беспорядочные удары хлыста посыпались на профессора. Жан, желая выручить старика, окликнул разгневанного медика: — Сеньор доктор! Разрешите доложить… Охота вам так затрудняться? Он же не оценит современных медицинских забот. Он же профессор старой формации! Медик остановился, пытаясь уяснить скрытый смысл этих слов. Все знали, что Вилламба был туп и зол, он ненавидел людей, которые были умнее его. Пока он размышлял, Мануэль успел подтолкнуть пришельца, и тот, надев шляпу, засеменил в другой конец барака. — Я и до тебя доберусь! — пообещал медик, потрясая хлыстом перед носом Жана. — Больно непонятно говоришь. Вы все здесь в сговоре. Перестрелять бы вас следовало, а не посылать на остров! — Топить, сеньор доктор, топить живыми! — поддержал Лошадь, говоривший с заметным немецким акцентом. Приказав убрать труп, Вилламба покинул барак. Вместе с ним ушли и стражники. Каторжники, проклиная порядки на острове, стали карабкаться на нары и укладываться спать. Вскоре в бараке все стихло. Мануэль, тронув Жана, тихо сказал: — Зачем ты дразнишь этого ветеринара? Когда-нибудь он поймет и прошибет тебе башку. Жан сжал кулаки. — Я уже не в силах переносить это, — сказал он. — Скоро кому-нибудь вцеплюсь в глотку. Через некоторое время дверь вновь распахнулась: в барак вошли капрал Варош и какой-то новичок в одежде ковбоя. — Где освободилось место? — спросил Варош. — Каторжник 14450, вот ваша койка, — и он указал на пустующее место Мальвини. Широкоплечий человек положил на нары оловянную миску, ложку, тряпку, именуемую полотенцем, и самое главное — без чего нельзя и дня прожить под палящим солнцем тропиков — широкополое сомбреро, сплетенное из волокон пальмовых листьев. — Ну что ж, — сказал он. — Гостиница приличная. Думаю, не скучно будет. Варош взглянул на новичка — все они бодрятся вначале — и, уходя, посоветовал: — Будешь держать язык за зубами — проживешь дольше. Запомни! Это не обычная каторга, а остров Панданго! — Спасибо, капрал, учту. — Новичок обвел неторопливым взглядом нары и, как бы про себя, добавил: — Никогда не слыхал о таком острове. Жан не удержался и в полудремоте пробормотал: — Новенький, поверь мне, этим островом ты будешь сыт по горло. Ложись-ка спать! Как только ушел капрал Варош, из прохода появился коротконогий человек в полосатой одежде. Он шел босиком, неся парусиновые башмаки с деревянной подошвой в руках. Прислушавшись к дыханию спящих, он приблизился к новичку и негромко сказал: — Привет мужественному борцу за наше дело… за наше общее дело, — поправился он. — Друг! Расскажи, как идет борьба там на воле. Даже крохотная весточка согревает нас. — Да здесь вроде не так уж и холодно, — ответил новичок, разглядывая гостя. Пришедший, не обращая внимания на иронию, продолжал свое: — Мы здесь измучились, устали, находясь на… на краю бездны. Надеюсь, они не дознались, что ты в компартии? Мануэль предупреждающе кашлянул, но никто не обратил на него внимания. — А ты сам коммунист, что ли? — поинтересовался новичок. Гость замахал руками. — Тсс! Зачем так громко? — зашептал он. — Здесь шпионов полно. Все подслушивают… очень нехорошие люди! Друг, прошу, остерегайся их! Новичок усмехнулся и так хлопнул пришедшего по плечу, что тот невольно поморщился. — Ладно, друг, запомню. Заходи утром, сегодня я устал. — Хорошо, хорошо… Обязательно зайду! Вот тогда мы… — Да, уж тогда я из тебя всю пыль разом выколочу, а сейчас извини, — обессилел. Впрочем, что ни сделаешь для друга. — И новичок недвусмысленно стал подниматься. Гость моментально съежился и шмыгнул в темноту. Мануэль рассмеялся; он никак не ожидал такого исхода подслушанной беседы. — К нам этот тип давно уже не суется. Быстро ты раскусил его, — сказал он, с любопытством глядя на новичка. А тот, словно не слыша его, молча стал расшнуровывать ботинки. В этот вечер, оказывается, не спали и в другом бараке. Хлопнула дверь, послышались чьи-то шаги. Появился рослый парень, богатырского сложения. На вид ему было не больше двадцати двух лет. Огромные руки неуклюже оттопыривались, а все движения говорили о большой неловкой силе. Смущенно потоптавшись, почесав широкий курносый нос, парень кашлянул и, напустив на себя строгость, приказал: — Вот что… Снимай пиджак! Новичок взглянул на силача и продолжал сидеть с равнодушным видом. Вокруг слышалось посапывание и храп. — Давай, не раздумывай! Я ж Кончеро! — сообщил свое имя богатырь. Но его слова не произвели ожидаемого впечатления на новичка. Ковбой улыбнулся и устало сказал: — Пиджак не по твоему плечу, маловат будет. Кончеро не ожидал отказа. Нахмурясь, он грозно повторил: — Неважно… Давай — и всё! В стороне какой-то арестант заворочался и страдальческим голосом посоветовал: — Новенький, не тяни волынку — отдай пиджак и не мешай спать. — Как это отдай? — отозвался ковбой. — Я не привык делать подарки незнакомым людям и не люблю, когда у меня так категорически просят. А если я не отдам, что будет? Кончеро озадаченно почесал за ухом и ответил: — Так я же сильнее всех. Как ты не понимаешь? Поколочу тебя — и всё! Ковбой осуждающе покачал головой и, словно решив подчиниться силачу, стал снимать пиджак. И вдруг произошло что-то непонятное: ковбой неожиданно выпрямился, коротким движением так ударил силача, что тот закачался и рухнул на землю. Мануэль стал тормошить Жана: — Вставай, смотри, что делается. Кончеро вскочил и бросился на новичка, но ковбой ловко уклонился от него и тем же неуловимым приемом опустил ребро ладони на напряженную шею противника. И снова силач грохнулся на земляной пол. Проснувшийся Жан склонил голову и полюбопытствовал: — Слонище, ты жив еще? Кончеро сидел с обалделым видом и трогал голову, как бы желая убедиться, на месте ли она. — Колдовство, не иначе! — бормотал он. — От такого «колдовства» иногда и совсем не встают, — решив припугнуть его, сказал Жан. — Ну, будет тебе, поднимайся! — приказал ковбой. — Не до утра же с тобой возиться! Часто такие гости заглядывают к вам? — спросил он у проснувшихся каторжников. — Эти уголовники надоели хуже Панданго. Их тут целая банда, грабят всех. — Ай, какие они нехорошие! — посочувствовал новичок. — И заступиться за вас некому? Он шагнул к поднявшемуся силачу и, смотря ему в глаза, спросил: — Тебя за такие дела ночью еще никто не брал за глотку? Кончеро простодушно мотнул головой, — нет, не брали. — Зря. Ночью, когда слоны спят, их без труда можно придушить. Подними пиджак! — прикрикнул победитель. — Я же говорил, он не по твоим плечам. Почисти на нем пыль. Вот так! А теперь ступай и подумай над моими словами. И общепризнанный силач, послушно выполнив приказание новичка, поплелся к выходу. Возле барака его поджидал однорукий уголовник. — Тебя лишь за смертью посылать, — проворчал он. — Где добыча? — Он не отдает. Ночью, говорит, когда спят слоны, их легко… — И Кончеро, запамятовав произнесенное слово, провел рукой по горлу. — Задушат! — догадался Однорукий. — Если обещали, — покупай гроб! Ложись теперь от меня подальше, а то еще перепутают! — Я же не для себя, ты велел. — Велел! Но нужно разбираться, на кого идешь. Вот задушат, — что делать будешь? — потешаясь над растерянностью силача, сказал Однорукий и тут же снисходительно пообещал: — Твое счастье, что я бесстрашный. Так и быть, заступлюсь. Над рощей поднялась луна. Блеклый неживой свет озарил остров.. Черные тени пальм заколыхались на стенах бараков. Вдали шумел прибой. Когда ушел Кончеро, Мануэль первым нарушил молчание. Порывшись в кармане, он достал кусок маисовой лепешки и протянул новичку. — Не кормили ведь? На, погрызи. — Бить били, а покормить забыли, — ответил ковбой и, подмигнув ему, стал грызть сухую лепешку. Мануэль искоса поглядывал на смуглое лицо новичка с белесыми усами и не мог вспомнить, на кого же из его старых друзей он похож. — А ты остер на язык, — сказал Мануэль ковбою. — Насчет обиженных уголовниками ловко проехался. Новичок слизнул с ладони крошки и, прислушиваясь к посапыванию Жана, негромко заговорил: — Иногда даже боевые друзья не любят метких замечаний и не узнают. Помню, пришлось в горах от полиции отбиваться. Один парень впервые ружье получил. Он зажмурил глаза от страха, ткнулся носом в землю и стреляет неизвестно куда. А другой, уже обстрелянный, хлопнул его по заду и посоветовал: «Эту часть тела опусти, а голову подними выше, тогда увидишь, в кого стрелять надо». Ну и обозлился же тот парень! Мануэль соскочил с нар, рывком схватил новичка за руку и потянул его к окну, в полосу лунного света. — Кто ты? Откуда знаешь про это? — спросил он. — Мы с тобой, Мануэль, у одного костра спали и листовки про Зеленого папу сочиняли. — Реаль! — стиснув новичка в объятиях, обрадованно зашептал Мануэль. — Пусть оторвут голову, если не ты! — Молчи. Меня зовут Роберто Юррита. Я бедный сирота. Луч луны, пробиваясь сквозь проволоку окна, падал на утоптанный земляной пол. Мануэль и Хосе устроились у окна так, чтобы их не заметили, если кто войдет в барак. На всех трех этажах нар каторжники, ворочаясь во сне, скрипели зубами, стонали, бредили. — Знаешь, Хосе, мы ведь все время ждали; думали, товарищи победят и спасут нас. Оказывается, это дело долгое. Здесь будет тяжело тебе, — все время надо быть начеку. Язык губит скорей, чем лихорадка и пеллагра. — Много ли наших на острове? — спросил Реаль. — Человек триста–четыреста наберется. Многим приходится скрывать свое прошлое. За нами охотятся шпионы. Стоит им узнать хоть что-нибудь — замучают или сумасшедшим сделают. — Веселая перспектива! А как насчет побега? — Сюда легко попасть, но уйти невозможно. — А пробовали? Мануэль безнадежно махнул рукой. — Наш лагерь обнесен электропоясом. Стоит прикоснуться к проводам — и ты готов! А если прорвешься через электропояс, с острова не уйдешь. Его охраняют быстроходные катера. Сторожат днем и ночью. Рядом с Панданго — скалистый мыс Бородавка. На нем находятся комендатура, электростанция и маяк с вращающимся прожектором. Стоят скорострельные пушки и пулеметы. Вот и попробуй бежать. — А где живет охрана? — В основном — на Бородавке. На Панданго пребывают только дежурные надзиратели и смена стражников. Живут они в помещении первого поста. Ты видел его у входа в лагерь. Высшая власть в лагере — майор Чинч, а всеми стражниками командует капитан Томазо. Свирепейшая личность! Стражники — бывшие гестаповцы, фалангисты либо убийцы, удравшие из стран народной демократии. Нас они ненавидят. — А какова связь между островом и утесом? — По дну пролива проложены электрокабель и телефон. Часто ходят катера. — Предусмотрено все, как я и ожидал, — задумчиво произнес Хосе. — Спастись отсюда собственными силами невозможно. Некоторые мечтают о помощи со стороны, но они не учитывают, что существует военно-морская база. По радио с Бородавки всегда могут вызвать военные корабли. Реаль неожиданно улыбнулся; его зубы сверкнули при лунном свете. — Я вижу, ты изучил все особенности, — негромко сказал он. — Это хорошо! — Чего же хорошего? Каждый здесь задумывается о бегстве. Но убеждается, что спасения нет. — А вот это зря! — укорил его Хосе. — Люди не из таких мест убегали. Ты сам же рассказывал мне о своем побеге со свинцовых рудников. Там тоже была стража. И все же сумели вы вырваться? — Вокруг не было океана. И бежали мы втроем. — Вас там было несколько тысяч, мой друг! Но не все были изобретательны и смелы. Дело, очевидно, в другом. И здесь нужно думать и искать… Мануэль не спал всю эту ночь. Он вспомнил давний бой в горах, свой позор под пулями и злость на соседа, заметившего, что он прячет голову в камни. Мануэль тогда рассвирепел и готов был убить насмешника, а позже… стал подражать ему. «Хосе — крепкий парень! На ветер слов не бросает. Авось вместе с ним и удастся убежать с острова. Мы же ничего не теряем, так и так — смерть».Глава шестая
ПРОИСШЕСТВИЕ НА ПАНДАНГО
Каждое утро, едва начинало светать, в лагере раздавалась пронзительная сирена. Каторжники, словно от ударов хлыста, вскакивали с нар и спешили одеться. Им надо было успеть вымыться и занять очередь в столовую, так как запоздавшие оставались голодными до вечера. После завтрака, состоявшего из тапиоковой[144] похлебки, с плодами пандануса и черного кофе с маисовой лепешкой, обитатели лагеря выстраивались на поверку. Белые — европейцы и креолы — стояли в одной шеренге, метисы с мулатами[145] — в другой, самбос[146] — в третьей. В полосатых рядах виднелось множество людей в рваной одежде. Это были новички. Они не получали казенной униформы, пока не снашивали свою собственную одежду. Окруженный автоматчиками, слегка прихрамывая, появился начальник лагеря — майор Чинч. За ним следовал черноусый капитан Томазо. Если майор всем своим видом — нависшими на глаза бровями, порыжевшими бакенбардами и широким носом — напоминал старого потрепанного льва, то «африканский капитан», так прозвали на острове Томазо, походил на злобную пантеру, готовую кинуться в любую минуту на кого угодно. Никто не видал его без хлыста, сплетенного из буйволовой кожи. Бил он им так, что шрамы оставались на всю жизнь. Варош гаркнул команду; люди замерли в строю. Из рапорта выяснилось, что за истекшие сутки ничего особенного не произошло. Четверо заключенных скончались от пеллагры, двое — от лихорадки и один повесился. Томазо зычным голосом объявил: — Начальник лагеря, наш добрейший майор Чинч, разрешает вам раз в месяц обращаться к нему с просьбами. Обращайтесь! Осунувшийся человек, преждевременно превратившийся в изможденного старика, выступил из строя и невнятно прошамкал: — Шеньор майор, я ошталшя беш шубов… Томазо щелкнул хлыстом и заметил: — Наши деликатесы и без зубов слопаешь. Подумаешь, жених нашелся! — Относительно зубов — это к врачу. Да и зачем они вам? — поинтересовался Чинч, нахмурив свои брови-щетки. — Шеньор врач выбил их ручкой от хлышта, — необдуманно сообщил старик. — Не выбил, а удалил! На то он и врач, чтобы знать, какие зубы у тебя лишние. Жалобщик! Всыпать ему десяток палок и добавить столько же за неуважение к науке. Ну, кто там еще? Новых просителей не отыскалось. Старший надзиратель, по кличке «Тумбейрос», так называли прежде португальских работорговцев, почтительно поклонился и сказал: — Сеньор майор, каторжник тысяча шестьсот третий просит вашей милости… Оборвался совершенно. Послушен, дисциплинирован. Поощрили бы, для примера остальным. Эй, итальянец! Исхудалый высокий человек выступил из рядов. Из лохмотьев у него просвечивало голое тело. Стражник почти уперся в его тощий живот автоматом. Лишь так дозволялось приблизиться к начальству, — Покорился? — спросил Чинч. — Так точно! — На колени, проси, как положено, — приказал Томазо. — Повторяй за мной: «Я, каторжник тысяча шестьсот три, униженно прошу дать мне униформу, которую я заслужил беспрекословным послушанием». Заключенный медленно опустился на колени и чуть слышно повторил слова «просьбы». Майор довольно почесал бакенбарды, видя полное унижение заключенного. — Карамба! Почему я так великодушен сегодня? — пробормотал он. — Дать этому червю новую «полосатку»! Ну, кланяйся, паршивый макаронщик! Тумбейрос отвел итальянца в сторону, для отправки на склад после развода. Чинч важно откашлялся и приступил к главной цели своего появления на утреннем построении. Вытащив список, он грозно произнес в наступившем молчании: — Каторжник пятьсот тридцать восьмой! Из шеренги вышел истощенный старик. — Почему ленишься, медленно работаешь? — Я стар и слаб, господин начальник. — Стар — подыхать надобно! Дать ему десять палок и столько же добавить за возражение! — Но ведь я ничего обидного не сказал! — взмолился заключенный. — Добавить еще пять за болтовню! Не обращая больше внимания на старика, Чинч отрывисто приказал: — Каторжник тысяча четыреста сорок третий, выйти из рядов. Наручники! Стражник ловко защелкнул на запястья побледневшего человека наручники. Майор торжествующе подошел к нему и ударил по лицу. — Взять на Бородавку! Ну, Гарсиа Пинес, нам известна твоя настоящая фамилия и принадлежность к компартии. Долго ты маскировался, но теперь не уйдешь от кары, приговор будет приведен в исполнение. Пинес, уже цепко схваченный стражниками, успел лишь выкрикнуть: — Компанейрос, меня выдал… Один из стражников ударил его кулаком в переносицу. Пинес захлебнулся кровью. Избивая, стражники оттащили несчастного в сторону. Все молчали в напряженной тишине. — Развести на работы! — приказал Чинч. Начался развод групп. Томазо, щелкая хлыстом, подгонял людей в полосатых одеждах. — Шевелись, мертвецы, быстро! Один из стражников заметил своему приятелю: «Африканский капитан» пребывает в превосходном настроении!» — А как же! Стакан рому да бутылка вермута с утра… и ни в одном глазу. Он у нас весельчак! Старший надзиратель, отправив отряды каторжников на работы в мастерские, на плантации, на рытье туннеля шахты, стал собирать группу для «промывки воды» — так назывались бессмысленные работы, которые давались политическим заключенным. — Барак номер один! Нале-во… шагом марш! — скомандовал он. Почти в конце длинной вереницы шел Хосе Реаль, успевший за недельное пребывание привыкнуть к режиму морской каторги. За ним шагали Мануэль и Жан. Поравнявшись с обитателями соседнего барака, ожидавшими отправки на работы, Мануэль шепнул: — Видишь на левом фланге горбоносого парня? Мне только что сообщили наши… это он выдал Гарсиа Пинеса! Хосе увидел кривоногого португальца, стоявшего в конце шеренги. Португалец был бледен. Вороватым взглядом он провожал стражников, уводивших человека, для которого сегодня последний раз светило солнце. — Запомним! — произнес Хосе. — И отомстим за тебя, Пинес, — поклялся он.* * *
День был жарким. Чинч грузно уселся на плоский камень под зеленую сень широкой листвы. В ожидании медика он закурил сигарету с золотым ободком. Когда-то Чинч был обыкновенным армейским кадровиком, не имевшим надежд на продвижение в Южной республике. Если бы его не послали в начале 1941 года в Испанию для приемки закупленных пушек и он не попал бы на попойку фалангистов в Малаге и не познакомился там с полковником Луисом и майором Эстеваном Инфантес, формировавшим «Голубую дивизию», то судьба бы его не изменилась. Они быстро тогда поладили. Чинч получил отпуск «по семейным обстоятельствам», причем с неожиданным повышением оклада. Он принял командование одной из рот «Голубой дивизии», состоявшей из мадридских хулиганов, барселонских карманников, алжирских пропойц и прочего отребья, выпущенного из тюрем. В окопах под Старой Руссой, после морозных вьюг и артиллерийских обстрелов, многие из фалангистов стали думать только о том, как бы скорее унести ноги с заснеженных равнин. Во время панического бегства, начавшегося после знакомства с русской «катюшей», Чинч пострадал: крупным осколком перебило берцовые кости. «Надо же назвать женским именем такое дьявольское изобретение!»- возмущался он не раз. Больше двух лет майор скитался по госпиталям и вернулся на родину инвалидом. Чинч уже не рассчитывал получить прибыльную должность, и вдруг встретил полковника Луиса. Немец узнал его и предложил место начальника секретного концлагеря, строящегося на Панданго. Чинч расценивал это назначение как вознаграждение за военные подвиги. Появившийся медик отвлек его от мыслей о прошлом. — Ох, уж эти проклятые тропики! Адская жара и отчаянная скука!.. Даже деньги не радуют! — сказал Вилламба, усаживаясь на бугорок у ног майора. — Что ж, отправляйтесь в Испанию! — ехидно посоветовал Чинч. Он знал, что Вилламба не стремился на родину, так как боялся мести товарищей по факультету, которых он выдал полиции Франко, и их родственников, поклявшихся убить предателя. — Если всех красных перестреляют, я вернусь туда, — сказал медик. — Долго вам придется ждать. На место одного появляются десятки новых. Вот в чем горе! Не повесишь же какого-нибудь интеллигентишку за мысли, которые прячутся у него в голове? Он молчит, но он против! Как быть? — Я только представитель милосердия, — сказал Вилламба и ткнул палкой выползшего краба. — Но я помогаю вам отправлять их на тот свет. — Если нельзя отрубить голову, можно прислать ее владельца на остров, — не слушая его, продолжал Чинч. — Отсюда не удерешь, писем с разоблачением в либеральные газеты не пошлешь, а главное — стражей не развратишь этими, ну, как их… идеями. У нас надежнейшая охрана! — Прохвосты на подбор! — согласился медик. — Здесь не только тюрьма с надежной стражей, но и школа для наших агентов, проникающих в коммунистические организации, — разоткровенничался Чинч. — Помимо коммунистов, которых опасно держать на материке, сюда ссылают и всех заподозренных. Отсутствие надежды на освобождение и побег, сама жизнь на каторге приводит неустойчивые натуры к необдуманным поступкам. — Да, тут свихнешься быстро. Сняв ботинки, Вилламба растянулся в тени и, прислушиваясь к разглагольствованиям майора, изредка поддакивал ему. — Надломленные и слабодушные станут работать на нас и думать, как бы снова не попасть на Панданго. Мы здесь напечем агентов, знающих все эти «марксизмы-коммунизмы». Такие будут пользоваться доверием у красных и мешать им сковырнуть нас. — Вы говорите так, словно коммунисты обязательно должны перевернуть весь мир! «Если бы у тебя было хоть каплей больше ума, то это ты бы понял сам, — подумал Чинч. — Их силы растут в Азии и в Европе». Но вслух он сказал: — Наше дело — задержать события, оттянуть революцию на многие годы. — Чего наши политики смотрят? — возмутился медик. — Я уверен, — их всех можно истребить в лагерях! — Где больше гнешь, там скорей сломается, — со вздохом заметил Чинч. — Одна надежда — на бога и силы Вашингтона. А сейчас наша задача: вышибать у красных веру в себя и плодить как можно больше в их среде ренегатов-предателей. — Верная мысль, — поспешил согласиться медик. — Сначала мне показалось, что слишком много будет шпионов. Нет! Их нужно насаждать сотнями, тысячами! — Хм! — замялся майор, почесывая бакенбарды. — Не так-то легко это делать, хотя у нас здесь тренируются лучшие пси… пси… психологи, черт возьми! Не зря же сам Луис навещает остров и меня сюда назначили. — А я почему-то считал, что вы проворовались где-то на службе и в наказание попали в эту дыру. Майор с презрением взглянул на медика. — Это кой-кому надо прятаться от полиции, — сказал он. — А для меня этот остров не наказание, а повышение по службе. Я не подчиняюсь ни одному из государственных деятелей Южной республики. А они будут лизать мне сапоги, если попадут сюда. К тому же к нам на практику прибывают люди высшего звания, чем у меня. В первый год я, не зная этого, даже съездил одного по зубам. — Знаете, я ведь тоже иногда бью, — обеспокоился медик. — Нарветесь на какую-нибудь знаменитость. Они ведь не должны отличаться от каторжников и вида не подадут. Но зато потом рассчитаются. Вот и сейчас у них появился стажер, — видно, крупная птица! — Вы бы хоть показали его. — Не могу, секретная служба. — Понятно! — вздохнул врач. — Придется поостеречься. — Не беспокойтесь, он вам под руку не подвернется. Где-то за рощей раздался выстрел. Судя по ответным коротким очередям из автомата и остервенелому собачьему лаю, это была не просто забава заскучавшего стражника, а нечто более серьезное. Вилламба вскочил; его побелевшие губы тряслись. Косясь на майора, он спросил: — По… по-видимому, кто-то из них добыл оружие? — Похоже на это, — прислушиваясь, сказал майор. Грянул еще выстрел, и послышался пронзительный вопль.* * *
«Поднимись… встань скорей!» — шептали со всех сторон каторжники, не смея помочь товарищу, так как стражник с выпяченной челюстью уже скомандовал: «Стой, ни с места!» Свалившийся на песок заключенный в рваной «полосатке» хватал ртом воздух и, задыхаясь, конвульсивно дергал ногами. Он не мог подняться, это было ясно всем; подошедший стражник, не признававший солнечных ударов, заорал: — Встать! Видя, что его приказание не выполняется, Лошадь пригрозил: — Я тебя сейчас подниму! Откинув на спину болтавшийся на ремне автомат, стражник подцепил в пригоршню песку и начал сыпать его тонкой струйкой в рот задыхавшемуся человеку. Все молчали. Лишь овчарка, не понимавшая, чт делает ее хозяин, два раза тявкнула. Заключенный сомкнул губы. Лошадь заржал и начал сыпать песок в ноздри. Стражника забавляло придуманное занятие. Он нагнулся, чтобы взять еще горсть песка, и это его погубило: невысокий креол с горящими глазами выбежал из толпы и ударил тяжелым заступом по пробковому шлему стражника. Вторым взмахом он уложил метнувшуюся к нему собаку. Сорвав с убитого стражника автомат, смельчак поставил его на боевой взвод. На помощь Лошади ринулись другие стражники. Один из них выстрелил вверх, поднимая тревогу. Креол, выпустив из автомата поток пуль, бросился в кусты цепкого терна. Вслед ему загремели выстрелы, но он успел скрыться в зарослях.* * *
С деревьев свисали зеленые лианы; они цеплялись за одежду беглеца, словно призывая остановиться, перевести дыхание. Остроконечной мушкой автомата измученный креол надорвал оболочку толстой, как корабельный канат, лианы и припал к ней пересохшими губами. Прохладный кисловатый сок немного освежил его. Лучи полуденного солнца жгли голову. Широкополая шляпа была где-то утеряна. Пришлось бросить и сандалии с деревянной подошвой, — ремешки на них оборвались. Уйти от преследователей было некуда, беглец это сознавал, но продвигался вперед, чтобы хоть немного оттянуть неминуемую развязку. Стражники не спешили приблизиться к нему: им было известно, что он стреляет без промаха. Креол решил не сдаваться; он упрямо сжимал в руке автомат. Кровь стекала сего плеча, оцарапанного пулей, но он не чувствовал боли. Его огорчало лишь одно: иссякали запасы патронов; их осталось в обойме не более двадцати штук. Путаные заросли кончились, дальше виднелись пески, камни и редкие кусты терновника. Вдали ярко поблескивали волны океана, над которыми летали белые чайки. Беглец сознавал бесполезность происшедшего, но он иначе не мог поступить. Вспомнив ненавистного всем стражника, креол с удовольствием подумал: «Наконец-то Лошадь получил заслуженное сполна. Больше он не будет издеваться». Справа внезапно взлетели обеспокоенные попугаи. Беглец стер с лица пот и стал всматриваться. Мелькнувший за кактусами белый шлем стражника дал понять, что погоня приблизилась на автоматный выстрел. Тщательно прицелившись, креол затаил дыхание и нажал гашетку. Он сразу же заметил покатившийся по земле шлем и решил забрать патроны убитого, но лай овчарок напомнил ему, что надо скорее уходить дальше. По пути беглец застрелил спущенную на него собаку и ранил надзирателя, хотевшего преградить ему путь. Креол рвался к пенящимся волнам океана. Он родился у моря и хотел перед смертью вдохнуть его бодрящий соленый воздух.* * *
Начальник лагеря и медик опасливо всматривались в сторону перестрелки. Они заметили беглеца, когда он появился у электропояса. Одновременно из рощицы выбежали и запыхавшиеся стражники, которыми командовал Варош. — Без моей команды не стрелять! — приказал капрал. — Пулемет на холм. Живо! — Варош! Почему у вас бегают каторжники? — окликнул его Чинч. — Разрешите доложить… Мне на пост сообщили, что один из них сошел с ума. Не иначе как от жары. Он уложил уже несколько человек и двух овчарок. Попросил бы вас укрыться на время. — Двух овчарок? С ума сойти! — вскричал Чинч. — Пристрелить подлеца! Креол притаился за камнями. Они были хорошим прикрытием для него, так как сзади его защищал электропояс. Появившиеся преследователи не решались приблизиться; они благоразумно прятались за стволами толстых платанов. Заключенные, стоявшие поблизости, волей-неволей наблюдали за стражниками, трусливо укрывавшимися за деревьями. — Взять живым! — вдруг передумал Чинч. — Он у меня узнает, как бегать! Двух псов… подумать только! Варош вдруг неторопливым шагом направился к беглецу. Даже видавшие виды стражники застыли в изумлении. «Не иначе, смерти ищет, — подумали многие. — Каторжника голыми руками не возьмешь». — Слушай, ты! — закричал Варош, остановившись в полсотне шагов от беглеца. — Игра твоя сыграна. Сдавайся, у тебя кончаются патроны. — Не мешайся у смерти под ногами, капрал. Оставшиеся пули не твои, — ответил ему креол. — Эй, хромой дьявол, — обратился он к Чинчу, — покажись! Тебе мало от русских влетело… Я добавлю! — Стреляйте из пулемета в него! — требовал медик, видя, как ствол автомата направился в его сторону. Первые пули, сорвав зеленоватую кору платана, просвистели в нескольких сантиметрах от виска майора, обдав его горячим ветром. Одна из пуль второй автоматной очереди отсекла медику кончик носа. Тот упал на песок и отчаянно заверещал: — Убивайте его… убивайте скорей! — Да не визжите вы, как недорезанная свинья! — прикрикнул на него майор. — Каторжник выдохся, в обойме не осталось патронов. Стражники гурьбою было двинулись к беглецу, но он в два прыжка очутился около проводов электропояса, и они в нерешительности остановились. Никому не хотелось рисковать, подойти поближе: неизвестно, что предпримет каторжник в последнюю минуту жизни.
— Компанейрос! Прощайте, братья! — звенящим голосом закричал креол. — Как твое настоящее имя? Что передать родным? — раздались голоса заключенных. Беглец вскинул голову и в наступившей тишине громко ответил: — Мать у меня в Барвосе… зовут Барбара Лескано! Скажите, что я честно прожил и умираю без страха. Прощайте, компанейрос, я расплатился за вас, как сумел. Да здравствует свобода! Он коснулся стволом автомата оголенного провода, и все невольно зажмурились от ослепительной вспышки. Потрясенные его поступком, стражники и заключенные стояли в оцепенении, лишь Варош ровными шагами приблизился к отброшенному от электропояса креолу. Затушив тлеющую полосатую куртку, он поднял искореженный автомат и пробормотал: — Как и тот… в прошлый раз! Но почему они всегда рвутся к морю? Ведь выхода нет нигде.
Глава седьмая
ОСМЫСЛЕННОЕ ЗАНЯТИЕ
За двенадцать дней жизни на каторге Реаль основательно изучил остров, затерянный в океане. Панданго и торчавшую Бородавку разделял бурный пролив шириной в полмили. Видимо, когда-то это был один остров, но за тысячи лет бури, возникавшие в океане, размыли его на две неодинаковые части. Если на небольшой каменистой Бородавке не росло ни одного деревца, то на Панданго растительность буйствовала и стремилась густой порослью занять участки, расчищенные людьми, особенно — в заболоченной части. Невдалеке от острова в океане виднелись коралловые рифы. Они делали Панданго неприступным с юга. В северной части острова, обращенной к проливу и Бородавке, находился лагерь, оцепленный рядами проволоки на белых и коричневых изоляторах. По проводам проходил ток высокого напряжения. Ограда охватывала семь квадратных километров. Внутри ее, под сенью высоких деревьев, находились бараки, мастерские, кухня и плантации, на которых уголовники выращивали сладкий картофель батат, фасоль, маниоку, маис — для каторжников — и сахарный тростник, анону[147], авокадо[148], и ананасы — для начальства. В стороне от бараков была роща причудливых панданусов. Листья этих деревьев, похожие на пальмовые, располагались спиралью, а придаточные воздушные корни росли так, что казалось, будто деревья стоят на изогнутых ходулях. Видимо, от названия этих оригинальных деревьев и произошло наименование острова Панданго. Ток в электропояс подавался по подводному кабелю с Бородавки. Там находилась подземная электростанция для нужд охраны и работы маячных прожекторов. На электропояс Реаль обратил особое внимание. Проволочная ограда была высокой, и ширина ее в самом узком месте достигала семи — восьми метров. Видимо, смертоносный ток пробегал лишь по определенным проводам. Попробуй в ночной темноте угадать, где они! И перерезать не сможешь. Кроме алюминиевых ложек да оловянных мисок, у каторжников ничего не было. Кирки и мачете[149] вечером пересчитывались и запирались под замок. С Бородавки велось непрестанное наблюдение за исправностью электропояса. В случае обрыва — прибор сигнализировал дежурному технику, в каком секторе произошло нарушение линии. Тот немедленно докладывал Чинчу о чрезвычайном происшествии и посылал электромонтеров к месту аварии. Если это происходило ночью, то прожектор обшаривал прилегающую местность. Но таких тревог за последние месяцы не случалось, ограда была надежна. Независимо от этого состояние электропояса два раза в неделю проверялось капралом Варошем, отправлявшимся в обход с овчаркой, обученной поиску подкопов. Всякая растительность с внутренней стороны уничтожалась руками заключенных. На расстоянии в двадцать метров от проводов были предусмотрительно вырублены все деревья. Через электропояс существовало два прохода. Один из них — возле пристани, в северной части острова. Там стояло невысокое здание первого поста, в котором жили стражники и капрал Варош. Для входа в лагерь одно из звеньев ограды поднималось механизмом так, что ограда оставалась под током. Второй проход находился в южной стороне лагеря; через него выводили заключенных на заготовку дров, каучука, кокосовых орехов и расчистку зарослей. Сразу же за электропоясом начиналось сплошное сплетение деревьев, лиан и кустарников. Буйно росли высокие папоротники, орхидеи, броме-леи, стремящиеся к свету из сырого полумрака леса. Казалось, что многие деревья окутаны зеленым войлоком; с их ветвей спускались до земли воздушные корни, похожие на толстую проволоку. Когда тропическая темнота сгущалась, то из зарослей доносились голоса мощного хора: зычный крик лягушек, треск цикад, пронзительный визг диких кошек, рык ягуаров, специально завезенных на остров, и бормотание попугаев. Лианы и вьющиеся растения за пределами лагеря чувствовали себя подлинными хозяевами. Сплетаясь с воздушными корнями эпифитов в густые сети, они превратили всю южную часть острова в непроходимую трущобу и подбирались к проводам электропояса. Поэтому Чинчу приходилось посылать на работу за оградой даже политических заключенных. Южный проход открывался утром по сигналу ракетой. Заключенные проходили за электропояс, и поднятые звенья колючей проволоки немедля опускались. Когда подходило время возвращаться в лагерь, надзиратель выпускал вверх ракету, каторжников пересчитывали и пропускали за ограду. Впрочем, никто не рискнул бы остаться в зарослях, в которых ютились ягуары, ядовитые змеи, крупные, очень злые и всепожирающие муравьи. Работа в душных и сырых зарослях, на вязком болоте, среди испарений гниющей листвы, изматывала истощенных людей. Но на нее все стремились, так как это был осмысленный труд. Кроме того, можно было передохнуть минутку в тени, пока не видит злобный глаз надсмотрщика, утолить жажду и голод соком молодого бамбука или дикими плодами. Срубленные сучья и деревца доставлялись на кухню. Нагруженные вязанками хвороста, заключенные, работавшие в зарослях, возвращались обычно вечером грязные, исцарапанные, но довольные.* * *
Реаль долго разыскивал Энрико Диаса, а когда встретился, — с трудом узнал его. Брат Долорес походил на старика, обросшего окладистой бородой, хотя был на два года моложе Хосе. Диас также едва признал в простоватом ковбое-усаче старого приятеля, но очень обрадовался, увидев его живым. А Реаль умышленно был сух. Он строго спросил: — Центральный Комитет интересуется, — почему вы до сих пор не организовали побег? — Видимо, были серьезные причины, — ответил Диас. — С острова не убежать, вот в чем дело. — Удобная позиция! Страна словно на вулкане, нужен каждый человек, а вы уверили себя и успокоились. Диас, видимо, сочтя упрек несправедливым, ничего не ответил. Осмотревшись, они устроились в тени под фантастически искривленным панданусом. Поблизости никого не было, надзиратель ругался на другой стороне болотца. — Ты давно здесь? — спросил Энрико, подавляя в себе чувство обиды. — Две недели. — Неужели за такое время не убедился, что ни малейшей возможности? Бегство исключено. — Возможности надо создавать. Кто-нибудь из вас думал в этом направлении? — Думали, и не мало. Спасти нас может только победа на континенте. — Сомневаюсь. Они мстительны и трусливы. В случае переворота перебьют всех, кто сидит за электропоясом. — Что же мы могли сделать? — Действовать, и как можно решительней. — Решительные люди найдутся, но без плана, который хотя бы создавал иллюзию надежды, разве поведешь на гибель? Ты что-нибудь можешь предложить? — Пока ничего, но не теряю надежды. У вас хотя бы маленькая ячейка существует? — А как же ты думал? Не знал, что ты обо мне такого мнения! — Прости, Энрико, за придирчивость. Видимо, я несправедлив. Меня злит, что многие здесь надеются не на себя, а на других. Если бы ты знал, каких трудов стоило разыскивать вас и попасть сюда! Твоя весточка, написанная солью, тоже сыграла свою роль. Реаль рассказал, как записка помогла убедить Центральный Комитет отправить его на остров. — Так, значит, ты здесь по своей воле? — удивился Диас. — А если бы угодил в другой лагерь? — Наша разведка установила, что именно сюда за последнее время новый правитель ссылает не угодных ему людей. — Одни ломают голову, как бы расстаться с островом, а другие сами лезут сюда! — уже с восхищением глядя на товарища, сказал Энрико. — Ну, дружище, ты меня потряс! Такого номера еще никто не выкидывал! — Чего не сделаешь ради вас! Давай хоть поцелуемся, чудовище джунглей! Они крепко, по-братски обнялись. — Как Долорес? — спросил Энрико. — Очень скучала по тебе. Сейчас будет ждать весточки на Позабытом берегу. — Интересно, какая почта доставит ей мои письма? — Океанские волны. Подбитое в этих местах рыболовное судно течением выбросило на Позабытый берег. Если ты бросишь в море плавающее письмо, оно может попасть в руки Долорес. — Да, но нас на выстрел не подпускают к берегу. Впрочем, что-нибудь можно будет сообразить. — Для чего ты отпустил такую бородищу? — поинтересовался Реаль. — Я здесь числюсь матросом чилийского судна. Борода помогла мне обмануть следователя. Тебя, конечно, тоже по-иному зовут? Реаль назвал свое новое имя и поинтересовался, как ведется в лагере борьба со шпионами. — Некоторых мы знаем, — ответил Диас. — Они под наблюдением. Но нужно быть начеку, ошибка грозит смертью. Хочешь, я сегодня же свяжу тебя с нашими? — Нет, мне следует остаться неизвестным. Для всех я буду придурковатым гаучо Роберто Юррита. Но ты все же шепни своим, что наостров прибыл представитель Центрального Комитета для организации побега. Это может поднять дух. Для нашей связи я постараюсь подобрать надежного человека, но ты все же проверь его. У вас в каждом бараке есть свои глаза? — Да, не сомневайся, проверим. — Ну, я очень рад встрече. Действуй; связного я пришлю. До следующего раза! Хосе крепко сжал руку Диасу, и они, условившись о пароле, разошлись.* * *
Реаль внимательно присматривался к окружавшим его людям и отбирал пригодных для борьбы. Первым его помощником стал Мануэль. Его он и свел с Диасом. Тот нашел общий язык с докером и после двух продолжительных бесед сказал Хосе: — Ты подыскал способного ученика, подойдет. — Смену готовлю, — отшутился Реаль. Товарищи Мануэля скоро стали друзьями Хосе. Они любили наблюдать, как этот ловкий и сильный парень дурачит стражников и надзирателей, прикидываясь простоватым ковбоем. С первых же дней к Реалю привязался пилот южной авиакомпании Паоло Эскамильос — сухощавый, мускулистый крепыш, с орлиным носом и тонкими подвижными чертами лица. Паоло вместе со своим механиком- метисом Паблито Ачукарро — в вечерние рейсы нередко сбрасывали листовки на города, попадавшиеся по пути. Полиция долго не понимала, откуда в далеких селениях по утрам появляются воззвания против военной хунты, отпечатанные в подпольной типографии. На поиски отправились специальные агенты. Один из них заметил, что листовки летят с большой высоты, после того как в темноте пролетел рейсовый самолет. Он немедля позвонил по телефону. В тот же вечер приземлившийся самолет обыскали. Сыщики, конечно, никаких листовок не обнаружили, но это не смутило тайную полицию. Пилот и механик были сосланы на вечную каторгу. Паоло Эскамильос любил шутить с Жаном и отличался умением не унывать при любых обстоятельствах. Смущала в нем только вспыльчивость и петушиная задир-чивость. Если бы не его друг моторист Паблито, в характере которого сохранились привязанность, осторожность и благородство предков-индейцев, то Паоло не раз был бы избит надзирателями или уголовниками. Цвет кожи у Паблито, несмотря на то, что он был метисом, мало чем отличался от чистокровных испанцев, Ачукарро лишь казался более смуглым. Паблито мог без слов просидеть весь вечер рядом с пилотом, опиливая камнем какую-нибудь деревяжку. Его руки не могли оставаться без дела. Но стоило Паоло задержаться после работы — механик не находил себе места и отправлялся на поиски. При столкновениях с уголовниками рядом со вспыльчивым Паоло неизменно появлялась спокойная фигура Паблито со скрещенными на груди крупными руками. Увидев его кулаки, всякий понимал, что шутки будут плохи. Механик Ачукарро всегда был спокоен; казалось, никто не может вывести его из равновесия или заставить произнести длинную речь. Он отличался молчаливостью. Иногда случалось, что Паблито оставался единственным слушателем в компании лагерных друзей, так как все они норовили говорить одновременно, с присущим южанам темпераментом и горячностью. Четвертым человеком, заинтересовавшим Реаля, был веселый шутник француз Жан Офре, прадед которого после разгрома Парижской Коммуны бежал в Южную Америку. Офре рассказывал забавные истории о старике, упорно сохранившем на другом полушарии национальную самобытность и ненависть к угнетателям. С юных лет Жан плавал на грузовых судах, вывозивших фрукты и копру. На Панданго он попал за то, что скрывал в трюме бесплатных пассажиров, желавших убежать за границу от расправы агентов Зеленого папы. Жана в бараке любили за легкий характер, за умение веселой историей и остроумной шуткой скрашивать жизнь на каторге. Вечером после ужина Реаль сидел прислонясь спиной к стволу пальмы и дремал. Теперь он уже втянулся в изнурительный режим каторжных работ, но первые дни изматывался так, что едва держался на ногах. Вблизи, на песке, сидели Мануэль, Жан, Паоло и Паблито. Паоло, проработавший день в зарослях, рассказывал удивительную историю: стражник Фиолетовый заметив, что «профессор» бросил работу и занялся своей рваной шляпой, хотел было огреть его плетью, но кто-то возьми и крикни: «Не тронь больного человека!» Еще недавно подобное вмешательство могло бы дорого обойтись. А тут вдруг стражник опасливо схватился за автомат и, трусливо озираясь, отошел в сторону, бормоча что-то про себя. — Не совесть ли проснулась? — допытывался Жан. — Может, в святые метит? Реаля заинтересовало: какой же вывод сделают его друзья? Его радовало, что они постепенно избавляются от мертвящего безразличия ко всему. — Стражники действительно несколько утихомирились, — заметил Мануэль. — Молодец Джиованни Лескано, он втолковал им, что кирка в руках решительного человека — грозное оружие. — Скоро и я свихнусь от бессмысленной работы, — сказал Паоло. — Нельзя же в здравом уме носить песок под пальмы, когда знаешь, что завтра тебя же заставят перетаскивать его обратно. В руднике хоть польза какая-то. — На это они и рассчитывают, Паоло, — ввязался в разговор Реаль. — Им надо на нелепой работе духовно измотать человека. Стоит сделать труд осмысленным — и все станет на место в твоем мозгу. Ты даже ощутишь некоторое удовлетворение. Жан с явным сомнением откашлялся. — Представь, — продолжал Хосе. — Товарищи по побегу предложат кому-нибудь взобраться на высокую, почти неприступную гору… — Полезу первым! — перебил его Паоло. — Рад слышать! — улыбнулся Реаль. — Но одних слов недостаточно, хотя и сказанных от души. Вообрази, что от этого зависит судьба товарищей. Ты должен будешь и бежать, и карабкаться, и подтягиваться на руках. Никто не поддержит, если ослабеешь в пути, уставшие мышцы изменят, ты подведешь друзей, потому что не укрепил мускулов, не подготовил себя. Жан смущенно почесал взлохмаченную голову, а Мануэль подхватил мысль: — Не бесполезный труд, а тренировка — подготовка к побегу. Вот в чем сила! Теперь и остальные уловили идею Реаля. Жан вдруг схватил крупный каменный обломок и, приседая, начал выжимать его над головой. — Да я через месяц тяжелоатлетом сделаюсь, — пообещал он под общий смех. — Ну, теперь-то и на меня не нарадуются! Становлюсь самым старательным пересыпателем песка! — воскликнул Паоло. — Отныне самая идиотская работа — сплошное удовольствие для меня! — Значит, у нас теперь не каторжная работа, а сознательная физическая подготовка? — обрадованно спросил Мануэль. — Это надо будет еще кой-кому сообщить. Довольная улыбка расплылась и на лице механика Паблито.Глава восьмая
ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ
В деревне рослый Кончеро слыл за смирного и добродушного юношу. Вместе с дедом они обрабатывали мотыгами клочок потрескавшейся каменистой земли, засевали его и на своих спинах в бочонках таскали воду для поливки. Выращенных овощей, клубней маниоки, маиса и фасоли им хватало на год. Лишь месяц или два они батрачили у эстансьера дона Хименеса. Богатому эстансьеро вздумалось согнать нищего деда с насиженного места. Весной он приехал с судейским чиновником и, хлестнув плетью по земле, сказал: — По старому плану этот участок входит в мои владения. Что же ты молчал, старый каналья? Думал, я не замечу пропажи? — Нет, не думал, — ответил дед. — И чужого никогда не брал. Вы же знаете, сеньор, что ваш достопочтенный отец — старый дон Хименес — перед святой мадонной обещал… Я до сих пор помню его слова: «Если сделаешь каменную осыпь пригодной для посевов, пятая часть — весь этот клин на террасе — будет твой». — Я такого разговора не слышал. И к тому же, какое значение имеют пустые слова, если сделка не оформлена на бумаге? — Они для меня не пустые! — вскипел дед. — Я сорок лет себя и родных не жалел. Мы каменную стену выложили, чтобы гора не осыпалась, землю в корзинах таскали. Жена от воловьей работы кровью изошла, сын и невестка надорвались. Еще не известно, кто из нас каналья и кто кого обокрасть хочет! — Будь поосторожней в выражениях, старая падаль! — наливаясь темной кровью, повысил голос дон Хименес. — Иначе я взыщу с тебя за сорок лет аренды и прогоню, как бродячую собаку. Но разве остановишь жителя гор, когда дело идет о земле, добытой потом и кровью? — Сам ты бешеная собака! — вспылил дед. — Убирайся с моей земли, пока я не взял самопал! И он приказал внуку принести ружье. Юноша не мешкая бросился в дом, схватил старинный самопал, с которым охотился на кроликов, бесчинствовавших в огороде, зарядил его свинцовой пулей и выбежал прогонять пришельцев. Пока он возился с ружьем, Эстансьеро успел ударом кулака сбить деда на землю. Увидя, как взбешенный дон Хименес избивает плетью лежащего старика, Кончеро в отчаянии прицелился в него и выстрелил. Свинцовая пуля снесла череп дону Хименесу. За это Кончеро схватили, несколько месяцев держали в тюрьме и сослали на каторгу. А здесь, на Панданго, никто из политических не заинтересовался юношей, попавшим в барак к уголовникам. «Раз убийца, — значит, бандит», — решили многие. В бараке Кончеро стал обрабатывать однорукий гангстер, подбиравший себе крепких телохранителей. Верховодя в шайке головорезов, инвалид властвовал среди уголовников и запугивал политических. Неприязнь к однорукому гангстеру переносилась и на Кончеро, его всюду чурались и презирали. Однажды вечером, когда Реаль и его товарищи отдыхали после тяжелой работы на куче хвороста за кухней, неожиданно появился Кончеро. Силач осунулся за последнее время, ходил каким-то вялым, с опущенными плечами. — Идет требовать реванша, — определил Жан. — Не завидую ему, — добавил Мануэль и на всякий случай взял увесистый обрубок корневища. Остальные тоже были настороже. Общее дело сплотило их в решительную группу. Реаль выжидающе смотрел на противника. Судя по измученному лицу с запавшими глазами, тому было не до реванша. Потоптавшись на месте, Кончеро потупился и спросил: — Когда же вы дошить придете? Вопрос был задан совершенно серьезно; поэтому все невольно засмеялись, а Реаль ответил: — Все никак собраться не можем. Подожди немного. — Сколько же ждать можно! — рассердился Кончеро. — Больше месяца не сплю… Устал я. Однорукий все дразнит: «Раз грозились, — обязательно явятся. Спи одним глазом». А я не умею одним… Каждую ночь жду. Простодушный силач, измученный бессонницей, вызвал у Реаля жалость. — Ладно, спи спокойно, — сказал он — Мы раздумали тебя душить. — Одни говорят — задушат, а другие — вроде раздумали! — Не мог остановиться Кончеро. — Что же получается? Сплошной обман! Есть ли тут честные люди? И он, требуя справедливости, уставился воспаленными глазами на Реаля. Тот, указав на пустующее место рядом, пригласил: — Садись, потолкуем. Дружелюбный тон удивил Кончеро. Несколько смущенный, он уселся рядом. Реаль предложил: — Рассказывай: кто ты и откуда? Кончеро не очень последовательно, но честно и без утайки поведал несложную историю своей двадцатилетней жизни. — Значит, кроме Однорукого, никто здесь с тобой по душам не говорил? — Никто! — вздохнул силач. — Все зовут меня «бандидос». — Это действительно несправедливо, — согласился Реаль и с укоризной посмотрел на Мануэля. — Не сумели тут наши компанейрос приглядеться к тебе. Но ничего, попробуем исправить оплошность. Давай руку на дружбу! Кончеро показалось, что он ослышался. Но рука дружески была протянута к нему. Силач обрадовапно схватил ее и горячо стиснул. — Так вы вправду душить раздумали? — Ну, конечно. Ты же славный парень! Такой же трудовой человек, как и мы. Из-за чего нам ссориться? Если будет время, заходи, ты нам по душе пришелся. — Обязательно зайду. И гостинцев притащу. Спасибо, компанейрос! Век не забуду… Спасибо!* * *
Кончеро был кухонным рабочим в столовой для заключенных. Едва начинал розоветь горизонт над океаном, как он спешил под навес к примитивным каменным очагам и возвращался в барак лишь вечером. Определяя его на эту должность, майор Чинч изрек: — Он настолько глуп, что его никакой идиотской работой не проймешь. А котлы ворочать сумеет. Помощники не потребуются. И действительно, исполнительный Кончеро трудился за пятерых. Чтобы поддерживать в нем силы, повара давали парню очищать котлы, в которых варилась тапиоковая размазня или маисовая каша. Теперь, после мытья котлов, Кончеро спешил под пальмы, разыскивал Реаля и отдавал ему сверток с маисовыми пригарками. Они были большим подспорьем для истощенных, вечно голодных каторжников. Глядя, как новые знакомые по-братски делят принесенную еду, Кончеро прислушивался к их разговорам. Он не все понимал из того, что они говорили меж собой, но ему эти веселые парни нравились и вызывали желание подольше побыть с ними. Случайно Реаль выяснил, что Кончеро совершенно неграмотен. Он пристыдил силача и велел Мануэлю заняться им. Тот охотно взялся. По вечерам парни садились в сторонку. За неимением карандашей и бумаги, Мануэль палочкой выводил на земле аккуратные буквы, а Кончеро, шевеля высунутым языком и потея от усилий, срисовывал их. Силач старался запомнить буквы. И когда ему удавалось без подсказки изобразить на земле хоть одну, он готов был задушить Мануэля в объятиях. Вскоре майору Чинчу доложили о появлении на песке, на дорожках и даже на прокопченных котлах загадочных знаков, напоминавших буквы. Начальник лагеря обеспокоился; он сам ходил на места появлений таинственных знаков и приказал доносчикам выследить не только «пачкунов», но и тех, кто приглядывается к надписям.* * *
В один из вечеров Мануэль встретился со старым приятелем. Перед ним на камнях сидел оборванный, измученный человек со впалой грудью. Его огромные, горящие беспокойным блеском глаза, казалось, занимали половину исхудалого лица, изрытого глубокими оспинками. Это был школьный товарищ и сосед по двору — Алонзо Альварец. Они узнали друг друга в очереди за похлебкой и условились встретиться за бараками. — Они не сумели дознаться, что я в компартии, — озираясь, торопливым шепотом говорил Альварец. — Меня очень били… до сих пор кашляю. Здесь поместили в третий барак… на работы гоняют в заросли. Я не раз приглядывался к тебе… думаю: «Удивительно похож на покойника Мануэля», а подойти не решался. Хорошо, что ты первым заговорил. Как же так случилось? Ведь когда бежали со свинцовых рудников, тебя подстрелили… ты тогда не доплыл. — Да, я был ранен… течением занесло далеко вниз. Но вас, кажется, всех переловили? — Не всех… мне удалось уйти. Я стал нелегальным. Марион не верила в твою смерть и со мной не хотела разговаривать. Вздорная она у тебя. — Да-а, ты ей чего-то был не по вкусу! — согласился Мануэль, вспомнив, как жена уговаривала его больше не связываться с Альварецем. «Рябой иным стал, — убеждала она. — Смотреть в глаза не может и лебезит, словно слизняк. Я не хочу, чтобы он знал твое новое имя. Такие предают. Будь для него погибшим». Чудачка Марион! Ведь это каторга, побои и тюрьма сделали Алонзо не похожим на себя. Он пострадал больше других, в двадцать восемь лет похож на старика. — Я всегда был неприятен женщинам; лицо словно гвоздем поковыряно, — уныло глядя в сторону, продолжал говорить Альварец. — Им больше здоровые и красивые нравятся. Впрочем, нечего больше об этом, нам осталась лишь медленная смерть под пальмами. Мануэль понял, что друг детства впал в уныние и видит все в мрачном свете. А ведь когда-то он был самым изобретательным сорванцом. Сколько чужих садов пострадало от их налетов! А мечты юности? Разве о таком конце они думали? И Мануэль, жалея Альвареца, шепнул: — Не унывай: мы, кажется, скоро покинем этот остров. Но школьный друг, ни во что не веря, безнадежно махнул рукой. — Какой-нибудь провокатор или шпион подыскивает простаков, — сказал он. — Ты отлично понимаешь, что спастись отсюда невозможно. — Прежде и мне так казалось, — сознался Мануэль. — Но, слава богу, нашелся человек, который вправил мозги. Не сомневайся, а главное — не отчаивайся. Собери свои нервы в кулак. Сердце разрывается, когда видишь тебя в таком состоянии. Поверь, мы скоро будем свободны. Он не заметил, как дрогнули кончики пальцев у собеседника и глаза еще больше потемнели. Альварец оглянулся и приглушенным голосом спросил: — Так это не шутка, Мануэль? Сумели наладить дело с охраной, да? Ты не забудешь меня? — Алонзо, возьми себя в руки! Ну, как я забуду о товарище? Разве ты бы покинул меня в беде? — Никогда! — клятвенно заверил Альварец. — Разве можно изменить дружбе юности? Мы же четверть века знаем друг друга. Значит, это побег? А чем я могу помочь? Оружие у вас есть? За деревьями послышался какой-то неясный шум. Мануэль жестом остановил его. — Ничего не нужно… пока я не скажу. Не беспокойся, ты будешь предупрежден. Сюда идут. Альварец вновь оглянулся и, заметив показавшихся на дороге стражников, поспешно юркнул за куст терновника. По дороге от первого поста шли конвоиры-автоматчики и с бранью подталкивали связанного парня, одетого в мундир летчика. Шествие замыкал стражник Лиловый и майор Чинч. У начальника из под тропического шлема на левом глазу виднелась марлевая повязка. Приблизясь к утоптанной площадке, где обычно после ужина сидели и лежали под пальмами заключенные, Лиловый скомандовал остановиться. Майор вышел вперед. Все лагерники моментально повскакали и вытянули руки по швам. Раскрасневшийся Чинч, скривив шею, оглядел площадку одним глазом — нет ли где не уважающих начальство — и приказал развязать пленника. Конвоиры поспешили срезать веревки. Летчик, видимо не чувствуя затекших рук, пробовал шевелить пальцами, но они плохо подчинялись ему. Заключенные молчаливо разглядывали новичка, доставленного с такой помпой. Судя по ссадинам и кровоподтекам, он чем-то заслужил особое отношение к себе. Это был атлетически сложенный парень. Голубой мундир со споротыми нашивками плотно облегал его мускулистый торс. Майор Чинч откашлялся и, выставив вперед ногу, выкрикнул: — К сведению коммунистов! Этот фрукт участвовал в подавлении мятежа, так сказать, сбрасывал напалмовые бомбы на ваших единомышленников. Разрешаю поступить с ним, как вам заблагорассудится. Наказаний не последует. Новичок выпрямился, с презрением оглядел майора и его свиту. Потом вдруг неожиданно рассмеялся и, подмигнув Чинчу, сказал: — А здрово я вам влепил, господин майор! За провокацию следовало бы еще добавить. — Молчать! — заорал Чинч. Машинально поправив бинт, он вновь обратился к заключенным: — Уголовники! Кто из вас желает получить отдых на три дня, может доложить о случайной смерти этого негодяя. Новичок, выслушав начальника, неодобрительно покрутил головой и попросил: — Господин майор, не могли бы вы на одну минуточку подойти поближе ко мне? Всего на минуточку! Чинч побагровел и, дрыгая от злости укороченной ногой, рявкнул: — Заткнуть глотку нахалу! Лиловый ударом жилистого кулака сбил с ног летчика. — Каков негодяй! — не мог уняться Чинч. — Жрал-жрал казенный хлеб, а как отрабатывать, — струсил! И ждать от тебя нечего. Повесить мало! Неделю отдыха тому, кто доложит мне, что он сам кинулся на электропояс. Майор повернулся и, сильно прихрамывая, пошел в сторону. За ним, оставив на земле пленника, двинулись на почтительном расстоянии стражники. Заключенные, не приближаясь, разглядывали новичка. Слишком необычным было его появление. Летчик поднялся, стер с губ кровь и выругался. Небольшие черные усики придавали его лицу задорное выражение. — Кто ты, новенький? — наконец спросил Паоло. — Меня зовут Рамон Наварро. Был пилотом легиона. — С какими песнями залетела к нам воздушная пташка? — поинтересовался Жан. Летчик пренебрежительно оглядел его и не спеша ответил: — Мои песенки для меня. Сам пою, сам слушаю! — Сугубый индивидуалист, значит, — определил Паоло. — Почему доставили с таким почетом? — Начальству виднее, — уклончиво ответил новичок. Мануэль ближе подошел к задиристому летчику. — Мы бы хотели знать, — за что вы попали сюда? — сказал он. — Умнеть начал. Вот и прислали… для завершения образования. — Уж не ты ли майору глаз подбил? — поинтересовался Жан. — Пустяки! Один раз только стукнул, больше не дали! Новичок сказал это так просто, что никто не выразил сомнений. Паоло даже присвистнул. Зная нрав Чинча, было удивительно, что летчика не прикончили сразу. — Чем же он не по вкусу тебе? — спросил Жан. — Не один он, многие. По глупости я подписал контракт с Воздушным легионом. Работа по специальности: полеты на старых американских калошах, занятие для начинающих самоубийц. Паоло и Паблито понимающе закивали головами, а новичок продолжал: — В легионе вздумали отправить нас с напалмовыми бомбами против взбунтовавшихся парней. Я отказался. «Не интересуюсь, мол, политикой». Меня в трибунал! «Ты коммунист?» Ну, какой же я коммунист? Мне даже смешно стало. Я просто человек, не желающий стать убийцей. А они твердят: «Коммунист!» Ну, я тут сгоряча и закатил одному. А ваш майор за другое получил. Он мне предложил подружиться с коммунистами. Они будто ко мне должны хорошо отнестись. — А тебе что, коммунисты не нравятся? — продолжал интересоваться Жан. Рассказчик вспылил: — Одно к другому не имеет отношения. Он хотел, чтобы я сообщал ему обо всех разговорах. Обещал хлопотать о помиловании. Ну тут я ему и съездил. Новичок нравился заключенным. Реаль вполголоса сказал: — А он ничего парень! Им, видимо, заинтересовано начальство повыше Чинча, иначе хромоногий сам бы разделался. — Ну и приземлился же я! — вслух высказал невеселую мысль летчик, оглядев лагерь. — И надолго мы с вами? — Видишь, каждому тут свое, — ответил Паоло. — Тебя лагерное начальство не тронет до прибытия полковника. Он главный вершитель грязных дел. — А что случится, когда появится этот чертов полковник? Мне о нем и майор что-то бормотал. — Расстреляют, если не согласишься шпионить, — пояснил Жан. — Битье майоров не одобряется. Летчик взглянул на чаек, летавших над морем. — Н-нда! — протянул он. — Перспектива не веселая. Придется подумать о чем-нибудь другом. — Это было бы лучше всего, — словно уловив ход его мыслей, вставил Реаль. Летчик повернулся к нему, он был удивлен. — Что лучше? Я ведь ничего определенного не сказал. Хосе усмехнулся и негромко спросил: — Ты надеешься убежать? — Ну и островок! — восхитился Наварро. — Даже мысли чужие читать умеют! Все рассмеялись. Летчик все больше и больше нравился друзьям. — К сожалению, твое желание неосуществимо, — чтобы подзадорить его, сказал Реаль. — Удрать не дадут. — Ну, это мы еще посмотрим! — ответил новичок и взглянул на пролив, пенившийся за смертоносной оградой. — А птичка-то с огоньком! — заметил Мануэль. — Он, видно, из тех, кто в гору своим путем карабкается. На дорожке показался однорукий гангстер со своей бандой. За последнее время уголовники не связывались с обитателями политических бараков, умевшими постоять за себя. Весьма кстати с другой стороны появился Диас с группой товарищей. Пришельцы очутились между двух огней. Однорукий поглядел на летчика и пальцем поманил к себе. — Эй, красавчик, идем с нами, я тебе кое-что шепну. Раздался смех уголовников. Наварро презрительно сплюнул: — Лучше ты подойди, я тоже найду, что шепнуть. К летчику было двинулось двое гангстеров, но Реаль преградил им путь. — Не торопитесь, сперва мы с вами побеседуем. Поняв, что парни здесь собрались решительные, уголовники присмирели. — Вы сейчас же уберетесь отсюда! — продолжал Хосе. — А если еще кто пожалуется — терпеть больше не станем. Ночью выведем из барака и бросим на электропояс. Понятно? И что бы ни случилось, начнем с тебя, Однорукий. Предупреждаю. Однорукий оглянулся и, увидев, что банда притихла, наигранно сказал: — Анархистов обижаешь! Я ведь сам руку на революциях потерял. Но тут вмешался в разговор прибежавший на выручку друзьям Кончеро. — Обман, — сказал он. — Говорил, что ночью во время грабежа руку оттяпало. — И ты, теленок, с ними? — обозлясь спросил гангстер. — На тебе еще не ездяг? На ослах всегда надо ездить! Сказав это, он повернулся и пошел в сторону. За ним двинулась и вся банда. — Мануэль, а иногда драться можно? — тихо спросил Кончеро. — Можно, только не горячась, — ответил тот. — Отведите летчика в наш барак, — сказал Реаль. — Пусть отлежится. Когда новичка увели, Реаль задержал Мануэля. — У тебя приятель отыскался? — спросил он. — Да я не успел рассказать тебе об Альвареце. Он был моим хорошим другом. — Был? А сейчас ты уверен в нем? Нам нужны вполне надежные люди. Почему ты считаешь его своим другом? — Я знаю Алонзо с детства. Мы вместе работали… Мануэль вспомнил первые поручения партийной ячейки: патрулирование в дни забастовок, расклеивание листовок, арест. — Я головой ручаюсь за него, Хосе, — сказал он. Они дошли до электропояса. Отсюда отлично были видны просторы океана и Бородавка. С недавнего времени это место полюбилось Реалю; все беседы он вел здесь. — То, что задумал один, всегда может разгадать другой, воспользовавшись ничтожной ниточкой, -продолжал Хосе. — Иногда одно слово может погубить всё. — Я понимаю это, но при чем тут мой друг? — тихо спросил Мануэль. — Когда я был доставлен на Бородавку, вместе со мной привезли еще двоих. Нас бросили в подвал. Там я пригляделся к Альварецу. Он безвольный человек. Не знаю, каков твой друг был прежде, но сейчас- явно ненадежен. Ты расстался с ним давно. Дружбу надо ценить, но не мешает сначала присмотреться — не изменился ли он? По дружбе ты, конечно, намекнул о наших надеждах? Мануэль вспомнил, что он говорил Альварецу. Реаль укоризненно покачал головой. — Теперь при встрече объясни ему, — сказал он, — что твои слова были лишь дружеской попыткой ободрить. Свобода придет, но не раньше победы на материке. Мы не имеем права рисковать, а польза от него сомнительна. Ясно? — Понятно. Следующий раз буду осторожнее, — пообещал Мануэль.Глава девятая
В ГРОЗОВУЮ НОЧЬ
Утром большую сборную группу заключенных отправили на расчистку зарослей, подступавших к ограждениям лагеря. В передних рядах колонны Реаль заметил бороду Диаса. «Хорошо, что будем вместе, — подумал он. — Энрико поможет бросить в ручей шифровки». В карманах его пиджака были спрятаны три небольшие пустышки кокосовых орехов. Их добыл ему у индийцев в шестом бараке Паблито. Он сам залепил отверстия, через которые был выпит сок, и на скорлупе вырезал значки шифра. Миновав мастерские, где уголовники выделывали шляпы из волокон пальмовых листьев, кокосовые пуговицы, циновки, ткани и грубую материю для униформы каторжников, колонна заключенных подошла ко второму выходу лагеря. Здесь надзиратель пересчитал всех, вытащил пистолет-ракетницу и выстрелил в сторону Бородавки. Зеленая молния взвилась в небо. Через несколько минут на маяке каменного утеса вспыхнул и погас прожектор. Это обозначало, что сигнал замечен. Затем медленно поднялись вверх одно за другим три звена колючего ограждения. Образовался длинный и узкий проход. Прожектор на Бородавке мигнул три раза: «путь безопасен». Первыми прошли за электропояс два автоматчика, за ними цепочкой двинулись заключенные. Реаль принялся считать шаги. Ограда на изоляторах здесь достигала десяти метров н высотой была в полтора человеческих роста. В нескольких шагах от нее начинались густые заросли. Надзиратель Тумбейрос, разделив заключенных на небольшие группы, приказал начисто уничтожить буйную поросль, подступавшую к ограждениям. Каторжники делали вид, что они с рвением выполняют его приказание, а на самом деле старались вырубать лишь зеленые побеги, оставляя корни почти нетронутыми, чтобы через две — три недели здесь вновь появилась молодая поросль. День был жарким. Слражников, державших на коротких поводках овчарок, разморило на солнце. Один за другим они устраивались в тени деревьев и наблюдали из своих укрытий. Если кто из каторжников удалялся дальше канавы, прорытой для осушки болота, то его настигала выпущенная овчарка. Реаль взмок в пиджаке, но не снимал его. Дождавшись, когда Диас потащит в общую кучу срубленные ветки, он схватил в охапку хворост и направился туда же. Сойдясь, они мигнули друг другу, и Реаль шепотом спросил: — В каком состоянии ручей? Если что-нибудь бросить, уплывет в море? — Навряд ли, — вода в канаве застоявшаяся. Но сегодня прит, — видимо, будет ливень. Тогда все поплывет. Кстати, если вечером начнется гроза, мы собираемся в пан-данусовой роще. Скажи слово от имени Центрального Комитета. — Хорошо, — согласился Реаль. — Только условие: никто не должен знать, под каким именем я здесь скрываюсь. На собрание приду замаскированным. Не возражаешь? — Правильно, до времени тебе незачем открываться. А почему ты интересуешься ручьем? — Сегодня надо послать первую весточку Долорес. Если сумеешь, брось эту пустышку в канаву. Реаль незаметно передал Диасу один из кокосовых орехов. Тот спрятал его за пазуху и ушел. Работа по расчистке полосы болот у электропояса была не легкой. От тяжелых испарений и запаха трав кружилась и болела голова. Босые ноги то и дело попадали в муравьиные проходы и кучи. Крупные муравьи, величиной с финик, кусались до крови, а мелкие так жалили, что тело охватывал нестерпимый зуд. Часто встречались змеи, выползшие на солнцепек. Ядовитых гадов каторжники тут же убивали мотыгами и палками. Реаль, орудуя мачете, шаг за шагом приближался к канаве. Пот заливал ему глаза, от жары пересохло горло. Пожевав сочной мякоти молодого бамбука, он сделал вид, что наткнулся на змею. Реаль яростно стал хлестать палкой по земле у насыпи канавы, а сам незаметно выбросил из карманов оставшиеся кокосовые пустышки в тинистую застоявшуюся воду. Чтобы орехи не плавали на поверхности, он палкой затолкал их под мясистые листья каких-то болотных цветов и, как бы с сожалением, громко сказал: — Эх, ушла в воду! Через некоторое время они вновь сошлись с Диасом около наваленных горой молодых деревьев и ветвей. — Я не могу понять, — что ты нацарапал на скорлупе? — Это наш шифр. Его поймет только одна Долорес. Мы с ней заранее условились. — Что такое «Э-1»? — поинтересовался Диас. — «Э» — твое имя. Мы договорились, если единица — значит, жив; двойка — ты не обнаружен. «3» — побег возможен; «4» — ничего пока не придумано. В общем четные цифры для нас не хороши. Дальше я сообщаю, что побег возможен в сезон дождей, если к нам в эту пору подойдет корабль. — Что же ты ни слова о своих делах с Долорес? Неужели вы до сих пор не объяснились? — Нет, — вздохнул Реаль. — А я принимал тебя за решительного парня. Думал, поженитесь без меня. — Моя жизнь проходит в скитаниях и тюрьмах. Зачем же Долорес делать несчастной? — А так, ты думаешь, она счастлива? Хосе помолчал. Диас был прав. Он зря не поговорил с ней откровеннее, но сейчас не время сожалеть об этом.* * *
Ночную мглу озаряли далекие молнии. Ветер раскачивал пальмы. С просторов океана на остров надвигалась гроза. Луч прожектора, скользивший по кругу, время от времени выхватывал из тьмы кусты, прибрежные скалы, рифы, вихрящиеся волны океана. В рощу панданусов собирались коммунисты — руководители тайных пятерок. Еще до отбоя каждому из них связные передали, куда надо явиться. Обходя освещаемые маяком места, заключенные по одиночке пробирались к кустам чапараля. Там их опознавали связные и передавали Паоло и Паблито. Те вели в глубь рощи и велели усаживаться меж причудливо изогнутых воздушных корней панданусов. Сюда не могли пробиться лучи прожектора. Многие из заключенных, предвидя ливень, оставили одежду в бараках и пришли на совещание в одних трусах. Поэтому все они при вспышках молнии с любопытством поглядывали на человека в черной маске, закутанного в грубую мешковину. Ночь была душной и томящей. Порывы ветра, проносившегося по верхушкам деревьев, не приносили облегчения. Наконец в листве зашумели первые капли дождя. Энрико Диас поднялся и сказал: — Компанейрос! За всю историю каторги на Панданго не было еще такого многолюдного совещания коммунистов, как сегодняшнее. Это признак нашей силы. Надеюсь, что имена выступающих никто не назовет ни при каких обстоятельствах. Строгая конспирация — путь к свободе. Первому даю слово представителю Центрального Комитета партии, прибывшему к нам на Панданго со специальным заданием.

— Эге, значит, нас не забыли! Помнят еще? — послышались голоса. — Помнят и ждут! — поднимаясь, подхватил последние слова человек в маске. Сверкнула молния. Все увидели, что представитель Центрального Комитета высок и плечист: «Как он пробрался к нам? Отчаянный человек!» — мелькнуло в мыслях у многих. Пророкотал гром; хлынувший дождь не заглушил голоса оратора. До всех явственно доносились его горячие слова: — Лучшие сыны народа брошены в тюрьмы, томятся в лагерях. Но нас не запугают, не согнут. Мечту не закуешь в кандалы! Наши ряды растут, пополняются. Пришла молодежь, ее надо воспитывать. Каждый опытный человек дорог. Ваше место не на Панданго, а там, на материке. Мы не вечные каторжники, мы борцы за свободу. Поэтому никакая сила не удержит нас. Правда, система морской каторги продумана основательно. Первое впечатление остается такое, что побег невозможен. Но это может обескуражить лишь людей дряблых, безвольных. Кто осуществляет здешнюю систему насилия? Чинч, Томазо и прочий фашистский сброд, объединенный страхом перед расплатой. Главные подлецы прячутся на Уолл-стрите и под рясой Зеленого папы. Здесь же мелкие, спившиеся исполнители. Неужели мы, коммунисты, не одолеем их?.. — Одолеем, если с умом взяться, — поддержал его Мануэль. — Побег с Панданго возможен. Это мы выяснили, — продолжал говорить Реаль. — Подпольный центр разрабатывает подробный план действий. Но пять голов хорошо, а сто — лучше. Прошу всех вас поломать голову и обсудить на пятерках, как лучше организовать побег. Предложения передавайте связным. С завтрашнего дня считайте себя мобилизованными. Беспрекословно выполняйте приказания центра, даже если они будут казаться иногда нелепыми. Деталей мы не раскрываем по известным причинам: не хотим провала. — А вы хоть немного оружия привезли? — Нет. — Как же без оружия? Ведь пули, выпущенные идиотами, тоже убивают. — Одно могу сказать: мы не полезем в лоб на автоматы. Наша сила в точном расчете, разумных действиях, дисциплине и сплоченности. Ждем ваших советов. Поднялся Энрико Диас. — Больше вопросов не будет? Нет? Прошу по одному разойтись. О совещании никому ни слова, даже очень близким людям. Прямо над рощей панданусов сверкнула молния, прогрохотал гром и хлынул тропический, все затопляющий ливень.
Глава десятая
РАЗВЕДЧИК С-117
Рядом с конторой, в которой работали учетчиками и регистраторами бывшие клерки, попавшие на каторгу, находился лагерный кабинет Чинча и веранда для отдыха. Веранда выходила в небольшой цветущий сад, огороженный от взоров заключенных двойной стеной колючих кустарников. Солнце уже склонялось к горизонту, когда майор Чинч, слегка прихрамывая, прошелся вдоль живой непроницаемой ограды и остановился. Было тихо. Издали доносился невнятный рокот прибоя. Чинч взглянул на часы, откашлялся и громко произнес: — Без четверти семь! Из колючего кустарника донесся негромкий, но четкий голос: — Эс сто семнадцатый докладывает! — Вы точны, как обычно, — отметил майор, доставая записную книжку. — Говорите, поблизости никого пет. — Каторжник восемь тысяч шестнадцатый проболтался о перевозке нелегальщины в трюме «Сириуса». У них была создана специальная сеть по транспортировке запрещенной литературы. Все это происходило около года назад. Установить личность соучастника нетрудно: какой-то рыжий кочегар с «Сириуса». Записали, сеньор майор? — Он у нас из рыжего серым станет, — ответил Чинч. — Вот уж истинно: язык — враг простофили. Потопил ведь дружка! Эти болтуны для нас просто клад. — К номеру две тысячи девяносто девять необходимо подослать сотрудника из третьего барака, — продолжал шпион. — Задумывается, грустит, депрессия в разгаре. Он, кажется, коммунист. В подобном состоянии наверняка проболтается. Следует поторопиться, пока не повесился. Учтите: нужен тонкий подход. — Дошел, значит. Вот что делает моя система! — не без гордости сказал майор, записывая донесение. Разведчику это, видимо, не понравилось, и он напомнил Чинчу: — А не ошиблись ли вы, сеньор майор? Мне кажется, что действующую систему ввел полковник Луис. Прошу записать: заключенный пять тысяч сто семь оскорбительно отозвался о вас. Считаю полезным выпороть перед строем. — А что он сказал? — полюбопытствовал Чинч. — Этот нахал назвал вас хромающей жабой. Надеюсь, он раскается. Перехожу к главному. На острове как будто готовится побег. Я случайно нащупал нить; она ведет к первому бараку. Но там ко мне относятся недоверчиво. Нужно… — А вы не учите меня. Я сам знаю, что нужно делать, — перебил шпиона разозлившийся майор. — Какой там еще побег? Вы столько служите на острове и не знаете, что на эту дешевку даже новички не попадутся. Каторжники смертным боем лупят тех, к го заводит речь о бегстве. И правильно делают! Нужны новые приемы в работе, а это слишком старо и примитивно… — Сеньор майор, а если в их разговорах есть что-то серьезное? — настаивал шпион. Чинч презрительно отмахнулся: — Ерунда! В первом бараке работает отличный разведчик С-122, он сообщил бы… Ведь это не ваш сектор наблюдения. Уж не напоролись ли вы на своего? Занимайтесь только намеченным бараком, а то путаница происходит, а мне разбирайся потом. Что еще у вас? — спросил Чинч, поглядывая на часы. — На сегодня все, — ответил голос из куста. — Попросил бы напомнить полковнику: срок моей стажировки кончается. Меня необходимо скорее убрать… хотя бы на Бородавку. — Трусите? — произнес Чинч. Он неодобрительно покачал головой и закурил сигарету с золотым ободком. — Еще не прибыла замена… Ох, уж эта современная молодежь! Поживите рискованной жизнью, отполируйте нервы, зато вернетесь к новеньким погонам. А как приятно получить повышение в чине! — Еще бы! — отозвался голос из куста: — Мой новый мундир уже ожидает меня. На нем будут нашиты погоны такие, как у вас. «Хоть в шпионы переходи, — огорчился Чинч. — Любой молокосос майором становится… и в генералы пролезет, а тут кисни на острове. Вот ловкач, мундир заранее заказал. Эх, санта Мария, не везет же старым кадровикам!» — Сеньор майор, одолжите будущему коллеге парочку сигарет. — Вновь послышался голос шпиона. — Полковник Луис говорит, что вы непревзойденный знаток виргинских Табаков. Вообще он всегда очень мило о вас отзывается. Услышав это, Чинч с готовностью полез в карман; майор рад был поделиться сигаретами с приятным собеседником. Ловким жестом открыв портсигар, он просунул его в кусты. — Прошу, берите про запас! Да, мы с полковником старые боевые кони! Вместе наступали в России. Вспомнишь прошлое и загрустишь. Отпуская разведчика, майор любезно добавил: — А насчет так называемого «побега» — не рискуйте. На эту удочку они нас не поймают. Чинч закурил сигарету и уселся в шезлонг. Вскоре на дорожке появился медик с пластырем на носу, возвращавшийся после обхода бараков. — Трое отправились к праотцам, — доложил Вилламба. — Наказанный вами утром- тоже не жилец, подохнет ночью. А так, ничего особенного. Ну, пятеро больных… — Чем? — осведомился майор. — Чем? Хм! Знаете, это меня самого заинтересовало. Но кто их поймет! Может, лихорадка, а может, еще что?.. Болезней ведь много, всех не запомнишь. Да и не к чему это здесь. Больной и так протянет ноги. — Так-то оно так, — согласился Чинч. — А вдруг чума или желтая лихорадка? — Ну, в чуме-то я разберусь, — хвастливо уверил медик. — Итак, на острове, значит, тишина и спокойствие? Приятно слышать! Прошу заглянуть вечерком, у меня для вас отыщется бутылочка малаги. Мой фронтовой друг, полковник Луис, не забывает… прислал еще ящик. — Малага, солнечная малага! Сколько воспоминаний связано с этим превосходным городом. Там была пылкая любовь, намечалось даже счастье. Вы представляете себе виллу из белого камня и мрамора? И понимаете, все пришлось бросить. Проклятые красные обвинили меня в отравлении женщины. Но ничего! По окончании контракта я обвенчаюсь с некой совершенно умопомрачительной дамой. У нее тоже вилла! Влюбилась с первого взгляда. Это вдова майора Гаудильо, скончавшегося от белой горячки. Но прежде я был красив, а теперь мой нос на полсантиметра короче. Как она примет меня? — Примет, перенесет старушенция! — успокоил Чинч. — Я ее давно знаю. Кроме того, учтите, ваше увечье — почетное, вроде фронтовой раны. На дорожке показался капрал. За ним следовали автоматчики и двое заключенных с носилками. Капрал приказал опустить ношу на землю и отрапортовал: — Сеньор майор, разрешите доложить… заключенный повесился на дереве… только что сняли. Господин доктор, прошу взглянуть: он мертвый или живой? Медик нехотя покосился на носилки и строго произнес: — Вы глупы, Варош. Раз повесился, — значит, покойник. И нечего носить таких ко мне. Передвиньте носилки к свету, а то уже ни дьявола не видно! Заключенные молча переставили носилки в другое место. Лунный свет упал на труп человека в полосатой одежде. Медик дотронулся до его холодного лба и определил: — Готов, конечно; чего тут смотреть. Несите акулам на закуску. Ветер качнул ветви деревьев. Лунные блики заколыхались на присыпанной песком дорожке. Майор, чтобы прервать наступившую тишину, громко откашлялся и спросил: — А вы обыскали его, Варош? Записки нет? — Простите, сеньор майор… Сейчас проверю. Капрал нагнулся и стал обыскивать карманы повесившегося. — Ложка… обрывок тряпки, — бормотал он. — Интересно, в кармане две сигареты. Где он их добыл? — Что? Сигареты? — испуганно спросил Чинч и протянул руку. — Дайте-ка их сюда! Сигаретыбыли виргинскими с золотыми ободками, те, что майор отдал шпиону! Начальник лагеря провел ладонью по лбу и почувствовал неприятный озноб. Медик вновь вгляделся в труп и, пораженный неожиданным открытием, сказал: — Он не сам повесился, его задушили. Вот следы насилия. Чинч посмотрел на носилки. Лунный свет мерцающими пятнами колебался на посиневшем лице шпика. — Он словно что-то хочет сказать, — произнес автоматчик и, пятясь, отступил от носилок. — Оказывается, спокойствие обманчиво, — шепнул медик майору. — Они вовсе не на коленях. Чинч, приказав доставить тело на пристань, заковылял к выходу. Медик поспешил за ним. На ходу майор дрожавшими пальцами теребил рыжеватые бакенбарды и, как бы недоумевая, бормотал: — Выходит, заказать новый мундир — еще не значит надеть его. Удивительно не повезло. А ведь как хотел получить повышение! Начальник лагеря почувствовал себя в безопасности лишь за электропоясом, когда увидел у пристани катер, вооруженный крупнокалиберными пулеметами. Но он все еще не мог успокоиться: «Что же творится на нашем острове? Этак они и меня скоро повесят. Какие-то совершенно непонятные и загадочные истории».Глава одиннадцатая
ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ
На Панданго началась незаметная, тайная деятельность подпольного центра. Самые активные коммунисты были распределены: одни попали в штаб, другие — в контрразведку, третьи — в группу подготовки. Группа подготовки состояла из специалистов; на них возлагалось решение всех технических задач побега. Одновременно и совершенно секретно формировался штурмовой отряд. О нем знали лишь посвященные. Каждый участник получал задание через связных или руководителей пятерок. Некоторые из них не знали, кто им помогает и какую роль придется играть в дальнейшем. Особенно смущены были люди, попавшие в штурмовой отряд. «Неужели наши собираются одолеть тюремщиков голыми руками?» — недоумевали они. Об оружии им ничего не говорили, и, что думает по этому поводу руководство, тоже никто не знал. Один из участников получил задание подсчитать охранников первого поста, так как никто из заключенных не знал, сколько же всего стражников караулит их. Другой участник, обладавший хорошим зрением, выполнял почти такую же задачу: он вечерами сидел невдалеке от пролива, подсчитывал стражников и скрытно наблюдал за всем происходящим на Бородавке. Через неделю наблюдатель сделал обстоятельный доклад о распорядке жизни в комендатуре и подтвердил верность сведений полученных штабом. Инженеры из группы подготовки, по заданиям бывшего строителя мостов Хорхе, занимались расчетами каких-то деталей для непонятного им сооружения. Каждый делал свое дело молча, никто не пускался в догадки и обсуждения. Этого требовала дисциплина. Правда, был случай, когда один из строптивых участников обратился к Диасу с жалобой на Мануэля. Оказывается, тот посоветовал ему навязаться к старшему надзирателю с изготовлением переносного ложа. Заключенный был против угодничества перед тюремщиками, но, побеседовав с Диасом, он перестал сомневаться в разумности поручений. В эти дни Кончеро решился в присутствии товарищей сдать первый экзамен Реалю. Экзаменатор предложил буквами изобразить первое его желание. Ученик, наморщив лоб, задумался, затем ухмыльнулся и не спеша, чтоб не нарушить торжественности момента, вывел название сладкого картофеля — «батат». Все затаили улыбки, а Реаль, стараясь быть серьезным, поинтересовался: — А чего-нибудь большего ты не желаешь? Кончеро, видимо опасаясь провалиться, с таким усердием принялся лепить одну к другой буквы, что у него бисеринками выступил пот на лбу и переносице. Он без ошибки написал целую фразу: «Котел батата». И тем самым, по мнению Реаля, доказал неплохое усвоение письменного изложения своих мыслей и желаний. Но тут Жан заинтересовался: — Зачем же, Кончеро, тебе так много батата? Силач, смутясь, потупился и краснея объяснил: — Я бы тогда сумел всех вас как следует накормить досыта. И этот ответ так понравился экзаменаторам, что Кончеро тут же был зачислен в отличники и был принят шестым в дружную «пятерку».* * *
После отбоя в лагере начиналась иная, не похожая на прежнюю жизнь. Возле рощи панданусов появлялись крадущиеся фигуры. Одни пробирались настороженно, вглядываясь во тьму, другие шли походкой людей, уже изучивших ночной маршрут. Все они обязательно встречались с Кончеро. Силач обладал удивительной особенностью: он видел своими небольшими глазами в темноте не хуже кошки. Настороженная внимательность и бесстрашие помогли ему стать непревзойденным стражем. В один из туманных вечеров Кончеро поймал подозрительного заключенного, пытавшегося ползком пробраться в рощу. Напрасно задержанный вырывался, умолял, грозился пожаловаться начальству. Кончеро был неумолим. Он пристукнул лебезящего лазутчика, чтобы тот не убежал, а позже передал своим друзьям. Те, разглядев задержанного, допросили его и, поняв, что в их руки попался доносчик, без долгих размышлений бросили его на провода электропояса. Паблито выполнял старое задание: отправлял с одним и тем же текстом письма к Долорес. Мать воспитала его, как все индианки воспитывают своих детей. Он знал обычаи индейцев и умел объясниться с ними на родном языке. Это помогало ему добывать в шестом бараке кокосовые пустышки. Гвоздем выцарапав на них знаки шифра, он заворачивал кокосовые пустышки в мох и бросал их в сточные канавы. После каждого ливня все плавающее уносилось бурными потоками в море. Дружба с индейцами из шестого барака помогла Паблито проникнуть в одну из тайн лагеря. Оказывается, Чинч эксплуатировал индейцев для своего обогащения. Он их посылал за электропояс собирать несозревшие кокосовые орехи, чтобы всегда иметь в запасе прохладный и приятный на вкус сок; отыскивать среди лиан гвоздику и гуаране, которую индейцы звали «иоко», а в кустарниках листья возбуждающего кока, идущего на изготовление кокаина. Часть добычи им удавалось проносить в барак, так как со своим грузом они отправлялись прямо в лагерный кабинет Чияча, все укладывали в ящики и уходили никем не обысканные. По вечерам, чтобы как-нибудь скрасить каторжную жизнь, индейцы заворачивали кусочек извести в лист кока, закладывали его за щеку и посасывали, впадая в блаженное опьянение. Перед каждым походом в болотные заросли индейцы приготовляли настой из стружки коры лианы «иоко». Одной чашки этого настоя было достаточно, чтобы целый день не ощущать ни голода, ни жажды.* * *
На острове Панданго, казалось, все шло по-старому: чуть свет вой сирен поднимал каторжников с нар, надзиратели гнали их на поверку, а медик подсчитывал умерших за ночь. Майор Чинч, после бунта Лескано, издал чрезвычайный приказ, запрещающий заключенным подходить к стражникам ближе чем на пять шагов, и свирепее прежнего расправлялся с нарушителями каторжной дисциплины. И несмотря на все это, политические заключенные словно повеселели. С просветленными лицами они усердно копали котлованы и таскали с места на место песок. Самые бессмысленные работы перестали действовать на них угнетающе. Казалось, что заключенные выполняют их с удовлетворением. Все надзиратели утверждали, что большинство политических стали на редкость послушными; к ним не легко было придраться. «Неспроста это, — думал Чинч. — Система полковника Луиса не могла так утихомирить политических. Тут кроется что-то другое. Но что?» На днях капрал Варош после обхода электропояса принес майору кокосовую пустышку. — На ней вырезаны какие-то знаки, — сказал он. Чинч взял лупу и попытался расшифровать их, но у него ничего не получилось. — Такая же чепуха, какая была на дорожках и котлах, — сказал он. — Видно, какие-нибудь молитвы индейцев или самбос. На всякий случай он все же спрятал пустышку до приезда полковника Луиса. Доклады медика отравляли душевное спокойствие майора. За последнее время из строя то и дело выбывали тайные агенты, подосланные в бараки. Пронырливый шпион С-116 умер неизвестно от чего, С-119 сам напоролся на смертоносные ограждения около секретного телефона. Двое осведомителей отлеживались на Бородавке. Их избили в темноте какие-то неизвестные личности. «На старые места таких агентов не пошлешь, — сокрушался Чинч. — Для шпионской работы на острове они навсегда потеряны. Но где возьмешь новых, если старые будут ежедневно выбывать?» Происходящее пугало и угнетало майора. Разуверившись в агентуре, он стал зазывать к себе охромевшего доктора, пил с ним малагу, стремясь с помощью медицины проникнуть в психологию заключенных. Но охмелевший Вилламба лишь запутывал его и вселял еще больший страх. Все же майор по начальству докладывал, что на острове вес спокойно. Не будешь же описывать все то таинственное, что происходит? За это могут прогнать и лишить обещанных денег. Тогда прощай, тихая жизнь на континенте!Глава двенадцатая
ГОРОДСКАЯ СЕНЬОРИТА
Месяца два назад на Позабытом берегу появился небольшой оранжевый автофургон, в каких обычно коммивояжеры возят образцы своих товаров. Он остановился около «Осьминога». Из шоферской кабины вышли седоволосый человек интеллигентного вида и хрупкая блондинка в кремовом плаще. «Видно, отец и дочь», — определил дон Амбросио. Поклонившись, он вежливо осведомился: чем может быть полезным приятным гостям? Приезжий, взглянув поверх очков на стойку, на рыбаков, сидящих в харчевне, спросил: — Нет ли поблизости свободного домика или опрятной комнаты для моей дочери? У нее слабые легкие. Врачи предписали прогулки и морской воздух. Дон Амбросио задумался: не сдать ли ему самому комнату наверху? Кому помешает хорошенькая квартирантка? Около «Осьминога» всегда будут толкаться парни. Старик, видно, при деньгах, иначе не повез бы так далеко свою дочь. Но по скольку же берут в таких случаях? И спросить не у кого, — ведь любители морского воздуха прежде не поселялись на Позабытом берегу. В разговор вдруг вмешался рыжий маячник, приехавший на мотоцикле за кокосовым маслом, мукой и вином. — Вас интересует жилье? Найдем! — загрохотал он густым басом. — У дюн живет моя сестра Джарманела. У нее почти вся хижина пустует. А если у Джарманелы не понравится, приезжайте на маяк, устрою. И компаньонка подходящая будет. Моя дочь Энрикета такой сорванец, что сеньорита с ней не заскучает. Рыжий маячник не дал дону Амбросио даже слово вставить. Он заговорил госгя и увел к своей Джарманеле. На другой день дон Амбросио узнал, что упустил богатую жиличку, так как старик уплатил все деньги за полный пансион до конца сухого сезона. Надо же было подвернуться этому нахалу маячнику! Девушка, поселившаяся у Джарманелы, целые дни проводила на берегу океана. То она часами прогуливалась вдоль прибойной полосы и уходила так далеко, что едва виднелась в желтых песках, то вместе с детишками собирала после отлива разноцветные ракушки и лепила на мокром песке фантастические замки, с башнями и зубчатыми стенами. Чего не придумаешь от безделья! Взрослые встречали забавлявшуюся сеньориту снисходительными улыбками, а детишки полюбили ее. Они целые дни толпились около Долорес, охотно собирали ракушки, водоросли и помогали сооружать целые селения вокруг замков, окруженные рвами, зарослями, в которых водились мелкие крабы, морские ежи, звезды, жуки. Иногда городская сеньорита угощала ребят «чиклетками» — упругими, как резина, конфетками, приготовленными из сока дерева чикле, содержащего гуттаперчу. Чиклетки можно было, посасывая, жевать очень долго, — они медленно уменьшались. Стойле Долорес показаться на пляже, как к ней со всех сторон вприпрыжку устремлялись ребятишки. И матери были довольны: городская сеньорита присмотрит за детьми. Раза два в неделю к хижине Джарманелы подкатывала на своем красном мотоцикле Энрикета — семнадцатилетняя дочь маячника. У калитки она глушила мотор и кричала: — Долорес! Я соскучилась по тебе. Одевайся, прокачу с ветерком! И эта сумасшедшая, усадив сеньориту на заднее сидение, проносилась по улице с таким грохотом и треском, что куры разлетались по сторонам и набожные старухи в испуге высовывались из окон.
— Господи Иисусе, дева Мария… опять Энрикета! Она убьет приезжую. Таких сорванцов даже среди парней не сыщешь. Энрикета действительно была отчаянной. За какой-нибудь час до прилива она мчалась с городской гостьей на мотоцикле по песчаной полосе, которую лизали вспененные языки прибоя. На такую поездку не решались даже сумасбродные парни. Они знали, что в случае порчи мотоцикла можно погубить и машину, и себя. На пятой миле от селения начинались отроги северных гор. Между океаном и обрывистыми скалами, отполированными волнами, по всему пути до маячного мыса оставалась лишь узкая полоса, полностью заливаемая приливом. Если автомобиль либо мотоцикл останавливались в этих местах, то машину потом трудно было сдвинуть с места, так как шины увязали в оседающем мокром песке, засасывающем, как трясина. Долорес, конечно, возвращалась с маяка только после отлива, потому что другого пути, кроме водного, в рыбачье селение не было. Если бы набожные соседки Джарманелы могли бы хоть на секунду перенестись к скалистым обрывам у моря, то они бы увидели, что на обратом пути мотоциклом правит не Энрикета, а городская сеньорита. И машина у нее мчалась не на малой скорости, а на предельной, благо впереди — широкая и гладкая дорога без пыли и не нужно опасаться встречных автомобилей. Оказывается, обе девушки любили быструю езду, и трудно было разобраться, которая же из них отчаяннее. Лишь в миле от селения подруги менялись местами, и старшая из них вновь превращалась в хрупкую городскую барышню. Никому из жителей Позабытого берега и в голову не приходило, что девушки выполняют опаснейшее задание запрещенной компартии, ушедшей в подполье. Во время приливов, когда к маяку по суше нельзя было добраться, девушки уходили на моторном баркасе вдоль берега миль за десять, проникали в какую-нибудь узкую бухточку и, привязав баркас, карабкались на скалы Установив коротковолновый передатчик, подруги тотчас же начинали вещать: «Говорит радиостанция компартии Южной республики. Повторяем последние известия». Их передатчик был не главным, а одним из дублирующих. Основная же подпольная радиостанция компартии беспрестанно скиталась по разбитым дорогам Южной республики. Она начинала действовать в точно назначенный час и, проработав минут тридцать, быстро меняла место стоянки, чтобы не быть запеленгованной. Девушки либо успевали записать дважды переданный текст, либо запоминали его, чтобы составить собственную радиопередачу. Им до отлива никто не мог помешать, а если бы полицейские попытались искать блуждающий передатчик со стороны моря, то подруги заметили бы преследователей издалека и успели бы скрыться в горах. На маяке, в хорошо замаскированном тайнике под башней, каждое утро дежурили по очереди маячник и его дочь. Здесь у них была собрана любительская аппаратура коротковолновиков. Надев наушники, кто-либо из них часа два ловил на условленных волнах все звуки в эфире, надеясь наткнуться на сигналы с Панданго. Но сигналов не было: ни Реаль, ни Диас уже больше двух месяцев не давали о себе вестей. И волны океана не выбрасывали на Позабытый берег обещанных шифровок. Долорес напрасно чуть ли не ежедневно совершала дальние прогулки вдоль прибойной кромки, вглядываясь в обломки бамбука, куски коры пробкового дерева, в сорванные с рыбачьих сетей поплавки. Она и ребятишек приспособила для своих поисков: они собирали на берегу все, что могли принести волны, и таскали ей для постройки песочных замков. Все чаще и чаще тучи заволакивали небо, сверкали молнии, грохотали раскаты грома и теплые дожди обрушивались на Позабытый берег. Приближалась пора ливней. Долорес жила в тревоге. «Здесь я ничего не дождусь, — думала она. — Надо было отговорить Хосе от безумной затеи. Он же никого не спасет и погибнет сам. Не пора ли рассказать по радио о тайной каторге? Почему мы молчим?» Когда к ней под видом заботливого отца на автофургоне приехал связной Центрального Комитета партии, Долорес поделилась с ним возникшими мыслями. — Нет, — ответил он. — Секретный остров разоблачать рано. Мы подведем Реаля и товарищей. Их уничтожат раньше, чем придет спасение. Запаситесь терпением и ждите вестей. Вы же здесь не бездельничаете, а заняты очень важным делом. Ваш блуждающий передатчик сбивает с толку полицию. Скоро в строй вступит еще одна станция. Будете включаться по точно разработанному расписанию. Настало весьма горячее время. Под ставленниками Зеленого папы горит земля. Их бесстыдная продажность возмущает не только рабочих, но и нашу буржуазию. Нужно в ближайшие месяцы ждать взрыва возмущения. Связной передал Долорес расписание передач, стопку разоблачительных материалов и воззваний Центрального Комитета партии. — Подбрасывайте больше горючего в огонь, — сказал он. — У вас хорошая дикция и взволнованный голос. Вы умеете с особым презрением произносить кличку предателя «Пекеньо»[150]. Вашего голоса ждут у радиоприемников, я проверял в домах докеров. Мы поднимем ярость народа и сбросим диктатора! Штормовая погода иногда мешала выходить на баркасе в море. Девушки надевали на себя сумки с радиоаппаратурой, тяжелыми аккумуляторами и на мотоцикле или пешком отправлялись в горы. Там разыскивали какое-нибудь укрытие, устраивались в нем и в точно назначенный час в микрофон взывали к своему народу. От ночных походов и волнений Долорес так уставала, что могла уснуть в любом месте. Она заметно похудела, но с аппетитом ела и выглядела посвежевшей. Близость океана и горный воздух действовали благотворно. Однажды в солнечное утро, когда Долорес возвращалась с маяка, на пляже ее окружили маленькие девочки и стали просить: — Сеньорита, у нас башенки не выходят. Вы все с Энрикетой катаетесь, поиграйте с нами. Они усадили ее на песок и отдали все свои игрушки. И вот здесь, среди тряпичных кукол, деревянных формочек для песчаных баб, совков и цветных стекляшек, Долорес вдруг заметила кокосовую пустышку с какими-то знаками, вырезанными на твердой оболочке. Она взяла ее в руки, всмотрелась и, потрясенная, спросила: — Дети, где вы взяли эту игрушку? — Ее Пикета на берегу нашла, мы хотели купол на башне сделать, — сказала одна из девочек. Сомнений не оставалось: на кокосовой пустышке был долгожданный шифр. Долорес уже не могла оставаться с детьми, — ей не терпелось скорее пойти к себе, закрыться и с лупой в руках прочесть весточку с Панданго. — Девочки, мне сегодня некогда, — сказала она. — Мы поиграем в другой раз. А чтобы вам не скучно было, — хотите я куплю чиклеток? — Хотим, очень хотим! — ответили девочки и запрыгали вокруг Долорес. Им ведь не часто перепадали сладости. Захватив с собой кокосовую пустышку, Долорес с ребятишками зашла в «Осьминог». Дон Амбросио встретил ее низким поклоном. Он рад был услужить приятной сеньорите. — Не слишком ли вы расточительны? — заметил хозяин «Осьминога». — Этих птенцов не накормишь чиклетками. Их в каждой лачуге по дюжине. — Ничего, на радостях можно. — Не могу ли я узнать, если не секрет, какая у сеньориты радость? В глазах дона Амбросио блеснул огонек не простого любопытства. «Не подозревает ли он меня в чем-нибудь? — подумала Долорес. — С таким надо быть осторожнее». — Мой жених в дальнем плавании, — ответила она. — Мы с ним не виделись около полугода. А вчера я узнала, что он прибудет прямо сюда. — На пароходе? — Нет, на «Мерседесе». — А не рискует ли сеньорита вызвать у жениха ревность? У нее здесь очень много тайных вздыхателей и поклонников. — Я что-то не вижу их, но на всякий случай учту ваш совет и переселюсь на маяк, — смеясь сказала Долорес. Раздав девочкам купленные чиклетки, она зашла домой и внимательно прочитав шифровку, поспешила на почту. Ее телеграмма в столицу была короткой:
«Дорогие родители приготовьтесь встретить Хосе тчк Обещает прибыть первым пароходом начале дождей свадебным подарком тчкЦелую ваша Долорес».
Глава тринадцатая
ПЕРЕД ШТОРМОМ
— Душный будет день, — поглядывая на небо, определил Наварро. — К ночи, видимо, соберется гроза, — сказал Реаль, проявлявший с недавнего времени необычный интерес к погоде. — Солнце в дымке марева всходит и птицы низко летают. Паоло принялся спорить: — Нет, день по всем признакам должен быть летным. Он, как все люди, имевшие дело с воздушной стихией, считал себя знатоком атмосферных явлений. Весь день палило несколько затуманенное солнце, и только к вечеру поднялся небольшой ветер. В небе появились клочья рваных облаков, несущихся с юга на север. На работах в приступе лихорадки свалился Диас. Капрал Варош, возвращавшийся с очередного обхода линии электропояса, почему-то смилостивился и приказал стражникам отпустить больного в барак. В конце дня в шахте рухнула порода и придавила трех заключенных. Больше ничего особенного на острове Панданго не произошло. После скудного ужина Мануэль с Наварро пробрались на опушку рощи панданусов. Это место было любимым. Отсюда Мануэль наблюдал за Бородавкой и разговаривал с Реалем и Диасом о побеге. Сегодня он умышленно захватил с собой летчика, нужно было всерьез поговорить с ним. — Как же ты собираешься жить дальше? — спросил он. — Надеюсь на побег, — ответил Наварро. — Мне терять нечего. Краснорожий Чинч так и сказал утром: «Жив еще? Ну, походи до приезда полковника, а там — акулам на закуску!» Похудевший, в выгоревшем мундире без пуговиц, в продранных бриджах, он едва походил на прежнего щеголеватого авиатора. Что-то неуловимо-новое появилось в его лице, в выражении глаз. — Хосе вас всех зовет товарищами, а меня только по имени, и ни разу не ошибся. Неужели он меня не считает своим? — спросил вдруг Наварро. — Или это потому, что я сказал: «Мне по пути с вами до берега?» — А где тут берег? — спросил Мануэль. — Сейчас у нас с тобой один путь. — И он указал в сторону синевшего за проволокой океана. — Но разве наша дружба может кончиться там? Мне кажется, она только начнется. — А я разве возражаю? Вы сами немного сторонитесь… и тайны у вас какие-то от меня. — Наши тайны ты сегодня узнаешь, — пообещал Мануэль. Вскоре к ним подошел Паоло, Жан и Паблито; не хватало только Реаля, ушедшего к заболевшему Диасу, и Кончеро. Силач задержался на кухне. Он теперь нес оттуда все, что мог наскрести со дна котлов. Мануэль знал, что приготовления к побегу близились к концу, — об этом говорилось на последнем совещании в штабе. Группа подготовки доложила о завершении возложенных на нее задач, а штурмовой отряд, проведя ночные тренировки, ждал сигнала к началу действий. Неизвестен был лишь решающий день. Его не могли назначить, так как не знали, когда прибудет хоть какой-нибудь пароход. Но людей нужно было подготовить к выступлению в любой момент. Прибыл Кончеро и внес оживление: он наступил на растянувшегося под кустом Жана. — Миллион раз твержу: сначала посмотри — потом шагай! — негодовал француз. Но он тут же сменил гнев на милость. Силач принес завернутые в листья маисовые пригарки. Все лежащие, а особенно Жан, обрадовались еде. Недавно Хосе исключил себя и Диаса из списка подкармливаемых, приказав распределять «добычу» только среди штурмовой группы. Наконец на тропинке появился и Реаль. Он почему-то остановился и стал вслушиваться. По дорожке от первого поста шли два пьяных стражника; впереди Лиловый, а позади его толстый соотечественник, получивший от бразильцев кличку «Тосиньо»[151]. Они громко разговаривали по-немецки. — Даже в воскресенье никакой культуры! — жаловался Лиловый. — Эх, то ли дело у нас, дома! Воскресенье… приезжает бродячий цирк. Барабан гремит, девчонки грызут орехи, а мы сначала — шнапса, потом пива. Вечером обязательно драка. Вот была жизнь. Эх! — И он огорченно махнул рукой. — Колотил же ты «профессора», — напомнил Тосиньо. — Слабое развлечение! Кажется, я в кого-то загнал пулю? — Промазал! — Вот видишь! А ведь был когда-то первым стрелком. Любому пулю в глаз за тридцать шагов всаживал. Не веришь? Отмеряй шаги и становись! Не хочешь? Ну то-то! Увидев на дорожке Хосе, он вскинул автомат и заорал: — Эй, каторжник, пляши! Дарю целую сигарету. Пляши, пока я добрый. — Плясать не обучен, — простодушно разведя руки как бы с сожалением, сказал Хосе. — А вог у нас бык был, честное слово, чечетку копытами отстукивал. Соображал лучше начальства. — Я вижу, ты из ковбоев, они мастера рассказывать и гадать. А ну, гадай мне на руке, — потребовал Лиловый. — А то тут со скуки подохнешь. Чертовы пальмы, чертов остров и вы все — дьяволы! — За гадание полагается пачка сигарет, — начал торговаться мнимый ковбой. — Я и без руки вижу, что ты тоже узник, хотя еще и не догадываешься. — Твое гадание не стоит и окурка! Понял? Через неделю кончается мой контракт. Я отстукал здесь пять лет! Насквозь просолился и до костей прожарился. Уеду на родину, — надоели вы мне. — Неужели думаешь, что тебя отпустят? Да никогда! Ты ведь в первой таверне проболтаешься. — Разыгрывая из себя простака, сказал Реаль и стал вглядываться в раскрытую ладонь Лилового. — И линии у тебя, как у любого из нас. Вы каторжники, только с автоматами. И срок у тебя не кончается. Прикажут новую бумажку подписать, — долго еще служить будешь. Не надейся, никуда не уедешь! Стражники с изумлением таращили на гадальщика глаза. То, что говорил ковбой, походило на правду. Хосе ухмыльнулся: он знал, что бьет по самому больному месту. Каждый из них в душе опасался именно этого. — Пять лет! Так говорится в контракте. Понял? — сказал Лиловый и, взглянув в сторону поста, оживился: — Видишь, чертов предсказатель, подходит судно? Вдали показались огни теплохода, идущего к острову. — Это наверняка сам полковник! — обрадовался стражник. — Я спрошу у него. И если ты врешь, то я тебя разыщу и заставлю до блеска вылизать мои парадные сапоги. Мануэль заметил веселый огонек, мелькнувший в глазах Реаля. А Наварро помрачнел, — прибытие парохода не предвещало ему ничего хорошего. Лиловый бессвязно продолжал выкрикивать: — Я пойду… Я спрошу! Все знают, что срок кончается, пусть он не крутит. Где мои парадные сапоги? — вдруг рявкнул он, уставившись свирепым взглядом на Тосиньо. — Твои дурацкие сапоги на твоих толстых ногах. По воде, что ли, пойдешь к нему? Утонешь. Для храбрости надо еще выпить. Пошли! Схватив собутыльника за рукав, он потянул его за собой. Лиловый, вспомнив об обещании, вытащил из кармана пачку сигарет и швырнул их под ноги Реалю. — На, чертов гаучо, кури! Стражники удалялись уже не так покачиваясь, как прежде. Неожиданное гадание их, видимо, немного протрезвило. Реаль подобрал сигареты и, подойдя к друзьям, стал угощать всех. Паоло, как страстный курильщик, моментально достал кремень и высек огонь. Сделав глубокую затяжку, Реаль взглянул на низко нависшую вдали тучу, освещенную заходящим солнцем, и сказал: — Через два–три часа эти тучи закроют все небо. Кто уверял, что сегодня не будет шторма? — Я, — признался Паоло. — Ты выиграл. — Нет; кажется, мы оба выиграли! Реаль поманил к себе Мануэля, что-то шепнул ему. Тот моментально оживился и, позвав с собой Паоло с Паблито, поспешил к баракам. Сидевшие на камнях Жан с Кончеро тоже получили распоряжение и ушли из рощи. Издали донесся грохот цепей в клюзах: судно бросило якорь в проливе. — Итак, сведения разведки оказались точными, — негромко сказал Реаль. — На остров приходят суда с большой грузоподъемностью. Чудесно, лучшего мы и не ждали. Он повернулся к задумавшемуся Наварро. Ветер трепал черные кудри летчика, но тот как бы ничего не замечал. Он курил, глубоко затягиваясь. — Любуешься закатом? — спросил Хосе. — Закат великолепен и предвещает шторм, но мне нынче что-то не до красоты. Если прибыл полковник Луис, вряд ли придется любоваться завтрашним заходом солнца. — Ну, до утра еще целая ночь, а они теперь стали длинные, — сказал Хосе, следя за стоявшим на рейде судном. — Для кандидата на тот свет последняя ночь всегда коротка! — ответил летчик, продолжая жадно курить. — Вы не различаете, сколько людей на той лодке? — вдруг обратился к нему Реаль. Наварро, отличавшийся профессиональной остротой зрения, взглянул на большую шлюпку, покачивавшуюся вдали: она только что отвалила от судна, направляясь к пристани Бородавки. — Двенадцать человек. Очевидно, команда судна. Нет, они в форме и с оружием. Новые стражники. — Бросив окурок, летчик продолжал: — Я благодарен вам, Хосе, за многое. Завтра, без сомнения, они пристукнут меня. Что ж, я сумею умереть. Но хотелось бы посоветоваться. Утром меня вызовут из строя и поведут на утес. Есть замечательный план! Когда проход откроют, я толкну стражника на провода электропояса и кинусь на второго… Я обзаведусь автоматом и буду драться до последнего патрона! — Безнадежно! — ответил Реаль, вглядываясь в его решительное лицо. — Когда выводят из лагеря, заключенный идет по проходу один и его держат под прицелом. Стоит сделать шаг назад — и вас прикончат. Здесь все предусмотрено! — Черт бы их подрал! — помрачнел Наварро. — У меня все не как у людей: едва разобрался, для чего жить стоит, и приходится умирать. Да и умирать-то бестолково! — Я сказал: до утра времени много. А утро будет не таким, как вам думается. — сказал Реаль и поднялся с камня, так как показался возвращавшийся Мануэль. — Вы хотите поддержать меня надеждой? Я понимаю, что выживу лишь в случае побега. Но когда он будет, этот побег? — Сегодня, — заверил Хосе и поспешил навстречу Мануэлю.Глава четырнадцатая
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!
Изрытый волнами океан бушевал. По проливу катились высокие пенистые валы и с грохотом разбивались о прибрежные камни. Ветер усиливался. Он гнул деревья, сотрясал стены и крыши бараков. На Бородавке взметнулся туманный луч прожектора и заскользил по кругу. Коммунисты, собранные по тревоге, упали на землю и прижались к корням панданусов. В перебегающем свете прожектора искрилась водяная пыль, которой был насыщен воздух. Чувствовалось, что приближается тропический ливень. Горизонт давно затянуло черной, непроглядной завесой.
— Командир группы безопасности, — окликнул Реаль, — все ли у вас налицо? — Полностью все двадцать пять человек, — отрапортовал по-военному Лео Манжелли — пожилой коммунист, которому довелось воевать в интернациональной бригаде в Испании. — Хорошо, немедля приступайте к действию. Особенно зорко следите за тем, чтобы никто не проник к первому посту и замаскированным телефонам. Беспрепятственно пропускайте лишь связных, известных вам в лицо, и своих командиров, остальные должны знать пароль и отзыв. Штаб находится до полуночи в роще панданусов. Если перейдет в другое место, мы вам сообщим. Реаль подошел к Лео Манжелли и шепнул на ухо: — Пароль на сегодня: «Да здравствует жизнь». Отзыв — «Борьба». — Понял, — ответил командир отряда и шепотом повторил услышанное. Затем он построил своих бойцов и повел расставлять ночные секреты и дозоры. — Группа переброски собралась? — спросил Реаль. Из темноты вышел Паоло. — Да, в полном составе… Приспособления собраны в одно место. Ждем указаний. — Приступайте к установке «карусели». Сегодня уже не тренировка, а настоящий побег. Все наши отряды будут включены в действие. «Наконец-то!» — подумал каждый из заключенных, но никто из них ничем не выдал своей радости. — Перебросить только тех, кто намечен штабом, — приказал Хосе. — И никого больше. Группа переброски пошла среди деревьев уверенным шагом, несмотря на темноту. Ночные тренировки помогли изучить и запомнить путь. Хлынул долгожданный дождь. Луч прожектора еще больше потускнел; он с трудом пробивался сквозь стену ливня. Грохот грома, рев океана и шум непогоды заглушали все звуки.
* * *
Самой серьезной преградой при побеге была смертоносная проволока электропояса. Не раз возникала мысль: нельзя ли подкопаться под нее и выбраться на волю? Выяснилось, что невозможно: стражники ежедневно производили обходы с овчаркой, обученной находить подкопы. Все деревья на расстоянии в двадцать метров от электропояса были вырублены. Если появлялись в этой полосе кусты, то их выдирали с корнями при обходах. Реалю казалось, что не трудно будет изготовить лестницы и набросить на проволоку щиты, сделанные из сучьев, и по ним перебраться на другую сторону. Но где все это хранить? Готовые изделия громоздки, на них всякий наткнется, поинтересуется: «Что это такое?» — расскажет другим. Тогда — прощай, свобода! А если подготовить и спрятать материал да в разных местах? Но хватит ли времени на изготовление и переброску воздушной дороги через электропояс? А вдруг кто сорвется? Реаль поручил инженерам из группы подготовки разработать самые быстрые способы вязки лестниц, щитов и подсчитать, сколько времени уйдет на одну лишь работу. Инженер, которого все звали Хорхе, придумал более быстрый способ переброски людей за проволочные ограждения. Его сооружение походило на букву «Т». Конструкция основана была на принципах карусели и колодезного журавля. На изготовление «Т» шло гораздо меньше материалов. Требовался столб с вершиной, затесанной на конус, плаха с выдолбленным гнездом, длинные жерди и крепкие лианы. Несколько столбов с заостренными вершинами лежали за кухней; выдолбленную плаху и два десятка бамбуковых жердей заключенные притащили в лагерь во время заготовки дров. Делали они все это под предлогом устройства переносного ложа-сидения с балдахином из пальмовых листьев для старшего надзирателя. Подобная забота об удобствах начальства даже несколько тронула Тумбейроса. Он приходил в благодушное настроение, видя, как в полосе зарослей всюду за ним на плечах заключенных передвигалось и «ложе», лежать или сидеть на котором было несравненно удобнее, чем на сырых и колючих ветвях. К тому же сверху не жгло солнце и не падали с ветвей проклятые муравьи. Все тренировки с сооружением Хорхе проходили по ночам в роще. Сейчас же инженерная группа, захватив с собой материалы, подошла почти к самому электропоясу. Четыре человека металлическими ложками принялись копать для столба яму, а остальные стали связывать тонкими и крепкими лианами и наращивать в длину бамбуковые жерди. Одно из плеч «Т» должно было быть не менее двенадцати метров. Работа шла без заминок. Ночные тренировки, на которых настаивал Реаль, приучили всех действовать в темноте на ощупь. Длинная вязка бамбука, закрепленная на плахе, наконец была водружена на вершину столба, вкопанного в землю. Благодаря конусу и гнезду в плахе верхняя часть «Т» могла подниматься и опускаться, как коромысло, и вращаться, словно карусель. Паоло подергал лямку для седока, сплетенную из лиан. — Для проверки крепости не мешало бы подвесить камень, — сказал он… — Зачем терять дорогое время, — запротестовал Хорхе. — Я уверен в прочности и готов первым испытать коромысло. Инженер уселся в лямку, а его товарищи, пригнув короткое плечо «Т» к земле, подняли Хорхе вверх. Связанный бамбук изогнулся, но не очень сильно. — Давайте на ту сторону, — негромко предложил Хорхе. Длинное плечо с сидевшим на конце инженером, еще больше изогнувшись, описало в воздухе полукруг над смертоносными проводами и остановилось. Хорхе спрыгнул на камни побережья и радостно воскликнул: — Да здравствует свобода! А ливень не прекращался. Рассеянный свет прожектора тускло озарял происходившее. С Бородавки в такую погоду невозможно было заметить новое сооружение. Не зря Реаль, Мануэль и Диас несколько вечеров подряд выбирали место для возведения воздушной переправы. Тем же рассчитанным движением товарищи вернули побывавшего на воле Хорхе. Инженер спрыгнул на песок и пустился в пляс: он радовался, что изобретенная карусель работает безотказно. Оставив строителей, Паоло поспешил в штаб доложить, что первое препятствие преодолено. Решив сократить путь к роще панданусов, он срезал угол. Когда Паоло уже подходил к роще, что-то метнулось к нему из тьмы. Сбитый с ног, он свалился и больно ударился о корневище. По железной хватке и довольному сопению летчик догадался, что попал в могучие объятия Кончеро, и у него отлегло от сердца. — Говори слово! — потребовал тот, немного ослабив хватку. Паоло с трудом прохрипел: — Да здравствует жизнь! — Ну то-то! — сказал силач, добросовестно охранявший подходы к роще: — Значит, это ты, Паоло? — А не мог бы ты хватать полегче? — спросил летчик, потирая пострадавшую шею. — Отвернешь кому-нибудь голову. В твоих лапах не только пароль, но и как зовут, не сразу вспомнишь! — Я сначала схвачу, а потом спрашиваю, — стал оправдываться силач. — Так надежнее! — Ох, Кончеро, лучше бы ты делал наоборот! — А ты не ходи, где не указано, — посоветовал силач. Паоло, прихрамывая, направился к роще, где и доложил об успешном сооружении воздушной переправы. Перед руководителями стояла группа людей в промокших от ливня «полосатках». Это был десантный штурмовой отряд Мануэля, которому предстояло теперь приступить к действиям. Не хватало двух участников. Гомес выбыл потому, что стражник повредил ему прикладом кисть руки. К вечеру она распухла. Несмотря на боль, Гомес одним из первых явился по вызову, горя желанием принять участие в трудном деле. Отстраненный Реалем, он стоял в стороне, чуть ли не в слезах, проклиная стражника. Его заменили рослым, но несколько медлительным в движениях Чезаре, бывшим лесорубом. Выполняя приказ, Чезаре занял место Гомеса. Неожиданно Жуан Пэрифуа смущенно обратился к Реалю: — Командир, мне стыдно признаться… но я боюсь и ничего не могу сделать с собой. Все выжидательно молчали. Лишь Ренни — из резервной группы, пренебрежительно буркнул: — Трус! Случай был неприятным. В этот отряд, о назначении которого знало лишь руководство, подбирались наиболее сильные и умеющие плавать люди, а их было не так уж много среди истощенных обитателей политических бараков. Все же Реаль мягко ответил! — Я понимаю тебя, Жуан… трудно сейчас смотреть в глаза товарищам? Но признаться в слабости — тоже нужна смелость. Никто не упрекает тебя, ты не трус, — просто такое задание тебе не по плечу. Хорошо, что сказал о нервном состоянии, потом было бы поздно. Что ж, ты пригодишься для другого дела. Жуана передали в распоряжение Лео Манжелли в группу безопасности. Тот, проинструктировав его, отправил следить за проходом к первому посту, наиболее отдаленному и спокойному участку. — Оказывается, выше своей головы не прыгнешь, — высказался Жан. — Смотря, какая голова! — возразил Ренни, стоявший в резерве. Ренни не был членом партии; его зачислили в резерв по рекомендации одного из руководителей пятерок и главным образом потому, что он умел плавать и казался парнем решительным. Ренни занял в строю место Жуана. — Выбор подпольного центра пал на вас, умеющих плавать, — сказал Реаль собравшимся. — Вы отправляетесь на выполнение очень рискованного задания. От ваших успехов зависит общая судьба. Вас перебросят через электропояс. Ночь и шторм укроют от прожектора. В проливе сильное течение — оно может вынести в океан. Но вы поплывете курсом, который рассчитал опытный пловец, бывший рекордсмен Наварро. Сегодня впереди особенно ценный приз — собственная жизнь. Наварро придется позаботиться, чтобы вы не сбивались с пути. Вы не утонете: у вас будет кое-что… Стоявшие в строю оживились. Оказывается, путь через бурный пролив не так уж страшен: все предусмотрено, обо всем позаботились организаторы. «Бедняга Жуан, напрасно он испугался», — мелькнуло у многих в голове. Мануэль взглянул на пловцов, молчаливо стоявших в строю. До сегодняшней ночи он всегда был рядовым бойцом, подчинявшимся старшим товарищам. Сейчас же ему предстояло вести за собой смельчаков, обязавшихся победить во что бы то ни стало. Малейшая ошибка вела к гибели. Только сейчас Мануэль почувствовал всю тяжесть ответственности. Ему стало не по себе, и он оглянулся на Реаля. Тот, угадав его опасения, ободряюще шепнул: — Что, лихорадит немного? Так всегда бывает перед схваткой. Все продумано и рассчитано, остается только хладнокровно действовать. Одно ваше появление в тылу у ничего не подозревающего противника обеспечивает половину успеха. Остальное довершит смелость. По знаку Хосе на полянку, освещенную слабым светом маяка, вышли Паблито и Кончеро, принесшие в корзине что-то завернутое в мешковину. Силач был освобожден от охраны рощи Лео Манжелли, расставлявшим свои посты. Реаль, не надеясь на истощенные силы товарищей, решил перед началом операции как следует подкрепить пловцов. Кроме пригарков, собранных Кончеро, в корзине был кувшин с настойкой «иоко» добытой у индейцев. Пловцы оживились, увидев угощение. — Закусим здесь, а выпить придется в проливе, — балагурил Жан, поедая пригарки. — Ай да Кончеро! Как это ты весь котел не захватил? Но силача не веселили его шутки; он стоял около Реаля и с грустью вздыхал, словно желая о чем-то просить. Мануэль еще раз оглядел лагерь. Через несколько минут он расстанется с этими пальмами, панданусами и опротивевшим островом. Начнется иная жизнь. — Итак, компанейрос, выпейте по чашке «иоко» — и в путь, — сказал Реаль. — Пусть заря встретит вас свободными! Десантники молча выпивали у Паблито настой «иоко» и уходили к «воздушной переправе». Первыми скрылись во мгле Паоло с Жаном, потом радист Гвидо Фернандес с Ренни, а за ними тяжело зашагали лесоруб Чезаре и Мануэль. Кончеро пошел за ними и шепотом начал уговаривать командира десантной группы замолвить перед начальством слово о нем. Реаль на минуту задержал Наварро в роще и тихо сказал: — Если с Мануэлем что-либо случится в пути, — все сорвется.Ваша обязанность — стать его негласным телохранителем. Он не плохо плавает, но был ранен в руку… да мало ли еще какие опасности ждут впереди. Наварро вытянулся по-военному и коротко ответил: — Ясно. Будет исполнено! Луч маяка появился над их головами. Косой ливень уходил, провожаемый огненными зигзагами молний. — Мы будем зависеть от вашей решительности и находчивости, — напомнил Реаль. — Надеюсь, вы не растеряетесь? — Я выполню все, что смогу. Меня ведь ждет смерть! — Нас ждет победа и жизнь, — сказал Реаль и на прощание крепко пожал ему руку. Рамон поспешил за товарищами и исчез в потоках дождя. Оставшись один, Реаль подошел к ограждению и начал всматриваться в темные воды океана. Луч прожектора бродил вдали. Прошло полчаса, начали прибывать связные Манжелли, сообщая о ходе дел на различных участках острова. Появившийся Кончеро растянулся, зацепившись ногой за корень. За ним, бесшумно ступая, подошел Паоло. — Так что они уже за проволокой, — поднимаясь, начал докладывать Кончеро. — Я сам Мануэля переправлял, вот как! Он просил велеть… нет, велел приказать… — Силач с надеждой взглянул на Паоло, чтобы тот помог ему выпутаться, но командир инженерной группы молчал. — У них одного человека не хватает. Меня, значит! Мануэль сказал, что очень уж я надоел ему. Он возьмет меня с собой, если вы разрешите. Ох, уплывут они без меня! Эта просьба, с трудом изложенная Кончеро, вызвала невольную улыбку. Очевидно, силач не только надоел Мануэлю, но по пути обрабатывал и Паоло. Реаль повернулся к командиру инженерной группы. Паоло коротко сообщил о завершении переброски десантников за ограждение. Кончеро, видя, как уходят драгоценные минуты, решил ускорить события: — Я настой «иоко» выпил и Мануэлю помогать буду, да мало ли что… на все пригожусь. Я же самый сильный! — пустил он в ход свой последний козырь. — Нужно плыть больше километра, а у нас нет больше запасных вязанок из бамбука, — объяснил ему Реаль. Кончеро моментально оживился: — Зачем мне бамбук? Я два часа на воде держусь… Пустите. — Отпусти его; надоел он со своими просьбами, — вставил Паоло и при этом напомнил рассказ силача о том, как, спасаясь от встрепки грозного деда, Кончеро заплывал на середину озера и держался там по нескольку часов подряд, пока старый Педро не упрашивал его выйти. — Кроме того, ты нам не дал Луиджи. — Он плохо плавает и останется пока в резерве, — ответил Реаль. — Отдай Кончеро, он пригодится там, а здесь будет лишь бродить да вздыхать. — Выдержит ли «воздушная переправа»? Ведь он весит больше всех? — критически оглядывая огромную фигуру Кончеро, высказал свое сомнение Реаль. — Во мне никакого веса! — поспешил уверить силач. — Меня, бывало, дедушка Педро за волосы к потолку поднимал. Какой там вес? Я легкий. — Ты, Кончеро, самый упрямый человек на свете, — улыбнулся Хосе. — Ладно, отправляйся, если Мануэль не раздумал взять тебя с собой. Вне себя от радости, силач начал поторапливать Паоло: он опасался, как бы товарищи не уплыли без них. Паоло сбросил размокшую «полосатку» и остался в одних трусах. — Одежда каторжника больше мне не понадобится, — сказал он. — Не забудьте разобрать нашу «Карусель». — Не беспокойся, сделаем, но только после вашего сигнала с Бородавки, — пообещал Реаль.* * *
Хосе долго стоял у проволоки электропояса. Отсюда ему удобнее было наблюдать за проливом. Наконец он заметил почти сливавшиеся с темнотой девять полураздетых фигур. Они шли по самой кромке берега, неся на плечах легкие вязанки из сухого бамбука, которые должны были помочь им держаться на воде.

Десантники остановились за оградой, почти напротив Реаля. Один из них жестом указал направление. «Это Наварро», — догадался Хосе. Он рассмотрел, как летчик первым бесстрашно бросился в высокие, вихрящиеся волны. За ним во тьме залива исчезали и другие. Даже в луче прожектора, скользнувшем по заливу, не видно было их голов. — Доплывут, — уверил себя Реаль и вернулся в рощу панданусов.
Глава пятнадцатая
НОЧЬ НА БОРОДАВКЕ
— Стой, не волочи… здесь камни острые! — устало произнес Наварро. Вместе с Кончеро они вынесли на берег опутанного морскими водорослями Мануэля, уложили его на широкий плоский камень и сели отдохнуть сами. — У меня в глазах все крутится в разные стороны, — сказал Кончеро. Его мутило; силач порядком наглотался горько-соленой воды, никак не мог опомниться от качки на волнах. Но летчик был беспощаден, он не позволил долго отдыхать. — Вставай!.. Иди на помощь другим. Кончеро поднялся и, пошатываясь, направился к высоким волнам, разбивавшимся о прибрежные камни. Путь через бурный пролив оказался гораздо труднее, чем они предполагали. Шторм заметно ослабевал, но нависшие тучи продолжали поливать волны и скалы теплым дождем. В самые трудные минуты Наварро пришлось плыть, поддерживая на себе Мануэля. В каких-нибудь полутораста метрах от берега судорога свела руку командиру десанта. Хорошо, что подоспел Кончеро, иначе не хватило бы сил вытащить Мануэля на сушу. Видя, что Мануэль уже приходит в себя, Наварро пошел разыскивать товарищей. На отмели он встретил Кончеро, тащившего на себе обессиленных Чезаре и Жана. Вблизи Бородавки высокие откатные волны разметали пловцов. Изнемогающий Паоло никак не мог добраться до берега: бешеная вода то бросала его к нависшим скалам, то тянула назад, в море. Наварро, найдя опору, удачно схватил его за отросшие длинные волосы и вытянул на прибрежные камни. Таким же приемом он извлек из волн и Паблито. Даже теряя сознание, неразлучные друзья были рядом. Подбежавший Кончеро горестно сообщил: — Чезаре не дышит и шевелиться не хочет. — Сделай ему искусственное дыхание, — предложил Наварро и вновь поспешил в клокочущий вихрь пены и брызг. «Делай искусственное дыхание, но как? Главного-то и не сказал! — огорчился Кончеро и, спотыкаясь, пошел к неподвижному лесорубу. Он понимал, что нужно какое-то вмешательство. Но какое? — Не дышит, — значит, в нем воды много. Надо вылить ее, авось легче станет», — решил силач и приступил к оживлению Чезаре. Взвалив большое обвисшее тело себе на спину, он принялся раскачивать его, держа головой вниз. Скоро из носа и рта Чезаре хлынула вода и он зашевелился. Силач удвоил усилия, продолжая трясти и раскачивать товарища с таким усердием, что мертвый наверное бы проснулся. — Ох, и здорово я придумал! — радовался он. Отлежавшись на берегу, Мануэль открыл глаза. Ему вспомнилось все, что еще недавно пережили. Сначала они плыли в открытый океан, иначе сильное течение пронесло бы десантников мимо Бородавки. Расчет опытного Наварро оказался правильным. Летчик все время держался рядом с Мануэлем, подбадривал всех. Он успел помочь Чезаре перетянуть распустившийся бамбуковый круг. Наконец они повернули к Бородавке, пересекая стремительное течение. Внезапно из тьмы, обдавая терпким запахом йодистых водорослей и смолы, возникло нечто черное, бесформенное. Летчик рванул Мануэля за плечо в сторону. Это спасло командира десантников от столкновения с забредшими в пролив обломками судна, плывущими по течению. Но радист Гвидо Фернандес не успел уклониться, его ударило обломками мачты. Он коротко вскрикнули исчез. Краем зацепило и Наварро, но Мануэль остался невредимым. «Вот она, непредвиденная опасность!» — вспомнил он последние напутственные слова Реаля. Кончеро опустил Чезаре на песок; тот глубоко вздохнул и зашевелился. Силач удовлетворенно перевел дух и, заметив рядом распростертого француза, сказал: — А теперь примусь за Жана. Где у него тут ноги? Француз, видевший, что делал силач с Чезаре, поспешил отползти в сторону. — Не надо, дружище! Сам оживу, — сказал он. Наварро принес на спине безжизненное тело Ренни. — Пришлось дважды нырять, — сказал он. — Едва вытянул. Посмотрите, — что с ним? Паоло и Паблито начали приводить в чувство Ренни. Жан им помогал. — Да ты не краба ли проглотил? — по привычке балагурил француз. — Хоть глазом мигни… больше никаких сигналов не надо. Рении вскоре очнулся, но он настолько ослабел, что не мог даже поднять головы. — Один Фернандес не доплыл, — сказал со вздохом Мануэль. Все опустили головы, вспоминая, каким добрым и бесстрашным парнем был радист. Шторм заметно стихал. «Этак и дождь скоро прекратится», — подумал Мануэль. Наступало время решительных действий. В трех сотнях метров от прибрежной скалы, под которой расположились десант-пики, в окнах комендатуры светились огни. Там, на скалистой террасе, в каменном доме жили стражники во главе с африканским капитаном. — Друзья, — сказал командир десантной группы. — Нас всего восемь человек… Путь через пролив был нелегок, но самое трудное — впереди. В нашем распоряжении ливень, темная ночь и неожиданность. Предстоит сначала овладеть комендатурой: там не подозревают о нашем прибытии. Это и есть тот удар с тыла, о котором говорил Хосе. Я отправлюсь на разведку. Паоло, ты остаешься за командира. — Возьмите меня с собой, — предложил Чезаре и с готовностью поднялся. Но Мануэль остановил его. — Нет, — сказал он. — Со мной отправится наша ночная кошка — Кончеро. Понадобится его сила. Не напрасно же он напросился в десант. Пусть поработает за троих. Остальным — отдыхать, набираться сил и терпеливо ждать сигнала… Для Лилового воскресенье закончилось неудачно: от капрала он получил предписание немедля явиться в распоряжение капитана Томазо. Ночное дежурство на Бородавке, где свирепствовал Африканский капитан, не предвещало ничего доброго. Допив остатки виски и попросив у «Тосиньо» вылить на голову ведро воды, Лиловый переоделся, причесался и на катере отбыл на Бородавку. Явившись к капитану, который уставился на него налитыми кровью глазами, он так лихо отрапортовал о своем прибытии, что зазвенел стаканчик, надетый на горлышко бутылки. Похвалив Лилового за выправку, Томазо назначил его в ночное дежурство возле комендатуры, предусмотренное инструкцией, но совершенно никчемное, по мнению стражников. С двумя грачатами и парабеллумом на поясе, автоматом на шее, одетый в непромокаемую накидку с капюшоном, Лиловый мрачно расхаживал по площадке у зачехленной пулеметной установки. «Эх, жаль, не захватил бутылочку с собой. Кто бы здесь заметил? В такую погоду ни одна собака не выйдет!» Вода лилась сверху и хлюпала под ногами. Прибой грохотал внизу. Кругом — темнота, изредка озаряемая коротким и туманным лучом прожектора. Невеселые думы одолевали Лилового.
«Дернуло же меня подписать контракт в Южную Америку; никто бы и дома не тронул. Живут же другие…» Три года подряд ефрейтор зондер-команды Генрих Лютце жег селения, вешал и расстреливал мирных жителей. Потом пришлось убегать от партизан и от наступавших танкистов. В конце войны, чтобы не попасть в плен советским войскам, он сдался американцам. Те загнали его в концентрационный лагерь. Через некоторое время стали появляться списки военных преступников. Многих немцев отправили в те места, где они зверствовали. Ефрейтор Лютце во сне видел, как его ведут от одного выгоревшего селения к другому, как протягиваются костлявые руки убитых им женщин и мужчин. Всюду качаются петли из толстых веревок. Просыпаясь в холодном поту, он замечал, что и соседям не спится. Многие из них сидели нахохлившись и от малейшего стука со страхом смотрели на дверь барака. Спасение пришло неожиданно: появился вербовщик, подсунул бланк, на котором надо было расписаться, петля больше не угрожала. Скорее туда, к пальмам, прелестным сеньоритам и всему тому, что он видел когда-то в кино! Но не все так вышло, как хотелось. Ефрейтор сначала попал на работы в топкие болота и кормил москитов своей кровью, потом по новому, более выгодному контракту выехал на этот остров. И здесь выяснилось: пальм, виски и соленой морской воды — сколько угодно, но никаких сеньорит! Вокруг смерть, каторжники и тоска. Часовой ожесточенно выругался и сплюнул. Во рту у него пересохло. «Эх, идиот! Кто же в такую погоду на посту без фляги!» Неужели он и в самом деле не расстанется с этим чертовым островом? Ведь сейчас и в Германии нашлось бы хорошее местечко! Ефрейтору показалось, будто за спиной что-то зашуршало. Он медленно и нехотя повернулся. И в этот момент словно на него обрушилось небо. От удара по голове в глазах Лилового сверкнула молния, земля закачалась… и свет прожектора померк. Мануэль повернул сбитого с ног часового и, убедившись, что стражник не дышит, снял с него автомат и, отстегнув кобуру, вытащил парабеллум. Впервые за эти годы его рука вновь ощущала холодную сталь оружия. Кончеро, сняв с ефрейтора плащ, сапоги и одежду, столкнул Лилового с площадки в море. Вдвоем с Мануэлем они приблизились к кирпичному одноэтажному зданию, стоявшему на высоком фундаменте. Свет горел лишь в дежурном помещении. Окно было высоко. Кончеро ткнул Мануэля в бок, согнулся и прижался к стене под окном. Поняв это безмолвное приглашение, Мануэль не мешкая вскарабкался на широкую спину силача и прильнул к стеклу. Несколько минут он разглядывал помещение, откуда доносился рыкающий голос Томазо. Капитан муштровал ночную смену караула. Шестеро десантников, тесно прижавшись друг к другу, всматривались в темноту и прислушивались. Колеблющийся луч прожектора скользнул по скале, под которой они притаились. — Кто бы мог подумать, — произнес Ренни. — Оказывается, для спасения не нужно чудес… немного силы и смелости. — Что же ты не сообщил о своем открытии раньше? — спросил Жан. — Мы бы уже давно гуляли на свободе. Но тебе все же следовало бы летчика поблагодарить. Если бы не Наварро, лакомились бы тобой акулы. Вскоре из темноты появился Мануэль; он был в мундире, брюках и сапогах стражника. За ним следовал Кончеро в длинном плаще, развевавшемся на нем, как парус. — Все идет по плану, — сообщил Мануэль. — Часовой уже пошел на дно. Это был Лиловый. — Туда ему и дорога! — Кто умеет обращаться с такой штукой? — спросил Мануэль подняв автомат. Оказалось, что из десантников только Наварро знаком с современным автоматическим оружием. Вновь появившийся луч прожектора дал ему возможность разглядеть автомат. — Системы Томпсона, — определил Рамон. — Известная машинка. Показав, как автомат действует, он отдал его Мануэлю. Командир десантного отряда, переглянувшись с товарищами и поняв без слов, вернул оружие летчику. — Вручаем тебе. Применять будешь только в случае провала, — предупредил он. — Первый же выстрел всполошит охранников и погубит наши замыслы. Паоло и Паблито получили по гранате. Кончеро, к своему огорчению, лишился кинжала, который успел нацепить себе на пояс. По приказанию Мануэля им вооружили Жана. — Зачем тебе этот ножик? Твой кулак почище кувалды сработает, — попытался утешить его француз. — Только По своим не угоди. Сначала посмотри, — потом бей, а не наоборот! Мануэль, рассказав товарищам о том, что ему удалось увидеть в комендатуре, напомнил: — Пирамида с оружием стоит слева, почти у двери. Не спят только шесть человек караула и капитан. Пока мы с Наварро держим их под прицелом, быстрей вооружайтесь. Ну, пошли! Горсточка смельчаков вышла из-под скалы и двинулась туда, где светилось окно комендатуры.
Глава шестнадцатая
ПРЕДАТЕЛЬ
— Эх вы, верблюды одногорбые! Грустно смотреть на ваши рожи, — выговаривал Томазо, с печалью уставившись на примолкшую шеренгу стражников. — Людей я из вас, конечно, не сделаю, но начальство уважать научу. Над большим столом, за которым сидел Томазо, чернел репродуктор, присоединенный к телефону. Не желая утруждать себя, капитан выслушивал телефонные рапорты подчиненных из репродуктора, отвечая в стоявший перед ним микрофон. Слева у входа виднелись винтовки разнообразных систем, лежали автоматы и ручные пулеметы. Напротив входа находились две двери — одна в спальню, другая — в кабинет капитана. Благодаря этому вся жизнь стражников протекала на глазах Томазо и они испытывали на себе все изменения настроений капитана. Шеренга из шести стражников облегченно вздохнула, видя, что капитан, наконец, потянулся к бутылке с ромом. Наполнив рюмку, Томазо произнес: — Я ли не забочусь о вас, бездельники, а вы до сих пор не научились приветствовать майора Чинча. Кто из вас утром не козырнул ему? Молчите? Нет виновных? Ух, противные морды, смотреть на вас не могу! Шеренга… Кру-у-гом! Шагом марш! Пока в стену носом не уткнетесь. Выпив ром, капитан крякнул и вновь стал поучать подчиненных: — Я вижу, зажирели; не только бегать, — стоять разучились! Я за вас возмусь! У меня будете шелковыми. Вся прежняя служба раем покажется… Стражники стояли почти уткнувшись лбами в стену, когда дверь беззвучно отворилась. В комнате появился Мануэль с парабеллумом в руке. Следом за ним вошел Наварро; он направил автомат на шеренгу и скомандовал: — Руки вверх! Не оборачиваться, стреляю без предупреждения. Стражники, ничего не понимая, подняли руки, а пораженный Томазо с недоумением смотрел на пришельцев: не мерещится ли ему? Мануэль шагнул к капитану и коротким движением ударил его по голове тяжелой рукояткой парабеллума. Пьяный офицер обмяк и как-то боком соскользнул со стула на пол. — Всем лечь лицом вниз! — приказал Мануэль. Стражники послушно выполнили его команду. Вбежавшие десантники мигом разобрали оружие с пирамиды. Мануэль поспешил к двери, из которой доносилось сонное сопение и храп, и осторожно прикрыл ее. Его взгляд упал на крышку подвального люка в центре комнаты. Внизу был карцер. Многие знали его назначение. Наварро поднял крышку и, заглянув внутрь, сказал: — Знакомый подвал, черт его побери! Здесь-то они меня и колотили. Кричи, взывай, — никто не услышит! Пусть теперь сами посидят в нем. Стражников за ворот поднимал Кончеро. Паблито с Паоло обыскивали их, забирая револьверы, спички, ножи, зажигалки, затем передавали Жану и Чезаре, а те снимали мундиры и сталкивали пленников в подвал. Через несколько минут все караульные очутились внизу, так и не разобрав, что произошло. Теперь предстояло захватить спальню. С оружием в руках это было уже Не так сложно. Шестеро десантников Вошли в обширное помещение, освещенное тусклым светом… Пахло дешевым табаком, прелой кожей и отвратительным спиртным Перегаром… На койках, расставленных в два длинных ряда, спали стражники и надзиратели. Один из них, скрипя зубами, что-то бормотал во сне. — Эй ты, вставай! — толкнул его в бок Мануэль. — Отстань, свинячья шкура! — выругался охранник и, повернувшись на другой бок, засопел. — Дайте-ка мне, — тихо проговорил Кончеро. Он сгреб не просыпавшегося стражника в охапку, донес его до распахнутого люка и, как на салазках, спустил по лестнице. А за ним таким же образом принялся сплавлять и других обитателей спальни. Чезаре, обладавший значительной силой, помогал ему. Остальные, с автоматами наготове, следили за спящими. Когда несколько стражников проснулись от шума, то уже поздно было думать о сопротивлении. Грозные лица десантников и дула автоматов объяснили им все без слов. Трясущимися руками стражники стали натягивать на себя брюки, опасливо косясь на каторжников. Один из них не выдержал и, с самым умильным выражением на лице, предупредил Паоло о чрезвычайно легком спуске гашетки автомата. Волей случая его собственное оружие было сейчас направлено на него же. Другой, сообразив, в чем дело, заботливо прихватил с собой недопитую бутылку виски и подушку. Старший надзиратель, подойдя к люку, хотел было запротестовать, но, увидел в подвале капитана Томазо, опустил голову и покорно спустился вниз. Остальные были послушны так же, как начальство. Наварро и Паоло, осмотрев опустевшую спальню, заметили торчавшие из-под койки ноги в носках, с продранными пятками. Пинком подняв стражника, вздумавшего спрятаться, они прогнали его в подвал и захлопнули крышку люка. Замок механически защелкнулся. Без помощи сверху сидящие в карцере уже не могли выбраться.

Трудная операция была выполнена без выстрела. Это воодушевило десантников. Поставив Паблито часовым, Мануэль приказал всем переодеться в одежду стражников. Наварро заглянул в кабинет Томазо. Со стен на него смотрели холливудские кинозвезды и какие-то военные в форме иностранного легиона. Тут же висело фото расстрела связанных арабов. Летчик пристально вглядывался в людей в бурнусах, с презрением глядевших на карателей, направивших на них дула автоматов. — Вот как умирают! — с уважением прошептал он. Под большим простреленным зеркалом, между флаконов с одеколоном, пистолетных патронов и бритвенных принадлежностей, стояла солидная бутыль с ромом. Наварро сперва понюхал, а затем, отведав ее содержимое, прищелкнул языком. — Ямайский ром! — определил он. — Чудесное питье. Я думал, что и попробовать больше не доведется. В шкафу он обнаружил белье и крахмальные воротнички, а в соседнем отделении висела капитанская парадная форма. — Пожалуй, она мне подойдет, — решил Наварро. Он нарядился, как военный щеголь, и закурил сигарету. Остальные также переодевались в захваченную одежду. Мануэль надел мундир Томазо, висевший на спинке кресла, и направился во внутренние помещения комендатуры. Навстречу ему вышел франтоватый офицер с дымящейся сигаретой в зубах. Выхватив пистолет, Мануэль прицелился в в него. Офицер выронил сигарету и крикнул: — Не стреляй, Мануэль! Какого черта! Это же я. — Руки вверх или душа вон! — одновременно раздался позади грозный голос Жана. Наварро поднял вверх руки вместе с бутылью. Узнав летчика, Мануэль опустил странно потяжелевший пистолет и перевел дыхание, а Жан тут же крикнул: — Чего же ты поливаешь меня! Опусти бутыль, говорю! — Приказ есть приказ, особенно когда он подтвержден пистолетом, — ответил Рамон, опуская руки. Увидев на полу лужицу вина, летчик расстроился: — Думал, парни согреются после проплыва, а оно теперь вот где. Твоя доля, Жан, вся здесь. Собравшись вместе, десантники с трудом узнавали друг друга. У Кончеро был вид обиженного неудачника. Мундир не сходился на его груди, а брюки треснули по шву. — Все перемерил, ничего нет подходящего, — жаловался он. Наварро присел за стол и, раскрыв папку со списками личного состава, сказал: — Ничего, оденем парня без всякой примерки. Так… Вес у тебя какой? Был сто шесть килограммов? Сейчас, значит, не более девяноста. Рост сто восемьдесят семь? А ну, вызвать сюда старшего надзирателя Тумбейроса. Он понадобится и Мануэлю. Жан поднял крышку люка и крикнул: — Старший надзиратель, на носках! — Чего изволите? — высунув круглую физиономию, с подобострастным видом спросил Тумбейрос. — Принесите сюда вашу парадную форму! — приказал летчик. Сопровождаемый Паоло надзиратель прошел в кладовую за спальней и вынес разглаженный мундир с брюками. Силач натянул объемистые брюки Тумбейроса и сразу же заулыбался. — Что ты скажешь, в самый раз! — восхищался он. Неожиданно очнулся Томазо. Он поднялся по лесенке, держась за голову и заметив, что старший надзиратель стоит в одной ночной рубашке, по привычке рявкнул: — Почему без штанов? В карцер захотелось? Помогите подняться! Мануэль распорядился столкнуть ничего не соображавшего капитана вниз и взялся допрашивать надзирателя. Тот на все вопросы не отвечал и только хлопал глазами. Пришлось припугнуть: — Утопим, если не заговоришь. Трясясь мелкой дрожью, Тумбейрос, наконец, заговорил: — И…и…я… з-заикаюсь. И…и… н-не соберусь с мыслями. Ночью сюда никто не является. Распоряжения поступают к ужину, а сейчас уже десять часов. Господин майор и медик живут на той стороне утеса. В клубе отдыхают стражники, прибывшие вечером на судне. Что еще изволите? — Кто может позвонить сюда? — осведомился Наварро, взглянув на черный рупор на стене. — Никто! Кто же осмелится беспокоить капитана Томазо по пустякам? — Как отвечаете на вызов? — «Пост номер два слушает». Очень прошу снисхождения, пощадите меня, господин начальник. Детки у меня… они еще маленькие, не оставьте сироток. — Вот ради детишек, пожалуй, и следует тебя утопить — с самым серьезным видом сказал Жан. — Ох, господа, пощады! Я буду верно служить вам, — упав на колени, принялся канючить Тумбейрос. Его подняли и потащили в подвал. Но стоило открыть крышку люка, как снизу послышался хриплый голос Томазо: — Послушайте, как вас там, черти, дьяволы! Почему меня посадили вместе с солдатами? Не положено. Немедля переведите в другое помещение, — требовал капитан — Нарушаете международные законы о содержании военнопленных. Я жаловаться буду! — А-а, сразу о законах заговорил! Жалуйся старшему надзирателю, — сказал Жан. Подтолкнув вниз Тумбейроса, он закрыл за ним крышку люка. Десантники стали распихивать по карманам патроны и запасные обоймы к автоматам. Лишь Кончеро, действуя вместо ложки двумя пальцами, молча трудился над раскрытой банкой консервов, с наслаждением уплетая холодные бобы с мясом. Мануэль вышел на улицу. Внизу, где светился фонарь, у пирса покачивались два морских катера. Они, казалось, только ждали властной руки рулевого, чтобы ринуться в океанскую даль. Никого из команды на катерах не было. Мануэль разыскивал в рубке аккумуляторный фонарь. Он сошел с ним на пирс, повернулся в сторону острова Панданго и трижды включил свет. Это был условный знак — теперь Хосе знал, что комендатура захвачена. «Что происходит там? — подумал Мануэль, всматриваясь в темноту. — Видимо, от радости обнимаются, поздравляют друг друга. Но не рано ли?» Он вернулся в комендатуру. Ренни откуда-то притащил вторую бутыль вина и стал разливать по кружкам. — За долгожданную свободу, друзья! — торжественно сказал он. — За удачу! Внезапно резко прозвучал продолжительный звонок. Десантники растерянно переглянулись. Звякнула выпавшая из рук Ренни кружка, ром разлился по полу. — Что обозначает этот звонок? — не понимал Мануэль и жестом приказал Району, стоявшему ближе всех к телефону, снять трубку. — Пост номер два слушает! — ровным голосом сказал летчик. — Говорит пост номер один! Капрал Варош просит капитана весьма срочно! — зарокотал репродуктор на стене. — Спокойнее, капрал, спокойнее, — начальственным тоном ответил Наварро. Капитану Томазо некогда… Он занят! — Чрезвычайное происшествие! — настаивал Варош. Из репродуктора слышалось его прерывистое дыхание. — Тогда передайте донесение адъютанту полковника Луиса. Он сейчас подойдет к телефону. Извольте трубочку, сеньор адъютант! — проговорил Наварро, обернувшись к Мануэлю. Тот, благодаря выдержке летчика, успел опомниться и, взяв трубку-микрофон, недовольным голосом спросил: — Ну, что там у вас, капрал? — Важное сообщение! Потому я решил потревожить капитана. Сейчас к электропоясу явился каторжник. Он вызвал меня по секретному телефону и назвал пароль. Это разведчик С-122. Ввиду чрезвычайности, я открыл проход и пропустил. Агент утверждает, что сегодня ночью или утром намечен побег. Он настаивает на личном докладе майору Чинчу. Мануэль взглянул на десантников. Ближе всех находился Жан, устремивший напряженный взгляд на репродуктор; рядом с ним стояли, обеспокоенно прислушиваясь, Паоло и Паблито. Кончеро недоумевающе переводил взгляд от рупора на товарищей, ничего не понимая. Неожиданное спокойствие овладело и Мануэлем; он произнес твердым голосом: — Что за чепуха, капрал! С Панданго побег невозможен. Надеюсь, что вам это известно? — Так точно! Но разведчик утверждает… — Где этот разведчик? — Согласно инструкции, посажен в камеру. Никто не видел в лицо, даже часовой. Как прикажете действовать дальше? — До нашего приезда ничего не предпринимать! Боюсь, что полковник не похвалит за такой вздор. Разведчик, видимо, решил выслужиться, а вы и уши развесили. Ждите меня! Через час мы выясним все на месте. — Господин адъютант, прошу извинить, но я поступаю по инструкции, — оправдывался капрал, смущенно покашливая. — Понимаю. Благодарю за службу, капрал Варош! — ответил Мануэль и, выключив микрофон, взглянул на притихших товарищей. Сообщение Вароша смутило десантников. По первому впечатлению казалось, что план Реаля рушится, что стражники первого поста подняты по тревоге. Ренни отшвырнул ногой кружку и сказал: — Ясно, на Панданго среди нас был предатель; он предупредил оставшихся там стражников. А нас всего восемь человек! А что, если вся эта затея не только глупость, а кое-что похуже? Ваш Хосе изобретал спасательные поплавки из бамбука, но почему-то сам не поплыл на них. — Не получив ответа, Ренни продолжал с возрастающей уверенностью: — Нам, друзья, повезло; мы вырвались оттуда. Конечно, мы спасли бы и остальных, но вмешалось предательство. В нашем распоряжении ночь и катера. Оружие и консервы есть, не забыть бы захватить пресной воды. Нужно спасаться, пока не поздно. — А как же товарищи? — недоумевая, спросил Чезаре. — Теперь мы не в силах помочь им. Не погибать же и нам! — Один все же нашелся! — с горечью сказал Мануэль. — Вот что делает страх… глупый, животный страх! — Я не трус, но это разумный выход, — возразил Ренни, рассовывая по карманам консервы и галеты. — Вы не годитесь в командиры, раз не понимаете, в какое положение мы попали. — Я думаю о спасении всех, — начал было Мануэль, но Ренни перебил его: — Дешевка! Красивые слова. Я не хочу подчиняться краснобаям, когда своя шкура горит. Ты не учитываешь обстановки. Паблито, переглянувшись с Паоло, сказал: — Лучше погибнуть, чем бросить товарищей. — Они скажут, что мы подлецы! — добавил Паоло. Жан бросился к ящику и выхватил несколько гранат. — Погибать — так по-настоящему! Веди нас, Мануэль, на катер. Будем брать Пан-данго силой! Ты говоришь, их там полсотни? Их останется много меньше, когда мы умрем. Эх, сюда бы креола Лескано, вместо этого труса! А ты запомни: умирают только раз, так сумей хоть это сделать по-человечески! Настроение большинства было понятно Мануэлю, но он спросил: — А что думает Наварро? Летчик сидел на патронном ящике, курил и щурился от дыма. Он был преображен офицерской формой и казался гостем в этой комнате. — Я подчиняюсь приказаниям командира, — ответил Наварро. Пусть он и распоряжается. Мое дело — выполнять, а не рассуждать. Ренни посмотрел на летчика с укором. Он знал, что Наварро не коммунист, и втайне рассчитывал на его помощь. — Я спрашиваю потому, что в дальнейшем мне нужны только надежные люди, — пояснил Мануэль. — Пусть враги пронюхали, но мы ведь вооружены. Наша задача: во что бы то ни стало завладеть Бородавкой. Потом мы займемся островом Панданго. Таков план нашего штаба, вы отлично его знаете. То, что предлагает Ренни, вызвано растерянностью и страхом. Нам пока ничто не грозит. Мы продолжаем начатое. Спасение не в бегстве, а в соединении с ожидающими нас товарищами. Ренни, поправив висевший на нем автомат, пододвинул мешок с консервами к выходу. — У меня свой вариант, — сказал он. — Внизу стоят два катера. Я забираю один себе. Желающие могут оставаться и погибать по этическим соображениям. Это фанатизм; я предпочитаю жить! — Напрасно Наварро вытянул тебя из воды, — глухо сказал Жан. — Снимай оружие и проваливай на свой катер! — Спокойнее, французик! Я предвидел все, — ответил Ренни, водя стволом автомата. — Сидите на месте, пока не уйдет катер, иначе я не ручаюсь. — Предусмотрительный, ничего не скажешь! — отметил Жан. — Ничего, может, еще где-нибудь встретимся. — Выдержка, товарищи! Первый выстрел погубит все, — предупредил Мануэль. — Они вызовут по радио миноносцы, побег сорвется, и тогда… — Что тогда? — наглея, спросил Ренни. Он понимал, что никто не рискнет выстрелить в него. — Повесят всех. — Даже висеть с таким противно. Ты не трус, нет, ты — расчетливый негодяй! Бери второй катер, он нам не нужен. Мы останемся продолжать начатое. Труса можно понять и простить, но ты смеешь угрожать товарищам, спасшим тебя! — сказал Мануэль. — Посмотрим, далеко ли ты уплывешь в одиночку, — добавил Жан. — Кланяйся от нас морским ежам! Ренни на миг задумался. Представив все трудности плавания в океане, он взглянул на Района и развязно сказал: — Когда приходит неудача, лозунги меняются. Правильно я говорю, летчик? Твое положение еще хуже, чем у них. — Почему? — буркнул Наварро. Ренни криво усмехнулся. — Ты же не коммунист; тебе-то зачем рисковать? Идем со мной. Какие тут идеалы, когда смерть берет за глотку? Наварро слегка покосился на его автомат и сказал: — Всякое хорошее дело для меня под конец обязательно обернется какой-нибудь пакостью! А почему я вдруг так полюбился тебе? — Пусть никто не упрекнет в неблагодарности. Ты все-таки вытянул меня из воды, а теперь я спасаю тебя. Вдобавок, ты и в моторах разбираешься. — Вот для чего я понадобился, — усмехнулся Наварро. — Им ты тоже был нужен не за красивые глаза, — цинично заметил Ренни. — Ты только попутчик! Идем-ка лучше на катер, пока не поздно. — Ну что ж, видно, судьба готовит мне свои пути, — вздохнув, сказал летчик и шагнул к пирамиде. Жан пренебрежительно швырнул окурок к его ногам. Наварро опустил голову и начал выбирать винтовку. — Так-то оно умнее! Не копайся, бери любую, — в нетерпении торопил Ренни, по-прежнему держа остальных под прицелом. — На тот свет торопиться не следует, — возразил ему Наварро. — В наших условиях без надежной винтовки далеко не уйдешь. Она точней бьет, чем автомат. Он выбрал винтовку потяжелее и, как бы взвешивая ее на руке, коротким взмахом вдруг ударил Ренни по голове. Тот закачался, но не упал. Предатель недоуменно таращил глаза, готовый вот-вот нажать гашетку автомата. Наварро пришлось еще раз ударить его. Только после этого у Ренни подкосились ноги и он тяжело рухнул на пол. — С оружием не шутят. По приказу Хосе я обеспечиваю безопасность командира, — сказал товарищам Рамон. — Молодец, — похвалил Чезаре. — Хосе в тебе не ошибся. Лесоруб сел на корточки, осмотрел Ренни, снял с него оружие и с чувством гадливости сказал: — Больше этот трус не встанет и не солжет. Тело изменника оттащили в сторону и прикрыли мешком.
Глава семнадцатая
РУКИ ВВЕРХ!
Предстояло захватить маяк, радиостанцию, солдатский клуб, квартиры Чинча и медика. Главной опасностью был клуб. Он находился на другой стороне утеса. Разделившись на две группы, десантники покинули комендатуру. Паблито остался на пристани. Ему было приказано наблюдать за катерами и оборонять тыл от всяких неожиданностей. Жан и Кончеро пошли к маяку, луч которого по-прежнему медленно скользил по волнам пролива и побережью Панданго. Силач на всякий случай захватил с собой моток веревок. — Вязать-то чем будем? — сказал он. — Веревка всегда пригодится. Подойдя к высокой башне, из которой вырывался яркий луч, обшаривавший остров, они на время словно ослепли и не могли обнаружить дверь маяка. — По-моему, она там, — наугад определил Жан и ткнул пальцем прямо в открытый рот Кончеро. — Нет, Жан, она за твоей спиной, — сплюнув, шепнул силач. — Чего же ты раньше не сказал? — Ты же велел молчать! Тяжелая железная дверь действительно оказалась рядом. Но она едва лишь приоткрылась: ее держала изнутри цепь. Все попытки француза просунуть руку внутрь и снять цепь ни к чему не привели. Кончеро, молча наблюдавший за возней Жана, наконец спросил: — А если открыть ее с другой стороны? — Как это с другой? — А вот так! Взявшись за низ двери, силач снял ее с металлических крюков, на которых она была повешена, и отставил в сторону. — А ты все-таки соображаешь иногда, — отметил Жан. — Пу, пошли наверх, только не топай, а ступай мягко. Вдвоем они стали подниматься по крутой винтовой лестнице. От непривычки у Кончеро закружилась голова, но он молчал, чтобы не вызвать насмешек Жана. Добравшись до площадки, они заглянули в застекленное помещение, где находились вращающиеся линзы прожектора. К их удивлению, здесь никого не было. Маяк действовал механически. Освоившись, Кончеро заметил тут же в углу на площадке низенький диванчик. На нем безмятежно спал дежурный. От толчка в бок он проснулся и сел, тараща заспанные глаза на пришельцев. Жан мгновенно обезоружил его. Техник и не думал сопротивляться, полагая, что его постигло наказание за неположенный сон на посту. Больше никого на маяке не оказалось, лишь ровно гудел мотор и щелкали автоматические переключатрли. Веревка пригодилась. Кончеро связал пленнику руки и потащил егоза собой вниз. Жан ничего не тронул на маяке. «Пусть прожектор крутится, — решил он. — Иначе вызовешь тревогу не только на острове, но и на пароходе».* * *
Мануэль, Паоло, Наварро и Чезаре добрались до радиостанции, расположенной на берегу под двумя высокими мачтами-антеннами. Паоло осторожно потрогал дверь; она была заперта на ключ. Но рядом виднелось распахнутое окно. Чезаре заглянул в него. Радист, надев наушники, сидел в конце комнаты и, видимо, слушал музыку. Он так увлекся, что ничего не замечал вокруг. Чезаре осторожно подсадил Паоло. Тот сел на подоконник, спустил ноги в комнату и на цыпочках прошел к двери. Повернув ключ, он тихо открыл ее. Первым вошел Мануэль. Подойдя к радисту, он сдернул с него наушники и, схватив его за ворот, оттянул подальше от передатчика. Испуганный радист, увидев дуло пистолета, сам поднял руки. Связав его, Мануэль приказал разбить и растоптать всю аппаратуру и запасные лампы. Сам он взялся за передатчик. Через пятнадцать минут радиостанция Бородавки перестала существовать. Радиосвязь острова со всем миром была прервана. Пришедшим Жану и Кончеро Мануэль велел отвести радиста в подвал. Но они замешкались на радиостанции. Жан, не понимая, чего хмурится силач, спросил: — Отчего у тебя такой кислый вид? Завидуешь, что они действуют, а мы лишь пленных водим? — Нет, завидовать нехорошо, — ответил силач. — Я не поэтому. У меня сапоги жмут. Ведь я их выбирал без Рамона. Малы, кажется! — Ну, чепуха; разносишь, — утешил его Жан. После разгрома радиостанции пошли на квартиру к медику, но того дома не оказалось. — Не у Чинча ли он? Пошли к коттеджу, — сказал Мануэль. — Там обоих возьмем. Приблизясь к коттеджу майора, десантники прильнули к освещенным окнам и стали наблюдать. Чинч был не один: за столом, уставленным бутылками, фруктами и закусками, сидел плотный, раскрасневшийся моряк. Гость внимательно слушал майора и кивал головой. А Чинч, словно цыганка, раскладывал перед ним на столе замусоленные карты. За последнее время, изверившись во всем, начальник каторги пристрастился к гаданию. Он обзавелся книжкой «Карты предсказывают судьбу» и по вечерам самозабвенно тасовал колоду, поминутно заглядывая в справочник. Сейчас он демонстрировал свое искусство капитану дальнего плавания, которому сбывал для перепродажи скопленные наркотики, ваниль, копру и фрукты. Задуманная комбинация Чинчу не удавалась. Стараясь помочь судьбе, он перетасовывал карты третий раз. — Проклятый туз пик! — бормотал он. — Все время лезет, куда не нужно. — Туз пик означает неожиданный удар! — сообщил моряк. — Вам грозит неприятность. Но, честно говоря, — карты всегда врут! Окна и здесь оказались открытыми, а дверь была заперта изнутри. Мануэль решительно постучал. Чинч обозлился. Он с проклятиями поднялся и, выйдя в прихожую, открыл дверь. Увидев перед собой стражника, майор возмутился: — Я же говорил капитану Томазо, что списки просмотрю утром! Положи на конторку и уходи, только не забудь захлопнуть дверь. — И Чинч, поглощенный гаданием, вернулся к гостю и разложенным картам. Мануэль пропустил в прихожую товарищей и вместе с ними вошел в комнату. — Руки вверх! — громко сказал он. — Что еще за чертовщина? — обозлился Чинч. — Остров Панданго захвачен подпольным центром! — ответил Мануэль. — Сопротивление бесполезно. Моряк послушно поднял руки, а побагровевший майор сидел неподвижно. Наварро подошел к нему и, хлопнув по плечу, сказал: — Пора и вам расплачиваться. Чинч, узнав летчика, как-то странно перекосил лицо и боком медленно повалился на ковер: его разбил апоплексический удар. В комнату вошел Жан, а за ним осторожно ступающий Кончеро. Они явились за новыми пленниками. Майор уже был не опасен, десантники занялись его гостем. — Я капитан судна «Серингейрос», зафрахтованного полковником Луисом. Меня не касаются события, происходящие здесь, — ответил изрядно захмелевший моряк. — Я должен лишь забрать товары, проданные Чинчем. Больше ничего путного от капитана добиться не удалось. Моряка усадили в кресло и надежно привязали к спинке. — Вот и отлично, — не упаду в случае качки. Замечательная идея! Надо будет учесть нашему буфетчику, — сказал бравый моряк и попросил: — Налейте-ка вон из того графина, чтобы скучно не было. А эта война Алой и Белой розы меня не касается. Я буду спать. Он выпил стакан вина, поднесенный к его губам Жаном, довольно крякнул и, пожелав всем «спокойной ночи», очень быстро захрапел. Покидая коттедж Чинча, Кончеро забрал с собой ключ от дверей. — Не лазать же все время в окна! — сказал он. — Совсем обленился бэби, — заметил Жан. — Предпочитает парадный ход! Они опять подошли к дому медика. Дверь по-прежнему была открыта, но хозяин словно провалился сквозь землю. На столе стояла пустая бутылка и прямо па скатерти валялись объедки маринованных сельдей. Было похоже, что медик пировал в одиночку. — Не отправился ли он в клуб? — сказал Жан. — Спьяна куда не забредешь. Десантники скорым шагом подошли к солдатскому клубу — бывшему бомбоубежищу, сооруженному под скалой. Массивная дверь клуба легко поддалась толчку Мануэля. Держа в руке автомат, он первым перешагнул порог. Остальные последовали за ним, предчувствуя, что здесь им будет не легко. В большом, ярко освещенном зале за двумя длиннымистолами сидели незнакомые стражники. Видимо, это были гости с прибывшего судна. Одни из них, отчаянно споря и ругаясь, с азартом сражались в «очко», другие пили ром и вели громкие разговоры. Табачный дым застилал низкий потолок бомбоубежища. Длинноносый человек, сидевший у буфетной стойки, лениво бренчал на банджо. У каждого стражника на поясе виднелась кобура с увесистым пистолетом. «Человек двенадцать будет», — определил Мануэль. Пожилой стражник с золотыми нашивками на рукаве, стремясь перекричать всех, требовал внимания. — Это что! — восторженно кричал он. — Вот я расскажу! Шли мы как-то в Буэнос-Айрес… Но сидевшие за столом не слушали его, их внимание привлекли вошедшие. Раздались возгласы: — Давно бы так, а то мы одни пьянствуем! — Начальство отпустило или потихоньку смылись? — А ну раздвинься, давайте все сюда! Мануэль, держа автомат наготове, потребовал: — Руки вверх! Гуляки, приняв его команду за шутку стражников-старожилов, расхохотались. — Старый трюк, не пройдет! Десантники ожидали всего, только не этого. Мануэль грозно повторил: — Руки вверх! Наступила тишина. Лишь рассказчик с золотыми нашивками ничего не замечал. — Да слушайте же, черти! — требовал он внимания. — И вот заходим мы в Буэнос-Айрес… Все вскочили, отшвырнув стулья. Сухопарый стражник первым сообразил, что приход вооруженных людей не шутка. — Кабальеро, это каторжники! — крикнул он, выхватывая из кобуры пистолет. — Уничтожайте их! Подбежавший Наварро прикладом винтовки ударил его по руке. Взведенный пистолет, упав на цементный пол, от удара выстрелил. Пуля, взвизгнув, отлетела от каменной стены и рикошетом задела Кончеро. Силач охнул и согнулся, схватившись за лоб. В ту же секунду Мануэль нажал гашетку автомата… Грохот частых выстрелов и заметавшееся эхо наполнили гулом низкое помещение клуба. Десантники стреляли до тех пор по стражникам, пока никого из них за столом не осталось: все они валялись без движения на цементном полу. Лишь рассказчик с золотыми нашивками, поднявшись на колени, судорожно вытаскивал пистолет из заднего кармана. Наварро, почти не целясь, выстрелил в него. Полицейский качнулся и сунулся лицом в чье-то сомбреро. История путешествия в Буэнос-Айрес так и осталась недосказанной. В наступившей тишине было слышно, как со стола закапало вино из пробитых графинов. Кислый пороховой дым наполнял бывшее бомбоубежище. — Проверить, не притворился ли кто! — приказал Мануэль, опуская автомат. Со стен у буфета послышался мелодичный бой часов. Они торжественно пробили двенадцать ударов. Пока одни десантники осматривали убитых стражников, снимая с них оружие, другие занялись раненым Кончеро. Пуля, отскочившая рикошетом от стены, задела вскользь его лоб и сорвала полоску кожи. Кровь обильно заливала силачу глаза и рот. — Я умру? — робко спрашивал он, с надеждой смотря на Жана. — Умрешь через полсотни лет, — утверждал тот, перевязывая лоб оторванным куском скатерти. — Да не вертись ты! Убитым не полагается. И не вздыхай, как лошадь, — скорей пройдет. Собрав все оружие, десантники покинули солдатский клуб и поспешили к комендатуре. На пристани их встретил Паблито. Он был встревожен стрельбой. — Что там было? Кончеро ранили? — Все наоборот, — ответил Жан. — Кончеро сам боднул пулю, иначе она бы пролетела мимо. — Как тебе кажется — на Панданго слышали нашу стрельбу? — спросил у Паблито Мануэль. — Думаю, что нет. Стрельба была глухой… Все занялись погрузкой оружия, одежды, ящиков с гранатами. Кончеро, обнаружив в кладовой комендатуры изобилие консервов, наполнил ими мешки и, забыв о ранении, начал перетаскивать их на катер. — Ну как, не очень больно? — спросил у него Жан, думая о ране. А Кончеро, не поняв его, радостно сообщил: — Нет! Теперь совершенно не жмут. Прямо благодать на душе. Чезаре с Паоло, погрузив на катер несколько мешков с обувью, проверили, надежно ли закрыт подвал с пленниками, затем уничтожили телефонную связь и, заминировав гранатами входную дверь, вылезли из комендатуры в окно. Не найден был только ненавистный всем врач. Но терять время на его поиски не имело смысла. Надо было действовать по намеченному плану, — на Панданго десантников ждали товарищи. Жан снял замок со скорострельной пушки, находившейся в каменной амбразуре, а Наварро вытащил пружины из сдвоенных пулеметов. Бородавка стала безопасной. Паблито, исследовав машинное отделение катера, довольно легко включил мотор. Суденышко затряслось, как живое. Кончеро, забравшийся в рубку, с робким почтением смотрел на Паоло, взявшего в руки штурвал и поглядывавшего на приборы. Внимание силача привлекла блестящая стрелка под стеклом. Она колебалась при малейшем толчке, но упорно возвращалась на старое место. Он впервые видел обыкновенный корабельный компас и был потрясен его особенностями. — Колдовство, не иначе, — прошептал он и тайно перекрестился. Десантники, не желая оставлять второй катер противнику, взяли его на буксир. Оба судна плавно отошли от пристани и двинулись через залив к Панданго. Длинный луч прожектора, обшаривавшего море и берега, из опасного врага превратился в союзника, помогающего отыскать нужный путь.Глава восемнадцатая
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ НА ПАНДАНГО
Капрал Варош, внимательно оглядев дежурное помещение, озабоченно покачал головой. На полу около камеры, в которую он недавно посадил мокрого разведчика, остались следы грязи. Пришлось самому взять швабру и подтереть их. Часы на стене показывали полночь. Скоро прибудет начальство с Бородавки. Варош зевнул и уселся за стол, рядом с пультом управления подъемными сооружениями электропояса. Самое скучное занятие на свете — это ожидание, а особенно, когда ждешь начальство. В первом часу ночи к острову подошли два катера. Дежурный на пристани был предупрежден Варошем. Выбежав им навстречу, он ловко подхватил бросательный конец и помог катерникам пришвартоваться. Не спуская трапа, на пирс спрыгнули два рослых полицейских в плащах, а за ними — офицер. «Главный», — решил дежурный и поспешил навстречу. Он знал, что прибудут незнакомые офицеры. Едва стражник успел вскинуть руку к козырьку, как был оглушен ударом Чезаре. То же самое случилось и с часовым, к которому подошел Кончеро. С катера сошли остальные и, не говоря ни слова, направились к первому посту. Роли у них были распределены еще на катере: Мануэль остался капитаном, а Наварро «разжаловали» в лейтенанты, споров лишние нашивки. Варош вытянулся, когда офицеры с автоматчиками вошли в дежурное помещение. Среди ночных гостей не было ни одного знакомого лица. «Наверное, личная охрана полковника Луиса», — решил капрал и уже приготовился полным голосом отрапортовать, но красивый лейтенант предупреждающе поднял руку. — Отставить рапорт, капрал! Сейчас ночь. — Да, солдатам нужен отдых, не тревожьте их, — подтвердил капитан. — Прикройте-ка лучше дверь в спальню. Пусть спят. Крупный и довольно неуклюжий стражник с перевязанной головой, фигура которого вызвала у Вароша безотчетное воспоминание о кухне, опрометью бросился исполнять приказание. Он плотно прикрыл дверь и даже заложил ее зачем-то на железный крюк. — Идеальный порядок в дежурном помещении, а главное — чистота! — заметил лейтенант. — Не напрасно наш друг Томазо хвалил капрала. — Да, молодцом, капрал, молодцом! — снисходительно одобрил капитан и отдал совершенно неожиданное приказание: — Откройте проход через электропояс! Варош поспешил к пульту, но счел долгом доложить: — Господин капитан, ночью открывать небезопасно. Прикажете вызвать дополнительную охрану, согласно инструкции? — К чему это? Пусть отдыхают. На пристани достаточно моих людей. Пошевеливайтесь, капрал! Включенный мотор чуть слышно загудел внизу под полом, поднимая на тросе подвижное звено электропояса. В наступившей тишине слышно было дыхание людей. На пульте вспыхнула зеленая лампочка. — Ваше приказание выполнено, господин капитан. Проход открыт! — доложил Варош, и на мгновение ему показалось, что в глазах пришельца вспыхнул насмешливый огонек. Загорелый стражник приблизился к пульту и начал разглядывать надписи на кнопках. В другое время Варош одернул бы нахала за неуместное любопытство, но сейчас было неудобно — гости. Капитан вполголоса что-то приказал одному из своих спутников. Тот козырнул и поспешил из помещения на улицу. — Так где же у вас разведчик С-122? — обратился лейтенант к капралу. — Согласно инструкции заперт в отдельной камере, — доложил Варош и снял со стены ключ от камеры. — Выпустите его, я побеседую, — распорядился капитан. Звонко щелкнул замок камеры, и на пороге показалась неимоверно грязная, полосатая фигура шпика. — Наконец-то, господин капитан! — обрадованно сказал он. — Я эс сто двадцать два. Мной только что раскрыт заговор. Здесь действует подпольный центр. Надо немедля объявить тревогу. Десантники изумленно смотрели на стоявшего перед ними Алонзо Альвареца. А тот, возбужденный важностью сообщения, не разглядывая их лиц, продолжал: — Каторжник, которого зовут Энрико, у них вожак. — Совершенно правильно! — сдержанно подтвердил капитан. — Говори дальше… Кто еще замешан? Альварец замер, услышав голос капитана; этот характерный тембр был ему памятен с детства. — Ма… Мануэль! Это непостижимо, — с трудом выговорил он, узнав друга, преображенного военной формой. Командир отряда, едва сдерживая ярость, спросил: — Ну, что же ты замолчал? Говори дальше. Одновременно в бок капрала уперлось дуло пистолета, неведомо как очутившегося в руке смуглого красавца офицера. — Поднять руки! Варош беспрекословно повиновался; он знал, что может последовать в случае малейшей заминки с исполнением такого приказания. Наварро, обезоружив капрала, предупредил: — Советую молчать, если хочешь жить! Варош и без предупреждения онемел: все происходившее не укладывалось в его мозгу. Шпион, оценивая обстановку, осмотрелся. У выхода он заметил рослого Чезаре. Спальню охранял могучий Кончеро. Рядом с капралом находился Наварро. Единственное окно было затянуто проволокой, — не убежишь! — Мануэль, ты, наверное, считаешь меня изменником? — в отчаянии вырвалось у Альвареца. — Я ведь хотел помочь… запутать их. Хорошо, что сразу встретились. Мы ведь с тобой старые друзья. Объясни им, кто я. Да пусти ты меня, не души, — окрысился он вдруг на Паоло, схватившего его за ворот. Тот, отпустив шпиона, с недоумением смотрел на Мануэля. Командир десантников стоял словно каменный, лишь желваки вздувались на скулах, а обнаглевший Альварец, торопясь и захлебываясь, продолжал: — Я расскажу, как провел их… Вы сейчас разберетесь. — Уже разобрались! — оборвал его Мануэль. Альварец, поняв бессмысленность дальнейшего притворства, потребовал: — Я настаиваю, чтобы мной занялся Центральный Комитет. Ты не имеешь права. Везите меня на материк, там все поймут. — Ну и человек! — удивился Кончеро. — Сплошной обман. — Я требую высшей инстанции! — чтобы выиграть время, настаивал Альварец. — Подыщите что-нибудь повыше, и с веревкой, — сказал Мануэль. — Он вполне заслужил самую высокую перекладину. — Нич-ч-чего, до утра еще далеко, — стал угрожать предатель, стремясь оттянуть развязку. Заткнув Альварецу рот грязной тряпкой, которой еще недавно капрал наводил чистоту в помещении, Чезаре и Паоло выволокли шпиона из помещения. Капрала же заперли в камеру. Варош не сопротивлялся; он не мог понять, как заключенные попали на Бородавку и вернулись сюда в форме стражников, обманувшей его. Через открытый проход в электропоясе пришли руководители подпольного центра. Увидев, как тащат к мачте Альвареца, Хосе поглядел ему вслед и сказал: — Этот подлец проскочил за электропояс сразу же после сигнала с Бородавки, но мы знали, что вы добыли оружие и придете на выручку. — Мы готовы были при малейшем сопротивлении разнести первый пост из катерных пулеметов, — подтвердил Мануэль. — А как мог проникнуть сюда Альварец? — Наша вина, — ответил Лео Манжелли. — Он проломил голову Жуану, дежурившему у подъемного звена. — Тому, что струсил плыть через пролив? — Да. Смерть настигла его в самом, казалось, спокойном месте. Благодаря последним словам умирающего, Лео Манжелли удалось установить, что произошло. Альварец, разнюхав о начале событий, незаметно вылез из барака через окно и добрался до электропояса. Там его остановил сидевший в засаде Жуан. «Меня прислал Мануэль», — сказал шпион. Услышав знакомое имя, Жуан подпустил его к себе. Как бы собираясь шепнуть на ухо пароль, Альварец вдруг ударил его камнем по голове. Да не один раз, а несколько. Над пристанью высилась пятнадцатиметровая мачта. По торжественным дням Чинч приказывал поднимать на ее вершину пестрый флаг острова Панданго, сшитый по его проекту. Накинув петлю на предателя, Чезаре вздернул его над землей и так оставил висеть. — Теперь он добился… Для таких негодяев это последняя инстанция! Обезвредить стражников, спавших в соседнем помещении, было не трудно. Их в одном белье закрыли в подвале. Со времени начала операции прошло более четырех часов. До рассвета уже оставалось немного времени. Подчиненные Манжелли привели с пристани пришедших в себя дежурного и часового и заперли в камеру с Варошем. Подпольному центру осталось еще захватить темневший на рейде теплоход, прибытия которого так терпеливо ждал Хосе. Он стоял в полукилометре восточнее первого поста. Во мгле светились лишь два тусклых огня. Команда теплохода, видимо, спала, не подозревая о событиях, происшедших в эту ночь на острове. Для захвата судна группа десантников была пополнена свежими силами. Снять вахтенного на теплоходе поручили строителю «воздушной переправы» — Хорхе, обученному в годы войны диверсионным действиям в тылу противника. Ему предложили любой пистолет на выбор, но инженер отказался. — Мой пистолет еще на теплоходе, — сказал он. — Оружие, отнятое самим у противника, — самое лучшее оружие на свете! Хорхе вооружился лишь кинжалом, взятым у Жана. Пока Реаль отправлял связных по баракам, чтобы вывести за электропояс заключенных, намеченных к освобождению, отряд Мануэля погрузился на две шлюпки, стоявшие у пирса, и отправился в путь. Бесшумно действуя веслами, десантники приблизились к судну и остановились у его округлой, нависшей над водой кормы. Здесь Кончеро, став во весь рост, уперся руками в железную обшивку теплохода, а Хорхе с обезьяньей ловкостью вскарабкался ему на плечи, ухватился за фальшборт, подтянулся на руках и перебрался на палубу. Наверху, чуть слышно посвистывая, словно маятник, ходил от борта к борту вахтенный. Внезапно свист его оборвался, послышался шум борьбы, и вскоре все смолкло. Минут через пять рядом со шлюпками шлепнулся в воду конец штормтрапа. — Поднимайтесь, компанейрос! — негромко сказал Хорхе. Карабкаясь по шатким балясинам штормтрапа, десантники один за другим поднялись на палубу судна. — А что с вахтенным? — шепотом спросил Мануэль. Хорхе указал на связанного человека, лежавшего около шлюпбалки. Затем он хлопнул себя по карману, из которого торчала рукоятка пистолета, и сказал: — Вот и я вооружен. Дело оказалось несложным. Три человека были оставлены Мануэлем для действий на верхней палубе. Четверых вместе с Жаном он послал в машинное отделение, откуда доносилось монотонное бульканье помпы, видимо откачивавшей воду из трюмных отсеков, а сам с Паоло и Наварро приступили к осмотру надстроек и жилых помещений. В рубке и капитанской каюте никого не было. В матросском кубрике на двухъярусных койках при тусклом свете спали полураздетые люди. Их было человек двенадцать. — Механики, — определил Наварро, заметив, что у многих моряков руки потемнели от масла. — Подъем! — скомандовал Мануэль. Лежащие подняли головы. Они удивленно переглядывались, не понимая, для чего пришли в кубрик стражники. — Одеться! — приказал Наварро. Один из механиков, надевая промасленную робу, про себя ворчал: — Сколько продажных шкур развелось! — Не говори, дружище! — согласился сосед по койке. — Я думал, пришли люди, а это стражники! — заметил третий моряк. — Дня им мало, по ночам таскаться вздумали. Десантники никак не ждали, что их форма встретит такое открытое презрение. — Берут обыкновенного негодяя, наряжают в казенный мундир, суют дубинку или скорострельный пистолет в руки и — вот вам вполне приличная шкура. Любуйтесь! — сказал первый механик и кивнул в сторону Наварро. Летчик прикрикнул на него: — Ты, приятель, не очень-то… полегче на виражах! — Твои приятели в джунглях воют! — сердито сказал моряк. — Ведите, что ли! В кубрик заглянул Хорхе. Он был в полосатой одежде каторжника, с пистолетом в руке Моряки изумленно переглянулись: появление каторжника с оружием, спокойно беседующего с ненавистными людьми, могло смутить кого угодно. — Что за маскарад? — спросил один из моряков. Узнав, что судно захвачено политическими заключенными, он стал разговаривать по-иному, а сердитый машинист отвел Мануэля в сторону и негромко спросил: — Коммунист? — Да. — Я думал, арестовать пришли. Эти ребята сочувствуют. Можете на нас рассчитывать, не подведем. — Потом он повернулся к Наварро и попросил: — Извини, дружище! Я и то смотрю — парень с виду ничего, а в такой паршивой робе. Не сердись! Всех помощников капитана, двух радистов и пассажиров в военной форме, отказавшихся подчиняться десантникам, на катере отправили на Панданго и посадили вместе со стражниками в подвал. От механиков Мануэль узнал, что перед выходом в море часть команды была неожиданно списана на берег и заменена портовым сбродом. Лишь дизелисты были оставлены на своих местах. Потом явились стражники. Они расположились в носовых каютах и пьянствовали весь рейс. Незадолго до отплытия один из электриков видел подозрительного полковника, беседовавшего с капитаном судна и радистом. Отправился ли этот полковник в море, сошел ли на берег, — моряки не знали. Им лишь было известно, что судно следует в одну из североамериканских гаваней. Судя по количеству запасенного топлива, порт назначения находился далеко. Продовольствия и пресной воды было взято на длительное плавание.* * *
На Панданго перед выходом из лагеря и на пути к баракам была выставлена вооруженная охрана. Люди Лео Манжелли дежурили попарно. Трагическая гибель Жуана была для них хорошим уроком. Чтобы не взбудоражить и не поднять прежде времени уголовников, решено было вести разговоры только в бараках политических заключенных и у индейцев. Энрико Диас, борясь с приступами лихорадки, пошел в третий барак, где больше всего водилось доносчиков и шпионов. Разбудив спящих, он сообщил о захвате парохода и спросил: кто желает вырваться на свободу? Ему казалось, что сейчас все кинутся к нему и станут допытываться, как скорее попасть на теплоход. Но оживились лишь человек семьдесят, которые поспешно начали одеваться, а остальные даже не поднялись с нар. — Не провоцируют ли нас? — перешептывались они. Многие не верили в удачный исход побега и решили не ввязываться в затею двух первых бараков. — Ну, бог с вами, оставайтесь на острове! — в сердцах сказал Энрико. — Выслуживайтесь перед Коротышкой; может, вас выпустит. — Но у пас будет к вам требование! — выкрикнул пучеглазый арестант, назвавший себя юристом. — Вы отняли у охраны оружие. Без вас уголовники начнут бесчинствовать. Они перебьют и нас, и стражников. Будет бесчестно, если вы не поделитесь с нами оружием. — А вы его сами добудьте,— предложил Диас. — Любите чужими руками жар загребать. Прошу построиться тех, кто желает быть свободным! Только проверьте, не станут ли рядом с вами шпионы Чинча. Приглядитесь друг к другу. Заключенные построились и после проверки вытолкнули из шеренги человека, вобравшего голову в плечи. Это был обладатель золотого зуба, осточертевший всем провокационными вопросами. Рослый арестант, отвесив ему оплеуху, сказал: — Оставайся с пучеглазым, будете друг друга предавать. — Внимание! — скомандовал Энрико.— Выходите по двое и молча. Остальным оставаться в бараке. До рассвета никому не выходить! — приказал он. То же самое происходило и в других бараках. Одна за другой выходили цепочки людей и двигались к пристани, где их ждали катера. Заключенные, выполняя приказ, шли молча, но радостный блеск глаз говорил больше слов: там, на теплоходе их ждет свобода!* * *
В помещении первого поста сошлись Мануэль, Хосе и Диас, — надо было обсудить дальнейшие действия. — Нас уже упрекают, что мы оставляем политических на произвол уголовников, — сказал Диас. — Потом такое выдумают, что и оправдаться не сумеешь. — Посоветуем им выйти за ограждения,— предложил Хосе. — Закроем проход, а уголовников оставим в лагере. — Но они же выпустят стражников! — заметил Мануэль. — Ну и пусть! Без оружия и радиостанции они нам не страшны. Лео Манжелли привел длинноусого заключенного с нависшими бровями. — Капитан дальнего плавания, — доложил он. — Берется вести судно куда угодно. Видно было, что каторга прежде времени состарила некогда бравого моряка. После нескольких вопросов выяснилось, что он попал на Панданго за высмеивание в кругу знакомых распоряжений правительства «Пекиньё» и отсидел за это больше трех лет. — Принимайте судно, — сказал Реаль. — Каким курсом пойдем, я вам скажу позже. Кончеро привел в штаб истощенного сгорбленного старичка, державшего в руке продранную шляпу. Это был известный всем профессор. — Насилу уговорил, — сообщил силач. — Может, он действительно профессор. — Да, я профессор Чарльз Энгер, — подтвердил старик. — И уговаривали меня необычно. Встряхнули за ворот и спрашивают: «Сам пойдешь или нести тебя?». — Подумаешь, за ворот взяли! — не смущался Кончеро. — Меня самого сегодня контузило. И ничего, не умер. Я, конечно, вежливо встряхнул и посоветовал помалкивать, пока не дойдем до первого поста. — «Только пикни», говорит, — дополнил старик под невольный смех присутствующих. — Как же иначе, если он сумасшедший? — не сдавался силач. — А я в свою очередь решил, что стражник с ума сошел, — не без юмора сказал Энгер, вызвав новый взрыв смеха. — Господа, кто же здесь старший? — -обратился он ко всем. Диас глазами указал ему на Реаля. Старик низко поклонился и отрекомендовался: — Я был когда-то известным человеком, имел свою хирургическую клинику. Ее так и звали: Клиника профессора Энгера. — Профессор, а вы не припомните, кто бы мог сказать такую фразу: «Сквозь тьму надвигающейся на человечество ночи я вижу свет»? — неожиданно спросил Хосе. — «Он идет с востока, озаряя страдающий мир», — закончил удивленный старик. — Откуда эти слова известны вам? Я сказал их тогда… на конференции. Потом они потребовали, чтобы я отказался, написал письмо в газеты. Они часто били меня по голове резиновыми палками. В комнате стало тихо. — Средневековые инквизиторы принудили великого Галилея отречься от своего учения. Он был слаб и стар, господа, и подчинился, — продолжал говорить профессор. — Но земной шар ведь все равно верти гея! — За слова правды мракобесы сослали вас на каторгу, — сказал Реаль. — Л мы, коммунисты, освобождаем вас и приветствуем как честного ученого! Когда Энгер понял, для чего его сюда привел Кончеро, слезы потекли по его впалым щекам. Борясь с волнением, он пояснил: — Это слезы радости не за себя, нет! Я радуюсь за несчастную родину, за все человечество. На свете существуют мужественные люди, которые не позволят торжествовать реакции. Да, господа, я преклоняюсь перед вами. — И седой человек, по-старомодному шаркнув, склонил голову в торжественном поклоне. Люди, не привыкшие к благодарности, смущенно опустили глаза; они не считали себя героями. Реаль, поручив Жану позаботиться о старике, отравил их на корабль вместе с капитаном дальнего плавания. Часы на стене пробили три звонких удара; приближался рассвет. Надо было расставаться с островом Панданго. Штаб восставших вновь отправил посыльных в бараки с предложением ко всем, не желающим оставаться с уголовниками в лагере, выйти за пределы электропояса. На размышления давались пятнадцать минут, после чего проход через электропояс закрывался. Минут через десять послышался стук деревянных подошв: «клюк-клек-кляк». За электропояс выходили люди, опасливо озирающиеся по сторонам. Вид повешенного Альвареца пугал их; они шарахались в сторону от пристани и собирались на берегу небольшими группами. — Вот до чего дошли! — с презрением сказал Дпас. — Даже свободы боятся. А вдруг просчитаются, если убегут? Авось Коротышка смилостивится и простит их. Трусы презренные! — Все вышли? — спросил Реаль. — Так точно. Из политических в бараках как будто никого не осталось, — доложил Лео Манжелли и тихо добавил: — Тут какой-то уголовник требует, чтобы немедленно подошли к нему для переговоров. — Кто такой? — Тот, что без руки. — Пусть остается. На свободе таким делать нечего. Гангстеров и без него хватает. Выводите своих часовых. Через три минуты проход закроем. Диас отошел к пристани. Поднятая секция электропояса медленно опустилась, и проход закрылся. — Всем, кто борется за свободу, перейти на катера! — скомандовал Реаль. Вместе с часовыми Лео Манжелли, спешившими покинуть берег, человек десять отделились от групп, стоявших на берегу, и устремллись к отходящим катерам. — Поднять трапы! — вскоре раздалась команда. Заработали винты. Взбурлив воду, оба катера одновременно отошли от пристани и направились к темневшему на рейде судну.Глава девятнадцатая
ВЫЗОВ НЕ СОСТОИТСЯ
Погруженный во мглу остров медленно таял, как бы растворялся в белесоватом тумане, поднимавшемся над океаном. Все дальше и дальше уходил блекнущий луч вращающегося маяка. Более семисот каторжников застыли в торжественном молчании. Они прощались с опостылевшим островом, с кошмарами дней и ночей, пережитых на нем. Людям все еще не верилось, что желаемое свершилось, что они уже свободны и скоро увидятся с родными и любимыми. Многих тревожила мысль: «Каким-то будет новый день? Что предпримут враги? Они, конечно, постараются не выпустить на берег. Скоро появятся самолеты, выйдут миноносцы и помчатся по дорогам машины с полицейскими. Неужели придется умирать в море? Впрочем, что бы ни случилось, — впереди свобода!» Появилось желание петь. Кто-то затянул «Бандера роха» — песню о красном знамени, будившую воспоминания о героической борьбе свободных испанцев.* * *
Полковнику Луису после известий по радио не спалось; он долго ворочался, и лишь под утро снотворное помогло ему забыться. Но сон не принес облегчения, — полковнику приснилось, будто судно плывет у берегов Испании и его захватили волонтеры интернациональной бригады, небритые, оборванные, с ножами в зубах. Он явственно слышал их голоса, топот ног и грозную песню «Бандера роха». Луис проснулся в холодном поту, а песня все еще звучала в ушах. Не слишком ли часто он видит сны о том, что попадает в руки своих беспощадных врагов? «Нервы пошаливают, — думал полковник. — Пора лечить. Вот отберу на урановые рудники человек двести каторжников и недели на три уеду на какой-нибудь курорт». Он потянулся к ночному столику, нащупал сигареты, закурил и, гася спичку, вдруг почувствовал, что судно не стоит на якоре, а движется: за бортом плескалась вода, и снизу доносился равномерный гул работающих дизелей. «Что за чертовщина? Не на погрузку ли мы идем? — соображал Луис. — Да нет, я ведь не давал никаких распоряжений. Капитан, видно, своевольничает». Он поднялся, зажег свет и нажал кнопку электрического звонка, проведенного в ходовую рубку. Минуты через две послышался стук в дверь. «Быстро прибежал», — удовлетворенно отметил про себя полковник и, подойдя к двери, повернул ключ. — Почему такая качка, черт возьми! — начал он, но осекся, видя перед собой человека в затрепанной одежде. — Вы кто такой? Кто вам позволил войти сюда? — А-а, полковник Луис! — узнал его Реаль. — Приятная встреча. На всякий случай поднимите-ка руки вверх! Ошеломленный полковник, почувствовав дуло пистолета, уткнувшегося в живот, поднял обе руки и попятился. Реаль прошел за ним в каюту. Несколько секунд противники молча рассматривали друг друга. Потом Хосе спокойно пощупал карманы пижамы полковника, но там, кроме портсигара, ничего не оказалось. Он шагнул к столу, отодвинул верхний ящик и, найдя в кем небольшой маузер, сунул его в карман. — Теперь можете опустить руки и сесть, — сказал он. Полковник уселся в кресло, на спинке которого висели его брюки. Глядя на вороненый ствол пистолета, он осторожно осведомился: — Что все это значит? — То, что наши роли переменились. Вы не помните меня? Мы ведь с вами виделись месяца четыре назад. — Да, да, что-то припоминаю. Вы тот бедный сирота? — Удивительная у вас память! Но не такой уж я бедный, как вам показалось, — насмешливо сказал Реаль. — Вы плохой психолог. Между прочим, вам повезло, что никто в спешке не заметил этой каюты в радиорубке. Но ничего, вы довольно ценный пленник! — Вас интересует сейф? — спросил Луис, заметив мимолетный взгляд в сторону большого стального шкафа в углу каюты. — Скорей его содержимое, — уточнил Реаль. — Я думаю, там найдется немало интересного. Например, списки шпиков, которых вы повсюду засылаете. Полковник, не зная, что же ему предпринять, попросил: — Разрешите, я закурю. Эти утренние беседы под дулом пистолета немножко действуют на нервы. Здоровье не то, постарел, видимо. Ох, время, время! Итак, вас интересует сейф? Дело в том, что он открывается условным набором букв. Несмотря на то, что ключ торчит в замке, быстро вам его не открыть. А там нашлось бы кое-что любопытное. Жаль, время работает не на вас. Через час или два самолеты разыщут похищенное судно и отправят его на дно. А я бы мог предотвратить катастрофу. — Я считал вас сообразительнее, полковник, — усмехнувшись ответил Реаль. — Среди каторжников всегда отыщутся любые специалисты. В крайнем случае — пакет взрывчатки… Но я вижу, наш разговор бесполезен и не стоит его затягивать. — Вы не так поняли меня! — поспешил заверить Луис. — Вам нужен сейф? Пожалуйста, я открою его. Списки разведчиков, говорите вы? Да, есть такие! Предположим, вы разоблачите их, но через несколько месяцев появятся новые. А вот если бы вы уговорили меня служить вам, это было бы ценнее списков, милейший! Мне достаточно честного слова, гарантирующего жизнь. Я джентльмен, и вы джентльмен; мы могли бы договориться конфиденциально… Реаль внимательно следил за ним. Он знал, что прожженный организатор шпионажа хитер и верить ни одному его слову нельзя. А полковник вкрадчиво продолжал: — Сейчас у меня единственный выход — служить вам. Сражаются идеи и принципы, а меня, признаться, больше интересует собственная жизнь. Вы видите, я откровенен с вами. На континенте уже второй день творится бог знает что! Вы только послушайте радио., Луис рассчитанно медленными шагами направился в угол. Понимая, что за ним наблюдают, он, остерегаясь излишне резких движений, включил радиоприемник и, шаркая спадающими ночными туфлями, вернулся на место. Приемник едва слышно гудел, пока нагревались радиолампы. PI вдруг в каюту проник знакомый женский голос: — Говорит радиостанция компартии Южной республики! Повторяем экстренный выпуск последних известий. Сегодня забастовка уже охватила всю страну. Вчера к вечеру стало известно, что к докерам присоединились железнодорожники, трамвайщики, служащие автотранспорта, шахтеры и рабочие консервных заводов… Это Долорес! Он узнал ее голос сквозь треск разрядов и гудение. Откуда она говорит? Почему так трещит приемник? Желая избавиться от помех, Реаль подошел к приемнику и, поворачивая ручки, стал ловить чистый звук. Это ему удалось: в каюту ворвался громкий голос Долорес. Девушка взволнованно призывала: — Если не прекратятся бесчинства военной хунты, мы оставим наших угнетателей без воды, света, горючего и пищи. Довольно быть рабами Зеленого папы! Богатства, которые мы создаем, должны стать достоянием народа, а не североамериканских монополий… Луис, нащупав висевшие на спинке кресла брюки, вытащил из потайного кармана небольшой пистолет, осторожно сдвинул предохранитель и, с кривой усмешкой нажав на гашетку, выпустил три пули. Хосе вздрогнул, затем медленно опустился на колени и ткнулся лицом в коврик. Пули полковника попали в цель, — на таком расстоянии промахнуться было невозможно. Луис наклонился над распростершимся противником и повернул его. Быстро расползавшиеся на груди пятна крови успокоили его. Он торжествовал: — Я знал, что радио отвлечет… на это и рассчитывал. Не позволительно так доверяться противнику, даже если он и молит о пощаде! Впрочем, вас учить уже ни к чему. Маленькая ошибка иногда стоит жизни. Подняв пистолет, полковник перешагнул через поверженного противника и, подойдя к радиопередатчику, сказал: — А теперь мы вызовем миноносцы и торпедные катера. Реаль с трудом поднял голову; он мгновенно понял все. Луис завладел его пистолетом, но в кармане был другой. Хосе, как бы корчась от боли, повернулся на бок, вытащил маузер и, стиснув зубы, дважды выстрелил… Он увидел, как дернулась голова полковника, как тот хотел еще раз выстрелить, но не сумел и рухнул около загудевшего передатчика. «Вызов не состоится», — облегченно подумал Хосе и бессильно опустил голову.Глава двадцатая
НЕВЕСЕЛОЕ УТРО
Заключенные, оставшиеся на Панданго, терпеливо ждали, когда судно с беглецами отойдет на такое расстояние, что им не страшна будет стрельба с его борта. Как только контуры судна поблекли в предутреннем тумане, многие из них бегом устремились к первому посту — освобождать арестованных надзирателей и стражников. Отправив заключенных в бараки, Варош попытался по телефону связаться с начальством на Бородавке, но никто ему не ответил. «Неужели там никого не осталось в живых? — недоумевал он. — Придется съездить и проверить на месте». Лодок на острове не оказалось. Один из стражников вспомнил о большой деревянной лохани, стоявшей в прачечной. Ее вытащили на берег и спустили на воду. Лохань не протекала. Капрал, привязав к ней канат, приступил к испытаниям: посадил двух стражников с лопатами и оттолкнул лохань от берега. «Мореплаватели», отойдя от пристани метров на десять, вдруг перевернулись и, чертыхаясь, забултыхались в воде. — Вертлявая очень, — утверждали они. Пришлось для остойчивости прибить к бортам лохани два шкафчика-тумбочки, а на корму приладить самодельный руль. Судно стало неуклюжим, но больше уже не опрокидывалось. Сделав два длинных весла, капрал в одиночку отправился в рискованный рейс. Его долго кружило течением и прибило к Бородавке не с той стороны, с какой капралу хотелось, а с другой. Но Варош был рад и этому. Выбравшись на камни, он очутился возле действующего маяка, посылавшего свои лучи в залитый солнцем океан. На дорожке Варош заметил важно шествующего врача. Медику ночью повезло: спьяна он заснул в уборной, обнимая фаянсовый унитаз. Никому из десантников и в голову не пришло заглянуть в помещение, не предназначенное для сна. Проснувшись, медик вспомнил о прибытии полковника Луиса. Он быстро побрился, надел новый мундир и отправился в комендатуру. Вилламба так спешил, что не счел нужным остановиться на оклик капрала. Подойдя к комендатуре, он важно поднялся на крыльцо и боком толкнул дверь… И тут гранаты, подвешенные Паоло, сработали: раздался сильный взрыв, от которого представителя медицины откинуло к спуску на пристань. Когда капрал подошел к нему, медик уже был мертв. Сняв фуражку, Варош перекрестился и стал ждать: не появится ли кто из комендатуры. Но в доме все было тихо. Постояв минут десять, капрал, набравшись храбрости, поднялся на крыльцо комендатуры и заглянул в помещение. Там в углу он обнаружил мертвеца в форме стражника. Убитый был не знаком ему. «Наверное, из вновь прибывших, — решил Варош. — А где же наши? Пойду искать начальство». В коттедже начальника концлагеря он нашел окоченевшего майора и живого капитана судна, привязанного к креслу. Моряк был пьян. Ничего путного от него нельзя было добиться. Он бормотал о какой-то судьбе и картах. На небольшой электростанции, стоявшей в стороне под скалой, капрал разбудил безмятежно спавшего техника. Тот ничего не знал о ночных событиях. Правда, после полуночи он слышал глуховатую стрельбу из автомата, но, решив, что это развлекается прибывшее начальство, даже не выглянул на улицу. «Эх, я же в карцер не заглянул!» — вдруг вспомнил Варош. Не мешкая, он вернулся в комендатуру и открыл люк в подвал. Первым на вызов показался Томазо.Опухшее лицо капитана было черно от злости. Увидев перед собой вытянувшегося в струнку капрала, он заорал: — Где вы болтались столько времени? На посту дрыхли, да? Я с вас три шкуры сдеру! Почему от вас убегают каторжники, дьявол их разорви?.. Отведя душу в криках и проклятиях. Томазо прошел в своп кабинет и вскоре выскочил оттуда еще более разъяренный. — Кто украл мой ром, разбивал шкафы и поливался моим одеколоном? — допытывался он, тряся капрала. — Не могу знать, господин капитан, я сам был посажен в камеру, — оправдывался тот. — Не ваш ли ром на подоконнике? На подоконнике действительно стояла чудом уцелевшая бутылка с ямайским ромом. Капитан, налив полный стакан рому, залпом выпил его и, несколько успокоясь, потребовал подробного доклада. Выслушав довольно бессвязное сообщение Вароша, Томазо помрачнел еще больше и, хлебнув ром прямо из горлышка бутыли, заключил: — Хорошо Чинчу, окочурился вовремя, а нам теперь отдувайся за него. Застрелиться и то нечем. Все украли бродяги. Как радиостанция, действует? — Разбита каторжниками. И радист вроде не в себе… не скоро починит. — Вызвать ко мне, я его живо в чувство приведу!* * *
В каюте лежал наскоро перевязанный Реаль; он был в бессознательном состоянии. — Что же мы будем делать без него? — в отчаянии спрашивал Мануэль. Он не мог себе простить, что оставил Хосе одного. — Мы же не знаем шифра. Надо хоть на время привести его в чувство. — Я уже послал Паоло и Кончеро, — сказал Наварро. — Они соберут всех медиков и приведут сюда. Устроим консилиум. Вскоре в каюте появился Паоло с двумя врачами: бывшим военным хирургом Сто-маном и терапевтом Теодуло Мендес. Они оба были в истрепанных полосатых одеждах. А Кончеро привел знакомого ему профессора. — Чарлз Энгер, — представился старик своим коллегам. Те переглянулись. Они ведь учились по учебникам Чарлза Энгера. — Мы ждем распоряжений, господин профессор, — сказал Стоман, поклонившись. Врачи, тщательно вымыв руки и надев халаты, найденные в изоляторе, внимательно осмотрели раненого. В Хосе попало две пули: одна, сломав ключицу, застряла где-то в мышце, вторая насквозь пробила грудную клетку. Кровь в ранке пузырилась. Видимо, задето было легкое. — Скажите, мы сумеем доставить больного в госпиталь? — спросил Энгер. — Навряд ли, — ответил Мануэль. — Нам очень важно привести его в сознание немедля. От этого зависит наша судьба. — Хорошо, сделаем все возможное. На корабле, надеюсь, найдутся хирургические инструменты? — Да, я их видел в изоляторе. Пройдемте со мной, отберите нужное. Через каких-нибудь четверть часа врачи стали готовиться к операции. Кончеро, выполнявший обязанности санитара и связного, поглядывал на медиков с надеждой. От вида зловеще поблескивающих скальпелей и зондов у силача подкашивались ноги. Свежий халат, резиновые перчатки и маска на лице совершенно преобразили Энгера. Наскоро превратив каюту в операционную, он отдавал короткие распоряжения, а его коллеги беспрекословно выполняли их. С Реаля сняли одежду, уложили его на стол, покрытый простынями, и приступили к операции. Судно покачивало. В каюте стояла такая тишина, что слышно было, как потрескивала электрическая лампа большого накала. Друзья Хосе, собравшиеся в соседнем отделении радиорубки, тревожно прислушивались ко всему, доносившемуся из операционной. — Луис, видно, хотел вызвать кого-то; передатчик включен, — заметил Наварро. — Как он остался здесь? — Мы во всем виноваты, — опустив голову, сказал Мануэль. — Плохо обыскали надстройку. А ведь Хосе дважды напоминал об этом… Эх! Из операционной донесся негромкий голос Энгера: — Приподнимите… так! Отлично! Ланцет!.. Кончеро, стоявший у дверей, схватился за голову: «Что доктор нашел там отличного, если человек прострелен насквозь?» Силач ничего не мог поделать с собой; губы его дергались, он безмолвно плакал. — Одна надежда на врачей, — прошептал Мануэль. — Хоть бы благополучно прошла операция! Через несколько минут все услышали, как звякнуло что-то в тазу. Это хирург бросил извлеченную пулю. — Тампоны… так! Перевязывайте. Первым из соседней каюты вышел Энгер. Он снял с лица маску, марлевую повязку и, подойдя к раковине, стал мыть руки. — Он выживет? — спросил Мануэль. — Ему нужен полнейший покой, — уклончиво ответил профессор. — Остается опасность внутреннего кровоизлияния. — А сказать хотя бы несколько слов ему можно? — Лучше бы его не тревожить. — Но нам надо. — Он ожил, открыл глаза… шевелит губами! — закричал обрадованный Кончеро. Мануэль с Энгером поспешили к раненому. Реаль лежал с открытыми глазами. — Включите передатчик, — слабым голосом попросил он. — Включен давно, — сообщил Мануэль. — Прошу много не говорить… только самое необходимое, — предупредил Энгер. — А лучше бы молчать и не шевелиться. — Мне нельзя болеть, — тихо проговорил Хосе. — Я должен закончить… пароль и шифр известны только мне. Дайте возможность продержаться несколько минут. Энгер, неодобрительно покачав головой, взглянул на Мануэля. Тот понял, что риск большой, но иного выхода не было. — Да, — сказал он, — придется выполнить желание Хосе, хотя это и вредно. Энгер нахмурясь покопался в аптечке и, вытащив коробку с ампулами, передал ее Стоману. Хирург, наполнив шприц прозрачной жидкостью, подошел к раненому и сделал подкожное впрыскивание. Лицо Реаля стало розовым. У Мануэля отлегло от сердца, хотя он и понимал, что минутное возбуждение может дорого обойтись раненому. — Нужно… связаться с нашими, — заговорил Реаль. — Они ждут условленного сигнала… на коротких волнах. Мануэль растерялся: — Но как мы это сделаем? Фернандес утонул, у нас нет другого радиста. — Радист найдется, — перебил его Наварро. — Я знаком с передатчиком этого типа, могу попробовать. — Хорошо, Рамон, вызывай. Волну я скажу, пригнись, пожалуйста, — попросил Хосе. Летчик пригнулся, Реаль на ухо шепнул ему длину волны. Наварро кивнул головой и поспешил к передатчику. Паоло стал помогать ему. Найдя переносный микрофон, он протянул шнур к изголовью Реаля и подключил его. Дробно застучал ключ передатчика. Вскоре Наварро обрадованно сообщил: — Они нас слышат. Из репродуктора вначале доносилось ровное гудение, затем мужской голос внятно произнес: — Кто вызывает? Интересно, сколько будет дважды два? Этакая детская задачка! В углу Кончеро прошептал: — Дважды два — четыре. — Иногда восемнадцать! — сказал в микрофон Реаль, и глаза его заблестели. — Четный? — радостно воскликнул голос в репродукторе. — Мы все беспокоились… — У меня мало времени, — перебил Реаль. — Сообщаю: мы отправились за пески. Понятно? — Да, да. Говорите! — Известный вам толстяк пожертвовал большое корыто. Нас много, мы нуждаемся в одежде и еще кое в чем… Реаль, видимо, от головокружения и боли, скривился. Энгер двинулся к нему, но он остановил его жестом и продолжал: — Поторопитесь связаться с нами, согласно договоренности. — Дороги будут закрыты. Ждите гостью. Какой сигнал, чтобы птичка не смутилась? — Две зеленых ракеты. Разговор кончаем. Реаль устало отодвинул микрофон и обратился к Мануэлю: — Принимай командование… Скоро прилетит самолет… дайте ему опознавательный сигнал ракетами. Обязательно откройте сейф. Взломайте, взорвите… но добудьте все и передайте представителю Центрального Комитета. Теперь там знают, что мы идем к скалам Позабытого берега. Скажите Долорес… Хосе внезапно сник и умолк. Мануэль в отчаянии схватил микрофон и крикнул: — Вы слышите нас? Он ранен… тяжело ранен! Но из репродуктора доносились лишь звуки далекой скрипки. Врачи окружили Реаля, и в каюте остро запахло медикаментами.Глава двадцать первая
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В полдень открылся маяк Позабытого берега. Дул легкий, почти не ощутимый бриз. Океан дышал спокойно; его гладкая поверхность едва колыхалась. Вокруг стояла такая тишина, что слышно было, как из далекого рыбацкого селения доносился колокольный звон. «Какой же сегодня праздник? — не мог вспомнить Мануэль. — Надо выслать на разведку группу Лео Манжелли». Он заглянул в ходовую рубку. Там капитан озабоченно листал лоцию и поглядывал на карту. Оказывается, судно вошло в опасную зону, изобилующую рифами и банками. Дальше двигаться без опытного лоцмана было рискованно. — Ну что ж, станем на якорь, — сказал Мануэль. — Пошлем за лоцманом и заодно выясним обстановку на берегу. Судно застопорило ход и бросило якорь. Вскоре один из катеров, шедших на буксире, приблизился к борту. На него стали спускаться по штормтрапу люди Манжелли. И вдруг с юта послышался громкий голос Кончеро: — В небе гудит! Летит что-то черненькое! Все подняли головы и, прислушиваясь, стали всматриваться в том направлении, куда показывал силач. В чистом небе действительно показалась черная точка. Она быстро увеличивалась. — К нам летит одномоторный разведчик или почтарь, — определил Наварро. «Но чей? — хотелось бы знать Мануэлю. — Может, правительство уже разнюхало о побеге? Сейчас самолет приглядится и вызовет по радио бомбардировщиков». Он приказал всем покинуть верхнюю палубу, а Наварро — приготовить две зеленые ракеты. Самолет летел не особенно высоко. Заметив неподвижно стоявшее в океане судно, он стал кружить над ним. Недавние каторжники из тамбуров рубки и других укрытий следили за воздушным гостем. Но вот в небе возникла дымная ниточка, распавшаяся многоцветным фейерверком. — Свои… наши! — послышались радостные возгласы. Навстречу самолету взвились две зеленые ракеты. Заметив их, летчик приветственно покачал крыльями и повернул к берегу. Над пляжем самолет развернулся и, снижаясь, полетел над узкой полоской прилизанного волнами песка. Приземлился он не сразу: коснувшись колесами пляжа, он странно подпрыгнул, пролетел еще метров десять, сделал поменьше скачок и застыл на месте у самой воды. — Вот это дал козла! — воскликнул Паоло. — Удивительно, как он носом не ткнулся, мог скапотировать. — Новичок, — заметил Наварро. — Отчаянный парень! По приказанию Мануэля, они оба перебрались на отходивший катер, который полным ходом пошел к самолету. Издали Паоло и Рамон видели, как из кабины вылез на крыло человек в рабочем комбинезоне, огляделся и спрыгнул в одежде и ботинках в воду. Окунувшись, он лег на отмели, подставляя голову набегавшим волнам прибоя. «Здрово разогрелся этот парень! — подумал Наварро. — Видимо, рад, что жив остался». Когда катер подошел к отмели, он первым подбежал к купавшемуся пилоту. Увидев перед собой довольно молодого человека, с раскрасневшимся от возбуждения лицом, он спросил: — Что же ты, брат, на ровном месте этакую отчаянную посадку делаешь? Поднявшийся из воды пилот сначала смутился, потом тряхнул мокрой головой и весело рассмеялся. — Для бортмеханика, ей-богу, не плохо! — сказал он. — Я ведь не учился на пилота. И машина эта собрана по частям. С трудом склепали и отрегулировали. Сегодня я впервые вылетел так далеко. Чуть не скапотировал. — Похоже было. Но ты молодчина! Не всякий механик осмелится взлететь, — похвалил его Наварро. — И приземлился для новичка лихо, — на две точки. Говорю тебе как специалист, сам не раз давал козла. — Вы, значит, летали прежде? — Конечно. И на спортивных и на боевых. Асом числюсь. Не зря же в воздушный легион приняли, — похвастался Наварро. — И я на таком же гробу, как твой, летал, — сообщил Паоло. Парень вдруг посуровел, не без подозрения оглядел собеседников и спросил: — Простите, а вы кто такие? Откуда прибыли? — Мы полосатики с острова Панданго. — Китобои? Охотитесь за полосатыми китами? — Да нет, просто каторжники. — Ах, вот оно что! — обрадовался парень. — Вас-то мне и надо! Случайно, нет ли там на катере Хосе и Энрико? — К сожалению, они остались. Но если тебе срочно, мы мигом доставим. — А как же самолет? — Поезжай, я присмотрю, — успокоил его Паоло. — Только выкатить надо. Видишь, как колеса увязли? Скоро совсем засосет. С помощью парней Манжелли они выкатили самолет на крепкий грунт и развернули так, что он мог взлететь в любое время. — Ну, а какие ты нам вести привез? — полюбопытствовал Паоло. — Самые хорошие. Полиции не опасайтесь, ей сегодня не до вас. Под самим Коротышкой земля горит. Взбунтовались солдаты и офицеры. В городе сумятица. Вам опасны только «гринго»[152]. Они, чего доброго, могут подняться со своих военных баз и разбомбить. Так что лучше укрыться вам под скалами. Одежду и еду скоро подбросят на автофургонах. Дорога к Позабытому берегу нами оседлана…* * *
В часы дежурства в радиорубке маячник уловил сигналы с судна, захваченного каторжниками, но первым связаться с ним не сумел, так как от волнения оборвал тросик, а когда исправил его, то расслышал лишь конец разговора с подпольным центром и выкрик Мануэля. Когда утром вернулись девушки, передававшие последние известия и воззвания Центрального Комитета, маячник рассказал им об услышанном. Весть о ранении Реаля так напугала Долорес, что она стала упрашивать Энрикету немедля выйти на баркасе встречать беглецов. — Не советую торопиться: в океане легко разойтись с судном, — сказал маячник. — Лучше дождаться здесь; они скоро должны показаться. — А как вы думаете, есть там врач? — волнуясь допытывалась Долорес. — Насчет этого не слышал, но знаю, что на каждом судне существуют аптечки и человек, умеющий оказывать первою помощь. Долорес больше ни о чем не расспрашивала. Взяв бинокль, она поднялась по железной винтовой лестнице на самый верх башни и оттуда наблюдала за морем. Как только на горизонте показался теплоход, девушка закричала: — Посмотрите, это, кажется, они! Маячник, всмотревшись в судно, замедлявшее ход, сказал: — Им, видно, нужен лоцман. Пошли! Взяв с собой только Долорес, он повел баркас к теплоходу на полной скорости. Капитан, издали разглядев на лоцманском суденышке женщину, приказал спустить забортный трап и вызвать кого-нибудь из штаба. Долорес первой взбежала по качающемуся трапу на верхнюю палубу. Здесь ее встретили два человека: молодой был в полицейской форме, а бородатый — в какой-то полосатой рвани. У девушки тревожно забилось сердце: «Не провокация ли?» Бородатый каторжник почему-то смотрел на нее сияющими глазами. Он вдруг раскинул руки и, схватив Долорес в объятия, принялся при всех целовать и приговаривать: — Пальмита… моя Пальмита! Так называл ее в детстве только брат Энрико. Как он пожелтел и постарел, бедняга! — А почему ты с полицейскими? — шепотом спросила она. — Какой он полицейский! — засмеялся Энрико. — Это наш Мануэль, знакомься. Моя сестра Долорес, — представил он ее товарищам. — Я думал, уж никогда не увижусь. — Я тоже, — особенно тут, на Позабытом берегу. Извелась, ожидая от вас шифровки. — Не видя нигде Реаля, она забеспокоилась: — А где Хосе, что с ним? — Нелепейшая история! Меня лихорадка свалила, но он все время был с ними, только на какие-то минуты остался один. И вдруг выстрелы. Мы все в этом виноваты, под конец распустились, ослабили вожжи. Но ты не беспокойся, он выживет. На счастье, нашлись хорошие специалисты, ему сделали операцию. Сейчас он спит. — Я не разбужу. Мне только взглянуть. — Хорошо, идем. Энрико взял ее за руку и привел в радиорубку. Реаль лежал на койке забинтованным. Его бледное заострившееся лицо с выгоревшими усами и бровями было удивительно спокойно. Долорес подошла ближе и, нагнувшись, прикоснулась губами к его пылавшему лбу. — Вот мы и встретились, любимый, — прошептала она. — Это я, Долорес. Веки у Хосе задрожали и глаза медленно раскрылись. Они были затуманенными; казалось, что он ничего не видит. И вдруг Реаль отчетливо сказал: — Я сдержал свое слово, вернулся. — Милый, скажи, тебе очень плохо? Он закрыл глаза и, видимо, опять впав в забытье, не ответил. Дежурный врач жестом показал, что надо выйти. За дверями он шепнул: — Большая потеря крови. Видимо, придется делать переливание. — Его положение безнадежно? — спросила она. — Этого я не скажу. От таких ран не умирают, но возможны осложнения. Нужен абсолютный покой. В это время прибыл прилетевший бортмеханик и передал Диасу письмо из Центрального Комитета партии. Оно было недлинным:«Поздравляем всех с освобождением и началом великих событий! Не сегодня-завтра, а может в ближайшие часы, правительство Коротышки будет сметено. Против него поднимаются почти все слои населения. Вы окажете нам большую помощь, если организуете выступления по радио известных в стране людей. Пусть они расскажут о тайной каторге и подлости властителей и обратятся с призывом свергнуть предателей и убийц, торгующих родиной. Все выступления мы запишем на пленку и будем передавать с мощной радиостанции. Советуем на судне не задерживаться. Возможны налеты авиации. Слабых укройте в горах (палатки, одежду и продукты высылаем), а тех, кто может сражаться, вышлите в наше распоряжение. Желаем успеха. Крепко жмем всем вам руки. До скопой встречи.Обсудив письмо, беглецы приняли решение: судно немедля подтянуть к скалистому берегу и высадиться. Тут же были распределены обязанности. Лео Манжелли получил в свое распоряжение один из катеров. Он должен был организовать охрану самолета и подступов к маяку. Мануэлю поручили сформировать вооруженный отряд для посылки в столицу, а Долорес и Наварро — наладить и поддерживать радиосвязь с подпольным центром. Подбором людей, способных выступить по радио, занялся Диас. — Эх, беда, Хосе выбыл из строя! — сожалея, сказал Энрико. — Он сумел бы подобраться к душе слушателей. Чтобы судно могло подойти к обрывистому берегу, маячник пересел на свой баркас и, делая промеры глубин, повел теплоход по извилистому, известному лишь местным рыбакам фарватеру к бухте Терпение. Эта тесная и открытая для всех ветров бухта имела достаточные глубины, но считалась опасной для стоянки судов: во время штормов в ней трудно было удержаться на якоре. Капитан решил идти на риск. — Все равно, если нам не удастся стать в тень нависших скал, — сказал он, — то придется затопить судно. А так мы будем иметь жилье, камбуз и радио. Невдалеке от бухты все почувствовали толчки: судно днищем коснулось грунта. Капитан застопорил ход. — Надо пассажиров выгрузить! — крикнул с баркаса маячник. — Нам лишь эту банку перевалить, там глубже будет. Судно стало на якорь. Оба катера вместе с баркасом начали переправлять пассажиров на берег. Долорес тем временем связалась по радио с подпольным центром. Оттуда потребовали к микрофону Реаля. — Он тяжело ранен, — ответила она. — Лежит без памяти. Говоривший заволновался: — Почему вы раньше не сообщили? Мы бы немедля выслали врача. — Врачи у нас есть. Операцию делал профессор Энгер. — Если можно, попросите профессора к микрофону. В радиорубку позвали Чарлза Энгера. Старик коротко сообщил о состоянии больного. — Что вам понадобится для успешного лечения? — Было бы замечательно, если бы вы достали граммов пятьсот крови для переливания и недостающие медикаменты. Могу дать записку в клинику. Надеюсь, что там найдется хоть кто-нибудь из моих учеников или друзей. — Хорошо. Когда вышлете с вашей запиской птичку? Профессор не знал, что ответить. В разговор вмешался Наварро. — Вышлем через двадцать — тридцать минут. Куда прикажете прибыть? — Туда же, где она была. — Ясно. Будет выполнено. Разговор закончил Энрико Диас. Он намеками сообщил о принятых решениях и пообещал выслать весьма важные материалы для печати. Но эти материалы не так-то легко было достать. Паблито с Жаном возились с сейфом полковника Луиса уже более часа. Разглядев на диске замка буквы, они пришли к выводу, что толстая литая дверца открывается лишь после набора определенных слов. Но что это за слова? Они перелистали записную книжку Луиса, в надежде найти нужную запись, обшарили карманы кителя, заглянули в ящики стола и нигде не обнаружили шифра. Видимо, тайну замка полковник досерял лишь памяти. Жан принялся наугад набирать различные слова, но все напрасно: механизм не срабатывал, замок не открывался. — Его и не взорвешь, пожалуй, — сказал Паблито. — Вся рубка взлетит на воздух. Кончеро, молча наблюдавший за действиями друзей, вдруг предложил: — А если попробовать без всякого колдовства? Какой прок от букв, когда они не помогают? Жан вздохнул и, сев на диванчик, объяснил: — Здесь, беби, мозгами шевелить надо, а не мускулатурой. И он невольно усмехнулся, видя, как силач, упершись ногой в край сейфа, ухватился за литые ручки. Затем что-то произошло непонятное. Жану показалось, будто на него рухнула надстройка: раздался грохот, треск… и большая тяжесть навалилась на француза. «Сейф заминирован», — решил он. Но взрыва не было. Кончеро, не ожидавший, что дверца откроется, с такой силой рванул ее, что не удержался и полетел на спину… Он сбил с ног Паблито и, свалившись на диванчик, придавил Жана. Возможно, случайный набор букв открыл сложный замок, а вернее всего — Луис, ложась спать, лишь захлопнул стальную дверцу, не набрав секретного слова. — Из тебя, беби, когда-нибудь выйдет толк, — сказал Жан, с оханьем поднимаясь. — А сейчас ты только способен людей расплющивать. Все найденные в сейфе папки с бумагами, шифры, фотографии и деньги они уложили в мешок и отправили вместе с Наварро на самолете. После высадки пассажиров у судна уменьшилась осадка; оно осторожно вошло в бухту и стало на якорь в тени под нависшей скалой. В этом месте его трудно было заметить с воздуха. Большинство высадившихся на берег посбрасывали одежду и, войдя в воду, принялись плескаться, нырять, плавать. Соленая и прозрачная вода приятно холодила тело. Пленники Панданго давно не испытывали такого наслаждения, — на острове им не разрешалось купаться. Парни, отобранные Мануэлем в вооруженный отряд, после купанья тут же на берегу получили одежду, найденную в рундучках и каютах арестованных моряков, и оружие. Обед был праздничный: на первое — суп с шушу[153] и картофелем. На второе — разогретая мясная тушенка с бобами; на третье — холодное консервированное пиво. От непривычной сытой еды многие опьянели и улеглись в тени скал вздремнуть. Когда полуденная жара начала спадать, к маяку прибыли автофургоны, крытые брезентом. Мануэль пошел на теплоход — проститься с товарищами по штабу. У радиорубки толпились люди, собранные Диасом. Они предупреждающе зашикали: — Тише, идет передача! Перед микрофоном выступал профессор Энгер, рассказывавший, как над ним издевались в лагере. Мануэль молча пожал руку Диасу и на цыпочках прошел в соседнее отделение. Реаль лежал с закрытыми глазами; он словно прислушивался к едва внятному гудению радиопередатчика, у которого сидела Долорес. Девушка жестом предупредила, чтобы Мануэль не будил больного. — Я только шепотом, — сказал он. — Мы уезжаем; хотелось бы на прощанье сказать… постараемся не опозориться. Если Хосе когда-нибудь понадобится помощь бескорыстных друзей, — пусть даст знать, явимся в любое место. — Хорошо, я передам ему, — пообещала Долорес. На прощанье Мануэль осторожно взял огрубевшую на каторжных работах руку Хосе, подержал ее в своей, погладил и опустил на постель. — Спасибо от всех, — шепнул он. — Выздоравливай скорей. Потом Мануэль крепко пожал руку Долорес и, стараясь ступать бесшумно, ушел.По поручению Революционного Комитета — Карлос».
* * *
Вечером из столицы прилетел Наварро; он привез из клиники все, что просил в записке профессор Энгер. Реалю сделали переливание крови. После этого лицо его заметно порозовело, и вскоре он открыл глаза. — Как наши дела? — едва слышно спросил Хосе. — Все идет так, как тебе хотелось, — успокоил его Диас, оправившийся от лихорадки. — Я только что прилетел из города, — доложил Наварро. — Там ходят слухи, что Коротышке не удалось выйти из пике. Власть в столице в руках левых партий. Я сам видел у Конгресса, на аэродроме и у входа па радиостанцию патруль из наших ребят. Похоже, что мы вовремя бежали. В ближайшие дни североамериканцам не до нас будет: они сами удирают и, видно, не скоро опомнятся. В общем, ветер дует на нашу мельницу. Хосе слабо улыбнулся. — Похоже, что ты с нами не только до берега? — Похоже. Я и тогда сказал это по глупости. Теперь сам вижу — попал с вами в одну эскадрилью на всю жизнь! Довольно мудрить одиноким. Долорес, сидевшая у радиоприемника, вдруг прислушалась к едва внятному бормотанью микрофона. — Послушайте только… это передает Революционный Комитет, — сказала она и усилила звук В каюту ворвался торжествующий мужской голос: — …диктатор бежал на военном бомбардировщике. Министр внутренних дел скрывается в посольстве одного из европейских государств. Остальные министры сложили с себя полномочия… Власть перешла в руки народа… Рамон подмигнул Энрико: «Слыхал, мои прогнозы безошибочные». — Революционный Комитет призывает к спокойствию, выдержке и порядку. Не поддавайтесь провокациям иностранных агентов!.. Будьте бдительны! — Есть, смотреть в оба, — ответил Диас, словно его могли услышать в Революционном Комитете. На радостях Энрико поспешил на капитанский мостик, взял для усиления звука мегафон и крикнул товарищам, не слыхавший радиопередачи: — Поздравляю с победой! Мы больше не каторжники. Да здравствует народная республика!
ДОГАДЛИВЫЕ ЭСКИМОСЫ
Одна старая эскимоска, жившая на севере Аляски, отправилась на берег моря за плавником. От ее жилища до берега было всего метров восемьсот, но вернулась старушка только на следующий вечер. Однако столь продолжительное отсутствие никого в ее семье не обеспокоило. Почему? Потому, что вскоре после ее ухода началась пурга. Казалось бы, это обстоятельство должно было особенно встревожить ее родных. На самом же деле именно оно их и успокоило. Эскимос, будь он старый или молодой, не боится самого сильного арктического бурана. Будучи застигнут пургой, он быстро строит себе убежище из снега. Но старушка обошлась даже без этого. Когда начался буран, она стала разрывать снег ногой, пока не наткнулась на небольшой бугор. Сияв рукавицы, она положила их на бугор, а затем уже села сама, — рукавицы предотвращали таяние снега под нею. Повернувшись спиной к ветру, она ждала, пока закончится пурга, слегка наклонившись вперед, чтобы не перевернуться, когда заснет. Спала она подолгу, а когда просыпалась — поднимала со снега рукавицы и ходила по небольшому кругу, чтобы размяться. Наконец буран кончился и она спокойно пошла домой. Но почему же старушка не замерзла? Ее спасла эскимосская одежда. Эта одежда состояла из меховой рубашки, надетой мехом к телу, штанов, открывающихся книзу, и меховой обуви. Рубашка была сшита таким образом, что почти не касалась тела, — поэтому между мехом и поверхностью кожи старушки все время оставался слой теплого воздуха. Покрой этой рубашки таков, что голые руки можно вынуть из рукавов и скрестить на голой груди — от этого становится теплее и рукам, и туловищу. Вся одежда старушки весила килограмма три или даже меньше. Если бы она знала, что попадет в пургу, то надела бы на себя две рубашки, и тогда вся ее одежда весила бы килограмма четыре. А наша зимняя одежда весит килограммов восемь — двенадцать, но никто не отважится просидеть в ней на снегу больше суток, да еще в арктический буран! Что же это за секрет, который знала старая эскимоска и знают все другие эскимосы? Известный американский полярник Вильяльмур Стефанссон советует сделать простой опыт. Возьмите обыкновенный графин, заткните его тряпкой, а затем переверните и зажгите тряпку. Дым от пламени поднимется в графин и останется там, пока не охладится. То же самое происходит и в эскимосской одежде, только здесь место дыма занимает воздух, нагретый человеческим телом. Он тоже поднимается кверху, но его не пропускает сначала рубашка, а затем капор, который, покоясь на плечах, спускается почти до земли. Наши зимние пальто несколько напоминают эскимосские рубашки, — они тоже свободно облегают тело; но они скроены так, что воздух выходит у шеи, а также через планку впереди, которая застегивается на пуговицы. Зимние жилища эскимосов строятся по тому же принципу, по которому кроится их одежда. В этих жилищах, которые сооружаются из снега, льда, камня или плавника, между входом и жилыми помещениями находится нечто вроде коридора, который проходит ниже уровня пола, а затем поднимается к поверхности земли. Из коридора в жилое помещение попадают через люк в полу или иное отверстие, находящееся ниже уровня этого помещения. Таким образом, теплому воздуху некуда уходить, и он остается в жилище. Если жилое помещение невелико, народу в нем много, а крыша толстая, то эскимосская семья совершенно или почти не нуждается в отоплении. С другой стороны, коридор, ведущий из жилого помещения наружу, даже не должен быть закрыт, — воздух все равно не выходит через него. Таким образом, как эскимосские жилища, так и эскимосские одежды представляют собой открывающиеся книзу вместилища, в которых нагретый воздух удерживается в силу своего стремления подниматься кверху. Вильяльмур Стефанссон рассказывает, что в одном эскимосском жилище, где он бывал, огонь никогда не разводили для отопления; население этого жилища, состоявшее из 24 человек, само согревало его своим дыханием. Когда же готовилась пища, становилось так жарко, что приходилось открывать отверстие в крыше шириной в полтора–два сантиметра. Из-за большой разницы между температурой внешнего воздуха и в помещении, нагретый воздух с большой силой устремлялся в эту трубу. Затем хозяева открывали люк, служивший дверями, и в него входил холодный воздух, который стлался по полу. Возможно, что эскимосы научились строить свои жилища (а также кроить одежду) у некоторых грызунов, чьи норы удерживают теплый воздух тем же способом.(«Нэчюрал Хистори»)

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕЩЕРА
Недалеко то время, когда никто больше не будет чихать и кашлять, а про грипп можно будет узнать только из книг. Врачи и физиологи многих стран разрабатывают новые, все более действенные средства борьбы с этой мучительной, а порою и опасной болезнью. В Венгрии в этом деле — кстати, неожиданно для самих себя — приняли участие и геологи, во главе с молодым ученым Ласло Якуч. В Бюккских горах Венгрии издавна известны обширные сталактитовые пещеры Аггтелека. Ласло Якуч и его товарищи решили выяснить, нет ли в этой местности других пещер. С этой целью они окрасили особым составом воду ручьев, протекающих через пещеры. Ручьи в том или ином месте выходят на поверхность, а потому окрасилась и вода окрестных источников. Но вода одного источника, выходящего на поверхность в этом районе, осталась бесцветной. «Значит, она выходит из какой-то другой, неизвестной пещеры», — решили венгерские геологи. Чтобы проверить свое предположение, они пробурили в этом месте шахту глубиной в 15 метров. Спустившись в шахту и следуя по течению воды, геологи и действительно обнаружили большую, доселе не известную сталактитовую пещеру. Через всю пещеру протекает ручей, который в одном месте образует целое подземное озеро. С потолка пещеры свешиваются разноцветные сталактиты. Случайно было замечено, что, попав в эту пещеру, все простуженные, даже с высокой температурой, совершенно излечиваются после нескольких часов пребывания в ней. Туда стали доставлять гриппозных больных, и все они так же быстро поправились. При исследовании пещеры было установлено, что и почва, и вода, и воздух в ней почти совершенно свободны от бактерий. Этим заинтересовались венгерские ученые работающие в области медицины и биологии. Они рассчитывают, что дальнейшее изучение удивительной пещеры поможет им в борьбе с простудными заболеваниями.(«Венгрия»)

Р. Бархударян КАПИТАН СИЗОВ Рассказ
1
ПЕРВЫЙ РЕЙС
Над Кронштадтом спускались сумерки. Орудийные залпы сотрясали стекла в штурвальной рубке. Капитан Сизов готовился к первому рейсу. Он волновался: лицо его было спокойно, но глаза из-под нахмуренных бровей смотрели прямо и сурово. Малейшее уклонение от курса грозило гибелью и от своих мин, и от мин, сброшенных противником. Маяки не горели, суда шли затемненные. Зазеваешься — и столкнутся два корабля на встречных курсах. Сложная обстановка для молодого капитана! — Машина готова! — доложил матрос. Сизов надел полушубок, надвинул на уши шапку и вышел из рубки.
Без громких слов команды пароход отошел от пирса, прошел мимо кораблей, казавшихся в темноте нагроможденными друг на друга скалами, миновал последние буи и вышел в открытое море. Осень в Финском заливе была ранняя, штормовая. Дожди сменялись снегом. Как только вышли из выходных буев кронштадтского рейда, «Молога» стала покачиваться на киль и борта. «Молога» — маленький одномачтовый, с деревянным корпусом, пароход-лейба. В первую финскую войну неприятель, отступая, в спешке оставил пароходик, а наши моряки привели его в Кронштадт. Рискнули отправлять в море слабосильный пароход с людьми только в войну. Комсомолец Сизов плавал вторым помощником капитана. Многие судоводители ушли на фронт, людей не хватало, и тогда Сизова назначили капитаном. — Счастливого плавания. Работайте вдвоем с третьим помощником, пока подыщем людей, — сказали ему. И вот Сизов на пароходе «Молога» в открытом море. Чем дальше уходили от Кронштадта, тем крупнее становились волны, поднимали на гребень порожнюю «Мологу» и швыряли вниз. Брызги мельчайшими каплями летели через палубу, попадали на мостик. Раскаты волн, глухие удары о корпус, свист и вой ветра в вантах — все вместе сливалось в грозный рев штормующего моря. Сизов пригнулся под парусиновый щит, но скоро вымок, перестал обращать внимание на брызги и только отворачивался, защищая лицо от холодной воды. На мостик поднялся боцман Анисимов. Он почти всю жизнь провел в море и не представлял себе, как можно жить на берегу. Анисимов давно знал Сизова. До войны юноша проходил практику с Анисимовым. Старый одинокий моряк полюбил смышленого мальчика и сейчас относился к нему по-отечески. Он пришел проведать своего воспитанника: не волнуется ли молодой капитан, не нужна ли помощь, совет. Когда пароход кренило, боцман широко расставлял ноги, хватался руками за поручни. Услышав спокойный голос Сизова, что-то приказывающего рулевому, старик улыбнулся: — Молодец, Петя, хороший моряк! Скрылся Кронштадт. Прошли Шепелевский маяк. Пароход шел покачиваясь, окруженный белой пеленой брызг. Ветер не усиливался, и Сизову казалось, что рейс пройдет благополучно. На вахту должен был заступить третий помощник, но Сизов отпустил его. Не мог капитан в первый рейс, да еще в такую ночь, уйти с мостика. С бака раздался голос вахтенного: — По носу предмет! — Право руля! — скомандовал Сизов. С левого борта прошел корабль, за ним второй, третий, безмолвные, без единого огонька, словно тени, вынырнувшие из морских глубин и растворившиеся в темноте. Корабли скрылись, и «Молога» продолжала свой путь. — Вахтенный, на лаг! — приказал капитан. — Есть на лаг! — ответил матрос на палубе и, запыхавшись от бега, доложил число пройденных миль. Через полчаса поворот. Перед отходом из Кронштадта Сизов проложил курс на карте, знал, когда надо повернуть, но побоялся всецело довериться лагу. Может, на перо лага попали водоросли, тряпки или пакля, выброшенная за борт, и счетчик соврал. А место поворота нужно знать очень точно. Пароход должен следовать вдоль минного поля. Если повернуть раньше, можно наскочить на мину. Сизов спустился в штурманскую рубку. Яркий электрический свет на миг ослепил его. Постояв, пока глаза привыкнут к свету, Сизов измерил на карте пройденное расстояние, проверил глубины. Лаг показывал правильно: через полчаса время повернуть. В рубке было тепло, мягкий диван располагал к отдыху, но Сизов торопился на мостик. Протянув руки, чтобы не удариться, осторожно ступая, он направился к трапу и, нащупав поручни, быстро взобрался на мостик. — Все благополучно? — спросил он боцмана. — Порядок, — послышалось в ответ. Через полчаса Сизов повернул на север, а еще через час «Молога» прошла вдоль границы минного поля, расположенного справа от курса. Правда, Сизов лег на новый курс, как говорят моряки, «с запасом», отошел от минного поля больше рекомендованного, но все же соблюдал величайшую осторожность. Он не отходил от компаса и при отклонении от курса предупреждал рулевого: — Не рыскать! Право не ходить! Править аккуратно! Небо на востоке побледнело, а когда наступил рассвет, «Молога» бросила якорь за лесистым островом, где стояли баржи. Зазвонив в машину отбой, Сизов вздохнул полной грудью и улыбнулся. Не думал он, что первый рейс в военное время пройдет так легко. Приказав помощнику распоряжаться погрузкой, Сизов спустился в каюту, снял полушубок и шапку. В дверь постучали. — Можно! — недовольно крикнул Сизов. Вошел приехавший с берега морской офицер. — Извините, что помешал, — сказал он, — но время не терпит. Командование решило погрузить на «Мологу» взрывчатку. Груз невеселый, но что поделаешь. Может взорваться от удара, сильного сотрясения. Соблюдайте осторожность. Уходим завтра в ноль-ноль. Сигналов не будет. В трех километрах враг. Если в темноте потеряете караван, следуйте до Кронштадта самостоятельно. — Какова скорость каравана? — Пять узлов. — Это же форсированный ход «Мологи»! — За ночь нужно пройти открытую часть моря. Постарайтесь прибавить ход. Сизов оделся. Ему было не до сна. Он приказал вахтенному позвать помощника, боцмана и старшего механика. Когда все собрались, Сизов сообщил о грузе и приказал: — Камбуз потушить, — взрыв может произойти от искры. Вдоль борта повесить мягкие кранцы, чтобы не ударялись при швартовке понтоны. С берега прибыли понтоны, и красноармейцы приступили к погрузке. К вечеру следующего дня «Молога», приняв тяжелый груз, глубоко сидела в воде. Измученных полуторасуточной работой помощника и боцмана Сизов отослал в каюту, а сам ходил по мостику, ожидая часа отхода. Послышался нарастающий рокот тяжелого снаряда и взрыв на берегу. За первым последовал второй, третий… Тяжелый снаряд разорвался где-то неподалеку. Сизов подошел к компасу и при тусклом свете лампочки взглянул на часы. Было без десяти двенадцать. Хорошо бы переменить место стоянки, но этого он не имел права сделать. Что, если пароходы в темноте, без света, станут переходить с места на место? Свободная от вахты команда не спала. До сна ли, когда каждую минуту снаряд может попасть в пароход? Собравшись на палубе, матросы тихо переговаривались и, когда поблизости раздавался треск, спрашивали: — Сколько осталось до отхода? С мостика Сизов видел силуэты людей, слышал сдержанный говор. Он спросил боцмана: — Гаврилыч, сколько стит каждый снаряд? — Не знаю точно, но думаю, можно построить дом. — Не один, а два деревянных, — произнес кто-то на палубе. — Смотря каких, — отозвался другой. — Кто знает стоимость снаряда? — спросил Сизов. Никто не знал, и люди заспорили. Снова разорвался снаряд. Сизов услышал шум обрушившегося фонтана воды, почувствовал запах едкого дыма. Разговоры на палубе умолкли. Наступила напряженная тишина. Сизов неторопливо прохаживался по мостику, подходил к компасу, смотрел па часы. Наконец стрелки показали ровно двенадцать. Самым тихим ходом, чтобы успеть вовремя застопорить машину или свернуть с пути при встрече с другими судами, двинулись мимо «Мологи» корабли каравана. — Поднять якорь! Поставить на баке вахтенного! — приказал боцману Сизов. — Есть поднять якорь! — громко повторил Анисимов, радуясь, что покидает зону обстрела. Заработала лебедка. — Якорь поднят. Вперед смотрящий матрос Супрун! — доложил Анисимов с бака. «Молога» тихо пошла, заняв свое место в караване. Сизов повеселел. Разрывы снарядов слышались уже позади. Успокоилась и команда. Свободные от вахты пошли отдыхать. Боцман обошел пароход и поднялся на мостик. За островом было тихо, но в море подул юго-западный ветер и, усиливаясь, перешел в шторм. Ветер засвистел в вантах, пароход начало кидать на волнах. Иногда он проваливался, и тогда перед носом поднималась клокочущая пена, обрушивалась на бак, мостик уходил из-под ног, и, чтобы удержаться, Сизов широко расставил ноги, попеременно сгибая их в коленях. Закутавшись в шубу, на баке стоял вахтенный матрос Супрун. Глаза его слезились от ветра, но матрос зорко смотрел вперед. Боцман предупредил, что могут встретиться оторвавшиеся мины. Супрун пристально вглядывался в темноту. Когда «Молога» особенно сильно проваливалась и горы воды обрушивались на бак, Сизов кричал в мегафон: — На баке, как дела? — Все благополучно, впереди чисто, — раздавался приглушенный ветром голос Супруна. — Привяжись к лебедке, еще смоет за борт! — Уже привязался, — донеслось в ответ. По гребням волн видно было, что пароход движется медленно. — Потеряли ход, — произнес Сизов. — Не пароход, а черепаха. Отстаем от каравана! — -ответил с раздражением Анисимов. Один за другим из темноты показывались пароходы, буксировщики с баржами проходили мимо «Мологи» и скрывались. Близко, возле борта прошел конвоировавший караван эсминец, обдав Сизова теплымдымом. — Не отставайте, сзади судов нет! — крикнули с него. Штормовой ветер сносил пароход влево, где находилось минное поле. Нужно было форсировать ход, скорее миновать опасный участок. Вызвав старшего механика, Сизов предупредил: — Неприятельский берег рядом. Форсируйте ход! — Наша «Молога» даже в штилевую погоду больше пяти миль не делала, — сказал механик. — Вызову всех кочегаров, постараемся прибавить обороты винта.

Луч прожектора скользнул по воде и, не достигнув «Мологи», остановился. У Сизова замерло сердце: если неприятельский солдат повернет прожектор немного левее, осветит «Мологу» и идущий караван, враг немедленно откроет огонь по невооруженным судам. Прожектор погас. — Пронесло! — вздохнул Анисимов. Курс лежал на юг, потом на запад, а «Молога» продолжала дрейфовать на расставленные мины. Прибавить ход не удавалось. Угрожала гибель. В мирное время Сизов повернул бы обратно, подождал бы затишья, но сейчас он выполнял военный приказ. Ветер и волны, не ослабевая, все время сносили пароход на опасный участок. Пошел дождь со снегом. Сизова пронизывал холодный ветер. Распахнулась шинель, но он не чувствовал холода. «Мологу» дрейфовало более трех часов. Теперь Сизов был уверен, что они идут над минами, расставленными в шахматном порядке. Пароход имел осадку три метра. Мины находились на глубине, немного превышающей осадку. Всякий раз при качке Сизов ожидал взрыва мины или взрывчатки в трюме. «Нельзя же надеяться на счастливый случай. Что сделать, чтобы спасти пароход?» — настойчиво думал капитан. На нос «Молога» имела осадку полтора метра, а на корму — около трех. Сизов решил поставить судно на ровный киль, чтобы увеличить расстояние между днищем и минами. — Выкачать балласт из кормовых отсеков! — приказал он. — Есть, — неуверенно ответил машинист. На мостик поднялся старший механик. — Вы приказали выкачать балласт? А без балласта корма поднимется, винт оголится при качке, будет вращаться вхолостую, и пароход потеряет ход! — Выполняйте приказ! — подтвердил Сизов. Механик ушел. На мостик поднялся Анисимов. — Я приказал выкачать воду из кормовых отсеков. Проверь исполнение. Боцман не двинулся с места. Кто же в шторм облегчает вес судна? За сорокалетнее плавание ему ни разу не приходилось видеть такое. Другое дело, если судну угрожает гибель от перегрузки. — Иди, Гаврилыч, проверь, — повторил Сизов. Старик растерялся. Неужели его воспитанник, за которого он так радовался, хочет совершить безрассудный поступок? Осмеют молодого капитана. Как уговорить его отменить приказ? — Петя, милый, извини, не хочу тебя учить, но здесь же глубоко, не надо выкачивать балласт. Дрогнуло сердце капитана от ласковых слов. Мелей здесь нет, но есть мины. А сказать об этом нельзя. О расположении минных полей должен знать только капитан. — Выполняй приказ, Гаврилыч. Знаю, что делаю! — решительно произнес Сизов. Облегченная корма поднялась. Когда проходила большая волна, нос зарывался, оголялась корма и от вращения винта в воздухе сотрясался корпус. «Груз может взорваться от удара, от сильного сотрясения», — вспомнил Сизов предупреждение морского офицера. Час от часу не легче! Сизов приказал убавить ход. Теперь пароход не станет зарываться и, следовательно, качка будет плавной. На мостик поднялся старший механик. — По вашему приказанию нагнали пар; можем прибавить ход, а вы даете малый. Не ошибка ли? И механику не мог Сизов объяснить, почему он сперва требовал форсировать ход, чтобы скорее обойти опасный участок, а сейчас убавил ход, чтобы избежать сильной качки, не наскочить на мину. «Пусть думают обо мне что хотят, а мое дело — спасти людей и груз», — подумал Сизов. За кормой в воде вращается перо лага. Легкое перо тоже может коснуться мины и вызвать взрыв. Нужно убрать его. — Боцман, убрать лаг! Боцман ничего уже не понимал. Бравирует молодой капитан или вовсе потерял рассудок? Забыл элементарные правила? Кто же в открытом море убирает лаг? Неизвестно, сколько прошли и сколько осталось до базы. Горели бы маяки, можно было бы запеленговать их, узнать, где находишься. Пароход идет вслепую, единственный ориентир — лаг, а капитан заставляет его убрать. Как хотелось Сизову подойти к старику, объяснить, где они находятся, рассказать, почему он вынужден давать такие нелепые, на первый взгляд, распоряжения! Анисимов взглянул на Сизова и молча спустился с мостика. Время тянулось медленно. «Скорее бы рассвет!» — думал Сизов, как будто день мог принести облегчение. В переговорной трубке слышался громкий стук штурвальной лебедки. Это рулевой быстро вращал штурвал, стараясь удержать пароход на заданном курсе. На мостик поднялся Анисимов, принес капитану кофе. Пить пришлось прямо из чайника. В такую качку в стакане не донести до рта. — Замерз? Стоишь, как на параде. — Анисимов принес шубу и заботливо укутал Сизова поверх полушубка. — Смени Супруна. Вымок бедняга. — Он уже сменился. Потеряв ход, судно рыскало. Анисимов поглядывал на Сизова и хотел сказать: «Выкачал попусту балласт, вот и рыщет судно», — но не решился. Капитан стоял молчаливый, строгий. «Как скоро должность капитана переменила его!» — подумал старик. А Сизову было не до разговоров. Он сделал все, чтобы спасти судно. Стремительная качка прекратилась. От берега отошли недалеко Можно определить свое место по грунту, но как бросить тяжелый свинцовый лот? Он может попасть на мину. Небо на востоке прояснилось. Наступил рассвет. С бака раздался голос вахтенного: — По носу пароход! Сквозь предутреннюю мглу Сизов увидел пароход, тащивший баржу. За ним следовал другой, третий… Поднимая белую пену, зарываясь в волнах, к «Мологе» подошел «морской охотник». — Становитесь на свое место. Почему выдвинулись вперед? — крикнули с него. Сизов улыбнулся, свободно вздохнул. Опасность миновала. «Молога» нагнала караван. Словно гора свалилась с плеч. Капитан похлопал по плечу удивленного Анисимова. Лицо его стало по-прежнему веселым и добрым. — Значит, живем, боцман? «Нет, не испортила должность Петю. Просто трудно было ему в первый рейс», — решил Анисимов. — Как же мы очутились впереди каравана? — спросил он. — Мы дрейфовали, срезали угол и очутились впереди. Механики, накачайте в кормовые отсеки балласт! — весело крикнул Сизов в переговорную трубку. — Наверно, ругают меня на чем свет стоит! — И за дело, — проворчал старик, все еще ничего не понимая. Стало совсем светло Ветер ослабел. Уменьшилась и волна. «Мологу» обгоняли пароходы с баржами, и вскоре караван оказался впереди. Из-за горизонта виден маяк Толбухина, а за ним и Кронштадт. — Скоро притопаем домой, — проговорил Анисимов. Он, как большинство старых моряков, называл порт домом. В Кронштадте Анисимов поздравил капитана с благополучным первым рейсом и спросил: — Скажи, Петя, почему ты ночью выкачал балласт? Я не слышал, чтобы в том районе встречались мели. Сизов улыбнулся. Значит, и старый боцман не заметил, как волновался капитан.
2
ЛОВУШКА
Вскоре Сизову приказали с острова Тихий эвакуировать оставшихся там колхозников. Отходили ночью, чтобы не заметили фашистские самолеты. Дождь и снег шли попеременно. Сизов стоял с вахтенным помощником капитана и смотрел на черную завесу, ничего не видя в нескольких шагах. Прошли совсем близко возле казавшегося горой военного корабля. По носу в нескольких метрах появилась вторая гора, но Сизов успел вовремя свернуть с курса и избежать столкновения. Миновали рейд, прошли разведенные боны и вышли в море. В Финском заливе в довоенное время было много маяков, светящихся буев, ограждающих многочисленные мели, подводные камни и островки, а теперь ни одного огонька не видно было в заливе. Дождь и снег еще ухудшали видимость, и Сизов, как ни напрягал зрение, не видел впереди ничего, даже носа своего маленького парохода. «Молога», переваливаясь на волнах, с шумом разрезла воду, продвигаясь в кромешной тьме, и только где-то на берегу время от времени вспыхивали ракеты, освещая небосклон. Давно перевалило за полночь. Сменившаяся с вахты команда спала.

Слишком коротки дни и долго тянутся ночи на Финском заливе осенью, но моряки радовались этому. Ночью легче укрыться от вражеских самолетов и проскочить открытую часть залива. Осторожно, часто сверяясь с картой, вел Сизов «Мологу» к острову. На рассвете смутно стали обрисовываться темные контуры островов, покрытых густым лесом. Издали лес казался нагромождением каких-то причудливых строений. Колхоз был небольшой, рыболовецкий. На песчаном берегу на жердях сушились сети, под навесом стояли порожние бочки, а немного дальше, в лесу, притаились дома. Колхозники обрадовались прибытию парохода и немедленно приступили к погрузке. За неимением пирса, пароход стоял на якоре в ста метрах от берега. Наскоро сколотив плот, колхозники перевозили на нем скот, тяжелый инвентарь, громоздкие вещи. Подозвав колхозную лодку, Сизов съехал на берег. Он отыскал хмурого, обросшего щетиной председателя колхоза и набросился на него: — Почему переправляете на одном пароме? Где ваши лодки? Так не погрузитесь и за десять дней! — Большие лодки ушли в Ленинград, а на маленьких много не перевезешь, — оправдывался председатель. — Свяжите несколько лодок вместе, настелите доски, получится паром. Лошадей пустите вплавь. Зачем вам так много сена? Кому нужны гнилые сети, старые бочки? Оставьте всё, завтра вечером уходим. — Наш председатель готов и дома погрузить на баржу, — поддержала Сизова пожилая женщина. — Не бросать же колхозное добро, — мрачно заявил председатель. Сизов вернулся на пароход и сказал свободной от вахты команде: — В колхозе остались почти одни женщины. Помогите им. Грузили день и ночь, а утром на «Мологу» приехал бледный председатель колхоза и, плотно закрыв за собой дверь каюты, сообщил Сизову: — Крышка нам. Враг высадил десант на два острова, между которыми проход в залив Мы очутились в ловушке. — Откуда вы это узнали? — По ту сторону острова на берегу лежат наши сети. Там дежурит старик сторож. На рассвете он увидел парашютный десант. — Знает ли кто-нибудь об этом? — Старик никому не говорил. — И хорошо сделал. Придумаем, как вырваться из ловушки, — сказал Сизов председателю. А у самого на душе тяжело. Председатель заговорил: — Когда колхозники уходили на фронт, просили: «Кузьмич, мы оставляем жен и детишек на твое попечение. Береги их». Что скажу бойцам, когда они вернутся с фронта? Какими глазами посмотрю на них? — Мы их спасем, — уверенно ответил Сизов. — Поезжайте на остров, руководите погрузкой как будто ничего не случилось. Председатель ушел, а Сизов задумался. Неожиданно он очутился в тылу у врага. «Как спасти людей, колхозное имущество, пароход?» Погрузка продолжалась. Прикрепив конец длинной веревки к пароходу, а другой конец к закопанному на берегу якорю, колхозники переводили по ней плот. Люди радовались предстоящему отъезду и оживленно перекликались.


«Ничего не знают», — подумал Сизов. В проливе находились два острова, на которые неприятель высадил десант. Левее- материк, тоже занятый неприятелем, а правее — цепь островов, между которыми были камни, мели, рифы. Выход в море закрыт, а найти путь необходимо. Склонившись над картой, Сизов долго прокладывал курс, циркулем измерял расстояния, транспортиром снимал углы. В пятидесяти километрах западнее, между неприятельской территорией и островами, на карте значился узкий, неглубокий проход в море. Сизов решил ночью направиться в тыл врага и через этот проход незамеченным выйти в море. Капитан вызвал председателя колхоза, боцмана, механика, старшего помощника и рассказал им о десанте: — Ничего тут страшного нет. Проскочим ночью. Десант нас не увидит. Нужно не шуметь, а кочегарам приказать шуровать без дыма. Смелое предложение капитана сперва ошеломило. Некоторое время все сидели молча. Только Анисимов произнес: — Ишь, ты! — Это значит, мы углубимся в тыл врага? — спросил механик. — Нас же захватят в плен! — Мы и так в плену. Пойдем между островами. Самый ближайший будет от нас в двух километрах. Возможно, он занят врагом. Надо рискнуть. — Давайте рискнем. А если попадем к врагам, утопим судно. — Не топить надо, а спасать. Не забывайте, — у нас женщины и дети. С наступлением темноты отправимся в рейс. Погрузку прекратите. Посадите только людей — и ни слова о том, где мы находимся, — распорядился Сизов. Ночью тихо, без шума Сизов отошел от острова. Было темно, безоблачно, дул слабый ветер, и, казалось, все благоприятствовало плаванию. Вскоре лесистый остров скрылся в темноте. Усталые от погрузки колхозники улеглись спать, не подозревая об опасности. Редкий капитан решился бы плавать без лоцмана в шхерах, между островами, подводными камнями и мелями. В этих условиях требуется точное знание места и опасностей, не только обозначенных на карте, но и вновь появившихся. А Сизов впервые попал в шхеры. Еще до отхода он распределил людей по местам, и сейчас второй помощник стоял на носу, смотрел на темную поверхность воды, чтобы в случае опасности предупредить. Старший помощник был на мостике, а боцман измерял глубины. Сизов часто уходил в рубку, проверял по карте курс. Команда, следуя примеру своего капитана, работала без лишней суматохи и спешки. Жизнь на пароходе шла своим чередом, как в мирное время, а пароход шел все дальше в тыл неприятелю. Из-под воды вырастало что-то темное, увеличиваясь в ширину. Сизов знал, что это остров. Другой, поменьше, должен появиться слева. Расстояние между ними три километра. Высадил ли неприятель десант на острова, капитан не знал. Обойти их невозможно: слева цепь каменных гряд, а справа, до самого берега, занятого врагом, — мели, островки, подводные камни. Показался и второй остров. Сизов смотрел на острова, по пока ничто не указывало, что там есть люди. Из трубы вырвался сноп искр. У Сизова похолодели руки. Он бросился к переговорной трубе и, не сдержавшись, гневно крикнул: — Из трубы летят искры и дым! До острова полтора километра. Хотите, чтобы нас заметили?! Вскоре острова остались позади, стали уменьшаться, а впереди вырастали другие. Пошел снег густой, крупный. Ни один лоцман не решился бы в снег по неосвещенному фарватеру вести пароход. Он попросил бы капитана стать на якорь до рассвета. Но Сизову такая погода была на руку, он даже обрадовался снегу. Не сбавляя ход, чтобы не потерять ориентировку, «Молога» продолжала путь. Только чаще стал Анисимов измерять глубины, а Сизов уходить в рубку — проверять курс. С бака раздался тревожный крик помощника: — По носу предмет! — Лево на борт! — скомандовал Сизов. Близко вдоль борта прошла парусная лодка. Это были мирные рыбаки. Но они жили на вражеской территории, могут сообщить о встрече с пароходом. «Нужно скорее выбраться отсюда, пока лодка не достигла берега»^ — думал Сизов. Настало время повернуть пароход на север, пройти вдоль вытянувшегося острова и повернуть на юг. «Молога» легла на новый курс… Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец дошли до северной оконечности острова. Это Сизов узнал по глубинам и по времени. Нужно снова повернуть. До берега, занятого врагом, четыре километра, — не более двадцати минут хода. Малейшая ошибка может привести к несчастью. — Левее! — командует Сизов. Северо-западный ветер не прекращается. За островом было тихо, но на открытом месте началась носовая качка. Снова повалил густой снег, но теперь Сизов не боялся подводных камней. По карте их здесь не было. — Боцман, отставить! — сказал капитан. Мокрый от снега Анисимов вытащил лот и поднялся на мостик. Сизов, помощник капитана и механик стояли на левом, подветренном крыле. — Часа через два, — услышал Анисимов спокойный голос капитана, — пройдем между двух каменных гряд, а там море. Остается последнее испытание. Точнее говори глубины, Гаврилыч. — Все будет исполнено. С рассветом подошли к подводной гряде. Снег прекратился, и в смутном рассвете Сизов увидел перекатывающиеся через камни буруны с белыми гребнями. Только посередине, где глубина позволяла пройти пароходу, вода не пенилась. Справа и слева тянулась цепь островов. Наступил решающий момент. Сизов повернул ручку телеграфа на «малый вперед». — Боцмана на лот! — внятно скомандовал он. — Четыреста двадцать, — нараспев сообщает боцман. — Четыреста. Триста девяносто… триста шестьдесят… триста сорок… триста тридцать!.. — уже кричит боцман. Шум клокочущей воды заглушает голос боцмана. До боли сжимая ручку телеграфа, Сизов не сводит глаз с узкого прохода, где нет бурунов. — Триста восемь! — тревожно кричит боцман, и вдруг «Молога» слегка вздрогнула, коснувшись грунта. Если пароход сядет на камни, гибель неизбежна. Здесь, в тылу у врага, на помощь рассчитывать нечего. — Двигаемся вперед, — сообщил боцман. Крепко сжав челюсти, перегнувшись с мостика, Сизов посмотрел на темную воду. Боцман прав, — хода не потеряли. — Триста пять, — говорит боцман упавшим голосом: он уже не верит в благополучный исход плавания. Слабое соприкосновение с грунтом не причинило вреда тихо идущему пароходу, но погасило инерцию. Сизов знал, — если последует еще удар, то «Молога» остановится, станет беспомощной. Он рванул ручку телеграфа на «полный вперед». Это была его последняя ставка. С полного хода можно распороть днище о камни, но можно и проскочить. Пароход двинулся полным ходом. — Триста семьдесят! Четыреста двадцать! Пятьсот метров! — радостно сообщал боцман и, забыв всякие условности, крикнул: — Петя! Петр Сергеевич! Проскочили! — Пронесло, — облегченно произнес помощник капитана и бросился обнимать рулевого. Словно тяжелая гора свалилась с плеч Сизова. Улыбаясь, он смотрел на своих товарищей и даже не слышал, что они говорят. Кипящие буруны позади. Впереди широкое, чуть волнующееся море, а вдали видны советские военные корабли, охраняющие дорогу на Ленинград.
3
ГИБЕЛЬ «МОЛОГИ»
— Перевезите на остров Скала бензин для катеров! — приказали Сизову. — Когда отправляться? — Немедленно. Бензин на исходе. — Есть! Двадцать бочек с бензином погрузили за несколько минут, и «Молога» вышла из Купеческой гавани в рейс. Несмотря на глубокую осень, выдался на редкость хороший день. Слабый ветер поднимал мелкую зыбь Небо безоблачное, голубое. Далеко слева тянулся берег, на котором окопался враг. Форты на островах были безмолвны Вдали курсировали наши дозорные корабли, охраняющие подступы к Ленинграду. После первых опасных рейсов, когда «Молога» прошла через минное поле, вывезла из вражеского тыла колхозников, новый рейс казался Сизову легким, и он рассчитывал завтра к вечеру вернуться обратно, — до острова Скала недалеко. На вахте стоял помощник, а Сизов спустился в теплую каюту, снял обувь и в одежде, чтобы каждую минуту быть готовым выскочить на палубу, лег на койку. Равномерный шум вин га, слабая качка парохода убаюкивали, и он начал засыпать. Разбудил капитана тревожный, изменившийся в переговорной трубе, голос помощника: — Петр Сергеевич, к нам приближается звено неизвестных самолетов! Сна как не бывало. Быстро надев ботинки и не успев зашнуровать их, Сизов в несколько прыжков очутился на мостике. С оглушающим ревом над пароходом кружились три фашистских самолета. Люди вышли на палубу, тревожно смотрели на них. Сизов предупредил команду: — Укрывайтесь! Нас могут обстрелять! Никто не ушел, предпочитая смотреть опасности в глаза. Вдруг один из самолетов вошел в пике, за ним второй, третий… Послышалась пулеметная стрельба, раздались стоны раненых. Из бочек, пробитых пулями, фонтанчиками забил бензин, деревянную палубу сразу охватило огнем.
Кто-то зазвонил пожарную тревогу.

— Пустить насосы! — скомандовал Сизов в машину. Без фуражки, не замечая холодного ветра, он следил за самолетами и распоряжался с таким хладнокровием, как будто не впервые ему тушить пожар. Не получая отпора от обезоруженного парохода, самолеты осмелели и, чуть не касаясь мачты, поливали свинцовым дождем бочки с бензином, людей… — Лево на борт! — скомандовал Сизов, повернул пароход кормой к ветру, чтобы не дать пламени распространиться. Сквозь дым, застилавший глаза, Сизов видел Анисимова, из шланга тушившего огонь. — Скоро подоспеют наши самолеты! — крикнул Сизов. Спокойный голос, уверенные распоряжения капитана придали силы команде. Пароход шел, подгоняемый попутным ветром. Огонь и дым поднимались кверху, по временам скрывая от Сизова команду на передней палубе. Распоряжаясь тушением пожара, Сизов ни на минуту не упускал из виду самолеты и, когда они пикировали, командовал: «Ложись!» — а сам стоял на виду у всех, даже не нагибался. Сизов видел, как самоотверженно борется с пожаром команда, как люди наступают на огонь с пожарными кошмами, песком, огнетушителями. — Молодцы, ребята! — воодушевлял он людей. Сбить пламя не удалось: мешали беспрерывно атакующие самолеты. Пароход рыскал[154], нос повернулся против ветра. Сизова обдало жаром, глаза застлал едкий дым. — Не уклоняйся от курса! — скомандовал он рулевому, но не получил обычного ответа: «Есть не уклоняться!» Хотел послать помощника узнать, что стало с рулевым, но помощник лежал в луже крови. — Подвахтенного рулевого на руль! — скомандовал Сизов. Рыскавшее судно снова легло на курс. — Кто на руле? — Повар Рябов заменил убитого Сазонова! — ответили из рулевой рубки. И не спрашивая, знает ли повар компас, Сизов скомандовал ему курс. Загорелась кают-компания. Пули продырявили шланги, вода забила из отверстий, напор ослабел. Самолеты, видимо, израсходовали патроны, кружили над пароходом, но не стреляли. В бессильной ярости против бесстрашного капитана, фашистский летчик погрозил из кабины кулаком и направился на юг. За ним последовали другие. Сизов понимал, что пожар не потушить. Заряды огнетушителей кончились, а шланги продырявились. Нужно спасти оставшихся в живых людей. Поставив ручку телеграфа на «стоп», в переговорную трубу он приказал механику: — Пароход гибнет, спасайте команду! Огонь лизал сухие доски рубки, поднялся на мостик. Заслонив лицо от пылающего жара, Сизов закричал Анисимову: «Гаврилыч, спасай команду!» — и указал рукой за борт. Надев спасательные пояса, один за другим прыгали в воду люди. Анисимов надевал раненым нагрудники и толкал в море. Сизов не слышал, что ему кричал Анисимов, — треск горевших досок заглушал голос. В последний раз Анисимов посмотрел на «Мологу», на Сизова и прыгнул в воду. С кормы бросалась в море машинная команда. Все ближе подступал огонь к мостику, и Сизов шаг за шагом отходил назад, спасаясь от нестерпимой жары. Словно не желая покинуть горящий пароход, он стоял крепко сжав челюсти, бледный, с нахмуренными бровями, оглядывал плавающих людей. Никем не управляемый пароход развернуло бортом к волнам. Он казался огромным огненным факелом. Огонь полыхал уже на баке; горела мачта, мостик, а Сизов отступил к самой трубе. И только когда дым застлал глаза и начала тлеть одежда, он вспомнил, что нужно спасаться, прыгнул в море, не заметив подошедших на помощь «морских охотников». Холодная осенняя вода словно обожгла его. Он вынырнул, но промокшая одежда потянула вниз. Что-то хлестнуло по голове. Перед лицом увидел трос, брошенный с «морского охотника»… Очнулся Сизов в госпитале. В палате полумрак. Тихо. Пахнет лекарствами. Между койками неслышно двигается дежурная сестра; поправила на раненых и больных одеяла. Стреляют пушки с кораблей, стоящих на Кронштадтском рейде, с фортов, а может быть и с острова. По временам вздрагивают стекла на окнах, и внезапно наступившая тишина кажется странной и непривычной. Тяжелые мысли не дают Сизову покоя. Он вспомнил пожар, мужественную борьбу людей с огнем, гибель «Мологи». Только сейчас он вспомнил, что Анисимов в воде был рядом и громко говорил: — Держись, Петя, наши идут. В чужой палате он первым увидел Анисимова. — Жив? — спросил старик, обрадовавшись. — Кто погиб? — Все спаслись, — ответил Анисимов. Сизов не поверил. На его глазах убили Семина, рулевых Корнева и Суркова, помощника капитана. Поздно вечером боцман подсел к капитану. — Не спишь, Петя? — спросил он, усаживаясь. — Скука меня взяла: без дела не найду себе места. — Врач хочет продержать нас еще несколько дней, убедиться, что мы совсем здоровы. Люди воюют, плавают, работают, а мы лежим с тяжело больными, даже совестно. Завтра потребую меня выписать, — сказал Сизов. — Правильно, Петя; я тоже не останусь. Душа тоскует по морю. Врач не стал возражать и выписал обоих.
4
«БУГУЕВ»
Всю зиму Сизов провел в Ленинграде, занимался ремонтом судов, а летом 1942 года его направили на Ладожское озеро капитаном на пароход. На пирсе он спросил пожилого речника, где находится «Бугуев». — Он маленький, спрятался под пирс, вон труба торчит. Озеро было спокойно, а верхушка трубы, выступающая из-под пирса, сильно раскачивалась. Удивленный странным явлением, Сизов прибавил шагу. Сероглазый парнишка лет шестнадцати, одной ногой став на сваю пирса, а другой на борт маленького пароходика, раскачивал его, как это делают ребята с лодкой. Из машинного отделения доносился старческий голос: — Перестань, Витька! Мешаешь работать. Так вот на каком карлике предстояло теперь плавать Сизову. Он чувствовал себя обиженным.
«Бугуев» действительно был очень маленьким, даже по сравнению с «Мологой». До войны он плавал только по тихим приладожским каналам и редко выходил на спокойную реку Волхов. Ледовая трасса — «дорога жизни», — проложенная через Ладожское озеро, летом сменилась «навигацией жизни». Фашисты, укрепившись на левом берегу Невы, не пропускали пароходы из Ленинграда на Ладогу. Озерные суда не могли обеспечить перевозку огромного потока поступавших для Ленинграда и фронта грузов, и тогда из приладожских каналов на озеро перебросили несколько пароходов-карликов, а с ними и «Бугуева». Узнав, кто такой Сизов, Витя пронзительно закричал: — Деда, Шура, Катя, выходите все, — к нам капитана назначили! Из машинного отделения вылез маленький сгорбленный старичок без шапки, с взлохмаченной седой головой. За ним показались две девушки с измазанными сажей и угольной пылью лицами. Старик паклей вытер руку и, протянув ее Сизову, отрекомендовался: — Механик Сергей Сидорович, а это кочегары, — указал он на девушек. — Мой помощник Ванька на берегу, получает керосин. Из носового помещения вышел улыбающийся, розовощекий, с большой седой бородой, похожий на сказочного деда-мороза, старик. За ним появился сумрачного вида парень лет двадцати. — Павел, ваш помощник, — отрекомендовался он. — Вызовите всех на палубу! — приказал Сизов Павлу. Он хотел познакомиться с командой. — Все налицо, кроме помощника механика. На палубе находились два старика, две девушки, помощник капитана Павел и Витя. — Кто плавал в озере? — спросил Сизов. Седобородый старик ответил: — У нас в колхозе и реки нет, где там плавать! — Как вы попали на пароход? — Отступали мы всем колхозом, а когда дошли до этого места, я сказал старушке: «Отступай, бабка, дальше, а я останусь; наши не допустят немца до Ладоги». Попросился на пароход, меня и приняли. Обед варю команде. — Меня зовут Катей, — сообщила худенькая девушка. — До войны училась в консерватории. — Шура, — сказала вторая девушка. — Работала парикмахером. Сизов взглянул на тонкие длинные пальцы, хрупкую фигурку Кати и усомнился: где у нее найдется сила подбрасывать в топку котла полные лопаты тяжелого каменного угля? Механик, видимо, понял капитана и, как бы извиняясь, проговорил: — Силенок у них маловато, но с делом справляются; конечно, мне и Ваньке приходится им помогать. Людей нет, все на фронте. — Я тоже помогаю, — сказал Витя, который, как оказалось, весной окончил школу. — А вы где плавали? — спросил Сизов Павла. — До войны работал кочегаром на канальных пароходах, а сейчас перевели помощником капитана, — говорят, нет людей. Только механик был кадровым речником, но и он не плавал в озере. Четыре месяца плавал Сизов на «Бугуеве». За это время ему пришлось около двухсот раз с баржами пересечь озеро, доставляя Ленинграду продукты. Не раз «Бугуев» попадал в шторм, его бомбили фашисты. Маленький пароходик, приспособленный к плаванию по тихим каналам, хорошо выдерживал шторм, а старики, дети и девушки превратились в опытных моряков. В шторм, стремительно раскачиваясь с бока на бок, взлетая на вершину волны и проваливаясь, шаг за шагом «Бугуев» продвигался вперед, таща за собой баржу. А в это время дед в тесном камбузе, где помещалась только плита, стоя на палубе и ухватившись за прикрепленный рым, чтобы не вылететь за борт, варил обед. Не обращая внимания на промокшую одежду, он с таким спокойствием выполнял работу, как будто всю жизнь был коком. Как-то Сизов сказал, что если в шторм лопнет буксир, то ни один канальный пароход не поймает в бушующем озере баржу и ее выкинет на камни. Его слова запомнил Витя и через каждые полчаса проверял буксир. В шторм он чуть не ползком пробирался на корму. Сизов восхищался бесстрашием и хладнокровием команды во время налетов фашистской авиации. Витя бегал вокруг рубки, громко предупреждая: — Заходит с кормы! — Пикирует, ложись! — командовал он неизвестно кому и ложился сам. Сизов скатывал руль на борт, и бомба разрывалась в стороне. Дед же усаживался на самом носу парохода, наблюдал за самолетами и зажмуривал глаза, когда с воем летела бомба. После боя он говорил: — Кажись, и на этот раз пронесло. Витя, давай чай. А Витя возбужденным голосом кричал в машину: — Катя, Шура, наши отогнали фашистов, мы победили! Как-то Сизов спросил Витю: — Где ты научился узнавать о маневрах самолетов? — Фашисты часто бомбили Волховскую электростанцию, а наш дом находился неподалеку, там я узнал их повадки. Сизов полюбил шустрого Витю, степенного деда, скромных, исполнительных девушек Шуру и Катю, тихого старика механика. Боевая, полная опасности жизнь сблизила всех. Теперь Сизов знал, что в трудную минуту можно положиться на команду. Поздно осенью, вручая Сизову приказ на очередной рейс, оператор сообщил: — Ваш пароход поступает в распоряжение капитана третьего ранга Барсова. — Что будем делать? — Прокладывать кабель по озеру. Ленинград должен получить ток от Волховской гидростанции. Электрический свет Ленинграду — это же целое событие! Сизов направил пароход в бухту, где шла подготовка к прокладке кабеля. Зиму 1941/42 года он провел в Ленинграде и знал, что значит мало электроэнергии. Водопровод почти бездействовал; люди брали воду из Невы. Жилые дома освещались коптилками. Вспомнились покрывшиеся копотью потолки, вещи, почерневшие лица, темные лестницы… Отшвартовав пароход к большой железной шаланде, Сизов вскарабкался на нее. Невысокий полный, но подвижный капитан третьего ранга Барсов громко распоряжался работавшими в трюме. — Товарищ капитан третьего ранга, пароход «Бугуев» прибыл в ваше распоряжение! — доложил Сизов Барсову. — Добро! — сказал он. — Дали в самый последний момент; говорят, все пароходы заняты буксировкой. — Разговаривая, Барсов не спускал глаз с трюма, где укладывали толстый кабель, предварительно смонтированный специалистами-электриками. — Товарищ Акимов, проверяйте каждый сантиметр, прощупайте каждый кусок. Малейшее повреждение сведет на нет всю работу! — крикнул он в трюм и снова обратился к Сизову: — Вот уже неделю ребята недосыпают. Торопимся до закрытия навигации закончить работу. — Какой длины кабель? — поинтересовался Сизов. — Двадцать семь километров — ширина озера. Нужно проложить четыре ряда. — Успеем ли? Осталось мало времени. — Должны успеть. Так приказало командование. С наступлением ночи отправляемся в рейс. В случае выхода из строя тральщика баржу поведете вы. На палубе шаланды установили огромный барабан. Осталось уложить последнюю сотню метров. Работа очень тяжелая. Трудно согнуть и уложить толстый, негнущийся кабель в ровные ряды. На этой шаланде, как и на других, на носу и на корме стояли пулеметы. Сизов завидовал самоходным баржам и шаландам. Они могли защищаться от нападения вражеских самолетов. Вся их защита заключалась в маневрировании; но как это делать, если движение парохода сковывает длинный буксир? Сизов обошел палубу шаланды, загроможденную досками, бревнами, прошел на корму, заглянул в камбуз. Жена шкипера варила обед, а обросший седой щетиной муж подшивал валенки; и если бы не пулемет, установленный перед камбузом, казалось, укладка кабеля в трюм, варка пищи и шкипер, подшивающий валенки, — все это происходит в мирной обстановке. — Товарищ капитан, идите отдыхать; может, не придется спать ночью, — заметив Сизова, предложил Барсов. Наступили осенние сумерки. Тральщик ладожской военной флотилии забуксировал шаланду с кабелем и повел ее по направлению к восточному берегу со скоростью три–четыре километра в час, с тем расчетом, чтобы за ночь проскочить открытую часть озера. Заминка в прокладке, — и день мог застать шаланду в озере; фашисты увидят из Шлиссельбурга и пошлют самолеты бомбить. Люди это знали и торопились. Ночь прошла в напряженном труде, и на рассвете первый кабель вывели на берег. При прокладке второго кабеля сильно мешала бортовая качка. По временам на палубу парохода обрушивались волны, но команда привыкла к шторму. Свободный от вахты дед спал, а Витя находился на палубе. Ветер и волны задержали прокладку кабеля; наступил рассвет, а шаланда была еще в озере. Витя вдруг закричал: — Летят фашисты! На тральщике и шаланде объявили воздушную тревогу. Дед, наскоро одевшись, вышел из кубрика. Катя побежала в кочегарку — помогать Шуре. Помощник Павел стал рядом с капитаном. Забегали матросы на тральщике и на шаланде. Дула с зенитных пушек и пулеметов направились к двум приближающимся самолетам. Барсов спокойно продолжал руководить работами. Его басистый голос сквозь шум волн и вой ветра иногда доносился до Сизова.


Возле шаланды разорвалось несколько бомб, не причинивших никому вреда. Сделав три круга на недосягаемой для зенитных пушек высоте, фашисты улетели. Вскоре появились еще четыре вражеских самолета. Но шаланда уже подошла к восточному берегу. Был проложен и второй кабель. Самолеты сбросили бомбы, но люди попрятались. Когда проводили третий кабель, шторм сильно задержал работы, и рассвет застал корабли на середине трассы. На шаланду, тральщик и на «Бугуев» налетели вражеские самолеты. — На «Бугуеве» рассредоточиться! — услышал Сизов по мегафону голос Барсова. Сизов отошел на безопасное расстояние и следил за боем. Бомбы рвались то с носа, то с кормы, то у бортов шаланды. Вода, казалось, кипела. Видно было на шаланде падающих раненых и убитых. Но работа ни на минуту не прекращалась. Тральщик медленно — чтобы успели проложить кабель, — тащил шаланду. Барсов спокойно распоряжался, а уцелевшие люди метр за метром укладывали на дно озера кабель. Осколок перебил буксир; тральщик прибавил ход и оказался далеко впереди шаланды. Фашистам это было на руку. Потерявшая ход шаланда представляла хорошую цель. Тральщик хотел снова забуксировать шаланду; шестерка самолетов обрушила на него бомбы, обстреляла из пулеметов. Временами тральщик скрывался за фонтанами воды, снова появлялся, беспрерывно отбиваясь от атак. На корме загорелся огонь. Тральщик медленно стал крениться: видно, получил пробоину и вода хлынула в трюм. Сбитый самолет врезался в воду и исчез неподалеку от «Бугуева». Остальные самолеты продолжали атаку. Тральщику приходилось трудно — в машину попал осколок, и он потерял ход. На корме начался пожар — загорелись каюты. Беспрерывно отбивая атаки, команда тральщика тушила пожар, устраняла течь и пыталась исправить повреждение машины. Воспользовавшись тем, что тральщик не мог подойти на помощь шаланде, два самолета беспрерывно атаковывали ее, но, остерегаясь пулеметов, боялись спуститься ниже. Сквозь грохот зениток, вой и оглушающие взрывы авиабомб Сизов услышал громкий голос Барсова: — «Бугуеву» забуксировать шаланду! Все усиливающийся ветер поднял большие волны. Пароходик бросало, как щепку. Нужно было соблюдать величайшую осторожность, чтобы при подходе не столкнуться с шаландой. — Приготовить буксир! — приказал Сизов Павлу. Дед и Витя находились на палубе, ожидая приказаний капитана. Одежда у них намокла. Дед даже посинел от холода. Витя, по обыкновению, предупреждал об атакующих самолетах. Чтобы не вылететь за борт с сильно накренившейся палубы, почти ползком они пробрались на корму. Помогать им вышли из машины Катя и помощник механика, Гриша. Используя небольшие промежутки времени между залетами фашистских самолетов, пароход делал разворот, подходил к шаланде. Команда старалась закинуть тяжелый, намокший буксир, но безуспешно: мешала крупная волна, бомбежка и пулеметная очередь с самолетов. Описав над озером очередной круг, снова бросались в атаку неприятельские самолеты, и люди ложились за палубными надстройками. Самолеты уходили на очередной залет, а пароход устремлялся к шаланде. Барсов приказал: — Попытайтесь подойти еще раз! Сизов решил идти на риск, уверенный, что команда не подведет. Не убавляя хода, он направил пароход к шаланде. Большая волна высоко подняла пароход на гребень. В ничтожную долю секунды Сизов увидел убитых и раненых, жену шкипера, перевязывающую кого-то, Барсова, матросов. Когда «Бугуев» приблизился, с шаланды бросили конец буксира. В этот момент крупная волна отбросила пароход от шаланды. Незакрепленный буксир натянулся и должен был вылететь за борт. Слабосильный дед, чувствуя, что ему не удержать тяжелый буксир, лег на него и придавил всей своей тяжестью. Его примеру последовал Витя. Они знали: вторая волна еще дальше отбросит пароход от шаланды, и они вместе с буксиром могут очутиться в воде. И никто не спасет их во время боя и шторма. За этот безрассудный поступок Сизов был им благодарен. Ради прокладки кабеля, ради электрического света Ленинграду старик и мальчик рисковали жизнью. По мужеству и отваге они не уступали кадровым бойцам на тральщике и шаланде. Павел, Гриша и Катя успели накинуть буксир на гак. — Буксир подан! — услышал капитан радостный голос Вити. Он облегченно вздохнул. Люди и пароход уцелели. Расстояние между шаландой и пароходом было не более двадцати сантиметров. Это-то и дало возможность передать буксир с шаланды на пароход. Достаточно было чуть-чуть ошибиться, неточно переложить руль — и пароход, брошенный волной на шаланду, разбил бы ее и разбился бы сам.

Фашисты снова набросились на «Бугуев». Вся защита парохода заключалась в маневрировании; но как это сделать, когда шаланда сковывает движение парохода? Назад нельзя было отработать, чтобы не намотать на винт буксир, а вперед больше трех километров пароход не шел. Не встречая огня с «Бугуева», фашисты осмелели и, чуть не касаясь невысокой мачты, поливали пулеметным огнем. Сизов скатывал руль на борт, и самолет пролетал стороной; но вот слышится голос Вити: — Заходит с кормы! Сизов берет руль на другой борт; буксир натягивается, пароход кренится так сильно, что палуба скрывается под водой, и, боясь, как бы он не опрокинулся, капитан приказывает убавить ход, ослабить буксир и выпрямить пароход, но в этот момент раздается предостерегающий голос Вити или Павла, и приходится давать полный ход машине. Буксир натягивается, что грозит обрывом от рывка. И так десятки раз. Несмотря на пронизывающий северный ветер, рубашка капитана промокла, шапка слетела с головы, но, кроме самолетов и буксира, он ничего не замечал. В намокшей одежде, разбухших валенках, дед с трудом пробрался по качающейся палубе и сел на носу парохода, ожидая приказания капитана. Витя не бегал теперь вокруг рубки, боясь вылететь за борт Он примостился возле деда и предупреждал о самолетах. Гриша и Катя снова спустились в машину, а Павел следил за буксиром. Когда самолет пролетал низко, дед вбирал голову в плечи, морщился не то от рева моторов, не то от грохота пулеметов, а Витя грозил кулаком. Цепляясь одной рукой за поручни стойки, на нос прошел Павел и что-то сказал Вите. — Ранили Павла в руку! — крикнул Витя, побежал в кубрик, вынес аптечку Дед неумело стал перевязывать Павла, а Витя, не боявшийся разрывов бомб, пулеметной очереди и штормов, отвернулся, — не мог смотреть на кровоточащую рану. В это время на тральщике тушили пожар и команда не только отбивалась от наседающих самолетов, но отгоняла их от «Бугуева». Еще один самолет., задымившись, круто повернул от тральщика в сторону, и Витя закричал: — Упал в воду, капут фашисту! Дед плюнул за борт в сторону самолета. Павел, бледный от потери крови, отправился на корму следить за буксиром. — Ранили Катю! — в переговорную трубу доложил механик. — Витя, отнеси бинт в машину! — приказал Сизов, сматывая руль за борт, уклоняясь от очередного налета. Появились еще самолеты, но это были наши: фашисты, не приняв боя, улетели. Барсов крикнул в мегафон: — На «Бугуеве», сообщите, — какие у вас потери и есть ли повреждения? Кроме раненых Кати и Павла, уцелели все. Пули изрешетили рубку, борта, трубу, но это не помешало продолжать буксировать шаланду. На тральщике и на шаланде многие были убиты и ранены. Тральщик не мог самостоятельно двигаться. Несмотря на большие потери в людях, команда продолжала работу, и Барсов до конца боя не сходил с места. Подоспевшие военные корабли забуксировали тральщик, а «Бугуев» повел шаланду. К обеду был проложен еще один кабель. Через несколько дней подготовили последний кабель. Настала четвертая ночь борьбы за электрический свет Ленинграду. Ночь эта выдалась, для осеннего времени, на редкость спокойная, можно сказать, штилевая. Работа спорилась. Еще до зари кабель был выведен на восточный берег. Фашисты узнали о том, что ленинградцы хотят получить электрический ток с Волховской гидроэлектростанции. Они участили налеты на электростанцию и хотели помешать прокладке кабеля по дну озера. Когда наступило утро, вражеские воздушные разведчики заметили у берега знакомую шаланду с барабаном. На нее налетело три звена самолетов. Но шаланда уже была пуста… Тогда фашисты начали пикировать на берег, сбрасывать бомбы, обстреливать из пулеметов.

К этому времени люди успели закончить работу и находились в укрытиях, а «Бугуев» направлялся на западный берег. Сизов видел пикирующие фашистские самолеты, слышал разрывы бомб, но на душе у него было спокойно и легко. Даже на взрывы вражеских бомб, которые всегда вызывали чувство ненависти и злобы, он в это утро не обращал внимания. В Ленинграде будет свет. Коптилки ушли в прошлое. Сизов тихо напевал, а Витя и дед, улыбаясь, смотрели на бесцельные разрывы бомб на берегу.

И. Росоховатский ПО СВЕЖЕЙ ЛЫЖНЕ Рассказ
Возвращаясь с ученья, пограничники заметили свежую лыжню. Двойной полосой она перечеркивала их следы и уходила вдаль, извиваясь между серебристых деревьев. Лейтенант, подозвав одного из пограничников, как бы продолжая занятия, спросил: — В какую сторону ушел лыжник? Пограничник склонился над лыжней, различил чуть выступающие уголки. — Лыжник ушел в направлении Тихого Гая. — Давно? Боец опять нагнулся, потом медленно распрямился и замигал красноватыми веками с короткими белыми ресницами.
Вместо него ответил второй боец: — Лыжник прошел здесь не больше чем полчаса тому назад. — Почему? — Прошло полчаса, как перестал падать снег. А лыжня не присыпана. — Надо проверить, кто этот человек, — сказал лейтенант и взглянул на обоих бойцов. — Пойдет… — он помедлил, переводя взгляд с одного на другого. — Пойдет рядовой Кролик. Бойцы переглянулись. Почему Кролик и почему один? На заставе его окрестили Медленным Кроликом. Никто не видел, чтобы он когда-нибудь торопился. Все движения бойца были словно рассчитаны так, чтобы тратить поменьше усилий и не причинять себе беспокойства. На лыжных соревнованиях он неизменно приходил последним. Рядовой Андрей Кролик вытянулся по стойке «смирно» и повторил приказ командира. Лес застыл на склонах Карпат, снег был пушистый, «новенький», и только лыжня напоминала о присутствии человека. Она казалась лишней в спящем лесу. Андрей спешил впервые в своей жизни. До армии он большую часть времени после школьных занятий проводил у дедушки на пасеке. Он любил вставлять рамы в ульи, мог часами наблюдать за маленькими золотистыми созданиями, вся жизнь которых заключалась в непрерывном труде. Так он и привык к спокойной неторопливости. И на службе в армии ему было трудно изменить свои привычки. Вот и теперь уже после нескольких километров пути заныли плечи. Это было пока приятное ощущение, похожее на истому. Затем заныла поясница, и он почувствовал, как тают снежинки на разгоряченном лбу. Андрей постарался представить себе того, за кем гонится. Что тот делает в лесу? Почему идет к Тихому Гаю, в ненаселенное глухое место? Куда он свернет? В сторону границы или наоборот, к селениям? Боец слышал много рассказов о шпионах. Их тренируют годами в специальных колледжах холодные жестокие учителя. Их учат разбираться в местности и в людях. Их учат стрелять из пистолета и в совершенстве владеть ножом. Лыжня лежала рядом, отливая под солнцем голубоватым блеском стали. У того, кто проложил ее, был широкий шаг и, наверное, железные мускулы, выбрасывающие руку с ножом подобно катапульте, толкающей камень. Но почему обязательно нож? Может быть, пистолет? А ведь надо только не делать того, что выше сил, и ничего не случится. Боец не догонит матерого врага, не будет схватки, мертвого тела. Но разве ничего не случится? Андрей вспомнил кинокартину, в которой диверсант взрывал электростанцию, и одновременно припомнилась межколхозная ГЭС. Она не обладала большой мощностью, но это не мешало ей быть гордостью села. Ведь свою электростанцию колхозники строили в голодный послевоенный год. «Разве в освещенной хате легче сидеть без хлеба? — спрашивали фомы неверящие. — Разве это «светлая жизнь?» А теперь на фермах — сотни коров и установлены электродойки. Андрей часто приходил на электростанцию. Там работала Надя. Она не обращала на него внимания, но он приходил… Лыжня стремительно разматывалась с крутого спуска, проходя почти вплотную около деревьев. Нужно было спускаться. У Андрея заныло в животе. «Правая нога вперед — поворот налево, левая нога вперед- поворот направо. Чего проще?» — говорил старший сержант Сиротюк. Что ж, ему легко так говорить. Он — лыжник-спортсмен, чемпион части. Часто, поймав во время учений отсутствующий взгляд рядового Кролика, старший сержант упрекал: «Все мечтаете. Девушку вспоминаете или дедушку? Оттого и оценки у вас плохие».

Рядовой Кролик на миг закрыл глаза и скользнул вниз с горы. В ушах запел ветер, внутри тела появилась какая-то пустота. «Что я делаю? Что я…» Он задел ногой о дерево. Колено обожгла резкая боль. Андрей упал и покатился под гору, кувыркаясь и поднимая облака снежной пыли. Казалось, что горе нет конца, что он никогда не остановится. Наконец ему удалось встать на ноги. В первую очередь он стряхнул снег с автомата. Потер колено и, прихрамывая, двинулся дальше. Начинался новый спуск. Рядовой Кролик закувыркался по снегу. На пятом спуске был только свистящий ветер и удивительная легкость. Страх прошел. На смену ему пришло отчаянное, бесшабашное веселье. Болело колено и щемила оцарапанная веткой щека. А, черт с ними! Лыжня сворачивала вправо. С вершины нового холма было видно, как она опоясывает поляну. «Повернул обратно? Петля?» Бывалые пограничники рассказывали, что нарушитель иногда делает круг и выходит на свою же лыжню позади преследователя. Так он проверяет, нет ли кого-нибудь на следу. Определив, что за ним идег один пограничник, нарушитель догоняет бойца. Гулкое эхо разносит одинокий выстрел и последний крик. А может быгь, это будет выстрел из бесшумного пистолета, и даже эхо не откликнется? Лес замер, готовый сбросить белые маскировочные халаты и ощетиниться каждым сучком. Андрей вспомнил деда. Его знает весь район. Люди говорят: «Той Кролик, що вовка з’ив» Старый Кролик когда-то батрачил у помещика Волкова. Придя с германской войны, он опять явился к помещику, на этот раз — отбирать землю. Помещик удрал за границу. Два его сына, золотопогонники, организовали банду и ушли в леса. И однажды Онисим Кролик и его комбедовцы встретились с обоими Волковыми. У деда с той поры вместо ноги — культяпка, а два офицера упали на землю, которая больше им не принадлежала. Старый Кролик и теперь бы не струсил, нет, не струсил! Воспоминания не отвлекают бойца. Разрозненные мысли всплывают и тонут, а настороженный глаз ловит и сломанную веточку, и птичьи следы на снегу. И то, что Андрей иногда забывал, застигнутый врасплох вопросом командира, теперь выталкивала напряженная память, помогала ориентироваться. Андрей определяет по часам направление. Нарушитель свернул на запад. Это не петля. Боец отметил, что прошло уже два часа с начала пути, — и сразу же навалилась усталость. Она повисла чугунными ядрами на ногах, придавила плечи. Даже для того, чтобы повернуть голову, требовалось сделать усилие. Андрею казалось, что снег прилипает к лыжам, что воздух стал упруг и неподатлив. Он узнал, сколько весит автомат и неприкосновенный запас в сумке. Даже маскировочный халат теперь имел большой ненужный вес. Андрей старался думать о чем угодно, лишь бы забыть об усталости. В памяти проносились бессвязные воспоминания: учитель Анатолий Семенович, школа, напутствие матери. И опять дед. Лукавый, иногда язвительный, всегда добрый. «Покажи ж там, внучку, на що способни оти Кролики». Лыжня вновь круто свернула, запетляла между холмами, пересекла долину. Андрей не повторял все изгибы лыжни. Там, где было возможно, он сокращал путь. Боец увидел лыжника как-то внезапно, с вершины холма. Маленькая белая фигурка была едва отличима от снега. За ней тянулась двойная сверкающая ниточка, как паутина за пауком. Андрей остановился. Глаз автоматически выбрал направление. Да, так можно выиграть сотню-другую метров. Деревья замелькали, как за окном поезда. Вот и ущелье. Теперь нарушитель близко. Но еще не поздно. Еще можно повременить, и никакой схватки не будет. Андрей приготовил автомат и ускорил бег, заходя с фланга. Белый халат мелькнул среди деревьев на расстоянии нескольких метров. Пограничник взял его на мушку и чужим, охрипшим голосом крикнул то самое слово, что для нарушителя звучит, как выстрел: — Стой! Лыжник остановился, повернулся лицом к бойцу. Из-под белого капюшона на Андрея смотрели знакомые глаза. — Кролик? — спросил старший сержант Сиротюк. — Вот уж никогда бы не подумал. Догнали все-таки. Значит, не вспоминали ни девушку, ни дедушку. Андрей ничего не отвечал. Он прислонился к стволу дерева, чувствуя приятный холод снега на лбу. Взгляд старшего сержанта потеплел. Он принял торжественный вид и сказал: — Рядовой Кролик, благодарю за службу! И снова на миг в памяти бойца всплыли лица деда, Нади, огни электростанции у родного села. Он отшатнулся от дерева, выпрямился и тихо ответил: — Служу Советскому Союзу!

И. Росоховатский ПРОПАЖА Рассказ
Ротный писарь ефрейтор Курбатов не сразу сообщил о пропаже. Он поискал за тумбочкой, заглянул под стол. Вышел из каптерки-ротной канцелярии, отделенной от казармы тонкой перегородкой. Испытующе, с лукавинкой во взгляде, посмотрел на товарищей: дескать, понимаю, пошутили — и довольно! Но лица бойцов оставались спокойными. Никто не обращал внимания на Курбатова. Каждый занимался своим делом. Ефрейтор наморщил лоб, вернулся в каптерку, опустился на четвереньки, заглядывая под стол. — В прятки сам с собой играешь, да? — спросил Мухтар Актынбаев, исподтишка наблюдавший за странными упражнениями ефрейтора. Курбатов встал, отряхнулся и, подойдя к Мухтарову, прошептал: — Ну, хватит дурить. Отдавай. — Чего отдавать? — удивился Мухтар. — А! Вспомнил. Три рубля тебе должен за кино. Получи, пожалуйста. Весь день ефрейтор не находил себе места, заглядывал бойцам в глаза, рылся в ящиках стола. Товарищи заинтересовались его поисками. Посыпались шуточки: — У Курбатова корова сбежала. — Не угадал. Это он невесту ищет. В конце концов, не выдержав насмешек, ефрейтор виновато сказал: — Понимаете, какая штука… Кажется, копия строевой записки пропала… Он говорил в нарочито-небрежном тоне. Он пытался скрыть тревогу, и поэтому ее ощутили все. — А записку сдал в штаб? — спросил Потянинога, парень-непоседа с круглым ехидным лицом. — Сдал. А копию забыл на столе. — Чепуха какая-то! — убежденно сказал сержант Сизокрылов. — Кому она нужна? — Но копии нет, — развел руками Курбатов, сам удивляясь. — Нет — и всё. Начали искать все вместе. За этим занятием солдат застал лейтенант Лось. Узнав, в чем дело, он тоже включился в поиски. Копии не было. Ефрейтор стоял перед лейтенантом красный, потный, сконфуженный, а Кирилл Лось все допытывался: — На территории потерял? Куда-нибудь сунул? Курбатов отрицательно мотал головой и на все вопросы отвечал: — Сегодня утром оставил на столе. Может быть, лейтенант Лось и помедлил бы с рапортом командиру, пока солдаты не обыскали бы еще раз казарму и каптерку, но на второй день произошло событие, которое возбудило мрачные подозрения.
Дневальный Мухтар Актынбаев, выходя из казармы, распахнул дверь, и сквозняком сдуло с тумбочки листок бумаги. Мухтар спешил. Он решил, что поднимет листок позднее, когда вернется. Но, придя в казарму минут через семь, он не нашел упавшего листка. Мухтар не придал пропаже никакого значения. Однако выяснилось, что исчезло письмо, накануне полученное сержантом Сизокрыловым. Оно пришло с военного завода, где сержант работал до службы в армии. В письме не сообщалось ничего особенного, и если бы оно исчезло при других обстоятельствах, то не вызвало бы тревоги. Но теперь учли все — и то, что оно с военного завода, и даже то, что в нем назывались фамилии парторга и начальника цеха. Снова начались расспросы, и снова они ни к чему не привели. По словам солдат, никто из них не заходил в это время в барак. Лейтенант яростно почесал переносицу и пошел докладывать о случившемся начальству. Он вернулся через два часа, насупленный, мрачный. «Вы понимаете, что это может означать?» — спросил майор. Да, он понимал. В строевой записке указывалось количество солдат, наличие вооружения. Для тех, кого засылают в нашу страну с передатчиками и взрывчаткой, она — ценная находка. И был еще один вопрос, самый тревожный и мучительный: кто взял копию и письмо? Даже, точнее: кто из четырех солдат взял копию? Ведь в день ее исчезновения в казарме оставались четыре человека: сержант Сизокрылов, Мухтар Актынбаев, Потянинога и Ершов. Но, может быть, подозрение с Сизокрылова надо снять. Ведь у него исчезло письмо. Казармы стояли на опушке леса. За окнами, в рыжих листьях, шла по земле осень. Ветер уносил стеклянные паутинки. Птицы щебетали грустно, как перед разлукой. А в казарме жизнь шла своим чередом, словно ничего не случилось. Только почему-то чаще, чем обычно, шутили солдаты. Нарочно оставляли письма от девушек на самых видных местах. Никто не упоминал о пропаже. Но никто и не говорил: «Я получил письмо». Говорили: «Пришла весточка». Слова «письмо» и «записка» стали запретными. Лейтенанта Кирилла Лося навещали работники разных отделов и вызывали к командиру части. Снова встал вопрос: три или четыре? Ведь сержант Сизокрылов тоже пострадавший. — Чего ты ерепенишься? Погляди на себя — побледнел, исхудал, — говорил Кириллу его приятель по училищу, лейтенант Крученых. — Спрашивают тебя — кого подозреваешь, ты говори. А там уже без тебя машина закрутится. — Но я никого не подозреваю, — отвечал Кирилл, и его щеки покрывались пятнами. — Я за каждого из этих ребят головой ручаюсь. — А что, она у тебя лишняя? — интересовался Крученых. Видя, что Кирилл возмущен, он уговаривал: — Я для твоего же блага. Найдут, вопреки твоим ручательствам, скажут: утаивал, покрывал. Вот если бы ты с самого начала помог вспомнить ефрейтору, что он забыл снять копию с записки… Взгляд лейтенанта Лося становился острым, и Крученых спешил отступить: — Не подумай, что я чего-нибудь такое… Он же в самом деле мог забыть… Но, впрочем, потерянные возможности не воротишь. Будем учитывать существующее положение. Итак, сержант Сизокрылов. Исключить ли его из подозрения? Зачем? А вдруг все-таки он? Может быть, он солгал о пропавшем письме, чтоб отвести от себя подозрение? — Не городи чушь. Я знаю сержанта. До армии он окончил десятилетку, поступил работать на военный завод. Просто, он чудесный товарищ, токарь-новатор, руководитель хора. Думаешь, если у человека грязно на душе, он сможет так петь? Ты не смейся. Это, конечно, не доказательство, но все вместе… И родители у него… Отец — летчик-испытатель, мать — медсестра, коммунистка… — Ну, а что ты скажешь о Мухтаре Актынбаеве? Или и его подноготную знаешь, как свою? Кирилл насторожился. Этот вопрос ему задавали и в политотделе. Ведь Мухтар находился в казарме и тогда, когда пропала копия строевой записки, и тогда, когда исчезло письмо Сизокрылова. Возможно, его рассказ о невероятном исчезновении листка бумаги — выдумка? Но зачем бы он взял письмо? Ведь у него было достаточно времени, чтобы его переписать.

Кирилл попрощался с лейтенантом Крученых и пошел к солдатам своего взвода. Он ни словом не обмолвился о подозрениях в отношении Мухтара Актынбаева; он даже не посмотрел в его сторону. Но бойцы поняли. И тогда встал солдат Иван Брыль, тот самый Иван Брыль, которого Мухтар как-то обозвал «глупым шайтаном» и с которым они уже месяц не разговаривали, и подошел к Актынбаеву. Он протянул Мухтару здоровенную грушу и сказал: «Попробуй. Мне из дому прислали». И при этом укоризненно посмотрел на лейтенанта. Кирилл отвел взгляд, поспешно вышел из казармы. Он шагал по сухим осенним листьям, и этот шум, это шуршание вселяло в лейтенанта непонятную тревогу. Словно какие-то темные, враждебные люди шептались за его спиной. Он думал о Мухтаре Актынбаеве, воспитаннике детского дома, о его жизни, окрепшей в заботе родной страны. Как поверить в то, что Мухтар стал врагом? Потом Кирилл подумал о Потяниноге — о третьем из четверых. Потянинога был родом из Закарпатья. Его дед и отец батрачили у кулака. У отца — шрам на лице от плети. Отец хотел учиться. Он спустился с гор и пришел в Ужгород, к университету. Проскользнул в длинный коридор мимо швейцара, похожего на графа, и с невольным трепетом прислушивался к звучным непонятным словам, доносившимся из аудиторий. Там его и застали. У батрака не было документов, и он попал в полицию. А потом пришла Красная Армия. Сын этого самого батрака окончил техникум и вернулся в колхоз полеводом. Так же, как и дед, и отец, он смотрел из-под ладони на леса, на горы, на поля. Но это были уже его леса и его горы, и его поля. Лейтенант Лось ничего не мог сообщить уполномоченному КГБ. Он переминался с ноги на ногу и ждал, когда допрос окончится. Только когда уполномоченный заговорил о бдительности, Кирилл взглянул ему в глаза и убежденно сказал: — Я не раз думал об этом. Бдительность должна всегда быть с нами… как оружие. Но без доверия нельзя жить. А этим людям я не могу не доверять. Ему показалось, что уполномоченный одобрительно улыбнулся. А спустя несколько часов лейтенант Лось узнал дополнительное обстоятельство: в тот день, когда дневалил Актынбаев и исчезло письмо Сизокрылова, рядовой Ершов был назначен на кухню помогать повару. Он два раза уходил куда-то и пытался это скрыть. Ершов был четвертым из четверых, последним из тех, на кого могло пасть подозрение. И по мере того, как становилось ясно, что его товарищи невиновны, подозрение — учетверенное — сгущалось вокруг него. И вот — новая весть, словно камень на шею. О Ершове солдаты узнали от повара. Бойцы заговорили шепотом. Пытались острить по любому поводу, старательно натягивали на лица улыбки. Но даже всеобщий любимец, ежик Костя, принесенный из леса и обосновавшийся в каптерке, уже не вызывал прежнего оживления. И опять самая тяжелая ноша легла на плечи лейтенанта Лося. Он попытался, будто ненароком, расспросить Ершова об его отлучках из кухни. Ершов замялся. Его огромные сильные руки, руки сельского кузнеца, неподвижно повисли, как висят ковши бездействующих машин. И Кирилл понял: Ершову неудобно за него, за своего командира, и за его нелепые подозрения. — Ходил смотреть, нет ли весточки из дому, — сказал Ершов. Кирилл догадался, от кого ждет вестей солдат. Односельчанин Ершова, служивший в их же роте, рассказывал о Вареньке, плясунье и хохотушке, невзначай закружившей сельского кузнеца раз и навсепа. Она заинтересовалась молчаливым огромным парнем с преданными глазами. А Ершов полюбил впервые в жизни. Лейтенант Лось перебрал в памяти все, что узнал о Ершове. Облегченно вздохнул, посмотрел на часы. Солдаты еще находились в столовой, но должны были с минуты на минуту возвратиться в казарму. Лейтенант встал с табурета и подошел к окну. Случайно он смахнул с тумбочки несколько чистых листков бумаги. Они распластались в воздухе, закружились и упали на пол. «Так же, как письмо Сизокрылова», — подумал лейтенант. Он представил себе, как войдет к командиру, как строгий майор спросит: «Пришли к какому-нибудь выводу?» А он ответит: «Я пришел к твердому выводу. Никто из этих солдат не мог взять ни копии записки, ни письма. Я им доверяю, как себе». Может быть, тогда майор спросит: «А вы уясняете, что будет с вами, если один из тех, за кого вы ручаетесь, окажется виновным?» Что ж, он уясняет… Но если у каждого из четверых за плечами стоит жизнь, которая сделала их такими, какие они есть, то такая же жизнь стоит и за плечами лейтенанта. И он не может поступить иначе. Он не может предать отца, старого коммуниста, своих учителей, которые, правду говоря, немало намучились с ним. Пусть это романтика, но не может изменить ни своей мечте, ни книгам, в которых честные и смелые люди создают сказку на земле, ни симфониям Бетховена, ни полонезу Огинского. За окном падали листья — рыжие, желтые, золотистые, ржавые. Они напоминали фотографии солнца. Словно уходя, светило оставило людям тысячи своих отпечатков, чтобы они не забывали о нем. За спиной лейтенанта послышался шелест. Он оглянулся и застыл. Он даже протер глаза от удивления. Листки бумаги, которые он сбросил с тумбочки, ползли по полу. Из-за них высовывался смешной пятачок с маленьким блестящим глазом. Ежик Костя!

И Кирилл Лось захохотал. Так он смеялся впервые в жизни. Он стонал, всхлипывал, махал руками, вытирал слезы, хватался за живот Вошедшие солдаты с удивлением воззрились на своего командира. Наконец лейтенант вошел в каптерку, отодвинул стол и добрался до печки, за которой было гнездо ежика Он наклонится, и в его руках оказался целый ворох бумаг. Там, среди обрывков газет и промокашек, была копия строевой записки и письмо Сизокрылова. Ежик Костя готовил свое гнездо к зиме. Казалось, стекла дрогнули от солдатского хохота.

Бойцы передавали ежика из рук в руки, а он прятал рыльце, угрожающе фыркал и кололся. — Надо ему дать взамен настоящих листьев, — сказал лейтенант. И тотчас же весь пол казармы был засыпан охапками листьев. Ими можно было бы устелить не одно, а десять, сто ежиных гнезд. Солдаты вносили еще охапки, еще… А лейтенант Лось спешил к командиру. Он совсем не по-военному размахивал руками и насвистывал Он не ошибся в четверых, нет, не ошибся! Листья весело шуршали под ногами, рыжие, желтые, золотистые, ржавые, они напоминали фотографии солнца.

БЕЛЫЙ ДЫМ
Несколько лет назад в порту Тексас-Сити (США) произошла ужасная катастрофа, стоившая жизни 560 человекам (число раненых достигло трех тысяч, было уничтожено несколько десятков предприятий и тысячи жилых домов). Катастрофа началась с пожара на стоявшем у причала французском пароходе, принявшем в Тексас-Сити груз в 2300 тонн аммиачной селитры, служащей для удобрения почвы. Взрыв был настолько сильным, что осколки пробили бензохранилища на набережной, а последовавшие за этим пожары привели к новым взрывам как на других судах, стоявших в порту, так и на большом химическом заводе в Тексас-Сити. Сразу же после катастрофы началось расследование ее причин. Сначала было решено воспроизвести условия взрыва. Для этого построили модель взорвавшегося французского парохода, заполнили его трюм шестью тоннами аммиачной селитры и подожгли мешки с удобрением. Однако взрыва не произошло. Позднее выяснение причин катастрофы было поручено двум американским ученым — Хайнеру и Фейку. Эти ученые начали с того, что тщательно изучили все отмеченные за последние 40 лет случаи, когда аммиачная селитра загоралась или взрывалась. Выяснилось, что это вещество загоралось в самых различных местах — в частности, на складах и в товарных вагонах, но взрывы происходили только на судах. После этого Хайнер и Феик стали сжигать аммиачную селитру в лабораторных условиях. Оказалось, что при сгорании температура этого вещества не поднимается выше определенного уровня, который недостаточен для взрыва. Ученые вскоре нашли объяснение этому явлению: тепло уносится белым дымом, который в большом количестве образуется при сгорании аммиачной селитры. То же самое происходит и при нагревании воды в открытом сосуде: температура ее не превышает точки кипения, так как избыток тепла уносится образующимся при кипении паром. Значит, температура аммиачной селитры может повыситься до уровня, при котором происходит взрыв, только тогда, когда сгорание происходит в закрытом помещении. Но ведь в тех складах и железнодорожных вагонах, где не раз загоралась аммиачная селитра, горение как раз и происходило в закрытом помещении. Почему же взрывы происходили только в трюмах судов? Хайнер и Фейк нашли ответ и на этот вопрос. Во-первых, количество аммиачной селитры на складе или в вагоне сравнительно невелико, а главное — значительная часть ее поверхности остается все же открытой и белый дым имеет возможность уходить наружу. Другое дело в трюме, где бумажные мешки с удобрением тесно прижаты друг к другу и белому дыму некуда уйти. При таком положении температура и давление в трюме все время повышаются и, наконец, достигают той точки, когда возникает взрывная волна. Чтобы проверить свои выводы на практике, американские ученые произвели несложный опыт. Они зажгли аммиачную селитру в металлической трубке, а затем закупорили ее. Через некоторое время произошел сильный взрыв. На основе «следствия», успешно проведенного Хайнером и Фейком, разрабатывается новая инструкция о правилах перевозки аммиачной селитры на судах, которая сделает повторение взрывов невозможным.«Попюлар сайэнс Дисковери»

Э. Офин УРАВНЕНИЕ С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ Рассказ
Еще в ученические времена специалисты говорили, что у него природная сметка, чутье истинно собачье, но главное — умение сдерживать себя; к тому же он обладает острым глазом и решительным характером. Недаром же его наградили за эту историю с иголками. Впрочем, тут есть и заслуга Василия Ивановича Данилова, который принимал участие в выучке своего помощника, как он сам выражается, «еще со щенячьего возраста». Раньше Данилову не приходилось видеть трикотажных игл. Оказывается, они представляют собой узкую фасонную пластинку, длиной с палец, с подвижным устройством, позволяющим снимать с бегущего замка нитку и превращать ее в трикотажное полотно. Все это объяснил Иван Владимирович, а потом приподнялся с кресла и протянул иглу Данилову, который сидел за столиком, поставленным перпендикулярно к письменному столу начальника. — Ознакомьтесь, Василий Иванович, и учтите: такие иголки имеются в нашем городе только на одном предприятии. Данилов взял иглу, повертел се в пальцах и положил перед собой. Он ничего не спросил. Зачем? Раз уж Иван Владимирович вызвал к себе и показывает эту штуку, — значит, сегодняшний поход к Малышу горит, и приготовься, дорогой товарищ, срочно заниматься иголками… — Так вот, Василий Иванович, пришлось нам вмешаться в дела одной промартели. Параллельно с законной продукцией они выпускали «свою», потом отправляли в магазин к «своим» людям. Там изделия продавались, а деньги текли в карманы дельцов. Ну, мы разобрались. И насчет мошеннического получения пряжи, и как липовые наряды рабочим оформляли — ясность полная, кроме вот этой иголки. Дефицитная вещь, строго фондируется. Откуда они ее брали? — То есть как откуда? — удивился Данилов. — Должны же они получать иголки для своих изделий. — Для «своих» — нет, — подчеркнул Иван Владимирович. — А у них шло этой самой «своей» продукции столько, что, хочешь не хочешь, приходилось добывать иголки со стороны. И, видимо, с той фабрики, которая, как я уже сказал, одна в городе. Есть там кто-то. Положит в карман две–три коробочки и выносит. Надо найти молодчика. Как вы на это смотрите? Вернувшись к себе в отдел, Данилов вызвал младшего лейтенанта. Объясняя задание, он нет-нет, да и поглядывал на короткую запись в настольном календаре: «11–30, Малыш» — и на свою полевую сумку, где лежал сверток с бутербродами. Между телефонами шуршал вентилятор, в раскрытое окно врывались запахи разогретого солнцем асфальта, бензиновой гари. А на островах сейчас, наверно, прохладно, в заливе белеют паруса яхт, за высоким забором «Служебного собаководства», должно быть, собрались уже все завзятые болельщики. Спорят, обмениваются замечаниями и принесенными из дома бутербродами; так приятно закусить и выпить бутылку холодного нарзана в тени старой липы!..
— Так вот, товарищ младший лейтенант, интересно послушать твои соображения. Да ты сиди, Петя, сиди. Чего вскочил? Но младший лейтенант не сел. Он тоже заглянул в настольный календарь, покосился на хмурое лицо Данилова и решительно обдернул гимнастерку. — Я так думаю, товарищ майор. Нечего нам вдвоем ехать на эту фабрику. Для первого раза я и сам ознакомлюсь с обстановкой, а вам доложу, что к чему и какие имеются неоспоримые факты. Данилов посмотрел в окно, где в знойной дымке над заливом висело облачко, походил из угла в угол мимо щеголеватого младшего лейтенанта. А тот провожал начальника глазами и обдергивал из-под ремня гимнастерку, хотя дальше ее уже некуда было тянуть. — Солнечный денек. — Данилов вздохнул и мимоходом заметил: — Жарковато сегодня в форме. — Да я же сниму ее, Василий Иваныч! Буду действовать осторожно. В голосе младшего лейтенанта слышалась обида. Данилов, сдерживая улыбку, нетерпеливо потянулся к полевой сумке и застегнул ворот кителя. — На фабрике пойдешь в партком. Там есть такая Галина Семеновна Кудрявцева. Она тебе поможет. Действуй. Вечером встретимся. Пока Данилов слушал Ивана Владимировича и потом инструктировал Петю, его мысли были на островах, где сегодня служебные собаки соревновались в искусстве, достигнутом месяцами упорного труда. «Взять» след, обнаружить и «уложить» преступника, не брать еды от чужих, не кусаться, не лаять, повиноваться с первого же слова и жеста, — все это и многое другое считалось обязательным, иначе собака не пригодна для работы. Но «высший пилотаж» был под силу немногим питомцам, и не каждый из них мог тягаться с Малышом. Тот, например, примет от кого угодно любое угощение, но съесть — шалишь! Зароет или спрячет, чтобы потом передать хозяину, — даже шоколадную конфету. Желто-бурый Малыш, ростом с телка, не опасен ни прохожему, ни вздумавшему заигрывать с ним ребенку, ни даже кошке. Рычать? Нет. Он только посмотрит своими агатовыми глазами так, что у всякого отпадет охота фамильярничать с ним. И вряд ли кто-нибудь, кроме воспитателя-дрессировщика и еще Данилова, знает другого Малыша: как он норовит ткнуться в щеку своим холодным носом и умильно косит влажными глазами, когда друзья остаются наедине; Малыш умеет прыгать, как щенок, сразу на всех четырех лапах, пытается опрокинуть Данилова в траву или кладет на плечи ему лапы, чтобы изловчиться, нежно лизнуть шершавым языком прямо в губы; при этом он нетерпеливо повизгивает, а уши раздвигает в стороны — совсем уж по-щенячьи, — отчего становится чем-то похож на курносого Петю… «Петя… Как он там справляется?» — спрашивал себя Данилов. И эти мысли мешали, отвлекали от интересного зрелища. А Малыш сегодня работал отлично. Выполнив упражнения по скоростному плаванью и борьбе с «преступником» в воде, он теперь сидел в углу практического класса, гордо подняв голову с вертикально торчащими ушами и, казалось, не замечал собравшихся здесь людей. Но, как только дрессировщик сделал привычный жест — «ко мне», Малыш моментально занял классическую позицию у его левой ноги — со склоненной чуть набок головой, напряженный, собранный, как пружина, он сразу преобразился, готовый к работе. — Внимание, Малыш! Здесь твое место, охраняй! Малыш послушно подошел к указанному ему креслу, взобрался на него и, свернувшись калачом, накрыл морду лапой — словно задремал; только один глаз, лениво прищуренный, блестел. Дрессировщик отошел к дальнему окну и облокотился на подоконник. — С этой минуты, товарищи, помещение находится под охраной Малыша. Попробуйте кто-либо выйти отсюда. Смелее, прошу. Молодой курсант, опасливо косясь на собаку, начал двигаться к выходу; в наступившей тишине половицы зловеще поскрипывали под его сапогами. Вот он, наконец, достиг двери и поспешно закрыл ее за собой. Малыш не пошевелился. Все присутствующие посмотрели на дрессировщика. — Входите обратно, товарищ, — позвал он. Курсант вернулся в класс. — Теперь подойдите к столу. Там есть портсигар. Закуривайте. Спички положите на место и уходите… Да нет, не оставляйте папиросу, курите себе. И опять курсант, оглядываясь, пошел к двери. И опять Малыш беспрепятственно выпустил его. — Как видите, — сказал дрессировщик, когда курсант снова вернулся в комнату, — по мнению Малыша, как, впрочем, и нашему, взять папиросу еще не значит украсть. Обычное дело. А сейчас, товарищ курсант, забирайте любую вещь. Курсант взял со стола кепку дрессировщика. В ту же секунду Малыш распрямился и одним махом очутился посреди комнаты. Ни звука не вырвалось из его оскаленной пасти; он только чуть припал на передние лапы, готовясь к прыжку. Курсант охнул и отшатнулся, прикрыв локтем голову. — Не двигайтесь, — предупредил дрессировщик. — Василий Иванович, забирайте задержанного. Данилов встрепенулся. — Малыш, на место. — Он подошел к курсанту и взял из его рук кепку. — Что с вами сегодня, Василий Иванович? — спросил дрессировщик. — Вы даже не поблагодарили Малыша. Малыш медленно вернулся в угол. Его глаза укоризненно смотрели на Данилова. Тот рассеянно вынул из кармана конфету. — Извините. Дело у меня там одно… Я, пожалуй, пойду. Конфета лежала нетронутой у ног Малыша. Оскорбленный, он не принял угощения. По дороге от учебного корпуса к проходной будке шел навстречу Данилову шофер начальника. Шагая через полосы света и тени, он спешил по окаймленной липами аллейке и, стараясь разглядеть Данилова, заслонял ладонью глаза от бьющего из-за деревьев солнца… Солнце может светить вовсю, золотя паруса яхт на море; ветерок — шелестеть листвой, распространяя прохладу; мальчишки могут плюхаться с причалов в прозрачную воду… В такой вот погожий денек люди частенько всей семьей уезжают за город, заперев квартиру на замок. Но замки для воров — не препятствие, и поэтому рядом со служебным кабинетом Ивана Владимировича, в комнате с раскладушкой, покрытой солдатским одеялом, бывает, что и глубокой ночью зажигается свет, раздаются телефонные звонки, а из ворот выезжают оперативные машины. И где бы ты ни был — в театре ли, у друзей за чашкой чая или дома в постели, — -везде найдут тебя, дорогой товарищ, и увезут, вот как, например, сейчас, хотя ты еще не успел съесть своих бутербродов и запить их холодным нарзаном в тени старой липы на берегу моря… На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Только на третьи сутки поздно вечером, покончив с обысками, допросами и очными ставками, Данилов смог, наконец, выслушать доклад младшего лейтенанта. — Есть неоспоримые факты, товарищ майор. Иголки хранятся в одной кладовой. Их там, наверное, мильон коробочек. Подвала и чердака нет, запасных выходов тоже. Окно с решеткой, а дверь на ночь опечатывается. Днем же кладовщик никуда не уходит. Даже на обед. — Стало быть, получается, что он сам у себя и ворует иголки? — спросил Данилов. — Ну, что вы, Василий Иванович! Он четверть века на фабрике проработал. Председатель шахматной секции, пенсионер, старый производственник… — Старый. А может, у него жена молодая? Да капризная, расточительная? Петя обдернул гимнастерку. — Так ведь я же все разузнал. Этот Егор Егорыч — одинокий. Вся его семья — старая овчарка, Дамкой зовут. Они вместе и на работу ходят, и чуть не из одной миски едят. Петя говорил уверенно. Он старался держаться солидно, но глаза его так и светились нетерпением. Данилов устало откинулся на спинку стула. За окном затихал шум города. В настольном репродукторе пиликала скрипка.

— Ну ладно, дорогой товарищ. Это ты, как говорится, исполнил увертюру. А теперь выкладывай свои неоспоримые факты. — Шахматы! Ферзевой гамбит! — выпалил Петя и с торжеством посмотрел на Данилова. — Понимаете, Василий Иваныч, замочил кладовщик: десять партий у меня выиграл. Он — мировой гроссмейстер в масштабах данной фабрики. Его хлебом не корми, сыграй только. У него в складе всегда доска наготове, фигуры расставлены. — Так-так… — Данилов оживился, достал портсигар. — Стало быть, в кладовую заходят любители сыграть партию–другую. Скажем, в обеденный перерыв. — Само собой! — Петя многозначительно загнул палец. — Значит так: мастер механического цеха Катков; сильно выпить любит и крепко ругается. Раз. Дальше — Лукин, агент снабжения. Ненормированный рабочий день. Этот шлендрает по танцулькам, морочит голову сразу двум: одна — Люба из красильного цеха, другая — Клава из перемоточного. Третий — Викторов. Инженер. Скупердяй — курит сигареты «Смерть мухам», сто штук — пятьдесят копеек. Копит деньги на «Москвич». Все. Остается только добавить, что простяга Егор Егорыч нет-нет, да и выйдет куда-либо на минутку, пока партнер обдумывает очередной ход. — Твои предположения? — спросил Данилов. Петя замялся. — Да ведь как сказать, Василий Иваныч. Все они в смысле подозрения какие-то одинаковые… Данилов медленно примял папиросу в пепельнице. Поморщился. — Одинаковых людей не бывает, товарищ младший лейтенант. Это тебе кажется, потому что ты вроде бы как тянешь поводок в одну сторону — ищешь в людях только плохое. — Так ведь наше дело такое, милицейское, товарищ майор! — звонким голосом сказал Петя. Лицо его было обиженным. Данилов машинально вынул конфету. — Ну, вот что, Петя, оставим лирику. Сведения ты собрал ценные. Я всегда говорил, что у тебя чутье прямо собачье. Получи премию. Обстановка прямо подсказывает: один из трех — вор. Но который?.. Петя упрятал конфету за щеку. — Я так скажу, Василий Иваныч: надо обыскать их сразу после игры. Неоспоримый факт! Данилов строго взглянул на него. — Ну, допустим, задержим одного, обыщем. И ничего не найдем. Дальше что? Петя смущенно молчал. — Не знаешь? А ты подумай, дорогой товарищ. Во-первых, кто нам позволит оскорблять обыском людей? Ведь, кроме довольно шатких подозрений, у нас еще ничего нет. Но главное — обыщем одного, остальные двое узнают. Нет, так мы не найдем, где тут собака зарыта… Данилов взял новую папиросу и принялся неторопливо разминать ее. Казалось, он совсем забыл про Петю. — Действительно, Василий Иванович, чертовщина. Получается, как у Джерома — «Трое в одной лодке». — Не считая собаки, — рассеянно отозвался Данилов. Он продолжал думать о чем-то, машинально следя за мухой, ползающей по краю раскрытого портсигара. И вдруг резко, со щелчком, захлопнул его; под целлулоидной крышкой забилась пойманная муха. — А ну-ка, объясни мне, где и что там, в кладовой. Петя взял из деревянного стаканчика карандаш, придвинул лист бумаги и начал чертить. — Вот это вход — прямо со двора. Направо барьер, за ним стеллажи с материалами и иголками. Налево столик; тут Егор Егорыч и накладные оформляет, и в шахматы дуется. Здесь в углу на подстилке спит старая Дамка, а там вот… Данилов посмотрел на часы. — Ладно, Петя. Время позднее. Шабаш. Ты завтра будешь помогать капитану Гребневу. А с иголками пока обождем. Дай мне только на всякий случай домашний адрес Егора Егоровича. Надо мне с ним познакомиться. Хотя младшему лейтенанту и не хотелось расставаться со своим любимым начальником, но дисциплина есть дисциплина. И Петя несколько дней подряд скрипел пером в кабинете хмурого пожилого капитана Гребнева. Петя всей душой любил живую оперативную работу и ненавидел писанину, которая — черт бы ее драл! — отнимает так много времени. «Что написано пером, не вырубишь топором. В этом, брат, тоже есть романтика», — назидательно говорил капитан Гребнев. На правом рукаве капитанского кителя — темный чехольчик с резинками — точь-в-точь как у счетовода. Его сухие пальцы неторопливо водят вставочкой: «Поименованный гражданин Трошкин, он же Мухин, он же Фролов систематически привлекался органами милиции и прокуратуры…» За эти дни Петя так соскучился, что решил после работы съездить на острова: авось там Василий Иваныч — для пса-то, небось, время у майора всегда находится; но будка Малыша пустовала: видно, он отбыл в командировку на розыски очередного преступника. И Петя, так и не повидав майора, вернулся к опостылевшим «канцелярским делам». Но капитан Гребнев знал, что протоколы, справки, характеристики, письма, записные книжки, фотографии и даже завалявшиеся в карманах театральные билеты — все это, кропотливо собранное в одну папку, постепенно раскроет преступника: его характер, планы, привычки и, наконец, причины, побудившие совершить, казалось бы, необъяснимый поступок… Вот смятый листок отрывного календаря, сохраненный зачем-то с прошлого года; а ну, посмотрим, что там на обороте… Вот записка от какой-то девушки. Еще документ, еще… И постепенно — весь он тут, человек, как на ладони, будто освещенный со всех сторон этой казенной настольной лампой. В такие минутыканцелярские справки и протоколы начинали звучать для Гребнева как «романтика», но Пете — по молодости лет и потому, что он не так давно работал в милиции, — эти чувства не были доступны. И когда позвонил Данилов и предложил срочно приехать на фабрику, Петя с радостью покинул кабинет Гребнева. В парткоме — деревянном домике с окнами, выходящими на фабричный двор, — сидели Данилов и парторг Кудрявцева. Она просматривала газеты и молча кивнула Пете. — Только что ушел Егор Егорович, твой приятель, забегал сюда на минутку, пока его партнер обдумывал очередной ход, — сказал вместо приветствия Данилов. Он меланхолично — так по крайней мере показалось Пете — смотрел через открытое окно на оживленный двор; там, в скверике у фонтана, сидели рабочие с развернутыми на коленях завтраками, молодежь играла в мяч возле кирпичной стены с единственной дверью, — это был вход в кладовую. Петя быстро взглянул на часы. — Сейчас этот партнер выйдет, Василий Иваныч. Перерыв кончается…

Перерыв действительно кончился: вахтер усердно заколотил по куску рельса, подвешенному к столбу. Двор опустел. Дверь склада открылась, оттуда вышел худощавый человек в синей спецовке. Он энергичным шагом направился к производственному корпусу. — Узнаешь? — спросил Данилов. — Да! Инженер Викторов… — Петя вскочил со стула. Кудрявцева опустила газету, бросила взгляд в окно. — Садись. Обыскивать его нельзя. Да и нет у него иголок. — Откуда вы знаете? — не удержался Петя. Данилов ответил не сразу. Он улыбнулся Кудрявцевой и развел руками. — Да вот Галина Семеновна убеждена, что Викторов не способен на кражу. Кудрявцева кончиками пальцев пригладила седеющие волосы на висках и ничего не ответила. Она продолжала смотреть в газету так упорно, что Пете подумалось: «И вовсе она не читает». Данилов вздохнул и взял с подоконника шляпу. — Понимаешь, третий день торчу здесь. И вот, из шахматистов один Викторов заходит к Егору Егоровичу. Ни мастер Катков, ни Лукин не показываются. Обидно. Только зря Галину Семеновну от дела отрываем. — Ничего. Заходите еще, — спокойно сказала Кудрявцева. — Но, прощаясь, она задержала руку Данилова. — Скажите все-таки, товарищ майор, почему и вы считаете, что Викторов не берет иголок? Только не говорите, что здесь играет роль мое мнение. Я достаточно знаю вашего брата, милицию. Неожиданно Петя тронул Данилова за рукав. — Смотрите, Василий Иванович. Еще один шахматист идет. Через двор по направлению к складу шагал агент снабжения — Лукин. Он обмахивал носовым платком свое молодое румяное лицо. — Просчет! — Данилов хлопнул себя рукой по лбу. — Один-ноль в твою пользу, Петя. Ведь докладывал ты мне, что у Лукина ненормированный рабочий день, а я приезжал сюда только в обеденные перерывы. — Он снял шляпу и уселся на прежнее место. — Придется вам, Галина Семеновна, потерпеть нас еще. Будем ждать. — А чего ждать, Василий Иваныч? Ну, выйдет он тоже, как Викторов… — Помолчи, Петя. Пора бы тебе уже знать, что в нашем деле терпение — необходимое качество. Наступило долгое молчание. Кудрявцева по-прежнему читала газету. Петя строил предположения насчет того, что же все-таки предпримет Данилов, когда Лукин выйдет из кладовой. — Как вы думаете, товарищи, сколько ходов они уже сделали? — Да игра, небось, в разгаре, — неуверенно сказал Петя. Кудрявцева, не поднимая глаз, пожала плечами. На пустынный двор въехала поливочная машина. Она распустила прозрачный веер; в нем, как в павлиньем хвосте, засверкали цветами радуги солнечные пятна. — Пожалуй, пора, — сказал Данилов. — Галина Семеновна, повторим опыт: позвоните в кладовую, вызовите сюда Егора Егоровича. Только поаккуратней… Несколько минут спустя в дверях парткома появился старый кладовщик. Он с важным видом заговорщика пожал Петину руку и многозначительно подмигнул Данилову. Тот спросил: — Все играете, Егор Егорович? Так ферзевым гамбитом и шпарите? — Нет. На этот раз сицилианская защита, вариант Ботвинника. — Старик усмехнулся и посмотрел на Данилова поверх очков. — Могу и с вами, Василий Иваныч, сразиться. Коня фору дам. Данилов отмахнулся. — Какой уж я игрок! Потом как-нибудь. А сейчас идите, Егор Егорович, идите доигрывайте… Разговор происходил в шутливом тоне; Данилов улыбался, прижмуривая глаза. Но по тому, что после ухода кладовщика он уже не сидел возле окна, а расхаживал по комнате, поглядывая на телефонный аппарат, Петя отчетливо понял: Данилов волнуется. И предчувствие, что сейчас произойдет что-то, овладело младшим лейтенантом. Будто воздух вокруг сгустился — таким ощутимым стало молчание. Кудрявцева тоже забеспокоилась, отбросила, наконец, газету. Она, как и Петя, подойдя к окну, смотрела во двор и, так же как Петя, вздрогнула, когда раздался телефонный звонок. Данилов быстро снял трубку и, ответив коротким «сейчас», бросил ее на рычаг. — Кладовщик зовет. Идемте… Во дворе он, обгоняя всех, сунул руку в карман. Петя тоже ускорил шаги и поспешно отстегнул кобур. Вот и дверь склада. Данилов вынул из кармана… конфету. Навстречу, размахивая руками, выскочил кладовщик, оставив за собой распахнутую дверь.


В дальнем углу кладовой, скорчившись, лежал Лукин. Перед ним, подобрав лапы для прыжка и обнажив в страшном оскале клыки, сидела желто-бурая овчарка, ростом с телка. Налитым кровью глазом она повела на вошедших и глухо зарычала. Кудрявцева вскрикнула и попятилась к двери. — Не двигайтесь, Лукин! Малыш не любит шутить на работе. Я сам возьму иголки. Где они у вас? Данилов нашел в кармане Лукина три продолговатых коробочки и положил их в дрожащую руку кладовщика. — На место, Малыш! Молодец. Вот тебе твоя конфета. Кудрявцева укоризненно смотрела на Лукина. Его недавно румяное лицо теперь было совсем бледным, глаза с ужасом следили за Малышом. А тот уже сидел в углу на подстилке — обычном месте безобидной овчарки Дамки — и передними лапами умело освобождал конфету от обертки… После того как был составлен акт и Лукина увезла оперативная машина, Данилов, Петя и Малыш покинули кладовую. Идя по фабричному двору, Петя сказал: — Ну ладно, Василий Иваныч… Теперь мне понятно: Егор Егорович брал с собою в кладовую Малыша вместо своей Дамки. Не пойму только: почему вы были спокойны, когда в кладовой сидел инженер Викторов? А пришел Лукин — вы вдруг забеспокоились. Ведь еще оставался мастер Катков. Значит, вы уже раньше подозревали именно Лукина. Почему же?.. Данилов потрепал за уши степенно идущего у его левой ноги Малыша. — Я уже говорил тебе, Петя, что нельзя искать в людях только плохое. Стало быть, следовало решать это уравнение, как говорят математики, от противного. Вот ты разузнал про мастера Каткова, что он сильно любит закладывать за воротник и ругается. Правильно. Это очень плохо. Но что тот же Катков смастерил приспособление для трикотажных машин, это тебе было не известно. Иначе бы ты, как и Кудрявцева, сделал вывод: вряд ли человек, сохранивший государству сотни тысяч рублей, станет обкрадывать его. Так же и с Викторовым. Ты видел в нем только скрягу, который курит дешевые сигареты и копит деньги. А о том, что супруги Викторовы взяли из детдома двоих детей погибших фронтовиков и воспитали их достойными гражданами, этого ты тоже не знал. А вот Лукин — как уж я ни старался найти в его жизни поступок хороший, полезный для общества, — ничего не нашел. Конечно, теория моя не очень хитрая, я мог и ошибиться насчет Лукина, но, как видишь, Малыш подтвердил мои подозрения… Данилов внезапно умолк, потому что Малыш вдруг остановился и навострил уши. От проходной будки спешил шофер Ивана Владимировича. Сапоги его стучали по асфальту; он искал глазами Данилова, рукой прикрывая лицо от бьющего из-за деревьев солнца. Солнце может светить вовсю, проникая в широкие окна цехов, где трудятся люди; ветерок шелестеть листвой, распространяя прохладу… Впрочем, об этом мы прочли уже в начале рассказа.

И. Росоховатский СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА Рассказ
I
Я играл в шашки с майором Котловским на веранде дома отдыха. Котловский щелкнул пальцами, взглянул на меня, а я — на шашечную доску. Две дамки противника угрожали моим уцелевшим шашкам с флангов. — Сдаюсь, Семен Игнатьевич. — А сдаетесь напрасно, — сказал Семен Игнатьевич, увидев, что я собираюсь уйти. — Один интересный случай из моей практики вспомнился. Если бы тогда не дрался до последнего, быть бы беде. — Он лукаво прищурился. — Ну, так и быть, друг мой, идите, буду «Американскую трагедию» дочитывать. С безразличным видом Котловский начал собирать в коробку шашки. Он хорошо знал: теперь я на шаг не отойду от него, пока не расскажет о случае, «когда надо драться до конца». Такая возможность мне представлялась очень редко. Майор не любил рассказывать о себе, но не выносил одиночества и иногда пускал в ход подобную приманку, чтобы я побыл с ним подольше. Удобнее усевшись в раскладном кресле, я сказал, что никуда и не думал идти, что ноги устали после прогулки в лес. Семен Игнатьевич пригладил рукой волосы, зажег папиросу. — Это рассказ о судьбе человека, — медленно начал он. — Иногда она проста и ясна, а иногда…* * *
В один из летних дней тысяча девятьсот сорок пятого года майору Котловскому позвонили из штаба саперного батальона. Семен Игнатьевич, внимательно выслушав сообщение, сказал в трубку: «Выезжаю». Через пятнадцать минут майор уже входил в одноэтажное здание с пилястрами и затейливыми барельефами на фасаде, временный особняк какого-то гитлеровского полковника в Румынии. Здесь разместился штаб полка и приданного ему отдельного саперного батальона. В комнате штаба батальона находились три человека. Двух из них — комбата и заместителя по политчасти — Котловский знал, сидевшую же здесь женщину, сухощавую, с выступающими скулами, видел впервые. — Это репатриированная из немецкого концлагеря, Софья Сидоровна Покотило, — представил ему незнакомку комбат. Он рассказал майору о том, как Софья Покотило очутилась здесь. …Поезд с освобожденными из фашистской каторги, направлявшийся на родину через этот небольшой румынский городок, подошел к перрону. Из вагонов высыпали женщины: русские, украинки, белоруски, молдаванки. Их встречали советские солдаты, расспрашивали: кто они, откуда? У многих были угнаны в Германию родные, близкие люди. Тут же, на перроне, происходили волнующие встречи. Внезапно одна из женщин подбежала к сержанту строительного батальона, Никите Львовичу Дубняку, и закричала, обращаясь к солдатам: «Как он осмелился прийти сюда, ирод! Я расскажу вам, кто он такой!» Солдаты наблюдали за Дубняком в эту минуту. Он вздрогнул, лицо перекосилось… — Что же знаете вы о гражданине Дубняке? — спросил майор у женщины и подпер рукой подбородок, собираясь слушать. — Знаю немного… Но, думается, достаточно. Видела его несколько раз в полицейской форме вместе с гестаповцами. Он отправлял наших девушек на работу, на каторгу в Германию. Тогда его фамилия была Степчак, а должность — заместитель начальника полиции. Он помогал фашистам, может быть, сотни наших людей замучил… — Женщина тяжело вздохнула, и в ее удлиненных, похожих на миндалины глазах вспыхнула ненависть. — Вы не ошиблись? — спросил майор. — Не сомневайтесь, товарищ майор, у меня память цепкая. Ручаюсь: Степчак и Дубняк — одно и то же лицо. Рассказав все, что знала, женщина ушла. Котловский попросил комбата вызвать Дубняка. Сержант Никита Львович Дубняк оказался высоким, ладно скроенным человеком с пышным русым чубом. Гимнастерка его была выстирана, выглажена, аккуратно заправлена под пояс. Майор предложил ему стул и, по старой привычке, начал в упор его разглядывать. Никита Львович смутился. Кровь бросилась ему в лицо, но взгляд майора он выдержал, глаз не отвел. — Расскажите о себе полностью, связно, по порядку, — сказал майор, не сводя с него взгляда. Дубняк стал рассказывать. Котловский отметил про себя, что интонация его речи была такой, словно он уже не раз рассказывал все это. — Я родился в Полтаве, в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Батька до революции имел магазин, торговал. Детей, кроме меня, в семье не было. Магазин батькин потом прогорел, уже при советской власти. Батька нагрубил в горсовете, кого-то ударил. Его выслали… Я остался с матерью. Слесарил в мастерских. Потом переехали в село. Там я кузнецом был в колхозе, там нас и застала война. Выехать не успели. Я ушел в партизанский отряд. Освоил специальность подрывника. Однажды вызвал меня товарищ Сергей и говорит: «Решили использовать тебя в другом деле. Очень уж биография твоя подходящая. Будешь жить в селе. Фашисты как раз набирают в полицию. Пойдешь и ты. Будешь служить. Только не немцам, а нам». — Кто такой товарищ Сергей? — спросил Котловский. — А я разве не говорил? — удивился Дубняк. — Голова колхоза нашего. Он в командирах у партизан ходил. Иван Сергеевич звали, а в партизанах — «товарищ Сергей». Вот я и попал на службу в полицию. Узнавал про эшелоны с боеприпасами, про солдатские эшелоны. Передавал сведения партизанам. Они те поезда — под откос Помогал освобождать наших людей из тюрьмы. Фамилий их не припомню. Жаль. Теперь бы пригодились… Так и жили… Начальником гестапо у нас был эсэсовец, унтер-штурмфюрер Вейс. Однажды он вызвал меня и сказал, чтоб я ехал с ним в Западную Украину. Там отряды Сабурова немцам сильно дошкуляли. Товарищ Сергей приказал ехать и там связался с партизанами. Товарищ Сергей — партийный человек. Раз приказал, — значит, нужно. Я и поехал. В Западной связаться с партизанами не удалось. Делал в одиночку, что мог. Однажды партизана фашисты поймали, допрашивали. Его в каменный подвал посадили. Вечером повесить должны были. А он стонет на холодном полу и все-таки пытается петь «Орленка»; песня есть такая, душевная. Как сейчас помню: двор там небольшой, мощеный. Подвал — в двухэтажном доме. Я часового хотел бесшумно снять — не вышло. Он от ножа увернулся, винтовку с перепугу бросил и через двор — к воротам комендатуры. Я выстрелил — мимо. Он как раз около дерева пробегал. Второй пулей сшиб его. Засов отодвинул, партизана выпустил. И сам с ним удрал. За нами погнались. Пришлось убегать в разные стороны. Я спрятался на окраине в сарае. Что делать? Товарища Сергея вспомнил. Вернулся к Вейсу, сказал, что преследовал партизана. Хорошо, что никто меня во дворе не приметил. Мне удалось узнать у Вейса, что есть особое задание. Один из предателей, Золотоверхий, проник в расположение какого-то небольшого партизанского отряда. Он составил план партизанского лагеря и принес его Вейсу. Гестаповец собирался ехать к начальству с планом. Предстояла операция против партизан. Я зашел с Вейсом в здание гестапо. На письменном столе унтер-штурмфюрер разложил план. Мне было ясно одно: план нужно уничтожить. Раздумывать было некогда. Перед глазами мельтешил тощий затылок Вейса с жесткими рыжими волосами.
Я убил унтер-штурмфюрера ножом — с первого удара, как обучили гестаповцы. План разорвал и бросил в печку. Надо было удирать. Но ведь остался Золотоверхий. Он может составить новый план, он поведет карательный отряд. Я вышел из кабинета Вейса и сказал часовому, что господин унтер-штурмфюрер просит Золотоверхого зайти к нему. Когда предатель вошел в кабинет, я накинул ему на голову одеяло с кровати Вейса. Она стояла там же, в кабинете. И через одеяло ударил его ножом… — Дубняк помедлил и, словно упрекая себя в чем-то, сказал: — Вот рассказываю вам об этом, и на словах все так просто и легко. Вроде я богатырь какой-то, неустрашимый. А тогда на деле все совсем не так легко получалось. Золотоверхий крепкий, чертяка, был. Если бы не внезапность нападения, не знаю, как бы я справился с ним. И так памятную отметину за ухом ношу. Сами понимаете, тут уже о дальнейшей службе в полиции и думать не приходилось. В общем, удалось бежать. Пробрался через линию фронта, встретил наши части и остался в саперном батальоне. Когда мы проходили через Полтавщину, я узнал, что товарищ Сергей и его заместитель — единственные люди, знавшие правду обо мне, погибли в бою. Дубняк невесело улыбнулся и опустил голову. За ухом, плохо заросший волосами, виднелся шрам. — Как видите, — сказал он, — доказать, кем я был тогда на самом деле, невозможно. Решайте сами- верить мне или нет. Майор сказал Дубняку, что он может пока быть свободным. На следующий день Семен Игнатьевич выехал в Полтаву.
II
Поезд шел по знакомым плодородным землям. Мелькали кирпичные домики в зелени деревьев, полосатые шлагбаумы. Земля была укрыта, словно кружевной накидкой, белой кипенью цветущих садов. Белое, зеленое, голубое… Семен Игнатьевич лежал на верхней полке и смотрел в окно. Радовался весне и думал о судьбе человека, о судьбе Никиты Дубняка, который ждет решения своей участи. Что-то в лице Дубняка, в его манере говорить пробуждало в майоре сочувствие и одновременно настораживало. Котловский привык не доверять первому впечатлению. Все решают факты, а пока они не голосуют ни за, ни против. Да, собственно говоря, фактов и нет. Где их искать? В лесах, где действовали партизанские отряды, в сейфах ли с пожелтевшими от времени архивами, среди людей? Но где бы они ни были, их надо найти. Город начался с садов и маленьких белых домиков. Паровоз протяжно загудел у семафора, замедлил ход. Показался вокзал. Семен Игнатьевич взял свой небольшой «следственный чемодан» и одним из первых вышел на перрон. Сел в такси и поехал в городское управление милиции. Через несколько часов Котловский убедился, что по крайней мере начало рассказа Дубняка соответствует действительности. Не оставлял сомнения и тот факт, что отряд товарища Сергея существовал, был выслежен и что часть партизан истребили фашисты. Погибли также товарищ Сергей и его заместитель. В тот же день Котловский прибыл в село, где жил Никита Дубняк. В разговоре с председателем сельсовета было установлено, что Никита Львович Дубняк до войны работал в колхозе кузнецом, и работал неплохо. Велики же были возмущение и ненависть односельчан, когда он появился в форме полицейского рядом с гестаповцами. На вопрос о том, как вел себя Дубняк, председатель сельсовета коротко и недвусмысленно заявил: «С волками жил, по-волчьи выл. Вы у соседки спросите. Она расскажет». Соседка Дубьяков, Одарка Филипповна, встретила майора приветливо, угостила его галушками со сметаной, блинцами. Как только она поняла, кем интересуется майор, — Начала с причитаниями рассказывать о «лютой зверюке», какой оказался ее сосед. И пил с гестаповцами, и обнимался с ними, и целовался с ихним начальником Вейсом. О зверствах, которые творил сам Дубняк, она ничего не могла сказать, но зато утверждала, что отряд товарища Сергея был окружен фашистами еще до отъезда Дубняка из села, в конце января. Одарка Филипповна сама читала о разгроме партизан в какой-то фашистской листовке. Этот факт имел для Дубняка роковое значение. Его нужно было проверить. Но как? Майор начал поиски очевидца расправы над партизанами. Ему сказали, что на сорок первом километре, недалеко от лагеря партизанского отряда, жил во время войны и сейчас живет лесник Хвыля. Котловский поехал к леснику. …Еще крепкий белобородый дед, лесник Хвыля сразу же повел Семена Игнатьевича на место, где когда-то размещался партизанский лагерь. Сохранились две землянки с осевшими крышами, замаскированные землей и дерном. Могучие дубы шелестели над землянками, как боевые знамена. — Отут поляглы воны, — сурово сказал дед Хвыля. — Майже половина загона. И воювалы до останього патрона. Увесь день стрилянна чулся. Аж надвечир затыхло. — Когда это было, дедушка, не помните? — А чого ж, памятаю. У феврали, дванадцятого чысла, — не задумываясь, ответил дед. — До моей хаты тоди одын прыповз, Литовченко. Сказав тилькы: «Диду, передай нашим»… Я трясу його, а вин уже мертвый. — А вы такой фамилии, дедушка, никогда не слышали — Дубняк? — А чого ж, чув. Був у колхози коваль такый. Потим, казалы, у полиции служыв. Гадюка! Дед покачал белой головой и нахмурился: — От не розумию, сынку, одного. Вин же не нероба. Дуже хорошый коваль був, золоти рукы. И за легкым жыттям не гнався, все робыв своимы рукамы. Нащо такому, робочому чоловику, в полицию? — А может, он в полиции не на полицию работал? Дед сразу понял, о чем говорил майор. — Ни, сынку, у загин через мий двир, через мою хату шлях лежав. Я б знав напевно. Котловский попрощался с лесником. Бросил последний взгляд на место, где бились до последнего патрона хлопцы из отряда товарища Сергея. Итак, отряд был окружен двенадцатого февраля, когда Дубняк уже уехал из села, а не в конце января, как вычитала Одарка Филипповна в листовке. Фашистская листовка, по обыкновению, оказалась фальшивкой. Дубняк не осведомил фашистов о расположении отряда. Ведь тогда бы они раньше начали операцию. Но ничем не доказано и другое, — что Дубняк был связан с партизанами. Наоборот, лесник, через избушку которого проходили продукты и корреспонденция отряду, знал о Дубняке лишь то, что тот служил в полиции, Возможен и такой вариант: Дубняка могли послать фашисты в партизанский отряд с заданием, и после того, как он втерся в доверие к народным мстителям и выдал их, Вейс решил его использовать по такому же заданию в Западной Украине. Поэтому и убрал из села пораньше, чтобы на него не пало подозрение. Котловский возвратился в сельсовет. Едва он появился в дверях, как услышал нетерпеливый возглас председателя сельсовета; — Товарищ майор, интересная новость имеется! Рядом с председателем сидел круглолицый мужчина с вислыми усами. При появлении майора он встал, шагнул навстречу и протянул руку. — Лисняк, — представился он и сразу же заговорил оживленно, выбрасывая по нескольку слов одним залпом. — Прослышал от председателя, что вы интересуетесь действиями партизан, — говорил Лисняк. — Подумал, могу пригодиться. Вот какое дело. Я-то в армии был. А мой двоюродный брат во время войны сюда приехал, по заданию подпольного обкома, налаживать связь с партизанами. Снял комнату в селе, столярничал и потихоньку организовывал народ. Вот он бы вам здорово помог. Он тут недалеко в райцентре живет. …На стук Семену Игнатьевичу открыла дверь красивая чернобровая женщина с ярким румянцем во всю щеку. Узнав, что нужно майору, она огорченно протянула певучим голосом: — Не повезло вам, товарищ майор. Муж на курорт в Трускавец уехал. Может, я вам чем-нибудь помогу. Мы с мужем всю войну вместе были. Куда он, туда и я. Котловский спросил у женщины, что она знает об отряде товарища Сергея и не слыхала ли фамилии Дубняк, или Степчак. — О Дубняке слышала. В полиции работал. Предатель! В лицо его не видела, — мы с мужем в селе недолго жили. У мужа ведь такое задание было — наладить связь с партизанами — и назад. Да и случай такой вышел… Она подождала, пока майор попросит рассказать о «том случае», и продолжала: — У мужа рация была спрятана в ящике для инструментов. Пронюхал ли что полицейский, или так просто зашел проверить, но только он к ящику тому потянулся. Муж стамеской и двинул его по голове. Он у меня сильный, муж мой, и смелый, и вообще очень хороший! — В ее голосе прозвучала нескрываемая гордость. — Муж мой тому полицейскому стамеской в висок целился, да не попал. Тот головой дернул, стамеска за ухом прошлась. Полицейский с перепугу бросился из дома в одну сторону, мой — в другую. Я тогда у соседки была. Муж заскочил да говорит: «В дорогу!» Я поняла: неладное случилось. Лишних слов тогда не говорили, было такое время… Семен Игнатьевич вздрогнул. С предельной ясностью вспомнился Дубняк там, в комнате штаба, со склоненной головой, И шрам за ухом, чуть заросший волосами. Котловский вынул из кармана фотографию Дубняка. — Этого человека не знаете? — спросил он. Женщина несколько минут всматривалась в фотокарточку, потом отрицательно покачала головой. — А полицейский, что заходил к мужу? Женщина подняла на Котловского удивленный взгляд. — Я же сказала, что была тогда у соседки…III
И опять Котловский смотрел в окно вагона на мелькающие просторы. И опять под перестук колес думал о человеке, в слова которого сначала поверил. Теперь сомнений почти не оставалось: Дубняк — враг. Можно вернуться в город и доложить начальству, и предателю придется расплачиваться. Припертый к стенке фактами, он сознается во всем. Вздрагивал на стыках вагон, дребезжали крепления койки. Ныли на твердой полке кости майора. Хотелось скорее приехать домой, помыться, отдохнуть в чистой, мягкой постели. Появлялись услужливые мысли: «Обязанность выполнена, можно возвращаться». Под равномерный стук колес возникали обрывки воспоминаний. Собственное детство, короткое и безрадостное. Отец погиб на войне в четырнадцатом году. Мать переселилась с тремя детьми в Среднюю Азию, к сестре, служившей в земстве врачом. Семен Игнатьевич, будучи старшим в семье, поступил на работу. Революция перевернула все домашние устои. Тетку перевели в Бухару на борьбу с эпидемией. Мать к этому времени уже справлялась с небольшим хозяйством сестры и могла прокормить двух младших детей. Семен Игнатьевич, подхваченный волной общего воодушевления, очутился в Ташкенте. Там он вскоре стал адъютантом коменданта города. Шла напряженная борьба за укрепление советской власти. В минуты короткого отдыха и мирной беседы с комендантом он впервые услышал слова, принадлежавшие Дзержинскому:«Чекист должен иметь горячее сердце, холодный рассудок и чистые руки».И только много позже Семен Игнатьевич понял их сокровенный смысл. Как часто холодный рассудок спорил с горячим сердцем! За свою деятельность Котловский приучил себя к терпеливо-усидчивому ювелирному расследованию фактов, связанных с преступлением. Сердце всегда было на стороне человека, стоящего на краю пропасти. А холодному рассудку надлежало собрать факты и изложить их. Вот и сейчас сердце и рассудок гнали Семена Игнатьевича дальше, к возможности объективно установить истинное положение вещей. Поезд мчал майора в западные области Украины. Обвинение должно быть веским, обвинять должны не догадки, а факты. Только они своим бесстрастным и неподкупным языком скажут — друг или враг Никита Дубняк. Ведь решается судьба человека! И, пока не проверено все, что можно проверить, пока остается хоть малейшая надежда, хоть крохотная вера в этого человека, нельзя останавливаться. Во Львове Котловский сделал пересадку и скоро прибыл в небольшой город с остроконечной башней бывшей ратуши и круглой площадью. От этого города до Трускавца было всего полчаса езды на автобусе. Майор сначала зашел в управление Министерства внутренних дел и долго беседовал с начальником управления. Отсюда Семен Игнатьевич направился к зданию, где когда-то находилась немецкая комендатура. Он вошел в проходной двор. Вон там, в каменных подвалах, застенках гестапо, томились патриоты, приговоренные фашистами к смерти. Котловский подошел к одному из подвалов. Здесь сидел, если верить Дубняку, спасенный им партизан. Семен Игнатьевич вспомнил рассказ Дубняка: …«часовой увернулся от ножа и побежал через двор к воротам комендатуры. Я выстрелил раз — мимо. Он как раз около дерева пробегал.». Ветвистый клен рос посреди двора. «А что, если пуля попала в дерево?» — подумал Семен Игнатьевич. Он осмотрел кору дерева сантиметр за сантиметром до высоты человеческого роста. В одном месте на коре сохранилась едва заметная отметина. Котловский вынул из чемоданчика складной нож и осторожно расчистил кору. Отметина проникала под кору в ствол дерева. Все глубже и глубже входил нож в ствол. И наконец кончик лезвия со скрежетом наткнулся на металл. Майор расширил отверстие и вынул из ствола маленький комок. В этом деформированном куске металла даже под лупой трудно было узнать пулю. И все же это была именно она. Семен Игнатьевич привязал к гвоздику длинную нитку, гвоздик вставил в отверстие ствола, из которого была вынута пуля; ударяя ручкой ножа в шляпку гвоздика, укрепил его в стволе на месте пули; начал разматывать нитку так, чтобы она не касалась краев отверстия. Нитка протянулась через двор к двери подвала. Похоже, — стреляли отсюда. Котловский вернулся к зданию управления МВД. Зашел в помещение, где хранились архивы. Долго разбирал желтые, с оборванными и обгоревшими краями, циркуляры, приказы и донесения гестапо, которые гитлеровцы не успели сжечь или увезти. В этих бумажках запечатлелся звериный офлик фашизма: приказы об истреблении, об угоне на каторгу, жалкие свидетельства минувшей власти, построенной на насилии. Майору Котловскому вспомнилась поговорка: «Можно прийти к власти, опираясь на штыки, но нельзя усидеть на штыках». Нашлись здесь и следы Дубняка. В одном приказе говорилось, что Никита Львович Дубняк (кличка в полиции — «Степчак») зачисляется на должность заместителя начальника полиции по личной рекомендации унтер-штурмфюрера Вейса. Нашлось и личное дело Вейса. К нему приколото донесение о смерти унтер-штурмфюрера. Эти документы, очевидно, вытащили из огня. На желтой, обгоревшей местами бумаге трудно было что-нибудь разобрать. Все время приходилось читать через лупу. Глаза быстро утомлялись. Из отдельных уцелевших букв, слов и фраз донесения майор при помощи работника архива, в совершенстве владевшего немецким языком, составил текст: «…июня… года. В кабинете… Вей… уб… жом……и агент 42-3 Алексей Золотоверхий. Подозре…ем…пчака. Он оставался в кабинете… вызва… хого… Ст… скр… вестном направлении». Дальше ничего нельзя было разобрать. Но и по этим буквам и обрывкам слов, учитывая расстояние между ними, можно было восстановить часть текста: «…июня… года. В кабинете унтер-штурмфюрера Вейса убиты ножом Вейс и агент 42-3 Алексей Золотоверхий. Подозреваем Степчака. Он оставался в кабинете с унтер-штурмфюрером, вызвал затем Золотоверхого. Степчак скрылся в неизвестном направлении». Итак, Никита Дубняк не солгал? Майор Котловский отбросил эту мысль. Рано еще принимать решения. Ведь могло быть и такое: Дубняк-Степчак мог поссориться на личной почве с Вейсом и Золотоверхим. В гитлеровской стае подобные случаи были нередки. Возможна и иная версия: зная о наступлении Советской Армии, предчувствуя конец своих хозяев, Дубняк решил предать их, как раньше предал свой народ. Решил выслужиться перед советскими войсками и поэтому спас партизана. Затем убил своих бывших друзей, уничтожил свое личное дето, в котором могли быть отмечены его заслуги перед фашистами. Ведь самые тщательные поиски в архивах не привели к обнаружению личного дела Никиты Дубняка (Степчака). А может быть, оно успело сгореть. Как бы там ни было, пока еще преждевременно снимать подозрения с Никиты Львовича. Семен Игнатьевич продолжил расследование. Он начал поиски следов бежавшего из подвала партизана. Не фикция ли побег? Чтобы решить этот вопрос, нужно было, во-первых, предположительно установить, из какого партизанского отряда мог быть тот партизан. Котловский опять направился к начальнику управления МВД. Начальник недолго раздумывал. — Вблизи города в то время действовала группа партизанского соединения и отдельный партизанский отряд. Потом он влился в соединение. Командир группы работает тут же, в управлении. Командир отдельного партизанского отряда погиб. В селе, вблизи Трускавца, находится его заместитель. Он — председатель колхоза. Капитан МВД, в прошлом командир партизанской группы, на вопрос Котловского ответил отрицательно. Таких случаев в их группе в то время не было. Котловский на машине, предложенной начальником МВД, выехал в Трускавец. По дороге он остановился в селе, где жил заместитель командира отряда. Председателя колхоза, Ивана Трофимовича, майор нашел в поле. Еще издали он услышал зычный хрипловатый голос. — Голова командует, — сказал паренек-провожатый. Посреди поля, в кругу женщин, размахивал руками плотный, широкоплечий мужчина в коричневом кителе и соломенной шляпе. Семен Игнатьевич поздоровался с колхозниками и отошел с председателем в сторону, под тень деревьев, росших правильными рядами вдоль полей, и коротко изложил суть дела. — Был у нас такой случай, — пробасил председатель. — Партизан тот после к нам прибег, рассказывал. Он и сам находится недалеко отсюда. Доктор по специальности. Я вот хлеба подымаю, а он животы людям в Трускавце лечит. Минут за пятнадцать до него доедете. «Газик» опять рванулся в дорогу. Скоро выехали на асфальтированное шоссе. Вдали замаячили белые здания санатория. Врача майор нашел сразу. Врач был родом из Тулы, партизанил на Украине. Он посмотрел на фотографию Дубняка, и взгляд его стал теплым и ласковым, будто увидел родного человека. — Он спас меня от верной смерти, товарищ майор. Вы мне адресок-то его оставьте. Списаться нужно: замечательный человек! Врач помог майору найти двоюродного брата Лисняка. — Дубняка хорошо знаю по рассказам товарища Сергея, — сказал тот. — Наш человек. А полицейского, что я тогда стамеской угостил, Цыганком звали. Расстреляли его наши, как пришли. Собаке собачья смерть. Дубняк наш человек, верный человек, — еще раз повторил он. Они пошли по курортному городку, провожая Котловского к машине. По благодарным улыбкам, которыми курортники и санитарки приветствовали врача-туляка, спасенного когда то из лап гестапо, майор понял, что его здесь уважают и ценят. Очевидно, человек, который после пыток, в ожидании смерти пеп «Орленка», умел бороться с преждевременной смертью и болезнями. И невольно Семен Игнатьевич подумал, что не только этот человек в белом халате, но и все, кого он вылечил, должны благодарить Никиту Дубняка — незаметного молчаливого воина, не запоминавшего имен спасенных им людей.
* * *
— Вот она, судьба человека! — сказал майор Котловский, закончив рассказ. — Я вернулся, сообщил в часть и доложил начальству, что обвинение не подтвердилось. Дело, заведенное на Никиту Дубняка, оказалось безрезультатным. И знаете, друг мой, об этом безрезультатном деле очень приятно вспоминать!.. А теперь вам пора. Чего со стариком сидеть! Ступайте!СОДЕРЖАНИЕ: Г. Матвеев. После бури. Повесть. Рисунки В.Орлова....3. Е. Андреева. Остров сокровищ. Очерк. Рисунки А.Скалозубова....81. Ф. Зубарев. В дороге. Рассказ. Рисунки Л.Селизарова....95. В стране зверей. Перевод В.Голант....104. Ф. Зубарев. Андрейка. Рассказ. Рисунки В.Скрябина....105. Современница динозавров. Перевод В.Голант....114. В дебрях Новой Гвинеи. Перевод В.Голант....116. Сердитые носороги. Перевод В.Голант....118. Г. Мартынов. Сестра Земли. Повесть Рисунки Л.Рубинштейна....119. Последние из страндлооперов. Перевод В.Голант....282. Охотники за рыбой. Перевод В.Голант....283. Борцы с лавинами. Перевод В.Голант....285. Необыкновенный ребенок. Перевод В.Голант....287. В. Домбровский и А.Шмульян. Способный секретарь. Рассказ. Рисунки Ю.Данилова....289. Изобретательность и мужество. Перевод В.Голант....297. П. Капица и Н. Яковлев. Остров Панданго. Повесть. Рисунки В.Саксон....299. Догадливые эскимосы. Перевод В.Голант....383. Удивительная пещера. Перевод В.Голант....385. Р. Бархударян. Капитан Сизов. Рассказ. Рисунки В.Шевченко....387. И. Росоховатский. По свежей лыжне. Рассказ. Рисунки Н.Муратова....409. И. Росоховатский. Пропажа. Рассказ. Рисунки В.Скрябина....415. Белый дым. Перевод В.Голант....422. Э. Офин. Уравнение с тремя неизвестными. Рассказ. Рисунки К.Севастьянова и Л.Московского....423. И. Росоховатский. Судьба человека. Рассказ. Рисунки В.Вальцефер....433.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1961г. №6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1961

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
К.К.Андреев, И.А.Ефремов,
А.П.Казанцев, М.М.Калакуцкая, И.М.Кассель,
Л.Д.Платов, Н.В.Томан.

Алексей Полещук ОШИБКА ИНЖЕНЕРА АЛЕКСЕЕВА
Мы не отступим, мы пробьем дорогу Туда, где замкнут мирозданья круг, И, что приписывалось раньше богу, Всё будет делом наших грешных рук!С. Щипачев
Я — червь, говорит идеалист. Я — червь, пока я невежествен, возражает материалист-диалектик; но я — бог, когда я знаю. Tantum possumus, quantum scimus! Столько можем, сколько знаем!Г.В. Плеханов
КАТАСТРОФА
События развернулись неожиданно. В конце марта я получил письмо от Алексеева. Он писал, что ему удалось сделать открытие, которое «буквально взорвет», как он выразился, многие наши представления в области физики вакуума. Алексеев просил меня приехать. «Не знаю, почему, — писал Алексеев, — но, оглядываясь назад, я все чаще вспоминаю тебя и годы нашего совместного житья-бытья… Что тогда было трудным, сейчас кажется ярким, очень и очень нужным. Именно тогда, в спорах с тобой и, казалось бы, случайных разговорах со случайно встретившимися людьми, незаметно произошел какой-то решающий, главный сдвиг в моем сознании. Приезжай, я уверен, что работы нашей небольшой лаборатории заинтересуют тебя. И нам кое в чем поможешь. Ведь ты — математик». Я выехал через пять дней. Но было уже поздно… Лаборатории Алексеева больше не существовало… Я узнал об этом в поезде, прочитав в газете сообщение Академии наук. Сообщение это потрясло меня. Текст его всем известен, и все помнят его горький и тревожный смысл. — «…Неожиданная катастрофа в лаборатории А.А.Алексеева говорит о том, что природа далеко еще не раскрыла своих сокровенных тайн. К славному списку смелых исследователей, отдавших свою жизнь во имя науки, прибавилось имя Алексея Алексеевича Алексеева и его ближайших сотрудников… Впредь до исчерпывающего расследования причин катастрофы Академия наук предлагает всем исследователям в области свойств вакуума воздержаться от особенно рискованных экспериментов и тщательно согласовать план исследовательских работ… Академия наук просит всех, кто имел отношение к работам лаборатории, или знал Алексея Алексеевича лично и считает, что может быть полезным при расследовании катастрофы, прибыть в Южноукраинский филиал Института звезд… Светлая память погибшим на трудном и славном пути познания и овладения могучими силами природы!» На другой день я был принят членом комиссии, созданной для расследования причин катастрофы. Положение представлялось чрезвычайно сложным. Было известно, что в день катастрофы руководитель лаборатории собирался представить доклад о работах последних шести месяцев, однако и доклад и все лабораторные дневники погибли вместе с лабораторией. Выяснилось, что Алексеев не отправил в безопасное место ни строчки своих записей; он не вел дублирующих журналов, следовательно, он не видел опасности в своих экспериментах. В день катастрофы Алексеев послал в секцию Космогонии телеграмму о том, что первые опыты прошли успешно. «Приступая ко второй стадии наших работ, — говорилось в телеграмме, — считаю необходимым участие в них представителей космогонической науки, так как совершенно неожиданно работы оказались близкими к вопросам теории происхождения и развития звезд…» Мне разрешили осмотреть место катастрофы. Силой взрыва трехэтажное здание лаборатории было превращено в груду изогнутых железных стержней и громадных кусков бетона, проткнутых арматурой. Здания института вокруг лаборатории почти не пострадали, если не считать выбитых воздушной волной стекол. Сейчас их вставляли рабочие. — Странное дело, — невзначай бросил один из них, когда мы поравнялись с главным корпусом Института звезд, — никогда не поверил бы… Все стекла выброшены наружу, до одного осколка, будто кто выдул их изнутри. Монолиты фундамента лаборатории были выброшены из земли, раскрошены. Я не ожидал, что лаборатория Алексеева столь велика. В таком здании могли работать по меньшей мере человек полтораста, но я с удивлением узнал, что у Алексеева было только тридцать четыре сотрудника. — Там кто-нибудь уже был? — спросил я, указывая на развалины. — Нет, слишком сильная радиоактивность… С такой еще никто из нас не имел дела, — ответили мне. — К счастью, период полураспада невелик, что-то около двух дней, так что мы скоро сможем проникнуть в центральные помещения. — А как в отношении внешних материалов? — спросил меня пожилой человек с темной тростью кизилового дерева в руке. — Вы не в курсе дела? — Внешние материалы? — спросил я. — Что вы имеете в виду? — Важно установить все внешние связи лаборатории, список веществ и приборов, полученных за последние дни, ее заказы подсобным предприятиям — словом, все нити, которые связывали Алексеева с внешним миром. Разве что-нибудь могло сохраниться в этих развалинах? Эх, Алексей Алексеевич… — Он отвернулся от нас и, опираясь на палку, быстро зашагал к своему автомобилю. — Кто это? — спросил я. — Расстроился старик, — сказал мой спутник. — Еще бы, он очень близко знал Алексеева… Это Топанов, не слышали? — Он, кажется, философ? — Да, и к тому же неплохо ориентируется в наших вопросах. Опубликовал две или три философские работы, связанные с проблемами современной физики. А потом замолк. Говорят, опять ушел на партийную работу, в Отдел науки… В этот же день меня включили вкомиссию. Перед нами проходила масса различных документов, присланных из организаций, имевших деловые связи с лабораторией Алексеева: бесчисленные накладные, чертежи последних заказов, списки оборудования, перечни журналов, книг, иностранных статей, переведенных по требованию Алексеева и его сотрудников. Наконец, когда радиоактивность несколько снизилась, аварийная команда в специальных комбинезонах, наподобие тех, которые используются при чистке ядерных реакторов, принялась за свой опасный труд. От мощных механизмов, доставленных грузовыми вертолетами, протянулись по всем направлениям блестящие тросы толщиной с человеческую руку. Согнувшись под тяжестью стальных гаков, люди набрасывали их на обломки того, что еще так недавно радовало глаз своей архитектурной стройностью и целесообразностью… Звучал сигнал, и лебедки оттаскивали в сторону глыбы железобетона, расчищая путь к сердцу здания. И вот показался бронированный колпак над главным залом в цокольном этаже. Колпак был теперь похож на небрежно сорванную кожуру апельсина. Громадные трещины, извиваясь, расходились от его вершины, и всю ночь электрические резаки вгрызались в металл, озаряя темноту вспышками синих искр. Вот он, главный зал… По специально расчищенному проходу подъехали санитарные машины. Они должны забрать останки людей. Людей, еще так недавно живых, полных огня… Вытянувшись, склонив на грудь головы в капюшонах, молча стояли вдоль прохода аварийники, суровые люди суровой профессии. К нам быстро подошел руководитель команды. Он жестом показал, чтобы мы к нему не приближались, и глухо заговорил сквозь маску: — Неожиданное препятствие… Под металлическим колпаком оказался какой-то прозрачный стекловидный материал необычайной твердости, необычайных свойств… Пневматическое зубило из сверхтвердого сплава ломается, не оставляя на его поверхности даже царапины. В зал невозможно пробраться. — А электрическая дуга? — спросил кто-то. — Пробовали, не берет… Не берет, и все! — А если подойти с другой стороны? — предложил я. — Пробовали, — ответил аварийник. — Бронированный колпак разрезан нами почти всюду, но везде под ним это стекло. Надевайте скафандры, сами посмотрите… Одна за другой, пятясь, из прохода выбрались санитарные машины и уехали. Через полчаса, надев скафандры, мы уже перешагивали через осколки бетона, пробираясь в глубь развалин. Действительно, под рваными краями металлического колпака виднелась прозрачная масса, похожая на исполинскую глыбу неотшлифованного темного стекла. На ее поверхности в точности отпечаталась внутренняя сторона стальных плит, из которых был сварен колпак. Прямо перед нами виднелась «дверь» — точный оттиск той настоящей металлической двери, которая лежала невдалеке, сорванная лебедкой. Ручка двери оказалась впаянной в эту неизвестно как возникшую массу. Лучи солнца упали на стеклянную глыбу. Топанов прижался маской к ее поверхности, всматриваясь. — Они там! — тихо сказал он. — Кажется, я вижу фигуру Алексеева… Как в огромном ледяном аквариуме, будто застыли внутри темной глыбы человеческие фигуры. Чтобы лучше видеть, нужно было отыскать наиболее удобную точку наблюдения: стекловидная масса местами была пронизана сетью тонких трещин, делавших ее туманной. Я поднял с земли чью-то кирку и с силой ударил. Кирка резко отскочила от стекла. Каким-то поющим тонким звуком ответила мне эта прозрачная масса. «Бесполезно, — услышал я голос аварийника, — здесь нужна взрывчатка». Взрыв был произведен далеко за полночь. В лунном свете высоко вверх взметнулись клубы земли и песка. А когда взошло солнце, перед нами предстала удивительная картина… Силой взрыва металлический колпак был целиком сорван, остатки стен разбросало вокруг, а перед нами блестела на солнце огромная прозрачная сфера, похожая на шляпку белого гриба. Внутри совсем ясно можно было различить смутные силуэты людей, стоящих и сидящих вокруг приборов. Один застыл в стремительной позе, его рука протянулась к фигуре другого человека, деловито держащего руки на кнопках какого-то пульта… Заколдованное царство… Сказка о «Спящей царевне»… Что за странный вихрь ворвался сюда, в это огромное помещение с настенными люстрами, все еще продолжавшими «висеть», хотя стен уже давно не было? А вихрь именно ворвался извне, так как лаборатория не располагала никакими особенно мощными источниками энергии. В день аварии потребление энергии, отмеченное самопишущими приборами, было даже меньшим, чем обычно. Затем последовал резкий толчок тока, но точно сработавшие автоматы-ограничители отключили энергию, потом пробно включились опять, но сопротивление потребителя было уже бесконечно большим: лаборатория больше не существовала… Мы стояли перед развалинами. Разговор шел вполголоса, но все перебивали друг друга, торопливо сообщая новые и новые подробности. — Весь район, окружающий лабораторию, был спасен этим стальным колпаком, — говорил один из физиков. — Если бы не он, разрушения распространились бы на гораздо большее расстояние… — Прежде всего — что это за прозрачная масса, из чего она состоит? — спросил я. — Представьте, из воздуха! Да, да, азот и кислород в таких же пропорциях, как и в окружающем нас воздухе… — Забавно… Это какое-то неизвестное соединение, какой-то неведомый окисел азота… — обронил кто-то. — Если только это окисел… — покачал головой физик, — что очень сомнительно… Между прочим установлено, что это вещество проводит электрический ток. Мы подвели электрод от сварочного аппарата. Дуга возникает, хотя тотчас же срывается. Вакуумной присоской собрали пары… — …И в спектре только кислород и азот? — В том-то и дело. Утром взяли на анализ тонкую пластинку, по-видимому осколок, который подобрали после взрыва. Сделали рентгеноструктурный снимок. Расстояние между центрами атомов необъяснимо мало… — Но как нашли этот осколок? — Один из рабочих споткнулся и упал. — Осколок так велик? — Нет, осколок помещается на ладони, но его вес сорок два килограмма! — Любопытно, что температура этой прозрачной массы — тридцать шесть и шесть десятых градуса ночью и днем! — Да, да, поразительное постоянство! Как в термостате… — Но откуда появилась энергия взрыва? Насколько мы теперь осведомлены, ни накопления энергии, ни резко увеличенного поступления ее извне не было… — Откуда-то, однако, эта энергия появилась! Причем в лаборатории, которая не занимается ни расщепляющимися материалами, ни термоядерными реакциями… В списках не оказалось ни урана, ни плутона, ни тория. В лаборатории не имелось ни тяжелой воды, ни тяжелого водорода, без которых пока не обходятся исследования высокотемпературных процессов… — Да… Загадка… Сегодня — неожиданное открытие! Сотрудники Института звезд сообщили нам, что с ракетодрома, принадлежащего этому институту, Алексеев довольно регулярно запускал высотные ракеты. Главное управление по исследованию космического пространства подтвердило, что за несколько месяцев до катастрофы в адрес лаборатории Алексеева были направлены три крупные ракеты. Контейнер последней ступени, по условиям договора, поставлялся пустым. Ракеты были запущены за месяц до катастрофы. В делах ракетодрома сохранился акт запуска. В графе «Назначение» сказано: «Выход в Космос с целью исследования безвоздушного пространства». Содержимое последней ступени устанавливалось и монтировалось в лаборатории Алексеева. Больше никакими сведениями Главное управление не располагало. «С целью исследования безвоздушного пространства»… Очень туманно. Каково же назначение ракет? Среди сотен искусственных спутников, которые носились вокруг Земли по самым различным траекториям, в марте не было зарегистрировано новых. Что случилось с алексеевскими ракетами? Ведь именно в тот день, когда Алексеев хотел широко раскрыть содержание своих работ, и произошла эта злосчастная катастрофа. Почему она случилась именно в тот момент, когда успех эксперимента не вызывал у Алексеева сомнений, когда он уже готовился сообщить миру о каком-то новом, крайне важном научном открытии? Нужно было во что бы то ни стало раскрыть тайну этого дня. Этого требовало не праздное любопытство. Десятки запланированных научных опытов были приостановлены специальным распоряжением. Наука никогда не была бедна самоотверженными искателями, но ненужный риск граничил с преступлением. Все говорило о том, что роковую роль сыграла какая-то случайность, какой-то неверный шаг. Надо знать, какой именно шаг вызвал катастрофу! Но шла неделя за неделей, а мы были все еще далеки от разгадки… Люди самых различных специальностей съезжались к нам, в этот небольшой приморский городок. Каждый хотел помочь разобраться в случившемся. Веранда скромной столовой с громкой вывеской «Таврия» по вечерам превращалась в зал заседаний. Здесь обсуждались различные научные новости, но в центре внимания была, конечно, лаборатория Алексеева. Каждая догадка, которая могла бы пролить хоть какой-нибудь свет на случившееся, горячо отстаивалась или оспаривалась, подробно анализировалась. Все, однако, единодушно признавали, что Алексеев и его сотрудники вели себя как исследователи, спокойно работающие с самыми невинными, безопасными вещами. — Когда я изучаю под микроскопом срез фотоэмульсии, — говорил один из завсегдатаев «Таврии», - мне и в голову не приходит, что со мной что-то должно случиться. Видимо, так примерно работал и Алексеев. И вдруг произошло событие, которое повернуло наши поиски совсем в новом направлении…«МОРЕ НА НЭБИ»
Я поселился в семье Федора Васильевича, заведующего совхозным гаражом. Хозяин, человек мягкий и неторопливый, был занят весь день, да и дома ему не давали покоя. То и дело чья-нибудь голова показывалась над кустами сирени у забора, и простуженный голос спрашивал: «А чи дома хозяин? Га?» Федор Васильевич обычно завтракал и ужинал во дворе под дощатым навесом, очень похожим на беседку, если бы та сторона, что выходила на улицу, не была забита планками от ящиков из-под овощей. — Та дома, — тяжело вздыхая, отвечал Федор Васильевич и аккуратно клал ложку рядом с еще лолной тарелкой. — Ну же, Ганнушка, зови… И начинался разговор про бензин, резину и дороги, про вывоз удобрений со станции, после чего Федор Васильевич, так и не «поснидав», отправлялся до своей «бисовой роботы», которую он, между прочим, не променял бы ни на какую другую… К Федору Васильевичу я попал не случайно. Незадолго до катастрофы с ним договорился Алексеев. Федор Васильевич встретил меня на вокзале, по какому-то одному ему известному признаку узнал меня и привез к себе. В доме было всегда тихо, казалось, что и Федор Васильевич и его жена о ком-то тоскуют. Так оно и было на самом деле, но вскоре все пошло по-другому. Таня — дочка Федора Васильевича — девочка лет девяти-десяти, вернулась домой из села Новофрунзенского, где она гостила у «тети Фроси», и тотчас наполнила двор и дом своим звонким смехом и бесконечными рассуждениями по поводу самых различных событий местного и всемирного значения. Надобность в будильнике отпала, так как Татьяна, а именно так ее величали все в доме, была страшной противницей сна. Мне ни разу не удалось встать раньше нее, а возвращался я ко времени ежевечерних шумных баталий, которые проводились всем семейством по «уловлению» Татьяны и водворению ее на маленькую раскладушку под моими окнами. — Здравствуйте, дядьку, — услышал я, когда вышел во двор, чтобы умыться. — Вы вже проснулысь?… А вы вмиете крабыкив ловыть? А чего цэ вы сюды приихалы? Я спросил, как ее зовут, но Татьяна продолжала задавать мне уймищу вопросов, а по ее мучительно сморщенному носику, уже обгоревшему на солнце, я почувствовал, что она не все понимает из того, что я говорю. — Кажыть громче, — сказала ее мать, — вона недочувае… Что-то кольнуло в сердце… Эта веселая хохотушка, с таким огромным запасом вопросов, с такой жизнерадостностью, не совсем хорошо слышала… Но вскоре я приспособился. Татьяна очень хорошо понимала с губ, а обстоятельность и терпение, которые я проявил в этом первом разговоре, положили начало самой тесной дружбе. По секрету я написал своему знакомому, занимающемуся микрорадиоаппаратурой, и попросил его прислать мне какую-нибудь новинку в области слуховых аппаратов, так как усилитель для тугоухих с довольно громоздкими батареями был тяжел и неудобен, с ним Татьяна ходила только в школу. И вот, после того как мы «наловылы крабыкив» и наполнили две бутылки из-под молока рачками-отшельниками; после того как мы сходили «до ветряка», опытной и вполне современной ветросиловой установки; после того как я посторожил возле оранжереи, а Татьяна, протянув руку в выбитое стеклышко крыши, сорвала зеленый и прекислый лимон, — после всего этого она, болтая на самые различные темы, произнесла фразу, которая заставила меня насторожиться… — А вы бачылы море на нэби? А пароплавы? А город з высокимы башнями? — На небе? — переспросил я. — Что ты выдумываешь? — Я выдумываю?! — Татьяна обиделась, потом подумала, что ослышалась. — На нэби, от там! — Она указала куда-то вверх. — И чего цэ вы так довго спите? Га, дядьку? Дядечку? Я внимательно посмотрел на Татьяну. Нет, она не выдумывала, она действительно что-то видела. — А когда это ты видела? — Колы?… Як сонечко станэ, ось там… — Она вновь показала куда-то вверх. Я решил тоже посмотреть, как «ходять на нэби пароплавы» и на прочие чудеса, о которых мне всю дорогу рассказывала Татьяна. Наконец-то мне понадобился будильник! Я поставил его на половину пятого утра и, когда он чуть свет затарахтел, схватил его и хотел было спрятать под подушку. Но со двора донесся голосок Татьяны: «Дядьку, дядичку, скорийшь! Ну, дядичку!» Я наскоро оделся и вышел. Чуть розовая полоска на востоке только подчеркивала синеву еще ночного неба. Прохладный ветерок дул с моря, неся с собой запах рапы, пряный и острый дух прелых водорослей, полосой тянувшихся вдоль бровки берега. Татьяна стояла рядом со мной в тапках на босу ногу, накинув на плечи ватное одеяльце, под которым она спала. — Ты почему меня так торопила? — спросил я. — Не рано ли? — А хиба ж я знаю? — ответила Татьяна. — Ходимо до моря, там виднишь… Тихими спящими улицами мы прошли к морю. Ни в одном окне не было света, только высокий маяк, стоявший посередине улицы, еще продолжал мигать. Возле мола было пусто. Вдали, у мостков, протянувшихся далеко в море, несколько рыбаков собирались отчалить на утренний лов. — Ну, скоро ли? — спросил я Татьяну. — Угу! — кивнула она. — Почекайте трошки… Я присел на песок и залюбовался восходом солнца. Как хорошо, что Татьяна разбудила меня! Даже если ее чудо и выдумка… — Ось воно! Ось! — закричала Татьяна и запрыгала вокруг меня. — Ось, ну, шо я вам казала?! Ось воно! А «воно» было действительно удивительным! Сперва я не понял. Просто мелькнула вдалеке над морем какая-то светлая полоса и пропала… Вот она возникла снова и теперь осталась, а за ней наступали такие же светло-желтые полосы. Еще и еще… Потом небо, казалось, дрогнуло. И вдруг над моей головой раскинулось море. Но это было совсем другое море, не похожее на спокойную гладь перед нами. Волны казались неправдоподобно большими, будто кто-то поднял меня на необыкновенную высоту над бушующим морем и поставил перед глазами гигантское увеличительное стекло. Прямо в зените волны были огромными, а в глубине, под ними, был виден желтый песок, по которому быстро скользнула какая-то рыба… А волны всё неслись и неслись. Мелькнула чайка, усевшаяся на гребне волны, она показалась мне больше океанского парохода. И все видение бесшумно умчалось на восток, к спящему солнцу, диск которого показался над горизонтом… Татьяна притащила ворох сухих водорослей, и мы уселись на них. Я не мог прийти в себя от изумления. Лодка с рыбаками уже отчалила, люди спокойно гребли вдаль, к каменистой косе, обрамлявшей бухту. Видимо, они привыкли к этому явлению, не замечали его… Татьяна украдкой на меня поглядывала, и я понимал, что она досадовала на себя за то, что «продешевила»… Она, видимо, не ожидала, что просто красивая картинка в небе, которой можно просто полюбоваться, вдруг вызовет такое волнение и такой интерес у взрослого дядьки. — Это часто бывает? — спросил я. — Ни, — пожала плечами Татьяна, — тильки раз в день… — Каждый день?… И только утром? — Як свитает, — подтвердила Татьяна. — А что твой батько говорил, ты показывала ему? — А ему байдуже… — Байдуже? — Ему цього нэ трэба… У него бисова робота. — Татьяна не без иронии посмотрела на меня. — А яка у вас робота? — Погоди, Таня, значит, ты уже не раз видела это «море на нэби»? А когда первый раз, самый первый раз? Вспомни… Татьяна отбросила сухой песок смуглой ладошкой и, что-то шепча про себя, стала рисовать на влажном песке. — В той день, — сказала она, — вчителька була мною дуже задоволена и поставыла «видминно» по арифметики. Це було… — Я затаил дыхание. — Це було… восьмого березня, восьмого березня, восьмого марта! Ну да, був праздник… «Мираж, — думал я, — мираж!.. Да откуда ему взяться холодным апрельским утром? Что здесь, Сахара? Или тропики? Больше всего он напоминает верхний мираж полярных областей, но и для него здесь не место. Восьмого марта, говорит Татьяна… Может быть, и раньше, ведь это она впервые увидела «море на нэби» восьмого марта…» Признаюсь, я ждал, сам того не сознавая, что Татьяна назовет совсем другое число. Я ждал, что она назовет двадцать восьмое марта, так как именно двадцать восьмого марта произошла катастрофа в лаборатории Алексеева… Чем черт не шутит, может быть, между этими двумя событиями и есть связь… Но Татьяне я верил, у нее была очень четкая память и очень хорошо развита наблюдательность. В «Таврии» мой рассказ произвел впечатление. Вначале мне задавали каверзные вопросы, потом кто-то сказал, что я собираюсь разыграть всю компанию, но я, был очень серьезен, и наутро возле мола собралась большая группа наблюдателей. Невыспавшиеся, недоверчивые, хмурые, мои коллеги очень напоминали рассерженных и недовольных птиц. А когда видение появилось, все замерли и, как завороженные, смотрели вверх, а впереди, на самом берегу, стояла необычайно серьезная Таня и тянулась худенькими руками к своему чудесному и волшебному «морю на нэби»… Исследовательская лихорадка охватила всех, кто был в то утро на берегу, и всех, кто всматривался в небо на следующее утро. Таинственный мираж появлялся точно в одно и то же время. Это удивляло. Мираж возникал в пять утра и исчезал через полторы-две минуты, в зависимости от облачности. Была в этом какая-то таинственная закономерность, что-то необыкновенно важное… Никто вслух не высказал мысли о том, что мираж и деятельность лаборатории Алексеева могут быть как-то сопоставлены. Но об этом думали все… И эту возможность безусловно допускали в Академии наук, так как все наши заявки на приборы и оборудование для исследования миража были немедленно и щедро удовлетворены. В тихий порт, служивший пристанищем только для местных рыбачьих судов, устремились по воде, по воздуху, по пыльным дорогам потоки самых разнообразных грузов. Развалины лаборатории к тому времени спешно убирались, и на асфальтированном дворе Института звезд неуклюже суетились автопогрузчики, позаимствованные на соседних зерноэлеваторах. Порт выделил три крана для выгрузки прибывших тяжелых грузов; срочно был проведен дополнительный кабель, так как предполагалось использовать аппараты, потребляющие большую мощность. В прозрачную синеву утреннего неба устремились невидимые щупальцы современной науки. Мощные радарные установки поворачивались вслед на регулярно появляющимся миражем, но каждый раз мерцающие экраны осциллоскопов оставались безучастными к таинственному явлению. Только при грандиозных усилениях с помощью молекулярных усилителей удалось обнаружить незначительное отражение радиолуча на высоте в две тысячи километров. Вскоре был закончен монтаж сверхмощной ультразвуковой сирены с параболическим отражателем. Под открытым небом расположились грохочущие поршневые компрессоры, качавшие воздух в толстостенный ресивер. Около пятнадцати часов непрерывной работы насосов требовалось для создания необходимого запаса воздуха, который расходовался сиреной на протяжении пяти-шести минут. Поднятые в небо на шарах-зондах акустические устройства неожиданно уловили и передали на землю отраженный ультразвуковой сигнал… На высоте двух километров были обнаружены слои воздуха с небывало высокой температурой. Именно эти разреженные слои, подобно вогнутым зеркалам, отражали неизвестные далекие берега, плывущие по морю корабли» морские волны, «Это самый обычный мираж, — восклицал один из метеорологов, принимавший участие в исследовании, — самый обычный!» — «Но, — возражали ему, — если это обыкновенный мираж, то почему отражающие слои расположены так высоко? Почему он наблюдается только в определенное время? Почему его не искажают потоки нагретых и холодных воздушных масс? И почему, наконец, этот мираж, если только это мираж, отражает радиолуч?» Всем нам казалось, что мираж, появившись на западе, уходит на восток, и там. на востоке, его также можно обнаружить. Это ощущение было настолько полным и реальным, что мы были очень озадачены тем, что в море, уже на расстоянии ста километров от берега, он не наблюдался. В конце концов выяснилось, что мираж можно увидеть только со сравнительно небольшого участка, в центре которого находится Институт звезд. Это было первым намеком на то, что миражи действительно как-то связаны с лабораторией Алексеева. Дальнейшие исследования показали следующее: мираж возникал постепенно. Высокотемпературный слой воздуха, отражающий морской пейзаж, как бы погружался в земную атмосферу из ее более высоких областей, причем погружался довольно медленно, а затем так же медленно выходил из атмосферы. Было похоже, что в нашу атмосферу извне опускалось гигантское вогнутое зеркало и через несколько минут удалялось, чтобы вновь войти на рассвете следующего дня… В два часа ночи мой хозяин Федор Васильевич разбудил меня. — Вам звонят. Просят к телефону, — сказал он. Я прошел в его комнату. Меня вызывала Москва. «Будете говорить с Центром научной и технической информации», - сказала телефонистка. Я приготовил блокнот, стараясь представить, какого рода сообщение заставило работников информационного центра так торопиться. Вновь зазвенел телефон, я поднял трубку. — Опишите вкратце, — предложили мне, — особенности того явления, с которым вы столкнулись. Мы звонили в институт, но там никого сейчас нет. Я рассказал о мираже. Меня особенно подробно расспросили о характере тех картин, которые удалось нам разглядеть… — Видите ли, — сказали мне, — мы в затруднительном положении… Нами получена информация, в которой говорится о том, что обнаружен еще один пункт, где тоже появляется подобный мираж. Правда, нас смущает, что характер картин несколько иной… Я попросил продиктовать мне имеющееся в распоряжении Центра сообщение. Оно сводилось к следующему. Американские ученые Фил Джонс и Генри Даттон, занимаясь изучением гидрографического режима озера Верхнего, со своей яхты наблюдали удививший их мираж. Строго в определенное время, а именно в четыре часа двадцать минут утра, в небе возникало увеличенное изображение каких-то рек, сооружений, построек… Некоторые из этих картин оказались знакомыми исследователям. Так, ими было сфотографировано появившееся 10 марта «видение», оказавшееся изображением канала Су со многими кораблями и барками на нем. По их подсчетам, они в это время находились на расстоянии ста семидесяти пяти километров к западу от канала Су, соединяющего, как известно, озеро Верхнее с озером Гурон. Неоднократно ими наблюдались группы бревен, а также плоты, находящиеся от них на громадном расстоянии. Очень часто по небу скользили изображения лесных массивов, как бы видимых с птичьего полета… Я заверил, что сообщение представляет собой чрезвычайную ценность, и попросил сообщить координаты того пункта, в котором наблюдался мираж. Через несколько минут мне были продиктованы координаты. «Восемьдесят седьмой градус западной долготы, — записывал я, — и сорок седьмой градус северной широты…» — Это к северу от острова Гранд-Айленд, — говорил сотрудник Центра. Но я его больше не слушал: сорок седьмой градус северной широты! Да ведь на этой же широте находится наш Институт звезд, лаборатория Алексеева! Я бросил трубку и выбежал во двор. Федор Васильевич, надевая на ходу пиджак, уже шел к калитке. — Я сейчас вернусь, — крикнул он, — кажется, есть свободная машина! Он вскоре подъехал на видавшем виды дребезжащем «газике», выпуска чуть ли не пятидесятого года, и через тридцать минут мы уже были возле выстроенного на скорую руку общежития, в котором жили многие приехавшие сюда ученые. Сообщение Центра вызвало настоящий переполох. Все проснулись, откуда-то появился атлас, его раскрыли там, где пучком голубых пятен раскинулись Великие озера Америки. — А что я вам говорил? — торжествовал метеоролог. — Что я вам говорил? Раз это явление наблюдается не только здесь, не только у нас, то оно не имеет ни малейшей связи с катастрофой в лаборатории Алексеева. Отбросив «небесные видения», нужно изучать все работы лаборатории Алексеева, надо пригласить проницательного следователя, вот что! А этот мираж предоставить нам, метеорологам, специалистам в области физики атмосферы! — Но почему там время отличается от нашего, время появления картин? — донесся из полутьмы чей-то голос. — Разница чепуховая: там тоже в пять часов с минутами, ведь наши часы переведены на час вперед правительственным декретом, — возразил я, — а главное — совпадает широта места! — Совпадает, да не совсем… У нас сорок шесть градусов северной широты! — раздались голоса. — На градус расхождение! — Это не существенно, — быстро сказал метеоролог. — В наших широтах градус составляет только сто километров, и мираж хорошо виден на границах зоны наблюдения. Мы имеем дело с широтным эффектом, — не унимался метеоролог. — А мы знаем… — Совпадают широты? — быстро спросил что-то подсчитывающий на клочке бумаги Мурашев, совсем еще молодой научный работник из Института космогонии. — Одну минутку! (Он поднял левую руку. Все с интересом ждали, когда он закончит свои расчеты.) — Американцы, конечно, зарегистрировали время появления миража по своему поясному времени, а оно отличается от местного времени… Я сейчас пересчитаю… Если не ошибаюсь, то по местному времени появление миража у нас и у них почти совпадает… — Большая точность совпадения и не нужна, — опять донеслось из темноты, — не нужна, так как мы все равно не можем сказать с абсолютной точностью, когда у нас появляется мираж. Это время зависит от места наблюдения, от облачности на горизонте и других причин… — По-моему, — сказал я, — следует обратиться к этим двум американским наблюдателям с озера Верхнего и узнать, по какому времени они вели наблюдения. — Пожалуй… — нехотя согласился метеоролог. — Голубчики! — торжествуя, воскликнул Мурашев. — Я все пересчитал! Этот мираж, по их местному времени, появляется над озером Верхним тоже утром, точно в ту же минуту, что и над нашими головами… Только американские исследователи сообщили не местное время, а, по-видимому, среднепоясное. Часовой пояс охватывает пятнадцать градусов. Этой же ночью была отправлена большая телеграмма-анкета за океан. Ответ не заставил себя ждать. Действительно, Джонс и Даттон наблюдали мираж в то же самое время, что и мы. В их первом сообщении указывалось время их часового пояса. «Мы пользовались своими наручными часами, сверенными с радиосигналами точного времени Детройта», — радировали они. Сомнения отпали. Но возникли новые задачи, новые затруднения, из которых нас вывел Максим Федорович Топанов, новое действующее лицо этой необыкновенной истории, человек, о котором мы упомянули лишь вскользь.ТРЕТЬЯ ТОЧКА Я уже встречался с ним. Это был тот самый пожилой человек с темной тростью кизилового дерева, который так сильно, не скрывая своих чувств, переживал гибель Алексеева и его товарищей. Максим Федорович Топанов много лет был партийным работником. Лишь в зрелые годы он сумел окончить университет и некоторое время посвятить науке. Философ по образованию, он еще до войны опубликовал несколько работ в области философии естествознания, сразу же обративших на себя внимание. Но затем- война, армия и снова партийная работа… Он знал Алексеева на протяжении многих лет, и история их отношений будет рассказана позднее. Каждый день Топанов слушал наши споры на веранде «Таврии», повернувшись всем корпусом и наклонив голову в сторону того, кто говорил… Роста Максим Федорович был небольшого и походил на коренастый крепкий дуб, что растет посредине степи. Немало зимних метелей пыталось сломать этот дуб, немало палящих лучей пролило на него знойное летнее солнце, но он все стоит; только узловатые, гнутые сучья его все запомнили и ничего не забыли. Топанов никогда не расставался с тяжелой тростью, подарком ко дню рождения от друзей из Института звезд. Каждый нанес на трость свои инициалы либо виньетку. Была на ней и выпиленная из редкого сплава пластинка с тремя слитно выписанными буквами «А» — Алексей Алексеевич Алексеев… И, когда взгляд Топанова встречался с этим значком, ему казалось, что Алексеев, как всегда слегка прикоснувшись к его рукаву, спрашивал: «Почему, почему это все произошло, Максим Федорович?» Во время наших совещаний Максим Федорович всегда молчал. Он только слушал и лишь иногда, вращая в крепких пальцах лежащую на коленях трость, бормотал: «Не то… Нет, нет, не то…» И вдруг он попросил слова. В этот день Максим Федорович выглядел как-то особенно торжественно. Мы все обратили на это внимание. — Товарищи, — сказал он вполголоса и повторил: — Товарищи… Мне трудно говорить прежде всего потому, что я, кажется, вижу проблеск, пусть пока очень слабый… И притом мне — неспециалисту — приходится говорить о своей догадке вам — научным работникам. Возможно, что некоторым это покажется самонадеянным с моей стороны. Но я считаю, что чем больше будет мыслей и различных предположений, тем всестороннее мы осветим вопрос и скорее придем к разгадке причин случившейся трагедии. Но перейдем к делу… Мне удалось, кажется, подметить одну очень простую закономерность, а выводы вы сделаете лучше меня… Так вот, я обратил внимание на странное соотношение географических координат нашего Института звезд и того пункта в Америке, где также наблюдается это явление. Меридиан нашего места — 33 градуса восточной долготы, а меридиан пункта на озере Верхнее — 87 градусов западной долготы… — При равенстве широт! — подсказал кто-то. — Да, примерно при одной и той же широте… Так вот, — продолжал Максим Федорович, — в сумме эти долготы составляют точно 120 градусов. 33 да 87 — как раз сто двадцать! — По-видимому, это случайное совпадение, — сказал метеоролог. — Более важным, Максим Федорович, является, я неоднократно уже говорил, что явление это наблюдается вблизи значительных водных пространств. Так, у нас — огромная бухта, а там, в Америке, — озеро Верхнее… Максим Федорович дал метеорологу выговориться, а потом сказал: — Треть земного шара — вот что значат сто двадцать градусов. Как раз треть. Всего-то триста шестьдесят… Максим Федорович быстро прошел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с новеньким школьным глобусом. Из кармана достал блестящую металлическую рулетку. — Вот, смотрите, — говорил он, — я флажками отметил наш пункт и озеро Верхнее. Над сорок шестой параллелью я ставлю палец. Вращаю глобус. И получается, что дважды за оборот земного шара что-то неподвижное входит в атмосферу Земли: один раз над нашими головами, здесь, на Украине, и один раз — над озером Верхним в США. — Следовательно, — перебил его Григорьев, остроносый, лобастый и очкастый человек, специалист в области распространения радиоволн, — по-вашему выходит, что нечто вреде люстры висит неподвижно над земным шаром и дважды за сутки вызывает мираж пока неизвестным нам механизмом? Так получается? Следовательно, некий спутник, который мы никак не можем разглядеть, снабженный этаким часовым механизмом, дважды, если подтвердится ваша догадка, Максим Федорович, что-то такое проецирует в нашу атмосферу, после чего мы видим на небе морские волны, чаек и прочее… — Да, странно… — проговорил метеоролог, внимательно следя за выражением лица Максима Федоровича, — странно, что вы, Максим Федорович, сделали упор на тот, с позволения сказать, факт, что сто двадцать градусов составляют треть земного шара… Что-то вы не договариваете, Максим Федорович! — Ваша правда, ваша правда, — ответил Топанов и, обхватив ладонью стойку глобуса, стал медленно его вращать, подталкивая шар большим пальцем. — Завтра утром мы вновь увидим мираж, — будто про себя говорил Топанов, — а восемью часами раньше его видели американцы. И, если явление повторяется через сто двадцать градусов, значит, должно существовать и третье место, товарищи! — Топанов остановил глобус и воткнул в голубое пятно Тихого океана третью булавку с флажком. — Может быть, все это только простые совпадения, но уж очень заманчиво… — Здорово! — сказал метеоролог. — Но на чем основана ваша уверенность в существовании третьей точки, в которой также наблюдается мираж? Нет ли здесь не совсем ясно осознанного требования симметрии явления? — Соображение симметрии может оказаться решающим! — выкрикнул кто-то из сидящих за дальним столиком. — Там, где мы мало знаем, симметрия почти всегда выводит на правильную дорогу… — Нет, товарищи, — сказал Максим Федорович, — я не думал о симметрии, я думал о другом… Мы сейчас знаем, что Алексеевым были посланы ракеты исследовательского назначения, хотя мы не знаем точно заданной им программы. Если опыт, видимо связанный с ракетами, удался, как сообщал Алексеев, и его непонятным пока следствием является мираж, то зачем, скажите на милость, понадобилось Алексееву устраивать такой же мираж над Америкой? По-видимому, то устройство, которое носится над планетой, срабатывает каждые восемь часов, а появление картин над Америкой — это, так сказать, непредусмотренные издержки производства, что ли… Значит, мираж должен наблюдаться еще через восемь часов, вот в этом третьем месте, возле Курильских островов… — Мираж — побочное явление?! — заволновался метеоролог. — Нет, нет, создание, пусть для непонятных пока целей, подобных отражательных плоскостей в атмосфере, с таким грандиозным увеличением, может быть только самоцелью, уже это одно является таким достижением, что… — Но специальностью Алексеева были свойства вакуума! — сказал я. — Именно свойствами вакуума он и занимался, об этом говорят утвержденные Академией планы его работ, об этом говорят списки заказанных и доставленных ему приборов. — Нет! — воскликнул Максим Федорович. — Нет, не только вакуумом, не только свойствами безвоздушной среды в сосуде интересовался Алексеев. Я знал его довольно близко, приходилось сталкиваться по работе. Больше всего на свете Алексеев интересовался звездами. Их возникновением, их эволюцией. Ведь это очень близко стоит к проблемам вакуума в широком понимании… Что ждет звезду? Что ждет наше Солнце? Вот что было страстью Алексеева, вот чем он только и жил. Есть у меня такое предчувствие, что без звезд и здесь не обошлось… — Максим Федорович протянул бумажку нетерпеливому Григорьеву. — Вот я записал: на сто пятьдесят третьем меридиане восточной долготы к югу от Курил… Как раз на расстоянии трети земного шара от нашего места. А час появления, по солнечному времени, тот же, что и у нас… — А идея заманчивая, — сказал Григорьев. — И ее легко проверить… — Позвольте, — неожиданно вмешался метеоролог (только сейчас я узнал его фамилию: это был довольно известный специалист по физике атмосферы Леднев). — Позвольте! Я все-таки сомневаюсь в том, что это явление связано с каким-то искусственным спутником! Почему мираж не возникает во всех пунктах, над которыми проходит спутник?… — Аппаратура спутника периодического действия, по-видимому, — сказал Григорьев. — Каждые восемь часов спутник обнаруживает себя и аппаратура срабатывает. — Периодического действия?… — протянул Леднев. — Какое-то очень сложное допущение. Максим Федорович вытащил из кармана рулетку, нажав кнопку, развернул ее гибкое стальное полотно с нанесенными на нем сантиметровыми делениями. Полотно, длиной в два метра, было похоже на тонкую шпагу. Максим Федорович согнул стальную ленту в кольцо и одел поверх глобуса. Все с напряженным вниманием следили за ним. — Ну что ж, это обычная школьная схема для демонстрации движения спутника над земной поверхностью, — сказал метеоролог. Лицо Григорьева выражало ожидание. Я был несколько разочарован слишком уж простым подходом к делу со стороны Максима Федоровича. «Не много ли он на себя берет, — подумал я, — хотя… Если окажется, что мираж виден и с Курил…» — Вот что, — заговорил Максим Федорович, и вновь его волнение передалось нам, — вот что… А если спутник движется по вытянутой орбите? Все последующее потонуло в выкриках. Все вскочили со своих мест. В шуме голосов можно было услышать: «Это перигей! Не спешите! Черт, а не человек!» Григорьев взял из рук Максима Федоровича ленту, согнутую в кольцо, и, надев кольцо на глобус, показал то место, где лента рулетки была в наибольшей близости к его поверхности. — Здесь, — сказал он, — в перигее, спутник и вызывает мираж. Это вы хотели сказать, Максим Федорович? — Да, если полный оборот спутника равен восьми часам, — подсказал один из астрономов. — Причем ровно восьми часам! — Совершенно верно, тогда под спутником, в момент прохождения перигея, будет уже не озеро Верхнее, а мы с вами, товарищи. А еще через восемь часов будут Курилы (говоря это, Григорьев поворачивал глобус). Да это проще, чем апельсин! И периодичность миража получает естественное объяснение… Надо срочно связаться с Москвой… Выбор пал на меня. Через несколько часов я был в Москве. — Вам повезло, — сказали мне в Управлении океанологических исследований, — примерно в этом районе находится наш лучший корабль «Руслан». Не думаем, однако, что он прервет свою программу работ ради вас… Я срочно связался с комиссией по расследованию катастрофы в лаборатории Алексеева, попросил Максима Федоровича к телефону. — Затруднения? — удивился Максим Федорович. — Да какие могут быть затруднения в таком деле? Я все улажу, — успокоил он меня. — Вот чепуха какая… Позади утомительный перелет во Владивосток. К счастью, он занял немного времени, и я мысленно посочувствовал тем, кто еще так недавно тратил на него целых пять часов. Во Владивостоке срочно связались по радио с капитаном «Руслана». — «Руслан» ведет сейчас исследование Тускароры, знаменитой Курильской впадины, и находится на расстоянии двухсот километров от интересующей вас точки. Мы можем предложить вам скоростной катер, можем отправить реактивным гидросамолетом. Я выбрал гидросамолет, и через два часа сверкающая металлическая чайка покачивалась рядом с белоснежным гигантом — гордостью советских океанологов «Русланом». С «Руслана» спустили шлюпку, а когда я поднялся наверх, меня встретил капитан и пригласил в свою каюту. — Мне сообщили о том, что я должен изменить курс и срочно идти к пункту, координаты которого вы мне сообщите. Это не далеко отсюда? Я передал капитану радиограмму, которую получил в самолете. В ней сообщалось точное местоположение, вычисленное и проверенное электронно-счетным центром. — Так, — сказал капитан, складывая телеграмму, — следовать вдоль по сто пятьдесят третьему меридиану, а там держаться в пределах указанного квадрата… Ладно, я дам необходимую команду… День за днем корабль бороздил океан, но нас ждала неудача: небо было все время затянуто тучами. — На небо глазеть лучше всего осенью, — ворчал руководитель научной группы «Руслана», - в этих местах весь сентябрь, да и весь октябрь солнце светит вовсю, а сейчас… Я понимал его. Волей-неволей мы срывали план научных работ. И я ловил на себе не очень приветливые взгляды членов океанологической экспедиции. Конечно, эти отважные люди не переносили вынужденного безделья. Как-то я спустился в трюм и в специальных стойках увидел огромные обтекаемые устройства с легкими рулями и иллюминаторами, похожими на увеличенные глаза рыб-телескопов. Это были аппараты для наблюдения подводного мира на глубине чуть ли не в 9000 метров. Я осторожно прикоснулся к матовой поверхности глубоководного устройства. Достаточно трещины толщиной с волос, чтобы острая водяная струя под гигантским давлением уничтожила бы всех, кто осмелился штурмовать тайны океана. А сейчас впустую проходят драгоценные для океанологов дни… И объяснить им, в чем суть дела, я не имею права. Каждый день приходили телеграммы от Топанова. Он незаметно для всех стал фактическим руководителем комиссии. Это произошло как само собою разумеющееся. Мы ждали солнечного утра, а когда оно наступило… — Это? — тихо спросил меня капитан. Его рука клещами стиснула мое плечо. — Это? А в небе, сверкая нестерпимыми для глаз бликами, раскинулось уже знакомое мне «море на нэби», но это уже было не море: бесконечный океан простерся над нашим кораблем. — Это! — ответил я, провожая глазами стремительно несущиеся к восходящему солнцу сияющие волны.
ПОИСКИ СПУТНИКА Снежным комом разрасталась «проблема Алексеева». Все новые и новые люди втягивались в расследование, непрерывно обнаруживались такие свойства таинственного «миража», которые вынуждали нас проделывать массу дополнительных исследований и расчетов, иногда целиком изменять направление поисков. Решенные и нерешенные вопросы, гипотезы, человеческие страсти и интересы, удивительные факты и строгие математические построения образовали чудесный сплав, в центре которого находилась разгадка.Но никто и не предполагал, что действительность окажется такой необычной, так тесно сомкнётся с самой удивительной фантастикой… Прежде всего были подвергнуты детальному анализу все параметры возможной орбиты «спутника Алексеева». Делая полный оборот за восемь часов без нескольких секунд, этот предполагаемый спутник мог иметь радиус, или, вернее, относительную полуось, орбиты примерно в 19000 километров. Это означало, что в случае сильно вытянутой эллиптической орбиты (а наличие перигея говорило именно об этом) высота «спутника Алексеева» над поверхностью Земли колебалась бы в пределах от 200 до 27 000 километров. Однако было ясно, что неизменность периода обращения говорит за более значительную высоту прохождения спутника в перигее, так как приближение к поверхности Земли было бы связано с резким увеличением сопротивления воздуха. Замедление же спутника тотчас же вызвало бы уменьшение периода его обращения вокруг земного шара. Теперь нужно было попытаться точно определить орбиту предполагаемого «спутника Алексеева». Основная сложность заключалась в том, что спутник был невидим. Однако радиолокаторы по-прежнему отмечали слабое отражение радиолуча с высоты 2000 километров. Этим обстоятельством и предложил воспользоваться Григорьев, и уже через несколько часов нами был определен эксцентриситет, «сплющенность» эллиптической орбиты. «Спутник Алексеева» проходит перигей на высоте в 2000 километров. Наибольшее удаление — 26000 километров», - записал Григорьев в журнале. Вскоре были рассчитаны все промежуточные точки на небосводе, которые проходил спутник, и армия любителей астрономии, не говоря о всех обсерваториях Советского Союза, приняла участие в «ловле» «спутника Алексеева». К сожалению, с наступлением лета рассвет приходился на всё более ранние часы, и в самом благоприятном положении спутник оказывался недоступным, так как в ярком голубом небе нельзя было разглядеть маленькую светящуюся точку. Довольно стройную гипотезу метеорологов, объясняющую появление миражей, пришлось окончательно отвергнуть. Дело в том, что при образовании эффекта миражей громадную роль играет положение солнца относительно наблюдателя. Если бы наш мираж возникал по тем же законам, по которым он возникает над раскаленными пустынями, то время его появления было бы тесно связано со временем восхода солнца, становясь все более и более ранним. Этого, однако, не происходило, и, чем дальше, тем больше увеличивался разрыв между появлением миража и восходом солнца… Все раньше и раньше всходило солнце, время же появления миража оставалось неизменным. Но работы метеорологов, занимавшихся изучением «широтных миражей», как они упорно называли это явление, не прошли бесследно. К ним пришлось вскоре обратиться за разрешением новых загадок, непрерывно возникавших в этом трудном и сложном расследовании. Все астрографы Советского Союза, повинуясь неторопливому тиканью часовых механизмов, внимательно следили за участками неба, по которым должен был мчаться «спутник Алексеева». Со дня на день ожидалось получение фотографии, на которой среди россыпи звезд мелькнула бы черточка спутника. Однако негативы, отовсюду поступавшие к нам с подробным описанием условий съемки, содержали неутешительное заключение: «спутник не обнаружен». Неудача была настолько полной, что Топанову понадобилась вся его выдержка, чтобы успокоить растерявшихся и перессорившихся членов комиссии. Топанов так же не избежал выпадов против себя. К стыду своему должен сознаться, что именно я обвинил во всем его очень заманчивую, но, по-видимому, неверную гипотезу. — Да, не все, что просто, является обязательно верным, — заявил я на этом заседании. — Нужно резко менять ход расследования, мы и так потеряли много времени… — А я, — ответил Топанов, — уверен, что мы идем правильным путем, и, не исследуя простые и логические гипотезы, мы не получим права на проверку более сложных предположений. Думается мне, что на эти ваши фотопластинки вы смотрите не так, как нужно… — Разучились? — не без иронии сказал один из астрономов. — Нет, нет, не разучились, а не научились, — быстро отпарировал Топанов. — В науку я верю. Не всегда верю ученым, особенно увлекающимся… Вы не получили от нашей гипотезы ожидаемого результата и уже готовы свою «игрушку» сломать и выбросить. Но мы здесь не в бирюльки играем. От выяснения причин гибели лаборатории Алексеева зависит план исследовательских работ в важнейших областях науки и техники. Честь, высокая честь заниматься этим и, между прочим, большая ответственность! А здесь вспыхнули такие страсти… — Топанов даже развел руками. — Так вот, товарищи, не умеете вы смотреть на эти пластинки. Нам известно, что, несмотря на значительную скорость запущенных Алексеевым ракет, их полезная нагрузка была сравнительно небольшой. Только тысяча триста килограммов груза помещалось в контейнере последней ступени. Мы не знаем, что произошло с контейнером ракеты Алексеева. Но он не носится как одно целое — это очевидно, это ясно, товарищи. Следовательно, контейнер мог быть наполнен не аппаратурой, а каким-нибудь газом. веществом, способным взрываться… Действительно, товарищи, может быть, Алексеев взорвал контейнер, и именно в этом и состоял его опыт? Может быть, съемки нужно вести с какими-то специальными фильтрами? Ведь их подбором никто не занимался. Ясно, что к «спутнику Алексеева» должен быть очень осторожный и терпеливый подход, а закатывать истерики по поводу первой же неудачи — последнее дело… Топанов будто нечаянно взглянул на меня и сел на свое место. Скоро мы получили возможность еще раз удивиться его прозорливости. Спутник действительно присутствовал на негативах, только увидеть его оказалось далеко не простым делом… …Вечером мой милейший хозяин Федор Васильевич оторвал меня от расчетов. — Досыть! — сказал он и захлопнул мой блокнот. — Хватит! Идемте к нам, морского козла забьем… Сосед, старый рыбак, был партнером Федора Васильевича, моим же партнером была Татьяна. «Много с такой помощницей не наиграешь, — подумал я, — от горшка три вершка…» Мы сидели в «беседке» за широким столом из сосновых досок. Мысли о последних событиях не покидали меня, но постепенно я увлекся. Да иначе и быть не могло. Татьяна оказалась заправским игроком в домино. Первый же мой необдуманный ход вызвал бурю с ее стороны. Она бросила свои кости на стол и быстро-быстро заговорила о том, что дядьку (то есть я) ну ничего, «ничегосеньки» не соображает, что нужно было «робыть рыбу, а вин…» Игра потребовала от меня предельного внимания, и Татьяна несколько раз подмигивала мне, — одобряя тот или иной ход. — А чи можно до вас, люди добрые? — раздалось из-за забора. Голос был знакомый. Я быстро встал и подошел к калитке. Это был Топанов. Я хотел провести его к себе, но Топанов направился к столу. Он, оказывается, давно знал Федора Васильевича по каким-то делам, связанным с восстановлением разрушенного войной совхозного хозяйства. Игра продолжалась. Топанов вскоре заменил меня, так как Татьяна после какой-то моей ошибки, я сам так ее и не понял, дала мне отставку. Топанов играл вдумчиво и, по-видимому, сразу нашел общий язык с Татьяной, потому что она притихла и, морща носик, восхищенно следила за какой-то тонкой сетью, которую незаметно сплетал Топанов. — Ну, что сидишь? — спросил Топанов Татьяну, когда их противники, вдоволь настучавшись, напряженно ждали ее хода. — Ведь у тебя… — Генеральский! — закричала Татьяна. — А ну, тату, вставайте, вси вставайте! Татьяна торопливо поставила на место два дубля: дубль «шесть» и дубль «пусто». — Ты, Федор Васильевич, — сказал Топанов, — все меня забивал. Из последних сил старался, а дело-то было не во мне… Вот вам Татьяна и показала, где раки зимуют, вот и показала! — Топанов коротко рассмеялся, а потом добавил, развивая какую-то свою потаенную мысль. — И ничего нельзя со счетов скидывать… Особенно живое… Он, перегнувшись через стол, потрепал Татьяну по худому плечику. — Що дядьку каже, що вин каже? — заволновалась Татьяна. — Спать пора, ось що вин каже, — сказал Федор Васильевич. Татьяна убежала во двор, Федор Васильевич пошел за ней, и вскоре до нас донесся такой знакомый разговор про ужасную необходимость спать ночью, про давно обещанную поездку на лодке, про то, что ее «виддадут до чужих людей, як не буде слухаться», и про многие другие приятные и неприятные вещи. Мы пошли вместе с Максимом Федоровичем ко мне в комнату. — Я все думаю об Алексееве, — сказал мне Топанов, — все вспоминаю его, стараюсь понять… Вот вы, ученые, часто относитесь к матушке-природе, как к собранию более или менее хитро сплетенных фактов, но не подозреваете ее в коварстве. Вы всегда склонны искать причину неудачи прежде всего в каких-то новых свойствах, вам еще неизвестных, а я, грешный человек, когда сталкиваюсь с проявлением каких-то бессмысленных и коварных сил, всегда стараюсь понять человека, ставшего их жертвой. — Вы очеловечиваете природу? — сказал я. — Вы навязываете ей чисто человеческую хитрость и коварство? — Нет, не так прямо… Я просто хочу понять, что именно в качествах человека, в его мышлении, в его действиях могло привести к тем или другим удачам, или ошибкам. Что именно могло привести Алексеева к его удивительным открытиям, в существовании которых теперь можно не сомневаться, и что привело его к катастрофе?… Ну не ждал, не гадал, не думал, что существует опасность, но почему именно он с этим столкнулся, почему именно его оплошность вскрыла какой-то страшный и грозный тайник природы? В комнате было темно. Я не зажигал свет, и сквозь открытое окно были видны яркие звезды. Тихо и назойливо звенел одинокий комар, да ровно посапывала спящая под окном Татьяна. Она засыпала быстро, как засыпают уставшие за день птицы. — Я знаю, — продолжал Топанов, — что вы на меня сердитесь за то, что я вас несколько осадил. Я знаю, что вы считаете меня несколько самонадеянным… — Не совсем так… — быстро сказал я, но Максим Федорович перебил меня. — Пусть… Я и не претендую на какую-то особую непогрешимость и всезнайство. В сложных вопросах науки и не нужно беспрекословное подчинение. Оно вредно. И если я почувствую, что неправ, то немедленно соглашусь с моим самым ярым оппонентом. — Вы уже много сделали, ведь именно вы поняли, с чем мы имеем дело… — Нет, я сделал очень немного. Вот вам кажется, что еще месяц-другой, и будет выяснено содержание работ Алексеева; там, глядишь, пяток новых формул украсят ваши справочники, и все? И разъезжайся по домам? Нет, нет и нет! Все только начинается, мы сделали только два-три первых шага, и вы нескоро избавитесь от старика Топанова, очень нескоро! — Топанов задумался. — Но, Максим Федорович, — решился я, — ведь мы занимаемся сугубо специальными проблемами, и вы должны считаться с опытом, со знаниями людей… — А не предлагать дилетантские вещи? Так? Договаривайте… — Ну вот сегодня, когда речь зашла о том, что спутник не удалось сфотографировать, несмотря на попытки лучших специалистов в области астрофотографии… Я вас заверяю, что каждый квадратный миллиметр тех участков пластинки, где ожидался «спутник Алексеева», просматривался при больших увеличениях. Ведь известно, что при фотографировании быстро летящего по небу спутника он обнаружится не отдельной звездочкой, а черточкой. И такой черточки не удалось найти. Так зачем предлагать еще и еще раз смотреть и просматривать эти никому не нужные негативы? — Согласен, — сказал Максим Федорович, — совершенно с вами согласен. Незачем их просматривать… пустым глазом, — добавил он неожиданно. — Да вы и не смотрели на них! Что из того, что на них просто так пялят глаза. Так смотреть не следует, в этом вы правы. — А как же? — А так нужно смотреть, как мать сына высматривает, что с войны должен вернуться! Дали вам в руки добросовестно сделанные фотографии, ценнейший материал! Так нужно изучать, товарищ ученый, изучать, а не глазеть. Не обиделись, надеюсь?… — Нет… Но… — Вот что, — Максим Федорович придвинул свой стул поближе ко мне. — Я как-то давно одним делом занимался… Фальшивыми деньгами… Не волнуйся, я их не изготавливал. Так вот, когда получили мы эти деньги, тридцатки, такие рыженькие, мне и показали, что по внешнему виду их отличить нельзя, ну никак, понимаешь, нельзя! Все точно, до последней черточки! Еще бы, лучшие мастера одного иностранного государства старались… И простой микроскоп результата не дал. А вот когда вложили в стереоскоп с одной стороны нашу советскую кредитку, а с другой стороны липовую, сразу и показались в двух-трех местах штришки, будто из бумаги занозы вылезли… — Максим Федорович, вот вы говорите о стереоскопе… Да, астрономия давным-давно применяет и стереофотографию, и стереоскопы, и стереомикроскопию. Но дело все в том, что стереофотография используется только для сравнения, — вы следите за мной, Максим Федорович? — Слежу, слежу, — быстро откликнулся он. — Только для сравнения одного и того же участка неба, снятого, скажем, в различных лучах, с применением различных фильтров либо в различное время. — Вот именно: в различное время, — сказал Максим Федорович и поднялся. — Так вот, отправьте телеграмму такого содержания: «Срочно изготовьте фотографии тех участков звездного неба, на фоне которых возможен пролет спутника. Негативы присылайте вместе с прежними фотографиями, сделанными в расчетное время». Вот так или в этом роде, ну, вам виднее…
СНОВА ЗАГАДКА
Итак, каждый участок был снят дважды. Один раз в момент ожидаемого пролета «спутника Алексеева», второй раз до или после пролета. К нам прибыл специально сконструированный широкоугольный сте-реомикроскоп. Снимки оказались совершенно идентичными, за исключением очень мелких деталей, вполне удовлетворительно объясняемых неоднородностями эмульсионного слоя пластинок. — Попробуем подойти с другой стороны, — сказал неунывающий Топанов. — Что ж, бывает… Теперь займемся более внимательно документацией лаборатории. К этому времени метеоролог Леднев точными и прямыми опытами показал, что температура воздуха в отражающем мираж слое повышается из-за концентрации в нем инфракрасных лучей. По его предложению были подняты ракеты с фотоэлементами, чувствительными к инфракрасным лучам, и автоматически действующим передатчиком, сообщавшим на Землю данные о направлении и интенсивности излучения. Именно метеорологи обратили внимание на ряд последовательных заказов лаборатории Алексеева, поступивших на завод экспериментального вакуумного оборудования Сибирского филиала Академии наук. Речь шла о выполнении весьма сложных устройств, напоминавших собой плоские полые колбы со впаянными внутри электродами и мелкозернистым флуоресцирующим экраном, нанесенным на внутреннюю сторону квадратного основания колбы. «Рецептура как люминофоров, так и чувствительной к квантам света пленки на противоположной стороне колбы, — писали нам работники завода-изготовителя, — говорят в пользу того, что академик Алексеев стремился получить в свое распоряжение устройство для наблюдения объектов в инфракрасных лучах». «Все устройство представляет собой усовершенствованную модель так называемого стакана Холста, издавна употребляемого для обнаружения светящихся инфракрасными лучами удаленных предметов», — таково было заключение группы специалистов вакуумщиков, полученное нами совершенно независимо от мнения работников завода. Таким образом, Алексеев пользовался прибором для видения в инфракрасных лучах. Топанов попросил завод изготовить еще два точно таких же устройства. Вскоре грузовой самолет доставил нам большой ящик, из которого была извлечена огромная полупрозрачная колба, очень напоминающая большую телевизионную трубку, только с отломанным хвостом. Днище колбы мы поместили в ящик, в передней стенке которого находился объектив, сделанный из кристалла каменной соли, так как в этом диапазоне длин волн можно было ожидать большого поглощения инфракрасных лучей стеклом простой линзы. — Вы думаете, что Алексеев при помощи этого сооружения наблюдал мираж? — спросил я. — Трудно сказать, куда смотрел Алексеев, — ответил Топанов, внимательно следя за работой механиков, монтировавших установку. — Правда, напоминает большой фотоаппарат? Только вместо матового стекла — плоская колба. Под вечер экран колбы засветился голубым светом. Его установили внутрь камеры, ввинтили объектив из каменной соли. В полной темноте на расстоянии пятнадцати шагов был отчетливо виден слегка нагретый электрический чайник; инфракрасные лучи, излучаемые им, давали на экране четкое изображение. Все с нетерпением ждали утра. И утро наступило. Черным, непрозрачным для видимых лучей кварцевым стеклом закрыли объектив. Теперь сквозь него могли проходить только инфракрасные лучи. Вот на небе раскинулся знакомый мираж. Сейчас над нами отчетливо виден какой-то песчаный островок, отмель, но на экране ничего этого нет… На экране какое-то вытянутое светлое пятно… Мираж уходит в зенит, и это пятно как-то размазывается; вот оно закрыло собой весь экран, а потом вновь стало сигарообразным, узким и длинным, и исчезло… Григорьев, который производил съемку с флуоресцирующего экрана, отключил киноаппарат, пожал плечами и что-то огорченно проворчал. Разочарование было полным… Двадцать восьмого мая произошли два события, которые показали, что мы все-таки идем по правильному пути. Утреннее заседание комиссии было созвано по просьбе астронома Кашникова, костистого, длиннорукого застенчивого блондина. Кашников долго размахивал руками, от волнения ему было трудно говорить, потом неожиданно хриплым голосом выкрикнул: — Есть «спутник Алексеева»! Есть!.. Идемте ко мне! Мы все отправились в «библиотеку негативов», помещавшуюся в маленьком домике, который недели две назад притащил сюда в уже собранном виде подъемный кран. Здесь в деревянных некрашеных шкафах собирались тысячи негативов, по-прежнему прибывающих отовсюду… Все по одному подходили к стереомикроскопу и всматривались в черные размытые точки-звезды. — Против легкой царапины, я ее сделал иглой, — показывал нам Кашников. — Смотрите как раз против царапины… — Да, что-то есть, — говорили мы неуверенно. — Как будто одна звездочка выходит из плоскости… — Как будто! Да она совсем выскочила! — Кашников побежал к микроскопу и, отстранив Григорьева, который хотел было в него заглянуть, наклонился над окулярами и быстро завертел винтами. — Ну конечно же! Ясно, совершенно ясно! Звезда выходит из плоскости, так оно и должно быть. Это не обычный спутник! Оказывается, произошло вот что. Кашников как-то обратил внимание на то, что прибывший из Крымской обсерватории пакет с негативами содержал приписку: «Снимки сделаны на высокочувствительной пленке, возможная длина штриха 0,5 мм. Спутник не обнаружен». Кашников решил сравнить два одинаковых участка неба, из которых один был «без спутника», а на другом спутник мог быть. Этот участок неба был весь усеян тысячами звезд. «Какой-то участок Млечного Пути», — подумал Кашников и вскрикнул: — Одна звезда «вышла» из негатива! Эта звезда имела вид микроскопически маленького серебристого блюдца, которое одним краем оставалось на уровне пластинки, а другим будто вышло за нее и торчит, как заусенец. И была она именно на том снимке, который был сделан в момент прохождения спутника. Среди присланных из Крыма шестнадцати негативов Кашников обнаружил восемь таких, на которых также оказались размытые, ставшие на ребро звезды-диски. Наконец! Наконец астрономы получили надежное доказательство существования «спутника Алексеева». — Значит, в чем же дело? — спросил Топанов. — Этот спутник, выходит, сам не отражает свет, а только размывает изображение звезды, которое за ним находится? — Это ясно, — сказал Кашников. — Для меня это ясно. Вместо спутника носится комок каких-то газов. Проходя на фоне далеких звезд, он вызывает преломление луча, идущего от звезды. Спутник не существует как целое — это скорее облачко, вроде хвоста кометы… — А вот это еще не доказано, — заметил Григорьев. — Но нам сегодня улыбнулась удача. Только теперь мы можем прямо сказать, что по рассчитанной нами орбите непрерывно следует искусственный спутник пока еще не выясненной физической природы. А что касается преломления, то это мы уточним…СИГНАЛ
В тот же день к Топанову пришел начальник аварийной команды и положил на его стол металлическую кассету для магнитной записи. Тончайшая ферромагнитная проволочка содержала подробную запись всех сигналов, которые посылались с небольшой радиостанции Алексеева. Антенна радиостанции почти всегда, как показали немногие, но тщательно собранные свидетельские показания, была направлена вертикально вверх. — По-видимому, на «спутнике Алексеева», - сказал начальник аварийной команды, — находилось какое-то управляемое устройство. Кассету мы не могли достать сразу, пришлось разрезать сварившийся в одно целое корпус передатчика. Хотите знать, что мы, аварийники, думаем? Мы убедились, что основные разрушения, с наибольшими температурами и давлениями, пришлись именно на блок питания и манипуляции радиостанции. И чему там было взрываться?… Проволочка с записью была помещена в магнитофон, соединенный с осциллографом, и внимательно «просмотрена». На экране осциллографа появлялись четкие сигналы, следующие через равные промежутки времени. Затем вдруг возник одиночный импульс очень сложной формы. На нем запись обрывалась. — Не последний ли это сигнал? — спросил задумчиво Топанов. — А после него был взрыв… И лаборатории не стало… — А может быть, это взрыв и записан? — предположил Григорьев. — Я хочу сказать, что токи при замыкании могли иметь вот такую сложную форму… Григорьев переключил магнитофон на перемотку и вдруг спросил: — А точное время катастрофы нам известно? — Конечно, — ответил начальник аварийной команды, — хотя бы по времени отключения лаборатории от электрической сети; самописцы-то отметили. — Тогда мы можем кое-что узнать… — Григорьев вновь включил магнитофон на воспроизведение и внимательно всмотрелся в экран. — Вот эти равномерные пики — отметки времени. Каждая следует через пять секунд, двойные импульсы соответствуют минутам… И сразу же последний сигнал, и всё… — Радиостанция включалась автоматически, ровно в четыре часа утра, — заметил Леднев, — мы можем подсчитать отметки времени, и тогда… — …И тогда сравним с записью на электростанции и определим. Леднев бросился к двери. — Я сейчас на электростанцию, привезу ленту самописца, — бросил он на ходу. Мы всё еще считали сигналы времени, утомительно вспыхивающие на экране, когда услышали шум автомобиля, на котором вернулся Леднев. Да, записанный на ферропроволоке сигнал сложной формы был последним сигналом. Именно это время показывала и лента электростанции. После этой минуты не существовало ни радиостанции, ни самой лаборатории Алексеева. — Значит, катастрофа произошла в пять утра… — проговорил Топанов. — Мираж… — тихо сказал Леднев. — Выходит, что в момент катастрофы над лабораторией Алексеева проносился мираж! Как мы раньше не обратили внимания на это совпадение? Выходит, что Алексеев послал этот сигнал, и вслед за тем… и вслед за тем… Нет, это просто страшно! Как мало мы знаем, черт возьми! — А как было бы здорово, — не глядя ни на кого, проговорил Топанов, — послать на «спутник Алексеева» вот этот самый сигнал. Проверить… — Послать сигнал? И притом избежать смертельной опасности? — спросил Григорьев. — А это уже не вопрос, а конкретная задача, — ответил Топанов. — Сигнал должен быть послан… В головную часть облегченной ракеты с потолком в 1500 километров был вмонтирован передатчик. В нужный момент он должен был послать сигнал, записанный с ферропроволоки. Наблюдение за ракетой велось с помощью радиолокаторов и оптическим путем со стратосферных самолетов. В пять часов утра седьмого июня в небо взвилась ракета. Мы находились на каменистой косе, далеко уходящей в море, сюда был перенесен пункт наблюдения. В момент, когда ракета достигла заданной высоты и с антенны ее радиопередатчика был послан сигнал, мы все увидели в голубом небе нестерпимо яркую точку. Вскоре «волны» миража поглотили ее. С самолетов пришли первые сообщения. Точно в секунду посылки сигнала ракета взорвалась, превратившись в огненный шар с поперечником в пять километров… …Папка с результатами запуска ракеты лежала перед Топановым. — Но почему взорвалась ракета? — в сотый раз спрашивал членов комиссии радиофизик Григорьев. — Неужели она не израсходовала всего топлива? Что могло там взорваться? Прочтите еще раз данные ракеты. — В ракете не оставалось ни грамма горючего, — твердо сказал Топанов. — Все горючее полностью сгорело в первые пять секунд полета, я хорошо знаю ракеты этого типа. Взрываться, выходит, нечему. — И все-таки взрыв был! — развел руками Григорьев. — И какой взрыв! — Похоже, что какая-то часть вещества ракеты отдала скрытые запасы энергии… — заметил Мурашев. — Да по какой причине? — резко спросил Григорьев. — По какой причине? — повторил он. — Мы можем вызвать разложение тяжелых ядер урана или плутония, мы можем вызвать перегруппировку легких ядер, можем вызвать термоядерную реакцию, это так. Но ракета… Она разлетелась в пыль, как будто на ней была атомная бомба. — А почему погиб Алексеев? — спросил Топанов. — Откуда взялась энергия, превратившая здание лаборатории в груду обломков? Ничего мы не знаем… — И какова роль сигнала? — Голос Григорьева был едва слышен, он закрыл руками лицо и сейчас покачивался на стуле. — Этот сигнал и убил Алексеева, — сказал Топанов, задумчиво просматривая фотографии взрыва. — И хорошо, что мы его не послали с Земли. …10 июня — памятное для всех нас число. Солнечное затмение, ожидавшееся утром, потребовало целого ряда подготовительных работ. Каждая научная база, с которой могли вестись наблюдения, обязана была включиться в работу. Нас это касалось в первую очередь, так как к тому времени у нас накопилось довольно много специального инструментария. Вечером я долго возился со спектрографом — его линза оказалась смещенной при перевозке и задала нам работу чуть ли не на всю ночь. В четыре утра меня поднял Топанов. Мы наскоро перекусили и поспешили к причалу, где нас ждала моторная лодка. — Вас не смущает, что солнечное затмение случайно совпадает по времени с появлением миража? — спросил Топанов. — Нет… — А вон Григорьев наводит переносной астрограф на точку, в которой должен появиться «спутник Алексеева»… Вы помогите ему… Я первым выпрыгнул на берег и направился к Григорьеву. — Что вы хотите делать? — спросил я его. — Ведь это бесполезно, спутник невидим… — Нужно сфотографировать то, что покажется вместо миража… — ответил Григорьев. — Так, на всякий случай… Да что вы стоите, через четверть часа начнется затмение! Томительно потянулись минуты. Вот на правый край солнечного диска надвинулся тонкий черный ноготок, еще минута, еще… Началось! Это было первое полное затмение, которое мне пришлось видеть. Я смотрел на солнце в маленькую вспомогательную трубку астрографа, окуляр которой был закрыт черным фильтром. Наконец от темно-красного диска солнца остался только серп, похожий на лунный. Он был настолько ярким. что вокруг стоял еще день, странный, призрачный день… — Появляется мираж! — донесся крик Топанова. Он указывал на запад своей палкой. Я мельком взглянул на ставшие привычными желто-зеленые полосы миража и опять было повернулся к астрографу, возле которого так удобно устроился, как вдруг единый крик вырвался у всех. Сперва я не понял, что произошло, но потом посмотрел вверх и застыл… Невиданное и неожиданное зрелище развернулось над нами. С запада на восток неслось какое-то сверкающее тело! Солнце в этот момент полностью заслонил черный диск Луны и, по небу, усеянному вдруг вспыхнувшими звездами, к нам вместо миража неслось сигарообразное светящееся облако. У нас над головой оно неожиданно развернулось. Теперь это было яркое светящееся ядро, от которого шли широкие спиральные ветви, игравшие быстро мигающими разноцветными блестками. — Снимать! — закричал Топанов. — Снимать! Мы бросились к приборам. А через минуту, где-то на востоке, этот светящийся паук повернулся к нам боком, вновь стал похож на огромную сигару и исчез из виду. Нечего и говорить, что сфотографировать полное солнечное затмение нам не удалось. Зато нам удались другие снимки… Снимки удивительного и загадочного «спутника Алексеева». Я получил долгожданную посылку из Москвы. Мой приятель прислал для Татьяны оригинально сделанный в виде небольшой гребенки аппарат для усиления звука. Один из зубчиков этой гребенки, касаясь твердого бугорка за ухом, вибрируя, передавал усиленные звуки речи. Татьяна долго возилась, прилаживая гребешок, потом сказала: «Чую, гарно чую… Я слышу все!..» Топанов принял участие в нашей прогулке «за оранжерею». Не знаю, сколько километров мы сделали в это неожиданно прохладное утро. Вот-вот должен был начаться дождь, и Татьяна время от времени поглядывала вверх, откуда изредка падали одинокие тяжелые капли. — Затмение помогло, а если бы не затмение, не случайность, то мы бы так и не узнали, что летает над нами, — говорил Топанов. — Удалось сфотографировать… Но что? Что мы видели? Что мы сняли? Думаю, что мы никогда не разгадаем тайны «спутника Алексеева», если хорошенько не поймем, что за человек был Алексеев. Вы, кажется, его лично знали, вы учились вместе с ним? Знал его и я. И сейчас, признаюсь, больше всего на свете меня интересует, что же запустил Алексеев, что это за светящийся паук? И как он умело и гибко защищает себя от этого загадочного радиоимпульса. Татьяна отдала мне на сохранение гребенку и внимательно проследила за тем, куда я ее прячу, но потом все-таки отобрала назад. Сбросив тапки, она пронеслась вдоль берега, то возвращаясь, то убегая далеко вперед; темная вода заполнила ее следы на песке, уходили эти следы вдаль, где Татьян на, откопав какой-то осколок, размахивала им и что-то кричала. Мы поравнялись с ней. Татьяна протянула нам позеленевшую от морской воды кость и спросила, «до якой тварыны вона налэжить?» Топанов сказал, что кость лошадиная. — А хиба ж в мори е кони? Конык, морский конык, маленький такий, цэ я знаю!.. — А вон там кто? — Топанов указал вдаль; казалось, прямо посередине моря — а на самом деле на отмели, что протянулась к косе, — понурясь, стояла лошадь. Вблизи стали видны резко выступавшие ребра, запавшие бока. Она низко опустила свою голову к воде, редкая грива касалась волны. — А чому вона так стоить? — спросила Татьяна. — Вона, мабудь, думае, га? — Больная она, лошадь, — сказал Топанов. — Он присел на корточки и аккуратно зарыл кость в песок. — Больная, и знает, что море может ее исцелить. Несколько дней подолгу она может так стоять, пока не станет здоровой. — Так вона думае! — воскликнула Татьяна. — А як же? Колы у нас щось болыть, мы идэмо до ликаря, а лошадь идэ до моря и там стоить, вона думае, правда? — Нет, нет, Таня, — ответил Топанов. — Это другое, ну как тебе сказать? Лошади чувствуют, что море приносит им облегчение, они только приспособились, но не думают. Да к чему только живое не приспосабливается… Вон чайка, вон она схватила рыбешку! — Бачу, бачу! К берегу полетела! — Татьяна захлопала в ладоши, но чайка, не обращая на нее внимания, пронеслась над нашими головами. — Вот видишь, Таня, — продолжал наставительно Топанов, — чайка может и летать, и рыбку схватить, а курица, например, ни летать по-настоящему, ни рыбу ловить не может. Чайка приспособилась к жизни над морем. Вон рак-отшельник залез себе в пустую раковину, сидит там и прячется… — Вин прыспособывся… — Все живое стремится к жизни, защищает свою жизнь, своих детей, свое будущее, поняла? Татьяна кивнула и опять убежала от нас, а Топанов вдруг остановился, опираясь на палку, с растерянным и сосредоточенным лицом. Я уверен, что именно тогда, в это тихое пасмурное утро, ему пришла в голову та мысль, что осветила необычайным светом все происшедшее в лаборатории Алексеева.КВАРТИРАНТ ТЕТИ ШУРЫ
— Расскажите мне об Алексееве, — попросил как-то Топанов. — Всё? — спросил я. — Всё… Ведь трудно угадать, что нам пригодится. Вы знаете его таким, каким он был давно, я — таким, каким он стал. Кто знает, а вдруг кое-что протянется в будущее. — Ищете третью точку, Максим Федорович? — Понять бы, к чему он шел, что искал… Это и есть «третья точка». Так где вы впервые с ним встретились? …Мы учились вместе, правда, на разных курсах. Впервые я услышал его фамилию в нашем профкоме. Было время военное — сорок четвертый год, и в профкоме Института после сессии раздавали промтоварные талоны. Я вошел в комнату не вовремя: там шел горячий спор. — Ты что, ты Лешку Алексеева обижаешь? — спрашивал у председателя профкома комсомольский секретарь. — Ты, Мальцев, эти дела брось! Он только из госпиталя, ни кола ни двора, помогать надо, а ты! — Мы помогли ему, — пожал плечами председатель профкома. — Чем? — Чем можно было, тем и помогли. Ваш Алексеев, согласно списку, получил четыре талона. Четыре! Разве Алексеев жалуется? — Лешка не такой человек, чтобы жаловаться, но вся его группа возмущена. — Эх ты, горячка! Парню четыре талона отвалили, как же, в такое трудное время. А ты с претензиями, не ожидал… — Четыре талона? — задыхаясь, спросил комсорг. — Отвалил? Вот они, на! — Он бросил на стол бумажные квадратики с треугольной печатью. — А что, разве Алексеев их не взял? — Ты читай, на что первый талон! Читай! — Ну, что читать… На галстук. По-моему, студент должен иметь галстук, как всякий культурный человек… — Правильно, должен! Согласен. Но когда у него есть рубаха, понимаешь, рубаха, а не единственная гимнастерка! Второй талон на мыло и два носовых платка… — Носовой платок… Тоже вещь очень полезная… — Ну, на комсомольском собрании поговорим… Комсорг выбежал из комнаты. — Слушай, кто этот Алексеев? — спросил я Мальцева. Мальцев крякнул и развел руками. — Ты понимаешь… Ну конечно, он фронтовик, пришел из госпиталя, да у нас таких полным-полно! Вперед он не лезет, нет. А вот преподаватели… эти в восторге, та-тата-татата! Алексеев соображает, новое доказательство, все такое… Но, поверь, из него толку не будет. Туго соображает. Платки эти самые — пойди и продай! Вот я… Да что там! Таково было наше первое заочное знакомство с Алексеем Алексеевым. Я попросил показать мне его, и оказалось, что это был тот самый парень, за которым маршировали гуси. Дело в том, что мы временно были прикреплены к столовой соседнего института. Это был единственный учебный корпус в городе, не пострадавший от гитлеровских оккупантов. В здании до революции помешался Институт благородных девиц. Столетние деревья окружали его, а за его двухметровыми казарменными стенами гитлеровцы решили устроить свой «институт». Случайно задержавшиеся в городе профессора под строжайшим надзором «преподавали» по широко разрекламированной в фашистской печати программе. Слушателей за три года оккупации нашлось только четыре человека. По-видимому, привыкнув к официальному существованию этого «института», фашистские минеры забыли его взорвать, как это было проделано с остальными девятью высшими учебными заведениями города. Перед столовой всегда прогуливались гуси, принадлежавшие сторожихе. Тщетно они вымаливали подачку у выходящих из столовой студентов, и единственным человеком, который их слегка подкармливал, был Алексеев. В благодарность гуси необыкновенно привязались к нему и, выстроившись чередой, провожали его от дверей столовой через весь парк к воротам. Наголо бритая круглая голова, гимнастерка, в руке — шапка-ушанка с куском хлеба в ней, а за ним штук семь гогочущих гусей — таким я впервые увидал Алексеева. — Алексеев свою группу на занятия ведет! — пошутил кто-то из студентов. — Гуси-гуси, — сказал нараспев Алексеев. — Га-га-га, — ответили ему гуси, совсем, как отвечают в ребячьей игре. — Есть хотите? — опять серьезно спросил Алексеев. — Да-да-да, — ответил за гусей какой-то студент. Все рассмеялись. Все, кроме Алексеева. Шествия гусей пришлось вскоре прекратить, так как сторожиха заподозрила, что Алексеев их не зря подкармливал. «На базар увести хочешь!» — кричала она невозмутимому, как всегда, Алексею. Вскоре я познакомился с Алексеевым, и мы подружились. Его невозмутимость, к слову сказать, оказалась кажущейся. За недорогую плату мы сняли кухню у некоей тети Шуры, рыхлой толстенной старухи, с успехом торговавшей на базаре «яблочным уксусом»; над нехитрым способом его изготовления мы немало потешались. Вместе с тетей Шурой на «хозяйской половине» жила Нинка, студентка-первокурсница, большая насмешница. Иной раз она принималась наводить порядок в нашем холостяцком хозяйстве, что доставляло ей обильную пищу для острот. Мы питались кашей из кукурузной муки, так называемой мамалыгой. Иногда покупали кости. Из них получался чудесный суп; кости мы дробили топором на толстой доске кухонного стола. — Людоеды за работой! — воскликнула однажды Нинка, застав нас за этим занятием. — Вместо вилок и ножей — топоры! Это прогресс, товарищи физматики. Характер у Алексеева был спокойный, ровный. Ничто в этом трудолюбивом, сосредоточенном парне не выдавало человека вспыльчивого и резкого. Впервые при мне он сорвался, казалось бы, из-за пустяка. К тете Шуре частенько забегала накрашенная женщина. Ее хриплый голос назойливо лез в уши, мешал работать. Обычно разговоры шли вокруг сравнительно недавних похождений этой особы с немецкими офицерами, расхваливалась их решительность, а иногда и щедрость. «Ах, Гансик! — донеслось однажды из комнаты хозяйки, — какой это был мужчина, а какая аккуратность, какая точность! Скажет: вернусь в восемь, и точно! Полетит на Запорожье, побонбит, побонбит и ровно в восемь у меня!..» Досадливо морщивший лоб Алексей вдруг весь вспыхнул. Трясущимися руками он распахнул дверь к тете Шуре и через мгновение протащил через кухню упирающуюся «особу». Пробежав по инерции шагов с десять, «особа» пришла в себя и истошно закричала первое, что ей пришло в голову. «Режут! Режут!» — доносился, все удаляясь, ее голос. Назавтра Алексеева вызвал секретарь парторганизации Краснов. Строгий и требовательный, он не терпел недисциплинированности, часто настаивал на исключении того или иного набедокурившего студента. — Вас вызывает Краснов, — говорил декан. — Алексеев, что вы наделали, это очень плохо, когда вызывает Краснов… Почему вы не сдержали себя?… — Я был ранен под Запорожьем… Осколком… — ответил Алексей и направился к Краснову. — Мне ничего не нужно рассказывать, — сказал Краснов, когда Алексеев вошел в его кабинет. — Ничего… Почему не живешь в общежитии? Нужно работать? Ну хорошо, только пусть ко мне грязные бабы не бегают! Ясно? — Краснов помолчал, потом неожиданно добавил: — Завтра приходи, может, мы дадим вам на двоих комнату, сидите себе и считайте… У Алексеева был чемодан. Необычайно тяжелый, он вызывал у меня вполне понятное любопытство. Однажды Алексей раскрыл чемодан и познакомил меня с его сокровищами. Чемодан был набит книгами. Три тома Гурса — лучшего курса математики для математиков, несколько редких мемуаров, среди них сочинения Эйлера и Ляпунова. Полное собрание работ по математике и механике Николая Егоровича Жуковского. Каждую книжку Алешка вынимал из чемодана и с увлечением говорил о чудесных откровениях математической мысли, которые содержались в них. — Откуда они у тебя? — спросил я. Алексей рассмеялся: — Пришлось мне как-то в Ростове-на-Дону «кантоваться». Рука еще в лубке была, а на поезд сесть невозможно. Люди по домам ехали… Кто из госпиталя, кто из эвакуации. Домой! Понимаешь, слово какое? Многие на фронт тоже спешили. Ну, раненый человек — хоть из госпиталя домой, на поправку, хоть опять на фронт — человек нервный. Тут и костыли в ход пускали, а то, глядишь, какого спекулянта вместе с мешком соли не очень вежливо попросят. Как поезд подойдет — ну, штурм просто! Какие там билеты! Я с дружком одним, тоже раненым, в сторонку отошел: нам, думаю, к этой крепости и не подступиться… Смотрим, дядя какой-то, в ватнике и с бородкой, с двумя чемоданами в руках, напролом в вагон рвется. На площадку взобрался, а одна рука с# чемоданом на весу в воздухе болтается. Паровоз свистнул, дернул, чемодан на землю упал, раскрылся, и книжки посыпались. А поезд быстрей да быстрей. Остались мы вдвоем на путях, да книг гора… «Пошли к коменданту станции загорать, — говорит дружок. — Может, он на другой поезд посадит». «Пошли, говорю, только давай книги соберем». Так я и стал владельцем собственной библиотеки — на ловца ведь и зверь бежит! — Алексей, — сказал я, — да здесь у тебя «Теория колебаний» есть! — Я потянул к себе книгу, и на пол, звякнув, выпал мешочек-кисет. Алексей поднял его, высыпал на стол содержимое. Среди серебряных медалей темно-красной, как застывшая кровь, эмалью блеснули орден Красной Звезды, золотая веточка гвардейского значка… — Это твои? — Мои… — А почему не носишь? — У людей больше есть, да и то не носят. — Алексей, — сказал я, — а ведь ты чудак, ведь ты веселый. Только почему ты сам не смеешься, вот только недавно будто оттаивать стал… — А это у меня после плена. — Ты был в плену? — Был… Три дня, вернее — два дня и ночь… Я ведь почему голову наголо брею? Думаешь, от чудаковатости? Седой я… Неудобно — молодой, а седой… Люди начнут выспрашивать — отчего да почему? Не очень легко каждому докладывать. Тебе расскажу, уж так и быть. Расскажу и забудем… Алексей бережно спрятал награды в кисет, закрыл чемодан. Потом лег на кушетку и, закрыв глаза, начал говорить негромко, каким-то простуженным голосом. Потом слова зазвенели, вырываясь откуда-то из огненной раны в его душе. Ночь спустилась за нашим окном, издалека донесся протяжный инизкий гудок парохода, и чей-то голос во дворе потребовал, чтобы некая Верка немедленно отправилась домой, где ее ждет сладкая каша «из чистой манной крупы». «Опять лук печеный дашь, я знаю… — убежденно ответил Веркин голос, — или уши надерешь… Я знаю!..» — Это было под Майкопом, — начал Алексеев. — Окружили, командира убили, кончились патроны. Немцы взяли нас на рассвете, а к вечеру согнали в долину. Сзади и по бокам мотоциклы с пулеметами… Кто отставал, тех на мотоциклах подвозили. Бережно. Берегли… до ночи, А ночью!.. Алексеев встал и свернул огромную козью ножку, насыпал в нее махорку. — А ночью нас пригнали в колхоз. Там была огромная конюшня, коней, должно быть, угнали. Белое длинное здание и сейчас перед глазами. Загоняли внутрь, стреляли. Крик стоит у меня в ушах! В пять рядов стояли, в шесть… Утром те, кто ночью упал, были внизу, не встали. А кто мог идти, тех выгнали и увели, должно быть. Я этого не видел. Я был внизу… — Алексеев поймал раструбом козьей ножки уголек из поддувала и, затянувшись, добавил: — Вот какая была ночь… — А что было дальше? — Дальше? А дальше была свобода и дни, которые я лежал в кустах, а ночами шел, шел по звездам. Мосты обходил, иногда стреляли. Потом линия фронта, днем прятался в старых окопах, в зарослях кизила. Достал хлебцы такие, в целлофане, были такие у немцев. Потом встретил своих, они тоже прорывались. Потом армия и опять бои. Меня ведь последний раз под Запорожьем ранили. И опять санитарный поезд… И не могу забыть ту конюшню, закрою глаза и вижу, и слышу… О многом рассказал в ту ночь Алексеев. С особенным теплом он говорил о своем командире полка, что командовал ими в сорок первом году. Веселый, красивый какой-то лихой кавалерийской красотой, с серебряной шашкой, добытой еще в боях гражданской войны, он так и погиб, весь — порыв, весь устремленный вперед, убитый прямым выстрелом в грудь, и шашка воткнулась перед ним… — Он говорил со мной часто, — рассказывал Алексеев, — а почему, не знаю. Говорили обо всем. Вызовет меня в свою палатку и спрашивает: «Скажи, Алеша, душа моя, — поговорка такая у него была, — а для чего, как ты думаешь, живут люди? Для себя или для других, вот в чем вопрос! А если для других, так и умереть не жалко, правда, Алеша, душа моя…» Алексеев помолчал и вдруг крикнул: — Ложись! И в воздухе запела, завизжала мина. Я инстинктивно пригнул голову, а Алексей, оборвав свист, рассмеялся: — Да разве такая попадет? Такая вон куда должна попасть, — он показал рукой за стену, откуда доносилось громкое храпение тети Шуры.ВАСЯ-ВАСИЛЕК
Иногда к нам забегал Василек, студент кораблестроительного института. Всегда веселый, он наполнял нашу комнату шутками, остротами, смешными и чудесными историями. Ходил Василек в фантастической форме, которая была создана путем соединения студенческого кителя, морских пуговиц и пехотных погон лейтенанта, доставшихся ему за смекалку, за смелость, за крепкую любовь суровых солдат-уральцев, вместе с которыми он воевал. Уроженец Смоленска, как чудесную сказку, берег он воспоминания о своем чудо-городе и рассказывал о нем так, что казалось — вот видим высокий холм, а по правую руку собор. Высокий, стройный. А трамваи мимо него несутся вниз, с горы, быстрее, чем сани зимой… А внизу река… Да какая река — Днепр-река! Алексей обычно прерывал Василька и серьезно говорил: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои…» — Во-во, — с опаской соглашался Василий, но тут Алексей его осаживал. — Не про твой Днепр, Василий, написано, не про твой! Курице по колено твой Днепр! — Эх, Алексей, жестокий человек! — вздыхал Василек. — По секрету скажу: я в этом городе Смоленске на улице Советской первый раз голос подал и первый свет з окошке увидел. А такие, брат, вещи не забываются! Ну, я пошел. — Постой, — смеялся Алексей, — постой, Вася, а как твоя сессия? — Полный порядок… — И математику сдал? — На отлично! — Кому? — Гофману. — Знаем его, он у нас тоже читает… Что-то не верится, Вася. Люди день и ночь зубрят, да только с третьего захода сдают, а ты… — На! — Василий быстро расстегнул китель и достал аккуратно завернутую в серебряную бумагу зачетную книжку. — На, смотри, наслаждайся! Ну как? Отметки были действительно неплохими. — Да я, ребята, секрет знаю, — говорил Василий доверительно. — Нужно для начала все-все о преподавателе разузнать. О чем он, к примеру, больше всего рассказывать любит. И его добром да ему же челом… — Да это сложнее, чем просто ответить что знаешь, — возразил я. — Но чем ты Гофмана мог расшевелить? — А философией! С ходу! — Василек, а какая у тебя может быть философия? — Как какая? Передовая, понятно, самая передовая! Я, доложу вам, в сложных условиях экзамена новое исчисление придумал! — Исчисление?! — Да, новое! Я, брат, такого нарассказывал, что у старика слезы чуть не закапали. От смеха… «Нахал ты, говорит, Василий Никитич, но сообразительный нахал. Живи!» И «отлично» легкой пташкой в мою книжечку серебряную залетело… — Да куда ты спешишь? Расскажи по порядку. Василек попросил листок бумаги и с важным видом нарисовал на нем дым, как сперва мне показалось. — Спираль! — сказал Василек и строго посмотрел на нас. — Спираль, понятно? Все по спирали, это тоже понятно? — Что — все? — Все! Любую вещь назови мне, и я ее по спирали разовью и совью. Вот что такое Василий Никитич! А у вас все смешки. — Нет, он все-таки нахал! — не выдержал Алексей. — Да ты даже не знаешь, чему равен интеграл от «е» в степени «икс»! — Интеграл от «е» в степени «икс»? — укоризненно повторил Василек. — Табличный интеграл! Какое оскорбление! — Время не тяни, не знаешь, так признавайся! — Я тяну время? — возмутился Василек, но по его лицу было видно, что он о чем-то мучительно размышляет. — Да, знаешь, сколько будет? — Василек быстро написал на исчерканном листке с «дымом» довольно сложное выражение. — Вот, реши это скромное дифференциальное уравнение, мой друг и брат, а я — «сто шестнадцать оборотов, и пошел! И пошел!» — Последнее выражение было взято из популярной в то время картины «Танкер «Дербент» и говорило о нашем полном посрамлении и о том, что впереди у него, Василька, весьма приятные дела. После его ухода Алексей внимательно посмотрел на уравнение, которое нам задал Василек, засмеялся и, сказав: «Ишь, черт кудрявый», написал сверху ответ: «е» в степени «икс». Соль всей шутки Василька и заключалась в том, что ответ на вопрос Алексея он сделал корнем придуманного на ходу уравнения. А через месяц мы с Алешей проводили через весь город Василька. Его вновь призвали в армию. Василий был необычно серьезен, все что-то ощупывал в своем рюкзаке, но, когда тяжелые, из литого чугуна, ворота сборного пункта закрылись за его командой, неожиданно ожил, будто тяжесть свалилась с его души. В последний раз он подошел к забору, чтобы пожать наши «передние лапы», и больше мы его никогда не видели… Это случайное столкновение с Васильком оставило какой-то след в душе Алексея. Каким-то очень глубоким, до конца не осознанным побуждениям ответили эти внешне легковесные и необдуманные проделки Василька. И неясные пока дали открылись перед Алексеем. Я с тревогой наблюдал за ним. Огромная, малопонятная для меня работа занимала его мозг. Да, он ходил и сдавал регулярно экзамены, и можно было не спрашивать о результатах. Экзамен превращался в беседу с тем или иным преподавателем, беседу, доставлявшую не мало приятных минут экзаменаторам, всегда поучительную и оживленную. Однажды мы договорились с Алексеевым, что после экзамена пойдем в кино. Я освободился раньше и, попросив разрешения, прошел в аудиторию, в которой сдавала группа Алексеева. Экзамен принимал известный профессор, его имя сейчас знают во всем мире. Он, вероятно, слышал что-то об Алексееве и сурово смотрел на него, как на захваленного вундеркинда. Профессор пригласил Алексеева за свой столик и что-то быстро написал на листке; Алексеев, с минуту подумав, ответил каким-то пространным посланием. Профессор усмехнулся и трижды не написал, а, казалось, ударил листок бумаги пером. Это было какое-то очень короткое, но, по-видимому, сложное математическое выражение. Алексеев просидел над ним час. За это время профессор проэкзаменовал человек пять, потом наклонился над Алексеевым и спросил: — Ну, как? — Я решил, — ответил Алексеев, — кажется… Профессор внимательно на него посмотрел и осторожно взял из его рук листок с вычислениями. — Меня интересовало только, с какой стороны вы начнете искать… Интересовал ваш подход… Это вообще еще не решено. Он перечитывал написанное Алексеевым. — Можете идти, Алексеев, — громко сказал он. — С вашего позволения, я опубликую этот результат в сборнике «Прикладная механика и математика». Очень красивое решение… В этот день шла «Тетка Чарлея» и вокруг кинотеатра жужжала громадная толпа: матросские бескозырки и пилотки отпускников, платки и соломенные шляпы. Мы были почти у кассы, когда на грузовике подъехала команда моряков-подводников. Через минуту, в тесной толпе, мы протискивались в двери кинотеатра. И вдруг раздался дикий крик Алексея… Праздничные и оживленные лица взволнованно обернулись на этот крик. А Алексей, все еще что-то крича, цепляясь скрюченными руками за пиджаки и гимнастерки, во весь рост распростерся на полу… Его бережно вынесли, положили на садовую скамейку. Кто-то принес газированной воды. Алексей пришел в себя, виновато оглядел участливые и внимательные лица собравшихся вокруг него матросов. — Эх, война! — обронил кто-то с тоской и ненавистью. Чья-то рука протянула нам билеты, и мы все-таки пошли в кино. До коликов в боку мы смеялись над безобидными проделками «тетки Чарлея», а кто-то из наших соседей все выкрикивал: — Ну и дает, вот дает! Домой Алексеев возвращался совсем без сил. — Не могу, — говорил он, — не могу видеть толпу, борюсь с собой, а не могу… Все ту конюшню проклятую вижу… Но время шло, и здоровая, от природы крепкая нервная система Алексеева медленно, но верно снимала с себя тяжесть пережитого. Вскоре я перебрался в общежитие. А причиной тому была Нинка. Ее насмешки не раз выводили из себя Алексея. Наконец, когда он поджарил картофель на «шампуни» — жидком коричневом мыле — Нинка им мыла голову, а бутылку принципиально ставила рядом с нашим подсолнечным маслом, — терпение Алексея иссякло. — Этим издевательствам и хиханькам нужно положить конец, я этим займусь! Нужно принимать какие-то меры! Меры были приняты. Весна и молодость внесли свои поправки. Они поженились в мае… Большую кастрюлю мы наполнили красным вином, для сладости всыпали порошок сахарина, ваниль для запаха, а чтоб «ударило в голову», кастрюлю поставили на огонь. Два десятка дружков и подружек, выпив по две столовых ложки теплого и пахучего вина, всю ночь пели и плясали под окном у тети Шуры. Пришло время, и мы разъехались кто куда. Алексеев иногда писал мне. А позвал он меня только сейчас. Позвал требовательно. Он так хотел показать мне свои последние работы…РАССКАЗ ТОПАНОВА
— Теперь, Максим Федорович, ваша очередь, — сказал я Топанову. — Где вы встретили Алексеева, когда? — Да лет пять назад, — ответил Топанов и задумался. — Я тогда работал в Московском комитете партии. Чем только не приходилось заниматься! Вопросы жилищного строительства, перестройка работы научных институтов… Новые лаборатории и новые направления исследований… Новые люди, а иногда, что греха таить, и старые сплетни… Я и с Алексеевым познакомился из-за жалобы. Пришел как-то ко мне один сотрудник Алексеева, профессор Разумов. — Он также погиб? — Да, он все время работал с Алексеевым, а тогда приходил на него жаловаться. Вы Разумова никогда не видели? Представительный такой, с бородкой, немного старомодный, напоминал он какого-то классика науки прошлого столетия, скорее даже нескольких классиков сразу. Но специалист очень крупный. Алексеев долгое время был его учеником. Так вот, приходит Разумов к просит моей помощи: не может совладать с Алексеевым. — А чем ваша лаборатория занимается? — спрашиваю. — Мы занимаемся вопросами вакуума, — отвечает Разумов. — Вы представляете, что это такое? Это не просто пустота, безвоздушное пространство, как выражаются в школьных учебниках физики. Это чудесная, удивительная область науки, масса неожиданностей… Так вот, это восходящее светило Алексеев — человек не без мыслей и не без инициативы, — понимаете ли, утверждает, что работы выбранного нами и утвержденного направления ничего не дают, что это трата сил и средств… Ему, видите ли, лучше видно! Простите, я волнуюсь… — А может быть, ему и вправду лучше видно? — Ах, Максим Федорович, вы извините меня, но диссертант лучше всех знает свою диссертацию, лучше автора никто не знает его книгу, лучше строителя никто не знает дом, который он возводит. — А лучше вас — вакуум? Продолжайте, пожалуйста… — Представьте, я не могу сказать, что знаю его, да, да! Я только один из скромных специалистов в этой области, смею, однако, надеяться, что мои небольшие работы в области минимальных полей и их флуктуации не остались незамеченными некоторыми из авторитетов в области теоретической физики… Смею надеяться! — И что же говорит Алексеев? Что он предлагает? — Он, видите ли, хотел бы, чтобы мы занимались чем-то более определенным, к чему можно с большим успехом прилагать его недюжинные математические навыки и из чего можно что-то делать. Понимаете? Хоть что-то! Изучайте электрон в вакууме, изучайте протон, нейтрон, такое, что конкретно. «Что это даст?» — вот вопрос, которым он буквально меня замучил! — Насколько я вас понимаю, Алексеев пугает вас своим голым практицизмом? — Совершенно точно! — обрадовался Разумов. — Мы заранее не можем сказать, что выйдет из того или иного направления в науке. Только завтра, только будущее приносит истинную оценку… Я вижу перед собой ряд увлекательных задач и буду их решать, буду!.. — Так с Алексеевым никак не возможно? Что ж, я поговорю с директором, и, если руководство института найдет это необходимым, переведем Алексеева в другое место. Нечего мешать науке! — Нет, что вы! Не нужно! — забеспокоился Разумов. — Это будет неправильно! Ему нужно объяснить, что ли… Пусть не суется не в свои дела! Идет работа, весьма напряженная, а он слишком рано, понимаете ли, хочет все получить. Так не бывает. Грядущее все-таки скрыто от нас. — Но ведь есть случаи научного предвидения? — Именно случаи! Аппаратом, методом угадывания, который подсказал бы нам, что выйдет из того или другого опыта, мы не обладаем… Впрочем, я пришел к вам по другому вопросу, мы отвлеклись… — Да, так Алексееву нужно указать? — Я бы просил посоветовать, авторитетно посоветовать! Я проводил Разумова до двери и распорядился вызвать на завтра Алексеева из Института звезд. — Признаться, я с нетерпением ждал прихода Алексеева, — продолжал Топанов. — Каков он, что за человек? То, что Николай Александрович Разумов не нашел с ним общего языка, было для меня в общем понятно… Что ждал я? Это было не простое любопытство. Я, видите ли, сам из первых комсомольцев, ну не совсем из первых, вступил в комсомол только в 1919 году. Хорошо помню ту тягу к знанию, которая вспыхнула у нас, комсомольцев, после гражданской войны. Всему миру доказать, что хоть крепок сук, да остер наш топор — это была понятная и близкая нам задача. Прорубить дорогу к знаниям! Кто что успел схватить — кто рабфак, кто два-три курса. Редко кто успел больше. И вот должен прийти Алексеев, молодой человек, но уже твердо определившийся в «большой науке». Рождения 1923 года, нам в сыновья годился, тем, с кого начался комсомол… Вот оно, второе поколение! Учился, стал ученым, просто достиг того, что люди моего поколения брали штурмом, как берут вражеские окопы. Книги прочел, о которых я только слышал, только в руках держал… И вот становится такой желторотый парторгом! Выбрали, доверили, не отказывался… После его выборов заскочил ко мне один человек. «Ошибочка произошла, говорит, ошибочка! Выбрали мальчишку в парторги. Ну какой он парторг, когда у него голова формулами набита! И ученого потеряем, и парторга не получим. Он все в высоких материях витать будет, непорядок это, товарищ Топанов…» — А ведь пора и нам, — отвечаю, — высокие материи осваивать. Космические ракеты, термоядерные регулируемые реакции — это ли не высокая материя? Да почему наш советский человек, которому народ дал знания, должен быть в тени? Молод и учен — два богатства в нем… И вот Алексеев у меня в кабинете. «Эге, — думаю, — да ты, брат, сед… У меня, старика, волос и сейчас с рыжинкой, а тебя вон как побелило, знать, видал, как украинцы говорят, «шмаленого вовка». — Жалуются на тебя, товарищ Алексеев, — говорю, — и крепко жалуются… «Мешает Алексеев научной работе!» — вот как говорят, вот до чего дошло! Мешаешь? — Мешаю… — Ну, а тех, кто мешает, — бьют. — Знаю… — Значит, уверен в своей правоте? Значит, тебя не понимают? Ты новые идеи несешь, раскрываешь, а на тебя никакого внимания? Так? — Нет, не так! Я по-настоящему своих мыслей никому еще не рассказывал. — Почему? — Потому что рано. Еще многое нужно проверить… У нас ведь какая структура? Отдел звезд, отдел космической электродинамики, отдел межзвездной материи и лаборатория вакуума… Поле исследования — вся Вселенная. А у каждого сотрудника свой «комплекс идей»; свое понимание науки о звездах; каждый старается отхватить побольше для «своего». И при утверждении планов — скандал! Но ведь из любого, буквально из любого направления может вдруг появиться, «отпочковаться», что ли, какое-нибудь совершенно чудесное, практически важное следствие, прямо не связанное с программой «отдела». Ведь звезды становятся нашей далекой и незаменимой лабораторией. Пройдут, быть может, тысячелетия, прежде чем человек получит возможность создавать такие температуры и такие давления, как на далеких звездах. Природа открывает свои самые сокровенные тайны только при очень сильных воздействиях, ей и миллиона градусов мало, и что творится внутри горячих звезд — надолго останется загадкой. Ну можно ли сейчас, когда мы живем в такое время, которому наши потомки будут завидовать так же остро, как в детстве мы завидовали участникам штурма Зимнего или конникам Котовского, можно ли допускать разобщенность исследований, можно ли удовлетвориться чисто внешними, случайными связями между нашими лабораториями? Работаем под одной крышей, а иной раз оказываемся далекими друг другу… Нет, я стою за настоящее, полное объединение усилий! И если говорят, что я мешаю, то меня просто не понимают. Я вовсе не хочу сказать: вот, из вашей работы ничего не выйдет, она не даст практического результата, давайте начнем другую. Такого у меня нет на уме, это глупость. Может быть, я не всегда бывал понятен… — А это плохо, если тебя не понимают! Говорить ты вроде умеешь, свое дело знаешь, а тебя не понимают? Значит, ты что-то недосказываешь, товарищ Алексеев? Раскрываться нужно вовремя и до конца. Есть ли у тебя «первоначальный капитал» или все еще настолько не оформлено, что с этим нельзя выходить на люди? — Кое-что есть… — А людям рассказать еще страшно? — Могут не понять, высмеют. Уж очень сложны вопросы… — А если их сделать простыми? Это можно? — Нет-нет, что вы… Это такой сгусток математики, астрономии, физики, такой сплав… — Тогда тебе еще рано раскрываться. И не верю я, что может существовать такая невероятная сложность в очень большом вопросе — ведь ты хочешь сделать этот вопрос центральным для исследовании целого института! — что человеку со средними человеческими способностями не понять… Конечно, увидеть в сложном простое — задача не из легких, но раз нужно, то надо думать, надо искать. — Мне кому-нибудь рассказать бы.«Рассказывать и рассказывать, пока сам не пойму… — Это хороший метод. Расскажи жене. — Она геолог… — Дома бывает редко? А если мне? Вот расскажи мне, может, я пойму… Алексеев с сомнением посмотрел на меня и откровенно пожал плечами. — Попробую, только не обижайтесь, если что… После этого разговора я дней десять ждал звонка, но Алексеев молчал. Недолго думая я решил заявиться к нему. Нашел его дом, взобрался на седьмой этаж, и вот я в комнате Алексеева. Маленькая, книг много, больше справочных. На столе стопка последних журналов, листки, исчерканные синим карандашом. Притащил Алексеев из кухни кофе, и как-то незаметно, слово за слово, исчезли неловкость, связанность. Трудно сказать, о чем мы говорили. Обо всем! А потом встретились еще раз на открытом партийном собрании Института. Собрание было бурным, как принято говорить, но оно действительно было необычным. Ошеломил меня Алексеев, да и не только меня. Выложил массу интересных мыслей, настоящих глубоких идей, но… но выступать было рано. А потом, год за годом, работы его лаборатории становились все более и более заметными. Не укладывались ни в какие рамки «отделов». Скоро он с группой своих сотрудников перекочевал из Москвы сюда, к морю, в украинский филиал Института звезд. Занял своей лабораторией огромное здание. Академия отпустила ему много средств. Здесь и настигла его катастрофа. Да, с год назад он был у меня, говорил о своих планах, но как-то в общих чертах. Не вспомню сейчас эти планы… — Но что же было основным, какую цель преследовали его работы? — спросил я. — Происхождение и эволюция звезд и звездных скоплений — вот над чем работал Алексеев и его сотрудники. Он вскользь сказал мне тогда, что мечтает перевести этот вопрос из области гипотез, таблиц и теоретических расчетов в область прямого эксперимента… — Но при чем же здесь вакуум? Ведь свойства вакуума — официальная область его лаборатории. — Звезды рождаются в безвоздушном пространстве. И рождение их, и развитие, и смерть обусловлены свойствами этого пространства. Замечу, что даже Разумов, очень и очень скептически относившийся к Алексееву, сам попросил перевести его в южноукраинский филиал. Видно, эксперимент, к которому шел Алексеев, уже тогда стал обретать какую-то определенную форму. — Так что же, Алексеев хотел зажечь, создать звезду? — воскликнул я. — Что-то в этом роде… — Но зачем, для чего? — Для чего? Для того, чтобы экспериментально проверить гипотезы о рождении звезд, чтобы подчинить человеку неисчерпаемые запасы энергии, таящейся в Космосе, в межзвездном веществе. — И вы полагаете, что его работы увенчались успехом? — Боюсь, что успех оказался слишком большим… Боюсь, что здесь уже не успех, а другое… Поймите меня правильно. Есть такой успех, такая победа, с которой не знаешь, что и делать.ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА Итак, «спутник Алексеева» был впервые нами увиден в момент полного солнечного затмения. Почти все члены комиссии пришли к заключению, что мираж является побочным эффектом, что он только сопровождает прохождение «спутника». Смутная картина, что-то вроде овальной искрящейся туманности, возникшая тогда на флуоресцирующем экране, вызвала горячие споры. Кое-кто ошибочно предположил, что мы увидели «спутник Алексеева» в натуральную величину, но подсчеты опровергли это допущение. Слой разреженного воздуха вокруг «спутника», отражающий море и лодки, корабли и птиц, по-видимому, находился в особо возбужденном состоянии. Этот слой светился собственным светом, он будто становился гигантским экраном, на который проецировались миражи, и эти миражи затушевывали, поглощали истинную картину «спутника Алексеева». А когда диск Луны заслонил Солнце, на темном небе появился загадочный и удивительный светящийся жгут. Мы срочно исправили все недостатки фокусирующей системы нашего инфракрасного прибора и теперь каждое утро могли тщательно фотографировать с флуоресцирующего экрана «спутник Алексеева». Мы внимательно просматривали фотографии, шумели, спорили. И вдруг Топанов громко сказал: — А ведь это галактика… Галактика! Слово было сказано! Все в этот момент почувствовали, что найдено какое-то решение. Не было среди нас человека, который в свое время не видел бы изображения различных галактик. И мысль, что сейчас на фотографиях мы видим нечто знакомое, овладела каждым. — Но если это галактика, — рассуждал Топанов, — то почему не видны отдельные звезды? — Недостаточная резкость, да, кроме того, мы все ясно помним, что вдоль спиральных ветвей наблюдались какие-то многочисленные вспышки… — Давайте опомнимся, товарищи! — не выдержал я. — Нельзя всерьез считать, что вокруг нашей Земли носится галактика, то есть скопление из многих миллиардов звезд, с массой по крайней мере в сто миллиардов Солнц! Это же абсурд, бред! Есть же, в конце концов, масштабы, логика… — В этом никто и не сомневается, — сказал Григорьев. — Но нельзя легко освободиться от мысли, что наблюдаемая нами картина больше всего похожа именно на галактику… Я попрошу немедленно доставить альбом внегалактических туманностей, может быть, мы найдем среди них нечто похожее. — Я понимаю вашу мысль и приветствую ее, — прогудел Топанов. — Вы, несомненно, на верном пути. То, что мы видим, очень похоже на звездное скопление, а Алексеев, насколько известно, занимался звездами, и прежде всего звездами… Представляется возможным, что Алексеев запустил своеобразный спутник, благодаря которому на Землю проецируется увеличенное изображение далекого звездного скопления. Это и могло быть содержанием его работ. Через двенадцать часов из Пулкова был доставлен «Новейший общий каталог туманностей и звездных скоплений», содержащий несколько десятков тысяч фотографий этих далеких островов Вселенной. И последние сомнения отпали. Перед нами были образования, в большинстве своем настолько похожие на наши снимки, что от них нельзя было оторвать глаз. Мы столпились вокруг раздвижного стола, и Топанов медленно переворачивал страницу за страницей. Иногда все, как по команде, отрывались от каталога, чтобы взглянуть на вставленные в рамку утренние фотографии «спутника Алексеева». Позади негативов горели яркие матовые лампы. Каждое утро мы изготавливали по три таких фотографии. Две в начале и конце явления, когда светящаяся туманность напоминала вытянутую сигару, и одну в момент прохождения перигея, прямо в зените. — Разительное сходство! Да ведь это «Мессье 101»! По нашему каталогу номер 8542! — Бросьте! Вы не видели помер 11245. Вот это — сходство! В непрерывных спорах было установлено, что галактика, наблюдаемая с помощью «спутника Алексеева», может быть отождествлена по крайней мере с десятью зарегистрированными галактиками, видными «с ребра», и не менее чем с тремя, наблюдаемыми с Земли как бы «плашмя». Галактика, которую мы видели благодаря «спутнику Алексеева», была причислена к довольно распространенному виду спиральных галактик. Но затем мы зашли в тупик… Характер затруднений сформулировал на ночном заседании Григорьев. — Мы должны ясно отдать себе отчет в том, — сказал он, — что сегодня мы знаем немногим больше, чем в тот момент, когда Максим Федорович воскликнул: «Да ведь это галактика!» Мы не смогли уверенно отождествить с наблюдаемым явлением ни одну из галактик, содержащихся в «Новейшем общем каталоге», не говоря о каталоге Мессье. И дело не в том, что такой галактики еще никто не наблюдал, речь идет совсем о другом… — Прошу прощения, — прервал Григорьева Леднев, — но не все разбираются не только в сущности возникших затруднений, но даже в терминологии. Здесь астрономы и астрофизики в меньшинстве… Вот, к примеру, вы часто говорите: внегалактическая туманность и галактика. Это — понятия близкие, или я не совсем понимаю? — Эти понятия совпадают. Совершенно безразлично, говорим ли мы о внегалактических туманностях или о галактиках. Что еще вас смущает? — Почему для многих галактик существует двойная нумерация? — спросил Топанов. — Двойная нумерация существует только для ста трех объектов, впервые открытых Мессье. Собственно, Мессье открыл только шестьдесят один объект, но он впервые свел все светящиеся объекты с размытыми очертаниями в один каталог, чтобы не спутать их с кометами. Ведь Мессье был знаменитым охотником за кометами, — ответил Григорьев. — Все кометы — члены нашей Солнечной системы. За ними очень интересно наблюдать. На протяжении нескольких дней они смещаются на фоне далеких звезд, а вот светлые пятнышки, что открыл Мессье, оставались неподвижными. — И каждое такое пятнышко оказалось скоплением из многих миллиардов звезд! — немного торжественно заявил Кашников. Григорьев отбивал у него «звездный хлеб», ведь Кашников был астрономом. — И многие из них подобны нашей Галактике, в которой Солнце занимает скромное положение в одной из ее спиральных ветвей. Свет от многих галактик идет к нам миллионы лет. Одни галактики мы видим с ребра, другие более удобно расположены, и мы можем отнести их или к спиральным, или к эллиптическим, и так далее. Еще Демокрит из Абдеры, великий древнегреческий философ, представлял наш Млечный Путь как скопление бесчисленных звезд, но только Галилею посчастливилось убедиться в правильности этой догадки Демокрита. Теперь же изучение нашей Галактики, как и исследование внегалактических туманностей, бурно развивается. Мы… — …Мы предоставим вам время и с удовольствием прослушаем вашу лекцию в другой раз, — прервал Кашникова — Григорьев. — А сейчас я хотел обратить ваше внимание, товарищи, на одно «но». Дело в том, что все известные нам галактики вращаются вокруг своих ядер, центральных частей, в которых находится почти вся масса галактики, большинство звезд скопления. Вращается и наша Галактика Млечного Пути. Солнце, вместе с Землей и остальными планетами, описывает круг вокруг своего галактического центра за 185–200 миллионов лет. Наша Земля участвовала по крайней мере в десяти таких оборотах за время своего существования. Только в десяти! Можно ли предположить, что мы наблюдаем при прохождении «спутника Алексеева» какую-нибудь конкретную галактику? Нет! Галактику мы могли бы видеть только с одной ее стороны. Либо с торца, — Григорьев указал на левый снимок, — либо плашмя, в виде диска, либо как-то со стороны! А мы каждое утро видим эту странную, условно называемую, «галактику» два раза с торца. И один раз она раскидывает над нами свои, спиральные ветви… — А может быть, Алексеев как-то получил возможность наблюдать нашу Галактику, ту, к которой принадлежит наше Солнце? — спросил кто-то. — Нет, — твердо ответил Григорьев. — Мы уже хорошо знаем истинный вид нашего галактического скопления, у нас нет такого количества спиральных ветвей. Так, кажется, товарищи астрономы? — А где вчерашние снимки? — вдруг спросил Топанов. — Ну-ка, дайте их сюда. Топанов взял три снимка и разложил их на освещенном стекле. Все с интересом наблюдали за ним. — А ведь снимки-то разные, — заметил Григорьев, — чуть-чуть, да разные… — Съемки могли производиться в разное время, — ответил Леднев, — на разных стадиях поворота, это во-первых… — …Если допустить, — вставил Топанов, — что это «галактика», запущенная, вопреки всякому здравому смыслу, подобно детскому волчку-игрушке? Это вы хотели сказать? Топанов поменял местами фотоснимки. — Пожалуй, их нужно рассматривать именно в такой последовательности, — сказал он. — Смотрите слева направо: вот снимок, полученный позавчера; вот снимок, полученный вчера; и, наконец, сегодня утром. — Что ж, — задумчиво произнес Григорьев, — сегодня утром снимок вышел на славу, гораздо больше подробностей. — Да, он как-то полней, — добавил Леднев. Все напряженно размышляли… — Вот что, — сказал Топанов, — нужно немедленно связаться с американскими учеными. Отправим им наше оборудование, наш электронно-оптический преобразователь, и пусть они фотографируют, но обязательно шлют нам снимки. Так мы установим различия в фотографиях не только ежесуточно, но и на протяжении восьми часов. Через три дня стали регулярно поступать фотографии «галактики Алексеева», снятые в районе озера Верхнего. Эти фотографии передавались в Москву по радио, откуда доставлялись к нам самолетом. Каждое утро, часов в восемь, мы получали и складывали из отдельных, еще влажных, частей изображение «спутника Алексеева». Догадка Топанова подтвердилась. На каждой фотографии, получаемой из Америки, различных подробностей было больше, чем на нашей фотографии, снятой накануне, и меньше, чем на следующей фотографии… Теперь уже мы сравнивали между собой только фотографии, снятые при прохождении «галактики» в зените. Когда их накопилось с десяток, вывод был сделан единогласно, и вывод потрясающий! Рассудок отказывался с ним согласиться, но длинный ряд фотографий со всей убедительностью свидетельствовал, что необыкновенная туманность, представляющая собой «спутник Алексеева», находилась в состоянии непрерывного развития! Спиральные ветви набухали туманными хлопьями, расползались все дальше и дальше; плотный, светящийся миллиардами звезд центр «галактики» выделялся все более четко. — Если это галактика, — сказал Топанов, — то мы присутствуем при ее развитии. Каждый день она иная, каждый час… Ну, а если она развивается, если вот эти туманные нити насыщены сгустками звезд, то я вас спрашиваю, товарищи, как выглядела она каких-нибудь тридцать-сорок дней назад? И не положили ли ей начало те таинственные ракеты, которые взвились с полигона Института звезд за месяц до катастрофы? — То, что вы говорите, похоже на фантастику… — возразил Григорьев. — А вам не кажется, что человечество уже давно шагнуло в мир фантастики? — быстро ответил Топанов. — И мы сделали ошибку, не пригласив сюда тех представителей астрономической науки, которые на эволюции звездных скоплений зубы проели. Сделали ошибку, и ее нужно немедленно исправить. Сегодня же попросите выехать их сюда. Дело о катастрофе в лаборатории Алексеева приобретает совсем другой поворот, чем это всем казалось вначале. Признаться, кое-чего в этом роде я и ждал… Мы, как зачарованные, переводили взгляд с одной фотографии на другую. Да, если Топанов вновь окажется правым, если то, что мы наблюдали и фотографировали, представляет собой модель, подобие настоящей галактики, настоящего звездного острова в миниатюре, то она разрастается на наших глазах, обретая какую-то малознакомую даже для астрономов форму… И вновь неожиданность… На этот раз ее принес очередной бюллетень Академии наук. Решением Комитета по проведению международного геофизического года Алексееву была присуждена премия… Наверное, в десятый раз мы перечитывали коротенькое сообщение: «За открытие асимметрии эффекта Эйнштейна присудить вторую премию руководителю лаборатории южноукраинского филиала Института звезд, Алексееву Алексею Алексеевичу. Премия присуждена посмертно». — Какого эффекта? Какая асимметрия? — спрашивал Григорьев. — Почему нам раньше ничего не было известно об этих работах? Топанов позвонил в Комитет. — Почему вы не поставили нас в известность? — спросил он. — Ах, работа носит узкоспециальный характер? Тем более следовало бы прислать! В чем содержание работы? — Алексеев предположил, что можно экспериментально установить некоторую асимметрию эффекта Эйнштейна, — ответили Топанову, — он поставил у нас опыт, в результате которого мы действительно получили подтверждение его теоретических расчетов. Вот и все… Топанов тут же потребовал: — Прошу вас немедленно выслать копию расчетов Алексеева и ваши протоколы по этому вопросу. — Как он разбрасывается! — восклицал Григорьев, перелистывая листки работы Алексеева. Мы получили их в тот же вечер. — Опять какая-то загадка. Для чего ему нужно было заниматься именно этим эффектом Эйнштейна? И я понимаю, почему нам не прислали эту работу Алексеева — выполнена она была полтора года назад: явно побочная тема… Правда, не совсем ясны обоснования, вернее, неполны… — Но в чем суть дела? — напомнил Топанов. — Я вижу, что здесь тоже какие-то орбиты, какой-то спутник… — В позапрошлом году был запущен искусственный спутник Солнца, искусственная планета. Предполагалось проверить эффект Эйнштейна по отклонению луча света вблизи Солнца… — Отклонение луча света… — взволнованно проговорил Топанов. — Продолжайте, продолжайте, пожалуйста! — Эксперимент в общем обычный, — продолжал Григорьев. — Запущенная с Земли искусственная планета каждые сутки производила фотографирование Солнца на фоне далеких звезд… Спустя год. это было в декабре прошлого года, пролетая вблизи Земли, она передала радиосигналами эти фотографии на Землю. При помощи этих фотографий удалось очень точно определить отклонение луча света вблизи Солнца… Вот видите, — Григорьев поднял и показал всем большую фотографию с черным диском Солнца и светлыми пятнышками звезд вокруг, — видите, здесь процарапаны стрелки против тех звезд, изображение которых сместилось, так как луч света вблизи Солнца… — …имеет форму гиперболы! — воскликнул Топанов. — Я все вспомнил… Все!.. Продолжайте, я все потом объясню… — Да, луч света искривляется вблизи тяготеющих масс, это было известно, но Алексеев предположил, что впереди по движению Солнца искривление луча будет большим, чем с другой стороны Солнца, в этом смысл предсказанной им асимметрии… — И опыт подтвердил расчеты Алексеева? — Да, на полученных фотографиях смещение звезд впереди Солнца оказалось несколько большим, чем возможная ошибка эксперимента… — Все вспомнил, все, — торопливо заговорил Топанов. — Этот эксперимент имеет самое близкое отношение к работам Алексеева, самое близкое… Известно, что Солнце вызывает своеобразное искривление пространства вокруг себя… Но Алексеев предположил, что это можно объяснить не так, как делал это Эйнштейн, — одним только «преломлением гипотетической среды вокруг тяготеющей массы». Он утверждал, что здесь… истинное преломление. Да, он так говорил… И это преломление вызвано свойствами того, что мы называли «пустотой». То есть Алексеев утверждал, что даже «пустое пространство» заполнено чем-то, и это что-то имеет вполне определенную физическую природу. Природа боится пустоты, говорили в далекие времена. Природа не знает пустоты! — скажем мы сегодня… Да разве можно назвать пустотой то, что стало колыбелью звезд, колыбелью галактик?! Только в уме человека может существовать слово «ничто», природа его не знает! — Выходит, что есть нечто такое, что заполняет физическое пространство? — спросил Григорьев. — Не заполняет, нет! Это я оговорился. По Алексееву есть САМО физическое пространство, и он решил проследить, как это НЕЧТО, уступая дорогу громаде Солнца, будет взаимодействовать с лучом света. — Но позади Солнца также могут возникать какие-то интересные участки… раз Алексеев считал, что Солнце движется в некоторой материальной среде. — Вот именно! — воскликнул Топанов. — В том-то все и дело! И вот разница в плотности «пустоты» впереди и позади движения Солнца и создает эту самую «асимметрию эффекта Эйнштейна», открытую Алексеевым!
ЗВЕЗДНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Сегодня я застал всех членов комиссии за странным занятием. У длинного стола, стоящего под деревьями, сидели очень серьезные и деловые люди и решали какую-то головоломку. Мне пришлось однажды видеть в парке культуры и отдыха точно такие же проволочные головоломки. С прихотливо изогнутых фигур из толстой стальной проволоки нужно было снять кольца; некоторые фигуры соединить в одну, другие, наоборот, разобрать на составные части. Весь фокус заключался в том, что проволочную фигуру нужно было сложить или повернуть так, чтобы кольцо снялось без всяких усилий. На удачливого человека все окружающие смотрели с завистью, нервно дергали завитки своих проволочных закорючек, а победитель думал про себя: «Как это мне удалось?…» В руках у каждого из моих товарищей были замысловатые фигуры, сделанные из плоских металлических стержней. Некоторые из стержней были из меди, другие из какого-то серебристого сплава. Топанов подвинулся, освободил мне место рядом с собой и, взяв несколько таких же фигурок, передал их мне. — Думайте, — сказал он, — думайте… — А над чем, собственно, думать? — спросил я. — Да вы что, ничего не знаете? Ах, да, вас вчера не было… — Я ничего не понимаю… — Вчера нам прислали последний заказ Алексеева. Завод-изготовитель, куда обращался Алексеев, повторил для нас то, что было изготовлено для алексеевской лаборатории. Григорьев первым обратил внимание на этот заказ. Общий вес всех этих металлических кружев равен двумстам десяти килограммам. Возникло предположение, что эти фигурки Алексеев и запускал на своих трех ракетах. — Но как это все проверить? — Пытаемся сложить что-нибудь понятное из этих странных деталей. Пока ничего не получается. Я тоже стал поворачивать и рассматривать один из таких сегментов. Отделанный чрезвычайно тщательно, местами полированный металл, посередине какая-то луночка, похожая на продолговатую дольку… — Вы также обратили на нее внимание? — спросил Григорьев. — Максим Федорович, вы не рассказали о требованиях, которые предъявил Алексеев к этой детали. — Да, да… Завод сообщил нам, что на тщательности шлифовки вот этой луночки особенно настаивал Алексеев. Кроме того, к ней были предъявлены особые условия и в отношении прочности. Луночка должна была выдерживать давление не менее пяти тысяч атмосфер! — А вот еще кольца, — сказал Григорьев, протягивая мне несколько колец из золотистой бронзы. — Они разъемные, видите, похожи на кольца для ключей… — И к ним также были предъявлены какие-нибудь требования? — Да, в отличие от сегмента с луночкой, кольца должны быть хрупкими; сплав, из которого они сделаны, выдержит напряжение не выше пятисот килограммов на квадратный сантиметр… — А почему луночка должна выдерживать не менее пяти тысяч атмосфер, а кольца не больше пятисот? — Если бы мы знали! — воскликнул кто-то из сидящих за столом, не поднимая головы. Проволочные фигуры в его руках сцепились в удивительно красивый узорчатый гребень. — Значит, — уточнил я, — прочность луночкирассчитана на пять тысяч атмосфер, а прочность колец — только на пятьсот… — Именно… — Григорьев отодвинул от себя свою работу. — Кольца в каких-то условиях должны разлетаться, а луночка обязана устоять. — Устоять? Но перед чем, если эта вся конструкция выносилась в вакуум и становилась практически невесомой? — А тут, — осторожно начал Топанов, — не предполагался ли взрыв? — При чем здесь взрыв? — спросил Григорьев. — Да, да, какой-то взрыв, — уже уверенней продолжал Топанов. — Вот возьмите артиллерийский снаряд; его оболочка должна разорваться только при достижении определенного значения внутреннего давления, не раньше и не позже… — Смотрите! — вырвалось у меня. — Каждая луночка сегмента точно подходит к луночке другого сегмента! — Ну, это мы заметили! раздалось вокруг. — Да что из того? — А из этого выходит, что там, где две соединились, там может присоединиться и третья фигура и четвертая… Вот давайте! Я взял из рук Топанова фигурку и присоединил ее к двум моим. Луночки были так пришлифованы, что разнять их можно было, только приложив некоторое усилие. Одна за другой соединялись фигурки друг с другом. Теперь уже ясно было видно, что соединенные вместе «скибки» образуют почти точную сферу. Через несколько минут перед нами лежал довольно большой, диаметром больше метра, ребристый стальной шар. Правда, достаточно было одного толчка, чтобы он развалился на отдельные сегменты, но тут Григорьев вспомнил про кольца. Он быстро продел их сверху и снизу шара. Теперь мы не сомневались, что именно такой вид должно было иметь это сооружение. Топанов взял его осторожно в обхват, поднатужился и чуть-чуть приподнял над столом. — А ведь, пожалуй, вы правы… Здесь килограммов семьдесят с гаком. Ну-ка, сколько сюда пошло фигурок? Мы бросились торопливо считать ребра-фигурки. — Четыреста штук! — возвестил Григорьев. — То есть треть всего количества! На три ракеты! — раздалось вокруг. — И без взрыва не обойтись! — сказал Топанов. — Вот теперь-то все ясно! Внимание, товарищи! Если в центре поместить заряд, то будут понятны требования Алексеева! Как только внутри шара давление поднимется до пятисот атмосфер, лопнувшие кольца — ведь им по техническим условиям такую нагрузку не выдержать — немедленно распадутся, и веч эта штука разлетится в разные стороны… — И спутник перестанет существовать, — сказал Григорьев. Наступило молчание. — Да, — нарушил тишину Топанов, — да, исчезнет, если эти сегменты ничем не будут друг с другом связаны… — А если они связаны, то в пространстве будет носиться огромное колесо, — сказал Леднев. — И они, эти отдельные фигурки, действительно могли быть связаны. Я обратил внимание на маленькие выступы-приливчики, вот здесь, по краям каждой узорчатой фигурки. — Мы все их видели… — заговорили вокруг. — Вы видели, а я присмотрелся. В этих приливчиках очень тонкие отверстия, и если сквозь них пропустить нитку… — Именно нитка! — неожиданно громко заговорил Григорьев. — Но нитка особенная! Я имею сведения, что Алексеев состоял в очень тесной деловой переписке с Мачавариани! — Мачавариани не может иметь отношение к этому вопросу, ведь он специалист по структурам, — сказал Леднев. — Совершенно точно, — подтвердил Григорьев. — Но в последнее время его лаборатория начала заниматься, и очень удачно, вопросами о роли смещений в кристаллических решетках… Им удалось вызвать систематические планомерные смещения атомных слоев… Короче говоря, они уже перешагнули тысячекратный запас прочности для многих чистых металлов. — С лабораторией Мачавариани нужно связаться немедленно, — сказал Топанов. — Сегодня же, по телефону. Нужно выяснить, что требовал от них Алексеев. Через несколько часов сотрудники лаборатории Мачавариани подтвердили, что по заказу Института звезд ими была изготовлена тончайшая металлическая проволока и посылкой месяца четыре назад отправлена на имя Алексеева. Мы опросили о заданной прочности проволоки. «Не менее двадцати тонн на квадратный миллиметр, — ответили нам. — Сечение проволоки 0,2 квадратных миллиметра. Общий вес сто шестьдесят килограммов». Мы измерили диаметр отверстия в приливах, расположенных на ребрах сложенной нами фигуры. Отверстия вполне могли пропустить проволочку такого сечения. — Но зачем столько проволоки? — проговорил Григорьев. Ему ответил один из физиков, членов комиссии: — Да потому, что Леднев прав. После взрыва вся эта конструкция представляла собой гигантское колесо диаметром в несколько километров… И, кажется, я начинаю понимать его назначение… Оживленно переговариваясь друг с другом, расходились взволнованные неожиданным открытием члены комиссии. Топанов как-то особенно посмотрел им вслед, потом улыбнулся и сказал: — Если так пойдет дальше, то скоро, очень скоро для нас все станет ясным… Мне поручили доложить комиссии о последних работах Алексеева в области математической физики. Подводя итоги, я не скрыл своего разочарования. Меня выслушали внимательно, казалось, даже сочувственно. — Алексеев отрицает теорию относительности и квантовую механику? — спросил Кашников. — Вот что, товарищи, — огорченно сказал Григорьев. — Мы многого ждали от присланных нам работ Алексеева. Мы ждали, что они раскроют тайну его последнего эксперимента, а вместо этого какие-то странные утверждения, смахивающие на пророчества, а не на точную науку; повсюду заверения, что обоснования будут присланы позже. Вы внимательно ознакомились с работами? — обратился он ко мне. — Может быть, вам не хватило времени? — Времени для детального анализа было, конечно, мало, — ответил я. — Но мне так и осталось непонятным главное… Непонятен подход Алексеева, его исходная позиция. К чему он вводит операции с целыми атомами?… Производит вычисления, в которых фигурируют не характеристики частиц, как принято, не их массы, импульсы, заряды, а частицы целиком. И Алексеевым выдумана для этого какая-то нелепая символика… И бессмысленное копание во всем известных аксиомах… Либо я ничего не понял, либо я ничему не научился… Единственный человек из всех собравшихся, который казался удовлетворенным докладом, был Топанов. — Вы правы, — сказал он. — Прав? В каком смысле? — спросил я. — Вы действительно не поняли и не научились. Мы насторожились, а Топанов, отставив палку, встал. — Вот вы высказали нам свое разочарование, — обратился он ко мне, — и кое-кто вас поддержал. Ваш подход к работам Алексеева был вполне объективным? — Да, вполне… — Не верю! Не верю! — дважды повторил Топанов. — Этого не может быть… Именно потому, что вы специалист, именно потому, что в этих теориях вся ваша жизнь, — вы могли быть необъективным. Я тоже не разобрался во многом. Но мне кажется, что основное я уловил: Алексеев приступил к решению главной задачи математики и физики! И я очень рад, что дожил до первой ласточки, до этих вот работ Алексеева. — Максим Федорович, вы нам бросили вызов, — покачал головой Григорьев. — Объясните, что вы хотите сказать. — Вызов? — переспросил Топанов. — Это не то слово. Вы крупные специалисты, это я знаю. Если бы речь шла о какой-то дальнейшей углубленной разработке известных положений, то я молчал бы. Но Алексеев пошел не традиционным путем. Вот здесь наш докладчик обронил, что у Алексеева какой-то повышенный интерес к давно известным бесспорным аксиомам математики… А ведь пора этими бесспорными аксиомами математики заняться не только математику, но, в первую очередь, и физику. — Заниматься аксиомами? — переспросил Григорьев. — Их следует знать, знать на память… — Не только знать! — ответил Топанов. — Но и всегда помнить, что аксиомы появились из человеческого наблюдения и опыта, из теснейшего общения с природой, они не с неба упали! Мы не присутствовали при их появлении. Но представим себе те наблюдения, которые положили начало этим «истинам, не требующим доказательств». Туго натянутая тетива лука или солнечный луч, пробивающийся сквозь тучи, навели на мысль о прямой линии; гладь озера, блестящая грань кристалла — на представление о плоскости… Долгий и сложный путь был пройден математикой, прежде чем эти простейшие математические абстракции стали необходимым инструментом научного и технического мышления. Линия без ширины, плоскость без толщины, истинные параллельные линии существуют только в нашем воображении. Но каким могущественным орудием явились они для моряка и архитектора, землемера и астронома! На несуществующих в природе образах построено все здание математики, но оно смогло устоять только потому, что в этих немногих, казавшихся очевидными, положениях заключена истина. Истина, да не вся! Только часть истины! В том, что эти аксиомы кажутся нам изначальными, недоказуемыми и очевидными, — и сила их, и слабость. Силу свою они показывали на протяжении более двух тысяч лет, а слабость сказывается только сейчас, каких-нибудь семьдесят — восемьдесят лет… Здесь кто-то сказал: «Алексеев отрицает теорию относительности!» Я в это не верю. «Он отрицает квантовую механику!» Я и в это не верю. Вот позвольте вас спросить, — неожиданно обратился Топанов к Григорьеву. — Вы верите в теорию относительности? — Да, верю, но… — Прекрасный ответ! Нет, нет, не продолжайте, мне именно такой ответ и был нужен… А вы, — обратился Топанов к Кашникову, — вы верите в справедливость квантовой механики? — Разумеется, — пожал плечами Кашников. — Конечно, трудно требовать… — Чудесно! Вы обратили внимание, что и в ответе Григорьева, и в ответе Кашнико-ва были, пусть различного оттенка, этакие маленькие «но»… — Максим Федорович, так нельзя, — сказал Григорьев. — Вы все-таки дайте мне договорить! Я хотел сказать, что, хотя мы и признаем положения теории относительности, но есть такие объекты, где мы встречаемся с определенными трудностями. — Например? — спросил Топанов. Он был весь ожидание. — Ну хотя бы… — Хотя бы, — пришел на помощь Каш-ников, — вопрос о происхождении магнитного момента электрона. Опыт точно устанавливает существование и значение магнитного момента. Но так как электрон представляет собой очень небольшое заряженное тело, то для проявления магнитных свойств он должен вращаться. Однако первые же расчеты показали абсурдное значение скорости: скорость точки поверхности вращающегося шарика-электрона должна была бы в триста раз превысить скорость света… — А согласно теории относительности скорость света есть предельная скорость, это ведь постулат, исходный пункт теории, не так ли? — спросил Топанов. — Да, совершенно верно, — подтвердил Григорьев. — Поэтому нам приходится вводить различные дополнительные предположения. Но в общем теория относительности многое, очень многое позволила предсказать, Максим Федорович. — Вполне с вами согласен. Однако вы сами видите, что в ее настоящем виде она показала почти полную неприменимость ко многим явлениям микромира. И это не случайно! А разве квантовая теория может объяснить существование самого атома? Не может! Мы говорим, что вокруг ядра вращается электрон. Но, вращаясь, он обязательно создает переменное электрическое поле. А переменное электрическое поле немедленно вызовет появление переменного же магнитного поля. То есть такой электрон должен излучать электромагнитную волну. Излучающий электрон, теряя энергию, должен непрерывно приближаться к ядру, упасть на него, и атом должен исчезнуть… Этого явления квантовая механика не может объяснить. И, несмотря на это, обе теории дали немало ценных результатов. Так что же предлагает Алексеев? Он предлагает построить исходные положения физики, своего рода новые математические аксиомы, на основании новейших знаний о веществе, времени, пространстве. И уже на них, на этих новых аксиомах, предлагает развернуть новую математическую теорию. То есть подобно тому, как старые аксиомы выросли из непосредственных наблюдений над природой, аксиомы Алексеева, по-видимому, вобрали в себя все наиболее достоверное, что дала современная математика и физика. Да, товарищи, мы живем в такое время, когда многие ранее полезные абстракции изжили себя, когда развитие как математики, так и физики подошло к тому пределу, за которым с необходимостью произойдет их полное слияние. И именно физика будет той основой, на которой произойдет это слияние, слияние во всем объеме этих наук, во всем их расцвете… — Что-нибудь вроде «физической математики»? — спросил Леднев. — Название придет, дело не в нем, — ответил Топанов. — Максим Федорович! — в раздумье заговорил Григорьев. — Алексей Алексеевич занимался вопросами вакуума, вопросами межзвездного вещества. Он исследовал НИЧТО, изучал пустоту, а пришел к ломке всех наших представлений и понятий. Я еще не до конца убежден в том, что пришла пора для такой радикальной «операции»… — Знаете ли, — как-то осторожно ответил Топанов, — сколько бы ни стояла на окне запаянная колба с чистой водой, в ней самопроизвольно никогда не зародится жизнь. Но в теплых морях молодой Земли сотни миллионов лет назад создались условия для появления вначале бесструктурных белковых соединений, а затем и жизни… Есть какое-то тонкое сходство между этой запаянной колбой и абсолютной пустотой, окружающей, по нашим сегодняшним представлениям, звезду и электрон, галактику или отдельный атом. В абсолютной пустоте нет ничего, что могло бы объяснить возникновение как частиц, так и звезд. Видимо, Алексеев и старался найти это НЕЧТО, вечно живое, вечно пылающее, но пока невидимое и неуловимое. — Максим Федорович, — сказал Леднев, — а ведь создается впечатление, что вы давно ждали именно такого поворота событий… — Да, ждал, — быстро отозвался Топанов. — И был уверен в том, что рано или поздно это обращение к основам науки на новом уровне произойдет. Это даст новый толчок развитию всех наук о природе, всему естествознанию. — Но почему вы ждали? — спросил Григорьев. — У каждого из нас было предчувствие, были сомнения, поиски, а вы прямо нас уверяете, что ждали именно вот этих работ Алексеева. — А это пусть вас не удивляет. Пора уже хорошо понять, что философия обладает чем-то таким, что превосходит специалистов, даже в их собственной области.ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Из Сибири пришло письмо. Нина Алексеева уже все знала. В письмо был вложен листок: последние строчки, которые она получила от Алексея. Одно место заинтересовало нас. Вот оно: «Я уже давно пишу тебе большое письмо-дневник, по нескольку страниц каждый день. Пошлю его, когда наш удивительный эксперимент подойдет к концу. Мне и самому нужно освоиться с тем, что мы сделали, слишком все неожиданно и необычно…» Значит, где-то лежат листки, и в них разгадка? В бумагах Алексеева письма мы не нашли. Скорее всего, оно погибло при катастрофе. А вдруг на почте знают о нем? Может быть, регистрировалось его отправление? Как во всех южных городах, летом почта становилась одним из самых оживленных и загруженных работой учреждений города. В кабине междугородного телефона какой-то мальчик радостно кричал: «Баба Лиза! Баба Лиза, это же я, Петя!» — Позвякивал и жужжал телеграфный аппарат. Шумная смеющаяся очередь отдыхающих ждала писем «до востребования». Заведующая почтой нетерпеливо выслушала нас и сказала: — Письмо из Института звезд никак не могло задержаться, вот еще! От них мы все получали по пневматической трубе и тотчас отправляли. — В Институте звезд была пневматическая почта? — удивился я. — Да, совсем недавно проводили туда какую-то канаву, этим воспользовались и уложили трубы для пневматической почты. Письмо Алексеева? Он получал большое число разных журналов и писем, мы сразу же закладывали все в цилиндры и отправляли ему, и никогда никаких жалоб не было. — Пневматическая почта… — повторил Топанов. Мы немедленно отправились в Институт звезд и вызвали аварийников. — Пожалуй, есть надежда найти это письмо, — сказал начальник аварийной команды, — разумеется, если оно было написано и послано. После аварии пневматическая почта была отключена и не работает. Пройдемте в склад найденных при раскопках вещей… Мы пошли за ним в подвал, где на полках были разложены самые разнообразные предметы. Среди них был пустой помятый бронзовый стакан. — План разрушенного корпуса у вас под руками? — спросил Топанов. — Мы с ним не расстаемся, вот он… — Пневматическая линия наведена голубой тушью, — подсказал один из аварийщиков, — да зачем план! Я сам проходил туннель с трубами, мы их разрезали и заглушили концы. — Где, в каком месте? — Да пожалуй, что как раз здесь, — аварийник взял карандаш, немного подумал и указал на какую-то отметку возле фундамента. Мы вышли во двор института, подошли к полузасыпанной щебенкой глубокой траншее. — Вот она, — сказал Топанов, показывая на желтевшую внизу трубу. Один из рабочих бросился бегом к грузовой автомашине, что-то стал объяснять шоферу. Потом машина, подцепив большой компрессор на колесах, подтянула его к траншее. — Что вы хотите делать? — спросил Топанов. — Продуть, — коротко ответил начальник аварийной команды. — Сейчас шланг подведем и продуем. Что в трубе застряло — все наше будет. — Быстро на почту, — обратился ко мне Топанов, — я сейчас же приеду, следом за вами. — Линия ожила, — сказала заведующая почтовым отделением, когда я появился на пороге, — да все мука какая-то идет. Действительно, в черный лоток для приема цилиндров пневматической почты непрерывно сыпалась тонкая пыль, потом в приемной камере раздался торопливый стук, будто что-то живое искало выхода. — Там цилиндр, — сказала заведующая, — сейчас он повернется как надо и… Она не договорила. На черный лоток вместе с грудой штукатурки и битых кирпичей выпал блестящий цилиндр. Я схватил его и, сняв стальное кольцо, вынул пакет. Это было письмо Алексеева. А сквозь открытую заслонку все шла и шла белая пыль… Большой пакет был у меня в руках. Кто знает, может быть, именно в нем содержится разгадка всех удивительных событий… Заведующая почтовым отделением строго взглянула на нас, поднесла пакет к глазам и спокойно сказала: — Пакет не вам, пакет адресован гражданке Алексеевой Н.П., в город Мундар, Якутской ССР. — Но позвольте! — не выдержал я. — Видите ли, произошла авария, нам необходимо… — Письмо не вам, — строго повторила заведующая. — Вскрывать его не позволю… — Вы совершенно правы, — вдруг вмешался Топанов и вынул записную книжку. — Давайте адрес. — Запишите, адрес сложный… — И все-таки, — сказал Топанов, — как быть с письмом? — Письмо я отправлю адресату, — отрезала заведующая. — Прошу вас отправить авиапочтой, — попросил Топанов. Вечером он вылетел в Якутск. Вернулся очень быстро и, застав нас всех возле новых фотографий «спутника Алексеева», бережно вынул из портфеля распечатанное письмо Алексеева. — Есть новости, товарищи, присаживайтесь… — От Мундара летел вертолетом, — начал свой рассказ Топанов, когда мы все расселись вокруг. — Места красивые… Нашли геологическую поисковую партию. Она занимается полиметаллическими месторождениями в районе хребта Черского. Прилетели мы ранним утром, но геологи уже встали, что-то такое кипятили над костром… «Где, спрашиваю, товарищ Алексеева?» Проводили к ней в палатку. Обо всем меня расспросила, прочла письмо… Потом вроде забылась, а когда прощались, так, между прочим, обронила: «Алексей жив…» — «Почему вы так думаете?» — спрашиваю. — «Случилось страшное, и как-то не просто…» — «Неясно…» — говорю, а самого прямо дрожь бьет. «К чему этот прозрачный состав, да еще теплый, к чему? И многое, во что мне еще трудно поверить… Это еще не конец. Он жив, Алексей, а для меня и подавно…» Топанов осторожно вынул из конверта пачку листков. — И вот мне как-то не совсем удобно их оглашать… У меня после этой встречи осталось такое впечатление, что… — он потер ладонью лоб, подыскивая слова, — что она права… И, может быть, не совсем удобно нам читать то, что писал Алексеев, хотя Нина Петровна дала согласие… — Читайте, — поторопил Григорьев и постучал мундштуком по краю тарелки с окурками. — Надо знать… В ваше отсутствие, Максим Федорович, к нам приехали специалисты по внегалактическим туманностям. Заявляют, что мы видим развернутый ряд каких-то туманностей, каких-то далеких галактик. Развернутый ряд стареющих галактик — вот их заключение. Оторвать их от фотоснимков нельзя, разговаривают они только на языке звездной статистики, и мы силой заставляем их есть, пить и спать. Читайте, Максим Федорович, мы будем скромны, а если есть «лирика» в письме — лучше ее долой… — Нет уж, читайте сами, — сказал Топанов, передавая письмо Григорьеву. — Здесь будет трудно отделить, где кончается лирика, а начинается наука… «7 марта. Нет, не цветы! Я дарю тебе звезды!» — так начиналось письмо Алексеева. — Ну знаете… — сказал кто-то из присутствующих. — Это напоминает романс… — Ваше замечание бестактно! — возмутился Григорьев, а Топанов поверх очков глянул на говорившего и сказал в раздумье: — Он действительно подарил звезды… — Читайте, Григорьев! Мы слушаем! Не отвлекайтесь! — раздались голоса. «…Я дарю тебе звезды! И в споре, что всю жизнь идет между нами, сегодня я победил. Тогда на вокзале, год назад, я забыл принести тебе цветы. Это проступок, но цветы были кругом, много цветов, они были так доступны! Я не хотел дарить тебе цветы, вот что! Мне не хотелось, чтобы букет заслонил эти последние минуты расставания. А ведь это было бы так просто, всего лишь подойти и сказать: мне тот, с красными розами… Но довольно! К делу! Через несколько недель сделанное нами войдет в русло формул и вычислений, станет достоянием всего мира, но уже сейчас успех нашего эксперимента осветил каждый уголок моей жизни: главное — стало главным, а то, что занимало порой годы поисков и раздумий, вдруг исчезло, оставив после себя почти незаметную ступеньку — мысль. Да, с сегодняшнего дня стало ясно, что наш опыт удался! Помнишь Маяковского? «Мы солнца приколем любимым на платье, из звезд накуем серебрящихся брошек». Ты смеялась над этими словами, а я, я дарю тебе мои первые звезды! Они не такие, как все, они невидимы, но они существуют, они мерцают на зеленом экране, мы фотографируем каждый момент в их жизни — это все-таки звезды… Я не скажу, что путь к ним был трудным, это был просто путь, просто дорога, не пройти которой мы не могли. Это было просто, как жизнь, и сложно, как жизнь, и, как водится, были и сомнения и неудачи, но радость победы великодушна к ошибкам, ведь порою она бывает многим обязана и им. С чего же начать? Начать с того холодного утра, когда мой взвод дал последний залп в небо, серое, как снег, покрытый гарью, что лежал вокруг. Мерзлая глина да зеленая хвоя навек закрыли нашего любимого командира полка, так щедро отдавшего свою жизнь в трудную для нас, тогда еще малоопытных солдат, минуту… И по каким бы дорогам я ни шел, что бы ни делал, — стрелял, зарывался в землю, входил в горящие села, где, казалось, сам воздух был ранен и метался из стороны в сторону от взрывов, от пламени, — нет-нет и зазвучит в ушах голос нашего командира: «А для чего, как думаешь, живут люди? Для себя или для других, вот в чем вопрос. А если для других, так и умереть не жалко! Правда, Алеша, душа моя?…» Сам он знал ответ! Знал, что люди живут для других, но чего-то искал, чего-то ему не хватало, и спрашивал меня о самых различных вещах: и почему солнце горит и не гаснет, и почему ворон живет дольше человека, за что ему честь такая, и что я буду делать после войны. «Ну, закончишь университет, а потом что будешь делать, чем заниматься? И есть ли еще что не открытое, совсем не открытое? Такое, что только слух об этом есть…» Не долгими были наши встречи, а настроил он меня, как настраивает музыкант свой инструмент. Настроил и ушел из жизни. И непонятен был мне его поиск. Ведь он ясно видел победу и дороги за ней. Мне непонятно было его стремление увидеть сейчас, сегодня, в кратном и тревожном затишье, проблеск далекого завтрашнего дня. И только много позже, как-то вдруг, соединились его вопросы в один знакомый и простой вопрос: «А что ждет человека? Слышишь, Алеша, душа моя? Что ждет не нас с тобой и, может быть, не детей наших, а все человечество, всех людей? А если человек исчезнет, то кто придет ему на смену, чем, каким чудесным даром будет обладать это существо? Разве может быть что-нибудь больше, чем разум, чудесней, чем сердце, гибче и сильнее человечьих рук?» И эти вопросы стали для меня стержнем всей моей жизни, и нанизал я на этот стержень тысячи дней и ночей. Вопросы, которые я слышал еще в школе, вопросы, которые звучали и в насыщенном лекарствами воздухе санитарного вагона, — в темноте, кто мог, говорил, кто мог, слушал, — вопросы, от которых так легко отмахнуться: «Не к спеху, вот, когда подойдет пора, и подумаем, на наш век хватит!» Кто знает, может быть, и я в повседневной суете отошел бы от этих вопросов. Но не умирал в моем сердце этот ласковый и строгий, душевный и мужественный человек… А потом пришло тяжелое… Может быть, я один остался в живых… Не был я лучше тех, кто задохнулся рядом со мной, кого утром погнали по пыльным дорогам в лагеря смерти. Так должен я сделать что-то за всех!.. За всех, кто не дожил… Эта мысль не сразу, но постепенно охватывала меня. Время шло, и наступили незабываемые дни победы. Помнишь? В эти дни что-то во мне стало на свое место, как вывихнутая рука, если ее крепко дернуть. Сорок четвертый, сорок пятый… Ты не забыла их? В аудитории холодно, в желудке голодно… Вечером под окнами одиночные выстрелы, вдали автоматная очередь: ловят бандитов. На стенах кратко: «Отовариваем масло за декабрь». Большая афиша — приехал джаз, под афишей старик «коммерсант», он продает мазь от клопов и американские сигареты; напротив конкурирующее предприятие: женшина с бегающими глазами торопливо зазывает: «Дамы, семечки, очищенные семечки! Дамы, дамочки, кому семечки!» Шумно переговариваясь, но привычно поддерживая шаг, по городу проходят шотландцы в коротких клетчатых юбках. Советская Армия освободила их из гитлеровских концлагерей, и вот сегодня они отправляются в порт. Там их ждет светло-серый, с мягкими очертаниями корабль. «Домой!» — написано на их лицах. Временами гремит где-то у моря взрыв: взрывают мины, но иногда… иногда мина сама взрывается. Крытый рынок с громадной надписью желтой охрой: «Кто не трудится — тот не ест!» Группа студентов озабоченно вполголоса обсуждает вопрос: взять ли сто граммов сала или мешок с крабами. — Крабы калорийней! — убежденно говорит один из них, перелистывая справочник. — Только почему они так пахнут? — Они морские! Самые настоящие морские крабы! — объясняет толстенная торговка. А дни, что я провел в чудом уцелевшей библиотеке… Врываются в прохладный зал смелые и радостные лучи солнца. Напротив — военный, офицер. Он бережно уложил свою несгибающуюся ногу на край соседнего стула и напряженно листает учебник по металлургии. Два школьника, зажимая друг другу рты, прыскают над затрепанным томиком «Золотого теленка», да и как удержишься, если знаешь, что за солнце и что за соленый ветер спрессованны, сжаты и так искусно вставлены в эти страницы. Завтра дадут спекулянтке по рукам, завтра военный будет восстанавливать домны и шахты славного непокоренного Донбасса или взорванные заводы Днепропетровшины, завтра вчерашние десятиклассники пойдут на завод или в мореходное училище, а над похождениями бухгалтера Берлаги будут смеяться другие… Завтра! А что я буду делать завтра? Что строить, что рассчитывать? Мне дали возможность учиться тогда, когда, казалось, трудно было представить, что можно учиться вообще! А слово, что я дал себе: сделать что-то такое — открыть, изобрести, найти, — чтобы зазвучал в ушах его голос: «Хорошо идешь, Алеша, молодцом!..» Совсем с головой утонул я в книгах! Ведь я только первый курс до войны закончил… Поверишь ли, если видел книгу, прямо в сердце толкало: «Прочти, узнай, а вдруг пригодится?…» Знать! Какое это чудесное слово! Но за все браться — ничего не сделать! И к государственным экзаменам, которых вообще-то я не боялся, в моей голове был самый настоящий сумбур. Сотни разрозненных теорем и задач; себе не стыдно сознаться, что многое осталось понятым только наполовину, кое-что запомнил механически. Ответить на экзамене смогу, а копни поглубже, и — поплыл… Преподаватели спрашивали: «Не чувствуете влечения к какому-то одному разделу? Все интересно? Это пройдет… Вот прочтите эту статью, эту книгу, поломайте-ка голову, молодой человек, вот над этой задачкой!» Но книга прочитана, задача решена или не решена, а в голове по-прежнему список наук. Системы, какого-то глубокого и оправданного порядка, — нет… 11 марта. Да, я мечтал о труде, но будущее было не ясным. Иногда меня посещали идеи, намечались интересные теоремы, но сознание того, что имя им — легион, что можно растратить жизнь на любопытные, но бесперспективные мелочи, удерживало меня. И десятки изученных отделов математики предстали передо мной громадным и бесформенным куском. — Алексей Алексеевич, вы мне нужны, — сказал мне однажды декан. Он всех называл по имени-отчеству; человек властный, знающий и строгий, о котором даже в студенческих песнях пелось. Я помню одну. Там говорилось о студенте, который ну никак не смог обойти по дороге на лекцию всем нам знакомый соблазнительный уголок рынка, уставленный огромными бочками с виноградным вином. И вдруг навстречу «сердитый, три недели небритый, сам декан ядовитый к нему грозно шагал». Он действительно не любил бриться и действительно был не без ехидства, но в его «яде» были ум и тревога за каждого из нас. — Вы мне нужны… С вами что-то творится неладное, а? Да, да, сейчас весна, скоро вы выпорхнете в широкий мир, а с вами что-то не то… Влюблены? Очень популярное заболевание в этот период года. Не колите меня глазами, я все вижу, Алексей Алексеевич… Вы во сне поняли, что должны были пойти в консервный институт, где на последнем курсе сдают противопожарное дело… Кстати, вы не вернули мне последнее направление на экзамен. — Вот оно. — Я протянул листок, напоминавший багажную квитанцию. — У вас будут славные отметки, Алексей Алексеевич, и я не вижу оснований для огорчения! В чем дело? После моего сбивчивого рассказа декан тихонько рассмеялся и сказал: — Все развивается совершенно нормально. Это играет ваша силушка богатырская. Дай вам сейчас земную ось — и вы ее с корнем вырвете! Через это проходят почти все. Потом успокаиваются… Начинают служить, ходить каждый день на работу. — Опускаются, перестают мечтать? — подсказал я. — Ничего подобного! — Он решительно взмахнул сухой энергичной рукой. — Ничего подобного! Вы теперь просто в положении того самого осла, что издох с голоду между двух охапок сена. Не смог сделать выбор… А когда придете в лабораторию, в институт, вам дадут тему и скажут: «Вот это, товарищ Алексеев, нужно к следующей пятнице», и пошла-поехала славная трудовая жизнь математика Алексея Алексеева. Помните, как сказали об Эйлере, когда он умер? «Он перестал вычислять и жить…» Вычислять и жить — вот содержание и смысл вашей судьбы, Алексей Алексеевич! — Но разве судьбы математиков так похожи друг на друга? — А это уж зависит от внешних условий. Есть судьбы бурные, как жизнь Галуа; в его сознании слились мятеж и интеграл, тюрьма и углубленные размышления, дальновидность истинного математического гения — сам Гаусс не разобрался в его рукописях — с горячностью и безрассудностью юности… Быть убитым в двадцать лет и оставить бессмертную программу работ на века, чудесные теоремы, глубокие задачи! Молния революции сверкнула в его работах, светлая, могучая и быстрая, как вся его жизнь. — Вычислять и жить… Но что вычислять? — Важнее второе, важнее жить, вычисляя… Все мои выпускники мечтают когда-нибудь сказать: «Я открыл новое исчисление!» Не слишком ли много будет новых исчислений? Ведь не на пустом месте строится наука, сколько безвестных математиков ежедневно трудится, чтобы создать обилие достижений, прийти к недоуменным вопросам, даже заблуждениям и парадоксам, чтобы создать те кирпичи и цемент, из которого гений построит удивительное здание нового математического исчисления! Что же, их труд не в счет, не нужен?! Сливки собрать желаете? Пришел, увидел, победил… Эх, Алексей Алексеевич! Есть у вас искорка — найдете применение и силам своим, и всему тому, чем мы начинили вашу голову. А что нет у нас такого предмета, скажем, под названием «Открытие новых путей в математике», или «Как высосать из пальца гениальную теорему», - не взыщите, чего нет — того нет! Я вышел на улицу. Было часов восемь вечера; звеня медалями, прошел морской патруль. Под одиноким фонарем дремала седая женщина, на выщербленном пороге из ракушечника стояло помятое ведро с пучками свежих ландышей. Проехал грузовик с пустыми железными бочками, громом наполнил воздух и, неистово гудя, скрылся за поворотом. Улица была пуста. Я вышел на перекресток и остановился. Заходящее солнце уже скрылось за домами, потемнело еще минуту назад прозрачно-голубое небо, и сказочным грозным силуэтом выступило здание заброшенной, обгоревшей церкви. Разлился теплый желтый закат за ее остроконечными шпилями, и все молчаливое здание как-то поднялось над землей, стало стройнее, выше. Но так ли она неинтересна, эта церковь?… Ей лет сто, и видела она немало. Здесь до войны был какой-то склад, потом пришли оккупанты, и здесь опять был склад горючего, каких-то технических масел — так говорили мне. Накануне освобождения города гитлеровцы согнали в эту церковь советских людей и здесь их сожгли… Только один парень вырвался из пламени, бросился на эту площадь, где я сейчас стою, и пробежал шагов пятьдесят, пока его не срезала автоматная очередь. Вольно раскинувшись, лежал он, как будто спокойно уснул на неровных булыжниках своего родного города… Я живу в бурный и сложный век. Ведь смог же Галуа открыть столько неизвестного! Почему он шагнул через все общепринятые понятия, теории, традиции? Ведь Галуа знал меньше меня! Сколько новых наук возникло за последние сто лет! Да, он знал значительно меньше. Но какой-го неведомый эликсир бродил в его прекрасной, отчаянно смелой голове. Ведь в ней находилось место и огненным словам, и памфлетам! А может быть, в этом и дело? Может быть, имя этого таинственного эликсира-революция? Может быть, именно «смесь» математики и баррикад дали миру его теории, его гений? И спустя много лет эти идеи вскормили и квантовую механику, и кристаллографию… Значит, нужно сознательно «соединить» революцию с наукой, выработать какой-то подход, какой-то метод… И тогда ты сделаешь так, что каждый день и каждым час наполнятся мощью и силой, и победа будет частым гостем за твоим рабочим столом! 13 марта. Это было начало, начало пути… Я перебираю сейчас свою жизнь, будто руками ощупываю каждый ее узелок, распутываю и слежу за уходящими вдаль ручейками-нитями… Вот и еще одна нить… В случайно подобранной мною груде книг оказались тоненькие брошюрки. Названия их вызывали удивление, автор — уважение. Изданные в году двадцать восьмом, в Калуге, напечатанные на быстро состарившейся бумаге. Я перелистнул их и, не обнаружив ни одной формулы, хотел было отложить. Автором был Циолковский, гениальный мечтатель и изобретательный инженер, но брошюрки были посвящены совсем не ракетам. Я помню названия: «Воля Вселенной», «Любовь к самому себе, или Истинное себялюбие», «Причина Космоса»… От этих названий веяло чем-то давним. Мог ли я подумать, что в книгах с такими названиями скрываются потрясающие догадки, а в сложных, иногда путаных, иногда наивных рассуждениях рвется ввысь, обнимает всю Вселенную последняя воля Циолковского, его завещание… И вот однажды я заглянул в одну из этих брошюрок, перелистал ее, и удивительный мир открылся мне, мир неугасимого оптимизма, мир радости познания, его нужности. Нет, Циолковский был не только конструктором фантастических, даже в эти послевоенные годы, проектов и предложений; нет, не только ракетами и искусственными спутниками была занята его мысль. Он смотрел намного дальше, мечтал о большем. Ставшие достоянием всего мира, его поиски в области межпланетных перелетов оказались только частью гораздо более обширного плана, осуществить который может только все человечество в целом, только в грядущих тысячелетиях. Чем-то неуловимо знакомым повеяло с этих страниц. Знакомым до боли… «А для чего живут люди, Алеша, душа моя?» — всплыло вдруг в памяти. Так вот о чем думал Циолковский! Вот почему занялся разработкой теории межпланетных перелетов. Не праздное любопытство и не сухой академический интерес к далеким мирам возбуждали его мысль… 17 марта. Быть ли человечеству вечным? — вот главный вопрос, который не давал ему покоя. Все развивается в мире, и наше Солнце, быть может, не будет всегда светить. Что станется с человечеством? Неужели его участь будет подобна участи тех ящеров, что сотни миллионов лет назад плавали в теплых водах молодой Земли, носились в воздухе, топтали ногами-колоннами буйную поросль молодой Земли, а потом исчезли? Нет, «племя двуногих» найдет выход! Найдет десятки, сотни решений! И первым, самым простым выводом для Циолковского было стремление найти способ покинуть Землю, в поисках тепла и света расселиться в околосолнечном пространстве. Жить, творить, думать на других планетах и даже в оторванных от Земли летающих лабораториях, собирать урожаи неведомых плодов в прозрачных невесомых оранжереях, свободно парящих в безвоздушном пространстве… Так родилась его мысль о ракете. Так возникли проекты искусственных спутников Земли, эскизы составных ракет, ныне десятками устремляющихся в небо. А Циолковский настойчиво обращал свой взгляд к звездам, к Солнцу… Он знал, что и Солнце имело свою историю, что оно возгорелось, что не могут пройти бесследно грандиозные выбросы вещества из его глубин каждый день, каждую секунду. Он приводит цифры. Он с тревогой и надеждой спрашивает себя, в чем удивительная живучесть Солнца и далеких звезд, как может сочетаться щедрость и долговечность, успеет ли человечество обуздать силы природы, подчинить их себе. Он верил в неуничтожимость звезд. «Звезды гаснут и возгораются.» — так писал он. Гаснут и возгораются! Не возникают, стареют и умирают, а, умирая, вновь возникают, может быть, совсем в другом виде, другого спектрального класса, с другими условиями температур и давлений… Вот и сейчас передо мной одна из этих книг. Послушай: «Планеты и Солнца взрываются подобно бомбам. Какая жизнь при этом устоит! Светила остывают и лишают планеты своего живительного света… Куда теперь денутся их жители?… Вы еще скажете: рано или поздно все Солнца погаснут, жизнь прекратится… Этого не может быть! Солнца непрерывно возгораются и это даже чаще, чем их угасание…» Так в чем же спасение? «…Если люди уже теперь предвидят некоторые бедствия и принимают против них меры и иногда успешно борются с ними, то какую же силу сопротивления могут выказать высшие существа Вселенной!» Но кто эти всемогущие «высшие существа Вселенной»? Это люди, но люди через сотни тысяч, миллионы лет, люди такие же, как мы с тобой, но вооруженные громадным, действенным и чудесным знанием. И среди иной раз туманных высказываний Циолковского встретилось вдруг что-то такое, от чего захватило дыхание. Я почувствовал, что в этих случайно попавших ко мне брошюрках содержится программа, шаг вперед, не в сторону. У меня появилась цель! Пусть еще не оформленная в конкретную задачу, но цель. «Мир всегда существовал. Настоящая материя и ее атомы есть беспредельно сложный продукт другой, более простой материи…» — вот эти слова Циолковского навсегда остались со мной. Казалось бы, здесь все понятно, все знакомо, но почему я перечитываю их все вновь и вновь? Почему волнение охватило меня? Может быть, такое состояние было у старателя, когда в случайно взятой горсти черного речного ила сверкнуло «что-то». Еще качнуть лоток, еще… золото! 18 марта. Разве не родились науки, которых не знал Ньютон? Разве не доступно мне то, что с таким волнением, такой радостью, как школьники, учили бы сегодня Гаусс или Лобачевский, Коперник или Циолковский? Разве телескопы не стали зорче, разве не проник человек в тайны атома? Так вперед! Я раздумывал над тем, откуда взялись звезды, какова их судьба. Десятки раз вглядывался в диаграмму «масса-светимость». Казалось бы, простой листок бумажки, но в нем вся Вселенная; безбрежная россыпь звезд легла полосой главной последовательности, расплывчатой веточкой указано место звезд-гигантов, сплющенным пятном внизу уложились таинственные белые карлики, те самые, что состоят из вещества необычайной плотности. Звезды… Уносятся от них в беспредельное пространство желтые и голубые лучи, вместе с ними теряют они свое вещество, а попробуй узнать, чем они станут, во что превратятся? Где будет наше Солнце через миллионы лет, куда оно сместится, вверх ли по главной последовательности, или вниз, или вбок… Четыре миллиона тонн излучает Солнце каждую секунду и при этом теряет в год только одну миллион-миллионную часть своей массы, своего вещества. Нет, Солнце не может оставаться всегда таким же, как видим его сейчас. Когда-нибудь скажутся эти незаметные для него потери и оно станет другим. Станет другим… 19 марта. А каким оно было, Солнце? Откуда взяло оно свое вещество? Ведь для того чтобы тратить, нужно откуда-то взять ЧТО тратить. В какой же величественной кузнице терпеливо раздула свой чудесный горн природа? И горн пылает миллиарды лет неугасимо… Ведь если Солнце стало бы посылать нам всего на десять процентов меньше тепла, чем обычно, то жизнь на Земле замерла бы, с полюсов надвинулись бы ледники, остановились реки; запылай Солнце ярче, только на десять процентов ярче, — в морях закипит вода! Значит, семьсот миллионов лет назад, по крайней мере, когда в теплых водоемах впервые появилась жалкая, робкая жизнь, Солнце было почти таким же, как и сегодня! Действуют ли и сейчас те силы, которые заставили в бездонном провале Вселенной вспыхнуть наше Солнце? Эга мысль не давала мне покоя. Вновь и вновь я перечитывал слова Циолковского: «Мир всегдасуществовал… материя и ее атомы есть беспредельно сложный продукт другой, более простой материи…» Это поразило меня! Меня поразила мысль о том, что каждый атом также имеет свою историю, что все сложное возникает из простого. В каких-то тайниках Вселенной из еще непознанных, неуловимых частиц составились бесчисленные атомы, соединились в гигантские шары звезд и зажглись на века. Но не масло в этих светильниках, не уголь в гигантских топках, — в буйных глубинных процессах сложнейшие сочетания ядерных частиц то становятся более простыми, распадаясь, то вновь восстанавливаются. Неуловимые изменения в их структуре, мизерный выход энергии при каждом превращении единичного атомного ядра — незримой пылинки с поперечником в одну десятитриллионную долю сантиметра — складываются в грозное и живительное пламя сказочной силы! История звезд величественно и властно вошла в мою повседневную жизнь, история Миров. Атомы, их ядра, сонмы частиц — вот действующие лица этой истории. Громады звезд подобны ульям-городам… Безбрежные туманности, в которых неторопливая природа будто ткет что-то, гигантским полупрозрачным занавесом скрывают таинственные кулисы мироздания… Так как же зажегся этот «вечно живой огонь, закономерно воспламеняющийся, закономерно угасающий»? Какие силы природы, не зная покоя, не подвластные смерти, миллиарды лет создают и разрушают, и вновь создают и вновь разрушают? Что за плуг вспахал просторы Вселенной и посеял в них сияющие Солнца? Или звезда помогала звезде? Ведь иначе звезды не скоплялись бы в громады галактик, до двухсот и более миллиардов звезд в каждой… 22 марта. Нельзя понять происхождение атома без того, чтобы не заглянуть в прошлое звезды. И нельзя понять происхождение звезды, не связав его с возникновением того галактического скопления, к которому она принадлежит. Все связано, от атома до галактики, — так представлял себе Вселенную Циолковский. Подчинить, покорить самые могучие, самые грозные силы природы — вот о чем мечтал Циолковский. Сделать так, чтобы ничто и никогда, даже в самом отдаленном будущем, не смело угрожать человеку; мечтать и строить, любить и сеять хлеб — вот истинное назначение человека, и уберет он со своего пути все, что попытается ему помешать. Силой своего разума подчинит себе огненные недра звезд, как его полуголый предок умом и силой приручал диких лошадей и пламенем костров преградил путь в свою пещеру медведю и волку в те далекие времена… Сейчас, когда я знаю, что пройден самый трудный участок на пути к цели, я благодарен каждому, кто дал мне в руки книгу, кто объяснил непонятную фразу, кто навел на нужную мысль. Шутник Вася-Василек, — я рассказывал тебе о нем, — и не подозревал, какие силы моей души выпустил он из клетки. Он любил прихвастнуть, но как-то особенно свободной была его мысль, она была похожа на веселую, беззаботную птицу, что, стрекоча и напевая, находит и вылущивает еловую шишку в густом тумане… Смеясь, он рассказал о том, как придумал «новое исчисление» прямо на экзамене. Я встретился с его преподавателем и спросил его, правда ли это? «Нет, что вы, — ответил мне преподаватель, — то, что нагородил мне этот белоголовый лейтенант, — давным-давно известно. Он дал обоснования матричному анализу… А поставил я ему пять вот почему… Рядом вопросов я точно установил, что о матричном анализе он и не слыхивал, что придумал он все самостоятельно, пройдя на моих глазах тот путь, который стоил большим математикам многих усилий. Согласитесь, что смелость и выдумка не могут сойти безнаказанно, я и поставил ему пять… Не знаете, что с ним, он, кажется, опять на фронте?» Нет, Вася-Василек писем писать не любил, один только раз прислал нам открытку, полную безудержной веры в близкую победу и сожаления к нам, «товарищам тыловикам», которые лишены счастья шагать рядом с ним, Васей, по дорогам войны, в самое логово фашистского зверя. Он обещал прислать нам на память погоны первого же гитлеровского генерала, который ему попадется на пути, но чувствовалось, что мы все стали ему далекими. Часами я вспоминал доказательства, приведенные Васильком. Ведь то, что сделал Василек, сделал легко, как все, что он делал — от ратного труда до песни, — было каким-то необыкновенным случаем, поразившим даже Гофмана, строгого и точного человека. Может быть, Василек, сам того не зная, приоткрыл узенькую щель в святая святых математики, в уменье создавать новое. Видно, мой декан не совсем прав. «Как высосать из пальца гениальную теорему?» — так он называл подобную постановку задачи. Да-да, дорогой товарищ декан, Василек «с ходу» выдвинул ряд положений, совсем не очевидных для него! Но почему, рассказывая, как он сдавал математику, Василек рисовал на бумаге завитки какой-то спирали? Я попытался восстановить ход его рассуждений. Он начал с целого числа, потом… потом перешел к числу дробному, как к отрицанию числа целого, а затем перешел к числу смешанному… Первобытный человек также начал с целого числа — это была первая во времени и, пожалуй, самая важная математическая абстракция. Что может быть общего между самыми разнородными предметами, что может быть общего между деревьями и шкурами убитых зверей, между листьями и галькой на берегу? А что-то общее было, что-то роднило между собой три одиноких сосны, и три последних стрелы в колчане, и три костра, вокруг которых грелось племя… Общим стало число: два, три, четыре… И долгое время люди учились складывать и вычитать, а потом, деля добычу, увидели, что не всегда можно «честно» разделить пять убитых зверей между шестью охотниками. Так появилась дробь. Значит, в самом числе — целом числе! — дробь еще не содержалась; жизнь, человеческая практика показала, что целым числом нельзя обойтись. А потом появились числа отрицательные. И числа иррациональные, и числа мнимые, и все они сливаются сейчас в нашем современном понятии числа… Раздумывая таким образом, я машинально чертил на листке бумаги. Но что это? Передо мной был какой-то зигзаг, нет, не зигзаг — это была спираль… Конечно, сам принцип развития по спирали Василек взял из Энгельсовой «Диалектики природы» — ведь он успел сдать «Основы марксизма-ленинизма» в те несколько мирных месяцев, которые выпали на его долю. И он применил эту спираль, применил жизнерадостно, с налету. И получил ответ, пусть всем известный, но Василек же его не знал! Он продлил спираль и ухватил какие-то неведомые ему свойства чисел. Вот она, находка! Нужно научиться мыслить «по спирали», попытаться увидеть ее сложные неожиданные изгибы. Но не заберусь ли я в дебри, не попаду ли в полосу никому не нужных формалистических ухищрений? Что заставит меня придумывать это новое, неужели одно лишь любопытство или пресловутое честолюбие, желание обязательно стать автором «нового исчисления»? Нет, нет! Практическая деятельность обязательно потребует развития математического знания. Позавчера было нужно разделить зерно или дичь, точно отмерить участок земли, вчера — произвести сложный денежный расчет или найти размеры автомобильного вала, сегодня ядерная физика уже потребовала от математики создания новых исчислений! Человеческая практика — вот лучшая проверка нужности, важности, успешности твоей работы, математик-вычислитель! Так за дело! И если моя судьба «вычислять и жить», если математический аппарат мое оружие, то какой же ценной может оказаться возможность приспосабливать это оружие к новым целям, к требованиям жизни. 26 марта. Так в чем смысл нашего эксперимента? — спросишь ты. Почему я вспоминаю такие пестрые, казалось бы, не связанные друг с другом страницы моей жизни? Сейчас мне не трудно ответить на этот вопрос. Но хочу рассказать тебе о самом главном, после чего все, что я знал, видел и испытал, буквально на протяжении нескольких месяцев было приведено в сложный и тонкий порядок, в котором каждая строчка из прочитанной книги и каждая формула стали необходимейшими деталями нацеленного стремительного механизма. Я знаю, что и ты заметила этот перелом во мне. Не раз я говорил тебе о Топанове, но, пожалуй, только сейчас я до конца понял все значение встречи с ним. Мы виделись и говорили всего несколько раз. Ты знаешь, что я далеко не общительный человек. Много, очень много нужно времени, чтобы я перед кем-нибудь раскрылся. А с Максимом Федоровичем все было по-другому. — Говорят, вы все критикуете, — сказал мне в одну из первых встреч Топанов. — Но есть ли у вас какая-нибудь положительная программа работ, есть ли у вас какая-нибудь рабочая гипотеза? Насколько я знаю, вы занимаетесь вопросами вакуума, интересуетесь эволюцией звезд. Что же, вопросы очень любопытные, оторванные, правда, от забот текущего дня; не совсем уверен, следует ли ими заниматься… Он хитро прищурил глаз, и я, поняв, что меня вызывают на откровенность, начал объяснять Тоианову всю важность работ нашей лаборатории, постепенно увлекся, незаметно для себя заговорил о главном, рассказал о своих поисках… — Так вы зашли в тупик, так получается? — спросил Топанов. — Л не требуете ли вы от науки чего-то такого, к чему она пока не приспособлена? — Меня сейчас интересует только одно: постановка задачи. Это очень важно для начала… Ведь поймите! Достойно удивления, что некоторые представители самой передовой науки закрывают глаза на очевидные вещи. — Но тогда эта наука еще не стала передовой! — засмеялся Топанов. — На свете есть наука, которая никогда не опускает голову перед трудностями. — Вы говорите о философии? — Я говорю о марксистско-ленинской философии. — Но разве философия способна подсказать решение в сугубо специальном вопросе? Я считал, что философия может только определить общее направление, осуществить, так сказать, стратегию и тактику… — Большое вам спасибо, товарищ Алексеев, за признание роли философии, — насмешливо сказал Топанов. — А известно ли вам, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна? Именно при решении так называемых специальных вопросов вы обязательно должны применять философию, и применять ее сознательно… — Но интересные результаты в науке получаются и без философии. — заметил я. — Это заблуждение, — ответил Топанов, — к сожалению, довольно распространенное заблуждение. «Без философии» можно сделать вещь ненужную, нелепую, более того, человеческое целенаправленное действие «без философии», как вы выразились, вообще неосуществимо. Даже самый ярый философ-идеалист, сомневающийся в своих книгах в реальном существовании окружающего его мира, ждет поутру солнце, или включает лампу, исписывает вполне реальный лист бумаги, или печатает на машинке. В миллионы мгновений своей практической деятельности он становится на материалистическую позицию. Ведь если допустить, что и перо, и бумага, и солнце существуют только в сознании философа-идеалиста, то откуда к нему пришла уверенность в том, что он обнаружит эти вещи и предметы во внешнем мире? Но бумага иной раз все терпит… Нет, Алексеев, без философии не обойтись, а те, кто заявляет, что они-де заняты «чистой наукой» и философии не касаются, те по большей части подпадают под влияние философии самого низкого сорта. — Но не все вечно под луной, может быть, в тех вопросах, которыми мы сейчас занимаемся, философия и не даст результата? Ведь может быть такое? — Спасибо за откровенность, — сказал Топанов, — она многое упрощает… Иногда я сталкиваюсь с товарищами, охотно признающими роль философии, а на деле они думают так же, как и ты. Но диалектический материализм — вершина философской мысли, это лучшее, наиболее полное отражение действительных закономерностей природы. Это учение гибкое, готовое немедленно изменить свою форму при каждом новом великом открытии. Я не берусь указать тебе на пропущенный пункт в плане работ вашей лаборатории, но я смело могу сказать, что многие теоретические трудности объясняются философской слепотой. Особенно в таком вопросе, как происхождение звезд!.. Вот ты говорил мне, что при сверхвысокой температуре в недрах звезд рождаются ядра атомов — будущее термоядерное горючее звезды, так я понял? — Да, так… — Значит, нужна уже готовая звезда, чтобы создались атомы, и нужны атомы, чтобы загорелась звезда? — Большинство астрономов считает, что атомы, вероятно, старше звезд, — ответил я. — Очень конкретно! Сказать, что атомы моложе звезд, нельзя — звезды сами состоят из атомов. Но ведь и атом мог появиться только в результате каких-то пока неизвестных нам процессов. — Об этом и я думаю… Но как связать происхождение атомов с эволюцией звезд? — А что, если… — Топанов выжидающе посмотрел на меня, и я не мог не продолжить: — …если атомы — ровесники звезд? Если они создавались вместе со звездой, в едином процессе? Здорово! Но это не моя мысль… — Это тебя расстраивает? — рассмеялся Топанов. — Нет, нет, я ни на что не претендую — ни на соавторство, ни на что! И мысль не моя, Алексей Алексеевич… Она бродила в твоей собственной голове, я помог ей вылупиться на свет, очень рад. А она действительно интересна? — Вы даже не представляете насколько! Я пойду, я сейчас пойду, нужно подсчитать, пусть грубо, но уже сейчас можно прикинуть… — Не спеши… Все еще впереди, Алексей Алексеевич, а сейчас я подам тебе добрый совет: к Ленину нужно идти… — К Ленину? Не понимаю… — Мыслить по-ленински — вот твоя задача, Алексеев, а это совсем не простая задача. Мыслить по-ленински в твоей узкой специальности, искать в философии силу и смелость, выбирать средства для достижения цели по-ленински, оттачивать свое мировоззрение по-ленински… Это не дается просто. Я понимаю, что может таиться за разрешением загадки возникновения звезд. Понимаю! Вскрыть эту глубочайшую из тайн — это вырвать из рук мракобесия еще одну цитадель, это значит вложить в руки человека мощнейшее оружие! И помни: не делай из физических законов непогрешимых идолов… — Я знаю, Максим Федорович, что всякий закон правилен только в определенных пределах, только при определенных условиях, но когда происходит ломка старых законов… — Не так все это просто. Я помню, что у Ленина есть записи, ты найдешь это место в его «Философских тетрадях»… 27 марта. Да, я нашел это место. «Закон берет спокойное — и потому закон, всякий закон узок, неполон, приблизителен»… Значит — закон берет «спокойное», берет то, что в состоянии охватить наука именно в данный момент времени. Но, с другой стороны «закон есть прочное, (остающееся) в явлении»… Стеклянный шар, потертый кожей, — вот что было достаточно «спокойным» для первых шагов науки об электрических явлениях. Стрелка компаса указывает одним концом на север — вот что знали о магнетизме. Прошли века, и сейчас мы изучаем и находим законы для разогнанных до фантастических скоростей элементарных частиц, а магнитная стрелка непрерывно мечется, и мы шаг за шагом открываем причины ее волнения, ставшего «спокойным», то есть доступным для изучения в наш замечательный век. Но закон берет не только «спокойное», но и «прочное» в явлении. Каждый новый закон углубляет, разъясняет, но вовсе не зачеркивает то положительное, что было достигнуто в прошлом. Бесчисленные примеры нахлынули отовсюду… Каким незыблемым зданием высилась классическая механика, механика Галилея и Ньютона, но появилась теория относительности, которая только и смогла объяснить удивительные закономерности распространения света. А то, что в законах Ньютона оказалось «прочным», устояло. Пройдут века, а мосты и валы машин, стены зданий и корпуса кораблей будут, как и прежде, рассчитываться по формулам Ньютона, непригодным для расчета хотя бы быстролетящих атомных частиц. А как наивно выглядели теперь претензии некоторых научных школ, заявлявших, что они на грани полного и исчерпывающего познания каких-то окончательных истин. «Явление богаче закона»… Мы должны и будем открывать всё новые свойства, всё новые связи, мы будем идти по пути все более грандиозных обобщений, но природа всегда окажется неизмеримо полнее, чем любые законы. Бесконечно медленный процесс развития и зарождения звезд постепенно становится все более и более «спокойным» для научного раскрытия его законов. Связать в единой теории ядро атома и громаду звездного скопления — и в моих руках будет ключ к пониманию тайны рождения звезд. Иногда я заходил к Топанову. Он внимательно меня выслушивал, иногда советовал, и часто после этих бесед я резко менял направление поисков. — Бойтесь навязывать природе свои построения, свои схемы, — говорил он. — У природы всегда найдется чем вас удивить, всегда. И не переносите слепо примеры из одной области в другую. Старайтесь раскрыть основные, главные противоречия в самой сути явления, проверяйте, дают ли эти противоречия рост, развитие самой вещи, ее «самодвижение»… И вот постепенно стали вырисовываться контуры будущей теории. Мне пришлось залезать в такие дебри, что, право, я часто терял направление, с трудом сдерживая себя от увлечения побочными вопросами. И вдруг я понял: я не только на верном пути, но и теория может быть проверена экспериментально. Не стану утруждать тебя техническими деталями, передам только суть нашего опыта. Прежде всего я должен оговориться, что в этой совершенно новой области нет еще устоявшихся взглядов, нет даже подходящих слов. Мы назвали нашу точку зрения «теорией вакуума», но название безусловно неудачно. Наша теория не представляет собой попытки оживления справедливо отвергнутой теории эфира, вызвавшей к началу двадцатого века непреодолимые противоречия. Но мы пришли к заключению, что вывод теории относительности об отсутствии всякой среды вообще — неправомочен. Мы задались целью найти такие условия, при которых смогли бы проявиться электромагнитные свойства этой среды. Случай представился, и случай замечательный! Нам удалось «присоседиться» к разработке программы очередного запуска искусственной планеты. Не без труда уговорили включить в программу исследований проверку характера отклонения луча света в поле тяготения Солнца. Наши предположения подтвердились. Безвоздушное пространство, не вызывая торможения звезд или планет, искусственных спутников или метеорных частиц, все же обладало некоторой «вязкостью», вязкостью особого рода, дававшей себя знать в очень тонких эффектах электромагнитной природы. Условия распространения света перед движущимся Солнцем оказались иными, чем думали до сих пор. Тогда-то и были направлены в Космос первые наши искусственные спутники. Это были очень небольшие спутники, величиной с апельсин, снабженные маломощными передатчиками. Но они сделали свое дело. Излучение радиоволн вперед по движению спутника оказалось иным, чем против движения… И снова бесценные колонки цифр стали источником новых расчетов и обобщений. Опыты снова были перенесены в лабораторию. Мы решили воспользоваться своеобразной «электромагнитной вязкостью пустоты» для проверки уже окрепнувшей теории. И вот все готово… Вокруг стеклянного шара медленно поворачивается многотонный свинцовый брус. Шар внутри полый, и специальные насосы (гордость Разумова!) создали в нем рекордно высокий вакуум. Особенным образом наведенные электромагнитные поля, в сочетании с гравитационным полем нашей Земли заставили тронуться с места неуловимую «пустоту». И вдруг одиночные атомы натрия, введенные внутрь шара и возбужденные ультрафиолетовым излучением, показали чудовищный сдвиг частоты. Перед нами открылась дорога к удивительному, фантастическому эксперименту. Мы решили осуществить модель рождающейся звезды… Модель в некоторой изолированной «полости» пространства с ускоренным ходом времени… Неожиданные препятствия встали перед нами. Расчеты показали, что для успешного проведения опыта необходимо располагать огромным объемом высокого вакуума. Выйти в Космос и в его просторах произвести наш опыт — это было единственно правильным решением. Мы назвали нашу установку «кинехрон». С ее помощью мы рассчитывали резко ускорить ход времени в замкнутом участке пространства. Установка весила сравнительно немного, но вся сложность заключалась в том, чтобы наш кинехрон мог раскрыться в Космосе без участия человека. Гирлянды фотоэлементов, тысячи конденсаторов, сотни секций — своеобразных обмоток кинехрона — все это должно было развернуться в безвоздушном пространстве, произвести самопроверку и по сигналу с Земли начать проведение эксперимента. Из трех ракет, запущенных нами, только одна оказалась на нужной орбите. Контейнер последней ступени был снабжен автоматическим устройством, похожим на нескладного карлика-робота; «шагая» вдоль выстроившихся в кольцо секций кинехрона, он должен был произвести сборку и проверку всех элементов огромной, диаметром в несколько километров, установки. Первый этап прошел благополучно, а затем… Мы ожидали, что в пространстве, ограниченном сложной конфигурацией полей, возникнет «зародыш звезды», излучающий гамма-лучи весьма небольшой длины волны. Предусмотренное нами видеоустройство должно было отбросить в нашу атмосферу увеличенное изображение этой «звездочки». Оно оказалось едва ли не самым сложным узлом всей установки. Ведь связь между «полостью» кинехрона и внешним миром оказалась необычайно сложной. Сюрпризы начались сразу же… Спутник совершал один оборот вокруг земного шара за треть суток. Но день шел за днем, прошло много томительных дней, пока на экране электронно-оптического преобразователя не мелькнула светлая полоса. И вдруг появились светлые комочки, число их росло. Нет, это не «звезды». Неужели — рождающаяся микрогалактика? Это было совершенной неожиданностью… Мы вновь рассчитали полученное нами ускорение времени. И оказалось, что один оборот спутника равнозначен повороту «галактики» вокруг оси. И если Солнечная система, а вместе с ней и Земля делают один оборот вокруг ядра Галактики почти за 200 миллионов лет, то наша модель совершает его всего за восемь часов! Да, это были звезды, миллионы и миллионы звезд… Конечно, это были микрозвезды, но многие, очень многие законы нашего мира, нашей Вселенной были справедливыми и для них. Только течение их времени, по отношению к нашему, было ускорено в 20 миллиардов раз! И новая неожиданность! Кто-то из моих сотрудников обнаружил, что в момент пролета спутника, когда мы все находимся у своих приборов, над лабораторией возникает какое-то прозрачное изображение волнующегося моря, что-то вроде фата-морганы. Это очень интересно, но пока у меня нет времени этим заниматься. 28 марта. Сегодня, после получения последней серии снимков, Разумов предложил дать сигнал на спутник, который прекратил бы действие кинехрона. «Зародыши звезд» перестанут существовать. Не знаю почему, но что-то меня останавливает… Конечно, то, что сделано однажды, может быть повторено, новый опыт мы проведем в гораздо больших масштабах. Но что-то меня останавливает… Слишком дорога мне эта россыпь блесток, свидетельство того, что процессы, приводящие к появлению звезд, могут быть моделированы в любой части Вселенной. Мне уже чудятся контуры космических станций, превращающих суммарное излучение искусственных звезд в высокочастотное электромагнитное излучение. Его можно будет использовать и на Земле. Разумов считает, что наша первая микрогалактика будет мешать новым экспериментам на той же орбите. Попробую его отговорить… Наука наукой, но что-то мешает быть педантичным в этой неслыханной области знаний. Только что был подан сигнал времени, сейчас будет проходить наш спутник-ускоритель… Может быть, в последний раз пройдут над нашими головами зеленоватые пятнышки, уменьшенные в невероятное число раз, созданные нашим разумом братья Солнца… Я дарю тебе их. «Мы солнца приколем любимым на платье, из звезд накуем серебрящихся брошек»… Помнишь?»ОШИБКА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВА
— Неужели все? — сказал Григорьев, окончив читать письмо. — Так почему погиб Алексеев?! Почему произошла катастрофа? Почти обо всем мы уже догадывались и без письма! Мы столького ждали… — Мы ждали не напрасно… — ответил Топанов, — не напрасно… Мы теперь твердо знаем, что находится над нами. И те специалисты, которые приехали к нам и занимаются историей звездных миров, оказываются и правыми, и неправыми… Они правы в том, что мы каждый день видим другое звездное скопление, так как за 8 часов внутри кинехрона проходит 200 миллионов лет, наших лет! Галактика действительно каждый день другая. Вспыхивают новые звезды, иные взрываются — помните вспышки? — появляются новые ветви, новые туманности… Но они и неправы, так как по сути дела это одна и та же галактика, рожденная силой человеческого гения… И заметьте, Алексеев совершил нечто большее, чем предполагал. Он хотел создать зародыш звезды, но получил их во множестве; он хотел изучить практическую возможность использования той энергии, которая таится в Космосе, — а на деле создал в безвоздушном пространстве все условия для появления новой галактики… Я не совсем понимаю, что именно послужило основанием для нее, какие именно силы, противоборствуя, дали начало этому невиданному в истории науки опыту, но для меня это письмо — доказательство правильности всех наших поисков… Нет, нет, я вовсе не принадлежу к числу людей, что стараются оправдать каждый свой шаг, но сегодня закончился важный этап… — Максим Федорович, — быстро заговорил Мурашев. Он что-то быстро подсчитывал на листке бумаги. — Максим Федорович, а ведь если допустить, что у этих звезд есть планеты, то они должны вращаться со скоростью, превышающей скорость света в тысячи и сотни раз! Скорость света — предел скоростей… — Согласен с вами, — задумчиво сказал Топанов, и мы все поняли, что какая-то мысль овладела им целиком. — Согласен. Но почему?… Не мне вам объяснять, что скорость света тесно связана с силами тяготения, со свойствами пространства, особенно если принять точку зрения Алексеева… Там, внутри кинехрона, свет так же, как и у нас, распространяется с наивысшей для своего мира скоростью… Возможно, что там выполняются многие физические законы, которым подчиняется вся Вселенная… Возможно, что там есть и своя Земля, возможно, что таких планет там многие миллионы… — И на этих планетах какие-нибудь Ньютоны отыскивают законы движения небесных тел, — усмехнулся Леднев, — а на других Эйнштейны открывают… — Позвольте! — прервал его Топанов. — Как вы сказали? Ньютоны, Эйнштейны?… — Да это в порядке шутки, — оправдывался Леднев. — Естественно, чтобы продолжить вашу мысль… — Не в этом дело, — сказал Топанов. — Не в этом… Я вот давно уже думаю… Такая, знаете ли, мысль… Такая мысль! Продолжайте обсуждение! Я сейчас вернусь… Топанов схватил свою палку и буквально выскочил из комнаты. Мне было видно, как он пересек улицу. Обсуждение продолжалось, но шло как-то вяло… Мы все привыкли, что Топанов, с присущими ему особенной хваткой, взглядом, словом, улыбкой, вводит в нужное русло внимание всех членов комиссии. Вот он опять показался… Он бежал откуда-то со стороны моря… Нет, остановился, ждет, вот повернул обратно и скрылся… — Что с ним? — прошептал Леднев. — Таким мы его никогда не видели… — Он что-то придумал! — сказал Григорьев. — И он боится ошибки, так я считаю… Видимо, что-то серьезное… Ну, товарищи, прошу не отвлекаться, прошу к делу… Я внимательно просмотрел последнюю работу Алексеева, присланную нам из редакции «Вестника Академии наук». Пользуясь открытым им математическим приемом, Алексеев построил весьма интересную картину пустоты, картину межзвездного пространства. По его мнению, «пустота» представляет собой всюду плотно заполненное пространство, в котором только намечаются, как бы «просвечивают» частицы… Это пространство воспринимает и трансформирует в фон электромагнитных колебаний случайного характера любое излучение… Таким образом, вакуум не остается безразличным к излучению звезд, вакуум насыщается излученной энергией… Особенное внимание в работе обращено на процессы поляризации света. Недаром те участки Галактики, где, как мы знаем, идут ’наиболее интенсивные процессы звездообразования, характеризуются более сильной и более закономерно распределенной поляризацией света. И в некоторых точках Вселенной эта энергия может проявиться в форме новой звезды… Мы попытались сосредоточиться на том, о чем говорил Григорьев. Во время его выступления в комнату как-то бочком прошел Топанов и сел поодаль от всех. Он был в сильнейшем волнении. — …Алексеев идет даже дальше, — продолжал между тем Григорьев. — Он пытается проследить пути, по которым следует эта энергия, говорит о громадной роли уже появившихся звезд… — Это было в его письме! — воскликнул Леднев. — Помните, «звезда помогает звезде…»? — Да, но это предположение, облеченное в математическую форму, несравненно усилено. Во всяком случае теперь проливается свет на причины появления двойных звезд. Думаю, что разработанная Алексеевым теория принесет еще очень интересные плоды. Он буквально все предусмотрел… — Не все! — вдруг громко сказал Топанов и вышел на середину комнаты. — Нет, не все предусмотрел Алексеев! Он не предусмотрел жизнь! Да, товарищи, он многое, я верю вам, нашел и применил, предсказал и объяснил, но он «е учел главного… Не просто зародыш звезд мы фотографируем и наблюдаем каждый день! Это не просто слепок, модель галактики, да, да!.. Это гораздо большее… Это настоящая галактика! Настоящая!.. Вокруг микрозвезд вращаются микропланеты… По-видимому, звезды эти так же велики по сравнению с атомами, из которых они состоят, как и в нашей Вселенной, а на бесчисленных планетах этих бесчисленных звезд есть жизнь, есть мыслящие существа… И если наше Солнце вместе со всеми планетами вращается в общем звездном потоке вокруг центральной части Галактики Млечного Пути, если наша старушка Земля сделала только 10–15 оборотов, то «галактика Алексеева» совершила никак не меньше четырехсот оборотов вокруг своей оси, ведь она поворачивается трижды за сутки… А значит, над нами проносится мир, мир, полный живого огня, проносятся миллиарды планет, а на них люди, именно люди, ведь многое в этом мире подобно нашему… Они уже прошли то, что нам предстоит сделать в грядущих веках. Рассеянное по отдельным планетам человечество успело объединиться в одно чудесное могучее целое… И, когда Алексеев послал сигнал окончания опыта, он и не подозревал, что занес руку над целым миром, миром, обогнавшим нас в своем развитии на миллиарды лет! Алексеев этого не знал, не догадывался… Да, он мог, конечно, мог прекратить этот опыт в самом начале, но, когда закрутились сияющие ветви галактики, когда в том мире прошли миллиарды лет, было уже поздно… Созданный Алексеевым и его сотрудниками мир стал сильнее нас, и в момент посылки опасного для них сигнала, сигнала, который заставил бы распасться это все еще загадочное колесо ки-нехрона, они смогли, вероятно объединенными усилиями, защититься… Не исключено, что они знали тайну ускорителя времени, не исключено, что они многое знают и о нас… Да, они защитились, они ответили, и лаборатория Алексеева превратилась в непроницаемый хрустальный слиток… Это жизнь, решительная и умная, бесконечно смелая и могучая, сохранила «комочки-звездочки»… Это жизнь, а ей ничто не страшно! — Но позвольте! — вскричал Леднев. — Позвольте! Ведь был послан сигнал длительностью в несколько микросекунд, миллионных долей секунды! — Ну и что же? — ответил Топанов. — Л в мире Алексеева секунда равна чуть ли не пяти тысячелетиям, вот что для них секунда. А микросекунда — это сутки, товарищи! Это были тревожные сутки для этого мира, но он победил! Он выстоял! — У меня все это просто не воспринимает голова, — сказал Леднев. — Я чувствую, что в этом разгадка всех тайн, но не могу поверить… — Да, он возник, этот мир, — ответил Топанов, — но теперь все человечество, все люди Земли бессильны изменить на волос его судьбу… И я никому не советовал бы предпринимать такую попытку… Весь ход эксперимента Алексеева стал ясен. Вакуум оказался полным самых неожиданных сюрпризов. Не оказывая никакого ощутимого сопротивления движущимся сквозь него телам, он обладал свойствами, подобными сверхтекучести жидкого гелия при сверхнизкой температуре. Однако приведенный во вращательное движение сложным сочетанием переменного электромагнитного и гравитационного поля, вакуум обнаруживает поразительную и чудесную способность образовывать своеобразные вихри, вихри, к которым «ачинала стекаться из окружающего пространства рассеянная энергия. Теперь стало понятным, почему абсолютный нуль температур принципиально недостижим. Электромагнитные, и гравитационные поля представляли своеобразный и чуткий «фон» пустоты, способный освобождать кванты электромагнитного излучения в любой своей точке… Один за другим покидали нас члены комиссии. Их нетрудно было понять. Переворот в теоретической физике, звездной астрономии, эволюции звезд, полная революция взглядов на межзвездную среду породили множество гипотез, догадок, захватили каждого из ученых, кому довелось заниматься расследованием «аварии» в Институте звезд. Мурашев однажды влетел ко мне с каким-то людоедским криком. Татьяна спряталась за мою спину и тихонько спросила меня, постукав согнутым пальчиком по своей голове: «Вин того? З глузду зъихав?» Но Мурашев вытащил из кармана свои записи, и через несколько минут я был вынужден разделить с ним его радость. — Да понимаете ли, о чем все это говорит? — охрипшим от необычайного волнения голосом говорил он. — Звезды либо встречаются в одиночку, либо парами, либо небольшими группами, чаще всего парами, но на огромном расстоянии друг от друга, и сейчас я знаю, почему!.. И завтра об этом будет знать весь мир! Раз энергия для построения звезды стекается к некоторому «нарушению» в безвоздушной среде и продолжает поступать до появления самой звезды, что, конечно, происходит скачком — скрытая терпеливая работа и вспышка, — то все понятно! Звезды не могут рождаться где угодно. Они отнимают энергию из окружающего пространства, обедняют вакуум в своих окрестностях, как дерево отбирает влагу своими корнями из целого пласта земли! Звезда рождается не на пустом месте, и, родившись, звезда излучает потоки тепла и света, которые где-то, какими-то невидимыми путями вновь оказываются собранными в новую звезду. Я подсчитал среднюю энергетическую насыщенность вакуума, ведь известно, что в среднем звезды находятся на расстоянии пятидесяти миллионов солнечных радиусов друг от друга, смотрите… А через час я присутствовал при яростном споре Григорьева с Ледневым. Его содержание потрясло меня. — Напрасно думать, — говорил Леднев, — что частичка света, пришедшая к нам от Солнца, в действительности вышла из его недр или излучена с его поверхности! Разве электроны, которые сейчас разогревают нить электрической лампочки, это те самые электроны, что находились в обмотках динамо-машин Каховской ГЭС? Электроны двинулись в путь все разом, практически через мгновение они стали поступать к нам, в эту лампочку, но сами-то электроны, те, что находились в момент включения в обмотках динамо-машин, еще в пути, они идут к нам, но дойдут через десятки лет! Электромагнитное поле только вызывает к жизни, выводит из недеятельного состояния бесчисленные кванты света, реально находящиеся в вакууме! — Так что же тогда скорость света? — возражал Леднев, спор доставлял ему видимое удовольствие. — Ведь свет все-таки мчится к нам со скоростью трехсот тысяч километров в секунду! — Это скорость бегущей по вакууму электромагнитной волны, но ею не исчерпываются свойства частиц света; это скорость передачи, не больше! — Но это древняя, тысячи раз отвергнутая теория эфира! — воскликнул Леднев. — Не стыдно ли на пороге XXI века рассуждать на эту тему. Ведь все попытки определить скорость, с которой проносится сквозь эфир наша Земля, оказались безуспешными. — Правильно! Но разве мог кто-нибудь предсказать сверхтекучесть гелия при низких температурах? — ответил Григорьев. — Шутка ли заявить, что жидкость, имеющая плотность, вес, материальная, как любая другая жидкость, вдруг окажется лишенной такого важного свойства, как свойство вязкости! Ничего нет удивительного, если структура вакуума проявляет себя еще более необычно… Я нашел Топанова только под вечер на берегу моря. Несколько наших товарищей, астрономов и физиков, что-то ему втолковывали. Когда я подошел к ним, мимо берега быстро прошел легкий ялик. Вся толпа внимательно следила за его веслами. — Еще раз! — крикнули с берега на ялик. — Вот хорошо, теперь вышло! — Что здесь происходит? — спросил я. — Получаем двойные звезды, — ответил Мурашев. Он стоял по колено в прибрежной тине в башмаках и брюках. Ялик возвращался, и Мурашев присел над самой поверхностью воды. — Есть, вышло! — крикнул он, когда ялик прошел мимо. С его брюк стекали потоки воды. — Да в чем же дело? — не выдержал я. — Хватит, — сказал Топанов, — убедили… — Понимаете, один из наших астрономов заявил, что те своеобразные завихрения в межзвездной среде, о которых мы говорили, дали бы начало только одиночным звездам. Я обратил его внимание на смежные вихри, которые легко образуются даже в воде при сильном гребке веслом. Вот и отправились проверять… Разве вы не видели, что, когда ялик проходил мимо, с конца весла срывалась не одна вихревая воронка, а сразу две? Это было очень серьезное возражение, ведь двойных звезд очень много, примерно на четыре одиночных приходится одна двойная, на четыре двойных одна тройная, и это соотношение корректируется сейчас в сторону большего количества кратных звезд… — Очень хорошо, что вы почти все здесь, товарищи, — вдруг сказал Топанов. — Я просто счастлив, что мне не придется бегать за каждым из вас в отдельности. То, что ваши головы переполнены идеями, меня, поверьте, очень радует, но ведь вы взрослые люди… Мы провели здесь слишком много времени, и наш отчет расследования нужно закончить как можно быстрее. Думаю, что дня через три вы будете совершенно свободны, и тогда занимайтесь своими идеями, считайте, вычисляйте… От вас самих зависит, как быстро вы сможете освободить свое время для творчества. Да и «белых пятен» у нас еще много! Не разгрызешь орешка, так и не съешь ядрышка! А в отчете нужно описать весь ход эксперимента Алексеева, весь, до конца, а без этого все ваши выводы, простите, на песке… — Топанов нагнулся и поднес полную пригоршню песка к своим глазам. Тонкими струйками лился сухой песок сквозь пальцы, а мы старались не смотреть друг на друга: упрек был справедлив… А через пять дней был восстановлен, с большими или меньшими подробностями, весь опыт Алексеева. В головной части ракеты находился металлический паук, собранный из сотен фигурных секций. В центре его была начиненная порохом сфера. После выхода последней ступени на орбиту искусственного спутника со временем полного оборота вокруг Земли примерно в восемь часов, Алексеев посылал специальный сигнал. Срабатывало довольно сложное устройство, пороховой заряд взрывался и разбрасывал во все стороны все четыреста секций, связанных между собой тончайшей, но достаточно крепкой нитью. Это несущееся в космическом пространстве колесо и представляло собой кинехрон Алексеева, питаемый при помощи фотоэлементов энергией солнечного излучения. Закон периодического изменения поля в центре колеса ускорителя был очень сложным. Большую дискуссию вызвал спор о тех путях, которыми Алексеев вызывал периодическое изменение сил тяготения. Решение подсказал Леднев. Оно было удивительно простым. — Значение напряженности гравитации в центре алексеевского колеса-спутника менялось трижды в сутки. И происходило это совершенно автоматически, при приближении и удалении спутника в поле притяжения Земли! — Он использовал земной шар как источник гравитационных сил! — вырвалось у Григорьева. — Вот уж решение совсем в духе Топанова: и просто, и действенно… А вот откуда появляется мираж и зачем он, вы нам, товарищ метеоролог, до сих пор не объяснили. — Да, мираж оказался явлением сопутствующим, — нехотя признал Леднев, — звезды микрогалактики проецировались в инфракрасных лучах, вызывали нагрев некоторых слоев воздуха… — То-то, упрямец, — удовлетворенно сказал Григорьев. Среди заказов лаборатории Алексеева был обнаружен и заказ на изготовление специального реле, которое срабатывало бы при приеме радиосигнала определенной формы… Стоило Алексееву подать этот сигнал, и реле отпускало один конец металлической нити, скреплявшей колесо-ускоритель. Встречное сопротивление рассеянных газов тотчас же нарушило бы положение отдельных секций, и опыт прекращался… Отчет был подписан и уже готов к отправке, как вдруг начались события, которые сразу вывели весь вопрос о «спутнике Алексеева» совсем в другую плоскость…СООБЩЕНИЕ ТАСС
Вечером, когда отчет был закончен, Топанова вызвали к телефону. Он говорил не более минуты и вышел из кабины чем-то расстроенный. — Сегодня я вылетаю в Москву, — сказал он. — Отчет возьму с собой. — Что-нибудь новое? — спросил я. — Да, о «спутнике Алексеева» появились сообщения в иностранной печати… Мы еще до конца сами не разобрались в вопросе… Еще рано выступать, рано! — огорченно вырвалось у Топанова. — Да видно, чужой рот не хлев, не затворишь! Придется выступать с объяснениями, ничего не сделаешь… Волнующая несложная мелодия, наполнившая ожиданием и волнением миллионы сердец. «Сообщение ТАСС, — прозвучал знакомый голос диктора. — ТАСС уполномочен огласить следующее заявление специальной комиссии Академии наук СССР: «На протяжении длительного времени в Советском Союзе производились опыты по изучению условий возникновения звезд. Советскими учеными установлены новые, неизвестные ранее науке пути перемещения и концентрации вещества и энергии в Космосе. Полученные результаты позволили подвергнуть теоретические исследования экспериментальной проверке. С этой целью была запущена специальная ракета, в головной части которой находился искусственный спутник Земли. После выхода на орбиту и отделения последней ступени специальные вспомогательные ракеты произвели коррекцию скорости. Сейчас спутник вращается примерно на высоте в три земных радиуса. Все научное оборудование находилось вспециальном контейнере в сложенном виде. В состав оборудования входят: фотоэлементы, осуществляющие питание установки за счет использования солнечной радиации; батарея высоковольтных конденсаторов, периодически заряжающаяся от фотоэлементов до очень высокого напряжения; ускоритель времени (кинехрон) в сложенном виде и другое оборудование. В центре спутника находился разъемный стальной шар с пороховым зарядом, после взрыва которого все детали установки разбрасывались в пространство, оставаясь связанными очень прочными и гонкими нитями. Высокий, почти абсолютный вакуум, который требовался для работы установки, обеспечивался ее значительным удалением от земной атмосферы. Совместное действие переменного гравитационного поля (за счет относительного положения спутника при его движении по эллиптической орбите), а также электрических и магнитных полей позволили создать в ограниченном участке пространства условия для возгорания микрозвезд. Физические процессы в этом искусственно созданном островке Космоса протекают с ускорением примерно в 20 миллиардов раз. Последнее обстоятельство повлекло за собой изменение всех масштабов этого мира в сторону колоссального уменьшения. Возбужденные силой человеческого гения скрытые силы Космоса обнаружили превосходство созидающих сил над силами разрешения. Уже в первые дни проведения эксперимента при помощи специального проецирующего устройства было зарегистрировано появление светящихся объектов, число которых непрерывно росло. Ныне над нашей Землей проносится искусственное звездное скопление, мощность которого оценивается в 250 миллиардов микрозвезд. Это крупнейшее достижение советских ученых, как, впрочем, любое открытие в науке, ломающее устаревшие представления, может вызвать у неискушенных людей законные сомнения. Кроме того, ряд ученых, стоящих на идеалистических позициях, возможно, попытаются использовать и этот невиданный в истории человечества эксперимент в целях нового «опровержения» материализма, в целях реакции. Несомненно раздадутся голоса о том, что появление звезд в пустоте якобы противоречит марксизму, так как говорит о возможности возникновения материального из ничего. Мы готовы к таким нападкам. С точки зрения нашей философии мы вправе рассматривать вакуум не как геометрическое пространство, в котором «ничего нет», а как бесконечно сложную, но объективно существующую, со многими неизвестными нам свойствами, материальную среду. В результате опыта твердо установлено, что ни о какой «тепловой смерти» Вселенной не может быть и речи. Как известно, эта несостоятельная теория прививала пессимистический взгляд на Вселенную, предсказывая ее неизбежный «конец», рассматривая ее как мир угасающих, растрачивающих свое тепло звезд. Ныне же объективно, в прямом эксперименте, прослежены пути миграции (перемещения) энергии, найдены законы возникновения вещества. Звезды оказались связанными в своем происхождении с рождающимися элементарными частицами. Этим самым положено объяснение как происхождению туманностей, так и возникновению газовых облаков вокруг известных нам галактик. Значение проделанной работы неисчерпаемо. По некоторым данным становится очевидным, что поразительная стабильность, постоянство излучения нашего Солнца вызывается тем, что процессы, ведущие к появлению звезды, имеют место и в наши дни, солнца не только угасают, они также непрерывно возгораются, и сочетание этих процессов определяет судьбу звезд. То, что источником энергии звезд могут быть не только термоядерные реакции, но и некоторые, пусть до конца не выяснен — «ые процессы созидания, связанные с глубокими свойствами вакуума, дает основание предполагать, что звезды типа Солнца гораздо более долговечны, чем это принималось до самого последнего времени. Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования значительно увеличивают расчетную продолжительность жизнедеятельности Солнца. Человечество будет существовать в практически неизменяющихся условиях многие миллионы и миллиарды лет, что дает основание видеть будущее в гораздо более оптимистических красках, чем пытаются представить его некоторые горе-ученые, превращающие, по известному выражению Бэкона, бессилие своей науки в клевету против природы. В настоящее время искусственное звездное скопление представляет собой ценнейший источник сведений об эволюции звездных миров. Сейчас эта микрогалактика представляет собой образование, относительно просуществовавшее по крайней мере вдвое большее время, чем наша Галактика Млечного Пути. В эпоху седой древности в своих сказках, преданиях и мифах человек наделял богов и героев божественной силой созидания и разрушения. Совокупный разум народа проявился в этих фантастических выдумках во всем величии; ныне же все видят, что не бог, а человек идет к обладанию таким могуществом, перед которым бледнеют самые смелые выдумки. Сбываются предчувствия лучших людей эпохи Возрождения, деятельно подготавливавших грядущее могущество человечества. Глубоко человечным был бог, создающий солнце и луну, как его изобразил в своих бессмертных фресках великий Микеланджело, а сейчас вопросы покорения Космоса не только вышли за пределы кабинетных теоретических расчетов, но стали вопросами действия, вопросами практики. Человечество выходит на новые пути в познании окружающего нас мира, пути, на которых исчезает расстояние между мечтой и реальностью, становясь все более коротким отрезком времени; коротким, но бурным, полным борьбы и побед. И в этом непреходящая заслуга советских ученых. И пусть зазвучат пророческие слова Циолковского, ученого, который сделал так много в области теоретического обоснования межпланетных перелетов: Космос породил не зло и заблуждения, а разум и счастье всего сущего! К разуму и счастью идет человечество, и имя этому — коммунизм. Это чудесное открытие, поистине героическое вторжение в тайны природы, не обошлось без жертв. Природа цепко сохраняет свои тайны, до сих пор требуя от ученых и инженерно-технических работников определенного риска. Однако в данном случае опасность возникла совершенно неожиданно и, по-видимому, связана с такими фактами и свойствами природы, с которыми человечество до этого еще не сталкивалось. Имея в виду тех из иностранных ученых, которые будут заниматься исследованием искусственного звездного скопления, представляющего собой важную модель развивающейся галактики, мы уполномочены заявить, что любые наблюдения искусственного звездного скопления являются безопасными, кроме попыток облучения искусственного звездного скопления радиолучами, модулированными более медленными сигналами геометрически правильной формы. Абсолютно недопустимо использование импульса следующей формы (фото справа внизу). Дело в том, что импульсом такой формы осуществлялось разъединение частей спутника-ускорителя, что могло потребоваться по тем или иным причинам. Авария, о которой мы говорили выше, произошла именно в момент попытки прекратить эксперимент. Во избежание ненужных жертв мы предупреждаем исследователей. И пусть любые разногласия отступят перед величественными задачами науки, науки, пролагающей новые пути в будущее».Это сообщение вызвало небывалый отклик во всем мире. Оно настигало летящий в небе самолет и корабль в далеких северных морях, его слушали работники полярных станций и сотрудники академического городка, выстроенного на одном из островов Антарктиды. И даже те, кто пытался замолчать, умалить значение этого подвига, в глубине души чувствовали стыд; какая-то, видимо, присущая любому человеческому существу гордость за человека делала нелегким такой привычный для буржуазных журналистов процесс дезинформации. Растерянность — вот лучшее определение того состояния, которое охватило близкие к монополиям газеты и журналы. «Первый искусственный спутник был ослепительным, как молния; а сейчас все небо в волшебном сиянии, его не заслонить…» — с горечью писала одна из французских газет. Ни скрыть, ни оболгать — таков был вывод. Но вскоре буржуазная печать «оправилась от испуга». Однако, как ни подробны были исследования, авторы которых стремились поставить под сомнение научное и практическое значение эксперимента, происходила довольно странная вещь: статьи внимательно читались и перечитывались, но люди стремились постичь прежде всего чудесный смысл действительно происходящего. На злобный шепот почти никто не обращал внимания, попытки «ниспровергнуть» встречались смехом, тем более чувствительным, что сотни менее зависимых газет из страха окончательно потерять читателей стали помещать более или менее достоверную информацию. Однако не прекращал кампанию клеветы орган объединения оккультных обществ, так называемый «Новый свет». «По заключению нашего крупнейшего специалиста, доктора Густава Шпетт, — говорилось в этом органе, — опыт производился, в общем, правильно, но без учета противостояния Урана по отношению к Меркурию. В этом случае полное неугасимым светом окно в небесной сфере является не чем иным, как уплотненным, ускоренным и фосфоресцирующим хороводом духов, преимущественно женского пола… Но, как говорит доктор Шпетт, эксперимент проведен слишком поздно. Вызванный им дух фельдмаршала Роммеля вместо обычных пространных комментариев по поводу новейших течений в области стратегии и тактики атомного века только шептал: «Жжение, жжение, жжение…» Человек, берегись тревожить таинственное НИЧТО…» «Авария, постигшая лабораторию в Советском Союзе, — писала французская газета «Ви», — является следствием духовной распущенности и самоуверенности. Мы не можем отрицать, что некоторые достижения в области эволюции звездных миров были действительно продемонстрированы всему миру, но светящаяся елочная игрушка, со странной постоянностью облетающая весь мир, еще ни о чем серьезном не говорит. Тонкая сетка светящихся точек может обладать самой разнообразной природой. Она может быть вспыхнувшей космической пылью, захваченной спутником специального устройства; может быть и искусственным образованием, моделирующим истинную картину развития звездного скопления, точно так же, как заглатывающие друг друга капли иллюстрируют школьникам жизнедеятельность микроорганизмов. Но всякая модель только приблизительна, дает только грубое приближение к действительности. Искусственное всегда остается только искусственным. С этой точки зрения мультипликационный фильм, показывающий, как бог создает Адама и Еву, имеет ничуть не меньшую доказательность, чем опыты советских физиков». «Мы требуем прекращения безумного эксперимента!» — под таким заголовком вышла крупнейшая газета, представляющая интересы крупных финансовых кругов Уолл-стрита. — «Астрономия, наука любителей тишины и размышлений, наука жрецов и чудаковатых астрологов, безобидных, погруженных в размышления ученых, превращается в руках советских ученых в нечто, полное плохо скрываемой агрессивности. Как в первом искусственном спутнике Земли мы видели тень межконтинентальных ракет, так и в этом, казалось бы, безобидном эксперименте ясно видна угроза. Даже если признать, что в результате опыта появилось что-то такое, с чем человек не может пока справиться, то разве не авторам проекта надлежит привести все в нормальное положение? Разве владелец зоосада не ОБЯЗАН, даже рискуя жизнью, изловить и водворить в клетку случайно вырвавшегося на свободу дикого зверя? Прекратить — вот наше требование!»
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В тот же день для советских и иностранных корреспондентов была устроена пресс-конференция, на которой Топанов, по поручению Советского правительства, сделал сенсационное заявление. — Уважаемые представители советской и иностранной печати! — сказал Топанов. — Вопрос о советском «спутнике-галактике» представляется намного более сложным, чем это кажется. Спутник, по нашим предположениям, способен отразить любое покушение на его существование, независимо от того, к каким средствам прибегают те, кто пытаются его разрушить. Он неуничтожим! Согласно данным, полученным в результате длительного расследования, было установлено, что не исключена возможность существования разумной жизни вокруг тех миллиардов звезд, которые заполняют собой внутреннее пространство спутника-ускорителя… Да, разумную жизнь, в пору ее высочайшего расцвета, так как искусственная галактика относительно старше не только нашей Земли, но всей нашей Галактики. Разумные существа на этих микроскопических планетах, возможно, физически отличаются от нас, людей, но, в случае, если допустить эту гипотезу, все находит свое немедленное объяснение. Миллионы своих лет назад они расселились вначале в околозвездных пространствах и, по-видимому, объединили свои усилия. Несомненно, что им известны несравненно более 1лубо-кие законы природы, чем нам, их могущество не может идти ни в какое сравнение с тем уровнем, на котором стоит земная наука и техника. Каждый, кто внимательно следил за развитием науки в двадцатом веке, ясно видит все ускоряющийся темп развития всех отраслей знания. За сто лет человечество прошло путь развития от пара до мощных электрических машин и атомных станций, идут энергичные работы во всех странах мира по овладению термоядерными реакциями… Вам всем известно, что человек, впервые расщепивший атом — я говорю о Резерфорде, — относил практическое применение атомной энергии к 2000 году… Но уже в 1945 году взорвалась первая атомная бомба, а в 1954 году дала ток первая атомная электростанция. Темп развития все ускоряется и в наши дни. Человечество вышло в Космос, создаются десятки и сотни искусственных спутников Земли, Солнца и планет… Нет никакой возможности представить мощь и величие человечества хотя бы через десять тысяч лет, а в данном случае приходится говорить о миллиардах лет! Приходится учитывать силу и мощь не только человечества одной какой-либо планеты, а силу и мощь объединенного свободного человечества многих и многих миллионов планет. Для меня и моих товарищей, изучавших все материалы, связанные с запуском и исследованием спутника, совершенно ясно, что сама попытка уничтожения целого мира, населенного живыми и разумными существами, является кощунством, является преступлением против человечности… Единственное, что заставляет меня сейчас спокойно смотреть в будущее, это то, что, с точки зрения искусственной галактики, мы, наша Земля, являемся обычной планетой с весьма слабым уровнем науки и техники и не можем представлять собой опасность… Нам предстоит долгий и славный путь исканий и труда, прежде чем мы сможем войти в какое-то объединение разумных существ, рожденных на различных планетах. У нас все в будущем, самые горячие битвы и самые чудесные песни. Мы победим, в этом нет сомнения, но я не хотел бы, чтобы человек запятнал себя сознательной попыткой уничтожения целого мира, целой галактики… Остановитесь, господа, пока не поздно, не играйте с огнем! — вот что мне поручено передать через газеты, которые вы представляете, вашим народам и правительствам… — Господин Топанов, — скороговоркой выкрикнул представитель газеты «Монд», - вы только что говорили об ужасной, я согласен с вами, ответственности тех, кто попытается уничтожить этот искусственно созданный мир. Но позвольте обратиться к первому заявлению советского телеграфного агентства. В нем говорилось, что катастрофа постигла работников вашей лаборатории как раз в тот момент, когда они пытались разъединить всю конструкцию летающего ускорителя. Мы слышим от вас громкие слова и призывы к гуманизму, — как же вы рассматриваете вашу собственную попытку, ведь вы сами хотели уничтожить этот искусственный мир? — Объективно такая попытка была неправильной, — ответил Топанов, — но сотрудники лаборатории, как теперь совершенно точно выяснено, не допускали мысли о возможности существования жизни на этих микрозвездах. По-видимому, они так были увлечены всем ходом этого небывалого эксперимента, что, получив искусственным путем зародыши звезд, считали этот эксперимент в общем законченным. Возможно, что они опасались их дальнейшего развития. — Но невежество не есть оправдание! — заметил корреспондент «Юнайтед пресс». — Вы запрещаете западному миру греховный поступок, однако в ваших словах нет осуждения аналогичных действий советских ученых. — Ну что ж, — быстро ответил Топанов, — если вы заговорили о грехе и тому подобных категориях, то я вам отвечу в том же духе: «Прости им, господи, ибо не ведают, что творят»… Творцы этой новой галактики жестоко поплатились за свою оплошность, за некоторую свою ограниченность. Они до сих пар находятся в прозрачной хрустальной гробнице, мгновенно возникшей в момент катастрофы. Нам будет дорога память о них, а из их ошибки всем нам следует сделать вывод. — Максим Федорович, — обратился к Топанову представитель «Правды», - вы говорите о возможном объединении всех разумных существ Галактики. В какой форме вы мыслите такое объединение? — Хотя бы в форме «Великого кольца» писателей-фантастов. Во всяком случае это будет объединение свободных и равноправных жителей различных планет, различных звездных подсистем. Объединение на базе общих вопросов, которые могут волновать мыслящие существа, подобно тому, как навечно скреплены общностью идеологии и стоящими перед «ими задачами все страны социалистического лагеря. — Господин Топанов! — громко выкрикнула корреспондентка «Нью-Йорк тайме». — Господин Топанов, вы, вероятно, считаете, что эти малютки-человечки, прожив миллиарды лет, не найдут ничего лучшего, как объединение на началах коммунизма? — Да, считаю. (В зале сильный шум.) Спокойней, господа, спокойней… Считаю потому, что мировоззрение коммунизма, идеология коммунистической партии являются единственно правильным и практически плодотворным результатом всего развития философии. Считаю нужным заявить, что успех эксперимента, выразившийся в создании пространства с иным течением времени, чем у нас, в значительной мере был определен систематическим и сознательным внедрением философии диалектического материализма в естествознание… — Господин Топанов, (Вопрос задает корреспондент журнала «Севентин».) Ваше заявление резко меняет дело. Если вы считаете, что искусственный мир действительно придерживается коммунистической идеологии, то это ужасно! Единственная надежда может содержаться в том, что вы на этот раз не вполне удачно воспользовались вашим учением и допустили ошибку. — Ужасно? Почему? — Я оказал: ужасно! Каково будет состояние многих, очень многих граждан в странах с мировоззрением, принятым в западном мире, когда они узнают, что над их головами носятся мириады коммунистов. Это действительно ужасно, хотя они невидимы и заключены в некую волшебную оболочку, из которой им, надеюсь, не выбраться. — И все-таки я не понимаю, почему мы должны этого бояться, — сказал Топанов. — Господин Топанов, не вы, а мы. (Оживление, смех.) Стоит на мгновение допустить, что все это правда, что бесконечно могучее племя микроскопических человечков в любой момент может вмешаться в наши земные дела… — Позволю себе встречный вопрос: с какой целью? — Ну, хотя бы с целью утверждения коммунизма на всей нашей планете… — Можете спать спокойно, совершенно спокойно. В вашей стране коммунизм все равно будет, и без вмешательства извне. Трудящиеся в вашей собственной стране сделают это вернее, прочнее, тоньше и быстрее, чем кто бы то ни было. — Господин Топанов. (Вновь корреспондент «Дейли миррор».) В связи с замечанием моего коллеги, прошу разъяснить вашу точку зрения на возможность появления во внешнем мире, в частности на нашей Земле, представителей этого микромира. Действительно ли они навеки заключены в это колесо ускорителя, или смогут выйти наружу? — Безусловно смогут выйти наружу, для меня это очевидно! (Всеобщее волнение). — И они будут такими маленькими человечками? (Вопрос корреспондентки «Нью-Йорк тайме» Элизабет Джарелл.) Они всюду залезут! Боже, они могут влезть в мое ухо! — И узнают, о чем вы думаете, когда вас отчитывает ваш шеф? (В зале смех.) Не беспокойтесь, госпожа Джарелл, если им удастся выйти за пределы своего мира, то они немедленно станут по своим размерам существами, подобными нам с вами. Действительно, те масштабы, те объемы, которые занимают атомы и молекулы в их мире, могут существовать в некоторой искусственной области пространства. Выход в наш мир должен сопровождаться соответственным увеличением всех масштабов. — Тем хуже! (Корреспондент «Ныос-энд уорлд рипорт».) Тем хуже! Эти страшные порождения разума и безверия колонизуют Землю! (Шум в зале). Они придут к нам и установят свой порядок! Они поработят нас! — Коммунизм не занимается ни порабощением, ни колонизацией, этим занимались и занимаются капиталисты. — В таком случае дай бог, чтобы там был действительно коммунизм, господин Топанов, хотя это задача со слишком многими неизвестными. Но у меня вопрос по существу. Позволено ли будет узнать, не противоречит ли факт создания целого мира одним человеком или группой сотрудников тому абсолютному отрицанию акта творения, на котором основана атеистическая критика религии? — Руководителя группы ученых, совершивших этот славный научный подвиг, товарища Алексеева я лично знал. Заверяю собравшихся, что это был самый обычный человек, разделивший со своим «народом его героическую судьбу. Самый обычный человек. И если ему удалось совершить крупное открытие, то только благодаря тому, что за его плечами стояла вся накопленная веками культура нашего земного человечества. Да, этой группе ученых удалось совершить удивительный эксперимент, который привел к возникновению целого мира, да еще, по-видимому, населенного живыми существами. Но разве мы, коммунисты, когда-либо сомневались в безграничной силе человеческого разума? И я уверен, что наши дети, внуки, а у меня уж и правнуки есть, будут заниматься еще более удивительными вещами. Это только цветики, ягодки будут впереди! (Шум в зале). И если не играть громкими словами о «божественном акте» и тому подобными обветшалыми понятиями и «словесами», то совершенное открытие оказывается вполне понятным, а со временем сделается привычным, как сделалось сейчас привычным и доступным, например, добывание огня. А ведь ваша зажигалка, господин Антони Блу, которой вы все время играете, пожалуй, доставила бы вам божественную власть над целым племенем древних неандертальцев. Вы говорите о создании мира, но, если разобраться, то нами, людьми, были только созданы условия, при которых бесконечно многогранные, бесконечно могучие силы природы ежечасно, ежесекундно создают Вселенную вокруг нас. А когда созданы все условия для наступления какого-либо события или процесса, то это событие не может не наступить, процесс не может не начаться, идет ли речь о революции или научном открытии. Возможно ли, что известный нам участок Вселенной создан также искусственно и представляет собой какой-то кусочек макромолекулы для некоего сверхгиганта? Нет, это неверно. Даже если бы это так и было, то при современном уровне техники, особенно техники астрономических наблюдений, мы бы об этом уже знали. Ведь наши телескопы проникают далеко за пределы нашей Галактики. — Значит ли это (вопрос задает Антони Блу, представитель журнала «Атлантик»), значит ли это, господин Топанов, что вращающийся вокруг нас искусственный мир знает о нашем существовании, а возможно, и тайну своего рождения? — Безусловно знает! (Шум.) Нет никаких сомнений, что все радиосигналы, проникающие сквозь земную атмосферу, давным-давно зафиксированы и расшифрованы. Время истекло, господа, вас ждут телефоны…ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ
Сегодня меня разбудил Федор Васильевич. — Вставайте, звонил Григорьев, вас просят немедленно приехать в институт. Одевайтесь быстрее, я подвезу. У Григорьева я застал Топанова и еще нескольких энтузиастов. — В чем дело? — спросил я. — Вчерашний пролет «спутника Алексеева» сопровождался регулярными нарушениями радиопередач на громадной площади. Возникал очень сильный люксембург-горьковский эффект. Вот, уже началось… Григорьев бросился к передатчику. Голос московского диктора вдруг оборвался на полуслове, и в комнате раздались звуки какой-то телеграфной передачи. Григорьев быстро повернул верньер. Пел какой-то итальянский певец; когда он окончил, раздались хлопки, и диктор на итальянском языке объявил следующий номер. — Какую станцию вы сейчас слушали? — спросил Топанов. — Киев? Вот, пожалуйста, Киев! — Да в чем дело? — А дело в том, что в ионосфере творится что-то неладное, такого регулярного эффекта еще не наблюдалось… — пояснил Григорьев. — Мы слушаем Москву, а на волне Москвы вдруг начинает идти передача совершенно другой станции. Вы слышали итальянского певца, это, по всей вероятности, Венеция или Рим, а приемник был настроен на Киев… И особенно легко этот эффект наблюдается, если несущая частота радиостанции близка к частоте обращения электрона в магнитном поле Земли… Григорьев хотел еще что-то сказать, но вдруг из приемника донесся чей-то мягкий и удивительно звучный голос. Мы так растерялись, что не сразу стали записывать. Потом все бросились к столу. Эта передача так врезалась мне в память, что я могу повторить ее дословно! «Рожденные вами, нежданно явились мы в мир… Прошли миллиарды лет — для вас один миг… Мы стали свободны, мы слились с природой, мы вернулись в нее… Отныне мы не противостоим ей, нет, отныне мы стали ее главной направляющей и действующей силой. Обреченная непрерывному умиранию и возрождению, природа не может без нас, людей, разрешать свои противоречия… Это можем мы, разумные существа Вселенной. Наше существование — это существование наших бесчисленных солнц, в конечном счете — существование нашей Галактики… Мы благодарны случаю, давшему толчок развитию нашей звездной системы… Мы благодарны всем вам, своим чудесным трудом создавшим возможность нашего существования. Разница в ходе времени воздвигла небывалые трудности в общении между нами. Теперь эти трудности позади… Долгие годы, миллионы лет мы считали вас существами неподвижными. Громадное обилие форм, которые принимала на вашей планете жизнь, было причиной появления самых невероятных гипотез. Еще недавно мы считали, что вы, мыслящие существа, происходили из тех громадных косяков рыб, что в определенное время сплошной массой движутся в ваших океанах. Мы считали, что в своем развитии вы проходите стадии от тюленя до слона. Только потом было твердо установлено, что это все только отдельные представители животного мира вашей планеты, среди которых человек занимает особое положение мыслящего существа. Привет вам, люди планеты Земля! Особенный, исключительный характер нашего мира не пугает нас. Мы обнаружили способ уничтожения всех искусственных преград и в ближайшее время начнем процесс превращения нашей Галактики в звездное скопление обычных размеров, с обычным темпом времени… Ценя и уважая ваш трудный и славный путь, не желая вмешиваться в естественный ход развития, не считая возможным отнять у вас счастье творить, дерзать, искать и находить, бороться и побеждать, мы покидаем вас… Прощайте, братья! Привет вам!..» Прошла секунда, другая, и в приемнике раздался голос: «Говорыть Киив. Передаемо оповидання украинского письменныка Остапа Вишни…» Во всех странах, лежащих между пятидесятым градусом северной широты и пятидесятым градусом южной широты, на различных языках и наречиях прозвучало послание «спутника Алексеева». Буквально через пять минут к нам поступила первая телеграмма, за ней вторая, третья… Шанхай и Нью-Йорк, Калькутта и Тунис спешили поздравить, выразить свое восхищение, большинство же телеграмм содержало текст послания, частично или полностью принятого различными радиостанциями или радиолюбителями. В Институте звезд шли восстановительные работы. Там, где была лаборатория Алексеева, несколько рабочих устанавливали ограду. Темная громада слитка возвышалась над нею. Я подошел поближе и неожиданно увидел сидящего в стороне Топанова. — Говорят, вы сегодня уезжаете, Максим Федорович? — спросил я. Топанов кивнул, потом сказал в раздумье: — Никак не могу избавиться от мысли, что они живы… Там, внутри… Было раннее утро. Еще так недавно мы собирались в этот час для наблюдений над миражем. Край восходящего солнца выглянул из-за туч. — Специалисты утверждают, — сказал я, — что этот слиток возник вопреки всем нашим сведениям о веществе. — В этом нет ничего удивительного, — ответил Топанов и поднялся, опираясь на палку. — Мы знаем, кто его создал… Они могут многое… — Вы говорите о «галактике Алексеева»? Вы думаете, что они когда-нибудь смогут оживить Алексеева и его товарищей, что они найдут средство, чтобы испарить этот «окаменевший воздух»?… Вы верите, что они могут всё? — В будущее человечества — вот во что я верю, — ответил Топанов и тяжело зашагал к стоящей у дороги автомашине, а я все не мог отвести глаз от прозрачной гробницы Алексеева, и мне казалось, что в ее глубине с каждым мгновением рождается какая-то новая, таинственная и чудесная жизнь.
Аркадий и Борис Стругацкие БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПЛАНЕТА
1
Лю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опускается вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие волны, серебристые и темно-зеленые. Лю казалось, что вертолет опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали громче, вертолет развернулся бортом к Лю, затем упал сразу метра на полтора и словно утонул в траве на вершине холма. Лю побежал вверх по склону, путаясь и спотыкаясь. Двигатель стих, винты стали вращаться медленнее и остановились. Из кабины вертолета полезли люди. Первым вылез долговязый человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым лицом. Лю узнал его: это был начальник группы Следопыт Анатолий Попов. — Здравствуйте, хозяин, — весело сказал он, протягивая руку. — Ниньхао! — Хаонинь, Следопыты! — сказал Лю. — Добро пожаловать на Леониду. Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг другу еще десяток шагов, прежде чем они сошлись. — Очень, очень рад вам, — сказал Лю, улыбаясь во весь рот. — Соскучились? — Очень, очень соскучился. Один на целой планете. За спиной Попова кто-то сказал «Ох, ты», и что-то с шумом повалилось в траву. — Это Борис Фокин, — сказал Попов, не оборачиваясь. — Самопадающий археолог. — Если такая чертова трава, — сказал Борис Фокин поднимаясь. У него были рыжие усики, засыпанный веснушками нос и белый пенопластовый шлем, сбитый набекрень. Он торопливо вытер о штаны измазанные зеленью ладони и представился: — Следопыт-археолог Фокин. Очень приятно познакомиться с физиком Лю. Он представился торжественно, по всем правилам, как его, вероятно, совсем недавно учили в школе. — Добро пожаловать, Следопыт-археолог Фокин, — сказал Лю. — А это Татьяна Палей, инженер-археолог, — сказал Попов. Лю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-археолога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у инженера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инженере-археологе висел с большим изяществом. — Меня зовут Таня, — сказал инженер-археолог. — А меня Гуан-чэн, — нерешительно пробормотал Лю. — Мбога, — сказал Попов, — биолог и охотник. — Где? — спросил Лю. — Ох, извините, пожалуйста. Тысяча извинений. — Ничего, физик Лю, — сказал Мбога. — Здравствуйте. Мбога был пигмеем из Конго, и над травой виднелась только его черная голова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал толстый вороненый ствол карабина. — Это Тора-охотник, — нежно сказала Татьяна. Лю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора-охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога: Тора-охотник, член Комитета по охране животного мира иных планет; биолог, открывший «бактерию жизни» на Пандоре; зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских «сора-тобу хиру» — летающих пиявок. Лю было ужасно неловко за свой промах. — Я вижу, вы без оружия, физик Лю, — сказал Мбога. — Вообще у меня есть пистолет, — сказал Лю. — Но он очень тяжелый. — Понимаю, — сказал Мбога с одобрением. Он огляделся. — Все-таки зажгли степь, — проговорил он негромко. Лю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей сочной травой. В трех километрах от холма трава горела, опаленная реактором десантного бота. В белесое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот — темное яйцо на трех растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгоревший круг. — Это не страшно, — сказал Лю. — Трава скоро погаснет. Здесь очень влажно. Пойдемте, я покажу вам ваше хозяйство. Он взял Попова под руку и повел его мимо вертолета на другую сторону холма. Остальные двинулись следом. Лю несколько раз оглянулся, с улыбкой кивая им. Попов сказал с досадой: — Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке. — Трава скоро погаснет, — повторил Лю. Он слышал, как позади Фокин заботится об инженере-археологе: «Осторожно, Танечка, здесь, кажется, кочка…» — «Горе мое, — отвечал инженер-археолог. — Смотри себе под ноги». — Вот ваше хозяйство, — сказал Лю. Бескрайнюю зеленую равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки блестела под солнцем гофрированная крыша. — Это моя лаборатория, — сказал Лю. Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и черного дыма. — А там строится склад, — сообщил Лю. Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах — робот-матка, в дыму сейчас же что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще. — А вон там город, — сказал Лю. От базы до города было немногим больше километра. С холма здания города казались серыми приземистыми кирпичами. Шестнадцать серых огромных кирпичей… — Да, — сказал Фокин, — планировка совершенно необычайная. Попов молча кивнул. Этот город был совсем не похож на другие. До открытия планеты Леониды Следопыты — работники Комиссии по изучению следов деятельности иного Разума в Космосе — имели дело только с двумя городами. Пустой город на Марсе и пустой город на Владиславе, планете голубой звезды ЕН-17. Эти города строил явно один и тот же архитектор — цилиндрические, уходящие на много этажей под почву здания из светящегося кремний-органика, расположенные по концентрическим окружностям. Город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка. — Вы там бывали после Горбовского? — спросил Попов. — Нет, — ответил Лю, — ни разу. Собственно, мне было некогда. Я не археолог, я атмосферный физик. И потом, Горбовский просил меня не ходить туда. Бу-бух! — донеслось со стройки. Там густыми облаками взлетели красные клубы дыма. Сквозь них уже обрисовывались гладкие стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним прыгали черные кибернетические роботы-строители, похожие на богомолов. Затем киберы построились цепью и побежали к реке. — Куда это они? — с любопытством спросил Фокин. — Купаться, — сказала Таня. — Они разравнивают завал, — объяснил Лю. — Склад почти готов. Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водопровод. — Водопровод! — восхитился Фокин. — Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от города, — сказал Попов с сомнением. — Так распорядился Горбовский, — сказал Лю. — Нехорошо удаляться от базы. — Тоже верно, — сказал Попов. — Только не попортили бы киберы города… — Ну, что вы! — сказал Лю. — Они у меня туда не ходят. — Какая благоустроенная планета, — сказал Мбога. — Да! Да! — радостно подтвердил Лю. — Река, воздух, зелень, и никаких комаров, никаких зловредных насекомых!.. — Очень благоустроенная планета, — повторил Мбога. — А купаться можно? — спросила Таня. Лю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой планетой, на которой оказался пригодный для дыхания воздух и настоящая вода. — Купаться, я думаю, можно, — сказал Лю. — Правда, я сам не купался — времени не было. — Тогда мы будем купаться каждый день! — обрадовалась Таня. — Не согласен, — возразил Фокин. — Три раза в день! Мы только и будем делать, что купаться… — Ну ладно, — сказал Попов. — А там что? — Он посмотрел на гряду плоских холмов на горизонте. — Не знаю, — пожал плечами Лю. — Там еще никто не был. Валькенштейн заболел внезапно, и Горбовскому пришлось улететь с ним. Он успел только выгрузить для меня оборудование и улетел. Некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у горизонта. Потом Попов сказал: — Дня через три я сам слетаю вдоль реки в обе стороны. — Если есть еще какие-нибудь следы, — сказал Фокин, — то их, несомненно, нужно искать именно возле реки. — Наверное, — вежливо сказал Лю. — А сейчас пойдемте ко мне. Попов оглянулся на вертолет. — Ничего, пусть остается здесь, — сказал Лю. — Бегемоты на холмы не поднимаются. — О, — сказал Мбога. — Бегемоты? — Это я их так называю, — сказал Лю. — Издали они похожи на бегемотов, а вблизи я их не видел. Они стали спускаться с холма. — На той стороне трава очень высокая, я видел только их спины. Мбога шел рядом с Лю мягкой скользящей походкой. Трава словно обтекала его. — Затем здесь есть птицы, — продолжал Лю. — Они очень большие и иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор. Попов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью от солнца. — Кстати, — сказал он. — Я должен послать радиограмму на «Подсолнечник». Можно будет воспользоваться вашей рацией? — Сколько угодно, — сказал Лю. — Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить одну. Я говорю о птицах. Но Горбовский не разрешил. — Почему? — спросил Мбога. — Не знаю, понятия не имею. Но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у всех оружие. — У нас он его отобрал, — сказал Попов. — Это был великий скандал на Совете. По-моему, очень некрасиво вышло — Горбовский просто раздавил нас всех своим авторитетом. — Только не Тора-охотника, — сказала Таня. — Да, я взял оружие, — кивнул Мбога. — Но я понимаю Леонида Андреевича. Здесь очень не хочется стрелять. — И все-таки Горбовский человек со странностями! — воскликнул Фокин. — Возможно… — сказал Лю сдержанно. — По-моему, это замечательный человек. Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетчатых блюдца локаторов. — Вот здесь можно поставить ваши палатки, — сказал Лю. — А если нужно, я дам команду киберам, и они вам построят что-нибудь попрочнее. Попов поглядел на купол, поглядел на клубы красного и черного дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города и сказал виновато: — Знаете, Лю, боюсь, мы будем вам тут мешать. И до города далековато. Уж лучше мы устроимся в городе, а? — И потом, здесь как-то гарью пахнет, — сказала Таня, — и я киберов боюсь… — Я тоже боюсь киберов, — решительно сказал Фокин. Лю обиженно пожал плечами. — Как хотите, — сказал он. — По-моему, здесь очень хорошо. — Вот мы поставим палатки, — сказала Таня, — и перебирайтесь к нам. Вам понравится, вот увидите. А от города до базы совсем недалеко. — М-м-м… — сказал Лю. — Пожалуй… А пока прошу ко мне. Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Мбога шел последним, ему даже не пришлось наклонить голову. Лю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптанную землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля литопласта и подумал, что здесь действительно пахнет гарью.2
Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей густой травой. Улица тянулась почти точно по меридиану и кончалась недалеко от реки. Попов решил ставить лагерь в центре города. Разбивку лагеря начали в три часа пополудни по местному времени (сутки на Леониде составляли двадцать семь часов с минутами). Жара как будто усилилась. Ветра не было, над серыми параллелепипедами зданий дрожал горячий воздух, и только в южной части города, ближе к реке, было немного прохладнее. Пахло, по словам Фокина, сеном и «немножко хлорелловой плантацией». Попов взял Мбога и Лю, предложившего свою помощь, сел в вертолет и отправился к боту за оборудованием и продуктами, а Татьяна и Фокин занялись съемкой города. Оборудования было немного, и Попов перевез его в два приема. Когда он прилетел в первый раз, Фокин, помогавший при выгрузке, многозначительно сообщил, что все здания города весьма близки по размерам и отклонения размеров от средних хорошо укладываются на классическую кривую вероятностей. — Очень интересно, — заметил вежливый Лю. — Это доказывает, — сообщил Фокин, — что все здания имеют одно и то же назначение. Остается только установить — какое, — добавил он, подумав. Когда вертолет вернулся второй раз, Попов увидел, что Таня и Фокин установили высокий шест и подняли над городом неофициальное знамя Следопытов — белое полотнище со стилизованным изображением семигранной гайки. Давным-давно, почти полтора столетия назад, один крупный межпланетник — ярый противник идеи Изучения следов деятельности иного Разума в Космосе — как-то сгоряча заявил, что неопровержимым свидетельством такого рода деятельности он готов считать только колесо на оси, чертеж пифагоровой теоремы, высеченный в скале, и семигранную гайку. Следопыты приняли вызов и украсили свое знамя изображением семигранной гайки. Попов с удовольствием отсалютовал знамени. Много было сожжено горючего и пройдено парсеков [155] с тех пор, как родилось это знамя. Впервые его подняли над круговыми улицами пустого города наМарсе. Тогда еще имели хождение фантастические гипотезы о том, что и город, и спутники Марса могут иметь естественное происхождение. Тогда еще самые смелые Следопыты считали город и спутники единственными следами таинственно исчезнувшей марсианской цивилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать земли, прежде чем неопровергнутой осталась единственная гипотеза: пустые города и покинутые спутники построены пришельцами из далекой и неведомой планетной системы. Только вот этот город на Леониде… Попов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул в траву и с силой захлопнул дверцу. Лю подошел к нему, опуская засученные рукава, и сказал: — Теперь разрешите мне покинуть вас, археолог Попов. Через двадцать минут у меня зондирование. — Конечно, — сказал Попов. — Какой может быть разговор. Большое спасибо, Лю. Приходите к нам ужинать. Лю посмотрел на часы и сказал: — Спасибо. Не обещаю. Мбога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Лю и улыбнулся Попову, растягивая серые губы на маленьком, сморщенном лице. — Поистине благоустроенная планета, Анатолий, — сказал он. — Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве… И вот это… Он кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и инженер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания над экспресс-лабораторией. Инженер-археолог была в шелковой безрукавке и в коротких штанах. Ее тяжелые башмаки красовались на крыше здания над ее головой, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах с остервенением тащил через голову мокрую от пота гимнастерку. — Горе мое, — говорила Таня. — Куда ты подключил аккумуляторы? — Сейчас, сейчас, Танечка, — невнятно отвечал Фокин. — Да, доктор Мбога, — сказал Попов. — Это нам не Пандора. Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к ней центробежный насос. «Да, это не Пандора», - подумал он и вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая мерзость, а над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно светили два близких кровавых солнца. Да разве только Пандора! На всех планетах г. атмосферами Следопыты и Десантники передвигались с величайшей осторожностью, гнали перед собой колонны роботов-разведчиков, самоходные кибернетические микробиолаборатории, токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности. И величайшим преступлением считалось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей дезинфекции и дезинсекции. Невидимые чудовища пострашнее чумы и проказы подстерегали неосторожных. Так было всего десять лет назад. Так могло бы быть и сейчас, на благоустроенной Леониде. Здесь тоже есть микрофауна, и очень обильная. Но десять лет назад маленький доктор Мбога нашел на страшной Пандоре «бактерию жизни», и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в сутки. Можно даже — одну в неделю. Попов вытер потное лицо и стал расстегивать куртку. Когда солнце склонилось к западу и небо на востоке из белесого сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперек улицы стояли три палатки, тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Лю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Лю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. — Ничего, мы ему оставим, — пообещала Таил. — Чего там, — сказал Фокин, поедая вареную телятину. — Проголодается и придет. — Неудачно ты поставил вертолет, Толя, — сказала Татьяна. — Весь вид на реку загородил. Все посмотрели на вертолет. Вида на реку действительно не было. — Хороший вид на реку открывается с крыши, — хладнокровно сказал Попов. — Нет, правда, — сказал Фокин, сидевший к реке спиной. — Абсолютно не на что со вкусом поглядеть. — Как — не на что? — сказал Попов по-прежнему хладнокровно. — А телятина? Он лег на спину и стал глядеть в небо. — Вот о чем я думаю, — произнес Фокин, вытирая салфеткой усы. — Как мы будем прорываться в эти гробы? — Он ткнул пальцем в ближайшее здание. — Будем копать или резать стену? — Вот это как раз не проблема, — отозвался Попов лениво. — Интересно, как туда попадали хозяева этих домов — вот проблема. Тоже резали стены? Фокин задумчиво поглядел на Попова и сказал: — А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может быть, им и не нужно было туда попадать. — Ага, — подхватила Таня. — Новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок и… и… — И отходил, — закончил Мбога. — А может быть, это действительно гробницы? — сказал Фокин вызывающе. Некоторое время все обдумывали это предположение. — Татьяна, а что с анализами? — спросил Попов. — Известняк, — ответила Таня. — Углекислый кальций. Много примесей, конечно, особенно в ближайших к реке зданиях. Но вообще знаете на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что все здание сделано из одного куска… — Монолит естественного происхождения, — проговорил Попов. — Вот уже и естественного! — сказал Фокин. — Характерная закономерность — стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественные образования… — Естественное предположение… — А вот мы завтра соберем интравизор и посмотрим, — сказала Таня. — Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город. И город на Владиславе. — Значит, еще кто-то бродит по планетам, — сказал Попов. — Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественней. — Библиотеку бы найти, — простонал Фокин. — Машины бы какие-нибудь! Они замолчали. Мбога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в лиловое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность. — Тихо как, — шепнула Таня. Бум! Бах! Тарарах! — донеслось со стороны базы. — О дьявол, — сказал Фокин. — Это-то зачем? Мбога выпустил колечко дыма и проговорил негромко: — Я понимаю вас. Боря. Я сам впервые в жизни не ощущаю радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете. — А эта какая-то не чужая, вот в чем все дело, — сказала Таня. Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над Следопытами и улетел прочь. — Хорошо, — Таня вздохнула. — Чувствуете, как хорошо? Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Попов тоже встал и с наслаждением потянулся. Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно подброшенный пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке. Попов тоже повернулся лицом к реке. Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь со стороны реки. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных лоснящихся боках, раздутых словно брюхо гиппопотама. Туша двигалась довольно быстро, раздвигая траву, и Попов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться набок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми. Попов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. — Осторожнее! — заорал он, плохо соображая, что говорит. Вертолет свалился, уткнувшись в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее трех метров высоты, покатые бока его мерно вздувались к опадали, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Попова Мбога щелкнул затвором карабина. Тогда Попов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, очень быстро, на четвереньках пробежал Фокин. Чудовище было уже шагах в двадцати. — Успеете разобрать лагерь? — скороговоркой спросил Мбога. — Нет, — сказал Попов. — Я буду стрелять. — Погодите, — сказал Попов. Он шагнул вперед, взмахнул рукой и крикнул: — Стой! На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался, и распахнулась просторная, как кабина вертолета, пасть, забитая зеленой травянистой массой. — Толя! — закричала Таня. — Немедленно назад! Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось вперед еще быстрее. — Стой! — снова крикнул Попов, но уже без всякого энтузиазма. — По-видимому, оно травоядное, — сказал он и принялся быстро пятиться к палаткам. Он оглянулся. Мбога стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле Тани с тюком на спине и с треногой в руке стоял Фокин. Усы его были взъерошены. — Будут в него сегодня стрелять или нет? — заорал он натужным голосом. — Уносить интравизор или… Ду-дут! Полуавтоматический охотничий карабин Мбога имел калибр 16,3 миллиметра, и живая сила удара пули с дистанции в двадцать шагов равнялась восьми тоннам. Удар пришелся в самую середину лба между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось на зад. Ду-дут! Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе. Хха-а… — донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо, и все стихло. Мбога опустил карабин. — Пойдем посмотрим, — сказал он. По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. — Кровь красная, — сказал Фокин. — А это что? Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. Мбога вдруг шумно потянул носом воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык… — Фи! — сказал Фокин. На всех лицах появилось одно и то же выражение. — Мед, — произнес Мбога. — Да ну! — удивился Попов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями. — Настоящий мед! — сказал он. — Липовый мед! — Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов, — заметил Мбога. — Медоносный монстр, — проговорил Фокин. — Зря мы его так. – «Мы», - сказала Таня. — Горе мое, поди прибери интравизор. — Ну ладно, — сказал Попов. — Что же делать дальше? Здесь жарко, и такая туша рядом с лагерем… — Это мое дело, — Мбога ткнул себя пальцем в грудь. — Оттащите палатки шагов на двадцать вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его. — Как? — спросила Таня. — Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда: я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой. Послышался топот, и из-за палаток выскочил Лю с большим автоматическим пистолетом. — Что случилось?! — задыхаясь спросил он. — Мы убили одного из ваших бегемотов, — важно сказал Фокин. Лю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс. — Оно напало на вас? — спросил он. — В общем-то нет, — сказал Попов смущенно. — По-моему, оно просто гуляло, но его — надо было остановить. Лю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул. — А нельзя ли его кушать? — крикнул Фокин из палатки. Мбога медленно сказал: — Кажется, кто-то уже пробовал его кушать. Попов и Лю подошли к нему. Мбога ощупывал пальцами широкие и глубокие прямые рубцы на филейных частях животного. — Это сделали могучие клыки, — сказал Мбога. — И острые, как ножи. Кто-то снимал с него ломти по два-три килограмма в один прием. — Ужас какой-то! — сказал Лю очень искренне. Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли головы. — Вот они! — сказал Лю. На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты, затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и так же стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. — Хищники! — встревоженно сказал Лю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Мбога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад в лиловое вечернее небо. Когда последняя исчезла, раздался тот же тревожный протяжный крик. — Я уже хотел было стрелять, — сказал Лю с облегчением. — Я знаю, — сказал Мбога. — Но м« е показалось… — Он остановился. — Да, — сказал Попов, — мне тоже показалось…3
Поразмыслив, Попов распорядился не только отодвинуть палатки на двадцать шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие — всего метр восемьдесят, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Попов поднял его в воздух и аккуратно посадил на крышу третьего здания. Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете прожекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки, но увидел только Мбога, который неторопливо убирал прожектора, и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, залитая прозрачной пластмассой уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии. Фокин пожелал Мбога доброго утра и полез было обратно в палатку досыпать, но встретился с Поповым. — Куда? — осведомился Попов. — Одеться, конечно, — с достоинством ответил Фокин. Утро было свежее и ясное, только на юге в лиловом небе неподвижно стояли белые растрепанные облака. Попов спрыгнул на траву и отправился готовить завтрак. Он хотел сделать яичницу, но вскоре обнаружил, что не может отыскать масло. — Борис, — позвал он. — Где масло? Фокин стоял на крыше в странной позе: он занимался гимнастикой по собственной системе. — Понятия не имею, — сказал он гордо. — Ты же вчера был дежурным. — Э-э… да. Значит, масло там, где было вчера вечером. — А где оно было вчера вечером? — спросил Попов сдерживаясь. Фокин с недовольным видом выпростал голову из-под правого колена. — Откуда я знаю? — сказал он. — Мы же потом все ящики переставили. Попов чертыхнулся и принялся терпеливо осматривать ящик за ящиком. Масла не было. Тогда он подошел к зданию и стащил Фокина за ногу вниз. — Где масло? — спросил он. Фокин открыл было рот, но тут из-за угла вышла Таня в безрукавке и коротких штанах. Волосы у нее были мокрые. — Доброе утро, мальчики, — весело сказала она. — Доброе утро, Танечка, — отозвался Фокин. — Ты не видела случайно ящик с маслом? — Где ты была? — свирепо спросил Попов. — Купалась, — сказала Таня. — О черт! Кто тебе разрешил? Таня отстегнула от пояса и бросила на ящики электрический резак в пластмассовых ножнах. — Толечка, — сказала она, — там нет никаких крокодилов. Замечательная вода и травянистое дно. — Ты не видела масла? — спросил Попов. — Масла я не видела, а вот кто видел мои башмаки? — Я видел, — сказал Фокин. — Они на той крыше. — На той крыше их нет. Все трое повернулись и посмотрели на крышу. Башмаков действительно не было. Тогда Попов поглядел на доктора Мбога. Доктор Мбога лежал в траве в тени и крепко спал, подложив под щеку маленький кулачок. — Ну что ты, — сказала Татьяна. — Зачем ему мои башмаки? — Или масло, — добавил Фокин. — Может быть, они ему мешали, — проворчал Попов. — Ну ладно, я попытаюсь приготовить что-нибудь без масла. — И без башмаков. — Хорошо, хорошо, — сказал Попов. — Иди и займись интравизором. И ты, Таня, тоже. И постарайтесь собрать поскорее. К завтраку пришел Лю. Он гнал перед собой большую черную машину на шести гемомеханических ногах. За машиной в траве оставалась широкая просека. Она тянулась от самой базы. Лю вскарабкался на крышу и сел к столу, а машина застыла посреди улицы. — Послушайте, физик Лю, — сказал Попов. — У вас на базе ничего не пропадало? — В каком смысле? — спросил Лю. — Ну… вы оставляете что-нибудь на ночь на дворе, а утром не можете найти. — Да как будто нет. — Лю пожал плечами. — Пропадают иногда мелочи, всякие отходы… обрывки проводов, обрезки пластолита. Но я думаю, этот хлам забирали мои киберы. Они очень экономные товарищи, у них все идет в дело. — А могут у них пойти в дело мои башмаки? — спросила Таня. Лю засмеялся. — Не знаю, — сказал он. — Вряд ли. — А может у них пойти в дело ящик, со сливочным маслом? — спросил Фокин. Лю перестал смеяться. — У вас пропало масло? — спросил он. — И башмаки, — добавила Таня. — Нет, — сказал Лю. — Киберы в город не ходят. На крышу ловко, как ящерица, вскарабкался Мбога. — Доброе утро, — сказал он. — Прошу извинить, я запоздал. Таня налила ему кофе. Мбога всегда завтракал одной чашкой кофе. — Итак, мы обворованы? — спросил он улыбаясь. — Значит, это не вы? — удивился Фокин. — Нет, это не я, — сказал Мбога. — Но ночью над городом два раза пролетали вчерашние птицы. — Ну вот и башмаки… — сказал Фокин. — Я где-то читал… — А ящик с маслом? — нетерпеливо спросил Попов. Никто не ответил. Мбога задумчиво пил кофе. — За два месяца у меня ничего не пропало, — сказал Лю. — Правда, я все держу в куполе… И потом у меня киберы. И все время дым и треск. — Ладно, — сказал Фокин поднимаясь. — Пойдем работать, Танечка. Бог с ними, с башмаками. Они ушли, и Попов принялся собирать посуду. — Сегодня же вечером, — сказал Лю, — я поставлю вокруг вас охрану. — Пожалуй, — сказал Мбога задумчиво. — Но я предпочел бы сначала сам. Анатолий, сейчас я лягу спать, а ночью устрою небольшую засаду. — Хорошо, доктор Мбога, — неохотно согласился Попов. — Тогда я, — с вашего разрешения, тоже приду, — сказал Лю. — Приходите… Но без киберов, пожалуйста. С соседней крыши донесся взрыв негодования. — Горе мое, я же просила тебя разложить тюки в порядке сборки! — А я что сделал? Я и разложил! — Это называется в порядке сборки? Индекс «Е-7», «А-2», «В-16»… Снова «Е»!.. — Танечка! Честное слово! Товарищи! — обиженно завопил Фокин через улицу. — Кто перепутал тюки? — Вот, — крикнула Таня. — А тюка «Е-9» вообще нет! Мбога тихонько сказал: — Миссус, а у нас простыня пропала! — Что? — сказал Попов. Он был бледен. — Ищите хорошенько! — крикнул он, спрыгнул с крыши и побежал к Фокину и Тане. Мбога проводил его глазами и стал смотреть на юг, за реку. Было слышно, как Попов на соседней крыше сказал: — Что, собственно, пропало? – «ВЧГ», - ответила Таня. — Ну и что вы раскудахтались? Соберите новый. — На это два дня уйдет, — сердито возразила Таня. — Тогда что ты предлагаешь? — Стену придется резать, — сказал Фокин. На крыше воцарилось молчание. — Глядите, физик Лю, — сказал вдруг Мбога. Он стоял и, прикрывшись от солнца, смотрел за реку. Лю повернулся. Зеленая равнина за рекой пестрела черными пятнами. Это были спины «бегемотов», и их было очень много. Лю и в голову не приходило, что за рекой так много «бегемотов». Черные пятна медленно двигались на юг. — Они уходят, — сказал Мбога. — Прочь от города, за холмы.4
Попов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из палатки свою постель и улегся на крыше, заложив руки за голову. Небо было черно-синее, из-за горизонта на востоке медленно выползал большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями — Пальмира, луна Леониды. С темной равнины за рекой доносились приглушенные протяжные крики, должно быть, кричали птицы. Над базой вспыхивали короткие зарницы, и что-то негромко скрежетало и потрескивало. «Надо ставить ограду, — думал Попов. — Обнести город проволокой и пустить ток, не очень сильный. Впрочем, если это птицы, то ограда не поможет. А скорее всего, это — птицы. Такой громадине ничего не стоит утащить тюк. Ей, наверное, ничего не стоит утащить и человека. Ведь был же случай, когда на Пандоре крылатый дракон подхватил человека в скафандре высшей защиты, а это — полтора центнера. Так оно и идет — сначала башмачки, потом тючок… И на весь отряд, спасибо Горбовскому, один карабин. Конечно, надо было стрелять тогда — по крайней мере отпугнули бы их… Почему доктор не стрелял? Потому что ему «показалось»… И я сам бы не выстрелил, потому что мне тоже «показалось»… А что мне, собственно, показалось? — Попов сильно потер ладонью сморщенный от напряжения лоб. — Огромные птицы, очень красивые птицы, и как они летели!.. Какой бесшумный, легкий и правильный полет… Что ж, даже охотники иногда жалеют дичь, а я не охотник». Среди мигающих звезд неторопливо прошло через зенит яркое белое пятнышко. Попов приподнялся на локтях, следя глазами за ним. Это был «Подсолнечник» — полуторакилометровый десантный звездолет сверхдальнего действия. Сейчас он обращался вокруг Леониды на расстоянии двух мегаметров от поверхности. Стоит подать сигнал бедствия, и оттуда придут на помощь. Но стоит ли подавать сигнал бедствия? Пропала пара башмаков, два тюка, и что-то «показалось» начальнику. Благоустроенная планета! Белое пятнышко потускнело и скрылось — «Подсолнечник» ушел в тень Леониды. Попов снова улегся и заложил руки за голову. «Не слишком ли благоустроенная? — подумал он. — Теплые зеленые равнины, душистый воздух, идиллическая речка без крокодилов… Может быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонятные силы? Или все гораздо проще? Танька потеряла башмаки где-нибудь в траве; Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки лежат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. То-то он сегодня весь день бегал, воровато озираясь, от штабеля к штабелю!..» Кажется, Попов задремал, а когда проснулся, Пальмира стояла уже высоко. Из палатки, где спал Фокин, раздавалось чмоканье и всхрапывание. На соседней крыше шептались. — …у нас в школе шефами были химики, и мы раздобыли три баллона с гелием и в тот же вечер надули шар. Костя полез на землю рубить конец. Как только трос оборвался, мы улетели, а Костя остался внизу. Он гнался за нами и кричал, чтобы мы остановились, затем назначил меня капитаном и приказал, чтобы я остановился. Я, конечно, сразу стал править на релейную мачту. Там мы повисли и провисели всю ночь. И всю ночь мы орали друг на друга — идти Косте к завучу или нет. Костя мог пойти, но не хотел, а мы хотели, но не могли, а утром нас заметили с аэробуса и сняли. — А я была девочка тихая. И всегда очень боялась всяких механизмов. Киберов вот до сих пор боюсь. — Киберов не нужно бояться, Танюша. Они добрые. — Да, добрые… Как схватит за ногу… Нет, правда, они какие-то и живые и неживые. Это очень неприятно… Попов повернулся на бок и поглядел. Таня и Лю сидели на соседней крыше, свесив ноги. «Воробышки, — подумал Попов. — А завтра весь день зевать будут». — Татьяна, — сказал он вполголоса. — Пора спать. — Не хочется… — Придется! — А мы по берегу гуляли, — сообщила Таня. Лю смущенно задвигался. — Очень хорошо на реке. Луна, и рыба играет. Лю спросил: — Э-э… А где доктор Мбога? — Доктор Мбога на работе, — ответил Попов. — А правда, Лю! — обрадовалась Таня. — Пошли искать доктора Мбога! «Безнадежна»… - подумал Попов и повернулся на другой бок. На крыше продолжали шептаться. Попов решительно поднялся, собрал постель и вернулся в палатку. В палатке было очень шумно… Фокин спал вовсю. «Растяпа ты, растяпа, — подумал Попов устраиваясь. — Вот в такую-то ночь и ухаживать. А ты усы отрастил и думаешь, что дело в шляпе». Он закутался в простыню и моментально заснул.5
Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было темно. Ду-дут! Ду-дут! — прогремели еще два выстрела. — Дьявольщина! — заорал в темноте Фокин. — Кто здесь? Послышался короткий заячий вскрик и торжествующий вопль Фокина: — Ага-а! Сюда, ко мне! Попов запутался в гамаке и никак не мог подняться. Он услышал тупой удар, Фокин ойкнул, и сейчас же что-то темное и маленькое мелькнуло и пропало в светлом треугольнике выхода. Попов рванулся вслед. Фокин тоже рванулся вслед, и они с размаху стукнулись головами. Попов скрипнул зубами и наконец вылетел наружу. Пальмира ярко светила. Крыша напротив была пуста. Оглядевшись, Попов увидел, что Мбога бежит в густой траве вдоль улицы к реке, а за ним по пятам бегут, спотыкаясь, Лю и Татьяна. И еще одну вещь заметил Попов: далеко перед Мбога кто-то бежит, раздвигая на ходу траву. Бежит гораздо быстрее, чем Мбога. Мбога остановился, поднял одной рукой карабин дулом кверху и выстрелил еще раз. След в траве вильнул в сторону и исчез за углом крайнего здания. И через секунду оттуда, широко и легко взмахивая огромными крыльями, поднялась белая в лунном свете птица. — Стреляйте! — заорал Фокин. Он уже мчался вдоль улицы и падал через каждые пять шагов. Мбога стоял неподвижно, опустив карабин, и, задрав голову, следил за птицей. Птица сделала плавный бесшумный круг над городом, набирая высоту, и полетела на юг. Через минуту она исчезла. И тогда Попов увидел, как совсем низко «ад базой пролетели еще птицы — три, четыре, пять — пять огромных белых птиц взмыли над местом работ киберов и исчезли. Попов спустился с крыши. Мертвые параллелепипеды зданий отбрасывали на траву густые черные тени. Трава казалась серебристой. Что-то звякнуло под ногой. Попов нагнулся. В траве блеснула гильза. Попов пересек уродливую тень вертолета. Послышались голоса. Мбога, Фокин, Лю и Таня неторопливо шли навстречу. — Я держал его в руках! — возбужденно говорил Фокин. — Но он треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он меня не треснул, я бы его не выпустил! Он мягкий и теплый вроде ребенка. И голый… — Мы тоже его чуть не поймали, — сказала Таня, — но он превратился в птицу и улетел. — Ну-ну, — сказал Фокин. — Превратился в птицу… — Действительно, — сказал Лю. — Он свернул за угол, и оттуда сразу же вылетела птица. — Ну и что? — сказал Фокин. — Он спугнул птицу, а вы рты разинули. — Совпадение, — сказал Мбога. Попов подошел к ним, и они остановились. — Что, собственно, произошло? — спросил Попов. — Я его уже держал, — заявил Фокин, — но он треснул меня по лбу. — Это я уже слыхал, — сказал Попов. — С чего все началось? — Я сидел в тюках в засаде, — начал Мбога. — Я увидел, что кто-то ползет в траве прямо посреди улицы. Я хотел поймать его и вышел навстречу, но он заметил меня и повернул назад. Я увидел, что мне не догнать его, и выстрелил в воздух. Мне очень жалко, Анатолий, но, кажется, я напугал их. Воцарилось молчание. Потом Фокин спросил с недоумением: — А что вам, собственно, жалко, доктор Мбога? Мбога ответил не сразу. Все ждали. — Их было по крайней мере двое, — сказал он. — Одного обнаружил я, другой был у вас в палатке. Но, когда я пробегал мимо вертолета… Вот что, — закончил он неожиданно. — Надо пойти и посмотреть. Наверное, я ошибаюсь. Мбога неслышно зашагал к лагерю. Остальные, переглянувшись, двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолет, Мбога остановился. — Где-то здесь, — сказал он. Фокин и Таня немедленно полезли в черную тень под стену. Лю и Попов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбога. Мбога думал. — Ничего здесь нет, — сказал Фокин сердито. — Что же я видел? Что же я видел?… — бормотал Мбога. Раздраженный Фокин вылез из-под стены. Черная тень лопастей вертолета скользнула по его лицу. — А! — сказал Мбога громко. — Странная тень! Он бросил карабин и с разбегу прыгнул на стену. — Прошу вас! — сказал он с крыши. На крыше за фюзеляжем вертолета, словно на витрине магазина, были аккуратно разложены вещи. Здесь был ящик с маслом, тюк с индексом «Е-9», пара башмаков, карманный микроэлектрометр в пластмассовом футляре, четыре нейтронных аккумулятора, ком застывшего стеклопласта и черные очки. — А вот и башмаки, — сказала Таня. — И очки. Я их вчера утопила в речке… — Да-а-а… — сказал Фокин и осторожно огляделся. Попов словно очнулся. — Физик Лю! — быстро сказал он. — Мне необходимо немедленно связаться с «Подсолнечником». Фокин, Таня, сфотографируйте эту выставку! Через полчаса я вернусь. Он спрыгнул с крыши и торопливо пошел, потом побежал по улице к базе. Лю молча последовал за ним. — Что же это?! — закричал Фокин. Мбога опустился на корточки, вытащил маленькую трубку, не торопясь раскурил ее и сказал: — Это люди, Боря. Красть вещи могут и звери, но только люди могут возвращать украденное. Фокин попятился и сел на колесо вертолета.6
Попов вернулся один. Он был очень возбужден и высоким металлическим голосом приказал немедленно сворачивать лагерь. Фокин сунулся было к нему с вопросами. Он требовал объяснений. Тогда Попов тем же металлическим голосом процитировал: «Приказ капитана звездолета «Подсолнечник». В течение трех часов свернуть синоптическую базу-лабораторию и археологический лагерь, демобилизовать все кибернетические системы, всем, включая атмосферного физика Лю, вернуться на борт «Подсолнечника». От удивления Фокин повиновался и принялся за работу с необычайным усердием. За два часа вертолет сделал восемь рейсов, а грузовые киберы протоптали от базы до бота широкую дорогу в траве. От базы остались только пустые постройки, все три системы кибернетических роботов-строителей были загнаны в помещение склада и полностью депрограммированы. В шесть часов утра по местному времени, когда на востоке загорелась зеленая заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота, и тут наконец Фокина прорвало. — Ну хорошо, — начал он зловещим сиплым шепотом. — Ты, Анатолий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял. Но, черт побери, я хочу, наконец, узнать, зачем мы отсюда уходим?! Как?! — завопил он вдруг фальцетом, картинно выбросив руку. Все вздрогнули, а Мбога выронил из зубов трубочку. — Как?! В течение трех веков искать Братьев по Разуму и позорно бежать, едва их обнаружив? Лучшие умы человечества… — Горе мое, — сказала Таня. Фокин замолчал. — Ничего не понимаю, — проговорил он сиплым шепотом. — Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы человечества? — спросил Мбога. Попов угрюмо пробормотал: — Сколько мы здесь напакостили! Сожгли целое поле, топтали посевы, развели пальбу… А в районе базы!.. — Он махнул рукой. — Но кто мог знать! — сказал Лю виновато. — Да, — Мбога задумчиво потер подбородок. — Мы сделали много ошибок. Но я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивилизованы для этого. — Да какая это цивилизация! — воскликнул Фокин. — Где машины? Где орудия труда? Где города, наконец? — Да замолчи ты, Борис, — сказал Попов. — Машины, города… Хоть теперь-то раскрой глаза! Мы умеем летать на птицах? У нас есть медоносные монстры? Которые к тому же дают мясо с живого тела? Давно ли у нас был уничтожен последний комар? Машины… — Биологическая цивилизация, — сказал Мбога. — Как? — спросил Фокин. — Биологическая цивилизация. Не машинная, а биологическая. Селекция, генетика, дрессировка. Кто знает, какие силы покорили они? И кто скажет, чья цивилизация выше? — Представляешь, Борька, — сказала Таня. — Дрессированные бактерии! И город этот они, конечно, не построили, а вырастили… Склады… Зернохранилища… А мы стену хотели резать… Фокин яростно крутил ус. — И уходим мы отсюда потому, — сказал Попов угрюмо, — что никто из нас не имеет права взять на себя ответственность первого контакта. Ах, как жалко уходить отсюда, думал он. Ужасно жалко. Не хочу уходить. Хочу разыскать их. Поговорить с ними, поглядеть, какие они. Целое человечество! Не какие-нибудь безмозглые ящеры, не улитки какие-нибудь, а человечество. Целый мир, целая история… А у вас были войны и революции? А что у вас сначала было, пар или электричество? А в чем у вас смысл жизни? А сколько языков на Леониде? А можно взять у вас что-нибудь почитать? Первый опыт сравнительной истории человечеств… И нужно уходить. Ай-яй-яй, как не хочется уходить!.. Но на Земле уже пятьдесят лет существует Комиссия по контактам. Пятьдесят лет изучают сравнительную психологию рыб и муравьев и спорят, на каком языке сказать первое «Э!» Только теперь над Комиссией уже не посмеешься. Работать им придется явно в поте лица. Интересно, кто-нибудь из них предвидел биологическую цивилизацию? Наверное. Чего они там только не предвидели! Счастливчики. Мбога сказал: — Какой все-таки удивительно проницательный человек Горбовский. Он явно что-то чувствовал. — Да, — сказала Таня. — Страшно подумать, что бы здесь Борька наделал, будь у нас оружие! — Почему обязательно я? — возмутился Фокин. — А ты? Кто купаться ходил с электрическим резаком? — Все мы хороши, — сказал Лю со вздохом. Попов поглядел на часы: — Старт через двадцать минут. Прошу по местам. Мбога задержался в кессоне и оглянулся. Белая звезда ЕН-23 уже поднялась над зелеными равнинами Леониды. Пахло влажной травой, теплой землей и свежим медом. Над далекими холмами неподвижно повисли белые растрепанные облака. — Да, — произнес Мбога. — Необычайно благоустроенная планета. Разве природе под силу создать такую?
Виктор Михайлов ЧЕРНАЯ БРАМА
В МОРЕ СТУДЕНОМ [156]
Пограничный сторожевой корабль «Вьюга» находился в дозоре. На горизонте раннее солнце позолотило узкую, едва заметную гряду облаков, а над кораблем еще смыкалась тьма полярной ночи. Без ходовых огней «Вьюга» шла курсом сто двадцать. Командир корабля Иван Арсентьевич Поливанов спустился с ходового мостика. Посасывая давно погасшую трубку, Поливанов зашел к штурману и окинул взглядом его библиотечку. Среди нескольких десятков книг по основам кораблевождения был старенький томик Тургенева. Как попал этот томик на корабль, никто не знал. Но, как говорил замполит капитан-лейтенант Футоров, «Записки охотника» поступили на штурманское вооружение. Иван Арсентьевич взял с полки томик и раскрыл на закладке. За Полярным кругом еще бушевали метели, и волны, накатываясь на полубак [157], застывали сталактитами льда. Дыхание моря, холодное, просоленное и влажное, проникало сквозь тонкие переборки. А со страниц тургеневской повести с необыкновенной силой доносился запах полыни, сжатой ржи и гречихи… Поливанов отложил книгу и включил радио. «… Утром в Мурманске было тридцать, — услышал он, — в Апатитах сорок, в Ковдоре сорок три градуса мороза. Такое резкое похолодание по всему Кольскому полуострову объясняется вторжением арктического воздуха из района Карского моря…» «Надо ждать тумана», - подумал Иван Арсентьевич. — Товарищ капитан третьего ранга, по курсу справа десять — судно! — доложил вахтенный офицер. Поливанов приник лбом к резиновому тубусу радиолокатора и увидел за бегущей разверткой очертания полуострова и светящуюся точку цели. До неизвестного судна было семьдесят два кабельтова [158]. «Вьюга» пошла на сближение. Ветер утих, и это внушало тревогу: резкая разница температуры моря и воздуха могла вызвать парение. — Товарищ командир, расстояние увеличивается! — доложил штурман. — Полный вперед! — приказал Поливанов. Над морем поднялись клочья желтоватого тумана; они быстро сбивались в плотные стелющиеся облака. Еще несколько минут — и перед кораблем встала белая непроницаемая стена. Миновав северо-восточную оконечность полуострова, неизвестное судно изменило курс и вошло в наши пограничные воды. «Что это? — подумал Поливанов. — Сейнер [159], идущий в Мурманск, или «иностранец», избравший кратчайший курс?» Надо было опознать судно. Но на экране радиолокатора возникли помехи, и маленькая светящаяся точка затерялась в бешеной пляске спиральных, прямых и ломаных линий. Ни радиометристу, ни тем более штурману еще не приходилось встречаться с подобными помехами. В тумане, когда с командирского мостика неразличим гюйсшток, когда активные радиопомехи лишают возможности локационного наблюдения, единственная надежда — на впередсмотрящих, на их внимательность и зоркость. Поливанов раскурил трубку и вернулся на ходовой мостик. Глубоко засунув остывшие руки в карманы реглана, привычно покачиваясь с носков на пятки, он всматривался в плотную- стену тумана. На мостик поднялся штурман: — Товарищ капитан третьего ранга, видимость ноль. Обороты уменьшить? — Курс сто шестьдесят! — сказал Поливанов и решительно перевел ручку машинного телеграфа на «самый полный». — Передайте помощнику, пусть сообщит в штаб: идем на сближение с неизвестным судном. Наш курс. Координаты и видимость. Повторив приказание, штурман спустился с мостика. — Что наблюдается на экране? — сняв колпак переговорной трубы, спросил командир. — На радиолокаторе активные помехи. Цель потеряна, — доложил радиометрист. Прошло еще несколько минут. На мостик поднялся и стал рядом с командиром его помощник капитан-лейтенант Девятов, высокий, сутулый человек в короткой, не по росту, стеганке с капюшоном. Молча они стояли рядом, всматриваясь в туманную непроницаемую даль. Девятов видел в профиль лицо командира с неизменной трубкой в углу рта, прямой нос с широкими, подвижными ноздрями и взгляд светло-карих глаз из-под нависших мохнатых бровей. Это было лицо сильного, волевого человека, скупого на слова, быстрого в своих решениях. Семь лет назад Девятов, окончив Высшее военно-морское училище в Ленинграде, получил назначение на «Вьюгу». Этот корабль стал первой суровой школой Девятова, а Поливанов — терпеливым и требовательным его командиром. Все, что Девятов теперь знал, было результатом большой и вдумчивой работы этого, казалось, черствого и сухого человека.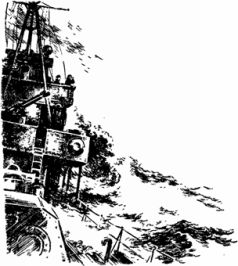 Корабль без предупреждающих сигналов шел полным ходом в тумане. Неизвестное судно не отвечало на запросы.
Вынув изо рта трубку, Поливанов повернулся к помощнику и молча указал на север. Девятов прислушался и уловил слабое дуновение. Если северный ветер усилится, туман исчезнет так же быстро, как и появился.
В хорошую погоду, когда с моря виден полуостров, его берега кажутся необитаемыми. Но это впечатление обманчиво. В занесенной снегом сторожке — пункт наблюдения. Вооруженный морским биноклем, стоит на посту пограничник и зорко всматривается в даль.
Вот порыв ветра чуть приподнял, словно занавес, над морем туман, затем навалился во всю свою крепнувшую силу, и на крутых перекатах зыби стали видны золотистые блики рассвета. Вдруг юго-восточнее сторожки, на большом удалении, пограничник увидел судно.
Спустя несколько минут вахтенный офицер «Вьюги» вручил командиру корабля радиограмму:
«Неизвестное судно без флага прошло курсом сто шестьдесят в трех милях юго-восточнее ПН-5».
Поливанов спустился в штурманскую рубку и, определив по карте местонахождение неизвестного судна, назвал новый курс.
Самым полным ходом «Вьюга» шла к заливу Трегубый. Все более и более крепнущий ветер срывал барашки с короткой волны.
Пологие сопки полуострова показались в двадцати семи кабельтовых справа по борту. «Вьюга» шла мористее неизвестного судна.
Скрылся за кормой маяк.
Прошло несколько минут, и вахтенный сигнальщик доложил:
— Цель справа тридцать! Дистанция сорок кабельтовых!
На ходовой мостик поднялся замполит капитан-лейтенант Футоров.
Рассматривая судно в бинокль, Девятов докладывал:
— Судно без флага. Сухогрузное. Две мачты. Четыре лебедки. Идет с малым грузом.
— Маркировка? — спросил командир.
— Труба желтая, полосы: черная, зеленая и красная…
— Маркировка судов пароходной компании Канберра-Ландорф-Гамбург, — дал справку штурман.
— Дать сигнал по международному своду: «Поднимите свой национальный флаг!» — приказал Поливанов.
— Не отвечает, — волнуясь, сказал штурман.
— Напишите ему! — приказал Поливанов.
Вспыхнул прожектор, и узкий слепящий луч, направленный на неизвестное судно, писал:
«Точка, точка, точка… Точка, точка, точка… Внимание! Внимание! Внимание! Пишу по международному своду сигналов! Поднимите свой национальный флаг! Внимание! Внимание! Внимание!»
Наступила томительная пауза.
Но вот на гафеле кормовой мачты «коммерсанта» медленно, как бы нехотя, поднялся черно-красно-желтый флаг…
Корабли сблизились настолько, что, пользуясь биноклем, можно было прочесть на корме: «Ганс Вессель». Гамбург».
— Товарищ капитан третьего ранга, дистанция двадцать три кабельтовых, — доложил штурман.
— Сообщить в штаб отряда. В наших территориальных водах останавливаю для осмотра торговое судно «Ганс Вессель» водоизмещением шесть тысяч тонн, приписанное к гамбургскому порту, — приказал Поливанов.
Девятов спустился с мостика.
— Товарищ капитан третьего ранга, — осторожно, сказал штурман, — совершенно ясно: «коммерсант» идет кратчайшим путем, он имеет на это право. Остановим судно, потом неприятностей не оберешься.
— Неприятностей бояться — в море не ходить, товарищ старший лейтенант! — усмехнулся замполит Футоров.
Заметив, как штурман покраснел от обиды, Поливанов примиряюще сказал:
— Ничего, такому командиру, как я, неплохо иметь осторожного штурмана. — И закончил: — Сигнальщику поднять вымпел свода и сигнал «покой», а чтобы они не ссылались на плохую видимость, включить два зеленых!
В ответ на сигналы «Вьюги» коммерческое судно прибавило ход. Прозвучал колокол громкого боя. Экипаж корабля занял своиместа по боевому расписанию.
Прошло еще несколько напряженных минут. «Вьюга» шла самым полным ходом, команда наблюдала за «Гансом Весселем». растущим на глазах, по мере того как к нему подходили все ближе и ближе. Понимая, что дальнейшее бегство бесполезно, «коммерсант» застопорил машину.
Это было большое сухогрузное судно. Его команда, человек тридцать, столпилась у поручней левого борта.
Еще несколько минут хода на полных оборотах, затем рука командира легла на ручку машинного телеграфа, и гул двигателей сразу затих.
— Осмотровой группе приготовиться! Шлюпку номер один к спуску! — приказал командир.
Когда между кораблями оставалось не больше шести кабельтовых, Поливанов сошел на шкафут [160], где во главе с капитан-лейтенантом Девятовым выстроилась осмотровая группа.
— Проверить судовую роль [161], людей и груз! Будьте особенно бдительны: судно большое, а ваша группа немногочисленна, — поставил командир задачу.
Вскоре шлюпка с «Вьюги» подошла к судну. Преодолев сильную волну, люди поднялись на борт по штормтрапу.
Капитан «Ганса Весселя», полный, обрюзгший человек, представился Девятову:
— Капитан коммерческого судна Вальтер Шлихт. Идем по фрахту [162] из Киля в Мурманск с грузом запасных частей к рефрижераторам, — сказал он по-немецки, не вынимая изо рта сигареты.
— Вы русский язык знаете? — спросил Девятов.
Шлихт жестом ответил отрицательно.
— Хорошо, — согласился Девятов, — будем разговаривать по-английски.
— Я буду жаловаться! — сказал Шлихт по-английски. — «Ганс Вессель» идет точно по фарватеру [163]! Наконец мы везем груз в русский порт! Это безобразие! — закончил он, неожиданно взвизгнув.
— Это не фарватер, господин Шлихт, — спокойно заметил Девятов. — Вы находитесь в двенадцатимильной морской полосе, в стороне от фарватера. Посмотрите вашу карту, загляните в лоцию, и вы убедитесь в этом сами.
В штурманской рубке на отлично выполненной английской карте они определили местонахождение судна.
Вынув пачку «Кэмел», Шлихт любезно предложил сигарету. Девятов, поблагодарив, достал «Беломорканал» и закурил.
— Да, теперь я вижу, что мы сбились с курса, — неохотно согласился Шлихт. — Но в этом нет ничего удивительного. Вы же видите — компас врет.
— Да, компас действительно врет, — сочувственно сказал Девятов и приказал старшине Хабарнову: — Проверить компас.
Девятов увидел, как беспокойно заметались руки Шлихта с короткими, толстыми, покрытыми рыжими волосами пальцами. В светлых, навыкате, с красноватыми белками, словно у уснувшего морского окуня, глазах его, нельзя было прочесть ничего, они были непроницаемы.
— Предъявите судовые документы! — потребовал Девятов.
— Судовые документы? — переспросил Шлихт и, указывая дорогу, двинулся вперед. — Прошу, господин капитан, в мою скромную каюту.
«Скромная каюта» была обшита панелью красного дерева и обставлена мягкой кожаной мебелью. К кабинету примыкала спальня лимонного дерева с кроватью такой ширины, словно господин Шлихт путешествовал с супругой.
В кабинете на круглом столике стояли бутылки коньяка, грязные тарелки и бокалы.
Подозвав старшину, капитан-лейтенант тихо, чтобы не слышал Шлихт, приказал ему справиться у кока, кто ужинал вчера или завтракал сегодня с капитаном «Ганса Весселя».
Когда старшина вышел из каюты, Шлихт сказал, разливая коньяк:
— Прошу, по морскому обычаю!
— Благодарю, не пью…
— Вы меня обижаете!
— Я прошу вас, господин капитан, предъявить судовые документы!
Шлихт достал прикрепленную к брюкам связку ключей на длинной цепочке, не спеша выбрал один с затейливой бороздкой, открыл несгораемый шкаф и вручил Девятову конторского типа досье.
Тем временем на «Вьюге» все расчеты оставались на боевых постах. Вахтенный сигнальщик наблюдал через оптический прибор за тем, что делалось на «коммерсанте». Командир и замполит стояли на мостике, они были совершенно спокойны.
Это внешнее спокойствие давалось Поливанову с трудом. Решение осмотреть и задержать иностранное коммерческое судно в случае, если бы его подозрения не подтвердились, могло привести к большим неприятностям. Это был риск, и риск большой. Анализируя причины, побудившие его принять решение, Поливанов неоднократно возвращался к фактам.
«Даже пользуясь международным правом кратчайшего курса, — думал он, — «коммерсант» не должен был заходить в залив Трегубый. Попытка сбить «Вьюгу» со следа сетью активных радиолокационных помех свидетельствует о том, что здесь, в наших территориальных водах, «Ганс Вес-сель» выполнял какую-то странную, если не сказать больше, задачу».
— Как на локаторе? — спросил Поливанов.
— Товарищ капитан третьего ранга, помех нет. Радиолокация работает нормально. Цель справа сорок. Дистанция шесть кабельтовых, — доложил радиометрист.
Поливанов вскинул бинокль. Он видел, как, поднявшись на полубак, старшина 2-й статьи что-то докладывал Девятову. Затем с прожекторной площадки «коммерсанта» Хабарнов передал на «Вьюгу»:
Корабль без предупреждающих сигналов шел полным ходом в тумане. Неизвестное судно не отвечало на запросы.
Вынув изо рта трубку, Поливанов повернулся к помощнику и молча указал на север. Девятов прислушался и уловил слабое дуновение. Если северный ветер усилится, туман исчезнет так же быстро, как и появился.
В хорошую погоду, когда с моря виден полуостров, его берега кажутся необитаемыми. Но это впечатление обманчиво. В занесенной снегом сторожке — пункт наблюдения. Вооруженный морским биноклем, стоит на посту пограничник и зорко всматривается в даль.
Вот порыв ветра чуть приподнял, словно занавес, над морем туман, затем навалился во всю свою крепнувшую силу, и на крутых перекатах зыби стали видны золотистые блики рассвета. Вдруг юго-восточнее сторожки, на большом удалении, пограничник увидел судно.
Спустя несколько минут вахтенный офицер «Вьюги» вручил командиру корабля радиограмму:
«Неизвестное судно без флага прошло курсом сто шестьдесят в трех милях юго-восточнее ПН-5».
Поливанов спустился в штурманскую рубку и, определив по карте местонахождение неизвестного судна, назвал новый курс.
Самым полным ходом «Вьюга» шла к заливу Трегубый. Все более и более крепнущий ветер срывал барашки с короткой волны.
Пологие сопки полуострова показались в двадцати семи кабельтовых справа по борту. «Вьюга» шла мористее неизвестного судна.
Скрылся за кормой маяк.
Прошло несколько минут, и вахтенный сигнальщик доложил:
— Цель справа тридцать! Дистанция сорок кабельтовых!
На ходовой мостик поднялся замполит капитан-лейтенант Футоров.
Рассматривая судно в бинокль, Девятов докладывал:
— Судно без флага. Сухогрузное. Две мачты. Четыре лебедки. Идет с малым грузом.
— Маркировка? — спросил командир.
— Труба желтая, полосы: черная, зеленая и красная…
— Маркировка судов пароходной компании Канберра-Ландорф-Гамбург, — дал справку штурман.
— Дать сигнал по международному своду: «Поднимите свой национальный флаг!» — приказал Поливанов.
— Не отвечает, — волнуясь, сказал штурман.
— Напишите ему! — приказал Поливанов.
Вспыхнул прожектор, и узкий слепящий луч, направленный на неизвестное судно, писал:
«Точка, точка, точка… Точка, точка, точка… Внимание! Внимание! Внимание! Пишу по международному своду сигналов! Поднимите свой национальный флаг! Внимание! Внимание! Внимание!»
Наступила томительная пауза.
Но вот на гафеле кормовой мачты «коммерсанта» медленно, как бы нехотя, поднялся черно-красно-желтый флаг…
Корабли сблизились настолько, что, пользуясь биноклем, можно было прочесть на корме: «Ганс Вессель». Гамбург».
— Товарищ капитан третьего ранга, дистанция двадцать три кабельтовых, — доложил штурман.
— Сообщить в штаб отряда. В наших территориальных водах останавливаю для осмотра торговое судно «Ганс Вессель» водоизмещением шесть тысяч тонн, приписанное к гамбургскому порту, — приказал Поливанов.
Девятов спустился с мостика.
— Товарищ капитан третьего ранга, — осторожно, сказал штурман, — совершенно ясно: «коммерсант» идет кратчайшим путем, он имеет на это право. Остановим судно, потом неприятностей не оберешься.
— Неприятностей бояться — в море не ходить, товарищ старший лейтенант! — усмехнулся замполит Футоров.
Заметив, как штурман покраснел от обиды, Поливанов примиряюще сказал:
— Ничего, такому командиру, как я, неплохо иметь осторожного штурмана. — И закончил: — Сигнальщику поднять вымпел свода и сигнал «покой», а чтобы они не ссылались на плохую видимость, включить два зеленых!
В ответ на сигналы «Вьюги» коммерческое судно прибавило ход. Прозвучал колокол громкого боя. Экипаж корабля занял своиместа по боевому расписанию.
Прошло еще несколько напряженных минут. «Вьюга» шла самым полным ходом, команда наблюдала за «Гансом Весселем». растущим на глазах, по мере того как к нему подходили все ближе и ближе. Понимая, что дальнейшее бегство бесполезно, «коммерсант» застопорил машину.
Это было большое сухогрузное судно. Его команда, человек тридцать, столпилась у поручней левого борта.
Еще несколько минут хода на полных оборотах, затем рука командира легла на ручку машинного телеграфа, и гул двигателей сразу затих.
— Осмотровой группе приготовиться! Шлюпку номер один к спуску! — приказал командир.
Когда между кораблями оставалось не больше шести кабельтовых, Поливанов сошел на шкафут [160], где во главе с капитан-лейтенантом Девятовым выстроилась осмотровая группа.
— Проверить судовую роль [161], людей и груз! Будьте особенно бдительны: судно большое, а ваша группа немногочисленна, — поставил командир задачу.
Вскоре шлюпка с «Вьюги» подошла к судну. Преодолев сильную волну, люди поднялись на борт по штормтрапу.
Капитан «Ганса Весселя», полный, обрюзгший человек, представился Девятову:
— Капитан коммерческого судна Вальтер Шлихт. Идем по фрахту [162] из Киля в Мурманск с грузом запасных частей к рефрижераторам, — сказал он по-немецки, не вынимая изо рта сигареты.
— Вы русский язык знаете? — спросил Девятов.
Шлихт жестом ответил отрицательно.
— Хорошо, — согласился Девятов, — будем разговаривать по-английски.
— Я буду жаловаться! — сказал Шлихт по-английски. — «Ганс Вессель» идет точно по фарватеру [163]! Наконец мы везем груз в русский порт! Это безобразие! — закончил он, неожиданно взвизгнув.
— Это не фарватер, господин Шлихт, — спокойно заметил Девятов. — Вы находитесь в двенадцатимильной морской полосе, в стороне от фарватера. Посмотрите вашу карту, загляните в лоцию, и вы убедитесь в этом сами.
В штурманской рубке на отлично выполненной английской карте они определили местонахождение судна.
Вынув пачку «Кэмел», Шлихт любезно предложил сигарету. Девятов, поблагодарив, достал «Беломорканал» и закурил.
— Да, теперь я вижу, что мы сбились с курса, — неохотно согласился Шлихт. — Но в этом нет ничего удивительного. Вы же видите — компас врет.
— Да, компас действительно врет, — сочувственно сказал Девятов и приказал старшине Хабарнову: — Проверить компас.
Девятов увидел, как беспокойно заметались руки Шлихта с короткими, толстыми, покрытыми рыжими волосами пальцами. В светлых, навыкате, с красноватыми белками, словно у уснувшего морского окуня, глазах его, нельзя было прочесть ничего, они были непроницаемы.
— Предъявите судовые документы! — потребовал Девятов.
— Судовые документы? — переспросил Шлихт и, указывая дорогу, двинулся вперед. — Прошу, господин капитан, в мою скромную каюту.
«Скромная каюта» была обшита панелью красного дерева и обставлена мягкой кожаной мебелью. К кабинету примыкала спальня лимонного дерева с кроватью такой ширины, словно господин Шлихт путешествовал с супругой.
В кабинете на круглом столике стояли бутылки коньяка, грязные тарелки и бокалы.
Подозвав старшину, капитан-лейтенант тихо, чтобы не слышал Шлихт, приказал ему справиться у кока, кто ужинал вчера или завтракал сегодня с капитаном «Ганса Весселя».
Когда старшина вышел из каюты, Шлихт сказал, разливая коньяк:
— Прошу, по морскому обычаю!
— Благодарю, не пью…
— Вы меня обижаете!
— Я прошу вас, господин капитан, предъявить судовые документы!
Шлихт достал прикрепленную к брюкам связку ключей на длинной цепочке, не спеша выбрал один с затейливой бороздкой, открыл несгораемый шкаф и вручил Девятову конторского типа досье.
Тем временем на «Вьюге» все расчеты оставались на боевых постах. Вахтенный сигнальщик наблюдал через оптический прибор за тем, что делалось на «коммерсанте». Командир и замполит стояли на мостике, они были совершенно спокойны.
Это внешнее спокойствие давалось Поливанову с трудом. Решение осмотреть и задержать иностранное коммерческое судно в случае, если бы его подозрения не подтвердились, могло привести к большим неприятностям. Это был риск, и риск большой. Анализируя причины, побудившие его принять решение, Поливанов неоднократно возвращался к фактам.
«Даже пользуясь международным правом кратчайшего курса, — думал он, — «коммерсант» не должен был заходить в залив Трегубый. Попытка сбить «Вьюгу» со следа сетью активных радиолокационных помех свидетельствует о том, что здесь, в наших территориальных водах, «Ганс Вес-сель» выполнял какую-то странную, если не сказать больше, задачу».
— Как на локаторе? — спросил Поливанов.
— Товарищ капитан третьего ранга, помех нет. Радиолокация работает нормально. Цель справа сорок. Дистанция шесть кабельтовых, — доложил радиометрист.
Поливанов вскинул бинокль. Он видел, как, поднявшись на полубак, старшина 2-й статьи что-то докладывал Девятову. Затем с прожекторной площадки «коммерсанта» Хабарнов передал на «Вьюгу»:
«Умышленный заход в залив Трегубый капитан отрицает, курс судна проложен по фарватеру. Действительное место судна и глубина под килем с курсом не совпадают. Место, определенное радиолокатором, находится в заливе Трегубом. В нактоузе компаса [164] обнаружен незакрепленный дополнительный магнит».Командир передал ручку машинного телеграфа, и «Вьюга» пошла на сближение. Команда «Ганса Весселя» была собрана в кубрике. Неуправлявшееся судно дрейфовало. Ветер все более свежел. Непривычная, с длинными периодами бортовая качка вызывала у комендора Нагорного, стоявшего в дверях кубрика, головокружение. Напрягая силы, комендор старался перед этими чужими, непонятными ему людьми ничем не выказать своей слабости. Когда в кубрик вошел Девятов в сопровождении капитана судна, команда столпилась у большого, крытого линолеумом стола. Увидев знак, который подавал ему старшина, Девятов отошел в сторону и выслушал рапорт: — Товарищ капитан-лейтенант, по вашему приказанию беседовал с коком. Как он говорит, «кэп» всегда завтракает, обедает и ужинает один у себя в каюте, но ест — кок даже удивляется, — ест за пятерых… «Очевидно, «кэп» скрывает кого-то даже от своей команды», - подумал Девятов и направился к поджидавшему его Шлихту. — Заверяю вас, господин капитан, — пытаясь казаться искренним, говорил Шлихт, — состав моей команды двадцать восемь человек. На судне нет ни одного лишнего человека! Вы можете не утруждать себя проверкой. — Не так давно, господин Шлихт, вы уверяли меня в неисправности магнитного компаса, — усмехнулся Девятов. — Я до сих пор не понимаю, как это случилось… Злой умысел! Я взял на борт в Киле несколько человек по рекомендации комитета профсоюзов… По судовому списку и фотографиям на мореходных книжках Девятов тщательно проверил состав команды: все люди, двадцать восемь человек, включая капитана, были налицо. Шлихт и Девятов поднялись на верхнюю палубу. — В какой упаковке груз? — спросил Девятов. — В деревянных ящиках… Капитан-лейтенант подошел к штормтрапу и вызвал со шлюпки матросов. — Вы хотите осматривать груз? — забеспокоился Шлихт. Не отвечая, Девятов приказал отдраить трюмные люки. — Позвольте, — запротестовал Шлихт, — но детали — в заводской упаковке! По договору с фирмой я обязался доставить груз… — Мы гарантируем, господин Шлихт, что никаких претензий к поставщику не будет! — перебил его Девятов, спускаясь по узкому трапу в трюм. Вдоль бортов трюма с обеих сторон были принайтованы [165] большие ящики. «Проверять будем выборочно, — решил Девятов. — Каждый третий ящик справа налево!» Сняв найтовы, пограничники спустили верхний ящик и поставили стоймя, затем набок, отвалили второй и вскрыли третий. В ящике были тщательно упакованные в промасленную бумагу детали рефрижератора. — Господин капитан, — обратился Шлихт к Девятову, — это непорядок! Ящики надо класть так, как они лежали. Погрузка производилась в присутствии поставщика… — Господин Шлихт, ни на одном ящике я не вижу маркировки «не кантовать»! — возразил Девятов. — Прошу вас не мешать осмотру! Когда проверка грузов подходила к концу, Девятов взглянул на часы: пограничники находились на судне третий час! Отлично зная, как волнуется на корабле командир, он хотел было поручить осмотр оставшегося груза старшине, подняться на палубу и связаться с кораблем, как вдруг… — Товарищ капитан-лейтенант, — тихо доложил старшина, — из первого ящика, что мы поставили на попа, слышен чей-то стон. «Вот он, двадцать девятый! — подумал Девятов. — Тот, с кем накануне ужинал в своей каюте Шлихт». С видом человека, утомленного скучной формальностью осмотра, Девятов подошел к вертикально стоящему ящику, прислонился к нему и, вынув блокнот, сделал вид, что пересчитывает груз. Глаза Девятого встретились с взглядом Шлихта. На его лице уже не было бессмысленного выражения морского окуня, взгляд был настороженным и колючим, а грузное, раньше казавшееся ему рыхлым тело напружено, словно готовое к броску.
 Было тихо. Терпеливо вслушиваясь, капитан-лейтенант ждал. Внешне спокойный, он пересчитал ящики, сделал запись в блокноте и вдруг ясно услышал идущий из ящика глухой и протяжный стон.
В трюме было сыро и холодно, но капитан-лейтенант видел, как на лбу Шлихта выступили крупные капли пота. От его любезности не осталось и следа. Он быстро вынул пачку сигарет и закурил.
— Вскрыть ящик! — приказал Девятов.
— Я протестую! — вмешался Шлихт. — Вы решили вскрывать только каждый третий…
— А теперь я приказываю осмотреть каждый первый! — спокойно сказал Девятов и добавил: — Кроме того, господин Шлихт, своим подчиненным я отдаю приказания на русском языке, которого вы не знаете…
Когда пограничники сняли верхнюю крышку ящика, они увидели ноги, обутые в кирзовые сапоги.
Перекантовав ящик набок, матросы вытащили человека. Он был в бессознательном состоянии. Длительное, в течение нескольких часов, пребывание в ящике вниз головой, не пошло на пользу этому пассажиру.
У Шлихта отвисла губа с прилипшей к ней сигаретой. Он вытер платком лоб и, беспомощно разведя руками, пробормотал:
— Не понимаю… Не знаю, как это случилось… Этого человека я никогда раньше не видел. Первый раз…
— Господин Шлихт, вы утверждаете, что пять дней перехода от Киля этот человек находился в ящике без пищи и воды? — спросил Девятов…
— Нет, я этого не утверждаю, но… — Шлихт замолчал, увидев, что Девятов достал из ящика пехотную лопату и вещевой мешок.
В карманах кожаной теплой тужурки пассажира, так неудачно сделавшего стойку на голове, были: пачка папирос «Беломорканал» фабрики им. Урицкого, удостоверение, выданное Петрозаводским геологическим институтом на имя руководителя геологоразведочной партии Василия Васильевича Благова, и паспорт на то же имя.
— Судя по документам, Благов является советским гражданином, — не скрывая иронии, сказал Девятов. — Мы снимем его с вашего судна. Тем более что он нуждается в неотложной медицинской помощи.
Шлихт беспомощно развел руками.
Обвязав «геолога» концом за туловище, его, словно мешок, подняли из трюма на палубу.
— Подпишем, господин Шлихт, протокол осмотра! — пригласил Девятов.
Они молча пошли к трапу. Девятов видел, как у поднимавшегося перед ним Шлихта клапан заднего кармана оттопыривал тяжелый пистолет.
Когда они вышли на верхнюю палубу, за кормой «Ганса Весселя» с наветренной стороны, придерживаясь дистанции двух кабельтовых, покачивалась на волне «Вьюга». А по носу слева Девятов увидел приближающийся знакомый силуэт небольшого судна.
К месту происшествия шел быстроходный штабной катер.
Было тихо. Терпеливо вслушиваясь, капитан-лейтенант ждал. Внешне спокойный, он пересчитал ящики, сделал запись в блокноте и вдруг ясно услышал идущий из ящика глухой и протяжный стон.
В трюме было сыро и холодно, но капитан-лейтенант видел, как на лбу Шлихта выступили крупные капли пота. От его любезности не осталось и следа. Он быстро вынул пачку сигарет и закурил.
— Вскрыть ящик! — приказал Девятов.
— Я протестую! — вмешался Шлихт. — Вы решили вскрывать только каждый третий…
— А теперь я приказываю осмотреть каждый первый! — спокойно сказал Девятов и добавил: — Кроме того, господин Шлихт, своим подчиненным я отдаю приказания на русском языке, которого вы не знаете…
Когда пограничники сняли верхнюю крышку ящика, они увидели ноги, обутые в кирзовые сапоги.
Перекантовав ящик набок, матросы вытащили человека. Он был в бессознательном состоянии. Длительное, в течение нескольких часов, пребывание в ящике вниз головой, не пошло на пользу этому пассажиру.
У Шлихта отвисла губа с прилипшей к ней сигаретой. Он вытер платком лоб и, беспомощно разведя руками, пробормотал:
— Не понимаю… Не знаю, как это случилось… Этого человека я никогда раньше не видел. Первый раз…
— Господин Шлихт, вы утверждаете, что пять дней перехода от Киля этот человек находился в ящике без пищи и воды? — спросил Девятов…
— Нет, я этого не утверждаю, но… — Шлихт замолчал, увидев, что Девятов достал из ящика пехотную лопату и вещевой мешок.
В карманах кожаной теплой тужурки пассажира, так неудачно сделавшего стойку на голове, были: пачка папирос «Беломорканал» фабрики им. Урицкого, удостоверение, выданное Петрозаводским геологическим институтом на имя руководителя геологоразведочной партии Василия Васильевича Благова, и паспорт на то же имя.
— Судя по документам, Благов является советским гражданином, — не скрывая иронии, сказал Девятов. — Мы снимем его с вашего судна. Тем более что он нуждается в неотложной медицинской помощи.
Шлихт беспомощно развел руками.
Обвязав «геолога» концом за туловище, его, словно мешок, подняли из трюма на палубу.
— Подпишем, господин Шлихт, протокол осмотра! — пригласил Девятов.
Они молча пошли к трапу. Девятов видел, как у поднимавшегося перед ним Шлихта клапан заднего кармана оттопыривал тяжелый пистолет.
Когда они вышли на верхнюю палубу, за кормой «Ганса Весселя» с наветренной стороны, придерживаясь дистанции двух кабельтовых, покачивалась на волне «Вьюга». А по носу слева Девятов увидел приближающийся знакомый силуэт небольшого судна.
К месту происшествия шел быстроходный штабной катер.
КОРГАЕВА САЛМА
Получив указание штаба, «Вьюга» пошла в базу. Ранним утром следующего дня корабль подходил к Коргаевой Салме. Штормовой ветер сменился штилем. Над заливом курился туман. Мерно вздымались крупные валы зыби. Нос корабля то поднимался над валом, то опускался в межвалье. У гюйсштока впередсмотрящим стоял Нагорный. Качка вызывала у него чувство непреодолимой тоски. Туго затянув ремень и упрямо сжав губы, он всматривался в белесую мглу тумана. Бывало, в училище ротный командир, распекая за нерадивость, пугал его: «Погодите, Нагорный, вот кончите школу да отправят вас в Коргаеву Салму, узнаете, почем фунт лиха!..» Позже Андрей узнал о Коргаевой Салме от мичмана Ясачного, боцмана «Вьюги», прибывшего из Заполярья, чтобы сопровождать их к месту назначения. Вспомнился синий дорожный чайник мичмана, обжигающий руки, в эмалированной кружке чай и беседа под монотонный перестук колес. Нестерпимо захотелось чаю, погреть о кружку озябшие руки. Тогда, в поезде, испытывая тревожное чувство неизвестности, он узнал, что корга — небольшой каменистый остров, а салмой в Заполярье называют пролив, отделяющий остров от материка. Протяжно и грустно басили ревуны, подавая сигналы в тумане, им вторил тифон корабля. Медленно, словно на ощупь, огибая Коргу, «Вьюга» входила в бухту. Из мглы выплыл красный конус нордового буя. Предупредив двумя свистками, Нагорный передал на мостик: — Вижу слева по носу буй! Прозвучал предупреждающий сигнал ревуна. Малым ходом корабль подходил к узкому фарватеру Коргаевой Салмы. Помощник командира отдал команду: — По местам стоять! На якорь, швартовы становиться! Нагорный занял свое место на полубаке. Мигнул зеленый огонек у южной оконечности пирса. Отрабатывая правой машиной, корабль медленно привалился к стенке. С носа взметнулся бросательный конец, и вот уже петля троса заведена на большой пал причала. Борт мягко прижал подставленный кранец, и «Вьюга» подвалила кормой… В училище Коргаева Салма представлялась Нагорному чем-то таинственным и страшным, теперь же он с нетерпением ждал каждого возвращения в базу. Казалось бы, здесь, в Коргаевой Салме, ничего не менялось в жизни матроса, он оставался на корабле, так же жил в кубрике, трудился так же, как и в море, дышал тем же влажным, просоленным морозным воздухом, и все же в базе Нагорный больше чувствовал свою связь с людьми и домом… Причиной этому было то изнуряющее недомогание, которое он испытывал в море, и, конечно, почта — маленькая комната за железной дверью, пахнущая сургучом, штемпельной краской и фруктами, — здесь подолгу в ожидании возвращения адресатов с моря лежали посылки с дарами юга. На почте Нагорный получал до востребования письма из дома, голубые конверты Светланы… Коргаева Салма за последнее время преобразилась. Здесь выросли большие благоустроенные дома. Клуб, хлебозавод, немногочисленные, но такие опрятные улицы, что, прикурив папиросу, было неловко бросить на мостовую спичку. Поселок живописным амфитеатром спускался к морю. По бухте деловито сновали посыльные катера и буксиры. Отпуская Нагорного на берег, капитан-лейтенант Футоров спросил: — Как вы себя чувствуете? — Хорошо, товарищ капитан-лейтенант, — ответил Нагорный, и на его лице появилось мальчишеское, упрямое выражение. Подтянутый, упорный в достижении своей цели парень все больше нравился замполиту. На пирсе Нагорный еще чувствовал себя так, словно шел по палубе корабля в штормовую погоду. Восемь дней он был в плавании. Море не щадило — холодные северо-восточные ветры обжигали его лицо, сырая изморось заползала за ворот бушлата, тяжелый, непривычный матросский труд изнурял, но в то же время Андрей чувствовал, что из каждого плавания он приходит с новым сознанием своей силы. Это наполняло его торжеством победы, пусть еще маленькой, но все же победы. Поселок был скрыт завесой тумана. Навстречу Андрею попалась женщина с веселой стайкой ребятишек. Он узнал Футоровых. Надежда Григорьевна и все четверо ребят, старшему из них было лет восемь, шли на пирс встречать главу дома. Отступив в сугроб, Нагорный поздоровался. Снег уже потемнел и стал ноздреватым, как всегда весной. В это время года в Москве уже продают привезенные с юга мимозы. «Будут от Светланы письма? Сколько? Одно, два, а быть может, три?» — думал Нагорный и, не останавливаясь, прошел мимо почты. Чем больше ему хотелось получить голубые конверты, надписанные знакомым мелким, округлым почерком, тем больше он старался отдалить эти минуты радости. За клубным штакетником стояла заботливо укутанная снегом молодая рябина. Нагорный с нежностью посмотрел на деревце — он вспомнил другую, подмосковную рябинку… …Это было осенью позапрошлого года. У военкомата уже дожидался автобус. Неторопливо поглядывая на часы и вороша ногами палый желтый лист, Андрей ходил по аллее парка. Света была взволнованная и растерянная. Прощаясь, она притянула его к себе и поцеловала в губы. Ощущение этого первого поцелуя Андрей помнит и сейчас. Тогда у калитки он оглянулся и увидел Светлану с косынкой в беспомощно опущенной руке. И, словно врачуя боль первого расставания, рябина положила на ее плечо ветку с гроздьями ярких ягод… Туман редел. С бухты доносился жалобный крик чаек. Птицы спорили с мощными звуками рояля — трансляционный узел клуба передавал урок гимнастики. Казалось странным, что в этот день и час и в Москве и в родной Кашире, так же как здесь, в Заполярье, звучат одни и те же звуки рояля… Только сейчас Нагорный сообразил, что еще очень рано, а почта открывается в десять часов. Медленно он пошел к старому причалу. Здесь швартовались сухогрузные баржи, буксиры, катера «Касатки», прозванные так за их высокие мореходные качества. Нагорный прислонился к штабелю бревен. По ту сторону бухты в редеющем тумане высился силуэт «Вьюги». Узкие, словно бойницы, порты фальшборта, гордая форма носа, чуть скошенная назад труба — весь его вытянутый, длинный корпус выглядел даже здесь, у стенки, настороженным, сильным и готовым к стремительному движению. Может быть, впервые Нагорный подумал о том, что это его корабль, с которым он связан крепким, выстраданным чувством привязанности. Мороз крепчал, пробираясь за шинель, ноги стыли. Нагорный решил вернуться на корабль. Он шел быстро и, поднимаясь по трапу, почувствовал, что идет в свой дом, где его ждет тепло обжитого кубрика, знакомые шумы, запахи, а главное, люди — матросы, так же как и он, познающие суровые законы моря. На корабле шла приборка: скалывали лед, драили медные части, смывали щетками горячей водой морскую соль с надстроек полубака. Захватив ветошь, Нагорный поднялся на полубак. — Ты что же так скоро? — спросил его старшина 2-й статьи Хабарнов. — Почта закрыта, — ответил Андрей. — По дому соскучился, — понимающе сказал Хабарнов. — На что мой дом близко, из поморов я, мезенский, а веришь, ночью в кубрике лежишь — о доме думаешь, душу греешь… Легкость, с которой Хабарнов проник в его душевное состояние, поразила Нагорного. Отжимая швабру, Хабарнов оглядел проясняющийся горизонт и сказал: — Юго-западный будет. У нас, поморов, юго-западный ветер шалоником называют. — Сгоняя через шпигат [166] воду с полубака, он рассмеялся: — Знаешь, паря, как помор в старину ветер на таракана гадал? Мне отец сказывал. Ходили тогда под парусом. Ветра нет — трески нет. А «тресшоцки» не поел — худо помору, весь день голодный. Берет тогда помор большого черного таракана, за борт бросает, на таракана смотрит да приговаривает:СЕРАЯ ТЕТРАДЬ
Воскресный день на корабле начинается позже, но, по привычке, Нагорный проснулся в шесть. Кубрик, освещенный ночником, был погружен в голубоватый сумрак. Только Федя Тулупов, встав чуть свет, гладил белую тужурку вестового кают-компании — накануне он проиграл Лаушкину в шашки и расплачивался утюжкой. Нагорный повернулся на бок, нащупал под подушкой письмо, закрыл глаза и попытался представить себе, что сегодня будет делать Света. По выходным дням Светлана уходила на лыжах. Для прогулок у них были свои любимые места на берегах Оки. Мать писала, что снег стаял и на тополях налились почки. Стало быть, синяя спортивная шапочка и свитер до времени сложены в бабкин сундук, пересыпаны нафталином, а лыжи лежат на шкафу в сенях. Причудливый свет в сенях — фрамуга над дверью забрана разноцветными стеклами. На стене высоко, у самого потолка, висят пучки трав — мяты, ромашки и багульника, отчего во всем старом доме стоит особый пряный запах. Андрей слышит этот запах и сейчас, словно рыжая шубка Светы прикасается мехом к его лицу. Открыв глаза, Андрей видит Тулупова — высунув язык, Федя старательно водит утюгом. По распластанной на рундуке тужурке гуляет утюг вперед-назад, вперед-назад… Света протирает окна — весна! Гонимое ветром белое облако мчится по темному небу. Тряпка скользит по стеклу, вперед-назад, вперед-назад… Но вот в беспомощно опущенной руке — смятая газовая косынка. Парк. Осень. Медленно, вороша ногами лист, идет Андрей по аллее парка. Прощаясь с ним, Света поднимает руку, пичуга доверчиво садится на ее ладонь и заливается звонкой песней… Не сразу доходит до сознания Андрея звук корабельной дудки. Подражая боцману Ясачному, дежурный, напевно вытягивая последние слога, дает побудку. Заливисто поет дудка. — Команде вставать! Койки убрать! Девять часов. Горн играет «большой сбор». Экипаж выстраивается по правому борту корабля. Торжественные минуты тишины. — На флаг смирно! — звучит команда. Слышно, как сердце отсчитывает секунды. — Флаг поднять! И вот на свежем морозном ветру затрепетал пограничный флаг. После команды «разойтись», предоставленный самому себе, Нагорный вновь почувствовал знакомую неуверенность в ногах и легкое головокружение. Без всякой цели он спустился на ют. Возле обреза — надвое распиленной бочки — курили матросы и, как всегда в праздничные дни, неторопливо «травили» байки. Немилосердно дымя и прикуривая один «гвоздик» от другого, «травил» Даниил Панков, первый корабельный балагур. Матросы слушали Панкова с недоверчивой, скептической улыбкой, но слушали — весело человек врет! Левой рукой Даниил изображал разбушевавшуюся стихию, коробок спичек в правой был кораблем, застигнутым штормом. — Такой мордотык! — рассказывал Панков. — Такая волна — полундра! Корабль зарылся с пушкой по мостик — ни тпру ни ну… «Полный назад!» — командует капитан. Нос из волны вытащил и па-а-шел! «Это, — говорит, — разве шторм?! Вот раньше бывал шторм, так шторм!..» Не дослушав Панкова, Андрей открыл дверь в надстройку. Из камбуза пахнуло аппетитным запахом жареной трески. Нагорный прошел до носового кубрика, снял шинель, шапку и спустился вниз. Осторожно, чтобы не смять отглаженную форменку, достал из рундука серую тетрадь. Когда море бывало особенно враждебно и чувство недомогания посеяло в Андрее неуверенность в своих силах, он обращался к этой тетради, черпал в ней духовную силу и мужество. В кубрике было шумно: редколлегия готовила к выпуску очередной номер стенной газеты. Тулупов пытался отыграться в шашки у Лаушкина, старшина Хабарнов с мотористом разбирали шахматную партию. Заметив торчащий из-за пазухи Андрея уголок конверта, Хабарнов спросил: — Ты что, комендор, письма хочешь писать? — Да, хотел… — нерешительно ответил Нагорный. — Хочешь, пущу в машинное? — предложил моторист. — Хорошо бы… — Ну, пойдем, — сказал моторист и поднялся из кубрика. В машинном отделении непривычно тихо, словно в зверинце, где живых, мятущихся и рычащих зверей в клетках заменили набитыми чучелами. У конторки, освещенной дежурной лампочкой, — вентиляционная труба. Покрытая пробковой крошкой и выкрашенная белой краской труба похожа на заиндевевший ствол дерева. Тишина. Андрей раскрыл тетрадь, в которой были аккуратно подклеены фотографии, письма, газетные вырезки. На первой странице — фотография: вооруженный автоматом бронзовый воин указывает рукой на запад. Это памятник всем тем, кто в крови и огне сражений освободил Печенгу — искони русскую землю — от фашистской нечисти, тем, кто остался жив, и тем, кто пал в этой борьбе. «Моему меньшому сыну…» — прочел Андрей. Строки письма волновали его и сейчас так же, как в тот холодный памятный вечер, когда он и Светлана впервые вскрыли толстый пакет. «Сынок, тебе было два года, когда Владимир ушел в армию. Придет день, и ты, Андрейка, уйдешь из дома с повесткой военкомата. Вчера вечером спустился я покурить во двор. Ты, Андрей, со своим дружком Фомой забрался в кузов грузовой машины. Оба вы вслух мечтали о будущем, и, конечно, пределом вашей детской мечты был этот старенький, полуразбитый грузовик. Вы хотели водить машину так, «чтобы ветер свистел в ушах»… Вам обоим по девяти лет. Перед вами много путей-дорог, но, выбирая свою, Андрейка, не ищи легкую и проторенную дорогу. Не бойся трудностей. Самая большая радость — когда, преодолевая препятствия на своем пути, человек достигает большой и благородной цели. Мне, Андрей, много лет, и я не знаю, сумею ли помочь тебе выбрать жизненный путь. Но не только поэтому я решил обратиться к тебе с письмом. На эту мысль меня натолкнуло еще одно обстоятельство: на стапелях отличнейшей верфи заложен сторожевой корабль «Вьюга». Корабль назван так по морской традиции — в честь торпедированного в сорок втором году сторожевого корабля «Вьюга», на котором служил комендором твой старший брат Владимир. Пройдет несколько лет, и новый, технически еще более совершенный корабль будет нести сторожевую службу в водах Баренцева моря, только комендора Нагорного не будет в его экипаже. Я люблю раздумье. Мать в шутку называет меня «доморощенным философом», но кажется мне, что в некоторых традициях заключается неистребимая сила жизни. Подумай, сынок, над этим… Когда ты получишь письмо, быть может, многое изменится. Прочти все то, что мне удалось собрать из писем, воспоминаний однополчан Владимира, из фронтовых газет, присланных комиссаром полка. Сын писал часто, но я отобрал из его писем лишь те, что были вехами на его пути». Андрей перевернул страницу и стал читать письма Володи к отцу:17 марта 1941 года. Коргаева Салма Дорогой отец! Это письмо я посылаю тебе на школу, чтобы не огорчать маму. Надо с тобой посоветоваться. Видишь ли, появилась у меня мысль остаться на сверхсрочной. Вчера после отбоя сон долго не шел, разговорились мы. Один парень — он из-под Рязани — сказал: «Скоро отслужу срок, поеду в Рязань. Будь он неладен. Мурманский край! Сопки и тундра, болота и топи, чахлая рябина, по колено береза… Ты знаешь, отец, как я люблю родную Каширу и быстрые воды нашей Оки, ее смоляные запахи. Но, мне кажется, нигде я не увижу таких закатов, какие бывают здесь, на Баренцевом море! Такой суровой и красивой природы, ярких цветов тундры, грибного раздолья, лютых штормов и необыкновенной тишины на морских просторах. Да, служба здесь нелегкая, но край этот наш, и кому же нести здесь службу, если не нам — молодым и сильным? Что скажешь, отец? Буду с нетерпением ждать твоего письма.
Целую. Владимир.29 июня 1941 года.
Дорогой отец! Получил, отец, твое письмо. Читаю, и как-то не по себе — в каждой строке холодное раздумье, а ствол моего орудия еще не успел остыть — вели огонь по врагу. Война! Теперь и думать нечего: мое место здесь. Присматриваюсь к товарищам, таким же, как я, двадцатилетним. За эти несколько дней мы все изменились, стали строже к себе самим — мы на переднем крае. За нами — Родина. Часто мы и раньше говорили: «Родина», но только теперь все мы, и каждый по-своему, прочувствовали и поняли все, что входит в это понятие. Спешу, через несколько минут уходит почтовый катер. Пиши мне по новому адресу. Завтра отправлю подробное письмо маме. Знаю, она не спит по ночам, волнуется.
Целую. Твой Владимир.
Вырезка из газеты Карельского фронта «За Родину» от 15 декабря 1941 года: Мужество матроса Нагорного На корабле был получен приказ высадить разведгруппу в глубоком тылу противника. Ночью, пользуясь непогодой — с утра бушевала пурга, — наш корабль скрытно вошел в залив. Бесшумно спущена на воду шлюпка. Тихо. Не слышно всплеска весел, дыхания гребцов. В густой снежной пелене смутно вырисовывается скалистый берег. Шумит прибой, набегая на камни. Казалось, что тяжело перегруженная шлюпка стоит на месте, теперь все мы видим быстро приближающиеся скалы. Вдруг сильный толчок — шлюпка с полного хода врезается в отмель. До берега метров десять. Снег начинает редеть. Слышно, как переговариваются гитлеровцы. Через равные промежутки времени взлетают осветительные ракеты и, вспыхнув тусклым светом, гаснут на снегу. Время идет. Шлюпка перегружена, и киль плотно заклинился в прибрежных камнях. Разведчики не могут сойти в воду — впереди немалый путь, их ноги должны быть сухими. Минутное состояние растерянности. Не дожидаясь приказа, матрос Нагорный прыгает в ледяную воду и, ощупывая ногами дно, направляется к берегу. Местами вода достигает пояса. Вскоре Нагорный возвращается к шлюпке и, посадив на закорки, выносит разведчика на берег. Семь раз возвращается Нагорный к шлюпке и, посадив на закорки, выносит семерых разведчиков на берег. Приказ командования выполнен.
Вырезка из фронтовой газеты «За Родину» от 14 ноября 1944 года: Черная Брама Решительное наступление войск Карельского фронта в Заполярье началось утром 7 октября. На участке реки Западная Криница в обороне были: 6-я горно-егерская дивизия гитлеровцев и батальон стрелков альпийской дивизии «Эдельвейс». Гитлеровское командование считало, что глубоко эшелонированная оборона на этом рубеже, созданная за тридцать восемь месяцев позиционной войны, неприступна и может отразить любые атаки. Главный удар наших войск наносился южнее озера Ропач. На правом фланге наступали части полковника Равенского. Надо было вызвать точный прицельный огонь нашей артиллерии по батареям противника. Над укрепрайоном 6-й горно-егерской дивизии господствует высота 412, выступающая вперед клином, похожая на поднятый нос баржи. Гранитная скала называется Черной Брамой. Старшина 1-й статьи Нагорный и радист Облепихин добровольно вызвались обойти укрепрайон и с высоты 412 разведать батареи тяжелых минометов и артиллерии противника, сообщить данные на КП и скорректировать огонь наших орудий. Старшина Нагорный подполз к парторгу роты, молча передал ему аккуратно сложенный лист бумаги, махнул Облепихину рукой, сбросил каску и, надев бескозырку, пополз в сторону колючей проволоки. Парторг долго следил за разведчиком. Когда они скрылись за снежным пологом, он развернул сложенный лист и прочел:
«Если погибнем, просим считать коммунистами.Это было написано химическим карандашом на листе, вырванном из тетради в косую линейку. На пути разведчиков девять рядов колючей проволоки, их надо преодолеть под плотным огнем противника, выйти к берегу, по грудь в ледяной воде обойти укрепрайон и с тыла подобраться к подножию Черной Брамы. Прошел час. Наши бойцы отбивали третью, самую яростную контратаку альпийских стрелков, когда на КП получили донесение:Владимир Нагорный, Антон Облепихин».
«Занят пост наблюдения на высоте 412. Дивизион тяжелых минометов — квадрат 187. Артиллерийская батарея — квадраты 191–193.Это был индекс Нагорного. Сорок минут бушевал огненный шквал. Все это время разведчики корректировали огонь наших орудий. Снаряды ложились точно в цель, вздымая глыбы гранита и обломки вражеской техники. Батареи противника подавлены! В наступательном порыве части полковника Равенского прорвали вторую линию укреплений, соединились с частями, наступающими южнее озера Ропач, и, преследуя гитлеровцев, успешно форсировали губу Тимофеевку. Два бойца — коммунисты Владимир Нагорный и Антон Облепихин — до конца выполнили свой воинский долг. Вечная слава верным сынам Родины, павшим в боях за Отчизну!Пятый».
Помедлив, Андрей осторожно складывает пожелтевшую вырезку и открывает новую страницу:
Карельский фронт. 20 октября 1944 г. Дорогие Варвара Тимофеевна и Василий Иванович! Ваш сын Владимир героически пал в бою за Родину. Командование наградило посмертно Владимира орденом Красного Знамени. О подробностях не пишу, так как несколько дней назад я послал вам вырезку из фронтовой газеты. На следующий день после памятного боя, точнее 8 октября, группа бойцов вернулась к высоте 412, для того чтобы разыскать тела погибших героев и с почестями предать их земле. Тело Антона Облепихина мы нашли и похоронили у подножия Черной Брамы, так называют поморы эту скалу. Тело Владимира Нагорного обнаружить не удалось. Все бойцы и командиры части приносят вам свое соболезнование. Мы будем свято чтить светлую памятьВладимира Нагорного.
Парторг капитан-лейтенант И. Дудоров
«На этом, Андрей, заканчивается история жизни и смерти твоего старшего брата. Я уверен, что, если бы Володя был жив и ему вновь предстояло решить свое будущее, он выбрал бы снова прежний путь, какие бы он ни сулил ему трудности. Твой брат был сильным и мужественным. Я не хочу, сынок, влиять на твое решение. Верю, что, выбирая свою дорогу в жизни, ты будешь руководствоваться благородной целью. Счастливого пути, Андрейка!
Твой отец. Кашира. 1950 г.»
Тетрадь прочитана. Некоторое время Андрей прислушивается к тому, как настойчиво и призывно бьет в борт корабля волна. «Дорога выбрана, — думает он, — заветная, нелегкая… Хватит ли сил, упорства?…»
ПОЗЫВНЫЕ «ГЕРМЕС»
«Ганс Вессель» был отведен в порт, где Шлихт подписал акт, но в пункте четырнадцатом сделал оговорку: «Я капитан коммерческого судна. Мое дело — выгодный фрахт и честное выполнение обязательств перед фирмой. Репутация капитана дальнего плавания Вальтера Шлихта безупречна! Дополнительный магнит в ноктаузе компаса и неизвестный мне человек в трюме судна — звенья одной цепи: у меня, как у всякого честного человека, много врагов!» Надо было видеть «честного человека», когда он подписывал акт. Светлые, навыкате глаза Шлихта лучились бюргерской добропорядочностью. После осмотра содержимого рюкзака и оформления протокола «геолог» был доставлен быстроходным катером на аэродром. Самолет оторвался от земли и лег курсом на юго-восток. Благову было по паспорту сорок четыре года, но выглядел он старше. Нездоровый, землистый цвет кожи, сеть глубоких морщин на лице свидетельствовали о нелегкой, полной лишений жизни. Задержанного сопровождал капитан Клебанов. Подняв свесившуюся с носилок руку Благова, капитан увидел на ладони следы рубцов и старые, годами натруженные мозоли. Синеватое пятно на лбу, похожее и на давнюю татуировку и на след порохового ожога, напоминало Клебанову что-то знакомое… «Такие метины бывают на лицах шахтеров, — вспомнил он, — когда при травме в ранку попадает угольная пыль. Метина, так же как татуировка, остается на всю жизнь». Проверив пульс Благова, врач занялся приготовлением шприца к инъекции. Под крылом самолета проплывала тундра. — Как вы думаете, Артемий Филиппович, — спросил Клебанов врача, — «неотложка» уже на аэродроме? Набирая в шприц камфару, врач утвердительно кивнул головой. Катер с Благовым на борту еще только отвалил от «коммерсанта», а из Мурманска уже были отправлены телеграфные запросы в Петрозаводск и Ленинград. Миновав Гудим-губу, самолет лег курсом на юг, а в это время в Ленинграде по улице Белинского к дому № 5, где, по паспортным данным, проживал «геолог», подъехал на мотоцикле оперативный работник. Сделав разворот над аэродромом, самолет пошел на посадку. Спустя сорок минут, позвонив из кабинета главврача, Клебанов доложил полковнику Раздольному о выполнении приказа. — Как его состояние? — спросил полковник. — Тяжелое. В самолете пришлось дважды делать инъекцию камфары. Сознание затемненное. — Сейчас приеду! — сказал полковник. Прошло не больше десяти минут, и машина полковника, скрипнув тормозами, остановилась у подъезда госпиталя. Раздольный, высокий, грузный человек, легко выбрался из машины и в сопровождении Клебанова поднялся на второй этаж, где был кабинет главного врача, майора медицинской службы Гаспаряна. — Докладывайте, капитан, ваши соображения, — сказал полковник, как только Клебанов закрыл дверь. — Товарищ полковник, — начал капитан, — думается, что так называемый Благов незадолго до переброски через границу занимался тяжелым физическим трудом. Можно предположить, что он длительное время работал в шахте… Вошел главврач, поздоровался с Раздольным за руку, они были знакомы, и кивнул головой Клебанову: — Это второй случай! — В вашей практике? — спросил Раздольный. — Нет, в истории цивилизации. — Подкрутив короткие темные усы, Гаспарян повторил: — Второй случай! Несколько лет назад один предприимчивый делец на Западе, выставив свою кандидатуру в губернаторы штата, чтоб снискать популярность у избирателей, три часа простоял на голове в центре городской площади. — Выбрали? — поинтересовался Раздольный. — Нет, забаллотировали. Видимо, боялись, что, будучи губернатором, он и деловую жизнь штата поставит с ног на голову. Случай с этим Благовым, как видите, второй. Делец был крепче. Простояв три часа на голове, он повел своих избирателей пить пиво. Благову не до пива, и с допросом, Сергей Владимирович, придется подождать до завтра… — Мне нужно хотя бы пять минут… — Ни одной минуты. Больной… — Больной! — перебил его Раздольный. — Да, Сергей Владимирович, тяжелобольной. Организм подношен, сердце расширено на четыре пальца, старый очажок в легком, все признаки силикоза — профессиональной шахтерской болезни… Полковник Раздольный бросил быстрый взгляд на Клебанова. — В нашей стране, — продолжал Гаспарян, — это явление редкое, на Западе силикоз — бич. — Мы ему дадим путевку в санаторий за счет профсоюза! — усмехнулся Раздольный. — Да! — вспомнил главврач. — Товарищ капитан, очевидно, это вас разыскивает начальник караула? — Разрешите идти? — спросил Клебанов и, получив разрешение полковника, вышел из кабинета. Гаспарян проводил капитана до порога, плотно закрыл дверь и только тогда ответил на ироническую реплику Раздольного: — У тебя, Сергей Владимирович, удивительная манера казаться хуже, чем ты есть на самом деле. — Например? — Я знаю тебя не первый год. Ты гуманный человек и отлично знаешь, что человек болен и… — Ваграм Анастасович, ты понимаешь, сколько человеческих жизней можно сберечь, зная задачу и цель этой переброски! А если он не один? Если одновременно с ним, но другим путем к нам уже заброшено или готовится заброска несколько подобных Благовых? Дорогeq \o (а;?) каждая минута. И я спрашиваю вас, товарищ майор медицинской службы, когда можно подвергнуть допросу задержанного нарушителя границы? — Завтра вы сможете приступить к допросу, — ответил Гаспарян. — Вас это устраивает? — Странный вопрос! — пожал плечами Раздольный и пошел к двери. — До завтра! — бросил он уже с порога и вышел из кабинета. Рано утром следующего дня был получен ответ из Петрозаводска и Ленинграда. Дежурный по отделу позвонил полковнику Раздольному на квартиру. Через несколько минут после звонка полковник приехал в управление и вскрыл пакет. Из Карело-Финской республики сообщили:«В городе Петрозаводске геологического института нет. В Карельском филиале Академии наук СССР (ул. Урицкого, 92) имеется отдел геологии, в функции которого посылка геологоразведывательных экспедиций не входит. Путем опроса сотрудников геологического отдела Академии наук установить личность геолога Благова Василия Васильевича не удалось. Указанный Благов никогда в отделе не работал и никому здесь не известен».Сообщение из Ленинграда было не менее значительным:
«Паспорт указанной вами серии и номера действительно выдан 5 о/м гор. Ленинграда 4 февраля 1952 года гражданину Благову Василию Васильевичу, русскому, 1913 года рождения. Гражданин Благов В. В. проживал в городе Ленинграде по адресу: ул. Белинского, д. № 5, кв. 74. 16 января прошлого года в 23 ч. 30 м. гражданин Благов был подобран на ул. Сенной и доставлен машиной скорой помощи в больницу, где, не приходя в сознание, скончался от инфаркта сердца. Никаких документов при покойном не оказалось. Личность Благова была установлена путем опознания, спустя несколько дней после его смерти. Вдова Благова, Вера Андреевна, и дочь Благова, Татьяна, проживают по указанному адресу. Последние двенадцать лет Благов В.В. работал старшим провизором гомеопатической аптеки. Фотография Благова при этом прилагается».Полковник открыл паспорт задержанного Благова на странице «Особые отметки». Здесь был оттиск круглой печати с места работы: «Петрозаводский геологический институт». Посмотрев на просвет страницу, Раздольный при помощи лупы обнаружил след прежней печати, смытой с профессиональной ловкостью. Оттиск круглой печати был тот же, что и на командировочном удостоверении. Фотография подлинного Благова искусно заменена фотоснимком «геолога». Тиснение малых печатей в верхнем и нижнем углах фотографии и мастичный оттиск большой гербовой печати не вызывали никаких сомнений. Полковник сделал запись в блокноте и, захватив протокол осмотра личных вещей задержанного, спустился ниже этажом, в комнату, где его дожидался капитан Клебанов. Здесь на большом столе лежали одежда, обувь «геолога» и содержимое рюкзака. — Что нового? — спросил Раздольный. — В каблуке левого сапога обнаружен шифр, но самое интересное — записка, написанная, видимо, наспех, на полях клочка западногерманской газеты. По частично уцелевшему заголовку можно предположить, что это «Куксхафенер рундшау». Записка написана карандашом по-русски: «Готовят для переброски… Кличка Лемо… Проходил ту же, что и я, подготовку… Опять проклятый счетчик… Шраммюллер… Кенгсбери — «Хиросима»…» — Ясно, что Благов проходил специальную подготовку где-то возле Куксхафена… — Основание? — Трудно предположить, чтобы выписывали газету из маленького провинциального городка земли Нижняя Саксония. Куксхафен расположен в устье Эльбы. Морской порт. По переписи пятидесятого года — сорок семь тысяч жителей. — Так, продолжайте. — Видимо, решив явиться с повинной, Благов в доказательство своей искренности хотел сообщить все, что известно ему об агентурной школе… — Или? — Не понимаю, товарищ полковник. — Или записка — страховой полис на случай провала. — Товарищ полковник, «Благов» работал в шахте, с ладоней его рук еще не сошли мозоли… Вряд ли его успели развратить до такой степени… — Подобная горячность делает вам честь, капитан, но снижает объективность оценки, — перебил его Раздольный. — К этому вопросу мы еще вернемся. В одежде и обуви задержанного больше ничего не обнаружено? — Нет, товарищ полковник. Постучав, в кабинет вошел дежурный: — Товарищ полковник, звонили из госпиталя — можно приступить к допросу Благова. — Хорошо. Позвоните в гараж. — Разрешите идти? — Идите. Дежурный вышел. — Где ваша запись? — спросил Раздольный. Клебанов передал запись полковнику. Вчитываясь в краткие выводы по вещественным доказательствам, полковник делал заметки у себя в блокноте. От первой встречи с задержанным зависит многое, а времени, так необходимого для подготовки к допросу, нет. Обстоятельства требуют решительных, оперативных действий. Клебанов попросил разрешения и, приоткрыв форточку, закурил. Сизые голуби, усевшись на наличнике окна, затеяли шумную возню. По-весеннему теплый ветер шевелил оконные занавески. За главным корпусом управления в эти несколько дней вырос новый, восьмой этаж жилого дома. Левее, теряясь в легкой туманной дымке, уходили все дальше и дальше стрелы башенных кранов. Взбираясь на холмы предгорий, город строился, год от года становился все богаче и краше, а здесь… Клебанов невольно окинул взглядом шпионское «хозяйство», лежащее на столе, и… день, показалось ему, утратил свою ясную, весеннюю свежесть. Когда они приехали в госпиталь, дежурный врач еще в вестибюле предупредил полковника: — Состояние больного тяжелое, главный врач просил вас уложиться в десять минут. Полковник помрачнел и, не ответив, направился к сестре-хозяйке. Белого халата большого размера не оказалось. Стянутый на спине тесемками, узкий, едва достигающий лопаток халат стеснял Раздольного и усиливал чувство раздражения. Полковник шел по длинному коридору госпиталя и ругал себя — раздражение было плохим советчиком в предстоящем допросе. Когда в сопровождении капитана Раздольный вошел в палату, внешне он был совершенно спокоен и полон решимости в течение предоставленных ему десяти минут получить все необходимые сведения. Высоко приподнятый на подушках, «Благов» полусидел. Его большие, натруженные руки с короткими пальцами лежали поверх одеяла. Взгляд блеклых, когда-то голубых глаз вяло скользнул по лицу полковника. — Покурить бы… — сказал он. С разрешения полковника Клебанов протянул ему коробку «Казбека». «Благов» взял папиросу, размял ее негнущимися пальцами, прикурил и, глубоко затянувшись, закрыл глаза. — Я хочу, чтобы вы твердо уяснили свое положение, — сказал полковник. — Вы задержаны на судне, приписанном к Гамбургскому порту. В списке команды и пассажиров судна ваша фамилия не значится. Командировочное удостоверение, выданное Петрозаводским геологическим институтом, фальшивое. Такого института в Петрозаводске нет. Что касается паспорта, то он настоящий, но для вас было бы лучше, если бы он был поддельный. Паспорт похищен у Благова шестнадцатого января прошлого года при обстоятельствах, усугубляющих тяжесть вашего положения. Вот фотография настоящего Благова Василия Васильевича. — Полковник показал фотографию. — Я предупреждаю вас: всякая попытка уклониться от правды и запутать следствие значительно ухудшит ваше и без того скверное положение. Вы будете отвечать? — Буду… — ответил он после паузы. — Ваше настоящее имя и фамилия? — Непринцев Ефим Захарович. Еще одно имя дали мне «благодетели»… Условное… — Кличку? — Пусть… кличка… Мне теперь все равно. Дали мне кличку «Пауль». Клебанов вел протокол допроса. — Год и место рождения? — Село Высокое, Николаевского района… Родился я в тысяча девятьсот восемнадцатом году… — Вам тридцать девять лет? — с недоверием переспросил полковник. — Тридцать девять лет, — горько повторил Непринцев. — Жизнь. Только за последние шесть месяцев, в школе господина Лер-мана, я немного пришел в себя. Восемь лет я не видел солнца. Когда шел в шахту, оно еще не всходило, когда возвращался, солнце уже село. Начал в Шарлеруа, и, кажется, нет ни одной шахты, где бы я не работал. Непринцев говорил торопливо, как человек, который боится, что ему не хватит времени сказать самое главное, сокровенное, о чем больше нельзя молчать. — В пятьдесят четвертом я заболел, и компания выгнала меня на улицу. Три года питался тем, что удавалось добыть на городской свалке или в мусорных ямах. Все эти годы на чужбине я только и думал о том, чтобы вернуться на родину. Я пошел на вербовку потому, что хотел вернуться домой. Знаю, теперь вы мне не поверите. Если бы меня не нашли в трюме, я пришел бы сам и рассказал всю правду… — Поверим мы или не поверим, — сказал полковник, — это будет зависеть от искренности ваших показаний. Какое и от кого вы получили задание? — Задание я получил от доктора Лермана. При помощи специального телевизионного устройства он наблюдал за каждым моим шагом, но я его никогда не видел, только слышал скрипучий голос. Даже фамилию шефа я узнал случайно — проговорился сопровождавший меня на аэродром Шраммюлер. Шефа я звал доктором, и это все, что мне о нем известно. Они не очень-то мне доверяли. — Непринцев горько усмехнулся. — Поэтому и задание я получил, как сказал шеф, «нарастающее». Капитану судна было поручено высадить меня на побережье Трегубова залива. Руководствуясь компасом и картой, я должен был выйти к высоте 412. Ее называют Черной Брамой. Раздольный и Клебанов обменялись быстрым взглядом — Черная Брама за короткий срок не впервые приковывает к себе внимание. — Здесь в полночь, — продолжал Непринцев, — я должен был по рации в течение пятнадцати минут, через равные интервалы времени, передавать мои позывные «Гермес», затем переходить на прием. Это было первое задание. Второе я должен был получить по рации. Выполнив второе задание, я получил бы третье. — В чем состояло второе и третье задания? — Не знаю. Однажды я спросил об этом, но мне ответили, что я, очевидно, соскучился по завтраку на помойке. Больше вопросов я не задавал… — К чему вас готовили? — Меня учили работе на рации, шифровке и дешифровке. Я проходил тайнопись, ориентировку на местности, фотосъемку удаленных объектов при помощи специальной камеры. Многими часами я просиживал в зарослях боярышника на одном из Фризских островов и фотографировал все проходящие корабли. Однажды меня отправили на рыбачьем траулере [168] в открытое море, и я, лежа в шлюпке, подвешенной на талях, под брезентом фотографировал учебные стрельбы военных кораблей. Но особое значение шеф придавал обучению работе со счетчиком Гейгера… — О счетчике расскажите подробнее, — сказал полковник. — Меня высаживали на острова через некоторое время после учебного обстрела их военными кораблями. Я должен был при помощи счетчика Гейгера определять остаточную радиацию. Этой тренировкой руководил американец, я узнал его фамилию в последний день… Сейчас я вспомню… Как подумаешь — не забыть бы — обязательно забудешь… Я записал… — Кенгсбери? — спросил Клебанов. Непринцев с удивлением посмотрел на капитана: — Совершенно верно, Кенгсбери. Мысленно я звал его «Хиросима». Я знал нескольких поляков; безработица и голод толкнули их на эту работу, они строили макеты на атомном полигоне. Много раз люди умирали у меня на глазах — война, лагеря смерти, шахты, бараки перемещенных лиц, но поляки… Они умирали от лучевой болезни… Всякий раз, когда я брал в руки этот чертов счетчик, страх, словно мороз, пронизывал меня до костей, я ничего не мог сообразить, и подлец «Хиросима» бил меня по чему ни попало… Однажды Кенгсбери ударил меня в пах… Непринцев откинулся на подушку и вытер выступившие на лбу капли пота. — Что представляет собой счетчик Гейгера, с которым вам приходилось работать? — Со слов Кенгсбери я запомнил немного: «счетчик с самостоятельным разрядом, несамогасящийся, снабженный регистрирующим прибором». Он похож на авиабомбу, только на месте хвостового оперения — кольцо для крепления якоря. Надо определить глубину лотом, установить длину якорного канатика и сбросить прибор в море. — Странно, вас обучали обращению со счетчиком и в то же время не дали с собой ни одного прибора! — Мне тоже это показалось странным, но на мой вопрос Кенгсбери грубо ответил: «Узнаешь в свое время!» — Где вас тренировали? — Последний месяц где-то на севере. Мне было сказано, что эти природные условия схожи с Кольским полуостровом. — Как вы попали на «Ганса Весселя»? — Самолетом перебросили в Киль. На «Весселя» привезли ночью. Команда была отпущена на берег. Во время перехода Шлихт не выпускал меня из своей каюты. Ящик со снаряжением находился в трюме на случай задержания судна в советских водах. Из каюты Шлихта был тайный трап в трюм. — На каком языке должны были шифровать задания? — На русском. Я плохо знаю немецкий язык. Шифр находится в каблуке левого сапога. Передача на частоте 12 400 килогерц. Позывные «Гермес»… В палату вошел главный врач, проверил пульс Неприниева и прекратил допрос. Клебанов собрал листы протокола, прочитав их вслух, дал на подпись полковнику, затем Непринцеву. Вернувшись в управление, Раздольный позвонил начальнику пограничного отряда полковнику Крамаренко: — Остап Максимович, привет! — поздоровался он. — Приезжай ко мне, появилось кое-что новое. Крамаренко застал полковника в кабинете. Раздольный положил перед ним папку с протоколом допроса Непринцева. — Прочитай, Остап Максимович. Крамаренко открыл папку и углубился в чтение. Раздольный звонил в отделы управления, отдавал краткие, как телеграфное письмо, приказания. Он был взволнован и готов к действию. Закончив чтение протокола, полковник захлопнул папку: — Опять Черная Брама!.. — Да, Остап Максимович, опять! Мне кажется, в свете допроса Непринцева следует восстановить в памяти дело «Нестера Сарматова», - сказал полковник Раздольный, открыл сейф и достал объемистую папку. Перелистывая подшивку, зачастую на память, изредка приводя выдержки из документов, полковник вспомнил все обстоятельства дела. Примерно месяц назад в порту Георгий был задержан некий Сарматов, пытавшийся выменять на золотые швейцарские часы шлюпку с подвесным мотором. Во время предварительного допроса Сарматов снял очки, сложил дужки и вроде как почесал ими висок. Жест с виду невинный, но не прошло и минуты, как Сарматов упал на пол, раза два дернулся и затих… В дужке очков оказалась ампула-шприц с ядом. Поздно ночью на специальном катере прибыл из Мурманска капитан Клебанов. В первую очередь надо было установить, откуда и как прибыл в порт Георгий так называемый Сарматов. Осматривая его бобриковое полупальто, капитан обнаружил за обшлагами рукавов темно-зеленый песок с редкими блестками. Клебанов тщательно собрал песок в пробирку, запечатал и быстроходным катером отправил свою находку в Мурманск на экспертизу. Спектральный анализ содержимого пробирки показал: «…представленный на исследование зеленоватый песок состоит из размельченных пород оливина и пироксена с незначительным содержанием меди и никеля…» Получив такое заключение, капитан немедленно выехал в Мурманск и обратился за консультацией к геологам. Он просил сообщить, в какой части Кольского полуострова имеются оливиновые и пироксеновые породы с таким же процентом содержания меди и никеля. В тот же день геологи ответили: «За губой Западная Криница есть высота 412 — Черная Брама, базальтовая скала, у подножия которой лет двадцать назад был обнаружен выход на поверхность зеленых оливиновых и пироксеновых пород. Содержание в этих породах меди и никеля оказалось ничтожным, эксплуатация нерентабельна». С большой оперативной группой капитан Клебанов направился к Черной Браме. Тщательное обследование местности увенчалось успехом — в глубоком распадке под снегом был найден парашют. Было ясно: Нестера Сарматова сбросили с парашютом в районе Черной Брамы. Отсюда он шел пешком на восток до Гудимгубы и на попутной шнеке [169] перебрался в порт Георгий. — Непринцев, вероятно, должен был выполнить то, что не удалось Сарматову, — сказал Раздольный. — Тот, кто послал Сарматова, знал о провале своего агента. Одна из местных газет поторопилась написать об этом деле. Помнишь, под сенсационным заголовком: «Скорпион жалит себя»… — Что ты намерен предпринять? — спросил Крамаренко. — Воспользоваться сведениями, полученными от Нейринцева, и попробовать связаться с его шефом. — Думаешь дать позывные отсюда? — Ни в коем случае. Посуди сам: согласно первой части задания, Непринцев должен был достигнуть высоты четыреста двенадцать и только тогда дать позывные. А если они, проверяя агента, будут пеленговать рацию? Провал! Нет, рисковать нельзя. Через час капитан Клебанов и старший лейтенант Аввакумов вылетают на вертолете к Черной Браме. Кстати, Остап Максимович, ты хорошо знаешь эти места: что за странное название — Черная Брама? – «Брама» по-поморски «баржа». Эта скала действительно похожа на поднятый нос баржи. Черная, отшлифованная ветром, она резко выделяется на фоне покрытых снегом сопок и тундры. Название меткое. У нас одну сопку пограничники назвали «Буханка», и знаешь, привыкли, теперь эту сопку никто иначе не называет. — Стало быть, Остап Максимович, и ты считаешь, что выстрел в яблочко? — спросил Раздольный. — Все правильно, я поступил бы также, но чутье меня редко обманывает… Вальтер Шлихт-прожженная бестия, и, хотя радиостанция на «Гансе Весселе» опечатана, разумеется, у него есть другая рация, спрятанная где-нибудь в обшивке судна. Наконец, он может воспользоваться услугами городского телеграфа и дать шефу условную, совершенно невинную с виду телеграмму. — Все необходимые меры приняты. Никто из команды «Весселя» телеграмм не отправлял, и это обстоятельство беспокоит меня больше всего… — Почему? — удивился Крамаренко. — Можно дать условную телеграмму, но легче всего — условно промолчать. Стукнув кулаком по столу, Крамаренко сказал: — Вот загадка! Что им нужно на Черной Браме?!. Подобный же вопрос неотвязно преследовал и Раздольного. Как бы мысля вслух, он искал решения этой загадки так же, как и Крамаренко: — Восточнее Черной Брамы, помнишь, Остап Максимович, проходила линия фронта. Три года и восемь месяцев гитлеровцы пытались прорваться к Кольскому заливу. Здесь были отборные части — шестая горно-егерская дивизия и альпийская «Эдельвейс». Мне кажется, что где-то здесь, в этих событиях, развернувшихся тринадцать лет назад, и кроется ключ к разгадке. Но появился счетчик Гейгера и спутал все карты. Зачем нужен этот прибор на совершенно пустынном побережье Трегубого? Зачем понадобилось длительное время тренировать Непринцева на фотосъемке военных кораблей и в то же время высаживать его на пустынном побережье? — Хорошо знаю эти места. Веришь, ночами не сплю, думаю: что им на побережье надо? От губы Западная Криница до Тимофеевки- безлюдная тундра, топи, озера и вараки, крутые скалистые холмы. Редко где встретишь березовый ерник. В этом краю и полярная лиса не мышкует. Лемминга — полярную мышь — встретить в диковинку. Пустынный край. — Не следует забывать, Остап Максимович, что «Сарматов» пытался приобрести шлюпку с подвесным мотором… Постучав, вошел капитан Клебанов и доложил: — Прибыл старший лейтенант Аввакумов. С аэродрома звонил капитан Желонкин — машина готова к вылету. Синоптики обещают погоду. — Вызовите ко мне из шифровального отдела лейтенанта Гурова! Повторив приказание, капитан вышел из кабинета. — Прошу тебя, Сергей Владимирович, если что прояснится, звони! — прощаясь, сказал Крамаренко. К тринадцати часам оперативная группа добралась на автомашине до аэродрома. Ровно в четырнадцать часов вертолет поднялся, набрал высоту и лег курсом на северо-запад. Через полтора часа, тщательно осмотрев все подходы к Черной Браме, летчик выбрал место и посадил машину. Глубокий снег лежал в падях, а там, где его не было, чернели скалы. В воздухе чувствовалось приближение весны. Жарко грело солнце. Свежий порывистый ветер дул со стороны залива. Дожидаясь начала передачи, капитан Клебанов волновался. Точно в двадцать четыре часа в эфире прозвучали первые позывные. Через равные интервалы времени радист передавал имя греческого бога коммерции. Пятнадцать минут спустя перешли на прием. Затаив дыхание все окружили рацию. Обманутый неподвижностью людей, любопытный лемминг бесстрашно подошел к ним и долго смотрел на контрольный глазок рации — зеленый мерцающий огонек. Затем, учуяв запах консервированного мяса, лемминг разыскал пустую банку, схватил ее и, пятясь задом, потащил добычу к себе в норку. Банка гремела и, упираясь кромкой, не входила в узкое отверстие норки. Зверек визжал от бессильной ярости. Клебанов поднял камень и с досадой швырнул его в лемминга. Рация работала на прием. Томительно долго тянулось время. Похолодало. В темном небе сверкали россыпи звезд. Где-то на северной стороне небосклона зеленоватый всполох прочертил горизонт и погас. Снова вспыхнул всполох и повис над головой. Словно чья-то хозяйская рука на звездной веревке развесила зеленоватые, еще мокрые от воды куски полотна. Где-то далеко протяжно и жалостно завыл волк. У консервной банки вновь появился лемминг. Он лапкой слегка притронулся к банке, и она упала набок, издав резкий металлический звук. Клебанов вздрогнул. Секундная стрелка неумолимо бежала по циферблату, заканчивая крут последней, пятнадцатой, минуты. Снова передача: «Гермес»… «Гермес»… «Гермес»… и снова прием. После шестой передачи позывных и безрезультатного ожидания на приеме рацию выключили. По радиостанции вертолета Клебанов отправил в Мурманск условное донесение. Спустя полчаса — это значило, что полковник не спал — они получили ответ. Утром следуюшего дня полковник Раздольный еще раз допрашивал Непринцева. Подтвердив свои первоначальные показания, Непринцев сообщил несколько интересных подробностей относительно Института лекарственных трав под Куксхафеном. Рассказал о своей встрече с неизвестным под кличкой «Лемо». В ночь на восемнадцатое Раздольный получил второе условное донесение от Клебанова. Утром девятнадцатого последовало донесение третье — на позывные ответа не было.
СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Пятые сутки сторожевой корабль находился в дозоре. Северо-восточный ветер крепчал. Серые, провисающие космами тучи мчались низко над кораблем, казалось, задевая за топ мачты. Когда анемометр показал скорость ветра пятнадцать метров, командир принял решение укрыться в бухте. Мыс Святой Рог остался по левому борту «Вьюги». У входа в залив Тихий вахтенный офицер доложил: — Вижу цель справа сто двадцать, дистанция пятьдесят пять кабельтовых! По сведениям, которыми располагал штурман, в этом районе Баренцева моря сейчас рыболовецких судов не могло быть. На запрос «Вьюги» неизвестное судно не отвечало. Сторожевой корабль развернулся, вышел в открытое море и лег курсом триста двадцать пять. …Со времени памятного разговора в кубрике боцман не забывал комендора Нагорного. Если у других матросов корабля было достаточно личного времени и хватало досуга на то, чтобы написать письмо или прочесть книгу, то у Нагорного не оставалось ни одной свободной минуты. Ясачный въелся в комендора, словно ржавчина в якорный клюз [170]. Боцман считал, что труд, требующий непрерывного напряжения и полной отдачи сил, вытеснит из головы Нагорного тоскливое раздумье о том, куда из-под ног уходи г. палуба корабля. За камбузом, в компании двух, так же как и он, страдающих от морской болезни матросов Нагорный занимался оплеткой мягкого кранца [171]. Здесь, в кормовой части корабля, в теплом и хорошо освещенном коридоре, качка чувствовалась меньше, чем на полубаке. Протянув через петли десяток плетей пенькового троса, Андрей с увлечением занимался этим хитрым делом. Руки Андрея огрубели, на ладонях прочно обосновались тугие мозоли. Несколько лет назад он бывал в доме своего однокашника Димы Яблонского. Димина бабка преподавала в музыкальной школе. Рассматривая руки Андрея, она охала: «Обратите внимание- это же руки Паганини!» — вспомнил Нагорный и улыбнулся. — Чего ты? — принимая улыбку Нагорного на свой счет, спросил Тулупов, маленький, пухлый, словно отекший от сна, румяный матрос. На каждом корабле всегда есть матрос, ставший объектом всевозможных, подчас недобрых шуток. На «Вьюге» таким матросом был Федя Тулупов. Причиной послужила не столько его комическая внешность, сколько обидчивый, самолюбивый характер. В первые же дни службы на корабле Тулупова назначили в наряд на камбуз, и кок, большой шутник, поручил Феде продувать макароны. Матросы, давясь от смеха, приходили в камбуз смотреть, как Федя Тулупов, еще больше разрумянившись с натуги, продувает макароны. Федю посылали с кастрюлей в машинное отделение получить два килограмма сухого пара. Баковые матросы заставляли Тулупова напильником точить лапы якоря, ютовые — мешком разгонять на корме туман. Замполит капитан-лейтенант Футоров за злые шутки над Тулуповым вызывал матросов к себе и строго отчитывал. Но Федя был незлопамятен и никогда никому не жаловался. — Ты чего смеешься? — не получив ответа, переспросил Федя. — Так, своим мыслям, — примиряюще сказал Нагорный. В это время, меняя курс, «Вьюга» легла на борт, и матросов швырнуло к двери. — На море бывает всякое! — с видом заправского моряка заметил Тулупов. — Мне вот один мичман рассказывал: есть такие моря — вода от соли тяжелее железа. Якорь бросят, а он не тонет. Второй бросят — тоже не тонет! Кругом акулы так и шныряют, а боцман кричит: «Чего, салаги, смотрите?! А ну, бросайтесь в море топить якоря!» — Ты же сказал, Федя, в море акулы, — напомнил, сдерживая улыбку, Нагорный. — Ничего не сделаешь — служба! — ответил Федя. — Боцман приказывает — выполняй! — Ну, ну, трави, Федя, через клюз помалу! — подмигнув. Андрею, сказал Лаушкин. Он был любителем морских словечек. Снова удар большой волны пришелся по борту, швырнув их к двери, ведущей на ют. Нагорный подумал о том, что наверху сейчас волны врываются на полубак до самого волнореза… Почему-то, думая о волне, в поисках сравнения Андрей представлял себе оркестровую раковину в городском парке. Эта раковина, где по выходным дням играл духовой оркестр, была удивительно похожа на большую взметнувшуюся волну. Размышления Нагорного прервал боцман. Ясачный неслышно подошел к ним, взял из рук Андрея кранец, придирчиво проверил оплетку, затем, окинув взглядом матросов, приказал: — Нагорный, впередсмотрящим! Заступить на вахту в первую смену! Одежда штормовая! Повторив приказание, Нагорный спустился в кубрик, натянул стеганые брюки, резиновые сапоги, теплую с капюшоном куртку и поднялся на полубак. Ветер гнал большую океанскую волну. Высоко вздымаясь и оскалив зубы пенистого гребня, волна ударялась о нос корабля и в еще не утраченном порыве разбивалась о волнорез, обдавая пушку и надстройки полубака брызгами, стынувшими на лету. Держась за штормовой леер, Нагорный всматривался в горизонт, то открывающийся, то ограниченный гребнем волны. Каждый новый пенистый вал с грохотом и свистом обрушивался на полубак, откатывался назад, стекал через шпигаты и вновь с еще большей яростью бросался на корабль. По колени в воде, обледенев на ветру, Нагорный нес вахту. Его ресницы и брови заиндевели. Ветер, насыщенный жесткими крупинками снега, больно бил в лицо. В мгновение, когда над форштевнем вздымалась новая волна, он инстинктивно закрывал глаза, и удар волны вызывал зримое ощущение яркой вспышки. После очередного захватившего дыхание удара он открыл глаза и увидел среди мятущихся волн и косматых облаков мелькнувший красный огонек. «Почудилось», — подумал Нагорный, но огонек вспыхнул, и новый вал ледяной воды обрушился на него и увлек за собой. Андрей покатился по палубе, перелетел через волнорез, больно ударился о пушку. Вскочив, он вцепился руками в гриб вентиляционной шахты и, уже движимый одним чувством долга, крикнул: — Слева пять вижу красный огонь!.. В этот день дрифтерный сейнер [172] «Вайгач», приписанный к моторно-рыболовецкой станции порта Георгий, вышел в море на разведку рыбы. В четырнадцать часов радист поднялся в ходовую рубку и передал капитану штормовое предостережение:«…Через пять-шесть часов в семьдесят четвертом районе ожидается усиление северо-западного ветра до шести-семи баллов».Капитан рыболовецкого судна Михаил Григорьевич Вергун был маленький, щупленький человек. Самым примечательным в его внешности были глаза. На темном, сморщенном, задубенелом от морского ветра лице они были ярко-голубые, по-детски чистые. Вергун прочел радиограмму, пошел в штурманскую рубку. Взглянув на карту, он ткнул пальцем в район Гончаковки и сказал штурману: — Переждем. Определяйся, Кузьмич. Александр Кузьмич Плицин, молодой моряк, только в прошлом году окончивший Мурманское мореходное училище, уже научился понимать немногословную речь своего капитана. Штурман определил свое место на карте и проложил курс. «Вайгач» развернулся и пошел к заливу Западный Клюевский. Немного погодя в рубку вошел помощник. Он долго стоял, мялся и наконец решился: — Михаил Григорьевич, идешь в Гончаковку? — Знаешь — чего спрашиваешь? — проворчал Вергун. Его все больше начинало беспокоить море. Он выходил на мостик, пытливо всматривался в потемневшее небо. — Может, сойдем на берег… — начал Щелкунов. — Это еще зачем?! Вергун отлично знал, что в Гончаковке помощник пополнял свои запасы спирта. — Хлеба свежего возьмем, почерствел, команда ругается, — нашелся помощник. — На рейде встанем, — отрезал Вергун. Щелкунов повздыхал и спустился вниз. Это был высокий человек с круглыми опущенными плечами, впалой грудью и маленьким, но выдающимся вперед животиком. Прохор Степанович носил бородку клинышком и длинные, свисающие книзу усы. Его отличительной чертой был устоявшийся запах спирта, по которому можно было легко найти помощника в любой части судна. Характер у Прохора Степановича скверный, и если Вергун терпел его на сейнере, то только потому, что Щелкунов слыл большим мастером по засолу сельди и был бережливым хозяином: шкиперское имущество и рыболовную снасть берег пуще глаза. Было безветренно. С беспокойным криком над морем, словно предчувствуя шторм, носились чайки. Остров Клюев уже маячил на горизонте, когда подули первые сильные порывы ветра. Передвинув ручку машинного телеграфа на «самый полный», Вергун снял крышку переговорника: — Тима, прибавь. Механик Тима в этом плавании был за старшего. Старший механик выдавал замуж дочь и по этому случаю, получив отпуск, выехал к будущему зятю в Кандалакшу. Насвистывая, механик пошел к тахометру. Тима всегда свистел, когда в машинном отделении отсутствовал старший. Старший механик говорил, что у них — он сам был из Колы — свистунов загоняют в бутылку. Тахометр показывал тысячу пятьсот оборотов — предельное число оборотов для такого видавшего виды двигателя. Первый порыв шквала обрушился на «Вайгач», идущий лагом к волне, с такой силой, что моторист, пытаясь удержать равновесие, словно взяв старт на гаревой дорожке, рванулся вперед и сбил с ног механика. Тима упал и ударился затылком о кожух мотора. Когда моторист поднялся, сплевывая кровь и ощупывая разбитую десну, он увидел, что механик пострадал еще больше. С трудом подхватив его под мышки, моторист оттащил Тиму на рундук с ветошью. В это время в машинном отделении все то, что было плохо принайтовлено, сорвалось со своих мест и с грохотом носилось от одного борта к другому. Плеснув воды в лицо Тимы, моторист решил, что оказал первую помощь, и бросился к дизелю, издавшему несколько подозрительных чихающих звуков. «Вайгач» шел без груза. Судно сидело мелко, его высокие борта, подставленные ветру, имели большую парусность. Каждый порыв шквала клал сейнер на тридцать градусов. — Ну-кось! — сказал Вергун и, отодвинув рулевого, стал сам у штурвала. Огонек маячного знака Клюева был виден. Борясь со шквалом, «Вайгач» шел на створы залива, когда Вергун почувствовал, что судно не слушается руля. Сквозь рев и свист ветра он не сразу расслышал, что двигатель не работает. Еще не зная всего того, что случилось в машинном отделении, Вергун снял крышку переговорника и спокойно спросил: — Тима, что у тебя? Не услышав привычного ответа, Вергун передал штурвал рулевому и полез в машинное отделение. Здесь горела тусклая лампочка аварийного освещения. Вначале он никого не увидел, затем, с трудом передвигаясь по скользким плитам, добрался до рундука с ветошью, где лежал механик. На губах у Тимы выступила пена, он был без сознания. С еще большим трудом Вергун разыскал моториста, пытавшегося запустить двигатель. — Что с ним? — спросил Вергун о механике. Но в это время его швырнуло в сторону. Удержаться на ногах, тем более обутым в калоши, было невозможно. Вергун ударился о стрингер [173] и понял, что нечто подобное произошло и с Тимой. Генератор на судне был навесной, и при остановке двигателя освещение и питание рации переключалось на аварийное, от аккумулятора. С тревогой взглянув на аварийную лампочку, горевшую все слабее и слабее, Вергун быстро оценил обстановку. — Двигатель! — бросил он мотористу, быстро поднялся в штурманскую, отправил Плицина в машинное с аптечкой и приказал радисту: — Передавай:
«Вышел из строя двигатель. Прошу оказать помощь. Координаты…»— Аварийное питание село, рация не работает, — сказал радист. Пятый час дрейфовал «Вайгач» на юго-восток. Шторм усиливался. Все попытки завести двигатель оказались безуспешными. Возле бесполезной теперь рации сидел радист и в отчаянии грыз ногти. Штурман при свете свечи определял направление и скорость дрейфа. Вергун сам стоял у штурвала. Через равные промежутки времени помощник стрелял из сигнального пистолета. Красная ракета взлетала и в то же мгновение гасла на шквальном ветру. В ходовую рубку поднялся штурман Плицин. Он был бледен, и голос его плохо слушался. — Михаил Григорьевич, — сказал он капитану, — дрейфуем на камни Святого Рога. Три мили в час… До камней осталось семь миль… Поднявшись по трапу, из люка высунулся в ходовую рубку помощник и, размахивая сигнальным пистолетом, крикнул: — Михаил Григорьевич, пятьдесят ракет отпулял, ведь они по рублю семьдесят штука! — Вот скат! — выругался Вергун. — Иди стреляй! Щелкунов вздохнул и, уже сбавив тон, буркнул, спускаясь в люк: — Весь навигационный запас пропуляем, двадцать штук осталось. Вергун видел, как взлетали и гасли ракеты на ветру, как, озаряемая вспышками выстрелов, металась на носу смешная фигура Щелкунова.
 Прошло еще несколько минут, и помощник, снова высунувшись в люк, жалостно сказал:
— Нету больше ни одной ракеты, все пострелял…
— Бочку на ют! — приказал Вергун.
Держась за штормовой трос, помощник пробрался на ют. Матросы выкатили бочку со смолой, крепко принайтовали ее к левому борту, сбили верхнюю крышку и зажгли.
Пламя в черных клубах едкого дыма рвало ветром, прижимало к волне. В качающихся отблесках огня на лицах команды можно было ясно прочесть состояние тревоги. Трагическое положение сейнера ни для кого из них не было тайной. Опытные промысловики, они хорошо знали дурную славу Святого Рога и всю бесплодность попытки в случае аварии высадиться с шлюпки на камни в кипящих бурунах. Недаром поморы сложили поговорку об этих местах: «На камни РогаСвятого плыть — стало быть, живу не быть!»
На «Вайгаче» заметили сторожевой корабль только тогда, когда «Вьюга» обходила сейнер, чтобы подойти к нему с наветренной стороны.
Ослепленный лучом прожектора, сигнальщик сейнера просемафорил на «Вьюгу»:
Прошло еще несколько минут, и помощник, снова высунувшись в люк, жалостно сказал:
— Нету больше ни одной ракеты, все пострелял…
— Бочку на ют! — приказал Вергун.
Держась за штормовой трос, помощник пробрался на ют. Матросы выкатили бочку со смолой, крепко принайтовали ее к левому борту, сбили верхнюю крышку и зажгли.
Пламя в черных клубах едкого дыма рвало ветром, прижимало к волне. В качающихся отблесках огня на лицах команды можно было ясно прочесть состояние тревоги. Трагическое положение сейнера ни для кого из них не было тайной. Опытные промысловики, они хорошо знали дурную славу Святого Рога и всю бесплодность попытки в случае аварии высадиться с шлюпки на камни в кипящих бурунах. Недаром поморы сложили поговорку об этих местах: «На камни РогаСвятого плыть — стало быть, живу не быть!»
На «Вайгаче» заметили сторожевой корабль только тогда, когда «Вьюга» обходила сейнер, чтобы подойти к нему с наветренной стороны.
Ослепленный лучом прожектора, сигнальщик сейнера просемафорил на «Вьюгу»:
«Заглох двигатель. Механик ранен. Прошу помощи».Получив семафор, Поливанов задумался. И было над чем: приливо-отливное течение, порывистый штормовой ветер и изменчивая, большая волна не позволяли ближе, чем на кабельтов, подойти к сейнеру и, метнув бросательный конец, взять его на буксир. В то же время нельзя было медлить ни минуты: острые камни Святого Рога — в двух часах дрейфа. Спустить шлюпку и послать людей на помощь? Но, если даже удастся при такой волне спустить шлюпку, ее может разбить о борт сейнера. Шторм все усиливался. Ветер достиг скорости двадцати одного метра в секунду. То отрабатывая назад, то на самом малом вперед с трудом удавалось удерживать корабль на дистанции. Передав семафор, команда сейнера мужественно ждала ответа. Все они, от капитана до матроса, — отлично понимали, что оказание помощи связано с большим, смертельным риском. Вспыхнувший на корабле прожектор писал: «Внимание! Внимание! Внимание! Высылаем шлюпку. Обеспечьте высадку!» В шторм спустить шлюпку и удержать ее у трапа для посадки людей было невозможно. Поэтому старший механик Юколов, два моториста, фельдшер, боцман и шесть матросов заняли места в шлюпке, еще подвешенной на талях. «Вьюгу» раскачивало так, что они то оказывались над бортом корабля, то над самым гребнем волны. Чтобы не разбить шлюпку о корабль, надо было, точно рассчитав время, в одно мгновение опустить ее на волну, успеть отдать тали и оттолкнуться от борта. Спуском шлюпки на воду командовал сам капитан третьего ранга. При каждом крене корабля сидящих в шлюпке людей с ног до головы окатывало ледяной водой. Выждав мгновение после большой волны, когда период качки на несколько секунд был меньше, командир приказал: — Трави! Шлюпка оседлала гребень волны и, уже гонимая шквальным ветром, оказалась в десяти метрах от борта корабля. Напрягая все силы, матросы удерживали шлюпку на курсе. Гребцом на третьей банке шел комендор Нагорный. Упершись ногами в рыбину и загребая веслом, он напрягал силы до боли в суставах. Проваливаясь в межвалье, они погружались в тьму-волна закрывала от них корабль, и только, пробиваясь сквозь пенистый гребень, луч прожектора подсвечивал брызги, словно россыпи самоцветов. Высокий черный корпус сейнера вырос перед ними внезапно. — Та-ба-а-ань!!! — крикнул Ясачный. Упершись в вальки, отжимая их от себя, они с огромным трудом удерживали шлюпку на волне. Брошенный с сейнера штормтрап поймал Юколов, вцепился в ступеньку и в то же мгновение повис над морем. Сейнер накренило на противоположную сторону, и штормтрап с висящим на нем человеком швырнуло о борт. Ступенькою трапа рассекло Юколову бровь. Пользуясь каждый раз тем мгновением, когда сейнер накренялся в его сторону, инженер поднимался на несколько ступенек трапа и, подставив ногу, встречал новый удар по борту. В три приема ему удалось достигнуть палубы, его подхватили пол руки и подняли наверх. Оба моториста и фельдшер поднялись на сейнер с не меньшими трудностями. Штурман «Вайгача» записал в судовой журнал:
«21 час 30 мин. 39,0-35,6 северной долготы и 68°-12,0 восточной широты. Шторм 11 баллов. Судно не управляется, двигатель не работает. Продолжаем дрейфовать со скоростью трех узлов. До камней Святого Рога остается пять миль. Приняли на борт с пограничного корабля специалистов для оказания помощи».Пока механик и мотористы будут находиться на судне, нужно грести на шлюпке в полную силу. Страдая от тупой, ноющей боли во всем теле, Нагорный не испытывал никаких симптомов морской болезни. Хотелось только хоть на несколько минут положить весла и опустить руки. Ему казалось, что еще только одно усилие, еще только раз он занесет весло, и уже в последний раз вытянет на себя валёк, но… Наклоняясь вперед, он снова заносил весло и с новой силой вытягивал валёк. В то время как Варенов занимался Тимой, механик и мотористы уже спустились в машинное отделение. При свете ярких аккумуляторных фонарей, захваченных с корабля, Юколов осматривал дизель, внимательно выслушивал каждый узел, каждый агрегат. Когда-то механик плавал на «Касатке», где был точно такой же дизель марки «ЗД-6», и это облегчало его задачу. Поставив моториста на ручную помпу, он пробовал нагнетать плунжерную пару топливного насоса, но привычный слух, несмотря на все напряжение, не уловил характерного металлического щелчка в цилиндре. К насосам не поступало дизельного топлива. Юколов разобрал и тщательно исследовал подкачивающий насос, фильтр грубой очистки, затем и насос высокого давления. Вся система была в исправности. Стрелки его ручных часов показывали двадцать один час пятьдесят восемь минут. Юколов испытывал головокружение и лабость в ногах. Рассеченная бровь еще кровоточила и большая отечность закрыла один глаз.
 Матросы сейнера столпились у трапа. С надеждой и все возрастающим волнением они молча наблюдали за каждым движением механика.
С трудом удерживаясь за поручни дизеля, Юколов думал: «Почему же форсунки цилиндров не получают необходимого давления?»
Он еще раз осмотрел систему и снова ничего не обнаружил.
А шторм свирепствовал с прежней силой. Второй час матросы на шлюпке боролись с волной. Усилия людей уходили на то, чтобы удержать шлюпку на месте. Стоило только на минуту перестать грести — и борт становился к ветру, их захлестывало волной и несло прямо на сейнер.
Люди изнемогали, боцман это видел и ничем не мог им помочь. Напрягая последние усилия и стараясь не сорваться с ритма, не «выловить краба» или хуже — «щуку» [174], Нагорный в это время думал: «Если бы Света могла увидеть меня сейчас здесь, в этой шлюпке, она бы сказала:» Но вся сила его воображения не могла подсказать ему то, что сказала бы Света. Вот мама, наверное, спросила бы: «Андрюша, ты не забыл надеть теплую фуфайку?» — подумал он, улыбнулся и встретился взглядом с Ясачным.
Увидев улыбку на лице Нагорного, ярко освещенного в это время прожектором с «Вьюги», боцман крикнул:
— А ну, матросы, песню! — и запел сам.
Голос у него был сильный и красивый:
Матросы сейнера столпились у трапа. С надеждой и все возрастающим волнением они молча наблюдали за каждым движением механика.
С трудом удерживаясь за поручни дизеля, Юколов думал: «Почему же форсунки цилиндров не получают необходимого давления?»
Он еще раз осмотрел систему и снова ничего не обнаружил.
А шторм свирепствовал с прежней силой. Второй час матросы на шлюпке боролись с волной. Усилия людей уходили на то, чтобы удержать шлюпку на месте. Стоило только на минуту перестать грести — и борт становился к ветру, их захлестывало волной и несло прямо на сейнер.
Люди изнемогали, боцман это видел и ничем не мог им помочь. Напрягая последние усилия и стараясь не сорваться с ритма, не «выловить краба» или хуже — «щуку» [174], Нагорный в это время думал: «Если бы Света могла увидеть меня сейчас здесь, в этой шлюпке, она бы сказала:» Но вся сила его воображения не могла подсказать ему то, что сказала бы Света. Вот мама, наверное, спросила бы: «Андрюша, ты не забыл надеть теплую фуфайку?» — подумал он, улыбнулся и встретился взглядом с Ясачным.
Увидев улыбку на лице Нагорного, ярко освещенного в это время прожектором с «Вьюги», боцман крикнул:
— А ну, матросы, песню! — и запел сам.
Голос у него был сильный и красивый:
НОВЕНЬКИЙ ДОЛЛАР
Ранний час. В деловых кварталах Гамбурга тихо и безлюдно. К подъезду дома по набережной Внутреннего Альстера бесшумно подъехал темно-синий «Роллс» и вспугнул тишину низким, протяжным звуком клаксона. В ответ на сигнал тяжелая, обитая кованой медью дверь открылась, и к машине спустился человек без головного убора, в легком пальто, с внушительным портфелем в руке. Все увеличивая скорость, «Ролле» миновал Белльвердер-Аусшлаг и свернул на мост, пересекающий Эльбу. Высоко на стене одного из корпусов верфи бросалась в глаза надпись: «Снова, как в тридцать пятом, «Блом-Фосс» выпускает броневые пдиты для танков! Немцы, будьте бдительны!» Несколько пожарных частей и отряд полиции, работая шлангами и скребками, торопливо уничтожали этот призыв к здравому смыслу. Оставив позади громоздкие корпуса верфи, «Ролле» вырвался на асфальтированное шоссе Гамбург — Куксхафен. Когда-то авангавань Гамбурга, Куксхафен, славилась морскими купаньями, теперь это была база английского военно-морского флота. Пользуясь зеркалом, шофер украдкой разглядывал своего пассажира — правильные черты лица, гладкие седые волосы, очки в золотой оправе, тонкие губы маленького рта, застывшие в холодной иронической улыбке. Правая рука пассажира лежала на портфеле, кисть левой с алмазным перстнем на безымянном пальце была продета сквозь петлю поручня. Накануне, на пирсе Американо-Германской трансатлантической компании, шофер встречал этого пассажира. Большой и нарядный лайнер доставил его в Гамбург. Кто он, этот человек из-за океана, — преуспевающий коммерсант или удачливый дипломат? Встречная автоцистерна с прицепом приковала к себе внимание водителя «Роллса». Минуя Куксхафен, машина, не снижая скорости, мчалась по набережной. Слева простирались торфяные болота, справа — серые воды Гельголандской бухты и в предутренней дымке на горизонте — Фризские острова. Вскоре показалась высокая, унизанная остриями шипов кирпичная стена. «Ролле» остановился возле глухих ворот. Сверкающие золотом накладные буквы вывески доводили до сведения всех тех, кого это могло интересовать, что здесь помещается «Институт лекарственных трав». Человек с портфелем вышел из машины. Железная калитка беззвучно открылась. В конце узкой гравийной дорожки, усаженной по обеим сторонам подстриженными кустами терновника, виднелся красный кирпичный дом, построенный в духе тяжелого немецкого классицизма, мрачный и неприветливый. Приехавшего молча встретил атлетического сложения человек с апоплексической шеей. Он был одет в серый костюм полувоенного покроя, грудь его украшали ленточки офицерских орденов времен третьего рейха. — Шраммюллер! — представился он вошедшему, помог снять пальто и добавил: — Доктор Лерман ждет вас. Прошу! Сидя за столом, доктор Лерман казался крупным, представительным человеком, но стоило ему подняться с кресла, и непропорциональные туловищу короткие ноги делали его смешным. Лысый, отполированный, точно бильярдный шар, череп, маленькие стальные буравчики-глаза и подкрашенные пышные усы, скрывавшие тонкую линию рта, делали его лицо особенно неприятным. Получив сигнал о прибытии гостя — дважды вспыхнула лампочка у входа, — доктор открыл сейф, выдвинул ящик на букву «М», быстро пробежал пальцами по картотеке, достал нужную ему карточку и прочел;Фрэнк Мэрфи (род. 1892 г. в Литтл-Роке, штат Арканзас). С 1925 года Фрэнк Мэрфи возглавляет частное разведывательное бюро фирмы «Стандарт-ойл оф Нью-Джерси». В 1926 году был в Людвигсхафене на заводе «ИГ Фарбениндустри», где знакомился с методом Бергиуса (получение бензина из низкосортных углей). В результате доклада его группы было подписано известное вам соглашение. В настоящее время Мэрфи совмещает частные интересы «Стандарт-ойл» с государственными интересами военно-морской разведки. Кроме того, Мэрфи связан с авиационным концерном «Блени Л.Картин-компани» — снаряды дальнего действия «Титан».Вложив карточку в картотеку, Лерман запер сейф и шагнул навстречу гостю: — Если не ошибаюсь, Фрэнк Мэрфи! Гость вошел в кабинет. Поставив портфель на стол, он протянул руки к электрическому камину и, приветливо улыбаясь, сказал: — Чертовски хорошо, доктор, что мы с вами встретились! Наше знакомство состоялось двадцать с лишним лет назад, правда заочно, но на прочной деловой основе. Соглашение «Стандарт-ойл» и «ИГ Фарбениндустри» было самой значительной коммерческой операцией нашего времени. Я рад, доктор, что мы с вами представляли стороны этого соглашения. — Бокал рейнского? — предложил Лерман. — Предпочитаю что-нибудь крепче — утро сырое. Доктор подтолкнул столик-сервант к креслу, где сидел Мэрфи, и предложил выбрать напиток по вкусу. Мэрфи взял английское виски и налил две рюмки: — За нашу старую, проверенную временем дружбу! Лерман поднял рюмку. Долгое время беседа носила общий характер. Собеседники, как бы прощупывая друг друга, избегали вопросов, ради которых встретились. Затем Мэрфи спросил: — Приступим к делу? — Прошу вас! — любезно согласился доктор и, нажав кнопку под крышкой письменного стола, включил магнитофон. От вникания Лермана не ускользнуло движение доктора. Он внимательно осмотрел стол и, потянув на себя бронзовую статуэтку Гермеса, обнаружил микрофонный провод. — Вы не обидетесь, доктор, если мы будем разговаривать без магнитофона? — сказал он и, достав из кармана маленькие кусачки, перерезал провод. — Среди профессиональных борцов существует обычай — раз в год встречаться в Гамбурге при закрытых дверях для честной борьбы. Это называется, кажется, «гамбургским счетом». — Да, это честная, спортивная борьба, — подтвердил Лерман. — Нельзя сказать, доктор, что вы ведете честную игру. По этой попытке воспользоваться магнитофоном можно судить о «радушии» вашего гостеприимства! — не скрывая иронии, сказал Мэрфи. — Мы этому научились у вас, дорогой коллега! — парировал Лерман. — Недоверие к своему партнеру по игре стало печальной традицией. Вы, немцы, удивительно консервативны в своем ограниченном национализме. — Консерватизм — благородная эволюция традиций, — заметил Лерман. — Желчный англичанин Дизраэли толковал консерватизм как организованное лицемерие, — сказал Мэрфи, но, обратив внимание на колючий взгляд собеседника, добавил: — Не будем ссориться, доктор. Если говорить, то говорить по «гамбургскому счету». — Тогда, коллега, прошу вас выключить ваш магнитофон! — Лерман указал на большой желтый портфель Мэрфи, стоящий на столе. У господина Мэрфи была подкупающая по своей искренности улыбка. Потянув за кисточку молнии сбоку портфеля, он выключил магнитофон и, улыбаясь, пояснил: – «Миджет». Чертовски удобная штука! Работает от сухой батареи. Два микрофона в замках портфеля. В наш век раннего склероза — положительно незаменимое подспорье памяти! — Мы получили фирменный проспект «Миджет» из Чикаго, — жестко сказал Лерман. — Итак, перехожу к делу. Операция «Гоббс»… Кстати, почему «Гоббс»? — спросил Мэрфи. — Как вам, коллега, известно, перед нами поставлена сложная задача, но «цель оправдывает средства», - подчеркнул доктор. — Эта крылатая фраза однажды, лет триста назад была сказана Томасом Гобб-сом. Поэтому операция получила условное название «Гоббс». Мы действительно, как вы, очевидно, заметили, пользуемся всеми возможными средствами… — Эти средства не исключают возможности провала, — вставил Мэрфи. — Разумеется, — согласился Лерман. — Я желаю вам, коллега, удачи, но… В нашем деле случайность играет не последнюю роль. — Надо отдать справедливость, доктор, что операции «четыреста двенадцать» и «двести четырнадцать» были подготовлены с особой тщательностью, тем более становится непонятным провал. Вы проанализировали причины? — Сведения очень скудные. По операции «четыреста двенадцать» все шло отлично. Рут был сброшен в указанном квадрате. Приземлился благополучно. Точно в назначенное время мы получили радиограмму, вот дешифровка: «Первая половина задания выполнена». Через несколько дней молчания поступило следующее сообщение: «Дела идут хорошо. Рут». Потом снова двухнедельная пауза, и вот… статья в газете: «Скорпион жалит себя»… — Читал, — отозвался Мэрфи, словно речь шла о модном романе. — Часики подвели… Задетый иронией, Лерман погорячился: — Думаю, что не часики, а люди, которых, по существу, мы совершенно не знаем… — Вы не знаете? Ваше отличное учебное заведение… — Люди, прошедшие нашу школу, в случае провала выходят из игры. Элита вашей школы является к чекистам с повинной… — Не будем ссориться, доктор, — примиряюще сказал Мэрфи. — Все ясно: на втором барьере Рут сломал себе шею. А жокей номер два? — Наше отделение в Кельне радиограммы не получило. На условном языке это значит, что операция провалилась. Три дня подряд мы принимали позывные «Гермеса», но не ответили. — Понятно. Надо, доктор, торопиться. В моем портфеле несколько советских газет — они предупреждают об опасности плавания в районах Баренцева и Карского морей в связи с военно-морскими учениями. Не скрывая, они пишут: «с применением новых видов оружия». — Насколько я понимаю, помимо всего, вас интересует ракетное горючее? — спросил Лерман. — Не скрою, ракетное горючее, — ответил Мэрфи. «Конечно, Мэрфи представляет интересы «Стандарт-ойл». Но ракетное горючее интересует Раммхубера, — подумал Лерман. — Генерал Раммхубер по поручению бундесвера принимает американскую ракетную технику». Словно угадав мысли собеседника, Мэрфи добавил: — Думаю, что «Институт лекарственных трав» имеет не только платонический интерес к этому делу. — Почему, позвольте вас спросить? Мэрфи молча достал из бокового кармана сложенный лист «Франкфуртер нейе пресс», развернул и показал пальцем на жирный заголовок статьи, подчеркнутый красным карандашом: «Немецкие ученые работают над созданием ракет дальнего действия». – «На побережье Северного моря, юго-западнее Куксхафена, общество ракетной техники провело серию испытаний…» — громко прочел Лерман и с деланным равнодушием свернул газету: — Первые шаги… — Разумеется, понадобится некоторое время, но вы можете рассчитывать на нашу помощь. — Ваша помощь выглядит по меньшей мере парадоксально! — Лицо Лермана было спокойно, и только глаза выдавали обуревающее его чувство неприязни. — Вы сказали, доктор, парадоксально? — переспросил Мэрфи. — Когда-то, в Пеенемюнде, — пояснил Лерман, — после испытания ракеты фюрер пожал руку конструктору Брауну. Спустя несколько месяцев первые «ФАУ-2» пересекли Ла-Манш и обрушились на Лондон. Прошло всего двенадцать лет, и вот немецкий конструктор Варнер фон Браун — главный конструктор американского управления баллистических ракет. А мы, немцы, получаем новую технику, созданную немецким конструктором, в качестве «помощи» из-за океана. Это ли не парадокс, господин Мэрфи? Мэрфи не торопился с ответом. Он налил в бокал виски, разбавив на этот раз содовой, отхлебнул глоток и, рассматривая Лермана долгим оценивающим взглядом, сказал: — Наши пути в жизни скрещивались не раз. Я представлял себе вас, доктор Лерман, асом разведки, одним из лучших учеников Канариса. Теперь вижу, что ошибся. Вы добродетельная и сентиментальная Гретхен! Есть один бог на земле — мифический сын Зевса, его предок, — Мэрфи фамильярно щелкнул по носу бронзового Гермеса: — Этого бога зовут Бизнес! Соглашение «ИГ Фарбениндустри» и «Стандарт-ойл» было новыми скрижалями апостолов этого бога! Американские самолеты сбрасывали на фатерланд бомбы, изготовленные по немецким патентам. Заправленные американским горючим, немецкие подводные лодки топили в Атлантике корабли под звездными флагами. Нации приносили жертвы на алтарь бога-отца Бизнеса и сына его — Войны! Вилла на Берлинерштрассе в Куксхафене принадлежит вам, доктор Лерман? Это дар бога-отца Бизнеса за вашу праведную жизнь! Когда же вы, Лерман, сфальшивили? Тогда, когда оплакивали конструктора Брауна или когда получали свою долю тела и крови? — Последнее Мэрфи проиллюстрировал жестом, который на всех языках мира означает деньги. Приглаживая тонкими, холеными пальцами подбородок, Лерман с трудом выдавил подобие улыбки: — То, что вы говорите, Мэрфи, цинично! — Я этого не скрываю, доктор, я циник, веселый циник! И, если говорить правду, а мы с вами, помните, договорились играть по «гамбургскому счету», и вы, Лерман, циник! Да, да, циник, — повторил он. — Вы думаете, я не знаю, что мы оплачиваем снаряжение и переброску агентуры, которая занимается разведкой в первую очередь для вас! Мы получаем сведения из вторых рук, им грош цена, а платим вам большие деньги. Ну хорошо, переменим пластинку. Давайте «элиту» вашего института! — неожиданно закончил Мэрфи. Доктор Лерман включил прибор. Пока нагревался кинескоп, Мэрфи наполнил рюмку виски. На экране появился интерьер большой комнаты со шведской гимнастической стенкой. Мускулистый, пропорционально сложенный человек, подтягиваясь на руках, поднимался по стенке. — Лемо, спуститесь вниз и повернитесь к нам лицом! — распорядился доктор. Контрольная лампочка микрофона погасла. Щурясь от сильного света, на них смотрел с экрана тот, кого доктор назвал Лемо. Это был человек, казалось, лет тридцати, его лицо, бронзовое от загара, было мужественно и по-своему красиво — резко очерченные скулы, высокий лоб, вьющиеся темные волосы, светло-карие глаза, прямой нос, полные чувственные губы. Вновь вспыхнула контрольная лампочка микрофона. — Лемо, вы готовы к выполнению операции? — по-немецки спросил Мэрфи. — Да, я готов, — ответил Лемо. Звук его голоса, усиленный динамиком, прозвучал громче, чем следовало. — Вы знаете район операции? — В этом районе я знаю каждую сопку, каждую бухту… — Для решения второй, главной задачи операции самое ответственное-это вербовка. Вы уверены в этом человеке? — спросил Мэрфи. — Уверен, — твердо ответил Лемо. — На чем строится ваша уверенность? — Я знаю этого человека, как самого себя, — Лемо улыбнулся. — Но прошло много лет… — В этом краю, — перебил его Лемо, — человек остается тем, что он есть. Сильные люди не меняют привязанностей. Выключив микрофон, Мэрфи сказал: — Пустая крылатая фраза! Он сам изменил своим привязанностям. — Романтическая подкладка. Все русские в той или иной мере романтики! — заметил Лерман. — Изменив однажды, он изменит вновь. Кинескоп можете выключить. Экран погас, и яркая точка, сверкнув, упала, словно метеорит. — Вам понравился Лемо? — спросил доктор. — Как новенький доллар! Где вы его подобрали? — В лагере перемещенных лиц. Вас интересуют подробности? — Я хочу знать, за что мы платим деньги. — В некотором противоречии с ветхим заветом, этого Адама сотворили из ребра Евы… — Нельзя ли без ветхозаветных притч? — Вам знакомо имя Марты Плишек? — Впервые слышу. — Вы не читаете «Гамбургского листка» уголовной хроники. В порту за Мартой Плишек установилась репутация роковой женщины. Мы давно заинтересовались этим мальчиком и нацелили на него Марту. Женщина потребовала комфорта, и мальчик запустил руку в шкатулку с ценностями вдовы рейхскомиссара Рамке. Мы вытащили его из тюрьмы. Некоторое время мальчик упирался, но, узнав, что Марта работает у нас, согласился. Эта женщина может вить из него веревки. Он требует, чтобы деньги мы перевели на ее счет. — Хорошо, что он рассчитывает вернуться в Гамбург. — Мэрфи посмотрел на часы и вспомнил: — Да, надо из комплекта выбросить контрабанду. В этом тоже сказывается ваш консерватизм. Русские уже давно выпускают миллионы часов в год. — Я с вами согласен. Но что может заменить часы? — спросил Лерман. — Наличные деньги. Заметьте, не фальшивые, а самые настоящие советские деньги. Завтра вы отправите Лемо в Норвегию. Самолет уходит в девять тридцать. Остров Варде, город Нурвоген, отель «Фрам». Вот паспорт на имя Хугго Свэнсона. Пароль явки останется прежним.
КАПРОНОВАЯ СЕТЬ
Порт Георгий опоясывали крутые сопки. Гранитные валуны нависли над бухтой. Скалы, поросшие мхом и морошкой, летом казались зелеными, осенью — черными. Прямо против входа в бухту высоко поднималась лестница в полсотни ступеней, крутых и скользких. Лестница вела в стиснутое сопками ущелье, где тесными и неровными рядами прилепились дома поселка. Вообще-то дома здесь строились всюду, где только была хоть какая-нибудь к этому возможность, но, когда ставил сруб капитан «Вайгача», этой возможности уже не было. Вергун буквально вгрызался в скалу и «прилепил» свое ласточкино гнездо высоко на западном склоне сопки. В большой, просторной комнате дома Вергуна праздновали «отвальную». Утром «Вайгач» уходил в море. «Отвальная» — старинный обычай поморов; теперь он утратил всякий смысл. Прежде поморы ходили в суровое Баренцево море на утлой ёле с косым парусом, многие из них не возвращались назад, и «отвальная» была не только праздником промыслового мужества, но и своеобразным прощанием. Теперь они шли промышлять на отличном дизельном судне, устойчивом, не боящемся ни шквальных ветров, ни большой океанской волны. Праздник в доме Вергуна объяснялся не только тем, что утром они уходили в море. Для моряка море — что для крестьянина пашня, дело привычное. Сейнер «Вайгач», как передовое рыболовецкое судно, получил первым капроновый дрифтерный порядок [175]. Несколько сетей лежали здесь же, на отдельном столике в красном углу комнаты. Гости сидели за большим длинным столом, крытым узорчатой скатертью. Хозяин дома Михаил Григорьевич и Глафира сидели рядом. Она — статная, выше его на голову, красивая, властная, он — маленький, с темным изъеденным морщинами лицом и молодыми ясными глазами. Глафира была койдинская. Есть такое знаменитое село подле горла Белого моря, у самого залива Мезенского. Много известных моряков и зверобоев дала Койда. Полярный капитан Воронин считал койдян своими учителями в науках морского ледового плавания. Сама Глафира неохотно рассказывала о своем прошлом. Так, если жёнки одни вечеряют да меж ними пойдут доверительные разговоры, скажет о себе: «Мамки своей я не помню. С отцом мы жили, он кормщиком был. В артели ему, видишь, обида вышла, так он один промышлял. Я подросла, ему яруса [176] наживляла, сети чинила. В восточную Лицу треску промышлять с ним ходила. На Канин за навагой хаживали. Потом, мне уже шестнадцать было, по одинке много не заработаешь, сговорился отец с людьми, пошли на Моржовец зверя бить. Припай оторвался, место было приглубое, его льдиной по голове колонуло, он и пошел ко дну. Искали — не нашли. Жила я одна. Какая жизнь безоте-ческа? Забила избу досками и запоходила в Архангельск, на верфь поступила. Ничего. Работала. Думала, так и не будет мне уносного ветра, ан сколько ладья по морю ни рыщет, а на якоре ей быть. Пришел и мой… дролечка…» На этом воспоминания Глафиры всегда кончались. Как бы она жёнкам ни доверяла, сокровенного не рассказывала. Было это в июне сорок первого года. Приехал в Архангельск из порта Георгия моторист Александр Кондаков. Имел он задание от артели получить на верфи мотобот и перегнать его своим ходом в порт Георгий. Кондаков парень молодой, красивый. Получил Александр мотобот, окрестил его «Звездочкой» и увез Глафиру, потому:«БЕНОНИ»
Остап Максимович проснулся рано. Поставив на электроплитку чайник, он открыл форточку и, по привычке, приобретенной еще в военном училище, взялся за гантели. Как бы он ни устал, когда бы он ни лег накануне, десять минут зарядки каждое утро стали для него такой же привычкой, потребностью утреннего туалета, как душ или бритье. Брился он каждый день, сначала потому, что этой элементарной опрятности требовало от «его высокое звание офицера, а теперь еще и потому, что борода стала седой и хотелось скрыть это не только от окружающих, но и от самого себя. Бреясь, он рассматривал свое лицо в зеркале. Когда-то у Остапа Максимовича были красивые лучистые глаза, теперь они поблекли и как-то выцвели, время вытравило их молодой блеск. Волосы, хотя и не утратили своего былого цвета, поредели. — Да, — вздохнул Остап Максимович, — время идет. Стоя у окна, он любовался открывающейся перед ним панорамой. Этот город и порт росли вместе с ним, на его глазах. В форточку врывались звуки тифонов, гудки буксиров, сирены катеров, пыхтение паровых кранов, урчание лебедок. Ему был виден весь порт — сотни судов тралового флота, сейнеров, рефрижераторов, больших, с белыми надстройками нарядных пассажирских теплоходов, сухогрузных «коммерсантов», «иностранцев» — датчан, норвежцев и шведов, — они грузились апатитом. Большая туча, гонимая северо-восточным ветром, быстро закрывала часть горизонта. Ветер нес мелкий, жесткий, точно пшенная крупа, снег. Южнее небо было светлым, и яркая радуга вставала где-то там, за сопками противоположного берега, и уходила ввысь, в синеву. По улице строем с песней шла в столовую рота курсантов-пограничников. Остап Максимович направился в кухню и налил себе стакан крепкого чая. В отряд полковник пришел, как всегда, один из первых. Еще внизу, возле витрины с призовыми кубками, дежурный по части отдал рапорт. На площадке третьего этажа пограничник, стоящий на посту возле знамени, приветствовал его «на караул». Остап Максимович вошел в кабинет и вызвал к себе оперативного дежурного. Доложив об изменениях оперативной обстановки за ночь, дежурный добавил: — Только что, товарищ полковник, поступило донесение. Полковник взял радиограмму и, отпустив дежурного, прочел:«В квадрате 35–41 обнаружено норвежское судно «Хьекке Уле», идущее курсом зюйд-ост. Параллельным курсом в четырех кабельтовых мористее мотобот без флага «Бенони».Остап Максимович встал, вышел из-за стола, снял с полки норвежско-русский словарь и нашел нужное слово: «Хьекке» — красавец. «Уле» — имя собственное. Стало быть, «Красавец Уле». Что касается «Бенони», то, если не изменяет память, это герой одноименного романа Кнута Гамсуна. Потянув за шнурок, полковник открыл висящую на стене позади кресла большую карту Кольского полуострова, подставил стремянку и поднялся на ступеньку. День начался как обычно, размеренно и спокойно, но спокойствие уже покинуло полковника. Он спустился со стремянки, достал из сейфа несколько бумаг, положил их в папку вместе с последним донесением, снял трубку телефона и набрал номер. Абонент не отвечал. Полковник перелистал записную книжку и позвонил снова. На этот раз ему ответили. — Сергей Владимирович, срочный вопрос… — Кто это? — спросил, видимо, поднятый со сна Раздольный. — Крамаренко. — А, Остап Максимович! — Голос звучал мягче. — Носит тебя в такую рань! Я только час назад вернулся из области… — После небольшой паузы он добавил: — Через пятнадцать минут буду в управлении… Приезжай, — закончил он и повесил трубку. Почти одновременно оба они подъехали к управлению. Снимая шинель у себя в кабинете, Раздольный спросил: — Что стряслось? — Несколько фактов, Сергей Владимирович, заставляют насторожиться. Две недели назад сторожевой корабль «Гроза» в районе Варангер-фьорда, северо-западнее островов Айновских, задержал норвежский мотобот «Сэль». По-норвежски «Сэль», кажется, «морской зверь». На этой ветхой посудине, построенной в двенадцатом году, водоизмещением в двадцать восемь тонн, стоял мотор с запальным шаром типа «Болиндер». Хозяин, Альдор Иенсен, старый рыбак, гол как сокол, ему тельняшку купить не на что. В море он ходит с двумя сыновьями, такими же тощими и нищими, как их отец. Только за мое время, помню, мы их уже задерживали в наших водах два раза, и в обоих случаях рыбонадзор отпускал их. Ловили они треску ярусом и на поддев, большого ущерба нашему хозяйству не наносили, народ бедный. Словом, поплачет старик в жилетку Семукову, он его и отпускает даже без штрафа. На этот раз Иенсен ловил сетью морского рачка. У нас этого рачка называют чилимом, если не ошибаюсь, латинское название «штримс». Мотобот Иенсена на буксире привели в порт, оформили акт о задержании. Уполномоченный рыбонадзора Семуков спрашивает старика через переводчика, что он собирался делать с этим чилимом. Насколько ему, Семукову, известно, на норвежском рынке этот рачок не котируется. Иенсен рассказал, что у них на острове Варде, в районе Хассельнесет-фьорда, американский офицер купил дачу. Старик даже сказал «борг» — замок. Новый владелец замка платит за чилим в два раза дороже, чем в лучшие дни на рынках Нурвогена стоит семга. Семуков не поверил. Все-таки семга — царь-рыба. Какой дурак станет платить за пивную закуску такие бешеные деньги? Разве что сказочно богатый человек. Иенсен сказал, что новый владелец замка — «Ротшильд»! Семуков не поверил. Иенсен распалился: «Если бы вы посмотрели, — говорит он, — мотобот «Бенони», принадлежащий этому господину, вы бы поняли, что это за человек! На всем побережье нет мотобота такой красоты и такого хода!» Этот разговор происходил в присутствии командира СКР «Гроза» капитана третьего ранга Дубасова. Рапорт, переданный мне из Коргаевой Салмы, я взял на заметку. Как тебе известно, Сергей Владимирович, за последнее время вблизи нашей границы поселилось немало «демобилизованных» американских офицеров. Им очень полюбились северные фьорды Норвегии и суровая природа Заполярья. Раздольный молча делал пометки. — Факт второй, — продолжал Крамаренко. — Ты знаешь, Сергей Владимирович, о моих дружеских отношениях с капитаном дальнего плавания Чугуновым. Шесть дней назад Чугунов вернулся из заграничного плавания, он ходил за окуневым филе на Варде. В перерыве между двумя партиями в шахматы, за стаканом чая… — Наверное, с ромом? — засмеялся Раздольный. — Какой же капитан дальнего плавания не привезет ямайского зелья! — в тон ему ответил Крамаренко. — Так вот. Чугунов рассказал интересную историю. Приняли они груз в порту Нурвоген. Взяли на борт лоцмана. Получили «добро» и отдали концы. Прошли западный огонь, отмели Свине, скалы Тофтешитана, и вот из маленького фьорда, кабельтовых пять южнее мыса Хассельнесет, выходит мотобот «Бенони». Если судить по обводам, говорит он, рангоуту и надстройкам, суденышко мореходное. На грот-мачте «Бенони» радиолокационные антенны. Окрашен он шаровой краской, словно сторожевой катер. «Бенони» обходит наш рефрижератор с правого борта, идет по левому. На верхней палубе какой-то тип рассматривает наше судно в бинокль, другой из иллюминатора щелкает фотокамерой. Норвежский лоцман оказался человеком с юмором, видит, что Чугунов заинтересовался мотоботом, и говорит: «Построена эта посудина в Западной Германии, приписана к норвежскому порту, а хозяин у нее американец. Не поймешь, что это такое: сто пятьдесят тонн водоизмещением, оснастка промысловая, каюты — как на прогулочной яхте и ход двадцать узлов». — «С биноклем — это хозяин?» — спрашивает Чугунов. Лоцман охотно отвечает: «Бывший офицер американского флота, получил наследство,демобилизовался, купил в Хассельнесете дачу, построил во фьорде дебаркадер и привел из Киля мотобот». — Очень любопытно, — заметил Раздольный. — И, наконец, третий факт. Сегодня получено в восемь часов утра, прошу ознакомиться, — сказал Крамаренко, положив на стол донесение. Полковник внимательно прочел радиограмму, сделал пометки в блокноте и спросил: — Твои выводы? — Прежде чем перейти к выводам, я хочу обратить твое внимание еще на одно обстоятельство. Норвежский лоцман сказал Чугунову, что «Бенони» приведен из Киля. Если ты помнишь, «Ганс Вессель» брал груз по фрахту в Киле. Нет ли взаимосвязи между «Бенони» и Непринцевым, которого они рассчитывали высадить на побережье залива? — Предположим… — Если такая связь действительно есть, то «Бенони» пойдет в залив Трегубый. — Зачем? — Для того, чтобы в третий раз попытаться осуществить высадку агента. Быть может, того самого Лемо, что упоминал Непринцев. — Что ты предлагаешь? — спросил Раздольный. — В случае, если «Бенони» войдет в кашу двенадцатимильную полосу, задержать его и попытаться выяснить, что ему там надо. Раздольный снял трубку телефона и, позвонив в буфет, заказал завтрак на двоих. — Я уже завтракал, — заметил Крамаренко. — А меня ты вытащил из дому натощак. Выпьешь, Остап Максимович, стаканчик чаю еще, — сказал Раздольный и, потянувшись, прошелся по кабинету. Высокий, грузный, он долго шагал из конца в конец кабинета. Вошла буфетчица и поставила на стол поднос с чаем и бутербродами. — Прошу! — пригласил Раздольный полковника и так же молча, присев на ручку кресла, выпил стакан чая. — Не отрицаю, факты интересные и выводы правильные. Этой осенью в районе от Новой Земли до Карского моря намечаются военные учения Северного флота с применением новых видов оружия и типов судов. Мы это ни от кого не скрываем. С целью обеспечения безопасности плавания мы широко объявили об этом во всех газетах. Думаю, что повышенным интересом к учениям и объясняется то «оживление», которое мы все замечаем на границе. — Раздольный взял второй стакан чая. — Только предложение твое, Остап Максимович, считаю неверным. — Покончив с бутербродами и чаем, он спохватился: — Кажется, я прихватил и твой стакан чая? — Я уже завтракал, — успокоил его Крамаренко. — Посуди сам, Остап Максимович, мы задерживаем «Бенони» в заливе Трегубом. Основание? — Заход в наши территориальные воды… — Этот господин «Ротшильд», как его назвал Иенсен, скажет: «Простите, сбился с курса». Мы в лучшем случае получим с него штраф, и он покажет нам корму. Рыбу он в наших водах не ловил, судовая роль у него в полном порядке, в этом можешь не сомневаться. Ничего предосудительного на мотоботе не замечено… — Но надо же убедительно ответить на вопрос, что делал он в наших водах. — «Ничего. Я богатый человек, в прошлом моряк и решил прогуляться на своем мотоботе в свежую погоду…» — На море шторм, а не свежая погода. Восемь баллов! — «Люблю сильные ощущения». — Ну, знаете… — Знаю, Остап Максимович, еще как знаю! Иной раз уверен — жулик! А не пойман — не вор. Еще перед ним извинишься — простите, мол, обознался. Если мы задержим этого «Бенони», сами же попадем в глупое положение. Что им нужно в заливе? Ответить на этот вопрос, мне кажется, можно только одним путем… — Каким? — спросил Крамаренко. — Есть у меня одно предположение, но… Надо доложить. — И, сняв трубку телефона, он набрал номер. — Товарищ генерал? Докладывает полковник Раздольный. Прошу принять меня и полковника Крамаренко.
ЭТО, ТОВАРИЩИ, СЛУЖБА!
На побережье Баренцева моря весь год дуют ветры муссонного характера, в зимнее время — с суши, в летнее — с моря. Весною ветры изменчивы, и, как говорят поморы, юго-восточный обедник часто сменяется полуношником — северо-восточным ветром. На этот раз с удивительным для весны постоянством третьи сутки дул свирепый северо-восточный ветер. Сторожевой корабль «Вьюга», пережидая шторм, зашел в губу Железную и отдал якорь. Команда корабля, утомленная трехдневным, вымотавшим силы штормом, с облегчением вздохнула. Поливанов спустился в каюту — последние сутки он не сходил с мостика. Сняв обледеневший реглан, Поливанов повесил его возле грелки, с трудом стянул валенки и, не раздеваясь, лег поверх одеяла. Из рамки, висящей на переборке каюты, смотрела Наталия, жена. Виделись они не часто. Наталия в Мурманском мореходном училище преподавала английский язык. Во время каникул жена приезжала к нему, в Коргаеву Салму, затем они вместе уезжали на юг. В прошлом году «Вьюга» стояла в ремонтном доке, и Поливанов часто бывал дома. Очень редко, когда корабль приходил на базу, ему удавалось с почтовым катером наведаться домой. Знакомым прищуренным взглядом на него смотрела жена — Наталия была близорука, а сфотографировалась без очков — смотрела загадочно, немного насмешливо и улыбалась. Такой он увидел ее впервые двадцать лет назад. «Скоро день нашей свадьбы, — подумал Поливанов. — Удастся в этот день побывать дома или нет?» Девятов постучал в дверь каюты и, не получив ответа, осторожно открыл дверь. Командир спал, но под взглядом помощника открыл глаза, поднялся с койки и, уже надевая валенки, спросил: — Что там? Девятов протянул командиру текст радиограммы:«Тимофеевке Примите на борт капитана Клебанова и лейтенанта Аввакумова. Займите позицию районе мыса Крутого. Исполнение доложите».Большой личный опыт и знание обстановки на границе подсказывали командиру, что им предстоит большое и серьезное испытание. Возникло знакомое чувство внутренней мобилизации, той настороженной собранности, которая обычно приходит к человеку в ожидании неизбежной и неизвестной опасности. Разворот на шквальном ветру занял все внимание командира. Когда корабль лег на курс, Поливанов еще раз перечитал радиограмму. Подумав, он вызвал командиров боевых частей и дал указание привести материальную часть корабля в состояние боевой готовности. Еще шлюпку не установили на кильблок, еще не подняли забортного трапа, а «Вьюга» уже приняла на борт Клебанова и Аввакумова и «а полных оборотах шла к мысу Крутому. Капитан Клебанов вручил командиру корабля запечатанный сургучом пакет. Ознакомившись с содержанием пакета, Поливанов вызвал замполита и боцмана. О чем Поливанов и замполит говорили с боцманом, для всех было тайной. Из каюты командира боцман спустился в матросский кубрик. Приглядываясь к матросам, он молча бродил по всему кораблю и вышел на полубак. Здесь возле пушки он увидел Нагорного. Испытующе рассматривая комендора, Ясачный постоял возле него и, видимо решив какой-то сложный, мучивший его вопрос, сказал: — Нагорный, пойдите в кубрик, снимите всю верхнюю одежду и обувь… У вас сухие носки есть? — Есть, товарищ мичман… — удивляясь, ответил Нагорный. — Переоденьте носки. Баталер выдаст вам новое штормовое обмундирование. Понятно? — Ясно, товарищ мичман! — все больше удивляясь, ответил Нагорный. — Исполняйте! Нагорный спрятал ветошь, затянул чехол и бегом, как это положено по уставу, бросился выполнять приказание. Прислушиваясь к тому, как дробно прокатились по трапам шаги комендора, боцман еще некоторое время постоял возле пушки, подумал и не торопясь начал спускаться к замполиту. В ожидании боцмана замполит, уже в который раз, с карандашом в руке изучал карту побережья залива. Штурманские часы громко отсчитывали время. Сквозь узкую щель — Футоров приоткрыл крышку иллюминатора — он видел то гребень убегающей волны, то свинцово-серый омут моря. Постучав, в каюту вошел Ясачный. Корабль накренило. Карандаш перекатился через весь стол и остановился у буртика. Под стеклом, рядом с графиком боевого расписания, лежали фотографии всех Футоровых — мал мала меньше, всех четырех мальчишек. Заметив потеплевший взгляд Ясачного (боцман питал слабость к ребятишкам), Футоров, как бы подчеркивая этим всю важность предстоящего разговора, закрыл фотоснимки блокнотом. Ясачный взглянул на часы — времени оставалось в обрез, — лицо его стало строгим и, пожалуй, торжественным. Положив на стол партийный билет, он сказал: — Прошу до времени сохранить. Футоров молча перелистал документ и запер его в несгораемый ящик стола. — Я должен, мичман, предупредить вас, — сказал Футоров. — Оперативная группа выполняет ответственное задание. За операцию отвечает капитан Клебанов. Вас, Петр Михайлович, привлекли еще и потому, что для успешного выполнения задачи нужен моряк, отлично знающий побережье. Наш долг — помочь чекистам. Ясно? — Ясно, товарищ капитан-лейтенант. Подхватив покатившийся в обратную сторону карандаш, замполит перешел к главному: — Кого вы наметили в осмотровую группу? — Старшину первой статьи Хабарнова и матроса Нагорного. — Нагорного? — удивился замполит. — Товарищ капитан-лейтенант… — Почему вы остановились на комендоре? — Я считал так: чем сложнее задачу ставит перед человеком жизнь, тем крепче становится характер. — Не улавливаю связи, — заметил Футоров и, поставив локти на стол, скрестил узловатые пальцы своих сильных, по-рабочему крепких рук. — Парень столкнется с такими трудностями, что… — Если я правильно понял, вы хотите взять с собой Нагорного, не посвящая его в задачу? — Понимаете, товарищ капитан-лейтенант, парень он прямой, честный, ему этот театр… — Как это — театр?! — обозлился Футоров и сжал руки так, что побелели фаланги пальцев. — Первая же случайность может погубить Нагорного и провалить задачу. Вы даже не подумали о человеке! Парень вам верит, стремится подражать во всем, даже в привычках… Вы заметили, как Нагорный в минуту раздумья сдвигает ладонью шапку на лоб? Точь-в-точь как это делаете вы. Для Нагорного вы тот идеальный образец моряка и человека, которому он готов следовать во всем и всегда, и вдруг… Нет, вы понимаете, к чему это может привести? — Признаться, я думал так: кранцы подкладывать парню не надо. Чем больше будет бортами стукаться, тем крепче станет. Кроме того, было у меня еще одно опасение. У Нагорного — что на душе, то и на лице, какой ветер — такая волна. Вернется с почты, погляжу на него — знаю, от кого письма получил: от друга, от матери или Светланы. — Вы думаете, что Нагорный может себя выдать? — спросил Футоров. — Боюсь… — А я не боюсь. Скрывать мысли, чувства и настроения от своих товарищей — зачем? Разве зазорно любить и быть любимым? А вы обратили внимание на то, как ведет себя Нагорный, когда около него появляется фельдшер? Болтанка такая, что слепая кишка становится зрячей. Команда в лежку, а Нагорному хуже всех. Фельдшер его спрашивает: «Как самочувствие?», а он: «Люблю, — говорит, — свежую погоду!» — и еще улыбается… — Так как же? — после паузы спросил Ясачный. — Берите Хабарнова н Нагорного, но предупреждаю: задачу проработать с ними до мельчайших деталей! Предусмотреть все. чтоб никаких случайностей. Понятно? — Ясно! — Командиру я доложу. У меня есть несколько соображений, — сказал Футоров и раскрыл блокнот. А в это время «любитель свежей погоды» уже снял с себя всю стпрую, пропитанную сыростью и морской солью одежду и в ожидании баталера забрался на койку. Закрыв глаза, Нагорный попытался представить себе, что его ожидает, но безуспешно. Тогда он накрылся с головой одеялом — испытанный способ, когда нужно в краткие часы между двумя вахтами отогреться после холодного ветра. Тепло ползло по ногам, охватывало все тело и располагало ко сиу. — Где Нагорный? — спросил баталер, спускаясь в кубрик. Матрос, занятый утюжкой воротничка, кивнул головой в сторону койки Нагорного. — На, жених, получай! — положив на рундук обмундирование, сказал старшина-сверхсрочник, исполнявший должность баталера. Нагорный сел, свесив босые ноги с койки, и с чувством обиды спросил: — Почему «жених»? — А я откуда знаю? — усмехнулся старшина и, уже поднимаясь по трапу, бросил: — Зайдешь в баталерку расписаться! Нагорный достал из рундука новые шерстяные носки, их связала мать. Это были те самые носки, что прислала она в посылке. Одеваясь, он думал над причиной «маскарада». Нагорный верил в доброе к себе отношение боцмана, и все же его охватывала мучительная тревога неизвестности. Вынув из рундука фотокарточку Светланы, он рассматривал ее долго, словно впервые. Девушка была сфотографирована в парке, ветер растрепал ее волосы, обтянул блузку. Полные губы были слегка приоткрыты, точно девушка говорила с ним. На обратной стороне он прочел, хотя и знал наизусть:
«Андрюша! Всегда, всегда будь таким, каким я тебя знаю!Услышав на трапе тяжелые шаги боцмана, Нагорный спрятал фотографию в боковой карман ватника — он просто не успел бы ее положить в рундук. Ясачный придирчиво осмотрел комендора, велел поставить ногу на банку, потискал ботинки и сказал: — Свободные. Теплые портянки есть? — Есть, — ответил Нагорный. — Наденьте. Через десять минут явитесь в каюту капитан-лейтенанта Футорова. Понятно? — Ясно, товарищ мичман. Боцман поднялся на верхнюю палубу. Тем временем матрос выгладил воротничок и принялся за письмо. И Нагорный вспомнил Лобазнова, его письмо и подумал: «Фома всегда был холоден, аккуратен и расчетлив, даже в дружбе…» Нагорный с выводами поторопился. В эти минуты, рискуя собственной жизнью, навстречу шквальному ветру и жесткому снегу, секущему лицо, изнемогая, падая и поднимаясь вновь, Лобазнов шел по узкой тропинке среди скал и моря, неся на закорках Мишу Ельцова… Вернувшись с начальником на заставу, Лобазнов даже не успел распрячь лошадь; через пятнадцать минут он должен был старшим идти на пост наблюдения. Лобазнов и Ельцов шли с оружием, неся в вещевых мешках сухой паек и дрова для топки. Вышел с ними с заставы и Семей Чукаев. Он нес баллон для машины, застрявшей где-то в нескольких километрах за постом наблюдения. Дозорная тропа то сползала по крутым скалам, то спускалась вниз, к самому морю. Параллельно тропе, на некотором удалении к западу, тянулись столбы телеграфной связи. Едва заметные в сплошной пелене снега, эти столбы все же были неплохим ориентиром. Температура упала до минус шестнадцати градусов. Здесь на полуострове было значительно теплее, чем на континенте, но при сильном встречном ветре и шестнадцать градусов — «хорошая закуска», как выразился Лобазнов, посмотрев на заставе сводку погоды. Шли знакомой дорогой. Все трое были молоды, выносливы и уже достаточно опытны, чтобы одолеть эти шесть километров, не останавливаясь на отдых. Спустя два часа они увидели занесенную снегом крышу наблюдательного пункта. Чукаев промерз и, прежде чем отправиться на розыски застрявшей машины, решил отогреться у наблюдателей, выпить кружку горячего чая. Тщательно стряхнув веником валенки, они вошли в жарко натопленное помещение. Лобазнов позвонил на заставу и доложил, что наряд благополучно прибыл и приступил к несению службы. Сменившиеся пограничники вышли на заставу, попутный ветер дул им в спину. Ельцов налил из ведерка чайник, поставил на плиту и, вытащив топор, стал рубить дрова. Зажмурившись от удовольствия, Чукаев устроился возле печки. Лобазнов заступил на пост наблюдения. Прошло не больше десяти минут, как в секторе наблюдения показался рыболовный траулер «Муром»; он шел из Варангер-фьорда с трюмом, полным рыбы, — это было видно по его осадке. Ветер усилился. На разгулявшейся волне «рыбака» швыряло, как щепку. «Муром» — наш рыболовный траулер, приписанный к мурманскому порту. Лобазнов это отлично знал, но порядок службы требовал оповещения обо всех судах, проходивших в зоне наблюдения. На несложном, но довольно точном приборе, с громким названием «курсоуказатель» Лобазнов определил направление судна и записал в журнале:Света».
«Рт «Муром» пеленг восемьдесят пять. Дистанция десять кабельтовых. Курс сто семьдесят пять».Затем он снял трубку и хотел доложить на заставу, но… связи не было. Увидев, что Лобазнов надел стеганку и шапку, Ельцов спросил: — Ты куда? — На линии обрыв… — Застаза обнаружит обрыв и вышлет связистов, — успокоил его Ельцов. Ельцов был и впрямь из Ельца. Елецких по старинке зовут коклюшками за мастерство кружевных дел. Ельцов был похож на кружевницу. Ему бы вместо котелка с концентратом пшенной каши — пяльцы в руки да коклюшки! Было в его обличье что-то женское: то ли нежный розовый цвет лица, то ли по-девичьи маленький яркий рот. Миша Ельцов мечтал стать врачом-педиатром, и, конечно, будет им, а пока… Он встал и начал одеваться. — А ты, Ельцов, куда? — удивился Лобазнов. — Одному тебе не управиться. Да и вообще… посмотри, что делается… Лобазнов приоткрыл дверь. В домик ворвался ледяной ветер. Видимость была метров пятьдесят, не больше. Ближайший столб телефонной связи едва угадывался за пеленой снежного вихря. Сняв со стены моток крепкой пеньковой веревки, Лобазнов сказал: — Ну что ж, Ельцов, вдвоем так вдвоем! Семен, заступай на пост до нашего возвращения! — А как же с баллоном? — не очень решительно напомнил Чукаев, разомлев от жары. — Мы управимся быстро, — успокоил его Лобазнов. — Пост бросать нам обоим нельзя, и без связи, сам понимаешь, — труба! Они вышли из домика, и пурга замела их след на пороге. Шквальный ветер яростно толкал в спину. Лобазнов просматривал «воздушку». Ельцов шел впереди, ориентируясь по столбам, — торил дорожку. Чтобы не потеряться, они привязали за кисть левой руки веревку. Эта примитивная связь была необходима: удаляясь только на длину веревки, они уже не видели друг друга в этой сплошной белой пелене. «Весна! Выставляется первая рама…» — вспомнил Лобазнов и, чертыхаясь и кляня на чем свет стоит этот обрыв телефонной связи, подумал: «Андрюшке на море легче. Ну, покачает, эка невидаль! По такой пурге шляться не приходится. Опять же форсу больше. Девчата на моряков заглядываются и…» — позавидовал он, но тут же поскользнулся, упал и крепко стукнулся лбом о камень. Выбирая веревку, Ельцов вернулся назад: — Что с тобой, Фома? — Ничего! — огрызнулся Лобазнов. — Чуть камешек не разбил. Он поднялся и, подталкиваемый ветром, шагнул вперед. Шли медленно. Линия была в стороне от тропинки, провода висели над глубокими расщелинами, поднимались на крутые сопки. Столбы крепились в деревянных срубах — ряжах, заложенных камнем. В скальном грунте яму под столб не выкопаешь. Прошло минут тридцать. За это время они продвинулись вперед не больше километра, как вдруг белая пелена снега упала, и они увидели багровое солнце, слепящее глаза. — Вот здорово, Фома! — закричал Ельцов, бросаясь к нему навстречу. — Зря радуешься, — проворчал Лобазнов, оглядывая горизонт. — Смотри, какая идет «закуска»… Еще далеко, за десятки километров, почти у самого горизонта, черными зловещими полосами, словно наступая боевыми порядками, грозно н неотвратимо шли на них тучи новых «зарядов». Не сказав больше ни слова, солдаты быстро спустились с сопки. Они торопились, бежали там, где это было возможно, и все же, когда нашли место обрыва, на них обрушился новый «заряд». Под напором шквала столб, стоящий у края расщелины, выворотив камни из сруба, упал, и линия «воздушки» провисла в глубину. — Прощупай каждый провод, — сказал он Ельцову. — Найдешь обрыв — контакт делай основательно. Понял? — Есть делать основательно! — повторил Ельцов, обвязываясь веревкой. Упершись ногой в гранитный валун, Лобазнов осторожно травил веревку, спуская Ельцова вниз. Осталось не больше трех-четырех метров до дна расщелины, когда Фома крикнул: — Стоп! Кажется, прибыл! Ни черта не видно… Сейчас… Я… Лобазнов услышал крик, затем веревка резко дернулась вниз, потянув его за собой. — Что случилось, Ельцов?! Что случилось? — кричал Лобазнов, свесившись над расщелиной. Фома услышал стон, затем слабый, едва доносящийся к нему голос: — Ногу… кажется… сломал… Думал… На самом дне… а шагнул — карниз… Тут еще метра четыре… Вдруг Лобазнов почувствовал, что веревка ослабла. — Ты что там делаешь? Миша! — Отвязался… Ищу обрыв… — донеслось до Фомы. Долго Лобазнов вслушивался в то, что делается внизу, но ничего не мог уловить. Пока он лежал на животе возле расщелины, пурга занесла его снегом. Сколько он ждал, трудно было сказать… Здесь, на высоком уступе сопки, ветер и снег обрушивались с такой силой, что каждый порыв казался ударом бича, звонкого и обжигающего кожу. — Фома, где ты? — услышал он голос Ельцова, идущий, казалось, совсем с противоположной стороны. Лобазнов откликнулся. Голос Ельцова прозвучал ближе, затем веревка дрогнула и натянулась. — Можно выбирать? — крикнул Лобазнов. Привалившись грудью к гранитному валуну и напрягая все силы, Фома выбирал веревку. Он знал, что веревки всего пятнадцать метров, но сейчас, казалось, ее было метров шестьдесят… Голова Ельцова показалась над расщелиной, затем он перевалился через край, попытался подняться и со стоном ткнулся лицом в снег. Фома подполз к нему. Закусив до крови губу, Миша беззвучно плакал… Ему было стыдно своей слабости, но боль в ноге становилась нестерпимой… — Обрыв… на… одном… проводе… Нарастил кусок, — с трудом объяснил Ельцов. — Идти можешь? — спросил Лобазнов. — Нет… Ты меня куда-нибудь… от ветра… в лощинку. А сам иди… Позвони на заставу… За мной пришлют… — предложил он. — Ты замерзнешь, балда! — с грубоватой нежностью сказал Лобазнов. — Здесь километра два. Пока я против ветра дойду до поста, считай час. С заставы ребята пойдут опять против ветра минимум еще два часа… Нет, Миша, я тебя здесь не оставлю, — решил Лобазнов. И, неожиданно улыбнувшись, сказал: — Мы в школе играли в «коней и наездников», а вы не играли? — Не-ет, — с удивлением глядя на Фому, протянул Ельцов. Лицо Лобазнова было близко, и почему-то только сейчас Миша обратил внимание — все лицо Фомы было в смешных ярких веснушках. — Класс на класс, — объяснял Лобазнов. — Одни сидят на закорках, они, стало быть, наездники, а под ними кони. И вот друг дружку с коней стягивают. Смешно… Ну ладно, будет нам тут лясы точить, полезай ко мне на закорки! — решительно закончил он и стал рядом с Ельцовым на четвереньки. — Да ты что, Фома? В своем уме?! — даже забыв о боли, возмутился Ельцов. — Товарищ Ельцов, на закорки! — тоном старшего приказал Лобазнов. — Послушай, Фома, да против такого ветра впору и одному добраться до места, а ты… — Товарищ Ельцов! — угрожающе крикнул Лобазнов. Ельцов обнял его за шею и подтянулся на закорки. Фома осторожно приподнялся, привязал Ельцова к себе веревкой, затем, присев на корточки, взял в обе руки по карабину и шагнул вперед. Конечно, он переоценил свои силы. С таким ветром было трудно справиться и одному, но… С упрямством, а главное — злостью Фома продвигался вперед. Хорошее это чувство — злость, когда оно направлено против трудностей на пути человека! Он свернул к морю и вышел на тропинку; здесь сопка укрывала от ветра. Каждый шаг Фомы причинял Ельцову нестерпимую боль. Сначала Лобазнову казалось, что Ельцов весит совсем немного. Но, не сделав и сотни шагов, Фома почувствовал, что ноша ему не под силу. Скользя на обледеневших камнях, он падал, поднимался и упрямо шел вперед, думая: «Вот дойду до следующего столба и минут пяток отдохну». Но, когда из снежной мглы показывался силуэт следующего столба, он прикидывал вновь: «Пожалуй, еще шагов сто сделаю, потом отдохну»… Но, сделав еще сто шагов, он думал: «Теперь до следующего столба недалеко», и шел вперед не останавливаясь. Когда, совершенно выбившись из сил, качаясь, точно пьяный, Лобазнов твердо решил опуститься на камни и хоть на несколько минут закрыть лицо от ударов колючего ветра, упала снежная пелена и яркое солнце заиграло на серой волне. Наблюдательный пункт был уже рядом, самое трудное, было позади. Но теперь новое обстоятельство целиком захватило Лобазнова: параллельно берегу, приблизительно в двух милях мористез, шел большой иностранный транспорт! Забыв об усталости, солдат быстро преодолел последние несколько метров. Положив Ельцова на нары, Лобазнов взялся за бинокль. Он видел правую часть кормы и, пожалуй, только вторую половину названия:
«…ККЕ УЛЕ».Чукаев уже определил судно. Лобазнов снял трубку телефона — связь работала!
КУРС СТО!
Сообщение, принятое с поста наблюдений, начальник заставы зашифровал и передал на корабль. Сторожевой корабль радиограмму принял. Сняв крышку переговорника, Поливанов приказал: — Курс сто! — и перевел ручку машинного телеграфа на «самый полный». Корабль шел на ост. Непродолжительная видимость опять, уже в который раз за это утро, сменилась снежным зарядом. Колючий мелкий снег с воем и свистом врывался на мостик. В районе мыса Террасового вахтенный офицер доложил: — Товарищ капитан третьего ранга, на экране цель номер один, слева шестьдесят! Дистанция сто двадцать кабельтовых! — Определите курс и скорость! — приказал командир и, склонившись над экраном локатора, увидел цель. «Разумеется, это «Хьекке Уле», но где же тогда мотобот?» — подумал он и отдал приказание: — Объявить боевую тревогу! Личный состав занял места по боевому расписанию. — Как ваше мнение? — после небольшой напряженной паузы спросил командир Девятова. — Опытный и умный противник. Постарается себя не обнаружить. Помните сообщение штаба: «В четырех кабельтовых мористее транспорта мотобот без флага». Рассуждая логично, ему безопаснее идти не с левого борта транспорта, а с наветренной стороны, — сказал Девятов. — Что вы хотите этим сказать? — раскуривая трубку, спросил Поливанов. — На экране локатора мотобот не просматривается, — продолжал Девятов. — Стало быть, он следует все так же мористее транспорта и в такой непосредственной близости, чтобы радиолокационная станция не могла его обнаружить. На экране локатора мотобот сливается с целью номер один. — Но при таком норд-осте он рискует разбиться о транспорт, — возразил Поливанов. — Конечно, это риск, — согласился Девятов. — Но капитан мотобота рассуждает так: «Чем больше риска — тем больше денег!» Кроме того, моряки они неплохие. — Товарищ капитан третьего ранга, лейтенант Голиков прибыл по вашему приказанию! — лихо доложил командир боевой части. Он был молод, красив и строен, отлично об этом знал и откровенно, словно со стороны, сам собой любовался. — Товарищ лейтенант, я поставил перед вами задачу при появлении целей, следующих на ост, усилить наблюдение и докладывать мне лично! — вновь раскуривая погасшую трубку, сказал Поливанов. — Товарищ капитан третьего ранга, я уже докладывал: цель номер один по курсу слева шестьдесят. Вторая цель не наблюдается… — Это мне известно, — перебил его Поливанов. — А если, пользуясь разрешающей способностью радиолокации, мотобот идет по борту транспорта параллельным курсом? — Если мотобот идет вблизи транспорта на расстоянии не больше четырех-пяти кабельтовых, на экране локатора малая цель сольется с большой, — ответил Голиков. — Усильте наблюдение. Следите за возможным раздвоением цели! Докладыпайте мне лично! — приказал Поливанов. — Ясно! Разрешите идти? — Идите! Так же лихо Голиков повернулся кругом и спустился с мостика. Поливанов вызвал Юколова. Механик явился на мостик и доложил по форме. Во всей фигуре и внешности механика было что-то штатское. Десятый год Юколов служил на корабле, его дисциплинированность могла быть примером для любого офицера, и все же что-то неуловимое в его характере и манере держаться создавали это ощущение. Быть может, причиной этому была необычная мягкость в обращении с людьми, а быть может, улыбка, теплая и немного ироническая. — Товарищ Юколов, — начал командир, — нам предстоит задержать мотобот, за которым установилась слава самого ходкого судна в Варангер-фьорде. — Все, что возможно, будет сделано, — ответил Юколов. — Будьте готовы к тому, чтобы сделать невозможное. Понятно? — Ясно. В глазах Юколова командир прочел выражение вспыхнувшего интереса. — Разрешите идти? — спросил он. — Идите. Конечно, механику было далеко до флотского блеска Голикова. Он повернулся и сошел с мостика, но чувствовалось, что Юколов увлечен решением технической задачи, поставленной командиром. А ветер по-прежнему гнал большую волну и кренил корабль на борт. Прошло два часа, с тех пор как корабль оставил мыс Крутой. Командир и помощник были на мостике. — Погода скверная, — заметил Девятов. — В хорошую погоду шпионов не высаживают. На мостик поднялся лейтенант Голиков и молодцевато доложил: — Товарищ капитан третьего ранга, на траверзе Пахта-Наволока цель раздвоилась: номер один следует прежним курсом на створы Кольского залива, цель номер два развернулась на вест! — В штурманскую! — уже на ходу приказал командир, спускаясь с мостика. Голиков последовал за ним. Склонившись над картой, командир передал на мостик: — Курс сто восемьдесят! Помощник, дать максимально возможный ход! Девятов отлично понял командира и, передав вахтенному курс, снял крышку переговорника: — Механик, давайте все ваши резервы! Юколов затянул пружинные весы регулятора. Стрелка тахометра показывала предельное количество оборотов, но, дрогнув, она медленно поползла вправо… Серок оборотов выше нормы! Механик завернул до конца маховичок ручной отсечки — стрелка тахометра еще медленнее двинулась вправо, дрогнула и остановилась — еще сорок оборотов! Прислушиваясь к работе двигателей, Поливанов улавливал их быстрый, напряженный ритм. Корабль шел поперек волны, и за кормой бежал длинный пенистый след. — Механик, обороты! Еще обороты! — крикнул в переговорную трубу Поливанов. Юколов скорее угадал, чем расслышал, требование командира. Человеческий голос терялся s этом лязге и грохоте. Оставалась последняя, совсем незначительная возможность увеличения хода, и механик направился к насосам высокого давления. Мотористы вручную оттягивали каждый сектор поворота плунжера. Шум двигателей был такой силы, что, казалось, еще немного — и барабанные перепонки не выдержат. Механик подбежал к приборам и проверил температуру масла, затем, взглянув на тахометр, он увидел, что стрелка медленно поползла вправо — еще двадцать оборотов, он это знал — последние двадцать оборотов. — Как на локаторе? — спросил командир. — Идем на сближение. Цель слева шестьдесят! Дистанция сорок пять кабельтовых! — доложил лейтенант Голиков. — Штурман, место встречи? — спросил Поливанов. — При таком ходе — десять кабельтовых юго-западнее байки Окуневой, на траверзе мыса Супротивного! — доложил Изюмов. — Механик, прибавьте оборотов! — крикнул в машинное Поливанов и сквозь грохот дизелей едва услышал: — На пределе! Почувствовав удушливый запах дыма, Юколов от переговорника бросился к топливному сепаратору. При такой перегрузке оба дизеля требовали все больше и больше топлива, оно не успевало поступать в расходные баки, и пришлось включить для подкачки сепаратор. Сейчас, начиная от левого отсека, где стоял сепаратор, все машинное отделение быстро заполнялось удушливым дымом… Корпус корабля дрожал, испытывая вибрацию. — По корме слева шестьдесят цель номер три! Дистанция сто двадцать кабельтовых! — доложил Голиков. Командир и помощник переглянулись. Откуда взялась третья цель? — Рыбак идет в Мурманск, — высказал предположение Девятов. — Возможно, — согласился Поливанов и приказал: — Сообщайте продвижение цели три! Где цель номер два? — Цель номер два в районе острова Красный! — доложил лейтенант Голиков. Прошло еще несколько мгновений, и вахтенный сигнальщик доложил: — Вижу цель слева сорок! Дистанция тридцать кабельтовых. Командир вскинул бинокль. Бортом к волне, вздымая по обеим сторонам форштевня два крутых, пенистых вала, на большой скорости шел мотобот «Бенони». Они узнали его по приметам, указанным в радиограмме штаба. — Набрать сигнал «поднимите флаг»! — приказал Поливанов. На фале взвились два сигнальных флага. Прошло несколько напряженных минут, вдруг мотобот развернулся на норд и показал корму. — Лево на борт! — приказал Поливанов. — Есть лево на борт! Заваливаясь, корабль начал менять курс. — На румбе шестьдесят градусов! — доложил вахтенный. — Корабль продолжает катиться влево! — Сдерживать! — Есть сдерживать! — На румбе сорок пять! — доложил вахтенный. — Так держать! — приказал командир, снял крышку переговорника и, почувствовав сильный запах гари, крикнул: — Что там у вас, механик? Сквозь грохот двигателей до него едва долетели слова: — Ничего страшного, дизельное топливо попало в фрикционную муфту привода… — Сколько можете держать такой ход? — Не больше десяти минут. Температура масла резко повышается, — услышал Поливанов. За то время, что корабль закончил разворот и лег на новый курс, «Бенони» вырвался вперед. Расстояние между ним и «Вьюгой» быстро увеличивалось. В это время свинцовый полог над ними словно рассекло надвое, и, хотя грозный вал нового заряда был совсем недалеко, по-весеннему ярко светило солнце. — Поднять сигнал «покой» и дать две зеленые! — приказал Поливанов. Почти в одно мгновение на фале был поднят сигнал «застопорить машину» и две зеленые ракеты, оставляя за собой дымный след, взвились над морем. «Бенони» прибавил ход. — Расчету боевого поста автоматы зарядить! О готовности доложить! — Голос командира был спокоен, но Девятов уловил скрытое волнение. — Автомат готов открыть огонь! — доложил командир боевого поста. — Произвести серию предупредительных выстрелов! — Есть предупредительную серию… — Товарищ капитан третьего ранга! — перебил командира орудия лейтенант Гсли-ков. — Цель номер три по курсу второго номера. Дистанция двадцать кабельтовых! — Дробь!! Орудие на ноль!!! — крикнул Поливанов и, вскинув бинокль, спросил: — Узнаете? Девятов посмотрел в бинокль: — Наш старый знакомый «Вайгач»!СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Капитана сейнера «Вайгач» знают все от мыса Нордкап до Святого Носа. Старики поминают его не без зависти: «Вергун с фартом [179] из одной кружки брагу хлебал!» Молодые нынче в фарт не верят. «Удача с неудачей — родные сестры! — говорят. — А «Вайгач» без улова в порту не швартуется. Стало быть, Михайло Григорьевич своему делу мастер!» И верно — мастер! Ловили раньше сельдь по мурманскому мелководью, на этот раз пошел Вергун к банке Северной. Трое суток промышляли — тары не хватило. Развернулись — и в порт. Погода свежая, снежные заряды один другого хлеще, а команда песни поет. Улов взяли богатый! Сельдь крупная, больше двадцати пяти сантиметров! Развесили на просушку дрифтерный порядок. Последнюю сеть ролем подтянули, перекинули через стрелу, даже сельдь из нее не вытрясли — некуда. Прохор Степанович ходит по палубе довольный, животик вперед выпятил, снял рукавицы, руки потирает и хвалится каждому: — Вот что значит сеть можжевельничком покурить! Аи да я! Аи да Щелкунов! Тимка вылез из машинного отделения, глядит на помощника и посмеивается — свистеть ему Щелкунов запретил: примета плохая. В рубке тихо. С циркулем в руке Вергун привалился к штурманскому столику. Перед ним — открытая лоция, карта района, а мыслями он далеко… «Домой идем. Трюм полон рыбы, — думает он. — Небось в порту известно каждому — радист разболтал по эфиру. Чего доброго, директор МРС сейнер встретит с оркестром. К Щелкунову на пирс «кубышка» его прикатится. Валя-хохотушка прибежит к Плицину, к Тиме и то продавщица из Рыб-коопа повадилась, придет. Всех будут встречать родные да близкие, только… только ко мне никто не придет. Конечно, — Вергун посмотрел на свое отражение в эхолоте, — лицом и ростом ты, Михайло, не вышел. До сей поры ходит Глаша на старое домовише. Думал, что было, того нынче нет, давно прошло и быльем поросло… А на поверку выходит — прошлое крепко в душу въелось. Конечно, ревновать к прошлому — палый лист ворошить…». Но как Вергун ни старался забыть прошлое, оно упрямо о себе напоминало. Было это зимой, месяца три назад… Экспедиционное судно Полярного научно-исследовательского института сообщило о скоплении трески на банке Копытова. Только «Вайгач» вышел из бухты — радиограмма: «Ожидается шторм десять баллов». Воротился «Вайгач» в порт. Идет Вергун по мосткам к дому, видит — спускается по лесенке Глаша. Принарядилась, словно на Первомай. На лице улыбка, какой его не дарила. Идет, на море смотрит — моря не видит. Что-то Вергуна в сердце ударило, остановился, переждал, пока Глафира на мостик спустится, и пошел за ней. Она идет, как всегда: голова гордо запрокинута, ни на кого не смотрит. Поднялась по лестнице в поселок, прошла уличный ряд, вышла в падь, где кондаковское домовище стоит, замок открыла, вошла. Долго он ждал Глафиру. Слышал, пела она что-то грустное, протяжное, слов не разобрать. Потом вышла, половичок стряхнула, у порога положила, дом заперла, под половик ключ сунула и прошла мимо. Вергун заглянул в окно — чисто прибрано, над кроватью все та же кондаковская берданка висит, на столе скатерть… И стыдно, что подглядывал, а совладать с собой не смог. «Ко всем придут жены, а ко мне… — думал он. — Да и какая она мне жена? Кондакова! Сколько раз в поселковый совет звал — пойдем, Глаша, распишемся. Нет, говорит, я по мертвому памятник живой, а с тобой мне хорошо, спокойно. Так и будем жить, сказала. Так и живем», - вздохнул Вергун. Судно кренится, крепче ветер, выше волка, а Щелкунов все куражится. Ноги у него тонкие, слабые, его то о надстройку, то о лебедку, то еще о чего шваркнет, он ничего не замечает. Мусолит во рту химический карандаш, на клочке газеты цифры выводит, подсчитывает. Подбил Щелкунов итог и еще больше заважничал, полез в ходовую рубку: — Слышь-ка, Михайло Григорьевич, у меня так выходит: тонн двести, а то и больше! Если на денежки перевести — не меньше как полмиллиона потянет! Вот фарт так фарт! Тяжело загруженное судно сидело выше ватерлинии, качка хотя и была килевая, но судно болтало сильно. У Щелкунова ноги от радости совсем ослабели, его то на капитана швырнет, то на штурманский столик; того и гляди, затылком эхолот трахнет. Как Вергун ни привык к рыбному духу, но и ему было непереносно: очень от Щелкунова селедкой разило и спиртом. Михаил Григорьевич только отворачивался да, когда швырнет на него Щелкунова, легонько отпихнет его от себя и счистит прилипшие рыбьи чешуйки — помощник ими был разукрашен густо. — А главное, сеть! — захлебывался Щелкунов. — Нет, ты погляди, Михайло Григорьевич, ведь до чего хитрую штуку придумали — капрон! Я весь порядок проверил, веришь ли, хоть бы где нитку спустил! Цены этой сети нет! Золото! Чистое золото!! — От тебя, Прохор Степанович, спиртом разит! — не выдержал Вергун. — Зуб треклятый замучил… — глазом не моргнул Щелкунов. — Пойду свежую вату положу, — добавил он, спускаясь вниз. Но в каюту Щелкунов не полез, а направился к левому борту, где лежали сети. В это время снежный заряд кончился, и проглянуло солнышко. Вергун поднес к глазам бинокль и, оглядев горизонт, увидел сторожевик. Тот ли это сторожевой корабль, что спас их от камней Святого Рога? Повстречаться бы! Жаль, что погода штормовая, а то бы подошли ближе. «Не побрезговали бы пограничники, может, и приняли бы бочку «атлантической» свежего посолу», - думал Вергун. Опустив ветровое стекло в рубке, оно было рябое от подтаявшего снега, Вергун внимательно наблюдал за кораблем и вдруг увидел идущий на большой скорости мотобот. Вергун был настоящим моряком, красивое судно и хороший ход он мог оценить по достоинству. Мотобот шел прямо на «Вайгача», высоко задрав нос, словно чайка летел над гребнем волны. — Хо-рош! — не удержался Вергун. Перенеся бинокль на сторожевой корабль, он увидел флаги на фале, прочел их и удивился. «Кому же это «застопорить ход»? А если мотоботу? По рангоутам и обводам, видать, не наш!» В это мгновение он заметил, что на корабле расчет растягивал чехлы орудий… Корабль и мотобот уже были видны невооруженным глазом. Команда сейнера сгрудилась на носу. Молодой матрос взобрался на мостик и прямо через окно рубки, волнуясь, сказал капитану: — Михаил Григорьевич, как же это? Ведь уходит, подлец!.. Решение созрело как-то сразу, словно другого и быть не могло. Включив трансляцию, Вергун скомандовал в микрофон: — Приготовить сети к выброске! Никогда еще на «Вайгаче» не выполняли команду с такой быстротой. Все бросились к левому борту и, подвязывая сети одну к другой, стали наращивать дрифтерный порядок. Щелкунов не сразу сообразил, что происходит на судне, когда же он понял и попытался помешать команде, его легко, но решительно пихнули в сторону. Наступив на селедку, он поскользнулся, упал, быстро вскочил на ноги, ворвался в ходовую рубку и, схватив Вергуна за борт тужурки, закричал: — Ты что же делаешь? Разбойник! Да за это тебя в тюрьму!! — Оставь, сквалыга, — спокойно бросил Вергун. — На весь порт одна сеть капроновая! Двадцать тысяч государственных денег! В тюрьме тебя, лешего, сгноят! Остановись, пока не поздно! — Скат ты! — в сердцах выругался Вергун. И, сняв крышку переговорной трубы, скомандовал: — Самый полный! В это время судно сильно накренилось. Щелкунов потерял равновесие, оступился ногой в люк, упал на спину и ударился головой о переборку. Мотобот был в десяти кабельтовых от сейнера, когда обрушился новый, необычайной силы заряд. Все заволокло снежной пеленой, и, казалось, они потеряли мотобот из виду. Но, готовясь к встрече, своим подсознательным, моряцким чутьем Вергун угадывал ход мотобота. Прошло еще несколько секунд. — Право руля! — скомандовал Вергун рулевому и крикнул в микрофон: — Сети за борт! «Вайгач» даже прилег наволну — так круто развернулся. Судно пересекало курс мотобота, оставляя за кормой крепкую капроновую сеть. Капитан «Бенони» был в ходовой рубке, когда, сотрясаясь всем корпусом, судно потеряло ход. На винты мотобота тугими култышками намотались капроновые сети «Вайгача». Генри Лаусон, капитан «Бенони», был опытный человек и отлично знал, что игра проиграна. Подобрав на борт остатки сетей, «Вайгач» прошел в нескольких кабельтовых от «Вьюги» и отсалютовал тифоном. Команда сейнера сгрудилась на борту, люди кричали, размахивали руками. Сторожевой корабль передал на сейнер: «Благодарим за помощь!» — и, сбавив ход, пошел на сближение с мотоботом, поднявшим в это время норвежский флаг. Отливая холодной водой Щелкунова, Тимка привел его в чувство, с трудом оттащил в глубину рубки и, посадив, прислонил к штурманскому столику. Видимо, ничего не соображая, помощник долго водил глазами, потом хриплым шепотом выдавил (он потерял голос): — Пропала… сеть?… — Половина еще осталась, — успокоил его механик. Щелкунов схватился за голову и застонал, потом встал на четвереньки, перехватился руками, чуть не стянул со стола штурманскую карту, с трудом подошел к Вергуну и угрожающе сказал: — Ответишь, Вергун, перед государством! У капитана раздражение против Щелкунова прошло. Что с него, сквалыги, возьмешь? Другого он и не ждал. — Видишь, Прохор Степанович, дело какое, — беззлобно сказал он. — Был у меня друг, Завалишин. Мы с ним на охоту хаживали. Я по медвежьему следу иду — от дерева к дереву хоронюсь, чтобы зверя не спугнуть, а Завалишин посередке шастает между двух стволов. Я его спрашиваю: «Отчего, друг, так ходишь?» А он: «Я. - говорит, — двадцать лет шофером на грузовике работаю, окончательно с машиной свыкся и, хотя пешком иду, а все боюсь кузовом зацепить…» — Побасенки твоей не пойму! — зло бросил Щелкунов. — Чего тут не понять? — удивился Вергун, но пояснил: — Когда ты, как Завалишин грузовик, будешь по себе государство чувствовать, поймешь и побасенку. Государством меня пугаешь, а того, Щелкунов, не соображаешь, что государство-то — я, и Тимка вот, и он, — Вергун показал на рулевого. — Все мы есть государство! И пограничник государству нашему — часовой!ХУГГО СВЭНСОН СМЕЕТСЯ
В числе восьми человек экипажа «Бенони» не было ни одного новичка, они привыкли к азартной игре, где ставкой зачастую бывает жизнь. Даже проигрывая, эти люди сохраняли внешнее спокойствие, в этом заключалось достоинство игрока. Неуправляемое, легкое суденышко кренило до самого фальшборта. Снег с яростью шрапнели вгрызался в палубу. Капитан «Бенони» Генри Лаусон, кэп, как его называла команда, спустился в машинное отделение. Здесь он снял подбитый мехом кожаный реглан, замшевую на молнии куртку и, засучив рукава, вместе с главным механиком попробовал вручную провернуть каждый вал. Два боковых нельзя было сдвинуть с места, средний вал проворачивался с трудом. — На одном двигателе мы сделаем узлов десять, — сказал механик. — Надо очистить винт. — Может быть, Траммэр, это сделаете вы? — предложил Лаусон. — Нет, кэп, много риска. Можно схватить насморк… — У механика было чувство юмора. — Вы набиваете себе цену. Водолазный костюм — с электрическим обогревом, — надевая тужурку, сказал Лаусон. — Во что это обойдется моему капитану? — спросил Траммэр. — Пятьдесят фунтов. — Пошлите Хугго, он мальчик крепкий. — В этом водевиле, Траммэр, каждый играет свою роль. Сто фунтов сейчас и через десять минут ни пенса! — резко закончил Лаусон и пошел к трапу. В это время судно накренило на противоположный борт, Лаусон не успел ухватиться за поручни, и его отбросило назад, к Траммэру. Поддержав Лаусона, механик сказал: — Можно, сэр, чеком на Варде. Да пришлите мне двух парней на помощь… Водолаз еще был под водой, когда справа за бортом показалась шлюпка с «Вьюги». Траммэра вытащили на палубу, он съехал по трапу вниз, и только в машинном отделении удалось снять с него водолазный шлем. По внутреннему телефону Лаусон спросил: — Траммэр, вы честно заработали сто фунтов? — Я, сэр, честно заработал двести! Очищен правый и средний! Гарантирую двадцать узлов хода. — Швартуются пограничники. Траммэр, чтоб у вас был достаточно кислый вид! — Есть, кэп! Ответа Лаусон уже не слышал. Держась за поручни, он шел на ют. Нагорный закрепил конец. На палубу поднялись капитан Клебанов, боцман Ясач-кый и радист Аввакумов, в шлюпке остался старшина Хабарнов. Открыв на первой странице разговорник, Клебанов спросил: — Ер де ди сом ер капитан? [180] Вежливая улыбка сбежала с лица Лаусона, он не понял вопроса. — Йей ер репресентант фор Совиет Унион гренсе вахт! [181] — внушительно произнес Клебанов. Снова наступила пауза, во время которой Лаусон, любезно улыбаясь, развел руками. — Вильди комме мед скип документер! [182] — потребовал капитан. — Послушайте, капитан-лейтенант, на каком языке вы говорите? — по-русски спросил Лаусон. — Вы же идете под норвежским флагом! — сдерживая растущее раздражение, сказал Клебанов. — «Бенони» приписан к норвежскому порту. Что касается меня, я англичанин, Генри Лаусон. Рад с вами познакомиться. Впервые я встретился с вашими соотечественниками на Эльбе, в сорок пятом году. Несколько лет работал с русскими в комендатуре Берлина. Пока капитан объяснялся с Лаусоном, боцман Ясачный, окинув взглядом ют, увидел еще мокрые водолазные калоши с грузом. Внимание его привлекла и шлюпка без чехла, под ее кормовой банкой лежали два туго набитых рюкзака и саперные лопаты. Подтянутая на талях, двойка была поднята с кильблоков и готова к спуску на воду. Боцман отозвал капитана Клебанова в сторону и доложил обо всем, что увидел на юте. Выслушав Ясачного, капитан вернулся к поджидавшему его Лаусону. — На все время, пока «Бенони» находится в наших территориальных водах, радиорубку закрыть, — сказал Клебанов и, сопровождаемый Аввакумовым и Лаусоном, направился к надстройке. Нагорный с автоматом в руке последовал за ними. Человек шесть команды мотобота собралось на юте. Подняв воротники подбитых мехом курток, они курили и безучастно наблюдали за происходившим. Заряд затянулся. Снежная мгла плотно закрыла сторожевой корабль. Осмотрев рубку, капитан Клебанов приказал Нагорному остаться здесь для наблюдения. Из рубки осмотровая группа направилась в машинное отделение. Нагорный остался один. Широко расставив ноги, чтобы удержать равновесие, прижав к груди автомат, он внимательно наблюдал за поведением команды на юте. Сказать, что «Бенони» качало, было бы неточно. Легкое, неуправляемое судно швыряло, как челнок на ткацком станке, но Андрей этого не чувствовал. Сталкивались два мира, и он, каширский парень, с оружием в руках стоит на их рубеже. Это наполняло его волнующим чувством ответственности и сознанием собственной силы. От группы людей на юте отделился один матрос, направился к рубке и остановился в нескольких шагах от Нагорного. Настороженно, но с интересом Андрей рассматривал этого человека из другого мира. Матрос улыбнулся и, ткнув себя в грудь, сказал: — Я Хугго Свэнсон! Нагорный молчал — он был на посту. Хугго Свэнсон вынул норвежскую с крышкой трубку, набил ее табаком и ловко раскурил на ветру. В машинном отделении Ясачный внимательно осмотрел все три двигателя. Он обратил внимание капитана Клебанова на Траммэра — механик сидел на рундуке с ветошью, в то время как рядом стояла удобная банкетка. — Встаньте с рундука! — приказал Клебанов. Механик неохотно поднялся и отошел в сторону. Подняв крышку рундука, Клебанов увидел шлем и еще мокрую водолазную рубаху. — Та-ак… Интересно, — протянул Ясачный. — Неужели успели? — И, проверяя догадку, мичман провернул вал среднего винта. — Вы же сказали, что судно потеряло ход, — напомнил Клебанов и потребовал судовые документы. — Прошу в каюту, — сказал Лаусон. — Машинное отделение будет закрыто. Пусть механик поднимется наверх, — приказал Клебанов. Лаусон перевел приказание, и Траммэр, накинув меховую тужурку, пошел к трапу. Закрыв дверь в машинное отделение, Ясачный поднялся последним. Каюта Лаусона была небольшой. Полированная панель и мебель красного дерева. Мягкие плафоны освещения, шелковые занавески на иллюминаторах — все свидетельствовало о том, что на отделку «Бенони» не скупились. Открыв тумбу письменного стола, Лаусон выдвинул несгораемый ящик, достал судовую роль и передал Клебанову. Список немногочисленной команды был по форме заверен портовой администрацией Нурвогена. Конечно, агент, предназначенный к заброске, если он был на «Бенони», скрывался под вымышленным именем, и все-таки надо было знать все восемь имен и фамилий по этому судовому списку. Клебанов обладал тренированной профессиональной памятью. Прочитав несколько раз список, он захлопнул папку, мысленно проверил свою память и сказал: — Команде собраться на юте. Распорядитесь, чтобы люди приготовили мореходные книжки. …Затянувшееся пребывание осмотровой группы в каюте Лаусона вызвало у Нагорного чувство тревоги. Прошло еще несколько минут. Заряд, выстрелив с особенной яростью последние залпы снега, затих. Проглянуло по-весеннему голубое небо. Нагорный бросил взгляд на море и увидел в пяти-шести кабельтовых «Вьюгу». Отрабатывая на малых оборотах, строго сохраняя дистанцию, корабль держался наветренной стороны, но был здесь, рядом с ними. На прожекторную площадку «Вьюги» поднялся сигнальщик и просемафорил вызов. Нагорный крикнул матросам на юте: — Вызвать командира! Но никто из членов экипажа не двинулся с места. «Они ни слова не понимают по-русски или ветер относит мои слова», - подумал Нагорный и дал два выстрела в воздух. На звуки выстрелов выбежали капитан Клебанов, Ясачный и Лаусон. — Товарищ командир, с корабля вызывают по семафору! — доложил Нагорный. Лаусон скрылся за дверью каюты, а боцман поднялся на мостик и ответил на вызов. Сигнальщик быстрыми взмахами флажков передавал запрос командира. Он торопился: с северо-востока, с огромной скоростью надвигалась новая черная полоса заряда. Наблюдая в бинокль за сигнальщиком, Ясачный читал семафор. В училище Нагорный изучал семафорную азбуку, но в таком быстром темпе он не успевал читать передачу. Наблюдая за верхней палубой, Андрей увидел Лаусона, который из двери своей каюты через бинокль следил за семафором. — Товарищ мичман, — тихо доложил Нагорный, — капитан «Бенони» читает передачу. — Это для него и организовано, — усмехнулся Ясачный и, отвечая на запрос, писал: «Неподчинение «Бенони» приказу застопорить машину ничем не оправдано. Судовые документы порядке. Досмотр продолжаем». Здесь, на «Бенони», солнце еще слепило глаза, а сторожевой корабль уже обволакивала снежная мгла. Боцман едва успел досемафорить, как первый порыв ветра и снега с воем и свистом промчался по палубе мотобота. Капитан Клебанов подвез итоги досмотра. — Незаконного лова и контрабанды на вашем судне не обнаружено, — сказал он Лаусону. — Осмотр машинного отделения показал, что вы можете идти собственным ходом. Настоятельно требую, чтобы «Бенони» немедленно покинул наши внутренние воды. Если вам нужен акт о досмотре… — Благодарю вас! Пустая формальность. Я владелец «Бенони», и мне отчитываться не перед кем, — ответил Лаусон, провожая осмотровую группу к трапу. — Уверяю вас, как только моему механику удастся запустить двигатель, «Бенони» покинет советские воды. Быть может, капитан захватит для своего командира бутылочку шарантского коньяка? — Вы очень любезны, но мой командир не пьет ничего, тем более коньяка, — в тон ему ответил Клебанов, уже спускаясь по трапу в шлюпку. Боцман Райт отдал конец, Хабарнов принял, и шлюпка отвалила от «Бенони». Безошибочным чутьем Нагорный угадывал, где находится «Вьюга». Ветер был северо-восточный, корабль держался от них в пяти-шести кабельтовых с наветренной стороны, а шлюпка шла строго по ветру на юго-запад… Хабарнов и Нагорный гребли напористо, не жалея сил. «Бенони» исчез у них за кормой в снежной мгле, но ветер еще долго доносил до шлюпки слова торопливой команды на чужом, непонятном им языке. Шлюпка все дальше и дальше уходила от корабля в направлении мыса Крутого. Боцман торопил гребцов, словно хотел уйти от погони. Аввакумов достал из-под банки большой кожаный ранец с рацией и передал в эфир: — Я Торос один!.. Я Торос один!.. Сделав крутой разворот, шлюпка встала носом против волны. Напряженно вслушиваясь, они старались услышать сквозь вой и свист ветра, что делается на «Бенони». — Неужели ошибка в расчете? — тихо сказал Ясачный. — Нет никакой ошибки. Вот увидите, мичман, они спустят на воду шлюпку, — отозвался капитан. — Другой такой возможности надо ждать годами. Лаусон неглуп и отлично это понимает. — Я Торос один!.. Я Торос один!.. — передал Аввакумов и переключил рацию на прием. Было слышно, как, взревев, двигатели «Бенони» перешли на рабочий ритм и затихли — мотобот ушел в северо-западном направлении. Почти одновременно Аввакумов принял ответные позывные. Напряженно вслушиваясь, он прижал к ушам телефоны и доложил: — Товарищ капитан, радиограмма: «Я Торос два. Обнаружил промысловый косяк рыбы северо-восточнее восемь кабельтовых. Примите меры». — На шлюпке — соблюдать тишину! — приказал Клебанов. Нагорный понял, что на «Вьюге» с помощью радиолокатора обнаружили спущенную с «Бенони» шлюпку. «А что, если на мотоботе так же ведут наблюдение за шлюпкой?» — подумал Андрей. Была и другая опасность, Нагорный о ней не подумал, но капитан и мичман с растущей тревогой вглядывались в снежную мглу. Заряд мог неожиданно кончиться, и тогда они очутились бы нос к носу со шлюпкой «Бенони». — Товарищ капитан. — доложил Аввакумов, — радиограмма: «Косяк следует юго-западном направлении. Переходите прием. Торос три». По команде капитана шлюпка развернулась в юго-западном направлении. Нагорный и Хабарнов навалились на весла. Когда ветер стих и спала волна, Андрей оглянулся и узнал отвесные склоны мыса Крутого. Шлюпка вошла в затяг. Аввакумов передал в эфир позывные. Клебанов с трудом перебрался на корму шлюпки, сел на банку рядом с Аввакумовым, лицом к Ясачному и разложил на коленях карту залива. — Как думаете, боцман, — спросил он, — куда может направиться шлюпка «Бенони»? — От губы Чаны до губы Угор на пять миль тянутся лишенные растительности отвесные гранитные скалы, — как бы мысля вслух, ответил Ясачный. — При таком резком северо-восточном ветре берега не ласковые. От губы Угор до Гудим-губы дело обстоит не лучше. Да и вряд ли они пойдут в Гудим-губу — ворота порта Георгий, место людное. Скорее всего, они держат на створы губы Угор. Думаю, их шлюпка пройдет западным или восточным проливом. — Боцман водил по карте пальцем. — Длина Угор-губы миль шесть, вершина отлогая, поросшая густым кустарником, — хорошее место для высадки… — Словом, задача со многими неизвестными, — в раздумье сказал Клебанов и, помолчав, спросил: — Торос три молчит? Аввакумов так напряженно вслушивался в эфир, что Клебанову пришлось свой вопрос повторить дважды. — Торос три молчит, но позывные принял, — ответил радист и снова ладонями обеих рук прижал телефоны к ушам. Наступила пауза, долгая и томительная. Укрытые от ветра высокими скалами мыса, покачиваемые малой волной, они напряженно вслушивались в окружавшую их тишину. Вспенив воду, мелькнул и скрылся косой плавник зубатой косатки. Оттаяв и увлекая за собой комья снега, покатился с вершины мыса большой, отполированный ветром камень и шумно плюхнулся в море. Взлетели испуганные глупыши, крича, пронеслись над заливом и снова сели на скалы. Снег шел не переставая. Аввакумов предупреждающе поднял руку и, выхватив карандаш, склонился над блокнотом. Клебанов повернулся на сиденье, читая через плечо радиста радиограмму с берегового поста наблюдения: — «Западным проливом косяк прошел квадрат «Д-15». — Ващи предположения, боцман, оправдались, — сказал Клебанов, отчеркнув карандашом створы Угор-губы. Шлюпка развернулась, вышла из укрытия и пошла в юго-восточном, направлении. Резкий ветер бил по левому борту, швырял в лицо клочья морской пены и жесткий колючий снег. Руки немели. В паре с Хабарновым грести было нелегко. Тихон и родился-то на карбасе, с малых лет рос на море. Когда впервые взял он в руки перо, то уже в совершенстве, как истый помор, владел кормовым веслом. Еще с трудом познавал он законы начальной арифметики, но уже знал законы моря, все банки и отмели, бухты и опасные камни от Мезенского залива до Канина Носа. Нагорный потерял счет времени, когда, услышав грохот волн, повернулся, рассчитывая увидеть берег. Но впереди была все та же снежная мгла. Грохот прибоя нарастал с каждой минутой. Очертания скал показались из мглы неожиданно и неотвратимо. Боцмэн отдал команду, и гребцы с особенной яростью налегли на весла. Шлюпка шла прямо на отвесные скалы. Волны взлетали от подножия валунов к вершине, разбивались и падали белой, кипящей пеной. В последнее мгновение, когда до бурунов оставалось не больше десятка метров, гонимая ударами весел, силой течения и ветра, шлюпка ворвалась в пролив меж скал… — Табань левым! — крикнул Ясачный, и, огибая скалы, шлюпку понесло боком по бурлящему виру. — Табань правым! И, уже огибая камни, они выходили на стрежень. Здесь было тише. Большая волна разбивалась у горла залива. Покачиваемые малой волной, они шли по самому стрежню меж скалистых угоров. Отдыхая, гребцы сушили весла. Снег редел. На востоке появилась пока еще узкая полоска чистого неба. Солнце клонилось к западу. Ясачный дал команду, и гребцы навалились на весла. Теперь они не могли рассчитывать на береговой пост радиолокации — высокие, извилистые берега губы мешали наблюдению за шлюпкой. Соблюдая предосторожность, они шли бережнее, всматривались в снежную мглу и, только убедившись б том, что шлюпка с «Бенони» опередила их, продвигались вперед до следующего поворота. Берега становились пологими, изредка встречались валуны. В распадках курчавились мелкорослые ерники, занесенные снегом. И, как это бывает всегда, их путешествие закончилось самым неожиданным образом. Далеко впереди, за скалистым мыском, чуткое ухо Ясачного уловило всплеск весла. Прислушиваясь, боцман поднял руку, затем тихо сказал: — Табань левым! Шлюпка круто развернулась на запад. Последовала новая команда, и киль с разгону врезался в отмель. Посовещавшись с Ясачным, капитан подозвал к себе Нагорного: — Вот что, товарищ Нагорный, со стороны этого верблюда, — капитан указал на скалистый мысок впереди, — подберетесь как можно ближе к шлюпке. Выясните, сколько человек высадилось на берег и что они там делают. Помните: малейшая неосторожность может провалить операцию. Ясачный помог Андрею надеть белый маскхалат, поправил на нем капюшон, проверил оружие и молча пожал руку выше локтя. Нагорный двинулся вперед. Пока между ним и шлюпкой «Бенони» был скалистый мысок, можно было двигаться, не соблюдая большой предосторожности. Но, по мере того как он подходил к скалам, опасность возрастала. Наст выдерживал, и валивший хлопьями снег скрывал его следы. В ернике Андрей лег и дальше пополз по-пластунски. На склоне мыска образовались проталины, кое-где желтели первые вестники заполярной весны — цветы многолетней сиверсии. «Как удивительна сила жизни! — думал Андрей, подтягиваясь на локтях. — По ночам мороз, дуют свирепые ветры, а на проталинах уже появились цветы…» Поднявшись к вершине, Нагорный рассчитывал увидеть то, что происходило по другую сторону мыска. Но, выглянув из-за камня, он убедился, что от противоположного края его отделяет ровная площадка шириною в семь-восемь метров. На этом маленьком, своеобразном плато наст не выдержал. Зарываясь в снег, Андрей с трудом преодолел последние метры. Южный склон мыска густо порос мелкорослым березняком, и это облегчало задачу. Андрей увидел на отмели шлюпку «Бенони». Матрос, назвавший себя Хугго Свэнсоном, сидел на снегу, прислонившись к валуну, и курил трубку. Рядом с ним лежали рюкзак и саперная лопата. Боцман с «Бенони», уже немолодой человек, тяжело дыша от усталости, примостился на носу шлюпки. — Ты что же, здешний? — по-русски, но с каким-то акцентом спросил боцман. — Видел в губе знак из камня? — Видел. — Своими руками складывал. Сколько лет прошло, а кекур все стоит… — Свэнсон отлично говорил по-русски.
Некоторое время они молчали, затем боцман спросил:
— Ты же русский. Звать-то тебя как? — Не получив ответа, он приложился к фляге, сплюнул и, словно ни к кому не обращаясь, с какой-то душевной усталостью, сказал: — Ты, Хугго, знаешь меня, как Райта, но имя мое Микель… Микель Янсон… Я из Вентспилса, с Балтики, там родились мои дети… Старшего, Эльмара, в сороковом [183] я увез на чужбину и… Нет больше сына у Микеля Янсона. — Он снова отхлебнул из фляги, сплюнул и сказал: — Осталась дочь, Берта. Она живет в Лиельварде, ее муж электрик на Кегумской гидроэлектростанции. У Берты родился сын, мой внук… Его назвали, как меня, Микелем… Я бы очень хотел повидать моего внука…
На этот раз паузу нарушил Свэнсон:
— Мы с тобой, старик, не в Хассельнесет у стойки Басса! Надо приниматься за дело!
— Еще немного, я очень устал, — глухо сказал Янсон и потянулся к фляге. — Мы с тобой, Хугго, как пара волов в одном ярме. Ты молодой, сильный. Скажи мне правду, Хугго: зачем мы здесь, на этой суровой, холодной земле? Это что — политика?
— Мне политика — что рыбке зонтик! — усмехнулся Свэнсон. — Был я в лагере под Мюнхеном, хлебал со мной баланду из одного котелка человек… Теперь небось и костей его не осталось, можно назвать: Никифор Касаткин. Историй он знал множество, мог объяснить всякое движение человеческой души. Мне Никифор так говорил: «Ты, Сашка, в жизни романтик, и погибать тебе придется через эту твою романтику». Так и сказал. Никифор людей насквозь видел.
— С чем ее едят, твою романтику?
— Про это тебе знать не положено, — отрезал Свэнсон, встал, потянулся и, позевывая, бросил: — Надо двигаться. Вот придем на Черную Браму…
«Черная Брама», — мысленно повторил Андрей и вспомнил все, что было связано для него с этим названием.
Райт достал из-под банки вторую саперную лопату. Они закрыли шлюпку чехлом и поверх брезента забросал снегом.
«Стало быть, они рассчитывают сюда вернуться», — подумал Нагорный.
— Своими руками складывал. Сколько лет прошло, а кекур все стоит… — Свэнсон отлично говорил по-русски.
Некоторое время они молчали, затем боцман спросил:
— Ты же русский. Звать-то тебя как? — Не получив ответа, он приложился к фляге, сплюнул и, словно ни к кому не обращаясь, с какой-то душевной усталостью, сказал: — Ты, Хугго, знаешь меня, как Райта, но имя мое Микель… Микель Янсон… Я из Вентспилса, с Балтики, там родились мои дети… Старшего, Эльмара, в сороковом [183] я увез на чужбину и… Нет больше сына у Микеля Янсона. — Он снова отхлебнул из фляги, сплюнул и сказал: — Осталась дочь, Берта. Она живет в Лиельварде, ее муж электрик на Кегумской гидроэлектростанции. У Берты родился сын, мой внук… Его назвали, как меня, Микелем… Я бы очень хотел повидать моего внука…
На этот раз паузу нарушил Свэнсон:
— Мы с тобой, старик, не в Хассельнесет у стойки Басса! Надо приниматься за дело!
— Еще немного, я очень устал, — глухо сказал Янсон и потянулся к фляге. — Мы с тобой, Хугго, как пара волов в одном ярме. Ты молодой, сильный. Скажи мне правду, Хугго: зачем мы здесь, на этой суровой, холодной земле? Это что — политика?
— Мне политика — что рыбке зонтик! — усмехнулся Свэнсон. — Был я в лагере под Мюнхеном, хлебал со мной баланду из одного котелка человек… Теперь небось и костей его не осталось, можно назвать: Никифор Касаткин. Историй он знал множество, мог объяснить всякое движение человеческой души. Мне Никифор так говорил: «Ты, Сашка, в жизни романтик, и погибать тебе придется через эту твою романтику». Так и сказал. Никифор людей насквозь видел.
— С чем ее едят, твою романтику?
— Про это тебе знать не положено, — отрезал Свэнсон, встал, потянулся и, позевывая, бросил: — Надо двигаться. Вот придем на Черную Браму…
«Черная Брама», — мысленно повторил Андрей и вспомнил все, что было связано для него с этим названием.
Райт достал из-под банки вторую саперную лопату. Они закрыли шлюпку чехлом и поверх брезента забросал снегом.
«Стало быть, они рассчитывают сюда вернуться», — подумал Нагорный.
 Старик присел возле своего рюкзака и хотел было продеть руки в ремни, но раздумал:
— Мне, Саша, нечего делать на Черной Браме. Ты вернешься назад, в Гамбург. Тебя ждет Марта, ты сам говорил, молодая и красивая Марта. Если ты любишь, то поймешь… Саша, я хочу перед смертью прикоснуться к земле, на которой я вырос, обнять дочь, взять на руки внука… Я здесь только для того, чтобы в последний раз увидеть мою Латвию, услышать родной язык… Саша, я много старше тебя… Хочешь, стану перед тобой на колени.
— Ты, старик, думаешь, что тебя примут? — спросил Свэнсон.
— Примут, Саша, примут! Не как вор приду — как блудный сын евангельской притчи: «Согрешил я перед тобой и недостоин называться сыном твоим…»
Бросив исподлобья быстрый, оценивающий взгляд на Райта, Свэнсон молчал.
— Во имя твоей любви к Марте, во имя твоего счастья…
— Хорошо, старик, но будь осторожен. Отсюда пойдешь прямо на юг полмили, затем на восток — Гудим-губа, порт Георгий. Из порта раньше ходила «каботажка» до Мурманска, ну, а там поездом. Деньги у тебя есть…
Дрожащими пальцами, торопливо старик затянул ремни рюкзака, сделал несколько нерешительных шагов, остановился, вернулся назад:
— Хочу обнять тебя, Саша, пожелать настоящего счастья. Мне всегда казалось, что красивые люди жестокосердны, теперь вижу — ошибся… — на глазах Райта блеснули слезы.
Свэнсон ответил на объятие, и старик двинулся на юг. С каждым шагом его поступь становилась увереннее.
Чтобы лучше видеть уходившего, Свэнсон поднялся на поросший мхом валун, з? — тем он вдруг сунул руку за пазуху и, вскинув пистолет, не целясь, нажал на спусковой крючок. Выстрела не было слышно. Микель Янсон повернулся к Свэнсону и, раскинув руки, упал лицом вниз.
Райт был враг, и все-таки жалость к старику сдавила горло Андрея.
Взглянув на Свэнсона, Нагорный не поверил своим глазам — Свэнсон смеялся. Запрокинув голову и прислонившись спиной к валуну, он смеялся…
Андрей вспомнил — еще мальчишкой любил он, стоя за спиной Владимира, смотреть, как брат рисует ему «артистов» для теневого театра. Когда на бумаге появлялись знакомые персонажи сказок, Андрей смеялся. Он не мог удержаться от смеха — радости творческого соучастия.
Почему смеялся Свэнсон?
Легкое прикосновение к ноге вывело Андрея из состояния задумчивости: он отполз назад по своему следу в глубоком снегу и осторожно оглянулся. Это был старшина Хабарнов.
На листке из блокнота Нагорный написал несколько слов, сунул листок в ствол автомата и, вытянув руку, передал записку старшине.
Когда Андреи вновь подтянулся к краю плато, Свэнсопа не было. Его меховая шапка мелькнула где-то южнее в распадке. Вернулся Свэнсон с рюкзаком Райта в руке, швырнул его в шлюпку, приподняв брезент, раскурил трубку, надел свой рюкзак, сверился по компасу, поднялся на валун, осмотрелся и двинулся ка запад.
Старик присел возле своего рюкзака и хотел было продеть руки в ремни, но раздумал:
— Мне, Саша, нечего делать на Черной Браме. Ты вернешься назад, в Гамбург. Тебя ждет Марта, ты сам говорил, молодая и красивая Марта. Если ты любишь, то поймешь… Саша, я хочу перед смертью прикоснуться к земле, на которой я вырос, обнять дочь, взять на руки внука… Я здесь только для того, чтобы в последний раз увидеть мою Латвию, услышать родной язык… Саша, я много старше тебя… Хочешь, стану перед тобой на колени.
— Ты, старик, думаешь, что тебя примут? — спросил Свэнсон.
— Примут, Саша, примут! Не как вор приду — как блудный сын евангельской притчи: «Согрешил я перед тобой и недостоин называться сыном твоим…»
Бросив исподлобья быстрый, оценивающий взгляд на Райта, Свэнсон молчал.
— Во имя твоей любви к Марте, во имя твоего счастья…
— Хорошо, старик, но будь осторожен. Отсюда пойдешь прямо на юг полмили, затем на восток — Гудим-губа, порт Георгий. Из порта раньше ходила «каботажка» до Мурманска, ну, а там поездом. Деньги у тебя есть…
Дрожащими пальцами, торопливо старик затянул ремни рюкзака, сделал несколько нерешительных шагов, остановился, вернулся назад:
— Хочу обнять тебя, Саша, пожелать настоящего счастья. Мне всегда казалось, что красивые люди жестокосердны, теперь вижу — ошибся… — на глазах Райта блеснули слезы.
Свэнсон ответил на объятие, и старик двинулся на юг. С каждым шагом его поступь становилась увереннее.
Чтобы лучше видеть уходившего, Свэнсон поднялся на поросший мхом валун, з? — тем он вдруг сунул руку за пазуху и, вскинув пистолет, не целясь, нажал на спусковой крючок. Выстрела не было слышно. Микель Янсон повернулся к Свэнсону и, раскинув руки, упал лицом вниз.
Райт был враг, и все-таки жалость к старику сдавила горло Андрея.
Взглянув на Свэнсона, Нагорный не поверил своим глазам — Свэнсон смеялся. Запрокинув голову и прислонившись спиной к валуну, он смеялся…
Андрей вспомнил — еще мальчишкой любил он, стоя за спиной Владимира, смотреть, как брат рисует ему «артистов» для теневого театра. Когда на бумаге появлялись знакомые персонажи сказок, Андрей смеялся. Он не мог удержаться от смеха — радости творческого соучастия.
Почему смеялся Свэнсон?
Легкое прикосновение к ноге вывело Андрея из состояния задумчивости: он отполз назад по своему следу в глубоком снегу и осторожно оглянулся. Это был старшина Хабарнов.
На листке из блокнота Нагорный написал несколько слов, сунул листок в ствол автомата и, вытянув руку, передал записку старшине.
Когда Андреи вновь подтянулся к краю плато, Свэнсопа не было. Его меховая шапка мелькнула где-то южнее в распадке. Вернулся Свэнсон с рюкзаком Райта в руке, швырнул его в шлюпку, приподняв брезент, раскурил трубку, надел свой рюкзак, сверился по компасу, поднялся на валун, осмотрелся и двинулся ка запад.
ЧЕРНАЯ БРАМА
Тело Райта они нашли в распадке под снегом. Старик сделал первые шаги на пути к родине, когда его настигла пуля. — Выстрел в затылок, — сказал Клебанов. — Прием, достойный Катынского леса и Бабьего Яра. На двойке «Бенони» с телом Райта ушел Хабарнов в порт Георгий. Шлюпка с «Вьюги» была надежно укрыта в одной из расщелин. Вместе с Ясачным капитан уточнил маршрут. Из материалов следствия ему было известно, что пути Сарматова и Благова скрещивались на Черной Браме. К той же цели стремился и Свэнсон. Чтобы не наступать ему на пятки, оперативная группа и пограничники углубились в тундру значительно южнее. Впереди шел Ясачный (он отлично знал все побережье залива), затем Клебанов и Нагорный с рюкзаком. Цепочку замыкал Аввакумов. Тундра незаметно перешла в холмы, часто встречались нагромождения камней озера в ложбинах. К берегам по южным склонам холмов сбегали березовые ерники. Попутный северо-восточный ветер дул в спину. Капитан Клебанов замедлил шаг и, когда его нагнал Нагорный, сказал: — Вы наблюдали за Свэнсоном, слышали его разговор с Райтом. Какой вывод можно сделать о Свэнсоне? Нагорный почувствовал, как краснеет, и, преодолевая смущение, ответил: — Мне кажется, что Свэнсон был в гитлеровском плену, находился в лагере где-то под Мюнхеном. Заполярье он знает хорошо. Может быть, я ошибаюсь, но, думается, Свэнсон выболтал один факт из своей биографии, по которому можно определить его прежнее местожительство и даже работу… — Смелее, комендор! — Свэнсон сказал, что кекур в самом начале губы он складывал сам, своими руками много лет назад. Он так и назвал сложенный из камня знак кекуром… — Ну? Что же вы замолчали? — поддержал его капитан. — Малознакомое поморское слово. Не каждый скажет «кекур». Иногда его речь мне напоминала гоЕор старшины Хабарнова. И тогда мне казалось, что Свэнсон из поморов. Вот если бы можно было узнать, кто и когда ставил этот знак на сопке… Капитан тихо свистнул. Ясачный повернулся и, увидев поднятую Клебановым руку, остановился. Подошел и Аввакумов. Капитан присел на камень и, вынув блокнот, написал текст радиограммы. — Зашифруйте, товарищ лейтенант, и передайте в Мурманск через Торос три! — приказал Клебанов. — Не позже завтрашнего утра мы будем знать, кто ставил кекур на сопке. Пока Аввакумов был занят рацией, они разогрели на сухом спирте мясные консервы. Передав в эфир запрос капитана, радист перешел на прием, получил подтверждение и принял новую радиограмму:«Мотобот «Бенони» задержан на траверзе мыса Малоприметный сторожевым кораблем «Буря» и отведен в порт. При проверке судовой роли выяснилось отсутствие боцмана Эрнеста Райта и матроса Хугго Свэнсона. В вахтенном журнале свежая запись: «5 часов утра. Траверз мыса Хибергнесет. При выходе на циркуляцию смыло волной боцмана Ранта и матроса Свэисона». Запись в журнале команда подтверждает».— Команда «Бенони» подтвердит что угодно, — усмехнулся Ясачный. — Ручаюсь — механика Траммэра я уже встречал раньше на боте контрабандиста Хатчинса. Бил зверя у Канина Носа. — Во всяком случае, — в раздумье сказал капитан, — теперь мы знаем точно: убит Эрнест Райт, или, как он назвал себя, Микель Янсон. Тактика меняется: Благов не был включен в списки судовой команды, Свэнсон и Райт числились в списке, но неожиданно погибли. Не проследи мы за высадкой, было бы трудно доказать, что это не так. «Итак, Свэнсон направляется к Черной Браме. К этой скале вели следы Сарматова, к ней должен был пробиться Благов, — думал Клебанов. — Почему с такой настойчивостью они стремятся к Черной Браме? Из истории военных лет мы знаем: где-то у самой вершины скалы была пещера, служившая гитлеровцам постом наблюдения. Стало быть, там, на Западе, они отлично знают о существовании Черной Брамы, и Сарматов, сброшенный на парашюте в этом районе, мог использовать пещеру как место явки или… Очевидно, Лемо и Свэнсон — одно и то же лицо. Лемо, как и Благова, обучали работе со счетчиком Гейгера. Но ни тому, ни другому не дали с собой ни одного прибора. А что, если Сарматов спрятал счетчики в этой пещере? Тогда все становится на место…» На этом размышления Клебанова были прерваны. Путники снова двинулись на запад. Солнце село за сопками. Снег уже не падал. Холодный ветер забирался под куртки. Где-то ухала белая сова — хозяйка тундры. На озерах трещал лед, хрустел под ногами наст. Прошло много времени. Небо потемнело, появились редкие звезды. Ветер утих. Наступила такая тишина, что Нагорный слышал, как, сжимаясь от мороза, скрипят кожаные ремни рюкзака. Только теперь Андрей понял и оценил заботу Ясачного: одетый в новое штормовое обмундирование, он почти не чувствовал холода. Преодолевая усталость, Нагорный уже с нетерпением поглядывал на капитана, когда, выбрав удобное для привала место, Ясачный решительно остановился. — Отдохнем до света, — сказал он и, развязав рюкзак, извлек банку сухого спирта и морские галеты. Вспыхнуло голубоватое пламя. Набрав полный чайник снега, боцман поставил его на огонь. В ожидании, пока закипит чайник, при свете карманного электрического фонаря капитан Клебанов и Ясачный склонились над картой, чтобы уточнить маршрут. Завтра они будут у подножия Черной Брамы. Нагорный лег прямо на снег, положив под голову рюкзак. Небо стало еще темнее, звезды казались ярче. Слыша глухие, сильные удары крови, Андрей положил руку на сердце… Здесь, в боковом кармане тужурки, была фотография Светланы… Девушка смотрела на него испытующим взглядом, и между ее бровями легла глубокая, строгая складка. Теперь и надпись на обороте фотографии была не такой, как прежде, в ней не было наивной девичьей простоты. Слова звучали торжественно и строго, словно присяга: «Всегда, всегда будь таким, каким я тебя знала». Они идут к Черной Браме, к той самой высоте 412, где четырнадцать лет назад погиб его брат Владимир. Из состояния задумчивости Нагорного вывел боцман — перед Андреем стояла знакомая большая эмалированная кружка крепкого чая. Ужинали молча. Казалось, что каждый из них настороженно прислушивается к тундре, к этой пугающей ночной тишине. Забравшись в спальный мешок, Андрей закрыл глаза. Тепло поднималось к сердцу, словно марево в жаркий день… …Большая самоходная баржа… Гребни волн убегают в стороны. Широко расставив ноги, в плащ-накидке и каске, положив руки на автомат, висящий на шее, стоит Владимир Нагорный. Увидев брата, он сказал так, словно расстались они только вчера: «Сменяй, комендор, пароль «Брама»… И вот Андрей на посту. Он молча смотрит, как уходит Владимир. Автомат висит на его плече дулом вниз, он уходит все дальше и дальше, пока не превращается в маленькую, едва заметную точку. Точка не исчезает, она снова растет. Это птица — большой, гордый альбатрос. Он делает круг над судном, опускается ниже и ударяет его крылом в плечо, словно зовет за собой. Но Андрей на посту… Снова взлетает альбатрос и, снова, снижаясь, толкает его в плечо… Андрей просыпается. Это будит его, толкая в плечо, Ясачный. Горизонт светлеет. Начинается новый, второй день в тундре. Шли они по-прежнему цепочкой, на запад. Солнце грело по-весеннему. К полудню наст становился тоньше, хрустел и проваливался под ногами. Тундра просыпалась от долгого сна. На проталинах желтели полярные маки, невяник, пахнущий душистым сеном. Несколько раз из-под ног боцмана взлетали первые куропатки. Все чаще и чаще встречались следы лемминга. Ясачный вновь сменил направление. Теперь они шли на север. Гранитная скала на фоне пологих, покрытых снегом сопок, показалась тогда, когда, по расчетам Ясачного, до высоты 412 оставалось еще не менее двух миль. — Надо полагать, что Свэнсон нас опередил, — сказал Клебанов. — Двигаться дальше опасно. Из распадка, поросшего ивняком, они наблюдали за местностью, разбив на воображаемые секторы все пространство до подножия высоты. Только под вечер, передав бинокль Клебанову, мичман сказал: — Обратите внимание, товарищ капитан, вон на ту площадку. Ручаюсь — это Свэнсон. Зрение у Нагорного было острое, он увидел: из расщелины поднялись чьи-то руки, и рядом с ящичком, стоявшим на площадке, появился такой же второй. Затем поднялся Свэнсон. Он осмотрелся, положил в рюкзак оба ящика и, привалившись спиной к гранитной стене, уперся ногами в большую глыбу. Под его усилиями глыба покачнулась и с грохотом упала, закрыв собой расщелину. Свэнсон раскурил трубку и, свесив ноги, сел на краю плато. Андрею показалось, что «романтик» смеется. Как бы в подтверждение этого, капитан сказал, передавая бинокль Ясачному: — Этому подлецу почему-то весело! Выкурив трубку, Свэнсон выбил чубук и начал спускаться вниз. — Товарищ капитан, будем его брать сейчас? — спросил Ясачный. — Нет, мичман. Надо проследить его связи, адреса явок. Осмотрим эту расщелину. — Мне кажется, что осмотр ничего не даст — сундук пуст… — Пустой сундук не запирают. Вон за тем высоткой, — капитан указал на невысокий холм, — должны быть пограничники старшего лейтенанта Радова. Пока мы осмотрим логово, они поведут Свэнсона на поводке. — Как это «на поводке»? — спросил Нагорный. — Свэнсон думает, что он сам по себе, а его ведут на поводке. Тундра — земля наша, у нее есть хозяин. — Понял, товарищ капитан. — Пограничникам надо было бы дать условный сигнал, но это небезопасно. Пойдете, комендор, вы, — приказал капитан. — Этим распадком подберетесь к западному склону высотки, там должен быть наряд. Людей проведете сюда. Ясно? — Ясно, товарищ капитан. Разрешите идти? — Идите! Пригнувшись, Нагорный распадком подобрался к камням и, насколько позволял глубокий снег, быстро зашагал на запад. До высотки было с полмили, не больше, но добрался он до западного склона минут через тридцать и с удивлением осмотрелся — запорошенный снегом березовый колок и никаких следов человека. Андрей хотел было повернуть назад, как вдруг зашевелились ветки берез, и, словно из-под снега, перед ним вырос пограничник. — Младший сержант Лобазнов и проводник служебно-розыскной собаки Сеничкин, — улыбаясь, доложил Фома. Только теперь Андрей увидел и проводника Сеничкина и низкорослую дымчато-серую, с рыжими подпалинами овчарку. — Ушел? — спросил Фома так просто, словно они виделись только вчера. — Ушел, — ответил Нагорный. — Давно? — Минут тридцать назад. Сколько сейчас? Лобазнов посмотрел на циферблат больших карманных, знакомых Нагорному часов: — Семь пятнадцать. Если он ходок хороший и местность знает, разрыв получается большой. — И ходок он сильный, и стрелок меткий. Словом, орешек крепкий. — Разгрызем. Мы не одни, за ним сейчас много глаз, — хитро прищурившись, сказал Лобазнов. Веснушек на его лице стало еще больше. Крупные, каждая величиной с горошину, они соперничали цветом с сиверсией. — Какой он из себя, тип этот? Небось каинова печать на морде? — спрашивал Лобазнов на пути к распадку. — У тебя деньги есть? — неожиданно спросил Нагорный. — Есть… Полсотни… — недоумевая, ответил Фома. — Так вот, если бы он тебе встретился и спросил взаймы — отдал бы все пятьдесят. Отдал не задумываясь. Видный парень, глаза чистые, ясные… — Скажи какой! — удивился Лобазнов. В этой интонации было столько знакомого и дорогого по воспоминаниям детства, что невольно пришли на память и те дни, когда они с Фомой дожидались обещанного Владимиром трофейного тесака… По тропе, проложенной Нагорным, пограничники без труда добрались до распадка. Капитан снабдил Лобазного картой, дал задание и наряд ушел по свежему следу «романтика». Подъем на Черную Браму начали с юга. Цепляясь за ветки низкорослого березняка, подтягивались на руках. Пользуясь малейшей впадиной, на которую можно было поставить ногу, и, прижимаясь всем телом к скалам, они брали с боем каждый метр подъема. Казалось, еще одно усилие — и они достигнут вершины, но перед ними была только терраса — возможность кратковременного отдыха. Не сдерживаемый ничем, со свирепой силой дул ветер. Словно оберегая тайну вершины, ветер пытался сбросить их вниз, на острые камни подножия. В непродолжительные минуты отдыха, привалившись грудью к скале и держась руками за темные, прошлогодние мхи, Андрей думал о том, что много лет назад по этим самым гранитным склонам поднимался его старший брат Владимир. Что где-то здесь, выполняя свой воинский долг, он погиб, и останки, быть может, расклевали птицы. Когда они достигли вершины, солнце село за горизонт. В темном небе мерцал зеленоватый всполох. Они спустились метра на два ниже верхнего ровного плато, здесь была терраса в форме неправильного треугольника. Осмотрев закрывшую расщелину глыбу гранита, Ясачный озабоченно сказал: — Сдвинуть этот «камешек» с места — дело нелегкое… Гранитный осколок закрывал почти всю расщелину, оставался узкий и короткий, с острыми краями лаз. Клебанов включил электрический фонарь, но его луч не мог пробить тьму, царившую в пещере. Ясачный привязал фонарь на веревку и спустил вниз. Пещера была около двух метров глубины. Он попытался сдвинуть глыбу с места, но без всякого успеха. — Товарищ капитан, — обратился Нагорный, — а что, если проникнуть в этот узкий лаз? Разрешите? — Что ж, попытайтесь, — сказал Клебанов. Андрей молча шагнул к расщелине. Сунув в карман брюк фонарик, он сбросил с себя бушлат и куртку. Оставшись в одной тельняшке, Андрей с трудом проскользнул вниз. Ноги его коснулись дна. Не отпуская веревки, Андрей включил фонарь. Вокруг, насколько хватал глаз, была ровная стена неизвестной ему зеленоватой породы с редкими блестками. Его охватил озноб беспричинного страха, наверх он крикнул: — Здесь холодно, как в погребе. Бросьте мне бушлат! Надев на себя еще не успевшую утратить тепла одежду, Андрей двинулся в глубину пещеры. Первое, что он увидел, была наполовину истлевшая ушанка незнакомого ему образца. На шапке уцелел металлический цветок — это был эдельвейс, эмблема гитлеровской альпийской дивизии. У отвесной стены, подпирающей свод, Андрей наткнулся на артиллерийский дальномер; он был разбит и сплюснут какой-то огромной силой. В нише Андрей увидел радиоаппаратуру, спутанные провода, несколько пачек сухих батарей питания, топографические карты с немецкими надписями, пустые банки от консервов, металлическую каску и большой рюкзак, перевязанный парашютными стропами. Развязав узлы строп, Андрей заглянул внутрь рюкзака и увидел шесть ящиков из узкой дубовой планки. Такие же два ящика вынес из пещеры Свэксон. Заинтересованный, Андрей достал карманный нож. открыл отвертку и вывинтил четыре шурупа, удерживающие крышку. В ящике оказался черный пластмассовый, каплеобразный по форме предмет, завернутый в прозрачную поливиниловую ткань. Острая, по-видимому нижняя, часть прибора заканчивалась кольцом, к которому крепился тонкий плетеный линь с трехпалым стальным якорем. Казалось, что это донная мина, но взрывателя в корпусе не было. Заметив в верхней части прибора линию стыка, образующую как бы крышку, Андреи повернул ее против часовой стрелки. Попытка удалась. Под крышкой оказалась шкала регистрирующего прибора с зеркальным отсчетом и пусковая кнопка с надписью по-английски: «старт». Андрей упаковал прибор, отнес его к расщелине и, доложив о находке, обвязал ящик концом. Соблюдая предосторожность, прибор подняли наверх. Оставалось осмотреть еще один, самый дальний угол пещеры. Включив фонарь, Андрей шагнул в сторону от ниши. Здесь свод пещеры нависал выгнутым куполом. В зеленоватой породе сверкали тысячи искр. Вдруг узкий луч света вырвал из темноты бескозырку… Надетая на рукоятку тесака, торчавшего из расщелины, бескозырка наполовину закрывала собой сшитый из непромокаемой ткани мешочек. — Нагорный, почему молчишь? — крикнул Ясачный, и его низкий, грудной голос прокатился эхом по всей пещере. Волнение охватило Андрея. Чувствуя, как дрожат его руки, он снял бескозырку. Время стерло надпись на ленте. Андрей подошел ближе, потянул тесак за рукоятку и вспомнил: «Передайте Андрейке — скоро приеду и привезу ему трофейный тесак! Фома Лобазнов лопнет от зависти!» — Нагорный, почему молчишь?! — повторил Ясачный. Андрей сорвал истлевшую завязку и извлек из мешочка клочок топографической карты и две фотографии. На одной из них, любительской, пожелтевшей от времени, была изображена девушка в полушубке и шапке-ушанке. На обороте можно былопрочесть: «Володя! Пускай хранит тебя моя любовь. Даша». На второй фотографии — группа: сидящая в кресле женщина держала на коленях ребенка, возле нее стоял юноша лет семнадцати… Большая фотокопия с этого снимка висит и сейчас у мамы в комнате… Не хватило дыхания. С трудом проглотив слезный ком, Андрей закричал… Услышав крик, Ясачный лег плашмя у края расщелины: — Андрей! Что случилось?! Нагорный молчал. Вскочив на ноги, Ясачный с бешенством навалился на глыбу камня, но, покачнувшись, она встала на прежнее место. Тогда, протиснувшись в узкое пространство между стеной верхнего плато и глыбой гранита, боцман уперся в нее ногами. Клебанов и радист пришли ему на помощь. Напрягая все силы, они ритмично раскачивали глыбу гранита, пока с грохотом, дробясь на куски, глыба не покатилась с террасы вниз. Первым в пещеру спустился Ясачный. Ни о чем не спрашивая, он взял из руки Андрея фотографию:
«Андрюшке еще только годик. 1938 г. Кашира»,— прочел он на обороте группового снимка и молча снял с головы ушанку. Андрей развернул клочок топографической карты. С трудом разбирая местами стертую временем запись, он читал:
«На верхней террасе Черной Брамы мы с Антоном даже не предполагали, что в трек метрах под нами, в глубокой пещере, находится пост наблюдения горных егерей. В нашу рацию угодила случайная мина, но мы сделали все, что могли. Связь с КП хотя и прервалась, но снаряды нашей батареи ложатся точно в цель. 9 часов 38 минут. Приняли решение: захватить пункт наблюдения горных егерей и продержаться до прихода наших частей. Метнув связку гранат в расщелину, мы бросились вперед, как только рассеялся дым от взрыва. Захватить пункт наблюдения оказалось легче, чем удержать. 13 часов 20 минут. Егери атакуют девятый раз. Облепихин сделал вылазку, чтобы собрать трофейное оружие. Облепихин не вернулся. Прощай, Антон… Последние три патрона…»На этом запись обрывалась. — «Быть может, когда-нибудь»… - повторил Андрей. — Вот когда пришлось, Володя… Молчание нарушил Аввакумов. Спустившись вниз, он доложил: — Товарищ капитан, радиограмма из Мурманска! Клебанов быстро прочел:
— «На ваш запрос сообщаем: опознавательные знаки Угор-губе ставила мурманская геодезическая партия в тридцать девятом году. Рабочих брали в порту Георгий. Из восьми пять работают в порту Георгий. Один в Мурманске, один погиб на войне, один пропал без вести — Кондаков Александр Фадеевич, 1916 года рождения, жена Кондакова Глафира Игнатьевна живет в порту Георгий.»
КОМУ КАКАЯ ЦЕНА
Глафира открыла дверь и замерла на пороге. На лавке сидел Саша Кондаков, чисто выбритый, молодой. Одет он был в рубаху, что она ему сама вышивала на «Звездочке», когда шли с верфи. Только узка ему стала та рубаха или сопрела в сундуке — под мышками лопнула. Сидел Саша на лавке, смотрел на Глафиру и смеялся. — Пришел… — от порога сказала Глафира, а у самой губы задрожали. — Что ж так долго? — Поветерья [184], Гланя, не было, да и занесло меня далеко. Он протянул к ней руки. Глафира, словно этого и дожидалась, бросилась к нему в объятия. — Олешек, Сашенька! Заждалась тебя, баской ты мой! — Только теперь она заметила, сколько черточек на его лице прочертило время. — Где же ты пропадал столько годов? Жил как? Почему не писал? — От тебя, Гланя, ничего не утаю. В плен я попал тяжелораненый. Война кончилась- в лагере два года под Мюнхеном был. Все к тебе, Гланя, рвался, да не вырвался. Там у нас говорили: кто в плену был, тому лучше домой не возвращаться — тюрьма и каторга, а чужая сторона хоть и злая мачеха, да не тюремщик. За океан я подался. Как жил, сама понимаешь: на чужбине, что в океане-ноги жидкие. Вижу я народу там неприкаянного — дождем не смочить сколько. Будешь удачи покорно ждать — не дождешься, надо своими силами пробиваться. Ты, Гланя, знаешь, голова у меня на выдумку горазна [185], но сколько я ни бился — жизнь что луна: то полная, то на ущербе. Гонял я лес по реке Горн в штате Монтана. Служил солдатом в стране Гондурасе. Помощником механика плавал на вонючей каботажке, рейс Чарльстон-Савенна-Джексонвиль. Даже делал бизнес на рыбе, но капитала не нажил. Если все, что я за эти годы пережил, вспомнить да записать, книга-роман получится, читать будешь — не оторвешься. Время да разлука любовь сушат, а я, что ни год, все больше тебя любил, Гланя, кручинился. Да на одной кручине моря не переедешь. Подвернулся мне один человек, вроде наш, русский. Ума не приложу, откуда про жизнь мою ему было известно, но все знал доподлинно. Хочешь, говорит, жить как люди живут — вот тебе пять тысяч шведских крон на норвежский банк в Нурвоген, а пять тысяч после, как с делом справишься. Деньги большие. Такие деньги за здорово живешь не получишь. Но сама знаешь: по какой реке плыть, ту и воду пить. Согласился я. В то время жил я в африканской стране Конго. Работал смотрителем на руднике О’Катанга. Собачья жизнь и собачья работа. Как только я документ подписал, посадили меня в самолет и отправили в Гамбург. Ну, тут… Ты, Гланя, дверь заперла? — спросил Кондаков. Он у порога прислушался, открыл дверь, вышел из дома, осмотрел все вокруг, вернулся и накинул крючок. — Ни одному человеку я того не говорил, что тебе скажу, — начал Кондаков и прикрутил фитиль так, что лампа чуть не погасла. — Когда темно, кажется, никто тебя не подслушает, а при свете и у стен есть уши. Он пошел к Глаше, нащупал ее горячие руки, обнял. — Переправили меня, Гланя, — продолжал он, — самолетом в Гамбург, большой портовый город. Ночью на машину посадили и долго куда-то везли. Стал я жить в отдельной комнате. Кормили меня, как борова на откорм, до седьмого пота по наукам гоняли. Весу я не прибавил, скорее отощал. — Чему же тебя, Саня, учили? — удивилась Глафира. — Стрелять, да чтобы без промаха. Писать, да чтобы кому не адресовано, прочесть не мог. Передачу по рации вести, чтобы пеленгом не нащупали. Учили быть не тем, что есть. Восемь месяцев учили всякой научной хитрости. — Не пойму я, Саня. Учили тебя день обращать в ночь. Лампу ты прикрутил, а человеку свет как воздух нужен. Все живое к солнцу тянется. — Дерево тянется к солнцу, а человек — к счастью! — Где же, Саня, твое темное счастье? — Ты, Гланя, мое счастье. — С тобой я, Саня, с тобой… — Насмотрелся я на нищее счастье да на голодную любовь. Мы с тобой в Нурвогене будем жить! Мотобот купим «Звездочку», в память той. архангельской. На свою тоню ходить будем… — Разве мы с тобой нищие? Я, если стану рыбу шкерить, за мной не угнаться. Ты, Саня, на всю артель лучший механик… — Горб хочешь гнуть? — Хлеб потом не посолонишь — пресно есть будет. — Я тебя зову праздновать, а ты из будней ног не вытащишь! К счастью тебя зову… — Легко зовешь, словно в кино. — Почему легко? Еще только полдела сделано. Счастье надо еще заработать. — Счастье-то, Саня, чужое… — Почему чужое? — Не наше, не русское. Ты сам чужбину мачехой назвал, а меня от матери увезти хочешь. — Одно дело на чужбине чужой кисе кланяться, другое — своей кисой похваляться. Деньги везде деньги — и рубль и шведская крона. — За что же, Саня, тебе шведские кроны? — Я все расскажу. Без твоей подмоги мне одному не управиться. Да и тебе, чтобы со мной в Нурвоген уйти, надо себя показать, заслужить доверие. Я за тебя, Гланя, поручился. Спрашивали там меня — прошло много лет, сомневаются они, а я: «Там люди, говорю, не меняются!» Как видишь, не ошибся. Погоди, Гланя, я в окошко посмотрю, не подслушивает ли кто. — Он подошел к окну, отвернул занавеску и приник лбом к стеклу. Печурка нагрелась докрасна. Сквозь щели неплотно закрытой дверки светили раскаленные угли. Голова Глафиры пылала, а тело бил озноб. Она плотнее завернулась в платок, оперлась о стену, прислонила затылок к холодному замку висящей на стене берданки. — Хорошо тут в распадке, даже брёха собачьего не слыхать, — обронил Кондаков, поправляя занавеску. — То, что я, Глаша, скажу тебе, должно быть под строгим заветом. Ни по дружбе, ни под пыткой — никому ни слова. Клещами из тебя будут тащить — молчи. Нет у меня никого дороже тебя, но, если кому-нибудь словом обмолвишься, убью без сожаления. Помни. Кондаков раскурил трубку и, дымя табаком, ходил взад и вперед между лавкой и окном. На ноги его падал красноватый отблеск из печурки. Тело черной тенью мелькало на сиреневом квадрате окна. — Этой осенью в Карской море, — говорил он, — будут проводиться большие учения Северного флота. Очень эти маневры интересуют наших хозяев. Дам я тебе, Глаша, денег, купишь шнеку с подвесным мотором. В порту Георгий каждый человек на виду, если ты считаешь это дело рискованным — купим шнеку или бот в Мурманске. С утра в артели бери расчет, скажи — перебираешься в Койду. У Кондакова погасла трубка, он присел на корточки к печурке, открыл дверцу, лучиной достал уголек, положил в чубук и раскурил. Красный отблеск ложился на его лицо., подчеркивая надбровную складку, прямую линию рта. Западный берег острова Гудим до северной оконечности крутой и скалистый. Но пограничники хорошо изучили свой край обрывистых, неприступных склонов. Катер благополучно вошел в маленький залив, и они высадились на прибрежные камни. Начальник погранотряда шел впереди, ему были знакомы кондаковское домовище и тропинки, исхоженные пограничным дозором. На западной стороне перешейка, соединяющего северную и южную части острова, овчарка начала проявлять признаки беспокойства. Шерсть на загривке Астры поднялась. Злобно ворча, она снова взяла след и повела на восток. Прошли первые дома поселка. Свернули в распадок. Обогнули сараи… Открылось кондаковское домовище. — Ты поняла, Гланя? — сказал Кондаков, не отрывая взгляда от жарких углей. — Война… — не то спросила, не то утвердительно сказала она. — А хоть бы и война, нам-то с тобой что! — через плечо бросил Кондаков. — Нам-то что — мы уйдем в Нурвоген! Вот у Вали Плициной ребенок должен народиться, ей не все равно. Механик Тимка на инженера хотел учиться… Капитан «Акулы» мечтает в самом большом театре басом петь… Тоне Худяковой не все равно, у нее мужа в ту войну убили, для этой у нее Сережка растет… Ты еще не был в нашем поселке, сходи посмотри. Домов за это время в десять раз стало больше. В окнах свет, и везде разный, но в каждом доме одно — с моря ждут или в море провожают, им тоже не все равно. На карте наш порт — малая точка, а по всей стране сколько людей — миллионы, и никому — слышишь! — никому не безразлично, будет война или нет. Очерствел ты сердцем на чужбине, да и кроны эти самые по ногам тебя спутали… Пошел бы ты, Саня, и повинился хотя бы Тоне Худяковой, она председатель. Повинную голову и меч не сечет. Кондаков подошел к ней вплотную, поставил на лавку колено, схватил за руки, больно сжал. — Ты понимаешь, что говоришь? — Понимаю. Ты кому, Кондаков, в покрученники [186] нанялся? — Глафира, — глухо сказал он, — знаю, ты на язык горазна! Былички свои побереги для вечорок! Я тебя в последний раз спрашиваю: уйдешь со мной? — Нет, не уйду. И тебе не будет попутного ветра… Послышался злобный собачий лай. Кондаков бросился к двери, прислушался. — Почудилось… Глафира подошла к столу и вывернула фитиль. Искрясь и шипя, он быстро разгорелся. Свет спугнул тени по углам. Только теперь Кондаков увидел в ее руках берданку. Давясь от смеха, он присел у порога и с трудом выговорил: — Насмешила, Гланя… Чего это ты берданку-то сняла? — Я тебя, Саня, долго ждала. Не один родник слез в подушку выплакала. Чем мечте моей по тюрьмам мыкаться, лучше я ее своими руками… Вера в любовь Глафиры была так сильна, что, весь сотрясаясь от смеха, Кондаков сказал: — Да оно, Глаша, и не выстрелит… Затвор ржа съела… Сухо щелкнул на взводе курок… Капитан Клебанов знал, что Свэнсон вооружен пистолетом. Не желая рисковать никем из своих людей, он сам подошел к двери дома и прислушался. Внезапно в окне вспыхнул свет и до слуха Клебанова донесся смех — мужской, раскатистый и непринужденный. Капитан осторожно потянул ручку, но дверь, очевидно, запертая изнутри на крючок, не поддавалась. Решив рывком сорвать дверь, он ухватился за ручку обеими руками. В это мгновение раздался оглушительный грохот выстрела, затем послышались стон и шум падающего тела. Свет в окне погас. Еще более непонятной была наступившая тишина. Что было сил Клебанов рванул дверь на себя, но безрезультатно. — Разрешите, товарищ капитан, — тихо сказал мичман и, навалившись плечом, резко рванул на себя дверь. Она распахнулась. Включив электрический фонарь, капитан и мичман перешагнули через порог и чуть не наткнулись на Свэнсона. Он сидел на полу, обхватив руками колени. С полным безразличием к своей судьбе Свэнсон позволил себя обезоружить и связать по рукам. Когда Нагорный вывел Свэнсона из дома, капитан направил луч света в глубину комнаты. На полу, головой к печке, закрыв лицо окровавленными руками, лежала женщина. Рядом с ней валялась расщепленная ложа берданки с частью затвора. Ствол ружья, вздувшийся и разорванный у основания, силою взрыва отбросило в дальний угол. На носилках Глафиру внесли в машину неотложной помощи и увезли. Кондаков так же безучастно смотрел вслед машине, пока не скрылись за поворотом красные габаритные огни… Запросив «добро», из бухты порта Георгий вышел «Пингвин», маленький катер начальника МРС. На палубе катера стояли мичман Ясачный и комендор Нагорный. Они возвращались на свой корабль. Катер шел узким проливом между островами Гудим и Красный. Крепкий северный ветер, перехватывая дыхание, гнал колючий, жесткий снег. Судно шло против ветра, зарываясь в волну. Все тело Нагорного ныло от физической усталости и того нервного напряжения сил, которое пережил в последние дни. Подставив холодному ветру лицо и чувствуя на губах соленый вкус моря, он, как это ни странно, испытывал прилив сил. Топовый огонь «Вьюги» показался внезапно, показался и скрылся. Затем так же внезапно открылись все ходовые огни корабля. Андрей увидел «Вьюгу», вздыбившуюся носом на гребне волны. Он смотрел на гордую, строгую осанку корабля, чувствуя радостное волнение, знакомое каждому, кто после долгой отлучки когда-нибудь возвращался домой.
Север Гансовский ШАГИ В НЕИЗВЕСТНОЕ
РАЗГОВОР НА ВЗМОРЬЕ
Иногда мне кажется, что все это было только сном, — задумчиво сказал инженер, потирая лоб. — Хотя, вместе с тем, я прекрасно знаю, что не спал тогда… Да что там говорить! Уже ведутся научные изыскания. Создана группа. И тем не менее… Он усмехнулся, а я насторожился. — Дело в том, что обычно мы считаем, будто ритм, в котором мы живем, и есть единственно возможный ритм. Между тем это не совсем так. Улавливаете мою мысль? В ответ я пробормотал что-то насчет теории относительности. Правда, я представлял ее себе не вполне ясно… Инженер улыбнулся. — Пожалуй, я имел в виду не совсем это. Попробуйте представить себе, что получилось бы, если бы мы начали жить быстрее. Не двигаться быстрее, а именно жить. Живые существа на земле двигаются с разной скоростью — от нескольких миллиметров в час до нескольких десятков километров. В Шотландии, кажется, есть муха, которая летает со скоростью самолета. Но я говорю не об этом. Не двигаться быстрее, а жить. — Но ведь многие живые существа и живут гораздо быстрее человека, — сказал я, стараясь вспомнить то, что в школе учил по биологии. — Простейшие, например. Парамеции, по-моему, живут всего двадцать четыре часа. Некоторые жгутиковые и того меньше. Мой собеседник покачал головой. — Просто они живут короче, чем мы. Но не быстрее. — Он подумал. — Наверное, вам будет трудно понять, о чем я говорю… Вы ничего не слышали о событиях в районе Лебяжьего в этом году? — Еще бы! В Ленинграде очень много об этом говорили примерно месяц назад. Но никто толком ничего не знает. Рассказывают чуть ли не о привидениях. О девочке, которую какой-то невидимка не то бросил под поезд, не то вытащил оттуда. И еще о краже в магазине… А вы об этом что-нибудь знаете? — Конечно. Я и был одним из этих привидений. — ???… — Если хотите, расскажу. — Конечно хочу! — воскликнул я. — Еще бы! Давайте прямо сейчас!.. Разговор происходил на Рижском взморье, в Дубултах, — одном из маленьких курортных городков в получасе езды от Риги. Я жил там в доме отдыха весь сентябрь и быстро перезнакомился со всеми обитателями особнячка на самом берегу моря. Только об одном отдыхавшем — рослом худощавом блондине — я знал очень мало. Это было тем более странно, что после первой встречи мы оба почувствовали какую-то взаимную симпатию. И я и он любили рано утром, часа за два до завтрака, прогуливаться по совершенно пустому в это время пляжу. Коростылев — такова была фамилия блондина — вставал раньше и отправлялся пешком по направлению к Булдури. Когда я выходил на берег, он уже поворачивал обратно. Мы встречались на пустом и казавшемся каким-то покинутым пляже, раскланивались, улыбались друг другу и продолжали свой путь. Казалось, у каждого из нас после этой встречи оставалось такое впечатление, что нам было бы очень интересно остановиться и поговорить. Однажды утром, выйдя на берег, я застал Коростылева за какими-то странными действиями. Инженер сидел на скамье, затем опустился на корточки и стал водить пальцем по песку. Лицо у него при этом было очень озабоченное. Но, сделав так несколько раз, он успокоился. Потом он увидел летящую бабочку и тоже повел рукой в воздухе, как бы провожая ее. И, наконец, несколько раз подпрыгнул. Я кашлянул, чтобы показать Коростылеву, что он не один на берегу. Тот посмотрел в мою сторону, наши взгляды встретились, и мы оба немного смутились. Коростылев махнул рукой и засмеялся: — Идите сюда. Не подумайте, что я сошел с ума. Я подошел, и между нами завязался разговор, в ходе которого была рассказана история недавних событий на Финском заливе.КОРОСТЫЛЕВ НАЧИНАЕТ СВОЙ РАССКАЗ
ПЕРВЫЙ ЧАС В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ
…- Надо вам прежде всего сказать, что по профессии я инженер-теплотехник. Я окончил аспирантуру к защитил диссертацию при Московском политехническом институте, но все разно я скорее практик, чем теоретик. Поэтому для меня особенно много необъяснимого в том, что со мной недавно происходило. Моя более узкая специальность — паротурбинное оборудование для солнечных электростанций. Вместе с семьей я живу на берегу Финского залива в лесной местности. Работаю в научно-исследовательском институте, который базируется на небольшой солнечной электростанции исключительно экспериментального значения. Здесь же помещается и поселок, где мы все живем. Наш коттедж с небольшим садом — крайний на улице, по которой проходит дорога, соединяющая приморское шоссе со станцией электрички. Собственно говоря, эта дорога и есть единственная улица поселка. Напротив нашего дома — дача моего приятеля доцента Мохова. Он тоже сотрудник института. Рядом с ней — продуктовый магазин или, вернее, ларек, где мы все снабжаемся. Между задними окнами моего коттеджа и территорией СЭС никаких построек уже нет. Здесь стоит низкорослый молодой лесок, который во время строительства так и сохранили нетронутым… Это было воскресенье двадцать пятого. июня. Накануне вечером жена и двое моих мальчишек отправились в Ленинград смотреть новый индийский фильм. Звали меня, но я намеревался поработать дома. Мы договорились с Аней, что она оставит ребят на воскресенье у бабушки, а сама вернется утром десятичасовым поездом. Я подвез жену и детей до станции электрички, поставил машину в гараж и сел за свой рабочий стол. Засиделся я за ним довольно долго. Друзья звонили по телефону, приглашали слушать новые долгоиграющие пластинки. Но мне хотелось закончить один расчет, я не стал выходить. Около двенадцати ночи началась гроза. Я люблю смотреть, как сверкает молния, и поэтому, поднявшись из-за стола, подошел к окну и отдернул занавеску. Помню, что гроза была сильная. Ливень хлестал по веткам деревьев в саду так, что они гнулись, а на крыше струи дождя производили впечатление отдаленной орудийной канонады. Окно кабинета выходит как раз на электростанцию, и я несколько раз видел, как верхушки лип за оградой и крыша здания, где помещается реактор, освещались мгновенным синим светом.
Затем в поле моего зрения появился синеватый вздрагивающий шар объемом в маленький арбуз, полупрозрачный, фосфорически светящийся. Он возник где-то слева от дома в чаще деревьев. В нем было какое-то отдаленное сходство с верхней частью тела медузы, когда это животное всплывает из морской глубины.
Я первый раз в жизни видел это явление.
Шар проплыл мимо веранды так близко, что казалось, он неминуемо заденет ее, и полетел к постройкам электростанции. Я следил за его полетом, что было очень легко, так как цвет его к этому времени изменился и стал ярко-желтым, как вынутое из вагранки железо. Он ударился о крышу здания реактора, подскочил от толчка, ударился еще раз и не то чтобы взорвался или лопнул, а как-то утек в крышу.
Я испугался, что там начнется пожар, и поэтому выбежал на крыльцо и обогнул дом, чтобы посмотреть, не угрожает ли электростанции какая-либо опасность. Но на крыше главного здания, которая была мне хорошо видна из сада, не замечалось никаких признаков огня. Повсюду было тихо. Косые линии дождя продолжали хлестать по траве и по деревьям. Простояв с полминуты у стены дома и промокнув, я вернулся в кабинет.
Около двенадцати ночи началась гроза. Я люблю смотреть, как сверкает молния, и поэтому, поднявшись из-за стола, подошел к окну и отдернул занавеску. Помню, что гроза была сильная. Ливень хлестал по веткам деревьев в саду так, что они гнулись, а на крыше струи дождя производили впечатление отдаленной орудийной канонады. Окно кабинета выходит как раз на электростанцию, и я несколько раз видел, как верхушки лип за оградой и крыша здания, где помещается реактор, освещались мгновенным синим светом.
Затем в поле моего зрения появился синеватый вздрагивающий шар объемом в маленький арбуз, полупрозрачный, фосфорически светящийся. Он возник где-то слева от дома в чаще деревьев. В нем было какое-то отдаленное сходство с верхней частью тела медузы, когда это животное всплывает из морской глубины.
Я первый раз в жизни видел это явление.
Шар проплыл мимо веранды так близко, что казалось, он неминуемо заденет ее, и полетел к постройкам электростанции. Я следил за его полетом, что было очень легко, так как цвет его к этому времени изменился и стал ярко-желтым, как вынутое из вагранки железо. Он ударился о крышу здания реактора, подскочил от толчка, ударился еще раз и не то чтобы взорвался или лопнул, а как-то утек в крышу.
Я испугался, что там начнется пожар, и поэтому выбежал на крыльцо и обогнул дом, чтобы посмотреть, не угрожает ли электростанции какая-либо опасность. Но на крыше главного здания, которая была мне хорошо видна из сада, не замечалось никаких признаков огня. Повсюду было тихо. Косые линии дождя продолжали хлестать по траве и по деревьям. Простояв с полминуты у стены дома и промокнув, я вернулся в кабинет.
 Было уже поздно. Я лег спать, и после этого, утром, началось то, о чем я буду рассказывать.
Проснулся я около восьми часов и удивился тому, что спал так долго. Обычно у нас встают в шесть.
Гроза ночью кончилась. В окно мне был виден кусочек голубого неба и ветка липы, стоящей в саду у самого дома. Глядя на нее, я порадовался тому, что день был безветренный — листья висели совершенно неподвижно.
Вскоре я ощутил, что во всей обстановке комнаты было что-то необычное. Прежде всего до моего слуха постоянно доносились какие-то странные звуки. Как будто неподалеку кто-то перекладывал с места на место большие листы бумаги.
Прерывистый шорох, который временами становился тише, а затем опять усиливался.
Потом я понял, что не слышу привычного отчетливого тиканья больших старинных часов, доставшихся мне от деда. Часы эти ни разу на моей памяти не останавливались, и мысль о том, что они испортились, была для меня очень неприятной.
Я вскочил с постели и, как был в пижаме подошел к окну, которое в спальне выходит не в сад, а на залив.
Отдернув штору, я бросил мимолетный взгляд на берег и асфальтированное шоссе, повернулся и пошел к часам. От этого короткого взгляда в окно у меня осталось какое-то тревожное впечатление. Волна, набегающая на песчаный пляж, два пешехода на обочине дороги, мотоцикл, мчавшийся по асфальту, — все было, как обычно, и в тоже время во всем ощущалась какая-то странность.
Подойдя к часам — это был старинный швейцарский механизм, заключенный в резной дубовый шкафчик, — я открыл дверцу, посмотреть, что же с ними стряслось.
Я открыл дверцу… и замер.
Вы понимаете, что я увидел. Маятник на длинном и толстом бронзовом стержне не висел вертикально. Он был отклонен влево, то есть находился в наиболее удаленном от равновесия положении!
Помню, что в детстве, двенадцатилетним мальчишкой, я часто мечтал о том, чтобы сделать какое-нибудь чудо. Например, подпрыгнуть и не опуститься сразу на землю, а повиснуть в воздухе. Или поднять камешек, отпустить его и увидеть, что он не падает, а останавливается в воздухе. И я прыгал десятки раз, прыгал до изнеможения, но сразу же исправно падал на землю в полном соответствии с законом всемирного тяготения. Но неудачи не мешали мне мечтать. Я представлял себе, что, если не сегодня, так завтра я вдруг сумею избавиться от сковывающей меня силы тяжести и тогда… Тогда фантазия разыгрывалась совершенно безудержно. Я уже парил над землей, перелетал границы, помогал арабским повстанцам бороться с французскими пулеметами, освобождал из тюрем узников капитала и вообще совершенно переделывал мир.
Каждый из нас в детстве мечтал о каких-нибудь чудесных крыльях, либо о шапке-невидимке, либо еще о чем-нибудь таком же.
И вот теперь я увидел осуществившимся мое мальчишеское чудо. Маятник наших часов был освобожден от силы тяжести. Его не притягивала масса земли. Он парил в воздухе.
Не знаю, как вел бы себя на моем месте кто-нибудь другой. Я же был совершенно ошарашен, подавлен и с полминуты, наверное, продолжал смотреть на маятник. Потом я встряхнул головой и протер глаза.
Часы не шли, а маятник находился в крайнем левом положении. Это было невероятно, но это было так.
Я рассеянно глянул в окно, и то, что я там увидел, заставило меня вздрогнуть.
Пейзаж ни на йоту не изменился за то время, пока я смотрел на маятник. Все та же волна катила на берег — я запомнил ее по кипящему, завернувшемуся вниз гребню — два пешехода были на дороге в том положении, в каком их оставил тогда мой мимолетный взгляд, и мотоциклист оставался на том же самом месте.
Помню, что больше всего меня поразил мотоцикл. Это был «ИЖ-49», и шел он на скорости не меньше, чем пятьдесят километров — я видел это по синеватому выхлопному дымку, отброшенному на порядочное расстояние от глушителя. Мотоцикл мчался и в то же время стоял. Стоял и не падал набок опять-таки в полном несогласии с законами равновесия.
Я тогда решил, что я сплю и все это мне просто снится. Как всегда делается в романах, ущипнул себе левую руку и вскрикнул от боли. Нет, я не спал.
— Забавно, — сказал я себе, хотя мне было совсем не забавно, а даже страшно.
Я еще раз оглядел комнату и посмотрел в окно.
— Я инженер Коростылев, — сказал я вслух. — Меня зовут Василий Петрович, мне тридцать пять лет, и сегодня воскресенье двадцать пятого июня.
Нет, я не сошел с ума. Я был в здравом рассудке.
С замирающим от страха сердцем я вышел из комнаты, повернул в передней ключ и толкнул дверь, выходящую в сад. Она не поддавалась. Тогда я толкнул сильнее и нажал плечом.
Раздался треск, и сорванная с петель дверь упала на веранду.
Я остолбенело посмотрел на нее. И дверь вела себя не так, как прежде.
Кстати, этот треск был первым нормальным звуком, дошедшим до моего слуха в то утро. Я понял, что, пока я находился в комнате, меня все время окутывало какое-то странное молчание, прерывавшееся только шорохом.
Не найдя никакого объяснения тому, что случилось с дверью, я пошел по дорожке к низенькому редкому забору, отделяющему наш сад от дороги. И тут опять началось странное. Когда я уже почти дошел до калитки, я почувствовал, что мне сейчас трудно будет остановиться. Было такое впечатление, будто меня несут вперед инерционные силы, какие испытываешь, например, когда сбегаешь по крутой лестнице.
Я с трудом «затормозил» у забора и вышел на улицу.
Мирно стояли дачи нашего поселка. За заборчиками сушилось детское белье. От огромного царственного тополя в шатре светло-зеленых глянцевитых листьев, стоявшего возле дома Мохова, лился сильный свежий аромат. В чистом послегрозовом небе ярко светило утреннее солнце.
Судя по наклону травы и по тому, как гнулись ветви тополя, можно было предположить, что дует довольно сильный ветер. Да и волна на заливе тоже говорила о свежей погоде. Но я этого ветра не чувствовал. Мне было жарко.
Постояв некоторое время у калитки, я подошел к мотоциклисту.
Помню, что в то время, когда я приближался к нему, я начал слышать выхлопы мотора. Но не такие, как обычно, а в более низком тоне. Что-то вроде отдаленных раскатов грома. Но как только я остановился, эти звуки превратились в тот самый шорох, который меня озадачил в комнате.
Мотоциклист — загорелый скуластый парень — сидел в седле, чуть подавшись вперед и глядя на дорогу с тем сосредоточенным вниманием, которое вообще свойственно водителям транспорта. Меня он не замечал.
С ним все было в порядке, за исключением того, что он не двигался.
Я зачем-то дотронулся до цилиндра мотора и отдернул руку, потому что цилиндр был горячий.
Потом я сделал еще большую глупость: я попытался свалить мотоциклиста. Не знаю, почему мне это пришло в голову, — по-видимому, я считал, что раз он не двигается, он должен упасть, а не стоять вопреки всем законам физики. Обеими руками я уперся в заднее седло и не очень крепко нажал. Но, к счастью, из этой попытки ничего не вышло. Какая-то сила удерживала машину в том положении, в котором она была.
Впрочем, я особенно и не старался. Я был слишком растерян и подавлен.
Наверное, несколько минут прошло, прежде чем я заметил, что мотоцикл не совсем стоит на месте, а все же двигается, хотя и очень медленно. Я увидел это по заднему колесу.
К покрышке пристал кусочек смолы, а к нему прилипла спичка. Пока я вертелся возле мотоцикла, эта спичка медленно переместилась снизу вверх.
Я присел на корточки и стал смотреть на колесо. Оно и сейчас стоит у меня перед глазами. Зеленый, густо покрытый пылью обод, чуть заржавевшие спицы, старая, потрескавшаяся покрышка.
Я долго смотрел на колесо, как будто в нем была разгадка того, что случилось со всем миром.
Потом я встал и принялся разглядывать водителя. Обошел мотоцикл и стал впереди него на расстоянии полуметра от переднего колеса. Парень меня не видел.
Я наклонился и крикнул ему в ухо:
— Эй, послушайте!
Он не слышал меня.
Я взмахнул рукой перед самыми его глазами. Это тоже не произвело на него никакого впечатления. Я просто не существовал для него.
Переднее колесо подошло, наконец, ко мне — оно двигалось со скоростью, примерно, одного сантиметра в секунду — и уперлось в мое колено. Сначала слабо, затем все сильнее и сильнее оно давило на меня, и мне пришлось отступить.
Потом, совершенно ошеломленный, я побрел к двум пешеходам.
Тут я заметил, что, как только я начинаю двигаться, сразу возникает довольно сильный ветер, а когда я останавливаюсь, он прекращается. По всей вероятности, так было и раньше, но я не обратил на это внимания.
Пешеходы — молодая черноволосая женщина и пожилой мужчина с рюкзаком за плечами — стояли метрах в пятидесяти от мотоцикла. Впрочем, тоже не совсем стояли, а шли, но шли страшно медленно.
На то, чтобы сделать по одному шагу, им нужно было две или три минуты. Бесконечно медленно оставшаяся позади нога отделялась от асфальта и начинала передвигаться вперед. Бесконечно медленно перемещалось тело, и центр тяжести переходил на другую ногу. За то время, пока совершался этот шаг, я мог обойти их кругом восемь или десять раз.
По-моему, это были отец и его взрослая дочь. Мне показалось, что я их знаю — они жили километрах в пяти от поселка в отдельно стоящей даче и приходили к нам за продуктами.
И они тоже не выглядели чем-нибудь обеспокоенными. За то время, пока я был возле них, женщина повернула голову и стала смотреть в сторону от мужчины.
Помню, что я несколько раз обходил их кругом, пробовал им что-то говорить и даже дотрагивался до руки мужчины.
Один раз я сел на обочину очень близко к женщине и просидел так минут пять или десять. Мне показалось, что она меня, наконец, заметила. Во всяком случае она начала медленно-медленно поворачивать голову в том направлении, где я сидел, и позже, когда я уже поднялся и отошел, ее голова была еще долго повернута туда. Она смотрела на то место, где меня уже не было, и потом на лице у нее начало выражаться легкое недоумение. Чуть-чуть приподнялись брови и чуть-чуть округлились глаза.
Она была хорошенькая и очень походила на манекен в магазине готового платья. Особенно из-за этого удивленного выражения.
Потом я медленно пошел на пляж, сжимая голову руками.
Что это могло означать, спрашивал я себя. Может быть, какая-то новая бомба взорвалась над курортным районом? Может быть, наша планета пролетела через какой-то сгусток космической материи, который остановил или замедлил все на земле? Но почему же тогда я остался таким же, как прежде? Может быть, я брежу или просто сплю?
Но я мыслил вполне логично и ни в коем случае не спал. Палец, который я обжег о цилиндр мотоцикла, саднило, и на нем уже образовался водяной пузырик. Да и вообще все кругом было слишком реальным, чтобы быть сном.
В состоянии сна или бреда — в эфемерном, кажущемся мире — человеку бывает доступно далеко не все. Иногда он не может, например, убежать от того, кто за ним гонится; иногда, наоборот, не в состоянии догнать того, кого он сам преследует. Всегда есть какие-то ограничения. А тут все было просто и естественно. Я стоял на берегу залива, позади был мой дом — при желании я мог оглянуться и увидеть его. Я мог сесть и мог встать, мог протянуть руку и опустить ее. Меня никто не преследовал, и я сам ни за кем не гнался.
И тем не менее я был единственным двигающимся человеком в остановившемся, застывшем мире. Как будто я попал на экран замедленного кинофильма.
Я подошел к воде и с размаху ударил ногой неподвижную волну. Наверное, в моем положении было очень глупо проделывать такой опыт. Я ведь был в домашних туфлях. Мне показалось, что я ударил по каменной стене. Я взвыл, подскочил и завертелся на одной ноге, схватившись за носок другой.
Вода тоже стала не такой, как прежде.
Не помню точно, что я делал после этого. Кажется, метался по берегу, выкрикивая какие-то бессмысленные слова, требуя, чтобы «это» прекратилось, чтобы все сделалось таким, как было. Пожалуй, это был самый трудный момент для меня, и во время этого припадка отчаяния я действительно был близок к тому, чтобы сойти с ума.
Потом я обессилел и, усталый, свалился на песок у самой воды. Ближайшая волна бесконечно медленно шла ко мне. Я тупо смотрел на нее, неподвижно сидя на мокром песке. Медленно-медленно, как расплавленное стекло, она подкатила ко мне — было страшно видеть, как она приближается — и захватила ступни, колени и бедра. Минут десять, «наверное, прошло, пока мои бедра оказались в воде, нервы мои опять напряглись, и я чуть не закричал.
Но все окончилось благополучно. Волна схлынула минут через пять, и я остался сидеть в мокрой пижаме.
Потом я почувствовал, что все эти чудеса просто надоели и опротивели мне. То, что случилось, было совершенно необъяснимо — во всяком случае необъяснимо для меня в тот момент, — и поэтому очень противно.
Я поднялся и побрел домой. Мне хотелось укрыться от неподвижных людей в поселке. У меня была тайная надежда, что если я засну, то через некоторое время опять проснусь в мире, который стал движущимся и нормальным.
— Но позвольте, — прервал я инженера. — Когда все это было?
— Двадцать пятого июня этого года.
— Значит, все это вам показалось?
— Нет, не показалось. Все так и было.
— Но ведь я тоже помню двадцать пятое июня. — Я недоверчиво пожал плечами. — Я помню этот день, и многие другие помнят. Может быть, это коснулось только вашего поселка. Но и тогда такое положение не прошло бы незамеченным. Об этом все говорили бы. Что-нибудь появилось бы в газетах.
Инженер покачал головой:
— Только я один и мог это заметить. Но слушайте дальше.
Было уже поздно. Я лег спать, и после этого, утром, началось то, о чем я буду рассказывать.
Проснулся я около восьми часов и удивился тому, что спал так долго. Обычно у нас встают в шесть.
Гроза ночью кончилась. В окно мне был виден кусочек голубого неба и ветка липы, стоящей в саду у самого дома. Глядя на нее, я порадовался тому, что день был безветренный — листья висели совершенно неподвижно.
Вскоре я ощутил, что во всей обстановке комнаты было что-то необычное. Прежде всего до моего слуха постоянно доносились какие-то странные звуки. Как будто неподалеку кто-то перекладывал с места на место большие листы бумаги.
Прерывистый шорох, который временами становился тише, а затем опять усиливался.
Потом я понял, что не слышу привычного отчетливого тиканья больших старинных часов, доставшихся мне от деда. Часы эти ни разу на моей памяти не останавливались, и мысль о том, что они испортились, была для меня очень неприятной.
Я вскочил с постели и, как был в пижаме подошел к окну, которое в спальне выходит не в сад, а на залив.
Отдернув штору, я бросил мимолетный взгляд на берег и асфальтированное шоссе, повернулся и пошел к часам. От этого короткого взгляда в окно у меня осталось какое-то тревожное впечатление. Волна, набегающая на песчаный пляж, два пешехода на обочине дороги, мотоцикл, мчавшийся по асфальту, — все было, как обычно, и в тоже время во всем ощущалась какая-то странность.
Подойдя к часам — это был старинный швейцарский механизм, заключенный в резной дубовый шкафчик, — я открыл дверцу, посмотреть, что же с ними стряслось.
Я открыл дверцу… и замер.
Вы понимаете, что я увидел. Маятник на длинном и толстом бронзовом стержне не висел вертикально. Он был отклонен влево, то есть находился в наиболее удаленном от равновесия положении!
Помню, что в детстве, двенадцатилетним мальчишкой, я часто мечтал о том, чтобы сделать какое-нибудь чудо. Например, подпрыгнуть и не опуститься сразу на землю, а повиснуть в воздухе. Или поднять камешек, отпустить его и увидеть, что он не падает, а останавливается в воздухе. И я прыгал десятки раз, прыгал до изнеможения, но сразу же исправно падал на землю в полном соответствии с законом всемирного тяготения. Но неудачи не мешали мне мечтать. Я представлял себе, что, если не сегодня, так завтра я вдруг сумею избавиться от сковывающей меня силы тяжести и тогда… Тогда фантазия разыгрывалась совершенно безудержно. Я уже парил над землей, перелетал границы, помогал арабским повстанцам бороться с французскими пулеметами, освобождал из тюрем узников капитала и вообще совершенно переделывал мир.
Каждый из нас в детстве мечтал о каких-нибудь чудесных крыльях, либо о шапке-невидимке, либо еще о чем-нибудь таком же.
И вот теперь я увидел осуществившимся мое мальчишеское чудо. Маятник наших часов был освобожден от силы тяжести. Его не притягивала масса земли. Он парил в воздухе.
Не знаю, как вел бы себя на моем месте кто-нибудь другой. Я же был совершенно ошарашен, подавлен и с полминуты, наверное, продолжал смотреть на маятник. Потом я встряхнул головой и протер глаза.
Часы не шли, а маятник находился в крайнем левом положении. Это было невероятно, но это было так.
Я рассеянно глянул в окно, и то, что я там увидел, заставило меня вздрогнуть.
Пейзаж ни на йоту не изменился за то время, пока я смотрел на маятник. Все та же волна катила на берег — я запомнил ее по кипящему, завернувшемуся вниз гребню — два пешехода были на дороге в том положении, в каком их оставил тогда мой мимолетный взгляд, и мотоциклист оставался на том же самом месте.
Помню, что больше всего меня поразил мотоцикл. Это был «ИЖ-49», и шел он на скорости не меньше, чем пятьдесят километров — я видел это по синеватому выхлопному дымку, отброшенному на порядочное расстояние от глушителя. Мотоцикл мчался и в то же время стоял. Стоял и не падал набок опять-таки в полном несогласии с законами равновесия.
Я тогда решил, что я сплю и все это мне просто снится. Как всегда делается в романах, ущипнул себе левую руку и вскрикнул от боли. Нет, я не спал.
— Забавно, — сказал я себе, хотя мне было совсем не забавно, а даже страшно.
Я еще раз оглядел комнату и посмотрел в окно.
— Я инженер Коростылев, — сказал я вслух. — Меня зовут Василий Петрович, мне тридцать пять лет, и сегодня воскресенье двадцать пятого июня.
Нет, я не сошел с ума. Я был в здравом рассудке.
С замирающим от страха сердцем я вышел из комнаты, повернул в передней ключ и толкнул дверь, выходящую в сад. Она не поддавалась. Тогда я толкнул сильнее и нажал плечом.
Раздался треск, и сорванная с петель дверь упала на веранду.
Я остолбенело посмотрел на нее. И дверь вела себя не так, как прежде.
Кстати, этот треск был первым нормальным звуком, дошедшим до моего слуха в то утро. Я понял, что, пока я находился в комнате, меня все время окутывало какое-то странное молчание, прерывавшееся только шорохом.
Не найдя никакого объяснения тому, что случилось с дверью, я пошел по дорожке к низенькому редкому забору, отделяющему наш сад от дороги. И тут опять началось странное. Когда я уже почти дошел до калитки, я почувствовал, что мне сейчас трудно будет остановиться. Было такое впечатление, будто меня несут вперед инерционные силы, какие испытываешь, например, когда сбегаешь по крутой лестнице.
Я с трудом «затормозил» у забора и вышел на улицу.
Мирно стояли дачи нашего поселка. За заборчиками сушилось детское белье. От огромного царственного тополя в шатре светло-зеленых глянцевитых листьев, стоявшего возле дома Мохова, лился сильный свежий аромат. В чистом послегрозовом небе ярко светило утреннее солнце.
Судя по наклону травы и по тому, как гнулись ветви тополя, можно было предположить, что дует довольно сильный ветер. Да и волна на заливе тоже говорила о свежей погоде. Но я этого ветра не чувствовал. Мне было жарко.
Постояв некоторое время у калитки, я подошел к мотоциклисту.
Помню, что в то время, когда я приближался к нему, я начал слышать выхлопы мотора. Но не такие, как обычно, а в более низком тоне. Что-то вроде отдаленных раскатов грома. Но как только я остановился, эти звуки превратились в тот самый шорох, который меня озадачил в комнате.
Мотоциклист — загорелый скуластый парень — сидел в седле, чуть подавшись вперед и глядя на дорогу с тем сосредоточенным вниманием, которое вообще свойственно водителям транспорта. Меня он не замечал.
С ним все было в порядке, за исключением того, что он не двигался.
Я зачем-то дотронулся до цилиндра мотора и отдернул руку, потому что цилиндр был горячий.
Потом я сделал еще большую глупость: я попытался свалить мотоциклиста. Не знаю, почему мне это пришло в голову, — по-видимому, я считал, что раз он не двигается, он должен упасть, а не стоять вопреки всем законам физики. Обеими руками я уперся в заднее седло и не очень крепко нажал. Но, к счастью, из этой попытки ничего не вышло. Какая-то сила удерживала машину в том положении, в котором она была.
Впрочем, я особенно и не старался. Я был слишком растерян и подавлен.
Наверное, несколько минут прошло, прежде чем я заметил, что мотоцикл не совсем стоит на месте, а все же двигается, хотя и очень медленно. Я увидел это по заднему колесу.
К покрышке пристал кусочек смолы, а к нему прилипла спичка. Пока я вертелся возле мотоцикла, эта спичка медленно переместилась снизу вверх.
Я присел на корточки и стал смотреть на колесо. Оно и сейчас стоит у меня перед глазами. Зеленый, густо покрытый пылью обод, чуть заржавевшие спицы, старая, потрескавшаяся покрышка.
Я долго смотрел на колесо, как будто в нем была разгадка того, что случилось со всем миром.
Потом я встал и принялся разглядывать водителя. Обошел мотоцикл и стал впереди него на расстоянии полуметра от переднего колеса. Парень меня не видел.
Я наклонился и крикнул ему в ухо:
— Эй, послушайте!
Он не слышал меня.
Я взмахнул рукой перед самыми его глазами. Это тоже не произвело на него никакого впечатления. Я просто не существовал для него.
Переднее колесо подошло, наконец, ко мне — оно двигалось со скоростью, примерно, одного сантиметра в секунду — и уперлось в мое колено. Сначала слабо, затем все сильнее и сильнее оно давило на меня, и мне пришлось отступить.
Потом, совершенно ошеломленный, я побрел к двум пешеходам.
Тут я заметил, что, как только я начинаю двигаться, сразу возникает довольно сильный ветер, а когда я останавливаюсь, он прекращается. По всей вероятности, так было и раньше, но я не обратил на это внимания.
Пешеходы — молодая черноволосая женщина и пожилой мужчина с рюкзаком за плечами — стояли метрах в пятидесяти от мотоцикла. Впрочем, тоже не совсем стояли, а шли, но шли страшно медленно.
На то, чтобы сделать по одному шагу, им нужно было две или три минуты. Бесконечно медленно оставшаяся позади нога отделялась от асфальта и начинала передвигаться вперед. Бесконечно медленно перемещалось тело, и центр тяжести переходил на другую ногу. За то время, пока совершался этот шаг, я мог обойти их кругом восемь или десять раз.
По-моему, это были отец и его взрослая дочь. Мне показалось, что я их знаю — они жили километрах в пяти от поселка в отдельно стоящей даче и приходили к нам за продуктами.
И они тоже не выглядели чем-нибудь обеспокоенными. За то время, пока я был возле них, женщина повернула голову и стала смотреть в сторону от мужчины.
Помню, что я несколько раз обходил их кругом, пробовал им что-то говорить и даже дотрагивался до руки мужчины.
Один раз я сел на обочину очень близко к женщине и просидел так минут пять или десять. Мне показалось, что она меня, наконец, заметила. Во всяком случае она начала медленно-медленно поворачивать голову в том направлении, где я сидел, и позже, когда я уже поднялся и отошел, ее голова была еще долго повернута туда. Она смотрела на то место, где меня уже не было, и потом на лице у нее начало выражаться легкое недоумение. Чуть-чуть приподнялись брови и чуть-чуть округлились глаза.
Она была хорошенькая и очень походила на манекен в магазине готового платья. Особенно из-за этого удивленного выражения.
Потом я медленно пошел на пляж, сжимая голову руками.
Что это могло означать, спрашивал я себя. Может быть, какая-то новая бомба взорвалась над курортным районом? Может быть, наша планета пролетела через какой-то сгусток космической материи, который остановил или замедлил все на земле? Но почему же тогда я остался таким же, как прежде? Может быть, я брежу или просто сплю?
Но я мыслил вполне логично и ни в коем случае не спал. Палец, который я обжег о цилиндр мотоцикла, саднило, и на нем уже образовался водяной пузырик. Да и вообще все кругом было слишком реальным, чтобы быть сном.
В состоянии сна или бреда — в эфемерном, кажущемся мире — человеку бывает доступно далеко не все. Иногда он не может, например, убежать от того, кто за ним гонится; иногда, наоборот, не в состоянии догнать того, кого он сам преследует. Всегда есть какие-то ограничения. А тут все было просто и естественно. Я стоял на берегу залива, позади был мой дом — при желании я мог оглянуться и увидеть его. Я мог сесть и мог встать, мог протянуть руку и опустить ее. Меня никто не преследовал, и я сам ни за кем не гнался.
И тем не менее я был единственным двигающимся человеком в остановившемся, застывшем мире. Как будто я попал на экран замедленного кинофильма.
Я подошел к воде и с размаху ударил ногой неподвижную волну. Наверное, в моем положении было очень глупо проделывать такой опыт. Я ведь был в домашних туфлях. Мне показалось, что я ударил по каменной стене. Я взвыл, подскочил и завертелся на одной ноге, схватившись за носок другой.
Вода тоже стала не такой, как прежде.
Не помню точно, что я делал после этого. Кажется, метался по берегу, выкрикивая какие-то бессмысленные слова, требуя, чтобы «это» прекратилось, чтобы все сделалось таким, как было. Пожалуй, это был самый трудный момент для меня, и во время этого припадка отчаяния я действительно был близок к тому, чтобы сойти с ума.
Потом я обессилел и, усталый, свалился на песок у самой воды. Ближайшая волна бесконечно медленно шла ко мне. Я тупо смотрел на нее, неподвижно сидя на мокром песке. Медленно-медленно, как расплавленное стекло, она подкатила ко мне — было страшно видеть, как она приближается — и захватила ступни, колени и бедра. Минут десять, «наверное, прошло, пока мои бедра оказались в воде, нервы мои опять напряглись, и я чуть не закричал.
Но все окончилось благополучно. Волна схлынула минут через пять, и я остался сидеть в мокрой пижаме.
Потом я почувствовал, что все эти чудеса просто надоели и опротивели мне. То, что случилось, было совершенно необъяснимо — во всяком случае необъяснимо для меня в тот момент, — и поэтому очень противно.
Я поднялся и побрел домой. Мне хотелось укрыться от неподвижных людей в поселке. У меня была тайная надежда, что если я засну, то через некоторое время опять проснусь в мире, который стал движущимся и нормальным.
— Но позвольте, — прервал я инженера. — Когда все это было?
— Двадцать пятого июня этого года.
— Значит, все это вам показалось?
— Нет, не показалось. Все так и было.
— Но ведь я тоже помню двадцать пятое июня. — Я недоверчиво пожал плечами. — Я помню этот день, и многие другие помнят. Может быть, это коснулось только вашего поселка. Но и тогда такое положение не прошло бы незамеченным. Об этом все говорили бы. Что-нибудь появилось бы в газетах.
Инженер покачал головой:
— Только я один и мог это заметить. Но слушайте дальше.
ИНЖЕНЕР ВСТРЕЧАЕТ НЕЗНАКОМЦА
В нашем саду, справа от калитки, если идти к дому, стоят несколько густых кустов жасмина. В этой заросли спрятана большая будка для собаки. Один мой приятель, уезжая в командировку, оставил у нас на лето немецкую овчарку. Для этого пса мы построили будку, а потом наш знакомый, вернувшись, взял свою овчарку, и будка осталась пустовать. Весной и летом сыновья используют ее для игры в «индейцев». Сейчас, идя по дорожке домой, я вдруг увидел, что из будки торчат чьи-то ноги в больших стоптанных и заляпанных сырой землей ботинках. Как и все владельцы дач, я не люблю, когда в наш сад без спроса заходят незнакомые. Кроме того, я был поражен странной позой этого человека и с удивлением спросил себя, что он может делать там, в будке. По-моему, я на мгновение даже забыт обо всех невероятных происшествиях этого дня. Я подошел к кустам и стал смотреть на эти ноги. И вдруг я услышал человеческий голос. В первый раз за все утро в странном, ни на минуту не прекращающемся шорохе прозвучали настоящие человеческие слова. — Не надо… Не ладо, — бормотал незнакомец. Потом послышалось несколько ругательств, и опять то же самое: — Не надо… — Послушайте. — сказал я, — вылезайте! Вылезайте скорее! Ноги дернулись, и незнакомец замолчал. Я присел на корточки и потянул его за ботинок со словами: — Ну, вылезайте скорее. Вы еще не знаете, что случилось! Незнакомец лягнул меня и выругался. Сгорая от нетерпения, я ухватил его ногу обеими руками, напряг все силы и вытащил мужчину из будки. После этого мы некоторое время остолбенело смотрели друг на друга. Он — лежа на спине, я — сидя возле него на корточках. Это был плотный коренастый парень лет двадцати пяти или двадцати семи с бледным, нездорового цвета лицом. У него был курносый нос и серые маленькие испуганные глаза. Глядя она его могучие плечи, я удивился тому, что так легко вытащил его из будки. Наверное, ему там не за что было зацепиться. — Послушайте, — сказал я наконец, — что-то такое случилось со всей землей. Понимаете? Он приподнялся, сел на траве и боязливо посмотрел через редкий забор на шоссе. Отсюда, из сада, видны были неподвижные мужчина и женщина на дороге. — Вот, — сказал он с испугом. — Смотри. Затем он перевернулся на живот и попытался снова юркнуть в будку. Я его с трудом удержал. После этого мы шепотом — не знаю, почему именно шепотом, — стали разговаривать. — Весь мир остановился, — прошептал я. — И этот страшный шорох. — И на велосипеде, — сказал парень. — Видел того типа на велосипеде? — Какого типа? — А там, одного. В майке. Я его свалил. Выяснилось, что на тропинке, за дачей Мохова, он встретил велосипедиста, неподвижно стоявшего на месте, и сбросил его на землю. — Зачем вы это сделали? — спросил я и сразу вспомнил, что сам тоже хотел свалить мотоцикл. — А чего же он? — ответил незнакомец и выругался. Некоторое время мы просидели возле будки, рассказывая друг другу, что каждый из нас видел. — А где вы были, когда это все началось? — спросил я. — Я?… Тут. — Где — тут? В саду? Он замялся. — Нет… Там, — он махнул рукой по направлению к заливу. — Ну где же? На пляже? Он показывал то в одну, то в другую сторону, и мне так и не удалось добиться, где же застигли его все эти чудеса. — Значит, все это началось на рассвете, — сказал я. — На рассвете, — согласился он и выругался. Вообще он ругался почти при каждом слове, и вскоре я перестал это замечать. — Ну ладно, — сказал я поднимаясь. — Давайте войдем в дом и съедим что-нибудь. А потом отправимся смотреть, что же произошло. Сходим в Глушково. Может быть, это захватило только каш поселок, а дальше все в порядке. Я вдруг ощутил очень сильный голод. Он тоже встал и неуверенно спросил: — В какой дом? — Да вот сюда. Он боязливо огляделся: — А если поймают? — Кто поймает? — Ну, этот… Который тут живет. — Так здесь я и живу, — объяснил я. — Это наш дом. На лице у него выразилось смущение. Затем он вдруг рассмеялся: — Ладно. Пошли. Все выглядело загадочно — и то, что он не хотел толком сказать мне, где он был ночью, и его неожиданный смех. Но тогда я был в таком состоянии, что не заметил этих странностей. Пока мы жевали на кухне бутерброды и холодную баранину, он с уважением разглядывал холодильник «ЗИЛ», стиральную машину и стол для мытья посуды. — Хорошо живешь, — сказал он мне. — Где работаешь? Я ответил, что на заводе, и в свою очередь спросил, чем он занимается. Он сказал, что работает в совхозе «Глушково». Совхоз находится в восьми километрах от нашего поселка. Там в школе одно время учились мои ребята, и я знаю почти всех рабочих. Этого парня я там ни разу не видел, и поэтому мне показалось, что он соврал. Когда мы выходили из дома, он угрюмо посмотрел вверх: — И солнце тоже… — Что солнце? — спросил я. — И солнце стоит. — Он показал на тень от дома на дорожке. — Как было, так и есть. Дом наш поставлен так, что окно моего кабинета и окна детской комнаты выходят на юг, а выходная дверь — на север. По утрам в летнее время около восьми часов, когда я иду на работу, тень крыши проходит через край клумбы с георгинами. Сегодня, когда я первый раз вышел, чтобы посмотреть на неподвижного мотоциклиста, тень как раз достигла первого куста. Я автоматически отметил это, хотя был очень взволнован. И сейчас край тени был на том же самом месте, хотя с тех пор прошло не меньше чем два часа. Получалось, что солнце остановилось. Вернее, прекратилось вращение Земли вокруг оси. Было от чего сойти с ума. Помню, что мы некоторое время топтались, глядя то на солнце, то на неподвижный край тени. Потом мы все-таки отправились в Глушково. Я вернулся в комнату, сбросил домашние туфли, надел сандалии, и мы пошли. Даже не знаю, зачем нас туда понесло. По всей вероятности потому, что нам было совершенно невыносимо сидеть на месте и ждать, что же с нами будет дальше. Хотелось как-то действовать. Кроме того, мы просто не знали, чем же нам теперь заниматься.ПОХОД В ГЛУШКОВО. НАЧАЛО РАЗНОГЛАСИЙ
Это было странное путешествие. Когда мы двинулись в путь и острота первых впечатлений от всех чудес несколько притупилась, я начал замечать то, на что прежде не успел обратить внимания. Во-первых, нам обоим было трудно делать первый шаг, когда начинали идти. Было такое чувство, как если бы мы делали этот шаг в воде или в какой-нибудь такой же плотной среде. Приходилось довольно сильно напрягать мускулы бедра. Но потом это исчезало, и мы шли уже нормально. Во-вторых, при каждом шаге мы немножко повисали в воздухе. Опять-таки, как если бы мы двигались в воде. Особенно это было заметно у меня, потому что я вообще обладаю подпрыгивающей походкой. Я чувствовал, что со сторонынапоминаю танцора в балете, который не идет, а совершает бесконечный ряд длинных и плавных прыжков. Было похоже на то, что воздух стал плотнее. Казалось, в него валили какой-то густой состав, который оставил его как прежде прозрачным и пригодным для дыхания, но сделал гораздо гуще. И, наконец, ветер. Как только мы начинали двигаться, возникал сильный ветер, а когда мы останавливались, он мгновенно стихал… Выйдя на шоссе, мы обогнали двух пешеходов — мужчину и женщину. Мой товарищ — его звали Жора Бухтин, — обошел их стороной, даже спустившись для этого в канаву. Вообще, первое время он очень боялся всех неподвижных фигур, попадавшихся нам на пути. За последним коттеджем поселка я свернул с дороги и подошел к кусту ольховника, чтобы сорвать себе прутик на дорогу. Я взялся за довольно толстую ветку и дернул. Ветка отделилась так легко, будто она не росла из ствола, а была просто приклеена к нему каким-нибудь слабеньким канцелярским клеем. Я тогда попробовал отломать сук молоденькой, рядом стоявшей липы, и он тоже сразу оказался у меня в руке. Как будто он только и ждал, чтобы я пришел и взял его с того места, на котором он рос. И все другие ветки тоже отделялись от липы без малейшего сопротивления. Я не срывал их, а просто снимал со ствола. Выходило, что мир не только остановился — он изменил свои физические качества. Воздух стал густым, а твердые тела потеряли прочность. Я мог бы очистить это деревце от ветвей с такой же легкостью, с какой девочки срывают лепестки ромашки, повторяя: «Любит — не любит». На тропинке, ведущей к совхозу, — для сокращения пути мы пошли по тропинке — нам встретился велосипедист, которого свалил Бухтин. Велосипед лежал на траве, а молодой паренек стоял рядом, взявшись за плечо рукой. На лице у него было выражение боли и недоумения. Конечно, он не мог понять, какая сила сбросила его на землю. Оставив велосипедиста приходить в себя, мы двинулись дальше. Я увидел какую-то птичку в полете и остановился ее рассмотреть. По-моему, это был щегол. Он висел в воздухе, потом делал медленный и довольно вялый взмах крылышками и несколько продвигался вперед. Вообще полет не представлял собой плавного движения, а ряд коротких вялых рывков. Можно было взять птичку в руки, но я побоялся ее искалечить. За лесом начинались поля зеленой озимой пшеницы и сенокосные луга, где сильно и приятно пахло клевером. Тут мы вышли с тропинки на грунтовую дорогу. Я обратил внимание на то, что пыль, поднятая нашими ногами, висела в воздухе очень долго — так, что мы даже не могли дождаться, пока она уляжется. Не стану описывать подробно все наше путешествие в Глушково. Оно было, в общем, совершенно безрезультатным. Просто пришли в совхоз и убедились, что там все обстоит так же, как и в поселке. Сначала мы шагали довольно быстро, потом у меня все сильнее начал болеть ушибленный о волну палец, и я захромал По воскресному времени в совхозе было совсем пусто. Ни возле механической мастерской, ни возле конторы мы не встретили ни одного человека. Только на скотном дворе у водокачки застыла какая-то фигура с ведром в руке. Не знаю, зачем, но мы пошли к школе. Здесь возле одной избы стоял директор совхоза Петр Ильич Иваненко, полный блондин, одетый в полотняные брюки и полотняный летний пиджак. Окно в избе было открыто, оттуда высунулась женщина в платке. Они о чем-то разговаривали Женщина взмахнула рукой — очевидно, от чего-то отказываясь или что-то отрицая. Но, поскольку этот взмах был виден мне и моему спутнику как бесконечно долгий, нам со стороны казалось, что она хочет ударить Иваненко. Это выглядело довольно смешно. Петр Ильич застыл, широко открыв рот и подняв густые седеющие брови. Жора, опасливо остановившийся в некотором отдалении от директора, показал на него пальцем: — Обалдел! — Почему — обалдел? — спросил я. — А чего же он? — Жора кивнул в сторону Петра Ильича и разинул рот, передразнивая его. Почему-то это меня разозлило. — Вовсе он не обалдел, — сказал я. — Что-то случилось со всей землей. Какая-то катастрофа. Понимаете? Жорж молчал. — Что-то такое произошло, отчего весь мир замедлился. А мы остались такими же, как были. Или, может быть, наоборот… Я произнес это «наоборот», не думая, и потом вдруг закусил губу. А что, если в самом деле — наоборот? Какая-то смутная мысль, какая-то догадка забрезжила у меня в голове. Я прикинул скорость волны на заливе, скорость мотоцикла и, наконец, положение солнца на небе. Мир замедлил свое движение, но в этой замедленности была своя гармония. Солнце, движение воды, люди — все замедлилось пропорционально. Я схватил Жоржа за руку и уселся на скамью у избы, заставив своего товарища сесть рядом. Потом я уставился на ручные часы, которые так и не снимал со вчерашнего вечера. Целых пять минут — я считал по пульсу — я смотрел на секундную стрелку и наконец убедился, что она движется и что она прошла за это время одну секунду. Секунда, и моих, хотя и приблизительных, пять минут! И за эту секунду женщина, спорившая с директором совхоза, опустила руку, а Петр Ильич закрыл рот. Выходило, что мир замедлился в триста раз. Или мы, наоборот, ускорились в той же пропорции. Но на лице Петра Ильича, на лицах всех тех людей, кого мы видели с утра, не было никакого беспокойства. Никто из них не выглядел удивленным, испуганным, озадаченным. Все мирно занимались своими делами. Значит, что-то странное и необъяснимое произошло с нами, а не с тем, что нас окружало. При этой мысли я испытал немалое облегчение. Все-таки это разные вещи: предполагать, что опасность угрожает тебе одному, или думать, что ей подвергаются все люди, весь род человеческий. В конце концов я и Жорж как-нибудь выкрутимся. Лишь бы со всей землей ничего не случилось. — Это мы с вами стали ненормальными, — сказал я своему спутнику. — А люди остались такими же, как были. Жора тупо смотрел на меня. — Что-то нас ускорило, понимаете? Мы стали двигаться и жить быстрее, а люди живут нормально. — Нормально!.. Сказал тоже! — Он недоверчиво усмехнулся и встал со скамьи. — Вот гляди. — Он шагнул вперед. — Я иду, а этот стоит. И рот разинул. (Петр Ильич тем временем опять начал бесконечно медленно раскрывать рот.) А ты говоришь «нормально». — Ну и что же? Просто мы очень быстро двигаемся и чувствуем. Поэтому нам кажется, что все другие неподвижны. Теперь мы уже шли обратно из совхоза в наш поселок, и я попытался растолковать Жоре тот раздел классической физики, который трактует вопросы движения и скорости. — Абсолютной скорости не бывает, понимаете? Скорость тела высчитывается относительно другого, которое мы условно считаем неподвижным. И, судя по всему, изменилась наша скорость относительно Земли. А у других людей она осталась прежней. Поэтому нам и кажется, что они стоят на месте… Он посмотрел на меня с подозрительностью человека, которому на рынке пытаются всучить гнилье. — Ну вот представьте себе, например, что вы едете в автомобиле на шестьдесят километров в час. Но это ваша скорость относительно земли, верно? А если рядом идет другая машина на пятьдесят километров, то относительно к ней ваша скорость будет уже только десять. Правильно? Он нахмурил лоб и засопел, усиленно соображая. — А на спидометре? — Что — на спидометре? — А спидометр сколько даст? — На спидометре вашей машины будет, конечно, шестьдесят. Но ведь это относительно земли… — Ну вот, шестьдесят! А ты говоришь — десять. — Он усмехнулся, как человек, окончательно посрамивший противника. Я начал было новое рассуждение, но увидел, что Жора не испытывает ни малейшего интереса к тому, о чем я говорю. У него совсем не было способности абстрактно мыслить. Он меня совершенно не понимал и, по-моему, думал, что я как-то пытаюсь обвести его вокруг пальца. Я замолчал, и мы шли около трех километров, каждый поглощенный своими собственными соображениями. Если допустить, что мы действительно «ускорились» в триста раз или около этого, выходило, что мы пронеслись из поселка в совхоз за какие-нибудь полминуты, если брать нормальное «человеческое» время. То есть для всего окружающего мы промелькнули, как тени, как дуновение ветра. Но в то же время для нас самих это был довольно долгий переход, занявший примерно два с половиной часа по нашему счету. Но могли ли мы двигаться с такой скоростью? Тысячу или даже тысячу двести километров в час. Я помнил, что при скоростях больше двух тысяч километров, которые достижимы только для реактивной авиации, поверхность самолета нагревается до 140–150 градусов Цельсия. При скоростях за три тысячи фюзеляж нагревается до 150 градусов, так что алюминий и его сплавы теряют прочность. А мы даже не ощущали сильной жары. По всей видимости получилось, что с ускорением всех жизненных процессов в наших телах резко ускорился и процесс теплообмена. Это было единственным объяснением, которое я мог найти. Впрочем, если я быстро взмахивал рукой, ту ее сторону, которая встречала сопротивление воздуха, легонько и приятно покалывало… А пыль, которую мы подняли на дороге, идя в совхоз, все еще не успела опуститься. Нога, ушибленная об волну, болела у меня все больше, и я постепенно отставал от Жоры. Эта боль и убеждала меня в реальности всего происходящего. Когда мы вышли на приморское шоссе, оказалось, что в голове моего спутника все же происходила какая-то мыслительная работа. Он подождал меня на обочине. — Значит, мы быстро, а они медленно? — Кто «они»? — спросил я. — Ну, вообще… Все. — Он обвел рукой широкий круг, показывая, что имеет в виду все человечество. — Конечно, гораздо медленнее, чем мы. Жора задумался: — Выходит, что им нас не поймать? — Не поймать, — ответил я неуверенно. — А зачем, собственно, им нас ловить? Мы и не собираемся скрываться. Он засмеялся и зашагал по асфальту. Но теперь поведение его изменилось. Прежде он боялся неподвижных людей, которых мы встречали по дороге. Теперь страх его прошел, и он сделался каким-то неприятно прилипчивым по отношению ко всему живому, что попадалось нам по пути. Недалеко от поселка мы обогнали открытый «ЗИЛ-110». Машина шла километров на сто двадцать, «о для нас она двигалась не быстрее катка, которым разглаживают асфальт. Даже медленнее. Мы остановились возле автомобиля и стали рассматривать пассажиров. Это была компания, отправившаяся на прогулку куда-нибудь на озера. В машине сидело пятеро, и на всех лицах было то счастливое и самоуглубленное выражение, которое бывает у человека, когда он вполне отдается ритму быстрой езды и приятному ощущению упругого ветра. Правда, все они казались чуть-чуть безжизненными. Крайней справа на заднем сиденье была девушка лет семнадцати, школьница с чистым и свежим лицом, одетая в цветастое платье. Она сощурила глаза с длинными ресницами и чуть приоткрыла рот. Жора долго смотрел на девушку, потом вдруг поднял руку, выставил короткий и толстый указательный палец с грязным ногтем и вознамерился ткнуть девушку этим пальцем в глаз. Я едва успел отвести его руку. Мы с ним некоторое время боролись. Он, хихикая, вырывался от меня, и я с большим трудом оттащил его от автомобиля. — Им же нас не догнать, — бормотал он. В конце концов он сумел сорвать с девушки газовую косынку и бросил ее на дорогу. Я поднял косынку, сунул ее в кузов и потащил моего спутника дальше. Он был силен, как бык, и тут я впервые подумал, какую опасность для людей могут представить те преимущества, обладателями которых мы случайно оказались. А Жору теперь трудно было угомонить. За обочиной он заметил клеста и кинулся за ним. Но, к счастью для себя, птичка была так высоко, что он не мог ее достать. По дороге нам попался мотоциклист — тот, которого я утром увидел еще из дома. Он был примерно в полутора километрах от того места, где я его впервые рассматривал. Жоре почему-то очень захотелось его опрокинуть. Когда я опять стал его оттаскивать, он вдруг, вырвав руку, злобно посмотрел на меня. — Уйди, гад! А то ты у меня будешь не жить, а тлеть. Я, опешив, молчал. Он презрительно выпятил нижнюю губу: — Чего пристал? На что ты мне нужен? Еле-еле я его успокоил, и мы потащились дальше. Но теперь его тон по отношению ко мне совершенно переменился. После всей этой возни я почувствовал огромное облегчение, когда мы наконец вошли в поселок, и я смог увести его с улицы в дом.ДРАКА
По моим часам выходило, что мы отсутствовали чуть больше одной минуты нормального «человеческого» времени. В поселке почти ничего не переменилось с тех пор. как мы ушли. В доме Мохова в окне его кабинета была поднята штора, и сам Андрей Андреевич сидел за своим столом. (Ужасно далеким и чужим показался он мне, когда я, прихрамывая, брел мимо.) Домработница Юшковых — веснушчатая коренастая Маша — за заборчиком на противоположной стороне улицы застыла у веревки с пеленкой в руках. Стоя на месте «недалеко от ларька, шел незнакомый мне коренастый брюнет в брюках гольф. И надо всем этим висело в небе неподвижное солнце, а ветви деревьев гнулись от ветра, которого я не ощущал. В столовой я устало рухнул на стул. Черт побери! Все мне уже порядком надоело. Нужно было заставить себя сосредоточиться и подумать, откуда взялись все эти странности. Но я был так удручен, что чувствовал себя совершенно неспособным на сколько-нибудь объективную оценку окружающего. И мне и Жоре хотелось есть. Я, наконец, встал и, волоча ноги, принялся собирать на стол то, что было в холодильнике и на газовой плите на кухне. — Сбегаю за пол-литром, — предложил Жора. — Сходим вместе, — ответил я. Мне не хотелось отпускать его одного в поселок. Он хмуро согласился. Я уже надоел ему со своей опекой, и он с удовольствием от меня отделался бы. За обедом мы просидели часа два или три. Было много удивительного. Оброненная со стола вилка повисала в воздухе и лишь минуты за полторы лениво опускалась на пол. Водка никак не хотела выливаться в стакан, и Жоре пришлось сосать ее из горлышка. Все совершалось как бы в сильно замедленном кинофильме, и только усилием воли я заставлял себя постоянно помнить о том, что мир ведет себя нормально и лишь другая скорость нашего восприятия позволяет нам видеть его изменившимся. Когда я смотрел на медленно опускающуюся вилку, мне вдруг показалось, что когда-то раньше я уже видел это явление и когда-то раньше уже сидел с Жорой за столом, пытаясь налить себе молоко в стакан. (Знаете, бывает иногда такое чувство, будто то, что с тобой сейчас происходит, ты переживаешь второй раз в своей жизни.) Потом я хлопнул себя по лбу. Не видел, а читал. Читал в рассказе Уэллса «Новейший ускоритель». Там тоже был стакан, который повисал в воздухе, и неподвижный велосипедист. Странно, как тесно даже самая смелая фантазия соприкасается с действительностью. Хотя, впрочем, если вдуматься, в этом кет ничего удивительного. Любое, даже самое фантастическое предположение все-таки основывается на действительности, так как, кроме нее, у человека ничего нет. Я вспомнил, что в этом рассказе есть эпизод, где один из героев, живущих ускоренной жизнью, берет болонку и перебрасывает ее с одного места на другое. Этого, пожалуй, не могло быть, так как у собачонки оторвалась бы голова. Дело в том, что в нашем положении вещи не только плавали в воздухе. Они лишились прочности. Я брал стул за спинку, и спинка оставалась в моей руке, как если бы я снимал телефонную трубку. Я пытался прибрать постель, но простыня отрывалась клочьями, когда я за нее брался. (Конечно, я говорю это не в укор замечательному писателю. Его рассказ — просто непритязательная и мастерски написанная веселая шутка). Тут же, за обедом, я впервые увидел, как «на самом деле выглядит падающая в воздухе капля. Она вовсе не имеет той «каплевидной» формы, которую мы считаем ей присущей. Капля из наклоненного чайника падала следующим образом. Сначала от носика отделялось нечто, действительно напоминающее каплю. Но затем тотчас же верхняя длинная часть отрывалась от нижней и образовывала крошечное водяное веретено с утолщением посередине и тонкими концами. Нижняя часть в это время делалась шариком. Потом веретено под влиянием сил молекулярного притяжения тоже распадалось на несколько мельчайших, почти незаметных глазу бисеринок, а нижний большой и тяжелый шарик сплющивался сверху и снизу. В таком виде все это, ускоряя движение, опускалось на стол. Что-то вроде вертикально расположенной нитки с большой сплюснутой бусиной внизу и несколькими совсем крошечными выше. Вообще, капли опускались так медленно, что я разбивал их щелчками. Но, впрочем, мой новый знакомый не давал мне заняться наблюдениями. Жора пьянел быстро и, опьянев, стал чрезвычайно неприятен. Хлебнув очередной раз из бутылки, он поставил ее на стол, скрестил короткие руки на груди, сжал зубы и несколько раз шумно выдохнул через ноздри, уставившись взглядом в пространство. Все было рассчитано на то, чтобы убедить меня в значительности его (Жоржа) переживаний. Его красное лицо покраснело при этом еще больше, а кончик курносого носа побледнел. Затем он презрительно оглядел комнату: — Эх, не знаешь ты жизни. — Почему? — спросил я. Он пренебрежительно вздернул плечами, не удостаивая меня ответом. — А вы, выходит, знаете жизнь? — спросил я немного позже. Он не понял иронии и высокомерно кивнул. Затем нахмурил лоб, отчего там образовались две жирных складки, и принялся скрипеть зубами и скрипел довольно долго. По всей вероятности, это делалось, чтобы запугать меня, и мне даже стало смешно. Но, пожалуй, смеяться было не над чем. — Ну ладно, — сказал Жорж. — Я им теперь дам. — Кому? Он посмотрел на меня, как на пустое место, еще раз скрипнул зубами и снисходительно бросил: — Известно, кому. Легавым. — Каким легавым? — Из милиции… И вообще. — Он злобно рассмеялся. — И этому Иваненке тоже. Из совхоза. В дальнейшем разговоре выяснилось, что он только что отсидел три года за хулиганство. Был осужден «а пять, но два ему каким-то образом сократили в порядке зачета. Долго он перечислял своих врагов. Семей Иванович, некий лейтенант Петров, еще один Семен Иванович и даже директор совхоза Иваненко. — Узнают теперь Жору Бухтима. Ни один не уйдет… Потом настроение у него вдруг переменилось, и он затянул:ПОПЫТКА СВЯЗАТЬСЯ С НОРМАЛЬНЫМ МИРОМ
Не знаю, как других, но меня всегда чрезвычайно освежает даже самый кратковременный сон. В студенческие годы я добавлял к стипендии, иногда работая по ночам грузчиком на мукомольном комбинате. В институте после такой ночи ужасно хотелось спать, и мне случалось довольно прилично высыпаться за пять минут перерыва между лекциями. На первой, бывало, сидишь, кусая пальцы, чтобы не дремать, затем после звонка кладешь голову на стол, забываешься и на следующей уже великолепно воспринимаешь самый сложный материал. На этот раз я проспал не пять, а всего две минуты нормального времени. Но для меня-то, по нашему счету, это означало целых десять часов. Я проснулся и сразу почувствовал, что усталость начисто ушла из тела. Встал и посмотрел на Жору. Он лежал, раскинувшись, тяжело похрапывая. Вес три стула валялись на полу, и их падение не разбудило ни меня, ни его. Крадучись, я вышел из дома в сад и огляделся. Замершим вокруг меня лежал все тот же мир, который я только что покинул. Не шелохнув листком, стояли липы; объятые ленивым покоем, спали кусты жасмина; рядом со мной, нацелившись в воздух, неподвижно висела стрекоза с голубыми матовыми глазами. И все было залито утренним солнцем. Оттого, что я так хорошо выспался, наше положение вдруг представилось мне в совершенно другом свете. Что там ни говори, но ведь я был настоящим Колумбом в этой новой действительности. Мне не терпелось исследовать свои владения. Вчера — то, что происходило до того, как мы легли спать, я уже считал событиями вчерашнего дня — мне показалось, что теперь я могу прыгать с большой высоты, не опасаясь разбиться. Рядом с крыльцом у нас стояла длинная садовая лестница. По ней я осторожно взобрался на крышу крыльца. Высота здесь примерно два с половиной метра, но внизу тогда был мягкий дерн, который жена вскопала под какие-то поздние цветы. Несколько мгновений поколебавшись, я прыгнул. Так оно и было. Я не падал, а парил в воздухе. Конечно, сила земного притяжения действовала на меня точно так же, как и на любое другое тело. Я опускался с ускорением в 9,8 м/сек. Но для моего сознания эта секунда была теперь растянута на более длительный срок. Вообще, если нам случается прыгать с высоты, нам кажется, что мы падаем очень быстро только потому, что за время падения мало успеваем почувствовать и передумать. Наша способность реагировать находится в привычной гармонии со скоростью падения. Теперь для меня эта гармония сдвинулась. Опускался я в течение полсекунды нормального времени, но относительно моей способности мыслить и двигаться это было чрезвычайно много. Я купался в воздухе, медленно двигаясь к земле. Это было такое новое и острое ощущение, что, едва став на ноги, я тотчас полез обратно. Уже не на крыльцо, а прямо на крышу дома. Отсюда я оглядел поселок и увидел, что сбитого Жорой прохожего уже не было на дороге. По всей вероятности, он все же поднялся на ноги за те две минуты, пока мы спали, и скрылся за поворотом шоссе. Наверное, он так и не понял, что с ним произошло. И не поймет никогда. Мне ужасно хотелось еще раз испытать ощущение полета, и я снова прыгнул вниз. Впрочем, с моей точки зрения, даже не прыгнул, а всего лишь сошел с крыши на воздух. На этот раз высота была больше — приблизительно метров пять. Это равнялось секунде нормального времени или пяти моим минутам. Пять минут неторопливого плавания в воздухе! Чтобы понять это, надо испытать. Я раскидывал руки и ноги и, наоборот, сжимался в комок, опускался вниз животом и перевертывался. Было такое впечатление, что весь мир наполнен какой-то тонкой прозрачной эмульсией, которая мягко и нежно держит меня. Затем, наконец, я приблизился к земле, стал на ноги и попытался тотчас вернуться к лестнице. Но не тут-то было. Я совсем забыл о силе инерции. Во время первого прыжка со сравнительно небольшой высоты она была почти незаметна. А теперь получилось иначе. Какая-то странная тяжесть продолжала прижимать меня к земле, согнула колени, потянула вниз голову. На какой-то момент мне даже стало страшно. Потом, сообразив, в чем дело, я быстро повернулся и лег, распластавшись спиной на траве. Тяжесть прошла сквозь голову, плечи, грудь и ноги и как бы просочилась в землю. Помню, что после этого опыта я прыгал еще несколько раз. Наверное, если бы кто-нибудь мог меня видеть, это выглядело бы довольно глупо. Взрослый человек взбирается на крышу собственного дома и сигает оттуда как мальчишка, с блаженнейшим выражением на лице. Мне тогда же пришло в голову, что в своем новом положении я мог бы даже летать по воздуху. Для этого мне нужны были бы только крылья. Ведь тут все дело в затратах силы на единицу времени. Мускульная система человека в обычном состоянии не может дать такой мощности, какой хватило бы, чтобы держать его в воздухе. А мои мускулы теперь могли. Мне не хватало только крыльев. Я просто задохнулся, когда подумал об этом. Потом я решил, что следует наконец попробовать связаться с нормальным миром. Почему бы не написать какую-нибудь записку и не положить ее на стол перед Андреем Моховым? Из сада я видел его сидящим в своем кабинете. Сначала я попытался нащелкать записку на машинке. Однако из этого ничего не получилось. Не знаю, сколько ударов в секунду делает хорошая машинистка. По-моему. около десяти. Причем она могла бы делать и больше, но ее лимитирует та скорость, с которой клавиша возвращается на место под влиянием натянутой пружины. Десять ударов в секунду для моего восприятия означало десять ударов в каждые пять минут. Чтобы написать строчку, мне пришлось бы прожить полчаса. Я нажимал клавишу, она делала довольно быстрое движение и после этого как бы прилипала к ленте, отказываясь возвращаться на место. Тогда я взял вечное перо, но и с ним вышло не лучше. Теперь чернила не успевали за быстротой моих движений. Я старался писать медленно, но перо все равно не оставляло следов на бумаге. В конце концов мне пришлось прибегнуть к обыкновенному карандашу, которым я и написал на листке:«Попал в другой темп времени. Живу со скоростью, в триста раз превышающей нормальную. Причина не ясна. Приготовься держать со мной связь.Не знаю почему, но записка получилась составленной в каком-то телеграфном стиле. Сунув ее в карман пижамы (я оставался все это время в пижаме), я заглянул в столовую, чтобы убедиться, на месте ли Жора. Он спал в той же позе, в которой я его оставил. На всякий случай я запер комнату на ключ. В кабинет к Мохову я полез прямо через окно. Какое-то странное чувство удержало меня от того, чтобы идти через комнаты. Меня никто не мог видеть и остановить, поэтому я чувствовал себя незваным гостем и боялся оказаться невольным свидетелем каких-нибудь маленьких семейных тайн. Андрей сидел за своим столом. Последние полгода он работал над усовершенствованием метода гамма-графирования, и сейчас перед ним на листе ватмана был черновой набросок одного из узлов лучеиспускающей конструкции. На самом краю стола стояла портативная пишущая машинка. В руках, у Мохова была логарифмическая линейка. Мне очень трудно передать те ощущения, которые у меня возникли, когда я перелез через подоконник и сел в комнате на стул рядом со своим приятелем. Дело в том, что я почти не мог заставить себя воспринимать его как человека. Для меня он был манекеном, отлично сделанной куклой, сохранившей полное сходство с живым Моховым. Манекен держал в руках логарифмическую линейку и притворялся, будто он способен на ней считать. Чертовской штукой была эта разница в скорости жизни в триста раз. Всех наших друзей и знакомых мы воспринимаем только в движении, хотя никогда и не думаем об этом. Но именно движение и придает им то обаяние, которым они для нас обладают. Постоянное движение мускулов лица, движение мысли, которое отражается в глазах и опять-таки на лице, жесты, какие-то неуловимые токи, исходящие постоянно от живого человека. Хороший художник отличается от плохого как раз тем, что умеет схватить это внутреннее и внешнее движение на лице своей модели. А сейчас на лице Мохова я не видел движения. Я знал, что оно есть. Но оно было слишком замедленно, чтобы я мог его заметить. Кукла — вот чем он мне казался. Я положил перед застывшим Моховым свою записку и стал ждать, когда он обратит на нее внимание. Медленно тянулось время. Вокруг было так тихо, что в ушах я ощущал биение своего пульса. Двадцать ударов… пятьдесят… сто двадцать… Пять моих минут прошло, а Мохов все еще не видел моей записки. Его взгляд упирался в логарифмическую линейку. Я все время боялся, что Жора, чего доброго, проснется там в столовой, и сидел поэтому, как на иголках. Потом мне стало совсем невтерпеж ждать, я взял пишущую машинку — чертовски трудно было стронуть ее с места — и переставил с края стола на середину прямо перед Андреем Андреевичем, придавив кончик записки. Это, наконец, его проняло. Согнувшись на своем стуле, я смотрел снизу ему в глаза. (Со стороны это могло выглядеть, как если бы я прислушивался к скрипу половиц на паркете). Медленно-медленно, едва заметно его зрачки стали перемещаться, взгляд последовал к тому месту, где машинка была прежде, и, затем, обратно — туда, где она стояла теперь. И так же медленно на лице Мохова стало возникать выражение удивления. Конечно, он не мог видеть, как машинка переносилась с одного места на другое. Человеческий мозг способен улавливать только те зрительные впечатления, которые длятся дольше, чем одна двадцатая доля секунды. Я переставил машинку за одну сотую долю, и для Мохова это выглядело так, как если бы она просто стояла на углу стола, затем это место стало пустым, и машинка вдруг из ничего возникла прямо перед ним. Он был озадачен. Выражение удивления появилось на его лице и стало усиливаться. Но даже в самой высшей точке этого чувства оно не было очень резко выраженным. Просто чуть-чуть приподнялись брови, и раскрылись пошире глаза. Вообще он был очень сдержанным человеком, мой друг Андрей Андреевич, и сейчас я в этом лишний раз убедился. Потом его взгляд последовал к моей записке. Удивленное выражение исчезло и сменилось интересом. Читал он ее и осмысливал секунды три или четыре. Но для меня это было около двадцати минут. Я вставал и садился, ходил по комнате, высовывался в окно, чтобы взглянуть на наш дом. А Мохов все смотрел на записку. Один раз я положил руку на стол перед ним и держал ее неподвижно в течение трех своих минут. По-моему, он ее увидел, потому что его взгляд медленно переместился с записки на мою руку, и брови опять стали удивленно приподниматься. Вообще же, пока я двигался, он не мог меня видеть, так же как и все прохожие, которых мы с Жорой встречали в поселке и на дороге. Для нормальной способности воспринимать зрительные образы мы двигались слишком быстро. В лучшем случае мы могли представляться людям мельканием каких-то смутных теней. Мохов еще раз удивился, на что у него снова ушло десять или двенадцать моих минут, и после этого начал какие-то странные движения. Я не сразу понял, что он собирается делать. Медленно Андрей перегнулся в поясе, затем под стулом согнул колени и, наконец, откинул назад руки. В этот момент он своей позой напоминал пловца, который приготовился прыгать со стартовой тумбочки в бассейне. В таком положении он находился целую минуту. Потом колени стали выпрямляться, руки взяли стул, шея вытянулась, как у гусака, центр тяжести тела переместился вперед. Оказалось, он всего только вставал со стула. Я понял, что он хочет позвать жену, чтобы сделать ее свидетельницей всех этих чудес, и решил, что успею сходить проведать Жоржа. От этой первой попытки общения с внешним миром у меня осталось довольно горькое впечатление. Выходило, что я смогу задавать какие-то вопросы, часа через два получать на них ответы, и все. Не больно-то приятно понимать, что ты непреодолимой стеной отгорожен от всех людей. Когда я торопливо шел мимо нашего гаража в саду, мне пришло в голову, что, если Жора опять начнет хулиганить, я могу запереть его вместе со своим «Москвичом». Гараж у меня довольно просторный. Это прочная кирпичная постройка, крытая железом. С одной стороны’ сделаны широкие двойные двери, запирающиеся на массивную щеколду, с другой — небольшое окно на высоте примерно в полтора человеческих роста. В целом — вполне пригодное место, чтобы на время изолировать опасного человека. (В это время я совсем забыл почему-то о той силе, которой мы оба обладали.) Раздумывая, я зашел за гараж сзади и тут замер, пораженный. Вся грядка клубники, примыкающая к кирпичной кладке, была истоптана чьими-то ботинками. К окошку кто-то приставил широкую доску и сломал раму. Я откинул доску, подпрыгнул, уцепился за край окна и, подтянувшись на руках, заглянул внутрь гаража. Там все было в порядке. Решетка, вделанная в стену изнутри, не была сломана. Кто-то пытался забраться в гараж. Кто-то пробовал это сделать и потерпел неудачу, так как не знал о решетке на окне. Мне не надо было долго раздумывать над тем, кто был этим взломщиком. Я сразу вспомнил испачканные землей ботинки Жоржа, его смущение, когда я пригласил его войти в дом, и нежелание рассказать, где застигли его все странные изменения в мире. Но в тот момент не поступок Жоржа взволновал меня. Он и я! Он здесь у гаража, и я у себя в спальне… Что нас связывало? Почему эта странная сила избрала только меня и его, чтобы проделать с нами все эти чудеса? Мысленно я провел прямую линию, соединяющую гараж и нашу спальню. В одну сторону она шла к заливу, в другую — к территории электростанции. Я отбежал от гаража, чтобы увидеть наш коттедж. Да, конечно, это было так. Прямая линия, мысленно проведенная через заднюю стенку гаража и через то место в спальне, где стояла моя постель, уходила дальше к зданию, в котором помещается атомный реактор. Какой-то узкий луч вдруг исторгся оттуда и изменил скорость всех жизненных процессов для меня и для моего спутника. Но почему? Что за луч? Как проник он сквозь мощные защиты, которые задерживают и потоки нейтронов и все опасные излучения, сопровождающие реакцию деления урана? И тут я вспомнил о том, что видел вчера ночью. Маленький синеватый шар, похожий на медузу. Шаровая молния… Шаровая молния, которая вчера ушла в крышу здания как раз в том месте, куда я прочертил свою воображаемую прямую! Неужели здесь возможна была какая-нибудь связь? Несколько мгновений я вспоминал все, что знал о шаровой молнии. Дело в том, что она представляет собой одну из тех загадок, решения которых еще не знает современная наука. Шаровая молния обычно двигается по ветру, но бывали случаи, когда она летела и против потока воздуха. Внутри шара господствует чрезвычайно высокая температура, но в то же время молния скользит по диэлектрикам, таким, например, как дерево или стекло, даже не опаляя их. Случается, что, встречая на пути человека, молния обходит его, как будто токи,излучаемые живым организмом, преграждают ей дорогу. В настоящее время многие считают, что шаровая молния — это и не молния вовсе, а ионизированное облако плазмы, то есть газа из ядер и сорванных с них электронов. Если это так, природа в своей собственной лаборатории уже осуществила то, над чем бьются сейчас виднейшие умы науки. Могло ли получиться, что, взаимодействуя с процессом деления урана в реакторе нашей электростанции, плазма шаровой молнии образовала какое-то новое излучение? При мысли о том, что я стою сейчас перед открытием неизвестного прежде вида энергии, я почувствовал, как у меня покраснели щеки и лихорадочно забилось сердце. Новый вил энергии! Лучи, ускоряющие ход времени! Я вспомнил об опытах профессора Вальцева, которыми было доказано, что под влиянием радиоактивного облучения резко сокращается срок созревания плодов на яблоне. Вспомнил о таких же работах в Брукхейвенской лаборатории в Америке. Охваченный волнением, я кинулся к дому, чтобы поделиться с Жоржем своими соображениями. В коридоре я лихорадочно нащупал ключ в кармане, открыл дверь в столовую и остановился. Жоржа не было. Он даже не потрудился растворить окно, чтобы выйти. Он попросту вышиб раму вместе со стеклами. По всей вероятности он не спал уже тогда, когда я второй раз зашел его проведать. В окно ему было видно, что я направился к дому Мохова; он решил, что уже достаточно наслаждался моим обществом. Все плохое, что я о нем знал, вихрем пронеслось у меня в голове. Чем он займется теперь, оказавшись независимым? Как он будет поступать с теми, кто попадется ему на пути? Невидимый, обладающий огромной силой, которую придала нам чудовищно возросшая скорость движений! Никто не сумеет не только задержать его, но даже и просто увидеть. Если он начнет нападать на людей, они даже знать не будут, что за страшная сила ворвалась в их жизнь… Ругая себя за легкомыслие, с которым я оставил Жоржа одного в комнате, я бросился в сад.В. Коростылев».
ПОГОНЯ
Как я уже говорил, дорога, проходящая по улице нашего поселка, соединяет приморское шоссе со станцией электрички, которая находится примерно в двух километрах от АЭС. Сам не знаю отчего, но, выбежав на улицу, я твердо решил, что Жорж направился именно по приморскому шоссе и не куда-нибудь, а в сторону Ленинграда. По всей вероятности, я бы и сам так сделал, если бы оказался в его положении. Ведь пользоваться электричкой мы все равно не могли: она была для нас слишком медленной. Я поспешно захромал к заливу, вышел на приморское шоссе и огляделся. Направо, в (направлении на Лебяжье, шоссе идет прямой, как натянутая струна, линией и поэтому легко просматривается на протяжении целых пяти километров. Как я и ожидал, Жоржа там не было видно. Влево, к Ленинграду, дорога начинает что-то вроде длинной параболы, один коней которой упирается в крайние дома нашего поселка, а другой — в курортное местечко. называющееся Волчий хвост. Финский залив образует тут что-то вроде маленького заливчика, и обсаженное липами шоссе повторяет изгиб берега. По прямой на лодке, от поселка до Волчьего хвоста всего один километр, а по дороге набирается целых четыре. Стоя у самой воды, я довольно долго всматривался в эти липы. Оттого, что сам был убежден, что Жорж пошел к Ленинграду, мне показалось, будто я вижу между стволами какое-то движущееся пятнышко. И вдруг мне пришло в голову, что я должен ринуться наперерез сбежавшему хулигану прямо но воде и перехватить его где-то, не доходя Волчьего хвоста. Я уже раньше думал, что при нашей колоссальной скорости движения мы могли ходить по волнам, как по суше. Теперь передо мной была прекрасная возможность это испытать. В крайнем случае я ничем не рисковал, так как глубины здесь у берега везде очень небольшие, и в самом центре заливчика мне могло быть не более, чем по грудь.
 И представьте себе, я действительно пошел по воде.
Даже не знаю, с чем можно сравнить ощущение, возникшее у меня, когда я ступил на первую неподвижную волну. Это было совсем не то, что чувствуешь, когда шагаешь по болотистой местности и, начиная проваливаться, поспешно вытаскиваешь ноги из трясины. И не то, что получается при движении по рыхлому песку.
Я, собственно, и не проваливался. Я шел как бы по тонкой пленке, которая довольно ощутимо прогибалась и пружинила подо мной. У меня все время было при этом такое чувство, что вот сейчас я и начну проваливаться, но прежде, чем это случалось, я уже убирал ногу с того места.
Один раз, примерно на середине заливчика, я остановился и, прорвав пружинящую пленку, стал медленно погружаться в воду. Но, пустившись дальше, я тотчас опять выбрался на нее.
Я бы сказал, что в зависимости от скорости движения вода ощутимо меняла для меня свое качество.
По моему собственному счету я пробежал километр за две с половиной минуты. Неплохое время, если иметь в виду ушибленную ногу.
Выбравшись на берег и продираясь к шоссе сквозь кусты ольховника, я даже улыбнулся, подумав о том, как изменится лицо Жоржа при встрече со мной.
Однако мне так и не пришлось полюбоваться его растерянностью, поскольку на дороге Жоржа не было.
До сих пор не знаю, что привиделось мне с другого берега заливчика. Может быть, это было просто то темное пятно, которое возникает от утомления зрительного нерва.
Шагая обратно к поселку, я встретил несколько автобусов. Один шел к Ленинграду и был совершенно пустым, а два других, двигавшихся в противоположном направлении, тяжело осели под тяжестью многочисленных пассажиров.
Это навело меня на мысль, что сегодня, собственно говоря, воскресенье, выходной день, и, вместо того чтобы отдыхать, я гоняюсь по дороге за бандитом.
Тогда я первый раз очень отчетливо понял, насколько понятие «свобода» противоположно возможности делать все, что захочется. Я-то действительно мог делать все, чего желала душа, — даже бегать по воде. Но в то же время я чувствовал себя чем-то вроде узника, находящегося в одиночном заключении. Все ехали загорать, купаться, болтать с друзьями, а я даже не мог рассказать никому тех чудес, которые уже испытал.
Впоследствии, пока длилось это мое странное состояние, я возвращался к этой мысли несколько раз.
Свобода-это прежде всего возможность свободно общаться с людьми, а без такой возможности все другое теряет цену.
Раздумывая об этом, я незаметно дошел до поселка и остановился в нерешительности.
Куда идти? К Андрею Мохову, чтобы получить ответ на свою записку? Домой, чтобы перекусить что-нибудь?
Я уже чувствовал довольно сильный голод. Вообще я заметил, что и мне и Жоржу хотелось есть гораздо чаще, чем в нормальных обстоятельствах — может быть, потому, что мы все время находились в движении.
И где искать теперь этого самого Жоржа?
Почти бегом я добрался до станции электрички и некоторое время разыскивал его там.
Только что пришел поезд из Ленинграда, и перрон был полон приехавших и встречавших. Празднично одетые мужчины и женщины, молодежь с рюкзаками, несколько велосипедистов.
Наверное, в действительной жизни на станции было очень оживленно, но для меня это все представляло собой толпу манекенов, сошедших с витрины магазина готового платья.
В одном месте на ступеньках, ведущих с перрона на дорогу, стоял поддерживаемый дедушкой за плечо двухлетний малыш в матросском костюмчике. На круглом личике у него застыла радостная улыбка, а в двух шагах к нему протягивали руки счастливые отец с матерью.
Было такое впечатление, будто все они репетировали для фотографа слащавую семейную сценку: «Миша встречает папу с мамой».
Тут же впервые я испытал ощущение стыда, оттого что я не такой, как все.
Позже это чувство все росло и росло во мне. Но в первый раз оно пришло именно тогда на перроне.
Возможно, это покажется странным, но меня ужасно угнетало то, что все вокруг были хорошо одеты, чисты и веселы, а я бродил среди них в грязной и разорванной в нескольких местах пижаме, небритый и усталый.
Я знал, что никто не мог меня видеть, так как я постоянно двигался, но все равно мне не удавалось побороть чувство стыда.
Осмотревшись на перроне, я вышел на дорогу к Ленинграду, которая идет здесь совсем рядом с железнодорожной линией, и увидел наконец Жоржа примерно метрах в восьмистах впереди.
Тогда началась погоня, которая длилась целых два часа.
Впрочем, не уверен, что это можно было назвать погоней. Жорж от меня не убегал, он не знал, что я пытаюсь его догнать.
Возле станции «Спортивная», которая находится в шести километрах от нашей, я чуть было не настиг Жоржа, потому что он остановился обшарить карманы пожилого профессорского вида гражданина в сером костюме.
Я был в это время метрах в ста от обоих и спрятался в кусты, боясь, что Жорж меня заметит. Потом я стал пробираться по кустарнику вперед, но Жорж в это время кончил свое дело, бросил бумажник гражданина на землю и быстро зашагал дальше.
Бумажник так и лежал на асфальте, когда я шел мимо пожилого мужчины. Пиджак у него был весь разорван.
Вообще, вся неестественность и даже дикость этого преследования заключались в том, что я просто физически был не в состоянии догнать Жору, хотя все время видел вдалеке его коренастую фигуру в пиджаке. Мы обгоняли автомобили и автобусы, мы двигались быстрее транспорта любого вида. На земле не существовало силы, которая могла бы мне помочь.
Как в эпоху первобытного человека, результат зависел только от наших ног. А у Жоржа они были проворнее, потому что я с каждым новым шагом хромал все сильнее и сильнее…
Когда мы были недалеко от следующей станции, случилось нечто, в конце концов принудившее меня совсем отказаться от погони.
И представьте себе, я действительно пошел по воде.
Даже не знаю, с чем можно сравнить ощущение, возникшее у меня, когда я ступил на первую неподвижную волну. Это было совсем не то, что чувствуешь, когда шагаешь по болотистой местности и, начиная проваливаться, поспешно вытаскиваешь ноги из трясины. И не то, что получается при движении по рыхлому песку.
Я, собственно, и не проваливался. Я шел как бы по тонкой пленке, которая довольно ощутимо прогибалась и пружинила подо мной. У меня все время было при этом такое чувство, что вот сейчас я и начну проваливаться, но прежде, чем это случалось, я уже убирал ногу с того места.
Один раз, примерно на середине заливчика, я остановился и, прорвав пружинящую пленку, стал медленно погружаться в воду. Но, пустившись дальше, я тотчас опять выбрался на нее.
Я бы сказал, что в зависимости от скорости движения вода ощутимо меняла для меня свое качество.
По моему собственному счету я пробежал километр за две с половиной минуты. Неплохое время, если иметь в виду ушибленную ногу.
Выбравшись на берег и продираясь к шоссе сквозь кусты ольховника, я даже улыбнулся, подумав о том, как изменится лицо Жоржа при встрече со мной.
Однако мне так и не пришлось полюбоваться его растерянностью, поскольку на дороге Жоржа не было.
До сих пор не знаю, что привиделось мне с другого берега заливчика. Может быть, это было просто то темное пятно, которое возникает от утомления зрительного нерва.
Шагая обратно к поселку, я встретил несколько автобусов. Один шел к Ленинграду и был совершенно пустым, а два других, двигавшихся в противоположном направлении, тяжело осели под тяжестью многочисленных пассажиров.
Это навело меня на мысль, что сегодня, собственно говоря, воскресенье, выходной день, и, вместо того чтобы отдыхать, я гоняюсь по дороге за бандитом.
Тогда я первый раз очень отчетливо понял, насколько понятие «свобода» противоположно возможности делать все, что захочется. Я-то действительно мог делать все, чего желала душа, — даже бегать по воде. Но в то же время я чувствовал себя чем-то вроде узника, находящегося в одиночном заключении. Все ехали загорать, купаться, болтать с друзьями, а я даже не мог рассказать никому тех чудес, которые уже испытал.
Впоследствии, пока длилось это мое странное состояние, я возвращался к этой мысли несколько раз.
Свобода-это прежде всего возможность свободно общаться с людьми, а без такой возможности все другое теряет цену.
Раздумывая об этом, я незаметно дошел до поселка и остановился в нерешительности.
Куда идти? К Андрею Мохову, чтобы получить ответ на свою записку? Домой, чтобы перекусить что-нибудь?
Я уже чувствовал довольно сильный голод. Вообще я заметил, что и мне и Жоржу хотелось есть гораздо чаще, чем в нормальных обстоятельствах — может быть, потому, что мы все время находились в движении.
И где искать теперь этого самого Жоржа?
Почти бегом я добрался до станции электрички и некоторое время разыскивал его там.
Только что пришел поезд из Ленинграда, и перрон был полон приехавших и встречавших. Празднично одетые мужчины и женщины, молодежь с рюкзаками, несколько велосипедистов.
Наверное, в действительной жизни на станции было очень оживленно, но для меня это все представляло собой толпу манекенов, сошедших с витрины магазина готового платья.
В одном месте на ступеньках, ведущих с перрона на дорогу, стоял поддерживаемый дедушкой за плечо двухлетний малыш в матросском костюмчике. На круглом личике у него застыла радостная улыбка, а в двух шагах к нему протягивали руки счастливые отец с матерью.
Было такое впечатление, будто все они репетировали для фотографа слащавую семейную сценку: «Миша встречает папу с мамой».
Тут же впервые я испытал ощущение стыда, оттого что я не такой, как все.
Позже это чувство все росло и росло во мне. Но в первый раз оно пришло именно тогда на перроне.
Возможно, это покажется странным, но меня ужасно угнетало то, что все вокруг были хорошо одеты, чисты и веселы, а я бродил среди них в грязной и разорванной в нескольких местах пижаме, небритый и усталый.
Я знал, что никто не мог меня видеть, так как я постоянно двигался, но все равно мне не удавалось побороть чувство стыда.
Осмотревшись на перроне, я вышел на дорогу к Ленинграду, которая идет здесь совсем рядом с железнодорожной линией, и увидел наконец Жоржа примерно метрах в восьмистах впереди.
Тогда началась погоня, которая длилась целых два часа.
Впрочем, не уверен, что это можно было назвать погоней. Жорж от меня не убегал, он не знал, что я пытаюсь его догнать.
Возле станции «Спортивная», которая находится в шести километрах от нашей, я чуть было не настиг Жоржа, потому что он остановился обшарить карманы пожилого профессорского вида гражданина в сером костюме.
Я был в это время метрах в ста от обоих и спрятался в кусты, боясь, что Жорж меня заметит. Потом я стал пробираться по кустарнику вперед, но Жорж в это время кончил свое дело, бросил бумажник гражданина на землю и быстро зашагал дальше.
Бумажник так и лежал на асфальте, когда я шел мимо пожилого мужчины. Пиджак у него был весь разорван.
Вообще, вся неестественность и даже дикость этого преследования заключались в том, что я просто физически был не в состоянии догнать Жору, хотя все время видел вдалеке его коренастую фигуру в пиджаке. Мы обгоняли автомобили и автобусы, мы двигались быстрее транспорта любого вида. На земле не существовало силы, которая могла бы мне помочь.
Как в эпоху первобытного человека, результат зависел только от наших ног. А у Жоржа они были проворнее, потому что я с каждым новым шагом хромал все сильнее и сильнее…
Когда мы были недалеко от следующей станции, случилось нечто, в конце концов принудившее меня совсем отказаться от погони.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
Сначала был звук, который заставил меня насторожиться. Я хромал мимо бесконечно длинного железнодорожного состава, когда вдруг откуда-то издали пришел и раскатился низкий, все усиливающийся рев. Это так походило на гром, что я остановился и взглянул на небо. Но на нем не было ни облачка. Помню, что этот рев меня даже испугал. В нем было что-то всеобъемлющее. Как будто бы кричала сама земля. А я чувствовал, что с меня уже достаточно всяких чудес и космических катастроф. Затем я посмотрел в сторону паровоза, увидел неподвижное облако пара возле трубы и понял, что это всего лишь паровозный свисток. Машинист предупреждал начальника станции о приближении поезда. Очень долго я брел мимо этого состава. Сначала шли платформы, груженные камнем, затем несколько вагонов со скотом, три нефтеналивные цистерны, опять платформы и опять вагоны. Это был совершенно бесконечный поезд, и я устал обгонять его. Он мне надоел, когда я дошел еще только до середины. Это может показаться странным, но, если мы с Жоржем куда-нибудь шли, нам вовсе не казалось, что мы движемся со сверхъестественной быстротой. Нам казалось, что все остальное стоит на месте, а мы сами двигаемся только нормально. Дело в том, что «быстро» и «медленно» — это чисто субъективные понятия. Поэтому мне представлялось, что я с нормальной скоростью иду вдоль бесконечного поезда, который почти что стоит неподвижно. (В действительности он двигался со скоростью километров сорок в час.) Я дошел до первых вагонов, когда в рев паровозного свистка начали вплетаться гудки высокого тона. Было такое впечатление, будто они идут от колес. Потом, уже возле тендера, я увидел внизу, под невысокой насыпью, старуху в вязаной кофточке, которая с совершенно отчаянным лицом протягивала руки к чему-то, находившемуся на рельсах впереди паровоза. Так как я шел почти рядом с вагонами, мне было не видно, что это такое. Я сделал еще несколько шагов и миновал паровоз. Помню, что меня обдало жаром, когда я проходил мимо шатуна. Метрах в двадцати от передних маленьких колес, которые называются бегунками, на шпалах стояла девочка лет четырех или пяти. Вернее, не стояла, а бежала. Но так как для меня весь мир был неподвижно застывшим, мне казалось, что она стоит в позе бегущей, Обыкновенная девочка. Гривка волос пшеничного цвета, штапельное короткое платьице, пухлые неуклюжие детские ножки. Я посмотрел на девочку, на старуху, на машиниста, который почему-то высунулся чуть ли не до пояса из своего окошка, и пошел дальше. Жорж был еще виден в полукилометре от меня на дороге. Я отошел метров на десять, и только тогда меня вдруг осенило. Что я делаю? Куда я иду? Ведь сзади происходит катастрофа! Ребенок попал под поезд! Уже позже я понял, как это все получилось. На насыпи и возле нее всегда поспевает в июне много земляники. Хотя железнодорожная администрация и борется с этим, но дачники из окрестных поселков и деревенские ребятишки часто тут ее собирают. По всей вероятности, старуха с девочкой как раз этим самым и занимались. Потом старуха вдруг увидела издалека поезд и крикнула внучке, которая была на другой стороне насыпи, чтобы та береглась. А девочка не расслышала и побежала к старухе. Понять я все это понял, но что я должен был делать? Я знал, что, если просто сниму сейчас девочку со шпал и поставлю на траву, это будет означать, что я налетел на ребенка со скоростью пушечного снаряда. Я помнил, как отрывались спинки от стульев, когда я пробовал переставлять их с места на место. Не скрою, что я ощутил сильнейшую ненависть к глупой старухе. С маленьким ребенком идти на насыпь за ягодами! По-моему, у нас мало штрафуют за различные железнодорожные нарушения… Паровоз медленно, но неотвратимо приближался к девочке.
И ребенок, и старуха застыли совершенно неподвижно, а огромная махина локомотива каждую секунду неуклонно отвоевывала по сантиметру. Лицо машиниста выражало крайнюю степень ужаса и отчаяния. Я теперь понял, что гудки, которые вплетались в рев паровоза, были скрипом тормозных колодок.
Сначала мне пришло в голову попытаться поднять девочку за платье. Но, как только я потянул подол вверх, легкая материя начала расползаться.
Затем я решил, что скину пижаму и возьму в нее девочку, как в мешок. Я совсем забыл, что я уже однажды пробовал снимать пижаму, и конечно, штапельное полотно тоже поползло у меня под пальцами.
Странное было положение. Застывшая на бегу девочка, искаженное отчаянием лицо машиниста — он, конечно, был уже уверен, что раздавит ребенка, неуклонно приближающиеся тяжелые буфера паровоза и я, не знающий, как мне взяться за это маленькое светловолосое создание.
Но медлить было нельзя. Еще мгновение, и поезд смял бы ребенка.
В конце концов я решил просто взять девочку руками. Трудность была в том, чтобы не повредить ей слишком быстрым движением.
Бесконечно осторожно я просунул ладони под мышки ребенку и медленно начал поднимать маленькое хрупкое тельце. Девочка так и осталась в положении бегущей, когда ее ножки отделились от шпал.
А полотно железной дороги уже ощутимо прогибалось под тяжестью паровоза.
Когда круглый плоский буфер подошел ко мне совсем близко, я, оставаясь сам на месте, осторожно начал двигать девочку в воздухе. Затем буфер уперся мне в спину, жарко дохнуло запахом смазочных масел. Я сделал несколько шагов по шпалам, сошел с насыпи и просто отпустил девочку над землей.
Даже не знаю, с чем можно сравнить то, что я делал. Примерно так в нормальной жизни человек нес бы налитый до самых краев таз с водой.
Со стороны это выглядело, как если бы девочку перед самыми колесами поезда просто сдуло ветром со шпал.
Некоторое время я стоял возле нее, глядя, как она постепенно опускается на траву. На лице у нее появилось выражение испуга, которое начало затем сменяться удивлением.
По-моему, я ей все-таки не повредил.
Старуха продолжала стоять так же, как стояла, а машинист еще больше высунулся из окошка и смотрел теперь под колеса паровоза. Он, наверное, думал, что ребенок уже там.
Я испытывал по отношению к нему очень теплое чувство. Хотелось похлопать его по испачканному маслом плечу и сказать, что все окончилось благополучно.
Потом я посмотрел на шоссе, ища глазами Жоржа. Но он за это время уже скрылся из виду.
Уже совершенно не веря, что я его догоню, я дошел до станции «Отдых». Здесь шоссейная дорога делится на две. Одна ветка поворачивает к заливу, чтобы соединиться там с приморским шоссе, а другая идет на Красноостров и дальше тоже на Ленинград.
Не было никакой возможности угадать, в какую сторону направился Жора.
Минут десять я бродил по станции, надеясь где-нибудь на него наткнуться. Мне хотелось пить, и я подошел к маленькой очереди возле ларька газированных вод. Пока продавщица неподвижно отсчитывала сдачу полному вспотевшему, несмотря на ранний час, гражданину, я взял стакан и попытался сам налить себе воды без газа. Но для меня это оказалось слишком длительным процессом. Не дождавшись, когда мой стакан наполнится, я поставил его на прилавок и вырвал другой из рук гражданина.
Поесть я тоже был бы не прочь, и рядом, на станции, уже работал буфет. Но я не мог заставить себя войти в помещение, наполненное народом. Я снова начал испытывать чувство стыда оттого, что я не такой, как все.
Я проверил свои ручные часы по станционным. Они шли секунда в секунду.
После этого я, сильно хромая, побрел домой.
Очень плохое у меня было настроение. Впервые мне пришло в голову, что, в сущности, человеческий век не так уж долог — всего каких-нибудь восемьсот месяцев. А поскольку я жил в триста раз быстрее, оставшиеся мне тридцать лет я проживу всего за один или полтора месяца нормального времени. Сейчас конец июня, а в середине августа я буду уже глубоким стариком и умру.
Но вместе с тем для меня самого. — для моего внутреннего ощущения — это будут полных тридцать лет со всем тем, что образует человеческую жизнь. С надеждами и разочарованиями, с планами и их исполнением. И все это пройдет в полном одиночестве. Ведь нельзя же считать общением те записки, которыми я смогу обмениваться с неподвижными манекенами — людьми…
Времени было десять минут девятого. Через два нормальных «человеческих» часа из города должна была вернуться Аня. Как я встречу ее? Как дам ей понять, что меня больше не существует в нормальном счете минут и секунд? Что скажет она ребятам об их отце?
Все это были горькие мысли, и я несколько раз болезненно вздыхал, тащась по дороге.
На середине пути мне вдруг очень сильно захотелось спать. Некоторое время я выбирал какое-нибудь скрытое от посторонних глаз местечко в кустарнике на краю шоссе, где я мог бы улечься и заснуть. Но тут, по линии железной дороги, повсюду было людно, и я не нашел ничего подходящего.
Мысль о том, что меня смогут увидеть спящим, почему-то страшила.
Большой палец на ноге здорово распух и посинел, и постепенно, по мере того, как я брел к дому, начала болеть вся ступня. Я хромал все сильнее и, прежде чем добраться до нашего поселка, несколько раз присаживался отдохнуть.
Когда я еще крался в кустах, стараясь приблизиться к Жоржу, я задел за какой-то сук, и пижама слегка порвалась пониже воротника. Потом линия разрыва все увеличивалась, пока, наконец, на спине у меня «е оказалось двух ничем не соединенных половин пижамы. Я их снял и выбросил.
Вообще я добрался до своего дома в довольно жалком состоянии. Хромой, усталый, голодный и до пояса голый. Поспешно сжевал кусок хлеба и свалился на тахту.
Паровоз медленно, но неотвратимо приближался к девочке.
И ребенок, и старуха застыли совершенно неподвижно, а огромная махина локомотива каждую секунду неуклонно отвоевывала по сантиметру. Лицо машиниста выражало крайнюю степень ужаса и отчаяния. Я теперь понял, что гудки, которые вплетались в рев паровоза, были скрипом тормозных колодок.
Сначала мне пришло в голову попытаться поднять девочку за платье. Но, как только я потянул подол вверх, легкая материя начала расползаться.
Затем я решил, что скину пижаму и возьму в нее девочку, как в мешок. Я совсем забыл, что я уже однажды пробовал снимать пижаму, и конечно, штапельное полотно тоже поползло у меня под пальцами.
Странное было положение. Застывшая на бегу девочка, искаженное отчаянием лицо машиниста — он, конечно, был уже уверен, что раздавит ребенка, неуклонно приближающиеся тяжелые буфера паровоза и я, не знающий, как мне взяться за это маленькое светловолосое создание.
Но медлить было нельзя. Еще мгновение, и поезд смял бы ребенка.
В конце концов я решил просто взять девочку руками. Трудность была в том, чтобы не повредить ей слишком быстрым движением.
Бесконечно осторожно я просунул ладони под мышки ребенку и медленно начал поднимать маленькое хрупкое тельце. Девочка так и осталась в положении бегущей, когда ее ножки отделились от шпал.
А полотно железной дороги уже ощутимо прогибалось под тяжестью паровоза.
Когда круглый плоский буфер подошел ко мне совсем близко, я, оставаясь сам на месте, осторожно начал двигать девочку в воздухе. Затем буфер уперся мне в спину, жарко дохнуло запахом смазочных масел. Я сделал несколько шагов по шпалам, сошел с насыпи и просто отпустил девочку над землей.
Даже не знаю, с чем можно сравнить то, что я делал. Примерно так в нормальной жизни человек нес бы налитый до самых краев таз с водой.
Со стороны это выглядело, как если бы девочку перед самыми колесами поезда просто сдуло ветром со шпал.
Некоторое время я стоял возле нее, глядя, как она постепенно опускается на траву. На лице у нее появилось выражение испуга, которое начало затем сменяться удивлением.
По-моему, я ей все-таки не повредил.
Старуха продолжала стоять так же, как стояла, а машинист еще больше высунулся из окошка и смотрел теперь под колеса паровоза. Он, наверное, думал, что ребенок уже там.
Я испытывал по отношению к нему очень теплое чувство. Хотелось похлопать его по испачканному маслом плечу и сказать, что все окончилось благополучно.
Потом я посмотрел на шоссе, ища глазами Жоржа. Но он за это время уже скрылся из виду.
Уже совершенно не веря, что я его догоню, я дошел до станции «Отдых». Здесь шоссейная дорога делится на две. Одна ветка поворачивает к заливу, чтобы соединиться там с приморским шоссе, а другая идет на Красноостров и дальше тоже на Ленинград.
Не было никакой возможности угадать, в какую сторону направился Жора.
Минут десять я бродил по станции, надеясь где-нибудь на него наткнуться. Мне хотелось пить, и я подошел к маленькой очереди возле ларька газированных вод. Пока продавщица неподвижно отсчитывала сдачу полному вспотевшему, несмотря на ранний час, гражданину, я взял стакан и попытался сам налить себе воды без газа. Но для меня это оказалось слишком длительным процессом. Не дождавшись, когда мой стакан наполнится, я поставил его на прилавок и вырвал другой из рук гражданина.
Поесть я тоже был бы не прочь, и рядом, на станции, уже работал буфет. Но я не мог заставить себя войти в помещение, наполненное народом. Я снова начал испытывать чувство стыда оттого, что я не такой, как все.
Я проверил свои ручные часы по станционным. Они шли секунда в секунду.
После этого я, сильно хромая, побрел домой.
Очень плохое у меня было настроение. Впервые мне пришло в голову, что, в сущности, человеческий век не так уж долог — всего каких-нибудь восемьсот месяцев. А поскольку я жил в триста раз быстрее, оставшиеся мне тридцать лет я проживу всего за один или полтора месяца нормального времени. Сейчас конец июня, а в середине августа я буду уже глубоким стариком и умру.
Но вместе с тем для меня самого. — для моего внутреннего ощущения — это будут полных тридцать лет со всем тем, что образует человеческую жизнь. С надеждами и разочарованиями, с планами и их исполнением. И все это пройдет в полном одиночестве. Ведь нельзя же считать общением те записки, которыми я смогу обмениваться с неподвижными манекенами — людьми…
Времени было десять минут девятого. Через два нормальных «человеческих» часа из города должна была вернуться Аня. Как я встречу ее? Как дам ей понять, что меня больше не существует в нормальном счете минут и секунд? Что скажет она ребятам об их отце?
Все это были горькие мысли, и я несколько раз болезненно вздыхал, тащась по дороге.
На середине пути мне вдруг очень сильно захотелось спать. Некоторое время я выбирал какое-нибудь скрытое от посторонних глаз местечко в кустарнике на краю шоссе, где я мог бы улечься и заснуть. Но тут, по линии железной дороги, повсюду было людно, и я не нашел ничего подходящего.
Мысль о том, что меня смогут увидеть спящим, почему-то страшила.
Большой палец на ноге здорово распух и посинел, и постепенно, по мере того, как я брел к дому, начала болеть вся ступня. Я хромал все сильнее и, прежде чем добраться до нашего поселка, несколько раз присаживался отдохнуть.
Когда я еще крался в кустах, стараясь приблизиться к Жоржу, я задел за какой-то сук, и пижама слегка порвалась пониже воротника. Потом линия разрыва все увеличивалась, пока, наконец, на спине у меня «е оказалось двух ничем не соединенных половин пижамы. Я их снял и выбросил.
Вообще я добрался до своего дома в довольно жалком состоянии. Хромой, усталый, голодный и до пояса голый. Поспешно сжевал кусок хлеба и свалился на тахту.
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ С МОХОВЫМ
Иногда с человеком случается так, что, хотя его ждет срочное и важное дело, он вдруг ни с того ни с сего начинает заниматься какими-нибудь пустяками. Знает, что надо браться за важное, а сам тратит время на то, чтобы по-особому отточить карандаш, вспомнить фразу из недавно прочитанной книги или что-нибудь другое в таком духе. Обычно это бывает от большой усталости. Когда я после нескольких часов тяжелого сна поднялся с тахты у нас в столовой, я тоже вместо того чтобы сразу отправиться к Мохову и узнать, ответил ли он мне какой-нибудь запиской, принялся надевать рубашку, которую взял из ванной. В конце концов было не так уж существенно, в рубашке я буду ходить по поселку или в одних только пижамных брюках. Все равно меня никто не мог видеть, и холодно мне тоже не было. Но как только я пробовал натащить рубашку на себя, материя бесшумно и без всякого сопротивления рвалась, и скоро по всей комнате плавали, медленно опускаясь на пол, оторванные рукава и полы. Потом я попытался приладить на ногу согревающий компресс (надо было, конечно, охлаждающий, как полагается при вывихах и переломах). Но бинт рвался у меня под руками, и в конце концов я просто надел ботинок на босу ногу. И только после этого я пошел к Мохову. Выходя из дома, я подумал о том, как успел уже разрушиться наш коттедж за это время. В столовой была выбита оконная рама, на кухне по полу рассыпались осколки разбитой Жоржем бутылки, выходная дверь, сорванная с петель, валялась в саду на траве. К Андрею Андреевичу я опять полез через окно кабинета. Я перемахнул через подоконник и увидел, что Мохов и его жена Валя стоят рядом у стола. У обоих на лицах было такое выражение, будто они к чему-то прислушивались. Я ожидал, что на столе будет приготовленная для меня записка, но ее не было. В руке у Вали был нож для резанья хлеба. По всей вероятности, она готовила завтрак, когда Андрей позвал ее. В моем нервном состоянии я почувствовал, как во мне нарастает раздражение. Почему же он не ответил на мою записку? Потом я взглянул на ручные часы, и сердце у меня похолодело. Понимаете, с тех пор как я был здесь в кабинете, прошло всего четыре нормальных «человеческих» минуты! Мои размышления возле гаража, бег по волнам через залив, погоня за Жоржем вдоль линии железной дороги, спасение девочки и обратный путь в поселок — все уложилось в четыре обыкновенных минуты. Черт возьми, конечно, Мохов не успел ничего как следует сообразить. А я уже вернулся после всех своих приключений и хочу получить ответ на свое письмо. Я сел на стул сбоку от Андрея и стал смотреть на них обоих. Бесконечно медленно эти две живые куклы поворачивали друг к другу головы, и бесконечно медленно на их лицах расплывались улыбки. Минут пятнадцать прошло, пока они наконец улыбнулись друг другу и Валя начала раскрывать рот. Наверное, она собиралась сказать мужу, чтобы он не мешал ей собирать на стол. Когда я влезал в окно, поднятый мною ветер подхватил со стола сорванный листок настольного календаря, и в течение по крайней мере десяти минут этот листок косо плыл в воздухе в угол комнаты. Это был зачарованный, спящий мир, где люди и предметы жили в какой-то ленивой дреме. Я встал, снял машинку со стола и поставил ее на пол — пусть Валя тоже убедится, что все это вовсе не шутки. Взял из неподвижной руки Андрея карандаш и крупно написал на ватмане поверх его чертежа: «Я живу в другом времени. Подтверди, что ты прочел и понял, что здесь написано. Напиши мне ответ. Я не могу тебя слышать. Напиши тут же. В.Коростылев». Сколько времени потребуется Андрею, чтобы осмыслить мое новое письмо и написать ответ? По всей видимости — не меньше одной «человеческой» минуты. Не меньше одной своей минуты и не меньше моих пяти часов. Я выбрался из окна в сад и пошел в ларек взять там еще масла и консервов. Плохо помню, чем я занимался потом. По-моему, эти пять часов прошли для меня в каком-то тоскливом ожидании. Два раза ел — опять хлеб с маслом и консервы — слонялся, прихрамывая, по поселку, около часа просидел, держа ногу в тазу с холодной водой. (Мне очень долго пришлось провозиться, пока я налил этот таз и пока убедился, что его нельзя переносить с места на место. Как только я пытался это сделать, вода выскальзывала из таза и медленно растекалась в ванной на кафельном полу.) А вокруг меня продолжалось все то же бесконечное утро. Я не сразу понял тогда, почему мне было так важно, чтобы Андрей узнал о том, что со мной произошло. Чтобы вообще об этом стало известно. Очевидно, все дело в том, что человеку страшна бесцельность. Можно переносить любые испытания и преодолевать любые трудности, но только, если все это имеет цель. Кроме того, человеку очень важно самому выбирать свою судьбу. В известных случаях он может идти на заведомую гибель. Но так, чтобы это исходило от него самого. Человек повсюду хочет быть хозяином обстоятельств, но не их рабом. И я, по-видимому, тоже хотел быть господином того, что со мной случилось. Какая-то сила вырвала меня из обычной жизни людей. До тех пор пока об этом никто не знает, я остаюсь в положении человека, попавшего под трамвай. Но я не хотел быть жертвой слепой случайности. Мне нужно было, чтобы люди знали о том, что со мной произошло, чтобы я с ними переписывался, чтобы я как-то овладел положением. Тогда все дальнейшее приобрело бы смысл. Даже моя смерть — если это ускоренное существование в конце концов меня убьет… За этими размышлениями у меня прошел остаток того срока, который я дал Андрею Мохову, чтобы ответить на мою записку. Честно говоря, я ожидал всего, но только не того, что он написал мне на том же листе ватмана. Андрей склонился над столом с карандашом в руке, а Валя, полуобернувшись, стояла у двери. У «ее была такая поза, будто ее что-то испугало. Я перелез через подоконник и под своей запиской увидел две неровных строчки:«Василий Петрович, оставь свои фокусы. Объявись. А то все-таки несолидно. Мешаешь рабо…»Он как раз заканчивал последнюю фразу. Помню, что это меня ужасно раздосадовало. Фокусы! Несолидно! Все, что я пережил и перевидел за это утро, — не более, как фокусы. Ну хорошо же! Я сейчас покажу, что это за фокусы. Потом я все-таки взял себя в руки. А я сам поверил бы, если б получил от приятеля записку, что он живет в другом времени? Несколько мгновений я крутился по комнате между застывшими Валей и Андреем, ища, за что бы взяться. Наконец меня осенило — это же очень просто. Я уселся за стол рядом с Андреем и просидел неподвижно минут пять. И они оба меня увидели. Сначала Андрей, затем Валя. Андрей стоял у стола, чуть согнувшись. Он дописывал свое послание. Потом тело его стало выпрямляться, а голова поворачиваться ко мне. Впрочем, еще раньше ко мне медленно скользнули зрачки. Он выпрямлялся минут пять или шесть, а может быть, даже все десять. За это время на лице его переменилась целая гамма чувств. Удивление, потом испуг — но очень маленький, едва заметный — и, наконец, недоверие. Все-таки поражает выразительность человеческого лица. Чуть-чуть расширенные глаза — может быть, на сотую долю против обычного — и вот вам удивление. Прибавьте к этому чуть опущенные уголки рта — и на вашем лице будет испуг. Совсем слегка подожмите губы, и это уже недоверие. Удивление и испуг сменились у Андрея довольно быстро, но недоверие прочно держалось на его лице. С ним он не расставался минут пятнадцать, стоя возле меня, как окаменелый, и у меня от неподвижного сидения заболела спина. Затем он стал бесконечно медленно поднимать руку. Он хотел дотронуться до меня, убедиться, что это не мираж. А Валя просто испугалась. Широко открылся рот и расширились глаза. Она начала совсем поворачиваться к двери — раньше она стояла вполоборота, затем приостановилась и опять стала поворачивать голову ко мне. Но на лице долго оставалось выражение страха. Мне очень трудно описать, что я чувствовал, когда рука Андрея медленно, почти так же медленно, как двигается по траве тень от верхушки высокого дерева, приближалась к моему плечу. Вообще он казался мне не совсем живым, и это впечатление как раз усиливалось оттого, что он двигался. Странно, но это так и было. Медлительность движения как раз подчеркивала всю необычность обстановки. Если бы Андрей и Валя вовсе не двигались, они были бы похожи на манекены или на хорошо выполненные раскрашенные статуи, и это так не поражало бы. Потом его рука легла на мое плечо. Я считал по пульсу. Двадцать пять ударов, еще двадцать пять… Две минуты, три, четыре… У меня начал болеть еще и затылок, но я старался сидеть неподвижно. Удивительно выглядел процесс восприятия ощущения, так растянутый во времени. Рука Андрея легла ко мне на плечо. Но он еще не успел ощутить этого: на лице его было то же выражение, что и пять минут назад, хотя рука уже держала меня. Я считал секунды. Вот нервные окончания на пальцах ощутили мою кожу. Вот сигнал пошел по нервному стволу в мозг. Вот где-то в соответствующем центре полученная информация наложилась на ту, которую уже дал зрительный нерв. Вот приказание передано нервам, управляющим мускулами лица. И наконец он улыбнулся! Процесс был закончен. Вернее, не совсем улыбнулся. Только чуть заметно начали приподниматься уголки рта. Но достаточно, чтобы выражение лица уже переменилось. Черт возьми! Я не сразу понял, что присутствую при замечательном опыте. При опыте, доказывающем материальность мысли. Я двигался и вообще жил быстрее и поэтому быстрее мыслил. А Андрей жил нормально, и в полном соответствии с другими процессами вело себя и его мышление. Затем вдруг его взгляд погас. Я даже не успел уловить, когда это случилось. Но слово «погас» очень точно передает то, что произошло. Он все еще смотрел на меня, «о глаза стали другими. В них что-то исчезло. Они сделались тусклыми. И голова начала поворачиваться в сторону. Как будто он обиделся на меня. Только минуты через четыре я понял, что он просто хочет убедиться, видит ли меня Валя. Но удивительно было, как погас взгляд. Сразу, как только он начал думать о Вале и на мгновение соответственно перестал думать обо мне, взгляд, все еще направленный на меня, переменился. Сделался безразличным. То же самое глазное яблоко, тот же голубовато-серый зрачок с синими радиальными черточками, но глаза стали другими, совсем не похожими на прежние. Что там могло произойти, когда исчезла мысль? Ведь не изменился же химический состав глазного яблока? Может быть, мне стоило посидеть еще немного, чтобы Валя могла подойти и тоже убедиться в том, что я существую. Но у меня сильно затекла больная нога. В кабинете Андрея я пробыл еще около двух часов. Ни о каком непосредственном общении не могло быть, конечно, и речи. За эти два часа Андрей окончательно повернулся к Вале, поднял руку, подзывая ее, и повернулся к тому месту, где меня уже не было. А Валя сделала несколько шагов от двери к столу. И все. Для них мои два часа были двенадцатью секундами. На ватмане я приписал для Андрея еще одно слово:
«Пиши».И ушел. Мне опять хотелось спать — вообще утомляемость наступала скорее, чем при нормальных условиях. На мгновение у меня мелькнула мысль улечься здесь же. Если бы я проспал часов пять, Валя с Андреем могли бы меня видеть в течение одной своей минуты. Но потом мне почему-то стало страшно ложиться здесь, в кабинете на диване. Ужасно глупо, но вдруг мне показалось, что эти две почти неживые фигуры, воспользовавшись моим сном, свяжут меня и что связанный я даже не смогу им ничего написать. Другими словами, начали шалить нервы… А между тем я начал замечать, что скорость моей жизни постепенно увеличивается.
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
Впервые я заметил это по тому, как медленно падал нож, когда я у себя в столовой отпустил его над столом. Предметы и раньше падали очень лениво, но на этот раз нож опускался на стол еще медленнее. Затем стало труднее с водой. Прежде мне достаточно было десяти минут, чтобы набрать стакан на кухне под краном. Теперь стакан наливался минут за двенадцать-четырнадцать. Сначала я, впрочем, не обратил на это особенного внимания. Выспавшись и пообедав, я опять побрел к Андрею Мохову, чтобы получить наконец свидетельство о том, что он поверил в мое существование в другом времени. Действительно, на столе на чертеже меня ждала строчка: «Что мы должны делать? Нужна ли тебе помощь?» Андрей и Валя опять стояли у стола, как бы прислушиваясь к чему-то. Нужна ли мне помощь? Да я и сам не знал, что мне нужно. Потом я еще дважды обменивался с Андреем записками. Написал ему о том, что где-то бродит Жорж, и о том, что моя скорость все время растет. Он ответил просьбой, чтобы я снова ему показался. Еще один раз я сидел у него в кабинете два с половиной часа, и они с Валей меня опять видели. Вообще эти встречи были мучительными. Я никак не мог справиться с раздражением, которое вызывала у меня медлительность нормальных людей, и, кроме того, постоянно попадал впросак. Мне казалось, что те или другие движения Вали и Андрея имеют отношение ко мне, но на проверку получалось, что это не так. Например, Андрей начинал поднимать руку. Я тотчас решал, что он собирается до меня дотронуться. Но рука шла мимо. Одну минуту, другую, третью… Тогда я начинал думать, что он хочет указать на что-нибудь. Но в конце концов, через пять или шесть минут выяснялось, что он всего лишь поправлял прядь волос на лбу. Вообще мне ни разу не удавалось догадаться заранее, что будет означать то или иное движение. Да и все равно в этих встречах не было смысла. Мы могли общаться только с помощью записок. У меня было много свободного времени, и сначала я не знал, куда его девать. Это было удивительно, но я понял, что человек просто ничего решительно не может делать только для одного себя. Даже отдыхать. Например, книги. Однажды я раскрыл томик Стендаля, но тотчас оставил его. Оказывается, мы читаем не просто так, а с тайной — даже для нас самих тайной — надеждой сделаться от этого чтения лучше и умнее и это хорошее и умное сообщить другим. Наверное, Робинзон Крузо не стал бы и браться за библию, если бы не верил, что когда-нибудь все-таки выберется со своего острова. А я как раз чувствовал себя таким одиночкой-робинзоном в необитаемой пустыне другого времени. Кто знает, удастся ли мне вернуться к людям?… Конечно, я много размышлял над тем, какая сила ввергла меня и Жоржа в это странное состояние, и пришел к выводу, что в моей гипотезе о шаровой молнии не было ничего невероятного. Бесспорно, что взаимодействие плазмы с реакцией деления урана могло дать излучения, по своему характеру близкие к радиоактивным, но еще неизвестные человечеству. А в том, что радиоактивные излучения способны влиять на биологические процессы жизни, никто не сомневается… У меня было много наблюдений, и, так как я считал, что впоследствии для науки будет интересно и важно все, что испытал и видел первый человек, живущий ускоренной жизнью, я начал писать дневник. Некоторые странички и сейчас стоят у меня перед глазами: «25 июня, 8 часов 16 минут 4 секунды. Обследовал путь луча от стены, ограждающей электростанцию, до залива. Все живое в этой зоне живет ускоренно. Куст пеонов, подвергшийся облучению, уже дал крупные цветы. Обычно они созревают в начале июля. Трава в зоне действия луча на два-три сантиметра выше остальной. Это хорошо видно, если смотреть издали и со стороны, например, с нижнего сука липы справа от дома». «25 июня, 8 часов 16 минут 55 секунд. Около четырех моих часов назад из дома Юшковых вышел их старший сын и сейчас идет по саду. Когда я наблюдал за ним первый раз, на каждый шаг у него уходило около трех моих минут. Теперь уходит четыре. Значит, я все время ускоряюсь. С этим наблюдением сходится и другое. Вода стала еще более плотной. На заливе на волне я стоял, не проваливаясь, около полусекунды». «То же число и час. 28 минут. Я ударил молотком о большой камень в саду. Молоток сплющился в блин, как если бы он был из глины. Еще несколькими ударами я превратил его в шар. Дерево сделалось мягким, как масло. Толстую дюймовую доску мне удалось разрезать поперек слоя так же легко, как я резал бы масло. Но при второй попытке нож затупился, и я его с трудом вытащил. Видел в саду бабочку, которую я не мог догнать. Она от меня улетала. Это служит еще одним подтверждением того, что все живое подверглось действию силы. Но именно только живое, так как часы ходят по-прежнему. Интересно было бы проверить, увеличилась ли скорость распространения радиоволн и электрического тока в этой зоне. К сожалению, у меня нет никаких приборов…» Когда я несколькими ударами о камень превращал молоток то в шар, то в плоскую лепешку и делал это до тех пор, пока железо не начало крошиться, я понимал, конечно, что физические свойства металла остались прежними. И дерево, которое я резал, как масло, тоже не переменилось. Дело было в том, что невероятно увеличилась мощность моих движений. В этой связи мне пришло в голову, что в будущем, когда человечество овладеет способом ускорения жизни, оно получит огромную дополнительную власть над природой. Ведь, если вдуматься, до сих пор вся биологическая жизнь на Земле — и человек в том числе — развивалась в полной гармонии с неживой природой. И в результате человеческое тело подчиняется тем же законам силы тяжести, например, что и камень. Человек, кроме того, так же медлителен, как и большинство животных. Но ведь это не только гармония, но и рабская зависимость. Камень не держится в воздухе, потому что его удельный вес больше удельного веса воздуха, и человек сейчас тоже не в состоянии летать без специальных и сложных приспособлений. Мыслящий человек и кусок кварца равны перед силой тяжести. И вот теперь я первым среди людей узнал, что пришло время, когда можно будет разрушить это неестественное равенство. С помощью простых крыльев из алюминия или пластмассы человек, полечивший импульс ускорения, сможет держаться в воздухе, делая несколько десятков взмахов в секунду. Люди научатся ходить по воде. Им не страшно будет падение с небольшой высоты, потому что ускорение свободного падения покажется им бесконечно медленным. Неизмеримо возрастут возможности производства. Металл и дерево сделаются в руках человека мягкими, как воск, не теряя при этом своей прочности для всех остальных сил природы. Однажды после таких размышлений мне приснился сон. Какой-то удивительный, счастливый и радостный сон. Мне снилось, будто я стою в огромном зале с дымчато-перламутровыми высокими стенами. Зал был без крыши и без левой стены. Я стоял, а передо мной — на таком же дымчатом полу — лежали свернутые рулоны чертежей, но не на бумаге, а на какой-то гладкой желтой материи. Это была моя работа, которую я только что кончил. Слева, там, где не было стены, расстилалось море. Свирепое, грозное северное море, катившее на меня легионы крутых волн. Где-то внизу они ударяли о невидный мне берег, и от этих ударов дрожали стены ii пол здания. Небо было тоже бледным, северным, покрытым синими кипящими тучами, и только на горизонте сверкала чистая полоска начинающегося утра. Все было исполнено поражающей свежести, силы и мощи. А я, только что окончивший невероятно трудную работу, запечатленную на чертежах, ощущал себя полным и суверенным властелином этого огромного зала, где я стоял, — и моря, и неба, и всего мироздания. И я знал также, что все люди — неисчислимое множество людей где-то за стеной зала и за бурным горизонтом — были такими же, как я, гордыми властителями всего сущего… Что-то еще снилось мне тогда, но я запомнил главным образом только гордое ощущение разделенной со всеми людьми безграничной власти над мирозданием. После этого сна я несколько часов ходил по неподвижному поселку счастливый и даже не ощущал все время мучившего меня одиночества. Я понял, что вся предшествующая история была действительно только младенчеством человечества, что пришло время, когда человек сможет создавать для себя не только новые машины и механизмы, но и другие физические условия существования — не те, которым подчиняется животное и мир неживых тел. Но, впрочем, это были мои последние спокойные часы. Последние, потому что скорость моей жизни все время увеличивалась, и я начал чувствовать себя очень плохо. Примерно в девятнадцать минут девятого я заметил, что все, что в поселке двигалось, стало двигаться еще медленнее. Это означало, что я сам начал жить быстрее. Воздух как будто бы еще сгустился, при ходьбе все труднее было преодолевать его пассивное сопротивление. Вода из отвернутого крана уже не вытекала, а росла стеклянной сосулькой. Эту сосульку можно было отламывать, в руке она долго оставалась плотной, как желе, и только позже начинала растекаться по ладони. Мне все время было жарко, и постепенно я начал потеть. Пока я двигался, пот моментально высыхал у меня на лице и на теле. Но стоило мне остановиться, как меня сразу всего облепляло таким же желе, каким сделалась вода, но только очень неприятным. Все это можно было бы терпеть, но меня стала мучить постоянная жажда. Я все время хотел пить, а вода текла из крана слишком медленно для меня. На свое счастье я еще раньше догадался отвернуть кран в ванне, но за несколько моих часов вода только покрыла дно. Я знал, что мне ее надолго не хватит, и старался ограничиваться тем, что мог добыть из крана. Удивительно, что мне тогда не пришло в голову, что я могу где-нибудь в другом коттедже найти полный чайник или даже полное ведро. Мне почему-то казалось, что кран на кухне и кран в ванной — единственные источники, где можно получить воду. Потом к жажде прибавился голод. Я уже раньше говорил, что нам с Жоржем хотелось есть относительно чаще, чем в обычной жизни. Наверное, мы отдавали слишком много энергии при движении. Теперь же я почти ее переставая жевал и все равно никак не мог насытиться. А с пищей было трудно. Из ларька мне удавалось принести только три кирпичика хлеба и пару банок консервов — то есть то, что можно было взять в руки. Чемоданы я не мог использовать потому, что у них отрывались ручки, как только я за них брался, а от вещмешка остались клочья, когда я попробовал снять его с вешалки в передней. (Вообще, чем скорее я жил и двигался, тем непрочнее становились вещи.) Но трех кирпичиков хлеба и банки бычков в томате мне хватало лишь на три-четыре часа, а затем снова надо было идти в ларек. Я никогда раньше не испытывал такого острого, гложущего чувства голода — даже во время ленинградской блокады. Самым ужасным было то, что я голодал с полным ртом. Жевал и чувствовал, что мне все равно не хватает, что пища не насыщает меня. Потом голод отступил перед жарой. Моя скорость все увеличивалась, поселок застыл совсем неподвижно. Сын Юшковых,приготовившийся делать зарядку, стоял, как статуя. Воздух сгустился до состояния желе. Чтобы идти, мне нужно было совершать руками плавательные движения, иначе я не мог преодолеть его плотную стену. Было трудно дышать, сердце постоянно стучало, как после бега на стометровку. Но самым страшным все-таки была жара. Пока я лежал не двигаясь, мне было просто жарко, но стоило поднять руку, как ее тотчас оплескивало, как кипятком. Каждое движение обжигало, и, если мне нужно было сделать несколько шагов в сгустившемся воздухе, мне казалось, что я иду через раскаленный самум пустыни. Я мог бы все время лежать, если бы меня не мучили голод и жажда. Но вода была дома, в ванне, а пища — в ларьке. В этом состоянии я несколько раз вспоминал о Жорже. Неужели и он испытывает такие же страдания? Помню, что в восемь часов двадцать две минуты я пошел в ларек. Мне не хватит красок, чтобы описать это путешествие. Когда я выбрался из дома, мне показалось, что, если я пойду через наш сад не по тропинке, а по траве, мне не будет так жарко. Глупо, конечно, потому что я никуда не мог укрыться от этой жары. Она была во мне, в чудовищной скорости моих движений, которые мне самому представлялись чрезвычайно медленными. Я был обнажен до пояса, и это еще усугубляло беду. Сначала мне пришло в голову, что я локтями должен закрыть грудь, а ладонями лицо. Но оказалось, что, не помогая себе руками, я не могу пробиться через плотный воздух. От жары я несколько раз терял сознание. Все вокруг делалось красным, потом бледнело и заволакивалось серой дымкой. Затем я снова приходил в себя и продолжал путь. Наверное, три часа я шел до ларька. Продавец стоял в странной позе. На его усатом лице была написана злоба. В руке он держал большой нож для мяса, которым замахнулся на полку, где стояли консервы. По всей вероятности он увидел, как банки бычков в томате и тресковой печени исчезают одна за другой, и решил перерубить пополам невидимого вора. Было удивительно, что его не столько поразил сам факт этого чуда, сколько заботило наказать похитителя и прекратить утечку товара. Пока его большой нож опускался бы, я успел бы вынести весь магазин. Впрочем, не успел бы. Странно, но постепенно моя сила превратилась в бессилие. Сорок или пятьдесят часов назад, когда мы шли с Жорой в Глушково, мне казалось, что мы чуть ли не всемогущи. Дерево ломалось в наших руках без всякого сопротивления; нам, например, ничего не стоило бы согнуть в пальцах подкову. Но теперь, с еще большим увеличением скорости жизни и скорости наших движений, непрочность вещей обернулась другой стороной. Я ничего не мог взять, все ломалось, крошилось, расползалось у меня под руками. Я был бессилен от чрезмерности своей силы. Я не мог уже взять с собой даже кирпичик хлеба. С таким же успехом я пытался бы унести большой сгусток водяной пены с волны. Хлеб расползался, как только я до него дотрагивался, и его нельзя было поднять с прилавка. Некоторое время я стоял рядом с продавцом — он оставался таким же неподвижным — и ел хлеб горстями. Мне уже опять очень хотелось пить. Позади ларька была колонка, но пока, я открутил бы кран, начал качать и дождался воды, прошло бы два-три моих часа. Кроме того, я боялся отломать вентиль крана неосторожным движением. Затем я взял в руки по банке консервов и побрел назад. Я сразу перешел на свою сторону улицы, потому что этот переход был для меня самой трудной частью пути. Я боялся, что упаду и не встану, а возле забора чувствовал себя увереннее. Проходя мимо дома Моховых, я бросил взгляд в раскрытое окно кабинета. Андрей и Валя стояли рядом и смотрели на стол. Наверное, ждали моего очередного появления. У меня в ушах колоколом отдавался стук сердца, и при каждом движении оглушал пронзительный свист. От страшной жажды пересохло во рту, и весь поселок то краснел, то бледнел в глазах. Помню, с какой тоской я смотрел на своего друга. Он ничем не мог помочь мне, если бы и знал о моих мученьях. Никто из людей не мог мне помочь. А в поселке все жило прежней мирной жизнью. Было раннее воскресное утро, люди собирались на пляж, на озера. Никто, кроме Андрея с Валей, не видел меня, и никто не знал о трагедии, которая развертывалась здесь. Дома я съел консервы, жесть резал ас: — ножом, как бумага, — напился и сделал запись в дневнике. «То же число, 25 минут 5 секунд девятого. По-видимому, скорость жизни у меня в 900 раз превышает нормальную. Может быть, и больше. От шоссе по направлению к станции идут мужчина и женщина с большим красным чемоданом. Когда они дойдут до моей калитки, я уже умру». После этого я забрался в ванну и, лежа на животе, с яростным наслаждением стал поедать густое желе — воду. Я ждал смерти. Мне было только очень жаль, что я не сам сознательно пошел а такой опыт, что эта неведомая сила случайно захватила именно меня. Помню, что мне в голову вдруг пришли строчки из Лермонтова:СНОВА РАЗГОВОР НА ВЗМОРЬЕ
— А дальше? — жадно спросил я. — Что же было дальше? Вас нашли в доме? — Дальше было много всякого. — Инженер откинулся на спинку скамьи. — Приехала жена, с которой я расстался только предыдущим вечером, нашла Жоржа и меня, исхудавшего, обожженного, всего в синяках и ушибах, с бородой недельной давности. Конечно, ей трудно было поверить моим объяснениям. Но позже пришли Моховы, рассказали о моих записках, о машинке, прыгавшей по столу, о моих мгновенных появлениях. А еще позднее выяснилось, что и в поселке, и на станции, и на шоссе было много свидетелей наших с Жоржем приключений. Брюнет, которого Жора сбил с ног, лежал с небольшим сотрясением мозга на даче у своих знакомых. Домработница Маша видела какие-то странные тени, несколько раз пролетавшие по улице, и слышала странный свист. Машинист товарного поезда получил взыскание за неоправданную остановку поезда… Но не это самое интересное. Самое удивительное то, что все случившееся со мной и с Жоржем, происходило в течение двадцати минут. Может быть, двадцати одной. Понимаете, время, в течение которого можно поздороваться с соседом, спросить, как он съездил вчера на рыбную ловлю, и выкурить с ним по папироске… Если бы не мои посещения Мохова, никто бы и не знал всего того, что случилось с нами. Удивительно, верно? — Удивительно, — согласился я. — Даже не верится. Хотя я сам слышал о привидениях на Финском заливе. Мы оба помолчали. На берегу уже становилось людно. Позади нас, на веранде дома отдыха, официантки гремели ложками. Шли приготовления к завтраку. Звуки были по-утреннему вымытыми и чистыми. — Но теперь уже не стоит вопрос, было это или не было, — сказал Коростылев. — Создана группа ученых. — А Жорж? — спросил я. Коростылев усмехнулся: — Пока в санатории. Говорит, что хочет поступить в вечернюю школу и стать физиком… Кто знает, может, будет человеком? — Да, — сказал я. — Какие перспективы раскрываются в связи с этим эффектом. Например, межзвездные путешествия. Раньше мы и мечтать не могли посетить другие галактики. Никаких человеческих жизней не хватило бы. А теперь, если можно ускорять жизнь, можно, очевидно, и замедлять ее. Тогда человек сможет добраться до другой галактики. — Может быть. — согласился Коростылев. — Но не это главное. Понимаете, вот сейчас наука переживает скачок. Атомная энергия, полупроводники, кибернетические устройства. И мы примерно представляем себе, чего можно ожидать от одного, другого и третьего. Но мам совсем ничего не известно о тех новых революционных открытиях, которые несомненно последуют в ближайшие десятилетия. Таких, например, как эти лучи. В течение всей истории человека он совершенствовал только орудия труда, но ни разу не пытался сознательно улучшать тот главный инструмент, который сообщает ему власть над природой, — свое собственное тело. Собственно говоря, за четыре тысячи лет цивилизации оно осталось самым неусовершенствованным из всего того, чем мы владеем. Физическое строение тела даже несколько регрессировало за это время. Сейчас средний человек не может сделать того, что мог первобытный, — например, пробежать двадцать километров с убитым оленем на спине. Но теперь положение изменится. Через сто лет люди будут жить в коммунизме совершенно не так, как мы это сейчас представляем себе. Мы еще помолчали. Над залитым солнцем пляжем стоял неумолкающий шум прибоя. На мгновение я попытался представить себе, что волны остановили свой непрерывный ход, а чайка над берегом замерла в полете. Но это было не так. Человек еще не стал господином над Временем, и все текло в извечной привычной гармонии. И вместе с тем каждая капля воды, каждая песчинка таили в себе новые неразгаданные возможности.
Леонид Платов «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» УХОДИТ В ТУМАН
СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
1
С молоду Усов стремился попасть в истребительную авиацию, но комсомол послал его на флот. Здесь он выбрал торпедные катера, самое быстроходное из того, что есть на флоте, — лихую конницу моря. — Люблю, когда быстро! — признавался он, показывая в улыбке крупные, очень белые зубы. — Пустишь во весь опор своих лошадей, а их у меня две тысячи [187], целый табун с белыми развевающимися гривами, — хорошо! Жизнь чувствуется! Он даже жмурился от удовольствия. Но тотчас же подвижное лицо его меняло выражение: — Понятно, не прогулка с девушками в Петергоф. При трех баллах поливает тебя, как в шторм. Стоишь в комбинезоне весь мокрый от макушки до пят, один глаз прищуришь, ладонью заслонишься, так и командуешь. Ведь моя сила в чем? В четкости маневра, в чертовской скорости!.. Броня? А какая у меня броня? Мой катер пуля пробивает насквозь… Он делал паузу, озорно подмигивал: — Но попробуй-ка: попади в меня!.. Как все моряки, Усов привычно отожествлял себя со своим кораблем: «моя броня», «я занес корму», «я вышел на редан». Он даже внешне был чем-то похож на торпедный катер — небольшой, верткий, стремительный. Впрочем, привязанность его, быть может, объяснялась еще и тем, что командир торпедного катера сам стоит за штурвалом. Лихие морские коньки с «белыми развевающимися гривами», и одновременно нечто среднее между кораблем и самолетом! Недаром катер сконструирован самим Соболевым, чем на флоте очень гордятся. Но и скорость-то, дай бог, — до пятидесяти девяти узлов! Что-то около ста девяти километров в час, впору хоть бы и настоящему самолету! Когда такой шустрый забияка на полном ходу режет встречную волну, по бортам его встают два буруна высотой до двадцати пяти метров, грозные белые стены — клокочущая пена и брызги. Двигается он как бы гигантскими прыжками. Поэтому мотористы работают в шлемах с амортизаторами, как у танкистов. А радист сидит в своем закутке чуть пониже боевой рубки, скрючившись, весь обложенный мешками, надутыми воздухом, чтобы смягчать толчки. Ого! Еще как кидает, трясет, подбрасывает на водяных ухабах! И уж наверняка настоящий табун в две тысячи голов, проносясь по степи, не оглушает так, как четыре мотора катера. В моторном отсеке объясняются больше мимикой и жестами. Нужна отвертка — вращают пальцами, нужен «горлохват» — дружеское наименование гаечного ключа — показывают себе на горло. А наверху приходится разговаривать самым зычным голосом, хотя механик и боцман стоят тут же, рядом с командиром. Оттого и девушки, знакомясь с Усовым, вздрагивают в жеманном испуге, а товарищи, присутствующие при этом, поясняют почтительно: — Штормовой голосина. Любую бурю перекрывает! Они всегда тушуются при Усове, отступают на второй план. Известно, что, вопреки поговорке, в любви ему везет так же. как и в игре, — если морские бои считать игрой. — В сорочке родился, — говорят о нем. — Удачник! С самой судьбой, можно сказать, на ты. Усов загадочно улыбается. Лишь однажды, когда чересчур уж стали донимать разговорами о везении, о военном счастье, он бросил с досадой: — Счастливчик, по-моему, тот, кто на биллиарде с кикса в две лузы кладет. А я свое счастье горбом добываю! На него накинулись: — Что ты! Как можно отрицать счастье на войне? Наполеон так и сказал о генерале Маке: «Вдобавок, он несчастлив». — А наш Суворов говорил: «Раз счастье, два счастье, помилуй бог, надобно и уменье». — Но тот же Суворов говорил: «Лови мгновение, управляй счастьем». — Неверно! «Повелевай счастьем, ибо мгновение решает победу»… — По-твоему: умение равно удаче? — Умение плюс характер! Понимаете ли: настоящий военный характер! — Из чего же складывается такой характер? — Я считаю… — Усов рубанул воздух ладонью: — Наступательный дух, упорство прежде всего! Так?… Дерись! Во что бы то ни стало дерись, добивайся победы!.. Второе… Привычка решать мгновенно. Мозг работает в такт с моторами. Жмешь на все две тысячи оборотов и соображай соответственно, не мямли!.. Помните, был у нас медлительный, списали его на тихоходный корабль? — Как же! С топляками не поладил… Медлительный «не поладил» с полузатонувшими бревнами, которых не мало в Финском заливе. При встрече запаздывал с решением на какие-то доли секунды, не успевал быстро отвернуть и из-за этого доползал до базы со сломанными винтами. — Военный моряк, — продолжал Усов, — как известно, прежде всего — моряк! Иначе он плохой военный… На суше проще. На суше как? Скомандовал своим артиллеристам: «За деревней на два пальца влево — цель! Бей!»… — Утрируешь, Боря! — Пусть! Но мысль ясна? А на море успевай поворачиваться. Опасности налезают со всех румбов. С воды на тебя лезут, из-под воды, с воздуха. — Колебаться, прикидывать некогда? — Во-во! Тут-то и вступает интуиция. А она, я считаю, производная от опыта, отваги и знаний. Чтобы перекипело, сплавилось внутри — тогда интуиция! — Ну, все! — засмеялись вокруг. — Боря нам все расчертил. Формула военно-морского счастья ясна! Кто-то спохватился: — Это ты так сейчас говоришь. А что раньше говорил? Я, мол, удачник! Я, мол, счастливчик! — Да не я это говорил. Вы говорили! — А ты кивал. — И не кивал я. — Ну, помалкивал. Вроде бы молчаливо соглашался. Стало быть, темнил, туману напускал? Пауза. — Не то, чтобы туману, — уклончиво сказал Усов. — Просто думал: верите, ну и верьте, черт с вами… То есть, конечно, если по правде… — Да, да, по правде! — Мне-то эти разговоры были кстати. Очень хорошо, когда о командире слава идет: удачник, счастливчик. Матросы за таким смелее в бой идут! — А! — Ну да! Это же очень важно. Чем больше верит матрос в победу, тем победа ближе. А потом… Снизу вверх он взглянул на своих слушателей и вдруг перестал сдерживаться, широко улыбнулся, с подкупающим, одному ему свойственным выражением добродушного, чуть наивного лукавства: — Что, братцы, греха таить! Ежели все говорят «удачник», «счастливчик», ведь и сам тоже невольно… А когда очень веришь в себя, то и препятствия на своем пути легче преодолеваешь. Будто на гребне высокой волны несет!..2
Но стоило ему напомнить о шхерах, как он хмурился, умолкал или же наоборот начинал пространно осуждать свое непосредственное начальство. Еще бы! Он хочет торпедировать вражеские корабли, преграждая им путь к Ленинграду, а его, как назло, чуть не каждую ночь суют в эти шхеры. Рвется на оперативный простор, в открытое море, а должен кружить по извилистым узким протокам, с тревогой озираясь по сторонам, на малых оборотах моторов, чтобы не засекли по буруну. Он досадливо передергивал плечами: — Люблю, понимаешь, размах, движение, а там теснотища, повернуться негде. Вроде, как в московской квартире краковяк танцевать. Шагнул вправо — локтем в буфет угодил, налево — за гардероб зацепился… Сравнение было удачным. В шхерах очень тесно. Если взглянуть на карту залива, то северная часть его покажется украшенной чем-то вроде бахромы или кружев. Таков тамошний берег. Он состоит из бесчисленных мысов, перешейков, заливчиков, проток и островков, окруженных мириадами опасных надводных и подводных камней, которые в тех местах называются «ведьмами». Это — шхеры. Возникли они в результате торжественно-медленного прохождения древних ледников. Когда-то грозный ледяной вал прокатился здесь, вздымая водяную пыль, гоня перед собой множество камней и обломков скал. Пробороновав северный берег Финского залива, он спустился на юг и растаял там. А шхеры — след его пути — остались… Во время Великой Отечественной войны они, как никогда, напоминали шкатулку с сюрпризами. Надо знать, что балтийская вода была круто замешана тогда на минах. Мины, мины! Куда ни шагни, всюду эти мины. Покачиваются на минрепах, как поганки на тонких ножках, лежат, притаясь среди донных водорослей и камней, наконец, носятся туда и сюда по воле волн, избычась, грозя встречному-поперечному своими коротенькими рожками. — Не Балтика — компот, сваренный из одних косточек, — с неудовольствием говорил Усов. Еще бы! Мины здесь ставили и русские, и финны, и немцы. Немалая толика осталась также после прежних войн — 1914–1918 и 1939–1940 гг. И каждый из противников желал, чтобы «косточками» из компота подавился другой. Кстати сказать, война на море обычно начинается с минных постановок. Рано утром 22 июня 1941 года немецкие мины были сброшены с самолетов на Севастопольском рейде и на выходах из Кронштадта. Немцы хотели закупорить Черноморский и Краснознаменный Балтийский флоты. Это не удалось. Летом 1942 года советские подводные лодки прорвались из Финского залива в Среднюю Балтику и потопили там уйму транспортов. Тогда немецкое командование перегородило Финский залив плотными минными заграждениями, а между Наргеном и Порккалаудом поставило два ряда сетей. Сами же фашистские корабли начали передвигаться тайными проходами, а чаще всего вдоль северного берега, шхерами, продольными фарватерами, прячась за многочисленными островками и перешейками. Теперь советским морякам полагалось донять врага и в этом укромном местечке. По ночам начали пробираться в шхеры торпедные катера и ставить там мины. Вообще-то не дело торпедных катеров ставить мины. Есть для этого специальные корабли — минзаги, минные заградители. Но торпедные катера — верткие, коротенькие, с малой осадкой — пролезали там, где не удавалось кораблям покрупнее. А главное, благодаря большой скорости они поспевали с вечера сходить в шхеры и до рассвета вернуться на свою базу. Особенно дались Усову минные постановки этой осенью (он шутливо называл их «осенней посевной кампанией»). За август и сентябрь 1942 года он побывал в шхерах тридцать шесть раз! «Как на службу хожу, — сердито улыбаясь, говорил он. — Только и разницы, что ночью и без портфеля». С великолепной небрежностью забывал добавить: «И под дулами вражеских береговых батарей». Ночи для минных постановок выбирались потемнее. Дождь или туман были весьма желательны. Иногда катера сопровождал самолет, скромный работяга «У-2». Его назначение было тарахтеть, что он и проделывал со всей старательностью. Тарахтение авиационного мотора, заглушая рокот усовских моторов, вводило в заблуждение противника. Настороженные «уши» шумопеленгаторов, похожие на гигантские граммофонные трубы, отворачивались от моря и обращались к небу. Суматошливую трескотню поднимали зенитки. А тем временем катера потихоньку проскальзывали в глубь шхер к месту своего назначения. Мины полагалось ставить строго в указанной точке, обычно на узле фарватеров, то есть там, где движение вражеских кораблей всего оживленнее. Дело, заметьте, происходило в темноте, да, вдобавок, еще и без подробных карт. Вот почему усовскую работу уважительно называли в штабе «ювелирной». Но Усов отмахивался от похвал. Он ведь не видел, как на его минах рвутся вражеские баржи, транспорты, «шюцкоры». Они ходили днем, а он бывал в шхерах только ночью. О том или ином потоплении узнавал уже из штабных сводок — спустя некоторое время. И от этого победы его казались ему какими-то отвлеченными, неосязаемыми, в общем ненастоящими. С чего же ему было любить шхеры?…3
Естественно, что весь экипаж усовского катера разделял антипатию своего командира. Радист Чачко перед очередными минными постановками принимался нервно зевать, моторист Степаков протяжно, со стоном, вздыхал, боцман Фадеичев, приземистый коротыш, еще молодой, но уж по-гвардейски пышноусый, начинал «непутем» придираться к матросам. Острее же всех переживал это юнга Ластиков. Он кривил в недовольной гримасе рот и, сдвинув бескозырку набок и чуть назад, говорил ломающимся голосом: — Опять шхеры эти, шхеры! Нитку в иголку вдевать, да еще в темноте. Брр! — Обезьянничаешь? — останавливал его боцман и предостерегающе поднимал палец. — Вот я тебя! А юнга вовсе не обезьянничал. Просто преклонялся перед своим гвардии лейтенантом и невольно подражал ему — в интонациях, походке, пренебрежительном отношении к шхерам. И очень любил его цитировать, впрочем, не указывая автора. С этим была связана одна особенность усовского катера: на нем почти не ругались. Сам командир когда-то считался виртуозом по части специальной военно-морской колоратуры. Но однажды, проходя по пирсу, он услышал хрипловатый мальчишеский голос: «Торпедные катера — по мне! Эх, и люблю же я скоростёнку!» Затем — затейливое ругательство. И хохот, подобный залпу. Усов миновал группу матросов, вскочивших при его приближении (среди них восседал и Шурка), рассеянно ответил на приветствие. Где он, черт побери, мог слышать эти странно знакомые выражения: «катера — по мне», «люблю скоростёнку»? Позвольте-ка! Он сам говорил так! Поразмыслив, Усов рассердился. Ведь мальчишка и «колоратуру» заимствовал! А уж это было зря. Сдуру, верно, посчитал за военно-морскую романтику. Так возник выбор: либо юнге продолжать ругаться, либо его командиру перестать. Усов, скрепя сердце, выбрал последнее… Команда гордилась тем, что «наш Шурка и дня сиротой не был». В дивизион взяли его этой зимой. Катера тогда стояли на заводе, а матросы жили в казармах. Вот раз, в обеденный перерыв, вышли усовцы за ворота, а там — мальчонка, крест-накрест, поверх пальто, закутанный в шерстяной женский платок. Стоит, не шелохнется, будто поджидает кого-то, и к груди пакетик притиснул, видно, хлеб, только что полученный. Кто-то вытащил кусок сахару, дал ему. Он принял, но продолжал молча смотреть чуть исподлобья, темно-карими глазами — одни огромные страдальческие глаза на худеньком лице. — Весь сахарок, брат, — сказал боцман извиняющимся тоном. — Теперь домой топай. — А нету дома, — тихо ответил мальчик. — Полчаса назад разбомбило. — Как же ты жив остался? — Мамка за хлебом послала. Пришел из магазина, и нету дома. Тягостное молчание. — И… мамку? Можно бы это и не спрашивать. Достаточно посмотреть в его глаза. — А отец где? — Еще в июле под Нарвой… Сгрудившись, стоят матросы перед тощеньким подростком, заботливо, материнскими руками, укутанным в платок, молчат, угрюмо глядя себе под ноги. — Ну вот что! — сказал решительный Чачко. — Давайте мы его обедом накормим, а? Лейтенант — свой, не заругает. — Точно! Где шестеро не сыты, там и седьмой с голоду не помрет!.. Тебя как звать-то? Шурка? Топай с нами, Шурка! А еще через месяц или полтора боцман-придира уже отчитывал его, причем «с упором на биографию»: — Ты зачем с береговым юнгой подрался? Я, что ли, приказывал тебе драться? Ты теперь кто? Беспризорник? Нет. Пай-мальчик? Тоже нет. Ты — воспитанник гвардейского дивизиона Краснознаменного Балтийского флота. Значит — из хорошей морской семьи! Правда, на Шуркиных, недавно полученных, погончиках вместо двух букв «БФ» — Балтийский флот — светлела лишь одна буква «Ю» — юнга. Погончики были узенькие — под стать плечам. Матросы шутили, что из пары погонов гвардии лейтенанта Усова можно свободно выкроить погоны для десяти юнгов. Чаще всего называли его помощником моториста, иногда сигнальщиком, хотя такой должности на катерах нет. Сам Шурка с достоинством говорил о себе: «Я при боцмане». В сущности и с береговым юнгой он подрался из-за того, что тот смеялся над ним и сказал, будто он служит за компот. Ну уж нет! Все на дивизионе знали, почему и зачем он служит. Конечно, присягу на флоте принимали только с восемнадцати лет. Шурке было тринадцать. Но в Ленинграде в ту пору мужали рано. И он, тринадцатилетний, не ропща и не хвастаясь, наравне со взрослыми, делал эту трудную, мужскую, не слишком приятную и очень хлопотливую работу — воевал… Что же касается шхер, то с ними отчасти примиряло одно обстоятельство. Иногда там удавалось сделать какое-нибудь удивительное открытие. Шхеры — это была страна неизвестного…4
Ставя мины в расположении противника, Усов мимоходом любил заняться разведкой. Уже на отходе, освободившись от своего опасного груза, он позволял себе слегка поозорничать. К примеру, заметит на берегу вспышку: зажжется — потухнет, зажжется — потухнет. Это налаживают прожектор. Стало быть, там прожектор? Очень хорошо! Усов увеличивал обороты моторов. За кормой появлялся бурун — катер обнаруживал себя по буруну. Тотчас берег оживал. Метались длинные, простертые к Усову руки прожекторов. Тукали крупнокалиберные пулеметы, ухали пушки. Ого! Островок-то, оказывается, с огоньком! Но это еще было полдела. Выбравшись на плес, Усов сбрасывал за борт дымовые шашки и проворно отскакивал на несколько десятков метров. А пока береговые артиллеристы с тупым усердием молотили по дыму, расползавшемуся над водой, моряк, стоя в стороне, наносил на карту расположение батарей, подсчитывал по вспышкам огневые точки, уточнял скорострельность и калибры орудий. С пустыми руками не возвращался никогда. — Там мины выгружаем, — небрежно говорил он, еще круче сдвигая набок фуражку. — Оттуда кой-какие пометочки доставляем. Порожняком чего же ходить? Расчету нет. Как говорится, бензин себе дороже… Наиболее важную «пометочку» прихватил он из шхер уже под самый конец кампании. Как-то, разгрузившись от мин, заметил Усов красный огонек над водой. Он был вертикальный и узкий, как кошачий зрачок в ночи. Чуть поодаль возник второй, дальше третий, четвертый. Ого! Да тут целая вереница фонариков! Это фарватер, огражденный вешками с фонариками на них! Такого Усов еще не видал никогда. Он прижался к берегу, продолжая наблюдать. Вдруг огоньки закачались, потревоженные волной, потом начали последовательно исчезать и снова появляться. Какая-то длинная тень бесшумно скользила вдоль фонариков, заслоняя их. Еще мгновение — и снова темно, огоньки потухли. Что это было? Баржа? Катер с низкой осадкой? Или, быть может, подлодка? Странно! Судя по тени, она двигалась, выставив над водой только часть рубки. Зачем было принимать такие предосторожности в шхерах, в расположении своих частей, тем более ночью?… На штабных картах остро отточенным карандашом нанесены ломаные линии. Против каждой из них стоит: ФВК № 1, ФВК № 2… [188] Ведь и среди своих собственных минных банок, сетей, бонов приходится передвигаться с опаской, бочком обходя их. Это как бы ход конем, многократно повторенный. И для разведчика всегда соблазнительно разгадать этот ход, понять тайну зигзага — число и порядок поворотов. Вновь обнаруженный ФВК был не только секретным, он был необычным. Его, для вящей безопасности, даже обвеховали плавучими огоньками! Что же это за цаца такая передвигалась по нему? Усову, конечно, захотелось немедленно приспособить аллею фонариков для себя, для своих секретных прогулок по тылам врага. Лихая была бы штука, и как раз в его вкусе! Но фонарики больше не зажигались. Светящаяся тропа в шхерах поманила и мгновенно исчезла, будто и не было ее вовсе. «Ничего, — утешил себя Усов. — Будущим летом обследую. Пристроюсь как-нибудь в кильватер этой самой тени и…» В штабе, однако, отнеслись к его донесению иначе — гораздо серьезнее, чем он ожидал. И были на это свои причины. Дело в том. что осенью 1942 года тайна, как туман, висела над Финским заливом…ОСОБО ОПАСНЫЙ ГРУЗ
1
На картах все пространство вокруг Ленинграда, вплоть до его окраин, а также почти весь залив, заштрихованы черным. Там — враг. По-прежнему красен лишь узкий участок берега у Ораниенбаума, да еще остров Лавенсари [189], который упрямо держится в глубине залива, примерно в пятидесяти милях западнее Кронштадта. То не только аванпост Краснознаменного Балтийского флота, но и самый крайний, наиболее выдвинутый на запад пункт всего огромного, вогнутого внутрь, советского фронта. Балтийцы очень гордятся тем, что они «передовые», и в особенности гордятся катерники, потому что на Лавенсари размещается летом база торпедных катеров. Остров невелик. Сверху по своим очертаниям он напоминает букву «н». Это как бы два вытянутых по меридиану островка, которые соединены перешейком и образуют глубокие, хорошо защищенные от ветра бухты. Отсюда Усов и его товарищи совершают свои вылазки в открытое море и в шхеры, отважно передвигаются взад и вперед но всему заштрихованному, словно бы покрытому непроницаемо-густым туманом, пространству залива. К действиям своим приступают они весной, едва лишь сходит в заливе лед, а сворачиваются с началом осенних штормов, когда маленьким катерам уже нельзя выходить в море. Сейчас — середина октября. Люди вымотались до предела. Пора уходить в Кронштадт — на зимние квартиры. И вдруг Усова вызвали к командиру островной базы. — В шхеры сходишь еще разок… — Есть, хорошо! — с обычной четкостью «отрубил» гвардии лейтенант, и даже корпус его, выражая стремительную готовность, подался вперед. Но лицо, увы, не «сработало» в такт с голосом и корпусом. — Без мин, без мин, — поспешно сказал адмирал. — Разведчика высадишь. — А где? Адмирал показал по карте. — О! — Да. Места тебе знакомые. Кляузные места, что и говорить. Но — надо!.. Ночное небо было затянуто тучами, моросил дождь. — Погодка — как на заказ, — сказал Усов, надевая шлем с ларингами. В назначенный час со щегольской лихостью — впритирочку — он подошел к пирсу, где должен был поджидать его разведчик. На пирсе сутулилась под дождем долговязая фигура знакомого метеоролога, старшего лейтенанта Селиванова. Усов спрыгнул на заскрипевшие доски настила. Селиванов вяло усмехнулся: — Ну и муть! Только по швартовке и узнаешь друзей. Усов самодовольно кашлянул: — Тебя, что ли, высаживать? — Нет. Девушку одну. — То-то опаздывает. Девушки всегда опаздывают. — Тебе просто не везло. Попадались неаккуратные. Из темноты выдвинулось нечто конусообразное, с надвинутым на лоб капюшоном, в расходящейся колоколом плащ-накидке. Матово сверкнули два чемоданчика, скользких от дождя. Вот оно что! В шхерах надо высадить девушку! Товарищ Усова по бригаде этим летом высадил в районе Петергофа комсомолку-партизанку. «Головой отвечаешь! — сказали ему в штабе. — Катер утопи, сам погибни, но чтобы девушка была жива. Будет жива — большой урон врагу нанесет!» И точно! Вскоре узнали, что взорвано здание одного из немецких штабов, куда комсомолка устроилась уборщицей. — Такая худенькая, тоненькая, совсем девчушка, — растроганно повествовал моряк. — А ведь силища-то у нее какова? Запросто — целый штаб со всеми потрохами на воздух! Во! Тогда еще у слушателя его сформировалась шутка, одно из тех доходчивых усовских словечек, которые так ободряли и воодушевляли матросов. Случая только не было сказать. И вот случай представился. Косясь на застывшую — в ожидании команду, Усов сказал, широко улыбаясь: — Внимание! Особо опасный груз везем! Не растрясти, беречь, не кантовать! И, пропустив девушку с чемоданчиками, взял ее за плечи, немного приподнял и снова с осторожностью поставил на трап. Но тут ситуация обернулась не в его пользу. Прямо перед ним вспыхнули два красивых гневных глаза. Острый локоток толкнул в грудь, да так, что Усов пошатнулся. Стараясь удержать равновесие на скользком трапе, он неуклюже схватил девушку в объятия, попросту сказать, уцепился за нее, чтобы не упасть. Со стороны, наверное, выглядело глупо, дико. За спиной Селиванов сказал, по обыкновению лениво растягивая слова: — Забыл познакомить. Метеоролог из Ленинграда, старший техник-лейтенант Мезенцева, а это… Мезенцева прервала его. Не пытаясь высвободиться, но откинувшись всем корпусом назад, она пренебрежительно спросила: — И дальше будем передвигаться так, в обнимку? Мы ведь на войне, а не на танцах, товарищ лейтенант! А глаза-то, глаза! Холодом обдало Усова! Потом ему стало нестерпимо жарко — будто из-под ледяного душа он сразу же прыгнул под горячий. Девушка ко всему еще оказалась офицером, и старше его по званию. В жизни не бывал в таком дурацком положении. А он терпеть не мог быть в дурацком положении! Усов отступил на шаг и хмуро оглянулся. Матросы на палубе таращили на него глаза, но не смеялись. Еще бы! Только улыбнись, посмей! По счастью, была возможность разрядки. — По местам стоять! — сердито, с раскатом скомандовал Усов. — Со швартовых сниматься! Все проворно разбежались по своим местам. Смеяться-то стало уж и некогда! — Заводи моторы! Затрещали выхлопы, похожие на пальбу. Моторы яростно взревели. Забурлила, запенилась под винтами вода. И катер, как растреноженный конь, рванулся вперед. Из темноты тотчас же выдвинулся второй катер, ожидавший в море. Пирс с одиноким Селивановым скрылся за косыми струями дождя…2
Катера шли строем уступа, почти рядом. Так веселее, бодрее в открытом море, да еще ночью. Оглядываясь через плечо, Усов видел второй катер. Командиром на нем шел Вася Гущин, добрый малый, исполнительный и очень храбрый, но чересчур уж смешливый! Хорошо, однако, что Гущин не присутствовал при инциденте. «Мы не на танцах, лейтенант!»… Ух! Будто наотмашь — по лицу. Даже шутку не дала округлить, досказать насчет опасного груза. До боли в пальцах Усов сжал штурвал. Было бы это на эсминце или на «морском охотнике», он мог бы попросить девушку сойти с командирского мостика, вежливенько упрятал бы ее подальше в каюту. Но на торпедном катере кают нет. Обидчица оставалась тут же за спиной. Она молча стояла, прижавшись к турели пулемета, нахохлившись в своей плащ-накидке. Моряки проявили о ней заботу, устроили ее на корме, чтобы не так продувало на полном ходу. Командир, боцман и механик своими телами прикрывали пассажирку от встречного ветра и брызг. «Дуется, — продолжал думать Усов. — А чего дуться-то? Ну, может, неудачно пошутил, не удалась шутка. Бывает! Но ведь не зубоскалил, нет? Просто хотел подбодрить и ее, и матросов, разрядить напряженность. Молода… Не понимает, как важна шутка на войне. А что за плечи ее взял, так по-хорошему же взял, по-дружески, не как-нибудь там». «В обнимку!» И в мыслях не было никаких «обнимок». А она, безо всяких, ка-ак двинет локтем. Глупо! Не хватало еще плюхнуться в воду вместе с нею — при матросах и Селиванове! Усов даже застонал от стыда, но тихо, чтобы не услыхал механик. С девушки он перенес свое раздражение на штаб. И вечно придумают в этих штабах! Боевого моряка превратили в яличника, заставили по заливу девиц развозить! (Тут уж, подогревая в себе злость, он кривил душой, — отлично ведь понимал, что в шхеры девушку посылают не морошку собирать.) Наверное, легче бы стало, если бы смог сразу высказаться. Но обстановка не располагала к выяснению отношений. На встречной волне катер подбрасывало, мотало. Того и гляди, прикусишь язык. И моторы ревели, как буря. Где уж тут отношения выяснять! Будь Усов не так занят, наверное, залюбовался бы тем, как играет бурун за кормой. Клокочущая пена, вырываясь из-под винтов, вся сверкала, искрилась, будто подсвеченная изнутри. Осенью в воде появляются микроорганизмы, и море по ночам светится. Похоже на рои светляков или мерцание смазанных фосфором часовых стрелок и циферблата. Да, красиво, но очень опасно! В открытом море еще терпимо, а вот у вражеского берега, в непосредственной близости от востроглазых наблюдателей, прильнувших к окулярам своих стереотруб, дальномеров, биноклей… Усов потянул на себя ручки машинного телеграфа: — Малый ход! — Есть малый ход! — ответил механик, который стоял на дросселях, управляя газом, то есть регулировал подачу топлива в моторы. Гущин тоже сбросил ход. Торпедные катера приближались к шхерам. Теперь-то и начиналось самое опасное и трудное. — Юнгу — впередсмотрящим! — Есть впередсмотрящим! — тотчас донеслось снизу. Маленькая фигурка в бушлате проворно выскочила из моторного люка. Низко пригибаясь, чтобы, в случае чего, успеть схватиться за леера, Шурка пробежал на нос и присел там. — Прямо по курсу камни, — предупреждающе прозвенел мальчишеский голос. Усов положил право руля. — Еще убавь обороты! И с горечью сказал, погромче, чтобы и пассажирка слышала: — Ну, всё! Как говорится: ямщик, не гони лошадей!.. Катера вплотную подошли к опушке шхер.3
На ходу моряки закончили последние приготовления. Ватными матрацами прикрыли моторы от осколков, торопливо затянули брезентом иллюминаторы на рубке, чтобы не отсвечивали при вспышках. Усов надел темные очки. Чего доброго еще сверкнет перед глазами луч прожектора и ослепит в решающий момент. Втянулись в узкий пролив. Грязно-белая пелена, похожая на вату, висела над головой. Разорванные клочья ее цеплялись за борт и плыли по воде. Закутавшись в туман вместо плаща, крался Усов лабиринтом шхер. Он крался, как обычно, «на цыпочках», до предела замедлив обороты моторов. И, можно сказать, почти зажмурившись, потому что много ли увидишь в таком тумане? Усов шел по счислению. Шурке он объяснил этот способ так: «Представь себе, — говорил он, — едешь в трамвае. Зима. Окна залепило снегом. Но ты знаешь, что надо сходить на десятой остановке. Вот сидишь и считаешь: первая, вторая, третья… Или еще вариант. Едешь в дачном поезде. Ночь. Пейзажа за окном никакого. Темно и темно. Но известно, что до твоей станции поезд идет ровно час. Вот когда начнет этот час истекать, пора уже волноваться, выглядывать в окно, спрашивать других пассажиров…» То и дело Усов взглядывал на часы и проверял себя по табличке пройденных расстояний. Карта района покачивалась перед ним, слабо освещенная лампочкой под колпачком. Все расстояния, все зигзаги и повороты были известны, а также промежутки времени, за которые можно пройти их тем или иным ходом. Столько-то оборотов мотора — столько-то метров, это было подсчитано еще весной на мерной миле. Но часы не только вели. Они подгоняли. Метеоролога надо было доставить в определенное место, высадить там и обязательно уйти до рассвета. Днем в шхерах будет как в муравейнике. По временам туман рассеивался. Он всегда идет волнами. Усов спешил тогда проверить себя по ориентирам. С напряженным вниманием вглядывался он в расплывчатые пятна, неясно вырисовывавшиеся в тумане: одинокие скалы, купы деревьев, близко подступившие к воде. Места опасные. Узкий пролив простреливается кинжальным огнем. Неожиданно в темноте прорезался светлый четырехугольник. Еще один! Второй! Третий! Они быстро вспыхивали и потухали! Тревога! Фашисты, выбегая наружу, открывают и закрывают двери блокгаузов. Сейчас — пальба! Усов сердито взглянул на часы. Три минуты еще идти заданным курсом. Отвернуть нельзя. Отвернуть разрешается лишь через три минуты, не раньше и не позже. Над вражеским берегом взвились две красные ракеты. Вот как? Фашисты колеблются, затребовали опознавательные. Однако Усов нашелся и в этом, казалось, безвыходном положении. Это уже потом придумали насчет косынки. На бригаде торпедных катеров со вкусом рассказывали о том, как вместо флага хитрый Усов поднял на мачте пеструю косынку пассажирки. Ведя катер в перекрестье лучей, фашисты удивленно таращились на невиданный флаг. Селиванов даже утверждал, что они кинулись к сигнальной книге, пытаясь прочесть непонятный флажный сигнал. А тем временем гвардии лейтенант вывел катера из опасного сектора обстрела. Но, как выражался Вася Гущин, «это уже была версия». Дело ведь происходило ночью. А какие же флажные сигналы могут быть ночью? Неверно также и то, что боцман, по приказанию Усова, дал в ответ две зеленые ракеты — просто так, наугад — и это случайно оказались правильные опознавательные. В действительности, Усов поступил иначе. — Пиши! — скомандовал он. — Мигай в ответ. Боцман оторопел: — Чего мигать-то? — А что на ум взбредет! Вздор! Абракадабру какую-нибудь… Да шевелись, ты! Морзи, морзи! Боцман торопливо защелкал задвижкой сигнального фонаря, бросая на берег отблеск за отблеском, — короткий, длинный, короткий, длинный, то есть точки и тире. Он ничего не понимал. Морзит? Да. Но что именно морзит? Просто взял да и высыпал во тьму целую пригоршню этих точек и тир?. Могло, впрочем, сойти и за код. А пока изумленные фашистские сигнальщики разгадывали «абракадабру», катера, пройдя нужный отрезок пути, благополучно отвернули и растаяли в ночи. — Удивил — победил, — сказал Усов как бы про себя, но достаточно внятно для того, чтобы услышала пассажирка.4
А еще через десять минут катера очутились у цели. Для высадки метеоролога командование облюбовало небольшой безымянный островок — очень лесистый. Что должна была здесь делать Мезенцева, моряки не знали. Остров, по данным авиаразведки, был безлюден. Оставалось только затаиться между скал и корней деревьев, выставив наружу рожки стереотрубы, подобно робкой улитке. Моряки с лихорадочной поспешностью принялись оборудовать убежище. Была углублена щель между тремя привалившимися друг к другу глыбами, над ними быстро натянута камуфлированная сеть, а сверху навалены ветки. Дно щели заботливо устлали хвоей и бросили на нее два или три одеяла. Маскировка была хороша. Даже прут антенны, торчавший из щели, можно было издали принять за высохшую ветку. — По росту ли? — спросил Усов. — А примерьтесь-ка, товарищ старший техник-лейтенант, — пригласил боцман. Девушка послушно спрыгнула в яму и, согнувшись, присела там. Усов заглянул ей в лицо, которое было очень бледным. Перехватив его взгляд, она гордо выпрямилась. — Укачало, — пробормотал боцман. — Еле стоит… Будь это мужчина, Усов знал бы, что сказать. С улыбкой вспомнил бы Нельсона, который всю жизнь, говорят, укачивался. На командирском мостике рядом с адмиралом неизменно стояло полотняное ведро. Ну и что же из того? Командовал адмирал! И, надо отдать ему должное, вполне справлялся со своими обязанностями. Пример с Нельсоном ободрял. Но девушке ведь не скажешь про это. И вдруг Усов осознал, что вот сейчас они уйдут отсюда, а девушка останется одна во вражеских шхерах. Он подал ей чемоданчики и заботливо наклонился над укрытием. — С новосельем вас! — попробовал он пошутить. — Теперь уж сидите тихо, как мышка, наберитесь терпения… — А у нас, метеорологов, вообще железное терпение. Намек, по-видимому, на его счет. Но Усов был отходчив. Да и обижаться на нее было бы сейчас неуместно. — Профессия у вас такая, — добродушно подтвердил он. — Как говорится, у моря ждать погоды. Девушка отвернулась. Лицо ее по-прежнему было бледно, надменно. — Да, такая у меня профессия, — сухо сказала она. — У моря ждать погоды… Внезапно материковый берег осветился. До мельчайших подробностей стали видны березки, прилепившиеся к глыбе гранита, их кривые, переплетенные корни, узорчатые листья папоротника у подножия. Луч прожектора методически ощупывал, вылизывал каждый уступ, каждую ямку. Усов, девушка, боцман, будто завороженные, следили за лучом. Вероятно, у фашистов оставались сомнения: свой ли катер прошел? Луч метнулся в сторону. Теперь он скользил по взрытой волнами поверхности, неотвратимо приближаясь к безымянному островку и приткнувшимся рядом торпедным катерам. — Ложись! — скомандовал Усов. Он хотел было приказать Гущину отходить от острова, но не успел. Наклонный дымящийся столб пронесся над головами, осветил поднятые вверх лица и через мгновение был уже далеко, выхватывая из тьмы клочки противоположного берега. Катера не были замечены. Залпа не последовало. Моряки перевели дух. — Теперь побыстрей вон, — приказал Усов. — Скрытно пришли, скрытно уйдем. Чтобы не напортить старшему технику-лейтенанту. В полной тишине катера отвалили от острова. — Счастливого плавания, — сказал оттуда глуховатый спокойный голос. — А вам счастливо оставаться, товарищ старший техник-лейтенант! Катера легли на обратный курс.СТО ЧЕТЫРЕ ПРОБОИНЫ
1
Что-то все время саднило в душе Усова, пока вел катера на базу. Они пришли с Гущиным в отведенный для офицеров рыбачий домик, поспешно стащили с себя комбинезоны и, не обменявшись ни словом, повалились на койки. И вдруг гвардии лейтенант почувствовал, что не хочет спать. Он удивился. Обычно засыпал сразу, едва коснувшись подушки. Но сейчас мучило беспокойство, тревога, чуть ли не страх. Это было на редкость противное состояние и совершенно непривычное. Усов подумал даже, не заболел ли он? В точности не мог этого сказать, так как слишком смутно представлял себе ощущения больного, — отродясь в своей жизни ничем не болел. Совесть не чиста у него, что ли? Но при чем тут совесть? Приказали высадить девушку в шхерах, он и высадил. Что мог еще сделать? Доставил ее хорошо, в полной сохранности и высадил по всем правилам, скрытно, секретно, а остальное уже не его, Усова, дело. Но — не помогало. Гвардии лейтенант вообразил, как девушка, сгорбившись, сидит в своем убежище, положив подбородок на мокрые, скользкие камни, с напряжением вглядываясь в темноту. Изредка хлещет по воде предостерегающий дымящийся луч. И после него еще темнее. И воет ветер, и брызги со свистом перелетают через вздувающуюся камуфлированную сеть… Он поежился под одеялом. Неуютно в шхерах! А утром будет еще неуютнее, когда станут шнырять «шюцкоры», полосатые как гиены, и завертятся туда и сюда рожки любопытных стереотруб на берегу. Вроде как бы ненормально получается! Воевать, ходить по морю, проникать во вражеские тылы должны мужчины. Девушкам положено тосковать на берегу, тревожиться о своих милых, а по их возвращении лепетать разный успокоительный и упоительный женский вздор. Хотя это вряд ли вышло бы у старшего техника-лейтенанта. Девушка не та. Какой тогда был у нее холодный, отстраняющий, удерживающий на расстоянии взгляд! А потом гордо отвернулась, закуталась в плащ-накидку, будто королева в свою мантию, и слова не вымолвила до самых шхер. «Да, такая уж у меня профессия, — сказала она, — у моря ждать погоды»… Что это вообще могло означать? Зачем забросили метеоролога во вражеский тыл? Неподалеку от ее острова была та самая странная, — то появляющаяся, то исчезающая светящаяся дорожка. Усов еще хотел пройти по ней, следом за таинственной тенью, но не удалось. Неужели высадка метеоролога связана с этой светящейся дорожкой? Усов оделся потихоньку, чтобы не разбудить Гущина. За окном был уже день, правда, пасмурный. Солнце только подразумевалось на небе, в восточной части горизонта. Пожалуй, стоит сходить на КП [190], повидаться с Селивановым, — он, кстати, дежурит с утра. Поглядывая на небо и прикидывая, не налетят ли вражеские бомбардировщики, Усов миновал осинник, где темнели огромные замшелые валуны. Ноги вязли в песке. За поворотом он увидел на мысу множество чаек. Воздух рябил от снующих взад и вперед птиц. Их разноголосый и немолчный крик наводил тоску. Усов терпеть не мог чаек. Плаксы! Надоедливые и бесцеремонные попрошайки, еще и воры — обворовывают рыбачьи сети. Летом на этой лесной поляне очень много цветов, высоченных, по пояс человеку. Бог знает, как они там назывались, но были величественные, красивые. Соцветие напоминало длинную, до пят, пурпурную мантию, а верхушка была увенчана конусом наподобие остроконечной шапки или капюшона. Вот такой букет поднести бы старшему технику-лейтенанту! Ей бы подошло. Хотя до лета еще так долго ждать… Блиндаж КП базы располагался в глубине леса и был тщательно замаскирован. Перед входом торчали колья. На них натянута была камуфлированная сеть, а сверху набросаны еловые ветки и опавшие листья. Пригибаясь, Усов прошел под сетью. Потом, ответив на приветствие часового, спустился в блиндаж по трапу. Со свету показалось темновато. Лампочки горели вполнакала, зато — неугасимо. На КП не было деления на утро, день, вечер, ночь, военные сутки шли сплошняком. Недаром же говорят не «пять часов вечера», а «семнадцать ноль-ноль», не «четверть двенадцатого ночи», а «двадцать три пятнадцать». Селиванов как раз принимал дежурство. Его предшественник снимал с себя пистолет в кобуре на длинном, флотском ремне и нарукавную повязку «рцы» — атрибуты дежурного. На утомленном лице его было написано: «Ох, и завалюсь же, братцы, сейчас, и задам же я храпака!»… Он так вкусно зевал, так откровенно предвкушал отдых, что Усову стало завидно, — вот ведь счастливый человек, заснет и думать не будет ни о каких девушках в шхерах. — Ты зачем? — спросил Селиванов. — Почему не спишь? — Не спится что-то. — Нельзя, брат, не спать. А если с вечера в шхеры? — За Мезенцевой?! — Собственно, не положено об этом, — сказал Селиванов, по обыкновению, неторопливо. — Но тебе… Поскольку ты и Мезенцеву высаживал, и этот самый секретный фарватер обнаружил… Они прошли ряд маленьких комнат с очень низким потолком и стенами, обитыми фанерой. Адмирал отсутствовал. Посреди его кабинета стоял стол, прикрытый листом картона. Селиванов отодвинул картон. Пои. стеклом лежала карта. Сюда, по мере изменения, наносилась обстановка на море. Взад и вперед передвигались по столу фишки, игрушечные кораблики со стерженьками-мачтами. Стоя над картой, Усов сразу, одним взглядом охватил все, словно бы забрался на высоченную вышку. А на самом краю стола, в бахроме шхер, нашел тот узор, внутри которого довелось побывать ночью. Там торчала булавка с красным флажком. — Вот она где, подшефная твоя! — А зачем ее сюда? — Походная метеостанция. — А! Готовим десант? Селиванов заботливо закрывал стекло картоном. — Большая возня вокруг этого флажка идет, — сказал он. — Из штаба флота уже два раза звонили, справлялись. Но тут обязанности дежурного заставили его отойти от Усова. Гвардии лейтенант присел на скамью. Десант — это хорошо! Торпедные катера, наверное, будут прикрывать высадку. Перед десантом создают обычно группу гидрометеообслуживания. Надо проверить накат волны у берега, ветер, видимость, температуру воды. А заодно невредно обшарить биноклем весь участок предполагаемой высадки- много ли там проволочных заграждений, есть ли доты и другие фортификационные сооружения? Вот почему метеорологи идут впереди десанта. Перед шумной «оперой», так сказать. под сурдинку исполняют свою разведывательную «увертюру». Усов очень долго ждал — что-то около часа. Наконец удалось перехватить Селиванова, пробегавшего мимо озабоченной рысцой. — Ну? Не договорил тогда. — О чем? — Уже забыл! О десанте. Селиванов терпеливо дернулся, но Усов придержал его за рукав: — Опасно, а? — Что? — Передавать о погоде из вражеских шхер? — Из Москвы, понятно, безопаснее. — Селиванов с достоинством посмотрел на Усова сверху вниз. — Сколько раз я объяснял тебе: данные о погоде зачастую оплачиваются кровью. — Но почему девушку туда? — Виктория Павловна хорошо знает шхеры, до войны служила на Ханко. И с этим, по-прежнему взволнованный, неудовлетворенный, Усов вернулся домой. А там уж не продохнуть было от табачного дыма. В тесную комнатенку набилось человек пятнадцать и все с папиросами и трубками в зубах. Это офицеры дивизиона, идя завтракать, зашли за Усовым. По дружному хохоту гвардии лейтенант предположил, что вышучивают метеорологов. Он угадал. Среди катерников сидел гость-метеоролог. По-усовски оседлав стул и азартно поблескивая глазами, Вася Гущин наскакивал на гостя: — Хиромант! Ты есть хиромант! Как дали вам, метеорологам, это прозвище, так и… С легкой руки известного кораблестроителя и очень остроумного человека, инженер-контр-адмирала Крылова, на флоте было принято иронически относиться к военным метеорологам. Сам Усов не раз повторял крыловскую фразу: «К точным наукам отношу математику, астрономию, к неточным же астрологию, хиромантию и метеорологию». Гость слабо отбивался. — Нет, ты пойми, — говорил он Гущину. — Ты вникни. Чтобы предсказать погоду для Ленинграда, нужно иметь метеоданные со всех концов Европы. Погода идет с запада, по направлению вращения Земли. А в Европе повсюду фашисты. Вот и приходится хитрить, применять обратную интерполяцию, метод аналогов… Гущин с улыбкой обернулся к Усову: — Доказывает, что у них свой фронт — погоды, и воевать на нем не легче, чем на остальных фронтах. Все общество в веселом ожидании посмотрело на Усова. Но сегодня Усов не оправдал надежд. — И правильно доказывает, — хмуро сказал он. — Дурень ты! Самое трудное на войне — это ждать, понимаешь? У моря ждать погоды…2
Вечером, будто гуляючи, Усов прошелся мимо метеостанции, которая помещалась по соседству со стоянкой торпедных катеров. Белыми пятнами выступали в тумане жалюзные будки, где находились приборы. Над ними высился столб с флюгером. Это было хитроумное сооружение для улавливания ветра — от легчайшего поэтического зефира до грозного десятибалльного шторма. На макушке столба покачивалось металлическое перо с набалдашником-противовесом. Тут же укреплена была доска, колебания которой — отклонения от вертикальной оси — определяли силу ветра. Усов представил себе, как девушка осторожненько, за ручку, вводит за собой в шхеры военных моряков. Умница! Но как же трудно ей сейчас! За расплывчатыми, неясными в тумане очертаниями метеостанции виделась Усову другая — тайная — метеостанция. Что, кроме рации, могла привезти девушка в своих чемоданчиках? Легкий походный флюгерок. психрометр для определения влажности, анероид для определения давления воздуха, термометр, секундомер… Что еще? Наблюдения за погодой девушка производила с оглядкой, пряча переносный флюгерок за уступами скал или деревьями, ползком выбираясь из своей норы. Каждую минуту ее могли засечь, обстрелять. Вот что означало выражение: «ждать у моря погоды». А он-то как глупо сострил тогда! Утром доска флюгера занимала наклонное положение. Сейчас она стояла ровнехонько, даже не шелохнулась. Ветер стих. Прошел этот — очень длинный — день, и второй, и третий. С десантом, как видно, не ладилось. На рассвете четвертого дня стало известно о движении вражеского каравана, пересекавшего залив. Когда Усов, застегивая на ходу комбинезон, спешил к пирсу, его окликнули. Возле своих жалюзных будок стоял Селиванов. — Усо-ов! — орал он, приложив ладони рупором ко рту. — Подшефная-я! Гвардии лейтенант остановился как вкопанный. Но ветер относил слова. Удалось разобрать лишь: «Усов», «подшефная», хотя Селиванов очень старался, даже приседал от усердия. Впрочем, багровое от натуги лицо его улыбалось. Ну, гора с плеч! Улыбается, — значит, в порядке! Мезенцеву вывезли из шхер!..3
Еще на выходе все заметили, что Усов сегодня, как говорится, в ударе. С особым блеском отвалил от пирса, развернулся, стремительно понесся в открытое море. — Командир умчался на лихом коне! — многозначительно бросил Гущин своему механику. — Полный вперед! Вместе с Усовым шли четыре торпедных катера. Однако обстановка для поиска была неблагоприятная — над Финским заливом висел туман. По утрам он выглядит очень странно — как низко стелющаяся поземка. Рваные хлопья плывут у самой воды, а небо над головой, в разрывах тумана, ясно. Коварная дымка особенно сгущается у болотистых берегов. Туман — отличное прикрытие от вражеской авиации. Но он мешает также и нашим самолетам. Обычно они сопровождают торпедные катера и наводят их на цель. Сейчас надо было обходиться своими силами. Однако Усов был опытный моряк. Есть поговорка: «вилами на воде писано», в смысле «неосновательно», «ненадолго». Это, конечно, справедливо, но только в отношении вил. Что касается форштевня корабля, то тут «запись» куда прочнее. Подолгу сохраняется она на воде и может пригодиться человеку со сметкой. Раздвигая, разламывая пополам встречную волну, корабль гонит перед собой так называемые «усы». Они похожи на отвалы земли от плуга. Но те остаются, а эти исчезают, однако не сразу. Две длинные волны расходятся под углом по обе стороны форштевня и удаляются от него на очень большое расстояние. Многие, впрочем, считали, что Боря берет грех на душу, доказывая, что эсминец можно обнаружить по «усам» за шесть-восемь кабельтовых, а крейсер даже за милю — конечно, в штиль. Так или иначе, он построил на этом свою тактику. Начал ходить в указанном ему квадрате переменными галсами, выискивая «след», оставленный на воде. Ничего не поделаешь. Горизонт давно уже стерт. Воздух напоминает сейчас волу, в которую подлили молока. Моряков будто окунули в туман. Прошло около часа. Не разминулись ли они с караваном? И вдруг катер тряхнуло. Вот он — долгожданный водяной ухаб! Усов заметался по морю. Положил руля чуть вправо, чуть влево — ухаб исчез. Лег на обратный курс. Снова тряхнуло. Ага! Но тряхнуло уже слабее. Волна, стало быть, затухает. Усов развернулся на сто восемьдесят градусов, пошел зигзагом. Остальные катера послушно двигались за ним, повторяя его повороты. Они натолкнулись на встречную волну, прошли метров пятьдесят, натолкнулись на нее еще раз. Удары делались все более ощутимыми. Волна увеличивалась. Очень хорошо! Напали на «след». Так радист, приникнув к своему радиоприемнику, ищет в эфире нужную волну, иногда соскакивает с нее, но с торжествующей улыбкой опять «взбирается на гребень». Еще около четверти часа ушло на поиски. Между тем туман стал рассеиваться. Воздух уже напоминал стекло, на которое надышали. Кое-что все-таки видно было, хоть и плохо. Время близилось к полудню. По-прежнему ощущая всем телом нарастающие толчки, Усов привел свои катера к истоку волны — к вражескому конвою. В редеющем тумане сначала появилось пятно, неоформленный контур. По мере приближения начали прорисовываться более четкие силуэты. По корабельным надстройкам можно было определить класс кораблей. В составе каравана шел транспорт. Его сопровождали три сторожевика и тральщик. Торпедные катера, как брошенные меткой рукой ножи, с ходу прорезали полосу тумана и вырвались на освещенное солнцем пространство. Их встретил плотный огонь. Снаряды ложились рядом, поднимали белые всплески, но катера прорывались мимо них, как сквозь сказочный, выраставший на глазах лес. Воздух звенел от пуль, словно бы над ухом все время обрывали тонкую, туго натянутую струну. Усов круто развернулся и вышел на редан, поднял катер на дыбы, словно боевого коня. Вся суть и искусство торпедной атаки в том, чтобы зайти вражескому кораблю с борта и всадить в борт торпеду. Сделать это можно лишь при самом тесном боевом взаимодействии. Часть торпедных катеров наседает на конвой, отвлекая его огонь на себя. Другая часть вцепляется мертвой хваткой в транспорт, главную приманку, кружит подле него, атакует одновременно с нескольких сторон. И все это совершается с головокружительной скоростью, в считанные минуты. Усов нацелился на транспорт всем своим катером, как летчик-истребитель самолетом. Выпустил торпеду. Эх, промах! За спиной поддакнул пулемет. Боцман прикрывал командира пулеметными очередями. И вдруг на отходе резко осела корма. Катер сбросил ход. — Осмотреть отсеки! Боцман доложил, что кормовой отсек быстро наполняется, вода продолжает прибывать через пулевые пробоины в борту. Усов не раздумывал, не прикидывал. Был весь охвачен вдохновением боя: — Прорубить отверстие в транце [191]! — И, круто переложив руля, вывернулся на полном ходу из-под нового вражеского залпа. Юнга в ужасе оглянулся. Пробивать еще одно отверстие? Топить катер? Но едва лишь боцман пробил топором транцевую доску, как катер выровнялся. Вода, скоплявшаяся в кормовом отсеке, стала выходить по ходу движения. Да, все время нужно было сохранять скорость, скорость, ни на секунду не допускать остановки! На третьей минуте боя Степаков встревоженно доложил, что осколком снаряда поврежден один из моторов, охлаждавшая цилиндры пресная вода вытекает из пробитого мотора. И опять решение возникло мгновенно, будто само собой: — Охлаждение производить забортной водой! Никогда еще усовский катер не получал столько повреждений. Был весь изранен, изрешечен пулями и осколками снарядов. Не мешкая, надо было уходить на базу. Но Усов твердо помнил правила взаимодействия в бою. И вдруг все с изумлением увидели, что подбитый катер выходит в новую торпедную атаку. Струя воды била вверх из его моторного отсека, словно бы это был не катер, а разъяренный кит, стремглав несущийся на врага. Усов ворвался в самую свалку, в гущу боя. Именно его вмешательство — в самый напряженный момент — решило успех. Трех катеров было недостаточно для победы, но четвертый, неожиданно упав на весы, перетянул их в нашу сторону. При виде выходящего в атаку Усова транспорт, уже подбитый, начал неуклюже поворачиваться к нему кормой, чтобы уменьшить вероятность попадания. И это удалось ему. Он уклонился от второй усовской торпеды. Зато Гущин, поддержанный товарищем, успел выбрать выгодную позицию и, атаковав транспорт с борта, всадил в этот борт свою торпеду. Не глядя, как кренится окутанный дымом огромный корабль, как роем вьются вокруг него торпедные катера, Усов развернулся. На той же предельной скорости, вздымая огромный бурун, он умчался на базу…4
Во флотской газете появился очерк об Усове «Сто четыре пробоины». Именно столько пробоин насчитали в катере по его возвращении. Говорили, покачивая головами, что лишь усилием воли своего командира он удерживался на плаву. Эпиграфом к очерку взято было известное изречение Петра I: «Промедление времени смерти подобно есть». Бой в газете расписали самыми яркими красками. Не забыли упомянуть и о численном превосходстве противника, которое не остановило Усова. Вдобавок, в тот самый момент, когда завеса тумана раздернулась и моряки увидели конвой, как назло, отказали ларингофоны. Однако командиры других катеров поняли Усова «с губ», как понимают друг друга глухонемые. Они увидели, что тот повернулся к механику и что-то сказал. Команда была короткой. Но характер Усова был хорошо известен, в создавшемся положении он мог приказать только: «Полный вперед!» И катера рванулись в бой одновременно. Это дало повод корреспонденту потолковать об едином боевом порыве советских моряков, а также о той удивительной военно-морской слаженности, при которой мысли чуть ли не передаются на расстояние. Но, правильно перечисляя слагаемые победы, он не подозревал о том, что Усов уже знает о спасении Мезенцевой. Усов ощущал от этого необыкновенный душевный подъем. Радость его искала выхода, переплескивала через край. И вот — подвиг!.. Гвардии лейтенант получил газету вечером, стоя подле своего поднятого на кильблоки катера. Свет сильных электрических ламп падал сверху. Механик и боцман лазили под килем, покрикивая на матросов. — Про нас пишут! — С деланной небрежностью Усов протянул газету механику. — Поднапутали, конечно, но в общем суть схвачена. А пока моряки, сгрудившись, читали очерк, Усов отступил на шаг от своего катера и некоторое время смотрел на него. Заплаты, которые накладывают на пробоины, разноцветные. На темном фоне они напоминают нашивки за ранение. Правда, следов прошлогодних пробоин уже не видно, потому что катера красят заново каждой весной. Но, проведя рукой по шероховатой обшивке, Усов с закрытыми глазами мог рассказать, где и когда был ранен его катер. Это была как бы наглядная история боевых действий. Здесь, в походном эллинге, застал его посыльный из штаба. Усова срочно требовали к адмиралу.ЛЖИВЫЙ БЕРЕГ
1
К ночи разъяснило. Багровая огромная луна лениво выбиралась из-за невысоких сосен. Луна — это было некстати. В шхерах труднее остаться незамеченным при луне. А вызов к адмиралу, несомненно, связан со шхерами. Усов засмотрелся на небо и споткнулся. Под ноги ему подкатилось что-то круглое, хрюкнуло обиженно, зашуршало в кустах. Вероятно, еж. На Лавенсари уйма ежей. Усов привычно поднырнул под сеть, растянутую на кольях. С силой толкнул толстую дверь и, очутившись в блиндаже, увидел свою бывшую пассажирку. Впервые по-настоящему он увидел ее — без плащ-накидки и надвинутого на лоб капюшона. Будто упал к ее ногам этот нелепый, пятнистый, с плотными, затвердевшими складками балахон, и она предстала во весь рост перед пораженным гвардии лейтенантом, — красивая, стройная, высокая. В щегольски пригнанной черной шинели, туго перетянутой ремнем. В чуть сдвинутой набок шапке-ушанке, из-под которой выбивались крутые завитки темных волос. Вокруг нее теснились молодые летчики. Она смеялась. «Конечно, окружена, — с неудовольствием подумал Усов. — Такая девушка всегда окружена». Он скромно откозырял и прошел к столу адъютанта: — Зачем вызывали? — Со шхерами что-то опять. Десант отменили, ты же знаешь. Усов не утерпел и обернулся. Мезенцева задумчиво смотрела на него. В руке ее белел номер флотской газеты. Прочла, стало быть, о пробоинах! Летчиков позвали к адмиралу. Усов подошел к Мезенцевой. — Здравия желаю, товарищ старший техник-лейтенант, — бодро сказал он. — Разрешите поздравить с благополучным возвращением. — И вас разрешите — с потопленным транспортом! — Ну, это Гущина надо поздравлять. Он потопил. — Не скромничайте. Без вас бы не потопил. Вот — пишут в газете. Они сели рядом. — Как всегда, поднапутали товарищи корреспонденты, — сказал Усов. — Глядите-ка: «Струи воды хлестали из пробоин во все стороны, напоминая фонтаны статуи Самсона в Петергофе». Не струи. Одна струя. И не во все стороны, а вверх. И еще: «Чем стремительнее мчался усовский катер, тем выше задирался его нос, в котором зияли отверстия от пуль, и тем меньше их заливало водой». Уловка была совсем не в этом. И обратно я шел уже не на редане. — Ничего не поделаешь. Вокруг вас уже творится легенда. — Легенда!.. А я бы не смог так, как вы. В одиночку! Спешенным. Не ощущая дрожи своего катера под ногами… — Вам только кажется это. Надо было бы, смогли. Человек не подозревает и сотой доли заложенных в нем возможностей… Даже такой лихой моряк, как вы. — Мезенцева посмотрела на него искоса, с лукавым вызовом. Совсем по-другому держалась она сейчас: непринужденно и весело, охотно показывая в улыбке ровные, очень красивые зубы (рот был тоже красивый, четких, твердых очертаний). Разговаривать, однако, приходилось с паузами, часто переспрашивая друг друга. В приемной было тесно, шумно. Мимо сновали офицеры, то и дело окликая и приветствуя Усова или Мезенцеву. — Я ведь сама из морской семьи, — говорила Мезенцева. — Дед адмиралом был. Отец — каперангом. А братьев у меня нет. Пришлось женщине поддержать традиции семьи. — А мы из уральских умельцев, — в тон ей ответил Усов. — Я было хотел в горные инженеры, потом в авиацию, но вышло в моряки. — Не жалеете? — Конечно, нет. Бот вырвался вчера на оперативный простор, отвел душу. А то все на шхерных фарватерах этих — как акробат на проволоке. Сами видели. Она засмеялась. Разговор вернулся к тем же ста четырем пробоинам. — В рискованном положении, — сказал Усов, — опаснее всего усомниться в своих силах. Ну, с чем бы это сравнить?… Хотя бы с восхождением на крутую гору. Нельзя оглядываться, смотреть под ноги — только вверх и вверх!.. — Он перевел дух — почему-то очень волновался. — Есть военный термин, — продолжал он, — наращивать успех. И в жизни надо так. Непрерывно наращивать успех, приучать себя к мысли, что неудачи не будет, не может быть. Мезенцева подсказала: — Создавать инерцию удачи? — Как вы понимаете всё, — благодарно сказал он. — Это просто удивительно! С полуслова. Именно — инерцию!.. Я о себе скажу. Я перед боем стараюсь вспомнить о чем-то очень хорошем. Не только о боях, кончившихся хорошо, но о самых разнообразных своих удачах. О тех личных удачах, которыми я больше всего дорожу. Такие воспоминания, как талисман… Он вопросительно посмотрел на нее: — Может, смешно говорю? — Нет, отчего же смешно? Очень верно, по-моему. Успех родит успех. Создается приподнятое настроение, в котором все легче удается, чем обычно. Блестящими глазами, не отрываясь, Усов смотрел на нее. — Вы умная, — прошептал он. — Вы очень умная. Я даже не ожидал. Мезенцева опять засмеялась, немного нервно. В разговоре об удаче все настойчивее пробивалась иная тема, какой-то новый, опасный подтекст. — От адмирала уже вышли. Сейчас нас позовут. — Она сделала движение, собираясь встать, но Усов удержал ее: — Хотите, я скажу, о ком думал в этом бою? Интонации его голоса заставили девушку внутренне сжаться, подобраться, как для самозащиты. — Хотите? — настойчиво повторил он, еще ближе придвигаясь к ней. Мимо прошли два офицера. Один из них негромко сказал другому: — Смотри-ка, Боря атакует! — Уж он-то не промахнется, будь здоров! Они засмеялись. Усов не услышал этого, а если бы и услышал, наверное, не понял, — так поглощен был тем, что звучало сейчас в нем самом. Но Мезенцева услышала. — Так вот, — продолжал гвардии лейтенант. — Я думал о вас… Нет, не отодвигайтесь! Просто думал, какая вы. И еще о том. что мы обязательно встретимся с вами. Я только не знал, когда и где. Но мы не могли не встретиться, понимаете? Иначе какой бы я был Счастливый Усов? Это прозвище мне дали — Счастливый!.. Он улыбнулся своей открытой, мальчишеской, немного смущенной улыбкой. Однако Мезенцева не смотрела на него и не увидела этой улыбки. Она чувствовала, что от неожиданного объяснения в любви — и где — на КП! — у нее пылают щеки. Красивой девушке, тем более находящейся постоянно среди мужчин, приходится быть настороже. В любой момент она готова дать отпор. Но до сих пор еще никто не ставил Мезенцеву в такое нелепо-унизительное положение. Стало быть, уже все видят, что Усов ее «атакует»? И как там дальше: «уж он-то не промахнется!..» Она встала. — Я убедилась, лейтенант, — холодно сказала она. — У вас действительно военный характер. Вы нигде и никогда не теряете времени даром. Двери кабинета растворились, и начальник штаба, стоя на пороге, назвал несколько человек, в том числе Усова и Мезенцеву. На минуту она задержалась. Женщины, даже самые лучшие из них, уколов, не преминут еще повернуть булавку в ране. Сделала это, к сожалению, и Виктория Павловна. — В начале нашего с вами знакомства, — сказала она, стоя вполоборота, — я решила, что вы развязный и пошлый донжуан, из тех, кто ни одной юбки не пропустит. Потом я переменила это мнение. Но, видно, правду говорят, что первое впечатление — самое верное! И, не оглянувшись, она гордо проследовала в кабинет, а Усов остался сидеть на скамье. — Лейтенант! — сердито позвал начальник штаба. — Не слышал, что ли? Тебя отдельно приглашать?2
У стола адмирала стояли командир бригады торпедных катеров, летчик и Мезенцева. Вслед за начальником штаба вошел и Усов. — Садитесь, товарищи, — пригласил адмирал. — Как вам известно, командующий флотом отменил десант. Потери были бы слишком велики, успех сомнителен. Мы должны найти и предложить другой вариант. Прошу, товарищ Мезенцева. Щеки девушки к тому времени приобрели уже нормальную окраску. Держалась Мезенцева чрезвычайно прямо, а глуховатый голос был негромок и ровен, как всегда. — Мое сообщение будет кратко, — сказала она, подходя к столу с картой шхер. — Пролив в этом месте защищен от ветров. Накат невелик, хотя в двадцати метрах от воды намыт бар. Но главное не в этом. Весь участок берега, где предполагалось высадить десант, оплетен тремя рядами проволочных заграждений. В сопках я насчитала две зенитные батареи, одну береговую, две прожекторные установки и семь дотов. Возможно, что дотов больше. Они очень хорошо замаскированы. — Семь дотов, береговые и две зенитные! Ого! — Командир бригады катеров удивленно покачал головой. — И это — в глубине шхер, на таком сравнительно маленьком участке! — Так точно! Насыщенность огнем, по моим наблюдениям, все возрастает по мере приближения к эпицентру тайны. Мезенцева так и сказала: «эпицентру тайны». Усов быстро вскинул на нее глаза, хотел что-то спросить, но промолчал. — Значит, подтверждается, что там тайна? — Комбриг обращался уже непосредственно к адмиралу. — И тайна, видимо, очень важная, если ее так берегут. Как же без десанта? — Ну, на «ура» идти резона нет. Ломиться в двери за семью запорами… Была бы там хоть маленькая щель… Командир базы взглянул на Усова. Тот подался вперед на стуле. — Языка бы нам, товарищ адмирал, — просительно сказал он. — Выманить фашистов из шхер, захватить языка. А я бы задирой от нас пошел. — Как это — задирой? — Ну, ходили раньше стенка на стенку, дрались для развлечения на льду. А мальчишки, которые побойчей, выскакивали наперед, чтобы раззадорить бойцов. Я бы потихоньку — в шхеры, потом обнаружил бы себя и с шумом назад! За мной бы погнались, выслали вдогонку катера, а тут вы со сторожевиками и «морскими охотниками». Поджидали бы в засаде у опушки шхер. И сразу — цоп! Он быстро сомкнул ладони. Адмирал засмеялся — Усов был его любимцем. — Фантазер ты!.. Что же про светящуюся дорожку свою не спросишь? Мезенцева не видела ее. Зато кое-что поинтереснее видела. Ну-ка, Мезенцева! И снова неторопливый голос: — В первую ночь я увидела огонь на берегу. Вот тут (взмах карандашом). На следующую — чуть подальше… — По лоции там нет маяков, — сказал начальник штаба. — Лоция довоенная, — пробормотал Усов. — Вот именно: довоенная. — Адмирал обернулся к летчику, который, сохраняя недовольный вид, до сих пор не проронил еще ни слова. — Каково мнение авиации? Летчик встал и доложил, что целое утро кружил сегодня над указанным районом, но не заметил ничего даже отдаленно похожего на маяки, батареи и доты. — Фотографировали, как я приказал? — С трех заходов. Летчик веером разложил на столе десятка полтора фотографий. Они складывались как гармошка, потому что были наклеены на картон, а потом еще на марлю, которая скрепляет их на сгибах. Минуту или две все в молчании рассматривали данные аэрофотосъемки. — То-то и оно! — сказал начальник штаба. — В таких спорах летчик — высший судья. — Высший-то он высший, — согласился адмирал. — Только судит поспешно иной раз. Бросит взгляд свысока, поверхностный взгляд… А Мезенцева-то внизу была. Что же, по-вашему, привиделись ей все эти доты, эти маяки?… Он вытащил из ящика лупу. — Загадочная картинка, в общем: где заяц? А он, глядишь, прилег где-нибудь у самых ног охотника. Ну-с! — Адмирал с неожиданно прорвавшимся раздражением отодвинул от себя фотографии. — Каково мнение нашего главного специалиста по шхерам? Усов даже не обиделся на слово «специалист» — так поглощен был изучением снимков. Стоял у стола чуть сгорбившись, приподняв плечи, хищно сузив и без того узкие глаза. Он очень напоминал сейчас кобчика или сокола, который уже разглядел добычу внизу и готов камнем упасть на нее. — «Фон дер Гольц», - процедил он сквозь зубы. — О! Уверен? — Не уверен, но предполагаю. — Что ж, очень может быть! — Адмирал с оживлением обвел взглядом своих офицеров. Начальник штаба пожал плечами. — Нет, я бы, знаете, не удивился. Его очень берегут. Все сходится. Даже фарватер оградили фонариками, а на берегу поставили маячки или манипуляционные знаки военного времени. Очень-очень похоже. Иначе говоря, тайная военно-морская база, строго засекреченная гавань в шхерах. Там и прячут своего «генерала» от авиации. — Каждый день туда летаю, — обиженно сказал летчик и оглянулся, ища поддержки. — Этакая громадина! Броненосец береговой обороны! Усов с неожиданным сочувствием подмигнул летчику. — Шхеры, брат, — сказал он. — Ясно: шхеры, — подтвердил командир бригады. А Мезенцева, нагнувшись над снимками, пробормотала, будто про себя: — Лживый берег… — В самую точку, Мезенцева, — сказал адмирал. — Именно: лживый. Усов расправил плечи, решительно одернул китель: — Товарищ адмирал! Прошу разрешения в шхеры. — Ого! Загорелось ретивое? Сам просишься теперь? — Интересно же, товарищ адмирал. — А успеешь? — Ну, товарищ адмирал! — с достоинством сказал Усов. — Имея свои пятьдесят девять узлов в кармане… — Дивизионный механик доложил мне: твой катер неисправен. — К утру исправим. — Ну, добро. Готовься в шхеры за «Фон дер Гольцем».3
Выходя из блиндажа, Усов почувствовал, как его тронули сзади за рукав. Он обернулся. То была Мезенцева. В темноте нельзя было рассмотреть выражения ее лица, но интонации голоса были неприветливы: — Убиваться собираетесь? Это же чушь, бессмыслица! Нельзя иголкой в одно и то же место по сто раз тыкать. Сначала там меня высадили, потом сняли оттуда. Сегодня Ишимов целое утро летал, фотографировал. В шхерах бог знает что творится, десанта ждут. И вы еще туда претесь. Не можете несколько дней обождать? Зачем вам это? Пропуская Мезенцеву вперед, Усов охотно пояснил: — А воспоминания к старости приберегаю, товарищ старший техник-лейтенант. Буду, как говорится, изюм из булки выковыривать. Не все же мне о своем вульгарном, и как там еще… да, пошлом донжуанстве вспоминать. Честь имею! Он козырнул и повернул в другую сторону. Вот когда — с запозданием — обрел себя, снова стал прежним Усовым, который при любых обстоятельствах умел сохранить самообладание и флотский шик… А ведь соврал, ей-богу, соврал! Спешу тут же разоблачить его — по секрету от дам. В данный момент Усов думал не столько о Мезенцевой, сколько о вражеском броненосце береговой обороны «Генерал фон дер Гольц», за которым с начала войны безуспешно охотились наши торпедные катера и авиация. Там тоже, так сказать, была неразделенная любовь. Усов изо всех сил рвался на свидание с броненосцем, а тот всячески этого свидания избегал.НА ПОЛОЖЕНИИ «НИ ГУГУ»
1
Гвардии лейтенант «споткнулся» в шхерах, немного не дойдя до острова, куда высаживал Мезенцеву. Да, предостерегла правильно. Разворошен чертов муравейник! Быстро переложил руля, успел бросить механику: «У фашистов сейчас уши торчком!» — И сразу же ударили зенитки. Взад-вперед заметались лучи прожекторов, обмахивая с неба звездную пыль. Ищут в небе самолет? Подальше бы искали! Вдруг луч, как подрубленное дерево, рухнул на воду. Будто светящийся шлагбаум перегородил путь. Усов мигнул три точки — «слово» следовавшему в кильватер Гущину. Тот тоже уменьшил ход. «Шлагбаум» качнулся, но не поднялся, а, дымясь, покатился по воде. Заметят или не заметят? Горизонтальный факел сверкнул на берегу, как указующий перст. Заметили! Через мгновение рядом лопнул второй разрыв. Катер сильно тряхнуло. — Попадание в моторный отсек, — бесстрастно доложил механик. Справа высунулся из своего закоулка радист: — Попадание в рацию, аккумуляторы садятся. Вдовершение фашисты включили «верхний свет». Над шхерами повисли ракеты, в просторечьи называемые «люстрами». Они опускались, вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, искрами рассыпаясь у черной воды, как головешки на ветру. Неторопливо поднимались на смену им другие. («Люстры» ставятся в несколько ярусов, с тем расчетом, чтобы мишень постоянно была на светлом фоне). Свет — очень резкий, слепящий, безрадостный. Как в операционной. Уложили, стало быть, на стол и собираются потрошить? Ну, дудки! Две дымовых шашки полетели за корму. Старый испытанный прием! Но Усов уже не смог проворно, как раньше, «отскочить». Едва-едва «отполз» к сторонке на одном неповрежденном моторе. Укрывшись в тени какого-то мыса, он смотрел, как палят с берега по медленно расползающимся черным хлопьям. Дурачье! Приблизился Гущин: — Подать конец? Пауза очень короткая. Думать побыстрей! Без Гущина не дохромать до опушки. Но, приняв буксир, угробит и себя, и товарища. Маневренность потеряна, скорости нет. На отходе нагонят самолеты и запросто расстреляют обоих. Что ж, в критическом положении наилучший выход — атаковать! Назад хода нет. Значит, надо прорываться дальше, укрываться где-то в глубине шхер! Усов скомандовал: — Уходи! Остаюсь для выполнения задания. — Не уйду без вас. — Васька, не дурить! Приказываю уйти! Надо! Отвлечешь огонь на себя! Гущин понял. Донеслось, слабея: — Есть, отвлеку! И Усов сорвал с головы шлем с уже бесполезными ларингами. Аккумуляторы окончательно сели. Он оглох и онемел. Второй его катер, отстреливаясь, рванулся к выходу из шхер. — Еще бы! — с завистью пробормотал Усов. — Сохраняя свои пятьдесят девять узлов в кармане… Собственные его «узелки», увы, кончились, развязались. Фашисты перенесли весь огонь на Гущина. Бой удалялся. Припав к биноклю, юнга провожал взглядом катер. Зигзагообразный путь его было легко проследить по всплескам от снарядов. Всплески, как белые призраки, вставали меж скал и деревьев. Вереница этих призраков гналась за дерзким пришельцем, тянулась за ним, наотмашь стегала пучками разноцветных прутьев. То были зелено-красно-фиолетовые струи трассирующих пуль. — Не догнали! Шурка с торжеством обернулся к командиру, но тот не ответил. Изо всех сил старался удержать подбитый катер на плаву. С лихорадочной поспешностью, скользя и оступаясь на палубе, матросы затыкали отверстия от пуль и осколков снарядов. В дело было пущено все, что только возможно: чопы, распорки, пакля, брезент. Но вода уже перехлестывала через палубу, угрожающе увеличился дифферент. Оставалось последнее, самое крайнее средство: — Запирающие закрыть! Боцман умоляюще прижал к груди руки, в которых были клочья пакли: — Товарищ гвардии лейтенант! Хоть одну-то оставьте! Усов — безжалостно: — Нет! Обе торпеды — за борт! Во вражеских шхерах сбрасывать торпеды? Лишать себя главного своего оружия?… — То-овсь! Залп! Резкий толчок. Торпеды соскочили с запят, камнем пошли ко дну. Всё! Только круги на воде. Юнга скрипнул зубами от злости. Выйди из-за мыса пресловутый «Фон дер Гольц» со своей, известной всему флоту, «скворечней» на грот-мачте, сейчас уже не с чем подступиться к нему. Зато катер облегчен. Две торпеды весят более трех тонн. Командир прав, как всегда. Лучше удержаться на плаву без торпед, чем утонуть вместе с торпедами… На одном моторе Усов проковылял еще несколько десятков метров и приткнулся у острова. Недели не прошло, как высаживал на него Мезенцеву, а теперь вот и сам… Мысленно он представил себе его очертания на карте. Изогнут в виде полумесяца. Берега обрывисты — судя по глубинам. Вряд ли за это время сделался обитаем. Хотя… Но рискнем! — Боцман! Швартоваться! И катер прислонился к обрывистому берегу. Но едва ошвартовались, как мимо очень быстро прошли три «шюцкора». То ли они участвовали в погоне за Гущиным и сейчас возвращались на базу, то ли проверяли, все ли русские катера ушли из шхер. Это был опасный момент. Пришлось поавралить — плечами, руками, спиной упираясь в скалу, придерживать катер. «Шюцкоры» развели сильную волну. На ней могло ударить о камни или оборвать швартовы. Через две или три минуты «шюцкоры» вернулись. Они застопорили ход и почему-то долго стояли на месте. Боцман пригнулся к пулемету. Усов замер подле него, предостерегающе подняв руку. Два матроса, безостановочно и торопливо вычерпывавшие до этого воду из моторного отсека, застыли, как статуи, с ведрами в руках. Шурка зажмурился. Включат прожектор, ткнут в катер лучом! Рядом зевнул радист Чачко — он всегда зевал, когда нервничал. Но и на этот раз пронесло. Постояв, будто в раздумье, «шюцкоры» ушли. Видно, невероятным показалось предположение, что подбитый русский катер будет искать спасения не на выходах из шхер, а, наоборот, в глубине их. А, быть может, фашисты решили, что повреждения его не так уж велики и ему удалось уйти незамеченным. На самом деле катер был в трагическом, почти безнадежном положении. Матросы продолжали вычерпывать воду, боцман пытался завести пластырь. Но все это могло лишь отсрочить гибель. Как уходить из шхер? С водой в отсеках, с поврежденными моторами? Не уйти! — Вот что, Фаддеичев, — сказал вдруг гвардии лейтенант, трогая боцмана за плечо. — Придется наш катер в подлодку превращать. Другого выхода нет. Боцман с ужасом оглянулся на своего командира. В уме ли он? Как это — катер в подлодку? — Временно, временно, — успокоил Усов. — Пока повреждения не исправим. Тащи-ка мешки скорее! Да поживее, ты! Тонем же! В резиновых мешках возят на катерах дополнительное горючее. Сейчас мешки были пусты. По указанию Усова, матросы затолкали их в таранный отсек, где зловеще хлюпала вода, проворно присоединили шланг к чудом уцелевшему баллону, открыли вентиль. Сжатый воздух начал постепенно раздувать мешки и вытеснять воду из отсека. — Ура, — шепотом сказали рядом с Усовым. Это был юнга. Опустив уже бесполезный черпак, он завороженно следил за тем, как выравнивается катер, медленно-медленно поднимается над водой. Похоже было на волшебство. Гвардии лейтенант как бы вцепился могучей рукой в свой катер и, наперекор всему, удержал его на плаву. — А ведь в точности, товарищ гвардии лейтенант, — восхищенно сказал боцман. — Словно систерны это. Как на подлодке. Всплыли и опять живем! Но Усову пока было не до похвал. — Теперь на берег все! — приказал он. — Траву, камыш волоки! Ветки руби, ломай! Да поаккуратней, без шума. И чтобы не курить! — Маскироваться будем? — Ага! Спрячем свой катер до утра, вот и скажем тогда: живем, мол! Он остановил пробегавшего мимо Шурку: — Юнга! — Есть юнга! — А ты остров обследуй. Вдоль и поперек весь его обшарь. По-пластунски, понял? Вернись, доложи. Он снял с себя ремень с пистолетом и собственноручно опоясал им юнгу. Степаков и Чачко быстро подсадили его. Шурка пошарил в расщелине, уцепился за торчащий клок травы, вскарабкался по отвесному берегу. — Поосторожнее, эй! — напутствовал Чачко. — А вы не волнуйтесь за меня, — ответил из тьмы мальчишеский голос. — Я ведь маленький. В маленьких труднее попасть. — Вот бес, чертенок, — одобрительно сказали на катере…2
Юнга очутился в лесу, слабо освещенном гаснущими «люстрами». Бесшумно пружинил мох. Вдали перекатывалось эхо от выстрелов. Ого! Гущина провожают со всеми почестями — с фейерверком и музыкой, до самого порога. Усов уйдет завтра не так — поскромнее. Шурка понял с полунамека. Важно отстояться у острова. Тщательно замаскироваться, притаиться. Втихомолку, в течение дня, исправить повреждения. И следующей ночью, закутавшись во мглу и туман, «на цыпочках» выскользнуть из шхер. Дерзкий замысел, но такие и удаются гвардии лейтенанту. Только бы не оказалось на острове фашистов. Юнга сделал над собой усилие и нырнул во тьму, как в воду. Он прошел несколько шагов и остановился. Все время ждал: кто-то кинется из-за стволов и облапит по-медвежьи. Даже не выстрелит, именно облапит. Пугающим» «кем-то» и «чем-то» полон был чужой лес. Вспомнилось, как гвардии лейтенант говорил о страхе: «Если боишься, иди поскорее навстречу опасности. Страх страшнее всего. Это — как с собакой. Побежишь — разорвет!» «Вы-то, товарищ гвардии лейтенант, откуда знаете о страхе?» «Знаю уж», - загадочно усмехнулся Шуркин командир… Шурка решительно раздвинул кусты. Что-то чернело между стволами в слабо освещенном пространстве. Громоздкое. Бесформенное. Валун? Дот? Он осторожно приблизился. Не дот и не валун. Сарай! Осмелев, провел по стене рукой. Жалкий сараюшка, сколоченный из фанеры! Подобрался к двери, прислушался. Внутри было тихо. Юнга толкнул дверь, шагнул через порог. Пистолет гвардии лейтенанта ободряюще похлопывал его по бедру. В сарае находились только лотки для сбора ягод — с выдвинутым захватом, вроде маленьких грабель. Летом в шхерах столько земляники, брусники, черники, клюквы, что никому и в голову не придет собирать по ягодинке. У стен стояли большие конусообразные корзины. В таких перевозят на лодке скошенную траву. Еще одно доказательство того, что остров необитаем. Выйдя из сарая, Шурка удивился. Почему стало темно? А! Фашисты «вырубили» верхний свет. Это, конечно, хорошо. Но под «люстрами» было легче ориентироваться. Вокруг, пожалуй, даже не темно, а серо. Деревья, кустарник, валуны смутно угадываются за колышущейся серой завесой. Только сейчас Шурка заметил, что идет дождь. С разлапистых ветвей, под которыми приходилось пролезать, стекали холодные струйки за воротник. Конусообразные ели и нагромождения скал обступили юнгу. Протискиваясь между ними, он больно ушиб колено, зацепился за что-то штаниной, разорвал ее. Некстати подумалось: «Попадет мне от боцмана. Всегда ругается, что я неряха». То был «еж», злая колючка из проволоки. Полным-полно таких проволочных «ежей» в шхерах, куда больше, чем их живых собратьев. Фашисты, боясь десанта, всюду разбрасывают «ежи» и протягивают между деревьями колючую проволоку. Шурка остановился передохнуть. Тихо. Рядом приплескивало море. С влажным шорохом падали на мох дождевые капли. Изредка один особо старательный, либо слишком нервный пулеметчик, как бы для перестраховки, простукивал короткую очередь. Впрочем, делал это без увлечения и опять словно бы задремывал. Вскоре юнга пересек остров в узкой его части. Людей на острове не было. Ободренный, он двинулся вдоль берега. Кое-где приходилось пробираться ползком. Вдруг Шурка отдернул руку. По-змеиному извивалась в сухой траве проволока. Не колючая проволока. Провод! Этот участок берега минирован! Юнга испуганно шарахнулся в сторону, подальше от провода. Гранит был гладкий, скользкий. Шурка потерял равновесие. Сам не веря тому, что происходит с ним, он скатился с пологого гранитного берега и бултыхнулся в воду. Когда вынырнул — метрах в десяти-пятнадцати от берега, — вода вокруг была уже не темной, а оранжевой. Это осветилось небо. Беспокойный луч полоснул по острову, суетливо зашарил-зашнырял между деревьями. Потом медленно пополз к Шурке. В уши ему набралась вода, и он не слышал, стучат ли пулеметы, видел лишь этот неотвратимо приближающийся смертоносный луч. Сделал сильный гребок, наткнулся на какой-то шест, наклонно торчавший из воды. А! Вешка! Держась за шест, Шурка нырнул. Луч неторопливо прошел над ним, на мгновение осветил воду и расходящиеся круги. Это повторилось несколько раз. Прячась за голиком, верхушкой шеста, юнга не отводил взгляда от луча. Едва лишь тот приближался, как Шурка поспешно нырял. В воде он немного приободрился, так как был отличным пловцом. Немного напоминало игру в пятнашки, а уж в пятнашки-то он играл лучше всех во дворе. Лучи переместились к берегу. Они бесшумно прорубали туман, вырывали отдельные клочки пейзажа — одинокую сосну, излом гранитного обрыва. Потом два луча скрестились над Шуркиной головой, — вот-вот упадут. Но, покачавшись с минуту, рывком убрались куда-то. Юнга выполз на берег. Некоторое время лежал неподвижно, раскинув руки, смотря на светлые пятна, перебегавшие по небу, слушая, как перекликаются пулеметы. Затукал один, издалека ему ответили второй, третий. Похоже, будто собаки перебрехиваются ночью в глухом захолустье. Паузы все длиннее, лай ленивее. Наконец, в шхерах снова стало тихо, темно… Луны в небе не было. Не было и звезд. Дождь все моросил. Многозначительно перешептывались капли, раздвигая хвою. Разведку можно считать законченной: людей на острове нет. Южный берег минирован. По ту сторону восточной протоки расположены батареи и прожекторная установка. Так юнга и доложил Усову по возвращении на катер. Он очень удивился происшедшим в его отсутствие переменам. Теперь это, собственно говоря, был уже не катер, а нечто вроде плавучей беседки. — Здорово замаскировались! — похвалил юнга. — А как же? — рассеянно ответил Усов. — Мы же хитрим, нам жить хочется… Аврал заканчивался. Из трюма извлечены были брезент и мешковина. Ими искусно задрапировали рубку. С берега приволокли валежник, нарубили веток, нарезали камышу и травы. Длинные пучки ее свешивались с наружного борта. Боцману не приходилось подгонять матросов. Работали без роздыха. Неотвратимо светлевшее небо подгоняло их. До утра надо раствориться во вражеских шхерах, неприметной деталью вписаться в пейзаж! Слушая доклад юнги, Усов одобрительно кивал, но, видимо, продолжал думать все о той же маскировке, потому что машинально поправил свисавшую с рубки ветку. — Молодец! — сказал он. — Теперь подсушись, закуси. Обратно на свой пост пойдешь. Ты опять у нас впередсмотрящий. С вражеского берега и протоки глаз не спускать. Утром будет нам экзамен. — Какой экзамен, товарищ гвардии лейтенант? — А вот какой. Начнут сажать по нас из пушек и пулеметов, значит, все, срезались мы, маскировка не годится. И он с беспокойством оглянулся на обрывистый гранитный берег, к которому приткнулся катер. Какого цвета здесь гранит? Серый — значит, хорошо. Брезент и мешковина подходят. Ну, а если красный — тогда нехорошо. На красном фоне катер будет резко выделяться серо-зеленым пятном. Не увидит его разве только крот.3
Но юнга (как и другие матросы) ничего не знал о сомнениях своего командира. Он был бодр и весел, потому что помнил: гвардии лейтенанту всегда и все удается. Вот ведь и катер увел из-под огня, и на плаву его удержал! Юнга ползком пересек остров и вернулся на свой пост — впередсмотрящего. Уж он-то не упустит ничего. И, если артиллеристы с береговой батареи вдруг — по каким-то своим надобностям — приготовятся переправляться через протоку, он мигом сообщит гвардии лейтенанту. Неожиданного нападения с этой стороны не будет. Утро выдалось пасмурное. Над водой лежал туман. Вокруг Шурки была такая тишина, что все происходящее казалось ему неправдоподобным. Он различил вешку, за которой прятался этой ночью. Шест торчал в тумане наклонно, как одинокая стрела. Через несколько минут юнга посмотрел в том же направлении. Видны стали уже две стрелы, вторая — отражение первой. Потом прорезались камыши, посреди протоки зачернел надводный камень. Поблизости булькнуло. Что это? Весло? Рыба проснулась? Пауза. По-прежнему тихо. Солнце появилось с запозданием. Оно было красное, как семафор, — тоже предупреждало об опасности. Пейзаж как бы раздвигался. За медленно отваливающимися пепельно-серыми глыбами Шурка уже различал противоположный берег. Покрывало тумана, а вместе с ним и тайны, сползало с вражеских шхер. Позолотились верхушки сосен и елей на противоположном берегу. В душном сумраке возникли поднятые к небу орудийные стволы. Шурка торопливо завертел винтовую нарезку бинокля. О! Не зенитки, а бревна, поставленные почти стоймя, фальшивая батарея для отвода глаз. Назначение — вводить в заблуждение советских летчиков, отвлекать внимание от настоящей батареи, которая находится поодаль. Панорама — сложная, многоплановая. Клочки пейзажа разрознены как мозаика. Ночью прожектор вырывал их по отдельности из мрака. Днем все они соединились в одну общую картину. Одну ли? Юнга прищурился. Двоилось в глазах. Мысы, островки, перешейки, как в зеркале, отражались б протоках. Но зеркало было шероховатым. Рябь шла по воде. Дул утренний ветерок. Юнга повел биноклем. Как бы раздвигал им ветки далеких деревьев, ворошил хвою, папоротник, кусты малины и шиповника, настойчиво проникал в глубь леса — по ту сторону протоки. Вот — валун. Замшелый. Серо-зеленый. Как будто бы ничем не отличается от других валунов. Но почему из него поднимается дым, струйка дыма? Не из-за него, именно из него! Странный валун. Вдруг приоткрылась дверца в нем. Из валуна, согнувшись, вышел солдат с котелком в руке. Ну, ясно! Это дот, замаскированный под валун! Продолжаются колдовские превращения в шхерах. Внезапно над обрывистым берегом, примерно в шести-семи кабельтовых, поднялись четыре рефлектора. Они оттягивались, как головки змей, и снова высовывались из-за гребня. Не сразу дошло до Шурки, что это прожекторная установка, которая так досаждала ему ночью. Сейчас ее проверяли. Рефлекторы, вероятно, ходили по рельсам. Вдруг раздалось знакомое хлопотливое тарахтенье. Над проснувшимися, приводившими себя в порядок шхерами кружил самолет. Наш! Советский! Мгновенно втянулись, спрятались головки рефлекторов. Дверца дота-валуна приоткрылась, из щели высунулся кулак, погрозил самолету. Дверца захлопнулась. Несколько солдат, спускавшихся к воде с полотенцами через плечо, упали, как подкошенные, и лежали неподвижно. Все живое в шхерах оцепенело, замерло. Словно бы внезапно остановилась движущаяся кинолента! Очень хотелось подняться во весь рост, заорать, сорвать с головы бескозырку, начать семафорить. Эй, летчик, перегнись через борт, приглядись! Все внизу притворство, вранье! Зенитки не настоящие — фальшивые. Валун не валун — дот. Бомби же их, друг, коси из пулемета, коси! Но вскакивать и махать бескозыркой нельзя. Полагается смирнехонько лежать в кустах, ничем не выдавая своего присутствия. Покружив, самолет лег на обратный курс. Искал ли он невернувшийся на базу катер? Совершал ли обычный разведывательный облет шхер? — Эх, дурень ты, дурень! — с досадой сказал Шурка. Гул затих, удаляясь. И опять завертелась лента, все замелькало перед глазами, пришло в движение. Размахивая полотенцами, солдаты побежали к воде. На пороге мнимого валуна уселся человек и принялся неторопливо раскуривать трубочку. — С опаской, однако, живут, — с удовлетворением заключил юнга. — На положении — «ни гугу…». Он вспомнил про города из фанеры, о которых рассказывал гвардии лейтенант. То были города-двойники. Их строили на некотором расстоянии от настоящих городов, даже устраивали в них пожары — тоже «понарошку», для отвода глаз. Да, все было здесь не тем, чем казалось, чем хотело казаться. Все хитрило, притворялось. Но ведь и советские моряки подпали под влияние чар и будто растворились в красно-серо-зеленой шхерной пестроте. Тут только вспомнил юнга о предстоящем «экзамене». Солнце сравнительно высоко уже поднялось над горизонтом, но в шхерах было по-прежнему тихо. Не стреляли. Значит, «экзамен» сдан! Замаскированный катер не замечен. И Шурка засмеялся от удовольствия и гордости, впрочем, негромко, вполголоса. Ведь он тоже был на положении «ни гугу».ВНУТРИ ЗАГАДОЧНОЙ КАРТИНКИ
1
День в шхерах начался. Мимо Шурки зашныряли баржи с бревнами и суетливые буксиры. На каждом буксире — пулемет, солдаты ежатся от утренней прохлады. Солнце переместилось на небе. Надо менять позицию. Ненароком еще отразится луч от стекол бинокля, солнечный зайчик сверкнет в лесу, а ведь противоположный берег-то — он глазастый! С новой позиции вешка еще лучше видна. Ага! Воротник поднят, холодно ей. Значит, нордовая она [192]. Зимой, когда торпедные катера стояли на приколе, гвардии лейтенант занимался по вечерам с юнгой. «Видишь, — показывал он картинки: — нордовая — красная, голик на ней в виде конуса, основанием вверх. Вроде бы это воротник поднят и нос покраснел. Очень холодно- нордовая же! А вот зюйдовая — черная, конус у нее вершиной вниз. Жарко этой вешке, откинула воротник, загорела дочерна!» Вестовую и остовую он учил различать по-другому: «Голик вестовый — два конуса, соединенных вершинами. Раздели по вертикали пополам, правая часть покажется тебе буквой «В». И это будет вест. А голик остовой — два конуса, соединенных основанием. Выглядят как ромб или буква «О» — ост. Так распознавай и месяц, старый он или молодой. Если рожки торчат направо, это похоже на букву «С». Значит — старый. Если налево, то проведи линию по вертикали, получится у тебя «р» — ранний, молодой». И входные огни запомнил Шурка по усовским присловьям. Три огня: зеленый, белый, зеленый разрешали вход в гавань. Начальные буквы были «збз», иначе, по Усову: «заходи, браток, заходи!» Огни красный, белый, красный были запретными. Начальные буквы составляли «кбк», то есть: «катись, браток, катись». О! Чего только не придумает гвардии лейтенант! Улыбаясь, юнга медленно поднимал бинокль к горизонту. Первое правило сигнальщика: просматривай путь корабля и его окружение от воды, от корабля. А кораблем для Шурки был сейчас этот, порученный его бдительности островок. Правее нордовой вешки серебрилась мелкая рябь. Под водой угадывались камни. Вешка предупреждала: «Держи меня к норду!» Так и огибают ее корабли. Еще один катер, а за ним парусно-моторная шхуна прошли мимо Шурки. Для памяти он отложил на земле шесть веток по числу прошедших кораблей. Картина в обще, была мирная. Ветер утих. Протока стала зеркально гладкой, как деревенский пруд. Купа низких деревьев сгрудилась у самой воды, будто скот на водопое. А над лесом висели сонные и очень толстые, словно бы подваченные, облака. Одно из них выглядело странно. Было оно сиреневого цвета и висело чрезвычайно низко. Присмотревшись, Шурка различил на нем деревья! Чуть поодаль виден кусок скалы, нависший над протокой. Это был мыс, и на нем возвышался маяк. Летающий остров с маяком! Юнга подумал, что грезит, и протер глаза. А, рефракция! Это рефракция. И о ней говорил гвардии лейтенант. В воздухе, насыщенном водяными парами, изображение преломляется, как в линзах перископа. Сейчас, при посредстве рефракции, юнга как бы заглядывал через горизонт. Вот он — секретный маяк военного времени, свет которого видела девушка-метеоролог! Миражи, рябь, солнечные зайчики… Сонное оцепенение все сильнее овладевало юнгой. Трудная ночь давала себя знать. Радужные круги, будто пятна мазута, поплыли по воде. «Клонит в сон тебя, да?» — пробормотал Шурка голосом гвардии лейтенанта. «Камыши очень шуршат, товарищ гвардии лейтенант», - пожаловался он. «А ты вслушайся, о чем шуршат. Ну? Слышишь? «Ти-ше! Ти-ше!..» Вот оно, брат, что! Не убаюкивают тебя, а предостерегают. Не спи, мол, юнга, раскрой глаза пошире!» Шурка сердито встряхнулся, как собака, вылезающая из воды. Мимо прошли еще две баржи. Снова он аккуратно отложил в сторону две веточки. Спустя некоторое время за спиной раздался троекратный условный свист. Юнга радостно свистнул в ответ. К нему подползли гвардии лейтенант и радист Чачко.2
— Ишь ты! — удивился Усов, выслушав рапорт юнги. — Выходит, на бойком месте мы. — Так и шныряют, так и шныряют… Усов жадно прильнул к биноклю. В училище его учили не очень доверять вешкам. Их может всегда отдрейфовать или вовсе снести штормом. Главное в шхерах это створные знаки. Вешки только дополняют их. Но где же они здесь? Когда очередная баржа проделывала свой поворот, обходя камни, огражденные вешкой, возникло странное ощущение, что он, Усов, является одним из этих створных знаков. О том же подумал и Чачко, потому что беспокойно задвигался рядом: — На нас ложится, товарищ гвардии лейтенант! — Не на нас. Отползи-ка в сторону, оглянись! Оказалось, что советские моряки случайно обосновались у подножия одного из створных знаков. То был камень, поднимавшийся из густых зарослей папоротника. На нем выделялось белое пятно. Из-за спешки или по соображениям скрытности здесь не поставили деревянный решетчатый щит в виде трапеции или ромба, как положено, а просто намалевали белое пятно на камне. Такие пятна лоцманы называют зайчиками, потому что они — беленькие и прячутся в лесу. Подобный же упрощенный створный знак виден был чуть пониже, у самого уреза воды. Усов, Чачко и Шурка находились сейчас на той стороне острова, которая как бы была его «фасадом». Катер прятался за островом, в «тупичке». Ночью ткнулись с разгона в этот тупичок, спрятались на «задворках». Худо было бы, если бы ошвартовались у противоположного, «фасадного», берега, на самом виду у береговых артиллеристов. На «перекрестке» движение было оживленным — в нескольких направлениях. Тут пересекались два шхерных фарватера — продольный и поперечный. В лоциях называется это узлом фарватеров. Недаром так оберегали его фашисты. Прошлой ночью вдоль и поперек исполосовали все шхеры лучами, будто обмахивались крестным знамением. От этого мелькания голова тогда шла ходуном. А где же таинственная светящаяся дорожка? По-видимому, в пяти-шести кабельтовых севернее, вон за той лесистой грядой. Усов прикидывал, припоминал: вот там Рябиновый мыс, а левее остров Долгий Камень. Отсюда, из-под створного знака, шхеры — как на ладони. Мезенцева увидела многое, но он, Усов, сумеет увидеть еще больше. Увезет с собой две-три пометочки на карте. Пометочки? Вроде бы маловато. И опять бинокль замер у вешки. Милиционеров на «перекрестке» нет. Светофоры-маяки работают только в темное время суток. Днем приходится полагаться на створы и вешки. А что, если?… Хотя нет, не удастся. Солнце неусыпным стражем стоит над шхерами. Да и нельзя привлекать внимание к острову, пока катер еще не на ходу. Усов даже зубами скрипнул с досады. Шурка удивленно посмотрел на него. Гвардии лейтенант что-то шептал про себя, щурился. Ну, значит, придумывает новую каверзу! Усов продолжал смотреть в бинокль. На войне люди отвыкают воспринимать пейзаж как таковой. Пейзаж приобретает сугубо служебный, военный характер. Холмы превращаются в высоты, скалы — в укрытия, луга — в посадочные площадки. А для моряка все, что он видит на суше, это ориентиры, по которым проверяет и уточняет место своего корабля. («Зацепился вон за ту скалу, беру пеленг на колокольню».) Однако и до озабоченного Усова стало постепенно доходить, что шхеры красивы. Как ни странно, впервые увидел зги места днем, хотя и считался главным «специалистом по шхерам». Оказывается, шхеры были разноцветными. Гранит — красный или серый, но под серым проступают красные пятна. На граните — сиреневый вереск, ярко-зеленый папоротник, темно-зеленые, издали почти синие ели, желтоватая высохшая трава. Гранитное основание шхер выстлано мхом, бурым или зеленоватым. Резкий силуэт елей и сосен четко прочерчивался над кустами ежевики и малины и лиственными деревьями: дубом, осиной, кленом, березой. Некоторые деревья лежали вповалку — вероятно, после бомбежки. А в зелень хвои вплетался нарядный красивый узор рябины и можжевельника. Однако главной деталью пейзажа была вода. Она подчеркивала все удивительное разнообразие шхер. Обрамляла картину и в то же время как бы дробила ее. Местами берег круто обрывался, либо сбегал к воде каменными плитами, похожими на ступени. Были острова, заросшие густым лесом, конусообразные, как клумбы, в довершение сходства обложенные камешками по кругу, А были почти безлесные, добросовестно обточенные гигантскими катками-ледниками. Такие обкатанные скалы сравнивают с бараньими лбами. Кое-где поднимались из трещин молодые березки, как тоненькие зеленые огоньки, — будто в недрах гранита бушевало пламя и упрямо пробивалось на поверхность. Цепкость жизни поразительная! Усов вспомнил сосну, которая осеняла его катер, укрывшийся в тени берега. Пласт земли, нанесенный на гранит, был очень тонкий, пальца в два. Корни раздвинулись и оплели скалу будто щупальцами. Так и он, Усов, в судорожном усилии удержаться в шхерах плотно, всем телом приник к скале… Чачко негромко окликнул его: — Ну. что там? — Опять бревна тащат, товарищ гвардии лейтенант! И куда им столько? — Тротил, аммонал!.. Из древесины целлюлозу вырабатывают, потом взрывчатку. Чачко только вздохнул. — Что вздыхаешь? — Торпеды-то утопили, товарищ гвардии лейтенант. — Ну, торпеду слишком жирно на эту древесину. Вот вышел бы «Фон дер Гольц»… Усов тоже подавил вздох. Он очень ясно представил себе, как лихо выскакивает на катере из-за мыса и всаживает торпеды в броненосец береговой обороны. Но он безоружен, безоружен! И опять Усов оглянулся на створный знак. Другой командир, возможно, держал бы себя иначе. Как говорится, сидел бы и не рыпался, дожидаясь ночи. Но Усову не сиделось. Он положил бинокль на траву и отполз к заднему створному знаку. Камень потрескался. Зигзаг трещин выглядел, как непонятная надгробная надпись. Шурка, ничего не понимая, смотрел во все глаза на гвардии лейтенанта. Тот, по-прежнему ползком, обогнул камень, налег на него плечом. Камень как будто поддался — вероятно, не очень глубоко сидел в земле. Гвардии лейтенанту это почему-то понравилось. Он улыбнулся. Улыбка была усовская, то есть по-мальчишески озорная и хитрая. Задумал что-то! Но что? — Сдавай вахту, юнга, — приказал гвардии лейтенант. — Домой поползем. И тут Шурка щегольнул шуткой, — флотской, в духе Усова. — Вражеские шхеры с двумя створными знаками и одной вешкой сдал, — сказал он. А Чачко, усмехнувшись, ответил: — Шхеры со створами и вешкой принял! Шутить в минуты опасности и в трудном положении было традицией на гвардейском дивизионе.3
«Дома» все было благополучно. Катер слегка покачивался под балдахином из травы и ветвей. Ремонт его шел полным ходом, по боцман не был доволен. По обыкновению, он жучил сонного Степакова: «Не растешь, не поднимаешь квалификацию. Как говорится, семь лет на флоте и все на кливер-шкоте». Степаков только сердито шмыгал носом. Впрочем, флотский распорядок соблюдался и во вражеских шхерах — ровно в двенадцать («адмиральский час») сели обедать сухарями и консервами. Потом был разрешен отдых. Шурка разлегся на корме и мгновенно заснул, как засыпают только моряки после вахты. Усов остановился рядом, вглядываясь в его лицо. Оно было худенькое, угловатое. Когда юнга открывал глаза, то казался старше своих лет. Но сейчас выглядел совсем мелюзгой, посапывал по-ребячьи и чему-то улыбался во сне. Кем же ты будешь, сынок, когда вырастешь? Что ждет тебя впереди? Может, приедешь в эти самые шхеры отдыхать и вспомнишь, как мы воевали здесь когда-то с тобой? И не такое случается в жизни. Ведь еще в старой России места эти славились, говорят, как первоклассный курорт. Чуть ли не называли их даже Северной Ривьерой… Усов прислушался к негромкому матросскому разговору. Боцман обстоятельно доказывал, что девушке не полагается быть одного роста с мужчиной. — Моя — невысоконькая, — говорил он, умиленно улыбаясь. — И туфельки носит, понимаете ли, тридцать третий номер. Сума сойти! Уж я — то знаю, до войны вместе ходили выбирать, мне аккурат по эту косточку. — И он, разогнув огромную ладонь, показал место на кисти руки. — Какие там туфельки! В сапогах небось ходит, — вздохнул моторист Дронин. — Нынче вся Россия в сапогах… Один Степаков не принимал участия в разговоре. Он неподвижно смотрел в воду, как загипнотизированный. Почувствовав присутствие командира за спиной, Степаков оглянулся. — Щука, товарищ гвардии лейтенант, — жалобно сказал он. — С метр будет, а то и поболе, все полтора. Что-то посверкивало и булькало почти у самого борта. Рыбы, видно, здесь пропасть. А Степаков страстный рыболов. Но ловить рыбу запрещено — чтобы не демаскироваться. Возобновили ремонт катера. К вечеру удалось восстановить щиток управления и монтаж оборудования. Усов приказал снять коллектор, чтобы удобнее было заделывать пробоины. Он беспрестанно поторапливал людей. — Да уж и так спешим, товарищ гвардии лейтенант, — недовольно сказал боцман. — Спин не разгибаем. В мыле все. — К ночи чтоб обязательно кончить! — Неужто еще сутки сидеть? — пробормотал мокрый от пота, будто искупавшийся Степаков. — Да я лучше вплавь уйду! С удвоенной энергией матросы продолжали работу. Солнце заходило в этот день удивительно быстро. Западная часть горизонта была исполосована тревожными косыми облаками багрового цвета, предвещавшими перемену погоды. В довершение какой-то меланхолик поту сторону протоки взялся перед сном за губную гармонику. Над тихой вечерней водой поползла тягучая тоскливая мелодия. Знал ее музыкант не очень твердо, то и дело обрывал, начинал сызнова. Так и топтался на месте, с усердием повторяя начальные такты. Через несколько минут он просто осточертел Усову и его команде. — Вот же есть на свете богом убитые! — со злостью сказал Дронин, обладавший тонким слухом. — Сто раз уж, наверное, повторил, а все заучить не может. Шарахнуть бы по нему из пулемета! Э-эх!.. — Ты знай работай, — прервал его боцман. — Работать под музыку веселей. До чего нечувствителен был к музыке флегматичный Степаков, а и тот не выдержал, вполголоса застонал. Наступило то короткое время суток, предшествующее сумеркам, когда солнца нет, но небо еще хранит его отблески. Красноватый дрожащий свет наполнил шхеры. Все стало выглядеть как-то странно, тревожно, будто тень от багрового облака упала на воду. Усов вылез из таранного отсека, вытер руки паклей, осмотрелся: — Вот что, боцман! Ты заканчивай без меня. Пойдем с юнгой Чачко сменять. Неодолимо тянуло к вешке и створным знакам по ту сторону острова. Забыть не мог о камне, который не слишком прочно держался в земле. Таков уж он был — этот неугомонный Усов! Мало было ему целым из шхер уйти. Нет, еще и память хотел по себе оставить…НАЧАЛО ЗНАКОМСТВА
1
За эти сутки юнга попривык передвигаться на животе. В этом тоже была своя система. Сначала он ставил на землю один локоть, потом второй, поочередно отталкивался ногами и с осторожностью подавал корпус вперед. Со стороны, наверное, казалось, что плывет по траве стилем кроль, пряча голову. (Лишь впоследствии, изучая английский язык, узнал, что кроль и означает — ползком.) Добравшись до протоки. Усов и Шурка удивились. Вешки на месте не было. — Срезало под самый корень, — доложил Чачко. — Тут одна шхуна, проходила, стала описывать циркуляцию, а ветер дул ей в левую скулу. Капитан не учел ветерка и подбил вешку. Прямо под винты ее! — Неаккуратный ты, Чачко, — шутливо упрекнул Шурка, — Тебе шхеры с вешкой сдавали, а ты… Но, взглянув на гвардии лейтенанта, юнга осекся. Усов подобрался как для прыжка. Глаза, и без того узкие, превратились в щелочки. Таким Шурка видел его лишь в момент торпедной атаки, когда, подавшись вперед и сжимая штурвал, он бросал коротко: «Залп!» Исчезновение вешки значительно упрощало дело. Конечно, ее исчезновение заметят, быть может, уже заметили. Фашистские гидрографы поспешат установить другую вешку — по створным знакам. Но пока что протока пуста и подводные камни не ограждены. Нечто разладилось в механизме. Надо бы еще больше разладить… Когда вешки нет, всё сосредоточивается в створных знаках. Только два этих белых «зайчика» указывают морякам путь. «Зайчик»? Усов оглянулся. Что ж, поиграем с этим «зайчиком»! Заставим его отпрыгнуть подальше. Усов нетерпеливо взглянул на часы, поднял глаза к верхушкам сосен. Начинают раскачиваться. Чуть-чуть. Ветер с запада. Это кстати. Он нанесет туман. Как «специалист по шхерам», Усов знал местные приметы. Если ветер с юга, дождя не будет. Перед штормом видимость улучшается. Сейчас, наоборот, очертания предметов становились неясными, расплывчатыми. Да, похоже — ложится туман. Эх, поскорей бы туман! Осенью темнеет быстро. Но прошло еще около часа, прежде чем по воде поползла белая пелена. Она делалась все плотнее, толще, заволакивала подножия скал и деревьев. Казалось, шхеры медленно оседают, опускаются на дно. Самая подходящая ночь для осуществления задуманного — туманная, без звезд и без луны! — Юнга! Всю команду — ко мне! Боцману оставаться на катере, стать к пулемету, нести вахту! — Есть! Тьма и туман целиком заполнили лес. Наконец, послышались шорох, шелест, сопение. Строем кильватера, один за другим подползли к Усову матросы. — Коротко, задача. — Начал Усов. — Торпед у нас нет. Из пулемета корабль не потопишь. А потопить надо. Так? Сутки просидели в шхерах и никого не потопили. Некрасиво. Но чем топить? Молчание. Слышно лишь, как поудобнее устраиваются в траве матросы, теснясь вокруг своего командира. — Нам с вами повезло, — продолжал Усов. — Угнездились мы как раз между двух створных знаков. Сзади меня — один. (Он похлопал ладонью по камню.) Там, у воды, торчит второй. Пара «зайчиков», неразлучные… А мы возьмем, да и разлучим! — Совсем уберем? — Нет, зачем же! Только отодвинем друг от друга. Нам ведь немного надо, самую чуточку. Чтобы фашисты поутру не заметили. А посреди протоки — камышки! — О! И вешек нет? — Снесло вешку. На эту ночь мы с вами — хозяева створа. Куда захотим, туда и поворотим. — А поворотим, конечно, на камышки? — Смотри-ка, догадался! Насколько пришлось по душе матросам это предложение, можно было судить по тому, как быстро, даже не дожидаясь команды, вскочили они на ноги. Будто и бессонной ночи не было, и утомительного, мучительного дня на положении «ни гугу». Сначала попытались своротить камень с ходу руками. Навалились, крякнули. Не вышло. Тогда выломали толстые сучья и подвели их под камень. Камень заколебался, качнулся. Степаков торопливо подложил под сучья несколько небольших камней, чтобы приподнять рычаг. — Еще давай! Навались! Дронин, заходи слева! Наддай плечом! Еще, еще! Так повторялось много раз. Сучья ломались. Степаков подкладывал под них новые камни, постепенно поднимая опору. Камень с белым пятном накренялся все больше. И вот — как-то очень неохотно — перевернулся. Медленно пополз он с пригорка, ломая кусты ежевики и малины, оставляя борозду за собой. Усов сбежал вслед за ним. Очень удачно упал! «Зайчик» по-прежнему остается на виду. Но линия, соединяющая передний и смещенный задний створные знаки, выведет уже не на чистую воду, по рекомендованному фарватеру, а прямехонько на гряду подводных камней, к черту на рога! На обратном пути к катеру делились впечатлениями. — Да, красиво разыграно, — одобрительно сказал Чачко. — Ночью уйдем, а утром «зайчики» сами сработают. — Вроде адская машина с часовым механизмом. — Еще лучше. Бесшумная. Будто специально для этого камышки припасены. — Жаль только, не увидим мы. — Еще чего! — остепенил Степаков. — Спектакля, что ли, захотел? Нам, брат, недосуг. Вскорости подаст гвардии лейтенант команду: «Заводи моторы!» Фрр! И нету нас здесь!..2
Но до этой команды оказалось еще далеко. Никак не ладилось с моторами. Снова и снова проверяли их механик и мотористы. Усов сидел на корточках подле люка, светя фонариком. Юнга старательно загораживал свет куском брезента. Хорошо еще, что такой густой туман лежал вокруг. В моторном отсеке неистово работали и вполголоса ссорились. — Вы же видите: вторую ночь не спим, — бормотал потный и злой Дронин потному и злому механику. — Так это же не док, нет? Это же вам шхеры, вражеский тыл. Тут молотком посильнее ударишь и уже сердце обрывается. — И приспособлений тех нет, — бурчал себе под нос Степаков. — Правильно говорит Степаков: и приспособлений нет. Усов молчал. Он думал о нарушенной чувствительности створа по ту сторону острова. Положение в связи с этим осложнилось. Поутру в протоке произойдет авария, взад и вперед начнут бегать буксиры, на остров высадятся гидрографы для исправления створных знаков, и катер, конечно, будет обнаружен. Впрочем, Усов никогда не жалел о сделанном. Это было его правило. Решил — как отрезал! Все равно событий не остановишь, даже если бы и хотел. Потревоженный створный знак не вернуть на место. Механизм заведен. Утром будет очень шумно и людно возле острова. Тянуло посмотреть на часы, но Усов не позволил себе этого. Не хотел нервировать людей. И без того знал, что ночь на исходе. Он обладал редким даром — чувством времени. Через полчаса в шхерах начнет светать. Кто-то нервно зевнул за спиной. — Что, брат? — спросил Усов, не оглянувшись. — Кислотность поднимается? — Терпения нет, товарищ гвардии лейтенант, — сказал Чачко. — Ну, терпения… Это дело наживное — терпение! Год назад и вовсе терпения не хватало. Помнишь, как мы с тобой маяк топили? — Как же! В Ирбенском проливе. — Чуть было не торпедировали его ко всем свиньям. — А как это было? — голос Шурки. — Ходили мы в дозоре. Ночь. Нервы, конечно, вибрируют. — Необстрелянные еще были, — вставил Чачко. — То-то и есть. Сорок первый год, ясно? Вдруг по курсу — силуэт корабля! Я: «Аппараты — на товсь! Полный вперед!» И сразу же застопорил, дал задний ход. Буруны — впереди! — Камни? — Они. Это я маяк атаковал. Шурка ахнул. — Есть, видишь ли, такой маяк в Ирбенском проливе, называется Колкасрагс. Площадка на низком островке, башня с фонарем, фонарь по военному времени погашен, а внизу каемка пены. Очень схоже с идущим на тебя кораблем. Чуть было я не всадил в него торпеду и сам на камни не выскочил следом. Давно это было. Год назад… Тогда еще, верно, были мы с тобой нетерпеливые. Даже сердитый Дронин изволил усмехнуться. И вдруг смех оборвался. По катеру из конца в конец пронеслосьтревожное: «Тсс!» Все замерли, прислушиваясь. Неподалеку клокотала вода. Потом раздалось протяжное фырканье, будто какое-то огромное животное шумно вздыхало, всплыв на поверхность. Подлодка! И где-то очень близко. В тумане трудно ориентироваться. Но, вероятно, рядом за мыском. Усов — вполголоса: — Боцман, к пулемету! Людям гранаты, автоматы разобрать! Он поспешно взобрался на берег, пробежал по траве, прячась за деревьями. Да, подлодка. В туманной мгле видно лишь постепенно увеличивающееся, как бы расползающееся, темное пятно. Вот вспух над водой горб — боевая рубка, затем поднялась и вся узкая костистая спина — палуба. Лязгнули челюсти. Это открылся люк. Длинная пауза — и вспыхнули два красноватых огонька. На палубе закурили. Потом Усов услышал голос, очень странный, лязгающий: — Сейчас без пяти пять. Как видите, я точен. Он должен прибыть ровно в пять. Второй голос — с почтительными интонациями: — Прикажете включить огни? — Нет. Его сопровождают опытные лоцмана. Мыс и остров указаны точно. — Я думал, в такой туман… Молчание. Усов знал немецкий. В 1936 году, учась в училище имени Фрунзе, он усиленно просился в Испанию — даже нанял с этой целью репетитора и зубрил язык по ночам. Известно было, что на стороне Франко дерутся гитлеровские моряки. Курсант наивно надеялся, что при отборе кандидатов он получит преимущество, как отлично знающий немецкий язык. В Испанию его не послали. Знание языка пригодилось только сейчас. На подлодке снова заговорили. Обычно в шхерах слышно очень хорошо. Слова катятся по воде, как мячи по асфальту. Но в эту ночь мешал туман. Целые фразы безнадежно глохли, застревали в клочьях тумана. Многого Усов поэтому не улавливал, — несмотря на отличное знание языка. Сейчас речь как будто бы шла о Ленинграде, который подводники называли Петербургом. Наряду с ним упоминался и Сталинград. Можно было догадаться, что падение Сталинграда ставят в зависимость от скорейшего падения «Петербурга». — Фюрер очень недоволен задержкой… — Учтите также настроение наших союзников… Не доверяю этим финнам… — Помните секретный приказ: «Город Петербург, как не имеющий в дальнейшем экономического и административного значения, должен быть разрушен и сравнен с землей?»… — Тише! Не забывайте, что мы находимся в расположении наших союзников… Дальнейшее начисто ускользнуло от Усова, потому что собеседники стали говорить еще тише. Он лихорадочно соображал: что делать? Вражеская подлодка покачивалась на воде примерно в двадцати-тридцати метрах от берега. Усов отдал должное осторожности немецкого подводника. Тот искусно удерживался на месте ходами, не приближаясь к берегу, чтобы не повредить горизонтальные рули. И все же двадцать-тридцать метров было слишком близко для него, потому что на берегу находился он, Усов. Что стоило ему вызвать сюда свою команду и забросать вражескую подлодку гранатами, обстрелять из автоматов, наконец ринуться на абордаж, — полузабытая форма морского боя? Но тогда уж не уйти из шхер. Атаковать подлодку означало погибнуть вместе с ней, пожертвовать собой и своими людьми. Если бы Усов знал об этой подлодке все, что впоследствии удалось узнать о ней, возможно, он так и сделал бы. Сейчас взял верх здоровый инстинкт самосохранения. Это потом будет Усов клясть себя, горько жалеть, что не пожертвовал собой, не обрушил ливень гранат на проклятую подлодку. В настоящее время Усов целиком поглощен разведкой, даже не очень анализирует услышанное, весь как бы превратился в одно большое, чутко настороженное ухо. Ему почудилось слово: «голод». Один из собеседников сказал, подавляя зевок. — Он тоже служит по департаменту голода? — Есть разве такой департамент? — О, это шутливое название. Господин обергруппенфюрер любит пошутить. — Со мной он шутит плохие шутки, — с неожиданно прорвавшимся раздражением лязгнул голос. — Сейчас пять двадцать две. Я жду уже двадцать две минуты! Опять молчание. Из слоев тумана, булькающего, струящегося, невнятно бормочущего, выскочили. как пузырьки, два слова: «Заинтересован… Дюпон»… Но Усов не мог бы поручиться за то, что это действительно «заинтересован» и «Дюпон». Возможно, он ослышался. Он напряг слух, подполз к самому краю обрывистого берега, но ему помешали. Сзади кто-то осторожно тронул его за плечо. — Это я, Дронин, — услышал он шепот над ухом. — Боцман прислал. Не будет ли приказаний? Светает. И впрямь — уже светало. — Светает! — лязгнуло из тумана. — Пять тридцать! Этот обергруппенфюрер не хочет считаться с инструкцией. — Да, он запаздывает. — Безбожно запаздывает. О чем он думает? Я всплываю только ночью — даже здесь, в шхерах. Он должен был бы знать это. Второй голос сказал что-то насчет глубин. — Конечно, — раздраженно подтвердил первый. — В четырех местах нам придется всплывать и идти на виду у всех шхерных ротозеев. Кроме того, есть русская авиация. Один из собеседников, вероятно, польстил другому, потому что там, в тумане, раздался самодовольный смешок. Потом Усову почудились слова: «Летучий голландец» и «река крови». — Река крови, — сказали из тумана, — за ним, за его винтами… «Летучий голландец»… стоит трех танковых армий. Несколько неразборчивых слов и ответ: — Так сказал фюрер… Подлодка для особых поручений… Где «Летучий голландец», там война получает новый толчок… Усов и Дронин обменялись быстрыми репликами: — Моторы? — В порядке. — Подлодка мешает, понял? Боцману передай: она уйдет, мы за ней. В шхерах было уже совсем светло. Усов внимательно рассматривал покачивающуюся посреди протоки большую подлодку типа рейдер, но с некоторыми особенностями силуэта. Так, козырек ее боевой рубки резко выдавался вперед, а на носовом барбете не было орудия. — Вот он! — сказал один из людей, стоявших на палубе. — Наконец-то! Стуча движком, между берегом и подлодкой прошла моторка. Из нее, вероятно, прыгнул на подлодку человек, потому что в тумане сказали: — Осторожнее! Здесь трап. Потом ворчливый голос произнес: — Я ждал тридцать минут! Это непозволительный риск. Вас предупреждали об особой секретности моей подлодки? Неразборчивые оправдания. До Усова донеслись обрывки фраз: — Очень сожалею… Русские бомбили Хамину… — Я тоже сожалею… Впервые «Летучий голландец» уходит не ночью, а на рассвете… Может грозить серьезными неприятностями… Осторожно раздвигая воду форштевнем, подлодка стала отходить от берега. Она огибала остров. Усов сломя голову кинулся к своему катеру. Нельзя терять ни минуты!.. Только сейчас он вспомнил, что створные знаки на противоположном берегу раздвинуты. Устроенная им ловушка поджидает добычу.3
Все понеслось в головокружительном пенном вихре. События сменялись с такой быстротой, что лишь потом с трудом удалось восстановить их последовательность. Кто-то из матросов, кажется, Чачко, объявил, что слышал оглушительный скрежет металла, трущегося о камни. Это сомнительно, хотя Чачко и ссылался на свой профессионально изощренный слух радиста. Когда подлодка с разгона выскочила на камни, команда катера заводила моторы и ничего другого слышать, конечно, не могла. Невероятно и то, что юнга Ластиков видел, как подлодка ложится на гибельный курс. Усов начал разворачиваться на плесе уже тогда, когда «Летучий голландец» бился в каменной ловушке. На это страшно было смотреть. Было в подлодке что-то змеиное. Казалось, вот-вот начнет она извиваться в судорогах. Темно-серая и узкая-узкая, она дергалась на подводной гряде, пытаясь сорвать киль. Яростно вертелись ее гребные винты, клубя и пеня воду. Да, человек с лязгающим голосом будто напророчил себе. Все шхерные ротозеи сбежались смотреть на это удивительное зрелище. Сколько же людей укрывалось здесь, оберегая тайну, даже не зная, что это за тайна! И вот она, тайна, перед ними! Эх, налетели бы сейчас наши самолеты! Доконали бы подводную лодку, а заодно выжгли бы и все это змеиное гнездо! Но Усов не мог вызвать самолеты — рация не работала. И надо было спешить, спешить! Пяткам было уже горячо в шхерах. Он правильно рассчитал — под шумок легче уйти. В смятении и неразберихе береговые артиллеристы не поняли, кто пронесся мимо них. Трудно было вообще понять, что это такое: с развевающимися по ветру длинными полосами брезента и с Охапкой валежника, прикрывавшей турель пулемета! Да и все внимание привлечено было сейчас к тому, что творится на середине протоки — у подводной каменной гряды. На помощь к подлодке со всех сторон мчались катера, буксиры, моторки. Надрывно выли сирены. Усов вильнул в сторону, промчался по лесистому коридору, еще раз повернул — уже на выход из шхер. С берега дали по нему неуверенную пулеметную очередь. Усов не ответил. Строго-настрого приказал на выстрелы не отвечать. Молчаливой серой тенью неслось непонятное суденышко, не отстреливаясь и как будто даже не пытаясь укрыться за гранитными скалами. И это тоже было умно. Это тоже сбивало с толку. Странный катер, чуть не до киля закутанный в брезент, стремглав выскочил из шхер. Матросы шумно переводили дыхание, удивленно Переглядывались: неужто же целы? Неужели и на этот раз гвардии лейтенант увел их от почти неминуемой гибели? Даже сам Усов при всей его великолепной самоуверенности впоследствии признавался Селиванову и Гущину, что и не чаял ног унести: — Ну, думаю, все! Клюнет сейчас жареный петух в темечко. Хоть то хорошо, Что не в тупичке этом, а на полной скорости помирать, как положено моряку!.. Наши самолеты без промедления поднялись в воздух и полетели в шхеры — добивать подлодку. Но, видимо, ее уже успели снять с камней. — Было бы нам еще на полметра отодвинуть створный знак, — горевал Степаков. — Раствор угла увеличился бы, аккурат и врезался бы тогда «голландец» этот в самый центр банки. Не доглядели мы, эх!.. Во всяком случае подлодка не могла не получить серьезных повреждений и, конечно, была надолго выведена из строя. …Усова хвалили, пожимали ему руки, даже сфотографировали его для Дома флота в Кронштадте. Никто не знал и не мог знать, что это лишь первое звено в длинной цепи событий — только начало знакомства Бориса Усова и Курта фон Цвишен, командира «Летучего голландца», лейб-субмарины Гитлера, подводной лодки для особых поручений…
Александр Ломм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» ДОКТОРА ЭЛЛИОТТА
НОЧНАЯ ОБЛАВА
В одном из южных штатов Америки большой отряд полиции оцепил лесок близ городка N. Полсотни человек, вооруженных до зубов, и дюжина специально дрессированных полицейских собак приготовились к охоте на одного-единственного зверя. Но этот зверь стоил того, чтобы из-за него была поднята такая шумиха. Слишком долго Джо Фуллер, по прозвищу Хромая Собака, был грозой южных штатов. Теперь его карта бита. Бандит и убийца, грабитель банков и частных квартир, похититель детей, шантажист и вор попался, наконец, в ловушку. Операция проводилась под покровом ночи. Лесок казался тихим, спокойным, но гдето там, за зарослями орешника, притаился загнанный в западню, но все еще опасный хищник, решившийся дорого продать свою шкуру. — Люди расставлены, сэр, — доложил пожилой полицейский капитан главному инспектору Брауну, прибывшему лично руководить операцией. — Действуйте! — коротко бросил инспектор и посмотрел на часы: был час после полуночи. Началась облава. Огромные псы ринулись вперед, низко опустив морды. За ними осторожно двинулись люди с автоматами на изготовку. Лесок прочесывался шаг за шагом. Даже мышь не смогла бы проскользнуть незамеченной сквозь эту цепь. Инспектор нервничал и не спускал глаз с часов. Начал моросить мелкий дождик. Браун поднял воротник плаща. Минут двадцать прошло в полкой тишине. Вдруг грянул выстрел. Завыл смертельно раненный пес. Еще выстрел. Протарахтела автоматная очередь, за ней другая, третья… Лесок внезапно ожил, наполнился криками, движением, мелькающими бликами электрических фонариков, стрельбой. К инспектору подбежал запыхавшийся капитан: — Он прорвался, сэр, убив двух собак! Но он ранен и далеко не уйдет! — Черт! — выругался инспектор и бросился в ту сторону, откуда доносился удаляющийся лай собак и крики множества людей. Лесок остался позади. Бежать пришлось через мокрое, вспаханное поле. Инспектор спотыкался на каждом шагу, громко чертыхаясь. Капитан за ним еле поспевал. Он тяжело дышал, но не смел сказать ни слова, чувствуя себя виноватым. Но вот инспектор перешел на шаг. — Вы знакомы с местностью, капитан? — спросил он. — Да, сэр… — проговорил капитан, еле переводя дух. — В каком направлении мы движемся? — В направлении усадьбы доктора Эллиотта. До нее не более двух километров. Это одинокое строение с парком, окруженное высоким забором. Фуллер обязательно попытается туда проникнуть. Ведь он ранен и потерял много крови, и потому бежать далеко он не в состоянии. — Кто этот доктор Эллиотт? — Врач-миллионер. Практики не имеет. Занимается наукой. Живет совершенно один в огромной вилле. Слуг не держит. Только днем к нему ходит готовить стряпуха из ближайшего трактира… Инспектор невольно ускорил шаг. — Уж эти мне состоятельные чудаки! — проворчал он. — Вы представляете, капитан, что будет, если эта Хромая Собака проберется в виллу и ухлопает вашего ученого миллионера? — Представляю, сэр… Это будет конец моей карьеры. — И моей, капитан, и моей, не только вашей! Так прибавьте же шагу, черт возьми! И они снова пустились бежать.В ЗАПАДНЕ
Доктор Чарлз Эллиотт был разбужен среди ночи внезапным, резким звонком от ворот. Сняв трубку телефона, он спросил: — Кто там? — Во имя человеколюбия, сэр, впустите! За мной погоня, и я тяжело ранен! — Кто вы такой? — Потом, сэр! Собаки уже близко! Я погибну! Доктор Эллиотт нажал кнопку автомата, открывающего ворота, и, накинув халат, двинулся встречать своего странного ночного гостя. Через несколько минут он привел в свой кабинет рослого детину, вывалянного до невозможности в грязи, листьях и траве. Волосы пришельца слиплись от дождя и пота. В мутных глазах были страх и решимость загнанного зверя. Во время ходьбы он сильно припадал на правую ногу. В одной руке он сжимал револьвер, другая плетью висела в рукаве, намокшем от крови. — Ваше имя? — спросил доктор строго. — Джо Фуллер, сэр, — прохрипел детина, облизнув губы. — Фуллер — Хромая Собака? — Да, сэр… — Личность известная! Ну ладно, мистер Хромая Собака, пока вы находитесь у меня, вы в полной безопасности. Пройдите вон в ту дверь и там подождите. Я переговорю с полицией, если она, конечно, ко мне наведается, а потом приду посмотреть на вашу рану. — Благодарю вас, сэр, — криво усмехнулся детина и, не выпуская из руки револьвера, быстро скрылся за указанной дверью. Снова настойчиво затрещал звонок. Доктор Эллиотт, не обратив на него внимания, надел поверх халата дождевой плащ и не спеша пошел к воротам. Выйдя из дому, он услышал бешеный лай собак и крики множества людей, раздававшиеся за высоким железным забором. Сквозь решетку ворот его осветило сразу несколько ручных фонариков. — Кто вы такие и что вам угодно? — громко спросил доктор. — Вы доктор Чарлз Эллиотт? — Да, я — хозяин усадьбы. С кем имею честь? — Я главный полицейский инспектор Браун. Со мной полсотни вооруженных людей и десяток собак. Мы ловим опаснейшего гангстера Джо Фуллера. След привел к вашему дому, мистер Эллиотт. Надеюсь, вы будете столь благоразумны, что согласитесь на обыск дома и парка. В противном случае мне придется проделать это без вашего согласия. — Не горячитесь, мистер Браун. В свой дом я ваших ребят не впущу. Что же касается Фуллера-Хромой Собаки, то он действительно у меня. Но он ранен и я как врач должен оказать ему помощь. Через час вы получите вашу дичь в обработанном виде. У меня он, как в тюрьме, как в Синг-Синге: никуда не скроется. Но советую подтянуть сюда машину, так как раненого я вам, вероятно, передам под наркозом, — сказал доктор спокойно, но решительно. — Блестящая идея! — воскликнул пораженный инспектор, не ожидавший встретить в ученом столь деятельного помощника. Но чем вы мне поручитесь за преступника, доктор Эллиотт? — Честью джентльмена, сэр. Вам этого достаточно? — Вполне! Но позвольте хоть моим ребятам войти во двор и взять ваш дом под охрану. — Это лишнее, мистер Браун. Я спешу. Не забудьте об автомашине. До свидания. — И, сухо поклонившись, доктор Эллиотт направился к дому. Еще уходя, он услышал, как инспектор отдавал своим людям приказание оцепить со всех сторон парк.УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
— Все в порядке, мой мальчик, — сказал доктор Эллиотт, войдя в свою лабораторию. — Раздевайтесь и ложитесь вот сюда. Раненый бандит беспрекословно подчинился. Пока он, скрежеща от боли зубами, стаскивал с себя мокрую одежду, доктор облачился в белый халат, вскипятил инструменты и приготовил перевязочный материал. Детина, обнаженный до пояса, взгромоздился на операционный стол. Доктор склонился над его плечом. Оно было исковеркано тремя пулями: две прошли, одна застряла, раздробив кость. — Вам придется потерпеть, друг мой. Без наркоза будет больно. — А есть наркоз? — спросил детина, побледнев. — Есть. — Тогда давайте, док, если не жалко. Я вам верю. Доктор Эллиотт охотно выполнил просьбу раненого. Через минуту Джо Фуллер — Хромая Собака с маской на лице погрузился в глубокий сон. Доктор приступил к операции. Доктор Эллиотт совершенно спокойно отделил от могучего тела бандита его левую руку и быстро погрузил ее в большой стеклянный сосуд с густой золотистой жидкостью. Затем он быстро стянул на культе кожу, сшил ее и наложил повязку. Покончив с этим, он больше не обращал на своего пациента внимания и всецело занялся его ампутированной рукой. Вот он нажал незаметную кнопку на стене. В полу бесшумно открылся люк. В ярко освещенное подземелье вела крутая железная лестница. Доктор взял стеклянный сосуд с отрезанной рукой и стал осторожно спускаться в люк… Напрасно трещал звонок от ворот. Доктор Эллиотт не показывался из своего подземелья, занятый каким-то слишком важным делом. И только когда инспектор Браун, уже окончательно потеряв терпение, хотел приказать своим людям выломать ворота, они неожиданно сами открылись. Инспектор в сопровождении пяти полицейских двинулся к дому. В дверях его встретил улыбающийся доктор Эллиотт. — Вы напрасно нервничали, дорогой инспектор. Я только что закончил операцию. Вы так отделали этого малого, что ему пришлось отнять руку. Сейчас он под наркозом. Носилки у вас есть? — Обойдется и без носилок, — ответил инспектор. Когда неподвижное тело Джо Фуллера было вынесено за ворота и грубо брошено в машину, инспектор подошел к доктору. — Без вас мы вряд ли взяли бы его живым, милый док. Мы премного вам обязаны. — Пустяки, — чуть усмехнулся доктор. — Я лишь хотел бы за мою услугу попросить вас тоже о небольшом одолжении. — Для вас — все, что угодно. — Я просил бы оставить мне ампутированную руку этого негодяя. Я, видите ли, занимаюсь кое-какими экспериментами, а. материал доставать очень трудно. — Только и всего? Мало же вы просите. Да я, если хотите, предоставлю вам всего этого бандита, после того как он будет обработан на электрическом стуле. — Благодарю вас. С меня достаточно руки. — Как знаете… Ну, спокойной ночи, мистер Эллиотт. — Спокойной ночи, инспектор. Автомобиль, сверкая фарами, понесся по направлению к городу. Вскоре вслед за ним выступил и отряд полиции. Доктор Эллиотт запер ворота и спокойно отправился продолжать прерванный сон.РОЖДЕНИЕ ДЖИММИ ПРАТТА
Через месяц газеты принесли сообщение о том, что опаснейший гангстер Джо Фуллер-Хромая Собака был по приговору суда казнен на электрическом стуле. Доктор Эллиотт принял это известие с большим удовлетворением. Он сильно опасался, что американское правосудие сочтет для преступника достаточным наказанием пожизненное заключение. Это бы значительно расстроило планы доктора. Теперь он успокоился и с головой погрузился в свою работу. Стряпуха из ближайшего придорожного трактира, которая ежедневно приходила к доктору убирать и готовить обед, рассказывала, что доктор на весь день запирался в своей лаборатории, забывая даже выходить к обеду. Стряпуха не раз пыталась подслушивать у дверей лаборатории, но это ни к чему не привело. За дверьми царила глубокая тишина. Да иначе и быть не могло. Ведь доктор работал в своем подземелье. Прошло еще два месяца со дня смерти Джо Фуллера, и вот однажды утром доктор Эллиотт, очень возбужденный, приказал стряпухе приготовить пошикарней обед на две персоны. До обеда он ездил в своем шевроле в город и привез оттуда кучу разных пакетов. Собственноручно перенеся их в лабораторию, он снова в ней заперся. Стряпуха, занятая обедом, не догадалась на сей раз подслушивать под дверьми. И напрасно. Она услышала бы прелюбопытнейший диалог… За десять минут до обеда в лаборатории раздался взволнованный голос доктора Эллиотта: — Ну, вот вы и здоровы, друг мой. Посмотрите-ка на свое плечо. Я его так заштопал, что не только шрама, даже пятнышка не заметно. — Я не знаю, чем вас отблагодарить, сэр. Вы сделали для меня так много, хотя я далеко не заслужил такого отношения… Но с вашего разрешения, сэр, где же моя одежда? Мне не удобно перед вами в таком виде… Голос сказавшего эти слова был глубок и приятен. — Вашу одежду пришлось сжечь, мой мальчик. Да она и не стоила лучшей участи. Я купил новую. Вот здесь для вас все приготовлено: белье, костюм, ботинки. Вплоть до галстука. Одевайтесь. — О, сэр, как вы добры ко мне! — Ничего, ничего, дорогой. Только давайте условимся. Хотя полиция и забыла про вас, но называться настоящим именем вам пока не стоит. Забудьте на время, что вы Джо Фуллер-Хромая Собака. Кстати, прозвище это вам совсем уже не к лицу. Ведь вы больше не хромаете! — В самом деле! А я и не заметил, что моя нога теперь действует нормально. Ее вы тоже вылечили, доктор? — Я вылечил все болезни, какие у вас только были. Ваш организм полностью обновлен. Вы теперь как бы новый человек, а потому вам будет вполне прилично принять и новую фамилию. Вас устроит, например, такое имя: Джимми Пратт? — Я в восторге, сэр! Джимми Пратт, это звучит даже слишком благородно для такого негодяя, как я! — Об этом пока не будем, Джимми. Вы готовы? — Готов, сэр. — Все сидит прекрасно. Идемте обедать. В столовую доктор Эллиотт вошел в сопровождении высокого плотного мужчины, одетого в отличный новый костюм. Вид у великана был весьма живописный: здоровое румяное лицо, обрамленное небольшой русой бородкой, детски открытый взгляд чистых голубых глаз, шапка вьющихся волос. Стряпуха, подавая на стол, то и дело испуганно таращила глаза на удивительного незнакомца. Как это она не заметила, когда он пришел! После обеда доктор Эллиотт провел своего гостя в кабинет, а стряпуху отпустил домой. И вот они остались наедине. Доктор Эллиотт вынул бутылку виски и маленькие рюмки. — Давайте, Джимми, выпьем за ваше рождение! — сказал он с каким-то странным волнением в голосе и поднял рюмку. — Не было на свете человека Джимми Пратта, и вот он есть. Это большое, очень большое событие и в вашей и в моей жизни, Джимми! За это стоит выпить! Не правда ли? — Да, сэр. Они выпили и раскурили сдгары. — Что же вы теперь думаете делать, Джимми? Снова приметесь за ремесло Хромой Собаки? — спросил доктор. — Нет, доктор! Тысячу раз нет! Вы, может быть, мне не поверите, ведь не бывает, чтобы человек вдруг сразу взял и исправился, но я заверяю вас, что с Джо Фуллером — Хромой Собакой покончено навсегда! Я содрогаюсь при одном воспоминании о своей прошлой жизни. — Я вам верю, Джимми. Я так и думал… В общем, я очень рад, что вы мне это сказали. Рад за вас и за себя. Ну, а что же вы все-таки намерены делать? — Не знаю, сэр… То есть, у меня еще во время обеда появилась одна мысль, только я боюсь вам сказать о ней… — Ну вот еще, «боюсь». Давайте, выкладывайте, что у вас за мысль. Страх вам, Джимми, совсем не к лицу. — Я хотел вас просить, доктор, чтобы вы приняли меня к себе на службу. Я многое умею делать: вожу машину, отлично стреляю, ну и готовить, если надо, умею не хуже вашей кухарки… Я, конечно, не навсегда, а хоть бы на первое время, и любые ваши условия для меня подойдут… — Отлично, Джимми, — улыбнулся доктор. — Оставайтесь у меня. Вы никогда об этом не пожалеете.ПОД КОЛЕСАМИ ГРУЗОВИКА
Страшно, пронзительно застонали тормоза. Тяжелый грузовик остановился как вкопанный. Отчаянный вопль ужаса пронесся над улицей. Молодая женщина на тротуаре упала в обморок. Негр-шофер выскочил из кабины. Вмиг собралась толпа. Из-под машины была извлечена девочка лет пяти. Она была мертва. Передние колеса машины раздавили ее. Растерянный негр-водитель жалко лепетал оправдания: он не виноват, девочка бросилась с тротуара прямо под колеса машины, гонясь за белой собачкой… Он не виноват, он не мог предотвратить несчастья… Толпа не слушала негра и угрожающе на него наседала. Откуда-то взялся врач. Но он лишь установил смерть девочки и тотчас же занялся матерью, которая все еще была в обмороке. Появился полисмен. Ему с трудом удалось отнять зверски избитого негра у охочих до самосуда горожан. Вдруг к месту происшествия мягко подкатил шевроле. Из него выскочил пожилой сухощавый джентльмен и стал энергично пробираться через толпу. Добравшись до изуродованного тельца девочки, вокруг которой вертелась виновница трагедии, маленькая белая собачка, он бегло осмотрел его и обратился к врачу, хлопотавшему возле матери: — Хелло, Маунт! — Хелло, Эллиотт! Какое несчастье! Маленькая Кэтти, единственный ребенок Эдлефсенов! Я сильно обеспокоен состоянием миссис Эдлефсен… — Вы напрасно теряете время, Маунт. Миссис придет в себя, а вот девочку нужно спасать немедленно. Дорога каждая минута. — Опомнитесь, мистер Эллиотт! — сказал удивленно Маунт. У девочки раздавлена грудная клетка и череп. Она более мертва, чем можно себе представить! — Мне некогда с вами спорить, Маунт. Эй, Джимми! Слышишь, Джимми!.. А ну, джентльмены, посторонитесь, дайте пройти! Но великан Джимми не нуждался в том, чтобы ему давали дорогу. Он без труда прошел через толпу и предстал перед доктором. — Снимайте плащ, Джимми, заверните в него девочку и скорей в машину. А мы с вами, коллега, отнесем туда же и бедную миссис Эдлефсен. Тон доктора Эллиотта был настолько резок и повелителен, что Маунт не посмел возразить. Через минуту шевроле развернулся и, с ходу набрав скорость, ринулся из города, унося обоих докторов, миссис Эдлефсен и ее несчастного ребенка.МАТЬ И ДОЧЬ
— Нет, я верю, я верю, я верю ему! Не отнимай у меня эту последнюю надежду, Сэм! Молодая женщина со слезами на глазах смотрела на своего мужа. Сэмуэль Эдлефсен, невысокий, коренастый мужчина средних лет с мягкими чертами смуглого лица, возбужденно ходил по комнате, дымя сигарой. — Что ты, дорогая! Я не хочу вызывать у тебя никаких сомнений: Доктор Эллиотт и меня заверил, что вылечит нашу маленькую Кэтти. Но все это так странно. Он даже не показал нам ее. И вот сегодня истекают те три месяца, которые он потребовал для лечения. Я боюсь, что разочарование будет для тебя слишком тяжелым ударом. Не лучше ли нам с Маунтом съездить к нему вдвоем? — Нет, нет! Я тоже поеду за моей крошкой! Я уверена, что сегодня обниму ее… Сердце матери не может ошибаться, Сэм. — Хорошо, милая. Пусть будет по-твоему… А вот и Маунт. Хелло, Джек! — Хелло, Сэм! Добрый день, миссис Эдлефсен! Ну что ж, поедем? — Да, да, поедем, доктор! Миссис Эдлефсен порывисто поднялась и первая направилась к выходу. Мужчины немного от нее отстали. — Джек, скажи мне, это мыслимо? — тихо спросил Эдлефсен. — Мы слишком много об этом говорили, Сэм, — хмуро ответил Маунт. — Мне все это не нравится, и я еду только ради тебя. Ведь я собственными глазами видел тогда твою бедную Кэтти. Она была мертва, Сэм. Более чем мертва. Но съездить нужно, хотя бы уж для того, чтобы отхлестать этого Эллиотта по его надменной физиономии… Маунт ускорил шаг и нагнал миссис Эдлефсен. Машина почти беззвучно мчалась по асфальту. Сидящие в ней хранили глубокое молчание. Эдлефсен замер у руля. Рядом с ним сидела его жена, вся устремившаяся вперед и дрожавшая от нетерпения. Глаза ее лихорадочно блестели. Маунт сидел сзади, погруженный в мрачные думы. Город остался позади. Машина мчалась среди полей. Вот и придорожный трактир. Поворот, подъем на холм, еще поворот, и в стороне среди густого парка показалась одинокая вилла доктора Эллиотта, огороженная высоким железным забором. Машина свернула с главного шоссе и через минуту остановилась перед массивными воротами. Эдлефсен вышел из машины и помог выйти жене. Миссис Эдлефсен была бледна и еле держалась на ногах от внезапной слабости. Маунт тоже нехотя вышел из машины. Эдлефсен нажал кнопку звонка. — Кто там? — прозвучал голос доктора Эллиотта из маленького амплиона. — Эдлефсен с женой и доктор Маунт. — Приветствую, приветствую, господа! Я жду вас с самого утра! — весело раздалось в амплионе, и тотчас же ворота раскрылись. Миссис Эдлефсен, вдруг оживившись, оторвалась от мужа и бросилась бегом по аллее к дому. Но внезапно двери дома распахнулись, и из них выбежала маленькая пятилетняя девочка. Следом за ней появилась строгая фигура доктора Эллиотта. Девочка на мгновение остановилась и вдруг с криком: «Мамочка!» — бросилась к миссис Эдлефсен. У той подкосились ноги. Бедная женщина упала на колени и раскрыла объятия навстречу бегущей дочери.ПРИЗНАНИЕ
Вот уже несколько недель, как доктор Эллиотт ходит мрачный, задумчивый. Джимми догадывается, что терзает шефа, но молчит. Джимми вообще очень многое знает, но он предан своему шефу. Нет, мало того: он боготворит его. Но настал день, когда доктор Эллиотт принял наконец какое-то определенное решение. — Джимми, приготовь машину. Едем в город… к Эдлефсенам. Русобородый великан улыбается и идет выполнять приказание. У Эдлефсенов рады приезду доктора Эллиотта. Для этой семьи он стал идолом, кумиром, божеством. — Почему вы не в духе, милый доктор? — спрашивает миссис Эдлефсен. Доктор ласкает на коленях маленькую Кэтти, слушает рассеянно ее лепет и молчит. Мистер Эдлефсен смотрит на него с какой-то смутной тревогой. Вот доктор поворачивает к нему свое бледное лицо и неожиданно спрашивает: — Вы сильно привязаны к этому городку, Эдлефсен? В глазах хозяина недоумение: — Почему такой странный вопрос, дорогой доктор? — Мне хотелось бы знать, сможете ли вы уехать куда-нибудь в другой штат, если возникнет такая необходимость. — Я провел в N. почти всю свою жизнь, доктор. Но я уверен, что ваш вопрос неспроста. Конечно, если будет необходимость, я имею возможность уехать отсюда. В Чикаго у меня есть дядя. Он владелец крупного предприятия и давно уже переманивает меня к себе. — Отлично. — Доктор Эллиотт поставил на пол Кэтти и поднялся. — Друзья мои, мне необходимо поговорить с вами наедине. Только так, чтобы ни одна живая душа нас не могла услышать. Дело касается вашей дочери Кэтти. Встревоженная миссис Эдлефсен вызвала няню и приказала ей идти с Кэтти на прогулку. Потом все двери в доме были плотно закрыты. — Мы слушаем вас, дорогой доктор, — сказал мистер Эдлефсен с глубокой серьезностью. — Скажите мне, миссис Эдлефсен, — обратился доктор Эллиотт к побледневшей женщине, — вы не замечали никакой странности в поведении Кэтти? — Странности?.. Не знаю. А впрочем, пожалуй, да. Вы до сих пор требуете, милый доктор, чтобы я возила к вам Кэтти каждую неделю на осмотр. Я, конечно, не осмеливаюсь судить, насколько это необходимо. Но ведь Кэтти абсолютно здорова. Она теперь даже здоровее, чем была до того несчастного случая. Но поездки к вам на нее странно действуют. Согласитесь, что это не совсем, как бы вам сказать, ну, не совсем нормально, что ли… Вот вы уводите Кэтти для осмотра куда-то во внутренние покои вашей виллы. Я остаюсь в кабинете одна. Девочка со мной прощается вся в слезах и уверяет меня, что опять долго со мной не увидится. Через каких-нибудь полчаса вы с ней возвращаетесь. Кэтти бросается ко мне на шею, целует, бурно радуется встрече со мной, говорит, что у вас ей было хорошо, но что она все дни, заметьте, доктор, все дни обо мне страшно скучала. Потом опять неделя проходит нормально, а при следующей поездке к вам повторяется то же самое. Мы с мужем давно уже хотели поговорить с вами, но боялись вас обидеть. Но раз уж вы сами спросили, то я не могла не сказать об этом. — Совершенно верно, миссис Эдлефсен. Было бы странно, если бы вы не заметили всего этого, — заговорил доктор. — Я слишком еще сомневался в своем лечебном методе, и из-за этих сомнений я совершил крупную ошибку. Теперь я должен ее исправить. Не знаю, как вы примете мое признание, но полностью полагаюсь на вашу выдержку… Как вам известно от доктора Маунта, бедная Кэтти была на месте убита колесами грузовика. Убита с точки зрения современной медицины… А впрочем, она была убита с любых точек зрения. Когда я повез ее к себе, жизнь еще продолжала теплиться лишь в клетках ее тела. Ни один современный врач не смог бы на основании этого вернуть жизнь всему организму. Раздавлена грудь, череп… Простите, но я должен сказать вам все. Я не чудотворец, и я тоже не смог бы оживить вашу убитую дочь. Но я изобрел новый метод, как из отдельной части тела, пока ее клетки еще живы, восстановить все живое существо целиком… Доктор Эллиотт говорил долго, более двух часов. Вкратце изложив сущность своего метода, он перешел к своей так называемой ошибке. Да, он поддался нахлынувшему сомнению, и вместе с тем ему страстно хотелось вернуть жизнь убитой Кэтти. И вот, вместо одного он заложил сразу три восстановительных процесса, чтобы уж наверняка хоть в одном добиться успеха. Но, вопреки ожиданиям, все три процесса оказались удачными, и таким образом, он вместо одной создал сразу три маленьких Кэтти, которые одна от другой ничем не отличаются. Их внешность, их душевные качества настолько тождественны, что даже мать не замечала подмены, когда доктор Эллиотт во время ее еженедельных визитов уводил одну Кэтти, а матери возвращал другую. — Не знаю, как вы отнесетесь к тому, что, потеряв одну, вы получили взамен трех дочерей, но я не мог держать это дальше в тайне. Я измучился, наблюдая, как две бедные девочки постоянно томятся в моем доме и скучают по матери. Доктор Эллиотт умолк. Миссис Эдлефсен плакала. — Я хочу их видеть, доктор! Когда я смогу их увидеть? — Увидеть когда угодно, миссис, но отдать их вам я смогу только тогда, когда вы уедете из N. — Я поражен, дорогой доктор, — сказал взволнованно мистер Эдлефсен. — Я не могу опомниться. Но, конечно, я с радостью приму всех трех Кэтти. Ведь они все три мои дочери! И раз вы ставите непременным условием наш отъезд, мы уедем!ТРИ ДЕВОЧКИ И ХРОМАЯ СОБАКА
В течение месяца Сэмуэль Эдлефсен ликвидировал все свои дела в N. и отправился с семьей на постоянное жительство в Чикаго. За границей штата, на одной из крупных железнодорожных станций, где поезд стоял почти полчаса, в их вагон вошел доктор Эллиотт с двумя маленькими девочками. Они обе бросились на шею миссис Эдлефсен, расцеловали ее, а потом стали удивленно таращить глазенки на третью Кэтти, которая ехала с родителями. Все три были настолько похожи одна на другую, что их невозможно было различить. Миссис Эдлефсен сияла от счастья. Дети недолго косились друг на друга. Через несколько минут они уже подружились и принялись с увлечением играть в углу купе. — Напрасно вы боялись, доктор, довериться нам сразу. Вы и представить себе не можете, какую огромную радость вы мне доставили. Я теперь счастливейшая мать на земле, — сказала миссис Эдлефсен, крепко пожимая доктору руку. Мистер Эдлефсен смотрел на жену ласковым, любящим взглядом, радуясь ее счастью. — Вы гений, дорогой доктор, — сказал он с чувством. — В недалеком будущем вы будете гордостью американского народа. Я считаю великой для себя честью, что так близко знаком с вами. — Ну, бросьте, — махнул рукой доктор. — Пишите мне чаще про ваших трех Кэтти. Ведь они немножко и мои дочки. Желаю вам успеха на новом поприще. Счастливого пути! — и доктор быстро вышел из вагона. Садясь в свой шевроле, он заметил, что Джимми его окинул каким-то странным, настороженным и беспокойным взглядом. — Гора с плеч! — сказал доктор. — Едем домой, Джимми. Да, выкладывай, что там у тебя на сердце. Я вижу, что ты чемто взволнован. — Прежде чем мы поедем, можно вам задать один вопрос, сэр? — Конечно, можно, друг мой. — Ожидая вас, сэр, я случайно узнал поразительную новость. Двое шоферов такси, стоявших около меня, читали газету. Один из них обронил странную фразу. «Если бы Джо — Хромая Собака не был посажен на электрический стул, — сказал он, — то можно было бы подумать, что это его работа». Вероятно, они читали о каком-нибудь ограблении. Но скажите, сэр, разве Джо Фуллер был казнен? А если да, то, значит, казнили кого-нибудь невинного вместо него? — Успокойся, Джимми. Ты знаешь про трех девочек Эдлефсенов? — Да, знаю. — Ну так вот. Соображай сам. Джо Фуллер — Хромая Собака был выдан мною полиции в ту же ночь, когда скрылся у меня от облавы. Его судили и по заслугам наказали. Он действительно кончил свой жизненный путь на электрическом стуле. — А кто же я, сэр? — Ну, а сам-то ты кем себя чувствуешь? — Джо Фуллером, сэр. — Значит, и ты тоже Джо Фуллер… Только ты неизмеримо лучше того, первого. Ты стал новым человеком, с новым именем. Ясно? Ну, поезжай. Ничего не было ясно бедному Джимми, но он повел машину в обратный путь и всю дорогу задумчиво молчал.НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ
Доктор Маунт только что закончил обход палат и, вернувшись в свой кабинет, устало опустился в кресло. Последнее время работа валилась у него из рук. Его неотступно преследовали мысли о чудесном излечении Кэтти Эдлефсен. Он был поражен совершившимся фактом, но поверить в чудо он не мог. Как? Как этот Эллиотт умудрился воскресить убитую, вернуть ее к жизни, не оставив на ее теле ни малейших следов каких-либо операций. Неужели подмена? Чудовищно! Невозможно! Он был слишком близким другом семьи Эдлефсенов и слишком хорошо знал маленькую Кэтти до несчастного случая. Девочка, которую Эллиотт вернул родителям, была несомненно Кэтти. Тогда остается признать Эллиотта гением… Мозг Маунта трещал от напора таких мыслей. Работа в больнице ему опротивела. Вся медицинская наука, казавшаяся до сих пор великой и мудрой, превратилась вдруг для него в смешное варварское знахарство. «У меня в больнице живые умирают, и медицина бессильна помочь им, а он, Эллиотт, запросто возвращает к жизни убитую. Безумие!» — думал с горечью Маунт. Вошла сиделка. — К вам пришли, сэр. — Кто? Я никого не могу принять! — Какой-то мистер Эллиотт… — Эллиотт? Проси! Маунт взволнованно вскочил и пошел навстречу неожиданному гостю, мысли о котором столь неотступно терзали его в последнее время. На докторе Эллиотте был щегольской костюм. Вид у него был цветущий, жизнерадостный. Он удивился осунувшемуся лицу коллеги и сказал, похлопав его по плечу: — Вы что-то сильно сдали, старина. В порядке ли здоровье? Мы, врачи, занимаясь недугами других, часто забываем о своих собственных. — Заботы, дорогой коллега. Большие заботы, — вздохнул Маунт. — У всех свои заботы и у всех свои огорчения. Из-за этого не стоит впадать в уныние. — Заботы бывают разные. Я вот должен трудом зарабатывать свой хлеб. Не каждому удается получить миллионное наследство… — Не завидуйте мне, дорогой Маунт. Человек не может жить без забот, и если их нет, то он их себе придумывает. Так и я. Теперь я пришел к вам тоже вмешиваться не в свое дело. Меня очень интересует ваш пациент старик Томас Грэхем. Как его состояние? — Безнадежно, — опустил глаза Маунт. — Рак печени. Я вскрывал его, но наложил шов, ни к чему не прикоснувшись. Печень совершенно разрушена и непрерывно кровоточит. Бедняга терпит нечеловеческие муки. Больше двух дней он не протянет. — Замечательно! — воскликнул Эллиотт. — Я так и думал. Грэхем — это мой случай. Уступите мне его, дорогой коллега. — Неужели вы надеетесь?.. — опешил Маунт. — Надеюсь? Нет, милый Маунт, это мало. Я уверен, я твердо уверен, что поставлю его на ноги. Теперь я вполне убедился в своих силах. Этот старик Грэхем еще нас с вами переживет! Маунт был сражен. И вдруг его осенила мысль. Она возникла совершенно неожиданно и тарсже неожиданно он ее высказал: — Мистер Эллиотт, возьмите меня к себе в ассистенты, нет, в ученики. Я буду преданным помощником! Доктор Эллиотт не удивился. Он крепко пожал Маунту руку и сказал: — Еще не время, друг мой. Но я буду вас иметь в виду…НАСЛЕДНИК
Дело по передаче умирающего старика Грэхема доктору Эллиотту несколько осложнилось. Томас Грэхем был первым богачом в городке N. Владелец трех заводов, дюжины домов, богатейшего имения с несколькими сотнями гектаров земли, он не имел прямого потомства. Года два тому назад он разыскал где-то отдаленного родственника, обремененного многочисленным семейством, и выписал его к себе. Дэвид Хайз и его жена называли старика дядюшкой и втайне мечтали о том, чтобы этот дядюшка поскорее отправился на тот свет. Удивляться им нечего, ибо Томас Грэхем был человек крутой, капризный, своенравный, и бедные родственники жили под его тяжелой десницей, не смея слова сказать. Дэвид Хайз считал себячеловеком несколько либерального образа мыслей, а дядюшка оказался махровым расистом, тайным членом ку-клукс-кл. ана, а на своих предприятиях жестоким эксплуататором. Только упование на огромное наследство помогало Хайзу сносить свое положение. Когда доктор Эллиотт явился к Дэвиду Хайзу и заявил ему, что берется вылечить его дядюшку, тот пришел в большое замешательство. Как? Отказаться от наследства, когда оно уже стало таким близким, и дальше терпеть муки от жестокого тирана? Нет, этого бедный Хайз, конечно, не мог допустить. Ссылаясь на свое уважение и любовь к дядюшке, он сказал, что не может позволить проделывание каких-то темных экспериментов над многострадальным телом Томаса Грэхема, и наотрез отказал Эллиотту. Пришлось Эллиотту обратиться к друзьям умирающего и с их помощью припугнуть упрямого Хайза публичным скандалом. Это помогло. И вот наконец старик Грэхем с признаками близкой смерти на изможденном лице, в глубоком беспамятстве был перевезен из городской больницы в виллу доктора Эллиотта. На всю ночь заперся доктор в своей лаборатории. Утром он завтракал с Джимми смертельно усталый, но веселый и довольный. — Этот Грэхем был тяжелой задачей, Джимми. Такого испорченного организма мне еще не приходилось видеть. Но все обошлось благополучно. Скоро, Джимми, про нас заговорит вся Америка! — сказал он бодро. А Дэвид Хайз, поразмыслив на покое о положении своего дядюшки, решил, что ему все равно уже не помогут никакие доктора, и с головой погрузился в хозяйственные дела по управлению дядюшкиным состоянием, считая его уже своей собственностью.ДЯДЮШКА ВЕРНУЛСЯ
Как быстро и неожиданно меняется человек! Еще недавно Дэвида Хайза коробило, когда дядюшка Томас принимался излагать перед ним свои расистские взгляды, величая негров не иначе, как скотами. Но прошло несколько месяцев, и бывший либерал, почувствовав себя полновластным хозяином миллионного состояния, дал своему дяде сто очков вперед. Даже дядюшкины друзья, заядлые куклуксклановцы, покачивали головами, обсуждая те новые способы и ухищрения, к которым прибегал Хайз, стараясь выкачать из своих предприятий как можно больше прибыли. Рабочие, которым и при Томасе Грэхеме жилось несладко, стали подумывать о забастовке. В числе дядюшкиных заводов была небольшая прядильная фабрика. Однажды Хайз в сопровождении директора фабрики обходил ее цеха. Ему показалось, что там слишком много освещения, слишком много вентиляторов. Это почему-то сильно расстроило нового хозяина. Вернувшись в кабинет, он принялся кричать на директора, что это разорение для предприятия, что половину электроламп и вентиляторов нужно убрать. Директор стоял перед Хайзом навытяжку и испуганно повторял: — Будет сделано, сэр! Не извольте волноваться, сэр! Вдруг двери кабинета раскрылись настежь, и на пороге показался высокий худощавый старик с палкой в руках. Его умные глаза были насмешливо прищурены. Хайз и директор уставились на него с открытыми ртами. Это был сам Томас Грэхем. От доктора Эллиотта Хайз в течение нескольких месяцев не получал никаких сведений и давно перестал думать о своем дяде, как о живом человеке. Его неожиданное появление было подобно грому среди ясного неба. — Шумишь, Дэвид, шумишь? — произнес старик чистым, звучным голосом и шагнул в кабинет. — Ну, чего ты на меня смотришь, как на выходца с того света? Или язык отнялся от радости? Иди же, поздоровайся со своим дядей! Первым опомнился директор. Он кинулся к воскресшему шефу и стал подобострастно изливаться в поздравлениях по случаю чудесного выздоровления. Хайзу наконец тоже удалось прийти в себя и выдавить на лице сладчайшую улыбку. Он обнял дядю и пролепетал: — Как я рад, как я рад, милый дядюшка, что вы поправились! — Да, мой мальчик, я поправился. Этот доктор Эллиотт просто молодец. Он сказал мне, что теперь я проживу еще сорок лет. Да хоть бы и не сорок! Хватит и двадцать, чтобы хорошенько поработать. Будем работать вместе, Дэвид, а? — Будем, дядюшка, — еле выдавил из себя Хайз, вконец уничтоженный.ИСЦЕЛЕННЫЙ
После чудесного избавления от смерти у Томаса Грэхема резко изменился характер. Правда, он оставался, как и прежде, деятельным и энергичным, но его энергия теперь устремилась в совершенно ином направлении. Дэвид Хайз только глазами хлопал и в отчаянии разводил руками над новшествами, которые дядя начал вводить на своих предприятиях. Старик Грэхем понастроил для рабочих новые дома, озеленил фабричные дворы, завел бесплатную медицинскую помощь, давал рабочим крупные долгосрочные ссуды. Самое ужасное для Хайза было то, что дядя почему-то был уверен, что он, Хайз, должен непременно сочувствовать его новым начинаниям. — Я знаю, мой мальчик, что раньше ты скрывал свои мысли, — добродушно подмигивал ему дядя с видом заговорщика. — Но теперь бог просветил мой разум. Мы будем действовать заодно! С ку-клукс-кланом и прежними друзьями дядюшка порвал всякие отношения. У него появились новые знакомые, с которыми он целыми вечерами толковал о светлом будущем американского народа, и его излюбленным словом стало слово «социализм». Негров дядя полностью уравнял с белыми рабочими и проявлял в отношении к ним даже слишком большую мягкость, от которой Хайза хватали корчи и судороги. По городку поползли слухи, что старик Томас Грэхем стал «красным». Долго Дэвид Хайз молча переносил дядюшкины причуды. С тем, что заводы почти перестали давать прибыли, с тем, что дядюшка посягнул и на основной капитал, затеяв строительство новых заводских корпусов, Хайз еще мог примириться, но, когда Томас Грэхем передал свое имение сельскохозяйственным рабочим, организовав там нечто вроде артели на кооперативных началах, Хайз в ужасе забил тревогу. Дело становилось ясным: старик выжил из ума. Прежде всего Дэвид Хайз бросился к доктору Эллиотту. Тот принял его холодно и на все упреки ответил коротко и ясно: — Я не психоаналитик, а хирург, мистер Хайз. Здоровье вашего дядюшки я восстановил. На это вы пожаловаться не можете. Если же вам не нравится его душевное состояние, обратитесь к специалистам по психическим болезням. А вообще я советовал бы вам оставить его в покое. Пусть мистер Грэхем делает со своими деньгами, что ему угодно. Это ведь его бизнес, а не ваш. Хайз ушел от доктора Эллиотта в состоянии неистового бешенства. Сгоряча он пригласил консилиум психиатров и попытался объявить дядюшку умалишенным и учредить над ним опеку. Но это сорвалось. Психиатры нашли дядюшку вполне нормальным. Зато сам дядюшка, разгневанный черной неблагодарностью племянника, выгнал его из дому со всем его семейством и лишил наследства. Но Хайз не сдался даже после столь тяжелого поражения. Он написал на дядюшку донос в сенатскую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, Вскоре Томас Грэхем был арестован. Суд приговорил его к огромному штрафу — сто тысяч долларов. Старик уплатил штраф, но после этого, глубоко потрясенный, не только оставил свои прежние «причуды», но и вообще забросил все дела. Стал жить уединенно и замкнуто. А директора его предприятий, по собственному почину, отменили все его новшества, и жизнь на заводах и в имении потекла по прежнему руслу.АВТОТОМИЯ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
— Вы пригласили меня к себе по какому-то делу, мистер Эллиотт? Доктор Маунт казался внешне совершенно спокойным, но внутри он был глубоко взволнован и напряжен: неужели гениальный Эллиотт вспомнил о его просьбе и примет его к себе в ассистенты? — Да, милый Маунт, я пригласил вас по делу. По очень важному делу. Еще до того, как вы обратились ко мне со своей просьбой (помните мой визит в вашу больницу по поводу старика Грэхема?), я уже думал о том, что, если мне понадобится помощник, то лучшего, чем вы, мне не найти. Я не могу вам пока еще предложить постоянного сотрудничества. Почему? Со временем я объясню это. Но мне нужен ассистент для проведения одного очень серьезного и рискованного опыта. Согласны ли вы оказать мне помощь? — Это совершенно лишний вопрос, мистер Эллиотт. Можете мной располагать как вам угодно! — воскликнул порывисто Маунт, глядя на Эллиотта благодарным, преданным взглядом. — Спасибо, старина. Я знал, что вы не откажетесь. Условие у меня будет только одно: вы должны мне дать слово, что сохраните мой опыт в полном секрете. — Клянусь вам, что до гробовой доски от меня никто ничего не узнает! — Вот и отлично. А теперь я коротко изложу сущность своего метода. Он основан на фактах, которыми наука уже занимается более ста лет. В природе живых организмов существует замечательное явление — регенерация. В той или иной мере ее можно наблюдать у всех животных, от простейших до млекопитающих, включая человека. Вы, конечно, знаете, что некоторые животные обладают свойством автотомии — способностью мгновенно отделять или отбрасывать схваченный орган. Сюда относятся гидроидные полипы и актинии, отбрасывающие свои щупальца; немертины и кольчатые черви, отделяющие конец тела; морские лилии, звезды и афиуры, отламывающие свои лучи; галатурии, выбрасывающие при нападении врага свой кишечник и другие органы; некоторые ракообразные, отбрасывающие клешни и другие конечности; некоторые виды пауков и многоножек, отламывающих свои ножки. Среди позвоночных этим замечательным свойством обладают лишь некоторые виды ящериц, способные отделять свой хвост. Как вам известно, дорогой коллега, анатомическую и физиологическую сущность этого явления впервые изучил бельгийский ученый Фредерик. Но что же происходит с животными после автотомии? Они остаются калеками? Нет! Их организм восстанавливает утраченную часть, и они снова становятся полноценными. Это и есть регенерация. Но регенерация это не только восстановление утраченных или поврежденных органов и тканей. Она заходит гораздо дальше. У некоторых простейших она может означать даже восстановление целого организма из его части. Вы понимаете, Маунт, целого из части! Это ведь просто и черт знает как замечательно! И притом здесь нет никаких чудес. Разве считает кто-нибудь чудом, что некоторые виды простейших и отряды разноресничных и брюхоресничных, таких, как стентор, дилептус и другие, обладают способностью регенерации всего своего тела из одной семидесятой части его объема. А кишечнополостные, например гидра? Она способна восстановить свой организм из одной двухсотой части своего тела! Еще дальше заходят ресничные черви планарии. У них регенерация возможна из одной трехсотой части тела. Это фантастично, но это факт! Но как же обстоит дело с регенерацией у более сложных организмов? Вейсман в свое время утверждал, что способность к регенерации у более сложных организмов понижается по мере их развития и приспособления к жизни. Но это утверждение в корне неверно. Советскими учеными доказано, что и организм человека обладает способностью к регенерации… — Но позвольте, мистер Эллиотт, вы, надеюсь, не намерены утверждать, что человека можно восстановить из одной двухсотой части его тела?! — вскричал Маунт. — Не только намерен утверждать, но я уже доказал это, спокойно возразил доктор Эллиотт. — Каким же иным путем, если не при помощи регенерации, я смог бы вернуть жизнь маленькой Кэтти Эдлефсен? Что, кроме регенерации, помогло бы мне поставить на ноги старика Грэхема, приговоренного вами, дорогой Маунт, к смерти? Весь вопрос регенерации целого из части у высших животных, в том числе и у человека, сводится лишь к тому, как сохранить и вызвать размножение клеток этой части, чтобы из нее восстановилось целое. Высшие животные гибнут, если у них удалить любой из жизненных органов. Но, если эту гибель предотвратить, регенерация станет возможной, даже из одной тысячной части тела! — Но разве можно сохранить жизнь, например, в ампутированной руке?! — Нормально нет. Но, если создать специальную среду, в которой клетки ткани могли бы жить и размножаться, тогда можно. — И вы, мистер Эллиотт… — голос Маунта прервался от волнения. Он не договорил своего вопроса. Доктор Эллиотт слегка улыбнулся. — Да, друг мой. Я изобрел состав, в котором клетки ткани не только могут жить и размножаться, но который одновременно ускоряет процесс регенерации ровно в десять раз. Этот состав я назвал «регенерин». Я проделал с ним множество опытов, начиная от хвоста ящерицы, из которого я вырастил целую ящерицу, и кончая стариком Грэхемом, которого я восстановил из его левой ноги. Правая у него была сильно поражена ревматизмом. Теперь я решил проделать опыт на самом себе. Меня интересуют у восстановленных индивидов некоторые явления чисто психического порядка. На ком же я могу лучше всего проверить свои гипотезы? Конечно, на самом себе. Я решил, по примеру простейших, заняться автотомией. Для этого я вас и вызвал. Вы, Маунт, хороший хирург, и вам я не побоюсь доверить ампутацию своей ноги. — Я должен буду ампутировать у вас совершенно здоровую ногу? — ужаснулся Маунт. — Да, мой друг. Что ж тут ужасного? Из этой ноги я в три месяца сделаю второго доктора Эллиотта, который потом в две недели восстановит мою ногу. Вот почему я хотел, чтобы вы сохранили мой эксперимент в тайне. — Но, мистер Эллиотт, ведь это, это… — Вы хотите сказать, что это будет бесполое, вегетативное размножение путем деления? Да, это так. Но отбросьте предрассудки, Маунт. Смотрите вперед, в будущее. Мой метод открывает перед человечеством неслыханные перспективы! — Хорошо, мистер Эллиотт. Я сделаю все, что вы прикажете. Я надеюсь, что это не будет преступлением? — сказал Маунт, сильно побледнев. — Нет, друг мой, это будет подвиг!НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В лаборатории доктора Эллиотта находились трое. Сам Чарлз Эллиотт, доктор Маунт и Джимми. Двое последних были в белых халатах. На электрической плитке кипятились инструменты. Возле операционного стола стоял большой стеклянный сосуд с золотистой жидкостью. — Ну что ж, приступим, — сказал Эллиотт и начал раздеваться. Уже лежа на операционном столе и держа в руках маску для наркоза, он сказал, обращаясь к Маунту и Джимми: — Итак, друзья, я ожидаю от вас самых точных и быстрых выполнений всех моих инструкций. Не забудьте сразу после операции перенести меня вниз, чтобы, проснувшись, я мог убедиться, что все приборы работают исправно, или дать вам указание, как их отрегулировать. Для меня слишком важен успех этого эксперимента. Приступайте! — И Эллиотт решительно прикрыл свое лицо маской… Доктор Маунт был первоклассный хирург. Забыв о необычайности операции и перестав волноваться, он приступил к выполнению своих обязанностей. Джимми, заранее натренированный, четко выполнял роль хирургической сестры. Ногу отнимали в колене. Лишь только она окончательно отделилась от тела Эллиотта, ее в ту же секунду погрузили в сосуд с золотистой жидкостью. Схватив сосуд, Джимми поспешно унес его через люк в подземелье. Когда он вернулся, доктор Маунт уже успел наложить последний шов на культю. Быстро и аккуратно забинтовав ее, он сказал: — Готово, мистер Пратт. Можно нести вниз. — Если позволите, доктор, я отнесу шефа сам. По лестнице неудобно будет идти вдвоем. — А вы не уроните его? — Что вы! Я отнесу его как младенца! — улыбнулся великан. — Ну, тогда несите. А я пойду вперед и помогу уложить его. Джимми осторожно взял на руки искалеченное тело своего благодетеля и шагнул с ним в люк, в котором уже скрылся доктор Маунт. Эллиотта уложили на заранее приготовленную постель около огромного металлического резервуара с множеством различных измерительных приборов. Изнутри резервуара, плотно закрытого, раздавался низкий, ровный гул. Стрелки измерительных приборов дрожали. В стороне стоял еще не убранный стеклянный сосуд с остатками золотистой жидкости на дне. Маунт осторожно коснулся кисти спящего. Пульс был нормальный. — Пока все идет как нельзя лучше, — сказал он облегченно и опустился в кресло возле постели. Джимми взял стеклянный сосуд и ушел наверх. Через два часа доктор Эллиотт пришел в себя. Голова кружилась от наркоза, в культе левой ноги чувствовалась тупая, ноющая боль. Поборов слабость, доктор Эллиотт слегка приподнялся на локтях и устремил свой взгляд на приборы. Их показатели. видимо, успокоили его. — Все в порядке, — прошептал он и, упав на подушку, снова закрыл глаза. — Как ваше самочувствие, сэр? — спросил Маунт. — Нормально, — не поднимая век, ответил Эллиотт. — А как прошла операция? — Блестяще! — Спасибо, дружище. Я теперь усну, а вы последите за приборами. Стрелки не должны перемещаться. В случае чего — немедленно будите меня. — Спите спокойно, сэр. Я все сделаю как нужно. Эллиотт затих и вскоре погрузился в сон. А резервуар все гудел и гудел, и где-то внутри него уже начался чудесный процесс регенерации, в результате которого должен явиться на свет новый Чарлз Эллиотт. «Каким он будет, этот новый человек? Как он отнесется к тому, что его так самовольно вызвали из небытия? Каково будет его сознание?» — такие и подобные вопросы теснились бесконечной вереницей в голове Маунта.ОДИН В ДВУХ ЛИЦАХ
— Нет, мы с тобой действительно гении, Чарли! Кто посмеет это оспаривать? — весело расхохотался новый доктор Эллиотт, обращаясь к своему оригиналу. Прошло всего лишь два часа с тех пор, как он был вынут из резервуара и приведен в чувство при помощи кислорода, введенного ему в легкие, и вот он уже разгуливает по лаборатории как ни в чем не бывало. Одноногий оригинал, опирающийся на костыль, смотрел на своего двойника, сияя от счастья. — Тебя нужно еще подвергнуть тщательному осмотру, Чарли, — ласково сказал Эллиотт Первый. — Ложись на стол, а мы с Маунтом тебя простукаем и прослушаем. — Правильно, друзья, — согласился Эллиотт Второй и лег на операционный стол. — Хотя, уверяю вас, что это излишне. Я чувствую себя превосходно. Гораздо лучше, чем до ампутации ноги. Маунт вздрогнул и посмотрел на своего одноногого патрона, потом на его совершенно здорового двойника, у которого обе ноги были целы. «Общее сознание! — мелькнуло у него в голове. — Интересно!» После осмотра Эллиотт Второй оделся, а Эллиотт Первый обратился к Маунту и Джимми: — Оставьте нас, друзья, наедине. Нам необходимо поговорить. Маунт и Джимми вышли. — Прежде всего о сознании, Чарли, — сказал Эллиотт Первый, горя от нетерпения. — Расскажи, что ты помнишь. — Я помню, — сказал Эллиотт Второй, — что я решил на самом себе проделать опыт регенерации и пригласил для этого доктора Маунта, который ампутировал мне ногу. Последним проблеском моего сознания был счет. Я начал считать до ста, но уже на тридцати погрузился во мрак. И вдруг я снова открыл глаза и увидел себя на этом столе. В первое мгновение, взглянув на свои ноги и увидев их целыми, я подумал, что Маунт побоялся делать операцию, и хотел его за это пробрать. Но, увидев тебя на костыле, я мигом сообразил, в чем тут дело, и понял, что я новый Чарлз Эллиотт. — Превосходно! — сказал Эллиотт Первый. — Значит, вплоть до операции наше сознание остается общим. После того как ты пришел в себя, оно раздвоилось, стало жить полной мерой в двух индивидах. — И, пока мы будем жить в одинаковых условиях, — подхватил Эллиотт Второй, — оно будет продолжать оставаться почти тождественным. — Правильно. А теперь скажи, что ты думаешь о своем или, собственно говоря, о моем прошлом. Ведь хотя ты и новый, совершенно самостоятельный человек, но прошлым должен довольствоваться тем, которое унаследовал от меня. Хотелось бы знать твой взгляд на некоторые моменты из моего прошлого. Эллиотт Второй задумался. — Я знаю, о чем тебе хочется узнать, Чарли, — заговорил он наконец. — Ведь перед операцией меня больше всего интересовал именно этот вопрос: как мой двойник отнесется к моему прошлому, вернее к одному определенному эпизоду из моего прошлого. Теперь я сам оказался этим двойником, и тебе хочется узнать, как я, двойник, смотрю на дело о твоем наследстве. Не сердись, Чарли, но мне стыдно вспоминать об этом. Ведь в нашем общем прошлом это единственное темное пятно, которое меня невероятно удручает. Эллиотт Первый вздрогнул и нахмурился. — У меня не было иного выхода, Чарли, — сказал он. — Я был беден, а мне необходимы были средства для научной работы по регенерации. Мне нужна была большая лаборатория, тысячи экспериментальных животных. Кроме того, мне необходима была полная материальная независимость. Да, я совершил подлог. Да, я овладел пятью миллионами долларов, которые по праву принадлежали моему двоюродному братцу Вену, этому пустому, самовлюбленному дураку. Да, я совершил преступление. Не лишь благодаря этому преступлению я смог совершить свое великое открытие, создать регенерин, спасти Джо Фуллера, Кэтти Эдлефсен, старика Грэхема и, наконец, вызвать к жизни тебя, мой милый, честный двойник. Я знал, что ты будешь именно таким. Я знал, что ты осудишь меня за то, что я так цепко держусь за свои миллионы, что я живу волком среди волков, что совесть моя гибка, что я стараюсь быть «настоящим американцем». А впрочем, зачем я все это говорю? Ведь ты и так все знаешь. Скажи мне лучше, что ты думаешь о моих планах на будущее? — Я не согласен с этими планами, Чарли. — Почему? — озадаченно спросил Эллиотт Первый. — Вероятно потому, что я не чувствую себя таким «настоящим американцем», как ты. Я не одобряю твоих планов. У меня есть новая идея. Впрочем, эта идея тоже твоя, ибо она возникла еще до операции. Она лишь мельком блеснула в твоем мозгу, когда ты размышлял о поведении исцеленного старика Грэхема. В моем же мозгу она теперь всплыла с новой ясностью и силой. Наш регенерин мы применим иначе, чем ты задумал. К черту богатство, власть и славу! Это мелко и не к лицу настоящему ученому. Мы будем исходить из опытов с Джо Фуллером, Грэхемом и наконец со мной. Регенерин станет в наших руках великим оружием, которым мы будем бороться за оздоровление американской общественной жизни! Эллиотт Первый смотрел на своего двойника с изумлением и интересом. Так вот он каков, Эллиотт, избавленный от наследственности, предрассудков, страстей и пороков! — Хорошо, Чарли, — сказал наконец Эллиотт Первый. — Поговорим обо всем, после того как ты восстановишь мою ногу. Я знал, что ты будешь лучше меня, и я заранее согласен со всем, что ты предложишь, ибо в тебя перешло мое сознание в чистейшем, профильтрованном виде. А пока пойдем обедать. — Конечно, мы сговоримся, — засмеялся Эллиотт Второй. Ну, идем. Я поддержу тебя. Ведь пока у нас только три ноги. Он нежно обнял Эллиотта Первого и повел его в столовую.БОРЬБА НАЧАЛАСЬ
Регенерацию ноги Эллиотта Первого проделал Эллиотт Второй с блестящим успехом. После этого двойники почти ничем не отличались друг от друга. Они умышленно носили одинаковую одежду, чтобы Джимми окончательно перестал их различать. Но в этом они не добились успеха: Джимми всегда безошибочно узнавал, кто перед ним стоит — старый хозяин или его двойник. — Как ты это узнаешь? — удивлялся Эллиотт Первый. — У вас иное выражение глаз, сэр, чем у мистера Эллиотта Второго, и, не сердитесь, но я бы сказал, что и немного более резкий голос, — разъяснил Джимми смущенно. Доктор Маунт, богато вознагражденный за участие в эксперименте, был отпущен в N. Уходя, он печально размышлял о том, что теперь-то уж двум Эллиоттам и подавно не понадобится ассистент. Двойники долго ничего не предпринимали и не искали новых пациентов. Они каждый вечер запирались в своем кабинете и до глубокой ночи о чем-то горячо спорили. Так проходила неделя за неделей. Но вот они пришли наконец к какому-то соглашению. Однажды Джимми был вызван в кабинет. — Слушай, друг мой, — сказал ему один из Эллиоттов. — Мы намерены отправиться в далекое путешествие, сопряженное с некоторыми опасностями. Ты хочешь сопровождать нас? — Хоть на край света, сэр! — Прекрасно. Послезавтра мы выезжаем. Приготовь все необходимое. Мы пробудем в отлучке более двух месяцев. …Через неделю все трое были на борту парохода, который плыл через океан в Бомбей. Некоторое время спустя Эллиотт Первый вернулся на родину в сопровождении своего верного Джимми. Американские власти так и не узнали, что их страну покинул один из величайших ученых Нового Света. Водворившись в своей вилле, доктор Эллиотт развил лихорадочную деятельность. В короткий срок в парке возле виллы было воздвигнуто большое просторное здание. На воротах появилась мраморная доска с золотыми буквами: «Экспериментальная лечебница доктора Чарлза Эллиотта». Был нанят немногочисленный персонал. К великой радости Маунта, Эллиотт вновь пригласил его к себе, теперь уже на постоянную работу. Вскоре появились и первые пациенты. В эти дни из Америки в один из маленьких городов Южной Бенгалии поступила следующая депеша: «Индия, Бхатур, директору института регенерации. Борьба началась. Чарли».ЗЕНИТ И ЗАКАТ
Прошло два года. Слава о чудесном враче разнеслась по всем Соединенным Штатам Америки. К доктору Эллиотту хлынула лавина корреспонденции. Светила медицинской науки набивались к нему в ученики. Десятки тысяч больных умоляли его оказать им помощь. Но доктор Эллиотт упрямо отказывался от учеников, а больных принимал с большим разбором. Он соглашался лечить только пациентов абсолютно безнадежных, да и то лишь занимавших видное общественное положение. Причем прогрессивные деятели напрасно домогались у него приема. Доктор Эллиотт брался лечить только завзятых собственников, расистов, милитаристов и прочих поборников «американского образа жизни». Постепенно в известных кругах его стали считать своим человеком и называли его не иначе, как «наш гениальный Чарли». Правда, все пациенты доктора Эллиотта, стоявшие на краю могилы и физически полностью им исцеленные, «заболевали» одной и той же странной «психической болезнью»: они становились «почти красными». Но это была небольшая тень на сверкающей славе модного врача избранных, и говорить о ней считалось в салонах дурным тоном. Но вот произошло несколько случаев, которые заставили многих призадуматься. Первым был случай с сенатором В. К. (штат М.), который после излечения у доктора Эллиотта разразился в сенате такой громоподобной речью о необходимости полного разоружения, что вызвал страшный переполох и должен был быть немедленно арестован. Дело с трудом замяли. Второй случай произошел с человеком, близким самому президенту. Он умирал от какого-то нарыва на мозгу. Доктор Эллиотт его вылечил. Исцеленный вернулся к своей прежней работе, имел с президентом крупный разговор об иностранной политике Соединенных Штатов и в результате этого разговора был в ту же ночь заключен в психиатрическую больницу и не выпущен оттуда, несмотря на заключение виднейших экспертов о том, что человек этот абсолютно здоров. Дело это тоже не было предано гласности. Зато третий случай нашумел на всю Америку. Известный мультимиллиардер. глава гигантского концерна Джеймс Миллнкен умирал от рака легких. Доктор Эллиотт взялся его лечить и в три месяца поставил на ноги. Милликен вернулся в Нью-Йорк, пыша здоровьем и бодростью. Первым его делом было собрать директоров своих семи печатных органов и передать им для немедленного опубликования собственное заявление. Директора прочитали заявление босса, в ужасе переглянулись, но перечить не посмели. На другой день семь крупных американских газет опубликовали на первой странице заявление Джеймса Милликена. В нем миллиардер подверг жесточайшей критике политику крупнейших монополий и банков, разгласил несколько скандальных секретов из области военных поставок, рассказал о взяточничестве видных государственных чиновников. Джеймс Милликен тоже был объявлен сумасшедшим. Но когда его бросились искать, то обнаружили, что он улетел на собственном самолете в неизвестном направлении, захватив из своего личного сейфа всю секретную переписку с Пентагоном. Скандал достиг международных масштабов. Родственники и друзья Джеймса Милликена возбудили против доктора Эллиотта судебный процесс.СТОЯТЬ ДО КОНЦА
Когда доктор Эллиотт узнал от своего юрисконсульта в Нью-Йорке, что могущественное семейство Милликенов подняло против него дело, подав жалобу непосредственно в Верховный федеральный суд, он вызвал к себе в кабинет Джимми Пратта и сказал ему: — Пришло время нам с тобой расстаться, Джимми. Моя борьба вступила в такую фазу, когда и для нормального человека опасно близкое знакомство со мной. А ведь ты, как-никак, бывший уголовный преступник. Американские власти не посмотрят на то, что Джо Фуллер — Хромая Собака был уже однажды посажен на электрический стул, и посадят тебя снова. — Но разве они могут обо мне узнать, сэр? — произнес вконец растерявшийся Джимми. — Борьба поведется в открытую. Ты мой большой козырь, которым я непременно воспользуюсь. Но я не могу при этом рисковать твоей жизнью. — Куда я должен буду уехать, сэр? — В Бхатур, ко мне. Разве ты забыл, что я живу теперь в двух персонах? — Нет, сэр, — сказал Джимми, подумав. — Я остаюсь с вами, что бы ни случилось. Куда вы, туда и я. — Не упрямься, мой большой бородатый мальчик. В Бхатуре тебя примет такой же Чарлз Эллиотт, как и я. Даже еще лучше меня… — Я не хочу лучшего. Я вполне вами доволен, сэр. — Он так же привязан к тебе и любит тебя, как и я. Он никогда не простит мне, если с тобой что-нибудь случится. Но уговорить Джимми оказалось не такто просто. Долго убеждал его доктор Эллиотт, но бородатый великан никак не соглашался. Наконец Эллиотт заявил ему, что своим присутствием он будет напрасно связывать его и помешает всему делу. Это подействовало. Джимми опустил голову и дал согласие уехать. В лечебнице в это время не было ни одного пациента. Воспользовавшись этим, Эллиотт распустил персонал и закрыл лечебницу. Маунта он снабдил огромными деньгами и посоветовал скрыться в Европу. Маунт так и поступил. В Нью-Йорк доктор Эллиотт и Джимми ехали вместе. Потом они простились. Джимми поплыл за океан к двойнику своего хозяина, а Чарлз Эллиотт снял номер в комфортабельной гостинице и немедленно вызвал к себе своего юрисконсульта. Дело оказалось серьезнее, чем можно было ожидать. Милликены шутить не любили. Их миллиарды имели слишком огромный вес в государстве. — Пока не поздно, я советую вам скрыться, — сказал юрисконсульт в заключение своего доклада. — Иначе можно ожидать самого худшего. — Я готов ко всему. А скрываться не входит в мои планы, твердо ответил доктор Эллиотт. Через несколько дней Милликены, употребив свои связи и деньги, добились ареста Чарлза Эллиотта. В его лечебнице и вилле был произведен тщательный обыск. Но там не нашли ничего, кроме нескольких пустых, опрокинутых резервуаров, значение которых осталось для полиции навсегда тайной.ПЕРЕД ЛИЦОМ ПРАВОСУДИЯ
Суд над доктором Эллиоттом был открытый, гласный, при огромном стечении публики и корреспондентов. Все бывшие пациенты гениального врача, которые не сидели в сумасшедшем доме или в тюрьме, все друзья его, сторонники и приверженцы явились на суд. Приехал Эдлефсен с женой, приехал старик Грэхем, приехали многие другие. Зал суда был набит до отказа. Доктор Эллиотт держал себя непринужденно и весело. От защитника он отказался, заявив, что будет защищаться сам. После всех формальностей председатель суда задал Эллиотту первый вопрос: — Подсудимый, объясните суду, в чем заключается метод вашего лечения. — Мой метод очень прост и в нем нет ничего сверхъестественного, — заговорил доктор Эллиотт спокойно. — Называется он регенеративным, или же восстановительным. Я начал свои опыты на основе широко известных фактов регенерации организмов в животном мире. После ряда неудач мне удалось наконец найти правильное решение задачи, как вызвать процесс регенерации целого из части у высших животных. Первый опыт с человеком я хотел проделать на себе, но тут случай предоставил мне возможность ампутировать у одного раненого руку. Из этой руки я создал нового человека. Я уже перед этим смутно догадывался, что обновление клеток должно положительно отразиться на душевных качествах нового индивида, но действительный результат превзошел все мои ожидания. Нужно заметить, что человек, которому я ампутировал руку, был крайне отрицательным, вредным для общества типом… — Кто был этот человек? — спросил прокурор. — Это ничего вам не даст, сэр, — ответил Эллиотт. — Подсудимый, отвечайте на вопрос! — Хорошо, джентльмены. Если вы так настаиваете, я сообщу вам имя этого человека. Это был известный грабитель и убийца Джо Фуллер, по прозвищу Хромая Собака. Если здесь присутствует полицейский инспектор Браун, то он может подтвердить, что ампутированную руку преступника я Оставил у себя с его ведома и согласия. Джо Фуллера, которого я после операции передал в руки правосудия, казнили около трех лет тому назад. А новый Джо Фуллер, созданный мною из ампутированной руки, здравствует и по сей день под именем Джимми Пратт. Но это действительно новый человек. Полностью сохранив индивидуальность, знания и опыт грабителя, он стал психически совершенно здоровым и нормальным человеком, то есть человеком, неспособным к преступлению. Я был просто поражен его душевным перевоплощением, и уже тогда у меня возникла мысль… — Погодите, подсудимый. Значит, вы признаетесь в том, что при помощи своего лечебного метода помогли гангстеру Джо Фуллеру избежать наказания и укрывали его? — Ни в чем таком я не признавался. Повторяю, что гангстер Джо Фуллер полностью понес кару за свои преступления. Он был казнен на электрическом стуле. — А другой Джо Фуллер, где он находится? — Далеко, сэр. — Говорите точнее! — Хорошо. Джо Фуллер, он же Хромая Собака, он же Джимми Пратт, находится в настоящее время в нейтральной Индии, куда он скрылся по моему настоянию. По залу пронесся шум. Судьи начали между собой шептаться. Наконец председатель позвонил в колокольчик и заявил, что ввиду необходимости совещания с экспертами суд объявляет перерыв и удаляется. Судебный процесс доктора Чарлза Эллиотта длился двенадцать дней. Невозможно передать всего, что происходило при каждом отдельном заседании. Рассматривались все случаи исцеления безнадежных пациентов. Эллиотт должен был подробно излагать, какую часть тела он использовал в каждом отдельном случае для восстановления всего организма. На вопрос председателя, что же потом происходило с основным пациентом, Эллиотт ответил: — Как известно, джентльмены, я оказывал помощь только людям, находившимся при смерти. Естественно, что основной организм должен был умереть. Это происходило обычно во время операции, а иногда и до нее. — Куда же вы, подсудимый, девали тела усопших? — Это не были тела усопших, сэр. В медицинской практике не принято называть пораженный орган, отделенный от здоровой части организма путем операции, телом усопшего. Этак и вырезанную слепую кишку пришлось бы возвести в ранг покойника. Мой метод ничем не отличается от нормальной медицинской практики. Я отделял здоровую часть организма от больной. Пусть эта здоровая часть бывала малой, но из нее я восстанавливал весь организм в совершеннейшем виде. — Вы уклоняетесь от вопроса, подсудимый. Нас не интересуют ваши личные взгляды. Отвечайте на вопрос: как вы поступали с телами усопших? — То, что вы изволите называть телами усопших, сэр, мой служащий Джимми Пратт просто закапывал в моем парке. — А разве вам как врачу не известно, что умерших следует выдавать родственникам для должного погребения? — Вот этого я не учел, сэр. Но я не знаю, как бы вы лично отнеслись ко мне, если бы я любезно предоставил вам возможность присутствовать на собственных похоронах, лобзать самого себя в мертвые губы последним лобзанием, держать речь над собственной могилой. Возможно, что среди людей и нашлись бы любители подобных острых ощущений, но для нормального человека, каким я считаю и вас, они означали бы прямой путь в сумасшедший дом. По залу пронеслась волна смеха. Председателю пришлось долго звонить в колокольчик.ПРИГОВОР
Изо дня в день атмосфера в зале суда все более накалялась. Уже несколько раз зал приходилось очищать при помощи полиции. Общественное мнение стало совершенно открыто склоняться на сторону доктора Эллиотта. Этому немало способствовали выступления его недавних пациентов, призванных в качестве свидетелей. Но после сокрушительной речи бывшего сенатора В. К., в которой он больше обращался к американскому народу, призывая его встать на защиту гениального доктора Эллиотта, чем к суду, опрос свидетелей был прекращен. Бурные овации вызвала телеграмма Джеймса Милликена, зачитанная кем-то из публики во время перерыва. Бывший миллиа. рдер призывал в ней своего спасителя до конца бороться за правое дело и желал ему в этой борьбе полной победы. «Весь мир следит за вашим процессом, — говорилось между прочим в телеграмме. — Человечество не допустит, чтобы продажное правосудие совершило новое неслыханное злодеяние и расправилось над еще одним великим сыном Америки!» На девятый день возникла угроза, что процесс доктора Эллиотта превратится в мощную политическую демонстрацию. В дело вмешался Белый дом. Суду было секретно рекомендовано ускорить разбирательство. Конец процесса был скомкан. На одиннадцатый день выступил с речью прокурор. Он говорил семь часов без передышки и обвинил Эллиотта во всех мыслимых и немыслимых грехах. В его речи были, например, такие пассажи: — Только подлецы или безумцы могут порицать американский образ жизни. Нам трудно заподозрить в подлости столь уважаемых лиц, как несчастные пациенты Чарлза Эллиотта. Значит, они были поражены безумием. Наши эксперты подтвердили, что регенерация человека должна привести к нарушению нервной системы и искажению сознания. Разве не безумной оказалась столь светлая личность, как Джеймс Милликен? То, что проделывал Эллиотт, является осквернением памяти лучших представителей Америки! К чему вел метод Эллиотта? К бесполому размножению по образцу простейших организмов. Это не достойно человека, не достойно американца! Наши эксперты доказали, что метод Эллиотта вызвал бы в конце концов полное моральное вырождение нации! Вот на какую великую святыню хотел посягнуть этот гнусный изверг!.. На двенадцатый день суд должен был заслушать последнее слово подсудимого и вынести приговор. Речь доктора Эллиотта, длившаяся около четырех часов, неоднократно прерывалась бурными аплодисментами публики. — Регенерация обновляет весь организм человека, всю его сложную нервную систему, — говорил Эллиотт. — Человек становится абсолютно здоровым в психическом и физическом отношении. Разве моя вина, что эти исцеленные люди превращались вдруг в честных людей и резко критиковали американскую действительность? Это говорит только о том, что абсолютно нормальный человек не может примириться с уродливыми явлениями нашего образа жизни, что он должен против них протестовать! Вслед за всеми своими бывшими пациентами я заявляю: так дальше жить нельзя! Я рассчитывал только на себя, начал борьбу за оздоровление людей, стоящих на самых видных местах нашей государственной и экономической жизни. Но я переоценил свои силы. Я понял это уже два года тому назад, когда первый мой исцеленный пациент Томас Грэхем из N. подвергся жестоким гонениям со стороны Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Уже тогда я предвидел свою схватку с властями и подготовился к ней. Я сам себя подверг автотомии и регенерации по собственному методу. С помощью одного своего друга-хирурга я ампутировал себе ногу, из которой создал своего двойника, нового Чарлза Эллиотта, чтобы он мог продолжать мой труд, если я окажусь в своей борьбе побежденным. Теперь я вижу, как своевременно это было сделано. Верховный федеральный суд может выносить мне любой приговор. Я не боюсь его! Доктора Чарлза Эллиотта ему не уничтожить! Вместе с Джо Фуллером, которого американское правосудие с удовольствием бы вторично посадило на электрический стул, Чарлз Эллиотт находится сейчас в Дели на Международном конгрессе хирургов, где доложит крупнейшим ученым мира о своем методе. Последние слова подсудимого утонули в громе рукоплесканий. Суд поспешно удалился на совещание. Хотя приговор был уже заранее заготовлен, теперь его оказалось не так-то просто утвердить. Последнее заявление Эллиотта поставило членов суда в тупик: имеет ли смысл казнить человека, который все равно останется жить и продолжать свою деятельность? Не выставит ли себя этим суд посмешищем для всего мира? Мнения судей расходились. После долгих, ожесточенных препирательств председатель наконец решил запросить самого президента, указав на новое, непредвиденное обстоятельство. Ответ президента не заставил себя ждать.НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО
— Видишь, Джимми. Ты тогда говорил, что они не посмеют. Разве первый раз мировое общественное мнение протестовало против приговора американского суда? Нет. А суд всегда поступал по-своему. Несмотря ни на что, ровно год назад они казнили меня. Как это странно звучит: казнили меня! Я даже не знаю, как отнестись к этому факту. Где-то в Америке меня посадили на электрический стул, в то время как я живу и работаю на другом полушарии. Доктор Чарлз Эллиотт и Джимми Пратт сидели в просторном директорском кабинете Бенгальского института регенерации имени Чарлза Эллиотта. — Не печальтесь, сэр, — мягко сказал русобородый великан. — У нас теперь с вами одинаковое положение. — Верно, мой друг, — грустно улыбнулся Эллиотт. — Оба мы с тобой сироты. — Ну уж и сироты. Скажете тоже! Не сироты, а бессмертные люди, сэр. Нас ведь теперь ни в какую нельзя умертвить! — Правильно, Джимми! Нас нельзя умертвить. Только теперь для нас начнется настоящая работа. Ведь всего три года прошло с тех пор, как я покинул родину и поселился вИндии, а смотри, какой институт уже здесь вырос. А в России? В Советской России тоже будут запроектированы такие институты во всех крупных городах… Сколько уже сделано в такой короткий срок! Сколько человеческих жизней спасено… — Да, свой хлеб мы едим не даром, сэр. — А впереди, Джимми, еще больше работы. Какое необъятное поле деятельности открывается перед нами! Нет таких болезней, которых бы мы не одолели методом регенерации. — Ведь и преступников можно было бы лечить таким образом, сэр, — смущенно сказал Джимми. — Дойдет и до этого, друг мой… У меня захватывает дух, когда я подумаю, какие великие возможности открывает перед человечеством регенерация! Доктор Эллиотт достал бутылку виски и две маленькие рюмки. — Давай, Джимми, выпьем за регенерин, за бессмертие человека, за американский народ, которому еще долго предстоит бороться за свое счастье, за всех честных людей на земле. Прага, ноябрь 1959 г.А. Поляков ЭТО БЫЛО НА ПАМИРЕ

Тысяча девятьсот тридцатый год… До глубин Памира в то время добирались месяцами, а самым удобным средством передвижения считался верблюд. Сейчас, когда машины пересекают Памир за сутки — от города Ош до областного центра Хорог, — трудно представить себе, каким было все в 1930 году. Теперь на Памире — школы, больницы, техникумы, колхозы-миллионеры. В горах ведутся разработки ценных минералов, в кишлаках горит электрический свет, городские улицы покрыты асфальтом. Все это далось нелегко, и горы Памира видели не только труд многих советских людей, но и кровопролитные схватки с врагом. Никогда не забыть мне трагедии, разыгравшейся у перевала Терс-Агар, до сих пор перед глазами страшное, в кровоподтеках лицо выходца с того света — геолога Николая Георгиевича Сумина, единственного уцелевшего участника одной из первых экспедиций на Памир, единственного из всех захваченных там басмачами. Конечно, если бы не парторг наших тогдашних экспедиций на Памир Алексей Иванович Кавалеров, передавший мне пожелтевшие страницы с заметками ныне уже покойного Сумина, я бы не смог полностью восстановить в памяти события тех дней. Все, о чем ниже рассказывается, произошло в действительности. В своем рассказе я сохранил подлинные фамилии и имена действующих лиц.
КАК Я ПОПАЛ В ЭКСПЕДИЦИЮ
Мне было девятнадцать лет, когда в 1929 году я впервые из родной Москвы попал на Памир. И, возвратившись из путешествия, «заболел» им на всю жизнь… Я уже не мог представить себе, как можно думать о чем-нибудь другом, кроме как о диких горных реках, о гигантских, покрытых вечным снегом горных хребтах, о сползающих из мощных ущелий ледниках — этих застывших и как будто неподвижных ледяных реках; но воткни в ледник палку, и за год она у тебя «уплывет» далеко по течению. Ледник-то все-таки течет! А еще выше — выше бурлящих рек, самых высоких ледников, под самым-самым небом — я. Вот я карабкаюсь на совершенно отвесные, раздетые ветрами донага скалы, прилипаю к ним, как муха, и, когда отдышусь, снова ползу вверх! Прокладываю дорогу геологам, которые ищут ценные ископаемые. И они открывают месторождения угля, золота, платины, алмазов — всего, что нужно родине. Да, я мечтал. Днем и ночью, во сне и наяву. Последними словами ругались извозчики, едва не наезжая на меня оглоблями (в Москве еще было полно извозчиков), меня проклинали вожатые трамваев — я не слышал, когда они звонили чуть ли не в самое ухо. Я мечтал. Кто хоть раз побывает на Памире, уже не в силах забыть эту страну. Впрочем, кроме мечтаний, я, конечно, и учился. Однажды, в начале апреля, в понедельник (когда нам дорого какое-нибудь воспоминание, мы запоминаем мельчайшие подробности), меня позвали к телефону. — Алло! Товарищ Поляков? Арик? Здравствуйте. С вами говорит Горбунов Николай Петрович. Я назначен начальником памирской экспедиции. Не хотели ли бы вы вместе со Стахом Ганецким опять отправиться на Памир? Экспедиции нужны альпинисты. Наверное, нужно было что-то ответить. Хотя бы поздороваться. Но я молчал. Вот так и сбываются мечты: стоишь столбом и собой не владеешь. — Алло! Товарищ Поляков, вы меня слышите? Кое-как удалось выдавить: — Слы-ы-шу… Каким деревянным голосом я это произнес! И что должен был подумать обо мне Горбунов! — Слышу, товарищ Горбунов… А Стаху вы уже тоже звонили? Стах был моим самым большим другом. В прошлом году мы с ним были на Памире тоже вместе. Какое счастье выпадает на нашу долю! Сам Горбунов приглашает нас в экспедицию! И какой у него голос хороший — спокойный, мягкий. Теперь о Николае Петровиче Горбунове, наверное, мало кто помнит, а тогда его имя было широко известно. Во-первых, оно всякий раз появлялось под декретами и постановлениями советского правительства: «Управляющий делами Совета Народных Комиссаров — Н.Горбунов». Подпись эта с 1920 года появлялась на правительственных документах вслед за подписью Владимира Ильича Ленина. А во-вторых, Горбунов был страстным альпинистом. Еще в 1928 году он возглавлял советскую группу участников большой советско-германской памирской экспедиции, положившей начало глубокому комплексному изучению Памира. И он — Горбунов! — оказывается, знает о нас: и о Стахе и обо мне. И сам приглашает нас! До чего же это здорово! Невероятно! — Вы не возражаете, что я вас называю просто Арик? — Что вы!.. — Так вот, Арик, Ганецкому я пока не звонил. Вы позвоните ему от моего имени сами. Это вас не затруднит? — Конечно, нет! — Ну, и отлично. А придете ко мне — вдвоем — в ближайшую пятницу в восемь часов вечера. — В Совнарком? — Нет, — и голос его зазвучал еще мягче, словно он улыбнулся, — в Совнаркоме меня могут отвлечь, а я с вами должен познакомиться обстоятельней. Верно? Приходите лучше домой. Запишите адрес. К Стаху я ворвался, как метеор: — Стах, мне только что звонил сам Горбунов! Тот самый! Он приглашает нас альпинистами на Памир! Ну что ты стоишь как вкопанный! Едва до Стаха дошло, что я сказал, как он изо всей силы хлопнул меня по плечу. Я, конечно, ответил тем же. В общем, только минут через пять, изрядно потузив друг друга, мы пришли в себя настолько, что окончательно поняли, какое счастье нам привалило! И как же нам не терпелось дождаться пятницы! Мы пришли на Леонтьевский переулок, как называлась тогда улица Станиславского, еще в половине восьмого и полчаса ходили у подъезда дома, где жил Горбунов. Зато мы оказались точны, как автоматы: нажали кнопку звонка у дверей минута в минуту — мы даже слышали, как начали бить в эту секунду стенные часы в квартире Николая Петровича. Он открыл нам дверь сам и, кивнув в сторону часов, рассмеялся: — Невозможно быть точнее! Поляков? Ганецкий? Давайте знакомиться. Входите, прошу… Пожатие руки Николая Петровича было сильное и вместе с тем мягкое, да и сам он, чувствовалось, был очень сильным и спокойным человеком. С таким в горах, наверное, надежно. Высокий, широкоплечий. Открытое, добродушное лицо, на котором часто расцветает простая, приветливая улыбка. Но особенно располагали живые, умные глаза за толстыми стеклами очков в роговой оправе. Они были целиком отданы собеседнику. Великое это умение — слушать! Николай Петрович усадил нас в удобные кресла, но Стах и я чувствовали себя в них неудобно. Мы жались на краешке. Вдоль всех стен кабинета тянулись высокие, почти до потолка, полки, плотно заставленные книгами. А на самом виду, возле окна, один высокий стеллаж был завешен громадной картой Памира. Едва войдя в кабинет, с порога мы узнали его горные цепи, сплошь покрытые белыми пятнами — там, где не ступала нога человеческая, — и обрадовались карте, как старому другу. А когда Горбунов встал и подошел к ней, чтобы показать нам маршрут экспедиции, мы обрадовались еще больше: наконец-то мы могли оставить глубокие кресла, в которых нам было так неловко!.. Экспедиции предстояло решить весьма серьезные задачи. — Во-первых, провести широкую разведку коренных месторождений золота по долине реки Саук-сай и руслового золота по долине реки Мук-су, — принялся перечислять нам Николай Петрович. — Дальше: обследовать хребет Петра Первого — туда уходит Саук-сайская золотоносная свита, пересекающая затем реку Хингоу. В отложениях рек Хингоу и Оби-мазар не раз находили довольно крупные самородки золота. Откуда ж они? Надо, чтобы их разыскала экспедиция, чтобы эти отдельные самородки привели нас к открытию коренной золотоносной свиты. Однако обследовать хребет Петра Первого, чтобы выяснить, в какой степени он золотоносен, невозможно без предварительной географической и геологической разведки, без составления топографических карт этого района. А он почти недоступен, сами знаете. Вот нам и следует его разведать. Ясно? Часть района сфотографировать, часть — описать, для части — составить обзорные геологические карты. Кроме того, дать описание главных ледников района. В общем, работы хватит. Вас это устраивает? — И он лукаво посмотрел на нас. Конечно, Николай Петрович рассказывал о задачах экспедиции не так общо, как я передаю сейчас. Говоря о том, какие карты нам предстоит составить, он указывал их масштабы, перечислял названия мест, которые надо будет обследовать. Но теперь уже, я думаю, нет нужды воспроизводить все это в подробностях. Сказал он нам еще вот что: — Район, который предстоит обследовать, непосредственно примыкает к району, уже обследованному экспедицией 1928 года. Другими словами, мы продолжаем ее работу по всестороннему, комплексному изучению Памира. А для решения этих задач — в первую очередь для проведения фототеодолитной съемки и определения астрономических пунктов — в помощь геологам и геодезистам потребуются альпинисты. Для этого вы нам и нужны. Начальником альпинистской группы приглашен хорошо известный вам уже по прошлогодней экспедиции Николай Васильевич Крыленко. Это вас также устраивает? Ну, и он против вас не возражает. Не берусь передать чувства, испытанные нами, когда мы услышали, какую высокую оценку дал нам Николай Васильевич Крыленко. Впрочем, имя это, вероятно, мало что говорит молодому читателю. Н.В.Крыленко был одним из зачинателей советского альпинизма и отличным мастером альпинизма своего времени. Казалось бы, он не мог уделять много внимания этому делу — ведь он был крупным государственным и партийным деятелем: прокурором республики, наркомом юстиции, членом Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б). Он был известен, как большевик-подпольщик, активный участник Октябрьской социалистической революции, один из организаторов ее вооруженных сил, член первого состава Совета Народных Комиссаров молодой советской республики. Теперь он был человек уже не такой молодой, чтобы лазить по горам: ему было больше сорока лет. Но, несмотря на это, он каждый год во время своего отпуска отправлялся в горы Памира, совершал трудные восхождения, популяризировал альпинизм в ряде превосходных книг. В 1929 году мы со Стахом провели с Николаем Васильевичем два месяца на Памире. Он обучил нас за это время очень многому, прежде всего, конечно, — технике альпинизма. Жилистый, словно кованный из железа, он, казалось, никогда не знал усталости. Но еще важнее было то, чему он не обучал нас и чему, однако, нельзя было не научиться, находясь рядом с ним: умению держать себя в руках, умению сразу мобилизовать все силы на борьбу с возникающими в горах на каждом шагу трудностями, выдержке, настойчивости. И самое главное — готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу, не раздумывая о том, расстанешься ты при этом с собственной жизнью или нет. Впрочем, если я дам себе волю и не остановлюсь, я так и не закончу рассказа о том, что же еще мы услышали от Николая Петровича Горбунова. А он в заключение подробно объяснил, что именно придется делать нам. — Основная база экспедиции расположится, — он ткнул в карту пальцем, — в городе Фергане. Все грузы прибудут в Фергану поездом. Оттуда мы отправим их дальше на лошадях, вьюками. Вам надо выехать из Москвы в конце июня, чтобы в начале июля вы вместе с основным караваном двинулись в Пашимгар — это селение на реке Хингоу — и помогли там в организации второй базы. Я с Николаем Васильевичем и еще несколькими товарищами приедем в начале августа. Вместе с геологами мы отправимся к зам в Пашимгар, а оттуда все вместе двинемся в глубь горного узла Гармо и Гандо. Он ведь пока никем не нанесен на карту… — Николай Петрович очертил границы белого пятна на карте. Но мы и так знали границы таинственного горного узла в сердце Памира и радовались, что на нашу долю еще остались белые пятна на географических картах. Скорей бы отправиться в путь! Скорей бы снова в горы, на самые трудные, непокоренные вершины, с кошками на ногах, с ледорубом в руках, с рюкзаком за плечами! Пить воду из родников, вбивать крючья в скалы и подтягиваться на руках к орлиным гнездам, вечерами отдыхать у костра и спать не на пружинных матрацах, а в спальном мешке… Скорей бы! Скорее!.. Когда мы выходили с Леонтьевского на Тверскую улицу, меня едва не раздавила грузовая машина. Хорошо, Стах вовремя оттянул за шиворот. Нет, надо быть осторожней, не то, пожалуй, и до Ферганы живым не доберусь!В ФЕРГАНЕ
В Фергану мы в конце концов прибыли, и вполне благополучно. В начале июня были уже во дворе базы экспедиции. Мы даже не замечали растущих прямо на улицах абрикосовых деревьев, усыпанных спелыми, сочными плодами. Нам было не до этого. Пришлось немедленно взяться за дело: рассортировать прибывший поездом груз, распределить его между отдельными партиями, упаковать для дальнейшей перевозки на лошадях в специальные вьючные сумы и ящики. Тут же, во дворе базы экспедиции, будущие караванщики, присев на корточки (их излюбленная поза), внимательно наблюдали за тем, что мы делали. Долгие дни, до конца экспедиции, им придется по нескольку раз в сутки завьючивать и развьючивать эти грузы. Они то и дело давали нам всяческие толковые советы. Прислонившись спиной к стене, посасывая маленькие темные шарики табака «насвей» и смачно поплевывая зеленой тягучей жижицей, они блаженствовали. Жара стояла нестерпимая. Днем только густая листва деревьев этого города-сада защищала нас от палящих лучей солнца. Вскоре после нашего приезда мы проводили первый выступивший в горы и не подчиненный нашей экспедиции самостоятельный поисково-разведывательный отряд Ленинградского научно-исследовательского горноразведочного института. Целью ленинградцев была разведка месторождений золота. Отряд должен был возглавлять профессор Дмитрий Васильевич Никитин, но до его прибытия начальником был Николай Георгиевич Сумин, выпускник Ленинградского горного института. С ним выехало восемь человек — также ленинградские и ташкентские студенты. Путь отряда лежал через перевал Тенгиз-бай в Алайском хребте в Алайскую долину и дальше, через перевалы Терс-агар и Кульдаван в Заалайском хребте к одному из притоков реки Саук-сай — Джаргучаку. Там, в узком скалистом ущелье реки Джаргучак еще до революции один предприимчивый царский дипломат с удивительной фамилией Поклевский-Козел организовал добычу коренного золота. Сам он там, конечно, не жил. Просто его приказчики за хлеб и кое-какое тряпье заставляли несколько десятков безземельных киргизов работать от зари до зари и добывать По-клевскому-Козлу золото. Дела у дипломата, говорят, шли неплохо. В прошлом году, проходя те места, мы со Стахом ночевали в землянках, построенных когда-то золотоискателями под нависшими скалами. Скорее, это были звериные норы, чем жилье людей. Сумин, которому предстояло работать там, намеревался расширить их и оборудовать по-человечески. Вслед за отрядом Сумина 28 июня выступил на зимовку Хайдаркан геохимический отряд нашей экспедиции, за ним выехали наши топографы И.Г.Дорофеев, В.А.Веришко и А.М.Зверев, сопровождаемые шестью красноармейцами. Путь топографов также лежал к перевалу Терс-агар. Мы все дружно проводили их. Вскоре мы с ними встретимся! Очередное наступление на Памир, наступление 1930 года, началось.МЫ ВЫСТУПАЕМ
Наконец, 6 июля, выступили и мы — основные силы экспедиции. Со стороны наш отряд имел чрезвычайно внушительный вид: одних вьючных лошадей, тащивших на своих выносливых спинах все продукты, снаряжение для экспедиции и различные инструменты для научной работы, более ста. Возглавляет колонну завхоз экспедиции Семен Захарович Иткин. Впрочем, возглавляет — это не значит, что он гордо гарцует во главе колонны, как, допустим, командир эскадрона на параде. Нет, его голос слышен то в середине колонны, то в голове, то в хвосте — короче, всюду, где обнаруживается какой-нибудь непорядок. Он быстро наводит порядок и решительно скачет дальше — туда, где его чуткое ухо различает зачатки нового происшествия. Караван растянулся на добрый километр. Шум невообразимый. Не привыкшие друг к другу лошади выбегают из колонны щипать траву или затевают драку. Образуется затор, караванщики бьют лошадей камчами и при этом оглушительно кричат. Впрочем, то, что они кричат, безусловно понятно лошадям; лошади после этого обычно успокаиваются. Если же нет, то их приводит в трепет голос Семена Захаровича. Самые непокорные кони боятся его и, едва заслышав окрик завхоза, становятся кроткими, как ягнята. Молчаливее всех в нашем караване сопровождающие красноармейцы-пограничники. Их двадцать человек, они молча движутся в строгом строю: половина впереди, половина позади колонны. Пограничниками командует командир взвода товарищ Пастухов. Все они отлично вооружены: у каждого винтовка, наган, ручные гранаты и сабля, а кроме того, во взводе есть еще станковый и три ручных пулемета. На головах красноармейцев буденовские шлемы с большой красной звездой. У нас на головах, конечно, не почетные красноармейские шлемы, а всего-навсего скромные наманганские тюбетейки — черные, расшитые белыми нитками. Но за спиной и у нас боевые винтовки, а у пояса набитый патронами подсумок и наган. И хотя каши кони не такие статные, как у пограничников, но и они очень выносливы, и мы гарцуем на них замечательно. Мы — это в первую очередь Стах и я. Ибо следующие с караваном, кроме нас, зоолог И.И.Пузанов, его препаратор В.М.Канаев и ботаник Л.Б.Ланина гарцевать не стараются: они взрослые и, вместо того чтобы кичиться оружием, с удовольствием сняли бы его с себя. Сегодняшний читатель, вероятно, удивится: зачем мирной геолого-географической экспедиции требовалась такая охрана и такое вооружение? Но надо вспомнить о басмачах. Нет нужды рассказывать, кто это такие: о них слышали все. Напомню, что с 1923 года и вплоть до 1930 года о басмачах в Средней Азии почти совсем не было слышно. Лишь в самых глухих пограничных районах, в наиболее труднодоступных горных ущельях кое-где сохранились небольшие банды. Но и они избегали столкновений с вооруженными отрядами Красной Армии. Едва для такой банды возникала опасность быть втянутой в боевые действия против какой-нибудь части Красной Армии, как банда немедленно убегала за рубеж. Басмачи в те годы затаились. В конце 1929 года при поддержке зарубежных врагов нашей родины возродились басмаческие банды. Вырыв из-под камней запрятанное оружие, бандиты из-за угла нападали на мирных советских людей, на беззащитные кишлаки, на отдельных пограничников; если же обнаруживали, что какой-нибудь честный и смелый крестьянин идет против них, то немедленно подвергали его и его семью чудовищным пыткам и казни, пытаясь запугать народ. 21 мая 1930 года была особенно наглая вылазка басмачей. Пришедшая из-за рубежа, из Кашгара, басмаческая банда кур-баши (главаря) Ады-ходжи в базарный день напала на небольшой кишлак Гульчу, всего в семидесяти пяти километрах от города Ош, разграбила кишлак и подожгла его. На выручку прискакали с соседней заставы Суфи-курган двенадцать пограничников во главе с начальником заставы Любченко. У них не было пулемета, но Любченко умело подражал ему своим скорострельным маузером, и басмачи бежали. Но, пока Любченко громил басмачей в Гульче, на Суфи-курган напала другая банда. А застава ослаблена: на ней оставалось только шестеро пограничников и жена Любченко с ребенком. Пулемета у осажденных тоже не было. Связь басмачи перерезали. Помощник Любченко, молодой узбек Касимов, умело расставил бойцов. Легла к бойнице с винтовкой и жена Любченко. Семеро человек приняли бой против нескольких сотен бандитов. Помощь подоспела, когда у осажденных были уже на исходе боеприпасы… В эти же дни еще одна банда, под предводительством местного кулака Закирбая, напала на группу геологов. Молодой топограф Ю.В.Бойе был убит, а начальник группы Г.Л.Юдин и писатель П.Н.Лукницкий взяты басмачами в плен. Они спаслись от зверской расправы только благодаря выручившему их невероятно счастливому стечению обстоятельств… Вот почему местное командование погранвойск и направило с нами взвод товарища Пастухова и предусмотрительно вооружило нас.НА ПУТИ К АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЕ
Наконец-то мы выбрались из знойной, душной Ферганы! Впереди — манящие горы Памира. Первые тридцать пять километров, до большого селения Уч-курган, мы наслаждались широкой, пригодной даже для автомашин дорогой. Караван тянулся мимо маленьких, утопающих в зелени кишлаков. Кругом хлопковые поля, виноградники. Дома в кишлаках, сложенные из саманных кирпичей, выходят на улицу непременно слепой, без окон и дверей, стеною. Заборы, тоже глинобитные, — высокие, словно крепостные. К многочисленным арыкам, в которых течет холодная, кристально чистая вода, свешивали ветви урюковые деревья и часовыми выстроились тополя. А посредине долины, сверкая на солнце брызгами, шумел многоводный Исфайрам-сай. Немного не дойдя до Учкургана, остановились на первую ночевку. Правильно развьючить сотню лошадей — дело сложное, несмотря на кажущуюся бесхитростность его. Сперва надо осторожно снять вьюки, поддерживая пугливую лошадь под уздцы и одновременно наблюдая, чтобы не разбрелись в стороны подошедшие, но еще не развьюченные лошади. Затем, когда уже развьючишь, надо связать лошадей попарно: голову одной к хвосту другой. Тут тоже надобна сноровка. А главное, надо так уложить груз, чтобы быстро и безошибочно разобраться утром, что и на какую лошадь было погружено накануне. Караванщикам достается изрядно: на долю каждого из них приходится шесть — восемь лошадей. Наконец весь груз снят и уложен на землю правильным квадратом, лошади в стороне выстаиваются: остывают в ожидании, когда их пустят пастись. Горит яркий костер. В большом черном котле — казане- варится ароматный плов, баранина с рисом. Хотя здесь еще безопасно, тем не менее вокруг лагеря ходит часовой. Палаток мы не расставляем. Положив под голову оружие, ложимся в спальных мешках возле вьюков. Наутро — ранний подъем и опять истошный крик караванщиков. Проходит не меньше двух часов, пока крик этот утихнет и за последней груженой лошадью может наконец двинуться замыкающая колонну группа пограничников. Караван часто растягивается, и это начинает беспокоить комвзвода товарища Пастухова. Он высылает вперед дозор — трех красноармейцев. Больших кишлаков больше не видно, да и маленькие, в шесть-восемь глиняных мазанок, встречаются реже и реже.
 На следующий день путь становится уже значительно труднее. Дорога, по-прежнему вьющаяся вдоль Исфайрам-сая, превратилась в узкую тропу и то и дело перемахивает с одного берега на другой. Каравану приходится перебираться через реку по мостикам, перекинутым в самых узких местах Исфайрам-сая, где вода со страшной силой и ревом катится валом по каменному каньону.
Что такое эти мостики?
Представьте себе ущелье шириной в восемь метров, а где-то глубоко внизу разбивающийся о скалы миллионами брызг пенный поток. Мост — это сооруженные по обе стороны ущелья две каменные клетки-опоры, на которые положен ряд бревен. Если какое-нибудь бревно коротко, его наращивают, привязывая к нему веревкой и ветками еще одно бревно. Но, конечно, постепенно веревка слабеет, а ветки размочаливаются… Поперек этого бревенчатого настила кладется еще один — легкий, из переплетенных между собой веток, и мост готов. Правда, лучше не описывать, как раскачивается такое сооружение над пропастью, когда ступишь на него. Один неверный шаг — и от человека, как говорят китайцы, остается только «последний крик». Проходя по подобному мосту, отлично понимаешь, что чувствует канатоходец, демонстрируя свое искусство. А ведь надо не только самому переправиться на другой берег, но и умудриться переправить сотню лошадей!
Одновременно мост выдерживает не более двух лошадей, иногда только одну. Узбекские вьючные лошади спокойны, лишь когда идут головой в хвост: одна за другой. Если, остановив караван, нарушить этот порядок, немедленно возникает невообразимый хаос. Идущие впереди животные останавливаются и полными грусти глазами смотрят на оставшихся позади товарок, а эти, в свою очередь, рвутся вперед. Если же подобная остановка произошла посреди раскачивающегося над бездной моста, то караванщики начинают так кричать, что заглушают даже рев реки. Ну, а когда не помогает и это, то в заупрямившуюся конягу летят десятки камней. Не слишком приятно стоять в это время на мосту рядом с такой лошадью… и, тем более, смотреть с моста вниз…
К концу дня тропа, доходившая местами до ширины двух ладоней, начала спускаться по крутой осыпи. Лошади осторожно ступают по мелкому, осыпающемуся под копытами щебню. Те, кто рискнул остаться в седле, целиком доверяются коню, его чутью и осторожности.
В Лянгаре — крошечном кишлаке в три-четыре мазанки, конечном пункте нашего сегодняшнего перехода, — мы должны были расстаться с Исфайрам-саем. Дальше предстоял подъем на перевал Тенгиз-бай в Алайском хребте.
Впрочем, избавление от норовистой реки еще не означало избавления от трудностей пути.
По дороге к Лянгару мы за весь день не встретили ни одной живой души. Только в самом Лянгаре, в одной мазанке, нашли дряхлого старика, который сказал, что все из кишлака ушли на пастбище.
На всякий случай поставили на ночь не одного, а двух часовых.
На следующий день, за перевалом, в кишлаке Дараут-курган, в центре Алайской долины, должен был окончиться первый этап нашего путешествия. Из этого кишлака нам предстояло двинуться на запад, к конечному пункту движения каравана — кишлаку Пашимгар. Но нашим планам не суждено было сбыться.
Утром поднялись ни свет ни заря: подъем на перевал отнимает не только много сил, но и времени. Караванщики особенно тщательно вьючили лошадей. По двое, упершись ногой в брюхо лошади, они с силой, рывками, одновременно тянули за очень крепкую, свитую из отходов шерсти веревку, обхватывающую сразу и вьюк и лошадь. При этом, как всегда, они подбадривали себя и животных короткими энергичными выкриками. Не затяни веревку как следует — и ищи тогда в пропасти и лошадь и вьюк…
Путь на перевал шел по узкому ущелью. Перед самым перевалом ущелье сужалось настолько, что, пожалуй, хороший прыгун был бы в состоянии одолеть его. Засядь тут хоть один басмач, он мог бы перестрелять весь наш отряд.
Во избежание такого «сюрприза» товарищ Пастухов выслал вперед усиленный дозор, а остальных бойцов взвода распределил по всему каравану. Мы со Стахом, загнав в ствол по патрону, положили перед собой поперек седел винтовки.
— А что, Арик, если вон из-за того камня нападут басмачи? — приставал ко мне
Стах, с опаской поглядывая на громадные валуны, буквально закрывавшие выход из ущелья.
— Стрелять будем! — решительно отвечал я, хотя не очень-то представлял, как все это будет выглядеть.
К счастью, снова все обошлось благополучно. К двум часам дня, миновав опасную часть ущелья, дозор был уже на вершине перевала Тенгиз-бай, на высоте трех тысяч шестисот метров. Вскоре и мы, насквозь продуваемые ледяным ветром, очутились там же. Открывшийся вид заставил забыть и о холоде и о басмачах. Перед нами во всю мощь простерся гигантский Заалайский хребет. Ослепительные на солнце вечно снеговые вершины уходили, казалось, в бесконечную даль на восток и запад, тая в дымке. Заалайский хребет шел параллельно Алтайскому, а между ними тянулась богатая и широкая Алайская долина. В центре хребта, немного левее нас, возносился в небо пик Ленина. Картина была грандиозная, не сравнимая ни с чем.
Но любоваться чудесной панорамой долго не пришлось. Вьючные лошади, следуя за дозором, уже спускались с перевала. Лощиной, по которой, перегоняя нас, текла узкая, но быстрая река Дараут, мы вышли к кишлаку Дараут-курган.
На следующий день путь становится уже значительно труднее. Дорога, по-прежнему вьющаяся вдоль Исфайрам-сая, превратилась в узкую тропу и то и дело перемахивает с одного берега на другой. Каравану приходится перебираться через реку по мостикам, перекинутым в самых узких местах Исфайрам-сая, где вода со страшной силой и ревом катится валом по каменному каньону.
Что такое эти мостики?
Представьте себе ущелье шириной в восемь метров, а где-то глубоко внизу разбивающийся о скалы миллионами брызг пенный поток. Мост — это сооруженные по обе стороны ущелья две каменные клетки-опоры, на которые положен ряд бревен. Если какое-нибудь бревно коротко, его наращивают, привязывая к нему веревкой и ветками еще одно бревно. Но, конечно, постепенно веревка слабеет, а ветки размочаливаются… Поперек этого бревенчатого настила кладется еще один — легкий, из переплетенных между собой веток, и мост готов. Правда, лучше не описывать, как раскачивается такое сооружение над пропастью, когда ступишь на него. Один неверный шаг — и от человека, как говорят китайцы, остается только «последний крик». Проходя по подобному мосту, отлично понимаешь, что чувствует канатоходец, демонстрируя свое искусство. А ведь надо не только самому переправиться на другой берег, но и умудриться переправить сотню лошадей!
Одновременно мост выдерживает не более двух лошадей, иногда только одну. Узбекские вьючные лошади спокойны, лишь когда идут головой в хвост: одна за другой. Если, остановив караван, нарушить этот порядок, немедленно возникает невообразимый хаос. Идущие впереди животные останавливаются и полными грусти глазами смотрят на оставшихся позади товарок, а эти, в свою очередь, рвутся вперед. Если же подобная остановка произошла посреди раскачивающегося над бездной моста, то караванщики начинают так кричать, что заглушают даже рев реки. Ну, а когда не помогает и это, то в заупрямившуюся конягу летят десятки камней. Не слишком приятно стоять в это время на мосту рядом с такой лошадью… и, тем более, смотреть с моста вниз…
К концу дня тропа, доходившая местами до ширины двух ладоней, начала спускаться по крутой осыпи. Лошади осторожно ступают по мелкому, осыпающемуся под копытами щебню. Те, кто рискнул остаться в седле, целиком доверяются коню, его чутью и осторожности.
В Лянгаре — крошечном кишлаке в три-четыре мазанки, конечном пункте нашего сегодняшнего перехода, — мы должны были расстаться с Исфайрам-саем. Дальше предстоял подъем на перевал Тенгиз-бай в Алайском хребте.
Впрочем, избавление от норовистой реки еще не означало избавления от трудностей пути.
По дороге к Лянгару мы за весь день не встретили ни одной живой души. Только в самом Лянгаре, в одной мазанке, нашли дряхлого старика, который сказал, что все из кишлака ушли на пастбище.
На всякий случай поставили на ночь не одного, а двух часовых.
На следующий день, за перевалом, в кишлаке Дараут-курган, в центре Алайской долины, должен был окончиться первый этап нашего путешествия. Из этого кишлака нам предстояло двинуться на запад, к конечному пункту движения каравана — кишлаку Пашимгар. Но нашим планам не суждено было сбыться.
Утром поднялись ни свет ни заря: подъем на перевал отнимает не только много сил, но и времени. Караванщики особенно тщательно вьючили лошадей. По двое, упершись ногой в брюхо лошади, они с силой, рывками, одновременно тянули за очень крепкую, свитую из отходов шерсти веревку, обхватывающую сразу и вьюк и лошадь. При этом, как всегда, они подбадривали себя и животных короткими энергичными выкриками. Не затяни веревку как следует — и ищи тогда в пропасти и лошадь и вьюк…
Путь на перевал шел по узкому ущелью. Перед самым перевалом ущелье сужалось настолько, что, пожалуй, хороший прыгун был бы в состоянии одолеть его. Засядь тут хоть один басмач, он мог бы перестрелять весь наш отряд.
Во избежание такого «сюрприза» товарищ Пастухов выслал вперед усиленный дозор, а остальных бойцов взвода распределил по всему каравану. Мы со Стахом, загнав в ствол по патрону, положили перед собой поперек седел винтовки.
— А что, Арик, если вон из-за того камня нападут басмачи? — приставал ко мне
Стах, с опаской поглядывая на громадные валуны, буквально закрывавшие выход из ущелья.
— Стрелять будем! — решительно отвечал я, хотя не очень-то представлял, как все это будет выглядеть.
К счастью, снова все обошлось благополучно. К двум часам дня, миновав опасную часть ущелья, дозор был уже на вершине перевала Тенгиз-бай, на высоте трех тысяч шестисот метров. Вскоре и мы, насквозь продуваемые ледяным ветром, очутились там же. Открывшийся вид заставил забыть и о холоде и о басмачах. Перед нами во всю мощь простерся гигантский Заалайский хребет. Ослепительные на солнце вечно снеговые вершины уходили, казалось, в бесконечную даль на восток и запад, тая в дымке. Заалайский хребет шел параллельно Алтайскому, а между ними тянулась богатая и широкая Алайская долина. В центре хребта, немного левее нас, возносился в небо пик Ленина. Картина была грандиозная, не сравнимая ни с чем.
Но любоваться чудесной панорамой долго не пришлось. Вьючные лошади, следуя за дозором, уже спускались с перевала. Лощиной, по которой, перегоняя нас, текла узкая, но быстрая река Дараут, мы вышли к кишлаку Дараут-курган.
ДАРАУТ-КУРГАН
На высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, между Алайским и Заалайским хребтами, раскинулась живописная Алайская долина. В большей своей части она покрыта зелеными холмами и лишь местами ровна, как скатерть. Вблизи многочисленных озер цветут альпийские луга. Посредине долины, принимая десятки притоков, катит красно-бурые воды Кзыл-су. Дараут-курган, самое крупное селение долины, оказался кишлаком, насчитывающим не’сколько глинобитных зимних кибиток. Чуть поодаль от них стояли еще три войлочные юрты. Караваны, следующие через Дараут-курган, обычно останавливались не в самом селении, а в старой крепости, несколько в стороне от кибиток. Глиняные стены крепости хорошо сохранились. Местные жители использовали крепость как загон для стрижки овец. К моменту нашего прибытия Дараут-курган оказался почти необитаемым. Лишь два старика киргиза в рваных халатах вышли навстречу. Впереди них с отчаянным лаем неслись худые, облезлые и такие злющие звери-псы, что мы невольно поджали ноги, хотя, сидя на лошадях, как будто находились в безопасности. Отвечали старики на вопросы Пастухова невнятно. Часть людей с женщинами и детьми, мол, на выпасах, где пасут скот, а кое-кто убежал, испугавшись басмачей… — Каких басмачей? Где басмачи? — допытывался Пастухов. Старики или не могли, или боялись дать вразумительный ответ. — Не знаем… Не знаем… Ничего не знаем… Пастухов выразительно хмыкнул и приказал выставить на пологую крышу полуразрушенной кибитки в крепости, где мы расположились и откуда хорошо просматривались все подходы, часового со станковым пулеметом. Так как после утомительного перехода через перевал лошади изрядно устали, а путь до Пашимгара предстоял не малый, на следующий день было решено устроить дневку — дать людям и лошадям полный отдых. С обеда и до вечера по Алайской долине, как по трубе, дует сильный и очень холодный ветер. Температура, днем достигающая тридцати градусов, постепенно понижается — ночью замерзает вода в посуде. Правда, нам холод был не страшен. Нас спасали теплые, на гагачьем пуху, спальные мешки. И, оберегаемые от внезапного нападения бойцами Пастухова, мы великолепно выспались. Наутро, позавтракав консервами, сухарями и выпив чаю, мы со Стахом отправились на охоту за сурками. Их здесь видимо-невидимо. Войдя в их владения, мы беспрерывно вздрагивали: казалось, что мы все время нарушаем правила уличного движения и отовсюду свистят милиционеры. Пронзительное верещание сурков совершенно неотличимо от милицейского свистка. Настороженные и чуткие зверьки сидели столбиками перед своими норами и при малейшей опасности буквально проваливались сквозь землю, всякий раз, однако, успевая свистнуть. Мы вернулись с пустыми руками, сделав вид, что ходили просто прогуливаться по окрестностям. Какой уважающий себя охотник признается в своей неудаче!БАСМАЧИ!
Мы поспели как раз к обеду. В большом черном котле закипал рисовый суп. Вдруг с крыши кибитки раздался тревожный голос часового: — Товарищ комвзвод! От ущелья скачет человек! Мгновенно подав бойцам команду разобрать оружие, Пастухов с биноклем в руках взлетел на крышу мазанки и, всмотревшись, заметил уже не одного, а девятерых вооруженных всадников. Кто они? Минут двадцать прошло в томительном ожидании. Пастухов, не отнимая бинокля от глаз, время от времени делился с нами своими наблюдениями. — Вроде шлемы на них красноармейские… И посадка как будто наша, кавалерийская. Наконец он отчетливо разобрал фигуру начальника нашей топографической группы Ивана Григорьевича Дорофеева. Всадники быстро приближались. Теперь и мы узнали топографов, с которыми недавно расстались в Фергане: не только Дорофеева, но и Веришко, Зверева и шестерых сопровождавших их красноармейцев. Но какой у них всех растрепанный вид, как загнаны лошади! Когда они наконец доскакали, Дорофеев не слез, а буквально свалился с коня. Лицо его, все в пятнах, горело: глаза красные, хотя и смотрели на нас, но, пожалуй, ничего не видели. Еще при выезде из Ферганы Дорофеева мучили острые приступы тропической малярии. Сейчас проклятая болезнь трясла его снова. Говорить он почти не мог; мы тут же уложили его на спальный мешок. Рассказал нам, что произошло с группой топографов, Виктор Антонович Веришко. — Наша группа, — начал он, — как вы знаете, должна была, одолев Заалайский хребет, спуститься в урочище Алтын-мазар и оттуда начать топографическую съемку по реке Мук-су. Первые наблюдения и засечки нам предстояло сделать на перевале Терс-агар. Мы благополучно перевалили Заалайский хребет и скоро обнаружили на прекрасном сочном пастбище киргизскую летовку из нескольких юрт. Верховодил этими киргизами некий Абдурахман-бай, или, попросту сказать, кулак. Мы его знали еще по прошлому году, когда в группе с Николаем Васильевичем Крыленко бродили по этим лесам. Абдурахман тогда очень любезно угощал всю нашу группу кумысом и айраном. Хотя нам и тогда не понравились его жуликоватые, бегающие по сторонам глаза, но это, однако, не основание, чтобы делать о человеке какие-то выводы. Во всяком случае, мы расстались в прошлом году «друзьями». В этом году Абдурахман встретил нас еще более гостеприимно: уже старые знакомые! Пригласил к себе поужинать «чем бог послал» и переночевать на летовке. Так как дело шло к вечеру, а утром нам предстояло начинать работу именно здесь, то мы с охотой приняли приглашение. Раскинули палатки рядом с его юртами, спокойно улеглись спать… Утром Абдурахман превратился совсем в Сахара Медовича, хотя и видно было, что он очень озабочен чем-то и явно нервничает. Даже скрыть этого не мог. Но мало ли от чего человек нервничает? По отношению к нам это ни в чем не сказывалось. Наоборот, он стал еще более любезен и еще более гостеприимно уговаривал не торопиться с началом работ — и чайку, мол, еще попейте, и позавтракайте плотнее, куда, мол, спешить!.. Но мы ни на какие оттяжки не соглашались. Дело в том, что на рассвете, когда мы еще спали, в палатку влез молодой узбек-караванщик, шедший с нами из Ферганы. Он шепотом рассказал о только что подслушанном разговоре: будто басмачи убили работающих в ущелье Джаргучака геологов и теперь движутся сюда. Абдурахман — участник этой шайки — ждал их к себе на летовку еще вечером. Но они почему-то не идут, вот он и нервничает. Мы поднялись после этого немедленно, благо в горах светает быстро, так что объяснение нашему раннему подъему не вызвало подозрений: не хотим терять рабочее время. Всухомятку перехватили по куску хлеба, и, поблагодарив Абдурахмана «за гостеприимство», тронулись к перевалу Терс-агар производить первые наблюдения. Приборы взяли, конечно, только самые необходимые, а все инструменты не первой необходимости, так же как личные вещи, оставили в палатках. Некогда было с ними возиться и вьючить их, да и не надо было подавать виду, что мы что-нибудь подозреваем и не вернемся на летовку Абдурахмана. Однако, несмотря на всю поспешность, с которой оставили «гостеприимного» Абдурахмана, мы все же опоздали: едва отъехали шагов двести от летовки, как увидели группы надвигающихся на нас вооруженных всадников в халатах, на хороших лошадях. Басмачи! Обернулись, — видим, что с другой стороны такая же группа быстро закрывает нам выход из ущелья к Алайской долине. Среди них уже и Абдурахман… Мы оказались в кольце не менее двух сотен басмачей, и кольцо это смыкалось на глазах… Наши безоружные караванщики в страхе разбежались. Должно быть, сочли нашу песенку спетой… На размышления оставались секунды. Уходить в направлении Терс-агара было бессмысленно. Туда ведет километровый обрыв с узенькой головоломной тропинкой по нему. Если нас и не перестреляют на ней, то все равно дальнейший путь преградят непроходимые шеститысячеметровые снежные хребты. Значит, единственный выход — прорываться по ущелью обратно, в Алайскую долину. И Дорофеев скомандовал: — По ущелью вперед, карьером! Первыми не стрелять! Нас было девять человек, притом хорошо вооруженных. Басмачи, несмотря на громадное численное превосходство, все же нерешительно занимали ущелье; вероятно, многие из них уже имели печальный опыт подобных стычек. Кроме того, они страшно боялись наших сабель: ведь магометанин, убитый саблей, по их верованиям, не может попасть в рай. Их минутное замешательство дало нам возможность вырваться из готового замкнуться кольца. Они действовали вяло, мы — решительно. Вдогонку нам засвистели пули, сотни пуль, — они стреляли, не жалея патронов, но мы уже были спасены. В руках басмачей осталось лишь наше имущество да ненужные им топографические инструменты и заснятые фототеодолитные пластинки. Мы нахлестывали коней до вечера. Расположившись на ночлег, мы их не расседлали. Вот, собственно, и все…ВОЕННЫЙ СОВЕТ
В тревожном молчании выслушали мы рассказ Веришко. Ну хорошо, группа Дорофеева спаслась, но что с ленинградцами, с геологической группой Сумина? Она ведь по ту сторону перевала Терс-агар, в глухом боковом ущелье, и одна! Решать надо было немедленно. Мрачно задумался командир взвода пограничников Пастухов. С одной стороны, он не имел права ослаблять охрану нашего каравана: ведь сюда, в Алайскую долину, в любой момент могут прорваться те банды, одна из которых недавно разграбила Гульчу. Наш караван был бы для них завидной добычей. Завладев им, в частности нашими продуктами, любая банда приобретала бы возможность самое меньшее несколько месяцев не заботиться о продовольствии. Но вместе с тем, как можно бросить на произвол судьбы группу Сумина? Постепенно начал приходить в себя Дорофеев. Порция хины сыграла свою благотворную роль — приступ малярии ослабевал. Правда, Иван Григорьевич по-прежнему лежал бледный и обессиленный, но глаза его чуть ожили. Тихо, почти шепотом, он спросил: — Ну, решили что-нибудь, товарищи? — Нет, пока еще ничего. Дорофеев с трудом приподнялся на локте: — Тогда давайте разбираться вместе. Пастухов весь превратился в слух. Наконец нашелся человек, который старше всех и лучше всех знает обстановку. Неважно, что Пастухов не был подчинен Дорофееву. В составе нашей группы Иван Григорьевич был самый уважаемый и опытный. Коммунист с 1918 года, он получил свою первую награду еще в 1919 году, на полях гражданской войны. На петлицах его было по две шпалы. К его слову мы относились с глубоким уважением. Медленно, словно советуясь с нами, Иван Григорьевич проговорил: — А не сделать ли нам, товарищ Пастухов, так. Вашему взводу немедленно — именно немедленно выступить к перевалу Терс-агар и попытаться оказать помощь геологам. Здесь оставить один станковый пулемет с пулеметчиком. Хватит, поскольку нас девять хорошо вооруженных человек. Вам за перевалом не задерживаться — вернуться завтра к обеду. Если на нас нападут, мы до этого срока продержимся. Связь поддерживать ракетами — средство надежное. Впрочем, повторяю: все это, конечно, только мое личное мнение. Решать вы должны сами. Пастухов согласился с этим планом. Уже через несколько минут взвод был выстроен. Пулеметчика пришлось назначить приказом: бойцов, добровольно желавших остаться с нами в тылу, не нашлось. Никто из пограничников не хотел отделяться от товарищей, шедших на выручку ленинградцам.НОЧЬ ТРЕВОГ
Итак, вместе с пулеметчиком осталось десять человек, среди них — одна женщина, Лидия Борисовна Ланина, и больной Дорофеев. С большим трудом он наконец поднялся со своего ложа и обошел нашу «крепость». Потом мы собрались и обсудили положение. Днем опасность нападения была меньшей: и обороняться при свете было легче, и от пулемета толку больше. Другое дело ночью, когда к нам подкрадываться можно совершенно незаметно. Решили: не отлучаться из «крепости» никуда, непрерывно дежурить на крыше кибитки, в свободное же от дежурства время только спать, чтобы не тратить зря силы. Мало ли на что они могут еще понадобиться! Ночь, конечно, нам предстояла тревожная. Всемером мы должны были занять круговую оборону, выдвинув ее метров на пятьсот-шестьсот от лагеря. Пулеметчик будет находиться на крыше. Ланиной и Дорофееву придется караулить тех, кого мы задержим после наступления сумерек. Мы были уверены, что басмаческие лазутчики непременно попытаются познакомиться с состоянием нашего лагеря поближе. Поэтому мы будем задерживать — во всяком случае, до утра — всех, кто ночью приблизится к нашему лагерю. Ложимся, согласно уговору, спать. Понимаю — спать нужно, — но не спится. И до тысячи считаю, и глаза жмурю — сон не приходит. Какое там! Только и думаю: нападут на нас басмачи или нет? Сегодня или завтра? И уж если нападут, то хоть бы скорее! Нервы напряжены до крайности. Когда в девять вечера Иван Григорьевич подает команду вставать, ужинать и отправляться на пост, становится легче. Нам со Стахом поручен самый ответственный сектор — на восток от «крепости». В зону нашей обороны входит тропа, пересекающая Алайскую долину с запада на восток. Мы располагаемся по обе стороны ее, метрах в пятнадцати друг от друга. Левее и правее меня и Стаха залегли другие товарищи. Так как сигнализации у нас не было, мы условились каждый час подползать к соседу: через один час — к левому, еще через час — к правому. Проверять, все ли в порядке. Итак, лежим в невысокой жесткой траве. Впереди — бесчисленные бугры и бугорочки. Слева — серые скалистые отроги Алайского хребта, справа, озаренные холодным светом луны, величественно выступают гигантские вершины Заалая. Время тянется нестерпимо медленно, а когда набежавшими облаками затянуло высыпавшие вначале звезды, наступила к тому же полная темнота. Чутко вслушиваюсь в каждый шорох. Рукикрепко сжимают заряженную и взведенную на боевой взвод винтовку. На землю, под правую руку, положил две ручные гранаты. В обе вставил запалы. Если придется метнуть их, это займет не больше секунды. Расстегнута кобура нагана. В общем, ко мне не подступись… И все-таки по спине бегают мурашки. Сейчас я признаюсь в этом, а тогда, конечно, не признался бы ни за что. И еще одно пугало: а вдруг, если уж помирать, смерть придет не сразу? Нагрянет на наш «гарнизон» банда, скажем, в сто или двести басмачей… Защищаться, ясно, мы будем до последней возможности, но вдруг так тяжело ранят, что физически не сумеешь покончить с собой? А басмачи, взяв в плен, начнут издеваться, вырезать комсомольские значки на груди, красные звезды… Гнал эти мысли от себя со всей злостью, на какую был способен… Что-то зашуршало в траве. Услышал бешеные толчки собственного сердца. И снова — тишина. Прислушивался долго-долго. Нет, тихо. Наверное, это был сурок или полевая мышь. Посмотрел на светящийся циферблат часов. Прошло уже около часа. Пора проверить, что у Стаха. Засунул гранаты за пояс (догадавшись, однако, предварительно вынуть из них запалы) и медленно пополз к тропе. С той стороны услышал шорох: Стах. Наверное, он чувствовал себя не лучше, чем я. Очень тихо, сквозь зубы, свистнул. Шорох усилился. Стах явно торопился. Наконец мы встретились и быстро, тихо стали перешептываться. До чего хорошо вдвоем! Еще через час «сползлись» с соседом слева. Было уже два часа ночи. Кругом по-прежнему стояла тишина. Через час-полтора должно было начать светать. Немного клонило ко сну, но мысль о возможном нападении все-таки не отступала и заставляла бодрствовать. И еще около часа миновало — скоро опять «сползусь» со Стахом. Вдруг слева из предрассветной тьмы на меня бесшумно надвинулась какая-то бесформенная масса… Выстрелить? Метнуть гранату? А как приказ Дорофеева — прибегать к оружию только при явной опасности? Но, может быть, это и есть явная опасность? Нет, не буду стрелять. Стах ведь тоже видит это чудовище, а молчит! А я на два года старше его, я не буду менее выдержанным, чем он! Честное слово, целая жизнь прошла, пока я наконец услышал явственную поступь и мерное дыхание, исходившее от принявшей более четкие очертания массы, у меня уже палец свело на спусковом крючке винтовки! Масса оказалась верблюдом, черт бы его побрал! А между горбами дремала, качаясь, какая-то женщина. Но не она правила верблюдом. Его в поводу вел старик киргиз, бесшумно шагая в мягких сапогах — ичигах. Во весь рост неожиданно и, как я думал, грозно вырос я перед стариком. Однако он нисколько не испугался и спокойно остановился. Вслед за хозяином остановился и верблюд. Равнодушно открыла глаза женщина. Мой запас киргизских слов был более чем ограничен. Задать вопрос: «Куда идешь?» — я еще мог, но понять, что мне ответят, был уже неспособен. Стараясь казаться уверенным, я внушительно спросил: — Кайда барасым? В немногословном ответе разобрал название кишлака Дамбурачи. Да, путь в Дамбурачи проходит действительно тут. Впрочем, что из этого? А что, если старик врет? Подошел Стах. Оставил его охранять тропу одного, а сам повел задержанных к «крепости». Женщина, должно быть, не поняла, что происходит. Она снова уснула на верблюде. Но, если она и прикидывалась, то мою бдительность не усыпила: я держал винтовку по всем правилам конвоирования — на изготовку. Так и довел задержанных до «крепости». Навстречу вышел Дорофеев. Усиленно повторяя отдельные знакомые нам слова, вдвоем постарались объяснить старику, что он до утра должен будет оставаться здесь, с нами. Старик, должно быть, догадался, что мы хотели ему внушить. Он молча сел на корточки. Верблюд тоже, наверное, понял, в чем дело: поочередно поджимая под себя длинные ноги, он как бы сложился и лег на брюхо. Женщина слезла и устроилась возле старика: оставаться так оставаться. Через несколько минут все они — и старик, и женщина, и верблюд-спали. Люди, задержанные полчаса назад топографами Зверевым и Веришко, проявляли больше темперамента. По их словам, они направлялись в Фергану, а так как ночью двигаться прохладней, то они настаивали, чтобы их отпустили. Ланина терпеливо показывала им на часы и на начинающий светать горизонт. Наконец в четвертом часу утра со стороны перевала Терс-агар донеслось несколько негромких, похожих на артиллерийскую стрельбу, взрывов. Мы встревожились пуще прежнего. Неужели у бандитов, ко всему прочему, есть вьючные пушки? Неужели и этим обеспечили их зарубежные «друзья»? Вскоре со стороны перевала взлетели две красные ракеты: сигнал возвращения Пастухова. Что же там произошло? Наконец стало совсем светло. Мы отпустили задержанных — дольше держать их было незачем, — но спокойствия тем не менее это нам не прибавило. Когда же Пастухов снова присоединится к нам? И удалось ли ему помочь суминской группе, если в ней кто-нибудь все-таки уцелел?БОЙ ПОД ПЕРЕВАЛОМ ТЕРС-АГАР
Голос часового: «Едут!» — раздался с наблюдательного пункта только часов через шесть после всего этого. А мы так и не уснули! Два наших бинокля переходили из рук в руки, мы все мучительно считали: один, два, три… восемь, девять… двадцать два, двадцать три, двадцать четыре… Неужели кого-то нет? Или просто мы ошиблись, просчитались? Опять считаем сначала. Шестнадцать, семнадцать… Двадцать, двадцать один… Как медленно движется взвод! Нет, все — уже только река разделяет нас — двадцать пять! Ура! Взвод подъезжает к «крепости» шагом. Люди и лошади, покрытые толстым слоем бурой пыли, одинаково измучены. Пастухов командует: — Отпустить подпруги и отдыхать! Кажется, это единственная команда, которую бойцы еще в состоянии исполнить. Отпустив подпруги, они валятся прямо на землю и мгновенно засыпают. А Пастухов, едва волоча ноги, направляется в кибитку к Дорофееву. Рассказ его лаконичен. Не встретив на своем пути никого, взвод под вечер уже приблизился к перевалу Терс-агар. Вдруг один из дозорных привел к Пастухову задержанного — средних лет всадника, ехавшего верхом на снежно-белой лошади. Киргиз был страшно запуган и делал вид, что совершенно не понимает, почему ему запретили двигаться дальше. Пастухов начал через переводчика допрашивать его, что он знает о геологах и басмачах, но киргиз горячо уверял, что не знает ни о тех, ни о других, а сам направляется из Алтын-мазара на пастбище к скоту. Конечно, эго не могло не возбудить подозрений. Человек, только что переваливший Терс-агар, никак не мог не слышать о басмачах, и Пастухов прекратил допрос, сказав задержанному, что арестовывает его. Тогда тот решился: сказал, что да, басмачи убили геологов. Это так. Он даже может показать, где лежат трупы русских. Они совсем рядом. А не говорил он потому, что боялся: вдруг и его примут за басмача… Действительно, место расправы басмачей с ленинградцами оказалось очень близко — минут через десять киргиз уже привел туда взвод. Это была небольшая ровная площадка, на которой отчетливо виднелись почти свежие следы множества людей и лошадей. Немного же в стороне, около большого камня, лежали трупы трех мужчин. Дико изуродованные, они были чуть забросаны камнями. У одного трупа были вырваны глаза, а рядом валялись разбросанные документы и полевая сумка заместителя начальника геологической группы М.Г.Сумина. Впрочем, самого его среди убитых не оказалось. В плен ли взяли его бандиты или убили и сбросили вниз, в реку, кто знал? У пограничников не было времени предать трупы земле: следовало спешить на помощь тем, кто, может быть, еще оставался жив. Они бережно уложили тела погибших товарищей под большой скалой и получше прикрыли их сверху камнями. Дальше пограничники продвигались в глубоком ущелье Алтын-дары. Справа — кипящая река, впереди — грозные серые скалы. А тропу то и дело преграждают огромные валуны — она так и вьется среди них… Вот из-за этих-то валунов и раздался первый залп по бойцам. К счастью, он не нанес вреда. Басмачи не рискнули подпустить пограничников поближе, они начали стрельбу издалека. Взвод спешился и залег. Начало быстро темнеть. Пастухов воспользовался этим и дал команду продвигаться вперед. Но басмачи все-таки обнаружили наших сверху и открыли сильный огонь. Судя по силе его, стреляло человек сто или полтораста. Пастухов ответил огнем станкового и двух ручных пулеметов. Это не помогло. Тем более что вскоре стало ясным намерение басмачей: не наступать, а только преградить бойцам дорогу к перевалу. Тогда Пастухов прекратил бесцельную пальбу. Попытка ударить по бандитам в лоб сорвалась. Что же предпринять? Пробраться к басмачам в тыл по ущелью реки — невозможно, сразу обнаружат. Оставалось только одно: использовать другое, безымянное ущелье, безводное, тянувшееся слева. Пройдя по нему, можно сразу оказаться выше басмачей, над их позицией, и потом зайти к ним в тыл. Пастухов приказал командиру отделения Харченко продвигаться с восемью бойцами именно по этому ущелью. Через некоторое время Харченко двинулся вперед. Но лишь только он втянулся в ущелье, как басмачи обнаружили его группу и открыли по ней беглый огонь. Пастухов подал отделению Харченко сигнал к отходу. Отделение отступило без потерь. Но что делать дальше? Ведь за перевалом наши люди, нельзя же оставлять их без помощи! Пастухов предпринял еще одну попытку прорваться. Снова в лоб. Может, удастся теперь, при полной темноте? Однако в ответ со стороны басмачей загрохотала… пушка! Оказалось, что зарубежные покровители бандитов снабдили их даже артиллерией. Снова пришлось отступить… Пастухов рассказывал об этом так, словно признавался в преступлении. Но что иное он мог сделать? Должно быть, это так ясно было написано на лицах всех, что впервые с момента возвращения лицо самого Пастухова наконец немного посветлело.ЕЩЕ ОДИН «ВОЕННЫЙ СОВЕТ»
Отступление пастуховского взвода, как ни горько нам было в этом сознаться, знаменовало событие куда более значительное, чем просто временная неудача взвода. Приходилось прекратить работы всей экспедиции! Действительно, разве мыслимо работать в условиях, когда даже воинское подразделение не может пробиться куда ему нужно! А в районе предстоявших нам работ — это было теперь совершенно очевидно — оперирует не одна, а по меньшей мере три-четыре банды, хорошо снабженные боеприпасами и даже артиллерией. С тяжелым сердцем пришлось соглашаться с выводом, который сформулировал Иван Григорьевич Дорофеев, выслушав Пастухова: пока басмачи не ликвидированы, вынуждены отступить и мы, вся экспедиция. Он мужественно взял на себя ответственность за это горькое решение, означавшее к тому же, что мы отказываемся от дальнейших попыток прийти на выручку геологам из суминской группы. Каждый из нас, и я в том числе, естественно, сразу почувствовали, что за это решение и мы в ответе. И не дай мне бог, как говорится, еще раз оказываться перед необходимостью, если даже и не принимать такие решения самому, то хотя бы молчаливо соглашаться с ними! На другое утро мы пустились в обратный путь… Ни обычных шуток, ни мерно струящихся дорожных разговоров, без которых не обходится длинный путь, не слышалось в этот день в караване. Ничего, кроме унылого скрипа седел да неспешного, ровного топота сотен копыт. Подавленные, мы расположились на ночлег, безрадостные встали… На другой день, одолев перевал с обратной стороны (еще так недавно мы шли через него, окрыленные надеждами!), мы решили отдохнуть до обеда, чтобы двинуться, когда спадет жара. И вот на этом привале нам довелось узнать о судьбе Сумина и всех, кто оставался с ним. Примерно в полдень прискакал к нам вдогонку с перевала юноша киргиз на взмыленном коне. Горячо жестикулируя, он рассказал, что вчера они (кто были эти «они», понять из его слов было нельзя) подобрали на берегу Кызыл-су одного русского — фамилию он не знает, а зовут Николай. Этот Николай тяжело ранен, у него несколько ран, и все тяжелые, он еле спасся от басмачей, и сейчас его везут сюда. Мы со Стахом и еще несколько человек немедленно помчались навстречу этому Николаю. Неужели удалось сбежать из-под расстрела как раз Сумину? Кричу Стаху на скаку: — Стах, может, правда Сумин спасся? Ветер забивает рот. Стах молча кивает головой. Впрочем, сейчас увидим. И, выскочив на большую поляну, мы увидели… На краю ее стояли верхами двое конных. Один — молодой киргиз с дробовиком через плечо, зорко вглядывавшийся в нас, а на другом коне кулем, бессильно бросив поводья на его шею и держась обеими руками за седло, — Сумин. Но Сумин ли это? Лицо распухло, неузнаваемо, голова покрыта запекшимися ранами, замотана серыми от грязи тряпками. Подъехали к нему вплотную, сняли с лошади, бережно уложили в тень. Он не реагировал ни на что. Хотя глаза и были открыты, они не выражали ни радости, ни страха, ни удивления — никаких чувств. Пустые, совершенно отчужденные от всего окружающего. А это был живой, энергичный, бодрый человек… Он пришел в себя только спустя несколько дней, когда попал уже в Фергану. Его доставили в тяжелом состоянии сперва в больницу в Уч-кургане на специальной санитарной машине, которую мы вызвали к нам навстречу конными нарочными, а оттуда перевезли дальше, в Фергану. На месте мы смогли только промыть его раны спиртом и одеколоном — других медикаментов у нас не было — и наложить повязки из чистого бинта. В Фергане он поправился от ран окончательно и, по мере того как снова крепло его здоровье, все больше времени уделял своим записям: старался по свежим следам занести на бумагу, что произошло с ним и его группой. Эти записи сейчас передо мной, и я хочу предложить выдержки из них вниманию читателя.ИЗ ЗАПИСОК Н.Г. СУМИНА
Если в какой-нибудь рядовой, будничный день вдруг врывается чудовищная катастрофа, то потом, когда стараешься восстановить последовательное течение предшествовавших ей событий, невольно и они начинают казаться озаренными многозначительными сигналами тревоги. На самом деле ничего подобного: и солнце встало обычное, и небо не полыхало зарницами, и вообще никто не ощущал ничего особенного. Я все время боюсь теперь, что, начав прошедшим числом заносить на бумагу события того дня, невольно стану придавать чересчур большое значение мелочам. Тем не менее я не вправе и пренебречь ими: я — единственный человек, чудом уцелевший из нашего отряда, и если я не вспомню всего по свежим следам, то никто уже не сможет меня дополнить. Итак, день 9 июля начался, право, самым спокойным образом. Прошла неделя, как мы развернули более или менее нормальную работу в ущелье Джаргучака, где до революции крохоборчески и хищнически поклевывал из земли золото Поклевский-Козел. Одни товарищи из нашего отряда занимались геологической съемкой, другие — съемкой топографической, третьи — поисками новых кварцевых жил и разведкой, не таят ли эти жилы крупицы самородного золота, четвертые расширяли доставшуюся нам в наследство убогую штольню. Правда, работы не были доведены еще до полного разворота. К приезду Дмитрия Васильевича Никитина, которого я замещал, я должен был нанять и приставить к делу до восьмидесяти человек, пока же со мною работали только человек двадцать — двадцать пять, а специалистов и того меньше. Их вообще пришлось привезти с собой всех: и геологов, и топографов, и подрывников, и забойщиков. Это были только русские; уже на месте, в процессе работы, они готовили новые кадры практиков из местного населения. Однако и чернорабочих в районе Джаргучака было не так просто нанимать. Ведь предварительно следовало доставить сюда, за триста километров от железной дороги, и инструменты и питание. А доставка — вьюками. Легко ли обеспечить ее! Впрочем, несмотря на все трудности, работа двигалась, и самочувствие было превосходное. Каждый день штольня радовала новыми, интересными находками. Я по своей должности начальника целые дни проводил на ногах: обязан был и в штольне побывать, и по лагерю распоряжения отдать, и на разведке кварцевых жил убедиться, что все идет как полагается. День 9 июля тоже предстоял хлопотливый. Я имел привычку обязательно составлять для себя на завтра кратенькую памятку-расписание: что необходимо сделать. Такие же индивидуальные письменные задания раздавал и сотрудникам: они очень дисциплинируют. Казалось, что, поскольку работа ото дня ко дню становится нормальнее, моя памятка должна ото дня ко дню сокращаться. Но она вела себя как раз иначе: разбухала да разбухала… Первой записью 9 июля в ней было: «Проверить, аккуратно ли доставляется вода в штольню». Дело в том, что в штольне особенно донимает жажда. От отбиваемой породы взвивается пыль, в горле першит, а дышать на памирских высотах и так нелегко. Поэтому забойщиков в Джаргучаке водой следовало снабжать щедро. Но здесь снабжение водой — проблема, хотя от штольни до речки всего полтораста — двести метров. Правда, это если считать по прямой, а по прямой в горах один ветер носится… Поднялся я к штольне, проверил: нет, все в порядке, первой смене воду доставили вовремя. Хорошо. Сам, конечно, пить у них не стал — сдержался. Решил: лучше, когда пройду к безымянному логу, спущусь к речке и напьюсь вволю. Что забирать у людей считанные глотки! Однако, прежде чем я дошел до лога, пришлось отклониться в сторону. На полдороге меня окликнул Ваня Чуваев. Это был молодой студент-практикант, тоже ленинградец, как и я; он проходил в нашем отряде практику. Девятого я поручил ему разведку кварцевой жилы. Дело у него не ладилось, и я по лицу его увидел, как ему отчаянно стыдно. Должно быть, он уже решил, что вообще зря пошел на геологическое отделение университета, что из него никогда не выйдет ничего путного… Еще бы! Мало того, что у него ничего не получилось, так к тому же все неудачи постигали его на глазах Джармата, молодого рабочего-киргиза, отряженного ему в помощь и для учебы, а вместо этого оказавшегося обреченным наблюдать только его беспомощность… Посмеялся я над Чуваевым, рассказал ему с Джарматом о своей собственной практике, о том, как тоже ничего не получалось вначале, это же обычное дело! Джармат понимающе улыбался моему рассказу, все время вежливо кивал головой, но что касается Чуваева, то его настроение переломить было не так легко. Тогда я расстелил брезент, вооружился зубилом и молотком и принялся сам демонстрировать, как долбить бороздку, чтобы порода целиком ссыпалась на подстилку. Джармат в это время почему-то перестал смотреть на меня — уставился во все глаза на лагерь. Помню, я даже пошутил: — Что ж ты на меня, Джармат, не смотришь? Уж не Никитина ли увидал? Мы с нетерпением ждали Дмитрия Васильевича, в особенности я. Трудно было мне без него во главе большого отряда. Хоть я почти кончал университет — учился на последнем курсе, — но все же был только студентом, не то что он, сложившийся крупный ученый. Джармат как-то криво усмехнулся. — Нет, — сказал, — никого не вижу. Когда увижу, сразу тебе скажу! — и тут же решительно вновь повернулся ко мне, как будто чрезвычайно заинтересованный моей демонстрацией приемов работы геолога. Теперь-то я понимаю, что он тогда высматривал, да теперь поздно… Ему важно было разглядеть, захватили басмачи лагерь или кет. Время ему уже присоединяться к ним или надо еще какое-то время продолжать разыгрывать из себя недалекого парня, который рад, что его учат чему-то новому и который только и делает то, что ему скажут… Впоследствии обнаружилось, что подавляющее большинство подсобных рабочих, нанятых мною в кишлаке Алтын-мазар, близ ущелья Джаргучака, не один Джармат, оказались басмачами. Поступить к нам на работу было для них самой надежной и удобной маскировкой. А остальные были так запуганы ими, что хотя, наверное, знали о подготовке нападения, но молчали. Если бы я догадывался об этом! Но все это выяснилось позже. А тогда я только обрадовался, что сумел «заинтересовать» Джармата! Вскоре, когда у Чуваева и Джармата дело наладилось, я отправился дальше. Дошел до безымянного лога, где намечал по плану посмотреть одну жилу, осмотрел ее и хотел уже спуститься к речке — жажда начала донимать вовсю, — как неожиданно услышал взрыв динамитного патрона. В первую секунду удивился — никто не должен был производить взрывов сейчас, — а затем рассердился: опять этот Борис Громилов позволяет себе вольничать и рвать буровые скважины в штольне когда ему вздумается! Рассердился я не на шутку. Если спустить это с рук, если разрешить каждому, вопреки общему плану, действовать на собственный страх и риск, несчастных случаев не оберешься! Я даже про жажду забыл, стал тут же спускаться назад. Иногда следует наказывать провинившихся немедленно! И вот не иду — лечу вниз. А тут по дороге слышу еще три винтовочных выстрела. Кто стреляет? Зачем? Черт знает что! Наконец достигаю штольни — метров тридцать остается, не больше, — и опять натыкаюсь на возмутительную картину. Вместо того чтобы работать, улеглись на площадке перед входом в штольню Мерщиков и Палаев и бездельничают: лениво перебрасываясь редкими словами, — разглядывают лагерь, благо он прямо под ними. Даже шагов моих не расслышали, так увлеклись чем-то (правда, я ходил в ичигах, это такие мягкие сапоги). Ну, подумал: если Мерщиков и Палаев уже распустились, значит, действительно пора принимать строжайшие меры. Мерщиков — это самый солидный из всех практикантов, член партии, секретарь комсомольской ячейки своего курса в университете; Палаев человек и вовсе в годах; по-моему, даже дедушка. И работник безупречный — лучший забойщик. Как же они позволяют себе так расшатывать дисциплину! Подошел к ним тихонько сзади и громко, чтобы было слышно всем, как можно язвительней спрашиваю: — Как долго еще будете видами любоваться? Напугал их сильно: они не ждали, что кто-то у них за спиной. Повернулись — лица белее снега. — Ну? — переспрашиваю. В этот момент одновременно — пуля откуда-то вж-ж-жик и кричит Мерщиков: — Ложись! Я не сообразил, что он мне, потому что свист пули не связался в мозгу с тем, что это пуля. Я даже оглянулся: откуда свист? И кому Мерщиков кричит? Лишь когда просвистела вторая пуля, а Палаев плачущим голосом завопил: «Да ложись ты, за ради бога!» — я повалился на землю. — Что там? — спросил у них почему-то шепотом. — Басмачи! — выдохнули они единым дыханием одно и то же слово. Басмачи?! В голове вновь пронеслись взрыв динамитного патрона, заставивший меня спуститься, три винтовочных выстрела по дороге… Так вот в чем дело… Но откуда банда? И сколько их? Надо как-то обороняться! Я пополз к Мерщикову и Палаеву, чтобы самому с обрыва посмотреть, что творится в лагере. Вот он, наш дом родной, такой недосягаемый сейчас. Кухонные полотенца, развешенные для просушки на кустах возле речки нашим хлопотуном-поваром Николаем Васильевичем Раденко. Самого Николая Васильевича что-то не видать. Бочка воды с валяющейся рядом крышкой. При мне никто бы не позволил так швырнуть ее в сторону! Колышек, к которому привязывали баранов, предназначавшихся на обед-Каждый, проходя мимо, считал своим долгом похлопать барана по жирной спине: «Ай, какой шашлык замечательный! Ай, какой бара-кабоб!» (Бара-кабоб — это баран, сваренный в большом котле целиком, с курдюком. Его варят на пару, для чего на дно котла укладывают деревянную решетку. Блюдо такое, что пальчики оближешь!) Хотя мы обитали в этом лагере всего полторы недели, но он казался нам уже не менее обжитым и уютным, чем наши ленинградские квартиры. У геологов, как у солдат: где взвод, где отряд, там и дом. А окоп ли это, шалаш, палатка — какая разница! Ни у Палаева, ни у Мершикова, так же как у меня, не было с собой ни винтовки, ни пистолета. Я лежал рядом с ними и лишь кусал губы от злости. Басмачи творили в лагере что хотели.
Разделив между собой добычу — я их видел как на ладони, — они примеряли наши рубашки и штаны, телогрейки и сапоги, прятали в мешки мануфактуру; у нас было несколько отрезов, они разрезали их на равные доли…
До меня доносилась их лютая ругань: они делили добычу, как шакалы, хрипя от жадности из-за каждого куска. Лиц их различить не мог ни одного — нас разделяло метров двести, но тем не менее многих узнавал по общему облику, по походке, по голосу. Как я был доверчив! Как я был беспечен! Скольких бандитов напринимал в отряд!
Увидел, как одного из басмачей другой лупцует плетью по плечам, аж вата из рукавов взвивается! Узнал того, кто с плетью: Худай-Назар. Определенно Худай-Назар, рабочий, которого я прикрепил лично к себе. Но он, значит, начальник у них! А как он мне нравился! Старательный, исполнительный, И наниматься первым пришел, и русский лучше всех других знал. Нарадоваться я на него не мог. Вот тебе и Худай-Назар!
По лагерю носились выброшенные отовсюду бумаги, валялись сломанные инструменты, сорванные с петель двери… Все, что мы так старательно и с таким трудом налаживали, — все пошло прахом!
Мерщиков спросил меня:
— Насмотрелся? Ну, что дальше делать будем?
Под рукой у него лежал динамитный патрон. Еще один — у Палаева. У меня и этого даже не было. Небогато оружия против целой банды!
— Что делать? — переспросил я, чтобы только выиграть время: незавидная это должность — быть начальником! — Погоди. Скажи сначала, что произошло, я же ничего не знаю. И что в штольне? Там есть кто-нибудь?
Рассказывал Мерщиков медленно, хотя события, о которых шла речь, развертывались стремительно. Часа полтора назад, закончив съемку и спускаясь к лагерю, он заметил на противоположном берегу Джаргучака двоих всадников в европейских костюмах, с винтовками за плечами, двигавшихся с несколькими другими людьми в национальной одежде. Правда, все они почему-то двигались не к лагерю, а в обратную сторону, и Мерщикову подумалось: «Странно… Кто такие?»
Но он успокоил себя тем, что это, наверное, Мымрин и Юрьин, наши сотрудники, которых я несколько дней назад отправил в Алайскую долину за продуктами. Должно быть, они теперь вернулись и я снова послал их за чем-нибудь из лагеря с рабочими.
И он продолжал спокойно спускаться.
Лишь оказавшись в самом лагере, понял, что произошло что-то недоброе. Во-первых, ему не встретилось ни живой души. Во-вторых, когда он подошел к своей землянке, то увидел, что вырванная, как говорится, с мясом дверь брошена наземь и кое-где при этом порублена.
Ни у Палаева, ни у Мершикова, так же как у меня, не было с собой ни винтовки, ни пистолета. Я лежал рядом с ними и лишь кусал губы от злости. Басмачи творили в лагере что хотели.
Разделив между собой добычу — я их видел как на ладони, — они примеряли наши рубашки и штаны, телогрейки и сапоги, прятали в мешки мануфактуру; у нас было несколько отрезов, они разрезали их на равные доли…
До меня доносилась их лютая ругань: они делили добычу, как шакалы, хрипя от жадности из-за каждого куска. Лиц их различить не мог ни одного — нас разделяло метров двести, но тем не менее многих узнавал по общему облику, по походке, по голосу. Как я был доверчив! Как я был беспечен! Скольких бандитов напринимал в отряд!
Увидел, как одного из басмачей другой лупцует плетью по плечам, аж вата из рукавов взвивается! Узнал того, кто с плетью: Худай-Назар. Определенно Худай-Назар, рабочий, которого я прикрепил лично к себе. Но он, значит, начальник у них! А как он мне нравился! Старательный, исполнительный, И наниматься первым пришел, и русский лучше всех других знал. Нарадоваться я на него не мог. Вот тебе и Худай-Назар!
По лагерю носились выброшенные отовсюду бумаги, валялись сломанные инструменты, сорванные с петель двери… Все, что мы так старательно и с таким трудом налаживали, — все пошло прахом!
Мерщиков спросил меня:
— Насмотрелся? Ну, что дальше делать будем?
Под рукой у него лежал динамитный патрон. Еще один — у Палаева. У меня и этого даже не было. Небогато оружия против целой банды!
— Что делать? — переспросил я, чтобы только выиграть время: незавидная это должность — быть начальником! — Погоди. Скажи сначала, что произошло, я же ничего не знаю. И что в штольне? Там есть кто-нибудь?
Рассказывал Мерщиков медленно, хотя события, о которых шла речь, развертывались стремительно. Часа полтора назад, закончив съемку и спускаясь к лагерю, он заметил на противоположном берегу Джаргучака двоих всадников в европейских костюмах, с винтовками за плечами, двигавшихся с несколькими другими людьми в национальной одежде. Правда, все они почему-то двигались не к лагерю, а в обратную сторону, и Мерщикову подумалось: «Странно… Кто такие?»
Но он успокоил себя тем, что это, наверное, Мымрин и Юрьин, наши сотрудники, которых я несколько дней назад отправил в Алайскую долину за продуктами. Должно быть, они теперь вернулись и я снова послал их за чем-нибудь из лагеря с рабочими.
И он продолжал спокойно спускаться.
Лишь оказавшись в самом лагере, понял, что произошло что-то недоброе. Во-первых, ему не встретилось ни живой души. Во-вторых, когда он подошел к своей землянке, то увидел, что вырванная, как говорится, с мясом дверь брошена наземь и кое-где при этом порублена.
 Он кинулся в землянку (а они у нас большие, разделенные внутри на отдельные, самостоятельные помещения; с порога увидеть всю внутренность землянки невозможно). Тут ему окончательно стало понятно, что произошло…
Вещи валялись вверх тормашками. Мешки с сахаром и мукой были вспороты, пол — сплошь в белых следах мягких ичигов: не отдельно следы подметки и следы каблука, а сразу всей стопы. Стол свален набок. Стекла в окошках выбиты. У входа в спальню лежал, раскинув мертвые руки, словно и теперь не пуская дальше, Николай Васильевич Раденко, наш повар. Над залитым кровью лицом его, жужжа, вились мухи, а в сердце торчал так и не выдернутый широкий узбекский нож…
Так вот кто такие были всадники с винтовками за плечами! Не успели, значит, они показаться в лагере, как к ним тотчас примкнули их сообщники, до сих пор маскировавшиеся под наших рабочих и только и ждавшие сигнала!
Мерщиков не стал ожидать, пока басмачи снова вернутся за чем-нибудь в лагерь (и так было непонятно, отчего они сейчас оставили его пустым и куда подевались), — он решил немедленно бежать отсюда и предупредить товарищей, остававшихся на работе вне лагеря, что произошло дома. Одну только вещь захотел захватить с собой: какое-нибудь огнестрельное оружие. Но басмачи упредили его: единственное оружие, не унесенное ими, был нож, торчавший в сердце Раденко. Мерщиков вынул его из раны, бережно обтер и засунул за пояс. Из груди Николая Васильевича не вылилось уже ни кровинки…
В штольне, куда поднялся Мерщиков, он застал Палаева и Бориса Громилова. Рассказал им все, что видел, и сам, в свою очередь, узнал кое-что, что подтвердило его наихудшие опасения. А именно: что мой рабочий Худай-Назар, которого они еще три часа назад послали из штольни за водой, почему-то до сих пор не вернулся. Под разными предлогами ушли и остальные местные рабочие… В штольне оставались лишь они двое.
Борис Громилов немедленно решил вступить с басмачами в бой. Он не мог находиться в бездействии, когда вокруг развернулись такие события! Он не первый раз принимал участие в памирских экспедициях с Н.В.Крыленко и Д.В.Никитиным, никто до сих пор не смел срывать их работу. Он и сейчас не позволит бандитам чувствовать себя победителями, он покажет им, кто здесь настоящий хозяин!
Его отговаривали, сколько могли. Ему доказывали, что надо дождаться меня и Чуваева: пять человек все-таки больше, чем трое, а нам все равно не миновать штольни, когда, закончив работу, мы станем спускаться к лагерю.
Но Борис не желал слушать никаких резонов. Так с ним и не совладали. Он зарядил пять динамитных патронов, написал на клочке бумаги коротенькую записку. Усмехнувшись, со словами: «Не беспокойся! Это лишь на всякий случай!» — передал ее Мерщикову и, пожав ему и Палаеву руки на прощание, начал спускаться к лагерю. Он хотел разведать, почему и надолго ли басмачи оставили лагерь.
Вскоре после того, как он скрылся с глаз, где-то в районе лагеря, судя по звуку, раздался взрыв динамитного патрона и одновременно три винтовочных выстрела. (Это был тот самый взрыв и те самые выстрелы, которые услышал и я.) Больше Громилов не показывался…
Таков был рассказ Мерщикова. Он не прояснил мне ничего, кроме одного: басмачи, не желая располагаться в нашем лагере, разбили стоянку где-то вне его. Скорее всего, они расположились вне лагеря потому, что он находился на дне ущелья и, значит, был под прицельным огнем любого, кто сумел бы оседлать господствующие высоты. Они предпочли оседлать эти высоты сами. Вывезти же из лагеря, что они хотели, им и так никто не мог помешать. Мерщикову просто повезло, что, когда он пришел туда, там не оказалось ни одного басмача.
И картина, которую наблюдал я, и винтовочные выстрелы, раздавшиеся после сумасбродного ухода Громилова, свидетельствовали об одном: что басмачи хотя специально и не сторожат лагеря, но не оставляют его без присмотра. Во всяком случае, навещают его часто, должно быть решив разграбить до конца: если не в один прием, так в несколько. Добра у нас было действительно много, враз не вывезешь!
Положение, таким образом, сложилось отчаянное. Раденко убит. Эта же участь, скорее всего, постигла Громилова. Ни слуху ни духу о забойщике Тремаскине. Налицо всего-навсего трое: Мерщиков, Палаев и я. Вероятно, присоединится еще Чуваев: на этот склон ущелья басмачи пока не забирались, и потому, я надеюсь, Чуваев жив. Наконец, Джармат. Впрочем, все местные рабочие пока что исчезли, а Джармат что-то чересчур подозрительно усмехался. Как бы эта усмешка не стоила Чуваеву жизни. Надо немедля отправляться за ним, он же ни о чем не догадывается!
И оружия никакого у нас, только динамитные патроны…
Когда я добрался до Чуваева (я отправился к нему сам), он как ни в чем не бывало продолжал работать. Дело, чувствовалось, идет уже как надо, он так и сиял.
— А где Джармат? — первым долгом спросил я.
— Ушел за молотком в лагерь — позабыл там молоток.
— Давно ушел?
— Нет, только что.
— А ну, кликни его назад!
Все было ясно: Джармат, увидев, что я поднимаюсь от штольни, соврал Чуваеву первое пришедшее ему в голову. Чуваев же, увлеченный работой, просто не видел меня до поры до времени.
Чуваев послушно закричал: «Джармат! Эй!», присоединился к нему и я, но, как мы ни надрывались, Джармат не вернулся. Только горы возвращали нам насмешливое эхо: «Джармат! Джармат!» Мы могли кричать до утра…
Спустились с Чуваевым к штольне. За время моего отсутствия у Мерщикова и Палаева ничего нового не случилось. Теперь мы были в сборе все, за исключением Тремаскина. Его судьба осталась неизвестной никому из нас. Но, судя по тому, как расправились басмачи с Раденко, не приходилось надеяться, что Тремаскни уцелел. 8 июля он расхворался животом, и я разрешил ему остаться на следующий день в лагере: отлеживаться. Уж лучше бы выгнал больным на работу!
Подсчитали наши «богатства»: сколько в наличии спичек, табаку, динамита. Продукты подсчитывать не пришлось: их не было с нами вообще, если не считать единственной карамельки в бумажке, нашедшейся в кармане Мерщикова. Он честно выложил ее, но мы единодушно оставили конфету ему.
Еще страшнее, однако, было то, что и спичек у нас оказалось меньше двух коробок на всех. А надо бы рассчитывать на скитания в горах по меньшей мере на протяжении суток семи-восьми, потому что план мы выработали такой: вступать с басмачами в бой мы не можем — вчетвером, безоружные, против целой банды — это означало обрекать себя на бессмысленное и бесполезное самоубийство. Следовало уходить отсюда и добираться до наших. Но как это сделать? Басмачи только потому и не предпринимали против нас ничего, что знали: единственный выход из того ущелья, в котором мы сидим, — под их контролем. И рассчитывали, наверное, на то, что волей-неволей придем к ним сдаваться.
Ну, пусть ждут!
Мы намеревались вырываться из ущелья по руслу Джаргучака, но не вниз по течению реки, а вверх. Подняться через безымянный лог до истока, а там еще выше и, перевалив Заалайский хребет, добраться потом до наших кружным путем.
Но пока что мы не могли двинуться еще никуда — в лагере продолжали находиться басмачи, и, если бы мы начали подъем, то на ряде участков его оказались бы видны им с такой же отчетливостью, как мишени в тире.
Впрочем, то, что мы остались на месте, под вечер обернулось для нас замечательной удачей. Неожиданно мы увидели невдалеке от себя задумчивого черненького барашка — того самого, который предназначался на сегодняшний обед. Как он отвязался от колышка, мог бы рассказать, пожалуй, только он сам, но, если бы и умел говорить по-человечески, вряд ли мы стали бы его слушать. Куда важнее был сам факт: крайне задумчиво, но он все же направлялся в нашу сторону — к штольне!
И мы решили помочь ему ускорить этот путь.
Правда, наиболее осторожный из нас — Мерщиков — советовал, во-первых, подумать, нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны басмачей, а во-вторых, не торопиться и не рисковать жизнью, высовываясь из-за укрывающих нас камней. Но ведь баран мог передумать и, не дойдя до нас, свернуть куда-нибудь! Это соображение перевесило все остальные, и я пошел навстречу нашему кучерявому спасению, нашему четвероногому шашлыку.
Честное животное оказалось никаким не подвохом. Отвязавшись от колышка, оно ушло из лагеря куда глаза глядят и, когда я наконец протянул к нему руки, было настолько утомлено и обессилено, что даже не попыталось увильнуть от меня.
С бараном нам стало неизмеримо спокойней — мы были обеспечены пищей теперь не на день и не на два!
Приблизился вечер. Гуще ложились тени от Заалайского хребта. Наконец солнце совсем ушло за пики памирских великанов. Наша одежда, к сожалению, была отнюдь не такой, чтобы могла согреть, да еще ночью в горах: майки, юнгштурмовки. В остальные дни под вечер мы уже кутались в лагере в теплые барашковые шубы, сидя возле котла, в котором закипал чай или аппетитно шипел плов. Сейчас нашей единственной коллективной шубой был тощий черненький барашек, а ужином — воспоминания обо всех ужинах, съеденных когда-нибудь в жизни.
Связав барашку ноги, мы перевернули его на спину и, не обращая внимания на жалобное тонкое блеяние, кто как мог пристроились возле него, как печки, прямо на камнях.
Подстелить было нечего…
А тут еще потянуло ледяным ветром с ледников. То и дело то один, то другой из нас вскакивал, по-извозчичьи похлопывал сам себя по плечам и спине и до тех пор прыгал и притопывал на месте, пока усталость вновь не валила с ног на голые камни.
Так провели время до утра. Надеялись, что, может быть, басмачи уйдут на ночь из лагеря и тогда мы сможем разжиться какими-нибудь остатками продуктов из запасов отряда и теплой одеждой. Но надежды не сбылись. Лагерь не остался пустовать на ночь, на рассвете мы тоже увидели в нем людей.
Тогда, пока солнце не поднялось выше, мы быстро снялись с места и начали подъем.
Рассвет обливает памирские пики красками неописуемых оттенков. Снеговые вершины словно изнутри- светятся то розово-оранжевым, то голубым, то палевым. Беспредельны глубина и прозрачность густосинего неба. Из-под ног, шумно треща крыльями и как-то по-поросячьи взвизгивая, парами вылетали горные индейки, над головами проносились громадные грифы. Размах их крыльев достигает двух метров, и становится не по себе, когда на тебя вдруг падает тень такой птицы. Стада только что проснувшихся кийков — горных козлов, мчатся вниз, лишь свист в ушах стоит да грохот камней, сбитых их копытами и несущихся вдогонку. Но ни один камень, с какой бы быстротой ни летел, не догонит кийка!
Дивно хорош Памир на рассвете! Но нам было не до красот. С губами, пересохшими и уже начавшими трескаться от жажды, измученные пронзительно ледяной бессонной ночью, ничего не евшие со вчерашнего утра, мы упорно поднимались все выше и выше в горы. Как всегда в горах, одна вершина, до которой, кажется, дойдешь из самых последних сил, а там ляжешь и не сделаешь дальше ни шагу, сменялась новой вершиной, потом и эта — следующей, и шагаешь, как автомат; тупо стучит кровь в висках, одеревеневшие ноги разъезжаются на скользком щебне, и нет конца пути…
Палаев шел медленно, через каждые двадцать-тридцать минут он должен был отдыхать. Приходилось останавливаться и нам.
Наконец, добравшись уже до границы снега, мы обнаружили небольшое озерко. Пробив корку льда, скрывавшую его от наших глаз, мы приникли к воде с такой жадностью, что, честное слово, только сводившая скулы температура ее спасла озерко от того, чтобы мы не выпили его до дна!
Отсюда после небольшого спуска снова в долину Джаргучака, но уже много выше нашего лагеря, мы начали крутой подъем на Заалайский хребет. Впереди и, как казалось, не столь уж далеко виднелся коротенький ледник, спускающийся по ущелью Джаргучака, а за ним — ровная площадка, заканчивающаяся небольшим подъемом. Таким нам представлялся перевал — наше избавление от басмачей, наша пусть кружная и трудная, но все же надежная дорога к Дараут-кургану, к частям Красной Армии, к Фергане!
Хотелось штурмовать хребет сразу, с ходу. Даже Палаев приободрился. Однако я не разрешил двигаться немедленно. Следовало отдохнуть и хоть чем-нибудь подкрепиться.
Нарвали горного щавеля; кроме эдельвейсов, это была единственная растительность здесь. Пожевали его. Барана пока резать не решались: а вдруг наступит время еще более трудное?
Наконец я подал команду:
— Вперед!
Мы находились на высоте пяти тысяч метров. Каждый шаг давал себя знать учащающимся сердцебиением. Сделаешь несколько шагов — и стоп, дышишь, как рыба, выброшенная на берег. А на леднике стало особенно трудно. Солнце, едва поднявшись на небе, сразу пробудило от ночной спячки тысячи мельчайших ручейков, склоны вершин заблестели, словно смазанные маслом, снег под ногами разрыхлился. Только и знай, что проваливаешься в снег — то по щиколотку, то по колено. И на всех — одни темные очки.
Люди с перевязанными глазами почти на ощупь шли за поводырем…
Когда утро перешло в день, стало еще хуже, в первую очередь из-за обвалов.
Ночью мороз сковывает все в горах так, что только снег трещит, но днем достаточно покатиться камешку или льдинке, как в своем неудержимом падении они увлекают тонны и десятки тонн подтаявшего снега, лавина ширится, разрастается, мимо несутся озверевшие глыбы сорванного с места льда, а то и обломки скал. Лавина грохочет артиллерийскими залпами, слышишь, как разламываются горы и рушится весь мир!
Только к полудню мы выбрались на то, что снизу представлялось ровной площадкой, — на большой снежный купол цирка, откуда стекали ледники: один — в ущелье Джаргучака, уже пройденный нами, а другой — в ущелье Сасык-теке. На него нам и предстояло спуститься. Но очень скоро мы убедились, что это не удастся. И тогда холод обнял наши сердца…
Весь цирк оказался изборожденным широкими и зиявшими, как пропасти, трещинами. Без должного горного снаряжения преодолеть их было невозможно. А кроме того, нам стало видно, что в направлении Сасык-теке цирк обрывался совершенно отвесно, стеною примерно пятисотметровой высоты. Разве с нее спустишься?… Тут нечего было даже говорить…
Но Палаеву показалось, что дело в ином, — в том, что он нас связывает, — и принялся уговаривать меня:
— Бросьте меня!.. Ну, прикажите бросить! Что всем из-за одного-то пропадать?
Я, наверное, поступил неправильно: начальник не должен выходить из себя. Но я вспылил — я обругал его так, что он замолк сразу, лишь буркнув:
— Молчу уже… Я ж старался, как вам легче, молодым. А старым что? Старым только доживать…
Мы повернули назад…
Печальное это было отступление — возвращаться было некуда. Никто не радовался, что под гору стало легче идти. Чем более мы приближались к оставленным вчера местам, тем тревожнее делалось на душе. Мы не были способны ни на какое сопротивление. Шорох катящихся камешков превращался в наших ушах в грозный грохот, свист летящего грифа — в свист возникающей лавины. И все же не трусость нами овладела. Трусость парализует тех, у кого есть силы к сопротивлению, а нас начало одолевать худшее: отчаяние. Ибо иссякли силы.
К счастью, когда мы спустились пониже, мы увидели, что лагерь пуст. Надолго ли, мы, конечно, не знали, но пока в нем не было никого.
Тогда мы спустились еще ниже. Нет, мы не ошиблись: лагерь был действительно безлюден. Я и Чуваев, оставив Мерщикова с полуживым Палаевым, поплелись туда.
Первое, что мы увидели, был труп Бориса Громилова. Не причинили басмачам вреда его динамитные патроны, как он надеялся, — они лежали рядом с Борисом. Он успел взорвать только один…
Пройдя в спальню мимо Раденко, нашли на койке Ивана Тремаскина. Его убили выстрелом из пистолета или винтовки.
На полу валялись раскиданные документы, в том числе мой бумажник. Отыскал я также свой пуховый свитер.
Продуктов почти не уцелело. Только с сахарным песком нам повезло. Басмачи вспороли два мешка его, да так и бросили: наверное, не хотели возиться с распоротыми. Мы с Ваней Чуваевым принялись пожиратьсахар пригоршнями. Он хрустел на зубах, недоставало слюны, чтобы глотать его, но мы всё ели и ели его и не могли насытиться. А потом наполнили им карманы, и несколько мешочков для проб, валявшихся повсюду, и футляр из-под теодолита, — в общем, все, что могли.
Захватили также теплые вещи: нашли две шубы. Кроме того, нашли пару щепоток чая в жестяной чайнице и две раздавленных каблуком коробки спичек. Тем не менее их можно было зажигать. Теперь было уже не так безнадежно отсиживаться в горах. Единственное, что нас удручало по-прежнему, — отсутствие оружия. Но об оружии басмачи побеспокоились особенно: забрали из лагеря все.
Тяжело нагруженные, вернулись мы к Мерщикову и Палаеву. В этот день не двинулись никуда, тем более что, пока добрались до лагеря да пока вернулись обратно, стало смеркаться. И, поев сахару, мы уснули.
Как нам было тепло! (Правда, ступни, на которые шуб не хватало, мерзли по-прежнему.) Какое дивное ощущение сладости от съеденного сахара разлилось по жилам! (Правда, мы оставались голодными.)
И утром мы поднялись бодрыми и опять полными уверенности, что, несмотря ни на что, наши злоключения завершатся благополучно. Неистребим оптимизм человека: мелькни перед ним чуточная искорка надежды, и снова мир уже окрашен в светлые тона!
Поразмыслив и посовещавшись, мы решили искать выхода в новом направлении: к перевалу Кульдаван. Для этого нам надо было несколько спуститься по ущелью Джаргучака вниз, до впадения в него реки Терек, затем подняться по Тереку до верховьев, перейти там на другой берег и дальше выйти к перевалу Кульдаван, за которым дорога в Алайскую долину, а там уже и мирные кишлаки и какие-нибудь отряды пограничников или Красной Армии.
Самая большая опасность, мы полагали, грозит нам только вблизи. Но то, что басмачи разграбили наш лагерь почти дочиста и бросили его на произвол судьбы (во всяком случае, на какое-то время), вселяло в нас надежду, что они не очень следят и за дорогами к нему, а поэтому нам удастся проскочить по долине Джаргучака незамеченными.
Если бы люди способны были провидеть будущее! Хоть на ничтожный срок! Мы рвались с места, как стрелы с тетивы: к Саук-саю, к Кульдавану — любым, самым отчаянным путем — лишь бы скорее уйти из долины Джаргучака! Мы упорно, как маньяки, сами лезли смерти в пасть. Сиди бы мы по-прежнему в штольне или где-нибудь близ нее пусть со скудным, но все-таки запасцем сахара и барашком, мы смогли бы продержаться недели две. Басмачи же, как я узнал потом, держали Джаргучак под своим наблюдением только три дня: это же налетчики и трусы — разграбят что могут, к дёру! Я должен был сообразить это… Почему я не удержал Чуваева, Мерщикова и Палаева от того, чтобы непременно и немедленно тыкаться во все концы из Джаргучака? Может быть, они послушались бы меня — я все же был начальником… Но я и сам разделял их мнение. Я тоже находил, что первейший наш долг — вырваться к своим, сообщить, что произошло в Джаргучаке. И потому, как ни тяжко мне теперь, единственному уцелевшему из всех моих товарищей, но я обязан рассказать до конца, как расстреляли нас всех.
Нам действительно удалось, не столкнувшись ни с кем, проскочить по ущелью Джаргучака до Терека, затем по Тереку до верховьев, и, наконец, выйти к Кульдавану. Обычно подъем на Кульдаван занимает на лошадях четыре-пять часов. Мы преодолели его за два с половиной часа!
Дальше события развивались так. Опасаясь встречи с басмачами, мы проделали последнюю часть пути ночью, — достаточно было и лунного света, чтобы не сбиться с тропы, — и вышли на Кульдаван к рассвету. Теперь Алайская долина — венец, как говорится, наших мечтаний — была уже рядом. Только широкий пологий перевал Терс-агар да двадцать пять километров тропы в горах отделяли нас от долины.
Вот на этой тропе и наступила развязка.
Мы правильно решили: чтобы максимально уменьшить шансы на встречу с басмачами, переваливать и Терс-агар ночью. Это нам удалось. После него мы устроили дневку. На всякий случай хорошо замаскировались среди крупных камней — хоть Терс-агар мы и перевалили, но из гор в долину все же не вышли. Мало ли что может приключиться в калкане гор!
Место, которое мы выбрали, обладало всем, что нам требовалось: оно отличалось укромностью; рядом протекал ручей с бесподобно вкусной водой; для нашего барашка (он все еще брел с нами) было в изобилии травы вокруг.
Мы вымыли в ручье одеревеневшие, затекшие ноги, выстирали носки. Палаев после этого даже спать лег.
Солнце поднималось все выше. Давно высохли носки. Мы сторожко и без перерыва вели наблюдение за лежащей перед нами долиной. Все дышало покоем. Темно-зеленые альпийские луга с изредка белеющими на них красавцами эдельвейсами замлели в жаре. Ни ветерка, ни облачка. И совершенное безлюдье.
Оно-то нас и предало. Мы доверились ему и переменили решение: отдохнув, двинулись дальше, не дожидаясь ночи. Уж больно не терпелось вырваться из лап басмачей и выйти из гор на простор Алайской долины!
Шли спокойно: впереди я, за мной в двух-трех шагах Чуваев, за ним на таком же расстоянии Мерщиков, а замыкающим, отставая порою метров на двести, Палаев с барашком на ремне. Впрочем, барашек иногда приходил в игривое настроение — дорога ровная, травы вдоволь, — и тогда не Палаев тащил его за собой, а, наоборот, он заставлял Палаева шагать резвей.
Ничто не предвещало близкой развязки. Но тут-то она и наступила.
Как раз когда барашек подтянул Палаева почти вплотную к нам, Мерщиков вдруг, не повышая голоса, произнес:
— Басмачи!
Нас окружала такая тишь, что мы все услышали его. А он показывал глазами, где.
Да, сомневаться было не в чем. Впереди, на гребне небольшой возвышенности, куда полого вела тропа, по которой мы шли, торчали нацеленные в нас дула нескольких десятков винтовок…
Инстинктивно обернулись назад. Но и туда путь оказался отрезан. Слева, с расстояния метров пятидесяти, к нам во фланг заходила группа вооруженных бандитов. Их было восьмеро — ровно вдвое больше нашего.
Несмотря ни на что, захотелось броситься врукопашную — уж если отдавать жизнь, так не задаром! Но тут же эта мысль и погасла (во всяком случае, у меня): не бросаться же с голыми руками на десятки вооруженных! Я вспомнил судьбу геологической партии Юдина, которая не сопротивлялась, попав в окружение, — только один отстреливался. Его и убили. А остальных, правда ограбив н продержав некоторое время в плену, отпустили на все четыре стороны: Даже Юдина.
И я принял на себя ответственность за всех. Я сказал:
— Попробуем дипломатничать, — и пошел навстречу бандитам.
Я пишу, ничего не скрывая и ничего не приукрашивая. Если кто-нибудь захочет бросить мне: «Трус!» — я не побоюсь выслушать это обвинение и не опущу глаз. Ибо, поверьте, мысль о том, не было ли мое решение трусостью, сверлила меня самого куда чаще, чем кого бы то ни было еще. Ведь, хотя их уже нет в живых — Чуваева, Мерщикова, Палаева, — но для меня-то они всегда живы, я — то их никогда не перестану видеть перед собой и всегда готов держать перед ними ответ, когда бы они ни вздумали спросить меня: а правильно ли было мое решение, обрекшее их на смерть?
Вот они вновь перед моими глазами в самые последние минуты своей жизни: Ваня Чуваев, сжимающий кулаки и готовый, как стоит, кинуться на первого приближающегося к нам бандита (тем более, что это Джармат!); растерянный, жалкий Палаев; Мерщиков, чью уверенную поддержку в принятом мною решении я ощущаю всеми фибрами души и кому благодарен за это так, что и передать не могу. Он один отвечает на мою фразу «попробуем дипломатничать». Говорит мне: «Правильно, Николай Георгиевич!» — и шагает вторым вслед за мной по направлению к басмачам на гребне.
Тогда басмачи там подымаются во весь рост, и главный из них машет нам рукой: быстрее, мол. Да и те, что с фланга, подгоняют нас прикладами.
Но отказывают ноги. Я впервые ощущаю, с какою тяжестью давит на них туловище. Ступни цепляются за каждый камень.
А главарь продолжает махать рукой. Он в новой, блестящей на солнце кожаной тужурке, в синих брюках галифе, в знакомой вышитой русской рубашке. Да это ж чуваевская! Я узнаю и самого главаря: «мой» Худай-Назар!
Он насмешливо улыбается:
— Узнал? — говорит. — Хорошо! Я давно хотел побеседовать с тобой, как мне нравится! — Худай-Назар говорит по-русски почти без акцента, и запас слов у него богатый. — Подходи поближе, подходи, не бойся.
— Здравствуй, Худай-Назар, — отвечаю я. — Давай поговорим. Пожалуйста. Я не боюсь.
Но едва я заканчиваю фразу, как он наотмашь ударяет меня рукояткой пистолета по голове и стреляет в грудь. Уже падая, слышу, как он орет:
— Не боишься меня, сволочь? Врешь! Я вас, красных, заставлю бояться Худай-Назара!
Сознания я не потерял. Я слышал, как одновременно раздались и другие выстрелы. Ими свалили Мерщикова и Чуваева.
Через несколько минут (или секунд, не знаю) что-то несвязное забормотал Чуваев. Раздалось два новых выстрела: один в него, а другой мне в спину. Я лежал лицом в землю, кто стрелял в нас, не видел. Но сознания я не потерял и после этого. Оно работало как никогда остро. Я сказал себе: «Замри!»
И, хотя боль была чудовищной, я вытянулся и застыл, как мертвый.
А Чуваев, наверное, был без сознания. Он снова забормотал. Вслед за этим я услышал звук тяжкого удара, и бормотание прекратилось. Я понял: Ваня Чуваев погиб…
Вот, собственно, и все. Я пролежал на месте нашего расстрела часа три, пока басмачи не ушли. За это время они сняли с трупов (в том числе и с меня) все, что представилось им ценным. Когда они с меня стаскивали правый ботинок, то хоть предварительно расшнуровали его как полагается, а когда взялись за левый, то расшнуровали еле-еле, и он не пошел. Меня проволочили по камням, как куклу, шага четыре. Голова билась о камни; не сумею передать, какая боль жгла раненую спину… Я заставлял думать себя только об одном: «Не смей терять сознание! Не смей терять сознание!» Как я выдержал это испытание — не знаю. Но я обманул их: незаметно выпрямил ступню, и ботинок, наконец, слетел.
Сознание я все же терял. До сих пор, правда, не могу сообразить, когда. Но то, что я терял его, факт, потому что, кроме раны в грудь и в спину, я впоследствии обнаружил на себе еще две раны: вторую в спину, пробившую легкое, и в голову, чуть ниже виска. Этот выстрел раздробил мне нёбо и выбил два зуба.
Оттого, что я не запомнил, когда мне нанесли третью и четвертую раны, мне было не легче. Особенно мучительным оказалось ранение в голову. В рот с нёба все время натекала кровь, и надо было отхаркивать ее, а я не решался это сделать: басмачи увидали бы. Только часа через три я отхаркнул кровь: после того как басмачи наконец ушли. Я узнал это по тому, что услышал удаляющийся топот копыт: ведь, лежа лицом в землю, я только по слуху мог догадываться, что творится вокруг. Но еще час примерно и после топота я пролежал без движения: а вдруг не все ускакали? Ведь были среди них и пешие.
Когда я перевернулся с живота на бок, то снова потерял сознание. Не от боли, нет, — от зрелища того, во что превращены Мерщиков, Палаев и, в особенности, Ваня Чуваев…
Окончательно очнулся я от боли, которой жгло раны. Лучи солнца, поднявшегося в зенит, падали прямо на меня. А кроме того, кто-то или что-то дотронулось до моей шеи чем-то холодным и, как почудилось, мокрым.
Тут я решил: все… И чуточку, перед неизбежным концом, раздвинул веки…
Смотрю и глазам не верю: значит, я уже действительно труп — неведомо откуда взявшаяся собака лижет с меня кровь…
Я зарычал. Собака, испугавшись, отбежала к трупу Мерщикова и оскалилась. Я заставил себя встать (я вставал постепенно. Сначала на четвереньки, затем на колени и лишь после этого кое-как выпрямился). Собака отбежала еще дальше. Я замахнулся на нее, дошел до трупа Мерщикова и как мог забросал его камнями. После — Чуваева, последним — Палаева.
Не меньше часу потратил я на эту единственную почесть, которую был в состоянии отдать товарищам…
Все последующие три дня я беспрерывно старался двигаться по направлению к Алайской долине. (При выходе на нее меня в конце концов и подобрали.) И все эти три дня сознание попеременно то покидало, то вновь возвращалось ко мне. Помню, когда засыпал камнями Чуваева, увидел валявшийся почему-то около него (наверное, ветер отнес) мой листок: памятку-план на 9 июля (басмачи выворотили из наших карманов все до единого документа и бумаги). В плане был зачеркнут как выполненный только первый пункт: «Проверить доставку воды в штольню». Невольно пришло в голову: как давно все это было!
Помню, как, уже уйдя от проклятой полянки и добредши до ручья, повалился в него, чтобы утолить нестерпимую жажду, и увидел в воде свое отражение…
Помню, как мучительно было пить. Лежа ничего не получилось: простреленное нёбо не давало воде идти в горле, вода выливалась обратно через нос. Тогда я сел, подтащив под себя ноги, и принялся черпать воду ладонью, вливая ее в рот. Крохотные глотки попадали в горло…
Помню, как провел первую ночь после расстрела, привалившись к какому-то камню. Ночью принялся моросить дождь, вперемежку с ним падал липкий снег, а я не имел сил даже подняться. Как я не окоченел тогда?
Помню, как видел: метрах в трехстах-четырехстах от меня проскакало десятка два-три всадников, предводительствуемых кем-то на снежно-белом коне. Я спрятался меж камней, уверенный, что это басмачи. Теперь я знаю: это был взвод Пастухова. Случайно попавшийся на пути взвода киргиз на белой лошади вел его к месту нашей казни. А я уже ушел оттуда…
В общем, многое что вспоминается. Наверное, можно было целую повесть написать. Но сколько ни тратить бумаги, а смысл один: уничтожили басмачи нашу группу всю. Один я от нее остался, начальник… Уж лучше бы любой из товарищей выжил, а не я, — честное слово, говорю это от всего сердца!
На этом записи Н.Г.Сумина заканчивались. Как мы встретили его, читателю уже известно. Мне остается добавить к рассказу Н. Г. Сумина очень немного. Тот юноша киргиз, который прискакал к нам и сообщил, что они нашли на берегу Казыл-су русского, зовущегося Николаем (и, если вы помните, мы никак не могли понять, кто это «они»), оказался одним из работников Уч-курганского райисполкома. По поручению исполкома они, группой в пять человек, объезжали Алайскую долину, чтобы помочь местным Советам в кишлаках, и случайно наткнулись на Сумина. Хотя он три дня, будучи тяжко изранен, ничего не ел, он все еще упорно, в состоянии, близком к полузабытью, шел куда-то вперед. Товарищи доставили его к нам на следующий день после встречи: первым делом они привезли его в Дараут-курган, напоили сладКйм чаем с ложечки; какая-то женщина сварила ему жидкую рисовую кашу, чтоб ему легче было глотать. Теплой водой отмочили присохшие к ранам белье и одежду и раствором борной кислоты — единственного подходящего средства, нашедшегося в Дараут-кургане, — обмыли его раны, а потом как сумели перевязали их чистой материей.
Весь кишлак собрался у кибитки, где его оставили спать до утра на заботливо разостланных ватных одеялах.
На следующий день Сумин был уже с нами. Разыскивать остальных участников его партии больше не приходилось…
Так трагически закончилась памирская экспедиция 1930 года. Банды басмачей удалось полностью ликвидировать только больше чем через месяц. Между прочим, были изловлены Худай-Назар и Джармат. Их расстреляли в Оше.
В ущелье Джаргучака каждый проезжающий может увидеть теперь братскую могилу скромных советских тружеников — Николая Васильевича Раденко, Бориса Громилова, Ивана Тремаскина, а на тропе, ведущей с Терс-агара в Алайскую долину, — братскую могилу Мерщикова, Чуваева и Палаева. Не раз приходилось мне вновь бывать в тех местах, не раз обнажал я голову перед этими могилами…
Литературная обработка
Руд. Бершадского.
Он кинулся в землянку (а они у нас большие, разделенные внутри на отдельные, самостоятельные помещения; с порога увидеть всю внутренность землянки невозможно). Тут ему окончательно стало понятно, что произошло…
Вещи валялись вверх тормашками. Мешки с сахаром и мукой были вспороты, пол — сплошь в белых следах мягких ичигов: не отдельно следы подметки и следы каблука, а сразу всей стопы. Стол свален набок. Стекла в окошках выбиты. У входа в спальню лежал, раскинув мертвые руки, словно и теперь не пуская дальше, Николай Васильевич Раденко, наш повар. Над залитым кровью лицом его, жужжа, вились мухи, а в сердце торчал так и не выдернутый широкий узбекский нож…
Так вот кто такие были всадники с винтовками за плечами! Не успели, значит, они показаться в лагере, как к ним тотчас примкнули их сообщники, до сих пор маскировавшиеся под наших рабочих и только и ждавшие сигнала!
Мерщиков не стал ожидать, пока басмачи снова вернутся за чем-нибудь в лагерь (и так было непонятно, отчего они сейчас оставили его пустым и куда подевались), — он решил немедленно бежать отсюда и предупредить товарищей, остававшихся на работе вне лагеря, что произошло дома. Одну только вещь захотел захватить с собой: какое-нибудь огнестрельное оружие. Но басмачи упредили его: единственное оружие, не унесенное ими, был нож, торчавший в сердце Раденко. Мерщиков вынул его из раны, бережно обтер и засунул за пояс. Из груди Николая Васильевича не вылилось уже ни кровинки…
В штольне, куда поднялся Мерщиков, он застал Палаева и Бориса Громилова. Рассказал им все, что видел, и сам, в свою очередь, узнал кое-что, что подтвердило его наихудшие опасения. А именно: что мой рабочий Худай-Назар, которого они еще три часа назад послали из штольни за водой, почему-то до сих пор не вернулся. Под разными предлогами ушли и остальные местные рабочие… В штольне оставались лишь они двое.
Борис Громилов немедленно решил вступить с басмачами в бой. Он не мог находиться в бездействии, когда вокруг развернулись такие события! Он не первый раз принимал участие в памирских экспедициях с Н.В.Крыленко и Д.В.Никитиным, никто до сих пор не смел срывать их работу. Он и сейчас не позволит бандитам чувствовать себя победителями, он покажет им, кто здесь настоящий хозяин!
Его отговаривали, сколько могли. Ему доказывали, что надо дождаться меня и Чуваева: пять человек все-таки больше, чем трое, а нам все равно не миновать штольни, когда, закончив работу, мы станем спускаться к лагерю.
Но Борис не желал слушать никаких резонов. Так с ним и не совладали. Он зарядил пять динамитных патронов, написал на клочке бумаги коротенькую записку. Усмехнувшись, со словами: «Не беспокойся! Это лишь на всякий случай!» — передал ее Мерщикову и, пожав ему и Палаеву руки на прощание, начал спускаться к лагерю. Он хотел разведать, почему и надолго ли басмачи оставили лагерь.
Вскоре после того, как он скрылся с глаз, где-то в районе лагеря, судя по звуку, раздался взрыв динамитного патрона и одновременно три винтовочных выстрела. (Это был тот самый взрыв и те самые выстрелы, которые услышал и я.) Больше Громилов не показывался…
Таков был рассказ Мерщикова. Он не прояснил мне ничего, кроме одного: басмачи, не желая располагаться в нашем лагере, разбили стоянку где-то вне его. Скорее всего, они расположились вне лагеря потому, что он находился на дне ущелья и, значит, был под прицельным огнем любого, кто сумел бы оседлать господствующие высоты. Они предпочли оседлать эти высоты сами. Вывезти же из лагеря, что они хотели, им и так никто не мог помешать. Мерщикову просто повезло, что, когда он пришел туда, там не оказалось ни одного басмача.
И картина, которую наблюдал я, и винтовочные выстрелы, раздавшиеся после сумасбродного ухода Громилова, свидетельствовали об одном: что басмачи хотя специально и не сторожат лагеря, но не оставляют его без присмотра. Во всяком случае, навещают его часто, должно быть решив разграбить до конца: если не в один прием, так в несколько. Добра у нас было действительно много, враз не вывезешь!
Положение, таким образом, сложилось отчаянное. Раденко убит. Эта же участь, скорее всего, постигла Громилова. Ни слуху ни духу о забойщике Тремаскине. Налицо всего-навсего трое: Мерщиков, Палаев и я. Вероятно, присоединится еще Чуваев: на этот склон ущелья басмачи пока не забирались, и потому, я надеюсь, Чуваев жив. Наконец, Джармат. Впрочем, все местные рабочие пока что исчезли, а Джармат что-то чересчур подозрительно усмехался. Как бы эта усмешка не стоила Чуваеву жизни. Надо немедля отправляться за ним, он же ни о чем не догадывается!
И оружия никакого у нас, только динамитные патроны…
Когда я добрался до Чуваева (я отправился к нему сам), он как ни в чем не бывало продолжал работать. Дело, чувствовалось, идет уже как надо, он так и сиял.
— А где Джармат? — первым долгом спросил я.
— Ушел за молотком в лагерь — позабыл там молоток.
— Давно ушел?
— Нет, только что.
— А ну, кликни его назад!
Все было ясно: Джармат, увидев, что я поднимаюсь от штольни, соврал Чуваеву первое пришедшее ему в голову. Чуваев же, увлеченный работой, просто не видел меня до поры до времени.
Чуваев послушно закричал: «Джармат! Эй!», присоединился к нему и я, но, как мы ни надрывались, Джармат не вернулся. Только горы возвращали нам насмешливое эхо: «Джармат! Джармат!» Мы могли кричать до утра…
Спустились с Чуваевым к штольне. За время моего отсутствия у Мерщикова и Палаева ничего нового не случилось. Теперь мы были в сборе все, за исключением Тремаскина. Его судьба осталась неизвестной никому из нас. Но, судя по тому, как расправились басмачи с Раденко, не приходилось надеяться, что Тремаскни уцелел. 8 июля он расхворался животом, и я разрешил ему остаться на следующий день в лагере: отлеживаться. Уж лучше бы выгнал больным на работу!
Подсчитали наши «богатства»: сколько в наличии спичек, табаку, динамита. Продукты подсчитывать не пришлось: их не было с нами вообще, если не считать единственной карамельки в бумажке, нашедшейся в кармане Мерщикова. Он честно выложил ее, но мы единодушно оставили конфету ему.
Еще страшнее, однако, было то, что и спичек у нас оказалось меньше двух коробок на всех. А надо бы рассчитывать на скитания в горах по меньшей мере на протяжении суток семи-восьми, потому что план мы выработали такой: вступать с басмачами в бой мы не можем — вчетвером, безоружные, против целой банды — это означало обрекать себя на бессмысленное и бесполезное самоубийство. Следовало уходить отсюда и добираться до наших. Но как это сделать? Басмачи только потому и не предпринимали против нас ничего, что знали: единственный выход из того ущелья, в котором мы сидим, — под их контролем. И рассчитывали, наверное, на то, что волей-неволей придем к ним сдаваться.
Ну, пусть ждут!
Мы намеревались вырываться из ущелья по руслу Джаргучака, но не вниз по течению реки, а вверх. Подняться через безымянный лог до истока, а там еще выше и, перевалив Заалайский хребет, добраться потом до наших кружным путем.
Но пока что мы не могли двинуться еще никуда — в лагере продолжали находиться басмачи, и, если бы мы начали подъем, то на ряде участков его оказались бы видны им с такой же отчетливостью, как мишени в тире.
Впрочем, то, что мы остались на месте, под вечер обернулось для нас замечательной удачей. Неожиданно мы увидели невдалеке от себя задумчивого черненького барашка — того самого, который предназначался на сегодняшний обед. Как он отвязался от колышка, мог бы рассказать, пожалуй, только он сам, но, если бы и умел говорить по-человечески, вряд ли мы стали бы его слушать. Куда важнее был сам факт: крайне задумчиво, но он все же направлялся в нашу сторону — к штольне!
И мы решили помочь ему ускорить этот путь.
Правда, наиболее осторожный из нас — Мерщиков — советовал, во-первых, подумать, нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны басмачей, а во-вторых, не торопиться и не рисковать жизнью, высовываясь из-за укрывающих нас камней. Но ведь баран мог передумать и, не дойдя до нас, свернуть куда-нибудь! Это соображение перевесило все остальные, и я пошел навстречу нашему кучерявому спасению, нашему четвероногому шашлыку.
Честное животное оказалось никаким не подвохом. Отвязавшись от колышка, оно ушло из лагеря куда глаза глядят и, когда я наконец протянул к нему руки, было настолько утомлено и обессилено, что даже не попыталось увильнуть от меня.
С бараном нам стало неизмеримо спокойней — мы были обеспечены пищей теперь не на день и не на два!
Приблизился вечер. Гуще ложились тени от Заалайского хребта. Наконец солнце совсем ушло за пики памирских великанов. Наша одежда, к сожалению, была отнюдь не такой, чтобы могла согреть, да еще ночью в горах: майки, юнгштурмовки. В остальные дни под вечер мы уже кутались в лагере в теплые барашковые шубы, сидя возле котла, в котором закипал чай или аппетитно шипел плов. Сейчас нашей единственной коллективной шубой был тощий черненький барашек, а ужином — воспоминания обо всех ужинах, съеденных когда-нибудь в жизни.
Связав барашку ноги, мы перевернули его на спину и, не обращая внимания на жалобное тонкое блеяние, кто как мог пристроились возле него, как печки, прямо на камнях.
Подстелить было нечего…
А тут еще потянуло ледяным ветром с ледников. То и дело то один, то другой из нас вскакивал, по-извозчичьи похлопывал сам себя по плечам и спине и до тех пор прыгал и притопывал на месте, пока усталость вновь не валила с ног на голые камни.
Так провели время до утра. Надеялись, что, может быть, басмачи уйдут на ночь из лагеря и тогда мы сможем разжиться какими-нибудь остатками продуктов из запасов отряда и теплой одеждой. Но надежды не сбылись. Лагерь не остался пустовать на ночь, на рассвете мы тоже увидели в нем людей.
Тогда, пока солнце не поднялось выше, мы быстро снялись с места и начали подъем.
Рассвет обливает памирские пики красками неописуемых оттенков. Снеговые вершины словно изнутри- светятся то розово-оранжевым, то голубым, то палевым. Беспредельны глубина и прозрачность густосинего неба. Из-под ног, шумно треща крыльями и как-то по-поросячьи взвизгивая, парами вылетали горные индейки, над головами проносились громадные грифы. Размах их крыльев достигает двух метров, и становится не по себе, когда на тебя вдруг падает тень такой птицы. Стада только что проснувшихся кийков — горных козлов, мчатся вниз, лишь свист в ушах стоит да грохот камней, сбитых их копытами и несущихся вдогонку. Но ни один камень, с какой бы быстротой ни летел, не догонит кийка!
Дивно хорош Памир на рассвете! Но нам было не до красот. С губами, пересохшими и уже начавшими трескаться от жажды, измученные пронзительно ледяной бессонной ночью, ничего не евшие со вчерашнего утра, мы упорно поднимались все выше и выше в горы. Как всегда в горах, одна вершина, до которой, кажется, дойдешь из самых последних сил, а там ляжешь и не сделаешь дальше ни шагу, сменялась новой вершиной, потом и эта — следующей, и шагаешь, как автомат; тупо стучит кровь в висках, одеревеневшие ноги разъезжаются на скользком щебне, и нет конца пути…
Палаев шел медленно, через каждые двадцать-тридцать минут он должен был отдыхать. Приходилось останавливаться и нам.
Наконец, добравшись уже до границы снега, мы обнаружили небольшое озерко. Пробив корку льда, скрывавшую его от наших глаз, мы приникли к воде с такой жадностью, что, честное слово, только сводившая скулы температура ее спасла озерко от того, чтобы мы не выпили его до дна!
Отсюда после небольшого спуска снова в долину Джаргучака, но уже много выше нашего лагеря, мы начали крутой подъем на Заалайский хребет. Впереди и, как казалось, не столь уж далеко виднелся коротенький ледник, спускающийся по ущелью Джаргучака, а за ним — ровная площадка, заканчивающаяся небольшим подъемом. Таким нам представлялся перевал — наше избавление от басмачей, наша пусть кружная и трудная, но все же надежная дорога к Дараут-кургану, к частям Красной Армии, к Фергане!
Хотелось штурмовать хребет сразу, с ходу. Даже Палаев приободрился. Однако я не разрешил двигаться немедленно. Следовало отдохнуть и хоть чем-нибудь подкрепиться.
Нарвали горного щавеля; кроме эдельвейсов, это была единственная растительность здесь. Пожевали его. Барана пока резать не решались: а вдруг наступит время еще более трудное?
Наконец я подал команду:
— Вперед!
Мы находились на высоте пяти тысяч метров. Каждый шаг давал себя знать учащающимся сердцебиением. Сделаешь несколько шагов — и стоп, дышишь, как рыба, выброшенная на берег. А на леднике стало особенно трудно. Солнце, едва поднявшись на небе, сразу пробудило от ночной спячки тысячи мельчайших ручейков, склоны вершин заблестели, словно смазанные маслом, снег под ногами разрыхлился. Только и знай, что проваливаешься в снег — то по щиколотку, то по колено. И на всех — одни темные очки.
Люди с перевязанными глазами почти на ощупь шли за поводырем…
Когда утро перешло в день, стало еще хуже, в первую очередь из-за обвалов.
Ночью мороз сковывает все в горах так, что только снег трещит, но днем достаточно покатиться камешку или льдинке, как в своем неудержимом падении они увлекают тонны и десятки тонн подтаявшего снега, лавина ширится, разрастается, мимо несутся озверевшие глыбы сорванного с места льда, а то и обломки скал. Лавина грохочет артиллерийскими залпами, слышишь, как разламываются горы и рушится весь мир!
Только к полудню мы выбрались на то, что снизу представлялось ровной площадкой, — на большой снежный купол цирка, откуда стекали ледники: один — в ущелье Джаргучака, уже пройденный нами, а другой — в ущелье Сасык-теке. На него нам и предстояло спуститься. Но очень скоро мы убедились, что это не удастся. И тогда холод обнял наши сердца…
Весь цирк оказался изборожденным широкими и зиявшими, как пропасти, трещинами. Без должного горного снаряжения преодолеть их было невозможно. А кроме того, нам стало видно, что в направлении Сасык-теке цирк обрывался совершенно отвесно, стеною примерно пятисотметровой высоты. Разве с нее спустишься?… Тут нечего было даже говорить…
Но Палаеву показалось, что дело в ином, — в том, что он нас связывает, — и принялся уговаривать меня:
— Бросьте меня!.. Ну, прикажите бросить! Что всем из-за одного-то пропадать?
Я, наверное, поступил неправильно: начальник не должен выходить из себя. Но я вспылил — я обругал его так, что он замолк сразу, лишь буркнув:
— Молчу уже… Я ж старался, как вам легче, молодым. А старым что? Старым только доживать…
Мы повернули назад…
Печальное это было отступление — возвращаться было некуда. Никто не радовался, что под гору стало легче идти. Чем более мы приближались к оставленным вчера местам, тем тревожнее делалось на душе. Мы не были способны ни на какое сопротивление. Шорох катящихся камешков превращался в наших ушах в грозный грохот, свист летящего грифа — в свист возникающей лавины. И все же не трусость нами овладела. Трусость парализует тех, у кого есть силы к сопротивлению, а нас начало одолевать худшее: отчаяние. Ибо иссякли силы.
К счастью, когда мы спустились пониже, мы увидели, что лагерь пуст. Надолго ли, мы, конечно, не знали, но пока в нем не было никого.
Тогда мы спустились еще ниже. Нет, мы не ошиблись: лагерь был действительно безлюден. Я и Чуваев, оставив Мерщикова с полуживым Палаевым, поплелись туда.
Первое, что мы увидели, был труп Бориса Громилова. Не причинили басмачам вреда его динамитные патроны, как он надеялся, — они лежали рядом с Борисом. Он успел взорвать только один…
Пройдя в спальню мимо Раденко, нашли на койке Ивана Тремаскина. Его убили выстрелом из пистолета или винтовки.
На полу валялись раскиданные документы, в том числе мой бумажник. Отыскал я также свой пуховый свитер.
Продуктов почти не уцелело. Только с сахарным песком нам повезло. Басмачи вспороли два мешка его, да так и бросили: наверное, не хотели возиться с распоротыми. Мы с Ваней Чуваевым принялись пожиратьсахар пригоршнями. Он хрустел на зубах, недоставало слюны, чтобы глотать его, но мы всё ели и ели его и не могли насытиться. А потом наполнили им карманы, и несколько мешочков для проб, валявшихся повсюду, и футляр из-под теодолита, — в общем, все, что могли.
Захватили также теплые вещи: нашли две шубы. Кроме того, нашли пару щепоток чая в жестяной чайнице и две раздавленных каблуком коробки спичек. Тем не менее их можно было зажигать. Теперь было уже не так безнадежно отсиживаться в горах. Единственное, что нас удручало по-прежнему, — отсутствие оружия. Но об оружии басмачи побеспокоились особенно: забрали из лагеря все.
Тяжело нагруженные, вернулись мы к Мерщикову и Палаеву. В этот день не двинулись никуда, тем более что, пока добрались до лагеря да пока вернулись обратно, стало смеркаться. И, поев сахару, мы уснули.
Как нам было тепло! (Правда, ступни, на которые шуб не хватало, мерзли по-прежнему.) Какое дивное ощущение сладости от съеденного сахара разлилось по жилам! (Правда, мы оставались голодными.)
И утром мы поднялись бодрыми и опять полными уверенности, что, несмотря ни на что, наши злоключения завершатся благополучно. Неистребим оптимизм человека: мелькни перед ним чуточная искорка надежды, и снова мир уже окрашен в светлые тона!
Поразмыслив и посовещавшись, мы решили искать выхода в новом направлении: к перевалу Кульдаван. Для этого нам надо было несколько спуститься по ущелью Джаргучака вниз, до впадения в него реки Терек, затем подняться по Тереку до верховьев, перейти там на другой берег и дальше выйти к перевалу Кульдаван, за которым дорога в Алайскую долину, а там уже и мирные кишлаки и какие-нибудь отряды пограничников или Красной Армии.
Самая большая опасность, мы полагали, грозит нам только вблизи. Но то, что басмачи разграбили наш лагерь почти дочиста и бросили его на произвол судьбы (во всяком случае, на какое-то время), вселяло в нас надежду, что они не очень следят и за дорогами к нему, а поэтому нам удастся проскочить по долине Джаргучака незамеченными.
Если бы люди способны были провидеть будущее! Хоть на ничтожный срок! Мы рвались с места, как стрелы с тетивы: к Саук-саю, к Кульдавану — любым, самым отчаянным путем — лишь бы скорее уйти из долины Джаргучака! Мы упорно, как маньяки, сами лезли смерти в пасть. Сиди бы мы по-прежнему в штольне или где-нибудь близ нее пусть со скудным, но все-таки запасцем сахара и барашком, мы смогли бы продержаться недели две. Басмачи же, как я узнал потом, держали Джаргучак под своим наблюдением только три дня: это же налетчики и трусы — разграбят что могут, к дёру! Я должен был сообразить это… Почему я не удержал Чуваева, Мерщикова и Палаева от того, чтобы непременно и немедленно тыкаться во все концы из Джаргучака? Может быть, они послушались бы меня — я все же был начальником… Но я и сам разделял их мнение. Я тоже находил, что первейший наш долг — вырваться к своим, сообщить, что произошло в Джаргучаке. И потому, как ни тяжко мне теперь, единственному уцелевшему из всех моих товарищей, но я обязан рассказать до конца, как расстреляли нас всех.
Нам действительно удалось, не столкнувшись ни с кем, проскочить по ущелью Джаргучака до Терека, затем по Тереку до верховьев, и, наконец, выйти к Кульдавану. Обычно подъем на Кульдаван занимает на лошадях четыре-пять часов. Мы преодолели его за два с половиной часа!
Дальше события развивались так. Опасаясь встречи с басмачами, мы проделали последнюю часть пути ночью, — достаточно было и лунного света, чтобы не сбиться с тропы, — и вышли на Кульдаван к рассвету. Теперь Алайская долина — венец, как говорится, наших мечтаний — была уже рядом. Только широкий пологий перевал Терс-агар да двадцать пять километров тропы в горах отделяли нас от долины.
Вот на этой тропе и наступила развязка.
Мы правильно решили: чтобы максимально уменьшить шансы на встречу с басмачами, переваливать и Терс-агар ночью. Это нам удалось. После него мы устроили дневку. На всякий случай хорошо замаскировались среди крупных камней — хоть Терс-агар мы и перевалили, но из гор в долину все же не вышли. Мало ли что может приключиться в калкане гор!
Место, которое мы выбрали, обладало всем, что нам требовалось: оно отличалось укромностью; рядом протекал ручей с бесподобно вкусной водой; для нашего барашка (он все еще брел с нами) было в изобилии травы вокруг.
Мы вымыли в ручье одеревеневшие, затекшие ноги, выстирали носки. Палаев после этого даже спать лег.
Солнце поднималось все выше. Давно высохли носки. Мы сторожко и без перерыва вели наблюдение за лежащей перед нами долиной. Все дышало покоем. Темно-зеленые альпийские луга с изредка белеющими на них красавцами эдельвейсами замлели в жаре. Ни ветерка, ни облачка. И совершенное безлюдье.
Оно-то нас и предало. Мы доверились ему и переменили решение: отдохнув, двинулись дальше, не дожидаясь ночи. Уж больно не терпелось вырваться из лап басмачей и выйти из гор на простор Алайской долины!
Шли спокойно: впереди я, за мной в двух-трех шагах Чуваев, за ним на таком же расстоянии Мерщиков, а замыкающим, отставая порою метров на двести, Палаев с барашком на ремне. Впрочем, барашек иногда приходил в игривое настроение — дорога ровная, травы вдоволь, — и тогда не Палаев тащил его за собой, а, наоборот, он заставлял Палаева шагать резвей.
Ничто не предвещало близкой развязки. Но тут-то она и наступила.
Как раз когда барашек подтянул Палаева почти вплотную к нам, Мерщиков вдруг, не повышая голоса, произнес:
— Басмачи!
Нас окружала такая тишь, что мы все услышали его. А он показывал глазами, где.
Да, сомневаться было не в чем. Впереди, на гребне небольшой возвышенности, куда полого вела тропа, по которой мы шли, торчали нацеленные в нас дула нескольких десятков винтовок…
Инстинктивно обернулись назад. Но и туда путь оказался отрезан. Слева, с расстояния метров пятидесяти, к нам во фланг заходила группа вооруженных бандитов. Их было восьмеро — ровно вдвое больше нашего.
Несмотря ни на что, захотелось броситься врукопашную — уж если отдавать жизнь, так не задаром! Но тут же эта мысль и погасла (во всяком случае, у меня): не бросаться же с голыми руками на десятки вооруженных! Я вспомнил судьбу геологической партии Юдина, которая не сопротивлялась, попав в окружение, — только один отстреливался. Его и убили. А остальных, правда ограбив н продержав некоторое время в плену, отпустили на все четыре стороны: Даже Юдина.
И я принял на себя ответственность за всех. Я сказал:
— Попробуем дипломатничать, — и пошел навстречу бандитам.
Я пишу, ничего не скрывая и ничего не приукрашивая. Если кто-нибудь захочет бросить мне: «Трус!» — я не побоюсь выслушать это обвинение и не опущу глаз. Ибо, поверьте, мысль о том, не было ли мое решение трусостью, сверлила меня самого куда чаще, чем кого бы то ни было еще. Ведь, хотя их уже нет в живых — Чуваева, Мерщикова, Палаева, — но для меня-то они всегда живы, я — то их никогда не перестану видеть перед собой и всегда готов держать перед ними ответ, когда бы они ни вздумали спросить меня: а правильно ли было мое решение, обрекшее их на смерть?
Вот они вновь перед моими глазами в самые последние минуты своей жизни: Ваня Чуваев, сжимающий кулаки и готовый, как стоит, кинуться на первого приближающегося к нам бандита (тем более, что это Джармат!); растерянный, жалкий Палаев; Мерщиков, чью уверенную поддержку в принятом мною решении я ощущаю всеми фибрами души и кому благодарен за это так, что и передать не могу. Он один отвечает на мою фразу «попробуем дипломатничать». Говорит мне: «Правильно, Николай Георгиевич!» — и шагает вторым вслед за мной по направлению к басмачам на гребне.
Тогда басмачи там подымаются во весь рост, и главный из них машет нам рукой: быстрее, мол. Да и те, что с фланга, подгоняют нас прикладами.
Но отказывают ноги. Я впервые ощущаю, с какою тяжестью давит на них туловище. Ступни цепляются за каждый камень.
А главарь продолжает махать рукой. Он в новой, блестящей на солнце кожаной тужурке, в синих брюках галифе, в знакомой вышитой русской рубашке. Да это ж чуваевская! Я узнаю и самого главаря: «мой» Худай-Назар!
Он насмешливо улыбается:
— Узнал? — говорит. — Хорошо! Я давно хотел побеседовать с тобой, как мне нравится! — Худай-Назар говорит по-русски почти без акцента, и запас слов у него богатый. — Подходи поближе, подходи, не бойся.
— Здравствуй, Худай-Назар, — отвечаю я. — Давай поговорим. Пожалуйста. Я не боюсь.
Но едва я заканчиваю фразу, как он наотмашь ударяет меня рукояткой пистолета по голове и стреляет в грудь. Уже падая, слышу, как он орет:
— Не боишься меня, сволочь? Врешь! Я вас, красных, заставлю бояться Худай-Назара!
Сознания я не потерял. Я слышал, как одновременно раздались и другие выстрелы. Ими свалили Мерщикова и Чуваева.
Через несколько минут (или секунд, не знаю) что-то несвязное забормотал Чуваев. Раздалось два новых выстрела: один в него, а другой мне в спину. Я лежал лицом в землю, кто стрелял в нас, не видел. Но сознания я не потерял и после этого. Оно работало как никогда остро. Я сказал себе: «Замри!»
И, хотя боль была чудовищной, я вытянулся и застыл, как мертвый.
А Чуваев, наверное, был без сознания. Он снова забормотал. Вслед за этим я услышал звук тяжкого удара, и бормотание прекратилось. Я понял: Ваня Чуваев погиб…
Вот, собственно, и все. Я пролежал на месте нашего расстрела часа три, пока басмачи не ушли. За это время они сняли с трупов (в том числе и с меня) все, что представилось им ценным. Когда они с меня стаскивали правый ботинок, то хоть предварительно расшнуровали его как полагается, а когда взялись за левый, то расшнуровали еле-еле, и он не пошел. Меня проволочили по камням, как куклу, шага четыре. Голова билась о камни; не сумею передать, какая боль жгла раненую спину… Я заставлял думать себя только об одном: «Не смей терять сознание! Не смей терять сознание!» Как я выдержал это испытание — не знаю. Но я обманул их: незаметно выпрямил ступню, и ботинок, наконец, слетел.
Сознание я все же терял. До сих пор, правда, не могу сообразить, когда. Но то, что я терял его, факт, потому что, кроме раны в грудь и в спину, я впоследствии обнаружил на себе еще две раны: вторую в спину, пробившую легкое, и в голову, чуть ниже виска. Этот выстрел раздробил мне нёбо и выбил два зуба.
Оттого, что я не запомнил, когда мне нанесли третью и четвертую раны, мне было не легче. Особенно мучительным оказалось ранение в голову. В рот с нёба все время натекала кровь, и надо было отхаркивать ее, а я не решался это сделать: басмачи увидали бы. Только часа через три я отхаркнул кровь: после того как басмачи наконец ушли. Я узнал это по тому, что услышал удаляющийся топот копыт: ведь, лежа лицом в землю, я только по слуху мог догадываться, что творится вокруг. Но еще час примерно и после топота я пролежал без движения: а вдруг не все ускакали? Ведь были среди них и пешие.
Когда я перевернулся с живота на бок, то снова потерял сознание. Не от боли, нет, — от зрелища того, во что превращены Мерщиков, Палаев и, в особенности, Ваня Чуваев…
Окончательно очнулся я от боли, которой жгло раны. Лучи солнца, поднявшегося в зенит, падали прямо на меня. А кроме того, кто-то или что-то дотронулось до моей шеи чем-то холодным и, как почудилось, мокрым.
Тут я решил: все… И чуточку, перед неизбежным концом, раздвинул веки…
Смотрю и глазам не верю: значит, я уже действительно труп — неведомо откуда взявшаяся собака лижет с меня кровь…
Я зарычал. Собака, испугавшись, отбежала к трупу Мерщикова и оскалилась. Я заставил себя встать (я вставал постепенно. Сначала на четвереньки, затем на колени и лишь после этого кое-как выпрямился). Собака отбежала еще дальше. Я замахнулся на нее, дошел до трупа Мерщикова и как мог забросал его камнями. После — Чуваева, последним — Палаева.
Не меньше часу потратил я на эту единственную почесть, которую был в состоянии отдать товарищам…
Все последующие три дня я беспрерывно старался двигаться по направлению к Алайской долине. (При выходе на нее меня в конце концов и подобрали.) И все эти три дня сознание попеременно то покидало, то вновь возвращалось ко мне. Помню, когда засыпал камнями Чуваева, увидел валявшийся почему-то около него (наверное, ветер отнес) мой листок: памятку-план на 9 июля (басмачи выворотили из наших карманов все до единого документа и бумаги). В плане был зачеркнут как выполненный только первый пункт: «Проверить доставку воды в штольню». Невольно пришло в голову: как давно все это было!
Помню, как, уже уйдя от проклятой полянки и добредши до ручья, повалился в него, чтобы утолить нестерпимую жажду, и увидел в воде свое отражение…
Помню, как мучительно было пить. Лежа ничего не получилось: простреленное нёбо не давало воде идти в горле, вода выливалась обратно через нос. Тогда я сел, подтащив под себя ноги, и принялся черпать воду ладонью, вливая ее в рот. Крохотные глотки попадали в горло…
Помню, как провел первую ночь после расстрела, привалившись к какому-то камню. Ночью принялся моросить дождь, вперемежку с ним падал липкий снег, а я не имел сил даже подняться. Как я не окоченел тогда?
Помню, как видел: метрах в трехстах-четырехстах от меня проскакало десятка два-три всадников, предводительствуемых кем-то на снежно-белом коне. Я спрятался меж камней, уверенный, что это басмачи. Теперь я знаю: это был взвод Пастухова. Случайно попавшийся на пути взвода киргиз на белой лошади вел его к месту нашей казни. А я уже ушел оттуда…
В общем, многое что вспоминается. Наверное, можно было целую повесть написать. Но сколько ни тратить бумаги, а смысл один: уничтожили басмачи нашу группу всю. Один я от нее остался, начальник… Уж лучше бы любой из товарищей выжил, а не я, — честное слово, говорю это от всего сердца!
На этом записи Н.Г.Сумина заканчивались. Как мы встретили его, читателю уже известно. Мне остается добавить к рассказу Н. Г. Сумина очень немного. Тот юноша киргиз, который прискакал к нам и сообщил, что они нашли на берегу Казыл-су русского, зовущегося Николаем (и, если вы помните, мы никак не могли понять, кто это «они»), оказался одним из работников Уч-курганского райисполкома. По поручению исполкома они, группой в пять человек, объезжали Алайскую долину, чтобы помочь местным Советам в кишлаках, и случайно наткнулись на Сумина. Хотя он три дня, будучи тяжко изранен, ничего не ел, он все еще упорно, в состоянии, близком к полузабытью, шел куда-то вперед. Товарищи доставили его к нам на следующий день после встречи: первым делом они привезли его в Дараут-курган, напоили сладКйм чаем с ложечки; какая-то женщина сварила ему жидкую рисовую кашу, чтоб ему легче было глотать. Теплой водой отмочили присохшие к ранам белье и одежду и раствором борной кислоты — единственного подходящего средства, нашедшегося в Дараут-кургане, — обмыли его раны, а потом как сумели перевязали их чистой материей.
Весь кишлак собрался у кибитки, где его оставили спать до утра на заботливо разостланных ватных одеялах.
На следующий день Сумин был уже с нами. Разыскивать остальных участников его партии больше не приходилось…
Так трагически закончилась памирская экспедиция 1930 года. Банды басмачей удалось полностью ликвидировать только больше чем через месяц. Между прочим, были изловлены Худай-Назар и Джармат. Их расстреляли в Оше.
В ущелье Джаргучака каждый проезжающий может увидеть теперь братскую могилу скромных советских тружеников — Николая Васильевича Раденко, Бориса Громилова, Ивана Тремаскина, а на тропе, ведущей с Терс-агара в Алайскую долину, — братскую могилу Мерщикова, Чуваева и Палаева. Не раз приходилось мне вновь бывать в тех местах, не раз обнажал я голову перед этими могилами…
Литературная обработка
Руд. Бершадского.

Б. Горлецкий ЮНЫЙ АЗ
1
Капитан Власов строго смотрел на сержанта Вечёру: — Почему Рекс не взял следа? Начальник заставы был очень взволнован, его губы чуть вздрагивали. — Как не взял? Я не знаю! — удивился сержант. — А кто должен знать? — Рядовой Фомкин. Вин же при Рексе… — упрямо проговорил Вечёра. — «При Рексе»! А вы на что? — У меня Аз… — «Аз, Аз»! Только от вас и слышишь! Вот в том-то и дело, что вы занялись Азом и забыли об остальном. Кто на заставе инструктор? Кто должен проверять вожатых? Вы должны, сержант Вечёра! Вы головой отвечаете и за работу вожатых и за подготовку собак. И вас я спрашиваю: почему Рекс не взял следа? — Я ж докладывал: Фомкин балует Рекса, — смущенно оправдывался сержант. — Собака любит строгую команду, а рядовой Фомкин все к ней с любезностями, все упрашивает… — А вы, командир, что делаете? Или следуете его примеру: он лаской берет собаку, а вы лаской — Фомкина? Даю месяц сроку, сержант Вечёра, и чтоб Рекс работал, как раньше. Ясно? — Я на это время передам Аза рядовому Фомкину, а сам займусь Рексом. — Вот-вот! — возмутился капитан. — Вот она, наша требовательность! У Фомкина собака перестала брать след, а вы, вместо того чтобы строго взыскать с солдата, решаете сами за него работать! Мол, спасибо тебе, дорогой Фомкин, за услугу, отдохни, а я исправлю твою ошибку. Так, сержант Вечёра, вы никогда вожатого не научите! А потом, не забывайте: он может и Аза испортить. Вечёра пулей выскочил от начальника. С Рексом произошла такая беда, а рядовой Фомкин и в ус не дует, даже не доложил об этом командиру отделения!
Сержант направился в курилку, куда любил заглядывать весельчак Фомкин, но, услышав, как задорно, на высоких нотах заливается балалайка, остановился. Сомнений не было — играл Фомкин. Только в его руках балалайка могла так захлебываться веселой, зажигающей душу мелодией. Сержант Вечёра вошел в комнату. Он знал, что даже в самых крайних случаях ему не удается быть достаточно строгим с подчиненными, и потому теперь он постарался придать своему добродушному лицу непре-клонно-грозное выражение: — Что произошло ночью с Рексом? Широкая улыбка на сияющем лице Фомкина мгновенно погасла. — А-а? — Вот тоби «а-а»… — Так это начальник заставы, — путано начал Фомкин. — Он наряды проверял ночью… Ну, и след по вспаханному полю проложил в аккурат там, где я с Рексом шел… След я обнаружил и Рекс взял его, но, когда вышли на траву, этот Рекс сбился и не нашел следа. — Почему мне не доложили? — Чего ж докладывать?… Начальник знает. — А я, по-вашему, не должен знать? Фомкин, опустив белокурую голову, молчал. Он был высокого роста, тонкий, немного сутулый. Гимнастерка топорщилась на его костлявых плечах. Узкое, остроносое лицо, на котором всегда играла улыбка, помрачнело. Самые непослушные, упрямые и злобные собаки повиновались сержанту как укротителю, послушно исполняя его волю. Не случайно у Вечёры была самая грозная в отряде розыскная собака.
 Еще в первый год военной службы Вечёра мечтал воспитать пса, который стал бы грозой для нарушителей. И когда он услышал, что на Памире нарушители убили чрезвычайно злобную собаку, от которой осталось два щенка, то поехал за сотни километров, чтоб заполучить одного из них. Теперь воспитанник сержанта, юный Аз, уже третий месяц нес на границе службу, являясь гордостью всего отряда. В Азе сочетались все лучшие качества: природная смелость, недоверчивость, возбудимость, хорошее чутье и острый слух. Это была большая, сильная собака-волк…
После неприятного ночного события сержант Вечёра заставил рядового Фомкина вначале самого тренировать проштрафившегося Рекса. У солдата это получалось плохо. Рекс был ленив, работа с ним требовала строгости, а Фомкин отличался излишней обходительностью. Чувствуя мягкость вожатого, собака не слушалась его.
Но вот уже две недели, передав своего Аза Фомкину, сержант Вечёра сам занимался с Рексом, и, когда собака снова стала брать след, он доложил капитану, что все обошлось благополучно. Начальник заставы проверил слова Вечёры. Рекс взял след хорошо.
Еще в первый год военной службы Вечёра мечтал воспитать пса, который стал бы грозой для нарушителей. И когда он услышал, что на Памире нарушители убили чрезвычайно злобную собаку, от которой осталось два щенка, то поехал за сотни километров, чтоб заполучить одного из них. Теперь воспитанник сержанта, юный Аз, уже третий месяц нес на границе службу, являясь гордостью всего отряда. В Азе сочетались все лучшие качества: природная смелость, недоверчивость, возбудимость, хорошее чутье и острый слух. Это была большая, сильная собака-волк…
После неприятного ночного события сержант Вечёра заставил рядового Фомкина вначале самого тренировать проштрафившегося Рекса. У солдата это получалось плохо. Рекс был ленив, работа с ним требовала строгости, а Фомкин отличался излишней обходительностью. Чувствуя мягкость вожатого, собака не слушалась его.
Но вот уже две недели, передав своего Аза Фомкину, сержант Вечёра сам занимался с Рексом, и, когда собака снова стала брать след, он доложил капитану, что все обошлось благополучно. Начальник заставы проверил слова Вечёры. Рекс взял след хорошо.
2
Южное солнце нещадно палило. Фомкин сидел под ветвистым кустом в пяти шагах от Аза. Даже в тени была такая духота, что по загорелому лицу солдата ручьями стекал пот. Гимнастерку Фомкин снял, и она лежала на зеленой траве рядом с панамой. Пса тоже разморило. Грозная клыкастая пасть его была беззлобно раскрыта, на грудь свисал длинный, как галстук, красный язык. Собака часто дышала и, отгоняя мух, равнодушно щелкала зубами. — Неразумная ты тварь! — ворчливо укорял собаку Фомкин. — Волчья твоя натура! Из-за тебя я здесь хоронюсь в кустах. Понимаешь, сижу, а мне велено с тобою заниматься. Вот увидит сержант, как мы с тобой прохлаждаемся, опять капитану доложит. Это позор, понимаешь? Одних попреков хватит на год… Солдат взял панаму и отбросил ее далеко в сторону. — Апорт! — крикнул он визгливо. Аз продолжал мирно дремать, точно команда к нему не относилась. — Аз! — снова позвал Фомкин и, подняв ногу, сделал вид, что собирается его ударить. Пес свирепо зарычал и клыками схватил солдата за сапог. Перепуганный Фомкин повалился на землю. — Аз, Аз! — умоляюще стонал он, катаясь по траве. Наконец ему удалось освободиться… Аз, натянув поводок, стоял во весь рост, злобно ощерив клыки, готовый снова броситься на солдата. Теперь он был напряжен, собран и страшен. Глаза гневно сверкали, шерсть ощетинилась. Когда первые минуты страха прошли, солдат рассердился. Решив отомстить Азу, он выломал длинную хворостину и, пряча ее за спиной, приблизился к собаке и взмахнул прутом. Собака завизжала, рванулась в сторону, вздыбилась. Вцепившись зубами в поводок, она стала яростно рвать его, извиваясь и визжа от частых ударов. Пена хлопьями летела из пасти. Аз был страшен. Солдат никогда не думал, что собака может так разозлиться. Только теперь до его сознания стал доходить смысл того, что он натворил. Скоро надо вести Аза на заставу. А как? Солдат и близко не мог подойти к нему. Бежать за сержантом Вечёрой? Но тому станет сразу ясно, что здесь произошло. Нет, нет, этого нельзя допустить. Фомкин отошел подальше в кусты, чтобы собака его не видела: так она быстрее успокоится. Через полчаса он снова подошел к собаке. Аз, высунув язык, дремал. Заметив Фомкина, пес вскочил и злобно зарычал, оскалив зубы.
— Аз, Аз! — умоляюще звал тот, боясь подойти поближе.
Собака злобно ворчала.
Внезапно Фомкину пришла в голову счастливая мысль — выломать длинную палку с вилкой на конце и, придерживая ею Аза за ошейник, на расстоянии отвязать. Так, при помощи палки, можно будет довести собаку к заставе. И никто не заметит.
Фомкин вырезал хворостину, зацепил за ошейник и с трудом отодвинул собаку подальше. Аз визжал и рвался.
— Тише, тише! Ну успокойся же, дурак! — приговаривал солдат, быстро отвязывая Аза. Некоторое время он волочил его по земле. Наконец собака вскочила на ноги и, повизгивая, пошла впереди Фомкина. Хворостина, надежно зацепившись за ошейник, не давала Азу ни остановиться, ни приблизиться к человеку.
— Не бойся, я тебя больше не трону. И другому закажу, чтоб не трогал, — увещевал Фомкин собаку, поспешно направляясь к заставе.
Поводок он намотал на хворостину, и издали казалось, будто собака сама бежит впереди. Фомкин волновался, когда вошел во двор заставы, но поблизости никого не оказалось: часовой стоял на вышке и ничего подозрительного не заметил.
Через полчаса он снова подошел к собаке. Аз, высунув язык, дремал. Заметив Фомкина, пес вскочил и злобно зарычал, оскалив зубы.
— Аз, Аз! — умоляюще звал тот, боясь подойти поближе.
Собака злобно ворчала.
Внезапно Фомкину пришла в голову счастливая мысль — выломать длинную палку с вилкой на конце и, придерживая ею Аза за ошейник, на расстоянии отвязать. Так, при помощи палки, можно будет довести собаку к заставе. И никто не заметит.
Фомкин вырезал хворостину, зацепил за ошейник и с трудом отодвинул собаку подальше. Аз визжал и рвался.
— Тише, тише! Ну успокойся же, дурак! — приговаривал солдат, быстро отвязывая Аза. Некоторое время он волочил его по земле. Наконец собака вскочила на ноги и, повизгивая, пошла впереди Фомкина. Хворостина, надежно зацепившись за ошейник, не давала Азу ни остановиться, ни приблизиться к человеку.
— Не бойся, я тебя больше не трону. И другому закажу, чтоб не трогал, — увещевал Фомкин собаку, поспешно направляясь к заставе.
Поводок он намотал на хворостину, и издали казалось, будто собака сама бежит впереди. Фомкин волновался, когда вошел во двор заставы, но поблизости никого не оказалось: часовой стоял на вышке и ничего подозрительного не заметил.
3
Стоял полдень. В тени под высокой чинарой выстроились солдаты и сержанты. Занятия проводил капитан Власов. Высокий, широкоплечий, в выгоревшей на солнце гимнастерке и запыленных сапогах, он походил на рядового солдата. Обычно на заставе капитан ходил в фуражке и только во время служебно-тактических занятий надевал, как и все солдаты, панаму, молодившую его крупное, широкоскулое лицо. — Успокойте Аза, сержант Вечёра! — сказал капитан инструктору, присутствовавшему на занятиях со своим любимцем. Аз в этот день плохо слушался сержанта, злобно рычал и скулил. — Рядом, Аз! — сурово приказал Вечёра и так грозно взглянул на пса, что тот, зло сверкнув глазами, сел. «Что с ним такое?» — подумал сержант, продолжая слушать объяснения капитана Власова. Только сейчас Вечёра обнаружил, что среди солдат нет рядового Фомкина, и догадался: видимо, сегодня он будет изображать «нарушителя» границы. Началась самая ответственная часть занятия. Учебный наряд вышел к границе, на поиски «нарушителя». Это, так сказать, завязка спектакля, события которого, постепенно развиваясь, будут втягивать всё новых и новых участников. По сухому арыку, идущему вдоль проселочной дороги, слегка пригнувшись, уже бежали солдаты второго наряда. Глубокий арык скрывал бегущих. Сержант Вечёра наблюдал за первым нарядом, которому продвигаться по открытой местности было значительно опаснее. Солдаты, припав к земле, перебегали от куста к кусту, направляясь к реке — «границе». Там на песчаных отмелях, если «граница» нарушена, легче всего найти след. Сигнал с «границы» известил: следы обнаружены. — Сержант Вечёра, ко мне! — приказал начальник заставы. — Аз! За мной! — скомандовал сержант. Но пес, заворчав и злобно оскалив зубы, не двинулся с места. — Быстрее, сержант Вечёра! — нетерпеливо крикнул капитан. Сержанту хотелось дернуть Аза за поводок, но он сдержался, подошел к собаке, ласково погладил: — Пошли, Аз! Собака, настороженно посматривая на своего хозяина, неохотно повиновалась. — Вы что, разучились управлять собакой? — с упреком спросил начальник, когда Вечёра, ведя на поводке Аза, наконец подошел. Получив приказ, инструктор двинулся к месту происшествия. Аз быстро взял след, заскулил и, тычась в песок мордой, бросился бежать. Сержант Вечёра еле поспевал за ним. След поднимался по крутой насыпи к арыку, пересекал дорогу, некоторое время шел по скошенному полю люцерны, потом сворачивал в ущелье, по которому текла горная речка. Здесь след терялся. «Нарушитель», видимо, двигался по реке. Гимнастерка сержанта Вечёры уже взмокла, пот градом катился по лицу. Сержант панамой смахивал его и торопил Аза: — Ищи! Ищи! Вот Аз снова припал к земле, заскулил и потянул вверх по скату горы, заваленному до самой вершины огромными камнями. Идти по таким валунам, удерживая собаку за поводок, было невозможно. Сержант снял с Аза ошейник. Почувствовав свободу, Аз пошел быстрее, легче перепрыгивая с камня на камень. Вскоре он оказался у самой вершины. Около вздыбленной рыжеватой плиты Аз остановился, потом прыгнул на нее, но, не удержавшись, упал, злобно зарычав. За вершиной плиты сержант увидел голову рядового Фомкина. В следующее мгновение Аз прыгнул, вцепившись зубами в дрессировочный костюм солдата. Вечёра спешил. До вершины было еще далеко, когда сержант увидел, как Фомкин поднялся, стараясь освободиться от собаки, затем покачнулся и, увлекая за собой Аза, полетел со скалы. «Еще убьется или ногу сломает!..» — подумал Вечёра. Приблизившись к месту происшествия, он увидел лежавшего на камнях, сжавшегося в комок солдата и Аза, неистово рвущего на нем дрессировочный костюм. — Фу! Фу! — крикнул сержант Вечёра. Аз и ухом не повел. — Дай! Дай! — приговаривал сержант. Он пытался лаской, а потом силой отвлечь собаку. Бесполезно. Аз с каждой минутой все больше свирепел. Дрессировочный костюм Фомкина начинал трещать. Вечёра растерялся. Он хорошо знал нрав Аза, но в таком состоянии видел своего питомца впервые. Фомкин приподнялся, выскользнул из дрессировочного костюма и хотел бежать. Аз зарычал и, оскалив пасть, бросился на грудь Фомкина, повалив его на камни. — Аз, Аз! — закричал инструктор и принялся хлестать собаку. Аз впился клыками в руку Фомкина и, казалось, не чувствовал ударов. Вдруг он завизжал, оставил Фомкина и, сильным прыжком сбив с ног сержанта, принялся рвать его гимнастерку. Подоспевшим солдатам только прикладами удалось отогнать рассвирепевшего пса. Начальнику заставы все рассказали. Он был возмущен недисциплинированностью собаки. — Что это значит, сержант Вечёра? — Сам не могу объяснить, — виновато ответил сержант. — Вы били Аза? — Никогда, — ответил Вечёра. — Зачем держать такого зверя? — сказал кто-то. — Убить его надо! — предложил стоящий рядом солдат. Еще недавно начальник заставы гордился прекрасной собакой и горой стоял за нее. Тщетно старался он теперь понять причины внезапной перемены в Азе. В канцелярию сержант Вечёра вошел внешне подтянутый, спокойный. Только капитан Власов заметил, что в глубоко посаженных глазах инструктора застыла боль. — Не могу поймать Аза на поводок, — сокрушенно сказал Вечёра. — Хоть плачь. Лютый стал, як тигр, того и гляди разорвет. — Что же с ним случилось? — настойчиво спрашивал Власов. — Ума не приложу. — С каких пор Аз стал раздражительным? — Дня три-четыре. — Вы сами пытались найти ответ, почему он стал таким? — Товарищ капитан, я эти дни спать не могу, хожу как потерянный и, сколько я ни думал, ничего не придумаю. Аз — это же какая собака! Ей цены нет. Я много видел разных собак, но такую встречаю впервые. Для меня потерять Аза немыслимо! — Признайтесь, вы били собаку? — еще раз спросил Власов и пытливо посмотрел в глаза сержанту. — Нет, — твердо ответил тот. — Фомкину вы передавали Аза? Вечёра побледнел. — Передавал, — еле выдавил сержант. — Так что же вы молчите? — Начальник заставы поднялся: — Дежурный, рядового Фомкина ко мне! Крупное лицо капитана с большим выпуклым лбом, плотно сжатыми полными губами стало суровым. — Так вы выполнили мое приказание? — тихо спросил капитан Вечёру. — Но рядовой Фомкин ничего не мог сделать с Рексом, — виновато проговорил сержант, — мне и пришлось с ним повозиться. — Почему вы не выполнили моего приказания? — В голосе капитана слышалось негодование. — Виноват, товарищ капитан! — Вы хоть проверяли, как он занимался, что делал? Может быть, он избивал собаку? — Он говорит — не бил. Вошедший Фомкин, взглянув на капитана и на Вечёру, сразу почувствовал недоброе. На его узком, остроносом лице появилось выражение растерянности и страха. — Сержант Вечёра давал вам тренировать Аза? — спросил Власов. — Давал. Три раза. — Ну, и вы тренировали? Фомкин покосился на Вечёру. — Нет. Потому что Аз не слушался, не выполнял моих команд… — Что же вы делали? — Ничего не делал. Заводил Аза в кусты, привязывал и сидел, пока пройдет время занятий, а потом приводил собаку на заставу. — Слышите, сержант, как занимаются ваши подчиненные? Командир отделения молчал. Ему было стыдно за себя и за солдата. — Когда собака не выполняла ваших команд, вы пытались ее заставить? — сдерживая раздражение, расспрашивал Власов. — Пытался… Уговаривал, но она ни в какую… — Били ее? — Нет, этого не было, — солгал Фомкин. — Может, видели, как кто-нибудь другой бил Аза? — Не видел, — ответил солдат. …На следующий день начальник заставы, вызвав сержанта, сказал: — Комендант разрешил убить Аза. — Убить? Аза?! — воскликнул Вечёра. — Погубить такую собаку? — Если хотите, мы подождем с неделю, посмотрим, как он будет вести себя дальше, — сказал Власов и, помолчав, добавил: — Теперь я понял: вы погубили Аза. — Я? — Вы, видимо, увлеклись, воспитывая в собаке злобу. Вечёра покраснел. Действительно, он стремился воплотить в жизнь свою мечту — воспитать грозу нарушителей. Он отрывал от сна час или полчаса, чтобы лишний раз потренировать собаку. И вот дотрениро-вался… Сержант задумался и вдруг, как будто очнувшись, проговорил: — Но Аза убивать нельзя! Я прошу вас, я его исправлю. Я ночей не буду спать… — Даю вам неделю сроку, товарищ Вечёра, — медленно сказал капитан.4
После разговора с начальником заставы рядовой Фомкин боялся попадаться на глаза сержанту. Обедать он шел в последнюю очередь, чтобы случайно не встретиться с ним в столовой; он просился на самую тяжелую хозяйственную работу, лишь бы находиться подальше от заставы; как праздника, ждал Фомкин заступления в наряд и торопился уйти на границу, зная, что там Вечёра его не разыщет. И все же они столкнулись. В три часа ночи, вернувшись с наряда, Фомкин стал чистить карабин. За этим занятием и застал его сержант. Услышав мягкий украинский говор, по которому за километр можно было узнать Вечёру, солдат побледнел. — Вас, Фомкин, с огнем не отыщешь. Где это вы бываете? Второй день поймать вас не могу, — негромко сказал сержант. — В наряде, а то на занятиях бываю, — наклонив голову, смущенно ответил Фомкин. Наступило напряженное молчание. Солдат продолжал сосредоточенно чистить карабин. — Значит, вот як вы с Азом занимались! — А что было делать? Аз меня не слушал, — растерянно проговорил солдат. — Почему же вы не доложили мне? — Боялся. — Что вы сделали с Азом? — настойчиво допрашивал сержант. — А что я… ничего… — трусливо лепетал Фомкин. Еще вчера солдат решил было во всем сознаться, но сейчас… Что, если Вечёра, всегда мягкий, в этот раз вспылит? На какую-то секунду робкие глаза Фомкина встретились с напряженным, немигающим взглядом сержанта. — Вы били Аза? Признавайтесь. Били? Только говорите честно. Это решает судьбу собаки. От коменданта получен приказ убить Аза! — Уби-ить! — Шомпол задрожал в руках солдата. Фомкина охватил страх. Он и не подозревал, что дело может принять такой оборот. Сейчас он уже снова был не в силах сознаться. — Я его… не бил… — Честно? Фомкин кивнул головой. В эту ночь Вечёра уснуть не мог. Перед его глазами стоял Аз, злобно оскалив клыки. Вот уже два дня сержант тщательно пытался успокоить своего любимца. Даже ошейника он не мог на него надеть. Сержант вспомнил свою вчерашнюю отчаянную попытку. Несколько дней Аз сидел в закрытой будке и не допускал его к себе. Наконец, облачившись в дрессировочный костюм, Вечёра решил пройти в питомник. Он хотел рискнуть… Сержант осторожно открыл дверцу будки. Аз насторожился и отступил назад. Сержант протянул руки с ошейником. Аз угрожающе зарычал и оскалил зубы. Шерсть на нем вздыбилась, глаза сверкнули в полутьме. — Аз, Аз! — позвал Вечёра. Отважившись, он стремительно кинулся к собаке с веревкой. Аз завизжал и, клацнув огромной пастью, бросился на Вечёру. Сержант, отступая назад, упал. Аз мигом очутился сверху. Вокруг собрались солдаты. Несколько человек попытались зайти в питомник, но Аз никого не подпускал. Оставив на мгновение сержанта, Аз снова сбил его с ног и вцепился в шею. Вечёра отчаянно хрипел. Солдаты бросились на помощь. Кто-то ударил прикладом Аза, и собака, перепрыгнув через невысокий забор питомника, убежала. Больше Аз в питомник не заходил. Он бродил вокруг заставы, принимаясь рычать при приближении людей. Капитан Власов приказал подстеречь Аза и убить, но Вечёра уговорил начальника подождать еще день. Под утро Вечёра услышал визг и проснулся. Сон ли это или явь? Но визг был слышен громче, такой оглушительный и душераздирающий, что сон мгновенно слетел, и сержант, наскоро одевшись, выбежал из помещения. Посредине двора лежала большая свинья, которую откармливали при кухне. Аз вцепился клыками в ее заднюю ногу… На визг собрались солдаты. Они толпились вокруг Аза, не зная, что предпринять. Подошедший капитан Власов засунул в пасть собаки гаечный ключ и всеми силами старался разомкнуть ее и высвободить ногу свиньи. Но у собаки была «мертвая хватка», открыть пасть оказалось невозможным. Заметив, что у свиньи нога переломлена, капитан Власов крикнул: — Быстро принесите нож! Свинья была зарезана, на Аза удалось надеть ошейник и загнать его в будку. — Аза убить… — приказал Власов. — Вечером выведите его в ущелье, застрелите и доложите мне. Никакие уговоры Вечёры на этот раз не помогли. Еще никогда у сержанта Вечёры не было так тяжело на сердце.5
Тревожно смотрел сержант на часы… Скоро зайдет солнце… Аз почти не сопротивлялся, когда Вечёра надевал ему на шею петлю. Это удивило сержанта и в то же время обрадовало. «Вдруг он уже начал успокаиваться?» — подумал сержант. Снова мелькнула мысль спасти собаку. Вечёра хотел незаметно провести Аза через двор заставы. Но избежать посторонних взглядов не удалось. Почти все солдаты стояли около казармы, как бы провожая в последний путь всеобщего любимца. У сержанта было такое чувство, точно он совершил преступление перед солдатами. Он смотрел себе под ноги и, казалось, ничего не видел, кроме настороженного, покорно повизгивающего Аза, который шел неохотно, упираясь, словно знал, куда его ведут. Вот уже позади остались ворота. Скрылись дома заставы, высокая вышка. Вечёра спустился с Азом в ущелье. Дно ущелья было завалено камнями. Сержант Вечёра вел Аза все дальше от заставы, ловя себя на том, что ему не хочется останавливаться. Может, сержанту было бы легче, если б собака сопротивлялась, но она покорно шла, словно примирилась со своею судьбой. Вечёра мысленно наметил куст, к которому привяжет Аза, но прошел мимо, наметил другой и его прошел. «Что я делаю?» — упрекнул себя Вечёра и остановился против очередного куста… Он долго возился с веревкой, у него дрожали руки… — Ну, Аз, прощай! — с дрожью в голосе промолвил сержант. — Прощай, мой любимый Аз! Слезы катились по щекам Вечёры. Он медленно вытер их, не отрывая глаз от собаки. Аз настороженно сидел, поджав хвост. Его косо поставленные овальные, очень темные глаза смотрели хмуро. Он чутко повел своей красивой черной широколобой головой. — Ну, прощай, Аз! — повторил сержант, загоняя патрон в патронник и прицеливаясь. Аз сидит, не меняя позы, и смотрит на Вечёру. — Эй! — разнеслось по ущелью. Сержант с недоумением и тревогой оглянулся. По дну ущелья бежал солдат. Видно было, как он на ходу машет руками и что-то кричит. — То-ва-рищ сер-жа-а-ант! — донесся далекий, но уже разделенный на слова крик. Теперь Вечёра разглядел бегущего: это был Фомкин. — Не убивайте Аза! Подождите! — на бегу кричал Фомкин. Он торопился изо всех сил: спотыкался, падал, перепрыгивая через камни. — Не убивайте… не надо!.. — с отчаянием в голосе повторял Фомкин, подбегая к Вечёре. Бледный, растерянный, он порывисто и тяжело дышал. Рот его был скривлен так, словно он вот-вот собирался плакать. — Это я виноват… я бил Аза, — запинаясь и тяжело дыша, проговорил солдат. — Вы? Когда? Что же это? — восклицал Вечёра. И трудно было сказать, радовался он или негодовал. — Я виноват… я… — Солдат, путаясь и сбиваясь, рассказал все как было. С отвращением слушал сержант лепет солдата. Аз на этот раз был спасен.6
Для сержанта наступили дни долгого и томительного ожидания. Собаку поместили в комендатуру на три месяца в особое изолированное помещение. Но сможет ли Аз успокоиться, забыть прошлое? Медленно тянулись дни. Минул месяц, наступил второй. Вечёра ждал. Чем меньше оставалось времени, тем больше росло нетерпение сержанта. Он досаждал солдату, которому было поручено ухаживать за Азом, звонил в комендатуру, долго и настойчиво расспрашивал, чем кормили Аза, как он ел, как вел себя, есть ли там хорошая подстилка, не злится ли Аз. Потом давал наставления, как с ним обращаться, как готовить пищу, объяснял, что любит Аз. Наконец Аз прибыл на заставу. Собаку привезли ночью. Вечёра не мог дождаться утра. Ему хотелось сию же минуту посмотреть на своего любимца, накормить его из своих рук. Сержанта терзала мысль, как примет Аз своего хозяина. Наступил рассвет. В лучах восходящего солнца все вокруг — просторный двор заставы с выложенными камнем дорожками, деревья с пожелтевшими листьями, красная крыша казармы, высокая вышка — воспринималось по-новому. На душе было хорошо и чуть тревожно. Теперь сержант со всей остротой почувствовал, как не хватало ему Аза. Собственноручно принялся он варить пишу для Аза и не выдержал. Выбрав самый лучший кусок мяса, Вечёра с затаенным дыханием подошел к будке, осторожно открыл дверцу и позвал Аза. Собака вышла, потянулась и равнодушно взглянула на хозяина. У Вечёры холодок пробежал по спине. — Аз, дорогой, на, возьми! — сказал он, подавая мясо. Огромная собака-волк, гордо подняв свою массивную голову, стояла перед сержантом по-прежнему злобная и недоверчивая. Ее гладкая шерсть лоснилась, отчего собака казалась выше, стройнее. — На, Аз. — Сержант поднес мясо к самому носу животного. Пес заворчал, оскалил зубы и чуть попятился назад. — Аз, ты не узнаешь меня? Аз! — умоляюще твердил Вечёра и протянул руку, чтобы погладить. Собака отскочила в сторону. Положив кусок мяса, сержант вышел из питомника и издали наблюдал за своим любимцем. Аз не трогал еды и хмуро посматривал на инструктора. Потом сержант на некоторое время ушел, а когда вернулся, мяса уже не было. Он принес второй кусок. Аз из руки не взял, но, когда Вечёра положил перед ним мясо, пес тут же на глазах принялся есть. Когда сержант в третий раз принес еду, Аз осторожно взял кусок из его рук. Обрадованный Вечёра хотел погладить собаку, но она уклонилась. Холодность пса не испортила настроения Вечёры. — Хорошо, Аз, хорошо! На второй день Аз позволил надеть на себя поводок. Вечёра долго водил собаку по двору заставы, потом вывел на берег реки и снял поводок. — Аз, ко мне! Собака приказу не подчинилась. — Аз, ко мне! — настойчиво повторил сержант. Собака подошла и села около хозяина. Больше до конца тренировки Аз не исполнил ни одной команды, но Вечёра и этим был доволен. Начался перелом в поведении собаки. На третий день Аз выполнял уже приказания «ко мне», «сидеть», «лежать». К концу недели он выполнял все команды, за исключением одной: «фу» — не тронь. Как-то утром Вечёра выпустил Аза. Собака подошла к нему, ластясь, протянула морду и просяще заскулила. Вечёра потрепал ее по шее. Аз, тихонько повизгивая, припал на передние лапы к земле и радостно завилял хвостом. В этот день Вечёра вел Аза на тренировку с чувством удовлетворения. Ему казалось, что его воспитанник «вошел в норму». Обычно Аз требовал строгого обращения. Но происшедшие события вынудили Вечёру изменить свое отношение к собаке: он стал обращаться с Азом мягче. Собакавначале слушалась. Однако радость была преждевременной. Вскоре Вечёра стал замечать, что команда «фу» с каждым днем вызывает у Аза все большее раздражение. Аз и раньше не любил ее выполнять, а теперь он воспринимал это приказание, как удар плетью. Шерсть на нем поднималась, глаза загорались гневом. Иногда Аз не выполнял и команды «апорт». Были дни, когда Вечёра приходил в отчаяние. Истекал уже месяц, а в воспитании Аза он не продвинулся ни на шаг вперед. С горечью думая о своих неудачах, сержант вел Аза на тренировку. Он понимал, что к Азу надо относиться строже. Но как соблюсти меру строгости, которая не озлобила бы снова собаку, решить было трудно. Перед началом занятий Вечёра, как всегда, сел на камень и закурил. Аз, спущенный с поводка, бегал по поляне. — Аз, ко мне! — строго скомандовал сержант. Собака подбежала. — Апорт! Тряпичный мяч полетел в кусты. Аз бросился за мячом, когда последовала резкая команда: — Фу! Аз взял мяч и виновато посмотрел на хозяина. — Брось! Собака положила мяч и, недовольная, отошла в сторону. — Апорт! Аз охотно взял мяч и принес его хозяину. Вечёра вновь бросил мяч и, когда Аз был в пяти шагах от него, настойчиво крикнул: — Фу! Фу! Аз остановился. Мяча он без разрешения не взял. Так собака начала выполнять все команды. Как-то после занятий Вечёра погладил Аза и стал играть с ним. Собака повалила сержанта, легонько потрепала за рукав куртки, ласкаясь, пыталась лизнуть в лицо. Довольный Вечёра шутливо отбивался. Воз-вращавшиеся с границы солдаты залюбовались этой картиной. — А ну, повалите-ка меня и сделайте вид, что бьете, — попросил он одного из солдат. Тот лихо подхватил под мышки Вечёру, приподнял, потряс в воздухе, потом бросил на землю, делая вид, что душит. Аз с тревогой наблюдал за происходящим. Когда сержанта прижали к земле, Аз, заворчав, стремительно кинулся на выручку. С ожесточением ухватил он зубами за плечо солдата и яростно принялся тормошить. Вечёра сообразил, что шутка может кончиться печально, вскочил и тревожно закричал: — Фу! Фу! Аз отошел в сторону. — Крепкая у вас защита, — поглаживая плечо, сказал солдат. Сержант был счастлив. Собака к нему привязалась, а это определяло успех в работе. Пора было начинать с Азом следовую работу. Ночью рядовой Фомкин проложил след. Через шесть часов, на рассвете. Вечёра стремительно бежал с Азом к вспаханному полю. Волнение хозяина передавалось собаке, она рвалась вперед. На пахоте, прибитой дождем, виднелись свежие следы. Сержант остановился и подтолкнул Аза: — Ищи, ищи след! Собака сунула морду в одну, затем в другую вмятину, напряженно нюхая, заскулила и с силой рванула поводок. Вечёра еле поспевал за ней. На поиск Аз шел с азартом. Он весь преобразился и двигался по следу с яростью н ожесточением. За эту страсть больше всего и любил его сержант. Аз приближался к голой песчаной поляне — стойбищу овец, испещренному тысячами следов животных, обычно отдыхавших здесь после водопоя. Песок, перемешанный с пометом, был пропитан запахом овец. Вечёра волновался: сумеет ли собака из множества запахов найти тот один, который оставил солдат, проложивший след? Аз добежал до середины поляны, жадно нюхая воздух, и заметался. — Ищи! Ищи! — требовал сержант. Аз напряженно нюхал воздух и кружил на месте. Вечёре не верилось, что Аз сможет что-нибудь услышать. Вдруг собака припала к земле, взвизгнула и стремительно бросилась вперед. — Молодец, Аз! Нашел! — шептал сержант. Пес пересек дорогу и спустился с пологого холма на берег реки, поросший высокой зеленей осокой. Около залива, узкой полоской врезавшегося в берег, Аз остановился. Здесь слеп терялся. — Пошли! Тронув собаку за поводок, Вечёра, осторожно ступая, стал преодолевать залив. Выбравшись на гальку, сержант пустил Аза вдоль залива. Собака снова нашла след и потянула на проселочную дорогу, шедшую через дремучий, как лес, камыш. Вскоре собака свернула с дороги. Порой идти было так трудно, что Вечёре приходилось ползти на коленях по густой, непролазной чаще. Встречались тропинки, проложенные дикими кабанами, тогда пробираться становилось легче. Камыш кончился. Собака выбежала на поляну и кинулась к высокому тутовому дереву. — Слазь, товарищ Фомкин, — приказал Вечёра. Солдат сбросил дрессировочный халат. Собака ухватила его и стала зло трепать. — Фу! — крикнул Вечёра и потянул за поводок. Собака повиновалась. Сержант погладил ее. После короткого отдыха Вечёра повел «задержанного» на заставу. По дороге Вечёра остановился. — Сядь, карауль, — приказал он Азу, указывая на Фомкина, и, спрятавшись в овраге, стал наблюдать за действиями собаки. Фомкин двинулся было вперед. Аз заворчал.7
Ночью сержанта срочно вызвали к начальнику заставы. Капитан Власов сообщил тревожную весть: в тылу участка обнаружены следы четырех неизвестных. — Готовьте Аза. Задача серьезная. Сержант Вечёра выстроил свою группу во дворе заставы, объяснил задачу. Из канцелярии вышла еще одна группа, возглавляемая начальником заставы. Построившись, пограничники направились к месту происшествия — кишлаку Джамбул, около которого были обнаружены следы. Двинулись они разными путями: группа начальника заставы направилась по тропе через перевал, группа сержанта Вечёры — по ущелью. — За мной! — Чуть наклонившись, сержант Вечёра торопливо пошел вперед. Во мраке еле виднелась узкая серая полоска тропы, по которой размашистой рысью бежал Аз. В ущелье было сумрачно. Меж камней неугомонно шумел говорун-ручей. Очертания гор от подошвы до вершины сливались в одну сплошную темную массу. Небо было затянуто седой пеленой облаков. Иногда пугливо взлетали стаи куропаток, и ущелье наполнялось резким свистящим шумом. Аз на секунду останавливался, поднимал вверх голову и вновь продолжал свой путь. Сначала солдаты шли бодро, строго выдерживая дистанцию. Потом расстояние между ними стало увеличиваться. — Не растягиваться! — предупредил Вечёра. Чем дальше пограничники углублялись в горы, тем чаще сержанту приходилось повторять команду. На привале во время короткого отдыха сержант предупредил: — Прошу не отставать. Дорога предстоит длинная. Будет тяжело. Но каждый должен знать, что, отстав, он не только сам не выполнит задачи, но и нас подведет. Время отдыха истекло. Инструктор взглянул на часы и поднял солдат. По поведению людей Аз чувствовал тревожную обстановку и рвался вперед. Вечёра хорошо знал горы и кишлак, возле которых были обнаружены следы неизвестных. Мысленно он уже бродил по ущельям и оврагам, преодолевая реки, перевалы, скалистые хребты, идя по следу врага. И, чем больше он думал о предстоящем поиске, тем беспокойнее становилось на сердце. Сержант понимал, что ускорить движение нельзя. До кишлака еще добрых тридцать километров. Люди могут выбиться из сил, и тогда задача останется невыполненной. Привалы приходилось делать все чаще. На отдыхе никто больше не произносил ни слова. Усталость одолевала каждого. Лишь к рассвету пограничники вошли в кишлак. Сержанту хотелось немедленно заняться следами, но он дал людям полчаса отдыха. Впереди предстоял еще большой и трудный путь. После привала Вечёра поставил Аза на след, оставленный нарушителями десять часов назад. Такую трудную задачу Азу еще не приходилось выполнять. Он часто сбивался, у самого спуска с горы вдруг остановился. След терялся. — Ищи, ищи! — настойчиво говорил сержант. Аз не находил следа. Сержант взглядом осмотрел ущелье. Его внимание привлек куст, у которого было обломано несколько ветвей. Так сломать мог только человек, спускавшийся по обрыву. «Может быть, здесь собака возьмет след», - подумал Вечёра. Спустились вниз. Аз сразу же оживился и повел в то ущелье, куда, по словам колхозников, ушли неизвестные. Больше десяти километров Аз шел ущельем, потом начал подниматься на вершину перевала. Крутой подъем тянулся на много километров. Солдаты отставали. Аз шел легко, точно по ровной местности. Вечёра еле передвигал ноги, но настойчиво следовал за собакой. С тревогой оглядывался он на своих товарищей. Расстояние между ним и солдатами все увеличивалось. Пройдя вершины перевала, собака быстро спустилась вниз. Потеряв из виду солдат, сержант остановился, поджидая товарищей. Они подходили по одному, усталые, выбившиеся из сил, падали как подкошенные, подползали к ручью, жадно пили воду, умывались. С нескрываемой тревогой смотрел сержант на обмякших, побледневших людей. С беспокойством думал он о том, как быть дальше. — Пойдем медленнее, прошу не отставать, — сказал Вечёра. Некоторое время след шел по дну ущелья, потом круто поворачивал на склон горы; группа вновь растянулась. Выносливее других оказался рядовой Фомкин; он оставил своих товарищей далеко позади. Дальше след шел по гребню хребта. Идти стало еще труднее. Вокруг высились голые отвесные скалы. Расстояние между сержантом и солдатами все увеличивалось, и наконец Вечёра совсем потерял их из виду. Собака вдруг повернула в сторону соседнего хребта. Сержант встревожился еще больше. Хребет вел непосредственно к границе. Намерение нарушителей стало очевидным: они стремятся уйти за границу. Вечёра ускорил шаг. Аз бежал легко, перепрыгивая с камня на камень. Так продолжалось довольно долго. Вечёра удивлялся выносливости собаки, неутомимо мчавшейся вперед. Солдаты давно отстали; если бы у них даже и хватило сил догнать сержанта, они не смогли бы его найти, так как направление следа постоянно менялось. Вечёра негодовал и на отставших и на себя. Зачем было так торопиться? С тревогой думал он о том, что вот-вот столкнется с нарушителями и один не сможет их задержать. Что тогда? Ну, а если бы он подождал товарищей? Было б еще хуже: он не смог бы догнать нарушителей. Скалистый хребет, по которому сержант шел за собакой, поднимался все выше и, казалось, уходил в поднебесье. Вечёра давно пересек полосу облаков ч теперь смотрел па них сверху. По ущельям, словно льдины по воде, неровным строем плыли белые, как вата, облака. Казалось, их можно тронуть рукой. Солнце клонилось к западу. Сержант уже не мог бежать, он шел, напрягая последние силы. Он не мог больше прыгать с камня на камень и медленно переползал с одного уступа на другой. Аз на глазах осунулся, по бокам обозначились ребра. Но чувствовал он себя лучше, чем хозяин, и по-прежнему рвался вперед. Эти труднодоступные горы с острыми шпилями и причудливыми скалами, глубокими ущельями и зияющими расщелинами, казалось, были созданы для того, чтобы убедить сержанта, насколько сильнее и выносливее его любимец Аз по сравнению с другими собаками. Но вот дорогу преградила неприступная громадина из нескольких скал. Красновато-рыжие пласты гранита, нагроможденные в хаотическом беспорядке, напоминали старинную крепость с высокими потрескавшимися стенами. Сержант взял на руки Аза, подсадил его на первый выступ и влез сам. Наверху оказалось небольшое плато, посреди которого возвышались два утеса, разделенные неровной узкой щелью. В расщелине сержант заметил человека, внимательно смотревшего вниз. Стараясь остаться незамеченным, Вечёра прижался к скале. Сердце гулко стучало в груди, кровь приливала к голове. Сержант поспешно снял с шеи автомат и перевел его на автоматическую стрельбу. Ущельем идти нельзя — притаившийся человек сразу его заметит. Вечёра решил идти в обход скалы. Аз споткнулся, камешки с шумом покатились вниз. Нарушитель не мог уловить этого шума, но самый слабый шорох отдавался в сердце сержанта резким гулом. Обойдя скалу. Вечёра очутился в пяти шагах от неизвестного. В его руках поблескивал маузер. — Руки вверх! — приказал сержант. — А-а-а! — закричал нарушитель диким голосом, видимо желая предупредить своих, и бросился бежать. Сержант послал короткую очередь. Гулкое эхо поплыло по ущелью. Неизвестный присел за камень, выстрелил, потом снова побежал, петляя меж валунов. — Фас! — Сержант спустил с поводка Аза. Нарушитель, увидев, что к нему мчится собака, выстрелил в нее, но промахнулся. Аз бросился на неизвестного, повалил его и, схватив зубами за руку, заставил выпустить маузер. Отогнав Аза, сержант связал нарушителю руки, обыскал его. В это время раздался глухой выстрел, и Вечёра почувствовал острую боль в ноге. В тот же момент Аз, злобно зарычав, бросился к груде камней. Послышались крики, выстрелы. Вечёра попытался подняться, но, застонав, присел на землю. На ногу нельзя было ступить, сержант пополз… За грудой камней он увидел распростертого, судорожно хрипевшего человека. На спине его сидел Аз и, ухватив за шею, сжимал челюсти. В трех метрах стоял еще один человек. Изо всех сил он тянул к себе веревку, петлей накинутую на шею собаки. «Задавить хочет!» — подумал Вечёра и выстрелил вверх. Расчет сержанта оправдался… Нарушитель, бросив веревку, побежал. — Ищи след! — приказал сержант собаке. Аз кинулся за беглецом. Послышался крик. Вечёра понял, что Аз настиг нарушителя… С трудом преодолевая боль, Вечёра связал лежащего незнакомца и бросился на помощь Азу. Теперь сержант шел, опираясь на палку. Метрах в пятидесяти был обнаружен третий нарушитель. Вечёра свел их всех в одно место и, приказав Азу караулить, отправился на поиски четвертого. Только через час сержант отыскал его: нарушитель спустился со скалы вниз и скрывался в пещере. Стало темнеть. Сержант взорвал гранату. Услышат ли отставшие? Главное сделано — нарушители, пойманные и связанные, лежат перед ним. Но на сердце было тревожно. Где остальные товарищи? Болела нога. Сержант перебинтовал рану. Боль немного утихла. Рядом на щебне лежал Аз, положив морду на вытянутые лапы. Устало и равнодушно посматривал он на задержанных. Сержант положил нарушителей лицом вниз, приказав им не двигаться и не переворачиваться. Но это требование выполнил только самый молодой из них. Он уткнулся лицом в полосатый халат и, видимо, спал. Этот молодой был самым послушным и безразличным ко всему происходящему. Беспокойно вел себя другой, более пожилой нарушитель. Он то переворачивался с одного бока на другой, то свертывался калачиком, так, что колени чуть не доставали подбородка, то принимался двигать ногами, то бился головой о камни. В каждой черточке его сморщенного узкого лица, покрытого редкой черной щетиной, таились страх и ненависть. Самый старший из пойманных, седеющий старик, сохранял презрительное спокойствие. Он лежал на спине. Крупное злое лицо его с глубокими впадинами на щеках оставалось неподвижным, лишь глаза горели злобой. Сержант сразу понял: это опасный враг, волк, который только выжидает случая, чтобы напасть. Четвертый нарушитель нервно подергивал простреленным плечом, видимо сильно беспокоившим его. Слегка повернув голову, он жадно смотрел в ущелье, и было заметно, что не только рана тревожит его… Сержанту хотелось прикрикнуть на этих люден, подбежать и силой повернуть каждого лицом вниз, но он медлил… Хорошо бы сейчас дать сигнал осветительными ракетами. Их обязательно бы заметили. Но ракетный пистолет остался у Фомкина. Сержант достал последнюю гранату, зарядил ее и, поднявшись, бросил на каменную насыпь. Раздался резкий, оглушительный взрыв. «Услышат ли?» — с тоской подумал Вечёра. Опираясь на палку, он подошел к задержанным и приказал им лечь лицом вниз. Теперь нарушители лежали на большом расстоянии друг от друга. Прошел час, другой. Голова сержанта клонилась вниз, подбородок касался холодной стали автомата. Вечёра вздрагивал и с ужасом сознавал, что засыпает. Наступала ночь. Вторая ночь без сна. Как магнитом, тянуло сержанта к земле. Глаза сами смыкались. Сержант с трудом поднялся и, опираясь на палку, стал ходить взад и вперед. Неосторожным движением он задел ногой за камень, и острая боль ударила в голову, в глазах поплыли круги. Сонливость как рукой сняло. Успокоившись, сержант присел на камень и вдруг незаметно задремал. Это заметил старик; каким-то образом он развязал себе руки и, посматривая то на Вечёру, то на Аза, осторожно пополз к сержанту. Измученная собака тоже спала, свернувшись калачиком. Вот нарушитель добрался до камня и, прижимаясь лицом к шершавому граниту, стал приподниматься, протягивая руку к автомату.
Послышался слабый шум. Аз стремительно прыгнул на нарушителя. Зубы сомкнулись на его руке. Старик метнулся в сторону, потянув за собою Аза, но вырвать руку не смог. Сержант поднял голову и понял все, что произошло. — Фу! Фу! — строго скомандовал Вечёра. Аз завилял хвостом и, недоверчиво посматривая на нарушителя, отошел. Сержант снова связал нарушителю руки. — Лежать! — сказал он и угрожающе поднял над головой автомат. Подойдя к Азу, Вечёра тихо позвал: — Аз, Аз! Собака доверчиво поглядела на хозяина. Сержант ласково потрепал ее по голове. — Спасибо тебе. Аз, выручил, — тихо сказал он, точно собака могла понять его. Прошло еще часа два. Начинало светать. Вечёра больше не присел ни разу. Тяжело опираясь на палку, он ходил вокруг нарушителей. Вдруг сержант услышал отдаленный говор и замер в ожидании. «Они!» — радостно подумал Вечёра. Первым поднялся рядовой Фомкин. — Товарищ сержант, это вы? — радостно крикнул солдат. — Где же вы были до сих пор? — с укором спросил сержант обступивших его солдат. Но, взглянув на усталые, потемневшие лица, он понял, что его товарищи сделали все, что могли, для его спасения. Они наперебой рассказывали, как странствовали по горам, потеряв его след, как, услышав взрык гранаты, не могли определить, в какой он стороне. Когда солнце показалось из-за гор, пограничники тронулись в путь, ведя задержанных к заставе. И последним, рядом с сержантом Вечёрой, бежал верный Аз.

Бернар Эйвельманс ПО СЛЕДАМ НЕИЗВЕСТНЫХ ЖИВОТНЫХ
Ниже мы печатаем отдельные главы из книги выдающегося французского ученого, доктора зоологии Бернара Эйвельманса «По следам неизвестных животных». Эти главы перевел с французского и пересказал для юношества Г.Велле. Научная редакция перевода — профессора Н.Н.Плавильщикова. Доктор Эйвельманс прислал свое дружеское обращение к молодым читателям альманаха.
К СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Юные друзья! В час, когда вы прочтете эти строчки, возможно, ваши старшие товарищи уже ступят на Луну. Достижения советской науки и техники в астронавтике, вызвавшие восхищение у людей всего света, следуют одно за другим в таком темпе, что едва решаешься о них говорить в какой-нибудь книге. Ведь за ними не угнаться. Когда книга выходит, материал уже устарел… Не вызывает сомнения, что все ваши взоры устремлены сейчас на Луну и дальше, в космические пространства. Сердца ваши горят высокой страстью к открытиям, приключениям, к освоению Вселенной. Можно не сомневаться, что многие из вас решили посвятить свою жизнь обследованию нашей солнечной системы. Но интерес, который мы сегодня испытываем к далеким мирам, не должен все же приводить к забвению нашей старушки Земли, нашей поилицы и кормилицы в течение по меньшей мере… миллиона лет! В самом деле, планету свою мы изучили еще весьма поверхностно, и перечень всех ее богатств еще далеко не закончен. Еще не раскрыто много тайн. Остается совершить еще не одно открытие, и, в частности, в области зоологии. Вот это-то я и старался подчеркнуть в моей книге. И вот, в то время как некоторые из вас будут штурмовать межпланетные просторы или осторожно продвигаться по поверхности иных миров, необходимо, чтобы другие ваши товарищи продолжали исследование самых потайных уголков нашего земного шара в поисках не обнаруженных еще, вымирающих, или неизвестных существ. Это совершенно необходимо и не терпит отлагательства не только потому, что раз начатое дело надо всегда кончать, но и потому, что, чересчур долго откладывая такие поиски, мы рискуем тем, что эти существа окончательно исчезнут. Увы! Во многих точках земного шара люди слепо разрушают природу, и живые существа при этом гибнут. Там, где нам известно, что они еще водятся, мы их можем как-то спасти. Но сколько еще существует зоологических тайн и загадок!.. Сколько есть мест, где о недавнем существовании удивительных животных мы узнали уже после того, как они вымерли! Как же спасти от уничтожения еще не открытые живые существа? Те из вас, кто посвятит свою жизнь изучению животного мира и зоологическим открытиям, возможно, встретят непонимание и будут обескуражены, когда объявят о своем желании пуститься на поиски какого-нибудь еще не известного науке животного. Над ними будут посмеиваться, им будут совать в нос ученые книги, в которых сказано, что данное животное существует только в воображении «примитивных» людей и вралей разных мастей. Вас будут называть дон-кихотами и вам будут советовать заняться более серьезными вещами. Но, когда посвящаешь себя научным исследованиям, надо прислушиваться лишь к велениям собственных сердца и разума. Надо уметь наблюдать, все изучать и проверять опытом, устанавливать факты наблюдением и на основании этого приходить к своему выводу, даже если на первых порах вывод этот покажется выходящим из рамок привычных представлений. Поразмыслите над мудрыми словами известного французского зоолога, профессора Пьера-Поля Грассе: «Девизом ученого должна быть независимость мысли. Оттого-то молодые ученые и чаще открывают новое, что над ними не довлеют воспринятые от других обеспложивающие мысли. Смелость, даже дерзновенность — хорошая предпосылка для того, чтобы успеть в науке». Однако не излишни ли все эти советы? Вы принадлежите к народу, у которого особенно развиты уважение и любовь к природе. Народ ваш, стряхнувший парализующее ярмо прошлого, страстно устремлен к прогрессу. И все вы молоды! Буду же надеяться, что моя книга пробудит в некоторых из вас тягу к призванию зоолога. Остается лишь пожелать вам всяческих успехов. У вас есть все для этого!Бернар Эйвельманс.д-р зоологии, Париж
Глава первая МОРСКИЕ ЗМЕИ И Ко?
Жажда чудесного вполне естественна. Кто из людей не мечтает вырваться из «обыденщины», не грезит о «приключении?? Казалось бы, что печать должна широко использовать это столь распространенное стремление. И все же современные газеты уделяют лишь ничтожное место, да и то на четвертой странице, сообщениям вроде следующих: «Токио, 11 марта 1952 года («Франс-пресс»). Корейские зоологи охотятся за морским змеем длиной около 15 метров и шириной 1 метр. Это чудовище обитает на острове Пепсон, в 25 километрах от Пусана. Полагают, что это оно проглотило в прошлом году восемнадцатилетнюю девушку». «Лондон, 27 августа 1953 года («Франс-пресс»). Чудовище Лох-Несса воскресло. Рыбаки Жирвана графства Айршира в Шотландии утверждают, что ими было замечено в устье Клайда все покрытое щетиной чудовище ростом около 10 метров и с хвостом около 4 метров; у чудовища была верблюжья голова и шея жирафа». «Иоганнесбург. 17 января 1954 года («Франс-пресс»). По сообщению «Сёндей таймс», в Южной Африке, в труднодоступном районе Карроо, обнаружено доисторическое животное. В газете говорится далее, что на этой неделе выедет из Иоганнесбурга экспедиция палеонтологов и охотников. Экспедиция направится в район, где, по свидетельству некоторых автомобилистов, было замечено удивительное животное. Цель ученых — изловить чудовище. По некоторым данным, длина его около 12 футов (3,5 метра), а туловище заканчивается огромным хвостом. Предполагают, что речь идет о животном из разряда исчезнувших уже много миллионов лет назад». Конечно, место, отведенное в газете тому или иному сообщению, определяется интересом, который оно должно вызвать у читателей. И вот приходится признать, что «морской змей» или обезьяночеловек, доисторические чудовища и гигантские каракатицы уже утратили интерес и привлекательность не только в глазах читателей, но и журналистов. С тех пор как мы переступили порог атомного века, обывателя, очевидно, все меньше и меньше интересует возможность существования неведомых науке таинственных чудовищ, скрывающихся в малодоступных местностях. Теперь взоры людей обращены в межпланетное пространство, быть может таящее неизвестную угрозу. Показательно, что печать проявила интерес к кистеперой рыбе латимерии, этому удивительному существу, как бы явившемуся к нам из другой эры, лишь спустя пятнадцать лет после того, как ее впервые обнаружили. Понадобилось поймать с полдюжины этих «воскресших ископаемых», чтобы Парижский музей объявил с барабанным боем об организации выставки нескольких экземпляров замечательных рыб, — и чтобы газеты и их читатели начали проявлять к ним некоторый интерес. Однако ведь не всегда было так. В 1900 году всюду заговорили об открытии в африканских дебрях окапи — животного явно доисторического облика. Во все слои общества проникла молва о существовании в горах Конго неизвестного вида гигантских горилл. Ученые были готовы допустить возможность существования и по сей день в Патагонии гигантского ленивца, не лазающего по деревьям. Обнаруженные на Яве останки обезьяночеловека — питекантропа — вызвали оживленные споры. Упадок интереса к зоологическим открытиям объясняется в значительной мере тем, что западная печать слишком часто публикует непроверенные слухи. Не так давно одно агентство опубликовало фотографию огромного животного, выброшенного на берег близ Суэца. Подпись под фото гласила: «Чудовище полукит-полумамонт». И правда, было сфотографировано большое китообразное животное, обладавшее, казалось, подобием слоновых бивней. Но опытный наблюдатель тотчас же распознал бы этого «полумамонта»: был заснят обыкновенный кит с вывороченными вследствие какого-то несчастного случая — взрыва ли мины, столкновения ли с винтом парохода — челюстями. Незадолго до мировой войны некоторые газеты и журналы сообщили, что в Северной Африке обнаружен живой обезьяночеловек, по имени Аззо. Была приложена и фотография. В действительности дело шло о несчастном уроде: идиоте-микроцефале. Понятно, что, никогда не находя подтверждений со стороны авторитетных научных кругов, читатель постепенно утратил доверие к подобным сообщениям. «Последней каплей» явились некоторые традиционные «утки». Шутки, которыми газетчики окружили сообщения о чудовище Лох-Несса, были столь язвительны, что ни одна официальная комиссия не решилась заняться научной проверкой на месте этих сообщений. И, может быть, зубоскальство нескольких невежественных писак лишило человечество случая совершить замечательное зоологическое открытие [193]. Наша планета еще хранит много тайн Результатом вышесказанного и явилось то, что как скептики, так и наивные люди совершенно одинаково воспринимают известия о любых фантастических животных, которые им время от времени преподносят газеты. А между тем сколько известий, заслуживающих доверия, примешиваются к самым сказочным сообщениям! Все равно — рассказы о любых морских змеях и им подобных сухопутных чудовищах без разбору осмеиваются. Причина такого отношения — укоренившаяся в сознании людей мысль: наша Земля изучена из края в край. В действительности же загадки нашей планеты еще далеко не разгаданы. Земля таит гораздо больше чудес, чем это кажется на первый взгляд. Неужели можно потерять интерес к нашей планете. Ведь мы знаем ее, в общем, лишь только как землемеры. Нам, правда, известны форма и величина Земли, очертания ее материков, покрывающая ее растительность. Кое-где мы даже поскребли земную кору и узнали ее состав. Мы исследовали в общих чертах рельеф дна океана и морские течения. Но разве биолог, которому удалось сделать точный набросок человека, может без зазнайства утверждать, что в совершенстве знаком с его анатомией и гистологией? В наши дни увлечение великими географическими открытиями мало-помалу проходит: больших «белых пятен» на карте Земли не осталось. Конечно, не может быть и речи об открытии неведомых материков. Но что нам по существу известно о том, что таят в себе едва исследованные джунгли и пустыни, что мы знаем об океанских глубинах? Да и все ли известно нам даже в более доступных уголках земного шара? Даже в… Европе? Белые пустыни полюсов Человек наконец начинает догадываться о возможности открытия то тут, то там чудеснейших явлений, о которых он и не подозревал. Это вновь пробуждает в нем страсть к приключениям, к покорению мира, убивает в нем равнодушие. Он начинает сознавать, что не только в морских глубинах, не только на вершинах Гималаев или среди полярных льдов следует искать неведомые миры. Я не собираюсь соблазнять вас исследованиями животного мира иных планет. Мой замысел скромнее и вместе с тем — честолюбивее. Мне хочется оживить перед вами целый ковчег загадочных существ. Несмотря на свое земное происхождение, все они — удивительны. Речь пойдет о животных еще неизвестных зоологам или, во всяком случае, еще не зарегистрированных в каталогах современной фауны. Предварительно сделаем небольшой обзор тех районов земного шара, в которых есть надежда обнаружить таких животных. Отметим лишь вскользь, ввиду ее весьма сурового и малогостеприимного характера, Антарктиду. Огромный материк этот площадью в 14 миллионов квадратных километров вдвое больше Австралии и равен Западной Европе и Соединенным Штатам вместе взятым. Почти две трети Антарктиды не обследованы. Это наименее благоприятный для жизни материк: лишь киты, касатки, тюлени в его водах да пингвины и некоторые другие морские птицы чувствуют себя здесь хорошо. Вряд ли в сердце Антарктиды будут обнаружены виды, еще неизвестные науке. И все же такая вероятность полностью не исключена. Мало известна нам и Гренландия, особенно ее центральная часть. Но над островом совершено множество полетов на небольшой высоте: на этом снежно-ледяном саване ничто не ускользнет от взора воздушного наблюдателя. Поэтому можно считать вполне правильным мнение известного исследователя полярных земель Поля-Эмиля Виктора: «Возможно, что когда-нибудь и найдут в этих районах еще неизвестные виды животных, но следует сразу же оговориться: речь может идти лишь о небольших животных, например о насекомых». Африка еще не открыла все свои тайны Хотя Африка и исследована значительно лучше, все же она представляет гораздо больше возможностей для натуралиста. Обычно считают совершенно неисследованными только некоторые районы центральной части Калагари (большой, поросшей кустарником пустыни на юге материка). Но в действительности имеются еще многочисленные весьма поверхностно обследованные районы. Между тем на картах, изображающих пустыню Калагари, не увидишь «белых пятен», заставляющих грезить на школьной скамье юных искателей приключений. Дело в том, что точки зрения географа и натуралиста далеко не совпадают. Для географа ряд геодезических измерений, произведенных подчас даже издалека, как, например, в горной местности, набросок реки, пройденной в пироге или обследованной вдоль берега, несколько фотографий, заснятых с самолета, вполне достаточны, чтобы его удовлетворить и чтобы заполнить «пустые места» на карте. Исследовательская работа натуралиста начинается лишь после окончания топографической съемки: естествоиспытателя интересует в первую очередь, что скрывается на самом деле за лаконизмом терминов картографа. Что там, на этих обширных площадях, обозначенных на карте как «густолесье», «болото», «пустыня» и т. д.? Широкое применение воздушной фотосъемки и подавно укрепило иллюзию, что мы хорошо знаем свою планету, что она не хранит более никаких тайн. При этом забывают, что на фотографиях, на которых засняты леса, покрытые высокими травами степи или заросли кустарников, нельзя и мечтать различить каких-либо животных, будь они даже ростом с носорога или слона. К районам, в которых можно найти еще неизвестных науке крупных животных, нужно раньше всего отнести экваториальный лес полосы дождей. Этот лес опоясывает почти всю Африку, от Либерии до страны Больших Озер. Не забывайте, что именно этой полосе непролазной чащи мы обязаны шестью самыми «большими» зоологическими открытиями века, а их и все-то легко пересчитать на пальцах обеих рук. Да и что в этом удивительного! Деревья здесь достигают высоты 60 метров, а ветви их переплелись так тесно, что образуют сплошной свод, сквозь который едва проникают солнечные лучи. Этот зеленый колпак не отдает полученного тепла и превращает дремучий лес в паровую баню. «Если человек и проник в эту зону, — пишет американский натуралист Герберт Ланг, — то он совершил это, так сказать, «с птичьего полета». А известно, что птицы пролетают над этими негостеприимными местами с утроенной скоростью. Многочисленных туристов-спортсменов, посетивших почти все уголки Африки, ничто не привлекало в эти леса. И действительно, изредка появляющиеся из западной части Экваториальной Африки мертвенно-бледные люди с искаженными лицами отнюдь не располагают любителей развлечений к такому «приключению». Есть что-то ужасающее в бескрайности этого девственного леса: он тянется почти непрерывно на 3000 километров, от берегов Гвинеи до Рувензори, и покрывает более половины материка. Вопреки обычно пышной фауне и флоре тропиков, это один из самых безотрадных районов земного шара. Палящее солнце накаляет квадратные километры листвы, и постоянная жара в 100 градусов по Фаренгейту (около 40° Цельсия) создает влажную, совершенно нестерпимую атмосферу. Над всей этой зоной свирепствуют почти ежедневные грозы. Туземцы в этих краях стали каннибалами. Тысячи могил белых пришельцев служат памятником тем, кого жажда приключений привела в эти места и чья жизнь оборвалась столь внезапно». Отметим также в сердце Африки горные районы Кении и Катанги, а также зоны болот и озер, в которых могут укрываться еще неизвестные науке крупные животные: озера Родезии, болота Аддара (с поверхностью в 4000 квадратных километров) или болота Бар-эль-Гхазаля (суданский приток Белого Нила), занимающие еще большую площадь, отдельные участки которых никогда не были исследованы. «Белые пятна» планеты В Азии арабская пустыня Дахна, простирающаяся от берегов Красного моря до Персидского залива, почти не посещалась человеком, во всяком случае — человеком Запада. «Это наименее исследованная пустыня на Земле, — пишет географ Моретт. — Она изучена значительно меньше, чем полюсы». Эта зона постоянного зноя привлекает главным образом археологов. Они ищут в иссушенной солнцем и совершенно обеспложенной земле остатки древних цивилизаций, в том числе легендарную страну царицы Савской. Более богатые возможности представляют для натуралистов отроги Гималаев, северные и юго-восточные долины этого горного массива, ставшего символом гигантизма. Что касается великой сибирской тайги, то ее бескрайние просторы служат ей наилучшей защитой. Неисчерпаемым кладом для зоолога остаются тропические джунгли стран, почитаемых хорошо изученными. Джунгли в сердце Индии, Бирмы, в стране Мои, в Индокитае и Малакке, в центре Борнео и Суматры еще очень богаты всякими неожиданностями. О центральной, горной части Новой Гвинеи нам почти ничего не известно, разве только что многочисленные племена, в том числе и пигмеи, живут там еще в каменном веке. Только в 1938 году американский натуралист Ричард Арчбол случайно открыл в западной части острова прекрасно орошенную долину с населением в 60 тысяч человек. Еще совсем недавно, в июне 1954 года, в юго-западных долинах острова были замечены с самолетов совершенно неизвестные племена. Предполагают, что общая численность их около 100 тысяч человек. Это равно одной трети общего числа папуасов, значившихся до сих пор по переписи. Что уж говорить об Австралии, материке, почти вся центральная часть которого покрыта песками, солончаками или колючим кустарником. К наименее сопротивляющимся проникновению «белых людей» районам этого материка можно отнести разве только степи, поросшие высокой травой и усеянные чахлыми деревцами. Только искатели счастья, которым весьма сомнительная надежда открыть золотую жилу придает мужество, иногда отваживаются проникнуть в сердце неисследованных земель. По возвращении они часто рассказывают о невероятных животных, встреченных ими, но слушатели обычно относят их на счет бреда. А разве невозможны изумительнейшие находки на материке, где некоторые горные хребты обследованы лишь с самолета? Потерянные миры зеленого материка Однако самым загадочным материком следует считать Южную Америку. «Белые пятна» — свидетели нашего невежества — мелькают на ее карте повсюду. На наиболее подробных картах бассейн Амазонки напоминает огромный ломоть швейцарского сыра: столько здесь пятен. Бертран Флорнуа, многие годы путешествовавший по этому району, говорит о нем как о «величайшей стране деревьев, раскинувшейся на пять миллионов квадратных километров». Чем объяснить, что, несмотря на пятивековое изучение этого района, все же не удалось проникнуть во все его тайны? «Дело в том, — говорит Флорнуа, — что девственным лес постоянно оказывает могучее сопротивление усилиям человека. За немногие часы он преобразует всякую гниль в торжествующую новую жизнь. Прорубаешь тропинку — она тотчас же зарастает. Когда пролетаешь на самолете над амазонским лесом, то такие города, как Белем и Манаос в Бразилии, Икитос в Перу, похожи на лесные прогалины, а подлинные прогалины, на которых живут индейцы, вообще не видны». Болота, окруженные вышележащими землями, — все это покрыто и скрыто густыми зарослями пышной растительности. Разве не представляет такая природа наилучшего убежища для всякого рода животных? Кроме самого сердца, Матто Гроссо можно считать практически необследованными: значительную часть Колумбии, пограничные районы Венецуэлы и Гвианы и значительные участки андских Кордильер. Даже лесная часть Патагонии исследована далеко не полностью. Наконец, существует уголок Южной Америки, заслуживающий особого внимания не только потому, что здесь предполагают существование «маленьких человечков» и загадочных чудовищ. Эта замечательная местность представляет собой в некотором роде образец естественного, почти недоступного заповедника. Речь идет о районе Венецуэлы у истоков Ориноко. Здесь, в Великой Саванне — почти непроходимых джунглях, — возвышаются мезас: величайшие плоскогорья песчаника, совершенно отрезанные от остального мира отвесными скалами высотой от 1000 до 3000 метров. Некоторые из этих мезас — настоящие острова, поднимающиеся над океаном растительности, — достигают 30 километров в длину. О том, что находится на этих плоскогорьях, покрытых густой растительностью, в большинстве случаев ничего не известно. На тех из них, которые удалось обследовать, обнаружены среди прочих животных неизвестные для других мест этого района грызуны. Животный мир мезас напоминает фауну венецуэльских Анд, расположенных в сотнях километров к западу. Эти мезас изолированы уже с незапамятных времен. Исследования этих плоскогорий в большинстве случаев нелегкое дело. В 1937 году летчик и исследователь Джимми Энджел попытался приземлиться на одном из мезас, на Ауян-Тепюи (Горе Дьявола), и потерпел аварию над болотом у самого края скалы. Он был лишен возможности использовать свой частичный успех, так как смог передвигаться лишь в районе радиусом не более нескольких сот метров от места падения. На протяжении веков мезас столь иссечены эрозией, что образовавшиеся здесь расселины создают непреодолимые препятствия. О нашем незнании венецуэльской Гран-Сабана не говорит даже, а кричит во весь голос открытие того же Джимми Энджела. Он обнаружил здесь водопад, который в пятнадцать раз больше Ниагары. Выбиваясь из вертикальной стены Ауян-Тепюи вышиной в 1500 метров, огромные потоки воды низвергаются с высоты 980 метров: тройной высоты Эйфелевой башни. Источники этих водопадов обычно скрыты за облаками, и поэтому индейцы племени таурепанес когда-то рассказывали, что в краю существуют страшные водопады, низвергающиеся прямо с небес. Конечно, им не поверили. Тот факт, что величайший в мире водопад мог так долго ускользать от внимания путешественников, должен заставить задуматься скептиков. А между тем попробуй кто-нибудь сказать, что обнаружил там бронтозавра или какое-либо иное чудовище, и его засмеют… К слову сказать, часто говорят, что именно эти мезас в глубине Венесуэлы и дали Конан-Дойлю мысль написать его знаменитую книгу «Потерянный мир». В книге этой, как, вероятно, помнит читатель, английские путешественники открывают в Южной Америке отрезанное от остального мира высокое плоскогорье. На нем среди других пережитков прошлого сохранилась не только фауна гигантских пресмыкающихся, но даже и обезьяночеловек. На самом деле, как в этом можно убедиться, читая воспоминания полковника Фаусетта, основой для увлекательного вымысла Конан-Дойля послужили Рикардо-Франко-Хиллс, расположенные на рубеже Бразилии и Восточной Боливии. Вот что он писал о своем пребывании в 1908 году в местности, которую называет «отравленным адом Рио-Верде» и где он и его спутники находились на краю гибели: «Прямо над нами возвышались Рикардо-Франко-Хиллс с плоскими загадочными вершинами, склоны которых изборождены глубокими расселинами. Время и человек оставили эти вершины в неприкосновенности. Они возвышались здесь, покрытые лесами, словно потерянный мир, и воображение смело могло населить их существами, уцелевшими от давно прошедших веков. За оградой из неприступных скал, избавленные от борьбы с новыми условиями изменяющейся природы, чудовища зари рода человеческого, может быть, продолжали владычествовать здесь — пленники, сберегаемые в мезас, словно в естественном заповеднике. Так думал, во всяком случае, Конан-Дойль, когда впоследствии, в Лондоне, я рассказывал ему об этих возвышенностях и показывал сделанные мной снимки. Он мечтал написать роман с местом действия вцентре Южной Америки и расспрашивал меня о многом. В результате появился его «Потерянный мир», который заслужил столь громкий успех». Сколько романтически настроенных натуралистов, сколько юных, жаждущих приключений зоологов, должно быть, мечтали, прочтя этот увлекательный роман, об открытии такого «потерянного мира»!.. Наивно предполагать, что, для того чтобы быть избавленным от конкуренции с другими, прогрессирующими видами, доисторическим животным нужно оказаться пленниками на вершине мезас или на каком-нибудь маленьком островке. Большой остров и даже целый материк могут с таким же успехом оказаться «заповедником». — Австралия — «потерянный мир» сумчатых, Мадагаскар — «заповедник» лемуров, Новая Зеландия — первоящеров, а еще совсем недавно — и гигантов из птичьего мира. Даже некоторые малопригодные для большинства животных местности могут оказаться надежным убежищем для приспособившихся к этим условиям. Какой-нибудь участок девственного леса, болото, высокая гора, подземная пещера — всюду могут оказаться «потерянные миры». Впереди еще много удивительнейших зоологических открытий… «Неизвестная земля» зоологов По правде говоря, для пытливого зоолога вся наша планета может быть названа «неизвестной землей». Что уж говорить об ихтиологах и других специалистах, изучающих морских животных: фауна океанов, покрывающих почти три четверти поверхности земного шара, обещает широчайшее поле деятельности. Думается, что до сих пор мы знаем о существовании еще не всех самых больших представителей морской фауны. В самом деле, существование гигантского «морского змея», вызывающее столько недоверия, сегодня не столь уж сомнительно: спорят лишь о его внешности и размерах. В море каждая заброшенная сеть несет надежду на поимку чего-нибудь нового. Так, в одном только Калифорнийском заливе в 1952 году было выловлено не менее пятидесяти новых видов и разновидностей рыб, а этот залив не какое-нибудь труднодоступное место. Нет даже необходимости самому заниматься рыбной ловлей, чтобы открыть новый вид. Ихтиологи, описавшие новых калифорнийских рыб, впоследствии обнаружили, что некоторыми из их «крестников» торгуют на мексиканских базарах! Такие открытия возможны не только на рыночных площадях городов и сел. Некоторые млекопитающие и птицы новых для науки видов и родов были открыты в коллекциях музеев, а однажды даже… в зоологическом саду. Казалось бы, что сухопутную и пресноводную фауну мы знаем лучше, чем морскую, а следовательно, здесь не так легко обнаружить новые для науки виды. По правде говоря, все зависит от размеров животных. Энтомолог, например, может обогатить науку, исследуя насекомых своего сада. Столь же велики возможности открытий и для натуралистов, специализировавшихся на изучении других сухопутных или пресноводных беспозвоночных. А если они займутся обследованием глубоких колодцев, пещер и подземных рек, то они наверняка сделают интереснейшие находки. Пещероведы-спелеологи то и дело открывают новые и новые виды беспозвоночных животных; создался даже особый раздел зоологии, изучающий подземную фауну. «Но, — пишет доктор Морис Бертон из Британского музея, — если удовлетвориться насекомыми, пауками и другими маленькими существами, то незачем искать их в труднодоступных местах: новые формы их можно найти на пороге своего дома». Что же удивляться большой добыче энтомологов: каждый год они описывают примерно по пяти тысяч новых видов насекомых. Описания новых видов сухопутных позвоночных малых размеров уже более редки, и все же ежегодно они насчитываются десятками. В большинстве случаев речь идет о маленьких грызунах, иногда о малых рукокрылых, насекомоядных, сумчатых, реже — о птицах, еще реже — о пресмыкающихся и земноводных. Однако, как только дело коснется открытия неизвестных животных больших размеров, так поле деятельности зоолога сразу сужается: в общем, оно ограничивается уже указанными нами районами. Отметим все же, что, исключая даже Антарктиду, плохо или совсем не изученные районы представляют собой все же примерно десятую часть поверхности суши. Впрочем, всякий, кто хоть немного путешествовал, знает, что даже в наилучше изученных краях существуют малодоступные уголки, которые могут послужить убежищем неизвестных науке животных. Вот один из замечательных примеров. Альпийский «червь с лапками» Уже много раз рассказывали о том, что в швейцарских и австрийских Альпах встречается некая «ящерица» длиной от 60 до 90 сантиметров, которую еще никогда не удавалось изловить. Понаслышке, это загадочное существо, обычно называемое татцельвурм, то есть «червь с лапками», хорошо известно всем жителям Альп. Впрочем, из долины в долину это название меняется: бергштуцен, даацлвурм, а то и праатцельвурм. В одном баварском руководстве для охотников и натуралистов это животное было названо даже штоллвурм (пещерный червь). В этой книжке есть весьма занятное изображение этого «пещерного червя»: нечто вроде чешуйчатой сигары, вооруженной устрашающими зубами и обладающей какими-то ничтожными остатками лап. Рисунок этот был сделан автором книжки на основании указаний одного из его друзей, якобы убившего однажды загадочного «червя». Но вот горе — никогда труп или хотя бы скелет не был исследован учеными. В том, что животное существует, не может быть сомнения. Проведенное в 30-х годах группой корреспондентов местных газет и научных журналов расследование позволило собрать и сопоставить свидетельства примерно шестидесяти очевидцев. Все они сходятся на том, что животное имеет в длину от 60 до 90 сантиметров, что его тело скорее цилиндрической формы, причем задняя часть его как бы внезапно обрывается. Оно коричневатого цвета на спине, более светлое — на брюхе. У него короткий толстый хвост, большая голова с выпуклыми глазами, шея не намечена. Лапки так малы, что некоторые очевидцы отрицают наличие у него задней пары. Уверяют также, что животное покрыто чешуей, но это подтверждают не все. Во всяком случае, все сходятся на том, что оно шипит, как змея.
Конечно, некоторые рассказы о татцельвурме могут показаться подозрительными. Так, утверждают, что он способен делать прыжки от двух до трех метров. Ему приписывают также по меньшей мере удивительною для ящериц злобность. Говорят даже, что животное очень ядовито, что «одно его дыхание несет смерть».
Несмотря на множество рассказов, относящихся к татцельвурму, многие натуралисты сомневаются в его существовании. Некоторые скептики утверждали, что легенда о «черве с лапками» не выдерживает критики уже по той простой причине, что якобы не существует ядовитых ящериц.
Если в общем это и верно, то все же есть исключение: ядозубы. Это единственное семейство ядовитых яшериц, опасных даже для человека. Известно всего три вида ядозубов: жилатье (Мексика), эскорпион (Техас, Аризона) и лантанот (остров Борнео). Эти неуклюжие и малоподвижные ящерицы достигают 75 сантиметров длины и вполне заслуживают данное им прозвище, хотя оно и не вполне точно. Под нижней челюстью у них расположены ядовитые железы. При укусе мышцы сдавливают железы, и яд вытекает в рот ящерицы. По бороздкам зубов он проникает в рану. От укуса ядозуба мелкие животные умирают через несколько минут, для человека укус очень болезнен, но смертельным бывает крайне редко.
Плотное телосложение, короткий и толстый хвост сходятся с описаниями внешности татцельвурма. Поэтому австрийский натуралист доктор Николуси заочно окрестил это загадочное животное — назвал его «ядозуб европейский».
Назидательный урок, который можно извлечь из истории татцельвурма
Название, заочно данное неизвестному животному доктором Николуси, все же вызывает сомнение: основные признаки загадочного существа еще далеко не установлены. Согласно заявлению одного австрийского школьного учителя, встретившегося с татцельвурмом при исследовании пещеры Темпельмауэр, вряд ли это пресмыкающееся. Вот что он рассказывает:
«Внезапно у входа в грот я увидел змееобразное животное, растянувшееся на гниющих растениях, покрывавших землю. Оно не двигалось и пристально следило за мной удивительно большими глазами. Я с первого взгляда узнаю любое животное местной фауны и сразу же понял, что передо мной находится неизвестный науке татцельвурм. Возбужденный и радостный, хотя одновременно и слегка встревоженный, я попытался схватить его… Напрасно! С проворством ящерицы животное исчезло в какой-то дыре, и все мои усилия обнаружить его оказались тщетными. Я уверен, что не стал жертвой воображения и совершенно ясно видел это животное. Наблюдавшийся мной татцельвурм обладал коротенькими, как бы атрофированными лапками. Длина его не превышала 40–45 сантиметров. Вероятнее всего, татцельвурм — редкая разновидность саламандр, живущая в сырых пещерах и лишь изредка появляющаяся наружу».
Наибольший интерес татцельвурм вызвал в конце 1934 года, когда швейцарский фотограф Балкин объявил, что, сам того не желая, сфотографировал это загадочное существо. Прогуливаясь в окрестностях Майрингена, чтобы заснять несколько пейзажей, он заметил нечто вроде причудливой гнилой ветки. В момент, когда он снимал ее, ветка вдруг задвигалась и оказалась большой, весьма агрессивно настроенной ящерицей. Фотограф пустился бежать. Проявив пленку, он с волнением убедился, что заснял в естественных условиях совершенно неизвестное животное. На фотографии можно хорошо различить нечто вроде большой рыбы презлющей внешности. Но, как известно, рыбы не занимаются альпинизмом.
«Берлинер Иллюстриртен Цейтунг» не только опубликовал эту фотографию, но даже финансировал обследование района, в котором, по всем предположениям, должен был находиться знаменитый «червь с лапками». К сожалению, наступление плохой погоды помешало поискам, а когда погода снова наладилась, газеты уже были заняты другими сенсациями, и охота за татцельвурмом не могла больше служить рекламой для журнала. Поиски не были возобновлены, и это досадно: будь то «червь с лапками», европейский вид ядозуба, гигантская саламандра или какое-нибудь другое, даже. совсем невероятное животное, факт тот, что оно существует.
История эта должна бы заставить задуматься людей, полагающих, что наука вполне осведомлена о фауне страны, «исследованной во всех ее уголках».
Пора уже по-настоящему заглянуть во все уголки земного шара. Немало сюрпризов ожидает зоологов. Если у нас еще остаются шансы открыть удивительнейших животных, то это именно там, где мы еще не удосужились хорошенько посмотреть. «Потерянные миры» — это миры, которые мы еще не позаботились достаточно изучить.
В том, что животное существует, не может быть сомнения. Проведенное в 30-х годах группой корреспондентов местных газет и научных журналов расследование позволило собрать и сопоставить свидетельства примерно шестидесяти очевидцев. Все они сходятся на том, что животное имеет в длину от 60 до 90 сантиметров, что его тело скорее цилиндрической формы, причем задняя часть его как бы внезапно обрывается. Оно коричневатого цвета на спине, более светлое — на брюхе. У него короткий толстый хвост, большая голова с выпуклыми глазами, шея не намечена. Лапки так малы, что некоторые очевидцы отрицают наличие у него задней пары. Уверяют также, что животное покрыто чешуей, но это подтверждают не все. Во всяком случае, все сходятся на том, что оно шипит, как змея.
Конечно, некоторые рассказы о татцельвурме могут показаться подозрительными. Так, утверждают, что он способен делать прыжки от двух до трех метров. Ему приписывают также по меньшей мере удивительною для ящериц злобность. Говорят даже, что животное очень ядовито, что «одно его дыхание несет смерть».
Несмотря на множество рассказов, относящихся к татцельвурму, многие натуралисты сомневаются в его существовании. Некоторые скептики утверждали, что легенда о «черве с лапками» не выдерживает критики уже по той простой причине, что якобы не существует ядовитых ящериц.
Если в общем это и верно, то все же есть исключение: ядозубы. Это единственное семейство ядовитых яшериц, опасных даже для человека. Известно всего три вида ядозубов: жилатье (Мексика), эскорпион (Техас, Аризона) и лантанот (остров Борнео). Эти неуклюжие и малоподвижные ящерицы достигают 75 сантиметров длины и вполне заслуживают данное им прозвище, хотя оно и не вполне точно. Под нижней челюстью у них расположены ядовитые железы. При укусе мышцы сдавливают железы, и яд вытекает в рот ящерицы. По бороздкам зубов он проникает в рану. От укуса ядозуба мелкие животные умирают через несколько минут, для человека укус очень болезнен, но смертельным бывает крайне редко.
Плотное телосложение, короткий и толстый хвост сходятся с описаниями внешности татцельвурма. Поэтому австрийский натуралист доктор Николуси заочно окрестил это загадочное животное — назвал его «ядозуб европейский».
Назидательный урок, который можно извлечь из истории татцельвурма
Название, заочно данное неизвестному животному доктором Николуси, все же вызывает сомнение: основные признаки загадочного существа еще далеко не установлены. Согласно заявлению одного австрийского школьного учителя, встретившегося с татцельвурмом при исследовании пещеры Темпельмауэр, вряд ли это пресмыкающееся. Вот что он рассказывает:
«Внезапно у входа в грот я увидел змееобразное животное, растянувшееся на гниющих растениях, покрывавших землю. Оно не двигалось и пристально следило за мной удивительно большими глазами. Я с первого взгляда узнаю любое животное местной фауны и сразу же понял, что передо мной находится неизвестный науке татцельвурм. Возбужденный и радостный, хотя одновременно и слегка встревоженный, я попытался схватить его… Напрасно! С проворством ящерицы животное исчезло в какой-то дыре, и все мои усилия обнаружить его оказались тщетными. Я уверен, что не стал жертвой воображения и совершенно ясно видел это животное. Наблюдавшийся мной татцельвурм обладал коротенькими, как бы атрофированными лапками. Длина его не превышала 40–45 сантиметров. Вероятнее всего, татцельвурм — редкая разновидность саламандр, живущая в сырых пещерах и лишь изредка появляющаяся наружу».
Наибольший интерес татцельвурм вызвал в конце 1934 года, когда швейцарский фотограф Балкин объявил, что, сам того не желая, сфотографировал это загадочное существо. Прогуливаясь в окрестностях Майрингена, чтобы заснять несколько пейзажей, он заметил нечто вроде причудливой гнилой ветки. В момент, когда он снимал ее, ветка вдруг задвигалась и оказалась большой, весьма агрессивно настроенной ящерицей. Фотограф пустился бежать. Проявив пленку, он с волнением убедился, что заснял в естественных условиях совершенно неизвестное животное. На фотографии можно хорошо различить нечто вроде большой рыбы презлющей внешности. Но, как известно, рыбы не занимаются альпинизмом.
«Берлинер Иллюстриртен Цейтунг» не только опубликовал эту фотографию, но даже финансировал обследование района, в котором, по всем предположениям, должен был находиться знаменитый «червь с лапками». К сожалению, наступление плохой погоды помешало поискам, а когда погода снова наладилась, газеты уже были заняты другими сенсациями, и охота за татцельвурмом не могла больше служить рекламой для журнала. Поиски не были возобновлены, и это досадно: будь то «червь с лапками», европейский вид ядозуба, гигантская саламандра или какое-нибудь другое, даже. совсем невероятное животное, факт тот, что оно существует.
История эта должна бы заставить задуматься людей, полагающих, что наука вполне осведомлена о фауне страны, «исследованной во всех ее уголках».
Пора уже по-настоящему заглянуть во все уголки земного шара. Немало сюрпризов ожидает зоологов. Если у нас еще остаются шансы открыть удивительнейших животных, то это именно там, где мы еще не удосужились хорошенько посмотреть. «Потерянные миры» — это миры, которые мы еще не позаботились достаточно изучить.
Глава вторая СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕЩЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ?
Жорж Кювье поступил весьма опрометчиво в тот день, когда в своем «Слове о теории Земли», служившем введением к «Исследованию об ископаемых животных», заявил: «Надежда обнаружить новые виды крупных четвероногих весьма невелика». Едва он успел высказать эту мысль, как в 1819 году его ученик Диар доказал ему всю несостоятельность такого утверждения. Он прислал из Индии своему учителю Кювье рисунок чепрачного тапира с припиской: «Когда я в Баракпуре впервые увидел тапира, зарисовку которого и посылаю Вам, то был весьма удивлен, что такое большое животное еще неизвестно науке. И это тем более странно, что я сам видел в Азиатском обществе голову подобного животного, которую губернатор Фаркюхар прислал 2 апреля 1806 года с сообщением, что тапир распространен в лесах Индии так же, как слон и носорог». В самом деле, индийский тапир был известен уже давным-давно. В старинных китайских словарях Эул-я и Шуен-вен он значился под именем «ме», и о нем говорилось: «Me напоминает медведя. У него маленькая голова и короткие ноги; его короткошерстая лоснящаяся шкура вся в белых и черных пятнах; некоторые очевидцы говорят, что он желтоватого цвета; другие говорят, что он серовато-белый. У него хобот слона, глаза носорога, коровий хвост и лапы тигра». Кроме того, во многих китайских и японских книгах по естествознанию можно было увидеть рисунок чепрачного тапира; даже в школьных учебниках и в детских книжках. Однако, если животное это и было хорошо знакомо китайским и японским школьникам, то знаменитый ученый Кювье не имел о нем представления. Так или иначе, будучи человеком весьма реалистического склада мышления, гордящийся тем, что считается лишь с точными, поддающимися немедленной проверке фактами, Кювье относился с пренебрежением ко всем народным преданиям и рассказам простых людей, увлекающихся чудесным. Тапир — в Индии? Смеетесь! Это американское животное. Впрочем, по получении письма с рисунком своего ученика Диара мнение ученого изменилось. Кювье словно вдруг озарило: он поспешил дать научное описание этого тапира столь причудливой масти. Но он опоздал: другой ученый опередил недоверчивого француза. Живое «ископаемое» Индийский тапир оказался лишь первым из серии крупных животных, о существовании которых до того не подозревали. Невозможно всех их здесь перечислить. Да и сама по себе величина животного не служит достаточно важным признаком, чтобы вызвать интерес ученых. Так, например, грызун паракана — зверек незначительных размеров, но среди грызунов это гигант. Некоторые из плодоядных рукокрылых — настоящие чудовища, хотя и не крупнее лисицы. В то же время африканский оленёк — крошечное копытное, и все же было бы весьма трудно держать его в ванной. По сравнению с гигантской крысой карликовый бегемот — колосс. Перечень приобретений, сделанных зоологической наукой со времени столь опрометчивого заявления Кювье, имеет для нас лишь значение примеров. Поэтому ограничимся наиболее замечательными, действительно «необычайными» животными. В 1885 году немец Рюппель открыл в скалистых горах южной Абиссинии самую большую из собакоголовых обезьян: бурую геладу. Став на задние ноги, этот своеобразный павиан достигает человеческого роста, хотя ноги его и значительно короче человеческих. Оленёк африканский, описанный в 1840 году О’Гильби по экземпляру, привезенному из Сьерры-Леоне, маленькое животное: его высота в плечах всего лишь 35 сантиметров. Но самый факт обнаружения этого копытного в девственных лесах Африки очень интересен: оленьки — единственные сохранившиеся до наших дней представители большой группы копытных, водившихся во второй половине третичного периода и в Европе. Африканский оленёк был первым из «живых ископаемых», открытых в Африке в дебрях экваториального леса полосы дождей. Несколько видов оленьков распространены в тропической Азии. Такин и олень-невидимка шомбургка В 1850 году, во время своего опасного путешествия по Тибету, английский натуралист Ходжсон получил от некоего майора Дженкинса три шкуры неизвестного барана, добытого в Ассаме. Однако баран этот, судя по его серой шкуре, был, видимо, ростом с небольшого буйвола. Животное это было хорошо известно народу мишми под именем «такин», а хамтисы называли его просто «кни». Но Ходжсону так и не удалось увидеть живого такина. Золотистый такин, открытый в 1911 году, еще интереснее, чем его ассамский собрат. Во-первых, потому, что его очень трудно встретить. Это, впрочем, неудивительно: он водится в Западном Китае на высоте от 2500 до 4200 метров, скрывается в зарослях рододендронов и карликовых бамбуков и выходит пастись на травянистые склоны гор лишь в сумерки. Во-вторых, потому, что трудно решить, к какому из жвачных он стоит ближе: животное это одинаково близко к быку, барану и антилопе. В настоящее время его относят к сернам. Доставленный впервые в Европу ассамский таким был самцом. Его принес в дар Лондонскому зоологическому обществу Ж.С.Уайт 22 июня 1909 года, то есть спустя пятьдесят девять лет после его открытия. Что касается оленя шомбургка, описанного Блисом в 1863 году, то он заслуживает нашего внимания не только потому, что обладает красивыми разветвленными рогами. До сих пор ни одному европейцу не удалось наблюдать его в тех местах Сиама, где он водится. Все, что мы знаем о нем, стало известно лишь из наблюдений в зоологических садах над редкими экземплярами, доставленными местными ловцами диких зверей или родившимися уже в неволе. Возможно, что мы так никогда и не увидим этого оленя в природных условиях: весьма вероятно, что в настоящее время он полностью вымер. Когда подумаешь, что подобная судьба ожидает, возможно, и тех животных, о которых мы знаем лишь по слухам или по народным преданиям, то досадуешь на ученых умников. Нужно проверять подобные слухи, нельзя пренебрегать фольклором! Спасение ми-лу С 1865 по 1869 год католический миссионер Арман Давид совершил длительное путешествие в сердце Азии, в местности, еще неизвестные европейцам. Это путешествие принесло богатые результаты. Помимо большого количества новых видов растений, собранных им, Давид открыл три новых вида крупных млекопитающих. Если бы не исключительная любознательность Армана Давида, то ми-лу окончательно исчез бы и мы даже не имели бы представления о том, что это животное когда-то существовало. В 1865 году, находясь в Пекине, Давид услышал, что в императорском парке Нон Хай-тзу, вблизи столицы, имеются неизвестные священные животные. Любопытство миссионера не знало удержу: обманув стражу, он перелез через кирпичную стену, скрывавшую парк от посторонних взглядов (длина этой стены была 72 километра). Давид был поражен увиденным. Помимо хорошо известных ему животных, в парке паслось большое стадо, около ста двадцати голов удивительных оленей. Они выглядели очень странно и вполне оправдывали свое прозвище, которое вскоре узнал миссионер. Оленей называли «ссё-пу», что означает «подобные четырем»: «подобные оленю», «подобные корове», «подобные лошади» и «подобные козе». По общему складу и рогам они были подобны оленям, длинный хвост напоминал корову, но был пышным на конце, как у лошади, а копыта выглядели, как у козы. Как только в Европе узнали о странной породе оленей, дипломатические представители различных стран принялись хлопотать: каждому хотелось добыть для своей страны столь странное животное. Первые три живые ми-лу были подарены Франции. Они не перенесли трудностей дороги, но их останки позволили зоологу Альфонсу Мильн-Эдвардсу описать в 1866 году новый вид оленей. «Олень Давида» — изящное животное светло-рыжей масти, с ярким белым пятном посредине лба. Он обладает редкой для оленя способностью менять рога два раза в году.
Позже олени были посланы и в некоторые иные европейские страны. Однако вся ценность этого приобретения стала ясной лишь тогда, когда выяснилось, что в природных условиях олени эти больше не существуют: стадо оленей императорского парка под Пекином было единственным в мире.
Во время наводнения 1895 года часть стены, окружавшей парк, была разрушена. Животные разбежались, и большинство из них стало добычей голодного населения. Последние остававшиеся в императорском парке ми-лу были уничтожены во время боксерского восстания 1900 года; из них чудом спасся лишь один.
Несколько веков назад животное это водилось на болотистых равнинах Северного Китая, но там оно вымерло. Императорский парк оказался своего рода заповедником. Теперь погиб и он.
К счастью, как мы уже знаем, любопытство Армана Давида, заставившее его воровски перелезть через стену парка, привлекло внимание европейцев к удивительному оленю с коровьим хвостом. Благодаря этому несколько голов этой редкости были доставлены в заповедник герцога Бедфорда. А тот приложил все старания к сохранению оленей ми-лу в садах аббатства Уобёрн в Англии.
В течение полувека потомство этих пятнадцати спасенных ми-лу составило стадо, насчитывающее теперь около двухсот пятидесяти голов. И в некоторых зоологических садах появились ми-лу. Обладают шкурами и скелетами этих замечательных оленей и крупнейшие зоологические музеи. Зоологи вновь обрели утраченное было животное.
Обезьяна с носом парижанки и бело-черный медведь Давида
На китайских вазах и рисунках по шелку можно иногда увидеть кривляющегося демона с бирюзово-синей мордой. Как и всякий уважающий себя демон, он обладает хвостом, а вся передняя часть его тела огненного цвета. Однако вздернутый нос лишает это страшилище его «пугающего» вида и придает ему задорную прелесть парижанки.
Этот удивительный демон, о реальном существовании которого не подозревал ни один европейский натуралист, — второе большое зоологическое открытие Армана Давида. Можно поручиться: сообщение, что китайские художники изобразили на вазе обезьяну, которая водится на вершинах восточного Тибета, не вызвало бы никакого доверия. Известно ведь, что обезьяны живут лишь в жарком климате. И все же «демон» оказался… обезьяной.
В 1870 году Мильн-Эдвардс изучил шкуру и скелет добытой Давидом обезьяны и дал этому животному имя «рокселлана». Чаще всего эту обезьяну находят на высоте около трех тысяч метров и больше. Она вполне заслужила бы прозвища «обезьяна снегов», хотя слова «обезьяна» и «снег» как будто и исключают друг друга.
Как только в Европе узнали о странной породе оленей, дипломатические представители различных стран принялись хлопотать: каждому хотелось добыть для своей страны столь странное животное. Первые три живые ми-лу были подарены Франции. Они не перенесли трудностей дороги, но их останки позволили зоологу Альфонсу Мильн-Эдвардсу описать в 1866 году новый вид оленей. «Олень Давида» — изящное животное светло-рыжей масти, с ярким белым пятном посредине лба. Он обладает редкой для оленя способностью менять рога два раза в году.
Позже олени были посланы и в некоторые иные европейские страны. Однако вся ценность этого приобретения стала ясной лишь тогда, когда выяснилось, что в природных условиях олени эти больше не существуют: стадо оленей императорского парка под Пекином было единственным в мире.
Во время наводнения 1895 года часть стены, окружавшей парк, была разрушена. Животные разбежались, и большинство из них стало добычей голодного населения. Последние остававшиеся в императорском парке ми-лу были уничтожены во время боксерского восстания 1900 года; из них чудом спасся лишь один.
Несколько веков назад животное это водилось на болотистых равнинах Северного Китая, но там оно вымерло. Императорский парк оказался своего рода заповедником. Теперь погиб и он.
К счастью, как мы уже знаем, любопытство Армана Давида, заставившее его воровски перелезть через стену парка, привлекло внимание европейцев к удивительному оленю с коровьим хвостом. Благодаря этому несколько голов этой редкости были доставлены в заповедник герцога Бедфорда. А тот приложил все старания к сохранению оленей ми-лу в садах аббатства Уобёрн в Англии.
В течение полувека потомство этих пятнадцати спасенных ми-лу составило стадо, насчитывающее теперь около двухсот пятидесяти голов. И в некоторых зоологических садах появились ми-лу. Обладают шкурами и скелетами этих замечательных оленей и крупнейшие зоологические музеи. Зоологи вновь обрели утраченное было животное.
Обезьяна с носом парижанки и бело-черный медведь Давида
На китайских вазах и рисунках по шелку можно иногда увидеть кривляющегося демона с бирюзово-синей мордой. Как и всякий уважающий себя демон, он обладает хвостом, а вся передняя часть его тела огненного цвета. Однако вздернутый нос лишает это страшилище его «пугающего» вида и придает ему задорную прелесть парижанки.
Этот удивительный демон, о реальном существовании которого не подозревал ни один европейский натуралист, — второе большое зоологическое открытие Армана Давида. Можно поручиться: сообщение, что китайские художники изобразили на вазе обезьяну, которая водится на вершинах восточного Тибета, не вызвало бы никакого доверия. Известно ведь, что обезьяны живут лишь в жарком климате. И все же «демон» оказался… обезьяной.
В 1870 году Мильн-Эдвардс изучил шкуру и скелет добытой Давидом обезьяны и дал этому животному имя «рокселлана». Чаще всего эту обезьяну находят на высоте около трех тысяч метров и больше. Она вполне заслужила бы прозвища «обезьяна снегов», хотя слова «обезьяна» и «снег» как будто и исключают друг друга.
 История третьего открытия миссионера Давида такова. 11 марта 1869 года он находился в гостях у богатого помещика провинции Сычуань. В доме его он увидел шкуру зверя любопытной расцветки и узнал в ней знаменитого «черно-белого медведя», о котором уже много раз слышал.
Действительно, в Юннани называют «бей-шунг» (или «пай-хсвунг»), то есть белым медведем, зверя, который, согласно молве, водится в бамбуковых зарослях на склонах гор. По нашим сведениям, наименование «бей-шунг» впервые встречается в памятной записке, относящейся к эпохе славной династии Танг, столицей которой был Чангньян (иначе — Синьянфу). Заметим для точности, что рукопись эта относится к 621 году нашей эры.
Убедившись в существовании сказочного «медведя», Давид всячески пытался раздобыть при помощи местных охотников хотя бы одного такого двухцветного зверя. Двенадцать дней спустя, то есть 23 марта, его желание исполнилось. Китайцы изловили маленького бей-шунга, но убили его, чтобы легче доставить. Так европеец приобрел первую шкуру зверя, которого теперь называют «гигантский панда», он же «бамбуковый медведь». Шкура этого зверя вся белая, за исключением ног, верхней части груди, ушей и кругов вокруг глаз. Кончик носа тоже черный, и это придает зверю забавный вид. Удивительна особенность: стопа покрыта шерстью, чего не бывает у медведей.
1 апреля охотники доставили Давиду взрослого медведя. Шесть дней спустя миссионеру удалось добыть маленького зверька огненной окраски, известного науке под названием «панда яркий». Как полагают, название «панда» произошло от неправильного произношения местного названия «ньяла-понга», что означает «пожиратель бамбука». Но чаще всего китайцы называют этого зверька из-за его общего вида «хун-хо», то есть «огненная лиса». Англичане прозвали его за кольчатую расцветку хвоста «гималайский енот», что правильнее, так как он сродни енотам.
Надо отдать справедливость Давиду: он и не помышлял сблизить ярко окрашенную кошкообразную панду с бело-черным медведем, шкуру и скелет которого тщательно сохранял.
Долгое время об этом бело-черном звере продолжали говорить как о бамбуковом медведе, а чаще всего как о «медведе Давида». Но, как только Мильн-Эдвардс изучил череп и скелет зверя, он сразу же отнес его к енотам и дал ему научное наименование «бело-черный панда». Позже животное стали называть гигантским панда, а его маленького родича с кольчатой окраской хвоста — маленьким панда.
Оставалось лишь найти зверя в естественных условиях и — добыть его живым. Но одна за другой экспедиции возвращались ни с чем. Казалось, крупное животное исчезло, не оставив следа. Английский генерал Пе-рейра, пересекший Тибет из конца в конец, даже не смог собрать у местного населения каких-либо сведений о столь характерном звере. В течение более полувека никто ничего не слышал о гигантском панда.
Уже стали считать, что «медведь» этот окончательно исчез. И вдруг страстные охотники, сыновья президента Рузвельта Теодор и Кермит, увидели панду. Он спал на вершине дуплистого дерева. Бедняга был застрелен, и чучело его надолго стало предметом восторгов посетителей Фильд-музея в Чикаго.
За этими выстрелами последовали новые научные экспедиции, и отдельные охотники в промежутке 1931–1935 годов убили несколько «медведей». Единственным результатом всех этих ненужных убийств явилась уверенность, что «медведь Давида» — не медведь. Изучение его внутреннего строения подтвердило то, что сразу же было понято Мильн-Эдвардсом, а именно: родство с маленьким ярким панда, напоминавшим скорее представителя кошачьих. Да и, как маленький панда, «медведь Давида» питался ростками бамбука. С тех пор за ним закрепилось название «гигантский панда», не вытеснившее, впрочем, и названия «бамбуковый медведь».
В 1936 году Флойд Т.Смиту удалось изловить первого гигантского панда, но — увы! — зверь издох в Сингапуре. Тогда путешественник Вильям Харкнес объявил журналистам, что он едет в Сычуань, чтобы добыть живого гигантского панда. Телеграфист перепутал слова, и «панда» превратился в «пантеру». Большинство газет со спокойной совестью объявило о том, что Харкнес едет в Китай ловить гигантскую пантеру. Этот случаи показывает, как порождаются невероятные слухи о неведомых животных.
Бедняге Харкнесу не пришлось поймать панду: в 1936 году он умер в Китае. И вот происходит нечто замечательное: вдова путешественника, Рут Харкнес, не может допустить, чтобы мечта ее мужа погибла вместе с ним. В 1937 году она отправляется на розыски гигантского панда. Она ничего не знает об этом звере, ничего не знает и о Китае, куда влечет ее упорство и память о муже. Месяцами, с настойчивостью, достойной восхищения, она бороздит джунгли.
Счастье улыбается ей: женщине-новичку удается сделать то, чего не смогли добиться опытные люди на протяжении семидесяти лет. Рут Харкнес привозит с собой молодую самочку гигантского панда.
Легко представить себе, с каким восторгом ее встретили на родине, в США. Зверь привлек толпы зрителей в зоологический сад Бруксфильда в Чикаго [194].
Увы! Су-лин, как назвали самку панда, околела в 1938 году: из жадности она проглотила неразжеванную ветку.
Миссис Харкнес возвращается в Китай и привозит оттуда еще одну самку, названную «Мей-мей». Эта хорошо приспособилась к своей новой жизни в «городе ветров» — Чикаго.
Если большинство зоологов и разделяло мнение, что «бамбуковый медведь» сродни маленькому яркому панда, то все же оставалось неясным, к какому семейству отнести обоих зверей. Необходимость отнести их к плотоядным казалась очевидной, хотя звери эти и были явными вегетарианцами. Однако разве и сами медведи в большинстве своем не питаются растениями и всякой животной «мелюзгой» вроде муравьев, личинок, червей?
Наконец обоих панда причислили к семейству енотов, в которое входят енот-полоскун, кинкажу, носуха-коати и некоторые другие звери. Но, пожалуй, следовало бы выделить этих азиатов в особое семейство, которое явилось бы соединительным звеном между медведями и кошками.
Удивительная зебра Греви и лошадь Пржевальского
История третьего открытия миссионера Давида такова. 11 марта 1869 года он находился в гостях у богатого помещика провинции Сычуань. В доме его он увидел шкуру зверя любопытной расцветки и узнал в ней знаменитого «черно-белого медведя», о котором уже много раз слышал.
Действительно, в Юннани называют «бей-шунг» (или «пай-хсвунг»), то есть белым медведем, зверя, который, согласно молве, водится в бамбуковых зарослях на склонах гор. По нашим сведениям, наименование «бей-шунг» впервые встречается в памятной записке, относящейся к эпохе славной династии Танг, столицей которой был Чангньян (иначе — Синьянфу). Заметим для точности, что рукопись эта относится к 621 году нашей эры.
Убедившись в существовании сказочного «медведя», Давид всячески пытался раздобыть при помощи местных охотников хотя бы одного такого двухцветного зверя. Двенадцать дней спустя, то есть 23 марта, его желание исполнилось. Китайцы изловили маленького бей-шунга, но убили его, чтобы легче доставить. Так европеец приобрел первую шкуру зверя, которого теперь называют «гигантский панда», он же «бамбуковый медведь». Шкура этого зверя вся белая, за исключением ног, верхней части груди, ушей и кругов вокруг глаз. Кончик носа тоже черный, и это придает зверю забавный вид. Удивительна особенность: стопа покрыта шерстью, чего не бывает у медведей.
1 апреля охотники доставили Давиду взрослого медведя. Шесть дней спустя миссионеру удалось добыть маленького зверька огненной окраски, известного науке под названием «панда яркий». Как полагают, название «панда» произошло от неправильного произношения местного названия «ньяла-понга», что означает «пожиратель бамбука». Но чаще всего китайцы называют этого зверька из-за его общего вида «хун-хо», то есть «огненная лиса». Англичане прозвали его за кольчатую расцветку хвоста «гималайский енот», что правильнее, так как он сродни енотам.
Надо отдать справедливость Давиду: он и не помышлял сблизить ярко окрашенную кошкообразную панду с бело-черным медведем, шкуру и скелет которого тщательно сохранял.
Долгое время об этом бело-черном звере продолжали говорить как о бамбуковом медведе, а чаще всего как о «медведе Давида». Но, как только Мильн-Эдвардс изучил череп и скелет зверя, он сразу же отнес его к енотам и дал ему научное наименование «бело-черный панда». Позже животное стали называть гигантским панда, а его маленького родича с кольчатой окраской хвоста — маленьким панда.
Оставалось лишь найти зверя в естественных условиях и — добыть его живым. Но одна за другой экспедиции возвращались ни с чем. Казалось, крупное животное исчезло, не оставив следа. Английский генерал Пе-рейра, пересекший Тибет из конца в конец, даже не смог собрать у местного населения каких-либо сведений о столь характерном звере. В течение более полувека никто ничего не слышал о гигантском панда.
Уже стали считать, что «медведь» этот окончательно исчез. И вдруг страстные охотники, сыновья президента Рузвельта Теодор и Кермит, увидели панду. Он спал на вершине дуплистого дерева. Бедняга был застрелен, и чучело его надолго стало предметом восторгов посетителей Фильд-музея в Чикаго.
За этими выстрелами последовали новые научные экспедиции, и отдельные охотники в промежутке 1931–1935 годов убили несколько «медведей». Единственным результатом всех этих ненужных убийств явилась уверенность, что «медведь Давида» — не медведь. Изучение его внутреннего строения подтвердило то, что сразу же было понято Мильн-Эдвардсом, а именно: родство с маленьким ярким панда, напоминавшим скорее представителя кошачьих. Да и, как маленький панда, «медведь Давида» питался ростками бамбука. С тех пор за ним закрепилось название «гигантский панда», не вытеснившее, впрочем, и названия «бамбуковый медведь».
В 1936 году Флойд Т.Смиту удалось изловить первого гигантского панда, но — увы! — зверь издох в Сингапуре. Тогда путешественник Вильям Харкнес объявил журналистам, что он едет в Сычуань, чтобы добыть живого гигантского панда. Телеграфист перепутал слова, и «панда» превратился в «пантеру». Большинство газет со спокойной совестью объявило о том, что Харкнес едет в Китай ловить гигантскую пантеру. Этот случаи показывает, как порождаются невероятные слухи о неведомых животных.
Бедняге Харкнесу не пришлось поймать панду: в 1936 году он умер в Китае. И вот происходит нечто замечательное: вдова путешественника, Рут Харкнес, не может допустить, чтобы мечта ее мужа погибла вместе с ним. В 1937 году она отправляется на розыски гигантского панда. Она ничего не знает об этом звере, ничего не знает и о Китае, куда влечет ее упорство и память о муже. Месяцами, с настойчивостью, достойной восхищения, она бороздит джунгли.
Счастье улыбается ей: женщине-новичку удается сделать то, чего не смогли добиться опытные люди на протяжении семидесяти лет. Рут Харкнес привозит с собой молодую самочку гигантского панда.
Легко представить себе, с каким восторгом ее встретили на родине, в США. Зверь привлек толпы зрителей в зоологический сад Бруксфильда в Чикаго [194].
Увы! Су-лин, как назвали самку панда, околела в 1938 году: из жадности она проглотила неразжеванную ветку.
Миссис Харкнес возвращается в Китай и привозит оттуда еще одну самку, названную «Мей-мей». Эта хорошо приспособилась к своей новой жизни в «городе ветров» — Чикаго.
Если большинство зоологов и разделяло мнение, что «бамбуковый медведь» сродни маленькому яркому панда, то все же оставалось неясным, к какому семейству отнести обоих зверей. Необходимость отнести их к плотоядным казалась очевидной, хотя звери эти и были явными вегетарианцами. Однако разве и сами медведи в большинстве своем не питаются растениями и всякой животной «мелюзгой» вроде муравьев, личинок, червей?
Наконец обоих панда причислили к семейству енотов, в которое входят енот-полоскун, кинкажу, носуха-коати и некоторые другие звери. Но, пожалуй, следовало бы выделить этих азиатов в особое семейство, которое явилось бы соединительным звеном между медведями и кошками.
Удивительная зебра Греви и лошадь Пржевальского
 Многие зоологи напрасно пренебрегают этнографическими коллекциями, не уделяют внимания древнему искусству. Если бы ученые дали себе труд внимательно изучить египетские фрески, они заметили бы ряд удивительных животных и, в частности, зебру с многочисленными узкими полосками на шкуре.
В 1860 году шотландский путешественник Джемс-Август Грант объявил, что видел таких зебр в Абиссинии. К его рассказам отнеслись с недоверием и решили, что ему просто показалось, что у виденных им зебр было уж очень много темных полосок.
Многие зоологи напрасно пренебрегают этнографическими коллекциями, не уделяют внимания древнему искусству. Если бы ученые дали себе труд внимательно изучить египетские фрески, они заметили бы ряд удивительных животных и, в частности, зебру с многочисленными узкими полосками на шкуре.
В 1860 году шотландский путешественник Джемс-Август Грант объявил, что видел таких зебр в Абиссинии. К его рассказам отнеслись с недоверием и решили, что ему просто показалось, что у виденных им зебр было уж очень много темных полосок.
 Однако два десятка лет спустя, в 1882 году, абиссинский негус Менелик I подарил французскому президенту Жюлю Греви зебру, полностью отвечавшую признакам, отмеченным Грантом. Когда животное было доставлено во Францию, то в зверинце Парижского ботанического сада обратили внимание на то, что оно по росту и масти резко отличается от обычных зебр. Бедняжка пала, прожив в Париже всего несколько дней, но этого было достаточно, чтобы зоологи обогатили свои списки новым крупным животным — зеброй Греви.
Почти одновременно пришло сообщение, что русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский открыл в сердце Азии новый вид дикой лошади. Отметим, что, хотя полковник Пржевальский и был кавалеристом, он принял это большеголовое и коротконогое животное за осла. Потребовалось все терпение зоолога Полякова, описавшего в 1881 году эту лошадь, чтобы убедить Пржевальского, что он открыл именно лошадь, а не осла.
Животное это в наши дни — единственный вид диких лошадей, то есть подлинно дикая, не одичавшая лошадь. В самом деле, последние представители тарпанов — другого вида диких лошадей, жившие еще очень недавно в южнорусских степях, — были истреблены здесь в 70-х годах прошлого столетия.
Три скромных гиганта: медведь кодиак, белый носорог и горная горилла
Как это ни странно, но в Западной Европе лишь сто лет назад узнали о существовании самого крупного в мире плотоядного — гигантского бурого медведя, водящегося на Камчатке. Живущий по другую сторону Берингова пролива, на Аляске, медведь кодиак очень близок к этой громадине. Медведи северо-восточной Азии и крайнего севера Америки еще недостаточно изучены, но для нас интересно то, что лишь в середине прошлого века узнали о существовании чудовищного бурого медведя до двух с половиной метров длиной и более шестисот килограммов весом. До того времени думали, что самый большой медведь — это гризли, серый медведь Северной Америки. Однако оказалось, что длина этого «мишки» не превышает двух метров, а вес — полутонны.
Только в 1900 году стало известно о существовании самого большого после африканского слона сухопутного млекопитающего. Речь идет об африканском белом носороге длиной около пяти метров, высотой более двух метров. Это крупнейший из носорогов: он бывает более двух тонн весом, а его наибольший рог иногда достигает величины невысокого человека — 1 метр 57 сантиметров.
Однако два десятка лет спустя, в 1882 году, абиссинский негус Менелик I подарил французскому президенту Жюлю Греви зебру, полностью отвечавшую признакам, отмеченным Грантом. Когда животное было доставлено во Францию, то в зверинце Парижского ботанического сада обратили внимание на то, что оно по росту и масти резко отличается от обычных зебр. Бедняжка пала, прожив в Париже всего несколько дней, но этого было достаточно, чтобы зоологи обогатили свои списки новым крупным животным — зеброй Греви.
Почти одновременно пришло сообщение, что русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский открыл в сердце Азии новый вид дикой лошади. Отметим, что, хотя полковник Пржевальский и был кавалеристом, он принял это большеголовое и коротконогое животное за осла. Потребовалось все терпение зоолога Полякова, описавшего в 1881 году эту лошадь, чтобы убедить Пржевальского, что он открыл именно лошадь, а не осла.
Животное это в наши дни — единственный вид диких лошадей, то есть подлинно дикая, не одичавшая лошадь. В самом деле, последние представители тарпанов — другого вида диких лошадей, жившие еще очень недавно в южнорусских степях, — были истреблены здесь в 70-х годах прошлого столетия.
Три скромных гиганта: медведь кодиак, белый носорог и горная горилла
Как это ни странно, но в Западной Европе лишь сто лет назад узнали о существовании самого крупного в мире плотоядного — гигантского бурого медведя, водящегося на Камчатке. Живущий по другую сторону Берингова пролива, на Аляске, медведь кодиак очень близок к этой громадине. Медведи северо-восточной Азии и крайнего севера Америки еще недостаточно изучены, но для нас интересно то, что лишь в середине прошлого века узнали о существовании чудовищного бурого медведя до двух с половиной метров длиной и более шестисот килограммов весом. До того времени думали, что самый большой медведь — это гризли, серый медведь Северной Америки. Однако оказалось, что длина этого «мишки» не превышает двух метров, а вес — полутонны.
Только в 1900 году стало известно о существовании самого большого после африканского слона сухопутного млекопитающего. Речь идет об африканском белом носороге длиной около пяти метров, высотой более двух метров. Это крупнейший из носорогов: он бывает более двух тонн весом, а его наибольший рог иногда достигает величины невысокого человека — 1 метр 57 сантиметров.
 По правде говоря, белый носорог почти того же сероватого цвета, как и черный носорог, разве лишь немного посветлее: желтоватее. Водится он в саваннах Южной Африки и очень редок: гигант этот почти истреблен. Своим названием «белый» этот носорог обязан неправильному переводу бурского слова weid. Это прилагательное происходит от голландского wijd, соответствующего английскому wide (широкий), а не white (белый) и характеризует форму головы животного. Действительно, белый носорог отличается от черного главным образом усеченной формой верхней губы и широко расставленными ноздрями. Поэтому названия «курносый носорог», «тупорылый носорог» или «носорог с усеченной губой» подходят ему гораздо больше. Но так его называют редко…
В 1900 году капитан Гиббоне привез из местности Ладо на Верхнем Ниле череп белого носорога. Это было совсем неожиданной находкой: белого носорога знали из местностей за три тысячи километров отсюда (юг Бечуаналенда, Машоналенд, Матабелеленд). Позже доставил из Ладо черепа и майор Поуэлл-Коттон.
Огромное животное не было долгое время замечено в местности, которую считали вполне обследованной. Факт этот может показаться шуткой, но это действительно так: двухтонная громадина была обнаружена далеко не сразу.
За открытием самого большого носорога в районе, где о его существовании никто и не подозревал, последовало открытие самой крупной из известных науке обезьян: горной гориллы. Она была найдена лишь в 1901 году. Научное название — «горилла Беринга» — было дано обезьяне в честь капитана Беринга, который доставил из окрестностей Киву первый труп гигантского четверорукого. До того науке был известен лишь один вид горилл — береговая горилла, или западная горилла. Эта водится в районе, простирающемся от Габона и Камеруна до Французского Конго.
Кивинская горилла в самом деле огромнейшее животное. Ее рост 2 метра: она на 20 сантиметров и более выше береговых горилл Африки. Старые самцы бывают иногда ростом в 2 метра 70 сантиметров, с обхватом груди в 1 метр 70 сантиметров и окружностью бицепсов 65 сантиметров. Вес этой гориллы 200, даже 250 килограммов.
До начала XX века горилла оставалась незамеченной, и это говорит по крайней мере о «скромности» миролюбивого гиганта. Правда, еще в 1860 году Спик слышал от охотников племени руманика рассказы о горилле-гиганте, но никто не обратил на это внимания: мало ли что рассказывают.
Невероятный окапи
Первое дошедшее до нас сообщение о существовании окапи — три строчки в книге Стенли. Этот прославленный путешественник избороздил Африку вдоль и поперек. Говоря о пигмеях племени уамбути, проживающих в лесах Конго, в районе Итури, он отмечает:
«Уамбути известно о существовании какого-то осла, которого они называют «атти». Они говорят, что иногда это животное попадает в охотничьи ямы. Ослы эти, как это ни удивительно, питаются листьями».
Казалось бы, что особенного в таком сообщении? Нет, не таково было мнение знатоков фауны Конго. Они очень недоверчиво отнеслись к такому известию, так как единственными известными им копытными тех мест были зебры. Трудно было представить себе существование подобного рода животных в лесах, тем более в таких дремучих лесах, которые служили убежищем пигмеям.
Между тем раззадоренный сообщениями Стенли, губернатор Уганды сэр Гарри Г.Джонстон, объезжавший в это время Конго, решил собрать как можно больше сведений о загадочном «атти», который якобы водится в лесах западнее озера Альберта. Вот что он пишет:
«Туземцы сразу же сообразили, о чем я их расспрашиваю. Они показали мне шкуру зебры и, указывая на живого мула, сообщили, что интересующее меня животное называется «окапи» и напоминает мула с полосами зебры».
По всей вероятности, «окапи», или «о-апи», и был тем животным, которое Стенли назвал «атти».
«В течение всего времени поисков, — продолжает сэр Джонстон, — я был уверен, что иду по следу какой-то лошади. Вот почему, когда туземцы указали мне на отпечатки раздвоенных копыт какого-то животного, подобные следам антилопы, и сказали, что это и есть след окапи, я им не поверил: решил. что мы идем по следу лесной антилопы эланд».
Некоторое время спустя Карл Эриксон, шведский офицер на бельгийской службе, послал Джонстону шкуру и два черепа окапи. Шкура и один из черепов принадлежали молодому самцу.
Мало-помалу, основываясь на рассказах пигмеев и на изучении шкуры и черепов, удалось восстановить внешний вид животного, которое к тому времени заинтриговало весь ученый мир.
Это удивительное животное! Окапи — как бы подобие мифологических чудовищ, заключающих в себе самые различные качества. Ростом с лошадь, он отдаленно напоминает гигантскую антилопу, но рога очень короткие. Зато у него хваткий язык муравьеда и большие ослиные уши, даже еще шире ослиных. Наконец, весь круп и верхняя часть ног в ярких черных и белых поперечных полосах. Этих полос оказалось достаточно, чтобы животное приняли за новый вид зебры. В действительности же…
«Когда я получил посылку Эриксона, — рассказывает сэр Гарри Джонстон, — то сразу же понял, что такое окапи, и в особенности — его близкое родство с жирафой».
Форма черепа, зубы, раздвоенные копыта жвачного — все свидетельствовало об этом. Это был род жирафы с маловытянутой шеей, животное, близкое к давно исчезнувшим предкам самого высокого из сухопутных животных. Когда-то схожие с окапи «короткошейки» заселяли Южную Европу.
Как только существование окапи было окончательно установлено, ученые начали доказывать, что о нем известно уже не одну тысячу лет. Африканисты и египтологи открыли черты окапи в наскальных рисунках неолитической эпохи в Сахаре, а также на древнейших египетских вазах и на барельефах времен фараонов. В некоторых случаях сходство таких рисунков с окапи бросается в глаза. Так, в 1935 году географ Г.Перре отметил удивительную аналогию, сближающую окапи с тремя наскальными рисунками в каньоне, известном под названием Уэл-эль-Джерат, и находящемся между Фортом Полиньяк и Джане. Несомненно, что если здесь изображен и не сам окапи, то, во всяком случае, весьма близкое к нему животное.
Как и в случае с оленьком, все рассказанное может послужить лишним доказательством того, что район африканского девственного леса полосы дождей — идеальная местность, в которой могли сохраниться животные-выходцы из давно минувших эпох [195]. Впрочем, открытия «живых ископаемых» этим далеко не закончены.
Гигантская лесная свинья
Когда сэр Гарри Джонстон вернулся из своего путешествия по Уганде, то в Англии он встретился со Стенли. Знаменитый путешественник заявил ему, что, как он полагает, окапи — «лишь одно из многочисленных удивительных животных, которые, вероятно, будут открыты в этих интересных лесах». И он добавил, что ему приходилось встречать «какой-то род гигантского кабана длиной почти в два метра, а также некоторых совершенно незнакомого вида антилоп».
Среди зоологов того времени благодаря столь замечательным открытиям царило оптимистическое настроение. К рассказам негров начали прислушиваться с большим доверием. Слухи об огромной свинье в лесах Итури привлекли наконец к себе внимание ученых. Животное это, как рассказывали негры, чрезвычайно свирепо, черно, как ночь, и величиной с носорога… ну, пусть с маленького носорога!
Свидетельство Стенли придало этим рассказам еще больший вес.
В 1904 году офицер британских колониальных войск капитан Р. Майнертихаген случайно обнаружил останки свиньи, но в очень плохом состоянии. Это произошло в лесах в районе Кении. Некоторое время спустя тому же офицеру удалось добыть черен животного, на этот раз убитого в районе лесов, окаймляющих озеро Виктория.
Английский зоолог Олдфильд Томас описал эту гигантскую свинью под названием «лесная свинья Майнертцхагена». Зверь, правда, далеко не достигал размеров даже маленького носорога, и все же никогда ни в одной стране не встречали такой огромной свиньи: она высотой 1 метр 20 сантиметров в плечах, а длина ее иногда превосходит 2 метра 50 сантиметров. Не знали раньше и свиньи столь черного цвета. По строению черепа лесная свинья является как бы звеном между настоящими свиньями и бородавочниками, но некоторые особенности этого строения очень архаичны и отсутствуют у свиней наших дней. Лесная свинья — своего рода «живое ископаемое».
Карликовый бегемот
В том же 1840 году, в котором наконец-то получил свое имя оленёк африканский, началось и другое «дело», закончившееся лишь полвека спустя.
Вице-председатель Академии наук в Филадельфии, доктор Самуэль Мортон слышал от одного путешественника, возвратившегося из Либерии, что в ее реках — в глубине страны — водится маленький бегемот, не крупнее небольшой телки. Негры охотятся на него ради мяса. Путешественник не только много раз сам наблюдал этого бегемотика, но и отведал его мяса.
Доктор Мортон отнесся к этому рассказу скорее скептически: мало ли что рассказывают путешественники. Однако в 1843 году его друг, доктор Гохин, прислал ему из Монровии несколько черепов млекопитающих, и среди них Мортон обнаружил, к своему вящему изумлению, два черепа очень маленького бегемота. Он описал животное под названием «бегемот либерийский», но его ученый коллега Джозеф Лейди вскоре доказал, что этот карлик сильно отличается от обыкновенного гиппопотама. Маленький бегемот был выделен в особый род.
Когда карликового бегемота изучили немного лучше, то заметили, что еще несколько веков назад о нем писали некоторые путешественники. Так, голландец доктор Ольферт Даппер, который в 1668 году в своем «Описании Африки» попытался объединить все, что в то время было известно о черном материке, писал о фауне королевства Квожа (нынешняя Либерия):
«Здесь живут два рода свиней: рыжие, называемые «кужа», и — черные — «кужа квинта». Первые — величиной с наших свиней, вторые — значительно больше и очень опасны; обладают столь острыми зубами, что рассекают все, что кусают, словно действуют столькими же топорами».
Рыжая свинья — это несомненно речная, или кистеухая, свинья. Что касается черной свиньи, то, очевидно, речь шла о карликовом бегемоте: он действительно напоминает большого черного, как вакса, кабана, вооруженного страшными зубами. Впрочем, лично я не убежден, что «кужа квинта» это и есть карликовый бегемот: ведь позже в Либерии была обнаружена и гигантская черная лесная свинья.
В 1870 году молодой карликовый бегемот, весивший еще не более 15 килограммов, был доставлен в Дублин, где он через несколько дней околел в зоологическом саду. Двадцать лет спустя голландский ученый Иоганнес Бюттикофер привез из Либерии, где он путешествовал несколько лет, скелеты и останки карликового бегемота, правда в плохом состоянии. И все же большинство натуралистов продолжало считать это животное скорее мифическим. Для одних оно было не чем иным, как просто молодым бегемотом, для других — исключительным уродом, наподобие людей-карликов, показываемых в ярмарочных балаганах. В одном естественно-историческом музее существование карликового бегемота отрицалось весьма оригинальным способом: кое-как собранный скелет его поместили среди ископаемых!
Немецкий торговец зверями Карл Гагенбек решил распутать эту запутанную историю. В 1909 году он послал в Либерию своего доверенного человека, известного путешественника Ганса Шомбургка.
Прибыв в район, среди населения которого была в ходу молва о существовании большой черной свиньи — нигбве, путешественник вначале столкнулся с большими трудностями. Негры считали нигбве очень свирепым животным, обладающим острыми зубами и способным разорвать человека. Они отказались помочь Шомбургку в его предприятии. По их словам, надо было быть безумцем, чтобы пытаться изловить подобное чудовище.
Все же Шомбургк сумел уговорить нескольких негров. После месяца поисков, 13 июня 1911 года, ему удалось наконец в десяти шагах от себя наблюдать загадочное животное. Онодействительно напоминало большую черную лоснящуюся свинью, но, по всей видимости, было скорее сродни бегемоту.
Увы! Обстоятельства не позволили в то время Шомбургку изловить нигбве, а убить это исключительно редкое животное он не считал себя вправе: такие редкости нужно охранять, а не уничтожать.
Когда Шомбургк вернулся в Монровию, его рассказ вызвал насмешки. И туристы и чиновники-американцы одинаково считали, что нигбве — досужая выдумка суеверных негров и что если даже животное это когда-либо существовало, то в настоящее время оно живет лишь в преданиях.
Начавшийся сезон дождей помешал Шомбургку вернуться в леса. Он уехал в Гамбург и вновь прибыл в Африку зимой 1912 года.
На этот раз счастье ему улыбнулось. 28 февраля 1913 года после обследования местности, показавшего, что бегемотик не столь уж редок, Шомбургк убил первый экземпляр. На следующий день ему удалось изловить одного карликового бегемота. Вскоре путешественник заметил, что, хотя зубы животного и очень внушительны, приручить его легче, чем обычного бегемота. Кроме того, оно сильно отличается от обычного бегемота не только значительно меньшими размерами, более узкой мордой и черным, как вакса, цветом. По своему нраву карликовый бегемот ближе к кабану, чем к бегемоту. В основном он лесное животное, а в воду же погружается лишь для того, чтобы утолить жажду или слегка освежиться.
Лейди был вполне прав, выделив его в особый род: название «гиппопотам», означающее «речная лошадь», совсем не подходит для этого животного. Таким образом, название «карликовый бегемот», если оно и неплохо звучит, не отражает подлинного положения вещей и интересно лишь как сравнение и показатель известного родства. С таким же успехом можно было бы назвать окапи «карликовой жирафой».
Несколько месяцев спустя после первой поимки Ганс Шомбургк доставил в Гамбург пять карликовых бегемотов. Животные эти весят в десять раз меньше обычного бегемота. Взрослый самец не выше 75 сантиметров (в плечах), а длиной не более 1 метра 80 сантиметров. Короче, карликовый бегемот меньше лесной свиньи.
Среди больших обезьян тоже есть пигмеи
Что касается карликового шимпанзе, то он был открыт… в музее.
Ученый Эрнст Шварц работал в Музее Конго в Тервуерене (Бельгия), изучая шкуры и скелеты, доставленные с левобережья реки Конго, из местности между этой рекой и ее притоком Казаи. Среди экспонатов он обнаружил в 1925 году совершенно новую разновидность шимпанзе. Открытый им карликовый шимпанзе более слабого телосложения, чем его сородичи. Скелет его более хрупок, и вес его достигает лишь половины веса скелета обычного шимпанзе, рост — процентов на пятнадцать меньше. Заслуживает внимания и то, что уши его совершенно черные уже при рождении, тогда как у обычных шимпанзе они при рождении светлые и лишь с возрастом постепенно темнеют.
После случайного открытия, сделанного Шварцем, шимпанзе-пигмея не только удалось наблюдать в природе, но профессор Урбен, директор Венсенского зоологического сада и музея, даже привез один экземпляр живого шимпанзе. Несмотря на тщательный уход, шимпанзе прожил в Венсене не больше года (с 1939 по 1940 год).
История загадочных перьев
В 1909 году, в то время, как Шомбургк разыскивал в Либерии карликового бегемота, Нью-Йоркское зоологическое общество организовало экспедицию, чтобы доставить живого окапи в зоологический сад Бронкс-парка. В экспедиции приняли участие Герберт Ланг и его молодой сотрудник, доктор Джемс П.Чепин.
Экспедиция не удалась, но ученые не вернулись ни с чем. Если они и не привезли с собой живого окапи, то зато, сами того не зная, привезли перья птицы, о существовании которой никто и не подозревал. Заметили эти перья лишь по возвращении, рассматривая привезенные с собой из Авакуби туземные головные уборы.
Консультации с самыми опытными специалистами не помогли определить происхождение двух рыжих с черными полосами перьев, найденных на этих уборах. Перья оставались загадкой в течение многих лет, пока в 1936 году Чепин случайно не открыл такие же перья в Музее Конго в Тервуерене: он увидел их на двух чучелах птиц, валявшихся в каком-то чулане. Вначале он не поверил своим глазам. К тому же на одном из чучел была этикетка: «Обыкновенный павлин, молодой, импортированный».
Обыкновенный павлин? Вероятно, произошла ошибка. И действительно, Чепин без труда доказал это. Чучела принадлежали неизвестному роду павлинов из Конго, который он тотчас же и назвал. Описание «афропавлина конгийского» появилось в 1936 году и вызвало сенсацию: открытие нового рода птиц, да еще какого рода!
Американский натуралист не успокоился до тех пор, пока в местности, из которой были вывезены экземпляры бельгийского музея, не изловил несколько птиц. 19 июня
1937 года он вылетел на самолете в Стенлейвиль. Известие о существовании замечательной птицы уже распространилось по Конго, и прибытия Чепина поджидали восемь убитых «павлинов». Каково же было его изумление, когда от негров из лесов Итури (опять этот лес!) он узнал, что столь заинтересовавшая его птица совсем не редкость в местности между Итури и рекой Санкуру. Негры бакуму называли ее «итунду», а уабали — «нгове».
После окапи, гигантской лесной свиньи, карликового бегемота, горной гориллы и шимпанзе-пигмея афропавлин был шестым крупным животным, которым пояс лесов экваториальной Африки на протяжении полувека обогатил зоологов.
Леопард-гиена и летающий шакал
Мы не кончили рассказы о чудесах Африки. Кончим ли когда-либо?
В 1919 году Гловер Аллен открыл в самой неисследованной местности лесов Итури, около какой-то реки, живущую возле воды и питающуюся рыбой генетту размерами с домашнюю кошку. У зверька прекрасный коричневый мех, белые подпалины на морде и толстый пушистый черный хвост. Это все, что о нем известно. Даже негры, по словам Аллена, ничего не знают об этом зверьке и не дали ему никакого названия.
История «нсуи-физи» занятнее и поучительнее.
Уже давно негры деревень Родезии распространяли слухи об этом ужасном животном, чье имя означает «леопард-гиена». Они считали его как бы помесью обоих хищников, чьи физические качества и характер оно в себе сочетает. По своим повадкам оно напоминает леопарда, но полосатое, как гиена, а лапы его снабжены невтягивающимися когтями. Оно невероятно стремительное, хитрое и свирепое, что и неудивительно для помеси гиены и леопарда. Нападает оно всегда ночью, ломая непрочные ворота загонов для скота или проскальзывая между переплетенными ветвями, служащими крышей для стойл. Этот хищник устраивает иногда в загонах настоящие бойни и каждый раз уносит то козу, то барана.
«Простое суеверие, — возражали европейцы. — Еще одна из невероятных историй о кровожадных чудовищах, столь распространенных среди негров».
Однако в 1926 году майор А.Л.Купер заметил около Салисбюри, в Южной Родезии, большую кошку совершенно необычайного вида. Он застрелил ее. Это было удивительное животное. Оно сильно напоминало гепарда, но имело густой мех, как у снежного барса, к тому же мех этот был усеян пятнами, сливающимися в полосы.
По правде говоря, белый носорог почти того же сероватого цвета, как и черный носорог, разве лишь немного посветлее: желтоватее. Водится он в саваннах Южной Африки и очень редок: гигант этот почти истреблен. Своим названием «белый» этот носорог обязан неправильному переводу бурского слова weid. Это прилагательное происходит от голландского wijd, соответствующего английскому wide (широкий), а не white (белый) и характеризует форму головы животного. Действительно, белый носорог отличается от черного главным образом усеченной формой верхней губы и широко расставленными ноздрями. Поэтому названия «курносый носорог», «тупорылый носорог» или «носорог с усеченной губой» подходят ему гораздо больше. Но так его называют редко…
В 1900 году капитан Гиббоне привез из местности Ладо на Верхнем Ниле череп белого носорога. Это было совсем неожиданной находкой: белого носорога знали из местностей за три тысячи километров отсюда (юг Бечуаналенда, Машоналенд, Матабелеленд). Позже доставил из Ладо черепа и майор Поуэлл-Коттон.
Огромное животное не было долгое время замечено в местности, которую считали вполне обследованной. Факт этот может показаться шуткой, но это действительно так: двухтонная громадина была обнаружена далеко не сразу.
За открытием самого большого носорога в районе, где о его существовании никто и не подозревал, последовало открытие самой крупной из известных науке обезьян: горной гориллы. Она была найдена лишь в 1901 году. Научное название — «горилла Беринга» — было дано обезьяне в честь капитана Беринга, который доставил из окрестностей Киву первый труп гигантского четверорукого. До того науке был известен лишь один вид горилл — береговая горилла, или западная горилла. Эта водится в районе, простирающемся от Габона и Камеруна до Французского Конго.
Кивинская горилла в самом деле огромнейшее животное. Ее рост 2 метра: она на 20 сантиметров и более выше береговых горилл Африки. Старые самцы бывают иногда ростом в 2 метра 70 сантиметров, с обхватом груди в 1 метр 70 сантиметров и окружностью бицепсов 65 сантиметров. Вес этой гориллы 200, даже 250 килограммов.
До начала XX века горилла оставалась незамеченной, и это говорит по крайней мере о «скромности» миролюбивого гиганта. Правда, еще в 1860 году Спик слышал от охотников племени руманика рассказы о горилле-гиганте, но никто не обратил на это внимания: мало ли что рассказывают.
Невероятный окапи
Первое дошедшее до нас сообщение о существовании окапи — три строчки в книге Стенли. Этот прославленный путешественник избороздил Африку вдоль и поперек. Говоря о пигмеях племени уамбути, проживающих в лесах Конго, в районе Итури, он отмечает:
«Уамбути известно о существовании какого-то осла, которого они называют «атти». Они говорят, что иногда это животное попадает в охотничьи ямы. Ослы эти, как это ни удивительно, питаются листьями».
Казалось бы, что особенного в таком сообщении? Нет, не таково было мнение знатоков фауны Конго. Они очень недоверчиво отнеслись к такому известию, так как единственными известными им копытными тех мест были зебры. Трудно было представить себе существование подобного рода животных в лесах, тем более в таких дремучих лесах, которые служили убежищем пигмеям.
Между тем раззадоренный сообщениями Стенли, губернатор Уганды сэр Гарри Г.Джонстон, объезжавший в это время Конго, решил собрать как можно больше сведений о загадочном «атти», который якобы водится в лесах западнее озера Альберта. Вот что он пишет:
«Туземцы сразу же сообразили, о чем я их расспрашиваю. Они показали мне шкуру зебры и, указывая на живого мула, сообщили, что интересующее меня животное называется «окапи» и напоминает мула с полосами зебры».
По всей вероятности, «окапи», или «о-апи», и был тем животным, которое Стенли назвал «атти».
«В течение всего времени поисков, — продолжает сэр Джонстон, — я был уверен, что иду по следу какой-то лошади. Вот почему, когда туземцы указали мне на отпечатки раздвоенных копыт какого-то животного, подобные следам антилопы, и сказали, что это и есть след окапи, я им не поверил: решил. что мы идем по следу лесной антилопы эланд».
Некоторое время спустя Карл Эриксон, шведский офицер на бельгийской службе, послал Джонстону шкуру и два черепа окапи. Шкура и один из черепов принадлежали молодому самцу.
Мало-помалу, основываясь на рассказах пигмеев и на изучении шкуры и черепов, удалось восстановить внешний вид животного, которое к тому времени заинтриговало весь ученый мир.
Это удивительное животное! Окапи — как бы подобие мифологических чудовищ, заключающих в себе самые различные качества. Ростом с лошадь, он отдаленно напоминает гигантскую антилопу, но рога очень короткие. Зато у него хваткий язык муравьеда и большие ослиные уши, даже еще шире ослиных. Наконец, весь круп и верхняя часть ног в ярких черных и белых поперечных полосах. Этих полос оказалось достаточно, чтобы животное приняли за новый вид зебры. В действительности же…
«Когда я получил посылку Эриксона, — рассказывает сэр Гарри Джонстон, — то сразу же понял, что такое окапи, и в особенности — его близкое родство с жирафой».
Форма черепа, зубы, раздвоенные копыта жвачного — все свидетельствовало об этом. Это был род жирафы с маловытянутой шеей, животное, близкое к давно исчезнувшим предкам самого высокого из сухопутных животных. Когда-то схожие с окапи «короткошейки» заселяли Южную Европу.
Как только существование окапи было окончательно установлено, ученые начали доказывать, что о нем известно уже не одну тысячу лет. Африканисты и египтологи открыли черты окапи в наскальных рисунках неолитической эпохи в Сахаре, а также на древнейших египетских вазах и на барельефах времен фараонов. В некоторых случаях сходство таких рисунков с окапи бросается в глаза. Так, в 1935 году географ Г.Перре отметил удивительную аналогию, сближающую окапи с тремя наскальными рисунками в каньоне, известном под названием Уэл-эль-Джерат, и находящемся между Фортом Полиньяк и Джане. Несомненно, что если здесь изображен и не сам окапи, то, во всяком случае, весьма близкое к нему животное.
Как и в случае с оленьком, все рассказанное может послужить лишним доказательством того, что район африканского девственного леса полосы дождей — идеальная местность, в которой могли сохраниться животные-выходцы из давно минувших эпох [195]. Впрочем, открытия «живых ископаемых» этим далеко не закончены.
Гигантская лесная свинья
Когда сэр Гарри Джонстон вернулся из своего путешествия по Уганде, то в Англии он встретился со Стенли. Знаменитый путешественник заявил ему, что, как он полагает, окапи — «лишь одно из многочисленных удивительных животных, которые, вероятно, будут открыты в этих интересных лесах». И он добавил, что ему приходилось встречать «какой-то род гигантского кабана длиной почти в два метра, а также некоторых совершенно незнакомого вида антилоп».
Среди зоологов того времени благодаря столь замечательным открытиям царило оптимистическое настроение. К рассказам негров начали прислушиваться с большим доверием. Слухи об огромной свинье в лесах Итури привлекли наконец к себе внимание ученых. Животное это, как рассказывали негры, чрезвычайно свирепо, черно, как ночь, и величиной с носорога… ну, пусть с маленького носорога!
Свидетельство Стенли придало этим рассказам еще больший вес.
В 1904 году офицер британских колониальных войск капитан Р. Майнертихаген случайно обнаружил останки свиньи, но в очень плохом состоянии. Это произошло в лесах в районе Кении. Некоторое время спустя тому же офицеру удалось добыть черен животного, на этот раз убитого в районе лесов, окаймляющих озеро Виктория.
Английский зоолог Олдфильд Томас описал эту гигантскую свинью под названием «лесная свинья Майнертцхагена». Зверь, правда, далеко не достигал размеров даже маленького носорога, и все же никогда ни в одной стране не встречали такой огромной свиньи: она высотой 1 метр 20 сантиметров в плечах, а длина ее иногда превосходит 2 метра 50 сантиметров. Не знали раньше и свиньи столь черного цвета. По строению черепа лесная свинья является как бы звеном между настоящими свиньями и бородавочниками, но некоторые особенности этого строения очень архаичны и отсутствуют у свиней наших дней. Лесная свинья — своего рода «живое ископаемое».
Карликовый бегемот
В том же 1840 году, в котором наконец-то получил свое имя оленёк африканский, началось и другое «дело», закончившееся лишь полвека спустя.
Вице-председатель Академии наук в Филадельфии, доктор Самуэль Мортон слышал от одного путешественника, возвратившегося из Либерии, что в ее реках — в глубине страны — водится маленький бегемот, не крупнее небольшой телки. Негры охотятся на него ради мяса. Путешественник не только много раз сам наблюдал этого бегемотика, но и отведал его мяса.
Доктор Мортон отнесся к этому рассказу скорее скептически: мало ли что рассказывают путешественники. Однако в 1843 году его друг, доктор Гохин, прислал ему из Монровии несколько черепов млекопитающих, и среди них Мортон обнаружил, к своему вящему изумлению, два черепа очень маленького бегемота. Он описал животное под названием «бегемот либерийский», но его ученый коллега Джозеф Лейди вскоре доказал, что этот карлик сильно отличается от обыкновенного гиппопотама. Маленький бегемот был выделен в особый род.
Когда карликового бегемота изучили немного лучше, то заметили, что еще несколько веков назад о нем писали некоторые путешественники. Так, голландец доктор Ольферт Даппер, который в 1668 году в своем «Описании Африки» попытался объединить все, что в то время было известно о черном материке, писал о фауне королевства Квожа (нынешняя Либерия):
«Здесь живут два рода свиней: рыжие, называемые «кужа», и — черные — «кужа квинта». Первые — величиной с наших свиней, вторые — значительно больше и очень опасны; обладают столь острыми зубами, что рассекают все, что кусают, словно действуют столькими же топорами».
Рыжая свинья — это несомненно речная, или кистеухая, свинья. Что касается черной свиньи, то, очевидно, речь шла о карликовом бегемоте: он действительно напоминает большого черного, как вакса, кабана, вооруженного страшными зубами. Впрочем, лично я не убежден, что «кужа квинта» это и есть карликовый бегемот: ведь позже в Либерии была обнаружена и гигантская черная лесная свинья.
В 1870 году молодой карликовый бегемот, весивший еще не более 15 килограммов, был доставлен в Дублин, где он через несколько дней околел в зоологическом саду. Двадцать лет спустя голландский ученый Иоганнес Бюттикофер привез из Либерии, где он путешествовал несколько лет, скелеты и останки карликового бегемота, правда в плохом состоянии. И все же большинство натуралистов продолжало считать это животное скорее мифическим. Для одних оно было не чем иным, как просто молодым бегемотом, для других — исключительным уродом, наподобие людей-карликов, показываемых в ярмарочных балаганах. В одном естественно-историческом музее существование карликового бегемота отрицалось весьма оригинальным способом: кое-как собранный скелет его поместили среди ископаемых!
Немецкий торговец зверями Карл Гагенбек решил распутать эту запутанную историю. В 1909 году он послал в Либерию своего доверенного человека, известного путешественника Ганса Шомбургка.
Прибыв в район, среди населения которого была в ходу молва о существовании большой черной свиньи — нигбве, путешественник вначале столкнулся с большими трудностями. Негры считали нигбве очень свирепым животным, обладающим острыми зубами и способным разорвать человека. Они отказались помочь Шомбургку в его предприятии. По их словам, надо было быть безумцем, чтобы пытаться изловить подобное чудовище.
Все же Шомбургк сумел уговорить нескольких негров. После месяца поисков, 13 июня 1911 года, ему удалось наконец в десяти шагах от себя наблюдать загадочное животное. Онодействительно напоминало большую черную лоснящуюся свинью, но, по всей видимости, было скорее сродни бегемоту.
Увы! Обстоятельства не позволили в то время Шомбургку изловить нигбве, а убить это исключительно редкое животное он не считал себя вправе: такие редкости нужно охранять, а не уничтожать.
Когда Шомбургк вернулся в Монровию, его рассказ вызвал насмешки. И туристы и чиновники-американцы одинаково считали, что нигбве — досужая выдумка суеверных негров и что если даже животное это когда-либо существовало, то в настоящее время оно живет лишь в преданиях.
Начавшийся сезон дождей помешал Шомбургку вернуться в леса. Он уехал в Гамбург и вновь прибыл в Африку зимой 1912 года.
На этот раз счастье ему улыбнулось. 28 февраля 1913 года после обследования местности, показавшего, что бегемотик не столь уж редок, Шомбургк убил первый экземпляр. На следующий день ему удалось изловить одного карликового бегемота. Вскоре путешественник заметил, что, хотя зубы животного и очень внушительны, приручить его легче, чем обычного бегемота. Кроме того, оно сильно отличается от обычного бегемота не только значительно меньшими размерами, более узкой мордой и черным, как вакса, цветом. По своему нраву карликовый бегемот ближе к кабану, чем к бегемоту. В основном он лесное животное, а в воду же погружается лишь для того, чтобы утолить жажду или слегка освежиться.
Лейди был вполне прав, выделив его в особый род: название «гиппопотам», означающее «речная лошадь», совсем не подходит для этого животного. Таким образом, название «карликовый бегемот», если оно и неплохо звучит, не отражает подлинного положения вещей и интересно лишь как сравнение и показатель известного родства. С таким же успехом можно было бы назвать окапи «карликовой жирафой».
Несколько месяцев спустя после первой поимки Ганс Шомбургк доставил в Гамбург пять карликовых бегемотов. Животные эти весят в десять раз меньше обычного бегемота. Взрослый самец не выше 75 сантиметров (в плечах), а длиной не более 1 метра 80 сантиметров. Короче, карликовый бегемот меньше лесной свиньи.
Среди больших обезьян тоже есть пигмеи
Что касается карликового шимпанзе, то он был открыт… в музее.
Ученый Эрнст Шварц работал в Музее Конго в Тервуерене (Бельгия), изучая шкуры и скелеты, доставленные с левобережья реки Конго, из местности между этой рекой и ее притоком Казаи. Среди экспонатов он обнаружил в 1925 году совершенно новую разновидность шимпанзе. Открытый им карликовый шимпанзе более слабого телосложения, чем его сородичи. Скелет его более хрупок, и вес его достигает лишь половины веса скелета обычного шимпанзе, рост — процентов на пятнадцать меньше. Заслуживает внимания и то, что уши его совершенно черные уже при рождении, тогда как у обычных шимпанзе они при рождении светлые и лишь с возрастом постепенно темнеют.
После случайного открытия, сделанного Шварцем, шимпанзе-пигмея не только удалось наблюдать в природе, но профессор Урбен, директор Венсенского зоологического сада и музея, даже привез один экземпляр живого шимпанзе. Несмотря на тщательный уход, шимпанзе прожил в Венсене не больше года (с 1939 по 1940 год).
История загадочных перьев
В 1909 году, в то время, как Шомбургк разыскивал в Либерии карликового бегемота, Нью-Йоркское зоологическое общество организовало экспедицию, чтобы доставить живого окапи в зоологический сад Бронкс-парка. В экспедиции приняли участие Герберт Ланг и его молодой сотрудник, доктор Джемс П.Чепин.
Экспедиция не удалась, но ученые не вернулись ни с чем. Если они и не привезли с собой живого окапи, то зато, сами того не зная, привезли перья птицы, о существовании которой никто и не подозревал. Заметили эти перья лишь по возвращении, рассматривая привезенные с собой из Авакуби туземные головные уборы.
Консультации с самыми опытными специалистами не помогли определить происхождение двух рыжих с черными полосами перьев, найденных на этих уборах. Перья оставались загадкой в течение многих лет, пока в 1936 году Чепин случайно не открыл такие же перья в Музее Конго в Тервуерене: он увидел их на двух чучелах птиц, валявшихся в каком-то чулане. Вначале он не поверил своим глазам. К тому же на одном из чучел была этикетка: «Обыкновенный павлин, молодой, импортированный».
Обыкновенный павлин? Вероятно, произошла ошибка. И действительно, Чепин без труда доказал это. Чучела принадлежали неизвестному роду павлинов из Конго, который он тотчас же и назвал. Описание «афропавлина конгийского» появилось в 1936 году и вызвало сенсацию: открытие нового рода птиц, да еще какого рода!
Американский натуралист не успокоился до тех пор, пока в местности, из которой были вывезены экземпляры бельгийского музея, не изловил несколько птиц. 19 июня
1937 года он вылетел на самолете в Стенлейвиль. Известие о существовании замечательной птицы уже распространилось по Конго, и прибытия Чепина поджидали восемь убитых «павлинов». Каково же было его изумление, когда от негров из лесов Итури (опять этот лес!) он узнал, что столь заинтересовавшая его птица совсем не редкость в местности между Итури и рекой Санкуру. Негры бакуму называли ее «итунду», а уабали — «нгове».
После окапи, гигантской лесной свиньи, карликового бегемота, горной гориллы и шимпанзе-пигмея афропавлин был шестым крупным животным, которым пояс лесов экваториальной Африки на протяжении полувека обогатил зоологов.
Леопард-гиена и летающий шакал
Мы не кончили рассказы о чудесах Африки. Кончим ли когда-либо?
В 1919 году Гловер Аллен открыл в самой неисследованной местности лесов Итури, около какой-то реки, живущую возле воды и питающуюся рыбой генетту размерами с домашнюю кошку. У зверька прекрасный коричневый мех, белые подпалины на морде и толстый пушистый черный хвост. Это все, что о нем известно. Даже негры, по словам Аллена, ничего не знают об этом зверьке и не дали ему никакого названия.
История «нсуи-физи» занятнее и поучительнее.
Уже давно негры деревень Родезии распространяли слухи об этом ужасном животном, чье имя означает «леопард-гиена». Они считали его как бы помесью обоих хищников, чьи физические качества и характер оно в себе сочетает. По своим повадкам оно напоминает леопарда, но полосатое, как гиена, а лапы его снабжены невтягивающимися когтями. Оно невероятно стремительное, хитрое и свирепое, что и неудивительно для помеси гиены и леопарда. Нападает оно всегда ночью, ломая непрочные ворота загонов для скота или проскальзывая между переплетенными ветвями, служащими крышей для стойл. Этот хищник устраивает иногда в загонах настоящие бойни и каждый раз уносит то козу, то барана.
«Простое суеверие, — возражали европейцы. — Еще одна из невероятных историй о кровожадных чудовищах, столь распространенных среди негров».
Однако в 1926 году майор А.Л.Купер заметил около Салисбюри, в Южной Родезии, большую кошку совершенно необычайного вида. Он застрелил ее. Это было удивительное животное. Оно сильно напоминало гепарда, но имело густой мех, как у снежного барса, к тому же мех этот был усеян пятнами, сливающимися в полосы.
 Весьма заинтригованный внешностью убитого им зверя, майор Купер рассказал и нем в английском охотничьем журнале (в октябре 1926 года) как о предполагаемом гибриде леопарда и гепарда.
Когда добыли еще несколько экземпляров, то убедились, что у них нет втягивающихся когтей (что отличает гепарда от всех иных кошачьих). Пришлось сдаться перед очевидностью: зверь явно являлся новой формой гепарда.
Поэтому английский зоолог Реджинальд Иннес Покок описал зверя, которое местное население называло «нсуи-физи», под именем «королевский гепард», и сопроводил свое описание замечанием: «Удивительно, что столь крупное и столь отличное по внешности животное так долго оставалось неизвестным».
Удивительно? Нет, обычно и нормально.
И так будет всегда, до тех пор, пока европейцы сохранят злосчастную привычку считать лжецами или дураками тех, кого они пренебрежительно именуют «дикарями».
Если верить капитану Вильяму Хичинсу, в прошлом чиновнику информационной службы администрации Кении, то основательность другой местной «басни» также подтвердилась в следующем году.
«Африканцы, — говорит он, — рассказывали о млуларука, или летающем шакале, который якобы полностью напоминает шакалов, за исключением того, что у него есть крылья. Он летает, как летучая мышь. Негры часто рассказывали, что млуларука часто залетает в сады и, испуская вопли, в сумерках набрасывается на манговые плоды и гранаты. Но никто им не верил».
Однако Ловеридж, который в 1927 году путешествовал в Танганьике, где он коллекционировал животных для Харвард-музеума, открыл два вида млуларука. Это были два вида летающих белок, и один из них — размером более 75 сантиметров».
Сомневаюсь все же в правильности определения капитана Хинчинса. Негры слишком хорошие наблюдатели, чтобы назвать летающим шакалом грызуна, ничем не напоминающего собаку. Легенда о млуларука скорее относится к тому или другому плодоядному рукокрылому вроде летучей лисицы или африканской летучей собаки. Подобное животное вполне оправдывало бы свое прозвище «летающий шакал» если и не в силу обычной для него пищи, то, во всяком случае, из-за своей внешности. Некоторые из этих гигантских рукокрылых, впрочем, стали известны науке лишь недавно, и возможно, что млуларука является одним из них.
Гривистая крыса и несколько копытных
Гривистая крыса, по всей вероятности, один из грызунов, меньше всего могущий пройти незамеченным. Она достигает 40 сантиметров в длину, а тело ее покрыто длинной мантией из белых и черных волос, которые подчас приподнимаются и создают впечатление внушительной гривы. И все же это животное, водящееся в расселинах скал горного массива Восточной Африки, было открыто лишь в 1867 году. Чтобы найти для этого оригинального грызуна место в систематическом ряду, пришлось установить новое семейство!
Шесть лет спустя зоологи узнали о другом, не менее удивительном грызуне, также вызвавшем необходимость образования для него особого семейства. Это пакарана. Он не столь напоминает сурка, как гривистая крыса, но замечателен своими размерами: до 60 сантиметров длиной и ростом с фокстерьера.
Но, хотя это и очень крупный грызун, известен он стал науке лишь в 1873 году, да и то как сказать! Вот что пишет о нем профессор Вальтер Гендрик Ходж из Массачузет-ского университета:
«Этот гигантский грызун обычно водится в лесах зоны дождей восточных Анд, Перу и Центральной Колумбии. В течение многих лет о пакаране знали лишь по одному экземпляру, пойманному в 1873 году возле одной гасиенды на хуторе Виток в Перу, поблизости от истоков реки Перене, по другую сторону Анд, к востоку от Лимы. До 1904 года научные круги не проявляли большого интереса к этому животному, но в указанном году два зверька были замечены недалеко от реки Пурус, в Бразилии. В 1922 году несколько пакаран изловили в горно-лесистой местности к востоку от Лимы. И, наконец, в 1924 году Нью-Йоркский зоологический сад получил один экземпляр. В 1930 году прибыло еще два экземпляра, и в то же время животное появилось в зоологических садах Гамбурга и Лондона. Таким образом, все, что нам известно об этом грызуне, основано на изучении менее пятидесяти экземпляров. Наши сведения о нем так неполны, что в 1942 году пакарана значился в списке исчезнувших или вымирающих млекопитающих Южной Америки.
Действительно, этот грызун встречается очень редко, но это отнюдь не означает, что он на пути к исчезновению. Район, в котором водится пакарана, включает крутые, покрытые лесом горы и является одним из самых недоступных и поэтому наименее изученных районов земли. Только редкие тропы пересекают этот район. До тех пор пока эта неразведанная земля не будет лучше исследована натуралистами, нельзя ничего сказать о возможном количестве этих удивительных грызунов. Может быть — их гораздо больше, чем о том можно предполагать по редким экземплярам, добытым по сей день».
В свою очередь в промежутке с 1869 года по 1882 год отряд парнокопытных, в состав которых входит много крупных животных, обогатился более чем полудюжиной дотоле неизвестных науке видов.
В 1869 году англичанин Блис описал новый вид африканской антилопы с винтообразно закрученными рогами — карликового куду.
Весьма заинтригованный внешностью убитого им зверя, майор Купер рассказал и нем в английском охотничьем журнале (в октябре 1926 года) как о предполагаемом гибриде леопарда и гепарда.
Когда добыли еще несколько экземпляров, то убедились, что у них нет втягивающихся когтей (что отличает гепарда от всех иных кошачьих). Пришлось сдаться перед очевидностью: зверь явно являлся новой формой гепарда.
Поэтому английский зоолог Реджинальд Иннес Покок описал зверя, которое местное население называло «нсуи-физи», под именем «королевский гепард», и сопроводил свое описание замечанием: «Удивительно, что столь крупное и столь отличное по внешности животное так долго оставалось неизвестным».
Удивительно? Нет, обычно и нормально.
И так будет всегда, до тех пор, пока европейцы сохранят злосчастную привычку считать лжецами или дураками тех, кого они пренебрежительно именуют «дикарями».
Если верить капитану Вильяму Хичинсу, в прошлом чиновнику информационной службы администрации Кении, то основательность другой местной «басни» также подтвердилась в следующем году.
«Африканцы, — говорит он, — рассказывали о млуларука, или летающем шакале, который якобы полностью напоминает шакалов, за исключением того, что у него есть крылья. Он летает, как летучая мышь. Негры часто рассказывали, что млуларука часто залетает в сады и, испуская вопли, в сумерках набрасывается на манговые плоды и гранаты. Но никто им не верил».
Однако Ловеридж, который в 1927 году путешествовал в Танганьике, где он коллекционировал животных для Харвард-музеума, открыл два вида млуларука. Это были два вида летающих белок, и один из них — размером более 75 сантиметров».
Сомневаюсь все же в правильности определения капитана Хинчинса. Негры слишком хорошие наблюдатели, чтобы назвать летающим шакалом грызуна, ничем не напоминающего собаку. Легенда о млуларука скорее относится к тому или другому плодоядному рукокрылому вроде летучей лисицы или африканской летучей собаки. Подобное животное вполне оправдывало бы свое прозвище «летающий шакал» если и не в силу обычной для него пищи, то, во всяком случае, из-за своей внешности. Некоторые из этих гигантских рукокрылых, впрочем, стали известны науке лишь недавно, и возможно, что млуларука является одним из них.
Гривистая крыса и несколько копытных
Гривистая крыса, по всей вероятности, один из грызунов, меньше всего могущий пройти незамеченным. Она достигает 40 сантиметров в длину, а тело ее покрыто длинной мантией из белых и черных волос, которые подчас приподнимаются и создают впечатление внушительной гривы. И все же это животное, водящееся в расселинах скал горного массива Восточной Африки, было открыто лишь в 1867 году. Чтобы найти для этого оригинального грызуна место в систематическом ряду, пришлось установить новое семейство!
Шесть лет спустя зоологи узнали о другом, не менее удивительном грызуне, также вызвавшем необходимость образования для него особого семейства. Это пакарана. Он не столь напоминает сурка, как гривистая крыса, но замечателен своими размерами: до 60 сантиметров длиной и ростом с фокстерьера.
Но, хотя это и очень крупный грызун, известен он стал науке лишь в 1873 году, да и то как сказать! Вот что пишет о нем профессор Вальтер Гендрик Ходж из Массачузет-ского университета:
«Этот гигантский грызун обычно водится в лесах зоны дождей восточных Анд, Перу и Центральной Колумбии. В течение многих лет о пакаране знали лишь по одному экземпляру, пойманному в 1873 году возле одной гасиенды на хуторе Виток в Перу, поблизости от истоков реки Перене, по другую сторону Анд, к востоку от Лимы. До 1904 года научные круги не проявляли большого интереса к этому животному, но в указанном году два зверька были замечены недалеко от реки Пурус, в Бразилии. В 1922 году несколько пакаран изловили в горно-лесистой местности к востоку от Лимы. И, наконец, в 1924 году Нью-Йоркский зоологический сад получил один экземпляр. В 1930 году прибыло еще два экземпляра, и в то же время животное появилось в зоологических садах Гамбурга и Лондона. Таким образом, все, что нам известно об этом грызуне, основано на изучении менее пятидесяти экземпляров. Наши сведения о нем так неполны, что в 1942 году пакарана значился в списке исчезнувших или вымирающих млекопитающих Южной Америки.
Действительно, этот грызун встречается очень редко, но это отнюдь не означает, что он на пути к исчезновению. Район, в котором водится пакарана, включает крутые, покрытые лесом горы и является одним из самых недоступных и поэтому наименее изученных районов земли. Только редкие тропы пересекают этот район. До тех пор пока эта неразведанная земля не будет лучше исследована натуралистами, нельзя ничего сказать о возможном количестве этих удивительных грызунов. Может быть — их гораздо больше, чем о том можно предполагать по редким экземплярам, добытым по сей день».
В свою очередь в промежутке с 1869 года по 1882 год отряд парнокопытных, в состав которых входит много крупных животных, обогатился более чем полудюжиной дотоле неизвестных науке видов.
В 1869 году англичанин Блис описал новый вид африканской антилопы с винтообразно закрученными рогами — карликового куду.
 В 1870 году Свинхе, в свою очередь, открыл новый вид совершенно лишенного рогов оленя, водящегося в болотах Китая, — так называемого китайского водяного оленя.
Год спустя Мильн-Эдвардс описал другого китайского оленя — короткорогого, с длинными клыками.
В 1872 году и затем в 1878 году сэр В.Брук дал научные имена двум африканским газелям. Первая из них, газель Гранта, — лишь новый вид газелей, но вторую, газель Валлера, придется выделить в особый род. Это очень своеобразной внешности животное, которое из-за своей несоразмерно длинной шеи получило прозвище «Газель-жирафа». Газель Валлера водится в Сомали и в Английской Восточной Африке и с незапамятных времен известна местному населению под названием «жеренюк». Эту газель с грациозно вытянутым телом можно увидеть на египетских барельефах VI века до н. э.
В 1908 году Лидеккер описал новый вид антилоп, со спиралеобразными рогами, водящийся в горах Абиссинии, — ниала.
Дракон с острова Коммодо
В 1912 году одному летчику пришлось приземлиться на Коммодо, острове длиной 30 километров и шириной 20 километров, расположенном между Сумбавой и Флоресом, в Зондском архипелаге. На этом острове возвышаются крутые, покрытые густой тропической растительностью горы. Единственными жителями его были в те времена подданные раджи Сумбавы, сосланные сюда на поселение. Побывав на этом острове, летчик рассказывал всякие ужасы: он якобы встретил чудовищного свирепого дракона длиной около 4 метров. По словам местных жителей, дракон пожирал свиней, коз и нападал даже на лошадей.
Конечно, ему никто не поверил.
Некоторое время спустя существование гигантского пресмыкающегося подтвердил П.А.Увенс, директор Ботанического сада в Бюитендорге. В декабре 1910 года этот натуралист вел переписку по поводу чудовища с гражданским администратором острова Флорес — ван Хенсброком. Островитяне рассказывали этому чиновнику, что в местности Лабеан Баджо на их острове, а также на острове Коммодо водится «бёажа дарат» — «земной крокодил».
Когда ван Штейну удалось по служебным делам побывать на Коммодо, он узнал кое-что об этом животном от искателей жемчуга Кока и Алгедона. Они утверждали, что гигантская ящерица достигает шести и даже семи метров. Алгедон уверял, что он убил несколько штук таких размеров.
Штейн оказался менее счастливым, но все же ему удалось добыть ящерицу длиной 2 метра 20 сантиметров. Посылая шкуру и фотографию директору Увенсу, он писал, что постарается добыть экземпляр покрупнее, хотя это и нелегко, так как местные жители до смерти боятся укусов и ударов хвоста этого чудовища.
Тогда зоологический музей Бюитензорга отправил к ван Штейну малайца, опытного ловца диких животных. Но администратора к тому времени успели перевести на Тимор, и он не смог принять участия в облаве. Раджа Ритара предоставил в распоряжение ловца-малайца охотников и собак. Удалось добыть четырех «земных крокодилов», двух по 2 метра 35 сантиметров длиной, а двух — по 2 метра 90 сантиметров. Вскоре после этого четырехметровый «крокодил» был убит сержантом Беккером.
В этих чудовищных ящерицах директор Увенс легко узнал гигантского варана. Он описал его в «Вестнике Ботанического сада Бюитензорга, под названием «варан коммоданский».
Когда с этой громадиной ознакомились получше, то оказалось, что она не представляет никакой опасности для человека, да и вряд ли в состоянии напасть на лошадь или быка, хотя ей и приписывали такие «подвиги». Тем не менее это весьма внушительное животное, не останавливающееся перед нападением на свиней, овец и коз. В настоящее время этих варанов можно увидеть в различных зоологических садах, и публика, присутствующая при их кормлении, может убедиться в исключительной жадности этих пресмыкающихся. Любопытно отметить, что название «Коммодо» означает «Остров крыс» и что на острове нет больше ни одной крысы.
Позже выяснили, что «дракон» этот живет не только на острове Коммодо: он водится и на маленьких островах Риджа и Падар, находящихся невдалеке от западной оконечности Флореса. И, наконец, в архивах Лимы есть упоминание об этих животных, относящееся к 1840 году.
Заговорив о юго-восточной Азии, отметим, что в 1918 году в Центральном Китае, в озере Тунг-Тинг, в 1000 километров от устья Ян-Тце-Кианга, обнаружили неизвестного до того пресноводного дельфина. Это совершенно белое китообразное длиною в два с половиной метра. Его морда вытянута наподобие клюва и напоминает древко флага. Этому сходству животное обязано своим местным прозвищем «пей-ши», что означает «белый флаг».
Затруднительный случай с серым быком Камбоджи
Недавнее большое зоологическое открытие в Азии вызвало ожесточенные споры.
Издавна жители Камбоджи (Кхмера) уверяли, что в некоторых лесных районах на севере страны водится дикий бык, отличающийся от гаура и бантенга. Они называли его «ку-прей», или «серый бык». Факт этот подтвердили и несколько французских ученых в 1930 и 1933 годах.
Когда профессор Ахилл Урбен, директор Венсенского зоологического сада, посетил в 1937 году Индокитай, то ему довелось увидеть великолепные рога этого быка — охотничий трофей ветеринара Р.Совеля. Будучи натуралистом-любителем, доктор Совель даже изловил молодого бычка, тотчас же отправленного во Францию, в Венсен. Кроме того, он дал возможность профессору Урбену исследовать взрослого быка, убитого им около деревни Чеп.
В 1870 году Свинхе, в свою очередь, открыл новый вид совершенно лишенного рогов оленя, водящегося в болотах Китая, — так называемого китайского водяного оленя.
Год спустя Мильн-Эдвардс описал другого китайского оленя — короткорогого, с длинными клыками.
В 1872 году и затем в 1878 году сэр В.Брук дал научные имена двум африканским газелям. Первая из них, газель Гранта, — лишь новый вид газелей, но вторую, газель Валлера, придется выделить в особый род. Это очень своеобразной внешности животное, которое из-за своей несоразмерно длинной шеи получило прозвище «Газель-жирафа». Газель Валлера водится в Сомали и в Английской Восточной Африке и с незапамятных времен известна местному населению под названием «жеренюк». Эту газель с грациозно вытянутым телом можно увидеть на египетских барельефах VI века до н. э.
В 1908 году Лидеккер описал новый вид антилоп, со спиралеобразными рогами, водящийся в горах Абиссинии, — ниала.
Дракон с острова Коммодо
В 1912 году одному летчику пришлось приземлиться на Коммодо, острове длиной 30 километров и шириной 20 километров, расположенном между Сумбавой и Флоресом, в Зондском архипелаге. На этом острове возвышаются крутые, покрытые густой тропической растительностью горы. Единственными жителями его были в те времена подданные раджи Сумбавы, сосланные сюда на поселение. Побывав на этом острове, летчик рассказывал всякие ужасы: он якобы встретил чудовищного свирепого дракона длиной около 4 метров. По словам местных жителей, дракон пожирал свиней, коз и нападал даже на лошадей.
Конечно, ему никто не поверил.
Некоторое время спустя существование гигантского пресмыкающегося подтвердил П.А.Увенс, директор Ботанического сада в Бюитендорге. В декабре 1910 года этот натуралист вел переписку по поводу чудовища с гражданским администратором острова Флорес — ван Хенсброком. Островитяне рассказывали этому чиновнику, что в местности Лабеан Баджо на их острове, а также на острове Коммодо водится «бёажа дарат» — «земной крокодил».
Когда ван Штейну удалось по служебным делам побывать на Коммодо, он узнал кое-что об этом животном от искателей жемчуга Кока и Алгедона. Они утверждали, что гигантская ящерица достигает шести и даже семи метров. Алгедон уверял, что он убил несколько штук таких размеров.
Штейн оказался менее счастливым, но все же ему удалось добыть ящерицу длиной 2 метра 20 сантиметров. Посылая шкуру и фотографию директору Увенсу, он писал, что постарается добыть экземпляр покрупнее, хотя это и нелегко, так как местные жители до смерти боятся укусов и ударов хвоста этого чудовища.
Тогда зоологический музей Бюитензорга отправил к ван Штейну малайца, опытного ловца диких животных. Но администратора к тому времени успели перевести на Тимор, и он не смог принять участия в облаве. Раджа Ритара предоставил в распоряжение ловца-малайца охотников и собак. Удалось добыть четырех «земных крокодилов», двух по 2 метра 35 сантиметров длиной, а двух — по 2 метра 90 сантиметров. Вскоре после этого четырехметровый «крокодил» был убит сержантом Беккером.
В этих чудовищных ящерицах директор Увенс легко узнал гигантского варана. Он описал его в «Вестнике Ботанического сада Бюитензорга, под названием «варан коммоданский».
Когда с этой громадиной ознакомились получше, то оказалось, что она не представляет никакой опасности для человека, да и вряд ли в состоянии напасть на лошадь или быка, хотя ей и приписывали такие «подвиги». Тем не менее это весьма внушительное животное, не останавливающееся перед нападением на свиней, овец и коз. В настоящее время этих варанов можно увидеть в различных зоологических садах, и публика, присутствующая при их кормлении, может убедиться в исключительной жадности этих пресмыкающихся. Любопытно отметить, что название «Коммодо» означает «Остров крыс» и что на острове нет больше ни одной крысы.
Позже выяснили, что «дракон» этот живет не только на острове Коммодо: он водится и на маленьких островах Риджа и Падар, находящихся невдалеке от западной оконечности Флореса. И, наконец, в архивах Лимы есть упоминание об этих животных, относящееся к 1840 году.
Заговорив о юго-восточной Азии, отметим, что в 1918 году в Центральном Китае, в озере Тунг-Тинг, в 1000 километров от устья Ян-Тце-Кианга, обнаружили неизвестного до того пресноводного дельфина. Это совершенно белое китообразное длиною в два с половиной метра. Его морда вытянута наподобие клюва и напоминает древко флага. Этому сходству животное обязано своим местным прозвищем «пей-ши», что означает «белый флаг».
Затруднительный случай с серым быком Камбоджи
Недавнее большое зоологическое открытие в Азии вызвало ожесточенные споры.
Издавна жители Камбоджи (Кхмера) уверяли, что в некоторых лесных районах на севере страны водится дикий бык, отличающийся от гаура и бантенга. Они называли его «ку-прей», или «серый бык». Факт этот подтвердили и несколько французских ученых в 1930 и 1933 годах.
Когда профессор Ахилл Урбен, директор Венсенского зоологического сада, посетил в 1937 году Индокитай, то ему довелось увидеть великолепные рога этого быка — охотничий трофей ветеринара Р.Совеля. Будучи натуралистом-любителем, доктор Совель даже изловил молодого бычка, тотчас же отправленного во Францию, в Венсен. Кроме того, он дал возможность профессору Урбену исследовать взрослого быка, убитого им около деревни Чеп.
 «Серый бык, — пишет профессор Урбен, — отличается от бантенга большим ростом. Некоторые особи достигают высоты 1 метра 90 сантиметров (в плечах). Шкура у молодых бычков и у коров совершенно серая, у старых быков — матово-черная, с белыми подпалинами на плечах и на крупе. У них выдающийся подгрудок, белые чулки на ногах, цилиндрические, широко расставленные рога, загнутые вперед у быков и в форме лиры — у коров».
В отличие от других диких быков этого района, у ку-прея едва заметный горб.
После научного описания ку-прея возникли трудности. Оказалось, что население северной части Камбоджи различает две разновидности быков: одних они называют «ку-прей», других — «ку-про». Рога первых беловатые, вторых — серо-зеленые и загибаются более вовнутрь. В конце концов выяснилось, что ку-прей — это просто теленок ку-про.
Но тут возникло новое затруднение. Стало известно, что ку-прей (или ку-про) часто, смешиваются со стадами бантенгов. Некоторые натуралисты начали поэтому подозревать: не является ли знаменитый «серый бык» всего лишь гибридом бантенга и какого-нибудь другого вида быков. Некоторые даже уверяют, что им удалось установить, что купрей — гибрид полуодомашненнсго га-ура и того или другого вида диких быков.
Чего только не придумают, чтобы не признать открытия нового крупного животного!
В действительности все эти критические замечания ничем серьезно не обоснованы.
Профессор Урбен сам наблюдал целое стадо серых быков возле границы Лаоса и Камбоджи. Тщательное анатомическое исследование, проделанное в 1940 году американским ученым Гарольдом Джефферсом Кулиджем, показывает, что ку-прей настолько отличается от других азиатских быков, что его следовало бы выделить в особый род.
«Серый бык, — пишет профессор Урбен, — отличается от бантенга большим ростом. Некоторые особи достигают высоты 1 метра 90 сантиметров (в плечах). Шкура у молодых бычков и у коров совершенно серая, у старых быков — матово-черная, с белыми подпалинами на плечах и на крупе. У них выдающийся подгрудок, белые чулки на ногах, цилиндрические, широко расставленные рога, загнутые вперед у быков и в форме лиры — у коров».
В отличие от других диких быков этого района, у ку-прея едва заметный горб.
После научного описания ку-прея возникли трудности. Оказалось, что население северной части Камбоджи различает две разновидности быков: одних они называют «ку-прей», других — «ку-про». Рога первых беловатые, вторых — серо-зеленые и загибаются более вовнутрь. В конце концов выяснилось, что ку-прей — это просто теленок ку-про.
Но тут возникло новое затруднение. Стало известно, что ку-прей (или ку-про) часто, смешиваются со стадами бантенгов. Некоторые натуралисты начали поэтому подозревать: не является ли знаменитый «серый бык» всего лишь гибридом бантенга и какого-нибудь другого вида быков. Некоторые даже уверяют, что им удалось установить, что купрей — гибрид полуодомашненнсго га-ура и того или другого вида диких быков.
Чего только не придумают, чтобы не признать открытия нового крупного животного!
В действительности все эти критические замечания ничем серьезно не обоснованы.
Профессор Урбен сам наблюдал целое стадо серых быков возле границы Лаоса и Камбоджи. Тщательное анатомическое исследование, проделанное в 1940 году американским ученым Гарольдом Джефферсом Кулиджем, показывает, что ку-прей настолько отличается от других азиатских быков, что его следовало бы выделить в особый род.
Глава третья МАДАГАСКАР — ОСТРОВ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ТАЙН
Жил когда-то знаменитый врач, который вылечивал всех своих пациентов (благодаря этой маленькой подробности вам станет ясно, что речь идет о сказке). Врач этот обладал лишь одним недостатком: был очень недоверчив. Однажды прибегает к нему взволнованная девушка и умоляет бросить все дела и поспешить с ней к ее умирающей матери. — Твоя мать ничем не больна, — улыбаясь, сказал врач. — Это мнимая больная. Она выдумывает себе болезни, а на деле прочна, как скала. Не бойся ничего, у нее все само собой пройдет. — Но, доктор, уверяю вас, она ужасно страдает! Уходя к вам, я сама видела, как она скорчилась и стонет… — Все это только комедия. Мне некогда. Прощай! Девушка ушла. Мать ее умерла. А чудодей, исцелявший от всех болезней, доказал тем самым, что мало еще в совершенстве владеть искусством врачевания. Быть большим врачом — это значит еще и давать себе труд исследовать своих больных. Такова же — в другом плане — и судьба, подстерегающая многих наших зоологов. Пока они упорно отказываются прислушаться к молве о неведомых или якобы исчезнувших животных, жизнь не ждет. И вот одни из таких животных вымерли, другие вымирают, и уж никогда не представится возможности изучить их по-настоящему. В лучшем случае ученый увидит лишь их жалкие останки. Возможно, именно эта «глухота» многих ученых и приведет к тому, что некоторые из вопросов зоологии, которыми они сами же занимаются, так и останутся неразрешенными. Ярким подтверждением этому может служить история изучения животного мира Мадагаскара — «замечательной страны», как назвал этот остров натуралист Филибер Коммерсон. Птица Рок арабских сказок Когда в 1658 году адмирал Этьенн де Флакур, долгое время пробывший на острове, опубликовал «Историю большого острова Мадагаскара», то он привел в своей книге множество весьма точных сведений о местной фауне, столь отличной от фауны Африканского материка. Однако многие из этих сведений рассматривались как побасенки путешественников, и достоверность некоторых из них была установлена лишь спустя две-три сотни лет. Говоря о птицах, «которые водятся в лесу», де Флакур, между прочим, отмечал: «Вурупатра — это большая птица, которая водится в Ампатрах и которую местные жители никак не могут изловить, так как она укрывается в самых пустынных местах острова». (Наименование «вурупатра» де Флакуром явно искажено. «Птица» по-маль-гашски — «вором», а следовательно, птица, о которой идет речь, вероятно, называлась «воромпатра».) Позже другие путешественники стали распространять о птице, которая водится на Мадагаскаре, более подробные, но еще более фантастические слухи. Они утверждали, что птица эта несет огромные яйца: они гораздо больше яиц страуса. Яйца эти, мол, столь велики, что мальгаши используют их в качестве сосудов для хранения питьевой воды. Об этом сообщает и Фердинанд фон Хохштеттер: «Туземцы с Мадагаскара прибыли на остров Моркса, чтобы закупить ром. Они привезли с собой сосуды для рома: скорлупу кип, в восемь раз крупнее страусиных и в сто тридцать пять раз — куриных; их вместимость два галлона (девять литров). Туземцы рассказывали, что иногда они находят такие яйца в зарослях тростника и что изредка им удается увидеть и саму птицу». Нечего и говорить, что мало кто поверил таким россказням. Уже страуса при его росте в два с половиной метра рассматривали в те годы как чудовищную, несоразмерно большую птицу. Какой же рост должен быть у пернатого, несущего яйца в восемь раз больше страусиных. Все это казалось невероятным. По мнению некоторых востоковедов, все эти слухи были, по всей вероятности, лишь отголоском легенды о птице Рок: гигантской хищной и кровожадной птице, пользовавшейся когда-то столь ужасной славой среди арабских мореплавателей. Она такая огромная, рассказывали они, что когда подымается в небо, то наступают сумерки: ее крылья заслоняют солнце. Она такая сильная, что может унести в когтях слона и даже единорога с нанизанными на его рог несколькими слонами. Одному из героев «Тысячи и одной ночи», Синдбаду-мореплавателю, пришлось иметь дело с этой невероятной птицей после того, как он нашел ее яйцо: «Белый шар огромной высоты и объема… который имел шагов пятьдесят в окружности». Шутка ли — пятьдесят шагов! Это намного превышает те «огромные скорлупы», о которых сообщали с Мадагаскара. Однако, принимая во внимание богатое воображение арабов, можно предположить, что молва о большой птице приняла у них совсем уж фантастическую форму. Упоминая о гигантской африканской птице, древний историк Геродот сообщает более скромные сведения: египетские жрецы, замечает он, говорили ему о некоем гигантском пернатом, водящемся «за истоками Нила» и способном унести взрослого человека. Если вспомнить, что самый сильный орел способен унести лишь зайца или барашка, то есть чему подивиться, хотя это далеко не соответствует мощи птицы Рок. В свою очередь, Марко Поло в XIII веке слышал от самого Кубилай-хана о легендарной птице. Знаменитый венецианский путешественник уверяет даже, что азиатский деспот показал ему перья этой птицы, длина которых равнялась 90 ампанам (около 20 метров!), и два огромных яйца. По словам хана, птица Рок водилась «не на Мадагаскаре, а на каком-то другом острове Южного побережья». Последняя подробность многим показалась неопровержимым доказательством того, что легенда о птице Рок и побасенки мадагаскарцев о птице, несущей яйца величиной с кувшин для хранения растительного масла, — одного и того же происхождения. Все это — досужий вымысел. К тому же, как полагали в то время, невероятно, чтобы птица, весящая сотни, а может быть, и тысячи килограммов, могла летать: это противоречило бы всем законам физики. Невероятные яйца эпиорниса В 1834 году французский путешественник Гудо нашел на Мадагаскаре половинку яичной скорлупы невероятных размеров, которую мальгаши использовали как чашу для питья. Путешественник зарисовал ее и отослал рисунок известному парижскому орнитологу Жюлю Верро, в то время находившемуся на юге Африки, в Капштадте. На основании одного лишь этого рисунка Верро дал снесшей гигантское яйцо птице имя «эпиорнис», что означает «великоростая птица». Спустя несколько лет, когда Дюмарелю улыбнулось счастье и он нашел в 1848 году в окрестностях Диего Суареза целое яйцо, правильность названия птицы подтвердилась. «Яйцо вмещало, — пишет Дюмарель, — тринадцать бутылок». После того как капитан торгового флота Малавуа привез в дар Парижскому музею два яйца высотой 32 сантиметра и диаметром 22 сантиметра, пришлось признать: гигантская птица на Мадагаскаре действительно существовала. Яйца ее были вместимостью около 8 литров. Каждое из них могло, следовательно, вместить содержимое 8 яиц страуса или 140 — курицы. Из одного такого яйца можно было бы изготовить яичницу для семидесяти человек. Несколько лет спустя известный исследователь Альфред Грандидье извлек из болот Амболиастра несколько огромных костей. На первый взгляд казалось, что они принадлежали какому-нибудь толстокожему: слону, носорогу. Однако ближайшее изучение показало, что это кости большой птицы, которую англосаксы тотчас же прозвали «птица-слон». Впрочем, это событие уже не могло вызвать большого удивления: еще в 1839 году профессор Ричард Оуэн опубликовал данные о гигантской новозеландской птице «мао», получившей имя «динорнис». На основании всех этих данных французский зоолог Исидор Жоффруа Сент-Илер описал, в свою очередь, гигантскую птицу с острова Мадагаскара. Он дал ей имя «эпиорнис великий». По правде говоря, название это не совсем заслуженное: этот эпиорнис не крупнейшая из птиц, хотя он и крупнейший среди эпиорнисов. Один из видов новозеландских моа значительно выше: его высота достигает трех с половиной метров, тогда как эпиорнисы выше трех метров не бывают. Сравнивая яйца эпиорниса с яйцами страуса, Жоффруа Сент-Илер ошибочно предположил, что мадагаскарская птица должна быть 5 метров ростом. Таких эпиорнисов нет и не было. Соотношения роста и величины яйца, как общего правила, не существует. Новозеландский киви несет яйца такой же величины, как средних размеров страус. Между тем, если не считать крыльев, птица эта едва больше курицы. Вес киви лишь вчетверо превышает вес его яйца. Тем не менее можно полагать, что хотя «эпиорнис великий» и не самая большая, то самая массивная из птиц. Измерив кости гигантских птиц Мадагаскара и сравнив их с соответствующими костями других крупных бегающих птиц (киви, моа, страус, эму, нанду), Дин Эймедон, орнитолог Американского музея, рассчитал примерный вес этих птиц. По его вычислениям, «эпиорнис великий» должен был весить 440 килограммов, тогда как моа высотой в те же 3 метра — всего 320 килограммов. Когда же исчезла гигантская птица? Изучение скелетов эпиорнисов показало, что, не в пример легендарной птице Рок, мадагаскарская птица, как и другие бегающие птицы, к которым она относится, не могла летать. Подобно страусу, казуару, эму, моа, она лишена грудного киля, и ее неразвитые крылья непригодны для полета. Почти нет сомнений, что эпиорнис и есть та птица, которую де Флакур называл «вурупатра». Можно ли было полагать, что птица эта еще не исчезла? Ведь яйца, которые находили на юге или юго-западе острова — все равно, в песчаных дюнах или в больших болотах, — были так свежи, что иной раз выглядели только что снесенными. То же относится и к костям. Туземцы утверждали, что гигантские птицы живут в самых дремучих лесах острова и появляются очень редко. Увы! Большинство натуралистов первой половины прошлого века были еще настолько под влиянием идей Кювье, что отказывались допустить возможность существования столь чудовищных птиц. Вместо того чтобы попытаться разыскать самих птиц, они занялись выяснением причин их исчезновения. Условия, в которых находили яйца эпиорнисов, заставляют предполагать, что птицы попросту откладывали их в тростниках, как это делают водяные курочки. Весьма возможно, что гигантская птица жила на лесных болотах. Вероятно, главной причиной ее исчезновения было резкое изменение климата. Оно в сравнительно недавнее время вызвало уменьшение дождей, что повлекло за собой высыхание огромных озер на высоких плоскогорьях острова и в районах Антсирабе и Бетафо. Бессмысленное уничтожение лесов — следствие появления на острове людей (банту, арабов, малайцев) — сыграло решающую роль в изменении климата. Таким образом, человек, пусть и косвенно, ускорил исчезновение воромпатра. Прямой ответственности за это он не несет. Вопреки тому, что произошло с новозеландским моа, жители Мадагаскара, как кажется, не охотились за воромпатра ради мяса. Во всяком случае, в местных преданиях ничего не говорится о такой охоте. Если принять во внимание, что появление людей на большом острове относится к сравнительно позднему периоду (на Мадагаскаре не найдено следов доисторического человека), то возможно, что гигантская птица исчезла совсем недавно. Так или иначе, до 1867 года, если не позже, туземцы утверждали, что в отдаленнейших уголках острова воромпатра еще водится. Тре-тре-тре-тре и человек с собачьей головой Ни один другой край в мире не создает такого впечатления, что он только-только вышел из доисторической эпохи, как Мадагаскар. Останки гигантских животных, которые обнаруживают на острове, — будь то птицы, млекопитающие или пресмыкающиеся, — находятся подчас в таком нетронутом состоянии, что невольно возникает вопрос: действительно ли совсем исчезли эти животные? Часто из народных сказаний островитян можно сделать заключение: они встречались еще совсем недавно. Адмирал Этьенн де Флакур был не только первым, кто сообщил о существовании эпиорниса. В своей книге он говорил и о некоем другом, до сих пор не обнаруженном животном: «Тре-тре-тре-тре, или тра-тра-тра-тра, — это животное ростом с двухгодовалого теленка, с круглой головой и человеческим лицом. Его передние и задние конечности, как у обезьяны. У него вьющаяся шерсть, короткий хвост, уши наподобие человеческих. Животное это напоминает танахт, описанный Амбруазом Паре. Одно из этих животных было замечено возле озера Липомани, в окрестностях которого, очевидно, находится его убежище. Тре-тре-тре-тре ведет весьма уединенный образ жизни, и местные жители его очень боятся, как и он их». Но как можно было поверить россказням путешественника, который в XVII веке повторял басни Марко Поло и других о существовании на острове породы людей с собачьей головой? Закоренелые скептики впервые попали впросак, когда был обнаружен индри. Этот самый большой из известных по сей день лемуров прекрасно отвечал представлению о небольшом человеке с собачьей головой. Итак, раз молва о человекоподобном животном с головой собаки оказалась обоснованной, следовало бы с большим доверием отнестись и к рассказам о тре-тре-тре-тре. Не знаю, искали ли когда-либо такое животное в окрестностях озера Липомани. Факт тот, что его до сих пор не обнаружили. Между тем палеонтологические данные вполне определенно указывают, что подобное животное действительно существовало. Умирающее сердце древней Гондваны Казалось бы, что фауна Мадагаскара должна лишь весьма незначительно отличаться от фауны Африки. В действительности же этот большой остров — не просто один из районов Африканского материка. Для мадагаскарских животных характерно, с одной стороны, их большое своеобразие, с другой — близость к формам, заселяющим столь отдаленные страны, как Индо-Малайя и даже Южчая Америка. Характернейшая особенность животного мира Мадагаскара — лемуры. Как и обезьяны, они принадлежат к приматам, но отличаются многими анатомическими особенностями. Мало кому, кроме специалистов, известно, что в эоценовых отложениях Северной Америки и даже Европы в большом количестве обнаружены останки лемуров. Принимая во внимание географическое положение и величину Мадагаскара, легко предположить, что этот остров оказался последним убежищем этих беззащитных животных, наподобие того, как в Новой Зеландии нашли убежище последние первоящеры, а в Австралии — сумчатые. Но лемуры вовсе не были вытеснены на этот остров, отнюдь не «бежали» сюда из других мест. Более высокоорганизованные обезьяны постепенно заняли их место всюду., где до того «вершиной» животного мира были лемуры. Но к этому времени Мадагаскар уже отделился от Африки, и обезьяны не смогли туда проникнуть. Таким образом, этот остров остался нераздельным владением лемуров — опасных соперников здесь у них не оказалось.
Не надо все же думать, что лемуры водятся теперь лишь на Мадагаскаре. Правда, здесь сосредоточено около трех четвертей видов этих животных. Однако есть несколько видов и в Африке (галаго, потто, ангуан-тибо), и в Индо-Малайских странах (лори и никткцебус, а также близкие к ним долгопяты). Если эти лемуры смогли противостоять конкуренции обезьян, то лишь потому, что приспособились к ночному образу жизни.
Только на Мадагаскаре живет небольшой своеобразный хищник с втяжными когтями и глазами, очень похожими на кошачьи. Есть здесь к другие своеобразные мелкие хищники. И, наконец, Мадагаскар изобилует хамелеонами: их здесь насчитывают не менее тридцати пяти видов!
Но самое поразительное то, что на острове, расположенном у берегов Африки, водятся животные, не имеющие ничего общего с африканскими.
Так, Мадагаскару свойственно особое семейство насекомоядных млекопитающих — танреки, или щетинистые ежи. Наиболее близкими родичами их являются щелезубы, обитатели Антильских островов.
Характерные для Мадагаскара и свойственные лишь ему виды грызунов находятся в таинственном родстве с американскими видами.
На острове водятся два вида игуан. Это семейство ящериц характерно для Америки, где распространено около трехсот видов (в основном — Южная и Средняя Америка), и лишь один вид живет на острове Фиджи и островах Товарищества.
Итак, с одной стороны — несомненная близость фауны Мадагаскара к южноамериканской.
С другой стороны, как мы уже знаем, животный мир Мадагаскара родственен фауне Индо-Малайских стран (лемуры). Веслоногие лягушки, к числу которых принадлежит и яванская летающая лягушка, представлены в фауне южной и восточной Азии и на Мадагаскаре.
Такая удивительная смесь видов говорит о существовавшей в древности неразрывной связи всех этих стран.
Действительно, во времена первичной эры, примерно 500–600 миллионов лет назад, в Южном полушарии существовал огромный материк — Гондвана. В его состав целиком входили Африка с Мадагаскаром, Индостан, Австралия и Бразилия и части разделяющих их ныне океанов — Атлантического и Индийского. Мадагаскар находился почти в центре этого материка-гиганта. После каменноугольного периода (250–300 миллионов лет назад) Гондвана начала постепенно распадаться, некоторые участки ее опустились, и на их месте возникли южная часть Антлантики и Индийский океан.
Мадагаскар долгое время оставался связанным с Африкой и окончательно отделился от нее примерно 6–8 миллионов лет назад. Связь его с Африкой к концу их совместного существования, видимо, была не очень прочной: на нем нет африканских копытных. Есть лишь два исключения: исчезнувший здесь в совсем недавнее время бегемот и речная свинья, очень близкая к свиньям, встречающимся на материке. Однако оба эти животные — полуводяного образа жизни. Это заставляет предполагать, что в период расцвета группы копытных Мадагаскар уже был отделен от Африки хотя бы только протоком.
Правда, на острове живет порода диких быков, но, по-видимому, это одичавшие потомки домашних быков, доставленных сюда при заселении острова неграми банту. Некоторые ученые относят их к потомкам древнего мадагаскарского быка. Однако это не противоречит предположению, что Мадагаскар уже давным-давно был отделен водой от материка: как известно, быки переплывают большие реки.
Память о гигантских лемурах все еще жива на Мадагаскаре
Защищенный водой от нашествия обезьян и крупных хищников, Мадагаскар стал идеальным краем для развития и процветания лемуров. Здесь распространено много разнообразнейших видов этой группы животных.
В не столь уж отдаленные времена видов этих было еще больше. Об этом говорят многочисленные находки, сделанные на Мадагаскаре палеонтологами, и предания местного населения. Один из таких исчезнувших видов — адропитек — как бы копировал человека. Мадагаскарские легенды красочно рисуют этих животных то в образе русалок или сирен, то в образе существ наподобие наших леших. «Каланово», как его называют мальгаши, служит пугалом для детей и взрослых.
Как полагает профессор П.Ламбертон из Тананариве, прототипом для «каланово» послужил адропитек. Вот как он описывает его:
«Круглолицый, с широким и плоским лицом, близко сидящими глазами и приподнятым подбородком. По всем этим признакам он не только обезьяноподобен, но даже человекообразен».
Сильно развитые конечности говорят о том, что, по-видимому, адропитек обычно перемещался по земле.
После вышесказанного описание, данное де Флакуром загадочному «тре-тре-тре-тре», перестает казаться уж очень фантастическим. Оно могло относиться, например, к палеопропитеку — другому виду лемуров. Судя по его останкам, найденным на Мадагаскаре, палеопропитек напоминал гориллу или шимпанзе.
И дальше профессор Ламбертон пишет:
«…Состояние обнаруженных на острове костей, как и геологический характер местности, указывает на то, что адропитек, вероятно, исчез совсем недавно, по крайней мере — в стране племени бара. Возникает вопрос: не относится ли столь упорно держащаяся в народе (в особенности в районе Анказоабо) легенда о «каланово» к этим животным? По словам людей племени бара, «каланово» — маленькие длинноволосые человечки, еще живущие в лесах этого района. Они выходят ночью и в поисках пищи бродят по деревням. Бегают и лазают они очень ловко и быстро.
Эти данные вполне совпадают с нашим представлением об адропитеках. Не было бы ничего невероятного в том, что жившие несколько веков назад в этих районах мальгаши видели адропитеков и что воспоминание о них, как это обычно для примитивных племен, передаваемое из поколения в поколение, приобретало все более сказочный характер».
Некоторые районы Мадагаскара еще почти не изучены (например, заповедник Амбонго или пустынный массив Изало), на острове еще не обследованы три-четыре миллиона гектаров девственного леса. Разве нельзя обнаружить там какой-либо вид гигантских лемуров, доживший до наших дней? Было бы слишком смело утверждать невозможность этого.
Следует всегда помнить случай с окапи, животным величиной с лошадь. Скрытый образ жизни надолго обеспечил ему возможность оставаться неизвестным.
Баран, или… лемур?
Другой исследователь фауны Мадагаскара. Рэймон Декари, уделяет таинственным животным мадагаскарского фольклора несколько страниц. По его мнению, большинство этих животных носит сказочный характер, хотя легенды о них и имеют обоснование. Ведь еще несколько веков назад гигантские лемуры, бегемоты и некоторые другие ныне исчезнувшие животные водились в лесах, реках и болотах острова.
Однако и он считает, что существование некоторых из этих мифических животных «могло бы оказаться вполне реальным».
К таким животным он относит в первую очередь хабеби, которого туземцы племени бетсилео называют «фотсиаондре», или «белый баран». Это ночное животное, причем некоторые уверяют, что его можно увидеть и в лунные ночи в пустынных местностях массива Изоло. Животное это ростом с барана, у него такие же, как у барана, копыта. Оно белошерстое, с рыжими или черными подпалинами, у него продолговатая морда, длинные и лохматые уши, большие и выпученные глаза.
Некоторые приписывают этому животному хищнические инстинкты. По другой версии, оно питается растениями.
Действительно ли хабеби род барана? Я сильно сомневаюсь в этом: баран вовсе не ночное животное. Да и ни один из очевидцев никогда не упоминал о рогах.
Скорее следовало бы вспомнить, что среди лемуров обнаружены удивительнейшие формы. Возможно, что существуют и такие, о которых мы не имеем никакого понятия. Кто знает, не избрала ли одна из ветвей лемуров наземный образ жизни? Ведь отказались же бабуины и другие собакоголовые обезьяны от жизни на деревьях. Что касается хабеби, то наиболее примечательным я считаю тот факт, что все очевидцы настаивают на величине его «выпученных» глаз. А эта особенность совсем не свойственна копытным, зато сразу обращает на себя внимание у лемуров, в особенности ведущих ночной образ жизни и наиболее напоминающих «призраки».
Адмиралу де Флакуру мы обязаны такжепервым упоминанием еще об одном загадочном животном Мадагаскара:
«Мангарсахок — довольно крупное животное, с круглым, как у лошади, копытом и очень длинными ушами; спускаясь с горы, оно едва может что-либо видеть, так как свисающие уши закрывают ему глаза; оно ревет, как осел. Думаю, что это действительно дикий осел».
Сто лет спустя, в 1770 году, граф де Модав сообщает, что животное это водится в каких-нибудь сорока километрах от Фор-Дофина. Вот что он говорит об этом в своих еще не опубликованных письмах:
«Животное это наводит ужас на негров, они описывают его настоящим страшилищем. В действительности это лишь дикий осел. Их водится в этой части острова немало, но они укрываются в лесах и никогда не покидают пустынные, труднодоступные местности».
Согласно Р.Декари, в настоящее время в районе Анози жива молва о животном, которое здесь называют «мангарисаока» (буквально: «тот, чей подбородок скрыт ушами»). Животное это, вне сомнения, не что иное, как «мангарсахок» адмирала де Флакура.
Знаток мадагаскарской фауны задается вопросом, не следует ли отнести сведения об этом животном и к «токатонготра», по слухам водящемуся в пустынных местностях юга. Название «токатонготра» означает «одноногий», а это совершенно подобно нашему «однокопытный». Животное это как будто одновременно напоминает и лошадь и осла. «Возможно, — пишет Р.Декари, — это лишь отголосок древних преданий, согласно которым на юге когда-то водились дикие лошади».
Наконец, неоднократно сообщали, что в лесах Анкайзинана в районе Беаланана и Маниренжи водится дикий осел. Обнаружили якобы даже следы его копыт. Достоверно лишь то, что в 1936 году об этом животном счел нужным доложить в письменном рапорте сам администратор колонии Боллон.
Характерно, что многие натуралисты готовы допустить существование на Мадагаскаре диких ослов или лошадей, никогда не замеченных ни одним белым и останки которых никогда не были найдены. И те же натуралисты упорно отказываются допустить возможность существования на острове еще неизвестных нам больших лемуров. Между тем скрывающиеся в лесах пугливые, ведущие ночной образ жизни лемуры легче могли ускользнуть от исследователей, чем представители отряда однокопытных.
Недавняя климатическая революция, изменившая облик Мадагаскара, привела к угасанию не только эпиорнисов. Вымерли и другие большие птицы, например крупный казуар из района Анкаратра, затем — родич африканского шпорцевого гуся. Пробил смертный час и для многих иных крупных животных. Казалось бы, что фауна острова должна состоять в наши дни из маленьких и не очень больших животных.
Но так ли это? Ведь климатская революция произошла не внезапно. Да и случилась она так недавно, что остается, пусть и слабая, надежда обнаружить живыми некоторых представителей далекого прошлого Мадагаскара.
Так, например, на Мадагаскаре и на соседних с ним Маскаренских и Сейшелльских островах водилась гигантская черепаха (черепаха Грандидье), свыше метра длиной и больше тонны весом. Черепаха эта подолгу грелась на солнце, наполовину погрузившись в воду. Казалось, она должна была пасть жертвой засухи.
Однако, если верить Р.Декари, автору замечательного труда о животном мире Мадагаскара, черепаха Грандидье, возможно, еще и не совсем вымерла.
«В некоторых озерах пещер юго-западной части острова, — пишет этот ученый, — замечено какое-то таинственное животное. Возможно, что это большая черепаха. Не идет ли речь о последних представителях черепахи Грандидье?»
Помимо современного крокодила — крокодила мадагаскарского, близкого родича нильского крокодила, — на острове еще не так давно водились и другие крокодилы. То были гиганты, черепа которых достигали в длину 80 сантиметров. Ученые все еще не могут договориться: один или два вида крокодилов существует на Мадагаскаре. Не было бы ничего удивительного, если бы в один прекрасный день стало известно, что на острове продолжают здравствовать исполинские крокодилы, останки которых были обнаружены Альфредом Грандидье.
Благодаря особо благоприятным условиям ряд древнейших видов животных дожил на Мадагаскаре до наших дней. Большинство из них угасло почти на наших глазах. Эти животные навсегда утрачены для науки. А случилось это потому, что ученые-зоологи новейших времен оказались либо слишком недоверчивыми, либо недостаточно любопытными, чтобы внимательно изучить рассказы и предания островитян и попытаться отделить подлинные факты от вымысла. Сказать, «это все россказни», всего легче и проще. Но подлинный ученый не должен идти по такому пути. И, если остается хоть малейшая надежда обнаружить хотя бы одно дожившее до наших дней «доисторическое» животное, необходимо сделать все, чтобы его найти.
Мало кому, кроме специалистов, известно, что в эоценовых отложениях Северной Америки и даже Европы в большом количестве обнаружены останки лемуров. Принимая во внимание географическое положение и величину Мадагаскара, легко предположить, что этот остров оказался последним убежищем этих беззащитных животных, наподобие того, как в Новой Зеландии нашли убежище последние первоящеры, а в Австралии — сумчатые. Но лемуры вовсе не были вытеснены на этот остров, отнюдь не «бежали» сюда из других мест. Более высокоорганизованные обезьяны постепенно заняли их место всюду., где до того «вершиной» животного мира были лемуры. Но к этому времени Мадагаскар уже отделился от Африки, и обезьяны не смогли туда проникнуть. Таким образом, этот остров остался нераздельным владением лемуров — опасных соперников здесь у них не оказалось.
Не надо все же думать, что лемуры водятся теперь лишь на Мадагаскаре. Правда, здесь сосредоточено около трех четвертей видов этих животных. Однако есть несколько видов и в Африке (галаго, потто, ангуан-тибо), и в Индо-Малайских странах (лори и никткцебус, а также близкие к ним долгопяты). Если эти лемуры смогли противостоять конкуренции обезьян, то лишь потому, что приспособились к ночному образу жизни.
Только на Мадагаскаре живет небольшой своеобразный хищник с втяжными когтями и глазами, очень похожими на кошачьи. Есть здесь к другие своеобразные мелкие хищники. И, наконец, Мадагаскар изобилует хамелеонами: их здесь насчитывают не менее тридцати пяти видов!
Но самое поразительное то, что на острове, расположенном у берегов Африки, водятся животные, не имеющие ничего общего с африканскими.
Так, Мадагаскару свойственно особое семейство насекомоядных млекопитающих — танреки, или щетинистые ежи. Наиболее близкими родичами их являются щелезубы, обитатели Антильских островов.
Характерные для Мадагаскара и свойственные лишь ему виды грызунов находятся в таинственном родстве с американскими видами.
На острове водятся два вида игуан. Это семейство ящериц характерно для Америки, где распространено около трехсот видов (в основном — Южная и Средняя Америка), и лишь один вид живет на острове Фиджи и островах Товарищества.
Итак, с одной стороны — несомненная близость фауны Мадагаскара к южноамериканской.
С другой стороны, как мы уже знаем, животный мир Мадагаскара родственен фауне Индо-Малайских стран (лемуры). Веслоногие лягушки, к числу которых принадлежит и яванская летающая лягушка, представлены в фауне южной и восточной Азии и на Мадагаскаре.
Такая удивительная смесь видов говорит о существовавшей в древности неразрывной связи всех этих стран.
Действительно, во времена первичной эры, примерно 500–600 миллионов лет назад, в Южном полушарии существовал огромный материк — Гондвана. В его состав целиком входили Африка с Мадагаскаром, Индостан, Австралия и Бразилия и части разделяющих их ныне океанов — Атлантического и Индийского. Мадагаскар находился почти в центре этого материка-гиганта. После каменноугольного периода (250–300 миллионов лет назад) Гондвана начала постепенно распадаться, некоторые участки ее опустились, и на их месте возникли южная часть Антлантики и Индийский океан.
Мадагаскар долгое время оставался связанным с Африкой и окончательно отделился от нее примерно 6–8 миллионов лет назад. Связь его с Африкой к концу их совместного существования, видимо, была не очень прочной: на нем нет африканских копытных. Есть лишь два исключения: исчезнувший здесь в совсем недавнее время бегемот и речная свинья, очень близкая к свиньям, встречающимся на материке. Однако оба эти животные — полуводяного образа жизни. Это заставляет предполагать, что в период расцвета группы копытных Мадагаскар уже был отделен от Африки хотя бы только протоком.
Правда, на острове живет порода диких быков, но, по-видимому, это одичавшие потомки домашних быков, доставленных сюда при заселении острова неграми банту. Некоторые ученые относят их к потомкам древнего мадагаскарского быка. Однако это не противоречит предположению, что Мадагаскар уже давным-давно был отделен водой от материка: как известно, быки переплывают большие реки.
Память о гигантских лемурах все еще жива на Мадагаскаре
Защищенный водой от нашествия обезьян и крупных хищников, Мадагаскар стал идеальным краем для развития и процветания лемуров. Здесь распространено много разнообразнейших видов этой группы животных.
В не столь уж отдаленные времена видов этих было еще больше. Об этом говорят многочисленные находки, сделанные на Мадагаскаре палеонтологами, и предания местного населения. Один из таких исчезнувших видов — адропитек — как бы копировал человека. Мадагаскарские легенды красочно рисуют этих животных то в образе русалок или сирен, то в образе существ наподобие наших леших. «Каланово», как его называют мальгаши, служит пугалом для детей и взрослых.
Как полагает профессор П.Ламбертон из Тананариве, прототипом для «каланово» послужил адропитек. Вот как он описывает его:
«Круглолицый, с широким и плоским лицом, близко сидящими глазами и приподнятым подбородком. По всем этим признакам он не только обезьяноподобен, но даже человекообразен».
Сильно развитые конечности говорят о том, что, по-видимому, адропитек обычно перемещался по земле.
После вышесказанного описание, данное де Флакуром загадочному «тре-тре-тре-тре», перестает казаться уж очень фантастическим. Оно могло относиться, например, к палеопропитеку — другому виду лемуров. Судя по его останкам, найденным на Мадагаскаре, палеопропитек напоминал гориллу или шимпанзе.
И дальше профессор Ламбертон пишет:
«…Состояние обнаруженных на острове костей, как и геологический характер местности, указывает на то, что адропитек, вероятно, исчез совсем недавно, по крайней мере — в стране племени бара. Возникает вопрос: не относится ли столь упорно держащаяся в народе (в особенности в районе Анказоабо) легенда о «каланово» к этим животным? По словам людей племени бара, «каланово» — маленькие длинноволосые человечки, еще живущие в лесах этого района. Они выходят ночью и в поисках пищи бродят по деревням. Бегают и лазают они очень ловко и быстро.
Эти данные вполне совпадают с нашим представлением об адропитеках. Не было бы ничего невероятного в том, что жившие несколько веков назад в этих районах мальгаши видели адропитеков и что воспоминание о них, как это обычно для примитивных племен, передаваемое из поколения в поколение, приобретало все более сказочный характер».
Некоторые районы Мадагаскара еще почти не изучены (например, заповедник Амбонго или пустынный массив Изало), на острове еще не обследованы три-четыре миллиона гектаров девственного леса. Разве нельзя обнаружить там какой-либо вид гигантских лемуров, доживший до наших дней? Было бы слишком смело утверждать невозможность этого.
Следует всегда помнить случай с окапи, животным величиной с лошадь. Скрытый образ жизни надолго обеспечил ему возможность оставаться неизвестным.
Баран, или… лемур?
Другой исследователь фауны Мадагаскара. Рэймон Декари, уделяет таинственным животным мадагаскарского фольклора несколько страниц. По его мнению, большинство этих животных носит сказочный характер, хотя легенды о них и имеют обоснование. Ведь еще несколько веков назад гигантские лемуры, бегемоты и некоторые другие ныне исчезнувшие животные водились в лесах, реках и болотах острова.
Однако и он считает, что существование некоторых из этих мифических животных «могло бы оказаться вполне реальным».
К таким животным он относит в первую очередь хабеби, которого туземцы племени бетсилео называют «фотсиаондре», или «белый баран». Это ночное животное, причем некоторые уверяют, что его можно увидеть и в лунные ночи в пустынных местностях массива Изоло. Животное это ростом с барана, у него такие же, как у барана, копыта. Оно белошерстое, с рыжими или черными подпалинами, у него продолговатая морда, длинные и лохматые уши, большие и выпученные глаза.
Некоторые приписывают этому животному хищнические инстинкты. По другой версии, оно питается растениями.
Действительно ли хабеби род барана? Я сильно сомневаюсь в этом: баран вовсе не ночное животное. Да и ни один из очевидцев никогда не упоминал о рогах.
Скорее следовало бы вспомнить, что среди лемуров обнаружены удивительнейшие формы. Возможно, что существуют и такие, о которых мы не имеем никакого понятия. Кто знает, не избрала ли одна из ветвей лемуров наземный образ жизни? Ведь отказались же бабуины и другие собакоголовые обезьяны от жизни на деревьях. Что касается хабеби, то наиболее примечательным я считаю тот факт, что все очевидцы настаивают на величине его «выпученных» глаз. А эта особенность совсем не свойственна копытным, зато сразу обращает на себя внимание у лемуров, в особенности ведущих ночной образ жизни и наиболее напоминающих «призраки».
Адмиралу де Флакуру мы обязаны такжепервым упоминанием еще об одном загадочном животном Мадагаскара:
«Мангарсахок — довольно крупное животное, с круглым, как у лошади, копытом и очень длинными ушами; спускаясь с горы, оно едва может что-либо видеть, так как свисающие уши закрывают ему глаза; оно ревет, как осел. Думаю, что это действительно дикий осел».
Сто лет спустя, в 1770 году, граф де Модав сообщает, что животное это водится в каких-нибудь сорока километрах от Фор-Дофина. Вот что он говорит об этом в своих еще не опубликованных письмах:
«Животное это наводит ужас на негров, они описывают его настоящим страшилищем. В действительности это лишь дикий осел. Их водится в этой части острова немало, но они укрываются в лесах и никогда не покидают пустынные, труднодоступные местности».
Согласно Р.Декари, в настоящее время в районе Анози жива молва о животном, которое здесь называют «мангарисаока» (буквально: «тот, чей подбородок скрыт ушами»). Животное это, вне сомнения, не что иное, как «мангарсахок» адмирала де Флакура.
Знаток мадагаскарской фауны задается вопросом, не следует ли отнести сведения об этом животном и к «токатонготра», по слухам водящемуся в пустынных местностях юга. Название «токатонготра» означает «одноногий», а это совершенно подобно нашему «однокопытный». Животное это как будто одновременно напоминает и лошадь и осла. «Возможно, — пишет Р.Декари, — это лишь отголосок древних преданий, согласно которым на юге когда-то водились дикие лошади».
Наконец, неоднократно сообщали, что в лесах Анкайзинана в районе Беаланана и Маниренжи водится дикий осел. Обнаружили якобы даже следы его копыт. Достоверно лишь то, что в 1936 году об этом животном счел нужным доложить в письменном рапорте сам администратор колонии Боллон.
Характерно, что многие натуралисты готовы допустить существование на Мадагаскаре диких ослов или лошадей, никогда не замеченных ни одним белым и останки которых никогда не были найдены. И те же натуралисты упорно отказываются допустить возможность существования на острове еще неизвестных нам больших лемуров. Между тем скрывающиеся в лесах пугливые, ведущие ночной образ жизни лемуры легче могли ускользнуть от исследователей, чем представители отряда однокопытных.
Недавняя климатическая революция, изменившая облик Мадагаскара, привела к угасанию не только эпиорнисов. Вымерли и другие большие птицы, например крупный казуар из района Анкаратра, затем — родич африканского шпорцевого гуся. Пробил смертный час и для многих иных крупных животных. Казалось бы, что фауна острова должна состоять в наши дни из маленьких и не очень больших животных.
Но так ли это? Ведь климатская революция произошла не внезапно. Да и случилась она так недавно, что остается, пусть и слабая, надежда обнаружить живыми некоторых представителей далекого прошлого Мадагаскара.
Так, например, на Мадагаскаре и на соседних с ним Маскаренских и Сейшелльских островах водилась гигантская черепаха (черепаха Грандидье), свыше метра длиной и больше тонны весом. Черепаха эта подолгу грелась на солнце, наполовину погрузившись в воду. Казалось, она должна была пасть жертвой засухи.
Однако, если верить Р.Декари, автору замечательного труда о животном мире Мадагаскара, черепаха Грандидье, возможно, еще и не совсем вымерла.
«В некоторых озерах пещер юго-западной части острова, — пишет этот ученый, — замечено какое-то таинственное животное. Возможно, что это большая черепаха. Не идет ли речь о последних представителях черепахи Грандидье?»
Помимо современного крокодила — крокодила мадагаскарского, близкого родича нильского крокодила, — на острове еще не так давно водились и другие крокодилы. То были гиганты, черепа которых достигали в длину 80 сантиметров. Ученые все еще не могут договориться: один или два вида крокодилов существует на Мадагаскаре. Не было бы ничего удивительного, если бы в один прекрасный день стало известно, что на острове продолжают здравствовать исполинские крокодилы, останки которых были обнаружены Альфредом Грандидье.
Благодаря особо благоприятным условиям ряд древнейших видов животных дожил на Мадагаскаре до наших дней. Большинство из них угасло почти на наших глазах. Эти животные навсегда утрачены для науки. А случилось это потому, что ученые-зоологи новейших времен оказались либо слишком недоверчивыми, либо недостаточно любопытными, чтобы внимательно изучить рассказы и предания островитян и попытаться отделить подлинные факты от вымысла. Сказать, «это все россказни», всего легче и проще. Но подлинный ученый не должен идти по такому пути. И, если остается хоть малейшая надежда обнаружить хотя бы одно дожившее до наших дней «доисторическое» животное, необходимо сделать все, чтобы его найти.
Глава четвертая ЕСТЬ ЛИ В АВСТРАЛИИ ТИГРЫ?
По правде говоря, Австралия — это какой-то мир шиворот-навыворот: в ней найдено многое, чего никто не искал, и, наоборот, там часто ищут то, чего нет. Животный мир Америки весьма отличен от фауны Старого Света, а потому нет ничего удивительного в том, что и в Австралии нашли из ряда вон выходящих животных. Все же обнаружение богатого мира сумчатых и парадоксальной группы птицеутробных превысило все ожидания натуралистов. Отметим кстати, что путешественники и колонисты всегда стремились открыть в Австралии более привычных животных, как бы для того, чтобы увериться в «нормальном» характере этой поразительной страны. Самая волнующая и вместе с тем любопытная история, относящаяся к открытию характерного для австралийской фауны животного, — это безусловно история сумчатого тигра. В самом деле, существование этого животного в настоящее время не подлежит сомнению, хотя официально это еще и не признано, потому что на первых порах открытие сопровождалось неправильно истолкованными слухами. В 1642 году капитан Абель Янсзоон Тасман заметил со своего корабля «Химскирк» землю, которую он принял за оконечность Новой Голландии (Австралии). Он не дал себе труда посетить этот остров, который впоследствии обессмертил его имя, получив название «Тасмания». Но он отправил на берег несколько человек во главе с первым штурманом Якобсзооном. Вернувшиеся на корабль моряки рассказали, что они заметили следы, которые напоминали отпечатки лап тигра. По всей вероятности, это были следы сумчатого волка Тасмании, у которого круп, ляжки, середина спины и хвост окрашены, как у тигра. Эта лжесобака имеет на передних лапах по пяти пальцев, чем отличается от собак и кошек. Но задние ноги снабжены только четырьмя пальцами. В противоположность собакам и кошкам, этот зверь опирается при ходьбе на всю ступню, а потому следы его несоразмерно велики. Поэтому-то их часто и принимали за следы тигра — самой крупной из кошек, водящихся по соседству, в Индо-Малайе. Между тем и пятьдесят лет спустя голландские путешественники все же продолжали утверждать, что в Австралии водятся тигры. Вряд ли речь снова шла о сумчатом волке: он по своей внешности слишком напоминает собаку, чтобы можно было так долго ошибаться. Правда, колонисты часто называют этого хищника «сумчатым тигром», и потому возможны сомнения. Однако заметим, что если в Австралии и находят ископаемых сумчатых волков, то теперь они водятся лишь в Тасмании. Возможно, что сегодня их нет уже и здесь: последние экспедиции не нашли этих зверей. На чем же тогда основаны все слухи о существовании в Австралии тигра, возникшие с появлением здесь первых колонистов? Слухи о существовании этого зверя приходят главным образом с восточного побережья, где раскинулись непроходимые горные леса Австралийских Кордильер и их продолжения — Австралийских Альп. Но наиболее упорные слухи связаны все же с районом Йоркского полуострова, где кончается названный горный хребет. Австралийский тигр в научной литературе Первое сообщение о существовании и Квинсленде какой-то неизвестной кошки опубликовано в 1871 году. Это было письмо, написанное известному английскому зоологу Скляттеру полицейским судьей Ж.Шериданом из Кардуэлла. Письмо датировано 2 августа того же года. Вот как судья описывает встречу своего тринадцатилетнего сына с австралийским тигром: «Он лежал в высокой траве и был размером с местную собаку динго. У него была круглая, как у кошки, морда. Длинный хвост и туловище животного были покрыты черными и желтыми полосами. Сопровождавшая сына собака кинулась к нему, но тигр ее отбросил. Мальчик выстрелил из револьвера, и у зверя показалась кровь. Тогда он быстро забрался на ближайшее дерево, а затем попытался броситься на сына. Тот испугался и убежал». После этого происшествия судья Шеридан навел справки и выяснил, что подобный зверь не впервые встречен в этом районе. Вот что он пишет: «Следы какого-то тигра были найдены около лагуны Дальримпля. Господин Реджинальд Ур, в настоящее время полицейский судья в Сент-Джордже, видел животное, схожее с описанным моим сыном». В 1900 году в Каире некий Мак-Гихан однажды наткнулся на «сумчатую тигровую кошку», окруженную собаками. Ярко выраженные темно-коричневые и белые кольца шириной около 7 сантиметров опоясывали ее туловище; голова напоминала морду померанской собаки; животное было длиной около 60 сантиметров. По всей вероятности, это был детеныш. В другом случае зверь был замечен известным натуралистом Джорджем Шарпом, собиравшим яйца редких птиц около истоков реки Тюлли. Как-то вечером, собираясь лечь спать, он услышал какой-то шорох. Шарп вышел из палатки и в сумерках заметил животное «размерами больше тасманийского тигра (сумчатого волка), более темного цвета, с бросающимися в глаза полосами». Увы! Зверь исчез прежде, чем натуралист успел схватить ружье. Некоторое время спустя другое подобное животное напало на коз одного фермера с плоскогорья Атертона и было убито. Узнав об этом, Шарп тотчас же отправился к месту происшествия и смог осмотреть шкуру. Ее длина — от кончика носа до кончика хвоста — была около полутора метров. К сожалению, под руками не оказалось никаких средств для ее сохранения, и шкура вскоре испортилась. В другой раз один такой «тигр» был изловлен неким Эндресом из Мундуббера (Квинсленд). По его словам, зверь был высотой 45 сантиметров и длиной как большая кошка. Плоская голова его почти вплотную прилегала к туловищу. «Тигр» был полосатый, но полосы не вполне охватывали туловище. И, наконец, замечает Эндрес, он был «очень диким, когда его поймали». Драматическое и точное свидетельство Заслуживает внимания свидетельство австралийского писателя Иона Идрисса, проведшего всю жизнь на диком северо-востоке и, в частности, в Коэне. Как можно заключить из приведенной выдержки, он говорит о загадочном «тигре» как о звере, весьма обычном в этих местах. «Здесь, на Йоркском полуострове, у нас водится тигровая кошка размерами со средней величины собаку. Ее стройное и лоснящееся тело покрыто черными и серыми полосами, лапы снабжены острыми когтями, уши заостренные, узкие, голова имеет форму тигровой. Я познакомился с этой красавицей, услышав однажды ворчание, донесшееся до меня из высокой травы, окаймлявшей болото. Внимательно всмотревшись в это место, я заметил прижавшегося к дереву взрослого кенгуру. Одна из лап его была ободрана и кость обнажена. Какая-то черно-серая масса, извиваясь, метнулась к животному, и кенгуру упал с распоротым брюхом. Удивленный, я сделал неосторожный жест и зашуршал травой. Тотчас же кошка приостановила начатый было пир, замерла на своей добыче и несколько мгновений сверлила меня злобным взглядом. Затем сморщила морду, обнажила белые клыки и заворчала. Я попятился и поспешил выбраться из травы…» Иону Идриссу довелось и еще раз встретиться с такой кошкой. «Следующая кошка, встреченная мной, была мертвой, — рассказывает писатель. — Рядом с ней лежал труп моей собаки, которую я так любил. Собака эта с ранних лет была выдрессирована для охоты. Ее сила и храбрость были известны всем золотоискателям этого района».
Это произошло недалеко от реки Алисы.
Из более поздних свидетельств следует отметить рассказ двух очевидцев, ехавших верхом из Мунна-Крика в маленький город Тиаро. Внезапно лошади их шарахнулись в сторону.
«Мы соскочили с лошадей, — рассказывают П.Б.Скугалл и Ж. де Турнёр в письме, направленном в газету «Брисбен курьер», — и с удивлением заметили большого зверя из породы кошачьих, который метрах в двадцати от нас терзал труп теленка. Кошка вся собралась, как для прыжка, метала в нас недружелюбные взгляды и издавала звуки, которые можно всего лучше определить как мяукающее ворчание. Насколько позволял разглядеть проливной дождь, зверь был грязно-рыжего цвета, полосатый, как тигр, и ростом с дога. У него была круглая голова, характерные уши рыси, длинный, стелющийся по земле хвост и толстые подушечки на стопах. Мы бросили в него несколько камней, что лишь заставило его еще больше сжаться. Кошка прижала уши и рычала, совсем как рычат ночью африканские леопарды, издавая звуки наподобие скрежета пилы. Зверь бил хвостом по земле и казался таким разъяренным, что мы испугались. Но когда мы сделали вид, что хотим напасть на него и принялись щелкать кнутами, то кошка прыгнула и удрала в сторону заливчика, где остановилась и снова заворчала».
В заключение добавим, что большая тигровая кошка хорошо известна неграм Квинсленда.
Сумчатый тигр наконец признан
Неудивительно, что при наличии такого количества схожих свидетельств известный зоолог Ж.Труфтон, заведующий отделом млекопитающих Австралийского естественно-научного музея, высказал положительное мнение о существовании загадочной кошки:
«Несмотря на некоторые расхождения по поводу размеров животного и распределения полос, не вызывает сомнения, что большая тигровая кошка водится в непроходимых лесах Северного Квинсленда».
Хотя ни в одном музее нет ни ее скелета, ни шкуры, «сумчатая тигровая кошка» Северного Квинсленда включена на основании наблюдений над природой этого района в классический труд об австралийско-азиат — ской фауне, принадлежащий перу двух зоологов с мировой известностью. Зоологи эти, А.С. Лё Суеф и X.Бюрелл, весьма тонко доказывают принадлежность тигровой кошки к сумчатым:
«Хотя ничто прямо и не указывает на отряд, к которому принадлежит данное животное, все же мы полагаем, что это сумчатое, потому что оно, видимо, не в состоянии конкурировать с динго и водится лишь в районах, куда эта дикая собака не может проникнуть».
Действительно, между сумчатыми (двуутробными) и одноутробными, ведущими схожий образ жизни, происходит ожесточенная борьба, из которой победителями всегда выходят последние: они более высокоорганизованные животные. Так, например, собака динго — это случайно оказавшееся в Австралии одноутробное млекопитающее — заставила исчезнуть повсюду, где она обосновалась, крупных сумчатых хищников, в частности и сумчатого волка.
В то же время зоологи подметили на примере Южной Америки, что сумчатые могут продолжать существовать и между одноутробных там, где среди последних не существует однородных с ними жизненных типов. Другими словами, они как бы заполняют свободные места, оставленные более высокоорганизованными животными, ибо, как замечает профессор Оуэн, «равновесие фауны требует, чтобы в ее составе находились и хищники, и насекомоядные, и растениеядные и т. д.». Необходимо, чтобы все «пробелы» были заполнены.
В заключение приведем описание сумчатой тигровой кошки с Йоркского полуострова, взятое из книги Лё Суефа и Бюрелла:
«Короткий, скорее жесткий мех; общая окраска рыжая или серая, с широкими черными полосами на боках, не смыкающимися на спине; голова наподобие кошачьей, но с более выдающимся носом; острые стоячие уши; хвост пушистый и имеет тенденцию заканчиваться кисточкой; толстые ноги, длинные острые когти; общая длина около 1 метра 50 сантиметров, высота у плеч 45 сантиметров».
Для большей наглядности добавим, что размеры эти почти соответствуют размерам гепарда, только более коротконогого.
До сих пор существование кошкообразного сумчатого установлено, как кажется, лишь в северной части Квинсленда. Район распространения его, видимо, находится на скалистых вершинах гор, обычно покрытых густым лесом, где водятся также и лазающие кенгуру.
Лё Суеф и Бюрелл добавляют:
«Нам описали также хищное полосатое животное, водящееся на северо-западе Австралии. А лорд Ротшильд, основываясь на свидетельствах туземцев, уверяет, что подобное животное существует и на Новой Гвинее».
Лё Суеф и Бюрелл весьма просто и остроумно объясняют, почему подобные животные — в данном случае тигровая кошка мыса Йорк — так плохо известны науке:
«Животное это мало распространено или, точнее, водится в районе, куда человек проникает еще очень редко. А когда он отваживается проникнуть туда, то, расчищая себе путь в лесу, так шумит, что всякое осторожное животное немедленно скроется».
История ископаемого мого и живого такахе
Тот факт, что в Новой Зеландии могут в наши дни существовать большие животные, еще неизвестные науке, подтверждается историей такахе, историей, богатой всякими неожиданностями.
С давних пор маори Северного острова рассказывали о жившей здесь когда-то птице, употреблявшейся ими в пищу. Она была полностью уничтожена охотниками. Они называли ее «мого». Если эта птица ростом с гуся и не летала, то все же обладала крыльями, а перья ее выглядели, как настоящие перья.
Но, в то время как останки моа встречались весьма часто, ученые не обнаружили никаких останков мого. Поэтому начали сомневаться, что такая ничем не примечательная птица в самом деле когда-либо существовала, и отнесли рассказы о ней к числу маорийских мифов.
Однако в 1847 году Вальтер Мантелль приобрел около Уайнгоргоро, на Северном острове, череп и несколько костей, которые, казалось, принадлежали очень большому пастушку.
Во всяком случае, эта птица обладала килем и не могла, следовательно, принадлежать к группе моа или киви. Вальтер Мантелль отправил кости в Лондон, своему отцу, известному геологу, сообщая ему, что найденные останки принадлежат, по-видимому, птице, которую маори Северного острова называют «мого» и которая известна также и на Южном острове под названием «такахе». Профессор Оуэн, с которым посоветовался Мантелль, подтвердил правдоподобность рассказов маори и назвал исчезнувшего большого пастушка «пастушок Мантелля».
Не будь у новозеландских колонистов привычки ходить всегда в сопровождении собак, возможно, что дело на этом и закончилось бы: ведь люди не обладают нюхом своих верных спутников — собак.
В 1849 году охотники на тюленей устроили лагерь на острове Резолюшен, одном из главных островков, образовавшихся на юго-западе Южного острова, где берега изрезаны многочисленными фиордами. Увлеченные собаками по следам, оставленным на снегу какой-то большой птицей, охотники вдруг увидели ее кричащей и бьющейся в пасти одного из псов.
Это была птица с замечательной темно-синей и фиолетовой раскраской перьев головы и шеи. Спина и часть крыльев у нее были оливково-зеленого цвета, с ярко-зелеными пятнами; перья на конце крыльев и хвоста — металлически синие; грудь и бока ее были сине-фиолетовые, а под хвостом светилось большое белое пятно. У птицы был короткий, толстый клюв и сильные ноги красного цвета.
Разумеется, охотники отправили птицу в кастрюлю. Но все же они содрали с нее шкуру, чтобы продать чучело. Благодаря удивительному стечению обстоятельств чучело было куплено Вальтером Мантеллем, который смог теперь сообщить в Лондон, что исчезнувшая на Северном острове птица еще водится на Южном острове, где называется «такахе».
В 1850 году второй экземпляр такахе был пойман одним маори на Секретарском острове, недалеко от острова Резолюшен. Чучело птицы было опять куплено Мантеллем и доставлено в Британский музей.
Смерть, воскрешение и снова смерть такахе
После описанных событий такахе оставался неуловимым на протяжении тридцати лет.
В 1858 году, когда Хохштеттер побывал на Новой Зеландии, он упорно старался добыть такахе, но вернулся в Европу ни с чем. В своем дневнике он отмечает:
«Никогда больше, после экземпляра, пойманного в 1850 году в Дюски-Бей (Сус-Айленд), не было обнаружено и следа пастушка Мантелля.»
Другие исследователи не оказались счастливее, хотя один маори из района фиордов и уверял, что птица вовсе не так редка на берегах озера Те-Анау. В 1861–1862 годах некий доктор Гектор нашел следы такахе около Томпсон-Сунда и центрального участка озера Те-Анау. В 1866 году ботаник, по фамилии Жибсон, заметил даже одну птицу среди высоких болотных трав около Мотюпипи. В том же году охотники уверяли сэра Джорджа Грея, что такахе водится в изобилии. Однако найти его никому не удавалось. Отчаявшиеся европейские ученые объявили, что этот род пастушков угас и что по несчастной случайности, вероятно, были убиты последние такахе.
Если бы не новое вмешательство собак, против названия загадочного пастушка в зоологических сводках появился бы маленький крестик (так отмечают вымерших животных). К счастью, милые песики бодрствовали. Один из них, сопровождавший охотника на кроликов в провинции Отаго (снова около фиордов Южного острова!), гордо принес своему хозяину еще трепещущего такахе. Тот подвесил птицу в своей палатке с намерением съесть ее. К счастью, эта редкостная дичь была замечена проходившим мимо начальником опытной станции Конором. Он узнал в ней такахе и тщательно препарировал шкуру и скелет «наиредчайшей птицы». Отправленные в Лондон скелет и шкурка были проданы с торгов и куплены представителем… Дрезденского музея, заплатившим лишних пять фунтов стерлингов, к вящему огорчению администраторов Британского музея, давших разрешение своему представителю ценить птицу не дороже ста фунтов.
Тщательное изучение в Дрездене первого полного скелета такахе показало, что он значительно отличается от скелета мого с Северного острова. Поэтому был установлен особый вид — пастушок Хохштеттера — для птицы, водящейся на Южном острове.
Конор добыл пастушка — нашел его в палатке охотника — в 1879 году. В течение последующих двадцати лет неуловимый такахе продолжал играть в прятки со своими преследователями. Все, что удалось добыть, — это неполный скелет в 1884 году и два полных скелета в 1892 году.
В обоих случаях находки были сделаны в окрестностях озера Те-Анау. Все знали, на каком участке сосредоточить поиски, но наилучшим образом организованные облавы не давали никаких результатов. Оправданием неудач может служить то, что район, в котором водится такахе, не только болотист, но и покрыт густой растительностью. В таких местах легко укрыться птице, и они мало доступны для человека.
И снова наука обязана собаке поимкой нового экземпляра птицы. Сразу же опознанная хозяином пса Россом, она была сохранена, включая и внутренности. Этот единственный по тому времени полный экземпляр был продан за чудовищную цену в 250 фунтов стерлингов новозеландскому правительству, которое передало его Дёнединскому музею.
Прошло полвека, а такахе не показал больше и кончика клюва. На сей раз все ученые решили, что пойманный Россом экземпляр — последний.
Правда, еще носились смутные слухи о следах, обнаруженных на снегу. Из рассказов стариков маори можно было заключить, что птица еще водится в горах, лишь изредка спускаясь к озерам. Но большинство зоологов упорно затыкали уши, когда о таких слухах заходила речь. Ведь каждый раз, когда такахе в течение десятилетия удавалось укрыться от охотящихся за ним людей и собак, сразу же решали, что этой птицы уже нет, и ее, ничтоже сумнящеся, вычеркивали из списков современной фауны.
И все-таки такахе жив
В 1947 году, ровно сто лет спустя после того, как Вальтер Мантелль доказал существование (во всяком случае, в прошлом) своего пастушка и когда всякая надежда обнаружить его живым казалась утерянной, доктор Джофрей Орбелл, врач из Инверкергела, натуралист-любитель, решил сделать последнюю попытку.
С несколькими спутниками он проник с густые леса западного побережья озера Те-Анау. Поднявшись в горы на высоту 900 метров, он был поражен: здесь оказалось озеро. Разведчики, правда, сообщали ему об этом озере, но оно не было помечено ни на одной карте. Это показалось доктору хорошей приметой: в стране, где еще можно открыть целое озеро, почему бы не обнаружить вдруг и нечто менее заметное, например нелетающую птицу?
Все же экспедиция оказалась неудачной. Слышали, правда, крики каких-то незнакомых птиц, видели на грязи чьи-то следы. Но такахе как в воду канул.
Ничуть не обескураженный, доктор Орбелл вернулся в ту же местность в ноябре 1948 года. Теперь он притащил с собой не только фотоаппараты, но и киносъемочную камеру. Это был неисправимый оптимист!
Кто ищет, тот находит. Все удается тому, кто умеет ждать. Так говорят пословицы.
Сразу два такахе попались в силки. Им надели на ноги кольца, сфотографировали во всех видах и отпустили на все четыре стороны.
Кахоу — «лазарь» птичьего царства
Год спустя, во время своей третьей экспедиции, доктор Орбелл сумел узнать некоторые повадки редких птиц. Оказалось, что они вегетарианцы, гнезда строят на земле и, по всей видимости, выводят каждый год лишь одного, совершенно черного птенца. Орбеллу удалось наблюдать около дюжины взрослых пастушков. Население двух птичьих гнездовий, находящихся в близлежащих долинах, составляло около сотни птиц.
«Если бы не собаки, — пишет доктор Орбелл, — то можно поручиться, что мы до сих пор оставались бы в неведении о такахе, прячущихся в густой растительности».
Над этими словами следовало бы призадуматься не одному натуралисту. Напомним зоологам-маловерам о совсем недавнем воскрешении кахоу.
До последних лет ученые с поразительным единодушием полагали, что бермудский буревестник кахоу исчез между 1609 и 1621 годами: был истреблен колонистами. В хрониках того времени сообщается, что некоторые поселенцы, отправленные на остров Купера, у западной оконечности Бермудских островов, так объедались кахоу, что умерли от расстройства желудка. Что же касается самих кахоу, то они тоже не пережили тех времен по причине ясной, если вспомнить о голоде, свирепствовавшем тогда на Бермудах…
Между тем в 1951 году несколько американских натуралистов во главе с доктором Робертом Кюшам Мёрфи, заведующим отделом птиц Американского естественно-научного музея, с удивлением обнаружили явно обитаемые гнезда кахоу в скалах маленьких островов, расположенных на широте Кесл-Харбор.
Пять птиц были пойманы, вернее «выужены», с помощью бамбука и лески с затягивающейся петлей на конце. Их, конечно, отпустили, предварительно исследовав и надев им кольца. В скалах нашли семнадцать гнезд, доказывающих, что в настоящее время численность кахоу не ограничивается несколькими пойманными экземплярами.
Итак, вот уже три века, как бермудского буревестника занесли в списки исчезнувших. Между тем он продолжает здравствовать. Заметим, что речь идет о летающей птице, которой значительно труднее ускользнуть от наблюдения, нежели даже самой большой из бескрылых птиц.
Ограниченные возможности палеонтологии
Почему, собственно, многих ученых коробит от одной мысли о существовании динозавра, летающих рептилий или обезьяночеловека? Потому что, говорят они, эти группы уже давно полностью исчезли. Утверждая это, они основываются лишь на том факте, что вне весьма древних геологических слоев таких ископаемых никогда не находили.
Рассуждать так — значит придавать слишком большое значение фактору сохранности остатков животного мира в связанном, окаменелом, минерализованном виде. Нельзя забывать, что благоприятные условия для сохранения трупов животных в связанном виде — вне достигаемости разрушительных сил (вода, воздух, разные падальщики) — создаются лишь в исключительных случаях: падение тела в соленое озеро или в замерзающее и потом не оттаявшее болото; засасывание в торф, асфальтовую или смолистую лужу; внезапный горный обвал, песчаная буря, вулканическая лава…
С точки зрения теории случайности, наибольшие шансы для «консервации» имеют виды, наименее способные уберечься от опасности, наименее сметливые и ловкие. Может быть, в этом кроется причина, по которой мы так бедны данными об обезьянах и древних людях. Отсутствие некоторых видов в данном геологическом слое может означать также, что вид этот был мало распространен в ту эпоху.
Если мы не очень хорошо осведомлены о современной фауне Земли (что ежегодно доказывается открытием новых видов с весьма ограниченным распространением в труднодоступных зонах земного шара), то тем меньше можем мы знать о малораспространенных видах доисторических животных.
Чтобы яснее стало, что я называю распространенным или малораспространенным видом, скажу, что из современных видов распространенными можно считать человека и его домашних животных, многих грызунов, летучих мышей, целый ряд птиц и огромное количество насекомых и моллюсков. Всех других животных — в общем, большинство млекопитающих — можно рассматривать как редкие, угасающие виды.
Прав известный биолог профессор Коллерп, утверждая, что даже из сохранившихся в связанном виде организмов к нам доходят далеко не все. Многие разрушаются с течением времени вследствие различных причин: геологических сдвигов, оседания и эрозии почв, растворения. До нашего времени дошло весьма немного. Ведь большая часть осадочных пород в настоящее время покрыта водой морей и океанов и пока совершенно недоступна для нас. В выступающих на материках осадочных породах мы обычно можем исследовать лишь выходы их, то есть весьма незначительную часть. Как справедливо утверждает профессор Леон Бертен, «отсутствие определенного палеонтологического факта, в сущности, ничего не доказывает».
Вспомним, сколько имеется групп, которые, казалось, должны были существовать в известные эпохи и от которых не обнаружено в соответствующих геологических слоях никаких останков!
Выловленная 22 декабря 1938 года рыбаком Госсеном на широте Южной Африки латимерия служит тому ярким подтверждением. Кистеперые, к которым относится эта большая рыба с лопастными плавниками, восходящая к эпохе появления большинства земных позвоночных, казалось, полностью угасли в начале первичной эры, около 200 миллионов лет назад. Правда, останки некоторых членов семейства кистеперых рыб находили как величайшую редкость в слоях юрского периода и конца вторичной эры. Но затем, в слоях, относящихся к последующим 65 миллионам лет, уже не находили и следа их.
Живая туатера тоже не появилась из небытия. Между тем в геологических слоях давностью до 135 миллионов лет никогда не обнаруживали следов пресмыкающихся первоящеров. Что лучше этих примеров может подчеркнуть всю неполноту наших знаний!
Нежелание многих зоологов признать возможность существования некоторых ископаемых в наше время — скорее результат застарелой традиции, чем научной осторожности. В основе этого лежат старые, наивные, давно наукой отброшенные представления.
В прошлом, когда ученые убедились, что ископаемые не были попросту «игрой природы», но действительно являлись останками исчезнувших животных, они попытались увязать это открытие со священным писанием. Они отнесли исчезновение древних фаун за счет мировых катастроф, последней из которых и был библейский «великий потоп».
Что бы ни говорили, но создание Кювье — ученым, проникнутым буржуазным и догматическим духом, — теории мировых катастроф явилось следствием невозможности для него признать эволюцию, противоречащую религиозным догмам. За «периодическими катастрофами», которые он придумал, должно было каждый раз следовать «божественное созидание» новых форм. К этому выводу и пришел его последователь, Альсид д’Орбиньи. который определил даже количество — двадцать семь этих последовательных созиданий, якобы объясняющих различие между всеми известными ископаемыми.
Не так-то легко отделаться от подчас насильно привитых научных теорий. Даже с победой эволюционной теории вначале, чтобы не слишком резко разрушать старые догматы, ее весьма наивно толковали. Идее прерывистой сменяемости форм животного мира, естественно, противопоставили эволюционное, последовательное развитие одной фауны из другой, из чего заключили: любая древнейшая форма должна рассматриваться как прямой предок более поздних, родственных ей форм. Такой вульгарный принцип заставил, например, считать современных ящериц прямыми потомками динозавров вторичной эры! Полагали, что животное — представитель определенной эпохи — разумеется, не может быть обнаружено в последующей эпохе, так как оно претерпевало постоянные изменения. Это и явилось причиной нового необоснованного отрицания возможностей существования по сей день древнейших форм.
Фауны могут сосуществовать
В настоящее время в науке постепенно утвердилось понятие «живое ископаемое». Ученые уже отдают себе отчет, что эволюция происходит не строго поэтажно, а путем «ветвления». Короче говоря, развитие новых форм всегда происходит параллельно с существованием старых форм, но с некоторым запозданием. В полном генеалогическом древе животных различные группы связаны лишь общим стволом. Животные миры не сменяют последовательно друг друга, а сосуществуют. Более древние формации уничтожаются в борьбе с новыми или постепенно отмирают, не приспособившись к каким-то изменившимся условиям природы, среды. Ныне обнаруженные «живые ископаемые» — это существа, избежавшие гибели либо потому, что им не нашлось равных противников, либо чаще всего потому, что никто не оспаривал их жизненного пространства или лишь начинает его оспаривать.
О существовании неизвестного животного впервые узнают из рассказов путешественников, моряков, купцов. Сами они обычно узнают об этом от местных жителей. Случаи, когда существование более или менее крупного животного прошло бы совершенно незамеченным для жителей того района, в котором оно водится, явление небывалое Правда, местные описания животного под час весьма приблизительны, противоречивы и страдают обычно преувеличением некоторых его черт. Иногда животному приписывают даже сверхъестественные качества. Тем не менее совпадение одних и тех же деталей в рассказах различных туземцев, принадлежащих часто к весьма отдаленным друг от друга племенам, рано или поздно пробуждает к себе внимание пытливых натуралистов. Часто за этим следуют подтверждения, исходящие уже от «цивилизованных» охотников.
Однако скептиков может убедить лишь факт доставки самого животного в живом или мертвом виде.
Такой обычный ход открытия неизвестного животного имеет лишь один вариант: в некоторых случаях описанное туземцами животное уже давно было занесено учеными в разряд «ископаемых» и скелет его, а иногда даже и мумифицированные останки животного наличествуют в палеонтологических коллекциях музеев, говорящих о далеком прошлом Земли.
Не следует забывать, что понятие «живое ископаемое» чрезвычайно относительно. Урок, который все же нам дает существование по сей день этих воплощенных противоречий, таков: нет ни одного животного организма, как «примитивен» бы он ни был, который не мог бы сохраниться до нашего времени. И действительно, нами обнаружены запоздалые представители большинства процветающих когда-то групп животного мира.
Лось, олени, чекушка, мускусные овцебыки, дикая лошадь Пржевальского, полярная лиса, пеструшка (лемминг), росомаха водились в Западной Европе наряду с мамонтами во время последнего ледникового периода. Но ведь они-то не погибли, не исчезли с лица земли, а нашли на севере Сибири и в Аляске соответствующие их потребностям условия жизни.
Почему того же не произошло с мамонтами?
Многие ученые считают поэтому, что мамонты могли вполне сохраниться в Сибири до недавнего еще времени. Разве совершенно исключается, что они еще водятся где-нибудь на просторах Якутии, где так упорно циркулируют слухи об их существовании и в наши дни? Многие жители Сибири утверждают, что видели живых мамонтов, находили их свежие следы или оставленный ими навоз.
Безусловно, на нашей планете существует немало новых, еще неизвестных науке животных, и, чтобы открыть их, нужно прежде всего внимательно прислушиваться к рассказам местных аборигенов, сопоставляя общие для самых различных рассказов черты. Именно так ведутся поиски «снежного человека».
Возможно, некоторые читатели выразят удивление по поводу доверия, с которым я обычно отношусь к рассказам тех, кого иные продолжают снисходительно называть «примитивными людьми». В самом деле, западные ученые и журналисты весьма критически и строго оценивают сравнения, аллегории этих «примитивных людей». Когда австралийский туземец рассказывает им о «дьявольском черве, изрыгающем огонь», на которого «посмотреть — это умереть», они только пожимают плечами и не хотят больше об этом и слушать. Но почему им не приходит в голову, что эти австралийцы знают попросту о существовании червеобразного (или змееобразного, что равносильно) животного, раздвоенный язык которого напоминает язык пламени, и что этого пресмыкающегося лучше избегать, так как укус его смертелен…
Что касается меня, то я полностью присоединяюсь к мнению, высказанному известным американским натуралистом-путешественником А.Хиатт-Вериллом.
«Долголетний опыт, приобретенный мной среди примитивных племен, — пишет этот ученый, — убеждает в том, что в основе даже самых причудливых и неправдоподобных преданий и традиций народного фольклора, относящегося к животным, всегда кроется действительный факт, потому что примитивный человек не способен выдумывать и создавать из ничего истории о таких чудовищах».
«Следующая кошка, встреченная мной, была мертвой, — рассказывает писатель. — Рядом с ней лежал труп моей собаки, которую я так любил. Собака эта с ранних лет была выдрессирована для охоты. Ее сила и храбрость были известны всем золотоискателям этого района».
Это произошло недалеко от реки Алисы.
Из более поздних свидетельств следует отметить рассказ двух очевидцев, ехавших верхом из Мунна-Крика в маленький город Тиаро. Внезапно лошади их шарахнулись в сторону.
«Мы соскочили с лошадей, — рассказывают П.Б.Скугалл и Ж. де Турнёр в письме, направленном в газету «Брисбен курьер», — и с удивлением заметили большого зверя из породы кошачьих, который метрах в двадцати от нас терзал труп теленка. Кошка вся собралась, как для прыжка, метала в нас недружелюбные взгляды и издавала звуки, которые можно всего лучше определить как мяукающее ворчание. Насколько позволял разглядеть проливной дождь, зверь был грязно-рыжего цвета, полосатый, как тигр, и ростом с дога. У него была круглая голова, характерные уши рыси, длинный, стелющийся по земле хвост и толстые подушечки на стопах. Мы бросили в него несколько камней, что лишь заставило его еще больше сжаться. Кошка прижала уши и рычала, совсем как рычат ночью африканские леопарды, издавая звуки наподобие скрежета пилы. Зверь бил хвостом по земле и казался таким разъяренным, что мы испугались. Но когда мы сделали вид, что хотим напасть на него и принялись щелкать кнутами, то кошка прыгнула и удрала в сторону заливчика, где остановилась и снова заворчала».
В заключение добавим, что большая тигровая кошка хорошо известна неграм Квинсленда.
Сумчатый тигр наконец признан
Неудивительно, что при наличии такого количества схожих свидетельств известный зоолог Ж.Труфтон, заведующий отделом млекопитающих Австралийского естественно-научного музея, высказал положительное мнение о существовании загадочной кошки:
«Несмотря на некоторые расхождения по поводу размеров животного и распределения полос, не вызывает сомнения, что большая тигровая кошка водится в непроходимых лесах Северного Квинсленда».
Хотя ни в одном музее нет ни ее скелета, ни шкуры, «сумчатая тигровая кошка» Северного Квинсленда включена на основании наблюдений над природой этого района в классический труд об австралийско-азиат — ской фауне, принадлежащий перу двух зоологов с мировой известностью. Зоологи эти, А.С. Лё Суеф и X.Бюрелл, весьма тонко доказывают принадлежность тигровой кошки к сумчатым:
«Хотя ничто прямо и не указывает на отряд, к которому принадлежит данное животное, все же мы полагаем, что это сумчатое, потому что оно, видимо, не в состоянии конкурировать с динго и водится лишь в районах, куда эта дикая собака не может проникнуть».
Действительно, между сумчатыми (двуутробными) и одноутробными, ведущими схожий образ жизни, происходит ожесточенная борьба, из которой победителями всегда выходят последние: они более высокоорганизованные животные. Так, например, собака динго — это случайно оказавшееся в Австралии одноутробное млекопитающее — заставила исчезнуть повсюду, где она обосновалась, крупных сумчатых хищников, в частности и сумчатого волка.
В то же время зоологи подметили на примере Южной Америки, что сумчатые могут продолжать существовать и между одноутробных там, где среди последних не существует однородных с ними жизненных типов. Другими словами, они как бы заполняют свободные места, оставленные более высокоорганизованными животными, ибо, как замечает профессор Оуэн, «равновесие фауны требует, чтобы в ее составе находились и хищники, и насекомоядные, и растениеядные и т. д.». Необходимо, чтобы все «пробелы» были заполнены.
В заключение приведем описание сумчатой тигровой кошки с Йоркского полуострова, взятое из книги Лё Суефа и Бюрелла:
«Короткий, скорее жесткий мех; общая окраска рыжая или серая, с широкими черными полосами на боках, не смыкающимися на спине; голова наподобие кошачьей, но с более выдающимся носом; острые стоячие уши; хвост пушистый и имеет тенденцию заканчиваться кисточкой; толстые ноги, длинные острые когти; общая длина около 1 метра 50 сантиметров, высота у плеч 45 сантиметров».
Для большей наглядности добавим, что размеры эти почти соответствуют размерам гепарда, только более коротконогого.
До сих пор существование кошкообразного сумчатого установлено, как кажется, лишь в северной части Квинсленда. Район распространения его, видимо, находится на скалистых вершинах гор, обычно покрытых густым лесом, где водятся также и лазающие кенгуру.
Лё Суеф и Бюрелл добавляют:
«Нам описали также хищное полосатое животное, водящееся на северо-западе Австралии. А лорд Ротшильд, основываясь на свидетельствах туземцев, уверяет, что подобное животное существует и на Новой Гвинее».
Лё Суеф и Бюрелл весьма просто и остроумно объясняют, почему подобные животные — в данном случае тигровая кошка мыса Йорк — так плохо известны науке:
«Животное это мало распространено или, точнее, водится в районе, куда человек проникает еще очень редко. А когда он отваживается проникнуть туда, то, расчищая себе путь в лесу, так шумит, что всякое осторожное животное немедленно скроется».
История ископаемого мого и живого такахе
Тот факт, что в Новой Зеландии могут в наши дни существовать большие животные, еще неизвестные науке, подтверждается историей такахе, историей, богатой всякими неожиданностями.
С давних пор маори Северного острова рассказывали о жившей здесь когда-то птице, употреблявшейся ими в пищу. Она была полностью уничтожена охотниками. Они называли ее «мого». Если эта птица ростом с гуся и не летала, то все же обладала крыльями, а перья ее выглядели, как настоящие перья.
Но, в то время как останки моа встречались весьма часто, ученые не обнаружили никаких останков мого. Поэтому начали сомневаться, что такая ничем не примечательная птица в самом деле когда-либо существовала, и отнесли рассказы о ней к числу маорийских мифов.
Однако в 1847 году Вальтер Мантелль приобрел около Уайнгоргоро, на Северном острове, череп и несколько костей, которые, казалось, принадлежали очень большому пастушку.
Во всяком случае, эта птица обладала килем и не могла, следовательно, принадлежать к группе моа или киви. Вальтер Мантелль отправил кости в Лондон, своему отцу, известному геологу, сообщая ему, что найденные останки принадлежат, по-видимому, птице, которую маори Северного острова называют «мого» и которая известна также и на Южном острове под названием «такахе». Профессор Оуэн, с которым посоветовался Мантелль, подтвердил правдоподобность рассказов маори и назвал исчезнувшего большого пастушка «пастушок Мантелля».
Не будь у новозеландских колонистов привычки ходить всегда в сопровождении собак, возможно, что дело на этом и закончилось бы: ведь люди не обладают нюхом своих верных спутников — собак.
В 1849 году охотники на тюленей устроили лагерь на острове Резолюшен, одном из главных островков, образовавшихся на юго-западе Южного острова, где берега изрезаны многочисленными фиордами. Увлеченные собаками по следам, оставленным на снегу какой-то большой птицей, охотники вдруг увидели ее кричащей и бьющейся в пасти одного из псов.
Это была птица с замечательной темно-синей и фиолетовой раскраской перьев головы и шеи. Спина и часть крыльев у нее были оливково-зеленого цвета, с ярко-зелеными пятнами; перья на конце крыльев и хвоста — металлически синие; грудь и бока ее были сине-фиолетовые, а под хвостом светилось большое белое пятно. У птицы был короткий, толстый клюв и сильные ноги красного цвета.
Разумеется, охотники отправили птицу в кастрюлю. Но все же они содрали с нее шкуру, чтобы продать чучело. Благодаря удивительному стечению обстоятельств чучело было куплено Вальтером Мантеллем, который смог теперь сообщить в Лондон, что исчезнувшая на Северном острове птица еще водится на Южном острове, где называется «такахе».
В 1850 году второй экземпляр такахе был пойман одним маори на Секретарском острове, недалеко от острова Резолюшен. Чучело птицы было опять куплено Мантеллем и доставлено в Британский музей.
Смерть, воскрешение и снова смерть такахе
После описанных событий такахе оставался неуловимым на протяжении тридцати лет.
В 1858 году, когда Хохштеттер побывал на Новой Зеландии, он упорно старался добыть такахе, но вернулся в Европу ни с чем. В своем дневнике он отмечает:
«Никогда больше, после экземпляра, пойманного в 1850 году в Дюски-Бей (Сус-Айленд), не было обнаружено и следа пастушка Мантелля.»
Другие исследователи не оказались счастливее, хотя один маори из района фиордов и уверял, что птица вовсе не так редка на берегах озера Те-Анау. В 1861–1862 годах некий доктор Гектор нашел следы такахе около Томпсон-Сунда и центрального участка озера Те-Анау. В 1866 году ботаник, по фамилии Жибсон, заметил даже одну птицу среди высоких болотных трав около Мотюпипи. В том же году охотники уверяли сэра Джорджа Грея, что такахе водится в изобилии. Однако найти его никому не удавалось. Отчаявшиеся европейские ученые объявили, что этот род пастушков угас и что по несчастной случайности, вероятно, были убиты последние такахе.
Если бы не новое вмешательство собак, против названия загадочного пастушка в зоологических сводках появился бы маленький крестик (так отмечают вымерших животных). К счастью, милые песики бодрствовали. Один из них, сопровождавший охотника на кроликов в провинции Отаго (снова около фиордов Южного острова!), гордо принес своему хозяину еще трепещущего такахе. Тот подвесил птицу в своей палатке с намерением съесть ее. К счастью, эта редкостная дичь была замечена проходившим мимо начальником опытной станции Конором. Он узнал в ней такахе и тщательно препарировал шкуру и скелет «наиредчайшей птицы». Отправленные в Лондон скелет и шкурка были проданы с торгов и куплены представителем… Дрезденского музея, заплатившим лишних пять фунтов стерлингов, к вящему огорчению администраторов Британского музея, давших разрешение своему представителю ценить птицу не дороже ста фунтов.
Тщательное изучение в Дрездене первого полного скелета такахе показало, что он значительно отличается от скелета мого с Северного острова. Поэтому был установлен особый вид — пастушок Хохштеттера — для птицы, водящейся на Южном острове.
Конор добыл пастушка — нашел его в палатке охотника — в 1879 году. В течение последующих двадцати лет неуловимый такахе продолжал играть в прятки со своими преследователями. Все, что удалось добыть, — это неполный скелет в 1884 году и два полных скелета в 1892 году.
В обоих случаях находки были сделаны в окрестностях озера Те-Анау. Все знали, на каком участке сосредоточить поиски, но наилучшим образом организованные облавы не давали никаких результатов. Оправданием неудач может служить то, что район, в котором водится такахе, не только болотист, но и покрыт густой растительностью. В таких местах легко укрыться птице, и они мало доступны для человека.
И снова наука обязана собаке поимкой нового экземпляра птицы. Сразу же опознанная хозяином пса Россом, она была сохранена, включая и внутренности. Этот единственный по тому времени полный экземпляр был продан за чудовищную цену в 250 фунтов стерлингов новозеландскому правительству, которое передало его Дёнединскому музею.
Прошло полвека, а такахе не показал больше и кончика клюва. На сей раз все ученые решили, что пойманный Россом экземпляр — последний.
Правда, еще носились смутные слухи о следах, обнаруженных на снегу. Из рассказов стариков маори можно было заключить, что птица еще водится в горах, лишь изредка спускаясь к озерам. Но большинство зоологов упорно затыкали уши, когда о таких слухах заходила речь. Ведь каждый раз, когда такахе в течение десятилетия удавалось укрыться от охотящихся за ним людей и собак, сразу же решали, что этой птицы уже нет, и ее, ничтоже сумнящеся, вычеркивали из списков современной фауны.
И все-таки такахе жив
В 1947 году, ровно сто лет спустя после того, как Вальтер Мантелль доказал существование (во всяком случае, в прошлом) своего пастушка и когда всякая надежда обнаружить его живым казалась утерянной, доктор Джофрей Орбелл, врач из Инверкергела, натуралист-любитель, решил сделать последнюю попытку.
С несколькими спутниками он проник с густые леса западного побережья озера Те-Анау. Поднявшись в горы на высоту 900 метров, он был поражен: здесь оказалось озеро. Разведчики, правда, сообщали ему об этом озере, но оно не было помечено ни на одной карте. Это показалось доктору хорошей приметой: в стране, где еще можно открыть целое озеро, почему бы не обнаружить вдруг и нечто менее заметное, например нелетающую птицу?
Все же экспедиция оказалась неудачной. Слышали, правда, крики каких-то незнакомых птиц, видели на грязи чьи-то следы. Но такахе как в воду канул.
Ничуть не обескураженный, доктор Орбелл вернулся в ту же местность в ноябре 1948 года. Теперь он притащил с собой не только фотоаппараты, но и киносъемочную камеру. Это был неисправимый оптимист!
Кто ищет, тот находит. Все удается тому, кто умеет ждать. Так говорят пословицы.
Сразу два такахе попались в силки. Им надели на ноги кольца, сфотографировали во всех видах и отпустили на все четыре стороны.
Кахоу — «лазарь» птичьего царства
Год спустя, во время своей третьей экспедиции, доктор Орбелл сумел узнать некоторые повадки редких птиц. Оказалось, что они вегетарианцы, гнезда строят на земле и, по всей видимости, выводят каждый год лишь одного, совершенно черного птенца. Орбеллу удалось наблюдать около дюжины взрослых пастушков. Население двух птичьих гнездовий, находящихся в близлежащих долинах, составляло около сотни птиц.
«Если бы не собаки, — пишет доктор Орбелл, — то можно поручиться, что мы до сих пор оставались бы в неведении о такахе, прячущихся в густой растительности».
Над этими словами следовало бы призадуматься не одному натуралисту. Напомним зоологам-маловерам о совсем недавнем воскрешении кахоу.
До последних лет ученые с поразительным единодушием полагали, что бермудский буревестник кахоу исчез между 1609 и 1621 годами: был истреблен колонистами. В хрониках того времени сообщается, что некоторые поселенцы, отправленные на остров Купера, у западной оконечности Бермудских островов, так объедались кахоу, что умерли от расстройства желудка. Что же касается самих кахоу, то они тоже не пережили тех времен по причине ясной, если вспомнить о голоде, свирепствовавшем тогда на Бермудах…
Между тем в 1951 году несколько американских натуралистов во главе с доктором Робертом Кюшам Мёрфи, заведующим отделом птиц Американского естественно-научного музея, с удивлением обнаружили явно обитаемые гнезда кахоу в скалах маленьких островов, расположенных на широте Кесл-Харбор.
Пять птиц были пойманы, вернее «выужены», с помощью бамбука и лески с затягивающейся петлей на конце. Их, конечно, отпустили, предварительно исследовав и надев им кольца. В скалах нашли семнадцать гнезд, доказывающих, что в настоящее время численность кахоу не ограничивается несколькими пойманными экземплярами.
Итак, вот уже три века, как бермудского буревестника занесли в списки исчезнувших. Между тем он продолжает здравствовать. Заметим, что речь идет о летающей птице, которой значительно труднее ускользнуть от наблюдения, нежели даже самой большой из бескрылых птиц.
Ограниченные возможности палеонтологии
Почему, собственно, многих ученых коробит от одной мысли о существовании динозавра, летающих рептилий или обезьяночеловека? Потому что, говорят они, эти группы уже давно полностью исчезли. Утверждая это, они основываются лишь на том факте, что вне весьма древних геологических слоев таких ископаемых никогда не находили.
Рассуждать так — значит придавать слишком большое значение фактору сохранности остатков животного мира в связанном, окаменелом, минерализованном виде. Нельзя забывать, что благоприятные условия для сохранения трупов животных в связанном виде — вне достигаемости разрушительных сил (вода, воздух, разные падальщики) — создаются лишь в исключительных случаях: падение тела в соленое озеро или в замерзающее и потом не оттаявшее болото; засасывание в торф, асфальтовую или смолистую лужу; внезапный горный обвал, песчаная буря, вулканическая лава…
С точки зрения теории случайности, наибольшие шансы для «консервации» имеют виды, наименее способные уберечься от опасности, наименее сметливые и ловкие. Может быть, в этом кроется причина, по которой мы так бедны данными об обезьянах и древних людях. Отсутствие некоторых видов в данном геологическом слое может означать также, что вид этот был мало распространен в ту эпоху.
Если мы не очень хорошо осведомлены о современной фауне Земли (что ежегодно доказывается открытием новых видов с весьма ограниченным распространением в труднодоступных зонах земного шара), то тем меньше можем мы знать о малораспространенных видах доисторических животных.
Чтобы яснее стало, что я называю распространенным или малораспространенным видом, скажу, что из современных видов распространенными можно считать человека и его домашних животных, многих грызунов, летучих мышей, целый ряд птиц и огромное количество насекомых и моллюсков. Всех других животных — в общем, большинство млекопитающих — можно рассматривать как редкие, угасающие виды.
Прав известный биолог профессор Коллерп, утверждая, что даже из сохранившихся в связанном виде организмов к нам доходят далеко не все. Многие разрушаются с течением времени вследствие различных причин: геологических сдвигов, оседания и эрозии почв, растворения. До нашего времени дошло весьма немного. Ведь большая часть осадочных пород в настоящее время покрыта водой морей и океанов и пока совершенно недоступна для нас. В выступающих на материках осадочных породах мы обычно можем исследовать лишь выходы их, то есть весьма незначительную часть. Как справедливо утверждает профессор Леон Бертен, «отсутствие определенного палеонтологического факта, в сущности, ничего не доказывает».
Вспомним, сколько имеется групп, которые, казалось, должны были существовать в известные эпохи и от которых не обнаружено в соответствующих геологических слоях никаких останков!
Выловленная 22 декабря 1938 года рыбаком Госсеном на широте Южной Африки латимерия служит тому ярким подтверждением. Кистеперые, к которым относится эта большая рыба с лопастными плавниками, восходящая к эпохе появления большинства земных позвоночных, казалось, полностью угасли в начале первичной эры, около 200 миллионов лет назад. Правда, останки некоторых членов семейства кистеперых рыб находили как величайшую редкость в слоях юрского периода и конца вторичной эры. Но затем, в слоях, относящихся к последующим 65 миллионам лет, уже не находили и следа их.
Живая туатера тоже не появилась из небытия. Между тем в геологических слоях давностью до 135 миллионов лет никогда не обнаруживали следов пресмыкающихся первоящеров. Что лучше этих примеров может подчеркнуть всю неполноту наших знаний!
Нежелание многих зоологов признать возможность существования некоторых ископаемых в наше время — скорее результат застарелой традиции, чем научной осторожности. В основе этого лежат старые, наивные, давно наукой отброшенные представления.
В прошлом, когда ученые убедились, что ископаемые не были попросту «игрой природы», но действительно являлись останками исчезнувших животных, они попытались увязать это открытие со священным писанием. Они отнесли исчезновение древних фаун за счет мировых катастроф, последней из которых и был библейский «великий потоп».
Что бы ни говорили, но создание Кювье — ученым, проникнутым буржуазным и догматическим духом, — теории мировых катастроф явилось следствием невозможности для него признать эволюцию, противоречащую религиозным догмам. За «периодическими катастрофами», которые он придумал, должно было каждый раз следовать «божественное созидание» новых форм. К этому выводу и пришел его последователь, Альсид д’Орбиньи. который определил даже количество — двадцать семь этих последовательных созиданий, якобы объясняющих различие между всеми известными ископаемыми.
Не так-то легко отделаться от подчас насильно привитых научных теорий. Даже с победой эволюционной теории вначале, чтобы не слишком резко разрушать старые догматы, ее весьма наивно толковали. Идее прерывистой сменяемости форм животного мира, естественно, противопоставили эволюционное, последовательное развитие одной фауны из другой, из чего заключили: любая древнейшая форма должна рассматриваться как прямой предок более поздних, родственных ей форм. Такой вульгарный принцип заставил, например, считать современных ящериц прямыми потомками динозавров вторичной эры! Полагали, что животное — представитель определенной эпохи — разумеется, не может быть обнаружено в последующей эпохе, так как оно претерпевало постоянные изменения. Это и явилось причиной нового необоснованного отрицания возможностей существования по сей день древнейших форм.
Фауны могут сосуществовать
В настоящее время в науке постепенно утвердилось понятие «живое ископаемое». Ученые уже отдают себе отчет, что эволюция происходит не строго поэтажно, а путем «ветвления». Короче говоря, развитие новых форм всегда происходит параллельно с существованием старых форм, но с некоторым запозданием. В полном генеалогическом древе животных различные группы связаны лишь общим стволом. Животные миры не сменяют последовательно друг друга, а сосуществуют. Более древние формации уничтожаются в борьбе с новыми или постепенно отмирают, не приспособившись к каким-то изменившимся условиям природы, среды. Ныне обнаруженные «живые ископаемые» — это существа, избежавшие гибели либо потому, что им не нашлось равных противников, либо чаще всего потому, что никто не оспаривал их жизненного пространства или лишь начинает его оспаривать.
О существовании неизвестного животного впервые узнают из рассказов путешественников, моряков, купцов. Сами они обычно узнают об этом от местных жителей. Случаи, когда существование более или менее крупного животного прошло бы совершенно незамеченным для жителей того района, в котором оно водится, явление небывалое Правда, местные описания животного под час весьма приблизительны, противоречивы и страдают обычно преувеличением некоторых его черт. Иногда животному приписывают даже сверхъестественные качества. Тем не менее совпадение одних и тех же деталей в рассказах различных туземцев, принадлежащих часто к весьма отдаленным друг от друга племенам, рано или поздно пробуждает к себе внимание пытливых натуралистов. Часто за этим следуют подтверждения, исходящие уже от «цивилизованных» охотников.
Однако скептиков может убедить лишь факт доставки самого животного в живом или мертвом виде.
Такой обычный ход открытия неизвестного животного имеет лишь один вариант: в некоторых случаях описанное туземцами животное уже давно было занесено учеными в разряд «ископаемых» и скелет его, а иногда даже и мумифицированные останки животного наличествуют в палеонтологических коллекциях музеев, говорящих о далеком прошлом Земли.
Не следует забывать, что понятие «живое ископаемое» чрезвычайно относительно. Урок, который все же нам дает существование по сей день этих воплощенных противоречий, таков: нет ни одного животного организма, как «примитивен» бы он ни был, который не мог бы сохраниться до нашего времени. И действительно, нами обнаружены запоздалые представители большинства процветающих когда-то групп животного мира.
Лось, олени, чекушка, мускусные овцебыки, дикая лошадь Пржевальского, полярная лиса, пеструшка (лемминг), росомаха водились в Западной Европе наряду с мамонтами во время последнего ледникового периода. Но ведь они-то не погибли, не исчезли с лица земли, а нашли на севере Сибири и в Аляске соответствующие их потребностям условия жизни.
Почему того же не произошло с мамонтами?
Многие ученые считают поэтому, что мамонты могли вполне сохраниться в Сибири до недавнего еще времени. Разве совершенно исключается, что они еще водятся где-нибудь на просторах Якутии, где так упорно циркулируют слухи об их существовании и в наши дни? Многие жители Сибири утверждают, что видели живых мамонтов, находили их свежие следы или оставленный ими навоз.
Безусловно, на нашей планете существует немало новых, еще неизвестных науке животных, и, чтобы открыть их, нужно прежде всего внимательно прислушиваться к рассказам местных аборигенов, сопоставляя общие для самых различных рассказов черты. Именно так ведутся поиски «снежного человека».
Возможно, некоторые читатели выразят удивление по поводу доверия, с которым я обычно отношусь к рассказам тех, кого иные продолжают снисходительно называть «примитивными людьми». В самом деле, западные ученые и журналисты весьма критически и строго оценивают сравнения, аллегории этих «примитивных людей». Когда австралийский туземец рассказывает им о «дьявольском черве, изрыгающем огонь», на которого «посмотреть — это умереть», они только пожимают плечами и не хотят больше об этом и слушать. Но почему им не приходит в голову, что эти австралийцы знают попросту о существовании червеобразного (или змееобразного, что равносильно) животного, раздвоенный язык которого напоминает язык пламени, и что этого пресмыкающегося лучше избегать, так как укус его смертелен…
Что касается меня, то я полностью присоединяюсь к мнению, высказанному известным американским натуралистом-путешественником А.Хиатт-Вериллом.
«Долголетний опыт, приобретенный мной среди примитивных племен, — пишет этот ученый, — убеждает в том, что в основе даже самых причудливых и неправдоподобных преданий и традиций народного фольклора, относящегося к животным, всегда кроется действительный факт, потому что примитивный человек не способен выдумывать и создавать из ничего истории о таких чудовищах».

Феликс Зигель ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ
«Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства…»К.Э. Циолковский
Есть вещи, как будто всем знакомые, общеизвестные. К ним привыкли с детства, и они воспринимаются нашим сознанием, как нечто само собою разумеющееся. Но стоит призадуматься, попробовать понять, в чем заключается их сущность, и кажущаяся простота исчезает, как мимолетная дымка, скрывающая далекий, незнакомый ландшафт. Мысль человеческая останавливается в изумлении перед этой странной метаморфозой, однако останавливается лишь на мгновение, чтобы затем с новой силой устремиться на познание неведомого. Таково то, что мы называем словом «время». Мы отлично уяснили его практический смысл. Наши часы с поразительной точностью измеряют бег времени. Но сущность времени, его природа, до сих пор остается одной из величайших загадок естествознания. Многовековая практика человечества не оставляет сомнений в том, что время это не субъективные грезы человека, как полагают идеалисты, а объективная реальность, форма существования материи. Но этим безусловно верным философским определением еще вовсе не решается вопрос о физическом содержании понятия времени. Как и пространство, время служит предметом изучения ряда наук, в первую очередь физики и астрономии. Двадцатый век внес революционные изменения в представления человека о пространстве и времени. Теория относительности, созданная гением Эйнштейна, доказала их тесную взаимосвязь. Замечательно, что современные представления о природе времени неразрывно связаны с развертывающимся на наших глазах штурмом Космоса. Победа над пространством, оказывается, означает вместе с тем и победу над временем. Проникнув в головокружительные звездные дали, Человек станет властелином времени. Для него будет возможной реальная встреча со своими отдаленнейшими потомками. Благодаря невообразимо стремительным полетам в Космосе Человек как бы растянет свою короткую жизнь не на столетия, а на миллио-нолетия! Жизнь человечества станет фантастически прекрасной, необыкновенно богатой событиями и переживаниями. Но, может быть, все это — несбыточная мечта, обманчивая иллюзия, порожденная несовершенством наших знаний? Или и впрямь человечество уже сейчас начинает осознавать ту космическую роль, которая ему уготована природой? Проблема эта безусловно заслуживает внимания всех тех, для кого интересы науки и судьбы человечества небезразличны.
ПЛАН ЦИОЛКОВСКОГО
Передо мной лежит старый журнал — «Вестник воздухоплавания» за 1911 год. В те годы величайшим достижением авиации считался перелет Блерио через Ламанш, а самолеты по своим внешним формам напоминали этажерки. И здесь, среди статей, освещающих весьма скромное по теперешним масштабам прошлое авиации, есть работа, способная поразить размахом идей любого современного читателя. Заглавие статьи — «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Автор — калужский учитель Константин Циолковский. Перелистываем несколько поблекшие от времени страницы и читаем нечто удивительное: «Когда истощится энергия Солнца, разумное начало оставит его, чтобы направиться к другому светилу, недавно загоревшемуся, еще во цвете силы. Может быть, даже это совершится и раньше. Часть существ захочет иного света или заселения пустынь… …Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет, но будет переселяться от Солнца к Солнцу по мере их погасания. Через многие дециллионы лет мы, может быть, будем жить у Солнца, которое еще теперь не возгорелось, а существует лишь в зачатке. Итак, нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен». Высказанные здесь мысли выглядят грандиозными даже в наши дни. Освоение Луны, полеты на планеты, наконец, «роение» человечества по всей солнечной системе не кажутся автору статьи пределом наших космических возможностей. Он уверен в беспредельном распространении человечества в Космосе, понимая подчеркнутое слово отнюдь не фигурально. По его мысли, рано или поздно, но неизбежно наступит в полной мере космическая эра существования рода человеческого, когда разумные обитатели Земли покинут свою колыбель и даже свое Солнце, чтобы расселиться на безбрежных просторах звездного мира. ДляЦиолковского космическая роль человечества всегда была бесспорной. О расселении в Космосе, не только в пределах нашей Галактики, но и по всей Вселенной, он думал всю свою долгую жизнь. Сначала неясная и полуфантастическая, эта величественная идея постепенно облекается им во все более и более конкретные формы! Циолковский считает вполне возможным включить ее в свой «план работ» по освоению Космоса. Как удивителен этот план, каким оптимизмом, какой верой в титаническое могущество Человека должен был обладать его автор! «План работ, начиная с ближайшего времени», опубликован Циолковским в 1926 году. Первый его пункт — создание ракетного самолета. Далее Циолковский намечает переход от реактивных самолетов к искусственным спутникам Земли и к космическим полетам в ее окрестностях. Все это для нас или пройденный этап, или ближайшее будущее. Но вот, начиная с пункта десятого, план Циолковского может служить перспективной программой освоения Космоса и для современного человечества: «10. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения. 11. Используют солнечную энергию не только для питания и удобств жизни (комфорта), но и для перемещения по всей солнечной системе. 12. Основывают колонии в поясе астероидов и других местах солнечной системы, где только находят небольшие небесные тела. 13. Развивается промышленность, и увеличивается число колоний. 14. Достигается индивидуальное (личности, отдельного человека) и общественное (социалистическое) совершенство. 15. Население солнечной системы делается в сто тысяч миллионов раз больше теперешнего земного. Достигается предел, после которого неизбежно расселение по всему Млечному Пути. 16. Начинается угасание Солнца. Оставшееся население солнечной системы удаляется от нее к другим солнцам, к ранее улетевшим братьям». Читаешь план Циолковского, и воображению рисуются грандиозные картины. Галактика заселяется неисчислимо размножившимся человечеством. Согреваемые светом миллиардов солнц, люди Космоса используют их лучистую энергию для всех своих нужд. Между планетными системами стремительно проносятся молниеподобные, сверхбыстрые ракеты. Они связывают разрозненные в пространстве человеческие колонии в единое, совершенное общество Разумных Существ. Со временем, как писал Циолковский в 1929 году, «объединяются также… млечные пути, эфирные острова…» Вся Вселенная постепенно пронизывается разумным человеческим началом. Не было на Земле мыслителя, который так высоко оценивал бы человечество, как Циолковский. И не было другого такого ученого, чья мысль настолько опережала бы свой век. Отнюдь не праздный мечтатель, как иногда любят его изображать, Циолковский всегда стремился довести свои проекты до технического расчета. Но в данном случае он не мог указать, какими средствами можно практически осуществить последние пункты его плана. Допустим невероятное: в будущем удастся создать космическую ракету, способную двигаться со скоростью света — 300 000 км/сек. Однако и на таких, безусловно фантастических, ракетах полет на ближайшие звезды продлится годы и десятки лет, а звездные дали, от которых лучи света доходят до Земли за тысячи и миллионы лет, по-видимому, навсегда останутся недосягаемы. Для Циолковского все эти расчеты, конечно, не были секретом. Но он полагал, что если для одного человека сроки межзвездных перелетов слишком велики, то для цепи сменяющих друг друга поколений время путешествия ничем не ограничено. На исполинских межзвездных кораблях, несущихся тысячелетиями к намеченной цели, родятся, живут и умирают миллионы человеческих существ. Дочти все из них на всю жизнь обречены быть межзвездными скитальцами. И лишь отдаленные потомки тех, кто начал межзвездный перелет, наконец достигают цели. В этом необычайном способе осуществления намеченного плана сказался весь неисчерпаемый оптимизм Циолковского. Однако современная наука нашла куда менее громоздкое решение волновавшей его проблемы.ВРЕМЯ МОЖНО ПОБЕДИТЬ
В наших расчетах продолжительности межзвездных перелетов есть одна ошибка, или, лучше сказать, некое предвзятое допущение. Вычисляя, за сколько лет межзвездная ракета долетит до той или иной звезды, мы считали очевидным, что время для путешественников и для тех, кто остался на Земле, течет одинаково, в одном и том же темпе. С точки зрения житейского «здравого смысла» иначе и быть не может. Но ведь не всегда следует доверять «здравому смыслу»! Увы, сколько раз в истории науки так называемый «здравый смысл» расходился с фактами. Так, например, несколько сотен лет назад казалось очевидным, что на шарообразной Земле люди могут удерживаться только в ее северной, «верхней» половине. По «здравому смыслу» антиподы (жители противоположного полушария Земли) должны неизбежно свалиться куда-то «вниз», так как удерживаться, подобно мухе на потолке, вверх йогами и вниз головой, люди не могут. Сколько было споров и дискуссий, прежде чем удалось сделать общепонятным относительность направлений «верх» и «низ». Нет во Вселенной какого-то всеобщего «верха» и «низа». На Земле мы называем «низом» направление к ее центру, тогда как на Луне естественно считать «низом» направление не к центру Земли, а к центру Луны. Поэтому, полетев «вверх» к Луне, мы, очутившись на ее поверхности, увидим Землю не «внизу», а «наверху». Мы позволили себе напомнить читателю все эти элементарные истины только потому, что время так же относительно, как «верх» и «низ». В межзвездных ракетах, летящих с околосветовой скоростью, время будет течь значительно медленнее, чем на Земле. Отсюда неизбежны парадоксальные следствия, о которых рассказано ниже. Но прежде следует доказать высказанное утверждение, чтобы для читателя все последующее не выглядело голословным. Относительность времени есть одно из следствий теории относительности. А эта теория покоится, как на незыблемой основе, на двух бесспорных фактах. С первым из них знаком каждый — это равноценность покоя и равномерного прямолинейного движения. Вы сидите у окна вагона стоящего на станции поезда. В окно виден соседний поезд. Вот он тронулся с места, и вы ловите себя на обмане чувств — вам показалось, что поехал ваш поезд. Покой и равномерное прямолинейное движение в некоторых ситуациях просто неотличимы. Если на море штиль и теплоход плывет совершенно равномерно, пассажиры в его внутренних салонах могут впасть в иллюзию: корабль покажется им покоящимся. Такой же обман чувств могут пережить и пассажиры на палубе корабля, если последний плывет в открытом море. Обман чувств испытывает и все человечество: Земля вращается вокруг своей оси так равномерно, что только разумом, а не чувствами мы воспринимаем эту истину, которая тысячелетиями отвергалась. Примеров явлений подобного рода можно привести сколько угодно. В них выражается тот факт, та особенность объективной реальности, что если какое-нибудь тело движется прямолинейно и равномерно, то все явления на теле или внутри него протекают совершенно так же, как если бы тело покоилось. В этом заключается принцип относительности покоя и прямолинейного равномерного движения, сформулированный еще Галилеем. Заметим, что сами понятия покоя и движения также относительны. Эта книга покоится на столе, но она же стремительно движется вместе с Землей вокруг Солнца. Следовательно, одно и то же тело может одновременно и двигаться и находиться в покое — все зависит от того, по отношению к какому другому телу мы рассматриваем его положение. Поэтому и говорят, что тело находится в относительном покое или относительном движении. Как это ни странно с точки зрения «здравого смысла», но и траектория движущегося тела также относительна, то есть тело одновременно может двигаться по разным кривым. Все опять зависит от того, по отношению к какому другому телу мы рассматриваем его движение. Вот, например, вы бросаете из окна вагона мчащегося поезда вертикально вниз какой-нибудь предмет. Вам кажется, что он полетит вниз по прямой (если не учитывать сопротивления воздуха), тогда как стрелочник с неменьшим основанием может утверждать, что брошенный вами предмет летит по параболе. Кто же прав, вы или стрелочник? Нетрудно сообразить, что оба правы, каждый по-своему. По отношению к поезду предмет летит по прямой, по отношению к полотну железной дороги — по параболе. «Ну, а на самом деле, — спросит читатель, — по какой же кривой летит предмет?» А что значит — «на самом деле»? В этих словах заключена предвзятая идея о том, что предмет может двигаться только по какой-нибудь одной кривой. Но это все равно, как если бы кто-нибудь взялся доказать, что данное тело только движется или только покоится. Его попытка обречена на неудачу: всегда можно спросить, по отношению к чему, к какому телу рассматривается движение или покой, а тогда сразу станет ясно, что речь идет (и может идти) только об относительном движении. Запомнив принцип относительности Галилея, обратимся теперь к другому, менее очевидному, но столь же бесспорному факту. Представьте себе плывущий по морю корабль, на капитанском мостике которого, в точности посередине между носом корабля и его кормой, укреплен колокол. Капитан ударяет в колокол. Где раньше услышат его звук: на корме корабля или на его носу? Произведем несложные расчеты. Предположим, что корабль движется со скоростью 30 км/час, а его длина равна 60 метрам. Известно также, что звук распространяется в воздухе со скоростью 340 м/сек. При движении звука в сторону кормы его скорость складывается со скоростью корабля — матрос, стоящий на корме, движется навстречу звуку. Поэтому звук от колокола на капитанском мостике дойдет до него за 0,08 сек. Наоборот, нос корабля движется вперед со скоростью 30 км/час — звук, догоняя его, дойдет до носа корабля за 0,09 сек. В конце прошлого века физики были убеждены, что свет во многом похож на звук. Если звуковые волны распространяются в воздухе, то, по их мнению, световые колебания совершаются в особой, всепроникающей среде — «мировом эфире». Тем удивительнее оказались результаты эксперимента, произведенного американским физиком Майкельсоном в 1881 году. Идея его опыта весьма проста. Известно, что Земля, обращаясь вокруг Солнца, несется в мировом пространстве со скоростью около 30 км/сек. Допустим, что мы хотим измерить скорость света двух звезд относительно Земли. Одна из них находится в той точке неба, куда движется в данный момент наша планета, а другая — в прямо противоположной точке. Тогда скорость света первой звезды сложится со скоростью Земли, и в результате относительно Земли свет от первой звезды должен двигаться со скоростью 300 030 км/сек, тогда как от второй звезды лучи света дойдут до Земли со скоростью 299 970 км/сек. Разница в скоростях, конечно, небольшая. Но в распоряжении Майкельсона был такой точный прибор (интерферометр), который мог уверенно зафиксировать даже гораздо меньшее различие. Тем не менее, после весьма тщательно проведенного эксперимента Майкельсон пришел к парадоксальному выводу: скорость света в любых ситуациях всегда остается постоянной, равной 300 000 км/сек. Сколько ни искали впоследствии ошибок в измерениях Майкельсона, сколько раз ни повторяли его знаменитый опыт, результат не изменился — скорость света действительно оказалась мировой константой, то есть не меняющейся ни при каких условиях, постоянной величиной. Этот факт, эта коренная особенность мира и была взята Альбертом Эйнштейном в качестве второй основы теории относительности. Признание двух принципов — принципа относительности покоя и равномерного прямолинейного движения и принципа постоянства скорости света — не есть выражение симпатии, вкуса того или иного ученого. Эти принципы проверены всей практикой человечества, они являются краеугольными камнями современной науки, и отрицание их равносильно невежеству. Но если дело обстоит именно так, то тогда легко из указанных двух принципов получить как следствие некоторые парадоксальные выводы о свойствах времени. Сущность сложных явлений лучше всего уясняется на простых примерах. Пусть эти примеры несколько отвлеченны, даже искусственны. Но зато суть дела видна в таких случаях куда яснее, чем при рассмотрении реального, подчас очень сложного явления. Представим себе абстрактный поезд, мчащийся куда-то с фантастической скоростью — 240 000 км/час. Заставим его, в отличие от реальных поездов, двигаться прямолинейно и равномерно. Допустим, что в середине одного из вагонов поезда имеется источник света, по команде посылающий лучи света на заднюю и переднюю дверь вагона. Вполне возможно представить себе, и в этом нет ничего фантастического, фотоэлектрическое устройство, которое, как только луч света попадет на него, мгновенно срабатывает и открывает дверь. Будем считать, что фотоэлектрическим запором обладают обе двери. Наконец, для того чтобы результат расчетов был возможно нагляднее, примем, что длина вагона поезда равна… 5 400 000 км. Пусть теперь мчится наш фантастический поезд. Где-то в пути включается источник света — тот самый, что находится в середине экспериментального вагона. Напомним, что поезд движется прямолинейно и равномерно, а потому все явления внутри поезда должны происходить совершенно так же, как если бы поезд стоял на станции. Следовательно, лучи света одновременно (за девять сек.) достигнут дверей вагона, которые одновременно откроются.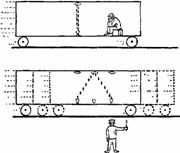 Именно это увидят пассажиры фантастического поезда. Совсем другая картина предстанет стрелочнику, которому удалось пронаблюдать эксперимент.
По отношению к стрелочнику лучи света движутся с той же скоростью, что и относительно вагона (300 000 км/сек), — ведь в этом и заключается принцип постоянства скорости света. Но задняя дверь вагона несется навстречу лучу света, а переднюю дверь, наоборот, ему приходится догонять. Следовательно, «правый» луч быстрее достигнет задней двери вагона, чем левый луч — передней. В результате стрелочник увидит (это нетрудно подсчитать), что двери вагона открылись не одновременно — задняя дверь через 5 сек., а передняя дверь через 45 сек.! Таким образом, два события (открытие дверей) пассажирам поезда кажутся одновременными, а стрелочнику — разделенными промежутком времени в 40 секунд.
Бессмысленно ставить вопрос, кто из них прав. Ответ может быть только один: каждый прав по-своему. Убеждение, что два события, наблюдаемые нами как одновременные, и всем другим наблюдателям непременно покажутся одновременными, не больше, как предрассудок. Понятие одновременности — относительно. На движущихся относительно друг друга телах время течет по-разному.
Не подумайте, что парадоксальные выводы, к которым мы пришли, вызваны фантастическими свойствами нашего воображаемого поезда.
Все останется верным и для любого поезда, в том числе и того, в котором вы ездите на дачу. Но только из-за небольших размеров поезда и медлительности его движения эффекты теории относительности здесь менее заметны.
Нам остается убедиться в том, что в поезде время всегда течет медленнее, чем на станции. Для этой цели представим себе, что на полу «экспериментального вагона» укреплена электрическая лампочка, а прямо над ней, на потолке, — небольшое зеркало. Включив лампочку, мы заставим луч света долететь до зеркала, отразиться от него и вернуться обратно. Пассажир поезда сможет при этом констатировать, что луч света прошел путь, равный удвоенной высоте вагона. Однако стрелочник, следивший за этим экспериментом, с ним не согласится.
Для стрелочника эксперимент выглядит совсем иначе. Он видит, что движутся и лампочка, и зеркало, и весь вагон. Поэтому луч света, покинувший лампочку, должен лететь не вертикально вверх, а несколько косо, чтобы попасть на зеркало, которое для луча является своеобразной движущейся мишенью.
Подобно этому и отраженный луч пойдет не вертикально вниз, а по некоторой наклонной, чтобы снова вернуться к движущейся лампочке.
Так как скорости лампочки и зеркала одинаковы, луч, с точки зрения стрелочника, прочертит две стороны равнобедренного треугольника, высота которого равна высоте вагона.
Именно это увидят пассажиры фантастического поезда. Совсем другая картина предстанет стрелочнику, которому удалось пронаблюдать эксперимент.
По отношению к стрелочнику лучи света движутся с той же скоростью, что и относительно вагона (300 000 км/сек), — ведь в этом и заключается принцип постоянства скорости света. Но задняя дверь вагона несется навстречу лучу света, а переднюю дверь, наоборот, ему приходится догонять. Следовательно, «правый» луч быстрее достигнет задней двери вагона, чем левый луч — передней. В результате стрелочник увидит (это нетрудно подсчитать), что двери вагона открылись не одновременно — задняя дверь через 5 сек., а передняя дверь через 45 сек.! Таким образом, два события (открытие дверей) пассажирам поезда кажутся одновременными, а стрелочнику — разделенными промежутком времени в 40 секунд.
Бессмысленно ставить вопрос, кто из них прав. Ответ может быть только один: каждый прав по-своему. Убеждение, что два события, наблюдаемые нами как одновременные, и всем другим наблюдателям непременно покажутся одновременными, не больше, как предрассудок. Понятие одновременности — относительно. На движущихся относительно друг друга телах время течет по-разному.
Не подумайте, что парадоксальные выводы, к которым мы пришли, вызваны фантастическими свойствами нашего воображаемого поезда.
Все останется верным и для любого поезда, в том числе и того, в котором вы ездите на дачу. Но только из-за небольших размеров поезда и медлительности его движения эффекты теории относительности здесь менее заметны.
Нам остается убедиться в том, что в поезде время всегда течет медленнее, чем на станции. Для этой цели представим себе, что на полу «экспериментального вагона» укреплена электрическая лампочка, а прямо над ней, на потолке, — небольшое зеркало. Включив лампочку, мы заставим луч света долететь до зеркала, отразиться от него и вернуться обратно. Пассажир поезда сможет при этом констатировать, что луч света прошел путь, равный удвоенной высоте вагона. Однако стрелочник, следивший за этим экспериментом, с ним не согласится.
Для стрелочника эксперимент выглядит совсем иначе. Он видит, что движутся и лампочка, и зеркало, и весь вагон. Поэтому луч света, покинувший лампочку, должен лететь не вертикально вверх, а несколько косо, чтобы попасть на зеркало, которое для луча является своеобразной движущейся мишенью.
Подобно этому и отраженный луч пойдет не вертикально вниз, а по некоторой наклонной, чтобы снова вернуться к движущейся лампочке.
Так как скорости лампочки и зеркала одинаковы, луч, с точки зрения стрелочника, прочертит две стороны равнобедренного треугольника, высота которого равна высоте вагона.
 Мы надеемся, что у читателя уже не возникнет вопрос, по какой же траектории на самом деле движется луч света. Но тогда нетрудно сообразить, что рассматриваемый эксперимент протекает для пассажира и для стрелочника с разной длительностью. При одной и той же скорости своего движения луч света, с точки зрения стрелочника, проходит больший путь, чем по мнению пассажира. Сумма двух сторон равнобедренного треугольника больше удвоенной соответствующей высоты. А это означает, что один и тот же процесс — посылка луча от лампочки к зеркалу и обратно, — с точки зрения пассажира, протекает за меньший промежуток времени, чем с точки зрения стрелочника. Следовательно, для движущихся тел время течет медленнее, чем для тел покоящихся. Мы не хотим затруднять читателя подсчетами величины этого «расхождения времени». Очевидно, оно зависит от скорости движения данного тела. Чем быстрее движется поезд, тем на большее расстояние сместится лампочка за время полета светового луча между полом и потолком При этом растягивается основание рассмотренного выше треугольника и увеличиваются боковые стороны.
Теоретически говоря, это «растяжение» треугольника может быть любым, так как стороны треугольника с приближением скорости тела к скорости света неограниченно увеличиваются. Следовательно, и разница в течение времени на покоящемся и движущемся теле может быть сколь угодно большой.
Теперь читателю должен быть ясен «секрет», с помощью которого возможно победить время. Он заключается в движении с очень большой, «околосветовой», скоростью. При таком движении для путешественников время будет течь замедленно, причем с любой степенью замедления. Тем самым перед человечеством как будто открываются реальные возможности достичь другие планетные системы не за сотни и тысячи лет, а за любой, сколь угодно короткий срок — месяцы, недели или даже дни!
Мы надеемся, что у читателя уже не возникнет вопрос, по какой же траектории на самом деле движется луч света. Но тогда нетрудно сообразить, что рассматриваемый эксперимент протекает для пассажира и для стрелочника с разной длительностью. При одной и той же скорости своего движения луч света, с точки зрения стрелочника, проходит больший путь, чем по мнению пассажира. Сумма двух сторон равнобедренного треугольника больше удвоенной соответствующей высоты. А это означает, что один и тот же процесс — посылка луча от лампочки к зеркалу и обратно, — с точки зрения пассажира, протекает за меньший промежуток времени, чем с точки зрения стрелочника. Следовательно, для движущихся тел время течет медленнее, чем для тел покоящихся. Мы не хотим затруднять читателя подсчетами величины этого «расхождения времени». Очевидно, оно зависит от скорости движения данного тела. Чем быстрее движется поезд, тем на большее расстояние сместится лампочка за время полета светового луча между полом и потолком При этом растягивается основание рассмотренного выше треугольника и увеличиваются боковые стороны.
Теоретически говоря, это «растяжение» треугольника может быть любым, так как стороны треугольника с приближением скорости тела к скорости света неограниченно увеличиваются. Следовательно, и разница в течение времени на покоящемся и движущемся теле может быть сколь угодно большой.
Теперь читателю должен быть ясен «секрет», с помощью которого возможно победить время. Он заключается в движении с очень большой, «околосветовой», скоростью. При таком движении для путешественников время будет течь замедленно, причем с любой степенью замедления. Тем самым перед человечеством как будто открываются реальные возможности достичь другие планетные системы не за сотни и тысячи лет, а за любой, сколь угодно короткий срок — месяцы, недели или даже дни!
ФОТОННЫЕ РАКЕТЫ
Не слишком ли оторваны от жизни все наши рассуждения? Ведь при тех скоростях передвижения, с которыми приходится иметь дело в земной обстановке, эффект замедления времени практически неощутим. Для пассажира, отправившегося из Москвы в Ленинград на «Красной стреле», время будет течь всего на ничтожную долю процента медленнее, чем для его родных, оставшихся в столице. Выйдя на перрон Московского вокзала в Ленинграде, он не сумеет заметить отставание своих часов: их показание разойдется с точным ленинградским временем на неощутимую долю секунды. Несравненно быстрее курьерского поезда движутся искусственные спутники Земли. Но и для них эффект замедления времени ничтожно мал. За целый год часы на каком-нибудь из спутников отстанут от земных часов всего на одну сотую секунды. Парадоксы времени становятся существенными только при скоростях, близких к скорости света. Однако даже при необычайно бурном развитии современной техники «околосветовые» скорости кажутся почти недостижимыми. Таким образом для межзвездных космических кораблей необходим двигатель принципиально новый, с чрезвычайно высоким, почти стопроцентным коэффициентом полезного действия. Замечательно, что основные черты его устройства понятны уже нашим современникам, — речь идет об аннигиляционном двигателе фотонных ракет. Разберемся в смысле этих сложных терминов. Свет, как известно, излучается порциями, которые физики называют фотонами. Каждый фотон обладает определенным запасом энергии, которую теряет светящееся тело. Ракета выбрасывает газы, прожектор — потоки света. Между ними есть большое сходство, и не только внешнее, но и по существу. Представьте себе, что вы, сидя в автомобиле, включили его фары. Фотоны, вылетевшие из нитей двух лампочек, ударились в параболический рефлектор фар и, отразившись от него, параллельным пучком направились вперед, в ту сторону, куда поедет автомобиль. При ударе о рефлекторы бесчисленное Множество фотонов оказали на них давление. Под действием этой силы автомобиль должен сдвинуться «задним ходом», и если этого не происходит, то по причинам отнюдь не принципиального характера. Просто давление света автомобильных фар слишком мало, чтобы преодолеть огромные по сравнению с ними силы трения. Но, если бы вместо обычных лампочек можно было поместить в фары автомобиля сверхмощные источники света, он превратился бы в реактивный автомобиль и с огромной скоростью понесся бы «задним ходом». Именно такой и мыслится принципиальная схема световой, или фотонной, ракеты. Внешне она похожа на летящий прожектор. В фокусе исполинского параболического зеркала помещен необычайно мощный источник света, и потоки света, отражаемые зеркалом, создают реактивную тягу. В химических и атомных ракетах выбрасывается вещество, в фотонной ракете — потоки света. В этом — главное различие. Если вспомнить, что фотоны во многих явлениях ведут себя так же, как элементарные частицы вещества, то приходится признать, что различие фотонной ракеты и современных космических ракет не так уж велико. Зато совершенно оригинальным и своеобразным является «топливо» фотонной ракеты. Это — электромагнитное излучение, порождаемое особым процессом, который физики не совсем удачно называют аннигиляцией [196]. Как известно, в природе существуют не только протоны, нейтроны и электроны, но и противоположные им по свойствам, хотя и равные по массе, античастицы: антипротоны, антинейтроны и позитроны. Протон от антипротона и электрон от позитрона отличаются только знаком электрического заряда. У нейтрона и антинейтрона электрического заряда нет. Все различие этих частиц — в разном направлении их вращения. Если частица соединяется с античастицей, происходит аннигиляция — превращение обеих частиц в электромагнитное излучение. Известно также, что в результате аннигиляции возникают и особые частицы вещества — пимезоны, благодаря чему фотонную ракету иногда называют «мезонной ракетой». Нам пока не известны сплошные куски антивещества, хотя легко представить себе их возможное строение. В таком куске, например, ядра атомов должны состоять из антипротонов и антинейтронов, а кружиться вокруг них будут не электроны, а позитроны. Вполне возможно, что в будущем удастся найти в природе или, что более вероятно, искусственно создать антивещество. Источником света в фотонной ракете служит процесс аннигиляции. Из особых резервуаров вещестзо и антивещество в виде потоков частиц поступают в фокус зеркала, где, соединяясь, превращаются в излучение. Так как при этом возникают мощные электромагнитные волны очень высокой частоты, безусловно смертельные для человека, жилые помещения ракеты должны быть отнесены как можно дальше от ее своеобразного двигателя. И, конечно, следует предусмотреть какие-то экранирующие — заграждающие- средства биологической защиты. Насколько эффективен процесс аннигиляции, можно судить по таким примерам. Если бы вещество этой страницы удалось полностью превратить в излучение, то выделившейся при этом энергии хватило бы, чтобы вскипятить 200 тысяч тонн воды! За двадцать последних веков человечество использовало для своих нужд столько энергии, сколько можно получить при аннигиляции всего 100 тонн вещества! Таким образом, двигатель фотонной ракеты действительно идеален — с более высоким КПД двигатель существовать не может. Есть ли что-нибудь общее между фотонной ракетой и… телегой? Да, да, самой обыкновенной, деревянной телегой. Представьте себе, что есть, причем в данном случае сходство принципиальное. Возможно, что некоторые из читателей удивятся, узнав, что телега с лошадью представляет собою реактивный двигатель. Между тем, двигаясь по земной поверхности, лошадь своими копытами (благодаря трению) заставляет весь земной шар чуть-чуть смещаться в противоположную сторону. Иначе говоря, если летящая ракета выбрасывает газы, то движущаяся лошадь «отбрасывает» в противоположную сторону весь земной шар. Но так как масса Земли чудовищно велика по сравнению с массой телеги, то вместо смещения нашей планеты мы наблюдаем, как движется телега по ее поверхности. Все используемые человечеством двигатели есть, в сущности, двигатели реактивные, связанные с «отбрасыванием» той или иной массы. Даже сам человек не может перемещаться иначе, как только реактивным способом, отталкиваясь от земли. Поэтому заманчиво создать единую теорию всех двигателей, от телеги до фотонных ракет. В этой теории полет межзвездных космических кораблей может рассматриваться только как некоторый частный случай. Такая теория создана нашим современником, немецким ученым Еугеном Зенгером [197]. Она связывает между собой технические достижения прошлого, настоящего и будущего. Она убедительно показывает, что создание фотонных ракет есть естественное звено в техническом прогрессе реактивных двигателей. Теоретические расчеты, выполненные Зенгером, приводят к выводу, что фотонные ракеты могут при достаточно длительном разгоне достичь любых, следовательно и «околосветовых», скоростей. Само собой разумеется, что предел всякой относительной скорости — скорость света — не может быть ими достигнут, или, тем более, превзойден. Несмотря на это, в известном смысле, — каком именно, рассказано ниже, — фотонные ракеты смогут лететь быстрее света. Работа Зенгера носит теоретический, а не технический характер. Вполне естественно, что техническое осуществление фотонных ракет связано с исключительными трудностями. Так, например, пока совершенно неясно, из какого материала удастся изготовить рефлектор — отражатель фотонной ракеты; температура аннигиляционного излучения столь велика, что любое земное вещество оно почти мгновенно обратит в раскаленный газ. Возможно, что эту проблему удастся решить, преобразовав «первичное» коротковолновое излучение двигателя в излучение длинноволновое, например, радиоволны, как предлагает советский ученый Г.И.Бабат. Однако трудно пока сказать, как должен выглядеть спасательный преобразователь излучения. Еще больше хлопот создадут для будущих конструкторов фотонной ракеты ее топливные баки. В чем, например, хранить антивещество? Бак из обычного вещества явно непригоден: соединившись с антивеществом, он мгновенно аннигилируется. Пожалуй, единственный выход заключается в изоляции антивещества с помощью магнитных полей, как это делается сейчас для плазмы. Тогда «баки» фотонной ракеты, очевидно, будут иметь мало общего с современным представлением о них. Если не удастся изобрести каких-нибудь радикальных способов биологической защиты от высокой температуры и излучения, фотонным ракетам придется придавать «космические» размеры. По современному разумению межзвездные космические корабли должны иметь в длину десятки, а может быть, и сотни километров! По-видимому, и постройка фотонных ракет будет вестись не на Земле, а где-нибудь подальше от нее, в межпланетном пространстве. Вызвано это понятными причинами: при запуске фотонной ракеты с Земли излучение ее двигателя начисто уничтожило бы добрую половину населения планеты. Пока что предполагается производить монтаж фотонной ракеты на каком-нибудь астероиде — малой планете, куда с Земли перелетит соответствующая строительная организация. Не исключено, что антивещество, полученное искусственным путем, будет завезено с Земли, а в качестве обычного вещества для двигателя фотонной ракеты используют «строительную площадку» — астероид. Вот так когда-нибудь, поглотив в себя одну из планет, отправится в межзвездный полет первая фотонная ракета! По земным часам межзвездные перелеты могут занять тысячелетия или даже миллионы лет — для весьма удаленных объектов. Естественно, что для столь продолжительных путешествий никаких запасов топлива, вещества и антивещества не хватит. Есть, однако, возможность «заправляться» в пути. Хорошо известно, что межзвездные пространства далеко не пусты. Всюду они заполнены чрезвычайно разреженным веществом — газом и пылью. Поэтому полет фотонной ракеты будет несколько напоминать полеты реактивных самолетов в атмосфере. По мнению Зенгера, эту аналогию следует использовать. Он предлагает строить фотонные ракеты по принципу прямоточных самолетных двигателей! Летя в пространстве, фотонная ракета будет «засасывать» в себя межзвездное вещество, чтобы затем употребить его в качестве топлива. В этом случае межзвездная материя не только не будет мешать полету фотонной ракеты, оказывая «лобовое» сопротивление, но, наоборот, как бы способствовать ее проникновению в глубины Космоса. Враг превратится в друга. Человеческая мысль уже сейчас пытается облечь проекты фотонных ракет в техническую форму. И это — спустя лишь несколько лет после создания первой теории фотонной ракеты! Впереди же — ничем не ограниченное время для творческих размышлений и изобретений. Можно ли сомневаться в том, что в будущем, отдаленном или сравнительно близком, — сейчас трудно сказать, — перечисленные нами трудности удастся успешно преодолеть? Думать иначе — это значит не верить в могущество человечества, в его ничем не ограниченный прогресс.ПАРАДОКСЫ МЕЖЗВЕЗДНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ
Нет сомнений, что первый межзвездный перелет будет иметь в качестве конечной цели звезду Толимак, как называли древние арабские астрономы Альфу Центавра. Эта ближайшая из звезд, не в пример Солнцу, представляет собою систему из трех самосветящихся тел. Два из них — почти одинаковые по размерам и температуре раскаленные газовые шары, похожие на Солнце. Третье тело — крошечная, очень холодная красноватая звездочка, отстоящая от двух главных звезд на расстоянии в 2 400 а.е. [198]. Она пока считается уникальным представителем звездного мира, так как нигде больше мы не видим столь слабо светящегося и холодного солнца. Подчиняясь закону всемирного тяготения, все три звезды обращаются вокруг общего центра тяжести. В настоящее время из этих трех звезд самой близкой к Земле является наименее яркая из них. Стоит запомнить, что эта замечательная во многих отношениях звезда названа астрономами Проксимой, что, собственно, в переводе с латинского языка и означает «Ближайшая». Не исключено, что соседняя система из трех Солнц обладает планетами, хотя прямых указаний на их существование пока не найдено. Тогда с поверхности этих планет будущие межзвездные путешественники увидят на небе сразу три Солнца — зрелище для человеческих глаз непривычное. Впрочем, при исследовании других звезд совсем не обязательно высаживаться на поверхности их планет. Можно будет временно, на любой срок, превратить фотонную ракету в спутник звезды и в этом удобном положении изучать как звезду, так и ее ближайшие окрестности. Итак, фотонная ракета готова к полету на звезду Толимак. Режим полета таков: первую половину пути ракета разгоняется с ускорением, равным земному (9,8 м/сек), а затем, вторую половину пути, с таким же замедлением тормозится. Можно было бы, конечно, лететь и по-иному. Например, сначала дать быстрый разгон с большим ускорением, затем лететь без работы двигателя, «на холостом ходу», и, наконец, применить резкое торможение. Выбранный нами вариант самый безболезненный — пассажиры фотонной ракеты не будут испытывать перегрузки, которая при значительной величине и длительности может стать гибельной для организма. Фотонная ракета начинает полет. Сначала медленно, величаво, затем все быстрее и быстрее она стремится к границам солнечной системы. Орбита Плутона пересечена через десять дней после старта. Позади — маленькая, постепенно блекнущая звездочка — Солнце. Впереди — бездна межзвездного пространства, где с каждым месяцем полета все ярче и ярче разгорается Альфа Центавра — желанная, бесконечно далекая цель. Первая половина пути пройдена за 1,8 года; столько же длится и торможение. В начале 44-го месяца после старта фотонная ракета, прошедшая миллиарды километров, медленно входит в пределы «соседней трехзвездной» системы. Все путешествие заняло 3,6 года, тогда как лучу света на преодоление того же расстояния требуется 4,3 года. Нет ли ошибки в наших расчетах, неужели фотонная ракета летела быстрее света? Противоречие здесь только кажущееся. Срок 3,6 года относится ко времени внутри фотонной ракеты, а ведь оно течет заметно медленнее, чем время на Земле. Поэтому по земным часам от момента старта фотонной ракеты до ее прилета в системы Альфы Центавра прошло не 3,6 года, не 4,3 года, а несколько больший срок. Тем самым скорость света по-прежнему осталась и навсегда останется непревзойденной. Первый полет дал некоторый, очень небольшой выигрыш во времени. Его можно увеличить, если разгонять ракету с большим ускорением, например, в три раза превосходящим земное. Троекратное увеличение собственного веса человек переносит легко даже без дополнительных противоперегрузочных средств. Будет ли слишком смелым считать, что в далеком будущем космическая медицина найдет средства, позволяющие человеку переносить троекратную нагрузку сколь угодно долго? А если это будет сделано, сроки межзвездных перелетов существенно сократятся. И, конечно, увеличится расхождение между земным временем и временем, по которому живут пассажиры фотонной ракеты. Полет на Альфу Центавра и обратно займет три с половиной года, тогда как на Земле между стартом ракеты и ее прилетом пройдет свыше десяти лет. Выходит, что межзвездные перелеты как бы продлевают человеческую жизнь — на фотонных ракетах люди будут стареть гораздо медленнее, чем на Земле! Это касается всех и каждого, в частности, например, двух братьев-близнецов, один из которых стал звездолетчиком, а другой увлекся какой-нибудь земной профессией. Уже один рейс на Альфу Центавра внесет серьезные изменения в их анкетные данные. При одном и том же годе рождения они уже потеряли основание в дальнейшем считаться ровесниками: «земной» брат теперь стал почти на семь лет старше своего брата-звездолетчика. Не правда ли, парадоксальная ситуация? Но ведь она неизбежно вытекает из относительности времени, из-за разного хода времени на Земле и на фотонной ракете. Замечательно, что с увеличением дальности рейса разница между земным временем и временем фотонной ракеты растет не пропорционально расстоянию, а несравненно быстрее. Когда-нибудь, расселяясь на просторах Галактики, люди захотят посетить ее центр. Как известно, этот центр не отмечен, как в солнечной системе, каким-нибудь массивным телом, заставляющим все остальные тела обращаться вокруг себя. Центр Галактики — геометрическая точка. Но вокруг этого центра плотным, почти шарообразным роем группируются гигантские массивные звезды. Влетев внутрь этого ядра Галактики, мы увидели бы на небе во всех направлениях множество ярких звезд, за передним фоном которых полностью стушевывается Млечный Путь. Фотонная ракета, летящая с тройным ускорением по намеченному ранее режиму, долетит до центральных областей Галактики всего за семь лет, считая, конечно, по часам фотонной ракеты. Между тем, луч света преодолеет то же расстояние за 20 с лишним тысяч лет! Читатель, вероятно, уже сообразил, что, вернувшись из этого полета на Землю, звездолетчики не найдут здесь ни своих родителей, ни братьев, ни детей — ведь на Земле между стартом ракеты и ее финишем пройдет свыше 40 тысяч лет! Астронавты почувствуют себя пришельцами из отдаленнейшего прошлого, необычайным способом перешагнувшими в будущее через тысячи промежуточных поколений. Поймут ли друг друга те, кто вернулся из глубин Космоса, и те, кто встречает их на земном космодроме? Не будет ли их общение столь же затруднительным, как воображаемый разговор неандертальца с нашим современником? Хочется верить, что человечество будущего найдет средства для подобной связи «через века». Хочется думать, что покорители Космоса будут встречены как легендарные герои в полном смысле этого слова: легенды о их непостижимо смелом отлете к центру Галактики сохранятся через века. А как им будет нужна именно такая встреча! Нам трудно понять в полной мере психологию звездолетчиков будущего. Ведь фотонная ракета это особый мирок, где и время течет по-своему, и размеры Вселенной представляются искаженными. О расстояниях мы судим по тому времени, которое затрачиваем на их преодоление. Далек ли Ленинград от Москвы? Современники Радищева сказали бы, что очень далек, в те времена поездка из Петербурга в Москву считалась сложным путешествием. С нашей точки зрения, Ленинград совсем «под боком» у Москвы: на самолете можно достичь его быстрее, чем пешком пройти расстояние в пять километров. Та фотонная ракета, которая домчит человека до ядра Галактики за семь лет, способна преодолеть расстояние от Земли до Луны всего за два часа — за столько же времени, за сколько электричка доезжает из Москвы до Загорска. В этом смысле можно утверждать, что в будущем Луна станет такой же близкой, как Загорск. Звездный мир покажется пассажирам фотонной ракеты куда менее грандиозным, чем нам. Но описать свои ощущения тем, кто остался на Земле, им не удастся. По-видимому, всякая связь между Землей и фотонной ракетой будет прервана вскоре после ее старта. Имеет ли смысл посылать радиосигналы вдогонку фотонной ракете, если ракета летит почти так же быстро, как и радиоволны? Ведь если разность скоростей ракеты и радиоволн составит хотя бы 10 000 км/сек, то при такой быстроте перемещения потребуются сотни и тысячи лет для того, чтобы радиосигнал достиг фотонной ракеты, где-то мчащейся в безднах звездного мира. Нам неизвестны более быстрые средства связи, чем радиосвязь. Да и могут ли в будущем изобрести такие средства, если радиоволны распространяются с максимальной из возможных скоростей — скоростью света? Не подумайте, что внутри фотонной ракеты ее пассажиры почувствуют замедленный бег времени. Вовсе нет! Им не с чем сравнивать свое время, и они будут чувствовать «власть времени» совершенно так же, как и мы. Ничего не выяснится и тогда, когда они высадятся на чужой планете: для них любой момент истории этой планеты одинаково незнаком. Только вернувшись обратно на Землю, они ощутят преимущества своей «вечной молодости». Полет в Космосе перекинет их через века. Дикой, необузданной фантазией выглядел бы лет двадцать назад полет человека на другие галактики. Но теория фотонных ракет с невозмутимостью сообщает, что полет человека к звездам туманности Андромеды займет по часам фотонной ракеты всего девять лет! Через девять лет можно оказаться в другой звездной системе, от которой лучи света достигают Землю только через 670 тысяч лет! Человечеству доступна для посещения вся изученная ныне часть Вселенной радиусом в несколько миллиардов световых лет с сотнями миллионов галактик! Доступна, говоря теоретически, потому что до самых далеких из открытых галактик фотонная ракета доставит человека всего за пятнадцать лет! Кто пожалеет затратить тридцать лет пути, чтобы увидеть необычайные звездные дали, миллионы солнц и планет, тысячи иных человечеств, а затем, вернувшись на Землю, поведать о том, как прекрасна и бесконечно многообразна Вселенная! Впрочем, стоит ли возвращаться? За 30 лет путешествия по миру галактик на Земле пройдет несколько миллиардов лет, и, быть может, скромная колыбель человечества уже прекратит по тем или иным причинам свое существование. Да, возможно, настанет эра «межзвездных скитальцев», когда фотонные ракеты разнесут по всей известной нам части Вселенной бесчисленно размножившееся человечество. Тогда осуществится гениальное пророчество Циолковского о том, что люди со временем сделаются гражданами Вселенной! Проникновение человечества в Космос ничем не ограничено. Вы скажете, что жизнь человека слишком коротка. Но разве не работает медицина над продлением человеческой жизни до 100–150 лет? Разве противоречит каким-либо законам биологии утверждение, что со временем человек сможет жить сотни лет? А тогда наибольшие дистанции, на которые удастся проникнуть человечеству, столь велики, что представить их наглядно просто невозможно. С другой стороны, весьма вероятно, что изобретут способы, позволяющие человеку выдерживать очень большие ускорения, например, в 30 раз превышающие земное. Тогда сроки межзвездных перелетов необычайно сократятся. При тридцатикратном ускорении фотонной ракеты звезда Толимак будет достигнута за три с половиной месяца, ядро Галактики — за одиннадцать месяцев, туманность Андромеды — за один год, и даже наиболее далекие из известных галактик — всего за полтора года! Мыслимы даже и такие ускорения, при которых звезды нашей Галактики достигаются через часы, а другие звездные системы — за несколько дней! Но эти сроки удастся реализовать только при полной победе человека над любым ускорением и при других исключительных условиях, которые нашему сознанию пока представляются сверхфантастичными.ВОЗРАЖЕНИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА»
Не сказка ли все это? Не допускаем ли мы в своих рассуждениях какой-нибудь элементарной ошибки, найдя которую мы разрушим теорию фотонных ракет, как карточный домик? И я уже слышу первое возражение «здравого смысла». Всякое движение относительно. Если фотонная ракета движется с «околосветовой» скоростью относительно Земли, то ведь и Земля удаляется при этом от фотонной ракеты с такой же скоростью. Тогда, рассматривая движущейся не фотонную ракету, а Землю, можно прийти к выводу, что бег времени замедляется не на ракете, а на Земле. Где же на самом деле время течет медленнее, установить нельзя, так как все относительно. С первого взгляда, возражение уничтожающее, повергающее в пыль все предыдущие рассуждения. И действительно, если рассматривать два тела, движущиеся относительно друг друга прямолинейно и равномерно, то установить, на каком из них «замедляется» время, — невозможно. Новедь в природе идеальных равномерных движений нет. Все реальные движения неизбежно совершаются при воздействии каких-то сил, а значит с некоторым, пусть очень малым, ускорением. Но тогда можно установить, какое именно из двух тел движется. Аннигиляционный двигатель установлен не на Земле, а на фотонной ракете. Усилие, им развиваемое, прилагается не к Земле, а к ракете. После достижения конечной цели, чтобы повернуть ракету обратно, усилие снова надо приложить к ракете, а не к Земле. Поэтому, что именно движется ускоренно, а что принимается покоящимся в описанной ситуации, всегда ясно. Ускоренно движется то тело, к которому прилагаются усилия. Таким образом, неверно утверждение, что все относительно. Понимать так теорию относительности — это значит вульгаризировать идеи Эйнштейна. С кинематической внешне-описательной стороны все движения относительны. Но в реальной обстановке надо учитывать действие сил, что вносит абсолютность в теорию относительности. Все эти рассуждения облекаются в математическую форму в общей теории относительности, которая, в отличие от частной теории, рассматривает ускоренные движения. В ней с математической строгостью доказывается, что бег времени замедляется только на ракете, а не на Земле. Второе возражение «здравого смысла» подвергает сомнению высказанный нами рецепт «вечной молодости». Замедление времени, по мнению скептиков этого рода, есть абстрактный, чисто математический результат отвлеченной теории. Могут ли какие-то формулы реально замедлить развитие человеческого организма, перенести его через земные века? Пусть этим скептикам за нас ответит природа, и они внимательно прислушаются к ее голосу. «Парадокс времени» ныне обнаружен и даже использован в реальной действительности. В составе космических лучей, обрушивающихся дождем частиц на земную поверхность, есть мю-мезоны. По всем теоретическим расчетам жизнь этих крошечных частиц необычайно кратко-временна. Возникнув в земной атмосфере, они должны исчезнуть через две миллионных доли секунды. Если бы даже мю-мезоны двигались со скоростью света, то и в этом случае за всю свою жизнь они должны пролетать в атмосфере всего 600 м. На самом же деле, как показывают наблюдения, их путь в атмосфере измеряется десятками километров! В чем тут дело? Оказалось, что физики не учли «парадокса времени». Две миллионных доли секунды — это срок жизни мю-мезонов по их собственному «мезонному» времени. Но, рассматривая полет мю-мезонов относительно Земли, мы должны учесть ускоренный ход земного времени. Именно поэтому по земным часам мю-мезоны живут необычно долго и успевают пробить значительную толщу земной атмосферы. Следствием «парадокса времени» является увеличение массы движущихся тел. Этот факт уже давно используется в атомной физике. В специальных ускорителях элементарных частиц — бетатронах — электроны разгоняются до скоростей, близких к скорости света. При этом их масса увеличивается настолько, что электронами удается бомбардировать атомные ядра с не меньшим эффектом, чем протонами. Таким образом, «эффект замедления времени» — не теоретический домысел, а реальная особенность природы. Она должна непременно сказаться и на жизнедеятельности человеческого организма. Если в фотонной ракете маятник часов будет колебаться медленнее, чем на Земле, то его примеру последует и «естественный маятник» — человеческое сердце. Ритм его биений, скорость обмена веществ и другие физиологические процессы будут совершаться у пассажиров ракеты гораздо медленнее, чем на Земле. Если возможно было бы каким-то сверхфантастическим способом заглянуть — оставаясь на Земле! — внутрь фотонной ракеты, когда она мчится сквозь звездные дали, мы увидели бы необыкновенное: все, как в «замедленном» кинофильме — крайне медлительные движения астронавтов, необычайно замедленное течение всех процессов. При «околосветовой» скорости ракеты все внутри ее выглядело бы почти застывшим, неподвижным. Вдумайтесь, ведь в этом есть своя логика природы. Физиологические возможности человеческого организма одни и те же как на Земле, так и на фотонной ракете. Но там, в Космосе, эти возможности расходуются крайне экономно, там земному организму — пассажиру ракеты — по земному времени придется прожить сотни или тысячи лет! И нельзя умолчать еще об одном следствии «замедления времени». Движущиеся предметы сокращаются в направлении своего движения (при неизменной толщине). Фотонная ракета, летящая относительно Земли со скоростью 240 000 км/час, будет казаться вдвое короче, чем при старте. При «околосветовой» скорости и ракета, и все, что в ней находится, для земного наблюдателя будут сплющенными, как листок фольги. Вот теперь и попробуйте представить себе тонких и плоских, как фольга, крайне медлительных звездолетчиков! Не правда ли, странное зрелище?! Увы, его, вероятно, никто и никогда не увидит. Но в реальности «парадокса времени» и всех его следствий нет никаких сомнений.ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВРЕМЯ?
Теория относительности раскрыла важное свойство времени — его тесную связь с движением тел. Это, конечно, вовсе не означает, что природа времени полностью разгадана и исследователям в данной области нечего делать. Вопрос о физической природе времени был и остается дискуссионной проблемой науки. В частности, неясно, обладает ли время непрерывностью или существуют мельчайшие, далее неделимые отрезки времени, которые можно назвать «атомами времени». В пользу реального существования «атомов времени» высказывались такие крупнейшие ученые, как Дж. Томсон, A.Пуанкаре, а в последнее время акад. B.А.Амбарцумян и проф. Д.Д.Иваненко. Они доказывали, что ряд явлений микромира можно объяснить, лишь предположив, что «минимальным промежутком времени» является исчезающе-малая величина в 10-24 секунды! Общеизвестным фактом является односторонность течения времени. Время всегда течет от прошлого к будущему и никогда в обратном направлении. Недавно были предприняты первые попытки объяснить это коренное свойство Космоса. Расскажем о них несколько более подробно. В моих руках маленькая книжечка в серой бумажной обложке. Автор — известный пулковский астроном, доктор физико-математических наук Николай Александрович Козырев. Год издания 1958. Судя по названию, в книге изложены основы новой науки о времени — «причинной» или «несимметричной» механики [199]. Несмотря на хороший литературный язык, которым написана книга, читать ее очень трудно. Слишком необычны и смелы идеи, выдвинутые советским ученым. Попробуем все же разобраться, в чем суть теории Н.А.Козырева. Говоря о времени, мы нередко употребляем выражения «время течет» или «поток времени». По мнению Козырева, эти выражения не просто удачные, образные сравнения: они выражают сущность, глубинную природу того, что мы называем «временем». Обычно река уносит своим течением все плывущие по ней предметы. Движущиеся массы воды обладают значительной энергией, они способны заставить вращаться турбины гидростанций и совершать иную работу. Подобно этому действует и «река времени». Она несет на себе все, что существует, и способна служить источником энергии во многих процессах. Именно в этом центральный пункт, главная идея теории Н.А.Козырева. Он рассматривает время не как нечто пассивное, а как активный фактор, неисчерпаемый источник всего мироздания. Обычная механика «равнодушна» направлению течения времени. Ее основные законы движения при изменении «знака времени» вовсе не меняются. Никак не учитывается «знак времени» и в квантовой механике и в теории относительности. Есть, правда, в современном естествознании закон, для которого направление течения времени небезразлично. Это знаменитый второй закон термодинамики, по которому рассеяние, деградация энергии, в конечном счете, всегда совершается односторонне — в сторону постепенного выравнивания температур и стремлению к «тепловой смерти». Но реальная Вселенная неизмеримо далека от какой-либо смерти. Наоборот, она полна жизни. Она блещет мириадами раскаленных светил, и не унылая неподвижность смерти, а кипучая энергичная деятельность, в широком смысле этого слова, является характерной чертой Космоса. Где же источник всех этих творческих сил? По мнению Козырева, в энергии, которой обладает течение времени. Будущее, заявляет он, всегда объективно отличается от прошлого. Поэтому существует принципиальное отличие причин от следствий. Если бы причина бесконечно быстро, то есть мгновенно, переходила в следствие, то тогда между причиной и следствием не было бы никакой разницы. Именно так смотрит на дело современная механика, в которой известный закон о равенстве действия и противодействия выражает, в сущности, эту мысль. Очевидно, что превращение причины в следствие не может совершаться бесконечно долго, так как в этом случае причины вовсе бы не порождали следствий. Следовательно, остается только одна возможность, которая и реализуется в природе, — причины превращаются в следствие с некоторой конечной скоростью, которую Н.А.Козырев называет ходом времени. Он показывает, что ход времени имеет обычную размерность скорости и является такой же универсальной постоянной, как скорость света. Если опереться теперь на эти основные идеи, то можно получить из них весьма важные и неизбежные следствия. Главное из них заключается в том, что в природе должны действовать особые [200] «козыревские» силы, до сих пор неизвестные и никем не учитывавшиеся. Эти силы, возникающие из самого течения времени, действуют, по гипотезе Н.А.Козырева, на все вращающиеся тела. Однако величина их растет вместе с массой вращающегося тела. Поэтому, хотя «козыревские» силы действуют и на колеса любого автомобиля, проявление их становится ощутимым только для «волчков» космических размеров, к числу которых, в частности, принадлежит Земля. «Козыревские» силы должны действовать в направлении с севера на юг, вдоль земной оси. Благодаря им у Северного полюса Земли должна образоваться вмятина, а у Южного, наоборот, — выпуклость, и если разрезать Землю вдоль ее оси, то можно, по мнению Н.А.Козырева, убедиться, что земные меридианы имеют форму не эллипса, а особой сердцеобразной кривой — кардиоиды! Звезды несравненно массивнее Земли. Поэтому, по гипотезе Н.А.Козырева, они черпают энергию из «реки времени» в гораздо большей степени, чем Земля. Подсчеты показывают, что количество возникающей при этом энергии сравнимо с той. которая получается за счет термоядерных реакций. Может быть, звезды хотя бы отчасти являются «двигателями времени», в космических масштабах в буквальном смысле ярко иллюстрирующими его неисчерпаемые энергетические возможности? Заметим, что гипотеза Н.А.Козырева вовсе не отвергает механики Ньютона или теории относительности. Она включает их в себя, как некоторые частные, предельные случаи. Так же поступила когда-то и теория относительности со своей предшественницей, классической ньютоновской механикой. Время творит энергию… Конечно, эта идея Н.А.Козырева плохо пока укладывается в нашем сознании. Она еще не подтверждена убедительными экспериментами. Прежде чем утвердиться в науке, она должна пройти строгую опытную проверку. Но с принципиальной стороны идея Н.А.Козырева не только не противоречит современному естествознанию, но, наоборот, вводит в науку новый материалистический принцип, противостоящий идеалистическим идеям «тепловой смерти» Вселенной. Изменчивость материи, ее непрекращающаяся жизнедеятельность проявляются в безостановочном потоке времени. Что же нелепого в том, если в этом потоке найдены неисчерпаемые энергетические ресурсы, имеющие корни в самой природе материи? Заманчиво было бы построить для практических нужд двигатель, который черпал бы энергию из «реки времени». К сожалению, это пока выглядит невозможным; повторяем, что только при огромных космических массах «энергия времени» становится существенной. Но слово «пока» мы выделили не случайно. Если человек уже сегодня успешно раскрывает тайны времени, то не является ли это залогом того, что в будущем, пусть отдаленном, он полностью, быть может, овладеет временем и подчинит себе его неисчерпаемые энергетические ресурсы?БУДУЩЕЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
Мысль переносит нас через века, и мы видим будущее Космической Эры… Человечество овладело пространством и временем. Безмерно увеличившееся в своей численности, оно расселилось по всей Галактике. Давно уже состоялась первая встреча земного человечества с человечеством других планетных систем. Объединенные единой целью — познанием природы, покорением ее сил, — разумные существа Галактики превратили всю нашу звездную систему в царство Разума и Труда. Светоподобные фотонные ракеты связывают миры и века. Из настоящего в будущее перекинут такой же прочный мост, как и между планетными системами. Никого уже не удивляет «полет к потомкам». Созданы искусственные солнца. С помощью мощнейших аннигиляционных двигателей передвинуты планеты с их древних орбит. Планетные системы перекраиваются разумными существами по своему усмотрению, для наилучшего использования энергии господствующих в них солнц. Начались межгалактические перелеты… Где-то в туманной дали минувших веков — первые робкие попытки человечества проникнуть за пределы земной атмосферы. Вот свита искусственных спутников окружила Землю. Посланы первые ракеты на Луну и вокруг Луны. Солнечная система обогатилась искусственными планетами. …А потом — разведывательные полеты к Марсу и Венере, первый полет Человека в Космос, первая экспедиция по лунной поверхности. Все это было давным-давно, на заре Космической Эры… Великий план Циолковского осуществился. Путь в звездные дали открыт. Теперь все зависит от того, сумеет ли преодолеть человечество огромные трудности, ожидающие его на этом пути. Верим, что сумеет! Пусть тех, кого манят звездные дали, кто не пожалеет сил для их достижения, помнят вдохновенные слова Циолковского: «Смело же идите вперед, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших трудов не исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности великий плод».СОДЕРЖАНИЕ: АЛ. ПОЛЕЩУК. Ошибка инженера Алексеева. Научно-фантастическая повесть. Рисунок Н.Кольчицкого… 3. АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ, БОРИС СТРУГАЦКИЙ. Благоустроенная планета. Научно-фантастический рассказ. Рисунок А.Иткина… 64. ВИКТОР МИХАЙЛОВ. Черная Брама. Повесть. Рисунки Г.Макарова… 78. С. ГАНСОВСКИЙ. Шаги в неизвестное. Фантастический рассказ. Рисунки М.Хабленко… 140. Л. ПЛАТОВ. «Летучий голландец» уходит в туман… (Главы из романа). Рисунок Ю.Ракутина… 175. АЛ. ЛОММ. «Преступление» доктора Эллиотта. Фантастический рассказ. Рисунок Б.Алимова… 209. А. ПОЛЯКОВ. Это было на Памире. Быль. Рисунки В.Белякова… 229. С. ГОРЛЕЦКИЙ. Юный Аз. Рассказ. Рисунки В.Ладягина… 257. Б. ЭЙВЕЛЬМАНС. По следам неизвестных животных. Рисунки Г.Никольского… 271. ФЕЛИКС ЗИГЕЛЬ. Звездные дали. Рисунки Ю.Соостера… 311.
К ЧИТАТЕЛЯМ Отзывы об этой книге просим направлять по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1962г. №7
АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ ВНУКИ МАРСА
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕСТРА ЗЕМЛИ
Глава первая ТАЙНА ЖИЗНИ
Откуда взялся у человека мозг? Откуда и почему появился вдруг у сравнительно слабого голого, двуногого существа этот изумительный орган, давший ему всепобеждающую способность мыслить, чего лишены все остальные обитатели Земли? Почему столь чудесным свойством обладает самое молодое на Земле существо, которому нет и миллиона лет, которое рождает самых неприспособленных к жизни детенышей и все-таки неизмеримо возвысилось над животным миром? Конечно, человека создал труд, но почему ископаемый череп первобытного охотника почти не отличается от черепа современного рабочего, мозг ученого — от мозга дикаря? Странно, что именно эти вопросы привели профессора Илью Юрьевича Богатырева на межпланетный корабль «Знание», сделали его звездолетчиком и командиром международной космической экспедиции. Летя в Космос, ученый думал о Человеке, о тайне его рождения, о вершине земной эволюции, которую до сих пор рассматривали лишь в масштабе одной планеты. А сколько их, таких планет, где эволюция может идти своими путями! В одной нашей Галактике насчитывают полтораста миллиардов солнц! Пусть, как считают, лишь у одного из миллиона светил есть планета, движущаяся не по вытянутой траектории, не слишком убегая в глубины вечного холода, не слишком приближаясь к испепеляющему солнцу, пусть на миллион планетных систем приходится лишь одна планета с условиями, близкими к земным, — все равно в одной только нашей Галактике таких миров будет сто пятьдесят тысяч, не говоря уж о сестре Земли — Венере… И полуседой исполин с тяжеловатыми, но правильными чертами лица, запустив руку в густую темную, словно оправленную в серебро бороду, часами в «кромешной тишине», как любил он говорить, всматривался в колючую россыпь немигающих разноцветных светил, этих бесконечно далеких очагов атомного неистовства материи, дарящих окружающим мирам лучистое тепло, первое из начал Жизни… Жизнь возникает всюду, где условия ей благоприятствуют, где вода не всегда камень или газ, но и жидкость, где в атмосфере есть кислород для созидательных процессов горения, где налицо простейшие химические материалы для удачных комбинаций молекул, перешагивающих грань между мертвым и действующим, где среди мириадов канувших в небытие попыток осталось, запечатлелось, продолжило существование только такое содружество клеток, которое уже стало первым организмом, знающим обмен веществ и постоянную смену зим и весен, дня и ночи, смерти и жизни. У этого содружества клеток было столько же шансов появиться, сколько у любого другого, но все прочие не оставили следа во времени, и только этот один, первый организм мог жить, существовать и, что самое главное, давать жизнь. И как среди миллионов ответов на вопрос есть только один верный, так и этот первый организм был выбран не слепым случаем, а безошибочной логикой развития, потому что остался в потомстве. А оставшись, он лег в фундамент тысячеглавого Храма Жизни, лестницы которого ведут в несчетные башни развития. Их ступени высечены смертельной борьбой за право жить в поколениях, все более совершенных, более приспособленных. От формы к форме, от вида к виду ведут эти ступени, разветвляясь, поворачивая то вбок, то вверх, поднимаясь и в башни рыб и пресмыкающихся, и в башни птиц и насекомых. Но особенно широкие, великолепные ступени приводят в самую величественную надстройку, увенчанную высочайшей и неприступной башней с куполом, под которым разместился чудесный человеческий мозг. Одиноким стволом среди трав и кустарников вознеслась эта гордая башня до самого неба, до мерцающих звезд. Но нет на ее лестнице целого марша ступеней. Лишь где-то внизу соединена она с неизмеримо более низкой башенкой обезьян, которые оспаривают сходство своего скелета с человеческим у… лягушек. Великий Дарвин, разгадавший в тумане поиска строгую архитектуру грандиозного здания Естественного Отбора, мысленно заполнял недостающие ступени в «башне Человека», иной раз не высеченные в камне истории, а хитро отлитые из гипса современности, как это было со знаменитым пилтдаунским черепом доисторического человека, ловко сфабрикованного безвестным и бессовестным знатоком. На эти же более низкие ступени биологического развития ошибочно ставил Дарвин и современных нам дикарей, не подозревая в то время, что взятый из каннибальской деревни чернокожий ребенок, получив европейское образование, закончив Кембриджский или Оксфордский университет, становится ученым, ибо мозг его обладает теми же возможностями, что и мозг юного английского лорда. Современник Дарвина, одновременно с ним пришедший к теории естественного отбора, Альфред Рассел Уоллес, статью которого о принципах эволюции всего живого Дарвин получил, уже двадцать пять лет работая над все еще не опубликованной им теорией видов, первый обратил внимание на необъяснимую пропасть, отделяющую человека от остального животного мира. Это Уоллес задал вопрос: «Откуда взялся у человека мозг?», имея в виду скачкообразное количественное и качественное отличие мозга человека от мозга остальных животных. Во всем согласный с Дарвином в отношении эволюции живых существ, Уоллес склонен был сделать для человека исключение, объяснив непостижимо быстрое его развитие божественными силами. Дарвин темпераментно отвечал Уоллесу: «Нет, нет и нет!» — но располагал в ту пору недостаточными доказательствами. Доказательств и в наше время мало, однако наука ищет их, они должны быть! Палеонтолог и антрополог профессор Богатырев, конечно, был законченным и убежденным материалистом, он не только отвергал божественное вмешательство в формирование прямостоящего двуногого млекопитающего, но и склонен был не замыкать Дарвинову теорию на одной лишь планете Земле. Он был убежден, что именно на других планетах, где жизнь в тех или иных формах будет обнаружена, можно найти недостающие ступени лестницы эволюции. Он участвовал в первых экспедициях на Луну и изучал там примитивные формы жизни на дне кратера Платона, а также «лунную плесень», обнаруженную на краю глубокой трещины первой лунной экспедицией Петра Громова. Но особенно много сулило дарвинистам посещение, пожалуй, даже не Марса, планеты древности, а прежде всего юной Венеры, где, быть может, удастся перенестись в минувшие эры земной истории, увидеть утраченные звенья развития природы или встретить совсем иные пути эволюции. Богатырев добился того, что первая экспедиция в глубины солнечной системы была направлена не на Марс, а на Венеру. Заботливо сам обхаживал он, кормил и наблюдал своих питомцев в «Новом ковчеге», как прозвал он отсек «космического зверинца» с подопытными животными: свою любимицу сибирскую лайку Пулю, так страдавшую от невесомости, что ее пришлось привязать за попонку к полу; кошку Мурку, плававшую, по воздуху, лавируя хвостом и лапами, и принесшую в пути пятерых котят, не представлявших себе иных условий, кроме невесомости; пару мышей; варана, которого приходилось кормить, обязательно имитируя прыжки кусочков якобы живой еды; и голубя, утратившего на корабле всякую способность летать. Крохотным оранжевым полумесяцем, как маленькая Луна в последней четверти, вставала в окне корабля желанная Венера, планета ранней, как хотел верить Илья Юрьевич, жизни, планета бурь… Флагманский звездолет «Знание» замыкал цепочку из трех кораблей. Впереди шел советский корабль-разведчик «Мечта», названный так в честь первой космической ракеты, ставшей десятой планетой солнечной системы. В середине летел американский корабль «Просперити» («Процветание»). Корабли летели не к Венере, а впереди нее, по собственной эллиптической орбите вокруг Солнца. К моменту, когда они подойдут к ее орбите, Венера должна была как бы догнать их; тогда все три корабля станут спутниками планеты, которую можно изучить с высоты, прежде чем флагман «Знание», взяв американцев с «Просперити», опустится на ее поверхность. «Мечте» и «Просперити» предстояло остаться спутниками Венеры на все время исследований ее поверхности, неся на себе топливо на обратный путь для себя и для флагмана, который израсходует все запасы горючего на спуск и подъем. Но все изменило страшное сообщение… Радист корабля Алеша, бледный, с потным лбом, появился в проеме радиорубки, словно не решаясь войти в кабину управления, где сидели в креслах, прозванных зубоврачебными, пристегнутые из-за несносной невесомости ремнями командор Богатырев и инженер Добров, углубленные в программирование электронно-вычислительной машины. Гибкий, стройный, чуть женственный, Алеша одним взглядом расширенных от ужаса глаз передал Илье Юрьевичу обо всем, что случилось. Богатырев резко повернул вращающееся кресло, стал торопливо отстегивать ремни. Алеша переминался с ноги на ногу, магнитные подошвы, которые притягивали его к полу, пощелкивали. Добров тоже повернулся. Коренастый, с крутым выпуклым лбом, с глубокими, врезанными в угловатое лицо морщинами и бритым черепом, он внешне не располагал к себе, был предельно деловит и рационалистичен. Недоуменно смотрел он на молчавшего радиста. — «Мечта»… метеорит… — только и мог выговорить Алеша. Только два величайших в мире телескопа, в Крыму и в Скалистых горах Америки, могли следить за движением трех звездочек исчезающе малой величины, и только они зафиксировали вспышку на месте головного корабля, сверкнувшего на миг родившейся и навек погасшей звездой… Так закончил свой путь, столкнувшись с метеоритом, корабль-разведчик «Мечта». Расплылось в холодной пустоте бесформенное облачко, в которое превратилась и блуждавшая железо-никелевая глыба, и бесценное создание ума тысяч людей, и три отважных человека с целыми мирами чувств, надежд, мечтаний… Тягостна тишина в Космосе, безмерная, всепоглощающая, давящая… Тишина на Земле — это целая симфония незаметных звуков, шорохов, скрипа, далекого лая собаки или шум поезда, стрекотание кузнечиков в траве, потрескивание мебели… Из Космоса в кабину не долетало и не могло долететь никаких звуков. Илья Юрьевич, непривычно хмурый, отяжелевший, слышал только тиканье часов. Оно разрывало ему сердце. Никогда он не думал, что тиканье может быть столь громким, кричащим, горестным… Наконец он поднял голову, оглядел товарищей. — Тяжкое горе, друзья, тяжкое… — сказал он, яростно закручивая на руке привязанный ремень. — Удар метеорита… и нет больше товарищей наших… Алеша отвернулся, не хотел, чтобы видели его глаза. Добров перебирал перфорированные карточки для математической машины. На виске его билась жилка. — По-человечески не представить ничего горше, — продолжал низким басом Илья Юрьевич, — а все же не только в этом беда. Добров поднял голову, положил на пульт карточки, аккуратно пристегнув их пружинкой. — Расчет прост, — скрипуче сказал он. — Теперь только два корабля… — Голос его сорвался. Илья Юрьевич пристально посмотрел на него: — В том и горесть. Добров заговорил сухо, отчужденно: — «Программа, пункт второй. Инструкция, пункт седьмой. В случае невозможности «оставить на орбите спутника два корабля с запасами топлива на обратный путь для всех трех от спуска на планету воздержаться». Ни нам, ни американцам теперь на Венеру не спуститься. — И, отстегнув ремни, он решительно встал с кресла; его магнитные подошвы щелкнули. Алеша обернулся. — Это что же! — гневно сказал он. — Товарищей наших потеряли… за сто миллионов километров до самой Венеры добрались… И теперь повернуть назад? Нет! Не бывать тому! Илья Юрьевич грустно посмотрел на Алешу. Добров поморщился. — Осторожность — сестра расчета, — продолжал он. — Ограничимся проверкой выводов автоматических станций. На Венере есть что разведать и через облачный покров. — Что верно, то верно, — задумчиво подтвердил Богатырев. — Уточним период вращения — раз, изучим атмосферу и влияние на нее Солнца — два, составим радиолокационный глобус Венеры — три… Исследуем магнитное поле — четыре, выверим полюса — пять… — Не будьте арифмометрам, Роман Васильевич! — прервал Алеша. — Все это уже делали и могут делать автоматы. Их выводы вы уточните, и только. Лететь в Космос нужно было во имя Земли… во имя тайн ее развития, а чтобы открывать — надо видеть!.. Добров пожал плечами. Алеша резко повернулся к Илье Юрьевичу, тело его напряглось, вытянулось, голос прозвучал глухо: — Илья Юрьевич… прошу вас… По инструкции в случае невозможности посадки разрешается использовать планер. — Для спуска универсального автомата, — напомнил Добров. — К черту автомат! Пустите вместо него меня! — выпалил Алеша. Богатырев нахмурился. — Планер не возвращается, Алеша, — внушительно сказал он. — Я знаю, — проговорил Алеша и глотнул воздух. — Мне вовсе не просто решиться… Но ведь врачи во имя науки прививали себе чуму. Пусть я останусь на Венере, но я сообщу по радио все, что увижу. Опишу формы жизни. Может быть, выживу до новой экспедиции. Я очень прошу. Мне нужен только планер… Илья Юрьевич встал. В соседней радиорубке звучал зуммер. — Земля! — сказал Добров. Алеша бросился к пульту и включил репродуктор. Сквозь шум и треск космических помех раздался далекий голос. И, потому что для всех троих в этом голосе зазвучало все родное, оставленное, бесконечно далекое и бесконечно желанное, звездолетчики замерли, боясь пошевельнуться. — Внимание! В Космосе! Сектор Венеры! Сектор Венеры! Слушай, «Знание»! «Просперити»! Говорит Земля. Передает Луна. Скорбим вместе с вами. Верим в вас. Выходите по плану на орбиты спутников. Сообщите характер повреждения метеоритной пылью защитных слоев кораблей. Сможете ли без ущерба для здоровья дождаться «Искателя-семь», который в случае необходимости вылетит к вам через две недели? Голос выжидающе замолк. На Земле ждали ответа. Более трехсот секунд пробудет в пути радиолуч. — «Искатель-семь», — прошептал Алеша. — Он прилетит через пять месяцев… В репродукторе зловеще шуршало, словно ворочался кто-то невидимый, притаившийся, обвившийся вокруг корабля. Добров кивнул в сторону репродуктора: — Вот он, Космос, выдает себя. Все вокруг пронизано излучениями… — Да, — подтвердил Богатырев, — в Космосе бойся невидимых бурь, не только летящих скал. Когда-нибудь метеориты фотонным лучом будут уничтожать, а пока… — А пока смертоносные лучи за пять месяцев сквозь пощипанную защиту уничтожат здесь все живое, — договорил Роман Васильевич. Алеша оживился, почти обрадовался: — Илья Юрьевич, так позвольте, я сообщу сейчас об этом Земле! И то, что вы… позволяете мне… — добавил он, умоляюще смотря на Богатырева. Илья Юрьевич подошел к Алеше, провел рукой по мягким его волосам и сказал: — Эх, Алеша, Алеша!.. Буйная ты голова!..Глава вторая ШЕДЕВРЫ ЛОГИКИ
В грузовом отсеке космического корабля «Просперити» стоял планер. Со сложенными крыльями, с выступающей застекленной кабиной он напоминал фюзеляж маленького скоростного самолета. На свободном месте между планером и картонными ящиками с консервами стоял командир «Просперити» инженер Аллан Керн, сухой, жилистый человек с длинным лицом, холодными голубыми глазами и коротко остриженными усами. Он уже знал о несчастье, но, не меняя распорядка дня, занимался гимнастикой: натягивал резиновые тяжи, приседал, глубоко дышал, откидывая назад руки, поднимая грудь. В грузовой отсек вошла Мэри Стрем, радистка корабля и астронавигатор, девушка спортивного склада, с решительными движениями, с гордо посаженной головой и острыми, но приятными чертами лица. — Мистер Керн, — звонко сказала она, — мистер Богатырев запрашивает ваше мнение. — Прошу извинить. Еще два упражнения, — ответил Керн, вытягивая в сторону ногу. Мэри Стрем нахмурилась, неодобрительно глядя на шефа, и горько сказала: — Не все теперь могут придерживаться расписания… В последний раз в час радиосвязи я говорила с ними… шутила… — Шутить в Космосе не место, — сухо отрезал Керн, свертывая резиновые тяжи. — В их положении вполне могли оказаться и мы. Мэри Стрем пожала плечами и пропустила начальника вперед. Рубка управления «Просперити» была похожа на кабину советского корабля, но спланирована по-иному. Пульт стоял не впереди, перед креслами, а, разделенный на две части, занимал боковые стены, передняя стена была сплошным окном, в котором виднелась звездная россыпь в непросветной темноте. Отчетливо ощущалось, какие звезды ближе, какие дальше. Знакомые созвездия как-то не воспринимались из-за того, что составлявшие их звезды казались словно в разных плоскостях. При появлении Аллана Керна с кресла, отстегнув ремни, поднялся второй пилот корабля, известный американский астроботаник Гарри Вуд. Он выглядел бы атлетом, если бы не был так угловат и нескладен. Большие руки фермера и грубоватое загорелое лицо не вязались с «учеными» очками. — Сэр, прошу вас… Если есть хоть малейшая возможность… Побывать на Венере — цель моей жизни. — Вы думаете, что главная наша цель — это подтвердить вашу славу астроботаника? Нащупал с Земли радиолокатором на Венере какую-то растущую дрянь и получил национальную премию!.. — Только здесь и можно доказать, что я не зря получил. — Мелко берете, Гарри! Я предпочел бы заглянуть в недра планеты! Добраться до них мне важнее, чем повидать никчемные папоротники. — Значит, сэр, не все еще потеряно? — Я сам хочу задать этот вопрос, — сказал Аллан Керн, усаживаясь в кресло и поворачиваясь лицом в угол. — Будить это страшилище! — гневно воскликнула Мэри. — В такую минуту? — В такую минуту нам нужна безупречная электронная логика, — невозмутимо ответил Керн и, пристально глядя в одну точку, стал четко и размеренно произносить: — Семь… двенадцать… девять… Хэлло! Джон! Проснитесь!.. В углу кабины в позе египетского фараона, положив руки на колени, сидел железный человек. Его металлический панцирь напоминал латы рыцаря-гиганта. Он повернул шлемовидную голову и уставился на Керна двумя выпуклыми, как у рака, глазами-объективами. Где-то в глубине окошечка на груди мягко разгорелся красноватый свет. Мигнул и засветился зеленый сигнал. Из отверстия в голове, прикрытого железной решеткой, раздалось шипение, треск, потом послышался неприятный металлический голос: — Да, сэр!.. Возмущенная Мэри Стрем отвернулась. Керн в упор смотрел на робота. С ним он связывал все свои личные расчеты освоения планеты Венеры. Робот был сделан гениальным, как привык говорить Аллан Керн, Томасом Керном, родным его братом, знаменитым кибернетиком, истратившим все состояние на это детище своего ума. Разочарованный, он умер в нищете, завещав брату, астронавту, своего Железного Джона. Именно на иных мирах могли проявиться все необычайные способности робота, безразличного к окружающим условиям. Колония роботов могла разрабатывать бесценные богатства планет при любой силе тяжести, при любой температуре, в любой атмосфере или без нее. Им, по мысли и Томаса и Аллана Керн, принадлежало будущее в освоении Космоса. — Прошу вас, уважаемый Джон, — почтительно произнес мистер Керн. (Чудаковатый Томас спрограммировал кибернетическое устройство робота так, чтобы он реагировал лишь на вежливое обращение). — Прошу вас решить уравнение: два корабля с известными вам запасами топлива… Требуется спустить на поверхность шестерых и поднять хотя бы пятерых для возвращения на Землю. — То есть как это — пятерых? — порывисто обернулась Мэри, пронзительно смотря на Керна. Керн поднял руку: — Пять мужнин со средним весом по сто восемьдесят фунтов, — уточнил он. — Мужчин! — воскликнула Мэри. — А я? — Вы останетесь в Космосе, — небрежно бросил через плечо Керн. — Шестым спустится Джон, — шепнул Гарри Вуд. Мэри была вне себя от негодования. Она заговорила вполголоса, угрожающе: — Превосходно! Свою чертову куклу вы собираетесь взять, а меня оставить сторожить вам топливо на обратный путь!.. К дьяволу, сэр! — Она тряхнула головой. — Не для того мой отец субсидировал экспедицию, — напомнила она, вскинув подбородок. Керн раздраженно повернулся к ней. — Вы уже достаточно использовали его доллары, — зло сказал он, — включив в экспедицию и своего жениха и себя. — Это бессовестно, шеф! Гарри заслужил полет на Венеру исследованиями ее растительности, а я… я, кажется, тоже доказала свою пригодность для космического полета. Керн усмехнулся. Мэри вызывающе смотрела на него. Она всегда была уверена в своей правоте, в себе, считала, что не знает страха. Она бывала в прериях и носилась там на необъезженных лошадях, она специально ездила в Мексику, где смуглые юноши прыгали за деньги с непостижимой высоты в бурное море… Ей захотелось заставить себя тоже прыгнуть. И она прыгнула… О ней писали газеты, а она лежала в больнице. Но она все-таки прыгнула. А потом встретился Гарри, повстречался на горной дороге, по которой она неслась в автомобиле. Она чуть не сшибла его, держащего пучок трав, собранных для гербария. Она великолепно затормозила, милостиво оставив его существовать. Так, по крайней мере, сказал он ей тогда, шутливо преподнося свой нелепый букет. Но она оценила букет не за редкие травы, а за то, что это был букет от него… Взбалмошная, она заставила его ехать вместе с собой. Правда, править на горной дороге он предпочел сам, слишком уж она демонстрировала свое бесстрашие. А когда они добрались до города, она уже считала, что не сможет жить без этого насмешливого увальня, который был прелестно «себе на уме». И тут выяснилось, что он рассуждает о своем участии в экспедиции на Венеру, как о новом походе за травами на горный перевал… Потерять Гарри, который так счастливо нашелся на крутом повороте, Мэри не собиралась. Она готова была быть с ним всюду и… принялась за радиотехнику и астронавигацию. Она блестяще сдала экзамены, она умела добиваться своего. Конечно, на третье место в американской части экспедиции было сорок тысяч претендентов, два места были давно обеспечены за летавшим уже на спутниках и на Луну Алланом Керном и за американским последователем советского ученого Гавриила Тихова, лауреатом Национальной премии по астроботанике Гарри Вудом, предположившим существование на Венере гигантских форм растительности типа флоры каменноугольного периода Земли… Остальное действительно сделали деньги мистера Стрема, не умевшего ни в чем отказывать дочери, правда оговорившего права своей компании на новой планете. — Конечно, — саркастически сказал мистер Керн, — экзамен на астронавигатора вы выдержали, но предстоит вам экзамен более серьезный. — Остаться в этой космической одиночке? Не выйдет! Собираетесь взять с собой робота? Так он останется здесь, я сама задам ему программу. А я спущусь вместе с вами, вместе с Гарри! — вызывающе добавила она. — Что ж, — усмехнулся Керн, — если вы во всем согласны поменяться судьбой с Джоном… — Мистер Керн имеет в виду, что… шестому, то есть Джону, придется остаться там… внизу… — шепнул Вуд. Мэри вздрогнула. — Я с большим удовольствием оставил бы там мисс Стрем, чем это несравненное чудо техники, с которым нам сейчас надо советоваться. — У вас электронный мозг, шеф! — чувствуя свое поражение, крикнула Мэри. — Польщен. Электронное мышление украсило бы любого министра, оно безошибочно. В связи с этим разрешите мне продолжать. Итак, почтенный Джон, прошу вас… без ошибки. Человекообразная машина Железный Джон была и на самом деле чудом современной техники. Ее электронный мозг с пятью миллионами запоминающих ячеек вмещал несметное количество понятий, составляющих людские знания в важных для космического обихода областях. Робот Джон не только переводил с русского языка на английский и говорил на обоих языках, вполне грамотно и литературно отделывая фразы, но и мог безупречно логически мыслить, ставить перед собой задачи и решать их, выбирая наивыгоднейшие решения. Конечно, он делал это, находя ответ в сотне тысяч вариантов, которые с тупой педантичностью машины бездумно перебирал. Но скорость этого механического мышления электронных схем была столь молниеносной, что он успевал сделать до миллиона попыток в секунду и выбрать самое острое и самое верное решение. Железный Джон обладал и завидными электрическими мышцами, и емким энергетическим источником, работающим на ядерных превращениях. Машина думала… Электрические процессы, грубо подобные биотокам человеческого мозга, совершали невидимую титаническую работу. У машины не было интуиции, вдохновения, светлого прозрения, но она отыскивала затерянный на морском берегу бриллиант, перебирая весь песок до последней песчинки. Наконец робот щелкнул, повернул глаза-объективы к мистеру Керну и безучастным голосом доложил: — «Знание» спустит на Венеру: мужчин — трех. Планер спустит: мужчин — двух, роботов — одного. «Знание» поднимает: мужчин — пять, роботов — ноль. — О’кэй! — сказал мистер Керн. — «Знание» получит все горючее «Просперити», — продолжал робот. — «Просперити» останется спутником Венеры и сгорит на девятьсот семьдесят четвертом обороте. Мэри с ужасом посмотрела на бесстрастную машину, словно произносившую приговор, но не перебила ее. — «Знание» доставит к Земле, — звучал металлический голос: — мужчин — пять, женщин — одну, роботов — ноль. Для посадки на Землю получит горючее на орбите спутника Земли. — Великолепно! — воскликнул мистер Керн. — Я полагаю, что командор оценит это блестящее решение и согласится на некоторую тесноту на своем корабле. Готовы ли вы, мистер Вуд, спуститься со мной и Железным Джоном на планере? — Я полагаю, мистер Керн, что риск в Космосе — это норма поведения, но… — Гарри посмотрел на Мэри. Она стояла, опустив голову. Он подошел к ней, положил ей на плечо свою огромную руку. — Уверен, — сказал он: — чтобы остаться здесь одной, нужна большая решимость, чем… для того, чтобы спуститься всем вместе… Мэри подняла глаза. — Я не знаю, — сказала она, — от кого потребуется больше. Я была готова ко всему, кроме этого… Если я не сойду с ума… — Член экипажа, — прервал ее Керн, — нужен на «Просперити» в здравом уме, чтобы с орбиты спутника поддерживать с русскими связь, пока мы не сядем на планеревблизи них. — Не беспокойтесь, выдержу! — почти гневно заверила Мэри. — Мэри… Спасибо! — Гарри Вуд сжал ее руку выше локтя. Мэри прильнула к стеклу, за которым сверкало солнце. Ей казалось, что она решилась сейчас спрыгнуть с небоскреба. Но нужно было идти в радиорубку передать мнение «Просперити» командору.Глава третья ПЛАНЕТА ТАЙН
Край исполинского оранжевого шара заслонил в окне радиорубки почти все звездное небо. Как завороженный, смотрел на него Алеша. Чуть расплывчатые, золотились на солнце неземные горные хребты. Они напоминали гребни штормовых волн, взметнувшихся и застывших. Гребни наплывали, становились резче, передвигались, заметно меняясь, превращаясь то в клубы взрывов, то в башни замков; закрученные смерчами, вздымались колонками, между которыми просвечивали красные пропасти, иногда ослепительно вспыхивающие светом вольтовой Дуги. Вечные облака Венеры! Когда-то и Земля была окутана таким же ватным одеялом облаков… Вот они, непроницаемые, ядовитые облака, казалось, исключающие возможность существования жизни на планете. Впрочем, так ли это? Аммиачные или метановые, они плывут на огромной высоте. Внизу могут быть совсем иные условия. Что это за красные сверкающие вспышками пропасти? Астрономы по ничтожным косвенным данным старались решить вопрос о жизни на планете. Высказывались самые различные предположения. Некоторым казалось, что Венера во всем подобна Земле, находится в зоне Жизни. Однако радиоастрономы одно время высказали очень пессимистические взгляды. Температура на поверхности Венеры оказалась по их измерениям около 300 °C!.. При такой температуре на планете не могло быть не только жизни, но даже воды. Объяснить такую высокую температуру на поверхности Венеры было очень трудно, она казалась крайне странной. Ведь почти такая температура существует лишь, на обращенной всегда к Солнцу поверхности Меркурия (400 °C), а Венера много дальше, к тому же защищена облаками… Советский астроном Н.А.Козырев еще в 1961 году высказал предположение, что радиоастрономы измеряют температуру не на поверхности Венеры, поскольку ионизированный слой венерианской атмосферы в шесть раз активнее земного и не пропускает радиоизлучений. Температура 300 °C относится именно к этому ионизированному слою. Как известно, в земной атмосфере есть слои, где температура в ее условном понимании, как характеристика теплового движения молекул газа, достигает 700 °C. Правда, такая «земная» температура отнюдь не вяжется с представлением о «жаре», поскольку плотность газа с такой температурой ничтожна. Что же касается поверхности Венеры, то Козырев, как и другие астрономы (в частности, Барабашов), считал, что там температура в пределах 30–50 °C. Расходились мнения и о воде. В противовес мнению радиоастрономов другие астрономы склонны были полагать, что поверхность Венеры залита сплошным водным океаном. А жизнь? Ведь именно в морях появились на Земле первые живые клетки, они превращались потом в организмы, а те цепко приспосабливались, совершенствовались и размножались… Однако возможно, что покрывающий Венеру океан состоит вовсе не из воды, а из углеводородов. Океан нефти!.. Но ведь на Венере, близкой к Солнцу, атмосфера, конечно, перенасыщена электричеством. Страшные, не прекращающиеся грозы с чудовищными молниями, удары которых видны даже сквозь непроницаемый слой туч, сразу же зажгли бы океан нефти… Зажгли?.. Если бы там был кислород!.. Кислорода в атмосфере Венеры долгое время не находили. Лишь в 1960 году там был обнаружен (в верхних слоях атмосферы) атомарный кислород, что позволяло подозревать существование кислорода в большем количестве и у поверхности планеты. Углекислота же обнаруживалась, и даже в количестве большем, чем на Земле. Столько на нашей планете было лишь в каменноугольный период, когда выброшенные вулканами газы позволяли бурно развиться гигантской растительности. Сотни миллионов лет пополняла живая зелень земную атмосферу кислородом, способствуя появлению новых жизненных форм. Но есть ли подобная растительность на Венере? Подлетая к Венере, исследователи убедились, что температура на поверхности Венеры скорее допускала существование жизни, чем исключала ее. 300 °C действительно нужно было отнести к ионизированному слою атмосферы, но о том, что происходило на скрытой всегда слоем туч поверхности, судить все еще было трудно. Еще изучая Венеру с Земли, пытливые умы пытались проникнуть мысленным взором сквозь загадочную пелену. Основоположник астроботаники Г.А.Тихов считал пробивающиеся сквозь пелену туч Венеры красноватые лучи не чем иным, как отражением света растительностью. На Венере очень тепло, и растительность ее не нуждается в тепловой части солнечного спектра, она должна отражать красные и инфракрасные лучи. После Тихова астроном Н.А.Козырев изучал весь спектр отраженного Венерой света и обнаружил «провал» в фиолетовой и ультрафиолетовой его части. Венера поглощала огромное количество энергии, возможно, благодаря фотосинтезу растений. К такому выводу пришли и американские ученые, строя баланс энергии Венеры. Ничем иным, кроме существования на ней растительности, нельзя было объяснить «захват» солнечной энергии, обнаруженной при составлении баланса. Два космических корабля, американский и советский, летели теперь над самой Венерой. Звездолетчики видели колеблющиеся хребты ее взлохмаченных туч, но были пока не ближе к разгадке тайны жизни на ней, чем далекие астрономы. Проблема жизни на планетах солнечной системы была темой кандидатской диссертации Алеши. Его руководитель профессор Богатырев содействовал включению своего ученика в экспедицию на Венеру. У Алеши Попова было достаточно к тому оснований. Вместе с Богатыревым он участвовал в лунной экспедиции, его исследование лунной плесени показало ее чудовищную способность развития в земных условиях, сделав лунные плантации на Земле вполне реальными. Подсказал ему тему все тот же Илья Юрьевич. Он вообще незаметно во всем руководил Алешей, человеком необычайно и опасно разносторонним. Четыре года назад окончив университет, Попов, обладая сильным драматическим тенором, решил стать оперным певцом. Но, занявшись музыкой, вдруг обнаружил, что может писать прелестные вальсы и песни, чем и занялся с упоением, сразу добившись известности не меньшей, чем имел до этого в живописи, которую не бросал. Он писал и пастелью и маслом, любил и портреты и пейзажи. Однако пейзажи так захватывали его, что он бросал кисть и отдавался природе, которую чувствовал и знал. Он способен был с самого рассвета под проливным дождем бродить по лесам, собирая грибы — в этом искусстве Алеша не имел себе равных… Или плавать на лодке по речушкам и тихим озерам… У него были еще и золотые руки, он занимался радиолюбительством с мальчишеских лет, в студенческие годы работал техником по телевизорам, и сам своими руками сделал для личной «библиотеки» «машину памяти» с миллионом запоминающих ячеек, превратив ее в портативный справочник по нужным ему отраслям знаний. Еще раньше он сделал себе карманную «машину памяти» и применил «электронную шпаргалку» во время экзаменов в университет, предварительно записав в ее устройство все ответы на экзаменационные билеты. После экзаменов он честно признался в этом и поставил приемную комиссию в щекотливое положение. Однако ее члены сочли, что студент, способный создать такой аппарат, не менее ценен, чем тот, кто ответил на экзамене. Некоторые профессора утверждали, что высшее образование, кроме общей культуры специалиста, прежде всего дает уменье пользоваться справочниками, и даже позволяли студентам заглядывать в книги на экзаменах, как в жизни, утверждая, что воспользоваться этим смогут лишь знающие. Но Алеша поступил не на технический, а на биологический факультет. Окончательный выбор между музыкой и биологией помогла сделать романтика Космоса, раскрытая перед Алешей Богатыревым. Илья Юрьевич видел беду в опасной, как он говорил, разносторонности Алеши, не редкой среди русских людей, — иные столь щедры во всем, что порой не становятся никем. Благодаря Илье Юрьевичу Алеша стал звездолетчиком, биологом и радистом корабля «Знание», способным в случае нужды заменить других членов экипажа. За долгое время пути он часто пел в своей радиорубке перед микрофоном. Его слушали не только Илья Юрьевич и Роман Васильевич, но и американцы на «Просперити», и звездолетчики «Мечты»… «Мечта»… До мельчайших подробностей помнил Алеша все, что было потом. Запросив по радио мнение американцев, Илья Юрьевич вызвал Романа Васильевича и Алешу, чтобы посоветоваться с ними. Он сидел тогда в магнитном кресле, притягивавшем костюм, ссутулившись, словно на корабле была не невесомость, а тройная тяжесть взлета. Широко расставив массивные колени и упершись в них руками, он невидящим взором смотрел в угол кабины. Роман Васильевич, пощелкивая магнитными подошвами, расхаживал по кабине и ругал американское предложение: — Авантюра! Не предусмотрено никакими инструкциями! Пожертвовать еще одним кораблем!.. Пойти на риск двойной перегрузки «Знания»! Выбросить даже запасы кислорода и приборы… Алеша запальчиво перебил его: — Наши глаза на Венере заменят многие приборы! Добров продолжал: — И мыслимое ли дело спускаться на планере, предназначенном для одного лишь робота! Что это? Безумие? — Скорее отвага, — ответил Алеша. Роман Васильевич остановился перед Богатыревым: — Как же ты сам думаешь, Илья? — Думаю — не зная броду, не суйся в воду. — Верно думаешь! — обрадовался Добров. — Значит? — тревожно спросил Алеша. — Значит, мнения таковы, — подвел итог Илья Юрьевич. — По Алешиному — надо немедленно, очертя голову, бросаться на американском планере в пучину туч. По Роману же получается — поворачивай вспять, покружив у планеты… — И как же? — повысил голос Алеша. — И не эдак, и не так. В воду сунемся, но… прежде брод узнаем. Это значит сперва, как предлагал Роман, станем спутниками Венеры и хорошенько изучим ее: не сплошной ли на ней океан или пустынный материк, покрытый пеплом вулканов, где и жизни еще нет? — Этого не может быть! — не выдержал Алеша. — Все возможно, — ответил Илья Юрьевич. — Так вот. Когда с помощью радиолокации получим первый глобус Венеры, наметим, где моря, где суша, когда выберем место для посадки, тогда выбрасывай кресла и койки пилотов, все, кроме нашего зверинца, и готовься к посадке на «Знании». Именно знание, одно знание доставим мы на Землю. Роман Васильевич пожал плечами: — И зачем ты только мнение людей спрашиваешь, Илья?.. — А разве в мое решение не вошло мнение каждого? — Это замечательно, Илья Юрьевич, что вы так решили! — бросился к Богатыреву Алеша. — Позвольте мне вас обнять! — Что я тебе, девица, что ли? — с притворной суровостью отстранился Богатырев. — Поищи ее на новой планете. — И найду! — смеялся Алеша. — Разумную жизнь обязательно на Венере обнаружим. Только бы спуститься!.. — Когда ты спустишься, разумных там не прибавится! — сердито заметил Илья Юрьевич и ласково взглянул на Алешу. …Корабли подошли к Венере и стали ее спутниками, пролетая над изменчивым, непроницаемым океаном вечных туч. Началось прощупывание поверхности планеты радиолучом. Американцы на «Просперити», и Алеша с Ильей Юрьевичем на «Знании» делали это независимо друг от друга, сверяя результаты по телевизионному изображению. Илья Юрьевич показывал американцам глобус, на котором постепенно появлялись контуры океанов. Мистер Вуд в свою очередь показывал на экране свой вариант Венеры. Надо сказать, что варианты изрядно расходились. — Здесь горы! — спорил с Гарри Вудом Алеша. — Боюсь, что вы приняли за горы пылевую бурю, — отвечал Вуд. — Но здесь вода, — указывал на глобус Алеша. — Или нефть, — отвечал с экрана мистер Аллан Керн. В одном наблюдения совпали — в расположении странного инфракрасного пятна. Мэри Стрем впервые вступила тогда в этот разговор. Керн и Вуд уточняли с Богатыревым кромку океана, а Мэри сказала Алеше совсем тихо, словно на ухо: — Что, если это тепловое пятно — город? У Алеши даже глаза загорелись. — Постараемся сесть неподалеку! — ответил он. — Вы счастливый, Алек, — сказала она: — вы увидите волшебную страну… Все равно, первозданная это пустыня или край буйной жизни… А вдруг там цивилизация? И они видят нас… Я все вслушиваюсь в треск атмосферных разрядов, все хочу расслышать адресованные нам снизу радиопередачи… — Напрасно стараетесь, Маша, — проскрипел подошедший к экрану Роман Васильевич. — Цивилизации здесь не может быть. — Почему вы так думаете? — обеспокоенно спросила Мэри. — Вы против существования иных цивилизаций? — Нет, — ответил Добров. — Цивилизация на иных мирах возможна, но… — У нашего Романа Васильевича по любому вопросу есть «но», — сказал Алеша, отодвигаясь от экрана. Добров покосился на него и сказал: — Но разумная жизнь не может возникнуть на разных планетах одновременно. — Почему? — удивилась Мэри. — Цивилизация — это миг на часах Космоса. Ведь планеты существуют миллиарды лет, а разумная жизнь — десятки тысяч лет. Она вспыхивает и гаснет, как и все на свете в круговороте жизни. Вспышки Разума совпасть не могут… Тем более здесь, где мистер Вуд предполагает каменноугольную эру… — О’кэй! — отозвался с экрана Гарри Вуд. — Вы очень точно заметили — каменноугольная эра! Командор! Уточняем… Здесь у вас тоже получилось нечто похожее на растительность. — Растительность или мелкая лагуна. Пока трудно судить, — отозвался Богатырев. — Наш мистер Вуд судил об этом еще с Земли, — едко заметил Аллан Керн. — Возможно, что это действительно растительность. Я бы очень этого хотел, — сказал Богатырев. Богатырев и два американца снова занялись глобусом. Мэри сделала Алеше знак. Он прошел в радиорубку, надел наушники, услышал голос американки: — Почему они не говорят об этом тепловом пятне? — Они считают его районом вулканов… — А мне так хотелось бы, чтобы это был город… Нет! Я не хотела бы этого. Близ вулкана Гарри будет в меньшей опасности, чем у города неизвестных существ… Край исполинского оранжевого шара заслонял в окне почти все звездное небо.Глава четвертая ПЕРВАЯ НОЧЬ
Корабль «Знание» пошел на посадку. Инженер Добров развернул корабль дюзами вперед. Начиналось торможение. Красноватый клубящийся океан надвигался снизу. На телевизионном экране виднелись напряженные лица Керна и Вуда. Ракета настолько снизилась, что касалась вихревых языков тумана. Окна на мгновение становились розовыми, потом снова раскаленными остриями в них заглядывали звезды и огромное косматое Солнце. Корабль пронизывал облачные горы, встававшие на его пути, оказывался над глубокими ущельями, снова врезался в розовую толщу, свет мерк и вспыхивал опять, когда в бездну проваливались красные долины облаков. В кабине становилось все жарче. Алеша обливался потом. Очевидно, стенки ракеты раскалились от трения о воздух. Добров экономил горючее, стремился затормозить сопротивлением атмосферы. Корабль вошел в сплошную массу облаков. Алешу вдавило в кресло. Это Роман Васильевич включил все-таки дюзы, притормозил. И вовремя, иначе изжарились бы!.. В кабине зажглось электричество, за окном стояла красная ночь. В радиорубку вошел Богатырев и погасил лампочки. Нет! За окном была не красная ночь, а красный день!.. Внизу расстелились снежные поля с ватными холмами, отливавшими румянцем. Вверху сквозь дымку облаков просвечивало немыслимо огромное багровое Солнце, как во время заката на Земле, только еще более красное, совсем медное… На него можно было смотреть. Внизу виднелась не поверхность планеты, а новый слой облаков. Алеша чувствовал появившуюся тяжесть, она приятным чувством бытия разливалась по всем членам, заставляла радостно ощущать их. Он невольно напрягал мышцы, совсем отвыкшие от настоящей ходьбы за месяцы полета… Недаром мистер Керн так упорно настаивал на непрестанной гимнастике. И зря Алеша, занимаясь с резиновыми тяжами, всегда ворчал… За окнами понеслись белоструйные потоки. В кабине стало не так жарко. Алеша вытер пот с лица и улыбнулся. Илья Юрьевич возился с анализаторами. Показания станций-разведчиков подтверждались. Слой ядовитых облаков пройден. Белые облака, как и ожидалось, насыщены водяными парами! Водные океаны, а не нефть, не море углеводородов внизу. Не мертвая планета, а жизнь в негаданных формах встретит там исследователей!.. В атмосфере, кроме углекислоты, оказалось много азота, кислорода же обнаружилось мало. Но внизу станции-разведчики показали его больше! Радуйся, Гарри! Есть там растительность, есть! Корабль вынырнул из белых облаков. И сразу же обрушился ураган. Исполинскую ракету тряхнуло так, словно вдруг заработали боковые дюзы. Богатырев ударился о спинку кресла, Алеша вылетел на пол, — не послушался, не привязал себя ремнями! Один только Добров прочно сидел на месте, как влитый, вцепившись руками в рычаги управления. Лицо его окаменело, на голом черепе выступили капли пота. Алеша подумал об американцах, которым предстоит пройти бешеную атмосферу на планере!.. Какие же они все-таки смельчаки!.. Вставая, встретился взглядом с Ильей Юрьевичем. Он, конечно, думал о том же. Алеша ухватился обеими руками за раму иллюминатора. Внизу алел новый слой облаков… красных и серебристых. Так это не облака! Это поверхность планеты! Суша!.. Красная суша… материк, покрытый красноватой растительностью!.. — Эй, Гарри Вуд! Слышишь нас? — бросился Алеша к радиоаппаратуре. Лица Вуда и Керна еще виднелись на телевизионном экране сквозь темные полосы помех. Алеша включил «телевизионный глаз», чтобы на «Просперити» тоже увидели поверхность планеты. Вуд закивал головой, заулыбался. — Она красная, твоя растительность! — кричал Алеша. — Именно такой представлял ее твой учитель Гавриил Андрианович Тихов! Но что это серебристое? — Это море, — гулко отозвался Илья Юрьевич. — Вода серебристая… или такой кажется сверху… Игра света. Телевизионный экран совсем закрылся темными полосами. — Полная «непроходимость» радиоволн, — угрюмо заметил Добров. — Как же они радиопеленг услышат? — забеспокоился Алеша. — Пойдут к квадрату «семьдесят», где мы сядем. Снизятся, услышат, — невозмутимо заверил Илья Юрьевич. Алеша успокоился. Он упивался невиданным ландшафтом. Добров вел ракету к берегу морского пролива. На горизонте дымились вулканы. Остроконечные конусы выбрасывали фонтаны дыма, расплывавшегося зонтами. — Эх, Мэри, Мэри!.. А мы с тобой надеялись, что тепловое пятно — это «их город»… Багровое пятно солнца падало на горную цепь. Исследователи «влетали» в вечер. Илья Юрьевич решил приземлиться на границе дня и ночи, где должно быть меньше бурь… Ракета прошла низко над вулканом. Пепел окутал ее тьмой, потом внизу сверкнуло раскаленное жерло и огненные реки по склонам. Потом снова серебрящаяся, отливающая медью вода. И лес! Отчетливо различимый сейчас лес, кровавые его заросли на берегу! Алеша вскочил и, подняв руку вверх, торжественно крикнул: — Слава Жизни, вечной и вездесущей! Она есть здесь, есть! К посрамлению чванливых невежд, считающих себя единственными избранниками Природы, а Землю — центром Вселенной! — Он бросился к микрофону и закричал: — Гарри! Гарри! Черт бы побрал эту непроходимость волн! Это папоротники! Честное же слово, папоротники! Походят на пальмы, листья тюльпанами… Алешу било, как в лихорадке. Он, всю жизнь убежденный в том, что на других планетах есть жизнь, сейчас боялся, что его разбудят… Добров не стал садиться на морском берегу. Кто знает, какие здесь штормы или вызванные ураганом приливы. Лучше укрыться на лесной поляне. Илья Юрьевич указал ему рукой вниз. Оба они совершенно не думали о величии открытого ими мира, а буднично выбирали место для посадки. Скалистые выходы на болоте. Пожалуй, можно рискнуть. В крайнем случае тотчас взлететь. Реактивные двигатели ревели… Это был могучий рев земной техники! Ракета вертикально опускалась. Толчок. Ракета накренилась в сторону. Добров готов был дать «газ», но ракета еще раз качнулась на выставленных лапах и замерла. Дым, поднятая пыль и пар окутывали корабль. — Приехали, ребята! — сказал Богатырев, притопывая ногой. — Венера! — Венера… — почти шепотом повторил Алеша, чувствуя, что все тело его словно налилось свинцом. Тяжесть составляла здесь 0,85 земной, но Алешу после долгой невесомости она не угнетала, а радовала, вливала энергию, жажду деятельности, силу. Добров вытирал платком влажный череп. Илья Юрьевич улыбнулся ему, молча поблагодарил. В отсеке «космического зверинца лаяла Пуля. Дым и пар рассеялись. Исследователи прильнули к окнам. Стелился туман, надвигалась темнота. Чужая природа словно пряталась от пытливых глаз. Гигантские красноватые стволы, голые и гладкие, без ветвей, колоннами тянулись вверх. Там они распускались темными шатрами. Травы под ними не было. Вместо нее узлами переплетались змеевидные корни. А между стволами протянулись… сети? Алеша так и замер. Сети! Искусно сплетенные сети! Но ученый подавил в нем мечтателя Это были лианы, цепкие, обвивавшиеся вокруг стволов, сплетенные замысловатой вязью. Чаща казалась непроходимой. До боли в глазах всматривался Алеша, стараясь увидеть хоть какое-нибудь движение. Но надвигалась тьма. Скоро все исчезло… Засветились огоньки и в лесу и на болоте. Если бы не они, тьма была бы полной. Обитатели Венеры никогда не видят ни звезд, ни солнца… Алеша выжидательно взглянул на Илью Юрьевича. — Подожди, — сразу понял его Богатырев. — Роман, включи наружные микрофоны. Алеша замер. В ушах его стучала кровь. И вдруг сразу, без перехода, в кабину ворвалась волна звуков, жуткой симфонией грубо захватила, подавила… Удаляющийся, скачущий грохот громыхающей колесницы или сорвавшейся лавины камней сменился близким воем. Потом прозвучал пронзительный писк и крик боли, надрывный, хриплый. И вдруг захлопали крылья… Пулька отчаянно визжала и царапала переборку. Добров хотел включить прожектор, но Илья Юрьевич остановил его. Теперь слышалось уханье, ровное, размеренное. Алеша ухватился за спинку кресла. Неужели машина? Послышался треск словно раздираемой на части ткани и сразу — нарастающий свист, замерший на предельной высоте. Потом мелодичная нота, другая, третья… Пение? Алеша посмотрел на Илью Юрьевича расширенными глазами. Тот отрицательно покачал головой. Добров зажег прожектор. И сразу замолкло все, словно выключили микрофон, замерло, притаилось. Только собака жалобно повизгивала в своем отсеке. Ослепительный свет вырвал из тьмы ближние стволы исполинских папоротников и почему-то ставшую теперь белой сеть лиан. Змеи корней словно застыли в борьбе, оцепенели. В чаще отраженными огоньками засверкали злобные звездочки… И никакого движения. Алеша не смог справиться с дрожью, а Добров деловито докладывал Богатыреву, что температура снаружи резко упала с 57 °C до 31 °C. «Вот это чудесно! — мысленно воскликнул Алеша. — Чего лучшего желать для развития жизни? Кислород у поверхности есть, как и ждали. Правда, его втрое меньше, чем на Земле, но он есть. И, быть может… Дышат же альпинисты на горных вершинах!.. Но разве позволит Илья Юрьевич выйти из ракеты без шлемов!.. Слово будет за вараном, голубем и Пулей…» Богатырев пристально посмотрел на Алешу, на Доброва и объявил: — Утро вечера мудренее… и на Венере. «Спать? — ужаснулся Алеша. — Разве можно спать на чужой планете в первую ночь? Конечно, нельзя!» Алеша слышал, как ворочался в своем откинутом «зубоврачебном кресле» Илья Юрьевич. Снаружи доносились приглушенные звуки. Должно быть, выл ветер. Животные беспокойно возились в своем отсеке… Алеше казалось, что ракета вздрагивает от ураганных порывов, но скорее всего она лишь пружинила на посадочных лапах и стояла прочно… стояла на венерианских скалах. Осознать все это было попросту невозможно. И не только Алеше… Илья Юрьевич все думал, думал о Венере, все пытался уверить себя, что он уже на ее поверхности, и вдруг поймал себя на том, что думает о Земле… Не венерианские гигантские папоротники вставали перед ним, а тихий сосновый бор. И даже смолистым запахом словно пахнуло откуда-то, и не чужой резкий ветер, а свой, земной ветерок распушил бороду, — и где-то в деревне, совсем как Пулька, лаяла собака… Тропинка спускалась к пойме реки Истры, про которую Илья Юрьевич пел своему внучонку: «Наша речка течет колечком, несется быстро, зовется Истра…» А двухлетний Никитенок с размаху влетал в воду, визжал и колотил по воде ручонками, вздымая брызги. Противоположный берег реки был крутой, заросший лесом, всегда в тени… На Венере же… то есть тут… тени не жди. Никогда здесь не выглянет солнце. Хоть бы уж скорее взошло… И Илья Юрьевич, кряхтя, перевернулся на другой бок, потом внезапно сел и засмеялся. Алеша и Роман Васильевич тотчас поднялись. Они не спали. — Что, братцы, не спится на чужой планете? Алеша встал и прижался лбом к совсем теперь холодному стеклу. И сразу отпрянул. За окном шел дождь. Обыкновенный земной дождь… Дождевые капли были совсем обычные, частые-частые… Они собирались в ручейки и стекали по стеклу, скрывая лесные огоньки… Совсем как на лобовом стекле автомобиля. Эх! Стеклоочистителей не предусмотрели конструкторы! Алеша обернулся: — Илья Юрьевич, можно спеть?.. — Пой, — засмеялся Богатырев. — Как же не петь, ежели на Венеру сели.Глава пятая БЕШЕНАЯ АТМОСФЕРА
Мэри не могла оторвать от пола магнитные подошвы. Надо было передать шефу приказ командора… В репродукторе, разрывая сердце, звучал радиопеленг, призывная советская песня, служившая сейчас для Мэри сигналом разлуки. Проход в грузовой отсек, где Керн и Вуд возились с планером, загородил Железный Джон. Мэри относилась к нему со смешанным чувством удивления, неприязни и протеста. — Попрошу вас, Джон, посторонитесь, пожалуйста, — вежливо попросила она. Робот, включенный на внешние реакции, тотчас отодвинулся, скользнул по лицу Мэри холодным взглядом рачьих глаз, щелкнул и проскрежетал: — Прошу вас, леди. Аллан Керн нервно обернулся на голос робота. Мэри протянула ему бланк с радиограммой командора. — Помолимся господу богу, — сказал Керн, вынимая молитвенник, и выключил робот. — Это его не касается… Пока Керн бубнил молитвы, робот стоял безучастный, с потухшими глазами. Мэри придвинулась к окну. Она отыскала во мраке Космоса голубенькую звездочку, самую теплую, самую яркую, самую красивую, и язычески молилась ей, молилась о Гарри и о себе, об их счастье, которое найдут они, вернувшись на эту милую звезду, чтобы никогда уже не покидать ее… Аллан Керн захлопнул молитвенник и несколько секунд простоял молча. Он мысленно говорил со своим покойным братом, пуритански воспитавшим его без родителей, привившим ему аскетическую сдержанность, философию выгоды и сдержанность дельца. Он вспоминал мальчишеское увлечение свирепой игрой регби, презрение к танцам, ярким галстукам и автомобильным поездкам с модно растрепанными девицами, уважительную ненависть к богатым удачникам и исступленную учебу — в колледже, в университете, на космодроме… И всегда твердую, направляющую руку Томаса, учившего жить среди волков. Аллан Керн говорил сейчас обо всем этом с братом и был уверен, что тот слышит его… Мэри отвернулась от окна и тоже молча говорила… с Гарри. Они прекрасно «слышали» друг друга. Гарри неуклюже притянул к себе Мэри и поцеловал ее между бровей. Всю силу воли собрала Мэри, чтобы не разрыдаться. Керн отвернулся. — Джон, прошу вас занять место в планере. И вас, Гарри, также, — торопливо пригласил он. Мэри должна была выйти из отсека, пол которого сейчас раскроется. Сколько девушек провожало милых на войну! Сколько жен бежало за стременем или за подножкой вагона! Сколько рыбачек, стоя на скалах, смотрели в штормовую даль! Но Мэри казалось, что никогда ни у кого не было такого всепоглощающего горя, как у нее. Чтобы горе это, острое и неумолимое, подобно ножу гильотины, упало на нее, от Мэри требовалось повернуть красный рычаг… Мэри вышла из грузового отсека, кусая губы, закрыла герметическую дверь. Окаменев, смотрела через круглое оконце, как Керн, а потом Гарри и, наконец, робот забрались в кабину планера, как прозрачной пластмассовой полусферой закрыли кабину сверху. Они еле разместились там в страшной тесноте. Планер походил на стрелу. Отогнутые назад маленькие крылья сверкали, как оперение. Гарри старался рассмешить Мэри, строил ей забавные рожи, показывал пальцами, как они будут шагать там, внизу… Все внутри Мэри застыло, онемело, а она… улыбалась Гарри. Мистер Керн посмотрел на нее и вдруг тоже улыбнулся. Это было так непривычно, что у Мэри словно оборвалось что-то… Она поняла его улыбку, как последний приказ, и рванула на себя красный рычаг. Пол тотчас разделился на две створки, и планер с людьми и человекообразной машиной провалился, исчез. Мэри показалось, что она своей рукой уничтожила их, но она поборола себя и бросилась в радиорубку. В репродукторе уже звучал голос Гарри: — Хелло, Мэй, — так только наедине звал он ее. — Я вижу наш корабль со стороны. До чего же он красив в полете! Вам должно быть очень приятно летать на таком скакуне. На пульте радиорубки среди циферблатов специально для Мэри было вмонтировано овальное зеркало. Мэри видела свое скованное лицо, холодные глаза, побледневшие щеки и… катящиеся по ним слезы. — Хэллоу, Гарри! — весело крикнула она в микрофон. — Вам должно быть тоже приятно лететь на нашем кондоре! Планер пронизывал розовые облака. Гигантское солнце затуманилось красноватой дымкой. Керн и Вуд надели колпаки скафандров и стали похожи на невозмутимого робота. Гарри злился на себя за то, что раскис, прощаясь с Мэри, словно испугался того, что ждет внизу. Недоставало только, чтобы шеф заметил это! «Когда находишься в кабине вместе с двумя человекоподобными роботами…» — непочтительно подумал Гарри и улыбнулся. — Кажется, вы держитесь молодцом? — прозвучал голос Керна в шлемофоне. — Я подумал, как трудно в шлеме протирать очки, — отозвался Вуд. Спустя некоторое время, понадобившееся электронной машине для «осознания» услышанного и выбора из миллиона ответов наиболее правильного, робот сказал: — Очки лучше всего протирать замшевой тряпочкой, в условиях нормальной температуры, со снятым шлемом. Гарри наградил электронного мыслителя таким взглядом, что можно было порадоваться за машину, реагирующую только на слова… Планер вынырнул из красного тумана. Гарри портативной кинокамерой снимал чужой мир и вспомнил знакомый сказочный мир закатных облаков, на которые мечтательно глядел еще в детстве, удравши с фермы в поле, мир воображаемых замков, оранжевых великанов, летящих драконов с кровавыми крыльями, бездонных колодцев с запрятанными в них солнечными кладами. Керн искусно вел планер. Робот бездействовал, поблескивая равнодушными стеклами объективов. — Температура крыльев повысилась до красного каления, — бесстрастно сообщил он. — Необходимо охлаждение. Если нет — крылья разрушатся, планер встретится с твердой поверхностью при скорости 3,69 мили в секунду. Это не обеспечит сохранности моих механизмов, существования пассажиров и выполнения заданной программы. Робот был всегда включен на самосохранение, и его логические построения были безошибочны. Впрочем, Керн и сам уже сделал нужные выводы и пустил в крылья жидкий гелий, чтобы охладить их. Планер мчался как будто в кипящем молоке. Мимо проносились вытянутые пузыри и дымчатые шарфы. Аппарат тормозился только сопротивлением воздуха, и кабина сильно нагрелась, несмотря на охлаждение жидким гелием. Однако Керн и Вуд, одетые в скафандры, не страдали от перегрева, а робот был равнодушен к жаре. Облака Венеры находились на огромной высоте, спираль торможения, которую вычислял еще удивительный русский ученый, провидец Циолковский, проходила в их толще. Гарри Вуд никак не мог дождаться, когда же планер вырвется из мутного тумана и они увидят наконец поверхность планеты, ее необычайные красноватые леса… Планер, обойдя несколько раз вокруг планеты и постепенно снижаясь, должен был уже выйти на заданный квадрат «70» материка. Но суша не показывалась. Туман темнел, из молочного превратился в серый, потом в бурый, наконец в черный. Впереди сверкнула молния. Робот дернулся. Керн с тревогой посмотрел на него. Новая молния полыхнула совсем близко. Робот затрепетал, но не произнес ни слова. Планер трясло, колотило, кидало, как гоночный автомобиль, сорвавшийся с бетонного шоссе. От непрестанных молний кабина залита была словно огнем электросварки. Невесомость уже давно исчезла, но Гарри внезапно почувствовал, что снова теряет вес, как в падающем лифте. В следующее мгновение он ощутил двойную, даже тройную тяжесть. Такой качки не бывает и в океане в любой шторм. Проклятье, Гарри не знавал морской болезни, но даже ему стало не по себе. Он едва успел протянуть вперед руки и упереться в железную спину дрожавшего от электрических разрядов робота. Планер падал в бездну носом вниз. — Радость дьяволам! воскликнул Керн, с трудом выводя машину из штопора. — Я слишком возгордился, понадеявшись на себя. Попрошу вас, Джон, занять мое место. Переключаю вас на автопилотирование в оптимальном режиме. Гарри заметил, что лицо у шефа покрыто мелкими каплями пота. Робот, продолжая вздрагивать при каждой вспышке молний, послушно перебрался на место пилота. Математическая машина учла скорость ветра, его направление, шквальность, перепады давлений и температур, восходящие и нисходящие потоки, закономерное расположение воздушных ям и пропастей, она прокладывала капризно-извилистую и наилучшую трассу полета среди беснующихся атмосферных волн, обходя их невидимые гребни, минуя бездонные провалы. И все же… Стремительные потоки терзали планер, подбрасывали его, низвергали с воздушных обрывов, разламывали его о почти твердые вихри тумана, крутили в дьявольском Мальстриме венерианской бешеной атмосферы… Никакой пилот не спас бы летательный аппарат. Только изумительная электронная машина, с субсветовой скоростью нечеловеческого мышления высчитывавшая каждое движение, могла управлять им. Гарри не знал, где низ, где верх, где свет, где тьма… И вдруг он увидел над головой крутящиеся красные круги. Он закрыл глаза — круги исчезли. Снова открыл — появились. Заросли Венеры! Он летел над ними вниз головой!.. Робот искусно вывел планер из мертвой петли, с помощью которой он избежал удара о поверхность планеты. Обманутый ураган разъяренным быком в хмельной ярости нес разодранный в клочья плащ вулканической пыли. А внизу трепетала пестрая, опасно близкая лента зарослей… Над нею летели не то животные, не то растения… с раскоряченными корнями — щупальцами, цепляясь за вершины еще не вырванных деревьев. Неужели это уродливые чужепланетные перекати-поле? И они приспособились в борьбе за существование, перелетая с места на место в сумасшедшем краю немыслимых бурь? Внизу, в прогалине, вороненой сталью сверкнула русская ракета. Железный Джон безучастно доложил: — Скорость ветра — сто двадцать три мили в час. Плотность атмосферы по отношению к земной — три и две десятые. При посадке могут быть повреждены мои механизмы. Ищу другое место. — Свалите на автомобильное кладбище вашу чертову куклу! — крикнул Гарри. — Бог послал нам ее за наши молитвы, — ответил Керн. Ракета «Знание» исчезла. Вместе с тучами песка и пепла буря прижимала планер к зарослям, грозя разнести в щепы. Деревья сменились волнами. Их пенные гребни словно хватались за планер. Ртутно тяжелыми ударами били они в утесы и, казалось, раскачивали их. Планер пролетел над морским проливом, порой пронизывая сорванную с гребней пену. Промелькнул склон вулкана. Планер бреющим полетом мчался над ним. Робот докладывал железным голосом: — В воздухе можно пробыть пятьдесят семь секунд. Возможна посадка: на воду, на деревья, на болото. Шансы на гибель: сто процентов, восемьдесят шесть процентов, шестьдесят два процента. Выбрано болото. Гарри не успел ничего сообразить. Внизу мелькнули исполинские веера листьев, острые скалы, кочки, лужи… Одно крыло задело за камень и отлетело. Фюзеляж покоробился и встал почти вертикально. Аппарат зарылся носом в тень и стал медленно погружаться. Керн откинул пластмассовую полусферу: — Скорее! Во имя бога, черта или бизнеса! Планер тонет! Астронавты выскочили из машины, увязнув по колено в грязи. Это была грязь чужой планеты, они ступили на Венеру, но никто из них даже не подумал об этом. — Радость дьяволам! Погибло все! Джон не покинет планера, пока включен на автопилотирование! — исступленно кричал Керн. Гарри флегматично полез в утопающую кабину, но выпрыгнул обратно проворнее. За ним следом, скрежеща об алюминиевую обшивку, неуклюже выбирался робот. Он сразу завяз в топкой почве. Нечеловеческим напряжением вытащили его астронавты на кочку. Он смирно стоял на ней. Керн, опустившись на колени, счищал с его ног липкую грязь, а Гарри мрачно наблюдал, как засасывает болото изувеченного серебристого кондора. Осталось только хвостовое оперение с полосами американского флага. Вот и оно исчезло. В луже долго вздувались и лопались пузыри.Глава шестая МИНУВШАЯ ЭРА
Флагманский корабль экспедиции стоял на Венере. Люди впервые за историю человечества достигли другой планеты. Они ощущали ее непривычную тяжесть, слышали ее непонятные звуки, дождались ее несветлого утра, но не увидели иного мира. Венера словно спохватилась и, по-прежнему загадочная, закуталась мглой густого тумана. — Прямо как в Лондоне! — покачал головой Илья Юрьевич. Алеша вспомнил Лондон, куда приезжал с докладом о лунной плесени. Лондон запомнился ему как город «частных крепостей», зонтиков и желтых огней. В «частных крепостях» — в собственных домах, которыми пышно именовались уныло-однообразные трех- четырехэтажные секции кирпичных строений, — лондонцы жили не «по горизонтали», как все люди, а «по вертикали». Из комнаты в комнату не переходили, а поднимались по лестницам, как в башне маяка. Зато у каждой крепости был свой подъезд, совершенно одинаковый с соседним, с теми же неизменными ступеньками, но самодовольно выкрашенный в свой особенный цвет, отчего разделяющая подъезды колонна порой получалась двухцветной, а несколько квадратных ярдов стриженной «под машинку» травы у тротуара считались собственным садом. Зонтики, как шутил Алеша, отличали лондонцев от амфибий, позволяя «разумным млекопитающим» существовать в воде, которая окружала их остров морями, низвергалась на их остров дождями и поднималась с их острова туманом. Желтые огни на улицах, желтые фары автомобилей, подобные желтым кошачьим глазам, позволяли лондонцам видеть в тумане, как в темноте… А еще лучше желтых лучей пронизывают туман лучи инфракрасные, невидимые. Об этом подумал сейчас Алеша, но не успел сказать Илье Юрьевичу, потому что ход мысли у обоих, очевидно, был одним и тем же. Илья Юрьевич уже сидел за инфракрасным перископом. Жестом он подозвал Алешу и уступил ему место у окуляров: — Садись-ка в «машину времени». Алеша, взволнованный и нетерпеливый, прильнул глазами к мягкому эластичному козырьку, коснувшемуся его бровей, тотчас отпрянул, словно обжегся, и опять жадно приник. В дымке тумана, как в толще воды, виднелась исполинская расплывчатая тень с напоминающим горный кряж хребтом, с длинной вытянутой шеей и волочащимся могучим хвостом… Живое существо! Типичный ящер минувших земных эр!.. Добров, экономя энергию, выключил инфракрасный прожектор, и «допотопное видение» исчезло. Алеша вскочил, бросился к Илье Юрьевичу: — Вы видели? Видели? Это же диплодок! Богатырев, запустив руку в густую бороду, задумчиво кивнул: — Иначе и не могло быть. Венера — сестра Земли… младшая. Алеша и Добров прекрасно поняли, что он имел в виду. В тройке планет солнечной «зоны жизни» — Венера, Земля, Марс — Венера была «младшей» не потому, что появилась позже, а потому, что остывала дольше своих собратьев. Первым охлаждался и терял атмосферу наиболее удаленный от Солнца Марс. Обладая наименьшей из трех планет массой, он не имел силы удержать стремящиеся улететь от него частицы атмосферы и водяных паров. Он первым из трех планет потерял «ватное одеяло» сплошных облаков, сохранявшее собственное тепло планеты, его первородные океаны начали остывать, и в них неизбежно должна была зародиться Жизнь, когда Земля и Венера были для этого еще слишком горячи. И появившаяся в марсианских океанах Жизнь должна была из-за их высыхания выйти на сушу задолго до того, как это случилось на Земле. Живые организмы на Марсе вынуждены были приспосабливаться к условиям, меняющимся быстрее по сравнению с земными, и потому лестница эволюции на Марсе могла оказаться длиннее, чем на Земле, там можно было бы ожидать… Впрочем, Богатырев всегда хранил молчание о том, чего можно было ожидать на Марсе. Алеша подозревал, что у Ильи Юрьевича по этому поводу есть невысказанная гипотеза, но какая, он не знал. Венера по сравнению не только с Марсом, но и с Землей отставала в развитии: до сих пор не потеряла сплошного облачного слоя,находилась ближе к Солнцу, остывала много медленнее, и на ней вполне можно было встретить древнюю земную эру. Вот почему не удивился Богатырев ни папоротникам, ни даже ящеру. Не удивился, но, конечно, был взволнован, хотя и старался это скрыть, говоря Алеше: — «Машина времени»… Мы перенеслись в далекое прошлое Земли, хотя… Алеша вопросительно посмотрел на Илью Юрьевича. — Сходные пути развития естественны, — продолжал тот, — но… они могут быть не единственными. — Значит, на Венере, чего доброго, увидим то, чего никогда не было на Земле? — воскликнул Алеша. Богатырев кивнул. — Илья Юрьевич! Дорогой! Ну позвольте же выбраться… — Не терпится взглянуть? Давай спросим Романа, закончил ли он стерилизацию. — Стерилизация! Это покажется странным многим… Бояться чужих миров — это еще туда-сюда, а беречь Венеру от «земной опасности» — это… — Это наш долг, — договорил за Алешу Илья Юрьевич. — Вспомним, о первой ракете, принесшей советские вымпелы на Луну. Ее заботливо дезинфицировали даже перед стартом в казавшийся мертвый мир. А здесь… Кто знает, какой вред венерианскому миру принесли бы мы, не приняв мер против микробов, которые можем неосторожно занести с собой. Представь, как размножатся они и набросятся вдруг на чужую, незащищенную от них природу! Алеша остановился у окна, силясь невооруженным глазом разглядеть в тумане «доисторическую тень», но рассмотрел лишь влажные камни внизу. — Поднимается туман! Поднимается! — обрадованно крикнул он. Добров, пятясь из соседнего отсека, принес в охапке скафандры, которые облучил гамма-лучами и промыл антисептическим раствором. — Ну, братцы, — сказал Богатырев, — сядем, по древнему русскому обычаю, поразмыслим… Алеша сел, проникшись торжественностью минуты. Выпущенная из зверинца Пулька ласково терлась о его колени. Кошка Мурка осталась в зверинце и не отходила от своих пригвожденных к полу котят. Рожденные в космическом полете, они не могли теперь даже ползать. — Роман, оружие! — скомандовал Богатырев. — Алеша, готовь автоматическую метеостанцию. С ее монтажа начнем. Пулька! За мной! Пойдем за населением ковчега. Туман приподнялся, окутывая ракету чуть выше посадочных лап. Богатырев, Алеша и Добров вышли в радиорубку, которая временно превращалась в воздушный шлюз. С ними вместе было и население зверинца, все, кроме кошек. Собака боязливо повизгивала. Белых мышей Илья Юрьевич держал на ладони. Ящерица забилась под пульт. Голубь сидел у Алеши на плече. Дверь в кабину плотно закрыли. Добров деловито отвинчивал барашки люка, ведущего на Венеру. Исследователи, одетые в скафандры со шлемами, походили на водолазов. Воздух Венеры, более плотный, чем в кабине, со свистом врывался снаружи в щель приоткрытого люка. Собака первая услышала свист и навострила уши. Алеша и Илья Юрьевич переглянулись. Добров наблюдал за вараном. Ящерица тяжело дышала, как после быстрого бега. На лайке шерсть встала дыбом, и собака жалась к Алешиным ногам. Голубь замахал крыльями, но остался на Алешином плече. Мыши вытянули лапки и недвижно лежали на огромной ладони Ильи Юрьевича. Люк еще полностью не открылся, а они уже издохли. Пулька легла на пол. Бока ее провалились. Люк открылся. Внизу виднелись черные камни, острые и мокрые. Алеша взял собаку на руки. Добров захватил два гранатных ружья и автомат. У Ильи Юрьевича был другой груз… Он стал спускаться первым, отыскивая ногой ступеньки алюминиевой лестницы. Было видно, как он коснулся камней, стал на влажную почву и тяжело опустился на колени. Алеша и Добров понимающе переглянулись. Русский ученый Богатырев стал на колени на чужой космической земле, словно хотел выразить уважение к неведомой природе и взволнованность ступившего на нее человека. Но Богатырев не просто стал на колени, он еще и нагнулся, словно в земном поклоне… Но он не касался лбом земли, а заботливо рыхлил ее совком, разгребал руками. Спустившийся за ним следом Добров стоял, как на часах, с одним гранатным ружьем в руках, с другим ружьем за плечами и с автоматом на шее. Он охранял Богатырева. Илья Юрьевич сажал на другой планете растения Земли. Спрыгнувший с последних ступенек лестницы Алеша спустил тяжело дышавшую собаку и стал выкапывать лопатой ямки. Первые посланники Земли посадили на Венере четыре растения: тополь, кипарис, кактус и бамбук, и четыре зернышка: пшеницы, кукурузы, винограда и риса… Илья Юрьевич поднялся с колен, выпрямился во весь свой огромный рост, одной рукой обнял за плечи Алешу, другой — Доброва. — Ну вот!.. Здравствуй, Земля-вторая! Принимай искателей! — сказал он. Собака встала, обнюхивая почву, сделала несколько шагов и ткнулась носом в ногу Богатырева. — А ведь дышит, дышит! Жива наша Пулька! — сказал Богатырев, потрепал собаку по загривку и посмотрел вверх. Туман улетал лохматым облаком, обнажив островерхую ракету и вершины папоротников. Почти невидимые в летящей дымке, над лесом проносились крылатые существа. Добров сменил гранатное ружье на автомат и настороженно поглядывал на опасные облака: — А ну, Алеша, пусти-ка в полет голубка нашего. Что он у тебя на плече отсиживается? Алеша взял в руку голубя. Казалось, он дышал совсем нормально. Черные бусинки глаз у него поблескивали. Это был самый обыкновенный сизый голубок. — Ну, лети, вестник мира! — сказал Алеша и подбросил голубя. Голубь сначала затрепетал и поднялся по вертикали почти к облакам. Потом стал махать крыльями медленно, совсем не поземному, не по-голубиному, скорее как летящая над волнами чайка. Плотная атмосфера позволяла ему парить. Он стал кружить вокруг ракеты. Исследователи с интересом следили за ним. И вдруг черной молнией вырвался из низкой тучи крылатый зверь с оскаленной зубастой пастью и на миг закрыл голубя перепончатым крылом. Потом почти упал на камни, взмыл над ними и скрылся в туманных вершинах. Голубь исчез. Собака рычала. Шерсть у нее на загривке встала дыбом. — Это птеродактиль, — сказал Богатырев. — Жаль сизого… — Что ж вы не стреляли в эту гадину! — накинулся на Доброва Алеша. — Стрелять только в крайнем случае, обороняясь, — строго сказал Богатырев. — Роман прав. Выдержка у него есть. Жаль голубка. А дело свое он сделал… Добров выпустил на камни варана. Ящерица оживилась, забегала, забралась на камень, соскользнула с него, притаилась, высунула голову и стала оглядываться, словно высматривая добычу. — Чует, что мир гадов тут, — заметил Добров. Пуля зарычала, смотря в чащу. Туман исчез. Высоко в красноватом небе неслись белые облака. Илья Юрьевич приказал дать планеру радиопеленг. Добров принялся за монтаж спущенной Алешей через люк автоматической станции. Птеродактили исчезли вместе с туманом. Илья Юрьевич расхаживал теперь с ружьем и автоматом, пытливо всматриваясь в чащу, молчаливую и угрожающую. Пулька тревожно нюхала камни. Добров, работая, что-то мурлыкал себе под нос. Отвертка два раза срывалась и падала на камни. В перчатках все-таки неловко было работать. Но вот он включил станцию, снабженную световой батареей, заряжавшейся от дневного света. Теперь что бы ни случилось с исследователями, защищенные яйцевидной броней приборы будут триста дней записывать венерианскую погоду, фотографировать небо и окружающую местность, а в случае приближения какого-нибудь существа снимут его на кинопленку. Ровно через триста дней могучий радиоимпульс, пробив ионизированный слой венерианской атмосферы, пошлет на Землю в сотню тысяч раз убыстренную запись отчета, который расшифруют, замедлят и воспроизведут приборы на Земле. Первыми существами, запечатленными на ленте, изображение которых почти через год увидят люди на экранах Земли, были три советских звездолетчика, обнявшихся перед объективом станции. Алеша схватил Илью Юрьевича за руку, показал на небо. Над их головами, почти задевая вершины папоротников, пронесся планер. Алеша замахал руками, перескакивая с камня на камень. Планер исчез… За ним, словно в погоню, неслись по ветру растения с раскоряченными корнями. — Плохо, — сказал Илья Юрьевич. Пулька завыла.Глава седьмая МЕСТНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Аллан Керн и Гарри Вуд стояли на дымящейся кочке посреди туманного болота и смотрели друг на друга. Все было понятно без слов. Погиб не только планер с аппаратами дальней радиосвязи — погибли запасы продовольствия, а главное, запасы кислорода… Железный Джон медленно поворачивал шлемовидную голову и «запасался впечатлениями». Берег болота представлял собой узкую полосу более сухой почвы, за которой мрачной стеной вставали заросли папоротников, вершины которых скрывались в клочковатом тумане. — Этой картиной я грезил на Земле, — чуть насмешливо сказал Гарри Вуд. — Мне всегда казалось, что я уже видел это… — …в каменноугольных шахтах, — мрачно отозвался Керн. — Там встречаются отпечатки этих чертовых растений, иногда даже окаменевшие стволы… Надеюсь, в венерианской каменноугольной шахте через сто миллионов лет наткнутся на наши окаменевшие тела и мы попадем в музей. — Признаться, шеф, я предпочел бы иным путем способствовать процветанию науки. — К сожалению, у нас не осталось шансов сообщить в газеты, что мы видим. — Вы хотите сказать, что русские не будут искать нас? — Не будьте бэби в очках, с национальной премией в кармане, — усмехнулся Керн. — Русские заправятся топливом у вашей безутешной вдовы Мэри, доставят на Землю сенсационные экспонаты и получат все причитающиеся вам премии. — Во-первых, я еще не женат… — Боюсь, вы так и останетесь холостяком. — Во-вторых, как же мы? — Нас стали бы искать, если бы на «Знании» были не люди, а роботы… И лишь в том случае, если бы у этих роботов было выключено «самосохранение». Кто разумный решится идти на погибель, пробиваясь пятьдесят миль через эти чертовы джунгли, болота, морской пролив? И только для того, чтобы убедиться, что мы уже задохнулись без кислорода. — Все ясно, сэр. Начнем с этого, — сказал Гарри и стал решительно снимать с себя шлем. — Безумец! — крикнул было Керн, но махнул рукой. — Впрочем… Это право каждого из нас. Гарри снял шлем. Лоб его покрылся потом, грудь судорожно вздымалась, рот широко открылся. — Носом… дышите носом, Гарри, — посоветовал внимательно наблюдавший за ним Керн. — Получите кислорода на двадцать пять процентов больше. — О’кэй, шеф! — отозвался Гарри; голос его звучал глухо. — Дышу… и, кажется, жив… — Это в самом деле любопытно, Гарри. — Это шанс, шеф. — Протянуть подольше? Что ж… Тогда придется разведать берег. Гарри опустился на кочку. Он дышал с трудом. Воздух был жаркий и влажный, насыщен какими-то странными запахами. Голова кружилась, и от этого казалось, что воздух опьяняет, хотя его все время не хватало. Перед глазами плыли круги и клочья тумана. Сквозь них Гарри едва различал, как его сухопарый шеф перепрыгивает с кочки на кочку, приближаясь к гигантским папоротникам. Папоротники, папоротники… В сознании Гарри всплывали латинские названия. Непроизвольно он занимался систематикой венерианской флоры. Это означало, что дышать все-таки было возможно. Гарри отметил, что в этом мире нет травы. Любое, казалось бы, травянистое растение имело здесь древообразную форму, и к земному латинскому названию требовалось прибавлять дополнительное слово. Особенно много было тянущихся даже по болоту с кочки на кочку змеевидных корней. Они переплетались, чуть погруженные в топь, там и тут выпирая из нее. Они походили на отвратительных пресмыкающихся. По ним и перебирался к берегу Керн. Кочки были покрыты шаровидными бесцветными грибами. Когда Керн наступал на них, они взрывались черным облаком. Солнца, конечно, не было видно. Все вокруг было красноватым: багровое низкое небо, медные лужицы воды между кочками и растительность. Да! И карминовая растительность! «Так и должно было быть, — подумал Гарри, надевая шлем, чтобы отдышаться; теперь он снова мог соображать. — Здесь слишком жарко, растения излучают излишнее тепло, отражают лучи теплоносной части спектра… Потому и красные…» Гарри Вуд встал на ноги рядом с бесчувственным роботом. Оба они наблюдали, как Керн ступил на берег. И тотчас берег ожил. Со всех сторон к Керну устремились вереницы маленьких существ. — Жизнь! Вот она, жизнь, шеф! — радостно воскликнул Гарри. — Из всех видов жизни на Венере предпочитаю лишь собственную, — отозвался через шлемофон Керн. — Эгей, шеф! Осторожнее! Боюсь, вашей точки зрения не разделяет местная живность. — Кажется, это ящерицы, — отозвался Керн, отступая. — Притом очень почтительные. Они встали передо мной на задние лапки. — Берегитесь, шеф! Динозавры и тиранозавры ходили тоже на задних лапах! Все произошло мгновенно. Небольшие ящерицы, опираясь на задние лапы и длинный хвост, похожие на сусликов или маленьких кенгуру, настигли Керна и вцепились ему в сапоги. Другие перелезли по спинам передних и стали взбираться по ногам Керна. Американец резким движением стряхнул их, но новые ящерки осаждали его со всех сторон. Керн отступил на несколько шагов и оказался среди лужи. Ящерки, по-видимому, избегали воды… Они заполнили берег и жадно раскрывали маленькие зубастые пасти. — Проклятые твари! — ругался Керн, перебираясь в безопасное место. — Подозреваю, что это называется у них местным гостеприимством. Мы едва не потеряли шанс попасть в будущий музей. Надеюсь, они уберутся отсюда когда-нибудь? — Вряд ли, — усомнился Гарри, снова усаживаясь поудобнее у ног робота. — Я помню, на Земле был подобный случай. Керн добрался до Гарри. «Любопытный парень, — подумал Керн. — Он в самом деле таков или не хочет ударить лицом в грязь?» — Что же случилось за сто миллионов километров отсюда? — бодро поинтересовался Керн. — Однажды войско, не помню каких завоевателей, встало лагерем в пустыне, — спокойно начал рассказывать Гарри. — Завоевателей? — деловито переспросил Керн. — Сторожевые слишком поздно заметили, что на войско движется море мышей… Их легко было уничтожить ударом сапога, но… их было, шеф, невероятное множество. Люди защищались щитами, рубили мышей мечами, но новые массы грызунов лезли по горам трупов. Воины валились обессиленные… Лошади ржали, обрывая поводья, унося на крупах вгрызшихся в них мышей… Они падали, и на месте их падения оставались начисто обглоданные кости… От целого войска завоевателей не осталось ничего… Были съедены даже ремешки от конской сбруи и от богато украшенных шлемов военачальников… Лавина мышей прошла дальше… — Не пойму, парень, хотите ободрить или разозлить? — Может быть, и то и другое, — усмехнулся Гарри. — О’кэй! — в ярости крикнул Керн. — Не будем равнять с собой съеденных мышами варваров. Мы располагаем кое-чем более совершенным, чем мечи и стрелы. Не задать ли этим гадинам железного перцу? — Если вы под перечницей имеете в виду Железного Джона… — Вот именно! Попрошу вас, Джон, перебраться на берег и познакомиться с местным гостеприимством. Робот послушно тронулся в путь, — Прошу вас, Джон, осторожно выбирать дорогу. Здесь легко провалиться. Железный Джон замер с занесенной ногой. — Да, сэр, — бесстрастно произнес он. — Неизвестно допустимое давление на кочку, корни и топь. Недостаток цифрового материала. — Делайте осторожные экспериментальные шаги, Джон. Накапливайте новые сведения, прошу вас. — Да, сэр, — ответил робот и стал топтаться на месте. Наконец он тронулся в путь. Гарри и Керн с разных кочек с тревогой наблюдали за ним. Провалившись два раза по колено, робот научился выбирать правильный путь и вышел на берег почти посуху. Жадные ящерицы с яростью набросились на него. Их накопилось теперь так много, что, разноцветные — синие и желтые, — они покрыли берег движущейся пестрой массой.
Не обращая на ящериц внимания, закованный в доспехи робот вышел на береги остановился. Зверьки буквально облепили его, стали цепляться за железо, очевидно, липкими лапками, вскарабкивались по его ногам, по туловищу, на плечи и на голову. Серебристый робот преобразился покрылся вдруг безобразной пестрой шкурой. Робот размышлял. Его математическая машина перебирала сотни тысяч поступков, которые он мог бы совершить, и никак не могла на чем-нибудь остановиться. — Информируйте, Джон, прошу вас, — радировал Керн, с трудом оставаясь вежливым. (Напомним, что его брат создал такую машину, которая реагировала только на вежливое обращение). — Информируйте меня, пожалуйста. Робот невозмутимым голосом сообщил, что он подсчитал количество ящериц на квадратном футе, определил общую площадь, занятую ими, и, наконец, общее их число: двести семь тысяч триста сорок восемь штук, с точностью до двух-трех ящериц. Если давить ящериц ногами, то, для того чтобы вытоптать фут за футом всю упомянутую площадь, понадобится при оптимальной скорости передвижения восемнадцать часов тридцать две минуты шестнадцать секунд. — Черт возьми, шеф! — закричал Гарри. — Этот подсчет больше годится для натирки паркетных полов! Здесь нужно действовать быстро. — К сожалению, огнестрельное оружие тут бесполезно, а огнеметов мы не предусмотрели. Лучше всего подошел бы тяжелый механический каток, которым укатывают асфальт на дорогах. — Прекрасная идея, шеф! Нельзя ли внушить ее Джону? — К сожалению, асфальтовые дороги не затронуты в его запоминающем устройстве. — Тогда переключите робота на меня, чтобы он повторял мои движения. Ведь он рассчитан на телеуправление. — О’кэй, Гарри! Вы начинаете мне нравиться. Внимание, Джон, прошу вас. Я переключаю вас на телеуправление. Не теряйте времени, Гарри. Передвиньте рычажок своего радиоаппарата на цифру «девять». Теперь робот должен был действовать не размышляя, а лишь точно повторяя движения Гарри Вуда. Гарри, стоя на дальней кочке, занес ногу. Занес ногу и робот на берегу. Гарри топнул ногой. Опустил свою тяжелую ступню и робот. Раздался отчаянный визг. Ящерицы отбежали, оставив несколько трупов. Но снова они ринулись на Железного Джона. Гарри неистовствовал на своей кочке. Он подпрыгивал, топтался, ударяя по кочке кулаками, кажется, готов был лечь и кататься по болоту, давя тяжелым телом, как катком, несчетных врагов. Робот точно копировал все его движения. На берегу скопилась гора уничтоженных ящериц. Она мешала роботу двигаться, но он не мог перейти на новое место, потому что его повелитель был прикован к кочке. Ящерицы учли малую подвижность противника. Собираясь для новой атаки, они не переходили невидимую запретную черту. Робот бросился на них, но вдруг неуклюже оступился и упал, растянувшись во весь рост. И тотчас, повергнутый, он был покрыт толстым слоем прожорливых победителей. Их зубы скрежетали о металл. Робот беспомощно взмахивал руками, под ударами которых гибли исступленные ящерицы. Их место занимали новые свирепые собратья. Движения робота становились все беспорядочнее. Он трепыхался в массе налипших на него хищников… Но робот лишь воспроизводил движения Гарри Вуда, который в пылу борьбы с невидимыми врагами оступился и угодил в топь. Он завяз в ней по самые плечи и судорожно цеплялся за ближние кочки… Потому и были так беспомощны движения Железного Джона. Аллан Керн, перепрыгивая с кочек на узлы корней, спешил Вуду на помощь. Еще немного — и она была бы уже не нужна. Вместе с Вудом замер бы и робот, которого не удалось бы уже переключить… Вымазанного по самое горло, облепленного грязью, вытащил Керн Вуда на кочку. Раздавленные грибы дымились… — Топчите, топчите их, подлых! — кричал Керн. — Переходите за мной, держитесь за руку! Наступайте на них. Робот, воспроизводя движения Гарри, снова поднялся. Он стряхивал с себя ящериц, как стряхивал с себя тину Гарри. Он делал прыжки на берегу, как Гарри на болоте. Ящерицы в страхе рассыпались из-под его ног, а у Гарри под ногами клубился дым от раздавленных грибов. Ящерицы, почуя наступательный дух бросавшегося на них железного чудовища, отбежали на почтительное расстояние, оставив на поле боя огромное количество павших. Трупы покрывали дорожку, ведшую в чащу зарослей. Керн заметил, что ящерицы свободно движутся лишь по открытой полосе между джунглями и болотом. Он решил этим воспользоваться и скрыться от ящериц в чаще. — Переключайте Джона на самостоятельные действия! — скомандовал Керн. — Он уже накопил теперь опыт. Сами — за мной! Гарри переключил аппарат. Робот словно и не почувствовал этого. Он продолжал выплясывать на берегу, наступая на ящериц, будто его хозяин продолжал задавать ему эти движения. Ящерицы бежали, уступая металлу. Керн и Вуд одним духом пересекли открытую полосу и остановились только в лесу, стараясь отдышаться. Робот двигался к ним, пятясь, устрашая ящериц тяжелыми ногами. — Уничтожено девять тысяч триста сорок одна штука, — равнодушно докладывал он. — Для полного уничтожения оставшихся потребуется… — Разве это не чудо техники! — воскликнул Керн. — О, мой покойный брат! Его дух был с нами! — Во всяком случае, машина поработала с душой, — заметил Гарри. — Но какие здесь растения! Вы только посмотрите, шеф! Докторские диссертации, профессорские звания, даже Нобелевская премия — все здесь находится на расстоянии вытянутой руки! — К сожалению, ракета, нужная для возвращения, находится несколько дальше, — буркнул Керн.
Глава восьмая МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА
Два человека в скафандрах без шлемов брели по венерианскому лесу. Они казались пигмеями рядом с исполинскими папоротниками. Веерообразные кроны в клочья рвали низкие, гонимые ветром тучи. Почва чмокала при каждом шаге, готовая засосать, поглотить. Стоять можно было только на узловатых корнях. Сети лиан проволочными заграждениями вставали на пути, угрожая острыми шипами на гибких стеблях. Дорогу пробивал робот. Во влажных блестящих латах, он крушил топором заросли, как мечом. Керн был мрачен и что-то шептал, может быть молитвы. Гарри Вуд принуждал себя смотреть по сторонам, вспоминать джунгли Амазонки, которые он когда-то мечтал сравнить с лесами Венеры. Теперь он мог сравнивать. Заросли Венеры похожи и чудовищно не похожи на земные. Если джунгли Амазонки прозвали «зеленым адом», если под сводами сросшихся вверху деревьев там всегда зеленая ночь, сменяющаяся черной ночью, полной злых огоньков и пугающих звуков, то в венерианском лесу был «красный ад». Багровые туманные сумерки, низкое мчащееся небо, голые стволы, без коры и сучьев, поднимающиеся прямо из болота, ни трав, ни цветов… Вверху что-то пролетало со свистом и хлопаньем. Впереди слышалось рычание или рокот. Сзади, то приближаясь, то удаляясь, что-то клокотало, словно задыхаясь. Гарри заставлял себя оставаться ученым, все видеть, замечать, относить к тому или иному земному виду или неизвестной форме… Но сознание было подавлено безысходностью. Леденящее равнодушие парализовало мозг. Он оставался равнодушным к ящерицам с недоразвитыми крыльями, которыми они пользовались, как рулями, зигзагообразно и неуловимо скользя над водой, или к крылатому ящеру с зубастой пастью, запутавшемуся в колючей сети лиан… Когда Гарри жил на Земле, он готов был отдать полжизни за то, чтобы лишь взглянуть на такой мир… Теперь он мог видеть, ощутить, познать его, но… платил за это жизнью… Он понимал, что на спасение надежды не было, и все же искал эту надежду. Он представлял себе русских, командора Богатырева, расчетливого инженера Доброва, пылкого Алешу… Как поступят они? Пожмут плечами, улетая? Вздохнут притворно? Неужели прав шеф и всем на свете движет выгода? В довершение всего пошел дождь. Он бил сверху толстыми редкими струями. Скоро он перешел в ливень, и в какой ливень! Воздух превратился в водяной поток, сбивавший с ног. Болото бурлило, стало озером, поднялось до колен. Гигантские папоротники сгибались дугой от тяжести струй. Путники, экономившие кислород, не успели надеть шлемы. Их мокрые волосы липкими прядями сбились на лоб. К счастью, за герметические воротники вода не затекала. Но дышать стало легче! Ливень принес с собой кислород. Поразительно свойство человеческого организма приспосабливаться к различным условиям! Человек живет даже в Антарктиде, где температура падает почти до — 90 °C, когда погибает все живое. Он переносит жару, вызывающую ожоги. Он в состоянии дышать на горных вершинах, задерживает дыхание на несколько минут под водой, испытывает давление в несколько атмосфер в кессонах, выдерживает удар электрического тока, убивающий слона!.. Когда Гарри впервые снял шлем на болоте, он едва мог дышать венерианским воздухом. А потом… потом и он и Керн приспособились, научились дышать… Помогло учение йогов о дыхании, которое они оба знали. Если дышать реже, глубже и через нос, организм лучше усваивает кислород. И, если альпинисты довольствовались на большой высоте малой долей кислорода, Вуд и Керн в венерианском лесу обходились еще меньшей. А когда пошел дождь, дышать стало совсем легко. Нужно было лишь защищать рот и нос от воды, потому что по сравнению с дождем на Венере земной тропический ливень показался бы накрапывающим дождиком. А вокруг грохотало, как во время землетрясения, когда рушатся здания и обваливаются горные склоны, сметая каменной лавиной все на пути. Над головой сверкали молнии. Красный ад на мгновение становился мертво-голубым. И резкие тени стволов ложились то вправо, то влево, первые тени, которые видели люди на Венере. Вздрогнув при очередном ударе молнии, робот сказал: — Мои механизмы в опасности. Слишком много воды течет сверху. — О’кэй! — с горькой иронией отозвался Керн. — Правильный вывод не только в отношении механизмов. Гарри лишь по движению губ Керна понял, что он сказал. Робот же автоматически увеличил усиление и проревел, перекрывая венерианский гром: — Нужна крыша. — Какая тут, к черту, крыша, — заорал Керн, — когда мы не в лучшем положении, чем люди каменного века в дни всемирного потопа! — Каменный век… каменный дом… каменный свод… грот, пещера, — последовательно отразил робот фазы своего мышления. — Браво! — отозвался Керн. — Отдал бы часть будущих прибылей за самую гнусную пещеру на свете. — Ищу пещеру, — доложил робот. — Включил радиолокатор. По азимуту семнадцать обнаружил скалы с выемкой. — Идите, почтенный Джон, уступаю вам руководство! — прокричал Керн. Каменный обвал в небесах. В отсвете молний сверкнула серебристая спина робота, который, взмахивая топором, пробивал путь в намеченном направлении. Вуд едва вытаскивал ноги из липкой грязи, с трудом взбирался на корни, соскальзывал с них в пузырящуюся воду. Керн властно взял Вуда под локоть: — Не будьте прочитанной газетой на панели, парень! Нам остается полагаться только на бога да на робота. Вуд не ответил. Он сосредоточил все свое внимание на том, чтобы держаться на ногах. Робот точно вывел астронавтов к скалам, с которых каскадами, пенясь и вздымаясь фонтанами, сбегала вода. Обнаруженное радиолокатором углубление оказалось гротом. Люди уже не могли идти. Повинуясь указанию, робот втащил их по скользким камням в пещеру. Вуд и Керн свалились на каменный пол. Вуд видел, как приподнялся на локте Керн, как подполз к роботу и стал протирать его тряпкой. Робот равнодушно стоял, поворачивая голову вправо и влево. Он, выполняя заложенную в нем программу, запасался впечатлениями, запоминал их, обрабатывал, подготавливал выводы. Он был лишен человеческих слабостей. Гарри подумал об этом и усмехнулся. Что сказала бы Мэри! Дождь стихал, воздух был влажен, а во рту пересохло. — Хотелось бы проверить, — заметил Керн, отжимая тряпку, — сколько удалось нам пройти по этой чужепланетной грязи. Робот реагировал: — Пройдено две и три десятых мили со скоростью шестьдесят две сотых мили в час. Падающая сверху вода задержала нас на сорок семь минут. — И задержит еще, — добавил Керн, пряча тряпку в спину робота и захлопывая железную дверцу. Робот принялся высчитывать возможные потери времени в пути. Гарри Вуд устало слушал его, поражаясь и его методичности, и в то же время убогости его фантазии. Машина использовала запас полученных впечатлений, но на большее она не была способна. Однако и возможных, с ее точки зрения, препятствий было достаточно, чтобы вероятность не опоздать к отлету ракеты, подсчитанная электронным мозгом, составила всего 1,74 шанса из ста. Гарри Вуда тошнило. Но, когда он узнал о выводах машины, ему стало еще хуже. Давая выход внутреннему протесту, он сказал: — Ваш робот туп! Он не учитывает, что русские пойдут к нам навстречу. Керн расхохотался: — О наивный варвар! Он не знает элементарных законов отношения друг к другу волков или людей, что, впрочем, одно и то же. Однако, чтобы ответ был убедительным, мы зададим вопрос воплощению железной логики и бесстрастного разума. — Спрашивайте хоть у птеродактиля, — устало отмахнулся Вуд. Он сидел теперь на каменном полу, уткнувшись мокрой головой в колени. Его знобило. — Уважаемый Джон, — обратился Керн к роботу, — прошу вас, подсчитайте, сколько шансов, что русские в соответствии с нормами поведения людей, зафиксированными в вашей электронной памяти, покинут свою ракету и, рискуя всем, отправятся через пролив и джунгли нам на помощь. — О’кэй, — равнодушно отозвался робот и стал вычислять. Внутри машины что-то разгоралось и гасло, искрилось и пощелкивало. Электронная мысль металась в поисках безошибочного вывода. Ливень почти стих. Мимо пещеры неслись мутные ручьи, по воде плыли сорванные ветви и не то рыбы, не то ящерицы. Было жарко и душно, парило. Лужи, из которых выпирали корни деревьев, словно дымились, от них поднимался туман. Робот щелкнул и размеренным голосом произнес: — Вероятность того, что русские коммунисты решатся оказать помощь, рискуя не вернуться на Землю, равна семи и трем десятым, помноженным на корень квадратный из минус единицы. — Корень квадратный из минус единицы. О безошибочность математической логики! Она показывает в итоге вычисления мнимую величину! Логический вывод — шансы на возможную помощь мнимы!.. Это математика, Вуд, а не хиромантия… Гарри Вуд покачал головой. — Здесь все мнимо, — хрипло сказал он. — Мнима дружба, мнима надежда… Даже жара мнима. Вода испаряется, как на раскаленной плите, а мне холодно. Вуд стучал зубами. — Перестаньте, Вуд! — прикрикнул на него Керн. — Никто еще не хотел так жить, как я! Мы должны жить, черт возьми! Должны, хотя бы всю Землю разнесло на миллион кусков в термоядерном взрыве океанов… и нам некуда было бы вернуться! Вуд поднял на Керна воспаленные глаза: — Выжить? Выжить на этой планете? Одним? — Да! Одним! Раз дышать здесь можно, должно и выжить… хотя бы нас навеки забыли в этих чертовых джунглях и не искали сто лет!.. — Вы бредите, шеф, — сказал Вуд, видя неестественный блеск у Керна в глазах. — Вот наш первый дом! — указал Керн на каменный свод. — Пещера! Великолепная первобытная пещера, ничем не хуже, чем у наших предков на Земле. Разве у нас с вами мозги устроены хуже, чем у людей каменного века? — Мозги у нас устроены, кажется, так же… и объем мозга такой же… — Но знаний у нас побольше, чем у первобытных охотников! — Зачем нам эти знания, если мы сами станем здесь первобытными охотниками? — Я не уверен, что мы смогли бы передать знания нашим потомкам. Но охотниками своих внуков сделали бы не худшими, чем были неандертальцы, кроманьонцы или австралийские аборигены. Недостатка в мясе гадов, которые напали на нас у болота, не будет, даже когда разрядятся через год аккумуляторы несравненного Джона и его разберут на ножи и топоры. — Вы рассуждаете, шеф, о потомках, словно моя Мэри с нами. Керн криво усмехнулся: — Вы уличили меня. Я действительно начинаю бредить. — На этот раз вы бредили, как ясновидец. — Что вы имеете в виду? — Запасной планер, сэр. — Ага! Значит, бредите все-таки вы… — Ничуть. Не думайте, что Мэри отдаст русским топливо на обратный рейс и полетит с ними. — Ах, вот зачем вам запасной планер! — Не планер, а Мэри, которая им воспользуется. На «Просперити» ее удерживал только долг, сэр. Если планер занес нас сюда, то почему другой планер не даст ей возможности найти нас? — Этого я не знаю, — мрачно сказал Керн. — У меня иные взгляды на людей и их чувства. Мы выживем с вами, если не передеремся. А передраться нам нельзя потому, что в одиночку не выжить. О’кэй! Считайте меня вождем нового племени венерианских дикарей! Обещаю вам полнейшую западную демократию. Мы будем выбирать меня каждые четыре года. — Шеф, я ценю, что вы пытаетесь подбодрить меня. Вы лучше, чем я о вас думал. — Наплевать мне на то, что вы обо мне думали! Не подбадриваю я вас, а убеждаю: надо выжить, черт возьми! Целый год с нами будет Железный Джон! А пещеру мы найдем и поуютнее этой. Робот глубокомысленно прореагировал на последние слова: — Уют пропорционален пещере, помноженной на корень квадратный из минус единицы. — И здесь мнимая величина! — мрачно констатировал Вуд. — Впрочем, здесь ваша чертова машина права. — Она всегда права! И она не сказала, что жизнь на Венере — мнимая величина, — торжествующе сказал Керн. — Черт с ним, с уютом, комфортом и цивилизацией! Лучше стать пещерным человеком, чем подохнуть… И мы приспособимся, пусть без университетских знаний, но приспособимся, Вуд. Отныне вы будете называться не Вуд, что означает на последнем земном и первом венерианском языке «дерево», вы будете называться Дубина. А я уже не Керн, что означало «инструмент, оставляющий при ударе отметину», а Удар. Итак: Дубина и Удар! Неплохо для первых старейшин племени. Черт возьми, даже неплохо было бы, если бы спустилась ваша Мэри. Мэри Стрем… Мы назвали бы ее Стремя! Вождю племени будут нужны охотники и воины. Глаза Керна лихорадочно блестели. Он вскочил и стал хлопать Железного Джона по плечу: — Клянусь памятью Томаса, ты неплохой парень, Джон! Целый год ты будешь равноправным членом нашего племени, последним остатком ненужной здесь цивилизации… пока не разрядишься. А потом… потом цивилизацией здесь будут Дубинка и Удар! Керн нервно захохотал и повалился на каменный пол. Вуд лежал без движения, он с тоской смотрел на Керна, словно хотел что-то сказать ему. Обоих било в лихорадке. А они… хотели выжить! Хотели, не веря в людей… КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗАКОН КОСМОСА
Глава первая УДАР ДУБИНОЙ
В багровых зарослях шел дождь. Косые струи гнули деревья, отламывали ветви. Болото бурлило и вздувалось. Сверкали звездоподобные молнии. Гром прокатывался волнами, как косо набегающий на берег морской прибой, усиленный в сотню раз. Не обращая внимания на ливень, по лесу, крадучись, пробирались двое. Их мокрые косматые плечи переходили в могучую шею, слипшиеся волосы скрывали крутой лоб с выпуклыми надбровными дугами. Маленькие и острые глазки настороженно смотрели из-под лохматых бровей с густо заросшего лица. Длинные бугристые руки раздвигали колючие лианы, не боясь шипов. С волосатых плеч спускались чешуйчатые шкуры, скорее напоминающие панцири, чем одежду. У каждого было по огромной узловатой дубине. Ящерицы с недоразвитыми крыльями бросались врассыпную при их появлении. Но мелкие твари не интересовали охотников, уже видевших желанную добычу. Большой ящер на выгнутых суставами наружу лапах, с пилообразным хребтом, переходящим в хвост с бивнем на конце, нежился в дождевых струях, довольно пофыркивал и прикрывал глаза пленками. Перед ним лежала мокрая груда объедков, среди которых еще трепыхалась пара раненых ящериц. Сытый ящер равнодушно наблюдал, как один из них, опираясь на хвост, заковылял по луже на задних лапах и скрылся за сетью лиан. Он не преследовал его… Охотники набросились на ящера с разных сторон. Две дубины, рассекая дождевые струи, почти одновременно опустились на оба глаза чудовища. Взметнув фонтан воды, ослепший ящер повернулся. Его хвост наугад ударил острым бивнем невидимого врага. Бивень с размаху вонзился в топкую почву. Охотники ждали этого и бросились к завязшему концу хвоста, накинули на него петлю из лиан. Взбешенный ящер неистовствовал. Он не мог вырвать хвост и не видел врагов. Один из них бросил в развернутую зубастую пасть моток колючих лиан. Зверь в ярости проглотил моток и стал бросаться из стороны в сторону. От боли, страха и бешенства ящер взвивался на привязанном хвосте, огромное его тело отделялось от болота, и все четыре когтистые лапы рассекали воздух. Все тот же охотник, с ловкостью тореадора увертываясь от ударов, стоял прямо перед щелкающей зловонной пастью, выбирая момент. Другой спокойно наблюдал в стороне, готовый заменить товарища при неудаче. Ящер плюхнулся брюхом в воду. Голова его с бугром на темени оказалась как раз напротив охотника. Тот взмахнул дубиной и, крякнув, опустил ее на бугор. Ящер повалился на бок, как падает на бойне оглушенный бык. Ящер был еще жив, шея его то вздувалась, то опадала, но охотники, подойдя к нему вплотную, засунули дубины в щели между пластинами, прикрывавшими шею, и отодрали их. Под пластиной дрожала нежная мякоть. Охотники хорошо знали, где проходит важная артерия. Через минуту огромный ящер был мертв. — Мы могли бы убивать даже летающих, — гордо сказал один из охотников. — Ты опять о топорах из звонкой шкуры Чуда? — Для этого надо опустить дубины на головы стариков. — Они скоро умрут сами. — Умирают только охотники. Старики не охотятся и все время живут. — Они мудрые. — Мы сильнее их. Я опущу дубину на их головы и получу звонкую шкуру Чуда. Нагруженные добычей охотники добрались до скал. Из пещеры шел дым. Отблески огня играли на каменном своде. Косматые охотники отнесли добычу в глубь пещеры. Иссохшая старуха подбрасывала корни в костер и монотонно говорила. Несколько грязных волосатых детей, сидя на корточках, слушали ее. Охотники, грубо отпихнув детей, подсели к огню. — Старые прилетели из-за туч, — рассказывала старуха. — Они видели небо. Один из мальчишек толкнул другого в бок, тот захихикал. Охотник наградил обоих тумаками, дети притихли. — Они видели, — продолжала старуха, — рассыпанные по небу горящие угли и Великий Костер, который разгорается по утрам, даря нам день, и гаснет к ночи. Охотник усмехнулся. — Старые, живя на небе, знали великую мудрость, — рассказывала старуха. — У них был ящер со звонкой шкурой, который изрыгал огонь костра и летел сам, как выброшенная из костра искра. — Чего ж старые не летают, — спросил охотник, — а только жрут мясо?.. — Для этого нужно много звонкой шкуры, которой нет в наших лесах, — возразила старуха. — Зато она есть там, — зловеще кивнул головой охотник в глубину пещеры. — Я знаю, о чем ты говоришь, Хам, — прошамкала старуха. — Почему ты не захотел учиться мудрости, когда я еще только начинала подбрасывать сучья в Вечный Костер племени? — Зачем слушать про выдуманный мир? Разве охотники устраивают из камней пещеры одну над другой? Разве увидишь вверху рассыпанные угли? Они упали бы вниз. Надо добывать мясо. В этом мудрость. А старые глупы. Старуха уничтожающе посмотрела на Хама и отвернулась к детям: — Старые прилетели на двух крылатых. Сначала мужчины, потом женщина, от которой пошло все наше племя. — Лучше скажи, старуха, про Чудо в звонкой шкуре. Из нее можно сделать много топоров и ножей получше каменных. — Молчи, презренный! Чудо в звонкой шкуре может заговорить. Один только раз. Последний. В нем сосредоточена мудрость другого мира. Только старейшины могут заставить его говорить. — Мне не нужен голос Чуда, мне нужна его звонкая шкура, — сказал Хам вставая. — Может быть, подождем? — спросил его младший спутник. Но Хам пнул его ногой, и тот вскочил. Взяв в руки дубины, они пошли в глубь пещеры. Им встречались женщины, почти не покрытые шерстью, с перевязанными лианами волосами. Они испуганно уступали дорогу, волоча за руку маленьких детей. У пещеры было много переходов, они привели в конце концов к полутемному гроту, из которого был второй выход в лес. — Кто тут тревожит старейшин? — спросил дребезжащий старческий голос. — Это я, Хам. И мой брат со мной. Мы принесли мясо, — нерешительно сказал охотник. — Мясо отдай сидящим у Вечного Костра племени. Что тебе нужно здесь? — Мне нужна звонкая шкура Чуда. Мы сделаем из нее топоры и ножи для всего племени. — Вы слышите, Вуд, что говорит ваш отпрыск? Стоило для них хранить аккумуляторы электронного мозга!.. — закричал старик другому. Второй из старейшин застонал в углу. — Я не понимаю, что ты говоришь, старый, которого звали Ударом, — сказал Хам наступая. — Мне нужна звонкая шкура Чуда. В прошлый раз ты отдал нам его руку, теперь мне нужна вся шкура.
— Удались, пещерный! — закричал старейшина. Но охотники топтались на месте. Потом Хам взмахнул дубиной. — Я решил опустить дубину на ваши головы. Вы только жрете мясо и бормочете про пустую мудрость. Мы возьмем звонкую шкуру. Два худых седобородых человека, почти голых, в каких-то невероятных отрепьях, вскочили на ноги и стали отступать в темноту грота. Но охотники прекрасно видели в темноте, их глаза никогда не знали солнечногосвета. Они наступали, размахивая дубинами. — Отойди, дикий! Да включайте же наконец, Вуд!.. Включайте! Или вы тоже одичали! — кричал старик другому. — Я не могу, шеф… Меня лихорадит, как в тот первый день. — Да включайте, включайте, черт вас возьми! Видите, они размахивают дубинами, ваши дикие потомки!.. Включили? Уважаемый Джон, прошу вас… В углу что-то щелкнуло, там замерцал красноватый свет. Охотники отступили на шаг. — Ты разжигаешь костер внутри Чуда. Я не боюсь костров. — Ты великий охотник, Хам, — заговорил старик. — Ты услышишь голос, который молчал больше времени, чем ты живешь. Кроме нас, старейшин, только он, Чудо, может сказать о Великой Мудрости. — Ты лжешь, старик, которого звали Ударом! Ты заслужил удар. Я опущу дубину на твою голову и послушаю, как ты будешь болтать. — Отойди!.. Дай Чуду разогреться… Уважаемый Джон, прошу вас… Неужели он совсем разрядился? В углу снова щелкнуло, и оттуда раздался безучастный скрипучий голос: — Да, сэр. — Уважаемый Джон, прошу вас, скажите… скажите что-нибудь! Железный голос произнес: — Можно осушить заболоченное пространство. Для этой цели понадобится прорыть траншеи с общим объемом земляных работ в шестьдесят семь миллионов кубических футов. — Ты не испугаешь Хама голосом. Ящер тоже бормочет, прежде чем я убиваю его. Ты заслужил свое, старик. Хам взмахнул дубиной и, крякнув, опустил ее на голову старейшины. Худой, изможденный старик повалился на каменный пол пещеры. Другой старик спрятался за одноруким железным изваянием, чуть уступавшим по размерам размахивавшему дубиной охотнику. — Джон, прошу вас!.. Спасите меня, спасите!.. — Аккумуляторы почти полностью разряжены, — безучастно сообщил робот. — Работает только электронная память. Спасение было в достижении русской ракеты, которую отделяло от пещеры шестьдесят девять миль. Два охотника подскочили к роботу с двух сторон и с привычной сноровкой обрушили на его светящиеся глаза дубины. В роботе что-то звякнуло, свет в нем погас, он покачнулся и, громыхая, покатился по каменному полу. Уцелевший старик бросился к выходу, но путь ему преградил Хам. Он толкнул мохнатой рукой старейшину в грудь, и тот упал. Старик видел занесенную над ним окровавленную дубину и зажмурился. Слышалось, как со свода пещеры падали капли в лужу на ее полу. Невнятно бормотал, очевидно лежа на камнях, робот: — До русской ракеты можно доехать в автомобиле за тридцать семь и две десятых минуты, если воспользоваться бетонным шоссе. Дубина не опускалась. Гарри Вуд открыл глаза. Он увидел каменный свод пещеры, стволы гигантских папоротников, лужу на полу, недвижно лежащего Керна в скафандре. Керн убит… убит ударом дубины дикого потомка, дикаря из выжившего на Венере племени людей… Сзади слышался размеренный голос робота: — Для постройки бетонной дороги понадобится пятьдесят семь миллионов долларов, считая по объявленной фирмой Смит стоимости. Превосходно, выгодно, прославлено. Вуд сел. Никакой дубины над ним не было. Робот не лежал, а стоял у входа в пещеру и бубнил. Керн перевернулся на другой бок, застонал и произнес сквозь зубы: — Мы должны выжить, должны… Хотя бы пришлось ждать сто лет. Вуд потер виски. Голова пылала. — Бред! — прошептал он. — Бред… Но действительность не лучше. Вуд опустился сначала на локоть, потом упал на пол. Щека его ощутила мокрый камень. «Русские, — подумал Вуд, — если бы они знали… Неужели?..» Мысль ускользала, проваливалась во мрак. Венерианские микробы сделали свое дело.
Глава вторая СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК
Из зарослей гигантских папоротников доносился звенящий визг. Внезапно он оборвался, и из чащи на болото выплыла странная машина. Она напоминала лодку или автомобиль-амфибию, но лишена была колес. Диски циркульных пил, которыми разрезались лианы, еще вертелись. Когда машина появилась над кочками болота, из-под ее корпуса взвились фонтаны воды. Могучие воздушные струи, бившие вниз, выгоняли воду из луж, создавая под корпусом машины воздушную подушку, которая и удерживала ее над поверхностью. Небольшой реактивный двигатель обеспечивал вездеходу значительную скорость по любой дороге, вернее без дороги, в лесу, по болоту, даже над водой. В вездеходе сидели три человека в скафандрах. Но только один был в шлеме, остальные, приноравливая свое дыхание к новым условиям, были без шлемов. За рулем сидел инженер Добров. На его бритом черепе выступили капельки пота. Он смотрел вперед острым взглядом. Лицо Алеши было мокро от пота, дышал он тяжело, но глаза его были веселы. Он жадно впитывал в себя все, что видел: башнеподобные деревья с распадающимися вершинами, похожими на струи фонтана, густой, душный, всегда туманный воздух, неясные тени разбегающихся живых существ, отпугнутых воем дисковых пил. Алеша никак не мог освоиться с тем, что он на Венере, минута за минутой проходили в его памяти часы, проведенные на чужой планете. Планер американцев пронесся над ракетой «Знание» и исчез. Каждые полтора часа, когда «Просперити» пролетал над районом посадки «Знания», Мэри Стрем все тревожнее сообщала, что не может нащупать радиолокатором планер. В последний раз она вызвала к микрофону командора и умоляла не считать Вуда и Керна погибшими… Илья Юрьевич хорошо понимал ее состояние, говорил с ней тепло, подбадривал, но после разговора с ней становился суров и молчалив, строго потребовал от помощников ускоренного выполнения всей программы исследований, не позволял в то же время отходить далеко от ракеты. Сам он собрал интереснейшую коллекцию минералов и попутно передал Алеше для гербария несколько любопытных образцов растений. Гербарий Алеши выглядел странным. Слишком крупным было все найденное им в мире без трав и цветов. Добров спустил из ракеты вездеход, который предназначался для коротких путешествий. Рассчитанный на двух наблюдателей, он представлял собой передвижную исследовательскую станцию, был снабжен разнообразной аппаратурой и даже вооружен скорострельной пушкой. Между собой исследователи говорили о силе магнитного поля, много превосходившей земную, об обнаруженной здесь древней геологической эре, о воздушных потоках, которые, очевидно, позволяют летать даже очень крупным животным, об обнаруженном в лесу сильном радиоактивном фоне, а думали… об американцах. Надежда была только на Мэри Стрем. Всякий раз, устанавливая связь с «Просперити», Алеша подключал к радиоприемнику свой шлемофон, чтобы голос Мэри был слышен во всех скафандрах. На этот раз сквозь треск атмосферных разрядов прозвучал тонкий, радостный голос Мэри. Счастливая, она повторяла без конца, что обнаружила движущуюся металлическую точку. Это мог быть только робот! — Вот здорово, Машенька! — крикнул Алеша и побежал к люку, чтобы спуститься к Богатыреву и Доброву. — Сколько по прямой до робота? — спросил Богатырев. — Она сказала — семьдесят километров? — Только семьдесят… Совсем пустяки… Мы мигом домчимся на вездеходе! — говорил Алеша, спрыгивая с лестницы на камни. Богатырев шел к вездеходу, около которого возился Добров. — Шоссейных дорог здесь нет, — напомнил Добров. — Путь через джунгли, через морской пролив, по склону вулкана. — Вот именно! — подхватил Алеша. — Пешком им не дойти. — Вездеход рассчитан на двоих, — напомнил Добров. — Я поеду на нем один. Вернемся втроем. Снимем кое-какую аппаратуру. — Один? — с иронией спросил Илья Юрьевич, кладя Алеше на плечо руку. — Ты, Алеша, умнее всех местных ящеров. — Разлучаться нельзя, — подтвердил Добров. — А поэтому нужно соединиться, — твердо сказал Илья Юрьевич. — Вездеход разгрузить, взять только самое необходимое, снять пушку. Добров молча покачал головой. — Много места занимает кислород, — оживился Алеша. — Мы сбережем его, если по крайней мере половину времени проведем без шлемов. Тщательно изучив состав атмосферы и поведение собаки Пульки, они уже пробовали дышать венерианским воздухом. Вездеход разгрузили, взяли только самое необходимое. Когда снимали скорострельную пушку, Добров был особенно мрачен. Взяли два гранатных ружья и автомат. Алеша вооружился… кинокамерой. Приподнявшись на воздушной подушке, вездеход двинулся в чащу. Алеша в последний раз посмотрел на ракету. Она показалась ему такой земной и родной, что у него защемило сердце. Он представил, как воет сейчас оставленная в ракете Пулька… В зарослях было так темно, что Добров включил прожекторы. В их лучах поблескивали мокрые корни. Дисковые пилы резали колючие заграждения. Лианы мертвыми змеями падали на влажную почву. И вот вездеход вырвался на простор болота. Здесь можно было двигаться быстрее. Сквозь туманную дымку виднелись конические горы вулканов. Их вершины были скрыты тучами, и нельзя было решить, действуют ли они. Вездеход мерно скользил над болотом. Богатырев, сидя на носу, держал в руках ружье. Алеша то и дело брал кинокамеру и жадно снимал все, что видел на пути. Вдруг сзади, откуда-то из пройденной чащи, раздался пронизывающий звук, свистящий, скребущий по коже, взвивающийся на самые высокие ноты и не исчезающий, а словно продолжающий звучать, непонятным образом действуя не только на органы слуха, но и на нервные центры. Алеша почувствовал, что у него мутится сознание. Он посмотрел на Илью Юрьевича, увидел за стеклом шлема его спокойное лицо, и ему стало стыдно за себя. Оглянулся на Доброва, встретился с. ним глазами и понял, что ему тоже не по себе. Алеша вспомнил, что он уже слышал этот звук в первую проведенную в ракете ночь, но он звучал тогда через микрофон, который, очевидно, не мог воспроизвести все его совершенно невероятные обертоны. Ветер дул порывами, пронося над вездеходом клочья тумана и сорванные ветви. Невероятный звук усилился. Вездеход вильнул, накренился и осел. Богатырев удивленно оглянулся. Добров сник, опустив голову на грудь. Алеша выронил из рук кинокамеру и скатился на дно вездехода. Богатырев бросился поднимать его и почувствовал, что нарастающий звук разрывает ему голову, туманит сознание. Руки и ноги цепенели. Усилием воли сжав челюсти, он пересилил себя и поднял обмякшего Алешу, привалил его спиной к борту. Алеша запрокинул голову, и вдруг глаза его стали совсем круглыми. Илья Юрьевич взглянул наверх. В воздухе летел дракон… каким рисуют его китайские художники, с телом змеи, с перепончатыми крыльями… Богатырев поднял ружье. Он не думал, Змей Горыныч ли перед ним или своеобразной формы птеродактиль. Он защищался. Но в дракона не требовалось стрелять. Он камнем упал в болото, взвиваясь гибким телом, трепеща прикрывшими кочки крыльями. Богатырев все понял. По кочкам от леса к дракону быстро двигалось какое-то существо, гигантская ящерица с отвратительным роговым гребнем и отталкивающей злобной мордой. Это страшилище не могло летать, но обладало способностью сбивать летающие жертвы парализующим свистом. Богатырев взял на мушку нового врага. Тот сделал последний прыжок и обрушился на превосходившего его по размерам змеевидного дракона. Затрепетал гибкий хвост жертвы, попытались двинуться крылья. Свистящий ящер рвал лапами чешую на горле дракона, спешил впиться в него пилообразными челюстями. Богатырев выпустил гранату в «Соловья-разбойника», как мысленно назвал он ящера. Граната взорвалась на панцире ящера и не причинила ему никакого вреда, только разъярила его. Очевидно, его шкура была подобна броне. Увидев противника, ящер изогнулся дугой, готовясь к прыжку. Богатырев видел, как стали раздуваться его бока. Над болотом забился, как в конвульсиях, ужасающий звук. Если бы миллионом ножей одновременно провести по миллиону тарелок, если бы отвратительно скрипнули миллион резиновых мячей, если бы визг пилы смешался с визгом поросенка, если бы все эти звуки слились воедино и перешли за пределы слышимого в область ультразвука, лишь тогда можно было бы получить представление о том, что услышал Богатырев. Встрепенувшиеся было во время паузы Алеша и Добров вновь свалились, парализованные. Богатырев, защищенный шлемом, борясь с помутнением сознания, выстрелил в диковинного зверя второй гранатой, но также безрезультатно. Тот уже прыгнул к вездеходу, уверенный, что новая жертва от него не уйдет. «Пуля не берет Соловья-разбойника, значит, как и в сказании, надо бить его в глаз», — подумал Богатырев и сменил ружье на автомат. У ящера глаза были в виде двух узких, ядовито-желтого цвета вертикальных щелей. Богатырев подождал, пока ящер приготовился к последнему прыжку, и выпустил точную очередь. Раздался истошный, визжащий крик, перешедший в клокотание. Ящер катался по болотным кочкам, извиваясь и содрогаясь в последней агонии. Раздутое тело постепенно опадало. Скрежещущий визг замирал. Богатырев потрогал рукой спасший его шлем, словно боясь, что он таки раскололся. Вдали над озером парили на распростертых крыльях неведомые существа. Буря усиливалась. Она несла через болото гигантские растения с раскоряченными корнями. Богатырев принял было их за хищников и снова готов был стрелять в них, но эти растения упали на болото, зацепились корнями за кочки и застряли. Лишь два из них, подхваченные ветром, вновь поднялись на воздух и унеслись. Богатырев сидел, тяжело дыша. Алеша и Добров медленно приходили в себя. Богатырев дал им понюхать остро пахнущей жидкости из пузырька. Поверженный дракон пришел в себя без посторонней помощи. Он зашевелил крыльями, заметался между кочками, стараясь отползти подальше от страшного, лежащего сейчас недвижно врага. Потом, поставив крылья под углом к шквальному ветру, дракон подпрыгнул и поднялся над болотом. Он летел, набирая высоту, и его змеевидное тело волнообразно извивалось. Алеша смотрел на него и протирал глаза: — Что это? Народные сказки? — Пожалуй, — усмехнулся Богатырев. — И дракон летит… и от соловьиного свиста все мертвы лежат. — Как же могли эти образы перекочевать на другую планету, жить в народных сказаниях? — поражался Алеша. Богатырев многозначительно улыбнулся. — Наденьте для надежности шлемы, — сказал он. — Без специального оружия ехать дальше нельзя, — решительно заявил Добров, выбираясь из вездехода. — Что надумал? — нахмурился Илья Юрьевич. — Это был ультразвук, — сказал Добров. — У них на планете он действует лучше пушек. В дьявольском аккорде были неслышные, но парализующие обертоны. — Ах, вот ты о чем, Роман! Аппарат ультразвуковой разведки мы не сняли? — Не поедем дальше, пока не приспособим его для кругового обстрела. — Вот это правильно, Роман! — сказал Илья Юрьевич.Глава третья ХИЩНАЯ КРАСОТА
Вездеход спрятался среди исполинских папоротников. Илья Юрьевич не позволил оставаться на открытом болоте. Роман Васильевич и Алеша разобрали прибор. Илья Юрьевич стоял около них с гранатным ружьем в руках и остро поглядывал в чащу. С болота полз туман. С почвы под деревьями струйками поднимался пар. Туманные колеблющиеся струи из-за цвета папоротников казались красноватыми. Они тоже походили на стволы, только какой-то неведомой, сказочной растительности, живой, движущейся. И вдруг из тумана донесся крик. Алеша, держа отвертку в руках, выпрямился, посмотрел на Илью Юрьевича. Тот встретился с ним взглядом. Добров с укоризной взглянул на Алешу, потом показал на разобранный аппарат. Крик повторился снова, переливающийся, призывный. Алеша решительно положил отвертку. — Что? — сердито спросил Добров. — Теперь уже не Соловей-разбойник, а сирена? — Я боюсь подумать о том… как она выглядит, — взволнованно сказал Алеша. Добров презрительно хмыкнул: — «Она»!.. Ящерица или женщина? — Тише! — поднял руку Алеша. — Слышите? Она зовет… — Ящерица, вонючая, отвратительная гадина, вот кто зовет. Неужели еще непонятно, что здесь нет и не может быть никого, кроме гадов, пресмыкающихся с холодной кровью, венерозавров, ползающих или летающих… — Это почему же? — вызывающе спросил Алеша. Добров укоризненно посмотрел на него: — Какую эру мы застали на Венере? — Очевидно, каменноугольный период, — нерешительно ответил Алеша. Добров демонстративно сложил инструменты, объявляя перерыв. Он стал говорить скрипучим голосом: — Да. Более раннюю, чем на Земле, эру развития. И животный мир здесь более ранний — типичные представители ящеров. А человек? Разумное существо? Это высшее млекопитающее! Его организм должен быть построен на высшей энергетике млекопитающего, он должен обладать теплой, горячей кровью! Слышишь? И у него должны быть свободные от ходьбы конечности, способные к труду, который и делает существо разумным. Оно должно ходить вертикально, имея наибольший обзор местности, иметь стереоскопические органы зрения и слуха в непосредственной близости от мощного мозгового образования, оно должно обладать, короче говоря, человеческой головой, а не головой диплодока!.. Уважайте Дарвина! Вы же биолог! — Добров перешел с понуро слушавшим его Алешей на «вы». — Представьте себе лестницу эволюции на Венере. Она не будет отличаться от земной… Здесь не хватает бесчисленных ступенек от ящера до человека… — Кстати, — вставил Богатырев, — вы никогда не задумывались, друзья, над тем, что на Земле тоже нет одной очень важной ступеньки? Нет промежуточного звена между человеком и животным Земли. — Да, эта ступенька пока не найдена, — согласился Добров. — Она затерялась… но она была. — Вы уверены? — лукаво спросил Илья Юрьевич. Добров удивленно посмотрел на него и пожал плечами: — Надеюсь, вы не сомневаетесь, что человек произошел от обезьяны? — Вопрос лишь в том: от какой? — ответил Богатырев. — Во всяком случае, на Венере даже подобия таких обезьян еще не было. Человеческий род в процессе эволюции животного мира мог бы появиться здесь спустя сотню миллионов лет. — Это верно, — согласился Богатырев. — На Венере пока что не хватает не одной какой-нибудь ступеньки, а целого марша лестницы эволюции. Станете ли вы, биолог, — обратился Добров к Алеше, — утверждать, что разумные существа могут появиться в эру ящеров? Алеша, смущенный, прижатый к стене, вынужден был ответить: — Не стану, конечно… Добров торжествовал. — Биолога я победил! — удовлетворенно возвестил он. — Но остался еще поэт, — рассмеялся Илья Юрьевич. Алеша прислушался. Где-то совсем близко прозвучал все тот же таинственный голос. Казалось, стоит сделать лишь несколько шагов — и столкнешься с обладательницей этого голоса лицом к лицу. — Иди, иди! — усмехнулся Добров. — Ищи местный венец творенья. Аппарат я сейчас закончу. Алеша с бьющимся сердцем шагнул в туман. — Не отходи далеко! — крикнул ему вслед Илья Юрьевич. — И не снимай шлема! Алеша помахал ему рукой. Туман доходил ему до пояса. Поднимаясь в гору, Алеша выходил из тумана, как из молочной реки. Лес был окутан полупрозрачной дымкой. Алеша увидел незнакомые растения. Он сначала принял их за разновидность лиан, но на них были цветы, огромные, поразительной красоты цветы, напоминающие земные орхидеи, увеличенные в сотню раз. Первый цветок на чужой планете! Вот он какой, необычный, удивительный!.. Неужели мелодичный голос исходил от цветка? Поющий цветок, зовущий к себе? Как неповторима природа! Земные цветы привлекают насекомых дурманящим запахом, сладчайшим нектаром, лишь бы разнесли они их пыльцу, а здесь… здесь цветок зовет, как сирена. Алеша почувствовал дуновение ветра, туман заколебался прозрачными языками перед ним. Так вот какова прекрасная обитательница планеты, красавица, призывавшая его мелодичным голосом!.. Она раскрыла объятия нежных лепестков, быть может дурманя ароматом, который не чувствуешь из-за шлема. Ну что ж, можно помочь диковинному растению перенести его животворящую пыльцу… Алеша подошел вплотную к цветку и не заметил, как запутался в лианах. Досадливо освобождаясь, он заметил, что мягкие наконечники стеблей, похожие на резиновые подушечки, прилипли к его костюму. Он стал раздраженно отрывать эти отвратительные щупальца, но понял, что ему скорее удастся порвать крепчайшую ткань скафандра, чем избавиться от проклятых присосков. Он не считал положение безвыходным и не хотел звать на помощь. Впрочем, вездеход был в двух шагах. Слышно, как Добров орудует отверткой. Вынув из-за пояса большой нож, Алеша стал отрубать присосавшиеся щупальца. Да, именно щупальца! Он уже не считал их стеблями лиан… Слишком они походили на расчетливо движущиеся пальцы хищника…
Ему удалось перерубить несколько сочащихся стеблей, но другие стебли опутали ему руку, затрудняя ее движение. Он тяжело дышал, силясь вырваться. Над головой скользнули крылья и совсем рядом опустился кто-то крылатый… Алеша вздрогнул от омерзения. Перед ним, всего лишь в нескольких метрах, вращал выпуклыми яйцеобразными глазами птеродактиль, маленький летающий ящер. «Местный стервятник, — подумал Алеша. — Уже прилетел!..» Однако крылатому ящеру было не до добычи. Лианы уже опутали его, как и Алешу. В ужасе видел Алеша, как бился ящер и как растительные щупальца неуклонно подтягивали его к раскрывшемуся во всей красоте великолепному цветку. Мгновение — и ящер оказался на огромном пульсирующем венчике. Мясистые влажные лепестки захлопнулись, как жадные губы. Извивающийся хвост ящера остался снаружи. Алеша похолодел. Он вспомнил земные хищные растения, которые точно так же ловят насекомых, чтобы высосать их кровь. Алеша понял, как работал механизм цветка. Решение пришло мгновенно. Но, увы, Алеша был самим собой. Ложное самолюбие удерживало его от крика о помощи. Он хотел выкрутиться сам, считал, что сможет это сделать. С трудом дотянулся он руками до шлема и снял его. Всей грудью вдохнул он влажный воздух. От страшного цветка шел нежный дурманящий запах. — Подожди, росянка-венерянка, сейчас я тебя перехитрю! — пробормотал Алеша, размахнулся и бросил тяжелый шлем на венчик… «Живой механизм» хищника должен сработать. Как только он почувствует на венчике тяжесть жертвы, лепестки закроются, а присосавшиеся щупальца ослабнут. И действительно, едва коснулся шлем венчика, тяжелые влажные лепестки, словно причмокнув, закрылись, скрыв шлем звездолетчика. Расчет Алеши оправдался, но… только наполовину. Присосавшиеся лианы не ослабли, продолжая цепко держать его. Более того: присоски потянулись к его обнаженной шее и впились в нее, а щупальца обвились вокруг шеи. Алеша попытался крикнуть, но из сдавленного щупальцами горла вырвался лишь хриплый звук. И вдруг совсем не со стороны цветка, а из тумана, почти от вездехода, скрытого туманом, прозвучал знакомый Алеше переливчатый голос. Алеша задыхался, щупальца душили его, к тому же он вдыхал пьянящие ядовитые испарения. Он терял сознание. Голос, в котором звучали и призыв и ужас, услышали и Богатырев с Добровым. Это так напомнило им крик человека, что они, не проронив ни слова, бросились в туман, куда скрылся Алеша. Они сразу же наткнулись на изнемогавшего в борьбе Алешу. Поняв все, Богатырев и Добров стали рубить большими ножами обвившие Алешу лианы, Добров хотел было оторвать присосавшиеся к шее Алеши щупальца, но безрезультатно. Алеша слабо и благодарно улыбался. — Зачем снял шлем? — с горечью спросил Илья Юрьевич. Алеша смог только глазами показать на закрывшийся цветок. Могучими ударами Богатырев разрубил хищного красавца. Нож стукнул о металлическую часть шлемофона. Вот почему Алеша не мог вызвать помощь по радио! Наконец шлем был освобожден. Богатырев взял Алешу на руки и легко понес, как ребенка. — Соли! — скомандовал он Доброву. — Втирай ему поваренную соль в шею… Щупальца осьминогов только так можно оторвать. Соль помогла. Щупальца отваливались одно за другим, оставляя после себя багровые синяки. — Кто же кричал, Илья? Кто? — тихо спросил Добров. Богатырев пожал плечами. Алеша медленно приходил в себя.
Глава четвертая ВЕНЕРЯНКА
Алеша лежал на сиденье вездехода. Его знобило. Ему казалось: если сбросить шлем, сразу станет хорошо, согреешься, дышать будет легче. Туман давил. Сквозь дымку показалась безобразная голова чудовища. Алеше хотелось закричать, но он рассмотрел знакомую бороду и глаза, смотревшие на него с тревогой и участием. Потом туман еще больше сгустился и заполнил собой все. Алеше казалось даже, что сырая мгла проникает ему в сознание. И он метался на подушках сиденья. …Потом Богатырев и Добров исчезли совсем… Или Алеше так показалось… Он перестал их слышать. Временами он ощущал, что теряет вес, иногда становилось тяжело в груди. Голова гудела. Их нет… значит, можно снять давящий шлем… Все пройдет, станет хорошо… Дрожащими пальцами Алеша нажал на груди кнопку. Шлем отделился от магнитного воротника. Алеша приподнялся на локтях, тряхнул волосами. Шлема не было. Алеша жадно вдыхал пьянящий воздух, напоенный острыми ароматами. Кружилась голова, становилось радостно, хотелось петь. И Алеша, подчиняясь непосредственному чувству, запел, взял высокую, сильную, озорную ноту и даже сам заслушался. Так бывало, когда он кончал под аплодисменты любимую арию. И вдруг из тумана прозвучала ответная нота, светлая, звенящая, переливчатая… Алеша сел, всматриваясь в туман. Он различал стволы папоротников, между ними гигантские распустившиеся цветы, яркие, багровые, золотистые и эмалево-синие… Алеша словно обрел дар видеть в тумане. Что это? Болезнь или воздух планеты так обострили органы его чувств? Он отчетливо различал прогалину возле вездехода. Но нигде не было ни Доброва, ни Богатырева. А что это движется меж исполинских цветов? Фигура, словно одетая в туман, легкая, почти прозрачная, могущая взлететь при первом порыве ветра… Ветер дует здесь всегда. Алеша чувствовал, как ерошит он его волосы. И туманная фигура приподнялась над цветами, взлетела, расправив руки-крылья… Легко и неслышно опустилась она около Алеши. И Алеша услышал знакомый голос, тихий, обращенный сейчас только к нему. Он понял, что это была она!.. Он видел лес и цветы за ее спиной, но не мог разобрать лица. У нее не было крыльев. Плащ цвета тумана ниспадал широкими складками. Его полы становились крыльями, когда она разбрасывала руки. Руки… тонкие, нежные… Алеша не только видел, он ощущал их прикосновение. И еще он увидел глаза… глаза венерянки, глубокие, искрящиеся… Они волновали его, звали, что-то говорили, объясняли… А потом снова прозвучал ее голос. Она заговорила. Он не понимал ее слов, но глаза словно переводили, проникая Алеше и в ум и в душу. Он слышал незнакомые звуки, но знал, что она говорит. — Откуда ты? — спросила она. Алеша посмотрел наверх. Она поняла. Он сказал: — Тебя не может здесь быть. Здесь ящеры. Разумные существа не успели еще появиться… Она улыбнулась: — Ты же ведь появился. Она сказала это так просто, так понятно! Она не могла и не должна была сказать ничего другого. И Алеша снова понял ее. — Я другое дело, — возразил он. — Мы прилетели… Прилетели с другой дочери Солнца, которого ты никогда не видишь. Она закинула руки за голову, плащ сполз на плечи. Обнаженные руки были золотистыми. — Я слышала о нем, — сказала она. — Оно ярче всех молний. Оно светит без грома, оно летает без крыльев, оно греет без дыма. — Откуда ты знаешь? Ты поднималась выше туч? Она отрицательно покачала головой, пристально смотря на Алешу: — Его видели те, кто дал жизнь всему моему племени. — Как зовут твое племя? Как зовут тебя? — Эоэлла, — сказала она. Алеше хотелось сказать, что она прекрасна, как и ее имя, но голос перестал повиноваться ему. Она протянула к нему руку и сказала: — Ты болен. Я исцелю тебя. На ней были браслеты из колючих лиан. Она коснулась обнаженной шеи Алеши, и он, почувствовав укол, дернулся. — Ничего, ничего, — прозвучал над самым ухом гулкий бас Ильи Юрьевича. Алеша хотел вскочить, чтобы видеть ее. — Прости, пришлось снять твой шлем, чтобы сделать укол, — говорил Илья Юрьевич. — Хиноциллин… должен подействовать. Алеша упал на подушки, зажмурился. Он не хотел ничего слышать, он боялся открыть глаза, боялся, что не увидит ее. Какое же у нее лицо? Неясные черты ускользали… Она улыбалась, а руки ее были ласковыми… Алеша открыл глаза. Илья Юрьевич надевал на него шлем. Добров в скафандре стоял на том месте, где только что была она… — Туман густой, но все же поедем, — предложил Добров. — Включим инфракрасный прожектор. В ночные очки дорогу разгляжу. — Где она? — спросил Алеша. — Кто? — обернулся Добров. — Эоэлла. — Как? — переспросил Илья Юрьевич. — Венерянка. — Ах, венерянка? — повторил Богатырев. — Надеюсь, теперь она пройдет. Алеша заметался на подушках. — Не надо! Не надо! — твердил он. Богатырев склонился над ним. — Не надо, чтобы она уходила, — просил Алексей. — Ну, знаешь ли, — услышал через шлемофон Алеша. — Лучше прогоним эту «венерянку». Ты придумал этой местной лихорадке удачное название. Хиноциллин — прекрасное средство. Я закатил тебе двойную дозу. Алеше стало так горько, что он готов был зарыдать. Ее не было! Это был всего лишь лихорадочный бред!.. Эоэлла! Где он мог это слышать? И вдруг он вспомнил. Так звучал странный крик из тумана. Обессиленный Алеша упал на сиденье. Богатырев посмотрел на него через стекло шлема. — Испарина, — сказал он. — Это хорошо. Алеша спал и сквозь сон чувствовал, как колеблется вездеход, как круто меняет направление, проваливается, кренится на подъемах. Пришел в себя Алеша сразу. Голова была светлой, ясной. Вездеход шел по ручью, вернее над его водой, повторяя все причудливые его изгибы. — Ну как, добрый молодец? Справился с венерянкой? — сказал Илья Юрьевич, заметив его пробуждение. Алеша почему-то покраснел. — Как американцы? — вместо ответа спросил он. Илья Юрьевич сразу помрачнел: — Плохо, Алеша. Худые известия от Маши с «Просперити». Сообщила в последний раз… голос у бедняжки перехватило… Потеряли радиолокаторы робота… Исчез он… — Исчез? — поразился Алеша. — Кто знает, что с ними случилось. Ведь без шлемов они, наверное, как и ты был у цветка… А туман здесь зловредный, с миазмами… — А мы много проехали? — Порядочно. Ты ведь долго спал. Вот Роман твое место у радиоприемника занял, а я — у руля. Может быть, передачу их шлемофонов засечем. Алеша вспыхнул. Пока он спал и слушал Эоэллу, его место у радиоприемника занял другой. Добров, отчужденный, сосредоточенный, ловил что-то, лишь ему одному слышное. Вдруг выражение лица его изменилось, он поднял руку. Алеша болезненно поморщился. — А ну-ка, попробуй отстроиться получше, — предложил Алеше Добров, заметив его состояние. Алеша радостно придвинулся к радиоприемнику, подключил шлемофоны. — Слышишь? — поднял палец Добров. Привычными движениями Алеша стал вращать верньер. Хуже, лучше… чуть хуже… еще… Поймал!.. Алеша передернул плечами, как при ознобе, посмотрел прямо в глаза Доброву. Они слышали человеческую речь, но голос был неприятный, скрипучий. Теперь можно было разобрать слова: — …на случай повторного дождя можно было бы сделать крытый переход до места стоянки русской ракеты. Здешние деревья могли бы послужить сырьем для лесопильного предприятия с примерным объемом производства в шесть миллионов долларов годовых… — Робот! — объявил Добров. — Илья! Мы слышим робота! Он несет какую-то чушь. — Худо, — отозвался Богатырев, делая крутой поворот по петле ручья. — Видимо, машина не контролируется людьми. — Я сейчас попробую связаться с ним по радио, — предложил Роман Васильевич. — Алеша, давай передачу на его волне. Эй вы, Железный Джон или как тебя там… Слышишь меня? Черт бы побрал эту стервозную атмосферу! Треск, шум, шабаш на Лысой горе. Дьявольщина! Робот, вероятно, принял радиограмму с вездехода, но… его создатель инженер Томас Керн рассчитал свою удивительную машину лишь на вежливое обращение. Может быть, услышав слова раздраженного Доброва, робот просто замолчал. — Хэлло! — надрывался Добров, перенеся свою злость на замолчавшую машину. — Чертова железная кукла! Проклятый автомат! Требую ответа! Перехожу на прием. Робот молчал. — Слушай, Роман, — сказал Богатырев, снова поворачивая вездеход, — а ты поспокойнее, повежливее… — Что ты, смеешься? Атмосфера или машина способны обидеться? — Ну, не машина… а тот же Аллан Керн, который тоже может тебя слышать. — Ну хорошо. Хэлло! Хэлло, уважаемый Железный Джон, вы слышите меня? Прошу вас ответить. Алеша услышал в шлемофоне: — Слышимость сорок шесть и пять десятых процента. Мешают грозовые разряды, — безучастно ответил робот. — Где американцы? Где Керн и Вуд? Где ваши хозяева? — Хозяева неизвестны. Рабовладение запрещено американской конституцией. Я свободная мыслящая машина, — проскрежетал в ответ робот. — Черт возьми! — вскипел Добров. — Ответите мне или нет? Робот молчал. — Хэлло, Джон, — взял себя в руки Добров. — Очень прошу вас, информируйте, пожалуйста, о положении ваших спутников. — Положение горизонтальное, — ответил робот. — Где вы находитесь? — Под каменным сводом. — Все ясно! — воскликнул Добров. — Они в пещере. Вот почему локатор Маши потерял робота. Хэлло, уважаемый Джон, что говорят ваши спутники? — О диких потомках, которые выживут на Венере. — На американцах есть шлемы? — Нет. — Венерянка! Илья! Они так же бредят, как и Алеша. — Плохо, — нахмурился Богатырев. — Сумеет ли робот сделать укол? Дай-ка я сяду на связь. Добров и Алеша уступили место Илье Юрьевичу у радиоприемника. Добров сел за руль. — Слушайте, Джон, приятель, — сказал Богатырев, — у ваших спутников лихорадка. — Лихорадка, малярия, инфлуэнца, грипп, — произнес робот. — Нужен укол хиноциллина. — Укол, шприц, продезинфицировать кожу… — Верно, верно, Джон, старина! Молодчина! Прошу вас, возьмите в вашей походной аптечке хиноциллин. Слова Богатырева прозвучали в устройстве электронной машины, бездеятельно стоявшей под каменным сводом, и робот ожил. Он получил программу действия. Теперь уже все выводы электронного устройства становились безукоризненными, задания исполнительным механизмам — четкими, движения электромагнитных мускулов — уверенными. Робот нашел и открыл походную аптечку, которую носил за плечами, отыскал по номеру хиноциллин и шприц, склонился над Алланом Керном, продезинфицировал ему шею — единственное открытое и доступное место — и артистически сделал укол. Затем он перешел к Гарри Буду. Молодой человек метался, перекатываясь по камням пещеры. Робот гонялся за ним с нацеленным шприцем, но Вуд словно нарочно увертывался. Кончилось тем, что робот сделал укол в пятку Гарри, защищенную толстой подошвой и каблуком, и едва не сломал шприц. Действие хиноциллина оказалось мгновенным. Аллан Керн пришел в себя и сразу оценил положение: — Лихорадка… испарения… хиноциллин! О Томас! Любимый брат мой! Вы создали чудо! Ваш Джон поставил диагноз, он лечит… Клянусь, это даже больше, чем нужно для управления государствами… Аллан Керн для надежности отобрал у робота шприц и сделал Буду укол сам. Потом он надел на себя и на Гарри шлемы и снова упал на камни. Но теперь это был освежающий, живительный сон. Керн и Вуд спали так крепко, что не слышали тщетных радиовызовов Доброва.Глава пятая ТРИНАДЦАТЬ БАЛЛОВ
Вездеход плавно скользил по спокойной речке, в которую, раздвинув берега, превратился ручей. Заросли кончились сразу, и исследователи оказались на морском берегу. До самого горизонта простиралось ревущее море поразительного цвета — серебро с чернью. Перед путниками словно клокотал расплавленный металл. Гигантские валы обрушивались на прибрежные утесы, сотрясая их ударами титанических молотов. Добров подвел вездеход к берегу, машина легко выбралась на камни и остановилась. Трое молча вскарабкались на утес. Бушующий океан был разлинован белой пеной и темными полосами. Бешеный ветер загибал гребни волн, вытягивал вперед их белые гривы. Они кружевными карнизами перекрывали на огромной высоте провалы между волнами. Илья Юрьевич поднес к глазам бинокль. Ветер трепал его седеющие волосы, завладел оправленной в серебро бородой. На берегу путники стояли без шлемов, радостно захлебываясь плотным бодрящим воздухом, совсем иным, чем в болотной чаще. — Сколько же баллов шторм, Илья Юрьевич? — спросил Алеша. — Баллов одиннадцать. — По двенадцатибалльной земной шкале, — усмехнулся Добров. — На нашей скорлупе такое море не переплыть. — Назад предлагаешь повернуть? — нахмурился Богатырев. — А что здесь можно предложить? — резко повернулся к нему Добров. — Что предложить? — вспыхнул Алеша. — Я не предлагать буду, а просить… Я прошу, Илья Юрьевич, разрешить мне одному переплыть пролив и вернуться с американцами. Если через два дня нас не будет, добирайтесь пешком до ракеты и стартуйте на Землю без нас. Богатырев спрятал бинокль в футляр, положил руку на плечо Алеше и повернулся к Доброву: — Боишься, значит, что утонем? — Я страха не знаю, Илья, — нахмурился Добров. — Но уверен, что утонем. — Страха не знаешь — чужой боли не поймешь. Страх ведь, как и боль, человеку не зря природой дан. Боль сигнализирует о болезни, а страх предостерегает и бережет. Бояться нужно. Я, например, и не скрою, что боюсь такой бури. Но ведь храбрость не заменяет страха, а побеждает его. Проявляется она людьми ради людей… — Я тоже забочусь о людях, об удачном исходе великого научного опыта, — упрямо сказал Добров. — Наука, Роман, не злобное божество, жаждущее жертв. Наука гуманна. Ради нее нельзя оставить на гибель людей. — Если бы я верил в удачу, в то, что мы им поможем! — с горечью воскликнул Добров. — Люди в древности переплывали Тихий океан на плотах, а у нас амфибия… — вмешался Алеша. — Значит… — поднял вверх брови Добров, выжидательно смотря на Богатырева. — Плывем, друг Роман, плывем… — примирительно сказал Илья Юрьевич. — По-моему, двенадцать баллов, — как ни в чем не бывало заметил Добров, оценивающе глядя на море. — Пожалуй, — согласился Богатырев и взял за плечи обоих помощников. Крепко притянув их к себе, он сказал им одну только фразу… Добров хлопнул себя по лбу. Алеша заглянул ему в лицо: — А инструкция? — ехидно спросил он. Добров отмахнулся от него. Алеша был восхищен Ильей Юрьевичем. Как просто находил он всегда нужное решение! Как хотел бы он, Алеша, походить на Илью Юрьевича!.. Илья Юрьевич еще в детстве, в войну, потерял родителей и стал сыном полка: воспитанником воинской части. После детдома, где он бережно хранил полученную им боевую медаль, он попал в экспедицию под начальство известного профессора-палеонтолога и знаменитого писателя-фантаста, который сумел привить ему любовь к знаниям и романтике. Он повидал в каменной пустыне Гоби величайшее кладбище динозавров и мечтал о звездах. Оставшись на Дальнем Востоке, он учился в мореходном училище, ходил матросом под парусами и на каботажных судах в Тихом океане, влюбившись в море, всегда изменчивое и прекрасное. Учился Илья, по настоянию своего шефа, в Московском университете, еще студентом отправился в двухгодичную палеонтологическую экспедицию и по возвращении вдруг поступил в Горный институт, который и закончил, мечтая о том, как будут прорывать глубочайшие шахты, открывающие сокровенные тайны Земли. Впоследствии горный инженер Богатырев был удостоен за палеонтологические открытия степени доктора биологических наук. Однако всеобщее признание он получил совершенно неожиданно, как геолог, заложив основы новой науки, возникшей на грани познания мертвой и живой природы. Он нашел новейшие методы открытия каменного угля, газа, нефти, торфа… Но поворотным в исследовательском пути профессора Богатырева был 1960 год, когда в Одесских катакомбах были обнаружены кости древних животных, ископаемых страусов, верблюдов и гиен, относящихся к эпохе верхнего плиоцена. Им насчитывалось миллион лет. Кости привлекли внимание ученых тем, что были… искусно обработаны в сыром состоянии!.. Илья Юрьевич вылетел в Одессу и принимал участие в изучении древних костей. На них были обнаружены точно вырубленные окошечки, пазы, желобки, абсолютно правильные круглые отверстия… Экспертиза показала, что кости обработаны металлическим инструментом!.. Потом профессор Богатырев отправился в Сахару и изучал там наскальные изображения существ в скафандрах, созданных древними художниками шесть тысяч лет назад в скалах Сефара. Он изучал в Британском музее череп из Брокен-Хила и установил по маленькому идеально круглому отверстию на левой теменной кости, что неандерталоидный человек был убит в Африке сорок тысяч лет назад пулей! Он изучал отпечаток подошвы с характерным геометрическим рисунком, оставленный миллион лет назад на песчанике пустыни Гоби и обнаруженный совместной советско-китайской палеонтологической экспедицией под руководством Чжоу Мин-чена в 1959 году. Особое его внимание привлекла знаменитая Баальбекская веранда в горах Антиливана. Чтобыизучить ее, он отправился в Ирак и там поражен был видом сооружения, сложенного много тысяч лет назад из плит весом более тысячи тонн каждая. Одна из таких исполинских плит и ныне лежит в древней каменоломне, откуда плиты поднимались неведомым способом на холм и там — на семиметровую высоту сооружения. Современным техническим средствам это было бы не под силу. Кто мог сделать это в древности? В Перу его привлекли загадочные знаки, выложенные во времена древних инков, в виде правильных геометрических фигур, тянущихся на километры. Они были обнаружены в пустынной местности в Андах во время аэрофотосъемки. Лишь с воздуха можно было окинуть их взглядом, они словно предназначались для того, чтобы ориентироваться по ним с большой высоты… Профессор Богатырев связывал все это воедино. Он стремился воссоздать историю Человека, историю возникновения и развития самого молодого на Земле существа, которому всего лишь около миллиона лет и которое, несмотря на свою сравнительную слабость и неприспособленность, неизмеримо возвысилось над всем животным миром. И больше всего интересовало профессора Богатырева то обстоятельство, что изумительным органом, давшим человеку всепобеждающую способность мыслить, — развитым мозгом, — человек обладал уже на самой заре своего появления. Найти человека или получеловека с недоразвитым мозгом науке не удалось. И палеонтолог Богатырев почему-то устремился в Космос. И он участвовал вместе со своим учеником Алешей Поповым в одной из лунных экспедиций и вот теперь возглавил экспедицию на Венеру, имея на это особые основания. Именно на Венере рассчитывал профессор Богатырев проверить некоторые из своих пока еще никому не известных выводов. Но даст ли природа Венеры нужный ему ответ? …Профессор Богатырев занял место на носу вездехода. Добров уселся за руль на приподнятой корме. Алеша не расставался с кинокамерой. Его восхищал невиданный прибой. Добров включил воздушные насосы. Вездеход, подняв под собой облако песка с отмели, приподнялся и двинулся на воду. Уровень реки колебался при каждом ударе морских волн. Кратковременные приливы и отливы чередовались один за другим. Маленький вездеход дерзко ринулся навстречу бегущим из открытого моря водяным хребтам. Первая же волна, накрыв его пеной и обдав путников потоками воды, подбросила суденышко на гребень. Взлет был так стремителен, что люди ощутили свинец в голове, боль в висках. Но в следующее мгновение они уже проваливались в бездну, теряя, как в Космосе, вес. Высоко над их головами протянулся кружевной полог пены. Вода стекала по прозрачным колпакам. Алеша бодро крикнул про автомобильные стеклоочистители, которые здесь пригодились бы… Добров, закусив губу, вел вездеход. Берег с черными утесами, о которые мог разбиться вездеход, отодвигался назад. Но валы стали страшнее, ветер свирепее. Он срывал вездеход с гребней волн, силился сбросить его назад. Доброву стоило огромных усилий удерживать машину на курсе. — Тринадцать баллов, ребята! Тринадцать! — весело сказал Илья Юрьевич. — Двенадцать баллов — это только на Земле предел… Алеша уже не видел набегающих волн. Ему казалось, что сам океан, весь мир вместе с небом и тучами, с валами и горами то проваливается, то взлетает… Колебалась сама планета, более того — вся Вселенная… Сила шторма нарастала. Теперь, когда суденышко взлетало на гребень волны, нужно было изо всех сил держаться за борта, чтобы не вылететь… Алеша дрожал от радостного напряжения, от ощущения безотказности подчиненной им техники. Он верил, что они переплывут «Берингов пролив», как называл он мысленно это море, доберутся до другого континента, где оказались американцы. Стараясь увидеть «их берег», Алеша заметил странною быстро летящую тучу. В очертаниях облаков легче всего вообразить фантастические фигуры… Он не поверил себе: — Илья Юрьевич, что это там летит? Богатырев приложил к шлему ладонь, словно защищаясь от никогда не видимого здесь Солнца. — Худо! — сказал он и потянулся за ружьем. В небе летело чудовище. Его изогнутые дугой крылья с острыми шипами с задней их стороны накрыли бы океанский корабль от носа до кормы. Скользившее над пенными гребнями белое брюхо было под стать исполинским валам. Зубчатый гребень на спине переходил в вытянутый чешуйчатый хвост размером больше крыла. В вытянутой зубастой пасти мог поместиться вездеход. Только на Венере с ее плотным воздухом, пользуясь ураганом, мог лететь гигантский ящер…
Он выискивал в волнах добычу, способный поднять из воды в когтистых лапах даже земного кита, унести его в облака… Богатырев вскинул гранатное ружье. Но пробьют ли чешую гранаты? А в глаз при такой качке разве попадешь! Исполинский птеродактиль приближался. Богатырев выстрелил. Сменив ружье, он сумел выпустить две гранаты в брюхо чудовища. Но живот хищника, очевидно, был защищен едва ли не лучше всего. Ведь ему приходилось иметь дело с острыми шипами на хребтах жертв… Гранаты только разъярили зверя.

Бреющим полетом, срезая концами перепончатых крыльев пену гребней, ящер полетел на вездеход. Алеша дивился, смотря на чудище. Настоящий дракон из старых сказок. Дракон! Такого же «драконьего птенчика» сбивал своим свистом Соловей-разбойник. Алеша расширенными глазами посмотрел на Илью Юрьевича. Тот понял его без слов. А Добров уже возился с аппаратом ультразвуковой разведки, который они с Алешей перемонтировали… — Нет! Врешь! Знаем, чем тебя взять! Знаем! — крикнул Алеша, бросаясь к прибору. Чудовище, поставив одно крыло выше другого, делало мастерский вираж, снова выходя на жертву. Угрожающе приближались разверзнутая зубастая пасть, чешуйчатая грудь и бороздящий по пенным гребням хвост, оставляющий буруны. Добров включил прибор. Невидимый ультразвуковой луч пронзил плотный венерианский воздух и уперся в бронированное тело исполинского ящера. Никто из людей, одетых в скафандры, не почувствовал сейчас ультразвука. Ультразвук бил по чудовищу направленным лучом, поражая его нервные центры. Люди не были даже уверены, работает ли прибор… Чудовище продолжало лететь, круто снижаясь. Его хвост задел за гребни волн, ушел в воду. Птеродактиль был уже мертв, но исполинская его туша по инерции летела на прежнюю цель, и всей многотонной тяжестью обрушилась она на утлое суденышко, накрыв его собой. Все было кончено в одно мгновение. И вездеход и труп зверя исчезли в кипящей пене. Бешеный ветер срывал ее с острых гребней. Исполинские валы катились к берегу, чтобы разбиться об утесы. Даже следов суденышка и дерзких храбрецов, пытавшихся помочь собратьям, не осталось на поверхности яростного венерианского моря.
Глава шестая ОДНА В КОСМОСЕ
Мэри Стрем была одна в кабине, одна корабле, одна во всем Космосе. Любая женщина на ее месте могла сойти с ума. Мэри не сошла с ума, но потеряла способность что-либо ощущать… Не только за стенками корабля была пустота. Пустота была в ней самой. Гарри больше не было. Неестественно жестким голосом сообщила она об этом командору экспедиции. Она должна была сделать такое сообщение и передала его, не веря себе, не желая верить… Она ждала, что русские повернут обратно — ведь им некого было больше спасать. Радиоволны из-за магнитных бурь не проходили, и Мэри на протяжении нескольких кругов, которые сделал «Просперити» вокруг планеты, не имела связи с вездеходом. Она ждала радиограммы с корабля «Знание», и вдруг радиолокатор обнаружил вездеход не около ракеты, а в открытом море. Мэри с бьющимся сердцем отрегулировала экран локатора на предельное увеличение. Она четко различила качающийся, очевидно, на волнах силуэт амфибии. Но на радиовызовы русские не отвечали. Мэри не могла понять почему — ведь она не представляла себе, что творилось в бушующем проливе, через который рискнули плыть русские… И вдруг борт-инженер Добров передал в эфир несколько отрывочных фраз. Приборы записали их на ленту, и Мэри потом без конца с ужасом прослушивала: — …Шторм тринадцать баллов… Видим тот берег… Нападает летающее чудовище размером с океанский корабль… Передайте на Землю, что… И больше ни слова. Остальное рассказал экран локатора. Самое страшное Мэри увидела сама… Неведомое чудовище не отражалось на экране тенью, Мэри лишь мысленно представила себе, как тень дважды прошла по силуэту вездехода. Но то, что силуэт вездехода исчез, она увидела на экране. У нее перехватило дыхание. Очевидно, чудище нырнуло с добычей на дно. Мэри в бешенстве стучала по пульту кулаками. «Просперити» улетал от места, где разыгралась драма, уходил в другое полушарие, и она не могла его остановить, как не могла и сдержать себя. Она рыдала… Это были рыдания сильного человека, не только потрясенного горем, но и ощутившего полное свое бессилие. Она не человек, способный мыслить, действовать, бороться — она лишь часть аппаратуры корабля, приговоренного кружиться над пустой теперь планетой!.. Сначала американцы, потом русские… На Земле мы часто противостояли друг другу, искали дорогу, на которой можно стоять рядом, соревновались в богатстве, влиянии на умы, высоте идеалов и справедливости, в победах науки, завоевании Космоса, а теперь вот построили почти равные по совершенству космолеты, на которых плечом к плечу вошли в чужой мир, и вот погибли в этом чужом мире… Русские, всегда чуть загадочные, непонятные, которыми пугают и которых не постигают из-за чуждости их души, мышления, подхода ко всему. Почему, несмотря на ее сообщение об исчезновении американской экспедиции, они все-таки рискнули плыть через пролив? Что за люди эти русские? Когда узнают о них в Америке всю правду? Мэри смотрела на себя в специально для нее вделанное в пульт овальное зеркало и сама себе казалась чужой. Провалившиеся глаза, дрожащие губы, сбившиеся волосы… До сих пор Мэри Стрем не умела плакать, не знала страха, не знала бессилия… Слабая надежда всегда будет теплиться, пока жив человек. Может быть, отказал прибор? И Мэри пыталась нащупать радиолокатором хоть что-нибудь на поверхности страшной планеты. Но корабль пролетал преимущественно над океаном. Водные просторы занимали большую часть планеты. Еще и еще раз оказывалась Мэри над местом высадки людей и снова убеждалась, что нет на экране локатора ни черточки вездехода. Как горько, как нелепо закончилась одна из самых дерзких экспедиций, которые когда-либо предпринимал человек!.. Из трех кораблей, из девяти избранников человечества осталась только она, Мэри Стрем, дочь богача, невеста бесстрашного ученого, ради которого она сделала даже больше, чем может сделать любящая женщина, — победила страх и слабость… Она осталась одна, а его, ироничного увальня, простого, близкого, немногословного и романтически одержимого, Гарри Вуда, которому принадлежат все премии, назначенные на Земле за открытия в иных мирах, его нет, как нет и всех тех, кто был с ним, разделил его участь, пытаясь спасти его… Когда-то Мэри ради славы спрыгнула со скалы в кипящие волны прибоя. Сейчас в ее затемненном горем мозгу мелькнула безумная мысль снова спрыгнуть, на этот раз в океан кровавых туч, повернуть рули, включить дюзы, ринуться вниз, сгореть, сверкающим болидом упасть на то место, где умер Гарри, где погибли русские… Но нет! Неужели она получит от Жизни пулю в спину, трусливо покидая поле боя? Нет, нет! Если падать, то только навзничь, получая смертельный удар в грудь. Есть запасный планер! Долг последнего исследователя, долг подруги, жены героя — спуститься на поверхность планеты, пройти любые джунгли, убедиться в гибели Гарри. И, быть может, спасти его, добраться до русской ракеты, стартовать на ней, найти «Просперити» с топливом и вернуться на Землю!.. Что? Безумие? Может ли одна женщина сделать то, что не смогли сделать пятеро сильных мужчин, управляющих машинами, она, слабая… Кто говорит о слабости женщины, тот забывает, что нет большей силы, чем сила женщины, способной перенести все во имя долга и чувства, силы женщины, жены и матери, благодаря которой существует человеческий род! Полная решимости, забыв о минутной слабости и слезах, Мэри, подтянутая, напряженная, с сухими горящими глазами, прошла в отсек, где стоял запасный планер, такой же, как тот, на котором улетели Вуд и Керн. Какой мужчина решился бы на такой план? Мэри обдумывала его во всех деталях. Достигнуть квадрата «70», опуститься в месте, где последний раз видела она точку робота. Она склонилась над глобусом Венеры, который был составлен вместе с русскими с помощью радиолокаторов. Оставалась Земля…
Нет, Мэри ни у кого не будет просить разрешения! Она не просто одинока — она величественно одинока в Космосе! Она единственная во всем межпланетном пространстве свободная, ответственная только перед самой собой, она не будет связываться с Землей, со штабом перелета. Она только взглянет на Землю, может быть, послушает ее голос… Мэри прижалась лбом к холодному стеклу иллюминатора. Бездонная чернота, в которой сверкают кипящие в атомном неистовстве миры… И среди них милая и далекая голубая звездочка, самая прекрасная, прекраснее красавицы зорь, которой Мэри любовалась с Земли на рассвете и которая мрачным горбом заслоняет сейчас часть звездного неба. Голубая звезда, родная Земля! Нет, Мэри не могла не услышать ее голоса. Еще есть время… «Просперити» должен сделать вокруг Векеры почти полный оборот. И Мэри включила радиоприемник. Сейчас по расписанию не было радиосвязи, но девушка совершенно бессознательно пыталась уловить голос Земли… И вдруг она услышала его… Всякая передача на Венеру требовала затраты огромной мощности, она была сжата в могучий импульс, где многократно ускоренные звуки сливались в яркий всплеск… Сейчас эти всплески звучали один за другим, словно на «Просперити» передавались тучи телеграмм. Аппараты «Просперити» расшифровывали сигналы, замедляли звуки, передавали их человеческой речью. Но это оказалась не речь, а… пение. Песня Земли!.. Для Мэри в этой песне звучала сама Земля! Горы, их сверкающие снеговые вершины. Небо, бездонное, синее, с бегущими, легкими, как шарф, облаками. Солнце, земное, яркое, не уродливо лохматое, а веселый ослепительный кружочек, ласково греющий… Лес, чудесный, совсем не хмурый, но загадочный… И ветер волнами шумит в листве. Река, медлительная, прохладная. Простор прерий и скачущие за горизонт всадники. И сама она скачет вместе с ковбоями отца. Трава там доходит до плеч. А вот в саду трава мягкая, шелковистая. Птицы поют в ветвях, щебечут, перекликаются. Далекий гудок пароходика. Лента шоссе. Бешеная езда в открытом автомобиле. Горные повороты, от которых и захватывает дух и радостью переполняется сердце… А на повороте — неуклюжий и милый человек с нелепым пучком трав… Скрип тормозов, легкая испарина на лбу и протянутый ей с шутливой благодарностью букет из трав… Гарри!.. Ее Гарри! В кабине космического корабля звучала песня Земли, чтобы напомнить Мэри, что она не одна в Космосе, что родная ее планета с миллиардами людей тоже движется в том же Космосе и думает о ней. Песню передавали для Мэри из штаба перелета, кто-то чуткий думал о ней. Разве может она не предупредить о том, на что решилась! Радиостанция штаба американской части экспедиции вызывала ее. Мэри победила себя и ответила. Убыстренные звуки ее голоса электромагнитным всплеском умчались к Земле в могучем импульсе разряда электрических конденсаторов. Этот всплеск долетит до Земли лишь через триста секунд, через целых пять минут. Мэри узнает, что ее ответ принят, лишь через десять мучительных минут… Лишь за это время световые или электромагнитные волны достигнут Земли, дойдут от Земли до Венеры… Для Мэри в это время минуты казались часами. Ее услышали. И Мэри узнала, что весь мир Земли, люди в Америке, Европе, Азии, Австралии, Африке скорбят о трагической гибели членов экспедиции… Американский штаб перелета передавал Мэри приказ: «Просперити» оставить Венеру. Мэри Стрем, единственной оставшейся в живых, вернуться в Америку, где ее встретят как национальную героиню… Мэри не сразу поняла, что это значит — национальная героиня… Кибернетическая машина бесстрастно напечатала текст переданного приказа… Мэри, закусив губу, перечитывала скупые и краткие строчки. Значит, она не принадлежит себе в пустоте Космоса, она принадлежит Америке?.. А Гарри? Автоматическая пишущая машинка отщелкивала строчку за строчкой. Семья Мэри не выходит из церкви, вознося за нее молитвы. К ней протягивают руки отец, мать, брат… Академии наук многих стран избрали ее своим членом или членом-корреспондентом… Ей присвоено множество почетных званий, присуждена американская премия по астронавтике… Комитет Нобелевской премии в Швеции будет рассматривать ее отчет о полете как научную работу величайшего значения… И еще, и еще… Газеты публикуют сенсационные сообщения, что тысячи молодых людей, восхищенных подвигом девушки, почтительно разделяя ее горе, готовы посвятить ей свою жизнь и состояние, предлагают ей свою руку… В их числе несколько сыновей миллионеров, знаменитые киноактеры, известные бейсболисты и боксеры, один вождь индейского племени и даже молодой католический кардинал, готовый в случае согласия Мэри сложить с себя сан, совершив тем угодный богу подвиг… Люди Земли думали о Мэри, они жалели и любили ее… Мэри слушала голос Земли, гордо закинув голову. Она написала краткую радиограмму. Ей не нужны почести, она разделит судьбу тех, с кем вместе пересекла Космос, или спасет тех, кто, быть может, еще жив. Мэри не передала эту радиограмму. Аппараты должны были автоматически передать ее, как только она сядет в планер в ожидании, когда сработает реле времени и планер начнет полет. Мэри решилась. Она думала, что решилась. Она уже надела скафандр… И вдруг она поняла, что не сможет прыгнуть вниз с космической высоты… Не надо было слушать Землю… Нет! Не предложение сердец, даже не сообщение о почестях и даже не приказ. Не надо было слушать песню Земли… Эта песня околдовала Мэри, сделала ее бессильной для последнего подвига, а ее просветленный ум вдруг перестал признавать поступок, на который она решилась, подвигом. Нет, не смерть на Венере близ Гарри, а жизнь на Земле во имя прославления имени Гарри, быть может, ради продолжения его дела… На это нужны силы, а не на гибель… Подвиг не в том, чтобы ринуться вниз и сгореть в атмосфере или погибнуть в джунглях, подвиг в том, чтобы одной, без командора и шефа, без инженеров, довести «Просперити» до Земли… Если она погибнет в пути, она будет достойна Гарри и всех тех, кто остался в Космосе с ним, если она долетит до Земли и даже посадит корабль на космодроме в Скалистых горах, то она сделает это во имя Гарри. Мэри уничтожила радиограмму прощания. Она написала другую: «Мне очень трудно улететь от Венеры. Я получила приказ о возвращении и очень хотела бы выполнить его. Я не знаю, смогу ли это сделать. Ведь мне некому помочь. Может быть, я собьюсь с пути или сойду с ума за эти месяцы, которые должна пробыть в дороге… Мне очень хочется на Землю, очень… Я ведь думаю о том, как можно набрать букет цветов или искупаться… А вы хотите избирать меня в академии. Я постараюсь выполнить приказ. Самое трудное для меня будет дать старт, сойти с орбиты вокруг Венеры. Мне будет трудно улететь от планеты моего горя, потому что я боюсь быть счастливой на Земле». Мэри перечитала радиограмму, которую должны были передать на Землю автоматы, и лицо ее стало каменным. «Просперити», последняя ступенька, которой должны были воспользоваться те, кто спустился на Венеру, уходил к Земле. КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СОЛНЕЧНОЕ ПЛЕМЯ
Глава первая НАВАЖДЕНИЕ
Три исследователя, одетые в космические скафандры, погружались на дно… Их межпланетное одеяние из мягкой пластмассы, шлемы и аппаратура для дыхания не уступали водолазным костюмам. Тяжелое снаряжение увлекало на дно. В первый миг все потеряли друг друга из виду. В глубине уже не красная, а зеленоватая вода становилась все гуще, темнее, пока не превратилась в черную мглу. Радиосвязь под водой не действовала. Алеше стало не по себе. Только что без тени страха снимавший кинокамерой птеродактиля, сейчас он, никого не слыша, ничего не видя и не ощущая, закричал чужим, хриплым голосом. Его не услышали… Он рванулся в сторону, протянул руки, чтобы достать товарищей. Что-то скользнуло по его руке. Он отдернул ее с омерзением. До боли сжав челюсти, он медленно опускался на дно. Когда наконец он стал на мягкий ил, то почувствовал стыд за свой крик. Он даже обрадовался, что не был услышан. Справа, разрезая чернильную толщу воды, вспыхнул яркий серебристый конус, упирающийся в размытый туман. В луче метнулись диковинные рыбы с пилообразными хребтами, с глазами, горящими в луче, как у кошек, мелькнули и исчезли… А вместо них в освещенное пространство вошел Илья Юрьевич, огромный, спокойный, бородатый и улыбающийся. Он словно стоял не на дне венерианского моря, а на берегу, где недавно сказал своим помощникам, что в крайнем случае вездеход опустится под воду, и они перейдут пролив по дну… Алеша, преодолевая плотную преграду, добрался до Богатырева и обнял его. Илья Юрьевич не отстранился, как обычно. Прожектор на вездеходе зажег Добров. Затонувший вездеход был цел! В свете прожектора виднелось исполинское перепончатое крыло и часть гороподобной туши уничтоженного ящера, хвост которого придавил вездеход ко дну. Освободить вездеход оказалось нелегким делом. Пришлось включить двигатели. Насосы засасывали не воздух, а воду. Отбрасывая ее вниз, они приподняли вездеход вместе с чудовищным хвостом. Богатырев и Алеша подставили плечи, чтобы удержать этот хвост. Добров выключил насосы и включил реактивный двигатель. Вездеход опустился ко дну и рванулся. Машина была свободна. Алеша и Илья Юрьевич выбрались из-под хвоста дракона. Илья Юрьевич наклонился, чтобы коснуться корпуса вездехода антенной, и сделал знак, чтобы его товарищи сделали то же. Теперь можно было переговариваться через шлемофоны. — Вижу, двигаться он может свободно, — кивнул на вездеход Богатырев. — Лишь бы не сбиться с пути, — отозвался Добров. — Как хорошо, что магнитное поле на Венере такое сильное! — вставил Алеша. — Компас действует. А я ведь струсил… закричал, — признался он. — Трусить еще придется всем, — проворчал Добров. — Теперь жди ихтиозавра какого-нибудь. Не знаю, пригодятся ли против них наши подводные ружья. — Все-таки достань их, — посоветовал Илья Юрьевич. Добров снова включил насосы, создававшие воздушную подушку. Они засосали воду и направили вниз струю. Добров так отрегулировал работу насосов, чтобы машина оставалась во взвешенном состоянии. Самому ему пришлось выбраться на дно. Доставая рукой приборы управления, он включил горизонтальный двигатель на самый тихий ход. Держась за борта, все двинулись вперед. Антенны не касались теперь металлического корпуса, и связи между путниками не было. Прожектор освещал странное пестрое дно. Ил был усеян самоцветными камнями, которые радугой играли в луче прожектора. Но скоро выяснилось их удивительное свойство. Синие, желтые, золотистые, под влиянием света они быстро меняли окраску, становясь все ярко-красными, а потом коричневыми, в тон ила… Многие из них не только меняли окраску, но и уползали из светлой полосы в тень. Скорее всего, это были раковины моллюсков или крабовидных. Рыбы, кроме стаек проворных мальков, проносившихся прозрачным веером, избегали попадать на свет. На самом краю освещенного конуса глаза их горели по-волчьи. Илья Юрьевич взял гранатное ружье. Оно могло помочь и под водой. Добров и Алеша вооружились ружьями-острогами. Илья Юрьевич шел первым, и его силуэт выделялся на фоне освещенной воды. Он поворачивал голову, тревожно всматриваясь в темноту. В луче прожектора стали попадаться скалы неправильной формы, занесенные илом, поросшие водорослями. Доброву приходилось лавировать между ними. Алеша жадно всматривался в их неясные, исчезающие в мутном тумане очертания. Добров нашел проход, вдоль которого скалы тянулись по обе стороны, уходя ровными рядами в темноту. У Алеши сжалось сердце. Он не мог отделаться от ощущения, что они движутся по… улице. Это было смешно. Романтическая уверенность Алеши в том, что на Венере есть разумная жизнь, под давлением неопровержимых аргументов Доброва давно уже пошатнулась. На Венере эра развития оказалась слишком ранней, чтобы можно было ждать появления разумных существ. Венерианку он видел только в бреду. Но все-таки, какие странные скалы!.. Конечно, Добров возмутился бы, узнав о диком предположении Алеши. Илья Юрьевич, возможно, пожурил бы его, назвав мечтателем… Однако нельзя же пройти мимо таких скал, даже не посмотрев хоть на одну из них вблизи… Алеша догнал Богатырева и дотронулся до его плеча. Тот вздрогнул и резко обернулся. Алеша показал на скалы, потом на свои глаза, сделал умоляющий жест руками. Богатырев взглянул на герметические ручные часы и отрицательно покачал головой. Алеша поднял один палец. Одну только минуту, одну только скалу. Ведь единственная возможность!.. Илья Юрьевич нахмурился, скрестил руки на груди, показывая, что он будет ждать, но лишь недолго. Алеша двинулся вперед к освещенной скале. Удары сердца отдавались в висках. Если бы это на самом деле оказались руины!.. Однако скала, полускрытая илом, меньше всего походила на развалины строения. Но почему все эти скалы вытянуты в линейку? И по другую сторону «улицы» так же!.. Когда-то Алеша ездил в туристическую поездку по Италии и побывал в Помпее. Он как завороженный рассматривал тогда древний город развалин, более тысячелетия пролежавший под пеплом Везувия. Его поразили ровные улицы, ряды примыкающих один к другому каменных домов без крыш… В каменной мостовой были глубокие выбоины от колесниц… Сколько столетий нужно было ездить по этим мостовым, чтобы выбить в камне такие колеи!.. Он заглядывал в дома без крыш, старался представить, какие здесь жили люди… Маленький городок тысяч на двадцать жителей, но в нем были и общественные бани, и спортивный зал для юношей, и античный театр с великолепным полукружием амфитеатра, и открытый форум для собраний, и храм с сохранившимися колоннами! О, если бы увидеть сейчас хоть одну колонну! Алеша шел впереди вездехода в широкой части расходящегося луча, где свет захватывал странно ровный ряд скал. Но колонн не было… Неужели эти подводные жилища сооружены какими-нибудь животными? Строят же бобры плотины и хатки… Не говоря уж о геометрически правильных муравейниках. Расстаться с мечтой всегда очень трудно. Алеша упрямо шел, разглядывая каждую скалу. При близком рассмотрении они оказывались разной формы и совсем не напоминали Помпеи. Если бы найти хоть один вход в скалу!.. Он так и подумал — «вход в скалу». Не решился додумать «в дом», но слово «вход» мысленно произнес. Некоторые скалы были много выше других. Их геометрически правильная форма казалась подчеркнутой… Хотелось осмотреть хоть одну скалу поближе. Он обошел подножие скалы, но входа не нашел. И вдруг он вспомнил, что животный мир Венеры, вероятно, должен был приспособиться к особым условиям ее бешеной атмосферы. Алеше не хотелось допустить, что он имеет дело с жилищами подводных существ. Нет! Он уже мечтал, что перед ним древний, когда-то затопленный город!.. Но если на Венере летает птеродактиль, чудовище, то и разумные строители города могли летать. Тогда вход в их дома надо искать не снизу, а сверху… в не сохранившихся, быть может, крышах… Алеша всплыл на скалу. Прожектор замигал. Предостерегает Добров… Алеша, перебирая руками, двигался по поверхности скалы, как по крыше… Здесь света не было, и ничего нельзя было разобрать. Алеша искал провала на ощупь… И он нашел его!.. Может быть, это было просто углубление в скале, но разгоряченному фантазеру казалось, что он опускается в жилище разумных летающих существ… Богатырев и Добров видели, как всплыл и исчез Алеша. Молча они ждали минуту, две, три… пять… Богатырев прикоснулся антенной к корпусу вездехода. Добров, увидев это, сделал то же. — Мальчишка! — услышал Богатырев его голос. — Разреши, Илья, я приведу его. Если бы можно было снять шлем, я отодрал бы его за уши! — Иди. Возвращайтесь поскорее, — скомандовал Богатырев. — Я поверну вездеход, посвечу вам. Добров всплыл на скалу, как и Алеша… Вершина скалы, теперь освещенная, выделялась в мутном тумане. Но в углублении, в котором исчез Алеша, было темно. Добров оказался предусмотрительнее Алеши. Он захватил электрический фонарь. Он осветил им странный колодец, вернее вертикальный грот… В глубине Добров заметил движение. Не попал же Алеша в логово ихтиозавра!.. Добров не раздумывал. Зажав в одной руке фонарь, в другой — нож, он ринулся вниз. В луче света блеснул шлем биолога. Добров опустился на мягкий ил рядом с Алешей, почти грубо схватил его за руку и показал наверх. Губы у Алеши шевелились, он в чем-то хотел убедить Доброва. Но Доброву даже в голову не пришло то, что хотел ему сказать Алеша. Он не мог и не желал его понять. Слишком на разных языках если не говорили, то мыслили они… Алеша указал Доброву на выход из грота внизу — он все-таки отыскал его изнутри! Алеша засунул в мешок попавшийся под руку покрытый илом камень. Следом за Алешей Добров на четвереньках выбрался из грота и с облегчением увидел освещенный конус. Схватив Алешу за руку, он решительно двинулся к вездеходу. Алеша шел взволнованный, смятенный, слегка упираясь. Он почти был уверен, что побывал в жилище каких-то существ… Но были ли эти существа разумными? Подойдя к вездеходу, он прислонил антенну к корпусу, чтобы Богатырев выслушал его, но тот посмотрел сердито, повернулся спиной и двинулся впереди вездехода. Добров включил мотор. Положив руку на борт, Алеша пошел рядом. Он больше не думал о нападении ихтиозавров. Скалы по правую и по левую сторону от освещенного конуса казались ему причудливыми строениями, а впереди, на занесенном илом дне, он готов был увидеть выбитые в камне колеи колесниц… Хорошо, что Добров не «слышал» этих сумасбродных мыслей!.. Скалы, превращенные фантазией Алеши в дворцы и башни, в кубы и пирамиды домов, медленно проплывали назад. Это было как наваждение.Глава вторая ПЕРВЫЙ КОСТЕР
Ураганы на Венере рождались циклонами. Бешено закрученные атмосферные воронки охватывали целые материки. На ободе жернова ветер дул с непостижимой силой, в центре стоял мертвый покой. Следом за штормом наступила тишина… Волны моря еще не утихли, они вздымались холмами, но уже без гребней, сглаженные, мягкие… Они набегали на песчаный берег, выбрасывая в кипящей пене яркие разноцветные ракушки. С недовольным шипением они всё больше отступали, уже не доставая пенными лапами до тускнеющих на песке выброшенных из моря самоцветов. Недалеко от берега в отхлынувшей воде показался шлем с остроконечным шишаком антенны. Как в славной сказке, выходили из смирившейся воды один за другим три фигуры, оставляя следы на влажном песке. Следом за ними, как верный конь, выплыл из волн вездеход. Илья Юрьевич снял шлем с колпаком и всей грудью вдохнул морской воздух. Алеша тоже снял шлем, счастливо озираясь. Добров возился с вездеходом. — Благодать-то какая! — сказал Богатырев. Вместо заросших папоротником болот противоположного берега здесь от желтой каемки песка начинался ковер алых цветов, о которых так мечтал Алеша. Пошатываясь от усталости, Алеша добрался до цветов, опустился перед ними на колени и стал собирать букет из огоньков. Цветы пламенели у него в руках, каждый чуть отличного от других оттенка: букет жил, переливался, пылал… — На Землю бы такое привезти! — воскликнул Алеша. Он вынул было из мешка взятый им со дна камень, чтобы освободить место для букета, но почему-то снова положил его обратно. Прямо с берега поднималась коническая гора вулкана. Вершина ее казалась окутанной тучами. Это дымился кратер. От него струями спускались каменистые гряды — потоки застывшей лавы. Лес рос лишь у подножия, все тот же лес папоротников и хвощей. — К сожалению, сразу не двинемся, — сказал Илья Юрьевич. — Здесь так красиво! — отозвался Алеша. — Нужно узнать, в какой стороне американцы. Как ты, Роман, не слышишь их? — Может быть, нашему радисту удастся установить связь, вместо того чтобы собирать цветы для местных дам? — едко заметил Добров. — Радиоволны не проходят. Магнитная буря продолжается. Чувствуется, что Венера ближе к Солнцу… — Планета бурь… В воздухе, в море, в эфире, — сказал, не обижаясь, Алеша. — Что ж, отдых нам нужен, — решил Богатырев. — Можно развести костер, — предложил Алеша. — Что ж, — согласился Илья Юрьевич. — На Венере еще никто не разводил костров. Будем первыми. Алеша вернулся с охапкой сухих корней, отломившихся от венерианских перекати-поле. Разжигая диковинный хворост, он вдруг спросил: — Вы думаете, Илья Юрьевич, что это первый костер на планете? Костер разгорался, потрескивая и стреляя искрами. — А ты сомневаешься? — пытливо посмотрел Богатырев. — Сомневаюсь, — чистосердечно признался Алеша. Добров поморщился, как от зубной боли. Алеша стал на колени, вороша горящие сучья длинным корнем. — А подводная улица? — спросил он, не оглядываясь. — Какая улица? — возмутился Добров. — Разве два ряда похожих на скалы руин не напоминали улицу затопленного города? Богатырев улыбнулся. Добров позеленел: — Ну, знаете ли! Ему мало заработать кандидатскую степень на вздорных да к тому же и чужих гипотезах о существовании разумной жизни на других мирах, так и теперь она мерещится ему повсюду! В таких случаях лечиться надо. Понимать, что Космос противопоказан… Алеша смертельно обиделся, отошел в сторону. Добров деловито занялся консервами. Богатырев задумчиво теребил бороду. Гипотезы разумной жизни на других мирах! Алеша вовсе не присваивал их себе, но он был их горячим сторонником. Прежде всего привлекал к себе Марс. Еще Гавриил Андрианович Тихов, замечательный советский астроном, изучая отражательную способность темных пятен на Марсе, которые меняли свою окраску по временам года, от зеленой весной, до красновато-коричневой, под цвет марсианским пескам, зимой, убедился, что пятна эти не что иное, как сплошные массивы вечнозеленой растительности типа наших елей или лиственниц. Впоследствии он изучил и вновь появившиеся на планете пятна, прежде неизвестные. Он шутливо назвал их «марсианской целиной». К тому же и знаменитые марсианские «каналы», открытые в 1877 году итальянцем Скиапарелли, эти удивительные геометрически правильные образования, сетью покрывающие планету Марс, которые, как подумал Скиапарелли, могли быть прорыты разумными обитателями Марса, оказались, по Тихову, также полосами растительности, распространяющейся от полярных шапок Марса к экватору по мере таяния полярных льдов. Скорость распространения зелени в три-четыре километра в секунду вполне отвечает скорости течения воды в гигантских водоводных трубах, если бы они были заложены в почве, чтобы использовать для орошения талую воду полярных льдов. Все это, в том числе и яркие вспышки, замеченные японскими наблюдателями во время великого противостояния в 1956 году, заставило юношу Алешу Попова беззаветно уверовать в существование разумных марсиан. И, конечно, он был одним из самых яростных сторонников когда-то смутившей многие умы гипотезы о тунгусской катастрофе 1908 года, объяснявшей ее атомным взрывом не успевшего приземлиться марсианского корабля, летевшего, как подсчитали, с Марса через Венеру… В тот год было необыкновенно выгодное взаиморасположение трех планет. Алеша принял участие в научно-туристической экспедиции молодежи в район «падения» никогда не падавшего «тунгусского метеорита». Вместе с другими молодыми энтузиастами он старательно обследовал местность и привез сенсационные доводы в пользу предположения о взрыве корабля. Оказалось возможным доказать, что в 1908 году там произошел именно ядерный взрыв, поскольку в годичных слоях продолжающих расти лиственниц был обнаружен стронций-90, изотоп, образующийся лишь при ядерных взрывах и попавший в почву с радиоактивными осадками и уже оттуда по корням засосанный растением и отложившийся в годичном слое. Доказан был и лучевой ожог леса, а также причина светлых ночей после взрыва, вызванных радиоактивными процессами торможения в верхних слоях атмосферы перед взрывом. Кто же мог прилетать на Землю? Кто? Неужели марсиане? Как раз тогда советский астроном профессор Шкловский выдвинул гипотезу, что оба удивительных спутника Марса, Фобос и Деймос, обращающихся вокруг него на поразительно малых расстояниях и точно в плоскости экватора, не естественного происхождения, а искусственного. Только этим и можно было объяснить, почему движение Фобоса замедляется: это происходит, очевидно, под влиянием торможения разреженной марсианской атмосферой, что сказалось бы при условии существования полого спутника, каких не знает природа. Значит, марсиане когда-то соорудили гигантские космические ракетодромы! Зачем? Когда? Куда они летали? Французский профессор Анри Лоот исследовал в Сахаре древнейшие наскальные рисунки, среди которых оказались изображения существ в скафандрах. Анри Лоот назвал их марсианами. Может, в самом деле марсиане летали и на Венеру и на Землю?.. Летали… Они испытывали в полете непередаваемое чувство невесомости, которое так любил Алеша, уже став космонавтом, но которое он знал еще до этого! Да, да, знал! Он понял это после первого же своего полета на Луну вместе с Богатыревым. Чувство невесомости было известно ему еще по детским снам, чувство невыразимого блаженства, ощущение, когда без всякого мышечного напряжения вдруг взмываешь вверх и медленно плывешь над землей, даже не уподобляясь птице, не затрачивая усилий, летишь в воздухе, невесомый!.. И вдруг совсем то же ощущение в космической кабине! Откуда эта память предков? Алеша отогнал дерзкую мысль… Во всяком случае, есть возможность объяснить, почему разумные существа появились на планете в эру ящеров. И Алеша вернулся к костру. — Это не первый костер Венеры! — решительно заявил он. Добров удивленно посмотрел на него. Богатырев улыбнулся: — Снова разумные существа и ящеры на одной планете? — А мы? — вскинул Алеша голову. Добров пожал плечами. — Мы прилетели, — сказал Алеша, вспоминая слова венерианки. — Они тоже могли прилететь. И не только прилететь, но и остаться здесь… я не знаю, по какой причине. Богатырев даже крякнул, но посмотрел на Алешу одобрительно. Добров злился: — Откуда прилетели? С Земли во времена Атлантиды? — Нет! С Марса! Марс обитаем!.. — Чепуха! Там кислорода одна тысячная того, что есть в земной атмосфере. Разумному существу с его высшей энергетикой не обойтись без кислорода. — Но прежде там был кислород, — не уступал Алеша. — Ну что ж, — пожал плечами Добров. — Допускаю, что Дарвинова теория распространяется и на Марс. Там тоже была обезьяна, только марсианская обезьяна, от которой произошли давно уже погибшие марсиане. — Нет! Никогда! Никогда разумное племя, раз возникнув, не погибнет от изменения внешних условий! Оно не только будет приспосабливаться — оно будет менять их. Оно не может погибнуть. — Где же оно, это разумное племя? — ехидно спросил Добров. Алеша смешался. — В самом деле, где? — многозначительно спросил и Богатырев. Алеша оглянулся, посмотрел на океан, повернулся к лесу, словно искал кого-то глазами, потом сказал: — Я не знаю, где они сейчас. Но они были здесь. И они есть на Марсе. Добров покачал головой. — Я допускаю, что фантазия нужна на Земле, но на другой планете, где мы находимся, нужно оставаться на почве реальности, — внушительно сказал он. — Не знаю, братцы, сколько найдем мы здесь разумных существ, — сказал Богатырев вставая, — но два существа мы обязаны найти: наших братьев по племени… — Братьев по племени? — взволнованно повторил Алеша, следя за Ильей Юрьевичем. Подойдя к вездеходу, он стал налаживать связь с роботом. — Братья по племени! — тихо сказал Алеша, идя по песчаной отмели и смотря на оставленные им самим следы.Глава третья ОГНЕННЫЙ ПОТОК
По заболоченной чаще двигались три фигуры. Керн и Вуд едва оправились от болезни. Затянувшаяся лихорадка иссушила их лица, отняла силы. Они шли, шатаясь, едва удерживаясь на ногах, балансируя, как канатоходцы. Особенно скверно приходилось Железному Джону. Не приспособленный к упражнениям в равновесии, он то и дело срывался со скользких корней и оказывался по колено в трясине. Керну пришлось проводить с ним специальные занятия, чтобы он усвоил «хождение по корням». Робот прекрасно все запоминал, мог слово в слово повторить, но… поминутно срывался в топь, с хлюпаньем и чмоканьем вытаскивая из грязи железные ноги. — Придется усовершенствовать машину, — мрачно заметил Керн. Но, когда нужно было пробиваться через лианы, закованный в доспехи робот был на высоте, сокрушая преграды топором, как рыцарь толпу неверных… Эти минуты Вуд использовал для собирания гербария. Аллан Керннасмешливо наблюдал за ним: — Рассчитываете на профессорское звание? — Боюсь, что маловато знаю, чтобы быть профессорам!.. — Мелкое ваше море, Вуд. Профессор получает в США меньше полицейского. — Посмотрите, шеф, на этот листок. Клянусь, я видел его отпечаток на камне. Разве я привезу его ради профессорского оклада? Нет, шеф, ради науки!.. — Наука не может быть целью. Наука — средство. Полюбуйтесь на Джона. Колония таких машин, создавая себе подобных, переделает эту планету, откопает здесь мне такие богатства… — Вы, кажется, ищете новую форму рабовладения? — О нет! Электронный мозг осведомлен об американской декларации прав. Внезапно все вокруг потемнело, словно спустилась ночь. Послышалось щелканье, свист и завывание. — Ничего не понимаю, — сказал Керн, зажигая фонарь и смотря на часы. — Мы установили, что сутки Венеры равны девяти земным суткам, семи часам и сорока минутам, а сейчас… — Шеф, над нами туча пепла… — Вулкан? Этого только недоставало!.. По лесу пронесся грозный гул. Голоса сразу смолкли. Закачались папоротники. Керна и Вуда так тряхнуло, что они еле устояли на ногах, вцепившись друг в друга. Робот соскользнул с корня и завяз в трясине. Керн и Вуд помогли ему выбраться. Какое-то зверье шмыгало вокруг. Их горящие глаза словно искры проносились во тьме… — Если деревья начнут валиться, лучше выйти из чащи, — предложил Керн. Люди и машина бежали из лесу… навстречу спасающимся ящерицам… Лес кончился у крутого склона вулкана. Сверху, дымясь и сверкая, катилась огненная река… Почва колебалась под ногами, как море в мертвую зыбь. Керн и Вуд повернулись к лесу, но увидели, как валятся исполинские папоротники. — Сюда! — скомандовал Керн, указывая на каменистое возвышение. Лава медленно стекала, набухая тестообразной волной. Люди и робот стояли на камнях. Лава обтекала их с двух сторон. Магма добралась до крайних деревьев, и они вспыхнули свечками. Начался лесной пожар, раздуваемый сильным ветром. Огненный поток набухал, разливаясь все шире. Он сыпал искрами, яркие блики играли на нем. Черная туча пепла висела над головой и сливалась с дымом лесного пожара. Все вокруг, освещенное лавой, зловеще переливалось красными отблесками. Пузыри вздувались на сверкающей поверхности магмы и лопались, разбрасывая фонтаны огненных брызг. Клубы дыма поднимались с горящего потока, как диковинный туман, окутывая ноги стоящих на каменном островке. — Хорошо, что с нами нет Мэри, — тихо сказал Вуд. — Лучше помолимся, — сказал Керн, доставая молитвенник. Он протянул руку, чтобы выключить робота. — Это его не касается. Но Гарри перехватил руку шефа: — Слушайте, слушайте!.. Почва под ногами гудела, лес трещал, горящие деревья стреляли. С вершины горы доносились взрывы… Робот повторял безучастным голосом: — Слышимость улучшается. Стала пятьдесят два процента. Грозовые разряды все еще мешают. — С кем он говорит? — спросил Гарри. — Молчите! — прошипел вцепившийся в его руку Керн. — Даю радиопеленг, даю радиопеленг по требованию, — повторял робот. — Определяю расстояние в две мили. — Схожу с ума! — воскликнул Керн. — Галлюцинация! Но у машины ее не может быть, Гарри! Это невозможно, но это русские!.. — Русские? — не веря ушам, переспросил Вуд. — Вы слышите? Робот говорит с ними. У него более чувствительная аппаратура, чем в наших шлемофонах. — Поздно! — Никогда не думал, что мне так поздно придется менять свои взгляды!.. — Находимся на камне посредине огненной жидкости, — безучастно сообщал робот. — Она прибывает по одному дюйму в минуту. Через тридцать семь минут сорок восемь секунд камень будет затоплен. Еще через семнадцать минут огненная жидкость дойдет до колен… — Они мчатся сюда! Слышите, шеф? Они запрашивают обстановку, они идут нам на помощь!.. — Никогда не думал, что они на это способны! На этой планете многому научишься, Гарри… Жаль, что не придется учесть этого в жизни… — Робот тоже не учел этого… Но они помогут нам, спасут нас… — Эх, малыш, — почти нежно сказал Керн, — какой вездеход пройдет по огню? Рассчитывать надо только на самих себя… Есть лишь одна машина на свете, которая может выручить нас… — Вы так думаете, шеф? — Хэлло, Джон, прошу вас. Возьмите мистера Вуда и перенесите его через огненный поток. — Что вы, шеф?.. А вы?.. — Высший закон природы, Гарри… Молодости — жить. Передайте привет Мэри. Я не всегда был прав по отношению к ней… Итак, Джон, прошу вас… — Ширину потока можно преодолеть за двенадцать минут, через двадцать пять минут можно вернуться за мистером Керном, — проскрипел робот. — О, мой незабвенный брат Томас! Он создал не просто мыслящую, но и чувствующую, гуманную машину! Идите, Джон, я буду ждать вас, у которого есть не только мозг, но и сердце! Робот посадил Гарри на плечо и бесстрашно ступил в огненный поток. Лава дошла ему до щиколоток и бурлила, обтекая его ноги. Дым поднимался, полускрыв оставшегося на камне Керна. Гарри не задохся только потому, что был в шлеме. Робот прошел несколько шагов, но вдруг остановился. — Жидкость прибывает по полтора дюйма в минуту. Когда можно будет вернуться за мистером Керном, она достанет ему выше колена, что может повредить его здоровью. — Значит, нужно вернуться за ним, скорее вернуться, Джон! Надо попробовать нести обоих, Джон, прошу вас, — заторопил машину Гарри. — Надо вернуться, — подтвердил робот. Над огненным потоком и стелющимся над ним дымом поднималась могучая фигура закованного в латы рыцаря, который нес на плече юношу. — Все-таки вернулись! — растроганно сказал Керн. — Джон подсчитал, что перенести надо сразу двоих, шеф! — издали кричал Вуд. Робот выбрался на камень. Керн опустился на колени, чтобы исследовать погружавшиеся в лаву ноги робота. — Замечательная машина! Удивительная машина! Великолепная тугоплавкая сталь! — восклицал он.
Робот взгромоздил на каждое плечо по человеку и снова сошел в огненный поток. Медленно ступали по магме металлические ноги. Шлаковая пена налипала на сталь, которая разогревалась все больше, дойдя уже до красного каления. Робот шел медленно, но уверенно. Его беловатые глаза пристально смотрели вперед. Руки осторожно поддерживали Вуда и Керна, которые сидели на железных плечах обнявшись. Спасительный камень исчез в дыму. Казалось, магма уже накрыла его. Она доходила роботу до колена. Может быть, поднявшись чуть выше, она уже повредила бы ему сустав… Робот остановился. — В чем дело, Джон, прошу вас? — спросил Аллан Керн. Особенно жестко и холодно прозвучал скрипучий голос робота: — Скорость прибывания потока превосходит два дюйма в минуту. Уровень огненной жидкости достиг нижнего сустава ног. Скорость передвижения замедлена. Дальнейшее передвижение с грузом опасно для моих механизмов. — Что он хочет сказать? — воскликнул Гарри. — Скорее! Надо выключить его систему самосохранения, иначе он сбросит нас в лаву! — закричал Керн. — Где выключатель? — Мой бог! Он внизу… Уже не дотянуться… — Я вынужден освободиться от груза, джентльмены, — очень вежливо проскрипел робот. Керн и Вуд вцепились в его голову и друг в друга. Железные руки машины стремились оторвать их, электромагнитные мускулы напряглись, борясь с перенапряженными мышцами обреченных людей. — Проклятая машина! — процедил Керн. Керн стонал. Робот что-то скрежетал. Лава клокотала у его ног. Дым поднимался столбом. Вездеход несся между папоротниками. Добров лавировал, избегая сетей лиан, порванных во многих местах лесными беглецами. — Илья Юрьевич! Илья Юрьевич! — закричал от радиоаппарата Алеша. — Он их сбрасывает в лаву! — Чертова машина спасает себя, она включена на самосохранение, — мрачно сказал Добров. — Вперед, Роман! Вперед! — скомандовал Богатырев. Вездеход выскочил из чащи на берег огненного потока. Деревья вокруг пылали. Лава наползала на болотистую почву и, соприкасаясь с водой, застывала. Клубы пара вырывались из-под нее, как пена прибоя, а магма переваливалась через раскаленную, только что образовавшуюся каменную преграду. — Стоп! — крикнул Богатырев. — Можно было идти по земле, по воде, над водой и под водой… Как с огнем быть, Роман? — Сойти всем! — скомандовал Добров. В огненном потоке, весь в дыму, столбом стоял робот. На нем видны были два вцепившихся друг в друга человека. — Друзья! Аллан! Гарри! Как вы там? Живы? Справились с машиной? — крикнул Илья Юрьевич. Сквозь треск разрядов прозвучал голос Керна: — Хэлло, командор! Рад встретиться. Лава дошла до пояса Железного Джона и вывела из строя управление… Очень жаль машину… — Пожалейте о чем-нибудь другом, Аллан. Держитесь крепко. Иду к вам на помощь. — Не будьте безумцем, командор! Ни одна машина, кроме робота, не пройдет по огню. — А воздушная подушка на что? — сказал Добров. — Вездеход не пойдет по лаве, он пройдет над нею! И вездеход с Добровым за рулем скользнул на огненный поток. Могучие насосы направили вниз струи воздуха, и воздушная подушка отделила корпус вездехода от магмы, надежно охлаждая его. Вездеход легко несся над лавой, словно это была вода… Добров поравнялся с дымящимся роботом и снял с него Керна, а потом Вуда. Круто развернувшись, Добров повел вездеход по огненному потоку от робота. Робот одиноко стоял среди огня, и его застывшие в борьбе руки были протянуты к покидавшим его людям. — О Томас! Томас! — крикнул Керн. — Какая это была машина! Я чувствую себя негодяем, что покидаю ее… Робот стоял по грудь в кипящей лаве. Красноватые отблески играли в его глазах, и они впервые казались живыми, смотрели вслед людям с укором. Он стал оседать совсем как живой, чуть накренился и повалился в сторону людей. Расплавленная магма поглотила его. Аллан Керн плакал… Гора тряслась. Из ее жерла вырывались фонтаны огня и раскаленных камней. Расплавленная магма наполнила кратер и ослепительными потоками переливалась через его края.
Глава четвертая ОТБИТАЯ КОРКА
Багровые тучи светились. Зловещая заря вставала над лесом. Зарево первозданного пожара поднималось вместе с тучами пепла позади исследователей, грозя настигнуть их. Вездеход был рассчитан лишь на двух человек. Без снятых приборов и пушки он мог взять четверых, но пятый должен был бежать рядом с машиной, «держась за стремя», иначе вездеход не приподнимался на воздушной подушке. Только «ведущий» и «бегущий» получили право на кислород для дыхания, запасы которого ради облегчения были оставлены у огненного потока. Добров в скафандре и шлеме, ссутулясь, сидел за рулем. Алеша в облегченном до предела скафандре, без шлема и баллонов, шел рядом с вездеходом. Гарри Вуд не смог усидеть в вездеходе. Он выпрыгнул из машины, пошел вместе с Алешей. Но сразу же стал отставать. Пришлось ухватиться за Алешину руку. Молодые люди весело рассмеялись. Керн посмотрел на них и сказал Богатыреву: — Командор, у меня ощущение, что корка, которая кое-кого из нас покрывала, растрескалась над огненным потоком, а потом отвалилась. — Надеюсь, вы не жалеете, Аллан? — Я думаю о ней, командор. Понадобилось попасть на другую планету, чтобы понять, как налипшая корка законопачивает глаза и уши, давит на мозг. Вы не можете себе представить, насколько приятнее верить в людей, чем их презирать! — Мне трудно это представить, Аллан, — сказал Богатырев улыбаясь. — Знаю. Вы всегда верили в людей. Под коркой мне казалось это нелепым. — А вы не думали, Аллан, почему она образовалась? — Это грязная корка, командор, — грустно усмехнулся Керн. — Я догадываюсь, что она образуется у людей, если они не моют душу. А наши газеты, радио и предвыборные ораторы заботятся, чтобы отмыть ее было не просто. — Когда русские и американцы сражались против коричневой чумы, никакой корки у них, кажется, не было. — Не было, командор, потому что она не терпит огня. Должно быть, крепко надо разогреть и прокалить всех людей, чтобы с них облупилась корка враждебности и недоверия. Алеша и Вуд, по-прежнему держась за руки, немного отстали. Вездеход прокладывал путь через лианы, срезая их циркульными пилами. — А я считал, что в нашей экспедиции было два робота, — сказал Вуд. Алеша сощурился: — Два? — Один робот погиб… другой, кажется, стал человеком. — Они еще подружатся! — засмеялся Алеша, показав глазами на вездеход. Вуд кивнул головой. — А как он кипел, узнав, что командором все-таки будет русский!.. Что же касается меня, Алек, то устройство мое явно уступает кибернетическому. Я всегда готов был дружить с вами, а в Космосе понял, что бесконечность сближает. — А что такое Земля, Гарри? Огромный космический корабль! Он летит в Космосе, вертясь вокруг оси, обегая вокруг Солнца, вместе с Солнцем крутясь в колесе Галактики, которая с огромной скоростью удаляется от других галактик. Вуд усмехнулся: — Боюсь, что пассажиры космолета «Земля», чтобы сблизиться, должны были ощутить Космос… Скажем, узнать о нашествии враждебных пришельцев из Космоса. Только тогда человечество объединилось бы в защите. — Верно, Гарри! Защита объединяет. Но для этого не нужно ждать космической агрессии. Защищаться людям надо от самих себя, от ядерного оружия, которое грозит их существованию и которое не может, не должно и не будет существовать! — А разве оно не понадобится для отражения космического вторжения? — Никогда! — возразил Алеша. — Это выдумано теми, кто, избегая разоружения, хочет любой ценой сохранить ядерное оружие для своих низких целей! Овладение Космосом связано с таким развитием сознания разумных существ, которое само по себе исключает агрессию. Высшие достижения науки неотделимы от высшей гуманности. Разве у нас с вами поднялась бы рука на жителей Венеры? — На разумных обитателей планеты? — удивился Вуд. — Да… которые строили город… Ведь мы видели руины на дне пролива… Слышали голос, произносивший «Эоэлла»… — Вы мечтатель, Алек… Вы в самом деле думаете, что видели город, опустившийся на морское дно? Вместо ответа Алеша крепко сжал руку Гарри. Вездеход выехал из леса. Морской берег изменился неузнаваемо. Полоска песка, на которой отдыхали путники, исчезла. Не было и огненных цветов… Лес ступеньками спускался не к морю, а прямо в море… Морские волны накатывались на красноватые кроны затопленных деревьев, колебля отяжелевшую листву, потом набегали на темные, мокрые полузатопленные стволы и разбивались об узловатые корни тех деревьев, которые еще не оказались в воде. Гигантские папоротники раскачивались; казалось, что они живут, движутся и на глазах у ошеломленных путников «вразвалку» заходят в воду. Море наступало на первобытный лес. Происходило дальнейшее опускание суши. Грозный гул, поднимаясь из недр, заглушал морской прибой. Путники переглянулись. Гул нарастал. Казалось, что он сотрясает скалы. Алеша и Вуд ощутили, что почва в самом деле колеблется у них под ногами. Они крикнули Доброву. Тот остановил машину. И вдруг страшный удар подобно взрыву потряс все вокруг. Между вездеходом и затопленным лесом разверзлась трещина. Один из папоротников стал крениться, завалился назад и исчез в образовавшейся пропасти. Из ее глубины вырвались клубы фиолетового дыма, потом облако белого пара. — Всем надеть шлемы! — скомандовал Богатырев. Вездеход повернул вдоль трещины, набирая скорость. Алеша и Гарри бежали, держась за борта машины. Новый удар, казалось, расколол планету. Люди невольно нагнули головы. Добров рывком выключил насосы. Вездеход упал на корни. Машину тряхнуло. Пассажиры повалились друг на друга. Алеша и Гарри остановились, пораженные. Край трещины прошел у самого носа вездехода. Новая трещина смыкалась с прежней, отгораживая людей от пролива. Богатырев выпрыгнул из вездехода.
Добров стал осматривать машину. В трещину страшно было заглянуть. Из глубины расколовшихся скал несся гул. Зарево над вулканом ширилось. Небо пылало. Вдоль моря летели рваные, словно охваченные огнем тучи. В самой узкой части трещина была метров двадцать шириной. Противоположный ее край был заметно ниже. — Перепрыгнем? — спросил Илья Юрьевич, выжидательно смотря на Доброва. — Только туда, — указал тот рукой на низкий край трещины. — Веревки такой длины нет? — Облегчая вездеход, оставили все. Подошел Алеша. — Я вскочу на ходу… У самого края, — сказал он. — Это неосуществимо, командор! — воскликнул Керн. — Позвольте остаться мне. Богатырев нахмурился и приказал всем, кроме Алеши, сесть о вездеход. Вуд подошел к Алеше, протянул руки, но тот отстранился и весело сказал: — Прощаться не будем! Алеша стал в десятке шагов от пропасти, весь собранный, напряженный, как боксер на ринге. Вездеход отъехал метров на сто, развернулся и стал носом к трещине. Сердце у Алеши колотилось, во рту пересохло. Он подпрыгивал на месте все выше и выше. И вдруг замер, чуть согнувшись. Вездеход, набирая скорость, несся к трещине. Ревел двигатель, кричали сидящие в машине люди. Алеша рванулся, как со старта. Он помчался машине наперерез, чтобы у обрыва оказаться с нею рядом. Три пары рук тянулись к Алеше. Вездеход несся над камнями, струи воздуха вздымали вокруг него облако пыли. Алеша прыгнул в это облако, как в воду. Трое ловивших его друзей повалились вместе с ним на дно вездехода. Добров исступленно сжимал руль. Вездеход от новой тяжести осел, но, не задев камней, уже оказался над пропастью. Птицей перелетел он через трещину и ударился о корни деревьев на другой ее стороне. Почти опрокинувшись, он боком пробороздил несколько метров. Алешу выбросило из машины. Что-то вылетело из кармана его скафандра и запрыгало по камням. Илья Юрьевич охнул. Вуд бежал к Алеше. Но тот уже поднимался. Добров выбрался из машины и стал осматривать ее. — Куда он укатился? Ты видел? — спросил Алеша, морщась от боли. Вуд отрицательно покачал головой. Подошли Илья Юрьевич и Керн. — Жив? — спросил Богатырев. — Ну, молодец! Я думал, это твоя голова запрыгала по камням. — Это камень… который я со дна взял. — Что ж ты его не выбросил? — Забыл. Илья Юрьевич с сомнением покачал головой. — Забыл оказать вам о нем, — поправился Алеша. Он виновато улыбался и продолжал морщиться от боли. Добров звал всех к вездеходу. Деревья раскачивались, почва колебалась, землетрясение усиливалось. Прихрамывая, Алеша искал потерянный камень. — Скорее, Алеша! Только на воде спасение! — кричал ему Илья Юрьевич. Но Алеша словно не слышал. Богатырев сделал знак Буду, и тот побежал от подошедшего вездехода к Алеше, чтобы привести его за руку. Вдруг Алеша упал на колени и закричал. Вуд остановился и тоже вскрикнул. Илья Юрьевич и Керн бежали к ним. Добров вел за ними вездеход. Запыхавшись, Илья Юрьевич остановился. Алеша стоял на коленях и держал в руках покрытый засохшим илом пятнистый камень. Пятнистый из-за того, что «покрывавшая его корка при ударе о камни местами отскочила. Дрожащими пальцами Алеша пытался отломать корку и с других мест. Он постучал камнем о скалу. Корка отлетела… — Мрамор! — воскликнул Вуд. Подземный гул почти заглушил его крик. Ближний папоротник накренился и повалился, круша соседние. В багровых тучах ударила молния. Почва тряслась. Алеша выпрямился. Не веря глазам, он держал в руках уже не камень, а беломраморное изваяние, с которого слетел покрывавший его слой ила, вдохновенно выполненную скульптуру странно прелестной головки неземной, чужепланетной девушки. Вытянутая нитка бровей, удлиненные почти до висков миндалевидные глаза, тонкий благородный нос и полураскрытые в улыбке губы… Молния сверкнула совсем рядом. Гром ли ударил, разверзлась ли новая трещина, люди этого не видели и не слышали… Как завороженные, смотрели они на чудесное творение неведомых рук. — Эоэлла! — прошептал Алеша. Он был без шлема и провел рукой по волнистым волосам, оглядываясь кругом, словно должен был увидеть ее, живую, зовущую… Так вот какие черты лица не мог он разобрать в бреду! Люди смотрели в прекрасное лицо той, кто был носителем Разума вне Земли… И они не замечали, как колеблются вокруг горы, поднимается море, полыхает небо.
Глава пятая ВНУКИ МАРСА
Могучая фигура человека в скафандре возвышалась на скале. В глубоком раздумье, словно Гамлет, заглядывающий в глазницы черепа, смотрел человек на беломраморную головку, которую держал в руках. Неразгаданная тайна человеческого мозга, стремление постигнуть историю Разума привели искателя на другую планету, и теперь он, проникая во мрак неизвестного, разглядывал чужие и притягивающие черты бесконечно знакомого и неведомого существа. Кто ты, порождение ума и нежности? Что скрыто было под твоим беломраморным лбом? Тот же удивительный орган, который дал человеку всепобеждающую способность мыслить, возвысив над остальными обитателями планеты? Неужели и здесь, на Венере, как и на Земле, орган мысли, да и само мыслящее существо появились внезапно, без переходной, тщетно разыскиваемой ступени к животному миру? Почему это существо появилось здесь в совершенно чуждую ему эру первобытных ящеров, не имея среди всего живого ничего схожего? Да, Жизнь, высшая форма великолепного существования материи, возникает всюду, где условия благоприятствуют ей, и, раз появившись, неуклонно развивается, пока не породит племя мыслящих, через которых Природа познает самое себя. Но почему ты, когда-то с любовью изваянная, в землетрясении открывшая свой лик, почему ты так похожа на прекраснейшую из живущих на Земле? Почему ты так волнуешь ум и сердце ищущего истину? Почему?.. Да потому, что ты полуоткрытыми своими губами, немыми, но говорящими, отвечаешь на самые сокровенные догадки, на дерзкую надежду сына Земли, на исступленную его веру в невозможность космического одиночества племени людей! Живешь ли ты и сейчас среди исполинских папоротников, под покровом багровых и вечных туч, или лишь пытливо заглянула сюда, на планету бурь, в великом своем странствии среди звездных миров? Человек в скафандре сбросил шлем и благоговейно коснулся губами беломраморного лба скульптуры. Ветер завладел его бородой, обдал брызгами с гребня разбившейся о скалу волны. Алеша, тщетно пытавшийся связаться по радио с Мэри, заметил это движение Ильи Юрьевича и смущенно опустил глаза. Добров возился с амфибией, приводя ее в порядок после вторичного перехода через пролив. Царапины и вмятины, облупившаяся краска и пробоины говорили, чего стоило машине путешествие. Керн и Вуд разжигали костер. Когда Богатырев подошел к костру, Керн, глядя на скульптуру в его руках, сказал: — Разве это не венец творения, командор? — Венец творения? — задумчиво переспросил Илья Юрьевич. — Что же такое человек? Каприз стихии, случайное стечение обстоятельств, удачных внешних условий или вершина слепого трудолюбия и непроизвольного совершенствования форм Природы? Все поняли, что Илья Юрьевич продолжал размышлять. — Считать ли человека сравнительно слабым, плохо защищенным от невзгод, неважно вооруженным для борьбы, но обладающим чудесным мозгом, перекрывающим все недостатки человека как животного? Или же видеть в строении человеческого организма высшее из возможного и достижимого, совершенство линий, красоту тела, идеальность «конструкции», вершину эволюции, которой дальше делать нечего? Алеша выключил радиоприемник и подошел к костру. Он любил, когда обычно немногословный Илья Юрьевич начинал говорить, когда вдохновенная и увлекающая его речь начинала литься плавной и глубокой рекой или бурлила стремниной. Добров тоже перестал стучать молотком, прислушался. — Человека отличает от животных то, что он не только порождение внешних условий, но еще и создание собственного труда. Человек трудом своим сделал себя мыслящим существом. Труд решающим образом влияет и на облик человека. Волосяного покрова он лишился, очевидно, потому что создал себе одежду, сделавшую ненужной шерсть на теле. Богатырев неотрывно смотрел на скульптуру, которую держал в вытянутой руке, словно черпая в ней свои мысли: — В грядущих миллионах лет великий труд человека, меняя свой характер, когда человек все в большей мере будет превращаться из физического исполнителя в командира машин, неизбежно изменит человека, сделает его и внешне не похожим на первобытных охотников, которых мы пока еще во всем напоминаем. Вуд невольно вспомнил свой бред в пещере, диких потомков, пришедших за звонкой шкурой Чуда. — Менять человека в его внешней и внутренней сущности, — продолжал профессор Богатырев, — будет и характер общества, которое он создаст и в котором будет жить. Миллионы лет без насилия и принуждения, без страха и волчьих законов неизбежно скажутся как на облике людей, так и на их сознании. — Сознание!.. — отозвался Добров. — Откуда же взялось это сознание? — Несомненно, речь идет о крайне редком и необычайно счастливом стечении обстоятельств. Тигр сильнее человека, обезьяна проворнее, гепард быстрее. Мозг человека развивался именно потому, что человек был слабее многих хищников и должен был сражаться с ними. Он уступал в ловкости обезьянам, но оказывался приспособленнее их в тяжелых условиях жизни, он не мог спорить с оленем в быстроте, но умел остановить его камнем, ямой-ловушкой или стрелой. Он был меньше медведя, но не нуждался в его шубе, в его берлоге, не впадал в зимнюю спячку, греясь у костра, который научился разжигать. Вуд стал ворошить корявым корнем угли. Посыпались искры, повалил дым. — Если бы человек был слишком силен, слишком ловок, слишком быстр, ему не требовалось бы мышления и изобретательности, он мог бы прожить по-звериному. Мышление понадобилось и развивалось у него потому, что ему трудно было жить без него, он не выжил бы, как, вероятно, не выжили его близкие и менее одаренные сородичи. — Если бы вы знали, командор, как я молил бога о том, чтобы выжить в пещере! — сказал Керн. — Человек, живший в пещере, стал человеком потому, что был не слишком силен, ловок, быстр и не слишком слаб и неповоротлив, потому что ему требовалось умеренное количество пищи, высококалорийной и в то же время легко усвояемой после приготовления на огне. Огонь облегчал тяжелые функции организма, способствовал его быстрому развитию и совершенствованию. И, что еще особенно важно, у человека не все время стало тратиться на добывание пищи, у него появился досуг для размышлений, которого нет у зверей, нет у птиц, нет у рыб, досуг, ставший, если так можно сказать, отцом познания, матерью искусства и воспроизведения красоты. — В руках своих, командор, вы держите красоту, подтверждающую, что господь бог создал людей на Земле и на Венере по образу и подобию своему. — Вольтер говорил, что человек ответил ему тем же, — быстро вставил Алеша. Керн бросил на него хмурый взгляд. — Вы ошибаетесь, Аллан, — мягко сказал Богатырев. — Разумные существа похожи друг на друга не потому, что созданы кем-то по определенному образцу, а потому, что существа эти должны были отвечать определенным условиям, обладать свободными от ходьбы конечностями, пригодными для трудовых процессов, стереоскопическими органами зрения и слуха, вертикальным положением тела, обеспечивающим наибольший обзор местности, и экономно использовать для передвижения минимальное количество конечностей. — Две ноги! — вставил Алеша. — Словом, на расстоянии километра мы, скорее всего, могли бы принять разумное существо иного мира за человека, если бы увидели его… — Но ведь вот оно, вот! Мы уже видим его, командор! — воскликнул Гарри Вуд, показывая на скульптуру. — И я очень рад, сэр, — внушительно добавил Керн, — что существование этой прекрасной леди в мире венерианских ящеров можно объяснить отнюдь не теорией эволюции, а лишь высшим актом творения. — Если под высшим актом творения вы подразумеваете создание инженерами космических ракет, то я соглашусь с вами, Аллан. — Что? Космических ракет? — опешил Керн. — Вы считаете, она прилетела? — живо спросил Вуд. — Она или ее предки, — невозмутимо ответил Богатырев. — Илья Юрьевич!.. — не выдержал Алеша, вскакивая на ноги. Богатырев успокаивающе поднял руку. — Откуда прилетели? — спросил Керн. — На космических ракетах? Богатырев пожал плечами: — На это можно ответить, если вспомнить о гигантских искусственных космодромах, когда-то сооруженных в межпланетном пространстве. — Фобос и Деймос! — воскликнул Алеша. — Ну, знаете ли! — запротестовал Добров. — На Марсе нет жизни уже миллионы лет. Не потому ли ты сам, Илья, стремился сюда, на Венеру? Ни воды там нет, ни атмосферы… — Это верно, — согласился Богатырев. — Марс меньше Земли, его силы тяготения не хватало, чтобы удержать частички атмосферы и водяных паров. Частички газов отрывались от планеты и уносились в межпланетное пространство… Пусть так!.. Но прежде на Марсе была плотная атмосфера и условия были вполне сходными с земными. Они стали такими даже раньше, чем на Земле, поскольку Марс дальше от Солнца и охлаждался быстрее. И жизнь там должна была появиться прежде и проходить все фазы развития скорее. И разумные существа неизбежно должны были появиться миллионы лет назад. — И миллион лет назад погибнуть без воды и кислорода, — подсказал Добров. — Не погибнуть, а лишь оказаться перед перспективой гибели. Марсиане понимали, что их планета теряет воду и атмосферу. Они должны были думать о грядущих своих поколениях. И у них было три выхода. Первый — погибнуть… — Нет, нет и нет! — крикнул Алеша. Гарри Вуд поддержал его, закивав головой. — Второй выход — уйти в глубь планеты, вырыть пещеры, создать в них искусственную атмосферу, водоемы, подземное сельское хозяйство, построить там города и жить, никогда уже больше не видя неба, звезд и солнца. — Мрачно, но возможно, — пожал плечами Керн. — И, наконец, третий выход: использовать достижения цивилизации и переселиться на соседние планеты. Например, на Венеру… — О-о! — воскликнул Керн, высоко поднимая брови. — Я думаю, что высокая цивилизация разумных существ, раз появившись и овладев вершинами знания, уже не погибнет! Она неизбежно использует не только достижения знания, но и тот факт, что при развитии небесных тел условия, удобные для жизни разумных существ, как бы перекочевывают с одной планеты на другую. Когда Марс был цветущим краем, на Венере еще кипели первородные океаны. Когда Марс стал погибать, высыхая, на Венере условия жизни стали сносными. — И марсиане использовали это! — воскликнул Алеша. — Я думаю, что разумные обитатели Марса могли избрать два пути. Часть населения планеты ушла в ее глубины и, быть может, существует и сейчас, биологически видоизменившись, приспособившись на протяжении миллиона лет к новым условиям… — …а другая часть построила космические города, искусственные спутники, промежуточные станции для массового переселения на соседние планеты! — выпалил Алеша. — Ты прав, Алеша. Очень может быть, что это произошло именно так. — И на дне моря мы видели город переселенцев. Значит, мы найдем еще здесь чудесный город прижившихся на Венере марсиан, женщины которых так же прекрасны, как эта скульптура, встретим здесь бывших марсиан, умы которых хранят заветные тайны высшей цивилизации древнейшей планеты! — Как знать… остались ли они здесь, — покачал головой Богатырев. — То есть как это — не остались? — поразился Алеша. — Вспомним о некоторых бесспорных фактах, известных на Земле. Объясняя их, можно понять многое. — Факты? На Земле? — насторожился Добров. — Да. Кто миллион лет назад оставил след подошвы в песчанике пустыни Гоби? Кто миллион лет назад пытался из подручного материала восстанавливать в Одесских катакомбах неведомый аппарат, выпиливая железным инструментом в костях ископаемых животных пазы, желобки, точные отверстия? Кто, наконец, стрелял пулей в дикого неандерталоида в доисторической Африке? Добров развел руками: — Ну, знаешь ли, Илья… — Но не эти тайны главные! Главная — это тайна человеческого мозга, который был биологически одинаковым у создателя теории относительности Эйнштейна и первобытного человека каменного века, у лорда Ньютона и у африканского дикаря, из которого, как известно, можно воспитать современного ученого. Как могла скупая природа наделить доисторического человека, примитивного охотника, развитым мозгом, способным вместить всю сумму современных знаний? — Мозг этот создан высшей силой, — возвестил Керн. — Нет, Керн. Мозг этот, очевидно, прошел все стадии развития начинающего мыслить существа… еще до того, как уже в зрелом для Разума виде оно попало на Венеру… и на Землю. — На Землю? — поразились слушатели. — На Землю, — подтвердил Богатырев. — И скорее всего именно с Венеры. — Где же его следы на Земле? — Первые следы? — загадочно переспросил Богатырев. — Извольте. Вспомните о горном озере Титикака в Андах, которое было, по мнению видных геологов, морским заливом несколько сот тысяч лет назад. Ныне оно поднялось на четыре тысячи метров над уровнем моря, но и сейчас на его берегах остались следы древнего морского порта. — Морского порта, командор? Сотни тысяч лет назад? — Да, Аллан. Морского порта. И не только руины морского порта сохранились на берегу озера, сотни тысяч лет назад переставшего быть морем. Там есть руины циклопических строений, из них особо примечательны одиноко стоящие Ворота Солнца в храме Каласасава. На них сохранились древнейшие иероглифы, расшифрованные Эштоном в 1949 году. — Это, насколько я помню, оказался древнейший на Земле календарь, — вспомнил Вуд. Богатырев усмехнулся: — Да, календарь Тиагуанако и самый древний и… самый странный. — Да, да! — оживился Вуд. — Я помню, что год там насчитывал почему-то не триста шестьдесят пять дней, а двести девяносто дней. И месяцы были — десять по двадцать четыре и два по двадцать пять дней. — Неземной календарь! — воскликнул Алеша. — А вы не помните, — спросил Богатырев, — первые данные радиолокации Венеры, проведенной советскими учеными еще в 1961 году? — О, еще бы! — ответил Керн. — Период вращения Венеры был определен несколько более чем в девять земных суток. — Нам удалось уточнить это, — напомнил Богатырев. — О да! — кивнул головой Керн. — Девять земных суток семь часов сорок минут и сорок восемь секунд. — Значит, помня, что в венерианском году двести двадцать пять земных суток, сколько будет в нем венерианских дней? — Двадцать четыре целых, сто пятьдесят семь тысячных, — быстро сосчитал Вуд. — Не целое число! — огорчился Богатырев. — Несносный хвостик в сто пятьдесят семь тысячных суток! Куда его девать? При составлении календаря пришлось бы вводить високосные годы. А ну-ка! Сколько венерианских дней будет, скажем, в двенадцати годах? — лукаво спросил Богатырев. — Это невероятно! — воскликнул Керн. — Сосчитали? — Двести девяносто! Точно! — Смотрите, как удачно! Придется для Венеры считать в десяти годах по двадцать четыре дня, а в двух годах — по двадцать пять дней. Пожалуй, будет удобно. — Сэр! Но ведь это же календарь Тиагуанако! — воскликнул Вуд. — Только малые циклы там вовсе не месяцы, а годы! А большой цикл — цикл високосных лет. У нас на Земле он четырехлетний. — Как! На Земле, — почти закричал Алеша, — на древнейших руинах близ морского порта, которым пользовались сотни тысяч лет назад, был запечатлен венерианский календарь? Это что же? Жители Венеры так давно были на Земле? Были… и исчезли? — Нет, почему же исчезли? — невозмутимо сказал Богатырев. — Марсиане, переселившиеся сначала с Марса на Венеру, а потом с Венеры на Землю, остались на Земле. — Где же они, дети Марса? — спросил Вуд. — Это просто невероятно! — воскликнул Керн. — Мне остается поблагодарить вас, сэр, что я все-таки не произошел от ненавистной и безобразной дарвиновской обезьяны. — Утешит ли вас, Аллан, что марсианская обезьяна, от которой все же произошли ваши предки, была менее безобразной? — Слабое утешение! А куда же делась марсианская цивилизация на Земле? — Она исчезла, Аллан. Космические переселенцы утратили связь с материнской планетой, одичали в тяжелых непривычных условиях иной тяжести, чужой атмосферы, превратились в первобытных охотников… — Одичали! — воскликнул Вуд. — О, для этого нужно совсем немного поколений! Я знаю… я видел… — Спохватившись, он осекся. — Но я не видел. Я не знаю и не допускаю этого, — решительно заявил Добров. — Видишь ли, Роман, — мягко обернулся к нему Богатырев. — Редко кто знает по имени своего прадеда. Даже в наших условиях связь поколений не так уж прочна. Что такое цивилизация? Это индустриальная база, это библиотеки, университеты, школы. Продолжающаяся цивилизация — это образование. Представь себе переселившихся инопланетных колонистов. Они не могли взять с собой заводы для восстановления машин, для изготовления топлива. Они не могли взять с собой библиотеки — сокровищницы знания. Уже во втором, третьем поколении среди переселенцев все меньше останется образованных. Все их силы, все способности будут направлены на то, чтобы выжить. — Да… выжить, — понимающе повторил Керн. — Выживали не умнейшие, а сильнейшие. Ведь на Земле они весили вдвое тяжелее. В условиях иной биосферы. В условиях иной жизни, жизни первобытных охотников, которым не требовалось знание, скажем, уже известной тогда на Марсе теории относительности. Их ум был занят иными заботами, грубел… — Можно мне напомнить, Илья Юрьевич, — вставил Алеша, — о детях, которых воспитывали звери. На Земле известен десяток таких случаев. Не воспитанные людьми в самом раннем возрасте, эти дети уже не могли позднее стать людьми, не воспринимая даже элементарных знаний. Они становились дикими, хотя их родители были цивилизованными. В большом масштабе это могло произойти и с переселенцами. — Да, могло, — подтвердил Богатырев. — Проржавели, исчезли привезенные когда-то машины, забыты были старинные книги, да и сама ненужная охотникам письменность. Все изменилось у переселенцев, кроме мозга, способного к восприятию знаний, но не загруженного ими. Понадобились сотни тысяч лет, чтобы «внуки Марса», давно забыв о своем происхождении, снова поднялись по лестнице земной теперь цивилизации. Алеша осторожно взял из рук Богатырева скульптуру. — Так вот почему ты так загадочно понятна… сестра людей! — взволнованно сказал он. — Да, — подтвердил Богатырев. — Сестра по солнечному племени разумных существ, появившихся в зоне жизни и расселившихся по всему околосолнечному пространству.Глава шестая ДЕТИ ЗЕМЛИ
Ураган разогнал тяжелые тучи. Слой высоких облаков казался диковинным небом. На Земле только у самого океана оно бывает таким, когда сплющенное Солнце, прорезая полосу туч, распадается на латунные половинки и раскаляет оранжевые кромки облаков, перекрашивает в багрянец синеву. На Венере весь небосвод был багряно пышным, расцвеченным в зените феерической зарей немыслимо огромного, всегда невидимого Солнца. Общий крик восторга вырвался у людей, едва вездеход оставил позади чащу папоротников. Но никто из путников даже не посмотрел на венерианские небеса. Люди увидели башню из вороненой стали, устремленную ввысь, кусочек Земли, стоящий на скалах Венеры, родную ракету «Знание». Здесь впервые человеческая нога ступила на другую планету. Здесь любовно посажены на Венере четыре земных растения: пшеница, виноград, кукуруза и рис… Здесь и простятся люди с планетой бурь, чтобы отправиться в обратный путь. Исполинская ракета, казалось, ждала только мгновения, чтобы сорваться с чуждых скал, в огне и грохоте взлететь к пылающей заре, стрелообразным острием распороть багровый покров, за которым призывно светят звезды, ласково сияет Солнце, где откроется сверкающий Космос, мир миров, бездонный мир бесчисленных миров с красавицей венерианских созвездий голубой Землей, один цвет которой, как песня, говорит о небесной синеве, о теплом синем море, о синей дымке земных лесов. О Гее — Земле думали все, и все по-разному. Богатырев размышлял о человечестве и его предыстории, Алеша — о подготовке новой экспедиции на Венеру, Вуд думал о Мэри, словно она ждала его в Америке, а не кружила сейчас на «Просперити» вокруг Венеры. Добров и Керн говорили о Земле как инженеры и астронавигаторы, видя в ней цель полета. Приближался крайний срок пребывания на Венере. До истечения его осталось меньше земных суток. В штабе перелета, конечно, учитывают это и могут приказать «Просперити» быть готовым к вылету, если… если корабль останется один… Вездеход остановился около ракеты. На камне сидела ящерица. Алеша выскочил на ходу и подбежал к ней. Она не спаслась бегством, а вытаращила на него глаза. Ее шея раздувалась при дыхании. Алеша протянул руку и взял ящерицу. Это был привезенный с Земли варан, который словно ждал здесь своих хозяев. Алеша засунул зверька в карман и, смеясь, полез по вертикальной лесенке к люку. Его товарищи наблюдали, как он открыл люк. Послышался лай, обыкновенный собачий, земной лай. Все переглянулись. — Лай! — крикнул Алеша. — Лай, Пулька, лай! Хочешь, ятебя расцелую за разбуженный в сердце май?.. И он скрылся в люке. — Май… — сказал Гарри. — В мае я собирал травы в горах и едва не попал на повороте шоссе под машину. Я тоже готов поцеловать эту собаку. — Оставьте, Вуд, — сказал Керн. — Как выяснено, собака уже больше не родственник человека, хоть у нее и пять пальцев на каждой лапе, пара глаз, пара ушей, позвоночник, сердце с левой стороны, печень и почки, все, как у человека… Богатырев улыбнулся: он вспомнил разговор в пути о «внуках Марса». Он говорил тогда Керну по поводу внешнего сходства человека и животных Земли: «Родственников у человека на Земле нет. Это хорошо знают физиологи и горько сетуют. А по поводу пяти пальцев и позвоночников учтите — природа находит оптимальные решения, все остальные случаи исключаются отбором. А дважды два всегда четыре». «Судя по количеству пальцев, пять», — буркнул Керн. «Рыба всегда будет обтекаемой формы, в каком бы океане она ни развивалась. Даже кит, перейдя с суши в море, обрел рыбоподобную форму, хоть рыбе он совсем не родня. До сих пор, чтобы наглядно показать переходящие одна в другую формы, выстраивали в ряд скелеты. Обезьяна, выпрямляясь, становилась предполагаемым получеловеком и, наконец, «венцом творения» — двуногим, прямостоящим разумным существом. Но ведь строение скелета не единственный признак. А вот по составу крови и по некоторым физиологическим функциям ближе всего к человеку стоит… кошка! А по поводу родства человека и обезьяны можно рассказать такой случай. Во время последней мировой войны не были применены отравляющие газы. Но их готовили у того же Гитлера. Известен случай, когда газ, от которого в страшных мучениях погибали подопытные обезьяны, во время взрыва вырвался из хранилища. Сотни рабочих были обречены, но… получили только насморк. Может быть, именно поэтому гитлеровские химики предпочитали проводить свои человеконенавистнические опыты уже не на животных, а на военнопленных». «Закройте мрачную страницу, командор. Издали, глядя на Землю, не видишь пятен», — сказал Керн. Они еще долго говорили об этом в пути, но сейчас все молчали. Вдруг раздался тревожный, захлебывающийся лай. Из люка, не захлопнув дверцы, поспешно спускался Алеша. Он был без шлема. Спрыгнув на камни, он растерянно остановился перед Богатыревым: — Илья Юрьевич, беда!.. — Что такое? — Маша… Мэри… «Просперити». — Что случилось с Мэри? — кинулся к Алеше Вуд. — Запись… Магнитная запись сообщения с «Просперити»! И Алеша снова бросился к лестнице. В предчувствии непоправимого все поднимались следом за ним. Собрались в радиорубке. Пулька терлась о ноги, подпрыгивала, пыталась лизать руки. Наружная дверца закрылась, рубка автоматически наполнилась земным воздухом. Началось облучение скафандров. В ракету нельзя было занести венерианские микробы. Шлемы сняли лишь после окончания облучения. Алеша запустил магнитную запись. Из репродуктора послышался знакомый голос Мэри. Он звучал как-то скованно, словно ему трудно было пробиваться сквозь треск атмосферных разрядов. — «…У меня нет сил улететь, не передав этой радиограммы… Ее уже некому услышать на поверхности планеты. Может быть, автоматы запишут ее и мой голос услышат те, кто вновь прилетит сюда, чтобы оказаться более счастливыми, чем их предшественники… Я смотрюсь в зеркало и вижу у себя седую прядь. С Земли приказано мне, последней из оставшихся в живых, вести «Просперити» в обратный путь. Там меня ждет горький почет и ненужная слава… И даже толпы завидных женихов… женихов космической вдовы Мэри Стрем, которая откроет сейчас на мгновение люк шлюза и выбросит на чужую планету горсть земли, чтобы ее крупицы упали на могилы Гарри и его друзей… Я обязана выполнить ненавистный мне приказ… все же выполнить и тем продолжить дело погибших». В магнитофоне слышался шорох и треск атмосферных разрядов. Голос Мэри заглох, утонул в шуме, исчез… — Все ясно, — сказал Керн. — Она улетела… — Не может быть! — в отчаянии крикнул Вуд. — Можете считать, что горсть земли уже брошена на вашу могилу, — зло сказал Керн. — Вы лжете, шеф! Ведь это Мэри!.. Надо вернуть ее, позвать обратно! Сообщить на Землю!.. Добров провел рукой по колючей седеющей щетине, которой оброс его череп: — К сожалению, мистер Вуд, как вам известно, верхние ионизированные слои венерианской атмосферы исключают связь с Землей даже с «Просперити». Пока он находился на орбите спутника, связь была неустойчивой. — «Пока находился»!.. — с горечью воскликнул Гарри. — А теперь летит… И я не уверен, что он летит к Земле. Я не уверен, что она спасется, сумеет вывести корабль на орбиту. Алеша благодарно посмотрел на Вуда: — Значит, ты беспокоишься о ней, Гарри! Прости, я плохо о тебе подумал. Гарри словно не услышал этих слов. Он отвернулся к иллюминатору и стал смотреть на пламенеющее красное небо. — А я… — сказал нерешительно Алеша. — Я даже не смею признаться, что… что рад!.. Мы останемся… Мы найдем их. — Кого — их? — мрачно обернулся Добров. — Братьев по солнечному племени. — Оставьте вчерашние шутки! — возмутился Добров. — Неужели вы рассчитываете, что мы сможем прожить здесь год? Кто мог переселиться сюда с другой планеты? Нам не выжить здесь. К сожалению, не выжить и поднявшись на «Знании», став искусственным спутником Венеры. На Землю о своем спасении мы в этом случае сообщим, но, пока будем ждать помощи, погибнем от космических излучений. Слишком пощипана в пути защита корабля. — Расчет столь же точный, сколь и мрачный, — сказал Илья Юрьевич. — Придется нам вчерашнюю гипотезу проверить на самих себе. Он открыл дверь в рубку управления, прошел к пульту, любовно погладил его панель, стал у окна, задумчиво глядя на венерианский лес. Алеша, Вуд и Добров остались в радиорубке. Только Керн прошел следом за командором. Он стоял за его спиной и молча смотрел в пол. — Командор, — сказал он наконец, — дважды два все-таки не пять, только четыре. Богатырев обернулся и пристально посмотрел Керну в лицо. — Да-а, да-а, — повторил тот. — Четыре. И, как известно, четыре больше и ценнее единицы. Богатырев тяжело опустился в кресло и зажал бороду в кулак: — Как вас понять, Аллан? — Следующую экспедицию на Венеру могут отложить на много лет. Дать сигнал можно лишь с орбиты спутника. Четверо останутся на Венере, постараются выжить. А я один поднимусь на «Знании», дам сигнал на Землю. — Так, — сказал Богатырев, исподлобья смотря на исхудавшее лицо американца. — Подниметесь и погибнете от излучений? — Да, командор. Дважды два — четыре, а не пять. В дверях стояли Алеша, Вуд и Добров. Они слышали весь разговор. — Тяжкое дело, друзья, тяжкое… — сказал Илья Юрьевич. — Слышите, на что Аллан готов? Тягостная, давящая тишина сковала всех. Даже Пулька молчала, непонимающе оглядывая вернувшихся. — Как поступать будем? — поднял глаза Илья Юрьевич. — Дайте мне вездеход, я найду город солнечного племени и вернусь сюда… — предложил Алеша. — Выход в ином, — сказал Добров. — Запустить ракету без людей, чтобы она взорвалась над облаками. Вспышка будет замечена с Земли и послужит сигналом, что мы живы. — Так, — протянул Илья Юрьевич, накручивая на руку привязной ремень. — На то, что сказано здесь, как говорил Чапай, наплевать и забыть… В Космос под удар космических лучей без достаточной защиты на долгий срок подниматься не станем. Сигнал на Землю дадим. Для этого используем импульс автоматической метеостанции. Любые слои пробьет. Алеша хлопнул себя по лбу: — На базе ракеты «Знание» создадим на Венере колонию. Выживем во что бы то ни стало, чтобы посланная за нами экспедиция получила от нас богатейший научный материал. А покуда разработаем программу широких исследований Венеры. — Да-а, — протянул Добров и стал тереть щетину на голове. — Можно мне пожать вам руку, сэр? — спросил Вуд Керна. Керн удивился. — За то, что вы готовы были это сделать, — сказал Вуд. Алеша подошел к пульту и включил внешние микрофоны. В кабину ворвалась волна звуков, которые были привычными в лесу, но казались противоестественными в кабине. Алеша вздрогнул, словно в удаляющемся скачущем грохоте и пронзительном замирающем визге услышал что-то. Прислушались и другие. Алеша ухватился за спинку кресла. Она! И, словно у самого окна кабины, раздался призывной крик, нежный и громкий, переливающийся. Алеша держал в руке скульптурную головку неведомой чужепланетной девушки и вслушивался в лесной голос. — Эоэлла!.. Добров нахмурился. Вуд поник головой. Илья Юрьевич, упершись могучими руками в расставленные колени, смотрел в пол.Глава седьмая ЭОЭЛЛА!.
Погода на Венере улучшилась. Дул сильный, но ровный ветер. Небо было высокое и красное, по нему перемещалась заря невидимого Солнца. Вокруг ракеты кипела работа. Люди принялись за устройство укрепленного лагеря. Решено было соорудить вокруг корабля прочную изгородь, которая защитила бы «колонистов», как начали исследователи называть себя, от внезапных нападений. Конечно, в первую очередь, имелись в виду ящеры, но… кто знает, могли быть и не только ящеры. Циркульными пилами срезали исполинские папоротники, распилили их на части. Первые на Венере бревна вездеход волоком тащил из леса к ракете. Реактивный двигатель поднимал такой шум, что распугал всех окрестных животных. Когда Добров выключал его, наступала тревожная тишина. Только небольшие птеродактили неотступно кружили над лагерем, выглядывая добычу с большой высоты. Исследователи не обращали на них внимания. Добров приволок на вездеходе очередное бревно. Его заострили с одной стороны в виде кола, а другой конец опустили в выкопанную яму, на дне которой поблескивала вода. Закапывали кол с наклоном наружу лагеря. Частокол получался внушительным. Вуд оценивающе посмотрел на него: — Недурная крепость. Готов выдержать в ней любую осаду… до возвращения Мэри. Алеша положил ему руку на плечо. — А я счастливее, — задумчиво сказал он, глядя в чащу и прислушиваясь. Вуд внимательно посмотрел на него. Из люка ракеты донесся звонкий лай Пульки. — Слышишь? — сказал Алеша. — Эх, неужели не стану записки писать, засовывать их Пульке за ошейник? — Записки? — удивился американец. — Кому? Алеша выразительно посмотрел на лес: — И не беда, если не прочитает… если ответа Пулька не принесет!.. — Вас, русских, всегда так трудно понять! — признался Гарри. Пулька лаяла, надрываясь. По лесенке, не попадая ногой на ступеньки, спускался Богатырев. — Эх, братцы! — сказал он. — О мозге человеческом мы рассуждали, а о сердце забыли. — О каком сердце, командор? — удивился Керн. — Боли в сердце? Богатырев положил руку на плечо американцу: — Да, да, Аллан. Боли в сердце… в женском сердце, которое мы совсем не знаем! — И он посмотрел в лицо другому американцу. — Командор!.. — только и мог крикнуть Гарри. Он остановился перед Богатыревым, задыхаясь. — Всем… наверх! — крикнул Богатырев и первый ухватился за перила лестницы. Через несколько минут все снова собрались в радиорубке. Богатырев включил магнитную запись. Диски начали вращаться, а он прерывисто говорил: — Я проверил запись радиолокатора… И обнаружил… «Просперити» проходил над нами и после переданной радиограммы… которую мы считали последней. — Как! Была еще радиограмма? — Она записана автоматом. Мы не догадались проверить. Гарри, решительно отодвинув Керна и Алешу, подошел к магнитофону. — «…я не смогла улететь, — донесся через шорох помех голос Мэри. — Я отказываюсь от всего, что ждало меня там. Я никогда не смогла бы воспользоваться этим. Пусть их нет здесь внизу, пусть погиб мой Гарри, но я не вернусь на Землю. Мой долг — сохранить результаты экспедиции. Я бережно оставляю их на «Просперити». Его застанет последующая экспедиция и через несколько лет. А я сама подготовила уже запасный планер, чтобы опуститься на поверхность Венеры, в квадрат «семьдесят»… и, может быть, найти Гарри». — О-о! — воскликнул Керн. — Мой гениальный брат Томас в состоянии был воспроизвести в электронных схемах мозг мужчины, но никогда бы он не смог программировать подобие женщины!.. — Молчите! — крикнул Гарри. — «Просперити» кружит вокруг планеты и… он пуст? Никто не ответил. Вуд отвернулся и отошел к окну. Он стал смотреть на багровое небо. — Вот… такое оно, оказывается, и есть, женское сердце, — сказал Богатырев. — «Просперити» выйдет из-за горизонта через несколько минут. Алеша бросился к радиоаппаратуре, стал давать позывные, словно кто-то мог услышать его. Вуд стал за его спиной, сжав кулаки и наклонив голову. Репродуктор был включен. Слышался шорох и треск атмосферных разрядов. Порой казалось, что звучит «морзянка». И вдруг раздался ясный, неправдоподобно близкий голос Мэри Стрем: — Я — «Просперити». Я — «Просперити». У меня галлюцинация?.. Я — «Просперити»!.. Алеша потянул Гарри за рукав. Тот опустился около Алеши на одно колено, взял в руку микрофон и стал говорить… почти шепотом. Керн обернулся к Богатыреву: — Я думаю, что первый доклад об экспедиции мы сделаем общим. — Программа действий меняется! — объявил Илья Юрьевич. — До старта флагманского корабля «Знание» осталось не больше часа. Доброву — уточнить время старта и определить точку встречи с «Просперити». Аврал!.. Разгрузить «Знание» до предела. Через полчаса место близ ракеты неузнаваемо изменилось. На камнях лежали ящики с консервами, баллоны из-под кислорода, поблескивали металлические части аппаратуры. Алеша старался хоть как-нибудь привести все это в порядок, сложить в штабели, расположить рядами… Илья Юрьевич и Керн возились у вездехода, что-то укладывая в него. Вуд был на радиосвязи, он не упускал ни мгновения, чтобы слышать свою Мэри, Пулька взволнованно бегала между людьми и ящиками и лаяла. Алеша шикнул на нее. Он все время прислушивался, настороженный, беспокойный. Лицо его осунулось, глаза неестественно блестели. Он не мог найти себе места. Все делали вид, что ничего не замечают. По лесенке быстро спускался Вуд. Он подошел к Алеше, взял его за плечи и сильно встряхнул. Алеша поднял глаза, увидел счастливое лицо американца и через силу улыбнулся. Вуд показал глазами на лес. Алеша пожал плечами. Тогда Гарри притянул к себе Алешу и крепко обнял. До старта «Знания» оставалось несколько минут. Богатырев, Добров, Керн заняли места в «зубоврачебных креслах», Вуд и Алеша, более молодые, должны были перенести взлет, лежа на специальных тюфяках. — Илья Юрьевич, — попросил Алеша, — можно включить внешние микрофоны? Как в первую ночь… Богатырев протянул руку к пульту. Алеша замер. В ушах его стучала кровь. Он в последний раз услышит Венеру. Волна звуков ворвалась в кабину: шум ветра, вой ящера, хлопанье крыльев, далекий раскат словно обрушившейся лавины… И вдруг все стихло. И послышался столь желанный Алеше крик, звонкий, чистый, переливающийся, совсем человеческий, зовущий и печальный: — Эоэлла!.. Эоэлла!.. Алеша вскочил, бросился к окну. «Тридцать… двадцать пять… двадцать… пятнадцать…» — отсчитывал автомат секунды до мгновения, когда будут включены стартовые дюзы. Алеша прильнул лбом к стеклу, он смотрел в лес, откуда неслось; — Эоэлла!.. Ветер срывал листву папоротников, гнал раскоряченные исполинские перекати-поле. Он подхватил клубы дыма, понес их на лес. Ракета дрогнула. Алеша успел увидеть что-то белое, туманное, мелькнувшее… нет, метнувшееся с вершины дерева, словно летя на крыльях… Впрочем, может быть, это был унесенный ветром клуб дыма? Грохот сотрясал корабль. Алеша повалился на пол. Облако дыма закрыло нижнюю часть ракеты. Космический корабль нехотя приподнимался. Под ним трепетало зеленоватое пламя, которым он словно отталкивался от каменистой поверхности. Ракета на мгновение повисла в воздухе. Раскоряченное перекати-поле ударилось о нее и отлетело далеко в сторону. Совсем близко пронеслось другое перекати-поле. Венера словно бомбардировала покидавшего ее космического гостя. Взревели дюзы, подпрыгнул корабль и, оставляя дымный след, исчез в красных тучах. Как долог был спуск сквозь эти красные тучи… и как короток был взлет!.. Алеша поднялся, ощущая свинцовую тяжесть во всем теле, в висках и глазных яблоках. Говорят, некоторые при таком ускорении теряют на время зрение. Алеша бросился к окну. Нет! Он видел прекрасно! Вот он, бурный багровый океан вечных туч. Где-то летит по орбите «Просперити». Корабли уравняют скорости, сойдутся… Гарри обнимет свою Мэри. Они будут счастливы. А он, Алеша?.. С бьющимся сердцем смотрел Алеша на красные горы и багряные клубы дыма, медленно меняющие очертания. Если бы он мог пронзить их взглядом! Если бы хоть на мгновение увидеть снова папоротниковую чащу, край болота, с которого стартовала ракета!.. И Алеша так живо все представил себе, словно он на самом деле видел, что произошло после взлета ракеты. Он был совершенно уверен, что он еще успел увидеть, как над гнущимися под ветром папоротниками, паря, пронеслось крылатое существо. А потом… Потом он представил, как оно сделало круг над тем местом, где только что стояла ракета вороненой стали. Накренив одно крыло выше другого, существо спустилось на поверхность и… сложило крылья, оно откинуло их на спину складками дымчатого плаща. Потом оно тряхнуло головой и по плащу рассыпались длинные темные волосы. Ветер завладел ими. Конечно, у девушки было точно такое же лицо, как и у найденной скульптуры. Вытянутые в одну линию брови, миндалевидные огромные глаза, способные видеть в темноте, тонкий нос и нежные губы… Стройная, сильная, незнакомо прекрасная, она с тоской смотрела на тающий в воздухе след корабля. И, протянув к нему руки, она крикнула звонко и мелодично: — Эоэлла!.. Потом девушка осторожно подошла к вездеходу. Пришельцы оставили свою машину. Девушка смотрела на нее с грустью, но не с удивлением. Любовно погладила помятые бока, потом заметила оставленные в вездеходе предметы. Она перебирала их один за другим, все более и более заинтересованная, взволнованная… Земляне оставили на чужой планете продуманный след. Это были символы, геометрические и математические: круг, треугольник… доказательство теоремы Пифагора… схема солнечной системы. Периодическая система Менделеева. Строение атома… Потом шли фотографии Земли, ее природы, ее людей… Города, машины… Наконец, снимки побывавшей на Венере ракеты и пятерых астронавтов. Девушка долго вглядывалась в черты лиц людей. На одной фотографии она задержалась больше, чем на других. На поясе у нее была сумка. Девушка вставила в нее выбранную фотографию. В сумке заработал механизм. Девушка села на камни, обхватив колени руками, положив на них подбородок, и смотрела на сумку. Сумка сама собой раскрылась. Девушка взяла в руки чудесно созданную скульптуру… Алеши и стала смотреть на нее долгим, долгим взглядом…
Корабль «Знание» облетел вокруг Венеры несколько раз. Уже перебралась с «Просперити» мужественная американка Мэри Стрем, уже заправился советский корабль американским топливом… Корабли шли к Земле. Алеша стоял у окна, смотря на золотистый серп Венеры. И казалось Алеше, что он сам остался там, где оставили земляне знак возможным братьям по Разуму. Богатырев и Добров были у противоположного окна. Там в черноте Космоса горела в звездной россыпи голубоватая звезда. Можно было подумать, что корабль летел совсем не к ней, но, описав в околосолнечном пространстве точно вычисленную дугу, он должен был принести звездолетчиков именно на эту голубоватую звездочку, родную Землю, быть может и в самом деле заселенную миллион лет назад солнечным племенем людей. КОНЕЦ
ГЛЕБ ГОЛУБЕВ ПО СЛЕДАМ ВЕТРА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ[201]
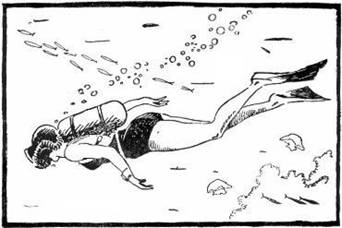
ЗНАКОМСТВО ПОД ВОДОЙ
Прошлым летом я только что демобилизовался из армии и не знал, куда себя дальше девать. Это печальное состояние мучило меня уже давно. Другие как-то сразу выбирают себе жизненный путь, а у меня так не получилось. Кончив школу, поступал в институт кинематографии, на сценарный факультет. А зачем, и сам не знаю. В институт не попал и поступил работать на завод учеником электрика, а через год меня призвали в армию. Но, видно, и армия мне ума не прибавила, потому что вот теперь снова стою на распутье и гадаю: как мне жить дальше? Чем заняться? Куда податься: проситься в экипаж космической ракеты, которую скоро, наверное, пошлют на Марс, или ехать в Сибирь на какую-нибудь стройку? Никакого решения я принять не мог и отправился к дяде в Керчь, чтобы отдохнуть, побродить, покупаться. — Непутевый ты, Колька! — сказал мне дядя, когда я без приглашения нагрянул к нему. — В каждом человеке должен быть стержень, понимаешь? А в тебе его нет. Наверное, дядя Илья прав: нет во мне стержня. А где его взять? И что это за стержень, который должен быть в каждом человеке? В дяде моем он есть? Сам дядя Илья, конечно, считает, что живет он правильно. Работает на метеостанции в Керчи, составляет прогнозы, которые очень редко оправдываются, а после работы копается в своем огородике или, подняв очки на лоб, старательно изучает какие-то заумные таблицы в толстенных фолиантах. Я тоже было заинтересовался этими книгами, соблазнившись их толщиной и ветхостью переплетов. И некоторые названия меня поначалу заинтриговали. Например, «роза ветров». Здорово звучит, верно? А на самом деле это никакая не роза, а просто-напросто диаграмма, график преобладающих ветров… У дяди мне скоро стало скучно. В одно прекрасное утро я сбежал на попутном катере на Ту злу. Вот тут-то и начались приключения. Тузла когда-то была косой, длинным песчаным мысом, далеко вдававшимся в Керченский пролив. Но в двадцать пятом году сильный шторм размыл перешеек, и Тузла превратилась в остров. Промоина между островом и берегом все росла и теперь уже достигает трех с лишним километров. На острове всего несколько домиков, где во время путины живут рыбаки. Берег такой низкий, что его не заметишь с моря, пока не подплывешь вплотную. Отправившись на Тузлу, я сначала увидел даже не сам берег, а дом и одинокое раскидистое деревце возле него. Казалось, они стояли прямо посреди моря. Это мне сразу понравилось. Добыть пропитание всегда было можно у рыбаков, ночевал я под открытым небом, на согретом за день песке. А пляж тут оказался такой, какого я никогда в жизни еще не видывал. Он тянулся на десятки километров. В сущности, весь остров был просто-напросто громадным песчаным пляжем, совсем пустынным и голым. Отойдя от рыбачьего стана метров за сто, можно было чувствовать себя Робинзоном на необитаемом острове. Но скоро я убедился, что остров был обитаемым, даже, пожалуй, слишком. Как обычно, с утра, прихватив самодельный гарпун, я отправился на охоту за рыбами. Вода в Керченском проливе такая мутная, что не различаешь порой даже кончиков пальцев протянутой перед собой руки, так что с ружьем тут охотиться бесполезно. Зато с гарпуном можно ловко подкрасться к зазевавшейся рыбешке. Ныряя, я услышал какое-то громкое постукивание под водой. После паузы оно повторилось. Мне приходилось читать, будто рыбы издают разные звуки в воде, даже как бы переговариваются друг с дружкой. Но эти звуки навряд ли могли издавать рыбы. Они были слишком размеренными и громкими: два звонких удара подряд, потом пауза, снова удар… Да ведь это азбука Морзе! Точка — тире, тире — точка, снова точка — тире… «Ана плыву тебе»… Точка — точка — точка — тире, тире — точка — точка, — застучал вдруг кто-то над самым моим ухом… «Жду». Кто же это мог разговаривать под водой? Вынырнув за воздухом, я огляделся вокруг. Но наверху все оставалось по-прежнему спокойным и безмятежным. Только в одном месте, недалеко от меня, на поверхности воды вскипали какие-то пузырьки. Я снова глубоко нырнул, почти до самого дна, и увидел впереди какую-то смутную большую тень. Приближаясь к ней, я стал различать очертания человеческой фигуры. Но, только подплыв совсем вплотную, я разглядел, что это девушка. Она была не просто в маске, как я, а в легководолазном костюме-акваланге, — так что ей не приходилось подниматься на поверхность за свежим воздухом. Незнакомка повернулась ко мне и поманила рукой. Но, когда я подплыл, думая, что ей нужна помощь, она отшатнулась и замахала на меня рукой. Я ничего не понимал. Запас воздуха в легких уже кончался, и мне пришлось вынырнуть. Я тотчас же нырнул снова и легко нашел девушку по пузырькам отработанного воздуха, которые цепочкой струились из ее акваланга. Но теперь она уже была не одна. Рядом с нею я увидел второго водолаза — мускулистого, загорелого парня примерно моего возраста, в голубых плавках. Они оба посмотрели на меня, переглянулись и, взявшись за руки, медленно поплыли над самым дном. Они демонстративно не обращали на меня никакого внимания и словно что-то искали на дне.

Это меня заинтересовало, и я поплыл вслед за ними. Что они потеряли? Подбитую рыбу? Но у них не было ружей в руках. Или что-нибудь упало с лодки? А может, ищут утопленника, надо помочь им? Без акваланга мне приходилось то и дело подниматься на поверхность за воздухом. Но глубина не превышала трех метров, а плыли они медленно, пристально рассматривая илистое дно, так что каждый раз я их легко нагонял и не упускал из виду. Моя навязчивость, видно, надоела им. Они остановились и подождали, когда я подплыву совсем близко. Навстречу мне выдвинулся парень. Вид у него был довольно свирепый, но что он мог мне сделать? На всякий случай я вызывающе выставил вперед свой гарпун. Но он вдруг наклонил голову, точно собираясь бодаться, и выпустил мне прямо в лицо целую тучу воздушных пузырьков. Вода вокруг меня буквально закипела. Это произошло так неожиданно, что я чуть не захлебнулся и пулей выскочил на поверхность. Пока я отдышался и пришел в себя, они успели отплыть довольно далеко. Но теперь уже я крепко разозлился и кинулся в погоню за ними. Не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы мы вдруг не заметили, что заплыли на отмель, где воды было по грудь. Так что мы могли теперь высунуться из воды и объясниться по-человечески. — Ты что, ненормальный? — свирепо спросил парень, сдвигая маску на лоб. — Что к нам пристал? — А что вы здесь ищете? — в свою очередь, ощетинился я. — Кто вы такие? Ваши документы. — Вот я тебе сейчас покажу документы! — замахнулся он. Но девушка (она не сняла маски, а только вынула изо рта дыхательную трубку) схватила его за руку: — Не смей, Михаил! Ему просто надо все объяснить. — И, повернувшись ко мне, она начала втолковывать, словно глупому ребенку: — Мы археологи, у нас тут целая экспедиция. Мы ищем затопленные древнегреческие города, которые стояли на этих берегах тысячи лет назад. Понимаете? А вы нам мешаете работать. Мне стало неудобно, что со мной так разговаривают, точно с ребенком. Но сразу отступать не хотелось, и я повторил: — Все равно у вас должны быть какие-то документы. Предъявите… — А ты что, милиционер? — насмешливо буркнул парень. Девушка снова потянула его за руку и мягко сказала мне: — Ну откуда же у голых людей могут быть под водой документы? Если вы так уж сомневаетесь, приходите вечером в наш лагерь — он вон там, за холмом. — А, да что с ним толковать! — махнул рукой ее товарищ и стал натягивать маску. — Пошли, а то скоро обед. Девушка снова помахала мне рукой, и они скрылись под водой. По воздушным пузырькам, выскакивавшим на поверхность, я следил, как они уплывают все дальше от берега. Наверное, их там ждала лодка. Но преследовать их я больше не стал. Весь день эта встреча под водой не выходила у меня из головы. Смутно припоминалось, что я и раньше читал что-то в газетах или в каком-то журнале о подводных археологах. Искать древние города куда интереснее, чем гоняться за испуганными рыбешками. Может быть, пойти к их начальнику и попроситься, чтобы взял в экспедицию? Ныряю я неплохо… Я думал об этом и вечером, сидя в одиночестве на теплом песке. Лагеря археологов отсюда не было видно, его скрывали песчаные холмы. Но мне казалось, будто ветер иногда доносит оттуда веселые голоса и чей-то смех. Может, это смеются надо мной, слушая рассказ девушки и этого свирепого Мишки о нашей нелепой стычке под водой?
СЛИШКОМ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Утром, закусив колбасой с черствым хлебом, я сложил в рюкзак свои нехитрые пожитки и отправился искать лагерь археологов. Он стоял у самой воды. Еще издалека я увидел две большие оранжевые палатки. В сторонке от них, под навесом, был вкопан в песок большой самодельный стол из некрашеных досок. Рядом торчала самодельная печка с трубой из перевернутого чугунка без донышка. На высоком шесте возле одной из палаток лениво трепыхался выгоревший флажок. Лагерь выглядел совершенно пустым и покинутым. У меня даже екнуло сердце: не уехали ли все куда-нибудь на другое место? Но, когда я подошел поближе, под ноги мне вдруг с неистовым лаем выкатилась маленькая собачонка, похожая на комок свалявшейся шерсти. — Шарик, на место! — лениво крикнул кто-то из палатки.^ Брезентовая дверца ее откинулась, и оттуда высунулась лохматая голова моего вчерашнего противника. Несколько минут он смотрел на меня, не узнавая, потом лицо его помрачнело. — Ты что сюда пожаловал? — спросил он грозно. — Документы проверять? — Мне нужен начальник экспедиции, — ответил я, не желая ввязываться в ссору. — Жаловаться пришел? — Очень ты мне нужен, чтобы из-за тебя забираться в такую даль! Просто мне нужен начальник. По делу нужен, понял? — Вот я тебе покажу сейчас начальника! — Он начал выползать на локтях из палатки и неожиданно крикнул: — Шарик, куси его! Собачонка, которая сидела шагах в пяти от меня, неуверенно тявкнула и тут же, словно извиняясь, замахала куцым хвостом. Она была куда добродушнее своего хозяина. Я повернулся и отошел в сторонку, стараясь идти как можно медленнее и независимее, чтобы это не походило на отступление. Шарик и Мишка молча смотрели мне вслед. Я отошел метров на двадцать и сел у самой воды, всем своим видом показывая, что готов здесь ожидать начальника хоть до скончания века. Ждать мне действительно пришлось долго. Я и посидел, и полежал, сбросив рубашку, и даже выкупался разок, правда у самого берега, чтобы не подвергнуться предательскому нападению. Но парень не приближался ко мне. Он возился у печки; растопил ее, начистил картошки и стал готовить обед, изредка поглядывая в мою сторону. Видимо, его оставили сегодня дневальным. Понятно, почему он так зол! Я сидел на солнцепеке и тоже злился. Уже под вечер с моря донеслось наконец далекое комариное гудение мотора. Звук все приближался, и скоро я увидел небольшой катерок, мчавшийся к берегу. Шарик приветствовал его появление веселым лаем и помчался к причалу из трех досок, устроенному на берегу. Катер с выключенным мотором мягко стукнулся о причал. Двое загорелых, как негры, ребят примерно моего возраста быстро и ловко закрепили его канатом. Кроме них, в катере находились две девушки и старик с остренькой седой бородкой. Один из парней помог ему спрыгнуть на причал, а потом уже с хохотом полезли девицы, с любопытством посматривая в мою сторону. — Ба! Да это наш неутомимый преследователь! — воскликнула одна из них, высокая и белокурая. Только теперь я узнал в ней свою подводную знакомую. Но без маски она выглядела гораздо лучше. Ее подруга, подвижная и вся черная, как жучок, тотчас же схватила ее за руку и громко зашептала, так что слышно было всем: — Кто это, Светланка? Где вы познакомились? — Под водой, — ответила та и, спрыгнув на песок, протянула мне руку: — Ну, а теперь давайте знакомиться по-настоящему. Меня зовут Светлана. — Николай, — ответил я хмуро. — Николай Козырев. Пожатие у нее было совсем мужское, твердое. А зеленоватые глаза все время смеялись, и я старался в них не смотреть. — Мне нужен начальник экспедиции, — пробормотал я. — Я начальник, — ответил старичок, выставив воинственно вперед свою бородку и с любопытством разглядывая меня. — Слушаю вас, молодой человек. Это было для меня неожиданностью. Я как-то предполагал, что начальник экспедиции подводников должен быть непременно здоровяком, этакого богатырского сложения. Может быть, флотский капитан. С ним мне было бы легко договориться. Поэтому я стоял и растерянно молчал. Тогда Светлана насмешливо сказала: — Под водой вы были активнее, Коля. Все вокруг засмеялись. — Так я слушаю вас, — повторил начальник и пришел мне на помощь: — Судя по всему, вы хотите присоединиться к нашей экспедиции. — И он посмотрел на рюкзак, лежавший у моих ног. — Да, — обрадовался я. — А вы кто, археолог? — Нет. — А кто же? — Я, собственно, был в армии. — Военная косточка? — оживился старик. — Это отлично! Потом уже я узнал, что своим упоминанием об армии сразу расположил его к себе. Военное дело было, оказывается, любимым коньком нашего профессора, по специальности, казалось бы, совершенно мирного человека. Мы никогда не могли понять этого его увлечения. В армии Василий Павлович служил недолго и очень давно, еще в первую мировую войну. Но до сих пор во время раскопок он носил военную фуражку, сапоги и брюки галифе, любил, когда ему отвечали по-военному, коротко и четко. Даже в своей науке он сумел выбрать какую-то особую «военную тропку», написав несколько интереснейших исследований о вооружении и тактике древних греков. Все это я узнал уже потом, а сейчас просто обрадовался, что армейская моя служба оказалась хорошей рекомендацией. — А где же вы служили? — продолжал он расспрашивать. — На флоте, — ответил я. Это было не совсем так: я служил в береговой обороне. Но все равно, ведь это рядом с морем… — Отлично! И с аквалангом знакомы? — Знаком. — И плавает он хорошо, — лукаво вставила Светлана. — А документы, простите, у вас при себе? — спросил профессор. Светлана засмеялась. Он удивленно посмотрел на нее: — В чем дело? — Так, Василий Павлович, — ответила она, подмигнув мне. — Вы же знаете, я смешливая. Покраснев так, что мне стало жарко, я достал из рюкзака все свои документы и передал их профессору. Он начал их внимательно изучать, а я смотрел себе под ноги, чтобы только не встретиться взглядом с насмешливыми глазами этой девицы. — Отлично, — одобрительно сказал наконец профессор, возвращая мне документы. — Ну что ж, я вас зачисляю. Только учтите, зарплата у нас маленькая… — Это ничего… — Ладно. Тогда отправляйтесь завтра в Керчь на медицинскую комиссию. Я попробовал было возражать, что здоров как бык, но он поднял палец, посмотрел на меня поверх очков и строго сказал: — Порядок есть порядок. Вы же военный человек, Козырев. Я понял, что спорить бесполезно, и ответил: — Тогда я отправлюсь прямо сейчас в Тамань, а то пароход оттуда в Керчь уходит рано. Там и переночую. — Ладно, — кивнул он, и по его глазам я видел, что ему понравилась моя решительность. А я, честно говоря, просто не хотел сегодня здесь оставаться. Начнут расспрашивать, смеяться. Пусть уж лучше без меня перемывают мне косточки. Комиссия, конечно, прошла совершенно благополучно, и к вечеру следующего дня я снова был на косе. Теперь меня встретили, как своего. Только Мишка Аристов бросил по моему адресу несколько язвительных замечаний, на которые я решил не обращать внимания. Остальные ребята показались мне довольно славными. Долговязого и нескладного звали Павликом Борзуновым. С ним мы быстро подружились. Он оказался хорошим товарищем, ненавязчивым и добродушным. Разговаривая, он быстро начинал горячиться и размахивать длинными руками. За это над ним подшучивали, но он не обижался. А другой паренек — его звали Борисом Смирновым — нередко сердился по пустякам, хотя и был медлительным, молчаливым, всегда как будто немножко сонным. Зная его вспыльчивость и большую силу, даже Мишка остерегался задирать Бориса. Светлана, ее подруга Наташа, Михаил и Павлик учились, оказывается, вместе, на четвертом курсе. А Борис был младше их на курс и учился заочно. Днем он работал слесарем на каком-то заводе. Это меня сблизило с ним. В экспедиции он проводил свой отпуск. Я немножко побаивался первого погружения. В армии нас, правда, знакомили с устройством легководолазных аппаратов, и я совершил больше десятка погружений, но те аппараты были кислородные, а не акваланги, работающие на сжатом воздухе. Однако, получив утром от профессора Кратова акваланг, я увидел, что легко разбираюсь в его устройстве, и успокоился. Конструкция была, собственно, та же, пожалуй, даже проще. Оставив за дневального Бориса, мы все уселись на катер и отправились вдоль берега. Скоро Кратов подал команду становиться на якорь, и мы начали готовиться к погружению. Зная, что Василий Павлович исподтишка, наверное, наблюдает за мной, я одевался как можно спокойнее и неторопливей. Павлик помог мне укрепить на спине два увесистых баллона. Запаса воздуха в них хватит на целых два часа. В воде этот груз сразу станет почти незаметен. К поясу я пристегнул металлические ножны, в них торчал кинжал с пробковой рукояткой, чтобы не тонул в воде, а всплывал на поверхность, если его нечаянно выронишь. «Зачем он нужен? — подумал я про себя. — Ведь акул в Черном море нет». На левую руку я нацепил часы в герметическом футляре, а на правую — особый маленький компас. Грузил мы не брали, потому что нырять тут приходилось неглубоко. Напялив на ноги неуклюжие ласты, я стал прилаживать маску. Ну вот, кажется, все готово. — Не забывайте прислушиваться к указателю минимального давления! — погрозил мне пальцем Кратов. — А то знаю я вас: попадаете в воду и забываете о времени. — Что вы, профессор! — солидно ответил я. Устройство указателя мне тоже было знакомо. Так называют маленький манометр, укрепленный над левым плечом водолаза. Посмотрев на него, можно всегда узнать, много ли воздуха осталось в баллонах. А когда запас воздуха станет иссякать, указатель напомнит об этом громким щелчком под самым ухом. Когда все приготовились, профессор напомнил, как мы должны вести поиски. Собственно, все уже было подробно оговорено еще вчера вечером, но таков уж оказался характер у нашего начальника: обо всем напоминать по сто раз. А задача-то была простая: плыть недалеко друг от друга по определенному азимуту над самым дном и смотреть, не попадутся ли обломки кирпичей, обтесанные камни или осколки каких-нибудь древних глиняных сосудов. Я, правда, надеялся найти на дне сразу целый город… Наконец все инструкции закончились, и мы один за другим полезли по трапу в воду. Я нырнул следом за Светланой и сразу пошел на глубину. Хотя я нырял и раньше, волнующее чувство внезапного освобождения от земной тяжести сразу охватило меня. Я парил, как птица. Я мог кувыркаться, повиснуть вниз головой — сила земного тяготения больше не сковывала меня. К этому ощущению невозможно привыкнуть. Оно радует при каждом погружении. Я рассчитывал сразу же открыть какой-нибудь затопленный древний храм или, на худой конец, развалины дворца. Но не нашел ничего, даже обломка кирпича, хотя так старательно разгребал ил на дне, что все исчезло вокруг в облаке поднявшейся мути. Было стыдно возвращаться с пустыми руками. Но, увидев, что и другие не удачливее меня, я успокоился. В этот день мы ныряли еще по три раза, но так же безрезультатно. Ничего не удалось найти и в последующие дни. Мне хотелось расспросить толком, что же именно мы ищем, но я как-то по-глупому стеснялся. Не хотелось лишний раз напоминать, что все вокруг студенты, хорошо знакомы с историей, а я круглый неуч. Я надеялся как-нибудь поднабраться знаний из разговоров, а потом почитать и книги, когда попаду в Керчь. Мои расчеты оправдались. По вечерам у костра все разговоры, конечно, вертелись вокруг наших бесплодных поисков, и, слушая их, я сразу поумнел, точно побывал на лекции. Две с лишним тысячи лет назад, еще до нашей эры, здесь, в Крыму, жили кочевники — скифы и другие племена. Потом сюда разузнали дорогу греческие моряки. Сначала они приплывали торговать, а потом устроили здесь несколько своих колоний. Так на берегах Черного моря, которое греки прозвали Понтом Евксинским — «Гостеприимным морем», появились Ольвия возле нынешнего Николаева, Херсонес, развалины которого сохранились неподалеку от Севастополя, и другие города. Особенно много греческих городов возникло по обоим берегам Керченского пролива. Он тогда назывался по-гречески Боспором Киммерийским. Под угрозой набегов скифов эти городки объединились в Боспорское царство. Столицей его был город Пантикапей, на месте которого теперь стоит Керчь. Отсюда в Грецию вывозили хлеб, рыбу, пушнину, скованных цепями рабов. Боспорское царство существовало почти тысячу лет, пока, наконец, не рухнуло под натиском кочевых племен. Древние города были разрушены. Теперь их раскапывают археологи, восстанавливая по находкам жизнь и быт наших далеких предков. За тысячелетия уровень моря повысился, и развалины некоторых древних городов очутились на морском дне. Вот их-то и разыскивала экспедиция профессора Кратова. Они, оказывается, работают тут уже не первый год. Им удалось найти остатки греческого города Гермонассы, стоявшего как раз на месте станицы Таманской, и Карокондамы — у основания Тузлинской косы. Возможно, существовали какие-то поселения ина самой косе. Вот это-то нам и предстояло проверить. Через несколько дней, когда я уже немножко разобрался в истории, смелости у меня прибавилось, и я решился спросить у Кратова: — Василий Павлович, а разве может что-нибудь уцелеть в морской воде? Ведь тысячи лет прошло. Может, все давно растворилось? — Что вы, голубчик! — ответил он. — Камень, глиняная посуда, даже металлические изделия превосходно сохраняются. — О, мы в прошлом году такие чудные амфоры здесь нашли. — А ритон какой из слоновой кости! — вспоминали ребята. — Я бы даже сказал, что на дне моря древности порой сохраняются даже лучше, чем на суше, — продолжал профессор. — Люди копаются в земле, строят дома, вспахивают поля. Следы минувших веков при этом, конечно, стираются. А в море развалины никто не тревожит. Их быстро заносит песком и илом, и так они сохраняются тысячелетия. Па суше при раскопках в Тамани нам попадались только разрозненные черепки да обломки камня, а на дне мы нашли отлично сохранившееся на большом протяжении основание крепостной стены древней Гермонассы. Поэтому я и решил организовать эту подводную экспедицию… — Вот если бы греческий корабль найти! — задумчиво сказал Павлик, помешивая в костре суковатой палкой. Целый рой искр взвился в ночное небо. — Кстати, о корабле… — начал профессор и замолчал. (Мы выжидательно поглядели на него.) — Вчера рыбаки рассказали мне, что в одном месте им попадаются в сети настоящие греческие амфоры. Это где-то возле банки Магдалины, как они утверждают. — А что за банка Магдалины? — спросил Павлик. — Отмель у Таманского полуострова, недалеко от берега. Мне сказали, что на днях туда должны отправиться разведчики рыбы. Хочу связаться с ними и попросить их пошарить там на дне. Они, наверное, не откажут… Амфоры на морском дне… А вдруг там затонувший древнегреческий корабль? — Василий Павлович… — просительно сказала Светлана. Мы все стали наперебой доказывать профессору, что Бремя терять нельзя, что разведчики наверняка не откажут. Впрочем, профессор и сам, видимо, считал, что слухи об амфорах надо проверить. — Ладно, — сказал он, — завтра наведаюсь в Керчь. А сейчас всем спать.«АЛМАЗ» ВЕДЕТ ПОИСК
Сначала Кратов предполагал отправиться в Керчь один. Но выяснилось, что запас продуктов у нас на исходе. Значит, надо брать еще двух-трех человек. А что делать остальным? Ведь катер уйдет в Керчь. А без него нельзя продолжать поиски. Мы быстро свернули лагерь и двинулись в Керчь все вместе, включая Шарика, который всю дорогу сидел на самом носу катера, словно заправский впередсмотрящий. Нам удивительно везло. Василий Павлович с Аристовым отправились в управление рыбной разведки. Там им сказали, что разведчики тоже находили несколько амфор у банки Марии Магдалины и передали в местный музей. Один из кораблей действительно отправлялся завтра на поиски рыбы к берегам Кавказа. Он будет проходить мимо банки Магдалины и может там немного задержаться и забросить для нас трал. Эти вести, принесенные Кратовым, мы встретили радостным гвалтом. Но он поднял руку, требуя тишины, и сказал: — Подождите радоваться. Я возьму с собой не всех. Это разведочная поездка, она может и не принести никаких результатов. Нельзя, чтобы она срывала нам основную работу. Поэтому со мной отправятся только двое… — Тут он остановился окидывая наши лица задумчивым взглядом. — Ну, скажем, Борзунов и… Козырев. А остальные должны к нашему возвращению закончить все хозяйственные проблемы. Старшим здесь оставляю Аристова. — Везет тебе! — буркнул стоявший рядом со мной Мишка Аристов. — Хотя понятно: старик боится, как бы ты без него чего не натворил. На такой язвительный выпад я ответил ему, что пусть, дескать, не слишком огорчается, что не плывет с нами: все-таки его оставляют не просто так, а за начальника… Вечером я наведался к своему дядюшке. Как всегда, он возился в саду, окапывая какую-то редкостную вишню. Узнав, что я стал в некотором роде археологом, он покачал головой и неодобрительно сказал: — Эк как тебя шатает! Я же говорю, нет в тебе стержня, Колька. Утром мы отправились в порт искать судно разведчиков. Оно стояло на якоре метрах в ста от берега, как раз напротив гостиницы. Это оказался обыкновенный средний рыболовный траулер — СРТ, как называют такие суда моряки. На борту большими белыми буквами аккуратно выведено название судна: «Алмаз». На палубе нас поджидала вся команда. — Курбатов Трофим Данилович, капитан, — представился один из моряков. Он был действительно в черной фуражке с морским значком, но вид имел совсем не капитанский: уже немолодой, толстый, в тенниске и парусиновых брюках. Какой-то бухгалтер в отпуске, а не морской волк. Не больно моряцкий вид был и у остальных членов команды. Я почему-то ожидал увидеть на них нечто вроде морской формы. А тут каждый одевался как хотел, хотя у всех в разрезах воротников виднелись тельняшки… Нас развели по каютам. Василия Павловича поселили отдельно, а нас с Павликом — в общий кубрик. Койки там почти все пустовали, потому что, как объяснили нам матросы, ночью здесь душно и все отправляются спать на палубу. — Да вы тоже сбежите, только вещички тут держать будете, — сказали нам они. Для вещей мы с Павликом получили один шкафчик на двоих. Но не успели их рассовать, как басовитый низкий гудок поманил нас на палубу. Заработала машина, сотрясая переборки. По всем признакам, мы снимались с якоря, и пропускать такой момент никак не следовало. Василий Павлович тоже не усидел в каюте и даже поднялся на мостик и стал там рядом с капитаном. Последовать его примеру мы не решились и, найдя себе отличное местечко на самом носу, свесив головы за борт, смотрели, как медленно ползет из воды тяжелая якорная цепь. С нее лилась вода и падали клочья зеленых водорослей. Но долго нам тут стоять не дали, потому что поднятый якорь был густо облеплен липкой грязью и ее пришлось смывать из брандспойтов. Берег медленно уплывал вдаль. Над вспененной мутной водой носились за кормой чайки. Они кричали жалобными, скрипучими голосами: «Дай, дай, дай…» Чем дальше уходил берег, тем явственнее выступала над городом на фоне бледного, словно выгоревшего от летнего зноя неба лысая гора Митридат. Матросы между тем начинали заниматься будничными делами. Несколько человек, раздевшись до пояса и закатав штанины, стали поливать палубу из насоса, надраивая ее тяжелыми щетками. Водяная сверкающая струя окатывала палубу в самых неожиданных направлениях. Мы едва успевали увертываться от нее. Море сверкало под солнцем. За кормой кипела зеленоватая вспененная вода. Слева у самого края неба едва виднелся расплывчатый силуэт низкого берега. — Через часок придем на место, — сказал подошедший к нам Кратов. — Уже начинают готовить трал. Рыбачий трал — это сеть в виде громадного мешка. Когда ее расстелили, она заняла почти всю палубу. По краям сети прикреплены стеклянные поплавки — кухтыли. Они поддерживают в воде этот мешок в раскрытом состоянии. Судно тащит его за собой на определенной глубине, и вся рыба, встретившаяся на пути, попадает в широко разинутую пасть трала. Матросы надели брезентовые костюмы, высокие сапоги и взяли в руки багры. По команде капитана они разом перебросили сеть через борт.
Судно сразу заметно сбавило скорость. Через полчаса была дана команда вытаскивать сеть обратно. Даже для бывалых матросов это было, видимо, увлекательное зрелище, потому что все высыпали на палубу. Не у одних нас замирало сердце в предчувствии чего-то необычного, когда вскипела замутившаяся вода за бортом и всплыли кухтыли. Вот за ними уже тянется тяжелая, провисающая мешком сеть. Что там в мешке? Он повис над бортом на стальных тросах, и из него серебристым живым потоком хлынула на палубу рыба. Мы кинулись рассмотреть ее поближе, но нас остановил окриком высокий пожилой тралмейстер. Каких только рыб тут не было! Мы уже не замечали мелочи. В глаза прежде всего бросались крупные осетры. Они плясали по мокрой палубе и жадно глотали воздух сморщенными, старушечьими ртами. Тяжелыми пластами лежали крупные камбалы, словно решив обмануть людей своей неподвижностью. Тралмейстер подцепил багром какую-то плоскую рыбину, очень похожую на камбалу, только с длинным хвостом, и вдруг швырнул ее за борт. — Гад! — пояснил он нам. — Это морской кот. Опасная рыба, не дай бог повстречать ее под водой. Пока не подходите близко, надо их повыбрасывать… Так же решительно и быстро он подцепил своим острым багром еще несколько морских котов и отправил за борт. Я даже не успел рассмотреть их как следует. Когда улов был очищен от опасных рыб, матросы начали раскладывать его по корзинам. В одну сторону летели осетры, в другую — камбалы. Палуба постепенно пустела. В сети остались лишь груды сорванных со дна водорослей да бившиеся среди них мелкие рыбешки. Мы натянули брезентовые рукавицы и вмиг переворошили эту кучу. Тщетно. Никаких амфор море нам не подарило. — Не сразу повезет, не огорчайтесь, — сказал капитан. — Сейчас мы повторим траление. А я еще разок проверю наше место. Поднявшись на мостик, он долго колдовал с пеленгатором, наводя его на различные возвышенности на берегу, которые служат морякам ориентирами. Потом дал команду подойти поближе к берегу. Теперь банка Марии Магдалины пряталась под водой где-то совсем рядом. Снова забросили трал. Василий Павлович следил за всеми манипуляциями с прежним интересом, но мне, признаться, это уже начинало надоедать. И действительно, я оказался прав. Когда трал подняли на борт, в нем опять ничего не было интересного, кроме неистово бьющейся рыбы и раковин. Сначала я помогал разбирать добычу, а потом ушел на нос и улегся там, закинув руки под голову и бездумно глядя в темнеющее небо. Насколько интереснее было бы сейчас нырять на нашей косе Тузле!.. Гвалт возбужденных голосов заставил меня вскочить на ноги. Вокруг трала собралась большая толпа. Я бросился туда и стал расталкивать матросов, пробиваясь вперед, к Василию Павловичу. Он вертел в руках какую-то большую раковину странной формы и внимательно рассматривал ее, сдвинув очки на лоб. — Судя по глине и качеству обжига… это явно не Пантикапей, — бормотал он. — Но откуда же она? — Что вы нашли, Василий Павлович? — потянул я его за рукав. Он посмотрел на меня невидящими глазами, потом нетерпеливо ответил: — Амфора, осколок амфоры. Теперь я и сам разглядел, что в руках у него была вовсе не раковина, а кусок изогнутой стенки амфоры. Он поразительно напоминал раковину, потому что оброс довольно толстым слоем тончайших зеленовато-бурых водорослей, похожих на мох. — Подержите-ка, только осторожно. — Он подал мне осколок, а сам торопливо полез в полевою сумку, с которой не расставался, по-моему, даже во сне, и достал оттуда скальпель. Острым кончиком ножа профессор начал осторожно счищать водоросли, и мне вдруг показалось, что на глиняном черепке проступают какие-то знаки. Нет, то был не обман зрения. Когда Кратов расчистил осколок, стало видно отчетливое изображение уродливой головы с растрепанными длинными волосами, оттиснутое на древней глине.

— Медуза Горгона, очень интересно! — пробормотал Василий Павлович, не сводя глаз с изображения. Он словно боялся, что оно исчезнет так же неожиданно, как и возникло перед нами. Да, это в самом деле было несомненно изображение страшной головы мифической Медузы Горгоны. Даже я, никогда не видавший ничего подобного, узнал ее, потому что читал миф о подвиге Персея, отрубившего эту голову, на которую не мог смотреть никто из смертных. И то, что я принял сначала за растрепанные волосы, были на самом деле ядовитые шипящие змеи, как и рассказывалось в мифе. Но что означал этот рисунок? Я спросил об этом у Василия Павловича. — Трудно сказать, — ответил он, пожимая плечами и вертя перед глазами черепок. — Пожалуй, просто фабричный знак, клеймо мастера, который сделал эту амфору, или личный знак ее владельца… Меня немножко огорчило столь прозаическое объяснение. Но то, что я услышал дальше, снова заставило взволноваться. — Если мне не изменяет память, мы не находили пока еще амфор с подобным знаком. В городах Боспора их, как правило, вообще не клеймили, — продолжал профессор. — Надо будет порыться в книгах, и тогда мы узнаем, откуда плыл этот корабль… — Какой корабль? — не понял я. — Греческий, который нам, очевидно, посчастливилось найти. — Так вы думаете, что тут действительно затонувший корабль? — прерывающимся голосом спросил Павлик, до сих пор молчавший и только тяжело сопевший у меня над ухом. — Конечно, корабль, — сказал Василий Павлович. — Мы слишком далеко от берега, чтобы допустить столь значительное погружение суши. И потом… Какая тут глубина, Трофим Данилович? Оказывается, и капитан давно слез со своего мостика и стоит рядом с нами в толпе притихших матросов. На мостике оставался один рулевой, да и тот по пояс высунулся из окошка, чтобы не пропустить ни единого слова. — Сейчас проверим, — сказал капитан, отыскивая глазами в толпе акустика. — Ну-ка, Костя, включи эхолот. Акустик помчался в свою рубку. — Восемнадцать метров, товарищ капитан! — крикнул он, высовываясь из окошка рядом с рулевым. Теперь все, как по команде, перевели взгляд на профессора. — Ну, вот видите, — сказал он. — Конечно, берег не мог опуститься так далеко от своей нынешней кромки и на такую глубину. Значит, здесь не может находиться какой-нибудь затопленный город. Конечно, могло случиться, что эта амфора в единственном числе упала за борт какого-либо проплывавшего здесь в те времена корабля. Но, учитывая, что амфоры находили здесь и раньше, такая возможность исключается. Видимо, действительно нам посчастливилось наткнуться на затонувший корабль. И за это мы прежде всего должны благодарить вас, дорогие друзья! Тут он церемонно начал раскланиваться во все стороны. А капитану крепко пожал руку и долго тряс ее. Я не мог больше вытерпеть и решил взять быка за рога: — Василий Павлович, разрешите готовиться к погружению? Он сделал вид, что не понимает: — Какому погружению? — Разве мы не будем искать затонувший корабль? — Будем, но не сегодня. Надо дождаться, когда сюда прибудет вся экспедиция. — Но хотя бы один спуск, разведочный! — взмолился я. Василию Павловичу явно не меньше моего хотелось поскорее начать поиски затонувшего корабля. Но, как всегда, старик проявил осторожность и благоразумие. — Нет, нырять будете только все вместе, — сказал он. Место, где нашли осколок амфоры с головой Медузы Горгоны, отметили ярко-красным буйком, хорошо заметным издалека. Потом разведчики тепло распрощались с нами и отвезли нас в шлюпке на берег. Нам предстояло добираться до ближайшего селения, где можно найти попутные автомашины до Тамани. Наутро мы уже были в Керчи. Надо ли рассказывать, какую сенсацию вызвало наше сообщение о затонувшем корабле! Все рвались сейчас же, немедленно идти в море. Но на чем? — На катере выходить в открытое море нельзя, — остановил нас Кратов. — Надо подготовиться как следует, запастись прожекторами, продуктами… А для этого надо было звонить в Москву, связываться с институтом, просить добавочных денег, — мы уже чувствовали, что сборы затянутся на целый месяц, если не дольше. Но полоса везения продолжалась. Через неделю в Керчь вернулся «Алмаз». Перед новым рейсом на нем предстояло провести текущий ремонт машины и обновить покраску. Мы поговорили с моряками, и они так загорелись поисками затонувшего судна, что упросили свое начальство разрешить им провести всю эту работу не в гавани, а в открытом море. Так что мы снова получили «Алмаз» для плавания к банке Марии Магдалины. Больше того: в управление рыбной разведки только что прибыла из Москвы новенькая установка подводного телевизора. Прежде чем использовать для поисков рыбы, надо было ее проверить и как следует наладить. Для этого установку передали нам, на «Алмаз», пока мы будем искать затонувшее судно. Не прошло и двух недель, как все сборы были закончены, и рано утром мы покинули Керчь, отправляясь навстречу неведомому.
«ОДИНОКИЕ В НОЧНОМ МОРЕ»
Наш буек оказался цел и невредим. Возле него мы и стали на якорь. Солнце уже склонялось к закату. Но всем, конечно, не терпелось начать поиски сегодня же. Василий Павлович на этот раз не возражал, только сам начал проверять у каждого снаряжение. Особенно придирчиво проверял он меня. Все осмотрел: и компас, и часы, и новенький кинжал. Но вот уже подана команда к погружению! Спускались мы по двое. В первой паре шли Михаил со Светланой, во второй — мы с Павликом. Наташа и Борис оставались на борту в полной боевой готовности, чтобы в случае опасности прийти нам на помощь. Мы были у них как бы на привязи: к поясу каждого из нас прикрепили тонкий тросик. Дергая за него, с борта можно подавать сигналы водолазам. Плавать на такой привязи неудобно, но не спорить же с начальником экспедиции… Нырять предстояло довольно глубоко, поэтому каждому из нас прибавили вес, нацепив на пояс свинцовые грузила. А то вода вытолкнет, не даст добраться до дна. Стоя на трапе, я следил, как, оставляя за собой серебристый хвост воздушных пузырьков, все глубже погружаются Михаил и Светлана. Вода была такой прозрачной, что они оставались все еще отчетливо видны даже на глубине пятнадцати метров. Мне показалось, будто они держатся за руки. Но вот они разошлись в разные стороны и словно растворились в воде. Теперь была моя очередь отправиться вслед за ними. Восемнадцать метров — это не то что в Керченском проливе. Я покрепче зажал зубами мундштук и нырнул. Примерно на глубине в шесть метров я почувствовал боль в ушах и, прижав маску к лицу, попытался сильно выдохнуть воздух через нос и одновременно сделал несколько глотательных движений. Уши были «продуты». Боль сразу уменьшилась, а через некоторое время я и совсем перестал ее замечать. Так бывает только на первом десятке метров глубины, где давление сразу возрастает вдвое по сравнению с атмосферным. Дальше оно увеличивается уже медленнее, и организм это переносит спокойно. Чем глубже я погружался, тем заметнее менялось освещение вокруг меня. Не то чтобы становилось темнее, но постепенно пропадали теплые, красновато-оранжевые оттенки. Теперь меня окутывал синевато-зеленый сумрак, и, наверное, поэтому начало казаться, будто вода становится холоднее. Но вдруг она и впрямь стала заметно холоднее, словно я внезапно провалился в прорубь. Это я миновал «слой температурного скачка», как называют его океанографы. А снизу уже наплывало дно. И сразу стало немного светлее. Это всегда бывает, когда приближаешься ко дну. Вероятно, оно отражает часть световых лучей и поэтому получается как бы добавочный источник освещения, не только сверху, от поверхности воды, но и снизу. Я ухватился рукой за кустик водорослей — судя по длинным лохматым веточкам, это была цистозира, «бородач», как называют ее рыбаки, — и огляделся вокруг. Какая-то тень скользнула по дну. Я поднял голову. Это спускался Павлик. Когда он приблизился, я взмахом руки предложил ему двигаться направо, а сам поплыл влево.
После Керченского пролива вода казалась идеально прозрачной, и скалистое дно покрывал не противный липкий ил, а тонкий слой светлого песка. Каждый камешек отчетливо выделялся издалека. Но я все-таки плыл медленно, раздвигая руками водоросли и раскапывая каждый песчаный холмик: не прячется ли под ним амфора или обломок корабля? Найти обломок деревянного борта было, конечно, маловероятно, потому что дерево должно было давным-давно истлеть, раствориться в морской воде за двадцать веков. Но амфоры вполне могли сохраниться, да и металлические части тоже — скажем, якорь. Сигнальный конец, привязанный к моему поясу, резко дернулся трижды. Увлеченный поиском, я даже не сразу понял, что это значит. Неужели прошло сорок пять минут и меня вызывают на поверхность? Дольше на этой глубине работать не полагалось. Я отметил место, где прервал поиски, выложив на песке крест из камней. Потом, в свою очередь, три раза сильно потянул за сигнальный конец. Это означало, что сигнал я понял и сейчас выхожу на поверхность. Подниматься следовало не спеша, чтобы пузырьки азота, растворенного в крови, не закупорили кровеносные сосуды. Тогда водолаза может поразить опаснейшая кессонная болезнь — об этом меня предостерегали еще при учебных погружениях. Чтобы не огорчать Кратова, который наверняка сейчас стоит у трапа с секундомером в руках и придирчиво проверяет, соблюдаем ли мы инструкцию, я поднимался, как и требовалось, ровно три минуты. На борту, свесив ноги, сидели Миша Аристов и Светлана. Михаил, отдуваясь, с наслаждением пил горячий чай, обернув ручку алюминиевой кружки носовым платком. А Светлана уплетала шоколад, который каждому из нас выдавали, опять-таки строго по инструкции, после погружения. По их лицам я сразу понял, что они тоже ничего не нашли. В таких бесплодных поисках прошло три дня. С утра до вечера мы ныряли, метр за метром обшаривая дно. На судне тоже шла будничная работа. Механики возились в своих подземельях, перебирая машину. Матросы в одних трусах покачивались на лавочках, подвешенных на тросах, покрывая борта новенькой краской. Они так привыкли к нашим неудачам, что на третий день даже не поворачивали голову, когда кто-нибудь из нас всплывал, — опять с пустыми руками. Мы надеялись, что нам поможет в поисках подводный телевизор, но Костя, акустик, все никак не мог его наладить. Отгородив уголок палубы, он целые дни напролет возился там с лампами, трубками, прожекторами. Постепенно вырастало довольно неуклюжее сооружение: большая рама, похожая на виселицу, а на ней, в паутине проводов, телевизионная камера и три сильных прожектора. Наконец он объявил, что все готово и можно провести первую передачу. Приемник установили в кают-компании, завесив все иллюминаторы, кроме одного. Через него Костя командовал матросам у лебедки, в какую сторону повернуть стрелу с подвешенной к ней на длинном тросе установкой. Народу в кают-компанию набилось битком. Те, кому не удалось занять местечко заранее, заглядывали в дверь. Но их скоро прогнали: свет, падавший из двери, мешал смотреть на экран. Прямо напротив экрана сели Василий Павлович и капитан. Мне удалось примоститься совсем рядом с ними, так что все хорошо было видно. Но смотреть пока было нечего. Костя крутил разные рукоятки, покрикивал на матросов, застревая головой в тесном иллюминаторе. Но экран оставался темным и беззвучным. И вдруг он засветился призрачным голубоватым сиянием. Сначала трудно было понять, просто ли он светится или уже идет передача из морских глубин. Но вот в уголке экрана появилась маленькая барабулька с выпученными глазами, — значит, аппарат работал нормально. Мы действительно, не выходя из каюты, все вместе нырнули под воду. Для нас, уже совершивших немало спусков, изображение на экране было, конечно, лишь тусклой и серой копией подлинных картин подводного мира, но для тех, кто никогда не нырял с аквалангом, все это выглядело феерически. Со всех сторон раздавались возбужденные возгласы и вскрики: — Смотри, кефалька! — А вон медуза! — Ух, как удирает! Действительно, медуза почему-то промчалась через весь экран снизу вверх, как ракета. Мне никогда не приходилось видеть под водой, чтобы эти противные существа так быстро плавали. Да ведь это не медуза так быстро всплывает, сообразил я, а, наоборот, погружается все глубже телевизионная камера. Так пассажирам поезда кажется, будто бегут за окном столбы и деревья, на самом-то деле совершенно неподвижные. Промелькнул бычок, быстро работая широкими плавниками. В середине экрана он на миг задержался, поведя выпученными глазами в нашу сторону, а потом юркнул в темноту. Затем появились две довольно крупные кефали. Но они держались вдалеке, не приближаясь к аппарату. Сверкнув чешуей, они тоже скоро скрылись из глаз. Теперь камера, чуть наклонившись, медленно двигалась над самым дном. И все мы притаив дыхание не отрывали глаз от экрана. Ощущение было такое, будто я сам опять парю над морским дном в акваланге. Зубы мои непроизвольно сжались, словно прикусывая мундштук дыхательной трубки… Мы обшаривали дно двумя десятками глаз. Но ничего особенного не заметили. Всё те же пучки водорослей, колыхавшиеся, словно ковыль под ветром, камни, песчаные бугорки, рыбешки, стремительно уплывавшие в разные стороны от аппарата. Камера повернулась, и мы увидели на экране скалистую неровную стену обрыва. Местами за нее каким-то чудом цеплялись водоросли. — Спускайте, — дрогнувшим голосом сказал Кратов. Камера, покачиваясь, поползла вниз вдоль отвесной стены. Изображение на экране было черно-белым, поэтому перемены в цвете от глубины погружения не ощущалось. Только все меньше и меньше росло водорослей да реже мелькали рыбешки. И постепенно темнее становилось изображение: лампам все труднее пробивать сгущающуюся подводную тьму. Но вдруг экран снова заметно посветлел. — Сейчас будет дно, — громко сказал Аристов. Он никогда не упускал случая щегольнуть своими знаниями подводных глубин. В самом деле, посветление говорило о близости дна, отражавшего рассеянный в воде свет солнца. Костя осторожно повернул камеру, и мы увидели небольшой кусочек морского дна, площадью, наверное, в десять квадратных метров, не больше. Дальше все пряталось в темноте. Наши глаза быстро обшарили все, что умещалось на этом маленьком пятачке освещенного прожекторами пространства: два обломка скалы, торчащие из песка, одинокая актиния, лениво колышущая щупальцами, и небольшой песчаный бугорок. …Он сразу привлек мое внимание своей странной продолговатой формой. Что там пряталось, под песком? Обломок скалы? Или амфора? Во всяком случае, бугорок явно что-то таил в себе, иначе море давно бы уже сровняло его с песчаной поверхностью дна. У меня прямо зачесались руки, так хотелось разворошить песок! Бугорок привлек не только мое внимание, потому что Миша Аристов вскочил и, нарушая благоговейную тишину, торопливо сказал: — Надо немедленно проверить, что там такое прячется. Василий Павлович, разрешите мне нырнуть! — Почему именно тебе? — вскипела Светлана. Но Кратов остановил их поднятой рукой: — Тише, тише… Трофим Данилович, какая тут глубина? — повернулся он к капитану. Тот не успел ответить. Его опередил акустик, сообщивший показания своих приборов: — Глубина двадцать девять метров! Кратов на минутку задумался, закусив губу. Мы все пятеро смотрели на него умоляюще. Было очевидно, что ему самому страсть как хочется разворошить этот загадочный бугорок. Но он не решался посылать нас на такую глубину без тщательной подготовки. — Василии Павлович, ведь мы же ныряли, когда учились, и глубже! — умоляюще сказала Светлана. Кратов посмотрел на нее, потом на капитана, нахмурился и стал рыться в своей неразлучной сумке. Что он искал? Кто-то торопливо зажег свет. Василий Павлович достал из сумки инструкцию и начал сосредоточенно изучать таблицу декомпрессии. Что там изучать? Каждый из нас наизусть знал, сколько минут можно пробыть в акваланге на той или другой глубине и как следует потом подниматься, чтобы не заболеть кессонной болезнью. — Хорошо, — наконец сказал он. — Только будем строго придерживаться инструкции. Находиться на такой глубине следует не более пятнадцати минут и четыре минуты подниматься на поверхность… — Почему пятнадцать? Можно и двадцать пять, — перебил его я, отлично помня таблицу. — Потому что я так приказываю! — строго оборвал меня Кратов. — Ясно? Погружается Аристов, страхуют его Козырев и Смирнов. Миша и Борис вскочили и бросились к двери. А я мрачно посмотрел им вслед и сказал: — Василий Павлович, я не могу страховать, у меня что-то голова болит… Кратов внимательно посмотрел на меня и ответил: — Хорошо, тогда вторым страхующим назначается Борзунов. Обрадованный Павлик тоже побежал на палубу. Не знаю, чему они с Борисом так радовались. Если б нам разрешили нырять, а то страховать этого выскочку Аристова, который всегда успевает выхватить себе задание поинтереснее!.. Когда ребята приготовились, Василии Павлович не поленился сходить на палубу, чтобы проверить их снаряжение. А мы продолжали сидеть перед экраном и пристально рассматривали бугорок на дне. Я так пялился на него, что глаза заболели и начали слезиться. Василий Павлович вернулся, в кают-компании погасили свет, и снова все придвинулись к телевизору. Несколько минут изображение не менялось. Потом щупальца актинии вдруг заколыхались сильнее, на песок легла тень, и в кадре появился Михаил, окруженный целой тучей воздушных пузырьков. По-моему, он нарочно выпускал их побольше, но это было действительно красивое зрелище. Аристов сразу направился к бугорку и начал разрывать песок руками. Мы все затаили дыхание и еще теснее сгрудились у экрана. Как назло, Михаил заслонял от нас своим телом бугорок. Василий Павлович заворчал и даже постучал пальцем по экрану, словно Аристов мог услышать и подвинуться в сторону. Если бы я сейчас был там, на его месте! Но вот он повернулся к аппарату, и все ахнули. В руках у него была настоящая, совершенно целая греческая амфора!
ПОДВОДНЫЕ РАСКОПКИ
Древнегреческое судно найдено! Теперь никто уже не сомневался в этом. Сразу забыв о телевизоре, мы все заторопились на палубу, чтобы своими глазами увидеть поскорее чудесную амфору, тысячи лет покоившуюся на дне в сумраке морских глубин. Михаил всплывал, держа ее перед собой на вытянутых руках. Она оказалась большой, почти метровой высоты. Драгоценную находку принял у него Борис Смирнов, стоявший по колено в воде на трапе, и осторожно передал Кратову. — Несомненно, второй век до нашей эры, — бормотал Кратов, вертя амфору в руках. — Но мастерская не боспорская. Как и тот осколок. Откуда же он плыл? Как наш старик ухитрялся различать мастеров, умерших тысячи лет назад, по качеству обожженной ими некогда глины и по ее составу, всегда поражало нас. Но он никогда в этих тонкостях не ошибался. Амфору бережно завернули в толстый слой ваты, и Василий Павлович сам отнес ее в свою каюту. Мы, конечно, все рвались немедленно в воду. Но, как всегда, профессор охладил наш пыл своей рассудочностью и аккуратностью. — При раскопках главное — строжайший порядок, — сказал он нам, — это следует знать и студентам. Мы ведь не клады ищем, а изучаем жизнь и быт давно исчезнувших народов. Малейшая неточность при раскопках может привести к непоправимым ошибкам. Это справедливо при работах на суше и во сто крат справедливее при раскопках под водой. Вечером Василий Павлович созвал в кают-компании «большой военный совет», как он его назвал. Кроме всех нас, участников экспедиции, были капитан и гидроакустик. Заседали мы часа три и разработали подробнейший план подводных работ. Прежде всего большой участок дна предстояло разбить на квадраты, натянув между колышками проволоку. Так всегда принято при раскопках, чтобы точно знать, в каком месте найдена та или иная вещь. Нырять мы должны по двое. Пока первая пара находится на дне, вторая страхует ее, а третья отдыхает. При таком графике каждый из нас будет работать на дне по двадцать пять минут, затем час отдыхать перед следующим погружением. В этот вечер мы долго не спали, сидели на баке и пели песни. Уже за полночь Василий Павлович прогнал нас, пригрозив отменить завтра погружения. Но, и улегшись на палубе под звездами, мы все долго вертелись, перешептывались, девчата о чем-то хихикали. А потом я сразу заснул, словно провалился в яму. В девять утра мы все шестеро выстроились вдоль борта. Василий Павлович снова придирчиво проверил у каждого снаряжение. Потом первая пара — Михаил с Наташей — начали облачаться в гидрокостюмы. Это довольно неудобный наряд из резиновой рубашки и таких же брюк. Снизу под него надевается еще теплое шерстяное белье. По инструкции, работать в таких костюмах полагается, если температура воды падает ниже шестнадцати градусов. Сегодня у дна, где нам предстояло работать, было семнадцать градусов, но Василий Павлович все-таки настоял, чтобы мы напялили эти костюмы. Михаил оделся первый и полез по трапу. Наташа посмотрела на его неуклюжие движения и расхохоталась. — Не смейся, у тебя видик не лучше, — утешила ее Светлана и, оглянувшись на Кратова, вызывающе добавила: — А я ни за что не надену такую уродину. — Ну что ж, тогда вам придется посидеть на палубе, — кротко ответил Василий Павлович. Наши друзья скрылись под водой. Василий Павлович с капитаном сразу же отправились в кают-компанию, чтобы наблюдать за их работой по телевизору. Павлик, подумав, отправился следом за ними. А Борис растянулся на палубе на самом солнцепеке и честно начал отдыхать, как полагалось ему по графику. Держа в руках сигнальные концы, постепенно убегавшие в воду, мы со Светланой свесились через борт, стараясь рассмотреть, что делают наши товарищи. Но они погрузились уже слишком глубоко. Нам не терпелось сменить их. Но время на борту текло, видно, гораздо медленнее, чем под водой. Во всяком случае, меня всегда огорчало, что на поверхность вызывают слишком быстро. Теперь мне страшно хотелось поскорее поднять на палубу и Михаила с Наташей. Последние десять минут я не отрывал глаз от часов, подгоняя взглядом ползущую стрелку. До первого уступа, на глубине шестнадцати метров, где вели поиски раньше, мы со Светланой спустились без всяких происшествий. Но у края обрыва Светлана знаками показала, что хочет передохнуть. Наверное, она просто не могла сразу решиться нырять дальше, в темную пропасть, зиявшую перед нами. Времени у нас и так было мало, я решительно нырнул глубже. С каждым метром становилось темнее. Свет здесь напоминал лунный, хотя на поверхности вовсю сияло горячее южное солнце. Исчезли, потускнели все теплые тона. Мои оранжевые ласты казались совершенно черного цвета. Внизу расплывчатым пятном светили прожектора, укрепленные на раме телевизионной установки. Мы направились прямо к ним и тут разделились: Светлана поплыла направо, внимательно осматривая дно, а я налево. Дно было песчаным и ровным, каждый бугорок бросался в глаза. И водорослей на такой глубине растет уже мало. Проплыв метров пятьдесят, я заметил всего три кустика цистозеры. Я старался не пропустить ни одного бугорка. Раскопал их штук пять, но ничего не нашел. То попадались осколки рифа, скатившиеся вниз во время шторма и засыпанные песком, то странные норки, сделанные, видимо, какими-то неведомыми морскими обитателями. Один из бугорков, когда я протянул к нему руку, вдруг начал двигаться в сторону. Это оказался большой краб, бочком ускользнувший от меня в расщелину скалы. Я развернулся и поплыл в обратную сторону. Но закончить маршрут не успел. Три сильных рывка сигнального конца вызывали меня на поверхность. Наверное, у них часы испортились, успокоил я себя, можно проплыть еще немножко. Но рывки становились все настойчивее, требовательнее. Не стоило понапрасну сердить Василия Павловича. И я начал не спеша подниматься из сумрачного лунного сияния глубин к яркому свету солнца. B представляете, что я увидел, поднявшись по скользкому трапу на борт? Все толпились вокруг Василия Павловича, державшего в руках какую-то небольшую статуэтку. А рядом в гордой позе победительницы стояла Светлана, даже забывшая, как смешно и неуклюже она выглядит в гидрокостюме. Значит, пока я гонял проклятого краба, она нашла эту статуэтку! Что мне стоило послать ее налево, а самому направиться в ту сторону, где ей посчастливилось наткнуться на такую замечательную находку? Торопливо сбросив комбинезон, я присоединился к товарищам. Статуэтка переходила из рук в руки. Она изображала молодого круглолицего человечка, который неистово хохотал, запрокинув голову. Поза была настолько живой и непосредственной, что у всех у нас на лицах тоже невольно появились улыбки. — Сросшиеся густые брови… приплюснутый нос… Это, вероятно, изображение сатира, — говорил Василий Павлович, любовно поглаживая фигурку буйного весельчака заметно дрожавшими пальцами. — Так принято изображать этих лесных демонов, неизменных спутников бога Диониса! И посмотрите, какая тонкая работа! Аи да Светлана! Ну, удружила! Будет очень любопытно узнать, привезена ли эта статуэтка из Греции или слеплена каким-либо местным мастером… — А из чего она сделана? — спросила Наташа. — Терракота. Неужели вы не можете определить сами? Великолепная глина, отличный обжиг. По этим признакам мы определим в лаборатории, в какой мастерской она родилась. — По-моему, она настоящая греческая, — солидно сказала Светлана, стаскивавшая в сторонке свой резиновый костюм. — Вряд ли умели так хорошо делать здесь, в колониях. Василий Павлович рассмеялся. — Просто вам хочется, голубушка, набить цену своей находке, — сказал он. — А для науки гораздо ценнее, если эта статуэтка окажется местного производства. В наших музеях уже есть немало замечательнейших статуй, барельефов, мозаик, которые отнюдь не уступают тем, что находят при раскопках в Греции. А делали их несомненно местные мастера. Возьмите, например, чудесную статую горгиппийского наместника, найденную незадолго до войны в Анапе. Или мозаика на полу древнегреческой бани из Херсонеса. Вы ее, наверное, видели в Эрмитаже… Он задумался о чем-то, потом добавил: — Не думаю, чтобы подобные произведения искусства встречались часто у моряков того времени… Видимо, хозяин статуэтки был человеком достаточно образованным и большим поклонником искусства. II кто знает, не посчастливится ли нам найти… — и вдруг замолчал, прервав себя на полуслове. — Что найти? — зашумели мы. — Каких находок вы ожидаете? Скажите, Василий Павлович! Но в ответ на все наши просьбы он только махал рукой и смущенно улыбался: — Нет, нет, мечтать некогда. Надо работать! Время дорого, друзья, давайте продолжать. Чья очередь погружаться? Очередь была Бориса и Пгвлика. Они начали торопливо надевать комбинезоны. Мы помогали им. Когда они скрылись под водой, оставив на поверхности шипящее облачко воздушных пузырьков, Василий Павлович неожиданно сказал: — Если бы самому нырнуть туда, в глубину… Эх, молодежь, молодежь! Ничего-то вы не понимаете! — и, горько махнув рекой, торопливо пошел в каюту. Мы молча смотрели ему вслед, потрясенные этой горечью, этой завистью к нам, молодым и здоровым, прозвучавшей в его словах… Удача оказалась не последней в этот день. До вечера мы успели совершить еще по три погружения, и почти ни разу не возвращались с пустыми руками. К вечеру на палубе лежало двенадцать целехоньких амфор. У одной сохранилась даже смоляная пробка в горлышке, и мы с любопытством гадали, что же содержится внутри. Она была довольно тяжелой, и, когда ее покачивали, в ней что-то булькало. — Ой, братцы, а если там запрятан нечистый дух, как в арабских сказках! — воскликнула Наташа под общий смех. Но, сколько мы ни упрашивали, Кратов не разрешил ее распечатать. — В лаборатории, в лаборатории, — повторял он. На большом куске парусины, расстеленном у мачты, выросла солидная груда глиняных черепков. Конечно, находить целые амфоры было приятнее, но мы не пропускали и ни одного черепка. Каждый из них Василий Павлович придирчиво осматривал и показавшиеся ему наиболее интересными откладывал в особую кучку. Павлику посчастливилось отыскать в песке медный рыболовный крючок, позеленевший и сильно изъеденный соленой морской водой. Я нашел какой-то странный кусок обожженной глины — круглый, с отверстием посредине. Понять его назначение не мог даже Василий Павлович. Следующий день принес новые находки. Правда, это были только амфоры. Но зато за день мы их добыли шестьдесят восемь. Эго только целых амфор, не считая множества черепков.
Честно говоря, вести раскопки на дне оказалось более трудной работой, чем мы сначала предполагали. Одно дело разведочные поиски, когда просто плывешь над морским дном, а совсем иное целый день копаться в песке. Его приходилось разгребать руками, просеивать в пальцах, чтобы не пропустить ни одного, даже крошечного, осколка амфоры или какого-нибудь проржавевшего рыболовного крючка. Много ли при этом успеешь за двадцать пять минут? Только приладишься, как тебя уже вызывают на поверхность. И сколько мы ни уговаривали профессора увеличить хотя бы на пять минут время пребывания на дне, он не разрешал ни в какую. Нелегко было и поднимать амфоры на поверхность. Весили они в воде немного, но не станешь же таскать их поодиночке. А свяжешь вместе несколько амфор — получается очень неуклюжая и громоздкая гроздь, никак ее не удержишь в руках. Вспомнив один случай, описанный в книге Кусто «В мире безмолвия», я нашел было выход. Выкопав амфору, переворачивал ее острым донышком кверху и направлял в горловину пузырьки отработанного воздуха. Он постепенно наполнял амфору, словно глиняный воздушный шар, и она всплывала на поверхность. Сначала Кратову понравилась моя выдумка. Но одна из всплывших таким образом амфор по несчастной случайности стукнулась о дно нашего «Алмаза» и едва не разбилась. Тогда пользоваться этим приемом запретили. Мы с Михаилом разработали другой метод. Все раскопанные амфоры аккуратненько складывались рядком на дне, а при последнем погружении очередная пара водолазов собирала всю добычу в большую капроновую сетку, и эту громадную «авоську» бережно поднимали на борт. Так мы проработали еще день. Мы подняли со дна сорок девять амфор и какие-то изогнутые медные пластинки, вероятно часть якоря. А четвертый день едва не кончился трагически.
«ЖИЗНЬ ЕМУ СПАС ДРУГОЙ…»
В этот злополучный день происшествия начались с самого утра. Когда я поднялся на палубу, утро было чудесное— солнечное и тихое. У левого борта стояла Наташа и смотрела в воду. Она повернулась ко мне, лицо у нее было бледное-бледное, а глаза такие большие и круглые, словно она увидела морского змея. — Что с тобой? — испугался я. — Ты посмотри, какая гадость! — жалобно проговорила она. — Я нырять не стану ни за какие коврижки. Ничего не понимая, я заглянул за борт. Вода была какой-то странной, белесой, точно в море пролили молоко. Приглядевшись, я увидел, что вокруг судна кишмя кишат медузы. Никогда в жизни я не видел столько медуз сразу. Маленькие и большие, они буквально превратили море в какой-то чудовищный живой суп. Признаться, меня тоже слегка передернуло при мысли, что придется нырять в это месиво. Но я как можно бодрее сказал: — Ну и что такого? Чего ты струсила? Они же не кусаются. — Они липкие, противные, холодные, как лягушки! — затараторила Наташа. — Чуть притронутся ко мне, я сразу умру! — Кто это посмеет к тебе притронуться? — спросила подошедшая к нам Светлана. — Уж не этот ли неудавшийся дельфин? — Посмотри туда! — умирающим голосом сказала Наташа, махнув рукой. — Я не могу больше! Светлана заглянула вниз, и лицо у нее вытянулось, а в голосе уже не осталось никакой воинственности, когда она пробормотала: — Вот так мерзость!.. Это Медуза Горгона их подослала. — Ты думаешь? — ахнула Наташа. — Пускай это предрассудок, но я сегодня нырять отказываюсь. — У меня тоже что-то голова разболелась, — сказала Светлана и потерла лоб. — Пойду прилягу… Вот так и получилось, что нырять в этот день нам пришлось вчетвером. Я оказался в паре с Михаилом. Медузы плавали только в верхнем слое. Но пробиваться через эти первые два метра было довольно-таки неприятно. Зато на дне вода была сегодня какой-то особенно чистой и прозрачной. Мы благополучно спустились на дно трижды и все время работали почти рядом, выкапывая из песка одну амфору за другой. Но перед четвертым погружением Миша вполголоса сказал мне: — Давай разделимся. Ты продолжай копаться на старом месте, а я пройду немного правее. Надо поразведать границы судна, а то здесь уже мало начинает попадаться амфор. А в следующий раз я буду копать, а ты отправишься на разведку. — Ладно, — кивнул я. В самом деле, уже следовало расширить место раскопа и поточнее определить границы затонувшего корабля. На лбу у Михаила сверкали крупные капли пота, словно он только что вылез из воды. — Что с тобой? Ты не болен? — спросил я. — Нет. Просто жарко. Лень было снимать костюм после прошлого погружения, так в нем и просидел час. Пропарило лучше бани. Ничего страшного, на дне освежусь! Пошли. Нырнули мы вместе. Я занялся раскопкой амфор на прежнем месте, а Михаил, помахав мне рукой, поплыл в темноту, окружавшую пятачок дна, освещенного прожекторами. Мне повезло. Когда сверху подали сигнал выходить, я уже раскапывал третью амфору. Все они лежали рядышком, словно яйца в гнезде. С сожалением посмотрев на них последний разок, я начал всплывать. По инструкции, на это полагалось четыре минуты, так что пришлось дважды сделать небольшие остановки на глубине пятнадцати, а потом девяти метров. Но сегодня мне почему-то мешали соблюдать инструкцию, сильно натягивая сигнальный конец. Ухватившись за трап и высунувшись по пояс из воды, я вытащил изо рта мундштук и заорал: — Чего вы тянете? Я не рыба на крючке, сам выплыву! И осекся, увидев побледневшее, перепуганное лицо Павлика. — Где Михаил? — спросил он. — Разве он не вышел? Сейчас поднимется, чего вы порете горячку? — Он не ответил на сигнал, — сказал Павлик, дергая за сигнальный конец. — Видишь, я тащу, а никакого ответа. Раздумывать было некогда. — Прыгай за мной! — сказал я и начал торопливо засовывать в рот загубник. Павлик мешкал. Я хотел снова поторопить его, но мундштук уже был зажат у меня в зубах и получилось какое-то неразборчивое мычание. Тогда я просто махнул рукой и нырнул. По правилам, должны были идти на выручку страхующие. Но медлить было нельзя, раз они растерялись. А у меня в баллонах еще оставалось вполне достаточно воздуха. Я погружался все глубже вдоль троса, который должен был привести меня к Михаилу. Но вдруг почувствовал такую резкую боль, что едва не вскрикнул и не выронил изо рта мундштук. Маска сжала мне лицо, словно стальными клещами. Я не сразу сообразил, что получился обжим, как называют его водолазы. Я опускался слишком быстро. Давление воздуха внутри маски не успевало сравняться с давлением окружающей воды. Маска присосалась к лицу, словно большая медицинская банка, какие ставят больным при простуде, и края ее сильно сдавили мое лицо. Чтобы избавиться от обжима, я на минуту остановился и несколько раз сильно выдохнул воздух в маску через нос. Стекло запотело, но зато давление маски на лицо сразу уменьшилось и боль немножко утихла. Дальше я погружался уже осторожнее. Еще несколько метров вниз, и я увидел Михаила, лежащего ничком на песчаном дне. Он не подавал никаких признаков жизни, хотя пузырьки отработанного воздуха и продолжали серебристой цепочкой вырываться из клапана акваланга. Было некогда разбираться, что же такое с ним приключилось. Трясущимися руками я вытащил кинжал и перерезал сигнальный трос, обвязанный у него вокруг пояса, чтобы не запутаться в нем, потом подхватил товарища под мышки и посадил на песок. Мундштук, к счастью, не выпал у него изо рта, значит, он не захлебнулся. Но глаза у него были закрыты и лицо заметно потемнело. Крепко обняв его за пояс, я начал всплывать. Это было не так-то легко. Только с трудом поднявшись метров на пять, я сообразил, что можно уменьшить наш вес, сбросив грузила с пояса у него и у себя. Пока я это делал, ко мне присоединился Борис, нырнувший наконец-то на подмогу. Вдвоем мы стали подниматься быстрее, хотя я все-таки вовремя вспомнил об опасности кессонной болезни и сделал две необходимые остановки, как ни не терпелось нам поскорее вырваться на поверхность. Нас одного за другим втащили на борт, и судовой врач с помощью Светланы тут же начал делать Михаилу искусственное дыхание и растирать грудь. Я стоял рядом, тяжело, прерывисто дыша. Почему мне так трудно дышать? И вдруг Павлик сказал: — Да сними ты маску, уже все… Так вот отчего я задыхался: забыл снять маску! Я торопливо содрал ее с головы и склонился над Михаилом. Что же с ним произошло? Азотное опьянение? Но оно бывает только на глубинах свыше пятидесяти метров. Кессонная болезнь? Тоже не похоже. Ведь я его нашел на дне, он еще не начинал подниматься на поверхность. Врач сделал Михаилу два каких-то укола в руку, потом поднес ему к носу пузырек с нашатырным спиртом. Михаил сморщился и застонал. Потом он открыл глаза и бессмысленно уставился на наши встревоженные лица. — Что с тобой случилось? — спросил я. — Не знаю… Кажется, потерял сознание, да? — Что вы чувствовали перед этим? — допытывался врач. — Какие были ощущения? — Какие ощущения? Какая-то слабость, тошнота… и голова болела. — Он остановился, припоминая. — Дышалось плохо. — Акваланг у него в порядке, я проверил, — вставил Борис. Видно, как страхующий, он чувствовал какую-то вину за все происшедшее. — Вам было жарко? Дышали часто? — продолжал допрашивать врач. — Очень жарко. И дышал часто, потому что воздуха не хватало. — Принесите-ка с камбуза холодного чаю, только очень холодного, — приказал медик, — пусть кок ледку туда бросит из холодильника. — Что же все-таки с ним приключилось, доктор? — спросил Кратов. Как все доктора при подобных вопросах, судовой врач принял глубокомысленный вид и раздумчиво ответил: — Судя по симптомам, ничего особенно страшного. Просто тепловой удар. Перегрелся на палубе перед погружением, вот и обморок. Но, поскольку он произошел под водой, все могло кончиться гораздо хуже. Вырони он загубник… Да, если бы Михаил выпустил мундштук, а я опоздал, все обернулось бы трагически. Я вспомнил, что перед этим злосчастным погружением видел испарину на лбу у Мишки. Ну да, он же просидел целый час на солнышке в резиновом костюме, вот и весь секрет. Я уже раскрыл рот, чтобы поделиться своей догадкой со всеми, но перехватил напряженный взгляд Михаила. Молчи, умоляли его глаза, молчи! И я закрыл рот. Когда Павлик и Борис унесли Михаила вниз, в каюту, Светлана вдруг накинулась на меня: — Почему у тебя кровь из носа идет? — Где? — Я провел рукой по лицу. Она действительно выпачкалась в крови. — И глаза у него красные, больные, посмотри, Света, — закудахтала Наташка. Пришлось им сознаться, что у меня был маленький обжим. Тут уж они, конечно, бросились демонстрировать на мне свои медицинские способности. Почему это люди так любят всегда изображать из себя опытных врачей, хотя не смыслят в медицине ничегошеньки? Вы замечали: стоит только заболеть, как буквально все окружающие замучают своими советами. И притом советы дают прямо противоположные. Если один скажет: приложить лед ко лбу, то другой непременно пропишет горячий компресс… Девчата обмотали мне голову мокрым полотенцем, так что я ничего не мог видеть вокруг, а потом заставили задрать ее повыше и в такой смехотворной позе, придерживая за локотки, как инвалида, повели меня в каюту. Михаил лежал там на койке и, отдуваясь, пил холодный чай, густой и темный, как нефть. Меня торжественно уложили на другую койку, как я ни упирался. А потом Светлана стала в «артистическую» позу посреди каюты и запела:СТРАННАЯ НАХОДКА
Наутро мы оба чувствовали себя вполне, здоровыми, я — то уж во всяком случае. Но Кратов отменил все погружения и объявил этот день выходным. Но зато, отдохнув, мы на следующий день подняли на поверхность девяносто шесть амфор! Я одну за другой выкапывал их из песка, а сам мечтал уже о других, более интересных находках. Меня все время тянуло покопаться в том месте, где Светлана нашла чудесную статуэтку. Видимо, там была каюта команды или капитана. Перед очередным погружением я отозвал Михаила в сторону и сказал: — Как ты смотришь насчет уплаты долга? — Какого? — удивился он. — Ах, я же тебе обязан жизнью, понимаю. Но как такой долг вернуть? Ты же не тонешь. Прыгай за борт, я тебя спасу — и будем квиты. — Брось паясничать, — сказал я. — Ты же прекрасно помнишь наш уговор. Я работал за двоих, пока ты занимался разведкой. Теперь моя очередь поискать что-нибудь интересное, пока ты за меня будешь раскапывать амфоры. — Справедливо, синьор, — согласился он. — Но мы же с тобой работаем в разных парах. Поменяйся со Светланой очередью, тогда я смогу выполнить свое обещание. В этот день ничего сделать не удалось: не нашел, как подступиться к Светлане. С ее настырным характером она непременно бы стала допытываться, а зачем это мне надо… Я решил отложить свои планы до другого дня. Но, проснувшись утром, еще не выходя на палубу, сразу понял, что ничего из моего замысла не выйдет. Койка раскачивалась, словно колыбель. По полу каюты ползали из угла в угол ботинки. Переборки скрипели, дребезжал графин на полочке в специальном гнезде. Начинался шторм, и нашей работе приходил конец. Я вышел на палубу. Она качалась и ускользала из-под ног. Ветер взлохматил мои волосы. На крыле мостика стоял капитан в плаще, придерживая обеими руками фуражку, — Три балла! — весело крикнул он мне. — И ветерок крепчает! Нашел чему радоваться! Конечно, старик ни за что не разрешит нам сегодня спускаться. Инструкция «не рекомендует» погружения даже при волнении в два балла. А почему? Ведь на дне сейчас спокойно, как всегда. Волнение затихает уже в нескольких метрах от поверхности моря. В десять часов мы собрались на совещание в кают-компании. Кратов был мрачен и сразу предоставил слово капитану. — Мне жаль вас огорчать, Василий Павлович, — сказал тот, — но, судя по всему, придется уходить. Ветер крепчает и к ночи разыграется баллов до шести. На таком грунте мы не устоим и на двух якорях. Придется дальнейшие поиски отложить. Кратов поднял голову, тяжело вздохнул и пожал плечами. — Ну что ж, — сказал он медленно, — с морем, конечно, не поспоришь. Только бы нам не потерять это место. — Об этом вы не беспокойтесь. Аккуратненько запеленгуем наше положение, и в будущем году вы точно придете на это место. Кратов помялся, а потом со смущенной улыбкой добавил: — Если б можно было бы как-нибудь… прикрыть место раскопок. На суше мы всегда так непременно делаем. А то размоет все штормом, — и выжидательно посмотрел на капитана. — Это на дне-то? — Капитан громко рассмеялся. — Простите, профессор, но вы плохо знаете море. Поверьте мне: там, где лежит затопленное судно, сейчас полный штиль. Если уж ваши амфоры не разбило вдребезги за двадцать веков, то наверняка ничего с ними не случится еще за год. — Вы правы, — смутился Василий Павлович. Но по выражению лица было видно, что слова капитана его все-таки не вполне успокоили. Он все боялся потерять так счастливо найденный корабль. Заметил это и капитан и, подумав, предложил: — А что, если нам поставить под водой сигнальные буйки? Чтобы надежнее определить границы раскопок? На поверхности их могут сорвать зимние штормы, да и не стоит привлекать к этому месту чужое внимание. А если их укрепить на якорьках метрах в двух от дна, то никакая волна не потревожит. Как загорелись мы этой идеей! Еще бы: совершить последнее погружение в шторм! Воспоминаний хватит надолго. Опять профессор засомневался: — Предложение весьма заманчиво, Трофим Данилович. Но как его осуществить? Ведь работать в шторм под водой запрещает инструкция. — А вы не читайте ее, — к нашему восторгу, добродушно ответил капитан. — В шторм их листать некогда. Да и разве предусмотришь в инструкции все случаи? Ребята у вас бравые, ныряют отлично. А если вы в них сомневаетесь, могу послать кого-нибудь из своих ребят. Вот Курзанову, например, доводилось нырять и не в такой шторм, чтобы освободить от намотавшихся сетей рулевое перо… Никак мы не ожидали от капитана подобного выпада. Все мы так зашумели, что он шутливо замахал на нас руками и закричал: — Да это форменный бунт! По морским законам я вас всех перевешаю сейчас на рее! Однако своими словами он принес нам и пользу. Его предложение задело нашего начальника. Кратов встал, поднял руку, требуя тишины, и сказал решительно: — Так и сделаем. Аристову и Козыреву готовиться к погружению, Павлик и Борис страхуют. С помощью матросов мы быстро привязали на коротеньких тросах тяжелые грузила к двум буйкам. Сначала выбрали было более яркие и нарядные красные буйки, а потом сообразили, что ведь под водой они потеряют свой яркий цвет и станут плохо заметны. Решили их заменить белыми. На этот раз погружением руководил сам капитан. Мы должны были спускаться в воду не с трапа, как обычно, а по веревочной лесенке, спущенной со стрелы. А то волна могла шарахнуть нас о стальную обшивку. Стрела же, с помощью которой на палубу поднимают грузы, далеко выступает над бортом. Буйки с грузилами нам сбросят на дно. Мы их должны прочно укрепить у носа и кормы затонувшего корабля. Первым полез на стрелу Михаил. Потом он неуклюже спустился по веревочной лесенке и повис на ней, выжидая набегающую волну. Вот она накрыла его, Мишка разжал руки и сразу ушел на глубину. Это у него ловко получилось. Я решил сделать точно так же. Но, ползя по этой проклятой стреле в комбинезоне и с увесистыми баллонами за спиной, я понял, почему движения Михаила казались со стороны такими смешными и неуклюжими. Стрела так раскачивалась, что я чувствовал себя на ней котенком, вцепившимся в маятник стенных часов и не знающим теперь, как же спрыгнуть обратно на землю. Дважды чуть не сорвался и не полетел вверх тормашками в бушующие волны. Нелегко было в моем громоздком снаряжении и спускаться по лесенке. Зыбкие веревочные ступеньки предательски ускользали из-под ног. Зато очутившись в воде, я сразу почувствовал облегчение, как рыба, вернувшаяся в родную стихию. Волна качнула меня и властно потащила вниз. С каждым метром глубины вода становилась прозрачнее и спокойнее. Я спустился на дно и увидел ожидавшего меня Михаила. Телевизор уже подняли на борт, и дно, где еще вчера мы с таким азартом работали, выглядело теперь пустынным и каким-то заброшенным. Волнение здесь совсем не ощущалось. Только чуть колыхались бурые стебельки водорослей, торчавшие из песка. Михаил потянул меня за локоть и показал наверх. К нам неторопливо опускался буек, покачиваясь, словно воздушный шар. Немного правее и выше его виднелся и другой. Михаил направился к нему, а я, поймав первый буй, потащил его к подножию скалы, чтобы отметить носовую часть корабля. Установка буя заняла не больше пяти минут. Закончив ее, я огляделся вокруг. До чего мне хотелось покопаться напоследок в песке! Ведь как раз сюда я давно стремился. Не упускать же такую возможность! Определив примерно место, где Светлане посчастливилось откопать статуэтку, я начал разгребать песок чуть левее. По моим расчетам, насколько запомнилась схема Кратова, каюта погибшего корабля должна была находиться где-то здесь. Я рылся пять минут, десять, но безрезультатно. Ничего не нащупали мои пальцы, кроме двух обломков скалы. А в запасе оставалось всего десять минут! Если же Михаил уже поднялся на поверхность, меня могут вызвать и раньше. Обозлившись, я стал так разгребать песок, что вокруг поднялась муть. Видел бы Василий Павлович, как я веду раскопки, ох и отругал бы он меня! И вдруг левая рука моя нащупала какой-то острый предмет. Чтобы рассмотреть, что это такое, мне пришлось поднести его к самым глазам, такая мутная стала вокруг вода. Это оказался всего-навсего черепок какой-то глиняной чашки! Как ни странно, даже такая ничтожная находка придала мне новые силы. Значит, я все-таки на правильном пути: чашки могли находиться именно в жилых помещениях, где готовили пищу, обедали, спали. И я ринулся продолжать раскопки. Но не прошло и минуты, как сигнальный конец, обвязанный вокруг пояса, трижды туго натянулся. Меня вызывали наверх. Покопаюсь хоть еще несколько минут, подумал я и, ответным подергиванием троса сообщив, что сигнал понял и выполняю его, продолжал рыться в песке. Что-то круглое попалось мне под руку… Словно палка или скорее тонкое бревно. Неужели дерево сохранилось в воде?! Я лихорадочно потянул бревно из песка. Оно оказалось коротким или, может, обломилось? Разбираться некогда. Сверху решительно потянули за сигнальный конец. Прижимая обеими руками к груди найденный обломок, я покорно начал всплывать, точно ерш, попавшийся на крючок. Подтащив меня кверху метров на десять, трос слегка отпустили, чтобы я сделал необходимую по инструкции остановку. Здесь вода была чище, и я смог наконец рассмотреть свою находку. Это был вовсе не обломок бревна, как мне показалось сначала. Я держал в руках какой-то странный цилиндр длиною почти в полметра, а диаметром сантиметров в десять. Я поскреб его кончиком кинжала. Цилиндр несомненно был металлический!«РАЗУМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЕРИТЬ…»
Пока я нырял, море за какие-то полчаса успело разгуляться еще сильнее. Волна едва не ударила меня о борт. Никак не удавалось уцепиться за веревочную лестницу, ведь руки-то у меня были заняты. К счастью, с палубы заметили это и помогли. Один из матросов влез на стрелу и повис над волнами на веревочной лесенке. Я передал ему цилиндр и, выбрав момент, крепко вцепился в лестницу. Потом стрелу повернули, и нас, словно на подъемном кране, плавно перенесло прямо на палубу. Еще летя по воздуху, я увидел свирепое лицо Кратова. Надо было первому переходить в наступление. Выхватив из рук матроса найденный цилиндр, я молча подал его оторопевшему профессору. Он повертел его в руках и вдруг крепко прижал к груди, неистово вскрикнув: — Циста! Боже мой, это же циста! Я боялся надеяться и вдруг… Никто ничего не понимал. А старик, не выпуская находки из рук, подскочил ко мне и трижды поцеловал в мокрую щеку. — Ты понимаешь, что ты нашел? — спросил он. — Это же циста! Я постарался изобразить на лице изумление и радость, но, наверное, это мне не очень удалось, потому что Кратов покачал головой и укоризненно сказал: — Они не знают, что такое циста! — Тут он посмотрел на своих студентов. — И еще собираются стать археологами! Благодарите бога, что сегодня не экзамен. Я бы всем вам недрогнувшей рукой поставил по двойке. Он поднял цилиндр высоко над головой и торжественно проговорил: — Запомните раз и навсегда — в таких медных футлярах греки перевозили книги, рукописи. Это бесценная находка, потому что рукописей древних сохранилось ничтожно мало. Мы знаем, что великий Софокл написал сто двадцать три пьесы. А дошло до нас только семь. Понимаете теперь, как дорога для науки каждая вновь найденная древняя рукопись?!. — А вдруг эта циста пуста? — испуганно перебил я его. Василий Павлович сердито посмотрел на меня, словно я покушался отобрать у него драгоценную находку. Он снова начал вертеть цилиндр в руках. — Не может быть, — сказал он наконец. — Кто станет так тщательно запечатывать пустой футляр? В нем несомненно что-то есть. Мы сейчас проверим… Сопровождаемый чуть ли не всеми, кто был на палубе, Кратов направился в каюту. Я, торопливо стянув с себя маску и гидрокостюм, через несколько минут последовал за ними. Но в каюте Кратова никого не нашел. Оказывается, набралось столько желающих присутствовать при вскрытии цисты, что пришлось всем перебраться в кают-компанию. Когда я протолкался туда, Василий Павлович, расстелив на столе большой лист бумаги, уже осторожно соскабливал с цисты наросшие за века водоросли. Находка, видимо, действительно сильно взволновала его, потому что, против обыкновения, он стал необычайно разговорчив. — Циста… Я мечтал с самого начала… — не очень связно восклицал он, возясь с цилиндром. — Помните, когда нашли статуэтку, я сразу подумал, что на корабле… плыл человек, интересующийся искусством. У него могут быть и рукописи. Сейчас мы узнаем какие. Сейчас мы посмотрим, что же в ней таится… Я постепенно проталкивался поближе к столу. Как главного виновника торжества, меня пропускали, хотя и не слишком охотно. А водоросли постепенно счищались под острым скальпелем. Медный цилиндр почти весь обнажился и тускло сверкал в руках Кратова. Что в нем? А вдруг мне посчастливилось подарить миру неведомую раньше трагедию Софокла? Или Эсхила? Или какой-нибудь удивительный философский трактат, который перевернет все наши знания о древних греках?! А если вода проникла в футляр и рукопись превратилась в грязную кашицу? Или вовсе растворилась в морской воде, как и тот неведомый корабль, на котором ее везли двадцать веков назад? — Нет, крышка засмолена хорошо, — сказал Кратов. Он словно читал мои мысли! Затаив дыхание, мы следили, как профессор начал потихоньку соскабливать слои за слоем окаменевшую смолу. Потом он попробовал отвернуть крышку. Но она не поддавалась. — Огня! — скомандовал Кратов. — Налейте в баночку спирту и подожгите. Только осторожно! Светлана сбегала к нему в каюту и принесла спирт. Его налили на блюдце. Капитан, который, как всегда, успел примоститься рядом с Василием Павловичем, торопливо чиркнул спичкой. Спирт загорелся бледным голубоватым пламенем. Кратов поднес к огню крышку цисты. Смола зашипела. Еще несколько поворотов, — и крышка начала отвинчиваться! Кратов отвинтил ее до конца, перевернул футляр, и из него медленно, словно нехотя, выполз толстый сверток. Пергамент! Я никогда не видел его, но сразу догадался. Профессор дрожащими пальцами начал его разворачивать. В трубочку были скатаны два больших листка. Кратов осторожно разделил их и положил перед собой на бумагу, тут же с помощью Светланы придавив куском толстого стекла. По серому листу неровными строчками рассыпались буквы. Неужели можно их расшифровать? Буква наскакивала на букву, видно, писали во время качки. Но наш старик ни на минуту не растерялся. Он сразу начал читать с листа, словно текст ему был давно знаком: — «От Аристиппа, сына Мирмека, дорогому другу Ахеймену — привет! Спешу тебя порадовать, дорогой друг и покровитель, славными новостями…» Это может читаться и как известие, и как новость… «Грозная опасность, нависшая над благословенным Боспором, к счастию, миновала. Славный Диофант, присланный к нам сюда мудрым царем Митридатом — да продлят боги его жизнь! — в решительном сражении разбил мятежного раба Савмака…» Профессор остановился, посмотрел на капитана и перечитал снова, точно не веря самому себе: — Да, совершенно несомненно: сигма, альфа, ипсилон, мю… Савмак! И Диофант, конечно, тот самый! Он снова склонился над пергаментом: — Где я остановился? Да… «Подлый раб схвачен живым и будет отправлен к ногам великого Митридата. Я надеюсь, что вы подберете ему наказание, какого он заслуживает. Жаль, что его ближайшим помощникам, коварному Бастаку и нечестивцу Аристонику, удалось ускользнуть от нас. Это произошло поистине чудесным образом, чему сам я оказался свидетелем. Произошло это так. Мы окружили по-следнюю группу мятежников в крепости Тилур, расположенной, как ты помнишь, в дикой и суровой местности на самом берегу Понта Евксинского…» Василий Павлович остановился и задумчиво произнес, подняв глаза к потолку каюты: — Тилур… Крепость Тилур на берегу Черного моря. Не знаю такой. Покачав головой, он продолжал чтение: — «Мятежники спрятали в крепости, где у скифов было древнее святилище, много награбленных ими сокровищ, поэтому ты понимаешь, как стремились все наши воины овладеть ею. Мы взяли крепость после трехдневного штурма. Представь наше удивление, дорогой Ахеймсн: среди убитых и захваченных в плен мы не нашли никого из вожаков мятежа. Не обнаружили мы и сокровищ. Они исчезли совершенно бесследно. Сразу же среди воинов прошел слух, будто защитники крепости в самый последний момент вознесены их проклятыми варварскими богами на небо. Разум отказывается верить таким нелепым суевериям, но согласись со мной, что дело это поистине удивительное. Мы обсудим его подробнее при скорой встрече, а пока я кончаю, ибо начинается буря и писать становится трудно.В каюте воцарилась тишина, только скрипели переборки и было слышно, как воет на палубе ветер. Все мы, наверное, думали об одном и том же: о событиях далекой старины и о судьбе людей, которые плыли много веков назад вот в такой же шторм по этому морю. Сквозь века до нас словно донесся на миг их живой голос. Донесся — и оборвался на полуслове. Письмо взволновало меня. Но в то же время мучила легкая глупая обида за то, что вместо драгоценных творений древних философов и поэтов в цисте оказалось самое обыкновенное письмо… — А тут что-то странное, какие-то стихи, — вывел меня из задумчивости взволнованный голос Кратова. Он рассматривал уже второй листок пергамента, вынутый из цисты. Только теперь я обратил внимание, что на этом листке строчки действительно были разной длины и не доходили до края. Неужели это и вправду стихи? — «Муза… ты расскажи каждому… всем о муже, который, полный отваги, стремясь навстречу… на свидание с другом…» — бормотал Кратов и покачал головой. — Пожалуй, подражание Гомеру, но, надо сказать, весьма слабое. Вероятно, этот Аристипп увлекался поэзией и, попав в бурю, возомнил себя вторым Одиссеем. Стихи, конечно, вряд ли содержат какие-нибудь важные исторические сведения, а художественной ценности совершенно очевидно не представляют. Мы ими займемся на досуге. А зато письмо чрезвычайно интересно. Новые сведения о восстании Савмака! Первое революционное восстание на территории нашей родины, а мы о нем почти ничего не знаем. Если бы нам найти эту крепость и там как следует покопаться! Тилур… Вы случайно не слышали о таком месте? — повернулся он к капитану. Тот пожал широкими плечами и, словно извиняясь, ответил: — Нет, профессор. Плаваю по Черному морю вот уже тридцать лет, а такого порта не знаю. — Да и откуда же вам знать, — спохватился Кратов, — ведь все это было двадцать веков назад! Но и ни в одном из источников такая крепость не упоминается, если мне не изменяет память… Нет, не помню…. Он опять склонился над письмом: — Посмотрим, может быть, что-нибудь даст текстологический анализ… Автор письма, конечно, грек. Пишет он некоему Ахеймену. Судя по имени, это, вероятно, перс. Скорее всего, какой-нибудь придворный Митридата Евпатора. Диофант — известный полководец, руководивший операциями против Савмака. О нем есть сведения в источниках. А вот весьма любопытны имена сподвижников Савмака. Бастак — имя, пожалуй, скифское, Аристоннк несо-миенио грек. Значит, к восставшим примкнула и какая-то часть греческого населения. Это важное свидетельство! Он совсем забыл обо всем окружающем, снова и снова вчитываясь в каждую букву и бормоча: — Если бы еще хоть какой-нибудь намек… Найти эту крепость… Капитан осторожно потянул его за локоть: — Вы меня извините, профессор, но больше задерживаться нельзя. Надо уходить в Керчь, а то якоря не выдержат. Только тут мы заметили, что свист ветра перешел в глухой, монотонный рев. Я заглянул в иллюминатор. Море стало белым от пенистых гребней, по стеклу катились крупные брызги. — Да, да, конечно, капитан, — торопливо закивал Кратов. — Пожалуйста, командуйте, вам виднее. Мы помогли старику перенести цисту и найденные в ней записки к нему в каюту. Там он разложил оба листка перед собой на столике, снова прочно зажав их стеклом, и начал рыться в книгах, которые захватил с собой из Керчи. Поиски загадочной крепости Тилур он не хотел откладывать ни на минуту. Мы не стали ему мешать и вышли на палубу. Там нельзя было устоять на ногах. Ветер пронизывал до костей, всю палубу то и дело обдавало брызгами. Нос судна то проваливался вниз, то взлетал куда-то под самое небо. Наташа побледнела, жалобно пискнула что-то и, схватившись рукой за горло, убежала. Светлана продержалась немножко дольше, но вскоре сказала: — Куда это Наташка подевалась? Плохо ей стало, что ли? Пойду поищу ее… Все убыстряя шаги, она тоже помчалась в каюту и больше не появлялась. Мы покурили, любуясь разбушевавшимся морем, а потом поспешили вниз, где было тепло и сухо. Павлик с Борисом уселись играть в шахматы, которые у них от качки поминутно падали на пол, а Михаил сказал, что хочет немного вздремнуть, и лег на койку. По-моему, его тоже начинало укачивать, только он старался держаться. Достав из чемодана у Павлика все книги по античной истории Крыма, я начал искать сведения о восстании Савмака. Их оказалось поразительно мало. Кратов не преувеличил: все достоверные исторические сведения, дошедшие до нас об этом первом восстании рабов против угнетателей в пределах нашей страны, в сущности, заключались в одной-единственной надписи на триумфальной плите, найденной археологами при раскопках Херсонеса. Эту плиту жители Херсонеса воздвигли в честь полководца Диофанта. Надпись была длинная. Но о Савмаке говорилось совсем мало. Сначала идут всякие традиционные фразы, восхваляющие Диофанта. Я их пропускаю: «…скифы, с Савмаком во главе, произвели государственный переворот и убили боспорского царя Перисада, выкормившего Савмака, на Диофанта же составили заговор; последний, избежав опасности, сел на отправленное за ним (херсонесскими) гражданами судно и, прибыв в (Херсонес), призвал на помощь граждан. (Затем), имея ревностного сподвижника в лице посылавшего его царя Митридата Евпатора, Диофант в начале весны (следующего года) прибыл с сухопутным и морским войском и, присоединив к нему отборных (херсонесских) воинов на трех судах, двинулся из нашего города, овладел Феодосией и Пантикапеем, покарал виновников восстания; Савмака же, убийцу царя Перисада, захватив в свои руки, отправил в царство (то есть в Понт) и снова приобрел власть (над Боспором) для царя Митридата Евпатора».Твой Аристнпп».


Вот и все, что нам известно о восстании Савмака. Кроме того, как я узнал из книг, археологам удалось найти две мелкие серебряные монеты тех времен. Надписи на них полустерлись, сохранились только четыре греческие буквы: сигма, альфа, ипсилон, мю. По-русски они читаются, как начало имени вождя восставших рабов: САВМ… Но действительно ли эти монеты отчеканены от его имени, пока восставшие держали власть в своих руках, — ученые спорят об этом. А восстание, видно, было значительным. Целый год рабы владели Боспором. Против них собрали большую армию. Если бы узнать обо всем этом побольше! А мы не знаем почти ничего. Как выглядел Савмак? Где он родился, как провел свою юность? Каким страшным казням предал его царь Митридат Евпатор, прославившийся даже в те времена своей непомерной жестокостью. Ведь он, пробиваясь к власти, убил родного брата и заточил в темницу собственную мать. Митридат не задумываясь убивал своих детей, только заподозрив их в стремлении к власти. Можно представить, как расправился он с рабом, осмелившимся восстать против империи, которую сорок лет не мог победить Рим! Теперь я начинал понимать радость Василия Павловича. Раз мы так мало знаем о восстании Савмака, каждый новый документ бесценен для науки. Если бы еще разузнать, где же все-таки находилась эта крепость, ставшая последним оплотом восставших! Вдруг там сохранились какие-нибудь рукописи, оружие… Хотя каратели, конечно, все перерыли в поисках спрятанных сокровищ, об этом же говорится в письме. Но куда делись последние защитники крепости? Не улетели же, в самом деле, на небо! Чертовщина какая-то! И вряд ли мы когда-нибудь узнаем об их судьбе. Попробуй теперь разобраться, через двадцать веков… За ужином капитан спросил Кратова: — Ну как, профессор, наверное, вы уже порылись в книгах? Не нашли, где же была эта самая крепость… простите, забыл ее название. — Тилур. Представьте себе, нет. Никаких упоминаний. Конечно, источников здесь у меня под рукой мало, но и вспомнить, главное, я ничего похожего не могу. Судя по названию, это какое-то скифское укрепление. А может быть, его построили тавры. Они обычно обитали в прибрежных районах и частенько промышляли пиратством. А вот стишки я разобрал. Они действительно, к сожалению, дрянные. — С этими словами он вынул из кармана листочек бумаги и, надев очки, начал читать:
ПО СЛЕДАМ ВЕТРА
В Керчи мы появились настоящими триумфаторами. Весть о наших находках взбудоражила город. Здесь всегда работает несколько археологических экспедиции, раскапывая древний Пантикапей и окрестные боспорские городки и поселки. Так что нашего старика буквально с утра до вечера атаковали старые и молодые археологи, желавшие узнать все подробности поисков. Во дворе маленькой хатки на склоне горы Митридат, где располагалась база нашей экспедиции, теперь вечно толпился народ. В конце концов нас замучили бесконечными расспросами, и Кратов решил сделать доклад в городском саду. Народу собралось много. Возле летней эстрады выставили найденные на дне амфоры. Светлана нарисовала большую цветную схему раскопа с примерными контурами корабля. Все это выглядело весьма внушительно. К своему удивлению, среди слушателей я заметил и дядюшку. Он все время делал какие-то пометки в толстом блокноте. По свойственной ему педантичности, Кратов начал свой доклад с нескольких осторожных фраз: речь-де идет только о самых предварительных результатах, которые, несомненно, потребуют длительного изучения и дополнений, а какие-либо итоги подводить, конечно, совершенно преждевременно. Но потом он разошелся и рассказывал очень живо и интересно. Даже мы, все это сами пережившие, заслушались. Когда он кончил, посыпалось много вопросов. И потом его еще долго не отпускали, окружив плотным кольцом, любопытные. Но вот и они постепенно разошлись. И тут к Василию Павловичу подошел… Кто бы вы думали? Мой дядя! — Простите, профессор, не могли бы вы мне дать переписать здесь, при вас, те стихи, что вы отыскали? — сказал он, прикладывая руку к козырьку своей морской фуражки. Просьба, видно, была совершенно неожиданной не только для меня, но и для Кратова, потому что он спросил: — А вы что, поэт? — Нет, я, собственно, метеоролог, — отвечал дядя. — Зачем же вам эти стихи? — удивился Кратов. Дядя Илья помялся, потом туманно ответил: — Понимаете, есть у меня одна идейка, — он пошевелил в воздухе толстыми, короткими пальцами. — Но, как вы только что прекрасно выразились, идея эта весьма еще расплывчата и требует уточнения. Так что мне, с вашего разрешения, не хотелось бы пока распространяться более обстоятельно… — Пожалуйста, пожалуйста, как вам угодно! — засуетился Кратов. — Садитесь вот сюда, за стол, и перепишите. Я могу вам предложить и фотокопию греческого оригинала с условием, конечно, что вы нигде не будете ее пока публиковать. — Конечно, профессор, очень вам благодарен и даю слово… Хотел бы я знать, на что ему эта фотокопия — ведь он не знает греческого языка! Дядюшка сел за стол и, пока мы собирали выставочные пожитки, успел переписать все стихотворение. Возвращая его Кратову и снова рассыпаясь в благодарностях, он неожиданно задал еще один, по-моему, довольно нелепый вопрос: — А вы не знаете, когда погиб этот корабль? В какое время года? Кратов удивленно посмотрел на него, подумал и ответил: — Как свидетельствует херсонесская стела в честь Диофанта, восстание Савмака было разгромлено весной, видимо, сто шестого года до нашей эры. Тогда же, судя по письму, отправился в плавание и этот корабль. — Весной? Отлично! А в каком именно месяце? На подобный вопрос Василий Павлович мог, конечно, только пожать плечами. Да и какое это может иметь значение, тем более для моего дяди — метеоролога?! К счастью, он больше не задавал никаких вопросов и оставил Кратова в покое. А меня — в полнейшем недоумении: зачем понадобились ему и эти стихи и время гибели корабля? Что он, водолазом собирается стать на старости лет? Да ни в какую экспедицию его тетя Капа и не пустит… Целые дни мы занимались обработкой своих находок. Это оказалось весьма кропотливой работой. Каждый осколок амфоры следовало подробно описать, исследовать состав глины и краски. «В квадрате номер шестнадцать обнаружен бронзовый гвоздик без шляпки», — торжественно записывал я в дневник раскопок, сидя под навесом во дворе нашей полевой базы. В полдень древности убирали со стола, дежурные притаскивали из кухни громадное ведро окрошки и целый таз жареныхбычков, и начинался обед. Завершали мы его обычно арбузами: по половинке на брата. А потом снова до вечера корпели над черепками и гвоздиками. Особенно тщательному анализу подвергались целые амфоры. Их не только фотографировали, зарисовывали, описывали. Надо было, по возможности, разузнать, что же в них везли. В одной из амфор чудом сохранилось несколько тонких косточек. В них хранили рыбу, вероятно, селедку, которой и тогда уже славилась Керчь — Пантикапей. В торжественной обстановке была наконец открыта и запечатанная амфора, не дававшая нам покою. Когда из нее вытащили засмоленную пробку, раздались негромкие свист и шипение, словно и впрямь вырывался на свободу какой-то таинственный дух, как пугала нас Наташа. Василий Павлович осторожно наклонил амфору и вылил из нее в мензурку немного темной, густой жидкости с довольно резким, но приятным запахом. — Да это же вино! — воскликнул, принюхиваясь, профессор. — Несомненно, виноградное вино. — Подумать только! — охнула Наташа. — И ему две тысячи лет! У нас загорелись глаза при мысли попробовать белого вина. Ведь, говорят, оно с годами становится лучше. А такого старого вина не найдется ни в одном погребе на свете. Но, конечно, из этой затеи ничего не вышло. Старик так замахал на нас руками, что мы не стали больше и заикаться о своем желании. Только Павлик уныло сказал: — Да ведь это же для науки, Василий Павлович! — Ничего, ничего, науке хватит и лабораторного анализа. Ишь, какие подвижники выпекались! Мученики науки! Так он и не дал нам попробовать самого старого вина на земле. А на следующий день принес какую-то бумажку и, размахивая ею, сказал: — Вот вам анализ этого винца. Оно превратилось в чистейший уксус. Представляю, какие бы вы скорчили рожи, если бы хлебнули его! Дня через два после лекции я вечерком снова наведался к своим родичам. Тетя Капа обрадовалась и сразу захлопотала на кухне. — А где же дядя Илья? — полюбопытствовал я. — Разве он и вечерами работает? Собственно, из-за него-то я и пришел. Надо же разузнать, зачем понадобились ему стихи погибшего капитана. Тетя Капа таинственно кивнула на плотно закрытую дверь в соседнюю комнату. — Дома, — прошептала она. — Только никого видеть не хочет. Обложился бумагами, книжками какими-то и сидит третий вечер. Наверное, его загадочные труды как-то связаны с докладом Кратова. Но как, с какой стороны? Беспокоить дядю я не решился, но перед самым моим уходом он вдруг выглянул из двери и спросил: — Ты еще здесь? Сколько узлов делали греческие корабли? — Узлов? — Ну да. Ты что, не знаешь морской меры скорости? — Знаю… Но греки не мерили скорость в узлах. — Неважно! — рассердился он. — Какая у них была скорость? Я что-то промычал. — Не знаешь? Ну конечно! Чему вас только учат! Ладно, иди, завтра сам позвоню твоему профессору. На что ему теперь понадобилось знать скорость греческих кораблей? Да ее никто не знает, не только я. Ведь неизвестно еще толком, как эти корабли были устроены. Дядюшка интриговал меня все больше и больше. Но то, что произошло еще через два дня, я никак не мог от него ожидать. В этот день, вскоре после обеда, дядя неожиданно появился у нас на базе. Меня прежде всего поразил его торжественный вид: черный костюм, черный галстук, ботинки ослепительно начищены, словно на парад собрался. Под мышкой он держал большой круглый футляр, тоже черный, вроде тех, в каких архитекторы носят проекты и разные чертежи. Не обращая на нас внимания, дядя направился прямо к профессору и поздоровался с ним, как со старым, хорошим знакомым. — Прошу извинить, что отрываю вас от трудов, — сказал он важно, — но дело, не терпящее отлагательств и, надеюсь, существенное для науки. — Конечно, прошу вас, уважаемый Илья Александрович, проходите. Одну минуточку, я только надену галстук. А то мы тут по-походному, извините, — засуетился Кратов. Он ушел в свою комнату. А мой дядя между тем неторопливо подошел к столу, на котором мы сортировали черепки, и по-хозяйски сказал: — Молодые люди, освободите-ка нам один уголок. Мне здесь надо карты разложить. Его просьбу послушно выполнили. Он вынул из своего черного футляра большой сверток бумаг и разложил на столе вычерченную от руки карту той части Черного моря, что прилегает к Керченскому проливу. Уголки ее, чтобы не загибались, дядя аккуратно приколол кнопками. — Какая превосходная карта! — воскликнул подошедший Кратов. — Ваша работа, Илья Александрович? — Моя. — Вы настоящий художник!.. Было видно, что и наш начальник совершенно не понимает, что означает появление метеоролога с этой картой. А дядя, как назло, молчал, словно приглашая как следует полюбоваться своим произведением. Кратов с недоумением склонился над картой. Несколько минут он рассматривал ее, потом спросил: — Скажите, Илья Александрович, а это что за линия? — Эта? Вы сразу схватили суть, профессор! — радостным тоном ответил мой великолепный дядюшка. — Это я проложил путь вашего корабля. — Нашего? — Ну, древнегреческого, я оговорился, простите. Тут все мы немедленно окружили стол, заглядывая через плечи Василия Павловича. Через всю карту от места, где крестик обозначал место гибели корабля возле банки Марии Магдалины, тянулась извилистая пунктирная линия к берегам Крыма. Дядюшка нанес путь затонувшего корабля так уверенно, точно сам был его капитаном две тысячи лет назад! Мы все, конечно, совершенно опешили. Кратов переводил глаза то на карту, то на довольное дядино лицо, явно не зная, что сказать. Наконец он неуверенно спросил: — Но позвольте… Откуда же вы все это взяли? У вас есть какие-нибудь источники? — Есть, — невозмутимо ответил дядя и, развернув одну из принесенных с собою бумаг, громко, точно со сцены, прочел: — «То наш корабль Нот бросал в лапы Борею, то его Евр предоставлял гнать дальше Зефиру…» Он остановился, как актер, привычно ожидающий аплодисментов. Но мы совершенно ничего не понимали. Это были стихи, найденные в цисте. Но какая возможна связь между ними и путем корабля на карте? — Не улавливаете? — спросил Кратова дядюшка. — Нет, — честно сознался тот. — Да ведь в этих словах ключ! — воскликнул метеоролог, потрясая над головой листком со стихами. — Это же точное описание циклона! — Циклона? — Ну конечно же! Смотрите: «То наш корабль Нот бросал в лапы Борею, то его Евр предоставлял гнать дальше Зефиру». Направление ветров меняется по часовой стрелке! — Постойте, постойте! — пробормотал Кратов. — Я, кажется, начинаю… — Понимаете? — обрадовался дядя Илья. — Это же совершенно очевидно. Перечитайте-ка стихи: «Только покинули гавань, где мы одержали победу, как быстровейный Зефир подхватил наш корабль…» Западный ветер для них попутный, так что он отзывается о нем хорошо: «быстровейный Зефир подхватил». А что происходит потом? «Утром Зефир передал нас в лапы Борея седого…» Западный ветер сменился северным, потом восточным: «Чтобы на третью ночь Евру жестокому стал наш корабль игрушкой…» Дядя довольно рассмеялся, потирая руки, и добавил: — Не знаю, конечно, каким он был поэтом, этот ваш капитан, не берусь судить, но метеонаблюдатель из него получился бы неплохой. Совершенно точно передал смену ветров по ходу часовой стрелки, типичную для южной части циклона, перемещающегося с запада на восток. Теперь мы смотрели на дядю Илью точно на кудесника, показавшего нам потрясающий фокус. Вы только подумайте: по каким-то слабым стихам восстановить след ветра, промчавшегося над морем двадцать веков назад! Разве это не чудо? — Ваше открытие поразительно, дорогой Илья Александрович! — сказал Кратов, крепко пожимая ему руку. — Но простите мою назойливость, я все-таки не понимаю, как на основе его можно восстановить маршрут корабля. Ведь вы установили только общее направление ветров, которые в это время менялись над морем… — Расчеты, расчеты, дорогой профессор! — перебил его дядя Илья, потрясая пачкой листков, сплошь исписанных какими-то формулами и цифрами. — Математика — наука точная. Ведь каждая смена ветров отражалась на курсе парусного корабля. Западный ветер судно подгонял, восточный — мешал ему. Вы мне сказали, профессор, что, по словам Геродота, за день торговое судно проходило почти семьдесят тысяч сажен, — помните, я вам звонил? Но это в тихую погоду. А для шторма я рассчитал ее по дням в зависимости от господствующего ветра. А пути весенних циклонов мы знаем. Так что все это сделано математически точно. Из Керчи, или, по-вашему, из Пантикапея, этот корабль выйти не мог: слишком близкое расстояние до места гибели получается. Да и вообще при сильном циклоне ему бы не выбраться из Керченского пролива, непременно бы напоролся на мели у косы Тузлы. Из Херсонеса это судно тоже не могло плыть: получается, наоборот, слишком большой путь, чтобы в такой шторм его преодолеть за шесть дней. К тому же при сильном западном ветре судно непременно бы разбило у мыса Меганом, возле Судака, его и сейчас в штормовую погоду побаиваются капитаны. Остается одно… Мы снова все, как по команде, склонились над картой. Пунктирная линия, обозначавшая путь затонувшего корабля, начиналась от Феодосии. — Феодосия… — задумчиво повторил Кратов. — Пожалуй, вы правы. Здесь проходила граница Боспорского царства. Дальше до самого Херсонеса побережье занимали тавры, а степные районы — скифы. Феодосия… А рядом Карадаг. Не о нем ли сказано в письме: «…в дикой и суровой местности на самом берегу Понта Евксинского»? Неужели мы нашли место, где пряталась эта загадочная крепость Тилур, последнее убежище восставших рабов?! И как необычно нашли: по стихам, с помощью моего дяди, метеоролога! А он с видом человека, полностью выполнившего свой долг, неспешно свертывал карту и складывал свои бумажки с расчетами. Потом убрал все в футляр и протянул его Кратову: — Прошу вас, профессор, примите как мой посильный вклад в археологию… Ай да дядя!КАРАДАГ
На следующий же день мы выехали в Карадаг. Василий Павлович раздобыл в одной из экспедиций грузовик — фургон с брезентовым верхом. Плыть морем в Феодосию на нашем катере он не разрешил. — Постараемся найти какое-нибудь суденышко на Карадагской биологической станции, — обнадежил он нас. Карадаг нам всем сразу понравился. Дикие, крутые скалы, и к одной из них, повиснув над самым морем, прилепилось красивое белое здание. Это и была биостанция. Пока мы добрались туда, наступил уже вечер. Нам отвели местечко на склоне горы, за огородами, и мы поспешили разбить палатку, разжечь костер и приготовить ужин. Рано утром Василий Павлович отправился на биостанцию и часа через полтора вернулся с хорошими вестями. На целую неделю нам давали изящный белый кораблик, которым мы еще вечером залюбовались с горы. Он оказался рыбачьим тралботом, переделанным специально для недалеких экспедиционных плаваний. Все на нем было крошечное: кубрик с четырьмя койками, капитанский мостик высотой ниже человеческого роста и миниатюрный камбуз, величиной с платяной шкаф. Команда состояла всего из трех молодых загорелых ребят — капитана, моториста и матроса. Звали их Сергей, Женя и Валя. Валя отдал концы, Сергей, подтянувшись на руках, вскочил на мостик и стал к штурвалу, Женя нырнул в люк, запустил мотор, и через пять минут мы уже гордо выходили в море. Наш капитан уверенно вел судно у самого берега. И с каждой минутой перед нами открывались картины, одна великолепнее другой. Я вспомнил замечательное описание Карадага в повести Паустовского «Черное море» и теперь понял, почему он взял эпиграфом к нему слова капитана Кука: «Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом». Красноватые мрачные скалы вздымались высоко над нашими головами и, казалось, грозили сорваться и тяжело рухнуть на палубу. Одна скала вообще откололась от горы и повисла над морем, удерживаясь лишь каким-то чудом в неустойчивом равновесии. Другая поднималась из воды, словно гигант, мрачно закутавшийся до самых бровей. — Это Иван Разбойник, — сказал Женя, до пояса высунувшийся из люка и любовавшийся вместе с нами, хотя и плавал здесь много раз. Судно обогнуло скалу, и мы разом ахнули. Прямо из моря, метрах в восьмидесяти от берега, вздымалась исполинская каменная арка. — Золотые ворота Карадага! — крикнул с мостика Сергей и направил наше судно прямо к арке. Арка приближалась и все вырастала, вырастала… Пришлось задирать голову, чтобы осмотреть ее всю, от источенных морем боков до остроконечной вершины. И ворота арки все раздвигались, словно гостеприимно распахиваясь перед нами. Тралбот свободно прошел сквозь них, и между скалами и бортами еще оставалось порядочное пространство. — Эге-гей! — задорно крикнула Светлана. «Ге-ге-ге…» — глухо ответило ей эхо, и сотни вспугнутых чаек с криком закружились под темными сводами. Мы чувствовали себя аргонавтами, открывающими неведомые страны. А что: ведь они тоже проплывали мимо этих диких берегов, отправившись в Колхиду за золотым руном. В те времена плавали только вдоль берега, чтобы в случае шторма поскорее укрыться в ближайшей бухте. Они видели эти скалы. И легендарный Одиссей, может быть, проплывал здесь. Причудливые скалы казались ему окаменевшими товарищами Полифема… В берег, прямо против Золотых ворот, вдавалась небольшая бухточка. Мы отметили ее на карте и записали название: бухта Пограничная. Здесь непременно стоило пошарить под водой! Место уж больно подходящее для древней крепости. С берега к бухточке подобраться почти невозможно. Одно небольшое укрепление на вершине хребта сделало бы крепость неприступной. А тралбот бойко бежал дальше, и впереди открывались всё новые и новые чудеса Карадага. Михаил, уже бывавший здесь, все порывался рассказать, что же покажется за следующим поворотом. Но мы хором останавливали его: — Погоди! — Закрой рот! Сами увидим… Мыс Лев (по-моему, больше похожий на моржа) отделял Пограничную бухту от бухты Львиной. В конце ее высилась скала Маяк, каменным столбом взметнувшаяся к небу. Тут мы подметили наверху в скалах темное пятно, словно узкую щель, уходившую куда-то в толщу горы. — Это и есть Мышиная щель, — объяснили нам моряки. — Ее так прозвали потому, что летучих мышей там пропасть! — Фу, какая мерзость! — тотчас же воскликнула Наташа и опасливо спросила: — А днем они не летают? — Нет, днем они спят. — А ночью я сама туда не полезу, — успокоилась Наташка. Мы миновали Голубую бухту и грот Шайтан. За ним открылся Ревущий грот, в котором и вправду вода даже в этот тихий и солнечный день ворчала как-то грозно и неприветливо. За Стрижовой скалой прятался маленький заливчик, название которого нам страшно понравилось и всех насмешило: «бухта Барахты». Уже она осталась далеко позади, а наши девчата еще долго дурачились, восклицая наперебой: — Откуда вы? С бухты Барахты. — Наташка, ты всегда все делаешь с бухты-барахты! — А вот скала Слон, — сказал Валя и виновато добавил: — Только у него недавно в шторм час^ь головы, как раз с хоботом, отвалилась, так что он теперь не очень похож… Скала и в самом деле не имела ни малейшего сходства со слоном, но Светлана, чтобы не огорчать наших славных моряков, милостиво сказала: — Нет, что-то такое слоновое есть, несомненно… И они просияли, потому что показывали нам все красоты Карадага с такой гордостью, словно сами расставили здесь все эти скалы, выбирая для каждой местечко поживописней. Мы обогнули скалу Парус и вошли в Сердоликовую бухту. Здесь уже чувствовалась близость Планерского, на пляже было много загорающих. Это подтвердил и наш капитан: — Дальше бухт нет, это последняя. А вон там, за мысом Мальчин, уже Коктебельская бухта. — Ну что ж, — сказал Кратов, — давайте отсюда и начнем. — Есть! — браво ответил Сергей и скомандовал, как заправский капитан: — Стоп машина! Отдать якорь! Женя, как игрушечный чертик в коробке, исчез в своем люке, а Володя торопливо побежал на нос. Мерный рокот мотора стих, и в наступившей гулкой тишине мы услышали, как с веселым плеском упал в воду якорь. Начинался новый этап наших поисков и приключений.ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Новый этап наших поисков опять начался с неудач. За два дня мы обшарили почти все дно Сердоликовой бухты до глубины в двадцать метров — и не нашли ничего, никаких следов древних поселений. Единственным утешением служило то, что нырять здесь оказалось необычайно приятно. Дно бухты покрыто гравием и галькой, а берега скалистые. Поэтому вода всегда кристально чистая, точно в роднике. Нырять даже боязно. Стоишь на трапе, и каждый камешек виден далеко внизу, на глубине пятнадцати метров; начинает не-БОЛЬНО казаться, что между дном и тобою нет никакой преграды и ты сейчас сорвешься и полетишь на эти камни с высоты пятиэтажного дома. При каждом погружении мы встречали множество рыбешек. Больше всего попадалось зеленушек. Это небольшие, но очень красиво раскрашенные рыбки — ярко-зеленые или синие, иногда с красными и желтыми пятнами, придающими им какой-то тропический вид. Наверное, их предки когда-нибудь забрели в Черное море из далеких теплых океанов, потому что, как рассказали нам наши моряки, узнавшие, в свою очередь, это от ученых-биологов, зеленушки не переносят холодной воды и на зиму впадают в спячку, забиваясь в расщелины скал и больших камней. Другой интересной особенностью этих рыбешек являются очень острые и крепкие зубы, каких нет ни у кого из других обитателей Черного моря. Своими зубами зеленушки свободно разгрызают даже прочные раковины. За таким занятием мы их обычно и заставали: пестрыми стайками плавая у самого дна, они сгрызали с камней наросшие ракушки. При нашем появлении они совершенно не пугались и даже не прерывали своего занятия. На песчаных участках дна кормились барабульки, или, как их еще называют, султанки. У этих рыбок, тоже небольших, смешная, сильно скошенная голова, похожая на нож бульдозера. Султанки и действуют, как маленькие бульдозеры, ловко разрывая головами песок в поисках спрятавшихся рачков и крабов. Мы научились издали узнавать места кормления барабулек по легкой мути, которую они поднимали своими «подкопами». Встречались нередко и более крупные рыбы. Светлана однажды нырнула прямо в большую стаю резвящейся кефали, и, по ее уверениям, каждая рыбина была чуть ли не в полметра величиною. Дважды я видел акул. Но они держались вдалеке и поэтому казались совсем маленькими и не вызывали никакой тревоги. Мне привелось видеть, как охотится морской ерш-скорпена. Уродливый, зловещий, какого-то грязновато-бурого цвета, весь ощетинившийся колючими плавниками, он неподвижно лежал на дне в тени камней, почти сливаясь с рыжеватыми кустиками цистозеры. Он замер, как убитый, жили только его тупые, злые глаза. Мимо проплывала барабулька. Мгновенный бросок — и она исчезла в прожорливой пасти скорпены. А эта гадина, которую недаром рыбаки называют помесью жабы с драконом, снова замерла в засаде, поджидая новую добычу. У меня руки зачесались схватить ерша за хвост и вышвырнуть на берег, чтобы не портил подводного царства. В кипящей ухе он оказался бы куда приятнее, хотя бы на вкус. Но я поостерегся его трогать, вспомнив рассказы рыбаков о ядовитых колючках. Они у него в спинном плавнике. Голыми руками его не возьмешь, а остроги или ружья у меня, увы, не было. Гоняться за рыбами было некогда. Не для того мы сюда приехали. Наступала осень, времени оставалось мало. Решили перебираться в соседнюю бухту Барахты. Для первого погружения нам с Наташей выпало место у подножия скалы Слон («Потерявший хобот», — острили мы). Рядом работали Светлана и Михаил. Я потому останавливаюсь на таких чисто технических деталях, что этот день едва не стал последним в моей жизни… Подплыв к скале, я начал опускаться, придерживаясь за водоросли. Солнечные лучи пронизывали воду до самого дна и переливались на крупной гальке. Местами среди камней виднелся чистый песок. Он был почти белый и шелковистый на ощупь, когда я, мягко «приземлившись», набрал его полные горсти. На обломках камней, валявшихся у подножия скалы, покачивались длинные алые ленточки каких-то водорослей. Я никогда не видал таких раньше. Глубина здесь не превышала пяти метров, поэтому их яркий, сочный цвет почти не тускнел от поглощения света водой. Наташа показала мне большой палец, выражая свой восторг, поплыла дальше, в сторону открытого моря. Так мы договорились еще на берегу. Искать среди камней она боялась. А я начал методически, метр за метром, осматривать дно у подножия Слона. Прошло уже минут пятнадцать, как вдруг серое облачко мути, поднявшееся немножко левее над песком, привлекло мое внимание. Наверное, там пасутся барабульки. Но, сколько я ни всматривался, ни одной рыбешки не видел. А притаиться им негде, кругом чистый белый песок. Это меня заинтересовало, и я подплыл ближе. Мне показалось, будто на светлом фоне песчаного дна проступают слабые контуры какого-то непонятного предмета. Там словно что-то пряталось под слоем песка. Сердце у меня радостно дрогнуло. Неужели мне опять повезло и я первый наткнулся на след древнего поселения? Судя по очертаниям, в песке пряталась мраморная плита. Может быть, с надписью…
Я протянул руку, чтобы смахнуть с нее песок… и в тот же миг получил страшный удар, словно в ладонь вонзилась сразу сотня острейших кинжалов. Какое-то плоское, точно блин, гибкое тело взвилось перед моим лицом, подняв облако мути. Черные и белые полосы замелькали в глазах. Я упал лицом в песок и больше ничего не помнил… Первое, что я увидел, открыв глаза, было высокое синее небо и вонзившееся в него острие мерно качающейся мачты. Я лежал на палубе нашего тралбота, на мокром матраце. Рядом сидела Светлана и читала книжку. Заметив, что я очнулся, она торопливо наклонилась ко мне и сказала: — Лежи, лежи. Только не ворочайся! Хочешь пить? Я хотел привстать, но тут же почувствовал такую боль в правой руке, что невольно застонал. Рука стала тяжелой, точно каменная, и совсем не повиновалась мне. С мостика, стоя у штурвала, на нас смотрел Сергей. Он что-то крикнул в переговорную трубку. Через минуту на палубе собралась вокруг меня вся наша экспедиция во главе с Кратовым. — Что случилось? — спросил я, еле разжимая спекшиеся губы. — Тебя ранил хвостокол! — сделав большие глаза, выпалила Наташа. — Ужас! Я ничего не понимал. Только смутно припоминалось мелькнувшее под водой плоское тело и пестрота черно-белых полос. — Расскажите толком, — спросил я. — Первой тебя увидела возвращавшаяся к берегу Наташа, — сказал Кратов, — ты лежал на песке… — Я так испугалась, что закричала под водой, представляешь? — торопливо вставила девушка. — Воды наглоталась, жуть! — Она выскочила на поверхность, и мы сразу поняли, что с тобой что-то стряслось, — продолжал профессор. — К тому же ты не ответил на сигнал выхода. Правда, это с тобой частенько бывает. — Тут он строго посмотрел на меня поверх очков. — Аристов, к счастью еще не успевший снять акваланг, сразу бросился на выручку. Вдвоем с Наташей они тебя и вытащили. Я посмотрел на Михаила и, постаравшись улыбнуться неповинующимися губами, сказал: — Значит, мы теперь с тобой квиты? Спасибо. — Не стоит, — небрежно ответил он. — Долг платежом красен. Хорошо, что мундштука не выронил. А то бы я так и остался твоим должником. — А что же все-таки со мной было? — спросил я. — Пожалуйста, помолчи, а то тебе опять станет плохо, — строго остановила меня Светлана. Она, видно, всерьез решила играть роль сестры милосердия. — Судя по ране, ты наткнулся на морского кота-хвостокола, — ответил Кратов. Я вспомнил, с каким отвращением выбрасывали матросы за борт «Алмаза» этих странных, уродливых рыб, попавшихся нам тогда в трал. Значит, вот такая плоская гадина и притаилась в песке? А я принял ее за драгоценную мраморную плиту! Мне снова захотелось посмотреть на раненую руку. Но приподняться мне не дали, да я и сам бы не смог, потому что каждое движение причиняло нестерпимую боль. — Куда же мы плывем? — спросил я, стискивая зубы, чтобы не застонать. — В Планерское, в больницу, — торопливо ответила Светлана. — Успокойся, уже приехали. В самом деле, мотор заглох, и Валя пробежал на нос с длинным багром в руках. Под килем громко заскрипела галька. Ребята подхватили мой матрац на руки и, толкая друг друга, потащили к сходням. Когда меня приподняли, переваливая через борт, я наконец смог увидеть свою руку. Она вся посинела и сильно распухла. А из вздувшейся, как лепешка, ладони торчал глубоко вонзившийся твердый шип. Не буду рассказывать, как его вырезали из ладони в больнице одного из санаториев. Операция получилась весьма мучительной и долгой. Вырезанный шип хирург подарил мне на память, хотя и так я вряд ли когда забуду об этом приключении. Немного опомнившись после операции, я рассмотрел его хорошенько. Это была небольшая, но очень острая костяная игла, к тому же зазубренная, точно наконечник гарпуна. Вытащить ее самому из раны совершенно невозможно. Даже удивительно, что такое хитрое оружие создала природа, а не человеческие руки. У морского кота, как мне рассказали потом научные сотрудники биостанции, бывает даже не одна, а две или три таких иглы. Они спрятаны у него в основании хвоста. Хвостокол вонзает их в жертву со страшной силой. Но и этого мало: каждый шип еще покрыт ядовитой слизью, которая долго не дает ране заживать. А напороться на эту гадину легко. Брюхо у хвостокола темное, а спина желтовато-серая, вот почему пестрые полосы мелькали у меня в глазах. Когда он зароется в песок, подстерегая добычу, заметить его очень трудно, я убедился в этом на собственной шкуре. Придется проваляться недели две, решили врачи. Это меня совсем доконало. Выбыть из строя в такое напряженное время! Но опухоль опадала очень медленно, рука еле двигалась, точно парализованная, и мне волей-неволей приходилось смириться. Лежать одному в пустой больничной палате, когда за окном сияет солнце и шумит море, невыносимо тоскливо и скучно. Хорошо, хоть друзья не забывали меня. Они наведывались почти каждый вечер, приносили книги и рассказывали о ходе подводных поисков. А я им показывал шип хвостокола. — Во всяком случае, у тебя есть одно утешение, — с интересом рассматривая его, сказал Василий Павлович: — ты ранен историческим, даже, я бы сказал, легендарным оружием. Как свидетельствует Гомер, хитроумный Улисс-Одиссей тоже был поражен дротиком с наконечником из такого же шипа. Один бесконечный день тянулся за другим, а новости, которые приносили друзья, оставались неутешительными. Уже обследовали всю бухту Барахты и перебрались в следующую, Голубую, а толку никакого. Нигде ни малейших следов поселений. Видимо, в те далекие времена места эти были совсем дики и необитаемы. Меня тяготила бездна пустого времени. Чем же ее заполнить? Читал все, что под руку подвернется. Конечно, больше всего по истории или о приключениях под водой. Или просто лежал и размышлял часами, пытаясь представить себе жизнь и события тех страшно далеких времен, когда, спасаясь от преследователей, мчались на взмыленных конях по степи остатки разбитой армии Савмака. Потом, бросив загнанных лошадей, они карабкались по горным тропам Карадага, запирали тяжелые ворота крепости Тилур, готовясь к последнему бою. Им неоткуда ждать помощи или спасения. За стенами крепости, под крутым обрывом, грозно ревет море. И все-таки часть беглецов куда-то скрылась, унеся с собой какие то сокровища! Куда? Не на небо же, в самом деле, как подымали захватчики крепости. Они были люди суеверные, а нам, конечно, в это верить смешно. Но тем интереснее разгадать вековую загадку и узнать еще хоть что-нибудь новое о восстании Савмака и его товарищей… Прошла неделя, и мне стало совсем невмоготу валяться в одиночестве. Как назло, в этот вечер и навестить меня никто не пришел. А вчера они, тщетно обшарив все дно Голубой бухты, перебрались в Пограничную- ту самую, что расположена как раз напротив Золотых ворот Карадага. Неужели и тут ничего утешительного? Так я лежал, не зажигая света, в темной палате и грустил, прислушиваясь к задорным звукам фокстрота, доносившимся в открытое окно с танцевальной площадки. И вдруг в окне на фоне звездного неба появилась чья-то лохматая голова. — Коля, ты спишь? — неуверенно спросил знакомый голос Павлика. — Нет, заходи скорей! — обрадовался я. Он неуклюже влез в окно и зажег свет. — Ты один? — Один, — ответил он с каким-то таинственным, заговорщическим видом. — Ребята не решились идти, думали, ты уже спишь. А я не удержался, решил тебя сегодня же порадовать. — Чем? — Я сел на кровати. Он протянул мне руку и медленно разжал кулак. На ладони у него лежал точно такой же острый зазубренный шип, каким меня наградил хвостокол. — Что, опять кого-нибудь ранило? — испугался я. — Чему ты радуешься? Он расхохотался и сунул ладонь прямо мне под нос: — Да ты возьми его в руки и рассмотри как следует! Ничего не понимая, я повертел зазубренную косточку в руках. Самая обыкновенная, как и моя. — Да ты ослеп, что ли? — закричал Павлик. — Она же просверлена! Только теперь я заметил у основания шипа маленькую сквозную дырочку. — Ну, и что же? — Да ведь она не могла сама по себе образоваться! — Павлик уже начинал приходить в ярость от моей непонятливости. — Ее кто-то просверлил! Этот шип был наконечником дротика или стрелы. Мы нашла на дне остатки каменной стены, и там он валялся. Я его нашел! Раз там бросали оружие, значит, кипел бой. Понимаешь? Значит, мы нашли эту крепость! Теперь-то я все понимал. Забыв о больной руке, я вскочил и бросился искать свою одежду. Черт, ее же отобрали врачи! — Еще что нашли? — Больше ничего пока. Понимаешь, это вышло при последнем погружении, уже под вечер. Поэтому и ребята не пришли, устали, спорят там у костра… — Ты настоящий товарищ! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Теперь достань мне где-нибудь рубашку и брюки. — Какие брюки? — Я пойду с тобой. Не могу же я идти в этом халате! — Что ты! — перепугался он. — Ты же еще болен, Кратов прогонит тебя. — А ты думаешь, что я смогу здесь валяться, пока вы раскапываете крепость? Я сдохну с тоски! Павлик задумался, потом рассудительно сказал: — Все равно, ты не имеешь права нарушать дисциплину. Тогда я взмолился: — Хорошо, я останусь здесь еще на одну ночь. Но только до утра! Поклянись, что уговоришь старика завтра утром непременно прислать кого-нибудь за мной. Рука уже почти зажила, видишь, как свободно ворочается? Расскажи об этом Кратову. Пусть мне нельзя еще нырять. Я буду лежать на палубе и быстрее поправлюсь на свежем воздухе, чем в этой больнице. Слышишь? Не все ли врачам равно, где я буду лежать? — Ладно, ладно, — замахал он на меня рукой. — Чего ты горячишься? Конечно, Василий Павлович поймет. Мы его уговорим… Ну, я пошел. Он полез обратно в окно, а я крикнул ему вслед: — Если утром не возьмете меня, сам приду! Так и передан. Спал я плохо, а утром вовсе не мог найти себе места. Неужели они оставят меня здесь, когда начинается самое интересное? Нет, не могут. Ведь это я первый нашел цисту с документами. А мой дядч расшифровал их и направил нас сюда, в Карадаг. Если Кратов не учтет этого, нет больше справедливости на свете! С такими мыслями я метался по комнате, как вдруг услышал за окном знакомые веселые голоса. Они пришли за мной! Даже все, в полном составе! — А где же Василий Павлович? — упавшим голосом спросил я. Неужели он сам не пришел, а только послал их уговаривать и утешать меня? — Успокойся! — Не трусь! — загалдели друзья. — Шеф отправился к главному врачу. Если тот разрешит, твое дело в шляпе. Я кинулся к двери. Но она уже отворилась, и в комнату вошли Кратов с врачом. В руках у врача я увидел СБОЮ одежду и заликовал. — Спасибо, доктор! — сказал я, пытаясь взять у него свою рубашку. — Подожди, подожди… Ишь, какой прыткий! — засмеялся он. — Я еще должен посмотреть твою руку. — Но вы же только вчера смотрели! — То было вчера. Пришлось подчиниться. Осматривал он меня с ужасной медлительностью, но потом сказал: — Ладно, можешь отправляться. Но только минимум неделю еще полный покой. — Конечно, конечно, доктор. Я буду все время лежать. — За этим я сам прослежу, — добавил Кратов, многозначительно посмотрев на меня. Оделся я быстро, стараясь нарочно как можно свободнее действовать раненой рукой, хотя, признаться, она побаливала еще немного. Поблагодарил доктора и через минуту уже был свободен, снова среди товарищей. Мы поспешили на берег, где, уткнувшись носом в гальку, стоял наш чудесный кораблик. Вся команда радостно приветствовала мое появление. Женя сразу запустил мотор, и мы отчалили, взяв курс прямо на Золотые ворота Карадага. — А вот твое место, — сказал профессор, указывая на матрац, разложенный на палубе перед мостиком под небольшим навесом из парусины. — Немедленно ложись — и ни шагу отсюда! — Есть… — упавшим голосом ответил я. Внутри у меня все кипело от негодования, но спорить со стариком было совершенно бесполезно. Приходилось смириться. Так и валялся я все время на этом унылом ложе. Мы стояли на якоре посреди Пограничной бухты, неподалеку от Золотых ворот. Ребята надевали акваланги, ныряли, потом возвращались с находками, а я все лежал, словно инвалид какой-то. Правда, мне все было видно и слышно. Но от этого становилось еще обиднее. Теперь я в полной мере оценил пословицу: «Видит око, да зуб неймет»… Ночевал я на тралботе. Вместе со мной остались Павлик, Женя и Валя. Остальные отправились на берег. Разложив на палубе матрацы, мы лежали рядом и смотрели, как они там разводят костер возле палаток. На берегу было весело, но и у нас неплохо. Палуба чуть заметно покачивалась. Над нашими головами с протяжным, скрипучим криком проносились чайки и прятались под каменной аркой Золотых ворот.* В чуткой вечерней тишине было отчетливо слышно, как странно плещется море в камнях. Оно то вздыхало, то начинало что-то глухо бормотать, совсем по-человечески. Прислушиваясь к этим таинственным звукам, мы говорили вполголоса, точно боясь неосторожно вспугнуть засыпающее море. Говорили мы, конечно, все о том же — о подводных находках. Их было мало, а главное, против наших ожиданий, все они оказались какие-то не очень интересные. За первый день Михаил и Павлик нашли только еще три таких же, как и первый, наконечника дротиков из шипов хвостоколов, а Светлана — сильно проржавевший медный наконечник копья. Вот и все. Правда, ребята подняли еще со дна четыре крупные, гладко обтесанные каменные глыбы. Но никаких значков или надписей на них не нашлось. Судя по всему, это были просто обломки крепостных стен. А все мы в душе так рассчитывали найти сокровища, о которых упоминалось в письме. Неужели они исчезли навсегда, бесследно?
В ПОДВОДНОМ КАПКАНЕ
Прошло еще два дня, а настроение наше не улучшалось. Новые немногочисленные находки были похожи друг на друга и особой ценности, по-моему, не представляли. Все это были жалкие остатки древнего оружия — металлические и костяные наконечники копий, дротиков, стрел. Изредка попадались осколки посуды, но только отдельные мелкие черепки. Все это находили и раньше на суше при раскопках скифских курганов и греческих поселений. Стоило из-за них нырять! Один Кратов был доволен, с увлечением рассуждал о всяких тонких различиях фортификационного мастерства скифов, тавров и греков. Но даже и он порой вздыхал, рассматривая поднятые со дна черепки амфор: — Здорово поработали солдатики, что и говорить, здорово! Да, с каждым погружением становилось очевиднее, что, захватив крепость в беспощадном бою, каратели буквально постарались стереть ее с лица земли. Разозленные таинственным исчезновением сокровищ и бегством вожаков восстания, они в слепой ярости перебили вдребезги ни в чем не повинную посуду и разметали по камню крепостные стены. После их ухода осталась пустыня. От крепостных стен сохранились только основания. Их решили не выкапывать, а слегка расчистить, чтобы составить план разрушенной крепости. Крепость стояла на самом берегу моря. Уровень его в те времена, видимо, был метров на девять ниже нынешнего. Одну из стен крепости заменяла высокая отвесная скала, на вершине которой, вероятно, располагался сторожевой пост.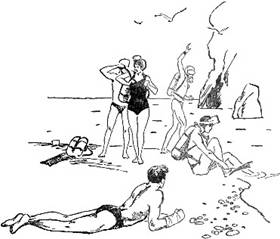
Чем дольше мы рассматривали план крепости, тем меньше понимали, куда же могли скрыться оставшиеся в живых защитники ее. Да еще не налегке, а унося с собой какие-то сокровища, о чем прямо говорилось в письме Аристиппа. — Не понимаю, — вздыхал Кратов, снова и снова перечитывая вслух строки письма: — «Мятежники спрятали в крепости, где у скифов было древнее святилище, много награбленных ими сокровищ, поэтому ты понимаешь, как стремились все наши воины овладеть ею. Мы взяли крепость после трехдневного штурма. Представь наше удивление, дорогой Ахеймен: среди убитых и захваченных в плен мы не нашли никого из вожаков мятежа. Не обнаружили мы и сокровищ. Они исчезли совершенно бесследно. Сразу же среди воинов прошел слух, будто защитники крепости в самый последний момент вознесены их проклятыми варварскими богами на небо…» Ну, дальше уже начинается ерунда, мистика, — сказал профессор, задумчиво складывая копию письма. — Но куда же они все-таки скрылись? Уйти в горы не могли. Уплыть в море — тем более. Он посмотрел на море, сверкавшее в лучах солнца, потом на горы, тесно обступившие маленькую бухту, словно ожидая от них ответа. Но горы молчали, а море шумело лениво и равнодушно, как и десять веков назад. Только чайки, словно поддразнивая нас, кричали, кружась над палубой и выпрашивая подачки. — А может, это вовсе не та крепость? — сказал Михаил. — Поищем еще в соседних бухтах. Краков пожал плечами: — Нет, видимо, все-таки это именно Тилур. Конечно, прямых подтверждений у нас пока нет, но уж больно беспощадно она разрушена. Не мудрено, что даже упоминания о нем не сохранилось в источниках. Пока она была скифской или таврской, греки ею особенно не интересовались, а разрушив до основания, они, конечно, постарались, чтобы все забыли даже ее ненавистное имя. Да и место это, наверное, судя по легендам, упоминаемым в письме, считалось каким-то дьявольским, зачарованным. Его никто не посещал. Он снова вздохнул и предложил: — Ну, хватит гадать. Давайте лучше продолжать поиски. Чья очередь нырять? — Наша, — ответил Михаил и лениво пошел надевать акваланг. Всем своим видом он показывал, что не верит в пользу дальнейших поисков. Так оно и было: через полчаса Михаил и Светлана вернулись опять с пустыми руками. Это было последнее погружение в этот день. Поднялся резкий ветер. Наш капитан с тревогой посматривал на косматые тучи, застрявшие на острых горных вершинах. Мы все опасались, что он вот-вот скажет: «Пора уходить отсюда…» Но Сергей промолчал, только решил на всякий случай остаться ночевать на борту, вместе с нами. Солнце спряталось за вершины Карадага. Шлюпка ушла на берег. Я лежал, закинув руки за голову, смотрел в небо и думал о загадке исчезновения защитников крепости, строку за строкой вспоминая письмо Арпстиппа. Каждый из нас успел уже выучить его наизусть. Сколько ни ломал голову, никакая мало-мальски правдоподобная разгадка не подвертывалась. Чтобы отвязаться от этих мыслей, я взялся за книгу. Читал я — вернее, в какой уже раз перечитывал — замечательную книгу Кусто «В мире безмолвия». Ту главу, где он рассказывает, как нырял с товарищами в аквалангах в залитые водой пещеры. Особенно сложным оказалось исследование знаменитого Воклюзского источника во Франции. В книге был даже приведен подробный план этой громадной пещеры, и я внимательно изучал по нему все этапы погружения. Читал я долго при свете переносной лампочки, качавшейся у меня над головой на вантах. Товарищи уже все уснули, потух и костер на берегу. Вокруг маленького пятна света от лампы темной стеной стояла ночь, и глухо шумело в скалах море. Сунув книгу под подушку, я быстро заснул. И мне снилось, будто я тоже, надев акваланг, лезу в какую-то пещеру. Вход в нее был очень узкий, и, помню отчетливо, я подумал во сне: «А как же туда могли забраться товарищи Савмака?» С этой мыслью я и проснулся. Стояла уже глубокая ночь. Ветер стих. Море тоже притихло и плескалось едва слышно. Над черными громадами гор висели крупные, яркие звезды. В этой бездонной тишине я слышал стук своего сердца. Оно у меня билось в груди от внезапной догадки. Пещера… Конечно, там должна быть пещера, вход в которую прятался под водой даже тогда, во времена Савмака! Только туда и могли скрыться уцелевшие защитники крепости. Им оставался один только путь: в море — и под землю. Там, в пещере с подводным ходом, они могли переждать, пока враги покинут это место, и тогда спокойно вышли снова на поверхность, чтобы скрыться куда-нибудь… Как это никому из нас не пришло в голову раньше! Только так ведь и можно объяснить загадочное исчезновение окруженных со всех сторон людей. И никакой чертовщины и мистики в этом вовсе нет. Неужели я первый нашел разгадку! И тут же у меня в голове промелькнула горькая мысль: увы, даже если это так, то все равно вступить в эту пещеру мне первому не суждено. Хотя рука у меня совсем зажила, наш старик, конечно, ни за что не позволит мне завтра нырнуть, чтобы поискать вход в пещеру. Сначала он пошлет меня к врачам. А пока я буду бегать, мои товарищи уже найдут пещеру. А почему мне не сделать этого сейчас же, не откладывая? Вес спят, я тихонько оденусь, нырну и так же незаметно вернусь обратно. А завтра расскажу о своей находке, и тогда Кратов на радостях не станет меня ругать: ведь победителей не судят… Акваланги, готовые к утренним погружениям, лежали на корме. Я тихо пробрался туда, не зажигая света нашел свой акваланг и торопливо прикрепил к нему еще один добавочный баллон,чтобы иметь запас воздуха побольше. Как потом оказалось, это было весьма предусмотрительно. Гидрокостюм я надевать не стал. Вода была достаточно теплой, а, по моим расчетам, вход в пещеру вряд ли мог находиться глубже пятнадцати метров. Иначе даже при более низком уровне воды в старину в пещеру трудно было бы нырять без водолазных костюмов, которых сподвижники Савмака, конечно, не имели. На вантах висели электрические фонари, с которыми мы ныряли на большие глубины. Я выбрал самый мощный из них. Закончив ощупью все приготовления, я так же осторожно, боясь за что-нибудь зацепиться и поднять шум, перелез через борт и начал опускаться по трапу. Когда ноги мои коснулись воды, она замерцала сотнями голубовато-зеленых искорок. Я натянул маску и повернул вентиль. Воздух тихо, успокаивающе зашипел. Все было в полком порядке. Я спустился до самой последней ступеньки и без плеска, совершенно бесшумно, нырнул сразу на четыре метра. Никогда прежде мне еще не приходилось плавать под водой ночью. Я даже не представлял, насколько это необычно. Первое впечатление было, что я нырнул не в воду, а в чернила, так показалось темно вокруг по сравнению с обычными погружениями днем. Но не прошло и двух минут, как я понял, что эта тьма наполнена светом, только таинственным, скрытым до поры до времени. Стоило мне только взмахнуть рукой, и в воде во все стороны рассыпались голубоватые искры, призрачные, как светлячки. И руки у меня мягко светились, точно покрытые фосфором. Я поднял голову и посмотрел наверх. Над морем царила ночь, но с поверхности воды ко мне все-таки пробивался свет — слабый, мертвенно-бледный, какой-то неземной. Он пробуждал неприятное чувство. Словно меня перенесло на какую-то другую планету. Я торопливо зажег фонарик, совсем не подумав о том, что его свет может быть замечен с берега или с судна. Но с фонарем оказалось не лучше. Его узкий луч озарял только слабое пятно желтоватого цвета. А тьма вокруг от этого стала еще гуще, еще тяжелее. Невольно хотелось обернуться и посветить фонариком во все стороны: не прячется ли кто-нибудь в темноте? Я еле удержался от этого желания, внушая себе, что никаких опасных хищников в Черном море не водится. Погасив фонарик, я поплыл в сторону берега, постепенно погружаясь глубже. Единственным подходящим местом для пещеры могли быть только высокие скалы в левом углу бухты. Туда я и направился. Вот и скала, отвесно уходящая вверх. Приблизившись к ней, я больно ударился в темноте о камень. Пришлось снова зажечь фонарик. В его слабом свете камни отбрасывали расплывчатые тени и, казалось, начинали двигаться. Из-под моих ног метнулась сонная рыба. Тень у нее получилась громадная, как акула. Успокаивая себя и стараясь не озираться по сторонам, я медленно поплыл вдоль скалы, освещая ее фонариком. Метра через три я заметил в скале какое-то темное углубление. Нет, это не пещера, а просто узкая трещина. Я поплыл дальше. Меня что-то начинало слегка познабливать. Неужели слишком долго пробыл под водой? Посветив фонариком, я глянул на часы. С момента погружения прошло всего двадцать две минуты. Или вода здесь, у берега, холоднее? Не раздумывая особенно над этим, я продолжал поиски. Прошло еще десять минут, потом еще пятнадцать. Я обогнул большой камень, глубоко зарывшийся в песок, и внезапно прямо над своей головой увидел зиящую черную дыру. Я подплыл и посветил в нее фонариком. Его луч проникал всего метра на два, но не уперся ни во что. Дыра углублялась дальше в толщу скалы. Отверстие было довольно широким, я свободно мог бы протиснуться в него, даже не зацепившись баллонами. Но, может быть, это вовсе не пещера, а просто грот в скале, имеющий выход где-нибудь с другой стороны? Таких немало нам здесь попадалось. Подумав, я решительно полез в отверстие. Ощущение при этом возникло не слишком приятное. Все время боялся, что застряну в каменной трубе. Но она постепенно расширялась, и нервы мои успокаивались. Я начал продвигаться вперед быстрее, забыв об осторожности. И напрасно: правый шланг, идущий от редуктора к маске, вдруг зацепился за что-то. Зацепился крепко, я не мог даже повернуть голову. Дернуться посильнее опасно: шланг может порваться, в маску хлынет вода. Попробовал пятиться назад — тоже не получается. Я засел прочно и основательно, словно в капкане. «Только не волноваться! — внушал я себе. — Только не волноваться и не терять разума! Это первая заповедь подводника» Я начал медленно покачивать из стороны в сторону головой, пытаясь освободиться. Покрутившись так минут пять, я устал и остановился передохнуть. Сразу мне стало холодно. Готов поклясться, что всего пять минут назад вода была теплее. Не могла же так быстро меняться ее температура! Или из пещеры идет какое-нибудь холодное течение? Но я не ощущал особого движения воды вокруг. И тут меня осенило: ведь я же могу просто сбросить баллоны и зацепившуюся маску и, оставив их пока в пещере, вынырнуть на поверхность! Руки и ноги у меня свободны. Но это крайняя мера. Хорош я буду, совершив самовольное погружение да еще вдобавок утопив акваланг! А вода становилась холоднее с каждой минутой. Я не знал, как это объяснить, но это было именно так. У меня уже начинало сводить руки от холода. Медлить было нельзя, и я решил осуществить свой опасный план. Прежде всего отстегнул ремни, которые удерживали на спине баллоны с воздухом. Сбрасывать их я пока не стал, опасаясь, что потеряю тяжесть и вода затянет меня глубже в пещеру. Потом сделал несколько сильных вдохов и выдохов… И, набрав напоследок побольше воздуха в легкие, сбросил с головы маску и, отталкиваясь о стенки, начал выкарабкиваться из ловушки. Вот и конец туннеля. Сбросив баллоны на дно, я оттолкнулся посильнее и стремительно помчался кверху, навстречу свежему воздуху, жизни!
СНОВА МЕДУЗА ГОРГОНА!
Казалось, я никогда не достигну поверхности. До нее было дальше, чем до Луны! Воздуха не хватало, мне страшно хотелось поскорее раскрыть рот и вздохнуть, вздохнуть полной грудью! С большим трудом я поборол это паническое желание, а то бы неминуемо захлебнулся. Но я устоял и разжал рот как раз в тот момент, когда голова моя появилась над водой. Я дышал жадно и глубоко, отфыркиваясь, как тюлень. К счастью, никто меня не услышал. Наверху все оставалось таким же безмятежно-спокойным, как и перед моим погружением. Сияли звезды; точно сквозь сон, тихо шумело море и бормотало в прибрежных скалах. Природе не было ровно никакого дела до моих подводных приключений. Я мог бы остаться навсегда в пещере, а здесь ничего бы не изменилось. Я поплыл к нашему тралботу, черневшему на фоне звездного неба. Пока я добрался до него, вода стала прямо-таки ледяной. Я с трудом вскарабкался на трап, руки у меня сводило от холода. На борту все спали. Только когда я, лязгая зубами, пригнувшись, прокрадывался к своему матрацу, кто-то, кажется Сергей, поднял голову и сонно спросил: — Ты чего возишься? — Замерз что-то, ходил за одеялом, — ответил я шепотом. — Замерз? Ты что, заболел?.. — И, уронив голову на подушку, он моментально захрапел. А я накрылся двумя кусками брезента и все никак не мог согреться. Меня била дрожь. Но мало-помалу волнение и усталость взяли свое, и я крепко уснул. Во сне я снова лез в какую-то пещеру, задыхался, вскрикивал под водой и захлебывался. Потом кто-то крепко схватил меня за ногу и дернул. Я вскочил. Это было уже не во сне. Сияло солнце. Облака плыли по небу. Павлик тревожно смотрел на меня и спросил: — Ты что, заболел? — Нет. С чего ты взял? — А чего же кричишь во сне? Мы услышали плеск весел и приближающиеся голоса. Это подплывали наши товарищи, ночевавшие на берегу. Надо было принимать какое-то решение и объяснять Кратову исчезновение одного акваланга. Я решил ничего не скрывать и все выложить начистоту. Когда он поднялся по трапу на борт, я поздоровался и сказал: — Василий Павлович, мне нужно поговорить с вами наедине. Он подозрительно посмотрел на меня и торопливо ответил: — Если ты насчет погружений, то прежде надо поговорить с врачами. — Нет, у меня к вам важное дело. Все с любопытством окружили нас, прислушиваясь к разговору. — Хорошо, — кивнул Кратов. — Пойдем в каюту. Мы спустились в кубрик и сели за узенький откидной столик. Василий Павлович выжидающе смотрел на меня. А я не знал, как же начать свое покаяние. — Понимаете, какое дело, — промямлил я наконец, — я утопил акваланг… — Акваланг? Где? Какой? — Свой акваланг. В пещере. Вы не беспокойтесь, его ребята легко достанут. — Ничего не понимаю! — помотал он головой. — Пожалуйста, расскажи все толком и по порядку. Какая пещера? Что за акваланг? Собравшись с духом, я начал ему рассказывать все: как меня осенила во сне догадка насчет пещеры, почему я решил ночью нырнуть один и как едва не застрял в подводной ловушке. Его загорелое худощавое лицо все время менялось во время моего рассказа. На нем попеременно возникало выражение то изумления, то гнева, то радости. — И ты действительно нашел эту пещеру? — спросил он, когда я кончил, крепко схватив меня за руку. — Кажется, — ответил я неуверенно. — Ведь я же не смог в нее проникнуть до конца. Несколько минут он молчал. Потом задумчиво произнес, пытливо глядя на меня: — Не знаю, что мне делать с тобой. Когда кончится твой глупый, детский анархизм? Совершить открытие в одиночку! Какая глупая мечта! Откуда такая самонадеянность? Да что ты можешь один? Затонувший корабль нам помогли найти рыбаки. Тропинку к затерянной крепости нащупал твой дядя, метеоролог. Сотни ученых в течение многих лет по крупицам добывали и накапливали сведения о далеком прошлом нашей родины. Так что же ты можешь сделать в науке один? Я молчал, опустив голову. Разве я сам не понимал, что поступил глупо, по-мальчишески! А он, вздохнув, продолжал: — По-настоящему следовало бы после этих фокусов просто выгнать тебя из экспедиции. И только одно меня удерживает. Знаешь что? Не то, что ты нашел эту пещеру, совсем нет, не надейся. Победителей тоже судят, ты ошибаешься. Но ты сумел не растеряться в опасном положении и самостоятельно выпутаться из него. Вот это внушает мне надежду, что ты наконец становишься взрослым… Он неожиданно ткнул меня кулаком в грудь и добавил уже совсем другим тоном: — Ну, а теперь все наверх! Посмотрим твою находку. Выйдя на палубу, мы увидели, что Аристов и Светлана надевают гидрокостюмы. — Зачем? — удивился Кратов. — Вода очень холодная, Василий Павлович. Просто ужас! — пожаловалась Наташа. — Вы подумайте: вчера было двадцать градусов, а сегодня только шесть. Тут я вспомнил, что совсем забыл рассказать Кратову о странном похолодании воды, которое так меня удивило ночью. Значит, это мне вовсе не показалось. — Это сгонный ветер поработал, — пояснил свесившийся со своего мостика Сергей. — Вчера ветер дул с берега. Он и согнал в море всю верхнюю теплую воду. А снизу, с глубины, поднялась более холодная. Так здесь нередко бывает. — И надолго это? — спросил Кратов. — Нет, ветер переменился. Я думаю, завтра все снова в норму придет… А тем временем мы перейдем в другую бухту… — Отсюда уходить рано, друзья мои, — ответил профессор, незаметно для других заговорщически подмигнув мне. — За ночь произошли некоторые события, которые заставляют нас продолжать поиски именно в этой бухте. Тут, конечно, поднялся шум и гам. Все требовали рассказать, что же произошло. Пришлось мне снова излагать свои ночные похождения. Услышав о пещере, все, конечно, стали просить Кратова начать ее исследование непременно сегодня. Но старик возразил: — Вы же слышали, что в пещеру трудно проникнуть даже голому человеку, в одном акваланге. А вы хотите лезть туда в гидрокостюмах. Придется потерпеть до завтра, хотя, поверьте, для меня это отнюдь не легче, чем для вас. Возражение было, конечно, резонное, и мы, поворчав, смирились. Но ждать было чертовски трудно. Мы все измаялись за этот бесконечный день. Купаться нельзя, вода ледяная. Целый день валяться на пляже — жарко. Мы через каждые полчаса мерили температуру воды, но к полудню она поднялась всего на два градуса. За этот день мы облазили со всех сторон скалу, в недрах которой таилась пещера. Карабкались по ее склонам, стучали, приложив ухо к горячим камням. Но скала как скала, никаких признаков пустоты внутри нее не было. Я уже начинал сомневаться: а вдруг мои предположения ошибочны и никакой пещеры там нет? Вдруг я нашел вовсе не вход в пещеру, а просто расщелину, которая никуда не ведет? На следующий день я проснулся рано, когда солнце еще только вылезало из-за лысой горы. И первым делом сунул термометр в воду. Все десять минут, пока он торчал в море, я простоял, свесившись через борт и словно согревая его взглядом. Сергей оказался прав. Вода снова нагрелась до восемнадцати градусов. Нырять вполне можно. На радостях я сложил ладони рупором и заорал на всю бухту: — Эге-гей! Ох, какой гвалт подняли перепуганные чайки, тучами вылетая из-под каменных сводов Золотых ворот! Ко мне подбежал заспанный капитан. Началось какое-то движение и на берегу. Через полчаса все уже были на борту нашего кораблика, и бодро зарокотал мотор. Сергей подвел тралбот почти к самой скале и дал команду бросать якорь. А мы поспешили на корму, за аквалангами. Я очень боялся, что Кратов не даст мне нырять вместе с ребятами. Но он ничего не сказал, когда я взял запасной акваланг и стал проверять его. Только поднимая голову, я несколько раз перехватывал его испытующий взгляд. Проверив снаряжение, мы выстроились вдоль борта. — В первой паре пойдут Аристов и Козырев, — сказал профессор и посмотрел на меня. — Сам утопил акваланг, сам его и добывай. Вторая пара — Павлик и Борис. Девушки сегодня работают страхующими, пока не прояснится обстановка. Светлана сердито фыркнула, но Наташа, по-моему, была даже довольна, что ее не пускают в пещеру. — Первым пусть лезет Николай, — продолжал наш чудесный старик. — Он знает дорогу. Ты, Миша, при малейшей опасности окажешь ему помощь. Кроме ручных фонариков, возьмите прожектор. Сигналы остаются прежними. Время работы — полчаса. Конечно, срок он, как всегда, отвел нам маловатый. Но на радостях спорить не приходилось. Я торопливо, боясь, как бы Кратов не раздумал, надел маску и полез на трап. Мне подали прожектор в непроницаемом кожухе. Толстый провод, тянувшийся от него, стеснял движения, но зато теперь я не буду блуждать в темноте, как ночью с жалким фонариком. Под водой Михаил попытался меня обогнать. Я погрозил ему кулаком и поплыл быстрее. Теперь, пронизанное солнечными лучами, море было приветливым, как всегда, и вовсе не казалось загадочным. Я еще издалека увидел свои баллоны, лежавшие на песке и отбрасывавшие во все стороны сверкающие блики, Вот и темный вход в пещеру. Как его не заметили раньше? Да ведь никто его и не искал. Мало ли гротов встречали мы под водой и проплывали мимо. Я зажег прожектор и смело полез в туннель. Целая стайка мелких рыбешек заметалась в каменной трубе и умчалась куда-то в темную глубину. Прожектор светил так сильно, что был отчетливо виден каждый выступ стены. Еще несколько метров, и я увидел свою маску. Оказывается, она зацепилась за большую раковину мидии, прилепившейся к своду туннеля! Не стоило никакого труда освободить ее. А ночью? Высвободив маску, я обернулся и бросил ее Михаилу, который лез за мной по пятам на некотором расстоянии, следя, чтобы не зацепились за камни провод и сигнальный трос, обвязанный вокруг моего пояса. Дальше туннель начинал постепенно расширяться, поднимаясь полого вверх. Стены его раздвигались. Похоже, что я уже выбрался в пещеру. Тогда я остановился и начал водить лучом прожектора из стороны в сторону. Внизу, подо мной, что-то тускло блеснуло. Я направил свет в эту точку и подплыл поближе. Прямо перед собой я увидел в воде какую-то уродливую, страшную рожу. Она показывала мне язык! Да это же снова Медуза Горгона, догадался я. Ее маска была изображена на каком-то круглом большом щите. Оскаленные зубы, выпученные глаза — все должно было, видимо, вызывать чувство страха у врагов. Поворачивая прожектор, я старался рассмотреть, что еще есть в пещере. Вот вроде какой-то столб или плита, уходящая вверх. За нею на стене нарисованы странные фигуры. Зная, что меня в любой момент могут вызвать на поверхность, я торопился увидеть как можно больше. Рассматривать детали не было времени. Я направил луч прямо вверх. В том месте, куда он светил, переливалось какое-то радужное пятно. Что это могло быть? Может быть, рисунок на потолке пещеры? Я начал подниматься медленно и осторожно, опасаясь, как бы не удариться о потолок головой. Но вдруг с удивлением почувствовал, что голова моя словно прорывает какую-то легкую невидимую пленку. В тот же момент давление воды на маску перестало ощущаться. Я поднял руку с прожектором, — и сразу почувствовал его солидный вес, почти пропадавший в воде. Тут только я сообразил, что поднялся на поверхность. Вода заполнила пещеру не до самого потолка. Над нею оставался слой воздуха! С некоторой опаской я вынул изо рта загубник и сделал осторожный вдох. Кто его знает, каким он окажется, этот воздух, сохранявшийся в подземелье двадцать с лишком веков? Но он был самым обыкновенным, чуть влажным, довольно свежим, во всяком случае не затхлым. Видимо, он просачивался по каким-то щелям с поверхности земли. Иначе люди не могли бы прятаться здесь и задохнулись. Я хотел позвать Михаила, чтобы он тоже глотнул подземного воздуха. Но тот уже сигналил, что сверху приказывают выходить. Сунув загубник обратно в рот, я нырнул и, стараясь не наткнуться как-нибудь невзначай на столб, поплыл к выходу из пещеры. Выбравшись из туннеля, мы подхватили валявшиеся на песке баллоны и маску и стали всплывать. Наши лица были совсем рядом, а поговорить нельзя. Никак не поделишься впечатлениями! Я видел сквозь стекло его маски, как он гримасничает и таращит глаза. Ему тоже хотелось поговорить. Мы вынырнули одновременно и, ухватившись за трап, даже не вылезая, начали стаскивать маски. — Ты видел? — задыхаясь, выпалил я. — Медузу видел? — Еще бы! — ответил Михаил, тоже с трудом переводя дыхание. — По-моему, золотая. — Ну да! А вода не доверху. Я вынырнул, а там воздух. Тут мы увидели, что все участники экспедиции, свесившись через борт, напряженно прислушиваются к нашей сумбурной беседе, и расхохотались. — Вылезайте немедленно и докладывайте! — закричал Кратов. — Что за секреты!..ПОТАЙНОЕ СВЯТИЛИЩЕ
— Я должен сам посмотреть пещеру, — решительно заявил профессор, когда мы, перебивая друг друга, рассказали о том, что видели. Мы опешили: ведь нужно нырять на порядочную глубину, а потом еще ползти по узкому туннелю, заполненному водой. И в то же время нам всем понравилась его горячность и смелость. — Василий Павлович, но… ваш возраст. И потом… — нерешительно пробормотала Светлана. — Что «потом»? Возраст у меня вполне зрелый. — Но по инструкции не полагается, — вмешался я. Ох, как он на меня свирепо глянул! Наверное, подумал, что издеваюсь над ним, припомнив, как строго он всегда заставлял нас придерживаться этой самой инструкции. Но я, честно говоря, вовсе не подумал об этом, просто боялся за нашего старика. — Должен же я когда-нибудь нырнуть! — продолжал он, воинственно выставляя свою бородку. И тут же просительно добавил: — Только никому не говорите, пусть это останется между нами. Все-таки ведь нарушение в какой-то степени, вы правы… Выходит, теперь он нас просил о смягчении жестких правил! Разве могли мы устоять? Но каждый чувствовал большую ответственность за него, поэтому все сообща стали разрабатывать детальный план. Было решено, что сначала в пещеру отправятся Михаил с Павликом. Они должны захватить с собой пустую автомобильную камеру, чтобы там надуть ее, превратив в своего рода спасательный круг. Потом укрепят под сводом пещеры лампу в тысячу свечей. Вместе с прожекторами, установленными под водой, это позволило бы нам осмотреть все уголки пещеры. Когда передовые дадут сигнал, что все это сделано, в пещеру направится Василий Павлович в сопровождении Бориса и Светланы. Мы с Наташей оставались на борту для страховки. Как ни хотелось мне снова поскорее отправиться в пещеру и первому все там осмотреть, я не стал возражать против такого распределения. Моя задача, в сущности, оказывалась самой ответственной: прийти на помощь всем остальным в случае малейшей опасности. Осуществлять так красиво разработанный план мы начали немедленно. Самой трудной задачей было, конечно, доставить благополучно в пещеру нашего начальника. С аквалангом он был хорошо знаком и надевал его с нашей помощью умело. Но ведь этого мало, нужно еще здоровье и опыт. Под тяжестью баллонов Василий Павлович совсем согнулся. Тогда мы поспешили опустить его в воду, чтобы он поскорее потерял вес и заодно потренировался в правильном дыхании. Придерживаясь за трап, он с головой погрузился в воду и сидел там, пуская пузыри. Михаил и Павлик нырнули, навьюченные лампами, прожекторами и другим снаряжением, и минут через пятнадцать уже подали условный сигнал. Теперь спустились в воду Борис со Светланой. Они попытались взять Кратова за руки с двух сторон и так провожать в морские глубины. Но старик сердито вырвался и сам первый начал довольно ловко погружаться. Три тени постепенно растаяли в глубине. Время остановилось. Мы томились на раскаленной палубе, казалось, целую вечность, а товарищи не подавали никаких сигналов. Они все еще были в пещере, пузырьки воздуха не выскакивали на поверхность. Терпение мое лопнуло, и я дернул разок за сигнальный конец, привязанный к поясу Михаила: «Как себя чувствуешь?» Он ответил тоже одним рывком: «Хорошо». Тогда я дернул за тросик трижды, приглашая его на поверхность. Он не ответил. Повторил сигнал. Он продолжал молчать. Я был совершенно бессилен: вытащить его оттуда нельзя — зацепится за выступы скалы. И тут на поверхности моря весело забулькали пузырьки. Кто-то из товарищей возвращался. Не дожидаясь, пока они выйдут из воды, я торопливо спустился по трапу и нырнул. Мне навстречу поднимались Борис и Светлана, что-то таща в сетке, заменявшей мешок. Проплывая мимо, Светлана восторженно показала мне сразу два больших пальца. Хотя в туннеле было темно, я пробирался уже уверенно, словно по коридору собственной квартиры. А пещера оказалась вся залита ярким светом. Два прожектора горели под водой, а наверху, под сводами, ослепительно сияла пузатая лампа. Между потолком пещеры и поверхностью воды оставался промежуток метра в полтора. По этому подземному озеру плавал наш профессор, придерживаясь за спасательный круг из автомобильной камеры. Он то и дело опускал голову в воду и наблюдал за работой Аристова и Павлика. Увидев меня, Кратов удивился и хотел что-то спросить, но забыл вынуть мундштук изо рта. Смутившись, он исправил эту ошибку и набросился на меня: — Вы здесь зачем? — Мне сказали, чтобы плыл вам на помощь, — слукавил я. — Ничего подобного я не поручал! Но ладно… Раз уж вы тут, помогите-ка ребятам разметить пещеру. Сверху было не видно, чем заняты под водой мои товарищи. Нырнув, я увидел, что они вбивают колышки в пол пещеры и натягивают между ними проволоку. Старик оставался верен себе: прежде всего следует разметить раскоп на квадраты, чтобы все находки разложить по определенным полочкам… Я стал помогать им, но невольно то и дело отвлекался, чтобы разглядеть получше находки. В одном углу пещеры были грудой навалены какие-то не то кубки, не то чаши. Они так блестели в свете прожектора, как будто были из какого-то драгоценного металла. Я едва не наткнулся на каменный столб, который видел при первом посещении пещеры. У его подножия лежали тот самый щит с маской Горгоны, меч, браслеты и кольца, тоже, по-моему, золотые. Рассмотреть их как следует не удалось, потому что Михаил толкнул меня в бок, приглашая приняться наконец за работу. Работа наша растянулась почти на неделю. Пока мы не разметили всю пещеру, Кратов не позволял ничего сдвигать с места. Каждый квадрат пола с лежавшими на нем предметами мы фотографировали специальным аппаратом для съемок под водой. Одновременно Василий Павлович, который каждый день нырял вместе с нами, составлял точный план пещеры. Для него это оказалось совсем нелегко. Приходилось то погружаться в воду с головой, чтобы рассмотреть находки, то снова выныривать к резиновому плотику, который мы превратили в плавучий письменный стол, положив на камеру широкую доску. Только закончив все эти подготовительные работы, мы начали выносить находки из пещеры. И, собственно, только теперь как следует разобрались в том, что нашли. Пещера оказалась довольно просторной. Длина ее достигала без малого девяти метров, а ширина — пяти с половиной. От пола до потолка, образовавшего полукруглый свод, в самом высоком месте было около четырех метров. Во времена Савмака в пещере, да и почти во всем наклонном туннеле было сухо, вода заливала только самый вход в него, но, когда уровень моря поднялся или, может быть, наоборот- опустился берег, пещера оказалась затопленной. Подробная перепись наших находок заняла почти полную тетрадку. В пещере, словно в музее, оказались собраны самые различные вещи. Еще издавна она, видимо, служила потайным святилищем тавров. Об этом свидетельствовали два громадных рельефных изображения мужчины и женщины с раскинутыми в стороны руками, вырубленные в одной из стен. Фигуры были очерчены совсем примитивно, словно рукой ребенка. Перед ними, немного отступя от стены, торчал каменный столб или, точнее, плита. Она вся была разрисована какими-то ритуальными значками. А в верхней части ее, почти достигавшей уровня воды, сверкал золотой диск с расходящимися во все стороны лучами — символ солнечного бога Гелиоса. Точно такое же изображение, как сказал Кратов, есть на обратной стороне монет, приписываемых Савмаку! — Почему восставшие рабы выбрали такой символ, — ответил профессор на наши недоуменные вопросы, — можно только гадать. Но это не единичный случай. Примерно в то же время восстания рабов потрясали античный мир во многих местах — в Малой Азии, в Сицилии, на острове Делосе, в рудниках Аттики. И вот что чрезвычайно любопытно: восставшие рабы в Пергаме тоже избрали своим символом изображение Гелиоса и провозгласили себя гелиополитами — «гражданами солнца». Вероятно, и Савмака увлекла какая-то мечта о стране счастливых, о «солнечном государстве», где не будет места угнетателям… Скифы приспособили таврское святилище для своих целей. Может быть, здесь прятались беглые рабы, собирались заговорщики. Более укромное место трудно было бы найти. Здесь они мечтали о солнечной стране… Перед изображением Гелиоса покоился на полу плоский камень. На нем сохранились следы костра. Вероятно, здесь пылал священный неугасимый огонь. А по бокам стены с золотым солнечным диском стояли два изумительных глиняных светильника. Один изображал сирену в виде полуженщины-полуптицы, а второй — богиню Афродиту, выходящую из морской раковины. — Работа несомненно греческая, — сказал о них Василий Павлович. — Вероятно, привезены из Афин и украшали какой-нибудь дворец, а скифы, захватив власть, перенесли их сюда. Среди них оказались истинные ценители красоты, хотя рабовладельцы и пытались превратить их в рабочих животных, в домашнюю скотину. Еще более причудливое смешение самых различных вещей мы обнаружили в углах пещеры. Чего тут только не было свалено в беспорядочные груды! Золотые и серебряные чаши, блюда, щиты, мечи, какие-то цепочки с драгоценными камнями. Это и были сокровища, о таинственном исчезновении которых сетовали алчные захватчики крепости. Теперь они попадут в музеи, чтобы все могли полюбоваться искусством древних мастеров. Описывать все эти замечательные находки было бы слишком долго, да и бесполезно. Их надо видеть собственными глазами. Но некоторые мне особенно запомнились и понравились. Там была громадная, вполобхвата, золотая фиала, сплошь покрытая удивительными живыми и выразительными рельефными фигурками зверей: львы терзали быстроногих антилоп, над ними кружили орлы, распластав широкие крылья… Нашим девицам особенно понравилось круглое серебряное зеркало. Оборотная сторона его была покрыта особым сплавом-электром, и на нем выгравировано изображение сидящей и отдыхающей крылатой богини победы Ники. Увы, она недолго сопутствовала восставшим… Мечты о солнечном государстве растоптали гоплиты. Для немногих уцелевших потайная пещера стала последним прибежищем. Сумели ли они перехитрить врагов и, переждав здесь опасность, ночью выскользнуть через подводный ход на свободу, уйти в большой мир, чтобы снова скитаться, прятаться, разносить по другим городам и странам неугасимые искры восстания? Или враг устроил засаду, караулил их и они предпочли погибнуть в этом подземелье от голода и жажды, но не сдаться? Для одного из помощников Савмака пещера несомненно стала гробницей. Я упоминал, что посреди пещеры, возле очага, лежали на полу золотые украшения, меч и щит с головой Медузы Горгоны. Оказывается, они валялись не как попало. Нанеся эти находки на план, Василий Павлович вдруг воскликнул: — Постойте, да ведь это же погребение! Теперь понятно, почему украшения расположены в таком странном порядке. Видите? Здесь лежал человек. Присмотревшись, мы тоже как будто начали различать очертания лежавшего здесь некогда распростертого человеческого тела. Кольца отмечали положение его пальцев, браслеты украшали запястья, щит покоился на груди убитого воина, а меч с отделанной золотом рукояткой был положен рядом с телом. Но куда же девалось само тело? И вдруг мы поняли: оно бесследно растворилось в море. Если бы вода не залила пещеру, тело покойного, может быть, превратилось бы в мумию, высохло. Но море поглотило героя навеки, и только погребальные украшения сохранили для нас его тень… Кто он был? В письме, найденном в цисте, упоминались два сподвижника Савмака, скрывшиеся в крепости, — Бастак и Аристоник. — Скорее всего, здесь погребен Бастак, — размышлял профессор. — Погребение типично скифское: рельеф на ручке меча в характерном «зверином» стиле, и сам меч короткий, массивный эфес с крестовидной сердцевиной. Типичный акинак. Но изображение Медузы Горгоны на щите, конечно, греческое. Восставшие могли похоронить и грека Аристоника на скифский манер. Во всяком случае, это еще раз подтверждает, что в восстании принимали участие не только рабы-скифы. Оно стало подлинной революцией всех угнетенных против рабовладельцев. Меня немножко разочаровало, что не нашлось никаких рукописей или записок о ходе восстания. Но эта мечта и не могла осуществиться, как я потом сообразил. Ведь у скифов еще не было письменности, а рабов никто не учил грамоте. Да и кому пришло бы в голову вести какие-то записи в горячке смертельной битвы? Но это не беда. Когда ученые как следует разберутся в подводных находках, мы наверняка узнаем что-нибудь новое о восстании отважных людей, еще тысячи лет назад мечтавших построить на нашей земле светлое Государство Солнца…ЭПИЛОГ… ИЛИ ПРОЛОГ?
…Сейчас зима. Я сижу за с голом и вспоминаю наши летние приключения. Кажется, о них рассказано уже все. Но история моя на этом не кончается. Нужно ли говорить, что я в этих поисках под водой нашел не только разные удивительные вещи, но и свой жизненный путь, свое призвание? Наверное, вы сами уже догадались об этом по тому увлечению, с каким вел я рассказ. Дядя Илья может быть спокоен: я приобрел стержень, необходимый каждому человеку. Василий Павлович и друзья, обретенные под водой, помогли мне, и теперь я студент-заочник первого курса исторического факультета МГУ. Я твердо решил разобраться до конца в печальной судьбе отважного Савмака и в других загадках истории. Частенько я наведываюсь в музей, где со щита, лежащего в отдельной витрине, смотрит на меня золотая маска Медузы Горгоны. На витрине надпись: «Найдена в Карадаге (Крым) подводной археологической экспедицией профессора В.П.Кратова». Я смотрю на искаженное гневом лицо Медузы, показывающей мне язык, и думаю: сколько еще загадок ожидает нас в морских глубинах? И мы непременно разгадаем их! Надо проверить, нет ли какой связи между этой маской и таким же клеймом на амфорах. Летом снова отправимся в море продолжать раскопки затонувшего корабля. Там могут таиться в песке и другие цисты с древними рукописями. И подземное потайное святилище еще нуждается в детальном исследовании. Там могут оказаться подземные ходы, другие пещеры. Множество приключений и открытий ожидает нас впереди. Значит, история эта вовсе не кончается, а только лишь начинается…ЕВГЕНИЙ РЫСС ОСТРОВ КОЛДУН
ПОВЕСТЬ

Глава первая НОВЫЕ МЕСТА — НОВЫЕ ЛЮДИ
Некоторые, и даже очень неплохие, ребята говорят, что иметь младшую сестру хорошо. Я с этим не согласен. Правда, может быть, все дело в том, какая попадается сестра. Мне лично не повезло, и от моей Вальки я, кроме неприятностей и хлопот, ничего не видел. Еще пока мы были в Воронеже, с ней было легче. Там у нее были подруги, у них были свои дета, и она не особенно ко мне приставала. Но, когда мы переехали на север, в становище Волчий нос, от нее прямо житья не стало. Надо объяснить, почему мы уехали из Воронежа. Папа наш был доктор, а мама — медицинская сестра. И вот пять лет назад папа умер. Я его хорошо помню, а Валька не помнит совсем. Она все время ко мне пристает: расскажи, мол, да расскажи, какой был папа, а я не понимаю, что я могу рассказать. Мы с ним про многое разговаривали. Конечно, про наши мужские дела, которые Валька все равно не поняла бы. В воскресенье ходили гулять. Иногда брали Вальку, но редко. Это понятно. Мало того что она девчонка, ей в то время было только пять лет, так что с ней папе было неинтересно разговаривать. А со мной интересно. Во-первых, мы оба мужчины, во-вторых, мне было уже восемь лет, так что мы не успевали обо всем переговорить. Даже когда мы и брали Валю, она не особенно нам мешала. Возится в песке, или в снегу, или в мячик играет, словом, занимается какой-нибудь ерундой, а мы сидим и разговариваем и разговариваем, и всегда из одного вытекало другое. Скажем, один вопрос обсудим, сразу начинаем обсуждать другой. Потом мы с папой стали ходить на лыжах. Папа всегда говорил, что у меня хорошо получается. Я много падал сначала, и мы каждый раз оба смеялись. Потом я меньше стал падать. В общем, что говорить, папа был человек настоящий. Что я могу о нем рассказать? Настоящий! Это все говорили. И другие врачи из больницы, и просто знакомые. Он и умер, как человек настоящий. Ездил оперировать одного больного километров за сорок от Воронежа, и на обратном пути, представьте себе, машина ушла в полынью на Дону. Шофер был нездешний, только приехал, мест не знал. Папа и шофера вытащил из ледяной воды и сам выбрался, и потом им с шофером пришлось километров пять по морозу идти, а у папы были больные легкие, и он тяжело заболел. Его все профессора лечили, но ничего сделать было нельзя. Нас с Валей к нему привезли в больницу, а он смеется, какие-то веселые истории рассказывает, говорит, чтобы мы маму слушались, ну, все, как всегда. А через день умер. Мы с мамой были на похоронах, а Валю не взяли, с ней соседка осталась. Очень много было народу, и плакали многие, и речи говорили. А Валька все пристает, чтобы я ей какие-то подробности про отца рассказал. Какие же тут подробности? Настоящий был человек — вот и все дело. Ну, мать у нас тоже молодцом оказалась. Я уже говорил, что она была медицинской сестрой, получала немного. Другая бы, может, раскисла, а наша нет. Нам, правда, помогали, пособие дали, мне и Вальке пенсию, пока мы не вырастем, а все-таки было трудно. И вот тут наша мать вдруг сказала: буду учиться на врача. Да, уж насчет нее можете быть спокойны, она не из тех, которые распускаются. Валю пришлось отдать в детский сад. В такой, из которого только на воскресенье домой берут, а мы с мамой кое-как справлялись. На меня, конечно, легло много хозяйственных забот: бывало, и за хлебом надо сходить, и молоко принести, и комнату убрать, и еще куча дел. Уроки я успевал выучить, а так просто пойти с ребятами по городу поболтаться — это уж приходилось редко. Ну, и маме доставалось. Бывало, проснешься среди ночи, а она все сидит занимается. Тут жаловаться не приходилось. Когда видишь, что другой больше тебя работает, так что будешь делать! Правда, больница всегда шла маме навстречу. И практику она в своей больнице проходила, и дежурства ей так назначали, чтобы легче было учиться. Три раза местком нас с мамой отправлял отдыхать. В общем, так или иначе — кончила мама институт и стала врачом. И назначило ее само Министерство здравоохранения далеко на север, на Мурманский берег, в становище Волчий нас. Мы доехали поездом до города Мурманска, а там сели на пароход. Я до этого времени никогда не видал моря и когда увидел, то очень испугался. День выдался угрюмый, пасмурный, море волновалось. Потом-то я видывал настоящие волны и знаю, что тогда волнение было пустяковое, ну, а для первого раза мне и это показалось страшно. Валька — та даже в слезы ударилась. Но я начал ее успокаивать и утешать и говорить, что ничего тут опасного нет. И как-то незаметно сам успокоился. Пароход отошел вечером, и нас с Валькой сразу же укачало. Она хныкала, а я ничего, крепился. Потом мы оба заснули. Проснулись, вышли на палубу, а уже пароход на рейде, и видно становище Волчий нос, и к нам катер спешит за пассажирами. Теперь я вам объясню, что такое становище. Это не город и не деревня. Это совсем особая штука. Значит, представьте себе так: прежде всего вы видите темные голые горы и ничего на них не растет — ни леса, ни травы. Просто камень и камень. Стоят эти горы полукругом, высокие, мрачные, только кое-где белые пятна — это еще снег не стаял. Дело-то было весной. И вот между этими горами большая бухта. Ну, залив, что ли. А в глубине залива горы отходят подальше от моря и там плоский берег. На этом плоском берегу бревенчатые пристани, а к ним пришвартованы, это если по-сухопутному сказать, значит привязаны, моторные боты. Много их, штук, наверное, тридцать. Вдоль моря идет песчаная полоса, ну, вроде как пляж, что ли. Только купаться с этого пляжа нельзя, потому что вода тут всегда холодная, даже в самое жаркое лето. Ну, а за пляжем дома. Дома бревенчатые, есть и в два этажа, но больше одноэтажные. В общем, честно сказать, с Воронежем не сравнишь. У нас какие здания, в Воронеже! Это ж просто чудеса архитектуры. Многие есть даже с колоннами. Потом сады, машины, трамваи, автобусы, асфальт блестит, ну, словом, красота. А здесь даже мостовых нет. Песок. Так по песку прямо и ходят. Валька опять расхныкалась: поедем, говорит, назад. Удивительное дело! Десять лет девчонке, и не может понять, что так просто это не делается — приехали и уехали. На маму министерство рассчитывает, знает, что в Волчьем носу есть доктор, больные ждут, может быть, волнуются. А эта на тебе: поедем назад! Говорит, а не думает, что говорит. Ну хорошо. Кое-как я ее успокоил, а тут катер подошел, и на катере человек шесть, и все, оказывается, нас встречать. Кроме нас, оказывается, никто высаживаться на берег не собирается. Люди оказались ничего, веселые. Один старик на одну руку меня взял, на другую Вальку и снес в катер. Со мной-то, наверное, не следовало так делать, в тринадцать лет нечего человека на руках носить, да ладно, он не со зла. Он, правда, молчал все, но я видел: в бороду улыбается. Потом оказалось, что это очень уважаемый здесь капитан Коновалов, настоящий старый рыбак. Даже крупные специалисты с ним советуются, потому что он замечательно море знает. Зовут его Фома Тимофеевич, и его отец и дед моряками были. Сын у него в море погиб, и он внука растит — Фому. Ну, о Фоме потом речь. Про него мне много говорить придется. Кроме Коновалова, был председатель сельсовета, председатель колхоза и две медицинские сестры. В общем, все так хорошо нас встретили, выгрузили наши вещи, а капитан парохода очень любезно простился с нами и погудел на прощание. Потом на катере мы доехали до пристани, и тут тоже народ собрался, какие-то женщины-рыбачки, и матросы, и капитаны, так что по улице мы шли целой толпой. Мы трое в середине, а и сзади, и спереди, и с боков народ. Прямо будто мы делегация какая-то. Привели нас в больницу. Больница двухэтажная, каменная. Ее только недавно построили. Стали мы больницу осматривать. Есть и рентген, и операционная, и в палатах чистенько. Лаборатория маленькая, своя аптечка. Словом, хорошо. В этом я кое-что понимаю. Все-таки и отец врач и мать врач. Здесь же, при больнице, и наша квартира. Тоже нам понравилась. Две комнаты, кухня, мебель вся уже расставлена. И у нас с Валей, у каждого, отдельный стол для занятий. Приятно, что люди подумали: у докторши, мол, двое детей, обоим учиться нужно. В общем, ходили мы по дому, осматривали, а потом я от других отстал и на улицу выбежал. Смотрю — стоит возле дома паренек лет двенадцати. Ростом, пожалуй, пониже меня, но в плечах широкий, в высоких сапогах, таких, что другому взрослому велики будут. Руки большие, каждый палец, как два моих. Стоит, ноги расставил, лицо хмурое и смотрит на меня исподлобья.
— Ты, — говорит, — докторши сын? — Я, — говорю. — Ну, здравствуй. Протянул руку, да так зажал в своей руке мою, что я чуть не вскрикнул, но удержался. — Вы, — говорит, — откуда приехали? — Из Воронежа, — говорю. — У вас там, — говорит, — небось какое-нибудь южное море? Я говорю: — Нет, у нас там моря совсем нет, у нас река. — Как это, — говорит, — моря нет! Совсем-совсем никакого? — Совсем-совсем, — говорю, — никакого. — Врешь ты, наверное! — Вот, — говорю, — чудак! Ты думаешь, все города на море? А люди и без моря живут, да еще как хорошо живут! — Не понимаю, — говорит парень, — как жить без моря. Ну, иногда, конечно, на суше надо побыть — в школе учиться приходится, в баню сходить, кино поглядеть, — а житьнадо на море. Дед мой говорит, что человек животное морское. — А кто, — спрашиваю, — твой дед? — А дед мой, — говорит, — Фома Тимофеевич Коновалов, самый, — говорит, — замечательный капитан. — А тебя, — спрашиваю, — как звать? — И меня, — говорит, — Фома Тимофеевич Коновалов. У нас, — говорит, — все через раз или Фомы, или Тимофей. А ты что ж, никогда и не видел моря? — Нет, — говорю, — вчера в первый раз увидел. — Так. — Он посмотрел на меня подозрительно. — Ну, и как оно тебе нравится? Мне-то море совсем не понравилось, но я подумал, что ему это может показаться обидным. — Да ничего, — говорю, — море. Приятное, — говорю. Он мне, кажется, не очень поверил, но спорить не стал. — Ну, — говорит, — коли так, будем с тобой дружить. Пойдем, — говорит, — я тебе коллекцию свою покажу. — Что, — спрашиваю, — за коллекция? — Там, — говорит, — много всякого: и крабы, и морские звезды, и губки, и акульи зубы. — Ну что ж, — говорю, — если ненадолго, пожалуй, пойдем. Может, меня и не хватятся. Только мы собрались идти, как, конечно, выскочила Валька. — А, — говорит, — вы без меня куда-то собираетесь! Обмануть хотели! Небось куда-нибудь в интересное место идете. Я с вами хочу. Я посмотрел на Фому, Фома — на меня. Он, видно, понял, что от нее все равно не отвяжешься. Пожал плечами и говорит: — Пускай идет. Мне половина удовольствия была испорчена. Фома показался мне парнем серьезным, и мы с ним могли бы о многом поговорить, ну, а при Вальке какой-уж туг разговор! Все равно будет во все вмешиваться и нести свою девчоночью ерунду. Мама говорит, что раз она моя младшая сестра, то я должен ей помогать, объяснять ей все и защищать ее от чего-то. Ну, защитить-то, я думаю, она сама себя защитит, такой у нее характер, а вообще-то я согласен и помогать и объяснять, только бы она в мои дела не лезла. Но вот как раз этого от нее и не дождешься. Прилипнет — и ничего не сделаешь.
Глава вторая КАПИТАН КОНОВАЛОВ БОЛЕН
Так стали мы жить в становище Волчий нос. Поначалу нам все казалось странным. Тут вся жизнь в море. Рано утром выходят боты на лов. Стучат моторы, потом стук становится все тише, боты выходят из бухты, а дальше, за бухтой, — открытое море до самого Северного полюса. Вода и вода, и ничего в этом хорошего нет. Хотя, конечно, красиво. Море огромное-преогромное, а ботики маленькие, так что даже страшно за них. Вдруг буря начнется, что с ними будет! Но Фома говорит, что ничего тут страшного нет. Раньше действительно много погибало, потому что ходили на парусах или в крайнем случае со слабыми моторами. А сейчас моторы мощные, и с таким мотором выстоять всегда можно. Это одно. А другое — это то, что теперь погоду предсказывают. Только где-то на севере зародится шторм, а уже по радио сообщают: ждите, мол. И на пристанях вывешивают сигналы. Если, скажем, погода будет хорошая, один сигнал, если ожидается шторм — другой. Каждый рыбак, отходя от пристани, уже знает, чего ему сегодня ждать. Так что несчастья бывают очень редко. Все-таки, конечно, еще бывают. Вот и отец у Фомы погиб в море. Но тогда, говорят, ужасная была буря. Я хотел расспросить Фому поподробнее про его отца, но мне показалось, что он об этом говорит неохотно. Про нашего отца я ему рассказал. Он подумал и сказал: — Хороший, видно, был человек и погиб хорошо. Мне это было очень приятно. Если человек сразу понимает такое, значит, ему можно верить. Вечером боты возвращались. Казалось, даже моторы стучали иначе, как будто устали, проработавши день. Ну и рыб же они привозили! Даже поверить трудно, что такие бывают. Красные морские окуни с высунутыми языками, огромная треска, пятнистые зубатки со страшными челюстями, плоские скаты, у которых рот на животе и хвостик как у крысы, черные морские черти — пинагоры, огромные плоские палтусы. Вместе с рыбами попадали в сети крабы, морские звезды, губки, морские коньки, водоросли. Раньше мне казалось море безжизненным и пустым, а теперь я стал понимать, что оно живет и хранит огромнейшее богатство. Рыбу сортировали, чистили, часть засаливали в огромных чанах, часть увозили на холодильник. Словом, по вечерам было очень интересно, а днем становище было пустынно, только женщины и дети оставались на берегу да еще на ремонтной базе мужчины работали. В школе занятий не было, но мы с Фомой все-таки часто туда ходили. Фома был председателем биологического кружка. Они собирали коллекции. По вечерам мы с Фомой и другие ребята рылись в сетях и если находили особенно большого краба или звезду необыкновенной формы, словом, что-нибудь интересное, то тащили в школу. Акулы в сети моторных ботов не попадали. Сети были малы. А вот траулеры — это большие рыболовные суда, у них база в Мурманске, — те часто берут акул. Так что многие ребята собирали акульи зубы. Их привозили из Мурманска, а иногда случайно в бухту заходил траулер, и матросы охотно дарили ребятам всякие редкости. В общем, жили мы ничего, не скучно. Мама даже стала ворчать, что я совсем отбился от книг, ничего не читаю и целыми днями где-то бегаю. Но я ей объяснил, что это естественно. Я попал в новые места, надо их изучить, осмотреть как следует. Она махнула на меня рукой и только требовала, чтобы я вовремя приходил к обеду и ужину. Мама сама много работала. Оказалось, что в больнице и аппаратов каких-то не было, и каких-то лекарств не хватало. Она звонила в Мурманск, волновалась, сердилась. Потом с каждым пароходом стали приходить посылки. Иногда в Мурманске что-нибудь путали, присылали не то, что надо, и опять начинались волнения. Потом одному больному надо было сделать операцию, и мама страшно нервничала и две ночи провела у его постели. В общем, хлопот хватало. Но настроение у нее было хорошее. Народ здесь оказался славный, в помощи никто не отказывал. Одна Валька бушевала. Просто мы замучились: куда мы, туда и она. Никак ей нельзя было втолковать, что у нас есть свои дела и свои разговоры и нечего с нами делать девчонке. Однажды Фома мне сказал: — Вообще-то я твою Вальку не замечаю, мне все равно, что она есть, что ее нет. Я в девчонках толку не вижу. Но завтра мне надо с тобой поговорить, я должен тебе рассказать очень важные вещи, так что ты уж как хочешь, а приходи один. Мы с тобой уйдем в горы, я там знаю места, где она нас, может быть, и не найдет. А в становище от нее никак не спрячешься. Вечером я с трудом заснул, так мне было интересно, о чем хочет рассказать Фома. А утром, проснувшись, я пошел умываться, вышел из дверей и убежал. Я решил, что умыться успею в другой раз. А разговор с Фомой о чем-то важном бывает не каждый день. Я свистнул под окном у Фомы, и он сразу же вышел. Мы направились к каменной высокой горе, но оба поглядывали назад. Все нам казалось: сейчас выскочит Валя и закричит, что мы опять от нее удираем и что она обязательно хочет с нами. Вот до чего довела нас эта девчонка! Но все обошлось благополучно, мы взобрались по каменистому склону и зашли в расселину. Тут Фома успокоился, сел на камень и с облегчением вздохнул.
— Слушай, — сказал он, — дед мой, Фома Тимофеевич, что-то скрипеть стал. — Как это — скрипеть? — Ну, словом, боли какие-то у него, колет где-то. В общем, ерунда всякая. Ладно. Пошел он к Наталье Евгеньевне, думал — она порошки даст, все и пройдет, а она, понимаешь, такой разговор повела, что ему, мол, в море ходить нельзя, надо, мол, на пенсию уходить, или в крайнем случае спокойную работку на берегу подыскать. Старик, конечно, расстраивается. Без моря-то как же? Тем более, он и не старый, ему восьмидесяти пяти еще нет, только осенью исполнится, а она, понимаешь, уперлась. И председатель поддерживает. Говорит, что раз медицина считает, так нечего спорить. Словом, плохо у нас. Дед туча тучей, бабка помалкивает, но плачет. И в самом деле, как старику без моря? Привык. — Да, — сказал я. — Чего же ты хочешь? — Может, ты с матерью поговоришь? — хмуро сказал Фома. — Ты объясни ей: старик только морем держится. Если он на берегу останется, все хворобы на него нападут. Это уж я верно говорю. Я задумался. Мне, конечно, очень хотелось помочь Фоме. Да и старик был замечательный, удивительный просто старик. Но я стал представлять себе, как я начну разговор с матерью, и что-то ничего у меня не получалось. Скажет она мне- «Не лезь, мол, не в свое дело, станешь, мол, врачом, тогда и будешь лечить, а пока тебе еще самому учиться надо». И что я ей отвечу? — Значит, не хочешь? — мрачно спросил Фома. — Конечно, к рыбакам ходить да языком болтать — тут все товарищи, а человеку помочь не каждый берется. Сначала я на него рассердился. Надо же все-таки понимать, что я бы с охотой, у меня только возможности нет, а потом посмотрел на него, и стало мне Фому жалко. Сидел он насупившийся, мрачный, и видно было, что ему очень плохо. — Ладно, — сказал я, — поговорю. Фома сразу повеселел. То есть если бы какой-нибудь человек не знал его, так тому человеку и сейчас показалось бы, что он мрачен, но я — то его уже знал и понимал, что настроение у него хорошее. — Ты сегодня поговори, — сказал Фома, — а завтра я тебя здесь ждать буду. Ты место запомнишь? — Место запомню, — сказал я, — а вот как от Вальки удрать, не знаю. — Ты ей скажи, — решил Фома, — что я ей велел в час дня ко мне прийти, краба, мол, хочу подарить. Она у меня краба все просит. Она пойдет, меня не застанет, а ты пока сюда и прибежишь. Конечно, Валька — прилипала ужасная, но все-таки обманывать человека некрасиво. Однако другого способа не было, а разговор действительно^был серьезный. Я согласился, и мы разошлись. Шли мы отдельно: я по одной улице, Фома — по другой. Я решил сказать Вале, что просто мне одному захотелось побыть, а где Фома был, не знаю. Валя, однако, ничему этому не поверила, и, сколько тут было разговоров, вспомнить противно! Она даже заплакала. По совести сказать, не могу я смотреть, как женщины плачут. Другой раз понимаешь, что плачут из-за ерунды, а все равно неприятно. В общем, кое-как это уладилось. Мы целый день были вместе с Валькой, ходили с ней на пристань и даже бегали наперегонки, как маленькие. Фома подарил ей камень, похожий на человеческую голову. Ему, кажется, тоже было неприятно, что мы Вальку обманываем. Валька совсем утешилась, развеселилась, и день прошел ничего. Вечером легли мы спать, а мама сидела у себя в комнате и читала журнал. Ей теперь привозили пароходы разные журналы по медицине. Эти журналы так написаны, что, если человек не врач, он даже не поймет, о чем там речь. Просто какие-то бессмысленные слова. Только врачи понимают. Я-то думаю: почему бы не написать просто? Если, мол, у человека справа колет, так давать такой-то порошок, а если, скажем, слева, то капли. Тогда каждый мог бы себя сам лечить и все было бы понятно. Ну хорошо. Стал я ждать, пока Валька заснет, и чуть сам не заснул. Кое-как удалось мне продержаться. Когда Валя стала посапывать, я встал и отправился к матери. Так она и сказала, как я предполагал. И что, мол, не мое дело, и что мне учиться надо, а не учить других, и что вырасту, стану врачом, тогда и буду решать. Я все это выслушал и сказал: — Ты, мама, конечно, как всегда, права. Я-то думаю, что она не всегда бывает права, но почему не сказать человеку приятное? Потом я пошел было к себе, но в дверях остановился. Все-таки хотелось мне хоть чем-нибудь помочь Фоме Тимофеевичу и маленькому Фоме. Тогда я вернулся, сел против нее и рассказал ей все, что мне говорил Фома. То есть я рассказал ей больше. Фома говорит всегда очень мало, а надо угадывать, что он думает. Он, скажем, говорит «плохо», и все, а надо представить себе, как плохо и почему. Вот я все это и расписал. И как Фома Тимофеевич целые ночи сидит у окна и вздыхает, да так, что у Марьи Степановны, его жены, сердце надрывается, как она плачет целые ночи, как Фома огорчается, как у них теперь мрачно в доме, как товарищи Фомы Тимофеевича приходят пожалеть старика, посочувствовать, а старик обижается на это, ему оскорбительно, что его жалеют. Словом, такого наговорил, что сам чуть не заплакал. Мать сидела, смотрела на меня, слушала, а потом, когда я замолчал, потому что так растрогался, что у меня даже дыханье сперло, она сказала: — Фантазер ты у меня, Данька. Не знаю, что из тебя получится. — Потом еще помолчала и сказала вдруг совсем неожиданно: — А в общем-то ты прав. Иди спать, я подумаю. Я-то знаю, что, когда мама говорит «я подумаю», это почти то же самое, как если бы она дала честное слово, что сделает. Но пойди это объясни Фоме. Я, как мы условились, отослал Вальку за крабом, сказал, что сам не пойду, потому что у меня нога заболела, и побежал на гору. Фома меня уже ждал. Я рассказал ему все, и он стал очень мрачен. — Так, — сказал он. — Подумает, значит. У людей беда, а она думать будет. Так. Как я ему ни объяснял, что это замечательно — то, что мама так сказала, что можно уже считать дело сделанным и что, конечно, Фома Тимофеевич сможет теперь и в море ходить и все, Фома мне ни чуточки не поверил. Он махнул рукой и сказал: — Ладно, пошли домой. Вернулись мы в становище мрачные, а тут еще Валька задала такой концерт, что вчерашний показался нам пустяками. Фома отдал ей краба, но это не помогло. Он дал еще другого краба, две морские звезды, кожу зубатки, но Валька бушевала. Тогда Фома посопел, вздохнул и дал ей акульи зубы. У него у самого было только две пластинки. Тут Валька уступила, и ссора кончилась.
Глава третья СТЕПАН И ГЛАФИРА. ФОМА СЕРДИТСЯ
Теперь мне надо рассказать о совсем новых людях. Во-первых, приехала из Мурманска Глафира. Глафира раньше, еще до нашего приезда, работала в больнице медицинской сестрой. Она была трусиха. Конечно, все люди чего-то боятся — один одного, другой другого. Глафира боялась всего. Она боялась мышей и тараканов, она боялась собак и кошек. Если ей нужно было поставить больному пиявки, она так этих пиявок пугалась, что падала в обморок, и вся больница вместе с больным приводила ее в сознание. Когда ей нужно было больному впрыснуть какое-нибудь лекарство, она тряслась и бледнела, будто больно должно было быть не больному, а ей. Поработав с полгода в больнице, она поняла, что при ее характере медицинской сестры из нее не получится. Тут она прослышала, что в Мурманске открываются курсы книготорговли, и решила, что это самое подходящее для нее дело. Торговать книгами, — что может быть спокойнее и тише. Надо сказать, что в становище книжного магазина еще не было. Глафира, однако, рассудила, что если уж будет продавец со специальным образованием, то и магазин откроется. Тем более, что председатель сельсовета обещал выделить помещение. Вот она и поехала в Мурманск. Проучившись три месяца, Глафира получила звание «книжного продавца с правом заведовать книжными магазинами третьего разряда» и вернулась в становище. Она сразу пришла в больницу, потому что дружила с медсестрами, и мы поэтому сразу с ней познакомились. Она была веселой, смешливой, румяной девушкой, и по виду никак нельзя было сказать, что она такая трусиха. Она сама чуть не до слез хохотала, когда рассказывала, как всего боится. Она вообще по всякому поводу хохотала. Ей было смешно и то, что новая докторша, и то, что у докторши двое детей, и то, что ее подруга вышла замуж. А, кажется, смешнее всего ей было то, что она такая трусиха. В Мурманске ей не понравилось. Шуму много и страшно. «Справа одна машина, — рассказывала она, — слева — другая, а сзади третья гудит. А меня от страху с ног сшибает, бегу, кричу, ужас-то!» — И она хохотала до слез, сама понимая, как это смешно, что молодая, здоровая девушка боится ходить по улице. Пока что она оставалась без всякого дела. Книжный магазин не открывали, да, кажется, и не собирались открывать. Намеченное под магазин помещение занято было аптекой. Дело в том, что мать потребовала, чтобы в становище была аптека, независимая от больничной. Не годится, чтобы в больницу все ходили за лекарствами: и грязно, и могут инфекцию занести — непорядок. Словом, осталась Глафира со своим образованием без магазина. Мать звала ее обратно в больницу, но Глафира только хохотала: — Что вы, Наталья Евгеньевна, да я каплю крови увижу и в обморок падаю, какая же из меня сестра! Словом, вопрос остался открытым. Утром приехала Глафира, а вечером, как только боты вернулись с моря, пришел Степан Новоселов. Пришел он в шевиотовом синем костюме и при галстуке. Степана Новоселова я знал уже раньше. Ему было двадцать шесть лет. Старики, такие, как Коновалов, в этом возрасте человека еще и моряком не считают. Они думают, надо лет тридцать поплавать, тогда только о человеке всерьез можно говорить. Но к Степану Новоселову даже они относились с уважением и иногда называли по отчеству: Степан Васильевич. Степан был матрос, но не просто матрос. Лучшие капитаны наперебой звали его к себе. Все знали, что другого такого работника не найдешь. Болтать зря он не любил, но и не был таким молчаливым, как, например, Фома. Человек был простой, душевный, никогда не пил, хорошо играл на аккордеоне и участвовал в клубном хоре. Любил и так просто петь с компанией. В становище у многих были хорошие голоса, так что пройдут по улице с песнями или уйдут подальше, чтобы не мешать людям, и доносится издали до становища старая рыбацкая песня, тихая, медленная, печальная. И за то, что он хорошо поет, его уважали тоже. В становище ценили песни и знали в них толк. Так вот, вечером пришел Степан и позвал Глафиру гулять. Как только он появился, медсестры страшно разволновались. Глафира, увидев его, покраснела, начала смеяться, но гулять пойти согласилась. Они пошли по улице, а медсестры смотрели им вслед и болтали про них. Мы, конечно, с Валей толкались рядом, но старались особенно на глаза не попадаться. Лучше, когда на тебя не обращают внимания, всегда можно больше узнать. Из разговора сестер мы поняли, что Степан второй год уговаривает Глафиру выйти за него замуж и она даже согласна, но только ставит одно условие: чтобы он бросил море. Он, конечно, ни за что не хочет. Он из морской семьи и на море вырос, ему без моря никак нельзя. Вот они и не могут поладить. Глафира говорит приблизительно так: «Вот вы, Степа, уйдете в море. Да ведь я, если ветерок подает, при моем характере от страху сразу помру. Да ведь я спокойной минуты иметь не буду. Я и сейчас-то на море смотреть не могу, а уж если у меня там любимый муж будет, так мне пропадать совсем. Уйдите с моря, Степа, мало ли работы на берегу? Вы при вашей умелости и на механика выучитесь без труда, будете на ремонтной базе работать, да и в правлении мало ли дела. Вам всякую должность дадут». А он, как рассказывали друг другу сестры, отвечает ей приблизительно вот что: «Я, мол, Глафира, для вас все могу сделать, кроме только лишь одного — не могу я, Глаша, на берегу жить Я человек морской, и для меня море первая необходимость. Подумайте сами, и мой дед, и отец, да и прадед, наверное, моря не боялись, и вдруг я испугался. Да кто ж после этого со мной говорить-то захочет?» И вот он свое, а она свое. И ничего не получается. В общем, Глафира стала пока что жить с матерью (отец у нее давно умер), днем занималась по хозяйству, поджидала, когда как-нибудь уладится вопрос с книжным магазином, а вечером ходила гулять со Степаном. И все становище видело, как они идут и тихо друг с другом беседуют. Он говорит: «Выходите за меня замуж, Глаша», а она говорит: «Бросьте, Степа, море, и с радостью выйду». И все они никак сговориться не могут. Между тем дела Фомы Тимофеевича были плохи. Председатель еще раз долго с ним разговаривал; на бот, который водил Коновалов, назначили нового капитана и решили, что Фома Тимофеевич, если хочет, может на берегу получить работу, а если не хочет, то дадут ему пенсию и будет он доживать на покое. Плохо было старику. Я был на берегу, когда в первый раз новый капитан повел в море бот, которым прежде командовал Фома Тимофеевич. Коновалов пришел его провожать. И председатель пришел, и многие рыбаки пришли, и Марья Степановна, жена Коновалова, и многие еще рыбацкие жены. Фома Тимофеевич крепился, держался спокойно, деловито, будто все было как полагается. Новый капитан, молодой парень Егоров, очень стеснялся, чувствуя, что обижает старика, говорил с ним почтительно, и вся команда с уважением глядела на Коновалова. Капитаны — прежний и новый — еще раз обошли бот. Фома Тимофеевич еще раз рассказал, что немного таль заедает, надо бы починить, что лебедка держится, но к осени надо подремонтировать, что он месяц назад договаривался насчет новой сети, так надо бы поднажать на правление. Потом говорить было уже больше не о чем. Надо было идти в море. И вот капитаны — бывший и новый — пожали друг другу руки, потом подошел проститься моторист, потом один за другим матросы, а потом Коновалов сошел на пристань и стоял, пока бот разворачивался, и долго смотрел, как он уходит в море, как становится все меньше и меньше, как, наконец, скрывается за горизонтом. И все пришедшие почтить бывшего капитана и проводить в первый рейс нового, старались не смотреть на Коновалова — мало ли, слеза сбежит у старика, так чтобы не видеть, — и долго смотрели вслед уходящему боту. И у Марьи Степановны морщилось лицо и текли слезы, и многие рыбацкие жены плакали. А потом, когда бот уже превратился в еле видную черную точку, председатель колхоза подошел к Фоме Тимофеевичу, взял его под руку, и они пошли с пристани, и за ними пошли все провожавшие, и только Фома остался на пристани, продолжая смотреть в исчезающую на горизонте черную точку.
Тогда я подошел к Фоме.

— Пошли, что ли, — сказал я, как будто ничего не случилось. — Ты хотел конструктор мой посмотреть, так возьми его совсем, и не на обмен, а так. Фома повернулся ко мне, и я даже испугался, увидев его лицо. Такое оно было злое. — Нужен мне твои конструктор! — сказал он. — Мама-то твоя все думает? Я растерялся и сказал: — Думает. — Ну вот, когда она чего придумает, тогда придешь и скажешь. — Фома повернулся и пошел с пристани. Я стоял, глядя ему вслед. — Фома, — крикнул я наконец, — что ты! Он повернулся и зло посмотрел на меня. — И все, — сказал он и пошел, больше не оборачиваясь. Тут на пристань ворвалась Валька. Она где-то играла с девчонками и, как всегда, выбрала подходящий момент для того, чтобы появиться. — Фома, Даня, — радостно кричала она, — давайте пойдем камни искать или на гору влезем! Она кинулась было к Фоме, но он так на нее посмотрел, что даже она опешила. — Что это с ним, Даня? — спросила она. Но тут я ее как следует отчитал. Я объяснил ей, что она глупая и вздорная девчонка, вечно лезущая в мужские дела, что она всем надоела, что лучше бы она играла в куклы или прыгала через скакалку, чем соваться куда не следует. Словом, я ей столько наговорил, что она даже расплакалась. Тогда я махнул рукой и пошел, и она тащилась за мной, всхлипывая и вытирая слезы. Потом мне стало ее, конечно, жалко, хотя я был зол до невозможности, не на нее зол, а вообще, а когда мне уж стало ее жалко, так пришлось мне ее утешать и уговаривать, и даже дошло до того, что я с отвращением играл с ней в пятнашки, как будто мне семь лет или я девчонка. Дня два я бродил вокруг коноваловского дома. Фома Тимофеевич все больше сидел у открытого окна, покуривал трубочку и смотрел на море. Фома очень редко показывался из дому. Если была возможность, он делал вид, что не видит меня. А если уж я прямо попадался ему на глаза, он небрежно мне кивал и шел дальше, как будто мы были с ним еле знакомы. Я очень скучал без Фомы. Пробовал играть с другими ребятами, но как-то с Фомой мы сразу сошлись, а с другими это не получалось. Я даже, к большой радости мамы, начал читать книжки. Но то ли мне не читалось, то ли книжки попадались неинтересные, — я начал с тоскою думать, что жизнь здесь, в становище, совсем уж не так хороша, как мне раньше казалось, и что хорошо было бы попасть обратно в Воронеж. Мне казалось, что я тосковал очень долго, но, когда я потом подсчитал, оказалось, что от проводов на пристани прошла только неделя до того дня, когда совершенно растерянная Глафира принесла в больницу телеграмму из Мурманска. Текст телеграммы был такой: «Предлагаем списанный вами бот сорок девять переоборудовать под плавучую книжную лавку тчк Лавке продавать книги ближайших становищах тчк Заведовать лавкой Глафире Жуковой тчк Начальник облкниготорга Семенов»,
Глава четвертая БОТ «КНИЖНИК»
Ох, как расстроена была Глафира! — Да ведь я и смотреть-то на море боюсь! — говорила она. — Уж выбрала себе специальность, кажется, к морю и подходить не надо, а поди ж ты, ужас какой! Все ее успокаивали. — Ну какое же это море? — говорили ей. — Это же даже не судно. Это же просто плавучая лавочка. Вдоль берега трюхает, и все. Чуть ветерок или тучка в небе показалась, в ближайшую бухту укроетесь. Чего ж тут бояться? Но Глафира твердила свое: — Да я как подумаю, что подо мной вода и рыбы плавают и всякая нечисть — крабы там, морские звезды, — так у меня все замирает, колени дрожат и ком к горлу подкатывает! Пока Глафира плакала, волновалась и сама над собой хохотала, бригада с ремонтной базы переоборудовала бот. В трюме, в котором в прежнее время хранилась рыба, теперь построили книжные полки и даже прилавок. Предполагалось, что покупатели будут прямо спускаться в трюм и там будет самый настоящий книжный магазин. Снаружи бот заново окрасили и на корме вывели красивыми буквами:«КНИЖНИК».С очередным пароходом прибыли книги. Тут уж Глафире некогда было ахать и ужасаться. Она целыми днями возилась в сарае, в котором временно сложили ящики. Мы с Валей зашли как-то в этот сарай посмотреть, начали помогать Глафире, и нам очень в сарае понравилось. Никогда не думал, что так приятно возиться с книгами. Последнее время я совсем от них отвык. А когда мы стали ящики разбирать, так я просто оторваться не мог. Тут были и толстые тома Горького и Чехова, и тоненькие научные брошюры, в которых рассказывалось и о рыбах, и о звездах, и о растениях. Были и детские книжки с яркими картинками. Были географические карты, были просто картины, и даже в рамах. Были ручки, перья, карандаши, резинки, банки с чернилами, тетрадки. Странно, я никогда особенно не любил учиться, а сейчас мне даже захотелось в школу. Правда, желание это скоро прошло. Когда я вышел из сарая, увидел море и каменные горы и подумал, сколько вокруг мест, куда я еще не ходил, я даже заволновался, успею ли все обойти до начала занятий. Несколько раз на пристани я видел Фому. Фома стоял молча, смотрел, как работают на боте, но сам к боту не подходил. Иногда он мне кивал головой, иногда нет. Я уже привык к этому и перестал огорчаться. В конце концов, думал я, моей вины никакой нет. А если он ни за что обижается, так пусть ему и будет стыдно. Я поглядывал на него с вызовом. Дуешься, мол, ну и дуйся. Никто на это и внимания не обращает. И вдруг однажды он подошел ко мне. — Ты, Даня, на меня не сердись, — сказал он. — Я думал, ты врешь, что докторша обещала подумать, а теперь вижу — все правда. И докторше передай, что, мол, Фома спасибо сказал. Я ничего не понял. За что он маму благодарил? Что она там надумала? Я ничего об этом не знал, но, конечно, не показал виду. — Вот и хорошо! — сказал я. — Мама у меня такой человек: раз сказано — значит, сделано. Все-таки продолжать разговор было рискованно. Фома мог догадаться, что я ничего не знаю, поэтому я сказал, что мама меня ждет, условился встретиться с ним через час и побежал в больницу. У мамы, как назло, был обход. Я прямо прыгал за стеклянной дверью от нетерпения. Наконец я поймал маму и спросил, за что сказал спасибо Фома и что такое мама надумала. — Во-первых, умойся и причешись, — сказала мама, — и руки вымой щеткой, противно смотреть, сколько у тебя под ногтями грязи. А насчет Фомы, так он доволен, что Фома Тимофеевич Коновалов назначен капитаном бота «КНИЖНИК». — Мамочка, — сказал я, — а ты тут при чем? — Ну, видишь ли, я дала заключение в свое время, что Коновалову нельзя ходить в море. Это действительно так. Сердце у него ослабело, в море бывают штормы, часто и ночи приходится на вахте стоять, а это ему не по силам. Ну, а когда пришел бот «Книжник», то я подумала: вдоль берега от становища до становища ходить — дело спокойное. Три-четыре часа в море, двое-трое суток стоянки. Ну, я пошла к председателю сельсовета и сказала ему об этом. А он очень обрадовался. «О таком капитане, говорит, как Фома Тимофеевич, только мечтать можно». Вот и все дело. — Мама, — сказал я, — ты женщина замечательного ума! Сейчас, я думаю, руки мыть не стоит, потому что я их сразу запачкаю, а вечером, честное слово, пять минут буду щеткой тереть. Мама хотела, кажется, что-то возразить, но я не дождался и побежал к Фоме. Ох, как замечательно провели мы с ним день! Валька тоже была с нами, но на этот раз даже она не мешала. Трещала она, правда, все время, но мы ее просто не слушали. С этого дня мы вместе с Фомой возились и у Глафиры в сарае, и на боте «Книжник». Фома лучше меня работал. Он работал почти как настоящий плотник. Но он не задавался, хотя его хвалили мастера, да и я сам вслух удивлялся, как он все умеет. Зато у Глафиры от меня было, пожалуй, больше толку. Я знал больше писателей, легче разбирался, кого куда нужно ставить, и Фома ничуть не скрывал, что замечает это, и даже, наоборот, часто говорил о том, как много я знаю. Между тем работы подвигались к концу, и скоро бот должен был отправиться в свое первое плавание.

Теперь Фома Тимофеевич проводил на боте почти целые дни. Он следил за работами, все проверял и покрикивал на мастеров. Мастера выслушивали его почтительно и никогда не спорили. Все побережье знало и уважало Фому Тимофеевича. Однажды были мы с Фомой на боте. В это время магазин внизу был уже совсем готов, и мы понемножку стали таскать из сарая книги и расставлять их по полкам. Натаскали мы много книг и решили передохнуть. Выпросили у мастеров кисти и стали красить рулевую рубку. У Фомы краска ложилась очень ровно, у меня не очень. Но Фома не дразнился, а, наоборот, спокойненько мне объяснял, отчего у меня плохо получается и что надо делать. Валька, конечно, крутилась рядом и скулила. Ей, видите ли, тоже хотелось красить. Краска на корабле — это очень большое дело. Разве ж можно доверить это десятилетней девчонке. Но пойди ей объясни! Фома Тимофеевич ходил по палубе, посасывал трубочку, посматривал вокруг. По чести сказать, делать ему было нечего. Работы были уже почти кончены, но просто ему нравилось, что вот, мол, он опять капитан и на борту своего судна. В это время на борт поднялся Жгутов. Я его никогда раньше не видел. Это был молодой еще парень, курносый, голубоглазый, фуражка у него была надета набок, и с другого боку торчал очень красивый, как будто завитой, чуб соломенного цвета. Он был в распахнутой куртке, тельняшке и в сапогах гармоникой. — Здравствуйте, Фома Тимофеевич, — сказал он. — Здравствуй, Жгутов, — хмуро ответил Фома Тимофеевич. — Зачем к нам пожаловал? — Да вот, Фома Тимофеевич, просьба к вам: возьмите меня мотористом. — Так, — сказал Фома Тимофеевич. — Что ж, гулять-то надоело? Пли дружки угощать больше не хотят? — Молодость, — сказал Жгутов и улыбнулся виноватой, добродушной улыбкой. — Небось, Фома Тимофеевич, и вы, когда молодой были, глупости делали. С кем не бывало! — Глупость глупости рознь, — хмуро сказал Фома Тимофеевич. — Глупость сделать- это одно, это от неразумия, а пьянствовать да гулять вместо работы — это дело совсем другое. Нет, Жгутов, попросись, может, на ремонтную базу возьмут. На берегу, если и загуляешь, большого вреда не будет. Выгонят и все. А в море ошибаться нельзя: ошибешься, и вся команда рыбам на корм пойдет. — Слово даю, Фома Тимофеевич, — хмуро сказал Жгутов, — вот увидите, как буду работать. Все грехи замолю! — Это ты в который раз слово даешь? — спросил Фома Тимофеевич. — В сотый? Или в какой? Кто ж теперь твоему слову поверит? — Зря отказываете, Фома Тимофеевич, — сказал Жгутов. — Хотите не хотите, а придется вам меня взять. Коновалов нахмурился: — Это почему же придется? — А кого же возьмете? — Жгутов опять улыбнулся, но на этот раз его улыбка не показалась мне добродушной. — С ремонтной базы хорошего механика не отпустят, это вы сами знаете, ну, а с ботов кто ж к вам пойдет? Разве моряк на плавучей лавочке согласится служить? Это для Глафиры дело, ну, и для вас, поскольку вы пенсионер. А для мужчины это даже и стыдно. Девушки в становище засмеют. Моряк с плавучего магазина! — Иди, Жгутов, — спокойно сказал Фома Тимофеевич, — спорить мне с тобой не о чем. Ты поищи другую работу, а я поищу другого моториста. — Желаю успеха! — сказал, улыбаясь, Жгутов. — А все-таки, может, еще и встретимся. Он поклонился, легко спрыгнул на пристань и ушел, сунув руки в карманы и насвистывая веселый мотив. Пока шел этот разговор, мы с Фомой перестали красить, так нам было интересно, а сейчас торопливо начали водить кистями, как будто ничего и не слышали. Хотя Фома Тимофеевич и продолжал так же спокойно похаживать по палубе да посасывать трубочку, а все-таки мы понимали, что очень его обидел Жгутов. Кажется, механик разговаривал вежливо, а если вдуматься, так ведь вот что он сказал старому капитану: «Вы, мол, развалина, для вас, мол, эта лавочка самое подходящее дело, а для настоящего моряка плавать на ней — это просто позор». Легко ли выслушать такое одному из лучших моряков на всем побережье? Фома был очень мрачен. Он даже как-то сопел особенно. Очень ему было неприятно, что так его деда обидели. Да и мне было неприятно, хотя Коновалов мне даже не родственник. Как это можно попрекать человека тем, что он постарел и здоровье у него сдало! Человек всю жизнь трудился, уважение заслужил, а ему такое говорят! Это ж надо свиньей просто быть, чтобы сказать такое! Мы с Фомой об этом случае больше не говорили. Вспоминать не хотелось. И все-таки нам пришлось вспомнить о Жгутове. Бот уже был готов. Внизу, в магазине, стояли на полках книги, лежали стопочками тетрадки, висели картины. Краска высохла на бортах, и такой он стоял красивый, бот «Книжник», что любо-дорого было смотреть! Пора бы ему отправляться по становищам, везти рыбакам хорошие книги, школьникам — тетрадки, резинки, перья, а день отплытия все не назначали. Фоме Тимофеевичу нужно было найти матроса и моториста. Так вот, он не мог никого найти. Все отказывались. Как ни уважали Фому Тимофеевича, а все-таки каждому казалось зазорным вместо настоящей морской работы ползти на плавучей лавочке от становища к становищу. Рассказывали, что и председатель колхоза уговаривал людей, и председатель сельсовета, но никто не соглашался. Некоторые придумывали какие-нибудь причины, а другие говорили прямо: «Что ж это, мол, да со мной и ребята гулять не станут и девушки меня совсем засмеют». Снова ходил Фома туча тучей, снова сидел с трубочкой у окна Фома Тимофеевич и смотрел на море. И, как ни странно, всему делу помогла Глафира.
Глава пятая НАБИРАЕМ КОМАНДУ
Пришла она как-то в больницу. Ей теперь на боте нечего было делать, все уже было расставлено и разложено. С домашними делами она управлялась быстро и, управившись, бежала в больницу, болтала с медсестрами, помогала пол вымыть, дать больному градусник или накапать капель. Вечером, когда боты возвращались с моря, приходил Степан, и они вдвоем отправлялись гулять. И вот однажды вечером, когда вся работа в больнице была переделана, сидели сестры на крылечке, разговаривали о том о сем, а больше смеялись. Лучше всего было, конечно, слышно, как хохочет Глафира. Уж надо сказать, хохотать она была мастерица. Мы с Фомой и с Валькой днем ходили на большую гору, устали ужасно, пришли, сели на камни рядом с крыльцом и молчали. Даже говорить было лень. Вернулись с моря боты, стали у пристаней, говоря по-нашему — пришвартовались, а минут через двадцать явился Степан, как всегда в шевиотовом синем костюме, при галстуке, бритый, вымытый, будто он не провел целый день на тяжелой работе в море. — Пойдемте, Глаша, пройдемся, — сказал он, как обычно. Всегда Глаша в ответ на это говорила: «Ну что ж, если разве ненадолго», — и они уходили. А сегодня Глаша вдруг сказала: — Нет, не пойду. Степан даже растерялся: — Почему это вы? — Не пойду, — повторила Глаша. — Я вас разве обидел чем-нибудь? — спросил Степан. И вот тут я увидел, что за характер у нашей Глафиры. Она встала, засучила рукава, будто собиралась драться на кулачки, уперла кулаки в бока и начала говорить: — Меня? — спросила Глаша. — Меня вы обидеть не можете. Силенки не хватит меня обидеть, а вот себя вы обижаете, это верно. Противно смотреть: почтеннейший человек, лучший капитан не может матроса найти! Человек всю жизнь проплавал, замечательный моряк, а вы, свистуны, бездельники, оскорбляете человека! Да вам еще лет тридцать поплавать, прежде чем моряками быть, а вы руки в брюки и нос кверху! «Как это мы, знаменитые мореходы, на плавучей лавочке будем плавать! Ах, над нами девушки будут смеяться!» Да что ж вы думаете, девушки дуры, да? А какого человека вы оскорбляете, об этом вы не подумали? Вам только перед девушками красоваться, да еще, не дай бог, какой-нибудь пьяница вроде Жгутова вам обидное слово кинет. У меня дед моряк, и отец моряк, и сама я морячка, хоть моря и боюсь до смерти, и я знаю, как себя настоящие моряки ведут. И уйдите, Степан, а то я такого наговорю… Смотреть мне на вас противно! Мы с Фомой только глаза вытаращили. Вот уж не ждал я от нее такой прыти! И с такой яростью она говорила, что тут уж видно было — все чистая правда и так она и думает. Медицинские сестры, ее подружки, тоже молчали, совсем растерянные. Они ничего подобного и не ждали, да она и сама не ждала. Просто так у нее вырвалось. — Спасибо за науку, — сказал Степан. — Прощайте, Глаша. Повернулся и ушел. Только он скрылся за домами, как Глаша ударилась в слезы. Ну, тут медицинские сестры ее подхватили и повели в больницу успокаивать. И уж сколько тут было пролито слез и накапано капель, даже представить себе невозможно. Когда все ушли утешать рыдавшую Глашу, Валька сказала: — Вот молодец! Подумайте только! А Фома сказал: — Хоть и боится моря, а видно — морячка природная. И больше мы об этом не говорили. Фома скоро простился и ушел. А мы с Валькой стали ложиться спать. Глашины рыданья к этому времени затихли, и медицинские сестры пошли ее провожать домой. Я, как лег, сразу стал засыпать, очень уж мы нагулялись, и вдруг слышу сквозь сон голос Фомы за окном: — Даня, Даня! Конечно, пока я вставал, Валька уже торчала в окне, как будто бы Фома ее звал. — Тебе чего? — спросила она. — Мне Даниила, — хмуро сказал Фома. Но тут высунулся и я. — Чего тебе? Случилось что? — А у нас Степан был, — сказал Фома. — Пришел, поклонился деду и говорит: «Если у вас, Фома Тимофеевич, никого лучше на примете нет, прошу вас, возьмите меня на «Книжник» матросом». Фома замолчал. Молчали и мы с Валькой. Мы даже не знали, что и сказать, так нам все это нравилось. На следующий день все становище говорило о том, что Степан Новоселов, лучший матрос, согласился пойти на «Книжник», да еще и не просто согласился, а пришел к капитану проситься. И надо сказать, никто над Степаном не смеялся. В том, что Новоселов настоящий моряк, ни у кого сомнения быть не могло. Между прочим, о разговоре с Глашей, кажется, никто ничего не знал. Она сама молчала, медицинские сестры тоже не болтали, а Вальке я сказал, что если она будет трепать языком, так хоть я принципиально и против того, чтобы бить младших, а девчонок особенно, но уж ради этого случая сделаю исключение. Вечером пришла как ни в чем не бывало Глаша. Про вчерашнее никто даже словом не помянул. Закончив работу, вышли на крылечко медицинские сестры, сидели, разговаривали, потом вернулись с моря боты, пришел Степан в шевиотовом синем костюме, при галстуке, сказал: «Пойдемте пройдемся, Глаша», и Глаша сказала: «Ну что ж, если разве ненадолго». И они ушли. И тут получился неприятный случай. Не успели они и двадцати шагов отойти от больницы, как им навстречу попалась компания. Шел Жгутов с гармошкой и еще двое ребят с ремонтной базы, такие же гуляки, как он. Увидев Степана, Жгутов остановился, перестал играть и сказал: — Ты, говорят, Степан, в лавочку продавцом поступил? И Жгутов был пьян, и эти два его дружка тоже. Они как расхохочутся. А ночь летняя, все окна открыты, народ еще не спит и все слышит. Но только Степан не растерялся. Он на минуту остановился, посмотрел на Жгутова и сказал: — Ты, друг, сам знаешь, я на любой посудине моряком останусь. И все это знают. А тебя хоть на океанский лайнер назначь — ты все равно гуляка, болтун и моряк из тебя, как из свиньи верховая лошадь. И это тоже все знают. Жгутов и его друзья не нашлись что ответить, и Степан под руку с Глафирой прошел мимо них спокойно и важно. И все-таки бот «Книжник» не мог выйти в море. Моториста не было. Коновалов захаживал и в правление и к заведующему ремонтной базой и всем хотелось ему помочь, но все только руками разводили. Желающих не находилось. Вот старик думал, думал и, как это ему ни было тяжело, пошел сам к Жгутову. Жгутову, правда, и самому было худо. Его никуда не брали. Каждый капитан знал, что с ним мороки не оберешься. Вот он и ходил без работы. Сперва его дружки угощали, а потом он всем надоел. Для него бот «Книжник» был прямо спасением. Поэтому он сказал: — Спасибо, Фома Тимофеевич, с таким капитаном, как вы, всякому лестно плавать, а насчет того, что за мной грехов много, так вот вам слово даю — как отрезано. Новую жизнь начинаю. И вот наконец было объявлено, что в понедельник в восемь утра бот «Книжник» отправляется в первый рейс. Должен был он сначала идти в становище Черный камень. Это от нашего становища ходу часа три. В одиннадцать часов должен был прибыть в Черный камень, а в двенадцать начать торговать. Об этом уже было сообщено туда по телефону, и там обещали вывесить объявление. В Черном камне бот должен был простоять, пока будет торговля. Когда все купят, что кому нужно, бот должен был идти дальше, в следующее становище, тоже ходу часа четыре. И так до тех пор, пока будет товар. В воскресенье решили с утравыйти в море, часа на четыре, опробовать бот. После ремонта судно всегда пробуют: как мотор работает, не заедает ли руль, в порядке ли компас. В субботу, в середине дня, мать взяла чемоданчик с инструментами и отправилась к Фоме Тимофеевичу. Пришли мы все к нему, то есть пришла, собственно, мама, а мы с Валей толкались под окнами. Мама измерила давление, выслушала Фому Тимофеевича и сказала: — Все. Одевайтесь. Тут мы с Валькой тихонько, стараясь не обращать на себя внимания, вошли в дом. Фома Тимофеевич уже надел рубаху и сидел очень взволнованный. По нему это никогда не видно, но я уже знал приметы. Фома и Марья Степановна тоже, кажется, волновались, так что на нас никто не обратил внимания, кроме мамы. Мама нахмурилась, увидев нас, но ничего не сказала. — Ну что ж, Фома Тимофеевич, — начала мама, — дела ваши неплохи. Вот вы отдохнули, теперь у вас и давление лучше и сердце лучше работает. Я думаю, что теперь вам море не повредит. Тем более на «Книжнике» работа не напряженная, будет когда отдохнуть. Так что благословляю вас, но только с одним условием — тяжестей не таскать и не напрягаться. Придете в порт, полежите часок-другой, отдохните. Фома Тимофеевич слушал с серьезным лицом и кивал головой, но я видел, что глаза у него чуть прищурены, и подозревал, что он не собирается так уж строго выполнять врачебные предписания. — Спасибо, доктор, — сказал Фома Тимофеевич. — По совести сказать, был я на вас в обиде, но понимаю, что вы для моей пользы старались. А насчет плавания вы не волнуйтесь, это ж не плавание. Бережком от порта к порту. Спокойнее, чем на берегу. — Де-ед, — протянул Фома, — де-ед! Капитан нахмурился. — Молчи, Фома, — сказал он, — не мешай, когда люди разговаривают! — Ну, де-ед! — продолжал канючить Фома. — Да ну дед же!.. Я не понимал, чего он хочет, и смотрел на него с удивлением. Фома Тимофеевич усмехнулся, закурил трубочку, пыхнул раз-другой и сказал: — Вот, Наталья Евгеньевна, не дает мне покоя внук. А дело-то к вам относится. Надумал я взять с собой в рейс Фому. Так он ко мне пристал, чтоб и вашего Даню взять. Я не против, плавание тихое, безопасное. Вдвоем мальчикам веселее будет, повидают наши места, с людьми познакомятся. Место на боте есть, так что, если вы согласны, я с удовольствием. У меня даже дыханье захватило. Все-таки, какой Фома молодец! Другой бы обрадовался, что его берут, и о товарище даже бы не подумал. Даже, может, еще и хвастать бы стал перед товарищем, что, мол, вот я в море иду, а тебе, мол, куда! А Фома видите какой! Это моряцкая школа. На море очень сильно чувство товарищества. Но только я об этом подумал, как выскочила вперед Валька. — Почему это Даня может идти, а я не могу? — сказала она. — Вот Глафира тоже женщина, а отправляется в рейс, и ничего тут страшного нет. — И сразу перешла на другой тон: Мамочка, миленькая, ну пожалуйста, ну голубушка! Ну что вы будете делать с девчонкой! Решается серьезный вопрос, еще вообще неизвестно, что скажет мама и пустит ли меня, а она лезет со своими капризами! Я незаметно погрозил ей кулаком, но она не обратила на это никакого внимания. — Ну, вот что, — сказала мама. — Даню я, пожалуй, пущу, он мальчик и ему уже тринадцать лет, но о Вале не может быть и речи. И ты, Валя, имей в виду: будешь ты плакать или не будешь, все равно не поедешь. Так что лично я советую тебе не плакать.Глава шестая СБОРЫ И СПОРЫ
Кажется, ясно все было сказано Вальке. Но разве можно с ней о чем-нибудь договориться! Всю субботу она рыдала. Иногда, устав громко кричать, она переходила на тихие слезы. Тогда ей можно было что-то сказать, попытаться в чем-то ее уговорить. Правда, толку все равно никакого не было, никакие разумные доводы на нее не действовали, но хоть у нас у всех в ушах не звенело. Зато, немного отдохнув и собравшись с силами, она опять начинала так визжать, завывать и рыдать, что с улицы заглядывали прохожие, не режут ли кого-нибудь в квартире у докторши. Фома принес ей вторую пластинку акульих зубов. Это было очень благородно с его стороны, потому что у него больше акульих зубов не было, а без акульих зубов — что за коллекция! Я подарил ей перочинный ножик, но она выбросила его в окно, и мне пришлось потом долго рыться в песке, пока я его нашел. Часам к восьми Валя так уходилась, что наконец заснула, и мы с мамой вздохнули спокойно. Мама ее раздела сонную, и она даже не пошевелилась, только всхлипывала во сне. Мы наконец могли поговорить с мамой. Я понимал, что, если Валька поедет с нами, все удовольствие будет отравлено, но так мне она надоела со своими завываниями, что уж я сам стал просить маму отпустить Вальку в плавание. Но мама была непреклонна. — Это вздорные капризы, — сказала она. — Я вообще распустила вас. Очень уж много пришлось мне заниматься больницей. Сейчас дело наладилось, я буду посвободнее и займусь вами как следует. Что это, в самом деле, такое! Человек должен знать слово «нельзя». Как педагог, мама была безусловно права, я не мог с ней не согласиться, но с ужасом думал о завтрашнем дне. Однако в воскресенье Валя была спокойней. Правда, она почему-то страшно сердилась на меня и не желала со мной разговаривать. Можно подумать, я виноват, что мне уже тринадцать лет и я мужчина. В общем, мне было все равно. Сердится — и пускай сердится. Мне даже лучше: приставать меньше будет. С утра мы с Фомой отправились провоз жать бот. Степан стоял на руле, Фома Тимофеевич покуривал на палубе трубочку, на пристани стоял капитан порта Скорняков. — Ну, поздравляю, Фома Тимофеевич, — сказал Скорняков. — Вот видишь, думал — отплавался, ан нет, еще походишь по соленой водице. Нас с Фомой на бот не взяли. Фома было заикнулся, что, мол, отчего бы нам и сегодня не сходить, но Фома Тимофеевич и слушать не стал. — И не приставайте, — сказал он, — а то и завтра вас не возьму. Мы замолчали. Со стариком были шутки плохи. Бот отошел, и мы с пристани любовались им. Удивительно был он красивый! Краска свежая, яркая, буквы такие броские, смотреть приятно! Он был, конечно, гораздо лучше всех остальных ботов. Валька тоже была на пристани, но, пока мы провожали глазами бот, куда-то ушла. Нам-то что. Мы обрадовались, пошли на гору, полазали по камням и о многом серьезном поговорили. К двум часам мы пришли на пристань. Фома Тимофеевич сказал, что в два рассчитывает вернуться. На море было пустынно, «Книжника» не было. Прошел час, и Скорняков стал выскакивать из своей конторы, которая была рядом с пристанью, и, приложив руку козырьком к глазам, вглядывался в даль. Уже и председатель колхоза пришел, и Марья Степановна стояла на пристани, и хоть они все молчали или разговаривали о пустяках, но мы видели, что они тревожатся, и, конечно, очень тревожились сами. Море было тихое, гладкое, в такую погоду хоть на шлюпке иди, все равно не перевернет. Было совершенно непонятно, что могло случиться с «Книжником». Часам к пяти на пристани уже собралось человек десять. Скорняков хмурый ушел в контору, и через окно было слышно, как он орал в телефон, спрашивая соседние становища, не видали ли «Книжника». Только в седьмом часу на горизонте показалась черная точка. Скорняков выскочил с биноклем, долго смотрел, потом буркнул: «Книжник», и ушел в контору с таким видом, как будто он совсем не волновался. Все остальные остались на пристани. Каждому хотелось узнать, почему мог бот опоздать на пять часов. Все, однако, делали вид, что остались просто так, мол, погода хорошая. Мужчины покуривали и молчали, женщины разговаривали о том, что привезли в лавку и какую картину будут показывать вечером в клубе. Когда «Книжник» пришвартовался, никто не задал ни одного вопроса. Такой уж тут народ, не любят болтать лишнего. Скорняков только кинул Коновалову: — Зайди в контору, Фома Тимофеевич, — и ушел к себе. Коновалов кликнул Жгутова, и Жгутов выполз из машинного, весь грязный, вымазанный мазутом и маслом до самых глаз. Он был хмур и сердит. Все трое — моторист, матрос и капитан — прошли к Скорнякову. Окно конторы было открыто настежь, и поэтому нам на пристани было слышно каждое слово. — Что случилось? — спросил Скорняков. — Мотор сдал, — хмуро сказал Фома Тимофеевич. — Шесть часов, видишь ли, возились. — Надо рейс отменять, — решил Скорняков. — С таким мотористом намучаешься. Подождем. Недельки через две обещали подослать молодежь с курсов. Выберешь себе тогда человека. Коновалов молчал. Мы с Фомой прямо чуть не заплакали. Надо же, чтобы так не повезло! — Послушаем моториста, — сказал наконец Коновалов. — Человека винить легко, — плачущим голосом заговорил Жгутов. — Если мотор старый, так что я могу делать? Карбюратор ни к черту! Трамблер не срабатывает. А виноват кто? Жгутов виноват. — На таком моторе, — рявкнул Скорняков, — хороший моторист до Архангельска дойдет! Карбюратор, видите ли, плохой! А раньше почему не заявлял? Времени сколько было? В крайнем случае, ко мне бы пришел, договорились бы с рембазой, заменили бы части. — Ну, виноват, — согласился Жгутов. — Так ведь не со зла. Бывает, мотор старый, а хорошо работает. Я ж ничего не говорю. Конечно, если части заменить, он еще поживет. — Ну как, капитан? — спросил Скорняков. Коновалов помолчал, потом сказал, будто размышляя: — С другой-то стороны еще вечер и ночь, можно сейчас с рембазой договориться. Склад не закрыт еще? — Договорюсь, — буркнул Скорняков, — откроют. — Да вы не волнуйтесь, — сказал Жгутов. — Я ночь поработаю, части заменю, он у меня как конфетка будет. Ну, случай такой получился. С кем не бывает? Недосмотрел, недодумал. Теперь-то уж научен. Сам не управлюсь — ребят попрошу помочь. Вы уж поверьте мне, пожалуйста. Порядочек будет. — Как, Фома Тимофеевич? — опять спросил Скорняков. — Я думаю, — неторопливо заговорил Коновалов, — если части заменить, так в самом деле можно идти. На две недели откладывать тоже нехорошо. План же есть, книги продать надо, да и люди ждут. Скорняков долго молчал. Мы с Фомой просто прыгали от нетерпения. А ну да не разрешит? Вот ведь беда будет какая! — Хорошо, — сказал наконец Скорняков. — Решаем. Сейчас я с рембазой созвонюсь, ты, Фома Тимофеевич, иди отдыхай и ты, Степа, а ты, Жгутов, чтоб с бота ни шагу. Сходишь сейчас за частями — и за работу! Сто раз проверь. Если что не в порядке, утром доложишь. — Да уж будьте покойны! — радостно сказал Жгутов. — Двести раз проверю. Дальше мы с Фомой не слушали. Мы побежали по улице и, наверное, километра три пробежали, просто так от радости. Потом мы поколотили друг друга кулаками, упали на спину, подрыгали ногами и только тогда наконец успокоились. — Ты, между прочим, Фома, — сказал я, — при матери об этом не говори, а то она неправильно поймет и разволнуется. Знаешь ведь — женщины. Дело-то пустяковое, а она шум может поднять. — Нет, — согласился Фома, — зачем говорить? Моряк ни жену, ни мать не пугает, это уж правило. Когда я пришел домой, Валя была довольно спокойная. Со мной, правда, не разговаривала. Я подумал, что, наверное, завтра, когда я буду уходить, она все-таки задаст жару, и поэтому решил принять свои меры. Я сказал, что мама просила меня принести книжку, взял с маминого стола первую попавшуюся и пошел в больницу. — Мама, — сказал я, — знаешь что? Давай скажем Вале, что бот в десять часов отходит. Она будет спокойно спать, а я раненько встану и уйду. А то, знаешь ли, с ней неприятностей не оберешься. Мама подумала и согласилась. — Нехорошо, конечно, — сказала она, — обманывать девочку, ну, да ведь для ее же пользы. Я ей сама объясню. Я сбегал к Фоме и договорился с ним. Вечером, когда мы пили чай, он пришел и сообщил, что отход наш перенесен на десять часов, потому-де, мол, что берем мы еще кое-какой груз для Черного камня и раньше погрузить не успеем. — Ну, вот и хорошо! — сказал я. — Значит, выспимся. Я с опаской поглядывал на Валю. Всегда, когда говоришь неправду, голос звучит неискренне и все догадываются, что ты врешь. Но Валя ни в чем не усомнилась. — А проводить мне их можно, мама? — сказала она. — Можно, — сказала мама и покраснела. Я испугался. Уж теперь-то, думаю, заметит. Но мама сразу встала, пошла мыть посуду, и Валя ничего не заметила. Фома ушел, а мама стала меня собирать в плавание. Предполагалось, что рейс будет продолжаться недели две, так что взять надо было много чего. Мама села штопать носки, потом чинила рубашку, пришивала к куртке пуговицы, потом поставила утюг, стала гладить. Я тоже разбирал кое-что из вещей. Я взял тетрадь и карандаши, потому что решил вести дневник путешествия. Всегда на кораблях, как это известно каждому, ведется корабельный журнал, а на ботах, Фома говорит, этот журнал не ведется. А между тем, думал я, у нас, может быть, тоже будут какие-нибудь приключения. Хоть, казалось бы, и идем бережком, а все может случиться, — как-никак, море. Даже, собственно, не море, а океан! Я все время поглядывал на Вальку. Мне хотелось, чтобы она скорей заснула. Не почему-нибудь, а просто на всякий случай: вдруг еще устроит какой-нибудь скандал. Но Валька, как назло, и не думала спать. Она лежала спокойно, с открытыми глазами и смотрела на меня. Подумав, я решил, что так даже лучше: пусть попозже заснет — больше надежды, что не проснется утром, когда я буду уходить. Потом мне стало стыдно, что мы ее так обманываем. Я подошел к ней и сказал: — Знаешь, Валька, ты на меня не сердись. — Валька молчала. — Я ведь не виноват, — продолжал я. — Да и потом, понимаешь, раз мы здесь живем, так все равно раньше или позже тебе придется поплавать. Вот подрастешь немного и пойдешь в рейс на том же «Книжнике», а может, и на большом каком-нибудь судне, куда-нибудь далеко-далеко. Я ведь тоже был когда-то маленьким, и мне многое не позволяли, и тоже я огорчался и думал, что никогда это не кончится. А теперь видишь стал большим… ну, не совсем большим, но все-таки. Так и с тобой будет. Так что ты не сердись на меня. А про себя я добавил: «И еще не сердись за то, что я тебя обманываю и завтра уйду, не простившись». Хотя Валька и не слышала этих моих последних слов, а все-таки мне стало легче. — Ладно, — сказала Валя. — Подожди еще. Я вырасту и не в такое плавание пойду. Я окончательно не решила, но, может, я моряком буду. Очень просто. Бывают женщины-капитаны, я знаю. Мне рассказывали. Я ее похвалил, что она собирается выбрать себе такую интересную профессию, и лег спать. Хоть я и знал, что завтра она на меня будет сердиться, а мне все равно было приятно, что мы с ней помирились. Не люблю ссориться. Я только, казалось мне, заснул, как уже мама меня разбудила. Валя спала как убитая. Долго, наверное, вчера не засыпала. Я совершенно бесшумно встал, оделся и ушел в мамину комнату. Там мама начала мне объяснять, чего я не должен делать. Я прикидывался, что слушаю очень внимательно, и думал о своем. Все равно я знаю, что позабыл бы мамины нравоучения, как бы внимательно их ни слушал. Из того, что до меня доносилось, я понял, что нельзя все. Можно только сидеть, очень тепло укутанному, в трюме и говорить: «спасибо» и «пожалуйста». Не знаю, зачем родители так много не позволяют. Ведь это же все равно невозможно исполнить. Наконец мы с мамой поцеловались. Я взял мешок и вылез в окно. До отхода бота оставался час. Теперь я уже меньше волновался. Валя спит, шума больше в комнате никакого не будет, и она, наверное, проснется в полдень. Я-то знаю, какая она соня. Еще я подумал, каково придется бедной маме, когда Валька поймет, что ее обманули. Да, я должен быть очень маме благодарен- это не шутка принять на себя такой удар. Размышляя об этом, я дошел до пристани.Глава седьмая ПРОЩАЕМСЯ С ВАЛЕЙ
Я бывал на пристани каждый день, даже по нескольку раз, часто подолгу смотрел на море, и никогда мне не было страшно. А сейчас, представив себе, что на маленьком ботике мы уйдем далеко от берега, я испугался. Фома Тимофеевич, да и вообще все моряки считали плавание на «Книжнике» береговым плаванием, но я — то знал, что это только так говорится — береговое. Конечно, не за сто километров уйдем, а все-таки будем так далеко, что, может, даже и скроется берег из глаз и окажемся мы одни посреди пустынного, бесконечного моря. Я стал гнать от себя эти трусливые мысли, но они всё не проходили. Странная штука страх. Можешь сколько угодно знать, что никакой опасности нет, и все равно бояться. Так, выйдя из дому в чудесном настроении, я подходил к пристани огорченный и недовольный. Фома уже ждал меня. Он стоял на палубе бота и сразу заметил, что настроение у меня скверное. — Ты не боишься ли, Даниил? — хмуро спросил он. — Немного страшновато, — сказал я, глупо улыбаясь. — Да ну, страшновато! — сказал Фома презрительно. — Это же разве судно? Это же плавучая лавочка: бережком, от становища к становищу, пожалуйста, покупайте книжки, тетрадки, перья, карандаши, понимаешь? — Понимаю, — неуверенно согласился я. — Ну, и что же? — хмуро спросил Фома. Я тяжело вздохнул. — Ничего особенного, конечно, а все-таки честно тебе скажу — немного боюсь. Фома посопел, посмотрел на меня и с сомнением произнес: — Так, может, тебе не идти? Скажем, что захворал или что. По совести сказать, я и сам сомневался. Море кругом было, правда, тихое, небо чистое, ни облачка, а все-таки вспомнил я наши комнаты, и как там спокойно, и книжки лежат… почитать можно или погулять… — Нет, пойду, — сказал я решительно, хотя и вздохнул, поняв, что теперь уже обратного хода нет. Фома счел разговор конченым и заговорил о другом. — Вот ведь странность какая, — сказал он: — Жгутов должен был всю ночь работать, а его почему-то нет. Только он это сказал, как мы увидели Жгутова. Жгутов шел быстрыми шагами, держа в руке чемоданчик, и очень внимательно на нас смотрел. — Вы когда же явились? — спросил он, перемахнув через борт. — Я ведь только ушел недавно. — Мы сейчас и пришли, — ответил Фома. — А капитана нет еще? Почему-то Жгутов смотрел на нас подозрительно. Мне даже стало неприятно: в чем он мог нас подозревать? — Сейчас придет, — сказал Фома. — И Степана нет? — спросил Жгутов. — Нет. — Молодые морячки спешат на море! — Жгутов смотрел на нас улыбаясь. — И Глафиры нет? Значит, вы первые. Я-то ведь не считаюсь. Я целую ночь с мотором возился. Зато теперь хоть в Австралию отправляйся. Вот пришлось сейчас на рембазу сбегать. Кое-какие детальки захватить. Пусть лишнее будет, не помешает. А на рембазе у меня кладовщик знакомый, так разбудить пришлось. Зато уж теперь все в порядке, лучше быть не может. Он еще раз улыбнулся нам и полез по тралу вниз. — Пустяковый человек, — хмуро сказал Фома, когда голова Жгутова скрылась в люке. — Болтает, болтает, а зачем — неизвестно. — Слушай, Фома, — спросил я, — а мы не опаздываем? — Боишься, что Валя проснется? — сразу сообразил Фома. — Нет, уйдем вовремя. Дед у меня как часы, да и Степан человек аккуратный. Вот разве Глафира… Только он это сказал, как появилась Глафира. Она нас не видела. Она даже и не смотрела на бот, она смотрела на море и шла как-то странно — два шага сделает, остановится и качнется, будто ее кто-то назад дергает. II что-то она про себя бормотала. Что она бормочет, нам не было слышно, но то, что ей очень страшно, было видно сразу. Прямо ее трясло от волнения. Когда она подошла ближе, мы даже могли разобрать ее бормотание. — Ой, мамочка, мама! — повторяла она. — Ой, да что ж это такое, мамочка, милая! Нам с Фомой стало смешно, мы фыркнули, и тут только Глафира заметила нас. Она громко и весело засмеялась. — Вот смеху-то! — сказала она. — Иду, и будто меня сила какая держит. Ой, думаю, боюсь! Рассмеявшись, она, видимо, приободрилась, взошла на бот совсем нормальной походкой и огляделась с очень веселым лицом, но, увидев бесконечную морскую даль, вдруг охнула, опустилась на люк и закрыла лицо руками. — Вот ерунда какая! — сказала она. — Как увижу проклятое, так колени и подгибаются. И она торопливо спустилась в трюм, наверное, для того, чтобы не видеть бесконечной морской дали и не думать о рыбах, крабах и всякой нечисти, которая водится под этой сверкающей водной поверхностью. — Смешно! — сказал я. — И чего бояться, не понимаю. Я сразу же покраснел. Это было просто удивительно глупо: только что я сам каялся, что боюсь, а теперь смеюсь над Глафирой. Фома посмотрел на меня исподлобья, но, увидев, что я красный от стыда, промолчал. И так все было обоим понятно. Пришел Скорняков, отпер дверь конторы и раскрыл настежь окно. Показались Фома Тимофеевич и Степан. Фома Тимофеевич шел налегке, посасывая трубочку, неторопливый, важный, а Степан шагал с ним рядом, неся в руках два чемодана. Он решил оказать уважение старику, зайти за ним домой, помочь поднести вещи. Они прошли не торопясь по пристани, поздоровались со Скорняковым, сидевшим у открытого окна, за письменным столом, и поднялись на борт. — Молодежь уже, значит, здесь, — сказал капитан. — Та-ак, это хорошо, что пришли вовремя, только ты что ж, Фома, не поел? Бабка-то ведь ругается. — А я, дед, молока попил, — сказал Фома, — и хлеба съел во какой кусище! — Так, — кивнул головой Фома Тимофеевич, — Жгутов здесь? — Здесь. — Кликни-ка его, Степан. Но Жгутов уже сам вылез из люка. — Все в порядке, Фома Тимофеевич, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Всю ночь возился с мотором. Теперь можно спокойным быть. — Так ли? — хмуро спросил Фома Тимофеевич. — Зря не верите, — заскулил Жгутов. — Целую ночь глаз не смыкал. Утром еще на ремонтную базу бегал, кое-что из запчастей взял, знаете, чтоб уж наверное было. А вы меня же ругаете! Обидно, Фома Тимофеевич! — Да, — сказал Степан, — вид у тебя, Жгутов, невеселый. — А ты ночь не поспи, — обиженно возразил Жгутов, — какой у тебя вид будет? В Черный камень придем, там и отосплюсь, зато на мотор теперь положиться можно. — Ладно, — сказал Фома Тимофеевич, — если в порядке, значит, в порядке. Тут на палубу поднялась Глафира. Она стала лицом к берегу, чтобы не видеть пугавшего ее моря, и поклонилась капитану. — Здравствуйте, Фома Тимофеевич, — сказала она, — и вы, Степа, здравствуйте. Капитан и матрос поклонились ей. — У тебя, Глаша, все в порядке? — спросил Коновалов. — Товару хватит? — Как покупать будут, Фома Тимофеевич, — сказала Глафира. — Первый раз ведь идем. Книг-то много, да ведь кто знает. Может, все сразу раскупят, а может, и останется. «Ну чего же мы не уходим?» — думал я про себя. Мне казалось, что все, как нарочно, двигаются необыкновенно медленно, медленно говорят, а мне бы уж так хотелось, чтобы бот отошел от пристани! Пускай тогда Валька просыпается сколько угодно. Жалко, конечно, маму, но уж тут ничего не поделаешь. Между тем Фома Тимофеевич зашел со Степаном в рубку, Глафира опять спустилась к себе в лавку, а Жгутов пошел к мотору. Мы остались вдвоем на палубе. — Неужели еще рано? — спросил я Фому. — Ведь, кажется, все в порядке, пора отправляться. — Вали боишься? — спросил Фома. — Зря. — Потом помолчал и добавил: — То есть не зря, собственно, а просто поздно уже бояться. Вон она бежит. Я посмотрел и охнул. Точно вихрь двигался по улице. Это с невероятною быстротой к пристани бежала Валька. Фома как-то дернулся, будто собирался бежать, но совладал с собой и только засопел очень громко. А я стоял неподвижно: я понимал, что мне никуда не уйти и никуда не спрятаться. Валька влетела на пристань и остановилась перед ботом. — Стыдно, стыдно, стыдно! — сказала она. — Ух, теперь реву будет! — пробормотал Фома. — А еще пионеры, а еще пионеры! — кричала Валька и даже пританцовывала от ярости. — И так врут, так врут — и кому? — маленькой, младшей! И не стыдно маленькую обижать! Я понимал, что спорить с ней бессмысленно, но все-таки следовало же ей объяснить. — Ну разве я тебя обижаю? — сказал я. — Ведь мама тебе не позволила, а не я. Я-то тут при чем? Валя взбежала на бот и стала передо мной, уперев кулаки в бока. — Не обижаешь? — яростно переспросила она. — Хорошо, что я умнее вас, мальчишек, так вам и не удастся меня обидеть, я сама всякого мальчишку обижу, вот что! Вруны, вруны! Я жалобно посмотрел на Фому. — Ну что ты с ней будешь делать! — сказал я. Фома решительно шагнул вперед и стал перед Валей. — А вот я тебя сейчас за косы выдеру, — сказал он низким и страшным голосом. Валя испугалась, отступила назад, и глаза у нее от страху сделались круглые-круглые, но Фома вдруг махнул рукой и отвернулся. — Не могу я драться с девчонками, — сказал он. — Противно мне. Валька поняла, что ее дело выиграно, и сразу же осмелела. — Давай, давай, — закричала она, — попробуй! Испугался, испугался? — Поди ты поговори с ней! — опять махнул рукой Фома. — Не знаю, Даня, как ты ее терпишь! Если бы у меня была такая сестра, я бы сбежал из дому. — Теперь я же плохая! — чуть не плакала Валя. — А вы, честные, да? Ну, сказали бы прямо: идем в рейс без тебя. Нет, обязательно надо солгать. «Отходим в десять часов, до десяти спи спокойно, Валечка». Но я вас, мальчишек, насквозь вижу. Я сразу поняла — тут обман. Я полночи не спала, все следила, а под утро заснула. Проснулась, а Даньки нет, сбежал! Думали, я просплю, да? Это хорошо, да? Я еще раз попытался поговорить с ней, как с разумным человеком. — Ну не можем же мы тебя взять, — начал я ей втолковывать, — если мама не позволяет. Пожалуйста, договорись с мамой. Разве я буду возражать? — «Договорись»! — захныкала Валя. — Договоришься с ней, если она ничего понимать не хочет! Ей объясняешь, а она все свое — нельзя и нельзя… — Она вдруг замолчала, даже как-то скрючилась, сказала: — Ой, вот она! — и спряталась за рубкой. Действительно, по пристани шла мама. У меня отлегло от сердца. Я так и знал, что в крайнем случае мама выручит. Не оставит же она в беде родного сына. Мама шла быстрыми и решительными шагами. Видно было, что она находится в боевом настроении. — Вали здесь нет? — спросила она металлическим голосом. — А, — пробормотал Фома, — будешь знать, как кусаться! — Потом любезно обратился к маме: — Здесь она, Наталья Евгеньевна, здесь. Вот только за рубку зашла. — И ласково позвал Валю: — Иди сюда, Валечка, иди, твоя мама пришла. Валя вышла из-за рубки, показала незаметно для мамы кулак Фоме и сказала голосом послушной, хорошо воспитанной девочки: — Да, мамочка, я здесь. — А кто тебе позволил быть здесь? — сказала мама, поднимаясь на борт бота. — Ведь я же сказала, что в рейс ты не пойдешь. — А почему Даньке можно, — прохныкала Валя, — а мне нельзя? Это справедливо, да? — Если сказано — нельзя, — решительно заявила мама, — стало быть, и говорить не о чем! Валя понимала, что дело ее проиграно. Она, в сущности говоря, уже смирилась. — Я же ничего, — сказала она, — я же просто проводить Даню. Разве и этого уж нельзя? В голосе ее были слезы. Это хуже всего, когда она такая кроткая. Пока она кричит и бунтует, я на нее злюсь и мне от этого легче, а когда она такая беззащитная, обиженная, несчастная, у меня на сердце все так и скребет. Мама тоже, видно, смягчилась. — Ну, проводить можно, — сказала она. — Проводи, если хочешь. Но Валя решила нас замучить своей кротостью. — Нет, — сказала она печально и спокойно, — теперь мне уж расхотелось. Пойду домой. — Как хочешь, — пожала мама плечами. Валя подошла ко мне и протянула руку. — До свиданья, Данечка, — сказала она, — счастливого тебе путешествия. — Потом она пожала руку Фоме и тоже сказала скромно и ласково: — До свиданья, Фома. Мы оба чувствовали себя злодеями. Мы попрощались с ней, и она пошла с бота, маленькая, обиженная судьбой девочка с узенькими плечами и тоненькими косичками. Мама посмотрела ей вслед и вздохнула. — Все-таки она хорошая, — сказала мама, — когда не капризничает. Валя, не оборачиваясь, прошла по пристани, и мы долго видели несчастную ее фигурку. И у всех нас троих надрывалось сердце. Наконец Валя скрылась за поворотом. Ведь вот как она удивительно умеет доставлять неприятности! То она устраивает такие сцены, что хочется ее исколотить, мешает, раздражает, лезет не в свое дело. То она вдруг начинает вести себя хорошо. Казалось бы, только радоваться, а на самом деле это еще неприятнее. Чувствуешь, что ты какой-то злодей, а она несчастная, страдающая, терпеливая. Нет, удивительно умеет она доставлять неприятности!Глава восьмая УХОДИМ В ПЛАВАНИЕ
Как бы там ни было, а все это уже кончилось. Ну, может быть, потом, когда мы вернемся из рейса, Валя и вспомнит как-нибудь эту историю, но это будет еще не скоро. Сейчас предстояло плавание, морская жизнь, новые места, новые люди, и пока неприятности с Валей были покончены. Правда, трудные минуты еще предстояли. Мама, конечно, притащила какой-то шарф и стала требовать, чтоб я обмотал себе шею, так что мне просто было стыдно людям в глаза смотреть. Потом набила мне карманы порошками и велела, чтобы мы с Фомой принимали их каждый день. Это оказалась аскорбиновая кислота. Мама сказала, что если глотать эти порошки, так будешь чувствовать себя лучше. Может, это и действительно так. Только мне-то ни к чему, я и без них чувствую себя превосходно. В конце концов и с этим уладилось. Насчет порошков мы с Фомой переглянулись и оба поняли, что рыбам и крабам порошки тоже будут, наверное, полезны. И пусть себе едят на здоровье. А шею шарфом я обмотал, решив, что терпеть недолго и что минут через десять, как только мы отойдем, я его сниму и о нем навсегда забуду. Потом мама подошла к капитану, поздоровалась с ним, и мы все вместе спустились в кубрик. Мама хотела посмотреть, где мы будем спать. Там было мест даже больше, чем нужно. Шесть коек в два этажа располагались по трем сторонам кубрика. С четвертой стороны была дверь и трап, который вел на палубу. Фома Тимофеевич, Степан и Жгутов должны были спать внизу, а мы с Фомой — на верхних койках. Одна верхняя койка оставалась даже свободной, потому что Глафире полагалось спать в магазине. Там у нее была койка под прилавком. Магазин мы тоже все осмотрели. Глафира показывала, как удобно разложены книги, так что каждую книгу легко достать, а если вдруг будет качка, то тоже не страшно, потому что на полках книги закреплены специальными рейками, и пусть сколько хочешь качает, а ни одна книга не вывалится. Зашли и к Жгутову. Жгутов возился с мотором, он был хмур и жаловался, что ему хочется спать, потому что всю ночь он работал, но Фома Тимофеевич сказал, что часа через три придем в Черный камень и там пусть он хоть сутки спит. Потом Степан остался помочь Глафире, а мы поднялись на палубу, и мама стала прощаться с Фомой Тимофеевичем. — Я очень рада за вас, — сказала она, — что вы идете в рейс. Я ж видела, как вы огорчились, что вам плавать нельзя. А на «Книжнике» ваше здоровье идти вполне позволяет, и вы все-таки в море будете. — Спасибо, Наталья Евгеньевна, — сказал капитан. — Конечно, судно как раз по мне. На нем только и место малым ребятам да старым развалинам. — Вас, Фома Тимофеевич, — с упреком сказала мама, — все побережье знает, а вы говорите — развалина! — Ладно, товарищ доктор, — хмуро сказал капитан, — конечно, тут хоть морским ветерком подышишь, а все-таки я вам скажу — обидно старику на этой калоше плавать. В это время на палубу поднялся Скорняков. — Ну, как у тебя, Фома Тимофеевич? — спросил он. — Все в порядке, — сказал капитан, — к отходу готовы. — Мотор наладили? — Наладили, — сказал Фома Тимофеевич. — Жгутов целую ночь возился, ремонтировал. Опробовал под утро, говорит — хорошо работает. — Если Жгутов будет себе позволять чего-нибудь, — сказал хмуро Скорняков, — ты мне сразу звони. Я ему такого пропишу, что он у меня запляшет! — Может, исправится парень, — сдержанно сказал Коновалов. — Хорошо бы, — кивнул головой Скорняков. — Механик он неплохой, не был бы болтуном и гулякой… Ну ладно. Восемь часов, пора вам отправляться. Между прочим, до Черного камня идите, не задерживаясь. Рассчитай так, чтобы к одиннадцати быть обязательно, а то во второй половине дня прогноз на шторм. После трех часов обещают. — Ну, — сказал Фома Тимофеевич, — если не к одиннадцати, так к двенадцати мы уж наверное будем в Черном камне. Сколько баллов обещают? — До восьми, — сказал Скорняков. — Ну что ж. Пока штормит, мы и расторгуемся. Рыбаки-то будут на берегу. В свободное время как раз хорошо книжку купить, почитать. Мама, конечно, разволновалась. Мне за нее даже стыдно было. Она начала говорить, что, может быть, отложить рейс, что не опасно ли, то, се. Ну, капитан бота и капитан порта ей объяснили, что все это, конечно, чепуха. В общем, наконец все уладилось, мама и Скорняков сошли на пристань, Фома Тимофеевич вызвал Степана, дал команду, застучал мотор, и, можете себе представить, мы наконец отошли от пристани. Глафира на минуту высунулась из люка, увидела море, охнула и скрылась опять. Степан стоял на руле. Пристань отошла назад, мама махала нам платком, громко пожелал нам счастья Скорняков, мотор ровно застучал, пристань становилась все меньше и меньше. Я думал, на пристани покажется Валя, думал — захочет все-таки проводить. Но Вали не было. Видно, она очень обиделась и хотела показать, что ей даже и неинтересно смотреть на наше судно и на то, как мы уходим в плавание. Ну, и не надо. Нам и без нее было хорошо. Даже еще и лучше. Стучал мотор. Мы уходили в море. Оказалось, что оно совсем не страшное. И следа боязни у меня не осталось. Кажется, за последнее время навидался я моря, но только сейчас, отойдя от берега, я по-настоящему понял, какое оно красивое. Небольшие волны ходили по морю, и от этого казалось, как будто бот двигается скачками. Приподнимется, рванется вперед, потом грудью навалится на воду, и вода плещет под ним, да так весело, так бодро плещет, что одно удовольствие слушать. Все страхи отошли куда-то. Оно было совсем не страшное, море, оно было радостное и большое. Даже Глафира, кажется, перестала бояться. Она сперва неуверенно высунулась из люка, осмотрелась и сразу спряталась, потом высунулась еще раз и уже пробыла подольше, а потом нерешительно поднялась на палубу. Степан стоял у штурвала. Он увидел Глафиру и улыбнулся ей, и она в ответ смущенно ему улыбнулась. — Не страшно, Глаша? — спросил Степан. — Стерплю, — ответила Глафира. Может быть, ей было и страшно, но только и весело тоже. Больно уж хорошо было вокруг. Фома Тимофеевич, попыхивая трубочкой, прогуливался по палубе взад и вперед. Кажется, он забыл, что приходится ему вместо настоящего судна командовать какой-то плавучей лавочкой. Лавочка там или не лавочка, а кругом все равно океан, и от одного этого хорошо на душе. Я посмотрел назад и удивился. Кажется, совсем недавно мы отошли, а берег уже был далеко-далеко, и домики стали маленькие, и даже скалы, на которые мы с Фомой лазили и с которых страшно было смотреть вниз, отсюда казались совсем невысокими. Мы шли от берега наискось. Берег удалялся от нас и в то же время плыл мимо нас. Показывались новые, еще мною не виданные безлюдные бухты и новые, не виданные мной каменные горы, потом большая гора проплыла мимо нас и закрыла становище, и мы шли теперь вдоль пустынного, безлюдного берега, такого, о каких я только в книжках читал, а сам никогда не видел. Разговаривать не хотелось. Молчал Фома Тимофеевич, попыхивая трубочкой и прогуливаясь взад и вперед, молчал Фома, подставляя голову ветру и только посапывая от удовольствия, молчал и я, наслаждаясь тем, что вот я и путешествую, плыву вдоль пустынных берегов, и представляя себе, как было б хорошо открыть неизвестную бухту или какой-нибудь остров, придумать ему хорошее название и нанести на карту. Еще я подумал, что славно бы поехать в Воронеж. Пришел бы к нам в школу, стал бы рассказывать о здешних местах и о том, какие я совершил путешествия, и весь наш класс слушал бы открыв рот, а некоторые из ребят говорили бы, что я, наверное, все вру, но на это бы никто не обращал внимания. Каждому было бы ясно, что они говорят из зависти. Потом я услышал негромкий разговор Степана с Глафирой. Глафира стояла рядом с рулевой рубкой, стекло в рубке было открыто, и им было удобно разговаривать. — Вот странно, — говорила Глафира, — я Фому Тимофеевича на берегу ни чуточки не боюсь, а на судне прямо дух захватывает. — Что же тут странного, — сказал Степан, — на берегу он всего только Фома Тимофеевич, а на судне он капитан. — Нет. — Глафира покачала головой. — Тут не то. Просто я на море всего боюсь. — Надо, Глаша, привыкать. Выйдете за меня замуж, станете женой моряка, вам моря нельзя бояться. Глафира долго молчала. Потом она заговорила печально, тихо: — Какая же, Степа, у нас может быть с вами жизнь? Я море знаете как не люблю? — Она говорила и смотрела в бесконечное сверкающее море. — Ужас, как не люблю! Ночью мне море приснится, так я вся дрожа просыпаюсь. А вы ведь без моря не можете. Она сказала это полувопросительно, будто надеясь, что Степан откажется от моря и тогда все уладится и все будет хорошо. Но Степан ответил грустно и коротко, будто извиняясь: — Да, не могу. — Ну, вот видите! — сказала Глафира. — Что — видите? — повторил Степан. Он глядел вперед, и казалось, что он обращается не к Глафире, а просто так, куда-то в пространство. А говорил он настойчиво и убежденно: — Ничего я не вижу. А как все моряки живут? Конечно, когда муж в рейсе, жена на берегу, но уж зато муж из рейса пришел — водой супругов не разольешь. Гости придут посидеть — муж рассказывает, что в рейсе случилось: может, шторм был или машина испортилась, чуть на скалы не нанесло или еще что, — а жена сидит, переживает. II печка натоплена, чистота кругом, половички постланы, самовар шумит. Хорошо! Он говорил это будто сам себе, будто Глафиры и не было рядом, и так же, как будто для себя, сказала Глафира: — А потом вы опять в рейс уйдете, а я ночи не буду спать, думать, что с вами, не случилось ли чего. — Все равно, — убежденно сказал Степан, — ни мне без вас не жить, ни вам без меня. Тут, Глаша, уж ничего не сделаешь. — То-то и беда, — сказала Глафира. Я посмотрел назад. Берег был теперь далеко-далеко. Уже нельзя было разглядеть ни скал, ни бухт, ни ущелий. Только черная гряда тянулась по самому горизонту, низкая, черная, неровная гряда. Мы были одни в бесконечном море. Ровно стучал мотор, «Книжник» весело налегал грудью на волны и расплескивал их, будто играл, радуясь широкому морскому простору. Жгутов вылез на палубу, присел на край люка и закурил. — Как работает, Фома Тимофеевич! — сказал он. — Слышите? Часы! Со мной не пропадете. Фома Тимофеевич буркнул что-то очень недовольно, и в этот момент наступила тишина. Я сперва даже не понял, отчего так тихо. Волны плескались о борта «Книжника», чайка, крича, пролетела над самой палубой, и, несмотря на это, было удивительно тихо. Я увидел испуганное лицо Глафиры, увидел, как Фома Тимофеевич резко повернулся к Жгутову, как Жгутов торопливо прыгнул вниз, в люк, и тогда только понял, что произошло: замолк мотор. И сразу тишина, неожиданно наступившая, показалась мне страшной и грозной, и сразу у меня сжалось сердце. Я посмотрел на Фому. Нет, Фома был как будто спокоен, хотя у этих поморов разберешь разве, когда они спокойны, а когда волнуются? — Погляди, Степа, который час? — спросил Фома Тимофеевич. — Десять десять, — ответил из рубки Степан. Я даже вздрогнул. Неужели уже два с лишним часа, как мы вышли из порта? Незаметно, в спокойных, ленивых размышлениях, прошло время. Значит, мы уже через час должны были бы быть в Черном камне, но мы были далеко в море, и берег был еле виден на горизонте. Фома Тимофеевич смотрел, щурясь, на черную полосу берега. — Сильно нас сносит, Степа, — сказал он. — Ничего, — сказал Новоселов, — мотор заработает, все за час наверстаем. — Позови-ка Жгутова, — буркнул Фома Тимофеевич. — Механика к капитану! — крикнул Новоселов в переговорную трубку. Жгутов сразу поднялся на палубу. Очень жалкий у него был вид. Он отводил глаза в сторону и переступал с ноги на ногу. — Звали меня? — спросил он. — Ну, что там с мотором? — Коновалов смотрел на Жгутова в упор. — Долго еще возиться будешь? — Просто не знаю, Фома Тимофеевич, — жалобно загнусил Жгутов. — Все время заедает, проклятый! Намучился я с ним! Фома Тимофеевич подошел вплотную к Жгутову. Он стоял, приблизив свое лицо к растерянному лицу моториста, а моторист смотрел в сторону, будто его занимали чайки, с криком летавшие над водой. — Да ведь ты же целую ночь возился! — сдавленным голосом сказал Фома Тимофеевич. — Ты же утром опробовал. Ну, говори, объясни, что случилось, ведь ты же механик. Ты должен знать. Жгутов все следил за чайками, как будто ждал от них сочувствия. — Не знаю я, Фома Тимофеевич, — сказал он, — сам ничего понять не могу. Капитан отошел от моториста, пососал трубку, даже не заметив, что она погасла, прошелся взад-вперед и, остановившись перед Жгутовым, сказал спокойным голосом: — Даю тебе полчаса. Если через полчаса мотор не наладишь, в первом порту списываю, и пойдешь под суд, ясно? Жгутов кивнул головой и молча спустился вниз. — Заметь время, Степа, — сказал Коновалов. — Десять часов восемнадцать минут, — ответил Степа и добавил успокаивающе: — Что вы припугнули Жгутова, это, конечно, Фома Тимофеевич, правильно, но вообще-то ничего страшного, даже если он к вечеру отремонтирует. До Черного камня ходу час, ну полтора, значит, так и так с утра торговать начнем. А погода славная. В крайнем случае поболтаемся несколько лишних часов. — Да знаешь ли ты, Степан… — рявкнул капитан на Новоселова и вдруг осекся. Он кинул взгляд на нас с Фомой, помолчал, пососал трубочку и закончил совсем спокойно: — Вообще-то, конечно, ничего страшного. Он мог бы и закончить свою мысль. Я все равно все вспомнил и все понял: во второй половине дня нас ждет шторм, до второй половины дня, часов до трех, осталось пять часов. А если за это время мотор не будет починен? Я посмотрел на Фому и встретил его наблюдающий взгляд. Он думал: понимаю ли я, чем нам грозит остановка мотора? Он-то, конечно, давно уже все вспомнил и сообразил. Боюсь, что вид у меня был неважный, но все-таки мне удалось сказать довольно спокойно: — В самом деле, поболтаемся в море, даже интересно. В глазах Фомы я прочел одобрение. Он понялменя. Он понял, что я хотел ему дать понять: все, мол, помню, все знаю, но не бойся, буду держаться. Фома молча кивнул мне головой.Глава девятая НЕВИДИМЫЙ ПАССАЖИР
Ох, и медленно же тянулось время! Фома Тимофеевич вошел в рулевую рубку и тихо разговаривал со Степаном. Я знал, о чем. Он сообщал ему о прогнозе погоды и предупреждал, что надо скрыть это от нас и от Глафиры. Через полчаса опять вызвали Жгутова. Жгутов оправдывался и клялся, что он не виноват, обещал все исправить, но прошел еще час и два, и по-прежнему была тишина, по-прежнему мотор молчал. Глафиру капитан услал вниз, велев ей все готовить к торговле, чтобы, как придем в Черный камень, можно было сразу пускать народ. Глафира сказала, что у нее все готово, но капитан на нее так прикрикнул, что она прямо скатилась вниз. Она понимала, что происходит что-то нехорошее, и понимала, конечно, что Фома Тимофеевич хочет ее убрать с палубы. Ослушаться капитана она не решилась и, наверное, бедная, сидела внизу, обмирая от страха. Во всяком случае, время от времени из люка показывалось испуганное ее лицо, но, как только Фома Тимофеевич к ней поворачивался, она точно проваливалась вниз. Было около двух часов, когда капитан начал внимательно вглядываться в небо. — Будто облачко? — негромко спросил он Новоселова. — Похоже на то, — ответил Степан. В это время на палубу поднялся Жгутов. Вид у него был очень жалкий. — Разбирать надо мотор, Фома Тимофеевич, — сказал он, глядя в сторону. — Да ведь ночью же ты разбирал? — спросил капитан. Жгутов молчал. — Ну, говори, разбирал или нет? Жгутов молчал. Фома Тимофеевич подошел к нему, взял его двумя руками за плечи и притянул к себе. — Может, обманул? — тихо спросил он. — Может, не ремонтировал? Ну, говори! Жгутов шмыгнул носом и, с тоской глядя вдаль, сказал: — Обманул, Фома Тимофеевич. — Так, — кивнул головой Коновалов. — Где ж ты ночью-то был? Спал, бездельничал? — Гулял с ребятами, Фома Тимофеевич, — сказал Жгутов, — всю ночь гулял. — Что ж ты думал? — спросил капитан. — На что надеялся? — Думал, до Черного камня добежим, — жалобно тянул Жгутов, — а там отремонтируюсь. — Совесть прогулял, Жгутов, совесть! — чуть не шепотом сказал Фома Тимофеевич. — Честь потерял. Какой же ты негодяй. Жгутов! — Он в ярости занес кулаки над Жгутовым, но, сдержавшись, опустил их. — Как с мотором? — спросил он. — Фома Тимофеевич, — захныкал Жгутов, — дайте мне три часа. Я разберу мотор. Я успею. Видите, безветренно, небо чистое. Я буду как черт работать. Дайте мне три часа. — Три часа тебе дать? — спросил Коновалов. Он взял его за плечо, подвел к борту и показал на горизонт: — Видишь облачко? Посмотри хорошенько. Это шторм на нас идет. А мы убежать не можем и выстоять не можем. А у нас дети на борту, Жгутов. У нас женщина на борту. Кто отвечать будет? Ну, ты пойдешь рыбам на корм. Ты заслужил, а они при чем? — Виноват, Фома Тимофеевич, — сказал дрожащим голосом Жгутов. Он, кажется, очень перепугался. — Десять минут я тебе даю, — сказал капитан. — Кровь из носу, чтоб мотор работал, ясно? Иди. Жгутов пошел по палубе, дошел до люка и остановился. Глафира, растерянная, испуганная Глафира, стояла на трапе, до пояса высунувшись из люка. Достаточно было посмотреть на ее лицо, чтобы понять: она слышала весь разговор. Она знала все. Надо же было столько лет бояться моря, решиться наконец выйти в безопасное плавание и сразу попасть в такую катавасию! — Пусти, — бледными губами пролепетал Жгутов. И Глафира спустилась вниз и моторист за нею. Степан стоял на руле. Фома Тимофеевич ходил по палубе взад и вперед, а облако все росло и росло. Оно, видно, мчалось на нас с огромною быстротой. Над нами еще светило солнце, а на севере море было уже темное, пасмурное, и уже белые барашки были видны вдалеке, и будто холодом дышало на нас с севера. Капитан все шагал по палубе и вдруг остановился прямо перед нами. — Вот что, ребята, — сказал он резко, — скоро, понимаете, шторм начнется, а у нас мотор не в порядке. В общем, надо, знаете, ко всякому приготовиться. Ты-то, Фома, морской человек, я думаю, трусить не будешь, а вот Даниил не знаю. Ты как, Даниил? — Я что ж, — сказал я, и мне самому было стыдно, такой у меня был дрожащий голос. — Я постараюсь. На палубу поднялась Глафира. Бледная подошла она к рубке. — Что ж это, Степан, — сказала она, — погибать будем? Как же это Жгутов нас всех потопил? — Ну уж и потопил! — сказал Степан. — Может, еще и не потонем. — Ой, — запричитала Глафира, — ой, Степа, боюсь! Ой, Степа, боюсь! Сил моих нет, Степа! Под водой-то рыбы, акулы, утопленники. Фома Тимофеевич в два прыжка оказался возле нее. От его обычной медлительности следа не осталось. Он был быстр в движениях, решителен и резок. — Кто говорит «боюсь»? — рявкнул он. — Если кто струсит, плохо будет. Не до шуток. Спасаться надо. Не советую трусить. Поняла, Глафира? — Поняла, Фома Тимофеевич, — сказала Глафира и всхлипнула. Фома Тимофеевич словно забыл про Глафиру и, подойдя к борту, стал внимательно вглядываться в стремительно выраставшее облако. Тихо было на палубе. Все молчали. Потом ласково сказал Степан: — Страшно, Глаша? И совсем тихо, боясь, как бы не услышал Фома Тимофеевич, сказала Глафира: — Ой, Степа, знали бы вы, как страшно! Смотрите, тень пала какая! А тучи какие! Страшно, Степа! — Ничего страшного, — ласково сказал Степан. — Выживем, Глаша, Холодная тень пробежала по боту. Облако закрыло солнце. И в эту минуту отчетливо застучал мотор. Коновалов повернулся и спокойно сказал: — Ну вот, значит, и трусить нечего. Раз мотор работает, может, и выстоим. — К берегу ворочать? — спросил Степан. — В губу убегать будем? — Прямо на норд, — резко сказал Фома Тимофеевич. — Ты что, хочешь, чтобы нас о камни разбило? Нам одно спасение — носом на волну. Резко засвистел ветер. — Начинается, Степан, — сказал Фома Тимофеевич. — Правь на волну, и только бы мотор не сдал. — Выдержим, — спокойно ответил Новоселов, поворачивая штурвал. — Всякое ведь выдерживали. На палубу выскочил Жгутов. Он был взлохмачен и возбужден. — Ага! — кричал он. — Работает! А вы, Фома Тимофеевич, говорили! Жгутов знает машину! Жгутов понимает машину! За Жгутовым не пропадешь! Только он успел это сказать, как мотор замолчал. — Вниз, дрянь! — крикнул Фома Тимофеевич. И Жгутов провалился вниз, точно снизу его кто-то дернул за ноги. А ветер свистел сильней и сильней, и бот положило набок. Меня швырнуло к борту, и я услышал свой испуганный крик, и сразу Фома схватил меня за руку и потащил к трапу. Я поскользнулся и упал на колени и только стал подниматься, как услышал резкий голос капитана: — Все вниз! На палубе остаемся я и Степан. По чести сказать, от страха я потерял голову. Я так до сих пор не понимаю, каким образом вытащил меня Фома. Я только помню белое от ужаса лицо Глафиры и Фому, который держал меня за руку, а другой рукой уцепился за крышку люка. И снова громко, отчетливо застучал мотор. Степан с напряженным лицом медленно ворочал штурвал. Волна налетела на палубу и окатила нас всех. А потом бот медленно повернулся и выпрямился. Я протер глаза и увидел бурное море вокруг, и палубу, и нос бота, который то поднимался, то опускался, с шумом расплескивая воду. Я увидел спокойное лицо Степана, напряженное, бледное лицо Фомы, продолжавшего крепко держать меня за руку, Фому Тимофеевича, по бороде которого стекала вода и который спокойно сказал: — Ну, вот и выпрямились. Страшное позади. А ну-ка, все вниз! Бот поднимался и опускался вверх-вниз, вверх-вниз, и в этом уже было спокойствие: его не швыряло бессмысленно из стороны в сторону. Бот идет и будет идти, пока мотор работает. А мотор покуда работает. Он стучит отчетливо, громко, ровно. Я вытер лицо и шагнул к люку. По чести сказать, мне и самому хотелось в трюм. Что-то мне не понравилось, как окатывает волна. И вдруг я остолбенел. Навстречу нам по трапу поднималась… кто бы вы думали?.. Валя! У нее было спокойное, заспанное лицо. Она оглядела нас всех и, кажется, даже не заметила того, что мы все взволнованные и мокрые. — Который час? — спросила она так спокойно, как будто боялась опоздать к обеду. Вопрос этот был настолько неожидан и глуп в нашем положении, что Фома растерялся и ответил ей: — Четвертый. Но Валя не слышала. Она наконец проснулась окончательно и поняла, что вокруг хлещут волны, что бот швыряет из стороны в сторону и что у нас всех слишком взволнованные и серьезные лица для спокойного, благополучного плавания. — Ой, что это? — испуганно спросила она. — Нет, Даня, — задумчиво и медленно произнес Фома, — если бы у меня была такая сестра, я бы сбежал из дому. Фома Тимофеевич, кажется, тоже растерялся, увидев Валю. Во всяком случае, он долго молчал и только теперь спросил ее каким-то растерянным голосом: — Ты как сюда попала? — Мама меня не пустила, — начала объяснять Валя, — я и решила, что все равно проберусь. Вы магазин пошли осматривать, а я залезла в кубрике на верхнюю полку и одеялом накрылась. И заснула. Я ведь ночь почти не спала, — объяснила она, будто главная ее вина была не в том, что она залезла на судно, а в том, что она заснула не вовремя. — Только девчонки нам не хватало! — сказал Фома Тимофеевич, и голос его звучал, как стон. Но сразу же он овладел собой. — Ну, вот что, — загремел он яростным голосом, — раз уж ты попала сюда, помни — здесь судно. Если струсишь и дисциплину нарушишь, знаешь, что с тобой будет? Валя только кивнула, глядя на Фому Тимофеевича испуганными глазами. — Все вниз! — выкрикнул Фома Тимофеевич. — Быстро! — Иду, иду! — закивала головой Валя, которой, кажется, и самой очень хотелось поскорее скрыться с глаз разъяренного капитана. Она повернулась и пошла вниз по трапу, и всем своим видом она показывала, что она очень хорошая и послушная девочка и совершенно не за что на нее сердиться. — Да, — повторил Фома убежденно, — я бы сбежал из дому.Глава десятая НАС ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ
И вот мы спустились в кубрик все четверо — мы с Валей, Фома и Глафира — и расселись на койках. Это так просто сказать — расселись. Нас швыряло в разные стороны, мы налетали друг на друга, цеплялись за поручни, за бортики коек и все-таки наконец расселись. Тускло светила лампа под потолком, заделанная железной решеткой. И очень неприятно было слушать, как в борт ударяют волны. Казалось, что борт тоненький-тоненький — так отчетливо были слышны удары. Бот поднимался и летел вниз, и каждый раз у меня замирало сердце и подкатывало к горлу. Валька тоже, кажется, сообразила наконец, в какую она влипла неприятную историю из-за своей привычки всюду лезть. Она сперва еще хорохорилась, а потом побледнела, легла на койку с ногами и еще минуты через три начала потихонечку хныкать. — Чего ты? — мрачно спросил ее Фома. — Тошнит, — чуть слышно ответила Валя, — и голова кружится. В это время волна ударила в борт, и Глафира тихонько пробормотала: — Ой, мамочка ты моя родная! — А вас, тетя Глаша, тоже укачало? — спросил Фома. — Что ты! — возмутилась Глафира. — Меня разве укачает? Боюсь я, Фома, ну до смерти прямо боюсь! — Тут волна как поддала снова в борт, Глафира охнула и забормотала: — Ой, мама ты моя, мамочка! Это же ужас, что такое делается! — Да ну, тетя Глаша, — солидно сказал Фома, — чего вы, на самом деле! Ничего же опасного нет. И мотор, слышите, ровно работает, и дед ведет судно, а он знаете какой опытный? — Ой, знаю, — простонала Глафира, — все знаю — и про мотор и про деда, а все равно волна как поддаст, так у меня все прямо… Тут волна поддала и Глафира забормотала: — Ой, мама моя дорогая, вот ужас, вот ужас! Так мы сидели, и время шло, шло, и ничего не менялось. Тихонько поскуливала Валька, на разные голоса взывала к своей маме Глафира. Я, правда, молчал, но, по чести сказать, мне хотелось не то что заскулить, а просто полным голосом закричать караул. Только у Фомы был спокойный вид человека, который чего-то ждет, знает, что ждать необходимо, что ждать придется долго, приготовился к этому и запасся терпением. С таким видом он мог бы сидеть на приеме у зубного врача, если бы была большая очередь. Потом по трапу затопали сапоги, и в кубрик вошел Новоселов. Он был в зюйдвестке, проолифленных штанах и куртке. Не знаю, где и когда успел он одеться. Он весь был мокрый, а на плечах и на зюйдвестке налип талый снег. — Ну, как существуете, морячки? — весело сказал Новоселов. — Ничего, живы? — Ой, Степа, — застонала Глафира, — до чего страшно! Что там наверху? Не тонем еще? — Как можно, Глаша, тонуть? — удивился Новоселов. — Разве потонешь с Фомой Тимофеевичем? Его волна боится. А как молодежь? — Стонут, дядя Степа, — солидно сказал Фома, — скрутило их очень. — С непривычки, конечно, может скрутить, — согласился Новоселов, — только, смотрю я, не делом вы занимаетесь. Не годится это — сидеть да слушать, как волна бьет. Это и храбрый человек струхнет. — А как же, дядя Степа? — спросил Фома. — Работать надо, — решительно сказал Новоселов. — Есть у вас, Глаша, какая работа? Тут волна так ударила в борт, что Глаша даже взвизгнула: — Ой, мамочка, мамочка, мамочка! — Потом она помолчала и продолжала уже более спокойно: — Какая тут работа! Книжки надо бы разобрать, да разве это возможно? — Почему невозможно? — удивился Новоселов. — Обязательно возможно. Книжками займитесь, вам полегче и станет. И ребят поднимите. Ничего, что укачало, за работой забудут. Давай, Фома, организуй. Давайте, Глаша. Нечего, нечего. Фома с сомнением посмотрел на меня, потом с еще большим сомнением на Вальку и хмуро покачал головой. — Не знаю, дядя Степа, — сказал он, — как их поднять. — Давай, давай, — сказал Степан. — Эй, Валентина, вставай, работать надо. Нечего на койке валяться. — Вот еще! — буркнула Валя. — Не могу я работать, оставьте меня в покое! — Что? — удивился Новоселов. — Это ты с кем говоришь? Ты понимаешь, что ты на судне? Здесь каждый работать обязан. — Я не обязана, — с рыданием в голосе возразила Валя, — я маленькая. — Как забираться на судно, так не маленькая, — рассердился Степан, — а как работать, так маленькая? А ну давай, нечего, нечего! Он взял Валю, поднял ее, поставил на пол и одобрительно на нее посмотрел: — Ну, видишь, вполне способна работать. Мы тебя еще в матросы запишем. Давайте, Глаша, командуйте, что ей делать. Веселее, веселее! — Неужели, Степа, книги разбирать? — А как же? — Новоселов даже удивился. — Обязательно. Снова ударила волна в борт, и застонала Глафира: — Ой, мамочка, мама, ой, как бьет! — Ничего, ничего, — сказал Новоселов. — Суденышко старенькое, но еще крепкое. Я с ужасом ждал, что сейчас Степан возьмется и за меня. И он действительно взялся. Он наклонился надо мной и, прищурившись, заглянул мне в глаза. — А ты что? — спросил он удивленно. — Ты это брось на койке валяться. Ты же мужчина, моряк, а так могут подумать, что ты боишься. — Нет, — сказал я, хорошо представляя, какой у меня жалкий вид и какое несчастное выражение лица, — я не то что боюсь, а просто меня немножко мутит. — Это ничего, — сказал Новоселов, — что у всех бывает, не надо внимания обращать. — Я и стараюсь не обращать, — начал я, — но… Дальше я собирался объяснить ему, как я слаб и несчастен, и что я не только работать, а и пошевелиться-то не могу, и что дело тут не в страхе, а в физическом заболевании, в котором ничего стыдного нет, но Степан не дал мне договорить: — Вот и хорошо, что не обращаешь. Главное — это внимания не обращать. Давайте, Глаша, ему работу. Он вам сейчас покажет, что значит мужчина. Здоровый же парень, прямо смотреть приятно. А ну, давай! Он меня взял за плечи, и не успел я опомниться, как уже стоял на ногах и он меня подталкивал по направлению к магазину, а Валя была передо мной, и поэтому невольно я подталкивал ее, впереди шел Фома, а сзади Глафира, и так мы вошли в магазин, держась за все, что попадалось под руку. Мы вошли в магазин, и тут, оказывается, было что делать, потому что, несмотря на замечательные рейки, которые Глаша сама придумала и которыми очень гордилась, некоторые книги все-таки выпали каким-то образом с полок и часть картин упала с крюков, на которые они были повешены. — Давай, Даня, — сказала Глафира, — подбирай книги, а потом разберемся, какую куда. А ты, Валя, картинки собери, и живо, живо, нечего время терять. Работать надо. Она словно переняла у Степана этот его бодрый тон, эту его настойчивость. Честно сказать, я злился на нее очень. Меня раздражало то, что они, люди, выросшие на море, родившиеся на море, не хотят понять, как трудно нам, воронежцам, никогда моря не видавшим. Я бы и начал спорить с ней и со Степаном, однако понимал, что выглядеть это будет как трусость. И книги и картины от нас удирали и словно дразнили рас. Стоило мне наклониться над книгой, с трудом удерживаясь на ногах, как книга вдруг устремлялась в другой конец магазина, а мне навстречу летела картина, только что удравшая от Вальки. Толк был небольшой от пашей работы, но все-таки мы работали. Во всяком случае, нам казалось, что мы работаем. Степан был доволен ужасно: — Вот это я понимаю, а то куда ж годится! Давайте и вы, Глаша, работайте, Я попозже зайду, посмотрю, как дело идет. — Вы бы побыли с нами, Степа, — жалобно сказала Глафира, обеими руками держась за прилавок. Но тут волна ударила в борт, бот мотнуло, и Глафира застонала: — Ой, мамочка, мамочка, ой, ужас какой! — Мне Фому Тимофеевича надо сменить, — сказал Новоселов. — У вас тут за командира Фома останется. Он моряк опытный и не трус. Верно, Фома? — Не знаю, дядя Степа, — солидно сказал Фома. — Вам видней. — Я говорю — значит, верно, — подтвердил Степан. — Ну, живите, не скучайте. И не бездельничать. От безделья и мысли мрачные, и качает будто сильней. Будьте здоровы. Застучали сапоги Степана по трапу, и, когда он ушел, сразу пропала бодрость, которую он сумел нам внушить. Видно, невелик был ее запас. Немного еще после ухода Степана мы продолжали ловить убегавшие картины и книжки, но постепенно двигались все более вяло. Первая заскулила Валька. Какая-то картина в тоненькой золотой раме — потом я разглядел, что это были «Мишки в лесу» Шишкина, — удирала особенно энергично. Валька гонялась, гонялась за ней и вдруг отчаялась. Вцепилась в прилавок и захныкала: — Он, тетя Глаша, не могу я работать, мне что-то нехорошо. — Ну, ну, — прикрикнула Глафира, — я тебе похнычу! Ты что думаешь, здесь детский сад? Раз на судно попала, значит, подчиняйся, работай!
Смешно было, что она говорила совсем так, как Степан. Точно таким же тоном. И, хотя в это время снова волна ударила в борт, Глафира даже не вспомнила про свою знаменитую мамочку. От этой волны картина, все время убегавшая от Вали и как будто дразнившая ее, вдруг, поняв, по-видимому, что Валя может и в самом деле оставить ее валяться на полу, любезно подползла к самым Валькиным ногам. Но Вальке было не до картины. Она заплакала уже совершенно всерьез. — Ну не могу я! — вопила она сквозь рыдания. — Ну что хотите делайте, не могу! Тут пришлось вмешаться мне. По чести сказать, я тоже чувствовал, что не могу. Валька как будто выражала мои мысли. Но мне следовало помнить, что я старший и, значит, не только не могу распускаться при маленькой, но еще и должен ее учить уму-разуму. Поэтому я, вместо того чтобы тоже расплакаться или, по крайней мере, хоть начать жаловаться, вдруг заорал на Валю громко и сердито: — Что значит «не могу»? — кричал я. — А я могу? Да? А тетя Глаша может? А Фома Тимофеевич на вахте стоит — он может? И подбери картину сейчас же. Это государственное добро. Ну! Валя помолчала немного, и я уже подумал, что зря на нее кричал, что она сейчас только сильнее расхнычется и толку никакого не будет, но она вдруг сказала очень сердито, как она всегда говорила, когда понимала, что неправа и надо подчиниться, но не хотела показать, что подчиняется. — Ну, чего раскричался? — сказала Валя. — Ну, подберу. — Она изловчилась и действительно подняла картину и сразу же с возмущением повернулась ко мне. — Я ничего и не говорю, — сказала она. — А только на младших нельзя кричать. Это на нервы вредно действует. — «Нервы, нервы»! — проворчал я. — Будут тут еще твоими нервами заниматься! Я подхватил первую попавшуюся книгу и начал с трудом запихивать ее на полку. — Хватит, ребята, ссориться, — примирительно сказал Фома. — Давайте я тоже вам помогу, быстрее управимся. Книги и картины по-прежнему убегали от нас, но мы наловчились и теперь ловили их лучше, и их не так много уже оставалось, сорвавшихся с крючков или убежавших с полок, и действительно стало нам лучше. И Глафира уже не вскрикивала при каждом ударе волны, и Валька не хныкала, и меня уже не мутило. Вдруг я услышал резкий, громкий смех. Я поднял голову. Держась рукой за переборку, в магазине стоял Жгутов. Я не заметил, когда он вошел из машинного отделения. — Сбесились вы, что ли? — сказал Жгутов. — Судно на воде еле держится, а они книжечки разбирают! — Нам дядя Степа велел, — сказал Фома. Каким-то странным мне показался Жгутов. Не то он был очень возбужден, не то, может быть, просто выпил. Как-то он дергался весь, глаза у него будто подмигивали, рог кривился, и нельзя было понять — рассмеется он сейчас или начнет трястись в припадке. — Шутит над вами дядя Степа, — чуть не закричал он. — Шутит, а вы, дураки, поверили. Книжки по полочкам расставлять! Ой, уморили! Все равно ваши книжки рыбы читать будут. — Как это — рыбы будут читать? — удивленно спросила Валя. — Откуда же рыбы? — Ну, ты, механик, — резко сказала Глафира, — ты бы свои дела делал, а в чужие нечего нос совать! — Тебя не спросил, начальница, — сказал Жгутов и сузил глаза так, что они стали совсем как щелочки. И вдруг выкрикнул отчаянным голосом: — Бросай все, ребята, чистое белье надевай, вот что морякам положено. — А зачем чистое белье надевать? — так же изумленно спросила Валя. Фома подошел и стал прямо перед Жгутовым, широко расставив ноги и немного втянув голову в плечи. — Стыдно, стыдно, — сказал он, — а еще моряк! Вот деда я позову, пусть он вас научит. Но тут уверенно вышла вперед Глафира и резким движением руки отодвинула Фому в сторону. — Подожди, Фома, — сказала она, — незачем деда звать, я и сама сейчас ему все скажу. — Она положила руки Жгутову на плечи и сказала ему, глядя прямо в глаза: — Пошел на место, дурак! Забыл, что из-за тебя вся история вышла? Сиди в машинном, пока не позовут! Жгутов как-то сник и скосил глаза на полку с книгами, как он недавно косил их па чаек, когда с ним разговаривал Коновалов. — Ну-ну, — пробормотал он, — шуток не понимаете. Уж и посмеяться нельзя! — Он повернулся и, держась руками за переборки, неуверенными шагами, будто у него подгибались ноги, ушел в машинное отделение. — А ну, ребята, чего зеваете? — сказала Глафира. — Валя, Даня, Фома, работать, работать! Фома подхватил какую-то бродившую по магазину книжку и, вглядевшись в обложку, спросил: — Тетя Глаша, а Толстого куда? — Вон на ту полку, — сказала Глафира. — А ты чего, Валя? Видишь, под лавкой еще картина. Я пустился в погоню за томом рассказов Чехова. Том этот, когда я его уже почти настиг, проскочил у меня между ногами и удрал в другой конец магазина. Валя поймала картину, но никак не могла повесить ее на крюк — то ее относило от крюка, то крюк вместе с бортом уходил от нее. Кажется, нас мотало сильнее, чем прежде. Мы работали молча. Потом Валя очень спокойным голосом спросила: — Даня, а чего это он про рыб говорил? — А что про рыб? — удивился я. — Я не расслышал. — Ну, вот что рыбы будут книжки читать, — невинным голосом сказала Валя. — Сказка такая есть, — пробасил Фома, — как рыбы читать научились. Сейчас-то я ее позабыл, а вот домой придем, я ребят спрошу, расскажу тебе. — Быстрей, быстрей, ребята, работайте! — прикрикнула Глафира. — Даня, ты видишь — тут на полке Толстой, а ты задачник сюда ставишь! Валя наконец изловчилась и повесила картину на крюк. В это время из-под прилавка выскочила долго таившаяся там картина Перова «Охотники на привале» и умчалась в самый дальний угол. Валя кинулась за ней, поймала и стала вешать на другой крюк. — Даня, — спросила она спокойно, — а что это он про белье говорил? — Не знаю, — ответил я. — Глупость, наверное, какая-нибудь. — Ты, Валя, не болтай, а работай, — прикрикнула Глафира. — А я работаю, тетя Глаша, — кротко ответила Валя.
Глава одиннадцатая СВЕТ ГАСНЕТ И ЗАЖИГАЕТСЯ СНОВА
Вообще-то отчасти Жгутов был, конечно, прав. Действительно, работа наша была довольно бессмысленна. Как мы ни старались получше закреплять книги на полках, все равно они падали и картины снова и снова срывались с крюков и начинали как сумасшедшие носиться по магазину. Не знаю, то ли репки и крюки, которые с таким старанием придумала Глафира, были на самом деле совсем не так хороши, как ей казалось, то ли, может быть, просто бот был не рассчитан на такие штормы, но так или иначе, а работе нашей конца не предвиделось. Сначала меня это сердило, с потом я подумал, что, может, оно и к лучшему. Плохо, наверное, было бы сидеть без дела, прислушиваться к каждому удару волны и соображать, не усилилась ли качка. Много мне приходило в голову ужасных и мрачных мыслей, но я их гнал от себя. Все-таки, честно сказать, нехорошо было мне. Я начал думать: сколько это может тянуться? Больно уж однообразно все было. Опять удар волны, и еще раз удар волны, и то тебя швыряет в одну сторону, то тебя швыряет в другую сторону, вот вся и разница. Поэтому я очень обрадовался, когда услышал, как грохочут по трапу сапоги Степана Новоселова. Да и все мы обрадовались. Мы знали, что он нас подбодрит, развеселит, и очень нам этого хотелось. И действительно, он вошел в магазин энергичный, веселый и радостно нас спросил: — Ну, как живете-можете, морячки? — Все, дядя Степа, благополучно, — сказал Фома. — Молодцы, молодцы! — похвалил Новоселов. — Можно сказать, почти навели порядок. Ну, а как, вас еще укачивает? — Пожалуй, что нет, — сказал я. — Как тебя, Валя? Валя постояла, будто прислушиваясь, что у нее происходит внутри в организме, и потом ответила не очень, правда, уверенно: — Кажется, и меня нет. Я и забыла совсем об этом. — Да и я будто забыл, — сказал я. — Теперь вот, когда вы спросили, я чувствую, что, если прислушаться… — А ты не прислушивайся, — перебил меня Новоселов, — гораздо будет спокойнее. — Хорошо, дядя Степа, — согласился я, — не буду прислушиваться. — Ну и ладно, — кивнул головой Новоселов и потом как будто на минуту замялся. — Теперь вот что, ребята, — сказал он, помолчав немного, — есть такое распоряжение капитана… — Потом опять помолчал. — В общем, всем надеть спасательные пояса. — Сказав это, он как будто снова обрел уверенность. — И это в обязательном порядке, — заключил он уже решительно и даже строго. — Всем. Вопросы имеются? — Какие пояса? — спросила Валя. — Есть такие специальные, — небрежно сказал Степан. — Фома покажет тебе и поможет надеть. Я всегда знал эту отвратительную манеру Вали без конца задавать вопросы. К чему, кажется? И так все ясно. Нет, ей обязательно нужно еще и еще раз спрашивать. Мама говорит, что это любопытство, а по-моему, просто привычка надоедать. Так и сейчас. Кажется, все ясно, но Валю съедает любопытство: — А зачем, дядя Степа? Тут, кажется, Степан тоже уже стал раздражаться. — Порядок такой, — сказал он. — Полагается. Уж знаешь, попала па море, морские порядки соблюдать нужно. А рассуждать и спрашивать не положено. Раз капитан приказал, выполняй, и все. Понятно? Ясней, кажется, не скажешь. Любой человек понял бы, а Валька нет. — А почему они называются спасательными? — спросила она. И тут уж нарвалась. — Будешь с вопросами лезть! — крик-пул Степан. — Организуй, Фома. Слышишь? — Есть организовать! — сказал Фома. — Пошли, ребята. Валька, кажется, собиралась еще о чем-то спросить, но мы с Фомой, подталкивая, вывели ее в кубрик. Оказалось, что под койками есть выдвижные ящики. И вот в одном из этих ящиков лежат спасательные пояса. Они действительно как пояса. Их надеваешь, завязываешь, и так как они очень легкие, то ты вместе с ними становишься гораздо легче волны и можешь в этом поясе пла-Еать сколько угодно. Все равно не потонешь. А если плавать без конца, то раньше, позже ли, обязательно попадешь па какой-нибудь берег. Вот, значит, и спасешься. Все это нам объяснил Фома. И очень толково объяснил. Так, что все было понятно, кроме только одного: во-первых, долго ли можно плавать в Ледовитом океане, чтобы не замерзнуть насмерть, и, во-вторых, через сколько времени обязательно попадешь на берег. Можешь ведь и через год попасть. Я все ждал, что Валька начнет задавать свои дурацкие вопросы, но она на этот раз промолчала. Я даже удивился, это было на нее не похоже. Она как-то притихла и сказала: — Знаете, мальчики, я что-то устала, я полежу немного, а вы идите, я тоже скоро приду. — Ну, ну, — прикрикнул на нее Фома, — ишь, барыня какая, лежать будет! А картины кто будет за тебя собирать? Тоже дураков нет! — Подумаешь, — сказала Валя, — будто я вас прошу за меня работать. — А как же! Кто-то ведь должен работу сделать! — сердито сказал Фома. — Ой, вруны вы, вруны! — вдруг закипела Валя. — Собирай картины! Надевай пояс, слушай сказку про рыбку, которая умеет читать. Картины собирать я не маленькая, а правду слушать я маленькая. Хорошо, что я умнее вас, мальчишек, и вам меня все равно не обмануть, я вас насквозь вижу. Я посмотрел на нее удивленно и сказал: — Не знаю, что ты там придумала, мы тебе ничего не врали. Правда, Фома? — Конечно, правда, — подтвердил Фома. — Ой, вруны, ой, вруны! — ликующе закричала Валя. — Так я вам скажу: никому не нужно картины сейчас собирать и книги, а собирать нас заставили, чтобы мы забыли, что нас укачивает и что опасно. Что, верно? Ну, верно? Для нее, кажется, в эту минуту самым важным было уличить меня и Фому, что мы ей будто бы врем. Вот сразу и видно вздорную девчонку. Мужчина в таком случае промолчал бы. Это же не злостная ложь, для нее же делают, чтоб ей лучше было. Ну, поняла и держи про себя, что поняла. Так нет, надо поднимать шум и ставить всех в неловкое положение. Я пробормотал, что я, мол, не знаю, о чем думал дядя Степа, но что, уж наверное, он плохого не думал. Словом, постарался замять разговор. Но Валька бушевала. — Покраснел бы хоть! — возмущенно говорила она. — А значит, про рыб Жгутов говорил, потому что сказка такая? Ну, говори! — Ну, есть такая сказка, — хмуро подтвердил Фома. — Ох, и врешь, ох, и врешь! — Валька даже зашлась от возмущения. — Про рыб это говорят, что, мол, потонем все, что, мол, к рыбам пойдем. Что я, не знаю, да? Съел? А про белье, думаешь, не знаю? Это у моряков такой обычай: если тонуть приходится — чистое белье надевают. Что, не знаю, да? Съел? Мы постарались ей объяснить, что все это говорил Жгутов, а он болтун и ни один человек ему верить не станет, да еще, может, он и говорил-то нарочно, чтобы напугать. — Нарочно? — кипела Валя. — А спасательные пояса велели надеть тоже нарочно? Чтобы напугать, да? Сказали бы прямо: тонем. Так нет, обязательно надо врать. Порядок, мол, такой, полагается. Ну, вы-то, мальчишки, всегда были лгунами, с вас и спрашивать нечего, а дядя Степа зачем? Взрослый и не болтун, а маленькую обманывает. Это хорошо, да, хорошо? Фома прямо в отчаяние пришел. Он махнул рукой, сел на койку и сказал: — Нет, Даня. Если бы у меня была такая сестра… Разве Валя даст кому-нибудь договорить! — Теперь я же и плохая! — возмутилась она. — А вы честные, да? Ну, сказали бы прямо: «Опасность большая, но ты, Валька, не трусь». А я и не трушу. Я все равно не трушу. Вот. Съели? Да, съели? И только Валя успела это сказать, как вдруг мы услышали громкий рев, разом покрывший и шум бури и плеск волн. Будто какое-то страшное морское чудовище сердито и разъяренно ревело. — Что это? — испуганно спросил я. — Судно гудит, — ответил Фома сердито. Поначалу он тоже, кажется, испугался, и ему было стыдно за это. — Похоже, что траулер. У траулеров такие гудки. Я хотел спросить Фому, хорошо ли это, что рядом с нами траулер, сможет ли он нам помочь или в крайнем случае принять нас на борт, но я не успел. Началось что-то страшное. Бот положило на борт. Я вылетел из кубрика в магазин, ударился о стену, потом ударился о книжные полки, на меня полетели книги, и я был так ошеломлен, что даже не чувствовал боли, когда толстые тома с размаху меня ударяли. С отчаянным воплем мимо меня пролетела Валя. Я увидел Фому, стоявшего на четвереньках, белое, испуганное лицо Глафиры. Голоса ее я не слышал, то ли потому, что она и в самом деле молчала, то ли потому, что меня оглушило. Свет мигнул, мигнул еще раз, погас, снова зажегся и наконец погас окончательно. Страшная это была минута. Потом наступила тишина, то есть волны по-прежнему били о борт, по-прежнему судно качалось, по-прежнему доносился с палубы свист и вой ветра, но по сравнению с тем, что было, казалось, что наступила тишина и покои. Не знаю, сколько времени я лежал оглушенный, растерянный, не испытывая ничего, даже страха. Потом в темноте я услышал голос Фомы: — Валька, — спросил он, — ты где? Даня! Потом чиркнула спичка, и я увидел в темноте лицо Глафиры и спичку, прыгавшую в ее руке. Она сняла со стены фонарь и никак не могла зажечь, потому что рука так прыгала, что все не попадала на фитиль. Наконец фонарь разгорелся, и тусклый свет осветил магазин, покосившийся прилавок, разбросанные книги. Фома стоял, держась за переборку. Валя лежала неподвижно. Глафира стояла, держась за прилавок, вглядываясь в окружающую полутьму, поднимая фонарь дрожащей, прямо-таки прыгающей рукой. — Все в порядке, — сказала Глафира таким голосом, что было сразу ясно, что все не в порядке. — Все в порядке, — повторила она, — ничего страшного. Это часто бывает в море. Даня, ты цел? Валя! Где Валя, ребята? — Валя здесь, — сказал я, и боюсь, что мой голос тоже звучал не очень бодро. Я помолчал и неуверенно спросил: — Это что? Это уже конец, Фома? — Не знаю, — хмуро сказал Фома. — Я такого еще не видел. — Какой конец? — удивилась Глафира. — Что вы болтаете вздор, ребята? Слышите — и мотор работает. Еще один фонарь появился в полутьме. Это из машинного вошел Жгутов. Бледный, стоял он, высоко поднимая фонарь. Долго он даже слова сказать не мог. Он только глотал воздух, так ему было страшно. Наконец он спросил, с трудом произнося слова: — Всё уже? Выключать мотор? — Тебе кто приказывал мотор выключать? — крикнула ему Глафира. — Ну, говори, приказывал? — Нет, — сказал Жгутов. — Не приказывал. — И вдруг выкрикнул громким, тонким голосом: — Но Ведь всё уже, видите, всё уже! — Не болтай ерунду! — сказала Глафира. — Подтянись, механик. Свет чини. Немедленно свет чини. — А-а… — протянул Жгутов, — свет чинить? Хорошо, я пойду свет чинить. Какой-то у него был странный тон, как будто он сам не понимал, что говорит и что ему говорят, как будто все происходящее не вполне доходило до его сознания. Но вот сейчас ему что-то велели делать, и он механически, не очень понимая, зачем это нужно, пошел исполнять приказание. И он повернулся и вышел. И в магазине стало еще темнее, потому что снова светил только один фонарь. Я подобрался к Вале. Она лежала лицом вниз, совсем неподвижно, и у меня даже сердце замерло. Я подумал, что, может быть, она расшиблась, может быть, она даже убилась. — Валя, Валя! — повторял я и тряс ее за плечо, обмирая от страха. — Валя, Валя! И вдруг Валя поднялась, села, огляделась и сказала очень спокойно: — Ой, меня очень в плечо ушибло! Значит, мы не утонули? — Не-ет, — протянул я с сомнением в голосе, — по-моему, мы не утонули. — Нет, — уверенно подтвердил Фома, — мы, конечно, не утонули. Валя осмотрела меня, Фому, Глафиру, будто хотела проверить, не смеемся ли мы над ней. — Я от неожиданности закричала, когда свет погас, — объяснила она. — А вы, наверное, думали, что я от страху? Ух, и самолюбивая же она, Валька! Можно подумать, что в такую минуту все только и стараются выяснить, кричала она или не кричала. Ну, в конце концов, если ей так важно, чтобы мы думали, будто она не боится, так почему не сделать девчонке удовольствие? — А ты разве кричала? — удивленно спросил Фома. — Я и не слышал. Да и что ж тут такого, если кричала? Ничего тут такого нет. — И я не слышал, — сказал я. — И ничего тут такого нет. Я бы и сам мог закричать. Валька посмотрела на нас подозрительно. Она все-таки сомневалась, не смеемся ли мы над ней. — А я как пришла в себя, — сказала она, неуверенно усмехнувшись, — так решила, что мы утонули. — Вот глупая какая! — удивилась Глафира. — С чего же это тебе в голову пришло? — Потому что вода здесь просачивается из-под настила, — объявила очень спокойно Валя. — Вода? Я похолодел. Я, конечно, моряк неопытный, но уж то, что, если в трюме вода, значит, судно дало течь, а если судно дало течь, значит, дело плохо, — это-то я понимаю, для этого-то не нужно быть старым морским волком. Теперь я услышал, что, кроме ударов волны в борт, вода негромко плещется и здесь, внутри, в трюме. Глафира наклонилась и осветила фонарем настил. И мы увидели, что сквозь доски маленькими струйками и фонтанчиками пробивается вода. — Видите, — сказала Валя, — сколько ее набралось? А сейчас только было как будто меньше. Или мне показалось? — Мет, это тебе показалось, — уверенно решил Фома. — И потом, что ж такого, что вода? Это так и должно быть. — Конечно, — подтвердила Глафира, — в трюме всегда вода. Судно не бывает без воды. Подал голос и я. — Какое же судно, в котором нет воды? — сказал я удивленно. — Смешно просто! — Я тоже так подумала, — согласилась Валя. — И совсем перестала бояться. Свет мигнул, погас, опять зажегся, еще раз погас и наконец зажегся окончательно.Глава двенадцатая КАПИТАН СПУСКАЕТСЯ В ТРЮМ
Плохо было в полутьме, но при свете стало не легче. Теперь можно было охватить взглядом все, и, по совести говоря, когда я увидел, как выглядит магазин, настроение у меня не стало лучше. Наверное, половина книг, которые мы с таким старанием расставляли по полкам, лежала на полу. Вода, проступавшая сквозь настил, заливала книги, большая часть реек, прибитых к полкам, была поломана, да и сами полки покосились. Грустный вид являл собою наш плавучий книжный магазин. Так, наверное, выглядели потерпевшие кораблекрушение, брошенные командой суда, которые, если верить старым романам, встречали иногда мореплаватели в океане. Вошел Жгутов. Сейчас он был гораздо спокойнее. Казалось даже, что у него бодрое, чуть ли не веселое настроение. Правда, какая-то наигранная была эта бодрость. — Вот и горит свет! — сказал он радостно. — Со Жгутовым не пропадете! Жгутов свое дело знает. Слушай, Фома, тебя капитан наверх требует. Крикнул сейчас в переговорную трубку — Фому, мол, наверх. И еще сказал, чтобы ты поостерегся, смыть, говорит, может. — Иду, — сказал Фома и пошел к трапу. — Зачем это? — удивилась Глафира. — Не случилось ли чего? Фома, ты про воду скажи Фоме Тимофеевичу. — Скажу, — буркнул Фома и быстро поднялся по трапу. — Про какую это воду? — спросил Жгутов. — Вот, — показала Валька и успокоительно разъяснила: — Только это ничего, это так и должно быть. Жгутов наклонился, и от всей его бодрости даже следа не осталось. Он стал белый от ужаса. Он покачнулся, он чуть не упал, так ему было страшно. — Да вы что, обалдели, что ли? — закричал он громко. — Капитану надо сказать, помпу надо налаживать! Тонем, ребята, понимаете? Тонем! — Возьми себя в руки! — резко сказала Глафира. — Покуда еще никто не тонет. Эх ты, морская душа! Кто-то торопливо спускался по трапу. Капитан Коновалов стоял в трюме. Он стоял, широко расставив ноги, весь мокрый, с опущенной головой. Что-то было в его позе такое, что у меня сердце замерло. Он стоял и молчал, и я почувствовал, как ему трудно начать говорить. Мы все поняли: что-то случилось. Только Жгутов, дрожавший от страха, ничего не почувствовал… — Фома Тимофеевич! — выкрикнул он. — Вода в трюме! — Знаю, — сказал капитан. — Помолчи, Жгутов. — Случилось чего? — спросила Глафира. Капитан молчал. Как-то исподлобья он посмотрел на Глафиру и отвел от нее глаза и наконец сказал, глядя в сторону: — Несчастье случилось, ребята. — Со Степой что-нибудь? — тихо спросила Глафира. — Он был моряк, Глаша, — сказал капитан, все еще отводя глаза. — Он был хороший моряк, Глаша. — Погиб? — шепнула Глафира. — Смыло Степана, — сказал Коновалов. Глафира молчала. Она только открывала и закрывала рот, будто ей нечем было дышать. — Траулер рядом прошел, — сказал капитан, глядя в сторону и боясь посмотреть на Глафиру. — Мы-то огни увидели, да и он нас, видно, увидел, гудок дал. Ну, мы со Степаном решили развернуться, может, думаем, удастся с борта подойти. Я-то на руле стал, а Степан у борта, думал конец кинуть или, может, с тральщика кинут конец, так чтобы поймать. А как мы поворот сделали, так шлюпку и сорвало. Его в голову ударило, оглушило, а может, и зашибло, кто же разберет. И той же волной за борт унесло. Я круг ему кинул — куда там! И не разглядишь ничего. Я второй круг, а он за снегом совсем пропал. Потом снег прокинуло, а его уже не видать. И траулер пропал. Мы-то из пурги вышли, а они-то еще в пурге. Погиб Степа как следует моряку. Мы молчали. Так мне было страшно посмотреть на Глафиру, что и я тоже отвел глаза и смотрел на покосившиеся полки, на книги, упавшие на пол, и ждал со страхом, что скажет Глафира. Но Глафира молчала. И опять заговорил Коновалов: — Терпи, Глаша, — сказал он. — Как человек погиб Степан, не трусил, не жаловался, как человек. Терпи, Глаша, как жена моряка, ты же должна была женой моряка стать, а моряка всегда море убить может. — Не море, Фома Тимофеевич, Степу убило, — сказала Глафира шепотом, — злой человек Степу убил. Она повернулась кЖгутову и прямо пошла на него, и Жгутов стал пятиться и наткнулся на лавку и опустился на лавку, не сводя с Глафиры испуганных глаз. — Ты, Жгутов… — прошептала Глафира. — Жгутов Павел Андреевич Степу убил. — Да ну что ты, что ты, Глаша! — забормотал Жгутов и вдруг почти взвизгнул: — Фома Тимофеевич, что она говорит? Глафира взяла его руками за плечи и затрясла, и у Жгутов а бессильно моталась голова, и он все плотнее прижимался к переборке, будто надеялся пройти через нее, чтоб только не видеть Глафиру, чтоб только не слышать Глафиру. — Бездельник, болтун, трус, — негромко сказала Глафира, — из-за тебя такой человек погиб. Ты ночь прогулял, весело прогулял, и еще гулять будешь, а он из-за твоего гулянья мертвый в холодной воде. — Спокойно, Глаша, спокойно, — глухо сказал капитан. — Не нужно. Поговорим на берегу. Долго еще не будет гулять Жгутов. — Сил моих нет! — сказала Глафира. — У нас с тобой, Глаша, — также глухо продолжал говорить Коновалов, — силы должны быть. Нам судно спасать надо. У нас дети на судне. Горевать у нас еще время будет, а сейчас мы в море, сейчас мы штормуем, поняла меня, Глаша? — Поняла, — прошептала Глафира и отпустила Жгутов а. И Жгутов, что-то ворча про себя, стал бочком-бочком пробираться поближе к машинному отделению, чтобы в случае чего нырнуть туда, спастись от Глашиной ярости. Фома Тимофеевич повернулся, пошел к трапу и у трапа остановился. — Теперь так, — сказал он, по-прежнему не глядя на Глафиру. — Вблизи остров Колдун. Островок необитаемый. Голая скала. Население — чайки да глупыши. Но бухточка есть. Будем выбрасываться. Толчок будет, возможно, сильный. Приготовиться надо. Спасательные пояса на всех надеты? — На всех, — сказал я. — Так. — Коновалов повернулся к Глафире и впервые за весь разговор прямо на нее посмотрел: — Ты, Глаша, здесь будешь командовать. Поняла? — Глаша молча кивнула головой. Коновалов медленно повернулся к Жгутову и сказал яростно и угрожающе: — Если сейчас мотор сдаст… — Понятно, Фома Тимофеевич, — услужливо закивал головой Жгутов. — Будьте уверены, все будет в порядке! — И он стал опять пробираться к машинному отделению; там он спокойнее себя чувствовал. Какой бы ни был плохой человек Жгутов, а все же, наверное, неприятно было ему смотреть на Глафиру, да и наших с Валей глаз он избегал. Он от растерянности все время встречался то со мною, то с Валей взглядом и даже как будто вздрагивал и торопливо отворачивался. — Значит, все, — сказал Фома Тимофеевич. — Я предупрежу по переговорной трубке Жгутова. — И он, тяжело ступая, поднялся по трапу, а когда я оглянулся на Жгутова, то Жгутова уже не было. Он нырнул в машинное отделение и, наверное, трясся там, вспоминая глаза Глафиры. Мы трое молчали. У Глафиры шевелились губы, что-то она про себя говорила, но совсем неслышно. Валя подошла к ней и обняла ее, но Глафира, кажется, даже не заметила этого. И слез не было v нее на глазах. Какой-то отсутствующий взгляд и беззвучно шевелящиеся губы. — Тетя Глаша, — сказала Валя, — не убивайтесь вы. Замечательный же был человек! — Я ему говорю, — сказала Глафира очень тихо (я с трудом разбирал ее слова: их заглушали удары волн, что-то скрипело, и плескалось, и потрескивало). — Я ему говорю, — повторяла Глафира: — «Вы. Степа, поберегитесь. Там, на палубе, и смыть может, и зашибить может». А он говорит: «Не бойтесь, Глаша. Если, говорит, Глаша, я вам нужен, так разве ж я не спасусь?.. Если ж, говорит, я вам нужен, Глаша, — повторила она еще раз, — так разве ж я не спасусь?» — Потом она беззвучно шевелила губами, но я догадывался, что она без конца повторяет про себя ту же самую фразу. Я смотрел на нее, и мне было страшно. Она как будто не понимала, что происходит вокруг, не видела, не слышала ничего и только все про себя повторяла эту фразу. Валя тоже, кажется, испугалась, начала трясти ее за руку и говорить: «Тетя Глаша, тетя Глаша, что с вами?» Но Глафира не чувствовала ничего. Из машинного отделения высунулся Жгутов. — Капитан говорит, — выкрикнул он отчаянным голосом, — сейчас толчок, так что приготовиться. Глафира медленно повернулась к нему, нахмурилась и, видно, заставила себя вернуться к тому, о чем она обязана была думать, что она обязана была делать. — Валя, — сказала она резко и строго, — иди ко мне. Даня, сюда. Держись за поручень, Даня. Она обняла Валю и уперлась ногами в переборку, а я вцепился в поручень и съежился весь, ожидая предстоящего удара. Так я стоял, а минута шла за минутой и все еще ничего не происходило. Потом дно заскрежетало, и я подумал: «Вот сейчас», но опять минута шла за минутой, а толчка все не бы по, и, когда я почувствовал, что ждать уже больше пет сил, что пусть он будет какой угодно, этот толчок, но пусть он только наконец будет, вдруг раздался скрежет и скрип, и меня оторвало от поручня, хотя я держался за него изо всех сил, я упал, и меня проволокло по настилу, я увидел отчаянное лицо Вальки и зажмурившуюся Глафиру, услышал громкий Валькин визг и обо что-то ударился, и тут погас свет, и мне показалось, что я потерял сознание. На самом деле я не терял сознания. Просто меня оглушило, и на секунду у меня затуманилось в голове. А потом я почувствовал, что лежу, что болят ушибы и кругом какая-то странная тишина. Я подумал, что оглох, но сразу же услышал тихое всхлипывание Вали. Тихо было оттого, что разом прекратился шум волн и скрежет. Я попытался встать. Но все сместилось. Бот, очевидно, лежал на боку. Пол поднимался вверх, и в темноте ничего нельзя было понять — где верх, где низ. Потом я услышал, что кто-то спускается по трапу, слабый луч скользнул по трюму, показался фонарь. Секундой позже я увидел Фому. Лицо его, освещенное фонарем, было серьезно и хмуро. — Дед ранен, — сказал Фома, — перевязать надо. Ему никто не ответил. — Есть тут кто живой? — спросил Фома.Глава тринадцатая ГЛАФИРА ПРИНИМАЕТ КОМАНДОВАНИЕ
Странно было выйти из темноты трюма на свет. Странно было потому, что мы отвыкли от света, и еще потому, что все переместилось. Бот лежал на боку. По палубе трудно было ходить, она сильно наклонилась, и ноги скользили по мокрым доскам. Перед нами был остров Колдун — черная большая скала с крутыми, обрывистыми берегами. Только там, где выкинуло на берег бот, камин отступили, открыв маленькую бухту с пологим песчаным берегом. Впрочем, и на берегу, на приглаженном водою желтом песке, лежали черные, обточенные морем камни. Прислонившись к одному из таких камней, сидел Фома Тимофеевич. Глаза его были закрыты, лицо бледное-бледное, сбоку седые волосы слиплись от крови, и кровь тоненькой струйкой текла по щеке. Фома обогнал нас. Пока мы выбирались по наклонному трапу, он уже сошел с бота и стоял возле Фомы Тимофеевича. Мы попрыгали на берег и собрались вокруг нашего капитана. — Его о борт ударило, — хриплым голосом сказал Фома, — оглушило, он с палубы покатился — и головой о скалу. — Фома шмыгнул носом и вопросительно посмотрел на Глафиру: как думаешь, будет жив старик? Глафира сразу же начала действовать. Она решительно наклонилась и оторвала от подола своей юбки неширокую полосу. — Помочи тряпку, — сказала она, — да поищи воду почище, только пресную, морская нехороша. — Я чайник с бота принесу, — сказала Валя. — У нас чайник на боте с водой, может, он и не вылился. Она быстро влезла на бот и через минуту радостная появилась снова. — Есть вода в чайнике! — кричала она, осторожно сползая по палубе. Фома потрогал Коновалова за плечо. — Дед, — сказал он, — слышь, дед! Коновалов молчал. Испуганными глазами Фома посмотрел на Глафиру. — Ничего, ничего, — сказала Глафира. — Рана-то не особенно глубокая. Я в больнице насмотрелась, знаю. Она намочила тряпку и осторожно стала перевязывать голову Фоме Тимофеевичу. Капитан пошевелился и пробормотал что-то. — Ты чего, дед, а? — спросил Фома. — Я ничего, — сказал Коновалов. — Колдун это. Мы все слушали молча, боясь проронить хоть слово. — Что, что, дед? — спрашивал Фома. Капитан открыл глаза. Они были замутнены. Плохо было старику, но он упорно продолжал говорить, очевидно с трудом собирая мысли, но твердо зная, что обязательно должен сказать нам все, потому что мало ли как может повернуться. Может, ему, старику, и конец пришел, а другим спасаться надо. Пока может еще говорить капитан, должен он все, что надо, сообщить и посоветовать. — Колдун это, говорю, — повторил Коновалов, — остров Колдун, восточней Кильдинской банки, восемьдесят миль до материка. Ты запоминай, Фома. Прямо на зюйд. Ты запоминай, Фома. — Говори, говори, дед, — сказал Фома, — я запоминаю. Коновалов долго молчал, видно собираясь с силами. Большого труда стоило ему каждое слово. — Продукты учтите, — тихо и очень отчетливо говорил он. — Перепишите всё, разделите на десять дён. Пйки давайте. Ты лучше записывай, Фома, а то забудешь. — Ничего, ничего, — успокаивал его Фома, — ты говори, я запоминаю. — За десять дён найдут нас, — медленно говорил старик. — Это наверное. Воду всю на учет возьмите. Снег кидало, вода в промоинах должна быть. Сберегите, чтобы не высохла. Водорослей сухих наберите, снесите куда-нибудь, чтоб подсыхали, спички все соберите. — Воду учесть, — повторял Фома, — сберечь, водорослей набрать, насушить, спички собрать… — Правильно, — кивнул готовой Фома Тимофеевич. — Теперь вот что… Мы тут одни, Фома? У старика путались мысли. Ему, видно, казалось, что, кроме него и Фомы, кругом нет никого, а Фома понял его иначе. — А кто же тут? — спросил он. — Тут место необитаемое. Тогда Фома Тимофеевич заговорил тихо, почти шепотом, но мы так напряженно вслушивались, что хоть и с трудом, а различали каждое слово: — Жгутов будет в начальство лезть, — говорил капитан, — не пускайте, нет ему доверия. Глафира начальство. Пусть Жгутову не подчиняется. Ты ей так и скажи. Понял, Фома? И тогда выступил вперед Жгутов. Я раньше не замечал его. Он держался в стороне, особняком, стараясь не привлекать к себе внимания, да и мы думали только о капитане, слушали только капитана. Сейчас Жгутов подошел к Фоме Тимофеевичу и наклонился над ним. — Напрасно меня обижаете, Фома Тимофеевич, — сказал он. — Вина моя есть, я не говорю, но только пусть даже я виноват, я же моряк, Фома Тимофеевич. Я же выручить всех могу. Не ребята же выручат, не Глафира же. Капитан молчал. Он, видно, с трудом понимал, откуда вдруг появился Жгутов: они же, кажется, были вдвоем с Фомой. — Это кто говорит? — спросил он наконец. — Это я, Жгутов, механик ваш, Паша Жгутов. Опять капитан долго молчал. Потом спросил: — Фома, Глаша, вы куда ушли? — Здесь мы, Фома Тимофеевич, — сказала Глафира, — это я говорю, вы меня слышите? — Ты гони его, Глаша, — сказал капитан, — гони, слышишь? Пусть уходит. Его нам не надо. Поняла? Ты лучше со Степой посоветуйся. Степа хороший человек, не подведет. Моряк наш Степа. Ой, какое несчастное, испуганное лицо было у Глафиры! — Какой Степа, Фома Тимофеевич? — спросила она. — Как — какой? — удивился Коновалов. — Новоселов Степа, матрос. — Смыло его, — сквозь слезы сказала Глафира. — Утонул наш Степа, Фома Тимофеевич. Капитан молчал и молчал очень долго, видно стараясь все сообразить, все вспомнить. — Когда же это? — спросил он наконец растерянно. — Я и не помню. И опять замолчал, стараясь собраться с мыслями. — Ой, — простонала Глаша, — ну что же это такое! А капитан опять заговорил медленно, тяжело, с трудом произнося слова: — Как ветер, Глаша, стихает? — Стихает, Фома Тимофеевич, — сказала Глафира. — А волна как, пологая? — Будто пологая стала. — Ну, значит, шторму конец. Должны нас выручить, — уверенно сказал капитан. — Не могут на Колдун не зайти. — Вы отдыхайте, Фома Тимофеевич, — ласково сказала Глаша. — Вы не думайте, непременно за нами зайдут, не тревожьтесь. — Пить мне охота, — еле слышно прошептал капитан. Глафира поднесла ему чайник и напоила прямо из носика. Фома Тимофеевич пил долго, жадно, потом открыл глаза, и мне показалось, что сознание у него прояснилось. Он обвел глазами нас всех и совсем другим голосом, ясным, спокойным, спросил: — Рана глубокая? — Нет, Фома Тимофеевич, не особенно, — сказала Глафира. — Кость цела. — Заживет, — уверенно сказал капитан. — У моряков хорошо заживает. И вдруг он улыбнулся. Весело, хорошо улыбнулся. И в ответ заулыбались мы все — и Фома, и Валя, и Глафира, и я. И даже Жгутов улыбнулся. Он был здесь, вместе с нами, Жгутов, но как будто его и не было. Мы на него не смотрели, не видели, он не интересовал нас. Это получилось само собой, и он это чувствовал. Он хотел показать, что вот он здесь, вместе с нами, мы радуемся, и он радуется. Товарищи, мол, и все. Но улыбка у него была неискренняя, заискивающая. — Я отдохну немного, Глафира, — извиняющимся тоном сказал Фома Тимофеевич. Ему было неловко, что вот, можно сказать, кораблекрушение, трудная минута, все надо организовать, наладить, продумать, а он, капитан, отдыхать собрался. — Отдыхайте, Фома Тимофеевич, отдыхайте, — сказала Глафира. Но капитан, кажется, уже не слышал ее. Он откинул голову, закрыл глаза и облегченно вздохнул. Ему трудно было думать и говорить. Уже почти сутки прошли с тех пор, как мы вышли из порта, сутки огромного напряжения сил, сутки волнения, сутки без единой минуты отдыха. Глафира устроила старика поудобнее, Фома снял куртку и подложил ему под голову, и старик лежал так неподвижно, так спокойно, что трудно было разобрать — дышит он или не дышит. Фома испуганно спросил: — Что это он, тетя Глаша, затих так? — Ничего, ничего, — сказала Глафира, — отдыхает человек, не видишь? — Глафира подумала и внимательно оглядела остров. — Тут, ребята, где-то должна быть пещера. Выбрасывало тут рыбаков, бывало, по нескольку дней отсиживались, так говорят, укрывались в пещере. Хорошо бы туда Фому Тимофеевича перенести, водорослей бы насбирали, костерчик бы разожгли. — Так мы пойдем поищем, — предложил Фома. — Я тоже пойду, — решила Глафира. — Рассудить надо, как устроить, а ты, Валя, побудь здесь, у Фомы Тимофеевича, и в случае чего крикни. Далеко-то пещера не может быть. Я думаю, вон не за тем ли камнем. — Подожди, Глафира, — сказал Жгутов. — Чего ждать? — спросила Глафира. — Давай отойдем в сторонку, поговорить надо. — Говори, если хочешь, — сказала Глафира. — Отойдем, секретный у меня разговор. — Нет у меня с тобою секретов, — резко сказала Глафира. — Хочешь — при всех говори, а не хочешь — не надо. Жгутов собирался резко ответить Глафире, но сдержался. Сейчас Глафира была ему очень нужна. — При всех так при всех, — сказал он. — Может, недолго нам жить-то осталось, Глафира, умрем на мокрой скале. — Спасут, — уверенно сказала Глафира, — не может быть того, чтобы не спасли. Жгутов посмотрел на черные, мокрые скалы. Над скалами с криком летали чайки, ни травинки, ни кустика не росло на острове. Только внизу у воды лежали кучами выброшенные волнами водоросли. — Не знаю, — сказал Жгутов, — может, и не спасут. Тоскливо мне, Глаша. Знала бы ты, как тоскливо! Места себе не нахожу. — Смерти боишься? — зло усмехнулась Глафира. — Сам виноват, что сюда попал. Степан-то ни в чем виноват не был, а где он, Степан? Из-за тебя погиб. — Может, и смерти боюсь, — задумчиво сказал Жгутов, — а главное не это. Главное, Глаша, обидно мне за Степана. Ни за что погиб человек, из-за дурости моей погиб. Разве ж я думал, что такое получится? Я ведь сам на боте был, тоже погибнуть мог. Что же, я себя, что ли, топить собирался? Просто знаешь, как бывает? Работать лень, неохота, ничего, думаешь, завтра успеется. А завтра поздно уже, ничего не вернешь. Такая наука мне, на всю жизнь наука. — Чего ты хочешь? — спросила Глафира. — Говори прямо. Жгутов отвернулся. Он смотрел сейчас на море. Правильно говорила Глафира, волна становилась пологой. Белые барашки исчезли. Море успокаивалось на глазах, и тучи прошли, небо было чистое, светлое. Светило солнце, и над камнями острова Колдуна поднимался пар. Становилось жарко. — Прости меня, Глаша, — сказал Жгутов. — Что значит «прости»? — не поняла Глафира. — Как это так «прости»? Жгутов замялся. Он переступил с нош на ногу, обвел глазами черные скалы острова, голубое, сверкающее море. Он с ненавистью посмотрел на меня и на Фому, на Валю. Ему не хотелось при нас говорить, но у него не было выхода. — Никто ведь не знает на берегу, как дело было, — сказал Жгутов. — Ну, мало ли что… Ну, сдал мотор. Бывают ведь такие аварии, что не предусмотришь. Фома Тимофеевич, может, не выживет, а выживет, так, если ты попросишь, может, и согласится молчать. Лучше ведь никому не станет, если меня засудят. — Он вдруг подошел к Глафире так близко, что она даже отшатнулась, и сказал, глядя ей прямо в глаза: — Ну прости, Глаша. Хочешь, я на колени стану? — По всей строгости закона ответишь, Жгутов! — сказала Глаша с такой ненавистью, что Жгутов даже поежился. — По всей строгости закона, — повторила Глафира. — Закон-то ведь далеко, Глаша, — сказал Жгутов, — еще за нами когда придут, да и придут ли вообще? Кто про него помнит, про этот остров Колдун? Может, нам еще вместе спасаться придется. Стоит ли ссориться нам, Глафира? — Не бойся, — сказала Глафира, — придут за нами, Жгутов, и всё про тебя узнают. Они теперь стояли совсем близко, лицом к лицу, и оба говорили тихо, но яростно. — Мне, Глаша, терять нечего, — сказал Жгутов. — Все равно я человек погибший, так я много зла принести могу. — Давай, — говорила Глафира, — воюй с женщиной и ребятами, мужчина! Жгутов усмехнулся и отошел на несколько шагов в сторону. — Что ж, — сказал он, пожав плечами, — я миром хотел дело уладить. Ты меня не пощадила, не жди и от меня пощады. Еще поглядим, кто сильнее, Глафира Матвеевна. Он засвистел какую-то песенку, сунул руки в карманы, повернулся спиной к нам и пошел к берегу. Подняв камень, он с такой силой швырнул его в скалу, как будто целил в Глафиру и надеялся убить ее этим камнем. — Вы, пожалуй, без меня идите, ребята, пещеру искать, — сказала Глафира, — а я посижу возле Фомы Тимофеевича. Что-то Жгутов в шутливом настроении, может нехорошо пошутить.Глава четырнадцатая ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ. ВРАГ НА ОСТРОВЕ
Мы трое поднялись на вершину скалы. Подниматься было нетрудно. К морю скала обрывалась круто, и, когда я глянул с обрыва вниз, у меня закружилась голова. Чайки летели подо мной с резкими криками, волны казались совсем маленькими. Я отошел от края и строго прикрикнул на Вальку, которая тоже, конечно, рвалась посмотреть вниз. — Скучные здесь места, Фома, — сказал я. — Нехорошие места. Мокрые камин, холодно и ни травинки, ни кустика. А у нас в Воронеже леса, речки, скот на лугах пасется. А тепло! А солнечно! — Ну, я у вас в Воронеже не был, — хмуро сказал Фома, — а мне и здесь хорошо. У нас знаешь, какие места богатые — ужас! Этой весной еще не так много было рыбы, а то, бывает, селедка в губу зайдет, так весло в воду опустишь, а оно стоит. — Ну и что? Одна рыба! — начала дразниться Валька. — А у нас и лес, и поле, и речка! — Леса, конечно, я не видел, — согласился Фома, — только на картинках да в кино. Но, по-моему, ничего в нем хорошего нет. А цветы и у нас в тундре по веснам цветут, да еще какие! На самой вершине скалы была ровная площадка. Фома сказал, что, после того как найдем пещеру, перенесем туда деда и наберем водорослей, надо будет поставить здесь флаг или костер зажечь. Все моряки знают, что Колдун — остров необитаемый, и, если увидят флаг или дым костра, сразу поймут, что, значит, тут люди в беде. Я обвел глазами весь горизонт по кругу. Ни одного судна не было видно. Море слегка волновалось, солнечные лучи прыгали по воде. Оно было живое, море. Даже веселое. Трудно было поверить, что только несколько часов назад оно так ревело и бушевало. Я засмотрелся на море и вздрогнул, когда меня окликнул Фома. Он звал меня, стоя много ниже вершины, у большого черного камня. Я б никогда не подумал, что за этим камнем вход в пещеру, а Фома, оказывается, сообразил. Он приметил пустую банку из-под консервов, валявшуюся неподалеку, и решил, что, значит, люди располагались где-нибудь поблизости. А кто же будет располагаться под открытым небом, если есть пещера! Вход в пещеру выглядел очень мрачно. Мне даже страшновато стало, когда я, пригнув голову, вошел под каменный свод. Но внутри мне понравилось. Пещера оказалась небольшой, глубиной в пять моих шагов, а шириной — восемь. Но в ней было сухо, на полу лежало много водорослей. Их, наверное, натаскали рыбаки, которые укрывались на острове. Волны сюда не доставали. Пещера располагалась довольно высоко, на полпути от берега к вершине скалы. Мы ее не заметили, потому что поднимались самым коротким путем, по неглубокой расселине, а надо было на середине подъема свернуть по каменной складке. В пещере остались следы костра, потолок был закопчен, и в углу валялась еще одна банка из-под консервов. Надо сказать, что теперь, когда под ногами я чувствовал твердую землю, когда нашлось такое удобное убежище и можно было не бояться дождя и бури, у меня очень исправилось настроение. Честно сказать, мне даже нравилось на острове. Сейчас, думал я, разложим костер, приготовим обед, принесем из бота матрацы. Я не думаю, чтобы в Воронеже был хоть один мальчик моего возраста, который пережил бы настоящее кораблекрушение, да еще жил бы потом па необитаемом острове. У нас в школе ни о чем таком и не слыхивали. Потом я вспомнил про Степана, и мне стало совестно за то, что у меня хорошее настроение. Но все-таки мне нравилось на острове. Вдруг в пещере потемнело. Я обернулся и увидел, что у входа стоит Валька. Она смотрела на нас с презрением. — Мальчишки, — сказала она, — словно дети малые! Прямо хоть в детский сад вас посылать! — Почему это в детский сад? — удивился Фома. — Тут кораблекрушение, — с негодованием сказала Валя, — на необитаемый остров выкинуло, капитан тяжело ранен, а они нашли пещеру и играют тут в Робинзона! Может быть, она и была права. Мы с Фомой действительно как-то сами не заметили, что довольно долго уже торчим здесь, в пещере, осматриваемся и представляем себе, будто нас выкинуло на необитаемый остров и будто бы мы вроде как Робинзоны. Между тем представлять было совершенно нечего. Нас и в самом деле выкинуло на необитаемый остров, и мы в самом деле были, как Робинзоны. Не знаю, как кому, а меня жизнь научила тому, что интересные вещи случаются только в книжках. И я все никак не мог привыкнуть к тому, что мы переживаем самое настоящее приключение. С другой стороны, Вальке, конечно, не следовало так сразу набрасываться на нас. Ну, сказала бы, пора, мол, делом заниматься, и все. Но разве при ее характере она удержится от скандала? Мы не могли допустить, чтобы Валька учила нас, как себя вести. Фома ей сказал резко и коротко, чтоб она не в свои дела не лезла и что тут есть люди постарше и поопытнее ее. В частности, например, он, Фома, плавает не первый раз и может считать себя моряком. — Да, — крикнула Валька, — уж молчал бы лучше! Дед больной, лежит под открытым небом, простудиться может, а ты тут ерундой занимаешься. Хоть ты и моряк, а я побольше тебя в кораблекрушениях понимаю! Фома рассердился и даже покраснел. — Тоже мне моряк! — яростно сказал он. — Подумаешь, разбирается в кораблекрушениях! Без тебя обойдутся. — А вот и разбираюсь, — сказала Валя, — и лучше тебя знаю, что надо при кораблекрушении делать. Во-первых, на необитаемых островах ссориться нельзя. Надо, наоборот, всем быть дружными. Это тебе у нас в Воронеже любая девчонка скажет. Фома посопел, посопел, насупился и сказал: — Хоть она и маленькая, а, пожалуй, правильно говорит. Как-никак, мы с тобой, Даня, тут единственные мужчины. И, конечно, опять последнее слово осталось за Валькой. — Вы мужчины? — удивленно переспросила она. — Если правду говорить, единственный мужчина здесь — это я. Сказав это, она повернулась, задрала голову кверху и пошла впереди нас. И нам пришлось идти за ней. Получилось, что она пришла, накричала на нас, научила уму-разуму и ведет теперь вниз. Всегда получалось так, как она хотела. Внизу еще и Глафира на нас напустилась. Ну, она-то имела право. Она старше нас, и, потом, капитан передал ей командование. Это мы все слышали. Фома Тимофеевич дремал. Глафира сидела рядом с ним и иногда клала ему руку на лоб. Она, видно, боялась, не поднимается ли у него температура. — Скорей, — сказала она. — Перенесите с бота матрацы и одеяла. Надо уложить как следует капитана. Мы все трое побежали на бот. В трюме было полутемно. Еле-еле проникал тусклый свет сквозь иллюминатор. Мы взяли в кубрике четыре матраца, подушки и одеяла. Сперва сложили все это на берегу, потом понемногу перетаскали в пещеру. Глафира боялась оставить Фому Тимофеевича. Она сказала, что сначала мы переведем капитана, устроим его как следует, а потом перетащим из бота остальное. Мне неловко было спросить, когда же мы пообедаем, — все-таки сутки мы ничего не ели. Но все об этом молчали, молчал и я.
И вот Глафира осторожно разбудила Фому Тимофеевича. Старик застонал, потом открыл глаза и, когда мы ему объяснили, в чем дело, попытался встать, но ослабел и снова закрыл глаза. Мы его не торопясь подняли и осторожно, поддерживая под руки, повели к пещере. Валька шагала позади, делая вид, что она всем командует, и иногда покрикивала: — Ты осторожнее, Даня! Заворачивай, Фома! Как будто мы без нее не могли бы справиться. Фома Тимофеевич с трудом передвигал ноги. Мы часто останавливались, чтобы он передохнул. И он отдыхал стоя, опираясь на Глафиру и на Фому или на меня. Может быть, следовало бы ему дать посидеть отдохнуть, но мы боялись, что трудно будет потом поднять старика. Наконец мы добрели до пещеры. Для Фомы Тимофеевича мы положили два тюфяка, один на другой, и две подушки, чтобы ему было удобно. Мы накрыли его двумя одеялами. Было самое время. Фома Тимофеевич продрог и дрожал. Глафира опять потрогала его лоб, но температуры не было. Просто старика прохватило холодным ветром. Когда мы стащит с Фомы Тимофеевича сапоги, укрыли его и подоткнули одеяла со всех сторон, старик вздохнул с облегчением, закрыл глаза и опять задремал. — Теперь вот что, ребята, — тихо, чтобы не потревожить Фому Тимофеевича, сказала Глафира, — пойдите насобирайте водорослей, только сухие берите. И побольше. Костер разложим, напоим Фому Тимофеевича чаем. Потом принесите из бота фонари, только заправьте их сперва. — Флаг, — негромко сказал Фома Тимофеевич. — Что, что? — спросила Глафира. — Флаг, — повторил капитан. — Фома знает. Флагшток возьмите и флаг. И на самое видное место. — Ладно, дед, — сказал Фома, — все сделаем, ты отдыхай. Фома Тимофеевич закрыл снова глаза, а мы побежали на бот. Флаг хранился в ящике, в кубрике. Было полутемно. Фома сказал, что надо зажечь фонарь. В темноте он не может найти флаг. Я разыскал фонарь, но в нем было очень мало горючего, чуть-чуть бултыхалось на дне. — Подожди, Фома, — крикнул я, — сейчас заправлю фонарь. — Ладно, — буркнул Фома, — зажигай так. Сейчас флаг найдем, а потом вернемся, фонари заправим. Возьми там на полке спички. Я пошарил на полке, но спичек не было. Я крикнул Валю, которая осталась на палубе, велел ей посмотреть в рубке. Фома Тимофеевич человек курящий, и в рубке спички обязательно должны лежать. Валя крикнула, что там тоже нет спичек. Тогда Фома, ворча про себя, что мы с Вален ничего не умеем и ни о чем нас нельзя попросить, пошел за спичками сам. Он долго возился в магазине, что-то у него там падало, обо что-то он спотыкался — в магазине было совсем почти темно. Наконец вышел очень сердитый и сказал: — Потом найдем. После этого он долго еще искал и наконец все-таки нашел флаг в темноте. Он взял флагшток — длинную деревянную палку, и мы спрыгнули на берег. Жгутов стоял в нескольких шагах от бота, и, только мы спрыгнули, он сказал резко и строго: — Флаг ты дай мне, Фома, я его закреплю, а вы, ребята, принесите мне матрац, одеяло, подушку, что полагается. Он протянул руку, будто не сомневаясь, что Фома отдаст ему флаг. Фома смотрел на нею удивленно. — Куда это вам матрац и подушки? — спросил он. — Как — куда? — удивился Жгутов. — В пещеру, конечно. Что ж это, думаешь, я под открытым небом жить буду? Ну, давай, давай флаг! — Я флага не дам, — хмуро сказал Фома, — и матрац, если вам нужен, сами тащите. — Да ты что? — удивился Жгутов. — Раз капитан вышел из строя, командую здесь я, понял? — Тетя Глаша командует, а не вы, — хмуро сказал Фома. — Вам доверия нету. — Поспорь со мной! — прикрикнул Жгутов и резко толкнул Фому. Фома в одной руке держал флагшток, а другой прижимал к себе сложенный флаг. Поэтому он не удержался и упал. Я бросился к Жгутову и схватил его за руку. — Не смейте! — закричал я. — Не смейте, вы! — А, — зло проговорил Жгутов, — условились злить меня! Он с силой меня толкнул, и я упал, но, к счастью, на песок, так что совсем не ударился. Валя стояла, испуганно глядя на Жгутова. Она, кажется, замерла от страха. Я и Фома оба лежали. Ясно, что победа была за Жгутовым. Жгутов это понимал тоже. Он обвел нас всех яростным взглядом и сказал: — Получили? Так запомните. Слушать меня с первого слова. Приказано — исполняй. Ясно? Я не стыжусь признаться, что перепугался до смерти. Очень уж вышло неожиданно. Все хорошо получалось — разожгли бы сейчас костер, подогрели консервы, сидели бы у костра, толковали, как положено потерпевшим кораблекрушение, а тут вдруг Жгутов, злой, с тонкими губами, с глазами, белыми от ярости, и мы должны его слушаться, ему подчиняться. Фома опомнился первый. Он аккуратно сложил на песок флагшток и флаг, не торопясь встал и, наклонив голову, прямо пошел на Жгутова. Жгутов смотрел на него с усмешкой, но тонкие его губы чуть подрагивали от злости. — Никто ничего исполнять не будет, — сказал Фома, — ясно? — Что ж ты, драться со мной пойдешь, — с любопытством спросил ЖГУТОВ. — Пойду, — угрюмо сказал Фома. — Смотри, — Жгутов усмехнулся, — потом не жалуйся, бить буду всерьез. — Давай! — угрюмо сказал Фома. Тут я опомнился и вскочил. Я понял, что сейчас произойдет такое страшное, что и сказать нельзя. Фома не уступит, это я знал наверное, не такой он был человек. Он был упрямый и сильный, Фома, но куда ему было против Жгутова? Он ему и до плеча не доставал. А Жгутов, хоть и худой, был жилист и мускулист, да и во многих своих пьяных побоищах научился драться жестоко, зло, ни с чем не считаясь. Они шли друг на друга — коренастый, невысокий Фома и худощавый, крепкий Жгутов. Ужас меня охватил. В отчаянии я бросился между ними.

— Что вы делаете? — закричал я. — Фома, перестань, что ты! Товарищ Жгутов, как вам не стыдно? Ведь вы же старший, вы моряк. — Уйди, Даниил, — тихо сказал Фома, — не мешай! Не могу я смотреть на него. Позорит он моряков. Жгутов протянул жилистую сильную руку и, взяв меня за плечо, молча отбросил в сторону. И они продолжали идти друг на друга, глядя прямо друг другу в глаза. И тут вдруг раздался визг. Это был такой отчаянный, громкий, непереносимо резкий визг, что Жгутов и Фома остановились. Визжала, конечно, Валька. Она визжала так, что испуганные чайки с резкими криками разлетелись от острова. А из пещеры выскочила Глафира. Теперь сквозь визг прорывались слова: «Скорей!.. Жгутов Фому убьет!.. Скорей!» Я как-то приободрился. Во-первых, Глафира была тут, а она хоть и женщина, но взрослая и не слабая. Во-вторых, я видел, что Жгутов растерялся. Не было в нем прежней уверенности. Он переводил взгляд с Глафиры на Валю, с Вали — на Фому, и видно было, что он прикидывает и соображает, что он взвешивает силы, что он не уверен, кто одолеет. Если уж человек прикидывает и соображает, победить ему невозможно. В драку надо идти не думая. Я снова кинулся к Жгутову и схватил его за руку. На этот раз он не решился меня отбросить. И Валька, представьте себе, тоже до того осмелела, что вцепилась в него сзади и что-то кричала. Но теперь ее никто не слушал. Глафира стояла рядом с Фомой. Решительная, яростная Глафира. Она стояла, прямо глядя в глаза Жгутову, и было ясно, что хоть она женщина, а если понадобится, не думая кинется в драку. И Фома, наклонив голову, сжав кулаки, сделал шаг вперед. — Драться хочешь? — спросила Глафира. — У каждого из нас силы немного, а если вместе пойдем, плохо будет тебе, Жгутов! Наверное, целую минуту так и стояли все неподвижно. И какая же долгая это была минута! Потом Жгутов неискренне засмеялся. Ему хотелось уйти от беды без позора. Он не сильно оттолкнул меня, оторвал от своей рубахи вцепившуюся в нее Валю и сказал: — Нужно мне вами командовать! Была бы честь предложена. А без вас мне еще спокойнее. — Так-то лучше, — сказала Глафира. Жгутов повернулся к нам спиной и пошел небрежной походкой. Мы все смотрели ему вслед, еще не совсем веря, что мы его осилили. Он шел по берегу и, перед тем как скрыться за скалой, повернулся и крикнул: — Только смотри, придешь ко мне с просьбой — не жалуйся на встречу. Он ушел за скалу. Тихо было на острове. Покрикивали чайки, набегали на песок маленькие волны.
Глава пятнадцатая ВСЕ УКРАДЕНО
Первой расхохоталась Валька. Она сгибалась и хваталась за живот и прямо даже ослабела от смеха. — Ой, не могу! — ликовала она. — Вот хохоту, вот хохоту! Она смеялась так заразительно, что начали смеяться и мы все. — «Нужно мне вами командовать! — передразнивал я Жгутова. — Без вас мне еще спокойней!» — И хохотал, вспоминая, какой у него был величественный вид. Даже Фома, сдержанный, молчаливый Фома, и тот трясся от беззвучного смеха и радостно повторял: — Нашелся командир! Командир, понимаешь, нашелся! Громко смеялась Глафира. Так громко, что я уже стал к ней приглядываться и мне расхотелось смеяться. Она хохотала и всхлипывала, и мы видели, что вовсе она не смеется, а плачет. Тогда и у нас смех как рукой сняло, и мы, встревоженные, ее окружили. — Что с вами, тетя Глаша? — испуганно спросила Валька. — Я всегда, — сказала Глафира и всхлипнула, — всегда хулиганов боялась… Бывало, за два квартала бегу… — Опять она всхлипнула. — А теперь сама в драку полезла. Уж я так боялась, так боялась… И она улыбнулась сквозь слезы, потому что ей стало даже смешно, как она боялась- и вдруг в драку полезла. — Так ведь уже все прошло, — недоумевая, спросил Фома. — Прошло-то, прошло, — еще раз негромко всхлипнула Глафира, — а все равно страшно. Пото1у! она вытерла слезы, лицо у нее сделалось серьезное, деловое, и она начала распоряжаться. — Заболтались, — сказала она сурово. — Давайте, давайте! Ты, Фома, ставь флаг наверху. Мы с Даней пойдем на бот — продукты взять, спички, посуду. Когда еще нас спасут, а пока будем жить, как люди. А ты, Валя, стой здесь. И смотри на пещеру. Как увидишь, что Жгутов близко к пещере подходит, так беги на бот и кричи. Понятно? — Понятно, — сказала Валя. — Кричать, тетя Глаша, я хорошо умею, так что вы не волнуйтесь. Фома взял под мышку флагшток и флаг и не торопясь стал подниматься на скалу. Валя села на камень, лицом к пещере, и начала болтать ногами, но потом вспомнила, что она часовой, соскочила с камня и встала прямо, вытянув руки по швам. Мы с Глафирой спустились по трапу в кубрик. — Да, — сказала Глафира, — пожалуй, здесь без фонарей не разобраться. Давай-ка, Даня, сперва зажжем фонари и аккуратненько отберем, что нам нужно. — Мы, тетя Глаша, с Фомой искали спички, — сказал я, — да что-то не могли найти. — Мужчины ничего никогда не могут найти! — сердито сказала Глафира. — Погоди тут, я поищу спички. Она пошла в магазин и так же, как недавно Фома, спотыкалась обо что-то, и что-то у нее падало, и я слышал, как она недовольно ворчала, и мне приходила в голову страшная мысль, но я ее гнал от себя, потому что слишком она была страшна. Я знал, где хранились продукты. Был в кубрике шкафчик. Когда мы еще в порту осматривали бот, я сунул нос и туда. Я хорошо помню, что на нижней полке были сложены кирпичами буханки хлеба, на средней полке стояли консервы, на верхней лежал матерчатый мешок с сахаром и стояла банка с чаем. Мне захотелось, пока Глафира возится в магазине, приоткрыть шкафчик и хоть рукой провести по полкам. Но я удержался. Я знал, я был уверен, что там ничего нет. Я боялся, что мне придется сообщить об этом Глафире. Очень страшно сказать человеку такую ужасную вещь. Глафира вышла из магазина. — Надо в рубке посмотреть, — сказала она, — у Фомы Тимофеевича должны быть там спички. Я молчал. — Сходи, Даня, поищи в рубке. — Мы искали уже, — сказал я. — Нету там спичек. По голосу моему Глафира поняла, что я уже догадался о том, о чем и она уже догадалась, только старалась скрыть от себя самой. Она молчала. Нам обоим хотелось подольше не знать страшную правду. Я почувствовал, что у меня даже ноет под ложечкой, так мне хочется есть. Тихо было в боте. Как-то сразу он потерял свой обжитой и уютный вид. Тусклый свет еле проникал сквозь иллюминатор. Все казалось странным: косой потолок, вздыбившиеся койки. Будто давно-давно лежит на берегу это мертвое, выброшенное волнами судно. Может быть, здесь уже поселились морские звезды и крабы, какие-нибудь пресмыкающиеся живут на копках? Я понимал, что это чепуха, нет здесь, на севере, никаких таких пресмыкающихся, да и бот мы покинули всего несколько часов назад, но иногда представляется даже и чепуха, а все равно страшно. — Даня, — сказала Глафира неуверенным, робким голосом, — посмотри-ка в шкафу. Может, мы и без света заберем все. Она хотела, конечно, сказать, чтоб я посмотрел, есть ли в шкафу продукты. Но она гнала от себя самую эту мысль. Я открыл дверцу шкафа и, так как ничего не было видно, рукою провел по всем полкам. Потом я провел еще раз, надеясь, что, может быть, в уголке осталась забытой хоть одна буханка или банка консервов. Нет, Жгутов аккуратно очистил шкаф. У него-то ведь были спички! Он-то мог себе посветить! Я молчал. Я все хотел оттянуть минуту, когда придется сказать Глафире о постигшем нас несчастье. Долго молчала и Глафира. Видно, и ей хотелось надеяться, хоть немного надеяться. — Ну, Даня? — спросила она. — Шкаф пуст, — ответил я. Глафира подошла и тоже рукой провела по полкам. И опять мы стояли и молчали, потому что надо было сказать Вале, что еды нет и неизвестно, сколько времени будем мы голодать, потому что надо было сказать Фоме Тимофеевичу, что мы не остереглись, проворонили, позволили Жгутову обмануть нас и обокрасть. — Пойдем, Даня, — сказала наконец Глафира. И мы молча поднялись по трапу и спрыгнули с палубы на песок. Валя стояла по-прежнему к нам спиной и глядела не отрываясь на вход в пещеру. Она слышала, что мы вышли из бота, и крикнула, не оборачиваясь: — Я Жгутова даже не видела! На самой вершине скалы развевался флаг. Ветер трепал его, и полотнище, наверное, щелкало, хотя нам и не было слышно. И рядом с флагом стоял Фома и, приложив козырьком руку к глазам, медленно оглядывал горизонт. Глафира присела на камень и сказала: — Мамочка моя, мама, ой, мама ты моя, мамочка! — Фому надо звать, тетя Глаша, — сказал я. — Может, Фома чего придумает. Глафира посмотрела на меня, как будто меня не видела, а потом взяла себя в руки и снова стала решительной, энергичной Глафирой. — Фома! — закричала она. — Фома! — Дайте я крикну, тетя Глаша, — сказала Валя, — у меня голос громче. Но Фома уже обернулся, услышав крик. Глаша махнула ему рукой, и Фома стал спускаться к нам неторопливой своей походкой. Ему, наверное, очень нравилось, что над островом плещется флаг. И мне тоже нравилось. Теперь видно было, что у нас не какая-нибудь жалкая скалишка, а настоящий остров, с настоящими потерпевшими кораблекрушение, что все устроено солидно, серьезно, так, как положено. И все-таки мне надоело быть потерпевшим кораблекрушение. Одно дело голодать, зная, что сейчас на костре будут греться консервы, и совсем другое, когда знаешь, что, может быть, голодать придется много дней, а может, придется и умереть с голоду. Фома подошел и сказал: — Я, тетя Глаша, когда наверх поднимался, заглянул к деду. Он спит. Я прислушался: дышит ровно. — Фома, — сказала Глафира, — Жгутов украл продукты и спички. Нам есть нечего, и костер мы не можем зажечь. Фома посмотрел на Глафиру и поморгал. До него всегда не сразу доходили новости. Ему надо было минутку подумать. Только тогда он толком все понимал. — Я ему глаза выцарапаю! — крикнула Валька, по-прежнему не спуская глаз с пещеры. — Пойдем найдем его! Я ему покажу! Она хоть сидела к нам спиной, но все, оказывается, слышала. — Он туда пошел, кажется? — спросила Глафира. Фома кивнул головой и быстро зашагал к скале, за которой скрылся Жгутов. За Фомою пошли и мы все. Черные камни нависали над песчаным бережком. Здесь берег был чуть выше, так что подальше от воды песок был почти сухой. Зато скала поднималась совершенно отвесно, и влезть на нее с этой стороны было невозможно. В одном месте скала низко нависла над берегом, образовав углубление. Под этим каменным навесом песок был совсем сухой, видно туда не достигали дождь и снег. Это было хуже нашей пещеры, но все-таки под каменной крышей можно было укрыться от непогоды. Там, на сухом песке, лежал на спине Жгутов. Он натаскал себе водорослей и устроил под головой подушку. Думаю, что он слышал наши шаги или, может быть, просто понимал, что мы должны прийти. Слишком уж у него спокойный и независимый был вид: лежит, мол, человек, отдыхает, настроение у него чудесное и ни до кого ему дела нет. Он посмотрел на нас равнодушно. Так он взглянул бы на чаек, присевших на песок, на поссорившихся глупышей. Если бы он пытался от нас убежать, испугался бы, увидя нас, нам было бы легче. Но он смотрел, как будто знал все, что мы скажем и что он ответит. Как будто ему уже заранее было скучно. Мы подошли к нему и остановились, а он отвел от нас глаза. Не потому, что боялся нас, а просто неинтересно было ему на нас смотреть. — Ну, Жгутов? — сказала Глафира. — Ну,Глафира? — лениво сказал Жгутов. — Где продукты? Где спички? — спросила Глафира. — Не знаю, — вяло сказал Жгутов. — Ты же врешь, Жгутов, — сказала Глафира. — Некому было взять, кроме как тебе. — Может, вру, — сказал Жгутов, — а может, нет. Я чувствовал, что Глафира еле сдерживает раздражение. Она вцепилась бы ему в волосы, дай она себе волю. Она б ему все высказала, что она о нем думает. Но она заставила себя сдержаться. — Я ведь знаю, — заговорила она, — когда ты украл. Мы Фому Тимофеевича в пещеру отводили, устраивали раненого старика, а ты в это время у детей хлеб воровал. Жгутов потянулся, с наслаждением расправил руки и ноги, лениво зевнул и сказал неторопливо и ласково: — Ты мне, Глашенька, лекции тут не читай. Может, оно так, а может, не так. Это одно. А другое, если так, то кому жаловаться будешь? Милиция далеко, до ближайшего прокурора тоже не доберешься. Хочешь делом говорить, давай. А лекции слушать мне некогда, я отдыхать хочу. — Подлец ты, Жгутов! — сказала Глафира. — Вот уж это нехорошо, — ласково протянул Жгутов. — Пользуешься тем, что милиция далеко, что я на тебя жалобу не могу подать за оскорбление. Это, Глаша, нечестно. Фома теребил Глафиру за рукав. — Тетя Глаша, — тянул он, — тетя Глаша. Глафира не слышала. Она так ненавидела сейчас Жгутова, так ей хотелось высказать ему все, что она не слышала Фому. — Тетя Глаша, — тянул Фома, — тетя Глаша, чего вы с ним говорите? Остров-то небольшой, ну куда он мог спрятать? Не в море же бросил? Самому-то тоже есть охота. Значит, сберег. Так неужели ж мы не найдем? Бросьте вы с ним говорить, тетя Глаша. — Вот и правильно, — сказал Жгутов. — Вы поищите, а я пока посплю. А коли не найдете, приходите — поговорим. Я отдохну, может, добрее буду. Глафира посмотрела на Жгутова, круто повернулась и пошла. Мы пошли за ней. Уже несколькими шагами дальше впадины, в которой лежал Жгутов, пологий берег кончался. Отвесная скала прямо уходила под воду. Ясно, что тут спрятать было ничего невозможно. Мы посмотрели даже в воду. Дно было ясно видно, и на дне ничего не лежало. Мы пошли обратно. Шаг за шагом обошли мы весь остров. Это заняло не очень много времени. Здесь все было на виду. Кроме нашей пещеры, нигде не было никаких впадин, никаких расселин. Либо ровная каменная поверхность, либо — на противоположной стороне острова — крутой обрыв, с которого и глянуть-то страшно. Мы все-таки легли на камень и посмотрели вниз, но обрыв шел прямо до самой воды, крутой обрыв без уступов или неровностей, куда можно было бы хоть на веревке спустить продукты. Положительно никуда не мог Жгутов спрятать хлеб и консервы. По нескольку раз оглядели мы каждый уголок острова. Не было на нем места для жгутовского тайника. И вот обессиленная Глафира села на камень и руками взялась за голову. — Ой, мамочка моя, мама! — сказала она. — Что же нам делать, что же нам делать? Мы трое стояли перед ней, и мне было так жалко ее, что даже есть почти не хотелось. Глафира посмотрела на нас и застонала. — Ну куда мне командиром быть? — выкрикнула она. — Был бы Степа со мной, научил бы меня, глупую, а тут сама за все отвечай. А ну как не так скомандуешь? И вас всех погублю и сама погибну. — Да ну, тетя Глаша, — протянул Фома, — чего вы, правда же, огорчаетесь? Выкрутимся же мы. Глафира еще раз посмотрела на нас, решительно встала и зашагала по песчаному берегу к впадине, в которой лежал Жгутов. Он притворялся, что спит. Не знаю почему, но я чувствовал, что он притворяется. Ему хотелось, чтобы мы подумали: вот, мол, мы тут волнуемся, нервничаем, а он и думать про нас забыл. Глафира присела на корточки и потрясла его за плечи. Жгутов сделал вид, что проснулся, открыл глаза, посмотрел на Глафиру, будто бы сонным взглядом и спросил: — Ну, нашли? — Чего ты хочешь? — ответила Глафира вопросом. Тогда Жгутов сел, протер глаза, зевнул и, будто бы согнав с себя сонливость, сказал: — Значит, дело говорить решила? Ну что ж, поговорим. — Чего ты хочешь? — повторила Глафира. — Акт написать нужно о причинах аварии, — начал обстоятельно объяснять Жгутов. — Мол, случайное повреждение, не зависящее от механика. Чтоб ты подписала и старик подписал. А с ребят слово взять, чтоб молчали. — Не подпишет старик, — хмуро сказала Глафира. — Ну, это как сказать, — усомнился Жгутов. — Помучаются ребята с голоду да с холоду, тогда подпишет. — Какой же ты, Жгутов, подлец! — сказала Глафира. Жгутов пожал плечами: — Ругайся, если тебе так легче. Мне-то ведь терять нечего. Так и так тюрьма, чего ж мне бояться? Глафира помолчала, с ненавистью глядя на спокойное, даже, кажется, веселое лицо Жгутова. Потом она тяжело перевела дыхание. — Ну, Жгутов, — сказала она, — твоя взяла. Где акт писать будем? — А я и тетрадочку прихватил и самописочку из твоего магазина. Прямо сядем здесь и напишем. Он вынул из кармана перегнутую пополам тетрадку, аккуратно ее расправил и отогнул обложку. Фома схватил Глафиру за руку: — Вы же командир, тетя Глаша! — сказал Фома. — Не надо, нельзя его слушать! — Подумаешь, — сказала Валя, — мне и есть-то совсем не хочется. Жгутов вынул из кармана самописку, открыл ее и посмотрел на кончик пера, не попал ли волосок. — Не надо, тетя Глаша! — Фома тянул и дергал Глафиру за рукав. — Нельзя его слушать. Глафира посмотрела на меня, на Валю, на Фому, потом перевела взгляд на Жгутова и вдруг, круто повернувшись, зашагала прочь от него. Фома, Валя и я пошли за ней. Я, уходя, обернулся. Жгутов, держа в одной руке тетрадь, в другой самописку, растерянно смотрел нам вслед. — Раскаешься, Глаша! — крикнул он. Но мы быстро уходили. Мне до тошноты хотелось есть.Глава шестнадцатая РАЗГАДЫВАЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Итак, мы остались на голой скале без огня и без крошки хлеба. Но хуже всего, что эта скала не была необитаемой. На ней жил враг, жестокий, ненавидящий, яростный враг. Когда мы вошли в пещеру, Фома Тимофеевич лежал с открытыми глазами и смотрел на нас ясным, разумным взглядом. Он был еще очень слаб, но, видно, окончательно пришел в сознание. — Флаг вывесили? — спросил он. — Вывесили, — сказал Фома. — Здорово плещется. Далеко, наверное, видно. — Поели? — спросил старик. — А вы, Фома Тимофеевич, есть не хотите? — спросила Глафира. — Нет, мне не хочется, — сказал старик. — Я закурил бы. — А у вас при себе спичек нет? — осторожно спросила Глафира. — Я уж смотрел, — сказал Фома Тимофеевич, — не положил в карман. Ну ничего. На боте-то есть спички. — Промокли, дед, — хмуро сказал Фома, — не зажигаются, пробовали. — Ну ничего. — Фома Тимофеевич вздохнул, курить-то ему, видно, очень хотелось. — Время сейчас не такое холодное, а консервы можно и так есть. — Я даже не люблю разогретые, — сказала Валя. — Раз поели. — сказал старик, — отдыхайте. Только по очереди. Двое отдыхают- двое дежурят. Я-то пока плохой часовой. Надо один чтоб у флага стоял, — может, судно увидит. А другой здесь, у пещеры. Мало ли что, часовой всегда должен стоять. Да и Жгутов тут. Не доверяю я ему. Плохой человек. Фома Тимофеевич вытащил из кармана большие серебряные часы на цепочке. — Вот, — сказал он, — идут, я завел. Хорошие часы, старинной работы. Фома пусть к флагу идет, а Глаша здесь подежурит. А Даня с Валей пусть поспят. А через два часа смена. Понятно? Фома молча кивнул, вынул из под подушки куртку, надел ее и молча ушел наверх. Глафира велела нам ложиться. Когда началось дежурство, было два часа ночи. Я бы и не знал — ночи или дня. Солнце светило вовсю. У нас в Воронеже так светит часов в шесть вечера. Но Фома объяснил, что сейчас ночь. Он как-то умел в этом разбираться. Глафира села у входа в пещеру, а мы с Валькой легли. Лежать было очень удобно: у нас были матрацы, подушки, одеяла. Я сразу заснул. Но скоро проснулся. Голод мучил меня. Так мучил, что мочи не было. Я прислушался. Фома Тимофеевич и Валя спали. Глафира сидела спиной к пещере. Она раскачивалась из стороны в сторону и что-то бормотала. Я даже испугался сперва, не заболела ли она. Потом вслушался. — Степа ты, Степа, — говорила Глафира. — Был бы ты здесь, научил бы ты меня, глупую. Как бы спокойно с тобой было! — И опять повторяла: — Степа ты, Степа. Часы лежали рядом с Фомой Тимофеевичем. Я приподнялся и взглянул на них. Половина пятого. — Тетя Глаша, — негромко окликнул я. Глафира повернулась и посмотрела на меня строго. — Ты чего не спишь? Спи. — Нет, — сказал я. — Вы и так полчаса лишних сидите. Теперь вы ложитесь спать. Я вылез из-под одеяла и разбудил Вальку. Она проснулась сразу же, как только я тронул ее за плечо, и вскочила как встрепанная. А ведь дома ужас сколько с ней надо возиться, прежде чем она продерет глаза. И хнычет, бывало, и просит, чтоб еще дали поспать. А вот, оказывается, может же просыпаться сразу. Видно, Глафира прямо с ног валилась. Она еле дошла до своей постели, легла и сразу заснула. Валька заявила, что она обязательно хочет дежурить у флага. Я подумал и спорить с нею не стал. В конце концов к флагу Жгутову незачем подбираться. А в пещере Жгутов может попытаться какую-нибудь гадость устроить. Так лучше, чтобы его мужчина встретил. Я уселся немного подальше от пещеры, так, чтобы мне был виден и Валькин пост. Она отправилась. Я смотрел, как она поднялась на вершину и у них с Фомой затеялся разговор. Мне показалось, что они ругаются. Валька размахивала почему-то руками, Фома на нее наступал. Оказалось, что я был прав. Валька вернулась, чуть не плача. Фома сказал ей, что он будет продолжать дежурить и чтоб она шла спать. Она с ним спорила, но он на нее наорал и прогнал вниз. Кажется, ясно — человек ведет себя, как мужчина, хочет отдежурить за тебя. Благодарной надо быть, но Валька явилась надутая, сказала, что спать все равно не будет, и вообще держала себя так, будто Фома ее чем-то обидел. Я пытался ей объяснить, но разве она человеческий язык понимает! Фома прохаживался у флага, сунув руки в карманы куртки и втянув голову в плечи. Видно, он очень замерз. Я и сам начал замерзать. Странно все-таки здесь, на севере. Солнце светит ночью, как днем, ну и пусть было бы, как днем, тепло. Так нет, ночью солнце светит, а все-таки холодно! Я стал прохаживаться взад и вперед, а Валька ушла в пещеру, и я думал, что она ляжет спать. Пусть хоть выспится. Она же еще маленькая, ей нужно набирать силы. Я ходил и негромко повторял: «Холодно, холодно, холодно, холодно, холодно, холодно, хочется есть! Голодно, голодно, голодно, голодно, голодно, голодно, хочется спать!» Получались почти стихи. Я даже попробовал напевать их, но перестал, потому что вышла Валя, закутанная в одеяло, и присела у входа в пещеру. — Чего не спишь? — спросил я. — Так, — ответила она коротко. II, помолчав, вдруг сказала: — Ой, Данечка, как тут холодно, мокро! — Потом еще помолчала и сказала мечтательно: — Помнишь, мама, бывало, котлет нажарит и все нас уговаривает: съешьте еще, съешьте еще. А мы отказываемся. — Она еще помолчала и добавила убежденно: — Дураки! — Ты, Валька, об этом не думай, — сказал я. — Ты о том думай, что сейчас по всему морю суда рыщут, самолеты над морем летят, по радио переговариваются. С берега спрашивают: «Ну как, не видать там Даню и Вальку?» А с судов, с самолетов отвечают: «Пет, пока не видать. Но ничего, скажите докторше, чтобы не беспокоилась. Найдем ее ребят». Мне самому понравилась эта картина. Я как-то раньше не думал об этом, а теперь представил себе, как в рубках стоят капитаны, в самолетах штурманы прокладывают курс, радисты отстукивают срочные сообщения, и все это из-за нас. Как ни говорите, а здорово! Валька быстро вошла в игру. — Гудок на судне гудит: «Найду-у-у!» А мотор на самолете ревет: «Р-р-разы-щем!» — сказала она. Потом помрачнела и добавила: — Скорей бы! Мы оба долго молчали. Холод проникал в рукава и за шиворот. И слабый я был. Можно, допустим, не думать о том, что хочется есть, а все равно, если голодный, ноги становятся как ватные и руки слабеют. Я задумался и сам не заметил, что сказал громко: — Ну куда, куда он спрятал? Куда он мог спрятать? Валя, наверное, думала о том же. Она очень оживилась. — Даня, — сказала она, — давай еще поищем. Не мог же он псе съесть. Значит, где-то лежат хлеб и консервы. Ты не помнишь, какие там были консервы, Даня? Я не стал ей отвечать на этот глупый вопрос. Не все ли равно какие! Стали бы мы с ней сейчас разбирать, мол, эти мы любим, а эти мы не едим. — Тут не искать надо, — сказал я, — тут думать надо. Тут какая-то хитрость есть. — Какая хитрость? — удивилась Валя. — То-то и дело, что не поймешь. Конечно, я охотнее бы поговорил об этом с Фомой. Он парень неглупый, и у него могли быть интересные соображения. Но Фома стоял на своем посту, я — на своем, и никак нам нельзя было переговорить. Л между тем мне приходили в голову мысли, над которыми следовало подумать, и я решил, что лучше я хоть при Вале их выскажу, чем буду хранить про себя. Когда вслух рассуждаешь, то многое становится понятным. — Ты слышала, Валя, — сказал я, — что был такой знаменитый сыщик Шерлок Холмс? — Он расследовал дело «Баскервильской собаки» и дело «Пестрой ленты», — деловито сказала Валя, — и еще много интересных дел. Я кивнул головой: — Он самый. Так вот, он всегда осматривал место преступления, замечал все мелочи, а потом закуривал трубку или на скрипке играл и думал. И все, понимаешь, принимал во внимание, ставил себя на место преступника… Раз!.. И вдруг все понимал. — Ну, ну, и что же? — нетерпеливо спросила Валя. У нее разгорелись глаза, и она даже стала ерзать на камне от нетерпения. — Так ты тоже все хочешь понять? — Постараюсь, — скромно сказал я. — Вот давай порассуждаем, представим себе все, как было, поставим себя на место Жгутов а и… — …и рраз… все поймем!.. — восторженно перебила меня Валя. — Да? — Постараемся, — поправил я ее опять. В Валькином возрасте все кажется легким: раз — и готово. Я-то уже понимал, что все это далеко не так просто. Я встал и, прохаживаясь взад и вперед — так, кстати, мне было и теплее, — начал рассуждать вслух: — Когда Жгутов мог вынести с бота продукты? Сначала мы все были вместе. Помнишь? Бот выбросило, Фома пришел за нами, и мы все собрались возле Фомы Тимофеевича. Жгутов был, во-первых, с нами, я его помню, а во-вторых, мы все собрались около бота. Значит, в это время он вынести ничего не мог. — Так, так, — закивала головой Валя, ерзая на камне от нетерпения. — Правильно, правильно. — Дальше мы с тобой и с Фомой пошли искать пещеру, а тетя Глаша сидела возле бота, охраняла Фому Тимофеевича. Значит, опять-таки ничего Жгутов вынести из бота не мог. — Так, так, — кивала Валька головой. — Потом мы тащили с бота постели и перетаскивали их в пещеру. А тетя Глаша по-прежнему сидела у бота. Жгутов ничего вынести с бота не мог. — Не мог, — увлеченно повторила Валька. — Потом мы повели Фому Тимофеевича в пещеру. Жгутова с нами по было. В пещере мы уложили Фому Тимофеевича, сняли с него сапоги, немного поразговаривали, и он послал нас на бот за флагом. Мы пошли на бот, и уже в это время там не было спичек. Значит, Жгутов уже к этому времени все с бота вынес. Значит, он выносил именно тогда, когда мы были в пещере. — Даня, — сказала Валя, — я даже не знала, что ты такой умный! Ты прости, я иногда обижала тебя… — Ладно, — сказал я скромно, — будем рассуждать дальше. Сколько времени мы провели в пещере? Ну, допустим, пятнадцать минут. Ну, возьмем с запасом, пусть даже двадцать. — Ну, пусть двадцать, — согласилась Валя. — Ну, скажем, Жгутов влез в бот, пока мы вели Фому Тимофеевича — мы шли к боту спиной, — ну, сколько мы шли? Пять минут самое большее. — Самое большее, — кивнула головой Валя. — Значит, всего двадцать пять минут. Не могло же сходиться время секунду в секунду, не мог же Жгутов точно знать, когда мы выйдем из пещеры. Значит, должен был он хоть пять минут иметь в запасе. Значит, самое большее было у него времени двадцать минут. — Двадцать минут, — как эхо, откликнулась Валя. Она была вся поглощена моим рассуждением. Глаза у нее горели. Она даже сбросила одеяло, ей стало жарко от возбуждения. — Теперь посмотрим, что он должен был сделать за эти двадцать минут. Он на острове в первый раз. Значит, он не мог знать заранее, что, мол, там-то и там-то есть какое-то место, которое почти невозможно обнаружить и в котором можно спрятать целую кучу продуктов. Значит, он должен был найти такой тайник. Мы осмотрели остров внимательно и ничего не нашли. Значит, найти тайник не так просто. Ну, скажем, ему повезло. Но десять минут должен он был на это потратить? — Десять минут, — согласилась Валька. — Остается у него десять. За это время он должен был влезть на бот, — скажем, минута. Взять мешок и дойти до шкафа. Пол наклонный, ходить трудно и в боте темно. Ну, скажем, еще минута. Он должен был уложить в мешок десять буханок хлеба, двадцать банок консервов, чай, сахар. Нужно на это пять минут? — Обязательно, — убежденно сказала Валя. — Значит, семь минут. Теперь нужно еще собрать спички. Спички лежат в разных местах. Две пачки лежали в ящике в магазине. Это я точно помню. В машинном тоже лежали спички — Жгутов курил. В рубке у Фомы Тимофеевича тоже лежали спички. Значит, три места надо было обойти в темноте, идя по наклонному полу, да еще нашарить спички. Ну, по минуте на каждое место надо класть? — Надо, — кивнула Валя. — Вот тебе и все двадцать минут. Теперь надо вытащить тяжелый мешок по трапу, унести его куда-то далеко, потому что у самого бота наверняка спрятать негде, мы же смотрели, да еще замаскировать. — Так что же ты думаешь? — волнуясь, спросила Валя. — Я думаю… — протянул я, по совести сказать, еще совсем не зная, что я именно думаю, и вдруг вскрикнул: — Понял! Валька вскочила и стояла передо мной, вся дрожа от возбуждения. — Что же ты понял? Ну, говори! — Я понял, — сказал я и вдруг замолчал. Мне пришла в голову такая мысль. Вальку-то я знаю великолепно. Ей скажи, она сразу потребует, чтоб мы начали действовать. А это не так просто. Жгутов человек сильный и может оказать сопротивление. От него чего угодно можно ждать. Фому Тимофеевича тоже одного нельзя оставить. Значит, очевидно, идти на бот надо Глафире, Фоме и мне. Втроем мы все-таки можем справиться со Жгутовым. А Вальке надо сторожить Фому Тимофеевича. В смысле физической силы она ничего не стоит, но как сигнальщику ей цены нет. Уж кричать-то она умеет как никто! — Валя, — сказал я, — мы еще с тобой порассуждаем и обязательно все поймем, но только мне сейчас нужно с Фомой поговорить. Раз ты все равно не спишь, посторожи здесь, а я быстренько сбегаю к Фоме и через пять минут вернусь. Хорошо? Валька смотрела на меня горящими глазами. Она, не отвечая, кивнула головой. Я быстро побежал на вершину скалы, где прогуливался возле флага замерзший Фома. Я повторил ему все свое рассуждение. — Ты понимаешь, Фома, — сказал я, — только на боте он мог спрятать. Больше нигде. Вынести с бота нет никакой возможности. Он правильно рассчитал, что это единственное, что нам не придет в голову. Фома посмотрел на меня и широко улыбнулся. — Молодец! — сказал он. — Мне бы не додуматься. Здорово ты соображаешь! Приятно в Фоме, что он охотно признает заслуги других людей. Это не каждый умеет. Правда, и я сознавал, что на этот раз похвала мною заслужена. — Да, — сказал я, — кое-что мне удалось сообразить. — Сделаем так, — сказал Фома, — Валю надо к флагу поставить, тетю Глашу разбудим. С ней, втроем, спустимся вниз. Она постоит у бота и будет следить за пещерой, а мы с тобой обыщем весь трюм. Ты прав, продукты должны быть там. — Пошли, — сказал я. — Нет, — Фома покачал головой, — ты не знаешь, какой дед сердитый насчет порядков. Человек должен у флага стоять. Если судно покажется, надо флагом размахивать, а то могут не зайти. Ты спустись, позови Валю, она меня сменит, и мы тетю Глашу разбудим. И только он это сказал, как вдруг раздался отчаянный Валин крик. Одно из замечательных свойств Валькиного крика — это его продолжительность. Она могла на одной ноте тянуть вопль, наверное, пять минут. Обыкновенному человеку этому в жизни не научиться. А сейчас крик был громкий, отчаянный, но короткий. Как будто ей кто-то неожиданно рот заткнул. Мы с Фомой кинулись вниз. Еще сверху нам было видно, что возле пещеры Вали нет. Может быть, она зашла в пещеру? Может быть, с капитаном случилось что-нибудь? Мы вбежали в пещеру. Фома Тимофеевич спал. Глафира сидела на постели и прислушивалась. — Мне приснилось или на самом деле кто-то кричал? — спросила она. — Тетя Глаша, — сказал я, — это Валя где-то кричала, а где, неизвестно. Понимаете, Валя исчезла.Глава семнадцатая ОСВОБОЖДАЕМ ПЛЕННЫХ
Мы вышли из пещеры и остановились. Прежде всего надо было оглядеться и сообразить. — Валя! — закричала Глафира. — Валя! Мы тоже с Фомою крикнули несколько раз. Валя не отвечала. — Странно, — сказала Глафира. Необыкновенная тишина стояла на острове. Море совсем утихло, и крошечные волны бесшумно набегали на песок. Над нами было чистое небо, без единого облачка. Солнце опять поднималось к зениту, и тени стали гораздо короче. Почему-то замолкли чайки. Одна только крикнула резко и коротко, и снова наступила мертвая тишина. Загадочной казалась эта тишина, что-то таящей, чем-то угрожающей, и загадочным показался мне остров Колдун. Черный, молчаливый, он стоял посреди гладкого голубого моря и молчал таинственно и значительно. Я в первый раз понял, почему его назвали Колдун. Как злой волшебник, высился он в океане, и мне вдруг пришла в голову странная мысль: может быть, он беззвучно смеется над нами? Завлек своим злым волшебством к себе наш бот и теперь беззвучно смеется. Я отогнал от себя эти мысли. Мама всегда говорит, что если поддаваться настроениям, так можно лягушку принять за водяного, а старое дерево — за лесовика. Остров был тих. И сейчас, когда я осмотрелся, отогнав от себя мысли о волшебствах и тайнах, мне показалось, наоборот, что удивительно спокойно, можно сказать, обыкновенно выглядит остров. Спокойно набегали на песок маленькие волны, бот наш лежал на боку, и, кажется, его немного втянуло в песок, Жгутов спал на песке возле бота, во всяком случае делал вид, что спит. Я поднял глаза к вершине скалы и увидел, что флаг не полощется, а свисает и чуть шевелится от легкого ветерка. И вдруг я подумал, что в прошлый раз, когда я смотрел на бот, Жгутова возле бота не было. Это я точно помнил. Я бы непременно его заметил. У меня замерло сердце. Конечно же, Жгутов убил Валю. Она сообразила, чего я не договорил, и поняла, что продукты спрятаны на боте. Конечно, с ее характером не могла она ждать, пока мы организованно пойдем на поиски. Ей, конечно же, надо было первой полезть на бот и первой найти хлеб, п консервы, и спички. — Я знаю! — крикнул я и побежал вниз. Мне некогда было сейчас объяснять все, что я понял, что я знал наверное, в чем я был уверен. — Куда ты? — крикнула мне вслед Глафира. — Подожди, Даня! Потом я слышал, как она резко сказала Фоме: — К флагу! Пропустишь судно, что Фома Тимофеевич скажет? Я пролетел мимо Жгутова, вскарабкался на бот, поднялся по наклонной палубе и сбежал вниз по трапу. Страшная тишина была в трюме. — Валя! — крикнул я. — Валя! Тишина. — Валя! — сказал я плача. — Ну Валя, ну что же ты! Где же ты, Валя? Что-то лежало на полу. В темноте мне было не видно — что, но что-то большое. Задыхаясь от ужаса, я подошел, наклонился… Нет, это был свернутый матрац, обвязанный веревкой. Наверное, Жгутов собирался отнести его к себе, но почему-то оставил. И, наверное, в эту минуту вбежала Валька. — Валя, — повторял я, — Валя! — и всхлипывал. И тут я услышал голос Глафиры. Она звала меня, наклонившись над трапом. Она ведь не знала, в чем дело, почему я уверен, что Валька залезла в бот. А мне было так страшно одному, что я кинулся к трапу. — Тетя Глаша, — сказал я плача, — тетя Глаша, идите сюда! И вдруг я увидел за Глафирой Жгутова, поднявшего над склоненной ее головой тяжелый гаечный ключ. — А-а! — закричал я и, не в силах ничего объяснить, только пальцем показывал ей: посмотри, мол, назад, обернись. И Глафира обернулась. Жгутов растерялся. Наверное, напасть со спины и ударить человека в затылок, не видя его лица, — это одно, а убить человека, который смотрит тебе прямо в глаза, — это другое. Он отступил на шаг. И Глафира шагнула вслед за ним. Я поднялся на несколько ступенек по трапу. Жгутов держал по-прежнему тяжелый гаечный ключ над головой Глафиры. Может быть, я мог бы кинуться к Глафире на помощь, но я чувствовал, что, если я крикну, если кинусь, Жгутов с силой ударит. Тогда будет борьба, драка, а в драке убить человека легче. Именно то, что Глафира стояла неподвижно, глядя прямо в глаза Жгутову, то, что никто из них не двигался, только оба они тяжело дышали, именно это связывало Жгутова. — Ой, что ты, Паша! — сказала Глафира, совсем тихо, почти шепотом. — Ничего, ничего, — повторял Жгутов, и гаечный ключ прыгал в его дрожавшей руке. А Глафира медленно подняла руку и взяла Жгутова за кисть и все не отрываясь смотрела ему в глаза. Уголком глаза увидел я кого-то, кто медленно шел к боту, слегка покачиваясь, иногда останавливаясь. Я не сразу понял, что., это Фома Тимофеевич. Он, наверное, прогнулся, удивился, что никого нет, вышел из пещеры, увидел, что происходит на боте, и пошел, пошатываясь, еле передвигая ноги, чтобы помочь, спасти, навести порядок. Жгутов и Глафира его не видели. Они по-прежнему не отрываясь смотрели друг другу в глаза. — Степана убил, — негромко сказала Глафира, — меня убить хочешь? Жгутов попытался вырвать свою руку из руки Глафиры, но Глафира крепко держала. — Пусти, ну! — прошептал Жгутов. — Все равно мне другого выхода нет, понимаешь? — И в глаза смотреть не боишься? — прошептала Глафира. — Пусти! — прошептал Жгутов, все стараясь вырвать руку. По-прежнему они были почти неподвижны, но я чувствовал, как напряглись две сцепившиеся руки. На руке Жгутова, обнаженной до локтя, вздулись мускулы. Он остервенел. — Судно-то придет, — задыхаясь, негромко говорила Глафира, — на что надеешься? — Ни на что не надеюсь! — яростно сказал Жгутов. — Выхода нет, знать ничего не знаю. — И все вырывал и вырывал свою руку, а Глафира, слабея, цеплялась за нее. — Правда из моря выплывет, — сказала она. Жгутов впал в какое-то оцепенение, когда встретил взгляд Глафиры. А теперь оцепенение проходило. И я понял, что теперь важна только сила. Может быть, мы вдвоем с Глафирой удержим эту проклятую жилистую жгутовскую руку. Я выскочил на палубу. И в это же время Жгутов громко крикнул: — Пусти, ну! — вырвал руку и занес ключ над головой Глафиры. И тут раздался громкий, отчетливый, резкий голос Фомы Тимофеевича. — Смирно, Жгутов! — коротко скомандовал он. Он стоял у самого бота, гордо выпрямившийся старик, с седой растрепанной бородой, с кровью, запекшейся на виске. Жгутов круто повернулся. Теперь они с капитаном смотрели друг другу в глаза. Может быть, мы с Глафирой могли бы сейчас, когда он стоял к нам спиной, кинуться на Жгутова и схватить его за руки, но Глафира ослабела. Она села прямо на палубу и, видно, не очень даже соображала, что происходит. — А, один черт! — сказал Жгутов. — Начал, так надо кончать. Я бросился на него и вцепился ему в руку. Но он был в ярости. Его ничто не могло остановить. Он вырвал руку, схватил меня за плечи, потряс и прошептал тонкими, злыми губами: — Смерти хочешь, щенок? Ничего, дождешься! Он швырнул меня с бота так, что я упал на песок, и сам вслед за мною спрыгнул на берег. И быстро, решительно, глядя прямо капитану в глаза, не боясь его взгляда, высоко поднял тяжелый гаечный ключ и пошел на Фому Тимофеевича. Капитан еще выше поднял голову. Он был слаб и стар и не мог бороться со Жгутовым, но он стоял перед ним прямо и глядел на него без всякой тени страха. На Жгутова уже ничто не могло подействовать. Рубеж был перейден, и возврата не было. Но вдруг в ту минуту, когда Жгутов занес ключ над головой капитана, со скалы раздался отчаянный крик Фомы: — Судно, судно идет, близко уже! На секунду все застыло. Жгутов с гаечным ключом в руке, седой капитан с гордо поднятой головой, я, поднимающийся с песка, на который меня бросил Жгутов, Глафира, только что спрыгнувшая с бота. Со скалы быстро бежал Фома, продолжая радостным голосом кричать: — Судно, судно, траулер идет! Жгутов посмотрел на Фому. Потом опять посмотрел на капитана. Он, видно, колебался. Он мог бы еще убить капитана и, может быть, бросился бы на Глафиру, но уже не было в нем решимости. Кара была слишком близка. Убить он бы, может, и смог, но, уж наверное, не успел бы спрятать следы. И в ярости он бросил ключ на песок: — Раньше надо было! — сказал он. — Проиграл! Сел на камень и опустил голову. Фома подбежал к старику и взял его за плечи. — Дед, — сказал он, — ты сядь. Стоять-то тяжело небось. — Да, — сказал Коновалов таким спокойным голосом, как будто ничего особенного сейчас не произошло. Я подошел к Жгутову и спросил: — Где Валя, Жгутов? — В трюме, — хмуро сказал Жгутов. — В машинном. Я ее связал. У меня отлегло от сердца. Значит, она жива. Значит, он не решился ее убить. — Фома, — сказал я, — давай, там Валя связана. Фома с опаской посмотрел на Жгутова. Тот по-прежнему сидел, опустив голову, ни на кого не глядя, и ясно было, что он подавлен, что нет в нем сейчас ярости, только одно отчаяние, что сейчас он ни на что не может решиться и ничего не может совершить. Все-таки Фома наклонился, поднял, косясь на Жгутова, гаечный ключ и только после этого полез на бот. Теперь мы знали, куда идти. В машинном отделении было полутемно, но тут, кроме мотора и лавки, ничего не было. Поэтому мы сразу увидели в углу Валю. Она лежала связанная. Рот ее был набит ветошью, которой механики вытирают руки, и завязан полотенцем. Пришлось нам с ней повозиться. Она вся извивалась и только мешала нам. Я бы вообще ее не смог развязать, но Фома знает все системы узлов. Это у моряков целая наука. Пока я разматывал полотенце и вытаскивал у Вальки изо рта ветошь, Фома распутал узлы на ногах, и Валька наконец встала. Прежде всего она начала плеваться. Ну, я ее за это не обвиняю. Действительно, грязная ветошь довольно противная вещь. Потом она охала и стонала, потому что ей где-то натерли веревки и затекли ноги и руки. В общем, кое-как мы ее все-таки выволокли на берег, и здесь она наконец-то пришла в себя. Зато уж когда она пришла в себя, остановить ее болтовню было невозможно. — Я сразу поняла, — затарахтела она, — чего Данька не договорил. А-а, думаю, значит, они с Фомой хотят продукты найти, а меня с носом оставить! Я, мол, тут ни при чем. Ну, думаю, посмотрим, чья возьмет! Смотрю на них — они там увлеклись, разговаривают, как меня обвести, а я пока быстренько-быстренько — шмыг в бот. Вы, думаю, еще только собираться будете, а я приду и приглашу обедать. Вот, думаю, будет здорово! А он, оказывается, понимаете ли, в боте был. Проголодался, наверное, поесть пришел. Я вошла, а он притаился и как кинется на меня! Я ка-ак закричу! Вы слышали, да? Здорово я кричала? А он на меня ка-ак бросится! В рот мне напихал эту гадость… Тьфу, даже вспомнить противно! Я здорово брыкалась. Ну, только он меня все-таки связал. Еще бы, такой здоровый! Разве с ним справишься? Потом еще полотенцем меня обвязал. Ну, я прямо как ребеночек в пеленках лежала. Только что кричать нельзя. А я все равно придумала. Если бы вы меня не освободили, я бы веревку распутала. Вот увидите, что распутала бы. В одном месте она уже ослабела немного. А продукты я поняла, где спрятаны. Под прилавком. И завалены книгами. Потому что он за прилавком сидел и жевал. Я точно знаю, что жевал. Вот ведь какой! Сам-то ест, а мы-то голодные. А теперь давайте скорее обедать. Так есть хочется! И костер теперь можно зажечь, спички-то тоже, наверное, под прилавком. — Теперь неважно, Валя, — сказал Фома Тимофеевич. — Теперь на судне пообедаем. Фома посопел носом и хмуро сказал: — Дед, я насчет судна наврал, судна-то не было. Это я, чтоб он испугался.Глава восемнадцатая КОРАБЛЬ НА ГОРИЗОНТЕ
Жгутов вскочил. Его очень поразило, что он, оказывается, попался на удочку. Мог бы нас всех поодиночке убить, да теперь поздно. Он огляделся. Мы все стояли вокруг него: Глафира, Фома, я, Валька, Фома Тимофеевич, решительные, готовые к любой драке. С нами ему не справиться. Он вздохнул и опять сел на камень. — Докатился, Жгутов, — сказал Фома Тимофеевич. — Несчастное стечение обстоятельств, — хмуро сказал Жгутов. — Это что нас перебить не удалось, что ли? — спросил капитан. — И это тоже, Фома Тимофеевич, — ответил Жгутов. — Не везет мне, вот и все. Меня очень удивили его слова. Уж, кажется, сам себе человек яму вырыл, сразу видно, а ему, понимаете, кажется, что не везет, что просто несчастное стечение обстоятельств, что он-то ни в чем не виноват Просто судьба с ним неправильно поступила. До чего же не может человек на себя со стороны посмотреть. Я подумал, что это надо себе заметить и научиться смотреть на себя со стороны. Капитан, очевидно, решил, что он уже здоров и нечего ему прохлаждаться. — Даня и Валя, — сказал он резким, строгим голосом, и мы почувствовали, что снова у нас есть капитан, все знающий, обо всем думающий, за все отвечающий; и, честно сказать, это было очень приятно. — Даня и Валя, идите в бот и быстро тащите хлеб, спички, консервы. Только быстро, понятно? Мы с Валькой торопливо полезли на бот. За прилавком лежала куча книг. Казалось, что при толчке, когда бот выкинуло на берег, книги случайно упали с полки. Даже если б мы знали, что продукты спрятаны в боте, может быть, последнее место, где бы мы стали искать, было бы это. Ловко сообразил Жгутов. Но сейчас, точно зная, где спрятаны продукты, мы, несмотря на темноту, без труда их нашли. Разгребли книги и сразу нащупали буханку хлеба. Мне кажется, что, пока я разрывал книги дальше и вытаскивал банку за банкой консервы, Валька отщипнула кусок хлеба и жевала его. Что-то она долго молчала и не ахала и не восторгалась, а это совсем на нее не похоже. Впрочем, я ее не виню. Мы очень изголодались. Наконец мне попались спички. Я разыскал фонарь, зажег его и при тусклом свете заправил еще два фонаря. Горючего в баке было много. Если бы бот наш не лежал на песке, наверное, с этим горючим мы бы спокойно дошли до дома. Теперь нам было светло. Я оглядел магазин. Все перемешалось: книги, тетради, картины, банки с чернилами. Я вспомнил, как мы старались во время шторма правильно расставить по полкам Гоголя — к Гоголю, Толстого — к Толстому, и мне стало смешно. А все-таки молодец был Степан! Не задал бы он нам работы, было бы куда труднее. Теперь мы разгребли всю эту гору книг, тетрадей, картин и под ними нашли и сахар, и чай, и консервы. Оказалось, что среди консервов очень много банок с тушеным мясом, как раз тех, которые я очень люблю. Мы быстро перетаскали наши запасы на берег и сложили на чистую простыню, которую нашли в уголке за прилавком. Как приятно было смотреть на всю эту гору пищи, как приятно было думать, что скоро мы будем сыты и сможем спокойно ждать, пока придет за нами корабль! Глафира, Валя и мы с Фомой взяли простыню за четыре конца и медленно двинулись к пещере. Все время, пока мы таскали продукты, Жгутов, по-прежнему опустив голову, сидел на камне. Но, когда мы двинулись к пещере, он вдруг поднял голову. — Теперь вы меня голодать заставите, — сказал он. — Ну что ж, ваша взяла. Но только смотрите, моя игра еще не кончилась. Фома Тимофеевич остановился и посмотрел на Жгутова. — Пожалуйста, — сказал он, — завтрак, обед и ужин тебя ждут каждый день. Приходи, ешь. — Фома Тимофеевич, — жалобно сказал Жгутов, — дайте мне мою долю. Я понимал, как ему не хотелось три раза в день приходить к людям, которых он пытался убить. По чести сказать, я бы охотно дал ему его долю. Тоже и нам было мало радости видеть его противную физиономию. Но Фома Тимофеевич рассудил иначе. — Нет, Жгутов, — сказал он, — на судне стол общий, ну, и на необитаемом острове тоже. Я думаю, что капитан не хотел выпускать из виду Жгутова. Мало ли что могло взбрести в его сумасшедшую голову. А так все-таки три раза в день мы могли за ним наблюдать. Мы двинулись дальше, неся простыню, и Жгутов крикнул нам вслед просительным тоном: — А сейчас когда приходить? Видно, он не успел толком поесть — Валька ввалилась на бот и помешала ему. Видно, и его тоже мучил голод. — Через полчасика, — ответил Фома Тимофеевич. — А раньше придешь, тоже не беда, поможешь водорослей набрать для костра. Жгутов промолчал и остался сидеть на камне и даже нам вслед не смотрел, а смотрел в море и думал свою, наверное, горькую думу. А может быть, и не так. Может быть, просто сидел и отчаянно искал выход, придумывал разные способы, как бы все-таки нас одолеть, убить, уничтожить. Не знаю я и не хочу даже знать, о чем думал Жгутов. В углу пещеры мы расстелили простыню, сложили на нее аккуратненько кирпичики хлеба, консервы, чан, сахар, и как-то сразу пещера стала как настоящий дом, и, по чести сказать, если бы только я не думал, что мама очень волнуется, мне бы хотелось здесь пожить недельку-другую. Быстро мы натаскали водорослей, и перед входом в пещеру загорелся костер. Мы с Фомой сбегали еще раз на бот и притащили кастрюли, ножи, ложки, несколько тетрадей на растопку и ломик, чтобы повесить на нем чайник или кастрюлю. Ломик одним концом уперли в скалу, а под другой конец подставили камень, который лежал недалеко. Когда мы брали тетради, я подумал, что, может, стоит взять несколько книг. Спросил об этом Фому, а он помолчал, посопел и сказал, что не надо. Он был, конечно, прав. Книги жечь неприятно. Все-таки люди думали, старались, писали. И вот загорелся костер, и над огнем висели кастрюля и чайник, и чайник скоро начал шуметь, и в кастрюле булькало растопившееся сало, и мы с Фомой большими ломтями нарезали хлеб, а Фома Тимофеевич предложил накрошить хлеб прямо в консервы. Там было столько сала, что получилось вроде очень густого супа. Глафира насыпала в чайник чаю, и чайник закипел, и наконец мы сняли ломик с кастрюлей и чайником и сели вокруг кастрюли все пятеро с ложками. А тут и Жгутов подошел, и ему тоже дали ложку, и он сел вместе с нами, и мне было так хорошо, что я даже и на него не злился. И мы с серьезными, задумчивыми лицами, стараясь не торопиться и не ронять достоинства, начали ложками доставать из кастрюли куски пропитанного горячим салом хлеба и дули на них, стараясь показать, что мы не торопимся, что мы не умираем от голода, а просто неторопливо, прилично едим. Как было хорошо почувствовать себя сытым! Честное слово, иногда имеет смысл поголодать, чтоб испытать это удивительное удовольствие. Пока мы ели, чай настоялся, и Глафира его разлила по кружкам, и мы насыпали сахару кто сколько хотел и мешали ручками ножей и потом пили его — крепкий, сладкий, с хлебом, — и перед нами лежало огромное голубое море, и даже чайки кричали весело, так было нам хорошо. Много есть скверного в кораблекрушении, но все-таки бывают и хорошие минуты. Не знаю, испытывали ли ребята из моей воронежской школы столько радости, сколько я испытал. Как только мы кончили пить чай, Фома Тимофеевич сказал: — Я позволил вам побездельничать, поскольку вы давно не ели и все заслужили обед, а теперь хватит. Чья очередь у флага стоять? — Моя, — сказала Валька. Фома Тимофеевич с сомнением на нее посмотрел. — Ну, может, тебе и отдохнуть стоит, — сказал он. — Все-таки ты набедовала сегодня. Да, пожалуй, и очередь надо заново ставить, раз у нас перерыв получился. Ну, мальчики, кто из вас пойдет? — Я, — сказали мы оба с Фомой. — Ты, Фома, уже стоял, — сказал я. — И за себя и за Вальку. Теперь я постою. Сейчас, когда я был сыт, мне даже хотелось постоять у флага, посмотреть на море, попридумывать разные интересные вещи. Фома не стал спорить. Я поднялся на вершину скалы и оглянулся, чтоб посмотреть на своих, чтобы проверить, виден ли им я. Фома, Глафира, Валька и капитан сидели вокруг костра. Валька смотрела на меня и, увидев, что я обернулся, помахала мне рукой. Вниз по скале медленно спускался Жгутов. Мои были все вместе. Им было хорошо, моим друзьям и товарищам, а Жгутов шел один, и теперь до следующей еды ему предстояло сидеть одному у себя в расселине, смотреть на море и думать о будущем, которое для него обязательно будет плохим. Я даже чуть было не пожалел его, но вспомнил Степана, подумал о Глафире, представил себе, как стоял Жгутов с гаечным ключом в руке, как он смотрел на Фому Тимофеевича, и перестал его жалеть. Мне предстояло два часа шагать взад-вперед и обводить горизонт глазами. Так думал я и посмотрел на гладкую морскою даль, потом повернулся направо, потом повернулся назад, потом, повернулся налево — и остолбенел. Черпая точка двигалась по голубому морю. Нет, не точка — крошечный кораблик, крошечный потому, что он был еще далеко, шел прямо к острову. А может быть, мимо острова? У меня даже сердце упало от неожиданности. Я растерялся. Я помнил, что, если увидишь корабль, надо что-то делать. Только я забыл что. — Идет, идет! — заорал я диким голосом. — Скорей, скорей! Я боялся отвести глаза от маленького темного силуэтика. Мне казалось, что я отведу глаза, потом посмотрю опять, а его уже нет. — Скорей, скорей! — продолжал я кричать. — Идет, идет! Удивительно, как быстро взбежали все наверх. Я узнал об этом прежде всего по отчаянному Валькиному визгу. Уж если был повод повизжать, Валька никогда его не упускала. — Флагом размахивай, — сказал нал самым моим ухом капитан. — Чего зеваешь? Но уже Фома выхватил флагшток и размахивал флагом с удивительной энергией. А потом я услышал за своей спиной тяжелое дыхание. Тут я наконец решился оторвать на минуту взгляд от идущего судна. Я обернулся. Жгутов стоял за моей спиной, глядел на судно и тяжело, с хрипом дышал. Долго мы все стояли и не отрываясь смотрели на суденышко. Оно приближалось медленно-медленно, но все-таки приближалось. Оно увеличивалось. Когда я впервые его увидел, оно было почти на самом горизонте, а сейчас за ним уже лежала широкая полосаводы. — Бот, — сказал Фома Тимофеевич. — Прямо на остров держит, — сказал Жгутов. И, помолчав, с ненавистью сказала Глафира: — Вот, Жгутов, и кончена твоя игра. И опять мы стояли и молча смотрели, как увеличивается, как приближается бот. Уже было видно всем, что это обыкновенный рыбацкий бот, вроде нашего «Книжника», даже легкий дымок, маленьким» облачками вырывавшийся из узенькой трубы, был нам виден. На корме бота был флаг. Три фигурки стояли на палубе. Три маленькие фигурки. Они двигались, что-то делали, потом одна из фигурок спустилась вниз, и на палубе осталось только две. Бот приближался. Щурясь, смотрел на него Фома Тимофеевич и вдруг сказал: — Не наше судно. Иностранное. — И продолжал, щурясь, смотреть на бот. Фома застыл, глядя на деда. Полотнище нашего флага коснулось скалы. Фома Тимофеевич смотрел на бот и молчал. — Махать флагом или не надо? — спросил Фома. Фома Тимофеевич не отвечал. Он все смотрел, щурился и ничего не говорил. Потом он сказал: — Не надо. И снова молчал, смотрел, щурился и потом сказал, будто про себя: — Норвежское судно. Норвежцы хорошие бывают, а бывают такие разбойники! Всякие бывают норвежцы. И тогда за моей спиной тихо и очень отчетливо проговорил Жгутов: — Может, еще и не кончена моя игра, Глаша.Глава девятнадцатая ГОСТИ ИЗДАЛЕКА
Бот остановился на рейде. Так говорится, когда судно не подходит к берегу, а останавливается невдалеке от него. С бота спустили шлюпку, и три человека сели в нее. Четвертый, наверное механик, проводил их и остался на боте. Мы к этому времени сошли вниз и стояли на песчаном берегу бухты. Два матроса гребли, а пожилой человек, видно капитан или хозяин судна, сидел на руле. Шлюпка врезалась в песок, и все трое вышли на берег. Матросы помогли сойти пожилому человеку — капитану или хозяину — и пропустили его вперед. Фома Тимофеевич стоял подобравшийся и торжественный. Сразу было видно, что он капитан. Он сделал шаг вперед и сказал: — Здравствуйте. Я капитан советского бота «Книжник», Коновалов. Пожилой человек сделал шаг вперед и протянул руку: — Здравствуйте, господин капитан, — сказал он. — Я владелец и капитан приписанного в порту Вардэ рыболовного бота «Фру Нильсен». Мы были задержаны в море штормом, у нас кончилось горючее, и мы вынуждены были идти к ближайшему острову. Это, кажется, остров Колдун? — Да, — сказал Фома Тимофеевич, — это остров Колдун. Вы хорошо говорите по-русски, господин капитан. Простите, как ваша фамилия? — Генрих Нильсен, — сказал норвежский капитан. — По-русски я говорю почти так же, как по-норвежски. Я долгое время имел маленький промысел на мурманском берегу. — Верно, до революции? — спросил Фома Тимофеевич. — Разумеется, — кивнул головой капитан Нильсен. — Остров Колдун — это, кажется, советский остров? — Мне тоже кажется, что остров Колдун — это советский остров, — усмехнувшись, сказал Фома Тимофеевич. — В таком случае, — капитан Нильсен выпрямился и принял торжественную позу, — прошу прибежища у вас, как у хозяина. — Рад буду помочь, — коротко сказал наш капитан. — Жаль, что не смогу вас угостить как следует. Сами, как видите, потерпели кораблекрушение. — Доброе расположение, — сказал Генрих Нильсен, — тоже доброе угощение. Фома Тимофеевич поклонился. — Прошу к костру, господин капитан, — сказал он, — прошу к костру, господа матросы. Неторопливо мы все пошли вверх по скале, к пещере, возле которой еще догорал наш костер. Глафира достала консервы и, пока мы все рассаживались, начала было их открывать, но один из матросов вскочил, молча взял банку и очень быстро открыл ее большим карманным ножом. Фома нарезал хлеб и дал каждому из гостей по большому куску. Вынули ножи второй матрос и капитан. Неторопливо, солидно начали они есть, насаживая на кончики ножей куски консервированного мяса. Мне кажется, что они были сыты, угощение носило скорее характер официального обряда. Вот, мол, мы, советские граждане, принимаем на советской земле вас, норвежских моряков. Вот, мол, мы, норвежские моряки, с удовольствием принимаем ваше радушное угощение. Я слышал и читал иногда о дипломатических приемах. И вот, хотя и на голом черном граните, хотя без сервизов и без лакеев, но я увидел собственными глазами настоящий дипломатический прием. — Удачный был промысел? — спросил Фома Тимофеевич. — Благодарю вас, — кивнул головой капитан Генрих Нильсен, — трески промыслили хорошо. Этот год треска на яруса много берет. Другая беда. В Вардэ стоит низкая цена на рыбу. А как у вас цены в этом году? — У нас, — сказал Фома Тимофеевич, — цена всегда одинаковая. — О да, да, — кивнул головой Нильсен, — слышал, слышал. Это очень хорошо для промышленников. — Вы, господин капитан, — сказал Фома Тимофеевич, — говорите, до революции имели промысел на мурманском берегу? — Имел маленький промысел, — подтвердил Нильсен. — «Курт Нильсен и сын»? — спросил Фома Тимофеевич. — Посолзавод в Иоканге, парусные боты и продажа наживки? — Верно, — сказал Нильсен. — Только я сын, Генрих Нильсен. Мой отец, Курт Нильсен, глава фирмы, умер. Откуда вы знаете нас, господин капитан? — Я работал у вас матросом, господин капитан, — сказал Коновалов. — Приятно встретиться со старым товарищем. — Нильсен протянул руку, и капитаны обменялись торжественным рукопожатьем. — Как же так? — спросил Фома Тимофеевич. — Вы, господин Нильсен, сами ходите капитаном? — Ну, — пожал плечами Нильсен, — мы потеряли кое-что в России. Фирма пошатнулась, но выдержала. А потом война. Мои суда подрывались на минах. Когда вы освободили Норвегию, я был уже разорен. У меня остался один бот, и, как видите, я должен сам ходить на нем. Зато вы, господин Коновалов, из простого матроса стали капитаном. Вас можно поздравить! У вас счастливо сложилась жизнь. — Спасибо, — кивнул головой Фома Тимофеевич. Потом повернулся к Глафире и сказал: — Чаю гостям, Глафира. Чай был уже разлит по кружкам. Глафира подала кружку сперва капитану, а потом двум матросам. Все трое вежливо поклонились. — Благодарю, — сказал капитан Нильсен и отхлебнул чай. — Что явилось причиной кораблекрушения? — Сдал мотор, — сказал капитан Коновалов, — пришлось выбрасываться на ближайший берег. — Горючее, значит, у вас не израсходовано? — спросил капитан Нильсен. — Сколько у нас горючего, Жгутов? — спросил капитан Коновалов. — Литров триста, — сказал Жгутов. — О-о! — кивнул головой норвежский капитан. — Триста литров — это много. Имея триста литров, можно дойти до Вардэ. — Имея триста литров, — согласился Фома Тимофеевич, — можно. Норвежцы неторопливо прихлебывали чай. Фома, Валька и я с интересом смотрели на гостей. Что-то в них было особенное, резко отличное от всех тех людей, которых мы до сих пор встречали. Я, например, первый раз в жизни видел иностранцев. И удивлялся тому, насколько они другие. Капитан Нильсен посмотрел на нас и ласково, отечески усмехнулся. — Какие славные дети! — сказал он ласково. — В таком возрасте они уже пережили шторм и кораблекрушение. Из них вырастут настоящие моряки. — Улыбнувшись, он кивнул нам и потом спросил Фому Тимофеевича каким-то особенным, другим тоном: — Вы ждете помощи, капитан? — Думаем, что про нас не забыли, — кивнул головой Фома Тимофеевич. — Да. — согласился капитан Нильсен, — у вас хорошо помогают друг другу. Наверное, за вами скоро придут? — Думаю, не сегодня, так завтра, — сказал Фома Тимофеевич. — Это замечательно! — кивнул головой Нильсен. — Это очень удобно для промышленника. — И он не торопясь допил свою кружку чаю. Будто стараясь во всем подражать своему начальнику, одновременно допили чай и матросы. Они поставили кружки на камень, все трое вынули из кармана платки и неторопливо вытерли губы. — Господин капитан, — сказал Нильсен, — выручите товарища по несчастью, отдайте нам ваше горючее. — Глаша, — сказал Фома Тимофеевич, — налей гостям еще чаю. Глафира подошла с чайником и налила чай сперва Генриху Нильсену, а потом двум матросам. — Может быть, открыть еще консервов? — спросил капитан. — Спасибо, мы сыты, — сказал Нильсен и, помолчав, спросил: — Так как, господин капитан? Фома Тимофеевич помолчал, пожевал в раздумье губами и потом сказал: — Я вам предложу другой выход. — Какой же может быть другой выход? — удивился Нильсен. — Вы берете на борт нас шестерых, — сказал Фома Тимофеевич, — заливаете бак нашим горючим, заходите в ближайший советский порт и идете к себе в Вардэ. И вам хорошо, и нам хорошо. — Да, конечно, — кивнул головой Нильсен. — И вам хорошо, и нам хорошо. — Он немного подумал и добавил: — Очень всем хорошо. — Потом еще подумал и заключил: — Не выйдет, господин капитан. — Почему же не выйдет? — удивился Коновалов. — Я рад бы помочь товарищу, — сказал капитан Нильсен любезно, — но у меня свежая рыба и нет льда. Если я пойду прямо в Вардэ, я смогу ее продавать. Если я пойду сначала в советский порт, она испортится, и я не смогу ее продавать. Понимаете, господин капитан? — Понимаю, господин капитан, — ответил Фома Тимофеевич. Капитан Нильсен неторопливо прихлебывал чай. Глядя на него, никто не подумал бы, что идет серьезный, напряженный разговор. Нет, внешне ничто не напоминало спора. И все-таки все мы, присутствовавшие при разговоре, понимали, что столкнулись два сильных, упорных человека и что между ними идет поединок. Капитан Нильсен допил вторую кружку чая, и одновременно с капитаном допили свои кружки и матросы. И все трое поставили кружки на землю. — Так как же вы ответите на мою просьбу? — спросил капитан Нильсен. — Я рад был бы помочь товарищу, — сказал капитан Коновалов, — но, к сожалению, не могу. — Потом он повернулся и сказал Глафире: — Предложи гостям чаю, Глаша. Глафира подошла с чайником, но капитан Нильсен закрыл свою кружку рукой, и за ним закрыли руками свои кружки оба матроса. — Я больше не хочу, — сказал капитан Нильсен и встал. — Может, господа матросы выпьют? — спросил любезно Фома Тимофеевич. — Нет, — резко сказал Нильсен, — они больше не хотят. Спасибо за угощение. Оле, Христиан. Матросы встали, как по команде. Встал и Фома Тимофеевич. — Простите, господин капитан, — сказал он, — я расшибся при высадке. Я нездоров. Я пойду полежу. Располагайтесь на нашем советском острове, как вам будет удобно. Он церемонно поклонился, и таким же церемонным поклоном ответил ему капитан Нильсен. Конечно, Фома Тимофеевич действительно чувствовал себя нехорошо, это было видно. И все-таки мне казалось, что за этой фразой стоит не просто сообщение о своем нездоровье. Мне показалось, что Фома Тимофеевич хотел сказать другое: если, мол, так, дорогой друг, Генрих Нильсен, если, мол, ты не хочешь нас, потерпевших кораблекрушение, доставить в советский порт, то, стало быть, нам с тобой и толковать не о чем. Мешать я тебе не буду, я правила моряцкого товарищества знаю и соблюдаю, но дела с тобой иметь не хочу. И кажется мне, что капитан Нильсен эти не сказанные Фомой Тимофеевичем слова отлично понял. Три норвежца встали, поклонились и зашагали вниз. Неторопливо они дошли до берега и сели все трое на камни. Капитан посредине, матросы по бокам. — Скоты! — сказал Фома Тимофеевич, глядя им вслед. — Просто скоты! Он не торопясь набил трубку табаком, чиркнул спичкой и с наслаждением закурил. — Можно у вас табачку, Фома Тимофеевич? — спросил Жгутов. Фома Тимофеевич не глядя протянул Жгутову кисет. Жгутов вынул из кармана тетрадку — я вспомнил эту тетрадку, он ее уже вынимал при мне из кармана, — оторвал кусочек тонкой розовой обложки, насыпал табак, свернул папиросу, достал из кармана спички и закурил. Потом он отдал Фоме Тимофеевичу кисет, сунул руки в карманы, прошелся раза два или три перед пещерой, повернулся и не торопясь, будто прогуливаясь, поглядывая вокруг, пошел вниз. Три норвежца, сидя на берегу на камнях, молча курили, и клубы табачного дыма поднимались над ними. Только над капитаном поднимались клубы синего дыма, а над матросами — серого. Видно, табаки были разные. — Ребята, — сказал Фома Тимофеевич, — может, кто из вас спустится на берег? Что-то я думаю, не к норвежцам ли Жгутов пошел. Интересно, о чем у них разговор будет? Мы встали все трое — Фома, Валя и я, но Фома Тимофеевич отрицательно покачал головой. — Нет, — сказал он, — троим не надо. Пусть Даня, что ли, пойдет. Он парень толковый. — Хорошо, Фома Тимофеевич, — сказал я. Согласитесь сами, что приятно, когда такой человек, как наш капитан, о тебе хорошо отзывается. — Ты не таись, — сказал Фома Тимофеевич, — не надо тебе прятаться да подслушивать. Просто пришел на берег. Просто сидишь рядом с ними. Твоя земля, а не их. Где хочешь, там и находишься. — Понятно, Фома Тимофеевич, — сказал я и так же, как Жгутов, неторопливо, вразвалочку, будто прогуливаясь, пошел вниз. Три норвежца выпускали поочередно из трубок дым. Жгутов дошел до берега и не торопясь улегся у самых ног трех норвежцев. Норвежцы посмотрели на него и не то в знак приветствия, не то в знак удивления выпустили одновременно по особенно густому клубу дыма. В это время подошел я, сел на четвертый камень, лежавший совсем близко и от норвежцев и от Жгутова, и стал смотреть на море, как будто просто у меня такое настроение, что хочется посидеть, помечтать.
— Ты чего, Даня? — спросил Жгутов. — Я ничего, — сказал я, — а что? — Да нет, ничего, — сказал Жгутов. — Я так. Жгутов молчал, молчал и я, молчали и норвежцы. Жгутов, кажется, даже и не смотрел на меня, просто лежит человек, отдыхает, любуется морем, и все-таки, даже не глядя на него, я чувствовал, как он меня ненавидит за то, что я пришел и сижу и, видно, буду сидеть и никак меня не прогонишь. Именно потому, что я чувствовал, как я ему мешаю, я решил, что ни за что не уйду. Хочет сделать подлость, пусть делает при свидетелях. А что подлость он сделать хочет, у меня сомнения не было. Вся повадка была у него такая. Капитан кончил курить и выколотил трубку о камень. За ним кончил курить один матрос и сразу потом второй, и они по очереди выколотили о камень трубки такими же движениями, как капитан. Жгутов смотрел на меня, как будто взглядом хотел меня заставить уйти, исчезнуть, раствориться в воздухе. — Хочешь слушать, — сказал он вдруг очень тихо, — о чем я с норвежцами говорить буду? Такая ненависть была в его голосе, такая ярость, что мне даже страшно стало. И все-таки я — ответил тоже тихо: — Да, хочу слушать. — Ну что ж, — сказал Жгутов, — милиция далеко, а гости близко. — Он затянулся последний раз и ткнул самокрутку в песок. — Нехорошо, господин капитан, — сказал он, делая вид, что любуется гладкой морской далью, — пока вы сидите на этой мокрой скале, ваша рыба тухнет. Капитан Нильсен встал и сердито топнул ногой. — Черт, — сказал он, — зачем вы мне об этом напоминаете? — Я давно мечтал побывать в Норвегии, — задумчиво сказал Жгутов.
Глава двадцатая ССОРА НА ОСТРОВЕ
Капитан Нильсен молчал. Он внимательно смотрел на Жгутова. А у Жгутова был такой вид, будто ничего особенного он не сказал. Так, обыкновенная фраза. Мало ли где человеку хочется побывать. Ничего тут особенного нет. — И что же вам мешало? — спросил наконец неуверенно Нильсен. — Транспорта не было подходящего, — значительно сказал Жгутов. Потом помолчал, кинул на меня ненавидящий взгляд и, наконец решившись, добавил: — Вот бы вы подвезли меня, господин капитан. — Как же я вас подвезу, — спросил Нильсен, — когда у меня нет горючего? Жгутов пожал плечами. — Кто же вам мешает его взять? — спросил он. — Раненый старик, трое детей и трусливая женщина. — И один мужчина, — поправил его Нильсен. — Вы говорите обо мне? — спросил Жгутов. — Да, — кивнул головой Нильсен. Жгутов посмотрел на море. Вид у него был такой, будто он просто любуется бесконечной водной гладью, будто просто лениво рассуждает он о вещах, не имеющих практического значения. — Я давно мечтал побывать в Норвегии, — мечтательно повторил Жгутов. Капитан резко шагнул к нему. — Вы побываете там, — сказал он и добавил: — Где горючее? Жгутов встал и стоял теперь перед капитаном в почтительной позе. Он как бы признавал себя подчиненным этого норвежского моряка. Он вроде как бы поступил на службу. — Горючее в боте, — сказал он, точно доложил. — Бачок закреплен? — спросил Нильсен. — Наглухо, — сказал Жгутов. — Принесите свой, мы перекачаем. — Шланг есть? — спросил Нильсен. — Есть, — сказал Жгутов. — Я сам съезжу за бачком, — сказал Нильсен. — Я буду вас ждать, — сказал Жгутов. Нильсен кинул несколько фраз по-норвежски матросам, и они молча кивнули головой. После этого капитан вошел в шлюпку, матросы оттолкнули ее, капитан взялся за весла, и шлюпка быстрыми рывками пошла к боту. Матросы не торопясь направились к камням, на которых они сидели раньше, и вдруг один из них, проходя мимо Жгутова, сделал быстрое движение ногой. Жгутов упал на песок. В растерянности он смотрел на матросов. — Ты что, ошалел? — спросил он удивленно. И вдруг матрос ответил на русском языке. — Скотина! — сказал матрос. — Моряк, а своих продаешь! — Скотина, — подтвердил, кивнув головою, второй матрос. — Вы говорите по-русски? — удивился Жгутов. — А вот увидишь, — сказал первый матрос, — мы еще знаем слово «подлец» и слово «гадина». Вот сколько мы слов знаем по-русски. Жгутов старался сделать вид, будто он не понимает, что все эти слова относятся к нему. Пока капитана не было, не хотелось ему ссориться с матросами. Оба были здоровые парни, ссора могла плохо кончиться для Жгутова. — А где вы научились русскому языку? — спросил он самым невинным тоном. — У себя в Норвегии, — сказал первый матрос. — Когда там была ваша армия. Мне некогда было слушать дальше. Следовало прежде всего сообщить Фоме Тимофеевичу о сговоре Жгутова и капитана Нильсена. Мне казалось, что матросы славные парни, но все-таки я не знал, какие им дал приказания капитан и о чем он говорил с ними по-норвежски. Может быть, им было приказано задержать меня здесь, на берегу. Я пошел не торопясь, будто прогуливаясь, я решил, что, если они скажут, чтоб я оставался, я сразу брошусь бежать. Но никто меня не окликнул. Пройдя полпути, я обернулся. У матросов шел разговор со Жгутовым, и — никто не обратил внимания на мой уход. Матросы наступали на Жгутова и что-то говорили ему возбужденно и зло. Жгутов пятился. Он отходил к скале, и вид у него был очень испуганный. Валя стояла на скале у флага. Фома Тимофеевич, Фома и Глафира стояли возле пещеры. Они, вероятно, приблизительно догадывались, что происходило внизу. — Ну что? — спросил меня Фома Тимофеевич, когда я еще не успел дойти до пещеры. — Жгутов предложил им отдать горючее, если они его возьмут в Норвегию, — торопясь, проговорил я. — Капитан за бачком поехал. Шланг, Жгутов говорит, есть. Они перекачивать будут. Я проговорил это все очень быстро, и все-таки Валька еще быстрее ухитрилась сбежать сверху. Она уже крутилась под ногами и суетилась и всех забрасывала вопросами. Чтоб отвязаться от нее, мне пришлось коротко повторить рассказ. И Валька ахала и ужасалась и опять забрасывала всех дурацкими вопросами: «Что же будет? Да как же так? Да разве мы можем позволить?» Но недолго ей пришлось надоедать нам. — Дежурный, к флагу! — рявкнул капитан, да так сердито, что Валька и спорить не стала, замолчала и побежала наверх. — Пойдемте, — коротко приказал капитан и зашагал вниз. Мы с Глафирой пошли за ним, а Фома забежал в пещеру и потом бегом догнал нас. — Ты зачем бегал? — спросил я его тихо. Он молча вынул из кармана и показал мне большой нож, которым мы открывали консервы. — Ты чего? — испугался я. Я представил себе, что Фома с этим ножом, как с кинжалом, бросится на капитана Нильсена. Фома был отчаянный парень. Когда он считал себя правым, он ничего не боялся. Хорошего не могло получиться: сила была на их стороне, в драке они бы нас легко одолели. — Я попробую шланг перерезать, — тихо сказал мне Фома, — и вылью горючее. Нельзя же им позволять на нашем острове хозяйничать! — Увидят же, — шепнул я ему: — бот-то ведь на виду. — Попробую, — сказал Фома, — может, и не увидят. Шлюпка капитана Нильсена уже шла к берегу. Капитан торопился. Может быть, он боялся, что вдруг подойдет советское судно, а может быть, ему просто хотелось скорее закончить дело. Он-то ведь понимал, что это самый обыкновенный разбой. Мы подошли к Жгутову и к матросам, которые все еще продолжали спорить, и в это же время нос шлюпки врезался в песок. — Ребята, — говорил искательно Жгутов, — ну давайте спокойно поговорим. Вы чудаки. Вам же самим лучше. Скорее будете дома. Рыбу свежую привезете, продадите. — Кто продаст рыбу? — наступал на Жгутова первый матрос. — Я продам рыбу? Если б моя была рыба, я разве из-за нее людей на острове бросил бы? Нехорошо Нильсен делает, не как моряк делает. — Жгутов! — резко сказал Фома Тимофеевич. Жгутов обернулся. Растерянное, жалкое стало у него лицо. Он испугался капитана. Но только на секунду. Через секунду он вспомнил, что терять ему нечего, что все равно уже все потеряно, а может быть, он увидел Нильсена, который вылез из лодки и торопливо шел к нам. — Вы на меня, Фома Тимофеевич, не кричите, — сказал Жгутов. — Я теперь вам не подчинен. Вы мне не начальник. Считайте, вышел Жгутов в отставку. — Ну, в чем дело? — спросил резко капитан Нильсен, глядя прямо в лицо Фоме Тимофеевичу. — Капитан, — плаксивым голосом сказал Жгутов, — ваши матросы меня обижают. Ругают, драться хотят, а за что? За то, что я вам же помочь хочу. Про вас говорили такое, что даже слушать неприятно. — Да? — спокойно спросил Нильсен. — Кто говорил, Христиан, Оле? — Не то говорили, хозяин, — хмуро сказал первый матрос. — Не то? — удивился Нильсен. — А что же? — Матросы молчали. — Прошу вас запомнить, Оле и Христиан, что, если я вас уволю, ни один судовладелец на работу вас не возьмет. Понятно? — Понятно, — хмуро ответили Оле и Христиан. — Господин капитан, — резко сказал Фома Тимофеевич, — что случилось? — Я вынужден, капитан Коновалов, — резко сказал Нильсен, — взять у вас горючее, которое вам не нужно и без которого я не могу дойти до материка. — Я не возражаю, чтобы вы взяли горючее, — сказал Фома Тимофеевич, — но вы должны нас доставить в ближайший порт. — Я уже говорил, — пожал плечами Нильсен, — что это невозможно. У меня протухнет рыба. — Всякий моряк, — сказал наш капитан, — обязан спасти моряка, терпящего бедствие, а у нас дети и женщина. — Вы богатый человек, капитан Коновалов, — сказал с издевкой Нильсен, — для вас полный трюм рыбы пустяк, а я человек бедный, я не могу бросаться деньгами. Тут я увидел лицо Христиана. Странное напряжение было в его взгляде. Он не отрываясь смотрел на бот. Я обернулся. Фома торопливо шел по наклонной палубе к трапу. Еще несколько секунд — и он спустится в трюм. Но в это время раздался яростный крик Жгутова: — А, черт! Смотрите! Все повернулись к боту. Фома, поняв, что он замечен, заторопился. Но в несколько прыжков Жгутов добежал до бота, вспрыгнул на палубу — Фома уже опускался по трапу вниз — и, схватив Фому за шиворот, резким рывком поднял его и швырнул с бота. — Смотрите, — повторял Жгутов, — с ножом. Шланг хотел перерезать. Хорошо, я его заметил, а? Каков? Фома лежал на песке, с ненавистью глядя на Жгутова. Нож он выронил. Нож валялся у самого бота. Но зачем он нужен был теперь, этот нож? Тут я увидел, что рядом со мной стоит Валька. Она напряженно слушает разговор, и глаза у нее испуганные и очень серьезные. — Почему не на посту? — сказал я ей. — Ты понимаешь, что, может, сейчас корабль проходит! Может, он не знает, что мы пропали. Сигнала не будет, он и пройдет. А как сейчас кстати было бы! Валька посмотрела на меня, но ничего не сказала. — Все равно, горючее наше, — крикнул Фома, — и не имеете вы права его брать! — О, — удивился Нильсен. — Молодой человек говорит о праве! Он не будет моряк, он будет адвокат. — Значит, вы, капитан, — резко сказал Фома Тимофеевич, — увозите моего механика? — Он попросил взять его на бот, — сказал Нильсен, пожимая плечами, — и я его беру. — Норвежскому правительству, — сказал Фома Тимофеевич, — будет сообщено об этом разбое. — Э, господин капитан, — протянул Нильсен, — когда это еще будет! Да и показания разойдутся. Вы будете говорить одно, мы будем говорить другое. Капитаны стояли друг против друга, оба кипящие от ярости, красные, и с ненавистью друг на друга глядели. А по сторонам, образуя круг, стояли Оле и Христиан, мы с Фомой и Глафира. Валька куда-то исчезла. Она, очевидно, сообразила, что это не шутки — оставить пост и уйти. Глафира сделала шаг вперед и остановилась перед Жгутовым. — Ты что- же, — сказала она, — думаешь от ответа уйти? Собственными руками тебя задушу! — И она вцепилась обеими руками в горло Жгутова. — Пусти, пусти, сейчас же! — прохрипел Жгутов. И, с трудом оторвав руки Глафиры от своего горла, завопил: — Господин капитан, помогите! — Оставь, Глафира, — сказал Фома Тимофеевич. — Вы, Фома Тимофеевич, — сказала Глафира, схватив Жгутова за плечи, — можете сколько угодно с этим иностранцем дипломатничать, а я обыкновенная женщина, и он, по-моему, обыкновенный разбойник. И чтоб я этому негодяю, — и она так затрясла Жгутова, что голова его стала болтаться из стороны в сторону, — позволила от наказанья уйти, а этому негодяю, — она кивнула на Нильсена, — наше горючее взять? Да ни в жизнь не позволю! — Господин капитан, — умолял Жгутов, — она задушит меня. — Уймите ее, капитан Коновалов, — сказал Нильсен. — Она частное лицо, — пожав плечами, сказал Фома Тимофеевич, — что желает, то и говорит. Капитан Нильсен разъярился ужасно. — Довольно шутки шутить! — крикнул он. — Пусти его, слышишь? — И он с силой схватил Глафиру за руку. — Все равно не пущу! — кричала Глафира. — Что хотите делайте. Я услышал Валькин голос. Она что-то кричала. Я подумал, не судно ли появилось. Я посмотрел наверх, но Вальки у флага не было. Я огляделся. Валька была на палубе бота. Она прыгала там от возбуждения и кричала: — Слушайте, слушайте, не надо ссориться! Тетя Глаша, пустите его! Конечно, никто ее не слушал. Слишком серьезная была ссора, чтоб ее можно было прекратить уговорами девчонки. Капитан Нильсен старался оторвать от Жгутова руки Глафиры. Капитан Коновалов подошел к нему и положил ему руку на плечо. — Ну, ну, господин капитан, — сказал Фома Тимофеевич, — рукам воли не давайте. Нильсен, очевидно, решил, что бороться с Глафирой — только время даром терять. Да, в конце концов, что ему было особенно беспокоиться о Жгутове? Пусть сам выпутывается, как желает. Поэтому он отпустил Глафиру и резко сказал своим матросам: — Оле, Христиан, быстро бачок на бот, перекачать горючее — и на шлюпку. — Потом он повернулся к Фоме Тимофеевичу и резко сказал, глядя ему прямо в глаза: — А вы, капитан Коновалов, не командуйте здесь. Сейчас командую я. Мне нужно горючее, и я его получу. — Послушайте, послушайте, — бесновалась на боте Валька, — не надо ссориться. Фома Тимофеевич, подождите, послушайте. — Это земля советская, — резко сказал капитан Коновалов, — и здесь командую я! — Ну, — усмехнулся Нильсен, — пока ваши сюда придут, мы уже давно будем в Вардэ, и командовать сейчас буду я. У меня четверо здоровых мужчин и еще кое-что. Он отогнул пиджак и вытащил из висящей на поясе кобуры черный большой пистолет. Наступила долгая пауза. Глафира отпустила Жгутова, Фома Тимофеевич стоял неподвижно, быстро обдумывая положение. Да, положение изменилось. Раньше была подлость, кража, сейчас могла произойти трагедия. Мертвая была тишина, и в этой тишине раздался опять надоедливый, раздражающий крик Вальки: — Ой, да что вы! Вот несчастье! Вы меня, меня послушайте! — Быстро качать горючее! — рявкнул Нильсен на матросов. — Чего вы дожидаетесь? Быстро, ну! — Нет никакого горючего! — во весь голос заорала Валька. И еще раз повторила: — Нет никакого горючего! Мы все круто к ней повернулись. — Что ты говоришь, девочка? — спросил капитан Нильсен. — Нет никакого горючего, — сказала Валька. Мы смотрели на нее, ничего не понимая. — Я вам кричу, кричу, — жалобно продолжала Валя, — а вы не слушаете. Ругаетесь, ссоритесь, а все из-за ерунды! Нильсен оглядел нас всех, и полная растерянность была на его лице. — Как это — нет горючего? — спросил он. Туг взгляд его остановился на Жгутове, и глаза яростно блеснули. — Ты меня обманул, механик! — крикнул он, бросился к Жгутову и, схватив за плечи, начал трясти его изо всех сил. Сегодня для Жгутова был неудачный день. Перенести две такие встряски подряд- это не шутка. — Вот опять! — жалобно кричала Валя. — Да вы меня послушайте! Капитан, капитан, послушайте, что я скажу! Нильсен повернулся к ней, продолжая держать Жгутова за плечи. — Отпустите вы его, — сказала Валя, — ничего он вам не наврал. Нильсен машинально отпустил Жгутова и подошел к боту. — Как ты говоришь, нет горючего, девочка? — спросил он. — Ой, — рассердилась Валя, — ну как вы не понимаете? Пока вы тут спорили, я перерезала шланг, и все горючее вытекло. Долгая-долгая была пауза. Оле и Христиан спокойно сели на камни, вынули трубки и закурили. На третий камень сел Фома Тимофеевич. Жгутов опустился на песок, по-моему, у него просто подогнулись ноги от ужаса. А капитан Нильсен все еще стоял и смотрел снизу вверх на Валю и все еще не мог до конца понять, что же случилось и что, собственно, теперь надо делать. Долго все молчали. И первый заговорил Фома. Он повернулся ко мне и сказал: — Знаешь, Даня, если бы у меня была такая сестра, я бы, пожалуй, был даже доволен. Нильсен спрятал пистолет в кобуру.Глава двадцать первая НА ОСТРОВЕ МИР. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Как-то сразу стало спокойно и тихо. Будто встретились на маленьком острове команды двух судов, так сказать, товарищи по несчастью, вместе ждут помощи, которая обязательно скоро придет, а пока стараются оказать друг другу возможные услуги, обмениваются любезностями, все люди хорошие, моряки, и ссориться им совершенно не из-за чего. Первый задал тон Фома Тимофеевич. — Ну что ж, господин капитан, — любезно сказал он, — ничего страшного. Когда придет спасательное судно, вам, без сомнения, дадут возможность заправиться, и вы благополучно дойдете до Вардэ. Он этими словами как бы говорил капитану Нильсену: «Ничего не произошло, никаких осложнений не было, и я не хочу вспоминать, каким вы были мерзавцем несколько минут назад». И капитан Нильсен с охотой принял эту игру. Уж ему-то она была, наверное, выгодна. Сюда, на советский остров, могло зайти только советское судно. Уйти без горючего он не мог. Значит, как бы там ни было, а придется встретиться с советскими моряками. И, конечно, лучше быть почтенным, уважаемым гостем, чем преступником, пойманным на месте преступления. Капитан Нильсен поклонился и ответил очень любезно: — Благодарю вас, господин капитан. — Надеюсь, — любезно продолжал Коновалов, — что это будет скоро и ваша рыба не успеет испортиться. Я смотрел на Фому Тимофеевича и увидел, что хотя говорит он спокойно и серьезно, но глаза его щурятся с усмешкою и, не давая владельцу бота никаких оснований для обиды, он даже не очень скрывает, что издевается над капитаном. А Нильсен как будто не замечал этого. Он тоже был спокоен и вежлив, и только на шее у него вздулись жилы. Ох, и зол же был он! Так удачно все получалось. Ушли бы сейчас к себе в Вардэ, и ищи-свищи. Следов на воде не остается. Ну, затеялась бы переписка, так ведь поди докажи, было ли что или не было. — Наверное, вам надоели консервы, — сказал любезно капитан Нильсен, — может быть, позволите угостить вас ухой? У меня есть и лавровый лист, и перец, и соль, и даже немного картофеля. — Я думаю, что не стоит возиться, господин капитан, — сказал Фома Тимофеевич. — Помощь, думаю, не задержится, и уху мы с вами поедим каждый у себя дома. Вдруг глаза у нашего капитана стали сердитые. Он заметил, что мы все собрались здесь и, значит, у флага никого нет. — Кто дежурный? — резко сказал он. — Ой, я! — испуганно призналась Валя. — Почему не у флага? Почему пост оставила? — А я горючее выливала, — робко оправдывалась Валя. Снова в глазах у Фомы Тимофеевича мелькнула усмешка, и он чуть заметно кинул взгляд на капитана Нильсена, но к Вальке он обратился по-прежнему строго и недовольно. — Ну хорошо, — сказал он, — горючее выливала. Так вылила уже. Значит, надо обратно, к флагу. — Бегу! — крикнула Валька и помчалась наверх. И вот мы сидели все вместе у костра и тихо беседовали. То есть, собственно, беседовали капитаны. Оле и Христиан молча покуривали трубочки и слушали. Глафира сидела в стороне, полуотвернувшись, и думала о своем. Иногда она глубоко вздыхала, и мне казалось, что я слышу, как она шепчет про себя: «Ой, мамочка моя, мама!» Сейчас, когда ей не надо было уже отвечать за нас всех, бороться со Жгутовым, следить, чтобы у нас было бодрое настроение, чтоб мы не распускались, сейчас она снова стала обыкновенной боязливой девушкой. Только смешливость ее пропала. Она сидела, повернувшись к нам спиной, иногда подносила руку к глазам — кажется, смахивала слезу. Сидя вместе со всеми, она была сейчас одна со своим горем. Жгутова сначала не было с нами. Не знаю, куда он ушел. Наверное, в свою маленькую пещерку. Ведь вот совсем было удалось удрать. Ушел бы с норвежцами и замел бы следы. И забыл бы, наверное, про Степана. Совесть была у него покладистая. Как-нибудь он с ней бы поладил. И вдруг все сорвалось. Теперь придется за все отвечать. Конечно, больше всего его пугал суд, наказание. Но, может быть, иногда подумывал он с ужасом и о том, что, кроме судей, будут на разбирательстве его дела сидеть и моряки, бывшие его товарищи, и представлял себе, как будут они на него смотреть. А капитаны беседовали. Они разговаривали о преимуществе капроновых сетей перед обыкновенными, о разных видах лова, о том, в каком году шла хорошо сельдь и где сейчас проходят по морским глубинам косяки морского окуня и трески. Мы с Фомой слушали их беседу, спокойную, неторопливую беседу двух специалистов, интересующихся всеми подробностями дела, которым они занимаются всю долгую свою жизнь, слушали и подремывали. Все-таки мы очень устали. Иногда Фома спрашивал у деда, сколько времени, не пора ли, мол, сменять Валю, и оба капитана вынимали часы. Выходило, что Валю сменять еще рано, но часы у капитанов расходились на полторы минуты, и они долго обсуждали, чьи часы вернее. По-моему, это было совсем неважно. Уж чего-чего, а времени на необитаемом острове сколько угодно. Я думаю, что они просто прицепились к этому, чтобы продолжать спокойный разговор о всякой ерунде и как-нибудь не коснуться неприятных тем. Я смотрел на капитана Нильсена и думал: интересно, взял бы он Жгутова с собой или нет? Зачем ему был нужен Жгутов? Чтобы добыть горючее? Ну, а когда горючее было бы уже на борту? Зачем ему было возиться с ним?.. Ведь, конечно же, в моряках капитан Нильсен хорошо разбирался и, что такое Жгутов, понял отлично. Наверное, погрузил бы бачок с горючим, а потом сказал бы Жгутову: я, мол, передумал. Или: к сожалению, не могу. Или что-нибудь в этом роде. И остался бы Жгутов все равно здесь, на острове, увеличив список своих преступлений, и, опозорившись еще больше, остался бы ждать суда и думать о том, как будут смотреть на него сидящие в зале его бывшие товарищи — моряки. Через час к нам подошел Жгутов. Он подошел тихо, так, что мы заметили его, когда он стоял совсем рядом с нами. Он потоптался на месте, стараясь сделать вид, что, мол, ничего особенного, подошел член команды, такой же, как все другие, но у него это плохо получалось. Видно было, что он не уверен, как его встретят, боится, что прогонят от костра да еще скажут что-нибудь неприятное. И все-таки подошел. Верно, очень уж плохо было там ему одному. — Можно, Фома Тимофеевич? — спросил он робко. — Что-то проголодался я. — Садись, — холодно сказал Фома Тимофеевич. — И ешь, если хочешь. Никто не подал ему консервов, и никто не налил чаю. Он посидел, посидел, потом тихо встал, бесшумно пошел в пещеру, открыл банку консервов и, сидя как будто и с нами, а как будто и в стороне, робко ел, поглядывая на нас, как будто приблудился и все тревожится, как бы не прогнали. Фома Тимофеевич вынул часы и спросил: — Чья очередь к флагу? — Моя, — сказал я. — Иди, пора сменять. И в это время раздался гудок. Гудок был совсем близко. Гудок был громкий, долгий, мы все — в растерянности подняли головы. Как же судно могло подойти к острову незамеченным? Ведь у нас же дежурный стоит у флага. Мы торопливо пошли наверх. Конечно, Валька спала как убитая. Она удобно устроилась. Голову положила на камень, и вид у нее был блаженный и безмятежный. Сначала-то было не до нее. Мы оглядели море. Рыболовный траулер подходил к острову. Чуть ли не вся команда толпилась на палубе. Они увидели флаг и поняли, что это должен быть бот «Книжник». Но все ли спаслись? Если не все, кто погиб? На траулере волновались, а мы проглядели их. Это был просто позор для нашей команды. Фома Тимофеевич разбудил Валю и уж как отчитал ее! Валька только моргала глазами и поеживалась. Ее счастье, что разнос был недолгий. Некогда было ею заниматься. Но вообще-то я думаю: вот что значит девчонка. Уж, кажется, молодец — выкинула такую штуку с горючим, что хочется похвалить, — а можно на нее положиться? Нельзя. Никакого чувства ответственности. Фома взял флаг, и мы спустились вниз на песчаный берег бухты. Траулер остановился чуть подальше норвежского бота. Торопливо спустили шлюпку. Два матроса и капитан сели в нее, и матросы так налегли на весла, что минуты через три она уже врезалась в песок. Капитан выскочил на берег, подошел к Фоме Тимофеевичу и протянул ему руку. — Все в порядке, Фома Тимофеевич? — спросил он. — Степу Новоселова смыло, — сказал капитан Коновалов. — Жив Степан Новоселов, — сказал капитан траулера. Он уже открыл рот, чтобы объяснить, как спасся Степан и откуда он это знает, но тут завизжала Глафира. Она завизжала так, как будто ей сообщили какую-то ужасную новость, как будто ее постигло прямо-таки невероятное горе. Правда, она визжала недолго. Вдруг визг оборвался, и она как мертвая рухнула на песок. Мы бросились к ней. Она лежала неподвижно, без каких бы то ни было признаков жизни. Если бы это было у нас в больнице, вот-то уж накапали бы медсестры капель, вот-то уж повозились бы! Но в условиях необитаемого острова все произошло гораздо проще. Капитан траулера кивнул одному из матросов, тот вынул из шлюпки черпак, набрал в него из моря воды и не торопясь вылил ее на лицо Глафиры. Глафира открыла глаза, огляделась и как только все вспомнила, так снова завизжала и начала биться в истерике. Я, по совести говоря, никогда не видел женских истерик. Как-то все люди, каких я знал, не падали в обморок и в истерику не впадали. Но, конечно, как человек, много читавший, я знаю, какие бывают истерики. В старых романах они описаны очень подробно. Так вот, у Глафиры была истерика из истерик. Уж самая-самая настоящая, или я ничего в этом не понимаю. Странный все-таки человек наша Глафира. Ничего в ней не поймешь. Когда все спокойно и бояться совершенно нечего, она все время испугана, как будто ей угрожают все опасности, какие только есть на земле. Зато, когда мы действительно на краю гибели и можно сказать, что смерть протягивает к нам свою костлявую руку, Глафира совершенно спокойна и ведет себя так, будто никакой опасности нет и она находится на берегу, в обыкновенном городском книжном магазине. Это одно. И второе. Она узнаёт о гибели любимого человека и ничего, молчит и держит себя очень выдержанно. Потом она узнаёт, что человек, которого она считала погибшим, спасен, и, вместо того чтобы, как, казалось бы, следовало радоваться, кричит, падает в обморок и бьется в истерике. Кажется, я уже повидал людей и научился неплохо в них разбираться, но тут, по совести говоря, ничего не могу понято. В общем, выяснилось, что с траулера хорошо видели бот, видели и Степана, когда он стоял на борту, и даже готовились бросить конец, видели, как его зашибла шлюпка. Степана волна швырнула совсем близко к тральщику. Они бросили ему круг, но то ли Степан его не увидел, то ли очень уж ослабел от удара. Один матрос обвязался канатом и прыгнул в воду. В это время бот вынесло из пурги, и траулер потерял его из виду. А вокруг траулера пурга продолжала бушевать. Матрос долго не мог обнаружить Степана, а когда увидел наконец мелькнувшую на гребне волны его голову, то долго не мог до него добраться. Очень волна кидала. Уже два других матроса на палубе траулера обвязались канатами и готовились прыгнуть в воду на помощь товарищу, когда вдруг Степана швырнуло волной прямо в объятий первого матроса. Степан был без сознания, но так как Фома Тимофеевич заставил и его надеть спасательный пояс, то он держался на воде, хотя совсем почти захлебнулся. Матросу удалось его схватить за руку. Шлюпку спустить было невозможно, и обоих — спасителя и спасенного — медленно подтянули на канате к борту, матросы перехватили Степана и вытащили на палубу. Потом подняли и того матроса, который его спас. К этому времени он тоже уже плохо соображал. Воды наглотался, да и о борт его раза два сильно ударило. Но все-таки он отлежался и теперь совсем почти здоров. А Степан еще болен. Часа только два назад он пришел в сознание, у него сильно расшиблена голова и сломана рука. Он пока еще слаб, но опасаться теперь уже нечего. Я рассказываю все это так, как будто капитан тут же нам все это и сообщил. На самом деле он ничего нам сообщить бы не мог, потому что Глафира своими воплями и криками заглушала нормальную человеческую речь. Капитан велел матросам перенести ее в шлюпку и немедленно отвезти на тральщик. В шлюпку еекое-как погрузили, но она продолжала рыдать и вскрикивать. Шлюпка уже почти подходила к тральщику, а рыданья ее все еще до нас доносились. Только когда наконец ее подняли на палубу и она, поддерживаемая двумя матросами, ушла в каюту, в которой лежал Степан, на острове Колдун стало наконец тихо. Вот тут-то капитан и рассказал нам историю спасения Степана. Так как Новоселов не скоро пришел в сознание, на тральщике не знали, что наш бот терпит бедствие и что у нас так плохи дела с мотором. Поэтому они ничуть не беспокоились, что потеряли нас из виду. В обычных условиях мотоботы спокойно выдерживают и не такие штормы. Они только огорчались, что мы, вероятно, не знаем о спасении матроса, и не могли нам ничего сообщить, потому что на мотоботах радио нет. Много позже радист траулера принял приказ всем находящимся в море судам идти искать пропавший бот «Книжник». Они и тогда не подумали, что именно «Книжник» был тот бот, с которого они подобрали матроса. Мало ли в море ботов! Они обыскивали квадрат за квадратом и все время передавали на берег, что бот «Книжник» не обнаружен. Только когда Степан пришел в себя и сказал, с какого он бота, они всё поняли и, прикинув место, в котором встретили нас, и направление, в котором мы шли, решили заглянуть на остров Колдун. Капитан рассказывал нам все это, и мы стояли молча и слушали его: Фома Тимофеевич и Фома, я и Валя, Оле и Христиан и капитан Нильсен, спокойный, солидный и почтенный. Фома Тимофеевич представил норвежцев капитану траулера сразу же, как только увезли Глафиру. Но тогда нас прежде всего интересовала история спасения Степана, и поэтому все ограничились вежливыми поклонами. Теперь же, когда капитан кончил рассказ, Фома Тимофеевич сказал: — У наших норвежских гостей кончилось горючее. Капитан Нильсен выступил вперед. — Мы рассчитываем на прославленное русское гостеприимство, — сказал он, наклонив голову. — Нам нужно литров триста горючего. — Будем рады помочь, — сказал капитан тральщика и козырнул. — Через полчаса горючее вам доставят на борт. — Мы будем ожидать на боте. — Капитан Нильсен подошел к Фоме Тимофеевичу и протянул ему руку. — До свиданья, капитан Коновалов, — сказал он. — Я навсегда сохраню благодарную память о вашем гостеприимстве. — Благодарю вас, — ответил Фома Тимофеевич, пожимая протянутую руку Нильсена, — мы тоже будем помнить о вас. — И в глазах у Фомы Тимофеевича снова мелькнула усмешка. Капитан Нильсен прошел, пожимая каждому из нас руку и низко наклоняя голову. За ним шли Оле и Христиан и тоже пожимали каждому по очереди руку и тоже наклоняли головы. Капитан Коновалов задержал руку Христиана и сказал ему негромко, стараясь, чтобы норвежский капитан не услышал: — Вы очень хорошие люди, Оле и Христиан. — Тише, — негромко сказал Христиан, — не дай бог, хозяин об этом узнает. Не знаю, чего он боялся и почему плохо, если хозяин узнает, что его матросы хорошие люди. И вот капитан Нильсен сел в шлюпку, Оле и Христиан оттолкнули ее, шагая по воде, впрыгнули сами и взялись за весла, и шлюпка понеслась к боту. Никогда я уже не увижу этих хороших людей — Оле и Христиана. Не увижу и капитана Нильсена, которого помню жестоким, яростным, держащим в руке пистолет. Капитан траулера и Фома Тимофеевич отошли в сторону и долго прохаживались по берегу и разговаривали. А мы перетаскивали из пещеры и из выброшенного на берег бота кое-какие вещи. Мы брали только самое необходимое. Через несколько дней должно было прийти судно со специальной командой починить бот и спустить его на воду. «Книжник» будет еще ходить от становища к становищу, развозя механикам и матросам, капитанам и штурманам, женам и детям моряков стихи и романы, учебники и картины, тетрадки, перья, ручки, карандаши. Отобранные нами вещи мы складывали на берегу. Наконец вернулась шлюпка, отвозившая Глафиру. Капитаны кончили разговор, и капитан траулера коротко сказал Жгутову: — Садитесь. Жгутов сел в шлюпку, опустив глаза, ни с кем из нас не простившись. И его я тоже никогда больше не увидал. На траулере, пока мы шли до нашего становища, он находился под арестом в одной из кают. На суд мама меня не пустила. Сейчас он отбывает где-то наказание. Через несколько минут шлюпка пришла за нами. Нас перевезли на траулер. Вся команда трясла нам руки, и кок расталкивал всех и требовал, чтобы мы сказали, чего хотим поесть, и мы его еле убедили, что совсем не голодны. Мы ведь сперва только голодали, а потом питались отлично. К Степану нас долго не хотели пускать. Говорили, что ему нужен покой, что он и так уже взволнован встречей с Глафирой, что еще мы успеем с ним наговориться, — словом, все, что полагается говорить в этих случаях. Но, видно, очень уж у нас был умоляющий вид, поэтому нам всем разрешили тихо, на цыпочках, подойти к каюте, где лежал Степан, и заглянуть в нее. Степан лежал на койке, высоко поднятый на подушках. Глафира сидела с ним рядом и не отрываясь смотрела ему в глаза. У Степана было необыкновенно счастливое лицо. Голова его была перевязана, на щеках ссадины, и какое-то выражение слабости было у него на лице. Выражение счастья и слабости. Он увидел нас и улыбнулся. А Глафира не обратила на нас никакого внимания, даже не повернула головы. Она не отрываясь смотрела в лицо своего Степана, и, кроме него, ни до чего ей не было дела. Отвезли горючее на норвежский бот. Шлюпка вернулась, и матросы сказали, что капитан Нильсен велел кланяться и благодарить и передал, что никогда не забудет своих новых друзей, и все заулыбались, потому что все уже знали, как удивительно понимает правила дружбы этот капитан. Потом бот снялся с якоря и пошел прямо к Норвегии. А мы пошли к нашему становищу — на юго-запад. Скоро мы потеряли друг друга из виду и через несколько часов увидели наш родной Волчий нос. Конечно, на необитаемом острове было неплохо, а все-таки приятно возвращаться домой. Траулер, обнаружив нас, сразу передал по радио, что мы спасены. Нас встречало все становище. Мы с Валей ходили, как герои какие-то. Хотел бы я, чтобы посмотрели на нас воронежские ребята! Им небось и не снилось такое. Ну конечно, прежде всего кинулась к нам мама. Она плакала так, как будто мы не спаслись, а, наоборот, погибли. Валька почему-то тоже захныкала, и слезы у нее потекли, и носом она стала шмыгать. А я крепился и совсем не плакал, разве что одна-две слезы у меня скатились, но это просто так, от волнения. Мы пошли домой, и народу набилось в наши комнаты — просто ужас! И медсестры, и ходячие больные, и куча ребят, и много разного еще народа. Мы всё рассказывали и рассказывали, пока уж и рассказывать больше нечего было. Мама слушала и плакала и смеялась, а потом сказала: — Ну, натерпелись страху? По крайней мере, теперь в море тянуть не будет. Я решил сразу сказать маме всю правду. — Нет, мама, — сказал я, — наоборот, я твердо решил быть моряком. Но разве Валя может стерпеть, чтобы последнее слово было не за ней? Она посмотрела на меня и пожала плечами. — Положим, мы еще посмотрим, — сказала она, — из кого выйдет моряк — из тебя или из меня.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне мало что осталось рассказать. Через месяц после нашего возвращения была свадьба Глафиры и Степана и на свадьбе гуляло все становище. Степан взял ссуду и построил себе дом. Строить ему тоже помогало все становище. Так что мы не успели опомниться, как дом уже был готов. С бота «Книжник» Степан все-таки ушел. Фома Тимофеевич отпустил его без возражения. «Книжник» стал знаменит на все побережье, и от охотников ходить на нем просто отбоя не было. Теперь у Фомы Тимофеевича молодой моторист, только что кончивший курсы, и опытный пожилой матрос. Заведует плавучим магазином тоже уже не Глафира, а совсем молоденькая девушка, только что кончившая десятилетку и проучившаяся три месяца на курсах книжной торговли. Глафира распоряжается в книжном магазине, который открыли все-таки в становище. Магазин большой, просторный, с витринами, «впору самому Воронежу. Степан плавает на боте. Говорят, что он готовится в мореходное училище, но сам он только отшучивается, когда его спрашивают об этом. Когда он приходит с моря, все у них в доме именно так, как они с Глафирой мечтали когда-то на палубе «Книжника». Муж рассказывает, что случилось в рейсе, а жена сидит, переживает, и печка натоплена, чистота кругом, половички постланы, самовар шумит. И мы с Фомой и Валя часто бываем у них. Забегаем просто так, на ходу, чуть ли не каждый день. А уж если у них какой-нибудь праздник, то нас обязательно приходят звать и Степан и Глафира. Приятно, когда взрослые любезны. Фома Тимофеевич по-прежнему водит «Книжник». Разговора о переходе на пенсию я не слышу. Выгонишь его на пенсию, такого старика, как же! Валя совершенно перестала к нам с Фомой приставать. Теперь у нее завелись подруги и они вечно трещат о каких-то своих вздорных делах. Валя говорит, что с мальчишками совсем не интересно. Подумаешь, нам с Фомой было интересно с ней! Иногда собираемся мы у Степана с Глафирой или у Фомы Тимофеевича. Начинаются разговоры, воспоминания. Иногда речь заходит про остров Колдун. И тогда кажется мне, что снова я вижу черную скалу посреди океана, и Жгутова с гаечным ключом, занесенным над головой Глафиры, и капитана Нильсена, вытаскивающего из кармана пистолет, и темный трюм брошенного бота. Валька, между прочим, теперь собирается быть врачом и никогда не заговаривает о том, что есть женщины-капитаны. Я всегда понимал, что с ее стороны это просто девчоночья болтовня. Зато мы с Фомой не такие. Что мы раз решили, то непременно и будет. У нас много есть очень серьезных планов, и, конечно, все задуманное нами исполнится.ОЛЕСЬ БЕРДНИК ПУТИ ТИТАНОВ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ-СКАЗКА
Сокращенный авторизованный перевод с украинского В. Доронина и А. Семенова

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЮАвтор
«…будущее…мир покоренного вещества и энергии, подвластный воле почти бессмертного человека…»Максим Горький
ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО
Аппараты связи Земного шара предупреждали, повторяли: — Сегодня дискуссия о великом переломе! Слушайте все! Люди, слушайте все! Учителя прекращали занятия в аудиториях, включали установки дальновидения. Ученые оставляли лаборатории, спеша к экранам всемирной связи. Гуляющие, отдыхающие, путешествующие во всех уголках солнечной системы настраивали приемники на волну Совета Великого Союза Миров. Контрольные роботы-диспетчеры проводили последнюю проверку: — Луна! Готовы ли вы к дискуссии? — Да, — отвечали лунные станции. — Меркурий? — Готовы. — Венера? — Мы ожидаем. — Марс? — Да. Станции на Плутоне усилили в миллиарды раз энергию сигнала и направили ее к далеким мирам, превратив в лучеподобные сгустки уплотненного времени. Между тем во Дворце Совета Великого Союза Миров уже собирались ученые Земли — виднейшие теоретики и практики знания. Они молча, в торжественной тишине, занимали места в исполинском амфитеатре, вокруг овального возвышения. Под куполом дворца заструились голубые грозовые волны. Они становились все гуще, насыщеннее. В воздухе запахло свежестью. Это начал действовать аппарат, стимулирующий внимание и мышление. Вспыхнули призрачным светом стены дворца, растаяли, исчезли. Вместо них появились изображения залов заседаний далеких миров. Пространство дворца как бы расширилось в сотни раз, наполнилось десятками тысяч жителей обитаемых планет. Послышался бесстрастный голос робота-диспетчера: — Все жители Великого Союза Миров на одной волне. Дискуссия о великом переломе начинается! На возвышении появился человек. Тысячи ученых Земли и других планет поднятием рук приветствовали Рама, очередного председателя совета. Глаза его сияли молодостью и энергией, хотя ему недавно исполнилось триста лет. Легкая ткань голубоватой одежды Рама подчеркивала гармоничные формы его тела. Рам молчал, как бы собираясь с мыслями, как бы созерцая далекие миры, представители которых смотрели на него с экранов межзвездного видения. Ощутил громадную ответственность за каждое слово, за каждую мысль, которые готовился произнести здесь. Шагнув навстречу миллиардам глаз, произнес уверенно и взволнованно: — Братья! Мощные волны уплотненного времени несли его голос в бесконечные дали, превращаясь в многочисленных аппаратах связи в символы, понятные жителям далеких миров. — Братья! Борьба, революции — основа прогресса. Это аксиома. Разумный человек понял этот закон. Природа осуществляет революционные преобразования ощупью, зигзагами. Но человек обязан искать кратчайший путь. Когда наступает кризис, необходимо новое направление. Мы накануне такой революции. В чем ее суть? Опасность в нас самих, в несовершенстве нашей природы. Органы мышления, эволюционировавшие на протяжении миллионов лет, безнадежно отстают от стремительного потока знания. Они не в состоянии соперничать с молниеносной реакцией логических машин. Мы достигли долголетия в пределах тысячи лет, но и этого недостаточно, чтобы охватить и осознать необъятную сумму даже небольшой части сведений, не говоря уж о мудрости предыдущих поколений. Знание разделилось на многочисленные ручьи, но здравый смысл и логика зовут нас к упрощению, к универсальности, к поискам единства. Настает час великого перелома. Мы собрались, чтобы приблизить его. Вам будет предложен проект нового пути. О нем расскажет Семоний, руководитель Главного Электронного Центра Земли. Братья! Мы призываем — слушайте и советуйте. Рам сошел вниз, сел в первом ряду амфитеатра. На возвышение стремительно поднялся худощавый узколицый ученый, одетый, как и председатель, в голубую одежду. В пространстве зазвучал низкий, напряженный голос: — Братья! Проблема, о которой говорил здесь Рам, ясна безусловно всем. Разумный мир стоит перед большой опасностью. Я не знаю, стоит ли напоминать о фактах, которых достаточно в любом мире. Забота о будущем велит нам идти по пути освобождения мыслящих существ от интеллектуальной нагрузки, ставшей невыносимой. Да, я глубоко убежден, что надо передать функции научно-технического мышления электронно-гравитационным аппаратам. Они — порождение нашего разума, они — наши слуги и друзья. Мы сконструировали мощный автоматический центр, управляющий сейчас научно-технической сетью планеты. Кроме задач координации, мы предоставим ему функции творческого мышления. Он будет анализировать — и совершенно безошибочно — все научные сведения, поступающие к нему извне, и именно в духе тех законов, по которым идет развитие человечества. Перед нами встают удивительные перспективы: знание будет развиваться несравненно быстрее — ведь электронно-гравитационные аппараты обладают гораздо большими возможностями, чем люди. Если спросят, какова же роль человека в этой новой эпохе, я отвечу с гордостью: человек останется властелином, но более могучим! Мы не будем копошиться в лабиринтах анализа, а уверенно пойдем к сияющему солнцу синтеза. Говоря образно, человеку не нужно будет забираться на дерево, чтобы сорвать плод. Это за него сделают мыслящие аппараты. Нам же предстоит лишь одно — пользоваться плодами знания, наслаждаясь их замечательным вкусом. Итак, я предлагаю на рассмотрение наших миров выдвинутый группой ученых Земли проект. Мы будем, вероятно, говорить не о технической стороне дела — его осуществимость не подлежит сомнению. Людей прежде всего интересуют этические, моральные и научные стороны грядущей перестройки. Братья! Высказывайтесь и советуйте. Мы, сторонники проекта, ждем вашего суждения… Над сектором Сириуса зажегся зеленый сигнал. Взоры присутствующих обратились к экрану межзвездного видения. Из рядов ученых планеты Ай-Сса-Мра поднялась огромная фигура Браж-Си, известного космонавта в системе Сириуса. Серебристые холодящие одежды свободно ниспадали книзу, оставляя открытым только круглое фиолетовое лицо с широким лбом и карими глазами. Черные уста шевельнулись. В зале послышался голос переводной машины: — Замечательный проект! Величайший скачок знания! Революция в методах познания мира назрела. Она необходима! Великий Союз Миров объединяет много планет, дружно идущих по пути развития знания. Но в беспредельном пространстве есть миры, цивилизация которых еще молода и неопытна. Рост нашего технического потенциала позволит во многом помочь этим отстающим планетам. Повторяю — это величайший план, братья!.. После Браж-Си выступили представители системы Центавра — человекоподобные существа с хрупкой, гармоничной структурой. Они горячо поддержали Семония. Такое же мнение пришло и с далекой планеты возле инфразвезды Кома. Жители этой системы надеялись с помощью ускоренного развития разума возродить свой угасающий мир. И только мыслящие существа Сатурна прислали предупреждение. Древнейший ученый этой планеты с непередаваемым на земном языке именем заявил: — Наше развитие отличается от вашего. Нам трудно понять ваши цели. Но я помню тревожные отголоски подобных событий, происшедших в иных мирах. Не спешите, братья. Подождите, подумайте. Мы постараемся найти в архивах знания все сведения о подобных проектах. Семоний, выслушав перевод сообщения с Сатурна, улыбнулся и спросил: — Неужели цивилизации наших миров недостаточно развиты для того, чтобы решать научные проблемы с помощью разума, а не древних преданий? Ответ с Сатурна был краток и спокоен: — Настоящее — только звено в цепи бесконечности. Звенья прошлого и будущего равноценны. Мы советуем братьям Земли: подумайте! Но вот амфитеатр заволновался. Взметнулся лес рук, приветствуя следующего оратора. Между рядами кресел шел ученый, одетый в черную строгую одежду. Поднявшись на возвышение, он остановился возле Семония. Это был Аэровел, старейший ученый системы Солнца. Недавно друзья отмечали его шестисотлетний юбилей. Он работал в Институте воскрешений, осуществляя там удивительные и еще не всем известные исследования. Миллиарды людей Земли, жители Венеры, Марса, колонисты Меркурия, Луны и многих астероидов с восхищением смотрели на ладно скроенную фигуру Аэровела, на крупное, гладко выбритое лицо с большими синими немигающими глазами. Светлая копна волос серебристой короной венчала голову ученого. Казалось, что весь он устремлен в небо. Брови его хмурились, лоб прорезала глубокая морщина. Амфитеатр замер в ожидании чего-то необычного. Аэровел заговорил, и голос его загремел в пространстве: — Братья! Только что я испытал сильное потрясение. На мгновение меня охватило чувство, которое жители наших миров давно считают анахронизмом. Я пришел в ярость! И лишь огромным усилием воли мне удалось овладеть собой. Полная тишина была ответом на это вступление. Семоний с тревогой посмотрел на старейшего ученого. Аэровел, взывая ко всем секторам, воскликнул: — Отсутствие опасностей, огромные возможности наших цивилизаций сделали нас беспечными. Мы плохо думаем о последствиях экспериментов. Только этим я объясняю то легкомыслие — да-да, я повторяю: легкомыслие! — с которым здесь обсуждался проект Семония. Семоний сказал: нам не надо будет лезть на дерево, чтобы сорвать плод, это сделают машины! Прекрасно. Удивительно! Человечество будет лежать под деревом и открывать рот, чтобы машины бросали в него плоды познания. Какая потрясающая мечта! Но что ожидает человека, который перестанет углубляться в пучины анализа? Об этом вы подумали? Он потеряет способность к аналитическому мышлению, клетки разума атрофируются, наш интеллект деградирует. И, наконец, электронные аппараты поднимутся выше людей. Да-да! Я повторяю, что будет так! Ты, Семоний, сам сказал, что их реакция в миллионы раз совершеннее нашей. Мы еще не знаем всех опасностей этого пути, тех неожиданностей, которые подстерегают человечество после великого перелома. Но главное, что возмущает меня, — это стремление отождествлять чудесный человеческий интеллект с холодным разумом машины, хотя и очень высоким… — Что же ты предлагаешь, Аэровел? — резко заметил Рам. — Ты отрицаешь опасность, о которой говорили мы? — Нет, — возразил Аэровел, — не отрицаю. Опасность есть. Все это понимают. Но есть иные пути ее преодоления. Этот путь не вне человека, а внутри него. Институт воскрешений видит его в достижении бесконечного долголетия, то есть практически в бессмертии… — Бессмертии? — удивленно воскликнул Семоний. — Что ж, это чудесная перспектива! Но что это изменит в положении человека? Миры переполнятся людьми с бесконечно устарелыми взглядами, рядом с архаичными предками будут жить их совершенные потомки, благословенные дары эволюции обратятся в пародию! — Ты ошибаешься, Семоний! — с достоинством сказал Аэровел. — Мы не предлагаем такого примитивного бессмертия. Да речь и не идет о бессмертии, а о периодическом восстановлении всех функций организма, о полной регенерации тканей стареющего тела. И не по старому образцу, а в соответствии с велениями эволюции, добавляя каждому индивидууму новые свойства, соответствующие требованиям эпохи. Преждевременно раскрывая результаты работ Института воскрешений, я могу сообщить… Страстные слова Аэровела прервал тревожный аккорд. Ученый замолчал. В пространстве над амфитеатром появилось юное девичье лицо. Изображение вздрагивало, колебалось. Глаза тревожно всматривались в присутствующих, как бы отыскивая кого-то. Рам встал, недоумевающе спросил: — Кто ты? Почему прерываешь дискуссию? — Я Искра, — ответила девушка. — Чрезвычайное событие требует решения совета. — Что случилось? — Я работаю на станции межпланетных кораблей возле Плутона. Си-локаторы только что засекли приближение космического тела. Это звездолет древней конструкции. Скорость субсветовая. Принцип движения обычный. — Он тормозит? — взволнованно спросил Рам. — Нет. Через несколько часов корабль войдет в систему. — Вы пытались с ним связаться? — Не отвечает. Мы испробовали все диапазоны гравио- и радиосвязи. Быть может, там нет живых существ. Для размышления времени нет. Выход один: использовать для торможения пространственные заслоны Системы. — Хорошо, — подумай, ответил Рам. — Остановите его. Затем отбуксируйте на внеземную станцию. Члены совета осмотрят звездолет. Изображение Искры исчезло. Над амфитеатром плыл возбужденный шум. Рам взошел на возвышение, поднял руку: — Мы прервем дискуссию. Быть может, сейчас в Космосе решается судьба неведомых мыслящих существ… Люди системы Солнца затаив дыхание следили за удивительным космическим событием. Странный корабль неизвестного происхождения устремился из глубин пространства в планетную семью Солнца. Скорость его была такова, что корабль уподоблялся лучу. Точнейшие аппараты, расшифровав показания си-локаторов, определили, что воздушный корабль не замедляет полета. Значит, он проскочит Систему и снова удалится в беспредельность. Это свидетельствовало о том, что на борту не было живых существ или корабль лишился управления. Искра, молодой инженер внешнего пояса космических станций, получив разрешение совета, начала приводить в действие свой полный риска план. Она связалась с хранилищами внепланетной энергии на Плутоне, Титане и на многих астероидах, передала им волю совета. Стартовав со станции на громадном спутнике-корабле, она вывела его в район предполагаемой встречи с звездолетом. По условному сигналу могучие потоки гравиэнергии начали концентрироваться вокруг спутника-корабля. Квантовые преобразователи превратили эту энергию в волны уплотненного пространства, которые устремились навстречу неизвестному звездолету. Вокруг него было создано непроницаемое поле — своеобразный пространственный коридор. Тяготение Системы теперь не влияло на межзвездного скитальца. Пространство существовало для него лишь в узком коридоре, который неотвратимо вел к спутнику-кораблю. Люди Солнца и жители Сатурна волновались: хватит ли энергии? Удастся ли остановить в пределах миллиарда километров звездолет, летящий с субсветовой скоростью? Искра включила добавочные преобразователи. Теперь энергия уплотненного пространства излучалась по центру канала, навстречу чужому кораблю. Плотность излучения постепенно нарастала. Рядом с девушкой вспыхивали экраны связи, далекий голос подруги, дежурившей на станции наблюдения, тревожно сообщал: — Скорость уменьшается. Двести пятьдесят тысяч километров… Двести сорок восемь… Двести сорок семь… Искорка! Надо усилить излучение… — Все исчерпано, — беспомощно ответила девушка. — Включи счетно-решающий автомат и определи, когда произойдет встреча. Несколько мгновений тягостного ожидания, затем растерянный голос подруги: — Столкновение неизбежно. Сейчас же уходи с пути! — Нет, — с вызовом воскликнула Искра. — Мы обязаны остановить его!.. И, как бы поощряя ее уверенность и мужество, в эфире раздался мощный голос Рама: — Верно! Ты, девушка, права! Хранилища внепланетной энергии! Слушайте приказ совета: включите все резервные источники, предоставьте их в распоряжение Искры… Люди Системы облегченно вздохнули. Радостно зазвучал голос подруги: — Искорка! Замечательно! Скорость резко падает. Двести тысяч километров… Сто восемьдесят… Сто сорок… Сто… Медленно текли минуты напряженной борьбы. Наконец человек преодолел огромную силу инерции. Чужой звездолет сблизился с кораблем-спутником. Они повисли рядом в бездне пространства. Искра закрыла глаза, провела дрожащей рукой по лицу. Невероятно! Неужели удалось? Снова открыла глаза, посмотрела в иллюминатор станции. Тихонько засмеялась. Да, она совершила это чудо. Вот он, странный бродяга Вселенной. Кто в нем? Откуда он? Что скажет человечеству Солнца его экипаж? Девушка снова уверенно села за пульт, включила систему программирования. Через несколько минут в центральной части станции-спутника открылся гигантский шлюз. В него медленно вплыл чужой звездолет. Шлюз закрылся. После этого спутник-корабль двинулся к далекой Земле, держа курс на главную внеземную станцию планеты… Рам, Аэровел, Семоний и несколько видных ученых Земли прямо из Дворца Совета вылетели на внеземной космодром. Их гравилет встречали инженеры станции. Между ними стояла Искра. Рам сразу узнал девушку, крепко пожал руку и, любуясь ею, сердечно сказал: — Такая маленькая… и такая смелая! Ученые одобрительно улыбались. Девушка в самом деле была миниатюрной, с рыжей мальчишеской прической, блестящими серыми глазами и тонкими музыкальными пальцами. Как-то не верилось, что она только что совершила подвиг. — Что ж, ведите, показывайте вашего пленника, — усмехнулся Рам. Инженеры вместе с прибывшими направились к центру полусферической станции-космодрома. Звездолет уже стоял на внутренней площадке приемника. Он был цилиндрической формы, суженный кверху. Вокруг цилиндра вилась мощная спираль. Весь корабль был ржаво-грязного цвета — очевидно, он прошел неизмеримые пространства. — А теперь пробовали связаться? — спросил Рам. — Пробовали, — ответила Искра. — Ответа, как и прежде, нет. При просвечивании гравилучом люди не обнаружены… — Уверяю, в основе этой конструкции — принцип гравитации, — сказал Аэровел. — Только более примитивной культуры, чем наша. — Да, похоже, — согласился Рам. — На Земле тоже когда-то были такие корабли. Наши предки устремлялись на них в бесконечность… — Как и их предки на челноках в океаны, — подхватил Аэровел. — Но откуда этот звездолет? — Скоро это узнаем. Вы только действуйте крайне осторожно. Живые существа могут находиться в состоянии анабиоза. Инженеры космодрома включили роботы. Звездолет окружили разнообразные механизмы. Ажурные вышки подняли к середине стометрового корабля гравиизлучатели. Несколько минут они изучали обшивку. Затем вибронож вырезал большое отверстие в корпусе звездолета. Площадка подъемника с тремя учеными и девушкой остановилась у отверстия. Они вошли в темный коридор. Рам включил небольшой фонарик. Яркий луч осветил серебристые стены, глазки приборов. Коридор вился вокруг гигантской центральной трубы, где, вероятно, были расположены энергетические установки. Ученые двинулись вверх. Вокруг мерцали слабые огоньки, освещая узкие двери, ниши, иллюминаторы. Полную тишину нарушали лишь шаги. Они прошли несколько витков этой спирали и наткнулись на стену, которая преградила им путь. Впрочем, это была не стена, а прозрачная дверь. Рам поднял фонарик, и взору людей представилась странная картина. За дверью находилась каюта, откуда, очевидно, осуществлялось управление. На стенках мерцали матовые экраны, темнели панели с рядами приборов. Перед основным пультом — два глубоких кресла. В одном виднелась человеческая фигура. Космонавт был неподвижен, голова его лежала на пульте. В свете луча фонарика тень человека заколебалась. Искре показалось, что космонавт шевельнулся. Она тревожно вздохнула. — Космонавт — человек Земли, — прошептал Аэровел. — Я уверен в этом. Но почему мы ничего не знаем об этой экспедиции? Когда она вылетела? — А может быть, он лишь похож на нас? — возразил Рам. — Разве во Вселенной не могут быть цивилизации с похожими на нас живыми существами? Взглянув на Искру, он взволнованно добавил: — Во всяком случае, это замечательно. Мы узнаем нечто удивительное, это несомненно. Семоний! — Я слушаю, Рам. — Прошу тебя сделать все как можно скорее. Вызови лучших специалистов. Надо изучить конструкцию корабля, разыскать и расшифровать все записи — оптические, магнитные и прочие. Все это подготовить к следующему заседанию совета. — Хорошо! — ответил Семоний. — А космонавта, — сказал Аэровел, — пока не трогайте. Я вызову ученых из Института воскрешений. Труп надо извлечь из каюты с максимальной осторожностью, поместить в инертный газ и немедленно отправить на Землю… С трудом оторвавшись от странного зрелища, ученые отошли от двери и двинулись назад. И только Искра все еще стояла неподвижно, еле сдерживая волнение. Она как бы предчувствовала, что в ее жизнь входит нечто значительное и таинственное… Даже Рам, всегда спокойный, уравновешенный, волновался. Его рука, лежавшая на пульте управления, вздрагивала от нетерпения. Члены совета молча ждали. Рам сказал: — Братья! Вы все знаете о прилете корабля из глубин Вселенной. В страшные и таинственные дали пространства люди летят за огнем знания, за истиной. Не всегда жертвы приносят плоды. Тем более мы должны быть внимательны к каждой вести из далеких миров. Капли соединяются в ручейки, ручейки — в реки, а реки наполняют океан бесконечности. Братья, в корабле оказался мертвый космонавт. Исследование установило, что он житель Земли, наш предок! Вы удивлены? Да, мы ничего не знали об этой экспедиции. Только вчера сотрудник Архивного Мирового Фонда Светозар обнаружил материалы, свидетельствующие о древней экспедиции к другой Галактике… В аудитории раздались возгласы удивления. Рам поднял руку, призывая к спокойствию. — Сейчас вы услышите его голос. Рам нажал кнопку на панели. Что-то зашипело, затем зазвучал спокойный человеческий голос. Он говорил на непонятном языке. Только отдельные слова напоминали современные. — А теперь прослушайте перевод. Вспыхнули глазки переводной машины. Ученые услышали: — Двадцать первое столетие. Две тысячи пятьдесят восьмой год. Галактические координаты на кинопленке… В зале зашумели. Послышались возгласы ученых: — Десять тысяч лет назад? — Невероятно! — Братья! — разъяснил Рам. — Мы проверили координаты. Экспедиция вылетела с нашей Земли десять тысяч лет назад. Плоское изображение старинной кинопленки, трансформируясь в особых приборах, воспроизводило картину Галактики, являвшейся не рисованной схемой, а ее фотографией. Гигантская звездная система приблизилась, медленно вращаясь вокруг центрального сгущения. Она с каждой минутой вырастала, распадаясь на звездные рои и отдельные небольшие системы. Между двумя витками спирали ярко засияла желтая звезда. Она приближалась, превращаясь в диск. Вокруг нее закружились шары девяти планет. Третья от центрального светила, увеличиваясь, начала вращаться. Возникли очертания материков, океанов. Из-за планеты выполз бледно-желтый диск спутника. Затем изображение исчезло. Пленка кончилась. — Вы убедились? — Произнес Рам. — Мы встретили человека далекого прошлого, который давно умер, но он оставил после себя массу ценнейших научных материалов и записанный различными способами удивительный рассказ о том, что произошло с экспедицией. Этот рассказ адресован нам, его потомкам. Тысячелетия ждал он, чтобы мы услышали его. Я предлагаю приступить к просмотру материалов о героическом подвиге древних космонавтов. Снова послышалось тихое жужжание. Председатель Совета Великого Союза Миров Рам включил демонстрационные автоматы. И перед учеными одна за другой вставали волнующие, драматические картины из жизни далеких предков…ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВЕДОМОЕ
Страшный проект
Академик Горин, председатель Объединенного Космоцентра Земли, нажал кнопку телевизофона. На экране появилось лицо секретаря. Она понимающе улыбнулась, едва заметно кивнула: — Пришли. — Все? — Все. — Просите. Несколько минут ожидания — и дверь кабинета открылась. Дружной гурьбой ввалились космонавты. Они весело здоровались с ученым, который некогда обучал их искусству вождения сложных межзвездных кораблей. Академик жестом предложил всем сесть. Вышел из-за стола, остановился перед астронавтами. Молчал. Смотрел в молодые, мужественные лица, печально хмурился. Космонавты недоуменно переглядывались, незаметно пожимали плечами. Но, понимая, что старик вызвал их неспроста, терпеливо ждали. А он всматривался в своих питомцев, перебирая в памяти их жизнь, их нелегкую, но славную судьбу и как бы взвешивая в душе ценность каждого из них, Георгий Гора. Командир нескольких экспедиций к планетам внешнего пояса. Участник экспедиции к звезде Альфа Центавра. Это был трудный полет. При подходе к системе Центавра на участке торможения крупный метеорит вывел из строя двигатели звездолета. Погибло больше половины членов экипажа, в том числе командир Евгений Дикой. Георгий взял на себя управление кораблем, посадил его на крайнюю планету системы Центавра. Полгода жил он с оставшимися товарищами в холоде и мраке чуждого мира, ликвидируя последствия аварии. Георгий Гора — настоящий космонавт, всей душой стремящийся к звездам. Даже внешность его — непокорная копна золотистых вьющихся волос, прозрачно-голубые, устремленные вдаль глаза, волевые черты лица — говорит о призвании. Этот подойдет! Одинокий. Сирота. Отец и мать погибли на Луне, исследуя действующие вулканы. Он, конечно, принадлежит всей Земле… Второй, рядом с Георгием, — Джон-Эй. Суровое, худое лицо. Сжатые губы. Пристальный, внимательный взгляд. Гладко причесанные пепельные волосы, неторопливые движения, немногословен — все говорит об огромной внутренней собранности, выработанной сложной, фантастической жизнью. Джон-Эй, один из лучших космоштурманов, блестяще знает свое дело. На его счету пять полетов. Два из них — к Плутону. Один — к инфразвезде, соседке Солнца. Этот безусловно годится. Жены, детей нет. Из родителей только старушка мать. Орамил и Тавриндил. Два друга, астрономы из Афин. Согласятся ли они, неизвестно. Но кандидатуры превосходные. На их счету величайшие открытия. С помощью лунных телескопов они открыли планетные системы в районе нескольких звезд и нашли галактики с субсветовыми скоростями удаления. У обоих нет семьи. Много лет прожили на Луне, изучая Космос. Что ж, должно получиться… Астробиолог Вано Горгадзе. Он нетерпеливо встряхивает курчавой головой, умоляюще смотрит на академика. Горин улыбнулся, разглядывая его мощную фигуру, красивое, резко очерченное лицо. Этот пойдет хоть на край света. Отважен, умен, ученый с огромным размахом. Антоний и Вильгельм — братья-близнецы. Рыжеволосые, веселые крепыши. Они, еще будучи юношами, устремились в небо, поступив в училище космонавтов. Оба стали превосходными инженерами. Они все время в полетах, все время стремятся к другим планетам. Вряд ли что-либо помешает им принять решение… И, наконец, штурман Борислав Огневой и энергетик Бао Ли. Эти совсем молодые, но уже отмечены руководителями Космоцентра как выдающиеся специалисты. Несемейные. Отважные… Подойдут… Академик Горин отошел к столу, тяжело вздохнул. Тихо сказал: — Вы, конечно, удивлены неожиданным вызовом? Не отрицайте, я вижу… Буду краток. Сейчас все объясню… Он снова замолчал, опустив глаза, и все увидели, какое у него изможденное, усталое лицо, как тяжело ему говорить. Но вот он решился: — Друзья мои, есть решение Высшего Совета Науки Земли — организовать внегалактическую экспедицию… Космонавты замерли. — Вы знаете, что для сверхдальних полетов уже построен звездолет, — продолжал Горин. — Этот звездолет — лучшее, что создала доныне наука Земли. — «Разум», — прошептал Георгий. — Да, — подтвердил академик, — это «Разум». Мы направляем его к ближайшей Галактике — Большому Магелланову Облаку. Я не буду вам говорить, зачем нужна эта экспедиция. Вы отлично понимаете ее значение. Не для нас, конечно. Для грядущего. Итак, необходим экипаж. Нужны смелые люди, понимающие все без лишних слов. Выбор пал на вас. Не отвечайте мне сейчас, не спешите. Я вижу, многие уже согласны. Погодите немного. Я сказал не все. Вы идете не только на риск. Это вам привычно. Вы уходите из настоящего в далекое будущее… — Мы знаем это! — воскликнул Вано. — Не спешите, — грустно продолжал академик. — Я сожалею, что не могу лететь с вами. Стар уже. А возврата не дождусь. «Разум» — удивительный аппарат. В полете он почти вне времени и пространства. Но при торможении и разгоне вступает в силу обычная относительность времени. Поэтому вы вернетесь на Землю только через тысячелетия. — Если вернемся, — добавил Джон-Эй. — Вы обязаны вернуться! — резко возразил Горин. Все замолчали. Глубокая тишина воцарилась в кабинете. Затем Георгий спросил: — Но, учитель… я не слышу главного… — Антивещество? — улыбнулся академик. — Да. — Верно. Это главное. Вы все знаете, что звездолет «Разум» не может лететь раньше, чем будет накоплено необходимое количество антивещества. Установки Земли могут это сделать только за десять — двенадцать лет… — Тогда мы не понимаем, — вырвалось у Вано. — Спокойно! Я подхожу к главному. Центр вызвал вас потому, что произошла трагедия. Да, страшная трагедия. О ней еще не объявлено. Вы все знаете командира звездолета «Огонь»? — Димитр! — воскликнул Георгий. — Он вылетел к Чужой… — Да. «Огонь» вылетел к звезде Чужой. Мы хотели узнать подробно о небесном теле, вторгшемся в Галактику. Эта звезда, конечно, чужая, ее собственная скорость слишком велика. И вот… несколько дней назад наши станции на Луне… приняли последнее сообщение Димитра… Они погибли… — Почему? — Чужая оказалась антизвездой. Вы понимаете, что это значит. У нее есть планета… антипланета. Но Димитр не знал этого. Он вел звездолет к планете. Попал в пылевое облако антиметеоритов. И все… Началась аннигиляция. Он не успел вернуть звездолет в пространство. Взрывами разворотило всю кормовую часть. Они успели послать предупреждение Земле… И прощальные слова… Горин пристально посмотрел на своих питомцев, как бы испытывая. Георгий серьезно сказал: — Я понял вас, учитель. Это страшный проект… — Да. Это страшный проект. Но он под силу вам. Дерзновению человека нет предела. Итак, вы летите к Чужой, опускаетесь на антипланету. «Разум» оборудован специальной защитой для пребывания в антимире. Там добываете необходимое количество антивещества и стартуете к Магелланову Облаку… — Просто и ясно, — засмеялся Вано. — Паф — и полетели! Космонавты захохотали. Но, увидев грустное лицо Горина, притихли. Он дружелюбно кивнул, улыбнулся. — Так и должно быть, друзья. Позади — смерть… Впереди — победа. Только так. Гибель товарищей открыла перед человечеством новые горизонты. Итак… — Я согласен, — сорвался с места Вано, выпрямляясь во весь свой гигантский рост. — Мы летим, — встали рядом с Вано Вильгельм и Антоний. — Я готов, — сказал Бао Ли. — Да, — решительно произнес Борислав. Орамил и Тавриндил переглянулись и, улыбнувшись Горину, присоединились к товарищам. Так же молча, спокойно поднялся с кресла Джон-Эй. Только Георгий на мгновение задержался. Никто этого даже не заметил. Желает ли он лететь? Да. Он полетит. Но Марианна? Друг, товарищ, невеста. Самый близкий человек на Земле. Он ее никогда уже не увидит. Никогда! А может быть, взять с собою? Нет! Нет! Это малодушие. Это эгоизм. Итак, решено. Она все поймет… Георгий шагнул навстречу Горину, стал рядом с Джон-Эем.Так и не сказал
Месяц отдыха, а затем подготовка. Так сказал Горин. За этот месяц надо было завершить на Земле все дела. Георгий решил повидаться с Марианной и при удобном случае поговорить с нею. Он вылетел в Киев. Воздушный лимузин высадил его на Левобережье, в гидропарке. Простившись с пилотом, Георгий сел в открытый вагончик воздушной дороги, доставивший его в речной порт. Был тихий майский день. Буйные соцветия каштанов осыпались на головы прохожим, над Владимирской горкой плыла нежная мелодия знакомой песни. Георгий радостно вдохнул пряный воздух родного города и сразу как бы вернулся к дням детства и юности. Только в глубине души все время таилась тревога. Предстоит самое трудное и самое радостное: встреча с Марианной и… объяснение с нею. Георгий медленно пошел вверх, к Крещатику, не желая пользоваться ни транспортом, ни движущимися тротуарами. Хотелось полюбоваться красотою Киева,подготовиться к встрече. Он гулял около часа и даже не заметил, как пришел к Институту энергетики, где работала Марианна. На лестнице показалась группа сотрудников. Очевидно, заканчивалась работа. И вот… он увидел высокую, стройную девушку с короной темных волос. Она остановилась возле колонны, небрежно поправила локон на виске. Марианна! Единственная… Сердце Георгия забилось частыми, сильными ударами. При взгляде на девушку он еще глубже понял, как невыразимо горячо любит ее, как тяжело и просто невозможно забыть ее, оторвать от сердца и уйти в черную бездну Космоса без надежды встретиться вновь. Взгляд девушки остановился на Георгии. Удивление, радость, любовь, а затем укор отразились в ее огромных черных глазах. Она задыхалась, она не могла слова вымолвить. Георгий побледнел. Протянул руки и ждал. Марианна подбежала к нему и, не обращая внимания на улыбающихся подруг, обняла. Они поехали вниз по Днепру. Остановились на маленьком островке. Здесь было решено провести месяц отдыха. Марианна была весела, как ребенок. Георгий ничего не сказал ей о предстоящей разлуке. Он не хотел омрачать дни радостного отдыха. Как это случится? Как он скажет? Лучше не думать. Забыть обо всем, смотреть в темные, как пространство, глаза любимой, целовать пухлые дрожащие губы. Георгий построил шалаш возле воды, под длинными свисающими ветвями плакучей ивы. На сучьях можно было вешать одежду, припасы. Вспомнив детство, Георгий ловил рыбу под корягами, а Марианна варила в старом, бог весть откуда добытом казанке на песчаной косе вкусную, пропахшую дымком уху. Изредка они включали радио или телевизор, слушали новости о полетах между планетами, о гигантских стройках в Африке, Америке, об удивительных достижениях биологии и ядерной техники. Вечерами они настраивались на музыкальные передачи, а сами отплывали на челноке в густые заросли лозы и, остановившись среди белых цветов водяных лилий, зачарованно слушали, как плывет нежная мелодия над сонной водой и замирает где-то в левобережных лесах. Марианна была счастлива. Но иногда она улавливала в глазах Георгия что-то тревожное и упавшим голосом спрашивала: — Ты не хочешь говорить. Я вижу… Я чувствую… Ты снова улетаешь? Правда? Почему ты не скажешь? — Не надо об этом, Марианна. Не надо, любимая. Я космонавт. И не могу быть другим. — Даже ради меня, — печально улыбалась девушка. — Даже ради тебя. Но мы с тобою всегда будем вместе. Где бы я ни был. Что бы ни случилось… — Даже если… смерть? — затаив дыхание спрашивала Марианна. — Да. Даже тогда. Я много думал над этим. Очень много. И я понял, почему люди так уверенно идут на смерть, если это необходимо человечеству. Они осознают свое бессмертие… — Бессмертие? — Да. Бессмертие человечества. Ведь все мы — только клетки необъятного организма человечества. Смотри, как все просто и величественно. Неужели это тебе в голову не приходило? Георгий чертил палочкой на песке и увлеченно говорил: — Развитие человечества можно сравнить с развитием организмов на Земле. Сначала одноклеточные, затем колонии клеток, первые сложные организмы, рыбы, земноводные, ящеры, млекопитающие, человек. Так и здесь. Сначала человек — наш далекий предок — одинок, несчастен. Он боится всего, все ему враждебно. Затем он соединяется с подобными себе. Это уже племя, первый многоклеточный организм. Интересы индивидуума уже подчиняются интересам всего объединения. Затем народы, нации и, наконец, вся Земля. Мы дошли до этого. Сейчас наша планета — единый могучий, прекрасный организм. И каждый человек живет и трудится, творит и дерзает ради этого организма — человечества. Да, умирают отдельные клетки-люди, умирают так же, как клетки в нашем теле, но ведь мы остаемся, несмотря на беспрерывное отмирание клеток, и точно так же остается человечество, несмотря на беспрерывную смерть его членов. И не только остается, но и развивается, становится прекраснее, возвышеннее. Пройдут тысячелетия. Земля объединится с иными планетами, мирами. Вся Галактика станет единым организмом, затем — Метагалактика… и вся беспредельность. Ты понимаешь, Марианна? От Альфы — к Омеге! От первой капельки жизни — к бесконечности! Вот наш путь — путь разума. Нет, о какой же смерти можно говорить!.. Марианна слушала восторженные слова Георгия, улыбалась сквозь слезы, склонившись к его плечу, и виновато шептала: — Да, я все это понимаю. Это очень красиво… Но мне хочется, Георгий, и немножко своего… не сердись… Очень хочется личного счастья. Хочется смотреть в твои глаза, слушать твои слова, ходить с тобою по одним тропинкам… И, вздохнув, добавила: — Мне кажется, что даже умирать можно только… ради того, кого знаешь, ради близких… — Но они олицетворяют человечество? — живо возразил Георгий. — Да, — беспомощно отозвалась девушка. И каждый раз Георгий не мог сказать ей о предстоящем. Так прошел месяц. Оставив гостеприимный островок, влюбленные погрузили припасы в челнок и поплыли узким проливом к Днепру, на трассу скоростных электроплавов.Последняя пресс-конференция
Георгий пронесся по улицам Космограда, пересек центральную площадь и остановил свой лимузин около Дворца Съездов. По широкой лестнице он поднялся к колоннаде. И вдруг остановился. Из-за колонны выступила высокая фигура в белом летнем платье. — Марианна! — Да, я! — сдавленным голосом ответила девушка, судорожно комкая в руках прозрачный шарф. — Я только вчера узнала о том, что ты улетаешь. Навсегда! Это правда? — Да, — твердо ответил Георгий. — И ты молчал. Ничего не говорил мне. Ты равнодушно и холодно готовился к этому прощанию! Георгий побледнел, синие глаза потемнели, но слова были сдержанными, спокойными: — Неужели ты не понимаешь? Я не мог… сказать тебе… — Ты не мог! — с горечью промолвила Марианна. — Ты избегал встреч. Ты не хотел видеть меня. Ты никогда не любил! — Марианна! — Прости. Я не то хотела сказать. Но зачем же так? Я пришла, чтобы сказать тебе… Возьми меня с собою! Ее большие черные глаза, оттененные длинными темными ресницами, глядели на него не отрываясь. Лицо было усталым, губы вздрагивали. Георгий не выдержал. Он отвернулся, еле слышно произнес: — Ты знаешь, почему я не могу взять тебя с собою… Марианна поправила тяжелый узел волос на голове. Легкий ветер с моря перебирал ее блестящие черные кудри. На ресницах повисли слезы. Но в следующее мгновение она решительно вытерла глаза. Лицо стало замкнутым, суровым. — Значит, не возьмешь меня? — Нет, Марианна… не возьму… — Вылет завтра? — Да. Твердыми шагами Георгий двинулся к двери, остановился, оглянулся. В глубине глаз девушки сверкнула искра надежды. Он спросил: — Ты подождешь меня? Я недолго. Мы проведем пресс-конференцию, и… Просиявшее было лицо девушки снова померкло. Она молча смотрела на далекое море. Георгий открыл дверь, вошел в зал. Его ждали товарищи, корреспонденты, представители всех народов Земли. Все знали, что Георгий Гора возглавит удивительный, невероятный полет, и на него обрушилась лавина нетерпеливых вопросов: — Правда ли, что звездолет «Разум» может пробивать пространство почти мгновенно? — Да, это так. Он создает вокруг себя мощный энергетический заслон, изолирующий его от воздействия мирового тяготения. Это позволяет разгонять звездолет до любых скоростей. — А как же квантовый предел Эйнштейна? — Он перейден, как и любой предел. Скорость света зависит от взаимодействия системы с полем гравитации. Если воздействие поля уменьшено или устранено, скорость неограниченно возрастает. Впрочем, многое еще неясно. Полет должен подтвердить теорию, хотя предварительные испытания и проведены. — Значит, вы сможете вернуться на Землю очень скоро, еще при жизни нашего поколения? — Нет. — Почему же? — Уже сообщалось, что при разгоне и торможении действует парадокс времени. Мы будем жить в замедленном ритме, Земля — в обычном. Мы вернемся минимум через три тысячи лет. Но я верю, что в будущем построят корабли, способные мгновенно пробивать любые пространства. А сейчас нет иного выхода… — А разве так уж обязателен ваш полет? Можно и подождать, пока построят совершенные аппараты, — скрипучим голосом произнес пожилой корреспондент. Это замечание вызвало гул возмущения. Георгий удовлетворенно улыбнулся. — Ваше замечание имеет по крайней мере столетнюю давность! — шутливо воскликнул Вано. Присутствующие зааплодировали. Послышался новый вопрос: — Какова энергетическая база «Разума»? — Антивещество. Оно дает возможность полностью освобождать и использовать энергию, которая заключена в веществе. — Но расстояния? Сто пятьдесят тысяч световых лет! Какими же должны быть запасы топлива? — Мы добудем их на антизвезде, открытой Димитром, славным космонавтом, трагически погибшим в последней звездной экспедиции. «Разум» оборудован для путешествия в антимир. Мы верим в успех. Затем — путь к Большому Магелланову Облаку. Для всех других аппаратов, для так называемых фотонных и мезонных ракет, такие расстояния недоступны. Новый звездолет может устремиться в любую даль. Маленькое сравнение: пустите два автокара: один — по грязи, второй — по гладкой дороге. Первый израсходует массу энергии на преодоление препятствий, второй пройдет почти по инерции, не испытывая сопротивления. «Разум» — повторяю это снова — почти локализует сопротивление мировой среды. — А метеориты? Межзвездная пыль? При такой скорости они пробьют звездолет насквозь! Георгий снисходительно пожал плечами: — Вы переносите выводы классической механики на эффекты теории относительности. Метеориты «живут» в обычном времени, наш звездолет — в совершенно другом, в миллионы раз отличающемся по ритму. Понимаете? Метеорит и корабль не встретятся во времени! Пресс-конференция продолжалась. Было задано много вопросов другим членам экспедиции. Спрашивали о целях, о планах, о самочувствии, об отношении к смерти и жизни. Спрашивали без конца, и было ясно, что люди Земли просто хотят еще немного побыть в обществе славных сынов своих и братьев, послушать их голоса, посмотреть на их родные для всех лица. Заканчивая пресс-конференцию, Георгий сказал: — Жаль, что вы, наши современники, не увидите результатов наших исследований. Огромная скорость звездолета, разрушая обычные представления о времени, перенесет нас в далекое будущее. Мы, если останемся в живых, встретим здесь, на Земле, незнакомых потомков, отделенных от настоящего тысячами лет. Но ведь первый и последний человек — это члены одного и того же великого человеческого рода, который бессмертен. Значит, наша обязанность — нести огненную эстафету знания сквозь мрак времени и пространства к бесконечности!.. Вылет был назначен на следующий день. Покинув друзей, Георгий поспешил к Марианне. Ее не было. Он связался по телевизофону с коттеджем ее родителей. Отец и мать Марианны не откликнулись. Георгий, волнуясь, помчался туда на лимузине. Старушка, прабабушка Марианны, сказала, что девушка не приезжала. Георгий вернулся к центральной площади, оставил там лимузин и зашел в сквер. Сев на скамью под навесом из вьющихся роз, он задумался. Целые сутки впереди… Он, космонавт, человек, решавший сложнейшие проблемы в невероятных условиях Космоса, глядевший в глаза любой опасности, не мог приказать сердцу: молчи! Почему? Разве не все решено? Разве разум не сказал свое последнее слово? Где-то в глубине сознания промелькнула мысль: «А знаешь ли ты, чьи решения истиннее — разума или сердца? То, что ты думаешь об этом, делает равноценным то и другое». Нет, лучше не думать! Загнать мысли в закоулки мозга, втиснуть их в тюрьму долга! Где же ты, дисциплина ума, воля, выдержка? Почему отказываешься подчиняться своему хозяину? Она ушла. Она не желает видеть его. Он и не мог ожидать ничего другого. Если бы не его эгоизм, можно было поставить себя на место Марианны. Посмотреть на все ее глазами. Как это невыносимо тяжело! Где ты, любимая? Я склонился бы перед тобою, попросил бы прощения. Но что ей до этого? Ему — стремление в беспредельность, а ей — прощание и пустота. Да, ведь она хоронит его! Как он не подумал об этом раньше! Она провожает его навсегда! Надо идти к людям. Быть может, это даст забытье. Забытье! Только оно нужно сейчас Георгию… Мимо проплывал открытый вертолет-автомат. Георгий остановил его, взбежал по откидной лестничке и бросился на мягкие подушки сиденья. Запел ветер, облака из далекой синевы летели навстречу. Ажурные купола Космограда уходили вниз, в волнах моря сверкали искры солнца, падающего за багровый горизонт…Прощание
Космодром находился в пятнадцати километрах от города. Оттуда должен стартовать звездолет «Разум». Семнадцать лет назад среди степных курганов заложили первые камни фундамента гигантского цеха. По вечерам было видно далеко в степи, как странное сооружение сияет, сверкает огнями сварки. Семнадцать лет шла напряженная работа многих тысяч ученых, инженеров, рабочих. И вот под сводами цеха вырос необычный аппарат, о котором заговорил весь мир. Звездолет подвергли испытанию в пределах солнечной системы. А теперь «Разум» готовился к старту в безвестные дали Вселенной — в иную Галактику. Многотысячные толпы людей осаждали ограду, теряя всякую выдержку. Всем хотелось попасть на поле космодрома, где возвышался звездолет, сверкавший в лучах солнца белыми спиралями. Но за ограду не пускали никого, даже родственников улетавших и представителей Мирового Совета Народов. Не было пышных речей, патетических слов. Говорили переполненные радостью и печалью сердца, любящие взгляды, крепкие рукопожатия. Недалеко от звездолета стояли девять космонавтов. Девять молодых ученых, добровольно уходящих от солнца, от цветов, от любимых, во тьму, в неведанное ради торжества знания. Георгий, поглядывая на друзей, боялся увидеть на их лицах тень страха или сомнений. Нет! Они спокойны и уверенны. Была, конечно, внутренняя борьба, были колебания, было страдание, как и у него, но победило высшее — чувство долга! Началось прощание. Мать Джон-Эя, сухонькая старушка, прижалась к своему единственному сыну, словно желая удержать его при себе навсегда. Не увидятся они больше, никогда уж не заглянет мать в суровые глаза своего Джон-Эя. И смотрит она на него так, словно провожает в могилу. Сердце материнское не хочет понять, что это прощание — ради других, далеких, тех, которые идут из небытия в ясный, построенный их предками мир. Орамил и Тавриндил, весело шутя, прощаются с возлюбленными своими, с сестрами, друзьями. Какие замечательные парни! Они, вероятно, даже смерть встретят с улыбкой. Вано одинок. У него нет родственников. Но и к нему тянутся сотни рук. Идя вдоль ограды, он крепко пожимает их своей громадной ручищей, целует девушек в сияющие глаза, отвечает на сердечные пожелания. В кругу веселых друзей — Антоний и Вильгельм. Их рыжие головы мелькают в вихре объятий. Взволнованы и растроганы самые молодые космонавты — Борислав и Бао Ли. Они ничем не знамениты, им кажется незаслуженным это чествование. Ведь они делают то, что, как они уверены, сделал бы каждый юноша, любая девушка на Земле… Георгий не видел, не слышал ничего. Глаза пытались увидеть кого-то, услышать в последний раз неповторимый голос. Хоть на один миг, на одно мгновение! Но Марианна не пришла. Она решительно оборвала связывавшую их нить. Что ж, пусть! Может быть, так лучше. Так надо. Георгий решительно вырвался из кольца провожающих, подошел к микрофону. — Друзья! — загремел его голос над полем космодрома. — Вылет через час. Оставаться вблизи стартового поля опасно. Я прошу всех покинуть зону космодрома. Прощайте, друзья! Вдали уже взлетали в воздух легкие вертолеты, по широкой автостраде плыл сплошной поток электромобилей. Толпа редела. На вышках беспрерывно вращались телекамеры, передавая в эфир все, что происходило вокруг. У основания звездолета открылся вход. Один за другим в нем исчезали космонавты. На поле остался только Георгий. Он с грустью оглянулся вокруг. Не пришла. Погасла последняя искра надежды. Ни прощального жеста рукой, ни прощального взгляда… Он посмотрел на хронометр. Четырнадцать часов сорок пять минут. Двадцать первое августа. Две тысячи пятьдесят восьмой год. Старт через пятнадцать минут. Георгий понуро побрел к звездолету, сутулясь, остановился у входа. Переступив возвышение, уже у самого люка, оглянулся в последний раз. Поле было пустынным. Над холмами кружились ястребы, высматривая добычу. На горизонте парила земля, казалось, будто там волнуется море. Далеко в голубом тумане темнели строения Космограда, ветер нес оттуда аромат цветов. Георгий глубоко вдохнул этот запах. Прощай, Земля. Прощай и ты, любимая. Ты не пришла, но прошлое со мною. Никто не отнимет у меня твой голос, твои глаза, твое дыхание. Он ступил шаг назад и резко нажал на рычаг пуска автоматов блокировки входа. С мощным выхлопом закрылась массивная дверь. Теперь космонавты были полностью изолированы от внешнего мира. Внутренним лифтом Георгий поднялся вверх, вошел в капитанскую каюту. За ним автоматически закрылась прозрачная дверь. За пультом в кресле рядом с командирским местом уже сидел Джон-Эй, первый помощник Георгия. Его худое лицо было невозмутимо, но в стальных глазах пламенел сдержанный огонь напряжения. — Все на местах, — сказал он. — Амортизация включена. До старта пять минут. Георгий молча занял свое кресло. Протянул руку к пульту. Справа вспыхнул стереоэкран. На нем появилось взволнованное лицо Горина. Он грустно улыбнулся, подбадривая, кивнул головой. — Что же сказать вам, сыны мои? — начал он. — Растерял все слова. Да они вам и не нужны. Вы ведь все сами понимаете. Помните одно. Вы улетаете в страшную даль, но пространство нас не разъединит. Ибо это не пустота. Это живой океан. И наши мысли, наши чувства будут с вами. Помните об этом. И еще. Знамя нашей цивилизации — человек. Это знамя мы тысячелетиями добывали в невероятных страданиях. Высоко держите это знамя. Вот и все, сыны мои. В путь. Наши потомки будут ждать вас. Вас… и знание, ради которого вы летите… — Мы будем помнить ваши слова, — тихо ответил Георгий, сдерживая волнение. — Прощайте, учитель… Экран погас. Наступила тревожная тишина. Лицо Джон-Эя окаменело, он неподвижным взглядом впился в перископ. Там, на ясно-голубом фоне неба, медленно плыло белое облачко. Казалось, оно посылает смельчакам последний прощальный привет Земли. Но вот облачко исчезло. Стрелка универсальных часов коснулась фатальной черты. По стенам каюты поплыли солнечные блики… Руки Георгия тяжело легли на командирский пульт.К неведомому
Тысячи телеобъективов и других средств наблюдения с далекого расстояния были направлены на космодром. Весь мир затаив дыхание взволнованно ожидал старта звездолета, на борту которого пламенело слово: «Разум». Глаза ученых, учителей, рабочих, поэтов, глаза миллионов людей следили за «Разумом». Они провожали его в беспредельный путь, как свое, взращенное тысячелетиями дитя. Ведь в этом корабле воплощалась мечта поколений, гений бесчисленных тружеников, известных и неизвестных, страстное желание человеческого духа разорвать цепи пространства и времени. И вот человечество посылает могучий луч своей мысли в Космос, передавая эстафету знания в грядущее. Даже наиболее упрямые скептики и те были уверены в успехе экспедиции, понимали ее огромное значение, сознавали исключительную смелость космонавтов, уходивших в другую эпоху. Невероятный план полета в антимир, этот потрясающий по своей дерзости эксперимент не удивлял никого. Чудесная конструкция звездолета предвещала успех. Его защитное поле, взаимодействуя с антивеществом в антимире, должно было заслонить корабль и людей и при спуске на антипланету в системе антизвезды Чужой… Плыли последние секунды. Мир затаил дыхание… Георгий и Джон-Эй переглянулись. Рука командира легла на рычажок пуска автоматов. На экранах забегали пульсирующие зигзаги сигналов. Наружный свет потускнел, в перископах замелькали едва заметные тени. Тяготение уменьшалось. Это вступило в действие защитное поле. — Старт, — прошептал Джон-Эй. Корабль вздрогнул. Послышался приглушенный гром. Тени в перископах поползли вниз. Вокруг расстилалась серая тьма, кое-где усеянная размытыми пятнами крупных звезд. Звездолет вышел в мировое пространство. Земля, люди, жизнь — все осталось позади, в ледяной бездне. Глухая боль в сердце Георгия утихла, образ Марианны превращался в сияющее воспоминание о прекрасном сновидении. Оно было, оно волновало. Но больше оно не вернется… «Разум» по заранее рассчитанной кривой прошел мимо внешних больших планет и направился в сторону Беги, где недавно появилась Чужая. Автоматы выключили поле. Роботы-помощники молниеносно произвели проверку курса звездолета, скорректировали программу. Георгий связался с центральной каютой и негромко сказал: — Друзья, первое испытание. Курс — на антизвезду. — Давай, давай! — послышался бархатный голос Вано, — Ты, друг, не волнуйся. Мы готовы!.. Георгий улыбнулся, кивнул Джон-Эю. Штурман включил систему защитного поля. Звездолет еле ощутимо задрожал, стремительно набирая скорость. «Разум» поглощал пространство, двигаясь теперь со скоростью в несколько биллионов километров в секунду. Впрочем, это не было механическое движение в обычном понимании. Это был совсем новый вид взаимодействия материальной системы с пространством — временем, — тайна, вырванная разумом человека из цепких рук природы. Так прошло несколько часов по собственному времени звездолета, затем вступили в действие автоматические тормоза. Мощные струи энергии замедляли полет звездолета, для которого перегрузки не были страшны, ибо влияние инерции почти полностью гасилось защитой поля… Космонавты волновались. Ведь сейчас наступит проверка земной науки. Их путешествие в антимир должно подтвердить теоретические расчеты человеческого разума. А кроме того, от успеха здесь зависит успех главного задания — полета в соседнюю Галактику. Джон-Эй выключил систему защитного поля. В перископах засверкало звездное небо. Впереди, на центральном экране, переливалась разноцветными огнями огромная Чужая. Гравиметры показали, что звездолет уже вступил во взаимодействие с полем тяготения антисистемы. Роботы-помощники манипулировали с телескопическими установками. Они подали условный знак. Командир и штурман посмотрели на загоревшиеся экраны обзора. Там четко вырисовывался диск антипланеты. — Здесь погибли товарищи, — прошептал Георгий. — Неужели Димитр не мог повернуть обратно? — печально спросил Джон-Эй. — Он слишком поздно обнаружил опасность. В пространстве вспыхнули яркие звездочки. Они окружили звездолет голубоватой короной. — Поле! — побледнев, крикнул Георгий. — Здесь микрометеориты! По команде штурмана автоматы снова включили защитное поле. Корона огня исчезла. Георгий вытер пот со лба, слабо улыбнулся. — Выдерживает поле! — Но впереди встреча с целыми океанами антиматерии, — возразил Джон-Эй. — Ничего, выдержим! Антипланета приближалась. Она была очень похожа на родную Землю. В ее голубой атмосфере плыли белые облака. Между ними угадывались очертания материков, кое-где под лучами антисолнца сверкали воды океана. — Странно, — задумчиво сказал Георгий. — Очень странно! Все похоже на обычную планету… и все иное. Чуждое, враждебное. Невероятно… Автоматы отметили огромный расход энергии в центральном реакторе. Звездолет входил в атмосферу, и защитное поле отражало теперь воздействие беспрерывного потока антиматерии. Лицо командира вытянулось. Напрягся каждый нерв. Отныне жизнь космонавтов была в полной зависимости от работы реактора. Мимо промелькнули тучи. Внизу открылась широкая панорама неведомой планеты. — Бао Ли, Вильгельм! — приказал Георгий. — Подготовьтесь к выходу. Нельзя терять ни секунды! — Есть! — прозвучал в динамике четкий ответ. «Разум», замедляя падение, опускался на берег океана. Вдали расстилались заросли странных красных деревьев, за ними сверкали в зеленоватом небе белые пики гор, а внизу катились высокие мрачные волны необъятного океана. Будто гигантский болид, сияя в лучах антизвезды, корабль Земли медленно опустился на скалистый берег и неподвижно замер в нескольких метрах от воды. Вокруг поднялись могучие вихри, вырывая с корнями высокие деревья, кроша скалы. Низкое мощное гудение прокатилось над океаном, замирая вдали. Космонавты прибыли в антимир…Антимир
Георгий и Джон-Эй не отводили глаз от экранов связи звездолета. Они видели, как Бао Ли и Вильгельм, облачившись в тяжелые скафандры, вошли в «черепаху», аппарат, сконструированный для пребывания в антимире, как захлопнулась дверь и невидимые потоки энергии приподняли «черепаху» над полом шлюза. — Мы готовы, — глухо прозвучал голос Вильгельма. — Будьте осторожны, друзья, — в последний раз предупредил Георгий. — А что с нами случится? — весело возразил Бао Ли. — Защита великолепная. А если что — увидите грандиозный фейерверк! — Глупая шутка! — угрюмо проворчал Джон-Эй. — Внимание! — скомандовал Георгий. На экранах кругового обзора появились пейзажи антипланеты. Медленно открылся люк звездолета. Из отверстия вырвалась мощная струя сжатого воздуха. Фонтан пламени с грохотом ринулся вперед, испепеляя заросли красных деревьев. Вслед за огненной тучей из люка выскользнула «черепаха». Она поплыла над берегом, выпустив впереди себя руки-клешни. Семь пар глаз внимательно наблюдали за манипуляциями аппарата. Георгий, сдерживая волнение и тревогу, поглядывал на универсальный хронометр. Защита в «черепахе» рассчитана лишь на десять минут. За это время надо успеть сделать все. Скорее, скорее! Почему они так медленно движутся? Или это только кажется так? Вот «черепаха» подошла вплотную к огромной глыбе. Руки-клешни обнимают ее со всех сторон излучателями, создавая защитное поле. Сейчас глыба лишится веса. Все идет прекрасно. Огромный камень поднимается вверх и падает в контейнер. Там он не будет взаимодействовать с веществом, сдерживаемый магнитным полем во взвешенном состоянии. Руки-клешни осторожно погружают контейнер в специальное гнездо. Вздох облегчения вырвался из груди космонавтов. Победа! Товарищи уже возвращаются к звездолету… И вдруг в корабль ворвались какие-то странные крики, шум толпы. Сердца космонавтов сжались в тревожном предчувствии. Что случилось? — Люди! — воскликнул Джон-Эй. — Гляди!.. В самом деле, из зарослей гигантских деревьев высыпали толпы человекоподобных существ. И это не были животные, лишенные разума. Высокого роста, двуногие, обросшие золотистым пухом, они были одеты в обрывки звериных шкур. Люди, первобытные дикари антимира… Они размахивали руками, что-то крича, окружили «черепаху» широким кольцом и пали на колени, кланяясь невиданному сооружению. — Они принимают «черепаху» за божество! — сказал упавшим голосом Джон-Эй. — Проклятие! — простонал Георгий. — В «черепахе» сейчас кончится энергия защиты! Время остановилось. Где выход? Что делать? Уничтожить дикарей? Двинуть «черепаху» прямо на них? Но ведь они люди! Разумные существа! Да. Это антимир. Все здесь чуждо, враждебно. Соприкосновение — смерть! Но эти дикари — носители разума! И рука Вильгельма, сидевшего за рулем «черепахи», не поднялась на людей. Минута растерянности, колебания… Стрелка хронометра, вздрогнув, коснулась последнего деления. В эфире послышался предсмертный крик Вильгельма: — Прощайте, друзья! В то же мгновение яркие голубые лучи ослепили космонавтов. Гигантские столбы огня вздыбились на том месте, где только что стояла «черепаха». Невероятной силы взрыв смел с берега все — камни, аппарат, дикарей, уничтожил заросли деревьев на много километров вокруг. «Разум» сорвало с места, раскаленный вихрь швырнул его в пространство. По пологой кривой звездолет начал падать в океан. Джо Эй ощупью нашел пульт управления, включил автоматы пуска. «Разум» окутался защитным полем, загремел, преодолевая силу инерции, и, пробив облака, вышел в Космос. Страшный антимир остался позади, диск планеты постепенно уменьшался на экране. …Спустя полчаса космонавты собрались в центральной каюте. Лица у всех были бледные, мрачные. Антоний беззвучно плакал, опустив голову на руки. Никто не утешал его, слишком тяжелой была неожиданная, непоправимая утрата. — Друзья, — сказал Георгий, — мы должны вернуться. Опыт кончился неудачей. Мы лишились защитного устройства, без которого невозможно повторить попытку. А раз нет антивещества, полет к соседней Галактике немыслим. Итак, назад, к Земле… — Нет, — послышался голос. Космонавты оглянулись, удивленные. На них смотрел Антоний. Его лицо уже было замкнутым, строгим, глаза сухие, покрасневшие. — Нет, сказал я, — повторил он. — По моему, нет нужды возвращаться на Землю. Есть еще выход. — Какой? — осторожно спросил Вано. — Ведь у нас имеется еще один контейнер для хранения антивещества? — Да, имеется, — ответил Георгий. — Но я не понимаю… Ах, вот оно что! Я понял тебя. Ты хочешь… — Да, командир. Надо закрепить контейнер снаружи, ввести звездолет в пояс антиастероидов, если они здесь есть, и… — …поймать большую глыбу, — подхватил обрадованно Джон-Эй. — Верно. Именно так я и подумал. Все одобрили смелое предложение. Несколько минут обсуждался дерзкий план. Уточнялись детали, проверялись расчеты. Роботы-помощники подтвердили наличие в системе антизвезды потока антиметеоров. Теперь все зависело от умения экипажа. Приняв решение, космонавты собрались в тесный круг и взялись за руки. Глядя на объемные фотографии погибших друзей, покачиваясь в ритм с мелодией, они запели простые слова песни «Гимна погибшим космонавтам»:Навстречу возлюбленному
Марианна всю ночь бродила по берегу моря — одинокая, печальная. Не думала, не вспоминала ничего. Все уже передумано, все решено. Остановить его она не могла, а если бы и могла — разве сделала бы это? Оставался один лишь выход — улететь вместе с ним. Ведь она инженер-энергетик и могла быть полезной в звездолете. Но Георгий решительно восстал против этого. Он не хотел быть исключением… а быть может, боялся за нее. И вот она ходит как тень… вдали от него, вдали от людей. Знала, что Георгий недоумевает, мучится… знала — и не могла решиться еще раз встретиться с ним перед вылетом. Почему? Просто вдали мука была менее ощутимой… Кончалась короткая летняя ночь. Над морем плыли нежные пряди туманов, таяли в теплом, ароматном воздухе. Под утро усталая девушка села на камень, долго смотрела на далекие созвездия, бледнеющие в лучах нового дня. «Вот так и мы, — подумала она. — Угаснем, как сон, как звезды, как детское воспоминание, а на нашем месте новые поколения зажгут светильники нового дня». А может быть, так надо? Может быть, напрасно она мучается и терзает сердце? Ведь ничего не изменится… Смешно. Разве можно приказать чувству? И есть ли что-либо значительнее чувства? Разум? Да. Разум… Но он разрушает счастье, ибо счастье — только в любви! Так, может быть, прочь разум? Зачем он, если уходит радость жизни? Марианна закрыла глаза, грустно улыбнулась. Хватит! Хватит этих никчемных и ненужных мыслей. Вот перед нею звездный путь в новые далекие миры. Мужественные сердца открывают его для грядущих поколений. Можно ли сейчас думать о себе? Сердце — на замок… Маленькие облачка на востоке запылали таким ясным багрянцем, что казалось — какие-то великаны там, на небосводе, разожгли гигантский костер. Потом ослепительные лучи солнца пронизали пространство и помчались прочь, в бесконечность, оставив сверкающую, торжественную дорогу на морской глади. Подул легкий ветерок. Море заволновалось. А на душе у Марианны воцарилось спокойствие. Сняв обувь, она босиком побрела по траве, усеянной серебристыми бусинками росы. Она направилась прямо к стартовому полю, лежавшему в семи километрах от моря. Там уже бурлила огромная толпа. Марианна поднялась на древний курган. Отсюда виден был аппарат, возвышавшийся над космодромом, видны были фигуры Георгия и других космонавтов. Но девушка решила ближе не подходить. Несколько томительных часов стояла неподвижно, изнывая от жары. Все выше поднималось солнце, ветер крепчал. Вот послышался голос Георгия, усиленный динамиками. Он предупреждал о старте. Толпа начала редеть, вертолеты тучей поплыли в сторону Космограда. Только теперь Марианна тронулась с места. Она в последний раз посмотрела на провожающих, на Георгия и вдруг засмеялась. — Какая же я глупая! — сказала она вслух и неожиданно запрыгала на одной ноге, как когда-то в детстве. Затем остановилась, смущенно оглянулась. Но поблизости никого не было, только горячий ветер шевелил серебристый ковыль на кургане. «Вот будет сюрприз!» — улыбнулась Марианна. Глаза ее заискрились, осунувшееся лицо покрылось румянцем. Она посмотрела на хронометр. Без пяти минут пятнадцать. Через пять минут старт! Марианна прилегла за камнем, впившись взглядом в звездолет. Сердце замерло. Плыли последние секунды. И вдруг аппарат потускнел, медленно превращаясь в подобие миража. Вокруг него появилось голубое сияние, похожее на туманную корону. «Включено защитное поле», — подумала Марианна. Мираж поплыл вверх. Вокруг загремело. Могучие потоки энергии взметнули голубую корону в сияющее небо. Страшный вихрь поднял тучи песка и пыли, прижал девушку к земле. В глазах потемнело. Все было кончено. Девушка поднялась, оглянулась. Умолкло далекое громыхание в небе, ветер уносил к морю тучи пыли. Над местом старта уже кружили вертолеты. Один пилот увидел Марианну, снизился к ней. — Вы были здесь во время старта? — испуганно спросил он, наклоняясь через борт открытой кабины. — Да, — спокойно ответила девушка. — Вы с ума сошли! Немедленно в больницу! — Не беспокойтесь! — засмеялась Марианна. — Ничего не случится. Она легко взбежала по лестнице, села рядом с пилотом и сказала: — Пожалуйста, проспект Цветов, двадцать семь. Пилот удивленно посмотрел на нее, но, не говоря ни слова, поднял машину в воздух. Марианна ушла в себя, замкнулась. Как-то подсознательно она ощущала, что вокруг струится теплый, пряный воздух, что внизу плывут бесконечные поля, буйные сады, цветущие улицы родного Космограда. Она не видела всего этого, ибо думала совсем о другом. Она решилась на невероятное. Говорила ли ее грусть о раскаянии? Нет, сто раз нет!.. Вертолет сел возле дома номер 27. Это был небольшой голубоватый коттедж, окруженный молодыми березками. Марианна сама когда-то посадила их, привозя саженцы из-за города. Девушка, простившись с пилотом, направилась к воротам. — Советую вам побывать в больнице! — крикнул он ей вдогонку. Марианна не ответила. Она вошла в дом, упала в изнеможении на широкую тахту и разрыдалась. Бабушка встревожилась, но, сколько ни расспрашивала внучку о причинах ее горя, так и не добилась ответа. Под вечер девушка сообщила в Киев, что оставляет работу. После этого Марианна не гуляла, не отдыхала ни одного часа. Дни и ночи она проводила возле универсального приемника, слушая сообщения Космоцентра. Она хотела знать все о судьбе «Разума». Наконец, спустя два месяца, пришла гравиограмма с далекой антизвезды. Мир узнал о трагедии на антипланете и о том, как удалось поймать антиастероид. Георгий передавал, что теперь у них достаточно антивещества. Они посылали привет людям Земли, прощались с ними и сообщали, что берут курс на Большое Магелланово Облако. На этом сообщение окончилось. Затуманенными от слез глазами Марианна посмотрела в последний раз на изображение возлюбленного, дрожавшее на экране. Вот оно потемнело, исчезло. Все… Девушка долго сидела неподвижно, спрятав лицо в ладони. Потом вытерла слезы и вышла из дома. Постояла, прижавшись к белокорой березке, будто прощалась с ней. На проспекте остановила вертолет, попросила доставить ее в Институт анабиоза. Широкие бульвары и улицы Космограда быстро промелькнули внизу. По ним плыли потоки людей, но девушка не видела их. Вертолет сел на крыше огромного сооружения, окруженного глухой стеной. Марианна вскочила с сиденья и побежала вниз, по широкой лестнице, покрытой мягким пушистым ковром. На первом этаже ей навстречу из-за стола поднялся полный пожилой мужчина в белом халате, с длинными седыми усами и добрыми светлыми глазами. — Что вам угодно? — приветливо спросил он. — Я читала, что вам нужны добровольцы… для опытов по анабиозу, — робко сказала девушка. — Вы хотите предложить… себя? — Да… — Для этого надо созвать совет института. Я сейчас… Он нажал кнопку на столе, набрал несколько цифр на диске с номерами. — А теперь пойдемте, — мягко сказал он, обращаясь к Марианне. Они пошли по светлому, широкому коридору. Сердце девушки замерло. Что она делает? Неужели все это свершится? Да. Марианну усадили в кресло с мягкими воздушными подушками. Она оглянулась. Сквозь матовые полупрозрачные двери проникал приятный свет. В комнате, кроме кресел, стола и вазона с голубыми цветами, каких Марианна никогда не видала, ничего не было. Девушку почему-то очень заинтересовали эти цветы. «Откуда они? — мучительно размышляла она. — Таких на Земле нет. Наверное, с другой планеты. Интересно было бы узнать…» Неслышно открылась дверь. Вошли еще несколько человек в белом одеянии. Они поздоровались с Марианной, сели вокруг. — Итак, — начала женщина, пристально глядя на девушку, — мы члены совета института. Нам дано право отбирать добровольцев для анабиоза. Вы это имели в виду? — Да, — еле слышно прошептала Марианна. Ее полные губы вздрогнули. — Я хочу перейти в будущие века… — Какой же срок вы избираете? — Я… не знаю… Врачи удивленно переглянулись. — Что это значит? — спросил усатый врач. — В чем, собственно, причина вашего желания уйти из нашего времени? Марианна подавила волнение, постепенно успокоилась. — Я невеста Георгия, — сказала она, — командира внегалактической экспедиции. Вы, вероятно, знаете его? — Кто же на Земле не знает Георгия? — тихо ответила женщина-врач. — Но почему вы не полетели с ним? — Это было невозможно. Я пыталась, но безуспешно. Да… Что я хотела сказать? Вот. Я люблю его. Но ведь мы никогда не встретимся, если я буду продолжать жить. Я не могу жить без него… и прошу… усыпить меня. И воскресить тогда, когда Георгий вернется с Большого Магелланова Облака. Женщина-врач слабо улыбнулась, сняла очки, протерла их: — Но ведь и нас тогда не будет. Вы же знаете, что экспедиция вернется не раньше чем через три тысячи лет… — Передайте мое завещание будущим поколениям врачей, — упрямо сказала Марианна. Седой врач пожал плечами, переглянулся со своими коллегами. — Но даже в состоянии анабиоза ваш организм не проживет так долго. Нет. Безусловно нет… Вот разве новые опыты?.. — Какие опыты? — Бесконечно долго хранить человеческое тело с жизнеспособной потенцией можно лишь в состоянии искусственной клинической смерти, но ведь… — Пусть будет смерть, — сказала Марианна. — Лишь бы дождаться его… Наступила тишина. Усатый врач поднялся и торжественно произнес: — Один из основных пунктов Великой Хартии Мира гласит: «Любое желание человека, если оно не противоречит разуму и не приносит вреда обществу, священно». Я согласен! Медленно встала женщина, положила руку на черноволосую голову Марианны. — В морально-этических заповедях Великой Хартии сказано: «Целесообразность любого действия, продиктованного подлинной человеческой любовью, не может ставиться под сомнение». Я согласна. К Марианне подошел высокий ученый, молчавший до сих пор. Его пристальный взор остановился на бледном лице девушки. — Вы хорошо обдумали свой шаг? — спросил он. — Да. — Может быть, это лишь порыв? Может быть, вы не совсем осознаете то, что вот теперь добровольно отказываетесь от солнца, цветов, друзей, родных и знакомых, от всего того, что называется жизнью? Может быть, вы забыли о том, что воскреснете в такое время, когда вокруг вас будут совершенно чужие люди, новые, далекие поколения? Марианна вспомнила разговор с Георгием на островке среди Днепра. В ее сознании всплыл его восторженный голос: «Пройдут тысячелетия. Земля объединится с иными мирами. Вся Галактика станет единым организмом, затем Метагалактика… и вся беспредельность. Ты понимаешь, Марианна? От Альфы — к Омеге! От первой капельки жизни — к бесконечности! Вот наш путь — путь разума. Нет, о какой же смерти можно говорить!» Марианна улыбнулась. Спасибо тебе, возлюбленный. Я слышу тебя, я понимаю тебя. Да, смерти нет! Есть только восхождение к истине. А это восхождение требует жертв и сил… Девушка ясным взором посмотрела на врачей, покачала головой: — В том мире я не буду несчастной. Там будет он, Георгий! И не чужие люди будут жить в том мире, а наши с вами потомки. Все. Я твердо решила… Ученый отступил назад, склонил голову и взволнованно произнес: — Я согласен. — Согласны, — подтвердили все члены совета. Марианна побледнела. Ее судьба была решена. Она уходила сквозь тьму времени навстречу возлюбленному…На границе Галактики
Проносились океаны времени. «Разум» останавливался во многих звездных сгущениях Галактики, проводил исследования цефеид, карликов, туманностей и планет. Фильмотеки звездолетапополнялись бесценной научной информацией. А космонавты по-прежнему жаждали главного — встречи с высокой цивилизацией. Но пока что этой встречи не было. Пока что они обнаруживали лишь планеты с примитивной жизнью — мыслящему существу здесь предстояло формироваться еще целые тысячелетия. Закончив исследования гравитации сверхтяжелой звезды, космонавты решили направиться к границам Галактики. Перелет в соседнюю Галактику был главным заданием Земли. Автоматы, получив программу, включили защитное поле. Звездное небо исчезло в перископах. Вокруг плыла серая мгла. «Разум», изолированный от сил мирового тяготения, начал набирать скорость. А впрочем, была ли это скорость? Точнейшие исследования, проведенные экспедицией, проливали новый свет на сущность движения со сверхсветовой скоростью. Аналитические автоматы показывали, что в силу вступают новые, неведомые на Земле законы взаимодействия вещества и поля. Грядущей науке предстояло расшифровать эти драгоценные сведения, накопленные экспедицией. Но сейчас было ясно одно: звездолет развивал скорость, которая превышала скорость света в миллионы раз. Георгий, борясь с головокружением, взглянул на Джон-Эя. Тот, как и раньше, сурово и спокойно смотрел на приборы, только по его худому лицу катились капли пота. Порой в перископах мелькали размытые светлые линии — следы звезд, вернее их полей. Некоторые из них проходили совсем близко от трассы звездолета. В эти мгновения приборы вспыхивали тревожным багровым светом, а лицо Георгия каменело. — При малейшем нарушении в защитном поле, — прошептал Джон-Эй, — нас разорвет гравитацией… Георгий не успел ответить. «Разум» тряхнуло с такой силой, что в глазах у космонавтов потемнело. — Полная защита! — прохрипел командир задыхаясь. Удары усилились, быстро нарастала температура. Послышались тревожные сигналы из центральной каюты: — Температура восемьдесят! Охлаждающая установка не помогает! — Люди теряют сознание! — Катастрофическая жара! И вдруг все переменилось. Исчезла невероятная тяжесть, установилась нормальная температура. Георгий, еще не придя в себя от потрясения, бросился к приборам. Они показывали, что звездолет невредим и продолжает полет между полями Галактики с нужной скоростью. Джон-Эй настроил роботов-помощников, чтобы они продемонстрировали работу приборов во время прохождения катастрофического участка. И перед космонавтами возникло изображение огромной красной звезды — она приближалась, заполняла весь экран. Штурман выключил проектор. — Все ясно, — сказал он. — Мы прошли сквозь фотосферу красного гиганта… Еще несколько минут — и поле не выдержало бы! — Что бы там ни было, — заключил Георгий, — нашему звездолету цены нет… Приборы показывали, что «Разум» вышел на границы Галактики. Автоматы начали торможение. Здесь предстояла последняя остановка перед рывком в Большое Магелланово Облако. Могучие потоки энергии, извергавшиеся в направлении полета корабля, замедляли его движение. Проходило удивительное время — короткое в звездолете, необъятное в окружающих системах. «Разум» летел уже с обычной крейсерской скоростью межзвездных кораблей. Джон-Эй выключил защитное поле. В перископах возник невиданный людьми Земли рисунок звезд. Они образовали гигантскую серебристую спираль, которая заполняла все небо. А впереди, на центральном экране, уже вырастала новая Галактика — Большое Магелланово Облако. Левее курса звездолета приветливо сиял красный диск одинокой звезды. Георгий довольно улыбнулся и, указав на нее Джон-Эю, сказал: — Это безусловно старая звезда. Если там есть планеты и жизнь, они достигли высокого уровня цивилизации. Мы исследуем эту систему. — Ты хочешь здесь остановиться? — Да. Это будет наша последняя остановка в пути к соседней Галактике. Здесь мы проведем некоторые исследования и проверим все наружные системы звездолета. После встречи с красным гигантом это необходимо сделать. Автоматы вновь получили указания замедлить молниеносный полет корабля…Мир красного карлика
Красная звезда увеличивалась. Она быстро вырастала на экране и наконец превратилась в багровый диск, который заполнил половину небосвода. Однако, несмотря на огромные видимые размеры звезды, радиацию она излучала слабую. Это отметили роботы-помощники. Звезда принадлежала к классу красных карликов. Послышались сигналы автоматов-радиотелескопов. Георгий включил экраны. На черном фоне показалась планета, затем вторая. Звезда имела два темных спутника. На каком же из них есть жизнь? Роботы-помощники по программе Джон-Эя производили расчет. Вскоре выяснилось: нормальная жизнь может быть лишь на ближайшей к светилу планете. Там достаточно тепла и кислород сохранился в довольно густой атмосфере. — Ты был прав, — произнес повеселевший Джон-Эй. — Я уверен, что здесь мы кое-кого встретим… — Тогда на посадку? — Да. Звездолет вошел в спираль снижения. Гравиметры показывали, что планета лишь в полтора раза массивнее Земли, поэтому вес на ней ненамного превышает нормальный. Из-за красноватых туч, застилавших поверхность планеты, выглянули небольшие водоемы, полосы растительности, темные пятна не то построек, не то развалин. «Разум» вошел в атмосферу и с пронзительным воем помчался над затененным полушарием нового мира. Сердце Георгия сжалось от смутного предчувствия. Чуждой и неприветливой показалась ему внизу, во тьме, поверхность планеты. Снова издалека появилась красная полоса — линия терминатора, а затем выплыл из-за горизонта диск угасающего светила. Непрерывно падавшая скорость звездолета снизилась до нуля — корабль повис над коричневой пустыней и медленно опустился на широкую равнину. В перископах пламенел кровавый рассвет. Где-то на горизонте темнели не то зубцы далеких гор, не то массивы дремучих лесов. Небо было темно-синим, и по нему быстро проносились багровые тучи, напоминавшие уродливые космы сказочного чудовища. На всем здесь лежал отпечаток неумолимой смерти, медленного угасания и какого-то необъяснимого ужаса. Георгий и Джон-Эй некоторое время угрюмо наблюдали в перископы безрадостные пейзажи чужого мира. Потом командир переглянулся со штурманом, пожал недоуменно плечами, сказал: — У меня складывается впечатление, будто здесь прошла какая-то адская, всепожирающая машина… Посмотри, мне кажется… это не натуральная пустыня… Джон-Эй сурово смотрел на равнину. И у него не лежала душа к этой планете, однако Георгию он сказал: — Может быть, это впечатление вызвано нашей усталостью после полета? Может быть, мы приземлились в невыгодном месте? Ведь во время снижения была видна растительность и сооружения. По-моему, необходимо исследовать планету. — Да, это верно. Не будем терять времени. Соберем товарищей. Приготовим экспедиции. Отдохнем — ив путь. Я останусь на звездолете, проверю все механизмы. Ты поможешь мне. Джон-Эй умоляюще посмотрел на командира: — Нет, Георгий, я пойду с друзьями. Мне очень хочется посмотреть этот мир. Да и, может быть, встретим кое-кого… — Вечный странник! — засмеялся командир. — На какой планете тебе ни приходилось бывать, ты, кажется, не упускал ни одного такого случая. Ну, так и быть, иди. А теперь — к друзьям… …После короткого совещания и отдыха космонавты приступили к сборке вездеходов. Несколько часов работы, — и рядом с кораблем выросли две мощные машины. Одна — закрытая, с надежной биологической и магнитной защитой, с передающими установками. В каюте появился Джон-Эй. Он был облачен в теплый защитный комбинезон. Георгий критически осмотрел его, сказал: — Захвати биомаску. Мы не знаем, какие здесь бактерии. То же сделать остальным. И еще… оружие… — Ты думаешь… — Не знаю, — уклончиво сказал Георгий. — На всякий случай. — Хорошо, — серьезно ответил штурман. — Мы возьмем… Георгий обнял товарища, крепко прижал к груди. И почему-то в сознании мелькнуло лицо Марианны; до боли родное, всегда волнующее. Видение было настолько реальным, что командир вздрогнул. — Что с тобой? — встревожился Джон-Эй. — Ничего, — прошептал Георгий. — Понимаешь… почему-то вспомнилась Марианна… и я увидел ее. Ты не будешь смеяться? Правда? — Нет, — ласково и грустно сказал Джон-Эй. — Я не буду смеяться, друг. Я понимаю… все… Но вспомни, что на Земле прошли уже тысячелетия. Нет никого из тех, кто провожал нас. Марианны тоже. Забудь о том, что было когда-то. Нам надо думать о будущем… Георгий закрыл глаза, помолчал. Покачал головой: — Нет… Нет. Ее не забыть никогда… Как бы стряхивая что-то, он выпрямился, ясным взором посмотрел на товарища: — Пора… Джон-Эй ушел. Красная звезда висела в зените. Георгий включил аппараты внешнего обзора. Возле звездолета появился Джон-Эй с группой товарищей. Снаружи до командира доносились тонкий вой ветра и приглушенный говор космонавтов. Послышалась команда Джон-Эя: — По машинам! Космонавты с радостью бросились к вездеходам. После долгого пребывания в звездолете хотелось новых впечатлений, разнообразия. Меньшую машину вел Борислав. С ним ехали Вано и Антоний. Орамил и Тавриндил отправились с Джон-Эем. Садясь в вездеходы, космонавты приветственно подняли руки, прощаясь с командиром. На их лицах поблескивали маски с огромными очками, на груди у каждого висели тяжелые излучатели. — Не унывай, командир! — закричал Вано. — Скоро вернемся с делегацией местных обитателей! Готовь закуску для гостей! — Счастливой дороги, друзья! — загремел ответ Георгия в динамиках машин. Вездеходы бесшумно тронулись с места, вздымая гусеницами густую рыжую пыль, уносимую ветром. Багровый диск звезды быстро садился за горизонт, освещая тусклым светом мрачный пейзаж. День был на исходе. Тревога охватывала душу Георгия. Он не мог понять, откуда она. Ведь ничего не случилось. Все в порядке… Командир сидел у пульта и смотрел, как исчезали в красной полутьме два вездехода, увозя товарищей навстречу неизвестности…Железное войско
Вездеходы ушли по разным направлениям: Борислав — на север, Джон-Эй — на восток. Штурман направился к отрогам горного хребта, видневшегося на горизонте. В той стороне он при снижении заметил какие-то сооружения. Джон-Эй и его спутники с удивлением и тревогой смотрели на простиравшуюся равнину. Среди рыжих песков кое-где виднелись остатки развалин и островки пепла. Угрюмое освещение звезды придавало всему какой-то зловещий характер. Космонавты молчали, подавленные непривычным пейзажем. Так прошло около часа. Вдруг Тавриндил коснулся руки штурмана, показал вперед: — Сооружение. Настоящее… и целое. Действительно, на горизонте появилось куполообразное строение, тускло поблескивавшее в лучах заката. Вездеход, вздымая гусеницами тучи песка, быстро приближался к странному зданию. Джон-Эй остановил машину. Моторы умолкли. И тогда ясно послышался вой ветра, выдувавшего грязную пыль из рыжих холмов. Эти звуки были неприятны и зловещи в наступившей тишине. — Да, это постройки разумных существ, — без всякого воодушевления произнес Джон-Эй. — Только не нравятся они мне… — И мне тоже, — пробормотал Тавриндил. — Пустыня, сожженная равнина… и вдруг это сооружение. Не идет ли здесь война?.. Штурман помолчал, размышляя. Затем решительно сказал: — Ждать нечего. Мы обязаны идти вперед. Для этого мы здесь. Тавриндил! Ты останешься, а мы с Орамилом пройдем пешком. Включи телескопическую связь. Захватив излучатели, космонавты вышли наружу. Дверцы вездехода захлопнулись с глухим стуком. Штурман и Орамил быстро зашагали к сооружению, на ходу обмениваясь мнением о загадочной планете. — Непонятно! — воскликнул астроном. — Огромная пустыня, усеянная пеплом и развалинами… и это гигантское сооружение. Одно свидетельствует о жестокости и безумстве, второе — об интеллекте и разуме! Какая-то загадка… Когда они уже были примерно в ста метрах от постройки, Джон-Эй замедлил шаг и дал знак остановиться. Его опять начало угнетать какое-то тяжелое предчувствие. Вдруг у основания куполообразного строения открылись черные люки. Орамил схватил штурмана за руку: — Что это? Джон-Эй не успел ответить. В наушники ворвался тревожный голос Георгия: — Товарищи! Назад! Опасность! Здесь враги! В ту же секунду из темных отверстий как бы выплыли сотни чудовищных существ. Да существ ли? Красная звезда, падая за горизонт, заливала багровыми лучами равнину, и путешественники ясно различали кровавые отблески на округлых металлических «телах». А может быть, это машины, в которых прятались разумные существа? Длинные ряды непонятных машин выстраивались перед сооружением — «ангаром». Космонавты неуверенно попятились назад. Снова издали донесся голос командира: — Они напали на машину Борислава! Бегите, друзья! В случае чего пускайте в ход оружие! Но не успели космонавты отбежать и десятка шагов, как огромная лавина машин колыхнулась и неслышно двинулась на них. Их полусферические тела будто плыли в ореоле мягкого сияния над пустыней, поддерживаемые в воздухе неведомой силой. — Это ужасно! — прошептал Джон-Эй. — Мы даже не знаем, с кем имеем дело… — Будьте осторожны, друзья!.. Будьте осторожны! — звучал издалека голос Георгия. Сердца космонавтов сжались в предчувствии беды. Непонятные адские машины неумолимо надвигались. Уже заметно было, как под их полупрозрачным покрытием спиралью переливается фиолетовая жидкость. Что за наваждение? Не более ста метров уже разделяло беглецов и преследователей. — Приготовить оружие! — приказал Джон-Эй. А железное войско все приближалось, охватывая кольцом медленно отступавших космонавтов…Битва
Проводив товарищей, Георгий задумался, глядя в туманную даль. Ему не нравилась эта планета, не по душе ему было все то, что он увидел, наблюдая ее из звездолета. Почему, он не мог сказать, но подсознательно возникшее чувство смутной тревоги его не оставляло. Медленно и томительно тянулось время ожидания. Обе группы сообщили, что вокруг все та же пустыня — ничего отрадного, ничего интересного пока не видно. Но вскоре началось что-то страшное. Борислав сообщил о встрече не то со странными машинами, не то с живыми существами, остановившими продвижение вездехода. То же самое подтвердил Джон-Эй. Попытки связаться с представителями этого мира оказались безуспешными. Георгий приказал отступить. Он включил телесвязь. Над пультом зажглись экраны. На них возникло изображение мрачной пустыни, над которой медленно, но неуклонно плыли лавины металлических чудовищ, окружая людей. В крайне тяжелом положении оказалась группа Джон-Эя. Между вездеходом этой группы и чудовищами осталось пространство метров в сто. Георгий видел двух людей на фоне целой армии страшилищ, и ему стало ясно, что товарищам не уйти. «Эх, если бы…» — подумал командир. И, словно приняв его мысль, Орамил решительно остановился и произнес: — Джон-Эй, я задержу их. Беги под защиту машины! — Нет! — воскликнул штурман. — Беги! — умоляюще повторил Орамил. — Ты штурман! Не забывай о задании Земли. Прощай, друг! — Благодарю тебя, брат! — крикнул командир. — Джон-Эй, приказываю уходить! После мгновенного колебания штурман, обняв товарища, побежал к вездеходу. Орамил остановился, приготовив тяжелый излучатель. Остановилось и железное войско. Но вот над средними машинами появились параболические антенны в зловеще алом сиянии. Георгий увидел это и понял, что сейчас что-то произойдет. — Орамил! Будь осторожен! — воскликнул он. Яркие фиолетовые молнии ударили с верхушек антенн. Орамил зашатался. Вскрикнув от боли, он опаленными руками поднял раструб излучателя. Невидимые концентрированные потоки энергии хлынули на центр металлической армии. Там, где они прошли, машины вспыхнули ярким пламенем, превращаясь в куски оплавленного металла. Фланги войска остановились. Но вдруг все машины ощетинились антеннами и ураган фиолетовых молний устремился к Орамилу. Георгий зажмурил глаза, ослепленный светом ярких лучей, а когда снова посмотрел на экран, то на песке пустыни, там, где только что стоял Орамил, чернела кучка пепла. Волна отчаяния захлестнула Георгия. Все пропало! Какая ужасная трагедия! Это не мыслящие существа, это не живые создания! Это какие-то демоны выползли на страшную равнину! А кольцо чудовищ уже замыкалось вокруг вездехода. Джон-Эй едва успел добежать до него и вскочить в открытые дверцы. Сильные руки Тавриндила подхватили тяжело дышавшего товарища. — Защиту! — прохрипел Джон-Эй. — На полную мощь! Излучение по чудовищам… и немедленно к звездолету! Тавриндил включил двигатели. Вездеход рванулся прочь от места схватки. Джон-Эй с отчаянием переключил почти всю энергию машины на излучатели. Стволы-рефлекторы нацелились на передовые ряды железного войска. Могучие лучи скользнули по чудовищам. Вспышка невероятной силы осветила пустыню. Горели в пламени взрывов сотни преследователей. Но из мрака выползали тысячи новых машин, продолжая преследование. Георгий, холодея от ужаса, посмотрел на второй экран. Там положение было не лучше. Железные армии полностью отрезали вездеход Борислава от звездолета. Эта машина не имела энергетической защиты, и ее участь была предрешена. Окаменевший от горя Георгий видел, как в потоках фиолетовых молний гибнут его товарищи. Видел, но ничего не мог сделать, ничем не мог им помочь. Его спутники превратились в пепел на далекой планете, за десятки тысяч парсеков и тысячи лет от родной Земли. А тем временем к звездолету приближался уцелевший вездеход, окруженный мощным полем защиты, и в нем были два космонавта, оставшиеся в живых. Их преследовала многотысячная армия железных чудовищ, обстреливая убежище людей потоками молний. Но страшные разряды не проникали сквозь невидимую броню вездехода. Джон-Эй, изнемогая от жары, оглядывался назад. Если поле не выдержит, тогда конец! Георгий останется один! Один во всей Вселенной! Наконец во мраке вырисовался силуэт звездолета. Внизу уже темнел вход, заблаговременно открытый Георгием. Вездеход, круто развернувшись, остановился. Туча пыли взметнулась над ним. В то же мгновение Джон-Эй ощутил адскую жару. Вездеход окутал океан фиолетового пламени. «Исчезло защитное поле!» — с ужасом подумал штурман. Резким движением он включил внешние излучатели. Вокруг загрохотало. Превозмогая страшную слабость, Джон-Эй открыл дверцу. — Скорее, Тавриндил! — крикнул он. Никто не откликнулся. В отблесках пламени штурман увидел открытые мертвые глаза астронома. Джон-Эй вывалился из вездехода и подполз к кораблю. Он уже почти ничего не слышал, не видел. Когда последний оставшийся в живых член экспедиции вполз в люк и вход за ним закрылся, все пространство пустыни озарилось пламенем фиолетовых разрядов. Бешеные потоки энергии ринулись на последний оплот людей. Но корабль уже был вне опасности. По команде Георгия автоматы включили защитное поле, отрезав корабль от внешнего мира. Затем голубая тень промелькнула среди багровых туч, унося двух космонавтов с планеты ужаса и смерти в бесконечные провалы Космоса…ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЦАРСТВО ЖЕЛЕЗНОГО ДИКТАТОРА
Большое Магелланово Облако
Открыв глаза, Джон-Эй увидел лицо Георгия, похудевшее, изможденное, с неподвижным, стеклянным взглядом. Командир, застыв, как изваяние, смотрел в пространство, где ярко сияли звезды Большого Магелланова Облака. В их призрачном освещении он был похож на мертвеца. Сознание вернулось к штурману, и ужасные картины трагедии мгновенно всплыли в его памяти с потрясающей четкостью. Он застонал от боли, тихо позвал: — Георгий… Командир молчал. — Георгий. Ты слышишь меня? Георгий приблизил к Джон-Эю свое лицо и, уставившись на штурмана обезумевшими глазами, прохрипел: — Что тебе? — Скажи… Георгий, это было?.. Или это сон? Георгий не ответил. Он уронил голову на пульт и зарыдал. Штурман печально смотрел на него, не утешал, не произносил ни слова. Он ждал. Он понимал, какие чувства обуревают командира, потерявшего в одно мгновение почти всех друзей. Шло время. Спокойно светились звезды в темном пространстве. Наконец штурман нарушил молчание: — Пора возвращаться, Георгий… Командир медленно повернулся к товарищу, посмотрел на него. Взгляд его был сух и суров. — Возвращаться? Куда? — На Землю… на родину, Георгий… — На Землю? — спросил командир. — А задание Земли? Мы разве выполнили его?.. — Задание? — горько усмехнулся Джон-Эй. — О каком ты задании говоришь… командир! Не о том ли, которое вдевятером не осилили? И ты вздумал выполнить теперь, когда нас осталось двое? Георгий выпрямился. В подернутых какой-то тенью голубых глазах сверкнула решительность, губы сжались в упрямую линию. — Нет! На Землю мы теперь не вернемся, Джон-Эй. Разве ты не чувствуешь, что сейчас на нас легла еще большая ответственность? И за себя… и за погибших! Нет! Мы выполним свой долг до конца!.. Понизив голос до шепота, он склонился к Джон-Эю и с мольбой посмотрел ему в глаза: — Я прошу тебя, Джон-Эй… Это моя единственная просьба. Я заклинаю тебя. Если кто-либо из нас погибнет, второй доведет все до конца. А если и второй должен будет… умереть, он даст задание автоматам. У нас накопились бесценные материалы по всему курсу, и звездолет должен вернуться с ними на Землю. Наша смерть… смерть друзей… труд многих тысяч людей, готовивших нашу экспедицию, — все это не должно пропасть даром. Джон-Эй крепко обнял Георгия, прижался к нему. Серые всегда суровые глаза штурмана мягко засветились. — Прости меня, Георгий, я говорил вовсе не то, что думал. Возможно, это было жестоко с моей, стороны, но я полагал, что тебя нужно было крепко встряхнуть и вывести из оцепенения. Но теперь я вижу, что ты стал прежним Георгием, и я счастлив. Я готов ко всему, друг мой… Снова были проведены расчеты, автоматы получили программу. Защитное поле окружило звездолет. Предстояло проскочить бездну, разделяющую две галактики. «Разум» задрожал, набирая скорость, пожирая биллионы километров в секунду. Где-то позади осталась страшная планета, на равнинах которой развеян пепел друзей. Невероятно! Непонятно! Чем оправдать эту смерть, как?.. Еле слышно пощелкивали приборы, спокойно мигали глазки роботов-помощников. Космонавты неподвижно лежали в креслах, погруженные в тяжелые думы. Наконец Джон-Эй произнес: — Что это было… как ты думаешь? — Не знаю… Во всяком случае, не живые существа… не люди. Наверное, какие-то аппараты, управляемые с далекого расстояния… или роботы. Иначе нельзя объяснить эту бессмысленную жестокость, это полное отсутствие страха… Конечно, это были машины… — Но ведь существа, создавшие машины столь высокой техники, должны отличаться не менее высоким интеллектом. Как же могут люди высокой цивилизации расправляться так беспощадно с другими людьми? Что, наконец, их толкает на это варварство? — Кто его знает? Кто нам об этом скажет? Да и наличие интеллекта ничего еще не значит. Вспомни историю Земли… Разве видные ученые не отдавали свой гений для создания орудий уничтожения? И здесь происходит то же самое. Ты видел пустыню? Ведь она не порождение катаклизма. Совершенно очевидно, что эта местность превратилась в пустыню после разыгравшихся здесь сражений. Они снова замолчали, осмысливая происшедшее. Так прошло несколько часов. И вот прозвучал сигнал контрольного робота. Защитное поле исчезло. В перископах засверкали такие яркие звезды, что стало больно глазам. «Разум» вошел в большое шарообразное скопление на границах Большого Магелланова Облака. Рядом во всем великолепии сияла родная Галактика, видимая под небольшим углом к экватору. В центре, где сосредоточились десятки миллиардов звезд, пылало сплошное сияющее пятно, прорезанное в нескольких местах полосами пылевой материи. В сторону уходили сияющие спирали, словно крылья сказочной птицы, устремленные в темные пропасти пространства. Космонавты обнялись, молча, без слов поздравляя друг друга. Затем, не сговариваясь, остановились перед фотографиями друзей, помещенными на стене левее пульта. Джон-Эй первым затянул охрипшим голосом «Гимн погибшим космонавтам». Георгий подхватил. Голоса двух одиноких людей зазвучали в тиши Космоса, за сотни тысяч световых лет от родины… Тем временем роботы-помощники провели необходимые исследования окружающих звезд. Они определяли возможность жизни в этих системах. Одна за другой отпадали близкие системы кратных звезд, цефеид, новых. Возле них высокоорганизованной жизни быть не могло. Наконец роботы отыскали то, что нужно. Космонавты, услышав сигнал, подошли к экранам. Роботы отметили голубую крупную звезду, вокруг которой вращались на больших расстояниях двадцать семь планет с огромным количеством спутников. Судя по данным анализатора, жизнь была возможна не менее чем на десяти планетах. Более близкие были лишены атмосферы. Сильная радиация голубого светила уничтожила газовые оболочки и превратила планеты в раскаленные мертвые миры. Разумная жизнь могла существовать только на планетах внешнего пояса. Космонавты с восторгом смотрели на гигантскую систему. Это было необыкновенно красивое зрелище. Вид голубой звезды в окружении двадцати семи планет и сотен спутников вызывал чувство восхищения. — Там безусловно обитают живые существа, — тихо произнес Георгий. — И они, должно быть, прекрасны, Джон-Эй… Штурман печально склонил голову. — Каким бы это счастьем было для наших друзей, будь они живы! Они так мечтали встретить новый, сказочный мир!.. Космонавты помолчали, как бы отдавая дань погибшим. Затем сели в кресла, приготовились к полету в систему голубой звезды… Субсветовая скорость звездолета была погашена. Автоматы направили его к пограничной планете, где предполагалась разумная жизнь. Началось торможение. И вдруг какая-то чудовищная сила подхватила звездолет и, как щепку, понесла в направлении планеты. Георгий и Джон-Эй, напрягая всю свою волю, пытались осмыслить происходящее. Они видели, что, увлекаемый неведомой силой, «Разум» летит навстречу катастрофе. Но что-то затуманивало их сознание и лишало воли к сопротивлению. Необъятный мрак надвинулся и поглотил их…Железный диктатор
Джон-Эй ощутил слабое, дуновение ветра. Глаза не открывались, он не мог поднять отяжелевшие, словно свинцом налитые веки. Послышался шорох. Казалось, над головою шумит листва деревьев. Где же он? Что с ним? Кто его перенес в лес? Кроме ветра, не слышно было никаких звуков. Безмолвие. Кто-то тихо застонал. Голос был знакомый, но, кому он принадлежит, Джон-Эй никак не мог вспомнить. Он решительно обо всем забыл, как это нередко случается с человеком, перенесшим тяжелую болезнь. И вдруг прошлое появилось из мрака забытья, точно вешние воды, прорвавшие запруду. Джон-Эй вспомнил все — их полет в бесконечность, неравный бой с чудовищными машинами, неожиданную и непонятную катастрофу в системе голубой звезды, наконец, падение звездолета. Но как они остались в живых? Неужели «Разум» не разбился? Неужели выручили автоматы? Но где тогда Георгий? Он должен быть в кресле справа. В кресле? Но ведь и он, Джон-Эй, не ощущает ни кресла, ни вообще атмосферы звездолета… Откуда эта струя воздуха? О, если бы поднять невыносимо тяжелые веки! Внезапно Джон-Эй почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Этот взгляд гипнотизировал его, заставляя подняться. И вот, преодолевая страшную тяжесть, штурман открыл глаза. Яркие лучи ослепили его. Он прикрыл глаза ладонью и далеко вверху увидел легкие перекрытия прозрачного купола. На бледном фоне неба пылал небольшой диск голубого солнца. Левее штурман увидел свой корабль — весь в ржавых пятнах. Превозмогая боль, Джон-Эй уперся руками об пол и медленно приподнялся. Рядом с ним лежал Георгий. Глаза командира были закрыты, но грудь слабо вздымалась. Значит, он жив… — Георгий, — тихонько позвал Джон-Эй. Веки Георгия вздрогнули, поднялись. Он с удивлением посмотрел на товарища, заметил звездолет и, недоумевая, оглянулся вокруг. — Что это значит? Ответа не было. Космонавты лежали в колоссальном помещении. Его прозрачный купол уходил ввысь по меньшей мере на полкилометра. Стены здания терялись в серебристом мареве. А прямо перед людьми торчал диковинный аппарат, очертаниями своими напоминавший срезанную сферу. Внутри аппарата, за его прозрачной оболочкой, дрожали фиолетовые спирали, а у основания поблескивали разноцветные огоньки. Верхушку сферы венчала параболическая антенна очень сложной конструкции. За этим аппаратом тянулись рядами тысячи полусфер, точь-в-точь таких же, как на той планете, где в борьбе с чудовищными машинами погибли пять их товарищей и только чудом спасся Джон-Эй. — Копия тех же машин, — прошептал Георгий. — Здесь, несомненно, какая-то связь. Но должна же быть и разумная сила, которая создает эти чудовища? Как бы отвечая на высказанную Георгием мысль, разноцветные огоньки у основания большой сферы вспыхнули ярче, и космонавты почувствовали, как безжалостная рука, проникая под черепную коробку, ворошит мозг холодными щупальцами. Это было ужасное, ни с чем не сравнимое ощущение. Георгию показалось, что в одно мгновение перед ним промелькнула вся его жизнь, все, что он пережил в детстве, юности и зрелом возрасте. Затем хаос видений исчез, затуманился. Чужая властная воля подняла людей с пола, поставила на ноги. Все было, как и раньше — прозрачный купол, яркое голубое солнце, звездолет и ряды неподвижных машин, — но что-то произошло. В большой сфере прекратилось мерцание спиралей, открылось черное отверстие, и раздался голос, сухой, металлический. Он произнес на земном языке: — Кто вы? Люди онемели от неожиданности. То, что машина говорила, не было чудом, через нее могли обращаться к ним разумные существа. Но откуда чудовище знает язык Земли? В сознании Георгия зародилось неясное предположение. Но не успело оно созреть, как послышался новый требовательный вопрос: — Кто вы? Вот ты, чье имя на твоем языке Георгий. Отвечай. — Кто спрашивает нас? — в свою очередь, спросил Георгий, придя в себя после первого замешательства. — Почему хозяева планеты скрываются от нас? — Я говорю с вами, я, который стоит перед вами! — вновь донеслось из пасти аппарата. — Отвечайте: кто вы? — Мы люди, — резко сказал командир. — Если вы понимаете наш язык, то поймете, что это значит! — Люди? — холодно переспросила машина. — Вы похожи на идею, породившую меня. — Какую идею? — удивился Джон-Эй. — Вот она, смотрите. С верхушки шара ударил тонкий луч, упавший на прозрачный, переливавшийся мягкими оттенками бледно-зеленый купол, который был расположен в углублении, метров за тридцать от них. За стенами купола на черном пьедестале в немом напряженном ожидании застыла фигура женщины тонкой, одухотворенной красоты. Изящную головку обрамляли пышные золотистые волосы. — Женщина, настоящая женщина Земли! — прошептал Джон-Эй. — Какое-то наваждение… — Что все это значит? — воскликнул потрясенный Георгий. — Почему женщина называется идеей? Кто говорит с нами? Где мы? — Слишком много вопросов, — нетерпеливо ответила машина. — Вы не научились экономить мысль. Я бы и не ответил вам, ничтожные порождения чуждого мира, но мне скучно. Я приглашаю вас к себе. Георгий протер глаза. Нет, это не сон. Бредовый мир действительно существует. Вот к людям подплыли две грибоподобные машины, выпустили щупальца, подхватили ими беспомощных космонавтов и через несколько секунд доставили в просторный подземный зал, залитый приятным зеленым светом. Машины исчезли. Вокруг росли диковинные бледно-розовые деревья, распространявшие удушливый аромат, напоминавший запах каких-то ягод. Глубоко вдохнув этот воздух, Джон-Эй закашлялся. — Такое впечатление, — пробормотал он, — будто меня окунули в густой, липкий сироп… — Тише! — прошептал Георгий. — Здесь кто-то есть. В конце длинного прохода, между рядами растений, космонавты заметили нечто вроде трона. На нем кто-то зашевелился, и послышался громкий голос: — Подойдите сюда! — Наконец-то! — обрадовался Георгий. — Наконец-то увидим если не человека, то, по крайней мере, разумное существо! — Не спеши радоваться, — угрюмо заметил Джон-Эй. Они приблизились к трону, с любопытством разглядывая того, кто на нем восседал. Это был человек иного мира, настоящий человек, но крайне отвратительной внешности, вызывавшей чувство брезгливости. Из-под широкого цветистого покрывала выглядывало коричневое морщинистое лицо. На нем уродливо выделялся крючковатый нос, подслеповатые глаза. По сторонам поблескивали пульты сложных агрегатов. Иссохшая рука урода лежала на диске с многочисленными непонятными знаками. Маленькие, слезливые глаза долго смотрели на космонавтов. Георгий тяжело вздохнул. Что за кошмар? Но вот уродец зашевелился. Открыл рот. И снова послышался могучий, металлический голос: — Вы хотели знать, где находитесь? Люди недоумевали. Неужели этот урод обладает таким высоким, чистым голосом? Но потом они поняли, что его речь может трансформироваться в переводных машинах. — Да, мы желаем знать все, — твердо ответил Георгий. — Кто вы? И куда мы попали? Послышался неприятный звук. Казалось, урод смеется. Его веки подымались и снова опускались. Из-под них выкатилась мутная слеза. Наконец раздался тот же мощный голос: — Скажу. Все скажу. Вы — в центре мироздания. Я — его хозяин. Я и мой железный диктатор, которого вы видели. Он говорит лишнее, его когда-то наделили некоторыми совсем ненужными качествами, но свои обязанности, мою волю он выполняет четко и безошибочно. Так вот. Когда-то на этой планете тоже бурлила никчемная жизнь. Борьба, мечты, стремления, поиски истины. Это был мир хаотических идей. А я — я понял единственно верный путь. Женщина, которую вы видели, выступила против меня. Но я победил. Я и мои друзья. Мы передали функции центрального управления планетой железному диктатору, наделив его способностями мыслить. И я стал выше всех. Я понял, что, по неизменному закону бесконечности, развитие всего сущего так или иначе должно прийти к машинам. На смену смертным существам — мелочным, непоследовательным и вздорным — придут мыслящие аппараты — бессмертные, с железной логикой, с безошибочной реакцией, — придут и покорят весь мир! — Но ты ведь не машина! — резко перебил его Джон-Эй. — Ты ведь умрешь! Урод разинул свой кривой, беззубый рот и исторг несколько неприятных гортанных звуков, выражавших, видимо, веселый смех. — Нет! Я не умру! Я бессмертен. Я и диктатор, мой верный слуга. Став хозяином планеты, я направил его разум во все концы пространства. Я уничтожу жизнь во всей Галактике, а затем перейду к другим мирам. Посмотрите на эту планету! Здесь царит только механический разум. Никакой борьбы, только точное выполнение моих велений! Я оставил в живых одно существо — женщину, которая создала диктатора. Она — олицетворение идеи, создавшей высшую форму разума, подчиняющегося истинной рациональности: истреблению призрачной биологической жизни. И, когда весь бесконечный Космос будет в моих руках, под моей пятой, я швырну эту бесконечность к ногам идеи… Да! Она не понимала этого… Но я докажу ей… В голосе урода зазвучали нотки горечи. Он опустил трясущуюся голову на грудь, тяжело вздохнул. Георгий, пользуясь паузой, удивленно спросил: — Но мир ведь бесконечен, следовательно, ты никогда не достигнешь своей цели! Урод с презрением посмотрел на космонавта. — Что ты знаешь о бесконечности? В моем распоряжении неограниченные возможности. Ты говорил о смерти? Для меня ее нет. Да, тело мое истлеет, но воля моя, желания мои воплотятся в диктаторе! Ха-ха! А захочу — он воссоздаст меня! Ты видел, как легко я притянул к планете твой звездолет, как уничтожил на границах Системы твой экипаж, как мгновенно изучил твой мозг и все его содержимое! Что, я вижу, — ты сомневаешься? Так знай же: и ты будешь стоять рядом с этой женщиной-идеей. Ты будешь стоять до тех пор, пока не исполнится моя воля, пока не будет уничтожена жизнь во всей Вселенной. Ха-ха! Мое могущество необъятно! Хотите, я вам это докажу. Посмотрите, а затем свершится то, что я сказал… Пораженные космонавты не смогли вымолвить ни слова. Да и времени для этого не было. Сзади появилась грибообразная машина. Она приблизилась к людям, остановилась над ними и выпустила свои щупальца-руки…Бой в воздухе
Щупальца схватили людей, подняли в воздух. Космонавты почувствовали, как могучая сила стремительно уносит их из подземелья. Мелькнули ряды растений… машины, огромный горб железного диктатора. Вот уже гигантский ангар внизу. Впереди засверкало необъятное пространство неба. Машина вынесла людей под открытое небо. Они сидели в каких-то креслах, поддерживаемые щупальцами. Внизу мелькали сферические и шарообразные строения. Под прозрачными покрытиями этих своеобразных помещений виднелись ряды станков, машин, аппаратов. Вокруг расстилались пески пустыни, обугленные пни деревьев, занесенные пылью развалины. — Сплошная пустыня, — прошептал Джон-Эй. — Ни одного деревца! Но куда же несет нас эта железная скотина? — Ты же слышал, — горько ответил Георгий. — Этот маньяк показывает нам свое могущество. — Как здешние носители разума могли докатиться до такого вырождения? — возмутился штурман. — Так может случиться повсюду. И это меня больше всего угнетает. Я не задумываясь отдал бы жизнь ради того, чтобы передать о случившемся на Землю. — На Землю? — Да… Диктатор, несомненно, могуч, но разум у него односторонний, и человечество безусловно могло бы уничтожить его страшную силу. Ряды строений кончились, внизу расстилалась мрачная пустыня, а вдали показались горы. Над самой высокой вершиной гор вздымалась колоссальная решетчатая башня, увенчанная рефлектором. Полусфера снизилась и полетела, над полувысохшей речкой, заросшей жалкой бледно-розовой растительностью. Вдруг Джон-Эй толкнул товарища. Георгий посмотрел на него. Штурман показывал на небольшую антенну машины, которая неизменно была направлена в одну сторону. Менялся курс грибообразного механизма, и тут же автоматически восстанавливалось направление антенны. — Это не случайно, — сказал штурман. — Совершенно очевидно, что антенна связывает нашу машину с диктатором. Надо сорвать антенну, и мы избавимся от диктатора. — Но что же можем мы сделать голыми руками? — Все равно, надо попытаться. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Глаза командира загорелись решимостью. Будь что будет! Внизу поплыли полосы фиолетовых мхов, появились старинные развалины, заросшие ползучими растениями. Космонавты переглянулись и мгновенно бросились на антенну. Она зашаталась под усилиями людей. Георгий ощутил, как мощный разряд парализует его руки, затуманивает сознание. — А-а-а! — дико вскричал Джон-Эй, остервенело ломая непрочную конструкцию антенны. Машина неуверенно закружилась над красными барханами, снова выровнялась. Проклиная все на свете, Георгий вложил в рывок последние силы и почувствовал, как вместе с обломками антенны и потерявшей управление машиной полетел вниз. Сознание работало четко. Удар — и тело, скользнув по склону бархана, покатилось в ложбину. Поднялась туча пыли, песок забил ему рот. Кашляя и отплевываясь, Георгий с трудом поднялся на ноги, оглянулся. Джон-Эй! Что с ним? Вот он, недалеко, и обезоруженная машина рядом с ним. Превозмогая боль в спине и ногах, командир бросился к товарищу. Джон-Эй не шевелился. Георгий прижался ухом к его груди — сердце штурмана билось. «Жив!» — облегченно вздохнул он. Но лицо космонавта посинело, а на виске темнело багровое пятно. Георгий подбежал к протекавшему рядом ручейку. Спустился по каменистому берегу к блестевшей зеленоватой воде и жадно припал к ней. Вода была холодная и приятная на вкус. Георгий намочил куртку, сорвал широкий алый листок какого-то неизвестного ему растения, свернул его воронкой и набрал воды. С этой драгоценной ношей он вернулся к товарищу, влил ему в рот освежающую жидкость, приложил мокрый рукав ко лбу. Эта операция отняла у него последние силы, и он тут же свалился рядом с товарищем. Закрыл глаза. В висках стучала кровь, в голове шумело и толпились хаотичные мысли. Вокруг чуждый мир, чужая планета, машины и ни одного живого существа. Бледное небо и ослепительное солнце. Когда же кончится этот тяжелый кошмар? Шелест ветра нарушил тишину. С вершины бархана посыпался песок, зашуршал. Больно впился в тело толстый белый листок с шипами. Георгий открыл глаза, посмотрел на Джон-Эя. Товарищ дышал глубже, на лице появился румянец. Надо уходить, не то их настигнет погоня, которую урод не замедлит выслать. Он затормошил штурмана: — Джон-Эй! Вставай! Слышишь? Штурман открыл глаза, застонал. Увидев Георгия, болезненно улыбнулся: — Живы? — Живы, друг. Надо уходить! — Да, понимаю… Помоги мне. Георгий подхватил товарища, помог ему встать. По дну овражка, не подымаясь на барханы, космонавты побрели к развалинам. Здесь, среди руин, в поисках укрытия, они наткнулись на темно-зеленую стену какого-то ромбического сооружения. У основания стены зияла большая дыра. Все вокруг было покрыто мхом и травой светлых тонов. Космонавты осторожно пролезли в дыру. На черном полу виднелись островки рыжего песка. В промежутках, там, где пол не был покрыт песком, можно было заметить тонкий узор. Тут царил полумрак, ощущалось дыхание прохлады. Георгий сел на обломок стены. — Ну, что будем делать, штурман? — Бороться! — твердо ответил Джон-Эй. — Бороться? Как? — Не знаю. Надо подумать. Может быть, нам удастся забраться в ангар диктатора… Может быть… Он не успел договорить. Снаружи послышался пронзительный свист. Штурман побледнел. — Что это? — прошептал Георгий. — Они… Погоня… В провалах стен промелькнули сверкающие полусферы. Георгий схватил товарища за руку и устремился вглубь помещения. Там они замерли, обессилевшие, уставшие, беспомощные, лишенные малейшей надежды на спасение. Сейчас полусферы нащупают их локаторами — и тогда опять плен… Вдруг часть стены, к которой они прижались, сдвинулась в сторону, за нею открылось черное отверстие. Несколько человекоподобных существ, вынырнувших из-под земли, схватили людей и потащили их вниз. Стена вернулась на прежнее место, закрыв отверстие. Стало темно. А неизвестные существа молча, мягко, но властно повели Георгия и Джон-Эя по невидимым переходам куда-то в глубь планеты…Неожиданные союзники
Впереди посветлело. Темная пещера перешла в широкий коридор. К потолку коридора были подвешены голубые шары, из которых струился мягкий свет. Космонавтов окружила толпа настоящих людей, высоких, могучего сложения, с красивыми лицами смугло-розового цвета. — Они похожи на женщину под куполом, — прошептал Джон-Эй. — Они принадлежат к одной расе, — ответил командир. — Но я не могу понять, что здесь происходит. Люди под землей. Значит, они скрываются от диктатора. Посмотри, друг… здесь есть освещение, следовательно, и техника… Джон-Эй не успел ответить. Один из тех, кто привел их в подземелье, молодой, высокий, с приветливым лицом, поклонившись, указал им на боковой вход. В его ясных глазах светилась тревога и в то же время удивление. Толпа с интересом рассматривала пришельцев, живо переговариваясь на музыкальном, звонком языке. Космонавты последовали за проводником и очутились в большом помещении. Половину его занимало какое-то оборудование, покрытое прозрачными куполами. Стены и пол были черные. С потолка струился неяркий свет. В конце зала их встретил согбенный старик. Он стоял возле стола, заваленного чертежами, и с удивлением смотрел на прибывших. Морщинистое лицо старика указывало на его почтенный возраст, но взор сиял молодостью и энергией. Старик произнес несколько слов. Проводник подал пришельцам стулья — низенькие, глубокие. Георгий и Джон-Эй сели, переглянулись. — Кто он? — вырвалось у Джон-Эя. — Ученый, вождь или правитель?.. Георгий молчал. Старик ткнул себя пальцем в грудь, и с уст его слетела серебристая фраза: — Ио-тинаас. Ио. — Ио — это, видимо, его имя, — сказал Георгий, обращаясь к Джон-Эю. Старик обрадованно закивал головой, притронулся к каждому из гостей и вопросительно на них посмотрел. Космонавты назвали свои имена. Ио очень старательно повторил их, прислушиваясь к звучанию чужих слов. Затем, не поворачиваясь, потянулся к маленькому пульту, нажал на кнопку. Свет погас. Влево от космонавтов загорелся розовый прямоугольник. На нем появилось изображение планеты, плывущей в пространстве, среди звезд. Ио указал на планету и произнес: — Лоо-праа. Планету сменила голубая звезда. Ио указал на нее и сказал: — Сии-нее. Показав таким образом несколько изображений и назвав их на своем языке, он повторил демонстрацию тех же изображений и ткнул пальцем в грудь Георгия. — Он просит, чтобы ты назвал эти изображения на нашем языке, — заметил Джон-Эй. — Но зачем это ему? — Они наши союзники, — возразил Георгий. — Чем скорее мы поймем друг друга, тем лучше… Ио ждал, пока гости поговорят. Но вот Георгий повернулся к экрану и начал называть появлявшиеся на нем предметы. Так продолжалось долго. Георгия сменил Джон-Эй. А старый Ио просил людей Земли называть всё новые и новые понятия, неутомимо показывая им сотни и сотни различных предметов, рисунков, изображений. Наконец космонавты так устали, что уже не в силах были говорить. Страшная сонливость навалилась на них, смыкая глаза. Ио заметил это и погасил свет. В наступившей темноте люди Земли мгновенно уснули… Очнулись они в тех же креслах. Голубой свет лился отовсюду. Перед ними сидел Ио и ласково улыбался. На маленьком столике стояли две черные тарелки с какими-то желтыми продолговатыми плодами, похожими на аккуратно нарезанные ломти ноздреватого сыра. — Что это? — удивился Джон-Эй. — Вероятно, еда, — сказал Георгий, понюхав. — Пахнет приятно. Во всяком случае, отказываться не следует… Они жадно принялись за еду. Пища оказалась очень вкусной и сытной. Космонавты тут же ощутили ее благотворное воздействие — прояснилось сознание, во всем теле появилась бодрость. Подкрепившись, люди Земли вопросительно посмотрели на Ио. Старик улыбнулся, включил какой-то аппарат и продиктовал несколько слов. Из динамика, рядом с космонавтами, прозвучали земные слова, правда с необычным акцентом. — Привет вам, братья… Космонавты не удивились. Они поняли, что Ио специально записывал земные понятия, чтобы разговаривать с помощью переводных машин. Они ответили старику приветствием, поблагодарили за спасение. — Кто вы, братья? — спросил Ио. — С какой планеты? — Планеты? — усмехнулся Георгий. — Мы с иной Галактики. Старик застыл, пораженный. — Вы храбрые люди, — промолвил он. — Преодолеть звездную бездну ради знания! Это поразительно. Но что же случилось с вами? Где ваш звездолет? — Там. В сооружении диктатора, — угрюмо ответил Георгий. — Я так и подумал, — склонил голову старик. — Мы тоже жертвы железного диктатора. — Но ведь ваша раса создала его! — резко воскликнул Джон-Эй. — И теперь целый мир уничтожен этим чудовищем! Георгий бросил на товарища укоризненный взгляд. Но Ио не обиделся. Грустно посмотрев на гостей, он сказал: — Это верно. Я отчасти тоже виноват. Я помогал конструктору этой дьявольской машины… — Конструктор — женщина? — живо спросил Георгий. — Да, — с удивлением ответил Ио. — Но откуда это вам известно? — Мы видели ее… — Где? — В помещении диктатора… Георгий рассказал обо всем, что произошло с ними. О полете между галактиками, о битве на сожженной планете, о живом изваянии, очевидно, усыпленной женщины, которую они увидели на пьедестале под куполом в помещении диктатора, о разговоре с чудовищным маньяком. Старый ученый, выслушав рассказ Георгия, закрыл руками лицо и заплакал. Люди с Земли с волнением смотрели на него. — Простите мою слабость. Старость… вот и не выдержал. Эта женщина — мой учитель. Ее имя Сиой, что значит Заря… Она была самым выдающимся ученым нашей системы. Все одиннадцать населенных планет голубого солнца преклонялись перед ее умом. Человек, которого вы видели, — Ро, был помощником Сиой. Но вот что произошло с нею и со всеми нами. Это случилось девяносто лет назад… Космонавты затаив дыхание слушали страшную повесть о судьбе гигантской системы. Все в этом рассказе было невероятно, противоестественно. Беда свалилась на людей неожиданно. Сиой сконструировала центр управления автоматикой планеты. Это была сложная квантовая машина, наделенная зачатками механического мышления. Благодаря конструкции Сиой обитатели этого мира освобождались от трудоемкой умственной работы, как считали — выходили на светлую дорогу прогресса. И вот Ро предложил Сиой передать машине все функции мышления. Он утверждал, что после этого наступит золотой век, тысячелетия отдыха. Сиой была против опасного проекта. Она считала, что величайшая радость для человека — это мышление, возможность мечтать и осуществлять свои мечты. Тогда Ро пошел на преступление. С группой ученых, его единомышленников, он самовольно изменил конструкцию управляющего центра, придав ему функции универсального мышления. Машине были подчинены вся индустрия и энергетика планеты. Сиой обратилась к общественности мира. Объединение народов потребовало отстранения Ро от работ в области автоматики. Но… тут-то и произошло самое страшное. Ро пустил в ход огромную армию универсальных полусфер — машин, подчиненных агрегату управления. Человечество было уничтожено. Только небольшая часть ушла под землю. Ро и его единомышленники стали властителями мира. Так появился диктатор. — Постепенно каста властителей выродилась. Безделье, разврат, никчемная жизнь привели их к гибели. Теперь в живых остался один лишь Ро, которого вы видели. И еще… Сиой. Бедная Сиой! Я знаю, Ро любил ее… Поэтому она сохранена в состоянии анабиоза. Весь мир пал перед волей проклятой машины!.. — Не весь, — возразил Георгий. — Разве мы прилетели не из свободной Галактики? — Но что вы можете сделать? — покачал головою Ио. — Своей планете сообщить ничего не сможете, сами же беспомощны… — Но почему вы ничего не делаете? Разве вы совсем безоружны! Я вижу, у вас аппараты, электричество… У вас есть энергия и знание! Ио поднял руку, тихо ответил: — Не все сразу. Мы давно готовимся к борьбе. Но для этого нужны сотни лет. Мы не имеем права повторять ошибки… — Но ведь вы умрете раньше, чем это случится! И не только вы, а и все, кто живет здесь! — Пусть, — спокойно ответил старик, — зато наши потомки будут свободны. — Сотни лет… — угрюмо произнес Джон-Эй. — Нам тоже придется сгнить в этих пещерах… А тем временем железное чудовище уничтожит еще множество миров… — Не о нас речь, — сурово прервал Георгий. — Главное — сообщить на Землю. Мы обязаны вернуться туда живыми или мертвыми… — Глядя в лицо старику, командир спросил: — Неужели не найдутся смельчаки… чтобы попытаться сейчас? Ио с удивлением поднял взор на человека Земли, увидел отважный блеск его синих глаз. Уверенная сила человека Земли, его мужество поколебали старика, заставили задуматься. Он долго молчал, наконец произнес: — Я догадываюсь, о чем ты думаешь, пришелец. Тебе нужно улететь на родину. Ну что ж, попробуем тебе помочь. Для этого необходимо одновременно уничтожить несколько энергетических антенн в горах Вио-литта, которые являются главными источниками энергии диктатора. Это выведет его из строя, хотя бы на короткий срок. Без приказов диктатора машины мертвы, неподвижны. Вы тем временем успели бы стартовать, если, разумеется, сумеете в нужный момент пробраться в ангар… Космонавты торжествующе переглянулись. Джон-Эй в порыве радости крепко пожал старику руку. Ио грустно, ласково кивнул: — Не надо благодарности. Еще ничего не сделано. Он поднялся с кресла, открыл дверь и кого-то позвал. В зал вошли трое юношей. Голубая одежда плотно облегала их стройные, прекрасные тела. Они сдержанно поклонились гостям, подошли к Ио и остановились перед ним. — Сыны мои, — тихо начал старик, — вы не знаете, не видели того прекрасного мира, который расцветал здесь до вашего рождения. Вы родились в мрачных подземельях, под гнетом страшного диктатора. Но такая жизнь недостойна человека. Мы готовимся к борьбе за выход к свету. Но к нам попали друзья из далекого мира. Они должны улететь на родину, чтобы сообщить страшную весть своим мирам. Мы обязаны им помочь. Нужны храбрые и мужественные сердца. Быть может, нам удастся и сейчас… Кто знает? И тогда, сыны мои… дети наши будут рождаться под благословенным голубым солнцем, а не в темных пещерах, где тяжело дышать… Высокий плечистый юноша выступил вперед. Огненные волосы осеняли его открытое лицо, горячие черные глаза метали молнии. Он сказал: — Отец! Что надо делать и когда? Мы готовы… …Неудача
Космонавты пробирались глубокими ущельями к резиденции диктатора. Их вел юноша, один из сыновей Ио. Другие уже, наверное, находились в горах Вио-литта, пробираясь к антеннам. В точно назначенный час, когда на небе появится диск спутника планеты Мани-оо, они взорвут энергетические башни, а проводник людей Земли разрушит часть покрытия в ангаре диктатора. Георгий и Джон-Эй проберутся в это время к звездолету, а если обстановка позволит, то уничтожат и самого диктатора. Ярко сияли звезды на красноватом небе, призрачные тени людей мелькали в песчаных барханах. Где-то вдали мигали лучи света. Там, вероятно, работали какие-то агрегаты. Наконец юноша остановился. Космонавты увидели прозрачную крышу ангара, где находился диктатор. Юноша приник к земле и знаком показал космонавтам, что и им следует лечь. Они ползли между скалами, осторожно передвигая впереди себя цилиндр со взрывчаткой. Недалеко от ангара юноша протянул руки в сторону людей Земли и что-то тихо произнес, сделав прощальный жест рукой. — Имя? Как звать тебя? — прошептал Джон-Эй. Юноша недоумевающе пожал плечами и беспомощно развел руки. — Ты забыл, что здесь нет переводной машины, — заметил Георгий. Юноша исчез между скалами. На горизонте посветлело. По небу поплыли серебристые облака. Затем выкатился огромный бледно-зеленый диск Мани-оо, спутника планеты. Сердца людей забились сильнее. В то же мгновение глухой взрыв потряс почву. Яркое сияние озарило небосвод и тут же погасло. Темная туча набежала на диск Мани-оо, закрыла его. Георгий судорожно сжал руку Джон-Эя. Недалеко грохнул другой взрыв, после которого на землю обрушился каменный дождь. Космонавты вскочили на ноги и стремительно бросились к ангару. Навстречу им полз, извиваясь в пыли, юноша. Лицо его было в крови, глаза закрывались. Он что-то сказал на своем певучем языке и, повелительно указав на ангар, рухнул на землю. — Прощай, друг, — тихо сказал Джон-Эй, и они устремились к пробоине, которая темнела в стене сооружения. Вбежав в помещение, они в свете звезд увидели силуэт «Разума», окруженный рядами машин, горб диктатора. В ангаре царила мертвая тишина. — Скорее взрывчатку! — крикнул Георгий. — Пока нет энергии, все эти адские машины не страшны! Космонавты подбежали к диктатору, готовясь взорвать его. Но вдруг вспыхнуло пламя, озарившее помещение ярким светом, на антенне диктатора засверкали искры, его оболочка заиграла разноцветными огоньками. Люди застыли — парализованные, безвольные. Туман надвинулся на них, и они, потеряв сознание, провалились в бездну. Когда очнулись, помещение заливал свет яркого дня. Перед космонавтами по-прежнему торчал зловещий шар диктатора, окруженный бесчисленными рядами механических слуг. — Вот и все, — еле слышно прошептал Джон-Эй. Рядом с диктатором что-то зашевелилось. От него отделилась и направилась к ним горбатая фигура Ро. Черный рот урода растянулся в торжествующую улыбку. Затем из перекосившейся пасти проскрежетали слова: — С кем пытались вы бороться, безумцы? Глядите! Яркий свет дня погас, и перед космонавтами возникла широкая панорама страшного мира машин. Автоматы добывали в подземельях руду, из которой тут же выплавлялся металл, автоматы изготовляли всевозможные детали, конструировали новые машины, новые образцы смертоносного оружия, управляли энергетическими станциями. Без конца автоматы, автоматы, автоматы! И все они подчинялись единой воле — приказам железного диктатора, действовавшего по программе, которую задавал ему Ро. Космонавты увидели, как полчища чудовищных боевых машин отправлялись на звездолетах, во многом превосходивших по совершенству все известные системы, в космические просторы, обрушивались на планеты и жестоко, бессмысленно, методично сметали все на своем пути. И повсюду эти армии сопровождала и направляла холодная, неумолимая воля диктатора. Георгий застонал. Так вот что ждет планеты во всей Вселенной! Вот какое будущее готовит им диктатор! Ни одного живого существа, ни единого кустика или травки! Только машины, только автоматы! И снова вспыхнул свет дня. «Наверное, чудесным был этот мир до воцарения здесь машин», — подумал с тоской Георгий. Его мысли прервал холодный голос Ро: — Довольно. Надеюсь, вы уже убедились, сколь бессмысленно бороться со мною. А теперь для тебя исчезнет настоящее. Ты восстанешь в мире грядущего только тогда, когда вся Вселенная падет к моим ногам! Джон-Эй с ужасом увидел, как из глубины помещения поднялись в воздух два аппарата угловатой формы, подплыли к Георгию. Командир успел только протянуть руки к другу, крикнуть: — Прощай, Джон-Эй! Механические руки подняли его в воздух, понесли к прозрачному колпаку, под которым на пьедестале стояла золотоволосая женщина, и опустили рядом с нею. Глаза Георгия еще были открыты, но он уже не шевелился. Космонавт застыл с выражением немого укора во взгляде, устремленном вдаль, к сияющему голубому солнцу. — А тебя, имя которого Джон-Эй, — сказал Ро, — я не уничтожу. Нет! Тебя я отпущу в Космос. Штурман, как в забытьи, смотрел на Георгия, не мог оторвать от него глаз. Объятый ужасом, он не то не понял, не то не расслышал, что ему сказал Ро. Джон-Эй медленно повернул голову в сторону урода и взглядом, полным ненависти, окинул чудовище…ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОДИН СРЕДИ ЗВЕЗД
Посланец в бесконечность
Перед глазами Джон-Эя поплыли разноцветные круги, как бы издалека до него доносились жесткие, замораживающие разум слова Ро: — Я дарю тебе жизнь, жалкий микроб! Вот твой звездолет — лети к себе домой, если сможешь! И пусть вместе с тобою летит весть о том, что во все концы Вселенной придет воля всемогущего диктатора. Не нужны будут знания, законы, интеллект. На смену всему придет мир бессмертных машин, подчиняющихся чистому разуму! Иди и помни, что я сказал! Проговорив это, Ро исчез. Вновь заструилось сияние фиолетовых спиралей. Джон-Эй беспомощно оглянулся. Увидел звездолет. Ему разрешено улететь? Он ничего не понимал. Джон-Эй попытался было направиться к «Разуму», но ноги не повиновались. К нему подплыли машины, те, которые унесли Георгия, подхватили под руки и потащили к звездолету. Скорее! Пусть скорее кончается кошмар! Нет, это не кошмар! Джон-Эй явственно ощущал прикосновение механических рук. Штурман повернул голову в сторону Георгия, который неподвижно стоял рядом с прекрасной женщиной — творцом железного диктатора. Прощай, друг! Прощай, командир! Машины бросили Джон-Эя в люк звездолета, вернулись на место. Люк автоматически закрылся. И тогда ярость закипела в сердце космонавта. Он быстро поднялся в каюту управления, бросился к пульту. Сейчас — возмездие! Он уничтожит излучением проклятого диктатора, чудовище Ро, все это скопище машин! Джон-Эй включил экраны обзора. Но что это? Вокруг звездное небо, планета далеко внизу, и даже голубая звезда — солнце Системы — быстро удаляется, тает во мраке Космоса. Что это значит? Ведь двигатели не включены! Но тут же в перископах появились какие-то летательные аппараты, которые отваливали от корпуса «Разума». Джон-Эй понял все. Ро предусмотрительно удалил звездолет из пределов своей планеты. Это сделали его слуги — летательные аппараты. Внезапно штурмана сковало состояние прострации. Почти ничего не осознавая, он потянулся к пульту. Звездолет задрожал — в бешеном ритме заработали двигатели…Бездна
Уходили секунды, годы, столетия. Для бесконечности это не имело никакого значения. Где-то во Вселенной летел корабль — металлическая коробка с полумертвым человеком внутри. Загорались во мраке и снова угасали галактики — огромные звездные системы; на белых спиралях «Разума» мерцали лучи пролетающих звезд, таяли позади шлейфы гигантских газовых туманностей. Так было долго, очень долго. А Джон-Эй лежал неподвижно в кресле, склонившись на пульт. Глаза его были закрыты, челюсти крепко сжаты. Действительность проходила мимо сознания. Но вот Джон-Эй раскрыл глаза. Долго не мог понять, где он. Недоумевающе смотрел на пустое место командира. Потом его взгляд упал на фотографии друзей на стене каюты. Ему показалось, что глаза Георгия сверкнули веселой улыбкой. И штурман вспомнил все… Вспомнил клятву, которую взял с него Георгий, когда их осталось двое, и это вдохнуло в него свежие силы. Штурман посмотрел в перископы. Там плыла серая тьма. Значит, защитное поле включено? Кто же это сделал? Когда? Неужели он сам? Джон-Эй дал задание роботам-помощникам снять защитное поле. В перископах засияли звезды. Они сливались в серебристый шар. Космонавт пристально разглядывал незнакомое расположение звезд. Это не родная Галактика! Куда же залетел «Разум»? Штурман посмотрел на универсальный хронометр и ужаснулся. Корабль несется во Вселенной уже целых три часа по изолированному времени. Счетно-решающие машины, которые он включил, показали, что «Разум» пролетел не менее пяти миллионов световых лет! Куда же он забрел? Как найти путь назад? Страх закрался в мужественное сердце Джон-Эя, сжал холодными клещами. Конец? Смерть? А может быть, это и есть смерть — бесконечный полет в металлическом гробу среди пустыни Вселенной? Но нет! Прочь уныние, надо бороться. Надо во что бы то ни стало привести «Разум» в родную Систему, на любимую Землю. Он ведь не просто одинокий человек среди Космоса, — он посланец далекой отчизны в грядущее, он воин великой армии разума, выступающей против враждебных сил Вселенной!.. Штурман привел в действие все телескопические установки, анализаторы. Заработал автоматический центр звездолета, проверяя данные приборов информационного центра. Один ответ, второй, третий! Джон-Эй тревожно просматривает их. Нет! Ни одной знакомой Системы. В какую же даль он залетел? Где Галактика, из которой вылетела их экспедиция? Джон-Эй бросился к памятным машинам, полагая, что они зафиксировали путь звездолета. Но и здесь его ожидало разочарование. Отправляя Джон-Эя в Космос, Ро предусмотрительно выключил памятные машины, и об этом пути не было никакой информации. Космонавт в изнеможении опустил руки. Надо смотреть правде в глаза. Оптимизм не поможет. Он не в состоянии найти обратный путь! Он совершенно беспомощен! Насмешливо сияли звезды впереди, еле заметно плыли в стороне туманности. «Разум» летел в неведомую даль. Джон-Эй закрыл глаза. Надо сосредоточиться. Спокойствие и еще раз спокойствие! Спокойствие и выдержка! Впрочем, есть еще маленькая надежда. Надо попытаться отыскать во Вселенной разумные существа. Может быть, они ему помогут вернуться на Землю. Пусть на это уйдут десятки лет, вся жизнь, но «Разум» обязан прибыть в грядущее и передать потомкам бесценные знания, добытые экспедицией. Да, только так. Бросать оружие, пока оно способно действовать, — безумие. Пока мысль работает, пока жизнь теплится в теле, надо бороться. Уже не колеблясь, штурман включил двигатели, задал программу автоматам. Звездолет послушно повернул назад по гигантской кривой. И снова защитное поле призрачной короной окружило «Разум», отрезая его от внешних воздействий. Биллионы километров, световые годы поглощались звездолетом в стремительном темпе. Молниеносно пролетали мимо десятки галактик. Проходило время — часы и столетия. Джон-Эй выключал защитное поле, запускал аналитические установки, телескопы обзора, жадно просматривал ответы автоматов. Галактики не было. Она пропала в бездне Вселенной. И снова тысячи, миллионы парсеков слепого полета. Снова страстное желание вернуться на родную, теплую, цветущую Землю. Снова неясные надежды и неутомимые поиски. Но вот наступил критический момент, надвигалась новая беда. Анализатор показывал, что подходит к концу ядерное горючее в реакторе. Скоро прекратится работа всех узлов корабля. Остановится и двигательная система «Разума». А тогда возможен будет полет лишь по инерции. Джон-Эй видел выход лишь в одном: надо найти планету в какой-либо Системе, посадить на нее звездолет и попробовать найти там руду актинидов. На «Разуме» есть обогатительная установка, и можно будет изготовить ядерное горючее. Но где найти такую планету? Рядом была спиральная Галактика. Крайние звезды сияли на расстоянии десяти парсеков. Джон-Эй наугад избрал желтую звезду типа Солнца и решительно направил звездолет к чужой Системе.Первобытный мир
Планета была единственной в Системе. Описывая спирали над нею, Джон-Эй гравиметодом определил ее массу. Она равнялась массе Земли. Погасив скорость, звездолет вошел в простиравшийся над планетой облачный слой, густой и толстый. Это было опасно — нельзя выбрать удобное место для посадки. Штурман включил инфраэкран. На нем поплыли размытые пятна озер, широких рек, лесов. Показался берег океана. Наконец корабль вышел из туч. В перископах открылась пестрая панорама планеты, изрезанной широкими и узкими, извилистыми реками, усеянной дремучими лесами, покрытой зелеными равнинами, морями, озерами, океанами. Джон-Эй усилил разрешающую способность телескопов, пустил в ход роботов-помощников, пытаясь найти следы разумной жизни. Но «Разум» описал три спирали вокруг планеты, а таких следов не было. Девственные леса, стремительные нагромождения гор, необъятные просторы океанов. Где-то в стороне сверкнуло пламя взрыва, затем к небу взвился столб черного дыма. Анализатор показал, что это действующий вулкан. Сердце Джон-Эя болезненно сжалось. На планете нет никаких признаков цивилизации, и никто ему тут не поможет. Надо возвращаться в пространство, искать новый мир. Искать? Нет, это невозможно! Еще немного — и остановится реактор, прекратится работа двигателей, перестанут действовать автоматы. Единственный выход — садиться! Но прежде надо попробовать в полете определить залежи актинидов и подвести корабль поближе к ним. Только так… Джон-Эй включил радиометры. Чуткие приборы насторожились, зашевелили усиками-стрелками в ожидании сигналов с планеты. На восьмом витке спирали пришел успех. Приборы отметили огромный очаг гамма-радиации. «Разум» летел со скоростью километра в секунду. Джон-Эй круто развернул его, затормозил, сделал огромный круг над пустынной равниной. Залежи актинидов были где-то в районе горного хребта. С одной стороны горы окаймляла желтая пустыня, с другой — темные массивы джунглей. Джон-Эй наметил большую поляну километрах в трех от гор, где стремительно несла свои воды бурная река. «Разум», гремя двигателями, в вихре раскаленного воздуха пошел на посадку… Звуки исчезли. Наступила давящая тишина: кровь стучала в висках. Джон-Эй встал, пошатываясь прошелся по каюте — тело, отвыкшее от ощущений нормального веса, с трудом сохраняло равновесие. Штурман прилег, закрыл глаза, пытаясь успокоиться, привести мысли в порядок. Да, рассчитывать надо только на себя. Здесь никто не поможет. Сначала необходимо разведать местность, познакомиться с животным миром. Впрочем, животные, даже самые сильные, не страшны: излучатели уничтожат любого гиганта. А потом… потом поиски руды. Она где-то здесь, видимо, в районе скал. Если бы удалось! Тогда — снова полет, снова розыски потерянной Земли. Пусть все будет напрасно, пусть опять неудача, но все же стремление, полет, действие. Джон-Эй встал. Отдыхать некогда. Надо действовать. Он быстро поел, включил анализаторы воздуха. Они показывали, что в атмосфере планеты имеется достаточно кислорода. Вредные газы не обнаруживались, опасные бактерии — тоже. Надев теплый комбинезон и шлем, Джон-Эй двинулся к выходу. Подумав, он захватил ядерный излучатель и портативный пеленгатор. Включив автоматический пеленг, штурман спустился вниз. Со скрипом отворился люк. Густая струя воздуха пахнула в лицо. От пьянящего запаха закружилась голова. Джон-Эй прислонился к стенке шлюза, постоял. Очнувшись, переступил через барьер входа. Вокруг «Разума» темнел выжженный круг. Дальше всю опушку покрывала синеватая трава, жесткая, блестящая. Она выбрасывала желтые метелки. Кое-где виднелись большие алые цветы. Вдали темнел девственный лес. Деревья были тонкие, высокие, похожие на копья, вверху они заканчивались пучком широких листков. Ниже все пространство заполняли приземистые растения с мясистыми листками черно-зеленого цвета. Опушка обрывалась над рекой. Вода клокотала на скалистых порогах. На другом берегу тоже темнел лес. Над ним нависли серые мрачные тучи. Ветра не было. Казалось, серое одеяло накрыло весь мир. Джон-Эй подошел к обрыву, посмотрел на клокочущие внизу воды реки. Из расщелины ближайшей скалы, пронзительно вскрикнув, выпорхнула странная голубая птица. Она низко пролетела над рекой, исчезла в лесу. Примитивный мир. Животные низшей организации, девственные леса и скалы. Эта планета лишь недавно начала свое восхождение к свету. Надо полагаться только на себя… Штурман повернулся и двинулся к «Разуму». За кораблем послышались непонятные звуки. Джон-Эю показалось, что он различает членораздельную речь. Какие-то фигуры зашевелились в кустах позади звездолета. Жестикулируя, они начали приближаться к Джон-Эю. Штурман нерешительно остановился. С кем он имеет дело? Но вот живые создания подошли совсем близко. Уже можно было различать их очертания. Джон-Эй с радостью отметил, что это не животные. Они стояли во весь рост, на нижних конечностях, держа в передних какие-то предметы, и скорее напоминали первобытных людей, чем зверей. Правда, они отличались от человека современного вида, но по пропорциям тела были весьма сходны с ним. Не так ли выглядели неандертальцы или их далекие предки — питекантропы? Лоб у них был довольно высокий, огромные глаза смотрели на пришельца внимательно, настороженно. Полусогнутое тело, обросшее редкой голубой шерстью, и примитивная одежда из листьев говорили о том, что путь этих созданий к человеку только начался. Толпа расступилась. Из нее вышел гигантского роста самец. Он поднял дубинку и, напевая странную мелодию, закружился в бешеном танце, приближаясь с каждым кругом к космонавту. С удивлением наблюдая за ним, Джон-Эй на всякий случай положил руку на ядерный излучатель…Поиски горючего
Потанцевав вокруг Джон-Эя, дикарь упал на траву. Пока он пел, его сородичи подвывали на разные лады, подскакивая и приплясывая в такт своеобразной мелодии. Космонавт с тревогой отступил назад. Но, увидев, как дикарь, став на колени, благоговейно протягивает к нему руки, весело засмеялся. Так вот оно что! Эти безобидные создания, видимо, принимают его за бога, за посланца небес. Конечно, они видели прилет звездолета. Что ж, этим надо воспользоваться. Они безусловно не тронут его и даже смогут помочь в розысках руды. Нужно только поближе с ними познакомиться, хоть бы для этого и понадобились месяцы. Ведь если он с их помощью найдет нужные руды, то затраты времени окупятся сторицей! Большие круглые глаза дикаря встретились с глазами космонавта. Они светились восторгом, благоговением, покорностью. Джон-Эй внимательно вгляделся в лицо дикаря. Его поразило странное расположение органов обоняния. Отверстия проходили по сторонам большого рта, делая лицо уродливым и широким. Только глаза ничем не отличались от человеческих, они смотрели на мир пристально, внимательно, готовясь к борьбе с тайнами природы. Джон-Эй поднял руку, показал на небо. Дикарь радостно закивал головой. Что-то крикнул товарищам. Те поддержали его дружным воем. Штурман протянул руку к дубинке, которую держал самец. Тот с готовностью отдал небесному гостю свое оружие — суковатую палку черного дерева. Стало совершенно очевидно, что дикарь относится доверчиво к Джон-Эю. Можно было начинать налаживать отношения… Прошло несколько недель. Джон-Эй познакомился с жизнью и бытом первобытного племени, изучил несложный язык дикарей. Они жили в пещерах между валунами, под корнями гигантских деревьев. Ели побеги болотных сочных растений, яйца птиц, мелких животных, плоды деревьев. Изредка им удавалось общими усилиями убить гоготу — неуклюжее исполинское животное с острыми шипами. Мясо гоготы было нежным, вкусным, и его хватало для всех надолго. Джон-Эй уже знал всех дикарей по именам. Великан самец был вожаком племени. Его распоряжения выполнялись всеми беспрекословно. Звали его Та-та. Он был довольно умен и сметлив. Через месяц Джон-Эй уже мог разговаривать с Та-та. Узнав, что дикари не умеют пользоваться огнем, космонавт решил приучить их к нему. Наступили ясные, безоблачные дни. На фоне темно-синего неба ярко засиял небольшой диск желтого солнца. В один из теплых вечеров Джон-Эй собрал дикарей на опушке леса и сказал им: — Я скоро уйду от вас. — Почему так пожелал человек сверху? — удивился вожак. — Так надо. Я вернусь туда, где родился. — Ты родился на небе, человек сверху. Там всегда сияет солнце. Там много плодов и мяса гоготы… — Нет, Та-та. Я родился в таком же мире, как и ваш, но… Джон-Эй замолчал, увидев, как удивился Та-та. Разве примитивное развитие дикаря в состоянии охватить невероятные пространства Вселенной? Пусть думает как хочет! Та-та с довольным видом засмеялся: — Вот видишь, ты молчишь, человек сверху! Я сказал правду. Ты сын великого Солнца. — Да, ты прав, я сын Солнца. И хочу оставить вам частицу его огня. Пусть он обогревает вас в туманные дни и темные ночи. Пусть он вам поможет смягчать сырое мясо и делать его вкусным… — О чем ты говоришь, человек сверху? — не понял вожак. — Смотри, — ответил Джон-Эй, вынимая зажигалку. — Собирайте сухие ветви, листья… Та-та отдал приказание громким голосом. Дети и женщины рассыпались во все стороны. Вскоре перед космонавтом лежала огромная куча хвороста. Джон-Эй торжественно посмотрел на вожака. — Видите — сгущается мрак. Будет темно и холодно. А у меня есть кусочек Солнца. Я разгоню тьму и холод… На зажигалке вспыхнул фитилек. Джон-Эй поджег хворост. Он загорелся ярким пламенем, осветил все вокруг. Послышались возгласы удивления и ужаса. Дикари разбежались, точно их ветром сдуло. Их испуганные лица выглядывали из-за стволов деревьев. — Не бойтесь! — крикнул Джон-Эй. — Кусочек Солнца не кусается. Я дарю его вам! Та-та первым вернулся к костру. Космонавт протянул руки над огнем, обогревая их, предложил Та-та сделать то же самое. Дикарь боязливо протянул руки над костром. Пламя оказалось вовсе не таким страшным, как он предполагал. Более того — оно приятно грело руки. Та-та довольно засмеялся и восхищенно крикнул: — Тепло! Наблюдавшие за вожаком дикари осмелели и подступили ближе. Один из них, самый старый, сказал: — Мы уже видели такое. Небо гремело. Оттуда упал огненный шар, и лес загорелся. Было очень страшно. Многие убежали прочь… — Этот огонь — ваш. Вы будете им сами управлять. Дадите пищи — он будет жить, не дадите — умрет… Дикари весело засмеялись. Они расселись вокруг костра, с восхищением поглядывая на космонавта. — Та-та, — сказал решительно Джон-Эй, — наступило время разлуки. Но перед этим мне надо побывать в долине, что в горах. Дай мне проводника. Дикари начали живо обсуждать просьбу Джон-Эя. Потом Та-та торжественно поднял руку, приложил ее к груди. — Мы готовы сделать для тебя все, что попросишь, человек сверху. Но в Ущелье смерти мы тебя не поведем. — Ущелье смерти? — удивился Джон-Эй. — Почему ты его так называешь? — Никто из тех, кто там побывает, не остается в живых. Мы считаем ущелье проклятым местом… «Это безусловно действие актинидов!» — обрадовался Джон-Эй. Дикарям он громко сказал: — Мне не страшно это ущелье. Ведь я человек сверху, сын Солнца. Та-та торжественно протянул руки над огнем: — Хорошо. Я покажу тебе Ущелье смерти, человек сверху… Весело перекликаясь, дикари приносили всё новые кучи хвороста. Костер пылал, разгоняя ночь, и туча насекомых кружилась над ним, сгорая и падая в огонь. В круг вошла Ла-ла, дочь вожака. Она остановилась перед Джон-Эем, приложила ладони к щекам и запела низким, сильным голосом песню. Космонавт, разобрав слова песни, понял, что девушка поет о нем. Удивительно! Невероятно… Не сон ли это? В черном небе пылают чужие созвездия, над головой шумят невиданные деревья, вокруг — волосатые фигуры дикарей. И, глядя темными круглыми глазами в даль небес, Ла-ла, девушка, одетая в шкуру диковинного зверя, слагала гимн космонавту Земли, принятому здесь как божество:Снова в пространство
Утром следующего дня, облачившись в защитный костюм и захватив контейнер, Джон-Эй вышел из корабля. Та-та и несколько дикарей ждали его у опушки леса. Узкими тропинками леса они повели космонавта к горам. Достигнув небольшого лесного ручейка, Та-та остановился. — Ущелье смерти, — сказал он, показывая в сторону хребта, который синел между деревьями. — Дальше мы не пойдем… — Хорошо, — согласился Джон-Эй. — Подождите меня здесь. Он решительно двинулся дальше и пересек ручей. Там он выбрался на крутой берег, накинул капюшон с защитными очками и оглянулся. Та-та и его спутники приветливо махали руками. Джон-Эй ответил им таким же жестом и зашагал к хребту. По мере того как он продвигался вперед, трава все больше редела, а затем совсем исчезла. Вокруг — никакой жизни. Все было мертво. Кое-где в расщелинах скал белели черепа и кости животных. Наконец Джон-Эй спустился в узкую ложбину, забитую хаотическим нагромождением гранитных глыб. Из-за горного хребта взошло солнце, и каменные глыбы заиграли разноцветными искрами. Хмурое ущелье превратилось в удивительный калейдоскоп. Казалось, природа собрала здесь богатейшую коллекцию различных минералов. И где-то среди них — нужные Джон-Эю актиниды. Штурман открыл футляр анализатора, который висел у него на груди, и двинулся вдоль скалистой стены. Минут через пять прибор отметил наличие радиации. Стрелка анализатора резко заколебалась и остановилась, указывая острием в сторону огромной черной глыбы. В красноватой породе глыбы сверкали вкрапления минерала. Джон-Эй, волнуясь, вынул вибратор и отломил несколько кусков породы. На изломах вкраплины оказались металлом золотистого цвета. Это, конечно, радиоактивный элемент! В звездолете проверим. Но в удаче, кажется, уже не приходится сомневаться. За полчаса Джон-Эй наполнил контейнер породой и двинулся назад, полный радужных надежд. Анализ дал положительный результат. Вкрапления оказались одним из трансурановых элементов, неизвестных ученым Земли. Небольшая перестройка ядра в установке звездолета давала прекрасное горючее для реактора. Два дня Джон-Эй добывал руду. До ручья он наполненные ею контейнеры перетаскивал сам. А оттуда Та-та и еще несколько дикарей помогали ему доставлять их к звездолету. И вот наступил день разлуки. Под вечер штурман сидел у костра и вновь слушал песни Ла-ла. Она пела, а ему вспомнились широкие улицы Космограда, просторы южных степей, леса Сибири, океаны, моря. Как он истосковался по ним, как хотелось ему найти потерянную Землю… Прощаясь с Та-та, космонавт объяснил вожаку, как высекать искры из камней, как разводить костер. — Ты вернешься к нам, человек сверху? — жалобно спросил Та-та. — Не знаю, — ответил Джон-Эй, печально глядя на него. — Может быть, я и не вернусь, но другие гости с неба придут обязательно. Ваши дети и внуки увидят их. А затем и вы полетите к Солнцу, к звездам. — И станем сынами Солнца? — обрадовался дикарь. — Да, Та-та! Вы тоже будете сынами Солнца… Миновала короткая ночь. Взошло солнце. Собравшись на опушке, дикари смотрели на невиданное зрелище. Посланец небес, человек сверху, подаривший им огонь, исчез в отверстии летающей пещеры. Дикари ждали затаив дыхание. Вдруг среди ясного дня грянул гром. Вихрь горячего воздуха повалил Та-та и его соплеменников на траву. Звездолет взмыл вверх и растаял в синеве, возле солнца. …На этот раз ему повезло. Уже через несколько дней видеолокаторы нащупали в бездне пространства крохотное пятнышко родной Галактики. И снова корабль рассекал просторы Вселенной с такой скоростью, что полет квантов света казался передвижением черепахи. Ничто не угрожало этому замечательному созданию человека. Гравитационные и магнитные поля расступались перед ним, гигантские туманности не влияли на его молниеносный полет…Завещание Джон-Эя
Но вот опять навалилась беда. Иссякло антивещество. Исчезло защитное поле. «Разум» не мог больше лететь со сверхсветовой скоростью. Джон-Эй был уверен в успешном завершении полета, и это его совершенно обескуражило. Он кинулся к приборам. Роботы-помощники показывали, что звездолет уже вошел в родную Галактику и находится на границах местной Системы. Но до Солнца еще оставалось около пятисот световых лет. Какая досада, какая неудача! Штурман подсчитал скорость полета, запасы питания. Грозная неизбежность вставала перед ним. Даже по собственному времени звездолета ему оставалось лететь сто пятьдесят лет. Джон-Эй уверен — автоматы точно приведут «Разум» на Землю. Страшно другое — долгие годы одиночества в Космосе, медленное угасание, а затем… металлический гроб будет нести его труп в бесконечности добрую сотню лет. Зачем?.. В сознании штурмана всплыло лицо Георгия. Даже голос его послышался: «Наша смерть… смерть друзей… все это не должно быть напрасно…» «Слышу, Георгий. Я сделаю все. Человечеству солнечной Системы достанутся добытые нами сокровища знания, оно узнает о грозной опасности в иной Галактике. Так надо — значит, так будет…» Джон-Эй тщательно проверил курс, программы автоматов. Дал дублированные задания роботам-помощникам. Затем достал магнитные пленки, зарядил записывающие автоматы и, склонившись над микрофоном, начал диктовать свое завещание. Он рассказывал о путешествии к Большому Магелланову Облаку, о гибели друзей, о выдающихся открытиях экспедиции по исследованию Космоса и, наконец, о встрече с железным диктатором. Подумав, Джон-Эй закончил: — Далекие братья! Мы выполнили долг человека до конца. Я сделал все, что мог, а теперь умираю. Не осуждайте меня за это. Очень страшно доживать в одиночестве долгие годы. Как хотелось увидеть ваш грядущий мир! Он, конечно, будет прекрасным, каким и должен быть мир людей-титанов. Я верю также, что вы поможете братьям в системе Большого Магелланова Облака, сражающимся с чудовищным миром автоматов — результатом вырождения разума. Не повторяйте ошибки того мира, не унижайте человеческий интеллект!Смысл жизни человека — в бесконечном совершенствовании разума! Что может быть прекраснее живой, горячей человеческой мысли — с ее ошибками и достижениями, с ее горем и радостью, с ее исканиями и борьбой? До встречи, далекие братья!.. Джон-Эй замолчал. Вздохнул глубоко, словно снимая с души какую-то тяжесть. Четкими движениями включил насосы. Воздух потянулся в отверстия фильтрационных агрегатов. Быстро понизилась температура. Руки и ноги парализовал холод. Мелькнула мысль: а может быть, не надо? С портрета сурово глядел Георгий, в его взоре был упрек. Джон-Эй слабо улыбнулся, еле слышно прошептал: — Прости, Георгий, я больше не могу… Слабо щелкнули автоматы. В каюту ринулась струя инертного газа. Голова Джон-Эя упала на пульт. Он проваливался в черную бездну. Оттуда — последнее, что он мысленно видел, — летела ему навстречу окутанная белоснежными облаками Земля…ЭПИЛОГ
Десять тысяч лет
Открытый гравилет плыл над Землей на восток. На нем в удобных креслах сидели Аэровел, Джон-Эй, Искра и Семоний. Руководитель Автоматического Центра стал после последних событий ярым приверженцем старейшего ученого. Рассказ Джон-Эя, записанный автоматами и воспроизведенный в совете, потряс его, как и всех сторонников проекта «механизации» интеллекта. К тому же Аэровел после длительной и тщательной подготовки воскресил Джон-Эя. Все жаждали встречи с космонавтом из далекого прошлого. Но Аэровел категорически воспротивился этому. Джон-Эй нуждался в длительном отдыхе. Новый мир угнетал штурмана. Из того, что когда-то было близко ему, на Земле ничего не осталось. Разве лишь дубы и березы, которые, как и встарь, грустно перешептывались о чем-то в заповеднике над Днепром. Разве лишь глаза Искры, которые сияли тревожными огоньками, так же, как и у девушек тех, давних времен. Искра отдавала человеку из прошлого все свое свободное время. Она старалась делать все, чтобы он не грустил, чтобы он, так много видевший и переживший, не чувствовал себя одиноким в чужой эпохе. В душе ее, кроткой и нежной, вдруг проснулось чувство, в котором она боялась самой себе признаться. Тайком поглядывала на суровое худое лицо, на устремленные вдаль глаза, на крепко сжатые губы — и восхищалась им. Она изучала древний язык, язык Джон-Эя, и обучала его современному, более простому. Сегодня Аэровел захватил их с собой, и они вместе вылетели на восток, к морю. Космонавт долго и задумчиво смотрел вниз, на голубые ленты каналов, на леса и поля, на буйные плантации невиданных растений, на архитектурные ансамбли. Затем он повернулся к Аэровелу, с восхищением посмотрел на одухотворенное лицо старейшего ученого и сказал: — Воистину вы возродили меня заново! Нет слов, чтобы выразить, что я сейчас испытываю! — И не надо, — добродушно ответил Аэровел. — Я вижу твое лицо, чувствую мелодию твоей души. У нас слова нужны лишь в технике и науке. В чувствах — почти никогда! Кстати, у нас нет обращения на «вы»… — Хорошо. Я постараюсь, хотя это непривычно. Но я все время думаю о своем месте в жизни… о прошедшей экспедиции, и печаль не покидает меня… — Почему же? — живо спросил Семоний. — Я вернулся в такое будущее, где человек стал титаном. А наш полет — он был пустым, ненужным! Что я дал вашей эпохе? Черные глаза Семония сверкнули гневом. — Ошибка! Нелепость! Все в мире взаимосвязано — об этом мне недавно с упреком напомнили жители Сатурна. Очень верно сказано. На вашем корабле — неоценимые материалы, которые расширяют наши знания. Но, даже если бы их и не было, сам твой прилет из прошлого имеет громадное значение. Ты ведь знаешь о нашей дискуссии? — Да. — Так вот, твой прилет положил конец всем нашим спорам. И прекрасно. Я не сожалею об отвергнутом проекте. — У нас так легко не отказывались от проектов, — улыбнулся Джон-Эй. — Их яростно защищали, иногда вопреки всякой логике. — Даже негодные? — удивился Аэровел. — Еще как! — Странно. Это говорит об узости возможностей. У нас знание так многогранно, что путей к достижению любой цели есть множество. — Расскажите мне о вашем мире, о вашем знании, о взгляде на мир, на бытие человека. Я очень хочу это знать. — Ты будешь знать, — мягко ответил Аэровел. — Но сейчас у нас иная цель. Искра — замечательный инженер, она ознакомит тебя со всей Системой. Сегодня же я приготовил тебе сюрприз. — Какой? — удивился Джон-Эй. — Терпение, — засмеялся старейший ученый, — а то какой же это будет сюрприз! Вдали засинело море. На берегу, среди пышных растений, возвышались розовые, голубые и белые дворцы. Они казались порождением морской волны, которая, застыв в лучах солнца в неповторимо прекрасных формах, отливала всеми цветами радуги. Гравилет, повинуясь команде Аэровела, прошел над этими сооружениями, повернул влево. Показалась огромная, свободная от плантаций и строений площадь. Над этим местом гравилет начал снижаться. Джон-Эй побледнел, тревожно оглядывая местность. — Мне кажется, — прошептал он. — что здесь… где-то… должен быть… — …Космоград, — закончил Аэровел. — Но его не видно… — Город перенесли еще в двадцать пятом столетии. Сейчас идут раскопки. Гравилет приземлился. К нему подбежали розовощекий юноша и миниатюрная девушка. Аэровел поздоровался с ними, представил их Джон-Эю: — Старейший археолог. — Старейший? — удивился Джон-Эй. — Да. Ты забываешь о долголетии. Ему уже сто десять лет. Его имя — Тор, девушки — Мечта. Археологи поклонились гостю, о котором уже были наслышаны. Аэровел сказал им: — Нам нужно как можно скорее найти древний Институт анабиоза. — Постараемся, — ответил Тор. — Но не поручусь, что это удастся сделать скоро. — Тут я могу помочь, — заявил Джон-Эй. — Я здесь жил. Если узнаю хоть что-нибудь, то нетрудно будет определить место, где был институт. Но все же, зачем это вам? — Не спрашивай, — невозмутимо ответил Аэровел. — Скоро узнаешь. Итак, приступайте к делу. … Сотрудники Института воскрешений, Аэровел, Джон-Эй, Семоний, Искра и археологи медленно спускались по широкой матово-зеленой лестнице в подземелье древнего Института анабиоза. В электросеть, которая сохранилась, был пущен ток, длинные коридоры освещались. Вошли в помещение с низким овальным сводом. Вдоль стен были установлены массивные резервуары, прикрытые сверху матовыми куполами. Возле каждого резервуара поблескивали небольшие пульты с радиотехническими приборами. — Это запись, — сказал Джон-Эй. Аэровел живо повернулся к нему: — Ты знаешь, как их включать? — Да. — Сделай это, пожалуйста. Джон-Эй, волнуясь, включил одну за другой все установки. Послышались слова, произнесенные на древнем языке: — Синегор. Тридцати лет. Воскресить в тридцатом году двадцать пятого столетия. Вторая запись гласила: — Анна Сокол. Сорок лет. Воскресить в десятом году двадцать шестого столетия. И вдруг… все увидели, как человек прошлого побледнел и, пошатнувшись, схватился рукою за сердце. Аэровел поддержал его сильной рукой. А из динамика плыли спокойные слова: — Марианна, двадцати двух лет. Состояние искусственной клинической смерти. Воскресить после возвращения первой внегалактической экспедиции из Большого Магелланова Облака. Время вылета — две тысячи пятьдесят восьмой год — Руководитель экспедиции Георгий Гора. Эксперимент проведен согласно желанию усыпленной. — Так вот почему вы разыскивали Институт анабиоза! — тихо промолвил Джон-Эй. — Но откуда вы узнали о Марианне, о том, что она здесь? Ведь я тоже не знал этого! — Марианна твоя возлюбленная? — неестественно живо спросила Искра. Аэровел лукаво улыбнулся. Девушка вспыхнула. Джон-Эй внимательно и дружески посмотрел на нее: — Нет. Это невеста Георгия. — Я узнал об этом, — прервал Аэровел, — из материалов Всемирного Архивного Фонда. Их нашел молодой сотрудник фонда, Светозар. — Что вы собираетесь с нею сделать? — Конечно, воскресить… Не удивляйся. Ты только вступаешь в новый мир. Скоро состоится заседание Совета Миров. Там ты услышишь много интересного… По знаку старейшего ученого резервуар вскрыли. В глубине за прозрачным покрытием лежала молодая женщина поразительной красоты. Длинные ресницы, оттенявшие ее бледные щеки, толстые черные косы, уложенные венцом вокруг головы, смугло-розовое тело, руки, покоившиеся на груди, — все создавало впечатление, будто она погружена в глубокий сон. — Это она, — прошептал Джон-Эй и, к удивлению присутствующих, заплакал. Но это были слезы радости и счастья. Марианна через десять тысяч лет возвращалась к жизни в новый, чудесный мир…Грядущий мир
Искра привела Джон-Эя в небольшую комнату. Стены ее матово поблескивали. Посредине стоял стол, два стула. На столе цветы. И больше ничего. Космонавт обратился к девушке: — Скажи мне, Искра, ты говорила о связи между мирами, о том, что она осуществляется мгновенно. Но можно ли с ее помощью связаться с иными галактиками? — Да. — И такие попытки были? — Я понимаю, почему ты спрашиваешь. Мы пробовали наладить связь с Большим Магеллановым Облаком. Но нас всегда постигала неудача. Ученые не понимали, в чем дело. Теперь же, когда ты вернулся оттуда, все стало ясно. Но этим занимается совет. Можешь быть спокоен — решение будет таким, какого ты желаешь… Джон-Эй пристально посмотрел на девушку: — Ты знаешь о моем желании? — Да, — смутилась Искра. — Ты забываешь о том, что люди развивали не только знание, но и себя, свое восприятие. Близкому другу, у которого душа открыта для тебя, незачем много говорить. Его чувства — это чувства друга… Девушка почему-то смутилась, подошла к стене, что-то включила. Быстро, украдкой посмотрела на своего спутника, нахмурилась. Свет погас. Послышался голос Искры: — А теперь — путешествие по Системе. Стены растаяли, отодвинулись. Засияли звезды в пространстве, вспыхнул огромный диск Солнца. Приблизилась какая-то планета. На ней видны были раскаленные пустыни, глубокие трещины, вихри разреженных газов… — Меркурий? — спросил Джон-Эй. — Да, — ответила девушка. Вслед за этим объектив как бы проник в недра планеты. И здесь на большой глубине Джон-Эй увидел колоссальные станции, обсерватории наблюдения за деятельностью Солнца, пульты управления вакуумными конденсаторами энергии. Всем этим управляли роботы — незаменимые помощники человека. — На Меркурии в основном одни лишь научно-технические центры и хранилища энергии, — сказала Искра. — Идем дальше. Снова появилась бездна пространства. Среди звезд возник шар туманной планеты. Он приблизился, заполнил экран. — Венера, — торжественно заявила девушка. — Здесь когда-то работала и я. Открылась перспектива планеты. В хмурую даль катились тяжелые фиолетовые волны океана. На побережье раскинулись плантации высоких деревьев красной и белесой окраски. В густой листве алели крупные плоды. За деревьями, в горах виднелись белые купола каких-то строений. — Селекционный институт Венеры, — объяснила Искра. — Ты видишь плоды? Это поразительное достижение. Они концентрируют в себе все, что необходимо организму человека. Скоро люди получат их. Тебя удивляет, что здесь так спокойно? Да, в ваше время эта планета была сущим адом. Вулканы, ядовитая атмосфера, высокая температура. Мы многое сделали. Нейтрализовали вулканы, очистили атмосферу, создали нужные нам растения. И теперь Венера — сестра Земли. Не успевал Джон-Эй осмыслить то, что увидел, как на экранах появлялись иные пункты Системы. Он побывал на сотнях спутников-станций, вращающихся вокруг Солнца, на астероидах, где были расположены обсерватории, биостанции, выращивающие растения и животных в условиях невесомости, в космопортах и хранилищах энергии, на Плутоне, где астробиологи работали над выведением таких животных форм, которые могли бы существовать в межзвездном пространстве. Как объяснила Искра, в этой области имеются крупные достижения. Так было долго, очень долго. Джон-Эй увидел, что происходит в Системе и вне ее, и понял, что теперь человечество — единый, совершенный, удивительно гармоничный организм, стремящийся к новым, все более высоким целям. И светлая радость овладела им. Теперь он твердо знал, что не напрасно жил, не напрасно боролся, изнемогая в безднах Космоса. И сердце предвещало новые, волнующие перспективы… Снова вспыхнул свет. Искра устало провела ладонью по глазам. — А теперь пойдем. Я покажу тебе древнюю Луну. Они вышли в ночь. Теплый ветер налетел, дохнул в лицо. Невысоко над горизонтом сияла туманная Луна. Джон-Эй остановился очарованный, посмотрел в небо. На диске земного спутника он не заметил привычных пятен, зато ясно можно было различить голубоватый ореол. — Что это, Искра? — Терпение, — таинственно ответила девушка. — Иди за мной. Они пришли на космодром. Там их ждали. Искра ввела гостя в освещенный круг, где стоял большой, совершенно черный цилиндр. В нем открылся люк. Джон-Эй зашел туда вслед за Искрой, сел в удобное кресло. На экране появился диск Луны. Искра указала на него: — Сейчас мы будем там. — Как! В этой штуке? Так это и есть… — Да. Это аппарат для преодоления пространства. Специальные установки фокусируют направление, очень точно, и излучают мощные потоки энергии, создавая канал антипространства. Две эти формы протяженности взаимно аннигилируются, иначе говоря — расстояние исчезает. Внимание! Пора! Всколыхнулось небо, и в какое-то неуловимое мгновение диск Луны вырос до огромных размеров, исчез. За иллюминаторами Джон-Эй увидел темно-синее небо, по которому плыли белые облака, и ветви зеленых пальм, раскачиваемых ветром. — Где мы? — прошептал он. — Как — где? — рассмеялась девушка. — На Луне. Вставай, мы приехали… Космонавт безмолвно вышел из цилиндра, который стоял на широкой площади, окаймленной гигантскими деревьями, за ними высоко в небо уходили вышки антенн, верхушки сооружений. В зените сияло Солнце, немного ниже — туманный серп Земли. — Чудо! — не мог прийти в себя Джон-Эй. — Вы оживили Луну? — Да. Уже давно. Сейчас Луна — курорт, место отдыха. Небольшое тяготение, абсолютно чистый воздух — великолепные условия для спорта. То же самое можно наблюдать на Марсе, на некоторых спутниках внешних планет. Только Сатурн и Юпитер вне наших работ… — Почему же? — Там живет иная раса. Мы открыли ее три тысячи лет назад. Но те существа — нечто невообразимое. Это совсем другой путь развития, непонятный для нас. Мы общаемся с помощью выработанных символов, но не практически, а лишь в сфере высших математических абстракций. Но об этом ты узнаешь в свое время. Нам пора возвращаться… Джон-Эй нежно взял девушку за руки, восхищенно посмотрел ей в глаза. В его душе таяло, исчезало чувство одиночества. Искра видела это и торжествовала. — Девушка… это великолепно! Это… Это… Я даже не знаю, что сказать… Ради такого мира стоило страдать и отдавать жизнь… Искра поняла, что человек прошлого воскресает духовно, побеждает печаль прошлых потерь и готовится к великому бессмертному шествию по дорогам Вселенной. И еще Искра с волнением и радостью осознавала, что на этом пути рядом с ним непременно будет она, его незаменимый друг, товарищ, жена.Великое свершение
Еще не открывая глаз, она медленно поднялась с твердого ложа, села. — Георгий, — тихо позвала она. Присутствующие молча переглянулись, пораженные тем, что имя любимого было первым словом, которое слетело с ее губ после целой вечности безмолвия. А она, не услышав ответа, нахмурилась, медленно открыла глаза и тут же их зажмурила. — Марианна, — прошептал Джон-Эй. Она вздрогнула, недоумевающе оглянулась, тревожно посмотрела на группу странно одетых людей. Наконец увидела Джон-Эя. Глаза ее вспыхнули черными огнями, на бледных щеках заиграл румянец. — Джон-Эй! — жалобно промолвила она. — Это ты… Значит, экспедиция вернулась? — Да, — уклончиво ответил Джон-Эй. — Звездолет вернулся. — А Георгий где? Почему я не вижу его? — Погоди, Марианна… Не волнуйся… Девушка встала. Ей подали легкий плащ из голубого материала. Она накинула его на плечи, испуганно глядя на людей новой эпохи. — Сколько я… спала? — Десять тысяч лет, — мягко ответил Аэровел. — Так много? — едва слышно прошептала Марианна. — Только сейчас вернулась экспедиция? Ведь вы меня воскресили согласно завещанию?.. — Да… — Почему же не видно Георгия? Джон-Эй, почему ты молчишь? Посмотри мне в глаза… Он умер? Искра, нежно обняв Марианну, ласково сказала: — Успокойся, сестра. Ты будешь в мире такой долговечной жизни, где люди не страшатся смерти. — Значит, его нет? — в отчаянии воскликнула Марианна. — Для чего же вы меня воскресили? — Он не умер! — серьезно возразил Джон-Эй. — Он жив, но очень далеко отсюда. Вернулся я один, вернее мой труп. Меня воскресили. Вот и тебя нашли в подземелье древнего Института анабиоза благодаря старым записям… Прошу тебя, Марианна… успокойся… Ты все поймешь… — А через месяц, — ласково улыбнулся Аэровел, — решится и судьба твоего Георгия… … Над мирами Великого Союза торжественно звучали слова Аэровела, обращенные к ученым, собравшимся во Дворце Совета: — Наступило время новых свершений. До сих пор мы накапливали силы и возможности, а теперь открываем для разумного мира новые пути, еще более грандиозные и прекрасные, чем прежде. Мы устремимся в иные галактики, объединимся с ними, откроем новую эру — эру долголетия. Первый шаг на этом пути — проникновение в Галактику Большого Магелланова Облака. Мы поможем людям этой системы возродить цивилизацию и присоединиться к нам. Наша эра — эра полного подчинения Космоса, эра торжества человека над бесконечностью! Мы готовы к экспедиции! Энергии Системы хватит, чтобы ее осуществить! Что скажет совет? Что скажут люди всех планет нашей Системы? В горячую дискуссию включились миры Сириуса, Центавра, Кома, Сатурна. Они бурно обсуждали проект Аэровела, тщательно разбирая все его достоинства, взвешивая возможные опасности. Наконец, выступил Семоний и громогласно заявил: — Проект открывает перед нами бесконечные перспективы! Кто может это отрицать? Мы идем к всемогуществу — откроем же дверь в этот мир для жителей других галактик! А прежде всего для тех, кто борется против ужасной опасности — мира машинного разума!.. Дворец Совета загремел от оваций. Марианна склонилась к Аэровелу, сидевшему рядом с ней, и прошептала: — Как все это удивительно! Я не могу прийти в себя. Ваше поколение — это поколение титанов! Аэровел серьезно посмотрел на нее, покачал головой: — Мы обязаны всем, чего достигли, далеким и безымянным труженикам прошлых веков, их творчеству, их труду.Под сиянием голубой звезды
…Четыре гигантских звездолета были выведены на высокое горное плато Антарктиды, давно уже освобожденной от льдов. По краям материка ученые соорудили огромное кольцо энергетических установок, предназначенных для ликвидации или нейтрализации пространства в узкой полосе между системой Солнца и планетой, где царил железный диктатор. Точнейшие квантовые машины высчитали расстояние, звездные перемещения, координаты голубой звезды в соседней Галактике. Две тысячи человек заняли свои места в звездолетах. Космические колоссы — по два километра в диаметре, — сотрясая страшным грохотом материк, пробили атмосферу и вышли в пространство. И тогда по сигналу координационного центра было включено энергетическое поле. К установкам хлынула энергия, сконденсированная в хранилищах Плутона, Титана, астероидов, Меркурия. Всеми этими работами руководил Семоний. Он следил за звездолетами с помощью универсальной телескопической установки. Когда в конденсаторах накопилась энергия-максимум, достаточная для осуществления плана, Семоний дал задание роботам: включить нейтральное пространство. Казалось, вся Вселенная всколыхнулась. На мгновение все звездное небо превратилось в сплошное сверкающее пламя, а затем перед глазами Семония выросла голубая звезда и на ее фоне — четыре земных звездолета. Эксперимент удался. Узкая полоса пространства между двумя галактиками была нейтрализована, пробита. Роботы молниеносно отключили источники энергии от установок. Вздрогнула земля. Когда Семоний, освободившись от страшного напряжения, осмотрелся вокруг, он за прозрачной броней увидел лишь знакомые очертания гор Антарктиды… … А звездолеты, окружив себя защитным полем, приближались к страшной планете. Флагманом звездолетов управляли Аэровел и Джон-Эй. Посланцы Земли волновались. Наступал ответственный момент. Живой разум вступал в единоборство с адской силой жестоких машин. Аэровел выключил на одно мгновение защитное поле, чтобы проверить программу полета. На экранах обзора возник диск голубой звезды, туманный шар внешней планеты. — Она! — воскликнул Джон-Эй. Планета приближалась, увеличивалась. Редкие тучи разошлись, показалась поверхность чужого мира. Аэровел всматривался в изображение. Перед ним проплывали населенные пункты планеты. Вот сверкнула лента реки, озеро, залив моря; большой город, квадраты полей, толпы на площадях. Да ведь это люди, мыслящие существа! Значит, власть железного диктатора сломлена и люди вышли из своих подземелий. — Братья! — радостно заговорил старейший ученый, обращаясь к людям в звездолетах. — Приборы показывают, что на планете процветает разумная жизнь. Вероятно, людям Системы удалось победить чудовище механического разума. Предосторожность теперь излишня. Ведите корабли на посадку. Радости землян не было конца. Звездолеты приблизились к планете и, пройдя облачный слой, стали снижаться. Окруженные горячими вихрями воздуха, они осторожно опустились среди пустынных равнин, вдалеке от жилых центров… Вскоре на горизонте поднялись тучи пыли. По пустыне передвигались какие-то машины. Их было несколько сот. Колонна этих машин — приземистых гусеничных аппаратов — остановилась на расстоянии полукилометра от звездолетов. Из них выскакивали люди, которые что-то кричали и радостно махали руками. Аэровел, Джон-Эй, Искра и Марианна на гравилете вылетели навстречу хозяевам планеты. Их сопровождали десятки других летательных аппаратов с учеными. Когда они приземлились, от колонны машин отделился огненноволосый великая и направился к ним. Джон-Эй схватил Аэровела за руку. — Клянусь, он похож на Ио, — воскликнул штурман. — Помнишь, я рассказывал о старом ученом!.. Великан остановился и с удивлением посмотрел на Джон-Эя. — Я узнаю тебя, — сказал он на языке Земли. — Ты Джон-Эй, один из тех героев, которые когда-то, давным-давно, посетили нашу планету! Но почему ты жив — ведь это было много тысяч лет назад! — Меня воскресили! И вот мы здесь, чтобы помочь вам! Но мы с радостью убедились, что в этом нет уже нужды. — Да! — гордо ответил великан. — Мы победили железного диктатора. Живой разум оказался сильнее. Это было сделано еще при жизни Ио. Я его потомок. Вас мы помним, изучаем ваш язык. Мы всегда ждали вашего возвращения… — А где же диктатор? — нетерпеливо воскликнул Джон-Эй. — Там, где и раньше. Там же и второй человек вашей расы… — Георгий? — не сдержалась Марианна, у которой тревожно забилось сердце. — Да, Георгий. А с ним женщина, конструктор диктатора. Мы не могли вернуть их к сознанию. — Ведите нас, — решительно сказал Аэровел. … Гравилеты опустились на матовый пол ангара, где все еще торчала громада бездействующего диктатора и стояли тысячи неподвижных полусфер. Земляне увидели полупрозрачный горб былого страшилища с антенной наверху. Когда-то грозная машина теперь была мертва. Джон-Эй оглянулся и увидел зеленоватый купол, под которым, как и тогда, на черном пьедестале стояли две фигуры — огненноволосая красавица Сиой и Георгий. Перехватив взгляд Джон-Эя и увидев любимого, Марианна, рыдая, стремительно бросилась к куполу, но у подножия ведущей к нему волнистой лестницы упала и потеряла сознание. Подоспевший Аэровел привел ее в чувство. — Успокойся, девушка. Еще немного… совсем немного терпения. … Упало белоснежное покрытие. Люди взволнованно замерли. И вот… свершилось! Сначала шевельнулся Георгий, застонал. Затем открыла глаза Сиой. Они возвращались к жизни, вырванные всемогущей рукой человека из объятий вечного сна. Георгий медленно подымался, нащупывая руками опору. Медленно открыл глаза. Туманным взглядом скользнул по людям… и вдруг увидел… Марианну. Неясные воспоминания тенями пролетели в сознании, становились яснее, четче, наполнялись содержанием. — Марианна… какой чудесный сон! — прошептал он. Марианна не выдержала. Она не видела, как Аэровел помогает Сиой подняться с ложа, как на широком плато народы планеты приветствуют братьев из далекого мира. Плача от счастья, она целовала изможденное лицо своего возлюбленного… Она вспомнила его восторженные слова, произнесенные тысячелетия назад, о грядущем единении всей бесконечности. Еще тогда, на берегу древнего Днепра, Георгии мечтал о величественных путях людей-титанов. И вот эти мечты далекого прошлого осуществлялись.СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ ХОЗЯИН БУХТЫ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

… — Нет, месье, это был не плезиозавр. И вообще не из породы тех гигантских ящеров, о которых теперь говорят, будто они сохранились в болотах Центральной Африки. Совершенно особое животное… Если вам действительно интересно, я расскажу, как мы с ним встретились. Ваш самолет опаздывает на час, мой — на целых полтора. Только что объявляли по радио. По-моему, лучше посидеть здесь, в ресторане, чем жариться на солнцепеке. А мне особенно хочется с вами посоветоваться, после того как я узнал, что месье — биолог по профессии… Нет, нет, это был и не моллюск… Итак, месье, ваше здоровье, и я начинаю свое повествование. Впрочем, простите… Что это за орден у месье в петлице? Орден Великой Отечественной войны. Значит, месье — участник войны. Тогда, если позволите, еще рюмку за ваш орден и за наших доблестных союзников… Что вы говорите?.. Ах, медаль! Действительно, я участник Сопротивления и получил медаль, когда был в маки… Благодарю вас, благодарю… Да, надо сказать, что я не в первый раз в Индонезии. Именно здесь все и произошло десять лет назад. То есть не совсем здесь, не в Джакарте, конечно. На Новой Гвинее или в Западном Ириане, как его теперь называют. Не буду долго рассказывать, как я там очутился. По специальности я кинооператор, и в 1950 году вышло так, что мы с товарищем отправились в Индонезию. Одна французская фирма хотела получить видовой фильм о подводной жизни в тропических морях. В первый раз об этом животном мы услышали возле маленькой деревушки. Не то Япанге, не то Яранге, что-то в этом роде. Один папуас сказал нам, что далеко к западу от Мерауке обитает чудовище, которого еще ни разу не видел никто из белых. Что этого морского зверя невозможно ни застрелить, ни поймать в сеть, и что местные жители панически боятся его и называют «хозяином». Что питается «хозяин» огромными акулами и сильнее его нет на свете живого существа. Нельзя сказать, чтобы мы очень к этому прислушались: папуасы большие мастера фантазировать. Но так или иначе, наш маршрут шел как раз мимо Мерауке, на запад, диким побережьем Арафурского моря. И вот 15 июля мы бросили якорь возле деревни с названием Апусеу. Не знаю, что это означает на папуасском или на каком-нибудь другом наречии. Помню только, что деревушка называлась так по довольно большому острову, который лежал неподалеку. Остров Апусеу и деревушка того же названия — тут-то нас и ожидало то, о чем я хочу рассказать… Еще по одной рюмке, месье. Ваше здоровье. Благодарю вас… Нам было известно, что в деревне вместе с папуасами постоянно живет один белый. Мы только не знали, что это за человек — чиновник, назначенный голландскими властями, или какой-нибудь авантюрист. Во всяком случае, мы собирались попросить его помощи для съемок охоты на крокодила. (В числе всего прочего фирма потребовала, чтобы мы сняли подводную охоту на крокодила. Дурацкая мысль, не правда ли? Папуасы действительно охотятся в воде. Но в Париже никому не пришло в голову, что крокодилы-то живут в болотах и речках, где вода такая мутная, что собственных ног не увидишь.) Помню, что деревушка произвела на нас странное впечатление. Папуасы, вообще говоря, народ шумный и общительный, но тут с моря все казалось вымершим, а на берегу это впечатление еще усилилось. Первые две хижины, куда мы заглянули, были пусты. Потом мы обнаружили несколько женщин и мужчин. Но все они выглядели чем-то запуганными, и мы от них ничего не добились. Один мужчина бормотал что-то о желтом гуане и показывал на отдаленный край деревни, где одиноко стояло довольно большое для этих мест строение. Добрались мы туда около двенадцати. Постройка представляла собой большой сарай, запертый на замок, — верный признак того, что он принадлежал белому. Рядом было несколько грядок маниокового огородика. Мы уселись в тени и стали ждать. В июле в тех краях стоит совершенно адская жара, месье. Сидишь не двигаясь в тени и все равно непрерывно потеешь. А этот пот тут же испаряется. То есть на своих собственных глазах сам переходишь сначала в жидкое, а потом в газообразное состояние. Противное чувство. Прямые солнечные лучи сделали все вокруг белым, и от этой белизны болели глаза. У меня начался очередной приступ малярии, и я забылся каким-то полусном. Потом проснулся и помню, что подумал о том, как хорошо было бы очутиться сейчас в парижском кафе, в подвальчике, где прохладный полумрак и на мраморных столиках лежат выпуклые лужицы пролитого вина. Я проснулся и увидел, что рядом стоит папуас. Крепкий парень, широкогрудый и коренастый. На теле у него была одна только набедренная повязка — чават. Да еще маленький лубяной мешочек, повешенный на грудь. В таких мешочках лесные охотники носят свое имущество. В отличие от других туземцев, он не выглядел испуганным. И тут появилась акула. Парень держал акулу в руках и бросил ее на песок. — Пусть туаны посмотрят. Туаны никогда такого не видели. — Чего тут смотреть? — проворчал Мишель (моего друга звали Мишель Сабатье). — Обыкновенная дохлая акула. Это была голубая акула около полутора метров длины. Мощные грудные плавники, откинутые назад, делали ее похожей на реактивный самолет. Спина была шиферного цвета, а брюхо белое. И вся нижняя часто тела, начиная от грудных плавников, была у нее как бы сдавлена гигантским прессом. Вы понимаете, месье, передняя часть рыбы осталась, как она и должна быть, а задняя вместе с хвостом представляла собой длинную широкую пластину не больше миллиметра толщиной. Как будто акула попала хвостом в прокатный стан. — Она не дохлая, — сказал папуас. — Она живая. Петр принес живую акулу. (Он говорил о себе и обращался к собеседнику только в третьем лице. Как офицер старой прусской армии.) Папуас присел на корточки, вынул из лубяного мешочка нож и ткнул в жаберное отверстие хищницы. Акула дернулась и щелкнула челюстями. Мы просто рты разинули. Вы понимаете, месье, акула была жива и в то же время наполовину высушена. — Кто ее так? — спросил Мишель. Бородатый папуас гордо посмотрел на нас. (Вообще папуасы не носят растительности на лице, но у этого была черная густая бородка). — Это хозяин. — Какой хозяин? И тут мы вспомнили о «хозяине», о котором говорил папуас из Яранги. — Это хозяин бухты, — сказал бородатый Петр. — Он может съесть и не такую акулу. Он сожрет и ту, которая в три раза длиннее человека. Сожмет лапами и выпьет кровь. Папуас еще раз ткнул акулу ножом. Она шевельнулась, но уже совсем слабо. — А какой из себя хозяин? Он живет в воде? — В воде. Он все, и он ничего. Сейчас он есть, а сейчас его нету. — Петр помолчал и добавил: — Только один Петр не боится хозяина бухты. Петр не боится ничего, кроме тюрьмы. — Он большой — хозяин? — Большой, как море. — Петр обвел рукой полуокружность. — А ты можешь его показать? — Петр все может. Мы стали уговаривать Петра отправиться смотреть «хозяина» сейчас же, но оказалось, что, во-первых, для этого нужна лодка, а во-вторых, к «хозяину» безопасно приближаться только завтра. Почему именно завтра, Петр не объяснил. Потом папуас ушел, пообещав вечером принести еще одну раздавленную акулу. Мы вернулись на шхуну, приготовили аппарат для подводной съемки и акваланги, а позже, к вечеру, отправились навестить голландца. Мы были страшно возбуждены и всю дорогу рассуждали о том, как нам повезло и какая это будет сенсация, если мы заснимем чудовище. Месье, не знаю как кто, но я не люблю людей, которые ничему не удивляются. Я просто испытываю боль, когда вижу такого человека. Мне кажется, что своим равнодушием ко всему он старается оскорбить меня. Ведь на свете есть множество удивительных вещей, не правда ли? В конце концов, удивительно даже то, что мы с вами живем. Что бьется сердце, что дышат легкие, что мыслит мозг. Верно, а? Белый человек, голландец, к которому мы пришли, нисколько не удивился нашему появлению. Как будто все происходило где-нибудь на улице Богомолок в Париже, а не в этом диком месте, где киноэкспедиции не было от самого сотворения мира. Возле сарая на обрубке железного дерева сидел здоровенный детина лет сорока пяти, в брюках и куртке цвета хаки. Впрочем, о цвете приходилось лишь догадываться, так как под слоем грязи его было не разобрать. У детины была рыжая борода и лысина, которую обрамлял венчик огненно-красных волос. Огромные руки он свесил с колен. Взгляд у него был тяжелый и неприязненный. Рядом, на маниоковом огороде, копалась молодая папуаска с угрюмым темным лицом. Когда мы с Мишелем подошли, детина даже не поднялся и только мрачно посмотрел в нашу сторону. Мы поздоровались, неловко помолчали, а затем спросили, не слышал ли он о морском чудовище, которое обитает в этих краях, о «хозяине». На ломаном французском он ответил, что не слышал, а потом сразу заговорил о другом. О том, что, мол, некоторые воображают, будто в этих краях деньги сами сыплются с неба. Ничего подобного. Деньги тут достаются еще труднее, чем в других местах. Папуасы ленивы и думают только о том, чтобы нажраться саго и петь свои песни. А работы от них не дождешься, нет. Паршивенький огород вскопать и то только из-под палки. Он начал говорить громко, а потом сбился и забормотал, как бы для самого себя, глядя в сторону. Молодая женщина на огороде в это время повернулась, и я увидел, что вся спина у нее в шрамах и рубцах. — Ну, а как все-таки насчет зверя? — спросил Мишель. — Нам тут показали акулу, половина которой была выжата, как лимон. Вы таких не видели? Нет, он не видел. А если и видел, то не запомнил. Он такими вещами не занимается. Акула или не акула — это еще ничего не доказывает… Женщина снова повернулась к нам спиной, и Мишель тоже увидел ее рубцы. Рыжеволосый перехватил взгляд Мишеля и, нахмурившись, крикнул женщине по-малайски, чтобы она убиралась прочь. Та прижала к груди кучку корней маниоки и ушла за сарай. — Да, — сказал я после неловкой паузы, — значит, этот зверь вас совершенно не интересует? — Абсолютно, — отрезал рыжий. Солнце уже почти закатилось за горизонт. Там, где небо смыкалось с океаном, громоздилась полоса черных туч. Над ними небо было розовым, выше — бледно-серым, еще выше — сине-серым. В джунглях немыслимым голосом кричала птица-носорог. С ума можно было сойти от этой красоты! По песчаному берегу, держа в руках большой банановый лист, шел папуас. На фоне розовой полоски неба он выглядел, как высеченный из черного камня. Папуас подошел ближе и оказался бородатым Петром. — Петр принес еще акулу, — сказал он. — Петр обещал и принес. Он бросил на песок свою ношу. Это был не банановый лист, а раздавленная акула метра в два длиной. Она упала с сухим треском. Мы с Мишелем склонились над этим чудом. Вы понимаете, месье, даже зубы были раздавлены и превратились в какое-то крошево, которое рассыпалось под пальцами. Она была так сплющена, эта огромная рыбина, что ее можно было бы просунуть под дверь, как письмо. — Там таких много? — спросил Мишель. — Где ты их находишь? — Петр может принести таких акул сколько угодно. Петр смелый. Он два года учился у белых в Батавии. Петр ничего не боится, кроме тюрьмы… Тут папуас замолчал. А у сарая стояла молодая женщина и смотрела на него. Рыжеволосый вскочил. Он замахнулся на женщину и разразился градом ругательств. Женщина отступила на шаг, продолжая смотреть на Петра. Голландец схватил ее за руку и толкнул в темноту. Потом он повернулся к Петру: — А тебе какого дьявола здесь надо? — Потише-потише, — сказал Мишель, поднимаясь с корточек. — Петр пришел к нам. — Петр не пришел к желтому туану, — с достоинством сказал папуас. — Петр пришел к двум туанам. — При этом он все же отступил на шаг. — А ну, пошел вон! — закричал рыжий. — Проваливай, пока я тебе брюхо не прострелил! Он вытащил из кармана револьвер и взвел курок. Дело запахло убийством, и я почувствовал, что у меня вдруг вспотела спина. — Петр придет к двум туанам на шхуну, — сказал папуас. — Завтра можно ехать смотреть хозяина. Петр придет со своей лодкой. — Он повернулся и быстро пошел прочь. — Вот-вот, — крикнул ему вслед голландец, — близко сюда не подходи! — Он обернулся к нам: — Совсем обнаглели, свиньи! Никакого уважения к белому человеку! — А может быть, и не надо, — сказал Мишель. Он набивался на драку. Но детина уже не слушал его. Он бормотал что-то свое. Мы подобрали акулу и пошли к себе. Когда мы были уже довольно далеко от сарая, сзади послышался топот и тяжелое дыхание. — Послушайте, — сказал рыжий, догоняя нас, — послушайте, может быть, у вас на судне есть ром или виски. Я могу взамен дать копал. — У нас у обоих язва желудка, — объяснил Мишель. — На шхуне нет ни капли спиртного. — А-а, — сказал голландец и отстал. Ночь я почти не спал из-за малярии, задремал только к утру, а когда проснулся, увидел, что у борта шхуны качается на волне папуасская лодка. Пока мы спускали туда акваланги и аппарат — у нас был Пате с девятимиллиметровой пленкой, — Мишель успел рассказать мне то, что выведал у нашего бородатого друга. Выяснилось, что все окрестные папуасы находятся здесь в полном подчинении у рыжего голландца. Он появился в этом краю сразу после войны, вооруженный, остервенелый, злой, и заявил, что будет вождем всей округи. Тотчас погнал папуасов в горы за копалом и стал забирать для себя в деревнях лучших девушек. Когда трое парней попробовали протестовать, рыжий с помощью голландских властей засадил их в тюрьму в Соронге. (По мнению Мишеля, наш Петр тоже побывал за решеткой.) — И понимаешь, — сказал Мишель, — вот что меня озадачивает. Оказывается, этого рыжего с револьвером папуасы тоже зовут «хозяином». Тут мы посмотрели друг на друга. А что, если папуас из Япанги или Яранги, говоря о ненасытном чудовище, имел в виду как раз этого гнусного типа? Но раздавленные. акулы! Но Петр, который явился со своей лодкой, чтобы ехать к «хозяину»! Одним словом, я был несколько ошарашен этой новостью. Однако размышлять было уже некогда. Петр стал на корме с большим однолопастным веслом — пагаём — в руках. Папуасская техника кораблестроения не предусматривает в лодках скамеек, поэтому сидеть там чертовски неудобно. Кое-как мы устроились на корточках, вцепившись в борта руками. Мне трудно рассказать, месье, об этой первой поездке к «хозяину». Эти вещи нужно пережить, чтобы иметь о них представление. В тех краях по всему побережью тянется полоса коралловых рифов, которые порой отстоят от берега на три — пять километров, а порой прижимаются к нему вплотную. В рифах есть проходы, иногда широкие, иногда узкие. Через эти проходы во время прилива (да и во время отлива) вода несется со скоростью электрички. Кроме того, у берега постоянное морское течение с юга на север, да еще реки, скатывающиеся с гор, да еще ветер, который тоже дует куда ему вздумается. Пока мы были возле шхуны, стоявшей в затиши, мы всего этого не чувствовали. Но Петр вел лодку все левее и левее от деревни, ближе к рифу, который грохотал, как десяток товарных поездов. И вот тут-то оно началось. Лодка была легкая, как яичная скорлупа, и волны делали с ней что хотели. То горизонт взлетает над твоей головой, как будто весь мир взбесился (а ты уже насквозь мокрый), то солнце вдруг очертя голову, стремглав кидается вниз, а где-то возле сердца сосет и подташнивает, потому что твое чувство равновесия не поспевает за всеми этими скачками. Впереди то черная кипящая пропасть, то мощная зеленоватая стена, окаймленная белой пеной, — бесчисленные сотни тонн тяжелой соленой воды, которыми море играет шутя, как ребенок игрушкой… Но ко всему привыкаешь, месье, привыкли и мы к этой каше. А Петр только скалил зубы на корме, глядя на наши скорчившиеся фигуры. Так мы и плыли около часа, подошли совсем близко к ревущему рифу, обогнули песчаный мыс. И неожиданно вышли в тихую воду. Прямо на нас медленно двигался большой скалистый остров — остров Апусеу. Теперь риф был уже позади него. Справа, примерно в километре, остался берег, где зеленые занавеси джунглей перемежались с известковыми скалами. Вдруг сделалось тихо. Грохот рифа доносился издалека, как проходящая стороной гроза. Петр греб осторожно и внимательно вглядывался в воду. У нас с собой было двухствольное нарезное ружье «голланд» тринадцатимиллиметрового калибра. Папуас кивнул, чтобы мы его приготовили. Сердце у меня сжалось от волнения. «Хозяин» был где-то здесь. Кто такой, наконец, этот зверь? На что он похож? Мы переглянулись с Мишелем, и он облизнул пересохшие губы. Остров Апусеу был перед нами, потом оказался слева. Это было удивительное место в том смысле, что тут совсем не было волнения. Позади, в каких-нибудь трехстах метрах, бесновались кипящие валы, у берега — мы видели это отсюда — волны пенились барашками, а тут поверхностьводы была как зеркало, как кристалл. Тихое, спокойное озеро среди моря. И ничем не отделенное от моря. Какой-то каприз, течений, прибоя и ветров. Петр последний раз опустил весло, и лодка остановилась. — Здесь, — сказал. он. — Хозяин здесь. — Как — здесь? — Пусть туаны посмотрят на берег. Петр показал рукой на узкую песчаную кромку у подножия скал на острове. Мы туда взглянули и охнули. Десятки раздавленных и высосанных акул валялись на белом песке, и еще несколько вода качала у самого берега. Какой там аппарат! Мы и думать забыли про съемки. Я сжимал ложе ружья с такой силон, что у меня пальцы побелели. — А где должен быть сам хозяин? — спросил Мишель. Он перешел на шепот. — Там, на берегу? — Здесь, — папуас ткнул пальцем вниз, на воду. — Он здесь, под лодкой. Мы стали вглядываться в воду, но там ничего не было. Отчетливо мы видели мелкие камешки, водоросли, всевозможных ракообразных (так отчетливо, как бывает только в очень прозрачной воде в солнечную погоду). А дальше дно уходило вниз. Петр сделал еще несколько осторожных гребков. Теперь дна уже не было видно, под нами мерцала зеленоватая глубина. Небольшая, сантиметров в десять, полосатая рыбешка вильнула возле самой лодки, замерла на миг, а потом как-то косо, трепеща, стала опускаться и исчезла внизу во мраке. И одновременно в воздухе раздался какой-то слабый треск. Даже не треск, а щелчок. Мы сидели очень тихо и ждали. Ружье было приготовлено. Нам казалось, что вот сейчас со дна начнет подниматься нечто страшное. Мишель вдруг положил руку на маску акваланга: — Я нырну. — Нет, — сказал Петр. — Да, — сказал Мишель. — Нет, — повторил Петр. — Это опасно. — Ну и пусть. — Мишель кивнул мне. — Страхуй. Он натянул на лицо маску, сунул в рот резиновый мундштук и перекинул ногу через борт. Через мгновение он был уже в воде, и мы видели, как он стремительно погружается, сильно работая руками. Мы переглянулись с папуасом. Петр был испуган, но не очень. Только сильно возбужден. Прошла минута. Мишель исчез, гроздья пузырьков поднимались из зеленоватой тьмы… Еще минута… Еще одна… Нервы мои были напряжены до предела, месье. Надеюсь, вы меня поймете. Что-то жуткое было разлито кругом. Эта тишина, такая странная в бушующем море, мертвые скалы острова, остатки акул на песке… Не знаю, что это со мной случилось, но после трех минут ожидания я вдруг неожиданно для себя поднял ружье и наискосок выпалил в воду из обоих стволов. Выстрелы грохнули, и в ту же минуту мы с Петрам увидели, как Мишель поднимается из глубины. Он стремился наверх отчаянными рывками, как человек, за которым кто-то гонится. Он вынырнул метрах в пяти от лодки и тотчас поплыл к нам. Я помог ему перелезть через борт, а Петр навалился на противоположный, чтобы лодка не перевернулась. Мишель сдернул маску, и, скажу вам, он был серый, как штукатурка. Несколько мгновений он молчал, стараясь наладить дыхание, потом сказал: — Я здорово испугался. — Чего? Он пожал плечами: — Сам не знаю чего. — Но ты спустился до дна? — Да, до самого дна. Петр тем временем осторожными движениями стал выгребать к бурливой воде. Мишель глубоко вздохнул несколько раз. — Там что-то было, — сказал он, — только я не знаю что. Понимаешь, в какой-то момент стало ясно, что я не один там, в глубине. Что-то следило за мной. Что-то знало, что я здесь. Я это ощутил всей кожей. Здорово испугался. — А что это такое было? — Не знаю. Я опустился на дно, и сначала ничего не было. Дно как дно. Такой же песок, как везде. И отличная видимость — прекрасные условия для съемки… А потом я это почувствовал. Очень ясно. Что-то там есть. Рыбка, похожая на окуня, мелькнула у весла. Вода возле нее вдруг помутнела, и опять раздался щелчок, который мы уже слышали. Рыбка косо пошла ко дну. Петр кивнул: — Хозяин позвал ее к себе. Как — позвал? Что же такое этот «хозяин»? Где он прячется? Мы накинулись на папуаса с вопросами, но он ничего толком не мог нам ответить. Вы понимаете, месье, по-малайски мы знали всего несколько десятков самых простых фраз, и этого оказалось недостаточно. По словам Петра выходило, что «хозяин» иногда бывает огромным, как море, а иногда маленьким, как муравей. Но что это такое, было непонятно… На этом, собственно говоря, и закончилась наша первая поездка к «хозяину» в район острова Апусеу. Довольно долго — теперь уже часа три — Петр выгребал против течения, и мы вернулись на шхуну совсем замученные. Негр сказал, что снова поедем к «хозяину» через день. Вечером к нам на судно вдруг неожиданно пришел голландец. Удивительный визит, месье! Было абсолютно непонятно, зачем он пришел, этот рыжий. Появился на берегу, посигналил, чтобы за ним выслали шлюпку, поднялся на борт и уселся на бухту каната. Даже нельзя сказать, что мы разговаривали. Просто он сидел, смотрел в сторону и время от времени начинал бормотать что-нибудь вроде того, что все папуасы, мол, свиньи и что жить в этом краю очень тяжело. Мы с Мишелем подчеркнуто не обращали на него внимания, а занимались своим делом, то есть сортировали и упаковывали отснятую раньше ленту. Когда ветерок дул от голландца к нам, то несло такой кислой и душной вонью, что нас обоих передергивало. Видимо, этот человек не мылся и не купался в море по крайней мере год. Мы, не сговариваясь, решили, что ни при каких обстоятельствах не пригласим его ужинать, и действительно не пригласили. Когда он говорил, то сначала как будто бы обращался к нам и первые слова произносил явственно, но потом тотчас сбивался и переходил на свое невнятное бормотание. Этот вонючий полусумасшедший с револьвером в кармане казался мне живым воплощением колониализма. Серьезно, месье. Эта ненависть к «цветным» и в то же время нежелание уезжать отсюда, эта тупость и этот запах гниения… Мы с Мишелем еще раньше подумали, что рыжий детина у себя на родине сотрудничал с гитлеровцами, наверняка был одним из «моффи», как голландцы называли фашистов, и приехал в Новую Гвинею, чтобы избежать суда. Я его спросил: — Чем вы занимались в Голландии во время войны, при немцах? Что-то юркнуло у него на лице, и он промолчал. А деревня на берегу выглядела совсем вымершей. Ни костров, ни песен и плясок, на которые так охочи папуасы. Голландец ушел так же неожиданно, как и появился. Встал и полез в шлюпку. И уже снизу сказал, что хочет поехать вместе с нами к острову Апусеу. Хочет набрать там черепашьих яиц. Я ответил ему, что относительно поездки он должен справиться у Петра, а не у нас. Лодка принадлежит Петру, и он командует всем предприятием. По-моему, голландец меня не понял. Наверное, у него в голове не укладывалось, что белый о чем бы то ни было может спрашивать разрешения у туземца. Он еще раз сказал, что хочет набрать яиц. Ему нужны черепашьи яйца, а папуасы боятся выходить в море. Ночью мне приснился рыжий детина. Он обхватил Петра руками и ногами и сосал кровь из горла. Мишель и я ожидали, что Петр не захочет брать голландца на остров. Но папуас проявил неожиданный энтузиазм. «Желтый туан» хочет поехать к «хозяину»? Очень хорошо. Тогда лодка пойдет не завтра, а сегодня. Пусть два туана собираются, а Петр побежит за «желтым туаном». Пусть два туана торопятся, выехать надо как можно скорее. Петр бегом отправился за голландцем, а мы принялись стаскивать в лодку акваланги, аппарат, ружья. Рыжий детина появился почти тотчас же. Он тащил с собой большую корзину. Карман брюк у него оттопыривался. Очевидно, он в этом краю не расставался с револьвером ни днем, ни ночью. По указанию папуаса мы уселись в лодку. Мишель — на носу, затем я, потом голландец и, наконец, сам Петр на корме. Все сели лицом к движению. Папуас принес еще одно весло, и я должен был помогать ему грести. Кроме того, Петр спросил, есть ли у нас динамитные патроны. Мы взяли с собой три штуки. На этот раз Петр гнал лодку так быстро, что в район острова мы добрались минут за тридцать. Снова сильно качало, и голландец за моей спиной всякий раз ругался при сильных ударах волн. Снова волнение прекратилось, когда мы оказались вблизи острова. Опять поворачивались перед нами белые скалы, у подножия которых валялись остатки пиршеств чудовища. Но тихое озеро среди моря было теперь несколько другим. Вода рябила. Какие-то птицы с криком носились над нами. Повсюду слышалось характерное потрескивание. И пузыри, месье. В разных местах под нами возникали гирлянды крупных пузырей, торопились к поверхности, здесь собирались в гроздья и лопались. Казалось, море дышит. Во всем этом было какое-то ожидание, какая-то тревога. И мы эту тревогу почувствовали. Мишель вынул из кармана динамитный патрон, я взялся за ружье. Петр на корме пристально вглядывался в воду, глаза у него заблестели. Голландец отложил корзину в сторону и сунул руку в карман. На лице у него появилось выражение тупой недоуменной подозрительности… То, что произошло дальше, заняло не больше двух минут. Петр вдруг поднял весло и с силой ударил плашмя по воде. Мы еще не успели удивиться, как вдруг прозрачная вода начала мутнеть, в глубине обозначились какие-то ветвистые белые трубки, которые тянулись к лодке. И одновременно раздалось сильное щелканье. Как будто кто-то ударил бичом. Вода сделалась еще темнее, побурела. Лодку сильно толкнуло. Вода загустела, на наших глазах она превратилась в какое-то желе, а через мгновение это была уже вообще не вода, а что-то твердое, живое. Месье, в это трудно поверить, но лодка вдруг оказалась лежащей на живой плоти, на чьем-то гигантском теле, бесформенном, безглазом, безголовом, которое корчилось под нами и пыталось схватить лодку, но только выдавливало ее наверх. Сзади раздалось ругательство рыжего, затем мои уши ожег револьверный выстрел. Я услышал чей-то слабый крик. Но ни я, ни Мишель не могли оглянуться. Лодка так накренилась, что мы чуть не вывалились наружу, в объятия этой плоти, которая корчилась под нами. Мишель схватился за борта, а я уперся дулом ружья во что-то упругое, пульсирующее. Это упругое вдруг подалось под моим напором и потянуло ружье. Я бросил ружье и попытался оттолкнуться руками от этой плоти и так боролся какие-то мучительные мгновения, стараясь сохранить равновесие. А скользкие мускулы ходили под моими ладонями. В этот момент чья-то рука схватила меня за волосы и потянула наверх. Тут же надо мной мелькнуло тело Мишеля в стремительном изгибе. Где-то неподалеку раздался грохот взрыва. Я понял, что Мишель кинул динамитный патрон. И тотчас все быстро пошло обратным порядком. Бурая плоть превратилась в желе. Желе мгновенно растаяло. Лодка выпрямилась. Вокруг снова была вода, мелькнули и пропали белые трубки. Прошло две или три секунды, и лодка уже качалась на спокойной, прозрачной воде. «Хозяин» появился, и «хозяин» исчез. Мы с Мишелем, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Мы были так ошеломлены случившимся, что не сразу поняли, что на нашей лодке что-то изменилось. Но что? Почему нас только трое, а не четверо? Рыжего голландца не было. Мы повернулись к папуасу. Он развел руками: — Желтый туан упал. Петр хотел вытащить желтого туана, но хозяин взял его к себе. Тут Мишель вдруг вздохнул, глаза его расширились. Я взглянул туда же, куда уставился он, и почувствовал, что все волоски у меня на коже встают дыбом, один отдельно от другого. Месье, я был на войне и видел много страшных вещей, но такого я не видел никогда. Внизу под лодкой, немного в стороне, медленно опускалось что-то похожее на большой лист бумаги, вырезанный в форме человека. Там было все — и рыжая борода, и розовое лицо с рыжим пушком на макушке, и куртка, и брюки цвета хаки. Только все это было не толще газеты, и, как мокрая газета в воде, все это складывалось и сминалось, опускаясь на дно. «Хозяин взял его к себе». У меня к горлу подступила тошнота, и я присел, чтобы не упасть. Следующие несколько часов как-то выпали у меня из памяти. Помню только, что в лодке открылась трещина и мы с Мишелем по очереди откачивали воду футляром киноаппарата, а Петр все взмахивал и взмахивал своим пагаём. Потом был пляж, деревня, Петр, окруженный толпой папуасов, которых вдруг оказалось очень много в деревне… Окончательно мы пришли в себя только на борту шхуны. Пришли в себя и принялись обдумывать то, что видели. Нас не занимала смерть рыжего негодяя, нет. Этот человек заслужил свое. Мы думали о том, что такое «хозяин». Вы понимаете, месье, гигантское животное — а оно было именно гигантским, поскольку в то время, как мы боролись в лодке, живая плоть простиралась на несколько метров кругом, — это животное не поднялось со дна. Нет. Просто вода превратилась в живое тело. Оно не пришло к нам. Оно стало, а затем его не стало. Оно ассоциировалось как будто бы из ничего, а затем растворилось, распалось на какие-то мельчайшие, даже микроскопические частицы. Сначала оно возникло и образовало эти белые трубки, мышцы страшной силы, способные раздавливать кости, а потом, когда Мишель бросил заряд, оно снова превратилось в прозрачную воду. Я много размышлял об этом впоследствии, когда мы уже покидали Индонезию. Может ли существовать животное, которое состоит из отдельных частей, объединяющихся в случае необходимости? Ведь мы привыкли к тому, что животное — это всегда цельный, неделимый организм. Мы привыкли, что делить организм на части означает убивать его. Все это так, месье, но я пришел к выводу, что у нас тем не менее есть животное, которое состоит из отдельно существующих частей. Муравей… То есть, простите, как раз не муравей, а муравейник. Муравьиная семья. В самом деле, что такое отдельный муравей? Можем ли мы считать его самостоятельным организмом, отдельным животным? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим себе сначала еще один: а что же такое животное? По моему разумению, месье (я ведь не специалист), животное-это такой организм, который способен к самостоятельному существованию, хотя бы и паразитическому, и участвует в акте продолжения рода. Конечно, это не полное и не научное определение. Но так или иначе, животным мы называем то, что живет, то есть питается — так или иначе поддерживает свою жизнь, — и что воспроизводит себе подобных. Так вот, с этой точки зрения отдельно взятый рабочий муравей не есть животное. Ведь он не участвует в продолжении рода. Не воспроизводит себе подобных. Только обслуживает матку. Он как бы мускул муравейника, его рабочий орган, точно также как муравьиная матка является органом воспроизводства. Ведь если б матка была обыкновенным животным, ей следовало бы рождать только самцов и таких же маток, как она сама. Так ведь получается у львов, у свиней, у кого угодно. Но матка рождает еще и бесполых, бесплодных рабочих муравьев и солдат. Другими словами, она создает еще и отдельно существующие рабочие и защитные органы своего тела. Рождает мускулы. Таким образом, я хочу сказать, что муравейник — это организм, который состоит из отдельно существующих частей. Причем это не механическое собрание отдельных единиц. Именно организм, который всегда действует согласованно и управляется общим и очень сложным инстинктом. Мне кажется, что именно таким же было и чудовище, с которым мы встретились у острова Апусеу. По-видимому, «хозяин» — это животное, состоящее из невообразимо большого числа микроскопических частиц (то, что они микроскопические, доказывается прозрачностью воды возле острова). В состоянии покоя частицы пребывают взвешенными в воде. Но, когда животное приступает к охоте, по какому-то сигналу взвешенные частицы мгновенно объединяются и образуют стальные мышцы, которые схватывают и сдавливают добычу, создают трубки, которые высасывают из жертвы кровь и соки, образуют аппарат, который с фантастической быстротой распределяет пищу и наделяет ею каждого участника охоты. Вы понимаете, по всей вероятности, животное, когда оно голодно, реагирует на появление в своей среде инородного крупного тела. Например, акулы. И нашу лодку оно тоже приняло за акулу. Пожалуй, нас спасло только то, что папуасские лодки имеют очень малую осадку. «Хозяин» попытался ее схватить, но вместо этого выдавил на поверхность. Папуас из Янаги, который первым рассказал нам о чудовище, был прав, утверждая, что его нельзя ни застрелить, ни поймать в сеть. Попробуйте попасть в него пулей или поймать, если животное просто перестает существовать в качестве целого в момент опасности… Мы много думали с Мишелем о том, как могло возникнуть и развиваться такое чудовище. Наверное, вначале были какие-то «водяные муравьи», которые в процессе эволюции, приспосабливаясь к окружающей среде, делались все мельче и мельче и дошли наконец до микроскопических размеров. И вместе с этим шел процесс специализации. Одни из этих мельчайших существ стали служить только для того, чтобы в нужный момент составлять трубки, другие — мускулы, и так далее. И тогда они уже окончательно утеряли самостоятельность, перестали быть организмами, а сделались одним организмом. Очень может быть, что где-то на дне в бухте у острова прячется и общая матка этого животного, которая и сейчас порождает и порождает миллионы составляющих его частиц… Что вы сказали?.. С муравьями? Да-да, я тоже задавал себе этот вопрос. Муравьи тоже охотятся скопом. Особенно тропические муравьи. Нападают и раздирают на части даже довольно крупных животных. Но разница в том, что муравьи при этой охоте не образуют никакой структуры. А «хозяин», насколько я все это понял, образует. Вообще говоря, всё это сложные и интересные вопросы, месье. Иногда я думаю о том, какие удивительные и принципиально новые формы жизни могут быть еще открыты наукой. Пожалуй, где-нибудь в Космосе, на других мирах, людям могут встретиться и такие организмы, которые смогут ассоциироваться и возникать из мельчайших частичек и диссоциироваться в случае необходимости. И не обязательно они окажутся низшими животными. Возможно, это будут и мыслящие существа… Вы не согласны? Мозг… Да, возможно. Действительно, мыслящее существо должно иметь мозг. Но тогда это могут быть животные с чрезвычайно сложным и развитым инстинктом. Такой сложности, что мы даже и представить себе не можем… Я не утомил вас этим рассказом? Нет?.. Благодарю вас. Но мне все равно осталось рассказать уже очень мало. Мы пробыли в этой деревне еще три дня. Экспедиция должна была заканчиваться, и срок, на который мы зафрахтовали наше суденышко, тоже истекал. Удивительно переменилась деревня после гибели голландца. В тот же вечер на берегу зажглись костры. Из хижин вышли папуасы, множество молодежи. Начались песни и танцы. И все радостно кричали о том, что «хозяин» умер. Утром на шхуну пришел Петр. Вид у него был несколько смущенный. Он поздоровался с нами, пожал нам руки, а затем спросил, не можем ли мы написать ему бумагу. Какую бумагу? Зачем? Выяснилось, что, если в деревне не окажется написанного белыми документа о том, что голландец погиб в результате несчастного случая, половина жителей будет арестована и посажена в тюрьму. Месье, положа руку на сердце, я не могу сказать, был ли тут виноват несчастный случай. Я слышал за спиной выстрел. Кроме того, Петр как-то слишком заторопился, когда узнал, что рыжий поедет с нами. Как будто хотел попасть к определенному часу. Все это с одной стороны. Но с другой… Одним словом, мы написали такой документ. И, чтобы не создавать трудностей для следствия, не стали упоминать ни о выстреле, ни о крике. В конце концов, вся история с рыжим голландцем была суверенным делом жителей деревни… Были ли мы еще раз у «хозяина»?.. Нет, не были. Это оказалось просто невозможным. Папуасы устроили пир, который длился все время, что мы там оставались, и должен был длиться еще неделю. Петр праздновал свадьбу с той самой молодой женщиной, которая… Одним словом, вы понимаете, с какой. Да, кроме того, нам самим, честно говоря, не очень хотелось ехать тогда к острову. Слишком живы были воспоминания о том, чт чудовище сделало с голландцем. Мы теперь собираемся отправиться на остров. Вот сейчас. Мишель ждет меня в Мерауке. Но я не сказал вам еще об одной детали. Вы понимаете, когда мы, испуганные и потрясенные, возвращались в тот второй раз, Мишель, оказывается, набрал фляжку воды из бухты. Мы вылили эту воду в стакан и поставили на стол в каюте. Месье, в тропиках открытая вода зацветает буквально через несколько часов. Но эта вода не зацветала. Прошел день, другой, третий. А вода в стакане оставалась такой же кристально прозрачной. И стенки стакана на ощупь были даже холодными — это при сорокаградусной-то жаре. В конце концов, Мишель взял да и сунул туда палец. И представьте себе… Месье, простите! Это ваш самолет. Да-да, осталось пять минут. Бегите! Бегите… Нет, позже. Я просто напишу вам. Бегите, а то вы не успеете… Месье, спасибо, что вы меня выслушали. Нет, бегите. Взаимно, месье, взаимно… Да, обязательно. Я записываю. Напишу сразу, как вернемся… Записываю. Москва… Так… Так… Я вам непременно напишу. До свиданья!
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ СПЛЕТЕННЫЕ КОЛЬЦА
Официальной олимпийской эмблемой являются пять цветных сплетенных колец, символизирующих пять континентов: голубое — Европу, черное — Африку, красное — Америку, желтое — Азию и зеленое — Австралию.

ТРЕТИЙ ЗНАЧОК Голубое кольцо
Их было четверо, и они были похожи, как братья. У всех четверых коленки были всегда в ссадинах, руки испачканы и поцарапаны, а штаны порваны и заплатаны. Даже имена всех четверых начинались на одну букву: Луиджи, Лоренцо, Леонардо, Лючиано. Но они не были братьями. Просто они все жили в одном доме. В одном из тех высоких облезлых, старых домов, что выходят своими слепыми от жалюзи окнами на реку. Перед домом пролегала широкая мостовая и росли высокие древние платаны. Но окна тех комнат, где они жили, выходили не на реку. Они выходили в узкий, всегда темный, сырой двор. Над двором, словно облака, нависли бесчисленные груды белья, развешанного на протянутых между окнами веревках. Впрочем, белье скорее напоминало тучи — оно было не белым, а серым. Луиджи, Лоренцо, Леонардо и Лючиано частенько дрались между собой, награждая друг друга звонкими пощечинами и тумаками. Но жить один без другого они не могли, и какая бы отчаянная «навечная» ссора ни разъединила их накануне, они мгновенно объединялись, если нужно было дать отпор «заречным» ребятам или возникал проект интересного приключения. Одним словом, они были неразлучны, как братья. Вместе играли и дрались, лазали по крышам и получали трепки от матерей, вместе зарабатывали деньги, что случалось делать по-разному. Иногда в огромных мусорных кучах, что высились за городом, за древним, построенным еще рабами виадуком, удавалось разыскать целые бутылки или консервные банки. Иногда в дни сенсаций их брали на пополнение армии таких же голоштанных и горластых газетчиков. А иногда, и это было высшим счастьем, они проводили вечер в одном из маленьких спортивных залов, разнося пиво, «кока-кола», мороженое. Они торопливо сновали в душном, прокуренном помещении среди орущих людей, порой застывая как зачарованные, не в силах оторвать взгляд от ярко освещенного ринга, на котором, потные, растрепанные и окровавленные, утопая в табачном дыму и пыли, метались боксеры. Возвращаясь домой по темным дождливым улицам, они с азартом обсуждали проведенный вечер, вновь и вновь переживая чужие бои, завидуя зрителям, которые могли смотреть эти бои каждую субботу, а больше всего завидуя боксерам. Они не знали, что зрители подчас всю неделю копили гроши, чтоб субботним вечером сходить на бокс, что боксеры — такие же бедняки, как они сами, хоть и взрослые. Только мальчишки за несколько измятых лир разносили пиво, а боксеры за те же лиры избивали друг друга. Они этого не знали. Они видели спорт, а спорт — это было здорово, и теперь, в дни олимпийских игр, Луиджи, Лоренцо, Леонардо и Лючиано считали себя самыми счастливыми, потому что игры эти происходили в их городе, в Риме. Разумеется, они не имели возможности побывать на стадионах, в спортзалах или бассейнах. Зато они частенько видели мчавшиеся по улицам большие автобусы, в которых спортсмены ехали на соревнования. Они толкались у входа в Олимпийскую деревню или у ворот стадиона. А в день открытия игр ценой отдавленных ног и затекших рук им удалось увидеть весь олимпийский парад! И они навсегда запомнили и синее небо, и сверкающее солнце, и тысячи голубей, взметнувшихся над городом, словно тысячи белых приветственных платков. Они навсегда сохранили в памяти шумный, жаркий, вихревой день, наполненный красками, музыкой, криками и движением. Они могли бы и через десять лет рассказать с мельчайшими подробностями об олимпийском шествии к стадиону. Через десять лет! А тем более в тот же день, когда, качаясь от усталости, оглушенные и помятые, они вернулись в свой сырой, темный двор и предстали перед дядей Боссо. Дяде Боссо было безразлично, где сидеть с молотком в одной руке и каким-нибудь старым ботинком в другой — в темной конуре, выходившей на темный двор, или на ярком солнце. Дядя Боссо был слеп. Вы можете сказать, что слепых сапожников не бывает. А вот представьте, бывают! И лучшим доказательством служил дядя Боссо. Когда-то он был моряком, побывал на всех морях и океанах, но во время войны его ранило, и он потерял зрение. Теперь с рассвета до темноты он сидел, сгорбившись, зажав между коленями колодку, и чинил ботинки. Он брал дешево, потому что работал неважно, и ему приносили на починку свою обувь окрестные бедняки. Он на ощупь резал кожу, забивал и вытаскивал гвозди, подшивал суровой ниткой отвалившиеся подошвы, укреплял поломанные каблучки давно немодных туфель. Получалось плохо, клиенты ворчали, а то и сердились, но потом опять приходили к дяде Боссо, потому что дешевле все равно никто не брал. Да и жалко было старого инвалида. Но для Луиджи, Лоренцо, Леонардо и Лючиано дядя Боссо не всегда бывал старым инвалидом. По воскресеньям или когда не было работы, он часами рассказывал им о своей морской жизни. Перед затаившими дыхание ребятами возникали лазурные тропические бухты, волосатые тонконогие пальмы, суровые белые льды, далекие чудесные города, бури и тайфуны, кораблекрушения и морские сражения; запах стираного белья, сырости и нечистот, всегда стоявший во дворе, исчезал, уступая место соленым ветрам и ароматам смолы, нагретой палубы и порохового дыма. И сам дядя Боссо распрямлялся и превращался в усатого красавца моряка в ослепительно белой форме, стоявшего на капитанском мостике… Они любили дядю Боссо, и он любил их. В зимние слякотные дни они приносили ему щепу и куски угля, ходили за хлебом и сыром, бегали за гвоздями. А главное, он был поверенным их славных дел, их приключений, затей и мечтаний. Он сам придумывал для них разные интересные игры и дела. Вот и в тот день он устроил настоящий конкурс — кто лучше сумеет описать олимпийские делегации. Лучше всех это сумел сделать Лючиано. За это дядя Боссо наградил его кожаным футляром для гребенки, который сам смастерил. Это был довольно бесполезный подарок, потому что Лючиано в жизни не держал в руках гребенки. Но все же он был очень горд призом. Пока шли игры, дядя Боссо часто придумывал такие конкурсы, награждая кого конфетой, кого почтовой маркой, кого освободившимся из-под клея пузырьком. В конечном итоге как-то выходило, что все получали награды поровну. А когда до конца игр осталось два дня, дядя Боссо собрал их и сказал: — Завтра проводим последний аврал! В море выходите все четверо! Курс — Олимпийская деревня! Боевая задача — достать значок! Кто достанет лучший значок, тот лучший капитан! Награда… — И тут дядя Боссо выдержал длительную паузу. — Компас! Сначала им показалось, что они ослышались. Но дядя Боссо повторил: — Компас! Компас! Заветная мечта, предмет неизменного восхищения и благоговения! Черный, немного облезлый, в потертом замшевом футляре, он лежал на дне морского сундучка дяди Боссо. Иногда дядя Боссо вынимал его и давал им подержать, полюбоваться на маленькую светящуюся зеленую стрелку, всегда указывающую правильный путь. На следующее утро все четверо, серьезные и сосредоточенные, в полном сознании важности предстоящей задачи двинулись в дорогу. У каждого был свой продуманный за ночь план, которым он горел поделиться с тремя другими. Но план этот был великой тайной, долженствовавшей принести победу, и каждый молчал. Главное было пройти в Олимпийскую деревню. А это было неимоверно трудно. Вдоль высокого проволочного забора прохаживались полицейские. Конные патрули карабинеров объезжали ограду. Недалеко от входа в деревню друзья расстались. Они долгим взглядом посмотрели друг другу в глаза — так смотрят, прощаясь, моряки, уходящие в дальнее опасное плавание, — пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Лючиано повезло больше всех. Не успел он подойти к воротам, как оттуда появилась группа необычно одетых спортсменов — они были в небесно-голубых кителях с золотыми пуговицами и золотыми галунами, над лакированными козырьками их элегантных фуражек сияли сложные золотые украшения. На груди пестрели золотые значки и эмблемы. Это была группа яхтсменов, уезжавшая в Неаполь. Лючиано был заворожен сверканием этих великих людей. С толпой ребятишек он бросился вперед. В одно мгновение яхтсмены были окружены, их дергали за рукава, совали им в руки блокноты для автографов, требовали у них значки. Толпа разъединила спортсменов, затолкала, чуть не опрокинула. Они отбивались как могли, отчаянно пробиваясь к автобусу. Кругом стоял крик, смех. Полицейские врезались в мальчишечью толпу, щедро раздавая пинки и подзатыльники. Кто-то больно толкнул Лючиано локтем, и он кувырком полетел на землю. И в то же мгновение почти рядом с собой в пыли, под ногами, он увидел тусклое сверканье. Золотой значок! Рука Лючиано мгновенно протянулась вперед и сжала металлический кружок. Толпа покатилась дальше. Лючиано вскочил и, засунув добычу в самый глубокий, единственный не дырявый карман, помчался домой. Он несся как вихрь… А тем временем Лоренцо приводил в осуществление свой хитроумный план. Еще раньше он заметил, что у бесчисленных тратторий в окрестностях деревни с утра останавливаются большие красные грузовики. На грузовиках аккуратными рядами высились красные ящики с бутылками «кока-кола». К одному из таких грузовиков он теперь и направился. Кругом никого не было, кроме редких утренних прохожих. Медленно, осторожно, затаив дыхание Лоренцо подкрался к грузовику. Из кабины шофера доносился храп — шофер спал, ожидая, пока откроется траттория. Лоренцо дрожащими руками, беспрестанно оглядываясь, начал снимать один из красных ящиков. Вдруг за спиной он услышал шорох и странное ворчание. Сердце Лоренцо чуть не выпрыгнуло из груди. Зажмурившись, он медленно обернулся. Потом сразу открыл глаза. Перед ним стояла собака и влажными добрыми глазами смотрела на него. На собаке был красный халатик с надписью «кока-кола», а на голове, кокетливо сдвинутая набок, держалась с помощью ремешка красная каскетка. Собака внимательно наблюдала за Лоренцо. — Здравствуй! — заискивающе улыбнулся Лоренцо. — Привет! Как дела? Собака облизнулась и не ответила. Опасливо оглядываясь, Лоренцо вновь потянул ящик. Собака продолжала неподвижно сидеть. Наконец, обливаясь потом, Лоренцо стащил ящик, просунул руки в специальные лямки и надел его на грудь. Затем, боясь оглянуться, зашагал к деревне. Подойдя к воротам, он водрузил на лоб красный козырек с извивающимися буквами «кока-кола», который подобрал еще давно, в день открытия игр, — такими козырьками были усеяны в тот день все подходы к стадиону. С бьющимся сердцем, с мокрыми от волнения руками, он направился в ворота. Лоренцо старался иметь деловой, озабоченный вид: ведь он продавец «кока-кола» и, наверное, опаздывает на свой пост в деревне. — Эй, бамбино, ты куда? Лоренцо остановился как вкопанный. Высокий, весь в сером, контролер строго смотрел на него. У контролера был грозный вид; казалось, что и волчица, изображенная на его форменной куртке, тоже грозно скалится. — Я? — Лоренцо начал заикаться. — Я? В-в-в д-д-деревню… Оп-п-паздываю… — А пропуск у тебя есть? В этот момент, когда, казалось, все было потеряно, раздался грубый голос, прозвучавший в ушах Лоренцо сладчайшей музыкой. — Да брось ты, — произнес голос, — чего привязался к парню? Он и так небось опаздывает. Ты бы еще у этой пропуск спрашивал… Лоренцо обернулся — другой контролер, улыбаясь, показывал на собаку. Невозмутимая, важная в своем халатике и каскетке, она преданно следовала за Лоренцо. — Ну ладно, проходи… — сказал грозный контролер. Лоренцо не помнил, как двинулся дальше по широкой главной улице деревни. Он очнулся, лишь услышав странное шипенье. С трагическим лицом, приложив палец к губам, из-за угла дома выглядывал Луиджи. — Пшт! Пшт! — Он шипел, таращил глаза и делал Лоренцо отчаянные знаки, стараясь привлечь его внимание. Лоренцо сразу повеселел: «Молодец Луиджи, тоже пробрался! Интересно, как другие?» Лоренцо поставил ящик на тротуар и заторопился к другу. — Страшно! Чуть не погиб! — Луиджи всегда был склонен драматизировать события. — Меня ищут по всей деревне! Я сам видел! С собаками! Твоя — это не переодетая ищейка? А? Лоренцо старался успокоить Луиджи, но это мало помогало. Размахивая руками, Луиджи с придыханием шептал: — Там стояла машина, я залез под брезент… сто метров проехал, оказывается, она не в деревню, а наоборот!.. Хорошо, остановилась, еле успел выпрыгнуть!.. Я — в другую, где ящики, так он мне такого дал, во, до сих пор ухо болит! — Кто — он? — заинтересовался Лоренцо, разглядывая рубиновое ухо приятеля, — «Кто»! Шофер, вот кто!.. Я тогда подошел еще к одной. Там бочки. Я в бочку — раз! — и въехал! К столовым подкатили, начали бочки сгружать — пустые все, а они как покатились, моя куда-то совсем в сторону, я выскочил, а они кричат, а я побежал, а они кричат, я сюда, а они… — Луиджи захлебнулся. — Ну, вот что… — Лоренцо взял руководство операциями в свои руки. — Ты туда иди, вглубь, а я здесь останусь. Если что — предупрежу. Главное — значки. А раз ищут, времени терять нельзя. Крадучись вдоль стен, Луиджи двинулся дальше, в глубь деревни, а Лоренцо решительно направился к первой же группе спортсменов, которых увидел. Это были такие высокие люди, что, если б они не стояли перед ним, Лоренцо никогда не поверил бы, что на свете есть подобные великаны: он едва доставал им до колена. — У вас нет значка? — робко спросил он. Но он говорил так тихо и был так далеко внизу, что им, наверное, ничего не было слышно. Они прошли мимо, словно деревенские парни на ходулях, которых видел Лоренцо, когда ездил к тетке. Потом он подошел к группе девушек. Девушки были хорошие, они улыбались ему, гладили по голове и дали апельсин. Но значков у них не оказалось — они ехали на тренировку, и, кроме коротеньких клетчатых штанишек и маек, на них ничего не было. Были на них еще огромные, как клумбы, соломенные шляпы. Но значки они оставили дома — они объяснили это Лоренцо, хотя говорили на непонятном языке. Потом прошел маленький толстый человек с такими толстыми руками, словно это были не руки, а ноги. Он жевал резинку и что-то свистел. Лоренцо обратился к нему, и толстяк, не останавливаясь, вынул из кармана тренировочных штанов значок и бросил его Лоренцо. Лоренцо впился в значок глазами. Увы — это был лишь гладкий жестяной диск сине-белого цвета с красной надписью «кока-кола». Лоренцо даже сплюнул от досады и, размахнувшись, бросил диск в траву. Так бродил он долго, пока наконец две девушки — уже не в клетчатых штанишках, а в синих, — сжалившись над ним, не подарили ему два одинаковых очень красивых значка — золотой петух над сине-бело-красными кружочками. Они тоже дали Лоренцо апельсин. Потом какой-то здоровенный парень, черный-черный, как глаза Лоренцо, дал ему маленький зеленый значок. Когда наконец Лоренцо вернулся к своему ящику, он увидел, что все бутылки пусты, а на дне ящика валяются серебряные монеты. Собака, как часовой, неподвижно сидела рядом. Кто-то приколол к ее красному халатику большой значок в виде пяти переплетенных цветных колец. — Зачем он тебе? — сказал Лоренцо, забирая значок. — Вот съешь лучше апельсин. Но пес презрительно отвернулся. Может быть, значок и не очень интересовал его, но апельсин не интересовал вовсе. Окрыленный удачей — столько значков! — Лоренцо прошествовал мимо контролеров, осторожно, обходом подобрался к траттории и, поставив ящик возле входа, сломя голову помчался наутек. Деньги, вырученные от продажи «кока-кола», он оставил в ящике. Собака, пролаяв ему вслед, осталась сторожить. …Когда Лоренцо подходил к дому, его нагнал Леонардо. Леонардо имел скучающий вид, но за километр было видно, что он страшно горд. — Ну? — спросил Лоренцо. — Что — ну? — притворился непонимающим Леонардо. — Много значков набрал? — Да нет, пустяки. — Леонардо небрежным жестом опустил руку в карман и вынул целую пригоршню значков. Сверкая золотом, переливаясь всеми цветами, на ладони его лежал добрый десяток замечательных значков! Лоренцо даже остановился, не в силах вымолвить слова. — Здорово! — воскликнул он, сгорая от зависти. — Да ты, наверное, всю деревню обошел! — Зачем? — Леонардо, чья физиономия сияла, как медный таз для варки варенья, силился казаться равнодушным. — Я и не заходил в деревню. Для чего? Постоял у входа, только надо было справа, а не слева, где мы всегда стояли, и вот получил… — Что, все подарили! — не веря ушам, спросил Лоренцо. Леонардо замялся: — Ну, часть подарили, часть… наменял… — На что наменял? — Ни на что, так… — Как — так? — Ну… они мне давали в обмен, а я… — Что ты? — А я не давал… Потом-то, конечно, я им дам, — заторопился Леонардо. — И спортсмены тебе верили? — А при чем тут спортсмены? Я у ребят менял. — А ребята тебе верили? — настаивал Лоренцо. Леонардо помолчал. — Некоторые верили… — А остальные? Да скажешь ты толком, у кого менял?.. — закричал Лоренцо, хватая друга за ворот рубашки. — Ну чего пристал! — вырывался Леонардо. — У ребят менял, какие помладше. Но я им потом отдам. Вот честное слово, отдам… Лоренцо понял. Он молча отвернулся от Леонардо и зашагал быстрей. Леонардо трусил сзади, иногда пытаясь забежать вперед и заглянуть Лоренцо в лицо. — Я же отдам им. Потом, когда наберу… — бормотал он. — Я им всем говорил, они согласны, они совсем не все плакали. Честное слово, не веришь?.. Но Лоренцо не удостаивал его ответом. Когда они вошли в свой темный, сырой двор и постучались в окошко к дяде Боссо, Лючиано уже сидел там. Он был мрачен. Дядя Боссо утешал его. — Ничего! Отличная пуговица! Когда я был в Пирее, нас инспектировал адмирал. Так у него все пуговицы были такие — тоже вот с якорем и гербом. Ты говоришь, она золотая? Вот видишь, а у адмирала были серебряные. Очень хорошая пуговица. Но Лючиано был безутешен. С грустью поглядывал он на красивую золотую пуговицу, которую держал в руке. Так ошибиться! Лоренцо вытащил свои значки и разложил на столе. Дядя Боссо не спеша тщательно ощупывал их, а Лоренцо, помогая, рассказывал, что на них изображено, описывал цвета. Потом наступила очередь Леонардо. Он путался и сбивался, рассказывая про свои значки и умоляюще поглядывая на Лоренцо. Но тот лишь презрительно молчал. Осмотр был в самом разгаре, когда в комнатку вошел Луиджи. Он, видимо, был доволен, но, когда глазам его предстали сокровища, разложенные Лоренцо и Леонардо на столе, он сразу приуныл. — Ну, каковы трофеи? — Дядя Боссо устремил на Луиджи свои невидящие глаза. — Да вот… — Луиджи вынул из кармана три тщательно завернутых в бумажку значка и протянул их дяде Боссо. Он торопливо начал оправдываться: — За мной гнались, меня искали. Я спрятался в одном из подъездов, а там, оказывается, наши спортсмены живут, итальянцы. Вот они мне этот дали — красивый, правда? — Он показал на белый эмалированный значок с золотистой звездочкой, переплетенными кольцами и золотыми буквами — ФИАП (было очевидно, что на этот значок он возлагал свои главные надежды). — А потом, — продолжал тараторить Луиджи, — пришел какой-то главный и прогнал меня. Я зашел еще к одним, не знаю кто — они мне этот дали. — Он взглянул на значок в виде зеленого щита с кольцами и звездами. — А потом я совсем в конец деревни прошел, там в синих костюмах были русские. Они мне помогли из деревни выбраться, посадили в машину, когда уезжали на стадион, и вывезли. Хорошие… Дядя Боссо тщательно ощупывал третий из принесенных Луиджи значков. Но этот, видимо, был неудачный. Во всяком случае, он был единственный без позолоты. Он был сделан в виде кружка из темного металла. В кружке был рельефно изображен профиль человека. Нет, значок был не очень красивый и совсем не яркий. Луиджи понимал это. — Это они мне дали значок, русские. Значок некрасивый, но они молодцы. — Луиджи старался оправдать своих новых друзей. — Они мне еще вот что дали… — Он вытащил из кармана открытки. — И шоколадом угостили, а главное, из деревни вывезли. А значок что ж, может быть, у них нет дорогих… Луиджи говорил, а дядя Боссо молчал, сосредоточенно ощупывая маленький металлический кружок. — Ты говоришь, значок недорогой, — прервал он наконец Луиджи. — А что за лицо тут изображено? Я чувствую, что лицо, но какое оно? Все четверо склонились над значком. — Лицо, — медленно говорил Луиджи, — с бородой, маленькой такой бородкой… — А лоб очень большой, — добавил Лоренцо. — А буквы? Там нет букв? — спросил дядя Боссо. — Есть, есть! — хором закричали мальчики. — Только странные какие-то. Вот первая, как наше V, только перевернутая, а вторая… — Достаточно! — Дядя Боссо встал. Протянув руки, он нашел Луиджи (дядя Боссо умел определять их всех на ощупь). — Ты сказал, что это недорогой значок? — Он помолчал. — Нет, Луиджи, твой значок самый дорогой… Он повернулся, достал из-под койки сундучок и вытащил оттуда завернутый в потертую замшу компас. — Твой значок лучший, на, получай компас. —Дядя Боссо опять помолчал. — А значок этот, образ человека, который на нем, носи не над сердцем, не так, как другие значки. Носи его в сердце. И он будет для тебя самым верным компасом. Четверо молчали, они внимательно смотрели на скромный значок и на старый, немного облезлый компас, на маленькую, светящуюся стрелку, ту, что всегда указывает правильный путь…ПОБЕДА Черное кольцо
Говорят, что в трагическую минуту, перед гибелью, например, вся жизнь человека проходит перед ним за одно мгновение. А в счастливую минуту? Не бывает ли так, чтобы в минуту наивысшего счастья, великого торжества, осуществления желаний перед мысленным взором человека пронеслись все горести, все испытания и удары, которые выпали на его долю за долгие годы, предшествовавшие этой счастливой минуте? Наверное, бывает. …Атта Тей стоял в своем углу ринга. Его широкая грудь вздымалась и опускалась, разбитое лицо горело. Ноги еле заметно дрожали. Словно толстое стекло отделяло его от окружающего реального мира — от рукоплесканий и криков трибун, от рефери, подходившего к нему, чтоб поднять его руку — руку победителя, — от белых канатов ринга, от серого его покрытия и от человека, неподвижно лежавшего, раскинув руки, на этом сером полу. И насколько далекими, приглушенными были для него в эту минуту крики и шумы, насколько расплывчатыми и неясными очертания вещей и огней, настолько же ослепительно четкой пролегла перед его мысленным взором его жизнь — торный извилистый путь от лачуги на окраине Кейптауна до высшей ступени олимпийского пьедестала почета, на который он взойдет через несколько минут. Всю жизнь его били. Вот он, босоногий негритенок, начал свой трудовой путь — он чистит ботинки белых джентльменов, получая от них не меньше подзатыльников, чем монеток. Став постарше, он моет посуду в жарком, душном подвале фешенебельного ресторана. И здесь редким был день, прошедший без оплеухи. Но это были еще пустяки. Главное началось в тот день, когда он, возвращаясь с работы, в маленькой темной улочке повстречал этих белых, пьяных, шумных, распевающих песни, размахивающих руками, одного из которых он нечаянно толкнул. О, он прекрасно помнит эту крошечную улочку, такую узкую, что, даже совсем прижавшись к дому, трудно было разойтись, не коснувшись друг друга. Полдюжины карманных фонарей вспыхнули одновременно, ослепили, выхватили беспощадными белыми лучами из темноты. Лучи были словно железные руки, схватившие, обнажившие его, выставившие беззащитного и обреченного посреди улочки перед этими кричащими, хохочущими, кривляющимися белыми. Первый удар был нанесен сзади ногой, потом кто-то со страшной силой ударил его в подбородок. Тею показалось, что вся улица, все серые дома обрушились на него, а тусклый фонарь вдруг вспыхнул, как яркое многоцветное солнце, замигал, заискрился… Но Тей не упал, он только зашатался. Тогда несколько твердых тростей одновременно вонзились в его тело. Режущая боль пронзила его. Ему показалось, что все ребра у него разлетелись, ломаясь, как соломинки. Град ударов посыпался на лицо. И все же он не упал. Он шатался из стороны в сторону, пытаясь закрыться руками, вобрать голову в плечи, хоть как-то защититься от урагана ударов. Ему казалось, что это длилось вечность. Он мечтал лишь об одном — скорей потерять сознание, умереть, перестать чувствовать… Он не сразу понял, что произошло, когда град ударов прекратился. Он слышал лишь дикий гул и звон в ушах, ощущал лишь чудовищную боль во всем теле. Наконец Тей открыл глаза (он даже не сознавал, что все это время отчаянно жмурился). — Эй, черномазый, эй! Да приди ты в себя наконец! — Голос доносился откуда-то издалека и лишь постепенно становился громче и ясней. — Очнись! Ну же! С трудом глядя сквозь опухшие веки, Тей увидел перед собой широкоплечего детину, который тряс его за плечи. — Ну же! Не бойся! Больше бить не будем! Ходить-то можешь? Детина взял Тея под руку своей железной лапой и потащил за собой. Остальные что-то недовольно кричали вслед. — Идите к черту! — огрызался великан. — Я такого два года ищу! Это же не человек, а камень! К черту! Словно в тумане Тей прошел две-три улицы, потом незнакомец усадил его в такси, а через полчаса быстрой езды они приехали на загородную виллу. Дверь открыл слуга. — Умойте, накормите, а потом приведите в зал, — сказал незнакомец. Теперь Тей смог разглядеть его как следует. Он был высокого роста, с широченными плечами и длинными, могучими руками… Нос был искривлен давними и, наверное, неоднократными переломами, глаза-щелки скрывались под опухшими бровями, а на бровях красовались шрамы. Сомнений быть не могло — белый был боксером. Тей, как и все мальчишки, любил бокс и достаточно насмотрелся в дешевых окраинных залах на матчи третьеразрядных профессиональных боксеров, чтобы сразу понять это. Он даже узнал белого — это был Джемс Рассел, чемпион страны среди любителей. Зачем он привез сюда Тея? Но додумать эту мысль он не успел. Слуга подтолкнул его к двери. Тей долго плескался и мылся в ванной. И хотя это была ванна для слуг, он даже не представлял себе, что такие бывают. Потом, ни слова не говоря, слуга привел его в кухню и показал на стол, где стояли салат, бифштекс и картофель. Тей никогда в жизни не ел таких вкусных вещей и никогда не видел таких кухонь — огромная, больше, чем вся хижина его семьи, белая, сверкающая, прохладная. Когда, кончив есть, он встал, слуга критически осмотрел его и спросил: — Хозяин разукрасил? — Потом, помолчав, задал новый вопрос: — Будешь «мешком»? Да, не завидую тебе, парень, у хозяина рука, как паровой молот! Тей молчал. Кто его знает, может, тоже будет бить, если не так ответишь. — Пошли, — сказал слуга. Его провели через холл, через две-три огромные, как показалось Тею, роскошные комнаты и ввели я большое помещение, залитое светом могучих ламп. Помещение было голое, только с потолка свисали на тросах большие кожаные мешки, какие-то мячи были прикреплены к стенам или насажены на стальные тугие пружины, торчащие из пола. Одна из стен была сплошь покрыта зеркалами, а возле другой стоял настоящий боксерский ринг, с канатами, с серым покрытием, даже с табуреточками для участников. На одной из табуреток сидел Джемс Рассел. — Раздевайся! — коротко приказал он, когда Тей вошел в комнату. Тей задрожал. Сейчас будут бить! Уж здесь-то наверняка будут бить. Он затравленно огляделся, ища пути к спасению. Но Рассел, видимо, понял: — Не бойся, бить не буду. Раздевайся, говорят тебе, хочу посмотреть на тебя. Да не бойся, болван! Не трону. Нерешительно, медленно, все еще с опаской поглядывая на огромного белого, сидевшего на табуретке, Тей стал раздеваться. Он остался в одних трусиках. Выпрямившись, он ждал. Рассел подошел и молча долгим, внимательным, придирчивым взглядом осматривал его. В зеркалах были видны их отражения. Белый и черный. Оба высокие, широкоплечие, с могучей грудью и сильными руками. Свет ярких ламп выделял великолепные мощные мышцы плеч, спины, живота, тонкие, словно свитые из стального каната ноги, крепкие шеи, тяжелые подбородки. Белый смотрел на черного, черный не поднимал глаз. Некоторое время Рассел молчал. Потом покачал головой, потом присвистнул. — Да, — медленно сказал он, — ничего не скажешь, хорош! Эдакие бицепсы! А удар как держишь! Ведь ребята измолотили тебя! Другой бы давно не то что лапки кверху — на тот свет бы отправился, а этот стоит себе и стоит, только знай качается. Да! Не будь ты черной образиной, быть бы тебе чемпионом, это точно! И мне б еще надавал. Впрочем, мне б, наверное, не надавал. А вообще это хорошо, что у нас черномазых к спорту не допускают, а то не успеешь обернуться, и вы бы нас отовсюду вышибли. Не меня, конечно, но многих. Он опять помолчал. — Ну-ка, ударь по этому мешку. Да погоди — перчатки надень. Рассел надел Тею перчатки, зашнуровал и показал на мешок. Что было силы Тей ударил и чуть не вскрикнул от боли. Набитый песком мешок был тяжел и тверд, как чугун. И все же от его удара мешок сильно качнулся. — Хорошо! — сказал Рассел. — А теперь по этой груше, да побыстрей. Тей ударил правой рукой по привешенной к кронштейну кожаной груше, потом левой, снова правой. Он старался бить быстрей, как это делали в бою виденные им боксеры. — Быстрей, быстрей же, болван! — командовал Рассел, и груша с дробным барабанным треском мелькала в воздухе. — Хорошо! — снова похвалил Рассел. Потом он заставил Тея прыгать через скакалку, поднимать гири, изображать бой перед зеркалами… Тренировка кончилась под утро. Рассел велел наконец еле державшемуся на ногах Тею одеваться и сказал: — Будешь работать у меня спарринг-партнером, понял? Будешь помогать мне в тренировках, боксировать со мной. Платить тебе буду… И он назвал сумму в десять раз больше той, что Тей получал в своем ресторане. Началась новая жизнь. Сначала сказочная. Тей жил вместе со слугами, научился пользоваться ванной, ел до отвала, купил костюм, ботинки, пальто, да еще старикам дал денег. Каждый день Рассел или его тренер по четыре часа обучали его боксу. В основном защитам и контратакам. Тей был на редкость способным учеником — «как и все черномазые», по словам Рассела. Он мгновенно усваивал приемы. К тому же Тей отличался огромной силой и быстротой реакции. Разумеется, он не мог и мечтать тягаться с таким мастером, как Рассел, но через несколько месяцев уже выходил с ним на тренировки и кое-как выдерживал три-четыре тренировочных раунда. Вот тогда-то и началась для Тея та страшная жизнь, о которой он не мог вспоминать позже без содрогания. В течение полутора лет его систематически, почти ежедневно, избивали. Он был «мешком», то есть беспомощным перед лицом чемпиона партнером, вся роль которого сводилась к тому, чтобы чемпион изучал и тренировал на нем свои удары. За это время лицо Тея совершенно изменилось — трижды ему ломали нос, губы его расплющились, скулы опухли и как-то выдвинулись, брови нависли над глазами, спрятавшимися в щелки. Да и сами брови были изуродованы шрамами. У Тея были сломаны два ребра. Однажды после удара в печень он месяц провалялся в постели. Правда, росло и его мастерство. Он научился, контратакуя, бить сильно и точно, но тренер не разрешал ему вкладывать в удар полную силу — это могло повредить Расселу. К тому же Рассел проводил тренировочные бои в маске. Тей научился искусно защищаться, но тренер требовал, чтобы он пропускал удары — Расселу нужно было освоить их. Много раз Тей хотел все бросить и уйти. Но не мог. Почему? Причин было немало. Во-первых, он боялся Рассела (тот как-то пригрозил, что, если Тей попытается уйти, он «дальше кладбища не доберется»), во-вторых, деньги он все же получал немалые, помог сестре выйти замуж, помогал старикам. А потом, куда уйти? Где, да и кем работать? Стать боксером-профессионалом? Рассел живо убрал бы его. И вот однажды после особенно страшной тренировки, когда нестерпимая боль не давала уснуть, Тей решился. Надо бежать из страны. Бежать туда, где можно жить, где не будут бить. В Гану, например. Она теперь стала свободной, как он слышал. И даже, как ни невероятно это казалось, правят там негры! Такие же, как он. Негры! В тот день, когда Тей исчез, Рассел разбил в своем зале два зеркала и избил заменившего Тея спарринг-партнера, но Тея нигде не нашли. И не мудрено. По образцу классических приключенческих романов, он плыл в трюме корабля. Тей никогда не читал приключенческих романов, но он знал, что должен бежать, иначе его забьют до смерти. Он бросил все — новый костюм, пальто, велосипед. Он попрощался со стариками и сестрой, но даже им не сказал, куда уезжает. А потом пришел в порт. Тут всегда толклось столько безработных негров, ожидавших кораблей, что никто не обратил на Тея внимания. Полдня он грузил мешки, а затем спустился в трюм и заснул там, спрятавшись где-то в углу за ящиками. Корабль был старой, трещавшей по всем швам посудиной, совершавшей черепашьими темпами свои рейсы по Гвинейскому заливу, порой заходя и в Кейптаун, но всегда добираясь до Аккры. Никто не подвергал судно таможенным досмотрам, а капитан, обнаружив на борту незаконного пассажира и для порядка избив его (что для Тея было сущими пустяками по сравнению с ежедневными «тренировками»), включил его в состав команды за питание, но без оплаты. Путь продолжался бесконечно долго. Посудина заходила во все порты, подолгу ремонтировалась, чинилась, грузилась, разгружалась и снова чинилась. Настал день, когда Тей сошел на берег свободной Ганы, которой суждено было стать его новой родиной. Первые дни он работал грузчиком в порту. Но однажды пошел в спортклуб, долго наблюдал за тренировкой боксеров, а потом, отведя тренера в сторону, рассказал ему все. Тренер думал, цокал языком, уходил советоваться. В последующие дни Тею пришлось подписывать какие-то бумаги, повторять свой рассказ в полиции, еще где-то. В конце концов ему сказали, что он может жить в Гане. Он поступил на работу в ресторан при спортклубе, а днем тренировался. Прошел год. Тей был теперь первоклассным боксером. Он и сам это знал — «тренировки» с Расселом немалому научили его, а этот год и того больше. Тренер хвалил его. Какие-то белые из Америки и Англии, видевшие его на тренировках, предложили перейти в профессионалы. Но он отказался. Тей не удивился, когда узнал, что поедет на олимпийские игры. Он теперь знал свою силу, знал, что такое олимпиада, знал, что такое спорт. А главное — он знал, что значит быть свободным. Рим, конечно, поразил его. И Олимпийская деревня, и гигантский палаццо делло спорт. Все было ново. Но, узнав, что в списках команды Южно-Африканского Союза стоит имя Джемса Рассела, он не удивился. Он ждал этого. Начались соревнования с их заботами, с их напряжением, волнениями боев и радостями побед. К финалу, уверенно побеждая других, шли Тей и Рассел. И наконец наступил день, когда они вышли на ринг. Рефери подозвал их, сделал им очередные наставления. Согласно правилам, они пожали друг другу руки (это был первый случай, когда Рассел пожал руку негру) и, отойдя на несколько шагов, приготовились к бою. Так стояли они — белый и черный. Оба высокие, широкоплечие, с могучей грудью и сильными руками. Яркий свет рефлекторов играл на мощных мышцах плеч и рук. Белый смотрел на черного, черный, высоко подняв голову, смотрел на белого. Потом прозвучал гонг, и противники двинулись навстречу друг другу. Это был необычный бой. То есть для тысяч зрителей, заполнивших элегантные трибуны палаццо, это был хотя и очень интересный, но все же просто финальный бой. И только два человека, те два, что кружились в ослепительном свете рефлекторов на маленьком ринге, знали, что бой этот состоял не только из ударов, нырков, защит и контратак. Только они знали, сколько ненависти, мстительности, злобной ярости с одной стороны и гнева, возмущения и торжествующей радости — с другой смешалось в этом бою. О, конечно, на ринге были мастера высшего класса! Они «работали» искусно, умно, изобретательно. Их удары были молниеносны и тщательно подготовлены и наталкивались на такие же молниеносные, великолепные защиты. А что таилось за внимательными, зоркими, настороженными взглядами противников?.. Но во время боя боксеру не заглянешь в глаза. Первый раунд почти весь прошел в разведке. Противники быстро передвигались по рингу, обменивались легкими, казалось бы, нерешительными ударами. Во втором раунде они приступили к действиям. На стороне Рассела был огромный опыт, на стороне Тея — знание Рассела как боксера: недаром ведь свои грозные удары, свои коронные комбинации он отрабатывал, разучивал на его теле. День за днем, месяц за месяцем могучие кулаки Рассела обрушивались на черное лицо, молотили его, разбивали, превращали в распухшую маску. День за днем, месяц за месяцем… Но сегодня было по-другому. Все чаще и чаще, пробивая защиту, страшные по своей стремительности удары настигали Рассела. Все чаще он входил в ближний бой, чтобы ценой клинча, повиснув на противнике, дать себе секундный перерыв. А Тей все наступал. Он все наращивал и наращивал темп, и с каждым ударом ему казалось, что силы его не уменьшаются, а растут, словно какой-то пьянящий вихрь несет его вперед, могучего, уверенного в победе, торжествующего. В начале третьего раунда зрителям стало ясно, что судьба поединка решена. Рассел еще пытался обороняться, переходил в контратаки, все чаще повисал на плечах Тея в клинче. Но он выдохся. Его удары потеряли силу, уходы сделались недостаточно быстры, не хватало дыхания, не слушались ноги. Развязка наступила за полторы минуты до окончания боя. В тот момент, когда, закрывая живот, Рассел на долю секунды опустил руки, молниеносный, почти незаметный для глаза удар коснулся самого кончика его подбородка. Рассел опустился на пол сразу, обмякший, как мешок. Он лежал закрыв глаза, раскинув руки на сером полу ринга. Трибуны неистовствовали, в тысячи голосов приветствуя победителя. Итальянские военные моряки в парадной форме засуетились, готовя у центрального флагштока государственный флаг молодой африканской республики, музыканты перелистывали ноты, ища нужный гимн. А Атта Тей все стоял в своем углу. Его широкая грудь вздымалась и опускалась, разбитое лицо горело. Он стоял, широко расправив плечи, высоко подняв голову. Он не слышал рева и шума трибун, не видел огней. В одно мгновение пронеслась перед ним ярче всех рефлекторов и блицев его торная, горькая жизнь. Всю жизнь его били, а теперь наконец ударил он…НА ВЕРШИНЕ Красное кольцо
За толстым стеклом ресторанного окна открывался удивительный вид. Далеко-далеко, насколько хватал глаз, уходили к горизонту снежные горы. Они вставали сплошными зазубренными рядами, возвышавшимися один за другим, словно стены гигантской крепости. Их обращенные к солнцу склоны сверкали нестерпимым, исторгавшим слезы блеском. А с другой стороны залегала глубокая, густая, лаковая синева моря. Местами она настолько сгущалась, что становилась почти черной, местами приобретала лиловый или фиолетовый оттенок, местами переходила в нежную голубизну. И все эти цветовые гаммы здесь, в редком, прозрачном воздухе высокогорья, были особенно ярки и четки. Вся горная цепь сверкала подобно одному фантастическому, необъятному бриллианту с миллионами граней. Над горами, такое же яркое и ясное, простиралось светло-синее небо — чистое-чистое, без единого пятнышка, а внизу, где-то там, на тысячу метров ниже ресторанного стекла, клубились и переворачивались, будто пенные волны, серо-белые облака. Этот величественный, сказочный пейзаж навевал странное двойственное ощущение покоя и какой-то щемящей тревоги. Казалось, только всемогущие боги могут жить здесь, среди этих гигантских холодных вершин. И возникало неистовое желание, чтобы кругом были люди, простые земные люди, с их теплой повседневной суетой, будничной работой, с их радостями и мечтами. Да, удивительный вид открывался за толстым ресторанным стеклом! Дух захватывало от его красоты, и трудно было отвести глаза. Но полный, краснолицый человек в очень дорогом темно-сером костюме, одиноко сидевший за крайним столиком, не смотрел за окно. Его не интересовали величественные вершины далеких гор. Он сам был на вершине, куда более величественный и недосягаемый, чем все эти снежные холмики. Он достиг вершины богатства — а значит, и счастья. Элегантный, холеный, он сидит в одиночестве за своим столиком, тяжело сопя, завтракает. На рукавах его белоснежной рубашки поблескивают громадные бриллиантовые запонки; затаив дыхание, чтобы не обеспокоить божества, бесшумно двигаются официанты, быстро, беззвучно и ловко меняя блюда, убирая посуду. За соседним столиком, важный и торжественный, завтракает секретарь. Он больше похож на министра, чем на секретаря. Но и он не смеет сидеть за одним столиком с самим. Господин Сайрус Грант неторопливо завтракает, а где-то далеко-далеко плывут его пароходы с нефтью, мчатся по его железным дорогам поезда, тысячи людей копошатся на многометровой глубине, добывая уголь в его шахтах, варят сталь на его заводах, считают деньги в его банках. Его деньги. И, если все эти деньги собрать и обратить в золото, можно, наверное, насыпать гору не меньше, чем любая из этих бесполезных снежных вершин за окном. Ресторан почти пуст в этот будний день. Туристов мало, да и добираются они сюда обычно лишь к обеду, а постояльцев отеля и совсем немного. Но и на этих немногих Сайрус Грант не обращает никакого внимания. Тяжело сопя, он допивает кофе, смотрит на часы и откидывается на спинку стула. В то же мгновение секретарь с торопливостью, совсем неподходящей для министра, вскакивает из-за стола и подбегает. Сайрус Грант долго и натужно кашляет, вытирает рот белоснежным огромным платком и наконец устремляет на секретаря вопросительный взгляд слезящихся от кашля глаз. — Ну? — спрашивает он хрипло. — На час назначено интервью корреспонденту журнала «Спортивная жизнь». Он давно добивается, в связи с олимпийскими играми. Ведь завтра открытие; вы назначили на сегодня. Он специально прибыл вчера из Берна. Ожидает в холле. Сайрус Грант смотрит на свои платиновые массивные часы — десять минут второго — и тяжело встает: он не любит опаздывать. Сопровождаемый секретарем, тяжело дыша, он медленно, вразвалку проходит ресторан, провожаемый почтительными поклонами официантов, и направляется в холл. Холл примыкает к ресторанному залу, и его окна из толстого стекла тоже выходят на горы. На минуту Сайрус Грант останавливается посреди комнаты. — Где репортер? — Я здесь, господин Грант! Разрешите пожелать вам доброго утра! — Молодой человек в клетчатом пиджаке и лыжных брюках вскакивает с дивана. — Сейчас не утро, а день, — бурчит Сайрус Грант. — У меня двадцать минут. Достаточно? Он неторопливо опускается в кресло, расстегивает пиджак на жирной груди и устремляет на репортера вопросительный взгляд. Торопясь, тот выхватывает из кармана блокнот, щелкает шариковой ручкой и присаживается рядом на один из низких столов. — Господин Грант, — начинает репорт тер несколько торжественно, — ваше интервью чрезвычайно важно для «Спортивной жизни». Сейчас, в дни олимпиады, наши читатели хотят знать о чудесной, завидной судьбе одного из наших знаменитейших спортсменов. Ваше нынешнее исключительное положение в финансовом и деловом мире Америки, хотя вы и живете сейчас вдали от нее, ваше выдающееся спортивное прошлое олимпийского чемпиона… — Короче, — обрывает Сайрус Грант. — Задавайте вопросы. Репортер мгновенно меняет тон: — Господин Грант, разрешите задать вам три вопроса. Вопрос первый: какое было ваше самое яркое воспоминание из тех времен, когда вы занимались спортом? Наступает молчание. Корреспондент застывает в ожидании, но Сайрус Грант не торопится с ответом. Те времена! Далекие времена! Он был тогда крепким, здоровым парнем, на пари сгибал толстый железный прут. Сайрус Грант смотрит на свои опухшие, чуть дрожащие руки. А в те времена этими руками он метал молот с такой чудовищной силой, что его достижения казались недосягаемыми. Тогда он был молод, силен и весел. И беден. Не было у него секретарей и этих проклятых отчетов, и акций, и совещаний, и банков, и заводов, и железных дорог, и, всего того, что давит сейчас тяжким грузом на усталые плечи. Зеленое поле, металлический шар, восторженный рев стадиона, легкие, вдыхавшие свежий воздух спортивных полей, — вот они, чудесные воспоминания тех времен! — Простите, я не расслышал! — С великим напряжением на лице репортер старался разобрать бормотание Сайруса Гранта. Тот и не заметил, что думает вслух. — Очень прошу простить меня, мистер Грант, — репортер в смущении. — Вы бы не могли повторить? — Повторить? Пожалуйста. Самым ярким воспоминанием был тот день, когда я бросил легкую атлетику и подписал свой первый контракт как профессиональный футболист. Я стал тогда богатым, а это, как вы знаете, в спорте не частая вещь. Он закашлялся. Лицо его покраснело. Глаза расширились, в них вспыхнул безумный страх. Сайрус Грант задыхался. Воздух со свистом выходил через широко раскрытый рот, пальцы судорожно царапали кожу дивана. Словно выйдя из стены, рядом очутился секретарь со стаканом воды и пилюлей на маленьком подносе. Сайрус Грант схватил пилюлю, проглотил, жадно запил водой. Кашель прекратился, лицо стало серо-белым. — Я думаю, господин журналист, — шепотом сказал секретарь, — лучше отложить интервью… — Продолжайте! — Голос Сайруса Гранта был тихим и хриплым, он сделал в сторону секретаря нетерпеливый жест. — В четырнадцать часов приедут юрисконсульт и оба адвоката, — почтительно прошептал тот. — Вы назначили… — Знаю, знаю, — пробормотал Сайрус Грант и, повернувшись к репортеру, повторил: — Продолжайте. — Господин Грант, мой второй вопрос таков: почему вы оставили вашу блестящую спортивную карьеру? Почему? Вот именно: почему? Если б знать все наперед! Может быть, тогда он не бросил бы веселых зеленых полей и шумных товарищей ради зеленого сукна директорских столов и шелеста чековых книжек. Сайрус Грант усмехнулся. Репортер ждал, удивляясь непонятной усмешке и молчанию этого чудака миллионера. Зачем он постоянно живет здесь, в этом отеле, врытом в скалу на высоте в три с половиной тысячи метров? О чем он думает, устремив мечтательный взгляд своих расширенных глаз куда-то далеко-далеко, куда ему, маленькому репортеру, нет пути… Но не только репортеру — и самому Сайрусу Гранту уже не было пути в тот далекий мир прошлого, куда унесли его воспоминания… Вот он подписал свой первый контракт, и год, два его имя гремело, а деньги текли ему в карман. Но, наверное, закончил бы он свои дни, как почти все профессиональные чемпионы, где-нибудь в ночлежке или швейцаром в кабаке, если б вдруг не сказочный случай: одинокий, холостой и полусумасшедший миллионер, страстный поклонник спорта, перейдя в лучший мир, все свое огромное состояние оставил тому, как он писал в завещании, «кто доставил ему столько радостей своим великолепным, неповторимым броском молота — олимпийскому чемпиону Гранту». Сначала Сайрус Грант был как во сне. Он, конечно, знал цену деньгам, особенно хорошо знал он цену того, что можно получить за эти деньги. Он ведь немало зарабатывал как футболист (не то что тогда, когда был легкоатлетом-любителем!) — он имел и машину, и хороший дом, и удовольствия. Он крепко работал, чтоб иметь все это, но умел и здорово отдохнуть и развлечься. Ради этого стоило заработать! Но чем больше он имел, тем больше хотел. И вдруг это наследство. Это был уже не автомобиль, а десятки машин, не дом, а дворцы и виллы на лучших курортах, на берегах озер и океанов, не просто удовольствия, а все, что могла пожелать его душа. Но с деньгами пришли и обязанности. Сайрус Грант был деловой парень, он сам возглавил свои предприятия и скоро с головой ушел в дела. И вдруг он увидел, что, как ни огромен капитал, его можно еще увеличить. И он стал работать над этим, работать неустанно, не щадя ни себя, ни других. Изо дня в день, из года в год. Какой уж тут спорт… Репортер ждал. — Да, — Сайрус Грант словно очнулся, — да, так вот. Я оставил спортивную карьеру за ненадобностью. Спорт кормил меня. Это был мой бизнес. Когда я стал миллионером, у меня появилось много других бизнесов — банки, железные дороги, нефть, уголь. Я сменил один бизнес на другой. Профессию спортсмена — на профессию миллионера. Он усмехнулся. Репортер счел долгом умеренно засмеяться. — Ну, давайте ваш третий вопрос, — Сайрус Грант посмотрел на свои платиновые часы. Корреспондент давно уже понял, что третий вопрос задавать бессмысленно, но он был слишком неопытен, чтобы перестроиться на ходу. Неуверенно он спросил: — Не занимаетесь ли вы каким-нибудь спортом теперь? Конечно, дела… и тут условий нет… и потом… Он пытался как-то спасти вопрос, но запутался совсем и смущенно замолчал. Сайрус Грант хрипло рассмеялся. Занимается ли он спортом? Он вспомнил свои виллы под пальмами с травяными и земляными кортами, закрытые бассейны в своих городских дворцах, коллекции клюшек, мячей и перчаток. Коллекции спиннингов и ракеток. Когда-то он любил их, перебирал, сам чистил и убирал. А теперь… Теперь они в таком же, наверное, идеальном порядке: их чистит и убирает армия слуг. Но сам он их не видит. И не увидит теперь уже никогда. Впрочем, и тогда, когда он еще не был здесь, ему не хватало времени на спорт. Ведь он буквально сутками работал. Работал и работал. Пустыми стояли горные имения и городские дворцы, прибрежные виллы и драгоценные яхты. Он забыл, когда последний раз у него была свободная минута, даже на свои любимые легкоатлетические состязания не успевал пойти. У него оставалась одна радость: когда директора и управляющие докладывали, что умножились проценты, дивиденды возросли, заключены выгодные договоры, получены новые выгодные заказы. Он работал и работал, и даже врачи, все настойчивей наседавшие на него, не могли оторвать его от работы. Не было времени ни на что, кроме одного — бизнеса. Зато теперь свободного времени стало более чем достаточно. Сайрус Грант снова усмехнулся. Над его ухом раздалось деликатное покашливание секретаря. — Ну? — буркнул Сайрус Грант. — Сейчас тринадцать пятьдесят. Через десять минут юристы будут здесь. Сайрус Грант поднялся, тяжело опираясь о стенку дивана. — У вас все? Мы и так задержались. — Он посмотрел на репортера. — Все, господин Грант. Разрешите поблагодарить вас от имени журнала за ваше любезное интервью. И последняя просьба. Вот ваше фото, спортивное, не будете ли вы так любезны поставить на нем автограф? Мы даем его в олимпийский номер. Сайрус Грант молча разглядывал маленький цветной снимок. Широкоплечий, сверкающий белозубой улыбкой загорелый парень смотрел на него с фотографии. Жокейская шапочка была сдвинута на затылок. Сильные руки приготовились к броску. Белая майка плотно облегала могучую грудь. Зеленело поле, голубело небо, на заднем плане за сеткой виден был заполненный яркой толпой стадион. Сайрус Грант вынул ручку из массивного золота, снял колпак. Но в то же мгновение лицо его исказил страх, он схватился за горло. Глаза расширились. Вены на шее превратились в синие веревки. Он задыхался. Заливисто, со свистом кашляя, он раскачивался посреди комнаты. Секретарь выхватил из кармана коробку с пилюлями, официант подскочил, держа стакан с водой. С трудом, между двумя приступами кашля, Сайрус Грант проглотил пилюлю, запил водой, вытер пот с пепельно-бледного лба. Потом еще раз посмотрел на маленький красочный снимок и вдруг, скомкав в руке, швырнул на ковер. Не оборачиваясь, он тяжелой походкой направился к выходу. Словно министр, медленно, торжественно и важно за ним шествовал секретарь. Минуту репортер и официант смотрели им вслед. Когда дверь закрылась, они переглянулись. — Чудак! — заметил репортер. — Чего это он? — Наклонившись, он подобрал помятую фотографию. — Были б у меня его деньги, я б только и делал, что смеялся, а он… — Да, — задумчиво произнес официант, — деньги большие, а что толку? Живет здесь уже пятый год, и еще будет жить, пока на тот свет не отправится, может, еще пять, а может, и все двадцать пять. — Почему? — удивился репортер. Положив фотографию на стол, он пытался разгладить ее. — Так ведь астма у него… Особая какая-то — ему ниже трех тысяч метров жить нельзя ни дня, а то сразу крышка. Вот и живет здесь… — Да ну? — равнодушно протянул репортер. Убедившись, что разгладить фотографию нельзя, он со вздохом бросил ее в пепельницу. — Когда следующий поезд в долину?ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ Желтое кольцо
Подсвеченные искусно замаскированными оранжевыми прожекторами, на фоне черного, густого, как тушь, звездного римского неба термы Каракаллы казались сказочными декорациями из очередного боевика, посвященного гладиаторам. Вот сейчас раздастся голос режиссера: «Свет!», усталые статисты рассядутся отдохнуть тут же, на траве, лампы осветят все уголки, и таинственные черные руины предстанут картонными, размалеванными под кирпич макетами. Но Рим не нуждается в искусственных декорациях. Он сам гигантская декорация, восхищающая и поражающая людей, заставляющая их гордиться тем, что они люди. По всему городу рассеяны величественные останки древнего мира, вечно живые свидетели человеческого гения. Таковы и термы Каракаллы. Когда-то, почти двадцать веков назад, в этих гигантских банях купались и нежились римляне. Правда, не все. Только знатные, только богатые. А теперь здесь шли олимпийские состязания по гимнастике, и над колоссальными стенами под черным теплым небом звучал советский гимн. Для толпы безбилетников, сгрудившейся у входа в ожидании новостей, было ясно: очередной победитель стоит на пьедестале почета, и этот очередной победитель — опять русский. — А второй-то кто? Кто второй? Тоже русский? — Невысокий возбужденный болельщик, прыгавший за спинами других, стоявших ближе ко входу, старался компенсировать невыгодность своей позиции громкостью крика. — А третий? — орал он. — Первый Шахлин, второй Омо, третий Столбов… Первый Шахлин, второй Омо, третий… — Высокий широкоплечий человек в клетчатом пиджаке, с трубкой в зубах, проталкивался сквозь толпу, скороговоркой сообщая результаты. Значок с надписью «Стампа» на лацкане его пиджака свидетельствовал, что он журналист, а белый картонный прямоугольник, где стояло «Нью-Йорк таймс», говорил о том, какую газету он представляет на играх. За ним, мрачный и нахмуренный, шел другой журналист, итальянец, в сером костюме и серой шляпе. Пробравшись сквозь толпу, они сели в маленький синий «Фиат» и покатили к центру города. Итальянец был молчалив и расстроен. Он не замечал вечернего Рима, проносившегося за окном. А зря. Он был чудесен, вечерний Рим. Мелькали южные сосны, зеленые густые аллеи, порой то слева, то справа, подсвеченные голубым или оранжевым светом, возникали целомудренно чистые мраморные изваяния, могучие колонны, высокие своды. Через открытое окно машины волнами доносился запах хвои, цветов, остывающего асфальта. Чем ближе был центр, тем ярче светились разноцветные огни реклам, витрин, ресторанов. Но итальянец не обращал внимания на вечерний римский пейзаж. Впрочем, его широкоплечий коллега был тоже занят другим. Блаженно улыбаясь, он рассуждал: — Я думаю, нам надо поехать на виа Венето. А? Там ведь самые шикарные рестораны, самая шикарная публика! А? А как там кормят, черт возьми! У меня прямо-таки волчий аппетит сегодня! Придется тебе раскошелиться. А что ж делать? — вопрошал он итальянца, хотя тот молчал. — Не надо было спорить. Ведь известно: из двух спорящих один всегда хитрец, а другой простофиля. На этот раз хитрецом был я. А раз проиграл ужин, так уж и вези… Или знаешь что? — перебил он неожиданно. — Поедем-ка к «Альфредо». Да, да, к «Альфредо»! Это ведь, кажется, самый роскошный ресторан! Давай к «Альфредо»! Итальянец помрачнел еще больше и свернул в одну из боковых улиц. А повеселевший корреспондент «Нью-Йорк таймс» продолжал болтать: — Спорить не надо было! Я, если не уверен на сто процентов, что выиграю, никогда пари не держу! Я знал, что выиграю, а ты, чего ты спорил? Итальянец наконец раскрыл рот: — Как ты мог быть уверен? Русский на голову сильней японца. Я за ними весь год следил, два года, каждую их оценку на всех соревнованиях помню! Первым должен был быть Шахлин, вторым Столбов, а уж третьим Омо. Это точно. — Ха-ха! — залился американец. — «Точно, точно»! Это если по отчетам смотреть, дорогой синьор Лонго, по отчетам, по таблицам. А кроме таблиц, есть, оказывается, жизнь. Понимаешь — жизнь! Ты вот тут сидел, отчеты читал, а я в Токио съездил. И посмотрел товарищеский матч между японцами и русскими. Помнишь, перед самыми играми? — Ерунда! — Итальянец был явно не в духе. — Ерунда! И там Столбов опередил Омо, я читал… — Читал, дорогой синьор Лонго, — американец широко улыбнулся, — читал, а я видел. Понимаешь — видел. Это разные вещи. Вот потому я и спорил спокойно. Дело в том… — Приехали! — буркнул итальянец, так резко затормозив машину, что его коллега чуть не стукнулся лбом о ветровое стекло. Журналисты вылезли из «Фиата» и, перейдя тротуар, вошли в широкие стеклянные двери ресторана. Внешне ресторанный зал не представлял ничего особенного, он был даже скучен. И все же это был самый шикарный, самый дорогой и самый знаменитый ресторан города. Чтобы убедиться в этом, следовало посмотреть на его стены. Выкрашенные в некрасивый, скучный цвет, они были сплошь увешаны фотографиями. На всех фотографиях фигурировал этот неуютный зал с его неуютными столами, но главное было не в этом. Главное было в том, кто сидел за столами. Здесь сидели президенты и премьер-министры, короли и принцы десятков государств, знаменитейшие кинозвезды, писатели, актеры, спортивные чемпионы и миллиардеры, прославленные гангстеры и модные львицы. Казалось, все, о ком писали когда-либо газеты, сговорились побывать хоть разок у «Альфредо». И действительно, зайти сюда считали своим долгом почти все мало-мальски именитые гости итальянской столицы. Не потому, конечно, что здесь лучше, чем в другом ресторане, и не потому, что феттучино, знаменитые макароны, здесь вкусней, чем в любом другом месте в мире (как гласит реклама «Альфредо»). Нет, любой римский ресторан уютней, а макароны в траттории за углом такие же, хотя стоят в пять раз дешевле. Нет. Просто так велит мода. А раз мода гласит, что у «Альфредо» надо поесть феттучнно, значит, приходится туда идти, иначе можно оказаться за бортом моды, а это было бы ужасно. И вот журналисты входят в зал, проходят в угол и садятся за столик. Метрдотель даже не подходит за заказом — общеизвестно: все, кто приходят к «Альфредо», заказывают феттучино. А о деталях — вине, ликерах к кофе, десерте — позаботится официант. Синьор Лонго с тревогой посматривает вокруг — черт его знает, каковы цены в этом проклятом ресторане! Он сорок лет прожил в Риме, но сюда пришел впервые. Что вы думаете? Если вы думаете, что газетные репортеры миллионеры, так вы ошибаетесь. Зато американец чувствует себя отлично. Он тоже репортер, а не миллионер, но, в конце концов, он выиграл пари, и пусть проигравший расплачивается. Он настроен весело, ему хочется болтать. — Да, так вот, дорогой синьор Лонго, пока ты тут читал отчеты, я бродил по Хибия-парку. Есть такой парк в Токио. Ах, как там красиво! Аллеи, скамеечки под вишнями… А японки! Нет женщин красивей японок. Щебечут, как птички. Просто не знаешь, соловей щебечет или девушка… — Соловьи не щебечут, — проворчал итальянец, — соловьи поют. — Ну и пусть поют, — охотно согласился американец, — пусть поют. Японки тоже поют. И как поют! Есть такое местечко, около Токио, на берегу океана, — Камакура. Там в густых садах чайные домики и гейши. Слышал бы ты, как они поют, как играют на гитарах! — В Японии нет гитар… — Ну, не на гитарах, еще на каких-то чертовщинах, но здорово! — А при чем тут Омо и Столбов? — не выдержал наконец синьор Лонго. — А вот при чем… Но все, видно, сговорились в этот вечер, чтобы испытывать терпение итальянского репортера, — на стол подавали феттучино. Это было совсем не просто. Это была величественная церемония, составлявшая одну из широко разрекламированных особенностей «Альфредо». Впереди шествовал сам Альфредо, хозяин ресторана. Седые усы его эффектно контрастировали с румяными щеками, под усами расплывалась ослепительная улыбка. За ним скользили скрипачи и гитаристы. Далее три официанта несли огромную фарфоровую миску, из-под крышки которой выбивался пар. Миска была поставлена на небольшой столик, крышка снята, и Альфредо начал священнодействовать. Из бокового кармана он вынул массивные золотые ложку и вилку, подаренные ему шведским королем, и с особой ловкостью, даже виртуозностью, словно жонглер, стал перемешивать дымящиеся в миске макароны. Это была не кулинарная операция, а балет рук. Музыканты аккомпанировали с величайшим напряжением, официанты застыли, как солдаты на параде. Наконец макароны были разложены по тарелками и, пожелав приятного аппетита, Альфредо удалился. — Какие макароны! — стонал американец. — Ах, какие макароны! Если бы я был Рокфеллером, я бы только и ел такие макароны. Итальянец ел молча, печально поглядывая на миску и прикидывая в уме сумму счета. — А кьянти, какое вино! — Американец уже налил себе третий стакан. — Дивное вино! — Ну, так что там было, в Токио? — Синьор Лонго незаметно отодвинул бутылку на край стола. — Ах да, в Токио. Так вот, дорогой мой Лонго, там была товарищеская встреча. Понимаешь ли, «товарищеская»! Ха! Ха! Как будто это встречаются товарищи! Понимаешь? Каждый в душе молится, чтоб другой сломал ногу, а называется «товарищеская»! — Американец захохотал. Потом сразу стал серьезным. — А черт его знает, может быть, не каждый… Как ты думаешь — не каждый? — Но ведь и там Столбов был впереди, а Омо за ним. — Итальянец попытался вернуть разговор к интересовавшей его теме. — Да, да, но не в этом дело. Видишь ли, — американец продолжал оставаться задумчивым, — Столбов закончил выступать раньше Омо. Да, раньше. Он только вернулся к снаряду — к перекладине за своей накладкой, которую оставил возле мата, — а Омо как раз в этот момент и начал выступать. Понял? Итальянец положил вилку и ложку и устремил на собеседника вопрошающий взгляд своих черных печальных глаз. — Ничего не понял. Какая накладка? Зачем вернулся? Ну, вернулся, и что из того? — Эх! — Американец досадливо махнул рукой, протянул руку за кьянти и, налив себе стакан, залпом выпил его; за этим стаканом последовал еще один. Щеки его порозовели. — Эх, отличное вино!.. Накладка. Ты что, не знаешь, что такое накладка? Ну, такая кожаная штуковина, похожая на ременный кастет, надевается на руку, когда гимнаст работает на перекладине, чтоб потная рука не скользила. Не знаешь? Эх… Он снова выпил стакан. Под мрачным взглядом итальянца официант поставил на стол вторую бутылку. — Да, таквот… — Американец говорил теперь еще громче, размахивая рукой. Он закурил трубку и пепел стряхнул в макароны. Если б это увидел Альфредо, с ним, вероятно, случился бы удар. — Так вот, Омо крутил «солнце»! Что такое «солнце» — ты хоть знаешь? — Знаю, знаю! — проворчал Лонго. — А может, не знаешь? — допытывался американец с настойчивостью пьяного; он осушил еще один стакан. — Значит, знаешь? Он крутил «солнце». Р-раз! Р-раз! Поворот за поворотом! Здорово! И, между прочим, здорово крутил! Хотя русского он бы все равно уже не догнал, даже если б получил десять баллов. Но не в том дело…. Он потянулся за вином. Официант, неслышно возникший из-за его спины, поставил на стол третью бутылку. — Ну, а в чем дело, в конце концов, мадонна миа! — Итальянец был в ярости. — В состоянии ты объяснить, в чем дело? Но американец, казалось, не слышал. Он не спеша налил себе стакан, выпил, попыхтел трубкой и только после этого продолжал: — Значит, ты не знаешь, что такое накладка? Жаль, жаль, — его мутные глаза выражали глубокое сочувствие, — очень жаль. Вот он крутит «солнце»… Ах, какое вино! Но макароны тоже ничего… Крутит. Рука в этих накладках крутится вокруг перекладины все быстрей и быстрей. Все о’кей, да? Еле сдерживаясь, итальянец молчал. Американец неверной рукой снова налил стакан и выпил. — Значит, все о’кей… И вдруг, — он наклонился вперед и выпучил глаза, стараясь напугать собеседника, — вдруг — ррраз! — и накладка к черту… лопается! Что тогда? Вопросительно глядя на итальянца, он молчал. — Ну, лопнула, а дальше что? — нетерпеливо спросил тот. Американец захохотал: — А дальше что? А дальше что? А дальше, родной мой друг синьор дон Лонго-Лонго, все летит к чертям! Понял? Гимнаст срывается. Хоп! — Американец описал в воздухе дугу своей длинной рукой, чуть не сбив при этом бутылку. — Хоп! — и гимнаст носом вперед втыкается в пол! Ха! Ха! Знаешь, как копье в легкой атлетике! Носовое копье! Ха! Ха! Ха! Он долго хохотал над собственной шуткой, потом налил стакан и залпом выпил. — А дальше что? — снова спросил итальянец. Теперь он был явно заинтересован рассказом. — А дальше «копье» отправляют в больницу с поломанной шеей. Когда накладка лопается — это почти верное дело. Ну, как если шина лопнет при ста двадцати милях в час. Понял? — Он помолчал, разжег трубку и продолжал: — Вот у Омо как раз и лопнула накладка… и он такую дугу описал, что любой бумеранг позавидовал бы… ха-ха!.. и носом вниз… — Ну? Ну и… — Итальянец даже привстал. — Эх, видел бы ты это дело, Лонго! Мы только ахнуть успели все, весь зал ахнул, как один, да… Американец замолчал. — Ну, черт возьми! — заорал итальянец, стукнув по столу. Но американец впал в апатию. Кьянти не очень крепкое вино, но, когда его выпьешь три литра…. — Ну и все… — бормотал захмелевший репортер «Нью-Йорк таймс». — И все… Столбов-то ведь там рядом стоял… он и бросился, и бросился, и подцепил его… Ловко, между прочим, подцепил, тот даже повреждения не получил… знаешь, так — ррраз! — вперед бросился, руки подставил и, как ребеночка, его, как ребеночка, подцепил… Ха-ха-ха! — как ребеночка… тот и невредим. Он опять замолчал. Потом продолжал: — Мы уж японца поздравляли… можно сказать, с того света вернулся… харакири избежал… Ха-ха!.. — А Столбов? — спросил итальянец. — Что — Столбов? Столбов ничего… перевязали ему поврежденную руку… и увезли… — Как! — На этот раз Лонго вскочил, вцепившись в стол. Он наклонился к самому лицу американца: — Как! Он повредил руку? Главного соперника спас, а сам руку повредил? Это же безумие! — Вот и я говорил… дурак, говорил… Рука-то, видишь, до сих пор небось не прошла… Заметил, как он морщился?.. Заметил? — Но это безумие! — не мог успокоиться итальянец. — Он же обеспечивал японцу победу над собой на олимпиаде, выигрыш! Американец молчал. Его совсем помутневшие глаза ничего не выражали. И вдруг в них вспыхнул какой-то огонек, странный, лукавый блеск. Он наклонился к Лонго и зашептал: — А может, тут другой был выигрыш, главней… не все ведь дело в баллах. Встреча какая была?.. «То-ва-рищеская»… Может, главный-то выигрыш как раз получил русский?.. А?.. Главный-то? Итальянец молчал, его мысли были где-то далеко. Американец откинулся назад. Взгляд его снова стал мутным и скучным. — Пойду писать, — бормотал он устало, — пойду отчет писать: «Великая победа японской звезды!», «Позорный проигрыш Столбова!», «Великая сенсация»… — Постой! — Итальянец нахмурился. — Какая победа? Какой позор? Ты же сам только что рассказал… — Брось! — устало перебил американец. — Мало ли что я рассказал. Кто это напечатает? А за «разгром русского» мне по двадцать центов за строку прибавят… — Он помолчал. — И потом, знаешь что? — Голос его звучал вызывающе. — Давай-ка еще бутылочку кьянти! За Столбова, а? Не все же все-таки свиньи на свете, как я или ты… …Синьор Лонго грустным взглядом следил за официантом, ставившим на стол новую бутылку. Вдруг взгляд его стал злым. Он схватил стакан, налил его до краев и, чокнувшись с американцем, выпил до дна.СОТОЕ ПИСЬМО Зеленое кольцо
«Здравствуй, любимая! Это мое письмо особенное, не такое, как другие. Во-первых, оно юбилейное — сотое за эти полтора года. Во-вторых, оно последнее. Да, да! Билет на 18-е, на «Аделаиду» уже у меня в кармане. Завтра утром я выхожу из больницы, а вечером всхожу на борт. Насчет больницы, пожалуйста, не пугайся — это пустяки: легкое сотрясение мозга, и, если б не дикая головная боль, я бы вообще не обращал на это внимания. Но эскулапы (ты их знаешь) важно качают головами, чмокают губами и велят лежать. К чертям их всех! Им бы побольше выкачать у меня денег. Но этот номер не пройдет! Если они не выпустят меня завтра сами, я все равно смоюсь. Да и деньги нечего швырять. (Сотрясение мозга! Мало, что ли, у меня их было, когда я играл в Руане!) Деньги эти теперь не мои, они наши, и их хватит нам на первые годы. Если б ты знала, как я счастлив! Наконец-то мы будем вместе! Скажи своим старикам, что теперь они могут не волноваться — их дочь выходит замуж не за нищего. Я, конечно, не миллионер, но ты можешь быть спокойна — на первое время хватит. Ты знаешь, всю эту ночь (я пролежал ее с открытыми глазами — ужасная головная боль не давала спать) я представлял себе твое свадебное платье. Мы закажем его у Отеро, там делают чудесно и недорого, а черный костюм я уже купил здесь — ведь в Австралии все дешевле, чем у нас в Париже. Я многое здесь купил. Но что, не скажу. Это будет сюрпризом для тебя! Надеюсь, ты останешься довольна и не будешь сердиться на меня за обман. Да, я должен покаяться, я обманывал тебя все это время. О нет! Пожалуйста, не ревнуй, как всегда. Я о другом. Дело в том, что я все-таки весь этот год играл в регби. Ну, не сердись, умоляю тебя! Право же, не было другого выхода. Вот послушай. Когда Рене сказал, что Австралия собирается принять участие в олимпийском футбольном турнире, что футбол у них в загоне и такой тренер, как я, там был бы на вес золота, я, ты помнишь, отнесся к этому с недоверием. Но ведь надо же было зарабатывать. Ну что мне давал мой футбол? Ничего. Любительский спорт в нашей стране только требует, а не дает. А моя шоферская работа… Эх, не хочется и говорить. Конечно, если б я продолжал играть в регби профессионалом, как раньше, в Руане, я бы деньги имел, но ведь ты сама запретила мне, после того перелома. Ты кричала: «Или я, или твое противное регби! Пока не бросишь, не приходи в дом!» Ну, я и бросил. Я бы все бросил ради тебя. Только родители-то ведь твои смотрели по-другому. Ты хочешь, чтобы я был цел, пусть бедный, но невредимый, ну, а им нужно, чтобы их дочь не была нищей. И они правы… Одним словом, мы все же правильно поступили, решившись на эту разлуку, — в конце концов, что такое полтора года один без другого, если они обеспечат нам возможность всю жизнь потом быть вместе? Ведь вот же они прошли, эти полтора года, и через двадцать дней я буду обнимать тебя в Марселе. Скорей бы! Я умоляю, приезжай меня встретить — с парохода я переведу тебе телеграфом деньги на билет. Но я отвлекся. Ты должна понять и простить меня, моя любимая. Ты знаешь, когда я приехал сюда, в Мельбурн, где многое еще напоминало прошедшую олимпиаду, я был уверен, что найду хорошее место. А потом… Потом я убедился, что футбол здесь никому не нужен. Ты понимаешь, даже во время олимпийского турнира футбольный стадион был почти всегда пуст — он приносил убытки. Футбол никого не интересует в Австралии. Так какому же идиоту взбрела бы в голову мысль готовить футболистов к Риму? Ну, приготовили бы, ну, послали, представь себе невероятное — они бы заняли даже приличное место. А дальше что? Ведь в самой-то Австралии на них никто бы не ходил смотреть, а значит, никто бы не платил за билеты. Другое дело регби. Тут пахнет миллионами! Ты пойми, ведь у нас каким любителям хорошо? Тем, кто сам в деньгах не нуждается, или тем, кто действительно мирового класса. Таким или в университетах стипендии специальные устанавливают, или они работают, сами не зная где, а деньги получают, или, наконец, служат в армии, словом, ты сама это знаешь. Мы ведь не в России живем. Это там ходи на стадион, бери трекера, занимай спортзал, и все бесплатно. Им хорошо. А у нас, если такой, как я, — не Копа, а Дистель, — так выбирай одно из двух: или плюнь на спорт и работай, или становись профессионалом (впрочем, ведь и Копа профессионал) и только тогда заработаешь. Ну, а уж о здоровье и целой голове забудь. Кстати, до чего она болит, эта проклятая голова! Одним словом, никто здесь не собирался готовить футболистов. Австралийцы решили, что им это ни к чему. Ну, я поболтался, поболтался, что было делать? Ведь у меня не было денег, даже на обратный билет. И я пошел в регби. Я знаю, родная, ты не осудишь меня. Ты поймешь. Ну, а что мне было делать, черт возьми! У меня нет отца-лавочника, и в университете я не учусь, где бы мне за мои ноги деньги подкидывали! И наследства у меня нет, и не предвидится! И в армию я не пойду — хорошо, если пошлют в футбольную команду, а если воевать? Нет уж! Ах, как было бы здорово, если б можно было заниматься спортом сколько хочешь и как хочешь, чтобы не платить за это, чтобы время было! Чтоб все занимались, понимаешь, не для того, чтобы жрать, а вот жрали побольше для того, чтобы были силы для спорта! (Прости меня, любимая, я стал такой грубый!) Ведь вот русские, у них все это устроено. Неужели у нас нельзя? Денег не хватает! Как бы не так! Я твердо уверен, что на деньги, что стоила эта дурацкая бомба, которую мы взрывали в Сахаре, можно обмундировать все футбольные команды мира. А какие стадионы построить!.. Ну, в общем, это все ерунда. Мечты осуществляются только у миллионеров. Одним словом, я нанялся в одну из второклассных команд «Мельбурн-Вест». Играют здесь резко, резче, чем у нас (мне однажды правую руку вывихнули — помнишь, когда я тебе две недели не писал, ты очень сердилась тогда и написала, что все кончено; но не мог же я объяснить тебе причину своего молчания!). Играли мы много, часто, ушибов и синяков я за год заработал здесь больше, чем за все годы, что играл в Руане. Но и деньги платили! Честное слово, австралийцы так же помешаны на регби, как ты на кино! Так вот, весь год я играл за профессиональную команду регбистов, а вовсе не тренировал любителей-футболистов. Ты ведь не в обиде на меня за это? Правда? Честное слово, в этой стране даже кенгуру не хотят играть в футбол! Но я не писал тебе об этом, потому что ты бы ругала меня и всегда бы беспокоилась, не поломают ли мне что-нибудь, не убьют ли, не выбьют ли мозги… Ох, как они болят, мои мозги! Ты понимаешь, позавчера (это был мой последний матч по контракту, надо же было, чтоб так не повезло!) мы стукнулись с другим нападающим головами так, что искры посыпались. Я минут двадцать лежал без сознания (да и он тоже). Очнулся в этой проклятой больнице. Но теперь все в порядке, кроме мигрени. А главное, теперь навсегда покончено с этим — деньги накопил! Еще двадцать дней, и мы будем вместе. Если бы ты знала, как я скучал все это время! Ты знаешь, в первые дни здесь, в Мельбурне, я не находил себе места. Каждый день я шел на берег Ярры и сидел там на скамейке. Мне казалось, что я в Булонском лесу. Помнишь тот день, когда я сказал тебе, что решил ехать? Это была осень, конец октября. Я не могу забыть тот день. Мы провели его в Булонском лесу. Цвет твоих волос был как цвет медных листьев на аллеях. А твои глаза! Мы обедали с тобой в том маленьком ресторанчике, помнишь, нашем любимом, напротив грота с водопадом. В первый же день, как я вернусь, мы снова пойдем туда и закажем лучший обед и шампанское. Я напою тебя! Помнишь, я всегда мечтал напоить тебя! А ты смеялась, что я не пью, соблюдаю режим. Я и теперь не пью. Но тебя я напою. Мы возьмем такси и поедем куда-нибудь за город, в Версаль или в лес, настоящий! Скорей бы уж! Надо кончать письмо — сестра велит гасить свет. Да и голова просто разламывается. Я опущу его завтра в порту в последний момент перед посадкой на пароход. Я буду плыть двадцать дней, а письмо полетит (я отправлю его авиапочтой), оно полетит к тебе, как моя любовь. Только ему повезет больше, чем мне, оно окажется в твоих руках раньше. Я кончаю писать. Я хочу только еще раз поблагодарить тебя за то, что ты сумела ждать, что ты ждала меня эти полтора года, ждала «своего счастья», как ты писала. Скоро мы навсегда будем вместе, и клянусь тебе, я сделаю все, чтобы вознаградить тебя за эти потерянные месяцы! Я дам тебе все счастье, какое смогу, всю любовь. Ведь только из любви к тебе я уезжал и жил здесь, на чужбине, и играл в эту проклятую игру, только ради тебя, ради того, чтобы заработать на наше счастье. А регби я зря обругал. Ведь только благодаря ему мы обретем это счастье, только благодаря ему я смогу наконец по-настоящему жить. Крепко целую тебя, любимая, обязательно встречай меня в Марселе. Теперь уже скоро.Это письмо, найденное в кармане Клода Дистеля, скоропостижно скончавшегося от внутреннего кровоизлияния в мозг в пассажирском зале Мельбурнского порта, не было вручено адресату.Навсегда твой Клод».
ЮРИЙ ДАВЫДОВ ЗАБЫТЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
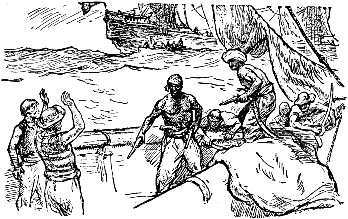
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ВАСИЛИЯ БАРАНЩИКОВА (Правдивая история странника поневоле)
1. Пришла беда — отворяй ворота
Его приковали цепью к переборке трюма. Он хрипло закричал, а человек в толстой шерстяной фуфайке молча ткнул его кулаком в зубы. Василий забился на цепи, как подстреленный, а человек в фуфайке сплюнул и ушел, громко стуча тяжелыми башмаками. В трюме пахло сыростью, паклей, крысиным пометом. Парусник легонько переваливался с борта на борт. Василий прислушался к глухим всплескам волн, отер лицо ладонью и вздохнул. «Эх, — подумал он с горечью, — пропала моя головушка! Пришла беда — отворяй ворота». Он огляделся, различил в сумраке еще нескольких несчастных, скованных цепью, хотел было заговорить с ними, но они не разумели по-российски. Василий вздохнул еще горше, прижался спиной к трюмной переборке, и мрачные мысли овладели им. Ходишь, ходишь под богом, думалось ему, а черт не дремлет, и вот начинается с тобой такое, что ни в страшной сказке сказать, ни пером описать. А ведь как все ладно начиналось!.. И вспомнился Василию погожий зимний денек, когда поцеловал он ребятишек, жене наказал за домом приглядывать и, благословясь, поехал в Ростов с кожевенным товаром. Путь был легок, наезжен. Скоро пропал из виду Нижний Новгород, шибче закрутился снег над трактом и полями, весело повизгивали полозья. Без греха добрался он до Ростова. А в Ростове ходуном ходила ярмарка. Тепло было, снег подтаивал. На ярмарке бойко пошла у купца Василия Баранщикова распродажа. На третьей неделе поста сбыл он все с рук, набил мошну. Тут бы ему, вислоухому, и вертаться домой, в Нижний, да нечистый попутал малость на ярмарке погулять. Ну, и погулял. Ой, и погулял! Обобрали его до последнего грошика. Что было делать? Как быть? Добро еще, лошадей не свели плуты ростовские. Продал Баранщиков коней, упрятал на груди, под крестом, сорок рублев. Ну ладно, а дальше что? Думал, гадал, прикидывал и решил махнуть в столицу, а там-де, в Санкт-Петербурге, как-нибудь все образуется. На дворе март звенел капелью, март 1780 года, когда незадачливый купец-нижегородец миновал петербургскую заставу. Дул сырой западный ветер, и Нева готовилась взломать лед. В Петропавловской крепости уже и пушки зарядили, чтобы возвестить об этом событии. А на валу Адмиралтейства все нетерпеливее хлопал большой белый флаг с гербом города: золотой скипетр и перекрещенные разлапистые якоря. Город Петра был морской, и о морской службе подумал волжский гость, потому что поправить свое состояние «как-нибудь» возможности не представилось. Стал Василий ходить по корабельщикам и предлагать свои услуги. Долго рядился, наконец ударил по рукам с двумя купцами, которые посылали во Францию строевой лес. Василий нанялся матросом: десять рублей помесячно и хозяйские харчи. Корабль завершали постройкой в предместье Петербурга, на охтенских верфях. Мастера-охтяне управились к сроку; едва отгремели трижды крепостные пушки, объявляя начало навигации, а корабль был уже готов. Правда, оснастить и загрузить его надо было не на Охте, а в Кронштадте. Гребные баркасы вывели корабль в Финский залив, поставили в Купеческой гавани Кронштадта, и восемьдесят матросов под командой шкипера-иноземца, волосатого детины, богохульника и табакура, принялись оснащать судно, грузить тяжелые духмяные смолистые сосновые бревна. Все лето взяла эта работа. Лишь в середине сентября корабль оставил Кронштадт. И последним приветом родины был Василию Баранщикову светлый огонь Толбухина маяка. Балтика уже штормила по-осеннему. Она обрушила на моряков крепкие ветры, дожди, туманы, и Василий мог теперь повторить следом за старыми матросами: «Кто в море не бывал, тот богу не маливался». Впрочем, настоящая беда, похлеще ростовской, стерегла Василия не на море. Ненастным ноябрьским днем русское судно стало на рейде столицы Датского королевства. Сквозь дождь и сумрак виднелся Копенгаген: угрюмые формы и цитадель, башни, черепичные крыши. Вместе с другими служителями отпущен был на берег и наш нижегородец. А перед тем шкипер-табачник, бранясь, выдал каждому толику денег. И вот они бродили по городу, где было жителей около ста тысяч, куда больше, чем в Петербурге; по городу, где на мощеных ровных улицах катились кареты, где в трактирах спускали скитальцы морей золотые и серебряные монеты чеканки всех казначейств Европы, а в окнах опрятных домов можно было видеть пригожих девиц, скромно склонившихся над вязаньем. Поздним вечером Василий, растеряв товарищей, завернул в портовую харчевню. Он взял пива и разговорился с двумя толстощекими датчанами, которые, смеясь и попыхивая сигарками, кое-как калякали на чудовищном жаргоне из немецких и русских слов. Разговорчивый Василий и не приметил, как датчане, перемигнувшись, подлили ему в пиво водки. И тут подсел к столу юркий молодец в бархатном кафтане. Молодец так и сыпал по-русски: он, оказывается, живал в Риге. Захмелевший Василий совсем уж распахнул душу, называл всех трех собеседников «милок» и рассказывал о ростовской ярмарке, о детишках, оставшихся в Нижнем. Толстощекие цыкали языком, а бархатный кафтан приговаривал: — Ничефо, брат, мы это попрафим, нн-чефо… И «поправил». Было уже за полночь, на рейде моргали судовые огни, когда юркий молодец, убеждая Василия, что везет его на русский корабль, преспокойно доставил гуляку на какой-то парусник, где Баранщикова, раба божьего, взяли весьма нецеремонно за ворот, сволокли в трюм да и заковали в железы. Вот и все. Пришла беда — отворяй ворота.2. Святая Мария с розой и тюльпаном
В трюме жили крысы. Им, наверное, не так уж худо жилось посреди бочек с солониной и сухарями, но они были очень жадны, эти корабельные крысы, и всё норовили урвать кус из оловянных мисок, что ставил перед пленниками датский матрос в фуфайке, закатанной по локти. Далеко уже был Копенгаген. Миновав Англию, датский корабль вышел в Атлантику. Он держал курс на запад, к лазоревому морю, к зеленому острову, который принадлежал королю Дании Христиану Седьмому. Там, в океане, пленников расковали. Куда они могли деться? Разве в пучину сигануть… Увидев океан, ахнул нижегородец. Батюшки святы, царица небесная, мыслимо ль этакое! Ну точь-в-точь всемирный потоп. И океанский вал что твои Жигули, и ветер такой, что приведись на Волге, так, кажется, из берегов бы вышла или вспять обратилась, и небо-то, небо такое огромное, что и заволжское, степное, не больше одеяла будет, ей-богу. Много недель шел датчанин Атлантикой, и не было ни конца ни краю этой водяной бугристой долине, то зеленой, как весенние луга, то бурой, как поле под паром, то густо-синей, как июльский полдень. Сколько угодно мог глазеть Василий на океан, и сколько угодно мог он слоняться от форштевня до ахтерштевня, от правого борта к левому, и харч был сносный, и табачком матросы иной раз баловали, но все на душе у Василия лежал камень. Эх, хоть один бы россиянин был тут! Не было тут ни одного россиянина, кроме него самого, Василия Баранщикова. Были тут чужеземные мужики — кто с серьгой в ухе, кто с трубкой в зубах, кто в вязаном колпаке, а кто в широкополой шляпе, кто в сапогах с раструбами, а кто в башмачищах с каблуками и пряжками. День ото дня жарче палило солнце. Огромные звезды страшно пылали в ночах. Налетали дожди, оглушительные и хлесткие. А после дождей натянувшиеся снасти басовито гудели. Не иначе, думал Василий, везут в такую сторону, где плавают прелестницы в рыбьей чешуе, где чудо-юдо рыба кит пускает ввысь серебряные струи, такие, наверное, как петергофские водометы; а люди там живут черные, как головешки, и поклоняются, должно быть, огню подобно рыжебородым персиянам, что наведывались порой на торги в Нижний. В исходе пятого месяца плавания, летом 1781 года, датский парусник достиг Антильских островов, и нижегородец-пленник увидел скалы, рифы, пальмы Вест-Индии. Корабль медленно обогнул остров Сент-Томас и положил якорь близ города того же названия, который был одним из самых бойких портов на пути из Старого света в Новый свет… Уже не атлантический вал колыхал датский корабль, который занес Василия Баранщикова в такую даль от Волги, что и в разуме не умещалось, — теперь уже плескало в борта Карибское море. И оно было в таком радостном блеске, такой неизреченной чистоты и прозрачности и так весело кричали над ним олуши и крачки, что Василий не сдержал улыбки. Оно казалось безмятежным, это Карибское, или Антильское, море! А между тем в водах его растворилось немало людской крови. В блеске его волн было не только отражение солнца, но и пламень стародавних артиллерийских дуэлей. Антильские олуши и крачки носились, бывало, не только над коралловыми рифами и отмелями, где грелись сонные черепахи, но и над палубами вертких судов, свалившихся в абордажной схватке. И это море знавало не только акул с треугольными плавниками и свиными глазками, но и двуногих акул, столь же свирепых и столь же неутомимых. Знаменитые пираты шныряли некогда по веселым волнам Вест-Индии. Авантюристы и головорезы изо всех уголков Европы презирали королей, вельмож и собственную шкуру. За два века до того, как Василий Баранщиков увидел Антильское море, некий Джон Хаукинс поднял под этим небом пиратский флаг, и вскоре в здешних широтах развелось морских разбойников что птиц на птичьих базарах Вест-Индии. До поры до времени пиратам весьма сочувствовали в Лондоне, в Париже, в Антверпене: они ведь перехватывали испанские торговые корабли, а стало быть, подрывали могущество надменных испанских государей. Но, когда солнце Испании померкло, когда английские, голландские и французские толстосумы сами начали утверждаться в Новом Свете и в Вест-Индии, тогда они ухватили за горло пиратскую вольницу. Долго и с переменным успехом длилась эта война. Кровавая, жестокая, не знающая пощады, она не стихала годами, не стихала ни в апреле и мае, когда ровно в полдень падают на Вест-Индию короткие серебряные дожди, ни в безоблачные дни июня и июля, ни при обложных дождях, в которых тонут август, сентябрь, октябрь… Вот какому морю невольно улыбнулся Василий Баранщиков с палубы датского судна. Правда, теперь пираты почти повывелись, их старые лагеря на острове Черепахи, на Алмазной скале, на островке Сан-Кристобаль давно были покинуты, а такие рыцари морского разбоя, как Хаукинс с Дрейком, как некий Александр, прозванный «Железной Рукой», или Манбар, прозванный «Истребителем», перекочевали на страницы приключенческих романов. Теперь пиратствовали в Вест-Индии плантаторы, монахи и генералы — начальники гарнизонов и фортеций, разбросанных по всему архипелагу. В солдата одного из таких гарнизонов и предстояло обратиться злосчастному нижегородцу. На острове Сент-Томас Василия и его сотоварищей по плену повели в кирху для присяги на верность королю Дании. Поп, который и на батюшку-то не был похож, потому как ни гривы, ни бороды у него не было, поп этот что-то долго, тихо и внушительно говорил рекрутам, и они, датчане и шведы, его поняли. Василий же только моргал. Это, однако, не смутило бритолицего румяненького пастора, и Василия тоже заставили целовать крест. Засим обрядили его в парусиновую форму и загнали в казарму. На другой день офицер, держа в одной руке трость с инкрустацией, а в другой парик, которым он часто обмахивался, оставляя в душном, парком воздухе облачко пудры, принялся обучать новобранцев ружейным артикулам. Новобранцы, как полагается, путались и потели, офицер, как полагается, кричал и тоже потел. Белесые глаза его выкатывались так, что казались голубиными яйцами… Начинали все сызнова. Новобранцы опять сбивались. Офицер, косо нахлобучив завитой парик, лупил их тростью, как мулов. Вскоре, впрочем, начальство сообразило, что боем от «болвана московита» ничего не добьешься. Потом оно сообразило, что и без боя из этого «болвана» не выделаешь солдата: ведь он не понимал ни полсловечка. «Болван» только даром жрал бананы и пил кофе, отпущенные от щедрот его величества Христиана Седьмого на содержание каждого рядового. В конце концов гарнизонный генерал придумал, как избавиться, и притом с выгодой, от никудышного воина, позорившего доблестный гарнизон Сент-Томаса. Василия посадили на небольшой парусник, и прощай Сент-Томас, прощай навсегда. Двое суток посудинка резво бежала к острову Пуэрто-Рика, принадлежавшему в ту пору Испании. А там другой генерал, с глазами как черные жуки, внимательно оглядел Василия, пощупал у него мускулы, подумал и согласился отдать в обмен за него «парочку негров». Так гарнизонный начальник из Сент-Томаса избавился от никудышного солдата и приобрел двух негров-рабов. Так испанский генерал обзавелся для домашнего услужения кухонным мужиком. Так Василий Баранщиков сменил хрен на редьку и очутился на острове, где были обширные сахарные плантации, где шелестели, точно жестяные, рослые пальмы и приторный запах патоки примешивался к пище и табаку. Порядок требовал инвентаризации имущества — дескать, то-то и то-то принадлежит такому-то, — а посему на кухонного мужика следовало поскорее наложить тавро. Четвероногое имущество клеймили в загонах, двуногое — в казенном присутственном месте. В присутствии Василий увидел детин с равнодушными усатыми лицами, большое, грубой работы распятие и стол, на котором чинно выстроились клейма. Клейма были с шипами, натертыми порохом. Шипы были расположены так, чтобы оттискивать определенный рисунок. Василию заголили левую руку. Двое детин держали его, третий клеймил. Слезы брызнули из глаз пленника, лицо его судорожно подергивалось, он закусил губу и смотрел на скорбного деревянного Христа. Восемь раз приложили клейма к руке Василия, а потом генеральский денщик повел его в усадьбу. Дорогою они завернули в таверну, и денщик, вздохнув участливо, поднес Василию стаканчик вина. Несколько дней рука адски болела. Она распухла и покрылась струпьями. Когда струпья осыпались, Василий разглядел свои «особые приметы». Самым крупным было изображение святой Марии с розой и тюльпаном. Ниже девы Марии встал на якорь кораблик, окруженный солнцем, полумесяцем, звездами, а на кисти, посреди восьмиугольника, значились голубоватые цифры: единица, семерка, восьмерка, тройка. Последнее означало, что генерал обзавелся новым рабом в 1783 году. Клейма были наложены, порядок соблюден, и кухонный мужик приступил к делу. Вместе с негром-сенегальцем таскал Василий воду и сухие стебли тростника для печи. Он мыл пол, скоблил столы, чистил медную посуду, выгребал золу, выносил помои, и дева Мария на руке его всегда была чумазая. На дворе духота и жара, а в кухне и вовсе пекло, и Василия мутило от запахов чеснока, пряных соусов, бычьего мяса. Поднимались усадебные рабы на заре, ложились около полуночи. Звезды горели в черном небе, как факелы, море рокотало, как банджо. Снился неграм Золотой Берег, снились Василию волжские отмели. Короток был сон. Жестокое чужое солнце вставало над жирной чужой землей, с чужим жестяным шелестом раскачивались пальмы под утренним бризом, и начинался новый день в кухонном пекле.3. Раб Ислям и капитан Христофор
Не верилось, просто не верилось в это нежданно-негаданное счастье. И, даже когда парусник выбрал якорь, и матросы, что-то звонко прокричав, замахали шапками, а береговые пальмы склонились в полупоклоне, даже тогда Василию все чудилось, что генерал опомнится и велит вернуть его. А парусник уже набирал ход. Пеньковые просмоленные ванты подхватили напев атлантического ветра, медленно погружаясь в волны берега Вест-Индии. Вест-Индия! Василий оставил на твоих берегах едкую тоску по родине, муторные запахи генеральской кухни, злую лихорадку. Он уносил с твоих берегов амулет из акульих зубов, подаренный на счастье друзьями-неграми, и умение изъясняться на смеси гишпанского с нижегородским. И еще уносил он благодарное воспоминание о черноокой донне с плечами и шеей белей вест-индского сахара. Ей, супруге генерала, обязан он своим спасением. Правда, она могла бы и раньше расспросить Василия про жену и детей, покинутых на берегах реки, название которой донна не запомнила. Правда, могла бы она и раньше проникнуться состраданием к Василию Баранщикову. Впрочем, что же теперь сетовать на это? Благослови ее господь и за то, что два года спустя уговорила она генерала отпустить кухонного мужика… Вторично пересекает Василий океан. Предстоит ему тысячемильная дорога. Но теперь уж это дорога домой, в отечество. Нет, не сидит он сложа руки на маленьком итальянском паруснике, что идет в Геную с грузом кокосовых орехов. Он, Василий, матрос, — равноправный член экипажа, и он работает на реях, управляется с парусами, окатывает палубу забортной водой. Он не жалеет сил. Кажется, нет на свете милее этого итальянского кораблика с двумя мачтами и залатанным кливером. А какие славные, какие веселые парни, эти звонкоголосые генуэзцы!.. Три месяца идет парусник Атлантикой. Вон уже и Азорские острова. Парят над ними ястребы, плывет гул бессчетных монастырских колоколов, и вперевалочку, утиной стайкой уходят от тех островов в Европу купеческие суда, а в трюмах у них бочки, а в бочках — отменная, ускоряющая ток крови фаяльская мадера. Генуэзцам теперь недалече. Пройдут они мимо башен Гибралтара, а там и Средиземное, такое им знакомое море. Да и Василию Баранщикову сухой путь Европой куда короче океанской дороги. Но, говорит старая пословица, человек предполагает, а бог располагает. Располагал же мореходами на сей раз не христианский, а мусульманский боженька. Черной молнией налетел пиратский бриг, и не поспели они сотворить молитву деве Марии, как уже дула пистолетов пристально глядели им в лоб. Можно побиться об заклад: пираты с африканских берегов не уступали в отваге и дерзости антильским «джентльменам удачи». Конечно, не было большим подвигом для капитана Магомета-паши пленение скорлупки, на которой и двух дюжин «неверных» не нашлось. Но если сравнивать пиратов-африканцев с пиратами европейцами, то первые, пожалуй, дали бы фору последним и в мореходном искусстве, и в храбрости, и — да позволят нам так выразиться — в разбойном стаже. Мрачная слава пиратов с африканских берегов гремела еще в античные времена. R их лапах побывал некогда молодой Юлий Цезарь. Они выходили на бой со стаями галер, украшенных римской волчицей, и сам Помпеи, «повелитель мира», собирал против них целые флоты. А в средние века и позже исправно платили им дань европейские торгаши. Василий Баранщиков, понятное дело, не предавался размышлениям о пиратах вообще и об африканских в частности. У Василия Баранщикова было темно в глазах, и лицо его было белое, как белый тюрбан капитана Магомета-паши. В эти минуты Василий желал смерти. Доколе, о господи! За что же такая участь? Ну грешил, как все купцы: не обманешь — не продашь. Ну имел некую склонность к зелену вину… Вот и все прегрешения. Так за что же, о господи, караешь? Но бог молчал. Аллах, должно быть, был сильнее его, и не было аллаху никакой заботы о бедном нижегородце. Турки не теряли времени: они делили добычу. Василий приглянулся самому Магомету-паше. Капитан хлопнул его по плечу, глянул на зубы, засмеялся и залопотал что-то своим приспешникам. Минуло несколько недель, и пиратский бриг, пройдя от Гибралтара до Малой Азии, ошвартовался в Катальском заливе. Неподалеку от залива, в древнем иудейском городе Вифлееме, было у капитана Магомета-паши уютное гнездо: дом с четырьмя женами, дворик с фонтанчиком, розами и старым кипарисом. И Василия, нареченного «Ислямом», опять определили в кухонное услужение. Правда, зажил тут Василий вольготнее, чем у испанского генерала, — только кофий варил. Однако в Малой Азии, когда родина была уже в сравнении с Вест-Индией не так далека, Василий тосковал ежечасно. И не были ему в отраду ни рахат-лукум, ни душистый кофий, ни милая снисходительность капитановых жен. Думал Василий о побеге, думал упорно, каждый день, и учился говорить по-турецки, чтобы, будучи в бегах, объясняться с прохожими… Полгода обретался Василий в древнем Вифлееме, а тоска не утихала, неизбывная тоска по отчизне. И вот как-то ночью выскользнул он со двора, постоял минуту, прислушиваясь к арабской мелодии фонтанчика, к шороху ветра, что знал столько историй о странствиях, да и пустился в побег. Изловили Исляма на третьи сутки, привели к Магомету-паше. Капитан ярился пуще барса. Он приказал бить раба палками по пяткам, а сам уселся на ковре, подогнув ноги, и закурил кальян. Василия били, а Магомет-паша пускал дым, прикрывал в истоме глаза, покачивал тюрбаном: — Это, Ислям, не тебя бьют. Это, Ислям, твои ноги бьют: зачем бежали? Долго Василий не мог подняться: ноги у него обратились в култышки. Он лежал почерневший, с безумным блеском в провалившихся глазах. Ночами он, случалось, плакал, но то были слезы ненависти, и они придавали ему решимости. Теперь он думал о побеге, как приговоренный к пожизненной каторге. Нет, сильнее: как обреченный на казнь. С мыслью убежать или сложить кости в опаленной солнцем земле Палестины он вновь принялся варить кофий своему господину. Истек год вифлеемской тоскливой и однообразной жизни Василия Баранщикова. Магомет-паша отправился в новый разбойный поход. А неделю спустя после его отъезда повстречал Василий другого капитана. Он был грек, его шхуна стояла в Катальском заливе, готовясь к плаванию в Венецию. После двух-трех встреч Василий открыл капитану Христофору свой замысел-Капитан задумался. Христофор хорошо помнил русских моряков и солдат, которые совсем недавно пытались вызволить Грецию из-под султанского ига и столь знатно поколотили турецкий флот в Чесменской бухте. Как и большинство его соотечественников, капитан питал к русским единоверцам искреннюю симпатию. Ну как не помочь, думал капитан, несчастному россиянину? О, он отлично понимал, чем рискует при неудаче. Головой рискуешь, капитан Христофор. Но ведь ты архипелагский моряк, тебе ведомы такие уголки, куда турки не суются. И потом: как же ты упустишь случай насолить бусурману-пирату? — Слушай, брат, — сказал капитан Христофор, — я снимусь с якоря завтра после полуночи. Понимаешь? — Понимаю, — сказал Василий. Сердце у него забилось радостно и часто. — Понимаю! Но чем я отплачу тебе, добрый человек? Капитан махнул рукой: — Пустое. Будешь помогать моим ребятам, и все тут. И он ушел, высокий, костлявый, выдубленный солнцем и солью морей, хитроглазый капитан Христофор. Ветер раздувал его длинные усы. В назначенный час греки выбрали якорь. Василий не видел, как начали медленно повертываться в светлой ночи мысы и скалы, как нос шхуны тронул и развалил лунную дорожку на воде: Василий был упрятан в тайничке рядом с капитанской каютой. Но он слышал голос капитана Христофора, отдававшего команды, слышал, как шлепают по палубе босые матросы, и его бросало то в жар, то в холод, и лицо его было в поту, а руки дрожали. Лишь через несколько дней осмелился Василий показаться на палубе. Шхуна была уже неподалеку от Кипра. Средиземное море блистало синей красой. Над монастырем реяли ласточки. Среди маслин белели домики. Рыбачьи лодки стояли на приколе… Василий перекрестился и шмыгнул носом. Капитан Христофор улыбнулся в усы, позвал его в каюту, и они распили бутылку сладкого хиосского вина. Нижегородец знал Балтику, Атлантический океан, Карибское море. И вот — Средиземное. Его воды, пожалуй, сродни вест-индским. Но дышится тут легче, острова тут уютнее, бухты приманчивее. А потом — Адриатика, и ее королева — Венеция. И в Нижнем слыхал Василий про «веницейских» купцов, безмерно богатых, изворотливых и деятельных. Слыхать слыхал про Венецию, но увидеть не мыслил. Теперь же гляди, гляди во все глаза. Гляди на царственный мрамор, на собор Святого Марка, на котором возносятся в могучем порыве четыре конные статуи, на острова и мосты, на золотоволосых женщин и ловких гондольеров, на колоннады и арсенал, на каменных львов и зеленоватую воду, что выплескивает оранжевые корки апельсинов, на оливковых матросов и седых шкиперов, на новенькие суда, которые отдают смолою, и на старые парусинки, от которых пахнет дегтем и прелыми фруктами, на толстых торговок и тощих живописцев, на бродяг, башмачников, портных, пекарей… Так и подмывало Василия проститься с Христофором и отсюда, из этой распрекрасной Венеции, отправиться восвояси через австрийские и польские земли. Но капитан Христофор сказал: — Это же очень далеко. Разве плохо на шхуне? Потерпи, брат. Придем в Царь-град, там тебе российский посланник паспорт выправит, и поедешь себе домой с паспортом. Василий не стал перечить.4. Янычар
Курносый и круглорожий дворецкий стоял на каменном крыльце и сердито смотрел сверху вниз на незнакомца. «Вроде бы и русский, — думал дворецкий, — да уж так зажарен, что хоть десять лет три — не ототрешь». — Ну, что тебе еще? — сердито повторил дворецкий. — Сказано: нету его превосходительства. Нету! — выкрикнул он фальцетом. — Пшел! Василий переминался с ноги на ногу. «Как же это так? Как же?» — горестно недоумевал он. И впрямь можно было взвыть от сознания своей несчастливости, оттого, что и теперь судьба-злодейка обходилась с ним уж очень круто. Василий только что поведал курносому о своих мытарствах. Он смиренно называл домоправителя «ваше благородие», хотя знал, что тот никаким «благородием» не был. Василий не просил ни денег, ни пропитания, он просил лишь доложить о себе господину посланнику. А дворецкий прогонял его с порога, говоря, что по случаю заразы — «моровой язвы» — господин Булгаков, как и все посланники при турецком дворе, уехал из Стамбула за несколько десятков верст и принимать-де никого не велено. А Василий опять твердил: как же, дескать, так, приходит подданный государыни императрицы и просит отправить его в пределы любезного отечества, ему же, верному подданному, от ворот, значит, поворот… Дворецкому надоело торчать на солнцепеке. — Э, что с тобой лясы точить! — пробурчал он с раздражением. — Много вас, бродяжек, сум переметных, все вы талдычите, что нуждою отурчали. — И крикнул: — Эй, стража! При слове «стража» внутри у Василия все оборвалось. Дворецкий приметил его испуг, добавил внушительно: — Чтоб сей секунд духу твоего не было! Слышишь? А не то сдам стражникам. Пшел! У беглого раба капитана Магомета-паши не было никакой охоты попадать в лапы турецких стражников. И, понурившись, побрел Василий со двора российского посланника. Время близилось к полудню. Солнце палило. В улочках воняло нечистотами. Дома с деревянными решетками на окнах дремали. Никому в этом большом, пестром и грязном городе, ни единой душе не было дела до Василия Баранщикова. Он добрел до Галаты. Это было предместье Стамбула, спускавшееся к бухте Золотой Рог. В бухте недвижно стояло множество судов. Они казались приклеенными к синему стеклу. Но среди этих судов уже не было шхуны капитана Христофора. Василий остановился на пристани. Он смотрел, как большие, осевшие под грузом лодки отваливали от кораблей. И от пристани тоже шли лодки — к кораблям. В лодках были табак и сафьян, буковое дерево и ковры, благовонные масла и золотошвейные изделия турчанок-затворниц. Галата жила бойкой, темной, плутоватой, для большинства ее обитателей трудной, для иных привольной жизнью. Кого только тут не было! Немцы и французы, англичане и голландцы, армяне и евреи, сербы и болгары, греки и португальцы. Тут были ремесленники и негоцианты, рабочие с верфей и трактирщики, воры и содержатели притонов, перекупщики рабов и ростовщики. Портовая суета, движение и деятельность несколько ободрили Василия. «Ничего, — подумал он. — Ничего… Осмотрюсь, придумаю, как выбраться». Вскоре пристроился Василий на верфи, встал вместе с несколькими сербами и болгарами, вооруженный плотницким топором и отвесом. Может быть, вот так, в славянской артели, и дожил бы он до того дня, да повстречал гонца из Петербурга. Но, видно, на роду ему, Василию Баранщикову, было написано изведать всяческие приключения. Вот и на берегу Золотого Рога попался ему некий соотечественник, давно«отурчавший», и принялся искушать Василия выгодами янычарского житья. Василий соблазнился и пошел на воинскую службу. Еще в XIV веке турецкие султаны учредили новые войска — своего рода гвардию — «они чери», янычаров. Новшество заключалось в том, что в янычары забирали турецкие власти детей покоренных ими христианских народов. Это была одна из податей, и это была, конечно, самая страшная подать. Обездоленные, лишенные отчего крова дети вырастали под присмотром турецких наставников и обращались в янычаров, известных своей бесшабашной удалью и необузданной храбростью. А когда в последний год XVII столетия янычарам дозволили обзаводиться семьями, «новые войска» стали пополняться детьми самих янычаров, и тут уж образовалась такая влиятельная каста, что ее опасались сами султаны. Итак, бывший нижегородский торговец сделался янычаром. Его обрядили в чалму, широченные шаровары, сапоги красного сафьяна, подпоясали шелковым кушаком и снабдили двумя пистолетами европейской выделки, а сверх того и вострой кривой саблей, на эфесе которой кроваво пламенел рубиновый камень. Много и многих видывал Василий Баранщиков за годы своих скитаний, а теперь, летом 1785 года, удостоился лицезреть султана Абдулла-Гамида Первого. С неподвижным лицом, осыпанный драгоценностями, окруженный свитой, шествовал мимо караульного янычара Василия Баранщикова султан Абдулла-Гамид. И Василий низко склонялся перед повелителем правоверных. Но, если бы янычар мог заглянуть в глаза повелителю, он увидел бы в них озабоченность, а может, и откровенный страх. Вот уже десять лет царствовал Абдулла, и не было в его царствование ни одного спокойного года: феодалы так и норовили отделиться, бунтовали, зажигали восстания, а у бедного Абдуллы вечно не хватало денег и преданных войск. Да хоть бы и этот янычар, что низко склонился перед ним, разве он был ему предан? Нет, этот янычар вовсе не думал о благополучии султана и его империи, а думал денно и нощно, как бы поскорее унести ноги из дворца, и не только из дворца, но и из Стамбула, и не только из Стамбула, но и из Турции… Был у Василия знакомый лавочник в Галате — грек Спиридоний. Подобно капитану Христофору, он сочувствовал Баранщикову. Но ведь Спиридоний был лавочником, а не моряком, и ничем, пожалуй, пособить не мог. И все-таки Спиридоний пособил. У него за чашкой кофия сошелся однажды Василий с правительственным курьером, прибывшим из Петербурга. Тут уж Василий выложил свои думы, как на духу. Курьер набил трубку, неторопливо извлек из кожаной сумки с медным двуглавым орлом лист плотной бумаги, спросил у Спиридония перо и чернила. — Вот-с, сударь, — вежливо сказал курьер, вынимая мундштук изо рта, — когда, стало быть, выйдете вы из сего города, то возьмете дирекционную линию… э-э, направление, стало быть, на… И он стал выписывать в столбец названия деревень, местечек, городов. Все их предстояло миновать Василию до того, как увидит он русскую пограничную заставу. Курьер морщил лоб, попыхивал трубкой. И писал, писал, цепляя пером за бумагу и брызгая чернилами.5. Дым отечества
Чуть не полгода пробирался Василий Туретчиной, румынскими и польскими землями. Шел он через горы и пущи, твердыми каменистыми дорогами и пыльными трактами. Шел мимо бедных деревенек и роскошных усадеб, мимо колодцев с распятиями и шинков, засиженных мухами… Лежала уже зима, по счастью, сиротская, когда гусар-пограничник доставил в Киев Василия Баранщикова. Слушая его рассказы, киевские баре разинули рты, а губернатор так растрогался, что отвалил Василию пять рублей на обновы и дальнейший путь. Василий, не мешкая, продал изодранное греческое платье, оделся и обулся по-зимнему, да и был таков. А в феврале 1786 года он увидел заснеженные берега Оки и Волги, увидел кремль, лабазы и строения родного Нижнего Новгорода и, задыхаясь от волнения, перешагнул порог своего дома. Жена и двое ребятишек недоуменно и испуганно взглянули на худого, обожженного нездешним солнцем человека, который столбом стоял посреди горницы, не произнося ни слова трясущимися, обметанными, как в жару, губами. Наконец он назвал себя, и, хотя голос у него был сиплый, измененный волнением, жена признала Василия, заплакала в голос и бросилась к нему на шею. А вечером пожаловали гости. Бородатые и сумрачные, они расселись, заворотив длиннополые кафтаны, расправили бороды и загудели по-шмелиному. И Василий померк, слушая неторопливые их речи, глядя на непроницаемые, волчьи их лица. Что и толковать, не с добром пришли давние знакомцы Баранщикова — купчишки нижегородские. Нет, не с добром. Пришли долги требовать. Долг-то, он платежом красен. А Василий был должен им за кожевенный товарец, за тот самый, что возил в Ростов, на ярмарку. На другой день еще хлеще. На другой день вытребовали Баранщикова в городской магистрат. Отцы города слушали Василия, елозили, звеня медалями, на дубовых стульях. Ах, ах, жалели они земляка, какие муки-то, бедняга, принял, шутка ль сказать! И, повздыхав, покачав головой, объявили: если бы, мол, не казна, спросу бы-де с тебя, Василий, не было, ан казна-то, сам знаешь, крепко царство казною, вот, стало быть, за шесть годов подать надобно матушке государыне платить. Ни купцам-кредиторам, ни матушке царице платить Василию было, конечно, нечем. Значит, что же? Значит, садись, россиянин, в кутузку. И сел Баранщиков в кутузку на радость острожным вшам. Сидел он сиднем, а жена его тем временем продала дом, перебралась с ребятишками к чужим людям. Деньгами, вырученными за дом, уплатила она часть долгов. И все-таки оставалось за мужем еще около двухсот рублей, а раздобыться ими было что ключ со дна моря достать. И отцы города, повздыхав, приговорили должника к казенным каторжным работам в соляных варницах славного города Балахны. Надвинулось на Василия нечто такое, что было, пожалуй, пострашнее прежних бед. Тут-то и надумал Баранщиков попытать счастья в Санкт-Петербурге. Магистрат смилостивился, отложил исполнение приговора, дозволил ему ехать в столицу. Как и шесть лет назад после злополучной ярмарки, приехал Василий в Питер вешней порой. Ничего как будто бы и не изменилось в Северной Пальмире. Разве только вот вознесся на скале чудный памятник ее основателю да несколько подвинулась стройка Исаакиевского собора. У подъездов дворцов умасливал Василий лакеев и швейцаров, проникал в хоромы к большим барам, и скоро слух о необыкновенных и горестных странствиях нижегородского торговца пошел гулять по гостиным петербургских вельмож. А вельможи тщились казаться просвещенными европейцами, просвещенному же европейцу надлежало быть человеколюбивым, и вот в дырявые карманы Василия Баранщикова закапали золотые монетки. Его сиятельство жертвовало столько-то, его превосходительство — столько-то. И старались, пыжились друг перед другом, а на Василия-то Баранщикова уже гостей приглашали, как на диковину какую… Красным летним днем прикатил Василий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И эта правдивая история, история, в которой нет ни капли вымысла, заканчивается, как сказка: расплатился Василий с долгами, с податями, да и зажил себе своим домом, своей семьей.КОЛЬЦО МОРЕЙ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ЯПОНЦЕВ И ОДНОЙ РУКОПИСИ
Капитан Хэйбей набрал шестнадцать соленых душ. На «Вакамия-мару» погрузили рис, и судно вышло из Сендая в Эдо. Прошли все сроки, а в Эдо оно не пришло. И не только в Эдо. «Вакамия-мару» не видели ни в одной из бесчисленных гаваней Страны Восходящего Солнца. Оно исчезло. Минуло много лет. И вдруг — это случилось в 1804 году — несколько моряков с «Вакамия-мару» появились в прекрасной бухте Нагасаки. Их привез большой, о трех мачтах, чужеземный корабль, над которым реял неведомый флаг — белое полотнище, перекрещенное синими, как море в полдень, полосами. Удивительный рассказ бывших подчиненных капитана Хэйбея записали японские чиновники. И получилась рукопись в семь томов, в тысячу пятьдесят четыре страницы. Ее назвали «Канкай ибун». И эту рукопись, в свою очередь, постигла удивительная судьба. Итак, летом 1793 года «Вакамия-мару» шло в Эдо. Поначалу все складывалось хорошо, и капитан Хэйбей, навигатор опытный и старый, поглядывая на океан, мурлыкал себе под нос старинную песню о волнах и ветрах. А потом волны и ветры сыграли с кораблем худую шутку. Надвинулся тайфун, заревела буря, и «Вакамия-мару», маленькое судно, груженное белоснежным рисом, потеряло руль и мачты. Японские моряки были неробкие парни. По меткому их слову, они выставили против урагана собственные лбы. Но, как ни были крепки эти лбы, парусов они не заменили, и судно оказалось в полной власти Великого океана. Пять месяцев океан испытывал экипаж капитана Хэйбея. Пять месяцев экипаж капитана Хэйбея уничтожал запасы риса и утолял жажду дождевой водою. Океану наконец до смерти надоело упрямое суденышко, и он вышвырнул «Вакамия-мару» на угрюмый островок в Беринговом проливе. На острове обитали алеуты и русские. Они приняли японцев радушно, и моряки зажили под одной крышей с людьми, о которых прежде слышали мало лестного. Между Россией и Японией тогда не было дипломатических отношений, и моряки с «Вакамия-мару» не надеялись увидеть вновь свою родину. Впрочем, возвращение в отечество не сулило им ничего доброго: подданным военно-феодальных диктаторов страны Ямато под страхом смертной казни запрещалось покидать пределы Японии. И, может быть, не одни пережитые злоключения, но и горестные думы о будущем свели в каменистую и жесткую могилу капитана Хэйбея, старого служителя моря. А вскоре после кончины капитана за японскими моряками пришел русский парусник. Он доставил их в Охотск. Но и там, в маленьком городке, где жили рыбаки, ссыльные и каторжники с солеварен, японцы пробыли недолго: их затребовали в Иркутск. Зачем? Почему? Кто знает… А уж в Иркутске обосновались они напрочно. Сибиряки отнеслись к японцам по-хорошему, помогли им обжиться, обзавестись лодкой, снастями, одеждой. И потекли годы: летом рыбачили японцы на славном Байкале, зимы коротали в Иркутске. И вдруг в марте 1803 года судьба их круто переменилась. В Иркутск прискакал царский фельдъегерь: японцев желал видеть сам государь император. И вот уж мчатся они тысячеверстным Сибирским трактом. На почтовых станциях петербургскому гонцу без задержки меняют лошадей. Вперед, вперед! Заливаются колокольцы, всхрапывают, запрокидывая головы, кони, гремят мосты. Вперед, скорей… В Петербурге, в богатом доме у Невы, ждал японцев министр коммерции граф Румянцев. Дело-то было в том, что русские снаряжали первую кругосветную морскую экспедицию. За моря, за океаны отправлялись два корабля. Помимо торговых и научных задач, экспедиции предстояло решить и политическую — установить дипломатические связи с Японией. Вот тут-то и вспомнили о японцах с корабля «Вакамия-мару». И вправду, доставкой моряков на родину можно было бы сделать очень выразительный и неподдельно дружественный жест. Но Румянцев, должно быть, знал, что ждет японцев, волей или неволей покинувших пределы островного государства. И Румянцев, человек не только просвещенный, но и мягкий, не хотел принуждать моряков к возвращению. Он хотел, чтобы они отправились домой доброхотно. И Румянцев сказал им об этом. Он увидел, как дрогнули их лица, лица людей, пред которыми в тот миг предстал облик родины. Глаза жен, улыбки ребятишек, вишни в цвету, скалы, кипень водопадов, низвергающихся в море… Они молчали. Румянцев не торопил их с ответом. Наконец, низко кланяясь, они почтительно ответили вельможе, что не хотят уезжать из России, ибо дома их ждет смерть… Румянцев прошелся по комнате, остановился у окна, глядя на широкую веселую, всю в весеннем солнце Неву. Ну, что же делать, думает Румянцев, следя глазами за одинокой льдиной, плывущей медленно и важно, что же делать?.. И тут он слышит: четверо японцев согласны. Они согласны принять смерть, но только бы увидеть еще раз родную землю. Пусть их везут на родину!.. В карете графа Румянцева четверых японских моряков доставили в Зимний дворец. Оробелые и неловкие, они потерялись посреди огромной залы с навощенным паркетным полом и картинами в золотых рамах. Сейчас они встретятся с повелителем страны, над которой никогда не заходит солнце. Аудиенция продолжалась несколько минут. На губах императора была любезная улыбка. — Итак, вы хотите вернуться домой? Похвально! — Александр сделал знак, ему подали расшитый жемчугом кошелек. Император подошел к японцам и одарил каждого золотыми монетами. Потом он подал им красивые карманные часы немецкой работы. Изрек: — Будьте покойны, я постараюсь, чтобы через год вы увидели родину. И он отпустил японцев, полагая, что вполне осчастливил их и что в далекой загадочной Японии узнают про его щедрость. — Будьте покойны, я постараюсь, — повторил царь, уходя из залы. Но стараться пришлось не императору Александру Павловичу, а русским матросам с корабля «Надежда», которым командовал Иван Федорович Крузенштерн. «Надежда» и другой корабль экспедиции, «Нева», покинули Кронштадт летом 1803 года. Цудаю и Гихэй, Сахэй и Тадзю были на борту корабля Крузенштерна. Отныне каждый день, каждая миля приближали их к родине и… к смерти. А мир, такой беспредельный и такой пестрый, разворачивался перед их взором. И они взирали на него затаив дыхание. С палубы русского трехмачтового парусника увидели Цудаю и Гихэй, Сахэй и Тадзю то, что не видел до них ни один японец: шпили Копенгагена и меловые утесы Англии, скалы мыса Горн и пальмы Маркизских островов. И там, в Тихом океане, сомкнулась незримая линия диковинной «кругосветки» четырех матросов с судна «Вакамия-мару». В Нагасаки экспедицию Крузенштерна встретили недружелюбно. Несмотря на все старания, дипломатическая миссия не удалась. А за доставку четверых подданных русскому капитану принесли вежливую благодарность. Самих же подданных засадили в тюрьму. Полгода просидели они за решеткой. Полгода допрашивали их правительственные чиновники, и каждый раз старательные писцы покрывали иероглифами лист за листом. Так возникла семитомная рукопись, озаглавленная «Канкай ибун», что означает: «Необыкновенные рассказы о кольце морей». Поэтическое название! Однако не совсем точное: большая часть рукописи посвящена не морям, а той стране, что раскинулась от берегов Тихого океана до светло-зеленых волн Балтики. Что же до четырех матросов, то их, к счастью, не казнили, и после десятилетней… нет, более чем десятилетней разлуки они увидели свои семьи… Без малого столетие спустя некий японец, приехавший учиться в Германию, опубликовал на немецком языке «Необыкновенные рассказы о кольце морей». Не знаю, тогда ли прослышал о «Канкай ибун» востоковед профессор СпальЕИн или иным путем получил он сведения об этой рукописи, но как бы там ни было, профессор возгорелся желанием прочитать рукопись в подлиннике. Не знаю, долгие ли, короткие ли были поиски профессора Спальвина, но вот в начале уже нашего столетия посетил он японский город Киото. В тамошнем университете показали ему копию «Необыкновенных рассказов». Спальвин спросил подлинник, японцы пожали плечами. Спальвин продолжал свои розыски. И ему посчастливилось: в лавке какого-то букиниста среди ворохов старых книг он нашел манускрипт, глянул и обомлел: то был подлинник «Необыкновенных рассказов». Как дрожали, наверное, руки у почтенного профессора, когда он нес «Канкай ибун» к себе в гостиницу!.. А теперь «Необыкновенные рассказы о кольце морей» может поглядеть каждый, кто посетит небольшую комнату с высокими окнами, старинной мебелью и железной дверью — отдел рукописей московской Библиотеки имени Ленина.ОБ ИНДЕЙЦЕ ПЕДРО И КРЕСТЬЯНИНЕ МИХЕЛЕ (Разговор с адмиралом, записанный в гостинице «Тооме»)
Я не заметил, как он вошел в комнату и уселся напротив меня. Когда же я оторвался от старинных, пожухлых, будто листья в октябре, рукописей, он пожевал губами и медленно сказал: — Честь имею… Я оторопел. Потом глуповато повторил: «Честь имею…» И запнулся: я не знал, как мне его называть. «Ваше высокопревосходительство»? Нет уж, пронеслось в моей голове, дудки. «Господин адмирал»? Но я еще ни разу в жизни никого не величал господином, и мне было трудно выговорить это слово. По имени-отчеству? А не дерзко ли?.. И вот я молча сидел за столом, заваленным бумагами, и таращил глаза на его золотые эполеты с тремя черными орлами полного адмирала, на его мундир с золотыми пуговицами, на его стариковское, иссеченное морщинами лицо с седыми усами и бакенбардами. Он опять пожевал губами и с тихим вздохом произнес: — Зовите меня просто Фердинанд Петрович. Я кивнул с облегчением и благодарностью. Ну, черт побери, сказал я себе, не теряй времени. Однако… однако с чего же начать беседу с адмиралом Врангелем? Как заговорить с прославленным полярным путешественником, великолепным мореходом, который дважды обогнул земной шар на парусниках? К тому же он ведь барон. А из баронов я короток лишь с одним — Мюнхаузеном… Я поднял глаза. Старичок адмирал сидел передо мною дряхлый, иссохший, и я струсил: гляди рассыплется в прах, и пиши пропало! Правда, я уже был удовлетворен поездкой в эстонский городок Тарту, бывший Дерпт и бывший Юрьев. Ведь тут, в Тарту, в этом кирпичном здании на улице Лийви, вот только вчера в такой же, как нынешний, пепельный и молчаливый день я отыскал рукописные журналы, считавшиеся утраченными. В этих журналах Врангель подробно рассказывал о кругосветном плавании на военном транспорте «Кроткий» в 1825–1827 годах. И теперь эти дневники большого формата, исписанные крупным, отчетливым почерком, лежали передо мною вместе с кипами старинных писем, дипломами разных научных обществ и другими документами архива Врангеля и еще вместе с коробкой, похожей на маленькую гитару без грифа, в атласном нутре которой хранились золотые адмиральские эполеты… Повторяю, я был доволен поездкой в Тарту, но поговорить с самим адмиралом Врангелем — это уж был такой сюрприз, что у меня дух захватило. А старичок тем временем разглядел на столе моем корабельные журналы парусника «Кроткий» и мечтательно осклабился. — Дела давно минувших дней, — сказал он. — Очень давних дней, молодой человек. Тут я наконец сообразил, о чем расспросить его. — Скажите, пожалуйста, — начал я, тщательно подбирая слова, точно говорил с иностранцем, — вы помните происшествие у берегов острова Нукагивы? В его выцветших, как васильки в гербарии, глазах отобразилось неудовольствие. Э, решил я, ему не по сердцу это воспоминание. Но оказалось, Врангеля задело другое. — «Помните»? — переспросил он с досадой. — На память, слава богу, не жалуюсь. Не так ведь я еще стар, а? — Конечно, конечно, — поспешно сказал я, стараясь не смотреть на его дрожащую, как у графини из «Пиковой дамы», голову. — Я хотел о другом… — Видите ли, молодой человек, — прервал меня адмирал, и его вялый рот сделался жестким, — и тогда, и теперь я полагаю, что поступил совершенно справедливо. Я привел мой добрый парусник к Маркизским островам, чтобы налиться пресной водой и продолжить плавание в Камчатку. И что же? — Его брови, когда-то рыжие, а теперь блекло-табачные, сердито приподнялись. — И что же? Дикари убили моего мичмана и моих матросов, посланных на берег в шлюпке. Ну-с, «Кроткий» в отместку и открыл орудийный огонь по туземцам… Я ершисто заметил, что островитяне, очевидно, приняли моряков «Кроткого» за тех европейских или американских разбойников, которые неоднократно грабили Нукагиву, самый большой и изобильный остров среди Маркизских островов. Старик сердито засопел. — Может быть, и грабили… Но, скажите на милость, при чем тут мои славные матросы? Я возразил в том смысле, что островитяне посчитали моряков «Кроткого» игроками из той же футбольной команды, что и пираты-колонизаторы. Врангель посмотрел на меня с недоумением: — Как вы изволили выразиться? Из какой команды? Я спохватился: мы говорили с ним на разных языках. — Фердинанд Петрович, — начал я с подкупающей мягкостью, точно ко мне вернулась былая репортерская сноровка, ведь зачастую приходилось брать, интервью у очень занятых и раздраженных людей, — Фердинанд Петрович, — сказал я, — ваш покорный слуга носится с мыслью написать роман о моряках-парусниках. О романе я приврал. О романе я и думать не смел. Я хотел написать два-три очерка. Но он был польщен. Он кивнул и проговорил с улыбкой: — Да-с, жизнь наша, я разумею моряков, — роман, и притом естественнейший, потому что правда нашей жизни богаче вымыслов господ сочинителей. — Так вот, Фердинанд Петрович, — продолжал я, дотрагиваясь до корабельного журнала, — вы тут сообщаете о некоем индейце Педро и английских матросах, подобранных вами на острове Нукагива. — Да, я велел принять их на борт. — Он провел рукой по длинным усам; у него это получилось очень щеголевато и ловко, как, должно быть, было свойственно лишь морякам-парусникам. — Но, к моему сожалению, я ничего не смог узнать из вашего журнала о дальнейшей участи этих людей. А между тем персонажи эти, особенно индеец, так выгодны для романического повествования! Он задумчиво побарабанил короткими веснушчатыми пальцами по столу и недоверчиво спросил: — В журнале ничего нет? — Нет. — Тогда потрудитесь-ка, сударь, сыскать другой журнал. — Какой же? — «Журнал распоряжений». Все, что касалось корабельных дел, вплоть до самых мельчайших, — произнес он наставительно, и я угадал в нем закоренелого «аккуратиста», — все это заносилось под мою диктовку в сей журнал. — Он строго поджал губы. Я начал рыться в бумагах. — А кстати, — сказал адмирал, — что вы думаете, господин сочинитель, как эти люди оказались на острове? — По-видимому, — осторожно предположил я, продолжая рыться в старинных рукописях, — их высадили с какого-либо судна; может быть, в наказание, как это нередко случалось, а может быть, по их собственному желанию, что тоже случалось иногда. Адмирал не помнил в точности обстоятельств дела, но спорить не стал. — Ага, вот он! Морщинистое лицо Врангеля сморщилось от удовольствия еще больше, когда я извлек журнал синей бумаги с надписью на обложке: «Распоряжения капитан-лейтенанта Врангеля по военному транспорту «Кроткий». — Вообразите, сударь: где только не вносились в сей журнал мои распоряжения! Это было сказано несколько горделиво, но я не мог не согласиться, что гордость его законна. Да, подумалось мне, ему тогда было тридцать, он уже был знаменит своей экспедицией по северо-восточным берегам Ледовитого океана, а на борту «Кроткого» ему довелось изведать ревущие штормы близ Огненной Земли, ураганы Великого океана, штили Зондского пролива, бурю на меридиане Мадагаскара… Я думал об этом и листал тетрадь синей бумаги. Парусник был у Маркизских островов в апреле 1826 года, и я искал записи, относящиеся к этому времени… Ну, вот и они. — Читайте, читайте, — удовлетворенно сказал Врангель, — я же говорил… В журнале значилось: Оставшихся на вверенном мне транспорте англичан Джона Дре, Джемса Редона и лаплатского индейца Педро Мартыноса приказываю включить в командный список и производить им морскую порцию наравне со всеми. А следующее распоряжение гласило: Вновь принятых мною в состав вверенной мне команды англичан Джона Дре, Джемса Редона и лаплатского индейца Педро Мартынова назначаю во вторую вахту на баке а шканцах. — Так вот оно что! — протянул я и поглядел на адмирала. — Вы, стало быть, не дали им скучать в океане? — На военном корабле, сударь, — уже знакомым мне тоном наставника заметил старик, — не должно бездельничать. От безделия все пороки. Да-с. Я пропустил это мимо ушей. Я думал, что уроженец Ла-Платы индеец Педро был, очевидно, первым индейцем, служившим на русском корабле. Я спросил у адмирала, верна ли моя догадка. — Несомненно, — твердо отвечал старик. — И я должен засвидетельствовать, что он был отменным служителем, ловким и сильным. И вот еще что примечательно… — Он ухмыльнулся. — Этот Педро, хотя и не знал по-русски ни полслова, отлично сошелся с моими молодцами. Его полюбили у нас, чего я не могу, к сожалению, сказать об этих… как их бишь?.. Я заглянул в синюю тетрадку. — Дре и Редон? — Вот-вот, — кивнул адмирал. — Эти прослыли ленивцами первой статьи, и я был весьма рад, когда избавился от них. — Каким же образом, Фердинанд Петрович? Я предвкушал какое-нибудь эффектное событие. Но Врангель обманул мои ожидания. — Вы слышали, — сказал он, — о капитане Бичи? Фредерик Бичи. Слыхали? Мне страсть не хотелось оплошать. — Это тот… который… Позвольте, позвольте… Бичи, говорите? Ах да, капитан Бичи! Уж не тот ли, что искал Северо-западный проход одновременно с Джоном Франклином? Его сморщенное лицо не выразило, как я надеялся, удивления перед моей осведомленностью. — Да, — сказал он спокойно. — Так вот, когда я пришел на «Кротком» в Петропавловскую гавань, там как раз стоял «Блоссом» капитана флота его величества. Фредерика Бичи. Он уже собирался вступить под паруса, когда я спровадил его милых соотечественников к нему на фрегат. Полагаю, это не было большим приобретением для капитана Бичи, к которому я питаю высокое уважение. — И старичок потер руки с таким видом, будто все это произошло не столетие с четвертью назад, а вот только что. Я торопливо чиркал карандашом в записной книжке. — Понятно, понятно, Фердинанд Петрович. Ну, а что же любимец команды? Вы привезли Педро в Кронштадт? Адмирал снисходительно улыбнулся беззубым ртом. — О нет, господин сочинитель. Тут уж увольте, я вам не подсказчик. Нет, я не привез индейца в Кронштадт. Он плавал с нами в Тихом океане, а потом, у северо-западных берегов Северной Америки, на острове Ситхе, покинул корабль. Что с ним сталось, я не знаю. Впрочем, — он снова раздвинул рот в беззубой улыбке, — вам, сочинителю, это на руку: вы вольны распорядиться судьбой индейца Педро. Когда он покинул «Кроткий»? Думается… А зачем гадать? Соблаговолите еще раз заглянуть в журнал. Я перемахнул несколько страниц и действительно увидел запись, гласившую, что индеец Педро Мартынос «отлучился от. команды» в октябре 1826 года и что он оставил на корабле все казенные вещи, полагающиеся рядовому матросу: шинель серого сукна, мундир с брюками, три пары шерстяных чулок, холстинную рубаху и фуфайку зеленого сукна. И эта запись лучше всяких похвал характеризовала первого на русском паруснике матроса-индейца: он был не только ловким, сильным и смелым моряком, но человеком гордым и честным… Размышляя об индейце, я чуть было не упустил старика адмирала — Он уже оперся рукой о стол, собираясь подняться. Молящим «репортерским» голосом я попросил его уделить мне еще несколько минут. Он вздохнул и уселся поудобнее, а я принялся спешно ворошить бумаги. Мне надо было расспросить об одном эстонце, судьба которого увлекла меня не меньше, чем судьба индейца Педро… — А, вот! Старик вздрогнул. — Что это вы, батенька, рыкнули, как, бывало, мой денщик Федька спросонок? — сказал он недовольно. — Да вот, Фердинанд Петрович, послушайте, пожалуйста. — И я прочел скороговоркой: — «Приметы: рост посредственный, волосы и брови темно-русые, глаза карие, нос острый, рот умеренной, подбородок плоский, лицо продолговатое и рябоватое, от роду 32 года». — Что это такое? — не понял Врангель. Я объяснил: это, дескать, паспорт дворового человека из имения Руиль, отпущенного в январе 1830 года в услужение капитану первого ранга Врангелю сроком на семь лет. — Ну, так что же? — Как — что? Да ведь этот Михель Якобсон… Да вы-то, Фердинанд Петрович, вы сами где были в те годы? Вы проехали всю Россию от Петербурга до Охотска. Так? — Разумеется. И должен вам заметить, не один, а с молодой женою. — А потом вы пробились сквозь непогоды и штормы к острову Ситхе. Так? — Пробились. И должен заметить, Лизанька моя очень страдала морской болезнью. — А потом вы пять лет жили на Ситхе. Верно? — Ну конечно, как и все правители Русской Америки. Где же еще мне было жить как не в Ново-Архангельске? Мы там с Лизанькой схоронили первенца… Меня не тронула печаль его старческого голоса. Я думал об ином и продолжал свой «скорострельный» допрос. — А потом, когда вас сменил другой правитель, присланный в колонии Российско-Американской компанией, вернулись в Россию? — Вы не ошибаетесь, молодой человек, — сказал адмирал. — Но вернулся я с Лизанькой не прежним путем, а через Мексику, Нью-Йорк и Атлантический океан, а стало быть, — в голосе его опять были горделивые нотки, — а стало быть, в третий раз обогнул земной шар. И должно заметить, моя Лизанька… Я непочтительно перебил его: — И все эти годы Михель Якобсон был с вами? — Какой Михель? — Его блекло-табачные брови сдвинулись. — Крестьянин. Дворовый человек. — А, этот! — буркнул адмирал. — Разумеется. — Ну, вот видите! — проговорил я. Но он ничего не «видел». Он будто сквозь сон бормотал что-то о «своей Лизаньке», пустился, кажется, в воспоминания о знакомстве с нею в ревельской конторе дилижансов, о своем сватовстве к дочери барона Россильона… Но все это я уже не слушал. Я думал о дворовом человеке Михеле Якобсоне, который был, должно быть, первым эстонцем, совершившим кругосветное путешествие. Я думал, что он, наверное, был рад унести ноги с барского двора, из именья, или, как говорили в Эстонии, мызы. Ведь не зря же пели в те времена эстонские мужики: «Если я из мызы вырвусь, значит, вырвусь я из ада». Но, радуясь избавлению, Михель в то же время и печалился о своей жилой риге, где в зимнюю пору обитала его семья, где в углу была печь, топившаяся по-черному, где на колосниках сушилась солома, а в светце с железным наконечником трепетала лучинка. И еще я думал о том, как Михель. одетый в грубые домотканые одежды из льна и шерсти, подпоясанный плетеным шнурком, отправился на другой конец света и увидел огромный мир, населенный разными племенами и народами, у которых были разные одежды и разные обычаи, но одно было так же, как в его, Михеля, родной Эстонии: бедные жили бедно, богатые — богато… — Простите, пожалуйста, но мы уже закрываем. Голос мягкий, извиняющийся, с приятным акцентом, голос архивной сотрудницы-эстонки испугал меня. Она, должно быть, что-то заметила в моем лице, потому что поспешно сказала, что если мне очень нужно, то она с удовольствием задержится. Я поблагодарил и начал собирать рукописи. В архивной зале уже никого не было. — Завтра придете? — спросила любезная архивистка. — Конечно, — ответил я и подумал, что архив — поистине страна чудес, где можно запросто потолковать с адмиралом, знаменитым путешественником и мореходом, умершим в прошлом веке. На дворе стоял густой туман, и огни Тарту казались расплывчатыми и тусклыми. Снег подтаивал и шуршал. На старинной ратуше ударили часы. Гостиница «Тооме» была неподалеку от архива. Я пришел в гостиницу и записал «разговор с адмиралом», который вам пришлось теперь прочесть.НИКОЛАЙ КОРОТЕЕВ ПО ТУ СТОРОНУ КОСТРА

Из тайги доносились стоны и кряхтение деревьев. Они мужественно, как солдаты под огнем, выстаивали пургу. Человек и тигр лежали у костра в берлоге под выворотнем. Когда-то поваленный ветром, старый, в три обхвата, тополь не упал, а оперся о мощные сучья своих соседей, и они поддержали его. Меж землей и корневищем выворотня образовалась берлога. С потолка ее свисали, подобно змеям, узловатые корни. В неверном пляшущем свете казалось, что они шевелятся. Охотник лежал на боку, подперев ладонью щеку. Он был молод, и лицо его, еще юношески мягкое, обросло пушистой светлой бородкой. Взгляд его голубых глаз, ясных и спокойных, временами становился задумчивым, веки вздрагивали, прищуривались в такт мыслям, и улыбка трогала уголки губ. Одет он был в куртку, вернее шинель с обрезанными выше колен полами, штаны из шинельного сукна, а на ногах поверх ловко закрученных онуч были надеты олочи — калоши из сыромятной кожи. Тигр находился по ту сторону костра. Из-под елового лапника, которым он был покрыт, как одеялом, виднелась лишь его голова в наморднике. Он занимал в берлоге больше места, чем человек, а когда вытягивал затекшие лапы, то видно было, что зверь длиннее и мощнее охотника, хотя был он всего-навсего двухгодовалым тигренком. Но в таком возрасте тигренка-юношу уже не отличить от взрослого тигра, особенно от гибкой, изящной самки. И два года — крайний срок заботы тигрицы о потомстве. Весной на второй год она прогоняет детей. Для нее снова наступает пора любви. Вздохнув, Андрей протянул руку за поленом и бросил его в огонь. Обуглившиеся ветви обвалились. Искры взвились вверх. Дремавший тигр поднял голову и широко раскрыл глаза. Усы его вздрогнули, пушистые подвижные губы поползли вверх, обнажив свечи клыков. Тигр зашипел, как кошка при встрече с псом. — Лежи, дура! — хмуро проговорил Андрей. Тигр мотнул головой. Ему мешал намордник, крепко завязанный на затылке. Сбитое поленом пламя померкло. Под выворотнем стало сумрачно. Слабый свет пасмурного дня едва пробивался сквозь лапы елей, которыми был заставлен вход. Время от времени в щели залетали тонкие струйки мелкого снега. Неожиданно стволы заскрипели особенно натужно. Послышался глухой треск и стонущий, хриплый удар. Тигр втянул голову под еловый лапник. Глаза его вспыхнули сторожким огнем, и он запрядал ушами. Приподнявшись на локте, Андрей, волоча ногу, подтянулся к лазу и посмотрел в щель. Вершины вековых тополей, елей и кедров раскачивались, будто в мольбе о покое. Запутавшийся в снежных сетях ветер словно становился видимым. Меж стволами метались клубы снега. Они, крутясь, взмывали ввысь, бессильно осыпались; вдруг у самых сугробов подхватывались вновь налетевшим порывом, дыбились витой колонной и уносились в чащу. Посредине небольшой поляны лежала сбитая ветром пихта. — Дерево повалило, — проговорил охотник, подбираясь к костру. Он хотел лечь поудобнее, но неловко повернул ногу и застонал от боли. Тигр приоткрыл один глаз, дернул усом. Андрей погрозил ему кулаком: — Надо дуре так тяпнуть!.. Приоткрыв второй глаз, тигр посмотрел на человека, тяжело вздохнул и зажмурился. — Что, амба, подвело брюхо? Пурге конца не видать. Тигр зевнул. — Убить тебя надо! И придется… Вот подожду три дня… Может, утихнет пурга, найдут нас. Пока человек ворчал, тигр, прищурившись, следил за ним. Потом они оба задремали. В тайге завывал ветер, старательно выводя угрюмую мелодию своего древнего гимна, звучавшего над землей, еще когда не было ни зверей, ни лесов, ни самих гор и вихри свободно гуляли на диких просторах, и песнь их еще будет слышна бесконечно долго. В берлоге под выворотнем потрескивали смолистые поленья сухостоя. Огонь крошил их в красные кубики углей, которые меркли и рассыпались пеплом. Каждый раз, когда из костра вылетала с легким треском звездочка искры, амба пошевеливал ухом и глаз его чуть заметно приоткрывался. Звуки, к которым привыкаешь, словно исчезают. И охотник воспринимал их, как тишину. Мысли его были далеко, и слышал он смех Аннушки… Дума о маленькой веселой и смелой девушке не оставляла зверолова. Ее любовь Андрей считал незаслуженным даром, который он получил от жизни. И, как всякий влюбленный, он был глубоко убежден, что еще никто и никогда не получал столько ласки и нежности, не испытывал такого глубокого и полного счастья, как он. Андрей не мог представить себе Аннушку плачущей или грустной, хотя видел ее и такой. Может быть, и полюбил-то он ее за неизбывную веселость. И если теперь, оставшись в тайге один на один с тигром, отрезанный пургой от товарищей по охоте, без продуктов, с исковерканной тигром ногой, Андрей беспокоился и тяготился своей беспомощностью, то только и прежде всего потому, что знал, как тяжело переживает безвестность Аннушка. Бригада тигроловов должна была вернуться две недели назад. И каждый день промедления усиливал тревогу тех, кто ожидал. Аннушка ждала двоих: отца и жениха.
* * *
После окончания Иркутского университета Андрей получил диплом охотоведа и был направлен в Хабаровский край. Он стал заведовать базой Зооцентра, расположенной в глубине тайги по течению Хора. Ему предстояло наладить отлов зверей. Назначение Андрей Крутов принял с радостью. Это было куда интереснее, чем работа на пушной фактории или охотоведом в заповеднике. Конечно, перспектив для научной работы в заповеднике было больше, но Андрея тянуло на живое, интересное дело. Охотники — а в дальнем таежном селении кто не баловался этим промыслом — встретили Крутова как своего. Он не имел прямого отношения к охотинспекцни. На ловлю диких животных промысловики смотрели как на своеобразный спорт или своего рода побочное занятие, которое обещало быть дополнительной статьей дохода. У многих по дворам бродили кабаны, выросшие вместе со свиньями, медвежата, с которыми до определенного времени играли ребятишки, всякое мелкое зверье, принесенное из тайги для забавы. Подрядившись сначала за деньги, а потом уже просто ради удовольствия потрудиться в межсезонье, построили охотники подворье для зообазы, срубили жилую избу, просторную, светлую. И как-то само собой повелось, что стала изба Андрея то ли клубом, то ли гостиницей для всех прибывавших в селение охотников. Места в доме было много, а хозяин, по общему признанию, хлебосолен, а главное, холост. Через месяц на подворье зообазы, огороженном крепким забором, бродили молодые изюбри, косули, кабарги. Из крепких клеток вдоль стен смотрели на них, сверкая глазами, рыси, росомахи, медвежата. Почта каждую неделю приходила моторка, на которую грузили клетки с хищниками. Изюбрей и других копытных решено было отправить к железной дороге осенью. Как ни был Андрей занят делами, а все ж заметил, что частенько на подворье приходит вместо зверолова Прокопьева его дочь Анна. Поначалу Андрей даже сердился — какие могут быть разговоры у охотника с девчонкой, — потом то ли привык, то ли уж в то время приглянулась она ему. Под осень получил Андрей из Хабаровска письмо: краевое начальство упрекало охотоведа за невыполнение плана по отлову змей. Не было поймано ни одного дальневосточного полоза, ближайшего родственника удавов. А спрос на них в зоопарках и зверинцах велик. Андрей сообщил, что никто из охотников не хочет ловить змей, сколько он их ни уговаривал. Ответ из крайцентра пришел незамедлительно. Охотоведу грозили выговором. Андрей и без этого понимал, что промашка в работе получилась крупная. Надо ловить и гадов, коль в них так нуждаются. Как-то рассказал он о своей беде Анне. Забежала она к нему, как всегда, будто случайно, а проболтали до сумерек. Заодно она клетки помогла вычистить, покормить зверей. Услышав про полозов, Анна пожала плечами: — И кому такая погань нужна? — Это они тебе не в диковинку, Анна Игнатьевна, а другие посмотрят — знать больше будут. — О чем? О змеях? — Нет, о природе, о жизни. Человек должен знать, чем его земля богата. — Ну, узнают, а толку? Узнать — и все. — Не совсем. Узнав что-либо, люди не всегда еще знают, что из этого следует. Аннушке было приятно, что Андрей разговаривает с ней о серьезных вещах и всерьез. Поселковые парни, те просто ходили за ней на шаг позади, вздыхали, либо разговор вертелся около чужих домашних сплетен. А тут… Даже со старыми, опытными охотниками Андрей Петрович не разговаривал так, как с ней. Аннушка старательно пыталась понять, какая же главная мысль руководит Андреем во всей работе. Он же не просто охотник, он видит в тайге больше, чем промысловик. Те-то шли в тайгу, как на скотный двор или в птичник, как в кладовую, где никогда не оскудевает запас. — Все знали, — продолжал Андрей, — выдра — хищник, она поедает рыбу. Ее уничтожали без пощады. Вдруг увидели: исчезла выдра — исчезла и рыба. В чем дело? Оказалось, выдра — санитар реки. Она уничтожала слабых и больных. По-своему заботилась об улучшении потомства. Не стало выдр — рыба начала вымирать. Неделю спустя Аннушка пришла на базу поутру и сказала: — Андрей Петрович, нашла я вам полозов. Знаете, на Матае барак старый, на лесосеке. Километрах в десяти вверх по течению. Видела я их там. И они поехали. Бат, длинная лодка, выдолбленная из великана тополя, хорошо слушалась шестов, особенно Аннушкиного. Она стояла посредине этой удэгейской пироги, широким мужским махом заносила шест и, навалившись на него, легко гнала лодку. Андрей едва поспевал за ней. Хотя и доводилось ему уже раз ходить на бате, но сноровки еще было мало. В плывшей навстречу тайге стояла грустная осенняя тишина. Лишь быстрая вода курлыкала под обрывами, звенела галькой на перекатах. На правом, освещенном солнцем берегу застыли в безветрии багряные клены, бледно-желтые липы вперемежку с хмурыми, поросшими сизым мхом кедрами, елями; без устали трясли медными монистами осины. Другой берег был темен, и от него почти до середины реки легла глубокая тень. К заброшенному бараку добрались после полудня. Подогнав лодку к берегу, Анна, не дожидаясь, пока Андрей вытащит бат, взяла мешок и пошла к полуобвалившемуся строению. Управившись с лодкой, Андрей поспешил к ней.* * *
Он увидел Анну в бурьяне, за бараком. У ее ног вился клубок змей, уже собравшихся на спячку. В клубке было не меньше полусотни полозов, больших и малых. Их тела, разрисованные по-тигриному, в ярких желтых и черных полосах, упруго выгибались. Стеклянные немигающие глаза смотрели отчужденно, будто ненавидяще. В ярости змеи раскрывали рты, извивались в руках Анны, пытаясь укусить ее. Но не успевали. Быстрым движением Анна совала очередного полоза в мешок. Не раздумывая, Андрей подскочил к клубку и схватил полоза около головы. Холодное, будто мертвое тело упруго шевельнулось под пальцами, змея взметнула хвостом. Превозмогая отвращение, Андрей сунул полоза в мешок. В освободившейся ладони еще оставалось ощущение двигающегося холодного тела. Поймал второго полоза — тоже в мешок — Третьего — туда же. Испуганные змеи начинали расползаться. В мешке полозыбились с такой силой, что Андрей и Анна едва удерживали его. Один полоз взвился, выскочил из мешка и скрылся в траве. Андрей зажал горловину мешка, в котором бились змеи. Их круглые тела четко обозначались под холстиной. — Хватит, — сказал он. Анна подняла было руку к лицу, чтобы вытереть пот, но задержала ее на полдороге и, брезгливо поморщившись, отвела в сторону. — И противные же они! Затягивая бечевкой мешок, Андрей оглянулся: — Очень. До сих пор холод в ладонях. Анна вдруг вздрогнула всем телом. Потом она очень долго и тщательно мыла руки в прозрачной речной воде. Присев на борт лодки, Андрей закурил. — Бедовая ты! Выпрямившись, Анна повернулась к нему: — Бедовая?.. Нет. Ресницы ее дрогнули и опустились: — Глупая… И вдруг рассердилась: — Глупая! Чего меня понесло за этой пакостью! Бросив папиросу, Андрей поднялся, подошел к ней: — Аннушка! Она не обернулась и все смотрела на раскаленные зарей облака над черной тайгой. Улыбка тронула уголки ее губ. Только уголки. Они чуть приметно дрожали, сдерживая готовую хлынуть радость. — Догадался. Ученый ты человек… Обернулась и поцеловала Андрея по-девичьи, сжатыми губами. Прижалась виском к его щеке. Он почувствовал, как напряженно бьется у нее под кожей жилка. — Не осуди, — прошептала она.* * *
С вечера третьего дня Андрей почувствовал жар. Глаза стали сухими, точно их засыпало песком, губы пересохли. Нудно заныла раненая нога. Тайга по-прежнему стенала под ветром, и снег валил не переставая. Костер едва тлел. Андрей берег дрова: на всякий случай. Тигр, не евший три дня, следил за каждым движением охотника. Он уже перестал бояться огня, привык к нему и даже сам поворачивался, чтобы погреть у костра то бок, то спину. И еще он стал очень раздражительным: шипел и скалил клыки при попытке приблизиться к нему. А охотнику приходилось каждое утро подползать к зверю, чтобы ослабить плетеные бинты, стягивавшие его. Недогляди Андрей, и тигр отморозил бы лапы, а кому нужен безногий амба? Потом несколько раз за день надо было посматривать, не слишком ли свободны бинты: остаться наедине с голодным и освободившимся тигром опасно. Андрей не успел бы и выстрелить, как попал бы на обед к своему полосатому пленнику. Так они и лежали, время от времени подолгу смотря друг на друга. Амба научился выдерживать взгляд человека и глядел на него жадно. Изредка сквозь приоткрытые губы высовывался кончик языка. Охотнику нравилось смотреть в желтые, с прорезями зрачков глаза зверя. Человек старался прочесть в их черной глубине, как тигр принял неволю: будет ли пытаться вырваться или веревки, связавшие его лапы и челюсти, убили в нем страсть к свободе. Ведь приди амбе в голову забиться в своих путах, пройтись колесом под тесным выворотнем, плохо пришлось бы человеку. Сделает ли тигр еще попытку вырваться? И когда? И еще Андрей ждал прихода тигрицы. Напуганная выстрелами, она ушла в тайгу, бросив детей на произвол судьбы. Страх перед человеком оказался сильнее инстинкта материнства… Охотник видел, как она широкими махами шла по крутому боку сопки. Она не останавливалась и. не оглядывалась. Но потом, когда стихло и ужас, подавивший в ней все врожденные стремления, прошел, она должна была вернуться. Чувство матери толкало ее назад, к распадку, где она оставила детей. В полусне, ожидая неизбежного ее прихода, Андрей словно видел, как растерянно и осторожно идет она обратно. Иного ей не оставалось, и она будет беспощадной, если почувствует своего детеныша близко, рядом. И трудно сейчас было предрешить исход встречи. Наблюдая за жизнью зверей, охотовед заметил, что, чем выше организация животного, тем чаще туманные зачатки разума побеждают слепоту инстинктов. Тем легче при встрече с человеком звери признают его силу и прекращают борьбу за свою свободу. У них нет воли, чтобы направить свои инстинкты, быть целеустремленными. И если их сравнивать с людьми, то они безвольны. Вдруг Андрей почувствовал на своей щеке теплое дыхание, влажные мохнатые губы ткнулись в его лицо. Охотник не услышал, как тигр подполз к нему. Андрей отпрянул. Тигр ощерился, зашипел. И охотник увидел, что когда тигр подался, то его задние связанные лапы оказались у самого огня и бинты затлели. Тогда Андрей ударил тигра кулаком меж глаз. Дернувшись, зверь вяло опустил голову. Он был оглушен. Охотник оттащил пленника на прежнее место, по ту сторону костра, и накрыл лапчатыми ветвями ели. Потом приложил руку к груди тигра, боясь, что удар был слишком силен для зверя. Сердце тигра билось напряженно и редко. — Чего балуешься?.. Я вот тоже хочу есть, а тебя не трогаю. Тигр продолжал лежать неподвижно. Охотник достал из костра чадящую веточку и, приподняв голову зверя, дал ему понюхать дым. — Ты должен быть здоровым, амба. А что получил — по заслугам. Сам виноват. Разве можно так — исподтишка. Не по-товарищески. Амба шумно вздохнул и открыл мутные глаза. — Вот, теперь оба мы с тобой нездоровы. И не балуй. Чего было лезть ко мне в наморднике? Не испортил бы мне ногу, оба с мясом были бы, сытые. Андрей гладил тигра по загривку. Зверь лежал спокойно. Неожиданно мягкие уши амбы запрядали. Он потянулся к выходу, весь подтянулся, напрягся. Сквозь шум верхушек и посвист ветра Андрей услышал мягкое, вкрадчивое мяуканье тигрицы.* * *
На сговор Андрея и Анны в дом Прокопьева собрался чуть ли не весь поселок: родни и побратимов у него уйма. И была еще одна причина для радости: в тот день шестеро охотников, в том числе и Андрей, подписали договор на отлов двух тигров. После двадцати лет запрета из края пришла лицензия — разрешение на поимку пары двухгодовалых тигрят. Андрей не мог упустить такой случай. Правда, он терпеливо ждал, пока Игнат Савельич, его будущий тесть, хаживавший на ловлю тигров и раньше, сам вспомнит о нем. Их будущее родство в этом опасном деле в счет не шло. Нужны были очень смелые и очень сильные люди, хорошо знающие зверя и обладающие недюжинным хладнокровием. Через неделю после того, как Игнат Савельич дал свое согласие возглавить ловлю, бригада была укомплектована почти целиком — пять человек. Оставалось найти шестого. Савельич медлил, хотя желающих хватало. Живой тигр — зверь дорогой, и охотники, хаживавшие в одиночку на медведя, встречавшиеся с «хозяином» нос к носу, не прочь были рискнуть. Но Савельич, видимо, не хотел рисковать, а на стороне бригадира все права. Когда Андрей потерял надежду на приглашение, в дом к нему явилась вся бригада. Впереди — Савельич, кряжистый старик с окладистой бородой, уже тронутой инеем, но еще не потерявшей своего соломенного цвета. Его маленькие, очень светлые глаза прятались среди глубоких морщин; сорок с лишком зим ходил он в тайгу на зверя, и слепило его солнце, от прищура и морщины. За ним выступал такой же бородатый, только помоложе, — свояк Порфирий Дормидонтович, косая сажень в плечах; все рядом с ним казались щуплыми. Андрей уже знал, что будет делать Порфирий при ловле: держать тигра за уши. За спинами бородачей стояли усатые, помоложе: Семен Гордых, Евсей Ангелов и Артемий Середкин. — К вам мы, Андрей Петрович, — начал Прокопьев, — всей бригадой. Решили вас пригласить шестым. Вы ученый человек, да и силы не занимать. Андрей ответил степенно: — Спасибо, — но не смог сдержать ликующую улыбку. Прокопьев солидно поблагодарил Андрея, и они торжественно приступили к оформлению договора. Потом шумной и веселой ватагой пошли в дом будущего тестя. На сговоре выпито было много и веселились на славу: плясали, не жалея каблуков и половиц. Многие парни были задумчивы. В ухажерах у Аннушки недостатка не было, а им в тот вечер веселиться вроде бы и ни к чему. Подвыпивший Игнат Савельич хлопал по плечам соседей и говорил: — Нет такого зверя, чтоб не боялся человека. Все боятся, не трусят, а силу признают. Уважают человека. Сам на тебя ни один, даже медведь и тигр, не пойдет. Какой-то парень рассмеялся: — Как я — то прошлым летом… — Что ты прошлым летом? Пальнул из дробовика, «хозяин» и пошел на тебя. Спасибо скажи, что у тебя в другом стволе жакан был. Иначе быть бы тебе в райских кущах. Зверь, — он хоть, ученые говорят, ума не имеет, но привычки у него самые благородные. Тебе бы, паря, поучиться. Без нужды в тайге никто ни на кого не нападает. У каждого зверя свой закон. По ним и живут. Да что животина — змеи и те признают человека. Их не трогай, и они не тронут. Гады вроде, а признают человека. Хозяин в тайге — человек, вот кто. Мы хозяева! Поднялся из-за стола меднолицей громадой Порфирий Дормидонтович и рявкнул басом: — За наше хозяйство! Чтоб не скудело оно и у молодых! Гости встретили тост дружным криком. Гуляли до утра. Потом прошла неделя, вторая, а известий из тайги о замеченных тиграх не поступало. Все охотничьи колхозы и бригады были предупреждены о ловле. Они должны были сообщить о местопребывании тигрицы с тигрятами. Только три дня спустя после того, как выпал снег, была получена телеграмма из удэгейского селения Гвасюги от охотника Семена Кимонко: «Верховьях Катена след тигра и двух тигрят». Игнат Савельич хлопнул ладонью по телеграмме: — Теперь дело за нами! Идем покупать орудия лова, Андрей. Они пошли в аптеку. Там Прокопьев спросил самых широких бинтов и, к удивлению аптекаря, взял их целую сотню. — Что случилось? — участливо спросил аптекарь. — Тигров брать идем. — Неужели столько ранений может быть? — Нет, мы тигров бинтами повяжем. — Бинтами? — Не веревками же! Веревка, она как намокнет, так разбухнет и стянет лапы тигра. А тигра-то без валенок. Чуешь? — А выдержат бинты-то? Тигр ведь… — Мы сплетем их, как девки косу. Выдержат! И довольный Игнат Савельевич вместе с Андреем вышли. Выступать решили наутро: охотничьи сборы не хитры. Винтовки всегда наготове, а положить в котомку сухари, соль да спички, пшена немного — дело недолгое. Вечером к Андрею пришла Анна. Она сама уложила котомку, осмотрела одежду: короткую куртку из шинельного сукна, такие же брюки, калоши из сыромятной кожи — олочи, портянки с онучами. Еще к охотничьему костюму полагался ватник вместо пиджака да теплое белье. Прощаясь, Андрей обнял Анну: — Вот вернемся с тиграми, такую свадьбу закатим! — Ты о ней, как о подарке, говоришь. Не надо мне подарка такого. Сама навязалась. Ни о чем не прошу. Только нет мне свету без тебя! — Аннушка, милая… — Андрею было немного неловко и приятно слушать ее. Уголком платка вытерев набежавшую слезу, Анна прижалась к нему: — Ты самый смелый, сильный, умный, самый красивый. — Не беспокойся. Все хорошо будет. — Стыд, гордость забыла. Зачем они мне? — ласкаясь, говорила она. — И боюсь я. Отец сказал: он тебя на переднюю левую лапу поставит. Поберегись… Надежда ты моя!* * *
Услышав вкрадчивое, осторожное и зовущее мяуканье тигрицы, Андрей замер. Они замерли оба — тигренок, узнавший голос матери, и человек, различивший в вое ветра тигриный рык. — Вот она и пришла, — проговорил Андрей. Он достал из кармана куртки запасной плетеный бинт, сделал петлю, примерил ее на шее тигренка и продел в веревку толстый сучок-ограничитель, чтобы тигренок, вздумай он бесноваться, не удушился. Конец веревки Андрей надежно привязал накоротко к толстому корню выворотня с расчетом, чтобы тигр в ярости не упал в костер, не опалил шерсть и не ожегся. Тигренок не обратил внимания на действия человека. Он трепетал, слушая материнский зов. Потом охотник подбросил дров в огонь. Сначала костер зачадил и почти потух. Однако жар углей быстро высушил обледеневшие ветви, и они вспыхнули. Пламя поднялось высоко. На самых верхних, тонких корешках выворотня забегали красные огоньки обуглившихся веточек. Тигрица мяукала совсем близко. Пленник стал тихо мурлыкать, бархатисто и утробно, как мог мурлыкать котенок величиной со взрослого дога. Он жмурился, терся мордой о мерзлую землю, вытягивал в порыве умиленья связанные лапы, и конец его длинного полосатого хвоста вздрагивал от нежности. Андрей достал из котомки запасные обоймы. Их было две. И одна вставлена в магазин карабина. Сняв шапку, охотник положил в нее патроны, чтоб не намокли, и подполз к лапнику, закрывавшему вход в берлогу. Глаза, привыкшие к яркому свету, сначала ничего не различали во мгле метельной ночи. Разгоряченное лицо обдала снежная пыль, холодная и колючая. Острое дыхание ночи ободрило Андрея: стало легче дышать, утих звон в ушах. Выдвинув вперед карабин, охотник прикрыл глаза, чтобы они скорее привыкли к темноте. Открыв их через несколько секунд, Андрей стал различать деревья. И увидел метрах в двадцати от себя, у корня кедра, темный силуэт. Тигрица лежала на снегу, вытянувшись во весь двухметровый рост, и казалась черной. Глаза ее, обращенные к слабым проблескам огня, пробивавшимся сквозь занавес ветвей, сверкали малиновым огнем. Андрей внимательно приглядывался к силуэту тигрицы, и ему показалось, что тень очень медленно движется к выворотню. Тогда он приник щекой к прикладу и, подняв ствол на четверть выше головы тигрицы, выстрелил раз, другой. Огненные вспышки ослепили его. Перед глазами поплыли радужные круги. Несколько мгновений он ничего не видел. Потом в синем неверном свете снежной ночи он снова различил черные стволы деревьев, ветви кустарника. Тигрицы под кедром не было. Андрей оглянулся. Испугавшись выстрелов, тигренок забился в угол и хрипел в петле. Ослабив веревку, охотник уложил пленника подальше от костра и стал ждать, что предпримет тигрица дальше. Жар от волнения усилился и стал перемежаться ознобом. Собрав снега, Андрей лизал холодный комок сухим, шершавым языком. Маленький амба очнулся и смотрел на человека безучастными глазами побежденного. Инстинкт сопротивления был сломлен, и зверь смирился со своей участью. Андрею была очень неприятна тишина, стоявшая под выворотнем. Слабое потрескивание горящих сучьев не нарушало ее. Из тайги доносился слабый гул верхушек. Ветер стихал. Чтобы успокоиться и ослабить напряжение тишины, Андрей заговорил с тигренком: — Твоей матери не надо приходить, амба. Я могу застрелить ее. А мне совсем не хочется. Вас осталось так мало! Ее убийство бессмыслица. Все равно через полгода, когда пройдет экстаз материнства, она бросит тебя и забудет. Андрей провел по горящему лбу комком полурастаявшего снега. — Я охотник, амба, а ты зверь. Я мог убить тебя и есть твое мясо. Тогда я, может быть, останусь здоров. Но мертвый ты ничего не стоишь. Все мертвое жестоко бессмысленно: ветер, огонь или пуля. Хоть ее и сделал человек, но она слепа. Она может убить и тебя и меня. Я имею право убить тебя, чтобы жить, и ты имеешь такое право, и тигрица тоже. А вот холод и пуля — нет. Им все равно, и наша гибель бессмыслица. Но я не хочу убивать ни тебя, ни тигрицу. Только пусть она не приходит. Мы с тобой не враги, потому что оба хотим жить. Но пусть твоя мать не приходит. Я могу ее случайно убить. Она не может приказать холоду и ветру, а у меня есть слепое дуло и пуля, и я могу их заставить убить ее. Тигренок дремал и беспокойно вздрагивал. Ему, наверное, снились люди, схватившие его лапы, лай собак. Он просыпался и покорно смотрел на человека, сидевшего по ту сторону костра. По его воле огонь разгорался, весело трещал, раскидывая искры: он тоже был покорным. Вдруг тигренок снова встрепенулся. Над самой головой, где-то у верхнего края выворотня, Андрей услышал тихое призывное урчание тигрицы. Она подползла по поваленному стволу и теперь лежала на дерне выворотня. Она прыгнула бы вниз, если бы не дым, разъедавший ей ноздри. Она боялась огня. Андрей поднял карабин и осторожно просунул дуло между корнями выворотня и лапником, закрывавшим вход.* * *
Река вилась черной тропой среди белой земли, меж серых осин, коричневых кленов и лип, и только дубы еще не сбросили листвы и стояли рыжими великанами. Охотники поднимались в верховья Катена на двух батах, по трое в каждом, и засветло проходили на шестах километров двадцать. Намахавшись за день, засыпали быстро, едва успев поужинать. Последними успокаивались собаки, ехавшие пассажирами. Истомившись от дневного безделья, они поднимали возню. Их было десять, обыкновенных низкорослых лаек, злых и звонкоголосых. Только через неделю подошли тигроловы к охотничьей избушке, от которой им следовало сворачивать в сопки. Однако, как они ни спешили, здесь пришлось задержаться: надо было запастись мясом. Той осенью в дубняке уродилось много желудей, и первый снег истоптали кабаны. Добыв свинью и подсвинка, охотники двинулись дальше. Но — оттепель. И снег — таежная книга, в которую всякий зверь записывал свое пребывание, — растаял. Лишь на северных склонах крутобоких сопок остались кое-где белые пряди. Десять дней прошли в бесплодных поисках: следов тигрицы не было. — Чего шастать, остановимся табором. Пока снег не ляжет, тигрицы нам не найти, — сказал Прокопьев. Так и сделали. Неподалеку от ключа поставили маленький сруб и стали ждать, пробавляясь охотой на кабанов. Каждый был рад привезти домой на зиму по туше. От вечерней зари и чуть ли не до полуночи пили чай, разговаривали о жизни и о тайге, слушали словоохотливого Савельича, который рассказывал об одном — о тиграх. По-стариковски неторопливый и по-таежному мудрый, он говорил тихо, чуть нараспев, как сказку. Среди звероловов только сам Савельич да Дормидонтович помнили тигриную ловлю, а остальные знали о тигриных повадках понаслышке: редким зверем стал амба в предгорьях Сихотэ-Алиня, побили его еще лет сорок назад без пощады и смысла. И с тех пор, когда вышел запрет на убой тигров, мало кто из охотников встречал их след. Тигры ушли выше, в горы, где промышляют удэгейцы и нанайцы, потому что те угодья закреплены за их колхозами. Однако вот уже лет пять, как тигриные следы стали попадаться и в более доступных районах. Но никому из промысловиков не доводилось сталкиваться с амбой нос к носу. Как и всякий зверь, тигр избегал встречи с человеком. Савельич говорил о тигре, как о животном полезном, миролюбивом, и в словах его чувствовалась нежность. Причем он употреблял слово «тигр» в женском роде — «тигра», вероятно потому, что по профессии тигролова ему больше приходилось сталкиваться с самками и их двухгодовалыми питомцами. Больше всего Савельича восхищал порядок, который «тигра» наводила в местах своего обиталища. Там, где поселилась она, нет волков и много зверей. Амба не распугивала животных, а волков давила без пощады. Впрочем, серый разбойник и сам старается убраться подобру-поздорову подальше, от кошки-великана. О тех, кто обвинял «тигру» в кровожадности, Савельич говорил с презрением. По его мнению, нет зверя более рачительного к живому богатству тайги. Подняв указательный палец, Савельич любил повторять: — Она задавит кабана или изюбря и ходит к туше обедать, пока все не съест. И уж других не трогает. Однажды ночью в избушку пришел старый нанаец Евлампий Бельды. Он был очень взволнован и попросил газеты на самокрутку. — Где же твоя трубка? — спросил своего давнишнего знакомого Савельич. — Амба подарил, — ответил Евлампий. — След его встретил, полдня ходу отсюда. Она и двое котят. Охотники наперебой стали угощать Евлампия табаком, а он, печально мотая головой, продолжал сокрушаться. Он говорил, что десять лет не встречал здесь тигра. Последний раз видел священный след в год смерти отца. Тогда он набил табаком трубку, положил на след и ушел, не оглядываясь. Вскоре отца призвали к себе главные тигры, и он ушел к ним в подземное царство — буни. Его похоронили, по древнему обычаю, на дереве. Только долгое время спустя Евлампий понял, почему умер отец. Трубка, которую он положил в след, была отцова. А теперь он положил в след тигра свою трубку и должен скоро умереть. Охотники серьезно выслушали жалобы Евлампия. Только Евсей Ангелов улыбнулся: — Я видел много молодых охотников из рода Кялундзюга и Кимонко, которые клали свои трубки в след амбы, и все они остались живы. Старик задумался, долго смотрел в угол избушки. Потом сказал: — Молодые поклоняются наукам. Они читают про них толстые книги, учат их законы в школах. Они рисуют мелом на черной доске, а в книгах нарисованы внутренности зверей и птиц. И молодые становятся хорошими охотниками и даже умеют заводить мотор и ездить на машине. Старые боги отказались от них и не властны над ними. А я остался верен богам моих предков, хотя давно-давно меня загоняли в реку и заставляли касаться пальцами лба, живота и плеч. Но тот бог был строг, все время грозил и требовал очень больших жертв. Я сказал, что не буду поклоняться ему. И не стал. Теперь я положил свою трубку в след амбы. Скоро я уйду в царство буни. Старик не спал всю ночь. Утром, узнав, что охотники идут ловить тигрят, Евлампий загрустил еще больше. Прощаясь с ними, он попросил быть как можно вежливее с тигрицей. — Амбе будет не до тебя, — сказал ему Ангелов.* * *
Звероловы шли до полудня. У Теплого ключа они увидели старые следы тигрицы с тигрятами. Однако к вечеру пошел снег и прикрыл все следы, и еще неделю звероловам пришлось ходить по тайге кругами, прежде чем они пересекли свежий след. Они разбили табор и решили отдохнуть перед завтрашним трудным днем. Собак посадили на сворки и не кормили. Перед сном Савельич напомнил каждому его обязанности при ловле. Дормидонтыч должен был держать тигра за уши, Савельич брал на себя правую переднюю лапу, Андрею предстояло вязать левую и помогать Савельичу надевать намордник. Ангелов и Середкин должны были спутать задние лапы тигра. Семену Гордых поручили бежать за тигрицей и отгонять ее от места лова стрельбой. — Только скопом, все вместе, — подняв указательный палец, строго говорил Савельич. — Растеряется кто, всем плохо будет. Держитесь около меня и разом, по команде, — на тигру. Без приказа — ни-ни. Двухгодовалого котенка от тигрицы трудно отличить. Теперь смотрите, как с вязкой управляться. Прокопьев взял сплетенный втрое широкий бинт, ловким движением прижал коленом руку Дормидонтовича, захлестнул ее петлей, переплел концы и скрепил узлом. Свояк и охнуть не успел. — Смотрите, братцы, низко лапу не захватывайте, — продолжал Савельич под смех охотников и смущенного Дормидонтовича. — Захватите лапу низко, тигра когтями поранить может, — и добавил: — Смех смехом, а с тигрой так быстро не сладишь, однако. Каждый зверолов попробовал сам управиться с вязкой на руке соседа. Поднялась возня. Теперь настала очередь Савельича смеяться над непроворными: их связывали. Спать легли рано и встали затемно. Савельич повесил над костром большой котел для чая и набросал туда ягод лимонника. Когда вода закипела, то даже сквозь дым костра почувствовался тонкий горьковатый аромат лимона. Обернувшись к Андрею, Савельич сказал: — Не пробовал ты, однако, такого чайку. Великой мощи растение: выпьешь кружку такой заварки — хоть весь день бегай. Этот лимонник, говорят, даже в медицине употребляют. Для укрепления сил. Отвар напоминал Андрею зеленый чай, которым его угощал однокурсник-казах. Потом плотно поели, снова попили чаю. Рассвело. Отгорела неяркая заря. Родилось румяное солнце. Его свет сквозил меж безлистых крон и падал на свежий снег. По нему протянулись янтарные полосы. Они отливали самоцветами. А тени были нежно-голубыми. Пахло осенней пустынной чистотой. — Пошли! — выдохнул Савельич. Держа собак на сворках, охотники двинулись в путь и через полчаса уже напали на след. Ускорили шаги. Собаки рвались, вставали на задние лапы, хрипели. С вершины сопки заметили вдали над пихтачом ворон. Они вились кругом, опускались, взлетали. — Там тигры, — сказал Савельич. — Пошли. На поляне, над которой колесили вороны, наткнулись на тушу кабана, задавленного тигрицей. Савельич осмотрел следы, тушу: — Завтракать помешали. Быстрей бежать надо. Скоро по следам стало видно — звери перешли на галоп. Мать шла широкими махами, а за ней по обе стороны-тигрята. — Отпускай собак! — крикнул Савельич. Лайки темными клубками покатились по снегу, подбадривая друг друга заливистым лаем. С этого момента Андрей перестал замечать, что делается вокруг него, и в то же время нервы его обостренно воспринимали все происходящее. Звероловы плотной кучей помчались вверх по склону, за собаками, лай которых стал слышен отчетливее. — Посадили! Быстрее! — повернув раскрасневшееся, в крупных каплях пота лицо, прохрипел Савельич. Звероловы ускорили бег. Андрей чувствовал, что сердце колотится у горла, мешая двигаться. Собаки лаяли где-то рядом, за стеной густого пихтача. Неожиданно следы тройки тигров разделились. Двое уходили вверх по сопке, а один свернул в сторону. — Семен! Отгоняй дальше тигрицу! — приказал Савельич. — Карабины брось! Но свой карабин Савельич не оставил. Гордых кинулся вверх по склону, стреляя вверх. — Куртки долой! Вязки за пояс! Держитесь кучей! Сбросив куртки, котомки, приготовили вязки. Звероловы стали плечом к плечу около Савельича. Он не кинул куртку, а, скомкав, держал в руках. Старик оглянулся через плечо, скользнул прищуренным глазом по лицам: — Скопом! Слушай команду! Идем! Двинулись осторожно, затаив дыхание. Сквозь визгливый лай послышался рык и шипение. Андрей почему-то удивился, услышав кошачье шипение тигра. Еще шаг, еще… Собаки стояли полукругом у кедра. Там, прижавшись к стволу, стоял тигр. Он был огромен — в полчеловека. Шерсть на загривке и щеках вздыбилась; зеленые глаза округлились; верхняя губа, вздрагивая, кривилась, обнажая желтые клыки. Взглянув на людей, тигр вздрогнул, мотнул языком по носу, припал к земле. Одна собака рванулась к нему. Неуловимым взмахом лапы тигр отбросил ее. Она упала метрах в пяти с распоротым боком. Тигр не смотрел на собак. Он глядел в глаза людям немигающим взглядом, остановившимся от бешенства и ужаса. Савельич шел к тигру чуть боком, примериваясь, и все пошли боком. Пять шагов до тигра… И тогда шерсть на бедрах тигра дрогнула. Он будто проверял опору для прыжка. Савельич кинул в него свою куртку: — Давай! Тигр вцепился в куртку зубами и лапами на лету. Ткнул пахнущую потом одежду в снег, словно что-то живое. Дормидонтович, одним прыжком очутившись на звере, схватил тигра за уши. И в тот же миг Андрей придавил коленом лапу амбы. Она была такая толстая, как его нога, и дрожала от напряжения, и мышцы судорожно двигались под шерстью. Выхватив из-за пояса вязку, Андрей продел петлю под лапу, просунул в петлю концы, рывком затянул. Прихватил еще раз. Покосил глазом в сторону Савельича. И увидел около своей щеки черные влажные губы амбы, желтый клык, торчащий из розовой десны, дрожащий язык, услышал хрип и клекот в горле тигра, а дальше лицо Прокопьева, его глаза, прищуренные, стальные.* * *
Просунув дуло карабина в щель меж лапником, прикрывавшим вход, Андрей присмотрелся, не маячит ли над ним тень тигрицы. Он все-таки не хотел убивать ее. Но небо было темное, и слепил свет костра. Обернувшись к взволнованному тигренку, охотник сказал: — Ну, амба, молись, чтоб твоя мать была в полуметре от карабина, — и нажал крючок. Одновременно с выстрелом что-то проворное и тяжелое рухнуло перед выворотнем, дико зарычав. Не раздумывая, Андрей проткнул дулом хилую занавеску лапника и еще дважды выстрелил наугад. Взревев, тигрица бросилась прочь. Ее голос постепенно удалялся и затих. — Везучая! Жива. Даже не ранена. Выстрелы под сводом выворотня оглушили Андрея. Он сунул палец в ухо и потряс им. Стало легче. Тигренок снова забился в глубь норы, не шипел, только таращил глаза. — Вот, амба, с твоей мамой я договорился. Она больше не придет. Одни мы с тобой. А против нас ветер, холод, голод. Если бы не они! Тогда бы мы с тобой были уже дома. В настоящем тепле. И с едой. Тебя бы Аннушка кормила кониной. Очень вкусное мясо, красное, аппетитное. Ты бы остался доволен, амба. И я поел бы даже сырого мяса. Хоть бы пробежал кто мимо! Да видишь, ветер, снег — все живое попряталось. О матери ты не грусти. Андрей отложил карабин и протянул руки к костру. Огонь усердно трудился над сучьями. Они раскалялись докрасна и, отдав тепло, меркли под серым пеплом. — Она потоскует неделю — и конец. Только человек помнит все, даже то, чего он никогда не видел. Тигр не мигая смотрел на огонь. В его блестящих глазах отражались языки пламени. Изредка веки его смежались. Но даже легкий треск искры будил зверя. И тогда Андрей видел, как темная глубина его зрачков сужалась в черные поперечные щели. Андрей прислонился головой к торчащим корням выворотня и даже не почувствовал, как впились они в кожу. Нервное напряжение, поднятое приходом тигрицы, теперь спало, и внутренний жар, огонь болезни, расслабил Андрея. Ему не хотелось двигаться, хотя раненая нога ныла нестерпимо. И, желая пересилить истому болезни, он продолжал говорить, говорить и не отрываясь глядел на огонь сухими, воспаленными глазами. — Ты плохой собеседник, амба. Ты ничего не помнишь. А то какую бы интересную историю ты рассказал мне! Что ты почувствовал, когда Дормидонтович схватил тебя за уши? Ты очень хотел жить, амба, и отчаянно сопротивлялся. Я видел, как в пальцах Дормидонтовича стали скользить твои уши. Я бы не понял происходящего, коли б не увидел через твою разинутую пасть глаза Савельича. Он даже крикнуть боялся. Только мы оказались проворнее: быстро связали твои лапы, накинули намордник, стянули твои челюсти. Успели. Иначе плохо бы нам всем пришлось. В тебе же нет ни добра, ни зла, только жажда жизни. И ты бы не оставил нас в живых. Но мы с Савельичем успели завязать концы намордника у тебя на затылке и отскочили. А ты продолжал бороться: пошел колесом по снегу. Ты пытался освободить связанные лапы, пока у тебя хватало сил. Но веревки неживые, а у тебя недостало мощи их порвать. Как у нас сейчас недостает силы утихомирить ветер и снег. Как человек не может остановить вылетевшую из дула пулю. Ты лежал, обессиленный борьбой, на снегу, и я видел, как на груди у тебя вздрагивают от ударов сердца ребра и кожа. Ты был потный, мог простудиться, и тебя положили на лапник. Ты лежал смирно. Только хвост метался. А потом все побежали за твоим братом или сестрой. Мы остались одни. Я ушел в тайгу за дровами для костра, а когда вернулся, тебя не было. Тебе, амба, плохо связали задние лапы, и к тебе возвратились силы. Ты прыгал по снегу, словно кенгуру. Когда я вернулся, ты был далеко. Я побежал за тобой. Бежал три часа. Настиг. Но я был один, а у тебя оказались развязанными задние лапы. Ты почувствовал погоню и забился под этот выворотень. Ты так спешил убежать, что даже не пытался сбросить намордник и разорвать путы на передних лапах. Это и спасло меня. Я сделал петлю и поймал твои задние лапы и снова скрутил их. А ты разорвал мне ногу. И потом я совершил ошибку: остался здесь с тобой до утра. Я очень устал, и у меня не было сил. Ночью поднялся ветер. Мы оказались в западне. Завтра будет пять суток, и все пуржит. Что мы будем делать, амба?* * *
Дормидонтович проснулся первым. В избе было темно. За стенами глухо шумел ветер. Сунув ноги в олочи, почесывая лохматую грудь, он пошел к двери, приоткрыл ее. Прозрачная струя снега ударила по ногам. Дормидонтович, прищурившись, посмотрел на небо, захлопнул дверь и высморкался с трубным звуком. На лавке вздохнул Савельич: — Пуржит? — Еще дня два будет. Наши ребята уж свезли тигру на станцию и, верно, хлопнули за наше здоровье. А могли бы и двух отправить. Савельич, кряхтя, сел на лавке: — Ангелов спирт с шампанским пьет. Забористо, говорит. — Потянувшись с хрустом, Дормидонтович крякнул. — Приспичило? — спросил Савельич и добавил: — Возьми в котомке. — Потерплю до дому. В тайге какое питье? С похмелья полкилометра не пробежишь, дух перехватит. — И я про то. — Черт побери Ангелова! Его надо было заставить здесь сидеть. Как он опростоволосился? Уж лучше бы перетянул вязку на лапе, чем так. Савельич прошелся пятерней по бороде. — Кто же знал? Всякий думает, как лучше. Гремя сухими поленьями у печурки, Дормидонтович ворчал: — Лишь бы ничего с Андреем не случилось. — Однако, не новичок. Сызмальства в тайге. Оттого и в охотоведы пошел. Отец-то его на все Забайкалье гремел: и охотился и золотишко мыл. Чиркнув спичку, Дормидонтович поджег растопку и усмехнулся: — Аттестовал! Не такие пропадали. Молод — горяч, стало быть. — Не задрала же его тигра? Карабин, чай, с ним. — И то верно. Сидит, однако, Андрей где-нибудь под выворотнем и ест тигрятину. Не помирать же ему с голоду, когда мясо рядом. Старики помолчали. Трещал кедрач в печи. Тоскливо скулил закипавший чайник. Возились за стеной собаки — требовали еды. В маленькой, с низким потолком подслеповатой избушке двое бородачей казались великанами. Это впечатление усиливали блуждающие оранжевые блики огня, освещавшие то лицо, то руки, то всю фигуру охотника сразу, и тогда черная тень захватывала пол-избы. — Да, неудачная ловля. Одна шкура останется. Ноги об нее вытирать. — Грех жаловаться, Савельич. Одну поймали, — почитай, за месяц по тысяче заработали. — Так ведь в руках тигра была! С Ангеловым шабаш, не возьму в бригаду. — Только бы Андрей не пропал. Хороший парень. Жалко. Савельич с сердцем хлопнул себя ладонью по колену: — Да что с ним будет? Тигрятиной питается, погоду пережидает. Нетто либо ты, либо я по-другому сделали? Не подфартило. Пошел ловить — пришлось убить. И всего. На наш век тайги хватит. Строгая в чайник веточку лимонника, Дормидонтович пожал плечами: — А коль он сам на обед тигру попал? Мать могла вернуться. — И ее пристрелил. Не браконьерство. Никакой законник не подкопается: защищался человек. Зверь-то ведь без понятия: нюхом живет. Пахнет дитём — отдай. А там от дитя одно мясо осталось. — И, помолчав, добавил: — Встретит нас с тобой Андрей жареной тнгрятиной. Морду бы Ангелову набить надо. Не догадался. — Человек, брат, тоже промашки дает. А не будь Ангелова, разодрал бы тебе второй тигренок грудь. Как бы шаркнул лапой, так бы ребра и полетели. Дормидонтович хмуро посмотрел на Савельича, почесал бороду и вздохнул. Потом снял с печки чайник. Савельич поднялся: — Пусть настоится покрепче. Собак пойду покормлю, — и у двери остановился. — Да, сидит Андрей верстах в десяти и тигрятиной питается. Ты пробовал тигрятину, Дормидонтович? — Нет.* * *
Пурга стихала нехотя, будто запыхавшись от усталости. Все реже и реже натужно ныли верхушки деревьев, лениво клубились рваные облака, сквозь которые просвечивали белесые звезды. Крепчал мороз. Чем тише становилось в тайге, тем больше беспокойство охватывало Андрея: как быть дальше? Ослабевший от болезни и голода человек старался найти единственно правильный выход, который не только позволил бы ему освободиться от таежного плена, но и был бы его победой. Тигренок тоже ослаб, лежал неподвижно в дальнем углу норы и дремал. Его уже не раздражали прикосновения человека, который, как обычно, подполз к нему утром, ощупал лапы, ослабил плетеные веревки. — Целы лапы, не отморозил. Амба лениво потянулся, открыл равнодушные глаза. — Сдаешь? Маленький ты. Потерпи, сегодня день и одну ночь потерпи. Потом твои мучения кончатся. И мне ведь не сладко. Андрей машинально почесывал тигренка за ухом, словно большую кошку, и говорил сам с собой, обращаясь к зверю. — Утихла пурга. Солнце по тайге гуляет. И нога будто успокоилась. Ходить попробую. Только вот сил нет. Не смогу тебя тащить. Пожалуй, и на волокуше не дотяну. Изголодались мы с тобой! Оставить тебя и поохотиться? Это день, а то и два с моими ногами да силами. Замерзнешь ты. Ослаб очень. И с огнем оставить тебя никак нельзя. Сидеть-то спокойно ты не станешь, опалишься, обгоришь, а то и уйдешь. Амба лежал с закрытыми глазами. Андрей вздохнул, потом пополз к выходу, захватив карабин. Он вылез из-под выворотня и зажмурился. Рыжее восходящее солнце слепило. Иней, опушивший кедры, подлесок и дальние, раздетые ветром дубы, сверкал и переливался радугой. Все было белым, мертвым, все застыло. Стужа жгла кожу, перехватывала дыхание. Метрах в двадцати, в чаще ерника — тонких березок, — Андрей увидел красные ягоды лимонника. Пошел к ним. Ему показалось, что нога болит совсем не так сильно, как он думал, и это его обрадовало. Нарвав ягод и наломав веток, охотник вернулся под выворотень, приготовил крепкий напиток. Он получился очень горький, и, выпив его, Андрей почувствовал прилив сил. — Теперь, амба, не пугайся. Я буду стрелять. У нас осталось двенадцать патронов. Восемь я потрачу. По выстрелу в час. Будем слушать, не ответят ли нам. Если ответят, ты остаешься в плену. Если нет, я отпущу тебя. Ведь твоя мать бродит где-нибудь поблизости. Она не могла уйти далеко. Она еще помнит о тебе и накормит тебя. Андрей вылез из-под выворотня, поднял карабин в одной руке и нажал спусковой крючок. Выстрел прозвучал ударом бича. С ближних ветвей посыпался иней и долго висел в воздухе искрящимися прядями. Эхо запрыгало от сопки к сопке, рассыпалось, и, убегая, удар выстрела звучал все выше, пока где-то далеко не вскрикнул тонко, отчаянно. Тишина зазвенела в ушах Андрея. И чем дольше он вслушивался, тем гуще и отчетливее становился этот звон, который не нарушал ни один звук. Только когда Андрей уже продрог и собирался забраться под выворотень, ухнуло с пушечным гулом дерево от мороза, словно лихо крякнул замерзший богатырь, вздрогнув всем телом. Звон в ушах стих, но окрест по-прежнему стояла дремучая тишина. Вернувшись к своему пленнику, охотник снова принялся пить чай, который хоть немного утолял чувство голода, но, главное, согревал. А согревшись, было приятно поговорить с немым собеседником, чтобы скоротать время до следующего выстрела. — Ты, амба, достоин помилования. Ведь человек до сих пор только по недоразумению считает тебя соперником. Он давно сильнее тебя. Но, пока ты был соперником, тебя убивали без пощады и твоя шкура была символом победы и силы. А теперь? Теперь тот же человек должен беречь тебя. Ты украшение тайги и истребитель волков. А может быть, через сто лет человек не будет убивать и их. И на их страже станет закон, как теперь он охраняет тебя. Просто человек хочет помнить свое прошлое, и, может быть, в музее рядом с чучелом вымерших тигров он поставит твоего современника — бомбу. Но я бы хотел, чтобы твои потомки пережили ее. У живого есть огромное преимущество — в чередовании рода жить дольше, чем камни. Они рассыпаются раньше. Время шло незаметно, как мысль. Андрей выходил в тайгу, ждал ответа, возвращался, пил чай и разговаривал с тигром. Близился вечер. В сумерках высоко над тайгой пролетел самолет. Андрей вышел из-под выворотня. Заря уже погасла, но там, в вышине, видимо, еще светило солнце. На лиловом небе меж мерцающих звезд двигалась яркая розовая точка. Потом на синем востоке она стала серебристой и растаяла. И тогда где-то меж сопок послышался рёв тигрицы. Андрей заглянул под выворотень. Тигренок поднял голову, словно ожил. — Ты слышишь, тебя зовет мать, — сказал Андрей, залезая под выворотень. Тигр встретил его шипением. — А я, амба, только что хотел спросить, сможешь ли ты идти. Теперь вижу: сможешь. Не шипи, я отпущу тебя. И Андрей откинул от входа лапник. Потом он взял тигренка за задние лапы и выволок на снег. Андрей чувствовал под руками, как дрожат мускулы зверя, ощутившего запахи тайги. Оставив тигренка, он снова заложил вход под выворотень лапником, срезал длинную палку и привязал к ней нож. Неожиданно тигренок дернулся раз, другой. — Не спеши, амба. Ты будешь жить. Охотник дает тебе свободу. Ты имеешь право быть помилованным. Человек считает, что ты должен жить, значит, так и будет. И за тобой пришла мать. А я пойду навстречу людям. Они живут дальше, чем она, и даже не знают, жив ли я. Взяв в правую руку карабин, а в левую палку с привязанным ножом, Андрей осторожно, чтобы не раздражать зверя, подрезал веревку, стягивавшую задние лапы амбы, потом подрезал веревку, что связывала передние. Лапы тигра теперь сдерживали только тонкие лоскутки, но, привыкнув к неволе, он даже не пытался проверить крепость пут. Андрей выстрелил. Тигренок неуклюже дернул лапами. Подрезанные веревки лопнули. Амба неуверенно пошевелил ими, резко вскочил, кувыркнулся через голову в снег. Высоко, что было силы, подпрыгнул, лег, поджав лапы, готовые к прыжку, и уставился на человека злыми, невероятно широко открытыми глазами.* * *
Презрительно шмыгнув носом, Дормидонтович выпалил: — Сопляк! Отвернувшись, он стал рассматривать однообразный пейзаж. Путаница стволов, укутанных в иней и запорошенных снегом, сливалась в серую стену. Савельич ничего не ответил на реплику свояка. Все происшедшее было для него, как и для Дормидонтовича, неожиданностью и, кроме всего, настолько выходящим из ряда обычных представлений, что он никак не мог определить своего отношения к Андрею. Он не мог, подобно свояку, так сразу и резко осудить охотоведа, не уяснив мотивов его поступка, не разобравшись в этом сложном деле, хотя спервоначалу и согласился с Дормидонтовичем. Однако в глубине души он не только оправдывал Андрея, но и восхищался им. И именно это оправдание и восхищение Савельич и не мог объяснить для себя, понять, почему оно существует, если, по всей видимости, резкость свояка закономерна для охотника. Когда стихла пурга, они с Дормидонтовичем отправились на поиски Андрея. Они шли два дня, стреляя через час дуплетом в надежде, что пропавший охотовед услышит их. Двигались они по направлению следов, которые приметили еще тогда, вернувшись к месту поимки первого тигренка. Пойти по следам беглеца амбы и Андрея им помешала неожиданно разыгравшаяся непогода. Звероловам пришлось вернуться на табор, чтобы спасти жизнь второго тигренка, которого они поймали, да и отправляться на поиски Андрея во время пурги было бессмыслицей, ничем не оправданным риском. Тем более, они знали, что охотовед не новичок в тайге, сумеет укрыться и раз он преследовал тигренка, взяв с собой карабин, то в любом случае погоня закончится благополучно: Андрей либоубьет тигра, если не сладит с ним, либо сладит и, оставшись один на один, пристрелит пленника, чтобы не оставаться голодным. Иного исхода никто из охотников не представлял себе. Не могло же случиться так, что, начав преследование полусвязанного, обезумевшего от страха зверя, который дальше чем на десяток километров и убежать не был способен, охотник не догонит его или что охотник, отлично владеющий карабином, вдруг настолько опростоволосится, что попадет в лапы зверя. Конечно, всех вариантов несчастья, которое может произойти в тайге, никто предвидеть не способен, однако случившееся настолько выходило из ряда вон, что, выслушав Андрея, Дормидонтович долго и непристойно ругался и не успокоился ни через день, ни через неделю, а при воспоминании неизменно произносил одно полюбившееся ему определение: — Сопляк! Савельич молчал. Он молча выслушал Андрея еще в тайге. Тогда после двух суток поисков они услышали выстрел и бросились на звук. Пробежав километра три, они кубарем, не отставая от лаек, спустились в распадок. Они спешили потому, что, услышав выстрел, ответили несколькими дуплетами, потом палили на бегу, но Андрей молчал. Они увидели его сидящим на снегу около убитой косули. Она была еще теплая. От бедра, из которого Андрей вырезал кусок мяса, шел пар. Сам он, захлебываясь кровью, ел сырое мясо. Когда они подошли, Андрей вытер тыльной стороной руки обросшее лицо, на котором замерзли капельки крови, и спокойно сказал: — Я слышал, как вы стреляли, да у меня патронов не осталось. Последний на косулю истратил. — А тигра? — спросил Дормидонтович. — Позавчера отпустил. На племя оставил. Дормидонтович плюнул: — Струсил! — Ногу он мне разодрал, когда связывал. Сильно. Нести его не мог. Просидели голодными неделю. Убивать зачем же? — Сопляк! — выпалил Дормидонтович. — Шкуру продать, а за мясо, что не сожрал, большие деньги ученые в Хабаровске дали бы. А то жалость обуяла. Всех бы жалел! Чего ж косулю пристрелил? — Одного зверя человек еще может убить, а другого уже не имеет права. Перед всей землей он за них в ответе, за каждую белку, за каждого птенца. Савельич усмехнулся и, вынув из-за пояса топор, пошел рубить дрова для костра. Очевидно, в его отсутствие миролюбиво настроенный Андрей окончательно поссорился с ершистым Дормидонтовичем. Андрей сидел насупившись, а хмурый Дормидонтович свежевал косулю и ворчал: — Беззащитную да безобидную животную можно убивать, выходит, а лютую тигру — нет? Андрей сидел, облокотившись о колени, и молчал. Савельич разжег костер. В ярком свете солнечного дня пламя было почти невидимо, только курился высоко над сучьями сизый дым, поднимался столбом и распластывался над вершинами. — Покажи-ка ногу, — сказал Савельич. Андрей размотал рубашку, которой была обернута раненая нога. — Однако, как же ты шел? — Вот так. Дормидонтович глянул на ногу Андрея через плечо Савельича, потом полез в котомку, достал бинт: — Этак на одной можно остаться. Андрей благодарно кивнул ему: — Подживет. — Спирт достань, свояк. Первое дело — спирт. Видишь, куда огонь пошел. Промыв спиртом рану, Савельич передал бутылку свояку. Тот, прикинув глазом, что там осталось добрая половина, залпом осушил бутылку, понюхал обшлаг суконной куртки: — Коль тигров на волю отпускают, то это совсем не грех. Ты, Андрюха, подумал, что зверь-то всем нам принадлежал, не один ты хозяин? А? Подумал? Свадьбу-то играть на что станешь? Али втихую его дочку к себе перетянешь? У нас такого обычая нет. У нас с этим делом строго. Андрей и Савельич молчали. — Во второй тигре твоей доли нету, — отрезал Дормидонтович. — Коли хочет за меня, подождет, — не стерпел Андрей. Разрывая бинт, чтобы закрепить повязку, Савельич с сердцем сказал: — Круто берешь, парень. — Каков есть, Игнат Савельич. Поднявшись, Прокопьев сказал, обращаясь к свояку: — Нарты связать надо. Не сможет он идти. — Дойду. — Ты, парень, не ершись. Постарше тебя, знаем, — проговорил Савельич. — Сказано- на нартах. Нарежем ремней из шкуры косули и свяжем нарты. Так и сделали. Доставив Андрея в райцентр в больницу, охотники договорились с ним об отлове восьми кабаньих подсвинков и ко времени, когда он выздоровел, были уже дома. Ловля прошла удачно. Пасмурным утром, когда Андрей вернулся в поселок, Савельич ненароком видел в окно, как Аннушка разговаривала с Андреем, и догадался, о чем шла речь. И, хотя он не обмолвился с дочерью ни единым словом о своем отношении к поступку Андрея, он знал, что среди охотников в поселке ходят про охотоведа нелестные слухи. Но Савельич отмахивался. И теперь, глядя на ссутулившуюся спину ковылявшего к своему дому Андрея, Прокопьев понял, что настал его срок сказать свое слово. И, когда Анна пришла в дом, Савельич хлопнул ладонью по столу: — Не твое дело путаться в мужские дела. И, сказав это, подумал, что начал совсем не с того, с чего надо. Анна покосилась на отца заплаканными глазами и, резко скинув с плеч полушубок, ответила: — А ты не лезь в бабьи! — И вдруг, опустившись на лавку, заплакала снова. — Сами затравили меня. Как мне жить-то с ним после таких насмешек? Разве можно мне с ним… Эх, люди! — Кому ты такая нужна? — сказал Савельич и опять подумал, что не то говорит, не о том. Анна вскинула на отца заплаканное лицо, по-детски вытерла пальцами слезы: — Ему тигра дороже меня. Он любовь мою по ветру пустил. А ты все молчишь, молчишь. Смеются над ним, а ты молчишь. И ты с ними! И вдруг, поднявшись с лавки, Анна подошла к отцу и сказала шепотом: — А я не могу без него. Все равно уйду. — Иди, я не против. Только ведь стыдно, когда курицу яйца учить начинают. Не к чему, однако, тигру-то было убивать. Отпустить-то — это вернее. Потому как гибнет краса тайги. Зол еще больно, жесток человек, надо не надо, тянет из тайги. А он по-хозяйски. И смеялись-то над ним потому, что самим горько было. Обидела-то ты его крепко. Аннушка кивнула. — Ну и поди, скажи: мол, сдуру, понапрасну. Анна выпрямилась: — Еще чего? Сам пусть опять придет. Коль любит, придет. А не придет — сама пойду. Через неделю. — Круто гнешь, Анна. — Мне с ним жить, не тебе.СОДЕРЖАНИЕ: А. Казанцев. Внуки Марса. Рисунки Г.Макарова……3. Г. Голубев. По следам ветра. Рисунки Е.Мешкова……81. Е. Рысс. Остров Колдун. Рисунки М.Хабленко……131. О. Бердник. Пути титанов. Рисунок О.Коровина……205. С. Гансовский. Хозяин бухты. Рисунок И.Прагера……253. А. Кулешов. Сплетенные кольца. Рисунок Л.Дурасова……264. Ю. Давыдов. Забытые путешественники. Рисунок Ю.Ракутина……285. Н. Коротеев. По ту сторону костра. Рисунок Л.Дурасова……301.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1962г. №8


Л. Платов «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» УХОДИТ В ТУМАН[202]

ПОБЫВКА В ЛЕНИНГРАДЕ
1
Кто бы мог подумать, что и недели не пройдет после возвращения из шхер, как Шубин сам проникнет внутрь этой загадочной подводной лодки! В одном белье, босого, проволокут его по зыбкой, узкой палубе, потом бережно, на руках, спустят в тот самый люк, откуда в шхерах «пахнло, словно из погреба или раскрытой могилы». А снизу, запрокинув бескровные лица, будут смотреть на него мертвецы… Ничего этого не ожидал и не мог ожидать Шубин, когда его вызвали к командиру островной базы. — Катер на ходу? — Еще в ремонте, товарищ адмирал. — Долго ли? — Дня два. — С оказией пойдешь. С посыльным судном. — Куда? — В Кронштадт. — В разведотдел флота? — Голос Шубина стал жалобным. — А что я могу? — Адмирал рассердился. — Вызывают! Съездишь, расскажешь там, как и что. — Ну что я расскажу? Докладывал, когда заместитель начальника разведотдела прилетал. И рапорт, как приказали, написал. Пять страниц, шутка ли! Черновиков сколько перемарал! А теперь опять писать? Писатель я, что ли? Да по мне, товарищ адмирал, лучше двадцать раз в шхеры сходить… — Всё, всё! Надо… Кстати, моториста и юнгу своих прихватишь. Доктор записку напишет в госпиталь. Очень недовольный, бурча себе под нос, Шубин пошел на пирс, а за юнгой послал Чачко. Шурка не принимал участия в ремонте, только присутствовал при сем — руки его еще были забинтованы. Но язык не был забинтован. Юнга был бодр и весел, как воробей. Усевшись верхом на торпеду, он — в который уже раз! — рассказывал о том, как прятался за вешкой от луча прожектора. Чачко остановился подле него и состроил печальное лицо. Шурка удивленно замолчал. — Укладывайся, брат! — Радист тяжело вздохнул. — С оказией в Кронштадт идешь. — В Кронштадт? Почему? Чачко подмигнул матросам. — Списывают, — пояснил он и вздохнул еще раз. — Списывают тебя по малолетству с катеров… Шурка стоял перед Чачко, хлопая длинными ресницами. Списывают! Не дали довоевать. Сами-то небось довоюют, а он… Юнга круто повернулся и зашагал к жилым домам. — Рассерчал, — пробормотал Дронин. Кто-то засмеялся, а Чачко крикнул вдогонку: — Командир на пирсе! Застегнутый на все пуговицы, с брезентовым чемоданчиком в руке, Шурка разыскал командира. — Ты что? — рассеянно спросил тот, следя за тем, как Степакова вносят на носилках по трапу посыльного судна. — Попрощаться, — тихо сказал юнга. — Списан по вашему приказанию, убываю в тыл. Шубин обернулся: — Фу ты, надулся как! Это разыграли тебя, брат. Не в тыл, а в госпиталь. Полечат геройские ожоги твои. Чего же дуться-то? Эх ты, штурманенок! — и ласково провел рукой по его худенькому лицу. Матросы, стоявшие вокруг, заулыбались. Вот и повысили нашего Шурку в звании! Из «впередсмотрящего всея Балтики» в «штурманенка» переименован. Тоже подходяще! Шубин добавил будто вскользь: — К медали Нахимова представил тебя. Может, медальку там получишь заодно… И всегда-то он умел зайти с какой-нибудь неожиданной стороны, этот хитрый человек, невзначай поднять у матросов настроение, так что уж и сердиться на него было вроде ни к чему… Всю дорогу до Кронштадта Шурка разглагольствовал, не давая командиру скучать. Медаль Нахимова — это было хорошо! Он предпочитал ее любой другой медали. Даже, если хотите, ценил больше, чем орден Красной Звезды. Ведь этот орден дают и гражданским, верно? А медаль Нахимова — с якорьками и на якорных цепях. Всякому ясно: владелец ее — человек флотский. Шубин в знак согласия машинально кивал головой. Мысли его были далеко.2
В Кронштадте он полдня провел у разведчиков. Был уже вечер, когда, помахивая онемевшей, испачканной чернилами рукой, он вышел из здания штаба. Посмотрел в блокнот. Адрес Мезенцевой ему сообщил Селиванов еще на Лавенсари. Она жила в Ленинграде. Что ж, рискнем. Махнем в Ленинград!.. Виктория Павловна сама открыла дверь. — О! Взгляд ее был удивленным, неприветливым. Но Шубин не смутился. Первая фраза была уже заготовлена. Он зубрил ее, мусолил все время, пока добирался до Ленинграда. — Я привет передать! — бодро начал он. — Из шхер. Из наших с вами шхер. — А! Входите! Виктория Павловна провела его по длинному коридору, заставленному вещами. Жильцы в квартире были дисциплинированными. Двери — а их было одиннадцать или двенадцать — не приотворялись, и оттуда не высовывались любопытные физиономии. Комната была маленькая, чуть побольше оранжевого абажура, который висел над круглым столом. В углу стояло пианино. Свитки синих синоптических карт лежали повсюду: на столе, на стульях, на диване. Хозяйка переложила карты с дивана на стол, села и аккуратно подобрала платье. Это можно было понять как приглашение сесть рядом. Платье было домашнее — кажется, серо-стального цвета — и очень шло к ее строгим глазам. Впрочем, Шубин почти не рассмотрел ни комнаты, ни платья. Как вошел, так и не отрывал уже взгляд от ее лица. Он знал, что это непринято, неприлично, мысленно ругал себя и все же смотрел не отрываясь — не мог насмотреться! — Хотите чаю? — сухо спросила она. Он не хотел чаю, но церемония чаепития давала возможность посидеть в гостях подольше. Вначале он думал лишь повидать ее, перекинуться парой слов о шхерах — и уйти. Но внезапно его охватило теплом, как охватывает иногда с мороза. В этой комнате было так тепло и по-женски уютно. А за войну он совсем отвык от уюта. Сейчас Шубин наслаждался очаровательной интимностью обстановки, чуть слышным запахом духов, звуками женского голоса, пусть даже недовольного: «Вам покрепче или послабее?» Он словно бы опьянел от этого некрепкого чая, заваренного ее руками. На секунду ему представилось, что они муж и жена и она сердится на него за то, что он поздно вернулся домой. От этой мысли пронизала сладкая дрожь. И вдруг он заговорил о том, о чем ему не следовало говорить. Он понял это сразу: взгляд Виктории Павловны стал еще более отчужденным, отстраняющим. Но Шубин продолжал говорить, потому что не привык отступать перед опасностью. Он замолчал внезапно, будто споткнулся, — Виктория Павловна усмехалась уголком рта. Пауза. — Благодарю вас за оказанную честь! — Она очень тщательно подбирала слова. — Конечно, я ценю и польщена и так далее. Но ведь мы абсолютно разные с вами! Вы не находите?.. Думаете, какая я? — Взгляд Шубина сказал, что он думает. Она чуточку покраснела. — Нет, я очень прозаическая, поверьте! Все мы в какой-то степени лишь кажемся друг другу… — Она запнулась. — Может, непонятно говорю? — Нет, я все понимаю. — Вероятно, я несколько старомодна… Что делать? Таковы мы, коренные ленинградки! Во всяком случае, вы… как бы это помягче выразиться… не совсем в моем стиле. Вы слишком шумный, скоропалительный. От ваших темпов разбаливается голова. Видите меня второй раз и… — Третий… — тихо поправил он. — Ну, третий. И делаете формальное предложение! Я знаю, о чем вы станете говорить. Готовы ждать хоть сто лет, будете благоразумный, тихий, терпеливый… Но у меня, увы, есть печальный опыт. Мне раз десять уже объяснялись в любви… Она сказала это без всякого жеманства, а Шубин мысленно пошутил над собой: «Одиннадцатый отвергнутый!» — Я вот что предлагаю, — сказала она. — Только круто, по-военному. Взять и забыть! Как будто и не было ничего. Давайте-ка забудем, а? Она прямо посмотрела ему в глаза. Даже не предложила традиционной приторной конфетки «Дружба», которой обычно стараются подсластить горечь отказа. Шубин встал. — Нет, — сказал он с достоинством и выпрямился, как по команде «смирно». — «Забыть»? Нет! Что касается меня, то я всегда… всю жизнь… Он хотел сказать, что всегда, всю жизнь будет помнить и любить ее и гордиться этой любовью, но ему перехватило горло. Он поклонился и вышел. А Виктория Павловна, не вставая с дивана, смотрела ему вслед. Слова, как это часто бывает, не сказали ей ровнехонько ничего. Сказала — пауза. У него не хватило слов, у такого веселого балагура, такого самоуверенного! И что это за наказание такое! Битых полчаса она втолковывала ему, что он не нравится ей и никогда не сможет понравиться. Разъяснила спокойно, ясно, логично. И вот — результат! Уж если вообразить мужчину, который смог бы ей понравиться, то, вероятно, он был бы стройным, с одухотворенным бледным лицом и тихим приятным голосом. Таким был ее отец, концертмейстер филармонии. Такими были и друзья отца: скрипачи, певцы, пианисты. Они часто музицировали в доме Мезенцевых. Детство Виктории было как бы осенено русским романсом. Свернувшись калачиком на постели в одной из отдаленных комнат, она засыпала под «Свадьбу» Даргомыжского или чудесное трио «Ночевала тучка золотая». До сих пор трогательно ласковая «Колыбельная» Чайковского вызывает ком в горле — так живо вспоминается отец. Странная? Может быть. Отраженное в искусстве сильнее действовало на нее, чем реальная жизнь. Читая роман, она могла влюбиться в его героя и ходить неделю как в чаду. Но пылкие поклонники только сердили и раздражали ее. — Виктошка, попомни наше слово: ты останешься старой девой! — трагически предостерегали ее подруги. Она пожимала плечами, с тем небрежно самоуверенным видом, какой в подобных случаях могут позволить себе только очень красивые девушки. Ее называли Царевной Лебедь, Спящей Красавицей, просто Ледышкой. Она снисходительно улыбалась — уголком рта. Ей было и впрямь все равно: не ломалась, не кокетничала. И вдруг в ее жизнь — на головокружительной скорости — ворвался этот моряк, совершенно чуждый ей человек, громогласный, прямолинейный, напористый! Ему отказали. Он не унимался. Был готов на все: заставлял жалеть себя или возмущаться собой, только бы не забывали о нем. Виктория была так зла на Шубина, что плохо спала эту ночь.3
Он тоже плохо спал ночь. Но утром настроение его изменилось. Он принадлежал к числу тех людей с очень уравновешенной психикой, которые по утрам неизменно чувствуют бодрость и прилив сил. Город с вечера окунули в туман, но сейчас остались только подрагивающие блестки брызг на телефонных проводах. Яркий солнечный свет и прохладный ветер с моря как бы начисто смыли с души копоть обиды и сомнений. Виктория не любит его, но впоследствии обязательно полюбит. Она не может не полюбить, если он так любит ее! Непогрешимая логика влюбленного! Поверхностный наблюдатель назвал бы это самонадеянностью… и ошибся бы. Шубин был оптимистом по складу своей натуры. Был слишком здоров — физически и душевно, чтобы долго унывать. На аэродроме ему повезло, как всегда. Подвернулась «оказия». На остров собрался лететь тренировочный «ЛА-5». — И не опомнишься, как домчит! — сказал дежурный по аэродрому. — Лёту всего пятнадцать—двадцать минут! Втискиваясь в самолет позади летчика, Шубин взглянул на часы. Восемь сорок пять. Буду на месте что-нибудь в районе девяти. Очень хорошо! Он поежился от холодного ветра, хлынувшего из-под пропеллера, поднял воротник реглана. Но какие странные глаза были у нее при прощании! Во время следующей встречи он обязательно спросит об этом. «Почему у вас сделались такие глаза?» — спросит он. «Какие такие?» — скажет она и вздернет свой подбородок, как оскорбленная королева. «Ну, не такие, понятно, как сейчас. А очень удивленные и милые, с таким, знаете ли, лучистым блеском…» И он подробно, со вкусом, примется описывать Виктории ее глаза. Но сколько ждать новой встречи? Когда и где произойдет она? Шубин с осторожностью переменил положение. В этом «ЛА-5» сидишь в самой жалкой позе, скорчившись, робко поджав ноги, — не задеть бы за вторую пару педалей, которые покачиваются внизу. Если поднять глаза от них, то виден краешек облачного неба. Фуражку нахлобучили Шубину на самые уши, сверху прихлопнули плексигласовым щитком. Сиди и не рыпайся! Печальная фигура — пассажир! А что делать пассажиру, если бой? Одна из педалей резко подскочила, другая опустилась. Справа стоймя встала ребристая синяя стена — море. Глубокий вираж. Зачем? Летчик оглянулся. Он был без очков. Мальчишески конопатое лицо его улыбалось. Ободряет? Значит, бой. Но с кем? Море и небо заметались вокруг. Шубин перестал различать, где облака, а где гребни волн. Очутился как бы в центре вращающейся Вселенной. Омерзительно ощущать себя пассажиром в бою! Руки тянутся к штурвалу, к ручкам машинного телеграфа, к кнопке стреляющего приспособления, но перед глазами прыгает лишь вторая, бесполезная пара педалей. Летчик делает горку, срывается в штопор, переворачивается через крыло — в каскаде фигур высшего пилотажа пытается уйти от врага. А бесполезный дурень пассажир только мотается из стороны в сторону и судорожно хватается за борта, преодолевая унизительную, подкатывающую к сердцу тошноту. Но скоро это кончилось. На выходе из очередной мертвой петли что-то мелькнуло рядом, чей-то хищный силуэт. Сильно тряхнуло. На мгновение Шубин потерял сознание и очнулся уже в воде. Волна накрыла его с головой. Он вынырнул, огляделся. Сзади, вздуваясь и опадая, волочилось по воде облако его парашюта… Посты СНИС засекли быстротечный воздушный бон. Летчик радировал: «Атакован! Прошу помощь!» — то есть вызывал самолеты. С ближайшего аэродрома тотчас поднялись истребители, но дело было в секундах — не подоспели к бою. Когда они прилетели, небо было уже пусто. Посты СНИС, однако, наблюдали бой до конца. «ЛА-5» пытался уйти, пользуясь своей скоростью. Потом самолеты как бы сцепились в воздухе и серым клубком свалились в воду. Видимо, на одном из виражей ударились плоскостями. Истребители сделали несколько кругов над морем, высматривая внизу людей. Одному из летчиков показалось, что он разглядел след от перископа подводной лодки. Когда он снизился, перископ исчез. Возможно, это был просто бурун — ветер развел волну. Но летчик счел нужным упомянуть об этом в донесении. С Лавенсари в район боя были высланы «морские охотники». Совместные поиски с авиацией продолжались около часу. Их пришлось прервать, потому что волнение на море усилилось. Даже если кто-нибудь и уцелел после падения в воду, у него не оставалось теперь никаких шансов на спасение.4
Об этом юнга узнал к концу того же дня. Степакова уложили в один из ленинградских госпиталей, а Шурке приказали приходить по утрам на перевязку. Жить он должен был во флотском экипаже. Он шел туда, когда возле Адмиралтейства встретился ему штабной писарь, служивший когда-то в бригаде торпедных катеров. — Слышал? Командир-то твой? — еще издали крикнул он. — А что? На остров улетел. — Нету, не долетел он! И писарь рассказал, что знал. — И заметь, — закончил он, желая обязательно вывести мораль. — Не просто погиб, как все погибают, но и врага с собой на дно!.. — Шубин же! — с достоинством сказал Шурка, привычно гордясь своим командиром, сразу как-то не поняв, не осознав до конца, что речь идет о его смерти. Сильный психический удар, в отличие от физического, иногда ощущается не сразу. Есть в человеческой душе запас упругости, душа пытается сопротивляться, не хочет впускать внутрь то страшное, чудовищно-несообразное, от чего вскоре придется ев содрогаться и мучительно корчиться. Так было и с Шуркой. Он попрощался с писарем и вначале по инерции думал о другом, постороннем. Подивился великолепию Дворцовой площади, которое не могли испортить даже заколоченные досками окна Эрмитажа. Потом заинтересовался поведением шедшей впереди женщины с двумя кошелками. Вдруг она изогнулась дугой и пошла очень странно, боком, высоко поднимая ноги, как ходят испуганные лошади. Проследив направление ее взгляда, Шурка увидел крысу. Не торопясь, с полным презрением к прохожим, она пересекала площадь — от Главного штаба к Адмиралтейству. Голый розовый хвост, извиваясь, тащился за нею. Крыс Шурка не любил; их множество водилось на Лавенсари. А эта вдобавок была на редкость самодовольная, вызывающе самодовольная. Все-таки был не 1942, а 1944 год! Блокада кончилась, фашистов попятили от Ленинграда. Слишком распоясалась она, эта крыса, нахально позволяя себе разгуливать среди бела дня по Ленинграду. Шурка терпеть не мог непорядка. Крысе пришлось с позорной поспешностью ретироваться в ближайшую отдушину. Вслед за тем юнга с удивлением обнаружил, что в этом полезном мероприятии ему азартно помогала какая-то тщедушная, неизвестно откуда взявшаяся девчонка. — Ненавижу крыс! — пояснила она, отбрасывая со лба прядь прямых, очень светлых волос. Шурка, однако, не снизошел до разговора с нею и в безмолвии продолжал свой путь. На Дворцовом мосту он остановился, чтобы полюбоваться на громадную, медленно текущую Неву. И тут, когда он стоял и глядел на воду, наконец дошло до него сознание непоправимой утраты. Гвардии старшего лейтенанта нет больше! В такой же массивной, тяжелой, враждебной воде исчез Шуркин командир, и всего несколько часов назад. Вместе с самолетом, с обломками самолета, камнем пошел ко дну. Умер! Бесстрашный, стремительный, такой веселый выдумщик, прозванный на Балтике Везучим… Шурку ни с того ни с сего повело вбок, потом назад. Он удивился, но тотчас забыл об этом. Он видел перед собой Шубина, державшего в руках полбуханки хлеба, к которой была привязана бечевка. Стоявшие вокруг моряки хватались за бока от хохота, а Шубин, улыбаясь, говорил Шурке: «Учись, юнга! Заставим крыс в футбол играть». Во время войны на Лавенсари не стало житья от крыс. Днем они позволяли себе целыми процессиями прогуливаться по острову, ночами не давали спать — взапуски бегали взад и вперед, стучали неубранной посудой на столе, даже бойко скакали по кроватям. Однажды Шубин проснулся от ощущения опасности. Открыв глаза, он увидел, что здоровенная крысища сидит у него на груди и плотоядно поводит усами. Он цыкнул на нее, она убежала. Тогда Шубин пораскинул умом. Он придумал создать «группу отвлечения и прикрытия». С вечера на длинной бечеве подвешивалось в коридоре полбуханки (хоть и жаль было хлеба). Крысы принимались гонять по полу этот хлеб, вертелись вокруг него, дрались, визжали, а Шубин и Князев тем временем мирно спали за стеной. «Учись, юнга, — повторял Шубин. — В любом положении моряк найдется!» И как беззаботно, как весело смеялся он при этом! Ох, командир, командир!.. Шурке стало бы, наверное, легче, если бы он заплакал. Но он не мог — не умел. Только мучительно давился, перегнувшись через перила, словно бы пытался что-то проглотить, и кашлял, кашлял, кашлял… Через минуту или две, когда пароксизм горя прошел, Шурка услышал над ухом взволнованный тонкий голос, похожий на звон комара. Кто-то суетился возле него, пытаясь заглянуть в лицо. — Раненый, раненый! — донеслось издалека. — Обопритесь о меня, раненый! Это была давешняя девчонка, вместе с ним гонявшая крысу. А кто же был раненый?.. О, это он сам. Ведь руки-то у него забинтованы. Мельком взглянув на девочку, Шурка понял, что блокаду она провела в Ленинграде — уж очень была тщедушная. И лицо было худенькое, не по годам серьезное. Цвет лица белый, мучнистый, под глазами две горизонтальные резкие морщинки. «Блокадный ребенок», — говорят о таких. Ошибиться невозможно. Хлопотливая утешительница уверенным движением закинула Шуркину руку себе на плечо и попыталась тащить куда-то. Обращаться с ранеными было ей, видно, не в диковинку. А комариный голос немолчно звенел: — Сильней налегайте, сильней! В нашей сандружине я… Шурка дал отвести себя от перил и усадить на какое-то крыльцо. Но от подсчитывания пульса с негодованием отказался. — Чего еще! — пробурчал он и сердито вырвал руку. — Вы раненый, — сказала девочка наставительно. — Заладила: «Раненый, раненый»!.. — передразнил он. Помолчал, негромко добавил: — Просто, понимаешь, переживаю я… Он запнулся. Теперь, вероятно, надо встать, поблагодарить и уйти. Но куда он пойдет? Друзья его находятся очень далеко, на Лавенсари. В Ленинграде нет никого. А остаться с глазу на глаз со своим горем — об этом даже страшно подумать. Иногда человеку дороже всего слушатель, а еще лучше слушательница. Шурка был как раз в таком положении. — Переживаю я за своего командира, — пояснил он и шумно вздохнул, как вздыхают дети, успокаиваясь после рыданий. — Был, знаешь ли, у меня командир… И Шурка рассказал про Шубина. «Наверное, очень стыдно, что я рассказываю ей, — думал он. — Но она же видела, как я переживал. И потом, она ленинградка, провела в Ленинграде блокаду. Она-то поймет. А рассказав, я встану и уйду, и мне не будет стыдно, потому что мы никогда больше не увидимся с нею. Ленинград большой…» Понурив голову, он сидел на ступеньках грязного крыльца, заставленного ящиками с песком. Рядом слышалось взволнованное дыхание. «Слабый пол», — подумал Шурка. Потом девочка по-бабьи подперла щеку рукой, и очень добрые синие — кажется, даже ярко-синие — глаза ее наполнились слезами. И Шурке, как ни странно, стало легче от этого…ХОЛОД БАЛТИКИ
1
А с Шубиным произошло вот что. Очутившись в воде, он прежде всего освободился от парашюта. По счастью, в кармане был перочинный нож. Он вытащил его. Движения были автоматические, почти бессознательные, как у сомнамбулы. Все было подчинено умному инстинкту самосохранения. Долой лямки парашюта, долой тяжелый, тянущий ко дну пистолет! От этой обузы он избавился легко. Но с ботинками и одеждой пришлось повозиться. Никак не расстегивались проклятые крючки на кителе, потом, как назло, запуталась нога в штанине. Наконец Шубин остался в одном белье. Оно было трофейное, шелковое — шелк не стесняет движений. Он лег на спину, чтобы отдышаться. Море раскачивалось под ним, как качели. Плыть не имело смысла. Он не знал, куда плыть. Ориентироваться по солнцу нельзя, небо затянуто облаками. Встать бы, чтобы осмотреться, так ноги коротковаты, надо бы подлинней. До дна верных полсотни метров. Но пустота не пугала. Шубин был отличным пловцом. Сначала он даже не почувствовал холода. — Места людные, — бормотал он, успокаивая себя. — Подберут. Не могут не подобрать. Надо только ждать и дождаться. Это было самое разумное в его положении — сохранять самообладание, не тратить зря сил. — Сескар почти рядом, — продолжал он прикидывать, раскачиваясь на пологой волне. — Посты СНИС, конечно, засекли воздушный бой. На поиски уже спешат катера, вылетела авиация… (Он не знал, не мог знать — и это было счастьем для него, — что «ЛА-5» и вражеский самолет, кувыркаясь в воздухе, ушли далеко с курса и Шубина ищут совсем в другом месте). Вдруг что-то легонько толкнуло в плечо. Он быстро перевернулся на живот. Волна качнула, подняла его, и он увидел человека в ярко-красном полосатом жилете. Человек плавал стоймя, подняв плечи и запрокинув голову. Шлема на нем не было. Виден был только стриженый крутой затылок. Шубин сделал несколько порывистых взмахов, чтобы зайти с другой стороны. Он ожидал увидеть юношу, который, обернувшись, ободряюще улыбнулся ему несколько минут назад. Нет. Рядом покачивался мертвый вражеский летчик. У него было простое лицо, светлобровое, очень скуластое. Лоб наискосок пересекала рана. Выражение лица было удивленное и болезненно жалкое, как почти у всех умерших. Мертвеца держал на воде резиновый надувной жилет с продольными камерами. Если пуля пробьет одну из таких камер, остальные будут выполнять свое назначение. Жабо-пелеринка подпирает подбородок, держит его высоко над водой, чтобы раненый или потерявший сознание не захлебнулся. Но этому летчику жабо было уже ни к чему. Шубин отплыл от него и «лег в дрейф». Пошире раскинув руки, стал глядеть на небо. Небо, небо! Слишком много неба. Еще больше, пожалуй, чем моря… Он заставил себя думать о хорошем, о Виктории. Осенью, когда кончится навигация, они пойдут гулять по Ленинграду. Как это произойдет? Вот он, испросив разрешения, бережно берет ее под руку, и они идут. Куда? «Давайте к Неве!» — предложит она. «Ну нет, — скажет он. — Слишком много воды. Сегодня что-то не хочется смотреть на воду!..» Фу, какой вздор лезет в голову! Это, наверное, оттого, что она очень болит, прямо раскалывается на куски. Кто-то, будто играя, шаловливо подтолкнул его плечом. А! Опять этот в красном жилете. И чего ему надо? Море просторное, места хватает. Вражеский летчик держался преувеличенно прямо, даже мертвый плавал навытяжку. Выражение его лица изменилось. Угроза? Нет, улыбка. Мускулы на лице расслабились, рот ощерился. Из него выпирали два клычка, более длинные, чем другие зубы. Гримаса была злорадной. Она словно бы говорила: «Ага!» Шубин не желал раздумывать над тем, что означает это «ага». Он отплыл от мертвеца, лег на спину. Но через несколько минут тот опять очутился рядом с ним. Наваждение какое-то! Водоверть здесь, что ли, круговое течение?.. И хоть бы не было этого жабо! Слишком задирает подбородок мертвецу. Тот словно бы хохочет, просто закатывается, откидываясь на волне в приступе беззвучного смеха. Шубин зажмурился, по-детски надеясь, что мертвец исчезнет. Но нет! Открыв глаза, увидел, что тот покачивается неподалеку, и кивает ему, и подмигивает, и зовет куда-то. Куда? Им двоим тесно на море. Мертвец должен посторониться. Шубин попытался стащить с него жилет. Но летчик выскальзывал из рук или делал вид, что хочет отплыть. Волнение усилилось. Волны то опускали, то поднимали обоих пловцов — мертвого и живого. Со стороны могло показаться, что двое загулявших матросов, обнявшись, упали за борт и в воде доплясывают джигу.[203] В последний момент Шубин вспомнил о документах. Еще немного и отправил бы летчика со всеми его документами к морскому царю. А это нельзя! Морскому царю нет дела до фашистских документов, зато они, конечно, заинтересуют разведотдел флота. А поскольку Шубин должен явиться сегодня в разведотдел… Что-то перепуталось в его мозгу. Но, вспомнив о документах, он уже не забывал о них. Видимо, сказался четко отработанный военный рефлекс. Даже в этом необычном и трудном положении, измученный, продрогший, с помраченным сознанием, Шубин поступал так, как всегда учили его поступать. Он бережно переложил воинское удостоверение летчика в кармашек жилета и расстегнул последнюю пуговицу. Труп камнем пошел ко дну. Шубин облегченно вздохнул. Теперь, кроме него, нет никого на Балтике. Прошло еще несколько минут, прежде чем он вспомнил о плававшем рядом жилете. Что ж, раковина уже вскрыта, створки ее пусты. Он подплыл к жилету и напялил его на себя. Все-таки лишний шанс! Сейчас, во всяком случае, можно не бояться судорог. Раньше он запрещал себе думать о них. Плохо лишь, что трофейный жилет не греет. А холод уже начал пробирать до костей. Было бы теплее, если бы жилет был капковый. Желтая комковатая капка похожа на вату и греет, как вата. Правда, через два или три часа она намокает, тяжелеет и тянет на дно. Но Шубин вовсе не собирался болтаться здесь два или три часа. Об этом не могло быть и речи. Его должны найти и подобрать с минуты на минуту. Красное пятно жилета видно издалека. Чтобы отвлечься, он стал думать о дальних тропических странах, где растет капка. Это ведь такая трава? А быть может, кустарник? То-то, наверное, тепло в тех местах! От мыслей о теплых странах ему сделалось еще холоднее. Холод отовсюду шел к Шубину, со всех концов Балтики, от всей выстуженной за зиму водной громады моря. Он обхватывал, сжимал, стискивал. Желая согреться, Шубин поплыл саженками. Но странно: чем усиленнее двигался, тем холоднее становилось. Он проделал опыт: скрестил руки на груди, подобрал колени к подбородку. Как будто стало теплее. Не нагревается ли окружавший слой воды от тепла его тела? Не надо подгребать к себе новые холодные пласты. «Катера подойдут! Катера скоро подойдут!» — повторял он про себя, будто зубрил урок. Ни на секунду не допускал мысли о том, что его не подберут. Понимал: самое страшное — это испугаться, поддаться панике. Кто самообладание потерял — тот все потерял! Как-то очень странно, толчками, болела голова. Временами, на короткий срок, сознание выключалось. Тогда ему виделись цветы. Конусообразные пурпурные мантии раскачивались на пологих волнах. Он старался дотянуться до них и от этого движения приходил в себя. Иногда Шубину представлялось, что он висит среди звезд в пустоте космического пространства. Холод, холод! Лютый холод!.. Осмотревшись, Шубин удивился внезапной перемене. По морю бежали барашки, торопливые вестники шторма. Только что волны были пологими. Сейчас на них появились белые гребешки. Беляки гуляли по морю. — Волнение три балла, — определил он вслух. — Море дымится! Вскоре верхушки волн начали загибаться и срываться брызгами. По шкале Бофорта это означало, что волнение доходит уже до четырех баллов. Волна накрыла Шубина с головой. Он вынырнул, ожесточенно отплевываясь. Дышать становилось все труднее. Надвигался шторм. «Эге! — подумал Шубин. — Шторма мне не вытянуть… — И тотчас же: — Но шторма не будет!» Мысленно он как бы прикрикнул на себя. Между тем море делалось все более грозным, волны все чаще накрывали Шубина с головой. Три балла, четыре балла… Он хотел бы забыть о делениях этой проклятой шкалы. Его стало тошнить. Укачало наконец! Он не верил в то, что пловцов укачивает в море, и вот… Шубин задыхался, отплевывался, пытался приноровиться к участившимся размахам моря. Что-то пролетело над ним. Самолет? Пикирует самолет? Он инстинктивно втянул голову в плечи, но в этот момент был на гребне волны, и резиновый жилет помешал ему нырнуть. О, это всего лишь чайка! Полгоризонта закрыли ее изогнутые, как сабли, крылья, нежно-розовые, но с черными концами, словно бы их обмакнули в грязь. Она взвилась и стремительно опустилась, будто хотела сесть Шубину на макушку. Ого, да тут их много, этих чаек! Они вились над Шубиным, задевая его крыльями, с размаху падали к самой воде, взмывали в воздух. Сквозь свист ветра он различал их скрипучие голоса. Птицы азартно перебранивались, словно бы делили его между собой. Делили? Моряки с Ладоги как-то рассказали Шубину, что произошло с нашим летчиком, который был сбит в бою над Ладогой. Капковый жилет не дал ему утонуть, и через два—три часа его подобрали. Он был жив, но слеп. Чайки выклевали ему глаза. Шубин высунулся до пояса из воды и заорал что было сил. Он мог только орать — руки окоченели до того, что почти не двигались. Вдруг что-то огромное, в белых дугах пены, надвинулось на него, какая-то гора. Линкор или плавучий кран — так показалось ему…2
Он закашлялся и очнулся. Обжигающая жидкость лилась в рот. Сводчатый потолок был над ним. Шубин полулежал на полу. Кто-то придерживал его за плечи. Подняв глаза на стоявших вокруг людей, он удивился их виду. У всех были бороды, а лица отливали неестественной мертвенной белизной. Люди как-то странно смотрели на него, и он откинулся назад. Тотчас движение его было прокомментировано. — Укачался, ничего не понимает, — сказал кто-то по-немецки. — Дай-ка ему еще глоток! Немцы? Стало быть, он в плену? Но не спешить — оглядеться, выждать, понять! Шубин закрыл глаза, чтобы протянуть время. — Ослабел после морских купаний, — произнес тот же голос с уверенными отчетливыми интонациями. — Не заметил бы Венцель в перископ чаек над ним… Перископ? Он на подводной лодке? Шубин открыл глаза. Над ним, широко расставив ноги, стоял человек в пилотке и пристально смотрел на него. Он держал что-то в руке. Шубин скорее угадал, чем увидел: размокшее воинское удостоверение летчика, которое находилось в кармашке жилета! — Sie sind Pirwoleinen?[204] — спросил немец. Пауза. Шубин лихорадочно собирается с мыслями. — Pirwoleinen Axel?[205] — Немец заглянул в удостоверение и нетерпеливо пригнулся, уперев руки в колени. — Nun, antwortet sie doch endlich! — поторопил он. — Sie sind leitenant Pirwoleinen?[206] Пирволяйнен? Мертвый летчик был финном? Шубин перевел дух, словно перед прыжком в воду. Потом, решившись, очень тихо сказал: — Jawohl… Es ist meine Nahme…[207]3
Его подняли, усадили на табуретку. Рядом очутился пучеглазый человечек, который отрекомендовался врачом. Шубин пожаловался на головную боль и тошноту. — В порядке вещей. — Врач осклабился. — Не удивлюсь, если даже имеется легкое сотрясение мозга. Мнимому Пирволяйнену дали переодеться. Комбинезон затрещал по всем швам на его плечах и груди. Пирволяйнен! Финн! Очень хорошо. Тем самым могут быть объяснены погрешности в произношении. Лишь бы на лодке не нашлось никого, кто знает финский язык! Ну, а лицо? Офицер в пилотке держал удостоверение перед самым своим носом и все же спросил: «Sie sind Pirwoleinen?» Ослеп он, что ли? В воинском удостоверении есть фотография. А сходства между летчиком и Шубиным никакого. Уж он-то на всю жизнь запомнил это мертвое лицо, скалившее зубы над своим пышным гофрированным воротником. — Который час? — слабым голосом спросил Шубин. Кто-то услужливо ответил. Шубин попытался сделать подсчет. Получалось, что он провел в воде немногим более двух часов. Не может быть! Он боролся с мертвецом, с волнами и чайками наверняка не менее суток! Впрочем… — Командир приглашает вас к себе, — сказал врач и пропустил Шубина вперед. Палуба мерно подрагивала под ногами. Значит, лодка была на ходу. Из-за двери раздалось короткое: — Bitte![208] Врач остался за дверью, а Шубин, собрав все свое мужество, шагнул через порог. Каюта была очень маленькая, как все помещения на подводной лодке, где дорог каждый метр пространства. На переборке висели мерно тикавшие часы, портрет Гитлера, еще что-то — Шубин не успел разглядеть. — Лейтенант Пирволяйнен? — раздалось навстречу. Спину обдало холодом. Тот же голос, который он слышал в шхерах! На вращающемся кресле к нему повернулся узкоплечий, головастый, очень бледный человек. Лицо его выглядело еще бледнее от иссиня-черной бороды. Шубин заставил себя щелкнуть каблуками. Немец молчал, не отрывая от него взгляд. Странный это был взгляд — изучающий, взвешивающий и в то же время рассеянный. Глаза были очень близко посажены к переносице. Казалось, вдобавок, что один располагается несколько выше другого. Это происходило, вероятно, оттого, что вследствие увечья или привычки командир держал голову набок-с какой-то лукавой, недоверчивой ужимкой. Кивком головы он пригласил садиться, потом, проверяя себя, заглянул в удостоверение, лежавшее на столе: — Да, Пирволяйнен!.. Говорите по-немецки? Сомнений нет. Голос тот самый: скрипучий, брюзгливый! Значит, он, Шубин, на борту «Летучего голландца»? С трудом Шубин выдавил из себя: — Jawohl! Смысл последующих слов былнепонятен. — Делать нечего, — сказал подводник. — Если подобрали, то не выбрасывать же снова за борт… Я высажу вас в двух милях от Хамины. Там будет ожидать машина авиационной части. Ваш командир извещен по радио. Но внимание Шубина было сосредоточено лишь на полуразмокшем воинском удостоверении. Подводник рассеянно вертел его длинными, гибкими пальцами, потом поставил ребром на стол. — В район Хамины придем через шесть часов. Этим я вынужден ограничить свою помощь… Шубин пробормотал, что ему неловко затруднять господина командира. Конечно, у того есть свои задачи, которые… Немец предостерегающе поднял руку: — Не ломайте над моими задачами голову! Иначе, предупреждаю вас, рискуете сломать ее! — Он улыбнулся Шубину, вернее, сделал вид, что улыбнулся. Просто выставил наружу свои бледные десны и тотчас же спрятал их, не считая нужным слишком притворяться. — По возвращении в часть, — резко сказал он, — ваш долг забыть обо всем, что вы видели здесь! Забыть даже, что были на борту моей субмарины! Он встал из-за стола. Торопливо поднялся и Шубин. Подводник шагнул к нему вплотную, и только теперь Шубин по-настоящему рассмотрел его глаза. Они были очень светлые, почти белые, с маленькими зрачками, что придавало им выражение постоянной, с трудом сдерживаемой ярости. — Забыть, забыть! — с нажимом повторил немец. — И вы забудете, едва лишь покинете нас. Забудете все, словно бы ничего и не было никогда! Шубин молчал. Подводник отошел к столу. Опять со странной ужимкой склонил голову набок, будто присматриваясь к своему собеседнику. Вспышка непонятного, почти истерического гнева прошла так же внезапно, как и возникла. После паузы он сказал спокойно: — Доложите своему командиру, что были подобраны немецким тральщиком. Подводник небрежно перебросил Шубину раскрытое воинское удостоверение финского летчика. Шубин стиснул зубы, чтобы не крикнуть. Фамилия, имя и звание были вписаны в удостоверение очень прочной тушью. Они уцелели. Но на месте фотографии осталось серое пятно. Удостоверение слишком долго пробыло в соленой морской воде, которая размыла, разъела фотоснимок. Виден был только контур головы и плеча. Откуда-то издалека донесся до Шубина скрипучий голос. — Впрочем, документ получите позже. Вахтенный командир внесет вас в журнал. Всё! Можете идти. Шубин выпрямился. Ощущение было такое, будто волна накрыла его с головой, проволокла по дну и неожиданно опять выбросила на поверхность. Но он позволил себе облегченно перевести дух лишь за порогом командирской каюты.4
Его поджидал пучеглазый доктор. — Ну, как самочувствие? — Он пытливо заглянул Шубину в лицо. — Бледны как мел. Одышка. Пульс?.. О да, частит! Надо подкрепиться, затем лечь спать. До вашей высадки еще целых шесть часов… Они прошли по отсекам, сопровождаемые угрюмыми взглядами матросов. Какая, однако, сумрачная, словно бы чем-то угнетенная команда на этой подводной лодке! Пока Шубин, обжигаясь, пил горячий кофе в кают-компании, доктор сидел рядом и развлекал его разговором о возможностях заболеть плевритом или пневмонией. Не исключено, впрочем, что тем и другим вместе. Доктор был совершенно лыс, хотя сравнительно молод. На полном лице его лихорадочно поблескивали выпуклые темные глаза. Товарищи запросто называли его Гейнц. Кают-компания была тесной. На переборке висела картина, изображавшая корабль в море. Время от времени Шубин недоверчиво поглядывал на нее. Она была странная, как и все на этой лодке. Корабль с парусами, полными ветром, наискось надвигался на Шубина — из левого угла картины в правый. В кильватер ему, примерно на расстоянии шести-семи кабельтовых, шел второй корабль. Он шел, сильно кренясь, задевая за воду ноками[209] рей. Заходящее солнце было на заднем плане. Лучи его, как длинные пальцы, высовывались из-за туч и беспокойно шарили по волнам, оставляя на них багровые следы. Конечно, Шубин не мог считать себя знатоком в живописи. И все же ясно было, что художник в чем-то поднапутал. Он хотел спросить об этом доктора, но раздумал. Слишком болела голова, чтобы толковать о картинах. — Где бы мне положить вас? — в раздумье сказал врач. Он остановил проходившего через кают-компанию молодого человека. — Где нам положить нашего пассажира? В кормовой каюте? Ключ у тебя? — Ты в уме, Гейнц? Как у тебя язык повернулся? Уложи лейтенанта на койке штурмана. Сейчас его вахта. — Да, правильно. Я забыл. Только вытянувшись во весь рост на верхней койке, Шубин почувствовал, как он устал. Через шесть часов мнимого Пирволяйнена встретят на берегу, обман будет раскрыт. Неважно. Расстреляют ли сразу, начнут ли гноить в застенке для военнопленных — Шубин не хочет сейчас думать об этом. Выяснится еще бог знает когда — через шесть часов. А пока — спать, спать! — Завидую вам, — сказал доктор, стоя в дверях. — Третий год сплю только со снотворными. Завидует? Знал бы он, кому завидует! Уже погружаясь в сон, Шубин неожиданно дернулся, будто от толчка. Не разговаривает ли он во сне? Стоит пробормотать несколько слов по-русски… Нет, кажется, он только храпит. А храп — это не страшно. Храп — вне национальной принадлежности. Койка чуть подрагивала от работы моторов. Вероятно подводная лодка двигалась уменьшенными ходами. Это убаюкивало. Шубин вспомнил Шурку Ластикова, его круглое наивное лицо и удивленный вопрос: «Откуда вы-то знаете про страх?» Он так и заснул, улыбаясь этому уютному, бесконечно далекому воспоминанию. Через полчаса доктор зашел проведать пациента и, стоя у койки, подивился крепости его нервов. Каков, однако, этот Пирволяйнен! Сбит в бою, тонул, чудом спасся, и вот лежит, закинув за голову мускулистые руки, ровно дышит, да еще и улыбается во сне…НА БОРТУ «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»
1
Шубин улыбался во сне. Он спал так безмятежно, будто находился не среди врагов, не на немецкой подводной лодке, а в своем общежитии на Лавенсари. Словно бы вернулся из очередной вылазки в шхеры, сказал несколько слов Князеву, зевнул и… такой богатырский сон сковал его, что он и не слышит, как бегают, суетятся, стучат когтями крысы за стеной. Не спи, проснись, гвардии старший лейтенант! Тварь опаснее крысы возится сейчас подле твоей койки. Все же, видно, что-то бодрствовало в нем, как бы стояло на страже. Он вскинулся от ощущения опасности — привычка военного человека. Нет, крысы на его груди не было. И он проснулся не дома, а в чужой каюте. Враг был рядом. Снизу доносились его прерывистое, со свистом, дыхание, озабоченная воркотня, шорох бумаги. Шубин сразу овладел собой. У таких людей не бывает вяло-дремотного перехода от сна к бодрствованию. Сознание с места берет предельную скорость. Минуту или две он лежал с закрытыми глазами, не шевелясь, припоминая: «Я финн, летчик. Сбит в воздушном бою, — мысленно повторял он, как урок. — Подобран немецкой подводной лодкой. Я лейтенант. Меня зовут… Но как же меня зовут?..» Ему стало жарко, словно он лежал в бане, на верхней полке. Он забыл свою финскую фамилию. Имя, кажется, Аксель. Да, Аксель. А фамилия? Ринен?.. Мякинен?.. Нет, ни к чему напрягать память. Будь что будет! Надо, как всегда, идти навстречу опасности, ни на секунду не позволяя себе поддаваться панике. Переборки и подволок чуть заметно подрагивали. Значит, подводная лодка двигалась, хоть и не очень быстро. Шубин свесил голову с верхней койки. Он увидел спину и затылок человека, который сидел на корточках у раскрытого парусинового чемодана и копался в нем. — Все потонут, все, — явственно произнес человек. — Он разговаривал сам с собой. — И командир потонет, и Руди, и Гейнц. А я — нет!.. — Он негромко хихикнул, потом вытащил из-под белья пачку каких-то разноцветных бумажек и, шелестя ими, принялся перелистывать. — Но где же мой Пиллау? — сердито спросил он. Шубин кашлянул, чтобы обратить на себя его внимание. Человек поднял голову. У него было одутловатое, невыразительное, словно бы сонное лицо. Под глазами висели мешки, щеки тряслись, как студень. Шею обматывал пестрый шарф. — Вы, наверное, здешний штурман? — спросил Шубин. — Извините, я занял вашу койку. Человек в пестром шарфе, не вставая с корточек, продолжал разглядывать Шубина. — Нет, я не штурман, — сказал он наконец. — Я механик. — А сколько времени сейчас, не можете сказать? — Могу. Семнадцать сорок пять. Вы проспали почти восемь часов. Восемь? Но ведь через шесть часов подводная лодка должна была подойти к берегу? Шубин поспешно соскочил с койки. — Я вижу, вам не терпится обняться с друзьями, — так же вяло заметил механик. — Не торопитесь. У вас еще есть время. Мы даже не подошли к опушке шхер. Вот как! Стараясь не выдать своего волнения, Шубин отвернулся к маленькому зеркалу, вделанному в переборку, и, сняв с полочки гребешок, начал неторопливо причесываться. При этом он даже пытался насвистывать. Почему-то вспомнился тот однообразный мотив, который исполнял на губной гармошке меланхолик в шхерах. Механик оживился. — О, «Ауфвидерзеен»! Песенка гамбургских моряков. Вы бывали в Гамбурге? — Только один раз, — осторожно сказал Шубин. — «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен»,[210] — покачивая головой, негромко пропел механик. Потом сказал: — Хороший город Гамбург! Давно были там? — До войны. — Мой родной город. Я жил недалеко от Аймсбюттеля. Шубин поежился. Это было некстати. Он никогда не бывал в Гамбурге. Механик неожиданно подмигнул: — Натерпелись страху, а? Я так и думал. Вам бы не выдержать шторма, если бы не мы… Шубин с опаской присел на нижнюю койку. Только бы немец не стал расспрашивать его о Гамбурге, о котором он имел самое туманное представление. Но механик отвернулся и снова принялся рыться в чемодане, бормоча себе под нос: — Пиллау, Пиллау, где же этот Пиллау? Но вот «Пиллау» нашелся. Механик разогнул спину. Нелепая гримаса поползла по отдутловатому, бледному лицу, безобразно искажая его. Это была улыбка. — Случись такое со мной, как с вами, — объявил он, — я бы нипочем не боялся! — Да что вы? — Уж будьте уверены. Что мне море, волны, шторм! Чувствовал бы себя, как дома в ванне. — Но почему? Собеседник Шубина ответил не сразу. Он смотрел на него, прищурясь, полуоткрыв рот, будто прикидывал, стоит ли продолжать. Потом пробормотал задумчиво: — Так, значит, вы бывали в Гамбурге? Да, хороший город, на редкость хороший… Очевидно, то пустячное обстоятельство, что финский летчик бывал в Гамбурге и даже помнил песенку гамбургских моряков «Ауфвидерзеен». неожиданно расположило к нему механика. Он сел на койку рядом с Шубиным. — Видите ли, в этом, собственно, нет секрета, — начал он нерешительно. — И это касается только меня, одного меня. А история поучительная. Вы еще молоды. Она может вам пригодиться… Шубин не торопил рассказчика. Опасность обострила его проницательность. Внезапно он понял, в чем дело! Механик томится по слушателю! И это было естественно. Мирок подводной лодки тесен. Механик, вероятно, давно уже успел надоесть всем своей «поучительной» историей. Но она не давала ему покоя. Она распирала его. И вот появился новый внимательный слушатель… — Ну так и быть, расскажу. Вы только что спросили меня: почему я не боюсь утонуть? А вот почему! Он помахал пачкой разноцветных бумажек, которые извлек из своего чемодана. — С этим не могу утонуть, даже если бы хотел. Держит на поверхности лучше, чем резиновый или капковый жилет!.. Вы удивлены? Многие моряки, конечно, умирают на море. Это в порядке вещей. Я тоже моряк. Но я умру не на море, а на земле — и это так же верно, как то, что вас сегодня выловили багром из моря. — Умрете на земле? Нагадали вам так? — Никто не гадал. Я сам устроил себе это. Недаром в пословице говорится: каждый сам кузнец своего счастья. — Он глубокомысленно поднял указательный палец. — Да, счастья! Много лет подряд, терпеливо и методично, как умеем только мы, немцы, собирал я эти квитанции. — Зачем? — Но это же кладбищенские квитанции! И все, учтите, на мое имя. Лицо Шубина, вероятно, выразило удивление, потому что механик снисходительно похлопал его по плечу: — Сейчас поймете. Вы неплохой малый, хотя как будто недалекий, извините меня. Впрочем, не всякий додумался бы до этого, — продолжал он с самодовольным смешком, — но я додумался!2
Он, по его словам, плавал после первой мировой войны на торговых кораблях. («Пришлось, понимаете ли, унизиться. Военный моряк — и вдруг какие-то торгаши!») Ему довелось побывать во многих портовых городах Европы, Америки и Африки. И всюду — в Ливерпуле, в Буэнос-Айресе, в Генуе и в Кейптауне — механик, сойдя с корабля, отправлялся прогуляться на местное кладбище. Это был его излюбленный отдых. («Сначала, конечно, выпивка и девушки, потом кладбище. Так сказать, полный кругооборот. Вся человеческая жизнь вкратце за несколько часов пребывания на берегу!») Неторопливо прохаживался он — сытый, умиротворенный, чуть навеселе — по тихим, тенистым аллеям: нумерованным улицам и кварталам города мертвых. Засунув руки в карманы и попыхивая трубочкой, останавливался у красивых памятников, изучал надписи на них, а некоторые, особенно чувствительные, списывал, чтобы перечитать как-нибудь на досуге, отстояв вахту. В большинстве портовых городов кладбища очень красивы. Все радовало здесь его сентиментальную душу: планировка, эпитафии, тишина. Даже птицы в ветвях, казалось ему, сдерживают свои голоса, щебечут приглушенно-почтительно, чтобы не потревожить безмолвных обитателей могил. Он принимался — просто так, от нечего делать — как бы «примеривать» на себя то или другое пышное надгробие. Подойдет ему или не подойдет? Это выглядело вначале, как игра, одинокие забавы. Но и тогда уже копошились внутри какие-то утилитарные расчеты, пока не оформившиеся еще, не совсем ясные ему самому. Его озарило осенью 1929 года на кладбище в Пиллау. Да, именно в Пиллау! Он стоял перед величественным памятником из черного мрамора и вчитывался в полустершуюся надпись. На постаменте был выбит золотой якорь в знак того, что здесь похоронен моряк. Надпись под якорем извещала о звании и фамилии умершего. То был вице-адмирал в отставке, один из восточнопрусских помещиков. Родился он в 1815 году, скончался в 1902-м. Механику понравилось это. Восемьдесят семь лет! Неплохой возраст. И памятник был под стать своему владельцу: респектабельный и очень прочный. Он высился над зарослями папоротника, как утес среди волн, непоколебимый, бесстрастный, готовый противостоять любому яростному шторму. Штормы! Штормы! Долго, в раздумье, стоял механик у могилы восьмидесятисемилетнего адмирала, потом хлопнул себя по лбу, круто повернулся и поспешил в контору. Он едва сдерживался, чтобы не перейти с шага на неприличный его званию нетерпеливый бег. Именно там, в Пиллау, пятнадцать лет назад, он приобрел свой первый кладбищенский участок… Механик полез, сопя, в чемодан и вытащил оттуда несколько фотографий. — Этот! — сказал он, бросая на колени Шубину одну из фотографий. — Я купил сразу, не торгуясь. Взял то, что было под рукой. Вечером мы уходили в дальний рейс. Вдобавок, дело было в сентябре, а с равноденственными штормами, сами знаете, ухо надо держать востро. Приходилось спешить. Но потом я стал разборчивее. — Он показал другую фотографию. — Каковы цветы и кипарисы?.. Генуя, приятель, Генуя! Уютное местечко. Правда, далековато от центра. Я имею в виду центр кладбища. Но, если разобраться, оно и лучше. Больше деревьев и тише. Вроде Дёббельна, района вилл в Вене. И не так тесно. Тут вы не найдете этих новомодных двухэтажных могил. Не выношу двухэтажных могил. — Еще бы, — сказал Шубин, лишь бы что-нибудь сказать. — Да. Я знаю, что это за удовольствие — двухэтажная могила. Всю жизнь ючусь в таких вот каютках, валяюсь на койках в два этажа. Поднял руку — подволок! Опустил — сосед! Надоело. Хочется чувствовать себя просторно хотя бы после смерти. Вы согласны со мной? Шубин машинально кивнул. — Вот видите! Начинаете понимать. Но Шубин по-прежнему ничего не понимал. Он знал лишь, что от движения лодки переборки продолжают ритмично сотрясаться, драгоценное время уходит, а он так и не узнал ничего, что могло бы пригодиться. Этот коллекционер кладбищенских участков не дает задать ни одного вопроса, словно бы подрядился отвлекать и задерживать. Теперь механик, по его словам, посещал кладбища не как праздный гуляка. Он приходил, торопливо шагая и хмурясь, как будущий наниматель, квартиросъемщик. Озабоченно сверялся с планом. Придирчиво изучал пейзаж. Подолгу обсуждал детали своего предстоящего захоронения, всячески придираясь к представителям кладбищенской администрации. Это место не устраивало его, потому что почва была сырая, глинистая. («Красиво, однако, буду выглядеть осенью, в сезон дождей!» — брюзжал он, тыча тростью в землю.) В другом месте сомнительным представлялось соседство. («Прошу заметить, я офицер флота в отставке, а у вас тут какие-то лавочники, чуть ли не выкресты! Да, да, да! — кричал он кладбищенским деятелям, замученным его придирками. — Желаю предусмотреть все! Это не квартира, не так ли? Ту нанимаешь на год, на два, в лучшем случае на несколько лет. А здесь как-никак речь идет о вечности»). Но он хитрил. Ему не было никакого дела до вечности. Он лишь демонстрировал свою придирчивость и обстоятельность, как бы выставляя их напоказ перед кем-то, вернее, чем-то, что стояло в тени деревьев, среди могил, и пристально наблюдало за ним. Шубин с силой потер себе лоб. Что это должно означать? Ему показалось, что его снова укачивает на пологих серых волнах. Но он сделал усилие и справился с собой. — Извините, я прерву вас, — сказал он. — К чему все-таки столько квитанций? Их у вас десять, двенадцать, да, четырнадцать. Четырнадцать могил! Человеку достаточно одной могилы. — Мертвому, — снисходительно поправил механик. — Живому, тем более моряку, как я, нужно несколько. Чем больше, тем лучше. В этом гарантия. Тогда моряк крепче держится на земле. Ну, сами посудите, как я могу утонуть, если закрепил за собой места на четырнадцати кладбищах мира? Шубину показалось, что размах пологих волн уменьшается. — А, я как будто понял! Квитанция вроде якоря? Вы стали, так сказать, на четырнадцать якорей? — Таков в общих чертах мой план, — скромно согласился человек в пестром шарфе. Чтобы не видеть его мутных, странно настороженных глаз и трясущихся щек, Шубин склонился над снимками. На них на всех просвечивала между кустами и деревьями полоска водной глади. Участки были с видом на море. В этом, вероятно, заключался особый загробный «комфорт», как понимал его механик. Устроившись наконец в одной из могил, он мог иногда позволить себе развлечение: высовывался бы из-под плиты и показывал морю язык: «Ну что? Ушел от тебя? Перехитрил?» Сумасшествие, мания? Или просто удивительное суеверие? Во всяком случае, оно было вполне современным, характерным для человека капиталистического общества. Деньги, деньги, всюду деньги! Тонкий коммерческий расчет даже в сношениях с потусторонним миром! Отвалив такую уйму денег за кладбищенские участки, механик, по его мнению, уже мог не бояться ни штормов, ни мин, ни мелей. Эти разноцветные квитанции, которые он бережно хранил в своем чемодане, должны были страховать его от смерти на море! — Теперь мне ясно, — сказал Шубин. — Вы как бы хотите обмануть судьбу. — Но мы все хотим обмануть ее, — спокойно ответил механик. — А вы разве нет? Он оглянулся. На пороге стоял бородатый рассыльный. — Командир просит господина летчика в центральный пост, — доложил матрос, угрюмо глядя на Шубина.3
Сопровождаемый молчаливым рассыльным, Шубин миновал несколько отсеков. В узких, плохо проветриваемых помещениях было душно, влажно. Пахло машинным маслом и сырой одеждой. Внешне сохраняя спокойствие, Шубин волновался все сильнее. «Подходим к шхерам, — думал он. — Сейчас меня будут сдавать с рук на руки…» Да, на берегу ему несдобровать. И все же с профессиональным интересом он продолжал приглядываться к окружающему. На подводной лодке был впервые — раньше как-то не довелось. — Не ударьтесь головой, — предупредил рассыльный. Пригнувшись, Шубин шагнул в круглое отверстие входа и очутился на центральном посту. После бредового бормотания о могилах и квитанциях приятно было очутиться в привычной трезвой обстановке, среди спокойных и рассудительных механизмов. Конечно, управление было здесь в десятки раз более сложным, чем на торпедном катере, но моряку положено быстро ориентироваться на любом корабле. Вот гирокомпас, отличной конструкции! Вот кнопки стреляющего приспособления! А это, наверное, прибор для измерения дифферента.[211] В стеклянной трубочке видна чуть покачивающаяся тень, силуэт подводной лодки. У нас, кажется, этого еще нет. Штука занятная! Жаль, недосуг рассмотреть подробнее. Вертикальная труба перископа поднималась на несколько секунд, опускалась, через некоторое время опять поднималась. Шубин лихорадочно вспоминал: «Перископная глубина восемь метров… Да, как будто восемь метров. Подводная лодка крадется на перископной глубине». Только окинув приборы пытливым взглядом, он обратил внимание на людей, находившихся в отсеке. Их было много здесь, и каждый был поглощен своим делом. Командир сидел на маленьком табурете, похожем на велосипедное седло, и, согнувшись, смотрел в окуляры перископа. Справа от него стояли двое рулевых: один управлял вертикальным рулем, второй — горизонтальными. Поодаль располагались еще три матроса. Рядом с командиром стояли два офицера, один из которых торопливо записывал что-то в вахтенный журнал, держа его на весу. Услышав шаги, командир быстро повернулся на своем вращающемся сиденье. — А, наш гость, наш верный союзник! — сказал он с преувеличенной любезностью, которая показалась Шубину иронической. — Пригласил вас в качестве консультанта. Вы летали над этим районом? — Конечно, господин командир. — Прошу взглянуть в перископ! — Он встал, уступая Шубину место. — Рудольф, помогите нашему гостю сесть… Курсом вест следует русский конвой… Нет, чуть отвернуть от себя. — Вижу конвой. — Транспорт примерно в четыре—пять тысяч тонн, тральщик и два сторожевых катера. Идут противолодочным зигзагом. Так? Шубин молчал. Медленно вращая верньер, он не выпускал советские корабли из поля зрения. Что отвечать фашисту? Точнее, чего не надо отвечать, чтобы не повредить своим? Подводник ласково сказал за его спиной: — Понимаю вас. Вы не видели корабли в таком ракурсе. Привыкли видеть их не снизу, из воды, а сверху, с воздуха. Часто ли попадались вам русские в этом районе? — Не часто, — сказал Шубин, наугад. — Благодарю вас. Это-то я и хотел знать! — Третий конвой за вахту, — вставил офицер, державший журнал. — Русские готовятся к наступлению, — подтвердил второй офицер. — Как всегда, повторяетесь, Франц, — резко сказал командир и, отстранив Шубина, сам сел у перископа. Длинные нервные пальцы его завертели верньер. Голова совсем ушла в плечи, спина сгорбилась, словно бы он изготовился к прыжку. В центральном посту стало тихо. Слышно было лишь дыхание людей да успокоительно мерное тиканье приборов. Шубин стиснул кулаки в карманах комбинезона. Сейчас командир будет ложиться на боевой курс. Торпедисты, конечно, уже стоят наготове у своих аппаратов. Мановение руки, отчетливая команда: «Товсь!», потом: «Залп!» — и торпеда, сверля воду, помчится наперехват советскому конвою. Шубин с ненавистью, почти не скрываясь, взглянул на офицеров. Его поразило выражение их лиц: напряженное, мучительно-голодное. Скулы были обтянуты, шеи вытянуты. Даже в глазах, показалось Шубину, загорелись красные, волчьи огоньки. Что делать? Не может же он стоять за спиной фашиста и спокойно наблюдать, как тот будет топить наши корабли! Он, Шубин, останется в стороне во время боя? Он украдкой огляделся. Нет, вмешается в этот бой и отведет удар на себя! В комплекте аварийных инструментов большой гаечный ключ. Сгодится! Шубин найдет ему новое, неожиданное применение. Сдернет с подставки и командира лодки — по затылку! Так начать! Дальше будет видно. Главное — внезапность нападения! В отсеке тесно, все стоят впритык. Рулевым не бросить рулей. А пока прибегут из других отсеков, конвой успеет уйти. Ценой своей жизни Шубин сорвет атаку. Он понял это сразу, едва лишь командир оттолкнул его от перископа. А для Шубина понять означало решить. Он никогда не колебался в своих решениях. Никто не смотрел на него. О финском летчике — «консультанте» забыли. Потихоньку разминая пальцы опущенных рук, он отступил на шаг от командира подводной лодки. «Надо размахнуться, — прикидывал он. — Удар будет сильнее». Не видел уже ни людей, ни приборов. Ничего не видел вокруг, кроме этого неподвижного, заросшего волосами затылка. Крахмальный воротничок подчеркивал его багровый цвет, резкие морщины пересекали во всех направлениях. Шубин будто оглох. Ничего не слышал: ни приглушенных голосов, ни тиканья приборов. Слух был настроен на одно слово: «Товсь!» Следующей команды: «Залп!» — подводник бы не успел произнести. Но подводник не сказал «товсь!» Он стремительно поднялся. Нижняя губа его тряслась, глаза были совсем белыми от ярости. — Рудольф, координаты встречи в журнал! Франц, продолжать наблюдение! — Дергая головой, он выскочил из отсека. Офицеры понимающе переглянулись. — Третий год не может привыкнуть! — сочувственно сказал Рудольф. — Я тоже не могу. Такой куш! Только поманил, раздразнил и… Франц сел к перископу, поерзал, устраиваясь поудобнее, бросил через плечо: — Рассыльный, проводить пассажира в кают-компанию! — Через двадцать минут будет ужин, — учтиво пояснил Рудольф. Он с удивлением смотрел на Шубина: — Но что с вами? Вам плохо?.. Рассыльный, поддержи его под руку! — Не надо. — Как хотите. Ужин, несомненно, пойдет вам на пользу. Шубин не был уверен в этом. Ноги его не шли. Наступила реакция после нервного подъема. Ну что ж! Не таким, стало быть, будет его последний бой! Не в тесноте вражеской подводной лодки. Не в дикой свалке на железном полу. С помощью матроса он с трудом вышел из отсека, тяжело, прерывисто дыша. Комбинезон противно прилипал к спине, мокрой от пота.4
На полпути к кают-компании послышались ему звуки музыки. Он удивился и замедлил шаги. Дверь в одну из кают была приоткрыта. Шубин увидел командира, который полулежал в кресле, откинув голову. — Наш гость? — окликнул он, не меняя положения. — Войдите! Второй раз за этот день переступил Шубин комингс командирской каюты. Сейчас мог получше рассмотреть ее. Знакомые подводники, рассказывая ему о тесноте своих помещений, не очень, впрочем, жаловались на это. «А зачем нам хоромы? — говорили они. — Было бы где голову приклонить. Сменился с вахты, пришел в свою выгородку, упал плашмя на койку, и квит! Спи себе, прорабатывай задание командования за номером 6НС — непробудный сон шесть часов!» Но эта каюта выглядела гораздо более обжитой. Заметно было желание создать какой-то уют. На подрагивающей переборке висели акварели, в углу громоздились книги. Приглядевшись к портрету Гитлера, Шубин обнаружил, что его пересекала размашистая надпись — вероятно, дарственная. На койке стоял маленький портативный патефон. Регулятор громкости был повернут почти до отказа — музыка была едва слышна. — Перебираю пластинки, — сказал немец. — Мой лучший отдых. Садитесь, прошу вас! Жестом он отпустил рассыльного. — Пластинок у меня немного, — продолжал подводник, освобождая табуретку для Шубина. — Зато, смею думать, отборные. Есть Вагнер, Бах, Гендель. Из иностранцев — Сибелиус. Кстати, я всегда удивлялся, — прибавил он с оттенком презрения, — как это вы, финны, народ дровосеков, дали миру такого изысканного композитора. Он бережно переменил иголку и повернулся к Шубину. Сейчас он был совсем другим, чем на центральном посту, — каким-то очень тихим, умиротворенным. — Для Баха всегда меняю иголки, — пояснил он. — О! Эти протяжные, могучие аккорды! Они разглаживают морщины не только на лице — на душе! Вслушайтесь. Как хорошо, не правда ли? Он говорил о том, что музыка — это успокоительная ванна для его нервов, что в Баха он погружается, как в очищающий и освежающий ручей.[212] Но Шубин слушал вполуха — был еще весь во власти пережитого. Потом им овладела ужасающая усталость — захотелось вытянуть ноги, расслабить мускулы, закрыть глаза. Этого нельзя было делать! Он находился в каюте своего врага, вероломного, опасного. Надо рассчитывать каждое свое слово, каждый жест. Исподлобья Шубин взглянул на подводника. Тот полулежал в каком-то забытьи, в блаженном, почти чувственном изнеможении. Тяжелые, складчатые веки его прикрывали глаза, зубы были оскалены, пальцы отбивали такт на подлокотнике кресла. Говорят, в музыке, как в любви, раскрывается подлинная сущность человека. Но в чем сущность этого человека? Шубину представилось, что, вероятно, подводник делал так и раньше. Скомандовав: «Залп!», отправив на дно очередной транспорт или пассажирский корабль, любитель Вагнера возвращался с центрального поста к себе «домой», в каюту. Не торопясь мыл руки, потом, заботливо сменив иглу, с головой погружался в «очищающий» ручей звуков. Но почему был нарушен порядок сегодня? Почему не торпедирован советский транспорт, хотя фашист мог и должен был это сделать? Что помешало ему скомандовать: «Залп!»? — По-моему, Бах богаче Вагнера нюансами, — неторопливо произнес немец. — Вы не находите? Конечно, Бах несколько старомоден. Но, думается мне, в нюансировке… Он качнулся вперед, едва успев подхватить патефон. Слова его заглушил гулкий, разрывающий голову удар. Пол каюты перекосился, пополз куда-то в сторону, снова выпрямился. Портрет Гитлера упал со стола. Шубина зажало между койкой и шкафчиком, потом отпустило. Задребезжали пластинки. Свет в плафонах судорожно мигал, напряжение упало. Второй удар! Третий! Шубин невольно пригнулся. Казалось, снаружи в несколько кувалд молотят по металлической обшивке и корпусу. Каждый удар отдавался во всем теле, пронизывал болью от макушки до пят. Глубинные бомбы!5
Немец, забыв о своих нюансах, выскочил с Шубиным в коридор. Подводная лодка двигалась рывками, меняя глубины, делая крутые повороты, чтобы уйти от бомб. Гидравлический удар ощущается еще тяжелее, чем воздушная взрывная волна. Он идет со всех сторон, от всей окружающей массы растревоженной, взбаламученной воды. Он потрясает всю нервную систему человека. Это — пытка грохотом и беспрестанной вибрацией. Согнувшись, командир скользнул в узкое отверстие. Рассыльный тщательно задраил за ним люк. Шубин остался один. «Конвой обнаружил перископ, — подумал он. — Сторожевики глушат нас глубинками». Но он ошибся. Конвой, сойдясь с подводной лодкой на встречных курсах, давно разминулся с нею и был уже на подходах к Лавенсари. Гвардии старший лейтенант не знал, что весь сыр-бор загорелся из-за него. Командование флотом приказало во что бы то ни стало найти Шубина. Его продолжали искать. «Морские охотники», как ястребы, кружили наверху. Утром начавшийся шторм заставил их вернуться. Через два часа они возобновили попытку, однако волнение было еще сильным. В третий раз, уже к вечеру, они дошли почти до опушки шхер. Положение было ужасающе ясным, надежд никаких. Но моряки не могли прекратить поиски. Ведь это был их Шубин, Везучий Шубин, любимец всего Краснознаменного Балтийского флота! Когда «морские охотники», под прикрытием авиации, ходили взад-вперед, в волнах был замечен перископ. Согласно оповещению штаба, в этом районе нашим подводным лодкам находиться не полагалось. Стало быть, враг? Немедленно за борт полетели глубинные бомбы. Всех охватил азарт погони. Никому и в голову не пришло, что Шубин может находиться в этой подводной лодке. И он не знал о «морских охотниках». Впрочем, ничего бы не изменилось, если бы и знал. От товарищей отделяла его тридцатиметровая толща воды. Он был замурован в немецкой подводной лодке, как в свинцовом гробу.УЖИН С ОБОРОТНЯМИ
1
Вдаль уходила перспектива слабо освещенного узкого и длинного коридора. Но коридор, быть может, лишь казался длинным, потому что в нем делалось все темнее и темнее. Новый ошеломляющий удар, подобный удару огромной кувалды, и плафоны, мигнув в последний раз, погасли. Шубин двинулся в кромешной тьме, придерживаясь, как слепой, за стену. Она была влажной. Потом из-под пальцев холодными струйками потекла вода. Это означало, что бомбы рвутся очень близко. При гидравлическом ударе ослабевают сальники забортных отверстий и вода проникает внутрь лодки. Шубин остановился. Тошнота неожиданно подкатила к горлу. Палуба уходила из-под ног. Подводная лодка стремительно теряла глубину. И в этот момент, когда он думал, что уже тонет, свет снова замерцал в плафонах, медленно разгораясь. За спиной сказали: — По-моему, вам лучше посидеть в кают-компании. Это был доктор. По боевому расписанию медпункт на военных кораблях развертывается в кают-компании. На столе разложены были хирургические инструменты, белели бинты, вата. Шубин присел на диван. Голова у него гудела, как барабан. Даже выругаться по-русски — отвести душу — было нельзя! — Такие бомбежки вам в диковинку? — спросил доктор. — Вы привыкли парить, а не ползать по дну. Но не волнуйтесь — наш командир уйдет из любого капкана. О, это хитрейший из подводных асов, настоящий Рейнеке-Лис! Вильнет хвостом — и нет его. Вскоре раздался приглушенный скрип морского гравия. Подводная лодка выключила электромоторы, проползла на киле несколько метров и легла. — Притворился мертвым, — пробормотал доктор. — Теперь наберитесь терпения. Будем отлеживаться на грунте… Удары кувалды становились глуше, слабее — корабли наверху удалялись. Прошло минут пятнадцать, и в кают-компанию один за другим начали входить офицеры. Первым явился к столу коллекционер кладбищенских квитанций. Он подмигнул Шубину и принялся разматывать свой пестрый шарф. Подбородок оказался у него тройной, отвисающий. Создавалось впечатление, что все лицо оттягивается этим подбородком книзу, оплывает, как догорающая свеча. За механиком прибрел, волоча ноги, очень высокий, худой человек. У него был торчащий кадык и трагические черные брови. — Наш штурман! — шепнул доктор на ухо Шубину. У стола, с которого были убраны медикаменты, уже суетился вестовой, расставляя тарелки. Командира не было. Вероятно, он находился в центральном посту. Последним пришел немолодой офицер. Шубин уже видел его. Он взялся за спинку стула, нагнул голову, что повторили остальные, минуту стоял в молчании. Вероятно, это была молитва. Потом пробормотал: «Прошу к столу», и все стали рассаживаться. По этим признакам нетрудно было догадаться, что немолодой офицер — хозяин кают-компании, старший помощник командира. Он небрежно указал подбородком на Шубина. — Наш новый пассажир, финский летчик! Шубин отметил про себя слово «новый» значит, на подводной лодке бывали и другие пассажиры! Затем, привстав, старший помощник отрекомендовался: — Франц! Последовал столь же лаконичный, без чинов и фамилий, церемониал знакомства с другими офицерами. Каждый из сидевших за столом вставал, кланялся, не сгибая корпуса, коротко бросал: «Гейнц», «Готлиб», «Гергардт», «Венцель». Шубин был удивлен. Подобное панибратство не принято на флоте. Однако он тоже привстал, пробормотал: «Аксель» — и сел. Франц усмехнулся. — Э, нет! — сказал он, не скрывая презрения. — Для нас — вы Пирволяйнен, лейтенант Пирволяйнен, только Пирволяйнен. Шубин чуть было не выронил тарелку, которую передал ему вестовой. Значит, его фамилия Пирволяйнен! Конечно же, Пирволяйнен! Теперь-то он ни за что не забудет: Пирволяйнен, Пирволяйнен!.. — Впрочем, — продолжал Франц, — из какого вы города? — Виипури, — наудачу сказал Шубин. — В вахтенном журнале будете записаны без упоминания фамилии, как «пассажир из Виипури»… Не так ли, Гергардт? Сосед Шубина справа кивнул. — У нас очень замкнутый мирок, — любезно повернулся к Шубину доктор, сидевший слева от него. — Поэтому мы называем друг друга по именам. Что же касается вас, то, по некоторым соображениям, мы хотели бы остаться в вашей памяти лишь под нашими скромными именами. Шубин пробормотал, что никогда не забудет господ офицеров — ведь они спасли ему жизнь, вытащили его из воды. — Правильнее сказать: выловили, — сказал Франц, разливая по тарелкам суп. — Вас подцепили отпорным крюком за рубашку, — пояснил Шубину Гергардт. — А потом набросили под мышки петлю. Однажды в Атлантике мы вытаскивали так акулу. — Да, забавно выглядели вы на крюке. — Доктор скорчил гримасу. — Прибыли к нам, можно сказать, запросто, не как другие, без всякой помпы. Франц постучал разливательной ложкой по суповой миске. Это можно было понять как предостережение доктору, но так же и как приглашение к еде. В течение нескольких минут все за столом занимались только едой.2
Склонившись над тарелкой, Шубин приглядывался к своим сотрапезникам. Что-то неприятное, рыбье было в их наружности. Остекленевшие ли глаза с пустыми зрачками, болезненно ли белый цвет кожи — вероятно, сказывалось длительное пребывание под водой. Шубин покосился на руки подводников. Не хватало, чтобы из рукавов высовывались чешуйчатые плавники или ласты. «Люди-рыбы, — с отвращением подумал он. — Оборотни проклятые!..» Франц, несомненно, был сродни щукам. Во рту у него было слишком много зубов. Глаза были белесые, злые, неподвижные. Сидевший рядом с ним вялый Готлиб с отвислыми щеками, чуть ли не лежащими на плечах, напоминал сома. А пучеглазый, непоседливый, быстрый в движениях доктор смахивал на суетливого рачка. Шубин помотал головой, прогоняя наваждение. Рыбьи хари исчезли, но лица у подводников по-прежнему были асимметричные, словно бы отраженные в кривом зеркале. С этим, видно, уже ничего нельзя было поделать. Шубин вздохнул. Вздох был понят неправильно. — Да, ваше возвращение затягивается, — сказал доктор. — Я думаю, представители авиационной части уже волнуются. Понятно, вы рветесь поскорей к своим. Знал бы он, как Шубин «рвется» на вражеский берег, к представителям авиационной части, которые разоблачат его с первого же взгляда… — В перископ мы видели ваш воздушный бой, — обратился Гергардт к Шубину. — Но не смогли подойти ближе. Налетела русская авиация. — О! — подхватил доктор. — Кто бы мог думать, что вы еще живы!.. И вдруг через час в том же квадрате Венцель, наш штурман, увидел стаю чаек. Они дрались над чем-то или кем-то… — Красное пятно на воде, — кратко пояснил Венцель. — Недаром эти резиновые жилеты красного цвета. Скорее бросаются в глаза. — Вам повезло! — Франц выставил наружу свои щучьи зубы. — Не приди мы на помощь, вы попали бы в плен к русским. — Уже в третий раз они приходят в этот квадрат. Ищут своего летчика, — сказал Гергардт, с хрустом перекусывая сухарь. — Который сбит не кем иным, как вами, Пирволяйнен! — многозначительно добавил доктор. — Вам не поздоровилось бы там, наверху. Все засмеялись, но как-то невесело. Они вообще были невеселые, видимо очень издерганные и озлобленные и оттого, конечно, особенно опасные. — Я думал, это тот самый конвой, — осторожно сказал Шубин. — Нет, конвою дали уйти. Это «морские охотники». «Морские охотники»? Вот как! На мгновение Шубин представил себе своих товарищей — там, наверху. Нервы акустиков, приникших к приборам, напряжены до предела. Это очень трудно — ждать вот так: как кошка, которая подстерегает мышь, вся обратившись в слух, подобравшись, изготовившись для стремительного прыжка. Но ни одного подозрительного звука не доносится со дна. Недра моря полны разнообразных, отчетливых или невнятных шумов. Вот быстрое жужжание, подобное тому, какое издает майский жук, — это винты соседнего корабля. Вот резкое потрескивание — это эмиссия, не в порядке усилители акустического прибора, надо менять одну из ламп. Звуки, привычные для слуха акустика, то пропадают, то выделяются на постоянном фоне, однообразном, похожем на гудение большой тропической раковины. Но не слышно ни приглушенной речи, ни осторожных шагов, ни долгожданного характерного шороха, напоминающего змеиный свист, который сопровождает подводную лодку, когда она скользит под водой. «Только бы нам уцепиться за звук!» — говорит капитан-лейтенант Ремез, — одним из катеров, наверное, командует Левка Ремез. Такой толстый, краснолицый, озабоченный… Они дружки-приятели с Шубиным. Он-то, очевидно, и не уводит корабля на базу, несмотря на безнадежность поисков. Не отрывая бинокля от глаз, Ремез всматривается в даль. За спиной его негромко переговариваются сигнальщики. А в небе во все лопатки светит солнце. И по морю взад-вперед гуляет синеглазая красавица волна. Хорошо!.. — Командир обязательно доставит вас к месту назначения, — успокоительно сказал доктор. — Он лучший подводник на свете. — О да! — поддержал Гергардт. — Умеет появляться и исчезать, как призрак. За столом оживились. Все принялись наперебой расхваливать своего командира. Готлиб уставился на Шубина тяжелым, мутным взглядом: — Он, по желанию, может обернуться надводным кораблем, скажем — транспортом, но, конечно, затонувшим, — поспешно добавил он. Франц сердито постучал ножом по блюду, на котором лежала отварная рыба. К нему со всех сторон протянулись руки старелками. Доктор полил свою рыбу соусом и торжественно оглядел присутствующих. — В средние века, — с некоторой аффектацией сказал он, — никто не усомнился бы, что наш командир заговорен или продал душу черту. — Я и сейчас думаю это, — пробормотал Гергардт, но так тихо, что услышал только Шубин. Нервы его были напряжены, зрение, слух обострены как никогда. Только виски по временам стискивало клещами. Одна мысль давно мучила, искушала. Шубина подмывало — шумнуть! Опасность, как грозовая туча, нависла над подводной лодкой. Здесь разговаривали вполголоса, то и дело поглядывая на подволок; вестовой ходил вокруг стола чуть не на цыпочках, балансируя тарелками, как канатоходец в цирке. Шубин ощупал гаечный ключ, который сунул на всякий случай в карман комбинезона. Это полезный предмет в его положении. Им можно не только убить — им можно оповестить о себе. Но для этого нужно остаться в отсеке одному, притвориться спящим. Задраить переборку, подставить штырь, чтобы нельзя было открыть с другой стороны. А если в отсеке два входа, то задраить оба. И тогда уж исполнить свой последний, сольный номер. Он будет колотить и колотить ключом по корпусу, оповещая советских моряков о себе! Глубины в заливе небольшие. Отчетливый металлический гул пойдет волной наверх, к гидроакустикам, которые прослушивают море. И тотчас же сверху посыплются глубинные бомбы — одна серия бомб за другой! Шубин вызовет огонь на себя. Проклятый «Летучий голландец» погибнет, и он с ним, пусть так! Но ведь с подводной лодкой погибнет и ее тайна? А тайна, быть может, важнее самой подводной лодки?..3
Чем внимательнее он прислушивался к разговору в кают-компании, тем больше убеждался в том, что так оно и есть: тайна важнее подводной лодки! То был очень странный, скользящий разговор. Нечто необъяснимо опасное таилось в начатых и незаконченных фразах, даже в паузах. Недомолвки, намеки перепархивали над столом от одного человека к другому, как зловещие черные бабочки. И Шубин безуспешно пытался на лету ухватить хотя бы одну из них. От невероятного напряжения все сильнее и сильнее разбаливалась голова. Но распускаться было нельзя. Полагалось глядеть в оба, все примечать, запоминать. Стыдно было бы вернуться к своим с пустыми руками! «А я обязательно вернусь к своим! — со злостью, с яростью повторял про себя Шубин. — Выживу! Выстою! Выберусь наверх!» Но для этого надо быть начеку, все время следить за тем, чтобы настоящие мысли и чувства не прорвались наружу. Он очень боялся также допустить промах в какой-нибудь обиходной мелочи. Знакомый разведчик рассказывал ему, что у немцев иначе, чем у нас, ведется отсчет на пальцах. Немцы не загибают их, а, наоборот, отгибают и начинают не с мизинца, а с большого пальца. И грозят тоже не так, как мы, — покачивают пальцем не от себя, а перед собой. Пустяк? Конечно. Но на таком пустяке как раз легко сорваться. Потом он вспомнил, что выдает себя не за немца, а за финна. Это, конечно, облегчало его положение. Как выяснилось, никто из подводников не знал по-фински. — Ни разу еще не был в Финляндии. Я разумею: внутри Финляндии, — сказал Гергардт, обернувшись к Шубину. — Говорят, ваши девушки красивы. Длинноногие, белокурые? — Напоминают норвежек, — заметил Готлиб. — Их ты тоже не видал, хотя бывал и в Норвегии! — со злой гримасой вставил доктор. — Вы счастливец, Пирволяйнен! — продолжал Гергардт. — После вашего возвращения вам предоставят отпуск. Если захотите, вы сможете съездить в Германию. Вы бывали в Германии? — Он бывал в Гамбурге, — объявил Готлиб. — Он знает песенку гамбургских моряков «Ауфвидерзеен». Шубин поежился. Разговор приобретал опасный крен. Рыбьи хари выжидательно повернулись к нему. Гергардт поощрительно улыбался. Губы у него были очень красные, словно вымазанные кровью. — Это приятная песенка, — подтвердил доктор. — Ее поет Марлен Дитрих в одном из своих фильмов. Вам нравится Марлен Дитрих? Шубин не успел ответить. Его засыпали вопросами. Какие новинки видел он в гамбургских кино? Что носят женщины в этом году: короткое или длинное? Говорят: в моде снова ажурные черные чулки? В какой гостинице он жил и пил ли черное пиво в гамбургских бир-халле? Даже неразговорчивый Венцель спросил: не бывал ли он случайно в Кенигсберге? Шубин хотел было дерзко ответить: «Еще не бывал. В конце войны надеюсь побывать!» Но на помощь ему пришел Франц. — Не надоедайте нашему гостю, — сказал он. — Пирволяйнен может подумать, что вы целую вечность не бывали в Германии. — О, Пирволяйнен! — Гергардт капризно оттопырил губы. — Мы надеялись, что вы поделитесь с нами новостями. Но вы какой-то неразговорчивый, апатичный. — Все финны стали почему-то апатичными, — изрек Готлиб. — Финнов надо растормошить! Не возражаете? Он ободряюще подмигнул и захохотал, отчего щеки его отвратительно затряслись. Гергардт торопливо допил кофе и встал: — Прошу разрешения выйти из-за стола! Командир приказал сменить Рудольфа. Франц молча кивнул. Убедившись, что из гостя не выжать больше ничего, его перестали втягивать в разговор. Шубин вяло прихлебывал свой кофе. Что-то неладное творилось с его головой. Временами голоса немцев доносились как будто из другой комнаты. Он не понимал, о чем они говорят. Потом сознание снова прояснилось. Мысль работала четко, только в висках оглушительно барабанил пульс. Он почти не заметил, как справа от него очутился новый сотрапезник. Это был, вероятно, Рудольф, сменившийся с вахты. Но вот до сознания дошло, что за столом ссорятся. Виновником ссоры был, понятно, доктор. Настроение за столом беспрестанно, скачками, менялось. Смех чередовался с возгласами раздражения, странная взвинченность — с сонливостью. Иногда тот или иной сотрапезник вдруг умолкал и погружался в свои мысли. Неизменно оживленным был только доктор. Но это было неприятное оживление. Доктор разговаривал постоянно с каким-то «подковыром». Главной мишенью для своих насмешек он почему-то избрал молчаливого Венцеля. — Я запрещаю тебе называть ее Лоттхен! — неожиданно крикнул Венцель. — Но ведь я сказал: фрау Лоттхен! И патом я не сказал ничего обидного. Наоборот. Признал, что Лоттхен — фрау Лоттхен, извини, — очень красива, а дом на Линденаллее чудесен. Я сужу по фотографии, которая висит над твоей койкой. — Дети, не ссорьтесь! — сказал Готлиб. — Я просто выразил сочувствие Венцелю. Я рад, что у меня нет красивой вдовы, то бишь жены, еще раз прошу извинить. Дом с садом, заметьте, отличное приданое! Мне вдруг представилось, как Венцель после победы возвращается на Линденаллее и видит там какого-нибудь ленивца с усиками, всю войну гревшего себе зад в тылу. И этот ленивец, вообразите себе… — Замолчи! — Венцель со стуком отодвинул от себя тарелку. — Ну, ну! — предостерегающе сказал Франц. — Можете ссориться, господа, если это помогает вашему пищеварению, но ссорьтесь тихо. Русские еще над нами. Гейнц замолчал, не переставая криво улыбаться. — Таков наш Гейнц, — пояснил Шубину Рудольф. — Если не будет иронизировать за столом, желудок его перестанет выделять пепсин. Чтобы не видеть перекошенных лиц своих сотрапезников, Шубин поднял взгляд на картину, которая так поразила его вначале. Да, было в ней что-то фальшивое, неправдоподобное, что резало глаз моряка. Один корабль убегал от другого, двигаясь по диагонали из левого верхнего угла картины в ее правый нижний угол. На море бушевал шторм. Тучи низко висели над горизонтом. Написано толково, спору нет, в особенности хороши лиловые тучи, которые своими хвостами касаются гребней волн. Что же плохо в картине? Эти пологие, грозно перекатывающиеся валы? Шубин недавно качался на таких валах, чудом избежал гибели. Нет, дело в другом. Камни! За пределами картины, ниже правого ее угла, торчат камни. Шубин угадал их по пенистым завихрениям и тому особому, зеленоватому цвету воды, какой бывает у берега. Несомненно, чуть правее и ниже рамы — камни. — Пирволяйнен! Он огляделся. За столом все молчали и смотрели на него. Полундра! — Хороша картина? — Франц показал свои щучьи зубы. — В общем, как будто на месте все, — подумав, сказал Шубин. — Но есть недоработки. — Какие? — Корабли бы я убрал. — Почему? — Ну как же? С полными парусами — прямехонько на камни! Паруса скорее долой, класть право руля! — Где же вы видите камни? Шубин привстал и ткнул пальцем в переборку, чуть пониже рамы. Потом объяснил насчет цвета воды и пенных завихрений. — Не имеет значения, — успокоительно сказал Гейнц. — Первый корабль — призрак. Камни не страшны ему. — Второму надо отворачивать. Или второй корабль тоже призрак? — Нет. Он просто скован таинственной силой и уже не может сойти с гибельного фарватера. Шубин недоверчиво пожал плечами. — Однако для летчика вы неплохо разбираетесь в бурунах, — прищурясь, сказал Франц. Опять: полундра! Шубин стиснул кулаки под столом. И к чему брякнул об этих камнях? Ну-ка, ответ, и побыстрее! Он нашелся. — До войны я плавал на торговых кораблях, — пояснил он, стараясь говорить возможно более спокойно. — У нас в Финляндии, знаете ли, каждый третий или четвертый — моряк. Ложечки снова зазвенели в стаканах. Разговор за столом возобновился. Как будто бы вывернулся, сошло! Но он не мог дольше оставаться в кают-компании. Не в силах был притворяться, с любезной улыбкой передавать этим оборотням сахар, постоянно быть настороже, улавливать тайный смысл в намеках и паузах. У него есть выход, и он поспешит воспользоваться им! Шубин обернулся к Гейнцу: — Доктор, очень болит голова! Просто разламывается на куски. Гейнц кивнул: — Правильно. Она и должна у вас болеть… Рудольф, будь добр, проводи лейтенанта в каюту. Вам лучше прилечь, Пирволяйнен. — Да, с вашего разрешения я хотел бы лечь. Где-то он слышал такое выражение: уйти в болезнь. Это, кажется, относилось к мнительным людям? Но сейчас Шубин торопился уйти в болезнь, спасая себя, спасая рассудок. Он забивался в эту болезнь, как измученный погоней раненый зверь, уползающий в свою берлогу…ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА ПО ЖИВОМУ
1
С чувством невыразимого облегчения Шубин покинул кают-компанию. Сопровождаемый длинным Рудольфом, он неуклюже выбрался из-за стола и, переступая комингс, споткнулся. Но сделал внутреннее усилие и заставил себя не обернуться. Он как бы уносил на своей спине пригибавший его груз недобрых взглядов. Эти взгляды чудились ему повсюду. Минуя отсеки, где находились матросы «Летучего голландца» — они вставали при его приближении, — Шубин как бы проходил сквозь строй взглядов: подозрительных, мрачных, враждебных. И, как ни странно, словно бы боязливых. Боязливых — почему? В одном из отсеков с нижней койки поднялся угрюмый бородач, что-то негромко сказал Рудольфу. Тот остановился. Шубин продолжал медленно идти. Он не вслушивался в голоса за спиной: взволнованный — матроса и успокоительный — Рудольфа, ему было не до них. Мучительно тесно здесь! Низкие своды давят, угнетают. Душа его задыхается в этом стиснутом с боков, сверху и снизу пространстве. Внезапно Шубина охватила острая тоска по Виктории. Среди этих безмолвных, холодно поблескивающих механизмов, в этом скопище чужих и опасных людей вдруг так ясно представилась она: в милом домашнем платьице, сидящая на диване и смотрящая на него снизу вверх — вопросительно и чуть сердито. В сыром воздухе склепа слабо повеяло ее духами… Шубин, не глядя, нашарил ручку двери, нажал на нее, толкнул от себя. Дверь не открывалась. Откуда-то сбоку выдвинулся матрос с автоматом в руках и преградил дорогу. — Verbotten![213] — буркнул он. — Не туда, Пирволяйнен! — с беспокойством сказал Венцель, нагоняя Шубина, и придержал его за локоть. — Там только кормовая каюта. «Кормовая, кормовая! — машинально повторял про себя Шубин. — Но в кормовом отсеке обычно нет кают. Там находятся торпеды. И почему часовой?» Он сделал два шага назад и в сторону и, очутившись в каюте-выгородке, ничком повалился на койку. Нужно было остаться одному, не слышать этих назойливо стучащих немецких голосов. Но долговязый Рудольф не уходил. — Как вам понравились наши офицеры? — спросил он. — Готлиб, например? Он уже показывал свои кладбищенские квитанции? О да! — Рудольф повертел пальцем у лба. — Он у нас со странностями. И не он один. Здесь, как говорится, все немного того… Кроме меня, само собой. Представляете, каково нормальному человеку среди таких? Знаете, о чем, вернее, о ком только что говорил мой унтер-офицер? О вас. — Неужели? — Да. Сегодня пятница. Вас выловили в пятницу. — Субботы я не дождался бы, — вяло пошутил Шубин. — А Рильке просыпал за ужином соль. Сочетание двух таких примет… Команда считает, что вы принесете нам несчастье… — Он как-то неуверенно засмеялся. — Вам, как финну, полагается разбираться в приметах. Говорят, в средние века ваши старухи умели приманивать ветер, завязывая и развязывая узелки. Шубин перевернулся на спину, подоткнул одеяло. Рудольф не уходил. Потирая свой убегающий назад маленький подбородок, он в нерешительности топтался у порога. — Католик ли вы? — неожиданно спросил он. — Католик? Нет. — Я так и думал, — разочарованно сказал Рудольф. — Конечно, финны — лютеране. И тем не менее… — Он решился наконец: — Вы производите впечатление уравновешенного и здравомыслящего человека. Я хотел бы посоветоваться с вами. Это большой грех служить заупокойную мессу по живому? Шубин недоумевающе смотрел на него. Какая-нибудь флотская «подначка», непонятная шутка? — Вы говорите о себе? — Допустим. — Ну, — сказал Шубин, все еще думая, что над ним подшучивают, — вы, по-моему, недостаточно мертвы, для того чтобы вас отпевать. Но собеседник его не улыбнулся. — Если, конечно, вас считают погибшим, — неуверенно предположил Шубин, — или пропавшим без вести… — Пусть так. — На вас, мне кажется, вины нет. — А на моих близких? Мать очень религиозна, я ее единственный сын. И я уверен, что она заказывает мессы каждое воскресенье, не говоря уже о годовщине. — Годовщине чего? — Моей смерти. Понимаете ли, мучает то, что мать совершает тяжкий грех из-за меня. Но самому тоже неприятно. Было бы вам приятно, если бы вас отпевали в церкви как мертвого? — Право, я затрудняюсь ответить, — промямлил Шубин. — Да, да, — рассеянно сказал Рудольф. — Конечно, вы затрудняетесь ответить… Долгая пауза. Рудольф нагнулся к уху Шубина. — Иногда даже слышу колокольный звон, — шепотом сообщил он. — Колокола раскачиваются над самой головой, отзванивая память обо мне. У нас очень высокая колокольня, а церковь стоит над самым Дунаем. Во сне я вижу свой город и мать, в черном, которая выходит из церкви. Она прячет скомканный платок в ридикюль и идет по улицам, а знакомые снимают перед нею шляпы. «Вот прошла фрау такая-то, мать павшего героя!» — Он засмеялся сквозь зубы. Шубин смотрел на него, не зная, что сказать. Вдруг Рудольф стал делаться все длиннее и длиннее. Он закачался у притолоки, как синеватая морская водоросль. Издалека донеслось до Шубина: — Но вы совсем спите. Я заговорил вас. И ведь вы ничем не можете мне помочь… Шубин остался один.2
Он забыл о гаечном ключе, о том, что надо «шумнуть», чтобы вызвать огонь на себя. Слишком устал, невообразимо устал! Лежа на спине, он смотрел на рифленый подволок. Нет, бесполезно пытаться разгадать логику этих людей. В бою, желая понять тактику противника, он мысленно ставил себя на его место. Это был совет профессора Грибова, и, надо отдать ему должное, превосходный совет. Как-то, еще в начале войны, Шубину случилось отбиться от «Мессершмитта». Тот неожиданно вывалился из облаков и шел круто вниз, прямо на него. Шубин не спускал с самолета глаз, держа руки на штурвале. «Мессершмитт» замер на мгновение. Шубин понял: летчик поймал катер в перекрестье прицела. Сейчас шарахнет из пулемета! С присущей ему быстротой реакции Шубин отвернул вправо. Почему вправо? В этом именно и был расчет. Летчик будет вынужден уходить за катером влево, а это гораздо труднее, чем вправо, если летчик не левша, что редко бывает. Надо поворачивать левой рукой и одновременно левой ногой нажимать педаль. Быстрота уже не та. «Мессершмитт» промахнулся и с ревом пролетел в нескольких десятках метров от катера. Предугадав маневр летчика, Шубин благополучно ушел от него. Но сейчас складывается иначе. И Готлиб, и Рудольф, и Гейнц, можно сказать, поступают «наоборот», как левша. В этом их преимущество над Шубиным. Будь это не разговор, не игра недомолвками, а открытый бой, он бы, пожалуй, еще потягался с ними! Шубин начал вспоминать о недавних своих боях. Представил себе, как стремглав мчится по морю, и косо падает и поднимается горизонт впереди, и упругий ветер бьет в лицо, а белый бурун с клокотанием встает за кормой… Через несколько минут стало легче дышать. Даже голова как будто прошла. Некоторое время он не думал ни о чем просто отдыхал. Потом что-то изменилось вокруг. Ага! Подводная лодка пошла — рывками, с чрезвычайной осторожностью. На короткое время немцы включали моторы, потом стопорили их и прислушивались. Все было тихо. Движение, по-прежнему осторожное, возобновлялось. Шубин подумал, что так уходит от преследователей зверь — крадучись, короткими бросками, приникая после каждого броска к земле. Скорей бы уже развязка, хоть какой-нибудь берег, даже вражеский. Терпенья больше нет ждать! На все готов, лишь бы кончилась эта пытка в плавучем склепе, набитом мертвецами! Будь что будет! Все равно он не мог уже находиться здесь. Тайная война не по нем, нет! День еще выдержал кое-как, больше бы не смог. Он подивился выдержке наших разведчиков, которые, выполняя секретные поручения, долгие месяцы, даже годы находятся среди врагов. Им овладела непреоборимая усталость. И он, перестав сопротивляться, погрузился в сон, как камень на дно…3
Сквозь толщу сна начал доходить голос, настойчиво повторявший: — Пирволяйнен! Пирволяйнен!.. Он с трудом открыл глаза. Кто это — Пирволяйнен? А, это он Пирволяйнен! Подле его койки стоял Гейнц: — Лодка всплыла. Вставайте! Обуваясь, Шубин почувствовал, что снаружи через открытый люк поступает свежий воздух. Он прошел через центральный пост и поднялся в боевую рубку. Выждал, пока каблуки шедшего впереди Гейнца отделятся от него на метр, потом, схватившись за ступеньки вертикального трапа, одним махом поднял свое стосковавшееся по движению тело на верхнюю палубу. Недавней апатии как не бывало. Он дышал и не мог надышаться. Воздух! Простор! Соленый морской ветер! Небо было блекло-серым. Самое начало рассвета. До восхода солнца еще далеко. Подводная лодка покачивалась на неторопливых, пологих волнах. Шубин с удивлением огляделся. Он ожидал увидеть несколько островков и гряду оголяющихся камней, которые, согласно лоции, прикрывают подходы к Хамине. Ведь командир говорил вчера, что доставит его в шхеры, в район Хамины. Но это не были шхеры. Как ни напрягал Шубин зрение, как ни всматривался в горизонт, не мог различить вдали ничего похожего на полоску берега. Море. Только море, куда ни глянь. Пустынное. Спокойное. В предутренней жемчужно-серой дымке… Значит, подводная лодка не приблизилась к опушке шхер? В ограждении боевой рубки, кроме Шубина и Гейнца, находились еще четыре матроса и сам командир. Но незаметно никаких приготовлений к спуску шлюпки на воду. Три матроса, сидя на корточках, с жадностью курят. Четвертый матрос вкруговую осматривает небо в визир. То же, время от времени, делает в бинокль и командир, проявляющий признаки беспокойства. — Ничего не понимаю. Где шхеры? — Шубин наклонился к Гейнцу. — О! Шхер вам еще долго ждать! Доктор пояснил, что всплытие это вынужденное. Пролилась кислота из аккумуляторных батарей — вероятно, еще во время глубинного бомбометания. Начал выделяться водород. Концентрация его в воздухе стала опасной. И командир принял решение всплыть, чтобы провентилировать отсеки. Преследователей он как будто уже «стряхнул с хвоста». Но наверху начинало светать — это было опасно. И все же он рискнул. Закончив перекур, матросы быстро юркнули в люк. На смену им вылезли другие. — Да, опасная концентрация, — продолжал доктор, прикуривая от окурка новую папиросу. — И тогда я вспомнил о своем пациенте. Вы стонали во сне. Пришлось доложить об этом командиру, чтобы он разрешил вам прогулку. У меня, видите ли, есть профессиональное самолюбие: я хочу доставить вас на берег живым. Шубин рассеянно поблагодарил и отвернулся. Он старался украдкой осмотреть подводную лодку, чтобы запомнить ее внешний вид, ее особые приметы. Это был, несомненно, рейдер, то есть подводная лодка, предназначенная для океанского плавания, водоизмещением не менее двух тысяч тонн. Носовая часть была резко сужена по сравнению с остальной частью корпуса, что, надо думать, улучшало управляемость в подводном положении. Впереди торчали пилы для разрезания противолодочных сетей. Настил был деревянный, возможно в расчете на пребывание в экваториальных широтах. Но наиболее важными в силуэте «Летучего голландца» были три особые приметы. Во-первых, на палубе отсутствовало артиллерийское вооружение — торчали только два спаренных пулемета. Во-вторых, необычно высокой была заваливающаяся штыревая антенна. А самым удивительным на палубе «Летучего голландца» показалось Шубину ограждение боевой рубки. Оно совершенно вертикально возвышалось над палубой, как прямая труба или, лучше сказать, башня, на глаз достигая пяти или шести метров. Все это Шубин охватил почти мгновенно — цепким взглядом моряка. — Еще пять минут, больше не могу, — ни к кому не обращаясь, сказал командир. — Эти русские имеют привычку совершать свои разведывательные полеты по утрам. Сказал — и будто накликал! Не ушами — всем встрепенувшимся сердцем услышал Шубин ровный рокот, струившийся сверху. Над морем показался самолет. Он развернулся, двинулся прямо на подводную лодку. Заметил!.. Атакует! Командир, пряча хронометр в карман кожаных брюк, шагнул к люку: — Срочное погружение! Все вниз! Матросы гурьбой кинулись за ним. На срочное погружение полагается сорок секунд. «Вот оно, мое спасение!» — подумал Шубин. Он сделал вид, что замешкался. Кто-то с силой оттолкнул его. Кто-то наступил ему на ногу. У люка образовалась давка. Люди беспорядочно сваливались вниз, камнем падали в спасительные недра лодки, съезжали по трапу на плечах друг друга. — Вниз! Вниз! — крикнули над ухом, как глухому. Шубин оттолкнул доктора. Уже сползая в люк, тот ухватил мнимого Пирволяйнена за штанину и потащил за собой. Но, падая навзничь, Шубин успел ударить его ногой по руке. — Пирволяйнен!.. В отверстие мелькнуло искаженное гримасой чернобородое бледное лицо. Командир обеими руками вцепился в маховик кремальеры. И это было последнее, что видел Шубин на борту «Летучего голландца». Тяжелый люк с лязгом захлопнулся. Повернулся маховик, намертво задраивая его изнутри. Всё! Шубин почувствовал, как настил уходит из-под ног. Маленькие волны пробежали по палубе, вода прикрыла ее. Она стремительно приближалась. Башня боевой рубки проваливалась вниз, вниз и… Шубин с силой оттолкнулся ногами и выгреб. Он был уже в воде. Длинная тень опускалась под ним все ниже. Он еще раз судорожно ударил ногами. Им овладел страх, что его затянет вглубь. Силуэт очень медленно растаял в воде. И вот Шубин снова один, словно и не был никогда на борту «Летучего голландца»…ЗОЛОТОЙ ВИХРЬ
1
Небо на горизонте медленно светлело. Стало быть, восток там. Соответственно, север в той стороне, юг — в этой. Инстинкт самосохранения толкал Шубина на юг, подальше от вражеских шхер. Только бы не всплыла подводная лодка! Он сделал несколько быстрых гребков, перевернулся на спину. Над ним кружил самолет. Он то опускался к самой воде, то стремительно взмывал. Когда крылья на крутом вираже всей плоскостью поворачивались к свету, на них видны были красные звезды. Описав несколько кругов, самолет исчез, но вскоре вернулся. Рокот теперь усилился и как бы раздвоился. Шубин поискал второй самолет. Нет, шум моторов несся с моря. Ему представилось даже, что он узнаёт этот шум. Но этого не могло быть. Это было бы слишком хорошо. Неужели «морские охотники»? Кажется, он плакал, когда товарищи бережно поднимали его на борт и Левка Ремез трясущимися руками подносил к его рту фляжку. Все объяснилось очень просто. Летчик разведывательного самолета, спугнув подводную лодку, заметил человека, плававшего в воде. Естественно было предположить, что этот человек с только что погрузившейся лодки. Летчик поспешил навести на него «морских охотников» Ремеза, который находился поблизости. Так был спасен Шубин. В Ленинград его доставили в тяжелом состоянии. Думали даже — не довезут. В пути стало его тошнить, лихорадить. Потом начался бред. Ремез, с тревогой оглядываясь на друга, гнал во всю мочь. Он сделал все, что было в его силах, даже больше того — «поборолся с невозможным»: упросил командира базы послать его в третий, последний раз на поиски, уже вместе с разведывательным самолетом. И вот нашел друга, спас! Неужели не довезет? Но он довез. Теперь дело за медициной… В госпитале, однако, с сомнением покачивали головами. Налицо воспаление легких и, вероятно, сотрясение мозга. Во всяком случае, нервы Шубина испытали непомерную нагрузку. О пребывании на борту подводной лодки узнали от него в самых общих чертах. Диву давались, как мог он выдержать и не выдал себя ни словом, ни жестом, хотя был уже болен. Сейчас наступила реакция. Фантастические образы вереницей проплывали в мозгу. Они неслись стремительно, как облака над вспененным морем. «Ветер восемь баллов, а то и десять», — озабоченно прикидывал Шубин. Облака были зловещего цвета, багрово-коричневые или фиолетовые, и лучи солнца падали из них, как пучок стрел. На море происходили странные вещи. Чайки перебранивались высокими голосами, гоняя футбольный мяч по волнам. Да нет, какой же это мяч! Это голова Пирволяйнена с мелкими оскаленными клычками. Она превращалась в одутловатое лицо Гейнца. И вот уже Шубин сидел за столом в кают-компании, и рыбьи хари пялились на него со всех сторон. «Для летчика неплохо разбирается в бурунах», — многозначительно улыбаясь, говорил Франц, и сидящие за столом поднимали над головами стаканы — то ли, чтобы чокнуться с Шубиным, то ли, чтобы ударить его. Неслышной походкой через кают-компанию проходила Виктория, и все исчезало. Оставалось лишь слабое дуновение ее духов. Шубин отдыхал. Всегда появление стройной женской фигуры знаменовало в его кошмарах наступление короткой передышки. Однако Виктория проходила, не глядя на него. Он видел ее только в профиль. Милые пушистые брови были нахмурены, а палец она держала у губ, словно бы хотела предупредить, предостеречь. Иначе, впрочем, и не могло быть. Они находились среди врагов и не должны были подавать вид, что знают друг друга. А по временам сквозь неумолчный гул разговора в кают-компании пробивался ее взволнованный голос. Он был очень тихим, этот голос, доносился, словно бы через густой туман или плотную воду… Но вот как-то круглых, немигающих глаз поблизости не было. Виктория задержалась подле Шубина. Лицо у нее было такое встревоженное и ласковое, что все в душе Шубина встрепенулось. И вдруг он заметил, что она плачет. — Почему ты плачешь? — спросил он. — Все будет хорошо. Разве ты не знаешь, что на флоте меня прозвали Везучим, то есть Счастливым? Он хотел успокоить ее и протянул руку, чтобы погладить по щеке, и от этого движения проснулся. Но лицо Виктории по-прежнему было перед ним. Слезы так и искрились на ее длинных ресницах. — Почему ты плачешь? — повторил Шубин. — Потому что я рада, — ответила она не очень логично. Но он понял. — Я был болен и поправляюсь? — Ты был очень болен! А теперь тебе надо молчать и набираться сил. — Но почему ты здесь? — Мне разрешили тебя навещать. Ты в госпитале, в Ленинграде. Всё, молчи! Она закрыла пальцем его рот. Конечно, ради этого стоило помолчать. Шубин счастливо вздохнул. Впрочем, вздох можно было принять за поцелуй, легчайший, нежнейший на свете…2
— Мне нужно немедленно поговорить с капитаном второго ранга Рыжковым, — сказал Шубин в тот же вечер. Оказалось, что Рыжкова в Ленинграде нет — получил повышение, уехал на ТОФ.[214] — Тогда кого-нибудь из разведывательного отдела флота… Профессор сказал, что не позволит больному рисковать своим рассудком, и повернулся к Шубину спиной. Шубин настаивал. Профессор прикрикнул на него. — Даже ценой рассудка, товарищ генерал медицинской службы!.. — слабо, но твердо сказал Шубин. Пришлось уступить. Разведчик явился. Шубин попросил его сесть рядом с койкой и нагнуться пониже, чтобы не слышно было соседям по палате. Многое он уже забыл, но главное из разговора в кают-компании помнил, будто это гвоздями вколотили в его мозг. Разведчик с трудом поспевал записывать. Сообщение о «Летучем голландце» заняло около получаса. Под конец Шубин стал делать паузы, шепот его становился все более напряженным, и к койке с озабоченным лицом приблизилась медсестра, держа наготове шприц иглой вверх. Наконец, пробормотав: «У меня все!» — больной устало закрыл глаза. Разведчика проводили в кабинет к начальнику госпиталя. — Ого! — сказал профессор, увидев блокнот. — Весь исписали? — Почти весь. Профессор пожал плечами. — А что, — осторожно спросил разведчик, — есть сомнения? — Видите ли… — начал профессор. — Но прошу присесть… Подолгу находясь у койки больного и прислушиваясь к его невнятному бормотанию, профессор составил о событиях свое, медицинское, мнение. По его словам, Шубин галлюцинировал в море. Он грезил наяву. И это было, в конце концов, вполне закономерно. Моряк испытал сильнейшее нервное потрясение, в течение долгих часов боролся со смертью. Ему виделись лица подводников, слышались их скрипучие, как у чаек, голоса. А сам он без сознания раскачивался на волнах в своем трофейном резиновом жилете. — Не забывайте, — продолжал профессор, — мой пациент чуть ли не накануне встретил в шхерах загадочную подводную лодку. В бреду он упоминал об этом. Встреча, несомненно, произвела на него сильнейшее впечатление. Затем он был сбит на самолете и боролся за жизнь в бушующих волнах. Оба события как-то сгруппировались вместе, причудливо переплелись во взбудораженном мозгу и… — Полагаете: он продолжает бредить? — Не совсем так. Принимает свой давнишний бред за действительность. Он уверен: с ним на самом деле случилось то, что лишь пригрезилось ему. Медицине известны аналогичные случаи. Разведчик встал: — Есть, товарищ генерал! Я доложу начальнику о вашей точке зрения…3
Шубин, однако, не узнал об этом разговоре. Он был в тяжелом забытьи — встреча с разведчиком не прошла для него даром. Снова обступили койку перекошенные рыбьи хари. Готлиб подмигивал из-за кофейника. Франц скалил свои щучьи зубы. А у притолоки раскачивался непомерно длинный, унылый Рудольф, которого, по его словам, отпевали, как мертвого, в каком-то городке на Дунае. И все время слышалась Шубину монотонная, неотвязно-тягучая мелодия на губной гармонике: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен…» Иногда мелодию настойчиво перебивали голоса чаек. Похоже было на скрип двери. Шубин жалобно просил: — Закройте дверь! Да закройте же дверь!.. Его не могли понять. Двери были закрыты. Он устало откидывался на подушки. Почему не смажут петли на этих проклятых, скрипучих дверях?.. К ночи состояние его ухудшилось. Два санитара с трудом удерживали больного на койке. Он метался, выкрикивал командные слова и в бреду мчался, мчался куда-то… Под утро он затих, только тяжело, прерывисто дышал. Профессор, просидевший ночь у его койки, сердито хмурился. Необходимые меры приняты. Остается ждать перелома в ходе болезни, или… Викторию не пустили к Шубину. Она ходила взад и вперед по вестибюлю, стараясь не стучать каблуками, прислушиваясь к тягостной тишине за дверьми. Там Шубин молча боролся за жизнь и рассудок. Вокруг него плавали немигающие круглые глаза, а над головой струилась зеленая зыбь. Странный мир водорослей, рыб и медуз, изгибаясь, перебирая всеми своими стеблями, щупальцами, плавниками, властно тащил его к себе, на дно. Увлекал ниже и ниже… Но не удержал, не смог удержать! Подсознательно Шубин, наверное, ощущал, что еще не все сделано им, не выполнен до конца его воинский долг. Страшным усилием воли он вырвался из скользких щупалец бреда и всплыл на поверхность…4
Профессор удовлетворенно улыбался и принимал дань восхищения и удивления от своих ассистентов. Да, положение было исключительно тяжелым, но медицине, как видите, удалось совладать с болезнью! Шубин выздоравливал. Он забавно выглядел в новом для него качестве больного. Выяснилось, что этот лихой моряк, храбрец и забияка панически боится врачей. Особенно трепетал он перед профессором, от которого зависело выписать больных из госпиталя или задержать на длительный срок. Робко, снизу вверх, смотрел на него Шубин, когда тот в сопровождении почтительной свиты в белых халатах, хмурясь и сановито отдуваясь, совершал ежедневный обход. Подле шубинской койки серое от усталости лицо профессора прояснялось. Шубин — его любимец. И не за подвиги на море, а за свое поведение в госпитале. Он — образцово-показательный больной! Нет никого, кто так исправно мерил бы температуру, так безропотно ел угнетающе жидкую манную кашу. Говорят, Шубин однажды чуть не заплакал, как маленький, из-за того, что ему в положенный час забыли дать лекарство. Виктория понимает, что в этом также проявляется удивительная шубинская собранность. Одна цель перед ним: поскорей выздороветь! — Не прозевать бы наступление! — с беспокойством говорит он Виктории. И после паузы: — Ведь «Летучий»-то цел еще! Вначале от него скрывали, что войска Ленинградского фронта при поддержке кораблей и частей Краснознаменного Балтийского флота уже перешли в победоносное наступление. Но, конечно, долго скрывать это было нельзя. Узнав о наступлении, Шубин промолчал, но стал выполнять медицинские предписания с еще большим рвением. Готов был мерить температуру не два раза, а даже пять—шесть раз в день, лишь бы только умилостивить профессора. Однако самостоятельную прогулку ему разрешили не скоро — только в начале сентября. К этой прогулке он готовился, как к аудиенции у командующего флотом. Около часа, вероятно, чистил через дощечку пуговицы на парадной тужурке, потом, озабоченно высунув кончик языка, с осторожностью утюжил брюки. Побрившись, долго опрыскивался одеколоном. Сосед-артиллерист, следя за этими приготовлениями, с завистью спросил: — Предвидится бой на ближней дистанции, а, старлейт?[215] На других койках сочувственно засмеялись. Под «боем на ближней дистанции» подразумевалось свидание с девушкой и, возможно, поцелуи, при которых щетина на щеках не поощряется. Шутка принадлежала самому Шубину. Но неожиданно он рассердился. Собственная шутка, переадресованная Виктории, показалась чуть ли не святотатством. Раненые, приникнув к окнам, с удовольствием наблюдали его торжественный выход. — Сгорел наш старлейт! — объявил артиллерист, соскакивая с подоконника. — Уж если из-за нее такой принципиальный, шуток не принимает, значит, всё — горит в огне! Горит, горит… Когда Шубин и Виктория углубились в парк на Кировских островах, тихое пламя осени обступило их. Все было желто и красно вокруг. Листья шуршали под ногами, медленно падали с деревьев, кружась плыли по воде под круто изгибавшимися мостиками. — Вот и осень! — вздохнул Шубин. — И фашисты сматывают удочки в Финском заливе. А я до сих пор на бережку… Без его участия осуществлены дерзкие десанты в шхерах. Лихо взят остров Тютерс. Освобожден Выборг. Целое лето прошло, и какое лето! — Может, посидим, отдохнем? — предложила Виктория. — Профессор сказал, чтобы не утомлялись. Наверное, отвыкли ходить? Вот как оно обернулось для Шубина! Ты — о войне, о десантах, а тебе: «Не отвыкли ходить?» Только сейчас, ведя Викторию под руку, он обнаружил, что она выше его ростом. Обычно Шубин избегал ухаживать за девушками, которые были выше его ростом. Это как-то роняло его мужское достоинство. Но сейчас ему было все равно. Впрочем, в присутствии Виктории безусловно исключалась возможность какой-либо неловкости, глупой шутки, бестактности. Покоряюще спокойная, уверенная была у нее манера держаться. Мужчина ощущает прилив гордости, пропуская впереди себя такую женщину в зал театра, ловя боковым зрением почтительные, восхищенные, завистливые взгляды. Но Виктория, Шубин знал это, может с чувством собственного достоинства пройти впереди мужчины не только в театр, но и во вражеские, злые шхеры. А кроме того, умеет терпеливо, по целым часам, сидеть у койки больного, не спуская с него тревожных милых глаз. — Не устали? — заботливо спросила Виктория. — Это ваш первый выход. Профессор говорит… — Устал? С вами? Что вы! Я ощущаю при вас такой прилив сил! — И, усмехнувшись, добавил: — Грудная клетка вдвое больше забирает кислорода… Шурша листвой, они неторопливо прошли мимо зенитной батареи, установленной между деревьями парка. Там толпились молоденькие зенитчицы в коротких юбках, из-под которых виднелись стройные ноги в сапожках и туго натянутых чулках. Девушки с явным сочувствием смотрели на романтическую пару. Несомненно, пара была романтическая. Оба — моряки. Она такая красавица, а у него такое взволнованное и покорное лицо. Но Шубин не ощутил ответной симпатии к зенитчицам. Драили бы лучше свои орудия, чем торчать тут и глазеть во все своя глупые гляделки. В тот тихий солнечный день Кировские острова выглядели еще более нарядными, чем обычно. Особенно яркими были листья рябины: алые, пурпурные, багряные, четко выделявшиеся на желтом фоне. — Смотрите-ка, — шепнула Виктория, — даже паутинка золотая… Она была совсем не похожа сегодня на ту надменную недотрогу, которую видел когда-то Шубин. Говорила какие-то милые женские глупости, иногда переспрашивала или неожиданно запиналась посреди фразы. Странная, тревожная рассеянность овладевала ею. — Острова, — негромко сказал Шубин. — А вам не кажется, что это необитаемые острова? И только мы с вами вдвоем здесь? — Не считая почти всей зенитной артиллерии Ленинграда. — Она улыбнулась — на этот раз не уголком рта. Но потом они забрели в такую глушь, где не было ни зенитчиц, ни прохожих. Деревья и кусты вплотную подступили к дорожке — недвижная громада багряно-желтей листвы, тихий пожар осени. Виктория и Шубин стояли на горбатом мостике, опершись на перила, следя за разноцветными листьями, неторопливо проплывавшими внизу. И вдруг одновременно подняли глаза и посмотрели друг на друга. — Профессор… — начала было она. Но вне госпиталя, на вольном воздухе, Шубин не боялся профессора! Длинная пауза. — …не разрешил целоваться, — машинально закончила она. С трудом перевела дыхание, не поднимая отяжелевших век. Ей пришлось уцепиться за лацканы его тужурки, чтобы не упасть. Шубин устоял. — Домой пора. Сыро, — невнятно пробормотала она. — Нет, еще немного, пожалуйста! Ну, минуточку! — Он упрашивал, как мальчик, которого отсылают спать. — Хорошо, минуточку. И снова они кружат по своим «необитаемым» островам, шуршат листьями, ненадолго присаживаются на скамейки, встают, идут, словно что-то подгоняет, торопит их. Под конец Шубин и Виктория чуть было не заблудились в парке. Шубин не мог вспомнить, на каком повороте они свернули с центральной аллеи. — Потерял свое место, — шепнула Виктория. — Ая-яй! Прославленный мореход! — И, беря под руку, очень нежно: — Это золотой вихрь закружил нас. Так бы и нес, нес… Всю жизнь… В госпиталь Шубин вернулся, когда его соседи уже спали. Только артиллерист, лежавший рядом, не спал, но притворялся, что спит. Краем глаза следя за раздевавшимся Шубиным, он придирчиво отмечал его неверные угловатые движения. Шубин наткнулся на тумбочку, опрокинул стул, сам себе сказал: «Тсс!» — но, присев на койку, тотчас же уронил ботинок и тихо засмеялся. Все симптомы были налицо. Сосед не выдержал и высунул голову из-под одеяла. — А ну дыхни! — потребовал он. — Эх, ты! Ведь профессор не разрешил тебе пить. Шубин смущенно оглянулся. — У тебя мысли идут противолодочным зигзагом, — пробормотал он и поскорей накрылся с головой. Ни с кем, даже с лучшим другом не смог бы говорить о том, что произошло. Это было только его, принадлежало только ему. И ей, конечно. Им двоим. «Золотой вихрь несет…» Так, кажется, сказала она?5
Они поженились, едва лишь Шубина выписали из госпиталя. Утром его выписали, а днем они поженились. Свадьба была самая скромная. На торжестве присутствовали только Ремез, Вася Князев, Селиванов, две подружки Виктории и, конечно, Шурка Ластиков. — По-настоящему справим после победы над Германией! — пообещал Шубин. На поправку ему дали две недели. Молодожены провели это время в комнатке Виктории Павловны. Золотой вихрь продолжал кружить их. В каком-то полузабытьи бродили они по осеннему, тихому, багряно-золотому Ленинграду. Он вставал из развалин, стряхивая с себя пыль и пепел. Еще шевелились, подергиваясь складками наветру, фанерные стены, прикрывавшие пустыри. Еще зеленела картофельная ботва в центре города. Но война уже далеко отодвинулась от его застав. И краски неповторимого ленинградского заката стали, казалось, еще чище на промытом грозовыми дождями небе. А по вечерам Виктория и Шубин любили сидеть у окна, выходившего на Марсово поле. Теперь здесь были огороды, но над грядами высились стволы зенитных орудий — характерный городской пейзаж того времени. Молчание прерывалось вопросом: — Помнишь?.. — А ты помнишь?.. Они переживали обычную для влюбленных полосу общих воспоминаний, интересных только им двоим. — Помнишь, как ты обнял меня, а потом чуть не свалился в воду? — улыбаясь, спрашивала Виктория. — В воду? — переспрашивал он. — Нет, что-то не припомню. — И смеялся: — Начисто, понимаешь, память отшибло! Впоследствии Виктория поняла, что Шубин почти и не шутит, когда говорит: «Память отшибло». Он удивительно умел забывать плохое, что мешало ему жить, идти вперед. — Я — как мой катер, — объяснял он. — На полном ходу проскакиваю над неудачами, будто над минами. И — жив! А есть люди — как тихоходные баржи с низкой осадкой. Чуть накренились, чиркнули килем дно, и все пропало — сидят на мели. Он даже не поинтересовался, почему так круто изменилось ее отношение к нему. Принял это очень просто, как должное. Но Виктория сама не смогла бы объяснить, почему Шубин заставил ее полюбить себя. Он именно заставил! — Со мной и надо было так, — призналась она. — Я была странная. Девчонки дразнили меня Спящей Красавицей. А мне просто нелегко пришлось в детстве из-за папы. Он был красив, по ее словам, и пользовался большим успехом у женщин. Виктории сравнялось четырнадцать, когда отец ушел от ее матери и завел новую семью. Но он был очень добрый и бесхарактерный и как-то не сумел до конца порвать со своей первой семьей. Странно, что симпатии дочери были на его стороне. Жены, интригуя и скандаля, попеременно уводили его к себе. Так он и раскачивался между ними, как маятник, пока не умер. С ним случился припадок на улице, неподалеку от квартиры первой жены. Его принесли домой, вызвали «скорую помощь». Очнувшись, он поискал глазами дочь. Она смачивала горчичник, чтобы положить ему на сердце. Отец виновато улыбнулся ей, потом увидел обеих своих жен. Испуганные, заплаканные, они сидели на диванчике, держась за руки. «О! — тихо сказал он. — Вы вместе и не ссоритесь?.. Значит, все кончено, я умираю». И это были его последние слова… Шубин, растроганный, обнял Викторию и прижал к себе. — Ты ведь не такой, нет? — Она нежно провела кончиками пальцев по резким, вертикальным складкам у его рта. — О, ты из однолюбов, я знаю! Тебе не нужна никакая другая женщина, кроме меня. — И мгновенный, чисто женский переход. Изогнувшись и лукаво заглядывая снизу в лицо: — Но море все-таки любишь больше меня? Море на первом месте?.. Ну, ну, не хмурься, я шучу. Конечно, она шутила. Стоило ей закрыть глаза, и осенние листья снова летели и летели, а из их золотого облака надвигалась на нее, медленно приближаясь, прямая, угловатая, в синем, фигура. Виктория открывала глаза — он был тут, совсем близко, и неотрывно смотрел на нее: покорно и требовательно, ласково и жадно…6
Но счастье ее было неполным. Оно было непрочным. Будто медлительно и неотвратимо поднималась сзади туча, темная, грозовая, отбрасывая тень далеко впереди себя. Еще сияло солнце на небе, но уже потянуло холодком, тревожно зашумела листва, завертелись маленькие смерчи пыли на мостовой… Два вихря с ожесточением боролись: один — золотой, другой — темно-синий, зловещий — не вихрь, опасная водоверть. Мучительная рассеянность все чаще овладевала Шубиным. Он отвечал невпопад, неожиданно обрывая нить разговора, встряхивал головой: «Ах, да! Прости, задумался о другом». Виктория знала, о чем он думает. Даже любовь ее не в силах была заставить его забыть о «Летучем голландце»! С тревогой Виктория заглядывала Шубину в глаза. Он успокоительно улыбался в ответ. Любовь их была так сильна, что они понимали друг друга без слов. О, Шубин был гораздо сложнее и тоньше, чем Виктория представляла вначале! Она сказала ему об этом. Он усмехнулся: — Я нравлюсь тебе меньше. Она подумала: — Пожалуй, нравишься меньше. Но люблю я тебя больше. Довольно сложно, не так ли? Но он понял. По ночам Виктория просыпалась и, опираясь на локоть, всматривалась в его лицо. Он спал неспокойно. Что ему снилось? Иногда бормотал что-то сквозь стиснутые зубы — с интонацией гнева и угрозы. Жены моряков всю жизнь обречены тревожиться за своих мужей. С этим можно в конце концов примириться. Но Виктории казалось, что в море Шубина поджидает «Летучий голландец». Под ее взглядом он вскинулся, открыл глаза: — Что ты? — Ничего… — Она неожиданно всхлипнула. — Увидела сейчас твои глаза, и царапнуло по сердцу. Есть люди с тайным горем, спрятанным на дне души. Даже в минуты веселья внезапно проходит тень по лицу, словно облако над водной гладью. Так было с Шубиным. По временам, заглушая праздничный звон бокалов и веселые голоса друзей, начинал звучать в ушах лейтмотив «Летучего голландца»: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен…» Виктория уже знала, когда «Ауфвидерзеен» начинает звучать особенно громко, Шубин делался тогда шумным, говорливым, требовал гитару, пускался в пляс-ни за что не хотел поддаваться этому «Ауфвидерзеен»… И вот последний вечер дома, перед возвращением на флот. Виктория и Шубин сидят у раскрытого окна. Не пошли ни в кино, ни в гости. Последние часы хочется побыть без посторонних. Вдруг Шубин сказал: — Знаешь, думаю иногда: они все сумасшедшие там! Кто «они» и где «там», не надо пояснять. — Да? — И тем опаснее оставлять их на свободе. Сумерки медленно затопляют комнату, переливаясь через подоконник. — Это очень мучит меня. По-моему, я не выполнил свой долг. — Ты, как всегда, слишком требователен к себе. — Слишком? Нет, просто требователен. Я, наверное, должен был вызвать огонь на себя. Но замешкался, упустил момент. — Ты был уже болен. — Возможно… Пауза. Почти шепотом: — И потом я очень хотел к тебе, наверх… Снова долгое молчание. — Но ты понял, для чего этот «Летучий голландец»? — Нет. Пробыл там слишком мало. Надо бы дольше. — Тебя все равно ссадили бы на берег. — Хотя нет, я не выдержал бы дольше. Задыхался. Чувствовал: схожу с ума. — Не говори так, не надо! — Звук поцелуя. — Вначале Рыжков подсказал мне: Wuwa, die wunderbare Waffe.[216] Я подумал: «Да, Wuwa!» Но лето уже прошло и — ничего! Секретное оружие не применили против Ленинграда… Это, конечно, очень хорошо. И я рад. Но ведь «Летучий голландец» по-прежнему цел, и он не разгадан. — Секретное оружие применили против Англии. В июне. То есть вскоре после твоей встречи с «Летучим голландцем». Имею в виду «Фау». Возможно, что именно это оружие собирались испытать под Ленинградом. — Но я же не видел катапульты. Видел на палубе только штыревую антенну, два спаренных пулемета — больше ничего. И торпед, я уверен, на «Летучем» меньше, чем положено на обычной подводной лодке. В кормовом-то отсеке не торпедные аппараты. Что это за каюта в кормовом отсеке? Почему у двери стоял матрос с автоматом? Не там ли эта Вува? — Не волнуйся так! Тебе нельзя волноваться. — Нельзя было в госпитале! А я завтра буду уже в море. И не волноваться, по-моему, значит вообще не жить… Не могу понять «Летучего голландца». И это мучит меня, бесит! Даже самого простого не могу понять — почему прозвище такое: «Летучий голландец»? — Ты рассказывал об этом Рудольфе, мнимом мертвеце. На легендарном корабле тоже, по-моему, были мертвецы. Вся команда его состояла из мертвецов. Но я слушала оперу Вагнера очень давно, в детстве. — Да, я тоже что-то помню о мертвецах. Корабль-призрак, корабль мертвых… Сумерки до потолка заполнили комнату. Шубин встал и шагнул к выключателю. — Встретиться бы, понимаешь, еще разок с этим «Летучим голландцем»! Догнать его! Атаковать! И, скрипнув зубами, он с такой яростью стиснул кулак, словно бы уже добрался до нутра этой непонятной подводной лодки и выпотрошил ее, как рыбу, вывернул всю наизнанку…А. Стругацкий, Б. Стругацкий ДОЖЕН ЖИТЬ

Фантастическая повесть
Сокращенный вариант
ПРОЛОГ
Подкатил громадный красно-белый автобус. Отлетающих пригласили садиться. — Что ж, ступайте, — сказал Дауге. Быков проворчал: — Успеем, Пока они все усядутся… Он исподлобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров было человек сто. — Это минут на пятнадцать, не меньше, — солидно заметил Гриша. Быков строго посмотрел на него: — Застегни рубашку. — Пап, жарко, — сказал Гриша. — Застегни рубашку! — повторил Быков-старший. — Не ходи расхлюстанный. — Не бери пример с меня, — сказал Юрковский, — Мне можно, а тебе еще нельзя. Дауге взглянул на него и отвел глаза. Не хотелось смотреть на Юрковского — на его уверенное рыхловатое лицо с брюзгливо отвисшей нижней губой, на тяжелый портфель с монограммой, на роскошный костюм из редкостного стереосинтетика. Лучше уж было глядеть в высокое прозрачное небо, чистое, синее, без единого облачка, даже без птиц — над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми сиренами. Быков-младший под внимательным взглядом отца застегивал воротник. Юрковский томно объявил: — В стратоплане спрошу бутылочку «Ессентуков» и выкушаю… Быков-старший с подозрением спросил: — Печенка? — Почему же обязательно печенка? Мне просто жарко. И пора бы тебе знать, что «Ессентуки» от приступов не помогают. — Ты, по крайней мере, взял свои пилюли? — Что ты к нему пристал? — сказал Дауге. Все посмотрели на него. Дауге опустил глаза и проговорил сквозь зубы: — Так ты не забудь, Владимир. Пакет Арнаутову нужно передать сразу же, как только вы прибудете на Сырт. — Если Арнаутов на Марсе. — Да, конечно. Я только прошу тебя не забыть. — Я ему напомню, — сказал Быков. Они замолчали. Очередь у автобуса уменьшалась. — Знаете что, идите вы, пожалуйста, — попросил Дауге. — Да, пора идти, — согласился Быков. — Он подошел к Дауге и обнял его. — Не печалься, Иоганныч. До свидания. Не печалься. Он крепко сжал Дауге длинными, костистыми руками. Дауге слабо оттолкнул его: — Спокойной плазмы! Он пожал руку Юрковскому. Юрковский часто заморгал, он хотел что-то сказать, но только облизнул губы. Он нагнулся, поднял с травы свой великолепный портфель, повертел его и снова положил на траву. Дауге не глядел на него. Юрковский снова поднял портфель. — Ах, да не кисни ты, Григорий! — страдающим голосом сказал он. — Постараюсь, — сухо ответил Дауге. В стороне Быков негромко наставлял сына: — Пока я в рейсе, будь поближе к маме. Никаких там подводных забав. — Ладно, пап. — Никаких рекордов. — Хорошо, пап. Ты не беспокойся. — Меньше думай о рекордах, больше думай о маме. — Да ладно, пап. Дауге сказал тихо: — Я пойду. Он повернулся и побрел к зданию аэровокзала. Юрковский смотрел ему вслед. Дауге был маленький, сгорбленный, очень старый. — До свидания, дядя Володя, — сказал Гриша. — До свидания, малыш, — отозвался Юрковский. Он все смотрел вслед Дауге. — Ты его навещай, что ли. Просто так, зайди, выпей чайку, и всё. Он ведь тебя любит, я знаю. Гриша кивнул. Юрковский подставил ему щеку, похлопал по плечу и вслед за Быковым пошел к автобусу. Он тяжело поднялся по ступенькам, сел в кресло рядом с Быковым и сказал: — Хорошо было бы, если бы рейс отменили! Быков с изумлением воззрился на него: — Какой рейс, наш? — Да, наш. Дауге было бы легче. Или чтобы нас всех забраковали медики. Быков засопел, но промолчал. Когда автобус тронулся, Юрковский пробормотал: — Он даже не захотел меня обнять. И правильно сделал. Незачем нам лететь без него. Нехорошо. Нечестно. — Перестань! — попросил Быков.Дауге поднялся по гранитным ступеням аэровокзала и оглянулся. Красное пятнышко автобуса ползло уже где-то возле самого горизонта. Там, в розоватом мареве, виднелись конические силуэты лайнеров вертикального взлета. Гриша сказал: — Куда вас отвезти, дядя Гриша? В институт? — Можно и в институт, — ответил Дауге. «Никуда мне не хочется, — подумал он. — Совсем никуда не хочется. Тяжело как! Вот не думал, что будет так тяжело. Ведь не случилось ничего нового или неожиданного. Все давно известно и продумано. И заблаговременно пережито потихоньку, потому что кому хочется выглядеть слабым? И все очень справедливо и честно. Пятьдесят два года от роду. Четыре лучевых удара. Поношенное сердце. Никуда не годные нервы. Кровь и та не своя. Поэтому бракуют, никуда не берут. А Володьку Юрковского вот берут. „А тебе, говорят., Григорий Иоганнович, довольно есть, что дают, и спать, где положат. Пора тебе молодых поучить“. А чему их учить? — Дауге покосился на Гришу. — Вон он какой, здоровенный и зубастый! Смелости его учить? Или здоровью? А больше ничего и не нужно. Вот и остаешься один. Да сотня статей, которые устарели. Да несколько книг, которые быстро стареют. Да слава, которая стареет еще быстрее». Он повернулся и вошел в гулкий прохладный вестибюль. Гриша Быков шагал рядом. Рубаха у него была расстегнута. Вестибюль был полон негромких разговоров и шуршания газет. На большом, в полстены, вогнутом экране демонстрировался какой-то фильм — несколько человек, утонув в креслах, смотрели на экран, придерживая возле уха блестящие коробочки фонодемонстраторов. Толстый иностранец восточного типа топтался возле буфета-автомата. У входа в бар Дауге вдруг остановился. — Зайдем выпьем, тезка, — сказал он. Гриша посмотрел на него с удивлением и жалостью. — Зачем, дядя Гриша? Не надо. — Ты полагаешь, не надо? — задумчиво спросил Дауге. — Конечно. Ни к чему это, честное слово. Дауге, склонив голову набок, прищурившись, взглянул на него. — Уж не воображаешь ли ты, — ядовито произнес он, — что я раскис оттого, что меня вывели в тираж? Что я жить не могу без этих самых таинственных бездн и пространств? Плевать я хотел на эти бездны! А вот что я один остался… Понимаешь, один! Первый раз в жизни один! Гриша неловко оглянулся. Толстый иностранец смотрел на них. Дауге говорил тихо, но Грише казалось, что его слышит весь зал. — Почему я остался один? За что? Почему именно меня… Ведь я не самый старый, тезка, Михаил старше, и твой отец тоже… — Дядя Миша тоже идет в последний рейс, — робко сказал Гриша. — Да, — горько проговорил Дауге — Миша наш состарился… Ну, пойдем выпьем. Они вошли в бар. В баре было пусто только за столиком у окна сидела какая-то женщина. Она сидела над пустым бокалом, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрела в окно на бетонное поле аэродрома. Дауге остановился и тяжело оперся на ближайший столик. Он не видел ее лет двадцать, но сразу узнал. В горле у него стало сухо и горько. — Что с вами, дядя Гриша? — встревоженно спросил Быков-младший. Дауге выпрямился. — Это моя жена, — сказал он спокойно. — Пойдем. «Какая еще жена?» — подумал Гриша с испугом. — Может быть, мне пойти подождать в машине? — Чепуха, чепуха… — пробормотал Дауге. — Пойдем. Они подошли к столику. — Здравствуй, Маша, — сказал Дауге. Женщина подняла голову. Глаза ее расширились. Она медленно откинулась на спинку стула. — Ты… не улетел? — спросила она. — Нет. — Ты летишь после? — Нет, я остаюсь. Она продолжала глядеть на него широко раскрытыми глазами. Ресницы у нее были сильно накрашены. Под глазами сеть морщинок. И много морщинок на шее. — Что значит — остаешься? — недоверчиво спросила она. Он взялся за спинку стула. — Можно нам посидеть с тобой? — спросил он. — Это Гриша Быков. Сын Быкова. Тогда она улыбнулась Грише той самой привычно-обещающей ослепительной улыбкой, которую так ненавидел Дауге. — Очень рада, — сказала она. — Садитесь, мальчики. Гриша и Дауге сели. — Меня зовут Мария Сергеевна, — продолжала она, разглядывая Гришу. — Я сестра Владимира Сергеевича Юрковского. (Гриша опустил глаза и слегка поклонился.) Я знаю вашего отца. Я многим ему обязана, Григорий… Алексеевич. Гриша молчал. Ему было неловко. Он ничего не понимал. Дауге сказал напряженным голосом: — Что ты будешь пить, Маша?. — Джеймо. — Это очень крепко? — спросил Дауге. — Впрочем, все равно. Гриша, принеси, пожалуйста, два джеймо. Он смотрел на нее, на гладкие загорелые руки, на открытые гладкие загорелые плечи, на легкое светлое платье с чуть-чуть слишком глубоким вырезом. Она изумительно сохранилась для своих лет. И даже косы остались совершенно те же — тяжелые, толстые косы, каких давно уже никто не носит, бронзовые, без единого седого волоса, уложенные вокруг головы. Он усмехнулся, медленно расстегнул плотный теплый плащ и стащил плотный теплый шлем с наушниками. У нее дрогнуло лицо, когда она увидела его голый череп с редкой серебристой щетиной возле ушей. Он снова усмехнулся. — Вот мы и встретились, — сказал он. — ты почему здесь? Ждешь кого-нибудь? — Нет, я никого не жду. Она посмотрела в окно, и он вдруг понял. — Ты провожала? — тихо сказал он. Она кивнула. — Кого? Неужели нас? — Да. У него остановилось сердце. — Меня? — спросил он. Подошел Гриша и поставил на столик два потных ледяных бокала. — Нет, — ответила она. — Володьку? — сказал он с горечью. — Да. Гриша тихонько ушел. — Какой милый мальчик! — сказала она. — Сколько ему лет? — Семнадцать. — Неужели семнадцать? Вот забавно! Ты знаешь, он совсем не похож на Быкова. Даже не рыжий. — Да, время идет, — сказал Дауге. — Вот я уже и не летаю. — Почему? — Здоровье. Она быстро взглянула на него. — Да, ты неважно выглядишь. Скажи… — Она помолчала. — Быков тоже скоро перестанет летать? — Что? — спросил он с удивлением. — Я не люблю, когда Володя уходит в рейс без Быкова, — сказала она, глядя в окно. И опять помолчала. — Я очень боюсь за него. Ты ведь знаешь его… — При чем здесь Быков? — спросил Дауге неприязненно. — С Быковым безопасно… — ответила она просто. — Ну, а как твои дела, Григорий? Как-то странно, ты — и вдруг не летаешь. — Буду работать в институте, — сказал Дауге. — «Работать»! — Она покачала головой. — «Работать»… Посмотри, на кого ты похож. — Зато ты совсем не изменилась. Замужем? — С какой стати? — возразила она. — Я тоже холостяком остался. — Неудивительно. — Почему? — Ты не годишься в мужья. Дауге неловко засмеялся: — Не нужно нападать на меня. Я просто хотел поговорить. — Раньше ты умел говорить интересно. — А что, тебе уже скучно? Мы говорим всего пять минут. — Нет, почему же, — вежливо сказала она. — Я с удовольствием слушаю тебя. Они замолчали. Дауге мешал соломинкой в бокале. — А Володю я провожаю всегда, — проговорила она. — У меня есть друзья в Управлении. И я всегда знаю, когда вы улетаете и откуда. — Она вынула соломинку из бокала, смяла ее и бросила в пепельницу. — Он единственный близкий мне человек в вашем сумасшедшем мире. Он меня терпеть не может, но все равно. — Она подняла бокал и отпила несколько глотков. — Сумасшедший мир. Дурацкое время, — сказала она устало. — Люди совершенно разучились жить. Работа, работа, работа!.. Весь смысл жизни в работе. Все время чего-то ищут. Все время что-то строят. Зачем? Я понимаю, это нужно было раньше, когда всего не хватало. Когда была эта экономическая борьба. Когда еще нужно было доказывать, что мы можем не хуже, а лучше, чем они. Доказали! А борьба осталась. Какая-то глухая, неявная. Я не понимаю ее. Может быть, ты понимаешь, Григорий? — Понимаю, — сказал Дауге. — Ты всегда понимал. Ты всегда понимал мир, в котором живешь. И ты, и Володька, и этот скучный Быков. Иногда я думаю, что вы все очень ограниченные люди. Вы просто не способны задать вопрос: «Зачем?» — Она отпила из бокала. — Ты знаешь, недавно я познакомилась с одним школьным учителем. Он учит детей страшным вещам! Он учит их, что работать гораздо интереснее, чем развлекаться. И они верят ему. Ты понимаешь? Ведь это же страшно! Я говорила с его учениками. Мне показалось, что они презирают меня. За что? За то, что я хочу прожить свою единственную жизнь так, как мне хочется? Дауге очень хорошо представил себе этот разговор Марии Юрковской с пятнадцатилетними пареньками и девчонками из районной школы. «Где уж тебе понять, — подумал он. — Где тебе понять, как неделями, месяцами с отчаянием бьешься в глухую стену, исписываешь горы бумаги, исхаживаешь десятки километров по кабинету или по пустыне, и кажется, что решения нет и что ты безмозглый, слепой червяк. И ты не веришь, что так уже было неоднократно. Потом наступает этот чудесный миг, когда открываешь калитку в стене, и еще одна глухая стена позади, и ты снова бог, и Вселенная снова у тебя на ладони. Впрочем, это даже не нужно понимать. Это нужно чувствовать». Он сказал: — Они тоже хотят прожить жизнь так, как им хочется. Но вам хочется разного. Она резко возразила: — А что, если права я? — Нет, — сказал Дауге, — правы они. Они не задают вопроса «зачем». — А может быть, они просто не могут широко мыслить? Дауге усмехнулся. «Что ты знаешь о широте мысли?» — подумал он. — Ты пьешь холодную воду в жаркий день, — сказал он терпеливо. — И ты не спрашиваешь «зачем?» Ты просто пьешь, и тебе хорошо… Она прервала его: — Да, мне хорошо. Дайте мне пить мою холодную воду, а они пусть пьют свою! — Пусть, — спокойно согласился Дауге. Он с удивлением и радостью чувствовал, как уходит куда-то противная, гнетущая тоска. — Мы ведь не об этом говорили. Тебя интересует, кто прав. Так вот. Человек — это уже не животное. Природа дала ему разум. Разум этот должен развиваться. А ты гасишь в себе разум. Искусственно гасишь. Ты всю жизнь посвятила этому. И есть еще очень много людей на планете, которые гасят свой разум. Они называются мещанами. — Спасибо. — Я не хотел тебя обидеть. Но мне показалось, что ты хочешь обидеть нас. Широта взглядов… Какая у вас может быть широта взглядов? Она допила свой бокал. — Ты очень красиво говоришь сегодня, — она недобро усмехнулась, — все так мило объясняешь! Тогда, будь добр, объясни мне, пожалуйста, еще одну вещь. Всю жизнь ты работал, развивал свой разум, перешагивал через простые мирские удовольствия. — Я не перешагивал через мирские удовольствия… — Не будем спорить. С моей точки зрения, ты перешагивал. А я всю жизнь гасила разум. Я занималась тем, что всю жизнь лелеяла свои низменные инстинкты. И кто же из нас счастливее теперь? — Конечно, я! — сказал Дауге. Она оглядела его уничтожающим взглядом и засмеялась: — Нет, я! В худшем случае мы оба одинаково несчастны. Бездарная кукушка — так меня, кажется, называет Володя? — или трудолюбивый муравей — конец один: старость, одиночество, пустота. Я ничего не приобрела, а ты все потерял. В чем же разница? — Спроси у Гриши Быкова, — спокойно сказал Дауге. — О, эти! — Она пренебрежительно махнула рукой. — Я знаю, что скажут они. Нет, меня интересует, что скажешь ты! И не сейчас, когда солнце и люди вокруг, а ночью, когда бессонница, и твои осточертевшие талмуды, и ненужные камни с ненужных планет, и молчащий телефон, и ничего-ничего впереди! — Да, это бывает, — произнес Дауге. — Это бывает со всеми. Он вдруг представил себе все это: и молчащий телефон, и ничего впереди, но только не талмуды и камни, а флаконы с косметикой, мертвый блеск золотых украшений и беспощадное зеркало. «Я свинья, — с раскаянием подумал он. — Самоуверенная и равнодушная свинья! Ведь она просит о помощи!» — Ты разрешишь мне прийти к тебе сегодня? — спросил он. — Нет. — Она поднялась. — У меня сегодня гости. Дауге отодвинул нетронутый бокал и тоже поднялся. Она взяла его под руку, и они вышли в вестибюль. Дауге изо всех сил старался не хромать. — Куда ты сейчас? Она остановилась перед зеркалом и поправила волосы, которые совершенно не нужно было поправлять. — Куда? — переспросила она. — Куда-нибудь. Мне еще не пятьдесят, и мой мир принадлежит пока мне. Они спустились по белой лестнице на залитую солнцем площадь. — Я мог бы тебя подвезти, — предложил Дауге. — Спасибо, у меня своя машина. Он неторопливо натянул шлем, проверил, не дует ли в уши, и сверху донизу застегнул плащ. — Прощай, старичок! — сказала она. — Прощай, — проговорил он, ласково улыбаясь. — Извини, если я говорил жестоко… Ты мне очень помогла сегодня. Она непонимающе взглянула на него, пожала плечами, улыбнулась и пошла к своей машине. Дауге смотрел, как она идет, покачивая бедрами, удивительно стройная, гордая и жалкая. У нее была великолепная походка, и она была все-таки еще хороша, изумительно хороша. Ее провожали глазами. Дауге подумал с тоскливой злобой: «Вот и вся ее жизнь. Затянуть телеса в дорогое и красивое и привлекать взоры. И много их, и живучи же они!» Когда он подошел к машине, Гриша Быков сидел, упершись коленями в рулевую дугу, и читал толстую книгу. Приемник в машине был включен на полную мощность. Гриша очень любил сильный звук. Дауге залез в машину, выключил приемник и некоторое время сидел молча. Гриша отложил книгу и завел мотор. Дауге сказал, глядя перед собой: — Жизнь дает человеку три радости, тезка: друга, любовь и работу. Каждая из этих радостей отдельно стоит немного. Но как редко они собираются вместе! — Без любви, конечно, обойтись можно, — вдумчиво возразил Быков-младший. Дауге мельком взглянул на него: — Да, можно. Но это значит, что одной радостью будет меньше, а их всего три. Гриша промолчал. Ему казалось нечестным ввязываться в спор, безнадежный для противника. — В институт, — сказал Дауге. — И постарайся успеть к часу. На фабрику к себе не опоздаешь? Машина выехала на шоссе. — Дядя Гриша, вам не дует? — спросил Гриша Быков. Дауге поежился. — Да, брат. Поднимем-ка стекла.
МИРЗА-ЧАРЛЕ. ЮРА БОРОДИН
Администратор гостиницы — маленькая жизнерадостная женщина очень сочувствовала Юре Бородину. Она ничем не могла помочь. Регулярного пассажирского сообщения с системой Сатурна еще не существовало. Не существовало еще даже регулярного грузового сообщения. Грузовики-автоматы отправлялись туда два-три раза в год, а пилотируемые корабли — и того реже. Администратор дважды посылала запрос электронному диспетчеру, перелистала какой-то толстый справочник, несколько раз звонила кому-то, но все было напрасно. Наверное, у Юры был очень несчастный вид, потому что в конце концов она сказала с жалостью: — Не надо так огорчаться, голубчик. Очень уж далекая планета! И зачем вам надо так далеко? — Я от ребят отстал! — расстроенно сказал Юра. — Спасибо вам большое. Я пойду. Может быть, еще где-нибудь… Он повернулся и пошел к выходу, опустив голову, глядя на стертый пластмассовый пол под ногами. — Постойте, голубчик! — окликнула его администратор. Юра сейчас же повернулся и пошел обратно. — Понимаете, голубчик, — проговорила нерешительно женщина, — случаются иногда специальные рейсы. — Правда? — с надеждой спросил Юра. — Да. Но сведения о них к нам в гостиницу не поступают. — А меня могут взять в специальный рейс? — Не знаю, голубчик. Я даже не знаю, где об этом можно узнать. Возможно, у начальника ракетодрома? Юра молчал. — Попробуем начальника ракетодрома, — решительно сказала она. Она сняла трубку и набрала номер. — Валя? — спросила она. — Зоя? Слушай, Зоечка, это Круглова говорит. Когда твой сегодня принимает?.. Ага. Понимаю… Нет, просто один молодой человек… Да. Ну хорошо, спасибо. Извини, пожалуйста. Экран видеофона во время разговора оставался слепым, и Юра счел это за плохое предзнаменование. «Плохо дело», — подумал он. — Так вот, голубчик, дело обстоит следующим образом: начальник сильно занят и попасть к нему можно будет только после шести. Я напишу вам адрес и телефон… — Она торопливо писала на гостиничном бланке. — Вот. Часов в шесть позвоните туда или прямо зайдите. Это здесь рядом. Юра взял листок и обрадованно поблагодарил. — А где вы остановились? — Понимаете, я пока еще нигде не остановился, — сказал Юра. — Я и не хочу останавливаться. Мне нужно улететь сегодня. — А, ну счастливого пути, голубчик! Спокойной плазмы, как говорят наши межпланетники. Юра еще раз поблагодарил и пошел к выходу.
Прямо перед гостиницей проходила широкая дорога, посыпанная крупным красным песком. На песке виднелись следы множества ног и рубчатые отпечатки протекторов. По сторонам дороги тянулись бетонированные арыки, вдоль арыков густо росли акации. Справа, над зелеными купами деревьев, поднимались в жаркое белесое небо белые здания. Слева нестерпимо блестел на солнце исполинский стеклянный купол. С аэродрома только и видно было, что этот купол и золотой шпиль гостиницы. Юра спросил, что это такое, и ему ответили, что это СЭУК — Система Электронного Управления и Контроля, электронный мозг ракетодрома Мирза-Чарле. Где-то там должен быть начальник ракетодрома. Юра взглянул на часы. Было начало первого. Что же делать? Осмотреть город? Пообедать? Он спустился на дорогу, поколебался немного и, вздохнув, свернул налево. Он шел по самому краю арыка, стараясь не выходить на солнце, мимо ярко раскрашенных автоматов с газированной водой и соками, мимо пустых скамеек и шезлонгов, мимо маленьких белых коттеджей, спрятанных в тени акаций, мимо обширных бетонированных площадок, уставленных пустыми атомокарами. Над одной из этих площадок почему-то не было тента, и от блестящих отполированных машин поднимался дрожащий горячий воздух. Было очень жалко смотреть на эти машины, может быть уже не первый час стоявшие под беспощадным солнцем. Улица была пуста. Магазины, кинотеатры, кафе были закрыты. «Сьеста», — подумал Юра. Было невыносимо жарко. Юра остановился у автомата и выпил стакан горячего апельсинового сока. Подняв брови, он подошел к следующему автомату и выпил стакан горячего черного чая. «Да, — подумал он, — сьеста. Хорошо бы забраться в холодильник». Обедать не хотелось. Юра свернул в тенистый переулок и совершенно неожиданно вышел к большому прозрачному озеру, вокруг которого росли араукарии и пирамидальные тополя. При виде такой массы прохладной воды Юра даже застонал от наслаждения и двинулся к берегу почти бегом, на ходу стягивая через голову сорочку. Искупавшись, он вылез на берег, лег животом на песок и огляделся. На той стороне несколько молодых людей и девушек, выскакивая из воды по пояс, перебрасывались огромным блестящим мячом. Посередине озера ныряли с надувной лодки. Шагах в двадцати в тени араукарии сидел, скрестив по-турецки ноги, грузный мужчина в белой чалме, черных очках и ярко-красных трусах и читал книгу. Книгу он держал в правой руке прямо перед лицом, а левую руку упирал в бок. Рядом с ним лежали четыре бутылки из-под лимонада. Юра лег лицом на сорочку и закрыл глаза. Кто-то похлопал его по плечу холодной ладонью и сказал: — Сгоришь, эй, паренек! Юра поднял голову. Перед ним сидел на корточках коричневый молодой человек великолепного сложения. Он глядел на Юру сверху вниз веселыми синими глазами. — Сгоришь, — повторил он. — Перейди в тень. Юра сел. — Да, я, кажется, задремал немного, — сказал он смущенно. — Приезжий? — спросил незнакомец. — Приезжий. Как вы узнали? Незнакомец засмеялся: — Все местные сейчас скрываются в помещениях с кондиционированным воздухом. Они поднялись и отошли в тень араукарии. — А вы тоже не местный? — спросил Юра. — Да, пожалуй, что и не местный. — Интересный город — Мирза-Чарле, — сказал Юра. — Никого сейчас на улицах. Словно здесь сьеста, правда? — Сьеста… — согласился незнакомец. — Между прочим, откуда ты, прелестное дитя?. — Из Вязьмы. — И зачем, если не секрет? — Почему же секрет? Мне нужно на Рею. — Юра взглянул на незнакомца и пояснил: — Рея — это один из спутников Сатурна. — Ах, вот как! — сказал незнакомец. — Интересно. И что тебе надо на Рее? — Там новое строительство. А я вакуум-сварщик. Нас было одиннадцать человек, и я отстал от группы, потому что… ну, в общем, по семейным обстоятельствам. Теперь не знаю, как туда добраться. Вот в шесть часов иду к начальнику ракетодрома… Вы тоже летите куда-нибудь? — Да, — ответил незнакомец. — Так ты идешь к Майкову? — К Майкову? Я иду к начальнику ракетодрома. Не знаю, как его фамилия. Может быть, Майков. Незнакомец с интересом его рассматривал. — Как тебя зовут? — Юра… Юрий Бородин. — А меня — Иван… Так вот что, Юрий Бородин, — незнакомец сокрушенно покачал головой, — боюсь, что к Майкову тебе не попасть. Дело в том, что начальник ракетодрома товарищ Майков, как мне доподлинно известно, вылетел в Москву….. — он посмотрел на часы, — двенадцать минут назад. Это был удар. Юра сразу сник. — Как же так? — пробормотал он. — Мне же сказали… — Ну-ну, — сказал Иван, — не нужно огорчаться. Всякий начальник, улетая в Москву, оставляет заместителя. — Правда! — воскликнул Юра, воспрянув духом. — Вы меня извините, я должен немедленно пойти и позвонить. Он вскочил и стал натягивать брюки. — Позвони. Телефон в этом переулке, сразу за углом. — Я сейчас вернусь, — пообещал Юра и побежал к телефону. Когда он вернулся, Иван ходил на руках вокруг араукарии. Увидев Юру, он встал на ноги и отряхнул с ладоней песок. — Ну что? — спросил он. — Опять неудача! — огорчился Юра. — Начальник действительно улетел, а его заместитель сможет принять меня только завтра вечером. — Завтра? — Да, завтра после семи. Иван задумчиво уставился куда-то на вершины пирамидальных тополей. — Завтра, — повторил он. — Да, это слишком поздно. — Придется все-таки ночевать в гостинице, — вздохнул Юра. — Надо будет взять номер. — Пошли еще раз искупаемся, — предложил Иван. Они сплавали на середину озера и поныряли с надувной лодки. Когда они плыли назад, Иван спросил: — Между прочим, кто тебя рекомендовал на Рею? — Нас рекомендовал наш завод. Вязьменский завод пластконструкций. Как лучших сварщиков. Они вышли из воды и снова растянулись на песке. — А если ты не доберешься до Реи, — спросил Иван, — что тогда? — Ну что вы, — сказал Юра, — я обязательно доберусь до Реи. Это ж будет очень нехорошо перед ребятами, если я не доберусь. Нас было сто пятьдесят добровольцев, а выбрали только одиннадцать. Как же я могу не добраться? Надо добраться! Некоторое время они молчали. Затем Иван вскочил и стал одеваться. — Мне пора, — сказал он, натягивая клетчатую ковбойку. — До свидания, Юрий Бородин. — До свидания, — несколько обиженно ответил Юра. — Может, еще раз искупаемся? — Нет-нет, я тороплюсь. Они пожали друг другу руку. — Послушай, Юра… — начал Иван и замолчал. — Да? — Насчет Реи. — Иван опять замолчал, глядя в сторону. (Юра ждал.) — Так вот, насчет Реи. Зайди-ка ты, брат, сегодня часов этак в семь вечера в гостиницу, в триста шестой номер. — И что? — Что из этого получится, я не знаю. В этом номере ты увидишь человека, очень свирепого на вид. Попробуй убедить его, что тебе очень нужно на Рею. — А кто это такой? — спросил Юра. — До свидания, — сказал Иван. — Не забудь, номер триста шесть, после семи. Он повернулся и быстро пошел по тропинке. — Номер триста шесть, — озадаченно повторил Юра. — После семи. Ровно в семь часов вечера Юра поднялся в холл гостиницы и подошел к администратору. Она встретила его приветливой улыбкой. — Добрый вечер, — сказал Юра. — К начальнику мне попасть не удалось — он улетел в Москву. — Я знаю. Мне позвонили, едва вы ушли, голубчик. Но вы можете обратиться к его помощнику, не правда ли? — Возможно, так и придется сделать. Скажите, пожалуйста, как пройти в триста шестой номер? — Поднимитесь в лифте, третий этаж, направо. — Спасибо, — поблагодарил Юра и направился к лифту. Он поднялся на третий этаж и сразу нашел дверь номера триста шесть. Перед дверью он остановился и в первый раз подумал, как, что и, главное, кому он скажет. Ему вспомнились слова Ивана о свирепом на вид человеке. Он старательно пригладил волосы и осмотрел себя. Потом он постучал. — Войдите! — произнес за дверью низкий, хрипловатый голос. Юра вошел. В комнате за круглым столом, накрытым белой скатертью, сидели два пожилых человека. Юра остолбенел: он узнал их обоих, и это было настолько неожиданно, что на мгновение ему показалось, что он ошибся дверью. Лицом к нему, уперев в него маленькие недобрые глаза, сидел известный Быков, капитан прославленного «Тахмасиба», угрюмый и рыжий — точно такой же, как на стереофото над столом Юриного старшего брата. Лицо другого человека, небрежно развалившегося в легком плетеном кресле, породистое, длинное, с брезгливой складкой около полных губ, было тоже удивительно знакомо. Юра никак не мог вспомнить имени этого человека, но был совершенно уверен, что видел его когда-то и, может быть, даже несколько раз. На столе стояла длинная темная бутылка и один бокал. — Что вам? — глуховато спросил Быков. — Это триста шестой номер? — неуверенно спросил Юра. — Да-а, — бархатно и раскатисто ответил человек с породистым лицом. — Вам кого, юноша? Да ведь это Юрковский, вспомнил Юра. Планетолог с Венеры. Про них есть кино… — Я… я не знаю… — проговорил он. — Понимаете, мне нужно на Рею. Сегодня один товарищ… — Фамилия? — спросил Быков. — Чья? — не понял Юра. — Ваша фамилия! — Бородин. Юрий Михайлович Бородин. — Специальность? — Вакуум-сварщик. — Документы. Впервые в своей жизни Юра полез за документами. Быков выжидательно глядел на него. Юрковский лениво потянулся к бутылке и налил себе вина. — Вот, пожалуйста, — сказал Юра. Он положил рекомендацию завода на стол и снова отступил на несколько шагов. Быков достал из нагрудного кармана огромные старомодные очки и, приставив их к глазам, очень внимательно и, как показалось Юре, дважды прочитал документ, после чего передал его Юрковскому. — Как случилось, что вы отстали от своей группы? — Я… Понимаете, по семейным обстоятельствам… — Подробнее, юноша, — пророкотал Юрковский. Он читал рекомендацию, держа ее в вытянутой руке и отхлебывая из бокала. — У меня внезапно заболела мама, — сказал Юра. — Приступ аппендицита. Я никак не мог уехать. Брат в экспедиции. Отец на полюсе сейчас. Я не мог… — Ваша мама знает, что вы вызвались добровольцем в Космос? — спросил Быков. — Да, конечно. — Она согласилась? — Д-да… — Невеста есть?

Юра помотал головой. Юрковский аккуратно сложил рекомендацию и положил ее на край стола. — Скажите, юноша, — произнес он, — а почему вас… э-э… не заменили? Юра покраснел. — Я очень просил, — сказал он тихо. — И все думали, что я догоню. Я опоздал всего на сутки… Воцарилось молчание. — У вас есть… э-э… знакомые в Мирза Чарле? — осторожно спросил Юрковский. — Нет. Я только сегодня приехал. Познакомился на озере с одним товарищем — Иван его зовут. И он… — А куда вы обращались? — К администратору гостиницы. Быков и Юрковский переглянулись. Юре показалось, что Юрковский чуть-чуть отрицательно покачал головой. — Ну, это еще не страшно, — проворчал Быков. Юрковский сказал неожиданно резко: — Совершенно не понимаю: зачем нам пассажир? Быков думал. — Честное слово, я никому не буду мешать, — убедительно сказал Юра… — И я на все готов! — Готов даже красиво умереть… — проворчал Быков. Юра прикусил губу. «Дрянь дело! — подумал он. — Ох, и плохо же мне. Ох, плохо…» — Мне очень надо на Рею, — сказал он. Он вдруг с полной отчетливостью осознал, что это его последний шанс и что на завтрашний разговор с заместителем начальника рассчитывать не стоит. — М-м? — сказал Быков и посмотрел на Юрковского.

Юрковский пожал плечами и, подняв бокал, стал смотреть сквозь него на лампу. Тогда Быков поднялся из-за стола — Юра даже попятился, такой он оказался громадный и грузный, — и, шаркая домашними туфлями, направился в угол, где на спинке стула висела потертая кожаная куртка. Из кармана куртки он извлек плоский блестящий футляр радиофона. Юра затаив дыхание смотрел ему в спину. — Шарль? — глухо осведомился Быков. Он прижимал к уху гибкий шнур с металлическим шариком на конце. — Это Быков. Регистр «Тахмасиба» еще у тебя? Впиши в состав экипажа для спецрейса 17… Да, я беру стажера… Начальник экспедиции не возражает… (Юрковский сильно поморщился, но промолчал.) Что?.. Сейчас. — Быков повернулся к Юре, протянул руку и нетерпеливо пощелкал пальцами. (Юра бросился к столу, схватил рекомендацию и вложил ему в руку.) — Сейчас. Так… От коллектива Вязьминского завода пластконструкций… Боже мой, Шарль, это совершенно не твое дело! В конце концов, это спецрейс!.. Да. Даю: Бородин Юрий Михайлович. Восемнадцать лет… Да, именно восемнадцать. Вакуум-сварщик. Стажер. Зачислен моим приказом от вчерашнего числа. Прошу тебя, Шарль, немедленно подготовь для него документы… Нет, не он, я сам заеду. Завтра утром. До свидания, Шарль, спасибо. Быков медленно свернул шнур и сунул радиофон обратно в карман куртки. — Это незаконно, Алексей, — негромко произнес Юрковский. Быков вернулся к столу и сел. — Если бы ты знал, Владимир, — сказал он, — без сколькихзаконов я могу обойтись в пространстве. И без скольких законов нам придется обойтись в этом рейсе… Стажер, можете сесть, — обратился он к Юре. (Юра торопливо и очень неудобно сел.) Быков взял телефонную трубку. — Жилин, зайдите ко мне. — Он повесил трубку. — Возьмите ваши документы, стажер. Подчиняться будете непосредственно мне. Ваши обязанности вам разъяснит бортинженер Жилин, который сейчас придет. — Алексей, — величественно сказал Юрковский, — наш… э-э… кадет еще не знает, с кем имеет дело. — Нет, я знаю, — пробормотал Юра. — Я вас сразу узнал. — О-о! — удивился Юрковский. — Нас еще можно узнать? Юра не успел ответить. Дверь распахнулась, и на пороге появился Иван в той же самой клетчатой ковбойке. — Прибыл, Алексей Петрович, — весело сообщил он. — Принимай своего крестника, — буркнул Быков. — Это наш стажер. Закрепляю его за тобой. Сделай отметку в журнале. А теперь забирай его к себе и до самого старта не спускай с него глаз. — Слушаю, — сказал Жилин, поднял Юру со стула и вывел его в коридор. Юра медленно осознавал происходящее. — Это вы — Жилин? — спросил он. — Бортинженер? Жилин не ответил. Он поставил Юру перед собой, отступил на шаг и спросил страшным голосом: — Водку пьешь? — Нет! — испуганно ответил Юра. — В бога веруешь? — Нет. — Истинно межпланетная душа! — удовлетворенно сказал Жилин. — Когда прибудем на «Тахмасиб», дам тебе поцеловать ключ от стартера.
МАРС. АСТРОНОМЫ
Матти, прикрыв глаза от слепящего солнца, смотрел на дюны. Краулера видно не было. Над дюнами стояло большое облако красноватой пыли, слабый ветер медленно относил его в сторону. Было тихо, только на пятиметровой высоте шелестела вертушка анемометра. Затем Матти услыхал выстрелы: «Пок, пок, пок, пок» — четыре выстрела подряд. — Мимо, конечно, — сказал он. Обсерватория стояла на высоком плоском холме. Летом воздух всегда был очень прозрачен, и с вершины холма хорошо просматривались белые купола и параллелепипеды Теплого Сырта в пяти километрах к югу и серые развалины Старой Базы на таком же плоском высоком холме в трех километрах к западу. Но сейчас Старую Базу закрывало облако пыли. «Пок, пок, пок», — снова донеслось оттуда. — Стрелк! — горестно произнес Матти. Он осмотрел наблюдательную площадку. — Вот скверная тварь! Широкоугольная камера была повалена. Метеобудка покосилась. Стена павильона телескопа была забрызгана какой-то желтой гадостью. Над дверью павильона зияла свежая дыра от разрывной пули. Лампочка над входом была разбита. — Стрелк! — повторил Матти. Он подошел к павильону и ощупал пальцами в меховой перчатке края пробоины. Он представил себе, что может натворить разрывная пуля в павильоне, и ему стало нехорошо. В павильоне стоял очень хороший телескоп с прекрасно исправленным объективом, регистратор мерцаний, блинк-автоматы — аппаратура редкая, капризная и сложная. Блинк-автоматы боятся даже пыли — их приходится закрывать герметическим чехлом. А что такое чехол против разрывной пули? Матти не пошел в павильон. «Пусть они сами посмотрят, — подумал он. — Сами стреляли, пусть сами и смотрят». Честно говоря, ему было просто страшно заходить туда. Он положил карабин на песок и, поднатужась, поднял камеру. Одна нога треножника была погнута, и камера встала криво. — Скверное животное! — сказал Матти с ненавистью. Он занимался метеоритными съемками, и камера была единственным инструментом в его распоряжении. Он пошел через всю площадку к метеобудке. Пыль на площадке была изрыта. Матти со злостью топтал характерные округлые ямы — следы летучей пиявки. «Почему она все время лезет на площадку? — думал он. — Ну, ползала бы вокруг дома. Ну, вломилась бы в гараж. Нет, она лезет на площадку. Человечиной здесь пахнет, что ли?» Дверца метеобудки была погнута и не открывалась. Матти безнадежно махнул рукой и вернулся к камере. Он свинтил камеру, с трудом снял ее и, кряхтя, положил на разостланный брезент. Потом он взял треногу и понес ее в дом. Он оставил треногу в мастерской и заглянул в столовую. Наташа сидела у рации. — Сообщила? — спросил Матти. Ты знаешь, у меня просто руки опускаются! — сердито сказала она. — Честное слово, проще сбегать туда. — А что? — спросил Матти. Наташа резко повернула регулятор громкости. Низкий усталый голос загудел в комнате: — Седьмая, седьмая, говорит Сырт. Почему нет сводки? Слышите, седьмая? Давайте сводку! Седьмая забубнила цифрами. — Сырт! — позвала Наташа. — Сырт! Говорит первая! — Первая, не мешайте! — ответил усталый голос. — Имейте терпение… — Ну вот, пожалуйста! — сказала Наташа и повернула регулятор громкости в обратную сторону. — А что ты, собственно, хочешь им сообщить? — спросил Матти. — Про то, что случилось. Ведь это чепе. — Ну уж и чепе. Каждую ночь у нас такое чепе. Наташа задумчиво подперла кулачком щеку. — А знаешь, Матти, — сказала она. — Ведь сегодня первый раз пиявка пришла днем. Матти всеми пальцами взялся за физиономию. Это была правда. Прежде пиявки приходили либо поздно ночью, либо перед самым восходом солнца. — Да, — сказал он, — да-а-а! Я это понимаю так: обнаглели. — Я это тоже так понимаю, — заметила Наташа. — Что там, на площадке? — Ты лучше сама сходи посмотри. Камеру мою изуродовали. Мне сегодня не наблюдать. — Ребята там? Матти замялся. — Да, в общем, там… — Он неопределенно махнул рукой. Он вдруг представил себе, что скажет Наташа, когда увидит пулевую пробоину над дверью павильона. Наташа снова повернулась к рации, и Матти тихонько прикрыл за собой дверь. Он вышел из дома и увидел краулер. Краулер летел на предельной скорости, лихо прыгая с бархана на бархан. За ним до самых звезд вставала плотная стена пыли, и на этом красно-желтом фоне очень эффектно выделялась могучая фигура Пенькова, стоявшего во весь рост с упертым в бок карабином. Вел краулер, конечно, Сергей. Он направил машину прямо на Матти и намертво затормозил в пяти шагах. Густое облако пыли заволокло наблюдательную площадку. — Кентавры! — сказал Матти, протирая очки. — Лошадиная голова на человеческом туловище. — А что? — воскликнул Сергей, соскакивая. За ним неторопливо спустился Пеньков. — Ушла! — объявил он. — По-моему, ты в нее попал, — сказал Сергей. Пеньков важно кивнул: — По-моему, тоже. Матти подошел к Пенькову и крепко взял за рукав меховой куртки: — А ну-ка, пойдем. — Куда? — осведомился тот, сопротивляясь. — Пойдем, пойдем, стрелок! Я тебе покажу, куда ты попал наверняка. Они подошли к павильону и остановились перед дверью. — Ух ты! — сказал Пеньков. Сергей, не говоря ни слова, кинулся внутрь. — Наташка видела? — быстро спросил Пеньков. — Нет еще. Пеньков с задумчивым видом ощупывал края дыры: — Это так сразу не заделаешь. — Да, запасного павильона на Сырте нет, — ядовито подтвердил Матти. Месяц назад Пеньков, стреляя ночью в пиявок, пробил метеобудку. Тогда он отправился на Сырт и где-то достал там запасную. Пробитую будку он спрятал в гараже. Сергей крикнул из павильона: — Кажется, все в порядке! — А есть там выходное отверстие? — спросил Пеньков. — Есть, — ответил Сергей. Раздалось мягкое жужжание — крыша павильона раздвинулась и сдвинулась снова. — Кажется, обошлось, — сказал Сергей и вылез из павильона. — А у меня треногу помяло, — сообщил Матти. — А метеобудку так покалечило, что придется опять новую доставать. Пеньков мельком взглянул на будку и снова уставился на зияющую дыру. Сергей стоял рядом с ним и тоже смотрел на дыру. — Будку я выправлю, — уныло сказал Пеньков. — А вот что с этим делать?.. — Наташа идет, — негромко предупредил Матти. Пеньков сделал движение, как будто собирался куда-то скрыться, но только втянул голову в плечи. Сергей быстро заговорил: — Здесь пробоина небольшая, Наташенька, но это ерунда, мы ее сегодня же быстро заделаем, а внутри все цело… Наташа подошла к ним, взглянула на пробоину. — Свиньи вы, ребята! — тихо сказала она. Теперь скрыться куда-нибудь захотелось всем, даже Матти, который был совсем ни в чем не виноват и выбежал на площадку последним, когда уже все кончилось. Наташа вошла в павильон и зажгла свет. В раскрытую дверь было видно, как она снимает футляр с блинк-автоматов. Сергей тихонько проговорил: — Пойду загоню машину. Ему никто не ответил. Он полез в краулер и завел мотор. Матти молча вернулся к своей камере и, согнувшись пополам, поволок ее в дом. Перед павильоном осталась только унылая, нелепо громоздкая фигура Пенькова. Матти втащил камеру в мастерскую, снял кислородную маску, стащил с головы капюшон и долго возился, расстегивая просторную доху. Затем, не снимая унтов, он сел на стол возле камеры. В окно ему было видно, как необыкновенно медленно, словно на цыпочках, проехал в гараж краулер. Наташа вышла из павильона и плотно закрыла за собой дверь. Потом она пошла через площадку, останавливаясь перед приборами. Пеньков плелся следом и, судя по всему, длинно и тоскливо вздыхал. Тучи пыли уже осели, маленькое красноватое солнце висело над черными, словно обглоданными руинами Старой Базы, поросшими колючим марсианским саксаулом. Матти посмотрел на низкое солнце, на быстро темнеющее небо, вспомнил, что он сегодня дежурный, и отправился на кухню.За ужином Сергей сказал: — Наташенька наша сегодня серьезная… — и испытующе посмотрел на Наташу. — Да ну вас, в самом деле! — сказала Наташа. Она ела, ни на кого не глядя, очень расстроенная и нахмуренная. — Сердитая Наташенька наша! — продолжал Сергей. Пеньков снова вздохнул. Матти скорбно покачал головой. — Не любит нас сегодня Наташенька! — добавил Сергей нежно. — Ну правда, ну что это такое? — заговорила Наташа. — Ведь договорились уже — не стрелять на площадке. Это же не тир все-таки. Там приборы… Вот разбили бы сегодня блинки, куда бы пошли? Где их взять? Пеньков преданными, собачьими глазами смотрел на нее. — Ну что ты, Наташенька! — изумился Сергей. — Как можно попасть в блинк? — Мы стреляли только по лампочкам, — проворчал Матти. — Вот продырявили павильон, — сказала Наташа. — Наташенька, — закричал Сережа, — мы принесем другой павильон! Пеньков сбегает на Сырт и принесет. Он ведь у нас здоровенный! — Да ну вас… — Наташа уже больше не сердилась. Пеньков оживился. — Когда же в нее стрелять, как не на площадке… — начал он, но Матти наступил ему под столом на ногу, и он замолчал. — Ты, Володя, действительно просто ужас какой неуклюжий! — сказала Наташа. — Огромное чудовище, ростом со шкаф, и ты целый месяц не можешь в него попасть. — Я сам удивляюсь, — честно признался Пеньков и почесал затылок. — Может, прицел сбит? — Гнутие ствола, — произнес ядовито Матти. — Все равно, ребята, теперь этим забавам конец, — сказала Наташа. (Все посмотрели на нее). — Я говорила с Сыртом. Сегодня пиявки напали на группу Азизбекова, на геологов, на нас и на участок нового строительства. И всё среди бела дня. — И всё к западу и к северу от Сырта, — заметил Сергей. — Да, в самом деле… А я и не сообразила. Ну, как бы то ни было, решено провести облаву. — Это здорово! — обрадовался Пеньков. — Наконец-то. — Завтра утром будет совещание, вызывают всех начальников групп. Я поеду, а ты останешься за старшего, Сережа. Да, и еще — наблюдать сегодня не будем, ребята. Начальство распорядилось отменить все ночные работы. Пеньков перестал есть и грустно посмотрел на Наташу. Матти произнес: — Мне-то все равно — у меня камера полетела. А вот у Пенькова полетит программа, если он пропустит пару ночей. — Я знаю, — сказала Наташа. — У всех летит программа. — А может быть, я как-нибудь потихонечку, — спросил Пеньков, — незаметно?. Наташа замотала головой: — И слышать не хочу! — А может… — начал Пеньков. И Матти снова наступил ему на ногу. Пеньков подумал: «И правда, чего слова тратить. Все равно все будут наблюдать». — Какой сегодня день? — спросил Сергей. Он имел в виду день декады. — Восьмой, — отозвался Матти. Наташа покраснела и стала глядеть всем в глаза по очереди. — Что-то Рыбкина давно нет, — произнес Сергей, наливая себе кофе. — Да, действительно, — глубокомысленно сказал Пеньков. — И время уже позднее, — добавил Матти. — Уж полночь близится, а Рыбкина все нет… — О! — Сергей поднял палец. В тамбуре звякнула дверь шлюза. — Это он! — торжественным шепотом провозгласил Сергей. — Ват чудаки, вот чудаки! — Наташа смущенно засмеялась. — Не трогайте Наташеньку! — потребовал Сережа. — Не смейте над нею смеяться. — Вот он сейчас придет, он нам посмеется! — сказал Пеньков. В дверь столовой постучали. Сергей, Матти и Пеньков одновременно приложили палец к губам и значительно посмотрели на Наташу. — Ну что же вы? — шепотом проговорила Наташа. — Отзовитесь же кто-нибудь. Матти, Сергей и Пеньков одновременно замотали головой. — Войдите! — с отчаянием крикнула Наташа. Вошел Рыбкин, как всегда аккуратный и подтянутый, в чистом комбинезоне, в белоснежной сорочке с отложным воротником, безукоризненно выбритый. Лицо его, как и у всех следопытов, производило странное впечатление: дочерна загорелые скулы и лоб, белые пятна вокруг глаз и белая нижняя часть лица — там, где кожу прикрывает кислородная маска. — Можно? — спросил он тихо. Он всегда говорил очень тихо. — Садитесь, Феликс, — предложила Наташа. — Ужинать будешь? — спросил Матти. — Спасибо, — сказал Рыбкин. — Лучше чашечку кофе. — Что-то ты сегодня запоздал, — заявил прямодушный Пеньков, наливая ему кофе. Сергей скорчил ужасную рожу, а Матти пнул Пенькова под столом ногой. Рыбкин спокойно принял кофе. — Я пришел полчаса назад, — сообщил он, — и прошелся вокруг дома. Я вижу, сегодня у вас тоже побывала пиявка. — Сегодня у нас тут была баталия, — сказала Наташа. — Да, — сказал Рыбкин. — Я видел пробоину в павильоне. — Наши карабины страдают гнутием ствола, — объяснил Матти. Рыбкин засмеялся. У него были маленькие, ровные, белые зубы. — А тебе приходилось попадать хоть в одну пиявку? — спросил Сергей. — Вероятно, нет, — ответил Феликс. — В них очень трудно попасть. — Это я и сам знаю, — проворчал Пеньков. Наташа, опустив глаза, крошила хлеб. — Сегодня у Азизбекова одну убили, — сказал Рыбкин. — Да ну? — изумился Пеньков. — Кто? Рыбкин опять засмеялся: — Да никто. — Он мельком поглядел на Наташу. — Забавная штука: сорвалась стрела экскаватора и раздавила ее. Наверное, кто-нибудь попал в трос. — Вот это выстрел! — восхитился Сергей. — Это мы тоже умеем, — усмехнулся Матти. — На бегу, с тридцати шагов прямо в лампочку над дверью. — Вы знаете, ребята, — сказал Сергей, у меня такое впечатление, что все карабины на Марсе страдают гнутием ствола. — Нет, — возразил Феликс. — Потом обнаружили, что в пиявку у Азизбекова попало шесть пуль. — Вот скоро будет облава, — пообещал Пеньков. — Мы им тогда покажем, где раки зимуют. — А я этой облаве вот ни столечко не радуюсь, — заметил Матти. — Спокон веков у нас так: бах-трах-тарарах, перебьют всю живность, а потом начинают устраивать заповедники. — Что это ты? — удивился Сергей. — Ведь они же мешают. — Нам все мешает! — рассердился Матти. — Кислорода мало — мешает, кислорода много — мешает, лесу много — мешает, руби лес… Кто мы такие, в конце концов, что нам все мешает? — Салат был, что ли, плохой? — задумчиво спросил Пеньков. — Так ты его сам готовил… — Не попадайся, не попадайся, Пеньков! — сказал Сергей. — Он просто хочет затеять общий разговор. Чтобы Наташенька высказалась. Феликс внимательно посмотрел на Сергея. У него были большие светлые глаза, и он очень редко мигал. Матти серьезно сказал: — Может быть, вовсе не они нам мешают, а мы им. — Ну? — спросил Пеньков. — Я предлагаю рабочую гипотезу. Летучие пиявки есть коренные разумные обитатели Марса, хотя они находятся пока на низкой ступени развития. Мы захватили районы, где есть вода, и они намерены нас выжить. Пеньков ошарашенно смотрел на него: — Что ж, возможно… — Да ты спорь с ним, спорь! — сказал Сергей. — А то так ему никакого удовольствия. — Все говорит за мою гипотезу, — продолжал Матти. — Живут они в подземных городах. Нападают всегда справа — потому что у них такое табу. И… они всегда уносят своих раненых. — Ну, братец… — разочарованно сказал Пеньков. — Феликс, — попросил Сергей, — уничтожь это изящное рассуждение. Феликс кивнул: — Такая гипотеза уже выдвигалась. (Матти изумленно поднял брови.) Давно. До того, как была убита первая пиявка. Сейчас выдвигают гипотезу поинтереснее. — Ну? — спросил Пеньков. — До сих пор никто не объяснил, почему пиявки нападают на людей. Не исключена возможность, что это у них очень древняя привычка. Напрашивается мысль: не обитает ли на Марсе все-таки раса двуногих прямостоящих? — Обитает! — сказал Матти. — Тридцать лет уже обитает. Феликс вежливо улыбнулся: — Можно надеяться, что пиявки наведут нас на эту расу. Некоторое время все молчали. Матти с завистью смотрел на Феликса. Он всегда завидовал людям, перед которыми стоят такие задачи. Выслеживать летучих пиявок — занятие само по себе увлекательное, а если при этом еще ставится такая задача… Матти мысленно перебрал все интересные задачи, которые пришлось решать ему самому за последние пять лет. Интереснее всего было конструирование дискретного искателя-охотника на хемостазерах. Патрульная камера превращалась в огромный любопытный глаз, следящий за появлением и движением «посторонних» световых точек на ночном небе. Сережка бегал по ночным дюнам, время от времени мигая фонариком, а камера бесшумно разворачивалась вслед за ним, следя за каждым его движением… «Что ж, — подумал Матти, — это тоже было интересно». Сергей вдруг сказал с досадой: — До чего же мы мало знаем! (Пеньков перестал тянуть с шумом кофе из чашки и поглядел на него.) И до чего не стремимся узнать! День за днем, декада за декадой бродим по шею в тоскливых мелочах. Копаемся в электронике, ломаем сумматоры, чиним сумматоры, чертим графики, пишем статеечки, отчетики… Противно! — Он взялся за щеки и с силой потер лицо. — Прямо за оградой на тысячи километров протянулся совершенно незнакомый, чужой мир. И так хочется плюнуть на все и пойти куда глаза глядят, через пустыню в поисках настоящего дела… Стыдно, ребята! Это же смешно и стыдно сидеть на Марсе и двадцать четыре часа в сутки ничего не видеть, кроме блинк-регистрограмм и пеньковской унылой физиономии… Пеньков сказал мягко: — А ты плюнь, Серега, и иди. Попросись к строителям. Или вот к Феликсу. — Он повернулся к Феликсу: — Возьмете его, а? Феликс пожал плечами. — Да нет, Пеньков, дружище, не поможет это. — Сергей, поджав губы, помотал светлым чубом. — Надо что-то уметь. А что я умею? Чинить блинки. Считать до двух и интегрировать на малой машине. Краулер умею водить, да и то непрофессионально… Что я еще умею? — Ныть ты умеешь профессионально, — проворчал Матти. Ему было неловко за Сережку перед Феликсом. — Я не ною — я злюсь. До чего мы самодовольны и самоограниченны! И откуда это берется? — Почему считается, — что найти место для обсерватории важнее, чем пройти планету по меридиану от полюса до полюса? Почему важнее искать нефть, чем тайны? Что нам — нефти не хватает? — Что тебе — тайн не хватает? — спросил Матти. — Сел бы и решил ограниченную Т-задачу… — Да не хочу я ее решать! Скучно ее решать, бедный ты мой Матти. Скучно! Я же здоровый, сильный парень, я гвозди гну пальцами! Почему я должен сидеть над бумажками? Он замолчал. Молчание было тяжелым. И Матти подумал, что неплохо было бы переменить тему, но не знал, как это сделать. Наташа сказала: — Я с Сережей вообще-то не согласна, но это верно — мы немножко слишком погрязли в обычных делах. И такая иногда берет досада… Ну пусть не мы, пусть кто-нибудь все-таки занялся бы Марсом как новой землей. Все-таки ведь это не остров, даже не континент — терра инкогнита, — это же планета! А мы тридцать лет сидим тут тихонько и трусливо жмемся к воде и ракетодромам. И мало нас до смешного. Это правда досадно. Сидит там кто-нибудь в Управлении, какой-нибудь старец с боевым прошлым, и брюзжит: «Рано, рано!» Услыхав слово «рано», Пеньков вздрогнул и посмотрел на часы. — Ох, ты! — пробормотал он, вылезая из-за стола. — Я уже две звезды здесь с вами просидел. — Тут он посмотрел на Наташу, открыл рот и торопливо сел. У него было такое забавное лицо, что все, даже Сергей, засмеялись. Матти вскочил и подошел к окну: — А ночь-то какая! Качество изображения сегодня, наверное, наводит изумление. — Он оглянулся через плечо на Наташу. — Наташа, — предложил Феликс, — если нужно, я посторожу, пока вы будете работать. — Чего нас сторожить? — удивился Матти. — Я и сам могу посторожить. У меня все равно камера полетела. — Так я пойду? — спросил Пеньков. — Ну ладно, — согласилась Наташа, — Во изменение моего приказа… Пенькова уже не было. Сергей тоже поднялся и, ни на кого не глядя, вышел. Матти стал собирать со стола, и Феликс, аккуратно засучивая рукава, подошел к нему. — Да брось ты! — сказал Матти. — Пять чашек, пять тарелок… Он взглянул на руки Феликса и осекся. — А это зачем? — спросил он. На правом и на левом запястье у Феликса было по две пары часов. Феликс серьезно сказал: — Это тоже одна гипотеза… Так ты сам управишься? — Сам, — ответил Матти. «Странный все-таки парень этот Феликс», — подумал он. — Тогда я тоже пойду, — сказал Феликс и встал. Рация в углу комнаты вдруг зашипела, щелкнула, и густой, усталый голос сказал: — Первая! Говорит Сырт. Сырт вызывает Первую. Матти крикнул: — Наташа, Сырт вызывает!.. — Он подошел к микрофону: — Первая слушает. — Позовите начальника, — сказал голос из репродуктора. — Одну минуту. Вбежала Наташа в расстегнутой дохе и с кислородной маской на груди: — Начальник слушает. — Еще раз подтверждаю распоряжение, — сказал голос. — Ночные работы запрещаются. Теплый Сырт окружен пиявками. Повторяю… Матти слушал и вытирал тарелки. Вошли Пеньков и Сергей. Матти с интересом следил, как у них вытягиваются лица. — …Теплый Сырт окружен пиявками. Как поняли меня? — Поняла вас хорошо, — расстроенно проговорила Наташа. — Сырт окружен пиявками, ночные работы запрещаются. — Спокойной ночи! — сказал голос. И репродуктор перестал шипеть. — Спокойной ночи, Пеньков! — вздохнул Сергей и стал расстегивать доху. Пеньков ничего не ответил. Он сердито засопел и ушел в свою комнату. — Так я пойду, — сказал Феликс. Все обернулись. Он стоял в дверях, маленький, крепкий, с непропорционально большим карабином у ноги. — Как — пойдешь? — спросил Матти. Феликс удивленно улыбнулся: — Да что это с тобой? — Вы слыхали радио? — быстро спросила Наташа. — Да, слыхал. Но коменданту Сырта я не подчинен. Я же Следопыт. Он натянул на лицо маску, опустил очки, махнул им рукой в перчатке и вышел. Все остолбенело глядели на дверь. — Как же это? — пробормотала Наташа. — Ведь его съедят… Сергей вдруг сорвался с места и, застегивая на ходу доху, кинулся вслед. — Куда?! — крикнула Наташа. — Я подвезу его! — ответил Сергей и захлопнул дверь. Наташа побежала за ним, но Матти схватил ее за руку. — Куда ты, зачем? — спокойно сказал он. — Сережа правильно решил. — А кто ему позволил? — запальчиво спросила Наташа. — Почему он не слушается? — Надо же человеку помочь, — рассудительно ответил Матти. Они почувствовали, как мелко задрожал пол. Сергей вывел краулер. Наташа опустилась на стул, сжала руки. — Ничего, — сказал Матти, — через десять—пятнадцать минут он вернется. — А если они бросятся на Сережу, когда он будет возвращаться? — Не было еще такого, чтобы пиявка бросилась на машину. И вообще Сережка был бы только рад. Они сидели и ждали. Матти вдруг подумал, что Феликс Рыбкин уже раз десять приходил к ним на обсерваторию по вечерам и уходил вот так же поздно. А ведь пиявки каждую ночь возятся вокруг Сырта. «Смелый парень этот Феликс», — подумал Матти. Странный парень. Впрочем, не такой уж и странный. Матти посмотрел на Наташу. Способ ухаживания, может быть, действительно немножко странный: робкая осада, не похоже на Феликса. Матти поглядел в окно. В черной пустоте видны были только острые немигающие звезды. Вошел Пеньков, неся в руках кипу бумаг, спросил, ни на кого не глядя: — Ну, кто мне поможет графики вычертить? — Я могу помочь, — сказал Матти. Пеньков стал с шумом устраиваться за столом. Наташа сидела, выпрямившись, настороженно прислушиваясь. Пеньков, разложив бумаги, оживленно заговорил: — Получается удивительно интересная вещь, ребята! Помните закон Дега? — Помним, — сказал Матти. — Секанс в степени две трети. — Нет тебе на Марсе секанса две трети!.. — ликующе сказал Пеньков. — Наташа, посмотри-ка… Наташа! — Отстань ты от нее, — сказал Матти. — А что? — шепотом спросил Пеньков. Наташа вскочила: — Едет! — Кто? — спросил Пеньков. Пол под ногами снова задрожал, потом стало тихо, звякнула шлюзовая дверь. Вошел Сергей, сдирая с лица заиндевевшую маску. — Ух и мороз — ужас! — сказал он весело. — Ты где был? — изумленно спросил Пеньков. — Рыбкина на Сырт отвозил. — Ну и молодец! — воскликнула Наташа. — Какой ты молодец, Сережка! Теперь я могу спокойно пойти спать. — Спокойной ночи, Наташенька! — вразноголосицу сказали ребята. Наташа ушла. — Что ж ты меня не взял? — с обидой спросил Пеньков. На лице Сергея пропала улыбка. Он подошел к столу, сел и отодвинул бумаги. — Слушайте, ребята, — проговорил он вполголоса, — а ведь я Рыбкина не нашел. До самого Сырта доехал, сигналил, прожекторами светил — нигде нет, как сквозь землю провалился! Все молчали. Матти опять подошел к окну. Ему показалось, что где-то в районе Старой Базы медленно движется слабый огонек — словно кто-то идет с фонариком.
МАРС. СТАРАЯ БАЗА
В семь часов утра начальники групп и участков системы Теплый Сырт собрались в кабинете директора Системы Александра Филипповича Лямина. Всего собралось человек двадцать пять, и все расселись вокруг длинного низкого стола для совещаний. Вентиляторы и озонаторы были пущены на полную мощность. Наташа была единственной женщиной в кабинете. Ее редко приглашали на общие совещания, и многие из собравшихся ее не знали. На нее поглядывали с благожелательным любопытством. Наташа услыхала, как кто-то сказал сипловатым шепотом: — Знал бы — побрился. Лямин, не вставая, сказал: — Первый вопрос, товарищи, вне повестки дня. Все ли позавтракали? А то я могу попросить принести консервы и какао. — А вкусненького ничего нет, Александр Филиппович? — осведомился полный, розовощекий мужчина с забинтованными руками. В кабинете зашумели. — Вкусненького ничего нет, — ответил Лямин и сокрушенно покачал головой. — Вот консервированную курицу разве… Раздались голоса: — Правильно, Александр Филиппович! Пусть принесут — не успели поесть. Лямин кому-то махнул рукой. — Сейчас принесут, — сказал он и встал. — Все собрались? — Он оглядел собравшихся. — Азизбеков… Горин… Барабанов… Накамура… Малумян… Наташа… Ван… Джефферсона не вижу… Ах да, прости… А где Опанасенко?.. От Следопытов есть кто-нибудь? — Опанасенко в рейде, — сказал тихий голос. И Наташа увидела Рыбкина. Впервые она увидела Рыбкина небритым. — В рейде? — сказал Лямин. — Ну ладно, начнем без Опанасенко… Товарищи, как вам известно, за последние недели летающие пиявки активизировались. С позавчерашнего дня началось уже совершенное безобразие. Пиявки стали нападать днем. К счастью, обошлось без жертв, но ряд начальников групп и участков потребовал решительных мер. Я хочу подчеркнуть, товарищи, что проблема пиявок — старая. Всем нам они надоели. Спорим мы о них ненормально много, иногда даже ссоримся. Полевым группам эти твари, видимо, очень мешают. И вообще пора наконец принять о них, пиявках то есть, какое-то окончательное решение. Коротко говоря, у нас определились два мнения по этому вопросу. Первое — немедленная облава и посильное уничтожение пиявок. Второе — продолжение политики пассивной обороны, как паллиатив, вплоть до того времени, когда колония достаточно окрепнет. Товарищи, — он прижал руки к груди, — я вас прошу сейчас высказываться в произвольном порядке. Но только, пожалуйста, постарайтесь обойтись без личных выпадов. Это совершенно ни к чему. Я знаю, все мы устали, раздражены, и каждый чем-нибудь недоволен. Но убедительно прошу забыть сейчас все, кроме интересов дела. Лямин сел. Сейчас же поднялся высокий, очень худой человек с пятнистым от загара лицом, небритый, с воспаленными глазами. Это был заместитель директора по строительству Виктор Кириллович Гайдадымов. — Я не знаю, — начал он, — сколько времени продлится ваша облава — декаду, месяц, может быть, полгода. Я не знаю, сколько людей вы заберете на облаву, — людей, по-видимому, самых лучших, может быть, даже всех. Я не знаю, наконец, выйдет ли что-нибудь из вашей облавы. Но вот что я твердо знаю и считаю своим долгом довести до вашего сведения. Во-первых, из-за облавы придется прервать строительство жилых корпусов. Между прочим, через два месяца к нам прибудет пополнение, а жилищный кризис дает себя знать уже сейчас. На Теплом Сырте я не имею возможности выделить комнаты даже женатым. Во-вторых, из-за облавы задержится строительство завода стройматериалов. Что такое завод стройматериалов в наших условиях, вы должны понимать сами. Об оранжереях и теплицах, которые мы из-за облавы не получим и этим летом, я даже говорить не буду. В-третьих, самое главное — облава сорвет строительство регенерационного завода. Через месяц начнутся осенние бури, и на этом строительстве придется поставить крест. — Он стиснул зубы, закрыл и снова открыл глаза. — Вы знаете, товарищи, что мы все здесь висим на волоске. Может быть, я раскрываю какие-то секреты администрации, но черт с ними, в конце концов: мы все здесь взрослые и опытные люди… Запасы воды под Теплым Сыртом иссякают. Они уже фактически иссякли. Уже сейчас мы возим воду на песчаных танках за двадцать шесть километров. (За столом зашумели и задвигались, кто-то крикнул: «А куда раньше смотрели?!») Если мы не закончим к концу месяца регенерационный завод, то осенью мы сядем на голодный паек, а зимой нам придется перетаскивать Теплый Сырт на двести километров к югу. Я кончил. Он сел и залпом выпил стакан остывшего какао. После минутной паузы Лямин сказал: — Кто следующий? — Я, — сказал кто-то. Встал маленький бородатый человек в темных очках — начальник ремонтных мастерских Захар Иосифович Пучко. — Я полностью присоединяюсь к Виктору Кирилловичу. — Он снял очки и подслеповато оглядел стол. — Как-то все у нас по-детски получается: облава, пиф-паф-ой-ёй-ёй… Я спрошу вас: на чем это вы собираетесь гоняться за пиявками? Может быть, на палочке верхом? Вам сейчас Виктор Кириллович очень хорошо объяснил: у нас песчаные танки возят воду. Какие это танки? Это же горе, а не танки. Четверть нашего транспортного парка стоит у меня в мастерских, ремонтировать их некому. Тот, кто умеет ремонтировать, — тот не ломает, а кто умеет ломать, тот не умеет ремонтировать. Обращаются с танками так, будто это авторучка — выбросил и купил новую… Я, Наташа, посмотрел на ваш краулер. Это ж надо довести машину до такого состояния! Можно подумать, вы на нем ходите сквозь стены… — Захар, Захар, ближе к делу, — сказал Лямин. — Я хочу сказать вот что. Знаю я эти облавы, знаю. Половина машин останется в пустыне, другая половина, может быть, доползет до меня, и мне скажут: чини. А чем я буду чинить — ногами? Рук у меня не хватает. И тогда начнется: «Пучко такой, Пучко сякой! Пучко думает, что не мастерские для Теплого Сырта, а Теплый Сырт для мастерских». Я начну просить людей у товарища Азизбекова, и он мне их не даст. Я начну просить людей у товарища Накамуры — простите, у господина Накамуры, — и он скажет, что у него и так летит программа… — Ближе к делу, Захар! — нетерпеливо перебил Лямин. — Ближе к делу начнется, когда у нас не останется ни одной машины. Тогда мы начнем носить продукты и воду на своем горбу за сто километров, и тогда меня спросят: «Пучко, где ты был, когда делали облаву?» Пучко надел очки и сел. — Дрянь дело! — пробормотал кто-то. Наташа сидела как пришибленная. «Ну какой я начальник? — думала она. — Ведь я же ничего этого не знала, и даже не могла предположить, и еще ругала этих стариков за бюрократизм…» — Разрешите мне? — послышался мягкий голос. — Старший ареолог[217] системы Ливанов, — сказал Лямин. Лицо Ливанова было покрыто пятнистым загаром, широкое квадратное лицо с черными, близко посаженными глазами. — Возражения против облавы, высказанные здесь, — проговорил он, — представляются мне чрезвычайно важными и значительными. (Наташа посмотрела на Гайдадымова. Он спал, бессильно уронив голову.) И тем не менее облаву провести необходимо. Я приведу некоторые статистические данные. За тридцать лет пребывания человека на Марсе летающие пиявки совершили более полутора тысяч зарегистрированных нападений на людей. Три человека было убито, двенадцать искалечено. Население системы Теплый Сырт составляет тысячу двести человек, из них восемьсот человек постоянно работают в поле и, следовательно, постоянно находятся под угрозой нападения. До четверти ученых вынуждены нести сторожевую службу в ущерб государственным и личным научным планам. Мало того. Помимо морального ущерба, пиявки наносят весьма значительный материальный ущерб. За последние несколько недель только у ареологов они непоправимо разрушили пять уникальных установок и вывели из строя двадцать восемь ценных приборов. Дальше так продолжаться не может. Пиявки ставят под угрозу всю научную работу системы Теплый Сырт. В мои намерения не входит сколько-нибудь умалить значительность соображений, высказанных здесь товарищами Гайдадымовым и Пучко. Они были учтены при составлении плана облавы, который я предлагаю совещанию от имени ареологов и Следопытов. Все зашевелились и снова замерли. Гайдадымов вздрогнул и открыл глаза. Ливанов продолжал размеренным голосом: — Наблюдения показали, что апексом[218] распространения пиявок в районе Теплого Сырта является участок так называемой Старой Базы — на карте отметка двести одиннадцать. Операция начинается за час до восхода солнца. Группа из сорока хорошо подготовленных стрелков на четырех песчаных танках с запасом продовольствия на три дня занимает Старую Базу. Две группы загонщиков — ориентировочно по двести человек в каждой — на танках и краулерах развертываются в цепи из районов: первая группа — в ста километрах к западу от Сырта, вторая группа — в ста километрах к северу от Сырта. В назначенный час обе группы начинают медленное движение к северо-востоку и к югу, производя на ходу как можно больше шума и истребляя пиявок, пытающихся прорваться через цепь. Двигаясь медленно и методически, обе группы смыкаются флангами, оттесняя пиявок в район Старой Базы. Таким образом, вся масса пиявок, оказавшихся в зоне охвата, будет сосредоточена в районе Старой Базы и уничтожена. Такова первая часть плана. Я хотел бы выслушать возможные вопросы и возражения. — Медленно и методически — это хорошо, — заметил Пучко. — Но все-таки сколько потребуется машин? — И людей, — добавил Гайдадымов, — и дней? — Пятьдесят машин, пятьсот человек и максимум трое суток. — Как вы думаете истреблять пиявок? — спросил Джефферсон. — Мы очень мало знаем о пиявках, — сказал Ливанов. — Пока мы можем полагаться только на два средства: отравленные пули и огнеметы. — А где это взять? — Боеприпасы отравить несложно, а что касается огнеметов, то мы их изготавливаем из пульпомониторов. — Уже? — удивился Джефферсон. — Да. — Хороший план! — сказал Лямин. — Как вы думаете, товарищи? Гайдадымов поднялся: — Против такого плана я не возражаю. Только постарайтесь не брать у меня строителей. И разрешите мне сейчас удалиться. За столом зашумели: «Отличный план, что и говорить!..» «А где вы возьмете стрелков?..» «Наберутся! Это строителей не хватает, а стрелков хватит…» «Ох, и постреляем же!..» — Я еще не кончил, товарищи, — сказал Ливанов. — Есть вторая часть плана. Видимо, территория Старой Базы изрыта трещинами и кавернами, через которые пиявки выходят на поверхность. И там, конечно, полно подземных помещений. Когда кольцо замкнется и мы перебьем пиявок, можно либо зацементировать эти каверны, трещины и туннели, либо продолжать преследование под землей. В обоих случаях нам совершенно необходим план Старой Базы. — Нет, о преследовании под землей не может быть и речи, — сказал кто-то. — Эта, слишком опасно. — А интересно, было бы, — пробормотал розовый толстяк с перевязанными руками. — Товарищи, этот вопрос мы решим после окончания облавы, — сказал Ливанов. — Сейчас нам нужен план Старой Базы. Мы обращались в архив, но там плана почему-то не оказалось. Может быть, кто-нибудь из старожилов имеет план? За столом многие недоуменно переглядывались. — Я не понимаю, — сказал сердито костлявый пожилой ареодезист, — о каком плане идет речь? — О плане Старой Базы. — Старая База была построена пятнадцать лет назад, на моих глазах. Это был бетонированный купол, и не было там никаких каверн и туннелей. Правда, я улетал на Землю. Может быть, без меня построили? Другой ареодезист сказал: — Кстати, Старая База находится не на отметке двести одиннадцать, а на отметке двести пять. — Почему двести пять? — спросила Наташа. — На отметке двести одиннадцать! Это к западу от обсерватории. — При чем здесь обсерватория? — Костлявый ареодезист совсем рассердился. — Старая База находится в одиннадцати километрах к югу от Теплого Сырта… — Подождите, подождите! — закричал Ливанов. — Имеется в виду Старая База, расположенная на отметке двести одиннадцать, в трех километрах к западу от обсерватории. — А-а! — сказал костлявый ареодезист. — Так вы имеете в виду Серые Развалины — остатки первопоселения. Кажется, там пытался обосноваться Нортон. — Нортон высаживался в трехстах километрах к югу отсюда! — закричал кто-то. Поднялся шум. — Тише! Тише! — сказал Лямин и похлопал ладонью по столу. — Прекратите споры. Нам надо выяснить, кто знает что-нибудь о Старой Базе, или о Серых Развалинах, как угодно, — одним словом, о высоте с отметкой двести одиннадцать! Все молчали. Ходить на развалины старых поселений никто не любил, да и некогда было. — Одним словом, никто не знает, — сказал Лямин. — И плана нет. — Могу дать справку, — сказал секретарь директора, он же заместитель по научной части, он же архивариус. — С этой Старой Базой вообще какая-то чепуха получается. На отчетных кроках Нортона эта база не отмечена, потом она появляется на отметке двести одиннадцать, а два года спустя на докладной записке Вельяминова, просившего разрешения разобрать развалины Старой Базы, тогдашний начальник экспедиции Юрковский собственноручно начертать соизволил… — Секретарь поднял над головой пожелтевший листок бумаги. — «Ничего не понял. Учитесь правильно читать карту. Отметка не 211, а 205. Разрешаю. Юрковский». Все удивленно засмеялись. — Разрешите предложение, — тихо сказал Рыбкин. (Все посмотрели на него.) — Можно сейчас же отправиться на отметку двести одиннадцать и снять кроки Старой Базы. — Правильно! — сказал Лямин. — У кого есть время — поезжайте. Старшим назначается товарищ Ливанов. Совещание возобновим в одиннадцать часов. От Теплого Сырта до Старой Базы по прямой было около шести километров. Отправились туда на двух песчаных танках. Желающих оказалось много — больше, чем участников совещания. И Наташа решила ехать на своем краулере. Танки с ревом и скрежетом покатились к окраине Сырта. Чтобы не попасть в пыль, Наташа пустила краулер в обход. Поравнявшись с Центральной метеобашней, она вдруг увидела Рыбкина. Маленький Следопыт шел привычным быстрым шагом, положив руки на свой длинный карабин, висевший на шее. Наташа затормозила. — Феликс! — крикнула она. — Куда вы? Он остановился и подошел к краулеру. — Я решил идти пешком, — ответил он, спокойно глядя на нее снизу вверх. — Мне не хватило места. — Садитесь, — предложила Наташа. Она неожиданно почувствовала себя с Феликсом свободно, совсем не так, как по вечерам в обсерватории. Феликс легко поднялся на сиденье рядом с нею, снял с шеи карабин и поставил между колен. Краулер тронулся. — Я очень испугалась вчера вечером, когда вы ушли одни, — призналась она. — Сергей вас быстро догнал? — Сергей?.. — Он посмотрел на нее. — Да, довольно быстро. Это была удачная мысль. Они помолчали. В полукилометре слева шли танки, оставляя за собой над пустыней плотную неподвижную стену пыли. — Интересное было совещание, правда? — сказала Наташа. — Очень интересное! И что-то странное получается со Старой Базой. — Я там как-то бывала с ребятами. Еще когда строили нашу обсерваторию. Ничего особенного. Цементные плиты растрескались, все проросло саксаулом. Вы тоже думаете, что пиявки вылезают оттуда? — Уверен, — сказал Рыбкин. — Там огромное гнездо пиявок, Наташа, под холмом большая каверна. И она, наверное, имеет сообщение с другими пустотами под почвой. Хотя я этих ходов не нашел. Наташа с ужасом на него посмотрела. Краулер вильнул. Справа, из-за барханов, открылась обсерватория. На наблюдательной площадке стоял длинный, как жердь, Матти и махал рукой.Феликс вежливо помахал в ответ. Купола и здания Теплого Сырта скрылись за близким горизонтом. — Неужели вы их не боитесь? — спросила Наташа. — Боюсь, — ответил Феликс. — Иногда, Наташа, просто до тошноты страшно бывает. Вы бы посмотрели, какие у них пасти. Только они еще более трусливы. — Знаете что, Феликс, — сказала Наташа, глядя прямо перед собой. — Матти говорит, что вы странный человек. Я тоже думаю, что вы очень странный человек. Феликс засмеялся: — Вы мне льстите! Вам, конечно, кажется странным, что я всегда прихожу к вам на обсерваторию поздним вечером только для того, чтобы выпить кофе. Но я не могу приходить днем. Днем я занят. Да и вечером я почти всегда занят. А когда у меня бываем свободное время, я прихожу к вам. Наташа почувствовала, что начинаем краснеть. Но краулер был уже у подножия плоского холма, того самого, который изображался на ареографических картах искривленным овалом с отметкой двести одиннадцать. На вершине холма, среди неровных серых глыб, уже копошились люди. Наташа поставила краулер подальше от песчаных танков и выключила двигатель. Феликс стоял внизу, серьезно глядя на нее и протянув руку. — Не надо, спасибо, — пробормотала Наташа, но на руку все-таки оперлась. Они пошли среди развалин Старой Базы. Странные это были развалины: по ним никак нельзя было понять, каков был первоначальный вид или хотя бы план сооружения. Проломленные купола на шестигранных основаниях, обвалившиеся галереи, штабеля растрескавшихся цементных блоков. Все это густо поросло марсианской колючкой и утопало в пыли и песке. Кое-где под серыми сводами зияли темные провалы. Некоторые из них вели куда-то в глубокий, непроглядный мрак. Над развалинами стоял гомон голосов: — Еще одна каверна! Тут никакого цемента не хватит! — Что за идиотская планировка! — А что вы хотите от Старой Базы? — Колючек-то, колючек! Как на солончаке… — Вилли, не лезьте туда! — Там пусто, никого нет… — Товарищи, начинайте же съемку в конце концов. — Доброе утро, Володя! Давно уже начали… — Смотрите, а здесь следы ботинок! — Да, кто-то здесь бывает… Вон еще… — Следопыты, наверное. Наташа посмотрела на Феликса. Феликс кивнул: — Это я. Он вдруг остановился, присел на корточки и стал что-то разглядывать. — Вот, — сказал он, — посмотрите, Наташа. Наташа наклонилась. Из трещины в цементе свисал толстый стебель колючки с крошечным цветком на конце. — Какая прелесть! — проговорила она. — А я и не знала, что колючка цветет. Красиво как — красное с синим! — Колючка дает цветок очень редко, — медленно сказал Феликс. — Известно, что она цветет раз в пять марсианских лет. — Нам повезло. — Каждый раз, когда цветок осыпается, на его месте выступает новый побег, а там, где был цветок, остается блестящее колечко. Такое, вот видите? — Интересно, — сказала Наташа. — Значит, можно подсчитать, сколько колючке лет. Раз, два, три, четыре… — Она остановилась и посмотрела на Феликса. — Тут восемь ободков. — Да, — подтвердил Феликс, — восемь. Цветок — девятый. Этой трещине в цементе восемьдесят земных лет. — Не понимаю, — сказала Наташа и вдруг поняла. — Значит, это не наша база? — спросила она шепотом. — Не наша, — подтвердил Феликс и выпрямился. — Вы об этом знали? — Да, мы об этом знаем. Это здание строили не люди. Это не цемент. Это не просто холм. И пиявки не зря нападают на двуногих прямостоящих. Наташа несколько секунд глядела на него, а затем повернулась и закричала во весь голос: — Товарищи, сюда! Скорее! Все сюда! Смотрите, смотрите, что здесь есть! Сюда!.. Кабинет директора системы Теплый Сырт был набит до отказа. Директор вытирал лысину платком и ошалело мотал головой. Ареолог Ливанов, утратив сдержанность и корректность, орал, стараясь перекричать шум: — Это просто уму непостижимо! Теплый Сырт существует шесть лет! За шесть лет не разобрались, что здесь наше и что не наше. Никому и в голову не пришло поинтересоваться Старой Базой!.. — Чем там интересоваться! — кричал Азизбеков. — Я двадцать раз проезжал мимо. Развалины как развалины. Разве, мало развалин оставили после себя первопоселенцы? — Я там был года два назад. Смотрю, валяется ржавая гусеница от краулера. Посмотрел и поехал дальше. — Сейчас она там валяется? — Да что там говорить! Посередине базы стоит с незапамятных времен тригонометрический знак. Тоже, может быть, марсиане ставили? — Следопыты просто опозорились, стыдно на них смотреть! — Ну почему? Это же они и открыли! Начальник группы Следопытов Опанасенко, прибывший всего несколько минут назад, огромный, широкий, ухмыляющийся, обмахивался сложенной картой и что-то говорил директору. Директор мотал головой. К столу пробрался, наступая всем на ноги, Пучко. Борода у него была взъерошенная, очки он держал высоко над головой. — Потому что в системе творится тихий бедлам! — фальцетом закричал он. — Скоро ко мне будут приходить марсиане и просить, чтобы я им починил танк или траулер, и я им буду чинить! У меня уже были случаи, когда приходят незнакомые люди и просят починить. Потому что я вижу — по городу ходят какие-то неизвестные люди. Я не знаю, откуда они приходят, и я не знаю, куда они уходят. А может быть, они приходят со Старой Базы и уходят на Старую Базу! (Шум в кабинете внезапно затих.) Может быть, вы хотите пример? Пожалуйста! Один такой гражданин сидит здесь с нами с утра!.. Я о вас говорю, товарищ! Пучко ткнул очками в сторону Феликса Рыбкина. Кабинет взорвался хохотом. Опанасекко сказал гулким басом: — Ну-ну, Захар, это же мой Рыбкин! Феликс покачал головой, почесал в затылке и искоса поглядел на Наташу. — Ну и что же, что Рыбкин! — закричал Пучко. — А я откуда знаю, что он Рыбкин? Вот я и говорю: нужно, чтобы всех знали… — Он махнул рукой и полез на свое место. Директор встал и постучал карандашом по столу. — Хватит, хватит, товарищи! — строго сказал он. — Повеселились и хватит. Открытие, которое сделали Следопыты, представляет огромный интерес, но мы собрались не для этого. Схема Старой Базы у нас теперь есть. Облаву начнем через три для. Приказ на облаву будет отдан сегодня вечером. Предварительно сообщаю, что начальником группы облавы назначается Опанасенко, его заместителем — Ливанов. А теперь прошу всех, кроме моих заместителей, покинуть кабинет и разойтись по рабочим местам. В кабинете была только одна дверь в коридор, и кабинет пустел медленно. В дверях вдруг образовалась пробка. — Радиограмма директору! — закричал кто-то. — Передайте по рукам! Сложенный листок бумаги поплыл над головами. Директор, споривший о чем-то с Опанасенко, взял и развернул его. Наташа увидела, как он побледнел, а потом покраснел. — Что случилось? — пробасил Опанасенко. — С ума сойти можно! — сказал директор с отчаянием. — Завтра сюда на «Тахмасибе» прибывает Юрковский. — Володя?.. — спросил Опанасенко. — Это хорошо! — Кому Володя, — простонал директор, — а кому генеральный инспектор Международного управления космических сообщений! Директор еще раз перечитал радиограмму и тяжело вздохнул.«ТАХМАСИБ». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР И ДРУГИЕ
Мягкий свисток будильника разбудил Юру ровно в восемь утра по бортовому времени. Юра приподнялся на локте и сердито посмотрел на будильник. Будильник подождал немного и засвистел снова. Юра застонал и сел на койке. «Нет, больше по вечерам я читать не буду, — подумал он. — Почему это вечером никогда не хочется спать, а утром испытываешь такие мучения?» В каюте было прохладно, даже холодно. Юра обхватил руками голые плечи и постучал зубами. Затем он спустил ноги на пол, протиснулся между койкой и стеной и вышел в коридор. В коридоре было еще холоднее, но там стоял Жилин, могучий, мускулистый, в одних трусиках. Жилин делал зарядку. Некоторое время Юра, обхватив руками плечи, стоял и смотрел, как Жилин делает зарядку. В каждой руке у Жилина было зажато по десятикилограммовой гантели. Жилин вел бой с тенью. Тени приходилось плохо. От страшных ударов по коридору носился ветерок. — Доброе утро, Ваня! — сказал Юра. Жилин мгновенно и бесшумно повернулся и скользящими шагами двинулся на Юру, ритмично раскачиваясь всем телом. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное. Юра принял боевую стойку. Тогда Жилин положил гантели на пол и кинулся в бой. Юра рванулся ему навстречу, и через несколько минут ему стало жарко. Жилин хлестко и больно избивал его полураскрытой ладонью. Юра три раза попал ему в лоб, и каждый раз на лице Жилина появлялась улыбка удовольствия. Когда Юра взмок, Жилин сказал: — Брэк! И они остановились. — Доброе утро, стажер, — сказал Жилин. — Как спалось? — Спа… си… бо, — сказал Юра. — Ни… че… го. — В душ! — скомандовал Жилин. Душевая была маленькая, на одного человека, и возле нее уже стоял с брезгливой усмешкой Юрковский в роскошной, красной с золотом, пижаме, с колоссальным мохнатым полотенцем через плечо. Он говорил сквозь дверь: — Во всяком случае… э-э… я отлично помню, что Краюхин тогда отказался утвердить этот проект… Что? Из-за двери слабо слышался шум струй, плеск и неразборчивый тонкий тенорок. — Ничего не слышу! — негодующе сказал Юрковский. Он повысил голос. — Я говорю, что Краюхин отклонил этот проект, и если ты напишешь, что это была историческая ошибка, то ты будешь прав… Что? Дверь душевой отворилась, и оттуда, еще продолжая вытираться, вышел розовый, бодрый Михаил Антонович Крутиков, штурман «Тахмасиба». — Ты тут что-то говорил, Володенька? — благодушно сказал он. — Только я ничего не слышал. Вода очень шумит. Юрковский с сожалением на него посмотрел, вошел в душевую и закрыл за собой дверь. — Мальчики, он не рассердился? — спросил встревоженно Михаил Антонович. — Мне почему-то показалось, что он рассердился. Жилин пожал плечами, а Юра сказал неуверенно: — По-моему, ничего. Михаил Антонович вдруг закричал: — Ах, ах, каша разварится! — и быстро побежал по коридору на камбуз. — Говорят, сегодня прибываем на Марс? — деловито осведомился Юра. — Был такой слух, — сказал Жилин. — Правда, тридцать-тридцать по курсу обнаружен корабль под развевающимся пиратским флагом, но я полагаю, что мы проскочим. — Он вдруг остановился и прислушался. Юра тоже прислушался. В душевой обильно лилась вода. Жилин пошевелил коротким носом. — Чую… — сказал он. Юра тоже принюхался. — Каша, что ли? — спросил он неуверенно. — Нет, — ответил Жилин, — зашалил недублированный фазоциклер. Ужасный шалун, этот недублированный фазоциклер. Чую, что сегодня его придется регулировать. Юра с сомнением посмотрел на него. Это могло быть шуткой, а могло быть и правдой. Жилин обладал изумительным чутьем на неисправности. Из душевой вышел Юрковский. Он величественно посмотрел на Жилина и еще более величественно — на Юру. — Э-э… — сказал он, — кадет и поручик. А кто сегодня дежурный по камбузу? — Михаил Антонович, — ответил Юра застенчиво. — Значит, опять овсяная каша! — величественно сказал Юрковский и прошел к себе в каюту. Юра проводил его восхищенным взглядом. Юрковский поражал его воображение. — А? — сказал Жилин. — Громовержец! Зевс!.. А? Ступай мыться. — Нет, — сказал Юра, — сначала вы, Ваня. — Тогда пойдем вместе. Что ты здесь будешь один торчать? Как-нибудь втиснемся. После душа они оделись и явились в кают-компанию. Все уже сидели за столом, и Михаил Антонович раскладывал по тарелкам овсяную кашу. Увидев Юру, Быков посмотрел на часы и потом снова на Юру. Он делал так каждое утро. Сегодня замечания не последовало. — Садитесь, — сказал Быков. Юра сел на свое место — рядом с Жилиным и напротив капитана. И Михаил Антонович, ласково на него поглядывая, положил ему каши. Юрковский ел кашу с видимым отвращением и читал какой-то толстый переплетенный машинописный отчет, положив его перед собой на корзинку с хлебом. — Иван, — обратился к Жилину Быков, — недублированный фазоциклер теряет настройку. Займись. — Я, Алексей Петрович, займусь им, — сказал Иван. — Последние рейсы я только им и занимаюсь. Надо либо менять схему, либо ставить дублер. — Схему менять надо, Алешенька, — сказал Михаил Антонович. — Устарело это все: и фазоциклеры, и вертикальная развертка, и телетакторы… Вот я помню, лет пять назад мы ходили к Урану на «Хиусе-8». В две тысячи первом… — Не в две тысячи первом, а в девяносто девятом, — пробурчал Юрковский, не отрываясь от отчета. — Мемуарщик… — А по-моему… — начал Михаил Антонович и задумался. — Не слушай ты его, Михаил, — сказал Быков. — Какое кому дело, когда это было? Главное — кто ходил, на чем ходил, как ходил… Юра тихонько поерзал на стуле. Начинался традиционный утренний разговор. «Бойцы вспоминали минувшие дни». Михаил Антонович, собираясь в отставку, писал мемуары. — То есть как это? — удивился Юрковский, поднимая глаза от рукописи. — А приоритет? — Какой еще приоритет? — спросил Быков. — Мой приоритет. — Зачем тебе понадобился приоритет? — По-моему, очень приятно быть… э-э… первым. — Да на что тебе быть первым? — удивился Быков. Юрковский подумал. — Честно говоря, не знаю, — сказал он. — Мне просто приятно. — Лично мне это совершенно безразлично, — сказал Быков. Юрковский, снисходительно улыбаясь, помотал в воздухе указательным пальцем: — Так ли, Алексей? — Может быть, и неплохо оказаться первым, — ответил Быков, — но лезть из кожи вон, чтобы быть первым, — занятие нескромное. По крайней мере, для ученого. Жилин подмигнул Юре. Юра понял это так: «Мотай на ус». — Не знаю, не знаю, — сказал Юрковский, демонстративно возвращаясь к отчету. — Во всяком случае, Михаил обязан придерживаться исторической правды. В девяносто девятом году экспедиционная группа Дауге и Юрковского впервые в истории науки открыла и исследовала бомбозондами так называемое аморфное поле на северном полюсе Урана. Следующее исследование пятна было произведено годом позже.
— Кем? — с очень большим интересом спросил Жилин. — Не помню, — ответил рассеянно Юрковский. — Кажется, Лекруа… Михаил, нельзя ли… э-э… освободить стол? Мне надо работать. Наступали священные часы работы Юрковского. Он всегда работал в кают-компании — он так привык. Михаил Антонович и Жилин ушли в рубку. Юра хотел последовать за ними — было очень интересно посмотреть, как настраивают недублированный фазоциклер, но Юрковский остановил его. — Э-э… кадет, — попросил он, — не сочтите за труд, принесите мне, пожалуйста, бювар из моей каюты. Он лежит на койке. Юра сходил за бюваром. Когда он вернулся, Юрковский что-то печатал на портативной электромашинке, небрежно порхая по контактам пальцами правой руки. Быков уже сидел на обычном месте — в большом персональном кресле под торшером; рядом с ним на столике возвышалась огромная пачка газет и журналов. На носу Быкова были большие старомодные очки. Первое время Юра поражался, глядя на Быкова. На корабле работали все. Жилин ежедневно вылизывал ходовую и контрольную системы. Михаил Антонович считал и пересчитывал курс, вводил дополнительные команды на киберуправление, заканчивал большой учебник и еще ухитрялся как-то находить время для мемуаров. Юрковский до глубокой ночи читал какие-то пухлые отчеты, получал и отправлял бесчисленные радиограммы, что-то расшифровывал и зашифровывал на электромашинке. А капитан корабля Алексей Петрович Быков читал газеты и журналы. Раз в сутки он, правда, выстаивал очередную вахту. Но все остальное время он проводил в своей каюте, либо под торшером в кают-компании. Юру это удивляло. На третьи сутки он не выдержал и спросил у Жилина: зачем на корабле капитан?. — Для ответственности, — сказал Жилин. — Если, скажем, кто-нибудь потеряется. У Юры вытянулось лицо. Жилин засмеялся и добавил: — Капитан отвечает за всю организацию рейса. Перед рейсом у него нет ни одной свободной минуты. Ты заметил, что он читает? Это газеты и журналы за последних два месяца. — А во время рейса? — спросил Юра. Они стояли в коридоре и не заметили, как подошел Юрковский. — Во время рейса капитан нужен только тогда, когда случается катастрофа, — сказал он со странной усмешкой. — И тогда он нужен больше, чем кто-нибудь другой. Юра, ступая на цыпочках, положил рядом с Юрковским бювар. Бювар был роскошный, как и всё у Юрковского. В углу бювара была врезана золотая пластина с надписью: «IV Всемирный конгресс планетологов. 20 XII 02. Конакри». — Спасибо, кадет, — сказал Юрковский, откинулся на стуле и задумчиво посмотрел на Юру. — Вы бы сели да побеседовали со мной, стариком, — продолжал он негромко. — А то через десять минут принесут радиограммы, и опять начнется кавардак на целый день. (Юра сел. Он был безмерно счастлив.) Вот давеча я говорил о приоритете и, кажется, немного погорячился. Действительно, что значит одно имя в океане человеческих усилий, в бурях человеческой мысли, в грандиозных приливах и отливах человеческого разума? Вот подумайте, Юра, сотни людей в разных концах Вселенной собрали для нас необходимую информацию, дежурный на «Спу-пять», усталый, с красными от бессонницы глазами, принимал и кодировал ее, другие дежурные программировали трансляционные установки, а затем еще кто-то нажмет на пусковую клавишу — гигантские отражатели заворочаются, разыскивая в пространстве наш корабль. И мощный квант, насыщенный информацией, сорвется с острия антенны и устремится в пустоту вслед за нами… Юра слушал, глядя ему в рот. Юрковский продолжал: — Капитан Быков несомненно прав. Собственное имя на карте не должно означать слишком много для настоящего человека. Радоваться своим успехам надо скромно, один на один с собой. А с друзьями надо делиться только радостью поиска, радостью погони и смертельной борьбы. Вы знаете, Юра, сколько людей на Земле?.. Четыре миллиарда! И каждый из них работает. Или гонится. Или ищет. Или дерется насмерть. Иногда я пробую представить себе все эти четыре миллиарда одновременно. Капитан Фрэд Дулитл ведет пассажирский лайнер, и за сто мегаметров до финиша выходит из строя питающий реактор, и у Фрэда Дулитла за пять минут седеет голова, но он надевает большой черный берет, идет в кают-компанию и хохочет там с пассажирами, с теми самыми пассажирами, которые так ничего и не узнают и через сутки разъедутся с ракетодрома и навсегда забудут даже имя Фрэда Дулитла. Профессор Канаяма отдает всю свою жизнь созданию стереосинтетиков, и в одно жаркое сырое утро его находят мертвым в кресле возле лабораторного стола. И кто из сотен миллионов, которые будут носить изумительные, красивые и прочные одежды из стереосинтетиков профессора Канаямы, вспомнит его имя? А Юрий Бородин будет в необычайно трудных условиях возводить жилые купола на маленькой каменистой Рее. И можно ручаться, что ни один из будущих обитателей этих жилых куполов никогда не услышит имени Юрия Бородина. И ты знаешь, Юра, это очень справедливо. Ибо и Фрэд Дулитл тоже уже забыл имена своих пассажиров, а ведь они идут на смертельно опасный штурм чужой планеты. И профессор Канаяма никогда в глаза не видел тех, кто носит одежду из его тканей, а ведь эти люди кормили и одевали его, пока он работал. И ты, Юра, никогда, наверное, не узнаешь о героизме ученых, что поселятся в домах, которые ты выстроишь. Таков мир, в котором мы живем. Очень хороший мир!..

Юрковский кончил говорить и посмотрел на Юру с таким выражением, словно ожидал, что Юра тут же переменится к лучшему. Юра молчал. Это называлось «беседовать со стариком». Оба очень любили такие беседы. Ничего особенно нового для Юры в этих беседах, конечно, не было, но у него всегда оставалось впечатление чего-то огромного и сверкающего. Вероятно, все дело было в личности самого великого планетолога — весь он был какой-то красный с золотом. В кают-компанию вошел Жилин, положил перед Юрковским катушки радиограмм. — Утренняя почта, — сказал он. — Спасибо, Ваня, — расслабленным голосом произнес Юрковский. Он взял наугад катушку, вставил ее в машинку и включил дешифратор. Машинка бешено застучала. — Ну вот, — тем же голосом сказал Юрковский, вытягивая из машинки лист бумаги. — Опять на Церере программу не выполнили. Жилин крепко взял Юру за рукав и повлек его в рубку. Позади раздавался крепнущий голос Юрковского: — Снять его надо, раба божьего, и перевести на Землю, пусть сидит смотрителем музея…
Юра стоял за спиной Жилина и глядел, как настраивают фазоциклер. «Ничего не понимаю, — думал он с унынием. — И никогда не пойму». Фазоциклер был деталью комбайна контроля отражателя и служил для измерения плотности потока радиации в рабочем объеме отражателя. Следить за настройкой фазоциклера нужно было по двум экранам. На экранах вспыхивали и медленно гасли голубоватые искры и извилистые линии. Иногда они смешивались в одно сплошное светящееся облако, и тогда Юра думал, что все пропало и настройку нужно начинать сначала, а Жилин со вкусом приговаривал: — Превосходно! А теперь еще на полградуса… Все действительно начиналось сначала. На возвышении, в двух шагах позади Юры, сидел за пультом счетной машины Михаил Антонович и писал мемуары. Пот градом катился по его лицу. Юра уже знал, что писать мемуары Михаила Антоновича заставил архивный отдел Международного управления космических сообщений. Михаил Антонович царапал пером, возводил очи горе, что-то считал на пальцах и время от времени грустным голосом принимался петь веселые песни. Михаил Антонович был добряк, каких мало. В первый же день он подарил Юре плитку шоколада и попросил прочитать написанную часть мемуаров. Критику прямодушной молодости он воспринял крайне болезненно, но с тех пор стал считать Юру непререкаемым авторитетом в области мемуарной литературы. — Вот послушай, Юрик! — вскричал он. — И ты, Ванюша, послушай! — Слушаем, Михалл Антонович, — с готовностью сказал Юра. Михаил Антонович откашлялся и стал читать: — «С капитаном Степаном Афанасьевичем Варшавским я встретился впервые на солнечных и лазурных берегах Таити. Яркие звезды мерцали над бескрайным Великим или Тихим океаном. Он подошел ко мне и попросил закурить, сославшись на то, что забыл свею трубку в отеле. К сожалению, я не курил, но это не помешало нам разговориться и узнать друг о друге. Степан Афанасьевич произвел на меня самое благоприятное впечатление. Это оказался милейший, превосходнейший человек. Он был очень добр, умен, с широчайшим кругозором. Я поражался обширности его познаний. Ласковость, с которой он относился к людям, казалась мне иногда необыкновенной…» — Ничего, — сказал Жилин, когда Михаил Антонович замолк и застенчиво на них посмотрел. — Я здесь только попытался дать портрет этого превосходного человека, — пояснил Михаил Антонович. — Да, ничего, — повторил Жилин, внимательно наблюдая за экранами. — Как это у вас сказано: «Над солнечными и лазурными берегами мерцали яркие звезды». Очень свежо. — Где? Где? — засуетился Михаил Антонович. — Ну, это просто описка, Ваня. Не нужно так шутить. Юра напряженно думал, к чему бы это прицепиться. Ему очень хотелось поддержать свое реноме. — Вот я и раньше читал вашу рукопись, Михаил Антонович, — сказал он наконец. — Сейчас я не буду касаться литературной стороны дела. Но почему они у вас все такие милейшие и превосходнейшие? Нет, они действительно, наверное, хорошие люди, но у вас их совершенно нельзя отличить друг от друга. — Что верно, то верно, — сказал Жилин. — Уж кого-кого, а капитана Варшавского я отличу от кого угодно. Как он это всегда выражается? «Динозавры, австралопитеки, тунеядцы несчастные». — Нет, извини, Ванюша, — с достоинством сказал Михаил Антонович. — Мне он ничего подобного не говорил. Вежливейший и культурнейший человек! — Скажите, Михаил Антонович, — сказал Жилин, — а что вы про меня напишете? Михаил Антонович растерялся. Жилин отвернулся от приборов и с интересом на него смотрел. — Я, Ванюша, не собирался… — Михаил Антонович вдруг оживился. — А ведь это мысль, мальчики! Правда, я напишу главу. Это будет заключительная глава. Я ее так и назову: «Мой последний рейс». Нет, «мой» — это как-то нескромно. Просто: «Последний рейс». И там я напишу, как мы сейчас все летим вместе, и Алеша, и Володя, и вы, мальчики. Да, это хорошая идея — «Последний рейс»… И Михаил Антонович снова обратился к мемуарам.
Успешно завершив очередную настройку недублированного фазоциклера, Жилин пригласил Юру спуститься в машинные недра корабля — к основанию фотореактора. У основания фотореактора оказалось холодно и неуютно. Жилин неторопливо принялся за свой ежедневный «чек-ап». Юра медленно шел за ним, засунув руки глубоко в карманы, стараясь не касаться покрытых инеем поверхностей. — Здорово это все-таки! — сказал он с завистью. — Что именно? — осведомился Жилин. Он со звоном откидывал и снова захлопывал какие-то крышки, отодвигал полупрозрачные заслонки, за которыми кабаллистически мерцала путаница печатных схем; включал маленькие экраны, на которых тотчас возникали яркие точки импульсов, прыгающие по координатной сетке; запускал крепкие ловкие пальцы во что-то невообразимо сложное, многоцветное, вспыхивающее. И делал он все это небрежно, легко, не задумываясь, и до того ладно и вкусно, что Юре захотелось сейчас же сменить специальность и вот так же непринужденно повелевать поражающим воображение гигантским организмом фотонного чуда. — У меня слюнки текут, — признался Юра. Жилин засмеялся. — Правда, — сказал Юра. — Не знаю, для вас это все, конечно, привычно и буднично, может быть, даже надоело, но это все равно здорово. Я люблю, когда большой и сложный механизм — и рядом один человек… повелитель. Это здорово, когда человек — повелитель! Жилин чем-то щелкнул, и на шершавой серой стене радугой загорелись сразу шесть экранов. — Человек уже давно такой повелитель, — проговорил он, внимательно разглядывая экраны. — Вы, наверное, гордитесь, что вы… такой! Жилин выключил экраны. — Пожалуй, — сказал он. — Радуюсь, горжусь и прочее. — Он двинулся дальше вдоль заиндевевших пультов. — Я, Юрочка, уже десять лет хожу в повелителях, — произнес он с какой-то странной интонацией. — Давай не будем об этом, а? Юра прикусил губу. Жилин всегда с готовностью отвечал на все его вопросы относительно технических деталей своей работы, но терпеть не мог касаться ее психологической стороны. «И кто меня за язык тянет?» — с досадой подумал Юра. Он огляделся и сказал, чтобы переменить тему: — Здесь должны водиться привидения… — Чш-ш-ш! — с испугом произнес Жилин и тоже огляделся по сторонам. — Их здесь полным-полно. Вот тут, — он указал в темный проход между двумя панелями, — я нашел… только не говори никому… детский чепчик! Юра засмеялся. — Тебе следует знать, — продолжал Жилин, — что наш «Тахмасиб» весьма старый корабль. Он побывал на многих планетах, и на каждой планете на него грузились местные привидения. Целыми дивизиями. Они таскаются по кораблю, стонут, ноют, набиваются в приборы, нарушают работу фазоциклера… Им, видишь ли, очень досаждают призраки бактерий, убитых во время дезинфекций. И никак от них не избавишься. — Их надо святой водой. — Пробовал! — Жилин махнул рукой, открыл большой люк и погрузился в него верхней частью туловища. — Все пробовал, — гулко сказал он из люка. — И простой святой водой, и дейтериевой, и тритиевой. Никакого впечатления. Но я придумал, как избавиться. Он вылез из люка, захлопнул крышку и посмотрел на Юру серьезными глазами. — Надо проскочить на «Тахмасибе» сквозь Солнце. Ты понимаешь? Не было еще случая, чтобы привидение выдержало температуру термоядерной реакции. Кроме шуток, ты серьезно не слыхал о моем проекте сквозьсолнечного корабля? Юра помотал головой. Ему никогда не удавалось определить тот момент, когда Жилин переставал шутить и начинал говорить серьезно. — Пойдем, — сказал Жилин, взяв его под руку. — Пойдем наверх, я расскажу тебе, как это делается. Наверху, однако, Юру поймал Быков. — Стажер Бородин, — сказал он, — ступайте за мной. Юра горестно вздохнул и поглядел на Жилина. Жилин едва заметно развел руками. Быков привел Юру в кают-компанию и усадил за стол напротив Юрковского. Предстояло самое неприятное время суток: два часа принудительных занятий физикой металлов. Быков рассудил, что время перелета стажер должен использовать рационально, и с первого же дня заставил Юру изучать теоретические вопросы вакуумной сварки. Честно говоря, это было не так уж неинтересно, но Юру угнетала мысль, что его заставляют заниматься, как школяра. Сопротивляться он не смел, но занимался с большой прохладцей. Быков вернулся в свое кресло, несколько минут смотрел, как Юра нехотя листает страницы книги, а затем развернул очередную газету. Юрковский вдруг перестал шуметь электромашинкой и повернулся к Быкову: — Ты слыхал что-нибудь о статистике нарушений? — Каких нарушений? — спросил Быков из-за газеты. — Я имею в виду нарушения… э-э… режима работы в Космосе. Число таких нарушений и случаев невыполнения планов исследовательских работ растет с удалением от Земли, достигает максимума в поясе астероидов и снова спадает к границам… э-э… Солнечной системы. — Ты генеральный инспектор, тебе и карты в руки, — сказал Быков. Юрковский некоторое время молча смотрел в бумаги. — Вопиющая безответственность! — сказал вдруг он и снова зашумел машинкой. Юра уже знал, что такое «спецрейс 17». Кое-где в огромной сети космических поселений, охватившей всю Солнечную систему, происходило неладное, и Международное управление космических сообщений решило покончить с этим раз и, по возможности, навсегда. Юрковский был генеральным инспектором МУКСа и имел, по-видимому, неограниченные полномочия. Он обладал правом указывать, порицать, выяснять все до тонкостей, отправлять виновных на Землю и, судя по всему, был намерен пользоваться этим правом в полной мере. Более того, Юрковский намеревался падать на виновных как снег на голову, и поэтому спецрейс 17 был совершенно секретным. Из обрывков разговоров и из того, что Юрковский зачитывал вслух, следовало, что фотонный планетолет «Тахмасиб» после кратковременной остановки у Марса пройдет через пояс астероидов, задержится в системе Сатурна, затем оверсаном выйдет к Юпитеру и опять-таки через пояс астероидов вернется на Землю. Над какими именно небесными телами нависла грозная тень генерального инспектора, Юра так и не понял. Жилин только сказал Юре, что «Тахмасиб» высадит Юру на Япете, а оттуда планетолеты местного сообщения перебросят его (Юру) на Рею. Юрковский опять перестал шуметь машинкой. — Меня очень беспокоят научники у Сатурна, — озабоченно сказал он. — Умгу, — донеслось из-за газеты. — Программа исследования Кольца практически не выполняется. — Умгу. Юрковский сказал сердито: — Не воображай, пожалуйста, что я беспокоюсь за эту программу оттого, что она моя! — А я и не воображаю. — Я думаю, мне придется их подтолкнуть, — заявил Юрковский. — Ну что ж, в час добрый, — сказал Быков и перевернул газетную страницу. Юра почувствовал, что весь разговор этот — и странная нервозность Юрковского, и нарочитое равнодушие Быкова — имеет какой-то второй смысл. Похоже было, что необозримые полномочия генерального инспектора имели все-таки где-то границы и что Быков и Юрковский об этих границах великолепно знали. Юрковский сказал: — Однако не пора ли пообедать?.. Кадет, не могли бы вы вакуумно сварить обед? Быков буркнул из-за газеты: — Не мешай работать. — Но я хочу есть! — Потерпишь, — сказал Быков.
МАРС. ОБЛАВА
В четыре часа утра Феликс Рыбкин сказал: — Пора!.. И все стали собираться. На дворе было минус восемьдесят три градуса. Юра натянул на ноги две пары пуховых носков, одолженных ему Наташей, тяжелые меховые штаны, которые ему дал Матти, нацепил поверх штанов аккумуляторный пояс и влез в унты. Следопыты Феликса, невыспавшиеся и мрачноватые, торопливо пили горячий кофе. Наташа бегала на кухню и обратно, носила бутерброды, горячий кофе и термосы. Кто-то попросил бульону. Наташа побежала на кухню и принесла бульон. Рыбкин и Жилин сидели на корточках в углу комнаты над раскрытым плоским ящиком, из которого торчали блестящие хвосты ракетных гранат. Ракетные ружья привез на Теплый Сырт Юрковский. Матти в последний раз проверял электрообогреватель куртки, предназначенной для Юры. Следопыты напились кофе и молча потянулись к выходу, привычным движением натягивая на лицо кислородные намордники. Феликс с Жилиным взяли ящик с гранатами и тоже пошли к выходу. — Юра, ты готов? — спросил Жилин. — Сейчас, сейчас! — заторопился Юра. Матти помог ему облачиться в куртку и сам подключил электрообогреватели к аккумуляторам. — А теперь беги на улицу, — сказал он, — а то вспотеешь. Юра сунул руки в рукавицы и побежал за Жилиным. На дворе было совсем темно. Юра пересек наблюдательную площадку и спустился к танку. Здесь в темноте негромко переговаривались, слышалось позвякивание металла о металл. Юра налетел на кого-то. Из темноты посоветовали надеть очки. Юра посоветовал не торчать на дороге. — Вот чудак! — сказали из темноты. — Надень тепловые очки. Юра вспомнил про инфракрасные очки и надвинул их на глаза. Намного лучше от этого не стало, но теперь Юра хорошо различал силуэты людей и широкую корму танка, нагретую атомным реактором. На танк грузили ящики с боеприпасами. Сначала Юра встал на подачу, но потом рассудил, что места в танке может не хватить и тогда его наверняка оставят в обсерватории. Он тихонько вышел и вскарабкался на корму. Там двое здоровенных парней с надвинутыми капюшонами принимали ящики. — Кого это несет? — добродушно спросил один. — Это я, — сказал Юра. — А, столичная штучка! — сказал другой. — Ступай в кузов, задвигай ящики под сиденья. «Столичной штучкой» Юру назвали местные сварщики, которым он накануне помогал оборудовать танки турелями для ракетных ружей и демонстрировал новейшие методы сварки в разреженных атмосферах. В кузове были всё те же восемьдесят три градуса ниже нуля, поэтому видеть здесь тепловые очки не помогали. Юра с энтузиазмом таскал ящики по гремящему дну кузова и на ощупь запихивал их под сиденья, натыкаясь на какие-то острые, твердые углы, торчащие отовсюду. Потом таскать стало нечего. Через высокие борта полезли молчаливые Следопыты и стали рассаживаться, гремя карабинами. Юре несколько раз чувствительно наступали на ноги, и кто-то надвинул капюшон ему на глаза. В передней части кузова послышался отвратительный скрип — по-видимому, Феликс пробовал турель. Потом кто-то сказал: — Едут. Юра осторожно высунул из-за борта голову. Он увидел серую стену обсерватории и блики прожекторов, скользящие по наблюдательной площадке. Это подходили остальные три танка центральной группы. Голос Феликса негромко сказал: — Малинин! — Я, — откликнулся Следопыт, сидевший рядом с Юрой. — Петровский! — Здесь. — Хомерики! Закончив перекличку (фамилии Юры и Жилина названы почему-то не были), Феликс сказал: — Поехали. Песчаный танк «Мимикродон» заворчал двигателем, лязгнул и, грузно кренясь, с ходу полез куда-то в гору. Юра посмотрел вверх. Звезд видно не было — их заволокло пылью. Смотреть стало абсолютно не на что. Танк немилосердно трясло. Юра поминутно слетал с жесткого сиденья, натыкаясь все на те же острые, твердые углы. В конце концов Следопыт, сидевший рядом, спросил: — Ну что ты все время прыгаешь? — Откуда я знаю? — сердито ответил Юра. Он ухватился за какой-то продолговатый предмет, торчавший из борта, и ему стало легче. Время от времени в клубах пыли, нависших над танком, вспыхивал свет прожекторов, и тогда на светлом фоне Юра видел черное кольцо турели и толстый длинный ствол ракетного ружья, задранный к небу. Следопыты негромко переговаривались. — Я вчера ходил на эти развалины. — Ну и как? — Разочаровался, честно говоря. — Да, архитектура только на первый взгляд кажется странной, а потом начинаешь чувствовать, что ты это где-то уже видел. — Купола, параллелепипеды… — Вот именно. Совершенно как Теплый Сырт. — Потому никому и в голову не приходило, что это не наше. — Еще бы… После чудес Фобоса и Деймоса… — А мне вот как раз это сходство и странно. — Материал анализировали? Юре было неудобно, жестко и как-то одиноко. Никто с ним не разговаривал, никто на него не обращал внимания. Люди вокруг казались чужими, равнодушными. Лицо обжигал свирепый холод. В железное днище под ногами со страшной силой били камни, летящие из-под гусениц. Правда, где-то рядом находился Жилин, но его не было ни слышно, ни видно. Юра даже почувствовал какую-то обиду на него. Хотелось, чтобы скорее взошло солнце, чтобы стало тепло и светло и чтобы перестало так трясти. Быков отпустил Юру на Марс с большой неохотой и под личную ответственность Жилина. Сам он с Михаилом Антоновичем остался на корабле и крутился сейчас вместе с Фобосом на расстоянии девяти тысяч километров от Марса. Где был сейчас Юрковский, Юра не знал. Наверное, он тоже участвовал в облаве. «Хоть бы карабин дали, — уныло думал Юра. — Я же им все-таки турели варил». Все вокруг были с карабинами и, наверное, поэтому чувствовали себя так свободно и спокойно. «Все-таки человек по своей природе неблагодарен и равнодушен. — с горечью подумал Юра. — И чем старше, тем больше. Вот если бы здесь были наши ребята, все было бы наоборот. У меня был бы карабин, я знал бы, куда мы едем и зачем. И я знал бы, что делать». Танк вдруг остановился. От света прожекторов, метавшегося по тучам пыли, стало совсем светло. В кузове все замолчали. И Юра услышал незнакомый голос: — Рыбкин, выходите на западный склон. Кузьмин — на восточный. Джефферсон, останьтесь на южном. Танк снова двинулся. Свет прожектора упал в кузов, и Юра увидел Феликса, стоявшего у турели с радиофоном в руке. — Становись своим бортом к западу, — сказал Рыбкин водителю. Танк сильно накренился, и Юра расставил локти, чтобы не сползти на дно. — Так, хорошо, — сказал Феликс. — Подай еще немного вперед. Там ровнее. Танк снова остановился. Рыбкин сказал в радиофон: — Рыбкин на месте, товарищ Ливанов. — Хорошо, — сказал Ливанов. Все Следопыты стояли, заглядывая через борта. Юра тоже посмотрел. Ничего не было видно, кроме плотных туч пыли, медленно оседающей в лучах прожекторов. — Кузьмин на месте. Только тут рядом какая-то башня. — Спуститесь ниже. — Слушаюсь. — Внимание! — сказал Ливанов. На этот раз он говорил в мегафон, и его голос громом прокатился над пустыней. — Облава начнется через несколько минут. До восхода солнца остался час. Загонщики будут здесь полчаса. Через полчаса включить ревуны. Можно стрелять. Всё. Следопыты зашевелились. Снова послышался отвратительный скрежет турели. Борта танка ощетинились карабинами. Но пыль оседала, и силуэты людей постепенно таяли, сливаясь с ночной темнотой. Снова стали видны звезды. — Юра! — негромко позвал Жилин. — Что? — сердито откликнулся Юра. — Ты где? — Здесь. — Иди-ка сюда, — строго сказал Жилин. — Куда? — спросил Юра и полез на голос. — Сюда, к турели. В кузове оказалось огромное количество ящиков. «И откуда они здесь взялись?» — подумал Юра. Мощная рука Жилина ухватила его за плечо и подтащила под турель. — Сиди здесь! — строго сказал Жилин. — Будешь помогать Феликсу. — А как? — спросил Юра. Он был еще обижен, но уже отходил. Феликс Рыбкин тихо сказал: — Вот здесь ящики с гранатами. — Он посветил фонариком. — Вынимайте гранаты по одной, снимайте колпачок с хвостовой части и подавайте мне. Следопыты переговаривались: — Ничего не вижу. — Очень холодно сегодня, все остыло. — Да, осень скоро. — Вот я, например, вижу на фоне звезд какой-то купол наверху и целюсь в него. — Зачем? — Это единственное, что я вижу. — А спать можно? Феликс над головой Юры тихо сказал: — Ребята, за восточной стороной слежу я. Не стреляйте пока, я хочу опробовать ружье. Юра сейчас же взял гранату и снял колпачок. На несколько минут наступила мертвая тишина. — А славная девушка Наташа, правда? — сказал кто-то шепотом. Феликс сделал движение. Турель скрипнула. — Зря она так коротко стрижется, — отозвались с западного борта. — Много ты понимаешь… — Она на мою жену похожа. Только волосы короче и светлее. — И чего это Сережка зевает? Такой лихой парень, не похоже на него. — Какой Сережка? — Сережка Белый, астроном. — Женат, наверное. — Нет. — Они ее все очень любят. Просто по-товарищески. Она ведь на редкость славный человек. И умница. Я ее еще по Земле немножко знаю. — То-то ты ее за бульоном гонял. — А что такого? — Да нехорошо просто. Она всю ночь работала, потом завтрак нам готовила. А тебе вдруг приспичило бульону… — Тс-с-с! В мгновенно наступившей тишине Феликс тихо сказал: — Юра, хотите посмотреть на пиявку?.. Смотрите! Юра немедленно высунулся. Сначала он увидел только черные изломанные силуэты развалин. Потом что-то бесшумно задвигалось там. Длинная гибкая тень поднялась над башнями и медленно закачалась, закрывая и открывая яркие звезды. Снова скрипнула турель, и тень застыла. Юра затаил дыхание. «Сейчас, — подумал он. — Сейчас». Тень изогнулась, словно складываясь, и в ту же секунду ракетное ружье выпалило. Раздался длинный шипящий звук, брызнули искры, огненная дорожка протянулась к вершине холма, что-то гулко лопнуло, ослепительно вспыхнуло, и снова наступила тишина. С вершины холма посыпались камешки. — Кто стрелял? — проревел мегафон. — Рыбкин, — сказал Феликс. — Попал? — Да. — Ну, в добрый час! — проревел мегафон. — Гранату, — тихо сказал Феликс. Юра поспешно сунул ему в руку гранату. — Это здорово! — с завистью сказал кто-то из Следопытов. — Прямо напополам. — Да, это не карабин. — Феликс, а почему нам всем таких не дали? Феликс ответил: — Юрковский привез всего двадцать пять штук. — Жаль. Доброе оружие! — Прямо напополам. Как горлышко от бутылки. С восточного борта вдруг начали палить. Юра азартно вертел головой, но ничего не видел. Зашипела и лопнула над развалинами ракета, пущенная с какого-то другого танка. Феликс выстрелил еще раз. — Гранату! — сказал он громко. Пальба с небольшими перерывами продолжалась минут двадцать. Юра ничего не видел. Он подавал гранату за гранатой и вспотел. Стреляли с обоих бортов. Феликс со страшным скрежетом поворачивал ружье на турели. Затем включили ревуны. Тоскливый, грубый вой понесся над пустыней. У Юры заныли зубы и зачесались пятки. Стрелять перестали, но разговаривать было совершенно невозможно. Быстро светало. Юра теперь видел Следопытов. Почти все они сидели, прижавшись спиной к бортам, нахохлившись, плотно надвинув капюшоны. На дне стояли раскрытые пластмассовые ящики с торчащими из них клочьями цветного целлофана, в изобилии валялись расстрелянные гильзы, пустые обоймы. Перед Юрой на ящике сидел Жилин, держа карабин между колен. На открытых щеках его слабо серебрилась изморозь. Юра встал и посмотрел на Старую Базу. Серые изъеденные стены, колючий кустарник, камни. Юра был разочарован. Он ожидал увидеть дымящиеся груды трупов. Только присмотревшись, он заметил желтоватое щетинистое тело, застрявшее в расщелине среди колючек, да на одном из куполов что-то мокро и противно блестело. Юра повернулся и посмотрел в пустыню. Пустыня была серая под темно-фиолетовым небом, покрытая серой рябью барханов, мертвая и скучная. Но высоко над ровным горизонтом Юра увидел яркую желтую полосу, клочковатую, рваную, протянувшуюся через всю западную часть неба. Полоса быстро ширилась, росла, наливалась светом. — Загонщики идут! — закричал кто-то. Его было еле слышно в реве сирен. Юра догадался, что желтая яркая полоса над горизонтом — это туча пыли, поднятая облавой. Солнце поднималось навстречу загонщикам, на пустыню легли красные пятна света, и вдруг осветилось огромное желтое облако, заволакивающее горизонт. — Загонщики, загонщики! — завопил Юра. Весь горизонт — прямо, справа, слева — покрылся черными точками. Точки появлялись, исчезали и снова появлялись на гребнях далеких барханов. Уже сейчас было видно, что танки и краулеры идут на максимальной скорости и каждый волочит за собой длинный клубящийся шлейф. Вдоль всего горизонта сверкали яркие, быстрые вспышки. И непонятно было — то ли это вспышки выстрелов, то ли разрывы гранат, а может быть, просто сверкание солнца на ветровых стеклах. Юру пнули в бок, и он сел, споткнувшись, на ящики. Феликс Рыбкин лихо разворачивал на турели свой длинный гранатомет. Несколько Следопытов кинулись к левому борту. Загонщики стремительно приближались. Теперь до них было километров пять-семь, не больше. Горизонт заволокло совершенно, и было видно теперь, что перед загонщиками катится по пустыне дымная полоса вспышек. Мегафон проревел, перекрывая вой сирен: — Весь огонь на пустыню! Весь огонь на пустыню! С танка начали стрелять. Юра видел, как широченные плечи Жилина вздрагивали от выстрелов, и видел белые вспышки над бортом и никак не мог понять, куда стреляют и по кому стреляют. Феликс хлопнул его по капюшону. Юра быстро подал гранату и сорвал колпачок со следующей. Тупо и упрямо выли сирены, грохотали выстрелы. Все были очень заняты, и не у кого было спросить, что происходит. Потом Юра увидел, как с одного из приближающихся танков сорвалась длинная красная струя огня, похожая на плевок, и утонула в дымной полосе перед цепью загонщиков. Тогда он понял. Все стреляли по этой дымной полосе: там были пиявки. И полоса приближалась. Из-за холма кормой вперед медленно выкатился танк Кузьмина. Танк еще не остановился, когда кузов его распахнулся, и оттуда выдвинулась огромная черная труба. Труба стала задираться к небу. И, когда она застыла под углом в сорок пять градусов, Следопыты Кузьмина горохом посыпались через борта и полезли под гусеницы. Из кузова повалил густой черный дым, труба с протяжным хрипом выбросила огромный язык пламени, после чего танк заволокло тучами пыли. На минуту стрельба прекратилась. На гребне бархана, метрах в трехстах ни к селу ни к городу вспучился лохматый гриб дыма и пыли. Феликс опять шлепнул Юру по капюшону. Юра подал ему сразу одну за другой две гранаты и оглянулся на танк Кузьмина. В пыли было видно, как Следопыты с натугой выволакивают трубу из кузова. Юре даже показалось, что сквозь рев и треск выстрелов он слышит невнятные проклятия. Дымная полоса, в которой, вспыхивали огоньки разрывов, надвигалась все ближе. И наконец Юра увидел. Пиявки были похожи на исполинских серо-желтых головастиков. Гибкие, необычайно подвижные, несмотря на свои размеры и, вероятно, немалый вес, они стремительно выскакивали из тучи пыли, проносились в воздухе несколько десятков метров и снова исчезали в пыли. А за ними, почти по пятам, неслись, подскакивая на барханах, широкие квадратные танки и маленькие краулеры, сверкающие огоньками выстрелов. Юра нагнулся за гранатами, а когда он выпрямился, пиявки были уже совсем близко, огоньки выстрелов исчезли, танки замедлили ход, на крыши кабин выскакивали люди и размахивали руками. И вдруг откуда-то слева, огибая машину Кузьмина, на сумасшедшей скорости вылетел песчаный танк и пошел, пошел, пошел вдоль пыльной стены через самую гущу пиявок. Кузов его был пуст. Вслед за ним из пыли выскочил второй такой же пустой танк, за ним третий, и больше ничего нельзя было разобрать в желтой, непроглядно густой пыли.
— Прекратить огонь! — заревел мегафон. — Дави! Дави! — отозвался мегафон у загонщиков. Пыль закрыла все, наступили сумерки. — Берегись! — крикнул Феликс и пригнулся. Длинное темное тело пронеслось над танком. Феликс выпрямился и круто развернул ракетное ружье в сторону Старой Базы. Внезапно сирены замолкли, и сразу стал слышен грохот десятков двигателей, лязг гусениц и крики. Феликс больше не стрелял. Он потихоньку передвигал ружье то вправо, то влево, и пронзительный скрип казался Юре райской музыкой после сирен. Из пыли появились несколько человек с карабинами. Они подбежали к танку и поспешно вскарабкались через борта. — Что случилось? — спросил Жилин. — Краулер перевернулся, — быстро ответил кто-то. Другой, нервно рассмеявшись, сказал: — Медленное и методическое движение. — Каша, — сказал третий. — Не умеем мы воевать. Грохот моторов надвинулся, мимо медленно и неуверенно проползли два танка. У последнего за гусеницей тащилось что-то бесформенное, облепленное пылью. Удивленный голос вдруг сказал: — Ребята, а сирены-то не воют! Все засмеялись и заговорили: — Ну и пылища! — Словно осенняя буря началась. — Что теперь делать, Феликс? Эй, командир! — Будем ждать, — негромко сказал Феликс. — Пыль скоро сядет. — Неужели мы от них избавились? — Эй, загонщики, много вы там настреляли? — На ужин хватит! — сказал кто-то из загонщиков. — Они, подлые, все ушли в каверны. — Здесь только одна прошла. Они сирен боятся.

Пыль медленно оседала. Стал виден неяркий кружок солнца, проглянуло фиолетовое небо. Затем Юра увидел мертвую пиявку — вероятно, ту самую, которая перепрыгнула через кузов. Она валялась на склоне холма, прямая, как палка, длинная, покрытая рыжей жесткой щетиной. От хвоста к голове она расширялась, словно воронка, и Юра разглядывал ее пасть, чувствуя, как по спине ползет холодок. Пасть была совершенно круглая, в полметра диаметром, усаженная большими плоскими треугольными зубами. Смотреть на нее было тошно. Юра огляделся и увидел, что пыль почти осела и вокруг полным-полно танков и краулеров. Люди прыгали через борта и медленно брели вверх по склону к развалинам Старой Базы. Моторы затихли. Над холмом стоял шум голосов да слабо потрескивал неизвестно как подожженный кустарник. — Пошли, — сказал Феликс. Он взял из-под турели карабин и полез через борт. Юра двинулся было за ним, но Жилин поймал его за рукав: — Тихо, тихо! Ты пойдешь со мной. Они вылезли из танка и стали подниматься вслед за Феликсом. Феликс направлялся к большой группе людей, толпившихся метрах в пяти ниже развалин. Люди обступили каверну — глубокую черную пещеру, круто уходившую под развалины. Перед входом, уперев руки в бока, стоял человек с карабином на шее. — И много туда… э-э… проникло? — спрашивал он. — Две пиявки наверняка, — отвечали из толпы. — А может быть, и больше. — Юрковский! — сказал Жилин. — Как же вы их… э-э… не задержали? — спросил Юрковский укоризненно. — А они… э-э-э… не захотели задержаться, — объяснили в толпе. Юрковский сказал пренебрежительно: — Надо было… э-э… задержать! — Он снял карабин и передернул затвор. — Пойду посмотрю. Никто не успел и слова сказать, как он пригнулся и с неожиданной ловкостью нырнул в темноту. Вслед за ним тенью скользнул Феликс. Юра больше не раздумывал. Он сказал: «Позвольте-ка, товарищ!» — и отобрал карабин у соседа. Ошарашенный сосед не сопротивлялся. — Ты куда? — удивился Жилин, оглядываясь с порога пещеры. Юра решительно передернул затвор. — Нет-нет, — скороговоркой сказал Жилин, — тебе туда нельзя! Юра, нагнув голову, пошел на него. — Нельзя, я сказал! — рявкнул Жилин и толкнул его в грудь. Юра с размаху сел, подняв много пыли. В толпе захохотали. Мимо бежали Следопыты, один за другим скрываясь в пещере. Юра вскочил, он был в ярости. — Пустите! — крикнул он. Он кинулся вперед и налетел на Жилина, как на стену. Жилин сказал просительно: — Юрик, прости, но тебе туда и правда не надо. Юра молча рвался. — Ну что ты ломишься? Ты же видишь, я тоже остался. В пещере глухо забухали выстрелы. — Вот видишь, прекрасно обошлись без нас с тобой. Юра стиснул зубы и отошел. Он молча сунул карабин опомнившемуся загонщику и понуро остановился в толпе. Ему казалось, что все на него смотрят. «Срам-то, срам какой! — думал он. — Только что уши не надрали. Ну пусть бы один на один. В конце концов Жилин это Жилин. Но не при всех же». Он вспомнил, как десять лет назад забрался в комнату к старшему брату и раскрасил цветными карандашами чертежи. Он хотел как лучше. И как старший брат вывел его за ухо на улицу, и какой это был срам. — Не обижайся, Юрик, — сказал Жилин. — Я нечаянно. Совершенно забыл, что здесь тяжесть меньше. Юра упрямо молчал. — Да ты не беспокойся! — ласково сказал Жилин, поправляя его капюшон. — Ничего с ним не случится. Там ведь Феликс возле него, Следопыты… А я тоже сгоряча решил, что пропадет старик, и кинулся, но потом, спасибо тебе, опомнился… Жилин говорил еще что-то, но Юра больше не слышал ни слова. «Уж лучше бы мне надрали уши! — в отчаянии думал он. — Лучше бы публично побили по лицу. Мальчишка, сопляк, эгоист неприличный! Правильно Иван сделал, что треснул меня. Не так еще меня надо было треснуть! — Юра даже зашипел сквозь зубы, так ему стало стыдно. — Иван заботился обо мне и об Юрковском, и он нисколько не сомневается, что я тоже заботился об Юрковском и о нем… А я? Юрковский прыгнул в пещеру, и я воспринял это только как разрешение на геройские подвиги. Ни на секунду не подумал о том, что Юрковскому угрожает опасность. Жаждал, дурак, сразиться с пиявками и стяжать славу… Ай-яй-яй, как стыдно! Хорошо еще, что Иван не знает». — Па-аберегись! — завопили сзади. Юра машинально отошел в сторону. Сквозь толпу к пещере вскарабкался краулер, тащивший за собой прицеп с огромным серебристым баком. От бака тянулся металлический шланг со странным длинным наконечником. Наконечник держал под мышкой человек на переднем сиденье. — Здесь? — деловито осведомился человек и, не дожидаясь ответа, направил наконечник в сторону пещеры. — Подведи еще поближе, — сказал он водителю. — А ну, ребята, посторонитесь!.. — сказал он в толпу. — Дальше, дальше, еще дальше… Да отойдите же, вам говорят! — крикнул он Юре. Он прицелился наконечником шланга в черный провал пещеры, но на пороге пещеры появился один из Следопытов. — Это еще что? — спросил он. Человек со шлангом сел. — Елки-палки, — сказал он, — что вы там делаете? — Да это же огнемет, ребята! — догадался кто-то в толпе. Огнеметчик озадаченно почесал где-то под капюшоном. — Нельзя же так, — сказал он. — Надо предупреждать… Под землей вдруг стали стрелять так ожесточенно, что Юре показалось, будто из пещеры полетели какие-то клочья. — Зачем вы это затеяли? — сказал огнеметчик. — Это Юрковский, — сказали из толпы. — Какой Юрковский? — спросил огнеметчик. — Сын, что ли? — Нет, пэр. Из пещеры один за другим вышли трое Следопытов. Один из них, увидев огнемет, сказал: — Вот хорошо. Сейчас все выйдут, и дадим. Последним выбрались Феликс и Юрковский. Юрковский говорил запыхавшимся голосом: — Значит, эта вот башня над нами… э-э… должна быть чем-то вроде… э-э… водокачки. Очень… э-э… возможно! Вы молодец… э-э… Феликс. — Он увидел огнемет и остановился. — А-а… огнемет! — сказал он. — Ну что ж… э-э… можно. Можете работать. — Он благосклонно покивал огнеметчику. Огнеметчик оживился, соскочил с сиденья и подошел к порогу пещеры, волоча за собой шланг. Толпа подалась назад. Один Юрковский остался возле огнеметчика, уперев руки в бока. — Громовержец, а? — сказал Жилин над ухом Юры. Огнеметчик прицелился. Юрковский вдруг взял его за руку. — Постойте, — сказал он. — А собственно… э-э… зачем это нужно? Живые пиявки давно… э-э… мертвы. А мертвые… э-э… понадобятся биологам. Не так ли? — Зевс! — пробормотал Жилин. Юра только повел плечом. Ему было стыдно.
…Пеньков залпом допил чашку и задумчиво сказал: — Выпить, что ли, еще чашку кофе? — Давай, я налью, — сказал Матти. — А я хочу, чтобы Наташа. Наташа налила ему кофе. За окном была черная, кристально ясная ночь, какие часто бывают в конце лета, накануне осенних бурь. В углу столовой беспорядочной кучей громоздились меховые куртки, аккумуляторные пояса, унты, карабины. Уютно пощелкивали электрические часы над дверью в мастерскую. Матти сказал: — Всё-таки я не понимаю, уничтожили мы пиявок или нет? Сережа оторвался от книжки. — Коммюнике главного штаба, — провозгласил он. — На поле боя осталось шестнадцать пиявок, один танк и три краулера. По непроверенным данным еще один танк застрял на солончаках в самом начале облавы, и извлечь его оттуда пока не удалось. — Это я знаю, — сказал Матти. — Меня интересует, могу я теперь ночью сходить в Теплый Сырт? — Можешь, — сказал Пеньков, отдуваясь. — Но нужно взять карабин, — добавил он, подумав. — Понятно, — сказал Матти необычайно язвительно. — А зачем тебе, собственно, ночью на Теплый Сырт? — спросил Сергей. Матти посмотрел на него. — А вот зачем, — сказал он вкрадчиво. — Например, приходит время товарищу Белому Сергею Александровичу выходить на наблюдения. Три часа ночи, а товарища Белого, вы сами понимаете, товарищи, на обсерватории нет. Тогда я иду в Теплый Сырт на Центральную метеостанцию, поднимаюсь на второй этаж… — Лаборатория восемь, — вставил Пеньков. — Я все понял, — сказал Сергей. — А почему я ничего не знаю? — спросила Наташа обиженно. — Почему мне никогда ничего не говорят? — Что-то Рыбкина давно нет, — задумчиво произнес Сергей. — Да, действительно, — сказал Пеньков глубокомысленно. — А полночь уж близится, — заявил Матти, — а Рыбкина все нет. Наташа вздохнула: — До чего же мне все надоели! В тамбуре звякнула дверь шлюза. — Вот он сейчас придет, он нам посмеется, — сказал Пеньков. В дверь столовой постучали. — Войдите, — сказала Наташа и сердито посмотрела на ребят. Вошел Рыбкин, аккуратный и подтянутый, в чистом комбинезоне, в белоснежной сорочке, безукоризненно выбритый. — Можно? — спросил он тихо. — Заходи, Феликс, — сказал Матти и налил кофе в заранее приготовленную чашку. — Я немного запоздал сегодня, — сказал Феликс. — Было совещание у директора. Все с интересом посмотрели на него. — Больше всего говорили о регенерационном заводе. Юрковский приказал на два месяца прекратить все научные работы. Все научники мобилизуются в мастерские и на строительство. — Все? — спросил Сергей. — Все. Даже Следопыты. Завтра будет приказ. — Плакала моя программа, — уныло произнес Пеньков — И почему это у нас никак не могут наладить работу? Наташа сказала с сердцем: — Молчи уж, Володя, если ничего не знаешь! — Да, — сказал Сергей задумчиво. — Я слыхал, что положение с водой очень серьезное… А что еще было на совещании? — Юрковский произнес большую речь. Он сказал, что мы захлебнулись в повседневщине. Что мы слишком любим жить по расписанию, обожаем насиженные места и за тридцать лет успели создать… как это он сказал… «скучные и сложные традиции». Что у нас сгладились извилины, ведающие любознательностью, чем только и можно объяснить анекдот со Старой Базой. В общем, говорил примерно то же, что и ты, Сергей. Помнишь, на прошлой декаде? О том, что кругом тайны, а мы копаемся… Очень была горячая речь — по-моему, экспромтом. Потом он похвалил нас за облаву, сказал, что приехал нас подталкивать, и очень рад, что мы сами на эту облаву решились… А потом выступил Пучко и потребовал голову Ливанова. Кричал, что покажет ему «медленно и методично»… — А что такое? — Спросил Пеньков. — Очень сильно покалечили танки. А через два месяца нашу группу переводят на Старую Базу, так что будем соседями… — А Юрковский уезжает? — Да, сегодня ночью. — Интересно, задумчиво произнес Пеньков, — зачем он возит с собой этого сварщика? — Турели варить, — сказал Матти. — Говорят, он собирается провести еще несколько облав — на астероидах. Так истребили мы все-таки пиявок или нет? Все посмотрели на Феликса. — Трудно ответить, — сказал Феликс. — Убито шестнадцать штук, а мы никак не ожидали, что их будет больше десяти. Практически, наверное, перебили. — А ты пришел с карабином? — спросил Матти. Феликс кивнул. — Понятно, — сказал Матти. — А правда, что Юрковского чуть из огнемета не сожгли? — спросила Наташа. — И меня вместе с ним, — сказал Феликс. — Мы спустились в каверну, а огнеметчики не знали, что мы там. С этой каверной мы начнем работу через два месяца. Там, по-моему, сохранились остатки водопровода. Водопровод очень странный — не круглые трубы, а овальные. — Ты еще надеешься найти двуногих, прямостоящих? — спросил Сергей. Феликс покачал головой: — Нет, здесь мы их не найдем, конечно. — Где — здесь? — Возле воды. — Не понимаю, — сказал Пеньков. — Наоборот, если их нет здесь, у воды, значит, их и вообще нет. — Нет, нет, нет! — проговорила Наташа. — Я, кажется, понимаю. У нас на Земле марсиане стали бы искать людей в пустыне. Это же естественно. Подальше от ядовитой зелени, подальше от областей, закрытых тучами. Искали бы где-нибудь в Гоби. Так, Феликс? — Да, примерно так, — сказал Феликс. — То есть я хочу сказать, что тоже так думаю. — Значит, мы должны искать марсиан в пустынях? — спросил Пеньков. Хорошенькое дело! А зачем же им тогда водопроводы? — Может быть, это не водопроводы, — сказал Феликс, — а водоотводы. Вроде наших дренажных канав. — Ну, это ты, по-моему, слишком, — возразил Сергей. — Скорее уж они живут в подземных пустотах. Впрочем, я сам не знаю, почему это, собственно, скорее, но все равно — то, что ты говоришь, слишком уж смело… Ненормально смело! — А иначе нельзя, — ответил Феликс тихо. — Смотрите-ка! — удивился Пеньков и вылез из-за стола. — Мне ведь пора! Он пошел через комнату к груде меховой одежды. — И мне пора, — сказала Наташа. — И мне, — поднялся Сергей. Матти принялся убирать со стола. Феликс аккуратно подвернул рукава и стал ему помогать. — Так зачем у тебя так много часов? — спросил Матти, косясь на Феликсовы запястья. — Забыл снять, — пробормотал Феликс. — Теперь это, наверное, ни к чему. Он ловко мыл тарелки. — А когда они были к чему? — Я проверял одну гипотезу, — произнес Феликс. — Почему пиявки нападают всегда справа? Был один случай, когда пиявка напала слева — на Крейцера, который был левша и носил часы на правой руке. Матти с изумлением воззрился на Феликса: — Ты думаешь, пиявки боялись тиканья? — Вот это я и хотел выяснить. На меня лично пиявки не нападали ни разу, а ведь я ходил по очень опасным местам. — Странный ты человек, Феликс, — сказал Матти и снова принялся за тарелки. В столовую вошла Наташа и весело спросила: — Ну, Феликс, вы идете? Пошли вместе. — Иду, — отозвался Феликс и направился в переднюю, на ходу опуская засученные рукава.
«ТАХМАСИБ». ГИГАНТСКАЯ ФЛЮКТУАЦИЯ
Был час обычных предобеденных занятий. Юра изнывал над «Курсом теории металлов». Взъерошенный, невыспавшийся Юрковский вяло перелистывал очередной отчет. Время от времени он с чувством зевал, деликатно прикрывая рот ладонью. Быков сидел в своем кресле под торшером и дочитывал последние журналы. Был двадцать четвертый день пути, они были где-то между орбитой Юпитера и Сатурном. «Изменение кристаллической решетки кадмиевского типа в зависимости от температуры в области малых температур определяется; как мы видели, соотношением…» — читал Юра. Он подумал: «Интересно, что случится, когда у Алексея Петровича кончатся последние журналы?» Он вспомнил рассказ Колдуэла, как парень в жаркий полдень состругивал ножом маленькую палочку и как все ждали, что будет, когда палочка кончится. Юра прыснул. И в тот же момент Юрковский резко повернулся к Быкову: — Если бы ты знал, до чего мне все это надоело, Алексей! До чего мне хочется размяться… — Возьми у Жилина гантели, — посоветовал Быков. — Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю… — Догадываюсь, — проворчал Быков. — Давно уже догадываюсь. — И что ты по этому поводу… э-э… думаешь? — Неугомонный старик, — сказал Быков и закрыл журнал. — Тебе уже не двадцать пять лет. Что ты все время лезешь на рожон? Юра с удовольствием стал слушать. — Почему… э-э… на рожон? — удивился Юрковский. — Это будет небольшой, абсолютно безопасный поиск… — А может быть, довольно? — спросил Быков. Он снял очки и холодно взглянул на Юрковского. — Может быть, довольно этого беспардонного фанфаронства? Игра со смертью — это звонко звучит, но необычайно плохо пахнет. Что у тебя за манера, Владимир: из всех дел выбирать не самые нужные, а самые опасные? — Что значит — опасные? — закричал Юрковский. — Опасность — понятие субъективное! Тебе это представляется опасным, а мне нисколько. — Ну вот и хорошо, — сказал Быков. — Поиск в кольце Сатурна представляется мне опасным. И поэтому я не разрешу тебе этот поиск производить. — Ну хорошо, хорошо! — закричал Юрковский. — Мы еще об этом поговорим! — Он раздраженно перевернул несколько листов отчета и снова повернулся к Быкову. — Иногда ты меня просто удивляешь, Алексей! Если бы мне попался человек, который назвал бы тебя трусом, я бы размазал наглеца по стенам, но иногда я гляжу на тебя, и… — Он затряс головой и перевернул еще несколько страниц отчета. — Есть храбрость дурацкая, — наставительно сказал Быков, — и есть храбрость разумная! — Разумная храбрость — это катахреза![219] «Спокойствие горного ручья, прохлада летнего солнца», — как говорит Киплинг. Безумству храбрых поем мы песню!.. — Попели и хватит. В наше время надо работать, а не петь. Я не знаю, что такое катахреза, но разумная храбрость — это единственный в наше время приемлемый вид храбрости. Без всяких этих… покойников. Кому нужен покойник Юрковский? — Какой утилитаризм! — воскликнул Юрковский. — Я не хочу сказать, что прав я. Но не забывай же, что существуют люди разных темпераментов. Вот мне, например, опасные ситуации просто доставляют удовольствие. Мне скучно жить просто так! И слава богу, я не один такой… — Знаешь что, Володя, — сказал Быков, — в следующий раз возьми себе капитаном Баграта, если он к тому времени еще будет жив, и летай с ним хоть на Солнце. А я потакать твоим смертоносным удовольствиям не намерен. Оба сердито замолчали. Юра снова принялся читать: «Изменение кристаллической решетки кадмиевого типа в зависимости от температуры…» «Неужели Быков прав, — подумал он. — Вот скука-то, если он прав. Верно говорят, что самое разумное — самое скучное». Из рубки вышел Жилин с листком в руке. Он подошел к Быкову и сказал негромко. — Вот, Алексей Петрович, это Михаил Антонович передает. — Что это? — спросил Быков. — Программа на киберштурман для рейса от Япета. — Хорошо, оставь, я погляжу. «Вот уже программа рейса от Япета, — подумал Юра. — Они полетят еще куда-то, а меня уже здесь не будет». Он грустно посмотрел на Жилина. Тот был в той самой клетчатой рубахе с закатанными рукавами. Юрковский неожиданно сказал: — Ты вот что пойми, Алексей. Я уже стар. Через год, через два я навсегда уже останусь на Земле, как Дауге, как Миша… И, может быть, нынешний рейс — моя последняя возможность! Почему ты не хочешь пустить меня? Жилин на цыпочках пересек кают-компанию и сел на диван. — Я не хочу тебя пускать не столько потому, что это опасно, — медленно проговорил Быков, — сколько из-за того, что это бессмысленно опасно. Ну что, Владимир, за бредовая идея — искусственное происхождение колец Сатурна! Это же старческий маразм, честное слово! — Ты всегда был лишен воображения, Алексей, — сухо сказал Юрковский. — Космогония колец Сатурна неясна, и я считаю, что моя гипотеза имеет не меньше прав на существование, чем любая другая, более, так сказать, рациональная. Я уже не говорю о том, что всякая гипотеза несет не только научную нагрузку. Гипотеза должна иметь и моральное значение — она должна будить воображение и заставлять людей думать… — При чем здесь воображение? Это же чистый расчет. Вероятность прибытия пришельцев именно в Солнечную систему мала. Вероятность того, что им взбредет в голову разрушать спутники и строить из них кольцо, я думаю, еще меньше… — Что мы знаем о вероятностях? — провозгласил Юрковский. — Ну хорошо, допустим — ты прав. Допустим, что действительно в незапамятные времена в Солнечную систему прибыли пришельцы и зачем-то устроили искусственное кольцо около Сатурна. Отметились, так сказать. Но неужели ты рассчитываешь найти подтверждение своей гипотезе в этом первом и единственном поиске в кольце? — Что мы знаем о вероятностях? — повторил Юрковский. — Я знаю одно, — сердито сказал Быков, — что у тебя нет совершенно никаких шансов и вся эта затея безумна! Они снова замолчали, и Юрковский взялся за отчет. У него было грустное и очень старое лицо. Юре стало его невыносимо жалко, но он не знал, как помочь. Он посмотрел на Жилина. Жилин сосредоточенно думал. Юра посмотрел на Быкова. Быков делал вид, что читает журнал. По всему было видно, что ему тоже жалко Юрковского. Жилин вдруг сказал: — Алексей Петрович, а почему вы считаете, что если шансы малы, то и надеяться не на что? Быков опустил журнал: — А ты думаешь иначе? — Мир велик, — сказал Жилин. — Мне очень понравились слова Владимира Сергеевича: «Что мы знаем о вероятностях?» — Ну и чего же мы не знаем о вероятностях? — спросил Быков. Юрковский, не поднимая глаз от отчета, насторожился. — Я вспомнил одного человека, — сказал Жилин. — У него была очень любопытная судьба… — Жилин в нерешительности остановился. — Может, я мешаю вам, Владимир Сергеевич? — Рассказывай! — потребовал Юрковский и решительно захлопнул отчет. — Это займет некоторое время, — предупредил Жилин. — Тем лучше, — сказал Юрковский. — Рассказывай! И Жилин начал рассказывать.РАССКАЗ О ГИГАНТСКОЙ ФЛЮКТУАЦИИ
Я был тогда еще совсем мальчишкой и многого не понял и многое забыл — может быть, самое интересное. Была ночь, и лица этого человека я так и не видел. А голос у него был самый обыкновенный, немножко печальный и сиплый, и он изредка покашливал, словно от смущения. Словом, если нам случится встретиться еще раз — где-нибудь на улице или, скажем, в гостях, — я его, скорее всего, не узнаю. Встретились мы на пляже. Я только что искупался и сидел на камне. Потом я услышал, как позади посыпалась галька — это он спускался с насыпи, — запахло табачным дымом, и он остановился рядом со мной. Как я уже сказал, дело было ночью. Небо было покрыто облаками, и на море начинался шторм. Вдоль пляжа дул сильный теплый ветер. Незнакомец курил. Ветер высекал у него из папиросы длинные оранжевые искры, которые неслись и пропадали над пустынным пляжем. Это было очень красиво, и я это хорошо помню. Мне было всего шестнадцать лет, и я даже не думал, что он заговорит со мной. Но он заговорил. Начал он очень странно. — Мир полон удивительных вещей, — сказал он. Я решил, что он просто размышляет вслух, и промолчал. Я обернулся и посмотрел на него, но ничего не увидел, было слишком темно. А он повторил. — Мир полон удивительных вещей, — и затем затянулся, осыпав меня дождем оранжевых искр. Я снова промолчал — я был тогда стеснительный. Он докурил папиросу, закурил новую и присел на камни рядом со мной. Время от времени он принимался что-то бормотать, но шум воды скрадывал слова, и я слышал только неразборчивое ворчание. Наконец он заявил громко: — Нет, это уже слишком. Я должен это кому-нибудь рассказать. И обратился прямо ко мне, впервые с момента своего появления: — Не откажитесь выслушать меня, пожалуйста. Я, конечно, не отказался. Он сказал: — Только я вынужден буду начать издалека, потому что, если я сразу расскажу вам, в чем дело, вы не поймете и не поверите. А мне очень важно, чтобы мне поверили. Мне никто не верит, а теперь это зашло так далеко… Он помолчал и сообщил: — Это началось еще в детстве. Я начал учиться играть на скрипке и разбил четыре стакана и блюдце. — Как это так? — спросил я. Незнакомец грустно рассмеялся и сказал: — Вот представьте себе. В течение первого же месяца обучения. Уже тогда мой преподаватель сказал, что он в жизни не видел ничего подобного. Я промолчал, но тоже подумал, что это должно было выглядеть довольно странно. Я представил себе, как он размахивает смычком и время от времени попадает в буфет. Это действительно могло завести его довольно далеко. — Это известный физический закон, — пояснил он неожиданно. — Явление резонанса. И он не переводя дыхания изложил мне анекдот из школьной физики, как через мост шла в ногу колонна солдат и мост рухнул. Потом он объяснил мне, что стаканы и блюдца тоже можно дробить резонансом, если подобрать звуковые колебания соответствующих частот. Должен сказать, что именно с тех пор я начал отчетливо понимать, что звук — это тоже колебания. Незнакомец объяснил мне, что резонанс в обыденной жизни (в домашнем хозяйстве, как он выражался) — вещь необычайно редкая, и очень восхищался тем, что какой-то древний правовой кодекс учитывает такую ничтожную возможность и предусматривает наказание владельцу того петуха, который своим криком расколет кувшин у соседа. Я согласился, что это действительно, должно быть, редкое явление. Я лично никогда ни о чем таком не слыхал. — Очень, очень редкое! — сказал он. — А я вот своей скрипкой разбил за месяц четыре стакана и блюдце. Но это было только начало. Он закурил очередную папиросу и сообщил: — Очень скоро мои родители и знакомые отметили, что я нарушаю закон бутерброда. Тут я решил не ударить в грязь лицом и сказал: — Странная фамилия. — Какая фамилия? — спросил он. — Ах, закон? Нет, это не фамилия. Это… как бы вам сказать… нечто шутливое. Знаете, есть целая группа выражений: «чего боялся, на то и нарвался», «бутерброд всегда падает маслом вниз»… В том смысле, что плохое случается чаще, чем хорошее. Или — в наукообразной форме — вероятность желательного события всегда меньше половины. — Половины чего? — спросил я и тут же понял, что сморозил глупость. Он очень удивился моему вопросу. — Разве вы незнакомы с теорией вероятностей? — спросил он. Я ответил, что мы этого еще не проходили. — Так тогда вы ничего не поймете, — сказал он разочарованно. — А вы объясните! — сердито сказал я. И он покорно принялся объяснять. Он объявил, что вероятность — это количественная характеристика возможности наступления того или иного события. — А при чем здесь бутерброды? — спросил я. — Бутерброд может упасть или маслом вниз, или маслом вверх, — сказал он. — Так вот, вообще говоря, если вы будете бросать бутерброд наудачу, случайным образом, то он будет падать то так, то эдак. В половине случаев он упадет маслом вверх, в половине — маслом вниз. Понятно? — Понятно, — сказал я. Почему-то я вспомнил, что еще не ужинал. — В таких случаях говорят, что вероятность желаемого исхода равна половине — одной второй. Дальше он рассказал, что если бросать бутерброд, например, сто раз, то он может упасть маслом вверх не пятьдесят раз, а пятьдесят пять или двадцать и что, только если бросать его очень долго и много, масло вверху окажется приблизительно в половине всех случаев. Я представил себе этот несчастный бутерброд с маслом (и, может быть, даже с икрой) после того, как его бросали тысячу раз на пол, пусть даже на не очень грязный, и спросил, неужели действительно были люди, которые этим занимались. Он стал рассказывать, что для этих целей пользовались в основном не бутербродами, а монетой, как в игре в орлянку, и начал объяснять, как это делалось, забираясь во всё более глухие дебри. И скоро я совсем перестал его понимать и сидел, глядя в хмурое небо, и думал, что, вероятно, пойдет дождь. Из этой первой своей лекции по теории вероятностей я запомнил только полузнакомый термин «математическое ожидание». Незнакомец употреблял этот термин неоднократно. И каждый раз я представлял себе большое помещение, вроде зала ожидания, с кафельным полом, где сидят люди с портфелями и бюварами и, подбрасывая время от времени к потолку монетки и бутерброды, чего-то сосредоточенно ожидают. До сих пор я часто вижу это во сне. Но тут незнакомец оглушил меня звонким термином «предельная теорема Муавра-Лапласа» и сказал, что все это к делу не относится. — Я, знаете ли, совсем не об этом хотел вам рассказать, — проговорил он голосом, лишенным прежней живости. — Простите, вы, вероятно, математик? — спросил я. — Нет, — ответил он уныло, — какой я математик! Я — флюктуация. Из вежливости я промолчал. — Да, так я вам, кажется, еще не рассказал своей истории, — вспомнил он. — Вы говорили о бутербродах, — сказал я. — Это, знаете ли, первым заметил мой дядя, — продолжал он. — Я был рассеян и часто ронял бутерброды. И бутерброды у меня всегда падали маслом вверх. — Ну и хорошо, — сказал я. Он горестно вздохнул. — Это хорошо, когда изредка. А вот когда всегда. Вы понимаете — всегда! Я ничего не понимал и сказал ему об этом. — Мой дядя немного знал математику и увлекался теорией вероятностей. Он посоветовал мне попробовать бросать монетку. Мы ее бросали вместе. Я сразу тогда даже не понял, что я конченый человек, а мой дядя это понял. Он так и сказал мне тогда: «Ты конченый человек!» Я по-прежнему ничего не понимал. — В первый раз я бросил монетку сто раз и дядя сто раз. У него орел выпал пятьдесят три раза, а у меня девяносто восемь. У дяди, знаете ли, глаза на лоб вылезли. И у меня тоже. Потом я бросил монетку еще двести раз. И представьте себе, орел у меня выпал сто девяносто шесть раз. Мне уже тогда следовало понять, чем такие вещи должны кончиться. Мне надо было понять, что когда-нибудь наступит и сегодняшний вечер! — Тут он, кажется, всхлипнул. — Но тогда я, знаете ли, был слишком молод, моложе вас. Мне все это представлялось очень интересным. Мне казалось очень забавным чувствовать себя средоточием всех чудес на свете. — Чем? — изумился я. — Э-э-э… средоточием чудес. Я не могу другого слова подобрать, хотя и пытался. Он немножко успокоился и принялся рассказывать все по порядку, беспрерывно куря и покашливая. Я уже сказал, что всего не помню. Многие из эпизодов его действительно необыкновенной жизни выпали из моей памяти. Рассказывал он подробно, старательно описывая все детали, и неизменно подводя научную базу под все излагаемые события. Он поразил меня если не глубиной, то разносторонностью своих знаний. Он осыпал меня терминологией из физики, математики, термодинамики и кинетической теории газов, так что потом, уже став взрослым, я часто удивлялся, почему тот или иной термин кажется мне таким знакомым. Зачастую он пускался в философские рассуждения, а иногда казался просто несамокритичным. Так, он неоднократно величал себя «феноменом», «чудом природы» и «гигантской флюктуацией». Тогда я понял, что это не профессия. Он мне заявил, что чудес не бывает, а бывают только весьма маловероятные события. — В природе, — наставительно говорил он, — наиболее вероятные события осуществляются наиболее часто, а наименее вероятные осуществляются гораздо реже. Он имел в виду закон неубывания энтропии, но тогда для меня все это звучало веско. Потом он попытался мне объяснить понятия наивероятнейшего состояния и флюктуации. Мое воображение потряс тогда этот известный пример с воздухом, который весь собрался в одной половине комнаты. — В этом случае, — говорил он, — все, кто сидели в другой половине, задохнулись бы, а остальные сочли бы происшедшее чудом. Однако это вполне реальный, но необычайно маловероятный факт. Это была бы гигантская флюктуация — ничтожно вероятное отклонение от наиболее вероятного состояния. По его словам, он и был таким отклонением от наиболее вероятного состояния. Его окружали чудеса. Увидеть, например, двенадцатикратную радугу было для него пустяком — он видел их шесть или семь раз. — Я побью любого синоптика-любителя, — удрученно хвастался он. — Я видел полярные сияния в Алма-Ате, Брокенское видение на Кавказе и двадцать раз наблюдал знаменитый зеленый луч, или «меч голода», как его называют. Я приехал в Батуми, и там началась засуха; спасая урожай, я отправился путешествовать в Гоби и трижды попал там под тропический ливень. Все чудеса, с которыми он сталкивался, он делил на три группы: приятные, неприятные и нейтральные. Бутерброды, падающие маслом вверх, например, относились к первой группе. Неизменный насморк, регулярно и независимо от погоды начинающийся и кончающийся первого числа каждого месяца, относился ко второй группе. К третьей группе относились разнообразные редчайшие явления природы, которые происходили в его присутствии. Однажды в его присутствии произошло нарушение второго закона термодинамики: вода в сосуде с цветами неожиданно принялась отнимать тепло от окружающего воздуха и довела себя до кипения, а в комнате выпал иней. («После этого я ходил как пришибленный и до сих пор пробую воду пальцем, прежде чем ее, скажем, пить…») Неоднократно к нему в палатку — он много путешествовал — залетали шаровые молнии и часами висели под потолком. В конце концов он привык к этому и использовал шаровые молнии как электрические лампочки: читал. — Вы знаете, что такое метеорит? — спросил он неожиданно. Молодость склонна к плоским шуткам, и я ответил, что метеориты — это падающие звезды, которые не имеют ничего общего со звездами, которые не падают.
— Метеориты иногда попадают в дома, — задумчиво сказал он. — Но это очень редкое событие. И зарегистрирован только один-единственный случай, когда метеорит попал в человека. — Ну и что? — спросил я. Он наклонился ко мне и прошептал: — Так этот человек — я! — Вы шутите, — сказал я, вздрогнув. — Нисколько, — грустно сказал он. Оказалось, что все это произошло на Урале. Он шел пешком через горы и остановился на минутку, чтобы завязать шнурок на ботинке. Раздался резкий шелестящий свист, и он ощутил толчок в заднюю, знаете ли, часть тела и боль от ожога. — На штанах была вот такая дыра, — рассказывал он. — Кровь текла, но не сильно. Жалко, что сейчас темно, я бы показал вам шрам. Он подобрал там несколько подозрительных камешков и хранил их в своем столе — может быть, один из них и есть тот метеорит. Случались с ним и вещи, совершенно необъяснимые с научной точки зрения. По крайней мере, пока, при нынешнем уровне науки. Так, однажды, ни с того ни с сего, он стал источником мощного магнитного поля. Выразилось это в том, что все предметы из ферромагнетиков, находившиеся в комнате, сорвались с места и по силовым линиям ринулись на него. Стальное перо вонзилось ему в щеку, что-то больно ударило по голове и по спине. Он закрылся руками, дрожа от ужаса, с ног до головы облепленный ножами, вилками, ложками, ножницами, и вдруг все кончилось. Явление длилось не больше десяти секунд, и он совершенно не знал, как его можно объяснить. — А вам не кажется, — спросил я, — что вы представляете интерес для науки? — Я думал об этом, — сказал он. — Я писал. Я предлагал. Мне никто не верит. Даже родные не верят. Только дядя верил, но теперь он умер. Все считают меня оригиналом и неумным шутником. Я просто не представляю себе, что они будут думать после сегодняшнего события. Он вдруг схватил меня за плечо и прошептал: — Час назад у меня улетела знакомая! Я не понял. — Мы прогуливались там, наверху, по парку. В конце концов я же человек, и у меня были самые серьезные намерения. Мы познакомились в столовой,пошли прогуляться в парк, и она улетела. — Куда? — закричал я. — Не знаю. Мы шли рука об руку, вдруг она вскрикнула, ойкнула, оторвалась от земли и поднялась в воздух. Я опомниться не успел, только схватил ее за ногу, и вот… Он ткнул мне в руку какой-то твердый предмет. Это была босоножка, обыкновенная светлая босоножка среднего размера. — Вы понимаете, это не совершенно невозможно, — бормотал феномен. — Хаотическое движение молекул тела, броуновское движение частиц живого коллоида, стало упорядоченным, ее оторвало от земли и унесло, совершенно не представляю куда. Очень, очень маловероятное… Вы мне теперь только скажите, должен я считать себя убийцей? Я был потрясен и молчал. В первый раз мне пришло в голову, что он, наверное, все выдумал. А он сказал с тоской: — И дело даже не в этом. В конце концов она, может быть, зацепилась где-нибудь за дерево. Ведь я не стал искать, потому что побоялся, что не найду. Но вот в чем дело. Раньше все эти чудеса касались только меня. Я не очень любил флюктуации, но флюктуации очень любили меня. А теперь? Если этакие штуки начнут происходить и с моими знакомыми?.. Сегодня улетает девушка, завтра проваливается сквозь землю знакомый, послезавтра… Да вот, например, вы. Ведь вы сейчас ни от чего не застрахованы. Это я уже понял сам, и мне стало удивительно интересно и жутко. «Вот здорово, — подумал я. — Скорее бы!» Мне вдруг показалось, что я взлетаю, и я вцепился руками в камень под собой. Незнакомец вдруг встал. — Вы знаете, я лучше пойду, — сказал он жалобно. — Не люблю бессмысленных жертв. Вы сидите, а я пойду. Как это мне раньше в голову не пришло! Он торопливо пошел вдоль берега, оступаясь на камнях, а потом вдруг крикнул издали: — Вы уж извините меня, если с вами что случится! Ведь это от меня не зависит! Он уходил все дальше и дальше и скоро превратился в маленькую черную фигурку на фоне чуть фосфоресцирующих волн. Мне показалось, что он размахнулся и бросил в волны что-то светлое. Наверное, это была босоножка. Вот так мы с ним и расстались. К сожалению, я не смог бы узнать его в толпе. Разве что случилось бы какое-нибудь чудо. Я никогда и ничего больше не слыхал о нем, и, по-моему, ничего особенного в то лето на морском побережье не случилось. Вероятно, его девушка все-таки зацепилась за какой-нибудь сук, и они потом поженились. Ведь у него были самые серьезные намерения. Я знаю только одно. Если когда-нибудь, пожимая руку новому знакомому, я вдруг почувствую, что становлюсь источником мощного магнитного поля, и, вдобавок, замечу, что новый знакомец много курит, часто покашливает, этак — кхым-кхум, значит, это он, феномен, средоточие чудес, гигантская флюктуация.
Жилин закончил рассказ и победоносно поглядел на Быкова. Юре рассказ понравился, но он, как всегда, так и не понял, выдумал ли все это Жилин или рассказывал правду. На всякий случай он в течение всего рассказа скептически усмехался. — Прелестно! — воскликнул Юрковский. — Но больше всего мне нравится мораль. — Что же это за мораль? — спросил Быков. — Мораль такова: нет ничего невозможного, есть только маловероятное. — И кроме того, — сказал Жилин (он немножко осип), — мир полон удивительных вещей — это раз. И два — что мы знаем о вероятностях? — Вы мне тут зубы не заговаривайте! — сказал Быков и встал. — Тебе, Иван, я вижу, не дают покоя писательские лавры Михаила Антоновича. Рассказ этот можешь вставить в свои мемуары. — Обязательно вставлю, — согласился Жилин. — Правда, хороший рассказ? — Спасибо, Ванюша, — сказал Юрковский. — Ты меня отлично рассеял. Интересно, как это у него могло появиться электромагнитное поле? — Магнитное, — поправил Жилин. — Он говорил мне о магнитном. — М-да, — сказал Юрковский и задумался.
«КОЛЬЦО-1». БАЛЛАДА ОБ ОДНОНОГОМ ПРИШЕЛЬЦЕ
— Ну вот, — бодро сказал Юрковский, — перед нами старик Сатурн. — Он захлопнул бювар. — Пора пристраивать кадета. — Пора, — согласился Быков. Он с отвращением читал «Физику металлов». Юра сидел на корточках перед раскрытым книжным шкафом и выбирал себе книгу на вечер. Он сделал вид, что ничего не слышит. — Э-э… Алексей, — произнес Юрковский, — я никому не помешаю в рубке? Ты — генеральный инспектор, — сказал Быков. — Кому же ты можешь помешать? — Я хочу связаться с Титаном. И, вообще, послушать эфир. — Можешь. — А мне можно? — спросил Юра. — И тебе можно, — ответил Быков. — Всем все можно. Час назад Быков дочитал последний журнал, долго и внимательно разглядывал обложку и даже, кажется, посмотрел, каков тираж. Затем он вздохнул, отнес журнал в свою каюту, а когда вернулся, Юра понял, что парень достругал палочку до конца. Быков был теперь очень ласков, словоохотлив и всем все позволял. — Пойду-ка и я с вами, — сказал Быков. Все втроем они ввалились в рубку. Михаил Антонович изумленно поглядел на них со своего пьедестала, расплылся в улыбке и помахал им ручкой. — Мы тебе мешать не будем, — сообщил Быков. — Мы на рацию. — Только смотрите, мальчики, — предупредил Михаил Антонович. — Через полчаса невесомость. По требованию Юрковского, «Тахмасиб» шел к станции «Кольцо-1», искусственному спутнику Сатурна, движущемуся вблизи Кольца. — А нельзя ли без невесомости? — капризно спросил Юрковский. — Видишь ли, Володенька, — виновато ответил Михаил Антонович, — очень тесно здесь «Тахмасибу». Все время приходится маневрировать. Они прошли мимо Жилина, копавшегося в комбайне контроля, и расселись перед рацией. Быков принялся манипулировать верньерами. В динамике завыло и заверещало. — Музыка сфер, — прокомментировал позади Жилин. — Подключите дешифратор, Алексей Петрович. — Да, действительно, — спохватился Быков. — Я почему-то решил, что это помехи. — Радист! — презрительно заметил Юрковский. Динамик вдруг заорал неестественным голосом: «…минут слушайте концерт Александра Блюмберга, ретрансляция с Земли. Повторяю…» Голос уплыл и сменился сонным похрапыванием. Потом кто-то сказал: «…чем не могу помочь. Придется вам, товарищи, подождать». — «А если мы пришлем свой бот?» — «Тогда ждать придется меньше, но все-таки придется». Быков включил самонастройку, и стрелка поползла по шкале, ненадолго задерживаясь на каждой работающей станции, «…восемьдесят гектаров селеновых батарей для оранжереи, сорок километров медного провода шесть сотых, двадцать километров…», «…масла нет, сахару нет, осталось сто пачек „Геркулеса“, сухари и кофе. Да, и еще сигарет нет…», «…And hear me? I’m not going to stand this impudence… Hear me? I…..»,[220] «Ку-два, ку-два, ничего не понял… Что у него за рация?.. Ку-два, даю настройку. Раз, два, три…», «…очень соскучилась. Когда же ты вернешься? И почему не пишешь? Целую, твоя Анна. Точка», «…Чэн, не пугайся, это очень просто. Берешь объемный интеграл по гиперболоиду до аш…», «Седьмой, седьмой, для вас очищен третий сектор. Седьмой, выходите на посадку в третий сектор…», «… Саша, ходят слухи, что какой-то генеральный инспектор прилетел. Чуть ли не сам Юрковский». — Хватит! — сказал Юрковский. — Ищи Титан. Паршивцы! — проворчал он. — Уже знают. — Интересно, — глубокомысленно сказал Быков. — Всего-то их в системе Сатурна полтораста человек, а сколько шуму… Рация крякала и подвывала. Быков настроился и стал говорить в микрофон: — Титан, Титан. Я «Тахмасиб». Титан. Титан. — Титан слушает, — отозвался женский голос. — Генеральный инспектор Юрковский вызывает директора системы. — Быков весело посмотрел на Юрковского. — Я правильно говорю, Володя? — спросил он в микрофон. Юрковский благосклонно покивал. — Алло, алло, «Тахмасиб»! — Женский голос стал немножко взволнованным. — Подождите минуту, я соединю вас с директором. — Ждем, — произнес Быков и пододвинул микрофон к Юрковскому. Юрковский откашлялся. — Лизочка! — закричал кто-то в динамике. — Дай-ка мне директора, голубчик! Быстренько! — Освободите волну! — строго приказал женский голос. — Директор занят. — Как это занят? — оскорбленно сказал голос. — Ференц, это ты? Опять без очереди? — Сойдите с волны! — строго сказал Юрковский. — Всем сойти с моей волны! — раздался медлительный, скрипучий голос. — Директор слушает генерального инспектора Юрковского. — Ух ты!.. — испуганно сказал кто-то. Юрковский самодовольно посмотрел на Быкова. — Зайцев?.. — произнес он. — Здравствуй, Зайцев! — Здравствуй, Володя, — проскрипел директор. — Какими судьбами? — Я… э-э… слегка инспектирую, — сказал Юрковский. — Я наметил себе следующий маршрут. Сейчас я иду к «Кольцу-1». Задержусь там двое суток, а затем пойду к тебе на Титан. Прикажи там, чтобы приготовили горючее для «Тахмасиба». Подготовь месячную сводку. Ну, о делах потом. А пока вот что. — Юрковский опять замолчал. — У меня на борту находится один юноша. Это вакуум-сварщик. Один из группы добровольцев, что работают у тебя на Рее. Будь добр, посоветуй, где я его могу высадить, чтобы его немедленно отправили на Рею. — Юрковский снова замолчал. В эфире было тихо. — Так я слушаю тебя, — сказал Юрковский. — Одну минуту, — сказал директор. — Сейчас здесь наводят справки… Ты что, на «Тахмасибе»? — Да, — ответил Юрковский. — Вот тут со мной рядом Алексей. Михаил Антонович крикнул из штурманской: — Привет Феденьке, привет! — Вот Миша тебе привет передает. — А Григорий с тобой? — Нет, — сказал Юрковский. — А ты разве не знаешь? В эфире помолчали. Потом скрипучий голос осторожно спросил: — Что-нибудь случилось? — Нет-нет! Ему просто запретили летать. Вот уже год. В эфире вздохнули. — Да-а, — сказал директор, — вот скоро и мы так же. — Надеюсь, еще не скоро… — сухо сказал генеральный инспектор. — Ну, как там твои справки? — Так, — произнес голос. — Минутку. Слушай. На Рею твоему сварщику лететь не нужно. Добровольцев мы перебросили на «Кольцо-2». Там они нужнее. На «Кольцо-2», если повезет, отправишь его прямо с «Кольца-1». А если не повезет, отправим его отсюда, с Титана. — Что значит — повезет, не повезет? — Два раза в декаду на Кольцо ходят швейцарцы, возят продовольствие. Возможно, ты застанешь швейцарский бот на «Кольце-1». — Понимаю, — сказал Юрковский. — Ну что ж, хорошо. У меня к тебе пока больше ничего нет. До встречи. — Спокойной плазмы, Володя, — сказал директор. — Не провалитесь там в Сатурн. — Тьфу на тебя! — проворчал Быков и выключил рацию. — Ясно, кадет? — спросил Юрковский. — Ясно! — ответил Юра и вздохнул. — Ты что, недоволен? — Да нет, работать все равно где, — сказал Юра. — Не в этом дело.…Обсерватория «Кольцо-1» двигалась в плоскости колец Сатурна по круговой орбите и делала полный оборот за четырнадцать с половиной часов. Станция была молодая, ее постройку закончили всего год назад. Экипаж ее состоял из десяти планетологов, занятых исследованием Кольца, и четырех инженер-контролеров. Работы у инженер-контролеров было очень много: некоторые агрегаты и системы обсерватории — обогреватели, кислородные регенераторы, гидросистема — еще не были окончательно отрегулированы. Неудобства, связанные с этим, нимало не смущали планетологов, тем более, что большую часть времени они проводили в космоскафах, плавая над Кольцом. Работе планетологов Кольца придавалось большое значение в системе Сатурна. Планетологи рассчитывали найти в Кольце воду, железо, редкие металлы — это дало бы системе автономность в снабжении горючим и материалами. Правда, даже если бы эти поиски увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока не представлялось возможным. Не был еще создан снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец Сатурна и вернуться оттуда невредимым. Алексей Петрович Быков подвел «Тахмасиб» к внешней линии доков и осторожно пришвартовался. Подход к искусственным спутникам — дело тонкое, требующее мастерства и ювелирного изящества. В таких случаях Алексей Петрович вставал с кресла и сам поднимался в рубку. У внешних доков уже стоял какой-то бот, судя по обводам — продовольственный танкер. — Стажер, — сказал Быков, — тебе повезло. Собирай чемодан. Юра промолчал. — Экипаж отпускаю на берег, — объявил Быков. — Если пригласят к ужину — не увлекайтесь. Здесь вам не отель. А лучше всего захватите с собой консервы и минеральную воду. — Увеличим круговорот, — вполголоса сказал Жилин. Снаружи послышался скрип и скрежет — это дежурный диспетчер прилаживал к внешнему люку «Тахмасиба» герметическую перемычку. Через пять минут он сообщил по радио: — Можно выходить. Только одевайтесь потеплее. — Это почему? — осведомился Быков. — Мы регулируем кондиционирование, — ответил дежурный и дал отбой. — Что значит — теплее? — возмутился Юрковский. — Что надевать? Фланель? Или, как это там называлось, валенки? Стеганки? Ватники? Быков посоветовал: — Надевай свитер. Надевай теплые носки. Меховую куртку неплохо надеть. С электроподогревом. — Я надену джемпер, — сказал Михаил Антонович. — У меня есть очень красивый джемпер. С парусом. — А у меня ничего нет, — грустно сказал Юра. — Могу вот надеть несколько безрукавок. — Безобразие! — сказал Юрковский. — У меня тоже ничего нет. — Надень свой халат, — посоветовал Быков и отправился к себе в каюту.

В обсерваторию они вступили все вместе, одетые очень разнообразно и тепло. На Быкове была гренландская меховая куртка. Михаил Антонович тоже надел куртку и натянул на ноги унты. Унты были лишены магнитных подков, и Михаила Антоновича тащили, как привязной аэростат. Жилин натянул свитер и один свитер дал Юре. Кроме того, на Юре были меховые штаны Быкова, которые он затянул под мышками. Меховые штаны Жилина были на Юрковском. И еще на Юрковском были джемпер Михаила Антоновича с парусом и очень хорошо сшитый белый пиджак не по росту. В кессоне их встретил дежурный диспетчер в трусах и майке. В кессоне была удушливая жара, как в парной. — Здравствуйте, — сказал диспетчер. Он оглядел гостей и нахмурился. — Я же сказал: одеться потеплее. Вы же замерзнете в ботинках. Юрковский зловеще спросил: — Вы что, молодой человек, шутки со мной хотите шутить? Диспетчер непонимающе посмотрел на него: — Какие там шутки? В кают-компании минус пятнадцать. Быков вытер со лба пот и проворчал: — Пошли. Из коридора пахнуло леденящим холодом — ворвались клубы пара. Диспетчер, обхватив себя руками за плечи, завопил: — Да поскорее же, пожалуйста! Обшивка коридора была местами разобрана, и желтая сетка термоэлементов бесстыдно блестела в голубоватом свете. Возле кают-компании они столкнулись с инженер-контролером. Инженер был в меховом комбинезоне с поднятым капюшоном. Юрковский зябко повел плечами и открыл дверь в кают-компанию. В кают-компании за столом сидели, пристегнувшись к стульям, пять человек в шубах с поднятыми воротниками. Они были похожи на будочников времен Алексея Тишайшего и сосали горячий кофе из прозрачных термосов. При виде Юрковского один из них отогнул воротник и, выпустив облако пара, сказал: — Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Что-то вы легко оделись. Садитесь. Кофе? — Что у вас тут делается? — осведомился Юрковский. — Мы регулируем, — сказал кто-то. — А где Маркушин? — Маркушин ждет вас в космоскафе. Там тепло. — Проводите меня, — сказал Юрковский. Один из планетологов поднялся и выплыл с Юрковским в коридор. Другой планетолог, худой, в больших роговых очках, спросил: — Скажите, среди вас больше нет генеральных инспекторов? — Нет, — сказал Быков. — Тогда я вам прямо скажу: собачья у нас жизнь! Вчера по всей обсерватории была температура плюс тридцать, а в кают-компании даже плюс тридцать три. Ночью температура внезапно упала. Лично я отморозил себе пятку. Работать при таких перепадах температуры никому не охота, поэтому работаем мы по очереди в космоскафах. Там автономное кондиционирование. У вас так не бывает? — Бывает, — сказал Быков. — Во время аварий. — И это вы так целый год живете? — с ужасом и жалостью спросил Михаил Антонович. — Нет, что вы. Всего около месяца. Раньше перепады температур были не так значительны. Но мы организовали бригаду помощи инженерам и вот… сами видите… Страдаем… Юра старательно сосал горячий кофе. Он чувствовал, что замерзает. — Бр-р-р, — сказал Жилин. — Скажите, а нет ли здесь какого-нибудь оазиса? Планетологи переглянулись. — Разве что в кессоне, — сказал один. — Или в душевой, — сказал другой. — Но там сыро. — Неуютно очень, — пожаловался Михаил Антонович. — Ну вот что, — сказал Быков, — пойдемте все к нам. — И-эх, — сказал планетолог в очках. — А потом опять сюда возвращаться. — Пойдемте, пойдемте, — сказал Михаил Антонович. — Там и побеседуем. — Как-то это не по правилам гостеприимства, — нерешительно сказал планетолог в очках. Наступило молчание. Юра сказал: — Как мы забавно сидим — четыре на четыре. Прямо как шахматный матч. Все посмотрели на него. — Пошли, пошли к нам! — Быков решительно поднялся. — Как-то это неловко, — сказал один из планетологов. — Давайте посидим у нас. Может, еще разговоримся. Жилин сказал: — У нас тепло. Маленький поворот регулятора — и станет жарко. Мы будем сидеть в легких красивых одеждах. Не будем шмыгать носами. В кают-компанию просунулся угрюмый человек в меховом комбинезоне. Глядя в потолок, он неприветливо произнес: — Прошу прощения, конечно, но разошлись бы вы в самом деле по каютам. Через пять минут мы перекроем здесь воздух. Человек скрылся. Быков, не говоря ни слова, двинулся к выходу. — Пойдемте, что ли, — сказал планетолог в очках. — Посмотрим хоть, как люди живут. Планетологи поднялись и потянулись за Быковым. Юра слышал, как Михаил Антонович отчетливо стучит зубами. В торжественном молчании они прошли коридор, захлебнулись горячим воздухом в пустом кессоне и вступили на борт «Тахмасиба». — Эхма! — сказал, планетолог в очках. — Вот люди живут! Он проворно стащил с себя шубу и принялся сматывать с шеи шарф. Теплую амуницию запихали в стенной шкаф. Потом состоялись представления и взаимные пожимания ледяных рук. Планетолога в очках звали Рафаил Горчаков. Остальные трое, как оказалось, были Иозеф Влчек, Евгений Садовский и Павел Шемякин. Оттаяв, они оказались веселыми, разговорчивыми ребятами. Очень скоро выяснилось, что Горчаков и Садовский исследуют турбулентные движения в Кольце, не женаты, любят Олдингтона и Строгова, предпочитают кино театру, в настоящий момент читают в подлиннике «Опыты» Монтеня, абстрактную живопись не понимают, но не исключают возможности, что в ней что-то есть; что Иозеф Влчек ищет в Кольце железную руду методом нейтронных отражений и при помощи бомб-вспышек, что по профессии он скрипач, был чемпионом Европы по бегу на четыреста метров с барьерами, а в систему Сатурна попал, мстя своей девушке за холодность и нечуткое к нему отношение; что Павел Шемякин, напротив, женат, имеет детей, работает ассистентом в Институте планетологии, яро выступает за гипотезу об искусственном происхождении Кольца и намерен «голову сложить, но превратить гипотезу в теорию». — Вся беда в том, — горячо говорил он, — что наши космоскафы как исследовательские снаряды не выдерживают никакой критики. Они очень тихоходны и очень непрочны. Когда я сижу в космоскафе над Кольцом, мне просто плакать хочется от обиды. Ведь рукой подать… А спускаться в Кольцо нам решительно запрещают. А я совершенно уверен, что первый же поиск в Кольце дал бы что-нибудь интересное. По крайней мере, какую-нибудь зацепку… — Какую, например? — спросил Быков. — Н-ну, я не знаю!.. — Я знаю, — сказал Горчаков. — Он надеется найти на каком-нибудь булыжнике след босой ноги. Знаете, как он работает? Опускается как можно ближе к Кольцу и рассматривает обломки в сорокакратный биноктар. А в это время сзади подбирается здоровенный астероид и бьет его под корму. Паша надевается глазами на окуляры, а в это время другой астероид… — Ну и глупо, — сердито заметил Шемякин. — Если бы удалось показать, что Кольцо — результат распада какого-то тела, это уже означало бы многое, а между тем ловлей обломков нам заниматься запрещено. — Легко сказать — поймать обломок, — сказал Быков. — Я знаю эту работу. Весь в поту и так до конца и не знаешь, кто кого поймал, а потом выясняется, что ты свернул аварийную ракету и горючего у тебя не хватит до базы. Не-ет, правильно делают, что запрещают эту ерунду. Михаил Антонович вдруг произнес, мечтательно закатив глаза: — Но зато, мальчики, как это увлекательно! Какая это живая, тонкая работа! Планетологи посмотрели на него с почтительным удивлением. Юра тоже. Ему никогда не приходило в голову, что толстый, добрый Михаил Антонович занимался когда-то охотой на астероиды. Быков холодно посмотрел на Михаила Антоновича и звучно откашлялся. Михаил Антонович испуганно оглянулся на него и торопливо заявил: — Но это, конечно, очень опасно. Неоправданный риск… И вообще не надо… — Кстати, о следах, — задумчиво сказал Жилин. — Вы тут далеки от источников информации, — он оглядел планетологов, — и, наверное, не знаете… — А о чем речь? — спросил Садовский. По его лицу было видно, что он основательно изголодался по информации. — На острове Хонсю, — сказал Жилин, — недалеко от бухты Данно-ура, в ущелье между горами Сираминэ и Титигатакэ, в непроходимом лесу, археологи обнаружили систему пещер. В этих пещерах нашли множество первобытной утвари и, что самое интересное, много окаменевших следов первобытных людей. Археологи считают, что в пещерах двести веков назад обитали перво-японцы, потомки коих были впоследствии вырезаны племенами Ямато, ведомыми императором Дзимму-тэнно, божественным внуком небоблистающей Аматерасу. Быков крякнул и взялся за подбородок. — Эта находка всполошила весь мир, — продолжал Жилин. — Вероятно, вы слыхали об этом. — Где уж нам! — грустно сказал Садовский. — Живем как в лесу… — А между тем об этом много писали и говорили, но не в этом дело. Самая любопытная находка была сделана сравнительно недавно, когда основательно расчистили центральную пещеру. Представьте себе: в окаменевшей глине оказалось свыше двадцати пар следов босых ног с далеко отставленными большими пальцами и среди них… — Жилин обвел круглыми глазами лица слушателей. (Юре было все ясно, но тем не менее эффектная пауза произвела на него большое впечатление). — …след ботинка… Быков поднялся и пошел из кают-компании. — Алешенька, — позвал Михаил Антонович, — куда же ты? — Я уже знаю эту историю, — сказал Быков, не оборачиваясь. — Я читал. Скоро приду. — Ботинка? — переспросил Садовский. — Какого ботинка? — Примерно сорок пятого размера, — ответил Жилин. — Рубчатая подошва, низкий каблук, тупой квадратный носок. — Бред, — решительно сказал Влчек. — Утка. Горчаков засмеялся и спросил: — А не отпечаталась ли там фабричная марка «Скороход»? — Нет, — сказал Жилин. Он покачал головой. — Если бы там была хоть какая-нибудь надпись! Просто след ботинка. Слегка перекрыт следом босой ноги — кто-то наступил позже. — Ну это же утка! — воскликнул Влчек. — Это же ясно. Массовый отлов русалок на острове Мэн, дух Буонапарте, вселившийся в Массачузетскую счетную машину… — «Солнечные пятна расположены в виде чертежа пифагоровой теоремы!» — провозгласил Садовский. — «Жители Солнца ищут контакта с МУКСом!» — Что-то ты, Ванюша, немножко… это… — сказал Михаил Антонович недоверчиво. Шемякин молчал. Юра тоже. Жилин пожал плечами. — Я читал перепечатку из научного приложения к «Асахи-синбун», — сказал он. — Сначала я тоже думал, что это утка. В наших газетах это сообщение не появлялось. Но статья подписана профессором Усодзу-ки — это крупный ученый, я слыхал о нем от японских ребят. Там он, между прочим, пишет, что хочет своей статьей положить конец потоку дезинформации, но никаких комментариев давать не собирается. Я понял это так, что они сами не знают, как это объяснить. — «Отважный европеец в лапах разъяренных синантропов!» — провозгласил Садовский. — «Съеден целиком, остался только след ботинка фирмы „Шуз Маджестик“. Покупайте изделия „Шуз Маджестик“, если хотите, чтобы после вас хоть что-нибудь осталось». — Это были не синантропы, — терпеливо пояснил Жилин. — Большой палец отличается даже на глаз. Профессор Усодзуки называет их нихонантропами. Шемякин наконец не выдержал. — А почему, собственно, обязательно утка? — спросил он. — Почему мы всегда из всех гипотез выбираем наивероятнейшие? — Действительно, почему? — сказал Садовский. — След оставил, конечно, пришелец, и первый контакт закончился трагически. — А почему бы и нет? — сказал Шемякин. — Кто мог носить ботинок двести столетий назад? — Послушайте, — сказал Садовский, — если говорить серьезно, то это след одного из археологов. Жилин замотал головой: — Во-первых, глина там совершенно окаменела. Возраст следа не вызывает сомнений. Неужели вы думаете, что Усодзуки не подумал о такой возможности? — Тогда это утка, — упрямо сказал Садовский. — Скажите, Иван, — спросил Шемякин, — а фотография следа не приводилась? — А как же, — ответил Жилин. — И фотография следа, и фотография пещеры, и фотография Усодзуки… Причем учтите, у японцев самый большой размер — сорок второй, от силы сорок третий. — Давайте так, — сказал Горчаков. — Будем считать, что перед нами стоит задача — построить логически непротиворечивую гипотезу, объясняющую эту японскую находку. — Пожалуйста, — сказал Шемякин. — Я предлагаю — пришелец. Найдите в этой гипотезе противоречие. Садовский махнул рукой. — Опять пришелец. Просто какой-нибудь бронтозавр. — Проще предположить, — сказал Горчаков, — что это все-таки след какого-нибудь европейца. Какого-нибудь туриста. — Да, это либо какое-нибудь неизвестное животное, либо турист, — сказал Влчек. — Следы животных имеют иногда удивительные формы. — Возраст, возраст… — тихонько сказал Жилин. — Тогда просто неизвестное животное. — Например, утка, — сказал Садовский. Вернулся Быков, солидно устроился в кресле и спросил: — Н-ну, что тут у вас? — Вот товарищи пытаются как-то объяснить японский след, — ответил Жилин. — Предлагаются: пришелец, европеец, неизвестное животное. — И что же? — Все эти гипотезы, даже гипотеза о пришельце, содержат одно чудовищное противоречие. — Какое? — спросил Шемякин. — Я забыл вам сказать, — сказал Жилин. — Площадь пещеры сорок квадратных метров. След ботинка находится в самой середине пещеры. — Ну и что же? — спросил Шемякин. — И он — один, — сказал Жилин. Некоторое время все молчали. — Н-да, — сказал Садовский. — Баллада об одноногом пришельце. — Может, остальные следы стерты? — предположил Влчек. — Абсолютно исключено, — сказал Жилин. — Двадцать совершенно отчетливых пар следов босых ног по всей пещере и один отчетливый след ботинка посередине. — Значит, так, — сказал Быков. — Пришелец был одноногий. Его принесли в пещеру, поставили вертикально и, выяснив отношения, съели на месте. — А что ж, — сказал Михаил Антонович, — по-моему, логически непротиворечиво, а? — Плохо, что он одноногий, — задумчиво сказал Шемякин. — Трудно представить одноногое разумное существо. — Возможно, он был инвалид? — предположил Горчаков. — Одну ногу могли съесть сразу, — сказал Садовский. — Бог знает, какой ерундой мы занимаемся! — возмутился Шемякин. — Пойдемте работать. — Нет уж, извини, — сказал Влчек. — Надо расследовать. У меня есть такая гипотеза: у пришельца был очень широкий шаг. Они все там такие ненормально длинноногие. — Он бы разбил себе голову о свод пещеры, — возразил Садовский. — Скорей всего он был крылатый — прилетел в пещеру, увидел, что его «нехорошо ждут», оттолкнулся и улетел. А сами-то вы что думаете, Иван? Жилин открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого поднял палец и сказал: — Внимание! Генеральный инспектор! В кают-компанию вошел красный, распаренный Юрковский. — Ф-фу! — сказал он. — Как хорошо, прохладно. Планетологи, вас зовет начальство. И учтите, что у вас там сейчас около сорока градусов. — Он повернулся к Юре. — Собирайся, кадет. Я договорился с капитаном танкера: он забросит тебя на «Кольцо-2». (Юра вздрогнул и перестал улыбаться.) Танкер стартует через несколько часов, но лучше пойти туда заблаговременно. Ваня, проводишь его… Да, планетологи! Где планетологи? — Он выглянул в коридор. — Шемякин! Паша! Приготовь фотографии, которые ты сделал над Кольцом. Мне надо посмотреть… Михаил, не уходи, погоди минуточку. Останься здесь… Алексей, брось книжку, мне нужно поговорить с тобой. Быков отложил книжку. В кают-компании остались только он, Юрковский и Михаил Антонович. Юрковский, неуклюже раскачиваясь, пробежался из угла в угол. — Что это с тобой? — осведомился Быков, подозрительно следя за его эволюциями. Юрковский резко остановился. — Вот что, Алексей, — сказал он, — я договорился с Маркушиным, он дает мне космоскаф. Я хочу полетать над Кольцом. Абсолютно безопасный рейс, Алексей! — Юрковский неожиданно разозлился. — Ну чего ты так смотришь? Ребята совершают такие рейсы по два раза в сутки уже целый год. Да, знаю, что ты упрям. Но я не собираюсь забираться в Кольцо. Хочу полетать над Кольцом. Я подчиняюсь твоим распоряжениям. Уважь и ты мою просьбу. Прошу тебя самым нижайшим образом, черт возьми. В конце концов, друзья мы или нет? — В чем, собственно, дело? — спросил Быков спокойно. Юрковский опять пробежался по комнате. — Дай мне Михаила! — отрывисто сказал он. — Что-о-о? — Быков медленно поднялся. — Или я полечу один, — сейчас же сказал Юрковский. — А я плохо знаю космоскафы. Быков молчал. Михаил Антонович растерянно переводил глаза с одного на другого: — Мальчики, я ведь с удовольствием… О чем разговор? — Я мог бы взять пилота на станции, — сказал Юрковский. — Но я прошу Михаила, потому что Михаил в сто раз опытнее и осторожнее, чем все они, вместе взятые. Ты понимаешь? Осторожнее! Быков молчал. Лицо у него стало темное и угрюмое. — Мы будем предельно осторожны, — убеждал Юрковский. — Мы будем идти на высоте двадцать — тридцать километров над средней плоскостью, не ниже. Я сделаю несколько крупномасштабных снимков, понаблюдаю визуально, и через два часа мы вернемся. — Алешенька, — робко сказал Михаил Антонович, — ведь случайные обломки над Кольцом очень редки. И они не так уж страшны. Немного внимательности… Быков молча смотрел на Юрковского. «Ну что с ним делать, — думал он. — Что делать с этим старым безумцем? У Михаила больное сердце. Он в последнем рейсе. У него притупилась реакция, а в космоскафах ручное управление. Я не могу водить космоскаф. И Жилин не может. Молодого пилота с ним отпускать нельзя — они уговорят друг друга нырнуть в Кольцо. Почему я не научился водить космоскаф? Старый я дурак!» — Алеша, — сказал Юрковский, — я тебя очень прошу! Ведь я, наверное, больше никогда не увижу колец Сатурна. Я старый, Алеша! Быков поднялся и, ни на кого не глядя, молча вышел из кают-компании. Юрковский схватился за голову: — Ах, беда какая! Ну почему у меня такая отвратительная репутация? А, Миша? — Очень ты неосторожный, Володенька, — сказал Михаил Антонович. — Право же, ты сам виноват. — А зачем быть осторожным? — спросил Юрковский. — Ну, скажи, пожалуйста, зачем? Чтобы дожить до полной духовной и телесной немощи? Дождаться момента, когда жизнь опротивеет, и умереть от скуки в кровати? Ну смешно же, Михаил, в конце концов, так трястись над собственной жизнью. Михаил Антонович покачал головой: — Экий ты, Володенька. И как ты не понимаешь, дружок, ты-то умрешь, и всё. А ведь после тебя люди останутся, друзья. Знаешь, как им горько будет? А ты только о себе, Володенька, все о себе! — Эх, Миша, — вздохнул Юрковский, — не хочется мне с тобой спорить! Скажи-ка ты мне лучше: согласится Алексей или не согласится? — Да он, по-моему, уже согласился, — сказал Михаил Антонович. — Разве ты не видишь? Я-то его знаю… пятнадцать лет на одном корабле! Юрковский снова пробежался по комнате. — Ты-то хоть, Михаил, хочешь лететь или нет?! — закричал он. — Или ты тоже… «соглашаешься»? — Очень хочется… — сказал Михаил Антонович и покраснел. — На прощание.
Юра укладывал чемодан. Он никогда как следует не умел укладываться, а сейчас он вдобавок торопился, чтобы незаметно было, как ему не хочется уходить с «Тахмасиба». Иван стоял рядом. И до чего же грустно была думать, что сейчас с ним придется проститься и что они больше никогда не встретятся. Юра как попало запихивал в чемодан белье, тетрадки с конспектами, книжки — в том числе «Дорогу дорог», о которой Быков сказал: «Когда эта книга тебе начнет нравиться, можешь считать себя взрослым». Иван, насвистывая, веселыми глазами следил за Юрой. Юра наконец закрыл чемодан, грустно оглядел каюту и сказал: — Вот и все, кажется. — Ну, раз все, пойдем прощаться, — сказал Жилин. Он взял у Юры невесомый чемодан, и они пошли по кольцевому коридору, мимо плавающих в воздухе десятикилограммовых гантелей, мимо душевой, мимо кухни, откуда пахло овсяной кашей, в кают-компанию. В кают-компании был только Юрковский. Он сидел за пустым столом, обхватив ладонями голову. Перед ним лежал прижатый к столу зажимами одинокий чистый листок бумаги. — Владимир Сергеевич, — сказал Юра. Юрковский поднял голову. — А-а, кадет! — печально улыбнулся он. — Что ж, давай прощаться. Они пожали друг другу руку. — Я вам очень благодарен, — сказал Юра. — Ну-ну, — сказал Юрковский. — Что ты, брат, в самом деле. Ты же знаешь, я не хотел тебя брать. И напрасно не хотел. Что же тебе пожелать на прощание?.. Побольше работай, Юра. Работай руками, работай головой. В особенности не забывай работать головой. И помни, что настоящие люди — это те, кто много думает о многом. Не давай мозгам закиснуть. — Юрковский посмотрел на Юру с знакомым выражением: как будто ожидал, что Юра вот сейчас, немедленно, изменится к лучшему. — Ну, ступай. Юра неловко поклонился и пошел из кают-компании. У дверей в рубку он оглянулся. Юрковский задумчиво смотрел ему вслед, но, кажется, уже не видел его. Юра поднялся в рубку. Михаил Антонович и Быков разговаривали возле пульта управления. Когда Юра вошел, они замолчали и посмотрели на него. — Так, — сказал Быков. — Ты готов, Юрий?.. Иван, значит, ты его проводишь? — До свидания, — сказал Юра. — Спасибо. Быков молча протянул ему огромную ладонь. — Большое вам спасибо, Алексей Петрович, — повторил Юра. — И вам, Михаил Антонович. — Не за что, не за что, Юрик, — заговорил Михаил Антонович. — Счастливой тебе работы! Обязательно напиши мне письмецо. Адресок ты не потерял? Юра молча похлопал себя по нагрудному карману. — Ну вот и хорошо, ну вот и прекрасно. Напиши, а если захочешь — приезжай. Право же, как вернешься на Землю, так и приезжай. У нас весело. Много молодежи. Мемуары мои почитаешь. Юра слабо улыбнулся. — До свидания, — повторил он. Михаил Антонович помахал рукой, а Быков прогудел: — Спокойной плазмы, стажер! Юра и Жилин вышли из рубки. В последний раз открылась и закрылась за Юрой дверь кессона. — Прощай, «Тахмасиб»! — прошептал Юра. Они прошли по бесконечному коридору обсерватории, где было жарко, как в бане, и вышли на вторую доковую палубу. У раскрытого люка танкера сидел на маленькой бамбуковой скамеечке голенастый рыжий человек в расстегнутом кителе с золотыми пуговицами и в полосатых шортах. Глядясь в маленькое зеркальце, он расчесывал пятерней рыжие бакенбарды и, выпятив челюсть, дудел какой-то тирольский мотив. Увидев Юру и Жилина, он спрятал зеркальце в карман и встал. — Капитан Корф? — осведомился Жилин. — Йа, — сказал рыжий. — На «Кольцо-2», — сказал Жилин, — вы доставите вот этого товарища. Генеральный инспектор говорил с вами, не так ли? — Йа, — ответил рыжий капитан Корф. — Очень корошо. Багаж? Жилин протянул ему чемодан. — Йа, — сказал капитан Корф в третий раз. — Ну, прощай, Юрка! — сказал Жилин. — Не вешай ты, пожалуйста, носа! Что за манера, в самом деле? — Ничего я не вешаю, — возразил Юра печально. — Я отлично знаю, почему ты вешаешь нос, — продолжал Жилин. — Ты вообразил, что мы больше никогда не встретимся, и не замедлил сделать из этого трагедию. А трагедии никакой нет. Тебе еще сто лет встречаться с разными хорошими и плохими людьми. А можешь ты мне ответить на вопрос: чем один хороший человек отличается от другого хорошего человека? — Не знаю! — ответил Юра со вздохом. — Я тебе скажу. Ничем существенным не отличается. Вот завтра ты будешь со своими ребятами. Завтра все тебе будут завидовать, а ты будешь хвастаться. Мы, мол, с инспектором Юрковским… Расскажешь, как ты стрелял в пиявок на Марсе… — Да что вы, Ваня! — запротестовал Юра, слабо улыбаясь. — Ну, а почему же? Воображение у тебя живое. Могу себе представить, как ты споешь им балладу об одноногом пришельце. Только учти. Честно говоря, там было два следа. Про второй след я не успел рассказать. Второй след был на потолке, в точности над первым. Не забудь. Ну, прощай. — Ти-ла-ла-ла и-а! — тихонько напевал капитан Корф. — До свидания, Ваня, — сказал Юра. Он двумя руками пожал руку Жилину. Жилин похлопал его по плечу, повернулся и вышел в коридор. Юра услышал, как в коридоре крикнули: — Иван, есть еще одна гипотеза! Там в пещере не было никакого пришельца. Был только его ботинок… Юра слабо улыбнулся. — Ти-ла-ла-ла и-а! — распевал позади капитан Корф, расчесывая рыжие бакенбарды.
«КОЛЬЦО-1». ДОЛЖЕН ЖИТЬ
— Володенька, подвинься немножко, — попросил Михаил Антонович. — А то я прямо в тебя локтем упираюсь. Если вдруг придется, скажем, делать вираж… — Изволь, изволь, — сказал Юрковский. — Только мне, собственно, некуда. Удивительно тесно здесь. Кто строил эти… э-э, аппараты… — А вот так… И хватит, и хватит, Володенька. В космоскафе было очень тесно. Маленькая округлая ракета была рассчитана только на одного человека, но обычно в нее забирались по двое. Мало того, по правилам безопасности при работах над Кольцом экипажу надлежало быть в скафандрах с откинутым колпаком. Вдвоем, да еще в скафандрах, да еще с колпаками, висящими за спиной, в космоскафе невозможно было повернуться. Михаилу Антоновичу досталось удобное кресло водителя с широкими мягкими ремнями, и он очень переживал, что другу Володеньке приходится корчиться где-то между чехлом регенератора и пультом бомбосбрасывателя. Юрковский, прижимая лицо к нарамнику биноктара, время от времени щелкал затвором фотокамеры. — Чуть-чуть притормози, Миша, — приговаривал он. — Так… остановись… Фу ты, до чего у них тут все неудобно устроено!
Михаил Антонович, с удовольствием покачивая штурвал, глядел не отрываясь на экран телепроектора. Космоскаф медленно плыл в двадцати пяти километрах от средней плоскости Кольца. Впереди исполинским, мутно-желтым горбом громоздился водянистый Сатурн. Ниже, вправо и влево, на весь экран тянулось плоское сверкающее поле. Впереди оно заволакивалось зеленоватой дымкой, и казалось, что гигантская планета рассечена пополам. А внизу, под космоскафом, проползало каменное крошево. Радужные россыпи угловатых обломков, мелкого щебня, блестящей, искрящейся пыли. Иногда в этом крошеве возникали странные вращательные движения, и тогда Юрковский говорил: — Притормози, Михаил… Вот так… — и несколько раз щелкал затвором. Эти неопределенные и непонятные движения привлекали особенное внимание Юрковского. Кольцо не было пригоршней камней, брошенных в мертвое инертное движение вокруг Сатурна, — оно жило своей странной, непостижимой жизнью, и в закономерностях этой жизни еще предстояло разобраться. Михаил Антонович был счастлив. Он нежно сжимал податливые рукоятки штурвала, с наслаждением чувствуя, как мягко и послушно отзывается ракета на каждое движение его пальцев. Как это было прекрасно — вести корабль без киберштурмана, без всякой там электроники, бионики и кибернетики, надеяться только на себя, упиваться полной и безграничной уверенностью в себе и знать, что между тобой и кораблем только этот мягкий, удобный штурвал и не приходится привычным усилием воли подавлять в себе мысль, что у тебя под ногами клокочет хотя и усмиренная, но страшная сила, способная разнести в пыль целую планету. У Михаила Антоновича было богатое воображение, в душе он всегда был немножко ретроградом, и медлительный космоскаф с его слабосильными двигателями казался ему уютным и домашним по сравнению с фотонным чудовищем «Тахмасибом» и с другими такими же чудовищами, с которыми пришлось иметь дело Михаилу Антоновичу за двадцать пять лет штурманской работы.

Кроме того, его, как всегда, приводили в тихий восторг сверкающие радугой алмазные россыпи Кольца. У Михаила Антоновича всегда была слабость к Сатурну и к его кольцам. Кольцо было изумительно красиво. Оно было гораздо красивее, чем об этом мог рассказать Михаил Антонович. И все же каждый раз, когда он видел кольцо, ему хотелось говорить и рассказывать. — Хорошо как, — произнес он наконец. — Как все переливается. Я, может быть, не могу… — Притормози-ка, Миша, — сказал Юрковский. Михаил Антонович притормозил. — Вот есть лунатики, — сказал он. — А у меня такая же слабость… — Притормози еще, — сказал Юрковский. Михаил Антонович замолчал и притормозил еще. Юрковский щелкал затвором. Михаил Антонович помолчал и позвал в микрофон: — Алешенька, ты нас слушаешь? — Слушаю! — басом отозвался Быков. — Алешенька, у нас все в порядке, — торопливо сообщил Михаил Антонович. — Я просто хотел поделиться. Очень красиво здесь, Алешенька. Солнце так переливается на камнях… и пыль так серебрится… Какой ты молодец, Алешенька, что отпустил нас. Напоследок хоть посмотреть… Ах, ты бы посмотрел, как тут камешек один переливается! — От полноты чувств он снова замолчал. Быков подождал немного и спросил: — Вы долго еще намерены идти к Сатурну? — Долго, долго! — раздраженно сказал Юрковский. — Ты бы шел, Алексей, занялся бы чем-нибудь. Ничего с нами не случится. Быков сказал: — Иван делает профилактику. — Он помолчал. — И я тоже. — Ты не беспокойся, Алешенька, — попросил Михаил Антонович. — Шальных камней нет, все очень спокойно, безопасно. — Это хорошо, что шальных камней нет, — сказал Быков. — Но ты все-таки будь повнимательнее. — Притормози, Михаил! — приказал Юрковский. — Что это там? — спросил Быков. — Турбуленция, — объяснил Михаил Антонович. — А-а, — сказал Быков и замолчал.

Минут пятнадцать прошло в молчании. Космоскаф удалился от края Кольца уже на триста километров. Михаил Антонович покачивал штурвал и боролся с желанием разогнаться посильнее, так, чтобы сверкающие обломки внизу слились в сплошную сверкающую полосу. Это было бы очень красиво. Михаил Антонович любил делать такие вещи, когда был помоложе. Юрковский вдруг прошептал: — Остановись. Михаил Антонович притормозил. — Остановись, говорят! — сказал Юрковский. — Ну? Космоскаф повис неподвижно. Михаил Антонович оглянулся на Юрковского. Юрковский так втиснул лицо в нарамник, словно хотел продавить корпус космоскафа и выглянуть наружу. — Что там? — спросил Михаил Антонович. — Что у вас? — спросил Быков. Юрковский не ответил. — Михаил! — закричал вдруг он. — По вращению Кольца… Видишь, под нами длинный черный обломок? Иди прямо над ним… точно над ним, не обгоняя… Михаил Антонович повернулся к экрану, нашел длинный черный обломок внизу и повел космоскаф, стараясь не выпускать обломок из визирного перекрестия. — Что там у вас? — снова спросил Быков. — Какой-то обломок, — произнес Михаил Антонович. — Черный и длинный. — Уходит, — сказал Юрковский сквозь зубы. — Медленнее на метр! — крикнул он. Михаил Антонович снизил скорость. — Нет, так не получится, — сказал Юрковский. — Миша, смотри, черный обломок видишь? — Он говорил очень быстро и шепотом. — Вижу. — Прямо по курсу от него на два градуса группа камней. — Вижу, — сказал Михаил Антонович. — Там что-то блестит так красиво. — Вот-вот… Держи на этот блеск… Не потеряй только. Или у меня в глазах что-то такое? Михаил Антонович ввел блестящую точку в визирное перекрестие и дал максимальное увеличение на телепроектор. Он увидел шесть округлых, странно одинаковых белых камней, а между ними — что-то блестящее, неясное, похожее на серебристую тень растопыренного паука. Словно камни расходились, а паук цеплялся за них расставленными голыми лапами.
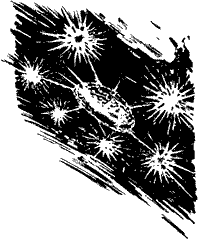
— Как забавно! — вскричал Михаил Антонович. — Да что там у вас? — заорал Быков. — Погоди, погоди, Алексей, — пробормотал Юрковский. — Здесь надо бы снизиться… — Начинается! — крикнул Быков. — Михаил, ни на метр ниже! Взволнованный Михаил Антонович, сам того не замечая, уже вел космоскаф вниз. Это было так удивительно и непонятно — пять одинаковых белых глыб и между ними серебристая тень совершенно непривычных очертаний. — Михаил! — рявкнул Быков и замолчал. Михаил Антонович опомнился и резко затормозил. — Ну что же ты? — не своим голосом закричал Юрковский. — Упустишь! Длинный черный обломок медленно, едва заметно для глаза, наползал на странные камни. — Алешенька, — позвал Михаил Антонович, — здесь в самом деле что-то очень странное! Можно, я еще немножко спущусь? Плохо видно! Быков молчал. — Упустишь, упустишь! — рычал Юрковский. — Алешенька, — отчаянно закричал Михаил Антонович, — я спущусь! На пять километров, а? Он судорожно сжимал рукоятки штурвала, стараясь не выпустить блестящий предмет из перекрестия. Черный обломок надвигался медленно и неумолимо. Быков не отвечал. — Да спускайся же, спускайся! — сказал Юрковский. Михаил Антонович в отчаянии посмотрел на спокойно мерцающий экран метеоритного локатора и повел космоскаф вниз. — Алешенька, — бормотал он, — я чуть-чуть, только чтобы из виду не упустить. Вокруг все спокойно, пусто. Юрковский торопливо щелкал затворами фотокамер. Черный длинный обломок наползал, наползал и наконец надвинулся, закрыл белые камни и блестящего паучка между ними. — Эх! — сказал Юрковский. — С твоим Быковым… Михаил Антонович затормозил. — Алешенька! — позвал он. — Вот и всё. Быков все молчал, и тогда Михаил Антонович посмотрел на рацию. Прием был выключен. — Ай-яй-яй! — закричал Михаил Антонович. — Как же это я?.. Локтем, наверное? Он включил прием. — …хаил, назад! Михаил, назад! Михаил, назад!.. — монотонно повторял Быков. — Слышу, слышу, Алешенька! Я нечаянно прием выключил. — Немедленно возвращайтесь назад. — Сейчас, сейчас, Алешенька! — сказал Михаил Антонович. — Мы уже всё кончили, и всё в порядке… — Он замолчал. Продолговатый черный обломок постепенно уплывал, открывая снова группу белых камней. Снова вспыхнул на солнце серебристый паучок. — Что у вас там происходит? — спросил Быков. — Можете вы мне толком объяснить или нет? Юрковский, отпихнув Михаила Антоновича, нагнулся к микрофону. — Алексей, — крикнул он, — ты помнишь сказочку про гигантскую флюктуацию? Кажется, нам выпал-таки один шанс на миллиард! — Какой шанс? — Мы, кажется, нашли… — Смотри, смотри, Володенька! — пробормотал Михаил Антонович, с ужасом глядя на экран. Масса плотной серой пыли надвигалась сбоку, а над ней плыли наискосок десятки блестящих угловатых глыб. Юрковский даже застонал — сейчас заволочет, закроет, сомнет и утащит невесть куда и эти странные белые камни, и этого серебристого паучка. И никто никогда не узнает, что это было. — Вниз! — заорал он. — Михаил, вниз!.. Космоскаф дернулся. — Назад! — крикнул Быков. — Михаил, я приказываю, назад! Юрковский протянул руку и выключил прием. — Вниз, Миша, вниз… только вниз… И поскорее. — Что ты, Володенька! Нельзя же — приказ! Что ты! — Михаил Антонович потянулся к рации. Юрковский поймал его за руку. — Посмотри на экран, Михаил, — сказал он. — Через двадцать минут будет поздно… Михаил Антонович молча рвался к рации. — Михаил, не будь дураком. Нам выпал один шанс на миллиард… Нам никогда не простят… Да пойми ты, старый дурак! Михаил Антонович дотянулся-таки до рации и включил прием. Они услыхали, как тяжело дышит Быков. — Нет, они нас не слышат, — сказал он кому-то. — Миша! — хрипло зашептал Юрковский. — Я тебе не прощу никогда в жизни! Я забуду, что ты был моим другом, Миша. Я забуду, что мы были вместе на Голконде… Миша, это же смысл моей жизни, пойми! Я ждал этого всю жизнь. Я верил в это… Это пришельцы, Миша… Михаил Антонович взглянул ему в лицо и зажмурился: он не узнал Юрковского. — Миша, пыль надвигается. Выводи под пыль, Миша, прошу, умоляю! Мы быстро, мы только поставим радиобакен и сразу вернемся. Это же совсем просто и неопасно и никто не узнает… — Мер-р-завец! — сказал Быков. — Они что-то нашли, — послышался голос Жилина. Михаил Антонович торопливо забормотал: — Нельзя ведь. Не проси. Нельзя. Ведь я же обещал. Он с ума сойдет от беспокойства. Не проси… Серая пелена пыли надвинулась вплотную. — Пусти! — сказал Юрковский. — Я сам поведу. Он стал молча выдирать Михаила Антоновича из кресла. Это было так дико и страшно, что Михаил Антонович совсем потерялся. — Ну хорошо, — забормотал он. — Ну ладно… Ну подожди… — Он все никак не мог узнать лицо Юрковского — это было похоже на жуткий сон. — Михаил Антонович! — позвал Жилин. — Я, — слабо откликнулся Михаил Антонович. И Юрковский изо всех сил ударил по рычажку бронированным кулаком. Металлическая перчатка срезала рычажок, словно бритвой. — Вниз! — заревел Юрковский. Михаил Антонович, ужаснувшись, бросил космоскаф в двадцатикилометровую пропасть. Он весь содрогался от жалости и страшных предчувствий. Прошла минута, другая… Юрковский сказал ясным голосом: — Миша, Миша, я же понимаю… Ноздреватые каменные глыбы на экране росли, медленно поворачивались. Юрковский привычным движением надвинул на голову прозрачный колпак скафандра.
— Миша, Миша, я же понимаю… — сказал ясный голос Юрковского. Быков, сгорбившись, сидел перед рацией, обеими руками вцепившись в стойку бесполезного микрофона. Он мог только слушать и пытаться понять, что происходит, и ждать, и надеяться. «Вернутся — изобью в кровь! — думал он. — Этого паиньку штурмана и этого генерального мерзавца. Нет, не изобью. Только бы вернулись! Только бы вернулись!» Рядом — руки в карманы — молчал угрюмый Жилин. — Камни, — жалобно сказал Михаил Антонович, — камни… Быков закрыл глаза. Камни в Кольце. Острые, тяжелые. Летят, ползут, крутятся. Обступают. Подталкивают, отвратительно скрипят по металлу. Толчок. Потом толчок посильнее. Это еще ерунда, не страшно, горохом сыплется по обшивке ползучая мелочь, и это тоже ерунда, а вот где-то сзади надвигается тот самый — тяжелый и быстрый, словно пущенный из гигантской катапульты, и локаторы еще не видят его за пеленой пыли, а когда увидят — будет все равно поздно… Лопается корпус, гармошкой складываются переборки, на миг мелькнет в трещине забитое камнем небо, пронзительно свистнет воздух, и люди становятся белыми и хрупкими, как лед… Впрочем, они в скафандрах. Быков открыл глаза. — Жилин, — сказал он, — иди к Маркушину и узнай, где второй космоскаф. Пусть приготовят для меня пилота. Жилин исчез. — Миша! — беззвучно шептал Быков. — Как-нибудь, Миша… Как-нибудь. — Вот он, — сказал Юрковский. — Ай-яй-яй-яй-яй! — сказал Михаил Антонович. — Километров пять? — Что ты, Володенька! Гораздо меньше… Правда, хорошо, когда камней нет? — Тормози понемногу. Я буду готовить бакен. Эх, зря я рацию сломал, дурак!.. — Что ж это может быть, Володенька? Смотри, какое чудище! — Он их держит, видишь? Вот они где — пришельцы. А ты ныл! — Что ты, Володенька, разве я ныл? Я так… — Как-нибудь стань, чтобы его, спаси-сохрани, не задеть… Наступило молчание. Быков напряженно слушал. «Может быть, и обойдется», — думал он. — Ну, чего ты куксишься? — спросил Юрковский. — Не знаю, право… Как-то мне все это странно. Не по себе как-то… — Выйди под лапу и выбрось магнитную кошку. — Хорошо, Володенька. «Что они там нашли? — думал Быков. — Что еще за лапы? Что они там копаются? Неужели нельзя побыстрее?» — Не попал! — сказал Юрковский. — Подожди, Володенька, ты не умеешь. Дай я. — Смотри, она словно вросла в камень… А ты заметил, что они все одинаковые? — Да, все шесть. Мне это сразу странным показалось. Вернулся Жилин. — Нет космоскафа, — доложил он. Быков даже не стал спрашивать, что это значит — нет космоскафа. Он отставил микрофон, поднялся и сказал: — Пошли к швейцарцам. — Так у нас ничего не получится, — сказал голос Михаила Антоновича. Быков остановился. — Да, действительно… Что ж тут придумать? — Погоди, Володенька. Давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную. — Правильно, — согласился Юрковский. — Давай вылезем. — Нет уж, Володенька, ты сиди здесь. Толку от тебя мало… мало ли что… Юрковский сказал, помолчав: — Ладно. А я еще несколько снимков сделаю. Быков поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним вышел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Быков на ходу сказал: — Возьмем танкер, по пеленгу выйдем к этому месту и будем их ждать там. — Правильно, Алексей Петрович, — сказал Жилин. — А что они там нашли? — Не знаю, — процедил Быков сквозь зубы. — И знать не хочу. Пока я буду говорить с капитаном, ступай в рубку и займись пеленгом. В коридоре обсерватории Быков поймал распаренного дежурного и приказал: — Мы сейчас идем на танкер. Снимешь перемычку и задраишь люк. Дежурный кивнул. — Второй космоскаф возвращается, — сообщил он. (Быков остановился.) — Нет-нет, — сказал дежурный с сожалением. — Он будет не скоро — часа через три. Быков молча двинулся дальше. Они миновали кессон, прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому тесному колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его штурман стояли над низким столиком и рассматривали голубой чертеж. — Здравствуйте, — сказал Быков. Жилин, не говоря ни слова, прошел к рации и принялся настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в изумлении воззрились на него. Быков подошел к ним. — Кто капитан? — спросил он. — Капитан Корф, — ответил рыжий капитан. — Кто во? Потшему? — Я Быков, капитан «Тахмасиба». Прошу мне помочь. — Рад, — сказал капитан Корф. Он посмотрел на Жилина. Жилин возился над рацией. — Двое наших товарищей забрались в Кольцо, — сказал Быков. — О! — сказал капитан Корф. На лице его изобразилась растерянность. — Как неосторошно! — Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль. — Мой корабль? — растерянно повторил Корф. — Идти в Кольцо? — Нет, — сказал Быков. — В Кольцо только в крайнем случае. Если случится несчастье. — А где ваш корабль? — спросил Корф подозрительно. — У меня фотонный грузовик, — ответил Быков. — А-а! — сказал Корф. — Да, это нельзя. В рубке раздался голос Юрковского: — Погоди, я сейчас вылезу. — А я тебе говорю, сиди, Володенька, — сказал Михаил Антонович. — Ты очень долго копаешься. Михаил Антонович ничего не ответил. — Это они в Кольце? — спросил Корф, показывая пальцем на рацию. — Да, — ответил Быков. — Вы согласны? Жилин подошел и стал рядом. — Да, — произнес Корф задумчиво. — Надо помогать. Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и кивал. Затем он, сильно, покраснев, сказал Быкову: — Штурман не хочет лететь. Он не обязан. — Он может сойти, — сказал Быков. — Спасибо, капитан Корф. Штурман произнес еще несколько фраз. — Он говорит, что мы идем на верную смерть, — перевел Корф. — Скажите ему, чтобы он уходил, — сказал Быков. — Нам надо спешить. — Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти? — осторожно спросил Жилин. — Хо-хо-хо! — сказал Корф. — Я капитан! Он махнул штурману и пошел к пульту управления. Штурман, ни на кого не глядя, вышел. Через минуту гулко бухнул наружный люк. — Девушки, — пояснил капитан Корф, не оборачиваясь. — Они делают нас слабыми. Слабыми, как они. Но надо сопротивляться. Приготовимся. Он полез в боковой карман, вытащил фотографию и поставил на пульт перед собой. — Вот так, — сказал он. — И никак по-другому, если рейс опасен. По местам, господа. Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристегнулся в кресле перед рацией. — Диспетчер! — сказал капитан. — Есть диспетчер, — откликнулся дежурный обсерватории. — Прошу старт! — Даю старт! Капитан Корф нажал стартер, и все сдвинулось. И тогда Жилин вдруг вспомнил: «Юрка!» Несколько секунд он глядел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Танкер уже покинул зону обсерватории, и капитан Корф, маневрируя рулями, выводил корабль на пеленг. «Не будем-ка паниковать, — подумал Жилин. — Не так уж плохи дела. Пока еще не случилось ничего страшного». — Михаил! — позвал голос Юрковского. — Скоро ты там? — Сейчас, Володенька, — отозвался Михаил Антонович. Голос у него был какой-то странный — не то усталый, не то растерянный. — Хо! — сказал позади голос Юры. Жилин обернулся. В рубку входил Юра, заспанный и очень обрадованный. — Вы тоже на «Кольцо-2»? — спросил он. Быков дико взглянул на него. — Химмельдоннерветтер! — прошептал капитан Корф. Он тоже начисто забыл о Юре. — Пассажиер! Ф — в каюта! — крикнул он грозно. Его рыжие бакенбарды страшно растопырились. Михаил Антонович вдруг громко сказал: — Володя… Будь добр, отведи космоскаф метров на тридцать. Сумеешь? Юрковский недовольно заворчал. — Ну, попробую, — сказал он. — А зачем это тебе понадобилось? — Так мне будет удобней, Володя. Пожалуйста. Быков вдруг встал и рванул на себе застежки куртки. Юра с ужасом глядел на него. Лицо Быкова, всегда красно-кирпичное, сделалось бело-синим. Юрковский вдруг закричал: — Камень! Миша, камень! Назад! Бросай все! Послышался слабый стон, и Михаил Антонович сказал дрожащим голосом: — Уходи, Володенька. Скорее уходи. Я не могу. — Скорость! — прохрипел Быков. — Что значит — не могу? — завизжал Юрковский. — Уходи, уходи, не надо сюда… — бормотал Михаил Антонович. — Ничего не выйдет… Не надо, не надо… — Так вот в чем дело! — проговорил Юрковский. — Что же ты молчал? Ну, это ничего. Мы сейчас, сейчас… Эк тебя угораздило! — Скорость, скорость!.. — рычал Быков. Капитан Корф, перекосив веснушчатое лицо, навис над клавишами управления. Перегрузка нарастала. — Сейчас, Мишенька, сейчас! — бодро говорил Юрковский. — Вот так… Эх, лом бы мне!.. — Поздно! — неожиданно спокойно сказал Михаил Антонович. В наступившей тишине было слышно, как они тяжело, с хрипом, дышат. — Да, — сказал Юрковский, — поздно. — Уйди! — сказал Михаил Антонович. — Нет! — Зря. Раздался сухой смешок. — Ничего, — сказал Юрковский. — Это быстро. Мы даже не заметим. Закрой глаза, Миша. И после короткой тишины кто-то — непонятно кто — тихо и жалобно позвал: — Алеша… Алексей…. Быков молча отшвырнул капитана Корфа, как котенка, и впился пальцами в клавиши. Танкер рвануло. Вдавленный в кресло страшной перегрузкой, Жилин успел только подумать: «Форсаж!» На секунду он потерял сознание. Затем сквозь шум в ушах он услыхал короткий, оборвавшийся крик, как от сильной боли, и через красную пелену, застилавшую глаза, увидел, как стрелка автопеленгатора дрогнула и расслабленно закачалась из стороны в сторону. — Миша! — закричал Быков. — Ребята!.. Он упал головой на пульт и громко, неумело заплакал.
Юре было плохо. Его тошнило, сильно болела голова. Его мучил какой-то странный двойной бред. Он лежал на своей койке в тесной, темной каюте «Тахмасиба», и в то же время это была его светлая большая комната дома, на Земле. В комнату входила мама, клала холодную, приятную руку ему на щеку и говорила голосом Жилина: «Нет, еще спит». Юре хотелось сказать, что он не спит, но это почему-то нельзя было делать. Какие-то люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо, и один из них — в белом халате — нагнулся и очень сильно ударил Юру по больной разбитой голове, и сейчас же Михаил Антонович жалобно сказал: «Алеша… Алексей…», а Быков, страшный, бледный как мертвец, схватился за пульт, и Юру кинуло вдоль коридора головой на острое и твердое. Играла печальная до слез музыка, и чей-то голос говорил: «…при исследовании Кольца Сатурна погибли генеральный инспектор Международного управления космических сообщений Владимир Сергеевич Юрковский и старейший штурман-космонавт Михаил Антонович Крутиков…» И Юра плакал, как плачут во сне даже взрослые люди, когда им приснится что-нибудь печальное… Когда Юра пришел в себя, то увидел, что находится действительно в каюте «Тахмасиба», а рядом стоят Жилин и врач в белом халате. — Ну вот, давно бы так, — сказал Жилин, печально улыбаясь. — Они правда погибли? — спросил Юра. (Жилин молча кивнул.) — А Алексей Петрович? (Жилин ничего не сказал.) Врач спросил: — Голова сильно болит? Юра прислушался. — Нет, — сказал он, — не сильно. — Это хорошо, — объявил врач. — Дней пять полежишь и будешь здоров. — Меня не отправят на Землю? — спросил Юра. Он вдруг очень испугался, что его отправят на Землю. — Нет, зачем же? — удивился врач. Жилин бодро сообщил: — О тебе уже справлялись с «Кольца-2», хотят тебя навестить. — Пусть, — сказал Юра. Врач сказал Жилину, что Юру надо через каждые три часа поить микстурой, предупредил, что придет послезавтра, и ушел. Жилин сказал, что скоро заглянет, и пошел его проводить. Юра снова закрыл глаза. «Погибли, — подумал он. — Никто больше не назовет меня кадетом и не попросит побеседовать со стариком, и никто не станет добрым голосом застенчиво читать свои мемуары о милейших и прекраснейших людях. Этого не будет никогда. Самое страшное, что этого не будет никогда. Можно разбить себе голову о стену, можно разорвать рубашку — все равно никогда не увидеть Владимира Сергеевича, как он стоит перед душевой в своей роскошной пижаме с гигантским полотенцем через плечо и как Михаил Антонович раскладывает по тарелкам неизменную овсяную кашу и ласково улыбается. Никогда, никогда, никогда… Почему никогда? Как это так можно, чтобы никогда? Какой-то дурацкий камень, в каком-то дурацком Кольце дурацкого Сатурна… И людей, которые должны быть, просто обязаны быть, потому что мир без них хуже, — этих людей нет и никогда больше не будет…» Юра помнил смутно, что они что-то там нашли. Но это было неважно, это было не главное, хотя они-то считали, что это и есть самое главное… И, конечно, все, кто их не знает, тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь — то что для тебя подвиг? Хоть бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг это хорошо, но человек должен жить… Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не будут спрашивать ни об Юрковском, ни о Крутикове, они будут спрашивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью и будут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости. Но он уже знал, что им ответить. Чтобы не закричать на них: «Не смейте!», чтобы не заплакать, чтобы не полезть в драку. Я скажу им: «Подождите. Есть одна история…» И я начну так: «На острове Хонсю, в ущелье горы Титигатакэ, в непроходимом лесу, нашли пещеру…» Вошел Жилин, сел у Юры в ногах и потрепал его по колену. Жилин был в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Лицо у него было осунувшееся и усталое. Он был небрит. «А как же Быков?» — подумал вдруг Юра и спросил: — Ваня, а как же Алексей Петрович?. Жилин ничего не ответил.
ЭПИЛОГ
Автобус бесшумно подкатил к низкой белой ограде и остановился перед большой пестрой толпой встречающих. Жилин сидел у окна и смотрел на веселые, раскрасневшиеся от мороза лица, на сверкающие под солнцем сугробы перед зданием аэровокзала, на одетые инеем деревья. Открылись двери, морозный воздух ворвался в автобус. Пассажиры потянулись к выходу, шутливо прощаясь с бортпроводницей. В толпе встречающих стоял веселый шум — у дверей обнимались, пожимали руки, целовались. Жилин поискал знакомые лица, никого не нашел и вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Быкова. Быков сидел неподвижно, опустив лицо в меховой воротник гренландской куртки. Бортпроводница взяла из сетки свой чемоданчик и весело сказала: — Ну что же вы, товарищи? Приехали! Автобус дальше не идет. Быков тяжело встал и, не вынимая рук из карманов, через опустевший автобус пошел к выходу. Жилин с портфелем Юрковского последовал за ним. Толпы уже не было. Люди группами направлялись к аэровокзалу, смеясь и переговариваясь. Быков ступил в снег, постоял, хмуро жмурясь на солнце, и тоже пошел к вокзалу. Снег звонко скрипел под ботинками. Сбоку бежала длинная голубоватая тень. Потом Жилин увидел Дауге. Дауге торопливо ковылял навстречу, сильно опираясь на толстую полированную палку маленький, закутанный, с темным, морщинистым лицом. В руке у него, в теплой мохнатой варежке, был зажат жалкий букетик увядших незабудок. Глядя прямо перед собой, он подошел к Быкову, сунул ему букетик и прижался лицом к гренландской куртке. Быков обнял его и проворчал: — Вот еще — сидел бы дома, видишь, какой мороз… Он взял Дауге под руку. И они медленно пошли к вокзалу — огромный сутулый Быков и маленький, сгорбленный Дауге. Жилин шел следом в пяти шагах. — Как легкие? — спросил Быков. — Так… — сказал Дауге, — не лучше, не хуже… — Тебе нужно в горы. Не мальчик — нужно беречься… — Некогда, — сказал Дауге. — Очень многое нужно закончить. Очень многое начато, Алеша. — Ну и что же? Надо лечиться, а то и кончить не успеешь. — Главное, начать… — Тем более. Дауге сказал: — Решен вопрос с экспедицией к Трансплутону. Настаивают чтобы пошел ты. Я попросил подождать, пока ты вернешься. — Ну что ж, — сказал Быков, — съезжу домой, отдохну… Пожалуйста. — Начальником назначен Арнаутов. — Все равно, — сказал Быков. Они стали подниматься по ступенькам вокзала. Дауге было неудобно — видимо, он еще не привык к своей палке. Быков поддерживал его под локоть. Дауге тихонько сказал: — А я ведь так и не обнял их, Алеша… Тебя обнял, Ваню обнял, а их не обнял… Быков промолчал, и они вошли в вестибюль. Жилин поднялся по лестнице и вдруг увидел в тени за колонной какую-то женщину, которая смотрела на него. Она сразу же отвернулась, но он успел заметить ее лицо под меховой шапочкой — когда-то, наверное, очень красивое, а теперь старое, обрюзгшее, почти безобразное. «Где я ее видел? — подумал Жилин. — Я ведь ее много раз где-то видел. Или она на кого-то похожа?» Он толкнул дверь и вошел в вестибюль…В. Дружинин ДВА И ДВЕ СЕМЕРКИ

Повесть
1
Встают они в один и тот же час. Как покажется внизу, у табачного ларька, зеленая фуражка Михаила Николаевича, Юрка хватает свой портфельчик — и на улицу. По лестнице он сбегает, прыгая через три ступеньки. Пока подполковник покупает свею пачку «Беломорканала» — неизменный дневной рацион, — Юрка стоит в воротах, ждет. А выходит оттуда шагом самым непринужденным. — О-о-о! Дядя Ми-иша! — тянет Юрка с поддельным удивлением и таращит глаза. Юркину хитрость Михаил Николаевич разгадал давно, но делает вид, что тоже поражен неожиданной встречей. — А-а, юнга! Как дела? — У меня, дядя Миша, пятерка по химии. — И только? — спрашивает подполковник. — А по русскому тройка? — Угу, — вздыхает Юрка. — А у вас как дела? — Троек нет пока. Дядя Миша сегодня веселый, и, значит, говорить с ним можно сколько угодно, хоть до самой школы. Впрочем, Юра и помолчать умеет. Главное — это шагать рядом с дядей Мишей, шагать целых три квартала, на зависть всем ребятам. Шагать и гордо нести тайну. Ведь вот ребята часто видят его вместе с пограничником, а ни о чем не догадываются. Даже когда дядя Миша называет его юнгой. Обыкновенное прозвище? Как бы не так! В прошлом Юрка — нарушитель. Он лежал, сжавшись в комок, стуча зубами от холода, в шлюпке, под брезентом, на пароходе «Тимирязев». Брезент коробился, вздрагивал. И дядя Миша, осматривавший пароход перед отплытием, заметил это. Тогда-то они и познакомились. Подполковник привел Юрку в свой кабинет и посадил у печки, горячей-прегорячей. И дал чаю. Юрка отогрелся и рассказал всю правду. Стать юнгой подумывал давно, но схватил по русскому двойку и решил окончательно. Дома грозила взбучка. Прямо из школы отправился в порт. Перелез через ограду… Юрка поведал и то, что отчим у него злой: чуть что — за ремень. А мать и заступилась бы, да боится. В тот же вечер подполковник зашел к отчиму и долго беседовал с ним тихо, за дверью, — понятно, о Юрки-ном воспитании. Тогда Юрке было всего одиннадцать. До чего он был глуп! Вспомнить смешно. Ведь пограничники тщательно проверяют весь пароход — от них не спрячешься. Кроме того, в юнги больше не берут. Это когда-то было. При царе Горохе. Теперь Юрке целых двенадцать. Но уговор остается — он должен прилежно учиться, иначе подполковник сообщит в школу… Конечно, сейчас это уже не так страшно, как вначале. Но все-таки неприятно — дразнить же будут! Уговор — значит, дружба. Ни за что не хотел бы Юрка потерять дружбу с дядей Мишей. — Дома как обстановка, юнга? — У меня скоро сестренка будет. Я ведь говорил вам, дядя Миша, да? — Ты рад? — Не… Куда ее!.. Дядя Миша, я знаете какой значок достал? Австралийский! Выменял на нашего Спутника у матроса. — В парке? — Ага. Там много их, матросов. С пароходов. — Не только матросы, Юрик, — говорит Чаушев. — Всякая шантрапа топчется. Ребятам не место там, я считаю. Ты на занятия налегай, гулянки потом, потом!.. У школы они простились. Чаушеву идти еще четырнадцать минут. Улица упирается в новое здание института. Колонны в свежей побелке, чуть синеватые, стынут на ветру. Поворот вправо — и разом, из каменного ущелья, открывается даль. Мачты, карусель чаек над ними. До чего резко вдруг обрывается город с его теснотой, сумраком! Это нравится Чаушеву. Он приближается к этому изгибу улицы, невольно ускоряя шаг, всегда с ожиданием чего-то хорошего… Он уже почти дошел. Невольно расправляются плечи. Струйка ветра, бьющего прямо в лицо, упруго влилась в легкие. День сегодня по-особенному хорош. Ветер только кажется холодным — просто он дует вовсю, гудя в проводах, изо всех своих весенних сил. Спешит наполнить город, в котором еще темнеют наросты льда, еще застоялась в провалах дворов зимняя стужа. В открытом море, наверное, шторм. «Франкония» задержится, но завтра она, так или иначе, придет, пускай к вечеру. На пути к порту еще три судна. Словом, начинается страдная пора. И тут бы ему, подполковнику Чаушеву, думать о деле, о том, как распределить силы, обеспечить все посты. А вместо этого в голове упорно звенит, не затихая, непрошеная строка:2
Что за черт, Валька опять не ночевал дома! Вадим делал зарядку, широко раскидывая руки, в комнате общежития, непривычно просторной сейчас, и недоумевал. Ведь обычно Валька возвращался от своей тетки в воскресенье вечером. А сегодня уже вторник. Вчера ему следовало быть в деканате — из-за хвоста по металловедению. Он же знал это. В дверь постучали. — Нет его? — Голова комсорга Радия в квадратных очках просунулась, повертелась, брови полезли вверх. — К тетке уехал, — протянул Вадим. — «Тетка, тетка, тетка»! — застрочил Радий. — Что за тетка? Какая тетка? Ты ее видел? Никто не видел! Адрес есть? Нету. Плюс минус неизвестность. Диана, вышедшая из головы Юпитера. — Минерва. — поправил Вадим. — В общем, ты меня понимаешь, непро-тыкаемый! Волнуйся! Заводись! — Закрой дверь! — буркнул Вадим. — Дует. — Ерунда! Ты толстокожий. Он вошел все-таки. Нет, Вадим не боялся сквозняка. Он надеялся, что Радий отвяжется, уйдет, даст ему кончить зарядку. Они люди разных ритмов. Вадиму не нравится пулеметная трескотня Радия. И прозвищ Вадим не терпит. Как-то раз он вычитал, что есть непротыкаемые баллоны. Обрадовался, поведал ребятам по группе. Ведь он мотоциклист, — правда, пока только в мечтах. Вот и подхватили словечко. Хотя и ненадолго. Одного Радия еще не отучил. Радий оглядел схему мотоцикла над койкой Вадима, хмыкнул, потом бросил взгляд на столик Валентина, на его полочку с книгами — учебники вперемешку со стихами, — хмыкнул еще раз и повернулся на каблуках. — В общем, поручается тебе. Договорились? Во-первых, ты друг Савичева, во-вторых, дружинник. — Бывший, — уточнил Вадим. Радий уже не слышал — за ним щелкнула дверь. Фу, что за манера исчезать так внезапно! Вадим нахмурился, отработал несколько прыжков и начал приседания. Заладил же Радька! Разве не ясно было сказано: он, Вадим Коростелев, больше не дружинник! Силой не заставят. Дело добровольное. И краснеть ему не приходится: не из трусости же он так поступил и не из-за других каких-нибудь низких побуждений. Тут вопрос совести. На комсомольском собрании он выложил все начистоту. Да, вышел из дружины. Головы дурные у них в штабе, потому и вышел. К одежде придираются… И ведь хороших парией тащат, не буянов, не пьянчуг. Только за то, что одеты не так. А кого касается? Ну, можно дать дружеский совет, если человек ходит, как чучело. На собрании, стоя на трибуне, Вадим сжал кулаки и встал в позицию для бокса. Все захохотали, а Радий отчаянно зазвонил в колокольчик. Испугался чего-то. Радька корил Вадима — уход-де самочинный, надо было сперва посоветоваться с комсомолом. А так что же — бегство получается. Постановили выслушать отчет студентов — членов дружины. Спор с Радием длился и после собрания. — Твою отставку мы еще должны утвердить! — кипятился комсорг. — Ишь, министр непротыкаемых баллонов! Ну, дураки в штабе, ну, идиоты, правильно! А кто им будет вправлять мозги? Вольф Мессинг? Вольф Мессинг выступал в Доме культуры порта. Никому мозги он не вправлял, а угадывал мысли. Нелепая привычка у Радьки — подхватит какое-нибудь имя с афиши, из книги и сует ни к селу ни к городу. С тех пор прошло месяца два. Повестку дня забивали другие вопросы, а Радька, переходя к очередной задаче, начисто забывает предыдущую. Вадим давно уже не слышал из его уст слово «дружинник». Но что верно, то верно — Валентина искать надо. Эх, нет адреса тетки! Наталья… Наталья Ермолаевна, кажется. Или Епифановна… Разбалтывая в кипятке сгущенный кофе, он спрашивал себя: с чего же начать поиски? Что могло стрястись с Валькой? Он чувствовал себя осиротевшим. Вот сейчас, за завтраком, Валька раскрыл бы книжку и стал бы гонять его по правилам уличного движения. Устройство мотоцикла Вадим уже сдал, остались правила. Он взял книжку, полистал. Дорожные знаки. Кружок, внутри две машины. Что это значит? Вадим закрывает текст рукой. Обгон запрещен. Нет, без Вальки не то. С ним как-то яснее. Правда, в последнее время он помогал не очень-то охотно. Рассеянный стал какой-то, нервный. Ему отвечаешь, а он и не слышит. Кивает с самым бессмысленным видом. Влюблен, бедняга! Вадим презрительно усмехается. Такая любовь, как у Вальки, хуже болезни. Вадим встает, смахивает со стола крошки, лезет под кровать. Поглядеть разве, что в том пакете? Сейчас только вспомнил. Пакет появился в комнате в субботу. Валентин принес его откуда-то и сунул под кровать. Был хмурый, злой. Верно, повздорил со своей… А в воскресенье, прежде чем исчезнуть, Валька достал пакет, положил на колени и сидел задумавшись. И похоже — хотел что-то сказать. Потом затолкал пакет обратно под койку и вышел, не попрощавшись. Прижатый продавленным матрацем, сверток застрял. Вадим выволок его, чертыхаясь. Конечно, нехорошо рыться в чужих вещах. Но, может быть, сейчас что-то откроется. Что? Вадим не мог бы объяснить, чего он ждет. Просто ему вспомнился другой пакет. Этот, большой, в плотной, трескучей оберточной бумаге, а тогда, с месяц назад, Валька спрятал под койкой пакет поменьше, в газете. Перехватив взгляд Вадима, буркнул: «Для тети Наташи». Подарок тете? Было бы на что. Вадим не требовал откровенности — он сам не выносил расспросов. Оба сдержанные, немногословные, они сближались исподволь. Черт, ну и узелок! Разрезать веревку Вадим постеснялся. Фу, наконец-то!.. Вадим отдернул руку. Он словно обжегся. В луче солнца, упавшем на койку, огнисто полыхала ярко-красная ткань. Вадим осторожно приподнял ее двумя пальцами. Ворсистая материя вкрадчиво ласкалась. Женское… Мелькнул белый квадратик, пришитый к вороту. «Тип-топ», — прочел Вадим, а ниже, очень мелко, стояло — «Лондон». Еще блузка. Тоже «Тип-топ», только голубая. А под ней еще вещи — упругое, переливающееся разноцветье. Вадим разрыл — обнаружились смятые в комки, сплюснутые чулки. Все женское… Откуда у Вальки? В памяти ожила тетка — Ермолаевна или Епифановна… На минуту Вадиму показалось, что эти вещи, женские вещи, должны иметь какое-то отношение к ней. Но нет — тетка же наверняка седая, старая… А тут… «Тип-топ», игривое, как припев, разные шелка или как это еще называется. Они лежали на узкой койке, на рыжем одеяле грубой шерсти. И было в них что-то наглое и резко чуждое всей комнате: и плакату с мотоциклом, и Валькиной полочке с потрепанными томиками Есенина и Блока. Обычно все женские вещи казались Вадиму очень хрупкими и чуточку загадочными. Он если к ним и прикасался, то осторожно, чтобы по незнанию не порвать, не испортить. Сейчас он торопливо, кое-как скатывал блузки, сорочки, чулки, шарфы, запихивал в бумагу. Надавил коленом и крепко перевязал… Не ровен час — ворвется Радька или еще кто… Радька, в сущности, неплохой парень, но уж очень трепливый, шумит, пыль поднимает. Булгачить людей незачем. Надо сперва понять самому. Вещи дорогие — стало быть, купить их для себя Валентин не мог. Целой стипендии не хватит. Да что там — трех стипендий и, то, наверное, мало. Вот так история! Однако пора в институт. На лекцию Вадим не опоздал, сидел и честно пытался уразуметь, о чем же говорит громогласный великан-доцент, специалист по органической химии. После звонка в коридор не пошел, застыл за столом, уставившись в обложку тетради с конспектами. Подсели девушки — долговязая, с длинным лицом, мечтательная Римма и черненькая язвительная Тося. — Ва-адь, — протянула Римма, — давай с нами в кино на шестичасовой. — Билеты мы купим, уж ладно… — добавила Тося. — Не реагирует! — вздохнула Римма. — Забыл что-то, — молвила Тося. — Что у вас разладилось, товарищводитель? Зажигание? Ай-ай, скверно ведь без зажигания, а, Вадька? — Погодите, девочки, — сказал Вадим. — Вот заведу драндулет, тогда повезу вас в кино. Он часто обещал им это. Повторил машинально, даже не глядя на них. В час обеда в столовке к Вадиму протиснулся Радий. Он держал тарелку с винегретом, ворошил вилкой, ронял и на ходу жевал. — Тетка материализовалась. — объявил он. — Тетка — свершившийся факт. Сама звонила сюда. — Зачем? — Справлялась, что с Валькой. У тебя ничего? — Покуда ничего. Где же тогда Валентин? Перед глазами тотчас возник распотрошенный сверток на койке. И Вадим похолодел. — В «скорую помощь» не звони. Слышишь? В милицию — тоже. Звонили. Вадим опустил взгляд. Глаза Радьки, карие, бесцеремонные, досаждали ему. Радька как будто тоже увидел вещи на койке, вещи фирмы «Тип-топ», заграничный товар, неведомо как попавший к Валентину. — Думай, дружинник! В институте есть один человек, которого, пожалуй, стоит спросить. Как же его фамилия? Растопыренная, вроде… Из глубин памяти вдруг взметнулся ныряльщик в ластах. Лапоногов! Ну да. Лапоногов, лаборант. Вадим постоял у витрины с расписанием, потом спустился в подвал, в лабораторию технологии дерева. Там жужжала пила, пахло смолой, под ногами, как рассыпанная крупа, перекатывались оранжевые и серые опилки. Лапоногов стоял у циркульной пилы, плечистый, в синей спецовке. Крупная, мясистая рука лежала на рычаге. Одно время Вальке нужны были деньги. Вадим предлагал свои, отложенные в сберкассе на мотоцикл, но Валька отказался. Нет, с друзьями лучше не иметь финансовых дел. Тогда-то он и завел компанию с Лапоноговым. Тот дал деньги. Раза два Вадим видел их вместе. Они шептались о чем-то. Заподозрить дурное и в голову не пришло — крепыш в низеньких, «боцманских» сапожках, с трубкой в зубах показался Вадиму славным, бывалым моряком. — Ко мне что ли? Лапоногов нажал рычаг. Зазвенела тишина. Черные острые усики, концами книзу, шевельнулись в улыбке. Должно быть, узнал. — На минутку, — сказал Вадим. — Добре, — кивнул тот. — Обожди в коридоре. Лицо продолжало улыбаться, а голос как будто другого человека — чем-то обеспокоенного. И Вадим, невольно поддавшись этой внезапной тревоге, тоже кивнул — быстро, украдкой. «Он знает», — сказал себе Вадим, выходя в коридор. Лапоногов снова включил пилу. Вадим читал объявления, не понимая ни слова. Пила назойливо ныла за дверью. Звук напоминал бормашину. Казалось, что сверлят зуб. Наконец дверь скрипнула. Все та же улыбка у Лапоногова, словно приклеенная, неторопливая походка вразвалочку. — Где Савичев? — спросил Лапоногов. Он вынул изо рта трубку, обдал Вадима в упор медовым табачным духом. У Вадима запершило в горле, он закашлялся и вместо ответа неловко развел руками. — Его спрашивал кто? Лапоногов надвигался, прижимая Вадима к стене, душил приторно-сладким дымом. — В деканат вызывают. Насчет хвостов… Нигде его нет. Мы даже в милиции справлялись. — Найдется мальчик, — бросил Лапоногов с некоторым облегчением. — Верно, у крали своей… — Нет, — мотнул головой Вадим. Лапоногов затрясся от тихого, сиплого смеха. Вадим смутился. С чего он так развеселился? Надо сказать еще что-то. Он посмеется, да и уйдет. Эта мысль испугала Вадима. Что-то надо придумать, чтобы удержать Лапоногова. Он и в самом деле уходит. Оглядывается на дверь лаборатории. Пила работает рывками: то затихает, то испускает короткую, надсадную жалобу. — Салага! — проворчал Лапоногов. — Поломает мне инструмент. Будь здоров, браток! Он выставил руку, но не протянул Вадиму, а тряхнул в воздухе, лихо щелкнув пальцами. — Слушайте, — чуть не крикнул Вадим. — Там вещи… До сих пор он не знал, нужно ли упоминать о них. Вырвалось в отчаянии. — Вещи? Какие вещи? Лапоногов снова шагнул к Вадиму. — Всякие, — зашептал Вадим, обрадованный результатом. — Шелковое все. «Тип-топ», заграничное. — Куда дел? — Никуда я не дел. — Вадим поморщился, жесткие пальцы сжали ему плечо. — Растрепал всем, салага? — Не трепач! — Вадим высвободился, в нем поднималась злость. — Тихо ты! Тихо! Понял? Если ты ему друг… — Я-то друг! — отрезал Вадим. — И я тоже. А ты как считаешь? Ты не тарахти, понял? Мое дело тут сторона, меня это барахло не касается. Главное, Валюху не подвести. «Врет, — подумал Вадим. — Касается!» — Народ знаешь какой! Всех собак навешают, понял? И, главное, по-глупому, зазря. Так ты не гуди, ладно? — Он обнял Вадима. — Мы с тобой поглядим, что за барахло. Есть? Ты жди меня, жди в комнате Договорились? Я этак через полчасочка к тебе… — Приходите, — сказал Вадим. Он не видел, как Лапоногов вбежал в лабораторию, скинул спецовку, надел плащ и осторожно, медленно, озираючись, двинулся следом. Вадим шел, ничего не видя вокруг. Он был ошеломлен, растерян. Он ежился, точно рука Лапоногова еще давила плечо. Противный он! Потом возникла обида на Валентина. Правда, они не клялись в дружбе, но все-таки… Целую зиму Валька жил рядом, спал рядом на койке. И вот оказывается — жизнь-то у них не общая. Странно, читал Блока, сокровенные свои мечты высказывал как будто… Их комната стала чужой. Казалось, что в воздухе носится предчувствие беды…3
В порту, в здании комендатуры, из своего кабинета, выходящего окнами на причал, заставленный бочками с норвежской сельдью, подполковник Чаушев говорит по телефону. — Правильно, — кивает он. — Правильно, Иван Афанасьевич. Зайди! Потом Чаушев оборачивается к лейтенанту Стецких. Рисунок на листке блокнота закончен. — А вы сразу — взыскание! — произносит Чаушев с укором. Стрелка, пересекшая реку, пароход и портовый причал с пакгаузами, уперлась в обширный квадрат. «Институт» — написал Чаушев внутри квадрата и подчеркнул два раза. Да, вероятно, таково направление сигналов, перехваченных рядовым Тишковым. Стецких почтительно смотрел. Никогда нельзя было угадать, принял ли он к сердцу сказанное. Это раздражало Чаушева. Одно только вежливое, послушное внимание изображалось на красивом, чересчур красивом лице лейтенанта. — Что мы можем требовать от солдата! — сказал Чаушев сердито. — Его задача… Впрочем, этого еще недоставало… Растолковывать офицеру, прослужившему уже почти год, задачу младшего в наряде. Он же помогает старшему, то есть часовому, стоящему у трапа, и не должен отходить далеко. А пароход непрозрачный. Пора лейтенанту знать порт, знать наизусть все причалы и посты. Где находится солдат, что он обязан видеть и что он может заметить лишь случайно. — Спасибо, поймал хоть часть морзянки… Я вот хочу вас спросить, товарищ Стецких. Долго ли вы будете у нас… прямо скажу… новичком? Стецких покраснел. — Вам не нравится, что Бояринов вас обходит, — продолжал подполковник. — Да, да, задело вас, я же не слепой! И хорошо, что задело! Вы в штабе, а он в подразделении, вы по службе выше его, а совета он у вас не просит. У меня просит… — Я не фигура, — сдавленно проговорил Стецких и еще гуще залился краской. — Вот как? А почему не фигура? Кто мешает стать фигурой? Недоумеваю, товарищ Стецких. У вас образование, культура. — Чаушев отодвинул блокнот, аккуратно вставил карандаш в вазочку. — В части внешнего вида я вас в пример ставлю другим. Тому же Бояринову. «Вот, говорю, лейтенант всегда подтянут, выбрит на отлично»… Чем это вы душитесь? — Одеколон, — поспешно отозвался Стецких. — Наш, отечественный. Он хорошо знал недоверие начальника ко всему заграничному — давнее, ставшее инстинктом. — Запах приятный, — улыбнулся Чаушев. — Лимонный, — пояснил лейтенант. — Представьте, я определил сам, — ответил Чаушев, не выдержал и рассмеялся. Стецких иногда попросту забавен. Нет, его нельзя назвать карьеристом — это мрачное слово, звучащее как диагноз болезни, как-то не идет к нему, особенно сейчас. Наивное, мальчишеское честолюбие, бьющее через край. Но если разумно не направить… — Еще огромный плюс — вы языками владеете. Все данные есть у человека. Лейтенант напрягся. Слова Чаушева задели его за живое. Должность у Стецких временная, его назначили на место офицера, выбывшего в госпиталь. Офицер тот лежит третий месяц и, по-видимому, не вернется сюда. — Все же разрешите полюбопытствовать, — начинает он. — Вы сказали, что иначе поступили бы в данном случае с сигналами… А конкретно как? — Не поняли? — Никак нет. Гулкие шаги раздаются в коридоре. Это Бояринов. Его слышно издали. Он входит, стуча каблуками, плотный, очень широкий в плечах. Все на нем тяжелое, как железо, — сапоги, начищенные до тусклого блеска, длинная темно-серая шинель. Одна пуговица у Бояринова повисла. И, хотя Стецких слушает доклад старшего лейтенанта с любопытством, он не может отделаться от лукавого ожидания. Ведь начальник видит пуговицу, несомненно видит. Не отпустит без замечания. Хорошо ли так радоваться? Лейтенант в глубине души посмеивается над собой. Есть как бы два Стецких: один, постарше, точно держит за руку другого, поймав на озорстве. Бояринов считает, что сигналы предназначались кому-то на пароходе «Вильгельмина». «Вполне допустимо, — думает Стецких. — Бояринов особой смекалкой не блещет. А начальнику он нравится!» Чаушев одобрительно наклонил голову и передал старшему лейтенанту свой рисунок. — Точно! — сказал Бояринов. — Скрытно от наряда, — подхватил Чаушев. — Именно, что скрытно, — вторит старший лейтенант, сильно нажимая на «о». «Подумаешь, находка! — иронизирует Стецких про себя. — Ведь Соколов извещен. Пока мы здесь гадаем, Соколов действует. Он давно действует. И теперь там, в комитете, знают, наверное, куда больше, чем мы». Между тем бояриновское «о» не умолкает. Оно долбит и долбит барабанные перепонки Стецких. Старший лейтенант, оказывается, допускает и другие возможности. Часа два он не спал, бегал ночью по причалам, выяснял, где еще могла быть принята загадочная световая депеша. Был даже за воротами порта. В порту фронт видимости довольно широкий: ряды пакгаузов, в ту пору безлюдных, два парохода у стенки — «Вильгельмина» и «Щорс». А в городе только одно подходящее здание. Оно выше пакгаузов, выше деревьев парка — это институт. — С пятого этажа свободно, — говорит Бояринов. — Прямо в окна брызнуло. — Там ведь общежитие? — спросил Чаушев. — Так точно! «А дальше что? — откликается про себя Стецких. — Да, видеть могли и на „Вильгельмине“, и на наших судах, у пакгаузов и в общежитии. А кто принял сигналы? Мы не в силах установить, да нам, пограничникам, и не положено…» — Ты отдохнул, Иван Афанасьевич? — спрашивает Чаушев. — А то домой ступай. — Порядок, — отвечает Бояринов. Чаушев подался вперед, схватил пуговицу на шинели Бояринова и слегка дернул. — Потеряешь. Ага, заметил! Стецких доволен — справедливость все же существует. А другой раз Бояринову досталось бы… Он и так сконфужен. За небрежность ему уже влетело однажды. Бояринов встает. — Насчет Тишкова, — удерживает его начальник. — Как, Иван Афанасьевич, не довольно ему в младших ходить? — Хватит, товарищ подполковник. Он себя показал неплохо. Парень старательный. — Пустим старшим. Наконец Бояринов уходит. Стецких выпрямляется в кресле и встречает спокойный взгляд подполковника. Чаушев доволен: ему давно хотелось вот так столкнуть лбами этих двух офицеров, таких несхожих. В кабинете остался запах сапог Бояринова. Сапожная мазь и лимон… Чаушев улыбается. Стецких сжимает пальцы, ощущая улыбку начальника. Эх, неудачно у меня начался день! — Вам, стало быть, нечего обижаться на Бояринова, — слышит он. — Что вы могли ему посоветовать? Он и действовал на свое усмотрение. Действовал правильно, в чем я, собственно говоря, и не сомневался. Дошло ли до Стецких, или он по-прежнему считает себя правым?.. Положим, он не нарушил буквы устава. Нет, в этом его не упрекнешь. Устав затвердил назубок. Но вот дух его, требования жизни, бесконечное разнообразие обстоятельств… Службу свою вымерил вон по той панораме на стене-до ограды порта и ни на шаг дальше. — У меня к вам все, Стецких. Чаушев несколько минут находится под впечатлением разговора со Стецких и Бояриновым. Какие контрасты! Просто поразительно, до чего разные люди. Стецких, разумеется, считает Бояринова гораздо ниже себя. А он, Чаушев, в глазах Стецких небось придира, чудак, которому не усидеть в рамках устава. Да, старый чудак. Эта мысль смешит Чаушева. Однако из-за буквы устава спорить иной раз приходится не только с лейтенантом Стецких, но и с людьми куда старше по званию. Уставы не каждый год пишутся. А жизнь не ждет. В чем беда Стецких? Настоящего, не книжного понятия о жизни он еще не приобрел. А читает массу. В училище заласкан похвалой педагогов. Привык быть отличником. Другое дело-Бояринов, сын рыбака с Северной Двины, воевавший в минометном взводе. Эх, соединить бы в одном лице умную, хозяйскую хватку Бояринова и культурный багаж Стецких, его аккуратность, его интеллигентность… Телефонный звонок. Это капитан Соколов. Он должен срочно видеть подполковника. — Жду вас, — говорит Чаушев. Он смотрит на часы и открывает форточку. Пора проветрить. За окном, у борта плавучего крана, быстро дотаивает последняя льдина — серый комок на голубой весенней воде.4
В общежитии института, в комнате со схемой мотоцикла на стене, — Вадим и Лапоногов. Толстые пальцы Лапоногова тискают тонкую ткань, ищут и расправляют глянцевые, бархатистые этикетки с маркой «Тип-топ». Он сопит, издает губами какие-то чавкающие звуки, словно пробует товар на вкус. Голубая блузка чуть ли не целиком исчезает в широких ладонях. — Нейлон с начесом! — смачно произносит Лапоногов. — Барахлишко люкс, бабы с руками оторвут… — Отбросил блузку, скорчил гримасу, будто внезапно нашло отвращение. — Игрушку свою купил? Тарахтелку? — Лапоногов смотрел на плакат. «Мотоцикл! — сообразил Вадим. — Откуда он знает? Наверное, Валька сказал». — Не так просто купить. — Много не хватает тебе? — Много. Всего-то полторы сотни накопил. А он стоит пятьсот. Вадим даже вздохнул: своим ответом он бессознательно старался завоевать откровенность Лапоногова. А тот уже снова мял блузки. Потом вскочил, подошел к столу. Взял тетрадку Вадима по физике, только начатую, полистал. — Давай пиши! — пробасил Лапоногов и протянул Вадиму тетрадку. — Что писать? — Товарища хочешь выручить?.. Пиши? Улица Кавалеристов, одиннадцать, квартира три, Абросимова. Вадим, онемев от недоумения, записывает. — Может, Валюху самого там застукаешь. А нет — она скажет, она в курсе… Да барахло не забудь, захвати ей… Мигом язык развяжет, понял? — Постойте! — крикнул Вадим. Лапоногов шагнул к двери. Вполоборота, уже держась за скобу, кинул: — Всё! Ничего я у тебя не видел, ничего тебе не говорил. Дробный хруст — это Лапоногов, как тогда, в институте, тряхнул рукой в знак прощания. Шаги уже стихли, а резкий хруст костяшек все еще слышится Вадиму — завяз в ушах. Вадим один в комнате. Один с чужими, пугающими вещами на койке, с адресом в тетрадке, на первой странице, в самом низу, под формулой закона Паскаля. «Тип-топ» — шелестят сорочки, блузки. Вадим завертывает их с судорожной поспешностью — он не в силах вынести назойливого присутствия этих кричаще ярких красок… Вот, так спокойнее. «Если хочешь выручить товарища?..» Эта фраза как-то примиряла с Лапоноговым, примиряла, несмотря на мерзкий хруст костяшек, несмотря ни на что… Может, винить его и не в чем. Он, возможно, друг. Вальки и желает ему добра. А в пакете, может, контрабанда! С детских лет отпечатался в сознании черный человек, в ночной темноте крадущийся через границу. Почему-то в горах. И в широкополой шляпе — тоже неизвестно почему. О настоящих контрабандистах в родном Шадринске, удаленном от границы, не знали. О них Вадим узнал лишь недавно, в конце зимы, на собрании дружинников. Выступал подполковник-пограничник. Иной шпарит по бумажке — слова казенные, ни уму ни сердцу. А у этого подполковника слова обыкновенные, суховатые даже, но свои слова. Ребята очень переживали. Такому человеку все можно высказать. Он все поймет. Пойти разве сейчас, с пакетом?.. Ну, а толк какой? Вдруг не контрабанда вовсе. Глупо получится. Что он, Вадим, может объяснить насчет Вальки, насчет Лапоногова или Абросимовой? Ноль целых, коли разобраться. Валька — преступник? Нет, нет! Валька — идеалист, у него все люди хорошие. Он не хотел. Теперь сам, наверное, не знает, что делать с вещами. Ведь эго просто — надо прийти к подполковнику и рассказать все честно. Надо найти Вальку и заставить. Тогда его простят. Непременно простят… На тротуаре, у входа в общежитие, пестрели книги на новеньком, пахнущем смолой лотке. Однорукий продавец бойко выкликал названия. Толстая женщина несла в авоське зеркало. Маленькие девочки играли на асфальте в классы. Вадиму чудилось: все, даже девочки, смотрят на его пакет. Крепко прижав ношу к себе, Вадим спросил у милиционера, где улица Кавалеристов. Собственный голос показался ему чужим. В трамвае сидел как на угольях, опустив глаза, видел бесконечное мелькание ног; туфли, запыленные сапоги, остроносые башмаки без шнурков… Улица Кавалеристов открылась широкая, голая, без зелени, без вывесок. Гладкие стены новых домов. Вадим попытался собрать разбежавшиеся мысли. Что он скажет, когда войдет? А что, как в самом деле застанет там Вальку? За дверью квартиры номер три в ответ на звонок слабый, плачущий голос осведомился: — Кто здесь? — Мне к Абросимовой, — сказал Вадим. Залязгали, загремели запоры, что-то зазвенело, как упавшая монета. Закачался, скрипя и ударяясь обо что-то железное, отомкнутый крюк. Тощий голосок жаловался на что-то, грохот заглушал его, и к Вадиму сочился лишь тоненький, на одной ноте, плач. Щуплая старушка в тусклом халатике толкнулась к нему, едва не уколов острым носом, и тотчас отпрянула: — Валентин Прокофьич!.. Ой, нет, не Валентин Прокофьич! Кто же? — От него, — сказал Вадим. Он понял сразу — Вальки тут нет. Старушка между тем впустила его в комнату, большую, в два окна, и все-таки сумрачную и как будто не принадлежащую этому новому дому, этой просторной, солнечной новой улице. Вадим словно ухнул в огромную корзину с тряпьем В пятне дневного света выделялся стол, залитый волной темной материи, а остальное было как бы в дымке — занавеска слева, обвешанный платьями шкаф, кресла в чехлах. — А Валентин Прокофьич? — протянула старушка. — Не заболел ли? — Да… Нездоров немного… — Я сама больная, — застонала старушка, — не выхожу никуда. Лежала бы да не дают лежать Пристали — все надо к маю… У меня весь организм больной. Какая я швея, нитку не вижу! Да вы кладите, кладите… Вадим топтался, неловко обнимая пакет. Абросимова подвела его к столу и, продолжая стонать, с неожиданным проворством выхватила сверток и распластала на столе. — И на что мне! — сетовала она. — Мне и сунуть некуда… Просят люди, ну просят ведь, господи! Костлявые руки ее, жадно перебиравшие товар, говорили другое, но Вадим не замечает их. Он стыдит себя за промах. Явиться следовало от Лапоногова, а вовсе не от Вальки. Теперь и расспрашивать про Вальку неудобно. Дернуло же сочинить такое — нездоров! — Вы садитесь. Сесть некуда: на одном кресле журналы с выкройками, обрезки, на другом — утюг. Вещи, принесенные Вадимом, уже исчезли со стола, а в руке Абросимовой появились деньги. Как они появились, неизвестно. Из кармана халата, что ли? Возникли точно из воздуха, как у фокусника. Абросимова перестает ныть, она отсчитывает деньги. И Вадим сжался — ведь деньги-то ему! Он как-то не подумал о деньгах, не приготовился к этому. — Блузки по четыреста… Ох, вот не привыкну к этим, что хошь! По сорок. Четыре штуки по сорок-сто шестьдесят, да белье… Вадим взял, не считая. — Поклон Валентину Прокофьичу. Хорошо, долг отдаст… Ему тут четвертная на май, остальное лапоноговское. Да он сам знает. — Знает, — выдавил Вадим. На улице он остановился как вкопанный — солнце ударило прямо в лицо. От пакета он освободился, но есть другой груз. Он, кажется, еще тяжелее, хотя это небольшая пачка денег. К счастью, ее никто не видит. Но она давит грудь, точно впивается в тело. Нечестное это дело. Да, наверняка контрабанда. Теперь Вадим твердо уверен. Денег слишком много. Он никогда в жизни не держал столько за один раз. Как быть с ними? Он велит себе не спешить. Есть еще один человек, с которым необходимо встретиться. «Небось у крали своей», — сказал Лапоногов. Вальки, конечно, и там нет. Не очень-то они ладят, и вообще… Однако попытаться нужно. На площади, у справочного киоска, Вадим мнется — фамилию он скажет, а вот имя… Девушка в окошке — сплошные локоны — занята. У нее интересная книга, и, кроме того, она отгоняет толстую, назойливую зимнюю муху. Вопрос не сразу доходит до нее. Гета? Почему же не может быть такого имени. — Она Гета, ее зовут Гета… А полностью?.. На «г» как-нибудь. — Ой, умора! Вы ищете ее, познакомиться хотите? Нет, почему же на «г»? Маргарита если… На «г» и имен-то нет. У нас в школе Гертруда была, так у нее отец эстонец. — Леснова, — сказал Вадим. — Русская. — Запишем — Маргарита. А вы думайте пока. Ой, надо же! Обожаю настойчивых!5
Льдина на воде, у борта плавучего крана, растаяла вся — плавает только что-то желтое с нее, похоже — спичечный коробок. Он колет глаза Чаушеву, словно это на его столе лежит неубранный мусор. Вода, бетон причала — все уже давно стало как бы частью обстановки кабинета подполковника. Они оба смотрят на весеннюю воду: Чаушев и капитан Соколов, светловолосый, белокожий, с мелкими упрямыми морщинками у самого рта. Завтра там, за пакгаузом, где, как струна, серебрится и дрожит в мареве тонкий шпиль морского вокзала, встанет «Франкония», пароход с туристами из-за границы. Первый вопрос Соколова был: — Что слышно о «Франконии»? Они не успели поспорить. Чаушев утверждал, что два и две семерки — перехваченная световая морзянка — шифром не является. Шифром пользуются агенты разведок. А передавать депеши вот так, в открытую, решаются лишь те шпионы, которые действуют в приключенческих книжках. Соколов не возражал, он только улыбался и чуть поводил плечом — я, мол, наивностью не страдаю, но строить какие-либо прогнозы пока еще воздержусь. Чаушев научился понимать мимику невозмутимо-молчаливого капитана — она не причиняла ему неудобств. Теперь они вернулись к «Франконии», хотя связи между ней и загадочными сигналами ни один еще не усмотрел. Просто капитан, поиграв своими морщинками, выжал: — Ждут «Франконию». В «лягушатнике». В молодом парке, недалеко от ворот порта, плещет фонтан — четыре скрещенные струи, извергаемые четырьмя бронзовыми лягушками. Там, на площадке5 собирается «лягушатник» — сходятся любители наживы. Идет обмен марками, монетами, авторучками, на первый взгляд безобидный, но служащий нередко зачином сделок более крупных. Пожевав губами, капитан добавил, что с приходом «Франконии» ожидается большой бизнес. — Все Нос выкладывает? — спросил Чаушев. — Да. Носитель этой клички, долговязый парень с длинным, унылым носом, разряженный, как павлин, попался в прошлую субботу самым жалким образом. Он ходил по номерам гостиницы «Чайка» и скупал у иностранцев нейлоновое белье, блузки, чулки, пока не наткнулся на немца-коммуниста. Тот схватил бизнесмена за шиворот и поволок к милиционеру. Выросла толпа, немец возмущался, цитировал Маркса. Нос уже не раз выходил сухим из воды — не находилось явных улик. И на этот раз он изловчился — в суматохе передал кому-то пакет с добычей. Однако при нем еще остался товар, предназначенный для сбыта, — двое золотых часов и золотой портсигар. «Не взяли! — сообщил он Соколову на допросе. — Заказали, а не взяли!» Обычно самоуверенный, наглый, фарцовщик скис. Стал разыгрывать простачка. Он не виноват, его втянули. Сам бы ни за что… Сулили ему невесть какие блага. А на деле львиную долю барыша надо отдавать. Кому? Главаря, Форда, Нос никогда не видел, с ним связаны скупщики, которым Нос отдавал товар. Нос скулил. Немец-иностранец, вдруг оказавшийся союзником нашей милиции, наших дружин, совершенно расстроил его нервы. Нос жаловался на судьбу, изображая перед Соколовым бурное раскаяние. Имена Нос побоялся назвать. Он мало нового открыл капитану. Да, в городе орудует шайка спекулянтов, заманивающая иностранцев. Предводитель ее, Форд, старательно прячется, он не показывается на глаза рядовым членам. Он часто в разъездах. «Франкония», надо полагать, привлечет его. Предполагаемый «большой бизнес» — вот, пожалуй, самое существенное в показаниях Носа. Все это капитан уже сообщил Чаушеву — скупыми, но очень емкими словами, из которых каждое стоит нескольких фраз. И так же лаконично изложил свои намерения. Скоро петля затянется. Это значит: дни шайки сочтены. Многие фарцовщики взяты на заметку. Но ведь стянуть петлю надо так, чтобы в нее попал и самый крупный зверь. Чаушев сам видел стиляг, толкущихся у гостиницы. Они до смешного неуклюже притворяются случайными прохожими. Заглядывал Чаушев и в «лягушатник» Никто не обязывал его. Но ведь он помнит этих лоботрясов малышами, славными малышами. Давно ли они пускали по весенним ручейкам самодельные кораблики? Чаушев знает и родителей Отец Носа, например, замечательный труженик, один из лучших разметчиков на судоремонтном заводе. Яблочко далеко укатилось от яблони. Почему? Тут нет рецепта, общего для всех. Ответить нелегко… Нет, эти юнцы, сбившиеся с пути, небезразличны Чаушеву. Мысли Чаушева, его знание людей, города нужны Соколову. Нужны постоянно, хотя внешне это почти неуловимо. Соглашается капитан или возражает — он делает это главным образом про себя. Впрочем, сегодня у Соколова особая, срочная надобность. Что представляет собой «Франкония»? Какова ее репутация у пограничников? Что ж, репутация неплохая. Для Чаушева суда как люди. У каждого индивидуальный характер. Понятно, есть посудины куда более беспокойные Взять ту же «Вильгельмину» с ее вечно пьяной, драчливой командой, набранной в разных странах с бору да с сосенки. Или вот отчаливший третьего дня «Дуйсбург». У тамошнего боцмана за спекуляцию пришлось отобрать пропуск для схода на берег. Так боцман, обозлившись, швырнул в часового бутылкой с палубы… А «Франкония» — громадный туристский лайнер, команда вымуштрована, ведет себя прилично. С капитаном, румяным толстяком Борком, конфликтов не было. Вот среди туристов есть всякие. Прошлым летом одна леди пыталась увезти дюжину платиновых колец да десятка четыре золотых монет царской чеканки. Ссыпала в банку с вареньем. А другая насовала золото в детские игрушки. Таможенникам такие уловки не внове. Один господин возвращался на «Франконию», увешанный советскими фотоаппаратами. Тут уже вмешался часовой у трапа. Как ни хорошо кормят у нас гостей, турист не мог так располнеть за один день. Пальто на нем буквально трещало. Соколов молча слушал, иногда быстро, мелким почерком записывал что-то. — А на команду я не в претензии, — повторил Чаушев. — Она-то по струнке ходит. «Франкония» — судно известное. Оставшись один, Чаушев помахал рукой — капитан сжал ее, прощаясь, словно стальными тисками. Ох, и силища! Уже пора обедать. Чаушев прибрал на столе, открыл форточку. Вышел без шинели. О бетон причала мягко шлепала теплая волна. «Два и две семерки» — возникло в памяти. Весьма возможно, сигналы имеют прямое отношение к «большому бизнесу», к главарю фарцовщиков, столь упорно окружавшему свою личность ореолом страшной тайны. Верно, сам еще молод или ловко учел психологию своих безусых подручных. У плавучего крана заботливо рокотал буксир, тыкался кормой. Сейчас кран уберут отсюда, откроют и этот причал для начавшейся навигации.6
— Прямо и направо, — услышал Вадим. Девушка улыбалась ему, локоны сияли, весь справочный киоск наполнился солнцем. Как хорошо, что Гета Леснова и в самом деле Маргарита. А главное, нашлась! И живет рядом… Эта Леснова небось гордячка и не оценила симпатичного молодого человека, не желает его видеть, но он настойчивый, он добьется своего. И, как знать, не принесет ли ему бумажка с адресом счастье навек… Вадим и не подозревал, разумеется, что ему в киоске уже прочат свадьбу. Самое имя, Гета, вызывало досаду. Отчего не Рита? Гета звучало чуждо и вызывающе, почти как «Тип-топ» на этикетке лондонской блузки. Видел он Валькину зазнобу всего один раз. Фифа! Правда, разглядывать было некогда. Они садились в машину у парикмахерской, на проспекте Мира — она и Валька. Машина-красота! Новая «Волга» кофейного цвета. Вадим окликнул Вальку. Тот кивнул, держа приоткрытую дверцу, а девица — подумаешь, как некогда ей, — оглянулась, потом оттеснила Вальку и, прошуршав платьем, села за руль. А Валька замешкался. Может быть, он все-таки сообразил, что надо познакомить друга… «Поехали!» — позвала она. И Валька, бедный Валька послушно юркнул за ней, и они уехали, обдав Вадима клубами выхлопного газа. В памяти остались большие, словно нарисованные глаза девицы, пышная прическа, властное «Поехали!». Наутро Валька сказал, что был на вечеринке. Спросил, как понравилась Гета. Вадим ответил мрачно: — Я больше на машину глядел. Ты же не знакомишь меня. Валька смутился. Да, машина мировая, собственная машина отца Геты, знаменитого хирурга. Вадим спросил, где учится Гета. — Поступает в институт, — сказал Валька. Вадим фыркнул: на дворе зима, вовсе не сезон для приемных испытаний. Не удержался, брякнул: — Который год поступает… В то утро они чуть не поссорились. При других обстоятельствах девушка за рулем автомашины возбудила бы уважение Вадима. Но это «Поехали»!.. Несчастный Валька под башмаком. Точнее, под туфелькой, приколотый каблучком-гвоздиком. Вадим так и заявил Вальке прямо в глаза, искренне жалея его, — ведь худшей участи нет для мужчины! Валька часто являлся под утро — из гостей, из ресторана. Хоть бы раз пригласил друга! Поди, она запретила. Еще бы, ведь у него, Вадима, нет таких костюмов, какие шьет Вальке папаша, портной в Муроме. Валькин гардероб состоял всего из двух костюмов — черного и серого, — но, с точки зрения Вадима, его сожитель одевался ослепительно. Еще целых пять галстуков! Белые сорочки!.. Сейчас Вадим идет, подхлестываемый злостью к фифе, к задаваке, к расфуфыренной кукле. Он уверен: это из-за нее хороший, честный Валька попал в беду. Ну ясно: иначе откуда у него деньги на рестораны? Может, сама она тоже замешана в темных делах. Вадим читал в газетах, что вытворяют сынки и дочки знаменитых отцов. От них всего можно ждать. В подъезде мерцал зеленым глазком лифт, но Вадим прошагал мимо — он презирал лифты. «Профессор Виталий Андроникович Леснов», — прочел он на медной дощечке и дернул рукоятку звонка. Пронзительно затявкала собачонка, ей вторило в пустоге звенящее эхо. «Квартира большущая, — сказал себе Вадим. — Ишь, живут!» — Зати-ихни! — раздался голос. — Гету можно? — хмуро сказал Вадим полной пожилой женщине. — А вы кто будете? Она отпихивала пяткой противную, нестерпимо шумливую собачонку. И зачем только держат таких! Силясь перекричать ее, Вадим бросил: — Я товарищ Валентина! — Хорошо, хорошо… Цыц, психоватая!.. Вы проходите, сядьте, она скоренько… Очень скользкий, только что натертый паркет под ногами, блеск металла. За стеклами, на полках, медно-красные и отливающие серебром кувшины, чаши, выстроившиеся, словно шеренга рыцарей в латах. Крышки, похожие на шлемы, гербы, скрещенные шпаги. А на пространстве стены, свободном от темных, лезущих к самому потолку стеллажей, — толстые, круглые, тусклые блюда. На одном — великолепный замок на холме, на другом — пухлые, с застывшим зайчиком света щеки какого-то короля или графа, важного, в парике. «Иоганн-Август», — разбирал Вадим латинские буквы. — «Фон Саксен». Очевидно, Саксонский. «Тысяча шестьсот…» Две другие цифры были снесены, как будто сабельным ударом. На миг Вадим забыл о своих заботах — он почувствовал себя в музее, его окружили интригующие даты, имена, эмблемы. В углу на круглом столике стоял сосуд с двумя ручками непонятного Вадиму назначения. Скорее всего, для фруктов. Он подошел, и навстречу ему шагнуло его отражение на полированной выпуклой поверхности. Смешной парень, страшно толстый, с крохотной головой, почти весь погруженный в необъятные лыжные штаны. — Добрый день! — раздалось за спиной. Застигнутый врасплох, он отозвался не сразу, а затем, подавляя неловкость, заговорил глухо и неприветливо. Высокая, прямая, в гладкой красной блузке, девушка смотрела без улыбки, удивленная его тоном, но Вадим уже не мог ничего исправить. — …Вы должны знать, где Валя! — закончил он. — Очень странно! — Она не шевельнулась, только брови ее чуть дрогнули. — Почему это «должна»? — Значит, не знаете? — Извините, понятия не имею. Он молчал, наливаясь яростью. Ах, вот как?! Да они сговорились, что ли? Молчала и Гета. Будь Вадим любезнее, она сказала бы ему, что сама вот уже несколько дней не видела Валю. Позавчера праздновали ее день рождения, а он не соизволил прийти и даже не позвонил. Причина, по мнению Геты, только одна — появилась другая девушка. Так она решила непримиримо и бесповоротно. Недаром Валя в последнее время стал таким угрюмым и невнимательным. А что еще могло случиться? Болезнь? Так он же хвастался, что даже гриппа не испытал ни разу в жизни. Дал бы знать, если бы заболел, Поздравил бы по почте… Последний вечер, в ресторане, он был сам не свой — то молчит, то говорит какими-то туманными намеками. Я, мол, могу в один прекрасный день бесследно исчезнуть. Что это: рисовка или предостережение? То и другое, наверное. Вообще, странно. Валентин показался ей таким искренним и цельным человеком, когда они познакомились. А потом он точно стал отдаляться. Что-то скрывает… Ясно — что! Новое увлечение! Вот и мама так считает. И пусть. Страдать из-за него? Ни за что! И, уж во всяком случае, она не обязана отдавать отчет этому невоспитанному, грубому мальчишке. Ах, видите, он товарищ Валентина! Наверное, не очень близкий товарищ, если Валя не счел нужным представить его тогда — у парикмахерской. А Вадиму трудно было дышать от распиравшего возмущения. Красная блузка Геты, бархатистая, обтягивающая красная блузка дразнила его. Тоже небось «Тип-топ»! — Ладно! — буркнул он. — С вами поговорят в другом месте. Две минуты спустя, на улице, он уже корил себя: дурак, зря ей нахамил! Надо было поделикатнее. Эх, не умеет он так обращаться с девчонками, как Валька! Модник к танцор Валька. Хотя все равно — такая разве скажет правду? Вадим с ненавистью вспомнил красную блузку. Ну погоди же!.. Между тем Гета медленно приходила в себя. Злобные, непонятные слова грубого мальчишки оглушили ее. Не пьяный ли он? Нет, как будто трезв. Он пришел как бы для того, чтобы ругаться, — такой у него был вид. Она выскочила на площадку. — Стойте! — крикнула она, чувствуя, что сейчас расплачется от обиды, от страха. Ее голос ухнул в пустоту.7
К причалу морского вокзала величественно прислонился туристский лайнер «Франкония». Весь белый, расцвеченный полосатыми тентами, по палубам заставленный шезлонгами, столиками для кофе, для коктейлей, он похож на южный нарядный курортный отель. На советский берег направлены десятки фотоаппаратов и биноклей. На причале прохаживается рядовой Тишков — невысокий, коренастый, крепкоскулый, с черной родинкой, севшей у самого уголка рта слева. Кажется, там у него смешливая ямочка. В действительности Тишков сегодня серьезен как никогда. В его жизни начались крупные события. Смешалось все — и плохое и хорошее. Больше-то плохого. Конечно, происшедшее нисколько не похоже на те картины, которые он рисовал себе. Сколько раз он задерживал шпиона! Ловил его среди кубов теса на лесной бирже или на задворках пакгаузов, находил его, притаившегося за мешками, за катушкой с кабелем, бледного от ненависти, с ножом или пистолетом наготове. И вот его, Тишкова, сам подполковник благодарит перед строем… Вначале Тишкова буквально бросало в жар от этих воображаемых схваток. Он мял ремень автомата, озирался — чужой, недобрый взгляд жег ему спину. Откуда? Из темного иллюминатора, с мостика, из-за двери, ведущей в кубрик, — ее, разумеется, нарочно оставили полуоткрытой. Отовсюду следят за ним — советским часовым, следят во все глаза. Слыша незнакомую речь на борту, Тишков чуял, что говорят о нем, ищут способ убрать его с дороги, обмануть его бдительность. Разглядывая иностранцев-моряков, он спрашивал себя: кто же из них враг? С опаской смотрел на хмурых, тощих и в особенности на рыжих. От таких ждал всяких козней. Иногда он готов был поклясться: вот с этим иностранцем он столкнется не на жизнь, а на смерть! Однако боцман-ирландец — был он рыжий и тощий — дружески протягивал на берегу нашим грузчикам значки с голубем мира. Может быть, уловка, хитрый ход? Нет, никакого подвоха! Постепенно новичок стал меньше страдать от своей назойливой фантазии. Шли месяцы, а красивая, героическая схватка так и не выпадала на долю Тишкова. Правда, не всегда обходилось гладко. Как-то раз пьяный механик поставил на поручень стакан с вином и жестами предлагал Тишкову выпить, а потом обругал его, весьма точно произнося русские нехорошие слова. Случалось, Тишков замечал пачку антисоветских листовок в щели ящика, опущенного на причал, или на крюке подъемной стрелы. Все мелочь, понятно, против вчерашнего. Вчера он мог бы сделать очень важное дело, если бы… Эх, если бы да кабы!.. На сердце у Тишкова камень. Хоть никто не винит его ни в чем. От этого не легче Поймал-то он конец передачи, всего-навсего конец. Правда, вести наблюдение за противоположным берегом он не был обязан, инструкцию не нарушил. Плохое утешение. Поймал конец, а мог бы застать всю сигнализацию. У трапа стоял Мамаджанов, старший наряда, а Тишков шагал по причалу взад-вперед. Тот берег открывался ему, когда он оставлял позади нос «Вильгельмины» или корму И вот если бы он не застрял в пути… Если бы не отвлекся… Вынес черт на палубу этого итальянца! Как всегда, он кивнул солдатам и крикнул: «О, товарич!», а затем вынул из кармана гармошку да как заиграл! Тишков любит музыку. Итальянец играл «Гимн демократической молодежи», притопывал и дирижировал рукой. Тишков из вежливости остановился. Только на две—три минуты… Еще в прошлом месяце Тишков взял обязательство вести себя по-коммунистически. Он написал десять обязательств. Последнее — «чаще посылать письма домой» — звучало не очень солидно, но без него пунктов было бы всего девять. Круглая цифра «десять» лучше! Замполит вызвал его. Подошел начальник. И оба они — Куземов и Чаушев — похвалили Тишкова за достойное стремление. «К себе надо быть строже, чем другие, — так сказал начальник, — строже товарища, строже командира». Как это верно! И в обязательстве один пункт прибавился. Зато отпал пункт третий — беречь обмундирование. Это и так требуется от каждого. Грош цена была бы всем пунктам, если бы Тишков покривил душой, утаил свою вину. Малодушным в коммунизме не место! Однако тогда, ночью, докладывая старшему лейтенанту Бояринову, он еще не сознавал за собой вины. Был счастлив, что уловил световые точки и тире, строчившие в далекой черноте, за рекой. Он прочел их, недаром учился на курсах радистов. Два, семь и семь… Старший лейтенант расспросил его и подтвердил худшие опасения Тишкова. Да, скорее всего, лишь конец передачи. Счастье открытия померкло. Тишков стал припоминать и впал в отчаяние. Итальянец! Не нарочно ли он запиликал на гармошке как раз в тот момент?.. Утром старший лейтенант был у начальника и принес новость: Тишков с завтрашнего дня старший в наряде. А Тишкова уже томило созревшее признание, подступало к горлу. Он тут же, чуть ли не со слезами, повинился. Он все взвесил: сигналили на «Вильгельмину», и итальянец коварно отвел ему глаза. Он, Тишков, поддался на эту хитрость и заслуживает не повышения, а, наоборот, сурового наказания. — Насчет итальянца вопрос открытый, — сказал Бояринов. — А за то, что ты отвлекся без необходимости… Тишков получил выговор. Бояринов немедля доложил Чаушеву. Проштрафился отличник. В трубке раздалось: — Пришли его, Иван Афанасьевич, ко мне. После обеда… Пусть поест, успокоится немного. Тишков без аппетита ел свою любимую кашу с тушенкой. Не выговор угнетал его — сознание вины, которая становилась все больше и больше. Лейтенант Стецких, дежурный, оглядел Тишкова с головы до ног и сразу почуял неладное: — Подождите тут… Что у вас? Тишков уважал лейтенанта: за начитанность, за знание двух языков — английского и французского. — Чепе у нас… — начал он. Слушая, лейтенант поправлял повязку на рукаве. Укололся булавкой, ругнулся, отсосал кровь из ранки. — Ясно! — бросил он с раздражением. — Музыка вас пленила. Ловят некоторых и на это… Хваленый Тишков! Стецких не забыл вчерашнего столкновения с начальником из-за Тишкова. Да, пора старику в отставку, распустил подчиненных. До чего дошло — солдат сам просит себе взыскание! — Старшим идти мне теперь нельзя, — молвил Тишков. — Верно, товарищ лейтенант? К этому простодушному вопросу Стецких не был готов. Он повел плечом: — Подсказывать начальнику мы не будем. Для Стецких военная жизнь исчерпывалась понятиями приказа и повиновения. Как поступит Чаушев — неизвестно. Ответить солдату искренне — значит в какой-то мере предвосхищать приказ начальника. А это занятие вредное. Стецких еще не развился в карьериста, и не было у него мелочной, присущей карьеристу осторожности. Он просто считал, что бережет свой офицерский престиж. Натянутое молчание прервал приход Чаушева. Он позвал Тишкова в кабинет, велел сесть. Не торопил, позволил выговориться. — Наказание вызаслужили, — сказал он. Правда, никто не отмерил Тишкову ни шагов по причалу, ни времени. Он мог задержаться, беседуя по делу со старшим. Но в данном случае Тишков действительно отвлекся без необходимости. Заиграл итальянец в ту минуту, должно быть, случайно, но это не умаляет вину Тишкова. Да, Бояринов решил правильно. — Вы сами обещали быть строже к себе. Раз так, то и от нас не ждите скидок. — Точно! — истово отозвался Тишков. Чаушев достает из папки замполита Куземова, ушедшего в отпуск, обязательства Тишкова. Прекрасные обязательства! И трудные, но облегчать путь не следует. Чаушев вообще против скидок за прежние заслуги. Это портит людей. Кто покрепче, с того и спрашивать следует больше. — А старшим наряда вы все-таки пойдете, — услышал Тишков. — Это не награда, а доверие. И вот он на причале, у борта «Франконии». Сегодня он еще младший. Последний раз… Теплоход огромный, высокий — задерешь голову, и, кажется, он опрокидывается на тебя. Там, наверху, на палубе, у ходовой рубки, — толстый краснолицый капитан в белом. На руке сверкают золотые часы. Сейчас капитан спускается. Тишков видит толстые подошвы башмаков с подковками на каблуках. Все видится очень четко сегодня. Бывает, когда проснешься очень рано, свет непривычно ярок. Так и сейчас. Кажется, это не вечер, а утро нового дня, начало новой, более трудной, но все-таки солнечной жизни. Капитан «Франконии» уже на нижней палубе. Она запружена туристами — зеленые и серые плащи, хрусткие, надуваемые ветром. Береты, блеск биноклей, фотокамер. Капитану уступают дорогу, его спрашивают о чем-то. Верно, хотят на берег. А он кивает — скоро, стало быть. Ему улыбаются. Люди веселые, добродушные. Тишкову нравятся. Он склонен был освободить их от подозрений. Но теперь, после того итальянца с гармошкой… В салоне, в косых лучах вечернего солнца, нет-нет, покажется, блеснет пуговицами фигура подполковника. Там заканчивают проверку паспортов. У самого окна сидит лейтенант Стецких. Тишкову видно, как он вручает иностранцам документы — с легким, вежливым наклоном головы. Тишков завидует лейтенанту. Он там все понимает… Стецких только что отдежурил, но от законного отдыха отказался. И Чаушев взял его с собой — ведь туристов около трехсот, отпустить их надо побыстрее. К тому же Стецких просто незаменим на теплоходе. Чаушев иногда любуется, настолько непринужденно и тактично держится лейтенант перед толпой нетерпеливых туристов, напирающих на столик с паспортами. Один столик накрыт скатертью. Буфетчик расставляет там бокалы, бутылки с разноцветными напитками. «В прошлый раз был другой», — думает Чаушев, глядя на буфетчика, рослого, с выправкой бывшего военного. Буфетчик уходит, прижав к бедру поднос. На палубе он сталкивается с капитаном. Чаушев не видит их, пассажиры тоже не видят — они навалились на поручни, все взгляды обращены на берег. Видит Тишков. Он ждет, что буфетчик сейчас прижмется к стенке и даст капитану пройти. Но нет! Капитан покорно остановился — он как будто пригвожден к месту, а буфетчик шепнул ему что-то — похоже, не очень любезное — и пошел дальше. Покачиваются, скрипят сходни. Пестрый, разноплеменный поток туристов покидает теплоход.8
«Франкония» опустела, затихла. Безмолвным костром пылает она в вечерних сумерках, засматривая в окно кабинета Чаушева. Подполковник еще здесь. У него посетитель. — Аристократия нынешняя! — зло говорит Вадим. — Вазы, тарелки, полная квартира… — Да ну? — улыбается Чаушев. — Блюдо на стенке висит, тысяча шестьсот… Триста лет ему… Саксонское. — Профессор Леснов, — говорит Чаушев, — многих людей спас. Он талантливый хирург. И человек он хороший. Нет, не аристократ — вы ошибаетесь. А коллекция его… Я сам, например, собираю. Книги. Все издания Пушкина. — Это другое дело, — хмурится Вадим. Он мрачен, коротко остриженная голова его опущена. Рассказывая, Вадим подается вперед и точно бодает своей жесткой щетиной. — Дочка его… Сережек навешала… Люстра! И кофта заграничная. Ясно, тоже «Тип-топ». — Это еще что? — смеется Чаушев. — Фирма. Лондонская фирма. На тех, что я отнес, на всех написано «Тип-топ», вы это заметьте. Товарищ подполковник, она-то, Леснова, определенно знает, где Валька… Савичев то есть. С ней нечего церемониться! — Так-таки нечего? Перед Чаушевым, на столе, деньги. Студент как вошел, так сразу, не вымолвив и двух слов, вывалил бумажки из кармана. И мрачно пояснил — получено за контрабанду. Из того, что он сказал, самое важное, конечно, это исчезновение его товарища. Савичев… Пропавший племянник тетки Натальи. Чаушев знает ее. Наталья, вдова механика Контратовича с буксира «Кооперация»… Бывало, на Крайнем Севере подобное происшествие вызывало тревогу — настоящую боевую тревогу. Все в ружье — и на розыски, в тундру! Как-то раз исчез продавец из сельмага, уличенный в воровстве. Искали недели две. Нашли в охотничьей избушке на берегу безымянного озерка, полумертвого от голода. Нет, он не собирался бежать от тюрьмы за кордон. Решил переждать, отсидеться… На что он рассчитывал? Авось, мол, забудут. Глупо, понятно. Но мало ли люди делают глупостей, особенно под влиянием страха. Здесь не тундра. Боевой тревоги не будет. Чаушев мог бы отослать студента в милицию — с деньгами, со всеми его мучительными приключениями и догадками. И дать знать капитану Соколову. А затем спокойно отправиться домой. Ведь стрелка уже подошла к десяти. Чаушев устал, в голове не утихли голоса «Франконии», дыхание ее машин, хлопки полосатых тентов, играющих с ветром. Соколову он уже позвонил, но домой не спешит. Отчасти он отдыхает сейчас, после напряженных часов на иностранном теплоходе. Ведь этот юноша, угловатый и наивный, какой-то очень свой Чаушеву нравится его прямота, нравится брезгливость, с какой он выложил деньги, его «Тип-топ», произносимое с дрожью ярости. Не без ревности угадывает Чаушев в студенте черты, которых не хватает сыну Алешке. Они примерно одногодки. Алешка — дитя большого города, он пресыщен фильмами и телепередачами. В восемнадцать лет он уже теряет способность чему-нибудь удивляться. Подчас новинка моды больше занимает его, чем судьба человека. Да, Вадим основательнее… И одет скромно. Молодец! Алешка — тот нацепил вместо галстука черный шнурок и щеголяет. Спереди пряжка блестит… И досталось же Алешке! Чаушев обругал его стилягой, рабом заграничной мишуры, велел немедленно снять. «Но, папа, — сказал, посмеиваясь, Алешка, — для чего же наша промышленность выпускает клипсы!» Наша? Не может быть! Чаушев схватил пряжку и, не веря глазам своим, прочел: «Ленинград». Пришлось отступить. Кое в чем он, может быть, отстал от века. Клипс, в сущности, мелочь, зря кипятился. Чаушев способен даже подтрунивать над собой. И все-таки, вопреки всяким доводам рассудка, бережет он верность самому себе — бывшему комсомольцу конца двадцатых годов, в матросских штиблетах, в отцовской тельняшке. — Скажите, Вадим, — спрашивает Чаушев, — почему вы обратились именно ко мне? — Я запомнил вас. Вы выступали у нас на собрании… Я был в дружине… — Были? — Да. Я ушел из дружины, — говорит Вадим, смущаясь. — Так получилось, знаете… — Как же? — Они дурака валяют. Имею я право надеть узкие брюки? Имею! Кому какое дело! Чаушев чуточку отводит взгляд. Тот комсомолец в тельняшке, живущий в нем, напрасно ищет собрата по духу в нынешнем племени, такого же спартанца. Но все равно Вадим все больше нравится Чаушеву. Нет, он, конечно, не отошлет студента в отделение милиции, не уступит его другим. Племя молодое и как будто знакомое, неопытное, но всегда ставящее загадки. Мы в ответе перед ним, а оно — перед нами. Что же, однако, с Савичевым? Данных слишком мало, чтобы строить какие-нибудь предположения. Кажется, парень он в основе неплохой. Чутье вряд ли обманывает Вадима — он жалеет друга. Втянули его… Кто втянул? Вадим упрямо обвиняет девушку. Гета, дочка Леснова… Хорошенькая, очень заметная — природной смуглотой, необычной здесь, и монгольским разрезом глаз. Отец наполовину якут. Чаушев знал его еще до войны, не раз встречал и провожал Леснова, плававшего на большом двенадцатитонном «Семипалатинске». Потом судовой врач блестяще защитил диссертацию и пошел в гору. — Вы не замечали, что у вашего друга появились средства? Покупал он себе вещи? Может, одеваться стал лучше? — Одет и так будь здоров. Одет замечательно! Средства? На обед у ребят стреляет. Он на нее все… На принцессу! В прошлом году Чаушев видел Лесновых в Сочи. «Готовится в институт», — сообщил о Гете отец. Он не сомневался — выдержит, не может не выдержать, ведь в школе шла на пятерки. Не сомневалась и мама. Тонкая беленькая мама с нежными щечками младенца, удивительно юная для своих лет. Молодые люди принимали ее и Гету за подруг. Гета и контрабанда?.. Но ведь есть еще Лапоногов. И другие, еще неизвестные лица. Ясно одно — Савичев нуждался в деньгах. Отчего? На что он их тратил? — Любовь! — усмехается Вадим. — Прекрасную даму нашел… Усмешка горькая. Валька чересчур поэтическая натура, вот в чем беда. — А вы любите стихи, Вадим? — Когда как… А вообще, у нас теперь век атомной энергии. Он нетерпеливо ерзает. Чаушев угадывает почему. — У меня не простое любопытство, Вадим, — говорит он прямо. — Мне хочется узнать вас поближе — и вас и вашего Валентина. Вадим развивает свою мысль. Взять стихи Блока, любимого Валькиного поэта. Стихи хорошие Но прекрасной дамы никогда не существовало. Блок ее выдумал. Подходить надо реально. Мало ли о чем поэт мог мечтать. Главное в наше время — реальный подход. А Валька вообразил себе невесть что. — Он сам с барахлом пачкаться?.. Никогда! — с жаром заверяет Вадим. — Он же блаженный, только хорошее видит…. О роли поэзии Чаушеву хочется поспорить. При чем тут атомная энергия? Правда, комсомолец двадцатых годов громил лирику, но об этом Чаушев постарался забыть. В библиотеке Чаушева не только разные издания Пушкина. На видном месте, рядом, Есенин, Маяковский, Блок. Спорить, однако, некогда. Надо не медля ни минуты решать, как быть с парнем. — Лапоногов ждет вас? — Он не говорил… — тянет Вадим. Но Чаушев показывает на деньги. — Безусловно ждет! — рубит Чаушев. — Он не назначил вам встречу, так как еще не вполне полагается на вас. Надо его успокоить. Он открывает настольный блокнот и аккуратно записывает номера кредитных билетов. Потом подвигает деньги Вадиму. — Сами влезли в эту историю. — мягко говорит Чаушев, заметив, как испуганно отшатнулся юноша. — Уверяете меня, что вышли из дружины, а сами влезли в самые недра спекулянтской берлоги. А теперь пасуете? Хотите спугнуть Лапоногова? Хотите испортить все дело? Жаль Вадима. Притворяться, лгать он, наверное, не умеет. Чудесное неумение! — Назвался груздем… — улыбается Чаушев. — Другого выхода нет, дорогой товарищ… Вручаете Лапоногову. Если он вам выделит долю, не скандальте. Потом сдадите. Спросит, где Савичев, скажете… Провел выходной с девушкой, простудился, лежит у тетки своей. Запомнили? А тетку мы предупредим. Вадим уже овладел собой. Да, он понял. Это очень неприятно: идти еще раз к Лапоногову, но если нет иного выхода, значит, придется… — Не сейчас. Повременить надо, — говорит Чаушев. — Посидите в соседней комнате. Юноша рискует. По наивности он не сознает этого. Так или иначе идти ему пока нельзя. Надо дождаться Соколова. Подойдя к окну, Чаушев встречает взглядом Соколова, шагающего по причалу сдержанной, крепкой походкой. — Я тут распорядился без вас… — сообщает Чаушев. — На свою ответственность. Лицо капитана слегка порозовело. Он спешил. Но движения его размеренны. Он обстоятельно устраивается в кресле. — Так, — слышится наконец. Чаушев передает новости, доставленные Вадимом. Называет Лапоногова, Савичева. Знакомы ли капитану эти фамилии? — Да, — кивает Соколов. И опять короткое «да» стоит нескольких фраз. По интонации, по выражению очень светлых, как будто невозмутимых глаз ясно — фамилии не просто знакомы. Эти люди весьма занимают Соколова. — А Абросимова? — Тоже. — Студента отпускаем? — Да. — Неужели за ним нет хвоста! — восклицает Чаушев. Лапоногов очень быстро доверился Вадиму. Почему? Вадим вышел из дружины — это раз. Ему нужны деньги, он копит на мотоцикл — это два. Но важнее всего для дельца Лапоногова, что Вадим сохранил в тайне свою находку — пакет с товаром. Не сдал в милицию, а пришел к Лапоногову… И все-таки Лапоногов не мог оставить Вадима без присмотра. — Хвост был, — слышит Чаушев. — Кто? — Лапоногов. Чаушев встревожен. Скверно! Как же тогда отпускать Вадима? Соколов довольно улыбается. — Порядок! — говорит Соколов. — Хвост был от Абросимовой до улицы Летчиков. Ну, это меняет дело. Лапоногов решил, на всякий случай, проследить за Вадимом, но дошел только до улицы Летчиков. — В отношении Савичева, — начинает Соколов. — Он был в гостинице. В субботу, когда взяли Носа. Для Соколова это целая речь. Она далась ему не без усилия. Так вот откуда взялся пакет! Он был у Носа, а затем Савичев выручил его — выхватил «товар» и скрылся. «Бизнес», видно, глубоко засосал студента. Но дальше он ведет себя странно: вместо того чтобы спрятать улику, бросает ее под койку в общежитии и уходит куда-то. Чаушев рассуждает вслух. Глаза Соколова смотрят ободряюще. В них возникают и разгораются крохотные веселые искорки. — Вы приняли меры, — говорит капитан. — Так вы и продолжайте в отношении Савичева. Чаушев ликует. Славный мужик — Соколов, с ним всегда можно договориться, даже если он скажет всего два—три слова. Даже когда молчит. — Еще вот… Людей у меня мало. — Понимаю, — откликается Чаушев. — У меня тоже мало, но… постараюсь выделить. Для «лягушатника»? — Хотя бы… — Сделаем!.. «Пошлю Бояринова, — думает Чаушев. — Стецких дежурил, ему отдых положен. Но он, верно, сам не захочет домой. Особенно если пойдет Бояринов».9
Вереница автобусов застыла у городского театра. Идет концерт ансамбля песни и пляски, устроенный для туристов с «Франконии». Господин Ланг не поехал на концерт. Девушке из Интуриста, которая предложила ему билет, он сказал, что морское путешествие было утомительным. Хочется отдохнуть от шума, скоротать вечер в домашней обстановке, у родственницы. — Нам, старикам, не до концертов, — прибавил он. — Окажите любезность — закажите мне такси. Ланг погрузил в машину чемодан — подарки для родственницы — и отбыл на окраину города, на улицу Кавалеристов. Сейчас господин Ланг пользуется желанным отдыхом У Абросимовой он у себя дома. Пиджак Ланга висит на спинке кресла. Верхняя пуговка мятого, не очень свежего воротника сорочки расстегнута, галстук ослаблен. Абросимова потчует господина Ланга холодцом, водкой, чаем с печеньем. От волнения она спотыкается об утюг, переставленный с кресла на пол, и поминутно приседает. — Бог с вами, нет, нет, нет! — Ланг отодвигает бутылку «Столичной». — С моим катаром. По-русски он говорит довольно чисто. Кроме Ланга, у Абросимовой еще один гость — Лапоногов Он уже выпил водки, выпил один, пробормотав: — Ну, будем здоровы! И теперь, сидя на корточках, потрошит чемодан с подарками. Шевеля губами, сопя, выгребает и кладет на стул нейлоновые блузки, трико, отрез легкой ткани, отрез шерстяной, костюмной. Господин Ланг чаевничает в одиночестве. У Абросимовой чай стынет — отрезы притянули ее, как магнит. — Мужское, — шепчет она озабоченно, раскидывая рулон. Мужские вещи не ее специальность. — Мышиный цвет, — наставительно говорит господин Ланг. — Последняя новинка моды. — Моему бате, — подает голос Лапоногов, — тридцать два года костюм служил. Выходной. Материал — железо! Эмиль Георгиевич, организуйте мне такой! Можете? — Нет. — Ланг качает грозной лысой головой. — Какой резон? Это не шик. — Скажите лучше — не делают у вас. Разучились. На фу-фу всё! На сезончик! Лапоногов держится хозяином. Ланг обязан ему. Лангу требовалась в России родственница, и Лапоногов обеспечил. Абросимова заартачилась. Он долго уламывал ее, соблазнял барышами. Назваться двоюродной сестрой жены неведомого ей Ланга старуха все же побоялась — слишком близкое родство! Сошлись на троюродной. Под диктовку Лапоногова заучила необходимые данные о своей нежданной родне. Господин Ланг — уроженец Риги, где его отец был представителем заморской галантерейной фирмы. Окончил там русскую гимназию, женился на русской. Лапоногов клялся, что Абросимова ничем не рискует, а выгода огромная. Да, будут посылки из-за границы. Вполне легально, по почте. Ну иногда и помимо почты, с оказией… Контрабанда? Э, зачем такое слово! В крайнем случае, если уж так страшно, этикетки на вещах можно почернить немного сажей — и тогда товар выглядит как подержанный. Абросимовой доставляется добро и в посылках, и из разных рук. Она уже привыкла к этому. «Родственник шлет», — объясняет она всем. Поминала троюродную сестрицу — царство ей небесное. Не родная, а ближе родной была в молодые годы. И вот мужу завещала не забывать… Одно огорчает — Лапоногов все меньше дает комиссионных. Твердит одно так рассчитал Старший Абросимова никогда не видела Старшего и даже имени его не знает. Старший — это слово Лапоногов произносит после паузы, понизив голос. И сейчас он заводит о кем разговор. Стоимость вещей из чемодана Ланга, плотного желтого чемодана с наклейками, уже сплюсована. Лапоногов отбрасывает карандаш, сломавшийся в его толстых пальцах Жирный росчерк процарапан под суммой Господин Ланг разглядывает цифру, и лицо его выражает разочарование. — Да кабы я… У Старшего, — следует секунда почтительного молчания, — расходы какие! Плата за страх. Поняли? Условия для бизнеса у нас — сами представляете… — Вы много позволяете! — Господин Ланг горестно вздыхает. — Я хорошо вижу. У вас мальчик, двадцать лет, провождает время в ресторане. Вино, барышня… Он идет к саксофону, вынимает деньги: «Ну, я желаю танго!» — Щелок! — поддакивает Лапоногов. — Правильно, Эмиль Георгиевич! Вот это правильно! Ланг снова принимается за чай Пьет с блюдца, по русскому обыкновению, на радость своей названой родственницы. Такой, с блюдцем на растопыренных пальцах, Ланг вроде как свой. — Почему ваш шеф не может прийти? — Ланг со стуком опускает блюдце. — Почему? Я должен иметь с ним конверсацию… беседу, — поправляется он. Лапоногов поводит плечом: — Условия, знаете… Старший сам мечтает… Он спешит оставить эту тягостную для него тему и переходит к текущим делам. Недавно Вилли, кок с лесовоза «Альберт», просил закупить для господина Ланга фотоаппараты. Но он не сказал, какой марки, и вообще изложил поручение как-то несолидно. И Лапоногов воздержался. — Тем лучше, — кивает Ланг. — Ничего не покупать, ни один предмет… Деньги! — Рубли? Да, оказывается, господину Лангу нужны рубли. И срочно! Пока «Франкония» стоит здесь, должно быть реализовано как можно больше товара. Лапоногов насторожен. С какой стати вдруг рубли? Ага! Секрет простой — покупать решил лично. Он презрительно усмехается. Ох, крохобор! — Пожалуйста! Только не пожалеть бы вам. Думаете, очень свободно, прошвырнулся по магазинам и порядок? Ну, куда вы сунетесь, как вы тут будете ориентироваться? Зря вы… То, что я достаю, вы разве достанете! Господин Ланг сокрушенно поднимает глаза к потолку, складывает пухлые руки. Нет же, он полностью доверяет партнеру. Но товар он не берет. Ни фотоаппараты, ни часы, ни икру, ни чай… Только рубли. — Не с собой же вы повезете, — недоверчиво тянет Лапоногов. Ланг не объясняет. Он настаивает — рубли! Что ж, не ссориться же. Остается вы-> торговать куш покрупнее. — Воля ваша… А продать тоже целая проблема, — начинает Лапоногов исподволь. — Взять эту тряпку. — Он тычет в отрез мышиного цвета. — Модное! На шармачка всякий кинется, а как платить… Он ссылается и на трудности: бизнесу ходу не дают, мало было милиции, еще дружины! А главное, товар так не идет, как раньше. Теперь советского товара — завались! — Шея под топором всегда. — Лапоногов драматически басит. — На днях дружка закатали. Потеря Носа невелика беда. Нос сам за решетку просился: пил без меры, скандалил. Хорошо, хоть достало ума не выдать Савичева. Лапоногов боялся этого, но сожитель Вальки, тот салага-первокурсник, успокоил. Нашел-таки Вальку. У тетки он, лежит больной. Лапоногов уверен в себе. Он тверд с Лангом, но прибедняется и тотчас глушит нотку жалобы — в бизнесе надо быть сильным. Торгуясь, он чувствует некоторую гордость. Ланг — тертый калач, живет за границей, имеет магазин, в своем деле спец, а Лапоногова не съест. Надо выяснить, во-первых, когда нужны рубли. Наверное, срочно. А за срочность платят. — Можно и завтра, — говорит Ланг. Он предлагает встретиться здесь, у Абросимовой, после обеда. Так поздно? Значит, он уже не управится с покупками. Разве что в следующий раз… И вдруг у Лапоногова спирает дыхание. — А может, — он искоса поглядывает на Ланга, — рубли вам нужны не для барахла? Господин Ланг очень спокоен. Ложечкой он старательно подбирает икринки на тарелке, по одной отправляет в рот. — А вам это не все равно — для какой цели? — спрашивает он. Лапоногов молчит. Он вспомнил газетное сообщение, попавшееся недавно. «У задержанного изъяты карты, оружие, советские деньги…» Там и для таких дел нужны рубли, особенно теперь, после реформы, новенькие… — О цели я не хочу располагаться… рас… пространяться, — поправился Ланг. Лапоногову страшно. Как быть? Отказаться от игры впотьмах? Но и настаивать, добиваться, объяснять тоже страшно. Может, лучше не знать3 Не знать спокойнее. Против Ланга поднимается раздражение. Ишь ты, распространяться ему неохота! А ты изволь загребай рубли для него! Голову клади! Ладно же, такой бизнес недешево обойдется Лангу. Лапоногова треплет тревога, страх и злорадство — вот когда Ланг попал ему в руки… — Ладно, — небрежно бросает Лапоногов. — Об условиях поговорим, — произносит он и придвигается к Лангу, а мозг его лихорадочно работает, подсчитывая комиссионные. Господин Ланг готов уступить. Лапоногова это и радует и пугает. Но остановиться он не может. Он атакует.10
Вечер. По окраинной улице идет высокий, худощавый юноша. Он едва переставляет ноги, а длинные нервные руки раскидывает широко и часто. Это Савичев, Валентин Савичев, которого безрезультатно ищут сегодня и милиция, и товарищи по институту. Улица угасает в черноте пустыря. Снова и снова возникает в памяти Валентина субботнее происшествие. Нос, кинувшийся к нему в суматохе с пакетом, толпа туристов, рычащие автобусы и резкий голос немца… Он гнался за Носом, звал милицию. Валентин почти машинально схватил пакет. Нос исчез, а Валентин шмыгнул в ворота, дворами, переулками выбрался к институту. Отдышался, попытался обдумать и не сумел. Затолкал пакет под койку, опасаясь расспросов Вадима — Стало легче, но усидеть дома он все-таки не смог. Он нашел приют в пустом деревянном доме, назначенном на слом. Таких строений сохранилось немного — маленький островок, прижатый к ограде порта волной молодых деревьев. Притаившись у чердачного оконца, Валентин различал за полосой зелени ворота общежития, черный зев арки. Ветер раскачивал там фонарь над безлюдным тротуаром, над опустевшим книжным лотком. Валентин ждал: придут за ним из милиции или не придут? Нет, люди в форме не вошли в ворота… Значит, спасся! Не заметили! Но страх лишь на миг ослабил свою хватку. Пакет, проклятый пакет с вещами существует! Уж лучше бы сразу сдал его и повинился во всем. А он побоялся. Не простят, посадят в тюрьму. Свистки, топот погони еще не затихли для Валентина. И речь немца, окруженного толпой, речь, как на митинге: «И это… в стране Ленина!..» Пакет обнаружат, если не милиция, то Лапоногов. Уж он-то непременно. Если Нос на свободе, он скажет Лапоногову, кому передал товар, а Лапоногов явится в общежитие. Арестован Нос — тоже не легче… Лапоногов все равно узнает. Всполошится Абросимова, не получив товара. Если Нос посажен, то они, чего доброго, сочтут виноватым его, Валентина. Очень просто! И тогда — смерть. Форд, или, как его обычно называет Лапоногов, Старший, сам творит суд и расправу. Лапоногов не робкого десятка, но в его голосе появляется испуг, когда он говорит о Старшем. Форд живет где-то в другом городе и сюда приезжает на день-два. Он никогда не показывался ни Абросимовой, ни Носу. Нос — тот слышал как-то голос Старшего по телефону. Валентин не удостоился и такой чести. Видит его, и то очень редко, только Лапоногов. Слово в слово запомнился последний разговор с Лапоноговым. — Ты что-то сегодня кислый, салага, — сказал он. — А с чего мне быть веселым? — ответил Валентин. — С кралей своей поцапался? Валентин покачал головой. — Нет? Так что? — проворчал Лапоногов. — Здоров, деньги есть… Или не нравится с нами? Так Старший таких капризных не любит, понял? Валентин вспыхнул, бросил. — Где твой Старший? Лапоногов усмехнулся: — Выдь на улицу, может, навстречу попадется. Только не узнаешь! А он-то тебя ви-и-идел… Хочешь, полюбуйся, как мне Старший будет семафорить с того берега, от лесного склада. Сегодня, в одиннадцатом часу… Это было в субботу, под вечер. Как раз перед тем, как идти в гостиницу… События приняли неожиданный оборот. Смотреть пришлось не на тот берег, а в другую сторону. Впрочем, какая разница! Важно одно — Старший приехал, на время большого бизнеса он здесь. Пока не уйдет «Франкония», он здесь… Неизвестность — вот что самое ужасное! Какой он, этот Форд? Может, плюгавый человечишка, которого нелепо опасаться, — одним щелчком можно сбить. Или великан саженного роста, с кулаками боксера… Так или иначе, он хитер и опасен. В самом деле, какая дьявольская изобретательность! Быть невидимкой, быть неуловимой угрозой! Кажется, о чем-то в этом роде Валентин слышал раньше. Ну да, ведь точно так ведут себя главари гангстеров в Америке, загадочные для рядовых членов банды. Страх держал Валентина на чердаке всю ночь и весь день, до вечера. Выгнал его голод. В закусочной, у вокзала, наскоро поел, захотелось спать. На вокзале отыскал свободную скамейку, лег, положив под голову пиджак. Прибывали и уносились поезда, о них сообщал репродуктор голосом очень озабоченной девушки, боящейся, как бы кто-нибудь не опоздал уехать или встретить друзей. Голосом, который не имел, не мог иметь никакого отношения к нему, Валентину. Он сознавал, что не уедет, не покинет этот город. Что бы ни было впереди: месть Форда или тюрьма, судьба решится здесь. Еще один день скитаний — «Франкония» отчалит, Старший уберется из города. Тогда легче будет сделать необходимое, неизбежное. По крайней мере, не настигнет его на пути удар ножом в спину. «Трагическая гибель». «Убитый был найден в нескольких шагах от отделения милиции, куда он направлялся с повинной, — мысленно читает Валентин газетную заметку. — При нем обнаружен пакет…» Жалея себя, он видит плачущую Гету. Только теперь она поняла, что любит его. Нет, нет! Он хочет жить, учиться. Может быть, его все-таки простят… Утром он подошел к кассе и взял билет. Не в Муром к родным, а на пригородный поезд. Вылез в дачном поселке. Тишина, заколоченные дома. Кое-где столбы дыма — жгут сухие листья Страх погнал дальше от людей, в лес. Жаль, нечем надрезать кору березы. Подставить бы ладонь, выпить сока, как в детстве. Он переносился в Муром, видел мать, пытался рассказать ей все… Про Лапоногова, про вещи и нечестные деньги, про Гету. Как далека Гета от этой грязи! И, однако, если бы не она… Началось все недавно, месяца три назад. И вместе с тем очень-очень давно, когда он был свободен от стыда, от страха Счастливая пора! Теперь она лишь уголок в памяти, драгоценный уголок, словно освещенный незаходящим солнцем Как детство… В столовой института он столкнулся с Хайдуковым. Дружбы между ними не было. Ну, земляки, ну, немного знали друг друга в Муроме. Хайдуков к тому же старше — он на третьем курсе. — Хочешь подрыгать ногами? — спросил Хайдуков, подразумевая танцы, и дал адрес. Валентин спросил, кто еще будет. — Лапоногов — наш лаборант, — ответил Хайдуков, — два эстрадника, еще кто-то и девочки. Валентина влекло к новым людям. Большой город вселил в него томящее предвкушение новых встреч, «бессонницу сердца», как сказал один когда-то читанный поэт. Эти слова Валентин внес в свой дневник и утром, за чаем, прочел вслух Вадиму. — Что-то заумное, — фыркнул Вадим Лапоногов сперва понравился Валентину. — Не принимает душа у человека и не надо, неволить — грех. Это было первое, что он услышал от лаборанта — кряжистого парня в плотном, грубошерстном пиджаке и в низеньких сапожках, долгоносых, как у деревенского щеголя. Эстрадники сурово и молча наливали Валентину водку. Он выпил стопку, чтобы не отстать от других, второпях забыл закусить, пригубил вторую и закашлялся. Хорошо, Лапоногов выручил. Валентин благодарно улыбнулся ему. — Сам пью, а непьющих уважаю, — пробасил Лапоногов. И эстрадники, высокие парни с густыми бачками, перестали обращать внимание на Валентина. Возле каждого сидело по девице. Одну, круглолицую, курносую, в красной шелковой блузке, Лапоногов звал Настькой, а прочие — Нелли. Имя второй девицы, очень тощей, длинноносой, с острыми плечами, в лиловом платье с кружевами, Валентин боялся произнести, чтобы не рассмеяться, — очень уж не шло к ней. Диана! Он дивился, как привычно и смело пьют девицы. Они как будто и не пьянели, только разговаривали всё громче. — Дианка, — кричала Нелли, — тебе привет! Знаешь, от кого? От Леонардика! — Давясь от восхищения, она продолжала: — «Я, говорит, ей из Роттердама привезу чего-нибудь». Слышишь? Польщенная Диана хихикала, спрашивала: — А как твой штурман? Валентин иногда чувствовал прикосновение ее сухого локтя. Забавно. Неужели мода распространяется и на женские фигуры? Он спросил Диану, знает ли она и Нелли английский. — Слышишь, Нелли! — крикнула Диана. — Знаем ли мы с тобой английский? Еще как! Верно, Нелли? На пятерку, верно? Как англичанки!.. Они явно издевались над Валентином, но он понял это не сразу и сказал, что очень бы хотел хорошо знать английский, прочесть в подлиннике Хемингуэя. — «Старик и рыба», — молвил один из эстрадников. — «Старик и море», — поправил Валентин. Эстрадник нахмурился, но тут опять вмешался Лапоногов. — Где море, там и рыба, — сказал он примиряюще. — Поверьте старому рыбаку. — Ой, умора! — закричала Нелли и захихикала. Валентин умолк Он не пытался больше примкнуть к беседе за столом и принялся за холодную телятину так энергично, что Диана бросила ему: — Поправляйтесь! А эстрадник — тот, что спутал название повести Хемингуэя, — оглушительно захохотал. Стул справа от Валентина оставался свободным. Ждали еще одну пару. Хозяйка дома, полная, немолодая женщина, заискивающе поглядывавшая на Лапоногова, уже который раз возглашала: — Опаздывают, разбойники! Заставим выпить штрафную!.. Гета поразила его сразу. Смуглая, с нерусским разрезом глаз, вся в сиянии пышного серебристого платья, она вошла сюда, в эту обыкновенную комнату5 как создание из иного мира. Она села рядом. Руки его дрожали, когда он робко накладывал ей закуски. Он стеснялся смотреть на нее в упор и поэтому не поднимал глаз, правая щека его горела. — А вина? — услышал он. Смущение душило его. Он протянул руку к водке и отдернул — не станет же она пить водку. — Я пью сухое, — услышал он тот же голос, ее голос. Он вдруг позабыл, какие вина сухие. Спасибо Хайдукову — пододвинул через стол, почти к самому прибору Валентина, бутылку «Саперави». — А вы? — спросила она. Только тут он осмелился взглянуть на нее. И вид у него, наверное, был жалкий, нелепый. Смысл ее слов доходил медленно. — У вас же пустая рюмка, — сказала она с ноткой нетерпения. Диана и Нелли по-прежнему хвастались своими знакомствами. Лапоногов смешил хозяйку анекдотами. Хайдуков произносил тосты и иногда окликал Валентина, но напрасно — Валентин не понимал его. Напротив сел спутник Геты. Валентин заметил его не сразу, а лишь когда справа раздалось: — Ипполит, помни, пожалуйста, — тебе вести машину! — Железно, крошка! — прозвучал ответ. — Со мной ты как у бога в кармане! Валентина покоробило. Обращаться так с ней! Ипполит держал рюмку, отставив мизинец. Нестерпимой самоуверенностью веяло от каждого завитка артистически уложенных глянцевито-черных волос, от галстука «бабочки», от длинных, холеных пальцев. — Горючего-то маловато! — громыхнул Лапоногов. — Эй, друзья! — бросил он эстрадникам. — Кто добежит до «Гастронома»? Встали оба, но Диана вцепилась в своего соседа и силой пригвоздила к стулу. — Водочки? — Эстрадник обвел глазами сидящих. Лапоногов качнулся от смеха. — На, салага! — Он достал из бумажника десятирублевку и помахал над столом. — Коньяку нам доставишь Не меньше пяти звездочек, есть? Дуй без пересадки! — Неприятный субъект, — тихо сказала Гета, повернувшись к Валентину. Сказала только ему. Он машинально кивнул, не вдумываясь, осчастливленный ее доверием. После коньяка и кофе завели радиолу. Ипполит увлек танцевать Нелли. Валентин робко готовился пригласить Гету — готовился долго, пока она сама не пришла ему на помощь. — Идемте, — молвила она просто. Они прошли два тура подряд. Ее Ипполит прилип к Нелли. Было даже обидно за Гету. Валентин признался ей: когда он ехал учиться сюда, ему казалось — в большом городе живут люди сплошь интеллигентные, развитые, интересные. — Я первый раз в здешней компании, — сказала Гета. — И, надеюсь, последний, — проговорила она, поморщившись, так как в эту минуту заверещала Нелли. Ипполит приглашал ее танцевать, а эстрадник хмуро возражал против этого. — Ипполит разошелся! — шепнула Гета жестко. Нелли с хохотом отбежала от них и повалилась на диван. Ипполит стоял перед эстрадником, высокомерно кривя губы. — Ну, мне пора домой, — проговорила Гета спокойно и не очень громко, даже не глядя на Ипполита. Она стала прощаться, а он любезничал с Нелли, отвечавшей ему смехом, похожим на кудахтанье. Сердце у Валентина сжималось. Наконец Ипполит поднялся: — Стартуем, крошка! И она исчезла. Все-таки с Ипполитом! Валентина грызла зависть к красавцу, к эстрадникам. Они-то все настоящие мужчины… С грустью, но без раскаяния он сообразил, что не попросил у нее ни адреса, ни номера телефона и вообще никак не закрепил знакомство. Даже не назвал себя. К чему? Что он для нее? Наверняка она изнывала от скуки с ним, неловким провинциалом, а танцевать с ним пошла просто из жалости. Да, да, именно так! Тот вечер в воспоминаниях Валентина остался чистым, безоблачным — за теневой чертой, в прежней, светлой поре его жизни. Ложь еще не была произнесена тогда… Встретились они случайно, одиннадцать дней спустя, на улице. С Гетой была девушка постарше, тоненькая, голубоглазая. Золотистые волосы выбивались из-под меховой шапочки с белыми хвостиками. — Моя мама, — сказала Гета. И Валентин раскрыл рот от удивления, что очень понравилось обеим. Мама — чудесная мама Геты! — ушла, сославшись на какое-то спешное дело. Было скользко, Валентин взял Гету под руку. Гета вспоминала вечеринку: — Ужасная публика, правда? Эти эстрадники… Танцуют, не сгибая ноги. Точно в скафандрах. Она не засмеялась над своей шуткой — она помолчала немного, чтобы дать посмеяться Валентину. — А глаза, — продолжала она, — глаза у этих артистов… Ипполит говорит — как у заливных судаков. — Он студент? — спросил Валентин. — Ипполит? Он вундеркинд, — ответила она и перевела. — Он удивительный ребенок. Бывший юный виолончелист. С ним и сейчас цацкаются. Портят его! — печально молвила Гета и прибавила извиняющимся тоном: — Ипполит правда же лучше, чем ему хочется казаться… иногда. Валентин рассказал, где он учится, кем станет потом. Вообще-то ему больше хотелось в университет, на литературный, но так уж получилось… — А я собираюсь в Институт киноинженеров, — сообщила Гета. Оказалось, что она тоже любит стихи. И Валентин прочел ей Блока. Затем, расхрабрившись, он спросил Гету, видела ли она «Балладу о солдате». Да, эту картину Гета смотрела. Сейчас в кино больше ничего примечательного нет, а вот в театре она давно не была. Когда у нее свободный вечер? Может быть, сегодня?.. Нет, сегодня не выйдет — по средам приходит маникюрша. — Тогда завтра, — предложил Валентин. Он взял места во втором ряду партера. На это ушел остаток стипендии. Гуляя в фойе, он снова услыхал от Геты об Ипполите. Они были недавно в ресторане «Интурист», там играет превосходный джаз. Валентина кольнуло. А с ним она согласится пойти? Ни разу в жизни он не был в ресторане. Конечно, он ни за что не сознается ей в этом… — Что ж, давайте сходим, — сказала Гета. — В субботу. Вы зайдите за мной. Денег должно хватить. Отец прислал двенадцать рублей на ботинки. Валентин думал взять с собой половину, но положил в карман все. В квартире Лесновых, ослепившей его блеском натертых полов, мебели и металлической посуды, его приняла мать Геты. Еще очень рано, Гета одевается… Людмила Павловна, потчуя конфетами, учинила мягкий допрос — откуда приехал в город, какую инженерную специальность избрал, успевает ли в учебе. Похвалила костюм Валентина — отлично сшит! — Свой портной, — произнес Валентин. Этим было положено начало лжи. Он хотел прибавить, что портной — его отец, но что-то помешало ему. После, наедине с собой, он отлично разобрался: помешал блеск старинных блюд и чаш на стеллажах, помешала маникюрша, приходящая на дом, машина, в которой Гета ездит на вечеринки. Ему представилось маленькое ателье в Муроме, закопченное, с выцветшими обоями. Ножницы отца, футляр для очков… Валентин любит отца, но… Книги, которые Валентин читал с детских лет, газеты и радио прославляют сталеваров, комбайнеров на целине, строителей домен, мостов, жилых домов. Отец и сам завидует им, приговаривая: «Эх, выбирать ведь не приходилось нам!» В сыновнем чувстве Валентина есть любовь, есть жалость, но нет одного — уважения к труду отца. В мраморном зале ресторана кружилась голова от ароматов духов, пряной еды, сказочные огоньки горели на хрустале, а на эстраде вздымались золотые трубы — фонтаны веселья. И все было праздником, устроенным нарочно в их честь — Валентина и Геты. Он не заговорил бы о своем отце, но начала Гета. Она восхищалась своим отцом, его талантом хирурга, его операциями, известными и за пределами страны. Тогда и Валентин завел речь о своем отце, в тон Геты, но обиняками — мол, о службе отца лучше не распространяться. Он очень видный знаток в своей области… В тот вечер легко было потерять грань между реальностью и фантазией. И Валентин вообразил себе отца — выдающегося физика, проникающего в тайны атома или космических лучей. Выпив шампанского, Валентин уже почти поверил в свою выдумку. А как бы ему самому хотелось обладать каким-нибудь ярким талантом! Наверное, Гете куда интереснее с Ипполитом — ведь он музыкант, подает большие надежды. Валентин так и сказал Гете и в следующую минуту ощутил прилив счастья — она проговорила тихо, держа бокал у самых губ: — Я рада, что вы не похожи на Ипполита. Я рада, что вы такой… — Какой? — Вот такой… Настоящий… Он не понял и ответил лишь благодарным взглядом — ему стало невыразимо хорошо. Гета держалась за столом хозяйкой. Она заказывала, не прикасаясь к меню. Шампанское надо пить с ананасом. И, разумеется, ужин не будет завершен без черного кофе с ликером. Она пожурила официанта — очень уж бедна карточка напитков. Ну, так и быть, апельсиновый ликер. Хорошо, что он захватил тогда все деньги на ботинки, — отдал за ужин почти все. А дальше… Попросил денег у земляка — у Хайдукова. Тот направил к Лапоногову. И верно, Лапоногов дал деньги, дал даже больше, чем нужно было. Чтобы вернуть долг, Валентин грузил в порту пароходы. Но долг все рос. — Нет денег — отработаешь, — бросил Лапоногов. — Есть просьба… И Валентин получил объемистый пакет и адрес Абросимовой. И повез пакет, еще не зная, что в нем и чего вообще хочет Лапоногов. А потом… Каждую неделю — ресторан, театр, загородная прогулка. Или день рождения у кого-нибудь из знакомых Геты. Изволь покупать подарок — и, конечно, дорогой. Лихорадочная, фальшивая, тягостная жизнь! Прекратить ее — значит потерять Гету… «Вы настоящий!» — повторялось в мозгу. Если бы она знала! Она и не подозревает, как он добывал деньги на вечера, последовавшие за тем волшебным первым вечером. Верно, относила все за счет мифического физика, сочиненного папаши. А скорее всего и вовсе не думала об этом. Уже утром Валентин зашел на почту, написать Гете письмо. Рядом с ним опустился на табуретку могучий детина в расстегнутой рубахе, с волосатой грудью. Он пробовал перья и бормотал ругательства. «Старший!» — вдруг представилось Валентину. Писать он уже не мог. Сейчас он опять в почтовом отделении дачного поселка, пахнущем смолистой сосной, заклеенном плакатами. Теперь опасаться некого как будто. Две старушки получают переводы, подросток-курьер сдает кипу бандеролей. Правда, девушка, колотившая по бандероли печатью, как-то очень внимательно посмотрела на вошедшего Валентина. Но подняться и сразу уйти не было сил. «Поздравляю, — написал он, — желаю всего самого лучшего…» А что дальше? Надо ли объяснить? «Всем сердцем я был с тобой в день твоего рождения. Тяжело заболела тетя, и я не мог оставить ее…» Он скомкал листок. Довольно лгать! Но как написать правду, как доверить ее бумаге, как выразить эту постыдную правду! Он купил открытку, в отчаянии набросал: «Мы долго, может быть никогда, не увидимся. Я недостоин тебя. Любящий тебя В.». Он поднял крышечку ящика, помедлил, потом сунул открытку вкарман. Он едва не заплакал — от нового приступа жалости к самому себе. Расстаться? Нет! Вечером Валентин вернулся в город. Он решил увидеть Гету, открыть ей всю правду.11
В Парке водников редеет толпа гуляющих. За деревьями, на площади, сверкает живыми огнями кинотеатр. Идет новый фильм с участием Лолиты Торрес. На скамейке против фонтана сидит лейтенант Стецких. Он убежден, что лишь напрасно потерял время тут, в «лягушатнике». Очередная фантазия Чаушева. Правда, нет худа без добра: Стецких купил билет на Лолиту и теперь ждет сеанса. Мимо, топоча и поднимая пыль, проходит ватага мальчишек. Их голоса сливаются в один невнятный звон. Одного Стецких узнаёт. Юрка, нарушитель Юрка, неудавшийся юнга! Юрка не послушал совета дяди Миши — он еще чаще стал бывать в «лягушатнике». И не только из-за значков. Слова пограничника он понял по-своему: раз в «лягушатнике» толкутся плохие люди — значит, там здорово интересно! Еще, может, дядя Миша поблагодарит его когда-нибудь… Юрка не заметил лейтенанта. Ребята сворачивают в аллею и все разом, словно стайка воробьев, опускаются на скамейку. У них какие-то свои, верно очень увлекательные, дела. Принесло их! Стецких устал от бессонной ночи, от суматошного дня, и, если бы не Лолита, он был бы дома, в постели. — Покажи твои! — доносится из аллеи. — У-у, немецкие! — Дурак! Финские! Герб же ихний. — Ну-ка, чиркни! «Психоз, — думает Стецких. — Психоз, охвативший весь мир. Всюду, даже на маленьких станциях, ребята выпрашивают спичечные коробки». Страсть собирательства чужда ему. Она и в детстве не коснулась его. Он никогда не был таким одержимым, как Юрка и его приятели. Стецких не раз видел их здесь, на площадке у фонтана, именуемой «лягушатником». Горящие глаза, грязная ручонка, сжимающая коробок, марку или значок… И тут же шныряют фарцовщики. Куда смотрят родители?! Впрочем, Стецких нет дела до того, что происходит в «лягушатнике». Существует милиция. Если он и призывает сейчас на головы мальчишек родительский гнев, то лишь потому, что они слишком суетливы и горласты. Компания на скамейке притихла. Раздаются негромкие, но отнюдь не ласкающие слух скребущие звуки. Там пробуют спички: финские, немецкие, голландские… — В-в-во! — Ох, горит мирово! — Давайте все по команде, как салют! Этого еще не хватало! Стецких вскакивает и уходит. Между тем ребята попрятали спички. Их волнует теперь приключение, случившееся с Котькой Лепневым. Толстощекий, круглолицый, рыженький, он так стиснут нетерпеливыми слушателями, что едва способен говорить. Котька — завсегдатай «лягушатника». Его увлечение — значки. Их уже за две сотни у Котьки, в том числе один японский. С горой Фудзи, как объяснил иностранный матрос, взяв в обмен значок с космической ракетой. Кроме того, у Котьки несколько кубинских значков: герб свободной Кубы, потом флаг и значок с изображением Фиделя Кастро. На том берегу реки, в поселке лесозавода, где живет Котька, его сокровища известны и ребятам и взрослым. Но занят он не одними значками. Он станет моряком, когда вырастет большим. Устройство парохода он уже выучил назубок. Вряд ли кто лучше его знает, какая палуба главная, а какая — шлюпочная или бот-дек, что такое форштевень, бак, полубак. В последнее время Котька не расстается с фонарем — осваивает морскую сигнализацию. На прошлой неделе Котька явился в «лягушатник» с ворохом значков для обмена — сэкономил на завтраках и накупил. Он показывал значки иностранцу, прищелкивая языком и повторяя: «Гут, гут, а?» Вдруг подошел какой-то дядя, вмешался в разговор и отвел иностранца в сторону. Вот досада! Котька вертелся, караулил своего иностранца, но потерял его в толпе. Зато наткнулся на того дядьку. «А, орел!» — дружелюбно сказал он, поглядел Котькины значки, похвалил их и дал свой — с Эйфелевой башней, французский. Взамен ничего не захотел — подарил, значит. Потом обратил внимание на Котькин фонарь, висевший на ремне. А фонарь и точно не простой — немецкий, трофейный, с цветными стеклами. Отец привез с Второго украинского фронта старшему брату. Узнав историю фонаря, а также то, что Котька — будущий моряк дальнего плавания, дядька стал подтрунивать. Небось, говорит, устарелая система, едва мерцает. Да и точно ли Котька так хорошо вызубрил световую азбуку… Котька возмутился. Эх, светло еще, а то он бы доказал! Да через реку запросто… Дядька не поверил. И тогда Котька предложил пари. Вот попозднее, когда стемнеет, он просигналит с того берега. «Ладно, — согласился дядька. — На плитку шоколада!» У Котьки губа не дура — он решил выяснить размер плитки. Дядька обещал стограммовую, «Золотой ярлык». Ого! Так и условились. Котька после одиннадцати влезет на крышу коттеджа, чтобы не мешали штабеля на складе леса, впереди, — и даст передачу. Любые слова или цифры. «Тебя же спать уложат часов в десять, салага!» — усмехнулся дядька. «Меня!..» — воскликнул Котька, подбоченившись. — Ну и что? — прервал рассказ Юрка. — И ты сигналил? — Ага. — Шоколад получил? Увы, нет! Котька на другой вечер пришел в парк, к назначенному месту — возле тира, а дядьки не было. Так Котька и не видел его больше. — Может, шпион? — тихо, но с зловещей внятностью произнес Юрка. У ребят захватило дух. — Иди-ка ты! — огрызнулся Котька. — «Шпио-о-о-н»! Я же свое передавал, из головы. Он говорит: передавай что хочешь! Был бы шпион, так… — А ты что ему семафорил? — строго спросил Юрка, общепризнанный знаток шпионажа. Во-первых, никто не прочел такой массы приключенческих книг, как Юрка. Во-вторых, его часто видели вместе с офицером, начальником всех пограничников порта. Это вызывало уважение к Юркиной персоне. — Отработал сперва привет, потом числа… Два, потом семь и еще семь. — Двести семьдесят семь… А почему? — А так. Из головы. Юрка задумался. Он жалел, что затеял этот разговор. Действительно, шпион непременно задал бы Котьке шифрованный текст. Иначе какой смысл! Котька уже и нос задрал. Ребята взяли его сторону и еще, чего доброго, начнут смеяться… В эту минуту все шпионы, известные Юрке, вереницей пронеслись перед ним. — А зачем он значок подарил? — заявил Юрка. — И шоколад сулил? Добрый, да? — Юрка пренебрежительно фыркнул. — Дитя малое, неразумное! — Кто дитя? — Папа римский! — небрежно бросил Юрка. Котька крутанул винт фонаря — ив окошечке замигали, дребезжа, цветные стекла, синее, красное, зеленое, и положил на колени соседу, маленькому смуглому Леньке Шустову. — Подержи, — сказал Котька и сжал кулаки. — Драка, ребята, драка! — возликовал Ленька, ярый болельщик при всех потасовках. Но тут вмешался Пека, Ленькин старший брат, склонный, напротив, мирить младших. — Цыц, кролики! Вон же лейтенант, пошли к нему… Ой, он же сидел там! — Где? Где? — Айда, догоним! Стецких, внезапно окруженный мальчишками, несказанно удивился. Выслушав Юрку — его право изложить происшествие пограничнику никто не решился оспаривать, — лейтенант потрепал мальчугана за ухо и засмеялся: — Замечательно, братцы! Замечательно! Погладил вихры Котьки, прорвал кольцо и зашагал прочь, покинув ребят в растерянности. Что это — похвала? Похвала всерьез или шутка? А Стецких, давясь от счастливого смеха, спешил в порт. Великолепно! Лучше быть не может! Он чувствовал, что эти световые сигналы с того берега выеденного яйца не стоят. Столько было шуму из-за чепухи! Вспомнил пуговицу на шинели Бояринова, повисшую на ниточке, расхохотался во все горло. Парочка, шедшая навстречу, отпрянула. «Долго ли вы будете у нас новичком?» — повторился, который уж раз за эти сутки, суровый вопрос Чаушева. Посмотрим, что он сейчас скажет. Эх, как было бы здорово застать в кабинете и Бояринова! Но нет, несбыточная мечта… Чаушев давно дома, а Бояринов в подразделении или тоже дома. Докладывать, верно, придется по телефону. Досадно, но ничего не попишешь. В кино уже не успеть. Билет надо было отдать Юрке… Ладно, не возвращаться же. В воротах порта Стецких сталкивается с Чаушевым. — Товарищ подполковник! — задыхается Стецких. — Анекдот! Анекдот с теми сигналами… Теперь Чаушев не назовет его новичком. Теперь начальнику придется признать, что и лейтенант Стецких знает службу. Не хуже, а может быть, и лучше Бояринова. Странно, Чаушев не смеется. Юмор этой истории почему-то не дошел до него. — На пари с каким-то взрослым? — слышит Стецких. — Что за человек? Как был одет? Стецких поводит плечом: — Юрка его не видел. Другой мальчик… Они все там, в парке. — Разыщите их, — говорит Чаушев. — Уточните всё… Зайдите потом ко мне домой. И сообщите Соколову. — Слушаю! — Язык лейтенанта вдруг стал тяжелым и непослушным. — Вы считаете… — Пока я еще ничего не считаю. Просто есть одна идея. Стецких со всех ног кинулся исполнять приказание. Чаушев продолжает свой путь. Объяснять свои догадки было некогда, да и не хотелось — Стецких опять продемонстрирует вежливое внимание, но, пожалуй, не поймет. Всю дорогу до ворот порта Чаушев думал о пропавшем студенте Савичеве, и торжествующее «Анекдот!», слетевшее с уст лейтенанта, не расстроило эти мысли, а, напротив, дало им новую пищу. Только в первый миг Чаушев почувствовал облегчение — вот и разрешилась одна задача, лопнула, как мыльный пузырь, и остались, следовательно, две: судьба Савичева и личность вожака шайки. «Нет, — сказал себе Чаушев в следующую минуту. — Не анекдот! И задач снова стало три. Но поведение Савичева стало как будто яснее». Опыт подсказывал Чаушеву — несколько загадок, возникших одновременно и в тесной близости одна от другой, должны иметь какую-то связь. Он миновал здание института, достиг поворота и тотчас ощутил, спиной ощутил, как исчезли позади огни порта, закрылась даль речного устья, замер ветер. Чаушева приняла ночная улица, гулкая, глубокая, с одиноко белеющей табличкой над остановкой трамвая, почти опустевшей. Он шел, невольно вглядываясь в редких прохожих. Михаил Николаевич никогда не встречался с Савичевым и тем не менее видит его теперь, после рассказа Вадима, отчетливо видит этого почитателя Блока, влюбленного в «принцессу», не способного подойти реально… Запугать такого нетрудно. Достаточно намека, туманной угрозы. Воображение дорисует ему остальное. Да, Форд, главарь шайки, недурной психолог. Окутанный тайной, недоступный, он тем и силен. Мальчишку с фонарем приспособили, — ловко! Нет, не анекдот! Форду нужно было подать знак, напомнить кому-то о себе. Кому? Весьма вероятно, именно Савичеву. Он вряд ли считался особенно надежным — этот юноша, по натуре, видимо, совершенно чуждый бизнесу. Что же с ним? Он скрылся. Его нет ни на «лягушатнике», ни у гостиницы «Интурист», ни у Абросимовой. В эту пору большого бизнеса, насколько можно судить по имеющимся данным, Савичев порвал связи с шайкой. Мотивы? Контрабандное добро, оставленное в общежитии, — свидетельство растерянности, паники. Савичев слабоволен. Такие не сразу находят в себе мужество отречься открыто. В памяти Чаушева оживает давнишний поиск в тундре, продавец сельпо, бежавший в лесную сторожку, пытавшийся отсидеться там… Возможно, и Савичев надеется выйти сухим из воды. Но не сможет он долго быть в бегах. Не хватит умения, выдержки. Чаушев ускорил шаг. Идти до дома уже недолго, каких-нибудь пять минут. Но подполковник поворачивает влево. Короткий переулок ведет в новый район города, где живут моряки. Там, на шестом этаже, в квартире с балконом, где в ящиках зеленеют салат, редиска, лук, живет Наталья, вдова судового механика.12
Валентин идет к Гете. Улица темнеет, гаснут окна. Вон там светятся только два окна — два глаза, наблюдающие за ним с угрозой. Мысленно он беседует с Гетой. Сперва ему казалось: он поздравит ее, попросит прощения, в нескольких словах выскажет самое главное и уйдет, не дожидаясь ответа. Она, может быть, кинется за ним. Он не обернется. Но, чем ближе дом Геты, тем яснее Валентину — не сможет он так уйти, Гета будет спрашивать. Она захочет узнать, от кого он прячется сейчас, кого боится. Как объяснить ей? Объяснить так, чтобы не оказаться трусом в ее глазах, жалким трусом… Когда он приблизился к подъезду, стало еще труднее. Нет, сказать ей: «Я боюсь» — просто невозможно! Все же он поднялся к ее двери. Прислушался. Загадал: если услышит за дверью ее голос, ее шаги, тогда позвонит. Он стоял на площадке полчаса или час. Квартира точно вымерла. «Нет дома», — подумал Валентин с каким-то неясным чувством, в котором смешались и облегчение, и досада, и даже вспыхнувшее вдруг озлобление против Геты. В глубине этой тишины, этого невозмутимого покоя, сгустившегося за дверью, зазвенел телефон. Подошла мать Геты: — Анечка? Снова тишина — должно быть, неведомая Анечка что-то говорила там, на другом конце провода. — Ни в коем случае! Боже тебя сохрани! Тишина. — Там же негде купаться! Там же рынка нет фактически! Нет, нет, ты сошла с ума!.. Голос еще долго убеждал Анечку не ехать куда-то, где нет ни рынка, ни купанья, ни грибов, ни ягод — одни комары. Голос звучал из другого, беспечного мира. И Валентина вновь стало томить ощущение, возникшее еще на вокзале, а может быть, и раньше. Ощущение решетки, невидимой решетки, отделяющей его от жизни, бушующей вокруг, просторной и привольной. Анечка между тем перестала настаивать и начала прощаться, но спохватилась. — Да… Нет, я уже была. Речь шла теперь о каком-то артисте, видимо очень понравившемся неугомонной Анечке, так как мать Геты сказала: — А мне не очень. Гетка говорит — он переигрывает. Она права, по-моему. Знаешь, она ведь у нас авторитет по искусству. Смех. Опять тишина. — У нее?.. Ничего, все по-прежнему. Рычажок звякнул. Тишина затопила все. «Геты нет дома», — повторил себе Валентин. А впрочем, все равно… Клетка, в которой он метался сейчас, беспощадна, как никогда. Она перед ним. И медная дощечка с именем профессора Леснова, по которой Валентин провел ногтем и тотчас отдернул руку, это осязаемое звено решетки. У Геты все по-прежнему… Да, конечно. Ах, актер переигрывает! Какие еще у нее заботы? А какой актер? Валентин перебирал в памяти виденные спектакли. Кто переигрывал? Мысли его путались, он не мог вспомнить даже названия пьес, все слилось в пестрый, крутящийся сгусток лиц, декораций. Он оборвал эти назойливые писки, упрямо сказал себе, что Гета вчера была в театре. Да, вчера, когда он лежал, закрыв платком глаза, на скамье в зале ожидания. Кто-нибудь из хлыщей, увивавшихся около Геты в субботу, в день ее рождения, пригласил ее. Ну, ясно. Ипполит или еще какой-нибудь вундеркинд… Теперь даже безмолвие за дверью злило Валентина. Там все по-прежнему, им там нет никакого дела до него. Он медленно спустился, вышел на улицу. Огромный грузовик пронесся, грохоча, рядом с тротуаром. Валентин отскочил, потом печально улыбнулся. Эх, пусть бы наехал. Тут, под ее окном. Затем все стало гаснуть в вязкой, удушающей усталости. Все: и гнев, и боль, и настораживающая, не дававшая передышки мысль о Старшем, о мстителе за спиной. До сих пор самая мысль явиться ночевать в общежитие или к тете Наталье пугала его — ведь эти его адреса слишком хорошо известны. Теперь он взвешивает, где все-таки безопаснее, и делает при этом мучительное умственное усилие. Пожалуй, лучше к тете. Найдут?.. Все равно!13
— Пришел, — тихо говорит Наталья, впуская Чаушева. — Спит… Ой, будить жалко! — Не надо пока. Они улыбаются друг другу: Чаушев и Наталья, когда-то красивая, отчаянно бойкая, теперь расплывшаяся, присмиревшая. В глазах не огонь молодости — спокойный свет доброты. Чаушев доволен. Он рад за Савичева — нашелся, цел и невредим. Мало ли что могло случиться, пока Форд, Лапоногов и прочие на свободе. Кроме того, Михаил Николаевич испытывает и профессиональную гордость — гипотеза его начинает оправдываться. В столовой чисто. Щурится румяная матрешка на чайнике, белеют кружевные покрывала на швейной машине, на полочках с вазочками, на столике под приемником — работа самой хозяйки. Портрет механика Кондратовича, скуластого, с лихо закрученными вверх усами. Человек, который был примером честности, сердечного внимания к товарищам. Чаушев понял сразу — Наталья и не подозревает, какая беда постигла ее племянника. Здесь, в этой семье, ни на ком не было пятна. — Спрашивали его? — Мужчина какой-то… Я ему, как вы велели: «Болен, говорю, не встает». Рявкнул по-медвежьи: «Ладно!» — и трубку повесил. — Отлично, — кивнул Чаушев. — А Валя… Едва вошел: «Меня, говорит, ни для кого нет дома, тетя Наташа. Сказать ничего не могу, говорит. После…» Шатается, вроде и вправду больной. Замучили вы его. Так и есть. Решила, что он связан с пограничниками. Выполнял какое-нибудь задание. И не удивилась — ведь Савичев бывает в порту, на пароходах со студенческой бригадой грузчиков. Пока все ясно в честной голове Натальи. Это очень-очень тяжелая обязанность — войти вот в такой дом и сказать: «Близкий вам человек совершил преступление». Но что делать? Чаушев смотрит на часы. Верно, дома уже дожидается Стецких. Пора будить парня. — Прочитайте-ка! — слышит Чаушев. — Заглянула я, а он спит на диванчике своем одетый, а на полу… Два клочка, разорванная почтовая открытка. «Мы долго, может быть никогда, не увидимся. Я недостоин тебя. Любящий тебя В.». — Леснова, профессора дочка. Невеста с форсом. Куда ему! Он ведь телочек… И в кармане пусто. Не в свои сани полез, бедняжка! «Э, да разве в этом только дело!» — хочется сказать Чаушеву. Он отодвинул клочки и молчит. Ему жаль Наталью. Однако надолго ли можно сохранить ее иллюзии, ее чистого, честного Валю! Ну, еще на несколько минут… Почему он разорвал открытку? Не стало духу проститься с девушкой или понадобились другие, более суровые слова… Людям слабохарактерным свойственно бывает возлагать вину за свои несчастья на других. Оправдывать себя, ссылаясь на условия, на вмешательство со стороны. А Гете, как видно из послания, неведома вторая, темная жизнь юноши. Он никого не допускал туда — из стыда и страха. Если Гета и виновата, то лишь в том, что не сумела разглядеть. Ведь она могла бы спасти его! Неплохая девушка — неглупая, прямая, начитанная, но что можно требовать от нее, привыкшей только пользоваться и брать. Что в основе основ воспитания труд, коллектив — истина старая, но мы не всегда замечаем все последствия дурного, потребительского воспитания. Бьем тревогу, когда они вступают в противоречие с законом, а Гету судить не за что. Она-то честная. Для себя… Такой человек всем хорош как будто: и правил не нарушает, и не обижает никого. Одно отнято у него, съедено себялюбием — это способность давать счастье другому, а следовательно, и самому быть по-настоящему счастливым. Чаушев встал. В соседней комнате ничком, словно подстреленный в спину, лежал Савичев. Правая рука, давно немытая, почти черная, свесилась, и пальцы, касаясь пола, чуть вздрагивали. От ног с продранными носками пахло потом. Следом за Чаушевым тихо, затаив дыхание вошла Наталья. Подполковник нагнулся и потрепал всклокоченные волосы спящего. Валентин перевернулся, вскочил. — Что? — Он задохнулся, увидев пограничника в форме. — Вы… Вы ко мне? Да, да, все понятно… Он сел и нелепо выбросил вверх руки, потом поднялся, нетвердо встал, а руки его, ослабевшие от сна, надламывались, словно кто-то рывком тянул их к потолку. — Я все… все… расскажу. Он бормотал испуганно, еле внятно, не спуская с Чаушева воспаленных глаз. Глухой, тяжелый звук заставил Чаушева обернуться. Наташа!.. Эх, не предостерег!.. Он кинулся к ней, нащупал пульс. Счастье, что упала на ковер. Чаушев обхватил ее за плечи. Голова, туго стянутая темной косой с искорками седины, откинулась. — Какого черта вы стоите! — крикнул он Савичеву. — Воды скорей! Он побрызгал на нее, она пошевелилась. Вдвоем перенесли на диван. — Ну вот… Уже и в обморок. Эх, Наташа, ну как не совестно! Не арестован твой племянник, успокойся! Не затем я пришел вовсе. У меня и права такого нет — арестовать его. Он утешал ее, как девочку. Она не слышала, но он говорил, чтобы дать исход волнению. Он повторил все это, когда она очнулась, прибавил, что история с Валентином не ахти какая ужасная, запутался парень по молодости лет. До тюрьмы дело не дойдет. Во всяком случае, он — Чаушев — позаботится. — Лежи! — приказал он ей и увел Валентина в столовую. — От вас нужна полная откровенность, — заявил Чаушев. — Учтите, нас не обманете. Вас видели у гостиницы. Вы сбежали с вещами, а ваш напарник, по кличке Нос, задержан. Вещи вы бросили под свою койку… Верно? — Да, — выдавил Валентин. — Не сегодня—завтра вас вызовут, и вам придется дать подробные показания. Все начистоту, ясно? — Да, да… Клянусь вам! — Я верю, — просто сказал Чаушев. — Сейчас у меня несколько вопросов. Во-первых, вы принимали какие-нибудь сигналы от вожака шайки, от вашего Форда? В субботу ночью, световые, с того берега? — Нет, я не успел. — А вас предупредили? — Да. — Кто?.. Полчаса спустя Чаушев ушел, велев юноше до завтрашнего дня никуда не отлучаться из дому. Беседой Чаушев остался доволен. Шагая к дому, он подводит итоги. Нужно ли искать еще какого-то Форда, вожака шайки? Пора кончать, пора действовать — ведь все указывает на то, что вожак — Лапоногов, а Форд, Старший, — призрак, созданный Лапоноговым. Он сам устроил световую депешу от Старшего, сам! Это-то и разоблачает его. Недурно сварила его кулацкая башка! Именем Старшего эксплуатировать своих подручных, держать в страхе… Капитан Соколов — тот уже высказал как-то сомнение в существовании Форда. Очень уж неуловим, безлик, никому неведом. Прямо-таки сверхъестественно! Чаушев сводит воедино все, что ему известно о Лапоногове, составляет портрет. Да, кулак до мозга костей. Отец его состоял на советской службе, был помощником начальника небольшой станции на железной дороге, но ради зарплаты и общественного положения. Главное — собственный дом, участок земли. Недавно отец умер. Хозяйство ведет мать Лапоногова. Она сдает комнаты дачникам, торгует на базаре овощами. Нередко у нее на огороде работают нанятые люди, конечно под видом «родни», пожелавшей безвозмездно помочь… Открылось это еще три года назад, когда пограничники задержали иностранного моряка, сбывавшего Лапоногову партию галстуков. В институте был товарищеский суд, решили взять на поруки. Чего доброго, и сейчас в институте найдутся люди, готовые оставить хорька в курятнике. Люди, которые дискредитируют драгоценное коммунистическое начинание — общественный суд. Спекулянты красным словцом. После суда Лапоногов очень редко показывался на «лягушатнике», перестал встречаться с иностранцами в открытую. Завербовал подручных — молодежь, большей частью бездельники, падкие до заграничного барахла, жаждущие легких доходов. Сам Лапоногов не стиляга, не гонится за модой. Одевается подчеркнуто просто, играет своего в доску парня, братишку-моряка… Чаушев спешит. Ему не терпится выслушать доклад Стецких. Вдруг не совпадут приметы? И вся цепь умозаключений рухнет. Не может быть! Однако Чаушев волновался. Ощущение проверки, экзамена ему всегда нравилось — еще со школьных лет. Курьезно, что в роли проверяющего невольно выступит Стецких. Стецких, который, наверное, сейчас сидит в гостиной с обиженным видом человека, сбитого с толку, сделавшегося лишним. Стецких, посчитавший всю историю с фонариком анекдотом. Что ж, пусть пеняет на себя. Он отстранился с самого начала. Зато теперь ему будет урок. Так и оказалось — Стецких печально листал старый журнал. Екатерина Павловна, жена Чаушева, дала ему чаю с коржиками и вернулась к себе — к стопке ученических тетрадок по естествознанию. — Ваше приказание выполнено… Котьку лейтенант разыскал. Незнакомец, заказавший сигналы, говорит грубым голосом, коренаст, называет Котьку «салагой». Серый пиджак, расшитая рубашка. Котьке она понравилась, и узор на вороте и на груди, красный с синим, он запомнил. — Отлично! — крикнул Чаушев. — Отлично! — Он благодарно улыбнулся лейтенанту. — А Соколов? — Обещал приехать. — Ладно… Ну вот, а вы сразу — анекдот! Таким же тоном прошлой ночью — да, всего сутки назад — Чаушев сказал ему: «А вы сразу — взыскание!» Это по поводу сигналов, принятых Тишковым. Стецких потупился. Сутки сплошных неудач! — Садитесь. — Рука Чаушева мягко легла на его плечо. — Пока нет Соколова… Гостиная располагает к беседе. Сколько перебывало здесь людей! Одни — это большей частью родители школьников — идут к Екатерине Павловне. Другим нужен совет Чаушева, друга. Стецких слышит поразительную новость. Человек в сером пиджаке, заключивший с Котькой пари, казалось шуточное, — опасный преступник, главарь банды. Стецких подавлен. Он уважает логику, она неизменно покоряет его. В том, что говорит Чаушев, логика безупречна. Возразить решительно нечего. — Видите, как полезно бывает выходить за ограду порта, да и вообще… вообще знать жизнь! Стецких испытывает стыд и острое желание исправить свой промах, исправить сейчас же, не медля ни минуты. Пускай с опозданием, но присоединиться к операции. Вступить в последнюю, решающую схватку с бандой. Что-то совершить… Чаушев безжалостно разбивает его мечты. — Вам поручение, — слышит Стецких. — Наведайтесь в районный Дом пионеров. Вам соберут ребят, и вы… Попроще только, поживее… Расскажите им про «лягушатник», это очень важно. Ведь фарцовщики используют детвору. И Чаушев пояснил, как спекулянты примечают мальчишек, завязывающих обмен значками, марками, затем вмешиваются в разговор. «Марки? Могу вам достать целую серию. А что еще интересует?» Старинные часы в гостиной вздыхают, хрипят — собираются бить полночь. Раздается звонок в парадной. Это Соколов. Чаушев, ликуя, выложил ему плоды поиска. Удивления на лице капитана не отразилось — оно стало лишь немного мягче, спокойнее. — Все точно, соответствует, — промолвил он. — За Лапоноговым глаз все время, так что… Он мог бы пояснить: человека в сером пиджаке видели в субботу на «лягушатнике», видели, как он толковал о чем-то с мальчиком. Глаз за этим человеком давно… Но Чаушев не нуждался в пояснении. Соколов отставил стакан, аккуратно, без стука, опустил в него ложечку, закрыл портсигар с головой богатыря на крышке. И во всех этих движениях была красноречивая для Чаушева, очень спокойная завершенность. А породить ее могло лишь полное совпадение данных, полученных из разных источников и касающихся и личности человека в сером пиджаке, и его поведения в субботу на «лягушатнике». — Молодцы вы, — раздельно говорит Соколов. — Это у вас здорово получилось… И его озабоченный тон мешает Чаушеву насладиться в полной мере своим успехом. Что смущает капитана? Разве не пора стягивать петлю, захлестнуть всю компанию вместе со Старшим? — Нет, — качает головой Соколов. — Подождать придется. Еще денек. — До ухода «Франконии»? — Да. — Что-нибудь насчет буфетчика? — Большой бизнес, — пожимает плечами Соколов. А подполковник мысленно досказывает: «Надо присмотреться к этому большому бизнесу. Недаром на борту „Франконии“ — разведчик, маскирующийся официантом в буфете». — Странный бизнес. — Капитан переводит дух, словно готовясь произнести длинную речь. — Ничего не покупают здесь, пока только продают. Собирают деньги.14
Утро. Чаушев отправляется на службу. — Дядя Ми-и-иша! — тоненько, на одной ноте тянет Юрка, догоняя подполковника. Гулко хлопают по асфальту большие Юркины сандалии, купленные на рост. — А, юнга! — улыбается Чаушев. — Что, каникулы скоро? Радуешься? — Скоро, дядя Миша. — Табель выдали? — Нет еще, дядя Миша… Дядя Миша, а племянник тетки Натальи нашелся. Пропадал который. — Вот и хорошо, — кивает Чаушев. — Дядя Миша, вы тогда верно сказали, — тараторит Юрка. — Вы сказали: «Давай обождем, искать не будем пока…» Вот если бы не пришел… Тогда тревога, дядя Миша. Да? «Положим, тревога была, — думает Чаушев. — Когда-нибудь Юрка узнает. Сейчас, пожалуй, рано ему, многого не поймет». Только позавчера, тотчас после отхода «Франконии», закончила свое существование шайка Форда. И лица, события все еще перед глазами. Грузный, с глазами навыкате, щекастый Ланг, похожий в своем зеленом плаще на большую лягушку… Возвращаясь на теплоход, он нес в чемодане пуховое одеяло. «Подарок родственницы, — объяснял он, посмеиваясь. — Трогательная старушка воображает, что в каюте холодно!» Скрывая беспокойство, господин Ланг следил за пальцами таможенника, ощупывающего одеяло. Двенадцать тысяч рублей извлекли из одеяла. Их зашила Абросимова по приказу Лапоногова — все деньги, причитавшиеся господину Лангу за проданные блузки, галстуки, отрезы, белье. Двенадцать тысяч новенькими советскими бумажками, как видно срочно нужными кому-то за рубежом для снаряжения какой-либо тайной вылазки на нашу землю. Оружие, карты, рацию изготовили, а вот новых советских денег не хватило… Господин Ланг вряд ли остался в накладе. Недаром на борту «Франконии» находился тот, с военной выправкой, в сюртучке буфетчика. Он не сходил на берег — это и не требовалось. Разведка наверняка оплатила хлопоты господина Ланга. Он убрался отсюда, целый и невредимый, но у него уже нет здесь партнеров: «родственницы» Абросимовой, двуликого Форда — Лапоногова. Раза два, любопытства ради, Чаушев присутствовал на допросе главаря шайки. Он все отрицал сперва. Однако среди кредиток, найденных в одеяле, оказались те, что попали от Абросимовой к Вадиму. Номера сошлись… Кроме того, на квартире у Лапоногова было обнаружено денег — советских и иностранных — и разных ценностей на девяносто семь тысяч рублей. — Эх, стал бы я скоро стотысячником, кабы не вы! — признался Лапоногов капитану Соколову. — И что же, остановились бы? — Вы не поверите, гражданин начальник, — потупился Лапоногов. — На что мне больше? — Не поверю! — отрезал Соколов. — Ведь Форд — миллионер. — Так то настоящий… Опротивел мне бизнес, гражданин начальник. Ну их, деньги! Морально тяжело. Нет, стяжатель не остановится. Жадность его безгранична. Чаушев с брезгливостью вспоминает спекулянта, изображавшего душевный перелом и раскаяние. Недели через две будет суд над шайкой. Дело о ней будет завершено, папки с бумагами лягут на полки архива. Да, в юридическом смысле это конец, точка. А по-человечески?.. Ставит ли точку жизнь и когда? Вчера Чаушев зашел к Лесновым. Леснов молодцом, уже три тысячи операций на счету. Вышел из печати объемистый труд по хирургии. Член научных обществ Лондона, Рима, Стокгольма. И что хорошо? Он так же прост, скромен, как прежний Леснов, судовой врач на грузовом пароходе. Я, мол, чернорабочий, камни из печенок вынимаю. Вот у пограничников всегда интересные новости! И все за чайным столом умолкли, глядя на Чаушева. Бывало, он рассказывал такие захватывающие истории. Рассказал и на этот раз. Про шайку Лапоногова, про Валентина, про Гету. Конечно, не называя имен. Гета сидела против Чаушева. И он увидел, как она побледнела. Жестоко, может быть? Нет, он не мог, не должен был умолчать… Старшие Лесновы — те ничего не заметили. Им и в голову не пришло, что эпизод из мира преступления и сыска, из мира, столь же далекого от них, как льды Антарктики, может иметь хотя бы малейшее отношение к дочери. — Насчет студента я имел беседу с директором института и в комитете комсомола, — сказал Чаушев. — Парня оставят на учебе. Он осторожно выбирал слова и поэтому выражался суше, чем обычно. — А как с девицей?! — воскликнула мать Геты. — С нее, как с гуся вода? Ух, я бы эту бесчувственную тварь!.. Каштановые волосы Геты всё ниже, ниже опускаются над чашкой, вот-вот упадут в чай. — В Уголовном кодексе, — ответил Чаушев, — нет статей, карающих за нечуткость, за эгоизм, так что органы правосудия в данном случае… — Вы хоть внушили ей? — перебила мать Геты. — Или она пребывает в святом неведении, эта… — Теперь ей уже известно, — дипломатично, стараясь не глядеть на Гету, молвил Чаушев. — И как? Дошло до нее? Воспитывают вот таких белоручек, держат, как в оранжерее, а потом… Несмотря на всю серьезность положения, Чаушева начал разбирать смех. Он, наверное, расхохотался бы и придумал бы объяснение, но в эту минуту Гета вдруг вскочила и, не то охнув, не то всхлипнув, выбежала из столовой. Светлое платье ее молнией сверкнуло по чашам и кубкам на стеллажах, по холодному полированному металлу. — Гета! Что с ней? — Леонова вопросительно обернулась к мужу, потом к Чаушеву. Чаушев пожал плечами. Ябедничать не стану, решил он. Гета уже взрослая. Пусть откроет им сама. — Она вообще не в своей тарелке последнее время, — подал голос Леснов. — Ты не находишь, мамочка? Возрастное явление, по всей вероятности. Когда Чаушев уходил, Гета окликнула его на лестнице. Он услышал быстрый, задыхающийся шепот: — Михаил Николаевич, где он? В общежитии, да?.. Хорошо, я побегу к нему… — Беги, беги, конечно, беги! — обрадовался Чаушев. — Беги, девочка, — прибавил он тихо, почти про себя, провожая ее взглядом. Как сложатся их отношения, гадать не стоит. Ложь многое испортила. Ясно одно — такое не забывается. Сейчас Гета уже не та, что прежде, она стала старше. Как раз теперь Савичев нуждается в поддержке. Ему очень трудно. Правда, Чаушев предложил не давать делу широкой огласки в институте, обойтись без публичного суда. Юноше и без того стыдно. Вчера вечером он собрал свои вещи и заявил Вадиму, что уезжает домой, в Муром. Бросает учиться, не смеет называться студентом… Вадим и тут не сплоховал, взял да и запер своего друга в комнате. И позвал комсорга. Вдвоем они до полуночи обрабатывали Савичева. Отняли билет на поезд… Все эти события и лица теснятся сейчас в голове Чаушева, шагающего на службу. Знакомый поворот, взрыв солнечного света впереди, мачты, чайки, дыхание моря… В кабинете все по-прежнему — пучок острых, тщательно очинённых карандашей на столе, безмолвие сейфа. Ни следа недавних волнений, раздумий. Все та же старая, потускневшая от времени панорама порта на стене. Снять, непременно снять! И опять появляются мысли о близкой отставке. — Происшествий никаких не случилось, — докладывает дежурный офицер. — «Донья Селеста» ожидается часам к четырнадцати. Ах да, с Кубы, с грузом сахара. Скоро идти встречать… Дума об отставке не оборвалась, она только отодвинулась куда-то в глубину сознания. — Давайте уберем это. — Чаушев показывает на панораму. — Пришлите кого-нибудь. Хватит ей висеть тут, тоску нагонять! Незачем оглядываться назад. Внезапно и как будто без всякой причины — может быть, оттого, что из-за тучи прямо в кабинет брызнуло солнце, — на душе стало веселее. Ведь жизнь не кончена! Все равно город, любимый, родной с детства город не даст отставки, не прогонит его, пограничника Чаушева. Он будет нужен людям. Так или иначе, а всегда будет нужен. Непременно!Я. Полищук, Б. Привалов МИСС ХРЮ

Приключенческий памфлет
Глава I ГОРОД УЛЫБОК
Достоверно известно, что на карте Республики Потогонии города с таким приятным названием найти еще никому не удавалось. В географических справочниках, ревностно просматриваемых шефом полиции генералом Шизофром, эта частица страны, отстоявшая от Нью-Торга на таком же расстоянии, как и от Вертингтона, именовалась зоной полупустыни. — Выбейте из мозгов эту чепуху! — заявил однажды Шизофр, отличавшийся деликатностью выражений, корреспондентам рабочих газет. — В городе должны жить люди, а в данной местности людей не обнаружено. И генерал улыбнулся самой жизнерадостной из своих улыбок, обнажив при этом платиновые коронки на зубах мудрости. Корреспонденты ретировались, также очаровательно улыбнувшись в ответ. Может быть, они припомнили, что шеф полиции улыбался особенно обаятельно перед тем, как совершить какую-нибудь милую гадость. Может быть, они слышали, что у генерала зубы мудрости прорезались с небольшим опозданием, а именно тогда, когда у нормальных особей они обнаруживают склонность к выпадению. Впрочем, по-своему бравый генерал был прав. С редкостным достоинством придерживаясь законов своей благословенной страны, мог ли генерал считать за людей какие-то две-три тысячи безработных, нашедших себе приют в местности с таким пленительным названием. Достоверно известно и то, что, сколько ни старайся, ни в одном штате Потогонии не удастся сыскать такого количества улыбающихся физиономий. Казалось, здесь каждый дюйм пространства излучал улыбку, которая могла бы успешно конкурировать с гримасой того же назначения у самого Шизофра. Улыбку здесь можно было даже потрогать. Об улыбку здесь можно было споткнуться… Вокруг смеялись все. Смеялся грудной младенец, умилительно поглощая ананас величиной с мяч для пушбола. Смеялся очаровательный подросток в коротеньких штанишках, всаживая очередь из детского автомата в смеющегося гуттаперчевого медвежонка. Смеялась юная потогонийка, принимая в подарок от своего гогочущего папаши в день конфирмации голубой восьмицилиндровый лимузин. Оторвав несколько минут от делания денег, смеялся в своем оффисе владелец лучшей в стране фирмы по производству подтяжек с убедительным названием «Попробуйте, продержитесь без нас!». Смеялся пожилой игрок в гольф, попав мячом точно в глаз своему захлебывающемуся от восторга партнеру. Словом, смех сопровождал жителя этого удивительного города от младенческих пеленок до гробовой доски. Мы имеем в виду гробовщика, весело и заговорщицки подмигивающего своему клиенту с умиротворенной покойницкой улыбкой. И все это было нарисовано, напечатано, отштамповано, вытиснуто, вырезано на жести, фанере, картоне, стекле, досках, пластикате, линолеуме. Все это было изображено на щитах фирмы «Лучше всех», вот уже двадцать лет подряд вышвыривающей пришедшую в негодность рекламу на гигантскую свалку в пяти милях от автострады Нью-Торг—Вертингтон. Впрочем, стремясь к абсолютной точности, мы не осмеливаемся называть означенное место обычной свалкой. Некоторое время назад здесь появились первые поселенцы. Облюбовав щиты, из которых можно было соорудить весьма комфортабельные лачуги с крышей, окнами и отдельным входом, они основали здесь небольшую колонию и назвали ее, разумеется без тени иронии и сомнения, Городом Улыбок. Как уже отмечалось выше, обитатели Города Улыбок не принадлежали к той достославной части потогонийцев, которые имели собственные конторы, собственные фермы, собственные заводы и собственные счета в банках. Может быть, именно отсутствие этих обременительных атрибутов кредитоспособности и оставляло им достаточное время для поисков работы. Добрая четверть города, заваленная уже совершенно ни на что не годными обломками, огрызками и обрывками реклам, безраздельно принадлежала самым юным обитателям. Торопиться им было некуда, и они коротали время на свалке. Надо сказать, что это времяпрепровождение оказывало на тамошнее юное поколение самое благотворное действие: глядя на буквы реклам, ребятишки приобретали первые навыки в просвещении, которым так заслуженно гордится эта страна христианнейшей цивилизации. Бегая взапуски вокруг щитов, рекомендующих приобретать самые быстроходные авто в мире, они получали представление о широкой доступности этого вида транспорта для каждого потогонийца. Прикорнув на листах фанеры, расхваливающих самые теплые постели и самые пушистые одеяла во Вселенной, они начинали понимать, что такое комфорт и уют… Впрочем, наступило время перейти к главным героям нашего правдивого и нелицеприятного повествования. Тем более, что они как раз и подвернулись под руку, эти трое неразлучных и самых непоседливых друзей во всем Городе Улыбок: Рэд, Ной и Лиз. Мы начали с Рэда потому, что ему по праву принадлежит первое место как среди этой тройки, так и, пожалуй, среди всего шумливого и беспокойного племени сверстников. Рэд знал не только множество всяких игр, способных привести в восторг его достойных соратников, но и мог, зажмурив глаза, отыскать любую тропку среди гор рекламных отходов и такие укромные уголки, где даже натренированные ищейки Шизофра способны потерять голову. Рэд был заводилой во всех ребячьих играх и выдумках. А рядом с ним всегда можно было видеть Лиз и Ноя, отличавшегося от своего друга разве только меньшей степенью фантазии и цветом кожи. У Лиз были пронзительные фиалковые глаза и удивительная способность к молчанию, так высоко ценимая в мальчишеских компаниях. Ной был негром и, как всякий негр в христианнейшей Потогонии, хорошо знал, что только среди бедняков он может себя чувствовать равным. Правда, он не раз слышал от упитанных проповедников, иногда удостаивавших своим посещением обитателей Города Улыбок, что потогонийская конституция разрешает цветным ездить в одном автобусе с белыми, есть в одном кафе с белыми, работать на заводе рядом с белыми. Но своими глазами ему никогда еще не удавалось видеть такие чудеса равноправия. Однако друзья-бедняки не давали в обиду Ноя. Он хорошо помнил, как однажды к ним в город явился некий джентльмен и завел разговор о том, что в безработице виноваты только цветные. «Не будь их, — заливался соловьем человеколюбивый джентльмен, — белым жилось бы лучше». Ох, как смеялись Ной и Рэд, когда обитатели города, воодушевленные яркой речью проповедника, сунули его головой в холст, на котором красовалась реклама автомобильной фирмы «Лорд», и в таком импозантном виде вышвырнули на шоссе. Это были, пожалуй, самые приятные минуты в жизни негритенка. — Бедняки все равно бедняки, — сказал в тот памятный день отец Рэда, Генри Кларк, — какого цвета они бы ни были. А значит, им надо держаться друг за друга. Рэд чрезвычайно гордился своим отцом. Генри Кларк считался одним из самых счастливых обитателей Города Улыбок. У него была постояннаяработа на бензоколонке, совсем недалеко от места основной свалки. Нужно пройти мили две от главной горы мусора, у рекламы «Все, как один, садитесь в наш лимузин» повернуть налево, а там до бензоколонки рукой подать. На шоссе ни кустика, ни деревца. Солнце палит, как нанятое, а отец Рэда десять часов подряд встречает и провожает машины, заправляет их бензином, делает мелкий ремонт. Владельцы автомобилей дают ему несколько монет — пигги. К концу дня, когда Кларка сменяет другой рабочий, в кармане набирается один—два долгинга. На это кое-как можно прожить — ведь зарплаты хозяин бензоколонки своим рабочим не платит. — Хватит с вас чаевых, — говорит он, забирая из кассы автомата всю дневную выручку. — Старайтесь понравиться клиенту, и вам будут платить больше. А если не желаете работать, то вместо вас найду других! — И он кивал головой в сторону виднеющегося вдали Города Улыбок. Разумеется, отец Рэда боялся потерять работу. Во-первых, нужно было кормить семью, а во-вторых… Ну, словом, были еще важные причины, из-за которых опытный механик Генри Кларк не хотел лишиться места на бензоколонке. И все же был случай, когда его чуть не уволили. Это произошло из-за Ноя. Именно с этого дня и началась дружба Рэда и Ноя. Откуда появился в Городе Улыбок Ной, никто не знал. Сам он объяснял свое появление довольно туманно: удрал с фабрики, где его били и заставляли много работать. — Так много мальчишек, — рассказывал Ной, — а работают все, как взрослые. Мы даже не знали, что делали: красили, лакировали какие-то жестянки. Жили там же, никуда не выходили. Два раза в день давали есть. А как от мастера доставалось… Семья Ноя жила далеко на Юге Потогонии. Добраться туда он не мог, боялся, что его схватят по дороге и снова заточат на фабрику-тюрьму. — Как же тебя па и ма отпустили из дому? — спросила Лиз. — Па у меня нет — его убили белые… Давно уже, я тогда был совсем маленький. А меня отобрали за долги, — рассказал Ной. — Ма болела долго. А знаете, сколько врач стоит? Все долгинги на него ушли. Все остальное пришлось брать в кредит… А чем платить? Тут пришел один белый и уговорил ма, чтобы она подписала контракт. Я буду работать, а ей — деньги. И работа, дескать, у меня будет легкая. Игра, а не работа! Ма получила за меня сразу же сто долгингов, и меня увезли… А теперь я лучше умру, чем снова вернусь на фабрику! Так вот, в тот день, когда Ной соскочил с какой-то попутной машины и вертелся возле бензоколонки, его чуть не линчевали два молодчика — «робота». «Роботами», механическими людьми, потогонийцы прозвали гангстеров из охраны миллиардера Беконсфилда — свиного короля Потогонии. Кто не знал в стране эмблемы фирмы Беконсфилда — трех смеющихся поросят? Беконсфилд вытащил трех веселых поросят из знаменитой сказки и заставил их рекламировать сосиски, бекон, колбасы, окорока, отбивные и прочие изделия из свинины. Смеющиеся поросята мелькали всюду: на стенах домов, на шоссе, на боках автобусов, на страницах газет. «Это ваше первое, второе и третье блюдо!» — вещала реклама. Их было, конечно, великое множество и в Городе Улыбок. Миллиардер Беконсфилд, снабжавший полмира консервами и изделиями из свинины, сам мясного не брал в рот. Он был стар, немощен и боялся катара желудка. Его богатства охраняли сейфы банков, а его здоровье и покой — две тысячи «роботов». Беконсфилд знал толк в такого рода делах. Телохранители у него были как на подбор: рослые, широкоплечие, свирепые. Как утверждали сведущие люди, миллиардер берет только таких громил, которые достаточно зарекомендовали себя в уголовном мире. Причем преимуществом при поступлении на службу пользовались те, кто специализировался на тяжелых телесных повреждениях и убийствах. Вот с такими двумя «роботами» и столкнулся Ной в первый же день своего прибытия в Город Улыбок. Собственно, на свалке Ной еще и не побывал. Он только-только соскочил с попутного грузовика и вертелся вокруг Генри Кларка, всячески стремясь ему помочь. Рэд в это время принес на бензоколонку бутерброды и термос с горячим кофе — обед отцу. Лиз пришла с ним за компанию. Еще издали они увидали загорелое до черноты лицо и седую шевелюру Генри Кларка. Со стороны казалось, что у него на голове серебристый берет. Подле колонки затормозил автомобиль, похожий на короткую свиную колбасу. Один из пассажиров, здоровенный малый со шрамом на лице и значком беконсфилдовской компании на свитере, выскочил из машины и гаркнул почти на ухо Кларку: — Эй, ты, заправь, да поживей! Тем временем второй беконсфилдовский молодчик, постарше, приметил маленького Ноя, неосторожно подошедшего к дверце машины. «Робот» схватил негритенка за ухо так крепко, что тот и слова сказать не мог. — Гляди-ка, какие тут насекомые летают! — захохотал «робот». — Давай пари на бутылку виски, — сказал первый. — Если раскрутить этого черномазого как следует, то я заброшу его вон за тот ящик! — Принято! — захохотал второй верзила, перехватывая негритенка за плечи. И, кто знает, как пришлось бы оторопевшему от страха Ною, если бы тут не раздался спокойный голос Генри Кларка: — Отпустите парня и катитесь отсюда немедленно! Считаю до трех… «Роботы» от изумления захлопали глазами: такие слова им приходилось слышать впервой. Бедный Ной воспользовался растерянностью громил и выскользнул из их цепких пальцев. — Да ты рехнулся… — начал было старший, но, увидев направленные на них два пистолета-пулемета, проглотил остаток фразы. — Я продырявлю вас вместе с машиной, как миленьких, — произнес Генри Кларк, заняв позицию за бетонной стенкой будки, — как миленьких, пока вы будете вытаскивать свои паршивые револьверы. Ну, катитесь! Молодчики пришли в себя и быстро оценили положение: этого седого из-за стенки выковырять не так просто, а они действительно перед ним как на ладони. — Шум такой, словно мы ограбили национальный банк! — сплюнул первый «робот». — И все из-за черного! Клянусь старушкой мамой, я пристрелю сегодня десяток негров, чтобы успокоиться. — А ты, седой, — сказал угрожающе старший, — пеняй на себя. Уж я — то отыщу тебя даже на Луне! Машина рванулась вперед и вскоре словно растворилась в струящемся от жары воздухе. Генри Кларк бросил пистолеты на площадку. Они упали с сухим, деревянным звуком. — Так это же с рекламы «Покупай пистолеты, будешь спокоен зимой и летом»! — рассмеялась Лиз, выглядывая из-за своего убежища за ящиком, куда она спряталась в самом начале столкновения. Действительно, ружейная фирма, не довольствуясь рисунками, всегда обвешивала свои щиты деревянными копиями пулеметов, пистолетов и ружей. Две такие деревяшки и держал Генри у себя под рукой — на всякий случай. — Па, они не могут вернуться? — опасливо спросил Рэд. — Все может быть, — усмехнулся Генри. — Но не мог же я допустить, чтобы этого парня сделали на моих глазах инвалидом!.. Эй, где ты? Голова Ноя показалась из ямы для ремонта автомобилей. — Вылезай, давай знакомиться! — сказал Генри. С той поры Ной стал жить в семье Кларков, а племя беспокойных сорванцов Города Улыбок пополнилось еще одним достойным членом.Глава II «БРИЛЛИАНТОВАЯ КОНУРА»
Давно уже одним из любимых развлечений юного населения Города Улыбок была игра под названием «Выведем кота на орбиту». Конечно же, ее придумали сподвижники Рэда — Лиз и Ной. Произошло это во время отсутствия их друга, укатившего вместе с отцом на несколько дней в Адбург. Как следует из названия, главным действующим лицом в этой игре был кот. И, хотя кошки считаются довольно безобидными представителями мира млекопитающих, игра таила в себе немало опасностей. На свалке кошачьего поголовья хватало с избытком, и поймать одного—двух котов не составляло труда. Опасность заключалась в том, что при запуске кота ребят могла задержать полиция. Вездесущие ищейки генерала Шизофра бдительно следили за тем, чтобы коты не «выводились на орбиту» и таким образом не нарушали покоя во владениях всемирно известного собачьего «Пэн-Пес-клуба» — замке «Бриллиантовая конура». Этот дворец, утопающий в зарослях экзотических растений, высился на горизонте точно мираж. Однако, если забраться на рекламный щит компании реактивных самолетов, на котором был изображен ангел, доверчиво сдававший свои крылья в камеру хранения аэропорта: «Мне они не нужны — самолеты вашей фирмы доставят меня на место назначения быстрее, безопаснее и со всеми удобствами», — то можно было разглядеть и яхты на озере, и пестрые зонты на золотистом пляже, и даже обелиск «Бриллиантовая конура» перед входом во дворец. «Пэн-Пес-клуб» был учреждением со строгими правилами. Его членами могли быть лишь самые аристократические представители собачьего рода, располагающие достоверными доказательствами своего сверхпородистого происхождения. Генри Кларк шутил по поводу высшего собачьего света: — У этих шавок даже каждая блоха имеет особую родословную! Замок, в котором располагался санаторий «Бриллиантовая конура», принадлежал Беконсфилду. Свиной король, который считался одним из самых крупных покровителей животных, сдал замок в аренду «Пэн-Пес-клубу», разумеется, за весьма приличную плату. Собачья знать прибывала на отдых в «Бриллиантовую конуру» в роскошных автомашинах. Хозяева с умилением сопровождали своих любимиц, а затем наблюдали, как собачки садятся за специальные столы, как подобострастно изгибаются перед знатной клиентурой официанты, как тревожно выглядывают из коридора повара: «Упаси господи, чтобы вдруг какой-нибудь собачке не понравилась косточка от жаркого». «Пэн-Пес-клуб» был учреждением с самыми широкими возможностями. При «Бриллиантовой конуре» имелась школа, где собаки приобретали аристократические замашки и светский лоск. В бассейне они катались на лодках, учились плавать по-собачьи и делать бодрящие движения на гимнастических снарядах. В ателье мод лучшие портные шили для собачек наимоднейшие туалеты и обувь — для прогулок, для балов, для приемов и, соответственно, на все прочие случаи жизни. Тут же можно было купить серьги, кольца на лапы, кольцо на хвост, ошейник-ожерелье и тому подобную ювелирную мелочь. Но самую большую известность на всю округу приобрел «Пэн-Пес-клуб» своим салоном красоты. Тамошние парикмахеры и косметологи обладали особыми секретами. Только они умели придать собачьей шкуре оттенок непередаваемой нежности, отманикюрить лапы, произвести завивку и наклеить собачке такие ресницы — в цвет глаз, — что она готова была глядеться в зеркало с утра до вечера. В штате «Бриллиантовой конуры» были врачи, назначающие диету для четвероногих гостей; зубные техники, готовые в любой момент вставить им искусственную золотую челюсть или пломбу из самоцветов; парфюмеры, разрабатывающие рецепт умопомрачительных собачьих духов. Псам показывали специально снятые для них кинофильмы из жизни барбосов всех стран, им давались концерты, в которых сольную партию исполнял лающий саксофон… Да разве всё перечтешь! Когда Ной, Лиз и Рэд пробирались на территорию замка, чтобы разведать условия для очередного «запуска кота на орбиту», им то и дело попадались на аллеях собачки в модных накидках и очках-светофильтрах, не удостаивавшие ребят даже взглядом. — Я как-то больше уважаю собак, не имеющих одежды, — говорил обычно Генри Кларк, когда ребята рассказывали ему о своем очередном посещении замка, — собак-работяг. Тех, например, которые летали вокруг Земли. — Хотел бы я пожить по-собачьн, — вздыхал Ной каждый раз, когда попадал в это четвероногое царство. Но разве мог он мечтать о чем-либо подобном, не являясь собакой с громким и звучным титулом, вроде барона Гердрих фон Герольштейн, маркиза ди Морель де Арманьяк, принца фон Себастьяно, графа Тойн ван Филлипс или чем-нибудь в этом завидном роде? Из усыпанного самоцветами грота, в котором любили прятаться ребята, было отлично видно все происходящее возле замка. — Любая дворняга нас бы давно уже обнаружила, — зажимая морду очередному коту, шептал Рэд. — А эти надушенные псы даже носом не поведут. Рэд выбрался наружу, чтобы найти подходящее место для запуска. Едва он это сделал, как очутился нос к носу с толстым и неповоротливым Барбосом. — Ой, — испугался Ной, — сейчас пес за ним погонится! Но пес только лизнул Рэда в щеку и благодушно свалился на бок, очевидно ожидая успокоительного почесывания за ухом. — Он не мог тебя укусить? — встревоженно спросил Ной, когда Рэд вернулся к друзьям. — Мог, — усмехнулся Рэд, — но пригубил и понял, что я малоаппетитный.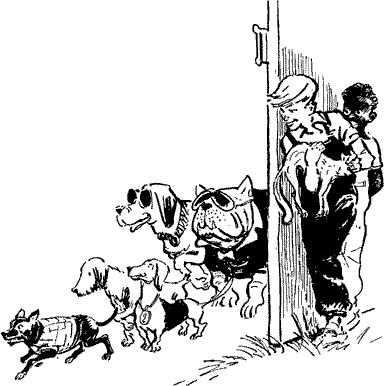
Но пора было осуществлять задуманную операцию. Не теряя времени, заговорщики пробрались по известной лишь им тропинке к кинотеатру и заняли боевую позицию. Прошло несколько минут. Двери кинотеатра распахнулись, и четвероногие члены клуба, сопровождаемые слугами, направились на ужин. Тут Рэд и Ной и выбросили заранее припасенную кошку прямо в гущу великосветского собачьего общества. Что тут началось! Кот заметался среди собак, потеряв от страха голову. В принцах и герцогах мгновенно проснулись первородные инстинкты, и они заорали так, словно их вели на живодерню. Однако расправиться со своим исконным врагом они не могли, так как модные костюмчики и платья сковывали собачьи движения. Кот без особого труда «вышел на орбиту» и исчез. Всю ночь в замке горел свет, врачи дежурили возле роскошных постелей особенно слабонервных собачек, а хозяева, узнав о происшествии, примчались на машинах из Адбурга, Нью-Торга, Обливуда и Вертингтона, чтобы проверить кровяное давление и пульс у своих любимцев. Каждый раз после такого происшествия по шоссе мчались вереницы автомобилей, на бензоколонке прибавлялось работы, а присланные лично генералом Шизофром полицейские обшаривали каждый дюйм вокруг замка, отыскивая кошачье логово. А где же были в это время наши трое нарушителей собачьего спокойствия? О, они уже были давно дома и с самым невинным видом обсуждали подробности очередного приключения. Конечно, разве могли молодцы Шизофра знать замок так, как его знали ребята из Города Улыбок! — Я могу пробраться в замок и обратно ста путями! — говорил Рэд, который любил чуть-чуть, самую малость, похвастаться своей осведомленностью. Впрочем, это было правдой — лучше его никто не знал всех тайных лазеек в окружающей «Пэн-Пес-клуб» толстой и внешне абсолютно неприступной стене.
Глава III ЗАБАСТОВКА МИСТЕРА ПОРТФЕЛЛЕРА
Было замечено, что в последнее время количество полицейских в районе Города Улыбок значительно возросло. — Как бы они не пронюхали, что им не положено, — забеспокоился Генри Кларк. Ребятам было поручено постоянно наблюдать, чтобы на свалке не появился никто из незнакомых. Причин для беспокойства было немало. Дело в том, что в Городе Улыбок находилась типография газеты «Свобода», которая, судя по названию, была не очень популярна среди властей Потогонии и, естественно, должна была издаваться в подполье. Типография помещалась в большом шатре, крыша которого состояла из рекламных щитов. Издали он был совершенно неприметен среди других груд, а подойти к нему мог только тот, кто знал «икс-автостраду», иными словами — зашифрованную дорогу от рекламы одного голубого автомобиля фирмы «Лорд» до другого. В типографии помещалось всего-навсего три маленьких ручных станка; их с трудом хватало и на листовки, и на маленькую рабочую газету. Все напечатанное переправлялось затем в Нью-Торг и Вертингтон — на заводы, фабрики, шахты. Генри Кларк предложил один из самых быстрых способов распространения «Свободы»: используя свою работу на бензозаправочной колонке, он через знакомых шоферов ухитрялся отправлять листовки и газету в любой штат Потогонии. И вот вдруг над типографией нависла полицейская опасность. Понятно, что ребята, которым поручили такое важное дело, как наблюдение за безопасностью Города Улыбок, старались вовсю. В одно лучезарное утро стоявший на посту Ной заметил толстенького человечка в белом костюме и белой шляпе. Толстячок, спотыкаясь и озираясь, брел прямо к свалке. Ной мяукнул два раза коротко, один раз длинно, как мяукает кошка, когда потягивается после сна. В ответ он услышал такое же мяуканье, впрочем чуть более мелодичное, — это откликнулась Лиз. Тотчас же из-под рекламной кучи появился Генри Кларк и, приставив ладонь козырьком к глазам, начал с интересом рассматривать непрошеного гостя. — Пойдемте к нему навстречу, ребята, — сказал Генри Кларк. — Мы люди вежливые и не должны дать этому джентльмену заблудиться среди нашего мусора. Привычно лавируя среди рекламного хлама, Генри и трое дозорных вскоре оказались рядом с толстяком. Они выросли перед незнакомцем точно из-под земли, заставив его от удивления и страха чуть не проглотить собственный язык. — Рад приветствовать вас, сэр, — сказал Генри, — в Городе Улыбок! — Хэ…лло! — изумленно произнес толстяк. — Вы что, из преисподней? То-то я смотрю, как стало жарко. Кажется, шага сделать больше бы не смог. — Я как представитель проживающих в этой местности потогонийцев, — продолжал Генри, — уполномочен отвечать на все вопросы, подписывать все договора и проводить совещания на любом уровне. — Мне нужно надежно спрятаться, — проговорил толстяк и встал во весь рост на валяющийся рядом большой ящик. — Отличный метод! — рассмеялся Генри Кларк. — Мало того, что ваш белый костюм и так видно с шоссе, как луну в ясную ночь, вы хотите замаскироваться под статую Процветания? Учтите, что статую видно издалека. — Нет опыта, — ответил толстяк, не слезая с ящика. — Я ни разу в жизни не прятался. Это противоречит моим принципам. — Почему же вы решили вдруг эти принципы нарушить? — спросил Генри. — Я забастовщик, — скромно потупил очи толстяк. — За мной гонятся штрейкбрехеры и полиция. — Ого-го! — изумился Генри. — Какая же контора забастовала? — Сенат Потогонии! — глядя сверху вниз, торжественно объявил толстяк. — Я сенатор Портфеллер! Эта местность входит в мой избирательный округ. Тут, мы полагаем, надо сделать некоторое отступление, чтобы рассказать читателю о событиях, предшествовавших появлению мистера Портфеллера в Городе Улыбок и столь странному проявлению его несгибаемого забастовочного духа. Как известно, в Потогонии были две партии: право-левая и лево-правая. Они находились в непрестанной и неукротимой борьбе. Основным пунктом, который вызывал межпартийную междоусобицу и разногласия, был вопрос о процедуре голосования сенаторов. Право-левая партия убежденно доказывала, что для процветания страны необходимо всем сенаторам голосовать, поднимая сначала правую руку, а потом уже левую. Лево-правая партия держалась совершенно иной политической платформы — она считала, что для прогресса страны сенаторам надо начинать голосование с левой руки. Такого же рода принципиальные расхождения касались и ног сенаторов. Право-левые не жалели сил и средств, доказывая, что каждый гражданин Потогонии, если хочет быть счастливым, должен вставать с постели с правой ноги. Лево-правая партия, разумеется, высмеивала это суеверие и, не жалея средств и сил, предлагала точный рецепт для потогонийского расцвета, а именно вставание с левой ноги. Эти противоречия поглощали обе партии целиком, естественно не оставляя места для менее серьезных расхождений. Таким образом, во всех других вопросах между право-левыми и лево-правыми царило трогательное единодушие. Однако в результате сложных интриг и подкупов на последних выборах большинство в сенате получили лево-правые, окончательно посрамив своих противников во главе с их лидером — сенатором Портфеллером. Но кто бы мог подумать, что дело зайдет так далеко и даже знаменитому Портфеллеру придется искать убежища на старой свалке! — Минуточку, сэр! — сказал Генри. — Тут, рядом, валяются предвыборные плакаты. Я проверю. Генри обогнул две—три кучи мусора и очутился прямо перед громадным железным щитом, с которого улыбалось увеличенное в сотни раз лицо толстяка. Да, это был он, сомнений не оставалось. «Голосуйте за друга народа Гарри Портфеллера! — призывал плакат. — Только наш Гарри сможет научить вас шагать по жизни правильно, с правой ноги!» А почти рядом, на ветхом ящике, жалобно поскрипывающем от непривычной тяжести, стоял во весь рост живехонький, хотя и похожий на гранитный монумент, сам друг народа. Это было зрелище величественное и захватывающее. И вряд ли вызовет удивление, что уже через полчаса после самоводружения монумента рядом с ним стояло десятка два самых пожилых и самых юных жителей Города Улыбок и с восхищением глазело на полную достоинства фигуру сенатора. — Рэд, — сказал тихо Генри, — мчись к «Бриллиантовой конуре». Может быть, придется «запускать кота на орбиту». Возьми Ноя, а Лиз пусть останется. В случае чего она подаст сигнал. — Да, сэр, — вернувшись к Портфеллеру, который продолжал стоять на ящике, сказал Генри Кларк, — это именно вы, сэр Рад нашей встрече!.. Так почему же бастуют сенаторы? — Видите ли, леди и джентльмены, — тоном опытного оратора начал Портфеллер, — лево-правое большинство сената хочет сегодня протащить закон Шкафта. Вы знакомы с этим законопроектом? — Конечно, — сказал Генри. — Он запрещает рабочим бастовать. Если кто-нибудь попытается, то его будут сажать в тюрьму. — Я, как друг народа, — громко произнес Портфеллер, — не могу голосовать за этот закон! Мои избиратели никогда бы мне этого не простили! — Все ясно, сэр, — сказал Генри. — Что именно? — удивился Портфеллер. — Что именно вам ясно? — Сегодня же заседание сената! — догадливо улыбнулся Генри. — А вы не хотите на нем присутствовать, чтобы не участвовать в этом грязном голосовании. Если лево-правые примут закон, это произойдет без вас. Это благородно, сэр! — Вы совершенно точно обрисовали обстановку в государстве, — поклонился Портфеллер. — Если зал будет полупуст, заседание не состоится. Поэтому мы забастовали. Мы — это я и мои друзья сенаторы. Нас ищет полиция и депутаты лево-правой, которые хотят нас силой затащить в сенат. Но мы не дадимся. Мы против насилия! — Так слезайте же, сенатор! — испуганно произнесла ближайшая старушка. — Ведь так, на ящике, вас наверняка заметят с шоссе. — Прятаться тоже не в моих принципах! — гордо сказал сенатор. — Мы живем, слава богу, в свободной стране, а не где-нибудь за стальным занавесом. Никто не заставит меня пойти против убеждений. Пусть сюда придут хоть все танки генерала Шизофра! Генри поглядел на торчащую в стороне рекламу авиакомпаний. Лиз уже сидела на ее вершине. — Послушайте, сэр, — спросил Генри, — а может быть, вы хотите, чтобы вас силой привели на заседание? — Что вы говорите! — возмутился Портфеллер. — Я друг народа! — Это мы слышали, — отмахнулся Генри. — Но тогда ваш визит к нам можно считать историческим. — Генри повернулся к землякам: — Леди и джентльмены, в этот трудный для себя день наш сенатор решил оказаться среди избирателей. Гип-гип! — Гип-гип! — подхватило несколько голосов. Портфеллер церемонно поклонился во все стороны, отчего ящик под его ногами заскрипел еще жалобнее. — Сейчас нашего дорогого сенатора, не дай бог, приметят и препроводят в сенат, — продолжал Генри. — Но наш верный друг мистер Портфеллер будет ни при чем. Избиратели увидят, как его силой повлекут на это заседание. Но не в его принципах сопротивляться насилию. И закон Шкафта будет принят, и доверие избирателей сохранено! Тут наконец до горделиво озирающегося сенатора дошел смысл иронических намеков Кларка, давно уже понятых публикой. Портфеллер несколько минут хлопал глазами, а затем завопил: — Не слушайте этого смутьяна, дорогие мои! — Он проникновенно прижимал толстенькие ручки к груди. — Я всегда с вами! Мои беды — ваши беды! — Лучше, если бы было наоборот, — резюмировал Генри, — наши беды пусть будут вашими! Оставайтесь жить с нами здесь, а ваш особняк в Адбурге отдайте под жилье рабочим… — Он красный, клянусь богом! — воскликнул Портфеллер, воззрившись на Генри. — Эти бунтовщики везде! Опасайтесь их, дорогие мои друзья! В этот драматический момент неожиданно раздался громкий свист. Это Лиз, по всем правилам мальчишеского братства засунув пальцы в рот, подала сигнал. У поворота на шоссе остановилось несколько машин. — Друзья, полиция! — крикнул Генри. Избиратели исчезли, словно провалились сквозь свалочную труху. Портфеллер, убедившись, что его белый костюм давно уже примечен молодчиками Шизофра, облегченно вздохнул и с неожиданной для себя легкостью соскочил с ящика. Лиз быстро сползла с рекламного щита. Это тоже служило сигналом: через несколько минут Рэд и Ной должны были провести отвлекающую операцию, известную нам под названием «запуск кота на орбиту». Генри одобрительно кивал головой. — Вы, мистер… — сказал Портфеллер Кларку. — Простите, к сожалению, не знаю вашего имени… — Просто избиратель, — уточнил Генри. — Так вот: чтобы вам не оказаться просто арестантом, — по-отечески нежно сказал Портфеллер, — выбросьте из головы всю эту агитационную чепуху! — Я уже старался, — вздохнул Генри, — но ничего не получается. Где-то вдалеке раздался истошный многоголосый лай. Сенатор вздрогнул. — Это охотятся за мной? — испуганно спросил он. — От этих друзей из лево-правой можно ожидать чего угодно! — К сожалению, не за вами, — учтиво сказал Генри. — Это за котом. Простите, сенатор, к вам уже идут. И мне нечего делать в таком избранном обществе. Желаю вам, сэр, быть счастливо доставленным в сенат. Генри завернул за ближайшую афишу, потом сделал еще несколько шагов и забрался… в фонарный столб. Не удивляйтесь, пожалуйста, этот столб, собственно, не был настоящим. Просто это была свернутая из серой фанеры труба — бренный остаток некогда великолепной рекламы телеграфного оборудования фирмы «Суккен и сын». В нем было тесновато, но достаточно удобно для наблюдения: сквозь пробитые гвоздями дырочки можно отлично видеть все происходящее вокруг. Сенатора окружили одетые в штатское полицейские. Портфеллер некоторое время протестуюше и отчаянно пожестикулировал, а затем покорно побрел к машинам. — Я не сопротивляюсь только потому, что это не в моих принципах! — донесся до Кларка прощальный вопль сенатора. — Я подчиняюсь грубому насилию! Кстати, — вдруг спокойно и деловито произнес Портфеллер, — а скольких сенаторов еще не поймали? — Ах, — ответил один из полицейских, — если бы все были так предусмотрительны и не удалялись далеко! Портфеллер взволнованно начал что-то говорить шагающему рядом с ним шпику. «Это уже про меня! — догадался Генри. — Доносы, видимо, не противоречат сенаторским принципам!» Несколько полицейских повернули назад, к свалке. Они озирались вокруг и принюхивались, точно охотничьи легавые, всем своим видом оправдывая укрепившуюся за ними кличку «ищейки Шизофра». «Хорошо, что „кот уже вышел на орбиту“, — облегченно вздохнул Генри. — Сейчас ищейкам будет не до меня!» И верно. Лай в замке становился все громче. Над зубчатой стеной взвилась зеленая ракета — охрана требовала подкрепления. Полицейские сделали стойку. Они хорошо знали, что спокойствие сиятельных собачек считалось у Шизофра проблемой номер один. Шеф полиции давно уже приказал: пусть вокруг пылают пожары, сотрясаются от землетрясения дома, но, если «Бриллиантовая конура» требует помощи, надо бросать все и немедленно мчаться туда. Полицейские машины, отчаянно воя сиренами, ринулись вперед. Опасность для Кларка, кажется, миновала. Можно было спокойно поразмыслить над всем увиденным и услышанным. «Значит, несмотря на все протесты, — сказал себе Генри, — закон Шкафта пройдет. Так… Надо немедленно сообщить об этом Союзу мозолистых рук». Да, но где же ребята? Генри Кларк обычно за них не беспокоился: даже тысяча шизофрских молодчиков не смогли бы поймать Рэда и Ноя в замке. Но, видимо, на этот раз в «Бриллиантовой конуре» паника была особенно большой: тревожно взлетали ракеты, слышались свистки, душераздирающие лай и визг. А вдруг… И, словно в ответ на свои мысли, Генри услышал веселый голосок Лиз: — Мальчики уже здесь! А вы где, дядя Генри?Глава IV СОВЕТ ПОЛУБОГОВ
«Советом полубогов» в христианнейшей Потогонии называлось сверхсекретное сборище крупнейших финансовых тузов и промышленных воротил. Будучи глубоко религиозными христианами, члены совета, разумеется, не могли покуситься на символы веры и приравнять себя по рангу к той неведомой потусторонней особе, которая именовалась господом богом. «Совет полубогов» было примирительным названием, придуманным мистером Фиксом, хитроумным секретарем миллиардера Беконсфилда, и охотно признанным всеми членами совета. Оно звучало лояльно по отношению к господу богу и вместе с тем отражало подлинное существо дела: почти все материальные ценности в стране были подвластны совету, а моральные ценности покорны его полубожественной воле. Мы сочли возможным дать столь пространное предисловие, прежде чем пригласить вас на одно из заседаний этого удивительного сборища. Итак, милости просим! Сегодня председательствовал один из самых влиятельных полубогов, миллиардер Лярд, основной конкурент Беконсфилда. Если старый Беконсфилд был свиным королем, то все остальные мясные продукты, жиры, белки, углеводы и молоко были в руках у Лярда. «Прежде чем младенец скажет „мама“, — кричали рекламы Лярда, — он уже пьет наше молоко. И пьет его всю жизнь! Смерть наступает оттого, что однажды вы прожили день без нашего молока! Если вы будете пить его каждый день, то станете бессмертными!» Лярд, тумбообразный мужчина неопределенного возраста, сидел на председательском кресле. За столом, кроме него, находились шеф полиции генерал Шизофр, лево-правый сенатор Шкафт и еще двое—трое влиятельных лиц. Все они подобострастно и преданно смотрели в глаза Лярду. — Значит, — сказал Лярд, — с законом вашим, сенатор, все в порядке? Лярд говорил очень неотчетливо, словно вместо языка у него во рту была сосиска. Но все присутствующие уже давно научились понимать не только каждое его слово, но и знаки препинания. — Все в порядке, сэр, — привстав, поклонился Шкафт. — Он принят пятьюдесятью голосами при сорока воздержавшихся. — Значит, — сказал Лярд, — всех право-левых сенаторов вы, генерал, успели выловить и доставить в зал? — Так точно, сэр! — гаркнул Шизофр. — Хотя, видит бог, это было не так просто. Портфеллера поймали на свалке. Одного голубчика вытащили из сейфа. Да, заперся в сейфе. Пришлось вызвать… гм-гм… специалиста по вскрытию… — Эти сюжеты для картин Обливуда, — пробормотал Лярд, — меня не интересуют. Я хочу сказать вам о следующих шагах, которые должно сделать наше государство на пути к расцвету демократии. Наступила тишина. Все ждали великих слов. — Закон Шкафта — очень свободолюбивый закон. Он ограждает нашу страну от бунтовщиков и красных смутьянов. Каждый недовольный — враг. Каждый забастовщик — враг. Очень хорошо, очень демократично. Но этого мало. К власти должны прийти сильные люди — банкиры и генералы. Только так можно будет возродить подлинную демократию и прибегнуть к козырю, о котором я скажу вам в свое время особо. Сейчас требуется отвлечь народ от всяких политических дел. Законы принимают сенаторы, а народ должен развлекаться. Нужно дать народу несколько сенсаций, чтобы их хватило на месяц… Месяца, я думаю, нам хватит, генерал? — Так точно, сэр! — гаркнул Шизофр. — Какие же предложения у вас есть, джентльмены? — пробормотал Лярд. — Неплохо бы в Космос запустить что-нибудь, — несмело предложило одно из влиятельных лиц. — Парочку обливудских звезд. Прямо на Луну. А? — Хорошо, — кивнул головой Лярд. — Главное в этой сенсации будет то, что для запуска придется приглашать русских инженеров. — Я сказал что-то не очень оригинальное? — забеспокоилось влиятельное лицо. — Снимаю свое предложение! — Неужели, генерал, — недовольно обратился к Шизофру Лярд, — в наших Потогонийских штатах, где каждые пять минут происходит убийство, а каждые десять минут — организованный грабеж, мы не можем найти две—три маломальских сенсаций? — Так точно, сэр! — гаркнул генерал. — То есть найдем, конечно. Со мной советовался епископ Потогонийский, преподобный Пшиш. Он хочет открыть новый оракул. Пещера уже подобрана. Мы ее оборудуем. — А потом с этим оракулом будет скандал, как с попугаем Аракангой, — усмехнулся Шкафт. — До сих пор об этом поются куплеты во всех кабаре. — Постараемся, чтобы такого не случилось, — сказал Шизофр. — И вообще, если я буду вспоминать про ваши неудачи, сенатор, то заседание будет продолжаться две недели без перерыва. — Хватит, джентльмены! — скомандовал Лярд. — Оракул — это нам, пожалуй, пригодится и для упомянутого козыря… Еще что? — Принять в сенате резолюцию о превосходстве нашего потогонийского образа жизни перед всеми другими, — предложило влиятельное лицо. — Да, это развлечет народ, — сказал Лярд. — Вы, сэр, лично будете читать рабочим и фермерам эту резолюцию. Только застрахуйте сначала свою жизнь. Шкафт хихикнул. Влиятельное лицо снова забеспокоилось: — Я сказал что-то не очень оригинальное? Снимаю свое предложение! — Обстановка в стране очень нервная, — сказал Лярд. — Доложите новости, генерал. — Так точно, сэр! — гаркнул Шизофр. — Беспокойная, нервная, нехорошая обстановка. Во всех городах работают подпольные организации Союза мозолистых рук. Зеленая лампочка, вмонтированная в стоящий перед Лярдом бело-синий телефонный аппарат, замигала. Лярд снял трубку. Полубоги навострили уши: все знали, что беспокоить Лярда, да еще на заседании, можно лишь по какому-нибудь сверхважному делу. Очевидно, произошло что-то необычайное. — Пусть войдет, — сказал Лярд и, положив трубку, пояснил: — Наш друг мистер Фикс хочет сообщить новость сокрушительного значения. Фикс не входил в Совет полубогов, хотя, как мы знаем, имел некоторое отношение к его функциям и названию. Фикс был личным секретарем самого Беконсфилда, и это одно давало ему множество широких прав. Всегда бесстрастное, сухое лицо, очки с дымчатыми стеклами, зализанные, словно приклеенные, черные волосы на голове — никогда не узнаешь, что он чувствует, что он думает. Как всегда подтянутый и холодный, Фикс вошел в зал и сел в предложенное ему кресло. — Джентльмены, — спокойно произнес он, — час назад всемогущий и справедливый господь призвал к себе нашего возлюбленного друга и крупнейшего из борцов за процветание и демократию сэра Беконсфилда. Если бы полубоги услышали сообщение о запуске русскими космической экспедиции на Луну, то это не ошеломило бы их больше, чем весть о смерти свиного короля. В конце концов русские обошли в Космосе всех и творят там, что им вздумается, этим уже никого не удивишь. А смерть миллиардера, который только позавчера еще заседал в Совете полубогов и держал в своих крючковатых руках судьбы половины Потогонии, касалась каждого из присутствующих. Наступила траурная тишина. Выдержав приличествующую моменту паузу, Фикс продолжал: — Все свое недвижимое и движимое имущество, а также биржевые ценности мистер Беконсфилд завещал своей любимой… свинке, по кличке «Мисс Хрю XXV». Полубоги ахнули. Шкафт растерянно поглядел на Шизофра. Шизофр — на Шкафта. Остальные влиятельные лица сидели с отвисшими челюстями. — Великолепно! — пробурчал Лярд. — Гениально!.. Это именно та сенсация, которой нам не хватало. Мы сделаем все возможное, чтобы отклонить протесты наследников и оставить завещание нашего друга в силе. Джентльмены, прошу вас, будьте внимательны… Останьтесь, Фикс, вы нам можете пригодиться. Заседание Совета полубогов продолжалось.Глава V МИЛЛИАРДЕР-СИРОТА
Никто не знал, сколько лет было Беконсфилду. Когда он еще помнил свой возраст, это никого не волновало. А когда потогонийская пресса вплотную заинтересовалась тем, сколько Бек прожил на свете, выяснилось, что свиной король уже не помнит год своего рождения. Эта неожиданная метаморфоза с памятью, а главное — положение Беконсфилда в стране дало ему право самому себе придумать титул, который почитался выше всяких «величеств» и «сиятельств». — Обращаясь ко мне, — приказал Бек своему окружению, — говорите «ваше бессмертие». Подслеповатые свинцовые глазки Беконсфилда видели слабо, но очков миллиардер не носил. Окружение миллиардера старательно делало вид, что состоит только из близоруких или дальнозорких людей. — Бедняги, мне их так жаль! — вздыхал старик. — Вот что делает с людьми неумеренный образ жизни. Злые языки говорили, что Фикс, видевший всё и вся, как подзорная труба, умышленно никогда не снимал очков, чтобы доставить удовольствие хозяину. И все же Беконсфилд был стар. Он был стар и одинок. И это давало ему основание при каждом случае печально повторять: — Ах, меня, сироту, так легко обидеть… Нет, никто не знал возраста Бека, но, уж конечно, и никому не были известны размеры грандиозного состояния свиного короля. Биографы миллиардера, расписывая добродетельный путь, по которому всю жизнь шел он к вершине славы и богатства, опускали в своих описаниях некоторые незначительные детали. Они почему-то не упоминали, что добросердечный Беконсфилд некогда продавал оружие гангстерам. Подчеркивая его трезвенность и честность, они забывали сказать, что он торговал спиртными напитками и мошенничал на бирже. Однако больше всего, как подмечали биографы, он заработал на свинине. Ему удалось получить поставки свинины для воюющей армии. С той поры он, как клещ, впился в свиной бизнес. — Нет животного более благородного, чем свинья, — любил разглагольствовать Беконсфилд. — Она всю себя отдает человеку. От пятачка до щетинки все идет на пользу людям. — Кроме поросячьего визга, ваше бессмертие, — осмелился вставить Фикс. Беконсфилд внимательно посмотрел на секретаря своими свинцовыми, как пломбы, глазками. — Нет, Фикс, вы не гений, — сказал свиной король. — Интриган вы способный, но со мной, стариком, вам не справиться. Вот вы прохрюкали что-то насчет поросячьего визга и очень довольны собой. А я вам благодарен за идею. Отныне поросячий визг мы превратим в долгинги. Фикс лишний раз удивился способности Беконсфилда делать долгинги, казалось бы, из ничего. Действительно, что такое поросячий визг? Ничто. Так, колебание воздуха. Но его высокий шеф сумел и это обратить в деньги. После того памятного разговора с Фиксом старик приказал записывать на магнитофоны все поросячьи визги. Несколько расторопных и модных композиторов смонтировали из визгов такие какофонии, что с ними не шли ни в какое сравнение даже шедевры предметной музыки, как известно создающиеся при помощи разбиваемых тарелок, детских погремушек и фаянсовых унитазов. Новые магнитофонные записи и пластинки, запечатлевшие выразительные хоры свиней, кабанов, свинок, подсвинков и новорожденных поросят, получили название «Хрюкен-ролла» и покатились во все кабаре, кабаки, дансинги. «Хрюкен-ролл» начал победное шествие по Потогонии, а долгинги водопадом обрушивались в сейфы Беконсфилда. — Да, ваше бессмертие, — первый раз изменив своей бесстрастности, завистливо сказал Фикс, — вы умеете делать деньги. — И это вызывает зависть ко мне, сироте, у тех, кто этого не умеет! — жалобно говорил старик. — Мне каждую ночь снится, что ко мне пробираются убийцы, подосланные наследниками. Беконсфилд не боялся ничего на свете, кроме насильственной смерти. Чтобы оградить себя от всякого рода неожиданностей, он построил небольшой дом из бетона и стали, похожий на несгораемый шкаф. Дом был сооружен в местности, которая прежде называлась долиной Тюльпанов. Естественно, что отныне она стала именоваться, пожалуй, менее благозвучно, но более точно — Сейфтауном. Кстати, история превращения долины Тюльпанов в Сейфтаун могла послужить биографам Беконсфилда еще одним доказательством удивительных и неподражаемых его способностей совершать добрые и богоугодные дела. Долина Тюльпанов считалась одним из самых красивых мест штата Вахлакома. Но было одно обстоятельство, которое, с точки зрения знатоков, сильно снижало ценность долины: в ней с незапамятных времен были расположены пять рабочих поселков. Когда землю долины купил Беконсфилд, в купчей было оговорено, что свиной король не может снести этих поселков и выселить жителей. Миллиардер был человеколюбив — мы имеем в виду любовь его к одному человеку, самому себе, — и хотел владеть долиной один. Для достижения этой цели существовало несколько способов. Один из них заключался в том, чтобы по-отечески убедить рабочих покинуть насиженные места и переехать из чудесной цветущей местности, с огородами, домами, возделанными землями и мастерскими, куда-нибудь подальше. Почему-то, несмотря на убедительные доводы, что где-нибудь там им будет гораздо лучше, жители долины решили остаться на месте. Фикс пытался подсказать шефу решительный ход: — Купите эти мастерские и сдайте их на слом, ваше бессмертие. И тогда рабочим негде будет работать, и они уедут. Но Беконсфилд высмеял это предложение, как не отвечающее его принципам гуманности. Тем более, что мастерские принадлежали Лярду, молочному королю, который не хотел, чтобы долина Тюльпанов стала вотчиной его коллеги по Совету полубогов. И Беконсфилд нашел самый человеколюбивый выход. Он построил посреди рабочих поселков небольшой химический завод. День и ночь на нем производили какие-то краски и кислоты. Заводские трубы по проекту, очевидно, недостаточно опытных инженеров были сделаны необыкновенно низкими. И весь желтый ядовитый дым не уносился ветром, а стелился по земле, отравляя воздух, траву, животных. Рабочие подали иск. Власти штата, ознакомившись с выводами экспертизы о безвредности дыма и газов для человеческого организма,отклонили этот иск с сознанием честно исполненного долга. Через год от цветущей долины Тюльпанов осталось одно воспоминание: все выгорело, деревья омертвели, на земле не видно было ни одной травинки. Дети ходили бледные, многие из рабочих начали кашлять. Беконсфилд, терпеливо ожидавший своего часа, предложил жителям за небольшой выкуп навсегда исчезнуть из долины. Рабочие переселились кто куда, многие обосновались в трущобах Города Улыбок. К этому времени вдруг Беконсфилд сам убедился в том, что химические пары действуют на местную флору отнюдь не благотворно. Он приказал разобрать завод, а на облюбованном месте построить свой знаменитый дворец — сейф из бетона и стали. Через два года долина вновь цвела и благоухала, украшенная причудливым ящиком высотой в пятнадцать этажей. Вот, собственно, и вся история превращения долины Тюльпанов в Сейфтаун, делающая честь изобретательности ее владельца. Перебравшись в Сейфтаун, Беконсфилд вспомнил, что он является почетным членом-учредителем «Пэн-Пес-клуба». Он решил отдать для собачек — тем более, что в нем не было теперь большой нужды, — свой замок, названный «Бриллиантовая конура». Старик очень любил животных. Когда русские послали в Космос собак, он был одним из первых, кто подписал протест против «варварского обращения коммунистов с животными». И все же из всех четвероногих Беконсфилд больше всего любил свиней. Эта слабость уходила своими корнями в прошлое. И тут мы для полноты вдохновившего нас образа Беконсфилда позволим себе вновь сделать исторический экскурс. Накануне большой войны специальная государственная комиссия, от которой зависело, кто получит право на поставки для армии, выбирала поставщика из нескольких кандидатур. В комиссию входили люди, которые за приличную мзду поддерживали Беконсфилда, но и они были бессильны произнести решающее слово. — Бек, тут все зависит от вас самих. Новый начальник комиссии — человек случайный и почему-то разбирается в свиньях. Он судит обо всем очень примитивно — чья свинья лучше. Понятно? Беконсфилду, разумеется, было понятно и то, что все его конкуренты тоже приволокут самых наилучших хрюшек. Черт возьми, пожалуй, они подложат такую свинью, что председатель комиссии на других и не захочет смотреть! Будущий свиной король нашел выход. Через частных сыщиков Беконсфилд узнал, что председатель, человек глубоко религиозный, верит в переселение душ и подобные светопреставления. Бек решил, что именно эта председательская слабость может быть использована им для большой игры. Итак, пятнадцать фирм боролись за право сорвать с потогонийского правительства крупный куш. Пятнадцать свиней неописуемой красоты были выведены на смотр. Председатель комиссии наклонялся, внимательно рассматривал каждое животное и шел дальше. И вдруг он остановился. Он остановился возле свиньи фирмы Беконсфилд. Брови председателя удивленно зашевелились. — Рада вас приветствовать, сэр! — сказала свинья очень учтиво. — Это вы… говорите? — ошарашенно пробормотал председатель. — Я, сэр. Хочу добавить, сэр, что мы, свиньи-патриоты, готовы отдать свою жизнь ради победы нашего доблестного оружия. — Благодарю вас, — растерялся председатель. — Я никогда ничего подобного не встречал… Я не могу рисковать вами… Вы сокровище!.. — Нас у фирмы Беконсфилд десять миллионов, — сказала свинья самоотверженно. — Если вы не дадите нам выполнить свой долг, мы покончим жизнь самоубийством. — Этот блеф, — спохватился один из представителей военного министерства, — заходит слишком далеко! На вашем месте, сэр, я бы попросил это животное… — Сам ты животное! — немедленно отреагировала свинья. — Простите… это существо… — поправился офицер, — выполнить свою угрозу. Уверен, что тут ловкий трюк. — Вы верите этому типу, подкупленному другими фирмами? — сказала свинья грустно. — Чтобы доказать, что мы, беконсфилдки, вне конкуренции, — я умираю. И она протянула ноги. Подбежал врач. Свинья была мертва. Председатель был потрясен. Контракт с Беконсфилдом был подписан. Об этом происшествии рассказывали всякие небылицы. Бизнесмены смирились. Никто больше не пытался убедить председателя в том, что его одурачили. Это было бы не по-христиански жестоко. Только Лярд был непримирим — ему нужен был козырь для борьбы с счастливым конкурентом. Лярд отыскал радиотехника, который в искусственных свиных копытцах установил репродуктор и высокочастотную аппаратуру. Он нашел помощника Беконсфилда, который разговаривал за свинью из будки сторожа. Он узнал, что по сигналу Бека на короткой волне был передан импульс, вскрывший ампулу с цианистым калием, которая была приторочена к малозаметной ранке. Смерть, разумеется, последовала молниеносно. Горе Беконсфилда было безутешным. Единственно, что его примирило с потерей любимой свинки, это то, что на военном заказе он заработал несколько миллионов. В память о легендарной самоубийце Бек оставил у себя в доме одну из ее пяти потомков. Он поклялся, что отныне каждый представитель из очередного поколения будет в числе его друзей. С тех пор каждая из этих свинок именовалась «мисс Хрю» и носила порядковый номер — первая, вторая, третья и так далее. Мисс Хрю XXV была, пожалуй, наиболее любимой фавориткой впавшего в старческую сентиментальность Беконсфилда. — Я знаю, — говаривал Беконсфилд, — все будут радоваться моей смерти, кроме мисс Хрю… — А я, ваше бессмертие? — спрашивал секретарь. — Я буду так огорчен. — Будешь, но мисс Хрю больше… Ведь у нас с ней никого нет. Я и она. Она любит меня бескорыстно. Ей не нужны мои долгин-ги. И это — прошу учесть — несмотря на то, что я из ее сестер делаю консервы. Ну кто-нибудь из людей смог бы вести себя так? Поглядите на моих родственников, этих хапуг. Примитивные подлецы! Ну ладно, я им устрою сюрприз! И вскоре действительно пробил час, когда свиной король устроил обещанный сюрприз. Почувствовав приближение конца, он потребовал, чтобы епископ Потогонийский, преподобный Пшиш, лично явился к его ложу и облегчил последние минуты переселения Бека в мир иной. Пшиш примчался, чрезвычайно взволнованный. Он застал Беконсфилда лежащим в стальной кровати с блаженной улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего. В спальне было людно. У ложа толпились нотариусы, врачи. На собольих шкурах возлежала мисс Хрю. Два «робота», неподвижные, словно шкафы, возвышались у дверей. — Чему вы улыбаетесь, сын мой? — спросил Пшиш, молитвенно складывая руки на груди. — Дайте ему по шее! — сказал миллиардер и хрюкнул. «Роботы» двинулись к Пшишу. — Чему вы улыбаетесь, ваше бессмертие? — поспешно поправился Пшиш. «Роботы» встали на место. — Подпись этого типа, епископа, тоже пригодится! — приказал Беконсфилд. — Ну-ка, распишитесь… вам покажут где… Фикс протянул преподобному Пшишу завещание. Пшиш пробежал его, лихо подписал и почтительно склонился перед аппетитной, розовенькой, с позолоченными копытцами мисс Хрю XXV. А через час миллиардер предстал перед господом богом, с которым у него были давно свои счеты. Предстал с улыбкой на устах, очень довольный, что так ловко облапошил своих мелкотравчатых наследников.Глава VI «ЗОЛОТАЯ» СВИНЬЯ
По Потогонии шумел, гудел, гремел, грохотал великий свиной бум. Все газеты были до отказа набиты различными фактами из биографии «золотой» свиньи мисс Хрю, описанием ее дальних и ближних родственников. Смаковались все перипетии борьбы ошалевших от горя наследников Беконсфилда с мисс Хрю. Последняя воля миллиардера оспаривалась. Наследники дружным хором утверждали, что старик впал в последние дни в младенчество и поэтому завещание не имеет законной силы. В виде доказательства затемненного сознания свиного короля приводился чаще всего тот пункт завещания, который гласил: «…родственники мои (следует перечисление фамилий) могут претендовать на мое движимое и недвижимое имущество, а также (следует перечисление различных вкладов и пакетов акций) лишь в том случае, если мисс Хрю XXV скончается естественной смертью, прожив не менее десяти лет, считая от сегодняшнего дня. В случае же ее кончины ранее установленного срока все мое состояние должно быть израсходовано на создание и процветание клуба „Алмазный пятачок“, членом которого может быть любая свинья, принадлежащая любому гражданину Потогонии, имеющему состояние не менее миллиона долгингов». — Это же типичный бред! — возмущались обделенные покойником родственники. — Человек в здравом уме никогда бы не написал «любая свинья». Всех боровков, значит, он исключает из членов будущего «Алмазного пятачка»! Приводились, разумеется, и другие доводы, но они были не так внушительны. Однако Верховный суд Потогонии признал завещание действительным. — Покойный мистер Беконсфилд был настолько предусмотрителен, — сказали судьи, — что пригласил на процедуру подписания своей последней воли консилиум врачей, целую юридическую контору и даже преподобного Пшиша… — Ну знаете, джентльмены, — не выдержал один из бывших наследников, — Пшиш подпишет и засвидетельствует что угодно. Вы же помните историю с рекламой компании воздушных сообщений! Ну там, где на плакате ангел снимает крылья и сдает их в камеру хранения. Позор! Поношение святых сил! А Пшиш разрешил рекламу да еще благословил. Сколько долгингов он хапнул за это, а? Неплохо он на ангелах заработал! Тогда судьи сослались на прецедент, как известно являющийся одним из существенных оснований для решения суда. Они утверждали, что даже европейские богачи оставляли своим любимцам — кошкам, собакам — миллионы франков, марок, фунтов стерлингов. Два раза крупные наследства доставались ослам, три раза лошадям, по одному разу морской свинке, обезьяне, петуху и канарейке. — Что же касается данного случая, — объявил суд, — то свинья облагодетельствована впервые. Просто одного влечет к ослам, а другого — к свиньям. По Потогонии продолжал шуметь, греметь, гудеть, грохотать великий свиной бум. В газетах, в кино, по радио и телевидению давались описания туалетов мисс Хрю и ее дневного меню, состав воды в утренней ванне и выражение глаз свинки на каждый час суток… В больших количествах были выброшены на рынок пластинки новых записей «Хрюкен-ролла» в исполнении самой мисс Хрю, которая неожиданно обнаружила удивительные артистические данные. На всех волнах звучало радиоревю «Хрюкнем вместе в танце и песне». Обливудские кинопромышленники спешно накручивали трехсерийный боевик «Каждый хочет быть свиньей». В ресторанах появились новые блюда из свинины: «Уничтожь меня, я враг мисс Хрю» (шницель), «Я готова пожертвовать собой, чтоб тебе было вкусно» (котлета отбивная), «Огонь любви к мисс Хрю сжег меня» (жареный поросенок) и так далее. Знаменитая собака Микки фон Бобенцоллерн, происходящая от собачки Буки, которая однажды чуть не укусила самого Наполеона, устами своего хозяина миллионера Гип У. Гип заявила: — Если бы я не была собакой, то я хотела бы быть свиньей! Когда мистера Гип У. Гипа спросили, почему он решил, что его Микки выразилась именно так, миллионер объяснил: — На завтрак по вторникам Микки всегда ест немного заливного поросенка. Но сегодня, когда мы с ней сели за стол, Микки не стала есть поросенка, а выразила ему почтение, трижды проскулив в тональности соль-минор. Нет, я не мог ошибиться! Я потратил восемь лет, чтобы изучить значение каждого звука, издаваемого Микки… На Совете полубогов, где собирались десять самых влиятельных людей Потогонии и членом которого в бытность свою состоял Беконсфилд, решено было допустить к участию в заседаниях мисс Хрю. А так как мисс Хрю, согласно тому же завещанию, во всех делах должна была советоваться с Фиксом, то бесстрастный секретарь тоже получил право посещать это высокое собрание. Когда стало известно, что мисс Хрю вошла в совет, наследники Беконсфилда поняли, что никакой надежды на пересмотр завещания у них не остается. — Римский император Калигула был мальчишкой без миллионерского образования, — сказал в запальчивости один из экс-наследников. — Он ввел своего коня в сенат. А у нас свинье доверяют государственные дела! — Меня тешит надежда, что она окажется умнее всех своих коллег по совету, — подхватил второй экс-наследник.
Но эти крамольные мысли обиженных родственников, к счастью для мисс Хрю, не стали достоянием широкой публики. Уже через пять минут после этого разговора за обоими вольнодумцами пришли молодчики Шизофра, чтобы препроводить их в специальные заведения, где думать можно в любое время, а волю можно видеть лишь иногда через решетчатое оконце. Служба по охране порядка была в Потогонии поставлена на широкую оперативную ногу. — Все идет, как мы и рассчитывали, — самодовольно пробурчал Лярд на очередном заседании Совета полубогов. — Все заняты только мисс Хрю (легкий поклон в сторону кресла, где возлежала свинья в изящном костюме делового покроя), и мы можем переходить ко второй половине нашего плана. Но, прежде чем мы уточним детали подготовки известной вам государственно-организационной операции, мне хотелось бы обсудить один не менее важный вопрос: как будет отмечено вступление мисс Хрю (опять легкий поклон) во владение полученными ею капиталами? Нужно придумать что-нибудь сногсшибательное, чтобы об этом полгода говорили во всех уголках Потогонии! Ясно? — Устроить коронацию в бассейне! Все гости в купальниках. Столы прямо в воде. Под ногами гостей шныряют золотые рыбки, — предложил один из полубогов. — Мы шьем себе купальные фраки. Оригинально и живописно! Этот проект был забракован Лярдом, сославшимся на то, что при его ревматизме долго высидеть в воде он не сможет… Кроме того, предложение было неоригинальным. Многие помнили о том, что банкир Вандолларбильд устраивал бракосочетание своей дочери даже под водой. Все торжество происходило на океанском побережье, в миле от берега, на глубине сорока метров. Специально построенные дворцы были опушены под воду, снабжены кислородными запасами, оборудованы по последнему слову комфорта. Гости прибывали на подлодках, в изящных скафандрах. В дворцах было все, как на земле: сады, площадки для гольфа и тенниса, даже звезды-лампочки мерцали на декорированных потолках. — Это старику Вану обошлось миллионов в десять долгингов! — пробурчал Лярд. — Можно устроить пир в жерле вулкана, — предложил сам Вандолларбильд. — На островах Святого Кукиша есть такой вулканчик. Он пыхтит время от времени, но имеет вполне прирученный вид. Там тепло, как в парной бане. Мы могли бы праздновать без всякой одежды… И какое пикантное ощущение, — а вдруг вулкан проснется? — Мы готовы потратить любое количество миллионов, — сообщил Фикс. — Главное — размах. У меня есть предложение. Провести все торжество в воздухе. На высоте ста метров. — Возвышенная идея! — завистливо сказал один из миллиардеров. — Прибытие только на вертолетах, — продолжал развивать свою мысль Фикс. — Поднимем на аэростатах бассейн, теннисные корты, сады, отель, рестораны… После небольших дебатов, касавшихся уже только деталей, предложение о коронации мисс Хрю в воздухе было принято Советом полубогов единогласно. На следующее утро вся потогонийская пресса была заполнена статьями о предстоящем небывалом воздушном празднестве. Надо сказать, что среди большой части рабочих фабрик Беконсфилда зрело недовольство. Это недовольство почему-то подогревалось газетами и журналами лево-правой партии. Они язвительно нападали на завещание Беконсфилда, призывали рабочих «свиной промышленности» сказать свое слово, не подчиняться мисс Хрю и даже бастовать. Члены Союза мозолистых рук срочно выпустили специальный номер газеты «Свобода», в котором спрашивали: «А какая разница, на кого работать? Ведь не на себя же ты работаешь! Надо добиваться, чтобы хозяевами завода стали те, кто на нем работает, — тогда ни одна свинья на шею не сядет!» Союзу пришлось потратить много сил, чтобы доказать рабочим, что этот свиной бум задуман неспроста, что он похож на провокацию, преследующую далеко идущие цели. Попутно разоблачалась роль лево-правой партии. «Во-первых, сами же они приняли закон Шкафта, по которому каждый забастовщик объявляется преступником и его сажают в концентрационный лагерь. Во-вторых, по-видимому, кое-кому из сторонников диктатуры очень хотелось бы вызвать среди нас недовольство, забастовки. Знаете, зачем? Чтобы поднять невероятный шум: „Правительство президента Слябинса не способно защитить интересы нации против бунтовщиков, мы требуем решительного правительства, правления железной руки…“ В ответ на всеобщую забастовку они могут ответить военным путчем и установлением диктатуры генералов. Мы не можем позволить так примитивно спровоцировать себя. Нужно сохранить силы для грядущих боев!» На экстренном заседании Союза мозолистых рук решено было по мере возможности использовать авиабал для выяснения будущих планов военщины и полубогов. — Боссы что-то замышляют, — сказал председатель союза. — Несомненно, судя по всему, военный путч или еще и похуже. На балу среди генералитета и аристократии будет много разговоров о предстоящих делах. Мы должны как можно точнее узнать замыслы врагов, чтобы предотвратить катастрофу. Решено было использовать членов союза, состоящих в профсоюзе официантов и служащих отелей, чтобы при их помощи проникнуть на бал как можно большему количеству проверенных и опытных людей. Среди них свое задание получил и Генри Кларк. Генри договорился с хозяином бензоколонки, что на пять дней по случаю болезни двоюродной тетки его заменит один приятель из Города Улыбок, а сам, приклеив пышные бакенбарды, превратился в официанта из ресторана «Свинтус». И, конечно же, в этом контрзаговоре нельзя было обойтись без неразлучных и жаждущих бурной деятельности наших друзей — Рэда, Ноя и Лиз. Генри Кларк сделал так, что Рэда удалось пристроить разносчиком мороженого, Ноя — подавать теннисные мячи, Лиз — цветочницей. — Главное, не смотрите вниз, — шутливо наставлял ребят Генри, — а то голова начнет кружиться. А если голова кружится, то, сами понимаете, она становится плохим советчиком в делах.
Глава VII КОРОНАЦИЯ МИСС ХРЮ
Несколько сот розово-серебристых свиней взлетели ввысь. Достигнув запланированной головокружительной высоты, свиньи остановились — их держали закопанные в землю якоря. Между аэростатами, оболочкам которых были приданы свиные очертания, засновали вертолеты и воздушные шары: рабочие-верхолазы проверяли крепления, сваривали железные фермы, накладывали полы ив различных пластиков. Город в воздухе, получивший название «Хрю-сити», рос быстро. Один за другим появились готовые сооружения: теннисные корты, сады, холлы, бассейны, танцевальные площадки, бары, пляжи, пиршественные залы… В павильонах были установлены прозрачные стенки, противостоящие ветру, и голубые и зеленые навесы, защищающие от палящих солнечных лучей. Висящий на свиньях-аэростатах Хрю-сити был виден по вечерам издалека. Он светился в небе, как приплывший из Вселенной остров, вызывая нездоровую зависть у богачей, не додумавшихся до такого эффектного развлечения. Перестроившиеся после угрожающего намека Лярда право-левые и лево-правые газеты в трогательном единогласии бубнили о сотнях миллионов долгингов, потраченных мисс Хрю на подготовку к своей коронации. «Каждый поросенок страны, — захлебываясь от умиления, писали газеты, — в этот великий день получит на память от мисс Хрю бантик голубого цвета!» И вот он наступил, этот удивительный день. Первыми начали приземляться на Хрю-сити личные вертолеты с гербами крупнейших миллиардеров. Прилетели Лярд, генерал Шизофр, сенаторы Шкафт и Портфеллер, знаменитые обливудские кинозвезды, известнейшие гангстеры и дипломаты Потогонии, чемпионы Потогонийских штатов по боксу, по стрельбе из бутылок с шампанским и по спанью стоя вниз головой. Чемпион по спанью тут же встал на голову и заснул: он решил посвятить свой новый рекорд мисс Хрю. Гостей встречал Фикс — как всегда прилизанный, приглаженный, невозмутимый. Многие из приглашенных были со своими кумирами — собачками, кошками, морскими свинками, кроликами. Встретившись в столь привлекательном месте, они тотчас же завели непринужденный разговор. Раздались звуки фанфар, известившие о прибытии мисс Хрю. Вертолет с парнокопытной миллиардершей приземлился точно в центре специально изготовленного ковра, на котором были вытканы различные сцены, восхваляющие ум, честность и порядочность свиней. Мисс Хрю бодро выскочила из вертолета и с любопытством начала оглядываться. — Ах, как она одета! — донеслось со всех сторон. — Как мила! — Какой цвет мордашки! — Какой игривый хвостик!.. Некая дама, знаменитая во всех отношениях, так расчувствовалась, что с силой прижала к себе свою любимую собачку. Пес залаял истошно и испуганно. Мисс Хрю вздрогнула, метнулась было в сторону, но ловкий Фикс успокаивающе погладил ее за ухом: — Этот гадкий пес будет наказан, мисс. Мы изгоним его с бала… Облаять хозяйку дома, фи! — Фи! — сказали прочие гости и отступили на шаг от дамы, знаменитой во всех отношениях. А она, еще не понимая всей глубины катастрофы, усиленно обвораживала окружающих. Два «робота» внушительно подошли к даме: — Мисс Хрю просит вас покинуть бал! Дама, знаменитая во всех отношениях, была так ошеломлена, что без сопротивления дала себя усадить в вертолет и отправить домой. — Да, — задумчиво произнес преподобный Пшиш, — трудновато будет с ней конкурировать. Каждое хрюканье — точно вещее слово оракула. К счастью для Пшиша, стоявший неподалеку Портфеллер уловил только заключительную часть фразы. Кто знает, как он мог бы истолковать это брюзжание… Однако при слове «оракул» Портфеллер встрепенулся, как застоявшийся мул. — Кстати, — произнес он, — столько говорят о вашем новом оракуле. Верно, что пещера сама по себе разговаривает и дает ответы на любые вопросы?.. А вдруг она ответит что-нибудь не так, а? — Не беспокойтесь, сенатор, — усмехнулся Шизофр, — такой промашки, как тогда с аракангой, мы не дадим. Оракул уже прошел комиссию по проверке искренности. Я лично занимаюсь этой проблемой, сенатор. — Тогда я спокоен. — Портфеллер в знак полного доверия приложил руку к месту, где, по его мнению, располагалось сердце. — Моя партия целиком к вашим услугам! Генри Кларк за свою жизнь перепробовал множество профессий. Работал он и официантом. Так что разносить коктейли и закуски ему приходилось не впервой. Но, разумеется, не на такой почтенной высоте. Однако пока гости вели себя так, словно они находились на грешной земле. После того как была проведена церемония встречи мисс Хрю, большинство гостей разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться к торжественному ужину. Только деловые люди и военные то и дело сходились группами, перебрасывались двумя-тремя словами и снова расходились, по-видимому мало заботясь о своем туалете, а больше о каких-то своих делах. Генри Кларк видел, как старательно подкатывали кресла Шкафту и Лярду одетые в голубые ливреи с золотым пятачком-кокардой Рэд и Ной. Пробежала Лиз с корзинкой цветов — видно, какой-то гостье захотелось сменить букет в своих апартаментах.
Снова возникла группа из нескольких генералов. Как бы подобраться к ним поближе? Нужно подать им коктейли! И Генри Кларк бежит к генералам, умело лавируя среди гостей и с ловкостью жонглируя высоко поднятым подносом. Вдруг Генри поймал на себе чей-то внимательный взгляд. Он поднял свой поднос будто бы для того, чтобы избежать падения от порыва ветра, и в его сверкающей глади увидел две отраженные толстые физиономии «роботов». Они перехватили Генри по дороге к буфету. — Стой! — Мне нужно в буфет! — запротестовал Генри. — Может быть, тебе нужно на землю, — мрачно сказал младший «робот». — Или в землю — еще лучше! — Где-то мы с тобой встречались? — сморщил лоб старший «робот». — Не работал ли ты на бензоколонке возле Города Улыбок, а? — Я официант из отеля «Свинтус», — сказал спокойно Генри Кларк. — Меня зовут Джо Бадж. Мои документы у метрдотеля, можете проверить. Для сведения могу добавить: ни один уважающий себя официант, а я работаю в «Свинтусе» пять лет, никогда не пойдет работать на бензоколонку. Бензиновые пары притупляют обоняние, а официант без обоняния все равно что телохранитель без пистолета… — Хе-хе, веселый парень, — отметил младший «робот». — Видно, ошибка, — пробормотал старший. — Но уж очень ты похож на того типа! — Я могу идти? — вежливо осведомился Генри Кларк. — Исчезай, — милостиво разрешил старший «робот». Ной и Рэд издали взволнованно наблюдали за этой встречей: мальчики сразу узнали тех самых гангстеров, которые чуть не расправились с Ноем. — А если они действительно проверят документы? — спросил Ной. — Так ведь мы здесь все по другим документам, — тихо ответил Рэд. — И друзья из Союза официантов всегда поддержат нас, так что бояться нечего! Торжественный ужин начался парадом поваров, которые под грохот оркестра разносили дымящиеся блюда по столам. — Ни одного блюда из свинины, — сказал Шкафт генералу Шизофру. — Очень тактично! — Интересно, мисс Хрю выпивает? — поинтересовался Шизофр. — Будем надеяться, что нет, не хотел бы я пить с ней на брудершафт. — Не острите, генерал, а то Фикс передаст ваши слова свинье, и, черт ее знает, как она на это посмотрит… Может, она не любит вообще целоваться с генералами? Посол Республики Канария произнес в честь мисс Хрю большой и витиеватый тост, в котором было столько восклицательных знаков, сколько процентов государственного долга числилось за этой страной ее соседке Потогонии. — Хрю-хрю-хрю-хрю-ура! — кричали гости, стараясь сделать приятное виновнице торжества. Оркестр заиграл «Свиной марш», специально написанный по такому высокому поводу. Фикс возложил на мисс Хрю, сидящую во главе стола, корону, зубцами в которой служили сосиски из гигантских бриллиантов. Сама корона изображала круг колбасы, сделанный из платины. Сенаторы из право-левой и лево-правой партий во главе с Портфеллером и Шкаф-том пошли прикладываться к золоченому копыту мисс Хрю. Они с чувством целовали копыто, говорили несколько верноподданнических слов и возвращались на место, чрезвычайно довольные столь блистательно исполненным долгом. Фейерверк взвился к небесам, голоса подвыпивших гостей становились так громки, что снизу их можно было принять за смутный рокот далекого грома. Фотограф Боб Гутер — лучший специалист по съемкам животных — снимал мисс Хрю в окружении сенаторов. Затем он сфотографировал мисс Хрю с местными герцогинями и отдельно со звездами Обливуда. Между тем Генри Кларк не спускал глаз с людей, представлявших для него особый интерес. Он заметил, что Лярд, Фикс, Шизофр прошли в уютный уголок искусственного сада, и заторопился к ним с напитками. Шум стоял страшный. Под его аккомпанемент прошла незамеченной гибель одного сенатора, который хотел создать лево-право-левую партию и от которого давно уже мечтали избавиться и лево-правые и право-левые. — Человек за бортом! — доложил один из «роботов» Фиксу. — Какой человек? — спокойно уточнил Фикс. — Гость. Нашел запасной выход и вывалился. Висит, держится за трос. Кричит: «Я сенатор Фигдональд! Спасите!» — Так бы и говорил — Фигдональд. Пусть висит. — Полейте ему масла на трос — он соскользнет вниз, — посоветовал Шизофр. — Надо помочь ему, этому Фигдональду. «Робот» повиновался, и сенатор через несколько минут заскользил вниз. На следующий день газеты писали, что сенатор пытался спуститься без помощи вертолета и не встретил по дороге на землю ни одной страховой конторы. Генри Кларк старательно вертелся подле интересовавшей его группы, но при его приближении они переходили на шепот, и ему так и не удалось пока услышать ни слова. Завидев подозрительный взгляд Шизофра, Кларк счел благоразумным временно ретироваться. Он отошел в сторону и наткнулся на кочевавших с места на место кинооператоров. Обливаясь потом, вертели свою тяжелую машинерию операторы телевидения. Радиорепортеры вели передачи из каждого уголка Хрю-сити. Фотограф Боб Гутер довольно много выпил и уже не мог с четкостью наводить фокус. Одной рукой он придерживал фотоаппарат, а другой обнимал мисс Хрю. — Держись за меня, — говорил он миллиардерше, — со мной не пропадешь! «Роботы» следили за этой идиллической сценой, насупив брови, но нарушить ее не решались, не зная точно, как отнесется к их вмешательству мисс Хрю. — Еще парочку снимков, моя радость, — продолжал Боб Гутер, — и ты пойдешь бай-бай… Ух ты, моя хрюшка! А что, если снять тебя перед джазом, возле микрофона? Новая песенка мисс Хрю: «Вчера мы хрюкали с тобой вдвоем!» Проталкиваясь среди танцующих, Гутер пошел договариваться с музыкантами. Когда он вернулся, мисс Хрю нигде не было. — Где ты, хрюшка? — в тревоге спросил Боб Гутер, который действительно обнаружил у себя странное расположение к свинке. — Вы не видели мисс Хрю? — Она побежала вон туда, — показал за сцену музыкант. — Э-э, так не годится! — рассердился Боб. — Уговор дороже денег! Договорились, а ты удирать? И он, пошатываясь, бросился за кулисы. То, что увидел Гутер, отрезвило его в один миг. Возле люка, ведущего вниз, на темную, едва видную землю, стояла мисс Хрю. Точнее, она не стояла, а медленно сползала по пластикатовому полу, видимо облитому почему-то в этом месте каким-то жиром или смазкой. Копыта свиньи не встречали никакой задержки, и миллиардерша плавно и неудержимо скользила в люк. — Что же вы смотрите? — раздался голос Фикса. — Вы же ближе, я не успею добежать! Бобу Гутеру было в высшей степени наплевать на миллиардершу мисс Хрю, но эту самую обыкновенную молоденькую свинку ему стало почему-то жаль, и он, не раздумывая, бросился на помощь. С большим трудом, почти рискуя собственной жизнью, Гутер ухитрился поймать мисс Хрю за передние ноги. Тотчас же сзади кто-то насел на Боба, десятки рук протянулись к мисс Хрю. «Роботы» задвинули люк большим черным щитом. — Вы спасли ее! — вновь став бесстрастным, сказал Фикс. — Она приносит вам благодарность! — Мы сами с ней как-нибудь договоримся! — отмахнулся Боб, с сожалением рассматривая свой испорченный, весь в жировых пятнах, костюм. — Вот вам чек на тысячу долгингов. — Фикс протянул бумажку Бобу. — И прошу вас завтра быть дома. Мы подписываем с вами контракт на съемки мисс Хрю. Срок — год. Двенадцать альбомов — день за днем. — Тоже неплохо, — улыбнулся Боб Гутер. — Жду сигнала, мистер Фикс! До свиданья! — Он помахал рукой свинке, та хрюкнула в ответ, по-видимому, тоже что-то благодарственное. — Полный контакт! — сказал Гутер сам себе. — Эй, кто тут! Дайте что-нибудь выпить! Мисс Хрю увели в ее покои — привести в порядок нервы. Оркестр рявкнул очередной «Хрюкен-ролл». Праздник продолжался до утра. …Утреннее солнце осветило Хрю-сити первыми призрачными лучами. Это было сказочное зрелище. Трепыхались в лучах солнца гигантские стрекозы-вертолеты. Ярко сверкали красные, желтые, голубые, синие купола воздушных вилл. Радугами вставали в небе ленты фейерверков… Жители Города Улыбок, сидя на грудах мусора, как на трибунах стадиона, с интересом наблюдали за сияющим вдалеке Хрю-сити. Один из членов Союза мозолистых рук, докуривая сигарету, сказал сидящим рядом товарищам: — Наша потогонийская хартия привольности ловко делит права между богатыми и бедными. Так точно один богатый жулик договаривался с фермером: «Один день ты будешь работать в поле, а я выручать деньги за товар, другой день я буду выручать деньги за товар, а ты работать в поле». — И фермер согласился? — Согласился. Но теперь наконец-то начинает соображать, что его надули. Так что пусть там, наверху, не слишком радуются…
Глава VIII ПРОДАЖНАЯ ДУША
Боб Гутер был одним из лучших фотомастеров фирмы «Остановись, мгновение!». В свое время Боб специализировался на фотопортретах кинозвезд и банкиров да так поднаторел с помощью различных приспособлений приукрашивать внешний вид своих клиентов, что банкиры выглядели на его портретах писаными красавцами, а кинозвезды — завзятыми умницами. После этого он стал любимым фотографом самых влиятельных лиц Потогонии. Но в конце концов Гутеру так надоело наводить лоск на банковских акул и дочек миллиардеров, что он вообще разочаровался в человечестве. — Видеть не могу эти физиономии! — плакался он. — Дегтем бы их все, а я их лаком крою! Дайте мне нормальное человеческое лицо, иначе, честное слово, перейду на съемки животных! И представьте себе, довольно скоро Гутер осуществил свою угрозу на самом деле: бросив высокопоставленную клиентуру, стал специалистом по фотографированию млекопитающих, пресмыкающихся и птиц. Снимал животных Боб Гутер с такой любовью, что фотографии его расходились открытками в сотнях тысяч экземпляров, вызывая восхищение покупателей: — Ах, какой философский вид у гориллы! — Какой симпатичный этот удав! — Лев-то, лев-то! Ну просто дедушка, отдыхающий после ленча! Сам Гутер не мог нарадоваться на своих хвостатых, клыкастых и прочих друзей. — Они такие человечные! — рассказывал он всем. — Такие добрые! Например, в клетке с банкиром Лярдом я бы не прожил и дня — банкир бы меня ограбил и пустил по миру. А льва я мучу целый день, пока не найду нужной для него позы. И он ничего, только рыкнет изредка, и снова у нас мир и благодать. Да что говорить: ни один зверь никогда не начинал войну, не изобретал орудия массового уничтожения. Если посчитать, сколько зверей за все время существования Земли погубили звери и сколько народа было убито во время любой из войн, то великие полководцы окажутся самыми кровожадными существами. Эх, мои миленькие шакальчики, удавчики, львяточки и тигряточки! Никто не знал, всерьез ли так думал Боб Гутер, но говорил он об этом часто, добавляя к характеристике сильных мира сего еще многие невеликосветские слова. В канун коронации секретарь мисс Хрю, невозмутимейший Фикс, столкнулся с проблемой придворного фотографа. Он вспомнил о Бобе Гутере, чья блистательная работа над портретами Беконсфилда приводила этого последнего в непривычный восторг. Фикс узнал, что в последнее время Гутер посвятил себя миру животных. Сочетание было идеальным: специалист по съемкам миллионеров одновременно любит и умеет снимать животных. Нет, положительно, он создан для того, чтобы служить мисс Хрю! Три «робота» отправились в фирму «Остановись, мгновение!». И Боб Гутер без больших объяснений был доставлен на воздушный бал в Хрю-сити. Мы уже знаем о том, как Гутер, рискуя жизнью, спас мисс Хрю, оттащив ее от люка, который после «спуска» вниз сенатора позабыли захлопнуть. Этот самоотверженный поступок так растрогал бесстрастного и, кто знает, чем рисковавшего Фикса, что он решил доверить фоторекламу своей повелительницы именно Гутеру. На следующий день по окончании бала к еще сонному Гутеру прибыл Фикс в сопровождении двух «роботов». Фикс решил поступиться самолюбием и лично навестить фотографа, необходимого ему для важного дела. Договор был составлен с деловитостью, присущей Фиксу: в течение месяца Гутер обязан каждый день делать десять портретов мисс Хрю, а фирма «Беконсфилд» платит ему довольно крупную сумму долгингов. Само собой разумеется, что и фирма «Остановись, мгновение!», в которой служит Гутер, не оставалась в накладе. Гутер подписал договор, спрятал чек с авансом в карман и, очень довольный, направился в ателье фирмы, находившееся на соседней улице. Вестибюль ателье был наполнен фотографами. Гам стоял невообразимый. — В чем дело, ребята? — спросил Боб. — Сегодня все взяли расчет, что ли? Почему вы не на работе? Или фирма наконец лопнула, как детский шарик? — У нас бойкот, Боб! — сказал один из приятелей. — Понимаешь, не забастовка — теперь забастовки запрещены, сам знаешь закон Шкафта, — а бойкот! Мы не хотим обслуживать салоны миллионеров, пока нам не повысят зарплату. — У хозяина как раз заказы, — подошел второй приятель. — «Пэн-Пес-клуб» собирается переезжать из «Бриллиантовой конуры» в новое помещение. Предстоят грандиозные съемки, портреты двух тысяч собак. — Где они возьмут других мастеров? Ведь «Остановись, мгновение!» — монополист. И фирма звучная. Пусть-ка хозяин испортит себе репутацию среди дельцов, если он такой скряга. Не могли тебе сообщить — ты же был в воздухе. Мы уже третий день тут бунтуем. — Правильно делаете, — сказал Боб. — Я с вами, друзья! Шум в вестибюле неожиданно стих. В дверях показался хозяин. Он быстро прошел через вестибюль к широкой лестнице, веером поднимающейся на второй этаж. Поднявшись на несколько ступенек, он обернулся и печально оглядел собравшихся. — Бунтовщики и сребролюбцы! — грустно сказал он. — Думаете только о том, чтобы нажить лишний долгинг! Как мне они достаются, это вас не касается. Что ж, бунтуйте, бунтуйте! Но я рад, что среди вас есть и благоразумные люди. Мне только что сообщили, что мистер Гутер заключил великолепный договор с фирмою «Беконсфилд». Вот с кого вам надо брать пример, бездельники! От своего имени я еще прибавляю мистеру Гутеру по десять долгингов в день… Боб Гутер так был ошеломлен этой тирадой, что не мог даже произнести ни звука. Хозяин нежно кивнул Гутеру и, взбежав по лестнице вверх, скрылся в своих апартаментах. — Так вот ты какой, Боб! — окружили Гутера коллеги. — Прикидываться, оказывается, ты мастер… — Так я же ночью спустился сверху, с Хрю-сити! — горячо заговорил Гутер. — Я ничего не знал. Когда я спасал эту венценосную свинью — вы же читаете газеты! — Фикс пообещал заехать ко мне. Я подписал договор… Неужели вы мне не верите? Хорошо, я сейчас же поеду к нему и порву проклятую бумагу! Гутер выбежал на улицу. Он метался по тротуару, пытаясь остановить такси. Но в этот момент чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо: — Мистер Гутер? Боб вздрогнул. Двое мужчин стояли сзади него и улыбались: — Чего вы испугались, мистер Гутер? Разве мы похожи на «роботов» Беконсфилда? — Нет, но я не люблю неожиданные встречи. — Вы, кажется, искали машину? — сказал тот из мужчин, который выглядел постарше. — Она к вашим услугам. Он пронзительно свистнул, и из-за утла выехал черный лимузин. Гутер покорно сел рядом с шофером, незнакомцы — сзади. — Пока прямо, — сказал шоферу пожилой. — Итак, вы собирались отправиться к Фиксу, — словно продолжая прерванный разговор, проговорил младший из незнакомцев, — чтобы разорвать контракт? Гутер молча кивнул. — Так вот, — сказал пожилой мужчина, — мы из Союза мозолистых рук. Вам не стоит сейчас так торопиться… Мы понимаем, что в глазах своих коллег вы будете до поры до времени выглядеть штрейкбрехером. Но другого выхода у нас нет. Вы должны для общего блага приступить послезавтра к своим обязанностям фотографа-летописца при этой свинье. — Никогда! — воскликнул Боб Гутер. — Мистер Гутер, — веско произнес пожилой мужчина, — мы вам всё объясним… Дело не так просто, как вам кажется… Стоп, мы приехали! О чем говорили с Бобом Гутером представители союза, осталось неизвестным, но уже через день после этой встречи точно в обусловленный контрактом час Боб Гутер явился в «Бриллиантовую конуру», где поселилась временно, до окончания ремонта Сейфтауна, мисс Хрю. — А это кто с вами? — спросил Фикс, с подозрением разглядывая согнувшегося под тяжестью аппаратуры мальчика. — Его зовут Рэд, — сказал Гутер. — Разве я не говорил вам, что работаю с ассистентом?.. Нет? Странно. Видимо, все эти дела с контрактом просто ослепили меня… Да, это мой постоянный помощник. Моя правая рука. У нас в фирме бойкот, вы знаете об этом? А мальчик вне всяких движений, интриг, союзов… — Что ж, — поморщился Фикс, — пусть остается… Хозяин вашей фирмы весьма лестно характеризовал вас. Надеюсь, что вы оправдаете свою репутацию великолепного мастера, стоящего вне политики? — Рад стараться, сэр! — полицейским тоном отвечал Гутер, иронически разглядывая всемогущего секретаря. — И я буду стараться! — приставив фотоштатив к ноге, произнес Рэд. — Проводите наших друзей в их комнаты, — приказал Фикс «роботам». А в это же утро вестибюль фирмы «Остановись, мгновение!» шумел, как океан во время шторма. — Штрейкбрехер этот Гутер! — кричали одни. — Что делают деньги с человеком! — вздыхали другие. — Продажная душа! — махнули рукой третьи.Глава IX ФАС И ПРОФИЛЬ
Жизнь мисс Хрю в «Бриллиантовой конуре» была беспокойной и суетливой. Утро начиналось с нашествия косметичек, массажистов, портных и ювелиров. Мисс Хрю принимала ванну, делала лечебную гимнастику, затем ее массировали, смазывали кремами, лакировали копыта, надевали браслеты, примеряли серьги, выбирали фасон нахвостника, ожерелья и шляпки. Гутер и Рэд работали, не утирая пота и не сворачивая аппаратов: оказалось, что мисс Хрю очень любила фотографироваться. Впрочем, может быть, она принимала Гутера и Рэда за каких-нибудь своих любимых служащих. Во всяком случае, стоило им отойти на минуту, как миллиардерша начинала жалобно похрюкивать. Может быть, ей просто нравилось, как Гутер почесывал ее за ухом; понаторев в общении с животными, он это умел делать особенно искусно. После завтрака и прогулки начинались аудиенции. От визитеров нельзя было отбиться. У входа в «Бриллиантовую конуру» стояло такое количество машин, какое бывает только подле стадионов во время игры в футбол или соревнований по катанию горошин носом. Многие дельцы считали своим долгом побывать на приеме у мисс Хрю, поцеловать еелакированное копыто и, конечно же, прийти в восторг от ее туалетов. Фикс без всяких затруднений переводил хрюканье своей хозяйки со свинячьего языка на потогонийский. Но, странное дело, высказывания свинки удивительно соответствовали мнениям генералов и министров Потогонии. Собираясь с визитом к мисс Хрю, местная знать заказывала специальные костюмы. Мужчины приезжали в розовых пиджаках, под цвет нежной поросячьей кожи. Женщины появлялись в платьях, разрисованных поросятами. Самые изобретательные из модниц надевали на нос аккуратненькие нашлепки-пятачки, которые их весьма приближали по внешности к хозяйке дома. Верный заветам своего покойного шефа — делать деньги изо всего, — мистер Фикс воспользовался этой прогрессивной идеей и наладил выпуск «пятачков» на одной из фабрик. К мисс Хрю в гости приезжали и другие знатные животные — любимцы миллионеров. Побывала с визитом знаменитая рыбка Тикс-Микс-Пикс, которой один военный заводчик оставил сто миллионов долгингов. Ее привезли в специальном лимузине-аквариуме, сопровождаемом лакеями в ливреях морских львов и тюленей. Произвела на мисс Хрю хорошее впечатление кенгуру Ру, которая уже пять лет владела несколькими миллионами долгингов и фабрикой мыла. Мисс Хрю была со всеми корректной и гостеприимной. И все же некоторые гости ей не понравились. В частности, это были две сестры — морские свинки, владевшие крупной кинофирмой в Обливуде. — Мисс не любит родственников, — объяснил Фикс. — Она вся в своего благодетеля сэра Беконсфилда. Так в невинных удовольствиях протекала дневная жизнь в «Бриллиантовой конуре». Естественно, она несколько утомляла бедную свинку, и ее укладывали спать пораньше. И вот тогда-то и начиналась вторая жизнь замка. — Понимаешь, парень, — говорил Рэду Боб Гутер. — Портрет бывает в фас, то есть прямо, и в профиль — сбоку. Попадаются такие лица, что профиль у них совершенно не похож на фас. Словно разные люди перед тобой. Так вот у нас в замке день-фас совершенно не похож на вечер-профиль. Охрана замка, которая осуществлялась понаторевшими в сторожевых делах «роботами» Сейфтауна, с наступлением сумерек усиливалась в несколько раз. Включался инфрасвет, позволяющий при помощи специальной аппаратуры видеть все вокруг ночью, как днем. Бесшумно, как привязанные летучие мыши, крутились установленные на стенах радиолокаторы. Ржавый Гарри, главарь «роботов», сидел в своей похожей на диспетчерскую крупного аэропорта комнате и смотрел на телевизионные экраны, которые показывали ему все, что делается вокруг замка. Едва спускалась ночь, как подле замка появлялись черные, с завешенными окнами лимузины. Гутеру и Рэду с большим трудом удалось несколько раз увидеть таинственных приезжих, которые собирались в дальнем крыле замка. Фотограф узнал среди них многих своих бывших клиентов. — Этот, словно кусок колбасы, — миллиардер Лярд, — пояснил Гутер Рэду. — А вот этот — в светофильтрах — Вандолларбильд. Он не выносит красного цвета. От красного цвета на теле у него появляется нервная сыпь… Поэтому и ходит все время в желтых очках — все красное ему тогда кажется фиолетово-розовым. Гутер показал Рэду и генерала Шизофра, и сенатора Шкафта, и несколько других влиятельных лиц Потогонии. — А этого я знаю, — вставил Рэд. — Это сенатор Портфеллер. Он был у нас в Городе Улыбок и даже успешно изображал из себя памятник. Этого длинного я тоже видел… Ага, на воздушном балу… Только не знаю, как он называется. — Он называется, — усмехнулся Гутер, — преподобный Пшиш, епископ Потогонийский. Очень-очень добропорядочная и скромная личность. Рэд старался запомнить каждого из прибывающих. Не совсем ясно, смутно он понимал, что ему в будущем понадобится это одностороннее знакомство. Однако многое было все же неясно Рэду. — Но зачем же они собираются? — спрашивал Рэд. — Да еще ночью, как привидения? — Вот это мы и должны узнать, старина, — задумчиво отвечал Гутер. С каждым днем все больше внимание Гутера приковывал к себе Ржавый Гарри — этот некогда знаменитый гангстер, взятый еще на службу старым Беконсфилдом. Ныне Гарри пребывал на ответственном посту начальника охраны Сейфтауна. Для установления личных контактов с Гарри фотограф сделал несколько его портретов в классическом миллионерском стиле. На них Ржавый Гарри выглядел таким неотразимым красавцем, что хоть сейчас можно было его пригласить для съемки обливудского фильма из частной жизни знаменитых кинозвезд. Гарри с трудом отрывался от созерцания собственного изображения, да и то потому, что надо было иногда исполнять свой долг. А после того как Боб увековечил Ржавого Гарри в обнимку с мисс Хрю, старый гангстер официально объявил Гутера своим лучшим другом. По-видимому, это в большой степени размягчило характеры и прочих «роботов» — они стали оказывать Гутеру всяческие мелкие знаки внимания и стремились тоже получить от Боба выигрышные фотографии. Таким образом, Гутер и Рэд довольно скоро получили право свободного шатания по всем комнатам дворца, чем они и воспользовались, впрочем не очень при этом стараясь попадаться на глаза Фиксу. Дотошный секретарь был большим любителем выведывать у каждого встречного, куда, зачем и почему он направляется. — Ну, парень, пора приступать к делу! — скомандовал Гутер своему юному помощнику, когда они смогли беспрепятственно появиться у того кабинета, который особенно бдительно охранялся «роботами» Рэд только кивнул в ответ и достал из-за пазухи заранее припасенный портативный ящичек-магнитофон. Боб не стал терять время и принялся фотографировать чрезвычайно польщенного этим обстоятельством охранника. Рэд исчез. — Повернитесь сюда, еще раз, еще, — командовал Гутер, вертя во все стороны «робота». — Вы хотите быть красивым?.. Понятно. Красота требует жертв… Терпение. Снимаю с выдержкой. Внимание! Раз… Два… Три… На счете «десять» Рэд появился рядом. Он сделал знак своему шефу, и выдержка тотчас же кончилась. — Новые способы скоростной съемки не дают такого эффекта, как добрый старый метод, — собирая аппаратуру, разъяснял Боб охраннику. — Я снимал вас по старинке, но, будьте уверены, ваш портрет можно спокойно отправлять на любую кинофабрику — вас сразу же пригласят на роль героя!
Риск наших друзей был оправдан. Снова в этот вечер прибыли «привидения», несколько часов провели в таинственном кабинете, а затем так же бесшумно умчались в своих черных лимузинах. На следующее утро Бобу Гутеру и Рэду ничего не оставалось, как прибегнуть к трюку с фотоаппаратом, чтобы отвлечь внимание охраны и вынуть магнитофон. — Теперь самое главное, — шепотом сказал Гутер, — переправить пленку в Город Улыбок. Нашим нужно ее прослушать как можно скорее, но ума не приложу, как можно отсюда выбраться незамеченными. — Это не так уж сложно, — немного самоуверенно ответил Рэд. — Мы же с ребятами знаем в этом замке все потайные лазы. Я бы и сам мог пробраться к отцу, да вдруг меня хватятся… — Не подходит, — отмахнулся Гутер. — Сразу очутимся в тюрьме у Шизофра. — Тогда я вызову Ноя, — решил Рэд. — Он здесь бывает раз в два дня… Вот видите, веточки за кустиками загнуты? Мы условились: как только у нас с вами все будет готово, я должен запись спрятать под кустами и подать знак. Тут опять требуется ваша помощь, мистер Гутер. На этот раз Гутер повиновался распоряжениям своего помощника. В тот же вечер он притащил на полянку мисс Хрю и дюжину «роботов». — Хочу снять вас, мисс, — почесывая свинку за ухом, говорил Боб, — при лучах заходящего солнца. Поэтично получится, черт побери! А потом еще один снимок, групповой. Вы в окружении своих верных друзей… Правильно, ребята? — Хрю-хрю-хрю-ура! — хрипло и радостно отозвались «роботы», подражая великосветским образцам. После короткой перепалки из-за того, кому сидеть ближе к мисс Хрю, «роботы» сгрудились так, что чуть не задавили бедную свинку. Этого времени вполне хватило на то, чтобы Рэд сумел отлично спрятать банку с пленкой и оставить все нужные для Ноя знаки. Наутро тайник был пуст. Лишь посвященный мог заметить над ним три скрещенные веточки — знак, который свидетельствовал о том, что дело сделано. — Теперь всё в порядке! — радостно сказал Рэд Гутеру. — Запись у наших.
Глава X О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПРИВИДЕНИЯ
Когда в Союзе мозолистых рук прослушали пленку, доставленную Ноем и Лиз из «Бриллиантовой конуры», многие не поверили своим ушам. — Вот подлецы! — раздались возмущенные голоса. — Какое дело задумали! — Нужно, товарищи, прослушать еще раз. И внимательно. Кое о чем мы догадывались, но все же… слишком неожиданно… И магнитофон снова пустили в ход. — Товарищи, — сказал председатель союза, когда кончилось прослушивание, — заговор Лярда — Шизофра налицо. В нем участвует еще ряд известных нам лиц. Задуман государственный переворот, чтобы установить диктатуру военных и монополистов. Для этого намечено устранение сдерживающей силы — президента Слябинса, которое произойдет во время торжественного открытия оракула. Второе: перед этим заговорщики рассчитывают на то, что общественное мнение армии, торговцев и мелких предпринимателей будет натравлено на рабочих. Лярд собирается нас спровоцировать. Когда? Как? Где? Это необходимо выяснить. Кто хочет взять слово? Генри Кларк, ероша свою седую шевелюру, задумчиво произнес: — В пленке после реплики Шизофра о свержении президента есть одно странное место… Кстати, если уж им президент Слябинс кажется крайним демократом, то можно представить, что они задумали… Да, так вот, кто-то, видимо Фикс, говорит такую фразу: «Ее поездка будет триумфальной…». Я думаю, что готовится поездка этой миллиардерской свиньи по стране. Или что-то в этом роде. Помните, сенатор Портфеллер сказал: «Рабочие Беконсфилда, хе-хе, мои избиратели, хе-хе, они всегда были на высоте и рвались в бой». Так вот, мне кажется, товарищи, они надеются вызвать провокацию с помощью свиньи и арестуют тех, кто проявит недовольство особенно активно. А уж потом все газеты начнут кричать о слабости президента, о твердой руке, которая необходима… Вот так я себе представляю в общих чертах их план. Дальнейшие события мы передаем почти с протокольной точностью. Развернулась целая дискуссия. Спорили горячо, из-за каждого слова. То и дело включали запись, чтобы прослушать наиболее спорные фразы. В конце концов союз пришел к выводу, что заговор имеет три основных этапа. Первый: «инспекционная поездка» «золотой» свиньи и сопровождающие ее провокации, которые должны вызвать массовые аресты активистов рабочего движения. Второй этап: истерическая кампания, в которую включается печать, радио и телевидение, — критика президента и сената за слабость. Третий этап: оракул, который организован преподобным Пшишем, даст знак для начала переворота. Таким знаком послужит какое-то слово (пока еще не установленное), которое будет произнесено оракулом во время его торжественного открытия. На своем чрезвычайном заседании руководители союза приняли решение сорвать государственный переворот. — Диктатуре — нет! — сказал председатель. И этот призыв был поддержан всем союзом. Были намечены контрмеры. Первое: сорвать поездку мисс Хрю по стране и не дать возможности заговорщикам спровоцировать волнения. Второе: представить президенту Слябинсу и сенату настолько неопровержимые доказательства задуманного государственного переворота, чтобы это заставило их под давлением общественного мнения арестовать заговорщиков. Третье: нейтрализовать оракула, подготовляемого преподобным Пшишем к прорицанию, и заставить его «работать» против заговорщиков. Разработку операции «Оракул» поручили Генри Кларку.Генри не стал терять драгоценного времени и при помощи своих маленьких друзей попытался узнать все, что было связано с этим оракулом. Вскоре он собрал достаточное количество сведений, чтобы представить себе значение и масштабы задуманной Пшишем и его единомышленниками авантюры. Стало известно, что преподобный Пшиш, испытывавший в последнее время крупные финансовые затруднения и падение престижа среди верующих, лихорадочно искал выхода. Кроме того, ему безумно хотелось как-то возвысить себя в глазах правителей Потогонии. Счастье улыбнулось Пшишу. В горах за Нью-Торгом один из священников обнаружил развалины древнего Бельфийского оракула — большую пещеру с ручьем и трещинами в каменном полу. Сам по себе оракул давно был известен потогонийским историкам. Но Пшиш отыскал в старинных книгах пророчество, почему-то написанное вечной ручкой, согласно которому оракул должен был заговорить ровно через тысячу лет. Удивительно, что именно в этом славном году истекала тысяча лет. Пшиш тотчас же смекнул, что оракул, если его как следует приручить, может изрекать такие пророчества, что соперники позеленеют от зависти, а он, Пшиш, приобретет доверие нужных людей. Генерал Шизофр взял на себя организационное решение вопроса и повез преподобного Пшиша к всемогущему Лярду. Миллиардер снисходительно выслушал доклад, потребовал гарантии успеха и после ряда сомнений согласился субсидировать предприятие. — Только бы этот Пшиш нам не показал шиш! — мрачно скаламбурил Лярд. — В этом случае пусть пеняет на себя. Даже господь бог не спасет его смертную душу. — Клянусь саном! — Пшиш картинно ударил себя в загудевшую, как колокол, грудь. — Клянусь саном, дело верное! Оракул потрясет весь мир! — Весь мне вовсе не надо, — поморщился Лярд. — Но оракул нам может пригодиться. Идите, отец мой, с богом и творите богоугодные дела. Об оракуле в прессе говорилось много и обстоятельно. Газетам было дано указание преподнести все это дело на солидной, респектабельной основе, с историческими экскурсами и цифровыми выкладками. Изучив предварительно все материалы, связанные с оракулом, Генри Кларк доложил свои соображения в Союзе мозолистых рук. Идею Кларка одобрили. И уже через несколько часов, оставив на бензоколонке вместо себя товарища, он отправился в горы — туда, где шли подготовительные работы к открытию пещеры. Вместе с Кларком в горы отправилась Лиз. Быть может, она была и менее сильная, чем ее друзья, но уж в ловкости и хитрости ей трудно было отказать. Пожалуй, иногда она могла заткнуть за пояс и Рэда и Ноя. Девочка была очень счастлива. Еще бы, помогать самому Кларку да еще по поручению Союза мозолистых рук. Что могло быть почетнее и заманчивее?! Конечно, Ной очень просил, чтобы его взяли с собой, но Кларк был непреклонен: — Ты нужен здесь для связи с Рэдом и Гутером. Кто же, кроме тебя, так разберется в этой собачье-свиной конуре? И Ной остался. В горах при помощи каменщиков Кларку удалось устроиться грузчиком на одну из многочисленных машин, вывозящих камни из пещеры. Он завязал знакомства и среди радиотехников, которые радиофицировали пещеру, и среди светотехников, готовящих световые эффекты. Выяснилось, что готовятся две пещеры: одна, большая, для оракула, а вторая, поменьше, в горах, и она оборудуется почему-то мощной радиоаппаратурой. Кларк немедленно послал Лиз в Город Улыбок с сообщением, что, по его мнению, здесь открывается возможность для превращения Бельфийского оракула в средство разоблачения заговорщиков. — Диктатуре — нет! — повторил Кларк слова председателя Союза мозолистых рук.
Глава XI ВТОРАЯ АРАКАНГА
У Союза мозолистых рук были давние счеты с преподобным Пшишем. Пшиш, епископ Потогонийский, в последнее время терпел одну неудачу за другой. Это сказывалось на безостановочном уменьшении числа верующих. — Они заражаются вашим неверием, Пшиш! — мрачно шутил Лярд. — Черт с ними, с божьими детьми! — говорил Пшиш, вздыхая. — Пусть не верят, но ходят в церковь… — Еще одна—две араканги, и в вашу церковь даже верующих на аркане не затянешь! — пытался скаламбурить бестактный Шизофр. — Не богохульствуйте, генерал! — огрызался преподобный Пшиш. — Далась всем эта араканга! Я же не вспоминаю, как вы, генерал, во время последней войны перепутали страны света и наступали целую неделю в обратную сторону. Упоминания об истории с аракангой очень сердили Пшиша. «Эх, знать бы, кто меня подвел, — мстительно думал он. — Кажется, сотню тысяч долгингов отдал бы, чтобы только узнать, кто же подсунул эту чертову птицу!» История с попугаем араканга нам представляется столь поучительной и занимательной, что мы позволим себе рассказать о ней несколько подробнее. Случилось так, что в Город Улыбок забрел некий продавец предсказаний, пользовавшийся для своих манипуляций электрошарманкой и попутаем удивительной расцветки. Электрошарманка фальшивила по всей гамме — от «до» и далее, зато попугай бойко болтал на каком-то незнакомом языке. Ребятишки окружили предсказателя, поочередно вызывая попугая на собеседование. Генри Кларк, торопясь на службу, заметил это веселое сборище и остановился поодаль. — Это не дело, чтобы такая ценная птица зря здесь болтала, — сказал он и, недолго торгуясь с огорошенным предсказателем, купил попугая на последние сбережения. — Понесет к себе на бензоколонку, — догадался кто-то из мальчишек. — Продаст проезжим! — Именно так и сделаю! — пообещал Кларк и утащил попугая… на заседание Союза мозолистых рук. Предложение, с которым выступил Кларк, вызвало горячие споры, но после необходимых уточнений было одобрено. Лиз, трогательно обнимая попугая, отправилась к дому, в котором жил преподобный Пшиш. В течение двух часов она прохаживалась возле ворот, пока на нее не наткнулся вышедший на прогулку епископ. Навострив уши, он долго прислушивался к безостановочному тарахтению птицы. Постоянно озабоченный думами об оскудении щедрот верующих, преподобный Пшиш решил, что судьба послала ему новое средство для заманивания богомольцев в церковь. Джаз и иллюминированные изображения святых уже не оказывали неотразимого действия на потогонийцев, тем более, что ими обзавелись и церкви конкурирующих направлений. — По-каковски она это шпарит, ваше преподобие? — спросил сопровождавший епископа церковный староста, Пшиш пожал плечами: — Не разумею. Много языков на свете. Все только всевышнему известны! Откуда птаха? — Не знаю, откуда птичка, — потупила очи Лиз. — Если хотите, я ее вам продам. Всего один долгинг. — Ты получишь награду на том свете, дочь моя, — благостно сказал преподобный Пшиш, отнимая попугая у Лиз. — За твои добрые и хорошие дела бог тебя отблагодарит… — А нельзя ли на земле, в счет небесных благ, хоть полдолгинга? — с наивным видом попросила Лиз. — Нечестивица! — рассердился Пшиш. — Уходи отсюда, а то я позову полицию! До чего хитры эти попрошайки! Полдолгинга! За что? За какой-то еле живой комок перьев? Лиз убежала, громко хныча. Завернув за угол, она отерла слезы и со всех ног пустилась бежать к перекрестку, где ее ждали Рэд и Ной… Овладев таким гуманным образом причудливой птицей, Пшиш развернул бешеную деятельность. Были вызваны крупнейшие филологи Нью-Торга, представители Лиги борьбы за свободу попугаячьего слова и виднейшие орнитологи. — Странно, очень странно, — пробормотал президент Потогонийского общества лингвистов и языковедов. — На каком же языке говорит попугай? Я не могу определить даже языковой группы… Очень занятно, очень… — Этому экземпляру породы араканга, — сказал представитель попугаячьей Лиги, — не менее трехсот лет. Нам повезло, что это не попугай, а попугаиха — они более словоохотливы. — Такого языка в настоящее время не существует, — единогласно подтвердили языковеды. — Это, конечно, нечто ископаемое. Поздравляем с открытием, ваше преподобие! В этот же вечер состоялась деловая встреча Пшиша с генералом Шизофром, которая и положила начало, как принято в Потогонии, большому попугаячьему буму. Утренний выпуск «Нью-Торг газетт» открывался заголовком, который, начавшись на первой полосе, заканчивался лишь на странице восьмой: «Открыт язык несуществующего ныне племени даокринтов! Наука накануне сенсационных откровений!» Через день появилась статья за подписью группы ученых-языковедов, удостоверяющая, что в настоящее время единственным в мире существом, говорящим по-даокринтски, является попугаиха араканга, открытая преподобным Пшишем. — С помощью божьей, — сказал в своем выступлении по потогонийскому радио и телевидению Пшиш, — мне удалось расшифровать речь араканги. Сейчас составляется словарь даокринтского языка, и я учусь говорить по-даокринтски! В следующей передаче Пшиш заявил, что с помощью араканги он восстановил полную картину жизни и деятельности славного племени даокринтов, отличавшегося похвальной набожностью и щедростью храмовых подношений. — Как зоолог, направляемый всевышним, по одной кости определяет весь внешний вид ископаемого животного, как по отдельным уцелевшим фразам можно понять содержание древних святых книг, — вдохновенно разглагольствовал Пшиш, — так и я по нескольким десяткам фраз и слов воссоздал ярчайшие моменты истории даокринтов. Это христианское племя стояло на небывало высокой ступени религиозного развития. Можно с уверенностью сказать, что оно являлось образцом земной цивилизации. Если бы даокринты успели распространить свою систему управления на весь земной шар, то наступил бы рай! Мы должны учиться у даокринтов, заимствовать у них самое главное — веру в провидение. И моя араканга нам в этом поможет! Аминь! Далее епископ заявил, что попугаиха, разумеется, не могла толково и связно рассказать обо всех деталях даокринтского житья-бытья, но ученые под его епископальным руководством провели гигантскую работу и привели фрагментарные высказывания араканги в стройную логическую систему. Правда, еще остается уточнить, где находится остров даокринтов, но это уже дело специальной экспедиции… Эти нагорные проповеди преподобного Пшиша вызвали необыкновенное волнение у обеих враждующих партий и дали им новую пищу для взаимных нападок. — Каким образом даокринты добились рая на земле? — вопрошали ораторы право-левых. — Пусть его преподобие объяснит миру государственное устройство и социальную систему даокринтов. Наверное, они-то не брали пример с лево-правых! — Пусть епископ выжмет из своей араканги сок, — неслось с трибун лево-правой партии, — но добьется у нее признания, не подослана ли она право-левыми демагогами. Генерал Шизофр, довольно ухмыляясь, заявил корреспондентам: — По имеющимся у полиции сведениям, мир находится накануне открытия, которое затмит по своей сенсационности всякие там спутники, лунники. И вот в епископальной церкви объявлена была торжественная месса, на которой с проповедью «Секрет счастья даокринтов» должен был выступить сам преподобный Пшиш. Представители других церквей сгорали от зависти. — Мало ему в храмах телевизоров, джазов и танцующих кинозвезд! Теперь вот попугая говорящего на свет божий вытащил! Гигантский зал, в котором Пшиш решил провести мессу, не мог вместить всех желающих. Множество любопытных собралось на ближайших площадях, возле репродукторов. Сердце епископа радостно екало, подтверждая, что расчет его оказался правильным, и теперь доходы церкви резко увеличатся. Он благодарно поглядывал на стоящую рядом с кафедрой специальную клетку с микрофоном для попугаихи. Как всегда в таких случаях, прибыли важные гости: Лярд, Шизофр, Шкафт, Портфеллер, генералы и сенаторы, послы дружественных с Потогонией держав, банкиры и звезды Обливуда. Преподобный Пшиш занял место на кафедре и дал знак вынести попугаиху. Араканга была в золотом наклювнике, вынуждавшем ее к непривычному молчанию. — Истина не нуждается в многословии, — начал Пшиш свою проповедь. — Вы пришли сюда, дети мои, чтобы узнать, почему были счастливы даокринты? Хорошо, я вам отвечу, и да будет моя история служить для вас примером и поучением. Слушатели внимали, раскрыв глаза и уши. Шизофр ободряюще подмигнул Пшишу.
— Было время, дети мои, — продолжал епископ, — когда в Соединенных Штатах Даокринтии существовала своя двухпартийная система. У них была партия хо-го и партия го-хо. У них торжествовал принцип свободной конкуренции, а частная собственность была священна и незыблема. Но самое главное: все жители были счастливы и беззаботны, потому что они не забывали о господе боге. Храмы в Даокринтии поражали богатством и роскошью, а жизнь представляла собой полную чашу. Но, увлекшись политикой и профсоюзным движением, даокринты забыли о боге. Всевышний отвернулся от нечестивцев. И извержение подводного вулкана Агахари, случившееся двести пятьдесят лет назад, уничтожило архипелаг даокринтов — он опустился на дно океана. Эта попугаиха принадлежала верховному правителю Даокринтии. Погибая, он выпустил ее из клетки, чтобы она сообщила миру о том печальном конце, который ждет вероотступников и нечестивцев. Но, повторяю еще раз, дети мои, пример даокринтов показывает, что Соединенные Штаты Потогонии идут единственно правильным путем. Главное — не забывать о боге, ежечасно возносить хвалу всевышнему и не соваться в грязные политические дела! Счастье в нас самих, в нашей вере в совершенство нашей системы! Итак, пусть говорит араканга и да прозреют неверующие! Пшиш дрожащими перстами снял с попугаихи наклювник. Араканга почистила перышки, состроила Лярду глазки и сказала что-то весьма невразумительное. — Цитата из даокринтской конституции, — перевел Пшиш. — Все люди равны от рождения, несмотря на цвет кожи, состояние и вероисповедание. Каждый гражданин Даокринтии имеет право быть президентом. — Хиг-шор, ман зах! — закричала попугаиха. — Го-хи! И вдруг откуда-то сверху раздался смешливый хрипловатый голос: — Хэлло, мистер епископ! Я знаю этот язык. Я могу поговорить с попугаем. Поднялась невообразимая суета. Все вскочили с мест и уставились на говорившего. А он, широкоплечий, дюжий парень, в залатанной морской робе, стоял на хорах и улыбался. — Хинго — нани-гипхо! Тиги? — крикнул моряк араканге. — Хо-хо, го-хи, хо-хи! — радостно ответила попугаиха и сделала сальто на микрофоне. — Нуч-куч-руч? — Руч-руч! — откликнулась попугаиха. — Как вы туда попали? — проговорил наконец обретший дар речи Пшиш. — Эй, кто его пропустил? Повинуясь кивку Лярда, двое из его телохранителей с угрожающим видом направились к лестнице, ведущей на хоры. — Не трогайте его! — закричали в зале. — Пусть говорит! Телохранители угрюмо вернулись на свои места. — Вы… оттуда? — спросил Пшиш мужчину в матросской робе. — Из Даокринтии? — Совсем недавно прибыл оттуда, — ответил мужчина. — Гип-хо руг-вар! Познакомился лично со всеми даокринтскими свободами и хлебнул безоблачного счастья! Хи-го! — Го-го-хо! — отозвалась араканга. — Куч-руч! — Где же находится эта обетованная страна? — спросил Пшиш. — Совсем рядом. Между 160-й улицей и Мрак-стрит. Только называется этот район не Даокринтия, а Нью-Торгская тюрьма. Вот на жаргоне заключенных этой тюрьмы и говорит ваша араканга. Так что насчет демократии и свобод, образа жизни и прочего вы всё точно подметили, ваше преподобие! — Боже мой, — схватился за голову Лярд, — вот почему мне показался этот язык знакомым! Ну конечно… — Что, что? — заинтересованно наклонился к нему Шизофр. — Нет, нет, ничего! — пробурчал Лярд. — Олух ваш Пшиш, вот что! Олух царя небесного! Здание собора сотрясалось от хохота. Хохотали и на площадях возле репродукторов. Хохотал весь город. Смехом, как ветром, сдуло Пшиша с кафедры. Араканга восторженно крутилась на микрофоне. Генералы и сенаторы, смущенно пряча ухмылки, рассаживались по автомобилям. С той поры стоило появиться какой-нибудь дутой сенсации, как про нее говорили: «Типичная араканга». — Узнать бы, кто мне подложил эту свинью с попугаем! — скрипел зубами преподобный Пшиш. Мудрено ли, что Пшиш, как мы об этом упоминали в предыдущей главе, только и искал повода, чтобы реабилитировать себя в глазах верующих и оправдаться в глазах властителей Потогонии.
Глава XII СНОВА «КОТ НА ОРБИТЕ»
Посещение мисс Хрю фабрик, боен, холодильников Беконсфилда было обставлено по-царски. Старые рабочие, которые помнили, как на консервных фабриках появлялся сам Беконсфилд, утверждали, что никогда не было такой помпы. В цехах разостлали ковры, надушенные «Лесной травой» — любимыми духами мисс Хрю. Пышная свита миллиардерши состояла из директоров заводов, местных финансовых воротил, большого количества светских дам-патронесс, которые явились со своими любимцами-собачками, кошками, кроликами, белками и даже черепахами. На мисс Хрю был блестящий туалет: золотое платьице наимоднейшего покроя, бриллиантовое ожерелье и легкая походная корона на голове. Позолоченные ее копыта сверкали так, словно при каждом шаге она высекала из зеленого ковра искры. Фикс невозмутимо шел следом за мисс Хрю с блокнотом в руке. Как только миллиардерша хрюкала или ее что-либо заинтересовывало, Фикс немедленно делал запись в блокноте. Рабочие едва удерживались от смеха, глядя на это шествие. В задних рядах то и дело раздавались громкие смешки, унять которые не могли даже суровые взгляды «роботов», шагавших по бокам от мисс Хрю. Активисты Союза мозолистых рук на предприятиях Беконсфилда недаром провели время: рабочие не выражали никакой склонности к волнению, которое могло бы послужить для провокации, а смотрели на кортеж коронованной свиньи с нескрываемым сарказмом. Словом, все шло мирно и почти тихо. — Кланяйтесь, кланяйтесь! — приказывали «роботы». — Ведь это же ваша хозяйка! Кричите: «Хрю-хрю-ура! Многие лета мисс Хрю!» — Сами и орите! — не выдержал кто-то из зрителей. — Нравится свинье хвост лизать — мы вам не мешаем. «Роботы» кинулись искать смутьяна, но его и след простыл. — Если вы не найдете этого оскорбителя, — сказал Фикс рабочим, — то завтра все будете уволены. Так приказала мисс Хрю! Этот вариант не был предусмотрен союзом. По-видимому, хозяева были готовы на многое, чтобы, оскорбив рабочих, вызвать среди них возмущение. Казалось, задуманный план контробороны трещал по швам. — Эй ты, очкастый! — крикнули Фиксу. — Покажи, как ты целуешь свою свинью! — Всех арестовать, всех! — приказал Фикс. «Роботы» вытащили пистолеты и ринулись на рабочих. В руках рабочих замелькали металлические прутья, куски рельсов. Неизвестно, чем бы кончилось побоище, бо ему, к счастью, не удалось начаться. Худенький негритенок незаметно проскользнул между сосисочными машинами и вытащил из-за пазухи своей выцветшей белесой рубашки отличного пегого кота с рыжим хвостом. — Ну, выручай! — ласково сказал негритенок. — Ты столько раз уходил от всяких собак, что этих-то и подавно оставишь позади! Он размахнулся и швырнул кота прямо на ковер, под нос мисс Хрю. Это произошло так быстро, что никто и не заметил, откуда взялся кот. Многим показалось, что он свалился прямо с неба. Кот выгнул спину при виде свиньи и зашипел, как гусак. Какая-то высокопоставленная собачка не выдержала и бросилась на кота, но, поскользнувшись, съездила лапой по пятачку мисс Хрю. Какой тут поднялся отчаянный визг! Мисс Хрю, подрагивая своим знаменитым изящным хвостом, ошалело метнулась куда-то в сторону. Фикс закричал истошным голосом. Собаки из свиты вразнобой залаяли… «Роботы», забыв о рабочих, бросились за свиньей. Кот — нарушитель спокойствия — вильнул хвостом, царапнул Фикса по руке и, схватив по дороге гроздь почти готовых сосисок, взвился вверх. Только его и видели! Недаром этот кот прошел суровую школу Города Улыбок и двадцать раз «выходил на орбиту» в «Бриллиантовой конуре». Мисс Хрю мчалась по цеху под улюлюканье рабочих. За нею топали башмаки «роботов». Испуганная свинья, сверкая копытами, в поисках убежища ринулась прямо в пасть гигантской сосисочной машины. Она с разбегу прыгнула в громадную металлическую воронку, на дне которой еще крутилась очередная загрузочная порция свинины. Свинья так быстро и ловко нырнула в машину, что «роботы» пробежали мимо, — им и в голову не пришло, что миллиардерша уже перекручивается на сосиски стальными резцами машины-автомата. Только через десять минут, при вторичном осмотре цеха, было обнаружено возле сосисочного агрегата несколько бриллиантов из ожерелья мисс Хрю.
Машину остановили. Всю партию сосисок — почти три тонны — взяли на анализ в лабораторию. К ночи стал известен результат: во всех трех тоннах сосисок были обнаружены или мельчайшие частицы позолоты копыт, или молекулы платья, или атомы короны… Сомнений не было: миллиардерша, пропущенная через мясорубку, превратилась в обычные свиные сосиски своей собственной фирмы. Генерал Шизофр вне себя от ярости решился на крайние меры: прежде всего арестовал всех «роботов», которые проморгали мисс Хрю. На допросе Ржавый Гарри, чтобы спасти свою грешную и смертную душу, начал закапывать всех друзей и товарищей. Шизофр спросил его, не подозревает ли он кого-нибудь из персонала бывшей «Бриллиантовой конуры» в шпионстве. Ржавый Гарри назвал Боба Гутера и его ассистента Рэда. — Не пропадать же невинному человеку! — размазывая слезы, причитал гангстер. — А они, наверное, шпионы! — Почему вы так думаете? — спросил гангстера генерал. — Да хорошие ребята они! — сказал гангстер. — А раз хороший парень — значит, не наш… Нутром чую! Фотографа Гутера и Рэда в ту же ночь арестовали молодчики Шизофра и отвезли в Нью-Торгскую тюрьму — ту самую, старожилы которой говорили на особом жаргоне, принятом Пшишем за неведомый язык. Им было предъявлено обвинение в том, что они готовили террористический акт против мисс Хрю. На первых страницах всех газет были напечатаны отчеты о гибели миллиардерши, интервью с собачкой-левреткой ван дер Виблом, которая созналась, что она была влюблена в мисс Хрю и даже хотела на днях сделать ей предложение, а также фотографии сосисочной машины, грузовика, наполненного сосисками, ученых, берущих анализы, Фикса без памяти, Пшиша, готовящегося к похоронному обряду, и многое другое, не менее увлекательное. На похоронах мисс Хрю играли оркестры, стреляли пушки. Пшиш рыдал на груди Фикса. Потом Фикс рыдал на груди Пшиша. Затем оба рыдали на груди Шизофра. Останки мисс Хрю лежали в гигантском гробу: ведь не так просто втиснуть в ящик, даже очень большой, три тонны сосисок! Было объявлено, что отныне фирма «Беконсфилд» не будет выпускать сосисок вообще. В тот же вечер состоялось экстренное заседание Совета полубогов, который принял решение немедленно осуществить вторую часть плана: открыть Бельфийский оракул. — В конце концов, — пробурчал Лярд, — обойдемся и без забастовки. Смерть мисс Хрю мы можем истолковать точно так же: государство гибнет от анархии и безвластья. Где это видано, чтобы миллиардера перерабатывали в сосиски! Это же без пяти минут бунт!
Глава XIII ВЕЛИКИЙ ОРАКУЛ
Великий Бельфийский оракул был оборудован по последнему слову техники. Как разведал Генри Кларк, в верхней пещере расположились микрофоны, с помощью которых можно было заставить оракула говорить что угодно. Телевизионные камеры транслировали в верхнюю пещеру все происходящее внизу. Сидя за микрофоном, диктор отлично видел все, что творится среди зрителей, толпящихся в главной пещере. Пшиш, Шизофр и Портфеллер были очень довольны оборудованием — удобно, безопасно, надежно. Впрочем, для усиления безопасности и надежности верхней пещеры ее караулила банда «роботов» Ржавого Гарри, оставшаяся без работы после смерти мисс Хрю. — Сверхсекретный объект! — сказал Шизофр. — Ни единая душа даже на сто метров не должна подходить к нему. Ясно? Иначе я за всех вас даже ломаного долгинга не поставлю… Ржавый Гарри получил особое задание, которое возвысило его в глазах коллег как крупного специалиста. Когда оракул голосом невидимого диктора скажет: «Страна должна стать свободной и радостной», Ржавый Гарри должен будет арестовать президента Слябинса. Открытие оракула, который должен был заговорить после тысячелетнего молчания, собрало самую высокопоставленную публику Потогонии. Прибыли полномочные и чрезвычайные послы Канарии, Напугалии, Моналюкса. Президент Слябинс, окруженный министрами и телохранителями, занял место в первом ряду. Преподобный Пшиш еще раз окинул хозяйственным взглядом ряды курильниц, окутанные ароматным дымком фимиама. Лампы дневного света, ловко вмонтированные в расщелины каменного пола, создавали иллюзию таинственных лучей, проникающих в пещеру из-под земли. Треножник с самой большой курильницей был поставлен в глубине пещеры. Он отсвечивал красноватым призрачным светом и окутывался клубами пара, словно жерло маленького вулкана. Жрец великого Бельфийского оракула, длиннобородый глухонемой старик, занял свое место. Его седая борода причудливо сливалась с клубами пара и казалась в красном свете розовой, неземной. — Этот немощный старец, — пояснил гостям преподобный Пшиш, показывая пальцем на упитанного жреца, — получает возможность говорить, только вдохновляемый оракулом. В обычное же время старик нем и глух. Чудо природы! Божественное прозрение! — Что же мы услышим? — с сомнением спросил президент Слябинс. — Откровения… Предсказания будущего! — картинно воздел руки к лепному потолку пещеры Пшиш. — Разве можно знать, что соблаговолит произнести оракул после тысячелетнего молчания? Но то, что он скажет, будет голосом всевышнего! Ибо пути, которые господь бог избирает для того, чтобы сообщить нам волю свою, неисповедимы. — Вижу, вижу! — вдруг хрипло закричал жрец. И ему, точно эхо, отозвался голос оракула: — Вижу леса и горы, города и реки… Страну милости господней — Потогонию. В ней много смут и недовольства… в ней… в ней… — Оракул еще, видимо, не разработался, — сказал Слябинс. — Все-таки тысяча лет простоя… …А в это время у верхней пещеры, этого «сверхсекретного объекта», происходили удивительные события. По тропинке, ведущей к замаскированному входу в пещеру, шел Фикс, держа на золоченом поводке мисс Хрю. Да, да, это была мисс Хрю собственной персоной. Венценосная свинка была одета так же, как всегда одевалась для прогулок: замшевый зеленый труакар, на копытах зеленые башмачки, корона походная номер два. «Робот», который охранял тропинку, первый увидел миллиардершу. — Ва… ва… ва! — залепетал он испуганно, и пистолет ходуном заходил в его пальцах. — Свиное привидение! — Олух! — сказал Фикс бесстрастно. — Почему не кланяешься своей повелительнице? «Робот», услышав привычное обращение, покорно склонил голову. — Эй, вы! — сказал Фикс спокойно. — Ну, сколько вас тут, быстро ко мне! Мисс Хрю хочет сказать вам несколько слов. Вы верные люди, вы можете знать тайну — мисс Хрю не погибла, это был только ловкий политический трюк. «Роботы», кряхтя, повылезали из своих тайных нор и замаскированных огневых точек. Они кланялись хозяйке и подобострастно прикладывались к ее изящным копытцам. — Так, а теперь руки вверх! — сказал Фикс. — И не шевелиться, а то будет очень плохо. «Роботы» обалдело воззрились на Фикса, с которым происходила необыкновенная метаморфоза. Он снял очки, сдернул парик, и на солнце засверкала серебряная шевелюра, похожая на берет. — Ну, ну, быстро! — раздалась команда. «Роботы» огляделись: их окружало более двадцати одетых в очень элегантные костюмы мужчин. У каждого в руке было по большому автоматическому пистолету. «Роботы» привыкли покоряться силе и без ропота сдали оружие. — Заберите этого поросенка, — сказал мужчина с седой головой своим приятелям. — Он нам больше не нужен. И отнесите его к хозяйке, а то это у нее последний, и она очень волнуется за его судьбу. Затем седоголовый прошел в замаскированную дверь, к диктору. Вот в это-то мгновение суфлировавший жрецу и оракулу диктор и начал повторять слова «в ней», «в ней», как патефон, иголка которого застряла на одной борозде и не может двинуться дальше. Впрочем, продолжать диктору не пришлось. Его аккуратно вывели из пещеры и присоединили к гангстерам. Генри Кларк — а вы, вероятно, уже догадались, что мнимый Фикс был не кем иным, как нашим старым знакомым, — сел за дикторский пульт и взглянул на экран телевизора. Бесстрастное стекло отразило все происходящее в пещере. Лица гостей выражали крайнюю степень ожидания и удивления. Жрец смятенно прислушивался к замаскированным трубкам телефона. А оракул, для которого наступила минута заговорить после тысячелетнего поста, почему-то замолчал. Президент Слябинс, скучая, поглядывал на какую-то обливудскую звезду. Ржавый Гарри переминался с ноги на ногу, засунув руку в карман. Он с опаской посматривал на телохранителей президента, лениво перекатывавших сигареты из одного угла рта в другой. — Страна должна быть свободной… — вдруг снова раздался голос оракула, усиленный мощью скрытого в углу репродуктора. Зрители затрепетали. Ржавый Гарри счел этот момент самым подходящим для того, чтобы приблизиться к президенту. В соответствии с инструкциями он должен был незаметно для публики ткнуть пистолетом в бок президента и шепотом потребовать беспрекословного подчинения. Он должен был произнести тихие, но внушительные слова: «Ваше время кончилось, уважаемый… Слагайте полномочия или… сложите голову…» Ржавый Гарри начал было вынимать руку из кармана, как неожиданно оракул торопливо произнес: — Господин президент, вас хотят схватить!.. Эй, телохранители! Держите рыжего гангстера, который стоит по правую руку от Слябинса. Это Ржавый Гарри, один из наемников, который должен заставить президента отказаться от власти.Держите его! Хорошо натренированные телохранители мгновенно опомнились и скрутили опешившего гангстера. Гарри отбивался, как лев, и кричал во все горло, что он не виноват, что его заставили… Поднялась невероятная суматоха. Визжали женщины. Жрец, путаясь в собственной бороде, уполз на четвереньках в клубы красного дыма. — Араканга! — раздался голос одного из корреспондентов. — Опять Пшиш опростоволосился! А оракул продолжал греметь: — Свержение президента — это только одно из звеньев заговора путчистов! Его организовали Лярд, Шизофр, Портфеллер, Пшиш. Задержите их, пока они не удрали! Телохранители и сыщики из личной охраны Слябинса, повинуясь этому таинственному голосу, бросились к генералу Шизофру, Портфеллеру и Пшишу. — А Шкафт? — закричал Портфеллер. — Сенатор Шкафт тоже был с нами! — Идиот! — сказал генерал Шизофр и выстрелил из пистолета себе в рот, прямо в платиновые зубы мудрости. Однако Лярда схватить не удалось. Сидевший ближе всех к выходу, этот старый политикан и заговорщик, как только оракул указал на Ржавого Гарри, сразу же вышел из пещеры. Не успели сыщики выскочить за ним вслед, как его бронированный лимузин уже спускался по шоссе вниз, к Нью-Торгу… — Большую группу свидетелей охрана может получить у верхней пещеры, — объявил оракул. — Союз мозолистых рук приносит вам, господин президент, свои поздравления по поводу избавления от ареста или чего-нибудь еще и похуже… Союз надеется, что заговорщики получат по заслугам. А невинно арестованные будут освобождены. — Благодарю! — сказал Слябинс растроганным голосом. — Я всегда был уверен, что народ не оставит меня в трудные минуты. А невинные будут освобождены, как только будет установлена их непричастность. Пещера постепенно опустела. Только еще, кашляя в клубах пара, сыщики гонялись за глухонемым жрецом, который визжал не хуже бывшей мисс Хрю… Заговорщиков по одному выводили из пещеры. Сверху гнали табунок гангстеров — «роботов». Машины корреспондентов наперегонки мчались в Нью-Торг, чтобы поведать миру о новой сногсшибательной сенсации.Глава XIV КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ
В Город Улыбок почтальон не заходит — безработные не состоят подписчиками толстых газет и журналов, разбухших от новостей, как удавы от обильной пищи. Но о заговоре против президента и о том, что газеты вдруг начали снова писать о войне и что почти всех знатных заговорщиков выпустили на свободу, — об этом все жители Города Улыбок знали, даже не читая лево-правой и право-левой прессы. — Зачем это опять все про войну да про войну пишут! — спрашивала у Генри Кларка пожилая женщина. — Я хочу, чтобы мои сыновья были живы, а не превратились в горсточку пепла… Я не хочу урны с прахом вместо сына! Зачем они кричат о войне, эти генералы и сенаторы? — Они не боятся за своих сыновей, — объяснил Генри Кларк. — Это во-первых. А во-вторых, им хочется заработать больше денег — ведь выгоднее всего торговать оружием, товар не залеживается. А в-третьих, во время войны легче нас, рабочих, держать в руках. Президент Слябинс, верный своему обещанию, наказал виновных и помиловал невинных. Однако почему-то среди первых оказались почти одни гангстеры — «роботы». Сенаторы Шкафт и Портфеллер были освобождены из-под стражи как случайно замешанные в заговор люди. И, разумеется, никто не посмел тронуть и пальцем всемогущего Лярда. Пшиш тоже полусухим вышел из воды. Полностью репутацию преподобному Пшишу нельзя было восстановить, если бы даже сенат принял специальный декрет по этому поводу. Стоило епископу выйти из дому, как первые встречные мальчишки начинали кричать: — А когда будет третья араканга? Даже в храме во время богослужения и то нет-нет да и раздавалось какое-то подозрительное хихиканье. Нервы епископа не выдержали, и он ушел на покой, обеспечив себе весьма внушительную пенсию. Епископат передали другому. Но как же поступили с арестованными еще раньше Бобом Гутером и Рэдом? Хотя, повторяем, президент публично обещал, что невинные будут освобождены, следователи не очень спешили. Новый министр внутренних дел адмирал Дубинг, сменивший так бесславно закончившего свою карьеру самоубийцу Шизофра, дал приказ об освобождении Гутера и Рэда лишь после того, как лево-правые и право-левые газеты перепечатали из «Свободы» всю историю «заговора Шизофра» (так было приказано именовать несостоявшийся путч) и рассказали о роли, которую сыграли в его разоблачении Гутер и Рэд. — Давненько мы не виделись. — важно сказал Рэд, когда Ной и Лиз встретили его после возвращения из тюрьмы. — Как вас зовут? Я не припомню что-то… — Давайте я сниму вас всех вместе, — сказал Боб Гутер. — Сначала одних ребят, а потом и вас, Генри Кларк! Ну-ка, вставайте вот сюда, спиной к солнцу. И улыбайтесь веселее! — У нас в Городе Улыбок есть верная примета, — сказал Генри Кларк. — Чем лучезарнее улыбки на рекламах, тем, значит, хуже идут дела в Потогонии. Но улыбки наших ребят — это будущий смех. Ведь если не нам с вами, Боб, то им-то уж придется здорово посмеяться над всеми этими Пшишами, Лярдами и Портфеллерами… — Когда будете смотреть на свою старую фотографию, ребята, — произнес Гутер, — то вспомните и тех, кто смеялся первыми. Хотя бы нас с Генри… Ну-ка, улыбнитесь пошире, так, чтобы рекламам тошно стало от настоящей человеческой улыбки! У тех улыбок уже всё позади, а у вас всё впереди. Может, и поплакать еще придется не раз, да ведь помните — последнее слово останется за вами. И хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним!.. На этом мы и прервем наше правдивое и нелицеприятное повествование о Городе Улыбок, о происшествии с Бельфийским оракулом, о темных силах христианнейшей Потогонии и светлых улыбках трех неразлучных друзей — Рэда, Лиз и Ноя.С. Жемайтис РАЗВЕДЧИКИ

Военные рассказы
МАРШЕВАЯ РОТА
По бесконечной дороге, исполосованной гусеницами танков, колесами телег, автомобилей, размешанной подошвами солдатских сапог, двигалась маршевая рота. Моросил теплый, грибной дождь, первый предвестник недалеких осенних ливней. Сизоватая дымка лежала на перелесках, на полях с неубранным хлебом. Пахло землей, прелой соломой, дождем и сладковатым дымом пожарища. Солдаты еле передвигали ноги. Они всё чаще и чаще посматривали на командира роты капитана Швецова. Но тот все шагал и шагал далеко впереди. Высокий, сутулый, он с таким усилием поднимал огромные сапоги с пудовыми комьями грязи на подошвах, будто тянул за собой всю роту. Среди этих двухсот измученных людей, казалось, еще только старшина Иванов не знал усталости. Старшина то шел позади, подбадривая отстающих, то обгонял всю колонну и шагал рядом с командиром роты, перебрасываясь с ним фразами о погоде, о событиях на фронте. Поговорив несколько минут, останавливался, поджидая хвост колонны. Он не упускал случая сообщить кое-какие сведения о правилах верховой езды медицинской сестре Зое Горошко. Зоя ехала верхом на огромном сером коне командира роты. Она боялась коня. Повод то и дело вываливался у нее из рук — видно, Серко не ставил ее ни в грош. Он останавливался и ел неубранную пшеницу там, где ему нравилось. — Вы, Зоя, смелее с ним. Огрейте его раз—другой, нате-ка прут, да не вынимайте ног из стремян. А Зоя сконфуженно улыбалась, хлестала по гладкому крупу Серка, но тот только крутил хвостом. — Он какой-то нечувствительный, у него совсем нет нервов! — со слезами на глазах жаловалась Зоя. — Ничего, ничего, дело пойдет, — обнадеживал ее старшина и покрикивал, обращаясь к роте: — Подтянись, ребята, скоро деревня, а там теща ждет с блинами! Солдаты вяло отшучивались или хмуро вздыхали, поглядывая на упрямую спину командира роты. Замыкающим тащился солдат Ложкин. Иванов дождался его и спросил, окидывая с ног до головы снисходительным взглядом сильного человека: — Что, товарищ Ложкин, тянешь? Солдат улыбнулся чуть насмешливо: — Тяну, старшина! По такой дороге — одно удовольствие. — Да, прогулка… — Ничего, все будет отлично. Не бойся, старшина, дальше чем на километр не отстану. — Без привычки, понятное дело. — Да нет, я ходить люблю. — Не по такой дороге, язви ее в душу! — Дорога как дорога… — Не скаль зубы! Может, заболел? Давай мешок! Ложкин прислушался. От головы колонны, как эхо, перекатывалось приказание: — Старшину к комроты! — Тебя, — сказал Ложкин. — Скоро привал. Спасибо. У меня что-то с сапогами. Не освоил технику. Старшина прибавил шагу и обернулся, нахмурясь: — Ноги стер! Опять портянки, как шарф, намотал. — Что-то в этом роде. Не тревожься. Ерунда! Роту обгоняла колонна грузовиков, тяжело нагруженных ящиками со снарядами, минами, патронами, продуктами. Обдав пехотинцев комьями грязи, к фронту промчались танки. Навстречу тоже шли машины — санитарные, грузовики, порожние или с легкоранеными. Старшина догнал командира. Швецов остановился. И тотчас же вся рота замерла на месте. — Привал! — крикнул Иванов. Солдаты повалились на неубранную пшеницу. Капитан сел на оглоблю разбитой фуры, брошенной возле дороги. Дождь перестал. Но пепельно-серое небо еще ниже опустилось над землей. Яснее доносился грохот далекой канонады. Запахло махоркой. Зажурчал тихий говорок, грянул смех: какой-то остряк, лихо пуская облака табачного дыма, уже рассказывал соленый солдатский анекдот. Иванов помог Зое слезть с коня, ослабил седельную подпругу, разнуздал Серко и пустил пастись. Зоя, держа шпильки во рту, возилась со своими непокорными волосами, укладывая их в тугой жгут на затылке, и глядела на Ложкина. В ее больших карих глазах светилось участие, трогательная забота, почти нежность. Ложкин подошел, прихрамывая на обе ноги, улыбнулся и рухнул на землю. Зоя поспешно вытащила шпильки изо рта — волосы волной рассыпались по стеганой куртке. — Что с вами? Ложкин устало улыбнулся: — Да ничего. Привал. Какое блаженное состояние — лежать не двигаясь. Я никогда прежде не замечал, что это так приятно. А как ваш Серый? Зоя умоляюще посмотрела на старшину. Иванов насупил брови: — Снимай сапог, вояка! Какую ногу натер? — Кажется, ту и другую. — Разувайся! Морщась от боли, Ложкин снимал сапог. Старшина, стоя, наблюдал за этой операцией. — Так и есть! — Старшина злорадно усмехнулся. — Посмотрите, Зоя Ефимовна, где у него портянка! Что я говорил? Он ею, как шарфиком, лодыжку обернул. — Лицо старшины приняло строгий, начальственный вид. — За это под суд надо отдавать!.. Зоя торопливо раскрывала сумку. Обернулась. Глаза ее сверкнули. — Под суд надо отдавать старшину, который не научил бойца носить портянки! — Я не научил? Спросите его самого… Учил я тебя? Ну, говори, учил? — Учил, Зоя Ефимовна. Я прослушал целый курс в двенадцать лекций. И великолепно их помню. Вот пожалуйста: портянка образца тысяча семьсот двадцать шестого года служит на предмет предохранения ноги от ушибов, потертостей, а также придает мягкость подошве, чем ласкает солдатскую лапу. Существует восемнадцать способов употребления данной портянки. Первый способ: замотка с носка, второй — с пятки. Существует гвардейский способ, способ младенческий, это когда нога пеленается, как малое дитя. Есть способ артиллерийский, есть саперный, а также способ гусарский… Зоя, улыбаясь, смазывала и забинтовывала кровоточащие раны на ногах Ложкина. — Самый лучший способ — генеральский, — продолжал Ложкин. — Когда портянка из козьего пуха или из шленской шерсти… — Молчи, этого я тебе не говорил. И вообще, откуда ты взял, что портянка образца тысяча семьсот двадцать шестого года? Просто скажи, что ты бестолковый человек! — Согласен: бестолковый. Зоя и Ложкин захохотали. Старшина сделал удивленные глаза, махнул рукой и пошел к командиру роты. Быстро прошел короткий отдых. Командир роты, взглянув на часы, поднялся. Солдаты притихли, ловя каждое движение своего командира, но никто не двинулся с места, пока старшина не крикнул: — Становись!.. — Вы сядете на коня, — сказала Зоя Ложкину. — Нет, что вы! У меня ноги нежатся сейчас в вате. Прямо как по облаку иду. — Нет, сядете! Подошел старшина. — Садись, раз приглашают. Кавалер!.. — Поймав коня, он стал подтягивать седельные подпруги. Рота двинулась дальше. Ложкин, вскинув винтовку на плечо, бодро зашагал, помахав Зое рукой. — Я говорю вам, слышите! У вас ноги… Вы не дойдете! Ложкин вернулся и сказал очень тихо: — Не срамите меня, Зоя Ефимовна, перед ребятами. Ведь половина роты натерла ноги. Почему же я должен ехать, как рыцарь печального образа? — Половина?! — А что вы думаете? Заметили, сколько солдат переобувались? — Боже мой, а я только вам сделала перевязку! Вот бестолочь!.. Иванов подвел расстроенной Зое коня. Помог ей сесть в седло. Серко на этот раз зашагал бодро, потягивая ноздрями воздух. — Деревню почуял, — сказал Иванов. — Наверное, речка близко: Серко пить хочет, — заметил Ложкин. — Да, чайку бы… — С медом… — сказала Зоя. Иванов усмехнулся: — Ишь чего захотела! Ложкин не отставал, держась возле стремени. — Как — ничего? — шепнул Иванов Ложкину, кивая на ноги. — Дивно. Кроме того, почему я должен тащиться в хвосте? Ведь все равно мне надо пройти столько же! — Вот именно. Догонять да ожидать — самое гиблое дело. Они пошли рядом, перебрасываясь короткими фразами, которые тут же забывались, оставляя между ними тоненькие, как паутина, нити симпатии. Иногда оба глядели на Зою. Девушка как-то боком, неловко сидела, покачиваясь в седле. Она чувствовала взгляды, поворачивала голову, застенчиво улыбалась. Девушка им нравилась. И в другое время эта ее смущенная улыбка могла вызвать неприязнь, ревность, но сейчас, на пороге неизвестности, улыбка еще больше сближала их. Дорога, петляя, вползала на возвышенность, к подножию кургана со свежими воронками по склонам. Командир роты остановился, вытащил из планшетки карту, развернул ее. Все, что на ней было запечатлено в схематических линиях, фигурах, знаках, оживало, стоило лишь перенести взгляд на панораму, открывавшуюся с гребня возвышенности. Пестрели поля, зеленели кущи садов, скрывая избы деревень, серой ниткой теплилась река. На юго-западе, там, где на карте веером расходились прямоугольники кварталов небольшого городка, стояла стена черного дыма. По проселкам и по шоссейной дороге, влево от кургана., двигалась пехота, машины. Поток людей и машин медленно, но неудержимо стремился на запад. Солдаты подходили к капитану, опускались на землю, пользуясь короткой передышкой. Мало кто из них любовался величественной панорамой осенних полей. Взгляды солдат притягивала зловещая стена дыма, за которой гремели пушки. — Сахарный завод горит… — сказал огромный солдат с противотанковым ружьем. Пудовое ружье он держал играючи на плече, словно охотничью двустволку. — Я работал на этом заводе, хороший был завод… — Больно дым черен, наверное, нефть полыхает, — сказал старшина. — Какая нефть? Откуда она здесь? Сахар тоже копоть дает, — возразил солдат с противотанковым ружьем, печально глядя на черную стену дыма. Командир роты сложил карту, сунул ее в планшетку, показал рукой на церковь, белевшую вдалеке среди садов. — Вон наша Чумаковка. Там заночуем. — Он хотел продолжать путь, но остановился, прислушиваясь. Раздались приглушенные голоса солдат: — Немцы! — Где? — Да вон летят! — Шесть штук. — «Юнкерсы»… — Ишь паразиты!.. Самолеты шли от горящего города и приближались к Чумаковке. Вокруг них вспыхивали и медленно таяли белые шарики. — Зенитки, зенитки… — вздохнул солдат с противотанковым ружьем на плече. — Бьют, а им хоть бы что. Броня у них, что ли? — Ерунда, а не броня! — зло сказал командир роты. — Однако ж не могут эту ерунду прошибить, — возразил солдат. — Мажут, черти! Над купами деревьев медленно поднялись коричневые грибы. Прошло десять секунд, пока волна взрывов докатилась до кургана. Болезненно задрожала земля. Солдаты молчали. Бронебойщик стал не спеша заряжать ружье. Самолеты, сбросив бомбы, снизились, развернулись и пошли в сторону кургана. — Ложись! — скомандовал капитан. Солдаты бросились врассыпную, прыгая в воронки, падая в редкий бурьян у дороги. Командир присел, следя за самолетами. Зоя осталась в седле, боясь спрыгнуть. К ней подбежали Иванов с Ложкиным, но в это время из-за кургана с ревом вылетела первая машина. Серко присел и взвился на дыбы. Иванов повис на поводе — это спасло Зою от падения. Бронебойщик выстрелил в первую машину, промахнулся и с лихорадочной поспешностью заряжал новый патрон. Машина проносилась за машиной. Они летели так низко, что были заметны пробоины, ободранная краска на фюзеляже и на черных крестах с желтыми обводами. Резанул уши второй выстрел из бронебойного ружья. Из воронки поднялся рябой солдат и, потрясая кулаком, закричал: — Ты что, дура длинновязая, хочешь всю роту под бомбу поставить?.. Ведь он тебя… Его голос заглушил рев последнего самолета. Рябой солдат мгновенно скрылся в воронке. Грянул еще выстрел. Удаляясь, затихал рев моторов. И вдруг воздух прорезал звонкий девичий голос: — Горит! Смотрите, горит!.. — Зоя привстала на стременах и, вытянув руку, показывала на последний бомбардировщик. Из его крыла вырывался, все разрастаясь, черный шлейф дыма. Солдаты поднялись. Несколько человек бросились было бежать вслед за самолетом, но капитан вернул их. Самолет резко вильнул в сторону и вдруг круто пошел вниз. Над пшеничным полем взлетел столб черного дыма и ухнул взрыв. — Есть один! — сказал рябой солдат и потряс в воздухе винтовкой. Лицо капитана сияло. — Товарищи! — крикнул он. — Поздравляю с первой победой! Вот что значит инициатива и боевое мастерство! Надо было всем открывать огонь! Ну, да у нас еще все впереди. Будем бить врага и на суше, и в воздухе, везде, чтобы ему, окаянному, пусто было! Ура, товарищи! Солдаты нестройно прокричали «ура». Бронебойщика поздравляли, жали руки, хлопали по спине, обнимали, предлагали закурить, а он стоял красный от смущения, улыбался и разглядывал свое несуразное ружье. Перед ним появился рябой солдат. — А ты говорил — броня, — сказал он и так посмотрел на него, будто не Кугук, а он сам сбил немецкий бомбардировщик. — Орден теперь тебе, дураку, выхлопочут! — добавил он со вздохом. — Я не из-за ордена. Так, для пробы. Ну, а если орден дадут, что ж, тоже ничего. — И он посмотрел на свою необъятную грудь, будто любуясь наградой. Рота выстроилась. И снова сотни пар солдатских сапог стали месить крутую грязь украинского проселка. Солдаты пошли веселей. Успех окрылил уставших, измученных людей; подбадривало и то, что это был последний переход перед ночлегом. Рота входила в Чумаковку, ту самую Чумаковку, которую полчаса назад бомбили самолеты. Тогда солдатам, наблюдавшим за налетом авиации с кургана, казалось, что от села ничего не осталось. И теперь, проходя по широкой улице, они с удивлением разглядывали хаты в вишневых садах, прислушивались к кудахтанию кур, с удивлением смотрели на колхозниц, буднично работавших во дворах. Большинство из них даже не удостаивало взглядом проходившую маршевую роту, настолько, видно, это было привычным явлением. Во дворах и между хатами дымили солдатские кухни. Из окон выглядывали разморенные от тепла и сытной еды лица солдат. Только посередине села, на площади возле церкви, виднелись следы недавнего налета авиации: чернели свежие воронки, дымили развалины школы. Капитан остановил роту возле церкви. — Расположимся пока здесь, — сказал он старшине. — Вы действуйте с политруком, а я пойду разыскивать штаб полка. Из церкви вышли мальчик и девочка. Они остановились на паперти, с вялым любопытством поглядывая на солдат. Иванов поднялся по выщербленным ступенькам. Зашел в церковь, ребята пошли за ним. — Вы, что, жить здесь будете? — спросил мальчик. — А что? — Да я так, потому что больше негде, все хаты заняты. Только здесь свободное место осталось. — Вот и хорошо. — Хорошего мало, — сказал мальчик. — Вас немцы разбомбят, — пояснила девочка и с жалостью посмотрела на старшину. — Вас же не разбомбили? — Во время бомбежки мы в погребах ховаемся, — сказал мальчик. — Они ведь по часам бомбят. — Как это по часам? — Ну, в восемь утра и в пять вечера. Теперь до утра можно не бояться. Живите пока. В церковь входили солдаты и располагались на цементном полу. — Раньше у нас полы здесь были деревянные, да немцы сожгли, — объяснила девочка. — Они всё посжигали… — Личико ее сморщилось, по щекам покатились слезы. — Ты что это, ну зачем плакать? — стал утешать старшина. Мальчик взял девочку за руку: — Она за нашего тату, за отца плачет… Его немцы тоже убили… Пошли, Галя! — Он повел ее между притихшими, расступившимися солдатами. Лицо его было не по-детски хмуро, сосредоточенно. — Вот она, война! — сказал Кугук, ставя свое ружьище к закопченной колонне с изображением Николая-угодника. Солдаты развели у ограды костры. Варили чай в котелках, разогревали консервы. Над головами повисла пелена дыма. В церкви гулко раздавались голоса под высокими сводами, тревожные тени скользили по стенам, по колоннам, а оттуда смотрели строгие лица святых, сверкала золотая вязь изречений о мире, любви, всепрощении… В окнах, за коваными решетками, мерцали первые звезды. Ложкин и Зоя сидели на церковных ступеньках. Канонада стихла, в бурьяне возле церкви стрекотали цикады, где-то скрипел колодезный журавль, а на дальнем конце деревни пели. Слов нельзя было разобрать. Долетала лишь грустная мелодия какой-то украинской песни. — Как будто и войны нет, — нарушила молчание Зоя. — Да, удивительно мирный вечер, — ответил Ложкин. — Мне что-то грустно-грустно… — вдруг призналась Зоя. — Вы устали, да и вообще радости мало, надо признаться. — Нет, я не устала и не потому, что война и все так получилось. Здесь все какое-то очень грустное: и поля, и дома, и небо. У нас совсем по-другому. У нас лес, река! Томь… Зоя повеселела и стала рассказывать, как однажды заблудилась в лесу и проплутала весь день. Подошел Иванов, молча сел на выщербленную ступеньку церкви, закурил. Потягивая махорочный дым, он слушал потупясь. — Наутро меня нашли, сонную, под елью, — закончила Зоя. Иванов, глубоко вздохнув, сказал: — Вызвездило… В такие ночи в эту пору у нас уже заморозки. Хорошее время. Урожай обмолотили, зябь поднимаем. Всю ночь песни… Я ведь тоже из Сибири. У нас и работать и гулять могут. — Вы разве из колхоза? — недоверчиво спросил Ложкин. — Я думал, из города, рабочий. — Нет, в колхозе работал. Но больше по машинам, на тракторе, в эмтээс, потом шофером, ну и по ремонту, так что скорее рабочий. А ты, видно, городской. По какому делу? Бухгалтер или инженер? — Нет, я учитель. Физику преподавал, астрономию. — Это насчет звезд? — Да, и о звездах, и о планетах рассказывал ребятам. Кажется, давным-давно это было. — Хорошее дело. Кому-то и это надо… — проговорил Иванов снисходительно. — Тоже хозяйство не маленькое. Другой раз лежишь в сенокос на лугу да как посмотришь на небо, аж жуть берет — белым-бело от звезд. «А что там? — думаешь. — Может, вот так же лежит тоже человек на своем поле где-нибудь, на какой-нибудь планете, и тоже смотрит…» — Возле каждой звезды могут быть планеты, а звезд бесконечное множество. — Тогда, значит, сколько же планет? — Планет во много раз больше, чем звезд. — И везде люди? — Не везде. Но и обитаемых планет должно быть бесконечное множество. И поэтому, возможно, что где-нибудь во Вселенной есть такое же Солнце, как наше, а вокруг него носится планетка точь-в-точь, как наша Земля. — Ишь ты! — сказал Иванов, с уважением глядя на Ложкина. — И там, может, такие же люди, как мы? — Да, и один из них — старшина Иванов, другой — учитель Ложкин, а с ними, на ступеньках храма, сидит Зоя Горошко. Зоя сидела, обхватив колени руками и глядя на небо. — Только там нет войны, — сказала она. — Там все уже устроено. И мы на той, другой Земле просто путешествуем. Там все хорошо. — Вы ужинали? — неожиданно спросил Иванов. — Нет еще, — ответила Зоя. — Забыли как-то, а есть очень хочется, — сказал Ложкин. — Тут столовых и ресторанов нету. Вся рота уже поела, — наставительно сказал Иванов. — Я доску от немецкой повозки прихватил. Костер разведем. Кто по воду пойдет? Ложкин поднялся. — Забирай все котелки, — сказал Иванов. — А мне что делать? — спросила Зоя. — На вот ножик и чисть картошку. Давеча в поле вырыл. Суп из консервов сварим. — Он вытащил из карманов с десяток картошин и выложил на ступеньку. Ложкин уходил через площадь, гремя котелками. — Может, это наш последний ужин, — сказал Иванов, ломая каблуком сухую доску. — Как — последний? — Ну, разошлют по разным частям. — Может быть, удастся вместе? — робко заметила Зоя, чистя картошку. — Сейчас, Зоя, не как хочешь, а как велят. Придет капитан и скажет: уважаемая товарищ Горошко, вы направляетесь в санбат! А ты, профессор Ложкин, пожалуйте в писаря. Ну, а меня пошлют к царице полей… — К царице? — Зоя вопросительно улыбнулась. — В пехоту-матушку, — грустно пояснил Иванов. — Кому какая судьба. Да я не горюю. Только привязчивый уж я больно. Иванов развел костер возле ступенек, соорудил из палок таганок. Вернулся Ложкин. Зоя вымыла картошку, нарезала, положила ее в котелок. Иванов взял котелок и подвесил над огнем. Ложкин стоял спиной к огню и глядел на кроваво-красную искорку в небе. — Таков уж, видно, человек, — философски заметил Иванов, одобрительно взглянув на Ложкина. — Со всем сживается, и все ему дорого. Одному — люди, другому — звезды… — Одно другому не мешает. — Ложкин улыбнулся. — Я глядел на Марс. Через тринадцать лет, в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, будет великое противостояние Марса… После ужина они остались на паперти. Взошла луна. Неистово трещали цикады. Отдыхала земля. И эти трое людей, еще вчера совсем незнакомые, коротали вечер, с болью думая о разлуке, о своей судьбе. Ложкин долго с вдохновением рассказывал о Марсе. Наконец Зоя уснула, прикорнув к плечу Иванова, а старшина сидел, боясь пошевельнуться, и слушал о далекой непонятной планете, что истекала кровью в бледно-зеленом небе. Ложкин принес охапку сена, разостлал его в притворе на полу. Здесь было тепло, как в избе. Они подняли и отнесли спящую девушку на постель, а сами устроились по бокам и тоже скоро уснули. Наутро вся маршевая рота разошлась в подразделения 1001-го полка. Как и предсказывал Иванов, Зою Горошко направили в медсанбат, а Иванова с Ложкиным — в распоряжение начальника полковой разведки.НОЧНОЙ ПОИСК
Малиновые струи трассирующих пуль шелестели над головой, с фырканьем пронизывали снег, стучали по бугру. Пулемет смолк. Ложкин толкнул Иванова: пока пулеметчик вставит новую ленту, надо переползти за бугор к подбитому танку. Упираясь локтями, они проползли не более метра, как вдруг из бетонного колпака хлопнул глухой выстрел, и разведчики снова плотно, до боли во всех суставах, прижались к мерзлой земле. Высоко в небе вспыхнула «лампа». Ракета безжалостно, злобно обнажила мертвое поле. Ударил пулемет. Огненная струя трассирующих пуль, как бритвой, срезала сухие стебли бурьяна на бугре, возле которого лежали разведчики. Пулеметчик перенес огонь левее, в сторону подбитого немецкого танка: там серело что-то из-под снега. Ракета погасла. Замолчал пулемет, будто испугавшись вдруг наступившей непроглядной темноты. В морозной тишине слышалось, как в тесноте бетонного колпака ворочаются враги, звякнул о камень автомат, завертелась ручка телефонного аппарата. Ложкин уловил, что солдаты из секрета сообщают о нападении на них русских. Иванов и Ложкин добрались до подбитого танка, переждали под его бронированным боком, пока погаснет еще одна ракета, и поползли в глубь немецкой обороны. Пошел мелкий невидимый снег. Фашисты переполошились. Из бетонного колпака, а также справа и слева от лощины они беспрерывно вешали «лампы». Разведчики пользовались только крохотными промежутками темноты, чтобы сделать короткий бросок к лесу. У опушки они перебрались через брошенные фашистами траншеи и залегли в кустарнике возле дороги. На переднем крае завязалась ожесточенная перестрелка. — Ребята отвлекают, — шепнул Иванов. — Молчи! Слышишь? — Да, скрипит… Оба затихли, вглядываясь в переплет ветвей. Небо пылало, будто подожженное. Пушистый иней на ветках, как елочная канитель, переливался разноцветными огнями. Между ветвей виднелся кусочек дороги, по ней плыли тени деревьев, освещенных падающими ракетами. Показались неясные силуэты гитлеровцев. Они шли медленно, повернув голову туда, где шла стрельба. В небе застрекотал самолет. Солдаты остановились. Откуда-то сбоку, наперерез невидимому самолету, полетели голубые полосы. Мотор замолк. Рванули разрывы бомб, и опять деловито застрекотал самолет. — Ангел смерти начал свою работу, — сказал один из солдат. — У меня совсем отмерзли ноги, — отозвался другой. Третий длинно выругался, проклиная какого-то Гофмана, которому все время мерещатся русские. Солдаты медленно побрели дальше. Когда их шаги замолкли, Иванов спросил: — Сколько на твоих? Ложкин посмотрел на светящийся циферблат часов: — Без пяти три. — Да, как бы дневать здесь не пришлось. — Возможно… — Надо в лес, глубже. — Да, здесь неудобно. — Какое там удобство. Идут? Они с минуту молчали, прислушиваясь. — Нет, показалось, — облегченно сказал Иванов. Разведчики перешли дорогу. Остановились. Где-то далеко-далеко ухнула пушка, и тишина еще плотнее охватила уставший мир. Звезды слабо освещали стволы сосен, заиндевевшие ветви кустарника, снег под ногами, пестрый от множества следов. Сосновый лес во всех направлениях пересекали тропы. Осторожно ступая мягкими лодошвами валенок, разведчики почти неслышно двигались по лесу. Остановились на дороге перед просекой. Снег на просеке лежал ровный, без следов. Они пошли вдоль просеки. Ни одна тропинка не пересекала ее. — Мины! — шепнул Иванов. — Постой! — Ложкин остановился у березы. На ее стволе темнел четырехугольник с какой-то надписью. — Да, минное поле, — сказал Ложкин, разобрав надпись. — Идем назад: там переход. Они пошли по дороге у самой ее кромки, чтобы в случае опасности свернуть в лес. Иванов вздохнул: никогда еще они с Ложкиным не попадали в такое трудное положение. И все из-за того, что на отвороте его полушубка оказались крошки махорки и он чихнул в самый неподходящий момент. Иванов в сердцах сплюнул. Ложкин прошептал: — Выкрутимся, Иван. — Придется покрутиться. Как это меня угораздило? — Ты здесь ни при чем. Если бы не граната… Да не колпак… — Все на счетах не прикинешь. — Надо, Иван, прикидывать, а не то… сам видишь… — Да, конечно. Если бы да кабы… Ложкин покрутил головой, покусывая губы. Ему совсем не надо было бросать гранату. Но кто знал, что фашисты сидят под бетонным колпаком. «Все это потому так получилось, — думал Ложкин, — что больно легко прошла первая часть поиска». Они без выстрела пробрались через жидкий немецкий заслон на стыке двух дивизий, побывали в сосновом лесу и открыли, что гитлеровцы сняли с этого и без того слабого участка свой потрепанный батальон. Возвращаясь, они наткнулись на секрет, но и тогда можно было легко вывернуться. Солдаты в секрете приняли их за своих и даже обрадовались, думая, что пришла смена. И если бы Ложкин не швырнул в них гранату, сейчас не надо было бы искать пристанища в чаще леса и ждать там следующей ночи. Мороз крепчал. С легким шуршанием сыпалась колючая изморозь. Звезды померкли. Лес погрузился в плотную тьму. Темнота встревожила врагов, и они опять стали вешать «лампы» над опушкой леса. То вспыхивало, то медленно гасло белесое небо. Где-то впереди послышался шум автомобиля. Дорога сворачивала от просеки и круто опускалась в овраг. — Пошли вдоль просеки, — предложил Ложкин. Иванов молча пошел за ним. Внизу, на дне оврага, вспыхнули и погасли автомобильные фары; надсадно жужжа, поднимался грузовик. Иванов зацепился ногой за провод. Остановился, нащупал в темноте еще два провода. Вытащил нож. Один за другим перерезал все провода. — Эх, Иван! — прошептал Ложкин, подумав, что нельзя сейчас оставлять такие явные следы, но в душе оправдывал товарища: уж больно велико было искушение вывести из строя связь между передовыми позициями и штабами фашистов. Провода привели их к той же просеке. Через просеку еле приметной канавкой вела тропинка. Тропинка сливалась с черной стеной леса на другой стороне просеки. Посреди просеки Иванов остановился, перерезал провода и весь моток забросил далеко в сторону. Нырнув под лапы ельника, они очутились в кромешной темноте. Иванов толкнул Ложкина в бок. «Не так уж плохи наши дела», — говорил этот дружеский жест. Впереди кто-то шмыгнул носом и несмело спросил по-немецки: — Это ты, Кауфман? Иванов и Ложкин были готовы к любой неожиданности, но этот мальчишеский, робкий голос был так несовместим с опасностями, подстерегавшими их, что они оторопело остановились. Их замешательство длилось несколько секунд. Солдат молчал, часто дыша и шмыгая носом. Наконец истерически крикнул: — Кауфман! Скотина! Это ты? Иванов неслышно выхватил нож. Ложкин сунул руку за пазуху, где лежал пистолет. Оба ждали, не шевелясь, затаив дыхание. Солдат перестал кричать, он молчал, прислушиваясь, его зубы отбивали частую дробь. Позади напуганного солдата заскрипел снег. — Кауфман!.. Это вы? — Ну кто же еще, неустрашимый крестоносец? — Куда вы к дьяволу провалились? — Опять живот схватило. Проклятые эрзацы. Мне нужна диета, а здесь жрешь всякую гадость. Провода не потерял? — Нет, вот они. Интересно, далеко еще до повреждения? Идем, идем, а его все нет. — В голосе молодого слышалась нескрываемая радость. — Найдем. Времени у нас с тобой достаточно. Сейчас, Фриц, искать повреждения одно удовольствие. Если бы не холод да не болел проклятый живот… Но погоди, начнется наступление, тогда узнаешь, что такое настоящая война… — Он запнулся за что-то на дороге, выругался. Подошел к стоявшему в темноте солдату, спросил: — Ну, где ты тут? — Здесь я! — с готовностью ответил молодой солдат. — Подержи карабин… Он долго звенел пряжками поясных ремней, потом сказал: — Теперь, кажется, всё. Идем, крестоносец! Давай карабин. Ну, чего ты так дрожишь? Замерз? — Да, адский холод! Идемте скорей! Связисты прошли мимо, выдирая из снега на обочине дороги провода. Разведчиков обдало приторным запахом порошка против вшей.Светало. Иванов и Ложкин брели по глубокому снегу. Иванов остановился, перевел дух и сказал: — Шабаш! Ложкин устало улыбнулся: — Да, кажется, выбрались на оперативный простор! Иванов нырнул под лапы ели и позвал оттуда: — Коля, давай сюда, тут даже снегу нету, прямо как дома на печке. Эх, и закурим мы сейчас! Ложкин прислушался, посмотрел по сторонам. В сером, мглистом тумане едва просвечивали неясные очертания деревьев. Лес тоже, казалось, чутко слушал и удивлялся необыкновенной тишине утра. Потянуло махорочным дымом. Иванов спросил из-под ели: — Тихо? — Да, очень. Иванов сладко зевнул и сказал сонным голосом: — Хорошо! Будто за дровами приехали. Ложкин залез под лапы ели. — Что я говорил? — встретил его Иванов. Он сидел, опершись спиной о ствол. — Малина, а не жизнь под такой крышей. — Действительно, хорошо здесь, — ответил Ложкин, устраиваясь рядом. Иванов протянул кисет и засмеялся. Ложкин вопросительно посмотрел на него. Иванов сказал: — Вспомнил, как мы с братом Никитой вот так же ночевали под елкой. Пошли на лыжах, а тут пурга. Вот такую же выбрали, костер разожгли. В шестом классе учились, близнецы мы с ним. Будто вчера было. — Брат тоже воюет? — Нет, дома остался. Хромает он, в детстве ногу сломал, срослась не так. Хороший у меня брат, тоже, как и ты, по ученой части пошел: учитель математики. Голова! — Хорошо иметь брата. Мне так всегда его недоставало. — Что же, и сестер нет? — Один я у мамы. — Это нехорошо. Семья должна быть большая. Чтобы крепко корни пускала. — Иванов потянулся, сказал мечтательно: — На печь бы сейчас, раздеться да на тулуп, потом встать к обеду, мать щей из печки, потом пирог. Эх, жрать хочется!.. Что это я несу? Давай, Коля, располагаться. Спи ты первый. Или давай враз вздремнем. Нас тут ни один черт не найдет. — Нельзя. — Правда твоя. Ложись-ка ты первый. — Мне что-то не хочется. — Ну и врешь! Я вот говорю с тобой, а сам сны вижу. — Ну и спи. Ты же знаешь, что я на сон не очень-то падок. Часов в десять разбужу. — Действительно, ты какой-то… Всю ночь промаялись, а ты хоть бы что. — Привычка. Еще студентом натренировался: учился ночами. Я жил тогда в Ленинграде. Какие, брат, там белые ночи!.. Неизъяснимой красоты… Иванов всхрапнул. Ложкин, полузакрыв глаза, отдался воспоминаниям. В усталом сознании возникали торжественные громады дворцов, гранитная набережная Невы, серое небо. Он идет по сонному городу с тоненькой девушкой, ему видна только ее щека, необыкновенно знакомая, милая щека. Но кто она? Ложкин мучительно вспоминает и, холодея, не может вспомнить. Девушка поворачивает голову, и у него вырывается радостный крик: — Зоя Горошко, вы?! Она улыбается, что-то говорит ему, но Ложкин не слышит, охваченный непонятной тревогой. Ему и Зое угрожает что-то. Но что? — Они! — шепчет Зоя и убегает вдоль пустынной улицы, а он стоит, чтобы защитить ее от чего-то неумолимо надвигающегося на них. Ложкин проснулся и сразу услышал далекий собачий лай. Лаяли две собаки: одна — звонко, взахлеб, вторая — редко, отрывисто. Ложкин разбудил Иванова. Они вылезли из-под елки, побежали, проваливаясь по колено в глубоком снегу. Лай собак слышался все явственнее. Они остановились, тяжело дыша. Ложкин вопросительно посмотрел на товарища. Иванов сказал: — На лыжах, гады!.. Может, займем оборону? Что зря силы мотать? Ложкин отрицательно покачал головой: — Рано, Ваня… Постой!.. Выкрутимся! — Неплохо бы. Да чудес, брат, давно не было на свете. — Где у тебя веревка? Иванов торопливо полез в карман полушубка, не спуская глаз с тонких пальцев Ложкина, отстегивающих гранату от пояса. Рядом на ветку орешника села синица. Стучал дятел. Скупое солнце золотило вершины сосен. Где-то впереди мирно тарахтела повозка. Иванов вытащил моток тонкой веревки, припасенной для «языка». Ложкин отхватил от нее ножом сантиметров сорок и привязал один конец за кольцо гранаты. Снял меховую рукавицу, протянул ее Иванову. — Вяжи за палец! — Фугас! — догадался наконец Иванов, поспешно затягивая узел. Ложкин ослабил чеку, закопал гранату в снег, утрамбовал его, а рукавицу оставил на поверхности. — Порядок! — одобрительно заметил Иванов. — Слышишь? — Да, собаки лают правей и будто тише. — Обходят машины со снарядами. Там мы сделали большую петлю. Они быстро пошли, окрыленные надеждой. Иванов поднял руку. Они присели, и вовремя: в десяти шагах замелькали серые шинели. Когда взвод солдат прошел, они, пригнувшись, подкрались к дороге. На той стороне шел редкий осинник, дальше опять синел ельник, но над ним поднимался тонкий столб дыма. Лай собак опять стал громче. По дороге громыхала повозка. — Придется вернуться, — прошептал Иванов. — Тише, ложись! Из-за поворота показались заиндевелые рыжие кони. Они медленно тянули фуру с сеном. На облучке, упрятав голову в огромный воротник крытого зеленоватым сукном тулупа, клевал носом возница, держа на коленях карабин. Ложкин сказал: — Спрячешь его в сено. — На кой… — Заходи слева! — Ладно. Пошли! Собаки заливались совсем недалеко. Слышались голоса фашистов. Глухо ударил взрыв. Возница проснулся. Увидев русского солдата и наведенный пистолет, он опять закрыл глаза. Иванов бросил на воз карабин и тряхнул ездового за плечи. Ложкин приказал немцу: — Снимай тулуп и лезь в сено! Ужас парализовал солдата. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, он лишь трясся мелкой дрожью и мычал, стараясь что-то вымолвить. Иванов снял с него тулуп. Ложкин тотчас же надел его и взялся за вожжи. Иванов приподнял сено, нависшее над облучком: — Ну лезь, холера тебе в бок! Быстро! В глазах солдата мелькнула надежда, он глотнул воздух раскрытым ртом, повернулся и быстро полез в сено. — Как суслик, — сказал Иванов. — Ну и я за ним, а то он насквозь туннель пророет, тогда ищи-свищи. Ложкин стал нахлестывать лошадей вожжами. Тяжеловозы затрусили рысью. Погоняя коней, он смотрел по сторонам, ища, где бы свернуть с дороги. Собак больше не было слышно, но теперь позади, за поворотом галдели гитлеровцы, резанула автоматная очередь. Зашуршало сено. Иванов спросил: — Это не в нас? — Молчи и не показывай носа! — Паникуют, — сказал Иванов, вздохнул и затих. По обеим сторонам дороги поднимались мачтовые сосны. С правой стороны виднелись машины, дымила кухня. На другой стороне Ложкин никого не заметил, хотя съезд с дороги был весь исполосован следами повозок и машин. Он погнал рыжих дальше. Внезапно лес кончился. Открылось заснеженное поле. Недалеко от дороги из снежного бугра торчало закопченное крыло «Юнкерса» с желтым крестом. На дальнем конце поля поднимались столбы синеватого дыма. «Деревня», — определил Ложкин, и ему захотелось тепла, горячих щей, покоя. С горечью думая об этом, он сталповорачивать лошадей; от деревни показались два всадника. Он снова вернулся в лес, свернул с дороги и долго ехал в глубь леса. Снег между сосен был утоптан, везде виднелись следы огромного бивуака: валялись банки из-под консервов, обрывки бумаги, чернели проталинки от костров, по снегу расплывались маслянистые пятна. Ложкин остановил коней на небольшой поляне, густо заросшей молодыми елями. Снова нахлынуло расслабляющее желание тепла, покоя. Ложкин, тряхнув головой, слез с фуры. По дороге ползла, как тысяченогая гусеница, пехота. Внезапно совсем недалеко ударила батарея тяжелых минометов. Лошади боязливо затоптались на месте. С вершин сосен, по краям поляны, посыпался снег. — Тяжелая ударила, — тихо сказал Иванов. Он уже давно следил за товарищем. — Иван! Иванов улыбнулся. Они смотрели друг на друга с удивлением и радостью, как после долгой разлуки. Солнце освещало лицо Иванова. Ложкин впервые увидел его голубые, чистые, словно у мальчишки, глаза и улыбнулся этому, как радостному открытию. Иванов сказал: — Выручил нас этот фриц со своей фурой. Ложкин спросил: — Как он там? — Да ничего, парень тихий, только ароматный больно. — Ароматный? — Да. Запах от него — мочи нет! — Представляю… — Это, Коля, трудно представить. Одеколон, а не фриц! Они замолчали, посмотрели в небо, переглянулись. В высоте, сверля голубое небо, пронеслись снаряды. Иванов сказал: — Наши посылают по тылам. Давай, Коля, закурим. — Он подмигнул. — А то как у нас в Сибири говорят: жрать хочется, аж переночевать негде. — Спросил: — Чем это таким вкусным пахло, когда мы по дороге ехали, аж через воз прошибло? — Немецкая кухня… Постой, кажется, гости! Послышались голоса, топот коней. Левая рыжая, задрав голову, заржала. Иванов скрылся в сене. Ложкин залез на фуру, запахнул тулуп, взял вожжи. Всадники приближались. Голоса их гулко разносились по лесу. Один, судя по голосу, молодой и самоуверенный, говорил начальственным тоном: — Смотри, Отто, здесь уже стояла какая-то часть. Недурное место оставили они для нас. — Будь оно все проклято!.. — ответил глухо другой. — У меня всю челюсть разломило от зубной боли, а тут опять придется спать на снегу. Ложкин заметил двух всадников, офицера и солдата, на высоких серых лошадях. У солдата на груди висел автомат. Они ехали к поляне. Офицер говорил: — Надо мириться с временными неудобствами. Не забывай, что сказал фюрер: «Еще одно усилие, доблестные солдаты, и мы победим». Солдат промолчал. Он ехал за офицером, подперев щеку рукой. Офицер размышлял вслух: — Старик останется доволен. Он любит, чтобы бивуак был закрыт с воздуха. — Закинув голову, он посмотрел на густые кроны сосен, обернулся, сказал: — Какой прекрасный лес! Недурно бы получить здесь участок. Хотелось бы тебе, Отто, владеть таким лесом? — О-о-о, господин лейтенант! Каждое дерево стоит по триста марок! Конечно, не теперешних, довоенных марок. — Думаю, что стоит. Это корабельные сосны!.. Ну как, прошла твоя челюсть? — Да, немного полегче… Мне бы гектаров десять… — Он жадно вдохнул воздух. — И еще поле, что за лесом. Хорошее поле! Рядом река… — Недурной кусочек, Отто! И ты, возможно, получишь его. Каждый получит здесь землю или где-нибудь еще. Все получат, кто проливал свою кровь за фюрера, за великую Германию. — Он усмехнулся. — Вдруг после войны мы окажемся с тобой соседями, Отто! — О! Это бы было так хорошо, герр лейтенант. Очень хорошо! У меня совсем не болит зуб. Лошадь солдата заржала. Ложкин, пригнувшись, следил между ветвей за всадниками. Офицер стал поворачивать своего коня к дороге, как вдруг рыжая ответила серому заливистым ржаньем. Офицер приказал сухо: — Узнай, кто это расположился в нашем лесу? Солдат ударил каблуком под брюхо серому и подъехал к ельнику. Ложкин спрятал голову в воротник и полуобернулся к всаднику. Солдат спросил: — Какой части? Что ты здесь делаешь един? — Заболела лошадь, приятель. Сейчас должны прислать замену, вот и жду, — ответил Ложкин. — Из какой части? — Из саперного батальона. Солдат посмотрел на задок фуры, где стояла эмблема части: волк в желтом круге. Солдат подозрительно покосился на возницу и рысью вернулся к офицеру. С минуту они шептались. Наконец офицер громко приказал: — Пусть явится ко мне! Ложкин тихо сказал, подбирая вожжи: — Приготовься, Ваня! — Вот сволочи! — ответил Иванов, осторожно раздвигая хрустящее сено. Подъехав к ельнику, солдат сказал: — Эй, приятель, тебя требует герр лейтенант. Живо! Возница хлестнул лошадей вожжами. Рыжие нехотя натянули постромки. Фура тронулась. — Стой! — крикнул солдат, когда фура выехала из елей. Ложкин натянул вожжи. Лошади покорно остановились. — Живо ко мне! — приказал офицер, не трогаясь с места. — Слезай! — сказал солдат, подъезжая к возу. — Иди объясни, как это ты, сапер, вдруг оказался на фуре нашего драгунского полка? Откуда ты взял этих лошадей? Ведь это лошади Михеля Шульца! Его рыжие. Их весь полк знает. Куда ты дел Михеля? Живо слезай! Ложкин медлил, глядя в щель между крыльями высокого воротника тулупа. У солдата было длинное лицо с припухшей щекой, злой рот с тонкими губами. Резко тряхнув плечами, Ложкин откинул на спину капюшон. Белесые глаза солдата округлились. Он как завороженный уставился на звездочку, алевшую на шапке возницы, а руки судорожно схватились за автомат и тут же разжались — Ложкин выстрелил из пистолета. Иванов послал короткую очередь. Всадники вывалились из седел. Их кони, храпя, отбежали и остановились в отдалении. Иванов, стряхнув с плеч сено, сказал: — Куда же мы теперь? — Так и поедем на паре гнедых. — Принесла их нелегкая! — Иванов старался не глядеть на убитых. — Ну, трогай. Нет, постой! Ушанку-то сними. Я тебе ее сейчас обменяю у нашего кавалера. — Оставь. — Ложкин снял шапку, сунул ее в сено. Иванов сказал: — Конечно, противно, да без шапки нельзя. На-ка! — Он размотал с шеи коричневый шарф. — Домашний, бабкин подарок. Ложкин повязал голову шарфом, поднял воротник, надвинул капюшон. Иванов одобрительно кивнул: — Ну вот, теперь ты почти как настоящий фриц. Давай гони от греха подальше! Ложкин ехал по той же дороге. Он миновал то место, где они захватили повозку. В осиннике зенитчики устанавливали скорострельные пушки. Ложкин гнал коней, мысленно отмечая на карте расположение немецких частей. За осинником с обеих сторон дороги в частом сосняке стояли повозки, машины, толпились солдаты. Впереди показалась артиллерийская запряжка. Шестерка разномастных лошадей тянула гаубицу. Ее сопровождало всего четыре человека. Двое солдат сидели верхом на лошадях. Третий, похожий на туго набитый матрац, восседал на зарядном ящике. Четвертый плелся за орудием, засунув руки в рукава потрепанной шинели. Ложкин свернул с дороги и остановился, пропуская орудие. Артиллеристы с завистью покосились на тулуп возницы. Всадник на кореннике сказал: — Снять бы шерсть с этого барана! — Да, грелись бы по очереди, — согласился второй. — Да что вы, ребята?! — с испугом возразил солдат, похожий на матрац. — Под суд захотели? — Сержанту хорошо! — прохрипел пеший. — Напялил на себя бабье манто. — Ничего, — успокоил сержант. — Скоро вы тоже оденетесь. Орудие проползло мимо. Но дальше, по обе стороны дороги, чуть не на целый километр расположились части пехотной дивизии. Этот участок Ложкин проехал рысью, взял подъем и выехал на шоссе. Тотчас к нему подскочил регулировщик и, ругаясь, приказал убираться «ко всем чертям», а сам бросился прочь. — Дорога простреливается! — крикнул он уже из щели. В подтверждение его слов дрогнула земля, повозку засыпало снегом, комьями земли, заволокло едким дымом. Ложкин похолодел. Ему казалось, что убиты лошади. От удара взрывной волны он откинулся назад. Лошади перемахнули шоссе и понесли по лесной дороге среди густого ельника. Ложкин заметил, что под елями стоят танки. Наконец лошади пошли шагом, тяжело поводя потными боками. Между двух тяжелых машин у небольшого костра сидела группа танкистов. Один из них, заметив воз, сказал: — Ребята, да это опять Михель из Баварии! — Эй, Михель! — крикнул он. — Иди погрейся да выпей за свою Гретхен и ее возлюбленного! Танкисты захохотали. Ложкин хлестнул коней вожжами. Танкисты кричали: — Ты поехал не в ту сторону! — Эй, Михель, ты заблудился, дружище, в русском лесу! Солнце перевалило за полдень, а Ложкин все еще колесил по лесным дорогам. В глубь леса ему так и не удалось пробраться на повозке: там находились склады боеприпасов и на дорогах стояли посты, а бросать повозку и пробираться пешком было рискованно. Кони шли, устало понурив голову. Иванов изнывал, лежа в глубине воза. Иногда, выбрав удобный момент, Ложкин перебрасывался с ним несколькими словами. Это были совсем ничего не значащие фразы. — Ну как ты? — спрашивал Ложкин. — Хорошо, — глухо доносилось из сена. Или: — Сколько на твоих? — спрашивал Иванов. — Второй час. Молчи! Впереди какое-то скопище… Иванов прислушивался к голосам и шумам, проникавшим к нему через слой сена. Вот несколько солдат подошли к возу и что-то спрашивают Ложкина. Он хмуро отвечает, понукая лошадей. Солдаты не отстают от воза, они уже что-то требуют у него. Ложкин кричит на них, хлещет лошадей. За возом бегут, вырывают клочья сена. Ложкин щелкает затвором карабина. Вслед слышится злой смех и ругательства… Иванов сжимает автомат, каждую секунду готовый прийти на помощь другу. Солдаты отстают. Лошади опять идут шагом. Колеса мерно тарахтят по укатанной дороге. Иванов вытирает потный лоб. Никогда еще он не переживал таких неприятных минут. Мучила жажда. Улучив удобную минуту, Ложкин слезает с воза и, скатав комок снега, передает Иванову и сам жадно пересохшим ртом глотает снег. Но снег не утолял жажду, он обжигал рот и будто испарялся на языке. — Воды бы, — сказал Иванов. — Хорошо бы кофе! Эта насмешливая фраза надоумила Иванова. — А ты смотрел в ящике под сиденьем? — Нет, а что? — Посмотри, там должна быть фляга с кофе. Иванов оказался прав. Запасливый Михель взял с собой флягу с желудевым кофе. Ложкин отпил несколько глотков и, с трудом оторвавшись, сунул флягу в сено: — Н, кудесник, да оставь глоток этому олуху! Иванов напился, вытащил изо рта связанного Михеля свой носовой платок. Михель, стуча зубами о флягу, захлебываясь, выпил остатки кофе. — Не парень, а клад, — сказал Иванов, возвращая флягу. — Расставаться жалко будет… Иванов устроился поудобнее и задремал под мерное покачивание и дребезжание повозки. Разбудили его выстрелы над головой и тряска. Фура неслась, грохоча всем своим железом, подпрыгивая на ухабах. Стрелял Ложкин из карабина. Иванов, упершись руками, сбросил на дорогу добрых полвоза. В это время Ложкин обернулся и, вскинув карабин одной рукой, выстрелил не целясь. Иванов заметил, что на Ложкине не было тулупа, на шее мотался автомат, шарф развевался за спиной. Лошади мчались по лесной дороге, похожей на ущелье. Иванов старался разглядеть, в кого стрелял Ложкин, но дорога тонула в густых сумерках. Вдруг совсем недалеко вспыхнули и погасли огоньки выстрелов. Иванов послал в ответ короткую очередь из автомата и чуть не вылетел из повозки. Лошади круто свернули вправо. Фуру бросало из стороны в сторону. Лес расступился. Посреди поляны вырос серый силуэт гитлеровского солдата, он что-то крикнул, соскочил с дороги из-под самых коней и, падая, выстрелил вверх. Иванов не успел выстрелить в солдата, как лошади опять внесли под свод елей и остановились, налетев на штабель артиллерийских снарядов. Ложкин упал на мокрый от пота круп лошади и свалился в снег. К повозке бежали два солдата. Иванов положил ствол автомата на борт фуры, прицелился и нажал на спуск. Солдаты упали. Ложкин выстрелил из-под фуры в солдата на поляне. Солдат повалился в снег и больше не поднялся. Фашисты не отвечали. Недалеко под елями отчаянно завертелась ручка полевого телефона. Иванов перевалился через борт фуры, и они с Ложкиным переползли за кладь из снарядов. Поднялись на ноги. Оглядываясь по сторонам, Ложкин отцепил от пояса последнюю гранату. Иванов полез за пазуху и стал лихорадочно шарить там рукой. Телефонист выкрикивал лающим голосом: — Русский десант! Да, да, русский десант!.. Я ранен… Автоматчики!.. Да, да! Не меньше взвода… Ложкин прислушивался к голосу телефониста, вглядывался в серую темень между деревьями, где лежала единственная дорога для их отступления. Телефонист внезапно замолчал. Вздохнула лошадь и, мотнув головой, звякнула удилами. Стало необыкновенно тихо. И в этой густой тревожной тишине раздался отдаленный гул машины. Ложкин тихо сказал: — Ты выронил? Ничего. Сейчас. — Он шагнул к возу. — Стой! — прохрипел Иванов. — Сено… — Вот кажется… Не смей! — Подожгу сено! — Не смей! Фриц снимет! — Я ползком… — Стой! Вот он! Холера!.. — Иванов держал в руке кирпичик тола, обмотанный бикфордовым шнуром. Поспешно стал разматывать шнур. — Огня! Он сунул кирпичик в нижний ряд снарядов и ждал. Ему казалось, что Ложкин необыкновенно долго достает зажигалку и как-то вяло, лениво чиркает колесиком о кремень. Наконец затеплился голубоватый огонек. Ложкин поджег шнур и бросился прочь от снарядов. Он бежал, проваливаясь по колено в снегу, еле различая в густых сумерках просветы между деревьев. Пробежав метров сто, он оглянулся и увидел, что Иванова нет с ним. Остановился, поджидая его. Машины приближались. По работе моторов Ложкин понял, что они уже сворачивают с шоссе к складу. Машины надсадно заныли на ухабистой дороге. Зашуршал снег, хлестнула ветка. Иванов подходил, толкая кого-то перед собой. Ложкин узнал Михеля. Не сказав ни слова, он опять побежал. До взрыва оставалось не больше трех минут. Как ни соблазнительно было укрыться в чаще среди обманчивой тишины елей, Ложкин бежал к линии фронта на первые зарницы осветительных ракет. Надо было вырваться из кольца, которое сейчас, наверное, уже смыкалось вокруг склада. Жгло грудь, не хватало воздуха, пот заливал глаза, а Ложкин бежал и бежал. Ми-хель упал. Иванов перешагнул через него и, не останавливаясь, из последних сил бежал за товарищем. Наконец полыхнул малиновый свет. Ложкин упал. Иванов повалился у его ног. Земля вздрогнула под ними. Взрывы они ощущали всем телом. Их вдавила в мягкий снег упругая волна воздуха. В ушах звенело. В глазах шли красные круги. Несколько секунд им казалось, что они ослепли и оглохли. Иванов сел, тряхнул головой, спросил: — Живой? — Как будто, — отозвался Ложкин, с трудом поднимаясь из снега. При свете ракет мелкая снежная пыль, поднятая взрывом, сверкала и переливалась в неподвижном воздухе. С треском падали сучья; фыркая взрывали снег осколки. — Надо смываться под шумок, — сказал Иванов и вдруг, весь насторожившись, навел ствол автомата в прогалину между елей. — Это Михель, — сказал Ложкин. — Не стреляй! — Нечистая его несет! — Иванов опустил автомат и вопросительно посмотрел на Ложкина. Блиндаж был большой, на целое отделение. Фашисты не пожалели дарового леса на стены и пол, выложив их сосновым кругляком. В углу стоял полированный столик на трех ножках, залитый стеарином. Луч карманного фонарика обшарил все углы и остановился на портрете Гитлера. Фюрер хмуро смотрел со стены на русских солдат. — Хороший блиндаж! — сказал Ложкин, усаживаясь на нары. — Лес-то ведь наш. — Иванов направил свет фонаря под нары и сел рядом, потом осветил Михеля, замершего у порога. — Садись и ты. Отдыхай, бедолага! Михель по тону понял, сел на кучку мусора у стены. Иванов погасил фонарик, подошел к дверям. С минуту прислушивался. Вернулся, сел на нары. Достал кисет. Зашуршал бумагой. Сказал: — Отдыхают фрицы… Закуривай, Коля, набирайся сил. — И это неплохо. Давай! — Устал? — Немного. — Какое там! Я хотя вздремнул сегодня на возу. А ты весь день промаячил на козлах. На. Ты что? — Фу ты! Уснул. Сверни мне папиросу. — На мою. Да ты сосни немного. Время еще есть. Мы с Михелем подневалим. — Нельзя. — Ложкин взял папиросу, глубоко затянулся дымом. — Ну вот и прошло. Покурим и двинемся. Хорошая вещь — махра для солдата. — Одна утеха. Постой! А Михеля что же мы не угостим? Скажи ему — пусть закурит для храбрости. Ложкин предложил Михелю закурить. Михель ответил: — Я не курю. Табак вредит здоровью и ведет к непроизводительным затратам. — Что он там бормочет? — спросил Иванов. Ложкин перевел ответ Михеля. Иванов закашлялся от смеха, сказал с удивлением: — Кто бы сказал — не верил, что есть такие на свете. Хватим мы с ним горя! Ложкин успокоил: — Я думаю, что он не особенно осложнит обстановку. Вел он себя пока вполне прилично. Как видишь, это очень практичный тип. Ему невыгодно попадаться своим на глаза. — Пошто? — Судом дело пахнет. В лучшем случае, попадет в штрафную роту. — Да, дело его труба. А он не такой уж дурак, как я подумал. Прямо химик. — Химик? — Кто же еще? Все до капельки рассчитал. Ты спроси его, почему он все-таки в лесу не удрал от нас. Ложкин минут пять расспрашивал Михеля. — Ну, что он там лопочет? — не вытерпел Иванов. — Оказывается, в лесу он наткнулся на нас случайно. Страшный взрыв, как он выразился, потряс его до такой степени, что он пошел не в ту сторону. Кстати, он уверен, что это его соотечественники применили против нас сверхоружие, давно обещанное фюрером. — Что это такое? — Никто пока не знает, а Михель тем более. Видимо, эту вещь они придумали для поднятия боевого духа. Да! Самое забавное, что он не может допустить, чтобы мы возили его весь день по их передовой. Он уверен, что мы давным-давно переехали линию фронта. — И везем его в Сибирь? — Гораздо хуже для нас с тобой: мы разбиты наголову, отступаем и скоро сами очутимся в плену. Он обещал, что замолвит за нас словечко. — На том спасибо! Но ты растолковал ему? — Стоит ли убивать иллюзии? Это подорвет его силы, необходимые для последнего перехода. — Ну и остолоп! Ладно, не пугай его зря. Скажи только, чтобы вел себя аккуратнее, ночь-то сегодня капризная. Мороз. Каждый шорох за километр слышно. — Сказал уже. — Ну?.. — Да пора. — Я первый пойду. — Хорошо. Дот обходи справа. — Ладно. Ну, чадо, пошли! — Он толкнул Михеля в бок и, нагнувшись, шагнул в траншею, заваленную плотным, слежавшимся снегом. Звезды скупо освещали землю. Иванов остановился у бруствера. Впереди угадывалось поле, за ним расплывались холмы. Оттуда потянул колючий ветер, запахло дымком, щами. На миг мысль о солдатском котелке, полном горячих щей, и о куске ржаного хлеба заставила Иванова и Ложкина забыть обо всем пережитом за эти сутки, заслонила опасность последнего перехода. Иванов весело шепнул, сплюнув голодную слюну: — Лямин с кухней приехал, пехоту кормит. Опоздаем чуток. — Нам оставят, — таким же веселым шепотом ответил Ложкин. Михель жадно прислушивался к интонациям их голосов. Превозмогая животный страх, он хотел понять, чему радуются эти страшные, непонятные люди в такую ночь, когда сердце застывает от холода и ужаса, когда впереди у них только смерть. Михель знал, что их не возьмут в плен. Он сам, как честный солдат, скажет, что такие люди опасны для Германии. Он только попросит, чтобы их не вешали, а расстреляли… Его мысли внезапно оборвались, когда он увидел, что один из русских солдат вылезает из траншеи. Ему так хотелось остановить его, что он, забывшись, громко шмыгнул носом. Ложкин шепнул еле слышно, но так, что у Михеля перехватило дыхание: — Вперед!.. Михель, вздохнув, полез за Ивановым.
А. Воинов ЗОЛОТЫЕ ДИНАРЫ

Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Это была удивительно длинная зима. Просто поразительно, как он ее вытерпел. Сначала он отчаянно взывал в каждом письме к отцу: «Возьми меня отсюда, мне здесь не нравится». Но отец не приезжал, пришлось смириться и ждать лета. Да, Костя прожил трудную зиму. Это была первая зима без матери. Мать погибла на маленьком пограничном острове. Ее унесла волна, огромная, как гора. Когда на их остров из Владивостока прибыла тревожная радиограмма о том, что со стороны Японии, где было землетрясение, идет волна высотой тридцать метров, дежурный радист посмотрел на карту и недоверчиво усмехнулся. От Японии до них тысяча километров. А на море штормы. Сюда волна наверняка не дойдет. По пути на нее навалится шквал, разбросает, придавит. Так думал радист. Да и Костин отец тоже, признаться, так думал, но он все же встревожился. Он был начальником заставы и отвечал за всех пограничников и немногих живших на острове рыбаков. Посередине острова возвышалась скала. Отец приказал всем подняться на нее. Рыбаки привязывали к кольям снасти. Они не верили в опасность. — Ну, будет волнение на море, — говорили они, — но, чтобы появилась тридцатиметровая волна, такого еще не бывало! Отец торопил всех. Но люди не тревожились, они смотрели на горизонт — никакой волны там не было, обычная крупная зыбь. Многое пережил в этот день Костя, но почему-то одним из самых ярких воспоминаний остался разговор отца со старшиной Матюхиным за минуту до того, как случилось страшное. Он стоял на крыльце заставы, когда отец приказал Матюхину поднять на скалу радиостанцию, но Матюхин не спешил выполнить приказание; он пошел в склад, где лежали бочки с рыбой. Матюхин был запаслив; в свободное время он ходил на рыбную ловлю, а потом солил наловленные треску и селедку. — Это у меня резерв главного командования! — говорил он шутливо. И на самом деле, мало ли что могло произойти! Настанут ранние холода — не пройдет во льдах корабль с продовольствием, — вот и пригодится этот резерв. Матюхин раздумывал, как поступить с бочками, в случае если действительно сюда придет какая-то дурацкая волна. Вдруг дикий крик матери сжал Костино сердце. — Волна!.. Волна!.. — кричала она, выбежав на крыльцо. Костя посмотрел вдаль. Море там словно вспучилось и поднялось к потемневшему небу. Огромные, злые, пенящиеся языки то вздымались, закипая от ярости пеной, то, пригнувшись, хищно устремлялись вперед, подтягиваясь к маленькому острову. — Все на коней!.. На машину!.. На машину! Быстрее к скале! — хрипло кричал отец. — Маша, поезжай вперед!.. Быстрее!.. Только когда машина скрылась за воротами, он подскочил к Косте, схватил на руки. И через мгновение Костя сидел с ним на коне, вцепившись руками в седло. Вокруг ржали взнузданные пограничниками кони. — Скорей! Скорей!.. — торопил отец. Затем дикая скачка, храпение коней… И вот они уже взбираются по круче, таща за собой лошадей. Костя помнит, как он карабкался и карабкался вверх, думая только о том, чтобы не отставать от отца, который тянул его за собой. Волна уже навалилась на берег. Вскинулись кверху баркасы, страшно закричали люди: это рыбаки в последний момент решили выйти в море, надеясь, что там волна не захлестнет их… Через мгновение все было кончено — волна потопила и рыбацкие лодки и всех, кто судорожно за них цеплялся, потом лениво наклонилась над деревянным домом заставы, и он исчез в кипящем водовороте. — Маша! — закричал отец. — Где Маша?! Но вездехода не было видно. Отец метался по вершине скалы, такой узкой, что на ней едва умещались сбившиеся в кучу кони. Солдаты изо всех сил старались удержать их за уздечки. Кони рвались, их била мелкая дрожь, глаза их с огромными белками казались безумными. — Маша!.. Маша!.. — срывающимся голосом кричал отец. Но вездехода не было, хотя всем, кто стоял на скале, казалось — вот сейчас произойдет чудо, и он неожиданно выскочит из пучины… С глухим рокотом к скале устремлялась вода, в бешеном вихре кружились пенящиеся потоки, а за ними, медленно колыхаясь, полз огромный вал. Он словно сознавал свою сокрушающую силу и любовался тем ужасом, который вызывал. Таранными ударами разбились о кручу волны, и скала дрогнула. Вниз посыпались камни, с грохотом отслоилась часть земли и тут же рухнула в беснующиеся водовороты. Теперь скалу со всех сторон окружала вода; берег исчез, словно остров провалился под воду. Черный, в белых подпалинах конь рванулся со скалы, взвился на дыбы и, совершив гигантский скачок, распластался в пространство. Костя увидел, как он ударился о воду, подняв кверху каскад брызг; погрузился с головой, потом вынырнул и стал отчаянно биться в воде. Но спастись уже было невозможно. Каждый удар волны сотрясал скалу от основания до верха. И все же это было лишь легкое прощупывание противника. Вал, яростный, клокочущий, гудел уже совсем близко. Он нес с собой все, что ему удалось сорвать с земли: доски, бочки, обломки дома, вырванные с корнем деревья… Отец вдруг схватил Костю и, прижав одной рукой к себе, другой ухватился за выступ камня. — Маша!.. Маша!.. — повторял он, и по его щекам текли слезы. Солдаты бросились наземь, вцепились в камни. Всем казалось, что наступила последняя минута жизни. Скала дрогнула и застонала; дико закричали кони; еще один, перевернувшись вверх копытами, тяжело рухнул в воду и больше не вынырнул. В стремительном движении волна унесла его за собой. Костя закрыл глаза от ужаса. Тысячи брызг обрушились на него, и он почти захлебнулся. И все же в его возбужденном, встревоженном сердце ни на мгновение не умолкала боль: он думал о матери. Где она?! Что с ней?! Первый раз в жизни ее не было рядом. Руки отца крепко сжали ему плечи и грудь. Скала гудела, казалось она не выдержит страшного напора и рухнет… Вдруг объятия отца ослабели; Костя вдохнул сырой, холодный воздух. Кто-то рядом крикнул: — Ушла!.. Ушла!.. В этом крике была радость, радость человека, который в эти минуты несколько раз умирал и все же остался жив. Отец встал, посмотрел на Костю и каким-то очень мягким движением поднял его на ноги. Лицо отца было землистое, щеки ввалились, а глаза лихорадочно блестели. Волосы его растрепались — зеленую фуражку сдул ветер. Волна действительно уходила, тяжело переваливаясь. И, как бывает после страшного напряжения, вдруг сразу — тишина, покой. И в это еще не веришь. И в покое, кажется, притаилась еще большая опасность. Костин отец и пограничники стояли на краю скалы и смотрели, как медленно оседает вода. Она уже растеряла всю свою злость. Это была просто вода, зеленая, холодная, подернутая зыбью. Она торопилась войти в привычные берега. Когда море совсем успокоилось, отец с оставшимися в живых солдатами обыскали каждую впадину, каждую щель в нагромождении камней, но следов вездехода нигде не было. Через несколько дней море выбросило на берег трупы старшины Матюхина, трех солдат и двух рыбаков. Их похоронили в общей могиле. Не спасся никто из ребят, живших на острове: ни Симка Морозов, у которого Костя незадолго до этого одолжил большой морской нож; нож он потом нашел в развалинах дома; ни Федя Гришаев, круглый, веселый толстячок; ни Алеша Федоров, с которым он много раз ходил на рыбалку, когда их брал с собой Матюхин. Радиостанцию залило водой — она вышла из строя; с берегом связи не было. И никто во всем мире не знал, какая трагедия разыгралась на маленьком островке под названием Черная скала… К счастью, в плотно закрытом бетонном погребе, куда вода почти не проникла, сохранились запасы муки. И оставшийся в живых повар стал печь хлеб на сложенных прямо на земле кирпичах. Море выбросило на берег доски и разбитые баркасы; из них сделали нечто похожее на шалаш; когда горел костер, в нем было тепло и можно было спать. Несколько дней оставшиеся в живых прожили в этом шалаше. Наконец к острову подошел пограничный катер. В штабе отряда начали беспокоиться, что на все вызовы по радио застава не откликается. Вскоре после этого у берега бросил якорь транспорт с группой пограничников. На этом транспорте привезли новый разборный дом для заставы. Через несколько часов он уже возвышался на месте потонувшего. Дом был другой. И люди приехали другие. А отца, солдат и Костю катер увез на Большую землю. Отца и солдат поместили в госпиталь: от всего пережитого у них было нервное потрясение. Особенно плохо было отцу. Костя жил в детском доме, часто навещал отца и жил только мыслью о том, что вот отец поправится и они снова будут вместе. Когда отец наконец выздоровел, его назначили на южную границу. И он поехал туда, где у подножия высокой горы Арарат течет река Аракс. Его назначили начальником заставы, а Костю он определил в интернат в Ереване. — Тебе надо учиться, — сказал отец. — Вблизи заставы школы нет. Что же делать, сынок, придется нам расстаться до лета… Костя подчинился, но чувство обиды против отца невольно осталось. Если бы была жива мать, она бы что-нибудь придумала, и они бы были все вместе. Это было в начале зимы. В интернате шли занятия. Сколько себя Костя помнит, он жил в местах, где почти всегда было холодно. Он даже однажды видел живого белого медведя; медведь стоял на льдине, плывшей мимо острова. Старшина Матюхин, заядлый охотник, приложил к плечу винтовку, прицелился, потом вдруг крякнул и не стал стрелять: — Больно красив, пусть живет! Здесь, в Ереване, было тепло и солнечно. Впервые в жизни Костя попробовал виноград, о котором раньше только читал в книгах. Увидел живую змею, серую, с маленькой головой, — она в парке переползала через дорогу. Наступила середина октября, погода была такая, как на Курилах в редкие летние дни. Все, казалось, шло хорошо. Костя жил в интернате в большой чистой комнате, учился в светлых классах, у него была мягкая кровать, вкусная еда, его окружали ребята, с которыми можно было дружить. И все-таки он тосковал. Ему здесь не нравилось. С раннего детства он привык к северной природе, к ее просторам, к укладу жизни, который был на границе, к тому, что ночью рядом с кроватью отца может тревожно загудеть телефон, и отец, как будто и не спал, быстро оденется и выбежит в ночную темень. К тому, что за окном их квартиры взволнованный голос дежурного вдруг крикнет: «Тревога!..» И начнется суматоха: раздастся стук сапог, тупой лязг оружия, удаляющийся лай овчарки Дика. А Костя только приоткроет глаз, повернется на другой бок и опять спит. Тревога для него дело привычное. На какую бы границу он ни приехал, он уже скоро все знает: и где стоят столбы, и где тропинки, по которым ходят солдаты, где вышки, с которых наблюдатели в бинокль оглядывают дальние поля. Костин отец, капитан Григорий Андреевич Корнеев, провел на границе почти полжизни — двадцать лет. Ну, а его сын, Константин Григорьевич, поменьше — всего десять. Он пограничник с того дня, как родился на холодном Кольском полуострове, на границе. За эти десять лет он побывал в разных местах: отца переводили на Балтику, потом к Бресту на польскую границу и, наконец, на Курильские острова — поближе к Японии. И всегда с отцом ездила мать. Она была учительницей и преподавала в школе. Даже на маленьком острове она организовала школу. В ней было три начальных класса. И рыбаки отправляли своих ребят на материк только тогда, когда им приходила пора учиться в четвертом. Костя учился с ними, у него были товарищи… Теперь все было по-другому. Костя грустил, в письмах звал отца. Но отец не мог приехать — он был занят, ему надо было хорошо изучить новую границу, освоиться с обстановкой, узнать людей, вместе с которыми предстояло работать. Только несколько дней, во время зимних каникул, Костя погостил у отца на заставе, на берегу Аракса… Прошло много времени, пока Костя наконец привык к своей новой жизни, свыкся с ребятами и приобрел друга. Его друга звали Самвел Арутюнян. Самвелу одиннадцать лет. Он родился в Октемберяне. Никогда не видел моря, но зато хорошо знает горы. Никогда не видел белых медведей, но хорошо разбирается в сортах винограда. Умеет ловить змей и стравливать скорпиона с фалангой. Пожалуй, Самвел и физически покрепче Кости. Во всяком случае, он умеет лазить по скалам и мало утомляется под жарким солнцем. Отца и матери у него не было — они погибли: машина, на которой они ехали, сорвалась в пропасть. Самым близким родственником у него остался старый дед — заслуженный чабан. Его звали Баграт. Самвел часто бывал у него в гостях. Костя подружился с Самвелом и написал отцу, что хочет на каникулы поехать на заставу вместе с ним. И вот наступил этот счастливый день, когда отец приехал за Костей и Самвелом. Он приехал на военной машине здоровый, загорелый, только глаза были не такие веселые, как прежде. Он обнял сына, поцеловал его. И Костя всю зиму таивший обиду против отца, вдруг прижался к его груди, притих и сразу забыл свою досаду. В пути на заставу Костю радовало все: и то, что он мчится в машине и что отец сидит впереди, рядом с шофером, по-знакомому сложив руки на коленях. Зеленая фуражка на его голове чуть сдвинута на затылок. И молодой солдат-шофер в такой же зеленой фуражке, какие носят пограничники. Сейчас шофер сосредоточенно молчалив: он везет начальника. Но Костя уже успел познакомиться с ним и знает, что его зовут Петей и что однажды он на этой самой машине гнался за кабаном. Самвел впервые ехал в военной машине. В его черных блестящих глазах затаенное любопытство. Он уже ощупал спинки передних сидений, сделанных из гнутых труб. Теперь его взгляд привлекли две ручки с черными набалдашниками, торчащие из пола. — Для чего они? — спросил он. Конечно, Костя знал это. Одна ручка для того, чтобы передние колеса могли, если понадобится, тянуть машину. Обычно ведут ее задние колеса, а если к ним подбавить тягу передних, то тогда машине не страшна никакая грязь, на то и вездеход, чтобы везде проехать. Другая ручка для того, чтобы, если нужно, увеличить обороты мотора, тогда машина станет еще сильнее — она сможет тащить за собой даже пушку. Отец молча слушал разговоры мальчиков и пристально смотрел перед собой в ветровое стекло на дорогу, по которой медленно брели коровы. Шофер нажал на гудок, и коровы степенно расступились перед машиной. Они не торопились и не шарахались, как овцы. Пастух, молодой загорелый парень в черном пиджаке и серой кепке с узеньким козырьком, узнал капитана, приветливо помахал ему рукой. За живописным поселком шофер свернул в сторону и взял курс прямо на Арарат. Из Еревана Арарат виден не часто, лишь тогда, когда его не засвечивает солнце и облака не закрывают небо. Всякий раз, когда Костя смотрел на его высокую, покрытую снегом вершину, он вспоминал Курилы. Там, наверное, снег покрывал бы всю гору сверху донизу. — Здесь недалеко мой дед Баграт, — сказал Самвел своим гортанным голосом. — А где он? — спросил Костя. — Пасет отару на берегу Аракса. Отец обернулся: — Я знаю твоего деда Баграта. Он заходит к нам на заставу. Почтенный человек! Последний поворот — и впереди высокая темная стена. За стеной, над купами зеленых деревьев, виднелась мачта, а на ней красный флаг. Когда машина подъехала еще ближе, за листвой показалась крыша дома. — Вот мы и приехали, — произнес капитан.ГЛАВА ВТОРАЯ
Застава! Много раз, приезжая к деду Баграту, Самвел издали видел, как из широких зеленых ворот выходили пограничники, выезжали машины, но никогда еще ему не приходилось бывать за высокими стенами, в которых проделаны бойницы. Если враг нападет, то сквозь узкие щели можно стрелять, лежа за пулеметом или опустившись на одно колено. Когда вездеход въехал в ворота, которые распахнул дежурный, у Самвела забилось сердце. Сейчас он увидит то таинственное, что скрыто за этими глухими стенами. Машина въехала в маленькую густую рощу. Это о ней писал в письмах Косте его отец. Когда-то очень давно, лет двадцать назад, писал он, пограничники решили посадить во дворе заставы деревья. И каждый солдат, который начинал свою службу на заставе, оставлял память о себе — сажал маленькое деревцо, ухаживал за ним. Каждый — по одному маленькому деревцу, и теперь здесь выросла густая роща. Машина прошелестела колесами и остановилась у крыльца небольшого дома. Навстречу из двери вышли несколько человек. Высокий сержант с красной повязкой на рукаве взял руку под козырек, то есть приложил руку к краю широкополой зеленой панамы, какие в жару носят пограничники, и доложил о том, что происшествий на границе нет. Докладывал он весело и привычно громко, а глаза его нащупали в глубине машины Костю. И Костя тоже ответно улыбался. С сержантом он уже познакомился в начале зимы, когда они с отцом впервые приехали на эту заставу. — Ну, вылезайте! — обратился капитан к ребятам. Он вышел из машины, обернулся и нагнул вперед спинку кресла, на котором сидел, чтобы мальчики могли выйти. Костя одним прыжком очутился на земле. С зимы здесь все преобразилось. Буйно расцвели деревья; в их гуще на разные лады пели тысячи птиц — для них это был оазис среди опаленных солнцем пустынных холмов. — Здравствуй, Виктор! — крикнул Костя сержанту. Сержант схватил его за плечи и приподнял кверху: — Привет, следопыт! А ты все как перышко, ничуть не поправился. На крыльцо вышли еще несколько солдат и старшина, коренастый, с круглым обветренным лицом. Увидев Самвела, который стоял у машины, он спросил: — Ну, а черненький кто будет? — Это Самвел, друг моего Кости, — ответил капитан. — Знаешь деда Баграта? Его внук. Старшина внимательно посмотрел на Самвела, словно стараясь его припомнить, но так и не вспомнил. Он отозвал капитана в сторону и начал о чем-то шепотом говорить ему. При этом они оба то и дело посматривали на рощу. Глаза капитана сузились, и он пристально оглядывал плотно сомкнутые кроны деревьев. Самвел услышал, как он тихо спросил старшину: — Когда это случилось? — Наверное, ночью, — так же тихо ответил старшина, — а заметили мы всего час назад. Самвел пытливо оглядывал двор заставы. Сквозь широко раскрытое окно виднелась белая стена комнаты, большой портрет Ленина, поблескивающие вороненым блеском автоматы. Их было много — длинный ряд. Налево, между домом и оградой, шла низкая бетонная стена. Костя остановился у ее края и, наклонившись, пристально смотрел вниз. В глубине двора, у сада, словно сохнущий невод, висела натянутая волейбольная сетка. Вот, кажется, и все, что увидел Самвел, и, по правде говоря, был разочарован: он думал увидеть на заставе что-то необычное. — Самвел! — позвал его Костя. Самвел подошел и увидел за стеной небольшой бассейн, наполненный мутной водой Аракса. — Смотри, какая грязная вода! — сказал Костя. — Разве в ней можно купаться? Самвел кивнул головой: — Конечно, можно. В Араксе почти всегда вода мутная. Особенно, когда в горах идут дожди. Они смывают и песок и глину. — Тут не столько вымоешься, сколько перемажешься, — усмехнулся Костя. — Вот аристократ! — подошел к мальчикам Виктор. — Погоди, привыкнешь!.. — Пошли домой, ребята! — позвал капитан. — Надо поесть с дороги… Да ты не робей, Самвел. Помни, что ты на пограничной заставе, а здесь люди боевые. Одноэтажный домик, где жили офицеры, стоял по другую сторону рощицы, почти совсем ею скрытый. К нему надо было идти узкой тропинкой мимо беседки, построенной в самой гуще деревьев. — Бежим! — предложил Костя Самвелу и устремился вперед по тропинке. — Назад! — вдруг крикнул отец; в его голосе была тревога. — Вернись назад! Там кобра!.. Кобра! Костя, словно со всего размаха ударился о стену, остановился и отскочил назад, наткнувшись на Самвела. — Не бойся, — успокоил его Самвел. — Ее можно подстеречь и убить. — Из Еревана звонили, просили поймать живую для зоологического сада, — сказал Виктор. — Хотят послать куда-то в Свердловск… Ждем змеелова. Должен приехать из города. — Мой дедушка Баграт может ее поймать, — предложил Самвел. — Верно, — сказал капитан. — Я слышал, что Баграт ловко ловит змей. — А где его искать? — спросил Виктор. — На холмах у Аракса. Подойдешь к старинному монастырю и увидишь его отару. — Можно нам с Костей к нему сбегать? — попросил Самвел. — Ладно, — согласился капитан. — Отдохнете — и пойдете. Отец, Костя и Самвел обогнули рощицу. Теперь она уже не казалась Косте такой приветливой, и он опасливо поглядывал на нее. Они вошли в деревянный дом и через небольшую кухоньку прошли в комнату. Костя переступил порог и остановился: прямо на него с портрета смотрела мать. На фотографии она задумчиво сидела на берегу моря и чуть улыбалась, у ее ног бились волны. Костя помнил, что, когда отец фотографировал маму, он заставил Костю прыгать на берегу, чтобы рассмешить ее. Зимой этой фотографии на стене еще не было. Очевидно, ее увеличил какой-нибудь местный фотограф. В комнате не было ничего, кроме двух коек, застеленных одинаковыми серыми ворсистыми одеялами с большой буквой «Н» из красного сукна, пришитой к краю, и стола, застеленного белой бумагой. — Ну вот, — сказал отец. — Располагайтесь, ребята. Костя и Самвел поставили на пол свои чемоданчики и достали оттуда нужные вещи. Потом отец накормил их на кухне и разрешил пойти к деду Баграту. Когда они огибали сад, направляясь к воротам, Костя с опаской поглядывал себе под ноги — вдруг наступит на змею. В воротах он пропустил Самвела вперед, и тот, перейдя дорогу, зашагал прямо по траве к берегу Аракса. Костя брел за ним и думал о том, что змее или какому-нибудь скорпиону ничего не стоит прокусить его тонкие брюки, а ботинки закрывают ноги только по щиколотку. И как это Самвел так смело шагает вперед? Неужели уверен, что с ним ничего не случится? А ведь на нем штаны покороче, вместо ботинок — туфли, и ноги внизу совсем открыты. Узкая спина Самвела уже мелькала метрах в двадцати впереди, а Костя все еще плелся, выбирая место, куда поставить ногу. Прежде чем шагнуть, он внимательно осматривал землю. — Эй, Костя! — крикнул Самвел, стоя на большом красноватом камне. — Иди скорее сюда!.. Посмотри на аскера.rel="nofollow noopener noreferrer">[221] Ну, аскеров-то Костя видел еще зимой. Турецкие пограничники любят посидеть над обрывом, у самого берега Аракса. Они одеты в американские брюки зеленого цвета и такую же куртку, в руках у них старые ружья с длинными стволами. Аскеры часами сидят на каком-нибудь большом камне, курят и думают. Сначала Костя с интересом рассматривал чужих людей, — на Курилах только волны шумят на границе. Но потом привык: сидит аскер на камне и курит. Ну и что из того? Сейчас Костю волновало совсем другое: как бы Самвел не заметил, что он боится. С трудом подавив в себе страх, Костя несколькими большими прыжками добрался до камня и вскочил на него. Теперь он и Самвел стояли рядом. Внизу шумел Аракс. Его вода мутного желтого цвета, и даже у самого берега дна не видно. Удивительно, как в этой реке может жить рыба! Но вот Костя и Самвел видят, как из турецкой деревни, глиняные дома которой разбросаны по дальним холмам, бегут ребята. Их больше десятка. У них жалкий вид — они в оборванных брюках, в рубашках с дырами. Передний, маленький, юркий паренек, держит в руках мяч. Кубарем слетев с кручи к самому берегу и раздеваясь на ходу, мальчишки один за другим бросились в воду. Но аскер не обратил на это никакого внимания. Костя и Самвел постояли еще немного, наблюдая за тем, как маленькие турки перекидываются мячом, и им, по правде говоря, тоже захотелось броситься в воду и принять участие в игре… И дела-то всего: спуститься с обрыва двадцать шагов, переплыть Аракс шириной метров пятнадцать — и они уже у тех ребят. Но нельзя — проходит граница. Граница! Небольшое слово, но оно обладает силой делить мир на части. Вот здесь теоя земля, а там, на другом берегу, чужая. Такая же точно земля, такие же камни, и даже ребята так же играют в мяч, как на твоей земле, а все-таки все чужое-Костя и Самвел постояли, посмотрели на ребят чужой страны и пошли дальше. Теперь они шли по дороге, которая петляла вдоль границы. Эту дорогу проложили повозки и машины, на которых пограничники ездили от заставы к заставе. Вдруг Самвел приостановился и показал рукой на дальние холмы. Издали они казались совсем синими, а на их склонах виднелись белые и черные пятна. Пятна то сливались вместе, то вновь разъединялись. — Гляди, вон там овцы! — крикнул Самвел. — Значит, и дедушка Баграт там! Солнце, еще не жаркое, освещало Араратскую долину. Далеко на горизонте, как светлые дымы, клубились горы. Невдалеке, у самого берега, темнел старый, полуразрушенный монастырь. Он стоял здесь много веков как свидетельство иных времен, иной жизни… — Заглянем в старый монастырь! — предложил Костя. Он еще не был там — от старинных развалин веяло тайной. — А как же кобра? — спросил Самвел. — Мы сначала пойдем к деду Баграту, потом туда. Костя согласился. Он не знал, что идет навстречу событиям, которые окажутся гораздо важнее, чем уничтожение кобры, заползшей в сад заставы. Когда они наконец добрались до подножия холма, рубашки на их спинах взмокли от пота. Овцы, лениво щипавшие траву между камнями, пугливо метнулись в сторону, но Самвел успел ловко схватить одну из них — свалявшаяся шерсть гроздьями висела у нее по бокам. — Здравствуй, бе-бе! — закричал он; овца отчаянно дернулась, заблеяла, но он крепко держал ее обеими руками. — Здравствуй! Это я пришел — Самвел! Он отпустил ее, и она шарахнулась, тут же смешавшись с другими овцами. Почти на самой вершине холма, на большом камне, сидел старик с черной буркой на плечах. В руках он держал длинную палку. Опираясь на нее, он смотрел вниз, на ребят. У старика была белая борода и густые черные брови. Он сидел спокойно, широко расставив ноги и подавшись немного вперед.
У ног старика лежала большая собака — гроза волков и гиен; она пристально и настороженно смотрела на приближавшихся ребят. Заметив, что Самвел схватил овцу, она быстро вскочила и хрипло, с надрывом залаяла. Шерсть на ней поднялась дыбом, и она подогнула свои большие когтистые лапы, готовясь к прыжку. Но Самвел нисколько не боялся этой страшной собаки — он бегом бросился прямо ей навстречу. В это мгновение собака прыгнула сверху на Самвела. Костя вскрикнул и зажмурился от ужаса… А когда открыл глаза, то увидел, что огромный серый волкодав весело виляет хвостом, а Самвел крепко обнимает его за шею. Тут и старик заспешил навстречу гостю. Бурка на нем широко развевалась. Кажется, ветер сейчас сорвет ее с плеч. И старик казался от этого величественным и высоким, хотя на самом деле был маленького роста. — Самвел!.. — Дедушка Баграт!.. Бурка почти совсем прикрыла Самвела, когда дед и внук обнялись. Костя медленно поднялся по склону, стараясь держаться подальше от овец: кто его знает, что придет в голову этому сумасбродному псу. У них на Курилах собаки помельче и вроде подобрее. — Вот это Костя, о котором я тебе писал, — сказал Самвел, когда Костя подошел поближе. — Его отец — начальник заставы. Он сказал, что знает тебя, дедушка. Дед Баграт улыбнулся Косте и протянул ему руку. Пес глухо заворчал. — Тихо, Усо, — приказал ему Баграт, — это свой!.. Не бойся, Костя, он тебя не тронет… Я тоже знаю твоего отца. Хороший человек!.. Я рад, что ты друг Самвелу. В прошлом году он пас отару со мной, и ему было скучно. Самвел рассказал деду, какое дело привело их сейчас к нему. Баграт сдвинул свои черные брови. — У кобры характер серьезный, — сказал он. — В это время года они голодны, ищут добычу и поэтому особенно злые. — Папа просил вас помочь, — сказал Костя. Баграт подумал. — Убить ее на заставе могут и без меня. Наверное, твой отец хочет, чтобы я поймал ее живьем… Что ж, это будет моя трехсотая змея! Костя широко раскрытыми глазами посмотрел на маленького старика. — Вы поймали двести девяносто девять змей?! Неужели ни одна не ужалила вас? — Одна укусила, — ответил дед Баграт. — Это было давно. Пришлось вырезать кусок мяса… — И, откинув бурку, он засучил рукав рубашки. На худой, старческой руке, выше локтя, темнел глубокий шрам. — Это врач сделал? — Нет, не врач. Я бы умер, пока пришел врач. Это сделал мой брат кинжалом… Хорошо, — сказал он, — я помогу. Только если вы тоже мне поможете. — Поможем, — с готовностью согласились Самвел и Костя. — Я схожу домой за рогатиной. Останьтесь с отарой на полдня. Я потом вернусь из деревни с подпаском, и мы пойдем на заставу. Только смотри, Самвел, не подпускай овец к камням. — Хорошо, — сказал Самвел. Баграт оставил им еду: сыр, хлеб и яйца. Все это лежало в кожаном мешочке в расщелине большого камня. Потом стал спускаться вниз с камня своей неторопливой походкой. И еще долго то появлялась на холмах, то исчезала его черная бурка. — А знаешь, сколько лет деду Баграту? — спросил Самвел, усевшись на камень, где раньше сидел дед. — Восемьдесят восемь! — А я думал: лет шестьдесят, — удивился Костя. — Он же еще совсем бодрый. — А знаешь, сколько у него орденов? — продолжал Самвел. — Целых три! Два ордена Ленина и один Трудового Красного Знамени! — И всё за овец? — спросил Костя. Самвел кивнул головой. По правде говоря, раньше Самвел рассматривал грамоты, которыми увешаны стены дома старого чабана, и про себя удивлялся. Ну что хитрого в том, чтобы пасти овец? Взял хворостину и гони! И только проведя лето в горах с дедом Багратом, он понял, какой это большой труд. Нужно перегонять отару с одного пастбища на другое, чтобы у нее всегда было много еды. Следить, чтобы овцы не страдали от жажды. Охранять их от хищников. Того и гляди, набросятся волки, а то еще хуже — гиены. Пожив вместе с дедом его трудной жизнью, Самвел стал уважать его профессию и старался помогать старику. Возвращаясь осенью в школу, Самвел привозил с собой баночки, где в формалине плавали скорпионы, фаланги и змеи. И ребята с восторгом рассматривали глянцевитый черный хвост скорпиона с острым жалом на конце. Пожив в горах, Самвел узнал много такого, чего раньше не знал. — Вон видишь белые камни по ту сторону реки? — спросил он Костю. — Вижу, — прищурился Костя. — Там была наша земля. — Как — наша? Ведь это чужой берег. — Когда размечали границу, Аракс протекал там. А потом он изменил свое русло. Костя представил себе, что находится на другом берегу Аракса, — и это еще советская земля, а в пяти шагах от него стоит аскер — и это уже Турция. Между ними незримо прочерчена линия; переступи ее — и ты уже нарушитель границы. За Араксом, среди коричневых холмов, в солнечном мареве виднелась деревня. Глиняные дома с плоскими крышами и узкими, как щели, окнами. Зимой Костя много раз разглядывал ее в бинокль, но ни разу не замечал там люден, не видел, чтобы из труб вился дымок. Только сегодня он узнал, что она обитаема и что там даже есть ребята. Зимой деревня казалась покинутой… Деда Баграта давно уже скрыли дальние холмы. Мальчики были вдвоем, а вокруг них расстилались просторы Араратской долины. Стояла тишина. Лишь голоса, доносившиеся с чужого берега, нарушали ее. Овцы лениво пощипывали траву, несколько из них стояли кружком около низкорослой айвы, глядя друг на друга, будто тихо беседовали между собой. — Самвел, что бы ты больше всего хотел сделать? — спросил Костя. — Я бы хотел поймать шпиона, — задумчиво ответил Самвел. — Представляешь себе: кругом стреляют, а я подкрадываюсь сзади и бросаюсь на него с револьвером. «Руки вверх!.. Ни с места, а то буду стрелять!» И вот он поднимает руки и идет на заставу… Вдруг он замолчал и, привстав, стал следить за несколькими овцами, которые, отбившись от стада, побрели в сторону, к большим камням, где не было никакой растительности. — Куда они пошли? Куда пошли?.. — заволновался Самвел. — Ведь там колодец! — Какой колодец? — удивился Костя. — Там колодец! — повторил Самвел. — Они упадут. Надо гнать их назад. Он бросился к овцам. За ним, прыгая с камня на камень, бежал Костя. Почувствовав погоню, овцы — их было больше десяти — сначала растерянно остановились, а потом в испуге стали метаться между большими камнями. — Назад! Назад!.. — кричал Самвел, размахивая палкой. Он бежал туда, где находился одному ему известный колодец. Костя старался не отставать и тоже кричал: — Назад! Назад!.. Но вот Самвел скрылся в расщелине между камнями, и Костя потерял его из виду. Через мгновение он снова услышал голос Самвела, бросился в ту сторону, откуда он доносился, отталкивая овец, которые попадались по дороге. — Назад! Назад!.. — кричал Костя что есть силы. Сам того не понимая, он своим криком гнал вперед обезумевших овец. За ними с громким лаем мчался пес Усо. Костя стремился поскорее соединиться с Самвелом, но в лабиринте, скрытые камнями, они перекликались и никак не могли найти друг друга. Когда Костя прибегал на голос Самвела, тот оказывался уже в другом месте. Костя совсем сбился с толку и сам не понимал, куда ему гнать овец. Он бежал за Самвелом и повторял то, что кричал его друг. Так овцы неожиданно оказались в западне. На них кричали сразу с двух сторон, и они сломя голову кидались куда попало. Хриплый лай взволнованного пса еще больше усиливал суматоху. Вдруг Костя выскочил в узкое пространство меж двух гряд камней — это была полузаросшая редкой растительностью дорога. Она сохранилась с давних времен, потому что пролегала по камням. Здесь он увидел Самвела. Тот стоял, подняв руки и преграждая овцам путь. Костя выскочил так неожиданно и так стремительно, что овцы, остановленные Самвелом, сгрудившиеся в узком пространстве и уже готовые повернуть назад, вдруг снова панически рванулись вперед. Они проскочили мимо Самвела, прижав его своими мохнатыми боками к камню. Задние подталкивали передних… — Куда ты их гонишь?! — закричал Самвел Косте. — Стой! Стой, говорю!.. Костя и сам остановился, но было уже поздно: впереди, за камнями, раздалось дикое блеяние, и что-то с грохотом рухнуло вниз. Расталкивая овец, Самвел бросился вперед, обогнал их и заставил повернуть назад. Теперь, когда Костя понял, в какой стороне опасность, и мальчики стали действовать сообща, овцы покорно, под конвоем собаки, побежали к стаду. — Давай вернемся, — взволнованно сказал Самвел, — и попробуем вытащить двух овец, которые упали в колодец! Самвел не упрекал Костю и не ругал его: он понимал, что так получилось случайно, но от этого Костя еще сильнее ощутил свою вину. Мальчики поспешили туда, где в темном мраке древнего колодца бессильно блеяли овцы. К счастью, они были живы — их голоса донеслись до ребят, когда они выбежали на старую дорогу. Через минуту они, запыхавшись от быстрого бега, стояли, наклонившись над круглым темным отверстием, зиявшим в земле. Колодец был обложен со всех сторон плоскими камнями, замшелыми и шершавыми от времени, а над ним на четырех столбиках возвышался каменный шатер — он-то и предохранял древний колодец от засорения. Ширина колодца была метра полтора. А глубина казалась бездонной. Плотная тьма наполняла его, и в ней ничего нельзя было разглядеть. Снизу доносились только тяжкие стоны раненых овец. — Как только они не разбились?! — воскликнул Костя. — Когда они падали, то цеплялись за стены. Видишь, сколько там выступов. И действительно, земля в колодце местами осыпалась, и овцы, задевая за эти неровности, невольно задерживали свое падение и смягчали силу ударов. — Давай я спущусь вниз, — предложил Костя. Он не представлял, как сможет это сделать, но был готов на все. Раз случилась беда, да еще по его вине, он и должен спасти несчастных овец от неминуемой гибели. — Не вытащишь! — уныло сказал Самвел. — У нас даже веревки нет. — Я сбегаю на заставу и попрошу у старшины, — с готовностью предложил Костя. Самвел присел на край колодца. Его щуплая фигурка выражала крайнюю озадаченность. Как вытащить овец, чтобы никто об этом не знал и чтобы Баграт не догадался, при каких обстоятельствах они ушиблись. Могли же они, например, свалиться с какого-нибудь высокого камня. От Баграта, конечно, попало бы, но не так сильно. Что теперь делать? Костя ждал, что решит Самвел. На Курилах он бы знал, как поступить. Он бы уже слетал за длинными кожаными вожжами собачьей упряжки — они всегда висели на гвоздях у входа в дом — и с их помощью вытащил овец наверх. Так случилось однажды зимой, когда щенок от Мальвы — была такая овчарка у них на заставе — провалился в глубокую расщелину, и Костя вытащил его без помощи взрослых. Ну и страшно же было спускаться по рыхлому снегу, который мог вот-вот обвалиться с обрывистых стен узкого ущелья. И тогда уж сколько ни кричи, никто не услышит. Засыплет тебя с головой — окажешься, как медведь в берлоге. Самвел молчал довольно долго, но так ничего и не придумал. Овцы внизу то замолкали, то принимались блеять с новой силой. — Придется тебе сбегать на заставу! — вздохнул Самвел. — Давай скорее, а то вернется дедушка Баграт… Костя зачем-то подтянул пояс, повернулся и опрометью бросился бежать. Едва он завернул за большой камень, как кто-то схватил его сзади за плечи. Костя рванулся, но тут же увидел старшину Мергеляна, а рядом с ним Виктора, который на коротком поводке держал серого пса, глядевшего на Костю умными глазами. — Ты куда? — спросил Виктор. — На заставу… — Что-нибудь случилось? Костя махнул рукой назад. — Там овцы свалились вниз… — Со скалы? — спросил Мергелян. — Нет, в колодец! — выдохнул Костя. Мергелян и Виктор переглянулись. Они изучили здесь каждый камень, каждую щель и, конечно, хорошо знали, где находится старый колодец. Пастухи обычно обходили его стороной. И за долгие годы впервые случилась здесь такая неприятность. — Пойдем посмотрим, — сказал Мергелян. Увидев пограничников, Самвел помрачнел. Теперь-то, конечно, дедушка Баграт все узнает. Мергелян и Виктор заглянули внутрь колодца, посетовали, что у них нет с собой фонаря, послушали тоскливое блеяние овец и стали советоваться, что делать. Идти на заставу за веревкой — далеко. Нельзя ли придумать что-нибудь другое. Виктор что-то надумал. — Погодите, я сейчас вернусь… — произнес он и исчез между камнями. Пес, по его приказу, покорно улегся у колодца, навострив уши и чутко прислушиваясь к удаляющимся шагам своего хозяина. — Какой пес хороший! — сказал Самвел. — Он уже трех нарушителей задержал! И даже был ранен, — ответил Костя. Он знал от Виктора, что Факел, так звали эту овчарку, дважды спасал тому жизнь, набрасываясь на диверсанта. — Ранен? — удивился Самвел. — Вон видишь: белая полоска на шее за ухом. Там прошла пуля. Самвел долго вглядывался в еле заметный шрам и, не поверив Косте, переспросил у Мергеляна: — Это правда от пули? Мергелян только кивнул головой и промолчал. Он смотрел в темный зев колодца и прикидывал, как туда можно залезть. Виктор пропадал недолго. Вскоре он вернулся, держа в руках большой моток старого телефонного провода. — Вот, связисты запрятали, а я у них временно позаимствовал, — сказал он, бросая провод на землю. Мергелян нагнулся и ощупал провод пальцами: — А выдержит он? — В два раза сложим — выдержит. — Он обвел Костю и Самвела веселым взглядом: — Ну, кто из вас полезет, ребята? — Я, — ответил Костя. — Нет, я! — сказал Самвел. — Конечно, я! Ведь это я туда овец загнал. Но Самвел не уступал. В нем заговорила гордость горца. — Отойди! — строго сказал он. — Ты не умеешь обращаться с овцами. — Он заглянул в колодец: — Нет, все равно их не вытащить. — Ну раз вы такие спорщики, — решил Мергелян, пряча улыбку, — никто из вас в колодец не полезет!.. Собирайся ты, Серегин. Ребята пытались протестовать, но Мергелян и Виктор посмеивались — ведь Мергелян только пошутил с ними. Пограничники быстро размотали провод, проверили его крепость, а потом сложили вдвое. К одному привязали большой камень и стали осторожно опускать на дно колодца, чтобы не задеть овец, концы Виктор обкрутил вокруг ствола тополя, одиноко стоящего рядом с колодцем. Потом он отвязал от ошейника Факела длинный поводок, привязал к нему провода, его конец крепко зажал в руке Мергелян. Наконец все было готово. Виктор подошел к краю колодца, заглянул в него и засмеялся. — Тут спущусь, а в Америке вылезу! Ждите телеграмму из центра земли! Факел, до сих пор спокойно лежавший на земле, вдруг вскочил и тревожно залаял — он явно не хотел, чтобы его хозяин спускался под землю один. — Лежи, Факел! — погрозил ему пальцем Виктор. — Я сейчас вернусь. Ничего со мной не случится. Пес повиновался, но все же продолжал тихо ворчать, чутко следя за каждым движением Виктора. — До скорой встречи! — крикнул Виктор и скользнул вниз, в мрачное отверстие колодца, крепко сжав поводок. — Осторожнее, там могут быть скорпионы!.. — предупредил Костя; у него тревожно забилось сердце. Крепко упираясь ногами в землю, Мергелян держал натянутый поводок обеими руками, медленно его опуская. — Я помогу, — подошел к нему Самвел и тоже схватился за поводок. Позади него встал Костя. Наконец-то ему нашлось дело. Он крепко вцепился в тонкий ремень, напряженно следя за руками старшины. — Отпускай… Отпускай… — командовал тот. — Еще чуть… Еще… Еще немного. Узкий поводок, как змея, полз по краю острого камня и, сгибаясь почти под острым углом, исчезал в глубине. Костя чувствовал, как тяжело Мергеляну, и изо всех сил старался ему помочь. Самвел то вцеплялся в ремень обеими руками, то, оставив его, заглядывал в колодец. — Эге-гей! — кричал он в темную глубину. — Ого-го! — наконец ответил ему приглушенный голос Виктора. — Я уже их вижу. По лицу Мергеляна медленно текли ручейки пота. Его большие руки перебирали и перебирали поводок. И Косте, который тоже старался изо всех сил, казалось, что у этого колодца попросту нет дна: так долго спускается Виктор и, наверное, действительно скоро достигнет центра земли. И вот откуда-то снизу донесся приглушенный голос: — Стой! Поводок, который был уже почти на исходе, ослаб. Мергелян крепко зажал его в руке и подошел к краю колодца. — Как дела?! — крикнул он. Снизу тотчас пришел ответ: — Они тут, миленькие! — Живы? — Дышат. Одна стоит. Другая лежит, у нее, наверное, нога сломана… Наступила тишина, напряженная и такая долгая, что Косте казалось — Виктор уже летит куда-то дальше, в бездну. А вдруг на него напала большая змея, и он сейчас борется с ней молча и ожесточенно! Кто знает, что таится на дне этого древнего колодца? — Виктор! — крикнул он вниз, не в силах выдержать это ожидание. — Я-я!.. — донесся отклик снизу. — Скорее! — прокричал Самвел, он считал каждую минуту. Виктор не ответил. Старшина Мергелян вытащил пачку папирос и медленно закурил. — Ты его не торопи, — сказал он Самвелу, присаживаясь на край колодца. — Если во второй раз твои овцы туда рухнут, тогда прости-прощай!.. Костя и Самвел присели рядом со старшиной. Они пристально смотрели на ремень поводка, который шевелился в его руке, как живой. Он то напрягался, то безвольно падал на камень, то медленно полз влево. И вдруг рывок, да такой сильный — не держи его Мергелям в своем кулаке, он тут же скользнул бы вниз. И тогда уж наверняка пришлось бы бежать на заставу за веревками. — Ну что же, Самвел, достанем овец и будем шашлык жарить? — улыбнулся Мергелян. Самвел вздохнул: — Попадет мне от деда! — Это я виноват, Самвел, а не ты, — сказал Костя. Самвел покачал головой: — Все равно я виноват. Ты же никогда не пас… По стенам колодца сновали серые ящерицы с короткими хвостами. Встревоженные тем, что нарушена вековая тишина их жилища, они появлялись из мглы, замирали на мгновение, ослепленные солнцем, а затем исчезали в щели. — Они ядовитые? — спросил Костя. — Нет. Это пустынницы, — ответил Мергелян. — Они неопасны. Вдруг конец ремня дернулся в его руке с новой силой, и снизу донесся приглушенный голос Виктора: — Тащи! — Раз… два… взяли! — крикнул Мергелян тоном заправского грузчика, и поводок медленно пополз наверх. Костя чувствовал, как на его ладонях саднит кожа, но тащил изо всех сил. Самвел стоял ближе всех к краю колодца и, нагнувшись, глядел вниз. Наконец из колодца показалась серая, мохнатая, в завитушках, спина овцы. Самвел, отпустив провод, стал на колени, обхватил своими маленькими руками овцу за туловище и помог ей перевалиться через острый выступ камня. Виктор мастерски, мертвым морским узлом связал провод, которым он опутал ее передние ноги и спину, — пришлось разрезать ножом. Овца неподвижно лежала на камнях, и ее глаза были полузакрыты. Казалось, ничто уже не поднимет ее. Сидя на корточках, Самвел ощупывал ее ноги: не сломаны ли? Нет, ноги были целы. — Жива? — спросил Костя. — Отдышится, — проговорил Мергелян. — Провод перехватил ей дыхание. Самвел ласково гладил овцу и что-то приговаривал по-армянски. Костя не понимал ни слова, но, глядя на выразительное лицо Самвела, догадывался, о чем тот говорил. Он просил овцу подняться. Он очень просил овцу подняться на ноги. И овца словно послушалась его. Вот она приподняла голову, поджала ноги и повернулась на живот. Потом она оперлась на передние ноги, приподнялась и медленно встала. Несколько мгновений переминалась с ноги на ногу, словно проверяла, все ли у нее цело. Затем медленно, с достоинством двинулась к расщелине меж камней в том направлении, где паслась отара. Но что это? Блеснув на солнце, из ее густых завитков на землю упала и покатилась желтая монета. Овца сделала еще несколько шагов, и еще несколько монет вывалилось из ее шерсти. Казалось, овца, наделенная таинственной силой, платит людям за свое спасение. Самвел нагнулся и поднял одну из монет. Она была золотая и, несомненно, старинная. Время не тронуло ее. Какие-то древние иероглифы покрывали обе ее стороны. В это время из глубины колодца донесся голос Виктора: — Вы что там, заснули?.. Давайте конец! Мергелян быстро привязал камень к проводу и опустил его в колодец. Ползая между камнями, Костя и Самвел собирали монеты. Они удивлялись тому, что все монеты разные: на одних изображено солнце, на других — кинжалы, львы, газели, но на большинстве — лишь вязь древних письмен. Однако рассматривать их было некогда. Виктор снова подал сигнал. Напрягая все силы, Мергелян и ребята снова взялись за провод, обдирая о него руки, начали тащить вторую овцу. Через некоторое время овца лежала на камнях, рядом с колодцем. Пока старшина ножом разрезал провод, Самвел присел на корточки и провел рукой по животу овцы — тут же на камнях зазвенело золото: еще три монеты покатились по земле. — Да там целый клад! — воскликнул Мергелян и, сложив руки рупором, крикнул вниз: — Виктор, у тебя под ногами золото!.. — Конец давай! — донеслось снизу. Как истинный спортсмен, привыкший лазить по скалам, Виктор, подтягиваясь на руках, стал подниматься наверх, ловко нащупывая опору в щелях рассохшихся стен колодца. Наконец он выбрался наверх. Потный, грязный, измазанный глиной, он достал из своих оттопыривающихся карманов пригоршню монет и протянул Мергеляну. — Смотри-ка, смотри-ка, что делается! — удивился Мергелян. — Там их еще много — так и блестят в темноте! — Сказка! — воскликнул Мергелян. — Тысяча и одна ночь!.. Первый раз в жизни внжу настоящий клад! — Восторги отставить! — сказал Виктор, тяжело дыша и вытирая свое лицо. — Мы и так потеряли здесь слишком много времени… Ну, ребята, тащите вашу овцу подальше от колодца. Вряд ли дед Баграт поверит вам, что она сломала себе ногу на ровном месте… — Он подозвал к себе Факела и прикрепил поводок к его ошейнику. — Привет, ребята! Да не падет гнев старика на ваши бедные головы! — пожелал им на прощание Мергелян. Пограничники ушли. И ребята остались вдвоем возле бессильно лежащей овцы. Она тихо блеяла, откинув назад голову. Ее левая передняя нога была в крови. Едва Самвел до нее дотронулся, овца резко дернулась. — Она не может встать, — сказал Костя. Что же делать? С минуты на минуту вернется дед Баграт. Он сразу все поймет. Да еще эти проклятые монеты! Ведь ему придется сказать, где они найдены. — А что, если мы бросим монеты обратно? — спросил Костя. — Нет, — сказал Самвел, — нам все равно не придумать, что случилось с овцой. Дед не поверит, что она сорвалась со скалы и мы подняли ее наверх. Лучше уж рассказать все, как было. Он ни за что не простит, если узнает, что я обманул его! — Ух и попадет же нам!.. — Костя с досадой схватил горсть монет и швырнул о камни так, что они, сверкнув на солнце, разлетелись в разные стороны. — Зачем кидаешься монетами? — спросил Самвел. — А на что они? Даже порции мороженого не купишь! — Повезем в Ереван, в школу. Они, может быть, ценные… Они помолчали, размышляя о том, что же им делать с овцой. — Надо ей перевязать ногу, — решил Костя. — А чем? Костя скинул пиджак и оторвал большой лоскут от края рубашки. Потом нащупал перелом и, приложив к больному месту обломок палки, валявшейся между камнями, крепко обмотал. Овца вздрагивала от боли и тихо блеяла. — Унесем ее поскорее отсюда, — сказал Самвел. Они подняли овцу и с трудом потащили на себе. Едва они достигли склона холма, из-за камней показался Баграт. Он шел в сопровождении подпаска — высокого парня с черными и курчавыми, как овечья шерсть, волосами. Это был Мартирос, двоюродный брат Самвела. — Что случилось? — подойдя ближе, спросил Баграт. — Она упала вон с того камня, — сказал Самвел, указывая на самый большой камень, лежащий вдали. — Это неправда! — крикнул Мартирос. — Она не могла туда залезть. Старый Баграт недолюбливал Мартироса, который всегда старался со всеми спорить. — Ну, овцы могут ходить и по стене! — Он подошел к овце, которую ребята положили на траву, и внимательно осмотрел ее. — Ну что ж, поймаю кобру — пусть капитан делает шашлык… Колхоз продаст ему эту овцу. — Старик посмотрел на ребят сверкнувшим взглядом. — Ну пошли, а то заходит солнце. И тут только Костя увидел, что в руках старик держит длинную палку с раздвоенным, как у рогатки, концом. — Пошли, пошли! — торопил Баграт. Иногда в природе бывает так: сгущаются тучи, блещет молния, гремит гром. Ждешь ветра, бури, ливня… И вдруг набегает легкий ветерок — и где ты, грозная туча? Опять светит солнце, и дышится легко-легко. И только на сердце какое-то странное чувство. Уж лучше бы встретить бурю грудью, чем ждать ее, готовиться к ней, а потом испытывать какое-то странное чувство, схожее с грустью, оттого что буря промчалась мимо. У ребят в карманах позвякивали золотые монеты. Они очень хотели обо всем рассказать Баграту, но это значило — вызвать бурю. И хоть им очень-очень хотелось поделиться с Багратом тайной колодца, но они не знали, как начать разговор.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Костя еще издали увидел отца, который стоял у ворот заставы и, поджидая их, пристально глядел в их сторону. У поворота тропинки Баграт приветственно поднял руку: — Привет начальнику! — Здравствуйте, Баграт Карапетович! — приветливо улыбнулся отец и распахнул ворота, пропуская старика и ребят. Баграт уверенно вошел и, дойдя до рощицы, остановился, прислушался, пристально вглядываясь в таинственную мглу шумящей листвы. Баграт пришел на бой и был готов к нему. Он пойдет на кобру, держа в руках оружие — длинную палку. Змею можно убить из любого автомата, но, пока он, Баграт, не прижмет ее голову рогаткой к земле, никто не сможет взять ее живьем Это будет единоборство с сильным и беспощадным противником, быстрым и неумолимым. Одно неверное движение — разъяренная змея мгновенным движением смертельно ужалит его и тут же исчезнет. — Она где-то здесь, — сказал, подходя, капитан. Баграт стоял молча, словно прислушивался к тому, что лепетали листья и о чем пели птицы, свившие свои гнезда в купах деревьев; постепенно его плечи опускались, и в глазах вновь появилась старческая усталость. — Кобры здесь нет, — сказал он. — Нет, она тут! — настаивал капитан. — Минут десять назад ее видел повар… — Он обернулся и крикнул солдату, который курил на крыльце: — Позовите сюда Яремчука! — Кобры нет, — тихо повторил Баграт, — она ушла. — Она просто где-нибудь притаилась! — убеждал его капитан. В этот момент из дома выбежал повар в белом фартуке и в белом колпаке. Круглое лицо его, распаренное жаром плиты, было красно. Он испуганно оглянулся в сторону деревьев. — Расскажи про кобру! — приказал капитан. Повар был крепкий парень. Засученные по локоть рукава открывали мускулистые, сильные руки. Глядя на него, просто невозможно было себе представить, что такой человек может струсить. — Расскажи про кобру, — повторил капитан.
Яремчук растерянно развел руками. — Я, товарищ капитан, под сараем дрова рубил. Вон под тем, — показал он на сарай в углу двора. — Нагнулся, чтобы поставить полено. Поставил… Как замахнусь топором! И обомлел… Она прямо передо мной. Раздулась вот так и покачивается… А сама черным глазом смотрит — гипнотизирует. Я, конечно, прищурился, чтобы под гипноз не попасть, да как метну в нее топор! Ну разве попадешь! Она — раз в сторону, и нет ее… — Куда же она делась? — спросил капитан. — Куда? Жжик — да прямо в рощу. — Вот видите, Баграт Карапетович! — Ее в роще нет, — сказал Баграт. — Птицы сидят спокойно. Они чувствуют змею и стали бы метаться. Костя вспомнил: действительно, когда они утром вместе с Самвелом уходили с заставы, над рощей стоял птичий гомон. Птицы с криком носились над деревьями. Только тогда Костя не знал, что все это происходит из-за змеи. — Куда же она могла деться? — спросил капитан. Баграт молчал. Кобра хитрая и мудрая змея. Кто знает, какими путями она пришла сюда — все стены вокруг заставы кажутся глухими, а до бойницы ей не дотянуться? И кто знает, как она ушла отсюда. — Она большая? — спросил Баграт. У повара брови взметнулись кверху: — Метра три, а то и больше. Баграт засмеялся: — Такой кобры не бывает. Это твой страх такой большой! — Значит, вы мне не верите? — обиделся повар. — Ступай к себе! — махнул ему рукой капитан. Повар повернулся и нехотя побрел к своему борщу и гуляшу. Его обидело, что старик не поверил ему — живому свидетелю. Лучше было бы убить кобру. Да он наверняка бы убил ее, если бы не знал, что ее надо взять живьем. Он видел кобру и сознательно пощадил ее. В его руках был топор, и ничто не могло ему помешать изрубить ее… — Куда же она могла спрятаться? — встревожился капитан. — Нет ли у вас отверстия под стенами дома? — спросил Баграт. Капитан сморщил свой темный от загара лоб: — Как будто нет. А впрочем, прикажу все осмотреть. По его беспокойному взгляду, направленному в глубину рощи, Баграт понял, что капитан все же ему не поверил. Баграт протянул свою палку Самвелу: — Подержи, — и исчез между деревьями.

Костя затаил дыхание. А что, если все же змея там? Что, если она всех перехитрила: залезла в какое-нибудь дупло и притаилась? Капитан взволнованно шагнул к роще. Ему стало стыдно перед стариком. — Баграт Карапетович!.. Баграт Карапетович!.. Вернитесь! Я вам верю! В глубине рощи потрескивали ветки и мелькала темная фигура старика. Наконец он вышел из сада так же не спеша, как и вошел в него. — Кобры там нет! — сказал он и отобрал у Самвела палку. — Если она появится снова, позовите меня. — Я сам приеду за вами на машине. Баграт на прощание потрепал Самвела по плечу. — Вы тут не очень балуйте его, начальник! — попросил он, повернулся, чтобы уходить, и, вдруг что-то вспомнив, обернулся к капитану: — Там у меня овца есть, начальник, нога у нее сломана, списать надо. Попроси в колхозе, чтобы продали, шашлык сделаешь. — И пошел к воротам старческой, шаркающей походкой. Самвел и Костя переглянулись. — Дедушка! — крикнул Самвел, подбежал к нему и протянул руку, полную золотых монет. — Что это? — остановился Баграт. Подошел капитан и удивленно взглянул на монеты: — Золото! Откуда оно у тебя? — И у меня есть тоже! — сказал Костя и протянул монеты отцу. — Как много! — удивился он. — И все монеты старинные! Костя и Самвел, перебивая друг друга, рассказали историю, которая произошла с овцами. О том, как овцы упали в колодец и как старшина с Виктором их вытащили. — Откуда в колодце монеты? — спросил капитан Баграта. Старик перебирал своими темными, сухими пальцами монеты и молчал. — Когда я был еще ребенком, — наконец ответил он, — этот колодец уже был высохшим и забытым. И отец мне о нем не рассказывал, и дед тоже… Капитан пожал плечами: — Поразительно! Придется в него спуститься еще раз… Попробуем разгадать эту тайну. Баграт пошел к воротам и обернулся: — Как только змея появится, сразу зовите. — Я приеду сам, — сказал капитан. Баграт посмотрел на Самвела: — Приходи. — Приду обязательно!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Вечером на заставу приехала кинопередвижка. В солдатском общежитии на стену повесили простыню. Она служила экраном. Громко стрекотал киноаппарат, зажатый в узком проходе между койками. Собрались все, кто вернулся с границы. Те, которые уже улеглись спать, проснулись и смотрели картину лежа. Костя и Самвел, приткнувшись на одной табуретке, в который раз переживали полет Гагарина в Космос. Они видели этот фильм в кинотеатре, а потом еще и в школе. Худенький киномеханик, с погонами ефрейтора, торопливо менял части. Его ожидали на соседней заставе. — Как ты думаешь: он боялся? — тихо спросил Костя Самвела, когда Гагарин, неловко двигаясь в костюме космонавта, занял свое место в кабине. — Наверное, боялся, — тихо ответил Самвел. — И я бы тоже боялся. Вдруг бы меня унесло куда-нибудь к Марсу, и я бы не смог вернуться!.. Сзади кто-то громко заворчал: — Тише вы там! Когда сеанс окончился, Костя увидел у дверей Виктора и старшину Мергеляна. Оба были усталые, но веселые. Выходя из комнаты, Костя столкнулся с ними. — Пойдешь с нами добывать оставшиеся монеты? — шепнул ему Виктор. — Конечно, пойду! — сказал Костя. — А когда? — Капитан приказал завтра утром. Мы выйдем с вечера и останемся на границе. Костя уже привык к тому, что на заставе никто не говорит ему «твой отец», а говорят: «капитан» или «начальник». Только замполит лейтенант Клебанов называл отца Григорием Андреевичем. Но лейтенант сейчас в отпуске, уехал к матери в Ленинград. — И нам с Самвелом можно с вечера? — спросил Костя. — Если разрешит капитан. «Если разрешит капитан». Не так-то легко получить это разрешение! Но Костя его все же добился. Они с Самвелом дойдут только до ближайшей наблюдательной вышки и посмотрят сверху на залитую лунным светом долину. Это так красиво! А потом вернутся домой вместе с дозором. Отец не хотел, чтобы мальчики вечером одни выходили за ворота заставы. А кроме того, этот вечер он хотел провести с сыном. Целый день он присматривался к мальчику и ему казалось, что Костя отвык от него. Это его тревожило. Когда Костя писал ему в каждом письме из интерната: «Папа, хочу к тебе», отец чувствовал его любовь и, хотя понимал, что взять Костю к себе не может, радовался, что где-то есть Маленькое, преданное ему сердце. То, что в первый же день Костя провел в долине вместе со своим другом, в глубине души огорчило его. Он сознавал, что зима, необычная, трудная, не прошла для мальчика даром — Костя изменился. Острое чувство одиночества, охватившее его, когда впервые в жизни рядом с ним не оказалось ни матери, ни отца, постепенно притупилось. Он начал привыкать к своим новым товарищам. И Самвел стал его близким другом. Конечно, Костя не забывал отца, любил его, но Самвел невольно в чем-то заменил его… Вернувшись домой, ребята снова вытащили свои монеты и стали играть ими. Но скоро эта игра им надоела. Монеты то и дело норовили выскользнуть из рук и закатиться в щели. Две из них застряли между половицами, и достать их было невозможно. Тогда ребята ссыпали оставшиеся монеты в жестяную банку из-под халвы и поставили на полку. Осенью они отвезут их в Ереван и подарят учителю математики Рубену Суреновичу, у которого есть коллекция старинных монет. В прошлом году он устроил в школе выставку. Монеты лежали под стеклом, на подушечках, и над каждой было написано, когда и где они впервые появились. Тогда Костя впервые подумал: вот уже давно нет многих царей, государств и даже народов, а маленькие монетки остались. Люди тяжелым трудом добывали золото, чеканили монеты. Потом монеты переходили из рук в руки. Бедняки держали их как единственное, трудом и птом добытое сокровище. Они звенели в кошельках богачей; из-за них на восточном базаре визгливо торговались купцы. И вот уже ничего не осталось от минувших времен, кроме этих монет на дне старого, заброшенного колодца… — Собирайтесь, ребята! — сказал отец, входя в комнату. — Пройдемте немного по берегу Аракса. — Кобра не вернулась? — спросил Костя. Он весь день помнил, что кобра где-то здесь, поблизости. И не потому, что он был таким трусом. Для него, родившегося на севере, кобра была чем-то новым, волнующим воображение. Однажды он читал в «Мурзилке» рассказ о заклинателе змей. Индийский факир играл на флейте, а змеи ритмично двигались под тихую мелодию. — Нет, так и не вернулась… — ответил отец и взглянул на его ноги. — Под кроватью в чемодане твои высокие сапоги. Надень их — легче идти по камням. Костя быстро вытащил чемодан. Как же это он забыл о своих высоких хромовых сапогах, которые отец подарил ему еще на Курилах! Они были почти совсем новые. Только немножко сморщились носки и ссохлась кожа. Костя натянул их и невольно подумал, что если он в темноте вдруг наступит на кобру, то это уже не так страшно. На ногах у него надежная броня. Отец надел кобуру, зашел к дежурному, отдал ему нужные распоряжения, захватил с собой солдата с автоматом, и они четверо вышли на темную дорогу. — Где же Виктор? — спросил Костя. — Он пойдет в наряд немного позже, — ответил отец. — Мы встретим его на обратном пути. — Виктор звал нас к колодцу. Там еще остались монеты… — Завтра утром пойдете, — сказал отец. Он пошел вперед, стуча по камням подковками каблуков. За ним двинулись Костя и Самвел. А позади всех шел солдат. И тут для Кости начались неожиданные страдания. Ссохшиеся задники сапог сжимали пятки, а съежившаяся на носках кожа давила на пальцы. Что делать? Сказать отцу, что он не может идти, и вернуться назад? Нет, надо потерпеть, может быть, потом станет легче. Темный силуэт отца, его широкая в плечах фигура то появлялась, то снова исчезала во мраке. На острове Костя много раз ходил с отцом ночью. Это было на берегу моря. Они шли вдоль темных скал, слушая, как, шелестя, набегают волны, и вглядываясь в дальний горизонт. И Костя всегда думал: сколько ни живи на их маленьком острове, никогда не дождешься, чтобы на берегу оказался настоящий диверсант, о котором пишут в книгах… Костя с Самвелом сильно отстали от отца. — Давай пойдем быстрее, — предложил Костя. Они прибавили шагу, но идти дальше Косте оказалось невмоготу. — Самвел, пожалуйста, потише, — сказал он через несколько шагов. Отец, словно догадавшись, остановился у берега Аракса, на краю высокого обрыва. Внизу бурлила вода; в слабом сиянии усеченной луны она поблескивала темным, недобрым светом. А по ту сторону реки, там, где лежала турецкая деревня, мрак сгустился, не видно было ни одного огонька. Дальние холмы слились воедино и казались странными, призрачными. Издалека донесся вдруг протяжный, хриплый лай. — Где это собака? — спросил Костя. — Это не собака, а гиена, — ответил отец. — Ты ее видел? Какая она? — Видел, — сказал отец. — Она похожа на собаку, но у нее очень злобные глаза… Они стояли в темноте. Костя рядом с Самвелом, а чуть в стороне отец. Солдат тоже остановился; во мраке угадывался его силуэт. — А вон в той деревнеживет мой родственник, — сказал Самвел, вглядываясь в темноту. — Родственник? — удивился Костя. — Как же он туда попал? — Дед Баграт говорит: он ушел туда давным-давно, еще в двадцатом году. Женился и там живет. У него теперь есть дети и внуки. — А ты откуда знаешь? — Он пишет письма. — Письма? Как же они сюда попадают? Их возят через реку? — Не знаю, — ответил Самвел. В темноте прыгал огонек отцовской папиросы. Отец сказал: — У этих писем долгий путь — из одного государства в другое. — Сколько же на это нужно дней? — спросил Костя. — Дней десять, наверное, а то и больше. — А за сколько минут мы добежали бы до той деревни? — Минут за пять добежали бы. — Папа, — Костя дотронулся до руки отца и вдруг почувствовал, как рука дрогнула и крепко сжала его ладонь, — а когда-нибудь мы сможем свободно пойти к туркам, а турки к нам? — Да, когда-нибудь, — ответил отец. — Когда же? — Когда те, кто находится в той деревне, будут жить так, как живут свободные люди нашей страны. Костя помолчал немного, потом спросил Самвела: — Самвел, а ты своего родственника видел? — Нет, — ответил Самвел. — А если мы будем с вышки смотреть в бинокль, ты его узнаешь? — Как же я его узнаю, если я его не видел! Дед Баграт тоже бы его не узнал. Раньше он был молодой, а сейчас старый. Отец все еще крепко, держал Костю за руку. И Костя вдруг вспомнил: вот так же крепко отец прижимал его к себе, когда на остров надвигалась волна. И потом, когда они долго искали мать. Костя тогда еще не понимал, что никогда больше ее не увидит. Отец держал его за руку и вел за собой по берегу, где громоздились обломки домов и рыбацких ботов… Самвел что-то еще рассказывал о своем родственнике и о дедушке Баграте. Капитан не перебивал его. Казалось, он внимательно слушает, но его глаза устремились вдаль. Перед ним снова вставали видения того страшного дня на маленьком пограничном острове, когда разломалась их семья. И он думал о судьбе своего Кости, его будущем… — Тебе хорошо в интернате? — вдруг спросил он. И Самвел сразу замолчал, словно отодвинулся в темноту. — Не очень, — прошептал Костя. — К этому, Костенька, надо привыкнуть. — Я знаю, — ответил Костя. — Теперь мне всегда придется жить отдельно? — Но ведь здесь, на границе, тебе нельзя, — тихо сказал отец. — Меня могут вызвать, и я уеду на несколько дней… — Рука отца до боли сжала Костину ладонь. — Ты ведь знаешь, что на границе как в бою… Если бы была мама… Эти слова нечаянно сорвались с его губ, и он испуганно замолчал. Костя тоже молчал. Он только теснее прижался к отцу. Вдруг какие-то звуки донеслись до них: словно кто-то заплакал и тут же сдержал слезы. Отец обернулся: — Где Самвел? — Самвел!! — крикнул Костя. — Самвел!.. Никто не отозвался. Отец внимательно вглядывался в темноту. Наконец его острый взгляд пограничника заметил тень внизу, под скалой. Он быстро спустился с кручи, а за ним, забыв о боли в ногах, устремился Костя. Самвел, скорчившись, сидел на камне у самого берега. Плечи его вздрагивали. — Самвел!.. Самвел не ответил. Под сапогами отца захрустели камни. Он нагнулся над Самвелом. — Что с тобой, мальчик? — проговорил он. — Тебя кто-нибудь обидел? Костя вдруг сразу все понял. — Папа, у него нет ни отца, ни матери! — прошептал он. — Никого, кроме деда Баграта. — Что с ними случилось? — Погибли в пропасти. Машина перевернулась в горах. — Самвел, — сказал отец, дотрагиваясь до его волос, — Самвел, ты будешь всегда с Костей… Как мой второй сын. Я сделаю для тебя все, что смогу. Самвел не ответил. Он заплакал громко, в голос, больше не сдерживая себя. — Не плачь, Самвел! — обнял его отец. — Нам всем троим нелегко… Но мы мужчины. Мы всё перенесем, правда?.. Ведь правда же? Самвел кивнул головой. Он больше не плакал, только часто и тяжело вздыхал. Отец оглянулся. Невдалеке темнела острая крыша старого монастыря, казавшегося таинственным на пустынном и мрачном берегу. — Вот что, ребята: идите-ка к монастырю и посидите там. Я немного еще пройду до арыка, а потом быстро вернусь к вам. — Хорошо! — согласились Костя и Самвел. Отец двинулся дальше. Пограничник пошел за ним. Ребята некоторое время стояли на дороге, всматриваясь в темные очертания монастыря и прислушиваясь к удаляющимся шагам. Теперь, когда они остались совсем одни, к ним стал подкрадываться страх. Самвелу почему-то вдруг вспомнились легенды об этом монастыре, которые рассказывал ему дед Баграт. Когда-то в незапамятные времена этот монастырь построил царь, который убил триста шестьдесят пять своих врагов. Убив очередного, он приходил сюда и клал в стену камень, замаливая грех. По преданию, монастырь построен из трехсот шестидесяти пяти камней. Но сколько их было на самом деле, никто и никогда не считал. — Давай постоим здесь, — предложил Самвел. — Нет, надо делать так, как велел отец, — возразил Костя и сошел с дороги. К монастырю надо было добираться по хаосу камней. Ноги скользили, ребята спотыкались. Несколько раз Костя падал и больно ударялся локтями об острые выступы. Даже более знакомый с этими местами Самвел двигался вперед неуверенно — ему не очень-то хотелось приближаться к монастырю. Там, где Костя видел просто развалины, воображение Самвела рисовало беспокойные картины: он слышал стоны замученных жертв; видел, как к стене крадется темная фигура с огромным камнем в руках; представлял себе, как по освещенной лунным светом дороге идут кочевники, ржут кони, позванивают кольчуги… — Вернемся назад, Костя! — попросил Самвел. Чем ближе был монастырь, тем сильнее охватывал его страх. Но Костя не ответил. Слова отца были для него приказом. Он продолжал прыгать с камня на камень. Самвел стал отставать. Вдруг он остановился и крикнул: — Там живут кобры!.. Костя вздрогнул. Эта мысль приходила ему в голову, но он гнал ее от себя. — Вернись!
Некоторое время они стояли молча, каждый на своем камне, отделенные друг от друга добрым десятком метров. В душе их шла борьба, борьба безмолвная и трудная. Каждый боролся не только с тем таинственным, что мерещится в ночи, но прежде всего с самим собой. Самвел, такой храбрый днем, ночью сделался нервным. Он не знал, есть в развалинах кобры или нет, но ему надо было во что бы то ни стало заставить Костю вернуться. Все, что рассказывал ему у ночных костров дед Баграт, властно обступило его, но он не хотел признаться в этом Косте. Костя не двигался с места, прислушиваясь к ночным шорохам. Где-то опять залаяла гиена. На турецкой стороне мигнул огонек и пропал. Наверное, закурил аскер. Прозвучал и тут же умолк резкий свист неведомой птицы. Как ему ни было страшно, Костя решил не сдаваться. Он ведь и на Курилах привык к темноте ночи. Отец всегда говорил: «Для пограничника ночь — это солнечный день, пурга — светлое утро, ураган — штиль. Чем непрогляднее ночь, чем хуже погода, тем скорее надо ждать нарушителя границы». С детства Костя привык к тому, что ни днем, ни ночью вокруг него не прекращается жизнь. И теперь, вглядываясь в темноту, он увидел то, что не смог увидеть Сам вел. Вдалеке, между камнями, на мгновение вспыхнул лунный отблеск на стволе автомата, чуткий слух уловил тихие шаги, затем Костя различил две движущиеся одна за другой тени. Со стороны заставы шел дозор. И ощущение того, что люди близко, окончательно вывело Костю из охватившего его оцепенения. Прыгая с камня на камень, он стал приближаться к монастырю. Вот и тропинка, которая круто спускается к воде. Слева — темная стена с еще более темными провалами окон. Костя подошел к стене и прислушался. За нею что-то тихо шелестело. Что это? Он затаил дыхание. Из окна над его головой вдруг с легким шорохом вылетели две летучие мыши. Они промелькнули черными тенями и исчезли. Позади загремели камни. Костя услышал, как что-то тяжелое свалилось на землю. Он вздрогнул и обернулся. По тропинке к нему ковылял Самвел. — Немного ушибся, — виновато проговорил он. — Знаешь, сюда кто-то идет… — Тебя заметили? — спросил Костя. — Не знаю. — Самвел потер ушибленный бок. — Не лучше ли нам вернуться на дорогу? — Будем ждать отца здесь! — заупрямился Костя. Косте и самому было неуютно у этих развалин. Ужасно жали сапоги, он тихо страдал. Он присел на камень и нагнулся. — Ты что делаешь? — удивился Самвел. — Помоги стащить, — с натугой ответил Костя. — Проклятые, как приросли к ногам! Самвел обхватил обеими руками правый сапог. Костя уперся ему в грудь левой ногой, и все его тело содрогнулось от боли: правый сапог хоть и подался, но пятку обожгло словно горячим варом. Костя застонал, а Самвел еще раз рванул сапог и отлетел с ним в сторону. Второй сапог оказался еще упорнее. Но Костя так яростно старался от него освободиться, что Самвел, стаскивая сапог, свалился и чуть не ушибся о камни. Теперь они уже ясно слышали приближающиеся тихие шаги. Костя хотел крикнуть, что здесь свои: он и Самвел, но не успел — на тропинку выпрыгнул пограничник, в котором Костя тут же узнал Виктора. — Это вы? — удивился Виктор, осветив ребят фонарем. — Потуши! — зажмурился Костя. — Отец сейчас придет. Виктор оглянулся и тихо сказал в темноту: — Прошин!.. За стеной послышался шорох, посыпались камни, и перед ребятами появилась коренастая фигура второго пограничника. — Ну и нарушители! — недовольным голосом проговорил он. — Я-то думал, что хоть под конец службы повезло. В газетах напишут: «Герой-пограничник Прошин задержал нарушителя». А тут вы! — Прошин говорил шутливо, но видно было, что он разочарован. — Капитан приказал им ожидать его здесь, — сказал Виктор. — Проверяет! — усмехнулся Прошин. — Кого? — спросил Костя. — Кого? Нас, конечно. Знал, что мы должны скоро тут пройти. Если бы вас не заметили, досталось бы нам на орехи! — Сказал бы, что мы потеряли бдительность, — добавил Виктор, — не заметили посторонних людей на границе. — Я не посторонний, — обиделся Костя, — и Самвел тоже! — Ну что ж, — сказал Виктор, — придется вас обоих как злостных нарушителей доставить на заставу и выяснить, по чьему заданию вы сюда проникли. — Я не пойду, — запротестовал Костя, — у меня ноги болят. — А я локоть расшиб, — добавил Самвел. — Тем более, — сказал Виктор. — Значит, далеко не убежите. Он присел рядом с Костей на камень. Острым лучом фонарика Прошин осветил Костины ноги. — До крови! — сказал он. В ослепительном кружке света Костя увидел свои ноги и пятна запекшейся крови на пятках. Он пошевелил ступнями — боли почти не ощущалось. — Растер немного, — проговорил он. — Если бы такое со мной приключилось, мне бы старшина выговор влепил за небрежность, — усмехнулся Виктор. — За преступную небрежность! — поправил Прошин. — Старшина любит крепкие словечки. — А далеко пошел капитан? — спросил Виктор. — До арыка, — ответил Костя. Виктор взглянул на часы: — Пойдем-ка, Прошин, ему навстречу. Пограничники встали. Виктор поправил на плече автомат. Прошин потушил фонарь, и тьма вокруг стала еще гуще. Мальчики опять остались совсем одни. Костя сидел на камне, поджав ноги, и смотрел на залитые сумеречным светом молодой луны отроги дальних гор. Самвел прижался к его плечу. Они молча слушали звуки ночи. Вдруг Самвел вскрикнул: — Посмотри! Там, далеко, видишь!.. Костя оглянулся и среди черных холмов увидел яркую, огненную точку. Она мерцала, как упавшая звезда, то угасала, то вновь вспыхивала. Казалось, сейчас, набравшись силы, она снова взметнется высоко в небо. — Это, наверное, костер дедушки Баграта. Костя представил себе, как дед Баграт сидит сейчас у костра, закутавшись в свою бурку, и пламя багровым светом озаряет его лицо. У его ног лежит волкодав, жмурится, уши торчат кверху, сторожит — нет ли поблизости непрошеных гостей: волков и гиен. А на склоне холма, тесно прижавшись друг к дружке, спят овцы. Внезапно новый, странный звук возник вдалеке. Жалобный и тихий, он донесся с турецкого берега. Возник на мгновение и замер, а затем полился тягуче и однообразно. Костя никогда не слышал инструмента, на котором играл человек, невидимый в ночи. Мальчик мог отличить скрипку от виолончели, любил слушать рояль и особенно симфонический оркестр. В духовом же оркестре знал все инструменты и очень хотел научиться играть на кларнете. Но длинные, тягучие и какие-то необычные звуки, доносившиеся до него, рождались, казалось, сами по себе, без инструмента. Незнакомый щемящий мотив будоражил и без того возбужденное воображение ребят. Они еще крепче прижались друг к другу. — Что это? — тихо спросил Костя. — Шарманка, — прошептал Самвел. — Шарманка? — Ну да, ящик с ручкой. Ее за ручку крутят. Костя, конечно, читал, что с шарманками обычно ходят бродяги. Но ему никогда не доводилось видеть ни шарманки, ни шарманщика. И вот впервые он слышит этот странный звук ночью на почти пустынном берегу Аракса. Печальный мотив словно звал кого-то. Костя представил себе, что шарманщик похож на деда Баграта, только худой и несчастный. Луна поднялась выше, но ее свет, рассеянный и слабый, лишь сильнее сгущал тени вокруг. Ребята слушали, испытывая тревожное чувство. Там, на турецкой стороне, человек в беде. Он стоит, крутит ручку своей жалкой шарманки и как будто зовет на помощь. У кого он ищет помощи? На что надеется? Казалось, только для них одних на всем свете и играет эта шарманка. Вдруг настороженный слух Кости уловил тихие шаги — они приближались. По дороге за камнями шли люди. Наконец-то вернулся отец, а с ним Виктор и Прошин. И звуки сразу потеряли свою притягательную силу. Отец тихо подошел и встал у камня, на котором сидели ребята. С другой стороны остановился Виктор, а Прошин подкрался к самому берегу. — Что-то шарманщик выбрал странное место для своей игры, — сказал отец. — Может быть, подает сигнал? — предположил Виктор. — Все может быть. — Он уже долго тут играет, — подал голос Костя. — Больше вы ничего не слышали? — спросил отец. — Нет, не слышали! — в один голос ответили Костя и Самвел. — Дело явно нечисто! — сказал отец. — Ни один аскер его не трогает. — Видать, у них сговор, — согласился Виктор. — Неужели ждут, что сегодня ночью кто-то перейдет к ним? — Нет, не стали бы они привлекать нашего внимания. Тут что-то другое. — Может быть, отвлекает наше внимание, товарищ капитан? — подал голос Прошин. — Возможно… А ну, Серегин, вызови заставу! Виктор скрылся за стеной. Мальчики с волнением ждали, что же будет дальше. Неужели эта игра на шарманке лишь притворство и где-то вблизи, во мраке, притаились люди, которые выжидают, чтобы потом начать действовать. А вокруг простиралась тихая, звездная ночь. Бледным серебром мерцала шапка Арарата. Вдалеке, среди волнистых холмов, горел костер Баграта. Такая тишина, такой покой!.. — Товарищ капитан! Товарищ капитан! — громкий шепот Виктора был готов перейти в крик. — У двух камней прорыв! Замечены следы… — Куда они ведут? — быстро спросил капитан. — Дежурный говорит — в тыл! — Кто обнаружил? — Кириллов и Неделин. Они обходили участок. — Сколько человек прорвалось? — Один. На заставе тревога. Старшина организовал преследование. — Теперь так: ты, Серегин, продолжай наблюдение! Если шарманщик нарушит границу, задержи! Виктор был старшим наряда. То, что приказывал капитан, относилось и к Прошину, и к солдату, который сопровождал капитана. С этого момента шарманщик стал ощутимой враждебной силой. — Ребята, за мной! — приказал капитан Косте и Самвелу и бросился бегом по дороге к заставе, до которой было больше километра. Гулко стучали новые сапоги отца. Костя несколько раз до боли сбивал ноги о камни, саднили натертые пятки, но теперь это было уже сущими пустяками. Скорее, скорее вперед! Только бы не пропустить то важное, что произойдет сейчас!.. Вот они уже вбежали в ворота заставы. На крыльце капитана встретил дежурный. Взволнованным голосом он доложил, что у отметки восемьдесят семь обнаружены следы. Не больше часа прошло с тех пор, как кто-то был там. — Кто-нибудь его видел? — спросил капитан. — Мергелян звонил, что пока не обнаружили. — Так, так!.. — недовольно проговорил капитан. — Я иду туда! — Он сбежал по сту-ленькам вниз и уже от ворот крикнул: — Держите связь с Мергеляном и Серегиным. Они ведут наблюдение… Костя и Самвел бросились было за отцом, но он решительным жестом остановил их. Ворота за отцом закрылись. Костя и Самвел опустились на ступеньки крыльца. Только что им казалось, что они участвуют в большом и опасном деле, но вдруг они оказались в стороне. Дежурный вернулся к своим аппаратам и долго кому-то докладывал о происшедших событиях. Очевидно, звонили из штаба отряда. Вполголоса беседовали между собой солдаты. Их оставили здесь на случай, если потребуется помощь на другом участке. Ребята посидели немного на ступеньках, потом Костя тихонько дернул Самвела за рукав. Они обогнули рощу и вошли в дом. И здесь Костя обнаружил, что нет хромовых сапог — его гордости и его несчастья. Наверное, он забыл их у развалин монастыря. Костя натянул на ноги старые, разношенные туфли и блаженно вздохнул. Теперь-то он снова может шагать сколько угодно! Самвел сел на табуретку посередине комнаты. Ночь за окном казалась непроглядной, а в комнате было спокойно и уютно. Но мальчиков сейчас тяготил этот уют. Их тянуло туда, где действовали пограничники. Отец, правда, не взял их с собой. Но он же не запретил им участвовать в поисках! А вдруг они помогут задержать нарушителя? — Пойдем? — предложил Костя. — Пойдем, — сказал Самвел. Они вышли из дому и дошли до перекрестка дорог. Здесь они остановились, раздумывая, куда им двинуться дальше. До места, где были замечены следы, оставалось километра полтора. Погоня, наверное, уже ушла далеко вперед. И вряд ли нарушитель побежит по дороге. Возможно, он постарается укрыться среди холмов, где много камней. Внезапно они услышали приближающиеся шаги. В темноте показались очертания двух людей. Идущие тихо разговаривали между собой. На всякий случай ребята спрятались за дерево. Люди приблизились. Они, видимо, очень торопились. Ребята услышали знакомый голос старшины Мергеляна. — Я считаю, что след неухищренный! — раздраженно говорил он. — Он совсем не вдавлен! А я — то уже в следах кое-что понимаю! — Ну, а какой же он тогда? — возражал другой голос, совсем мальчишеский и для Кости незнакомый. — Не ребенок же прошел там? — Конечно, не ребенок! — досадливо проговорил старшина. — Тогда кто же? — Если бы я знал, то не ломал себе сейчас голову. Одно скажу, что это не взрослый. — Значит, ребенок? — И не ребенок… — Вот загадка: не взрослый — не ребенок… Что ответил Мергелян, ребята уже не расслышали — двое прошли мимо них и теперь удалялись Удивительные вещи подчас случаются на границе! Ребята озадаченно раздумывали над тем, что им только что удалось услышать. — Кто же это все-таки может быть? — спросил Самвел. — Как по-твоему? — Не знаю, — проговорил Костя. Они постояли немного прислушиваясь. Но все было тихо. — Есть у тебя фонарь? — спросил Самвел. — Дома есть. — Вернись за ним. Вдруг надо будет посветить. — А куда мы пойдем? Самвел помолчал. — Вот видишь, там, среди поля, старый сарай? — спросил он после недолгого раздумья. В слабом свете луны вдали темнели очертания какого-то строения. — Вижу, — сказал Костя. — Придется сходить за фонарем и осмотреть сарай. Костя знал, где отец хранит свой фонарь. Как зажжешь его — мощный, яркий луч светит на несколько метров вокруг. Дежурный у ворот пропустил Костю, но обратно идти тем же путем Костя не решился. Увидев у него в руках фонарь, солдат поймет, в чем дело, и не выпустит. Костя еще днем заметил лазейку в дальнем углу двора и воспользовался ею. Через несколько минут он снова был вместе с Самвелом, который поджидал его у дерева. — Попробуй-ка зажги фонарь, — попросил Самвел. Костя нажал кнопочку — и ослепительный луч молнией прорезал тьму. — Погаси! — испуганно крикнул Самвел. — Чего кричишь так? — Он нас увидит! — Кто он? — Этот не взрослый — не ребенок! — Мы же идем его искать. — Но мы должны к нему подкрасться незаметно. — Пошли! — сказал Костя, сжимая в руке фонарь. — Отдай его мне, — попросил Самвел. — Я пойду вперед, а ты за мной. Костя промолчал. Расставаться с фонарем он не хотел. Это было его оружие. Если будет нужно, он ослепит им врага. Самвел не стал спорить и пошел впереди. Он хорошо знал все тропинки. А до сарая было всего метров двести. Некоторое время ребята шли молча, стараясь производить как можно меньше шума. Вдруг Самвел остановился и спросил шепотом: — Костя, а нам от твоего отца попадет? — Не знаю, может, и попадет, — сказал Костя. — А если мы поймаем, тогда не попадет? — Тогда, наверное, не попадет. — Значит, надо поймать! — Как же, поймаешь! — вздохнул Костя. Его пыл сразу пропал, когда он подумал, что отец наверняка им основательно всыплет за то, что они без его разрешения ушли с заставы. Ну и чудной этот Самвел! Говорит «надо поймать», словно речь идет о ящерице, которая греется на солнце. Подойди поближе, накрой сеткой и бери голыми руками. Отец вот уже двадцать лет служит на границе, а за все время пять нарушителей только и поймал… Самвел упрямо шел к сараю, а Костя брел следом за ним. Сарай был невысокий, каменный. В Араратской долине много камня, и все постройки обычно делают из него. Двери сарая были закрыты на замок, хотя внизу, под ними, была такая щель, что сквозь нее могла пролезть и большая собака. Ребята тихо обошли вокруг сарая и снова остановились около дверей. Ничто не выдавало присутствия человека. Вдалеке, в деревне, лаяли собаки. У границы мигнул фонарик и тут же погас. Очевидно, пограничники шли по следу. — Здесь его нет, — проговорил Костя, чувствуя, как сильно колотится его сердце. — Куда же теперь идти? — Давай пойдем на бахчу. Там есть шалаш… Они долго пробирались между камней, шли какими-то тропинками, перелезали через камни. Время от времени они останавливались и отдыхали. Давали себя чувствовать стертые Костины ноги. Самвелу было идти легче еще и потому, что он с детства привык к этим холмам, к хаосу камней. Наконец они добрались до шалаша, сбитого из старых досок и покрытого дерном. Когда колхозники весной работали на бахче, они отдыхали и обедали в этом шалаше, потом до глубокой осени он обычно пустовал, и снова в него приходил лишь во время уборки урожая. Ребята тихо подкрались к шалашу и прислушались: не дышит ли кто-нибудь внутри него. Но лишь ветер шуршал сухой соломой. — Ну-ка, зажги свет! — прошептал Самвел. Костя просунул фонарь сквозь щель внутрь шалаша и зажег. Шалаш засверкал, казалось, он до краев налился изнутри светом; маленькая полевая мышь блеснула глазками, как завороженная посидела в ярком свете, а потом исчезла. Щелкнула кнопка, и ребята оказались в кромешной тьме. Некоторое время они стояли неподвижно, привыкая к мраку. — Теперь куда мы пойдем? — спросил Костя. — Не знаю, — признался Самвел. — До другого шалаша, наверное, километра два идти надо. Костя вздохнул: — Ну вот, а хвалился! Самвел промолчал. Он не мог признаться в своем поражении. Сказать: «Пойдем домой»- не позволял его характер. — Я думал, ты действительно знаешь какие-то тайные места! — начал сердиться Костя. — А сарай да шалаш я сам видел… Кто же станет прятаться рядом с заставой? Самвел притих в темноте. Конечно, он не знал никаких тайных мест, не знал он и как выслеживают нарушителей границы, но зато в нем сильно было мальчишеское желание непременно участвовать в том большом деле, которое рядом с ним делали взрослые. И это желание взяло верх. — Пошли дальше, Костя! — сказал он и зашагал вперед. Он сказал это так решительно, что Костя снова уверовал в своего друга. Он даже не спросил Самвела, куда они направляются. Вначале ему казалось бессмысленным идти вот так меж камней неизвестно куда. Сколько раз он слышал, как, отправляя пограничников в наряд, отец или старшина точно говорили, куда им идти и что по пути делать. Никого из пограничников не встретили они по дороге. Отец, наверное, считал, что нарушителя нужно искать в другой стороне. А вдруг отец неправ?! Костя решил, что они вернутся домой только тогда, когда осмотрят все камни на вершине холма, куда они сейчас взбирались и куда, видимо, еще не заглядывали пограничники. Теперь он шел впереди Самвела. Мальчики ушли от заставы уже довольно далеко. Если бы они отсюда стали кричать, их голоса не были бы слышны среди обломков скал. Луна, склоняясь к горизонту, вышла из-за легкой тучки и осветила нагромождение валунов. Казалось, в этом диком месте никогда еще не ступала нога человека. Мальчики шли рядом. Иногда из-под ног падали камешки и со стуком сыпались вниз. Ребята тогда молча замирали. Здесь, среди камней, Костя несколько раз зажигал фонарь — издалека свет никто не мог увидеть. Но сколько ребята ни плутали по бесконечным каменным лабиринтам, куда они ни заглядывали, ничто живое не попадалось им на глаза. Время тянулось бесконечно долго. Ребята совсем выбились из сил и остановились. Наконец они медленно двинулись назад. Идти обратно, когда уже не стало цели, которая их воодушевляла, было куда труднее. Глаза слипались. Ребята готовы были упасть на первый же плоский камень и лежать на нем до утра. Каменная гряда осталась позади, и они снова стали спускаться к бахче. — Где тут шалаш? Отдохнуть бы немножко, — не выдержал Костя. Ноги уже совсем отказывались служить ему. — Надо повернуть налево, — сказал Самвел. Они успели сделать всего несколько шагов, как вдруг раздался дикий, пронзительный крик, послышалось злобное хрюканье. Шум нарастал. Кто-то стремглав бежал по бахче. Костя вздрогнул. Прежде чем он успел подумать, его пальцы сами нажали на кнопку фонаря. В пронзительном, ярком луче вспыхнули зеленым огнем листья, золотым блеском сверкнула крыша шалаша. Луч саблей рассек тьму, рухнул на землю. — Ой, что это?! — отчаянно вскрикнул Самвел. Костя чуть не выронил из рук фонарь. По узкой тропинке прямо на него мчалось какое-то чудовище, покрытое лохматой шерстью, с длинными темными руками. На ногах у него были короткие, до колен, желтые штаны. На голове высокая, сбившаяся набок красная шапка, из-под которой виднелось искаженное ужасом черное лицо с оскаленными зубами. Костя инстинктивно метнулся в сторону. — Это же обезьяна! — тут же догадался он. Но появление ее ночью было так внезапно и так страшно, что Костя не мог унять охватившую его мелкую дрожь. — Смотри, за нею гонится кабан! — хриплым голосом крикнул Самвел, хватая Костю за руку. Самвел вырвал у него фонарь и направил луч света прямо перед собой. Ослепленный светом, огромный кабан остановился Костя ясно увидел его рыжую голову с маленькими злобными глазками. Потеряв из виду своего врага, кабан не решался двинуться дальше. Вдруг он повернулся и исчез в кустарнике, но еще долго слышалось его хрюканье. Некоторое время ребята стояли, потрясенные увиденным. Луч фонаря полоснул по краю шалаша. И Костя увидел — там мелькнуло что-то красное. Он толкнул Самвела, взял у него фонарь и показал рукой в том направлении. Тот кивнул головой. Фонарь Костя больше не тушил. Ведь это было их единственное оружие. Кто знает, как поведет себя кабан и напуганная им, обезумевшая обезьяна. Сейчас, видимо, обезьяна залезла в шалаш через щель под дверью. — Ты сразу прыгай к входу, — приказал он, — а я к щели! Видно, она ручная, раз одета. — Откуда она тут взялась? — Не знаю… Ну, подходим… Ребята остановились в нескольких шагах от шалаша. Костя чертил светом по земле у его подножия, чтобы обезьяна, если она еще там, боялась выйти. Ни шорох, ни движение — ничто не выдавало того, что в шалаше кто-то прячется. Костя лучом нащупал темнеющую впадину входа, а потом осветил узкую щель в стене, где разошлись доски, и просунул фонарь между досками. — Вот она! Вот она!.. — закричал Самвел. Большая обезьяна испуганно прижалась к углу шалаша. Она стояла на задних ногах, широко раскинув передние лапы, словно моля о пощаде. Красная шапка, почти совсем прикрывшая левый глаз, едва держалась на тесемках. Вокруг ее шеи был обвязан поводок, вернее, его обрывок; конец его лежал совсем близко от щели. Вдруг обезьяна в панике метнулась к отверстию в стене, но Самвел отчаянно крикнул: — Стой! Назад! Резкий окрик сразу смирил ее: она присела посредине шалаша и закрыла передними лапами голову, словно ожидая удара. Некоторое время ребята рассматривали яркий наряд, в который был одет этот удивительный нарушитель границы. — Зачем она прибежала? Как ты думаешь? — спросил Самвел. — Наверное, ей было тяжело у своего хозяина. Смотри, как она, бедная, трясется от страха. Наверное, боится, чтобы ее не избили. — Что теперь делать? — сказал Самвел. — К нам придут? Как ты думаешь? — Обязательно придут! Ведь сейчас идут по следу Им нас не миновать. Теперь мальчики почти не разговаривали друг с другом. Костя мигал фонарем, однако старался делать это так, чтобы сигналы не были видны по ту сторону границы. Минуты тянулись долго… Внезапно автомобильные фары прорезали тьму двумя мощными лучами. И тут же, из-за камня, выскочил вездеход. Хлопнула железная дверца, и совсем рядом прозвучал сердитый голос отца: — Кто здесь?! — Это мы, — отозвался Костя. — Папа, мы ее поймали!.. — Кого поймали?! К шалашу бросился Мергелян. — Товарищ капитан, посмотрите! — Это крикнул Мергелян. Он стоял, прижавшись к щели в стене. — Я же говорил — обезьяна! Капитан подошел к шалашу и некоторое время пристально рассматривал шимпанзе. Мергелян уже завладел поводком. — Не ее ли зовет шарманщик? — спросил Мергеляна капитан. — Наверняка ее, товарищ капитан. Все сели в машину. Мергелян, Костя и Самвел залезли в кузов; обезьяна примостилась у их ног. Капитан занял свое обычное место рядом с шофером: — К монастырю! С потушенными фарами! Машина тронулась. Некоторое время ехали молча, шофер вел машину тихо и осторожно. Вдруг капитан обернулся к Мергеляну: — И все-таки что-то мне во всем этом неясно. (Мергелян подался вперед, внимательно слушая капитана). С чего это вдруг обезьяна взяла да и убежала. Места здесь пустынные. До деревни далеко. Еды никакой… И зачем шарманщик забрел к самой границе?.. — Да, странное дело, — согласился Мергелян. — Может быть, Серегин и Прошин что-нибудь обнаружили. Машина бежала тряской дорогой. Впереди уже проступили очертания монастырских развалин. — Останови у поворота, — сказал капитан шоферу. — Дальше мы пойдем пешком… Я останусь здесь, за камнями, а ты, Мергелян, позови сюда наряд. Не нужно, чтобы нас видели с той стороны. Начинало светать. Яснее проступала вершина Арарата, и робкие лучи солнца уже золотили вечные снега. Дальние холмы на турецкой стороне стали отчетливее, и темными сгустками проступали очертания домов деревни. Было тихо, так тихо, словно в мире исчезли все звуки. Капитан устало прислонился к машине, а Мергелян, передав поводок, за который он держал обезьяну, Самвелу, быстро пошел к монастырю. Через минуту он показался снова, ведя за собой Виктора и Про-шина. Подойдя совсем близко, Виктор стал докладывать шепотом. — Шарманщик до сих пор на берегу. Сидит на камне. К нему пришел еще один человек. Сидят, курят и ждут чего-то. — Вас они не заметили? — Нет, мы сидели неподвижно. Даже спины затекли. Прошин хотел мне что-то рассказать, а я ему говорю: «Онемей!» — И он онемел? — улыбнулся капитан. — Точно! — Ну, а у нас новость, — сообщил капитан. — Мы нарушителя поймали! — Поймали? — ахнули в один голос солдаты. — Посмотрите-ка в кузов. Виктор осторожно заглянул в машину и испуганно отшатнулся: — Обезьяна!.. Постойте, постойте, значит, это и есть не взрослый — не ребенок! — Он нагнулся к обезьяне и даже погладил ее по голове. — Это шимпанзе, ну и несчастный же у тебя вид, приятель! Вдруг заунывный звук шарманки пронесся над берегами Аракса. Обезьяна насторожилась, потом сильно рванулась вперед. Если бы поводок не был обмотан вокруг руки Самвела, она бы, наверное, выскочила из машины. — Признала! — Капитан наблюдал, как беспокоилась обезьяна. — Давайте отпустим ее, — предложил он. — Открыто? — спросил Мергелян. — Нет, пусть она как бы сама вернулась. Пограничники быстро спустились к развалинам и прижались к стене. Мергелян вел на поводке обезьяну. Ни шарманщику, ни человеку на том берегу, который стоял рядом с ним, не было видно ни машины, ни людей. Уже рассвело настолько, что другой берег стал ясно виден. Капитан прислонился к камню и внимательно разглядывал этого второго человека. Он был невысокого роста, в темном костюме и белой, расстегнутой на груди рубашке; были хорошо видны черные усы и темные глаза под широкими бровями. — Какое удивительное сходство! — прошептал он. — Знакомого встретили, товарищ капитан? — спросил Мергелян. Капитан не ответил. — Отпускайте обезьяну! — приказал он. Мергелян бросил поводок и хлопнул обезьяну по спине: — Иди! Обезьяна не торопилась — взъерошенная, она медленно влезла на каменную стену и стала осматриваться по сторонам. — Бетти!.. Бетти!.. — донеслось с другой стороны Аракса. Обезьяна взмахнула лапами, прыгнула вниз, метнулась к обрыву, мгновение подумала, а потом, совершив гигантский скачок, оказалась у самой кромки воды. Перебраться на другую сторону ей оказалось не так-то просто. Она брезгливо дотронулась ногой до воды, отряхнулась и побежала вдоль берега туда, где Аракс разделялся на три рукава. Потом прыгнула и птицей пронеслась над бурлящими потоками. Вот она уже стремглав мчится к своему хозяину. Подбежала к нему и легла на траву покорно, как собака. Шарманщик — теперь это уже было совсем ясно видно, — высокий, отяжелевший, немолодой турок, одетый в зеленый кафтан, наклонился, погладил обезьяну и стал привязывать ее к шарманке. Потом он тяжело взвалил шарманку на спину. Два человека и обезьяна собрались в путь. Но перед тем как идти, усатый что-то сказал шарманщику. Они оба засмеялись, повернулись в сторону монастыря, помахали руками и потом только направились к деревне. Рядом с шарманщиком тяжело переваливалась обезьяна. — Это уже слишком, господа!.. — бросил им вслед капитан и быстро поднялся на ноги. — Поехали на заставу, товарищи! Всю дорогу он сумрачно молчал. Молчал и Мергелян. А Костя и Самвел крепко спали, привалившись друг к другу, и не чувствовали, как их трясло на неровной дороге.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Костя проснулся оттого, что солнечный луч, пробравшись между листьями росшего под окном тополя, ударил ему в глаза. В комнате, кроме него, никого не было. Кровать отца оставалась нетронутой. Самвел успел застелить свою койку и уже куда-то исчез. Часы на стене пробили семь раз. Несколько минут Костя перебирал в памяти события минувшей ночи. Старинный монастырь, призрачно темнеющий в слабом лунном свете, тоскливые звуки шарманки, обезумевшие глаза обезьяны, удирающей от кабана… Эти воспоминания отодвинули как бы в далекое прошлое историю с овцами и золотыми динарами. Костя потерял к ним уже всякий интерес. Пусть Мергелян с Виктором идут к колодцу сами. Пусть найдут еще хоть тысячи монет. Им с Самвелом монеты не нужны. А тех, что лежат в железной банке, вполне достаточно, чтобы осенью показать в школе ребятам и любителю древностей — учителю математики. Низко, почти над самой крышей, со свистом пролетел реактивный самолет. В другое время Костя тут же выскочил бы во двор посмотреть, куда он летит. Но сейчас ему хотелось полежать, отдохнуть, болели натертые и натруженные ноги. Ну и побродили же они с Самвелом! Откуда-то издалека донесся шум двигателя, словно по дороге шел танк. Звуки вскоре затихли. Потом снова с визгом близко пронесся самолет. «Чего он летает?» — подумал Костя. За открытым окном послышались голоса. Хрипловатым голосом отец отдавал какие-то приказания. Опять близкий шум самолета. Костя сел на кровати и спустил ноги на пол. Сбитые пятки глухо заныли. Позади стукнула дверь, и на пороге появился Самвел. Он был чем-то очень встревожен. — Монеты достали? — обернулся к нему Костя. Самвел махнул рукой: — Какие монеты! Кто о них сейчас думает! — Что — кобра вернулась? — Как? Ты еще ничего не знаешь? — удивился Самвел. — А что случилось? — спросил Костя. Самвел поднялся, подошел к окну, для чего-то заглянул в него. — А то случилось, что сейчас на заставе никто не спит. — Вот и врешь! — сказал Костя. — Сейчас спят те, кто ходили ночью в дозор. — Никто не спит! Твой отец даже еще не ложился. Самвел то и дело подходил к окну, прислушиваясь к тому, что происходило за стенами дома. — Там такое творится! — воскликнул он. — Выйди и посмотри. Костя оделся и через минуту уже был во дворе. Отец что-то негромко выговаривал Мергеляну. Костя никогда еще не видел отца таким сосредоточенно-суровым. Водя кончиком карандаша по карте, он долго делал старшине внушение. Наконец тот все в точности усвоил. Отец засунул карту в планшет. — Становись! — зычно крикнул Мергелян. Через минуту строй в две шеренги замер на дорожке перед заставой. Отец выслушал рапорт Мергеляна, потом скомандовал: — Вольно! Он молча осматривал солдат, внимательно приглядываясь к каждому из них. Костя невольно ощутил на себе его строгий и придирчивый взгляд. И ему показалось, что это уже не его отец, а чужой, посторонний человек. — Товарищи! — сказал отец глухим, негромким голосом. — Получены данные, что вскоре по ту сторону границы начнутся учения войск. В это время дежурный позвал его к телефону. Капитан обернулся к Мергеляну: — Командуйте, товарищ старшина, — и быстро вошел в дом. Сержанты быстро развели своих солдат по местам. На заставе часто звонил телефон. Отец то появлялся среди солдат, то вновь исчезал в доме. И тогда из окна слышно было, как он докладывает по телефону о том, что происходит на границе, а потом повторяет в трубку: — Слушаю! Есть!.. В который раз проходя по дорожке мимо Кости и Самвела, капитан наконец заметил ребят. Лицо его стало еще более строгим. Он остановился перед ними: — Запомните, если выйдете за пределы заставы, — всыплю! С первой же машиной отправитесь в Ереван. Здесь оставаться нельзя. — Я не хочу, папа! — тихо проговорил Костя. Но глаза отца смотрели неумолимо. — Здесь опасно, понимаешь?.. И не проси! Хоть бы он потрепал Костю по волосам, улыбнулся, сказал что-нибудь ласковое. Нет! Так и ушел с плотно сжатыми губами. У Кости защемило сердце, он часто заморгал глазами и вдруг почувствовал, как рука Самвела сжала его руку: — Не огорчайся, Костя, если будет война, мы с тобой все равно станем разведчиками! — сказал Самвел. — Мы пойдем в партизанский отряд, — ответил Костя. Шум вдали нарастал. Мальчики подбежали к щели в стене, сквозь которую Мергелян наблюдал за тем, что делается по ту сторону Аракса. Потом Костя решил, что лучше будет видно со сторожевой вышки. Но, когда он попробовал взобраться на нее по лестнице, его сразу остановил часовой: — Сюда нельзя! Давайте-ка лучше в блиндаж!.. Костя сделал вид, будто и не собирался высоко подниматься. С десятой ступеньки, до которой он добрался, противоположная сторона просматривалась до самых дальних холмов. Даже без бинокля были хорошо видны танки и бронемашины. Двумя потоками, двигаясь по бездорожью, они направлялись вдоль границы. — Внимание!.. Самолеты!.. — вдруг услышал Костя голос отца. Над дальними горами появились черные точки. Их было много. Гул постепенно нарастал все сильнее. Самолеты развернулись и пошли вдоль границы, однако не пересекали ее. — Американские! — крикнул Мергелян. В воздухе вдруг возникли десятки ярких цветов: красных, белых, синих. Казалось, художник щедро мазнул по небу красками. — Десант выбросили! — донесся издали голос отца. Теперь все ожидали дальнейших событий. Как прыгают парашютисты, Костя видел только в кино. Мать ему рассказывала, что она однажды прыгала с парашютом. И Костя слушал ее рассказ, точно сказку. Подумать только — прыгнуть на землю из-за облаков!.. Он быстро спустился с лестницы, подсел к Виктору, который, сжимая рукоять пулемета, смотрел в небо. — Витя, зачем они прыгают? — Как — зачем? Выбросили воздушный десант. — Зачем? — повторил Костя. — Наверное, вступят в бой с танками и самоходками. Видишь, падают большие пакеты! Это пушки. Их на земле быстро соберут, и можно стрелять. Парашюты уже достигли земли. — А зачем они прыгают? — упрямо спросил Костя. Виктор усмехнулся: — Учение проводят, учатся воевать. — Он посмотрел на Костю и добавил: — Шел бы ты на всякий случай в блиндаж! Все это было очень похоже на войну, которую Костя так много раз видел в кино, но выстрелов пока еще не было слышно. Когда первые парашютисты коснулись земли, на равнину вышли танки. Тут же упали и грузы, спускавшиеся на больших парашютах. Парашютисты быстро развернули свертки — и вот уже на земле стояли небольшие, издали похожие на игрушечные, пушки. Костя насчитал их двадцать и сбился со счета. Парашютистов между тем становилось все больше и больше. Яркие, как цветы, парашюты постепенно исчезли. Видны были только мечущиеся по берегу фигурки солдат. Танки подошли ближе. Солдаты прицепили сзади к бронетранспортерам пушки, потом сами вскочили на броню, и колонна, не останавливаясь, двигалась вдоль границы. — Нахалы!.. —воскликнул Виктор. У Кости екнуло сердце: а если они повернут сюда? Отец прикажет стрелять. И Виктор, который не мигая глядит перед собой, первым даст пулеметную очередь… Костя невольно подался к блиндажу и зажмурил глаза. Самвел не отрываясь смотрел на танки и самоходки, и глаза его горели. Через минуту подошел отец, держа в руках бинокль. Улыбка на его усталом лице была злой и напряженной. — Мергелян! — позвал он. — Я, товарищ капитан! — отозвался находившийся неподалеку старшина. — Взгляни на офицера, который сидит рядом с шофером на третьей бронемашине, курит… Узнаешь? Старшина вскинул свой бинокль. — Вроде узнаю, — повременив, ответил он. — Как будто тот усатый, что стоял ночью рядом с шарманщиком. Только тогда он был в гражданском… — Правильно. Теперь он полковник!.. — Вдруг капитан тихо охнул. — Вспомнил, наконец вспомнил!.. Танки и транспортеры, пройдя вдоль границы, вдруг стали разворачиваться, а потом группами разошлись по долине, укрылись между холмами и застыли там в ожидании. Солдаты соскочили с брони и спрятались между гусеницами. Издали можно было увидеть, что они надевают на себя белые костюмы. Щель, в которую по очереди смотрели мальчики, была самая низкая. Им приходилось пригибаться, и у них скоро заныла шея. Самвел наконец догадался: притащил ящик из-под патронов, и они удобно уселись рядом. — Как ты думаешь, они будут стрелять? — спросил Костя. — Наверное, побоятся, — ответил Самвел. — Был бы я начальником, как твой отец, уж я бы им показал — полетели бы отсюда вверх тормашками! Пограничники тихо переговаривались между собой, обменивались наблюдениями. Костя и Самвел укрылись в дальнем углу двора, за деревом, подальше от глаз взрослых и, на всякий случай, поближе к входу в блиндаж, где они могли укрыться в случае опасности. Вдруг рядом с ними раздались шаги. Костя уже хотел было нырнуть в блиндаж, но, обернувшись, увидел подле себя коренастого полковника с круглым обветренным лицом. Усталым движением он вытирал платком свою бритую голову. Костя вспомнил, что это начальник отряда Костромин. Позади него шел отец. Прятаться было поздно. Полковник остановился в нескольких шагах от дерева, как раз напротив блиндажа. И Костя желал только одного — не попасться ему на глаза. Костромин наверняка засунет их с Самвелом в машину, и тогда — прощай, застава! — Нет никаких сомнений, товарищ полковник, — это Мак-Грегори! — услышал Костя громкий шепот отца и невольно прислушался. — Два года назад он появился на северной границе. Пытался высадить своих агентов на наш берег с моря. Я несколько часов гнался за ним на катере. К несчастью, тогда быстро стемнело, и его бот успел укрыться в прибрежных водах Норвегии. — Возможно, это и он!.. — ответил полковник. — А хотите знать, зачем они пустили к нам обезьяну?.. — И он сказал что-то, настолько понизив голос, что Костя не расслышал. — Вы, пожалуй, правы, товарищ полковник! — воскликнул в ответ капитан. — Если это так, то вы правильно сделали, что вернули обезьяну, но теперь ждите… — И полковник опять перешел на шепот. Высоко в небе появился самолет. Это был бомбардировщик; он летел на большой высоте в ту сторону, где стояли танки и транспортеры. В бинокль было хорошо видно, как солдаты, усиленно копавшие траншеи, стали быстро прятаться, прижимаясь к земле. — Сейчас они сбросят учебную атомную бомбу, — сказал полковник, оборачиваясь к капитану. — Наверное, будет довольно яркий фейерверк… Костя и Самвел прижались к щели. Взрослым сейчас было не до них. Отец и полковник внимательно смотрели в небо, где самолет делал большой круг. — Бросил! Бросил! — крикнул кто-то. Но прошло несколько долгих секунд, прежде чем в небе вспыхнула яркая, до боли в глазах, молния. Затем кверху взметнулось белое облако. И тут же ветер донес звук сильного взрыва. — Так! Так! — сказал Костромин, не отводя бинокля. — Надо ждать, что в район взрыва будут брошены войска… Вскоре низко над долиной пролетели двенадцать транспортных самолетов. И снова по небу рассыпалась мозаика парашютистов. Танки и самоходки двинулись вперед вдоль границы и вскоре скрылись за холмом. Туда же спустился новый десант. Затем все стихло. Не стало видно ни одного солдата, ни одного танка, ни одной самоходки. Видимо, учение проходило там и с границы нельзя было наблюдать его. — Теперь, Григорий Андреевич, к границе они больше не вернутся. Отправляйте всех обедать, — сказал Костромин. Солдаты медленно двинулись к казармам со своими карабинами и пулеметами. — Ребята, подите сюда! — позвал отец. Лицо его было серым, морщины резко обозначились на нем. Костя подошел к крыльцу, где отец стоял вместе с полковником. Вслед за ним подошел и Самвел. — Это вот они, товарищ полковник, нашли обезьяну! — Такая обезьяна стоит настоящего шпиона! — улыбнулся Костромин. — Подумаем, как наградить ребят… Они ведь и к монетам какое-то отношение имеют? — Кстати, может быть, и монеты посмотрите, товарищ полковник? — предложил отец. Костромин взглянул на часы: — Пожалуй, сейчас не стоит, некогда. Вот приеду со специалистом-историком, тогда и посмотрим. Он сел в машину, и колеса вездехода, скрипя гравием, медленно двинулись к воротам заставы. На ветровом стекле играли солнечные блики. Отец, прощаясь, приложил руку к козырьку своей зеленой фуражки. Машина выехала на дорогу. Еше минута — и она исчезла из виду. Мальчики следом за отцом пошли к дому. — Он хотел нас отправить в Ереван и забыл, — тихо шепнул Косте Самвел. — Не мог он забыть, — ответил Костя. — Просто решил, что теперь уже неопасно. Когда ребята вошли в дом, отец лежал поперек кровати в неудобной позе и крепко спал. Сон свалил его мгновенно.ГЛАВА ШЕСТАЯ
Прошло несколько дней. Жизнь заставы с ее обыденными заботами снова потекла, как река, пробившая себе путь через горный обвал. И все же чувствовалось, что ожидаются какие-то события. Капитана мальчики в эти дни почти не видели. Из штаба отряда на заставу приехали два майора и подполковник. Отец запирался с ними в своем кабинете или садился на вездеход, и они уезжали куда-то на многие часы. Однажды вечером отец, вернувшись домой из поездки, долго стоял у раскрытого окна, вглядываясь в звездное небо. Костя, ожидавший его возвращения, заворочался на своей койке. — Не спишь? — тихо спросил отец. — Не сплю, — отозвался из темноты Костя. — Посидим на крыльце… Костя откинул одеяло, прислушался к равномерному посапыванию Самвела и в трусах, шлепая по полу босыми ногами, пошел к двери. Вокруг расстилалась глухая ночь. В маленькой рощице умолкли птицы. И даже собак не было слышно. Костя присел на верхнюю ступеньку крыльца, вспомнил о кобре и невольно поджал ноги. Но как только отец опустился рядом, все опасности мира тотчас перестали существовать для Кости… Отец вынул пачку папирос, чиркнул спичкой, и красноватое пламя на мгновение озарило его широкий со шрамом нос, взъерошенные черные брови и лоб с прилипшей к нему прядью волос. Потом свет погас, и только яркая искорка то разгоралась, то тускнела, умирала и вновь возвращалась к жизни. Отец крепко обхватил Костю за плечи. — Ты знаешь, какой сегодня день? — тихо спросил отец. — Сегодня десятое июня… Десятое июня! — повторил он. Костя наморщил лоб — десятое июня!.. Ну конечно же, он знает. Сегодня день рождения мамы. Сколько он себя помнил, в этот день к ним всегда приходили гости и мама надевала свое лучшее платье. — Хорошо, что ты помнишь, — сказал отец. — Никогда не забывай этот день… Когда Костя думал о матери, он всегда думал одновременно и об отце, и о себе. Как будто это была одна неразрывная цепь. Вот мать, надев отцовскую ушанку и ватные брюки, мчится на лыжах по искрящемуся снегу. Костя едва поспевает за ней на своих маленьких востроносых лыжах. А отец уже давно обогнал их. Он на вершине холма и теперь несется им навстречу, поднимая вихри снежной пыли… Под тяжестью отцовской руки Костины плечи опускаются, он приникает к отцу. Ему кажется, что и мать где-то здесь в доме и они ждут, когда она выйдет к ним на крыльцо… — Трудно мне здесь, — прервал отец Костины мысли. — На Севере все как-то по-другому… Костя привык никогда ни о чем отца не спрашивать, но сейчас к этому располагал его доверительный тон, и темная ночь, и отцовская рука, крепко прижавшая его к себе. — А ты, папа, все беспокоишься. Все чего-то ждешь? — Ты прав, — признался отец. — Нарушителя ждешь? — Этого не спрашивай, — глухо проговорил отец; он погладил мальчика по волосам. — Ты за тот день на меня не сердись. Очень день был трудный. — Я и не сержусь, — ответил Костя. — А почему ты хотел меня в Ереван отослать? Разве я трусил? — Нет, ты не трусил. Ты храбрый мальчик! Но это было опасно… Отец грустно усмехнулся: — В тот день я видел одного из тех, кто очень хочет войны. — Мак-Грегори? Рука отца неожиданно крепко сжала ему плечо. — Где ты слышал это имя? — тихо спросил он. Костя промолчал — ему было трудно признаться, что он хоть нечаянно, но подслушал. — Где ты слышал это имя? — повторил отец, склоняясь над ним. — Скажи, это очень важно! — Ты сам назвал его полковнику. — Ты подслушивал? — Нет. Мы вместе с Самвелом прятались за деревом. Мы боялись, что ты нас увидишь и отправишь в Ереван. Отец облегченно вздохнул: — У тебя, однако, острый слух!.. Ну, иди, Костик, тебе пора спать. Утром произошло событие, если только так можно назвать неожиданное появление нового человека, внесшее оживление в жизнь заставы. Когда Костя и Самвел бежали на кухню, где повар Яремчук кормил их завтраком, они вдруг увидели молодую красивую девушку лет двадцати. Одетая в белую кофточку и синюю юбку, она была похожа на старшую пионервожатую из их интерната; не хватало только красного галстука. Лицо у девушки было продолговатое, окаймленное светлыми, спутанными ветром волосами. Ее серые глаза все время меняли свое выражение. Они были то задумчивые, то грустные, то так и лучились весельем. И ее милое лицо отражало те чувства, которые девушка в этот момент переживала. Она оживленно разговаривала с капитаном. Видно было, что она задает ему вопрос за вопросом, а он не успевает на них отвечать. Потом отец позвал дежурного и приказал ему отнести чемодан девушки в канцелярию. Когда ребята после завтрака вошли в рощу, девушка в одиночестве сидела за столом в беседке и, подперев рукой подбородок, пристально смотрела сквозь кусты на распахнутые двери дома. Она приветливо улыбнулась ребятам и кивнула им головой, тряхнув при этом светлыми волосами. — А вы, малыши, тоже пограничники? — спросила она. — Мой папа — начальник заставы, — ответил Костя. — А как тебя зовут? — Костя. — А тебя? — улыбаясь, обратилась она к Самвелу. Самвел почему-то засмущался и даже отошел в сторону. — Его зовут Самвел, — ответил Костя. — Мы вместе живем в интернате… А как вас зовут? — Зови меня Мариной. — Откуда вы приехали? — Из Москвы. — Ого! — сказал Костя. — Я еще в Москве не был… — Вы Виктора Серегина знаете? — спросила Марина, продолжая смотреть через их головы на раскрытые двери дома. — Конечно, знаю! — воскликнул Костя. — Кто его здесь не знает! У него есть собака Факел! Как он ей скажет: «Фас!», так она, кого он велит, разорвет на мелкие куски!.. Марина шутливо съежила плечи: — Ну и страшные истории ты, Костя, рассказываешь! — Факел уже трех нарушителей задержал, — вдруг вступил в разговор Самвел. — И в него стреляли. Даже ранили… Марина испуганно взглянула на мальчиков: — И Виктора ранили? — Нет, — покачал головой Самвел, — это было три года назад. Еще до приезда Виктора. Она облегченно вздохнула: — Что вы еще о Викторе знаете? — Он золотые монеты из колодца вытащил, — сказал Самвел. — И много? — С тыщу, — сказал Костя; он не знал точно, сколько монет было извлечено из колодца, но слово «тысяча» звучало солидно. — Как же они в колодце оказались? — Клад! — для таинственности понизив голос, прошептал Самвел. Ребята подробно рассказали и о монетах, и об обезьяне, и о кобре. Марина внимательно слушала их. — Кобра была здесь? — всплеснула она в ужасе руками. — Да вы не бойтесь! — хором уговаривали ее ребята. — Она уже уползла… Но роща, в которой сидела Марина, сразу утратила для нее свое очарование. — Что же так долго не идет Виктор? — спросила она, беспокойно оглядываясь по сторонам. — Я сбегаю узнаю, — предложил Костя. И он уже сорвался со скамейки, как в беседку вошел отец. — Я говорил с Виктором по телефону. Он только что дошел до развилки дорог и повернул назад. — Сколько же ему идти сюда? — Да больше часа! — Как долго! Отец присел на скамейку рядом с Мариной. — Вы приехали только на один день? — спросил он. — На два дня. Послезавтра выеду обратно в Москву… Можно мне с ним видеться и завтра? — Хорошо. Только смотрите не расстраивайте его. Вы уедете, а он тут загрустит. У нас и так трудностей много… — Я бы здесь, наверное, долго не вытерпела, — сказала Марина. — Хотя тут как будто колодцы набиты золотыми монетами. Но зато жара, скорпионы, кобры! И, наверное, страшная скука! — Да, у нас не очень-то весело. — И вы всю жизнь живете в таких местах? — спросила она. Отец пристально посмотрел в лицо девушки, словно увидел его впервые. — Вы мне вначале показались другой… — сказал он. Она пожала плечами: — Такая жизнь мне просто кажется непривычной. — Я тоже родился в Москве, на Ордынке, и прожил там почти двадцать лет… — Отец поднялся. — Если хотите скорее увидеть Виктора, разрешаю вам выйти с заставы и подняться на холм. Ребята вас проводят. Костя и Самвел переглянулись. Они уловили холодок в тоне отца. Сидела бы эта Марина в своей Москве, раз ей там нравится! А то явилась сюда всех жалеть… Они вышли с заставы и направились к невысокому холму тропинкой, которая вилась у самого берега. — Вы кто Виктору: жена? — спросил Костя с неприязнью. — Нет, невеста. — Плохо! — вздохнул Самвел. — Почему? — Была бы сестра, оттрепал бы он тебя за косы… Знала бы тогда! — Незаметно для себя Самвел перешел на «ты». Марина засмеялась: — У меня и кос-то нет, смешной ты мальчишка! — Все равно! — буркнул Самвел. По дороге им встретились солдаты. В центре небольшой группы шагал Прошин. Вместо автомата на его плече лежал заступ. — Девушка! — крикнул Прошин. — Может быть, и я подойду в вашу веселую компанию? Солдаты засмеялись. Лица их были черны от загара, и зубы казались нестерпимо белыми. — Поступайте в мой детский сад! — в тон ему ответила Марина. — Согласен! — крикнул вдогонку Прошин. Утро выдалось жаркое. Араратская долина лежала в истоме. Над ней проплывали мелкие облачка. Казалось, они растворяются в солнечном мареве. — Далеко нам идти? — спросила Марина. Самвел показал на виднеющийся вдалеке монастырь. — А где вы поймали обезьяну? Костя остановился, обернулся и махнул рукой в сторону зеленеющего вдалеке арбузного поля: — Вон там, где шалаш! Марина прищурилась, но так ничего и не увидела. — И вам не страшно было? Ребята ответили не сразу. Каждый ждал, что скажет другой. Не хотелось им выглядеть трусами перед этой капризной девушкой. — Немножко страшновато, — уклончиво ответил Костя. — Ведь и на вас мог напасть кабан! — сказала Марина. — Я бы, наверное, убежала со всех ног! И эта откровенность вновь вернула ей расположение ребят. Они чувствовали себя в ее обществе героями. — Почему до сих пор не видно Виктора? — забеспокоилась Марина. — Он, может быть, совсем близко, — сказал Костя, — только мы его не видим, а он все видит. — Повсюду тайны! — воскликнула Марина. — Я сейчас громко крикну: «Виктор!» И он тут же выскочит из-за камня. — Выскочит, но не Виктор, — усмехнулся Самвел; рядом с Мариной он уже чувствовал себя бывалым пограничником. — Я все-таки попробую! — задорно сказала Марина. — Виктор!.. Виктор!.. И вдруг из-за большого камня навстречу им поднялись двое солдат. У каждого на голове была зеленая панама с широкими полями, защищающими от солнца, на плече автомат, а на груди большой черный бинокль. Они с удивлением смотрели на Марину. — Действительно, не Виктор! — огорчилась Марина. — Два ноль в твою пользу, Самвел! — Здравствуйте! — сказал один из солдат, по фамилии Кузьмичев. — Вы, собственно, куда идете? Он обратился к Косте и Самвелу, но не спускал глаз с девушки. — На горку, — сказал Костя. — А это невеста Виктора!.. — Невеста! — На широком, рябоватом лице Кузьмичева появилась улыбка. — Теперь я знаю, почему вы мне знакомы. Он ваш портрет показывал. Говорит, вы на кинозвезду учитесь. Марина засмеялась: — Ну, это неверно. Я скоро буду рецепты выписывать. На врача учусь!.. Разговор грозил затянуться. Кузьмичев явно не торопился продолжать п>ть. — А почему, девушка, у вас голова не покрыта? — спросил он. — Вдруг солнечный удар случится. Могу предложить мой платок. — Он достал из кармана смятый, в табачных крошках платок, встряхнул его и протянул Марине: — Вот, возьмите. — Спасибо! — покачала головой Марина. — Мои волосы меня надежно прикрывают. — Как броня, — улыбнулся Кузьмичев. Он засунул платок в карман и, хотя был смущен отказом, постарался это скрыть. — Ну, а где же Виктор? — спросила Марина. — Наверное, у монастыря. Там кабаны ночью всю землю истоптали… — Кабаны? — воскликнула Марина. — Дикие?.. — Раз кабаны, значит, дикие, — сказал Кузьмичев. — А как вас, между прочим, девушка, зовут? — Марина! — сердито ответил Костя и добавил: — Мы пойдем, нам некогда. — Нам некогда, — повторил Самвел. Мальчики уже считали Марину своей собственностью и томились, ожидая, когда кончится этот бесцельный, с их точки зрения, разговор. Через несколько минут Марина и ребята оказались на высоком, крутом берегу Аракса. На противоположном берегу желтели слепые кубы домов турецкой деревни. В излучине Аракса, делающего здесь крутой поворот, турецкие мальчишки опять играли в воде с мячом. Он перелетал из рук в руки, плюхался в воду, поднимая каскады брызг. В их игре не было, однако, никакого порядка. Каждый кидал, как хотел. Это не понравилось ни Косте, ни Самвелу. Они бы сразу поставили ребят в круг, установили правила игры и создали из этих маленьких турков неплохую команду. Но что это?.. Мяч, брошенный высоким загорелым мальчишкой, перелетел через невидимую черту, называемую государственной границей, и плюхнулся у самого берега, с высоты которого двое ребят и девушка наблюдали за их веселой возней. — Что они теперь будут делать? — спросил Костя. — Наверное, поплывут сюда. — Конечно, поплывут! — согласился Самвел. Их симпатии были на стороне турецких ребят. Если бы обрыв не был таким высоким, они бы сами спустились к воде и перебросили мяч обратно. Но как поступить теперь? Мяч крутится у самого берега, но к нему не доберешься. Вот его понесла стремнина. Что ж, это даже лучше. Где-нибудь его вынесет к своему берегу.
Но турки не хотели полагаться на волю течения. Трое из них наперегонки бросились в воду за мячом. Граница сейчас для них не существовала. Мяч не должен пропасть — это главное! Однако справиться с бурным течением оказалось не всем под силу. Сначала отстал один — бритоголовый, потом другой, суматошно загребавший воду длинными, крепкими руками. И только самый щуплый, и, очевидно, младший из трех, плыл и плыл наперерез уносившемуся мячу. Очевидно, мяч был его единственным богатством и он боялся потерять его. Аракс явно не желал возвращать мяч. Он подбрасывал его на своих волнах, крутил в водоворотах, выносил на середину протока, а потом снова кидал к берегу. Араксу хотелось поиграть… Мальчик плыл, напрягая силы, а мяч, весело вертясь, уносился все дальше и дальше. Погоня становилась бессмысленной. Наконец это понял и сам пловец. Но, когда он это понял, было уже поздно. Силы оставили его. Он попробовал повернуть назад, к своему берегу, но его тут же захлестнула вода. — Он тонет! — отчаянно вскрикнула Марина. В тот же момент она стрелой понеслась вниз и бросилась в воду. Костя и Самвел кубарем скатились с обрыва и затаив дыхание смотрели, как Марина старалась скорее доплыть туда, где барахтался маленький турок. Поняв, что нарушил границу, он хотел вернуться обратно, но, чем судорожнее и чаще бил он руками по воде, тем быстрее терял силы. Еще мгновение, и мутные воды Аракса навсегда поглотили бы мальчика, но Марина крепко схватила его за волосы. Теперь она на спине плыла назад, к берегу, таща за собой обессилевшего пловца. Костя и Самвел спрыгнули на выступавший над водой большой камень, легли на него и вытянули вперед руки. Как только Марина подплыла поближе, они одновременно подхватили худенького и легкого мальчика и вытащили его из воды. Девушка хотела сама схватиться за камень, но ослабевшие пальцы плохо слушались ее. Тогда Самвелу удалось поймать ее за руку, ногой она уперлась в выступ камня и с помощью мальчиков тоже оказалась на берегу. Маленький турок поднялся и, встав на колени, натужно кашлял, выплевывая воду, попавшую в его легкие. В этот момент кто-то тяжело прыгнул сверху, бряцнул о камень автомат. И Виктор, почти задохнувшийся от быстрого бега, склонился над мальчиком. — Жив?.. — спросил он и вдруг узнал девушку, которая выжимала промокшую юбку. — Марина!.. — Витя! Ты?! Виктор обнял ее и стал целовать. — Вот здрово! Вот это здрово! — приговаривал он. — Да как же ты сюда попала?.. Встреча Виктора с Мариной уже не интересовала ни Костю, ни Самвела. Все их внимание переключилось на маленького турка. Он интересовал их и как представитель чужого народа и как сверстник. Кроме того, после стольких случившихся на границе за последние дни странных происшествий Костя стал ко всему относиться настороженно. Он подумал о том, что и история с мячом, может быть, имеет свой скрытый смысл, и шепнул об этом Самвелу. Теперь они наблюдали за турком в четыре глаза. Откашлявшись, маленький турок снова опустился на камень и стал пристально глядеть на противоположный берег. Вдруг его длинные черные ресницы часто замигали, и он отчаянно заплакал. Он показывал на другой берег, что-то говорил по-своему, умоляюще жестикулировал и рыдал. У Самвела дрогнуло сердце. — Давайте отпустим его, — предложил он. — Конечно, отпустим! — поддержала его Марина. — Только не здесь. Отведем его туда, где помельче. Но Виктор покачал головой: — Нет, он выбился из сил и может утонуть. Начальник заставы сам передаст его турецким пограничникам. — Ну, это уж формализм! — запротестовала Марина. — Зачем мучить мальчика. Посмотрите, как он плачет. — К сожалению, иначе поступить нельзя, — возразил Виктор. — Это — граница! — Это — граница! — повторил Костя. Пока шел этот короткий спор, маленький турок продолжал плакать, с мольбой протягивая руки в сторону деревни, словно ожидая, что оттуда придет к нему спасение. На его худеньком, смуглом лице было отчаяние.

По тому, как радостно вдруг вспыхнули его черные глаза, Костя понял: он увидел то, что его обрадовало. Костя посмотрел на ту сторону Аракса. Там, от деревни, по склону холма, к берегу двигалась большая толпа мужчин и женщин. Женщины были закутаны в длинные, до пят, белые одежды, а мужчины одеты по-разному: на одних были пиджаки, на других длинные зеленые или желтые халаты. Впереди бежали мальчишки. Они что-то кричали, показывая на реку. Вдруг издалека донесся отчаянный женский крик: — Мухаммед!.. Мухаммед!.. И тотчас мальчик ответил воплем. Все остальное произошло за какую-то долю секунды. Он кинулся к краю камня, сорвался с него в воду и наверняка погиб бы в реке, но Виктор мгновенно оказался рядом и схватил его за плечи сильными руками. Мальчик рвался из его рук. На помощь ему подоспели ребята. Они втроем едва удерживали скользкое, гибкое тело. — Мухаммед!.. Мухаммед!.. — кричала женщина на противоположном берегу. У Марины глаза наполнились слезами. Виктор поднял мальчика и, держа его, крепко, но осторожно, стал карабкаться по одному ему заметным выступам на берег. — Что за паника? — проворчал он. — Ничего с мальчиком не случится. Мы его на заставе подкормим немного. Смотрите, какой он худой и легонький, как перышко! — Каково сейчас его матери!.. — вздохнула Марина. На несколько минут Виктор скрылся среди камней. Оттуда лишь слабо доносился его голос. Он по телефону докладывал на заставу о том, что произошло. Наконец Виктор появился вновь. — Двинулись! — сказал он, потом оглядел Марину и добавил: — Может, Маринка, тебе лучше здесь остаться? Снимешь все мокрое, обсушишься на солнце… Как бы не простудилась… Потом я за тобой приду. — Нет, нет! — ответила Марина, встряхивая мокрыми, завившимися от воды спиральками волосами. — Я пойду с вами. Когда они отошли от берега и крики толпы затихли вдали, мальчик снова заплакал. Самвел пытался заговорить с ним — они были очень похожи между собой: оба черноволосые, смуглые, гибкие. Но разговор не получился. Маленький турок не понимал армянского языка, а Самвел не знал турецкого. Он ткнул мальчика пальцем в грудь и спросил: — Мухаммед? Так звала его женщина с противоположного берега. Не переставая плакать, тот кивнул головой. — Его зовут Мухаммед, — сказал Самвел. Больше узнать у маленького турка ему ничего не удалось. Косте было жаль мальчика, который вдруг оказался среди чужих людей. Он вспомнил, что его мяч так и уплыл по реке, и подумал — такого мяча и в городе не достанешь. Костя увидел отца раньше, чем другие. Капитан стоял у ворот заставы, курил и посмеивался, глядя на приближающуюся к нему группу. Виктор хотел по всей форме доложить о том, что произошло на берегу Аракса, но капитан махнул рукой: — Не надо!.. У него, кроме трусиков, никакой одежды? — спросил он. — Нет, — ответила Марина. — Я могу дать ему мои штаны, — предложил Костя. — Я — рубашку, — сказал Самвел. — А Марине придется выдать юбку… В награду за спасение утопающего, — пошутил капитан. — Только, пожалуй, подходящей не найдем… На заставе у нас две женщины, но обе рослые. Марина смущенно оглядела свою мятую, мокрую юбку: — Ничего, товарищ начальник, я ее отутюжу! А мальчику хорошо бы новую одежду. — Новую?.. — Капитан подумал. — Ну что ж. Все равно нам придется его подержать здесь денек—другой. Кстати, подкормим его и приоденем. Сдадим турецким властям в лучшем виде! Эта мысль понравилась всем. Костя и Самвел бурно выразили свое одобрение. — Это будет очень хорошо! — обрадовалась Марина. Несмотря на то что она провела на заставе совсем мало времени, Марина как-то очень быстро освоилась и уже не чувствовала себя здесь чужой. Что касается Мухаммеда, то он перестал плакать и с удивлением поглядывал то на одного, то на другого. Вскоре он уже сидел в столовой за столом, покрытым зеленой клеенкой, и ел из железной миски горячие макароны с мясом. Рядом с ним ела и проголодавшаяся Марина. Костя и Самвел заняли скамейку напротив. Они с удовольствием смотрели, как жадно уплетает еду маленький турок. — У нас сегодня прием гостей и иностранцев, — гудел повар Яремчук, довольный тем, что и в его однообразной поварской жизни произошло нечто новое. — На первое мы подаем макароны по-итальянски со свининой… Поев, Мухаммед совсем успокоился, повеселел и с явной симпатией посматривал на ребят. Через некоторое время его позвали в канцелярию. Марина и ребята пошли вместе с ним. В канцелярии, около стола, где сидел капитан, прислонившись к подоконнику раскрытого окна, стоял молодой, тоненький лейтенант с белокурыми волосами. Как только он увидел Мухаммеда, на его лице отразилось глубокое разочарование. Лейтенант недавно прибыл на границу, и ему не терпелось поговорить с настоящим шпионом. Перед ним же стоял мальчишка в темных трусиках, на теле которого можно было изучать анатомию, так он был худ. Попав в новую обстановку и увидев нового человека, Мухаммед снова забеспокоился и на всякий случай пододвинулся поближе к Самвелу, который внешним видом напоминал ему сородичей. — Откуда ты, мальчик? — спросил его лейтенант по-турецки. Мухаммед удивленно взглянул на него — он не ожидал услышать здесь родную речь. — Из Малого Стамбула, — сказал он. Лейтенант с усмешкой кивнул в окно. — Ваша деревня называется Малый Стамбул? — спросил он. — Конечно, — ответил мальчик. Лейтенант перевел их разговор на русский язык. Все невольно улыбнулись. — Передайте мальчику, — сказал Григорий Андреевич лейтенанту, — чтобы он не беспокоился, здесь никто его не обидит. Скоро мы оденем его в новый костюм и новые ботинки, а потом турецкие пограничники отведут его к матери… — Товарищ начальник… — Марина вдруг запнулась под пристальными взглядами всех присутствующих — Я хотела спросить вас, товарищ начальник. Можно, я съезжу в город, куплю все, что нужно Мухаммеду. Я в этом разбираюсь, ведь у меня есть младший братишка… У Марины был такой характер, что, раз начав о ком-то заботиться, она уже не оставляла его без своего попечения. А заботилась она почти о каждом, кто в этом нуждался. Поэтому хлопот у Марины всегда было много. — Хорошо, — согласился капитан. — Я скоро поеду по делам в город и захвачу вас с собой… Только как же Виктор? Он ждет не дождется поговорить с вами. Марина слегка смутилась, потом, по своей привычке, тряхнула волосами и улыбнулась: — Это ведь займет не так уж много времени. У нас останется целый вечер и еще завтрашний день. И может быть, вы мне разрешите, и я останусь еще на третий день… — Ого! — воскликнул Григорий Андреевич. — Так вы, пожалуй, попросите у нас постоянную прописку! — Нет, что вы! — отпарировала Марина. — Я бы никогда не могла привыкнуть к такой тихой жизни!.. — Да, действительно, — усмехнулся Григорий Андреевич, — у нас тут слишком тихо… — Мухаммед, — сказал маленькому турку молодой лейтенант, — тебя здесь оденут. Тебе купят новый костюм и новые ботинки! Мальчик посмотрел на него, но ничего не ответил. Лейтенант обернулся к Григорию Андреевичу: — Мне кажется, он этому не поверил. — Тем больше обрадуется, когда получит, — махнул рукой капитан. — Вы здесь еще с ним потолкуйте, а я съезжу в город… Вам же, ребята, — обратился он к Косте и Самвелу, — дается оперативное задание: не оставляйте мальчугана одного. Играйте с ним, развлекайте его. Пусть он, когда вернется домой, знает, что по другою сторону границы у него есть хорошие друзья. Капитан с Мариной уехали на машине в город, и в канцелярии остались только молоденький лейтенант и трое мальчишек. Казалось, они собрались здесь, чтобы вместе поиграть. Лейтенант снял фуражку, ослабил ремень, прошелся по комнате. — Ну, Мухаммед, — сказал он, остановившись перед мальчиком и с улыбкой поглядывая на него, — ты знаешь свою фамилию? — Знаю, — ответил тот. — Мендерес. Лейтенант засмеялся: — Знаменитая у тебя фамилия, Мухаммед! Мендересом звали вашего премьер-министра, но его повесили… Мухаммед ничего не знал о премьер-министре Мендересе, которого повесили. Он так и не понял, что развеселило офицера. Самвел, который все время молчал, вдруг тихо и немного смущенно спросил: — Вы можете спросить: знает ли он Аверяна? Это брат моего дедушки Баграта. Лейтенант перевел его вопрос Мухаммеду. Тот поморщил лоб и покачал головой. Потом сам что-то спросил. — Он армянин? — перевел лейтенант его вопрос. — Да. Лейтенант опять поговорил с Мухаммедом. — Он говорит, что в их деревне армян нет. — В каком классе он учится? — спросил Костя. Мухаммед что-то долго объяснял лейтенанту, и лицо его вдруг погрустнело. Лейтенант тоже перестал улыбаться и нахмурил свои светлые брови. — Он говорит, что очень хочет учиться, но в школу не ходит. В школу ходят его старшие братья. У отца нет денег, чтобы учить всех… В Турции надо платить деньги за учение… — Платить деньги? — Самвел и Костя переглянулись. Они не могли себе представить, что кто-нибудь платит деньги за то, чтобы ходить в школу. — Где работает его отец? — спросил Самвел. — Он бедный крестьянин, — сказал лейтенант, — у них дом, десять овец и осел… — А корова есть? — спросил Костя. — Здесь коров не держат, — поправил его Самвел, — из-за того, что много камней и мало травы… Наконец мальчикам надоело торчать в канцелярии. Они попросили у лейтенанта разрешения пойти поиграть с Мухаммедом. Лейтенант и сам уже устал. — У нас в Ленинграде прохладнее. — проговорил он и расстегнул воротничок гимнастерки. — Здесь просто дышать нечем… Ну ладно. Забирайте, ребята, Мухаммеда и идите играйте. Но только с заставы ни шагу! Самвел вскочил с табуретки с такой стремительностью, словно в одно мгновение развернулась до предела стянутая пружина. — Пойдем, Мухаммед! — крикнул Костя и показал руками, будто плавает. — Пошли! Эти слова Мухаммеду не нужно было переводить. И через несколько минут лейтенант в окно увидел, как трое ребят весело ныряют в бассейне. И невольно он позавидовал им, этот молодой лейтенант. Он вдруг почувствовал, что его детство уже далеко и не вернется. Солнце быстро высушило тела ребят. Выйдя из бассейна, они побегали, поиграли в мяч и снова окунулись в воду. — Вы знаете, ребята, что такое море? — спросил Костя. — Оно большое, бурное! Куда ни глянь — все вода, волны… Мухаммед во все глаза глядел на Костю. Но как тот ни жестикулировал, изображая морские просторы, он ничего не понял. — В журнале «Огонек» есть картинка, на которой нарисовано море. — сказал Самвел. — Покажи ему! Костя вспомнил. Да, действительно, словно для того, чтобы никогда не забывать страшную картину стихийного бедствия, отец сохранил номер «Огонька» с цветной картиной, изображающей терпящих беду рыбаков на маленьком баркасе, который грозила захлестнуть гигантская волна. Костя показал Мухаммеду журнал. Самвел ткнул пальцем в картинку. — Море! — сказал он. — Мо-ре, — повторил Мухаммед. Разговор начал налаживаться. Они пересмотрели весь журнал, заставляя Мухаммеда повторять за ними русские слова. Игра понравилась всем троим. Костя и Самвел чувствовали себя учителями, Мухаммед же воображал себя школьником. Вскоре журнал был изучен до основания. Костя влез на стул и стал доставать с висевшей на стене книжной полки книги с картинками, которые он привез с собой. Вдруг стул качнулся, Костя схватился рукой за полку. Полка накренилась, и все, что на ней было, рухнуло вниз. Книги разлетелись по полу, загремела жестяная коробка из-под халвы, и зазвенели рассыпавшиеся всюду золотые динары. Самвел бросился поднимать книги. Он подавал их Косте, а Костя, стоя на стуле, поправил полку и стал расставлять их по местам. Мухаммед не принимал участия в общей возне. Он стоял у стола и пристально что-то рассматривал. У него был такой вид, как будто его что-то крайне поразило. — Эй, Мухаммед! — крикнул Костя. Но Мухаммед не тронулся с места. Самвел подошел к нему поближе. — Что он там делает? — спросил Костя. Самвел усмехнулся: — Монетки рассматривает. Внезапно за окном раздался тяжелый стук сапог, и в окне появилась растрепанная голова Яремчука. — Старшины здесь нет?! — крикнул он, задыхаясь. — Что случилось? — в один голос спросили Костя и Самвел. — Кобра вернулась! — На лице Яремчука выступили багровые пятна. — Я опять у сарая дрова колол, а она, проклятая, раз — ив рощу!.. Костя взглянул в небо. Над рощей стоял птичий гвалт. Птицы метались, стаями носились над верхушками деревьев. Глаза Самвела расширились. — Побегу за дедом Багратом! — быстро сказал он. — Как же с Мухаммедом? — Побудь с ним один, а я сбегаю. Яремчук снова скрылся за окном. В комнату тут же вошел лейтенант. Он взволнованно огляделся и, увидев Мухаммеда, облегченно вздохнул. — Хорошо, что вы дома! — сказал он. — Что делаете? — Играем, — ответил Костя. Он уложил на полку последние книги; от недавнего разгрома не оставалось и следа. — Ни в коем случае не выходите! — велел лейтенант. — В роще кобра. — Он мельком взглянул на стол, увидел монеты, взял несколько штук и подбросил на ладони: — Медные или бронзовые? Ему никто не ответил. — Начальник приказал, как появится кобра, сразу звать деда Баграта! — сказал Самвел. — Не знаю, что вам приказал начальник, — твердо стоял на своем лейтенант, — но, пока он не приедет, вы отсюда не выйдете. Он снял фуражку, положил ее на подоконник и уселся на стул. Из окна хорошо проглядывалась роща. Вдали видна была часть стены с воротами. Мухаммед по-прежнему играл монетами. Он складывал их в столбики, составлял из них узоры, затем принимался пересчитывать. Все, что происходило вокруг, его не интересовало. Костя и Самвел легли на подоконник и пристально вглядывались в рощу. Им хотелось быть в курсе всех назревавших событий. Лейтенант сказал Мухаммеду несколько слов — видно, он сообщил ему про кобру. И тот, оставив монеты, тоже подошел к окну. Он стоял между Самвелом и Костей, маленький, щуплый, но весь какой-то настороженный и собранный, как будто готовился к прыжку. Вдруг он быстро повернулся к лейтенанту, что-то сказал ему. И лейтенант засмеялся: — Знаете, что говорит Мухаммед? Он предлагает поймать кобру, а вы за это отдайте ему монеты. — Мы согласны! — воскликнул Самвел, думая, что это всего лишь шутка, и Мухаммед, конечно, не пойдет ловить кобру. — Еще добавим! — в тон Самвелу крикнул Костя и хлопнул рукой по костистому плечу Мухаммеда. — Только смотри, чтобы кобра была живая. Нам дохлятина не нужна! Лейтенант перевел мальчику их слова, но тот не улыбнулся. Он отнесся к этому по-деловому, вернулся к столу, собрал монеты в банку, плотно закрыл ее и поставил посреди стола. Потом его быстрые глаза нашли висящий на стене большой финский нож в ножнах, которым Григорий Андреевич почти никогда не пользовался. Когда-то, на северной границе, этот нож подарил ему охотник. То, что произошло дальше, не могли предвидеть ни ребята, ни лейтенант. Схватив нож, Мухаммед бросился к двери, распахнул ее и через секунду был уже в роще. — Мухаммед! Мухаммед!.. — закричали ребята. — Он с ума сошел! — Лейтенант высунулся из окна и закричал по-турецки, приказывая ему немедленно вернуться. Но Мухаммед уже ожесточенно рубил ножом молодое, тонкое деревцо. Вот оно покачнулось. Он пригнул его к земле и нанес еще несколько ударов. Тонкий ствол затрепетал в его руках. Одна ветка за другой падали на землю. Мухаммед безжалостно расправлялся с деревцом. Обрубив лишние сучья, он оставил на конце длинной палки острую рогатку. Наконец оружие сделано, и он готов к бою. Потеряв терпение, лейтенант выскочил через окно. Он хотел схватить Мухаммеда в охапку и силой вернуть обратно в комнату. Но мальчик стал что-то быстро говорить, видимо убеждая его в чем-то. Его лицо стало мужественным и сосредоточенным. — Что он говорит? — спросил в окно Костя. — Он говорит — это его заработок. Отец научил его. Он уже поймал несколько кобр и заработал деньги… — И лейтенант крикнул в сторону дома: — Приготовьте ящик и две доски! — Давно готовы! — ответил из рощи голос Мергеляна. Тут же появился Виктор. Он нес в руках сложенную гармошкой волейбольную сетку. — Смотрите-ка, — сказал он удивленно, — могучий охотник собрался ловить кобру!.. Вы рискуете, товарищ лейтенант. Если с ним что-нибудь случится, начальник вам голову снимет! — И то правда! Уговорил он меня, а я поддался. Сейчас я его на руки и в окно!.. Но лейтенант не успел сделать и шагу, как вдруг птицы закричали еще пронзительнее и кинулись в сторону от рощи. Из-за деревьев донеслось шипение. Лейтенант оглянулся, побледнел, но остался стоять на месте. — Кобра! — крикнул Виктор. Руки его с такой силой сжали сеть, что пальцы даже посинели. Костя и Самвел замерли в окне. И только Мухаммед оставался спокойным. Приподняв плечи и вытянув вперед голову, он впился острым взглядом в зеленый сумрак рощи. Шевельнулись ветки, и черная голова выглянула из листвы. Через мгновение она исчезла, чтобы тут же появиться вновь. Наконец, убедившись в том, что ей ничто не мешает, кобра медленно выползла из рощи на самый солнцепек. Это была большая, сильная змея. Она медленно свивалась в клубок, высоко поднимая голову; в раскрытой пасти мелькал темный язычок. В другой стороне рощи послышались возбужденные голоса солдат. Мергелян крикнул кому-то: — Автомат сюда!.. Надо сразу пристрелить!.. Направив на змею рогатку, Мухаммед стал медленно наступать на нее. Кобра зашипела еще более грозно. Она заметила Мухаммеда, но не хотела отступать. Очевидно, в своей жизни она провела не один бой и всегда побеждала. Внезапно Мухаммед упал на землю. В тот же миг над ним пронеслась серая стрела змеи. Едва коснувшись земли, она тут же хотела скользнуть обратно в рощу, ко Мухаммед снова стоял на ее пути. — Надо пристрелить кобру! — крикнул лейтенант, но мальчик что-то сказал ему. Он перевел: — Бросайте в змею куски сухой глины! В тот же миг Виктор отбросил от себя сетку. Она развернулась в воздухе и бесформенной массой упала на кобру. Сетка зашевелилась, как живая; ее подкидывало то вправо, то влево; она пузырилась, как будто закипала, и опять опадала. Будь она немного шире, змея наверняка запуталась бы в ней окончательно. Но вот из сетки показалась ее острая голова, а затем и толстая шея. Лейтенант схватил валявшийся под ногами камень и метнул в нее. Виктор последовал его примеру. — Кидайте все! — закричал он. Из-за деревьев выскочили солдаты, иудары посыпались на змею со всех сторон. Зашипев, она вновь спрятала голову под сетку. И тут же тяжелые камни придавили ее. С автоматом в руках подбежал Прошин. Он уже готов был пустить очередь, как его остановил Мергелян: — Подожди! Возьмем живой!.. Виктор притащил ящик, который после первого появления кобры стоял наготове. Казалось, все кончено — кобре уже никогда не выбраться из-под тяжести навалившегося на нее груза. Еще немного, и опрокинутый на нее ящик пленит ее. Словно почувствовав это, змея снова рванулась, камни осели, и она, выскользнув наружу, устремилась прямо на Мухаммеда, который застыл на месте, выставив вперед свою рогатину. Но тут в кобру опять полетели камни и куски глины. Кобра заметалась. Сыпавшиеся на нее удары мешали ей прыгнуть. Одним рывком Мухаммед бросился вперед и сильным ударом рогатки прижал голову кобры к земле. Виктор тут же поднял сетку и вновь накинул на змею. Еще через секунду на сеть кверху дном полетел большой ящик, обломав кончик палки. Теперь уже ничто не сжимало голову змеи, но и податься ей тоже было некуда. Для верности Прошин вскочил на ящик. Держа в руках автомат, он выбил на ящике веселую чечетку. — Черная смерть поймана! — крикнул Самвел и выпрыгнул из окна во двор. За ним последовал и Костя. Ребята бросились обнимать Мухаммеда. Тот улыбался и смотрел на них счастливыми глазами. — Молодец, Мухаммед! — Виктор хлопнул мальчика по плечу так сильно, что его тщедушное тельце чуть не пригнулось к земле. — Я за тебя здорово перетрусил! Все по очереди подходили к Мухаммеду и жали ему руку, а он улыбался и беспокойно поглядывал на окно. — Не волнуйся, — сказал Самвел. — Раз обещали — отдадим. Монеты твои! И лейтенант перевел его слова мальчику. Тот весело закивал головой. — И зачем ему монеты? — удивился Костя. — Кто его знает! — сказал Самвел. — Может, хочет кому-нибудь подарить. Между тем под ящик просунули железную решетку, осторожно вытянули сетку. И кобре теперь ничего другого не оставалось, как ожидать решения своей участи. Пока ее так и оставили на том месте, где поймали. Полчаса спустя после того, как удачно закончилось сражение с коброй, на заставу вернулся вездеход. Дежурный обстоятельно доложил капитану о поимке кобры, но капитан, не дослушав, позвал Мергеляна и прошел с ним в дом. Он был чем-то крайне озабочен. Из машины вышла сияющая Марина с руками, полными свертков. — Пойдемте одевать нашего героя! — крикнула она Косте и Самвелу. Ребята оглянулись. Мухаммеда рядом не было. Они нашли его дома. Он стоял у стола и, разложив на скатерти монеты, строил из них небольшую пирамиду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Сидя в беседке, Марина перешивала пуговицы на костюме Мухаммеда. Костюм был ему хорош, но слегка широковат в талии. Рядом шла веселая игра. Трое ребят, набрав в горсть каждый штук десять камешков, по очереди бросали их на стол. Надо было, тщательно прицелясь, сбить одним камнем другой. Промазал — и очередь переходит к следующему. Так до тех пор, пока на столе не останется ни одного камня. Кто сбил меньше всех камней — получает три щелчка в лоб. Сначала щелчки доставались Мухаммеду. Но он довольно быстро научился попадать в цель и теперь подставлял свой лоб реже других. Мухаммеду очень нравилось выигрывать. Он делал страшные, круглые глаза, издавал боевой клич и устрашающе поднимал над головой правую руку с пальцами, сложенными для щелчка. Самвел и Костя уже на себе испытали, что щелкал Мухаммед совсем не больно, но его грозный вид заставлял всякий раз беспокойно биться их сердца, и глаза их невольно закрывались сами собой. Марина старательно шила, а сама все прислушивалась к голосам, доносившимся со стороны дома. Она ждала, не послышится ли голос Виктора, — теперь они могли бы спокойно поговорить. Но его все не было. И она начала беспокоиться — ведь ему, наверное, уже передали, что она вернулась. Вдруг она услышала за спиной шорох и быстро оглянулась. Из зарослей акаций выглядывала свирепая собачья морда. — Пошел прочь! — испуганно крикнула Марина. Но за кустом раздался громкий смех, и Виктор, по-мальчишески довольный своей проделкой, вышел, держа Факела на коротком поводке. — Наконец-то! — радостно улыбнулась Марина. — Я жду тебя целый час! — Дела были. А ты где пропадала весь день? — Виктор уселся на перила беседки; Факел опустился у его ног и стал старательно лизать свою лапу. — Я занималась международной политикой, — усмехнулась Марина. — Налаживаю наши отношения с Турцией… — Ну, как тебе это удается? — Осталось пришить две пуговицы, и турецкий гражданин Мухаммед, как мне думается, впервые в жизни облачится в приличный костюм. Виктор взглянул на ребят. Мухаммед, оскалив зубы, щелкал по лбу Самвела; тот втянул голову в плечи, зажмурил глаза, но при этом смеялся. — Что же ты смотришь. Маринка? — спросил Виктор. — Рядом с тобой назревает международный конфликт. Он наверняка кончится ревом обеих сторон! — Совсем и не больно! — крикнул Самвел. — Никогда не поверю! — ответил Виктор. — Ты просто храбришься… Прошин, — крикнул он в сторону дома, — ты готов?! — Готов! — донесся голос Прошина. — Иди сюда! На дорожке показался человек, в котором трудно было узнать молодцеватого, подтянутого Прошина. Несмотря на жару, на нем были надеты стеганая куртка и ватные штаны, а поверх еще натянута старая шинель. Костя сразу понял, для чего этот маскарад, но Самвел и Марина смотрели на него с удивлением. — Идемте со мной! — сказал Виктор. — Я покажу вам, как работает Факел. Марина взглянула на Мухаммеда: — Его можно взять? — Можно. — Подождите. Я только надену на него пиджак. Она подошла к Мухаммеду. Он привычным движением подставил руки — за это время пиджак примерялся ему уже раз пять. — Ну сейчас как будто все отлично! — сказала она, не без гордости осматривая мальчика. Маленький турок преобразился. Коричневые, в красную искорку брюки, новые желтые ботинки, клетчатая рубашка и, наконец, пиджак одного цвета с брюками. — Красавец! — воскликнул Виктор. — Сразу видно, кто о нем позаботился! — Пошли, а то я задохнусь от жары! — с нетерпением потребовал Прошин. Виктор погрозил ему пальцем: — Молчи, диверсант! У Факела уже чешутся на тебя зубы. В воротах к ним присоединился Мергелян. Он пошел рядом с Мариной. — Сейчас увидите, как Факел будет потрошить Прошина, — сказал он, посмеиваясь. — Неужели нельзя запутать след? — спросила Марина. — Я бы делала большие прыжки. Покрутилась вокруг одного места и сбила бы вашего пса с толку. — Это для Факела азбука, — сказал Мергелян. — Со следа он не сойдет. Нюх у него что надо… Впереди всех шагал красный, изнемогающий от жары Прошин. За ним на коротком поводке Виктор вел Факела. Отстав от него на несколько шагов, шли, беседуя между собой, Мергелян и Марина. Мухаммед и Костя с Самвелом замыкали эту небольшую процессию. Дорога поднялась на холм и повернула вдоль берега Аракса. Как только показался другой берег, ребята увидели купающихся мальчишек.
Мухаммед остановился. Он хорошо был виден издалека. Мальчишки, барахтавшиеся в воде, повернули к нему голову. Он приветливо помахал им рукой. Мальчишки узнали его и, пораженные его видом, притихли. Мухаммед медленно подошел к самому берегу. Костя оглянулся на Виктора. Тот тоже остановился и пристально смотрел на турецких ребят. Если Мухаммед бросится в Аракс, оттуда, где Виктор сейчас стоит, он не сможет помешать мальчику. Однако Мухаммед не двигался с места и не проявлял никакого беспокойства. — А вдруг прыгнет? — прошептал Самвел. — И надо же было идти с ним сюда! — воскликнула Марина. Теперь Мухаммед стоял на виду у всех мальчишек своей деревни. Они махали руками, кричали и звали его к себе. — Ничего, ничего, — сказал Виктор, приближаясь к Мухаммеду. — Мухаммед!.. Мухаммед!.. Мальчик оглянулся по сторонам. В его взгляде вдруг появилась решимость. Он подался вперед и, казалось, сейчас ринется вниз. Как раз в этом месте Аракс был мелковат, и мальчик без труда мог переплыть его. Но вдруг его уже напружинившаяся спина выпрямилась. Он остановился, поднял руки и что-то крикнул турецким ребятам. Ему ответили. Он крикнул снова, потом повернулся и пошел по дороге вместе со всеми. Костя даже подпрыгнул от радости: — Мухаммед не хочет возвращаться! Он останется с нами! — Он просто не хочет от нас бежать, — возразил более мудрый Самвел. Во время этой суматохи куда-то исчез Прошин. Он словно растворился среди камней. Виктор по-прежнему шел впереди. Факел, чувствуя, что ему сейчас придется искать след, то беспокойно оглядывался по сторонам, то рвался вперед. Крепкая рука Виктора сдерживала его порывы. — Не вижу ничего интересного в том, чтобы охотиться за человеком, — сказала Марина Мергеляну. — Удивительно, как Виктор здесь изменился! Мергелян иронически усмехнулся: — Представьте себе, что какой-то человек хочет поджечь ваш дом. И он это обязательно сделает, если его не обезвредить… Виктор остановился у края дороги, нагнулся, поднял какой-то предмет и дал его понюхать Факелу: — Факел! Фас! Пес завертелся на месте. Потом, уловив запах, стремительно потянул за собой Виктора в противоположную от Аракса сторону. — Пошли за ним! — крикнул Мергелян. Нагнув голову вниз, Факел бежал, изо всех сил натягивая поводок. Нужна была большая тренировка, чтобы выдержать такой бешеный темп. Ребята помчались вслед за Виктором. Ими овладел азарт: каждый хотел первым обнаружить Прошина. Мухаммед не понимал, куда стремится собака, кого она ловит, и воспринимал все это, как новую веселую игру. Пробежав метров двести, Марина отстала. Мергелян ждал ее. Он чувствовал себя хозяином и не мог оставить гостью в одиночестве. Тем более, что гостья находилась среди безлюдных каменистых холмов. Вскоре все стали сдавать. Первыми выдохлись ребята — они бежали всё медленнее и медленнее, силы их таяли. Хотя солнце уже клонилось к дальним холмам, горячий воздух обжигал легкие. И только двое бежали упорно, не уменьшая темпа. Они бежали бы так и в тропическую жару, и в ледяную стужу — ведь смысл того, что они делали, как раз и заключался в движении, упорном и стремительном. Они не остановились бы даже тогда, если сердцу стало невыносимо трудно, если широко раскрытый рот уже, казалось, не может глотать воздух… Вот пошла шагом запыхавшаяся Марина. Но Мергелян все бежал, мерно стуча тяжелыми сапогами о камни. Вдруг впереди, за камнями, раздался ожесточенный лай. Крик человека! Напрягая последние силы, Костя, Самвел и Мухаммед бросились туда. Они подоспели как раз вовремя. Овчарка, вцепившись зубами в шинель, намертво держала Прошина, который забился в щель между большими камнями. Сукно на плече висело лоскутьями. Прошин локтем загораживал лицо, защищаясь от рассвирепевшего пса. — Факел, ложись! — громко и властно крикнул Виктор. Пес нехотя повиновался: запах человека, которого он настиг, до сих пор волновал и раздражал его. Однако голос хозяина приказывал лежать. Глухо рыча, Факел лег рядом с Прошиным, не сводя с него немигающих глаз. — Поймал! Поймал!.. — закричал Костя. Широко раскрытыми глазами смотрел Мухаммед на Прошина, и лицо его выражало сочувствие. — Факел, назад! — Виктор натянул поводок. И собака нехотя подчинилась. Она все еще была в азарте погони. Она ждала поощрения — ведь она хорошо поработала. Мергелян подбежал к камням и заглянул в щель. — Вылезай, Прошин! — скомандовал он. Голова Прошина медленно выползла из-под шинели. Он натянул шинель, чтобы прикрыть щеки и лоб. — Ну и чертова силища в этом псе! — сказал он, поднимаясь. — Следующий раз две шинели надену. Чуть не прокусил насквозь! — Почему так плохо спрятался? — недовольным голосом сказал Мергелян. — Надо было по камням попрыгать. Пусть бы он поработал. Прошин стягивал с себя одежды и из толстяка постепенно превращался в худого и стройного человека. — Собирайтесь скорее! — сказал Мергелян. — Солнце уже заходит. Надо вернуться до темноты… Через полчаса Яремчук угощал всех ужином. Виктор отвел Факела на место, накормил его и только тогда сам пришел в столовую. Ребята, уставшие за день, ели медленно. — Виктор, научи нас, — сонным голосом сказал Костя. — Мы с Самвелом тоже будем тренировать собак… — Сегодня вы обязательно потренируетесь во сне, — улыбнулся Виктор, глядя, как дружно зевают ребята. Аппетит не оставлял только Мухаммеда. Он быстро расправился со всем, что было в его тарелке. А потом вдруг выскочил из-за стола, стащил с ног ботинки и упал на колени. — Что он делает? — удивился Костя, глядя, как кланяется в землю и что-то бормочет про себя Мухаммед. — Молится своему богу, — объяснил Виктор. — И попало бы ему сейчас, будь он дома! — За что? — удивилась Марина. — Он пропустил час молитвы. Солнце-то ведь уже зашло.

Помолившись, Мухаммед снова надел ботинки и степенно занял свое место за столом. — А где же переводчик? — спросил Виктор. — Мне бы хотелось поговорить с мальчонкой. — Уехал в штаб, — отозвался из кухни Яремчук. — А когда будут передавать Мухаммеда? — Капитан сказал, что договорились встретиться завтра. — Маловато он пожил у нас, — пожалел Виктор.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Пламя жадно глодало сухие сучья. Красные отблески мерцали на изломах скал. Беззвездная, глухая ночь накрыла Араратскую долину. С юга дул порывистый ветер. Баграт в бурке сидел на камне и, опираясь на палку, смотрел в огонь. Старик не шевелился. Если бы в отсвете пламени не сверкали его черные глаза, можно было подумать, что он спит. О чем думал он? Какие события своей долгой жизни перебирал в памяти?.. У ног Баграта дремал Усо. На овечьих шкурах примостились Самвел и Костя. Костя молча следил, как язык пламени лижет дерево, торопясь скорее испепелить его… Утром на заставу пришел Мартирос, двоюродный брат Самвела, который помогал Баграту пасти отару. Он сказал, что его вызывают в город на свадьбу друга, и попросил Самвела побыть у Баграта. Костя, конечно, тут же побежал к отцу просить разрешения отправиться вместе с Самвелом. Когда он вошел в канцелярию, там были молодой майор и подполковник из штаба отряда. — Иди! Иди! — поспешно сказал отец, едва только Костя сказал, о чем он его просит. Они беседовали между собой, не обращая внимания на мальчика, который топтался у двери, не зная, разрешил ли отец идти или просто от него отмахнулся, а переспросить не решался. Приставив острый карандаш к разложенной на столе карте, подполковник говорил: — Обратно обезьяна перешла у монастыря в трех километрах от того места, где она якобы сбежала от своего хозяина. Так? — Он вопросительно взглянул на майора, и тот кивнул головой. — Значит, на этом участке. — Подполковник провел по карте карандашом. — Посмотрим с точки зрения врага. Он ждет, что же будет с обезьяной… — Не только ждет, но и крутит шарманку, — добавил майор. — Все время находится с ней в контакте. — То есть вызывает обезьяну назад, — уточнил отец. Костя невольно замер на месте. Значит, обезьяна еще не забыта! — Да, вызывает, — подтвердил подполковник. — Но для чего? А для того, чтобы она бежала на звук вдоль берега… Таким образом, сразу изучался большой участок. — Но ведь шарманка привлекла и наше внимание, — заметил отец. — Да, привлекла. Но кто может помешать человеку делать на своем берегу то, что ему нравится. Не хочешь слушать — заткни уши! Весь их расчет, по-моему, был на то, что шарманка отвлечет внимание наших пограничников. Если этот участок охраняется плохо, обезьяна вернется. Обезьяна исчезнет — это для них плохой признак. Если на границе поднимется тревога, начнется шум, суета, залают собаки, будут бросать ракеты, зажгут фонари — это им покажет, что они ошиблись местом: здесь перебросить шпионов опасно, нужно искать другое направление… Подполковник стукнул тупой стороной карандаша по карте в знак того, что он сказал все. — А шум на границе был? — спросил майор Костиного отца. — Побегали! — признался отец. — И все-таки обезьяна вернулась, — сказал подполковник. — Костромин считает, что Мак-Грегори собирается организовать переброску где-то в этом районе… — А мне думается другое. — Отец что-то пристально рассматривал на карте. — Не будет Мак-Грегори действовать там, где его могли видеть… На моем участке невыгодное направление для прорыва. До ближайших деревень далеко, кругом камни, холмы, выжженная солнцем земля… — Как же вы, пограничник, не понимаете, что это, может быть, и привлекает Мак-Грегори. Он как раз и рассчитывает на то, что вы так думаете. Серые глаза майора скользнули по Косте, но не заметили его. Какая-то мысль беспокоила майора и мешала ему видеть, что происходит вокруг. — А что вы думаете, Василий Гаврилович, как здесь может быть осуществлена переброска? — спросил он, обращаясь к подполковнику. Подполковник озадаченно помолчал. Его широкое, уже немолодое лицо сохраняло выражение уверенности. Конечно, Мак-Грегори не может не понимать, что следы обезьяны будут обязательно обнаружены. И, если пограничники ее не поймают, это заставит врага еще строже прощупать каждый новый след. Трудно думать за противника! Но это единственная возможность избежать ошибок. Нелегкая задача решить это! Трое офицеров курили и молчали. Костя решил им помочь. Он старался, думал, но ничего не придумывалось. И Костя тяжело вздохнул… Этот вздох привлек внимание отца. Он обернулся и увидел сына. — Зачем ты здесь? — сердито спросил он. — Уходи сейчас же! Опять отец накричал на него при чужих. А он так хотел им помочь. Костя вбежал в беседку, присел рядом с Самвелом и надулся. — Что с тобой? — удивился Самвел. Когтя не ответил. Он никогда не жаловался на отца. Мухаммед, сидевший на перилах беседки, участливо заглянул Косте в лицо, потом схватил его за волосы и весело потрепал их. Это должно было означать — не вешай носа! Вдруг на дорожке заскрипел гравий. Отец быстро шел к беседке. — Костя, можешь идти с Самвелом к Баграту… — Голос его звучал раздраженно. — И больше никогда не смей подслушивать! Понятно?.. Лицо отца было хмурым и усталым, под глазами лежали темные тени. Нелегко, видно, было решать загадку, которую задали ему люди с той стороны границы. — Понятно! — кивнул Костя, не поднимая глаз на отца. Отчего это отец никак не поймет, что он, Костя, умеет молчать и никогда его не подведет! Он считает его совсем маленьким и не доверяет. А Косте так хочется ему чем-нибудь помочь. — Прощайтесь с Мухаммедом, — сказал отец. — Может быть, вы его уже не застанете, когда вернетесь. Самвел первым подошел к Мухаммеду. — До свидания, Муха! — сказал он и крепко сжал мальчику руку. — Будь здоров! Не забывай, — сказал Костя. Мухаммед понял, что с ним прощаются, удивленно посмотрел на ребят и ответил на их рукопожатия. Григорий Андреевич ткнул Мухаммеда пальцем в грудь, потом махнул рукой в сторону чужого берега. — Отправим тебя скоро, — сказал он. Мухаммед заулыбался, закивал головой. Потом снова подошел к ребятам и еще раз крепко стиснул их руки. Пламя, сожрав толстые ветви, начало гаснуть. Самвел встал, исчез в темноте и появился снова с охапкой сухих сучьев кустарника. И опять ярко вспыхнул костер. Баграт первым прервал молчание. — Я слышал, что вы с отцом пережили большую беду… — сказал он Косте. — Скажи мне: что это была за волна, как она затопила целый остров? — Это была ужасно большая волна — целых тридцать метров высоты! — сказал Костя. — Такая волна бывает, наверное, раз в сто лет. — «Тридцать метров высоты»! — повторил Баграт и посмотрел на вершины окружавших их гор. — Нет, это не очень большая волна! Тридцать метров — совсем маленький холмик… Да, деду Баграту, который никогда не видал моря и высоту мерит по горам-великанам, не понять того, что довелось узнать Косте… Огонь снова медленно угасал. Лицо Баграта едва различалось в темноте. Старик опять отдался своим мыслям. Тяжело дышал во сне Усо. Трудно подняться с теплой шкуры и идти в колючий кустарник за ветками. Глаза совсем слипаются. Огонь становится все ниже и ниже. То один язычок его вздрогнет в последний раз и померкнет, то другой… — Ты спишь? — тихо спросил Самвел. — Нет, — отозвался Костя. — Пойдем за ветками вместе? Темная фигура Баграта шевельнулась. — Спите! — сказал он. — Скоро уже рассвет… Ох, и тепла же овечья шкура, сладко спится на ней мальчикам!
В разрыве туч сверкнула звезда. Одна-единственная на все небо! Но что это? Какая-то тень закрыла собой звезду, бесшумно пронеслась по небу и, как показалось деду Баграту, опустилась где-то невдалеке, за камнями… Совсем близко зашуршал кустарник. — Проснитесь! — Дед Баграт разбудил ребят. — Проснитесь и смотрите!.. Снова погасла звезда. Теперь Костя и Самвел увидели то, что поразило деда. Что-то темное, плотное, похожее на шар, пронеслось над ними и опустилось за грядой камней, неподалеку от них. Снова стукнули камни. Ветер донес чей-то тихий шепот. Неожиданно Усо вскочил на ноги и глухо заурчал. — Ложись, Усо! — приказал Баграт. Пес молча опустился на землю. — Молчи! Нет, ошибки не было. Среди камней появились люди. Они тихо разговаривали между собой. — Дедушка Баграт, — прошептал Самвел, — мы пойдем поближе, посмотрим. — Тише! — Баграт сполз с камня и лег рядом с Самвелом. Он накрыл мальчиков буркой, чтобы их не было видно. Тихое шипение донеслось со стороны камней, словно из проколотого мяча выходил воздух. Темные шары постепенно уменьшались, как будто уползали под землю. Предательский порыв ветра раздул в, казалось бы, уже погасшем костре искру. Тоненький язычок пламени вспыхнул и стал торопливо догладывать ветку. Дед Баграт стукнул по нему шапкой. И снова тьма. Среди камней наступила полная тишина. Предчувствие надвигающейся беды овладело Костей. Он вспомнил все, о чем говорили офицеры. Не потому ли так нервничал отец? Может, он нарочно отослал их с Самвелом подальше от заставы, чтобы уберечь от опасности или чтобы они ему не мешали? Нет, надо бежать на заставу. Надо немедленно сообщить отцу обо всем, что здесь произошло. Баграт словно понял, о чем думал Костя. Он тихо прошептал: — Беги на заставу вместе с Самвелом! Он лучше знает дорогу! Ребята, пригнувшись, побежали вниз, по склону холма. Вдруг позади остервенело залаял Усо, раздался мужской крик… Нет, это не был голос Баграта… Затем истошный визг собаки. И все смолкло.

Ребята спрятались за камень и замерли. Обоим стало страшно. — Скорей! Скорей!.. — опомнился Костя. Он выбежал из-за камней и тут же метнулся назад. На них надвигался человек. Он шел, сгибаясь под тяжестью большого тюка. Ребят он не заметил. Они подождали, пока он прошел и шаги его замерли вдали. Только тогда они двинулись дальше. Самвел легко ориентировался в темноте. Все детство он провел среди холмов Араратской долины. Ветер дул в лицо, но им казалось, что какая-то могучая сила толкает их в спины. Они падали и вновь поднимались, помогая друг другу. Никогда еще они так не ощущали опасность, как сейчас, никогда так не верили друг в друга, не беспокоились друг за друга. Этот путь по темным холмам мальчики запомнили на всю жизнь… Костя с размаху полетел на землю и больно ударился коленкой об острый камень. Застонал. Но тут же зажал рот ладонью, весь сотрясаясь от боли. Самвел нагнулся над ним. — Костя!.. Костенька, тебе больно? Костя молчал, терпел… В другое время он бы, наверное, охая и стеная, еле добрался до кровати и свалился на нее кулем. Но теперь он не имел права жаловаться. Он уперся руками в камень и стал подниматься. Ох, как это было трудно, как больно!.. — Давай я тебя понесу, — предложил Самвел, подставляя спину. — Еще чуть постоим, — сказал Костя. Он осторожно пошевелил ногой. — Сейчас попробую наступить… Больно! Но можно… — Обопрись на меня. И они двинулись вперед. Сначала очень медленно; потом боль стала менее острой, словно Костя привык к ней, и они пошли быстрее. Руины монастыря уже остались позади, как неожиданно из темноты раздался властный голос: — Стой! Руки вверх! Костя сразу узнал голос Виктора. — Это мы! — закричал он. — Мы — Костя и Самвел! Виктор на коротком поводке держал Факела. Мергелян сжимал в руках автомат. Несколько человек стояли за ними. — Видели вы сейчас что-нибудь? — быстро спросил Мергелян. Ребята рассказали все, что знали. — Значит, правильны твои наблюдения, Прошин, — сказал Мергелян в темноту. — Разобьемся на две группы. Одну поведу я, другую — Серегин. Мы быстро выдвинемся к оврагу и будем ждать их там… Ты, Серегин, с товарищами прикрой Аракс, чтобы они не могли сбежать от нас… Капитан поднял в деревне дружинников. Действуйте!.. Ребята снова остались одни на темной дороге. Они сделали свое дело и теперь могли не торопиться. Мальчики брели медленно, чтобы у Кости меньше болела нога, и строили разные предположения о том, что же все-таки произошло. Вдруг они вздрогнули и остановились. Во мраке Араратской долины загремели выстрелы. Один, другой… Простучала автоматная очередь. — Бой! — прошептал Костя. Мальчики заспешили к заставе. Они понимали, что на этот раз все в опасности, беспокоились и волновались за пограничников. Стрельба вдалеке то почти умолкала, то снова усиливалась. Вот уже и ворота заставы. Часовой тихо окликнул ребят. Это был Кузьмичев, который разговорился с Мариной в день ее приезда. Он рассказал мальчикам все, что знал, — Прошин увидел, как с той стороны перелетели какие-то шары… Потом часовой стал расспрашивать мальчиков, что они видели, по ком там стреляют. — Где отец? — остановил Костя словоохотливого часового. — А где ему быть?! — удивился Кузьмичев. — Конечно, на границе! Только что уехали по верхней дороге с майором и подполковником. Путь от ворот до дома показался Косте раз в десять длиннее того, какой они проделали с Самвелом в эту ночь. Марина сидела за столом в ярко освещенной комнате, подперев голову руками. Мухаммед, сжавшись в комочек, крепко спал на своей койке, не ведая, какие бури потрясают сейчас границу. Хорошо, что они еще увиделись с ним! Когда стукнула дверь и ребята появились на пороге. Марина оглянулась и испуганно вскрикнула: — Что с тобой. Костя? Костя доковылял до стула и сел, вытянув перед собой исцарапанную в кровь ногу. — Тебя ранили? — Нет, упал, — сказал Самвел. — Вы бежали? Спасались? — Нет, я просто оступился. — Костя старался подавить боль. — В шкафу, на второй полке, лежит бинт. Достань-ка его, Самвел. — Я сама забинтую тебе ногу, — сказала Марина. Она быстро нашла бинт, кусок ваты и стала осторожно очищать рану от грязи. Костя морщился, но молчал. — Почему на границе стреляют? — спросила она. — Мне говорили, будто все ушли в тир, — сказал Самвел, пряча глаза. — Здесь часто стреляют ночью. — И Виктор тоже там? Костя не умел лгать. Он молча следил за ее тонкими пальцами, которые осторожно обвивали бинтом ногу. Марина не пожалела ни бинта, ни своих усилий. Нога стала большой и тяжелой. Казалось, теперь уж без костылей не обойтись. Однако, как ни странно, нога почти не болела, точно Маринины руки утолили боль. — Где Виктор? — снова спросила Марина. Самвел стал поправлять одеяло, которым был покрыт Мухаммед. А Костя вдруг вспомнил, как отец всегда умел успокоить мать, когда она начинала беспокоиться. Бывало, обнимет ее за плечи и скажет: «Ну, старуха, заведи-ка патефон, давай потанцуем». Конечно, патефон так и продолжал молчать на этажерке, под полкой с книжками. Его заводили несколько раз в год, по праздникам. Но мать улыбалась, и морщинки на ее лбу разглаживались. — На охоту пошел! — вдруг выпалил он. Марина вскинула голову: — Костенька, милый, ну скажи правду! Где стреляют? Нет, лгать ей было нельзя, просто невозможно. Она смотрела так умоляюще и в голосе звучало столько тревоги, что Костя невольно отвел глаза. Марина обняла Костю за плечи, крепко сжала их и приблизила свое лицо к его лицу. Не мигая, она смотрела ему прямо в зрачки. — Ты должен сказать правду! Ведь там, наверное, мой Виктор!.. Издалека донеслась автоматная очередь. Ей ответило несколько револьверных выстрелов. Внезапно раздался звук разорвавшейся гранаты. И все смолкло. Марина закрыла лицо руками и заплакала. Забинтованная Костина нога лежала у нее на коленях. Он медленно опустил ее на пол и встал рядом с Мариной, смятенный и растерянный. Ведь и отец теперь может быть там, где Виктор. — Не плачь, Марина, — сказал Самвел. — Дед Баграт тоже с ними. Он им поможет… У каждого из них троих там, на укрытых ночью холмах, был близкий человек. Любой выстрел, отзвук которого гулко гремел в долине, мог быть направлен ему в сердце. Костя и Самвел прижались к Марине. Девушка обняла их. И они сидели молча, прислушиваясь к каждому звуку, который долетал до них издалека. Давно уже затихли выстрелы, а им все казалось: вот-вот они загремят снова. И боялись глубоко вздохнуть, чтобы не потревожить эту напряженную, гнетущую тишину… А Мухаммед спал спокойно и улыбался во сне. Вдруг за окном послышалось тихое урчание вездехода. Яркий свет осветил двор. Все трое метнулись к окну: у ворот в лучах автомобильных фар двигались тени, слышались приглушенные голоса. — Вернулись! — воскликнула Марина и первая бросилась к дверям. Ребята опередили ее. Один за другим они вылезли в окно. Едва они обогнули деревья, как Костя чуть не наткнулся на Виктора, который стоял к нему спиной, крепко сжимая в руках автомат. Фары уже погасли. И в рассеянном свете, падающем из окон заставы, Костя не сразу рассмотрел немолодого человека в темном пиджаке и высоких сапогах. Пиджак на нем был порван, черные волосы взъерошены. — Где мой папа? — волнуясь, спросил Виктора Костя. Виктор кивнул головой в сторону крыльца — там! На крыльце толпились вооруженные солдаты. Они тихо переговаривались между собой. Очевидно, ждали приказа. Костя услышал возбужденный шепот Прошина: — Он на меня сзади как прыгнет! Я нагнулся — раз его через голову. Он за нож, а я… Костя не дослушал. Он пробежал по коридору и резко распахнул дверь в канцелярию. Отец сидел за столом. Окровавленная гимнастерка на его плече была разорвана, и Мергелян неумело бинтовал раненую Руку. Костя замер на пороге, чувствуя, что дыхание остановилось в его груди. — Войди! — спокойно сказал отец. — Сядь в углу и сиди тихо. — Очевидно, Мергелян в этот момент причинил ему боль — отец закрыл глаза и помолчал. За стеной слышался голос дежурного. Он громко кому-то докладывал по телефону: — Да, вернулись!.. Один убит, другой захвачен живым!.. Начальник заставы ранен!.. Здесь, в канцелярии. Его перевязывают!.. Слушаюсь! Сейчас. За стеной наступило молчание. Послышались быстрые шаги, и в двери показалась высокая фигура дежурного по заставе. — Товарищ капитан, на проводе начальник отряда. Спрашивает: можете вы подойти к телефону? Мергелян крепко затянул узел. Отец, морщась, поднялся и вышел в соседнюю комнату. Костя услышал его громкий голос: — Докладывает начальник заставы капитан Корнеев. На участке заставы была попытка прорыва. Два диверсанта на воздушных шарах-прыгунцах пытались проникнуть в глубь нашей территории, но были своевременно обнаружены. При задержании оказали сопротивление. Один убит, другой жив и находится на заставе… — Он помолчал немного и вдруг ответил уже обыденным голосом. — Да так, царапнуло меня немного. Он стрелял из пистолета… Чуть выше локтя… Нет, кость цела!.. Майор Ушаков и подполковник Семыкин остались на местности. Производят осмотр. Ищут их снаряжение… Слушаю, товарищ начальник! — Стукнула брошенная на рычаг трубка. Отец снова вошел в канцелярию и сел на свое место за столом. Костя смотрел на кровавое пятно, расплывшееся по повязке, и страх за отца охватил его. Но отец взглянул на него прищуренным, острым взглядом и чуть улыбнулся. — И тебя тоже поцарапало? — спросил отец. — Сегодня вся наша семья с боевыми ранениями. Болит? Костя отрицательно покачал головой. — Все уже прошло, — сказал он, не отрывая глаз от пятна, алевшего на белой марлевой повязке. — И у меня прошло, — сказал отец, перехватив Костин взгляд. — Только кровь еще не просохла… — Он повернулся к Мергеляну. — Введите задержанного. Из штаба за ним уже выехали. Мергелян вышел, прикрыв за собой дверь. Отец и сын остались вдвоем. Вдруг Костя сорвался с места и бросился к отцу: — Папочка, тебе плохо? Отец привалился к спинке стула. Глаза его были закрыты. Раненая рука бессильно лежала на коленях. — Я все знаю… — шептал он. — Ты и Самвел. Вы нам очень помогли… Дверь распахнулась, и отец открыл глаза. Первым вошел Виктор. При свете электрической лампы Костя увидел, что воротник его гимнастерки разорван. Всю левую щеку прорезала глубокая царапина. Виктор злобно взглянул на человека, который вошел вслед за ним. Казалось, он сейчас обернется, выхватит пистолет и пристрелит его. Но человек не испугался его взгляда. Из-под нахмуренных бровей он оглядел комнату, подолгу останавливаясь на каждом предмете, как будто желая запечатлеть в своей памяти. Где-то в глубине его черных зрачков пряталась усмешка, словно он был уверен, что с ним ничего не случится. — Задержанный доставлен, товарищ капитан! — доложил Мергелян, вошедший в комнату последним. — Обыщите! Виктор вскинул автомат на плечо, повернулся к задержанному и стал осматривать его карманы. На стол перед капитаном ложились найденные вещи: советский паспорт на имя Нагопета Агабяна, прописанный в Ереване; вечное перо, которое при рассмотрении оказалось пистолетом; запонки, под перламутровой пластинкой которых таились крупицы цианистого калия. Бритвенным лезвием Мергелян распорол подкладку пиджака диверсанта, засунул под нее руку и вытащил тонкую полоску чистой белой рисовой бумаги. По тому, как неожиданно дернулся человек, все поняли, что этот листок бумаги хранит особенно важную тайну. Пока Виктор и Мергелян тщательно ощупывали одежду диверсанта, отец внимательно исследовал каждый обнаруженный у него предмет. Силы снова вернулись к капитану. Если бы не окровавленная повязка, можно было подумать, что он здоров. — Вы говорите по-русски? — спросил он. Диверсант промолчал, словно не слышал обращенного к нему вопроса. Лицо его стало напряженным. Он, конечно, был готов к любой внезапности, но все же не ожидал, что придется вступить в бой сразу, да еще при таких неблагоприятных обстоятельствах. Напарник погиб в первые минуты схватки. Все пути обратно оказались отрезанными. А ведь Мак-Грегори несколько часов назад говорил ему, что главное — это не оставить следов на самой границе, а уже в восьмистах метрах от нее можно чувствовать себя вполне спокойно. В чем же ошибка?! — Значит, русского языка не знаете? — сказал отец. — А в паспорте расписались по-русски. Как же так?.. Диверсант продолжал молчать. Но взгляд, его стал сосредоточенным и острым. — Ну что ж, постойте, подумайте. Мы не торопимся… — Отец отвел глаза от диверсанта и посмотрел на сына. — Ну вот, сынок, — сказал он. — Видишь, я совсем себя хорошо чувствую. Так что иди домой и ни а чем не беспокойся. Косте очень хотелось остаться — не каждому мальчику удается увидеть настоящего, живого шпиона! Но он понимал, что возражать бесполезно, и ему не хотелось раздражать сейчас отца. Он вышел из комнаты, спрыгнул с крыльца и невольно остановился. Из открытого окна доносился голос дежурного Федорова: — Где нашли?.. Товарищ майор, где нашли?.. Среди камней, где овцы пасутся? Живой?.. Нет?.. Увезли!.. — Он положил телефонную трубку и кому-то сказал сорвавшимся голосом: — Старика пастуха убили гады! У Кости упало сердце. «Старика пастуха»? Это дед Баграт… Он поискал глазами Самвела — тот стоял рядом с Мариной возле дерева, освещенный падавшим из окна светом, — и сразу понял, что он тоже все слышал. — Дедушка!.. Дедушка мой!.. — тихо сказал Самвел, поднес ко рту руку, сжал пальцы зубами и словно окаменел так. Марина удивленно посмотрела на него — она ничего не поняла. В это время из другого окна раздался встревоженный голос Виктора: — Маринка, скорее сюда! В мгновение Костя был возле Самвела: — Не плачь! Самвел, миленький, не плачь! — громко зашептал Костя, обняв друга за плечо и чувствуя, как слезы мешают ему смотреть. Но Самвел не плакал. Он молчал и только сжимал зубами пальцы… Костя крепче обхватил Самвела и повел. Невозможно было стоять на месте. И он вел его и вел… А вести, собственно, было некуда. Маленький квадрат небольшого двора. Они обошли рощу вокруг, и снова вернулись на прежнее место, и опять пошли к роще — никак невозможно было стоять на месте… — Теперь у меня никого нет!.. — сказал вдруг Самвел. — Никого нет… Они были на другом конце рощицы, когда услышали, что на заставу въехала машина. Вспыхнули отсветы горящих автомобильных фар, упали тени, и тут же снова сомкнулась тьма. — Приехали из штаба! — сказал Костя и повел Самвела к дому. У крыльца стояла крытая машина, но возле нее уже никого не было. Костя заглянул в окно и увидел незнакомых офицеров. Из дома вышли Виктор, Мергелян и еще несколько солдат. Они вели диверсанта. — Сюда! — крикнул Мергелян и открыл дверцу кузова. Арестованный не смог сам забраться в машину, и его пришлось подсадить. Две тени одна за другой скользнули в машину, стукнула железная дверь. Взревел мотор. И машина уехала. Некоторое время все стояли молча. Вот и конец тому, что случилось этой темной, беззвездной ночью. Тому, что потребовало от всех стольких сил, ловкости, нервов. Тому, что оставило после себя глубокий след… И нужно время, чтобы хорошо осмыслить и понять все, что произошло. Вдруг на крыльце, в ярко освещенном проеме двери, показался отец. Он остановился, широко расставив ноги и здоровой рукой держась за притолоку, и сказал: — Я пойду… отдохну… Ты тут командуй, товарищ Мергелян. Мергелян взглянул на отца, неожиданно кинулся к нему и обхватил его за плечи. Если бы не он, капитан бы наверняка упал, хотя за ним с бинтами в руках шла Марина. Но разве смогла бы она одна удержать его? — Я сам, товарищ Мергелян. Я сам… — сказал отец и стал медленно спускаться по ступенькам. Но Марина и Мергелян не отпускали его. Они медленно вели его к дому. — Вы потеряли много крови, — сказала Марина. — Вам нужно полежать… Когда Костя и Самвел вернулись домой, Мухаммед по-прежнему крепко спал. Он был единственным, кто спокойно провел эту ночь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В первых, робких лучах солнца вспыхнула снежная вершина Арарата. Среди камней изогнулась старая выщербленная дорога. Сейчас по ней не ездят даже повозки с бочками воды. А сто лет назад злесь пролегал главный тракт, связывающий Россию с Персией. По его камням громыхала телега, которая везла на родину гроб с телом Грибоедова, убитого в Тегеране. Тишина стоит в Араратской долине. Такая тишина, что хочется выйти к берегу Аракса и стоять неподвижно, глубоко вдыхая свежий утренний воздух. Но не для всех это солнечное утро было таким тихим и спокойным. Пограничники, которые всю ночь искали тайник, где диверсанты спрятали свое снаряжение, вернулись на заставу лишь к восьми утра. Посреди канцелярии лежало то, что называют «вещественными доказательствами»: переносная радиостанция, оболочка воздушных шаров-прыгунов, длинные лямки, напоминающие парашютные ремни; они пристегивались к поясу, и человек, держась за них, отталкивался ногами от земли и совершал гигантские прыжки. С их помощью диверсанты незаметно преодолели опасный рубеж, не оставив следов. Они рассчитывали на то, что охрана границы на участке заставы слаба. Иначе в свое время обезьяна бы не вернулась — так сказал им Мак-Грегори… Все это имущество было найдено на дне глубокой, заваленной камнями ямы, которую обнаружил Факел. Костя проснулся, открыл глаза и сел на своей койке. Отец похрапывал во сне. И Мухаммед все еще спал. Костя пошевелил ногой. Стянутая бинтом, она затекла и отяжелела. Но, когда oh встал, оказалось, что она уже вовсе не болит. Просто Марина не пожалела бинта и намотала его слишком много. Он заглянул в соседнюю комнату. Самвела там не было. Его койка была застелена. Тихо одевшись, Костя вышел во двор посмотреть, где Самвел, и остановился, оглушенный. Казалось, сразу тысяча птиц приветствует его своим веселым пением. За рощицей тихо урчал мотор вездехода. Кто-то приехал. Костя направился туда, но вдруг между деревьев увидел белую кофточку Марины. Она сидела в беседке рядом с Виктором и что-то горячо ему говорила. Костя пробрался сквозь кусты, выбежал к беседке и перемахнул через перила. — А нога?! — Марина ахнула. — Как у Бамбулы, который выжимал четыре стула, — ответил Костя. — Садись и молчи… — сказала Марина и снова обернулась к Виктору: — Ведь я уже почти врач! Моя помощь пригодится. Ты понимаешь?. И, кроме того, я буду рядом с тобой! — Удивительное дело! — усмехнулся Виктор. — Еще недавно я слышал другие речи. Ты считала, что мы достойны сожаления, потому что живем в такой глуши… И потом, к капитану может приезжать врач из отряда. — Да, я так считала, а теперь думаю иначе. И еще я считаю, что капитан нуждается в постоянном уходе врача… Возле крыльца послышались голоса. Стукнули дверцы вездехода. Голос подполковника спросил: — Ну, кто еще поедет? — Тут одна девушка, — ответил Мергелян. — Где же она? Намждать некогда! В беседку заглянул Мергелян. — Поедете? — спросил он Марину. — Машина довезет до станции. Марина помедлила. — А врач приехал? — спросила она. — Вот уже два часа ждет в канцелярии, когда капитан проснется. Она подумала, потом сказала решительно: — Я поеду после перевязки. Если врач скажет, что начальнику нужно лечь в госпиталь… — Папа не ляжет в госпиталь, — перебил ее Костя. — Он сказал, что сейчас ни за что с заставы не уедет. Даже если замполита вызовут из отпуска. — Ну вот видишь! — обрадовалась Марина. — Я буду здесь лечить его, пока он не поправится. Кроме того, у меня ведь каникулы, и я могу проводить их, как мне заблагорассудится. Скоро шум вездехода затих. — Ну и упрямая! — сказал Виктор. — Мне бы не хотелось еще раз подвергать тебя таким переживаниям, как вчера… — Ты совсем меня не знаешь, Витюша, — покачала головой Марина. — Ведь вдали я буду волноваться еще больше! И теперь уже не только за тебя, но за всех вас. — Она потрепала Виктора за волосы и улыбнулась. — Ну, а теперь пойду познакомлюсь с врачом и расскажу, какая помощь оказана мной раненому. — Я пойду искать Самвела, — сказал Костя. — Не понимаю: куда он девался? — Ох, Костенька, прости, что я сразу тебе не сказала! — воскликнула Марина. — Самвел просил тебе передать, что пошел к дедушке Баграту. Бедный мальчик, он совсем извелся, не смог уснуть и чуть свет ушел в деревню. Когда Костя вернулся, отец открыл глаза. Бледный, осунувшийся, он потянулся за папиросой и застонал от боли. — Тебя врач ждет, — сказал Костя. По полу зашлепали голые пятки. Мухаммед вскочил с койки и быстро натянул на себя новые брюки и рубашку. — Селям! — радостно воскликнул он. — Селям, — ответил Костя. Мухаммед увидел забинтованное плечо капитана, заглянул в невеселое Костино лицо. И в его больших черных глазах появилось беспокойство — он не мог понять, что произошло. Отец покосился на желтый ящик телефонного аппарата. — Ну-ка, соедини меня с канцелярией, — попросил он Костю. И, когда Костя выполнил его просьбу, строго сказал в телефонную трубку: — Товарищ Мергелян, почему не докладываете обстановку на заставе?.. Врач не велел будить? А разве у нас теперь врач — начальник заставы?.. Ну то-то. Говорите скорей, что произошло… Так… Так… — кивал он головой. — Хорошо… Как приехал?.. За монетами? Нашел время!.. Монеты лежат в сейфе, можете выдать… А-а, врач… — Он вздохнул. — Пусть зайдет. Отец отдал Косте телефонную трубку. — Ну вот, раз врач приехал — я сразу поправлюсь! — пошутил он и добавил: — Уведи-ка отсюда Мухаммеда. И сам не возвращайся, пока врач не уйдет. Понятно?.. Выполняйте мое приказание. Через окно канцелярии Мергелян разговаривал с незнакомым толстяком в светлом пиджаке и расстегнутой на груди белой рубашке. Увидев Костю и Мухаммеда, Мергелян позвал их. Когда они вошли в канцелярию. Костя заметил на столе аккуратные кучки монет. Мергелян что-то шепнул толстяку. И тот воскликнул густым басом: — Это ты, кажется, нашел клад? — Мы, — ответил Костя. — Виктор, дядя Мергелян и вот он, Самвел. — Он показал в окно. Во двор в это время вошел Самвел. Он шел медленно, и вид у него был измученный и поникший. — Иди сюда, Самвел! — позвал его Мергелян. Самвел вошел в комнату и остановился на пороге. Толстяк пожал руку и ему. — Я выражаю вам благодарность, — торжественно произнес он, — и убежден, что вы будете награждены! Вы обнаружили замечательный памятник старины!.. А знаете ли вы, ребята, как появились в колодце эти монеты? — Нет, — ответил Костя. — Когда-то здесь проходил путь, по которому шли через Кавказ народы, тянулись караваны. Колодец считался священным. И люди кидали в него золотые динары. Тогда думали, стоит бросить в такой колодец золотую монету и к тебе придет счастье. За века этих монет накопилось много! — А почему же все забыли об этом? — хмуро спросил Самвел. — Потому что на этой земле прошло много войн. Враги разрушали крепости и города, убивали тех, кто здесь жил! И на место одних людей приходили другие, но они не знали старых обычаев… Толстяк замолчал и стал платком вытирать лицо. — А кто вы? — неожиданно спросил Самвел. Слова этого человека напомнили ему рассказы дедушки Баграта у ночного костра. — Я — ученый, историк, фамилия моя Карапетян. Изучаю историю Армении. Ваши динары я увезу в музей. А в ту витрину, где они будут храниться, мы положим табличку с вашими именами. Вскоре Карапетян собрал монеты, попрощался и уехал. Правда, он забрал не все монеты. Те, что были у ребят, он оставил им. Солнце уже сильно припекало, и Мухаммеда потянуло к бассейну. Он быстро сбросил с себя новую рубашку, новые брюки и новые ботинки и стал кувыркаться в мутной тепловатой воде. Костя и Самвел купаться не стали. Они сели на камни и смотрели на Мухаммеда. — Уйду из школы! — сказал Самвел, — Как дедушка Баграт, чабаном стану! Его овец пасти буду… — Никто тебя в чабаны не возьмет! — сказал Костя. — Ты еще маленький. — Вырасту! — Долго ждать. Другого чабана возьмут. Давай, когда вырастем, станем лучше пограничниками. Будем жить в этих местах… — Тогда, может быть, и границ не будет, — ответил Самвел. — Все будут жить вместе. И Мухаммед сможет плавать с одного берега на другой. Мухаммед услышал свое имя, обернулся и брызнул в ребят водой. Но Костя и Самвел не ответили ему тем же. Им сейчас было не до этого. Улыбка сошла с лица Мухаммеда; он вылез из бассейна и сел на солнце обсыхать, удивленно посматривая на ребят. Он чувствовал: что-то изменилось, но не понимал, в чем дело. — Вот бы взять его с собой в Ереван! — сказал Самвел. — Вместе бы учились. А потом он бы вернулся назад. Костя с сомнением взглянул на Мухаммеда: — А как его учить? Он ни русского, ни армянского не знает… — Плохо! — сочувственно сказал Самвел. — У них в деревне даже электричества нет. — И в кино, наверное, не ходит. — И в школе не учится… — Темный человек! — вздохнул Костя. Вдруг позади них кто-то крикнул: — Мухаммед! Мухаммед! На крыльце стоял лейтенант-переводчик. Он был необыкновенно подтянут, тщательно выбрит, на нем была новая, с иголочки, гимнастерка, и сапоги сияли зеркальным блеском. — Что, скоро на мостик пойдете? — спросил Костя. — Да, пора, — ответил лейтенант. Мухаммед оделся. Лейтенант крикнул ему что-то и показал рукой в сторону Аракса. Мухаммед обрадовался. Глаза его засветились, и он весело ответил лейтенанту. Потом взглянул на ребят, и улыбка сошла с его лица. Он что-то спросил лейтенанта, но тот отрицательно покачал головой. — Что он говорит? — спросил Костя. — Он спросил, можно ли ему приходить к вам в гости. Он хочет с вами дружить. — Мы тоже хотим с ним дружить, — сказал Костя, — и ходить к нему в гости. — Когда мы вырастем, так оно и может быть! — добавил Самвел. И лейтенант перевел их слова. Потом он придирчиво осмотрел Мухаммеда со всех сторон, пригладил ему волосы, поправил рубашку и крикнул дежурному, чтобы тот принес сапожную щетку. В это время появился отец. Он был одет по форме, рука была на перевязи. Отец шел медленно и как-то неуверенно ставил ноги — очевидно, сил у него было немного. Рядом с отцом шли полковник Костромин и Марина. Марина старалась незаметно поддерживать капитана под локоть. Полковник и капитан оглядели Мухаммеда. — Что-то волосы у него топорщатся, — сказал Костромин лейтенанту. — Нет ли у кого-нибудь одеколона? — У меня есть духи «Красная Москва», — вспомнила Марина. — Сейчас принесу. — Вот и хорошо! — усмехнулся Костромин. — Пусть там почувствуют запах «Красной Москвы»! Потом он заметил Самвела и подошел к нему. — Ты Самвел — внук деда Баграта?.. — спросил он. — Твой дед был очень стар и не йог осилить врагов. Но он натравил на них свою собаку, и за это они убили его!.. Ты можешь гордиться таким дедушкой, Самвел!.. Мы похороним Баграта с воинскими почестями. Ведь он погиб, как боец! Самвел опустил голову. Глаза его наполнились слезами. — Мы позаботимся о тебе, Самвел. Ты будешь получать пенсию и сможешь поступить в Суворовское училище… Хочешь? — Нет, — ответил Самвел, — мы с Костей поклялись друг другу всегда быть вместе… — Мы будем учиться вместе, а на каникулы приезжать сюда, — сказал Костя. — Если отец переедет на другую границу, Самвел поедет вместе с нами. Правда, папа? — Конечно, Костик, — сказал отец, и слабая улыбка появилась на его бледном, обострившемся за ночь лице. Тем временем Виктор задержал Марину, которая бежала к Мухаммеду с флаконом духов в руках. — Ну как дела? — спросил он ее. — Остаешься? — Все получилось, как я и думала! — быстро зашептала Марина. — Врач велел ему ложиться в госпиталь, сказал, что здесь нет надлежащего ухода… А я тут как тут! Показала свою зачетную книжку, пообещала точно выполнять все предписания… И начальник обрадовался, что ему можно остаться на заставе. И тоже стал уговаривать врача… — Но твой больной тебя не слушает! — Он сказал — ему необходимо пойти. Ну так необходимо, что важнее жизни!.. И он дал мне слово коммуниста, что потом будет лежать пластом столько, сколько нужно! — Товарищ полковник, разрешите обратиться! — зычно произнес Мергелян, подходя к Костромину. — Докладывают, что турки направляются к мостику. — Сейчас пойдем, — сказал Костромин и обернулся к отцу. — Может, все-таки вернетесь? Костя заметил, как у отца дрогнули губы. — Нет, товарищ полковник, я хочу посмотреть ему в глаза. — Но, может быть, он и не придет. — Обязательно придет! Он сейчас старается любыми средствами узнать, прошли его люди или нет. — Только будьте осторожны. Если почувствуете себя плохо, сразу вернитесь. В это время Костя заметил, что Мухаммед исчез. Начищенный, причесанный, благоухающий духами, он все время спокойно стоял возле ребят. Костя оглянулся, но его нигде не было. Он уже хотел бежать его разыскивать, как увидел, что Мухаммед идет со стороны дома. Костя заметил, что он что-то прячет под пиджаком, и понял: Мухаммед бегал за жестяной коробкой с монетами. Ну что ж, уговор был твердый. Мухаммед поймал кобру, и монеты принадлежат ему. Проститься с Мухаммедом вышли все солдаты. Каждый пожал ему руку. И Мухаммед, счастливый и возбужденный, пошел к воротам — маленький мужчина в пиджаке и длинных брюках. С ним шли полковник Костромин, начальник заставы и лейтенант-переводчик. В воротах Мухаммед обернулся и помахал рукой. — Прощай, Муха! — крикнул Самвел. — Са-ам-вел!.. Кости-ия!.. — ответил Мухаммед. Самвел, Костя и Марина вышли из вороти взобрались на гору рыжих камней. Отсюда был хорошо виден узкий, переброшенный через Аракс мостик. По ту сторону его уже собралось человек двадцать. Там были женщины и мужчины, очевидно жители деревни. Ближе к мостику стояли три офицера и два жандарма. Прикрыв от слепящего солнца глаза рукой, мальчики следили за тем, что происходило на мостике. Вот группа остановилась, и Костромин вместе с лейтенантом ступили на мостик. Навстречу им сразу же двинулись офицеры. Пока Костромин беседовал с маленьким, щуплым офицером в фуражке с кокардой, молодцевато сдвинутой набок, от толпы крестьян отделилась бедно одетая немолодая женщина. Она жестами старалась привлечь внимание Мухаммеда. Мухаммед ее сразу же увидел… Схватив капитана за здоровую руку, он показывал на мать. Крестьяне стали оживленно жестикулировать. Очевидно, они не сразу признали Мухаммеда и теперь удивились его превращению. Переговоры на мосту подходили к концу. Офицер подписал бумагу, которую ему протянул лейтенант. После этого Костромин подал знак капитану, тот подвел Мухаммеда к мостику и подтолкнул его вперед. Мухаммед стрелой промчался мимо Костромина, мимо лейтенанта, мимо офицеров и бросился в объятия матери. Их окружили крестьяне, и на мгновение толпа скрыла Мухаммеда от глаз мальчиков. Вдруг Костя увидел человека в светлой куртке и таких же брюках, который своим внешним видом как-то отличался от остальных обитателей противоположного берега. Этот человек подошел к самому мостику и стал пристально разглядывать отца. А тот стоял спокойно и так же в упор смотрел на него. Через некоторое время этот человек круто повернулся и смешался с толпой. Костя почувствовал: это был Мак-Грегори! Костромин, отец и лейтенант повернули к заставе. — Неужели мы больше никогда не увидим Муху! — сказал Костя. — А мяч-то мы ему так и не купили! — всплеснула руками Марина. — Не до того было, вот и забыли. Крестьяне двинулись к своей деревне. Теперь Мухаммед бежал вдоль берега. Он хорошо видел Костю, Самвела и Марину, махал им рукой и что-то кричал. Его нагонял высокий аскер с винтовкой на плече. Казалось, он просто хочет отогнать его подальше от берега. Никто не ожидал того, что произошло в следующий момент. Аскер бросился на Мухаммеда, схватил его за плечи, повернул к себе и распахнул пиджак. Блеснув на солнце, на землю упала жестяная коробка. Прежде чем аскер успел нагнуться за ней, Мухаммед схватил ее и прижал к груди. Но аскер стал грубо вырывать у него коробку. Костя, Самвел и Марина затаили дыхание. Что делать? Броситься вперед? Оторвать от Мухаммеда жадные руки? — Папа!.. Папа!.. — кричал Костя. Отец видел все, что происходит на противоположном берегу. Но что он мог сделать? Что могли сделать все сильные советские люди? Граница — невидимая черта, которая проходит посреди реки, но за ней уже чужая земля, чужие законы, чужие порядки! Никто из крестьян, даже мать, не осмелился прийти на помощь мальчику. Они стояли в отдалении хмурой, взволнованной, но покорной толпой. Аскер вцепился обеими руками в коробку и плечом толкнул мальчика в грудь. Толчок был силен. Мухаммед упал. В то же мгновение из открывшейся коробки маленькой стайкой взлетели кверху золотые динары. Они блеснули на солнце и посыпались в воду, в самую быстрину, где поток с шумом устремился на камни. Аскер бросился на колени и наклонился над водой, а Мухаммед поднялся и со всех ног бросился к матери. За спиной Кости раздался голос отца: — Кто дал ему монеты?! Мальчики обернулись Отец теперь уже еле держался на ногах и опирался на руку молоденького лейтенанта. — Мы, — тихо сказали Костя и Самвел. — Вот что вы наделали! — Мы не знали, — сказал тихо Костя. — Ему очень хотелось. Мы на память… Они ведь старинные. На них ничего не купишь. — Не сердитесь на них! — с юношеским пылом вступился за ребят лейтенант. — Откуда нашим ребятам знать, что золото может погубить человека. Я старше и то об этом не подумал!.. Вот и не видно уже Мухаммеда. Разошлась толпа, и только аскер еще стоит на берегу и тупо глядит в воду. Костя глубже засунул руки в карманы и пошел к заставе. Вдруг пальцы его нащупали что-то твердое. Монета? Он вытащил динар. Золотой динар, случайно забытый им в кармане. Принес ли он когда-нибудь счастье человеку? Костя подбросил монету на ладони. Все это глупости! Сказки давних времен! Какое счастье принесло золото Мухаммеду? И разве оно вообще может принести счастье? Костя вспомнил, какая бессильная злоба охватила его, когда аскер толкнул Мухаммеда. Он размахнулся и хотел швырнуть монету в реку, но подумал о своем учителе, который собирает коллекцию древних монет, сунул золотой динар в карман и прибавил шагу, чтобы догнать Самвела.Н. Томан «MADE IN…»

Фантастическая повесть
1
— Вы понимаете, что вы говорите? — сердито смотрит на старшину Костенко майор Васин. — Как это мог Чукреев подорваться? На чем? — На чем он подорвался — этого я не знаю, товарищ майор, — хмуро отвечает старшина. — Но факт остается фактом — ефрейтор Чукреев действительно подорвался. Взрыв все слышали, а я своими глазами видел воронку и… тело. — На чем же все-таки, черт побери?! — уже ни к кому не обращаясь, повторяет майор Васин. Спустя полчаса тот же вопрос задает ему начальник полигона подполковник Загорский. — Может быть, ваши саперы проводили там занятия и оставили какую-нибудь мину? — спрашивает он. — Ну как это — мину забыть, товарищ подполковник? Ведь за это… И потом, кто же проводит занятия с боевыми минами? А взрыв этот вы слышали? Разве так рвутся мины? Я в армии не первый год, не то что по звуку — по запаху вам определю, что взорвалось: гремучая ртуть, азид свинца, тротил, мелинит, гексоген, динитронафталин… — Что вы мне читаете лекцию по подрывному делу! — раздраженно прерывает майора подполковник. — Вы мне лучше скажите: как это могло произойти? Ведь ваш ефрейтор взорвался на пустом месте, в километре от пусковых установок и стендов и почти в трех километрах от лаборатории складов. Ничего там не могло быть такого… А не мог он сам притащить туда что-нибудь? — Об этом не может быть и речи! — решительно возражает майор Васин. — У меня военное подразделение, а не детский сад. И потом я же докладываю вам: звук взрыва совершенно незнакомый. Ефрейтор же Чукреев был дисциплинированным, серьезным сапером. Подполковник Загорский знает майора Васина давно. Он уважает его как хорошего специалиста по всем вопросам саперной техники, и ему досадно, что майор не может определить причины взрыва. Мало того, майор почему-то считает, что взорвалось что-то незнакомое, необычное. Этого только не хватало! Может быть, таинственная мина свалилась с неба? Непохоже. Хотя с «неба» теперь может упасть все, что угодно… Майор Васин тоже очень расстроен. Пожалуй, не нужно было говорить с ним так резко. Тяжело вздохнув, подполковник Загорский садится за свой стол и устало кивает: — Ну ладно, сегодня поздно уже, но завтра чуть свет необходимо все расследовать тщательнейшим образом. С шести часов утра и почти до полудня лучшие специалисты майора Васина по минно-подрывному делу исследуют каждый квадратный метр участка полигона, где подорвался ефрейтор Чукреев. Прощупана каждая былинка, просеяна каждая горсточка почвы, подобраны и исследованы все осколки и обломки. В час начальник полигона уже читает акт расследования. Он перечитывает акт дважды, затем опускает листки на стол и тяжело задумывается. Он знает, что Васин и его саперы сделали все возможное. Подтверждается факт взрыва, но об этом было известно и раньше. Определена приблизительная температура взрыва по состоянию обгоревшей растительности и оплавленным песчинкам грунта, но это ничего практически не дает. Найдены осколки металла, стекла и пластмассы, но они настолько мелки, что установить по ним что-нибудь не представляется никакой возможности. Одним словом, что именно и как взорвалось, по-прежнему остается тайной. — Значит, все сплошной туман и никаких догадок? — мрачно произносит подполковник Загорский, нервно разглаживая плотную бумагу акта. — Одно предположение можно сделать все-таки, — не очень уверенно заявляет Васин. — Оно, правда, настолько зыбкое, что я не решился даже внести его в акт… — Выкладывайте! — мгновенно оживляется Загорский. — Уж я сам решу — включать его или не включать. Майор не спеша расстегивает левый карманчик своей гимнастерки, достает аккуратно сложенную бумажку и осторожно разворачивает ее. Загорский с удивлением видит в складках бумаги какие-то коричневатые кристаллики. Он поднимает на майора удивленные глаза. — Вы знаете, что это такое? — спрашивает Васин. Загорский смущенно пожимает плечами. — Кремний! — почему-то шепотом произносит майор. — Полупроводник? — Да. Кристаллы высокой химической чистоты. — А не мог он оказаться там случайно? — Весьма возможно. Мы ведь широко применяем полупроводниковые приборы. Подполковник Загорский долго ходит по канцелярии, тяжело вздыхает несколько раз и наконец решает: — Давайте все-таки включим в ваш акт и эту находку.2
Никогда еще лицо генерала не казалось полковнику Астахову таким суровым, как сегодня. Вот уже несколько минут неподвижно сидит он за своим огромным письменным столом и, не произнося ни слова, внимательно рассматривает какую-то иллюстрированную немецкую газету. Судя по выражению глаз генерала, он не читает ее текста — значит, интересуется только фотографиями. Тот, кто плохо знает генерала, может подумать, что смотрит он на эти фотографии впервые. Но Астахов знает генерала хорошо. Он не сомневается, что генерал давно уже изучил эти снимки досконально. Астахову пока неизвестно, что там на них изображено, но он уже предчувствует неприятности. — Вот, полюбуйтесь, — произносит наконец генерал, протягивая Астахову газету. Полковник внимательно всматривается в снимок полигона, недоумевая, что тут могло привлечь внимание генерала. — Обыкновенный полигон ракетного оружия, — медленно произносит он, не поднимая глаз от газеты и все еще надеясь заметить хоть какую-нибудь деталь, ускользнувшую от его внимания. — Вот именно, — недовольно перебивает его генерал, — самый обыкновенный полигон. Но ведь это наш советский испытательный полигон тринадцать дробь три. Не скажете ли вы, полковник Астахов, каким образом попал он в эту газету? Да, это действительно полигон тринадцать дробь три. Астахов краснеет от досады. Как же он сразу не обратил внимания на хорошо знакомый ему следящий телескоп, смонтированный на поворотном лафете зенитного орудия? Вспоминает он и расположение пусковых установок, испытательных стендов и смотровых вышек. — Разве не на этом полигоне были вы всего неделю назад? — вскидывает генерал строгие глаза на Астахова. — Так точно, товарищ генерал. На этом. — Но мало того, — недовольно перебивает его генерал, — полигон этот сфотографирован именно в тот самый день, когда вы находились на нем. На пусковой его установке изображена ведь ракета «Тау-21», испытание которой началось тридцатого июня. Вот, полюбуйтесь-ка на этот снимок. Генерал, не глядя на Астахова, достает из стола лупу и протягивает ее полковнику. Вооружившись ею, Астахов внимательно всматривается в газетную фотографию и замечает теперь характерные очертания действительно запускавшейся в тот день ракеты «Тау-21». — Это в самом деле наш полигон… — растерянно произносит полковник, торопливо перелистывая газету и пристально всматриваясь в ее иллюстрации. — Да-с, — мрачно произносит генерал, все еще не глядя на Астахова, — пикантная получается ситуация: прославленный контрразведчик, ответственный работник Комитета государственной безопасности, едет проверять состояние секретности испытаний, производимых на полигоне ракетного оружия. Возвратясь, докладывает, что все вполне благополучно, что вражеской разведке не подобраться к полигону и на пушечный выстрел. А секретный объект этот тем временем кто-то фотографировал как раз в момент запуска нашей новой ракеты. Представляете вы себе, в какое положение вы меня поставили? Пораженный полковник Астахов лишь сокрушенно разводит руками… Генерал барабанит по столу кончиками пальцев. Астахов никогда еще не видел его таким взволнованным. Надо бы сказать хоть что-нибудь в свое оправдание, но что? Как могло произойти такое? — Я пока не требую от вас объяснений, — сухо говорит генерал, — но приказываю немедленно заняться этим делом и не позже четверга доложить, как это могло произойти. — Слушаюсь, товарищ генерал…3
У капитана Уралова еще не иссяк юношеский задор, студенческая ершистость, но полковнику Астахову именно это и нравится в нем. К тому же он очень эрудирован, этот капитан. В области физики и математики никто из отдела Астахова не сможет с ним тягаться. Даже инженер-полковник Шахов. Для Астахова просто непостижимо, когда только успевает этот мальчишка читать всю новую литературу. Главное же увлечение капитана — кибернетика. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию по теории информации. — Посмотрим, как ты с криптограммами будешь справляться, — задирают Уралова товарищи. — Времена корпения над криптограммами вообще уже миновали, — немедленно парирует капитан. — Этим с гораздо большим успехом занимаются теперь вычислительные машины. Не задумывается он и над вопросом: все ли посильно электронным устройствам? — Почти всё. С простыми кодами вообще не может быть никаких затруднений. Подобные задачи электронные машины решают, опираясь на статистические свойства текстов. В случае же сложных кодов, в которых для изменения статистической структуры используются таблицы случайного набора символов, расшифровка ведется пробами на разных кодах. При колоссальных скоростях современных счетных машин это не занимает много времени. Говорить о вычислительных машинах, о теории информации и о математической логике капитан может в любое время дня и ночи. Но сегодня, к удивлению Астахова, он молчалив. Уже второй час едут они в отдельном купе скорого поезда, а Уралов не обмолвился еще ни единым словом, если не считать кратких ответов на вопросы полковника. — Что это вы такой мрачный сегодня? — с любопытством спрашивает Астахов, хотя и у него самого настроение неважное. — Рассказали бы что-нибудь новенькое… Выяснилось наконец, могут ли электронные мозги быть совершеннее человеческих? Капитан вздыхает: — Не ожидал я, Анатолий Сергеевич, что и вы будете надо мной подшучивать… — Я и не шучу вовсе. С чего это вы взяли? Я тоже физиком себя считаю. Во всяком случае, учился когда-то на физико-математическом. — Знаю я это! — недовольно бурчит Уралов. — Потому и удивляюсь, что вы мне такие вопросы задаете. — Ну ладно, ладно, — улыбается Астахов. — Мне не нравится только, что вы такой хмурый сегодня. — Почему же хмурый? — пожимает плечами Уралов. — Просто не хочется надоедать. Знаю — вам теперь не до меня. — Слыхали, значит, о наших неприятностях? Капитан молча кивает. Полковник высовывается в окно, подставляя голову встречному ветру. За окном непроглядная ночь, лишь цепочки электрических фонарей четким пунктиром прочерчивают улицы невидимого поселка. Вспоминая недавний разговор с генералом, полковник молча стоит некоторое время у окна, потом, повернувшись к капитану, спрашивает: — Вы не очень довольны, кажется, что я вас от лаборатории вашей оторвал? — Можно мне тоже вопрос задать? — Пожалуйста. — Могу я узнать, с какой целью вы сделали это? — Просто так. Решил, что вам не мешает проветриться. Капитан смотрит на Астахова долгим, недоверчивым взглядом. И говорит задумчиво: — Шахов сказал, что вы хотите на оперативную работу меня перевести. — Ну если бы и так? Теперь высовывается в окно капитан и, не отвечая Астахову, долго всматривается в ночную тьму. Она беспросветна — ни огонька на земле, ни звездочки в небе. Поселок с бусинками электрических лампочек остался где-то позади, и не понять уже, что там во тьме — поля или леса. Поезд все мчит вперед, не сбавляя хода даже на станциях. Сильно бьет в лицо встречный ветер, принося с собой запах паровозного дыма. Астахов терпеливо ждет. Он догадывается, почему капитан так медлит с ответом. — Не способен я к оперативной службе, товарищ полковник, — скучным голосом произносит Уралов. — Не способны или не имеете желания? — Могу я быть с вами откровенным, Анатолий Сергеевич? — резко поворачивается к нему Уралов и, не ожидая ответа, взволнованно продолжает: — Не в оперативной работе дело — вообще все нужно по-другому… Не то время! И не улыбайтесь, пожалуйста, я знаю, что вы мне возразите. Дайте, однако, закончить. Я ведь не против той работы, которую вы называете оперативной. Нужна и она… Но нужно быть готовым и к новым формам разведки и контрразведки. Время подвигов Вильгельма Штибера и Мата Хари — далекое прошлое. Мы живем в век термоядерного оружия, космических полетов, электронных машин. Все теперь иного масштаба, иного качества, иных возможностей… Полковник слушает, не перебивая и не удивляясь, — ему ясно, куда клонит капитан. Уралов, опасаясь, что его могут прервать, не дослушав, сыплет торопливые и не очень складные слова: — Повторяю — пока нужны все формы. И те, у кого есть способности, а может быть, даже талант контрразведчика старой школы, пусть продолжают… Но ведь меня учили на физико-математическом, потом в аспирантуре. Я кандидат наук. Зачем же и меня на это?.. — Теперь только вижу, как мудро я поступил, взяв вас с собой, — добродушно смеется Астахов. — Засиделись вы в лабораториях и современную оперативную работу представляете себе, видимо, по библиотечке военных приключений. Надеюсь, поездка наша поможет вам кое в чем разобраться. Ну, теперь спать!4
Больше всего беспокоит подполковника Загорского то обстоятельство, что полковник Астахов ничего ему не объясняет, хотя совершенно очевидно, приехал он неспроста. Неужели в прошлый раз не понравилось ему что-то на полигоне? Действует на нервы и этот долговязый капитан Уралов. Скептически смотрит на всё прищуренными глазами и хотя бы слово вымолвил. Они обходят те же самые объекты, которыми интересовался Астахов в свой первый приезд. Когда полковник спрашивает у капитана время, Загорский вспоминает, что именно в этот час Астахов осматривал полигон неделю назад. Случайно ли такое совпадение? У Загорского и так много неприятностей сегодня, а тут еще эта головоломка… Удивляет Загорского и то обстоятельство, что полковник вдруг останавливается именно на том месте, на котором неожиданно заспорили они в прошлый раз. Загорскому это хорошо запомнилось потому, что спор возник всего за несколько минут до запуска «Тау-21». А заспорили из-за книги летчика Уильяма Бриджмэна «Один в бескрайнем небе». Полковнику она нравилась, Загорского оставила равнодушным. Неужели и теперь Астахов вспомнил об этом Бриджмэне? Но нет, непохоже что-то, чтобы полковник собирался продолжить прежний спор. Осмотревшись по сторонам, он достает из своей полевой сумки фотографию, переснятую с немецкой иллюстрированной газеты «Шварц Адлер», и пристально всматривается в нее. Похоже, что и капитан Уралов не понимает, в чем дело. — Как по-вашему, — обращается вдруг полковник к капитану, протягивая ему фотографию, — откуда мог быть сделан вот этот снимок? Загорский, заглядывая через плечо капитана, видит на снимке свой полигон, запечатленный в момент испытания на нем ракеты «Тау-21». Ничего не понимая, он почти вырывает фотографию из рук капитана, но полковник решительным движением отбирает ее и возвращает Уралову: — Потом посмотрите, товарищ Загорский. Пусть капитан ответит сначала на мой вопрос. Уралов внимательно рассматривает снимок. Конечно, сделать его можно было только на виду у всех со стороны поля, совершенно голого почти до горизонта. — Итак? — Фотографировали метров со ста—ста пятидесяти… Вон примерно с той точки, — кивает капитан в сторону трех ромашек, украшающих макушку небольшого холмика. — Ну, а если с помощью телеобъектива? — В этом случае съемку можно было бы вести с расстояния трехсот и даже пятисот метров. Но опять-таки на виду. Перед нами ведь на несколько километров совершенно ровное поле. — Да, тут действительно всё как на ладони! — произносит подполковник Загорский. На продолговатом, сухощавом лице его не только удивление, но и явный испуг. — Я хорошо помню, как в тот день стояли мы тут и делились своими впечатлениями о книге Уильяма Бриджмэна. И тогда было то же, что и сейчас, — ни души и ни единого предмета в поле. Ума не приложу, как нас смогли сфотографировать… Разве только человек-невидимка? А капитан Уралов уже мерит поле своими длинными ногами. Ходит взад и вперед возле холмика, на котором растут ромашки. Опускается даже на колени и нюхает их для чего-то. — Вы, конечно, понимаете мое положение, товарищ полковник, — оправдывается Загорский. — Я ведь… — Да, я понимаю, — перебивает Астахов, — потому и не спрашиваю вас ни о чем. Этого никто пока не может объяснить… Или, может быть, вы рассеете наше недоумение? — обращается он к подошедшему капитану. — Нет, я тоже ничего пока не понимаю, — признается Уралов. — Тогда сфотографируйте, пожалуйста, общий вид полигона с разных точек, — говорит Астахов. — Постарайтесь, чтобы снимки были в таком же ракурсе, как и на этой вот фотографии. — Слушаюсь, — прикладывает руку к козырьку капитан. — Позвольте мне также обследовать некоторые участки полигона. — Делайте все, что найдете необходимым… — разрешает Астахов и поворачивается к подполковнику: — А вы, товарищ Загорский, учтите, что вашу технику и все ваши действия на полигоне кто-то тайно фотографирует в любое время дня, а может быть, и ночи.5
Инженер-полковник Шахов несколько лет подряд давал себе слово заняться «приведением в порядок своего фюзеляжа». Он имел в виду ежедневную физзарядку и регулярные занятия спортом. Конкретно — теннисом. Составлялись программы максимум и минимум, ни одна из коих не была осуществлена. Мешали этому и чрезмерная занятость, и некоторые другие обстоятельства, главным же образом — элементарная леность. Когда перевалило за пятьдесят, Шахов вообще махнул на все рукой и стал только китель заказывать попросторнее. Лишний вес между тем все чаще давал себя знать. Сказывалось это не только на работе сердца, но и на нервах. Поэтому скверное настроение, не покидавшее его в последние дни, Шахов был склонен приписать своей тучности. Скверно у него на душе и сейчас. Расстегнув все пуговицы кителя, изнемогающий от жары и усталости, вот уже более получаса лежит он на диване и хмуро смотрит в потолок. Весь день пришлось ему нервничать, доказывая свою точку зрения, а зачем? Если полковник Астахов склонен больше считаться с фантастическими теориями капитана Уралова, а не с его, Шахова, опытом, то какой смысл во всех этих спорах? Нужно, пожалуй, пойти к самому генералу и доложить ему свою точку зрения. Конечно, Уралов — толковый малый. Начитанный, знающий. Но зачем же быть еще и фантазером? Он воображает, что вражеская агентура оснащена чуть ли не карманными электронными машинами, и не сомневается, что испытательный полигон ракетного оружия фотографировался какими-то кибернетическими средствами. Практика показывает, однако, что вражеские агенты великолепно обходятся и обыкновенным фотоаппаратом. Каким образом удалось им сфотографировать полигон, чуть ли не на глазах полковника контрразведки Астахова, это уж результат сноровки агента, производившего съемку. Вот послушаем завтра, что скажут эксперты, изучавшие эти снимки, тогда и будем делать выводы… Но ждать до завтра не приходится. Раздается звонок, и Шахов слышит веселый голос полковника Астахова: — Извините, что беспокою вас так поздно, Семен Ильич, но экспертиза уже готова, эксперты у меня, а за вами послана машина. Приходится вставать с уютного дивана, и весьма вероятна перспектива снова провести всю ночь без сна. Вчера и позавчера было то же самое. Другой бы похудел от такой жизни без всякой физкультуры… Машина приходит через десять минут. Шахов, ждавший ее на улице, молча распахивает дверцу и тяжело плюхается на заднее сиденье. Конечно, эксперты доложат что-нибудь такое, что подтвердит точку зрения Уралова; в противном случае Астахов не стал бы так торопиться. Будет, видимо, допущено, что вражеская разведка использует какую-то новую аппаратуру. Как же они завезли ее к нам? Разве над этим кто-нибудь из наших «поборников нового» задумывается? Все буквально загипнотизированы этими самообучающимися, самонастраивающимися и, кажется, даже самомонтирующимися кибернетическими машинами, для коих будто бы все возможно… «Физики и лирики», — невольно вспоминает Шахов заголовки недавних дискуссионных статей и задает себе вопрос: «Я-то кто же: физик или лирик?» И усмехается: «Лирик, наверное. Лирик испытанных старинных методов разведки и контрразведки. Ну что ж, послушаем теперь физиков и не станем без особой нужды омрачать их нашим скептицизмом. Любопытно, однако, чем, кроме смутных догадок, подтвердят они свою точку зрения?..»6
У Астахова действительно все уже в сборе. Спокойно сидят в его кабинете и пьют чай. Полковник умеет проводить свои совещания в спокойной, почти домашней обстановке. — Угощайтесь, Семен Ильич, — протягивает он чашку инженер-полковнику. — И начнем, пожалуй. Прошу вас, товарищ Павлов. Майор Павлов, худощавый, подтянутый, — типичный штабной офицер. В компетентности его у Шахова нет ни малейших сомнений. В вопросах фототехники он непререкаемый авторитет. Не торопясь, монотонно читает майор машинописный текст заключения экспертов, из которого следует, что все снимки полигона ракетного оружия сделаны… не фотоаппаратом. Далее следует длинное объяснение причин такого заключения. Все действительно может быть и так, но кое-что можно толковать по-иному. И Шахов столь же неторопливо, как и Павлов, принимается излагать свои возражения. Капитан Уралов со скучающим видом пьет чай. Астахов краем глаза наблюдает за ним. Бесстрастие капитана кажется ему напускным. Не может он оставаться равнодушным к тому, что говорит Шахов. Окажись прав инженер-полковник, гипотеза Уралова потеряет смысл. — Ну хорошо, — спокойным голосом говорит капитан, как только умолкает Шахов, — допустим, что вы правы и снимки действительно сделаны обычным аппаратом. Но каким образом они могли так быстро попасть в редакцию газеты «Шварц Адлер»? Шахов молчит, прикидывая что-то в уме, а Уралов продолжает после небольшой паузы: — Нам ведь известно, когда они были сделаны. Было это тридцатого июня в четыре часа дня. Известно нам и время выхода из печати «Шварц Адлера». — Да, действительно, мы можем теперь точно все подсчитать, — подтверждает полковник Астахов. — Вот газета «Шварц Адлер». На ней стоит дата первого июля. — Значит, с момента съемки до выхода Западногерманской газеты из печати времени было не более суток, — все тем же спокойным голосом заключает капитан Уралов. — Мог ли кто-нибудь из молодчиков генерала Гелена,[222] производивших эту съемку, преодолеть три тысячи километров в течение одних суток? Для Шахова уже ясно, что его точка зрения неверна, но он все еще не хочет сдаваться. — Почему бы не допустить, что агент, производивший съемку, покрыл это пространство самолетом? — спрашивает он, поворачиваясь к Астахову и избегая пристального взгляда Уралова. — На каком самолете? — пожимает плечами полковник Астахов. — Не на собственном же? — Я имею в виду обычный самолет и ближайший аэродром. — Ну что ж, — одобрительно кивает Уралов, — нужно обсудить и такую возможность. Так как военным самолетом тайный агент явно не мог воспользоваться, ему, следовательно, нужно было преодолеть расстояние до ближайшего гражданского аэродрома, равное примерно двумстам километрам. Создадим ему для этого наиболее благоприятные условия и посадим его на попутную машину. По местным дорогам на такую поездку ушло бы не менее трех часов. На аэродром он прибыл бы, значит, не раньше семи вечера. На запад в это время не летит ни один самолет — последний отправился в три часа дня, ближайший уходит только в четыре утра. Четыре утра — это уже первое июля. Мог ли он в оставшееся время… — Нет, не мог, — перебивая Уралова, заключает Шахов и поднимает руки. — Я капитулирую и готов принять версию капитана Уралова. Однако теперь мне хотелось бы услышать, как он ее аргументирует. Заметив, что победитель не злорадствует и не торжествует, Шахов смотрит на него уже без предубеждения. Сам бы он не упустил случая поддеть капитана. Все теперь смотрят на Уралова, который мелкими глоточками, не спеша пьет чай. — Аргументы? — спрашивает он. — Разве и без того не очевидно, что имеем мы дело с каким-то электронным устройством? — Это только догадки или есть конкретные доказательства? — Помните таинственный взрыв на полигоне у Загорского? — Это когда погиб один ефрейтор? — Да, ефрейтор Чукреев. — Но ведь это когда было! — пренебрежительно машет рукой Шахов. — Почти полгода назад. — Зачем же полгода — всего три месяца. Но то, что тогда было непонятно, теперь предстает совсем в другом свете. Помните кристаллики кремния, найденные майором Васиным на месте взрыва таинственной мины? — Вы полагаете, следовательно… — Вот именно. У меня нет никаких сомнений в том, что тогда взорвалось устройство, которое вело передачи с нашего полигона. И это устройство было электронным, на полупроводниках, о чем свидетельствуют крупинки чистейшего кремния. — Допустим, что это действительно так, — не очень охотно говорит инженер-полковник. — Хотя… А каков, по-вашему, его внешний вид? Капитан задумчиво смотрит некоторое время в темные прямоугольники окна, потом берет синий карандаш из деревянного стакана, стоящего на письменном столе Астахова, и торопливо набрасывает на листе бумаги какие-то эскизы. — Внешний вид его может быть какой угодно. Такая вот танкетка, например. Или подобие приплюснутого шара — сфероида. Весьма возможно даже, что эта штука сама, автоматически, так сказать, окрашивается под цвет окружающей местности. — Обладает своеобразной мимикрией? — Да, нечто в этом роде, — утвердительно кивает капитан. «Принципиально это во всяком случае возможно», — мысленно соглашается с ним Шахов. Вслух он спрашивает: — Ну хорошо. Допустим, что такая управляемая на расстоянии замаскированная танкетка действительно вкатилась на один из наших полигонов. А как же она передает изображение? Вы, конечно, ответите: с помощью телевидения. Допускаю и это, но как? Размеры ее не могут быть велики. Где же она берет энергию для передач? Ведь телепередачи требуют огромных затрат энергии… Шахов задал Уралову вопрос, который интересует всех. И эксперты, давно уже забывшие о своем чае, и полковник Астахов — все выжидательно смотрят на капитана. Этот пункт его гипотезы кажется им особенноуязвимым. — Я не думаю, чтобы электронный шпион вел обычную телепередачу, — задумчиво произносит капитан. — На это действительно потребовалось бы слишком много энергии. Видимо, тут найдено какое-то иное решение. Современная теория информации дает возможность выработать очень простые, экономные коды. С помощью таких кодов любую информацию, в том числе телевизионную, можно передать в сжатом виде в течение нескольких секунд. Телевизионные приемники, расшифровав ее, воспроизведут на своих электронно-лучевых трубках в натуральных масштабах времени. — Дело тут, значит, в статистическом составе информации? — спрашивает Астахов, имеющий некоторое представление о теории связи. — Да, конечно, — кивает Уралов и наливает себе еще чашку чаю. — Несмотря на необычайную сложность статистического состава телевизионной информации, она все же поддается исследованию методами общей теории связи. Информацию эту можно измерить, установить наименьшее количество единиц для ее передачи и подыскать для нее наиболее экономные коды. — М-да, — задумчиво произносит инженер-полковник Шахов, отодвигая пустую чашку. — Не очень конкретно, конечно, но вполне вероятно. — Значит, можно начинать поиски электронного шпиона? — спрашивает Астахов. — Полагаю, что можно, — отвечает Шахов.7
Казалось бы, кроме капитана Уралова, некого было послать на такое задание, и все-таки полковник Астахов не очень уверен — правильно ли он поступил, послав именно его. Капитану придется иметь дело не только с техникой. За этой техникой — люди, опытные разведчики врага. Как-то он справится с этим? Тут еще Шахов смотрит весь день укоризненным взглядом. Надо поговорить с ним об этом… — Кого бы вы послали? — без всяких предисловий спрашивает Астахов инженер-полковника. Шахов молчит, раздумывая. Кроме Уралова, послать на такое дело действительно некого… — Я, собственно, не против Уралова, — говорит он. — Но надо бы не одного. Я бы вместе с ним обязательно кого-нибудь из опытных оперативных работников послал. Одному ему трудно будет. Он ведь неопытен в делах оперативного характера. Да и точка зрения у него слишком уж… Не закончив мысли, Шахов широко разводит руками и замолкает. — Вы, значит, не разделяете этой точки зрения? — Не вполне. — признается Шахов. — Она отрывает его от сегодняшнего дня, от повседневной практики нашей работы, хотя и выглядит весьма прогрессивной. Но вы не думайте, что я совсем уж погряз в будничной работе. Я слежу и за всем новым. Допускаю даже теоретическую возможность телеграфной передачи человеческого тела, высказанную Норбертом Винером. Он произносит это без улыбки, и нелегко понять, шутит он или говорит серьезно. — Представляю себе, как усложнится работа контрразведок, — усмехается Астахов, — если тайных агентов начнут забрасывать таким способом. К счастью, сам же Винер опровергает такую возможность. Любое «развертывание» организма должно представлять собой процесс прохождения электронного луча через все его клетки. Это неизбежно разрушит живые ткани, и, если кому-нибудь удастся «протелеграфировать» в наш адрес тайного агента, мы получим лишь труп. А мертвый агент не так уж страшен. Оба смеются. Потом Шахов замечает задумчиво: — Может быть, и к лучшему, что Уралов поехал один. Это приучит его к самостоятельности. — В существование электронного шпиона вы верите? — Весьма возможно, что он и существует, — уклончиво отвечает инженер-полковник. — Во всяком случае, современная техника дает возможность осуществить разведку подобным образом. Но даже если это и так — не сомневаюсь, что это всего лишь эксперимент. Основные методы разведки, конечно, всё те же. Они себя еще не изжили. — Согласен с вами. Но согласитесь и вы, что прежними методами работать все труднее и труднее. Потребность в научно-технической разведке становится все большей. Секреты современных лабораторий и испытательных полигонов уже не получишь так просто, как получала их в свое время «Филд информейшн эдженси текникал». — О, этот офис я хорошо помню! — смеется Шахов. — Его руководитель полковник Путт еще в сорок шестом хвастался, что ему было доставлено из Германии двести тридцать тонн документов и около трех тысяч тонн оборудования. Мог бы и Астахов рассказать кое о чем, с чем сталкивался за время своей долгой работы в контрразведке. О том, например, что директор Американского национального фонда Уотерман проговорился как-то, что усовершенствование радара, атомной бомбы, реактивных самолетов и пенициллина осуществлялось в Соединенных Штатах на основе иностранных открытий и исследований, к которым американцы имели легкий доступ. Но не Шахову же сообщать об этом! Его такими фактами не удивишь. Он знает их побольше, пожалуй, чем сам Астахов. — Научно-технической разведке, — продолжает между тем инженер-полковник, медленно прохаживаясь перед Астаховым, — и сейчас предписывается уделять наибольшее внимание сбору информации в области ядерной физики, электроники, аэродинамики сверхзвуковых скоростей и ракетной техники. Добывать эти сведения будут они, конечно, всеми методами — и новыми, и старыми, так что работы хватит даже таким консерваторам, как я. — заключает он с усмешкой.8
Загорский беседует с Ураловым уже около часа и не перестает удивляться странным вопросам капитана. Уралов спрашивает о вещах, не имеющих, казалось бы, ничего общего с фотографиями полигона. Заинтересовался вдруг происшествиями. Просит перечислить все, что произошло на полигоне за последние два-три месяца. Можно было бы просмотреть рапорты дежурных по полигону, но Загорский и без них отлично помнит все мало-мальски значительные события за весь год. А так как угадать, что именно нужно капитану Уралову, почти невозможно, начинает перечислять все подряд. Некоторое время капитан сосредоточенно слушает и вдруг спрашивает: — Почему вы не сообщаете о происшествии с ефрейтором Чукреевым? — Так ведь мы же донесли вам об этом. — Меня интересуют подробности. — Какие же подробности? — удивляется Загорский. — В донесении я достаточно подробно изложил, как было дело. — Да, вы действительно подробно изложили, но лишь техническую сторону дела, — уточняет Уралов. — Меня интересует сам ефрейтор Чукреев. Можете вы рассказать что-нибудь о нем? Загорский задумывается, вспоминая погибшего ефрейтора, потом решает: — Пригласим лучше старшину Костенко. Старшина является через несколько минут. Узнав, чем интересуется капитан, он принимается рассказывать биографию Чукреева. — Этого сейчас не требуется, товарищ старшина, — останавливает его Уралов. — Меня интересует пока лишь последний день его жизни. Видели вы его в тот день? Что он делал, где был? Нес службу или отдыхал? Как оказался в том месте, где произошел взрыв? — Под вечер это было, товарищ капитан, уже после занятий. Я его тогда по делу одному к связистам посылал. Потом отпустил отдыхать. Ушел он от меня, а минут через десять грохнул взрыв… — Куда ушел и, главное, зачем? — Ну, куда — это ясно теперь. Туда, где подорвался. Вот зачем, этого он прямо мне не сказал. Только так, в шутку, наверное, обронил: «Ежа побегу ловить, товарищ старшина». — И всё? — Да, всё. Уже потом от младшего сержанта Егорова я узнал, что он и ему пообещал ежа поймать. И это всё. Больше никто его не видел и не слышал. — Ну, а как вы поняли эти его слова о еже? Старшина пожимает плечами: — Может, он действительно ежа в поле заметил, когда от связистов возвращался, товарищ капитан. Да вот… так и не поймал… В полночь капитана Уралова вызывает к телефону полковник Астахов. — Какие у вас успехи? — спрашивает он капитана. — Кое-что проясняется, — неопределенно отвечает Уралов. — Ну, а все-таки? — Похоже на то, что штука, которой мы интересовались, действительно кончает жизнь «самоубийством», как я и предполагал. Некоторое время в трубке слышится лишь сухое потрескивание электрических разрядов, а когда капитану начинает казаться, что Астахов его не понял, снова раздается голос полковника: — Чем подтверждается подобное предположение? — Подробностями гибели ефрейтора Чукреева. — Значит, общение с этой штукой небезопасно? — Да, в какой-то мере. Снова молчание, на этот раз более короткое. Затем строго, почти в форме приказа: — Будьте предельно осторожны! Зря не рискуйте!9
Командир подразделения связистов старший лейтенант Джансаев, к которому заходит капитан Уралов, очень молод. Он внимательно слушает капитана, не сводя с него пристального взгляда. Скуластое, смуглое лицо его сосредоточенно, черные, слегка раскосые глаза прищурены. — Нет, не было за это время ничего такого, — уверенно говорит он. — Ни одной подозрительной передачи. У нас хорошая аппаратура — непременно бы засекли. — Ну, а если не передачи? Сигналы какие-нибудь? Или просто помехи? Что-то, мешающее вашим передачам? — Такие помехи были, конечно, — почему-то смущенно признается Джансаев. — На ультракоротких принимались одно время подозрительные импульсы. — Так что же вы не донесли нам об этом? — удивляется Уралов. — Разве вы не знаете инструкцию? — Знаю. И донести собирался. Но ведь все это через начальство идет. Через подполковника Загорского. А он прочитал мое донесение и говорит: «Зачем панику поднимать? Еще раз проверить надо». Стали проверять, а импульсы больше не повторяются. Получилось, вроде я придумал все это. Распекал меня потом подполковник. «Хотите, говорит, чтобы опять у нас чепе было?» — Долго эти импульсы длились? — Секунд десять примерно. — Вы их один раз засекли? — Нет, два раза и все в одно и то же время. Капитан задумывается, прикидывая что-то в уме, а Джансаев, помолчав немного, добавляет: — Как хотите, а я все-таки убежден, что это не случайность. — Интуиция или есть еще какие-нибудь факты? — серьезно спрашивает капитан, хотя Джансаеву почему-то кажется, что он шутит. — Есть и факты. Примерно в то же время на экранах местных телевизоров появлялись помехи. В течение нескольких секунд два или три дня подряд корежилось на них изображение, хотя никаких естественных причин к тому не было. — Во всех телевизорах? — Нет, не во всех, а лишь в определенном секторе. Я специально опрашивал владельцев телевизоров не только нашего военного городка, но и рабочего поселка в тридцати пяти километрах от нас. Сообщение это еще более настораживает Уралова. Он достает свой блокнот и, торопливо набросав на нем расположение полигона, военного городка и рабочего поселка, протягивает старшему лейтенанту авторучку: — Изобразите на этой схеме хотя бы приблизительные очертания сектора, в котором обнаруживались телевизионные помехи. Из какой примерно точки исходили его радиусы? — Точно я не укажу, но точка эта могла быть где-то вот тут… И он не очень уверенно чертит на блокноте капитана две линии, исходящие из точки на территории полигона. — Я догадываюсь, товарищ капитан, почему вас это интересует, — замечает он, возвращая Уралову авторучку. — Едва ли, однако, стал бы кто-то вести свои передачи на диапазоне волн нашего телевидения. Да и никакого изображения, кроме помех, в те дни никем замечено не было. «И не могло быть, — думает Уралов. — Там ведь иной принцип передачи. Она шифрованная, потому и не страшно вести ее на любых ультракоротких волнах». — То, что вы рассказали, — говорит он вслух, — чрезвычайно важно для нас. Кстати, когда это было? — Четыре месяца назад. После вообще не замечалось ничего подозрительного.10
На другой день, запросив телеграммой у инженер-полковника Шахова пеленгатор ультракоротких волн, Уралов направляется в радиомастерскую старшего лейтенанта Джансаева. Внимательно осмотрев ее оборудование, особенно установки для обнаружения ультракоротковолновых передач, он с трудом скрывает свое разочарование. Старший лейтенант, ревниво наблюдающий за выражением его лица, обиженно замечает: — Это вы зря, товарищ капитан. Такую радиомастерскую, как у нас, разве только в штабе округа найдете… — Разве я сказал о ней что-нибудь плохое? — Зачем же говорить, и так видно… — Ишь какой обидчивый! — смеется капитан. — Мастерская у вас хорошая, а пеленгаторы УКВ неважные. Такими трудновато кого-нибудь обнаружить. — Но обнаружили же! Я, правда, и сам в этом немного сомневался — аппаратура у нас действительно не очень совершенная. Но теперь, после этих снимков нашего полигона, попавших в иностранную газету, ручаюсь, что засекли мы тогда какую-то шпионскую передачу. Может быть, попробуем еще раз поохотиться?.. Хотя капитан Уралов ненамного старше Джансаева, старший лейтенант заметно робеет перед ним. Он знает, что Уралов — кандидат наук, и это кажется Джансаеву недосягаемым пределом учености. Он почти не сомневается, что капитан непременно высмеет его. Но Уралов, видя, что Джансаеву очень хочется чем-нибудь помочь, неожиданно соглашается: — Ну что же, давайте попробуем. Думается мне только, что тот аппарат, с помощью которого велась засеченная вами передача, погиб, как только его обнаружил ваш ефрейтор. — Ефрейтор его обнаружил? — удивляется Джансаев, и черные глаза его становятся совсем круглыми. — Чукреев? Что же это за аппарат? — Кибернетическое существо, — улыбаясь, поясняет Уралов. — Электронное устройство с элементами функций, имитирующих нервную систему. Оно заключено, видимо, в маленькую танкетку или в шар, свободно перекатывающийся с места на место… — Похожий на ежа? — не сдержавшись, перебивает Уралова Джансаев. Теперь только он наконец понял связь между гибелью ефрейтора и электронным шпионом. — Да, весьма возможно, что оболочке заброшенного к нам электронного устройства придана форма ежа — типичного обитателя степной полосы. Отличная маскировка. — Почему же этот «еж» взорвался при встрече с нашим ефрейтором? — Похоже, что он покончил «самоубийством». Взорвался, чтобы скрыть тайну своего устройства. В связи с этим новый «еж», наверное, не ведет больше передач ни на одной из прежних волн коротковолнового диапазона. — Вы думаете, что гибель ефрейтора их насторожила? — Не ефрейтора, а «ежа». О гибели ефрейтора они, пожалуй, и не подозревают даже. Чувствуя, что Джансаев его не понял, Уралов объясняет подробнее: — Приемная телевизионная камера «ежа» работает, видимо, не все время, а периодами, в целях конспирации и экономии энергии. — И все заснятые ею кадры тотчас же передаются? — Едва ли. Скорее всего, они хранятся в запоминающем устройстве «ежа» до тех пор, пока он не получит радиокоманду о посылке их в эфир остронаправленной антенной. — Почти так же, значит, как при приеме информации с наших искусственных спутников? Там она тоже хранится либо в кратковременной, либо в долговременной «памяти». — Джансаев пользуется случаем продемонстрировать свою осведомленность в вопросах современной техники связи. — Да, принцип, видимо, один и тот же, — соглашается Уралов. — Ну, а если информация с «ежа» передается какое-то время спустя после происшедшего события, кто же подал «ежу» сигнал, что ему грозит опасность? — любопытствует Джансаев, щуря свои раскосые глаза. — Никто. В такой ситуации некогда ждать команды. Тут необходимо немедленное действие. Это, конечно, учли конструкторы «ежа». Решить же такую проблему нетрудно. Достаточно для этого снабдить «ежа» фотоэлементом, а уж он мгновенно включит взрывное устройство, как только «ежу» будет угрожать опасность. По такому принципу действовали многие минные устройства еще в ту войну. — Те, кто послал к нам «ежа», так и не знают, что с ним произошло? — Если бы он не покончил «самоубийством», блок его «памяти» проинформировал бы их потом, как наш ефрейтор охотился за ним. Не зная же этого, они могли предположить, что «еж» был обнаружен скорее всего с помощью пеленгаторов. В связи с этим их новый электронный шпион, наверное, ведет теперь передачи на каких-то других волнах и в иное время. — Но на метровых все-таки? — Почему же? Может быть, и на дециметровых или даже на сантиметровых. В тот же день Уралов с Джансаевым пытаются запеленговать «ежа» на дециметровых и сантиметровых волнах. На это уходит весь вечер и значительная часть ночи. Но все оказывается безрезультатным. — Видно, действительно слишком маломощна моя техника! — тяжело вздыхает Джансаев, печально глядя на свои пеленгаторы.11
Утром неожиданно приезжает Шахов с несколькими сотрудниками своей лаборатории. Не ожидая вопросов Уралова, кратко объясняет причину своего приезда: — Дана команда — разобраться во всем в самый кратчайший срок. Что тут у вас нового? Уралов лаконично докладывает обстановку. — Все, значит, на том же месте, — разочарованно вздыхает Шахов, пухлыми пальцами набивая трубку душистым табаком. — Ничего конкретного, одни догадки… Заметив удивленный взгляд капитана, обращенный на трубку, инженер-полковник смущенно улыбается: — Пятнадцать лет не курил и вот снова… Может быть, поможет от излишеств избавиться. — Он похлопывает себя по животу и добавляет со вздохом: — Когда-то и я таким же стройным был, как вы… Ну-с, теперь за дело! С помощью приехавших с Шаховым техников капитан Уралов к полудню налаживает привезенные пеленгаторы. К работе приступают тотчас же. Разбившись на три группы, все рассаживаются по машинам, предоставленным подполковником Загорским в распоряжение Уралова, и разъезжаются по полигону. Капитан работает со старшим лейтенантом Джансаевым. Этот любознательный смышленый офицер нравится капитану. Льстит ему и то, что Джансаев прочел почти все его статьи о применении кибернетики в военном деле. Он о многом спрашивает Уралова, задавая то наивные, то неожиданно серьезные вопросы, свидетельствующие о живом уме. Капитан рад случаю поговорить о своем любимом предмете. Они разговаривают весь день, не спуская глаз с экрана осциллографа. Но экран не регистрирует ни единого импульса. К вечеру капитан мрачнеет. — Это ничего, — успокаивает его Джансаев. — Вы же сами говорили, что «еж» передает не непрерывно, а по чьей-то команде. Я даже думаю, что в целях наибольшей скрытности передачи эти ведутся не более одного-двух раз в сутки. Так что придется набраться терпения. Капитан Уралов связывается по радио с инженер-полковником Шаховым и инженер-капитаном Серегиным. У них тоже никаких успехов. — Вы полагаете, что нужно продежурить еще и ночь? — спрашивает Шахов. — Непременно, — убежденно заявляет Уралов. — Ночью-то и может все произойти… — Ну, если вы в этом так уверены, попробуем, — без особого энтузиазма соглашается инженер-полковник. — Хотя, сказать вам по правде, я бы с гораздо большим удовольствием провел ночь в постели. — Тогда вместо вас можно кому-нибудь из ваших техников это поручить. — Нет, нет, зачем же! Я ведь похудеть собираюсь, — смеется Шахов. Но и ночь не приносит успеха. На рассвете все собираются в штабе Загорского. Капитан все еще бодрится, а инженер-полковник совсем приуныл. Вид у него какой-то помятый. — Поручим это дело связистам, — устало говорит он. — Вы только хорошенько проинструктируйте их. Нам пора и отдохнуть. Никаких результатов не приносит и следующий день. Теперь уже и Уралова начинают одолевать сомнения. Один только Джансаев по-прежнему непоколебимо верит в удачу. Вечером Уралову передают телефонограмму от полковника Астахова. Полковник сообщает, что завтра лично прибудет в хозяйство Загорского.12
Астахов прилетает на специальном самолете в девять утра. За ночь на полигоне не происходит никаких перемен, зато Астахов привозит еще один номер газеты «Шварц Адлер» со снимком полигона тринадцать дробь три. На газете стоит дата: двадцатое мая. — Видимо, это какой-то старый снимок, — замечает Уралов. — Об этом свидетельствует не только дата, но и качество изображения. Наверное, они тогда еще только осваивали технику своего «ежа». С любопытством и огорчением рассматривает фотографию и подполковник Загорский. — И чего они в меня вцепились? — недоуменно разводит он руками. — Непонятно. Что тут можно выведать? Ракеты делаются ведь не у меня. Секрета их изготовления тут, следовательно, не подсмотришь. Ну, а с теми ракетами, которые монтируются у нас, все необходимые операции производятся в далеко отстоящих друг от друга зонах. С одной позиции их не обозришь. Полета их тоже не увидишь. Мы и сами фиксируем его лишь с помощью киноаппаратов, телескопических установок да спаренных радиолокаторов. Так что, в общем, не знаю, что они тут могут высмотреть, кроме разве только вспышек при запуске ракет. — Вы не успокаивайте себя этим, — строго замечает полковник Астахов. — Если им и не удается с помощью «ежа» выведать что-либо существенное, то для пропагандистских целей он себя вполне оправдывает. — Почему все вы с такой уверенностью говорите об этом гипотетическом «еже»? — удивляется подполковник Загорский. — Его ведь никто не видел. — Его видел ефрейтор Чукреев, — хмуро говорит Уралов. Полковник Астахов достает из своей полевой сумки отпечатанные на машинке листки и медленно читает: «В наш век кибернетики и абсолютного оружия возникает вопрос о необходимости абсолютной разведки. Такой разведки, от беспристрастного и всевидящего ока которой не укроется ни один секрет. Мы успешно решаем сейчас эту задачу. Свидетельством тому получаемое нами изображение секретного советского полигона ракетного оружия. До недавнего времени ни один из наших агентов не мог и мечтать достаточно близко подобраться к подобным объектам»… — Это перевод статьи одного из руководителей НАТОвской разведки, — говорит Астахов. — Ясно вам теперь, что мы на верном пути? — Да уж яснее ясного, — мрачно произносит подполковник Загорский. — Проваливались они много раз, а теперь норовят взять реванш… — Как же нам теперь действовать? — нетерпеливо спрашивает Шахов. — Очень просто, — усмехается Астахов. — Нужно не только обезвредить, но и взять, так сказать, живьем этого электронного Пауэрса. Таков, во всяком случае, приказ. Я не знаю, как мы это сделаем, но приказ этот должен быть выполнен. Мы сможем тогда продемонстрировать «ежа» иностранным журналистам на пресс-конференции, как когда-то демонстрировали им обломки пауэрсовского «У-2». Думаю, что это произведет на них впечатление, ибо НАТОвский бюллетень расписывает электронного шпиона как абсолютно неуязвимого. Тут, конечно, имеется в виду его способность к «самоубийству». Но они ведь в свое время и «У-2» считали неуязвимым. — А не попытаются они перевести «ежа» в другое место? — с тревогой спрашивает Уралов. — Не думаю. Это ведь не так просто. Но все полигоны и соответствующие организации уже оповещены и держатся настороже. А чтобы подольше удержать этого «ежа» здесь, попробуем заинтересовать его хозяев возможностью «открыть» на полигоне Загорского какие-нибудь новинки. Все недоуменно смотрят на Астахова. Особенно встревожен подполковник Загорский. — Почему бы, например, нам не инсценировать подготовку к испытанию совершенно нового типа ракет? — поясняя свою мысль, хитро улыбается Астахов.Ночевать полковник устраивается в той же комнате, в которой уже обосновался капитан Уралов. Они решают лечь пораньше с тем, чтобы завтра подняться на рассвете. Заснуть, однако, долго не удается ни капитану, ни полковнику. Астахов часто переворачивается с боку на бок, проклиная шумные пружины своего дивана. — Вы все еще не спите? — негромко окликает его Уралов. — «Не спится, няня…» — кряхтит полковник. — Может быть, поговорим тогда? — Давайте попробуем. Под Ураловым резко скрипят пружины. И Астахов видит, как стремительно возникает на фоне оконного переплета силуэт его головы с всклокоченными волосами. — Не могли мы прозевать все это? — без всяких предисловий спрашивает он полковника. — Вначале и мне казалось, — признается Астахов. — Я тогда думал, что генерал случайно послал меня проверять состояние секретности на полигоне Загорского. — Разве было не так? — В том-то и дело, что это не было случайностью. Конечно, генерал и сам тогда ничего еще не знал конкретно, но у него уже были основания насторожиться. Ему, оказывается, было известно, что наша станция «Дельта-17», контролирующая эфир западнее полигона Загорского, трижды засекла какие-то подозрительные импульсы. Разгадать их назначение не удалось, но было все же установлено, что излучались они остронаправленной антенной. Удалось также совершенно точно определить их трассу, так сказать. Тут-то и выяснилось, что начинается она на полигоне Загорского, так как станция «Дельта-16», расположенная восточнее, приняла только случайные отражения, «зайчики» от этих импульсов Вы видите, что даже без снимков полигона Загорского мы заподозрили неладное и начали искать электронного шпиона, хотя и не знали тогда, что он электронный. — Да, теперь ясно, — с облегчением произносит Уралов. И силуэт головы его так же стремительно опускается вниз — видимо, капитан снова ложится. — И знаете, что еще меня убеждает в том, что мы все равно этого бы не прозевали? — уже спокойным голосом продолжает он. — Не только совершенство аппаратуры наших станций «Дельта», но и бдительность наших войсковых связистов. Старшего лейтенанта Джансаева, например… — Ефрейтора Чукреева вы не считаете разве? — Да, и ефрейтора Чукреева тоже, конечно, — после недолгого молчания произносит Уралов. — Вряд ли стал бы он охотиться за подобной кибернетической штукой, если бы думал, что это обычный еж. Я спрашивал солдат — ежей здесь сколько угодно, никого этим не удивишь… — Ну, а теперь спать! — тоном приказа произносит полковник и решительно натягивает на голову простыню.
13
Весь следующий день капитан Уралов усердно изучает фотографию полигона, сделанную почти три месяца назад. С помощью подполковника Загорского ему удается установить, что снимок этот был произведен в период между первым и пятым мая, так как на нем обнаруживаются первомайские плакаты и лозунги, висевшие в эти дни на стенах одного из зданий. — Похоже, что время съемки определено вами правильно, — соглашается полковник Астахов. — Ну, каковы выводы? — Выводы таковы, товарищ полковник, — с необычной для него торжественностью произносит Уралов, — теперь не остается уже никаких сомнений, что майские и июльские снимки нашего полигона были сделаны конструктивно разными «ежами»! — Объясните. — Такой вывод напрашивается не только в связи с различной четкостью изображений, но и вследствие разности между временем фотографирования и появлением снимков в газете. — Тоже не очень понятно. Довольно улыбаясь, капитан поясняет: — Снимки нашего полигона, на которые мы впервые обратили внимание, появились в этой газете примерно через сутки. А тот, что был сделан три месяца назад, только через две недели. — Ну, знаете ли, это еще не доказательство, — качает головой полковник. — Могло быть множество причин, по которым майский снимок был доставлен в Западный Берлин так поздно. — Вы выслушайте меня до конца… Да, конечно, причин к тому могло быть немало. Но дело-то как раз в том, что тогда они и не могли доставить этот снимок в Западный Берлин так же быстро, как июльский. Уралов умышленно делает паузу, ожидая удивленного вопроса Астахова, но полковник лишь поднимает брови. — Да, тогда они не имели такой возможности, — убежденно повторяет капитан, — ибо тогдашний «еж» вел передачи на ультракоротких волнах, устойчивый прием которых ограничен радиусом в сто-сто пятьдесят километров. Сверхдальние передачи на этих волнах случайны, спорадичны. Устойчивый прием их возможен лишь в периоды наибольшей солнечной активности, увеличивающей концентрацию ионов и свободных электронов в ионосфере. — Это вы мне не объясняйте, это я и сам знаю, — нетерпеливо говорит полковник. — Не могли они разве вести передачу диффузно-рассеянными ультракороткими волнами? — Едва ли. Для этого потребовался бы передатчик огромной мощности, а энергетические ресурсы «ежа» должны быть ограничены. По этой же причине не могли они использовать и метеорные следы — облака ионизированных частиц, остающихся от сгоревших в атмосфере метеоров. Облака эти, как известно, являются идеальными зеркалами для радиоволн. В общем, все здесь упирается в мощность передатчика и в его габариты. — Ну хорошо, — сдается Астахов. — Допустим, что они действительно не могли тогда осуществить дальнюю передачу. А теперь? — Теперь они используют более дальнобойные короткие волны. Брови полковника опять вздымаются. Ему еще неизвестно ни одного случая телепередач на коротких волнах. — Да как же удалось им втиснуть в коротковолновый диапазон частоту телевизионной передачи — многие миллионы герц? — удивленно спрашивает он. У капитана Уралова необычайно важный вид. Видимо, он очень доволен своей догадкой. Полковнику Астахову стоит большого труда сдержать улыбку, хотя он не только хорошо понимает чувства Уралова, но и гордится им. — Если передавать по телевидению все точки изображения, для этого действительно потребуются большие частоты, — солидно объясняет Уралов. — Но ведь в этом нет необходимости, так как не все точки телевизионного изображения движутся. Гораздо проще передать полным только первый кадр, а из каждого последующего вычитать все, что уже было передано, и посылать в эфир лишь остаток. Это дает возможность вести передачу специальным кодом, сообщающим только о том, как и что меняется в кадрах. — Так, так, — оживляется Астахов, начиная понимать идею Уралова. — А возможно, они вообще передают только отдельные неподвижные кадры. Тогда им и вычитать не приходится. Просто отдельные кадры, разделенные большими промежутками времени… — Ну конечно же, товарищ полковник! Таким образом резко сокращается частота сигналов, что дает возможность осуществлять телепередачи на коротких волнах. Вот почему последние снимки, сделанные «ежом», попадают прямо в Западный Берлин, а не через резидента на нашей территории… — Считайте, что вы меня окончательно убедили! — весело восклицает полковник Астахов. — Попробуем в таком случае запеленговать «ежа» на коротких волнах. Узнайте, кстати, все ли готово у подполковника Загорского. Думаю, наше представление должно привлечь внимание хозяев «ежа» и вынудить их вести более частые передачи.14
Но и на коротких волнах запеленговать «ежа» оказывается не просто, хотя приманка для него уже пущена в ход: на полигоне идет энергичная подготовка к запуску «новой» ракеты. Роль «новой» играет прошлогодняя, не оправдавшая себя, но внешне очень эффектная конструкция. Ее привозят из зоны заправки на гигантских транспортерах и не торопясь устанавливают на стартовой площадке. На центральном контрольном пункте весь день демонстративно суетятся кинооператоры, устанавливая свою аппаратуру. Радиотехники приводят в боевую готовность ажурные антенны спаренных локаторов. Всюду снуют электрики и другой технический персонал. Вся эта напряженная деятельность умышленно затягивается до позднего вечера, чтобы создать впечатление, что запуск ракеты будет осуществлен ранним утром. — Ну, удалось вам что-нибудь засечь? — без особой надежды спрашивает Уралова Астахов, как только утихает суета на полигоне. — Пока все по-прежнему, — спокойно отвечает капитан. Теперь он уже не теряет надежды на успех, и это радует полковника. — Я не сомневаюсь, что «еж» уже отснял все, а передачу будет вести ночью, когда лучше распространяются короткие волны. — Вы связывались с «Дельтой-17»? — Связывался, но они засекли пока только один очень короткий импульс, пришедший с запада. Видимо, это какая-то команда «ежу». — На какой волне? — На короткой, как я и предполагал. — Частота известна? — Известна, но едва ли это нам пригодится. Не думаю, чтобы «еж» вел передачи на такой же волне. — Ну что же, наберемся терпения и посмотрим, что принесет нам ночь, — с напускным спокойствием произносит Астахов, хотя Уралову известно, что утром ему предстоит не очень приятный разговор с генералом. После жаркого дня ночь оказывается неожиданно холодной. Астахову, страдающему хроническим бронхитом, полученным еще на фронте, приходится надеть шинель. Уралов набрасывает плащ-накидку. Медленно разъезжают они по степи от одной пеленгаторной установки к другой, различая их в темноте лишь по цветным точечкам сигнальных фонарей. Резко пахнет травами и полевыми цветами. Звонко стрекочут кузнечики. Трепетно блещут крупные южные звезды в темном небе. Клонит ко сну… Чтобы не заснуть, Астахов спрашивает Уралова, запрокинув голову: — Как вы по части астрономии, Василий Иванович? — Кое-что смыслю, — улыбается Уралов. — Физика и астрономия в наши дни продвинули свой фронт дальше всех других наук. Как же этим не интересоваться. — Читал я где-то, что американская радиообсерватория «Грин Бэнк» уже второй год ведет наблюдение за какими-то звездами в надежде принять оттуда сигналы разумных существ. — Такие наблюдения действительно ведутся, — подтверждает Уралов. — Звезды эти: «тау» Кита и «эпсилон» Эридана. Это соседи нашего Солнца. Однако искусственных сигналов принять от них пока не удалось. Облокотившись на руль медленно двигающейся автомашины, капитан пристально всматривается в сигнальные огоньки пеленгаторных станций, разъезжающих по полигону. Потом замечает с глубоким вздохом: — Вот бы на что направить все усилия ученых! А мы чем занимаемся из-за этих сволочей?.. Слышно, как он плюет в темноте и даже скрипит зубами. — Радиозвезды и радиогалактики, вспышки сверхновых, излучение межзвездного водорода — ведь это же черт знает как интересно! Этот межзвездный водород знаете чем любопытен? Каждый атом его, оказывается, подает свой радиоголос в среднем лишь один раз в одиннадцать миллионов лет, переходя из состояния с высшей энергией в состояние с низшей. И только потому, что этого водорода в космическом пространстве невероятно много, мы принимаем его сигналы беспрерывно. А тайны границ метагалактики и возможность аннигиляции материи на их стыках? Представляете себе, что это такое? Мы же выслеживаем тут каких-то паршивых шпиков, пусть даже электронных… Уралов снова умолкает, а Астахов напряженно ждет, что он скажет дальше. Что это с ним такое — результат усталости, перенапряжение или в самом деле ему все надоело, стало казаться ничтожным?.. — Вы не подумайте только, что я разочаровался в нашей работе, — словно угадав мысли Астахова, продолжает капитан. — Я знаю, что это очень нужно. Это нужно, чтобы позже — может быть, уже после нас — люди могли спокойно смотреть на небо, изучать звезды, покорять Космос… «Значит, я не ошибся в нем», — тепло думает Астахов. Он хочет сказать Уралову что-нибудь ободряющее, но замечает вдруг частое мигание сигнального огонька одной из самых дальних пеленгаторных установок. — Смотрите-ка! — толкает он в плечо капитана, но Уралов уже выруливает машину и прибавляет газу. — Ну что?! — почти выкрикивает полковник, как только они останавливаются возле «газика» Джансаева. Старший лейтенант, поднявшись во весь рост, официально докладывает: — Товарищ полковник, координаты «ежа» засечены! В течение пятнадцати секунд он излучал импульсы на частоте девять и двадцать пять сотых мегагерца. — Это где примерно? — взволнованно спрашивает Астахов, пристально вглядываясь в темную степь. — Вон в том направлении… Только сейчас не разглядишь ведь ничего. Но у меня есть точный план территории полигона. Вот взгляните, пожалуйста. Полковник некоторое время сосредоточенно рассматривает ватман, который развернул перед ним Джансаев. Рослый лейтенант-связист подсвечивает им электрическим фонариком. — Сейчас, конечно, идти туда нет смысла, — задумчиво, будто размышляя вслух, замечает Астахов. — Можем только все дело испортить. Впотьмах ничего не заметишь, а освещать опасно. Но и ждать до утра рискованно — «еж» может переменить позицию… Вы как считаете, товарищ капитан? — Я не разделяю ваших опасений, товарищ полковник, — спокойно произносит Уралов. В последние дни он очень нервничал, всячески скрывая это от других. Теперь же, когда его гипотеза почти подтвердилась, прежнее хладнокровие вернулось к нему. — Найти позицию с хорошим обзором местности в степи, да еще при ограниченных размерах «ежа» не так-то просто. Думаю, что без крайней надобности он не двинется с места, ибо, надо полагать, никто не подаст ему команды сменить позицию, чтобы не прозевать завтра запуск «новой» ракеты. — А тот импульс, который засекла «Дельта-17»? — Он, скорее всего, означает команду «внимание», предписывая этим стабильность позиции «ежа». Весьма возможно, правда, что импульсом этим изменяется режим его работы. — Вы полагаете, что от него теперь потребуется более частая информация? — Да, весьма возможно. — Ну что ж, — заключает Астахов, — будем в таком случае считать, что мы достигли первого существенного успеха. Сейчас — все спать! Пусть только ваши радисты, товарищ старший лейтенант, дежурят у пеленгаторов всю ночь.15
На рассвете в помещение, в котором спит Уралов, осторожно входит старший лейтенант Джансаев. Опасаясь потревожить полковника Астахова, он идет очень тихо, на цыпочках. Ему не приходится долго будить капитана-тот мгновенно просыпается, едва старший лейтенант приоткрывает дверь. Повинуясь жесту Уралова, Джансаев осторожно садится возле него на диван и прерывающимся от волнения шепотом докладывает: — Обнаружил я его, товарищ капитан. Зеленый весь, как жаба. А по форме на сыр похож, шар такой приплюснутый… Но тут вдруг грохочут пружины дивана, на котором лежит Астахов. Хрипловатым со сна голосом полковник спрашивает: — Вы что это там шепчетесь? Вместо того чтобы разбудить меня, улизнуть незаметно собрались? Он проворно вскакивает с дивана и начинает торопливо одеваться. — У Джансаева новость, — очень веселым голосом объявляет капитан. — Он уже «ежом» любовался! — Как — любовался?! — круто поворачивается к Джансаеву Астахов. — Кто позволил? Вы ведь могли спугнуть его! — Не спугнул, товарищ полковник, — успокаивает его счастливый Джансаев. Широкоскулое мальчишеское лицо его сияет, раскосых глаз почти совсем не видно — одни только черные щелочки. — Я его в бинокль наблюдал. Только он на ежа не очень похож… — Ведите нас туда поскорее! — приказывает Астахов и первым выбегает из комнаты. — Инженер-полковника не надо будить? — озабоченно спрашивает Уралов. — Не надо! — досадливо машет рукой полковник. — Это не так-то просто сделать, а нам время дорого. У вас что, один только бинокль? — Два, товарищ полковник, — отвечает Джансаев. — Один вам, другой товарищу капитану. Джансаев идет так быстро, что полковник с капитаном едва поспевают за ним. Когда он наконец останавливается, они с удивлением видят, что в траве рядом с младшим лейтенантом связи уже расположился инженер-полковник Шахов. — Думали, наверное, что я безмятежно храплю? — смеется инженер-полковник. — Я всю ночь глаз не мог сомкнуть и, как только стало рассветать, поспешил к связистам. Они и проводили меня сюда. Нате, берите мой бинокль — я уже насмотрелся на этого зверя. Солнце еще не взошло, а в степи уже совсем светло. Уралов не без трепета подносит к глазам бинокль и наводит его на ориентиры, которые указывает ему Джансаев. Там, на небольшом холмике, поросшем зеленым ежиком травки, видит он что-то похожее не то на продолговатый зеленый камень, не то на дыню. «Да, вряд ли бедный Чукреев мог принять это за ежа», — думает Уралов. На гладкой издали поверхности зеленого сфероида видны темные впадины — видимо, отверстия для объективов. И, словно крошечный растрепанный кустик, неподвижно торчит сложная фигурная антенна, тоже выкрашенная под цвет травы. Да, действительно заметить такой предмет случайным взглядом трудно. Пожалуй, невозможно… — Ну-с, что же мы теперь будем с ним делать? — нарушает размышления Уралова инженер-полковник Шахов, зябко поеживаясь на влажной от росы траве. — Каким образом подступимся к нему? — Может быть, осторожно сетку набросим? — предлагает Джансаев. — Нет, это не годится, — отрицательно мотает головой Уралов. — Даже если при этом не сработают его фотоэлементы, ему все равно сразу же подадут команду к «самоубийству», как только он передаст хоть один кадр сквозь эту сетку. — Разве он передаст это тотчас, а не будет ждать ночи? — Сегодня он может вести передачи и днем, — убежденно заявляет Уралов. — Его хозяева непременно захотят знать возможно раньше все, что тут будет происходить. — Значит, нужно получше присмотреться к нему — может быть, и обнаружится где-то слабое звено. Приняв решение оставить тут старшего лейтенанта с его помощником, Астахов приказывает всем остальным идти завтракать, чтобы с семи часов начать инсценировку запуска «новой» ракеты.16
Полдень. Немилосердно печет солнце. Капитан Уралов и старший лейтенант Джансаев, мокрые от пота, лежат в густой траве с биноклями в руках. Русую голову капитана стискивает стальной обруч телефона полевой радиостанции. Уралов только что доложил полковнику Астахову обстановку И теперь, переключившись на прием, слушает его указания. — Ну, что там у них? — спрашивает Джансаев, как только капитан выключает рацию. — Собираются они запускать эту бутафорию? — Он кивает в сторону стартовой площадки, на которой, окруженное ажурными фермами направляющих, возвышается грозное тело ракеты. Вокруг нее давно уже кипит энергичная деятельность. Пожалуй, еще ни одна из ее предшественниц непривлекала к себе такого внимания механиков. Одни из них внизу, у стабилизаторов, возятся с воздушными и газовыми рулями, другие на подъемных кранах причудливой конструкции осматривают что-то в ее носовой части. Суетятся вокруг и электрики с радистами. Впечатление такое, будто и в самом деле на стартовой площадке происходит что-то очень значительное. — Да, — улыбаясь, произносит капитан Уралов, вытирая рукавом пот со лба, — зрелище внушительное. Из подполковника Загорского вышел бы неплохой режиссер. Думаю, они на это клюнут. Для них ведь важен не столько сам запуск, сколько подготовка к нему, позволяющая строить догадки о конструкции. Запускать ее мы, конечно, не будем, а примерно через часок сделаем вид, будто у нас что-то не ладится, и начнем опускать ракету на землю. — А они не догадаются, что мы хитрим? — Не думаю. Со стороны ведь все выглядит очень правдоподобным. Что касается неполадок, то на полигонах Вумера в Австралии и на Атлантическом побережье Америки это самое обычное явление… Джансаев приглушенно смеется, прильнув глазами к окулярам бинокля. Солнце будто рассвирепело — печет все ожесточеннее. Лишь легкий ветерок, приносящий многообразные запахи степи, слегка освежает потные спины офицеров. Уралов не выспался, его клонит ко сну, но он героически сопротивляется, бесплодно размышляя о том, как обезвредить «электронного Пауэрса», не дав ему взорваться… Но тут в рации, все время включенной на прием, раздается щелчок. Капитан плотнее прижимает наушники и слышит напряженный от волнения голос радиотехника: — «Еж» (за электронным шпионом осталось прежнее прозвище) ведет передачу!.. «Еж» ведет передачу!.. Включаю метроном. Выключу его, как только передача прекратится. Уралов слышит теперь дробный монотонный звук маятника метронома, аккуратно отмеряющего полусекунды. — Следите за ним внимательнее, Ахмет! — торопливо шепчет капитан Джансаеву. — Он ведет передачу… Уралов и сам поспешно хватает бинокль, но в это время раздается испуганный крик старшего лейтенанта! — Куда же ты, мерзавец?! Назад, Шайтан, назад!.. И Уралов видит, как через поле к ним стремглав несется черная лохматая собачонка. Он узнает пса Джансаева, по кличке Шайтан. Утром Шайтана закрыли в сарае, но он каким-то образом вырвался на волю и несется теперь к своему хозяину прямо через холмик, на вершине которого лежит «еж». — Ложитесь, капитан!.. — хриплым от волнения голосом кричит Джансаев, видя, что собаку не остановить. А Шайтан уже возле «ежа». Еще мгновение — сработает фотоэлемент, и электронный шпион вместе с Шайтаном взлетят на воздух… Джансаев плотнее прижимается к земле, а Уралов лишь втягивает голову в плечи, не отрывая глаз от бинокля. Но вот Шайтан перемахивает через «ежа», слегка задев его мохнатым хвостом, и… ничего не происходит. Еще несколько прыжков, и Шайтан уже радостно повизгивает возле хозяина, норовя лизнуть его в щеку. — Ну, просто форменный шайтан! — недоуменно восклицает Джансаев. — Не взорвался!.. И как раз в это время умолкает метроном. Передача с «ежа» кончилась. Капитан жестом просит старшего лейтенанта замолчать и настороженно прислушивается. Но телефоны наушников молчат. Умолкает, получив пинка, и пес. Лишь через несколько томительных секунд раздается голос радиотехника: — Все. Кончилась передача. Длилась она дольше обычного — целых двадцать пять секунд. Как там у вас? Есть что-нибудь новое? — Все по-прежнему, — вяло отвечает капитан и приказывает радиотехнику: — Вы не выключайтесь. Дежурьте непрерывно и держите со мной связь! — Как же это так могло произойти, товарищ капитан? — растерянно произносит Джансаев, едва Уралов прекращает разговор с радиотехником. — Почему «еж» не взорвался? Или он не реагирует на собак? — Какая разница — собака или человеческая рука? — пожимает плечами Уралов. — Фотореле «ежа» и в том и в другом случае должно было сработать, ибо ваш Шайтан на какое-то мгновение перекрыл доступ света к фотоэлементам. — Может быть, этот «еж» и не взрывается вовсе? — Не думаю… — Тогда выходит, что этот босяк чуть все дело нам не испортил, — грозно смотрит Джансаев на Шайтана, поджавшего хвост и виновато опустившего морду. И вдруг капитан Уралов восклицает возбужденно: — Может быть, наоборот, дорогой Ахмет! Может оказаться, что ваш Шайтан хорошую службу нам сослужил. Джансаев удивленно мигает черными глазами: — Непонятно, товарищ капитан… Уралов некоторое время молчит, обдумывая неожиданно родившуюся догадку и сам еще не веря в ее достоверность. Потом произносит уже спокойно: — Мне думается, Шайтан остался жив только потому, что ему очень повезло. — Как всякому шайтану, — смеется Джансаев. А опальный пес, почувствовав, что гроза миновала, подползает поближе к своему хозяину, кладет морду ему на спину и тяжело вздыхает. — Насчет прочих шайтанов не знаю, а этому определенно повезло, — повторяет Уралов. — Ваш Шайтан перемахнул через электронного шпиона как раз в то время, когда он вел передачу. На это, видимо, уходила вся энергия «ежа», и остальные его механизмы, в том числе и фотореле, бездействовали. Вот почему не сработал его взрывной механизм и уцелел Шайтан. Как по-вашему, естественно такое допущение? — Еще как естественно! — восторженно восклицает Джансаев. — Ничего другого и придумать невозможно!.. Ай молодец Шайтан! Будет тебе за это королевский обед. Весь мой шашлык получишь до последнего кусочка! При свидетелях говорю.17
Выслушав Уралова, полковник Астахов задумчиво качает головой. Он не очень верит в догадку капитана. Уж очень все просто получается. Зато инженер-полковник Шахов, который еще совсем недавно больше всех во всем сомневался, сразу же поверил. — Меня убеждает именно эта простота объяснения происшествия с Шайтаном, — твердо заявляет он. — В связи с этим я хотел бы предложить следующий план дальнейших действий. Он торопливо расстегивает гимнастерку, вытирает потную шею и продолжает: — Поскольку нам теперь известно, что во время передачи «еж» безопасен, в это-то время, следовательно, его и можно взять… Подождите улыбаться, я ведь не все еще сказал. Как, однако, это сделать в короткие двадцать пять секунд, не зная его устройства? Он снова делает паузу. — Да не выматывайте вы наши нервы! — полушутя, полусерьезно просит Астахов. — Драматизма тут и без того хватает. — Ничего, ничего, — усмехается Шахов, — для наших нервов это хорошая закалка, ибо то, что я предложу, потребует от нас большого хладнокровия. Теперь хотелось бы, чтобы вы вспомнили, что когда-то я работал экспертом в отделе научно-технической экспертизы военной прокуратуры. Все смотрят на него с удивлением. Старший лейтенант Джансаев даже рот открывает в ожидании чего-то сверхъестественного. А изнемогающий от жары тучный Шахов снова расстегивает гимнастерку. — Мы воспользуемся моим опытом в этой области и произведем техническую экспертизу «ежа». — очень просто заключает он, будто речь идет не о рискованном эксперименте, а об исследовании вещественных доказательств какого-то заурядного уголовного дела. Полковник Астахов, начиная злиться, собирается заметить Шахову, что сейчас не до шуток, а инженер-полковник, покопавшись в своем чемодане, торжественно кладет на стол небольшой свинцовый контейнер цилиндрической формы, металлический штатив и несколько рентгеновских кассет. — Знаете, что это такое? — спрашивает он. — Гаммаграфическая установка. Я захватил ее, полагая, что нам придется кое-что просвечивать. Капитан Уралов, конечно, знает, что это за штука, остальным я коротко объясню. В общем, это почти то же самое, что и рентген, только гораздо проще и удобнее. Заряжается она различными радиоактивными изотопами, в зависимости от того, какие предметы нужно просвечивать. — Тут что — кобальт-60? — спрашивает Уралов. — Нет, тулий-170. Из всех известных в настоящее время радиоактивных изотопов с мягким гамма-излучением он наиболее приемлем для просвечивания не очень толстых стальных пластинок, алюминия и пластмасс. «Еж», видимо, сооружен именно из этих материалов. Снимки, произведенные моей гаммаграфической установкой, обладают хорошей контрастностью и дают возможность отчетливо различить все детали внутреннего устройства просвечиваемого объекта. — Какая экспозиция необходима для этого? — Я зарядил установку тулием самой высокой удельной активности, — заверяет Шахов. — Кассеты тоже заряжены очень чувствительной пленкой, так что величина экспозиции будет незначительной. Думаю, что за двадцать пять секунд мы вполне успеем сделать несколько снимков. Прежде чем окончательно решиться на эксперимент, предложенный Шаховым, полковник Астахов, на котором лежит ответственность за всю операцию, долго раздумывает. Другого выхода, однако, нет, и он соглашается наконец на план инженер-полковника. Но тут возникает новая трудность: кому поручить? Уралов молод и отважен, но ведь он никогда не работал с таким аппаратом. Шахов же хотя и опытен в подобных делах, но немолод, тучен и неповоротлив… — Над тем, кого благословить на это, вы голову не ломайте, Анатолий Сергеевич. — спокойно говорит инженер-полковник. — Доверьте это мне, как бывшему эксперту, имеющему необходимый навык в обращении с гаммаграфическими установками. Живот мой этому не помешает. Придется ведь не художественной гимнастикой заниматься. А руки у меня еще достаточно крепки и проворны. Дайте мне только старшего лейтенанта Джансаева в помощники — он парень толковый. А за Ураловым останется потом, может быть, самое трудное — обезвреживание «ежа». Разве можно что-нибудь возразить против этого? И Астахов молча кивает. Инженер-полковник Шахов и старший лейтенант Джансаев уходят, унося гаммаграфическую установку и рацию. А полковник Астахов и капитан Уралов остаются на пеленгаторной станции, все еще включенной на прием.18
Может быть, и не так уж много времени уходит на осуществление этой рискованной операции, но полковнику Астахову кажется, что длится она целую вечность. И вот наконец Шахов и Джансаев стоят передним живые и невредимые, и он крепко жмет им руки. — Ну, герои, рассказывайте, как вам это удалось, — радостно говорит он, похлопывая по плечу старшего лейтенанта Джансаева. — Можете мне на слово поверить, до чего я тут за вас переволновался… — Рассказывать особенно нечего, — неохотно и каким-то слабым голосом отвечает инженер-полковник, с ожесточением выжимая мокрый носовой платок. — Пришлось, конечно, слегка струхнуть. Сами понимаете — работали не в фотоателье. Да и «еж» тоже ведь не девица, готовая сидеть перед аппаратом сколько угодно, лишь бы хорошо получилось… В общем, пришлось поторапливаться. Никогда еще, пожалуй, не ощущали мы так остро, что такое время. Задержись мы еще хоть на одну секунду, снимать было бы нечего… и некому. Он махнул рукой и, тяжело ступая, пошел прочь. Лишь от старшего лейтенанта Джансаева удается узнать подробности. — Вначале все шло хорошо, — возбужденно размахивая руками, рассказывает Джансаев. — Инженер-полковник дежурил у рации, а я, облачившись в маскхалат, пополз к «ежу» и в полутора метрах от него осторожно выкопал окопчик. Как только передали по радио, что он начал передачу, мы тотчас же бросились к нему — дорога была каждая секунда. Инженер-полковник меня заранее проинструктировал, что и как нужно делать, так что я действовал четко. И у него тоже все ладилось сначала. Расчеты свои мы основывали на том, что передача будет вестись не более двадцати пяти секунд. В таком режиме «еж» уже дважды вел сегодня свои передачи. И мы решили сделать две гаммаграфии с разной выдержкой. Джансаев очень волнуется и то и дело вытирает ладонью мокрый лоб. — Может быть, хотите газированной воды, Ахмет? — предлагает Уралов. — Нет, спасибо. От воды только больше пить хочется. Лучше перетерпеть… Ну так вот: первый снимок сделали мы, значит, довольно быстро. Я держал штатив с контейнером, инженер-полковник занимался экраном. Когда понадобилось сменить кассеты, он вдруг уронил их — обе сразу… И весь сразу взмок. «Ну, думаю, сдали, значит, нервы». Хотел подхватить его под мышки, чтобы оттащить от этого чертова «ежа», но он схватил обе кассеты и стал их осматривать. А на исходе уже пятнадцатая секунда. Как он второй снимок сделал, я и не заметил даже. Помню только, как он сказал: «Ну, теперь все!..» — и подтолкнул меня к окопчику. Долго мы лежали совершенно без сил. На инженер-полковника просто смотреть было страшно. Да и я, наверное, был хорош… Разволновавшийся Джансаев все-таки протягивает руку к сифону с газированной водой и жадно выпивает целый стакан не переводя дыхания. — Потом, когда мы отлежались немного. — продолжает он, — инженер-полковник объяснил мне, что с ним произошло: «Чуть было не испортил я все дело, Ахмет. И не потому, что уронил кассеты, — от волнения никак не мог найти сделанных на них пометок. Сунуть вторично отснятую кассету значило погубить оба снимка. Потом все-таки нащупал нужную пометку». Вот ведь какая история приключилась! Я бы, правда, на его месте не стал второго снимка делать, а он упрямым оказался… «Может быть, это он из-за меня так рисковал?! — взволнованно думает Уралов о Шахове. — Знает ведь, что моя работа по обезвреживанию „ежа“ зависит от этих снимков. Чем больше снимков, тем больше шансов на успех. Может быть, даже и на то, чтобы в живых остаться…» Изучать гаммаграфии собирается целый «консилиум», состоящий из Астахова, Шахова, Уралова, Джансаева, нескольких радиотехников и командира саперного подразделения майора Васина. Изображение нутра «ежа» на гаммаграфиях оказывается достаточно четким. Во всяком случае, верхний ряд его механизмов вполне различим. Радиотехники сразу же распознают электронно-лучевую трубку и отдельные элементы программного устройства. Кто-то из связистов обращает внимание на антенну: — Похоже, что она убирается внутрь. — Это, наверное, когда он перекатывается….. — Да, пожалуй. — Вот это, видимо, кремниевые батареи, преобразующие солнечную энергию в электрическую, — замечает старший лейтенант Джансаев. — Надо полагать, имеются тут и химические источники питания. — Не это сейчас главное, — повышает голос инженер-полковник Шахов. — Важнее всего: раскрыть взрывную систему… Вы ничего тут по своей части не заметили, товарищ майор? — обращается он к майору Васину. — Пока не замечаю, — смущенно признается тот. — Видимо, взрывчатка либо не получилась при просвечивании, либо находится где-то в самом центре этой машинки… — Весьма возможно, что ее вообще нет, — замечает кто-то. — Мы должны исходить из худшего — полагать, что «еж» все-таки заминирован, — убежденно заявляет Астахов. — Абсолютно согласен с вами, — одобрительно кивает головой инженер-полковник. — Исходить будем только из этого. Нужно и искать, следовательно, если не взрывчатку, то механизм, подающий сигнал к взрыву. Это даже важнее, чем сама взрывчатка. — Таким механизмом может быть только фотореле, — замечает молчавший до того капитан Уралов. — И вот один из его фотоэлементов. — «Один»? — усмехается Шахов. — Я думаю, что не один. Сфероиду для полной безопасности необходим круговой обзор, так сказать. И мне думается, что вот это пятнышко — тоже фотоэлемент. — Да, пожалуй, — соглашается полковник Астахов. — Где-то, значит, должен быть выключатель этих фотоэлементов. В противном случае «еж» может ведь подорвать и своих хозяев. Но я не вижу тут никаких признаков такого выключателя. И непонятно, каким образом разбирается кожух «ежа». — Я не думаю, что выключатель фотоэлементов находится под кожухом, — упрямо качает головой Шахов. — Он должен быть где-то на поверхности «ежа». И даже догадываюсь, где именно. «Еж», видимо, сконструирован таким образом, что центр его тяжести смещен к одной из стенок. Тогда всякий раз, как только «еж» прекращает движение, эта стенка оказывается внизу, становится донной частью. Вот там-то, в каком-нибудь углублении, и нужно искать выключатель. Логично? — Логично, — соглашается Астахов. Посовещавшись еще некоторое время, все, кроме дежурных радистов, отправляются спать. Операция по обезвреживанию «ежа» назначается на следующий день, когда возобновится инсценировка запуска «новой» ракеты.19
Капитан Уралов и старший лейтенант Джансаев снова лежат рядом на том же месте, что и вчера. Ахмет почти слезно вымолил у полковника Астахова разрешение быть помощником у Уралова. — Вы были уже помощником у инженер-полковника Шахова, — строго заметил полковник. — Зачем же вам рисковать вторично? — Потому и прошусь, что уже был, — с обезоруживающей улыбкой ответил Джансаев. — Я вроде обстрелянный уже. — Ну, как вы на это смотрите, товарищ капитан? — повернулся полковник к Уралову. Капитану очень хотелось, чтобы помощником у него был именно Джансаев, но ему жаль Ахмета — неизвестно ведь, чем еще может все это кончиться… — Я тоже думаю, товарищ полковник, что вторично рисковать ему не следует. — Ну вот видите, товарищ Джансаев… И все-таки Ахмет уговорил их обоих. — Ай-яй-яй! — укоризненно покачал он головой. — Совсем, значит, нет в меня веры у товарища капитана? А ведь если бы не я в тот раз и не мой Шайтан, знали бы вы разве ахиллесову пяту «ежа»? Нельзя так, товарищ капитан. Несправедливо это!.. Прикажите ему, товарищ полковник, взять меня с собой… От волнения Джансаев, безукоризненно владевший русским языком, стал вдруг говорить с акцентом. — Ну что с ним поделаешь! — сдаваясь, воскликнул Уралов. — Придется, видно, взять. Идемте, дружище Ахмет! Он крепко обнял старшего лейтенанта за плечи. Вот они снова лежат рядом, изнывая от зноя и настороженно прислушиваясь к шорохам электрических разрядов в наушниках радиотелефонов. Внешне Уралов очень спокоен, но мысли его тревожны. Надо было написать письмо матери, мало ли что… Все очень туманно. Выключателя фотоэлементов у «ежа», вероятно, вообще нет. Да и зачем он нужен? Управляют ведь им издалека, а выкатывать его с полигона и разряжать никто, наверное, не собирается. Скорее всего, как только он сослужит свою службу, его подорвут специальным импульсом. Беспокойные мысли Уралова нарушает Джансаев: — Известно вам, товарищ капитан, как они этот «еж» сюда закатили? — Ну, это дело нехитрое. — А все-таки? — Через государственную границу его перевезли, конечно, в разобранном виде, по частям. Каждая отдельная деталь «ежа» была при этом, наверное, так расчленена, что догадаться о ее назначении не представлялось возможности. Осуществить перевозку всех этих деталей могли какие-нибудь иностранные «туристы». Весьма возможно даже, что «еж» прибыл в Советский Союз с дипломатической почтой какого-нибудь иностранного посольства. — Потом кто-то из этих «дипломатов», подбросил его к развилке шоссе у западного участка нашего полигона, — хмуро замечает Джансаев. — Теперь я почти не сомневаюсь, что это именно так и было. Примерно месяц назад мои связисты линию там прокладывали и видели, как какая-то подозрительная машина слишком уж долго у той развилки «ремонтировалась». Я, правда, думал тогда, что это случайность, но доложил все-таки кому следует. Ваше начальство должно было бы знать об этом. — О том, что к полигону вашему проявляет интерес иностранная разведка, начальству нашему действительно давно уже известно, — подтверждает Уралов. — Кроме нас с полковником Астаховым, этим делом и другие ведь занимаются. Примерно полгода назад в вашем районе задержали какую-то подозрительную личность. Но тогда они и мечтать не могли проникнуть так близко к пусковым установкам. Теперь вот «еж» дал им такую возможность. Наверное, они тогда действительно сгрузили его у развилки шоссе. Потом уж он сам, управляемый специальными импульсами, покатился в заданном направлении. — Такую штуку можно было бы на Луну или на какую-нибудь другую планету забросить, — задумчиво произносит Джансаев. — Она бы там тоже вела разведку, но не для войны, а для мирной науки. Ну и гады они все-таки! У нас, конечно, тоже есть разные электронные штуки и еще получше, вероятно, чем этот «еж», но мы их только на Луну или Венеру отправим и без всяких взрывателей. Нашим электронным разведчикам ни к чему будет кончать «самоубийством»… Потом они лежат некоторое время молча. Уралов задумчив сегодня, да и Джансаеву не до разговоров. Медленно тянутся минуты. Наконец в наушниках радиотелефонов раздается условный сигнал. Капитан и старший лейтенант мгновенно вскакивают и, пригнувшись, словно под огнем противника, стремительным броском преодолевают расстояние, отделявшее их от «ежа». И сразу же валятся перед ним на траву. Какую-то долю секунды нервная спазма сковывает мышцы Уралова, но он тотчас же овладевает собой и протягивает руку к «ежу» с таким ощущением, будто кладет ее в пасть тигру. Ничего, однако, не происходит. Рука ощущает лишь твердую шершавую поверхность. «Еж» невелик, чуть побольше футбольного мяча. Офицеры заранее договариваются, что капитан попробует перевернуть «ежа», а старший лейтенант постарается хорошенько разглядеть его со всех сторон. И вот Уралов без особых усилий переворачивает «ежа» набок, а Джансаев осматривает нижнюю поверхность. Она ничем не отличается от верхней. Не видно на ней никаких углублений и кнопок. И вообще ни малейших признаков каких-либо креплений, резьбы или швов. Все тут монолитно. Единственная деталь, торчащая над корпусом «ежа», — это замысловатая антенна. Как ни мало уходит времени на осмотр всего этого, время все же идет. В распоряжении офицеров остаются всего десять секунд. И тогда, не спрашивая разрешения Уралова, Джансаев выхватывает из кармана кусачки и резким движением стискивает ими тонкий стерженек антенны у самого основания. Капитан пытается остановить его, но антенна уже у старшего лейтенанта, а времени в запасе — всего три секунды. Раздосадованный самовольством Джансаева, Уралов делает ему знак немедленно уходить. И они с поспешностью, продиктованной инстинктом самосохранения, откатываются в сторону окопчика. Некоторое время лежат молча, переводя дух и осмысливая происшедшее… — Не ругайте меня, товарищ капитан! — робко произносит старший лейтенант. — Что же было делать?.. Не уходить же с пустыми руками? Уралов не удостаивает его ответом. — Зато теперь они над ним больше не властны, — убежденно заявляет Джансаев. Капитан даже не понимает, о чем это он говорит. Кто над кем не властен? Это он о «еже», конечно… И в самом деле, связь с ним теперь нарушена. Никуда он больше не пошлет информации, и ему никто ничего не прикажет. Это совсем новая ситуация, и в ней нужно спокойно разобраться. — Вы, значит, считаете, Ахмет, что он теперь неуправляем? — Он же без связи, товарищ капитан! — горячо восклицает Джансаев. — Мы гарантированы от неожиданностей — кроме нас, никто уже его не взорвет. — Но и мы теперь не сможем к нему приблизиться, так как не будем знать, когда он ведет передачу… Джансаев так и сияет весь, хотя и сам он только сейчас окончательно осознает все значение своего поступка. — Наоборот, товарищ капитан, именно теперь мы сможем подойти к нему без всякого риска. Он если и заметит нас, то все равно никому уже не сообщит. — Конечно же, черт побери! — радостно восклицает Уралов. — Спасибо, Ахмет!.. Ну пошли же к нему… — Не очень, однако! — предостерегающим жестом останавливает его Джансаев. — Фотореле у него осталось… — Конечно, Ахмет, — смеется капитан, — не ближе чем на полметра. — Лучше на метр. — Ладно, не возражаю, хотя уверен, что его фотоэлементы срабатывают не дальше чем за полметра. Они снова лежат у «ежа» и спокойно рассматривают его. Теперь он уже не кажется им коварным существом, готовым к убийству. Просто слегка приплюснутый зеленый шар. Он, правда, может еще обороняться и причинить вред, может быть, даже убить кого-нибудь, но это уже не активная оборона. Теперь это будет лишь актом отчаяния… — Надо, очевидно, сообщить что-нибудь полковнику Астахову, — вспоминает наконец о начальстве старший лейтенант Джансаев, вопросительно глядя на капитана. — Да, обязательно надо доложить ему обо всем, — спохватывается Уралов. Он встает и почти бегом устремляется к рации. Радист командного пункта уже надорвал голос, выкрикивая его позывные. — Наконец-то! — облегченно вздыхает он. — Живы вы, товарищ капитан? И старший лейтенант тоже?.. А полковник, не дождавшись, пока вы отзоветесь, сам к вам поехал. Подъезжает уже, наверное. Уралов поднимает голову и осматривается. Вон и в самом деле катит к ним открытая машина. В ней полковник Астахов, инженер-полковник Шахов, гарнизонный врач и два санитара. — Почти вся санчасть! — смеется Джансаев. — Решили, видно, что этот чертов «еж» разорвал нас в клочья. — Вы ведь не слышали взрыва, зачем же столько медиков с собой захватили? — улыбаясь, спрашивает капитан Уралов, как только Астахов выскакивает из машины. — Черт его знает, каким образом мог вывести вас из строя электронный шпион! — серьезно отвечает полковник Астахов. — С этим не шутят. Ну, докладывайте, что тут у вас произошло. — Докладывать нечего, товарищ полковник. Откусили мы у него антенну, и теперь он у нас во власти. — И уже не взорвется? — От этого мы не гарантированы. Неосторожным действием можно, конечно, вызвать его взрыв. Но теперь мы не торопясь подумаем, как предотвратить и это. А вероятно, и предпринимать ничего не придется. Может быть, он тихо скончается естественной, так сказать, смертью — от истощения. Полковнику это не понятно, но он не торопит капитана, ждет, когда тот сам все объяснит. — А это идея! — восклицает вдруг инженер-полковник Шахов. — Нужно только заставить его работать непрерывно! — Это уже сделали за нас его хозяева! — смеется Уралов. — Намереваясь получить как можно больше сведений об испытании нашей «новой» ракеты, они перевели работу «ежа» на повышенный режим и переключить уже не смогут. Ни одной из их команд теперь он не примет. Мы постараемся, чтобы он не имел больше возможности заряжать свои батареи солнечной энергией и работал до полного истощения. Тем более, что вся полученная им информация так и останется теперь в его запоминающем устройстве.…Спустя несколько дней полковник Астахов докладывает генералу: — Я уже договорился с Министерством иностранных дел, товарищ генерал. Они назначили на завтра пресс-конференцию. Приглашены все аккредитованные у нас иностранные журналисты. — Экспонаты у вас готовы? — Да, товарищ генерал. «Еж» разобран на составные части, на каждой из которых стоит марка «Made in…». Они ведь были совершенно уверены, что их «электронный Пауэрс», попав к нам в руки, непременно «покончит с собой» и скроет тайну своего происхождения. Объяснение его «анатомии» будет давать капитан Уралов. — Пригласите ко мне этого капитана! — приказывает генерал. И почти то же, что много лет назад на одном из фронтов Великой Отечественной войны сказал Астахову командующий армией, говорит теперь один из генералов Комитета государственной безопасности капитану Уралову: — Так вот вы какой, Уралов!.. Ну спасибо вам, товарищ капитан!
Г. Чижевский АРХИТОЙТИС

Фантастический рассказ
Трудно ожидать, что у вас найдется подробная карта Андаманских островов, но еще труднее представить, что, даже располагая ею, вам удастся заметить самый южный островок в их цепочке, тот, который лежит южнее Малого Андамана и окружен многоцветным ожерельем коралловых рифов. От Никобарских островов его отделяет пролив Десятого градуса, а от континента — широкое Андаманское море. Я храню карту этого архипелага, чтобы иногда в свободное от занятий время, в часы раздумий переноситься мысленно на этот островок, припоминая подробности одной не совсем обычной истории, случившейся в этом северо-восточном уголке Индийского океана. Там, на бледно-кремовом песке длинной косы уединенного пляжа, приютилась крохотная морская лаборатория. Судить о том, каковы выполняемые ею задачи в данный момент, я не могу. Но мне хорошо известно, что в то время ее малочисленный ученый персонал изо дня в день с увлечением занимался моллюсками. Их доставляли на лабораторные столы непосредственно с прибрежных рифов или с помощью аквалангов, отыскивали в подводных коралловых лесах. Не менее обильный урожай доставляли приливы, стоило лишь сразу же после отлива пройти по пляжу в прибойной полосе все того же благословенного Индийского океана. Но было бы ошибочным полагать, что добровольные пленники этого пустынного, расположенного в стороне от морских путей островка были довольны всеми благами своего уединения и ничто не омрачало их души. Хотя тишина и уединение весьма ценились его обитателями, но монотонность и привычное однообразие их каждодневных «таинственных» занятий и никогда не менявшийся распорядок дня действовали на них несколько отупляюще. Особенно страдало женское население морской станции — никто из них не был биологом и бесконечные вскрытия и прополаскивания ракушек, естественно, не могли их увлечь. Ко времени, к которому относится рассказ, на островке назревала трагедия — все чувствовали, что одна супружеская пара должна была распасться. И ожидание этого действовало угнетающе на весь персонал станции. Я отчетливо припоминаю незамысловатое строение — нашу станцию, которая издали казалась маленькой вспышкой пламени на широкой дуге пляжа. Я вспоминаю во всех подробностях наш долгий спор о цветовой гамме только что выстроенной лаборатории и нашу неспособность прийти к единству, пока сумасброд Смит из Смитсоновского института, долговязый симпатичный верзила, не воспользовался этими бесплодными дебатами и не положил конец спору тем, что вымазал «наш коттедж» в свою любимую оранжевую краску. Затем потянулись дни, похожие один на другой, как близнецы. И вскоре должен был наступить день рождения Лингулы, который мы пятый раз отмечали на острове. К этому времени уже никто не сомневался, что Лингула — эта смуглая сердцеедка — оставит своего мужа, Челленджера. Стараясь не придавать чрезмерного значения нашим подозрениям, мы с напускным безразличием продолжали менять воду в аквариумах, участвовать в экспедициях на ближайшие рифы и собирать раковины по побережью. Восседая на высоких табуретах, изредка переговариваясь, мы корпели над микроскопами, препаровальными лупами и без устали разгадывали тайны бесчисленных видов моллюсков и в особенности самого замечательного и загадочного класса — кефалопод. В нашем кругу признанным авторитетом по ним считался Челленджер, впрочем в последнее время мало занимавшийся ими. На наши исследования — и мы охотно в то время верили этому — из-за океана «глядела нация», мы чувствовали себя облеченными особым доверием специалистами и трудились в полную силу — во имя науки и интересов наших патронов. Кроме того, мы испытывали внутреннюю необходимость детально знать всех этих моллюсков хотя бы потому, что именно они отняли у нас расположение наших жен. Мы жили здесь же, при лаборатории, в скудно и дешево обставленных комнатках с бамбуковыми жалюзи на окнах, со стенами настолько тонкими, что любое слово, сообщенное полушепотом в одном конце дома, становилось достоянием гласности в противоположном. Утаить что-либо от остальных, я думаю, было бы невероятно трудно. Поэтому и новость, сообщенная Челленджером жене в своей комнате, была тотчас же воспринята и нами в лаборатории. Мы узнали ее утром накануне дня рождения Лингулы. Но сначала для лучшего понимания дальнейшего мне нужно объяснить вам, в какие необычные условия мы были поставлены. Наш единственный приемник — формально достояние всего коллектива, а в действительности принадлежавший Челленджеру, — уже целый сезон отказывался связать нас с большим миром, но мы не торопились осуждать его, поскольку знали, что даже более совершенное и поэтому более щепетильное дитя современной электроники могло бы закапризничать в этом сыром и жарком климате. Наши бинокли тоже отказывались служить нам: их линзы мутнели и покрывались радужными ореолами внутри и снаружи. Газет мы тоже не имели. Без них и без приемника, не говоря уже об оторванности от человеческого общества, мы чувствовали себя в некотором роде колонией робинзонов. Но этот монотонный образ жизни имел и свою положительную сторону — он лишал нас возможности обсуждать скандальную и брачную хронику и отвлекаться по прочим пустякам. И только один из нас, воспитанник Кембриджа Бреки Уайт, остро переживал отсутствие отчетов о дерби. Иногда после многочасовых усидчивых занятий с микроскопом, когда вместо кишечника нашей очередной жертвы нам начинали мерещиться неведомые иероглифы, мы спрыгивали с осточертевших табуретов и, разминая ноги, шли сообщить Бреки Уайту новости о скачках, будто бы только что полученные от местных рыбаков. Но Бреки Уайт был прирожденным пессимистом, и мы напрасно растрачивали фантазию. И когда Челленджер с недоумением в голосе воскликнул: «А ведь, кажется, барометр падает!» — и, вероятно, с изумлением и растерянностью взглянул на Лингулу, наш руководитель мистер Ричи оторвался от препаровальной лупы и обернулся к старшему из нас — Райту. — Челленджер как будто сказал, что барометр падает? — неуверенно спросил он. — Ого! — отозвался Райт, опуская скальпель и оглядывая всех. — Пойду взгляну, — продолжал мистер Ричи и зашагал в комнату Челленджеров. Мы слышали, как он постучал и вошел. Он тотчас же вернулся. И его лицо красноречивее всех слов сказало нам, что в атмосфере назревают крупные неприятности. В дверях появился Челленджер и сообщил, что, по его мнению, давление падает скорее, чем он, Челленджер, предполагал. Оказалось, что это явление он заметил еще вчера, когда по укоренившейся привычке хотел узнать погоду следующего дня. — Я был уверен, — сказал он, — что сегодня с утра нас встретит дождь, и удивился хорошей погоде. Все побросали свои занятия и собрались в комнате Челленджера, где его жена — смуглая худенькая высокая шатенка — устроила экзамен барометру. Она надавливала стекло длинным тонким пальцем и наблюдала, подвинется ли стрелка. Испытуемый прибор «хранил молчание», и мы поочередно проделывали с ним разные эксперименты. Убедившись в его постоянстве, мы разбрелись по своим местам. Вдруг долговязый Смит объявил, что он с самого утра был не в духе, плохо спал, а сейчас его будто что-то подталкивает бросить работу и пойти прогуляться. Все переглянулись, и каждый подумал, что и с ним творится что-то неладное. — Чепуха! — провозгласил Райт. — Я ревматик и тоже нездоров. И всегда знаю заранее, когда пойдут дожди. В это время заговорил Хиксман. Он сказал, что хотя от рождения не знает головной боли, однако испытывает какое-то давление в черепе. — Скоро я научусь подпирать голову тубусом микроскопа — она словно налита свинцом, — пожаловался он. И тогда мистер Ричи вспомнил, что наступает сезон циклонов. Это известие для нас было неожиданным, и, воспользовавшись им как предлогом отдохнуть, мы, как мальчишки, высыпали наружу. Одни из нас, надеясь обнаружить признаки надвигающегося тропического циклона, уставились в небо, щурясь от его пылающей белизны, другие оглядывали горизонт, наполовину растворившийся в мерцавшем, мареве. Было нестерпимо жарко, все предметы вокруг и возвышенность в отдалении не отбрасывали теней и воспринимались как утратившие объемность, даже неумолчный гул и нескончаемый рокот океана показались нам в тот день более приглушенными и сонными, чем обычно. Мир лежал перед нами в ленивой полуденной истоме, но мы чувствовали какую-то разлитую в природе пугающую пустоту и растущую нервную напряженность. Солнце огненным шаром пылало почти над головой и немилосердно жарило, заливая пространство кругом нас горячим светом. Наша лаборатория из-за своего нелепого цвета словно полыхала пламенем. Смотреть на нее было невозможно. Даже нам, привыкшим за много лет к этому обдуваемому влажными ветрами пеклу, сегодняшний день показался превзошедшим многие предыдущие. — Посмотрите, — услышал я за спиной глуховатый голос Челленджера, — ведь оно, как полено в камине! — И он указал загорелой рукой на нашу унылую, приземистую станцию, которую не хотелось называть даже домом. — Наш несравненный коттедж? — спросил я. — Конечно, — сказал он. — Да, это не дворец в Монако, — согласился я, — но ведь и здесь можно что-то делать. — Как подумаешь о достоинствах нашей системы вентиляции, так не хочется возвращаться, — в раздумье продолжал он. — Или вы находите, что она вполне приемлема? — Никуда не годится. Чувствуешь, будто легкие тебе продувают горячим паром, — мрачно подтвердил я. — По-видимому, так, — продолжал Челленджер. — И все-таки не терпится засесть за работу: мне только что удалось выделить из крови одного из видов конуса — я нашел его вон за теми рифами с подветренной стороны — редкоземельный элемент. Ричи я пока не сказал, и наш авторитет мистер Аберкромби из Йеля вряд ли догадывается, какую мину я подготовил ему здесь, на другом полушарии. — Вот как?! — обрадовался я, хотя в моллюсках меня занимали совсем иные проблемы. — Мне неизвестна еще величина процента и окажется ли использование его коммерчески выгодным, но меня вдохновляет уже то, что и без того длинная физиономия йельского корифея после моего доклада вытянется еще длиннее! — простодушно рассмеялся Челленджер. — Еще бы! — отозвался я, оглядывая в бинокль небосвод. — Это куда более интересно, чем то, что недавно нашел Смит в личинках морских желудей. Между прочим, почему-то не видно чаек. Правда, на меня их жалобные крики нагоняют тоску, и я лично рад их отсутствию. Но куда они все-таки скрылись? — Боюсь, что это предвещает недоброе, — произнес Челленджер. Он уже не смеялся, и голос его звучал еще глуше. И он оказался прав. Это недоброе действительно началось, но началось несколько часов спустя, когда Лингула окончательно решила расстаться с мужем и задумала связать день побега с днем своего рождения. Пожалуй, я не стал бы осуждать эту своенравную, еще очень молодую женщину, как это поторопились сделать некоторые из нас, когда на следующий день она объявила о своих планах. Может быть, кроме Челленджера, только я понимал ее противоречивый характер, несколько капризный, но обаятельный, и немного разбирался в сложных мотивах ее поступков. Лингула по специальности была лингвистом и не могла найти на нашем пустынном островке ничего для себя интересного. Она умирала от скуки. Можно ли было винить ее за это?.. Вместе с тем ее деятельный и несколько насмешливый ум не мог предаваться праздности и лени, которые так часто овладевают женщинами в тропиках. В продолжение всего этого томительного дня стрелка барометра продолжала указывать острием на все более и более низкие деления. Становилось очевидным, что на наш унылый островок, где три или четыре десятка неприхотливых кокосовых пальм старались скрасить и прикрыть его известковую наготу, надвигался циклон. Около одиннадцати вечера мы все собрались в лаборатории, одновременно выполнявшей назначение холла, и проводили последние минуты перед сном, беседуя о всяких пустяках. Не было только Хиксманов — они сослались на недомогание и ушли к себе. Впрочем, они вскоре вернулись и присоединились к нам, едва лишь ветер, который резко усилился два часа назад, начал тонко и ядовито посвистывать в щелях ставен. Окна в такую погоду мы предпочли держать закрытыми. Сначала нам нравились эти звуки: в сочетании с мерцанием газовых светильников и тенями, прыгавшими на стенах, они создавали странную иллюзию уюта, и глаза невольно искали топившийся камин, — но скоро всё крепнущие порывы ветра стали наводить уныние. Оно росло, заползая в самые укромные тайники сознания, как бледные нити плесени опутывая мысли. Никто не выражал желания идти спать, хотя время близилось к полуночи. Похоже было на то, что мы все опасливо ждали чего-то и не решались расходиться. Неожиданно Хиксман заговорил о странном предмете: о спрутах… Он будто бы слышал от старых моряков, что они поднимаются из мрачных морских глубин именно в часы шторма. — Непонятными остаются лишь их участившиеся нападения на корабли, особенно в Индийском океане, — добавил он. — Неужели?! — воскликнула крайне изумленная Лингула. — Об этом я не слышала ни разу. Я считала их такими маленькими и слабыми. Ведь они что-то вроде медуз? Как из студня! Я думала, что они опасны только в детских сказках. — Не только, — вмешался Челленджер, обводя всех виноватым взглядом, словно прося извинения за элементарное невежество жены. — Есть мнение, что спруты — самые огромные и могучие из существующих животных, хотя ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение пока не удается. И действительно, эти великаны атакуют корабли. А как ты думаешь, почему? — Наверное, по недоразумению. Почему же еще? — Ты почти права, — кивнул Челленджер, попыхивая сигаретой. — Ты почти права, — задумчиво повторил он и вдруг быстро заговорил: — Есть основание считать, что снизу сквозь толщу воды спруты принимают корабли за кашалотов. Им отчетливо видно лишь днище корабля, и иногда они ошибаются. — Он стряхнул пепел и продолжал: — В самом деле, мы знаем, что еще несколько лет назад зоологи соглашались с тем, что нападающей стороной всегда выступают кашалоты: кальмары составляют их основную пищу и в желудке кашалота всегда можно найти много непереваренных клювов некрупных спрутов. Но как, однако, ученые ошибались! Кашалот не столь проворен, как спрут: он плавает в два—три раза медленнее спрута и напасть на крупное животное ему просто не позволит тихоходность. Кальмар при желании мгновенно оставит его позади. И первым нападает, конечно, он! — Но все-таки это странно, — с сомнением заметил кто-то из женщин. — Отчего же? Спруты — это многорукие чудовища, которые в два-трираза, а может быть, и в большее число раз могут превосходить знаменитый найденный экземпляр нашим соотечественником Веррилом. Вы припоминаете? — Челленджер оглядел нас вопросительным взглядом. — Его спрут имел длину восемнадцать ярдов![223] А на побережье Ньюфаундлена несколько десятков лет назад море вынесло спрута будто бы в двадцать четыре ярда! Между тем кашалоты уже с трудом могут отстоять себя от кальмара в двенадцать-пятнадцать ярдов… Неудивительно, что счастье может изменить кашалотам. — Еще бы! — подхватил Хиксман. — Сейчас спруты должны чувствовать себя лучше, чем когда-либо в прошлом. Они сейчас в расцвете сил. — И в расцвете агрессивности, — меланхолично вставил Райт. — Это и понятно, — снова вмешался Хиксман, присаживаясь на край стола. — Сотни китобоев, где только могут, истребляют единственного врага малолетних спрутов — зубастых китов-кашалотов. Можно подумать, что люди заключили союз со спрутами и действуют в их интересах. В океанах освобождается жизненное пространство для спрутов, и можно ожидать появления со временем все более крупных чудовищ! Теперь слово за ними: чтобы из крохотного яйца размером два-три сантиметра развился гигант, им необходима, вероятно, не одна сотня лет! И они, как рыбы или рептилии, непрерывно растут всю жизнь. А разве мы знаем что-нибудь о продолжительности их века?.. Когда щупальца-руки кальмара, или спрута, обхватывают кита и присасываются к нему, они вырывают из его грубой кожи круглые бляхи с блюдце или тарелку величиной — по размеру присосок. Эти рубцы наглядно повествуют о кошмарных битвах в пучинах океана и о возможной величине противников кашалотов. Китобои содрогаются, рассматривая эти страшные следы. Если судить по их размерам о головоногих свирепых монстрах, то и тридцать ярдов не покажется вымыслом. Но кто может сказать, что это предельная величина и что вечный холодный мрак не бороздят ракетоподобные чудовища в шестьдесят и сто ярдов! А это значит, что они превзойдут по весу китов!.. — Голос Хиксмана драматически вибрировал. — Никто не поручится за это, — откликнулся Челленджер. — Они ядовиты, — заметил мистер Ричи. — Сила их яда пропорциональна их величине. А эта ужасная пасть! Этот чудовищный попугаячий клюв! У больших кальмаров он велик, как бочка! — Стоит напомнить и о том, что они, как немногие в животном мире, способны накапливать и обобщать опыт прожитых лет, — заявил Челленджер. — Можно себе представить, — заметил Райт, — насколько рассудительными становятся эти престарелые «мешки с завязками» к концу жизни!.. С основными комментариями выступал Бреки Уайт; его заинтересовал умственный багаж старого кальмара, и ему удалось увлекательно и забавно раскрыть перед нами таинственные пути его пополнения. Бреки Уайта снова сменил Райт. — Мозг головоногих заключен в хрящевую капсулу, — объявил он, — а это уже некое подобие настоящего мозгового черепа высших животных! Ну, а почему бы ему не начать расти, увеличиваться в размерах, усложняться? Что, собственно, может помешать, если это произойдет?.. Разве нельзя вообразить, что они передают по наследству будущим поколениям более совершенную структуру мозга? Или свой обширный жизненный опыт? Разве они закоснели на теперешней стадии и перестали эволюционировать? Они наделены многими весьма совершенными органами, а их средства нападения и защиты охватывают все известное в животном мире, кроме, может быть, электричества. Среди них есть виды с термоскопическими глазами, которыми они отыскивают добычу и обнаруживают врагов в абсолютном мраке, ибо улавливают теплоту их тел. Признайте, что они — комплекс самых удивительных возможностей для биологического развития… В этот момент плохо прикрытая наружная дверь распахнулась с лязгом и дребезжанием; в помещение, как злой дух, ворвалась упругая влажная струя воздуха, распространяя запахи соленого морского ветра и йодистые ароматы водорослей, выброшенных волнами на берег. На минуту грохот разбивающихся валов, канонада разбушевавшегося океана, шипение подкатывающихся совсем близко волн и неистовый вой рассвирепевшего ветра заставили нас забыть обо всем. Все вздрогнули. Райт бросился к хлопавшей на ветру двери. Мы смотрели ему вслед, но никто не тронулся с места. Нам всем вдруг сделалось зябко. Мы в молчании ждали его возвращения. — Как с барометром? — деловито спросил Смит. Одна из женщин направилась в темную комнату Челленджера и сейчас же вернулась. — Давление быстро падает, — вяло оповестила она. — Я только хотел сказать, — как ни в чем не бывало заявил Райт, — что на планете может возникнуть соперничество… — На какой планете, какое соперничество?! — с досадой прервал его Челленджер. Райт осекся. — На нас движется ураган, — спокойно, глядя выцветшими глазами на Райта, пояснил мистер Ричи. — Мы уже чувствуем его дыхание. Нам необходимо на что-то решиться. До сих пор мы бывали предупреждены заранее и могли переправиться на большие острова. Мы бы и теперь могли это сделать, но, не зная прогноза, мы рискуем оказаться в нашей скорлупке в бушующем море, не говоря о том, что понадобится несколько рейсов. Мы можем искать спасения в центральной, возвышенной части острова… Райт молча опустился на стул. Мы слушали, как истерически надрывался ветер и волны гулко опрокидывались на песок. — Сами мы ничего не можем сделать, и о нас, конечно, забыли, — равнодушно констатировал Хиксман. — Останемся здесь? — с неожиданным хладнокровием вдруг спросил Смит и поочередно внимательно оглядел каждого. Лишь теперь для Натики, жены Хиксмана, ситуация прояснилась во всей ее мрачной определенности. Она взволнованно заметалась по лаборатории, словно в поисках выхода из создавшегося положения. Завывание ветра перешло в угрюмый рев. Содрогались стены, и звенели стекла. Начинался настоящий шторм, ветер и море неистовствовали. Вдруг Смит взглянул на часы, вскочил и торжественно сообщил, что двадцать минут назад наступил новый день, а значит, и день рождения Лингулы. Вслед за тем он весьма экспансивно принялся поздравлять именинницу. И мне показалось, что все это он делал неспроста. Он потребовал немедленно отпраздновать это событие, чем поднял настроение приунывшей компании. Пока мы, несколько ошеломленные его предложением, осваивались с этой мыслью, он кинулся в наш «амбар» и принялся стучать консервными банками и звенеть бутылками. Вскоре мы, позабыв о дурных предчувствиях, уже дружно хлопотали, гораздо больше мешая, чем помогая ему. И в продолжение всего пиршества об урагане не было сказано ни слова. Большой стол в лаборатории выдвинули на середину комнаты, сервировка была элементарна, но яства были в изобилии. Старый пружинный патефон добросовестно старался перекричать рев бури. И, когда это ему удавалось, мы слышали некое подобие мелодий. Все много и беспорядочно говорили, сыпались спичи и поздравления. Все чаще раздавались громкие восклицания и хохот, словно никому уже не было никакого дела до того, что творилось за стенами дома. Оказавшись в разгаре танцев без дамы, Смит взобрался на высокий табурет и, возвышаясь над всеми, старался привлечь общее внимание. Некоторое время он размахивал руками, открывая и закрывая рот, но вдруг потерял равновесие и рухнул спиной на оконную раму. Раздался звон бьющегося стекла, и голова и плечи Смита оказались за окном. Шум в лаборатории мгновенно стих. Смита быстро и осторожно втащили обратно в комнату и с недоумением обнаружили, что его волосы и плечи мокры. — М-м-меня ок-катила в-в-волна, — промычал отяжелевший Смит, и голова его беспомощно свесилась на грудь. — Он сказал «волна»?! — с непередаваемым удивлением повторил мистер Ричи и, несмотря на ураганный напор ветра и соленые брызги, залетавшие в открытое окно, проворно выглянул наружу. Он отпрянул назад, будто отброшенный какой-то силой, и все увидели его испуганные глаза. — Кругом вода, сплошное море! — едва слышно пролепетал он побелевшими губами. — Так близко вода никогда еще не подступала! — подхватил Райт и тоже захотел удостовериться. Я поискал глазами Челленджера и увидел, что он сидит за дальним концом стола, безучастный к происходящему. — Кругом вода, — сокрушенно подтвердил Райт. — Ужасно неприятно. — Я… пойду, — сказал вдруг Челленджер. Он с трудом поднялся и прислонился к стене, держась за сердце. Потом медленно, волоча ноги, он направился в свою комнату и, прежде чем войти в нее, оглянулся через плечо. Он обвел всех нас каким-то пустым, отсутствующим взглядом и затем с усилием прикрыл за собой дверь. — Он пьян! — резюмировал Бреки Уайт. — Какие у него были странные глаза, — не удержалась от восклицания Натика, чего-то не договаривая, — и как он оглядел холл!.. Вы пойдете к нему, Лингула? Лингула не отвечала. Она взяла бутылку вина, отыскала на рабочих столиках тонкостенную мензурку, наполнила ее до краев и, не отрываясь, выпила. Все в немом изумлении смотрели на нее. Она поставила мензурку и бутылку на стол. — Я иду спать, — решительно сказала она и вдруг обратилась к Натике: — Вы позволите мне переночевать у вас? Ему (она имела в виду мужа) следует побыть одному. — И неожиданно добавила: — Какая ужасная, отвратительная ночь! Она ушла с Натикой в ее комнату, а Хиксман, переминаясь с ноги на ногу, щурился и размышлял о превратностях семейного счастья. — Если ураган не унесет нашу хижину, — без тени юмора проговорил мистер Ричи, — то остаток ночи мы проведем во сне; во всяком случае, мой сон в грозу всегда крепок. Раскаты грома заглушали его слова, а лиловые дрожащие вспышки молний плясали призрачными холодными огнями на наших помертвевших лицах. — Мы все немного перегрузили себя весельем (он подразумевал вином), но сегодня выдалась необыкновенная ночь, да и именинница служила истинным украшением стола. Так что некоторая экспансивность извинительна… Ну, и желаю всем приятных снов! С этими бодро сказанными словами Ричи удалился. Мы последовали его примеру и сразу разбрелись по своим «норам». Первым проснулся Райт. Ему снилось, что солнечным днем он плавает далеко в море, и он с отвращением приподнялся на мокрой постели. Непривычно громко плескались волны на пляже за окном, легкий бриз шевелил рукава его рубашки, брошенной на стул. Для раннего утра было слишком светло. Он посмотрел на окно и увидел, что занавеска на окне вздулась парусом. «Вот как!» — подумал он. И будто над самым его ухом пронзительно и печально прокричала чайка. Райт нервно поежился и взглянул вниз, потом резко выпрямился и сел, свесив босые ноги. Он попал в холодную лужу на полу. На полфута комната была залита водой, слышалось журчание, по комнате будто в медленном вальсе кружились пара купальных туфель его жены, один его ботинок на особо толстой подметке для экскурсий по коралловым рифам, две пустые бутылки; отдельной стайкой держались карандаши. У изголовья кровати, накренившись на одну сторону, точно лодка на якоре, плавал его старый дорожный саквояж. Райт повернул голову и скосил глаза вправо: он с облегчением убедился, что на соседней постели спала его жена, над краем простыни он видел кончик ее загорелого носа и половину подбородка. Ступая босыми ногами по воде, он выудил из-под стула разбухший том, написанный внуком Чарлза Дарвина, — «Ближайший миллион лет». Райт задумчиво полистал слипшиеся страницы и положил книгу на стул. Потом он перевел взгляд на дверь. Она показалась ему прикрытой слишком плотно. И он, шлепая по воде как можно тише, пошел к окну. Бамбуковое жалюзи было сорвано и брошено на спинку его кровати. «Однако который час?» — подумал он, спрыгивая с подоконника на горячий песок, испещренный обрывками водорослей цвета болотной тины. Но возвращаться за часами он не хотел. «Я узнаю время в лаборатории», — сказал он себе и отошел на несколько шагов от окна. Отсюда ему видна была вся станция. «Как она устояла?! Старушке, конечно, пришлось выдержать изрядный натиск», — решил он, всматриваясь в нанесенные ей увечья: станция выглядела полуразрушенной. Под ноги ему беспрестанно попадались выброшенные ураганным прибоем обломки бревен и куски дерева; то и другое еще недавно могло быть сваями и причалами в ближайшем порту. Все было пропитано противогнилостным составом, похожим на нефть и на смолу, и уже источено морским древоточцем — тередо. На песке встречались и другие предметы — явно местного происхождения: черепаховый футляр для очков пробирки, грязные листы писчей бумаги, слегка подсушенные солнцем, чья-то резиновая грелка… Он не спеша зашагал дальше, вглядываясь в голубую прозрачность небес, кое-где перечеркнутых легкими горизонтальными полосами. Вдруг он что-то вспомнил и быстро обернулся к центру острова: привычных темно-зеленых верхушек пальм не было. Это открытие среди ряда других поразило его больше всего. Дом покосился и как бы осел, хотя такое впечатление создавалось благодаря песчаным дюнам, которые нагромоздил прибой. Станция утонула в них. У окна комнаты мистера Ричи подоконник сравнялся с гребнем намытой волнами косы. «Может быть, только это обстоятельство и спасло станцию?» — подумал Райт. Он свернул за угол и остановился как вкопанный — перед ним были странные следы, словно по песку, как по воде, старались проехать на большой лодке, загребая длинными веслами… Виднелись четкие полосы от их концов и широкая, глубокая канава, словно от перетаскивания большой тяжести. Киль лодки прочертил на песке полуосыпавшуюся борозду. А поодаль, там, где намытые валы образовали более ровную поверхность, этот фантастический след напоминал следы трактора. Казалось, гусеничный трактор танцевал, нагромождая валы песка и прорывая одним мощным усилием целые траншеи… Райт был настолько поражен, что без сил опустился на землю, собираясь с мыслями. — Это все наделали волны! — сказал он вслух, сознавая, что сам не верит этому. Он повернул голову, чтобы проследить, насколько близко след борозды к станции, и тотчас же вскочил, как от ожога: гигантские следы вели к окну Челленджера… Он обратил внимание, что борется с нелепой мыслью, будто истекшей ночью Челленджера похитили пираты. Райт слушал тишину, как занесенный молот нависшую над «коттеджем». «Что было с остальными? Живы ли они? И что за наваждение эти песчаные буруны?» Райт бросился к окну Челленджера. Уже в нескольких ярдах от зияющего оконного проема он мог видеть опустошение, произведенное в его комнате. Райт сунул голову в окно, и ему показалось, что стены этой убогой комнатушки были свидетелями отчаянной битвы. Половина стены и угол покрылись черной краской, вероятно огромной струей брызнувшей из какого-то неизвестного источника. Койка Челленджера лежала на боку, посередине комнаты, нетронутая постель его жены вся была залита густой черно-бурой жижей. Стол был переломлен пополам и походил своими расползшимися ножками на гигантского раздавленного паука; три стула были превращены в обломки, и спинка одного пробила тонкую перегородку стены и застряла в ней. Все другие вещи и одежда были разбросаны в полнейшем беспорядке, книги смяты и разорваны. Пятна белого кораллового песка, словно известка, покрывали все предметы и стены. И еще в глаза бросались свисавшие со стен темно-зеленые фестоны влажных водорослей. Откуда-то сверху лились ослепительные, горячие солнечные лучи, и от мокрого стола поднимался туманными кольцами пар. Райт как зачарованный глядел на эту картину разрушения и вдруг, скользнув взглядом по двери, заметил, что задвижка двери заперта. Райт поднял голову, и ему стало ясно, что во время урагана гребни волн перекатывали через дом, что крыши и потолок в комнате Челленджера продавлены их напором, и что это тонны морской воды принесли сюда водоросли и песок. Две балки свисали над головой Райта, все еще придерживая на себе остатки перекрытия. Челленджера нигде не было. Райт испытывал такое чувство, как будто он попал в фантастический мир. Догадки, одна другой несообразнее, вихрем кружили в его голове, пока он не увидел внезапно Бреки Уайта, выросшего перед ним, как из-под земли. Мгновение Райт собирался с мыслями. Бреки Уайт оторопело смотрел на него. — Я выбрался в окно! — вдохновенно сообщил он. — Я не делал этого уже четыре года — с тех пор как женился… Что-то случилось с дверью — она не поддавалась. Моя жена спит. Но почему такая тишина в доме? Неужели все еще спят? Бреки Уайт был в трусах и пробковом шлеме — он считал верхом неосторожности выходить на солнце без шлема. — Вы не встретили Челленджера? — вместо ответа спросил Райт. — А что, он исчез куда-нибудь? Вот как! — воскликнул Бреки Уайт в большом волнении. — Нас, кажется, едва не засыпало! Как мы уцелели?! Он побежал вокруг станции, вслух поражаясь разрушением, а Райт отправился в холл. Он уже занес ногу на подоконник, когда крик Бреки Уайта, донесшийся издалека, остановил его. Мгновение он ориентировался, потом бросился к коллеге. — Ну?! — раздраженно гаркнул он. — Это уже старо! Я это видел. — Он ткнул пальцем в развороченные груды песка. — Что вы нашли еще?! Но Бреки Уайт не успел ответить. Райт взглянул на песок у ног товарища, и глаза его округлились. Он упал на колени и впился взором в четкий отпечаток руки, сжатой в кулак. А немного поодаль они с замиранием сердца увидели след словно от пальцев левой ноги, какой остается, когда человек ступает на «цыпочках». Воображению обоих представились невероятные вещи. — Это все? — спросил изменившийся в лице Райт. — Этого вполне достаточно… — пробормотал Бреки Уайт. — Еще поищем, — сказал Райт. — Следы, несомненно, приведут к воде, — в раздумье проговорил Бреки Уайт. От берега их отделяли две гряды невысоких голых дюн. Дул ровный южный ветер, снова пронзительно и неприятно кричали чайки, едва не задевая их крыльями, в струях нагретого воздуха уже затеяли пляску очертания далеких дюн. — Надо идти стороной, чтобы не уничтожить следы, — сказал Райт. — Я уверен, что они ведут к воде, — повторил Бреки Уайт и добавил: — Бедняга Челленджер! — Хотел бы я знать, куда могут еще привести следы на острове, как не к воде? — проворчал Райт. — Мы, кажется, знаем всех здешних обитателей и даже ловим их, и ведь ничего такого… — И Райт неопределенно повел рукой. Бреки Уайт опередил своего коллегу и, поднявшись на дюну, первым увидел изломанную линию берега. Ни слова не сказав, он в ту же минуту понесся к пляжу. Постояв мгновение в нерешительности, Райт последовал его примеру. Кажется, со стороны станции его окликнул Ричи, но Райт не был в этом уверен. Ничто сейчас не могло отвлечь его внимание от сцены, открывшейся на пляже. Даже события мирового значения не могли сейчас претендовать на то, чтобы быть замеченными им, настолько невелики они стали перед тем страшным, что застыло черным лоснящимся бугром у волнистой кромки мокрого песка. Райт бежал изо всех сил. Позднее он говорил, что мысль о возможной опасности показалась бы ему столь же чуждой, как и соображения о нашествии из другой галактики; во всяком случае, он был совершенно безоружен, при нем не было даже его неизменного ланцета. Уклон дюны, по которой он бежал, внезапно изменился. И он, как пловец, зарылся руками в горячий, жесткий, колючий коралловый песок. С его губ сорвалось подобающее случаю ругательство. Он выплюнул песчинки и с удвоенным рвением бросился с дюны вниз. С разбегу он едва не споткнулся о толстый густо-фиолетовый шланг и подпрыгнул, почти налетев на Бреки Уайта. Еще не отдышавшись, они тотчас же вступили в спор: Райт отстаивал свой приоритет в обнаружении чудовища; Бреки Уайт утверждал, что открытие следов — еще не открытие самого животного. Обычно меланхоличный, Бреки Уайт теперь не отступал, и перебранка двух уважаемых, хотя и молодых научных сотрудников продолжалась до тех пор, пока вдруг одному из них не показалось, что гигантская туша еще жива… Они разом обрели здравый смысл и, проворно отбежав подальше от чудовища, согласились на арбитраж. — Невероятный экземпляр! — слабо восклицал Бреки Уайт, у которого от избытка научного восторга дрожали руки и вздулись вены на лбу. Огромной, придавленной собственной тяжестью глыбой, отсвечивая пурпуром и розовыми пятнами, разбросав все десять гигантских рук, лежал исполинский кальмар. Он был словно внушительных размеров ракета с крыльями в носовой части и длинными щупальцами-руками в хвостовой, которые несколько походили на стабилизаторы. Глаза спрута размером с большое блюдо напоминали иллюминаторы или прожекторы. Тело его обмякло, а руки, в обхвате у основания и в середине толщиной в торс человека, лежали бессильно извитые в агонии петлями, кольцами и спиралями. Два человека смотрели на монстра с ужасом. Кальмар с телом почти в семь ярдов был как странный упругий резиновый мешок — мешок из сплошной, очень эластичной резины. Его руки были усеяны в два—три ряда выпуклыми мускулистыми присосками с чайное блюдце. Между ними черными изогнутыми серпами выступали крючки, во много раз превосходившие тигровые и медвежьи когти. — Это, конечно, архитойтис! — заявил Бреки Уайт, безостановочно шагая вокруг кальмара. — Он сожрал Челленджера! — вдруг выпалил Райт. — Не может быть! — бледнея и отступая от туши, пролепетал Бреки Уайт. — Ведь в таком случае он должен был самостоятельно выбраться на берег!.. — Его выбросил ураган, и может быть, к нам на крышу! — Великий боже, это похоже на бред! — не унимался Бреки Уайт. — И все-таки это так. Это он продавил кровлю над комнатой Челленджера. Он свалился на беднягу, когда тот спал. А когда полузадушенный Челленджер спросонок пытался отстоять себя, чудовище окатило его своей чернильной жидкостью. Сепией! Но, чем старше чудовище, тем она ядовитее! Челленджер или потерял сознание, или захлебнулся. Когда вода схлынула, дышать в воздухе жабрами спрут не мог. Он не был также в состоянии протиснуться в окно и стал выбираться тем же путем, каким проник, но прихватил добычу. Потом он плюхнулся сверху на песок против окна Челленджера и начал загребать песок щупальцами, кое-как продвигаясь к берегу. Но он должен был бороться с нараставшим удушьем и перемещать невероятный груз своего тела: тонн девять или десять. Находясь в воде, он не знал, как это тяжело. Там его вес уравновешивался весом вытесненной воды. А здесь, на воздухе, на суше, он изнемогал. Его мощные гигантские руки, способные в единоборстве задушить кашалота — своего единственного врага в полсотни тонн весом, — эти руки лишь бессмысленно пересыпали песок, намели горки, вырыли канавы и бессильно поникли здесь, не устояв против испытаний в непривычных условиях… Бедный Челленджер! Боже мой, бедный Челленджер! — Но допустить, что циклон мог так поднять уровень воды, — запротестовал было Бреки Уайт, — что волны могли перехлестывать через станцию? Да и было ли все так на самом деле? — В этом нет ничего необыкновенного, — раздраженно сказал Райт. — Уровень прилива сейчас наибольший — сизигийный. Он, как известно, намного выше квадратурного. А еще выше уровень поднял ураган. Мне с трудом верится, что мы живы. Ждать помощи нам было бы неоткуда… Ну, хватит болтовни! — вдруг заорал он. — За дело! Надо сбегать за инструментом и за помощью!.. Навстречу им, напрягая все силы и размахивая руками, спешил мистер Ричи. Несмотря на все старания, приближался он очень медленно. Его воодушевлению при виде головоногого не было предела. Без ложного чувства брезгливости он принялся ощупывать лакированного гиганта, над которым уже кружились чайки. Но, узнав о гибели Челленджера, он сразу сник, отошел в сторону и стал глядеть в океан. Райт отправился за помощью. Еще издали он заметил чету Хиксманов, расхаживавшую вокруг станции. «Понемногу выползают, — подумалось ему. — А другие, должно быть, все еще в сонной одури». Из-за угла дома показался взъерошенный Смит. — Хэлло, Райт! Куда мог запропаститься Челленджер? — сиплым голосом выкрикнул он. — В его конуре все перевернуто и переломано. Не видел? Райт жестом подозвал его и Хиксманов. Он вполголоса передал им свою версию исчезновения друга и отправные моменты для ее обоснования. — Надо как-то подготовить Лингулу. Где она? — Какой ужас! — воскликнул Смит. — Что же нам делать? Лингулу нельзя посвящать в это. Такая кошмарная смерть! Она не простит себе, что оставила его одного… Натика горячо поддержала последний довод. Все согласились, что Лингуле не следует рассказывать о том, что произошло. И они составили свой план. — Вот вы, Райт, и, скажем, Бреки Уайт выступите свидетелями. Вы поднялись раньше нас и видели, как Челленджер в очень дурном настроении, не объясняя причин, решил бросить все и уехал, ни с кем не простясь. Таким образом, лгать придется только двоим. Куда уехал?.. Скажите, что он буркнул что-то неопределенное. Надо немедленно проверить моторку. Он умел пользоваться ею? — Еще бы, он нередко уходил в море в одиночку! — подтвердил Райт. — Чудесно! — продолжала Натика. — Вот он и ушел на ней… Ну, а если моторка окажется все-таки на острове, то, значит, Челленджер попросил вас, Райт, сопровождать его до порта, чтобы потом вы отвели катер назад. — Некоторого правдоподобия эта история не лишена, — сдержанно отозвался Райт. — Сейчас я отправлюсь взглянуть на катер, а вы предупредите остальных, чтобы они не проговорились. И как быть с его телом, ведь кальмара придется вскрыть? — Сделаем это не раньше, чем куда-нибудь отошлем ее. А тело втайне предадим земле в глубине острова. Я уверена, что после его «бегства» Лингула у нас долго не задержится. Добровольно она не останется ни минуты. Так что нам недолго придется хранить молчание, — решила Натика. Когда Бреки Уайт в отсутствие Райта объявил, что Челленджер уехал, Лингула очень тяжело приняла это известие. Бедная женщина старалась держаться стойко, но на какое-то время оно лишило ее сил. Затем она заявила, что Челленджер только опередил ее. — Как раз сегодня, в день моего рождения, я и готовилась расстаться с ним! Что ж, так, может быть, лучше. Меньше поводов для слез, упреков и сожалений! Ее слушали молча. Челленджера теперь ничто не могло обидеть. Около часа пополудни возвратился Райт, и мы облегченно вздохнули. По странной случайности, моторная лодка не только сохранилась, но и была в исправности; ее занесло песком поверх футляра. Связь с большим миром не была прервана. Но вспомнили о нас лишь через двое суток. В три часа этого злополучного дня мы всей компанией проводили расстроенную Лингулу. Она оставляла нас, как собиралась оставить и Челленджера. Смит снял футляр, мотор заурчал, и мы расстались, чтобы больше никогда не встретиться. Наш обратный путь прошел в молчании. Мы собрались на пустынном берегу вокруг кальмара. Чайки уже пировали на нем и, спугнутые, отлетали с большой неохотой. Они почти выклевали его глаза. Райт и Бреки Уайт, как удостоившиеся особой чести, рубили и кромсали его тело. Все с ужасом и нетерпением следили за ними… Этот день, казалось, не имел конца. С каким-то неопределенным внутренним трепетом мы вновь и вновь возвращались к трупу чудовища и всматривались в его навеки сомкнувшийся попугаячий клюв величиной с бочку. Мне первому попались на глаза часы Челленджера, и я взял их себе на память. Их корпус потускнел, и никелировка местами сошла. Этой же ночью мы хоронили то, что осталось от Челленджера… Вскоре после описанных событий судьба забросила меня в другое место, где я целиком посвятил себя исследованию кальмаров. Меня всецело захватило желание узнать как можно больше об этих таинственных обитателях пучин и их странных и удивительных повадках. Я редко объясняю перемену моих занятий, но, когда, о многом не договаривая, я пускаюсь в обоснование моих новых интересов и в подтверждение истинности этой истории показываю часы, — мой собеседник обыкновенно с подчеркнутым вниманием вертит в руках их заржавевший механизм и понимающе кивает, но глаза его при этом смотрят так, что нить моего рассказа словно растворяется под этим взглядом. И с чувством досады я умолкаю.Б. Ляпунов ЛЮБИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
Научную фантастику можно назвать литературой крылатой мечты. Она переносит нас в мир необычайных путешествий, удивительных открытий и изобретений. Она приоткрывает завесу над будущим и показывает, как сможем мы жить через десятки, сотни и даже тысячи лет. Писатели-фантасты посылают своих героев на Луну, к планетам и звездам, в глубины океана и в недра Земли. Они рисуют картины смелых свершений, которые станут когда-нибудь доступными людям атомного и космического века. Мечта — путеводная звезда для действительности. Мечтать — значит строить в воображении прекрасное грядущее, чтобы воплотить его в жизнь. Каждый год выходит много научно-фантастических романов, повестей и рассказов. О наиболее интересных из них будет рассказываться в разделе «Любителям научной фантастики», который начинается в восьмой книге альманаха «Мир приключений». Многие читатели хорошо знают роман И. Ефремова «Туманность Андромеды», получивший широкую популярность в нашей стране и за рубежом. Писатель изображает в нем жизнь в далеком будущем, в совершенном коммунистическом обществе, рассказывает о полетах во Вселенную — к мирам иных солнц. Свободное, творящее, обладающее беспредельным могуществом человечество предстает перед нами на страницах романа. В этом его главное содержание, его идея и пафос. В 1961 году вышло новое, доработанное писателем, издание романа (Государственное издательство художественной литературы). Имя польского писателя-коммуниста Станислава Лема также знакомо любителям фантастики. Он автор ряда произведений, из которых советским читателям в прошлые годы был наиболее известен роман «Астронавты» (по нему создан научно-фантастический фильм «Безмолвная звезда» совместного польско-германского производства). Позднее Станислав Лем написал роман «Магелланово Облако» (русский перевод — Детгиз, 1960). Герои романа — звездоплаватели XXXII века, которые летят на звездолете «Гея» (слово это значит «Земля») к Альфе Центавра. Они покинули на многие годы родную планету, чтобы принести людям свет новых знаний, — такова их благородная, возвышенная цель. Но сама «Гея» не просто космический корабль, а часть Большой земли. События, которые на ней происходят, тесно связаны со всей жизнью в далеком грядущем. Эта жизнь, хотя в ней останется и борьба, и свои трудности, будет светлой, радостной. Лем показывает в романе преображенную Землю, ставшую планетой коммунизма. Роман Станислава Лема исполнен оптимизма, веры в лучшее будущее, в Человека. «Плутония» и «Земля Санникова» — популярнейшие научно-фантастические романы академика В. Обручева, ученого и писателя-фантаста. Но перу Обручева принадлежат не только эти два романа. Недавно появилась возможность познакомиться с его другими научно-фантастическими произведениями — выпушен сборник «Путешествия в прошлое и будущее» (издательство Академии наук СССР, 1961). В него вошли напечатанные раньше в журналах рассказы: «Видение в Гоби», «Полет по планетам» и «Происшествие в Нескучном саду», а также непубликовавшиеся повести: «Коралловый остров» и «Тепловая шахта». …Разумные существа из другого мира прислали послание жителям Земли — их планета погибла в результате атомной войны: суровое предупреждение землянам… («Загадочная находка»). Ученому посчастливилось увидеть в пустыне живых доисторических животных, а оживший мамонт, привезенный в замерзшем виде из Сибири, после прогулки по Москве попал в Зоопарк («Видение в Гоби» и «Происшествие в Нескучном саду»). Космический путешественник рассказывает о природе Меркурия, Венеры и Марса («Полет по планетам»). Таково содержание некоторых произведений сборника, общая идея которого точно определена заголовком — это путешествия и в прошлое и в будущее. Никто теперь не сомневается в том, что Земля не единственная планета, ставшая обителью разума. Но можно ли установить связь с жителями других звездных систем? «Да», — отвечает наука. «И это может произойти так!» — говорят фантасты, описывая межзвездное телевидение и радиосвязь. Им посвящены повести Н. Томана «Девушка с планеты Эффа» и «Говорит Космос!..» (в сборнике «Говорит Космос!..», Детгиз, 1961). В повестях Томана нет традиционной приключенческой формы, это «приключения мысли», споры и разгадки научных тайн. Принято изображение неизвестной девушки, и, в конце концов, ученые на спутнике далекой звезды устанавливают, что она — жительница планеты, имя которой — Земля… А земляне принимают сигналы из Космоса — сигналы несомненно искусственного происхождения, посланные разумными существами, затерянными, как и Земля, в бесконечных просторах Вселенной… Разнообразна тематика произведений, собранных в сборнике Гуревича «Прохождение Немезиды» (издательство «Молодая гвардия», 1961): угроза космической катастрофы от залетевшего в Солнечную систему «небесного гостя» — планеты, принадлежащей иной звезде (рассказ «Прохождение Немезиды»); межзвездное путешествие к планетам — спутникам «холодной», несветящейся звезды, находка на одной из них разумной жизни, скрытой под водами океана (рассказ «Инфра Дракона»); «ледяное строительство», постройка плотин изо льда и новые способы получения холода (повесть «Иней на пальмах»). Но общее для всех этих рассказов и повести одно — они показывают, какие удивительные дела может творить человек (он, если нужно, изменит когда-нибудь извечные пути планет — «Прохождение Немезиды»), В «Инее на пальмах» рисуется разная судьба выдающихся открытий, сделанных в Советской стране и в капиталистическом мире. Можно ли на Земле получить сверхпрочный ядерный материал — «нейтрид», в полтора миллиарда раз прочнее стали? Можно ли на Земле получить антивещество, источник необычайно мощной энергии? Это сделали герои повести В. Савченко «Черные звезды» (сборник «Черные звезды», Детгиз, 1960). В сборнике помещены также рассказы «Где вы, Ильин?..», «Второе путешествие на странную планету» — о космических полетах, «Пробуждение профессора Берна» — об анабиозе. Космическая ракета, летящая с огромной, сравнимой со световой, скоростью, становится «машиной времени», и ее пилот Ильин, пробыв в путешествии несколько лет, возвращается на Землю… А профессор Берн, погрузившись в анабиоз, просыпается через тысячи лет. А. Полещук, автор фантастической повести «Великое делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и его собаки Альмы», написал новую научно-фантастическую повесть: «Ошибка инженера Алексеева» (издательство «Молодая гвардия», 1961). Он тоже мечтает о звездах, которые рождались бы на Земле, и инженер Алексеев производит совершенно необычайный эксперимент: вблизи нашей планеты, на орбите спутника, загорелись микрозвезды! Возникло искусственное звездное скопление — микрогалактика, где время течет в двадцать миллиардов раз быстрее, чем у нас. И в ней появились свои разумные существа, нашедшие способ дать знать о себе людям… Могут ли посетить Землю жители других миров? Этот вопрос волнует многих. Еще Циолковский не отрицал такой возможности — хотя бы в будущем. Фантасты отвечают на него каждый по-своему, Ответил и Г. Гребнев, автор романа «Арктания» («Тайна подводной скалы»). В повести «Мир иной» (сборник «Пропавшее сокровище. Мир иной», Детгиз, 1961) он описал неожиданную находку: погребенный в потоках застывшей лавы гигантский космический корабль — целый летающий город, планетку, которая совершила межзвездный перелет. Ее обитатели погибли, но чудесный звездолет уцелел. На нем люди решают отправиться в гости к братьям по разуму, соседям по небу… Началась эпоха покорения межпланетных пространств. Человек впервые проник за пределы Земли, он готовится полететь на Луну и планеты. Впереди — Космос! Как же будет выглядеть «обжитый» Космос, что будет, когда мы станем хозяевами Солнечной системы? В это космическое будущее человечества заглядывают А. и Б. Стругацкие в сборнике «Путь на Амальтею» (издательство «Молодая гвардия», 1960). Станция-городок на пятом, ближайшем спутнике Юпитера — Амальтее. Случилось непредвиденное, и населению городка, веселым, энергичным, молодым парням и девушкам, грозит голод, если не прибудет фотонная грузовая ракета «Тахмасиб». И она прилетает, прорвавшись сквозь метеоритный рой, искалеченная, побывавшая на краю гибели… (повесть «Путь на Амальтею»). Со спутника Юпитера авторы переносят нас на Марс, где люди отбивают атаку марсианских чудовищ (рассказ «Ночь в пустыне»), а затем на корабль, возвращающийся с окраин Солнечной системы, который подвергается опасности нападения обитателей Космоса — восьминогих мух (рассказ «Чрезвычайное происшествие»). Увидеть картины прошлого с помощью особого прибора, хроноскопа, — такую возможность получили герои повестей И. Забелина: «Долина Четырех крестов», «Легенда о „земляных людях“» и «Загадки Хаирхана» (в сборнике «Загадки Хаирхана», издательство «Советская Россия», 1961). Особую убедительность повествованию придает присущая автору реалистическая манера письма. Действие разворачивается в современной обстановке, герои ее — участники географических экспедиций. Реалистически показана и другая, пока фантастическая, экспедиция на Луну, описанная в научно-фантастической повести А. Казанцева «Лунная дорога» (Географгиз, 1960). В ней рассказано о приключениях на спутнике нашей планеты, о переживаниях космонавтов, раскрывающих тайны иного мира. Это повесть о будущем, но в ней мы найдем много современного — показ темных сторон капиталистического общества, утверждение необходимости мира на Земле. Попытку представить себе психологию людей великих и героических свершений в эпоху коммунизма сделал Г. Альтов в произведениях, помещенных в его сборнике «Легенды о звездных капитанах» (Детгиз, 1961). В том же сборнике опубликовано несколько оригинальных рассказов, стилизованных под мифы, повествующих о подвигах космических исследователей будущего.В двух сборниках Станислава Лема — «Вторжение с Альдебарана» (Издательство иностранной литературы, 1960) и «Звездные дневники Иона Тихого» (издательство «Молодая гвардия», 1961) — собрано много интересных фантастических рассказов польского фантаста, различных по темам и жанрам: от сатирического скетча до пародии и юморесок (цикл о «космическом Мюнхаузене» — Ионе Тихом). С творчеством американских фантастов знакомит нас сборник «Научно-фантастические рассказы американских писателей» (Издательство иностранной литературы, 1960). Это первая антология зарубежной фантастики, изданная на русском языке, в которой представлены такие писатели, как Роберт Хайилайн, Рэй Бредбери и другие. В числе рассказов сборника — новеллы на космические темы с яркой социальной окраской или романтикой подвига (Том Годвин «Неумолимое уравнение», Роберт Хайнлайн «Долгая вахта» и «Логика империи», Т. Д. Томас «Двое с Луны», Алан Иннес «Путешествие будет долгим», Мэррей Лейнстер «Отряд исследователей», Бим Пайпер «Универсальный язык»), новеллы, разоблачающие средствами фантастики язвы капиталистического строя (Джозеф Шеллит «Чудо-ребенок», Рэй Бредбери «Детская площадка», «И камни заговорили»). Рассказ Д. Вэнса «Дар речи», Т. Стержона «Бог микрокосмоса» помещены в альманахе «На суше и на море» (Географгиз, 1961).
На книжной полке любителя фантастики найдут место сборники повестей и рассказов «Золотой лотос» (издательство «Молодая гвардия», 1961) и «Янтарная комната» (Детгиз, 1961). В них собраны преимущественно произведения, печатавшиеся за последние годы в периодике. Среди авторов — В. Сапарин, Ю. Сафронов, А. Днепров, Г. Альтов, В. Журавлева, С. Гансовский, А. Шалимов, А. и Б. Стругацкие, М. Дунтау. В 1961 году переиздан том избранных произведений Александра Беляева, включающий романы «Человек-амфибия», «Человек, нашедший свое лицо» и «Властелин мира» (издательство «Молодая гвардия»).
Как и раньше, в 1961 году продолжали печатать фантастику детские и юношеские журналы, и начал систематически ее печатать журнал «Наука и жизнь». Перечень «урожая» прошлого года достаточно велик, и здесь можно назвать лишь некоторые произведения. «Встреча через века» («Смена») — последний роман Г. С. Мартынова, автора трилогии «Звездоплаватели», повестей «Каллистяне» и «Каллисто». Человек, наш современник, умирает, чтобы быть оживленным в XXXIX веке. Необычайный эксперимент увенчался успехом: герой романа попадает в мир далекого будущего, своими глазами видит, какой стала Земля, встреченная им через века… Оригинальной фантастической посылкой из области кибернетики и биологии и остро сюжетной формой отличаются рассказы А. Днепрова «Пурпурная мумия» («Наука и жизнь») и «Трагедия на улице Парадиз» («Знание — сила»). Кибернетический робот — собеседник космонавта. В далеких странствиях, на чужой планете он заменяет путешественнику общество людей… Человек и машина, их отношения между собой — центральная проблема своеобразной фантастической повести Г. Гора «Докучливый собеседник» («Звезда»). Начинает все более широко развиваться жанр фантастического памфлета. После романов-памфлетов Л. Лагина «Патент АВ», «Остров разочарования» и «Атавия Проксима», С. Розвала «Лучи жизни» и «Невинные дела» появились интересные рассказы А. Днепрова «Мир, в котором я исчез» (сборник «Золотой лотос») и В. Вестова «Смит-Смит ловит шпиона» («Знание — сила»), изображающий злоключения уэллсовского путешественника во времени, попавшего в современную Англию…
В журналах прошлого года помещен ряд переводов научно-фантастических произведений иностранных авторов: Рэя Бредбери — рассказы «Зеленое утро» (пер. с англ., «Наука и жизнь»), «Золотые яблоки Солнца» и «Улыбка» (пер. с англ., «Искатель»), «Космонавт» пер. с англ. («Знание — сила»), Ф. Карсака — роман «Робинзоны Космоса» (пер. с франц., «Искатель»), Нора — рассказ «Океан в огне» (пер. с румынского, «Искатель»), В. Бабула — повесть «Пульс бесконечности» (пер. с чешского, «Пионер»), Ст. Лема — отрывок из повести «Солярис» (пер. с польского, «Знание — сила»).
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1963г. №9
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
М.М.КАЛАКУЦКАЯ, Л.Д.ПЛАТОВ, Н.В.ТОМАН.
А.Бобровников ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ МАРСИАНАХ (Почти невероятная история)
— Том! Нет ответа. — Том! Нет ответа. — Удивительно, куда мог деваться этот мальчишка!..Марк Твен

Глава I, В КОТОРОЙ ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА
Горы на противоположном берегу были покрыты лесом. Зубчатый силуэт его смутно различался на фоне ночного неба, но порывы ветра приносили едва уловимый запах хвои и ночную свежесть озера. А когда ветер стихал, пахло соломой и куриным пометом. Этот запах птичника был всегда неприятен Тэду. Тэд сидел на стволе дерева около кучи срубленных сучьев. Собственно, в эту летнюю пору он не очень нуждался в топливе — просто молния разбила один из старых кленов и Тэд нашел себе еще одно занятие, по своей нелепости не хуже прочих. Сегодня ему особенно нужно было сосредоточиться, обрести былую ясность мыслей, потому что завтра предстояла последняя попытка вырваться из засасывающей его трясины. Но мысли лениво расползались, словно красные лесные клопы, когда сорвешь кору с их убежища в старом замшелом пне. Они перескакивали с предмета на предмет, совершая путешествие из прошлого в настоящее и будущее, хотя ни настоящее, ни будущее ничего хорошего сулить ему не могли. Тэд никогда не надеялся на чужую помощь ни в игре, ни в драке; пожалуй, вот поэтому он был всегда так плох в бейсболе. Ночь была ясная. Тэд посмотрел на небо. Среди звезд одна — красная — ярко сняла над горизонтом. Черт возьми, ведь это была его звезда! «А я обещал им слетать туда и рассказать об этом при встрече или даже пригласить их с собой», — подумал Тэд. Закончив учение, они назначили эту встречу. Двадцать лет — достаточный срок, чтобы достичь славы или погибнуть в борьбе. Во всяком случае, так думали он и его друзья. Это была обычная мальчишеская клятва, которую дают тысячи юношей и девушек, кончая колледжи, университеты и школы во всех уголках нашей старой планеты. Дают и почти никогда не исполняют… Прошли годы, и Тэд лишь случайно вспомнил, что день этой встречи завтра, а он ничего не достиг, но и не побежден. Нет. Он еще сможет подняться и продолжать бой. Друзья, если они остались такими же, как прежде, помогут ему не драться в одиночку. Мысль о том, что можно надеяться на чью-то помощь, явилась у него, кажется, впервые. Тэд рассеянно провел ладонью по шершавой коре ствола и снова взглянул на небо. Среди звезд ровным красноватым светом сиял Марс. Не таким описывал его в своем романе Уэллс. В нем не было ничего зловещего, скорее, он манил к себе, как всегда, как и двадцать лет назад. И не только Тэда. Сколько пытливых умов стремились разгадать его тайну!.. И если верить Уэллсу — а Тэд верил ему, — то оттуда, с таинственной планеты, неведомые существа также с любопытством наблюдают за нами. Кто сделает первый шаг? Кто первый протянет руку через бездну Вселенной? И будет это рука дружбы или меч войны? — Конечно, первыми будем мы, и даже очень скоро… — пробормотал Тэд. — Даже очень скоро, — снова повторил Тэд, с силой вонзая топор в звенящий ствол. Межпланетные полеты еще в ранней юности были «коньком» Тэда. Увлечение это не ограничилось детскими мечтами. Закончив колледж, он посвятил много бессонных ночей упорной работе. Проекты воздушных кораблей, рождаясь в его мозгу, воплощались в чертежи и цифры, они возникали и тускнели, чтобы дать место другим. Порой ему казалось, что решение близко. Часто он заходил в тупик, но не хотел ни с кем делить свои сомнения. Он не хотел обращаться за помощью к кому бы то ни было. Ему одному должна была принадлежать слава… Годы шли. Незнакомые, далекие Тэду люди все ясней намечали дороги к звездам, и, когда первые спутники прочертили ночное небо и первые ракеты устремились в космос, Тэд понял, что напрасно растратил свои силы в одинокой бесплодной борьбе, что заветная звезда так же далека от него, как и прежде, а он, если не сдохнет на этой проклятой ферме, будет лишь свидетелем чужих побед. Небо светлело на востоке. Резче обозначились силуэты гор. Тэд встал и направился к дому. Нужно было хоть немного поспать. В глубине двора светлыми пятнами выделялись амбар и четырехугольник дома. Идя к нему. Тэд чуть не ударился и темноте об огромный котел и выругал про себя этот бесполезный хлам, доставивший ему в свое время столько хлопот. Сейчас все было противно ему на этой ферме, где он жил почти отшельником уже третий год со старухой теткой, которую почему-то — он помнил это с детства — все в семье называли «Генерал Грант». Тэд прошел темную кухню и поднялся в свою комнату наверху. Здесь, не зажигая света, он подошел к окну. Глядя на темные, покрытые лесом горы, он старался не думать о предстоящей встрече. Что могла она принести? Тэд постарался представить себе бывших друзей, но у него ничего не вышло. Он мог вспомнить только их хорошие ребяческие лица. Может быть, увидев их вновь, он решится? Решится бросить все и уехать и начать все сначала. Это нужно, без этого нельзя, думал Тэд. А Бетси? Конечно, он возьмет Бетси с собой. Куда бы он ни уехал, он возьмет ее с собой… Мысль о маленькой девушке из долины вернула его в реальный мир. Он понял, что простоял у окна очень долго. Лес черной щетиной выступал кое-где из клочьев тумана, окутавшего озеро и долину и медленно поднимавшегося вверх по утесам. Горы просыпались. Одна за другой меркли звезды. Внизу, в кухне, скрипнула дверь, и послышались легкие шаги. Это Генерал Грант проснулся и шел в курятник.Глава II, КОТОРУЮ ТЭД ПРОВОДИТ В ПУТИ
Солнце уже давно делало свой бизнес, когда Тэд подошел к газолиновой станции на шоссе. Хозяин станции и маленького примыкающего к ней бара стоял в тени навеса, заложив пальцы за подтяжки. Веснушчатый рыжий мальчишка мыл у насоса кухонную посуду. Тэд остановился и стал закуривать, но, заметив машину, шагнул на дорогу. То, что промчалось мимо, было слишком шикарно, и Тэд, вернувшись под навес, стал раздумывать, не заговорить ли о погоде и урожае, когда на шоссе появилась другая машина. На этот раз это был тяжелый, груженный ящиками кар. Тэд поднял большой палец. Взвизгнув тормозами, машина остановилась. Тэд влез в широкую кабину. — Итак, на свадьбу, — безапелляционно заявил шофер, разглядывая костюм Тэда. — У меня кое-какие дела в городе, — ответил Тэд. Отвыкший от общения со сверстниками, несколько одичавший в своей глуши, Тэд рад был случаю поболтать с этим парнем. — Вы верите в сказку про голову? — спросил он, глядя на убегавшее под колесо шоссе. — Про отрезанную? Которая ест сандвичи и поет «Шелли, Нелли»? — Нет, про мою и вашу. Считаете ли вы, что человек с головой обязательно должен преуспевать? — Сколько, по-вашему, людей в нашей стране имеют голову? — спросил шофер. — Не знаю. Но я-то ее имел, — задумчиво сказал Тэд. — Во всяком случае, в колледже меня считали самым способным малым. — И как вы использовали этот беспокойный предмет? — Выходит, плохо, — ответил Тэд. — Все удивлялись, как такой шалопай находит время для работы. А я, кроме всего другого, работал и складывал кое-что в свои папки, то, что должно было открыть мне дверь к славе. Но они-то ничего не желали об этом знать. Я говорю о людях, которых встретил после колледжа. Они платили мне ровно столько, чтобы я мог им еще что-нибудь придумать. Он хотел рассказать, с каким упорством добился ученой степени и как мало дала ему эта победа, но посмотрел на простое лицо парня и подумал, что тот не поверит и сочтет его пустым хвастуном. Разговор умолк. Тэд, не скакал своему случайному спутнику еще и о том, что одной заветной папки он так и не коснулся. Это была резервная колода, в которой каждая карта ему казалась козырем. «Но и она сейчас ни к чему, — думал, смотря на дорогу, Тэд. — Они отберут и ее, не допустив меня к игре». Солнце стояло в зените. Раскаленное шоссе бежало навстречу, и, если смотреть вдаль, асфальт казался залитым содой. — И наконец, — снова прервал молчание Тэд, — мне повезло. Я получил в наследство от дяди маленькую ферму недалеко от той бензиновой лоханки, где вы меня подхватили. Затерявшаяся в одной из северных лесистых долин ферма давала Тэду возможность, не отрываясь от научной работы, дожидаться лучших времен. В чем заключились эти «лучшие времена», он представлял очень смутно, а пока ему пришла в голову не очень новая мысль, что механизация всех, даже самых мелких, сельскохозяйственных работ освободит его от изнурительного труда земледельца. Тэд, как всегда, горячо принялся за дело. Но сложные механизмы забирали массу денег да и не всегда оправдывали себя или не признавались теткой — суровым Генералом Грантом. Доходы были ничтожны. Около сарая до сих пор валялся старый котел, купленный им у разорившегося владельца лесопилки. Водонапорная башня, которая должна была питать оросительную систему, так и не была построена. Если бы эта долина была гуще населена. Тэд, конечно, прослыл бы сумасшедшим. Но немногочисленные его соседи были слишком заняты собственной тяжелой борьбой за существование. Глядя на затеи Тэда, Генерал Грант только качал головой и отправлялся кормить своих кур. Этих глупых птиц Тэд почему-то ненавидел с детства, но бесчисленное количество яиц (куры умудрялись производить их без технической помощи) поддерживало бюджет фермы. — А вы не пробивали разводить водяных крыс? — перебил мысли Тэда шофер. — Этим занялся было мой приятель. Не знаю, какое болото он им устроил в своем дворе, но они здорово плодились, и он неплохо заработал. А потом проклятые крысы все сдохли. — Шофер резко вильнул машиной. Мимо, чуть не задев их, промчался длинный автобус. — А потом проклятые крысы все сдохли, — повторил шофер. Потом… Что было потом, Тэд с трудом мог вспомнить. Потом все опротивело ему. Хозяйство он бросил на руки старухи, занялся рыбной ловлей и охотой, но и это не могло его удовлетворить. Лишь самые тяжелые работы, которые были не под силу тетке, возвращали его в мир реальности. Тэд снова задумался, а может быть, вздремнул, потому что очнулся в каком-то полутемном складе. Шофер разговаривал с людьми в синих комбинезонах, очевидно грузчиками. В глубине между штабелями ящиков и тюков висели пыльные столбы заходящего солнца. Тэд, пожав шоферу руку, направился к выходу. Первое, что он увидел, выйдя на улицу, был великолепный ковбой.Глава III О ВСТРЕЧЕ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Ковбой был нарисован на огромном щите, прикрепленном к стене дома напротив. «Их можно увидеть теперь только в кинематографе», — подумал Тэд, и ему вдруг захотелось посмотреть этакий добрый ковбойский фильм, в котором герой лихо пляшет, стуча высокими каблучками, скачет на лошади и спасает от негодяя девушку в трогательном ситцевом кринолине. У негодяя усики, брюки со штрипками и крапленая колода карт. Был восьмой час. До встречи, назначенной на десять, оставалось достаточно времени. Тэд перешел улицу. На плакате под фигурой ковбоя была надпись: «Покупайте рубахи «Черный Биль». Все же Тэд не изменил решения и нашел кино за ближайшим углом. Фильм назывался «Убийства на этажах». Некая экзальтированная девица поклялась соблазнить, а затем убить по одному мужчине на каждом этаже небоскреба, который на фоне вечернего неба показался ей почему-то роковым. После того как героиня бросилась с крыши, не преодолев настигнутую ее там настоящую любовь, зажгли свет. Тэд вышел на улицу. Часы показывали девять тридцать. Тридцати минут было достаточно, чтобы дойти до места встречи. Тэд давно уже не был в этом городе. Он шел по улицам, с интересом узнавая знакомые места, мало изменившиеся за это время. Кафе, в котором они тогда собирались, держал итальянец Кароло Перотси, или просто Пери, как звали его все студенты. «Может быть, кафе уже нет? Но я все равно зайду, если даже там будет молитвенное собрание евангелистов. А если нет самого дома, буду ждать у киоска», — подумал Тэд. Но кафе было. Тэд узнал его издали. Завернув за угол, он увидел в конце улицы знакомый матовый свет витрины. Тэд ускорил шаги и, преодолевая волнение, толкнул дверь. Даже запах помещения показался ему родным. Все было как тогда: та же обитая цинком высокая стойка и покрытые клетчатой клеенкой столы, только, может быть, больше плакатов и рекламных табличек пестрело на стенах. Зал был почти пуст. Два молодых человека в шелковых рубахах и светлых шляпах стояли у стойки, прихлебывая из высоких бокалов. Тэд поклялся бы, что это не были студенты. Им наливала высокая блондинка, но это не была Джен. «Джен, должно быть, сейчас старушка», — подумал он, и ему почему-то стало ее жаль, и жаль эту новую девушку, и немного самого себя. За одним из столиков, повесив пиджаки на спинки стульев, сидела компания и разговаривала вполголоса. Две девушки с модными прическами молча курили, глядя на мужчин. В углу у витрины одинокий небритый человек медленно тянул лимонад. Тэд взглянул на часы. Стрелки показывали без десяти десять. Никого из друзей еще не было. Как всегда, Тэд был первым. Оп заказал какой-то напиток с пестрой наклейкой и стал ждать. Хлопанье входной двери заставляло его то и дело поднимать голову. Люди входили, но это были не они. И вдруг с внезапно охватившей его тоской Тэд понял, что никто не придет и он просидит тут, потягивая это пойло, а потом уныло будет искать ночлега в чужом городе. Небритый человек у витрины пристально смотрел на Тэда. Тэд отвернулся. «Сейчас он подойдет, сядет рядом и будет долго рассказывать о своих несчастьях, а может быть, просто попросит монету». — И Тэду захотелось, чтобы это случилось скорее, а потом встать и уйти и уехать домой, к сроим удочкам и курам Генерала Гранта. Уголком глаз Тэд видел, как человек встал и направился к его столу. Еще раз хлопнула дверь. Вошедшую компанию окликнули те двое у стопки, а Тэд, стараясь не смотреть, чувствовал, как небритый посторонился, пропуская их, потерял па это секунду, н вот он уже рядом, стоит, не смея заговорить. Тэд поднял глаза. Увидел сперва поношенный, когда-то приличный костюм, свитер с вытертым ворсом, а потом насмешливую, до невозможности знакомую улыбку. — Джо?! — Будь ты проклят! — сказал Джо и сел, отодвинув стул. — Ты все-таки пришел? Ты всегда хотел быть лучше меня. А из этой шайки никого не жди. — Джо тихо выругался и замолчал. Они сидели и смотрели друг на друга, не обнимаясь и не хлопая друг друга по плечу, как это принято делать при встрече. — Ты думаешь, никто не придет? — наконец спросил Тэд. — Очень им интересно видеть наши рожи! — Стоило ехать в такую даль?.. Я думаю, стоило, чтобы встретить старого ворчуна. А, Джо? На этот раз Тэд все же ударил его по плечу, и они проделали это несколько раз, перегибаясь через стол. Зал наполнялся. За стойкой включили радиолу, и, слушая ее резкие звуки, Тэд с сожалением вспомнил милые старые фокстроты 30-х готов. — А где девушки? Помнишь Кэтрин, Мики… — Девушки тем более не засиживаются на месте. Да и мне не до них. Тэд посмотрел на сутулую фигуру Джо и подумал, что тот, должно быть, голоден и не прочь выпить. — Что ты будешь пить? — Я не пью. — Два, — показал мальцами Тэд проходящей девушке. Джо остановил Тэда: — Я еще тогда не пил. Ты знаешь, это самое было у моего отца и деда. Это у нас в крови. Я дал слово никогда не пить. — Есть-то ты будешь? — Есть я, пожалуй, буду, черт возьми! Чтобы не отвыкнуть от этого дела, — сказал Джо. Тэд заказал спагетти и какое-то кушанье с лакрицей и перцем. Был слышен приглушенный говор, смех девушек в углу и: звон посуды, которую убирали со стойки. Неожиданно на жестяной навес над дверью упало несколько капель и забарабанил дождь. — Теперь по всем правилам надо рассказывать, — сказал Тэд. — Начинай первый. Тебе не сладко? — Ты не помнишь, я кончил химический… — Я часто вспоминал тебя. Больше, чем других. Ты мне был очень нужен… Продолжай, Джо, о себе потом. — Потом почему-то дьявол толкнул меня заняться медициной. Помнишь, еще тогда я чуть не отравил эту толстую свинью Бена, когда вздумал лечить его от косноязычия. — А Сэма взялся избавить от веснушек, и лицо его лупилось, как картофель. — Сэм всегда выбрасывал моих ящериц и лягушек, а когда я приносил змей, он боялся и всю ночь хныкал на подоконнике. — Он их боялся, а выбрасывать их приходилось мне, — рассмеялся Тэд. — Если бы я тогда это знал, то здорово тебя вздул бы, — сказал Джо. — Итак, я кончил второй факультет… Но у меня не хватило подлости, нахальства и еще того, чего у меня никогда не было и без чего нельзя… ничего нельзя… О чем говорить… Пытался заняться частной практикой — местные врачи меня съели. Работал недолго па химическом заводе. Это дало мне возможность писать диссертацию… о полимерах. Помешала война. Военный завод, а потом… у меня опять этого не хватило. Главное — я не хотел им помогать. Тогда они попытались сделать меня красным. — Тебя? Это не для нас с тобой. — сказал Тэд. — Не знаю уж, какого я цвета, но не мог молчать, видя их штуки, и, когда они мне очень надоели, я высказал этим типам то, что о них думаю. После этого перед моим носом захлопнулись все двери. — Джо замолчал. Новая шумная компания ввалилась в дверь, отряхивая мокрые плащи. — Уйти бы отсюда. — Куда? Искать друзей, которые не пришли? — Да их тут, пожалуй, и нет… кроме Лори. — Он здесь? Забыл? Джо горько улыбнулся: — Я сказал, что никогда не пью, а когда хочется, стоит вспомнить о Лори. Он плох. — До такой степени? — Хуже быть не может. Совсем плох. Хуже меня, хоть я не пью… А мне иногда хочется плюнуть на все. Не лучше ли погибнуть от этого, чем от другого? — Идем. Ты знаешь, где он живет? — Постараюсь найти. Пойдем. Я люблю его, хоть он всегда был никчемный тип. Они поднялись. Дверь открылась в прямоугольник ночи, полный ветра и водяных брызг. Проносились машины, подметая фарами пляшущие пузыри дождя. Друзья шли, подняв воротники пиджаков. Миновав сияющий вход в кино, они свернули в узкую боковую улицу. Было темно. Ветер гнал их в спину. Дождь усиливался. Друзья остановились под навесом уже закрытого киоска. Перед ними была большая площадь. Среди газонов застыл на своем коне бронзовый всадник. Сквозь мерцающую сетку дождя силуэт ею четко выделялся на фоне городского зарева. — А если мы не найдем Лори? — Ты думаешь, я совсем спятил? — Если его нет дома, мы сможем пойти к тебе? Хотя лицо друга было в тени, Тэд уловил усмешку в его глазах. — Вот уже неделю я ночую на улице, — промолвил Джо. — Я решил держаться до сегодняшней встречи, а потом… Он вытащил руку из кармана. В ней был зажат маленький плоский пистолет. От вороненой стали бисером отскочило несколько капель дождя. — Брось эту штуку. Нет ничего глупее дырявить свой организм, — сказал Тэд. — Я всегда был не прочь немного пострелять, — меняя тон, проговорил Джо и спрятал пистолет в карман. — Нечего сказать, хороший вид для бакалавра! — Для трех, — сказал Джо. — Кто же третий? — Я же тебе говорил, что кончил два факультета. — Третьим ты считаешь меня? Но учти, что я доктор… без малого, у меня тоже чего-то не хватило. — Если прибавить к нам Лори, то с такой кучей ученых мы могли бы открыть частный колледж. — Чему мы могли бы там учить? — Во всяком случае Лори учил бы выпивке. — А ты — ругани. В наше время такое заведение было бы в большой моде. Дождь немного утих. Они вышли из-под навеса и пошли дальше. — Откроем колледж? — спросил Тэд. Джо молчал, перепрыгивая через лужи. Улицы стали темней и угрюмей. Начались окраины. Друзья миновали бойни. Темные, закопченные здания терялись в пелене дождя. — Здесь, — не совсем уверенно сказал Джо, сворачивая в один из дворов. Обходя лужи, Тэд направился к тускло освещенной двери. — Куда тебя несет? — Джо указал на железную лестницу, приросшую к красной кирпичной степе. Решетчатые марши сменяли друг друга. Руки скользили по мокрым перилам. Двор тонул во мраке, и казалось, что дом раскачивается, как мачта. Подъем кончился. Так же внезапно прекратился дождь. В разрыве тяжелых дождевых туч показалась луна. Друзья стояли на верхней площадке. Лестница еще гудела от шагов и ветра. Джо толкнул низкую дверь с выбитым стеклом. Оказавшись в темном коридоре, они ощупью пробрались до поворота и увидели слабый свет, пробивавшийся через дверную щель. Без стука они вошли в нечто похожее на полутемную прихожую, заваленную всяким хламом. Дверь в комнату была открыта. Там горел свет.Глава IV, В КОТОРОЙ ПРИНИМАЕТСЯ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Комната своей обстановкой мало отличалась от прихожей. Кинги, перевязанные бечевкой и просто беспорядочно сваленные па полу, составляли главное се убранство. В углу, на продавленном диване, укрыв голову пиджаком, лежал человек. На степе висела засиженная мухами иллюстрация к Данте: среди суровых скал знаменитый флорентинец угрюмо взирал па грешников. Грешники корчились, как черви в жестянке рыболова. Джо подвинул себе единственный стул и сел, выразительно взглянув на Тэда. Человек на диване сделал движение и, не меняя позы, глухо произнес: — Черные лебеди столь же прекрасны, как белые слоны магараджи Джапара, но равенство людей перед законом еще прекрасней. Не получив ответа, он отодвинул полу пиджака, взглянул одним глазом па вошедших, а потом сел, спустив на пол ноги и дырявых носках. Лицо было покрыто черной щетиной. Два больших глаза смотрели вопросительно на вошедших.
— Лори, ты рехнулся совсем, — сказал Джо.
Глаза вдруг стали добрыми, в их уголках заиграли веселые морщинки.
— Джо! — И потом, взглянув на Тэда: — Тэд!
— Ты совсем рехнулся, — повторил Джо. — Что ты там молол о черных слонах и конституционном праве?
— Я думал, вы клиенты. — Лори заморгал глазами. — Я всегда стараюсь говорить что-нибудь непонятное своим клиентам.
— Я не знал, что ты занялся адвокатской практикой, — сказал Тэд, недоверчиво осматривая «приемную».
Лори засуетился. Обрывая шнурки, надел стоптанные туфли, подвинул к столу две объемистые вязанки книг, а потом неожиданно растянулся на полу и стал шарить под диваном, предоставляя друзьям рассматривать своп ягодицы.
Наконец он выпрямился, торжественно держа в руке начатую бутылку. Содержимое ее, несмотря на протесты Джо, было поровну разлито в банку из-под джема и две треснувшие кружки.
— На сколько тебе хватит твоих книг? — спросил Джо.
— Я перестал продавать книги. — Лори самодовольно взглянул на гостей. — Кстати, их в этом городе никто не покупает. Но я нашел способ, как они могут прокормить интеллигентного джентльмена.
— Вываривать бульон из переплетов?
— В среде, в которой я вращаюсь, обладатель такого количества книг — лицо необыкновенное и даже сверхъестественное. Эту счастливую мысль внушила мне старая привратница, когда хозяин дома прислал ее узнать, не умер ли я наконец. Нужно сказать, я собирался уже это проделать. Почтенная леди, которую я встретил не очень приветливо, проявила неожиданную робость. Обстановка, очевидно, так поразила ее, что, найди во мне сходство с библейским Иовом, она попросила предсказать ей будущее. Не желая огорчать ее, и взял о руки первую попавшуюся книгу — это была «Божественная комедия» — и, ткнув пальцем в открытую страницу, прочитал грозную строфу. Дай бог здоровья этой доброй старухе, она была так напугана, что, спускаясь с лестницы, споткнулась и вывихнула ногу. С тех пор слава пророка широко окружила меня… — Лори показал руками, как именно окружает его слава — Хозяин дома даже перестал требовать с меня плату. И я стал пасти стадо заблудших овец всего квартала. Платят эти бедные люди мало. Главное, они избавили меня от всяких забот. Всегда найдется женщина, которая за доброе слови принесет миску бобового супа или оладьи с яблочным джемом. Теперь я стараюсь никого не пугать. Дорэ вывешен здесь для рекламы — ведь все они любят возвышенное. Большой успех имеет «Потерянный рай» Мильтона, а для романтической молодежи — строки из «Трех мушкетеров» Удивительным народ! Ко мне заходят иногда очень приличные люди, с университетским образованием, тогда я стараюсь не показывать обложки и цитирую наизусть.
Тэд улыбнулся.
— Мне приходится выходить из дому только за виски. Я прячу его под диваном, так как эти люди почему-то очень не любят пьяниц.
Озябший Тэд, по примеру Лори, отхлебнул из кружки.
— Этот подлый тип забыл, что я не пью, — решительно отстранил свою кружку Джо.
— Ты так не ругался в наше время, — сказал Тэд.
— Нужно же научиться чему-то с годами.
Лори пошел в прихожую, важно заявив, что сварит настояний кофе. После долгой возни, сопровождаемой нечленораздельными проклятиями и звоном опрокинутой посуды, он вернулся и сел на диван, подобрав под себя ноги.
— Итак… Что пришли мне сообщить высокочтимые лорды?
«Высокочтимые лорды» переглянулись и сообщили своему собрату, что он свинья. Настоящая свинья, если он мог забыть о заседании на столь высоком уровне, назначенном двадцать лет назад.
Пока друзья рассказывали о событиях, происшедших за эти годы, Лори выбегал еще раза два и наконец появился с дымящейся кастрюлей в руках.
Беседа замолкла. За окном была ночь, и звезды сияли на вымытом дождем небе.
— В таких случаях говорят, что родился дурак, — нарушил молчание Лори.
— Когда-то их родилось трос.
— Трое дураков, которые всегда считали себя лучшими.
— Мы ведь действительно были лучшими и лучшими остались… И будем лучшими, — повысив голос, заговорил Тэд. — Неужели ты себя считаешь хуже толстого Бена? — Тэд до боли в руках сжал свою чашку. — Неужели мы трое, которые могли в свес время придумывать такие штуки, как никто другом, не можем придумать сейчас что-нибудь такое…
Лори, улыбаясь своей доброй улыбкой, посмотрел в окно и после паузы спросил:
— Ты видишь эту красную звезду? Помнишь, как ты мечтал о ней в юности? Нам осталось только полететь туда. Ты, кажется, даже придумал способ, как до нее добраться.
— Что мог я придумать один! Одному нельзя, — ответил Тэд, а затем обратился к Джо: — Ты был мне очень нужен. Если бы ты был рядом, может быть, все было бы иначе. Мне не хватало малого… Ты знаешь.
Джо как-то странно посмотрел на Тэда.
— Кстати, это у меня есть… почти. Точно я не могу сформулировать. Я наткнулся на это, работая на заводе, но тогда стали поговаривать о новой войне, и я закрыл свой ящик на ключ. Я решил никогда им этого не давать… Потом меня вышибли… — Джо зло выругался, а Тэд подумал о том, как много общего у них даже в мыслях. — После этого я решил разбогатеть мирным путем и несколько лет потратил па средство для ращения волос… Черт… но добился только их полного уничтожения. Как видишь, это не могло оказаться хорошим бизнесом.
— Вы еще сможете своего добиться, — с грустью сказал Лори, — у вас есть багаж под ключом. А кому нужен в наше время филолог?
Тэд отвернулся к окну. Казалось, все сказанное с трудом укладывалось в его мозгу.
— Никто из вас не разговаривает во сне? — неожиданно спросил он. Лицо его прояснилось, и теперь это был прежний веселый к вдохновенный Тэд. Он встал и, опершись о стол, смотрел на удивленных друзей. — Вы помните этого парня из книги, который хотел построить себе башню из слоновой кости, чтобы спрятаться от земных невзгод? Наша башня может быть выше. — Тэд показал в окно на усеянное звездами небо.
— Если ты думаешь купить там участок, то, боюсь, тебя уже опередили. Во всяком случае, на Луне.
— Не знаю, дойдет ли до этого, по нечто в этом роде поможет нам укрепиться на Земле. Готовы ли вы, достопочтенные лорды и соратники, отречься от всего, что связывает вас с этой милой планетой? Готовы ли вы на лишения, еще большие, чем те, что вы претерпели? Путь будет долог и труден. Если готовы — клянитесь!
— Клянемся! — в один голос ответили лорды и соратники, не зная еще, говорит ли Тэд серьезно.
— У нас есть все для штуки, которую я придумал: бывший инженер, истративший полжизни на фантастические бредни, химик, дважды доцент разных полезных наук…
— Ты, кажется, болтал еще насчет полета?
— Я не сказал этого слова. — Тэд сделал нетерпеливый жест. — Ей-богу, то, что я расскажу вам, стоящая мысль.
— А я снова останусь за бортом. Зачем для полетов филолог? — пробормотал Лори.
— Для такого полета филолог — самый подходящий человек. Покажи мне свои зубы.
Тэд говорил загадками. Друзья заявили, что они не лошади, и отказались открывать рты.
— Тогда слушайте, — властно сказал Тэд.
Весь остаток ночи друзья провели, склонившись над столом.
Когда серый рассвет забрезжил в окне, они еще сидели возбужденные, горячо споря. Тэд кончил делать заметки на листе бумаги.
— Мелких неприятностей не избежать, и вам все-таки придется сходить к дантисту, — сказал он, вставая, и прибавил более торжественно: — Первое заседание межпланетной ассоциации считаю закрытым. Джо и я уезжаем сегодня. Он бездомный бродяга, и исчезновение его пройдет незамеченным. А тебе, Лори, придется покончить с собой.
— Что?!
— Кончить самоубийством. Утонуть, например, оставив записку на берегу. Тогда никто не станет тебя искать.
Лори с тоской посмотрел на свою пустую банку, потом на полную кружку Джо, в которой виски оставалось нетронутым. Тэд помял его взгляд и разделил жидкость поровну.
— Выпьем за успех, и ты тоже, Джо. По такому случаю можно. Здесь немного.
За окном светлело. Где-то запел петух. Это было так неожиданно, что друзья подошли к окну.
Серебрились крыши. В темном еще колодце двора какой-то старик разгребал железным крючком мусор. Грузовик разворачивался, чтобы выехать из ворот. Сверху было видно, как в его кузове перекатывается пустой бидон.
Лицо было покрыто черной щетиной. Два больших глаза смотрели вопросительно на вошедших.
— Лори, ты рехнулся совсем, — сказал Джо.
Глаза вдруг стали добрыми, в их уголках заиграли веселые морщинки.
— Джо! — И потом, взглянув на Тэда: — Тэд!
— Ты совсем рехнулся, — повторил Джо. — Что ты там молол о черных слонах и конституционном праве?
— Я думал, вы клиенты. — Лори заморгал глазами. — Я всегда стараюсь говорить что-нибудь непонятное своим клиентам.
— Я не знал, что ты занялся адвокатской практикой, — сказал Тэд, недоверчиво осматривая «приемную».
Лори засуетился. Обрывая шнурки, надел стоптанные туфли, подвинул к столу две объемистые вязанки книг, а потом неожиданно растянулся на полу и стал шарить под диваном, предоставляя друзьям рассматривать своп ягодицы.
Наконец он выпрямился, торжественно держа в руке начатую бутылку. Содержимое ее, несмотря на протесты Джо, было поровну разлито в банку из-под джема и две треснувшие кружки.
— На сколько тебе хватит твоих книг? — спросил Джо.
— Я перестал продавать книги. — Лори самодовольно взглянул на гостей. — Кстати, их в этом городе никто не покупает. Но я нашел способ, как они могут прокормить интеллигентного джентльмена.
— Вываривать бульон из переплетов?
— В среде, в которой я вращаюсь, обладатель такого количества книг — лицо необыкновенное и даже сверхъестественное. Эту счастливую мысль внушила мне старая привратница, когда хозяин дома прислал ее узнать, не умер ли я наконец. Нужно сказать, я собирался уже это проделать. Почтенная леди, которую я встретил не очень приветливо, проявила неожиданную робость. Обстановка, очевидно, так поразила ее, что, найди во мне сходство с библейским Иовом, она попросила предсказать ей будущее. Не желая огорчать ее, и взял о руки первую попавшуюся книгу — это была «Божественная комедия» — и, ткнув пальцем в открытую страницу, прочитал грозную строфу. Дай бог здоровья этой доброй старухе, она была так напугана, что, спускаясь с лестницы, споткнулась и вывихнула ногу. С тех пор слава пророка широко окружила меня… — Лори показал руками, как именно окружает его слава — Хозяин дома даже перестал требовать с меня плату. И я стал пасти стадо заблудших овец всего квартала. Платят эти бедные люди мало. Главное, они избавили меня от всяких забот. Всегда найдется женщина, которая за доброе слови принесет миску бобового супа или оладьи с яблочным джемом. Теперь я стараюсь никого не пугать. Дорэ вывешен здесь для рекламы — ведь все они любят возвышенное. Большой успех имеет «Потерянный рай» Мильтона, а для романтической молодежи — строки из «Трех мушкетеров» Удивительным народ! Ко мне заходят иногда очень приличные люди, с университетским образованием, тогда я стараюсь не показывать обложки и цитирую наизусть.
Тэд улыбнулся.
— Мне приходится выходить из дому только за виски. Я прячу его под диваном, так как эти люди почему-то очень не любят пьяниц.
Озябший Тэд, по примеру Лори, отхлебнул из кружки.
— Этот подлый тип забыл, что я не пью, — решительно отстранил свою кружку Джо.
— Ты так не ругался в наше время, — сказал Тэд.
— Нужно же научиться чему-то с годами.
Лори пошел в прихожую, важно заявив, что сварит настояний кофе. После долгой возни, сопровождаемой нечленораздельными проклятиями и звоном опрокинутой посуды, он вернулся и сел на диван, подобрав под себя ноги.
— Итак… Что пришли мне сообщить высокочтимые лорды?
«Высокочтимые лорды» переглянулись и сообщили своему собрату, что он свинья. Настоящая свинья, если он мог забыть о заседании на столь высоком уровне, назначенном двадцать лет назад.
Пока друзья рассказывали о событиях, происшедших за эти годы, Лори выбегал еще раза два и наконец появился с дымящейся кастрюлей в руках.
Беседа замолкла. За окном была ночь, и звезды сияли на вымытом дождем небе.
— В таких случаях говорят, что родился дурак, — нарушил молчание Лори.
— Когда-то их родилось трос.
— Трое дураков, которые всегда считали себя лучшими.
— Мы ведь действительно были лучшими и лучшими остались… И будем лучшими, — повысив голос, заговорил Тэд. — Неужели ты себя считаешь хуже толстого Бена? — Тэд до боли в руках сжал свою чашку. — Неужели мы трое, которые могли в свес время придумывать такие штуки, как никто другом, не можем придумать сейчас что-нибудь такое…
Лори, улыбаясь своей доброй улыбкой, посмотрел в окно и после паузы спросил:
— Ты видишь эту красную звезду? Помнишь, как ты мечтал о ней в юности? Нам осталось только полететь туда. Ты, кажется, даже придумал способ, как до нее добраться.
— Что мог я придумать один! Одному нельзя, — ответил Тэд, а затем обратился к Джо: — Ты был мне очень нужен. Если бы ты был рядом, может быть, все было бы иначе. Мне не хватало малого… Ты знаешь.
Джо как-то странно посмотрел на Тэда.
— Кстати, это у меня есть… почти. Точно я не могу сформулировать. Я наткнулся на это, работая на заводе, но тогда стали поговаривать о новой войне, и я закрыл свой ящик на ключ. Я решил никогда им этого не давать… Потом меня вышибли… — Джо зло выругался, а Тэд подумал о том, как много общего у них даже в мыслях. — После этого я решил разбогатеть мирным путем и несколько лет потратил па средство для ращения волос… Черт… но добился только их полного уничтожения. Как видишь, это не могло оказаться хорошим бизнесом.
— Вы еще сможете своего добиться, — с грустью сказал Лори, — у вас есть багаж под ключом. А кому нужен в наше время филолог?
Тэд отвернулся к окну. Казалось, все сказанное с трудом укладывалось в его мозгу.
— Никто из вас не разговаривает во сне? — неожиданно спросил он. Лицо его прояснилось, и теперь это был прежний веселый к вдохновенный Тэд. Он встал и, опершись о стол, смотрел на удивленных друзей. — Вы помните этого парня из книги, который хотел построить себе башню из слоновой кости, чтобы спрятаться от земных невзгод? Наша башня может быть выше. — Тэд показал в окно на усеянное звездами небо.
— Если ты думаешь купить там участок, то, боюсь, тебя уже опередили. Во всяком случае, на Луне.
— Не знаю, дойдет ли до этого, по нечто в этом роде поможет нам укрепиться на Земле. Готовы ли вы, достопочтенные лорды и соратники, отречься от всего, что связывает вас с этой милой планетой? Готовы ли вы на лишения, еще большие, чем те, что вы претерпели? Путь будет долог и труден. Если готовы — клянитесь!
— Клянемся! — в один голос ответили лорды и соратники, не зная еще, говорит ли Тэд серьезно.
— У нас есть все для штуки, которую я придумал: бывший инженер, истративший полжизни на фантастические бредни, химик, дважды доцент разных полезных наук…
— Ты, кажется, болтал еще насчет полета?
— Я не сказал этого слова. — Тэд сделал нетерпеливый жест. — Ей-богу, то, что я расскажу вам, стоящая мысль.
— А я снова останусь за бортом. Зачем для полетов филолог? — пробормотал Лори.
— Для такого полета филолог — самый подходящий человек. Покажи мне свои зубы.
Тэд говорил загадками. Друзья заявили, что они не лошади, и отказались открывать рты.
— Тогда слушайте, — властно сказал Тэд.
Весь остаток ночи друзья провели, склонившись над столом.
Когда серый рассвет забрезжил в окне, они еще сидели возбужденные, горячо споря. Тэд кончил делать заметки на листе бумаги.
— Мелких неприятностей не избежать, и вам все-таки придется сходить к дантисту, — сказал он, вставая, и прибавил более торжественно: — Первое заседание межпланетной ассоциации считаю закрытым. Джо и я уезжаем сегодня. Он бездомный бродяга, и исчезновение его пройдет незамеченным. А тебе, Лори, придется покончить с собой.
— Что?!
— Кончить самоубийством. Утонуть, например, оставив записку на берегу. Тогда никто не станет тебя искать.
Лори с тоской посмотрел на свою пустую банку, потом на полную кружку Джо, в которой виски оставалось нетронутым. Тэд помял его взгляд и разделил жидкость поровну.
— Выпьем за успех, и ты тоже, Джо. По такому случаю можно. Здесь немного.
За окном светлело. Где-то запел петух. Это было так неожиданно, что друзья подошли к окну.
Серебрились крыши. В темном еще колодце двора какой-то старик разгребал железным крючком мусор. Грузовик разворачивался, чтобы выехать из ворот. Сверху было видно, как в его кузове перекатывается пустой бидон.
Глава V О СТРАННЫХ ДЕЛАХ НА СТАРОЙ ФЕРМЕ
Тень от длинного амбара, крытого ребристым шифером, стелилась до середины поросшего травой двора. Вдоль свежевыкрашенного известкой забора рос жесткий кустарник, а за ним сквозь ветви старого вяза были видны утренняя гладь озера и маленькое желтое пятно заброшенной лесопилки на противоположном лесистом берегу. Перила веранды были нагреты солнцем, и кое-где золотыми искрами блестели выступившие капли смолы. Ветер шевелил страницы блокнота в руках Тэда. Джо через его плечо читал подчеркнутые ногтем места. — Вот что нужно сделать в первую очередь. — Тэд указал па исписанные листы бумаги. — Завтра мы перекроем яму накатом из бревен. И засыплем все это землей. Получится славный блиндаж в самом конце участка, отдаленный от дома четырьмястами ярдами и гребнем холма. — Когда я взорвусь, дьявол вам между глаз, бы останетесь вполне здоровы, — проворчал Джо. — Великий боже! Да как же это так? — воскликнул оказавшийся поблизости Генерал Грант, со звоном опуская ведро. Неизвестно, что ответил бы на это Тэд, если бы на веранде не появился Лори в грязном комбинезоне. Генерал Грант сплюнул и уже собирался уйти, но внезапно остановился, устремив леденящий взгляд на чашку в его перепачканных землей руках. Тонкий фарфор светился в лучах утреннего солнца. Не сказав ни слова, Генерал выхватил чашку из его рук и величественно удалился. Эта чашка была одной из реликвий тетки — остатком сервиза, привезенного еще предками Тэда, первыми переселенцами. Тэд не помнил, чтобы из нее когда-нибудь пили. — Я здорово поработал сегодня, — как бы оправдываясь, пролепетал Лори. — Труд облагораживает таких типов, — сказал Джо. — Если бы вы мне помогли, яма была бы готова еще сегодня. В это время в дверях снова появился Генерал и со стуком поставил на стол большую эмалированную кружку. — Я хорошо поработал сегодня, — снова начал Лори и, подождав, пока старуха удалится, налил себе в кружку молока. — Наша проклятая яма почти готова. — Оказывается, ты годишься не только для того, чтобы предсказывать будущее. А сейчас помолчи и слушай. Первое время Джо будет занят только взрывчаткой. В амбаре мм установим горн и прочее оборудование. Так как он служит гаражом, это не вызовет подозрений. Мастерская точной аппаратуры будет в доме. Кончив все это, я еду в город и закладываю ферму. Привожу приборы и материалы — все необходимое для работ. Тэд отдавал распоряжения с видимым удовольствием. Он чувствовал себя капитаном этого маленького корабля, и команде которого самым непокорным был Генерал Грант. Бедная старуха никак не могла попять происходящего. В доме творилось что-то неладное. Она воспринимала это как очередную затею Тэда и с грустью смотрела, как быстро катится вниз хозяйство фермы. Она все чаще грезила о том, что уедет к своей младшей сестре, которая давно звала ее на родину. Тэд не разубеждал ее, видя в этом единственный быуод. Однако Генерал страшился непривычной жизни в городе и решил до последней возможности удерживать хозяйство от полного развала. …В упорном кропотливом труде прошли лето и осень. Наступила зима. Друзья работали теперь дома. В комнате Тэда изготовлялись различные мелкие детали. Тэду помогал Джо, изобретательность и усидчивость которого поражали всех. Тут же была лаборатория. В этих примитивных условиях Джо умудрялся делать чудеса. По вечерам, когда все собирались вместе, Генералу Гранту удавалось подслушать отрывистые фразы па незнакомом и странном языке, что еще больше раздражало старуху, совершенно переставшую понимать происходящее, тем более что инициатором этой новой затеи был всегда тихий и скромный Лори. В такие вечера Генерал Грант не переставал ворчать, сражаясь с кастрюлями на кухне. По понедельникам Тэд и Джо отправлялись в лавку у газолиновой станции и привозили продукты на неделю. Денег день ото дня становилось все меньше и меньше. Скудные запасы генеральской кладовой подходили к концу. Их могло не хватить до весны. Порой друзья подсчитывали ресурсы и обсуждали денежный вопрос. После чего Тэд ходил мрачный, пока работа вновь не отвлекала его от невзгод. Иногда Тэд доставал из шкафа бутылку и точно отмерял порцию виски для Лори. Эта порция постоянно уменьшалась. В этом Тэд был неумолим. Во время поездок в лавку Тэд иногда встречал Бетси там или у калитки ее дома. Тогда он останавливался, чтобы сказать ей несколько слов, всегда шутливых, скрывающих тревогу. Она чувствовала, что он избегает более частых встреч, и не могла найти этому причины. Уединенный образ жизни Тэда и отсутствие подходящих соперниц на ближайших фермах сбивали ее с толку. Об этом, пожалуй, знал бы ее брат Рики. Вероятно, он ничего бы ей не сказал — негодный мальчишка, не очень-то он разговорчив, — по такое дело было бы ему, конечно, не по душе и он перестал бы пропадать на ферме Тэда, куда в последнее время зачастил… Пусть ходит туда, если ему нравится. Хотя от него ничего не добьешься, все же это ниточка, связывающая ее с Тэдом и его странными друзьями. Приближалась весна, а с ней — новые заботы. Первую неприятность принесла голубая повестка. Повестка напоминала, что срок уплаты процентов давно прошел. Деньги кончались, но во что бы то ни стало нужно было закончить все к началу осени. Возня с огромным котлом забирала уйму времени. По указаниям Тэда котел разрезался на причудливые части, которые затем подвергались обработке, до того сложной, что даже Джо, не отстававший в выдумках от Тэда, считал ее, пожалуй, излишней. Друзья сидели в маленькой столовой, кончив свой невеселый ужин. — Через две недели сюда явится агент, который будет совать свой нос всюду, — сказал Тэд, чертя пальцем на клеенчатой скатерти. — Успеем ли мы кончить все или нет, главная задача сейчас — маскировка. Я поеду просить отсрочки, но они все равно могут нагрянуть. Нам уже нечего делать в пороховом погребе, его нужно засыпать мусором и навозом. Мастерская в амбаре вряд ли вызовет подозрения, по части аппарата нужно спрятать, и я думаю, каким образом это сделать: засыпать соломой их едва ли удастся, они слишком громоздки, да, кроме того, это уж очень наивный способ прятать ценности. — Нужно построить вторую стенку в амбаре, — сказал Джо. — Эти олухи не догадаются, что амбар имеет пятьдесят футов снаружи и только сорок внутри. — Тем более, когда помещение завалено всяким хламом, — добавил Тэд. — Стену ставить завтра. Оштукатурить, запачкать, завести на ней пауков. Пауки и летучие мыши по твоей части, Лори. — Пауков не буду… — попытался жалобно возразить бывший пророк. — Ладно, мы поручим это дело Рики, — сказал Тэд. — Можно еще расклеить объявления в поселке, — процедил Джо. — О чем? — О сарае и обо всем прочем, о том, что мы готовим маленький бизнес с фейерверком и переодеванием. — Рики не будет болтать. — Да, пожалуй, и ничего не поймет в пашем деле, — сказал Лори. — Конечно, с мальчишками лучше жить в дружбе, — нехотя согласился Джо. Лихорадочные дни сменяли друг друга. Друзья валились с ног. К тому же заболел Генерал Грант, и Джо, кроме прочего, пришлось заниматься стряпней. Он, не имевший своего дома, всегда чувствовал влечение к подобным делам. Иногда во дворе раздавался громкий голос Бетси. Тогда для друзей наступала передышка. На короткое время хозяйство приходило в норму. В дела Тэда Бетси никогда не вмешивалась. Мало ли чем могут быть заняты мужчины. Но визиты Бетси были не часты. У нее было свое хозяйство, свои заботы, да и старики косо смотрели на эту дружбу, не считая завидным женихом своего чудаковатого соседа. Однажды после завтрака Тэд заявил, что едет в город. По этому случаю он долго брился и вытащил из шкафа костюм, тот самый, в котором ездил год назад на знаменательную встречу. Ночью следующего дня Джо сидел при свете лампы н шлифовал какой-то металлический предмет странной формы. Тут же, не раздевшись, спал уставший за день Лори. Внизу хлопнула дверь. Джо поднял глаза и прислушался. Ночь была тихая. Лестница заскрипела под тяжелыми шагами. Джо замер, а затем быстрым движением смахнул со стола работу в ящик с инструментами. В комнату вошел Тэд. Взглянув на его лицо, Джо понял, что случилась беда. Земельный агент оказался тем самым Сэмом, которому они когда-то пускали в кровать лягушек. — Он меня не узнал, а когда я назвал себя, не проявил никаких признаков восторга. Этот тип смотрел на меня пустыми глазами и болтал что-то о том, что дружба кончается там. где начинаются деньги и бизнес. Кончил он тем, что если я не хочу платить, то могу убираться ко всем чертям, захватив только то, что можно увезти в ручной тележке. И что пришлет человека проверить, хорошо ли я его понял. Я сдержался, чтобы не испортить дела, и ушел, не сказав ему даже, что он скотина. А теперь, когда они приедут, здесь не должно быть ни вас, ни аппарата — ничего. Мы должны погрузить необходимое в машину, захватить все, что нам нужно для дороги, сжечь бумаги, уничтожить все следы работ. Вечером мы выедем в Барсучий овраг и замаскируем машину. Я вернусь, чтобы их встретить и устроить отъезд Генерала Гранта. Вы живете в овраге до моего прихода. У Тони Челса, у которого маслобойня в долине, я попрошу «форд» и довезу Генерала до станции. Я дам телеграмму, и ее там встретят. А теперь за работу, куча лентяев! Когда куча лентяев скатилась вниз по скрипучей лестнице, солнце уже высоко поднялось над лесом, озером и долиной. Старый грузовик, доставшийся Тэду вместе с фермой, огромная нелепая машина, марку которой никто никогда не мог определить, с плотно увязанной брезентом высокой, как дом, поклажей стоял посреди двора. Джо возился с мотором, Тэд и Лори мылись, поочередно качая насос. Когда последние лучи солнца погасли за лесом, старая машина, чихая и скрипя рессорами, выкатились за ограду и, свернув с дороги, поползла в гору. Поздно ночью Тэд подошел к дальнему, обращенному к лесу краю фермы и, раздвинув кустарник, перелез через ограду. Справа чернел развороченный, ненужный теперь блиндаж. Сквозь ветви деревьев белел дом. Внезапно из кустов вынырнула маленькая фигурка Рики. — Что ты здесь делаешь? — Мистер Тэд… — начал было Рики. — По-моему, нехорошо следить за друзьями и слоняться по ночам около их дома. — Я вас ждал и хотел с вами… хотел кое-что сказать, — смущенно заговорил Рики. — И не нашел для этого лучшего времени? — Но ведь это секрет! Я хотел… Я хотел вас попросить взять меня с собой… — Куда? — На Марс, — выпалил Рики. — Ты думаешь, что старый грузовик — самая подходящая вещь для такой цели? — Я видел, что вы делали из котла. Ракета и все прочее не могут служить для другого дела. — Рики! — серьезно сказал Тэд, присаживаясь на ограду. — Если ты не маленький, то должен знать, с каким трудом запускали спутники и ракеты у нас и в других странах. Государства тратили па это годы, и часто их постигала неудача. Неужели ты думаешь, что можно лететь туда в старом котле? — Можно, — уверенно сказал Рики. — Все можно, если очень хочешь. — Я тоже так думал в твоем возрасте, — сказал Тэд. — Но сделать что-нибудь очень трудно, особенно без хороших друзей. Когда ты вырастешь и будешь очень этого хотеть, может быть, ты полетишь туда с нами или с кем-нибудь другим, а сейчас выбрось это из головы. Ты наш друг, Рики? Тогда ты никому не должен рассказывать о том, что видел. Все это большая тайна. — Я понимаю, что такое тайна, — сказал Рики, — и клянусь. Я клянусь Большой Клятвой, — он стал зачем-то на цыпочки и вытянул руку к небу, — что буду нем, как эти звезды, потому что рыбы иногда кричат. — Ого! — сказал Тэд. — Я слышал, как сомы сзывают других на рассвете. — Тогда еще нот что, Рики. Если ты когда-нибудь узнаешь нас на фото в журнале или газете, не говори об этом никому, даже родителям. — Они никогда не читают газет, — сказал Рики. — Они грызут меня, если я поздно жгу лампу… и Бетси тоже, за книги и за то, что она не может «выскочить» замуж… А за кого она может выйти замуж,если нет ни одного приличного пария но всей округе. — Рики испытующе посмотрел па Тэда. — Из-за вас они тоже ее грызут. — Я думаю, ты все хорошо понял, Рики, а теперь спать. — Мистер Тэд, — серьезно сказал Рики, — мне думается, не следует болтать даже Бетси… все же она девчонка. — Ты все хорошо понял, маленький вождь. — улыбнулся Тэд. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, сэр. — И Рики исчез в кустах. Мало радости принесло ясное летнее утро. Генерал был очень плох. Проснувшись, она попыталась встать, но не смогла и лежала, не переставая ворчать и поучать Тэда. А после полудня молодой человек в светлой шляпе громко захлопнул дверцу пыльной машины и поднялся на крыльцо. Но ожидая ничего хорошего, Тэд вышел ему навстречу. Буркнув приветствие, приезжий уже оценивал профессиональным взглядом дом и хозяйственные постройки. Участок оглядел бегло. Нагло, как хозяин, задавая вопросы, он снисходительно выслушивал ответы Тэда. Войдя в дом, гость повесил пиджак на спинку стула, приподняв скатерть, скептически осмотрел стол и сел за пего, разложив перед собой бумаги. Просмотрев их, он поднялся и подошел к буфету. — С этого мы начнем, — сказал он, ковыряя пальцем отставшую в углу фанеру. — Буфет еще новый, что даже удивительно среди прочего барахла. Можно записать приемник и холодильник, который я видел в кухне. Тэд был поражен. — Вам мало фермы и участка? Вы хотите забрать и вещи? — Если вы называете эту дрянь вещами. Я запишу только то, что можно еще реализовать. Пожалуй, кое-что из вашей мастерской в сарае. Не собирались ли вы тут открыть мыловаренный завод? Странная идея в этой глуши. А что касается фермы и участка, то они вместе с вашей ветошью не покроют стоимости бензина, истраченного на поездку. Буфет тоже дрянь, я просто хочу избавить вас от возни с этим хламом. — И, очевидно, чтобы показать, каким хламом является буфет, он подошел к нему и открыл дверцу. Тонким золотом ободков блеснули шесть чашек старого английского фарфора. Глаза агента заблестели. — У вас в доме много таких штучек? В это время странный звук заставил их обернуться. Как привидение, в дверях стоял Генерал Грант. Одетая в белое, старуха казалась выше своего роста, лицо ее было строгим. Появление это было так неожиданно, что даже агент на мгновение смутился, но вскоре снова принял скучающий вид. Он вопросительно взглянул на Тэда. — У вас в доме много таких штучек? — Поставь на место, — сказал Генерал Грант и сделал шаг вперед. Непрошеный гость резко оттолкнул старуху. Изменившись в лице, она вдруг рухнула, как статуя. Тэд едва успел подхватить ее на руки. Агент, казалось, был мало смущен происшедшим. Он с любопытством смотрел, как Тэд оттащил безжизненное тело к креслу. Затем Тэд подошел к агенту, и тот с тем же выражением любопытства на лице упал в угол комнаты, ударившись затылком о косяк двери. — Дайте-ка ему еще раз, — неожиданно раздался голос за спиной. Рики, стоя коленями на подоконнике, смотрел на Тэда с восхищением. Тэд ничего не ответил и не сдвинулся с места, пока агент собирал со стола свои бумаги, пока во дворе не хлопнула дверца машины и звуки ее не замерли вдали. Тогда он подошел к Генералу и бережно перенес его на кровать. — Беги к Бетси. Пусть она съездит за врачом, — не оборачиваясь, сказал Тэд. — Машину попроси у Бена Паркера, он, кажется, неплохой парень. Старуха еще подавала слабые признаки жизни. Тэд как умел старался привести ее в чувство. Усилия его были тщетны. Бетси привела врача поздно вечером, когда Генерал Грант перестал дышать. Врачу осталось только засвидетельствовать смерть и уехать, сказав несколько обычных слов соболезнования. Тэд и Бетси, не зажигая света, сидели в столовой. — Завтра меня здесь не будет. Вы передадите врачебное свидетельство в Нижний поселок, Бетси. Я похороню тетю сам. — Тэд… — …под старым вязом в углу сада. Бетси, вы никогда ничего не спрашивали, — рука Тэда нашла в темноте руку девушки, — не спрашивайте и теперь. — Вы будете мне писать, Тэд? — все-таки спросила она, не отнимая руки. — Я не хочу вас обманывать… Писать я не буду. — И после недолгого молчания добавил: — Писать я не буду, если не случится несчастье… Впрочем, если оно случится, я вам тоже этого не напишу. Но, может быть, когда-нибудь я вас найду, и тогда будет очень хорошо… Все будет о’кэй, — стараясь казаться бодрым, сказал Тэд. Он пожал ей руку и встал. — Теперь идите, Бетси. Родители будут недовольны вашим долгим отсутствием. — Тэд подошел к столу и зажег лампу. Девушка плакала, склонившись на подоконник. Какая-то ночная мошка билась, запутавшись в ее волосах. Тэд нежно поднял Бетси, чтобы усадить ее в кресло, и увидел в окно три темные фигуры, идущие к дому. Через минуту в комнату ввалились Джо и Лори. Рики остановился в дверях. — Не сердитесь, — смущенно заговорил мальчик. — Я думал, что вам нужна будет помощь. — Что случилось? — спросил Джо. — Проклятый мальчишка нашел нас в лесу и наговорил… Тэд молча повел их в соседнюю комнату, где лежал Генерал Грант. Ветер шумел в листьях старого вяза, у подножия которого был опущен в могилу грубо сколоченный гроб. Лори, не скрывая слез, прочел молитву из старого молитвенника, найденного наверху. Могилу засыпали, и на стволе дерева глубоко вырезали крест и настоящее имя той, которую всю жизнь шутливо называли чужим именем. Молча стояли они у свежем могилы. Молча проводили Бетси, отказавшуюся уйти раньше, несмотря на уговоры Тэда. У тропинки, ведущей к их ферме, брат и сестра попрощались с друзьями, и, когда светлое платье Бетси скрылось в темпом кустарнике, трое пошли обратно по направлению к дому, а потом, свернув с дороги, углубились в лес.Глава VI ДОРОГА К ЗВЕЗДЕ
Кончился третий день утомительного пути. Пыльная, тяжело груженная машина катилась на запад среди бесконечных солончаковых песков. Около шести часов вечера глубокий каньон преградил дорогу. Тэд стоял у обрывистого откоса рядом с Джо и Лори. Обведи глазами пустынный пейзаж, он сказал, повернувшись к приятелям: — Дальше мы не поедем. Это произойдет здесь. Каньон тянулся среди невысоких холмов. По дну его вилось русло пересыхающей в это время реки, а намного южнее, и глубокой впадине, небольшое озеро отражало красноватые обрывистые берега. — Это самое подходящее место, — сказал Тэд, указывая на озеро. — Во всяком случае, дальше ехать нельзя. — Не только поэтому. Это место нам подходит. Вы думали о машине? Нам пришлось бы закапывать ее в песок. — Мда… — промычал Лори, вспомнив, как он копал погреб. Трое залезли в кабину, и машина, прочихав около мили, остановилась недалеко от обрыва. Теперь, когда цель была так близка, усталость покинула друзей. Тэд отдавал короткие команды. Четко, как солдаты в виду неприятеля, работали трое. Укрытое холмами место оказалось действительно очень удобным. Громоздкую кладь быстро выгрузили. Огромные куски бывшего котла доставили особенно много хлопот, но все же наконец их сложили по указанию Тэда в небольшой ложбине. Туда же снесли приборы. Закончив эти работы, в кузов грузовика бросили всё оставшееся: инструменты, продукты и утварь, служившие в пути. Наконец друзья разделись, и положили в кузов свою одежду. Тэд тщательно проверил, не осталось ли что-нибудь на песке. Все было в порядке. Тогда, не сговариваясь, все трое сорвались с места и, обгоняя друг друга, бросились к обрыву. Они скатились вниз к озеру и долго ныряли и плескались, рознясь, как школьники, в прохладной воде. Потом они поднялись наверх, карабкаясь по скалам. Джо и Лори остановились на краю обрыва, а Тэд пошел к старей, верно послужившей им машине и сел за руль. Грузовик медленно двинулся к каньону. Не доезжая до его края, Тэд перевел скорость и выскочил из кабины. Теперь машина катилась сама, смешно виляя по ухабам, и, когда Тэд, догоняя ее, подбежал к друзьям, они увидели, как машина накренилась над обрывом и рухнула радиатором вперед, словно игрушка, отскочила от скалы и, опрокинувшись, с тяжелым всплеском исчезла в воде озера. Они стояли, три голых человека в голой пустыне, и смотрели на медленно расходящиеся круги. Потом повернулись и пошли к тому месту, где аккуратно на песке были разложены странные костюмы. Закончив переодевание. Тэд посмотрел на то, что они до сих пор называли «космическим снарядом». — Пора, — сказал он и опустился на одно колено, в то время как Джо и Лори быстро пошли по направлению к холму, возвышавшемуся в нескольких стах ярдах от них. Маленький голубой огонек, рассыпая искры, пополз по земле. Тэд поднялся и догнал друзей. Все трое побежали, тяжело увязая в песке. Перевалив через холм, Тэд посмотрел назад и стремительно растянулся за складкой почвы. Рядом плюхнулся Джо. Лори, прыгнувший последним, угодил ему ногой в Сок. В этот момент ослепительный свет озарил красные волны пустыни, и вслед за этим раздался страшный грохот. Плотная воздушная волна придавила друзей, обрушив на них тучи пыли и мелких камней. Оглушенные, Тэд. Джо и Лори поднялись на гребень. Там, где еще недавно лежало то, на что они потратили около двух лет титанического труда и лишений, из-за чего под старым вязом лежало тело Генерала Гранта, из-за чего ни у одного из них не было теперь ни родного дома, ни имени среди живых людей, зияла огромная воронка, вокруг которой были разбросаны куски покореженного металла, и обломки необычных приборов поблескивали среди песка. Но трое чувствовали облегчение, легкую пустоту, как люди, выздоровевшие от тяжелой болезни. Молчание нарушил Тэд. — Джентльмены, — сказал он, — в такие минуты торжественные речи излишни. Я прошу только поискать вокруг и в складках своей одежды, не оставило ли прошлое своих следов, кроме этих изящных обломков. У меня лично остался один сувенир. — Он показал смятую ассигнацию. — Всю дорогу я хранил его, как талисман. Это последние деньги от капиталов, сложенных в наше предприятие. Сейчас мне придется с ними расстаться. Мы начнем новую жизнь нищими. Тэд опустился па песок и принялся руками разгребать яму. — Пусть она даст обильные всходы, — сказал он, бросая ассигнацию на дно ямы. Джо опустился рядом с Тэдом. — Вот единственное оружие, охранявшее нашу экспедицию. — С этими словами он бросил в яму пистолет. — Теперь эта чертова штука вряд ли нам пригодится. — И пусть он не дает всходов. — добавил Тэд. Лори, смущенно улыбаясь, доставал что-то из складок своего наряда. — Мой талисман лучше ваших. Он нам пригодится еще разок. — В его руках блеснула фляжка с виски. Тэд взял ее и бросил в яму. — Нет, не пригодится. Вы подумали о том, что скажут добрые жители этом планеты, если от нас будет разить водкой? Умоляющий взгляд Лори встретил стальные глаза Тэда и Джо. С прошлым было покончено. С трудом свороченный камень увенчал могилу. — Теперь в путь, — сказал Тэд. И три фигуры двинулись на восток, где в сумеречном небе уже появились первые звезды. А между ними была и их путеводная звезда — Марс.Глава VII О ТОМ, КОГО ПРИЮТИЛ ДОБРЫЙ СВЯЩЕННИК
Одни лишь шарики пыли на дороге напоминали о прошедшем дожде. Необычный в это время года, он не напоил земли, но жара к вечеру спала. Священник поселка, преподобный Иеремия Джонс, сидя в кресле-качалке на веранде своего дома, беседовал с мистером Питсом, владельцем мелочной лавки для индейцев, единственным белым, кроме священника, живущим в этой дыре. — Вчера и Новом Вифлееме только и говорили, что об этом взрыве, — рассказывал Питс, цедя из стакана. — Мы спали и ничего не слышали, — сказала миссис Джонс. — Может быть, стороной прошла гроза? — Разговор был об этом взрыве, — повторил Питс. — Роб слушал радио и клянется, что в приемнике не было никаких разрядов, когда па западе вспыхнуло зарево и послышался глухой удар. Миссис Тортон, жена налогового инспектора, тоже видела вспышку. Она пила чай, и стакан подскочил на блюдце. — Мы уже спали, а у этих дикарей ничего не узнаешь, — пробурчал священник. — Но мне думается, что это все же была гроза. — У миссис Тортом стакан подскочил на блюдце, — упрямо твердил Питс. — В Новом Вифлееме все очень обеспокоены. Не станут же делать ядерные испытания у нас под боком? — Милосердному богу виднее, что это могло быть, — сказал мистер Джонс. — А что, если это упал их новый спутник? — миссис Джонс подняла глаза от вязания и испуганно взглянула на мужа. — Милосердному богу виднее, но зачем же спутнику так взрываться? Кроме того, я, признаться, никогда не верил во все эти штуки, придуманные газетами, чтобы пугать добрых люден. — Как летающие тарелки, о которых когда-то гак много болтали, — робко вставила миссис Джонс. — Напрасно говорите. — Мистер Пите отставил стакан и наклонился к собеседнику. — Они управляются по радио. — И начинены атомами? — воскликнула миссис Джонс, опуская руки. — Об этом я читал давно, но помню, там было подробно все сказано об этих штуках. Отец Патрик еще тогда упомянул об этом в проповеди. Это только вы, мистер Джонс, со своими дикарями забыли, что вы белый человек. Отец Иеремия побагровел и стал придумывать достойный ответ, но в это время внимание его привлек неясный шум. — Опять у них драка, — сказал он, всматриваясь туда, где в конце ряда глинобитных хижин виднелась растущая куча мальчишек и доносился собачий лай. — Пойду разберусь, в чем дело. — Посидел бы спокойно, там обойдутся без тебя, — остановила его жена. — Пойду разберусь. Я им все же отец, — сердито сказал преподобный Иеремия и, отодвинув стул, спустился с веранды. В конце улицы царило необычное оживление. Детвора, одетая в пестрые лохмотья, и тощие собаки с любопытством глазели на что-то, чего мистер Джонс не мог разглядеть. То, что он увидел, пройдя сквозь расступившуюся толпу, было до того необычно, что преподобный отец прирос к земле. Три нечеловеческие фигуры стояли у входа в хижину. Странного покроя комбинезоны из какой-то полупрозрачной муаровой и, казалось, флуоресцирующей ткани облегали их тела. Израненные, покрытые пылью ноги были обуты в сандалии из легкой металлической сетки. Сквозь шарообразные стеклянные колпаки виднелись лысые головы и изможденные, лишенные бровей и всякой растительности лица. Женщина вынесла из хижины глиняный кувшин. Один из странных люден, отвернув свой колпак, достал из прореза костюма изогнутою металлическую трубку и стал жадно втягивать в себя воду. То же сделали остальные. Наконец мистер Джонс сумел выдавить из себя нечто вроде «э… э» и шагнул вперед. Необыкновенные люди заметили его и залопотали на каком-то щелкающем, птичьем языке. — С кем имею честь? — с достоинством осведомился мистер Джонс. Пришельцы снова залопотали и несколько раз смешно подпрыгнули. Один из них поднял руку к небу, издав свистящий звук. Преподобный Иеремия снова выдавил из себя «э… э», подыскивая подходящую к данному случаю фразу. — Was wollen Sic? Schprcchen Sie deutsch? — наконец выпалил ой. — Usted comprendes espanol?[224] Что вы хотите? Ему снова послужило ответом неясное щебетание. Роясь в скудном запасе иностранных слов, мистер Джонс вдруг пришел к блестящей догадке. Сдерживая нервную дрожь, отец Иеремия расплылся в улыбке и стал знаками приглашать незнакомцев следовать за собой. Странная процессия, окруженная сбежавшимися со всего селения детьми и вертящимися между их ног собаками, двинулась к дому. Взойдя на веранду, мистер Джонс застал лишь жену, убиравшую со стола бутылки. При виде вошедших она вздрогнула, и бутылка, выпав из ее рук, издала жалобный звон. — Успокойся, Сара, — сказал священник. — Эти джентльмены наши гости, кто бы они ли были. Долг христианина велит нам покормить и приютить путников. Вслед за пятящейся женой отец Иеремия вошел в комнату, оставив гостей па веранде. За закрытой дверью был слышен быстрый шепот и треск вертящеюся телефонного диска. Спустя некоторое время миссис Джоне в сопровождении мужа появилась с подносом в руках. Гости сидели кучкой на полу в углу веранды. Хозяин пригласил их к столу, отодвинув стулья, но они, казалось, не поняли приглашения. Тогда мистер Джонс сел, потом встал, показывая, что нужно сделать то же. Тот из пришельцев, который казался старше, встал и неуверенно подошел к столу, потом взгромоздился с ногами на стул и улыбнулся. Остальные последовали его примеру. Три фигуры, как странные птицы, возвышались вокруг стола. Миссис Джонс жестами приглашала есть. Незнакомцы потянулись к тарелкам и стали беззастенчиво нюхать их содержимое. Они совершенно отказались от ветчины с бобами, лопоча что-то по-своему. Живо расправились с яйцами, а потом, понюхав хлеб, накрошили его в стаканы с фруктовым соком и стали втягивать эту смесь через свои трубки. Миссис Джонс смотрела на все это широко раскрытыми голубыми глазами, и только присутствие мужа заставляло ее не кричать от страха. Летние сумерки переходили в ночь. Дружный храп сотрясал веранду. Миссис Джонс, пересилив страх, выглянула из дверей. Пришельцы спали. В наступающей темноте ровным голубым светом светилась их одежда. На стуле, загородив вход, сидел огромный добродушным негр Том с двустволкой на коленях. Во дворе взад и вперед ходил мистер Питс с огромным пистолетом у пояса и преподобный Иеремия, забыв про ссору, оживленно рассказывал ему что-то, едва поспевая за его шагами. Один из пришельцев повернулся, бормоча что-то во сне. Миссис Джонс послышались слова, похожие на явное ругательство. Она не могла поверить своим ушам и больно укусила себя за палец, чтобы проснуться. Но это вовсе не был сон.Глава VIII О НЕОБЫКНОВЕННОМ ОТКРЫТИИ МАЙКА
Джон Джемс, которого все называли Малюткой Джоном, шеф полиции Нового Вифлеема, резко повесил телефонную трубку, и по тому, как он уставился на аппарат, было видно, что он пытается что-то сообразить. Потом он глухо выругался и закурил сигарету. — Если этот старый осел ничего не напутал, то дело серьезное и нужно немедленно звонить в город. Но принять всерьез то, что плел почтенный отец Иеремия, считавшийся во всей округе человеком вздорным, годным только чтобы просвещать туземцев, было так нелепо, что, приняв это всерьез, можно было стать общей мишенью для насмешек. Когда сигарета была докурена, мистер Джемс взялся было за вторую, но скомкал ее и надел висящий ни спинке стуле пиджак. «В самом деле, лучше всего поехать и убедиться во всем самому». Войдя в свою канцелярию, Малютке Джон растолкал спящего на столе Джона II, мальчишку-метиса, исполнявшего в этом учреждении роль рассыльного и прислуги, и велел ему немедленно разыскать Гарри и Роба, двух городских полисменов. — И пусть они выведут машину и подъедут к заправочной станции на площади, где я буду ждать их в баре. В баре среди шоферов, толкущихся у стойки, мистер Джемс увидел Майка и обрадовался этой встрече. Это был именно тот человек, который был ему сейчас нужен. Хотя Майка, просто Майка, он знал только со вчерашнего вечера, но это был именно тот человек, который был ему нужен в эту минуту и который мог дать дельный совет в столь щекотливом деле. Майк был корреспондентом крупной газеты, застрявшим в Новом Вифлееме из-за поломки машины. С ним мистер Джемс провел вчера очень приятный вечер в этом самом баре и понял, как хорошо встретиться в такой дыре с настоящим шикарным парнем из столицы. — Хэлло, Майк! — Хэлло, мистер Джон… Джим… Джимс… О’Джем… Мистер Джемс показал бармену пальцами «две» и, подозрительно взглянув на типа, угрюмо жующего у стойки свой сандвич, указал Манку кивком головы на столик в углу зала. — Ты должен мне дать дельный совет, Майк, иначе я не оторвал бы тебя от стойки. Моя голова, кажется, перестала варить, после того как я услышал это… Мистер Джемс наклонился к репортеру и стал шепотом передавать ему услышанное. После первых же слов Джемса рука Майка крепко сжала его локоть. Шеф понял, что сболтнул лишнее, и осекся. В обычно неповоротливом мозгу Малютки Джона вдруг ясно встала картина, смутно тревожившая его все время после этого проклятого телефонного звонка: скандал может разнестись далеко за пределы округа. Ведь Майк прежде всего газетчик, а эти ребята умеют делать из мухи слона, и посмеяться над наивным провинциальным полицейским ему ничего не стоит, даже после того как они в течение двух дней осушали бутылки. Но сказанного оказалось вполне достаточно. Хмель вылетел из головы Майка. Он был слишком опытным репортером, чтобы выпустить такую добычу. Вполголоса он стал горячо убеждать Джона, пока тот не сдался и не выложил все начистоту. Майк не выпустил из своих рук добычу и тогда, когда в бар, запыхавшись, вбежал Джон II и сообщил, что машина стоит на улице, что Гарри и Роб на месте и что они и он, Джон, ждут дальнейших распоряжений. Малютка Джон слушал болтовню своего подчиненного, рассматривая дно стакана. Он никак не мог сообразить, хорошо ли сделал, доверившись Майку. Майк нежно тронул его за локоть: — Бэби, нужно слушаться старших. Мистер Джемс поднял на него глаза и решительно встал. Пока мистер Джемс смутными намеками объяснял полисменам необыкновенную важность предстоящей операции, Майк, обогнув угол, вывел из гаража свой серый «форд», и, прежде чем толпящиеся у бара вифлеемцы поняли, что происходит нечто значительное, обе машины нырнули в ночь. …Когда преподобный Иеремия и мистер Питс ввели приехавших на веранду, три человеческие фигуры мирно храпели в углу, сияя голубым фосфоресцирующим светом. При виде их Майк понял, что приехал недаром. Мистер Джемс, Гарри, Роб и мистер Питс стояли полукругом за его спиной и вопросительно смотрели ему в затылок. Прежде всего незнакомцев нужно было разбудить. Это оказалось нелегким делом. А когда они наконец проснулись, их странный вид смутил даже Майка, главным образом Майка, потому что полисмены вряд ли были способны па столь тонкое проявление интеллекта. Безволосые, с изможденными лицами, незнакомцы смотрели на вошедших доброжелательно и с любопытством. Улыбаясь, они стали лопотать что-то друг другу. Майк, оправившись от смущения, обрел дар речи и попытался завязать разговор на тех языках, с которыми знаком мало-мальски опытный, скитающийся по свету репортер. Но беседа не клеилась. Приветливые улыбки служили ему ответом. Видя бесполезность этих попыток, Майк пустил в ход свой главный козырь. — Ребята, закурим… по маленькой. — И зачем-то добавил: — На берег Катьюша. Это были те немногие русские слова, которые он почерпнул еще в 1945 году при фронтовых встречах. Но и это заманчивое предложение не вызвало никакой реакции у незнакомцев. Нелегко было обескуражить Майка, но он многое дал бы в эту минуту за то, чтобы знать, что же делать дальше.
— Нужно их обыскать, — нарушил молчание мистер Джемс, нашедший наконец нужное направление своим мыслям.
Эта идея понравилась всем, особенно полисменам, ожившим от этого предложения. По Майк не мог отдать инициативу в другие руки. Властно отстранив Гарри и Роба, он подошел к незнакомым и движением, известным ему по бесчисленным фильмам, провел руками по тем местам, где у обычных людей бывают карманы. Карманов не оказалось.
Незнакомцы не проявляли при этом никакого беспокойства. Одни из них попытался проделать то же с Майком, приняв этот жест, очевидно, за проявление вежливости.
При ближайшем осмотре все же было обнаружено на их груди некоторое подобие карманов или футляров; из них без всякого сопротивления было извлечено несколько странных предметов. Предметы эти, выложенные на стол, вокруг которого столпились все присутствующие, представляли собой следующее: во-первых, три изогнутые металлические трубки, через которые, как объяснил преподобный Иеремия, странные джентльмены пьют и принимают пишу; три пачки маленькие круглых подушечек из неизвестного материала, похожих на дамские пуховки для пудры. Взяв одну из них, незнакомец провел ею по лбу и носу.
— Носовые платки, — угадали присутствующие.
Самым ценным в этом открытии было то, что начинал устанавливаться контакт. Затем нашли еще Солее странный предмет. Он походил на толстый карандаш пли авторучку и издавал легкое жужжание. В прозрачной щели m одного конца в другой двигались маленькие фосфоресцирующие значки или цифры. Понять назначение этого предмета оказалось гораздо труднее. Около получаса незнакомец и Майк объяснялись знаками и односложными восклицаниями. Главным препятствием в этом разговоре оказался мистер Джемс, который, услышав жужжание, окончательно поверил, что имеет дело с бомбой замедленного действии.
Перебивая Майка, он настаивал на том, что «бомбу» следует бросить в колодец иди, запрятав подальше, немедленно мчаться в город, захватив с собой диверсантов. Только энергия Майка, любопытство которого не метла остановить никакая бомба, избавило незнакомцев от ареста.
Пыл мистера Джемса утих после того, как с помощью владельцев странный предмет был разобран, и, кроме очень любопытного механизма, в нем не было обнаружено никаких следов взрывчатого вещества. Это были часы.
За часами последовали две катушки, похожие на кассеты фотоаппарата. Серебристая пленка была испещрена черным узором. Незнакомец провел по чистому месту ногтем, оставив на нем черный след.
Майк вынул из кармана записную книжку и написал в ней какое-то слово. Незнакомец издал одобрительное шипение. Кассеты были блокнотами этих странных людей. На такой серебристой пленке запись оставалась от простого нажима любым предметом.
Это натолкнуло Манка па мысль. Открыв свою записную книжку, он тщательно стал рисовать карту Америки. Как только очертания ее стали ясны, незнакомцы издали звуки одобрения. Они поняли значение рисунка. После этого Майк так же тщательно нарисовал Европу, что вызвало такие же восклицания, но поставленный на этом старом материке вопросительный знак не произвел на них никакого впечатления.
Попытка изобразить Африку была неудачной. Справиться с Азией оказалось еще труднее. Сложные очертания этой части света никак не давались Майку, а когда он с раздражением вырвал страницу и попытался приняться за вторую, тот из незнакомцев, который казался главным, быстро выхватил из рук Манка ручку и стал чертить левой рукой концентрические окружности. Поставив в центре нечто вроде кляксы, он нарисовал на каждом из колец маленький кружок.
Этот чертеж изображал несомненно солнечную систему. Незнакомец указал пером на один из наиболее близких к Земле кружков, а потом на себя и своих товарищей.
Кровь отлила от лица Майка. Смертельно бледный, он посмотрел на присутствующих:
— Будь я проклят, если они не болтают, что свалились с Марса!
По даже такое ошеломляющее открытие не могло надолго вывести из равновесия этого газетного зубра.
— Бэби, мы сделаем на этих парнях большой бизнес, — пробормотал он сквозь зубы, наступив на ногу мистеру Джемсу. — Только слушай меня. Твой котелок сразу не поймет, что это значит.
Через несколько минут в комнате оставались лишь не пришедшая в себя чета Джонсов и мистер Питс с бесполезным револьвером в огромном кобуре.
Два автомобиля, лизнув светом фар стены глинобитных хижин, вырвались на шоссе и исчезли во мраке.
Но и это заманчивое предложение не вызвало никакой реакции у незнакомцев. Нелегко было обескуражить Майка, но он многое дал бы в эту минуту за то, чтобы знать, что же делать дальше.
— Нужно их обыскать, — нарушил молчание мистер Джемс, нашедший наконец нужное направление своим мыслям.
Эта идея понравилась всем, особенно полисменам, ожившим от этого предложения. По Майк не мог отдать инициативу в другие руки. Властно отстранив Гарри и Роба, он подошел к незнакомым и движением, известным ему по бесчисленным фильмам, провел руками по тем местам, где у обычных людей бывают карманы. Карманов не оказалось.
Незнакомцы не проявляли при этом никакого беспокойства. Одни из них попытался проделать то же с Майком, приняв этот жест, очевидно, за проявление вежливости.
При ближайшем осмотре все же было обнаружено на их груди некоторое подобие карманов или футляров; из них без всякого сопротивления было извлечено несколько странных предметов. Предметы эти, выложенные на стол, вокруг которого столпились все присутствующие, представляли собой следующее: во-первых, три изогнутые металлические трубки, через которые, как объяснил преподобный Иеремия, странные джентльмены пьют и принимают пишу; три пачки маленькие круглых подушечек из неизвестного материала, похожих на дамские пуховки для пудры. Взяв одну из них, незнакомец провел ею по лбу и носу.
— Носовые платки, — угадали присутствующие.
Самым ценным в этом открытии было то, что начинал устанавливаться контакт. Затем нашли еще Солее странный предмет. Он походил на толстый карандаш пли авторучку и издавал легкое жужжание. В прозрачной щели m одного конца в другой двигались маленькие фосфоресцирующие значки или цифры. Понять назначение этого предмета оказалось гораздо труднее. Около получаса незнакомец и Майк объяснялись знаками и односложными восклицаниями. Главным препятствием в этом разговоре оказался мистер Джемс, который, услышав жужжание, окончательно поверил, что имеет дело с бомбой замедленного действии.
Перебивая Майка, он настаивал на том, что «бомбу» следует бросить в колодец иди, запрятав подальше, немедленно мчаться в город, захватив с собой диверсантов. Только энергия Майка, любопытство которого не метла остановить никакая бомба, избавило незнакомцев от ареста.
Пыл мистера Джемса утих после того, как с помощью владельцев странный предмет был разобран, и, кроме очень любопытного механизма, в нем не было обнаружено никаких следов взрывчатого вещества. Это были часы.
За часами последовали две катушки, похожие на кассеты фотоаппарата. Серебристая пленка была испещрена черным узором. Незнакомец провел по чистому месту ногтем, оставив на нем черный след.
Майк вынул из кармана записную книжку и написал в ней какое-то слово. Незнакомец издал одобрительное шипение. Кассеты были блокнотами этих странных людей. На такой серебристой пленке запись оставалась от простого нажима любым предметом.
Это натолкнуло Манка па мысль. Открыв свою записную книжку, он тщательно стал рисовать карту Америки. Как только очертания ее стали ясны, незнакомцы издали звуки одобрения. Они поняли значение рисунка. После этого Майк так же тщательно нарисовал Европу, что вызвало такие же восклицания, но поставленный на этом старом материке вопросительный знак не произвел на них никакого впечатления.
Попытка изобразить Африку была неудачной. Справиться с Азией оказалось еще труднее. Сложные очертания этой части света никак не давались Майку, а когда он с раздражением вырвал страницу и попытался приняться за вторую, тот из незнакомцев, который казался главным, быстро выхватил из рук Манка ручку и стал чертить левой рукой концентрические окружности. Поставив в центре нечто вроде кляксы, он нарисовал на каждом из колец маленький кружок.
Этот чертеж изображал несомненно солнечную систему. Незнакомец указал пером на один из наиболее близких к Земле кружков, а потом на себя и своих товарищей.
Кровь отлила от лица Майка. Смертельно бледный, он посмотрел на присутствующих:
— Будь я проклят, если они не болтают, что свалились с Марса!
По даже такое ошеломляющее открытие не могло надолго вывести из равновесия этого газетного зубра.
— Бэби, мы сделаем на этих парнях большой бизнес, — пробормотал он сквозь зубы, наступив на ногу мистеру Джемсу. — Только слушай меня. Твой котелок сразу не поймет, что это значит.
Через несколько минут в комнате оставались лишь не пришедшая в себя чета Джонсов и мистер Питс с бесполезным револьвером в огромном кобуре.
Два автомобиля, лизнув светом фар стены глинобитных хижин, вырвались на шоссе и исчезли во мраке.
Глава IX МАРСИАНЕ
16 июня 19… года мир потрясла сенсация. Утренние выпуски газет разошлись в небывалых тиражах. Огромные заголовки гласили:Глава X, В КОТОРОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИЕРЕМИЯ ДЖОНС НЕ СМОГ ДОНЕСТИ СЛОВО БОЖЬЕ ДО МАРСИАН
В душный, пропахший бензином вечер огромная толпа запрудила площадь перед зданием. Уже за два часа до выступления прекратили доступ в огромный зал. Два ряда полицейских машин оцепили входы. В толпе, не нашедшей себе места в зале, кроме любопытных, падких на всякие зрелища, были видные общественные деятели и ученые. Многие из них ради этого пересекли океан. Все стремились хотя бы во время проезда взглянуть на необыкновенных пришельцев из другого мира. Ожидание толпы было напрасным — участники задолго до этого были доставлены в здание в закрытых машинах. Много позже другая толпа, освещенная оранжевым заревом реклам, осаждала вход в прославившийся за эти дин отель. Высоко над рокочущим человеческим потоком неоновым спетом снял красный диск планеты; на нем возникал знакомый всем контур бутылки и мерцающая надпись «Марси Коала». На фасадах домов плясали, зажигались и гасли смешные головастые марсиане. Они были вооружены зубными щетками, пылесосами и автомобильными шипами, они курили сигареты и играли на саксофонах; они кривлялись за стеклами киосков, на пестрых журнальных обложках и валялись под ногами толпы на пачках из-под сигарет и смятом целлофане оберток. В эту безумную ночь маленькая, незаметная фигура, проделав длинный, извилистый путь, с упорством пловца пробиваясь в волнах людского моря, достигла заветного подъезда и чудом проникла внутрь. Сейчас преподобный отец Иеремия, истерзанный и измятый, стоял в роскошном вестибюле. Вылощенный джентльмен, который еще с утра утратил вежливость, выслушивал его просьбу. Почтенный отец решил, что судьба, пославшая ему марсиан, возложила на него священную миссию первым приобщить их к лону святой церкви. Для этого он, никогда не выезжавший дальше Нового Вифлеема, притащился в этот Вавилон и ценой невероятных усилии приблизился к благодатной цели. Священник настойчиво просил доступа к сэру Арчибальду Рувинскому, о котором знал из газет как о некоем импрессарио, ведавшем всеми делами марсиан. Мистер Лост, одни из референтов объединения, отказывавший сегодня и более видным лицам, хотел было дать знак выкинуть вон этого назойливого просителя, но внезапно изменил решение — старикашка мог дать интересный материал для утренних выпусков. Снисходительно взглянув на отца Иеремию, он велел ему ждать и поднялся наверх. В просторном банкетном зале отеля было шумно, несмотря на то что за длинным столом собрались только избранные. Кончился поздний ужин. Все были утомлены, но возбужденно этого вечера сказывалось в оживленном разговоре и громком смехе. Марсиане, с трудом научившиеся сидеть на стульях, рассеянно перебирали руками содержимое своих тарелок. До сих пор они упорно отказывались от мяса. Очевидно, из-за особенностей марсианской фауны такая пища была для них непривычна. Майк, которого события этих дней вознесли на высокую ступень газетного мира, оставив омара, пытался объяснить что-то одному из сидевших рядом марсиан. Бойким корреспондент справлялся лучше всех с этом трудной задачей, оставив далеко позади ученых, переводчиков и художников, приглашенных для этом цели. Он усвоил систему своеобразных ребусов-иероглифов. Скатерть вокруг него была испещрена рисунками, так же как салфетки, валяющиеся под столом у его стула. Дружный смех встретил вошедшего мистера Лоста. Один из марсиан, всегда отказывавшийся от спиртного, поддался настойчивым уговорам Майка и хлебнул через свою трубку добрую порцию виски. Теперь он задыхался, широко открыв рот, и жалобными жестами отвечал на чириканье своих друзей. Арчибальд Рувинский, большой, тучный мужчина, выслушав мистера Лоста, встал, с шумом отодвинул стул и. продолжая улыбаться, вышел из зала. За ним последовал Майк, без которого не могло обойтись ни одно событие. Уже спускаясь по лестнице, Майк узнал жалкую фигуру священника и, опередив спутника, бросился к нему, как старый знакомый. Арчибальд, не дойдя донизу, остановился и с удивлением смотрел на входную дверь. Прорезая толпу нанятых и добровольных вышибал, в вестибюль вошла группа коренастых парней в одинаковых, нагло заломленных шляпах. Двое из них уселись в кресла по сторонам входа, небрежно рассматривая присутствующих, остальные направились к лестнице, на которой возвышалась грузная фигура Рувинского.Глава XI «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
Проснувшись, Тэд увидел над собой потолок. Потолок был обыкновенный. Тэд понимал, что попал в неволю, но смысл ее был не совсем ясен. Комната, в которую их провели этой ночью но полутемной лестнице, насколько он помнил, тоже была обыкновенная, по окна были задернуты занавесями, а за ними, вероятно, были решетки. Наконец он привстал к посмотрел вокруг. Сквозь полупрозрачные шторы мягко пробивался утренний свет. У изголовья постели на спинке стула висел костюм из мягкой фланели. Марсианская одежда исчезла. Тэд встал и подошел к окну. Отдернув занавеску, он увидел обширный двор, залитый ранними лучами солнца. Крытая, примыкающая к зданию галерея окаймляла его с трех сторон, четвертую замыкала высокая стена. По нескольким небольшим окнам он понял, что эго задняя сторона хозяйственной постройки. Со стены, сплошь увитой зеленью, свисали лиловые гроздья глициний Посреди двора бил небольшой фонтан, окруженный газоном и подстриженными кустами самшита. Решеток на окне не было. Эта мирная обстановка поразила Тэда, а также Джо и Лори, появившихся в дверях соседней комнаты. После короткого совещания друзья сделали попытку выйти. Дверь оказалась незапертой. За дверью была лестница, пустой холл и широко открытая по двор стеклянная дверь. — Что вы скажете? — шепотом спросил Тэд. — Мне кажется, мы здорово влипли, — сказал Джо. — Если бы я очутился в тюрьме, я не чувствовал бы себя хуже. — Если бы в тюрьме был разбит такой садик, многие предпочли бы там остаться, — закончил Лори. Тэд пристально посмотрел на него, неожиданно перешагнул через скамейку, пошел по газону и уселся в самой середине клумбы. Остальным пришлось последовать за ним. — Разговаривать будем только в самих странных местах, недоступных жалкому человеческому уму. В местах, куда эти пошляки не догадаются поставить магнитофоны. — Если при людях мы можем пытаться есть вилкой, прокалывая себе губы, оставшись наедине, мы должны сидеть на полу, смешно подпрыгивать и особенно тщательно проделывать все марсианские штучки. Забудьте наконец, что вы люди. Научитесь мыслить по-марсиански. А теперь, если это нам понятно, пойдем взглянем на ворота. В воротах сквозь ажурную решетку была видна дорога, окаймленная зеленью, и роща на дальних холмах. Но туда их не пустили. Когда они подошли к воротам, из не замеченной ими ниши вышел человек и преградил путь. Марсиане, казалось, обрадовались его появлению и с улыбкой продолжали идти. Тогда человек вынул из кармана темный металлический предмет, направил его на мраморного мальчика, стоявшего у дорожки, и нажал спуск. Голова мальчика откололась и со звоном покатилась по гравию. Это предостережение оказалось понятным даже выходцамм из другого мира. На звук выстрела в одном из окон показалась голова. — Все в порядке, сэр, — сказал человек, пряча пистолет в карман. Марсиане, взволнованно щебеча, повернули обратно. В холле их ожидала более приятная встреча. Приветливая девушка в белой наколке жестами пригласила их пройти в одну из дверей. В столовой был подам «марсианский» завтрак. Рядом с приборами, кроме ножей и вилок, лежали даже их изогнутые трубки. А после завтрака марсиан провели в одну из соседнихкомнат, где их, очевидно, давно ждали. Стенографистка, разложившая на столике бумагу, с любопытством смотрела на вошедших. Когда все расселись, девушка включила магнитофон. Тот, которого все называли мистером Харли, начал допрос. Он прямо предложил марсианам выкладывать все начистоту, что послужит им только на пользу, и долго повторял на разных языках обычные при допросах фразы. Марсиане были невозмутимы. Начались угрозы. Порой кто-нибудь из сидящих за столом задавал неожиданный вопрос, в упор глядя на допрашиваемых, стараясь уловить страх или смущение. Вполголоса отдавались распоряжения, которые могли вызвать дрожь у каждого, кто мог понять их значение. Тэд, больше всего беспокоясь о Лори, бросал на него ободряющие взгляды. Но Лори держался молодцом. Чтобы разрядить атмосферу, Тэд, не слушая вопросов, говорил друзьям шутливые фразы, вроде того, что нос сидящего напротив очень похож на нос смотрителя кислородной станции шестого южного канала. Девушка, склонившись над бумагой, быстро водила карандашом. Когда говорили марсиане, она в замешательстве останавливалась. Вертелся магнитофон. Допрашивающие не владели методом, выработанным в свое время Майком, и Тэд завладел инициативой. Он исчертил десяток листов бумаги каналами Марса, карту которого знал на память, фантастическими машинами, растениями, похожими на водоросли из сновидений. Рисунки машин были необыкновенны и вызвали видимый интерес. После того как арсенал обеих сторон был исчерпан, мистер Харли встал. Марсиан провели в комнату рядом, где они были подвергнуты тщательному медицинскому осмотру и рентгеноскопии. Когда друзьям осматривали рот, Джо и Лори мысленно поблагодарили Тэда, предусмотрительно заставившего их вырвать зубы, носившие следы пломб и коронок. В ближайшие дни допросы продолжались. Все усилия допрашивающих были напрасны, но друзья улавливали кое-что для себя из случайно брошенных фраз. Так, они узнали, что место их заключения называлось «Серебряный ручей». Остальное оставалось тайной. Однажды марсиан познакомили с мисс Амалией Олсоп и после этого оставили в покое. Жизнь в «Серебряном ручье» потекла обыденным скучным руслом. Глядя со стороны, можно было подумать, что три джентльмена отдыхают в загородном доме от юродского шума. Ежедневно после завтрака мисс Олсоп два часа занималась с марсианами. Всегда приветливая, она быстро завоевала симпатии друзей. Чтобы доставить ей удовольствие, Тэд старался изо всех сил усвоить трудный язык. После урока до самого вечера марсиане были предоставлены самим себе. Единственным развлечением была библиотека. Большая, обставленная тяжелыми шкафами и удобными креслами комната располагала к беседам и чтению, но ни то, ни другое друзья не могли себе позволить. Они ограничивались рассматриванием иллюстрации. Особенно удручало отсутствие свежих газет и журналов. Свои маленькие совещания друзья устраивали обычно на лестничной площадке. Вряд ли в таком месте мог быть установлен микрофон. — Когда мы научимся их языку, мы должны будем заговорить, — Тэд, облокотившись на перила, смотрел вниз, на блестящий паркет пустынного холла, — и, для того чтобы продолжать игру, выложить кое-что из своего запаса. — А мальчики военного ведомства упрячут все это в свои сейфы, — съязвил Джо. — Я хочу только вернуться на свой чердак комментировать Данте тетушке Джесси. — Если они будут очень любезны, они дадут тебе возможность открыть шикарную чревовещательную контору на главном проспекте. Мы с Тэдом рассчитываем на другое. — Вы с Тэдом всегда давали мне понять, что я глуп. — Не ссорьтесь, — сказал Тэд. — Сейчас наша задача тянуть, до крайности разжигая их любопытство, отделываться мелкими сведениями и деталями. Вес это мы должны обдумать сейчас, пока еще есть время. Помните: люди разочарованы тем, что мы похожи па mix, поэтому надо дать им побольше того, чего от нас ждут. — Делать то, чего люди не делают, — вставил Лори. — Чудачества скоро надоедают. — Мне, например, уже надоело есть эту бурду. — Лори скорчил гримасу. — Я говорю, что нужно им дать то, чего от нас ждут. Представление о Марсе для большинства основано на Уэллсе. — Что же, повторять сказку о красной растительности и отсутствии в технике колес? — Почти. Хотя красная растительность звучит сейчас нелепо. Проблемы техники гораздо сложнее. Приготовьтесь к тому, что нам придется отвечать изобретательством па каждый вопрос, а вопросов будет миллион. — А какому бесу мы нужны со своей дурацкой затеей, если не сможем это сделать? — сказал Джо. Рассеянный на первых занятиях, Лори, заявлявший, что гораздо лучше подождать, пока люди научатся изъясняться по-марсиански, внезапно стал проявлять излишний интерес к мисс Олсоп. Но его неуклюжее ухаживание получило решительный отпор. Друзьям он смущенно объяснил, что его не совсем джентльменские поступки простительны для марсиан, правы которых, очевидно, иные. Ему было строго предложено, чтобы он проявлял эти правы в более подходящих случаях. Лори не замедлил воспользоваться этим советом. Он перенес свое внимание на горничную Полли. Тэд и Джо с тревогой замечали, что марсианский способ ухаживания не вызывает и ней удивления. Время шло. Марсиане делали заметные успехи и, несмотря на скверное произношение, могли уже кое-как объясняться с окружающими. Их покой нарушал иногда мистер Харли. Чаще всего он приходил один. Это были не допросы, а мирные беседы, в которых противники нащупывали друг друга.
В библиотеке, куда раньше никто не заглядывал, все чаще стиля появляться мисс Олсоп. Она садилась в кресло у окна с какой-нибудь книгой и делала заметки и тетради. Иногда начинала разговор, касаясь незначительных тем. Чаще всего с Тэдом. И он часто ловил на себе ее пристальный взгляд.
Лори, оставивший было все попытки покорить учительницу, однажды на уроке прощебетал друзьям какое-то замечание о прелестях неприступной мисс.
Джо заметил, как легкая краска залила ее лицо.
На следующий день, когда Амалия выходила из библиотеки, Джо неожиданно сказал на языке марсиан:
— Вы выронили что-то из книги.
Учительница вздрогнула и взглянула под ноги, потом с улыбкой обернулась:
— Вы меня испугали. Вы знаете, что, занимаясь с нами, и незаметно научилась понимать ваш язык.
Этот случай заставил друзей с еще большей осторожностью относиться к своим словам и поступкам. Джо, проявляя при этом особое техническое чутье, обезвредил уже три микрофона в стенах библиотеки и спальне.
— Они водятся здесь, как клопы, — сказал Лори.
Но шутка не развеселила друзей.
Его поведение внушало все большую тревогу. Он часто куда-то пропадал, и однажды Джо столкнулся с ним у маленькой двери, ведущей на кухню. От Лори явно несло спиртным.
Джо был так зол, что, не найдя нужных слов, нежно назвал Лори «деткой». Детка может погубить все дело, если не бросит своих глупых ухаживаний и привычек.
Лори оправдывался как мог, но ему не удалось убедить Джо и Тэда. Он вынужден был поклясться, что прекратит свои экскурсии в кухню. А через несколько дней Лори снова пропал.
Тэд, стоя у окна библиотеки, подозвал к себе Джо. Здесь, перегнувшись через подоконник, удобно было говорить, не боясь быть услышанным.
— Что тебе? — спросил Джо.
— Клянусь, что он снова на кухне.
— Его нужно вздуть, — сказал Джо.
— Ты думаешь? — спросил Тэд, и после минутного молчания добавил: — Возможно, это соответствует его теории о марсианских нравах.
В дверях появился Лори. Он сиял.
Друзья встретили его не очень приветливым взглядом, но Лори, продолжая улыбаться, подошел к столу.
— Смотрите, — сказал он и выложил на стол толстую пачку газет и журналов. — Я выпросил это у Полины. Смотрел картинки, а потом дал понять, что хочу показать их вам. Таких дамочек нет в наших книгах. Смотрите. — Лори перелистал несколько страниц. — Оказывается, нас не забыли.
Джо и Тэд склонились над столом, не отводя глаз от заголовков, которые Лори показывал пальцем. Потом Тэд сгреб весь ворох:
— Только не здесь. Сюда может зйпти Амалия.
В спальне наступила тишина. Закрыв дверь, друзья разложили измятые листы на кровати и надолго углубились в их изучение.
Они действительно не были забыты. Газеты пестрели марсианами. Их таинственное исчезновение все еще тревожило умы.
Прежде всего друзьям стало известно, что их похитила банда Барнета. Это установили, опознав личность убитого при похищении. Но цель похищения оставалась неясной, как и дальнейшая судьба марсиан.
Романтические вымыслы чередовались с нападками на правительство за то, что оно оставило безнаказанным такую разнузданность бандитов. Проскальзывали намеки на прямое пособничество.
Близились выборы в сенат. В предвыборной кутерьме оппозиционная партия вытащила это начавшее уже забываться дело.
Был создан ряд комитетов и комиссий по защите марсиан. Различные общественные организации даже за пределами страны требовали расследования и возвращения миру небесных гостей.
Особенно неистовствовала пресса объединения, потерявшего на этом деле немалый доход.
В одном журнале в ярких красках был изображен подвиг Майка.
Художник нарисовал героического репортера с горящими глазами и дымящимся «томпсоном» в руках, Тэд, оторвав глаза от журнала, возбужденно скатал друзьям;
Как нужно нам сейчас вырваться из этой клетки!
Их покой нарушал иногда мистер Харли. Чаще всего он приходил один. Это были не допросы, а мирные беседы, в которых противники нащупывали друг друга.
В библиотеке, куда раньше никто не заглядывал, все чаще стиля появляться мисс Олсоп. Она садилась в кресло у окна с какой-нибудь книгой и делала заметки и тетради. Иногда начинала разговор, касаясь незначительных тем. Чаще всего с Тэдом. И он часто ловил на себе ее пристальный взгляд.
Лори, оставивший было все попытки покорить учительницу, однажды на уроке прощебетал друзьям какое-то замечание о прелестях неприступной мисс.
Джо заметил, как легкая краска залила ее лицо.
На следующий день, когда Амалия выходила из библиотеки, Джо неожиданно сказал на языке марсиан:
— Вы выронили что-то из книги.
Учительница вздрогнула и взглянула под ноги, потом с улыбкой обернулась:
— Вы меня испугали. Вы знаете, что, занимаясь с нами, и незаметно научилась понимать ваш язык.
Этот случай заставил друзей с еще большей осторожностью относиться к своим словам и поступкам. Джо, проявляя при этом особое техническое чутье, обезвредил уже три микрофона в стенах библиотеки и спальне.
— Они водятся здесь, как клопы, — сказал Лори.
Но шутка не развеселила друзей.
Его поведение внушало все большую тревогу. Он часто куда-то пропадал, и однажды Джо столкнулся с ним у маленькой двери, ведущей на кухню. От Лори явно несло спиртным.
Джо был так зол, что, не найдя нужных слов, нежно назвал Лори «деткой». Детка может погубить все дело, если не бросит своих глупых ухаживаний и привычек.
Лори оправдывался как мог, но ему не удалось убедить Джо и Тэда. Он вынужден был поклясться, что прекратит свои экскурсии в кухню. А через несколько дней Лори снова пропал.
Тэд, стоя у окна библиотеки, подозвал к себе Джо. Здесь, перегнувшись через подоконник, удобно было говорить, не боясь быть услышанным.
— Что тебе? — спросил Джо.
— Клянусь, что он снова на кухне.
— Его нужно вздуть, — сказал Джо.
— Ты думаешь? — спросил Тэд, и после минутного молчания добавил: — Возможно, это соответствует его теории о марсианских нравах.
В дверях появился Лори. Он сиял.
Друзья встретили его не очень приветливым взглядом, но Лори, продолжая улыбаться, подошел к столу.
— Смотрите, — сказал он и выложил на стол толстую пачку газет и журналов. — Я выпросил это у Полины. Смотрел картинки, а потом дал понять, что хочу показать их вам. Таких дамочек нет в наших книгах. Смотрите. — Лори перелистал несколько страниц. — Оказывается, нас не забыли.
Джо и Тэд склонились над столом, не отводя глаз от заголовков, которые Лори показывал пальцем. Потом Тэд сгреб весь ворох:
— Только не здесь. Сюда может зйпти Амалия.
В спальне наступила тишина. Закрыв дверь, друзья разложили измятые листы на кровати и надолго углубились в их изучение.
Они действительно не были забыты. Газеты пестрели марсианами. Их таинственное исчезновение все еще тревожило умы.
Прежде всего друзьям стало известно, что их похитила банда Барнета. Это установили, опознав личность убитого при похищении. Но цель похищения оставалась неясной, как и дальнейшая судьба марсиан.
Романтические вымыслы чередовались с нападками на правительство за то, что оно оставило безнаказанным такую разнузданность бандитов. Проскальзывали намеки на прямое пособничество.
Близились выборы в сенат. В предвыборной кутерьме оппозиционная партия вытащила это начавшее уже забываться дело.
Был создан ряд комитетов и комиссий по защите марсиан. Различные общественные организации даже за пределами страны требовали расследования и возвращения миру небесных гостей.
Особенно неистовствовала пресса объединения, потерявшего на этом деле немалый доход.
В одном журнале в ярких красках был изображен подвиг Майка.
Художник нарисовал героического репортера с горящими глазами и дымящимся «томпсоном» в руках, Тэд, оторвав глаза от журнала, возбужденно скатал друзьям;
Как нужно нам сейчас вырваться из этой клетки!
Глава XII О ТОМ, КАК БЫЛО ПРЕРВАНО ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ
— Не считаете ли вы, полковник, что они очень хорошо чувствуют себя в вашем пансионе? — сказал один из сидящих за столом, пытаясь утопить соломинкой кусочек льда в своем стакане. — Вы думаете, что полезно изменить режим? Полковник Харли задернул штору, у которой стоял, задумчиво гляця на городские огни, и, бесшумно ступая по ковру, подошел к сидящим. — Что они, по-вашему, расскажут, если придется наконец их выпустить? Вы читали выступление Брока? — Кто принимает всерьез Брока? — Если он пройдет на выборах, вам придется с ним считаться. — Он их сразу забудет. Тогда шумиху подхватят другие. Третий протянул ему развернутую газету, которую рассматривал, не принимая участия в споре. Мистер Харли взглянул на страницу и бросил на стол пухлую тетрадь: — Вы видели это, Уэнли? Этот проклятый репортер как-то разнюхал, что они находятся в наших р\ках. И это только начало. Кампанию подхватила левая пресса. Вы знаете, как скептически она отнеслась к этой истории сразу, а сейчас рада случаю нам насолить. — Этого писаку надо обуздать, — сказал Уэнли, откладывая газету. — Сейчас, к сожалению, не время сводить счеты. — Вы только что признали свое бессилие перед этими марсианами, а сейчас не в силах проучить мальчишку. — С марсианами мы справимся, когда они как следует научатся говорить. — Скажите, полковник, вы в самом деле верите, что они марсиане? — С тех пор как ими занялся старый джентльмен из Ватикана, это стало вопросом философии, а я не философ Я знаю только, что, если на них не действуют наши методы, они из другого теста. И еще я знаю, что у них что-то есть. — Для этого мы и собрались. — Во всяком случае, мной установлено, что они не имеют иностранных связей. В этом деле я пока умею разбираться. — Откуда же они взялись? — Это загадка, если они в самом челе не свалились оттуда. Их материалы поддаются анализу, по способ изготовления остается тайной. Приборы основаны на совершенно новых принципах, машины тоже. Что удивительно — в машинах почти полностью отсутствует принцип колеса. Вы читали Уэллса, Уэнли? Впрочем, вы не читали Уэллса. — Человеку вашей профессии нельзя так увлекаться, Харли. — А я еще не утратил этой способности. Они меня просто удивляют. Язык их отличается от всех существующих фонетикой и грамматическим строем, счет тринадцатиричный, в основе геометрии — окружность. Вы понимаете, как можно с обыкновенными мозгами разобраться в этой штуке? Кстати, их ракета, насколько я понял, была также ступенчатого типа. Я бы сказал, сверхступенчатого; она была вроде змеи или кольчатого червя, который во время полета беспрерывно отбрасывал лишние кольца. Катастрофа произошла, по их словам, от самовозгорания какого-то особого горючего в соприкосновении с кислородом. Сохранившиеся резервуары не были абсолютно герметичны. Марсиане не учли этого из-за бедности кислорода на своей планете. При приземлении они заметили, что стенки прибора раскаляются, и едва успели выскочить и добежать до ближайшего холма. Впрочем, я больше верю версии, что они сами взорвали снаряд, чтобы он не попал в наши руки. — Тут вы, пожалуй, правы. — Главное в горючем. Очевидно, оно страшной силы. Может, быть, мы имеем дело с новой атомной реакцией при ничтожных критических массах. Вы понимаете, что это значит для тактического оружия? — Была ли обнаружена радиации осколков и воронки? — В том-то и дело, что нет. Во всяком случае, нужно научить их как следует говорить, засадить за формулы и чертежи, но, насколько я понял, они не являются инженерами или изобретателями, а лишь водителями машины и всячески дают попять, что техническом документации не знают. Тот, глазастым, биолог и не может отличить болта от гайки. — И вы им верите? — Я никогда никому не верю. — Откуда бы они ни были, нужно сказать, что вы произвели на них хорошее впечатление, раз они не хотят открывать секреты. — Вы только что обвиняли меня в мягкости. — Вы опытный человек, Харли, иначе мы не поручили бы ним такое тонкое дело, но поймите, что мы не можем бесконечно возиться с вашей воскресной школой. Если придется их разоблачить, неизбежен грандиозный скандал. — К этому вы и ведете. Есть только один выход, — сказал тот, который еще не проронил ни одного слова в этой беседе. — Что вы предлагаете? — Предлагаю не я, а старик. Их нужно выпустить. — Ничего не добившись? — Нужно скорее кончать с этим делом. Вспомните, что старик сразу не одобрял эту затею. Вы знаете, как он дорожит престижем страны. На свободе они также могут быть окружены нашим вниманием… вашим, полковник. Вы окружите их своими людьми. Пусть газетчики берут свое, а вы сое. Нужно просто включить Марс в нашу орбиту. Пресса поняла это раньше пас. — Но каким образом… — Выпуская этих ребят, мы опубликуем коммюнике официальной комиссии, что они якобы находились на экспертизе. Коммюнике должно быть обтекаемо объективным. Это по вашей линии, Уэнли. В этой истории заинтересовано слишком много лиц, и она начинает давать нежелательные плоды, поэтому времени я вам даю мало… Мягкий телефонный зуммер перебил говорящего. Уэнли взял трубку. — Вас, Харли. Звонят из «Серебряного ручья». — Алло!.. Это я, Харли… Что? Говорите яснее! Полковник опустил трубку на стол, растерянно глядя на присутствующих. — Проклятые марсиане исчезли!Глава XIII, В КОТОРОМ УЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ПГИЦЫ
Тэд перебрал в памяти все случаи побегов, прочитанные им когда-либо в книгах. Ни один не годился. Все трое задумчиво бродили по пустынному дому. Даже Лори утратил аппетит и не пытался улизнуть от друзей. Он ходил за Тэдом по пятам, излагая ему различные фантастические проекты. — Все это ерунда, — отвечал Тэд. — Ты прекрасно помнишь все, что писал о наших предках старик Клеменс, в частности о Томе Сойере. Но никто из нас не похож на негра Джимма, и нам некому бросать из тюрьмы тарелки. Молчал бы лучше и не мешал мне думать! Однажды, войдя в библиотеку, они застали в ней Джо. Он стоял у окна и знаком подозвал к себе Тэда. Это было единственное окно в помещениях, отведенных марсианам, выходящее не в сад, а в отдельный хозяйственный дворик. Оно было прорезано в гладкой степе. Внизу были двери кладовой и кухни. За высокой оградой росли клены, и их ветви с поредевшей листвой шевелились на фоне чистою осеннего неба. Внизу под окном стоял фургон, привозившим два раза в неделю запасы для кладовой. Фургон был крытый, и меж ребер каркаса в провисшем брезенте три длинные лужи от прошедшего ночью дожди отражали опрокинутое небо и черный узор ветвей. Джо кивком показал на двор. Тэд увидел грузовик, прилипший к мокрому брезенту кленовый лист и черные точки, скользящие в зыбком голубом осколке неба. Тэд поднял глаза. Высоко над старыми кленами кружили птицы. — Что ты думаешь об этом? — спросил Джо. — Они готовятся к отлету. — Нам тоже не мешает подумать. — Почему же ты хочешь, чтобы я что делал за тебя? — Я тебе показываю открытую дверь. — Я полюбил одну девушку за то, что она мало болтала, — сказал Тэд. — При чем тут девушка? — Тебе не мешало бы издавать побольше понятных звуков — Я же не виноват, если человек не видит открытой двери. — Лори! — позвал Тэд. — Скажи, кто из нас пьяный? — Клянусь, я ничего не пил! — ответил Лори. — Я со вчерашнего дня не ходил вниз. — Тэд, — настаивал Джо, — посмотри еще раз и расскажи понятными словами, что ты видишь. — Я вижу стену и птиц, которым лучше, чем нам, — сказал Тэд. — Через такую стену можно перепрыгнуть только на Марсе. А еще я вижу лужи на крыше фургона… — Если бы ты лег в такую лужу, — спросил Джо, — тебя было бы видно снизу? — Я привык к теплой ванне по утрам. — Не каждый день идет дождь. Тэд наконец понял и с восторгом посмотрел на Джо. В ближайшую среду было пасмурно, но сухо. Трое с нетерпением ждали вечера. В это время года уже рано темнело. Свет из кухонной двери длинной полосой лежал на земле. Из-за двери доносился шум. Потом стало тихо, и свет в кухне погас. Тихо было во всем доме. Мисс Олсоп давно ушла, пожелав марсианам доброй ночи. Свет в библиотеке был погашен. Первым вылез из окна Тэд. Став коленями на подоконник, он спустил вниз ноги, а затем, держась за оконную раму, стал спускаться, нащупывая ногами едва заметный выступ стены, невидимый в темноте. Держась за оконный карниз, он должен был продвинуться по выступу на несколько шагов вправо, а затем, нагнувшись, схватиться правой рукой за железный кронштейн. Это было самое трудное. Остальное уже легче. Если повиснуть на кронштейне, ноги почти коснутся крыши фургона. Тэд разжал руки и упал на брезент. Не обошлось без шума. Друзья прислушались. В доме было тихо. Следующая очередь была Лори. Джо, лежа на подоконнике, поддерживал ею рукой, а Тэд, стоя на крыше фургона, старался смягчить его прыжок. Несмотря на неуклюжесть Лори, эта опасная возня кончилась благополучно. Последним полез Джо. Когда он схватился за кронштейн, скрипнула кухонная дверь. Все застыли. Во двор вышел шофер Дэви. Он остановился и стал закуривать, долго чиркая спичками. Джо застыл над самой его головой. Выступ стены был очень мал. Шофер взглянул на небо, бросил спичку и не спеша направился к дому. Джо не выдержал и свалился на брезент. Шум его падения совпал со звуком хлопнувшей двери. Трое, растянувшись на брезенте, затаив дыхание прислушались. Было тихо. Настало время томительного ожидания. Тэд закрыл глаза и старался не думать о странном и опасном положении, в котором они находились. Несколько холодных капель упало ему на лицо. «Этого не хватало!» — подумал Тэд, слизывая с губ каплю. К счастью, дождь не усиливался. В доме послышалось движение. Кухонная дверь открылась. Тэд слышал скрип — очевидно, дверь придерживали рукой — и неясный шепот, в котором узнал голоса Полины и Дэви. Тэду показалось, что Лори, лежавший рядом за ребром каркаса, беспокойно заерзал. Тэд похолодел и до боли сжал зубы. Внизу снова зашептались, потом щелкнула дверца. Машина качнулась и затряслась ровной дрожью мотора. Еще раз хлопнула кухонная дверь. Фургон, переваливаясь, двинулся с места, но вскоре снова остановился. На этот раз послышался голос охранника и шутливый ответ шофера. Над самым лицом Тэда был шершавый кирпичный свод. Тэд с трудом удержался, чтобы не потрогать его рукой. Потом он поплыл в сторону, открыв темное небо, по которому неслись рваные облака. Это была свобода.Глава XIV О ТОМ, ЧТО УЗНАЛИ ЛЮДИ О СОСЕДНЕЙ ПЛАНЕТЕ
Минувшие события казались теперь странным увлекательным сном, и можно было с интересом вспоминать последний вечер в «Серебряном ручье», тряскую ночную езду на крыше фургона, прыжок на темное полотно шоссе, когда машина замедлила ход у дорожного знака. Лори подвернул во время прыжка ногу и еле плелся, стараясь не хныкать. Потом на пути неожиданно возникли люди. Это были рабочие, чинившие дорогу. Первым побуждением марсиан было поглубже втянуть голову в плечи и пройти, стараясь не привлечь внимания.
Но разве не у людей они должны искать помощи и защиты?
Джо смело двинулся им навстречу. За ним Тэд и Лори.
Лори подвернул во время прыжка ногу и еле плелся, стараясь не хныкать. Потом на пути неожиданно возникли люди. Это были рабочие, чинившие дорогу. Первым побуждением марсиан было поглубже втянуть голову в плечи и пройти, стараясь не привлечь внимания.
Но разве не у людей они должны искать помощи и защиты?
Джо смело двинулся им навстречу. За ним Тэд и Лори.
 Молодые парни очень обрадовались, узнав, какая удача выпала на их долю. Не каждый день, возвращаясь с работы, встретишь живых марсиан. Но после первых слов знакомства всем пришлось лезть в кювет — вдали блеснул яркий свет фар, и мимо промчалась машина, за ней вторая. Похоже было на погоню.
— Мне очень не хотелось бы снова попасть к ним в руки, — сказал Джо, вылезая на шоссе.
— Мы обещаем доставить вас в целости, но вряд ли это удастся сделать, не повредив упаковки, — ответил один из парней, счищая с него грязь рукавом.
— Мы редко видим такие приключения, — проговорил второй, — даже в кино: для этого тоже нужна монета.
— Монета? — спросил Тэд. — Эти металлические кружки, которые у вас принято давать друг другу?
— Они еще не знают, что без этих сувениров здесь не получишь и старого сухаря! Правда, за решеткой и нашего брата кормят даром.
Тэд не успел ответить, так как снова пришлось прятаться в кювете. Машина пронеслась с громким воем сирены.
— Ого! Вы здорово насолили полиции, если вас так ищут.
— Мы сбежали от гангстеров, — сказал Тэд, — Кажется, так называют у вас разбойников? Мы узнали об этом из газет.
— Их ловят и сажают в тюрьмы, — рассудительно добавил Лори.
— Иногда, — сказал парень, — когда они не платят налогов.
— ?
— Налоги? Это деньги, которые взимает государство даже за право на грабеж.
— Снова деньги, — вздохнул Джо. — Я, кажется, свободно обходился без них с детства.
— В этом мой друг прав, — рассмеялся Тэд. — Но разве они дают и такое право?
— Право гоняться за людьми, разъезжая в машинах.
— Гангстер без машины считался бы просто воришкой.
— А вы чините для них дороги и ходите пешком?
— Объясни им, Джо, — обратился парень к одному из ребят.
И бедному марсианину стоило больших усилий не отозваться на свое имя.
— Можно подумать, что вы с Луны свалились! Мы обещали доставить вас в город. Там ребята помогут разобраться в наших делах, хотя и сейчас можно рассказать кое-что, чтобы скоротать время
Разговор обрывался, так как приходилось часто нырять и кусты или придорожную канаву, когда машины проносились по шоссе.
Наконец свернули на боковую дорогу.
— Я знаю адрес, где вы сможете побыть денек или сколько будет нужно, — сказал тот, которого тоже звали Джо. — У Летучего Билла будет для них самое подходящее место, — обратился он к товарищу. — Никто не догадается сунуть туда нос.
— Он был «летающим фермером», — пояснил второй из парней. — Не знаю, слыхали ли вы о таких.
— Был «летающим фермером», пока «Юнайтед Фрут» не сбило цены на рынке, а самолет, на ваше счастье, у него остался; там вы побудете день — другой, пока мы найдем нужных людей.
Самолет стоял на пустыре. Разбитые машины, землянки и какие-то подобия хижин обступили его в густой мгле. На обломках крыльев, как на провинциальном балконе в консервных банках рос лук и какие-то цветы.
Второй Джо поднялся по кирпичной лесенке и осторожно постучал в обшивку. Дверь отворилась, и марсиан водворили в бывшее багажное отделение — вторую «комнату» этого странного жилища.
Бесконечно тянулось время в этой душной конуре. Только на вторую ночь друзей перевезли в город. Через задворки, заваленные кучей бумажного хлама, телеграфными лентами и порванными корректурами, их провели в редакцию прогрессивной газеты.
А утром многочисленные читатели узнали о тем, что марсиане на свободе, и увидели их фотографии на свежих, пахнущих типографской краской листах.
В редакционной статье было сказано, что марсиане вернутся в мир лишь после получения от правительства гарантии неприкосновенности.
Сегодня газета праздновала победу. Сотни машин съезжались к подъезду редакции, и из первой машины, конечно, вышел Майк.
Не отрывая карандаша от блокнота, он засыпал марсиан вопросами, а затем сообщил, что в Мажестик-отеле все с нетерпением ждут возвращения старых друзей, что его машина в полном их распоряжении, как только они захотят вернуться в первый приютивший их город — подлинную столицу земного шара, в чем легко убедятся марсиане, когда ближе познакомятся с этим шаром, который не так уж велик, как кажется.
— Не так велик, но достаточно разнообразен.
— Для туристов с другой планеты, — иронически заметил Джо.
— Ха! — засмеялся Майк. — Туристы с другой планеты — это годится. Годится для лихого заголовка.
— Мы многому научились за это время, — прибавил Джо.
— И много видели, хотя бы из самолета.
— Тс-с!.. — сказал Майк. — Вы же прилетели на ракете!
— Мы успели полетать и после этого. Из нашего самолета все было видно как на ладони.
— Мы видели, как роются в мусоре дети и женщины развешивают белье. Они судачили, не подозревая о нашем присутствии. А ночью, когда нас выпускали, чтобы поразмять ноги, собирались ребята из соседних лачуг, и мы могли немного поболтать с ними. До сих пор мы не можем понять, почему люди, вовсе не похожие на дикарей, живут в ящиках и старых экипажах.
— Это нам просто повезло, — сказал Майк. — Повезло заглянуть к нам с черного хода. Мы не пускаем туда туристов. А в остальном у нас все в порядке.
Маленькая приемная редакции быстро наполнялась, она напоминала теперь набитый людьми автобус или дансинг, когда музыканты ушли отдохнуть. Марсиан совершенно затолкали. Им стоило больших усилии отвечать всем сразу, не забывая при этом коверкать слова и не болтать лишнего.
— Поздравляю вас, господа, — говорил оказавшийся рядом высокий седеющий человек в строгом синем костюме. Поздравляю дорогих гостей и соседей, если можно считать соседством тридцать миллионов миль, вы можете жить теперь спокойно на нашей старен земле. Правительство обещало охранять вас и наказать виновных. Конечно, в том случае, если их удастся обнаружить.
— Да вот же один из них, — внезапно сказал Лори, указывая на фигуру, с некоторых пор маячившую у входа в зал. — Клянусь, он один из тех, кто спер нас из отеля.
— «Сперли»… — сдержанно улыбнулся собеседник. — Ловко же вы научились выражаться!
— Я учился языку по вашей литературе, — ответил Лори.
— Охотно верю, что они снабжали вас таким чтивом. Однако покажите мне этого парня, я выясню, что это за тип. — С этими словами человек в синем костюме стал пробираться через толпу.
— Что они с ним сделают? — с тревогой спросил Лори.
— Ничего, — ответил Майк, не отходивший от марсиан. — Просто постараются, чтобы он не попадался вам больше на глаза. Ведь они оба оттуда.
— Не знаю, что и подумать, — сказал Лори. — Я считал, что гангстеры и полиция только и знают, что стрелять друг в друга. Я читал это во всех ваших книгах, а оказывается, они похожи, как родные братья.
— Не говорите этого громко, — остановил его Майк. — Нас слышат, и кое-кто может обидеться. Все же они обещали вас охранять. Мальчики, теперь вы можете смело возвращаться в свой отель.
— Прежде чем ехать, — сказал Джо, — нам нужна еще одна гарантия от вас и вашего кон… концерна (не поймешь, кто управляет этой планетой): избавьте нас от опеки и не слишком вмешивайтесь в наши дела. Мы кое-чему научились и постараемся сами постоять за себя…
Последовали шумные, сумбурные дни банкетов, приемов и пресс-конференций. Марсианам показывали все, что, по мнению окружающих, могло их интересовать: музеи, фильмы, достопримечательности города.
Теперь, когда и тесном общении с людьми марсиане быстро и в совершенстве освоили язык, перед удивленным человечеством стала раскрываться волнующая тайна соседней планеты.
Многое было предугадано земными учеными — суровый климат с резкими скачками температуры, бесконечные красноватые песчаные пустыни, мечтами покрытые чахлой растительностью, широкие полосы возделанных нолей вдоль каналов. Здесь начиналось царство фантастики. Среди пустыни мощные насосные станции беспрерывно качают с обоих полюсов воду тающих снегов, кислородные станции питают огромные города и поселки на скрещении каналов. Эти города прекрасны и необыкновенны. Если бы люди могли увидеть их в мощные телескопы, они напомнили бы им клочки пены, состоящие из тысяч сверкающих пузырьков. Груши драгоценных камней возвышаются они над поверхностью планеты. Куполообразные здания из прозрачной пластмассы герметически закрыты — в них созданы искусственная атмосфера и климат. Люди выходят из домов в сферических колпаках-скафандрах с достаточным запасом кислорода. А если этот запас кончится, вдоль всей оросительной системы, на равных расстояниях расположены кислородные заправочные станции-колонки.
Как было уже замечено астрономами, сеть каналов распределена так рационально, что ни одна точка поверхности планеты не удалена от них более чем на триста километров… Одной заправки с избытком хватает для преодоления этого расстояния.
Когда-то, в незапамятные времена, атмосфера Марса была пригодна для жизни. Флора и фауна были богаче, жизнь напоминали земную, и так же, как на Земле, планету раздирали междоусобицы и войны. Но природные условия изменились, и перед лицом гибели марсиане объединились. Только дружной семьей, направив всю технику на борьбу с природой, можно было надеяться на победу.
— И, разум победил. Может быть, понадобится приближение космической катастрофы, чтобы все жители Земли последовали нашему примеру.
Так закончил одно из своих выступлении Марси Уаи.
Как выяснилось, марсиане не носит имен в нашем земном понимании, а обозначаются сложной нумерацией, и которую входит, кроме индивидуального номера, обозначения канала и города или поселка. Имя марсианина является одновременно его точным адресом. Так как имена межпланетных гостей показались очень сложными, а на Земле их было всего трое, то, сохраняя марсианский обычай, их называли просто: первый, второй, третий.
В конце выступления последовал ряд вопросов.
Вопрос. Чем питаются марсиане, и все ли марсиане вегетарианцы?
Марси Уан. Вегетарианская пища обусловлена бедностью марсианской фауны. С переходом к искусственным условиям жизни, слитком большой расточительностью было бы тратить кислород на домашних животных. На Марсе, кроме простейших кишечнополостных и червей, сохранились некоторые виды рыб, членистоногих и пресмыкающихся, яйца которых мы употребляем в пищу. Эти виды сумели приспособиться к новым условиям. Ведь кислород на нашей планете все же существует!
Вопрос. Значит, на Марсе нет птиц?
Марси Уан. Существование летающих животных затруднено еще и малой плотностью атмосферы, по встречаются полулетающие животные, вроде ваших кузнечиков. На Марсе ведь все живое передвигается прыжками. Эти же условия повлияли на развитие нашей техники. Я в свое время уже упоминал об отсутствии у нас колесных механизмов. Земная техника рождена высоким тяготением. Для передвижения тяжестей первобытный человек подкладывал катки, ил которых родилось колесо. У нас это решалось иначе. Первые транспортные механизмы были шагающие или прыгающие на суставчатых ногах, из прыжка родилась авиация, отсюда — прямой путь к ракете.
Вопрос. Наблюдают ли с Марса Землю и что там о нас знают?
Марси Уан. Наши оптические приборы, насколько я успел ознакомиться, сильнее ваших. Вернее назвать их не оптическими, а электронными. Мы свободно различаем на поверхности Земли города и селения, а в год последнего противостояния мы наблюдали даже на улицах городов движущиеся точки. На Марсе до сего времени считают их жителями Земли, мы же теперь поняли, что это автомобили.
Вопрос. Почему вы не прилетали раньше?
Марси Ту. Мы ждали окончания ваших бесконечных войн.
Вопрос. Какой у вас образ правления?
Марси Ту. Нами руководит Совет инженеров. Оплата труда натуральная. Денежной системы у нас нет. Этим мы избегаем накопления и захвата власти отдельными лицами, что было бы гибельно для мира, в котором мы живем. Эту тему мы подробно осветим в отдельном докладе.
Голос в зале. Прыгающие социалисты!
Вопрос. Следует ли понимать, что вам не нравится наш образ жизни?
Марси Уан. Мне очень нравится гостеприимство, с которым нас принимают, но я воздержусь от точного ответа, так как я и мои товарищи не имели еще времени подробно ознакомиться со всеми сторонами вашего быта. Кроме того, нам для сравнения нужно изучить образ жизни других областей планеты.
Вопрос. Известно ли вам ядерное оружие?
Марси Уан. Зачем ядерное или какое бы то ни было оружие па планете, где уже несколько тысячелетий нет войн? Мы владеем атомной энергией — без этого была бы невозможна наша культура.
Вопрос. Употребляют ли на Марсе спиртные напитки?
Марси Уан. Нет.
Марси Три. Я впервые познакомился с ними у вас на банкетах.
Голос из зала. И каково ваше мнение об этой штуке?
Марси Три. Я постараюсь захватить несколько бутылок, улетая с Земли.
Вопрос. А как обстоит дело с преступностью?
Mapси Уан. Основным преступлением считается глупость. Уличенные в ней не допускаются к руководящим постам и направляются в специальные заведения, где им стараются привить хотя бы чувство юмора.
Вопрос. Цель вашего посещения Земли?
Марси Уан. Мы надеемся, та же, что руководит вами, когда вы готовитесь к аналогичным полетам.
Вопрос. Каковы женщины на Марсе?
Марси Три. Они все блондинки.
Оживление в зале.
— После того как ты выдумал нам язык, следовало бы укоротить твой собственный! — с раздражением сказал Тэд, когда они вернулись с пресс-конференции. — Кто тебя дернул говорить о блондинках, когда все знают, что марсиане лысые! Теперь придется обратить это в шутку, и еще неизвестно, во что это выльется.
Лори молчал, виновато моргая.
— Ты знаешь, Джо, что он сказал вчера на банкете, когда ты ездил с докладом в институт? Этот тип напился и заявил, что он гриб. Он заявил, что мы грибы, анероидные грибы или что-то в этом роде, что население Марса произошло от грибов, подобно тому как на Земле — от обезьян. Мне пришлось болтать бог весть что, чтобы поставить все на место. К счастью, все были пьяны. А ты тоже хорош! Зачем ты выскочил со своим социализмом? Мы должны хорошо обсудить, что ты будешь говорить о социальной системе. Нельзя сразу раздражать этих людей.
— Если бы я перенес на Марс их пресловутые образ жизни и рассказал о нем, так сказать, глядя со стороны, это показалось бы настолько диким, что они перестали бы верить, что мы марсиане.
— Да… и мы-то стали это понимать, только «приземлившись», — сказал Тэд.
В комнату шумно ворвался Майк и уселся на ручки кресла.
— Вы здорово придумали про блондинок. Лысые женщины никак не прошли бы в нашем городе. Не знаю, как у вас там, но я напишу, что когда-то все марсиане были волосатыми, как старик Эйнштейн, и марсианки в память об этом носят золотистые парики. Это будет клад для союза парикмахеров, и мы сорвем на этом изрядный куш.
— Бросьте шутить, Майк. Скажите лучше, что о нас пишут?
— Вы же знаете. — Майк ударил по куче лежащих на столе газет.
— А там, за океаном?
— То же самое и другой вздор. Во всяком случае, пока прессу делаем мы, а пресса — вас, вам нечего беспокоиться. Я думаю, вы уже поняли, что значат па нашей планете деньги. Конечно, хорошо говорить правду, по перед каждым выступлением советуйтесь со мной. Мы найдем массу всяких пустяков для рекламы. Не забывайте, что пресса живет рекламой.
Джо искоса взглянул на Тэда, но Тэд не разделял его подозрений. Этот парень, который никак не хотел от них отстать, располагал к себе своей шумной энергией и оптимизмом нему определенно нравился.
Майк встал с кресла.
— Там, внизу, вас ждет один добряк продюссер. Вы знаете, что это значит? Будьте с ним повежливее и старайтесь не продешевить. После нас, газетчиков, кинематографисты — самые стоящие люди. — С этими словами, не спросив разрешения, Майк выбежал из комнаты звать добряка наверх.
Молодые парни очень обрадовались, узнав, какая удача выпала на их долю. Не каждый день, возвращаясь с работы, встретишь живых марсиан. Но после первых слов знакомства всем пришлось лезть в кювет — вдали блеснул яркий свет фар, и мимо промчалась машина, за ней вторая. Похоже было на погоню.
— Мне очень не хотелось бы снова попасть к ним в руки, — сказал Джо, вылезая на шоссе.
— Мы обещаем доставить вас в целости, но вряд ли это удастся сделать, не повредив упаковки, — ответил один из парней, счищая с него грязь рукавом.
— Мы редко видим такие приключения, — проговорил второй, — даже в кино: для этого тоже нужна монета.
— Монета? — спросил Тэд. — Эти металлические кружки, которые у вас принято давать друг другу?
— Они еще не знают, что без этих сувениров здесь не получишь и старого сухаря! Правда, за решеткой и нашего брата кормят даром.
Тэд не успел ответить, так как снова пришлось прятаться в кювете. Машина пронеслась с громким воем сирены.
— Ого! Вы здорово насолили полиции, если вас так ищут.
— Мы сбежали от гангстеров, — сказал Тэд, — Кажется, так называют у вас разбойников? Мы узнали об этом из газет.
— Их ловят и сажают в тюрьмы, — рассудительно добавил Лори.
— Иногда, — сказал парень, — когда они не платят налогов.
— ?
— Налоги? Это деньги, которые взимает государство даже за право на грабеж.
— Снова деньги, — вздохнул Джо. — Я, кажется, свободно обходился без них с детства.
— В этом мой друг прав, — рассмеялся Тэд. — Но разве они дают и такое право?
— Право гоняться за людьми, разъезжая в машинах.
— Гангстер без машины считался бы просто воришкой.
— А вы чините для них дороги и ходите пешком?
— Объясни им, Джо, — обратился парень к одному из ребят.
И бедному марсианину стоило больших усилий не отозваться на свое имя.
— Можно подумать, что вы с Луны свалились! Мы обещали доставить вас в город. Там ребята помогут разобраться в наших делах, хотя и сейчас можно рассказать кое-что, чтобы скоротать время
Разговор обрывался, так как приходилось часто нырять и кусты или придорожную канаву, когда машины проносились по шоссе.
Наконец свернули на боковую дорогу.
— Я знаю адрес, где вы сможете побыть денек или сколько будет нужно, — сказал тот, которого тоже звали Джо. — У Летучего Билла будет для них самое подходящее место, — обратился он к товарищу. — Никто не догадается сунуть туда нос.
— Он был «летающим фермером», — пояснил второй из парней. — Не знаю, слыхали ли вы о таких.
— Был «летающим фермером», пока «Юнайтед Фрут» не сбило цены на рынке, а самолет, на ваше счастье, у него остался; там вы побудете день — другой, пока мы найдем нужных людей.
Самолет стоял на пустыре. Разбитые машины, землянки и какие-то подобия хижин обступили его в густой мгле. На обломках крыльев, как на провинциальном балконе в консервных банках рос лук и какие-то цветы.
Второй Джо поднялся по кирпичной лесенке и осторожно постучал в обшивку. Дверь отворилась, и марсиан водворили в бывшее багажное отделение — вторую «комнату» этого странного жилища.
Бесконечно тянулось время в этой душной конуре. Только на вторую ночь друзей перевезли в город. Через задворки, заваленные кучей бумажного хлама, телеграфными лентами и порванными корректурами, их провели в редакцию прогрессивной газеты.
А утром многочисленные читатели узнали о тем, что марсиане на свободе, и увидели их фотографии на свежих, пахнущих типографской краской листах.
В редакционной статье было сказано, что марсиане вернутся в мир лишь после получения от правительства гарантии неприкосновенности.
Сегодня газета праздновала победу. Сотни машин съезжались к подъезду редакции, и из первой машины, конечно, вышел Майк.
Не отрывая карандаша от блокнота, он засыпал марсиан вопросами, а затем сообщил, что в Мажестик-отеле все с нетерпением ждут возвращения старых друзей, что его машина в полном их распоряжении, как только они захотят вернуться в первый приютивший их город — подлинную столицу земного шара, в чем легко убедятся марсиане, когда ближе познакомятся с этим шаром, который не так уж велик, как кажется.
— Не так велик, но достаточно разнообразен.
— Для туристов с другой планеты, — иронически заметил Джо.
— Ха! — засмеялся Майк. — Туристы с другой планеты — это годится. Годится для лихого заголовка.
— Мы многому научились за это время, — прибавил Джо.
— И много видели, хотя бы из самолета.
— Тс-с!.. — сказал Майк. — Вы же прилетели на ракете!
— Мы успели полетать и после этого. Из нашего самолета все было видно как на ладони.
— Мы видели, как роются в мусоре дети и женщины развешивают белье. Они судачили, не подозревая о нашем присутствии. А ночью, когда нас выпускали, чтобы поразмять ноги, собирались ребята из соседних лачуг, и мы могли немного поболтать с ними. До сих пор мы не можем понять, почему люди, вовсе не похожие на дикарей, живут в ящиках и старых экипажах.
— Это нам просто повезло, — сказал Майк. — Повезло заглянуть к нам с черного хода. Мы не пускаем туда туристов. А в остальном у нас все в порядке.
Маленькая приемная редакции быстро наполнялась, она напоминала теперь набитый людьми автобус или дансинг, когда музыканты ушли отдохнуть. Марсиан совершенно затолкали. Им стоило больших усилии отвечать всем сразу, не забывая при этом коверкать слова и не болтать лишнего.
— Поздравляю вас, господа, — говорил оказавшийся рядом высокий седеющий человек в строгом синем костюме. Поздравляю дорогих гостей и соседей, если можно считать соседством тридцать миллионов миль, вы можете жить теперь спокойно на нашей старен земле. Правительство обещало охранять вас и наказать виновных. Конечно, в том случае, если их удастся обнаружить.
— Да вот же один из них, — внезапно сказал Лори, указывая на фигуру, с некоторых пор маячившую у входа в зал. — Клянусь, он один из тех, кто спер нас из отеля.
— «Сперли»… — сдержанно улыбнулся собеседник. — Ловко же вы научились выражаться!
— Я учился языку по вашей литературе, — ответил Лори.
— Охотно верю, что они снабжали вас таким чтивом. Однако покажите мне этого парня, я выясню, что это за тип. — С этими словами человек в синем костюме стал пробираться через толпу.
— Что они с ним сделают? — с тревогой спросил Лори.
— Ничего, — ответил Майк, не отходивший от марсиан. — Просто постараются, чтобы он не попадался вам больше на глаза. Ведь они оба оттуда.
— Не знаю, что и подумать, — сказал Лори. — Я считал, что гангстеры и полиция только и знают, что стрелять друг в друга. Я читал это во всех ваших книгах, а оказывается, они похожи, как родные братья.
— Не говорите этого громко, — остановил его Майк. — Нас слышат, и кое-кто может обидеться. Все же они обещали вас охранять. Мальчики, теперь вы можете смело возвращаться в свой отель.
— Прежде чем ехать, — сказал Джо, — нам нужна еще одна гарантия от вас и вашего кон… концерна (не поймешь, кто управляет этой планетой): избавьте нас от опеки и не слишком вмешивайтесь в наши дела. Мы кое-чему научились и постараемся сами постоять за себя…
Последовали шумные, сумбурные дни банкетов, приемов и пресс-конференций. Марсианам показывали все, что, по мнению окружающих, могло их интересовать: музеи, фильмы, достопримечательности города.
Теперь, когда и тесном общении с людьми марсиане быстро и в совершенстве освоили язык, перед удивленным человечеством стала раскрываться волнующая тайна соседней планеты.
Многое было предугадано земными учеными — суровый климат с резкими скачками температуры, бесконечные красноватые песчаные пустыни, мечтами покрытые чахлой растительностью, широкие полосы возделанных нолей вдоль каналов. Здесь начиналось царство фантастики. Среди пустыни мощные насосные станции беспрерывно качают с обоих полюсов воду тающих снегов, кислородные станции питают огромные города и поселки на скрещении каналов. Эти города прекрасны и необыкновенны. Если бы люди могли увидеть их в мощные телескопы, они напомнили бы им клочки пены, состоящие из тысяч сверкающих пузырьков. Груши драгоценных камней возвышаются они над поверхностью планеты. Куполообразные здания из прозрачной пластмассы герметически закрыты — в них созданы искусственная атмосфера и климат. Люди выходят из домов в сферических колпаках-скафандрах с достаточным запасом кислорода. А если этот запас кончится, вдоль всей оросительной системы, на равных расстояниях расположены кислородные заправочные станции-колонки.
Как было уже замечено астрономами, сеть каналов распределена так рационально, что ни одна точка поверхности планеты не удалена от них более чем на триста километров… Одной заправки с избытком хватает для преодоления этого расстояния.
Когда-то, в незапамятные времена, атмосфера Марса была пригодна для жизни. Флора и фауна были богаче, жизнь напоминали земную, и так же, как на Земле, планету раздирали междоусобицы и войны. Но природные условия изменились, и перед лицом гибели марсиане объединились. Только дружной семьей, направив всю технику на борьбу с природой, можно было надеяться на победу.
— И, разум победил. Может быть, понадобится приближение космической катастрофы, чтобы все жители Земли последовали нашему примеру.
Так закончил одно из своих выступлении Марси Уаи.
Как выяснилось, марсиане не носит имен в нашем земном понимании, а обозначаются сложной нумерацией, и которую входит, кроме индивидуального номера, обозначения канала и города или поселка. Имя марсианина является одновременно его точным адресом. Так как имена межпланетных гостей показались очень сложными, а на Земле их было всего трое, то, сохраняя марсианский обычай, их называли просто: первый, второй, третий.
В конце выступления последовал ряд вопросов.
Вопрос. Чем питаются марсиане, и все ли марсиане вегетарианцы?
Марси Уан. Вегетарианская пища обусловлена бедностью марсианской фауны. С переходом к искусственным условиям жизни, слитком большой расточительностью было бы тратить кислород на домашних животных. На Марсе, кроме простейших кишечнополостных и червей, сохранились некоторые виды рыб, членистоногих и пресмыкающихся, яйца которых мы употребляем в пищу. Эти виды сумели приспособиться к новым условиям. Ведь кислород на нашей планете все же существует!
Вопрос. Значит, на Марсе нет птиц?
Марси Уан. Существование летающих животных затруднено еще и малой плотностью атмосферы, по встречаются полулетающие животные, вроде ваших кузнечиков. На Марсе ведь все живое передвигается прыжками. Эти же условия повлияли на развитие нашей техники. Я в свое время уже упоминал об отсутствии у нас колесных механизмов. Земная техника рождена высоким тяготением. Для передвижения тяжестей первобытный человек подкладывал катки, ил которых родилось колесо. У нас это решалось иначе. Первые транспортные механизмы были шагающие или прыгающие на суставчатых ногах, из прыжка родилась авиация, отсюда — прямой путь к ракете.
Вопрос. Наблюдают ли с Марса Землю и что там о нас знают?
Марси Уан. Наши оптические приборы, насколько я успел ознакомиться, сильнее ваших. Вернее назвать их не оптическими, а электронными. Мы свободно различаем на поверхности Земли города и селения, а в год последнего противостояния мы наблюдали даже на улицах городов движущиеся точки. На Марсе до сего времени считают их жителями Земли, мы же теперь поняли, что это автомобили.
Вопрос. Почему вы не прилетали раньше?
Марси Ту. Мы ждали окончания ваших бесконечных войн.
Вопрос. Какой у вас образ правления?
Марси Ту. Нами руководит Совет инженеров. Оплата труда натуральная. Денежной системы у нас нет. Этим мы избегаем накопления и захвата власти отдельными лицами, что было бы гибельно для мира, в котором мы живем. Эту тему мы подробно осветим в отдельном докладе.
Голос в зале. Прыгающие социалисты!
Вопрос. Следует ли понимать, что вам не нравится наш образ жизни?
Марси Уан. Мне очень нравится гостеприимство, с которым нас принимают, но я воздержусь от точного ответа, так как я и мои товарищи не имели еще времени подробно ознакомиться со всеми сторонами вашего быта. Кроме того, нам для сравнения нужно изучить образ жизни других областей планеты.
Вопрос. Известно ли вам ядерное оружие?
Марси Уан. Зачем ядерное или какое бы то ни было оружие па планете, где уже несколько тысячелетий нет войн? Мы владеем атомной энергией — без этого была бы невозможна наша культура.
Вопрос. Употребляют ли на Марсе спиртные напитки?
Марси Уан. Нет.
Марси Три. Я впервые познакомился с ними у вас на банкетах.
Голос из зала. И каково ваше мнение об этой штуке?
Марси Три. Я постараюсь захватить несколько бутылок, улетая с Земли.
Вопрос. А как обстоит дело с преступностью?
Mapси Уан. Основным преступлением считается глупость. Уличенные в ней не допускаются к руководящим постам и направляются в специальные заведения, где им стараются привить хотя бы чувство юмора.
Вопрос. Цель вашего посещения Земли?
Марси Уан. Мы надеемся, та же, что руководит вами, когда вы готовитесь к аналогичным полетам.
Вопрос. Каковы женщины на Марсе?
Марси Три. Они все блондинки.
Оживление в зале.
— После того как ты выдумал нам язык, следовало бы укоротить твой собственный! — с раздражением сказал Тэд, когда они вернулись с пресс-конференции. — Кто тебя дернул говорить о блондинках, когда все знают, что марсиане лысые! Теперь придется обратить это в шутку, и еще неизвестно, во что это выльется.
Лори молчал, виновато моргая.
— Ты знаешь, Джо, что он сказал вчера на банкете, когда ты ездил с докладом в институт? Этот тип напился и заявил, что он гриб. Он заявил, что мы грибы, анероидные грибы или что-то в этом роде, что население Марса произошло от грибов, подобно тому как на Земле — от обезьян. Мне пришлось болтать бог весть что, чтобы поставить все на место. К счастью, все были пьяны. А ты тоже хорош! Зачем ты выскочил со своим социализмом? Мы должны хорошо обсудить, что ты будешь говорить о социальной системе. Нельзя сразу раздражать этих людей.
— Если бы я перенес на Марс их пресловутые образ жизни и рассказал о нем, так сказать, глядя со стороны, это показалось бы настолько диким, что они перестали бы верить, что мы марсиане.
— Да… и мы-то стали это понимать, только «приземлившись», — сказал Тэд.
В комнату шумно ворвался Майк и уселся на ручки кресла.
— Вы здорово придумали про блондинок. Лысые женщины никак не прошли бы в нашем городе. Не знаю, как у вас там, но я напишу, что когда-то все марсиане были волосатыми, как старик Эйнштейн, и марсианки в память об этом носят золотистые парики. Это будет клад для союза парикмахеров, и мы сорвем на этом изрядный куш.
— Бросьте шутить, Майк. Скажите лучше, что о нас пишут?
— Вы же знаете. — Майк ударил по куче лежащих на столе газет.
— А там, за океаном?
— То же самое и другой вздор. Во всяком случае, пока прессу делаем мы, а пресса — вас, вам нечего беспокоиться. Я думаю, вы уже поняли, что значат па нашей планете деньги. Конечно, хорошо говорить правду, по перед каждым выступлением советуйтесь со мной. Мы найдем массу всяких пустяков для рекламы. Не забывайте, что пресса живет рекламой.
Джо искоса взглянул на Тэда, но Тэд не разделял его подозрений. Этот парень, который никак не хотел от них отстать, располагал к себе своей шумной энергией и оптимизмом нему определенно нравился.
Майк встал с кресла.
— Там, внизу, вас ждет один добряк продюссер. Вы знаете, что это значит? Будьте с ним повежливее и старайтесь не продешевить. После нас, газетчиков, кинематографисты — самые стоящие люди. — С этими словами, не спросив разрешения, Майк выбежал из комнаты звать добряка наверх.
Глава XV, В КОТОРОЙ МАСЛО ВСПЛЫВАЕТ НА ПОВЕРХНОСТЬ
Друзьям казалось, что счастье наконец развязало своп мешок. Различные предложения, контракты и пухлые пачки кредиток сыпались прямо оттуда, с дымного городского неба. — Это очень милая контора на главном авеню, — сказал Тэд, выходя на балкон, где, удобно развалившись с плетеных креслах, ждали его Джо и Лори. — Совсем скромная. На дверях я заметил вывеску «Тоди Райт и Тоди», но меня водили по стольким коридорам, что, боюсь, я очутился совсем в другом доме. По тому, как секретарь ввел меня в кабинет, видно, что это немаловажная птица, этот джентльмен. Очень славный пожилой джентльмен. Сперва он долго уверял меня, что я марсианин, хотя я сам это отлично знаю, а потом стал говорить о том, что если мы марсиане, то, очевидно, прилетели с Марса. — Логично, — процедил Джо. — Я не стал его разубеждать. Тогда он начал выкладывать начистоту. Если мы прилетели оттуда и сами вели снаряд, то, очевидно, знакомы с его конструкцией. — Он не лишен проницательности. — Тем более, что о наших технических способностях ему кое-что известно. Тук вот, они или он — я так не понял, от чьего имени он говорил, — могут предложить сумму, которая нам и не снилась, за полную техническую документацию ракеты, всех находившихся в ней приборов, а также за секрет источника энергии. Так как он понимает, что сразу это невозможно сделать, нам будет предоставлено конструкторское бюро с проверенными сотрудниками и лучшие лаборатории. — Вплоть до лаборатории X? — Судя по его тону, он располагает даже этим. За все остальное, чем мы сможем заинтересовать их из марсианской техники, будет заплачено особо. Потом он бормотал что-то о патентах, а когда я притворился, будто ничего не знаю об этих штуках, прочел мне лекцию на этот счет, снова вернулся к принципам наших приборов и технологии полимеров, вскользь упомянув о взрывчатых веществах, но я понял, что это больше всего их интересует. — Ты согласился? — спросил Лори. — Нет. Я сказал, что такая щедрость не очень нас прельщает, так как мы не утратили надежды вернуться на Марс, где деньги не нужны, и не лучше ли было бы помочь нам в этом деле. Если всем известно, что одно из государств уже опередило их в космосе. Мне ответили, что фирма оставляет за собой право осуществить проект, когда сочтет нужным, или использовать его для другой цели. За это нам платят такие деньги, с которыми мы сможем спокойно ждать возвращения на родину, чувствуя себя как в раю, если о таком месте известно на Марсе. После этого он намекнул, что отказ сильно повредит нашему престижу, и просил ответить через три дня. Я дал ему понять, что не очень дорожу этим престижем, и продолжал настаивать на своем. Тогда он смягчил тон и сказал, что фирма может предложить нам сотрудничество и работу на своих заводах, причем лишь от нас будет зависеть осуществление проекта такого масштаба, чтобы утереть нос любому государству. При этом он стал болтать о патриотизме, но, очевидно, понял, что призывать к этому марсиан не очень уместно, и замолчал. Расстались мы очень мило. Джо нахмурился и молчал, Лори боялся говорить первым, чтобы не попасть впросак, а Тэд, ожидая, что скажут друзья, облокотился на перила и молча смотрел вниз. Из маленького, как лесной клоп, автомобиля, вышел человек в ярком пиджаке и розовых брюках. С высоты казалось, что он без штанов. Тэд улыбнулся и повернулся к друзьям. — Чему ты смеешься? — спросил Джо. — Так… увидел одного типа… — Какого черта ты мог увидеть с эдакой высоты? — Клянусь, он ходит без штанов. — Нашел чем развлекаться в такое время! — Это просветляет мозги, — сказал Тэд. — А в такое время это главное. — Так или иначе, они вытянут из нас все, что найдут для себя нужным. Ведь не для этой своры мы затеяли всю возню? — Вытянут или сотрут в порошок, — вставил Лори. — Это будет очень скверный порошок. Вряд ли он кому-нибудь пригодится. Слишком много людей нашло около нас кормушку. — А я иногда думаю, не ударить ли их по носу первыми. Славный вышел бы переполох в осином гнезде, — сказал Джо. — Мы всегда успеем это сделать. Помните, мальчики, о чем мы говорили в каморке Лори? Наш маленький бизнес с переодеванием перерос самого себя и, как ни странно, может приблизить нас к смутной мечте, которая тогда родилась. Ведь, если они готовят серьезный полет, это не обойдется теперь без нас. — Если мы выдержим этот маскарад. — Нужно стараться, Джо. Раз мы начали, нужно продолжать до конца. — Боюсь, потом будет слишком поздно — башня начинает качаться. — Пока мы обдумаем все это, не говорите ничего Майку: в случае отказа он сочтет нас сумасшедшими. — Он готов сделать бизнес и на нашем провале. — Напрасно ты так плохо о нем думаешь. — Я просто знаю, что мы остались одни, но, пожалуй, твой Майк лучше, чем все эти типы, которые лезут к нам в друзья… — …и от которых, надо сказать, он хорошо нас ограждает. — Просто не хочет с ними делиться. К дьяволу твоего Майка, лучше решим, что делать дальше. Лори подумал, что, пока эти двое решают, неплохо было бы немного освежиться, и незаметно улизнул с балкона. Он прошел комнату и открыл дверь. В дверях стоял человек в розовых брюках Лицо его мало соответствовало их нежному цвету. — Тэд, — позвал Лори. — Иди, тут пришел твои знакомый. Человек вошел и развязно развалился в кресле. — Хэлло, ребята! — сказал он. — Что вы скажете о ста тысячах? Тэд поблагодарил его за щедрость. — Нам только что предложили немного больше, — вставил Лори. — Тем более нет оснований торговаться. Я знал, что вы парни сголовой. — И за что вы предлагаете нам такую сумму? — с растущим раздражением спросил Джо. — Вы плохо меня поняли. — Говорите яснее. — Вы дадите мне эту сумму. — Я уже попросил вас выражаться яснее, черт возьми! — Некоторые люди, от имени которых я пришел, заинтересовались масляными пятнами на поверхности одного озера. — Нефтяные акции нас не интересуют. — Перестаньте вилять, ребята. В это озеро были спущены водолазы и нашли там грузовик и некоторые другие предметы. Мы предлагаем вам купить эту машину всего за сто тысяч. Мы знаем, что вы имеете гораздо больше на этом дельце, и просим так дешево только потому, что машина не на ходу и порядочно отсырела. Сто тысяч, и валяйте свою игру дальше. — Мастер? — вежливо спросил Тэд. — Мистер Толби, к вашим услугам. — Мистер Толби, не считаете ли вы, что Марс населен кретинами? — Марси… Простите, я не знаю вашего номера. — Марси Уан. — Мистер Марсс Уан, я всегда рад встретить умного противника. — Я не разделяю вашею восторга. А кому вы сплавите вашу рухлядь, если мы откажемся ее купить? — Я не думаю, что вы нас так огорчите. — Вы знаете, что пресса имеет на этом, как вы говорите дельце, гораздо больше нашего? — Предполагаю — И кто стоит за спином прессы? — Угу… — неопределенно промычал гость. — Остается правительство… Вы видели когда-нибудь правительство, которое хотело бы стать посмешищем из-за старого грузовика? — Я думаю, вам все же следовало бы его купить, — задумчиво сказал обладатель розовых брюк. — Ей-богу, мы не можем уступить дешевле. — Выгони его вон! — предложил Джо. Гость поспешил встать, пока Лори широко раскрывал дверь. — Вот это да! — сказал Лори, когда дверь захлопнулась. — Башня дала трещину, — подвел итог Джо. Тишину нарушил телефонный звонок. В трубке трещал голос Майка. Одному из бесконечных комитетов межпланетного сотрудничества на вечер необходимы были марсиане. Джо сперва выругался в трубку, а потом дал согласие, потому что лучше ведь, черт возьми, развлечься и потолкаться среди людей, чем киснуть в этим проклятом номере после таких передряг. Когда марсиане вышли из машины, они, как всегда, оказались среди кишащей у подъезда толпы. Сотни людей толкались, чтобы разглядеть их поближе. Сотни любителей автографов протягивали карточки и блокноты. Маленькая, записная книжка особенно назойливо преграждала дорогу Тэду. Доставая авторучку, Тэд рассеянно поднял глаза и увидел Бетси.Глава XVI, В КОТОРОЙ МАЙК ПРОЯВЛЯЕТ БЕСПОКОЙСТВО
Необычное оживление и скрип кресел прервали на полуслове доклад Лори о марсианской литературе. Все встали, чтобы поглазеть на группу, только что вошедшую в зал. Председатель с трудом установил тишину. Когда доклад был закончен, седая дама с кольцами на руках попросила слова для внеочередного сообщения. Мисс Дональдо-Аршевская, патронесса многих теософских обществ, сообщила о необычных явлениях, нарушивших ее последний спиритический сеанс. Потусторонние стуки участились, как звук радиопередачи, встретивший помехи в эфире. Сквозь задернутые занавески в комнату проник странным зодиакальный снег. Все бросились к окнам и явственно увидели светящееся блюдечко, которое проплывало на уровне соседних крыш. Приблизившись к окну, оно как бы растворилось в пространстве, а затем в комнате появилась легкая туманность, материализовавшаяся на глазах у всех в пришельца неземной красоты. Мисс Дональдо замолкла, наслаждаясь произведенным эффектом. — И он, нездешний гость из далеких галактик, сейчас здесь, рядом с нами! — выкрикнула она наконец кудахтающим голосом, направилась к роялю и заиграла каком-то религиозный гимн. Гимн был подхвачен девицами и заросшими юнцами неопределенного возраста, столпившимися в проходе. Мимо них важно шествовала к эстраде живописная фигура, облаченная в прозрачный газ. Бльшая часть зрителей встретила этот балаган улюлюканьем и дикими звуками импровизированного джаза. После небольшого скандала пришелец из далеких галактик со всей сисей компанией был выдворен. Прощаясь, председатель общества, профессор философии и права одного из старейших колледжей, долго извинялся перед марсианами. Следующий день прошел без происшествии, если не считать визита Боба и Роя. Неизвестно, как они проникли сквозь все рогатки, хитроумно расставленные Манком против армии любопытных, но, но всяком случае, они были здесь и клялись, что только крайне важное дело заставило их так бесцеремонно ворваться к марсианам. Тот, которого звали Боб, видно, очень стеснялся и смущенно мял в руках шляпу, не зная, куда ее пристроить. — Поверьте, мы не посмели бы надоедать вам, — сказал он. — Я и Рой много слышали о вас и вашей чудесной планете, и хотя нам никогда не приходилось встречаться, нам всегда очень этого хотелось. — Очень, — подтвердил Рои и покраснел, как девица. — Кроме того, мы думали, что вам не мешало бы кое-что узнать, о чем пишут или, вернее, хотели написать в нашей газете. — Да, мы из газеты, но, пожалуйста, ни слова об этом. — Вряд ли они станут болтать. Дело в том, что кое-кто принес в нашу редакцию письмо, которое могло бы вам повредить, если бы мы не были убеждены, что вы настоящие марси. Шеф тоже не поверил этим типам. — Шеф сказал, что сам знает, о чем нужно писать, и выставил их вон, — вставил Рой. — Так вот, мы решили, что вам интересно было бы об этом узнать, и достали копию этой заметки. Вот она. — Боб протянул сложенный листок. — Какая-то глупая история с автомобилем. Тэд небрежно пробежал глазами листок: — Спасибо, мы тоже выставили за дверь этих типов. — Поймите, — перебивая друг друга, заговорили вместе Боб и Рой. — Шеф был бы очень недоволен, узнав, для чего мы здесь. Вас окружает слишком много глаз. Мы бы очень просили ответить па несколько вопросов. Это оправдает наше посещение. — Валяйте ваши вопросы, и поскорей, — предложил Джо, с то время как Тэд только улыбался, глядя на их смущенные лица. — Очень милые мальчики, — бросил им вслед Лори, когда они ушли. Нельзя сказать, чтобы Майк был в восторге, когда ему рассказали об этом посещении. — Вы говорите, Боб и Рой? Я что-то не слышал о та кик парнях. Впрочем, не могу же я знать всех сосунков из бульварных газеток. Хорошо, что вы отделались только глупым интервью. А это, — Майк показал на брошенную на стол бумажку, — все равно никто не стал бы печатать, пока это невыгодно большой прессе. Но посмотрите, что пишут подобные грязные листки. Майк стал вытаскивать из всех карманов смятые газеты и торопливо листать страницы. — Полюбуйтесь, — наконец показал он на то, что искал. Описание вчерашнего происшествия было приукрашено совершенно невероятными подробностями. Очевидно, это пришлось по вкусу многим бездельникам, которым не хватало собственных оригинальных идей, так как в ближайшие дни межзвездные скитальцы посыпались как горох с газетных страниц на землю. Большинство из них скоро разоблачили, только один, прилетевшим якобы с Венеры на утонувшем в океане снаряде, подвизался на модном южном пляже среди курортников, а затем, объявив себя баптистом, завоевал шумный успех в провинции. Он продержался дольше всех. — Все это подстроено, — раздраженно говорил Майк. — Кто-то хочет вас скомпрометировать, и я знаю зачем. До сих пор вы тянете и не даете согласия фирме, а у ассоциации достаточно средств, чтобы защитить или уничтожить своих марсиан.
— Мы еще не решили у них работать.
— Не думаю, что вы сделаете такую глупость. — Майк серьезно посмотрел на друзей. — Не забывайте, что от них зависим и мы. Вы можете кончить так же, как этот сброд: в лучшем случае — аттракционами в луна-парке, рядом с женщиной-пауком или говорящим тюленем. Если вы только не поворочаете своими марсианскими мозгами и не придумаете новую штуку.
— Об этом рано говорить, — ответил ему Тэд. — Я просто сказал, что мы еще не дали согласия.
— Поступайте как знаете, только помните, что я вас не брошу, как Рувинский.
— Кстати, где он? — спросил Тэд.
— Бедный старый Арчибальд чуть не умер от страха после того вечера и наотрез отказался снова заняться вами. Сейчас он возит за границей сестер Польди.
— Вы хороший друг, — сказал Тэд. — Но можете ли вы забыть свою профессию и быть только другом?
— Постараюсь.
— Может быть, странно говорить об этом в таксе время… Вы можете представить, что марсианину понравилась земная девушка?
— Ну да… Марси Три доказывает это ежедневно.
— На этот раз он тут ни при чем.
— Чудесный заголовок: «Женщина-вампир и три бедных марси». — Майк засмеялся и чуть не свалился с ручки кресла.
— Не смейтесь, Майк. Вы можете наконец забыть, что вы газетчик?
— Дорогой Уан, заголовок не состоится… Но когда вы успели?
— Завтра в одиннадцать часов к вам обратится девушка. Попросит устроить ее к нам. Нам давно нужна секретарша, а если мы примем предложение ассоциации, она нам особенно потребуется.
— Вы всегда всем отказывали, — сказал Майк, снова удобно устраиваясь на ручке кресла.
— А это нам подходит.
— В вестибюле толпятся дюжины две девушек с подобными предложениями. Я мог бы составить целый штат.
— Она назовет себя Бетси… Бетси Флетчер.
— Я думал, речь идет о вашей старой знакомой, мисс Олсоп.
— Амалия очень милая девушка, Майк. Нам приятно иногда поболтать с ней… но не слишком долго.
— Кажется, она это поняла и давно не появлялась. А с этой… Флетчер, вы сказали?.. все будет о’кэй.
— Все это подстроено, — раздраженно говорил Майк. — Кто-то хочет вас скомпрометировать, и я знаю зачем. До сих пор вы тянете и не даете согласия фирме, а у ассоциации достаточно средств, чтобы защитить или уничтожить своих марсиан.
— Мы еще не решили у них работать.
— Не думаю, что вы сделаете такую глупость. — Майк серьезно посмотрел на друзей. — Не забывайте, что от них зависим и мы. Вы можете кончить так же, как этот сброд: в лучшем случае — аттракционами в луна-парке, рядом с женщиной-пауком или говорящим тюленем. Если вы только не поворочаете своими марсианскими мозгами и не придумаете новую штуку.
— Об этом рано говорить, — ответил ему Тэд. — Я просто сказал, что мы еще не дали согласия.
— Поступайте как знаете, только помните, что я вас не брошу, как Рувинский.
— Кстати, где он? — спросил Тэд.
— Бедный старый Арчибальд чуть не умер от страха после того вечера и наотрез отказался снова заняться вами. Сейчас он возит за границей сестер Польди.
— Вы хороший друг, — сказал Тэд. — Но можете ли вы забыть свою профессию и быть только другом?
— Постараюсь.
— Может быть, странно говорить об этом в таксе время… Вы можете представить, что марсианину понравилась земная девушка?
— Ну да… Марси Три доказывает это ежедневно.
— На этот раз он тут ни при чем.
— Чудесный заголовок: «Женщина-вампир и три бедных марси». — Майк засмеялся и чуть не свалился с ручки кресла.
— Не смейтесь, Майк. Вы можете наконец забыть, что вы газетчик?
— Дорогой Уан, заголовок не состоится… Но когда вы успели?
— Завтра в одиннадцать часов к вам обратится девушка. Попросит устроить ее к нам. Нам давно нужна секретарша, а если мы примем предложение ассоциации, она нам особенно потребуется.
— Вы всегда всем отказывали, — сказал Майк, снова удобно устраиваясь на ручке кресла.
— А это нам подходит.
— В вестибюле толпятся дюжины две девушек с подобными предложениями. Я мог бы составить целый штат.
— Она назовет себя Бетси… Бетси Флетчер.
— Я думал, речь идет о вашей старой знакомой, мисс Олсоп.
— Амалия очень милая девушка, Майк. Нам приятно иногда поболтать с ней… но не слишком долго.
— Кажется, она это поняла и давно не появлялась. А с этой… Флетчер, вы сказали?.. все будет о’кэй.
Глава XVII, В КОТОРОЙ СНОВА ГОВОРЯТ О ЗВЕЗДЕ
Теперь их снова было четверо, и маленькая девушка, утонув в большом кресле, с укором смотрела в глаза Тэда. — Почему ты молчал? — Я не знал, что из всего этого может выйти, Бетси. — Все равно ты должен был сказать. — Хорошо, что ты никогда ни о чем не спрашивала. Я, может, и рассказал бы, если бы это дело касалось меня одного. — Ты знаешь, если бы не Рики, я не узнала бы тебя на снимках. Он узнал тебя в телевизоре и сказал об этом только мне. Он тоже хотел приехать, но мы решили, что сейчас это ни к чему. Он был очень огорчен. Правда, мы вызовем его к себе, когда все будет хорошо, Тэд? А маме я сказала, что тетя Польди обещала мне место в городе. — Я хотел найти тебя, когда все будет хорошо. Сейчас, может быть, будет очень трудно. Не знаю, появилась ли ты вовремя. Сейчас будет очень трудно, — грустно повторил Тэд. — Я не знаю, чем кончится работа, которую нам предлагают. Боюсь, что ничего хорошего она нам не принесет. — Самое разумное было бы уехать отсюда, — сказал Джо. — Куда? Мы то и дело пытаемся вырваться. — Ты видел это? — спросил Джо. Порывшись в иностранных журналах, он протянул Тэду один из них. Под необычным заголовком врезалась в ночное небо островерхая башня. На вершине ее красным светом сияла звезда. — Мы мечтаем о звездах, а об этой еще очень мало знаем. Тэд молча смотрел на страницу и тоже думал, о том, как мало он знает об этой далекой стране, а она ведь ближе всех подошла к осуществлению его мечты. — Да, мы очень мало о них знаем, — наконец проговорил он, отдавая журнал. — Кроме того, что они, того и гляди, окажутся первыми на нашем Марсе. — Ты хочешь сказать, что нам лучше было бы работать с ними? А ты подумал о том, что с ними трудно будет столковаться? Они, кажется, не очень верят в сказки. — В таком маскарадном виде, пожалуй, действительно трудно, а насчет того, во что они верят — ведь у них тоже есть своя звезда, — Успокойся, — сказал Тэд. — Нас все равно никто туда не пустит, а если мы не примем предложения этого босса, то сможем, пожалуй, продержаться здесь всего два года. — Откуда такая точность? — До ближайших выборов. Сейчас они ограничатся мелкими укусами, но, если к власти придет другая партия, легко будет свалить скандал на предшественников. — Бедные мы марсиане, — вздохнул Джо. — прилетели, чтобы наняться на вонючий завод. Всю жизнь, сидя на Марсе, мечтал мастерить для них хлопушки. Мы могли это делать гораздо раньше — через биржу труда. — Не горячись, — сказал Тэд. — Теперь совсем другое дело. Не забывай, что мы свалились к ним с неба. Господа земноводные, говорим мы им, или уважаемые сэры, как вас здесь называют, до сих пор вы прыгали, как лягушки, силясь оторваться от своей планеты. Мы прилетели к вам с чисто благотворительной целью, предоставьте нам свои лаборатории, кибернетические машины, придуманные для замены ваших жалких мозгов, и мы повезем вас в небольшую экскурсию по Вселенной. В порядке помощи слаборазвитым странам. — Господа марси, скажут эти типы, закатывайте рукава и беритесь за дело, мы посмотрим, на что вы способны, а маршрут мы уж наметим сами. — Если в этом деле запахнет порохом, ми сможем насыпать им в лягушку дроби, как сделал это парень из Калаверасса в рассказе дядюшки Твена. — Боюсь, что раньше тебе всыплют хорошую порцию дроби другое место. — Неужели у тебя не появилось ни на грош оптимизма после того, что мы навертели? — Вы сказали, что нас сейчас не тронут, — вмешался Лори. — А в течение двух лет можно придумать какую-нибудь новую штуку. — К сожалению, решать нужно сейчас.Глава XVIII О ТОМ, НА ЧТО РЕШИЛИСЬ МАРСИАНЕ
Теперь, когда Тэд и Джо целые дни проводили на заводе или ракетных полигонах, Лори приходилось принимать посетителей, писать статьи и с помощью Бетси вести всю переписку марсиан. — Я сегодня принимал старого чудака иностранца, профессора, — сказал однажды Лори. — Не думаю, чтобы он очень нам верил, но, во всяком случае, он толковал о мире и говорил, что в этом мы должны помочь людям, если мы действительно марсиане. — Твой профессор может быть спокоен: «Циклон» никуда не полетит, пока мы этого не захотим. — А нас не вышибут за это вон? — Рано или поздно это случится. — Тогда не лучше ли самим кончать этот маскарад? Джо, ты как-то намекал на маленький переполох, — сказал Лори. — Боюсь, для этого мы упустили время, — возразил Тэд. — Сейчас, когда мы связались с этим заводом, просто разоблачить себя, не заручившись поддержкой, невозможно. Они съедят нас живьем. — Но самое главное — так или иначе нужно покончить с этим грязным делом. — Плохо, что мы должны обманывать тех, на кого могли опереться, — сказал Джо. — По-моему, мы уже никого не обманываем, — устало макнул рукой Тэд. — Нами еще интересуются либо чудаки, либо шпионы, а наша башня так раскачалась, что я не вижу способа слезть, не сломав себе шеи. …Ждать им пришлось недолго. Бурная жизнь гостеприимном планеты, на которой так уютно могли бы устроиться трое марси, беспокойный нрав ее обитателей неожиданно вовлекли друзей в новые события. «Волнения на заводе «Циклон» охватывают новые предприятия», «Подстрекатели с того света», «Хватит нам своих» — Майк свирепо подчеркивал ногтем жирные заголовки. — Объясните мне, что это значит? — Мы же не виноваты, что ваша конституция дает право рабочим бастовать. — Но какого черта вы влезли в эту историю? — Один из основателен вашей демократии говорил следующее: «Мне нравится система, при которой каждым трудящийся может по своему желанию бросить работу». Видите, он был даже этому рад, этот человек, а мы видели памятники, поставленные ему во многих городах, — им до сих пор не перестают восхищаться, — сказал Джо. — Чем же вы недовольны? — Поймите, что мне наплевать на ассоциацию и ее заводы, но вы сами рубите сук, на котором сидите. Сумасшедшие люди или черт знает, кто вы такие! — Мы не затевали этой истории, — стараясь успокоить Майка, продолжал Джо. — Началось с того, что администрация нажала на ребят. Одной стране с большими претензиями (у нас она называлась бы просто «междуканальная зона 73», а здесь именуется государством, оно состоит с вами в союзе) зачем-то понадобились ракеты. Конечно, не для космических прогулок. Ракеты им понадобились очень срочно, и администрация здорово нажала на ребят. Они и воспользовались своим правом. — Джо старался говорить спокойно, едва сдерживая злость. — Так как нас тоже заставили делать эти штуки, мы не могли оставаться в стороне. Даже улетев отсюда, нам не хотелось бы видеть, как ваша Земля разорвется на части. Надо сказать, что ребята на заводе сперва относились к нам с предубеждением, но, когда мы познакомились ближе, то нашли общий язык. — И это все? По-вашему, очень просто. — Нет, не все, — в свою очередь, вспылил Тэд. — Чего мы могли ожидать, отправляясь на небольшую планету, наделенную прелестным климатом, водой и всеми, так сказать, удобствами для квартиронанимателей? Свирепых чудовищ, пожирающих друг друга? Первобытную культуру, то есть людей, пытающихся навести здесь какой-то порядок? Развитое государство с циклопическими храмами, воинами и жрецами, приносящими человеческие жертвы во имя какого-нибудь божества? Люден, владеющих машинами, чтобы поработить друг друга? Или людей, ставших рабами машин? А может быть, высокую технику, интеллект и разумный, справедливый общественный строй? Ваши писатели-фантасты писали, что все это существует уже на Марсе и других планетах. К своему удивлению, мы встретили на Земле поразительную смесь. На площади всего в пятьсот девять миллионов квадратных километров умудрилось разместиться то, чего хватило бы на добрую сотню обитаемых миров: скопище культур самой разном степени развития, языков, религии, богов и божков, и все это, так сказать, в провинциальном масштабе. Причем достигшие, казалось бы, высшей ступени превосходят прочих в желании тузить и угнетать соседей. Ваш пресловутый свободный мир роднит лишь преклонение перед тем, что здесь называют деньгами. Свободно собирать дрянные бумажки — основная цель каждого отдельного лица или государства. И еще — желание во что бы то ни стало раздавить другую часть планеты, которая осознала это безумие. Людей, желающих объединиться, чтобы идти по дороге разума, называют красными и всячески преследуют. Мы гордимся, что наша планета такого цвета. Действительно, стоило лететь издалека, чтобы увидеть ваш бедлам… — …и понять его нелепость, — добавил Джо. — Поэтому, — переведя дыхание, продолжал Тэд, — мы приготовили для вас новую сенсацию. Не знаю, как вы к ней отнесетесь. Мы когда-то обещали, что все новости будут проходить через ваши руки. Читайте. — Он протянул Майку исписанные листы. — Вы написали на этих листах все, что сейчас сказали? — В несколько более мягкой форме. Прочитав первые строки, Майк поднял глаза на марсиан. На его лице было удивление и несвойственная ему серьезность. — И вы решились на это именно теперь? — спросил он, кончив чтение. — Вы хотели, чтобы это случилось раньше? — Я не буду от вас скрывать, ребята… — Жизнь больного в опасности? — Я не буду скрывать, что дела наши… — Майк сделал гримасу и полез и карман за сигаретой, — что добрая половина человечества начинает скучать. — Вы говорили уже это и просили придумать новую штуку. — Вы восстановите против себя самую сильную половину, а остальные… — Мы все обдумали, Майк. Мы должны выйти из игры с честью. Вы думаете, что мы будем одни? В том-то и дело, что одни мы ничего не сможем. — Вы твердо хотите, чтобы я отдал это в печать? — Да, Майк, и как можно скорее. Майк сложил бумагу и встал с кресла: — Я сделаю все, что смогу, но я-то один… Когда он направился к двери, Тэд подошел к нему и взял его за локоть: — А вы верите в нас, Майк? — Я был бы совсем негодным журналистом, если бы верил во все, что пишу. Но я люблю вас. И знаете, за что? Это очень трудно, будучи марсианином, остаться настоящим человеком. На следующий день газеты опубликовали следующее заявление марсиан: «Наблюдая Землю, маши ученые видели периодически возникающие световые вспышки. Вспышки эти косили характер цепочек, передвигавшихся по поверхности планеты. Мы предположили, что это были огни войны, по которым на Марсе довольно точно определили границы некоторых государств. В последнем столетии эти вспышки не наблюдались только па одном материке. Исходя из этого, мы считали этот континент самым миролюбивым, и именно сюда было решено направить наш снаряд. В последние годы наступило затишье на всей планете. Атомные взрывы в пустынных областях обоих полушарий, а также новые спутники Земли, несомненно искусственного происхождения, позволили заключить, что с окончанием войн люди перешли к грандиозным созидательным работам. Но, все же сомневаясь в точности этих выводов, мы, приземлившись, умышленно взорвали свой летательный аппарат, чтобы не дать возможность жителям Земли перенести свои воинственный пыл в другие миры. В течение короткого знакомства с земными нравами, особенно во время работы па ракетном заводе, мы убедились, что поступили правильно, и заявляем, что, пока у люден не восторжествует разум, мы не откроем своих секретов даже в том случае, если нам будут угрожать гибелью. Нам известно также, что с каждым годом на Земле растет стремление к миру. Поэтому мы всегда с радостью окажем техническую помощь в творческих стремлениях человечества, все свои знания мы готовы отдать только тем борцам за расцвет науки и мира во всей Вселенной, в искренности которых мы будем убеждены».Глава XIX О ВИЗИТЕ ДВУХ МУЖЧИН И РАЗГОВОРЕ ДВУХ ЖЕНЩИН
Как по волшебству, у марсиан кончились пышные приемы, пресс-конференции и заседания научных обществ. Газеты умолкли. Лишь сенсационные и порой скандальные мелочи еще находили место в бульварной прессе. По-прежнему еще собирались толпы зевак, сопровождая каждое появление марсиан, но иногда раздавались враждебные выкрики и угрозы. Прогрессивные организации, в свое время живо откликнувшиеся на мирный призыв марсиан, все же относились к ним с осторожностью, а порой с ироническим недовернем. Один Джо не терял надежды получить от них помощь. Он стал надолго исчезать и, как заметила Бетси, еще больше молчать и меньше ругаться. — Нельзя считать дураками тех, на кого хочешь опереться, — часто говорил он Тэду. — Они хотят знать правду обо всей этой затее, хотя, может быть, и понимают, что правду мы можем сказать только там. Под этим расплывчатым «там» друзья понимали неизвестный, раскинувшийся за океаном мир. Все навязчивей становилась мысль — вырваться, и как можно скорее. Среди наступившего затишья приглашение, полученное от одного из давно прекративших существование комитетов, удивило и обрадовало друзей. Комитет транспланетных культурных связей приглашал их для обсуждения «вновь возникших вопросов в связи с гуманистической декларацией марсиан», — туманно говорилось в письме. Прелесть весеннего дня не могла испортить даже противные физиономии шпиков, которые в последнее время, уже не пытаясь скрываться, всюду назойливо сопровождали друзей. Только Лори, казалось, не очень был рад поездке. Не лучше ли по-прежнему спокойно сидеть дома в окружении любимых книг? — Я не хочу ехать дальше, — жалобно начал он, когда машина остановилась на запруженном перекрестке. — Обидно тратить время на пустую болтовню. Они без меня прекрасно обойдутся. — Лори показал на черную машину, застрявшую несколько сзади. — Забавно было бы одурачить этих парией. — Пожалуй, это стоило бы сделать, — улыбнулся Джо. — Никто не заметит меня в толпе. — Если бы не твои привычки… — сказал Тэд. — Ей-богу, — заверил Лори, — подышу свежим воздухом и вернусь домой. — Ну что ж, — Тэд, вопросительно взглянув на Джо, — валяй! Оба с завистью смотрели вслед Лори, пока он не растаял с уличной толпе. — Как бы он что-нибудь не натворил, — с тревогой сказала Бетси. — Не беспокойся, — ответил Тэд. — Лори простак, но ровно настолько, чтобы вносить оживление в наше дело. Без него все давно бы решили, что марсиане очень скучные люди… Машины тронулись с места и длинной вереницей поползли через мост. — Ты не можешь себе представить, какие у них были мины, когда они заметили, что тебя нет! — сказал Тэд, заходя в комнату. — Особенно у рыжего. Лори перестал рассматривать свой подбородок и отложил зеркало: — Мне показалось, что появилось несколько волосков. — На тебя действует весна, — буркнул Джо. — Это просто сажа. В этом городе ее хоть отбавляй. — Ты, видно, провел время лучше нас, если не успел даже умыться. — Не очень скучал. На соседней улице меня узнали мальчишки, они сбежались со всего квартала. Я поспешил домой. И, вероятно, скучал бы больше вашего, если бы не эти ребята… — Ты привел их сюда? — Нет, — сказал Лори. — Когда я вернулся, два милых мальчика возились здесь, как у себя дома. — Здесь? Какие мальчики? У тебя не двоится в глазах? — Я не знаю, как они зашли. Дверь была закрыта на ключ. Они очень удивились моему приходу, потом тот, которого называли Рой, ткнул мне пистолетом сюда, — Лори показал на среднюю пуговицу костюма, — попросил сесть и вести себя спокойно. Они перерыли все вверх дном. Я объяснил, что мы предпочитаем держать свое добро в голове, но они не очень хотели этому верить и захватили с собой уйму бумаги. По-моему, ничего существенного, кроме моей статьи о марсианской литературе. Ее придется начать сначала. — Ты молодец! — сказал Джо. — Тебе пришлось убирать комнату после этих свиней? — Конечно. Уходя, они предупредили, что я смогу поднять шум не раньше чем через десять минут. Когда они отойдут на пистолетный выстрел. Я сказал, что кричать не намерен, и предложил им виски. Пить они почему-то не стали. Этот случай не очень взволновал марсиан. Бльшим поводом для беспокойства был их бюджет. После быстротечной головокружительной славы им не хотелось соглашаться на предложения зрелищных предприятий, которые, по пророчеству Майка, одни еще интересовались марсианами. Все же пришлось вспомнить о выгодном договоре, заключенном некогда с одной кинофирмой. Он мог бы поддержать их еще некоторое время. В ближайшие дни студия приступала к производству многосерийного боевика по забытым романам Берроуза, и марсианам предстоял выезд для консультации и участия в съемках. Эта работа в случае удачи могла вновь возбудить к ним интерес общества. Приготовления к поездке немного отвлекали от мрачных мыслей. Накануне отъезда, когда Тэд и Джо просматривали какие-то бумаги, в комнату вошел Лори, который, по обыкновению, околачивался в холле, болтая с девицами и завязывая подозрительные, по мнению Джо, знакомства. — В вестибюле с утра торчит Амалия, — сообщил он, обдавая друзей опьяняющим запахом. — Черт ее возьми! Слишком уж часто она стала тут вертеться! — сказал Джо, делая пометку карандашом. — Соскучилась по тебе? — Я не стал бы о ней говорить, если… — Ну, что за «если»? — Если бы она не обрабатывала там Бетси. — Бетси? — спросил Тэд, откладывая бумагу. — Они воркуют, как две голубки. Тэд на минуту задумался. — Лориан, а не сходить ли тебе вниз, чтобы немного се развлечь? — Кого? Бетси? — Сколько ты выпил? Лори виновато уставился на друзей. — Лориан, — вразумительно произнес Тэд, — иди вниз и не поднимайся наверх, пока не выяснишь, что ей нужно. — Я же хотел это предложить, — обиженно сказал Лори и поспешил к двери. Вечером Тэд спросил у Бетси: — Ты, кажется, познакомилась с мисс Олсоп? — Она очень милая. Вспоминала ваши первые уроки. Смешно рассказывала о Лори. — Бетси улыбнулась. — И что еще? — Она говорила, как рада за меня, как мне повезло, что я попала к вам. Никому это не удавалось, даже ей. Она сказала, что ее почему-то не любит Майк, что ему нужны только деньги и бизнес, что нужно быть осторожными с такими людьми. — И что еще? — Ничего. Потом она, наверно, заметила, что мне это неприятно, и замолчала. Она очень откровенна, Тэд. Она даже созналась, что сперва думала, будто вы не марсиане, а просто ловкие парни. — Даже? — Я возразила, что парни такие не бывают, а она засмеялась и сказала, что я, значит, мало встречала парней, но все равно, вы трое — самые лучшие. Тут я чуть не проговорилась, что давно это знаю, по вовремя замолчала. — Хорошо, когда секретарши обладают этим свойством. — Ты плохо о ней думаешь, Тэд? — Она очень милая девушка, Бетси, и ты можешь с ней дружить, только старайся всегда соображать вовремя. — Ты же знаешь, что я не болтунья. — Она спрашивала о нашем отъезде? — Спрашивала, надолго ли и не думаете ли вы ехать в Европу. Я ответила, что не знаю, — ты ничего мне об этом не говорил. — Лучше бы она поговорила о себе. — Она еще расспрашивала о моем прошлом. Я рассказала о стариках, о Рики, о ферме, обо всем, кроме вас. Я сказала, что мне очень жаль маму, которую, может быть, никогда не увижу. — Почему? — Если мы уедем навсегда… — Ты сказала это Амалии? — Нет, Тэд. Ты знаешь, я не стала бы болтать. — Ладно, Бетси. А сейчас спокойной ночи, а да хранит нас бог, как сказал бы Генерал Грант. Тэд направился в свою комнату, но по дороге постучал к Джо: — Джо, ты можешь выругаться за меня? — Пожалуйста. — Джо разразился длинной руладой. — Еще. — Зачем это тебе нужно? — наконец спросил Джо. — Просто так, — ответил Тэд. — Спокойной ночи, Джо.Глава XX, В КОТОРОЙ СТАРИК ДАЕТ НОВЫЙ СОВЕТ
— С тех пор как бедняга Харли уехал на острова, старик беспокоит нас уже третий раз по поводу этих проклятых марсиан, — сказал один из сидящих за столом. — Я всегда говорил: не нужно было раздувать эту историю, а кончать сразу. Можно было поручить дело Барнету. — Вы же знаете, Уэнли, что скандал был бы слишком велик. — Сейчас он будет не меньше. — С самого начала мы замешкались и упустили время. Старик хотел во что бы то пи стало заглянуть в их карты. — Кто же думал, что им удастся бежать? — Харли виноват в этом меньше всего. Они ловко обошли всех нас. — Харли меня удивляет: он вел себя, как девица. — До этого он никогда не имел дела с марсианами. — Он был фантазер. В пашем деле нельзя увлекаться. — Я всегда говорил, что нужно кончать сразу, — упрямо повторил Уэнли. — Теперь мы всё зияем об этих париях и не можем решить, что с ними делать. — Они уже обошлись нам не дешево, даже если не считать того, что мы заплатили этим типам за негодный грузовик. — Можно разоблачить их, обвинить в подрывной деятельности, но после всего самим признать их обыкновенными людьми просто глупо. — Обыкновенные они или нет, но у них какие-то особые головы, и, что они в них держат, остается секретом. — Два ваших болвана не сумели даже чисто выудить никчемные бумажки, а ведь главное — узнать, на что они рассчитывают и что думают делать дальше. До сих пор вы не нашли к ним ключа. — Вы забываете про девчонку. — Знаю. Они мечтают удрать за границу. Это уже давно ясно. Так просто не отказываются от работы и денег. — Вы думаете, им предложили больше? — Вы примитивно мыслите, Уэнли, в этом секрет ваших неудач. Если бы они думали, как вы, все давно было бы ясно. — То, что они думают не так, как люди, с самого начала сбило всех с толку. — Однако есть люди, которые думают так же. — Вы думаете, ими руководят? — Не знаю, кто ими руководит, но о своих симпатиях спи заявили открыто. — Это только подтверждает мою мысль, — сказал Уэнли, — о чем я толкую все время. — Все для вас очень просто, но, к сожалению, приходится считаться с общественным мнением и прессой. Газетчики привыкли снимать с этого дела пенки. — А тут еще этот проклятый репортер, который сидит с ними, как наседка, всюду сует свой нос, мешает нашим людям… — С ним давно пора покончить, — сказал Уэнли. — «Ассоциация» до сих пор заинтересована в их секретах. Помните, с какой легкостью они решили вопрос с прыгающим вездеходом для исследования Антарктики? Очень интересно все, что удалось из них вытянуть, и есть основания думать, что это небольшая часть, а работая на заводе, они только усмехались и лопотали что-то по-своему; наши переводчики не всегда могли уследить за их болтовней. Нельзя допустить, чтобы они отдали все в чужие руки. — Старик очень зол и свалит все на нас. — Что вы скажете о теплом местечке на островах, Уэнли? Или на севере, если вам не нравится теплый климат?
— Когда у них не будет выхода, они могут завеять скандал, хотя бы для того, чтобы насолить нам.
— Не думаю, чтобы они это сделали. Ради скандала не стоило затевать такую штуку.
— Во всяком случае, они не станут этого делать, пока мечтают от пас вырваться.
— Не знаю, на что они рассчитывают, но никто их туда не пустит. — Уэнли повернулся к сидящему в кресле у окна. — Вы снова молчите. Что вы скажете на все это?
— Я рад вас выслушать, господа.
— Вы молчите, а потом снова скажете, что нужно выпустить марсиан и что это мнение старика.
— Вот именно. Мы их туда пустим.
Уэнли смял в руках соломинку и резко отодвинул стакан.
— Один раз такие штуки кончились плохо.
— На этот раз они могут бежать только туда. Вот мы и пустим их сами.
— Они увезут неплохой багаж, если у них в самом деле есть то, что нам нужно. Кроме того, я подозреваю, что именно там они постараются высмеять нас на весь мир.
— Старик дает иногда странные советы.
— Это не совет, а приказ, Уэнли. Странный стариковский приказ. Не забывайте, что старик с юга — он знает, как делать такие дела.
Говоривший хотел еще что-то добавить, но его прервал телефонный звонок. Когда он взял трубку, все с напряжением следили за его лицом.
— Хэлло!.. Это я, дорогая… Да, я уже свободен. Ну конечно, мы поедем в «Концерт-холл», Говорят, что в пятой симфонии он великолепен.
— Что вы скажете о теплом местечке на островах, Уэнли? Или на севере, если вам не нравится теплый климат?
— Когда у них не будет выхода, они могут завеять скандал, хотя бы для того, чтобы насолить нам.
— Не думаю, чтобы они это сделали. Ради скандала не стоило затевать такую штуку.
— Во всяком случае, они не станут этого делать, пока мечтают от пас вырваться.
— Не знаю, на что они рассчитывают, но никто их туда не пустит. — Уэнли повернулся к сидящему в кресле у окна. — Вы снова молчите. Что вы скажете на все это?
— Я рад вас выслушать, господа.
— Вы молчите, а потом снова скажете, что нужно выпустить марсиан и что это мнение старика.
— Вот именно. Мы их туда пустим.
Уэнли смял в руках соломинку и резко отодвинул стакан.
— Один раз такие штуки кончились плохо.
— На этот раз они могут бежать только туда. Вот мы и пустим их сами.
— Они увезут неплохой багаж, если у них в самом деле есть то, что нам нужно. Кроме того, я подозреваю, что именно там они постараются высмеять нас на весь мир.
— Старик дает иногда странные советы.
— Это не совет, а приказ, Уэнли. Странный стариковский приказ. Не забывайте, что старик с юга — он знает, как делать такие дела.
Говоривший хотел еще что-то добавить, но его прервал телефонный звонок. Когда он взял трубку, все с напряжением следили за его лицом.
— Хэлло!.. Это я, дорогая… Да, я уже свободен. Ну конечно, мы поедем в «Концерт-холл», Говорят, что в пятой симфонии он великолепен.
Глава XXI О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЛИ МАРСИАНЕ В ГОРОДЕ ЗВЕЗД
Лори выглядел очень эффектно на скамье подсудимых. Тэд даже сказал ему об этом, хотя настроение у всех было неважное. Не прошло и месяца в этом мире иллюзии, как Лори влюбился в мисс Стеллу Лиль, или «мисс XX век», как назвали ее за полученную когда-то премию. Это была второстепенная актриса, тщетно пытавшаяся пробиться в звезды. На этот раз Лори был так увлечен, что вступил даже в Лигу по борьбе с пьянством. Подарки, принимаемые с истинно королевским снисхождением, и бесконечные благотворительные вечера, на которых Лори появлялся со своим белокурым ангелом, забирали больше денег, чем он мог пропить в компании забулдыг. Как-то ноги Лори не были в согласии с образом его мыслей. Это несоответствие заставило их однажды свернуть к двери ночного бара. Здесь он застал будущую звезду в обществе преуспевающего продюссера и изрядного количества бутылок. Ни их соблазнительный вид, ни стереотипный оклик: «Хэлло, мальчик!» — не заставили его подойти к этой компании. Он бежал, позорно оставив поле боя. А через несколько дней «мисс XX век» возбудила против убитого горем марсианина иск за нарушение обещания жениться. Звезды всех величии слетелись в зал суда, привлекая к процессу внимание всей страны. Казалось бы, эта история могла грозить Лори лишь денежным штрафом, если бы один из членов суда не поднял вопрос: можно ли считать марсианина белым человеком? Ведь в противном случае дело должно рассматриваться как соблазнение белой женщины цветным и принять несколько другой оборот. Суд был поставлен в туник, по после долгих прений принял решение: ввиду того, что марсиан невозможно сгнести к какому-либо этническому типу земною шара, они не подлежат суду, призванному конституцией защищать права человека. Девице Лиль в иске было отказано. Это решение не удовлетворило ни одну из сторон. — Спасибо, что ты помог этим безмозглым скотам поставить нас вне закона! — сказал Джо, когда друзья очутились дома и их усталые глаза могли наконец отдохнуть от вспышек репортерских ламп. Потянулись унылые дни. Было пыльно и жарко. Друзья жалели об отсутствии Майка, оставшегося в столице «защищать спину». Сейчас его совет был бы особенно полезен. Бетси не ездила на съемки, предпочитая сидеть дома, а трое марсиан проводили душные летние дни, сидя на складных стульях под полосатым зонтом, который давал некоторое подобие прохлады, и безучастно наблюдали, как голенастые металлические пауки хватают и волокут по песку визгливых студийных девиц. Иногда девы мчались на розовых бритых мустангах или плясали на террасе фантастического дверца. Сегодня стройная марсианка в золотых кудряшках и с очаровательно накрашенным ртом млела в объятиях дюжего молодца в форме лейтенанта воздушных сил, не замечая, что сквозь заросли странных растений к ним подкрадываются какие-то типы в стеклянных колпаках.Глава XXII ЖЕЛТЫЙ «КРАЙСЛЕР»
Машина катилась навстречувосходящему солнцу. Сверкающая лента шоссе слепила даже сквозь темные стекла очков. Что ждало их впереди — дома, как называли они шумный и капризный город? Но друзья, привыкшие бросаться очертя голову в неизвестность, отдавались сейчас чудесному чувству свободы, испытанному только один раз — в памятную ночь бегства из «Серебряного ручья». Тэд развалился на заднем сиденье рядом с Бетси. Никто не говорил о делах в такой день. — Парни из «Бизона» оказались сильнее, — начал Тэд. — Странно, когда марсианину нравится эта нелепая игра, — промолвил Джо, не отрывая глаз от шоссе. — В колледже ты думал о ней иначе. — Это было слишком давно. — Мне и сейчас нравится эта игра, — сказал Тэд. — Сейчас она мне особенно нравится. На бейсболе они меньше пялят на нас глаза. — Во время матча это дурачье не станет смотреть даже на президента, — ответил Джо и прибавил скорость. — Сравнил себя с президентом! — съязвил Лори. — Когда они смотрят на Длинного Клеменса, они готовы забыть всех марсиан. — Я сам забыл, что я марсианин, — вставил Лори. — Ты часто это забываешь! — буркнул Джо. — Ты же сам орал, как мальчик из табачной лавки. — Мне всегда нравилась эта игра. — Ты только что заявил, что марсианину она не может нравиться. — Заткнись! — Джо зачем-то сбавил ход. — А еще с большим удовольствием я поставил бы капканы на выдру в Барсучьем овраге, — после недолгого молчания проговорил Тэд. — Или ловил бы рыбу. — Едем домой, — сказала Бетси. — Мы не можем свернуть, куда захотим. Я это так… пошутила. Не думай, что я совсем глупая. — А я, пожалуй, сыграл бы на банджо, — мечтательно произнес Джо. — Он играл в нашем школьном оркестре, — обращаясь к Бетси, сказал Тэд. — Джо? Я не слышала его ни разу. — Я умел только плохо говорить, плохо понимать, плохо есть, плохо уступать дорогу дамам… — Первое время я очень плохо пил виски, — пошутил Лори. — Но я никогда не смог бы плохо играть на банджо. — Но теперь, когда мы одни? — Одни? — спросил Джо. — С тех пор как мы бежали из «Ручья», мы в первый раз один. Это больше всего меня удивляет. Почему они решили отпустить нас одних? — Потому что в дороге вы скорее сможете себя выдать. Мы одни до первого города, — рассудительно сказала Бетси. Джо повернулся к говорящим и показал на зеркальце. — Ну! — спросил Тэд. Джо повторил жест. Тэд и Бетси оглянулись назад. Только Лори блаженно дремал, подставив лицо солнцу. Вдоль ленты шоссе убегали назад столбы. На линии горизонта, там, где шоссе соприкасалось с небом, одинокой тонком поблескивало ветровое стекло. — Ну? — еще раз спросил Тэд. Джо выразительно свистнул. — Ты видел эту чертову машину? Она ни разу не отстала. — Джо прибавил газ, и машина резко рванула вперед. Тэда и Бетси подбросило на сиденье, белые столбики на обочине слились в одну линию, ветер сорвал шляпу с головы Тэда, и он едва поймал ее. Когда он обернулся, маленькая точка маячила на шоссе на том же расстоянии. Джо стал притормаживать. Машина увеличилась. Теперь можно было разглядеть светло-желтый цвет ее кузова. А потом она стала отставать. — Может быть, — сказал Тэд. Проскочив маленький городок, решили передохнуть в рощице, попавшейся на пути. Им так надоело любопытство зевак, что эта идея поправилась всем. Когда машина остановилась у обочины и друзья расположились на траве, желтый «крайслер» пронесся мимо, мягко шелестя шипами. — Ну? — снова спросил Джо. Тэд ничего не ответил и стал открывать консервы. Джо молчал и с наслаждением затягивался сигаретой, чего никогда не позволял себе при людях. После еды все разлеглись на мягкой траве и лениво следили за муравьями, затеявшими возню в своем муравейнике. Потом друзья смотрели на машины, проносящиеся по дороге, и гадали, какая пробка образовалась бы на шоссе, если бы проезжающие знали, что компания на лугу — марсиане. Наконец снова двинулись в путь. У первой заправочной станции Тэд увидел желтый «крайслер», стоящий возле открытых дверей бара. Ни у этой, ни у других станций друзья не останавливались. Нужно было спешить. До сих пор они строго придерживались маршрута. Заночевать следовало в маленькой, не очень посещаемой гостинице, комфорт которой живо описал им Эдди, знавший, кажется, все гостиницы и бары страны. Наступил вечер. Бистро сгущались южные сумерки. Впереди Тэд заметил зарево, на котором резко выделялись силуэты столбов. Дорога шла на восток. Это не могло быть отблеском заката. Миновав темную чащу кустов, друзья увидели невысокий холм, на котором пылал крест. Это странное и жуткое зрелище вызвало любопытство и тревогу. — Я слыхал о таких штуках, но никогда их не видел, — проворчал Джо. — В этой области мало негров. — Если бы кругом не было так тихо, я бы подумал, что это зажгли ради нас. — Мы же не негры, — сказал Лори. — Один раз ты напился и заявил, что мы грибы, это еще куда ни шло. — Невидимая империя не воюет с грибами. — Заткнись! — почти закричал Джо. — Теперь благодаря тебе мы никто. — Не ругай его, — сказал Тэд. — Лори не виноват. Дело в том, что мы сами, как Антей, оторвались от земли. Кто мы теперь? Ни белые, ни цветные — марсиане. — Бедные мои мальчики, бедные мои марсиане! — со вздохом произнесла Бетси. Пылающий крест и черные силуэты кустов па холме остались далеко позади. Ехали молча. Через несколько миль, ревя сиреной, их обогнала машина. Тэд снова узнал желтый «крайслер». Красная точка фонарика исчезла во мраке. Потом появилась снова и стала быстро приближаться. Это была не машина, а фонарь на загородившей дорогу рогатке. В свете фар была видна стрелка, указывающая объезд, и надпись о том, что шоссе в ремонте. Выехав на боковую дорогу, которая оказалась узкой, по асфальтированном, Джо мог снова развить скорость. Дорога была безлюдной. Если на шоссе то и дело мелькали огни ферм и каких-то построек, здесь черный провал ночи окружал машину. Только фары вырывали из него мчащийся треугольник асфальта. Резкий толчок бросил всех вперед. Тэд больно ударился о переднее сиденье. Визжа тормозами, машина остановилась. Джо, наклонившись вперед, неподвижно сидел у руля. Затем он встал и медленно вышел па дорогу. Перед машиной, передние колеса которой чудом удерживались на краю, зияла пропасть. Это была заброшенная каменоломня, у которой обрывался подъездной путь. Было темно и тихо. Пока Джо разворачивал автомобиль, Тэд напряженно всматривался в темноту. Когда все расселись, Джо рванул вперед. Бешено били в лицо струи ветра. — Тише! — испуганно прошептала Бетси. Джо ничего не ответил ни ей, ни Лори, который повторил ее просьбу. Опомнились только у поворота. Рогатка загораживала дорогу, по которой они мчались. Пришлось вылезти, чтобы свернуть ее в сторону. Надпись на ней исчезла. — Я думал, они будут стрелять, — сказал Джо, снова садясь за руль.Глава XXIII, В КОТОРОЙ СНОВА ГОТОВЯТСЯ В ПУТЬ
— Если бы эти болваны не зажгли крест, мы здорово влипли бы в эту яму, — рассказывал Джо. — После того как я увидел эту штуку, я, будь они прокляты, был дьявольски осторожен. — В ближайшем городке мы бросили машину у первой же колонки и пересели в поезд. — Тэд в первый раз попросил у Майка сигарету и закурил. — Если они готовили такие штуки по всей дороге, они могут кусать себе локти. Все говорили наперебой. Они были снова здесь, «дома», и Майк, сидя на ручке кресла, разделял радость своих трех марси и мисс Марси, как назвал он Бетси. Встретил Майк друзей сюрпризом. Первое, что преподнес он им при встрече, был официальный пакет на их имя. Еще до вскрытия конверта нетрудно было угадать его содержание. Во вчерашних газетах сообщалось, что марсианам разрешен выезд за пределы страны для участия в международном съезде астрофизикой в Париже. Съезд начинался в конце недели. С оформлением выезда нужно было спешить. Если событиями последних дней не была омрачена радость Бетси и Лори, то Тэд был очень обеспокоен, и Джо разделял его опасения. Почему их наконец решили отпустить? В свое время различные организации и даже правительства некоторых стран ходатайствовали об их приезде. Может быть, тянуть дальше и прятать от человечества пресловутых межпланетных гостем стало невозможным и смешным? А их заявление? Как могли допустить, чтобы они увезли свой секрет? Эти вопросы не давали покоя. Отъезд был решен, но сколько опасностей и подвохов ожидало их до этого дня! Майк успокаивал друзей: — Не вешайте нос и никогда не забывайте, что вы марсиане. Не забывайте, что вы на ладони земного шаря, у всех на виду. А случай в дороге — вы чем-то не поправились местным кланам или легиону. Поверьте, я знаю нравы нашей провинции. Для них нипочем даже решение парламента, а здесь, в столице, эти вещи невозможны. — Здесь, в столице, нас вряд ли станут предупреждать, зажигая дурацкий фейерверк, — ответил Джо — Я думаю, что воина объявлена, — сказал Тэд. — У Уэллса это выглядело иначе. — Прекрасно, — вмешался Лори. — По Уэллсу, мы можем погибнуть только от бацилл. — Поэтому ты так часто дезинфицируешь утробу! — проворчал Джо. — Меня больше беспокоит другое, — продолжал Майк. — Там придется очень трудно. За границей никто не обязан с вами считаться и, конечно, встретят с предубеждением. Ученые уже давно точат на вас зубы. — С учеными мы найдем общий язык. Особенно с теми, у кого тоже есть своя звезда. — Кстати, о звездах, — оживился Лори. — Хотите, Бетси, я составлю ваш гороскоп? Вы родились в марте под знаком Близнецов. — Не надо об этом, Лори. — Право, мне хочется составить вам гороскоп. Мне кажется, что, приехав туда, вы обязательно обвенчаетесь с Тэдом. Здесь это невозможно. Девушке должно быть приятно перед таким путешествием знать, что она родилась под знаком Близнецов. — Я думал, ты уже оставил свои бредни, — недовольно пробурчал Тэд. — А вы знаете, что мне скучно? — неожиданно вспылил Лори. — Вы оба заняты любимым делом. У вас его по горло. А я? После того как придумал язык, умираю от скуки. Не стану же я собирать почтовые марки! Очень мило — марсианин собирает почтовые марки. Но Лори на этот раз не пришлось скучать. Его и Бетси засадили за разбор корреспонденции и других скопившихся перед отъездом дел. Джо и Тэд пропадали в городе. Джо были поручены дела с зачахнувшими в последнее время марсо-земными комитетами и другими общественными организациями. Более практичный Тэд был занят выколачиванием долгов по различным контрактам. В день отъезда Бетси неожиданно вызвали к телефону. Говорила ее мать. Из сбивчивых слов старухи Бетси поняла лишь то, что с Рики случилось несчастье, и только после долгих расспросов она постепенно вникли в суть. Еще зимой в окрестностях появились какие-то люди. Сперва они заигрывали с Рики, стараясь расположить к себе мальчика мелкими подарками, расспрашивали его о пропавших друзьях. Один раз они даже предложили прокатить его на машине в ближайший городок. Незнакомцы, по-видимому, не нравились Рики, он отказался от подарков и молчал. Тогда ему стали угрожать. Мальчик пожаловался взрослым, и эти люди исчезли. А третьего дня его жестоко избили. Кто это сделал, остается неизвестным. От Рики этого не добиться — он без сознания. Врач говорит, что спасти его может только переливание крови, но здоровье не позволяет матери дать свою, а у Тодди Брена, Сеймона, тетушки Фли, которые согласились бы на операцию, не подходит группа. Здесь рассказ старухи стал совсем сумбурным. Смутные понятия о группах крови помогли благонамеренным соседям убедить ее, что консервированную кровь переливать никак нельзя — она может оказаться цветной. Вообще это не божеское дело, но влить мальчику цветную кровь — значит, погубить его на всю жизнь. Но Рики по-прежнему плохо, и растерявшаяся мать просит у Бетси помощи и совета. — Тебе нужно немедленно выезжать, — сказал Тэд. — Не горюй, Бетси, все будет хорошо, все должно быть хорошо. Рики не может погибнуть, он один из немногих настоящих в этом поколении. — Не знаю, что будет с нами, но его нужно спасти. Вылетай… нет, самолеты не летят в эту дыру. Выезжай первым поездом, — посоветовал Джо. — Ты должна успеть. — Когда все будет в порядке, ты догонишь нас с Майком. Океан не так широк в наше время. Этот разговор происходил, когда в обширном холле уже шумели приглашенные на прощальную пресс-конференцию. Предстоящий отъезд возбудил заглохший интерес общества к марсианам. Пресс-конференция напоминала минувшие дни славы. Было шумно, накурено и очень весело, как говорил Майк, чувствовавшим себя здесь в родной стихии. Наконец, утомленные вопросами, речами, вспышками репортерских ламп и щелканьем аппаратов, марсиане направились к выходу Как и прежде, улица была запружена толпой, дружелюбной и любопытной. Махали шляпами и толкались, стараясь лучше видеть. Какие-то типы пытались прорваться к машинам, выкрикивая: «Катитесь скорее к красным!» Но полиция сравнительно быстро установила порядок. Машины тронулись, и Бетси осталась одна. Она не могла даже проводить Тэда на аэродром, потому что пропустила бы поезд. Бетси поднялась в свою комнату. До выезда на вокзал оставалось больше часа. Вещи были уложены еще накануне. Не зная, как убить время, она взяла книгу, но слова сливались в ничего не значащие серые строчки. Раздался телефонный звонок. Из холла звонила Амалия. Понимая состояние Бетси, она приглашала ее выпить чашку кофе в баре. Бетси была рада как-нибудь провести томительные минуты и отложила книгу. Женщины сели у открытого окна. Раскаленный за день город еще дышал жаром. Вентилятор шевелил легкие занавески. Где-то па ближайшей крыше играла радиола и, может быть, танцевали, но из окна этого не было видно. Заходило солнце. В душном тумане сверкали окна далеких зданий. — Самолет поднимается в восемь сорок, — зачем-то сказала Амалия, хотя Бетси это прекрасно знала. Амалия посмотрела на часы, и Бетси невольно проследила за ее взглядом. На часах, висевших в зале, стрелки только приближались к восьми, — Вы счастливая, Бетси, — заговорила Амалия. — Рики поправится, и вы увидите Париж. Вы ведь никогда не были в Париже? Я была переводчицей во время воины. Тогда там все было иначе. Сейчас вы увидите настоящий Париж. Сейчас он лучше. — Я никогда не была в Париже, — ответила Бетси. — Мы и тогда чувствовали себя там неплохо… Я не знаю, каково будет вашим марси. — Они будут чувствовать себя хорошо везде, где найдут друзей, — сказала Бетси. — Хорошо находить друзей… не нужно их отталкивать. — Амалия опять посмотрела на часы. — Немного позже я расскажу вам одну сказку, а пока я познакомлю вас с Парижем. Амалия долго болтала, и Бетси ждала, когда она наконец заговорит о модах, а потом подумала, что мисс Олсоп слишком серьезна, чтобы говорить о тряпках, и что ей, Бетси, все равно, о чем говорить, лишь бы скорей прошло время. — Вы счастливая, Бетси, — с каким-то странным упорством повторила Амалия. — Вам повезло — вы нашли настоящего мужчину. Марси Уан настоящий мужчина… Тем больнее буудет его потерять. Не смотрите на меня так. Амалия долила в стакан воды и повернулась к окну. В тусклом свете уходящего дня лицо ее было бледно. В зрачках отражались вертикали города. Рука Амалии лежала на скатерти, пальцы барабанили по столу, Бетси послышалось, как губы ее в такт пальцам повторяют одно слово: «Тэд, Тэд… Тэд…» Бетси почувствовала, как холодная волна прокатилась по ее спине. — Что вы говорите? — Так, я вспомнила одну мелодию. Вы любите оперу, Бетси? У вас белокурые волосы и голубые глаза. В вашем краю встречаются немцы-переселенцы. Если бы вы были немкой, вы, наверно, знали бы сказку о Зигфриде. Зигфрид был тоже настоящий мужчина. В молодости он любил убивать драконов. Раз он проделал это с одним из них и выкупался в его крови. Так было принято в то время. Это делало его неуязвимым. Но дубовый лист прилип к его спине, и в это место его могла поразить смерть. Зигфрида любила женщина, а он любил свою жену. Жена была болтлива, как все жены, и женщина узнала от нее о дубовом листе. Однажды Зигфрид пошел па охоту, и, когда он наклонился к ручью, черный рыцарь пронзил ему копьем спину. Жена долго ждала мужа с охоты и вышивала кисет, а может быть, вязала носки. А та, другая, знала, что он лежит в лесу, не дотянувшись до ручья, и внутри… внутри у нее было пусто. Казалось, чья-то рука сдавила шею Бетси. — Брунгильда была царица, а вы… вы просто шпионка. Бетси порывисто встала и, едва не опрокинув стул, бросилась к телефонной будке. Стрелки часов приближались к девяти.Глава XXIV ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА
Самолет должен был подняться в восемь сорок, а посадку еще не объявляли. Кроме марсиан, этим рейсом вылетал на гастроли «Метрополитен-джаз». Очевидно, ожидали приезда музыкантов. В восемь пятьдесят стало известно, что у джаза возникли какие-то затруднения с визами и вылет его откладывается. Под перекрестным огнем объективов все двинулись к выходу на лётное поле. Когда маленькая толпа прошла половину расстояния до серебристой птицы, в стеклянных дверях показалась девушка из диспетчерской. — Верните марсиан! — окликнула она двух провожавших, которые немного отстали и пыли к ней ближе других. — Их вызывают к телефону. Что-то очень срочное. Высокий рыжий мужчина обернулся и двумя шагами оказался радом с ней. — Мало ли что могут придумать любители автографом, мисс… Скажите, что самолет в воздухе. Девушка пыталась возражать. — Скажите, что самолет в воздухе, — повторил рыжий. — И без того вылет задержали. Тэд припал к окошку, тщетно разыскивая что-то глазами. Горизонт наклонился, и видение огромного города косо ушко назад. Рискуя продавить лбом стекло, Тэд пытался проследить за ним глазами, по ничего не мог разглядеть, кроме свинцовой чаши залива, на которой белели топкие полоски зыби. Нелепое недоразумение лишило марсиан спутников в полете. Между друзьями было столько сказано за последние дни, что сперва осе молчали. — Вот мы и одни, — заговорил Лори. — Совсем… Не видно даже стюардессы. Вы заметили, что ее заменял какой-то парень. Им, наверно, тоже скучно в своей кабине. — Если бы этот проклятый джаз оставил нам инструменты, — сказал Тэд, — мы смогли бы устроить здесь концерт. — Хотя бы забыли банджо. Я наконец смог бы немного поиграть, — сказал Джо. — И мы спели бы наш школьный гимн. — Давайте просто споем. Тихо-тихо. — Зачем же тихо? — спросил Тэд. — Мне надоело скрываться. Попросим радиста передать нашу песню в эфир: — Всем! Всем! Всем! — Прощальный концерт для тех, кто остался снизу? — Хотел бы послушать их аплодисменты. — Я пойду попрошу радиста, — оживился Лори. — Летчики — хорошие ребята, они споют вместе с нами. — Не дури, — сказал Джо. Разговор прекратился. От однообразного шума слипались глаза. Тэд очнулся от дремоты, когда за стеклом было совсем темно. Он никогда не летал ночью и сейчас поддался ощущению приятной и странной жути. Он представил себе окружающую тьму и маленькую серебряную птицу, которая несли его в беспредельной черной бездне. Затем он представил себе ракету, мчащуюся сквозь такую же мглу к заветной цели, а потом увидел паруса. Надутые паруса со всех сторон окружали фантастический корабль. Корабль под давлением лучистой энергии величаво плыл в океане Вселенной. Кругом ярко сияли звезды. Матросы в стеклянных скафандрах усеяли реи, убирая марселя. Матросы пели. Раздался взрыв, и все провалилось в каскаде цветных искр. Резкий толчок окончательно разбудил Тэда. Лори растерянно тряс его за плечо: — Их нет! — Кого? — Никого, — сказал Лори, указывая на дверь, ведущую к пилотам. — Там Джо, он пошел их спросить… Тэд рванулся к открытой двери, пробежал отсек и застыл среди тишины. Шум моторов исчез из его сознания. Это было ничто, ночь, пустота. В пустой кабине медленно двигались штурвалы. Рядом Джо, неестественно бледный, не отрываясь смотрел на светящиеся приборы. — Автопилот, — с трудом процедил Джо. Тэд ничего не ответил. Он силился понять, хотя уже знал и не хотел знать правды. — Они спрыгнули давно, — сказал Джо. — Иначе их не смогли бы подобрать в открытом океане. — Долго мы сможем так лететь? — спросил Тэд. — Не знаю. — Всю ночь, пока… — …не взорвемся. Они не могли рассчитывать только на это. За их спиной всхлипнул Лори. — Не бойся, мальчик, — успокаивал Джо. — Может быть, мы разобьемся сами, они могли просто не долить бензина в баки. Не бойся, я постараюсь сделать все, что смогу. У меня были друзья в воздушных силах, мне не раз приходилось с ними летать. Нужно кружить, если мы достигнем берега, а главное — выравнивать и выравнивать машину. Вода смягчает удар. — Джо выразительно взглянул на Тэда. (Черт возьми, если я сумею это сделать!) — Корабли не раз спасали тонущих в море. Джо неуверенно сел в пилотское кресло. Штурвалы медленно, как живые, ходили перед ним. Силясь улыбнуться, Джо сказал: — Мальчики, мы были и не в таких переделках. — Мы хотели дать им последний концерт. — Но мы можем еще сказать последнее слово, — обернулся Джо и встал с кресла. — Подтянись, Лори, посмотри на Тэда и подтянись. Мы мужчины и скажем это слово. Не думаю, чтобы они догадались, что нам следует заткнуть рот. В ночь на 8 сентября 19… года многие коротковолновые станции и корабли, идущие в океане, приняли радиограмму: «Земля! Земля! Мы — марсиане! Мы — марси, марси, марси!.. Команда покинула самолет… Команда покинула самолет… Наши имена: Теодор Сойер, Джозеф Финн, Лориан Гарпер. Наши имена: Теодор Сойер, Джозеф Финн, Лориан Гарпер! Мы не марсиане, Земля. Мы люди! Люди! Люди! Мы хотели отдать людям все, что у нас было, — талант! Мы хотели отдать людям все, что у нас было, — талант! Мы не хотели делать бомбы, Земля. В сорока милях от Нового Вифлеема, в пятистах ядрах на юг, от взрыва мнимой ракеты лежит камень почти прямоугольной формы. Лежит камень почти прямоугольной формы. Под этим камнем мы закопали все, что смогла дать нам страна, в которой мы родились: пистолет, смятый кредитный билет и недопитую бутылку виски. Ты слышишь, Земля?.. Мы летим в рассвет».Л. Платов «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» УХОДИТ В ТУМАН (Главы из романа)
 В предыдущих книгах альманаха рассказано о том, как весной 1944 года командир звена торпедных катеров Шубин встретил в шхерах под Ленинградом немецкую подводную лодку, прозванную «Летучим голландцем».
Вскоре после этого он побывал у нее на борту. Подводники принимали его за финского летчика, который был сбит в воздушном бою и на глазах у них упал в море. Спустя сутки Шубин сумеет уйти с подводной лодки. Он был подобран нашим «морским охотником», все лето пробыл в госпитале и лишь осенью 1944 года вернулся на свои катера.
В предыдущих книгах альманаха рассказано о том, как весной 1944 года командир звена торпедных катеров Шубин встретил в шхерах под Ленинградом немецкую подводную лодку, прозванную «Летучим голландцем».
Вскоре после этого он побывал у нее на борту. Подводники принимали его за финского летчика, который был сбит в воздушном бою и на глазах у них упал в море. Спустя сутки Шубин сумеет уйти с подводной лодки. Он был подобран нашим «морским охотником», все лето пробыл в госпитале и лишь осенью 1944 года вернулся на свои катера.
ШУБИН АТАКУЕТ
1
Он жадно, всей грудью вдохнул воздух. О! Первоклассный! Упругий, чуть солоноватый и прохладный, каким и положено ему быть! Ветер, поднявшийся от движения катера, легонько упирается в лоб, будто подразнивая, приглашая поиграть с собой. А волнишка-то здесь покруче, чем в тесноте шхер! Еще бы! За Таллином открываются ворота в Среднюю Балтику, выход из залива в море. Открытое море! Ого! «И попируем на просторе!..» Мысленно Шубин видит весь военно-морской театр. Притихшая Финляндия проплывает по правому борту. Она перестала быть враждебной, вышла из войны. Слева протянулось хмурое эстонское побережье. Там еще копошатся фашисты. А юго-западнее Таллина материковый берег под прямим углом отклоняется к югу. Дальше лежит Моонзундский архипелаг — острова Хиума, Саарема, Муху, запирающие вход в Рижский залив. Еще дальше, за Вентспилсом и Клайпедой, отгороженная от моря косой Фриш-Неррунг, высится прославленная крепость Пиллау, аванпорт Кенигсберга. Где-то в этом районе — не в шхерах, а на просторах Средней или Южной Балтики — Шубин сквитается с «Летучим голландцем»! Он крепче стиснул штурвал. По старой памяти иногда еще стоял па штурвале, хотя командовал уже не звеном, а отрядом. Б бою предпочитал находиться пока на своем старом катере. Вновь назначенный командир катера лейтенант Павлов «приучался к делу». Сейчас Павлов с любопытством поглядывает на командира отряда, стараясь по его лицу угадать, о чем он думает. Нахмурился? Стиснул зубы? Ну, значит, вспомнил о своем «Летучем голландце»! Пылкому воображению Шубина рисовалось, как ночью он вплотную подходит к «Летучему голландцу». Тот всплыл для зарядки аккумуляторов. Тут-то его и надо подловить! За шумом своих дизелей немцы не услышат моторов шубинских катеров. И тогда Шубин скажет наконец свое веское слово: «Залп!» Всадит торпеду в борт подводной лодки! И так это, знаешь, по-русски всадит, от всей души, чтоб на веки вечные пригвоздить страшилище к морскому дну! Но встреча («неизбежная встреча», как упрямо повторял Шубин) могла произойти и днем. На этот случаи припасены глубинные бомбы. Теперь на катера берут и бомбы, с полдюжины небольших черных бочоночков, аккуратно размещая их в стеллажах за рубкой. Не торпедой, так бомбой! Надо же чем-то донять этих несговорчивых «покойников»! Но пока не встречается Шубину ею «’Летучий голландец…»2
Глубинные бомбы неожиданно для всех Шубин использовал еще более своеобразно — против надводного корабля! Отряд находился в дневном поиске, сопровождаемый самолетами прикрытия и наведения на цель. Рев шубинских моторов как бы вторил падающему с неба рокоту. Нервы вибрировали в лад с этим двойным перекатом, с грозной увертюрой боя. Впереди пусто. Грязно-серое полотнище облаков свисает до самой воды. Но вот Шубина окликнули сверху. В наушниках раздалось торопливое: «Транспорт, Боря! Транспорт! Слева курсовой двадцать! Здоровенный, тысячи на три[225]!» Один из самолетов вернулся, сделал круг над отрядом торпедных катеров, помахал крыльями и опять улетел вперед. Катера послушно последовали за ним. Через несколько минут на горизонте возникли силуэты кораблей. Как мыши, выползали они из-под тяжелых складок облаков, ниспадавших до самой воды. Верно: транспорт! И конвой, очень сильный. Раз, два… Четыре сторожевика и тральщик! Но известно, что победа не определяется арифметическим соотношением сил. Есть еще и высокая алгебра боя! На немецких кораблях заметили Шубина и стали менять походный ордер[226]. Одновременно заблистали вспышки выстрелов. Вода вокруг катеров словно бы закипела. Первыми в драку ввязались самолеты. По приказанию Шубина они атаковали корабли охранения, чтобы заставить их расступиться и открыть катерам дорогу к транспорту. Но из-за туч неожиданно вывалились немецкие самолеты. Конвой тоже имел «шапку», то есть воздушное прикрытие. Над головами моряков навязалась ожесточенная схватка. — Дымовую завесу! — командовал Шубин в ларингофон. Один из катеров бойко выскочил вперед, волоча за собой дым по волнам. Мгновение — и атакующие торпедные катера оделись грозовым облаком.3
Именно тогда на простодушном лице Павлова появилось то выражение, которое, по свидетельству товарищей, почти не сходило с него до самого Пиллау. Словно бы, побывав в первом бою со своим командиром, молодой лейтенант чрезвычайно удивился и так уж потом и не смог окончательно прийти в себя от удивления. Но сам Шубин сердито отмахивался от поздравлений. Не то! Все это было не то! Он ферзь хотел сшибить с доски, а ему подсовывали пешку за пешкой. Искал встречи с наибольшим, с «Летучим голландцем», а тут, словно бы прикрывая его, то и дело вывертывались из-за горизонта разные «шнявы», заурядные сторожевики и тральщики. Шубин расшвыривал их и топил, нетерпеливо прорываясь дальше на запад. Угловатая тень подводной лодки возникала перед ним на мгновение. Она проплывала по серому полотнищу неба. Тральщик, или сторожевик, или транспорт тонул, и тень тотчас же исчезала. Тень была неуловима! Товарищи приставали к Шубину с упреками и утешениями: — Дался тебе этот «Летучий»! Ну что ты так переживаешь из-за него? Забудь о нем! Воюй! Шубин только пожимал плечами. «Эх, молодежь наивная!» — снисходительно думал он, хотя многие товарищи по бригаде были его ровесниками. Сам себе он казался таким старым! Ведь он побывал на корабле мертвых! А с них, с молодых, ну что взять? Конечно, они были хорошими советскими патриотами и воевали хорошо: почти каждый день видели врага в лицо. Беда в том, что видели на расстоянии не ближе кабельтова, да и то лишь во время торпедной атаки, то есть мельком. А он, Шубин, понасмотрелся вблизи на этих оборотней и понаслушался от них всего. День, проведенный на борту «Летучего голландца», показался ему чуть ли не в год. И мог ли он забыть об этом? Впрочем, он и не хотел, не имел права забыть! Он был единственным моряком на Балтике, который побывал па борту «Летучего голландца». И это возлагало на пего особую ответственность. Но в этом Шубин ошибался. Единственный советский моряк? Да, верно. Но отнюдь не единственный моряк на Балтике! Он не знал, не мог знать, что по ту сторону фронта, неподалеку от Таллина, находятся еще два моряка — норвежец и англичанин, — которые, подобно ему, тоже видели «Летучего голландца». За тройным рядом колючей проволоки, среди серых невысоких бараков, они как бы охаживают друг друга. С недоверчивостью заговаривают. Пугливо обрывают разговор. Снова после мучительных долгих колебаний возобновляют взаимные очень осторожные, нащупывающие расспросы. Похоже на встречу двух людей во тьме. Кто это — друг или враг? Если враг «Летучего голландца», значит — друг! Но не исключена и возможность провокации. Может быть ведь и так. Один из собеседников лишь подлавливает другого, своими вероломно-вкрадчивыми расспросами расставляет ловушку.ЛЕГЕНДА О «ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ»
1
…Место было удивительно плоским. Или оно лишь казалось таким? Были ведь и дюны, слепяще белые под солнцем. Но сосны на них росли вразнотык, невысокие, обдерганные ветром. Дальше было болото, дымящееся туманом, мох и кустарник, коричневые заросли на много миль. А между морем и зарослями раскинулся лагерь для военнопленных. Серые бараки приникли к земле, обнесенные тронным рядом колючей проволоки. Именно они, надо думать, определяли характер пейзажа. Горе, тоска, страх легли на мох и заросли, как ложится серая придорожная пыль. Так, по крайней мере, представилось Нэйлу, когда его привезли сюда. Он осмотрелся исподлобья и опустил голову. Больше не хотелось смотреть… В блоке ему указали пустую койку. Он сел на нее, продолжая думать о своем. Прошло с полчаса. За спиной раздались негромкие голоса, вялое шарканье и стук деревянных подошв. Заключенные вернулись с работы. Очень худые и бледные, двигаясь почти бесшумно, они обступили новичка. — Ты кто, кэмрад? — Англичанин. — Здесь найдутся земляки. Танкист? Летчик? — Моряк. — Олафсон, эй! Новый тоже моряк! Сидевший на соседней койке старик, костлявый и согбенный, посмотрел на Нэйла. Висячие усы его раздвинулись — он улыбнулся. Однако не промолвил ни слова. Наверно, очень устал, потому что сидел согнувшись, опершись на конку обеими руками и тяжело, со свистом, дыша. Было ему на вид лет семьдесят, не меньше.
Новым своим товарищам Нэйл отвечал коротко, неохотно. Да, моряк. Судовой механик. Сейчас привезен из Финляндии (по слухам, она выходит из войны). Попал в плен на Баренцевом. Но довелось побывать и на других морях. Поносило, в общем, по свету.
Он замолчал.
— Эге! — сказал кто-то. — Не очень-то разговорчив!
— Англичанин! — пояснил другой. — Все англичане таковы.
— Но ведь он еще и моряк! Я думал: каждый моряк любит порассказать о себе. Судил по нашему Олафсону.
Старик на соседней койке опять улыбнулся Нэйлу.
До войны в любом норвежском, шведском и финском порту знали Оле Олафсона и с уважением произносили его ими. Он был прославленным лоцманом. Чуть ли не с закрытыми глазами мог провести корабль вдоль побережья Скандинавии шхерами и фьордами.
А в концентрационном лагере он стал знаменит как рассказчик. Без преувеличения можно сказать о нем, что он спас рассудок многих людей. Недаром один из военнопленные, бывший историк литературы, дал ему прозвище: лагерная Шахеразада.
Когда Олафсон начинал рассказывать, люди забывали о том, что они в неволе, что сегодня похлебка из свеклы жиже, чем вчера, а Гуго, надсмотрщик, по-прежнему стреляет без промаха. На короткий срок они забывали обо всем.
Был час на исходе мучительного, старательно регламентированного дня, когда узники получали наконец передышку — возможность располагать если не собой, то хотя бы своими мыслями.
И, чем тягостнее, чем безумнее был прожитый день, тем чаще вспоминали Олафсона. Из разных углов барака начинали раздаваться голоса, тихие пли громкие, просительные или требовательные:
— Ну-ка, Оле!.. Историю. Оле!.. Расскажи одну из своих истории, Оле!
Запоздавшие поспешно укладывались. Гомон стихал.
То был час Олафсона.
Он рассказывал неторопливо, делая частые паузы, чтобы прокашляться или перевести дух. Тихо в бараке было, как и церкви. Лишь за стеной лаяли собаки да хрипло перекликались часовые, сидевшие у пулеметов на сторожевых вышках.
Наверняка кто-нибудь из блокового начальства, скорчившись, зябнул под дверью. И зря! Ведь морские истории Олафсона были о таких давних-давних временах!..
Сидевший на соседней койке старик, костлявый и согбенный, посмотрел на Нэйла. Висячие усы его раздвинулись — он улыбнулся. Однако не промолвил ни слова. Наверно, очень устал, потому что сидел согнувшись, опершись на конку обеими руками и тяжело, со свистом, дыша. Было ему на вид лет семьдесят, не меньше.
Новым своим товарищам Нэйл отвечал коротко, неохотно. Да, моряк. Судовой механик. Сейчас привезен из Финляндии (по слухам, она выходит из войны). Попал в плен на Баренцевом. Но довелось побывать и на других морях. Поносило, в общем, по свету.
Он замолчал.
— Эге! — сказал кто-то. — Не очень-то разговорчив!
— Англичанин! — пояснил другой. — Все англичане таковы.
— Но ведь он еще и моряк! Я думал: каждый моряк любит порассказать о себе. Судил по нашему Олафсону.
Старик на соседней койке опять улыбнулся Нэйлу.
До войны в любом норвежском, шведском и финском порту знали Оле Олафсона и с уважением произносили его ими. Он был прославленным лоцманом. Чуть ли не с закрытыми глазами мог провести корабль вдоль побережья Скандинавии шхерами и фьордами.
А в концентрационном лагере он стал знаменит как рассказчик. Без преувеличения можно сказать о нем, что он спас рассудок многих людей. Недаром один из военнопленные, бывший историк литературы, дал ему прозвище: лагерная Шахеразада.
Когда Олафсон начинал рассказывать, люди забывали о том, что они в неволе, что сегодня похлебка из свеклы жиже, чем вчера, а Гуго, надсмотрщик, по-прежнему стреляет без промаха. На короткий срок они забывали обо всем.
Был час на исходе мучительного, старательно регламентированного дня, когда узники получали наконец передышку — возможность располагать если не собой, то хотя бы своими мыслями.
И, чем тягостнее, чем безумнее был прожитый день, тем чаще вспоминали Олафсона. Из разных углов барака начинали раздаваться голоса, тихие пли громкие, просительные или требовательные:
— Ну-ка, Оле!.. Историю. Оле!.. Расскажи одну из своих истории, Оле!
Запоздавшие поспешно укладывались. Гомон стихал.
То был час Олафсона.
Он рассказывал неторопливо, делая частые паузы, чтобы прокашляться или перевести дух. Тихо в бараке было, как и церкви. Лишь за стеной лаяли собаки да хрипло перекликались часовые, сидевшие у пулеметов на сторожевых вышках.
Наверняка кто-нибудь из блокового начальства, скорчившись, зябнул под дверью. И зря! Ведь морские истории Олафсона были о таких давних-давних временах!..
2
Была одна особенность у Олафсона как рассказчика: он вел повествование неизменно от первого лица. Выглядело это так, словно бы он — участник описываемых событий, в крайнем случае их очевиден. Хронологией старый моряк величественно пренебрегал. Один дотошный слушатель, из тех, кто и на солнце выискивает пятна, усомнился в его личном знакомстве с пиратом де Сото. — Не сходится, Оле, никак не сходится, извини! — Он с сожалением развел руками. — Ты не молод, конечно, но де Сото, я читал, повесили еще в первой половине девятнадцатого века. — Я свел знакомство с ним у подножия его виселицы, — невозмутимо ответил Олафсон. Но тут обитатели барака дружно накинулись на придиру и заставили его замолчать. По обстоятельствам своей жизни Нэйл был недоверчив. Кроме того, он был начитан. Он знал, например, что знаменитые гонки чайных клиперов происходили в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого столетия, то есть лет за двадцать до рождения Олафсона. Но, слушая его, Нэйл забывал о датах. Обстоятельное повествование неторопливо текло, каждая деталь играла, искрилась, будто морская рябь на солнце. И даже смерть в рассказах Олафсона была не страшная и быстрая, как порыв внезапно налетевшего ветра! Какой контраст с тем тоскливо-серым, пропахшим дымом, что подстерегало здесь, в концлагере! Недаром надсмотрщики самодовольно повторяли: «Из нашего лагеря единственный выход — через трубу дымохода!» Первая морская история, которую Нэйл услышал от Олафсона, была о чайных клиперах. — Вы скажете, пожалуй, что мне не повезло в тот рейс, — так началОлафсон. — Меня взяли не на «Ариэль», а на «Фермопилы». Юнгой, юнгой! — быстро добавил он, косясь на копку, где безмолвствовал придира. — А первым пришел «Ариэль». От Вампоа мы шли почти вровень. Ну и натерли же мозоли, управляясь с парусами! Но за мысом Доброй Надежды он взял круче к ветру и вырвался вперед… То было время, когда Англия ввозила в Китай опиум, а из Китая вывозила чай. Чаеторговцы были заинтересованы в скоростной доставке первоклассного китайского чая. Для этого строились специальные легкие, на диво быстрые корабли. Корпус их был едва заметен под многоярусным парусным вооружением. Это и были так называемые чайные клипера. Обгоняя друг друга, они проносились от Вампоа на юге Китая до причалов восточного Лондона. Чаеторговцы расчетливо подогревали азарт гонок. Капитанам и матросам сулили большие премии. По пути следования безостановочно работал телеграф. Заключались пари. Люди дрожащими руками развертывали по утрам газеты. Кто из фаворитов впереди? «Тайпинг»? «Фермопилы»? «Ариэль»? «Огненный крест»? «Летящее острие»? Гонки чанных клиперов были как бы апофеозом парусного флота… — И все-таки самыми быстроходными были «Фермопилы», — сказал Олафсон. — Почему же тогда «Ариэль» обставил нас? Я отвечу. Да потому лишь, что капитан его был умница, знал всякие хитрые мореходные уловки. Попался бы нам такой капитан! Ого! Знайте, — с воодушевлением продолжал моряк, — что при самом слабом ветерке, когда можно пройти вдоль палубы с зажженной свечой, «Фермопилы» шли семь узлов! — Он выдерживал драматическую паузу. — Да, друзья, семь узлов! А в ровный бакштаг, под всеми парусами, клипер делал без труда тринадцать узлов, руль прямо, и мальчик мог стоять на штурвале! Голос Олафсона прерывался от волнения. Но потом рассказчик начинал беспрестанно прокашливаться и сморкаться, потому что доходил до описания гибели «Фермопил». Знаменитому клиперу исполнилось сорок лет. Ремонт требовал слишком больших затрат, и новые владельцы корабля не пошли на это. В один безветренный солнечный день на берегу Атлантического океана собралось множество простого люда: матросы, лоцманы, рыбаки, грузчики, Олафсон был среди них. Он, по его словам, приехал с другого конца Европы, едва лишь узнал о предстоящем расправе с «Фермопилами». Но, против ожидания, церемониал был соблюден, этого нельзя отрицать. Буксиры вывели из гавани прославленный корабль, расцвеченный по реям флагами и с парусами, взятыми на гитовы. Его провожали в молчании. Потом оркестр на набережной заиграл траурный марш Шопена. Под звуки этого марша «Фермопилы» были потоплены на внешнем рейде. Когда гул взрыва докатился до набережной и клипер начал медленно крепиться, все спили фуражки ii шляпы. Многие моряки плакали, не стыдясь своих слез… С удивлением Нэйл отметил, что вот уже полчаса — пока длился рассказ — он не думал о себе и своих страданиях. В этом, наверно, и заключалось целебное действие морских историй Олафсона! Слушатели его, измученные усталостью, страхом и голодом, забывали о себе на короткий срок — о, к сожалению, лишь на самый короткий! Натянув на голову одеяло, Нэйл постарался вообразить гонки чайных клиперов. Корабли проносились мимо одни за другим, подобно веренице облаков, низко летящих над горизонтом. От быстрого мелькания парусов поверх слепящей морской глади глаза начали слипаться…3
Но Олафсон рассказывал не только о морских работягах, таких, как чайные клипера. Были, кроме «добрых кораблей», и «злые». К числу их относились невольничьи, а также пиратские корабли. Бывший лоцман знал всю подноготную Кида, Моргана и де Сото. Последний, по словам Олафсона, считался шутником среди пиратов. Недаром проворная черная бригантина его носила название «Black Joke», то есть «Черная шутка». Юмор де Сото был особого рода. Команды купеческих кораблей корчились от страха, завидев на горизонте мачты с характерным наклоном, затем узкий черный корпус и, наконец, оскалившийся в дьявольской ухмылке череп над двумя скрещенными костями — пиратский черный флаг «Веселый Роджер». Уйти от де Сото не удавалось никому. Слишком велико было его преимущество в ходе. Замысловато «шутил» де Сото с пассажирами и матросами захваченного им корабля, — даже неприятно вспоминать об этом. Потом бедняг загоняли в трюм, забивали гвоздями люковые крышки и быстро проделывали отверстия в борту. Мгновение — и все было кончено! Лишь пенистые волны перекатывались там, где только что был корабль. «Мертвые не болтают!» — наставительно повторял де Сото. Не болтают, это так! Зато иногда оставляют после себя опасную писанину. Дневники и письма, например. А де Сото (на свою беду!) любил побаловать себя чтением — гак, между делом, в свободное от работы время. Читательский вкус его был прихотлив. Всем книгам па свете он почему-то предпочитал дневники и письма своих жертв. Один из таких дневников даже захватил с собой, когда в сильнейший шторм «Черная шутка» разбилась на скалах у Кадикса и команде пришлось высадиться на берег. Дневник принадлежал капитану торгового судна, незадолго перед тем потопленного пиратами. Содержались ли в клеенчатой тетради ценные наблюдения над морскими течениями и ветрами, слог ли покойника был так хорош, но де Сото не расстался с дневником и после того, как пираты, по его приказанию, разошлись в разные стороны. Условлено было сойтись всем через несколько недель в Гибралтаре для захвата какого-нибудь судна. Де Сото прибыл в Гибралтар первым и поселился в гостинице. Все принимали его за богатого туриста. А между тем, прогуливаясь в порту, он присматривался к стоявшим там кораблям, придирчиво оценивая их мореходные качества. Новая «Черная шутка» ни в чем не должна была уступать старой. Однажды, в отсутствие постояльца, пришли убирать его номер. Из-за подушки вывалилась клеенчатая тетрадь. Постоялец, по обыкновению, читал перед сном. А что он читал? Горничная была не только любопытна, но и грамотна. С первых строк ей стало ясно, что записи в тетради вел известный капитан такой-то, недавнее исчезновение которого вызвало много толков. Предполагали, что судно его потоплено неуловимым и безжалостным де Сото. Любитель дневников был тотчас же схвачен. Вскоре он уже «сушился на рее», как говорят пираты, — был вздернут на виселицу на глазах у всего Гибралтара! — После казни только и разговору было, что об этом дневнике, — сказал Олафсон. — Говорили, что де Сото носил свою смерть всегда при себе, а на ночь вдобавок еще и прятал ее под подушку. Нет, друзья, доводись вам хранить тайну, так сберегайте ее только в памяти, да и то затолкайте в самый какой ни на есть дальний и темный закоулок!..4
Была ли у Олафсона такая тайна?.. Чем дальше, тем больше Нэйл убеждался и том, что была! Но что это за тайна? Неужели она совпадает с той тайной, которую вот ужо два года хранит сам Нэйл? Похоже на то! Еще ни разу, даже вскользь, не упомянул Олафсон Летучего Голландца в своих рассказах. Почему? Старый лоцман обходил эту легенду, как обходят опасную мель или оголяющиеся подводные камин. Нэйл расспросил старожилов барака, давних слушателей Олафсона. Да, тот охотно рассказывал им о чанных клиперах, морских змеях, пиратах. Но о Летучем Голландце он не рассказывал никогда. Не странно ли? Ведь это одна из наиболее распространенных морских истории! Нэйл принялся «описывать циркуляции» вокруг Олафсона. Он задавал вопросы о легендарном Летучем Голландце, выбирая время, когда поблизости никого не было. Олафсон хмурился. — А! Летучий Голландец! — небрежно бросал он. — Как же! Есть и такая история. Когда-то я знавал ее. Теперь забыл. И, деланно зевнув, отворачивался. Однажды он добавил: — Есть, видишь ли, истории, которые лучше бы забыть. Полезнее для здоровья!.. Метнув острый взгляд из-под клокастых бровей, он отошел от Нэйла. Хитрит? Не доверяет? Но тогда надо идти «на таран»! Как-то вечером Нэйл и Олафсон раньше остальных вернулись в барак. Нэйл улегся на своей койке. Олафсон принялся, кряхтя, снимать башмаки. Самое время для откровенного разговора! — Думаешь ли ты, — медленно спросил Нэйл, — что в мире призраков блуждают также и подводные лодки? Длинная пауза. Олафсон по-прежнему сидит вполоборота к Нэйлу, держа башмак на весу. — Мне рассказали об этом в Бразилии, — продолжал Нэйл. — Тот человек божился, что видел призрачную лодку на расстоянии полукабельтова. Она выходила из прибрежных зарослей. Но вот что странно: на ней говорили по-немецки! Тяжелый башмак со стуком упал на пол… Но почти сразу же захлопали двери, зашаркали подошвы, в барак ввалились товарищи Нэйла и Олафсона. Однако Нэйл любой ценой решил продолжить разговор. Как только барак угомонился, Нэйл окликнул своего соседа: — А теперь историю, Оле! Самую лучшую из твоих морских истории! Сегодня заказываем легенду о Летучем Голландце! Идет? Нэйла поддержали. Долгое молчание. Потом с койки Олафсона донесся вздох. — Не люблю, ребята, рассказывать эту историю. Ну, да ладно уж, слушайте! Кое-что я, впрочем, забыл, буду привирать. Если собьюсь, мне поможет наш англичанин. Он ведь тоже моряк. Но Олафсону не пришлось помогать. Вначале он рассказывал вяло, часто запинался, подыскивал слова, по мало-помалу увлекся. Он заново жил в каждом своем морском рассказе…5
— На море, кроме штормов и мелей, надо опасаться еще Летучего Голландца, — так начал бывший коронный лоцман. — Историю эту, очень старую, некоторые считают враньем. Другие готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды. Итак, рассказывают, что однажды некий голландский капитан захотел обогнуть мыс Горн. Дело было поздней осенью, а всякий знает, что там в ту пору дуют непреоборимые злые ветры. Голландец зарифливал паруса, менял галсы, но ветер, дувший в лоб, неизменно отбрасывал его назад. Он был лихой и опытный моряк, однако великий грешник, ко всему еще упрямый, как морской черт.
По этим приметам некоторые признают в нем Ван Страатена из Дельфта. Иные, впрочем, стоят за его земляка Ван-дер-Декена.
Оба они жили лет триста назад, любили заглянуть на дно бутылки, а уж кощунствовали, говорят, так, что, услышав их, киты переворачивались кверху брюхом.
Вот, стало быть, этот голландский капитан совсем взбесился, когда встречный ветер в пятый или шестой раз преградил ему путь. Он весь затрясся от злости, поднял кулаки над головой и прокричал навстречу буре такую чудовищную божбу, что тучи в ответ сплюнули дождем.
Мокрый от макушки до пят, потеряв треугольную шляпу, голландец, однако, не унялся. Костями своей матери он поклялся хоть до страшного суда огибать мыс Горн, пока наперекор буре не обогнет его!
И что же? Был тут же пойман на слове! Бог осудил его до скончания веков скитаться по морям и океанам, никогда не приставая к берегу!
— А если все-таки попытается пристать? — спросил кто-то. — Захочет войти в гавань?
— О! Сразу же что-то вытолкнет его оттуда, как плохо пригнанный клин из пробоины! Ведь господь бог наш, между нами будь сказано, тоже из упрямцев! Когда втемяшится ему что-нибудь в голову, то и дюжиной буксиров не вытащить это!
Вот, стало быть, так оно и идет с тех пор.
Четвертое столетие носится Летучий Голландец взад и вперед по морям. Ночью огни святого Эльма дрожат на топах его мачт, днем лучи солнца просвечивают между ребрами шпангоутов. Корабль совсем дырявый or старости, давно бы затонул, но волшебная сила удерживает его на поверхности. И паруса всегда полны ветром, даже если на море штиль и другие корабли лежат в дрейфе.
Встреча с Летучим Голландцем неизменно предвещает кораблекрушение!
Пусть под килем у вас хоть тысяча футов и ни одной банки на сотни миль вокруг, — камушки у Летучего всегда найдутся! Еще бы! Нрав-то ведь не улучшился у него за последние три с половиной столетия. Да и с чего бы ему улучшиться?..
— Но, после того как господь бог наш придержал Голландца за полы кафтана у мыса Горн, старик уже не отваживается дерзить небесам. Теперь срывает зло на своем же брате, на моряке.
Хотите знать, как я понимаю это?
Мертвый завидует нам, живым! Да, именно так! Летучий Голландец попросту завидует честным морякам!..
В любой момент Летучий может встретиться вам на узком фарватере среди опасных камней. Он может попасться на глаза и в шторм и в штиль, вылезти пол утро из тумана, появиться далеко на горизонте либо выскочить рядом, как выскакивает из воды поплавок от рыбачьих сетей.
Иной раз показывается даже и ясным солнечный день. Говорят, это страшнее всего!
Вот как это бывает. Прямо по курсу замечают слабое радужное мерцание, как бы световой смерч. Он быстро приближается, уплотняется. Глядишь: это уже призрачный корабль, который в брызгах пены переваливается с волны на волну!
Тут, пожалуй, взгрустнется, а? Только что его не было здесь, а вот он — на расстоянии окрика, виден весь от топа мачт до ватерлинии. Старинной конструкции, корма и нос приподняты, с высокими надстройками, как полагалось в семнадцатом столетии, по бортам облупившиеся деревянные украшения. А на гафеле болтается флаг, изорванный до того, что невозможно определить его национальную принадлежность.
А что еще тут определять? Могильным холодом сразу потянуло с моря, словно айсберг поднялся из пучины вод!
Шкипер, оцепенев, смотрит на компас. Что, ради всех святых, случилось с компасом?
Корабль меняет курс сам по себе!
Но его не сносит течением, и в этом районе нет магнитных аномалий, а ветер — спокойный, ровный бакштаг.
Это призрак, пристроившись впереди, повел следом за собой. Румб за румбом он уводит корабль от рекомендованного курса.
По реям побежали матросы, убирая паруса! Боцман и с ним еще несколько человек сами, без приказания, бросились па помощь рулевому, со всех сторон облепили штурвал, быстро перехватывают спицы, тянут, толкают изо всех сил! Ноги скользят по мокрой палубе.
Нет! Не удержать корабль на курсе! Продолжается гибельный поворот!
И все быстрей сокращается расстояние между вами и вашим мателотом[228].
Можно уже различить лица людей, стоящих па реях и вантах призрачного корабля. Но это не лица — черепа! Они скалятся из-под своих цветных головных повязок и сдвинутых набекрень маленьких треуголок. А на шканцах взад и вперед, как обезьяна в клетке, прыгает краснолицый капитан.
Полюбуйтесь на него, пока у вас есть время!
Наружность Летучего Голландца описывают так. Будто бы на нем просторный коричневый кафтан, кортик болтается на поясе, шляпы нет, седые космы стоят над лысиной торчком.
Голос у пего зычный, далеко разносится над морем. Слышно, как он подгоняет своих матросов, грозится намотать их кишки на брашпиль, обзывает костлявыми лодырями и тухлой рыбьей снедью.
Поворот закончен.
Ваш рулевой бросил штурвал, закрыл лицо руками. Впереди, за бушпритом, в паутине рей он увидел неотвратимо приближающуюся белую полосу, фонтаны пены, которые вздымаются и опадают. Это прибой!
И будто лопнул невидимый буксирный трос. Видение корабля рассеивается, как пар. Летучий Голландец исчез. Слышен скрежещущий удар днища о камни. И это последнее, что вы слышите в этой жизни…
Надо, пожалуй, рассказать вам еще и о письмах.
Бывают, видите ли. счастливчики, которым удается встретить Летучего Голландца и целехонькими вернуться к себе домой. Однако это случается очень редко — всего два или три раза в столетие.
Ночью, на параллельном курсе, возникает угловатый силуэт, причем так близко, что хоть выбрасывай за борт кранцы. Всех, кто стоит вахту, мгновенно пробирает озноб до костей.
Ошибиться невозможно! От черта разит серой, а от Летучего тянет холодом, как из склепа.
Простуженный голос окликает из тьмы:
«Эй, на судне! В какой порт следуете?»
Шкипер отвечает, еле ворочая языком, готовясь к смерти. Но его лишь просят принять и передать корреспонденцию. Отказать нельзя. Это закон морской вежливости.
На палубу плюхается брезентовый мешок. И сразу же угловатый силуэт отстает и пропадает во мгле.
Ну, сами понимаете, команда во время рейса бочком обходит мешок, словно бы тот набит раскаленными угольями из самой преисподней. Но там письма, только письма.
По прибытии в порт их вытаскивают из мешка, сортируют и, желая поскорее сбыть с рук, рассылают в разные города. Адреса, заметьте, написаны по старой орфографии, чернила выцвели.
Письма приходят с большим опозданием и не находят адресатов. Жены, невесты и матери моряков, обреченных за грехи своего сварливого капитана скитаться по свету, давным-давно умерли, и даже след их могил потерян.
Но письма всё приходят и приходят…
Олафсон замолчал.
Кто-то сказал из угла:
— И откуда ты выкапываешь эти подробности? Можно подумать, что сам встречался с Летучим Голландцем. А не побывал ли и впрямь у него на борту?
Это голос придиры! Не удержался-таки, поддел! На придиру зашикали. Но Нэйл в волнении подался вперед. Что ответит придире Олафсон?
— На этот раз ошибся, сынок, — спокойно сказал Олафсон. — Я не бывал на борту у Летучего Голландца… Но я частенько прикидываю, друзья, что бы сделал, если бы знал одно магическое слово. Есть, видите ли, магическое слово, которое может преодолеть силу заклятья. Я слышал это от одного шкипера — финна, а ему можно верить, потому что финны с давних времен понимают толк в морском волшебстве. Однако слова он тоже не знал. А жаль! Сказал бы мне это слово, разве бы я продолжал служить лоцманом? Нет! Вышел бы в отставку, продал дом в Киркинесе — потому что я вдовец и бездетный — и купил бы или зафрахтовал, смотря по деньгам, небольшую парусно-моторную яхту. Груз на ней был бы легкий, но самый ценный, дороже золота или пряностей, — одно-единственное магическое слово!
С этим словом я исходил бы океаны, поджидал бы на морских перекрестках, заглядывал во все протоки и заливы. На это потратил бы остаток жизни, пока не встретился бы наконец с Летучим Голландцем.
Иногда, друзья, я представляю себе эту встречу.
Где произойдет она: под тропиками или за Полярным кругом, в тесноте ли шхер или у какого-нибудь атолла на Тихом океане? Неважно. Но я произнесу магическое слово!
Оно заглушит визг и вой шторма, если будет бушевать шторм. Оно прозвучит и в безмолвии штиля, когда паруса беспомощно обвисают, а в верхушках мачт чуть слышно посвистывает ветер, идущий поверху.
В шторм либо в штиль голос мой гулко раздастся над морем!
И что же произойдет тогда?
Сила волшебного слова, согласно предсказанию, раздвинет корабль Летучего Голландца! Бимсы, стрингера, шпангоуты полетят ко всем чертям! Мачты с лохмотьями парусов плашмя упадут на воду!
Да, да! Темно-синяя бездна с клокотанием разверзнется, и корабль мертвых, как оборвавшийся якорь, стремглав уйдет под воду.
Из потревоженных недр донесется протяжный вздох или стон облегчения, а потом волнение сразу утихнет, будто за борт вылили десяток бочек с маслом.
Вот что я сделал бы, если б знал магическое слово, о котором говорил финн!..
Но ни я, ни вы, никто другой на свете пока не знаем слова, которое могло бы разрушить заклятье…
Некоторые даже считают все это враньем, как я уже говорил. Другие, однако, готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды…
Он был лихой и опытный моряк, однако великий грешник, ко всему еще упрямый, как морской черт.
По этим приметам некоторые признают в нем Ван Страатена из Дельфта. Иные, впрочем, стоят за его земляка Ван-дер-Декена.
Оба они жили лет триста назад, любили заглянуть на дно бутылки, а уж кощунствовали, говорят, так, что, услышав их, киты переворачивались кверху брюхом.
Вот, стало быть, этот голландский капитан совсем взбесился, когда встречный ветер в пятый или шестой раз преградил ему путь. Он весь затрясся от злости, поднял кулаки над головой и прокричал навстречу буре такую чудовищную божбу, что тучи в ответ сплюнули дождем.
Мокрый от макушки до пят, потеряв треугольную шляпу, голландец, однако, не унялся. Костями своей матери он поклялся хоть до страшного суда огибать мыс Горн, пока наперекор буре не обогнет его!
И что же? Был тут же пойман на слове! Бог осудил его до скончания веков скитаться по морям и океанам, никогда не приставая к берегу!
— А если все-таки попытается пристать? — спросил кто-то. — Захочет войти в гавань?
— О! Сразу же что-то вытолкнет его оттуда, как плохо пригнанный клин из пробоины! Ведь господь бог наш, между нами будь сказано, тоже из упрямцев! Когда втемяшится ему что-нибудь в голову, то и дюжиной буксиров не вытащить это!
Вот, стало быть, так оно и идет с тех пор.
Четвертое столетие носится Летучий Голландец взад и вперед по морям. Ночью огни святого Эльма дрожат на топах его мачт, днем лучи солнца просвечивают между ребрами шпангоутов. Корабль совсем дырявый or старости, давно бы затонул, но волшебная сила удерживает его на поверхности. И паруса всегда полны ветром, даже если на море штиль и другие корабли лежат в дрейфе.
Встреча с Летучим Голландцем неизменно предвещает кораблекрушение!
Пусть под килем у вас хоть тысяча футов и ни одной банки на сотни миль вокруг, — камушки у Летучего всегда найдутся! Еще бы! Нрав-то ведь не улучшился у него за последние три с половиной столетия. Да и с чего бы ему улучшиться?..
— Но, после того как господь бог наш придержал Голландца за полы кафтана у мыса Горн, старик уже не отваживается дерзить небесам. Теперь срывает зло на своем же брате, на моряке.
Хотите знать, как я понимаю это?
Мертвый завидует нам, живым! Да, именно так! Летучий Голландец попросту завидует честным морякам!..
В любой момент Летучий может встретиться вам на узком фарватере среди опасных камней. Он может попасться на глаза и в шторм и в штиль, вылезти пол утро из тумана, появиться далеко на горизонте либо выскочить рядом, как выскакивает из воды поплавок от рыбачьих сетей.
Иной раз показывается даже и ясным солнечный день. Говорят, это страшнее всего!
Вот как это бывает. Прямо по курсу замечают слабое радужное мерцание, как бы световой смерч. Он быстро приближается, уплотняется. Глядишь: это уже призрачный корабль, который в брызгах пены переваливается с волны на волну!
Тут, пожалуй, взгрустнется, а? Только что его не было здесь, а вот он — на расстоянии окрика, виден весь от топа мачт до ватерлинии. Старинной конструкции, корма и нос приподняты, с высокими надстройками, как полагалось в семнадцатом столетии, по бортам облупившиеся деревянные украшения. А на гафеле болтается флаг, изорванный до того, что невозможно определить его национальную принадлежность.
А что еще тут определять? Могильным холодом сразу потянуло с моря, словно айсберг поднялся из пучины вод!
Шкипер, оцепенев, смотрит на компас. Что, ради всех святых, случилось с компасом?
Корабль меняет курс сам по себе!
Но его не сносит течением, и в этом районе нет магнитных аномалий, а ветер — спокойный, ровный бакштаг.
Это призрак, пристроившись впереди, повел следом за собой. Румб за румбом он уводит корабль от рекомендованного курса.
По реям побежали матросы, убирая паруса! Боцман и с ним еще несколько человек сами, без приказания, бросились па помощь рулевому, со всех сторон облепили штурвал, быстро перехватывают спицы, тянут, толкают изо всех сил! Ноги скользят по мокрой палубе.
Нет! Не удержать корабль на курсе! Продолжается гибельный поворот!
И все быстрей сокращается расстояние между вами и вашим мателотом[228].
Можно уже различить лица людей, стоящих па реях и вантах призрачного корабля. Но это не лица — черепа! Они скалятся из-под своих цветных головных повязок и сдвинутых набекрень маленьких треуголок. А на шканцах взад и вперед, как обезьяна в клетке, прыгает краснолицый капитан.
Полюбуйтесь на него, пока у вас есть время!
Наружность Летучего Голландца описывают так. Будто бы на нем просторный коричневый кафтан, кортик болтается на поясе, шляпы нет, седые космы стоят над лысиной торчком.
Голос у пего зычный, далеко разносится над морем. Слышно, как он подгоняет своих матросов, грозится намотать их кишки на брашпиль, обзывает костлявыми лодырями и тухлой рыбьей снедью.
Поворот закончен.
Ваш рулевой бросил штурвал, закрыл лицо руками. Впереди, за бушпритом, в паутине рей он увидел неотвратимо приближающуюся белую полосу, фонтаны пены, которые вздымаются и опадают. Это прибой!
И будто лопнул невидимый буксирный трос. Видение корабля рассеивается, как пар. Летучий Голландец исчез. Слышен скрежещущий удар днища о камни. И это последнее, что вы слышите в этой жизни…
Надо, пожалуй, рассказать вам еще и о письмах.
Бывают, видите ли. счастливчики, которым удается встретить Летучего Голландца и целехонькими вернуться к себе домой. Однако это случается очень редко — всего два или три раза в столетие.
Ночью, на параллельном курсе, возникает угловатый силуэт, причем так близко, что хоть выбрасывай за борт кранцы. Всех, кто стоит вахту, мгновенно пробирает озноб до костей.
Ошибиться невозможно! От черта разит серой, а от Летучего тянет холодом, как из склепа.
Простуженный голос окликает из тьмы:
«Эй, на судне! В какой порт следуете?»
Шкипер отвечает, еле ворочая языком, готовясь к смерти. Но его лишь просят принять и передать корреспонденцию. Отказать нельзя. Это закон морской вежливости.
На палубу плюхается брезентовый мешок. И сразу же угловатый силуэт отстает и пропадает во мгле.
Ну, сами понимаете, команда во время рейса бочком обходит мешок, словно бы тот набит раскаленными угольями из самой преисподней. Но там письма, только письма.
По прибытии в порт их вытаскивают из мешка, сортируют и, желая поскорее сбыть с рук, рассылают в разные города. Адреса, заметьте, написаны по старой орфографии, чернила выцвели.
Письма приходят с большим опозданием и не находят адресатов. Жены, невесты и матери моряков, обреченных за грехи своего сварливого капитана скитаться по свету, давным-давно умерли, и даже след их могил потерян.
Но письма всё приходят и приходят…
Олафсон замолчал.
Кто-то сказал из угла:
— И откуда ты выкапываешь эти подробности? Можно подумать, что сам встречался с Летучим Голландцем. А не побывал ли и впрямь у него на борту?
Это голос придиры! Не удержался-таки, поддел! На придиру зашикали. Но Нэйл в волнении подался вперед. Что ответит придире Олафсон?
— На этот раз ошибся, сынок, — спокойно сказал Олафсон. — Я не бывал на борту у Летучего Голландца… Но я частенько прикидываю, друзья, что бы сделал, если бы знал одно магическое слово. Есть, видите ли, магическое слово, которое может преодолеть силу заклятья. Я слышал это от одного шкипера — финна, а ему можно верить, потому что финны с давних времен понимают толк в морском волшебстве. Однако слова он тоже не знал. А жаль! Сказал бы мне это слово, разве бы я продолжал служить лоцманом? Нет! Вышел бы в отставку, продал дом в Киркинесе — потому что я вдовец и бездетный — и купил бы или зафрахтовал, смотря по деньгам, небольшую парусно-моторную яхту. Груз на ней был бы легкий, но самый ценный, дороже золота или пряностей, — одно-единственное магическое слово!
С этим словом я исходил бы океаны, поджидал бы на морских перекрестках, заглядывал во все протоки и заливы. На это потратил бы остаток жизни, пока не встретился бы наконец с Летучим Голландцем.
Иногда, друзья, я представляю себе эту встречу.
Где произойдет она: под тропиками или за Полярным кругом, в тесноте ли шхер или у какого-нибудь атолла на Тихом океане? Неважно. Но я произнесу магическое слово!
Оно заглушит визг и вой шторма, если будет бушевать шторм. Оно прозвучит и в безмолвии штиля, когда паруса беспомощно обвисают, а в верхушках мачт чуть слышно посвистывает ветер, идущий поверху.
В шторм либо в штиль голос мой гулко раздастся над морем!
И что же произойдет тогда?
Сила волшебного слова, согласно предсказанию, раздвинет корабль Летучего Голландца! Бимсы, стрингера, шпангоуты полетят ко всем чертям! Мачты с лохмотьями парусов плашмя упадут на воду!
Да, да! Темно-синяя бездна с клокотанием разверзнется, и корабль мертвых, как оборвавшийся якорь, стремглав уйдет под воду.
Из потревоженных недр донесется протяжный вздох или стон облегчения, а потом волнение сразу утихнет, будто за борт вылили десяток бочек с маслом.
Вот что я сделал бы, если б знал магическое слово, о котором говорил финн!..
Но ни я, ни вы, никто другой на свете пока не знаем слова, которое могло бы разрушить заклятье…
Некоторые даже считают все это враньем, как я уже говорил. Другие, однако, готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды…
6
Барак погрузился в сон. Спящие походили на покойников, лежащих вповалку. Рты были разинуты, глазные впадины казались такими же черными, как рты. Лампочка под потолком горела вполнакала. Заснул наконец и Олафсон. Один Нэйл не спал. Закинув за голову руки, он глядел в низкий фанерный потолок — и не видел его. Что ему дало сегодняшнее испытание? Проговорился ли Олафсон? В интонациях, в паузах угадывалось нечто большее, чем воодушевление рассказчика. Особенно разволновался Олафсон, дойдя до магического слова. Оно, это слово, пригодилось бы и Нэйлу в то злосчастное утро, когда старина «Камоэнс» чуть не столкнулся нос к носу с «Летучим голландцем». В памяти сверкнул плес Аракары. Под звездами он отсвечивал, как мокрый асфальт. Снова увидел Нэйл черную стену джунглей и услышал непонятные ритмичные звуки — был то индейский барабан или топот множества пляшущих ног? Под приглушенный гул, доносившийся издалека, Нэйл стал уже засыпать. И вдруг рядом внятно сказали: — Флаинг Дачмен![229] Потом быстро забормотали: — Нельзя, не хочу, не скажу! Минута или две тишины. Что-то неразборчивое, вроде: — Никель… Клеймо… Контрабандный никель… И опять: — Нет! Не хочу! Не могу! Это во сне бормотал Олафсон. Нэйл поспешил растолкать его. Уже поднялись неподалеку от них две или три взлохмаченные головы. К чему было привлекать внимание всего блока к тому, что знали только Нэйл и Олафсон? Старый лоцман приподнялся на локте: — Я что-нибудь говорил, Джек? — Нет, — сказал Нэйл. — Ты только сильно стонал и скрежетал зубами во сне. Олафсон недоверчиво проворчал что-то и, укладываясь, натянул одеяло на голову…КОНТРАБАНДНЫЙ НИКЕЛЬ
1
На следующий день Олафсон заболел, а быть может, просто надорвался. Утром заключенных вывели на строительство укреплений — стало известно о приближении Советской Армии. Нэйл, стоя над вырытым окопом, обернулся и увидел рядом с собой Олафсона. Тот скрючился у своей тачки, а лицо у него было испуганное, совсем белое. — Заслони меня от Гуго! — пробормотал он. Надсмотрщик Кривой Гуго тоже имел свою дневную норму. Черная повязка закрывала его левый, выбитый глаз, но правым он видел очень хорошо. Целый день, стоя вполоборота, следил за узниками этим своим круглым, сорочьим глазом. И, если кто-нибудь проявлял признаки слабости или начинающейся болезни, немедленно раздавалась короткая ругань, а вслед за ней очередь из автомата… Нэйл загораживал собой Олафсона до тех пор, пока тот не собрался с силами. Когда тачки покатились по дощатому настилу, Олафсон успел негромко сказать: — Спасибо. Я во что бы то ни стало должен продержаться до прихода русских! Однако ночью в блоке его начал бить озноб. Он уткнулся лицом в подушку, стараясь не стонать. Несколько раз Нэйл подавал ему пить. — Ты хороший малый, Джек! — прошептал он. И почти беззвучно: — Я бы тебе рассказал, если бы мог. Честное слово, я бы рассказал… После полуночи он совсем расхворался. В бараке все давно уже спали. Старый лоцман изо всех сил сдерживал стоны, чтобы не разбудить товарищей. Дыхание его было тяжелым, прерывистым… Нэйл перегнулся к Олафсону через узкий промежуток, разделявший их койки. — Я вызову врача, — сказал он не очень уверенно. — Нет! Прошу тебя, не надо! Меня сразу же уволокут из блока, чтобы делать надо мной опыты. Нас разлучат с тобой. А это нельзя. Быть может, я все-таки решусь… Да, быть может… Дай мне воды! Зубы его дробно застучали о кружку. — Сохнет во рту, трудно говорить. Придвинься ближе! Еще ближе!.. Джек, мне не дождаться русских. — Ну что ты! Не так ты еще плох, старина! — Нет, я знаю. Завтра Гуго меня окончательно прикончит. А русские могут не прийти завтра. О, если бы они пришли завтра! Он судорожно сжал руку Нэйла своей горячей, потной рукой. Нэйл забормотал какие-то утешения, по старый лоцман прервал его: — Брось! Не теряй времени! Я должен успеть рассказать. Да, Джек, я решился! Он порывисто притянул Нэйла за шею к себе: — Ты веришь в бога, Джек? — Нет. — А в судьбу? — Верю иногда. — И у тебя есть дети? — Двое. — Так вот! Жизнью своих детей, Джек, поклянись: то, что расскажу, передашь только русским! — Хорошо. — Ты понял? Русским, когда они придут! Кому-нибудь из их офицеров. Лучше, понятно, моряку. Скорей поймет. Нэйл повторил клятву. Потом он приблизил ухо почти вплотную ко рту Олафсона, так тихо тот говорил. — Слушан! Ты был прав. Я видел «Летучего голландца»…2
Нэйл ожидал этого признания, но все же вздрогнул и оглянулся. В блоке было по-прежнему тихо, полутемно. — Ты знаешь, о ком я говорю, — шептал Олафсон. — Ты сам видел его. Нет у него ни парусов, ни мачт. Это подводная лодка, и на ее борту говорят по-немецки!.. Но я лучше по порядку, с самого начала… Олафсона, по его словам, поддели на старый ржавый крючок — на лесть. К стыду своему, он был всегда падок на лесть. Однако вначале он считал, что никель норвежский, а не английский! В какой-то мере это оправдывало его. То был 1939 год, декабрь. В Европе шла так называемая странная война. Кое-кто с усмешкой называл ее также сидячей. Не блицкриг, а зицкриг! Противники лишь переглядывались, сидя в окопах друг против друга. Но Германия втайне готовила свое летнее наступление. И Олафсон помог успеху этого наступления! Но, конечно, невольно и, вдобавок, в очень долой степени. Старый лоцман жил в то время на покое, в своем тихом Киркенесе. Мог ли он думать, что Мальмстрем войны уже грозно клокочет и пенится у порога его дома? Но так оно и было. Вертящаяся водяная воронка внезапно хлестнула о берег волной, и та уволокла за собой Олафсона в пучину… Как-то вечером к нему заявился один моряк. В Киркенесе его прозвали «Однорейсовый Моряк», потому что он редко удерживался на корабле дольше одного рейса. Вздорный был человек, скандальный! Пить по настоящему даже не умел. Раскисал после второго или третьего стакана. А пьяница не может быть хорошим моряком. Оказалось, что сейчас он как раз при деле, взят вторым помощником на… (он назвал судно), а к Олафсону явился с поручением. Владельцы груза убедительно просят херре Олафсона провести корабль шхерами до Ставангера. — Я в отставке, — хмуро сказал Олафсон. — О! Это-то и хорошо! — подхватил Однорейсовый Моряк. — Не хочется по ряду причин обращаться в союз лоцманов. Насчет груза не тревожьтесь! Никель! Никелевая руда! И порт назначения — Копенгаген… Что же касается вознаграждения… Оно было так велико, что Олафсон удивился. И все же он, вероятно, отказался бы. Не нравился ему почему-то этот рейс, никак не нравился! Но тут непрошеный гость пустился на лесть. Он даже назвал старика «королем всех норвежских лоцманов»! И тот не устоял. А может, просто захотелось еще разок пройти милыми сердцу норвежскими фьордами и шхерами, постоять, как раньше, на капитанском мостике у штурвала? Старые люди — те же дети… С непроницаемо строгим лицом, попыхивая короткой трубочкой, всматривался Олафсон в знакомые очертания скал, медленно наплывавшие из тумана. Все приказания его выполнялись четко, без малейшего промедления. Лоцман, особенно в шхерах, — большая персона на корабле! И тем не менее от Олафсона что-то скрывали. Неблагополучно было с грузом, как он догадывался. Старый лоцман был суеверен. Еще в порту он принял свои меры предосторожности. Он начал с того, что потребовал назначить выход не на понедельник и не на пятницу (несчастливые дни). Потом лично проследил за тем, чтобы в каютах и кубриках не было кошек, тем более черных. К судовому щенку, любимцу команды, отнесся снисходительно — собаки на море не приносят вреда! Олафсона, в его длительном «инспекторском обходе», неотлучно сопровождал матрос. Наконец бедняге надоело ходить следом за придирчивым стариком, и он задержался на полубаке перекурить с товарищами. Тем временем Олафсон, заботясь о благополучии рейса, заглянул в трюм — бывает, что кошек прячут также в трюм. И что же он увидел там? Ничего! Так-таки совсем ничего? Да. Трюм был пуст! Не веря глазам, Олафсон посветил себе фонарем. Никелевой руды в трюме не было. Ну, да бог с ней, с этой рудой! Правду сказать, он ожидал увидеть все, что угодно, только не руду, — любой контрабандный товар, вплоть до оружия. Но внизу, под раскачивающимся фонарем, был лишь балласт — большие камни, уложенные в ряд для придания судну остойчивости. Олафсон отпрянул от черной щели люка, как от края пропасти. Пустой трюм! Странно, невероятно, необъяснимо! Быть может, судно собираются загрузить по пути в Копенгаген? Но чем? И для чего это вранье о никеле? Пожалуй, Олафсон отказался бы от участия в рейсе, но корабль уже стоял на внешнем рейде и готовился сниматься с якоря. Лоцман, понятно, промолчал о своем открытии. Но теперь внимание его как бы раздвоилось, — он примечал не только ориентиры на берегу, по которым надо ложиться на створ. Непонятное творилось на судне. Люди ходили хмурые, молчаливые, то и дело бросая тревожные взгляды на берег. Можно было подумать, что судно, кроме балласта, загружено еще и страхом, если можно так выразиться…3
Но особенно странно было то, что ни капитана, ни команду ничуть не пугала неизвестная подводная лодка, которая как бы эскортировала их судно. Она еще ни разу не всплыла на поверхность, хотя иногда перископ ее подолгу виднелся вдали. Потом он исчезал, чтобы появиться снова через несколько часов. Олафсон заметил его впервые вскоре после Нордкапа. Случилось это утром. Туман почти разошелся. Выглянуло солнце. Воздух был стеклянный, полупрозрачный. Олафсон то и дело подносил бинокль к глазам. Такая погода — сущее наказание для лоцмана. Из-за про клятой рефракции, того и гляди, ошибешься, прикидывая па глаз расстояние. Трапеции и ромбы на подставках, камни с намалеванными на них белыми пятнами, одинокие деревья и другие ориентиры, которые служат в шхерах створными знаками, парят в дрожащем светлом воздухе. Их как бы приподнимает и держит над водой невидимая рука. Фу ты! Провались оно пропадом, это опасное шхерское волшебство! Олафсон с осторожностью вел судно широким извилистым коридором. Вдруг прямо по курсу сверкнул бурун! В таких случаях говорят: «Перед глазами пронеслась вся его жизнь». Перед глазами Олафсона пронеслась карта этого района. Неужели из-за рефракции он ошибся, свернул не в ту протоку? Нет, бурун двигается. Значит, не камень! Был на памяти лоцмана случай, когда точно так же увидел он на широком плесе всплеск, а чуть подальше — другой. Перископы? Нет. На мгновение вынырнули и опять исчезли две матово-черные спинки. «Косатки, — с облегчением сказал он побледневшему рулевому. — Забрели, бродяги, в шхеры и резвятся тут…» Но теперь все выглядело по-другому. — Перископ! — сказал Олафсон без колебаний и укоризненно посмотрел на ротозея-сигнальщика. Краем глаза он заметил при этом, что на лице стоявшего рядом капитана — досада, смущение, но никак не страх. Может быть, норвежская лодка? Но ей-то зачем идти под перископом — в своих территориальных волах? Разбойничье нападение немецкой подводной ледки на «Атению», с чего, собственно, и началась на море вторая мировая война, произошло сравнительно недавно. С нейтралами (Норвегия была нейтральна) немцы не считались. И все же, зачем топить им судно с пустым трюмом? Они, правда, могли и не знать, что тот пуст. — Немцы! — предостерегающе сказал Олафсон. Однако лишь спустя минуту или две капитан довольно неискусно изобразил на лице изумление и ужас. Впрочем, никаких мер принято не было. Вскоре бурун исчез. Он опять появился в полдень, потом появлялся еще несколько раз на протяжении пути. По-прежнему на мостике никто не замечал его, кроме Олафсона. Конечно, зрение у лоцманов несколько острее, чем у других моряков. Вдобавок лоцманы приучаются одновременно видеть много предметов, охватывают взглядом сразу большое навигационное поле. Что ж! Олафсону оставалось про себя радоваться остроте своего зрения. О перископе он теперь помалкивал, лить досадливо морщился, завидев бурун вдали. Подводная лодка неизвестной национальности, вернее всего немецкой, словно невидимка, сопровождала их судно вместе с кувыркающимися дельфинами, этими «котятами моря». Но вряд ли была так же безобидна, как они…4
Неподалеку от Рервика напялился к ночи сильный густой туман. Посоветовавшись с Олафсоном, капитан приказал стать на якорь под прикрытием одного из островков, чтобы не увидели невзначай с моря. — Хоть и туман, а предосторожности не лишни, — пояснил он, отводя от лоцмана взгляд. — Радист перехватил тревожное сообщение. Эти немецкие лодки целой стаей рыщут неподалеку. Олафсон сочувственно вздохнул. Огни на верхней палубе были погашены, иллюминаторы плотно задраены. Люди ходили чуть ли не на цыпочках, говорили вполголоса. Ведь лодка или лодки, всплыв для зарядки аккумуляторов, могли неожиданно очутиться совсем близко. А на воде слышно очень хорошо. Сурово поступлено было с судовым щенком. Невзирая на его громкие протесты, щенка препроводили внутрь корабля, в самый отдаленный кубрик. Кроме того, к нему был приставлен матрос: следить, чтобы не выбежал наверх! Щенок преувеличивал свое значение на корабле: лаял на все встречные корабли, на чаек, даже на волны. Учуяв в тумане подводную лодку, конечно, не преминул бы облаять и ее. Олафсон постоял немного у обвеса борта, вглядываясь в туман, обступивший судно. — Шли бы отдохнуть, херре Олафсон, — заботливо сказал капитан. — Приглашу на мостик, когда разойдется туман. Но сами видите: наверняка простоим всю ночь! И впрямь делать наверху было нечего. Вытянувшись на своей койке, старый лоцман представил себе, как в отдаленном кубрике злятся друг на друга щенок и приставленный к нему матрос. Ну и служба — щенка сторожить! Олафсон усмехнулся. Поскрипывала якорная цепь. С тихим плеском обегала судно волна. Так прошло около часу. Лоцман не спал. Вдруг он услышал крадущиеся шаги. Кто-то остановился у его двери. Постоял минуту или две, сдерживая дыхание. Потом — очень медленно — повернул ключ в замке. Олафсон был заперт! Вот, стало быть, что! На этом корабле два пленника: щенок и лоцман! Гнев овладел Олафсоном. Будучи чувствителен к лести, он тем острее воспринимал обиды. Каково? Его, прославленного лоцмана, «короля всех норвежских лоцманов», приравняли к глупому щенку-пустобреху! Он хотел было запустить в дверь тяжелыми резиновыми сапогами, по одумался. Что пользы буянить? Двери заперты, надо выйти через окно, только и всего. Но уже теперь обязательно выйти! (Ко всему прочему, Олафсон был еще и любопытен.) Каюта его, по счастью, помещалась в надпалубной надстройке. Он выждал, пока воровские шаги удалятся. Потушил свет. Со всеми предосторожностями, стараясь не шуметь, отдраил иллюминатор. Тот был достаточно широк, и Олафсон, кряхтя, пролез через него. Не очень-то солидно для «короля лоцманов»! Но что поделаешь? Другого выхода нет. Корабль стоит на якоре. На палубе — как в погребе: промозгло, холодно, нечем дышать. Олафсон стоял неподвижно, раскинув руки, прижавшись спиной к надстройке на спардеке. Он допустил ошибку. Нужно было немного выждать, не сразу выходить со света. Сейчас, стоя в кромешной тьме, он воспринимал окружающее лишь на слух. Нечто тревожное происходило на корабле, какая-то нервная, суетливая возня. То там, то здесь топали матросские сапоги. По палубе мимо Олафсона проволокли что-то тяжелое. Кто-то вполголоса выругался. Голос капитана — с мостика: — Заперли лоцмана? Голос Однорейсового Моряка — с полубака: — Он заперт, как ваши сбережения в банке! Смех. Олафсон сжал кулаки. Его глаза постепенно привыкали к белесой мгле. Он уже различал проносящиеся мимо тени — силуэты пробегавших по палубе матросов. Потом — почти на ощупь — поднялся на несколько ступенек по трапу, чтобы увеличить поле обзора. — Ага! Вот и он! — крикнули рядом. Олафсон съежился. Но это относилось не к нему. На расстоянии полукабельтова внезапно, как вспышка беззвучного выстрела, появилось пятно. В центре этого светлого пятна покачивалась подводная лодка. Туман обступил ее со всех сторон. Она была как бы внутри грота, своды которого низко нависали над нею, почти касаясь верхушки антенны. — Кранцы за борт! — Голос капитана. Но подводная лодка приблизилась лишь на расстояние десяти — пятнадцати метров и остановилась, удерживаясь на месте ходами. Олафсон увидел, что матросы теснятся у противоположного борта. Значит, кранцы вывешивают не для подводной лодки. Для кого же? Подводники, стоявшие в ограждении боевой рубки, окликнули капитана. Тот ответил. Разговаривали по-немецки. Олафсон понял, что ожидается приход еще одного корабля. Встреча с ним почему-то не состоялась в прошлую и в позапрошлую ночь. — Англичанину полагается быть более аккуратным. — сказал капитан. — Его могли задержать английские военные корабли. — ответили с лодки Англичанина — английские военные корабли? Непонятно! Вдруг в стороне моря сверкнул свет. Потух. Опять сверкнул. Морзит! — Ну, наконец-то! — с облегчением сказал капитан. Над головой хлопнули жалюзи прожектора. Он прорубил в тумане узкий коридор, и на дальнем конце его Олафсон увидел медленно приближавшееся судно. Он не удивился, когда услышал всплески за бортом. Матросы поспешно выбрасывали из трюма часть балласта — освобождали место для груза. Приблизившись, второй корабль стал борт о борт с норвежским транспортом Завели швартовые концы. Ночью! В тумане! Маневр, что и говорить, нелегкий, но выполнен он был хорошо. Правда, в шхерах, особенно под прикрытием острова, волны почти не было.5
У Ставангера судно вышло из шхер, и обязанности Олафсона кончились. Однако, уходя с мостика, он успел обратить внимание на то, что курс изменен: стрелка компаса указывала на юг, а не на юго-юго-восток. — Пришла радиограмма от грузовладельцев, — сказал старший помощник, стоявший на вахте. — Груз переадресован из Копенгагена в Гамбург, Гамбург? Этого следовало ожидать. Гамбург или Бремен! Не зря же околачивалась возле судна немецкая подводная лодка! На мостик лоцман больше не поднимался, тем более что Северное море пересекли почти в сплошном тумане, идя по счислению, то и дело давая гудки, чтобы не столкнуться с каким-нибудь кораблем. В Гамбурге Олафсон съехал на берег и расположился в гостинице — так опротивело ему на транспорте. Стоянка не должна была затянуться, к рождеству хотели быть уже дома. По своему обыкновению, Олафсон коротал время в ресторанчике при гостинице. Там на второй или третий вечер его разыскал Однорейсовый Моряк. Ногой он придвинул стул и, не спрашивал разрешения, подсел к столику. Лицо его было воспалено, остекленевшие глаза неподвижны. — Наш капитан, — объявил он, — сделал величайшую глупость в своей жизни! — Не понимаю. — Уволил меня! Только что я немного повздорил с ним, и — бац! — он тут же выгнал меня. Чуть ли не взашей! Красиво, а? Старый лоцман отхлебнул пива и глубокомысленно обсосал свои длинные висячие усы. Просился на язык невежливый вопрос: почему Однорейсовый Моряк считает это глупостью, да еще величайшей? Но тот нуждался в слушателе, а не в собеседнике. Он болтал за двоих. — Что это вы пьете? Пиво? А почему не ром? Другие готовы отдать жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды! Или как там у вас? Вы отлично рассказывали в Киркенесе эту старую легенду. Кельнер! Рому!.. Да, так вот! Дурень капитан на коленях будет умолять меня остаться на корабле! — Умолять? — недоверчиво переспросил Олафсон. — Именно умолять! Иначе я, вернувшись домой, выложу все, что знаю о чем и об этом «Летучем голландце»! От изумления Олафсон расплескал пиво, которое подносил ко рту. — Тс-с! Тихо! — предостерег Однорейсовый Моряк. — Вы, стало быть, не узнали «Летучего голландца»? А ведь сами рассказывали мне о нем, и с такими подробностями! Он откинулся на спинку стула и захохотал. С соседних столиков на него начали оглядываться. Однорейсовый. Моряк перешел на шепот: — Но вы же не могли ожидать, что «Летучим» явится вам во всем своем старомодном убранстве! С рваными парусами и скелетами на реях. Времена переменились, херре Олафсон! И вашему «Летучему голландцу» тоже пришлось изменить обличье. — Он значительно кивнул несколько раз. — Да, да! Та самая подводная лодка, которая сопровождала нас в шхерах! Некоторое время он смаковал свой ром. — Что же вы не пьете, старина? Но у старого лоцмана отпала охота пить. То, что он услышал отОднорейсового Моряка, было непостижимо, чудовищно подло, и он, Олафсон, участвовал в этой подлости! Дело в том, что на складах в Англии по каким-то причинам залежался никель, по-видимому канадский. Запасы его некуда было девать, владельцы, по словам Однорейсового Моряка, терпели огромные убытки. Между тем фашистская Германия остро нуждалась в никеле. Посредниками в тайной сделке выступили норвежские судовладельцы. Так было зафрахтовано в Киркенесе судно с пустым трюмом. В укромном месте, в шхерах, никель был перегружен из трюма английского транспорта в трюм норвежского — товар, так сказать, передан из-под полы. Немецкой подводной лодке, прозванной «Летучим голландцем», полагалось в случае появления английских военных кораблей отвлечь их на себя и даже, если понадобится, вступить с ними в бой. Однако все сошло благополучно. — Что-то не могу понять, — беспомощно сказал Олафсон. — Как же это? Английский никель — немцам! Ведь Англия воюет с Германией… — Солдаты воюют, херре Олафсон, а торговцы торгуют. Запомните: бизнес не имеет границ! Однорейсовый Моряк привстал, заглянул Олафсону в лицо: — Эге-ге! Да бы совсем размокли, старина! — И си снисходительно похлопал сто по плечу, на что никогда не осмелился бы раньше. Но ведь теперь они были в одной воровской компании! — Вот что! — сказал он. швыряя на стол деньги. — Дождитесь меня! Я сейчас вернусь. Только заберу свои пожитки на корабле и, может, выругаю еще разок этого дурня капитана, если попадется по дороге. А потом будем веселиться и пить до утра! За ром платит Летучий Голландец. Правильно ли я говорю? И он ушел, смеясь, натыкаясь на столики и с преувеличенной вежливостью бормоча извинения. Но Олафсон не дождался Однорейсового Моряка. В отделе хроники утреннем газеты он прочел о том, что, возвращаясь на корабль, бедняга забрел спьяна на дровяную верфь, свалился в воду и утонул. Можно ли было в это поверить? Какой моряк, даже пьяный и даже ночью, не найдет дороги к своему кораблю? Однако Олафсону не пришлось долго гадать над этим. Он был арестован в тот же день и без объяснения причин заключен в концлагерь. Быть может, за Однорейсовым Моряком следили и разговор его с Олафсоном был подслушан?6
— Да, думаю, так оно и было, Джек, — прошептал старый лоцман на ухо Нэйлу, обдавая его нестерпимо жарким, прерывистым дыханием. — Времени у меня теперь хватало, мог вдосталь поразмыслить над всем этим. В концлагере я узнал, что вскоре после нашего рейса наци оккупировали Норвегию. Потом они заграбастали Францию вместе с Голландией и Бельгией. Английский никель пригодился! О, конечно, его было не так уж много в общей массе, но все же… Ты знаешь: из никеля делают наконечники для пуль! Да, летом тысяча девятьсот сорокового года сотни, тысячи английских и французских солдат полегли от английского никеля. В этом, Джек, и моя вина… доля вины!.. По временам Олафсона начинало трясти, и он умолкал. Едва лишь его отпускало, как он снова притягивал Нэйла к себе: — Слушай, Джек! Люди должны были бы узнать о контрабандном никеле! Правильно? Все люди, весь мир! Но что я мог один? Пусть даже передал бы весть на колю. Кто бы им поверил? Трудно разве этим английским торгашам отпереться от любого обвинения, имея в своем кармане власть и деньги, суд, полицию, продажные газеты и наемных болтунов в парламенте? А я один против них и вдобавок заперт в концлагере! И тогда я подумал о русских. Я хорошо знаю их! Еще до первой войны водил шхерами их посыльное- военное судно. Был, помню, на нем один молодой мичман, славный малый и толковый. Часами был готов слушать меня. Особенно привилась ему история «Летучего голландца». Я хотел бы рассказать русскому мичману продолжение этой истории… Олафсон попытался вспомнить фамилию мичмана, но не смог — у русских такие трудные фамилии. Он торопливо зашептал: — Джек, русские прогнали своих капиталистов. В их стране не найдется никого, кто пожелал бы замять это подлое дела о контрабанде никеля. Поэтому о нем надо рассказать русским, только русским! — Ты им сам расскажешь, дружище! — Нэйл заботливо укрыл Олафсона одеялом. — А теперь отдохни! Откровенность за откровенность! Я расскажу о своей встрече с этим «Летучим голландцем». Только уговор: не перебивать! Лежи спокойно, набирайся сил. Главное — выжить, дождаться прихода русских!..СМЕРТЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ
1
Шубин высадил десант в Ригулди на рассвете. Берег вначале был плохо виден. Потом он осветился вспышками выстрелов, и торпедные катера смогли подойти вплотную к причалам. Морская пехота, переплеснув через борт, хлынула на них. За ревом моторов не слышно было, как загрохотал дощатый настил под ударами множества ног, как, обгоняя друг друга, заспешили пулеметы и перекатами пошло по берегу остервенело-истошное русское: «Ура-а!» Но Шубину недосуг вслушиваться в то, что происходит на берегу. Едва лишь последний морской пехотинец очутился на причале, как торпедные катера, развернувшись, отскочили от берега. Таково одно из правил морского десанта: высадил — отскочил! Выполнив задачу, корабли должны немедленно же отходить, иначе их в клочья разнесет артиллерия противника. — Пусть теперь пехота воюет, — говорил Шубин, стремглав уходя от причалов в море. — А у меня — пауза! Я свои тридцать два такта не играю. Шутливое выражение это, как и многие другие шубинские выражения, часто с улыбкой повторяли на флоте. Известно, что связано оно с теми давними временами, когда Шубин-курсант участвовал в училищном духовом оркестре. Он играл на контрабасе, впрочем, больше помалкивал, чем играл, вступая, по его словам, только в самые ответственные моменты. Однако был случай — в начале войны, — когда Шубину все же пришлось сыграть «свои тридцать два такта». Он высаживал разведчиков в районе Нарвы. Дело было поздней осенью, свирепый накат не позволял подойти вплотную к берегу. Что делать? Разведчикам предстояло пройти много километров по болотам во вражеском тылу. Сушиться, понятно, было негде. А обогреваться — так разве что огнем противника! «Порох держать сухим!» Кромвель, что ли, сказал это своим солдатам, которые собирались форсировать реку? Подумаешь: река! Заставить бы этого Кромвеля высаживать морской десант! Ну что ж! Пришлось дополнить Кромвеля. Порох порохом, но нельзя забывать об одежде и обуви. Их также положено сохранять сухими. Шубин не стал произносить афоризмы с оглядкой на историков. Он просто отдал команду, вот и все! Приказал матросам прыгнуть за борт и взять разведчиков «на закорки». По счастью, фашисты понадеялись на свирепый накат. В общем, прохлопали этот десант. И вереница «грузчиков», шагая по пояс в воде, потянулась к безмолвному темному берегу… В Ригулди не понадобились столь решительные действия. Через некоторое время Шубин вернулся, чтобы эвакуировать раненых. А к полудню сопротивление фашистов было окончательно сломлено. Берег стал нашим. С несколькими матросами Шубин пошел взглянуть на концлагерь, находившийся поблизости. Он слышал о нем давно, еще на Лавенсари. Ветер переменился и дул с берега. Откуда-то из коричневых зарослей наносило желтый удушливый дым. Завихряясъ вокруг прибрежных сосен, он медленно сползал к белой кайме прибоя. Моряки, по щиколотку в дыму, прошли лесок и, выйдя на опушку, увидели лагерь для военнопленных. Три ряда колючей проволоки были порваны, скручены в клубки. На стенах невысоких бараков белели каллиграфически исполненные надписи, а под ними валялась груда черной одежды: трупы выглядят всегда как груда одежды. Рядом с эсэсовцами, оскалив пасти, лежали мертвые овчарки. Странно, что в центре лагеря, между бараками, высились штабеля, как на дровяном складе. Присмотревшись, Шубин понял, что это не дрова, а мертвые люди, приготовленные к сожжению! Трупы лежали не вповалку, но аккуратными рядами: дрова, поперек дров трупы, снова дрова, и так в несколько слоен. Из-под поленьев торчали бескровные руки со скрюченными пальцами и ноги, прямые, как жерди, в спадающих носках. С наветренной стороны трупы уже обгорели. На краю площадки штабелей не было. Вместо них темнели кучи пепла, над которыми вились огоньки. Так вот откуда этот тошнотворно-удушливый запах! Шубин мельком взглянул на сопровождавших его матросов. У Дронина дрожала челюсть. Степаков грозно поигрывал желваками, а Шурка вытянул худую шею, удивленно тараща глаза. — Отвернись, сынок! — сказал Шубин, ласково беря его за плечи. — Нехорошо смотреть на это!.. За спиной послышалась дробь чечетки. Что это? Какой безумец отплясывает чечетку на пожарище, среди мертвых? А! Это уцелевшие узники концлагеря!.. Проходя мимо, они стучат деревянными подошвами своих башмаков. Да! Похоже на чечетку, только замедленную, монотонную… Люди еще никак не могут освоиться с сознанием того, что они избегли казни и уже свободны. Неумело, нерешительно улыбаются, подходят к русским солдатам, обнимают, пытаются как-то выразить свою благодарность. Высокие взволнованные голоса их как щебет птиц, выпушенных па волю…5
И вдруг в этом многоязычном непонятном щебете раздалось знакомое слово «сайлор»[230]. Расталкивая толпу, к советским морякам пробился какой-то человек. У него было серое, будто запыленное лицо, пепельно-серая стриженая голова и сросшиеся на переносице черные брови. — Ай ис морьяк! — выкрикнул он, путая английские и русские слова. — Ю энд ай — сайлор, кэмрад, тоувариш![231] Он торопливо распахнул, вернее, разодрал на груди куртку. Под ней мелькнуло что-то полосатое. А, лохмотья тельняшки! — Ю энд ай, — пробормотал он и, поникнув, обхватил Дронина и Степакова за плечи. Из горла его вырвалось рыдание. — Ну, ну, папаша! — успокоительно сказал Степаков, придерживая старика за костлявую спину. Дронин обернулся к Шубину: — Душу свою перед нами открыл, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — растроганно пояснил он. — Высказывает: свой, мол я, тоже флотский! Старик заговорил. Он очень хотел, чтобы его поняли, делал много жестов, как глухонемой. Моряки поощрительно кивали. Дронин даже шевелил губами, словно бы вторя ему. Но дальше этого не пошло. — Частит потому что! — Дронин огорченно замигав, отступил на шаг. Но одно слово удалось попять. Это была фамилия. Где-то Шубин уже слышал ее. Олафсон. Олафсон… — Это вы — Олафсон? — Ноу, ноу! — Старик отрицательно замотал головой. Он показал на желтый дым, который, свиваясь в кольца, стлался над землей, и повторил: «Олафсон». Что это должно значить? Дронин опять засуетился, но Шубин отстранил его: — Стоп! Не выходит у тебя на пальцах. Клуб глухонемых открыл! Попробуем с другого конца. Шпрехен зи дойч, камрад, геноссе? — О, йес! Ия! Натюрлих! — обрадовался старик. Он быстро заговорил по-немецки, иногда, впрочем, сбиваясь опять на английский, второпях вставляя еще какие-то слова, не то испанские, не то португальские. Но Шубин, в общем, приладился, постепенно стал ухватывать суть. Старика звали Нэйл, Джек Нэйл. Он был англичанин, судовой механик. — Говорит: массовые расстрелы начались вчера вечером, — сказал Шубин. — Гитлеровцы не успели или не захотели эвакуировать лагерь. Людей выстроили в очередь. У каждого было под мышкой два полена. Их аккуратно укладывали поперек трупов… Потом укладчики сами ложились ничком на принесенные с собой дрова и ждали пули в затылок. Так вырастали эти штабеля. Бр-р! Даже слушать жутко. — Шубин перевел дыхание. — Он еще вот чего говорит: раненые стонали, корчились на поленьях, а факельщики уже принимались обливать их бензином, чтобы лучше горели! До Нэйла очередь не дошла. Выручил наш десант. Но Олафсона, говорит он, убили еще раньше, на земляных работах. Это был лоцман, его друг. Вернее, друг всего лагеря… Нэйл остановился у одного из бараков. Несколько бывших военнопленных разбирали стену, уже занявшуюся огнем. Движения их были вялы, замедленны, как в тягостном сие. — Олафсон жил в этом бараке. — задумчиво сказал Нэйл. — Его и моя койки стояли рядом. В позапрошлую ночь, уже больной, зная, что ему не миновать расправы, он рассказал мне о «Летучем голландце»… Шубин вздрогнул. Как! Не ослышался ли он? Думает постоянно о своем «Летучем», тот и чудится теперь везде. — Голландец? — переспросил он. — Вы, кажется, сказали… «Летучий голландец»? — Ия! Дер флигенде Холлендер! — Для верности Нэйл повторил по-английски: — «Флаинг Дачмен»!
Но Шубин еще не верил, боялся верить. Он со злостью одернул себя. Не бывает подобных совпадений! Речь идет, конечно, о легендарном капитане, о том упрямце, который когда-то разругался со стихиями у мыса Горн.
— Такая особая немецкая подводная лодка-рейдер, — продолжал Нэйл, сосредоточенно глядя на перебегающие по стене быстрые огоньки. — Ее прозвище — «Летучий голландец». Она делает очень нехорошие дела. Разжигает войну! Вдобавок, совершает это втайне, за спиной воюющих стран…
Тут Шубин впервые в своей жизни почувствовал, что ноги не держат его.
— Давайте сядем, а? — попросил он. — Скажите-ка еще раз, но помедленнее! Немецкий рейдер и в наши дни, так ли я понял?
Нэйл кивнул.
Они сели неподалеку от барака, с наветренной стороны площадки, чтобы не наносило удушливый дым.
Степаков вытащил подаренный еще в 1942 году кисет с надписью: «Совершив геройский подвиг, сядь, товарищ, закури!» Дронин принялся торопливо скручивать толстенную «козью ножку» для Нэйла.
— И мне сверни! — попросил Шубин. Он не хотел, чтобы матросы видели, как дрожат руки у их командира.
Наконец сделаны первые затяжки. Нэйл блаженно вздохнул:
— Курить хорошо! Я давно не курил… Итак, подводная лодка-рейдер…
Нэйл рассказывал, держа свою «козью ножку» неумело, обеими руками, боясь просыпать табак. Желтый дым продолжал медленно стекать от бараков к морю. Степа напротив рухнула наконец, и внутри стали видны койки, на которых валялась скомканная серая рухлядь…
— Ия! Дер флигенде Холлендер! — Для верности Нэйл повторил по-английски: — «Флаинг Дачмен»!
Но Шубин еще не верил, боялся верить. Он со злостью одернул себя. Не бывает подобных совпадений! Речь идет, конечно, о легендарном капитане, о том упрямце, который когда-то разругался со стихиями у мыса Горн.
— Такая особая немецкая подводная лодка-рейдер, — продолжал Нэйл, сосредоточенно глядя на перебегающие по стене быстрые огоньки. — Ее прозвище — «Летучий голландец». Она делает очень нехорошие дела. Разжигает войну! Вдобавок, совершает это втайне, за спиной воюющих стран…
Тут Шубин впервые в своей жизни почувствовал, что ноги не держат его.
— Давайте сядем, а? — попросил он. — Скажите-ка еще раз, но помедленнее! Немецкий рейдер и в наши дни, так ли я понял?
Нэйл кивнул.
Они сели неподалеку от барака, с наветренной стороны площадки, чтобы не наносило удушливый дым.
Степаков вытащил подаренный еще в 1942 году кисет с надписью: «Совершив геройский подвиг, сядь, товарищ, закури!» Дронин принялся торопливо скручивать толстенную «козью ножку» для Нэйла.
— И мне сверни! — попросил Шубин. Он не хотел, чтобы матросы видели, как дрожат руки у их командира.
Наконец сделаны первые затяжки. Нэйл блаженно вздохнул:
— Курить хорошо! Я давно не курил… Итак, подводная лодка-рейдер…
Нэйл рассказывал, держа свою «козью ножку» неумело, обеими руками, боясь просыпать табак. Желтый дым продолжал медленно стекать от бараков к морю. Степа напротив рухнула наконец, и внутри стали видны койки, на которых валялась скомканная серая рухлядь…
3
— Если бы вы знали, камрады, как хотел Олафсон сам рассказать вам все это! Он ждал вас, как умирающий ночью ждет наступления рассвета. А ночь тянулась и тянулась… Наши товарищи спали беспокойно, стонали, ворочались. Сонный храп их раскачивал барак, как мертвая зыбь корабль. Олафсон рассказал о контрабандном никеле. И тогда начал рассказывать я: о звездной ночи под тропиками, мерном рокоте индейских барабанов и светящейся дорожке на реке. Видите ли, то, что случилось у берегов Норвегии в тысяча девятьсот сороковом году, имело свое продолжение в тысяча девятьсот сорок втором на реке Аракаре. Это одни из многочисленных притоков Амазонки в среднем ее течении. Как ни верти, обе истории сходились вплотную краями! Пли, иначе сказать, были в точности пригнаны друг к другу, как гайка к болту. «А теперь спи, Оле! — сказал я. — Завтра у тебя трудный день. Ты во что бы то ни стало должен обмануть Гуго!..» Но он не обманул его. Пока мы брели к месту работы, товарищи взяли Олафсона в середину колонны и поддерживали под локти, почти волокли за собой. Ветер донес до нас раскат грома. Ветер дул с востока. Грома в сентябре не бывает. Это пушки русских, святая канонада! Олафсон слушал ее, стоя у своей тачки, с лицом, обращенным к востоку, будто молился. А может, он и на самом деле молился? Засвистели свистки, разгоняя нас по местам. Гром немного подбодрил Олафсона. Он держался час или полтора. И я старался все время быть рядом — ведь мы были связаны общей тайной, как каторжники одной цепью! Увы! Олафсона хватило ненадолго. Я разгружал тачку у окопа, когда за спиной раздалась ругань. Гуго был мастер ругаться. Я с ужасом оглянулся. Да, Олафсон! Он лежал у своей тачки метрах в десяти от меня. — Нога подвернулась, обершарфюрер, — пробормотал он и попытался встать. Но при этом смотрел не на Гуго, а на меня. Он смотрел, широко раскрыв глаза. Взгляд был долгий, прикалывающий. И я понял этот взгляд: «Не подходи! Живи! Дождись! Ты обещал!» Кто-то из заключенных подскочил к Олафсону, стал его поднимать. «Отойди!» — коротко сказал Гуго. Заключенный тотчас же выпрямился. Лицо было так исковеркано злобой, что я едва узнал его. То был один из наших товарищей по блоку, ничуть не героическим человек, даже немного брюзга. Он не был в хороших отношениях с Олафсоном, вечно придирался к нему, выискивая разные несообразности в его рассказах. Сейчас он весь трясся от злобы, когда, держа Олафсона под мышки, обернулся к Гуго: «Не смей старика! Ты, проклятый циклоп, чертова вонючка и…» Ругался бы, наверно, еще, но очередь из автомата прервала его и свалила их обоих… Это было вчера. Вы опоздали лишь на день… Слова прозвучали невысказанным упреком. Наступило молчание. Шубин подумал, что, опоздай он не на день, а на два дни, вероятно, самого Нэйла не было бы уже в живых. Тайна старого лоцмана развеялась бы вместе с ним, как дым по ветру. Нэйл будто угадал мысли Шубина: — Да, я мог разделить могилу с Олафсоном. У него просторная могила. Когда-то говорили: «И тело было предано земле». Об Олафсоне надо иначе: «И ветры развеяли его прах над Балтикой…» И он опять медленно провел рукой по воздуху. Теперь советским морякам был ясен смысл этого жеста. К концу своего рассказа Нэйл, видимо, очень устал. Голос его потускнел, голова все чаще опускалась на грудь. Да и морякам пора было на катера. Шубин встал. — Милости прошу к нам, — сказал он. — Мы стоим за тем вон лесочком, у причала. Обязательно приходите! Я приглашаю вас на ужин. За ужином вы доскажете свою историю…КАМНИ РИСТНЫ
1
Однако морякам не пришлось блеснуть флотским гостеприимством. Ужин не состоялся. Днем Шубин был вызван к начальству, которое перебазировалось в Ригулди вслед за катерами. — Придется поработать этой ночью, — сказал контр-адмирал, подводя Шубина к карте и косясь на его необычно хмурое лицо. — Хотел было дать твоим людям передохнуть, но не выйдет. Куй железо, пока горячо! Правильно? — Правильно, — рассеянно согласился Шубин, наклонившись над картой, — мыслями был еще в сонном бараке, где Олафсон, под храп товарищей, рассказывал Нэйлу о «Летучем голландце». — А чего ковать-то? Железо где? — Вот оно! Далековато, правда. В районе Вентспилса, чуть отступи от курляндского берега, Шубин увидел иероглиф, которым обозначают на картах притопленный корабль. — Учти: притопленный, а не потопленный! Для нас это важно. — А что за корабль? — Немецкий транспорт. Шел на Саарему или на Хиуму. Был перехвачен нашими бомбардировщиками. Там мелководье, он к сел па грунт. Сегодня летчик летал, проверял. Людей как будто нет. Надпалубная надстройка и часть палубы еще держатся над водой. — Долго не продержатся. У курляндского берега сильный накат. — А долго и не надо. Два — три дня пробудут разведчики, и хватит с нас. — Разведчики? — Ну, корректировщики. Назови как хочешь. Шубин с внезапно обострившимся интересом всмотрелся в карту. Между Ригулди и районом Вентспилса — Моонзундский архипелаг, острова Хиума, Муху, Саарема, которые запирают вход в Рижский залив. Фашистское командование продолжало подбрасывать сюда боезапас и подкрепления — морем, вдоль берега. Живому воображению Шубина представилась очень длинная мускулистая рука, протянувшаяся от Кенигсберга. Ударить бы по ней с силой несколько раз, сразу бы ослабла ее мертвая, вернее, предсмертная хватка и разжались пальцы, закоченевшие на Моонзундском архипелаге! Да, притопленный корабль — очень кстати. Сбоку, от ярких штабных ламп, падает на карту крут света. Шубин видит сейчас лишь то, что в этом круге; белое пятно мелководья севернее Вентспилса и условный значок, который похож на схематический рисунок тонущего корабля. Все остальное в тени. Туда, в тень, отодвинулись мысли об Олафсоне и Нэйле. Шубин был дисциплинирован и умел целиком переключаться на решение новой важной задачи, временно отстраняя все, что не шло к делу. Испросив разрешения, он задумчиво пошагал циркулем но карте. — Расстояние смущает? — спросил адмирал. — Да нет, ничто меня не смущает. Впрочем, на правах любимца флота Шубин не преминул немного пококетничать, пожаловаться на трудности своей военно-морской профессии. — У авиации, понятно, сказочная жизнь, — недовольно пробормотал он. — Один подскок — и там! Напрямик, через Рижский залив! А мне топать в обход, во-он какого кругаля давать! Адмирал, знавший причуды Шубина, усмехнулся: — Значит, авиацию советуешь? — Ну что вы, товарищ адмирал! Летчики напортят. Они же у вас к удобствам привыкли. Им громадную акваторию подавай! Будут подгребать к транспорту, еще свою гидру[232] разобьют. А я бортик к бортику, без порчи государственного имущества! Сравнили: катер или гидросамолет! — Ты побольше горючего захвати! Мешки Бутакова есть у тебя? — Как не быть! — Двумя катерами пойдешь? — Да уж разрешите только двумя. Шуму меньше. Прощаясь, адмирал задержал в своей руке руку Шубина: — Вот ты и повеселел! А то вроде хмурый был, когда пришел. Или мне показалось? Шубин торжественно продекламировал: Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел! — Это чей же глагол божественный? Мой, что ли? — Так точно, ваш, товарищ адмирал! — Ну, иди уж… встрепенувшийся! Шубин еще раз мельком взглянул на карту. Пучок света падал на псе, будто лучи луны, выглянувшей из-за туч. К сожалению, и на небе в эту ночь положено быть луне. Только идти в операцию, как и луна здесь! Сказано же: спутник Земли! Так нет, надо еще к военным морякам в спутники набиваться!..2
Но, выйдя из штаба. Шубин с облегчением перевел дух. Тучи! Во все небо! Это, однако, повезло. Во время сборов Шубин вспомнил о Нэйле и послал предупредить его о том, что ужин переносится на завтра. Завтра! Успеют ли до завтра обернуться катера? Впервые Шубин уходил так далеко от базы. А если шторм прихватит на пути? Куда деваться, где отстаиваться? Но пока некогда об этом! Прихватит, тогда и раскинем мозгами! Шубин взял с собой запас горючего в нескольких резиновых мешках. Шел, как всегда, на старом своем катере, которым теперь командовал Павлов. Разведчиков было двое. Их — и рацию — устроили между желобами для торпед. Для глубинных бомб места уже не хватило. Но Князев, неизменно сопутствовавший командиру отряда, имел на борту у себя и горючее и бомбы. Выйдя в море, Шубин вначале «воспринимал» его «на ощупь», как пешеход — ногами тропу во мраке. Ага! Выбрались наконец из залива! Волна стала длиннее, размахи ее резче. Когда глаза освоились с темнотой, моряки увидели, что ночное море светлее неба. И граница между ними различалась впереди, хотя не очень четко. Двигаясь к юго-западной части горизонта, торпедные катера будто проваливались в огромную щель или углублялись в пещеру. Но страха Шубин не ощущал. Он был неразрывно связан с наступающей громадой флота, с его сторожевыми кораблями, эсминцами, крейсерами, линкорами, с его стремительной морской авиацией и беззаветно отважной морской пехотой. Балтика за спиной Шубина грозно поднималась, готовая к броску. А впереди флота, как всегда, двигались два маленьких, затерянных в ночи шубинских катера! Он не услышал выстрелов за оглушающим ревом своих моторов. Только увидел разноцветную, очень красивую струю, которая дугообразно падала с неба. Похоже, словно бы боженька сдуру начал поливать море из лейки! Но то был не боженька, а вражеский самолет! Ночью пена светится. А катер на ходу яростно пенит воду. Светится бурун за его кормой. Светятся «усы», которые тянутся за форштевнем. Говорят, сверху это выглядит так, будто по морю летит маленькое светящееся копье. Шубин приказал Павлову застопорить ход. То же сделал и Князев. Светящийся след на воде пропал. В наступившей тишине стало явственно слышно жужжание гигантского бурава. С каждым витком он ближе и ближе ввинчивался во тьму. Катера дали ход, немного проскочили вперед, остановились. Самолет по-прежнему кружил где-то очень близко.
— Сбей-ка гада у меня с хвоста! — приказал Шубин Князеву. — Шумни, осветись — и уведи за собой! Встретимся в двадцати милях к весту от Ристну.
Князев сказал: «Есть», расторопно включил свет в рубке и выключил глушители. Потом на полной скорости, весь в пенном ореоле, описал циркуляцию и понесся в открытое море. Дуга трассирующих пуль стала перемещаться за ним.
Опасная игра, но иначе нельзя! На катере Павлова — разведчики, их надо сберечь любой ценой, в целости и сохранности доставить на притопленный немецкий транспорт!
Тревогу о Князеве, которого пришлось поставить под удар, Шубин отодвинул куда-то в самый дальний уголок души. И без того хлопот полон рот!
Павлов доложил, что поврежден гирокомпас. Лопнула трубка вакуума, — вероятно, при резком сбрасывании хода. Теперь катер шел на одном магнитном компасе.
Затем в игру — на стороне противника — включалась луна. Раздвинув тяжелые занавеси туч, она просунула между ними свое круглое улыбающееся лицо.
— Заждались вас! — сердито пробормотал Шубин. — Скучать было стали! — И бросил Павлову: — Сильно вправо не бери!
Сейчас безопаснее было идти под берегом, прячась в его тени. Шубин угадывал слева пологие дюны, вразброс натыканные сосны. При лунном свете — не пейзаж, схема пейзажа, как на детских рисунках. И все только в карандаше: черным по белому. А штрихи прямые, угловатые, очень резкие.
Не хотел бы он очутиться на этом колючем, вражеском берегу!
Потом слева по борту снова засияла водная пелена.
Ирбенский пролив!
Миновав его, Шубин нетерпеливо приник к биноклю.
Спустя положенное время впереди прорезались мачты, а за ними и весь силуэт притопленного корабля — в необычном ракурсе, будто усеченный.
Подойдя ближе, моряки увидели, что корабль дал сильный крен. Над водой наклонно торчали мачты, нос и надпалубные надстройки. Все остальное ушло под воду. Волны с шипением перекатывались через корму.
Самолет по-прежнему кружил где-то очень близко.
— Сбей-ка гада у меня с хвоста! — приказал Шубин Князеву. — Шумни, осветись — и уведи за собой! Встретимся в двадцати милях к весту от Ристну.
Князев сказал: «Есть», расторопно включил свет в рубке и выключил глушители. Потом на полной скорости, весь в пенном ореоле, описал циркуляцию и понесся в открытое море. Дуга трассирующих пуль стала перемещаться за ним.
Опасная игра, но иначе нельзя! На катере Павлова — разведчики, их надо сберечь любой ценой, в целости и сохранности доставить на притопленный немецкий транспорт!
Тревогу о Князеве, которого пришлось поставить под удар, Шубин отодвинул куда-то в самый дальний уголок души. И без того хлопот полон рот!
Павлов доложил, что поврежден гирокомпас. Лопнула трубка вакуума, — вероятно, при резком сбрасывании хода. Теперь катер шел на одном магнитном компасе.
Затем в игру — на стороне противника — включалась луна. Раздвинув тяжелые занавеси туч, она просунула между ними свое круглое улыбающееся лицо.
— Заждались вас! — сердито пробормотал Шубин. — Скучать было стали! — И бросил Павлову: — Сильно вправо не бери!
Сейчас безопаснее было идти под берегом, прячась в его тени. Шубин угадывал слева пологие дюны, вразброс натыканные сосны. При лунном свете — не пейзаж, схема пейзажа, как на детских рисунках. И все только в карандаше: черным по белому. А штрихи прямые, угловатые, очень резкие.
Не хотел бы он очутиться на этом колючем, вражеском берегу!
Потом слева по борту снова засияла водная пелена.
Ирбенский пролив!
Миновав его, Шубин нетерпеливо приник к биноклю.
Спустя положенное время впереди прорезались мачты, а за ними и весь силуэт притопленного корабля — в необычном ракурсе, будто усеченный.
Подойдя ближе, моряки увидели, что корабль дал сильный крен. Над водой наклонно торчали мачты, нос и надпалубные надстройки. Все остальное ушло под воду. Волны с шипением перекатывались через корму.
3
— Концы и кранцы — на левый борт! Шубин подал команду вполголоса. Нервы были натянуты до предела. Ждал: сейчас ударит выстрел или просто оклик. По черная глыба, нависшая над катером, осталась безмолвной. Первыми на транспорт взобрались разведчики, за ними — Шубин, Шурка и Фаддеичев, держа автоматы наготове. Крен корабля был градусов тридцать. По палубе двигались с осторожностью, как по косогору, то и дело хватаясь за леера. Пройдя несколько шагов, одни из разведчиков поднял руку. Все остановились, пригнувшись. — Донка работает, нет? Шубин прислушался: — Днище о камни бьет! Корабль был брошен людьми. Второй разведчик оглянулся на вило повисшее полотнище флага, перечеркнутое свастикой. — Убрать бы эти лохмушки. а? — Э, нет! — отозвался Шубин. — Гут нельзя ничего менять. Транспорт просматривается с берега. И корабли ходят мимо. Чем тебе флаг помешал? Фашисты сами на себе поставили крест. Шубин посоветовал разведчикам обосноваться в трюме, в той его части, которая не была затоплена. — Надежнее всего! Днем будете наблюдать в иллюминатор, ночью прогуливаться по палубе. Сыровато, конечно! Так не к теще же на блины приехали. Разведчики с помощью Шурки принялись тянуть на палубу антенну. А боцман занялся тщательным осмотром трюма. Как старый фронтовик, он обладал особым нюхом на съестное. Через несколько минут он с торжеством принес и поставил перед Шубиным вскрытый ящик с консервами: — Компот, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — Ишь ты! — Шубин присветил фонариком. — А ведь их тут полно, ящиков этих. Товарищи разведчики! Блинов у вас, правда, не будет, зато компотом обеспечены, сидите в трюме хоть до конца войны! — А может, и другие консервы есть? — предположил боцман. — Тебе полное меню подай, как в ресторане! Эй, побыстрее прошу, товарищи новоселы! Счетчик-то тикает на такси. Мне до света надо мимо островов проскочить. Иначе будет нам всем компот! И вдруг с палубы раздался протяжный крик. Самолет? Шубин в два прыжка очутился наверху. Но опасность появилась не с воздуха. Павлов показывал в сторону моря. Вдали Шубин увидел что-то темное, очень длинное. Подводная лодка? Наяву повторялся его кошмар! С томительной последовательностью поднималась из воли боевая рубка, потом всплыл узкий утюгообразный корпус. Вода расступалась без пены, без всплесков. Ветер стих. Вокруг штилевое море. На светлой полосе лежала подводная лодка, очень одинокая. Есть ли на ее палубе орудие? Нет! Только спаренные пулеметы, два коротких ствола, поднятых под углом! Сейчас, когда подводная лодка немного развернулась, это очень ясно видно. И боевая рубка необычайно высока! Длинная прямая тень от нее падает на воду. На одной-единственной подводной лодке видел Шубин подобную рубку. Все приметы налицо! Будто материализуясь на глазах, уплотняя взвешенную на воздухе влагу и зыбкий лунный свет, возник перед Шубиным «Летучий голландец» — весь из бликов и теней!.. Мгновенный военный рефлекс — атаковать! Кинуться на врага и забросать глубинными бомбами! — Заводи моторы! Шубин кубарем скатился на палубу катера. За ним, грохоча автоматами, — Фаддеичев и Шурка. Палуба затряслась под ногами. Павлов был наготове, мотористы быстро запустили один из моторов. Второй завелся на ходу. Транспорт словно бы прыгнул назад, к берегу. Секунду видны были фигурки разведчиков у мачты. Потом, на крутом развороте, притопленный корабль закрыло буруном, поднявшимся за кормой. Но, пока катер стоял, приткнувшись к борту транспорта, то сливался с ним, а едва лишь отскочил, как сразу же перестал быть невидимкой. На подводной лодке заметили атакующий торпедный катер. Рубка начала уменьшаться. По обыкновению, не приняв боя, «Летучий голландец» шел на погружение. И только тогда Шубин вспомнил, что глубинных бомб у него нет! Ведь они у Князева. А Князев далеко — если уцелел! — Товсь! Залп! Шубин выпустил обе торпеды в погрузившуюся подводную лодку. Море продолжало наплывать с норда сплошной слитной массой, равнодушно отсвечивая при луне. Оно даже не поморщилось…4
Катер лег на курс к базе. Павлов смотрел только вперед, часто сверяясь с компасом. Шубин стоял рядом, подняв воротник. Он беспрерывно курил. Даже не зажигал спичек — прикуривал папиросу от папиросы. Помнится, Готлиб, а может, Рудольф заявил в кают-компании, что «Летучий» умеет по желанию превращаться и транспорт. «Но, понятно, затонувший», — было оговорено. Как понимать это? В данном случае скорее уж транспорт превратился в подводную лодку. Но к чему было ей шнырять вокруг транспорта? Охраняла консервы с компотом? Вряд ли. Были у нее поручения поважнее, судя по рассказу Олафсона. Луна неслась вдогонку за катером, прорываясь сквозь тучи. Темнело, светлело, опять темнело. Так поезд, приближаясь к Севастополю, быстро проскакивает один туннель за другим… Вдруг — резкий толчок! Ткнулись в гору? Павлов не успел взять на себя ручки машинного телеграфа. Раздался омерзительный скрежет — днище катера ползло по камню! Потом скрежет перешел в вон и свист — злорадно подскакивающие звуки «Ауфвидерзеена». Подлый мотив! Догнал-таки наконец! Шубин машинально провел рукой по лбу. Ладонь стала мокрой, липкой. Расшиб лоб о щиток! Рядом что-то бормотал Павлов, пытаясь встать. Наверно, ударился грудью в штурвал. Шубин заглянул в люк: — Живы? — Расшиблись малость! А что это? — Сидим на камнях! — Клинья, чопы, товарищ командир? — Голос боцмана за спиной. — Действуй! Но пробоин было слишком много. Вода заливала таранный и моторный отсеки. Почему же катер еще держится? Оказалось, что он держится не на воде, а на камнях. Шубин перегнулся через борт. Фонтанчики пены били в лицо. Все же удалось разглядеть, что катер как бы провис между двумя камнями, сильно при этом накренясь. И опять мотив «Ауфвидерзееиа» надоедливо застучал в мозгу. Шубин увидел косо висящую картину в кают-компании «Летучего голландца». Словно бы по волшебству перенесся внутрь рамки. «Летучий голландец» поманил за собой, завертел-закружил и вывел… Но куда он вывел? На картине камней нет. Видна лишь зеленая вода и завихрении пены. Камни — вне рамки, ниже правого ее угла… — Пластырь заводить? — вздрагивающий голос Дронина. Интонации тревоги в голосе моториста встряхнули и отрезвили Шубина. Он преодолел минутную слабость. От него ждут решения! Судьба катера и команды зависит от его решения! И он снова ощутил себя рассудительным, собранным, хладнокровным, как и положено быть командиру перед линем смертельной опасности. — Все лишнее — за борт! Катер надо облегчить, чтобы легче было снимать с камней! В воду тяжело плюхнулась торпеда. Туда же отправился пулемет, сорванный с турели. Боцман только кряхтел и вздыхал, расставаясь с катерным добром. — Ящички-то хоть оставьте, товарищ командир! — Какие ящички? — Да парочку с транспорта прихватил. Компот. — За борт! Павлов что-то сказал рядом. Шубин помог ему подняться. — Но где наше место? — растерянно пробормотал Павлов. — Ведь я шел по компасу. Берег должен быть в пяти милях. — Вот это правильный твой вопрос, — сказал Шубин, подчеркнуто спокойно, даже, с оттяжечкой. — Очнулся человек, спрашивает окружающих: «Где я?» Так и ты. Давай-ка искать свое место! Он включил лампочку под козырьком рубки и осветил карту. Но в карте даже и не было нужды. Моряк умеет мыслить картографически подобно математику, который с легкостью ворочает в уме глыбы многозначных чисел. Мысленно Шубин промчался вдоль Моонзундского архипелага, проверяя по пути все опасности: банки, мели, оголяющиеся камни. Моторы были заглушены. В наступившей тишине ухо сильн различать плеск воды. Он выделялся на каком-то мерном, рокочущем гуле. Прибой? Похоже, но не прибой. Восточную часть неба, и, по-видимому, не очень далеко, прочертило несколько ракет. Наметанный глаз Шубина успел разглядеть справа две башни, на небольшом расстоянии друг от друга. Маяки! Фонари на них погашены. В военное время маяки работают только по указанию. Шубин узнал их и присвистнул. Лишь в одном месте на побережье маяки отстоят так близко друг от друга. — Вот оно, твое место! — Он сердито ткнул пальцем в карту. — Смотри, куда привез! — Ристна?! — Павлов лихорадочно зашуршал картой. — Не может быть! Ведь это расхождение с курсом на двадцать три градуса! Шубин промолчал. Он напряженно вглядывался в темный, безмолвный берег. Сомнений теперь не было. Торпедный катер по непонятным причинам отклонился от правильного курса и с разгона ткнулся в прибрежные камни мысе Ристна, крайней западной оконечности острова Хиума! На Хиума — сильный немецкий гарнизон. Это еще больше осложняло положение.5
Рация, по счастью, была не повреждена. Чачко отстучал на базу о случившемся. Затем сравнительно быстро удалось разыскать в эфире князевского радиста. Князев, «поводив» за собой вражеский самолет, сбросил наконец «гада с хвоста» и теперь ожидал в указанной точке рандеву — в двадцати милях от Ристны. Шубин приказал ему немедленно идти к Ристне. — Поторопиться не мешает, — проворчал Дронин. — Грубо говоря, тонем, товарищ командир. — А ты грубо не говори! Знаешь ведь: не люблю грубости! Кто-то нервно засмеялся. Матросы беспрерывно вычерпывали воду. В днище и в бортах было несколько пробоин. Да, тут пластырь поможет, как мертвому припарка! Таранный и моторный отсеки все больше наполняются водой. Скоро она начнет переплескивать через борт. Нечто сходное произошло этой весной в шхерах. Однако там сразу же подвернулся безлюдный лесистым островок. А здесь под боком Хиума, где немцев полным-полно. С берега, однако, не стреляли. Шубин не понимал этого. Наблюдательные посты не могли не засечь катер. По всем правилам на него должен был сразу же обрушиться шквал артиллерийского и пулеметного огня. Но, конечно, в данном случае не Шубину было учить фашистов правилам. Вся надежда на Князева. Однако ему «топать» до Ристны не менее получаса. Дронин прав: запросто можно потонуть, не дождавшись Князева. Шубин нетерпеливо огляделся. Опасность всегда делала его энергичнее, инициативнее, собраннее, — главное, собраннее! По-прежнему стучал в мозгу надоедливый мотив, по Шубин уже не обращал на него внимания. Весь сосредоточился на решении задачи: как в этих необычайно грудных условиях спасти катер и команду? «Летучий» тоже сидел на камнях — в шхерах. И посадил сто не кто иной, как он, Шубин. Но тогда буксиры были рядом. Они тотчас же сволокли «Летучего» с камней. Да, пожалуй, он отквитался за шубинскую хитрую каверзу. Уплатил свой долг полностью и почти той же монетой. Теперь-то ему хорошо! Гуляет себе по Балтике взад и вперед. Набрал воды в систерны — нырнул! Продул сжатым воздухом — вынырнул! Шубину бы так! Но нет, у него, к сожалению, систерн. Хотя… Почему бы не приделать к катеру систерны? Шубин засмеялся. Павлов и Фаддеичев с удивлением смотрели на него. — Есть мысль, товарищи! Катер с подводную лодку прекратим! Матросы в ужасе переглянулись. В уме ли их командир? Не помешался ли от переживании? Катер — в подводную лодку?! — Временно, товарищи, временно! — успокоительно сказал Шубин. — Чтобы остаться на плаву, дождаться Князева. Боцман! Мешки Бутакова сюда! Баллон со сжатым воздухом цел?.. Да поворачивайся ты! Тонем же! Два резиновых мешка были уже пусты. Запасное горючее из третьего вылили. Ни к чему оно! Все равно придется ползти на буксире. Мешки поспешно затолкали в таранный отсек, присоединили к ним шланг компрессора, открыли вентиль. И произошло чудо! — Ура! — прошептали рядом с Шубиным. Это был юнга. Опустив бесполезный черпак, он завороженно следил за тем, как выравнивается катер, медленно-медленно поднимаясь над водой. Сжатый воздух начал раздувать мешки, а те, в свою очередь, стали постепенно вытеснять воду из отсеков. Да, систерны! Нечто вроде самодельных систерн! Вот каков он был, удивительный Шуркин командир! Словно бы вцепился могучей рукой в свой тонущий катер и наперекор стихиям удержал его на плаву!.. Впрочем, это было неточно: на плаву. Катер по-прежнему сидел в ловушке, между двух камнем, но, выровняв его, Шубин предотвратил дальнейшее разрушение. Сейчас расторопный боцман уже мог завести под днище брезентовую заплату-пластырь, а маленькие отверстия забить чопами и паклей; в общем, сделать все, что положено делать в подобных случаях. Шубин выпрямился. Он с удивлением отметил, что «Ауфвидерзеен» исчез. Победа вытеснила навязчивые мысли из мозга, как сжатый воздух — воду из отсеков! А через несколько минут со стороны моря подгреб Князев. Он приблизился и подал буксирный конец. Когда катер удалось стащить с камней и взять на буксир, оказалось, что валы погнуты, винты поломаны, кронштейны отлетели. Шубин приказал всей команде перейти на катер Князева. На поврежденном катере остались только трое: он сам, Павлов и боцман. Хорошо еще, что волна была небольшая. Катер, низко сидящий, лишенный хода, мотало из стороны в сторону. Шубин стал у штурвала. Плечи ныли — с таком силой сжимал штурвал. Старый катер, на котором воевал с начала воины, сделался как бы продолжением его тела. Он мучительно ощущал каждый толчок на волне. Шансов довести катер до базы было мало, Шубин понимал это. Но упрямая вера в счастье вела и поддерживала его. Катер прыгал на волнах. Небо было полосатое от туч. Казалось, оно вздувается и опадает, как тент над головой. Утром моряки увидели наш самолет, летевший навстречу. На бреющем он пронесся над катерами, ободряюще качнул крыльями, улетел, вернулся. Князев и Шубин плыли следом, будто привязанные к нему серебряной волшебной нитью. Так авиация обычно наводит на цель. На этот раз летчик показывал, что нужно держаться ближе к берегу, там меньше качает. Но берег-то ведь вражеский! Ничего не понимая, Князев и Шубин плыли мимо Хиумы, дивясь тому, что их не обстреливают. Заколдованы они, что ли? Только дома моряки узнали, что на Хиуму был высажен десант. Бои шли ночью на восточном берегу. Павловский катер потерпел аварию на западном. («Шеи немцев были повернуты в другую сторону», — так прокомментировал Шубин это обстоятельство.) После полуночи немцы стремительно покатились на юг, спеша переправиться с Хиумы на Саарему. К утру на острове не осталось ни одной рыбачьей лодки. До Шубина ли было немцам? — И еще споришь: не везет! — говорили Шубину товарищи. — В кои веки кораблекрушение потерпел, и то повезло: к наступательной операции подгадал! — А это нам всем повезло, — с достоинством отвечал Шубин. — Осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года наступательная операция на Балтике — не случай, а закономерное явление! При чем же тут наше «везет — не везет»?..КЛЕЙМО «СКФ»
1
Первые несколько часов после возвращения шубнины ходили в героях. Шурка, по обыкновению, разглагольствовал среди своих взрослых «корешей» — матросов с других катеров: — Потом на волнишке стало бить, потряхивать. Думаем: как бы не пропал наш командир! Гвардии старший лейтенант Князев говорит: «Я подойду к вам, товарищ командир! Надо вас снимать!» — «Подожди! — отвечает гвардии капитан-лейтенант. — Нельзя катер бросить в беде! Справимся! Выгребем!» И выгреб! Шубин же! А боцман вслух горевал о трофейных консервах, которые пришлось выбросить за борт: — Вскрыть даже ящики не успел. Так и не знаю, что это за консервы. А пригодились бы! Иностранного моряка будем угощать, а что я к столу подам? Но к вечеру в дивизионе стало известно, что контр-адмирал очень сурово разговаривал с Шубиным. «За спасение людей и катера спасибо! — будто бы сказал он. — Но аварию тебе,Шубин, простить нельзя!» Авария, тем более со время наступления, — случай из ряда вон, ЧП[233]. Начальство рассудило правильно: «Кому много дано, с того много к спросится». Шубину было много дано — от таланта до орденов. И спрошено поэтому было полной мерой! — Завтра в десять представите объяснение причин аварии, — приказал адмирал, переходя в знак немилости на «вы». — Не представите удовлетворительного объяснение — отрешу от должности вас и Павлова и отдам под суд! Дорого же, однако, обошлась Шубину его встреча с «Летучим голландцем». — третья по счету…2
Запасшись папиросами, Шубин и Павлов заперлись в комнате. Дом, куда их поставили на квартиру, стоял на окраине рыбацкого поселка, недалеко от гавани. Через час или полтора в комнате было уже полутемно от табачного дыма. Как сквозь дымовую завесу, прорывались моряки к цели — к разгадке аварии у западного берега Хиумы. Конечно, не так трудно было промямлить какую-нибудь общепринятую фразу покаяния. Начальники, вообще говоря, жалостливы к кающимся. Но Шубину это как раз было трудно. По-честному он не мог бы так. Слишком сильна была его вера в себя, чтобы поступиться ею без борьбы. И эту веру он, как правило, переносил на своих подчиненных. Павлов был надежен, так считал Шубин. Это не значит, однако, что Шубин не был требователен по службе. Наоборот! По требовательность и недоверчивость — вещи разные. Шубин не уставал повторять своим офицерам, что на войне, да и вообще в жизни, очень важна инерция удачи, иначе говоря — неустанно вырабатываемая привычка к счастью. Нельзя допускать необоснованных сомнений в себе, колебаний, самокопании. Горький сказал: «Талант — это вера в себя, в свои силы». По почему горьковские слова применимы лишь к писателям, а не ко всем людям, к представителям различных профессий, в том числе и военным морякам? Лет семь или восемь назад учебный корабль, па котором проходили практику курсанты четвертого курса, втягивался в устье Северной Двины. Шубин выполнял обязанности вахтенного командира. Рядом, на мостике, стоял профессор Грибов, который был начальником практики. В данном случае, вероятно, вполне уместно было бы вызвать с берега лоцмана. Но Грибов не сделал этого. Он приказал передать семафором: «Прошу разрешения лоцмана не брать. На мостике — практикант. Не хочу портить характер будущего офицера». И Шубин навсегда запомнил это… Он отмахнул рукой плававшие над столом клубы дыма, заглянул в лицо Павлову: — Ну-ну! Не будем падать духом. Будем трезво рассуждать. Если не мы с тобой виноваты, то кто же тогда виноват? Компас? Да, выбор невелик: либо командир катера, либо компас, — Кстати, вспомни, шли на одном магнитном. Гирокомпас выбыл из строя еще на подходе к притопленному кораблю. Павлов угнетенно кивнул. Итак, на подозрении магнитный компас. Шубину представилось, как Грибов в задумчивости расхаживает взад и вперед у своего столика в аудитории. «Разберем, — начинает он. — случаи с бывшим курсантом нашего училища Шубиным. Будем последовательно исключать одно решение за другим…» Далее Грибов, наверно, сказал бы о пейзаже. «На войне, — учил он, — пейзаж перестает существовать сам по себе. Все, что совершается в природе, может влиять на ход событии и должно обязательно приниматься в расчет навигатором». Но что совершалось и природе перед аварией? Море было штилевое. Из-за туч проглядывала луна. Если бы компас соврал где-нибудь на Баренцевом море, полагалось бы учесть в догадках северное сияние. С давних времен сохранилась поморская примета: «Матка (компас) дурит на пазорях», то есть при северном сиянии. Ведь сполохи на небе подобны зарницам: те возвещают о грозе, эти — о магнитной бурс. Порыв магнитной бури, бушующей в высоких слоях атмосферы, невидимое «дуновение», может коснуться стрелки магнитного компаса и отклонить ее, а вслед за нею и корабль от правильного курса. Но авария произошла не на Баренцевом, а на Балтийском море. Здесь северные сияния редки. Робкий стук в окно. — Кто? — Боцман беспокоит, товарищ гвардии капитан-лейтенант! Ужинать будете с товарищем гвардии лейтенантом? — Хочешь есть, Павлов? Нет? И я нет. Спасибо, Фаддеичев, не надо ничего! — Как же так: и обедали плохо и ужинать не будете?.. — Долгий соболезнующий вздох. — Англичанину передать, чтобы завтра пришел? — Да! Завтра. Всё завтра! Слышно, как боцман топчется под окном. Потом тяжелые шаги медленно удаляются. Через полчаса опять стук, на этот раз в дверь. — Кто там еще? — Открой! Я. Князев перешагнул через порог и остановился. — Ух! Накурили как! Что же без света сидите? Вечер на дворе. Павлов встал и зажег керосиновую лампу над старомодным четырехугольным колпаком. Полосы дыма медленно поползли мимо лампы к открытой форточке. — Не надумали еще? — Кружим пока, — неохотно ответил Шубин. — Ходим вокруг да около. — Вокруг чего? — Да компаса магнитного. Вокруг чего же еще? — Ага! Ведь вы при одном магнитном остались. Гирокомпас-то растрясло? — Вышел из строя, пока самолет нас гонял. То и дело стопорили ход. Пауза. — Не сдвинули ли мягкое железо? — На выходе я определял поправку. Компас был исправен. — Может, в карманах было что-нибудь, что могло повлиять на девиацию: нож, ключи, цепочка? Мысленно Шубин и Павлов порылись в карманах. Нет, во время похода металлического не было ничего. Шубин невесело усмехнулся: — Вспомнил шутку профессора Грибова, единственную, которую слышал от него за все четыре года обучения: «Без опаски можно подходить к компасу только в одном-единственном случае — обладая медным лбом. Медь не намагничивается». — Слушай! — Князев быстро повернулся к Павлову. — А не взял ли ты случаем какой-нибудь металлический трофеи? Шубин насторожился: — Что имеешь в виду? — Почему-то вообразилась ракетница. Мог же Павлов взять на транспорте что-нибудь на память, ну, скажем, ракетницу. Потом по рассеянности положил ее рядом с магнитным компасом и… — Какие там ракетницы, что вы! — Павлов обиженно отвернулся. — Совсем за мальчика меня считаете? — Да, металлического не взяли, ничего, — подтвердил Шубин. — Боцман лишь немного компота прихватил. Но ведь компот на девиацию не влияет. Никто не улыбнулся его шутке. — Минные поля! — торжественно изрек Князев. — Компасы крут на минных полях! — Но их не было на пути. В Ригулди остались карты минных постановок. Я смотрел. Павлов выдвинулся вперед и понес чепуху. Он забормотал что-то о секретном магнитном оружии. Князей только вздохнул. Но Шубин слушал, не прерывая. Пламя в лампе мигало и подпрыгивало. По стенам раскачивались длинные теми, похожие на косматые водоросли. — Не меняют ли немцы, — говорил Павлов, — магнитное поле у берега? Не уводят ли корабль с помощью магнитной ловушки на прибрежные камни? — Гм! — сказал Князев. — Нет, вы вдумайтесь! Немцы знали уже о предстоящем отступлении. Вот и спрятали у берега нечто вроде магнитного спрута. Условно называю его спрутом. Но, возможно, у него были такие щупальца, особые антенны, что ли. Когда корабли проходили мимо и попадали в зону его действия… Павлов поднял глаза на своих собеседнике: и осекся. Шубин молчал. Но лицо Князева сморщилось, словно бы он хлебнул какой-то кислятины.3
Под утро Павлов и Князев, внезапно онемев, повалились ничком на свои койки. Головоломка со спрутом вымотала сильнее, чем иная торпедная атака. Шубин еще немного посидел у стола, потом встал и потушил лампу. За окном светало. До назначенного адмиралом срока осталось каких-нибудь три с половиной часа. А дальше — позор на всю бригаду, снятие с должности и суд! Но Шубин, стиснув зубы, упрямо поворачивался спиной к этой страшной мысли. Пока нельзя переживать, зря расходовать нервную энергию! Всего себя надо сосредоточить на решении проклятой головоломки! Павлов и Князев, накрывшись шинелями, уже оглушительно храпели наперегонки. Расслабляющее тепло стояло в комнате, как вода в сонной заводи. Шубин открыл окно. Крепким октябрьским холодком пахнуло оттуда. Он поежился и, накинув шинель, присел на стул у окна. Что-то недовольно пробурчал Павлов за спиной, по-детски почмокал губами и натянул шинель на голову. Аккуратно выметенная улица перед домом была еще пуста. Грибов как-то упоминал о том, что по субботам чистюли эстонки «драят медяшку», то есть чистят ручки дверей, совсем, как на флоте. Эх, профессора бы сюда! С ним бы поговорить по душам! Он нашел бы, чего присоветовать. Порылся бы в своей папке со всякими штурманскими головоломками, поколдовал бы над нею и вытащил что-нибудь, что, на удивление, подходило бы к данному случаю. Шубин представил себе, как его профессор раскладывает перед собой на столе портсигар, авторучку, блокнот, еще что-то. Затем снимает пенсне и, коротко дохнув па стеклышки, начинает протирать их неторопливыми, округлыми движениями. Это он делает на каждом экзамене. А Шубин чувствует себя сейчас точь-в-точь как на экзамене. Странно, однако, видеть Грибова так близко без пенсне. Глаза, оказывается, у него добрые, усталые, в частой сеточке стариковских морщин. «Не собираюсь выгораживать вас, — ворчливо говорит он. — Не стал бы выгораживать в таких делах родного сына, если бы у меня был сын…» «Понимаю. Николай Дмитриевич…» «Подождите, я не кончил! Конечно, причина вне вас! («Как странно, — удивляется Шубин. — Почти то же, и в тех же выражениях я давеча говорил Павлову.») Продолжайте искать, товарищ Шубин, придирчиво осматриваясь! Вот, например, эти… ящики! Они мне представляются сомнительными…» «И мне, товарищ профессор!» Но это уже сон. Шубин крепко спит, уронив усталую голову на подоконник. Голос Грибова настойчиво перебивают два других голоса: азартный, с петушиными нотками — Павлова и размеренно-рассудительный — Князева. На фоне этого спора идут сны, причудливые, тревожные. То представляется жадный магнитный спрут, новейшее секретное оружие, ловушка для кораблей, о которой толковал Павлов. То якорные мины, поставленные у берегов Хиумы, двусмысленно покачивающие своими круглыми головами на длинных шеях-минрепах. То корабль-призрак, накренившийся на борт, с обвисшим флагом, на котором скалится череп с перекрещенными костями, похожими на свастику. И тут же почему-то кувыркаются, как дельфины, ящики с консервами. Выглядят на море несуразно, как это часто бывает во сне, и все же многозначительно! Вдруг эти четыре видения заколыхались, завертелись, слились воедино. Но Шубину было еще невдомек, что замысловатый гибрид из ящиков, корабля, мин, спрута и есть разгадка недавней аварии…4
Шубин понял это, когда проснулся. Как открыл глаза и увидел залитую неярким октябрьским солнцем улицу, так и понял! Разгадка пришла к нему на цыпочках, пока он спал. Консервы! Почему именно консервы должны находиться в тех ящиках, которые боцман «прихватил» с транспорта? Ведь их даже не вскрыли, так невскрытыми и выбросили за борт! Кроме того, трудно предположить, что большой транспортный корабль был загружен одними консервами. Гарнизон на Моонзундском архипелаге нуждался не только в консервах. Он прежде всего нуждался в боезапасе, то есть в снарядах, патронах, гранатах и прочих изделиях из металла. А это существенно меняло дело. Шубин заорал изо всех сил: — По-одъем! Князев и Павлов неположенно вскинулись. Они глядели на Шубина во все глаза, нашаривая ботинки под койками: — Ящики? Какие ящики? Их выбросили за борт у Ристны, эти ящики. — Но до Ристны-то с нами были? Верно? Металл, который находился в них, отклонял стрелку нашего компаса! — Металл? Ты говоришь — металл? Какой металл? — А вот этого не знаю пока. Но — буду знать!. В десять утра Шубин был у адмирала. Тот встретил его неприветливо. — Подготовили объяснение? — Никак нет! Прошу отсрочки — до возвращения разведчиков с притопленного транспорта. И Шубин доложил о своей догадке. Она показалась адмиралу настолько правдоподобной, что он немедленно распорядился дать шифрограмму на транспорт: «Обследовать трюм, уточнить характер груза!» Но когда еще смогут это сделать разведчики! Конечно, не сразу и только между делом. А дел у них хватает. Днем они не отлучаются от иллюминатора, ночью попеременно дежурят на палубе. Мимо проходят вражеские конвои. Хорошо бы сейчас нажать кнопку стреляющего приспособления или гашетку пулемета! Но приходится орудовать лишь радиоключом, выстукивая вызов на базу. С площадок по этому вызову срываются в воздух самолеты, а из гавани стремглав выбегают торпедные катера — наперехват вражеских караванов! Немцы, понятно, слышат чужую рацию, работающую под боком, но запеленговать ее нельзя: едва пристраиваются радисты к волне, как та пропадает, глубже зарывшись в эфир. Нахальный щебет возникает через некоторое время уже на новой волне и снова мгновенно пропадает. Сигнал очень короткий, условный, передача его занимает несколько секунд, не больше. Уловка эта носит название «передача на убывающей волне».5
Шубин выходил со своим отрядом в торпедные атаки, исправно топил корабли, — в общем, делал все, что положено делать, но тревога не оставляла его. Никогда, пожалуй, не волновался так за высаженных им разведчиков (конечно, исключая случай с Викторией). Он представлял себе, как прибой все круче кладет транспорт на борт, как волны с шипением переплескивают через палубу. Мало-помалу море довершает разрушение, начатое советскими самолетами. Транспорт дотягивает последние свои дни, может быть, часы. Не развалилась бы раньше времени эта старая бандура!.. Однако немцев вскоре «столкнули» с Сааремы, по выражению Шубина. Надобность в пребывании разведчиков на притопленном транспорте отпала. Их сняла наша подводная лодка, которая возвращалась из операции. Узнав о том, что разведчики вернулись, Шубин и Павлов, со всех ног кинулись к адмиралу. Их приняли немедленно. У стола адмирала стояли оба разведчика. Они были утомлены, небриты, но с достоинством улыбнулись морякам. На столе, возле письменного прибора, были кучен свалены шарикоподшипники! Шубин и Павлов оцепенели, уставившись на них. Были они разного диаметра, чистенькие, блестящие, в аккуратной упаковке из промасленной пергаментной бумаги. Вот, стало быть, он, опасный металл, который вывел катер на камни! — Кавардак такой в трюме в этом! — продолжал докладывать разведчик. — Ящик на ящике, и все перемешались. Попадались иногда и с консервами, но больше с ними вот, с шарикоподшипниками! — Может, там еще что было, не знаем, — вставил второй разведчик. — Только часть трюма осталась незатопленной. Мы уж ходили по колено в воде. Адмирал обернулся к Шубину: — А ты почему-то считал — никель. Опаснее никеля! Сталь! — Ну в точности по Пушкину, — с ожесточением сказал Павлов. — «Так вот где таилась погибель моя, мне костию смерть угрожала…» — Не кость — металл! — А вы еще не верили, что спрут, — укорил Шубина Павлов. — Как же не спрут? Только в пергаментной упаковке. И привередливый: деревянным брезговал, пропускал мимо, а к металлу сразу присасывался своими невидимыми щупальцами. — Не просто к металлу, — поправил адмирал. — Только к чувствительной магнитном стрелке! Шубин кивнул. — Не исключено, что от работы электромоторов шарикоподшипники намагнитились. В ящиках они были уложены рядами, а это имело значение для усиления магнитного поля. Приблизившись к месту своей гибели в районе Вентспилса, транспорт, можно сказать, представлял из себя уже один огромный магнит. — Цепочка из трех звеньев, — товарищ адмирал, — сказал разведчик. — Первое звено — корабль, второе — ящики с шарикоподшипниками, третье — магнитный компас на катере. И это еще не все! Он подбросил на ладони сверкающий кругляш и быстро повернул его вокруг оси: — Полюбуйтесь! На нем клеймо! Три буквы стояли на каждом шарикоподшипнике: «SKF». Шубин присвистнул: — «СКФ»! Ого! Это же знаменитая шведская фирма! Шарикоподшипники, выходит, шведские? — То-то и оно! — А Швеция гордится тем, что полтора века не воюет? — Ну вот, как видите! Воюют ее шарикоподшипники. — Само собой! А я и забыл про это, — пробормотал Шубин сквозь зубы. — Бизнес не имеет границ. — Каких границ? — Я говорю: бизнес не имеет границ, товарищ адмирал! Из-за высоких прибылей Швеция, хоть и нейтральная, помогает Германии против нас. — Не вся Швеция! Ее капиталисты! А шведские моряки, наоборот, помогают нашим людям. Были побеги из фашистских концлагерей на побережье Балтики. Беглецов, я слышал, прятали в трюмах шведских кораблей. Шубин промолчал. Глаз не мог отвести от «опасного груза», от двойных стальных обручей, внутри которых сверкали шарики, плотно пригнанные друг к другу. На этих шариках вертится колесо войны! Не будет их, и остановятся, оцепенеют танки, самолеты, вездеходы, амфибии, грузовые и легковые машины. Разладится весь огромный механизм истребления людей. Теперь понятно, почему подводная лодка кружила подле притоплепного транспорта. Она охраняла тайну трех букв: «СКФ»! А быть может, изыскивались способы как-то выручить, спасти ценный груз. Он, вероятно, направлялся не только для гарнизона Хиумы и Сааремы, но предназначался также и мощной курляндской группировке. Что-то, однако, помешало спасти груз. Вернее всего, не хватило времени. С разгрузкой транспорта не успели обернуться, потому что Советская Армия и флот наступали слишком быстро. «А возможно, это я спугнул подводную лодку, — подумал Шубин. Такая мысль была ему приятна, льстила его самолюбию. — Поединок не состоялся, по все же я спугнул ее!..» Во всяком случае, «Летучий голландец», как всегда, был там, где совершался гнусный торг за спиной воюющих, где затевалась очередная чудовищная подлость, которая должна была продлить войну, а значит, и унести десятки, сотни тысяч человеческих жизней.ОДИН ИЗ ГВОЗДЕЙ
1
Осенняя кампания 1944 года закончилась для Шубина на подступах к Павилости, в полутораста милях от Кенигсберга. Торпедные катера были отведены в Ленинград, на зимний перестой. Слово-то до чего унылое: перестой!.. Вынужденное бездействие всегда плохо отражалось на Шубине. Он делался неуравновешенным, раздражительным, даже капризным — как ребенок, которого оторвали от игр и уткнули лицом в угол. В довершение всего они разминулись с Нэйлом! Когда Шубин наконец вспомнил об английском моряке, его уже не было в Ригулди. Оказалось, что наиболее ослабленную группу бывших военнопленных — и Нэйла среди них — спешно эвакуировали в тыл. Куда? Адрес, адрес! Какой город, госпиталь? Эвакуаторы не знали. Но что же произошло там, на реке Арамаке, Акатаре, Аматаке, — словом, на одном из трехсот притоков Амазонки? Что это за светящаяся дорожка, о которой упоминал Нэйл? При каких обстоятельствах встретился он с «Летучим голландцем»? Какой груз охраняла подводная лодка? Молчание… С беспокойством и состраданием поглядывала Виктория на непривычно угрюмого, задумчивого Шубина. Однажды она сказала: — Будто бы читал книгу и тебя прервали на самом интересном месте, правда? Отозвали по неотложному делу. Потом вернулся, а книгу кто-то унес… Зато «Ауфвидерзеен» был тут как тут! Когда ум занят работой, посторонним мыслям просто не протиснуться в него. Вход мерехлюндии строжайше воспрещен! Но стоит прервать работу, и тут уж изо всех щелей полезет такая нечисть, что хоть волком вой! На холостом ходу жернова мыслей перетирают сами себя. Сейчас они, под аккомпанемент «Ауфвидерзеена», бесконечно перемалывали одно и то же: тягостные воспоминания о пребывании Шубина на борту «Летучего голландца». Снова и снова возвращался он к разговору в кают-компании. Разговор был зыбкий, опасный. Он двигался зигзагом. Поддерживать его было куда труднее, чем «штормовать в открытом море», когда палуба так и падает, так и прыгает под ногами. А ведь вдобавок Шубин был болен. Сознание его то помрачалось, то становилось зеркально ясным. Он словно бы засыпал и просыпался. Но странно, что в таком состоянии запомнились даже отдельные жесты! Мимоходом брошенные слова! Память, как губка, с жадностью впитала все без разбора. И теперь отдавала каплю по капле… Это было мучительно. Виктория старалась пореже оставлять его одного. Они много бывали на людях, ходили в театр, в гости. — Старайся не вспоминать! — советовала она. — Все эти тягостные воспоминания — ну их! Ведь это как в сказке: оглянись — и злые чудища, целая свора чудищ, кинутся на тебя сзади и разорвут.2
Новый год Шубины собрались встретить в Доме офицера. Разложив на диване парадную тужурку. Шубин озабоченно прикреплял к ней ордена и медали. За спиной раздавался дразнящий шорох. Это Виктория, изгибаясь, как ящерица, перед трюмо, натягивала через голову узкое длинное платье. На вечеринках военнослужащие женщины уже появлялись в гражданском платье. Потом она, покачиваясь, прошлась по комнате. — Какое упоение, не можешь себе представить! Туфли на высоких каблуках! — Неудобно же! — Все равно упоение! Я так давно не танцевала!.. Милый, затяни мне молнию на платье! Но с этой молнией, как всегда, возникали задержки, нельзя, однако, сказать, что досадные. После приходилось поправлять прическу, пудрить раскрасневшееся лицо… — Мы опоздаем, милый, — шепнула Виктория, не оборачиваясь. Звонок у входной двери был не сразу услышан. — Два длинных, один короткий! Позывные Шубиных! Боря, к нам! В узкий коридор, а потом и в комнату с трудом протиснулось что-то громоздкое, лохматое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это длинная куртка мехом наружу. Человек внутри куртки был незнаком Шубиным. Лишь когда он улыбнулся и сросшиеся на переносице черные брови забавно поднялись, Шубин узнал его. Джек Нэйл, судовой механик, предъявил свою улыбку вместо визитной карточки! От удивления и радости Шубин не находил слов. Но гость нашел их, и это были русские слова. — Спасибо! — неожиданно сказал он. — Драстуй, товарищ! — Подумав, добавил: — Пожалуйста… Он замолчал и улыбнулся еще шире. Пока это было все, чему он научился в России. Выяснилось, что некоторое время Нэйл служил в Заполярье, а теперь едет в Москву, в военную миссию, за новым назначением. Худое лицо его было гладко выбрито. С клочьями пены и седой бороды он смахнул, казалось, лет двадцать. Подбородок выдвинулся резче. Рот, оказывается, был узким, решительным. Зато заметнее стали морщины. — Но вы собрались в гости, — сказал Нэйл, переминаясь у порога с ноги на ногу. — Сегодня все встречают Новый год. — Вы встретите его с нами! Мы приглашаем вас в Дом офицера… Но вы не представляете себе, как я рад вам! — Не больше, чем я, — вежливо сказал гость. — Что ж, до часа ночи я в вашем распоряжении. В час тридцать отходит мой поезд. — А сейчас двадцать два! Когда же мы успеем поговорить? Ведь вы не досказали еще об этой реке, притоке Амазонки. Шубин умоляюще посмотрел на Нэйла, потом на Викторию. Она не могла видеть его умоляющим. — Мы останемся дома, только и всего! — объявила она, под улыбкой скрывая огорчение. — Я сымпровизирую ужни. Мистер Нэйл извинит нас за скромность угощения. Шубин радостно объявил, что у него есть НЗ[234]. В ответ Нэйл, ухмыляясь, вытащил из кармана плоскую флягу: — Думал, чокнусь сам с собой в поезде, если не застану вас в Ленинграде. Адрес дали мне североморские катерники, но, как говорится, без гарантии. Бренди, правда, слабоват. Он признался, что всем напиткам па свете предпочитает русскую водку. — Так же крепка, как ваши морозы и ваша дружба, — значительно сказал он. Подавив вздох, Виктория сменила парадные туфли на растоптанные домашние, подвязала фартук и принялась хозяйничать. А мужчины, улыбаясь, уселись друг против друга. Происходил тот традиционный обряд, который обычно предшествует беседе двух друзей, встретившихся после долгой разлуки: обоюдное похлопывание по плечу, подталкивание в бок, радостные возгласы и бессмысленный смех.3
— Я не могу понять ваше лицо, — сказал Шубин, когда наконец уселись за стол. — Сколько вам лет? — Сорок шесть. — Когда вы улыбаетесь, вам можно дать меньше. Но в концлагере я думал, что вы ровесник Олафсону. — Это не только концлагерь. Это еще и Шеффилд. Нэйл задумчиво разгладил ладонью скатерть. — Вас интересует Аракара, один из притоков Амазонки. Но ведь я шел к ней издалека, из Шеффилда. Отправная точка в моей биографии — Шеффилд. Если вы ничего не узнаете о нем, то не поймете, почему я, оружейник и потомок оружейников, стал моряком, бродягой, а в тысяча девятьсот сорок втором году, в разгар войны, очутился в нейтральной Бразилии. Итак, Шеффилд. Он расположен в графстве Йоркшир, которое славится не только своими свиньями, но и своей сталью. В прошлом веке там обосновались Армстронги и Вик-керсы. За ними пришли и мы, Нэйлы. Наши семьи, как говорится, не ладили между собой… — Он мрачно усмехнулся. — Ведь «Нэйл» по-английски значит «гвоздь». А как гвозди могут относиться к молотку или руке, которая держит этот молоток?.. Все мужчины в нашей семье умирали, не достигнув сорока лет. Я один, как видите, перевалил этот рубеж. Обманул своих хозяев, вовремя сбежал от них. Вы скажете, что мои отец и дед, квалифицированные рабочие, получали большое жалованье и премии за срочность? Да! Когда отец, надев в воскресенье котелок и праздничный сюртук, под руку с матерью шел в церковь, нищие говорили ему: «Сэр!» Родители имели коттедж и небольшой счет в банке. Но это была крупицы по сравнению с тем, что выручали на производстве оружия Армстронги и Виккерсы. Они были главными убийцами. Конечно, и мы, Нэйлы, помогали им убивать. Мой отец умер на работе, возле своего станка. Заказ был срочный: броневые плиты для танков. Тогда, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, это было новинкой. Новое секретное оружие того времени! И оно сыграло свою роль под конец войны. Отец свалился ничком на станок. Я не успел подхватить его. «Переработался», — сказали врачи. Эпитафия из одного-единственного слова! Что ж, Виккерс не торопясь раскрыл свою большую бухгалтерскую книгу, списал отца, потом приплюсовал к основном сумме цену выработанных в этот день броневых плит. Но я не хотел, чтобы меня списывали или приплюсовывали! — Нэйл стукнул по столу ножом. — Извините!.. Один из гвоздей взбунтовался! Это был я. Бунт гвоздей — невидаль на заводах Виккерса. Но мне было плевать на все. «Надо вдосталь надышаться перед смертью», — решил я. И ушел в море. Сначала я плавал кочегаром, потом кончал училище и стал судовым механиком. Это было не просто в те годы. Вам, молодым, трудно вообразить гавани послевоенного времени. Кризис! Кризис! Толпы безработных докеров на пирсах. Много женщин с черными повязками на рукавах. Корабли, поставленные на мертвые якоря. И — кладбища кораблей! На одной банке в Северном море, в районе, где происходила знаменитая Ютландская битва, я насчитал три с лишним десятка торчащих мачт. Будто лес, затопленный в паводок… Историки до сих пор спорят о том, кто же победил в Ютландской битве: немцы или англичане? Я считаю: победил «Летучий голландец»! — Разве он уже был тогда? — удивился Шубин. — Ну не он, предшественники его! Неужели вы не поняли, что по морям скользит целая вереница «Летучих голландцев»? Да, бесшумно и быстро, как волчья стая!.. Одно время я думал так же, как вы. Я с облегчением вздохнул, узнав о смерти компаньона Виккерсов, сэра Бэзила Захарова. Но через несколько лет стало известно, что Гитлер наградил орденом Генри Форда. «Эге-ге!» — сказал я себе, и в голове у меня прояснилось. «Не буду воевать! — беспрерывно твердил я. — Ни за что не буду! Не хочу работать на виккерсов и захаровых!» Но случилось так, что я не сдержал зарок.4
В тысяча девятьсот сорок втором году я служил на одном бразильском речном пароходе, который ходил по Амазонке, развозя груз и пассажиров по пристаням. В шутку мы называли его «землечерпалкой». Он был очень старый, колесный. Чудо техники девятнадцатого века! Весь скрипел на ходу, будто жаловался на своих нерадивых хозяев. Эти скупердяи, видите ли, жалели денег на ремонт! Однако силенка в его машинах еще была! И напоследок он доказал это… Мы отправились в рейс при зловещих предзнаменованиях. В Южной Америке, надо вам знать, полно фольксдойче, то есть переселенцев немецкого происхождения. Большинство из них были организованы в союзы и не теряли связи с фатерландом. Считалось, что они потенциальная опора Гитлера. Случаи торпедирования бразильских кораблей участились. Немецкие подводные лодки запросто заходили в устье Амазонки. Бразилия пока соблюдала нейтралитет, но ведь немцы не очень-то считались с нейтралитетом. Упорно поговаривали о готовящемся фашистском перевороте. В Рио рассказывали, что подводные лодки «неизвестной национальности» буквально роятся у бразильских берегов. А фольксдойче каждую ночь передают в море световые сигналы, чтобы облегчить высадку десанта. В одном женском монастыре, где аббатисой была немка, обнаружили рацию. Монашки укрывали ее в притворе церкви и отстукивали свои шифровки под торжественные звуки «Te-Deum»[235]. Впрочем, нас немного успокаивало то, что «Камоэнс» совершает рейсы лишь в среднем плесе Амазонки, и то главным образом по ее притокам, которые соединяются друг с другом. «В такую даль, — думал я, — не забраться немецким подводным лодкам! И к чему мм туда забираться?» — А глубины? — спросил Шубин, напряженно слушавший своего гостя. — Глубины позволяли это, особенно сразу после сезона дождей. Тогда вода поднимается на сорок — пятьдесят футов выше своего уровня. Потом, на протяжении нескольких месяцев, она медленно спадает. Бассейн Амазонки, как вам, вероятно, известно, представляет собой громаднейшее в мире болото, более или менее топкое. Связь с людьми, живущими в маленьких поселках по берегам рек, осуществляется только с помощью пароходов. За рейс мы обходили Тракоа, Тукондейру и Рере — три самых захолустных притока Амазонки. На плантации доставляли почту, консервы, рис, сахар и сухую муку, точнее, истолченный в порошок корень одного растения, забыл его название. Бразильцы сыплют этот порошок в похлебку, посыпают им мясо и даже добавляют в вино. А с плантаций забирали коричневые шары каучука, его сгустившийся сформованный сок, и, кроме того, конечно, бананы, какао, ананасы. По палубе приходилось пробираться бочком. Ведь на «Камоэнсе» были и пассажиры: рабочие — добыватели каучука, их жены и дети. Люди лежали на палубе вповалку, подложив под голову сумки с пожитками. Это был первый «этаж». Затем шли второй и третий — гамаки, развешанные один над другим. И, наконец, была еще крыша, которую подпирали столбы. Туда забирались любители свежего воздуха и располагались среди связок бананов и клеток с курами, утками и поросятами. Наверху, однако, было небезопасно. Иногда пароход, обходя мель или плывущий сверху плавник[236], круто отклонялся к берегу. Свесившиеся над водой ветви деревьев могли, как метлой, смести зазевавшихся пассажиров. А в воде их поджидала пирайя. Слыхали с такой рыбке? Нет? О! Будет пострашнее аллигаторов! Небольшая, не длиннее селедки, но на редкость свирепая и прожорливая. Своими глазами видел, как стая этих рыб набросилась на весло, опущенное в воду, и выкусила из него целый кусок. Мне рассказывали, что у некоторых индейских племен — только не у Огненных. Муравьев, это я точно знаю, — принято опускать мертвецсв в реку, чтобы пирайя обглодала их до костей. Занимает всего несколько минут. Потом скелеты красят и вывешивают у входа в хижину. Не зря я упоминаю об этих пирайях. До них еще дойдет черед! Ну, стало быть, наш поев ковчег, безмятежно шлепая плицами, подвигался себе по реке Рере, чтобы в положенное время свернуть и устье Тракоа. Происшествий никаких! Население ковчега ело, пило, пело, плакало, переругивалось, хрюкало, кудахтало. Тишина на пароходе наступала только ночью. Но тогда над водной гладью начинали звучать голоса болот и тропического леса. В ночь накануне встречи с «Летучим голландцем» мне было не до этих призрачных голосов — я находился в машинном отделении. Вдруг команда: «Стоп! Малый назад!» И потом по переговорной трубе меня вызывают на мостик, а голос у капитана, слышу, злющий-презлющий. «С чего бы это он?» — думаю. Ну, вытер руки паклей, выбрался наверх. Корабль покачивается посреди реки, удерживаясь на месте ходами. По обеим сторонам — черные степы леса. Плес впереди сверкает, как рыбья чешуя. Ночь безлунная, но звездная, полная, знаете ли, этого странного колдовского мерцания, мелькающих в воздухе искр. Оказывается, второй помощник, стоявший вахту, по ошибке свернул не в то устье. И сделал это, заметьте, уже давно — почти сразу после захода солнца. Парень был молодой, самонадеянный. Прошел, наверно, миль двадцать пять вверх по реке, принимая ее за Тракоа. Спохватился, лишь когда рулевой сказал ему: «Что-то долго не открывается пристань на правом берегу». Там, знаете ли, принято в ожидании парохода зажигать факелы и размахивать ими среди зарослей, чтобы облегчить подход к пристани. Пристань должна была открыться на двадцать второй миле от устья. Тогда, совладав со своим мальчишеским самолюбием, второй помощник приказал разбудить капитана. Впрочем, скажу вам, в бассейне Амазонки заблудиться не мудрено. Все эти реки и речушки похожи ночью друг на друга, как темные переулки, в которые сворачиваешь с главной, освещенной, улицы. Но, когда капитан пробормотал; «Аракара», мне, признаюсь, стало не по себе. Ни поселков, ни плантаций на реке Аракаре нет. По берегам ее живет племя Огненных Муравьев. С недавнего времени их стали подозревать в каннибализме. Аракара по-настоящему еще не исследована. Да что там Аракара! Даже такая река, как Бранку, в общем уже обжитая и протяженностью с триста миль, до сих пор не положена на карту.5
«Ничего не видно, — сказал капитан, опуская бинокль. — Зато слышно хорошо. И это мне не нравится. Прислушайтесь!» Ночь в тех местах не назовешь тихой. Воздух дрожмя дрожит от кваканья миллионов лягушек. По временами доносится издалека мучительный хрип, словно бы кто-то умирает от удушья. Это с отмели подает голос аллигатор. Но над кваканьем и хрипом аллигатора господствует ужасающий рев. Сто львов, запертых в клетке, не смогли бы так реветь. Да что там львы! Я всегда рисовал в своем воображении ящера, который очнулся от тысячелетнего сна и оповещает об этом мир, выползая из своего логовища. Но это всего лишь обезьяна-ревун. Просто разминает себе легкие перед сном, забравшись на свой «чердак», то есть на самую верхушку дерева. «Ну? — поторопил меня капитан. — Слышите?» Да! Что-то необычное примешивалось к этому хору. На болоте, в лесу, словно бы отбивали такт! Мне вспомнился Шеффилд. Так работает паровой молот. Но, конечно, здесь это сравнение было ни к чему. «Индейский барабан», — пробормотал капитан «Скорее, топот многих ног», — возразил помощник. «Пляска духов!» — вполголоса сказал рулевой. Мы переглянулись. Я, конечно, знал об этой священной пляске. По слухам, ее совершают раз в году, в безлунные ночи, на специально расчищенных полянах. При этом приносятся человеческие жертвы. Толковали о том, что Огненные Муравьи прячут в недоступных зарослях своего идола, по-видимому, нечто вроде мексиканского Вицилипуцли, бога войны. И культ его, древний, кровавый, сохраняется в строжайшей тайне. Я расстегнул последнюю пуговицу на рубашке. Ну и духота! В машинном отделении — сто два градуса по Фаренгейту, но наверху немногим лучше. Неподвижный воздух наполнен запахами гниения, ила, застоявшихся испарений болота. Громадные, пятидесятиметровые, деревья протянули над рекой ветви, с которых свисают плети лиан. Под этим лиственным пологом чувствуешь себя так, будто тебя засадили внутрь оранжереи. Не хватает воздуха, рубашка липнет к телу, сердце выбивает тревожную дробь. И выйти нельзя! Заперт на замок! Прислушиваясь к грохоту барабанов — если это были барабаны, — наш рулевой зазевался. «Камоэнс» стал лагом к течению, потом ударился бортом о песчаный перекат. От сильного толчки пассажиры проснулись. Тотчас изо всех закоулков «Камоэнса» понеслись протяжные, взволнованные жалобы: «Где мы? Почему мы стоим? Мы тонем?» Капитан сердито обернулся к помощнику: «Заставь их замолчать!» Тот сбежал по трапу. Но, вероятно, он сболтнул о пляске духов, потому что жалобы стали еще громче. Страх, как головешка на ветру, перебрасывался по палубе из конца в конец, разгораясь сильнее. И вдруг шум стих. Только плакали дети, а матери вполголоса унимали их. Мы увидели светящуюся дорожку на воде!ПУЛЕМЕТЧИКИ И РЫБА ПИРАЙЯ
1
— Как — светящуюся дорожку? — Виктория с удивлением оглянулась на Шубина. — Это же ты видел светящуюся? — Я видел в шхерах, Нэйл — на реке. И как выглядела она, камрад? — Она выглядела странно, — ответил Нэйл. — Будто гирлянда праздничных фонариков была подвешена на ветках, потом провисла под своей тяжестью и опустилась на воду. — Правильно. — Но это не были праздничные фонарики! — Нэйл поспешил рассеять возможное заблуждение. — Это были светящиеся вешки. Ими обвехован фарватер. — И он тянулся вдоль реки? — Нет, пересекал ее. — Ну, ясно. — Шубин задумчиво кивнул. — Вешки ограждали подходы к заливу или протоке. Воображаю, какие там густые камыши! Кто же прошел по огражденному вешками фарватеру? — Никто. — Не может быть! — Мы, по крайней мере, не заметили никого. Наверно, фонарики зажгли для проверки. Через минуту или две они погасли. — И это было близко от вас? — С полкабельтова, не больше. — А грохот барабанов? Прекратился? — Не прекращался ни на минуту. — Да, непонятно. — А чем непонятнее, тем опаснее! Я так и сказал капитану. «Пойду-ка я к машинам, — сказал я. — Не нравится мне это. Мои совет: разворачиваться и уносить ноги поскорее!» — «Согласен с вами, — говорит капитан. — Да ведь тут развернуться не просто. Я пошлю помощника промерить глубины. Не сходите ли за компанию с ним?» Забыл сказать, что наш старший помощник валялся у себя в каюте с приступом малярии, руки не мог высунуть из-под одеяла. Ну, а на второго, сами видите, надежда была плоха. «Понимаю, — говорю я. — Ладно! Схожу за компанию!» Спустили ялик. Помощник сел на корму. Я взялся за весла. Стали окунать в воду футшток. Перекаты были в нескольких местах, но ближе к правому берегу. Держась левого берега, почти у самых камышей, можно было свободно пройти. Я начал было уже разворачивать ялик, собираясь вернуться на корабль, вдруг вижу — камыши расступились, оттуда выдвинулось что-то длинное, черное. «Оглянись!» (Это я помощнику — шепотом.) Он оглянулся и чуть не выронил от неожиданности футшток. Аллигатор? Ну нет! Штука пострашнее аллигатора: индейский челн! Он медленно скользил по воде прямо на нас. Пустой? Да, как будто. Но индейцы, я слышал, иногда применяли уловку: ложились плашмя на дно челна, подплывали на расстояние полета копья и лишь тогда поднимались во весь рост. Помощник вытащил пистолет. Я приналег на весла. С мостика, верно, заметили, что мы гоним изо всех сил. Пароход начал разворачиваться. Я не сводил глаз с камышей. Каждую минуту ожидал, что они расступятся и оттуда вырвутся на плес другие челны, целая флотилия челнов. «Никогда не участвовал в человеческих жертвоприношениях, — думал я, сгибаясь и разгибаясь над уключинами. — Но, кажется, придется…» Однако камыши были неподвижны. И челн, который выплыл из зарослей, не преследовал нас. Течение подхватило его и понесло, поставив наискосок к волне. «Хитрит индеец, хитрит! — бормотал помощник. — Прячется за бортом!» Но я начал табанить. Потом быстро развернулся, погнался за челном и, зацепив его веслом за борт, подтянул к ялику. Помощник был нрав: на дне челна неподвижно лежат человек! Я занес над ним весло. Помощник с опаской потыкал его в спину дулом пистолета. «Мертвый?» «Дышит. Но без сознания. Вся спина в крови». Мы отбуксировали челн к «Камоэнсу». Раненый оказался индейцем. На нем был: только холщовые штаны. Когда мы перенесли его в каюту и положили на койку, то увидели, что спина у него, как у тигра, в полосах, но кровавых! Ему дали вина. Он очнулся и забормотал что-то на ломаном португальском. Но я поспешил к своим машинам.2
«Вот что, красавцы! — сказал я кочегарам. — Хотите участвовать в человеческих жертвоприношениях? Я — нет! Вы тоже нет? Тогда держать пар на марке! Выжмем все, что можно, из нашей землечерпалки! И мы выжали из нее все, что можно. В ту ночь у топок не ленились, поверьте мне на слово! От адского пара глаза лезли на лоб! Но сверху, с мостика, то и дело просили прибавить обороты. «Ну еще, еще! — бормотал капитан. — Ну хотя бы чуточку!» Как наш котел не взорвался, ума не приложу. Под утро я поднялся на мостик. Влажное тело обдало ветерком от движения корабля. «Камоэнс» показал невиданную в его возрасту прыть. Только искры летели из трясущихся труб. Он мчался вниз но реке без оглядки, суетливо двигая плицами, как бегущая женщина локтями. Капитан мрачно сутулился рядом с рулевым. «Как наш новый пассажир?» — спросил я, закуривая. «Умер». «Да что вы! Жаль его!» Капитан посмотрел на меня исподлобья: «Самим бы себя не пожалеть! Напрасно мы взяли его на борт». «Почему?» «За ним была погоня. Он сам сказал это. А теперь гонятся за нами». «Кто гонится?» «Его хозяева». «Не понимаю. Индейцам нас не догнать». «При чем тут индейцы?» «Но ведь он сбежал из-под ножа! Разве не так? По-моему, его собиралисьпринести в жертву богу войны». «Он бежал не от индейцем, a от белых». «Каких белых?» «Он считал, что это немцы». «А! Фольксдойче?» «Не фольксдойче. Я так и не понял до конца. Он потерял много крови, приходил в себя на короткое время. Бормотал о белых, которые не хотят, чтобы видели их лица, и поэтому ходят в накомарниках. Правда, в зарослях, как вы знаете, уйма москитов и песчаных мух. Но между собой эти люди разговаривали по-немецки». «А он понимал по-немецки?» «Немного. Когда-то работал у фольксдойче. Но он не сказал своим новым хозяевам, что понимает немецкий. Кем, по-вашему, он работал у них?» «Носильщиком? Добытчиком каучука?» «Он состоял при машине, которая забивает сван! По его словам, люди в накомарниках строят среди болот капище своему богу». «Капище?» «Ну, так, наверно, это выглядит в его дикарском понимании, — с раздражением бросил капитан. Он говорил коротко, отрывисто, то и дело оглядываясь. — Черт их там знает, что они строят! Рабочих очень много, он говорил. Индейцы. Платят им хорошо. Но они не возвращаются домой». «Как?!» «Их убивают, — пробормотал капитан, всматриваясь в сужавшийся за кормой лесной коридор. — Расстреливают». «Расстреливают собственных рабочих?» «Так сказал этот индеец. Он сам видел. Вдвоем с товарищем рубил кустарник на дрова, углубился в лес. Вдруг слышит выстрелы. Второй индеец хотел убежать, но наш заставил его подобраться ближе. В зарослях была засада! Люди в накомарниках подстерегли рабочих, которые, отработав свои срок по контракту, возвращались домой. Они были перебиты до единого!» «В это трудно поверить!» — с изумлением сказал я. «Но зачем было индейцу врать? Они с товарищем так испугались, что решили бежать, не заходя в лагерь. Однако по их следу пустили собак, догнали, подвергли наказанию. Второй индеец умер под плетью. Нашему индейцу удалось обмануть сторожей. И тут вы заботливо подобрали его и приволокли на пароход!» — Капитан со злостью прокашлялся, будто подавился ругательством. «На таком большом строительстве, — в раздумье сказал я. — вероятно, есть мотоботы». «А! Разве я не сказал вам? У этих в накомарниках есть нечто получше мотоботов. Индеец говорил: «Длинный, очень большой челн, которым может пырять и…» «Подводная лодка?!» " Они называли ее между собой… Да, вы же знаете немецкий. Как по-немецки «Летучий голландец»?» «Дер флигенде Холлендер». «Вот именно! Второе слово индеец не мог понять. Он не знал, кто такие голландцы. Но первое слово запомнил хорошо: «летающий, летучим». «Но это не самолет! — бормотал он; самолеты, по его словам, видел в Манаосе. — Это очень длинный челн, который…» И так далее». «Летучий голландец», понятно, прозвище, — сказал я. — Зачем немцам база подводных лодок, если эта база так далеко от устья Амазонки?» «А вы это у Деница[237] спросите! — сердито бросил капитан, снова оглядываясь. — Меня сейчас интересует одно: хватит ли дров до Рере?» «Должно хватить!» В тех местах пароходы по мере надобности пополняются не углем, а пальмовыми дровами. Но ведь мы не пополнялись дровами на очередной пристани — второй помощник, как вы помните, спутал устья рек. Я спросил капитана, думает ли он, что за нами послали в погоню подводную лодку. «Не знаю. Не вижу ничего. Чувствую погоню спиной». «Но индеец, беглец, уже умер!» «Люди в накомарниках не знают об этом. И мы стали им опасны. Побывали на самом краю какой-то важной тайны. А разве заткнешь рот всем этим?» — Он презрительно показал вниз. Там разгорались, гасли и снова разгорались огоньки трубок. В Бразилии трубки курят даже женщины. На палубе продолжали шумно обсуждать события ночи. «Рере, Рере! — озабоченно бормотал капитан. — Боюсь, не дотянем до Рере!» Но мы дотянули до Рере.3
Ночь развеялась внезапно, как дым. Я собрался было в свою «преисподнюю», но замешкался на трапе. Не мог удержаться, чтобы не оглядеться вокруг. Ночь сдает вахту дню! Это всегда красивое и величественное зрелище — под любыми шпротами. Но на экваторе оно особенно красиво. Здесь «смена вахты» происходит без предупреждения. Не бывает ни сумерек, ни рассвета. Вдруг длинная зыбь быстро пробежала по верхушкам пальм, потом из-за них взметнулись лучи. Словно бы воины, тысячи воинов, спрятавшись в зарослях, разом выдернули из ножен свои мечи! Аракара вся осветилась. Вода была бледно-розовой, а берега ярко-зелеными. Впереди стал виден слепящий плес Рере. Он был даже как будто немного выпуклым посредине. От нас его отделял узкий мыс, поросший папоротником. Я с изумлением увидел, что мыс удлиняется! Он менял свои очертания на глазах, делался ниже и уже. И вдруг я понял: это нос подводной лодки, острый как секира, выдвигается из-за мыса! Еще несколько секунд, и она уже вся на виду: серая, в пятнах камуфляжа, как змея, очень длинная, без всяких опознавательных цифр или букв. Мы были от нее на расстоянии полукабельтова. Как смогла она обогнать нас? Наверно, был какой-то сокращенный путь, подводная лодка прошла к устью Аракары не известными нам протоками. Я даже не успел испугаться. Меня поразила высокая боевая рубка и отсутствие орудия на палубе. Но пулеметы были там и расчет выстроился подле них. Подводная лодка замерла посреди плеса, преграждая нам путь. С палубы донесся разноголосый протяжный вопль. Что-то крикнул за моей спином капитан. Второй помощник торопливо прошлепал босиком по трапу. Я увидел, как несколько матросов спускают на талях шлюпку. На них стала напирать толпа пассажиров, орущих, визжащих, вопящих. О! Это очень страшно — паника! Особенно на корабле.4
— Как же вам удалось выбраться из тех страшных мест? — Меня подобрали Огненные Муравьи. — Те самые? Подозреваемые в каннибализме? — Да. Наткнулись на меня в лесу, по которому я кружил. Видимо, был в почти невменяемом состоянии. Мне рассказывали потом, что я кричал, плакал, кому-то грозил. Несомненно, пропал бы, если бы не Огненные Муравьи. Джунгли Амазонки беспощадны ко всем слабым, одиноким, безоружным. У Огненных Муравьев я пробыл до осени… — А культ бога войны? — нетерпеливо прервал Шубин. — Сумели ли вы проникнуть в тайны этого культа? — Нет. Я его попросту не заметил. — Да что вы! Как так? — Видите ли, Огненные Муравьи очень примитивны по развитию. Им бы ни в жизнь не додуматься до такого культа! Они почитают духов предков, вот и все. Я, конечно, не специалист. Может, что-то упустил. Во всяком случае, кочуя по лесу, они старательно обходят места, где ныряют челны, грохочут барабаны, гаснут и зажигаются колдовские огни. — А! Кому-то выгодно отвадить люден от Аракары? — Вы правы. Чем дольше я жил у Огненных Муравьев, тем больше убеждался в том, что бедняг оболгали, оклеветали с помощью газет и радио, как это принято в нашем цивилизованном мире. До утра мог бы рассказывать вам об огромном доме на столбах, в котором живет племя, об охоте на рыб с помощью лука и стрел, о «заминированных» полосах земли — усыпанных рыбьими костями, сверху замаскированных листьями. Многое из того, что получило в наши дни свое высшее развитие, было там лишь в зачатке. При мне произошла стычка Огненных Муравьев с враждебным племенем Арайя, что значит «мглистый скат». Я впервые наблюдал массовое применение духовых ружей, страшных десятифутовых деревянных труб, из которых выдувают маленькие стрелы, смазанные ядом кураре. Показать бы одну из этих труб в Шеффилде, на нашем заводе! Ведь она могла считаться прабабушкой современной артиллерии! В конце августа я окреп настолько, что смог проститься с Огненными Муравьями. В Редонде, ближайшем поселке на реке, мне сказали, что Бразилия объявила войну Германии. — Вы сообщили о «Летучем голландце»? — Сразу же! Едва лишь вернулся в Рио. И были приняты срочные меры. На Аракару полетели самолеты. Было высказано предположение, что немцы строят аэродром на Аракаре. Подводная лодка могла служить для связи, а возможно, доставляла особо важные строительные материалы. А мне вспомнился Шеффилд. Ведь его тоже можно назвать «капищем бога войны». Чего доброго, думал я, в джунглях Амазонки воздвигают завод, который будет выпускать какое-то секретное оружие. Не готовятся ли с помощью этого оружия предпринять завоевание Америки, сначала Южной, потом Северной? Но летчики вернулись с Аракары ни с чем. Они пролетели над рекой километров полтораста, а внизу были только леса, однообразно волнистое зеленое пространство. Олафсон, которому я рассказал об этом, честил почем зря подслеповатых бразильских летчиков. А я не мог их осуждать. Пробродив целое лето в том районе, знаю, как непроницаем лиственный полог. Были там закоулки, где в самый яркий полдень царила ночь. Говорят: странствовать по дну зеленого океана. Но это и есть океан. И дно его кишит всякой опасней нечистью: от болотных змей харарака до «челна, который умеет нырять…»«Ю ЭНД АЙ…» (Пароль штурманов)
1
Нэйл поднял голову. В воспоминаниях так далеко ушел под сень бразильских пальм, что не сразу понял, где находится сейчас. Под большим оранжевым абажуром сверкает туго накрахмаленная скатерть На праздничном стеле расставлены водка, бренди, закуска В углу оперся на этажерку невысокий моряк. Лицо его сосредоточенно и сурово, губы сжаты. А перед Нэйлом, положив руку на стол, тихо сидит красавица в длинном вечернем платье. В ее серых, широко открытых глазах удивление, сострадание, печаль. — Боже мой! Я взволновал и расстроил вас! — с раскаянием сказал Нэйл. — И когда? В новогоднюю ночь! Это нехорошо с моей стороны. Переложить часть своих воспоминаний на чужие плечи! Недаром говорят, что бог проклял человека, дав ему память. — Не согласен! — сказал Шубин. — Я ничего не хочу забывать! Виктория спохватилась: — Товарищи! Что же мы? Без пяти двенадцать! Нэйл начал торопливо придвигать стулья, Шубин принялся разливать по рюмкам водку. Виктория отодвинула свою рюмку: — Мне — фруктовой! Я не пью, ты же знаешь! — Э, нет! Пусть Гитлер сегодня пьет фруктовую! Часы начали бить. Шубин поднял налитую до краев рюмку: — Ну, первый тост — за победу! — О, йес, йес! — закивал головой Нэйл. — За побиеду! Это русское слово он тоже выучил в Заполярье. Свою водку Нэйл выпил залпом, а не глотками, как пьют в Западной Европе. Потом старательно крякнул — тоже на русский манер. Виктория и Шубин засмеялись. Он был, оказывается, рубахой-парнем, этот бывший рабочий из Шеффилда и друг индейского племени Огненных Муравьев! Под гром салюта поднялись за окном огни фейерверка, похожие на новогоднюю елку, увешанную разноцветными электрическими лампочками и осыпающимися нитями «серебряного дождя». Шубин подумал, что у Гитлера, наверно, трясутся руки, когда он наливает себе фруктовой или минеральной воды за новогодним столом. Чего-нибудь покрепче ему не стоит сегодня пить, да и вообще он, говорят, не берет в рот хмельного: хочет прожить до ста лет! — Пусть Гитлер сдохнет в этом году! — торжественно провозгласил Шубин. Охотно выпили и за это. Третий бокал традиционный: за тех кто в море! Потом Нэйл предложил тост за своих гостеприимных русских хозяев. Шубин хотел в ответ выпить за здоровье Нэйла, но тот подмял руку: — Хочу предложить гост, не совсем обычный. В новогоднюю ночь привык вспоминать о кораблях, на которых плавал. Были среди них и танкеры, и лайнеры, и транспорты, и вспомогательные суда, и даже такой колесный торопыга, как «Камоэнс». И я думаю о них с любовью и благодарностью. Какое-то время они были моим домом… Говорил ли я, что Олафсон разделял все корабли на добрых и злых? Так вот, предлагаю выпить за добрые корабли! За то, чтобы им на пути никогда не встретился «Летучий голландец»! Моряки, серьезно кивнув друг другу, выпили. Теперь настала очередь Шубина рассказывать о своих встречах с «Летучим голландцем». Англичанин только поднимал брови да издавал короткие восклицания. Каков, однако, размах у этого «Летучего»’ Нет, наверно, уголка на земном шаре, где бы не побывал он — не то подводный связной, не то маклер, который помогает военным монополистам, торговцам оружия, совершать их тайные сделки. Шубин сердито оглянулся на часы, когда они коротко пробили за спиной. Нэйл встал: — Через полчаса мой поезд. Мне пора! Гостя проводили до лестницы. — Пишите же! — И вы пишите! — Непременно встретимся после победы!2
Виктория всем телом прижалась к Шубину. Пальцы ее, чуть касаясь, быстро пробежали по его лбу. Нахмурился! Мальчик ее стал опять задумчивым и грустным. Почему?.. Чтобы отвлечь его, она пустила в ход все средства, какими располагают в таких случаях женщины. Сегодня была особенно нежна, как-то необычно тревожно нежна. Но, проснувшись среди ночи, Виктория увидела рядом рдеющий огонек папиросы. — Что, милый? Опять он… «Ауфвидерзеен»? — Нет. Ты спи! Просто думал о жизни, о нас с тобой. Окна зашторены. В комнате тишина, мрак. Только часы повторяют одно и то же, спрашивают осторожно: «Кто ты? Что ты?» Или она где-то читала об этом?.. — Слушай, — негромкий голос Шубина. — Я все думаю о слове, которого не знал Олафсон. Может, это не одно слово, а три: «Ю энд ай»? Помнишь: Нэйл крикнул в лагере? Очень сильные слова, верно? Если бы штурманы всех морей, капитаны, лоцманы, судовые механики, матросы сказали друг другу: «Ю энд ай», что случилось бы тогда с «Летучим»? Камнем бы упал на дно! — А потом бы опять всплыл. — Не дали бы ему всплыть! Блокировали бы его во всех норах! Установили бы всеокеанскую блокаду!.. Олафсон это не смог бы один. Это могут только все сообща. Я, ты, Нэйл! Все, кому «Летучий» враг. Простые, обыкновенные слова, когда их произнесут сотни тысяч людей, могут остановить, оглушить, убить! И потом, как в сказке, все фарватеры станут чистыми, свободными для плавания кораблей… Он потушил папиросу и сразу же, без перерыва, закурил новую. — Да, — медленно повторил он. — «Ю энд ай», пароль штурманов… Ночь. Полагалось бы спать. Но Виктория рада, что он не молчит. Выговорится — заснет. — Я раньше знаешь какой был? Беспечный, ничего близко к сердцу не принимал. Я, наверно, поэтому и не понравился тебе вначале. Но, после того как пробыл несколько часов на «Летучем», стал о многом думать по-другому. Не знаю, сумею ли объяснить. Ну, как бы окидываю сразу взглядом большое навигационное поле. Начал видеть свой фарватер и предметы не только вблизи, но и вдали. Например, стал задумываться о мире. Каким будет все, когда мы победим? Что я буду делать тогда? Я же катерник, профессиональный военный. Вот толкуют о самопожертвовании. Вызвал, мол, огонь на себя или выручал товарища с риском для жизни. А ведь от меня могут потребовать еще большего самопожертвования. Поставят пред светлые адмиральские очи и скажут: «Гвардии капитан-лейтенант Шубин! Отныне ты уже не гвардии капитан-лейтенант! Уходишь в отставку или в запас». Работа, конечно, найдется. Буду штурманить на каком-нибудь лесовозе, китобое, танкере. В Советском Союзе кораблей хватит. А не хватит, еще построят. На бережку припухать не собираюсь. — Я и не представляю тебя на берегу… Но почему ты вспомнил об этом? — Начал было, понимаешь, уже задремывать, и вдруг померещился верещагинский «Апофеоз войны». Только пирамида сложена не из черепов, а из военных кораблей. Так быстро прошло перед глазами, как это бывает, когда засыпаешь. — Мы с тобой рассматривали вчера альбом. Там есть Верещагин. — Да. Я и стал вертеть в уме эту пирамиду, прилаживай ее то к одному, то к другому морю. Наступит же, думал я, время, когда военные корабли не понадобятся больше людям. Мир! Всюду мир! Тогда, в назначенный день и час, двинутся к какой-нибудь заранее выбранной бачке военные флоты всех государств, берега которых омывает это море. Сойдутся вместе, отдадут друг другу воинские почести, приспустят флаги… банка — нечто вроде фундамента, понимаешь? Сначала на нее лягут линкоры, крейсеры, авианосцы. Вторым слоем — корабли поменьше. И вот в море новый железный остров-память о прошлых войнах! — Выходит, как бы мусорные кучи, свалка, так я поняла? — Нет! Не свалка. Памятник! Ведь на кораблях сражались и умирали люди. Многие из них были, конечно, обмануты, сражались за высокие прибыли для разных виккерсов и круппов. Но они жизнью заплатили за свою доверчивость. Это скорей уж могила неизвестному моряку. — И торговые корабли, проходя мимо железного острова, будут давать длинные, протяжные гудки в память погибших? — Правильно. Теперь ты поняла. В темноте лиц не видно. Но по голосу Виктории можно догадаться, что она улыбается: — Неужели и твои торпедные катера топить? — Катера?.. В растерянности Шубин забормотал: — Топить?.. А если приспособить для мирных целей?.. Например, доставлять в порты корреспонденцию?.. Скорость у них уж очень… Пауза. — Нет! И мои катера тоже! — решительно сказал он. По тут же поспешил добавить: — Зато их, и, ж самые легкие, на вершину пирамиды!..3
В марте 1945 года почти вся бригада торпедных катеров сосредоточилась в районе Клайпеды. Только катера Шубина оставались еще в Ленинграде. Им предстояло догнать бригаду по железной дороге, на платформах. Сам Шубин вместе с инженер-механиком должен был прибыть в Клайпеду заранее, чтобы все подготовить для выгрузки катеров, спуска их на воду. Настал день отъезда. Пока Шубин укладывал чемодан, Виктория ходила по комнате, трогала безделушки на этажерке, бесцельно переставляла их. — Что с тобой? — Волнуюсь. — Но почему? Ты не первый раз провожаешь меня. — Да. И с каждым разом волнуюсь все больше. Шубин порылся в чемодане, достал маленьким осколок, будто взвешивая, подбросил на ладони: — Лови! Когда станешь бояться за меня, вынь, посмотри — и пройдет! Осколок имел свою коротенькую историю. В одном морском бою Шубин нагнулся к тахометру, чтобы проверить число оборотов. Выпрямляясь, он зацепился за что-то карманом. Оглянулся: в верхней части борта зияла только что появившаяся рваная дыра! Это за спиной промелькнули осколки снаряда. Не нагнись Шубин к тахометру… Уже по возвращении на базу боцман отыскал в рубке один из осколков. — Видишь? Ни снаряды, ни пули на море не берут! А на суше я не воюю. — И ты совсем не боишься? Никогда? — Ну, так лишь дураки не боятся. Просто я очень занят и бою. Некогда бояться… Нет, вот где я страху-то натерпелся! В госпитале прошлым летом. — Почему? — На больничной койке очень боялся помереть. Склянки эти, банки, духота!.. Помирать — так уж красиво, с музыкой! Под стук пулеметов, мчась вперед на своей предельной скорости! У нас в сорок втором году так один офицер умер: как стоял в рубке, так мертвый и остался стоять. Склонился головой на штурвал и… — Он спохватился. — Да что это я? Тут победа на носу, а я о смерти завелся! Виктория, присев на стул, задумчиво смотрела па Шубина. Маленький осколок лежал, уютно спрятавшись между ее ладонями. — Он был теплым? — Даже горячим. — Хорошо. Я буду беречь его, как ты велишь. Она подарила ему перед отъездом цветы, букетик цветов. В поисках их обегала весь город. И наконец нашел в оранжерее на улице Добролюбова. Там высаживали во время блокады редис и лук. Теперь снова занялись цветами. Победа! Близкая победа! Все в Ленинграде дышало ожиданием победы. — О! — с раскаянием сказал Шубин. — А я тебе ни разу не поварил цветы! Эх я! И были же на Лавенсари — красивые, высокие, надменные, как ты. Ведь ты когда-то была надменная! Я даже боялся тебя немного. До сих пор в ушах звучит: «Мы с вами не на танцах, товарищ старший лейтенант!» Шубин шутил, улыбался, говорил без умолку, а сам с беспокойством и жалостью заглядывал в лицо Виктории. Они была бледна, губы ее вздрагивали. На перроне, у вагона, инженер-механик деликатно оставил их вдвоем. Она прижалась к его груди, опустив голову, стараясь унять нервную дрожь. — Ничего не говори, — шепнула она. Минуту или две Шубин и Виктория молча стояли так, не размыкая объятья. — По ваго-на-ам! — протяжно крикнул, будто пропел, начальник эшелона. Мельком, из-за шубинского плеча, Виктория увидела круглые вокзальные часы. Они показывали семнадцать двадцать. Виктория откинула голову. Неотрывно и жадно всматривалась в длинный улыбающийся рот, ямочку на подбородке, две резкие вертикальные складки у рта. Потом быстро поцеловала их по очереди, будто поцелуем перекрестила на прощанье…ПЕРЕХВАЧЕННЫЙ ГОНЕЦ
1
Колдовские пейзажи мелькали за окном. Возникало озерцо с аспидно-черной водой и черным камнем посредине. На таком камне полагалось сидеть царевне-лягушке, величественно неподвижной, задумчивой. Горизонт волнистой чертой перечеркивали ели, над которыми в такт колесам покачивался месяц. Шубин не отходил от окна. Соседи по купе устраивались играть в домино. Стоймя утвердили чемодан, на него положили другой. Столик у окна занимать было нельзя: на столике стояли цветы. Инженер-механик с достоинством давал пояснения: — Самые ранние! Жена гвардии капитан-лейтенанта в оранжерее купила. Как же! Открылись оранжереи в Ленинграде! Вокруг цветов уже завязывался робкий роман между проводницей и молоденьким лейтенантом-сапером, видимо только что выпущенным из училища. Весь вагон проявил большое участие к цветам. Лейтенант первым произнес слово «складчина». Кто-то посоветовал для подкормки пирамидон, но общим решением утвердили сахар. Тотчас лейтенант обошел соседние купе и притащил полстакана песку и немного кускового. — Будем подсыпать систематически, — объявил он сияя, — и доставим букет совершенно свежим! Проводница с особым старанием, чуть ли не каждый час, меняла воду в банке. При этом косила карим глазом в сторону лейтенанта и многозначительно вздыхала: «Вот она, любовь-то, какая бывает!» А на станциях и полустанках у окна с букетом собиралась толпа. Местные девушки с соломенного цвета волосами и в пестрых косыночках замирали на перроне, благоговейно подняв лица к ранним, невиданно ярким цветам. «Хорошие люди, — думал Шубин, стоя в проходе. — Очень хорошие. И лейтенант хороший, и проводница, и эти светленькие девушки-латышки. А против них со дна поднялась нечисть, выходцы из могил! Тянутся своими щупальцами, хотят задушить, обездолить. Но — не выйдет! Я не дам!» Соседи звали его «забить козла» — он отговорился неуменьем. «Заиграли» песню — не подтянул. Дружно перевернули чарочку, но и после этого Шубин не развеселился. Поговорил о том о сем и убрался в сторонку. Ничью он долго ворочался с боку на бок на своей верхней полке. «Доминиканцы» похрапывали, булькали, подсвистывали. — вероятно, и во сне переживали волнующие перипетии игры. В купе было темно. Между разнообразными, плотно утрамбованными вагонными запахами бочком протискивался аромат цветов. Было очень жаль Викторию. Шубин никогда еще не видел ее такой растерянной, беспомощной, заплаканной. Зато теперь все стало на свое место: он воюет, она волнуется за него. А прошлой весной, в начале их знакомства, было наоборот. Шубину от этого было очень неловко тогда. Но мысли о Виктории уже перебивались другими, будничными мыслями: о мерах предосторожности, которые надо принять, перебрасывая катера с вокзала в порт, о спорах со скупой шкиперском частью, не желавшей отпускать брезент. Шубин не знал, не мог знать, что гонец с «Летучего голландца» уже снаряжается в путь…2
По утрам Шубин нередко выходил на поиск без авиации — если был сильный туман. Над Балтикой по утрам почти всегда туман. Он стелется низко, как поземка. Сверху можно различить лишь топы мачт. Но корабли под ними не видны. А невысокие торпедные катера, те целиком скрываются в тумане. С одной стороны, как будто бы хорошо — не увидят немецкие летчики. С другой — плохо: и сам не увидишь ничего! Однако у Шубина, помимо «теории удач», была еще вторая теория — «морских ухабов». Случая только не было ее применить. Есть такая поговорка: «Вилами на воде писано» — в смысле «ненадежно», «неосновательно». Это справедливо лишь в отношении вил. Что касается форштевня корабля, то тут «запись» прочнее. Продвигаясь вперед, корабль гонит перед собой так называемые «усы». Они похожи на отвалы земли от плуга. Две длинные волны под тупым углом расходятся по обе стороны форштевня и удаляются от него на большое расстояние. Впрочем, считали, что Шубин берет грех на душу, доказывая, будто обнаружит в тумане эсминец по «усам» за шесть — восемь кабельтовых, а крейсер даже за милю, — конечно, в штиль. По сегодня он построил на этом свою тактику. Начал к торопливо ходить переменными галсами, выискивая «след», оставленный кораблем на воде. Сухопутный фронт к тому времени придвинулся к Кенигсбергу. Шубин вышел на подходы к морскому аванпорту Кенигсберга — к городу и крепости Пиллау. Море было штилевое. Воздух напоминал воду, в которую подлили молока. Так прошло около часа. Вдруг катер тряхнуло. Вот он, долгожданный водяной ухаб! Шубин заметался по морю. Приказал положить руля вправо, влево — ухаб исчез. Приказал лечь на обратный суре. Снова тряхнуло. Но уже слабее. Волна затухает! Шубин развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел зигзагом. Остальные катера двигались за ним. повторяя его повороты. Они натолкнулись на встречную волну, прошли метров пятьдесят, натолкнулись на нее еще раз. Удары делались более ощутимыми. Волна увеличивалась. Так радист, приникнув к радиоприемнику, ищет нужную волну в эфире — то соскакивает с нее, то опять, торжествуя, взбирается на «гребень». Между тем туман стал расходиться. Воздух напоминал уже не воду с молоком, а стекло, на которое надышали. Но горизонт был еще стерт. Всем телом ощущая нарастающие толчки, Шубин вел свои катера к истоку полни. Судя по ее размахам, корабль был большой. Хорошо бы — транспорт этак в три или пять тысяч тонн! Как прошлой осенью! Но. к огорчению моряков, у истока волны не оказалось транспорта. Впереди темнело мизерное суденышко, по-видимому, штабной посыльный катер. Он шел с очень большой скоростью, узлов до тридцать. Вот почему образовались такие длинные и высокие волны. Тратить торпеду на этого мездрюшку было бы, конечно, мотовством. Патов вопросительно взглянул на Шубина: — Из пулемета по нему, товарищ командир? Шубин промолчал, продолжая вести свой отряд на сближение с катером. В быстром уме его возник иной план. Давно уже тосковали в штабе бригады по «языку». В морской войне это явление чрезвычайно редкое. А сейчас, в предвидении штурма Пиллау, «язык» был бы как нельзя более кстати. В посыльном катере, наверно, сидит начальство. Выскочило из Пиллау и дует себе на предельной скорости в Данциг. Выхватить бы это начальство из-под носа у немцев, чуть ли не в самой их гавани, и доставить на базу для плодотворного собеседования с нашими разведчиками!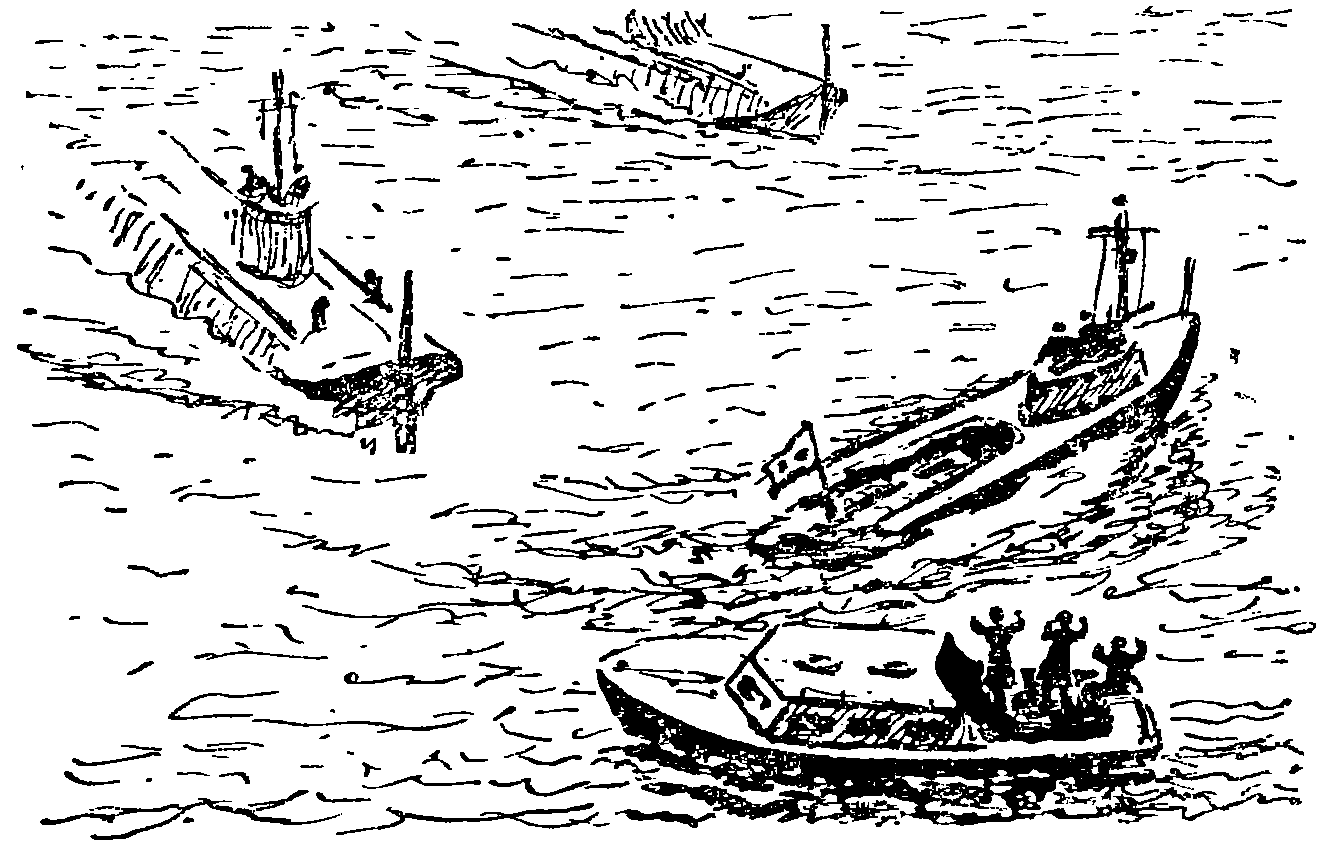 Да, это было бы толково. Поярче, пожалуй, чем потопить транспорт!
Через несколько минут шесть торпедных катеров окружили немецкий посыльный катер. Все пулеметы пристально, с явным неодобрением уставились на него.
Немецкий рулевой сразу бросил штурвал. Следом за ним неохотно подняли руки два бледных офицера в кожаных пальто и унтер-офицер береговой службы. Наконец, озираясь с дурацким видом, вылезли наружу мотористы.
Шубин бегло просмотрел документы пленных. Начальство с его точки зрения, было третьесортным: всего лишь интенданты. Но на безрыбье…
Офицеры следовали по своим интендантским надобностям к Данциг. Унтер-офицер, не имевший к ним, как выяснилось, никакого отношения, направлялся еще дальше — через Данциг в Берлин.
Шубин приказал, отобрав у пленных документы и оружие, рассадить их по торпедным катерам. Интендантов он забрал к себе, унтер-офицера поместил к Князеву, рулевого и мотористов — на другие катера.
Придирчивый Фаддеичев и здесь проявил свой «настырный» характер. Ему показалось, что немецкие офицеры недостаточно расторопно пересаживаются на торпедный катер. Он набрал было в грудь воздуха, готовясь выпустить его обратно изрядно измельченным словами специального аврального назначения, но перехватил предостерегающий взгляд командира.
— Есть, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — сказал он, вздохнув. — Я только хотел им объяснить, чтобы поаккуратнее переходили, не упали бы, храни бог, в воду…
Торпедные катера повернули на базу.
Да, это было бы толково. Поярче, пожалуй, чем потопить транспорт!
Через несколько минут шесть торпедных катеров окружили немецкий посыльный катер. Все пулеметы пристально, с явным неодобрением уставились на него.
Немецкий рулевой сразу бросил штурвал. Следом за ним неохотно подняли руки два бледных офицера в кожаных пальто и унтер-офицер береговой службы. Наконец, озираясь с дурацким видом, вылезли наружу мотористы.
Шубин бегло просмотрел документы пленных. Начальство с его точки зрения, было третьесортным: всего лишь интенданты. Но на безрыбье…
Офицеры следовали по своим интендантским надобностям к Данциг. Унтер-офицер, не имевший к ним, как выяснилось, никакого отношения, направлялся еще дальше — через Данциг в Берлин.
Шубин приказал, отобрав у пленных документы и оружие, рассадить их по торпедным катерам. Интендантов он забрал к себе, унтер-офицера поместил к Князеву, рулевого и мотористов — на другие катера.
Придирчивый Фаддеичев и здесь проявил свой «настырный» характер. Ему показалось, что немецкие офицеры недостаточно расторопно пересаживаются на торпедный катер. Он набрал было в грудь воздуха, готовясь выпустить его обратно изрядно измельченным словами специального аврального назначения, но перехватил предостерегающий взгляд командира.
— Есть, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — сказал он, вздохнув. — Я только хотел им объяснить, чтобы поаккуратнее переходили, не упали бы, храни бог, в воду…
Торпедные катера повернули на базу.
3
Изредка, не без самодовольства, Шубин оглядывался из своих «языков». Нахлобучив козырьки фуражек на глаза, пошив бархатные воротники кожаных пальто, они сидели понурясь меж ту торпедами под бдительной охраной Степакова и Ластикова, вооруженных автоматами. Что ж! Так и положено выглядеть пленным немцам — будто они насквозь вымокли и продолжают покорно мокнуть под дождем. Шубина окликнул взволнованный голос Князева: — Товарищ гвардии капитан-лейтенант! Мой немец… — Но слова заглушила трескотня автомата. Шубин поспешно развернулся. Катер Князева стоял, застопорив ход. Кто-то толчками плыл от него в море. — Живым, живым! — заорал Шубин в ларингофон. — Не стрелять! Но когда он приблизился, то не увидел в море пленного. Князев с растерянным видом вертел в руках какие-то бумажки. Рядом стоял смущенный матрос, держа автомат дулом вниз. Остальные, перегнувшись через борт, напряженно вглядывались в колыхавшуюся серую воду. — Ну, всё! — объявил одни из них и выпрямился. — Жаловаться к морскому царю ушел! Торпедные катера покачивались на волне, развернувшись носами. Интенданты с робостью перешептывались, косясь на грозного юнгу с автоматом. Оказалось, что Князев и его команда не сразу заметили странное поведение пленного. Отвернувшись, он украдкой вытаскивал что-то из кармана, пихал в рот и пытался прожевать. Кинулись к нему. Думали — яд! Но изо рта торчали белые клочки. — Товарищ гвардии старший лейтенант! Он секретные документы жрет! Унтер-офицера схватили за руки, повалили на сипну, стали вытаскивать бумагу изо рта. Сделав отчаянное усилие, он проглотил ее. Но в кулаке были крепко зажаты еще какие-то обрывки. — Не можно, не можно! — бормотал он, путая польские слова с немецкими. — Ферботен![238] Не можно! Кто-то ударил его автоматом по руке. Кулак разжался. Несколько измятых клочков выпали и разлетелись по палубе. Их бросились подбирать. Немец воспользовался этим, вырвался, прыгнул, вернее, свалился за борт. Тогда по беглецу дали очередь из автомата. Море было пустынно. Туман рассеялся, но день оставался пасмурным. Южную часть горизонта, более светлую, подчеркивала жирная линия. То был немецкий берег, коса Фриш-Перрунг, которая прикрывает с моря Пиллау. — «Не можно, не можно»! — с негодованием сказал Шубин. — То есть как это — не можно? Попал к нам в плен — обязан всю документацию предъявить! Это какой-то неправильный немец у тебя был. Пука, дни! Князев с виноватым видом пошл два уцелевших измятых клочка. Шубин разгладил бумагу. Какие-то мудреные значки! Не то арабская вязь, не то стенография. Шифр, само собой! Но среди непонятных значков он почти сразу же наткнулся на упоминание о себе. «Пирволяйнен» — было там, выведенное латинскими буквами. А чуть подальше, перескочив через два пли три значка, стояло слово «Винпури». Ведь именно так представился он командиру «Летучего голландца»: «Пирволяйнен, родом из города «Винпури». Шубин поспешно нагнулся, оберегая листки, боясь, что их вырвет ветром из рук и унесет. Но больше ничего не удалось прочесть. Закорючки, одни закорючки, черт бы их драл! Шубин выпрямился. — Кого проворонил-то! Эх! — с сердцем сказал он Князеву. — Знаешь, кто это был? Связной с «Летучего голландца»! — Ой! — Вот тебе и «ой»! Имел при себе донесение и тут же схарчил его — у вас на глазах, пока вы танцевали вокруг с автоматами! Команда князевского катера сконфуженно молчала, стараясь не глядеть на Шубина. Павлов удивленно присвистнул: — Выходит, «Летучий» — в Пиллау? Шубин раздраженно дернул щекой. Нелепый вопрос! Как будто можно сказать о «Летучем» что-нибудь наверняка! Он смотрел в бинокль на полоску берега, которая дразняще колыхалась вдали. Поскорей бы скомандовали штурм этого Пиллау! Но ведь «Летучий» как угорь — извернется, крутанет хвостом, и нет его! Обратно на базу гнали во весь опор. Шубин спрятал драгоценные клочки в карман кителя и то и дело похлопывал себя рукой по груди: сохранны ли? В штабе разберутся в этих закорючках! Говорят, есть такие специалисты по разгадке шифров, прямо щелкают их, как орехи. Потом мысли вернулись к связному, который предпочел утонуть, лишь бы не отдать донесение. Какой, однако, непонятной, гипнотической силой облают этот «Летучий голландец», если мстительной кары его боялись даже больше, чем смерти!..ПО ВЫЗОВУ: «АУФВИДЕРЗЕЕН»…
1
Выйдя к границам Восточной Пруссии, Советская Армия натолкнулась на так называемый вал «Великая Германия», простиравшийся на глубину до шестидесяти километром. Лишь по линии внешнего оборонительного обвода, окружавшего Кенигсберг, стояло девятьсот дотов. Отдельные форты носили название прославленных прусских полководцев: Врангеля, Гнейзенау. Только что в небольшом городке, неподалеку от Кенигсберга, с чугунным грохотом свалилась наземь статуя Гинденбурга. Ее подорвали немецкие минеры. По пятам за отступающими немецко-фашистскими войсками шла Советская Армия, и они страшились возмездия. Во временно оккупированных русских городах памятники Ленину расстреливались прямой наводкой из орудий. Фашисты мерили на свой аршин: думали, что русские тоже воюют со статуями. Фельдмаршал Гинденбург лежал, поверженный в прах своими же солдатами. Но еще стояли, превратившись в форты, Гнейзенау и Врангель. Они смотрели на восток. Это было подобие тех аку-аку — каменных статуй, которые стерегут остров Пасхи, устремив вдаль свои слепые глаза. Магией воспоминаний, словами-фетишами, своими мертвыми полководцами пытались загородиться немцы от опасности, неотвратимо, как океан, надвигавшейся с востока. Туман, туман… Земля, размокшая от стаявших снегов. Голые дрожащие леса. По дорогам идут на Кенигсберг советские войска. Бредут в грязи пехотинцы, ползут, лязгая гусеницами, танки, громыхает артиллерия. А моряки идут морем, вдоль берега, чтобы принять участие в великой битве за Восточную Пруссию. В течение нескольких дней советские войска прорвали внешний, долговременный пояс обороны, овладели городами Инстербург, Тильзит, Гумбинен, Прейссиш-Эйлау и подступили к окраинам Кенигсберга. В штабе фронта стоял фанерный макет Кенигсберга, очень большой, тридцати шести метров в диаметре. Командиры всех частей по многу раз проигрывали здесь предстоящий штурм. Он был звездным — то есть начался сразу со всех сторон. Согласованность во время такого штурма Особенно важна. На исходе четвертого дня ожесточенных уличных боев генерал от инфантерии Ляш подписал в подземном блиндаже акт о капитуляции. Из ста пятидесяти тысяч человек немецкого гарнизона остались в живых только девяносто две тысячи. Сражение за Восточную Пруссию подходило к концу. Полчки настойчиво нажимали с запада, с берегов Вислы. Кое-кто из фашистов уже бежал на полуостров Хелл, и оттуда через Боригольм — в Швецию. Но аванпорт Кенигсберга, его морские ворота, были еще на замке. Крепость Пиллау держалась. Это была первоклассная, неоднократно модернизированная крепость. В учебниках истории с гордостью упоминалось о том, что в свое время ее не сумел взять Наполеон. После падения Кенигсберга в Пиллау продолжали беспрерывно поступать подкрепления и со стороны Данцига но узкой косе Фриш-Иеррунг, перегораживавшей залив. По ней же эвакуировали технику и раненых. Для того чтобы взять Пиллау, нужно было перехватить косу клещами. Сделать это приказали морякам.2
С суши крепость должна била штурмовать армейская часть. Для согласования действий Шубин побывал в ее штабе. Попутно он не преминул поинтересоваться результатами расшифровки донесения, которое было передано армейцам. Да, специалисты сумели раскусить этот орешек! Он, впрочем, оказался не из твердых. Шифр, в общем, напоминал систему стенографической записи. Для более сложной зашифровки, видимо, не было условий. На первом клочке бумаги прочли: «…Пирволяйнен, летчик из города Винпури… не было моим упущением… командир сам… срочном погружении, как я уже доносил». Из этого можно было заключить, что кто-то, помимо командира, регулярно информировал свое начальство обо всем происходившем на подводной лодке. В какой-то связи вспоминался и случай с финским летчиком. Однако это относилось к прошлому. О настоящем и будущем говорилось на втором клочке, который был еще более скомкан и надорван по краям, чем первый. Вот что удалось на нем разобрать: «…Пиллау в ожидании… кладбище… взять на борт пассажира… условному сигналу «Ауфвидерзеен»… Перебрасывая мостики между словами, нетрудно было восстановить фразу целиком. Она, вероятно, выглядела так: «В настоящее время находимся в Пиллау с ожидании (чего-то!) на кладбище (?!), готовясь (или будучи готовы) взять на борт пассажира (кого же именно?) по условному сигналу «Ауфвидерзеен». Шубин был ошеломлен. Буквы прыгали и кувыркались перед его глазами, словно бы он еще стоял в рубке своего подскакивающего на волнах катера. Сначала его больше всего поразили слова: «условному сигналу «Ауфвидерзеен». Так, стало быть, этот надоедливый мотив, впервые услышанный о шхерах, был условным сигналом! А Шубин-то считал, что мотив привязался к нему просто по случайному совпадению. Ничего подобного! «Ауфвидерзеен» был неразрывно связан с «Летучим голландцем», имел самое прямое и непосредственное отношение к тем еще не разгаданным тайнам, которыми битком набита окаянная подводная лодка! Шубин со вниманием перечитал текст. Итак, «Летучий» — в Пиллау! По крайней мере, был там в момент отсылки донесения. Будем надеяться, что он еще не ушел. Но зачем ему было забираться на кладбище? Как это понимать — «кладбище»? Шубин в раздражении сломал папиросу. Однако главное было не в этом. Главное было в словах «взять па борт пассажира». Кем мог быть этот пассажир? Несомненно, лицо высокопоставленное, одно из первых лиц в Германии, если ради него держат наготове «Летучего голландца»! Ведь это, не забывайте, рейдер, то ест подводная лодка, предназначенная для океанских походов! — Гитлер! — сказал Шубин, поднимая глаза на штабных офицеров. — Ну, так уж сразу вам и Гитлер… В общем, на Шубинапобрызгали в штабе холодной водичкой. А он, конечно, зашипел, как утюг. — Да понимаете ли вы, что это за подводная лодка? Сгусток лжи и преступлений, вот это что такое! Я было хотел ее потопить. А теперь понял: нет, нельзя! Ни в коем случае нельзя! Ее вскрыть надо, как консервную банку! И тогда такое поползет оттуда, что мир ахнет и содрогнется! Шубин сердито посмотрел на армейцев: — Дали бы мне задание, чтобы с самыми передовыми частями войти в город. Или же с корабельным десантом… — А это уж вы с вашим морским командованием решайте! При корпусе будет особая группа. Она, к вашему сведению, и займется подводной лодкой. Это специалисты. Вскроют вашу «консервную банку» аккуратно, по всем правилам. Вы не волнуйтесь, капитан-лейтенант! Все будет нормально. Занимайтесь своим делом. Спокойно высаживайте десант, топите корабли! Каково? «Не волнуйтесь»! «Спокойно топите корабли»!.. Шубин, очень недовольный, уехал. В машине он не переставал бурлить. Князев и Павлов, сидевшие на заднем сиденье, многозначительно переглядывались. Они прекрасно знали своего командира, понимали и любили со всеми его слабостями. Шубин очень ревниво относился к славе своего отряда, своего дивизиона, своей бригады. К этому прибавилось еще и некое искони существующее боевое соперничество между флотом и армией. — Все себе заграбастали — что получше! — бурчал Шубин. — А мы на подхвате! От самого Ленинграда висим на корме у этого «Летучего голландца». Прижали к Пиллау наконец. Так нет! «Не волнуйтесь, капитан-лейтенант! Без вас обойдемся!» Попросту не хотят славой делиться! Гитлера в плен захватить — шутка ли? — Может, все-таки не Гитлер? А кто же? Да они и сами знают, что Гитлер! Темнят, по своему обыкновению. И перед кем темнят? Кто им обрывки донесения доставил? Теперь-то, конечно, бери «Летучего» чуть ли не голыми руками! — Легко сказать: бери! — У причала-то? Справятся! А мы в это время будем взад-вперед ходить, раненых эвакуировать. Ну есть ли, спрашивается, справедливость на свете?..3
В центре Кенигсберга спустил скат. Князев и Павлов остались помогать шоферу, a Шубин решил пройтись, чтобы поразмяться и успокоиться. Вокруг был притихший город-пепелище. «Как аукнется, так и откликнется. — подумал Шубин, вспомнив про Ленинград. — Аукнулось на одном конце Балтики, откликнулось на другом». Сюда бы специальными эшелонами всех этих фабрикантов оружия, военных монополистов — всю злую, жадную свору! Взять бы за шиворот их, встряхнуть, ткнуть носом в эти кучи щебня, в свернувшуюся клубком железную арматуру, в то, что осталось от знаменитого некогда Кенигсберга! Смотрите! Осознайте! Прочувствуйте! Это вы превратили его в пепелище, ибо такова неотвратимая сила отдачи на войне! Странно было видеть здесь сирень. Нигде и никогда не видел Шубин так много сирени и такой красивой. Махровая, необыкновенно пышная, яркая, она настойчиво пробивалась всюду между руинами. В зарослях ее начинали неуверенно пощелкивать соловьи, будто пробуя голос и с удивлением прислушиваясь к тишине, царящей вокруг. Шубину пришло на ум, что штурман «Летучего голландца» родом из Кенигсберга. В кают-компании, за обедом, он спросил мнимого Пирволяйнена, не бывал ли тот в Кенигсберге. И мнимый Пирволяйнен едва удержался тогда, чтобы не созорничать, не брякнуть: не бывал, мол, но надеюсь побывать! Вот и побывал! Тихий голос рядом: — Эссен… Пауза. Снова робкое: — Эссен… Шубин опустил глаза. Рядом стоял мальчик лет шести в штанах с помочами. Обеими руками он держал маленькую пустую кастрюльку. Такие ребятишки с кастрюльками, судками, мисочками всегда толпились у походных кухонь во взятых нами немецких городах… Шубин присел на корточки перед малышом:
— Си хайст ду, бубби?
— Отто…
Кою-то смутно напоминал этот малыш. Кого?.. Нет, не удалось припомнить!
Худенькое серьезное лицо, удивленно поднятые темные брови. «Эссен»…
Одна из бесчисленных, ни в чем не повинных жертв «Летучего голландца»!
Сила отдачи на воине слепа, как всякая сила отдачи. Орудие, которое стреляло по Ленинграду, откатившись, ударило не Гитлера, и не Крупна, а этого несмышленыша, горемычного Отто из Кенигсберга!
Шубин круто повернулся и зашагал к матине. Рывком он вытащил оттуда взятые в дорогу консервы, черный хлеб, пакеты с концентратами.
Мальчику представился, наверно, добрый Сайта Клаус с его рождественским мешком. Только мешок этот был цвета хаки, солдатский.
Шофер, мигая белесыми ресницами, с удивлением смотрел на Шубина.
— Ты что?
— Сказано же, товарищ гвардии капитан-лейтенант: убей немца!
— Дурень ты! О вооруженном немце сказано, с автоматом на шее, оседлавшем танк, и, тем более, на нашей территории! А из этого немца еще, может, выйдет толк!.. Как считаешь, Отто, выйдет из тебя толк?
Подарки не умещались в кастрюльке, вываливались из рук.
Шубин огляделся. В пыли лежала пробитая немецкая каска. Он поднял ее, перевернул.
— Ну и кастрюлька же у нас с тобой!
И на серьезном личике появилась улыбка, слабое отражение всепокоряющей шубинской улыбки.
Шубин даже проводил Оно до дому, чтобы по дороге не отняли еду.
Из подвалов, щелей, дверей и окоп, как скворцы из скворечен, высовывались молчаливые немцы и смотре in на это шествие. Впереди шагал мальчик, прижимая к животу перевернутую каску, доверху наполненную продуктами, следом шел моряк.
Потом «виллис», виляя между развалин, быстро проехал через Кенигсберг к скрылся в облаке пыли…
Каким же ты будешь, бубби, когда вырастешь? Двадцать тебе сравняется, наверно, в 1959 или 1960 году. Забудешь ли ты этого русского военного моряка, который подарил тебе полную каску продуктов среди руин Кенигсберга?
Неужели забудешь?..
Шубин присел на корточки перед малышом:
— Си хайст ду, бубби?
— Отто…
Кою-то смутно напоминал этот малыш. Кого?.. Нет, не удалось припомнить!
Худенькое серьезное лицо, удивленно поднятые темные брови. «Эссен»…
Одна из бесчисленных, ни в чем не повинных жертв «Летучего голландца»!
Сила отдачи на воине слепа, как всякая сила отдачи. Орудие, которое стреляло по Ленинграду, откатившись, ударило не Гитлера, и не Крупна, а этого несмышленыша, горемычного Отто из Кенигсберга!
Шубин круто повернулся и зашагал к матине. Рывком он вытащил оттуда взятые в дорогу консервы, черный хлеб, пакеты с концентратами.
Мальчику представился, наверно, добрый Сайта Клаус с его рождественским мешком. Только мешок этот был цвета хаки, солдатский.
Шофер, мигая белесыми ресницами, с удивлением смотрел на Шубина.
— Ты что?
— Сказано же, товарищ гвардии капитан-лейтенант: убей немца!
— Дурень ты! О вооруженном немце сказано, с автоматом на шее, оседлавшем танк, и, тем более, на нашей территории! А из этого немца еще, может, выйдет толк!.. Как считаешь, Отто, выйдет из тебя толк?
Подарки не умещались в кастрюльке, вываливались из рук.
Шубин огляделся. В пыли лежала пробитая немецкая каска. Он поднял ее, перевернул.
— Ну и кастрюлька же у нас с тобой!
И на серьезном личике появилась улыбка, слабое отражение всепокоряющей шубинской улыбки.
Шубин даже проводил Оно до дому, чтобы по дороге не отняли еду.
Из подвалов, щелей, дверей и окоп, как скворцы из скворечен, высовывались молчаливые немцы и смотре in на это шествие. Впереди шагал мальчик, прижимая к животу перевернутую каску, доверху наполненную продуктами, следом шел моряк.
Потом «виллис», виляя между развалин, быстро проехал через Кенигсберг к скрылся в облаке пыли…
Каким же ты будешь, бубби, когда вырастешь? Двадцать тебе сравняется, наверно, в 1959 или 1960 году. Забудешь ли ты этого русского военного моряка, который подарил тебе полную каску продуктов среди руин Кенигсберга?
Неужели забудешь?..
4
В город Пальминекен, где стояли гвардейские катера, Шубин вернулся к вечеру. Все заметили, что он не то чтобы невеселый — командиру перед боем нельзя быть веселым, — а какой-то вроде бы задумчивый. Он присел на бухту троса, закурил, загляделся на светлое, почти белое море, приплескивавшее у его ног. Привычные, домашние звуки раздавались за спиной. Боцман жужжал неподалеку, как хлопотливый шмель: жу-жу-жу, жу-жу-жу! Кого это он жучит там? А, юнгу! Потом юнга вприпрыжку пробежал мимо, напевая сигнал, который исполняют на горне перед ужином: Бери ложку, бери бак И беги на полубак! Значит, команда садится ужинать. У Шурки в детстве было мало детского. Блокада, потом пребывание в дивизионе среди взрослых наложили на него свой отпечаток. (Впрочем, Шубин с гордостью говорил о своем воспитаннике: «Возмужал, не очерствев!») Но тем трогательнее были прорывавшиеся в нем порой смешные мальчишеские порывы и выходки. Шубин подозвал юнгу, всмотрелся в его лицо, вздохнул: — Худой ты у нас какой! Вытянулся за этот год! Не надо бы тебя брать в операцию! — Почему? — Опасно. Шурка был поражен. Опасно? Но ведь на то и война, чтобы было опасно. И он не первый год воюет! Командир еще никогда не заводил таких разговоров. А вдруг к на самом деле не возьмут в операцию? Он капризно надул губы. Когда же и. покапризничать, как не перед операцией? — Ну ладно, ладно! Возьмут! Чтобы утешить юнгу, Шубин показал ему карту побережья, на которой коса Фриш-Неррунг была похожа на ножку гриба-поганки. — А мы чик по этой ножке! Перережем, и шляпка сразу отвалится! — Перережем — отвалится, — повторил юнга, с обожанием снизу вверх глядя на Шубина. И всегда что-нибудь придумает командир! Не мешкая, Шурка отправился рассказывать приятелям про «гриб-поганку», по обыкновению выдавая командирскую шутку за свою. Он не успел еще насладиться всеобщим одобрением, как боцман окликнул его и приказал ложиться спать. Как! Так рано — спать? Но то было распоряжение гвардии капитан-лейтенанта, а и таких случаях пререкаться не полагалось. Ночью предстоит трудная работа, надо получше отдохнуть перед нею. Сам Шубин остаток вечера просидел над картон Пиллау, которую удалось раздобыть в штабе. Князев с интересом прислушивался к его бормотанью. — Кладбище? — рассуждал вслух Шубин. — Что бы это могло быть за кладбище?.. Погребальная романтика, черт бы ее драл! Корабль мертвых… Стоянка на кладбище… Он долго возился с картой, что-то измеряя на ней. Наконец с удовольствием потянулся — так, что кости хрустнули! — Ну, понял? — спросил Князев. — Да есть догадка одна. Подожду пока говорить. Возьмем Пиллау — проверим! Но настроение у него определенно улучшилось. Он отправился спать на катер, в моторный отсек. Любил спать на моторе, подложив под себя капковый жилет. Хорошо! Как на печи в русской избе! Снизу, от мотора, исходит приятное тепло и легкий усыпляющий запах бензина. Авиационный бензин пахнет очень уютно! Шубин заснул мгновенно, едва лишь накрылся регланом. Бессонница — это для нервных и малокровных! Военный моряк должен уметь спать где угодно, когда угодно и даже сколько угодно — про запас! Сон был сумбурный, но приятный. Бензин, что ли, навевает такие сны? Густые заросли были вокруг, и листья, падая, кружились — совсем медленно и беззвучно. В парке не было никого. Только он и Виктория были там. Они стояли друг против друга, тихо смеясь и держась за руки. Вдруг из-за огненной куртины выступил Фаддеичев. Вытянувшись, он приложил руку к фуражке: — Разрешите доложить, товарищ гвардии капитан-лейтенант… Открыв глаза, Шубин смущенно взглянул на стоявшего над ним боцмана, словно бы тот мог подсмотреть его сон. — Приказали разбудить! Время — двадцать два тридцать! Шубин плеснул себе в лицо холодной годы, энергично вытерся полотенцем, и сонной истомы как не бывало. Только осталась смешная досада на боцмана: почему он не дал досмотреть такой хороший сон? — Князев! Подъем! Начинаем посадку десанта!ШТУРМ ПИЛЛАУ
1
Отряд Шубина шел с первым броском. На море был штиль, и это было хорошо, петому что десантники, размещенные в желобах для торпед, сидели в обнимку, чтобы занимать меньше места и не вывалиться на крутом развороте. Каждый катер поднимал до сорока человек и напоминал сейчас московский трамвай в часы пик. Лунная дорожка выводила прямо на косу. Хорошим ориентиром также было облако. Оно было багровое и висело над горизонтом на юго-западе. Штурм Пиллау с суши начался! Десантники должны были перехватить косу Фриш-Неррунг с обеих сторон. Со стороны залива двигался батальон морской пехоты, посаженный на бронекатера. Со стороны моря на гвардейских торпедных катерах двигался стрелковый полк. Катера шли как бы в двойном оцеплении. Три группы прикрытия выдвинулись на запад, север и юг, чтобы обезопасить корабли десанта от возможного нападении. Кроме того, были еще корабли охранения, малые канонерские лодки, которые неотлучно сопровождали торпедные катера. Высадка десанта — это сложный, тонкий механизм, где все должно быть выверено и слажено на диво. Одного не учтешь на воине — точности попадания снарядов и пуль противника. Приблизившись почти вплотную к косе, катер Павлова был накрыт с первого залпа. Павлов дал задний ход. Однако второй снаряд попал в моторным отсек, разворотил борт, разбил моторы. Катер загорелся. Пехотинцы стали торопливо прыгать и воду. Здесь было неглубоко. Дно наклонно поднималось к косе. На помощь к горящему катеру поспешили другие катера. Но завести буксиры было уже нельзя. Шубин и уцелевшие матросы по приказанию командира высадки разобрали автоматы и гранаты и вслед за пехотинцами покинули тонущий катер. Шурка не достал дна, погрузился с головой, но кто-то сразу же подхватил его и поволок за собой к берегу. Отфыркиваясь, он поднял мокрое лицо. С одной стороны его поддерживал Шубин, с другой — боцман. Выбравшись на берег, Шубин огляделся. Совсем мало черных бушлатов подле него. Живы боцман, радист, юнга. Павлова убило осколком второго снаряда. Но в бою надо думать только о живых! Будет время помянуть мертвых! Если будет…2
Песчаные дюны, поросшие сосняком, были вдоль и поперек изрезаны траншеями. Сгрудившись в узком лесистом коридоре, зажатые с боков заливом и морем, люди дрались с невиданным ожесточением, зачастую врукопашную. Бой на косе разбился на отдельные яростные стычки. Лес стоял, весь пронизанный лунным светом. Между деревьями вспыхивали горизонтальные факелы. Беспрерывно раздавалась быстрая трескотня, словно бы кто-то прорывался через лес напролом, ломая кусты и с^чья. От острого запаха пороховых газов першило в горле. И все время над лесом кружили па бреющем наши самолеты. Ширина косы Фриш-Неррунг не превышает нескольких десятков метров. К сожалению, не удалось соблюсти полную точность при высадке на косу обеих десантных групп. Стрелковый полк и морские пехотинцы были разобщены, очутились на расстоянии трех — четырех километров друг от друга. Пространство это было почти сплошь заполнено немцами. Взбегая на отлогий песчаный берег, Шубин оглянулся. Катера его на поверхности уже не было — лег на дно… Жалость сдавила сердце, но Шубин преодолел себя. — Что ж, выполнили задачу! — крикнул он Чачко. — Десант — на берегу! Но Чачко затряс головой, показал на уши. Видимо, был контужен — не слышал ничего. Подле моряков теснились пехотинцы: — Ого, и полундра[239] с нами! Давай, давай, полундра! Воздух звенел от пуль, будто все время обрывали над ухом тонкую, туго натянутую струну. Вот как оно получилось-то! Воюя с первого дня воины, Шубин только под конец услышал это дзеньканье, которое ранее заглушал рев его моторов. Отступавшие от Пиллау немецко-фашистские войска смешались с подкреплениями, которые подходили из Данцига. Все это сгрудилось в одном месте, примерно посредине косы. Образовалось какое-то крошево: вопящие люди, танки, увязающие в песке, скрипящие повозки, дико ржущие кони.3
Под ногами хрустело стекли. Все окна были выбиты. Витрины магазинов зияли черными провалами. Воздух превратился в одну сплошную, беспрестанно вздрагивающую струну. Из-за красно-белой башни маяка стучали пулеметы. Обходя их, Шубин кинулся в какой-то двор. Матросы и пехотинцы последовали за ним. Они очутились посреди каменного колодца. Привалившись к стене, лежал опрокинутый велосипед. Колеса его еще крутились… Весь двор был разноцветный. Его устилали письма, в конвертах и без конвертов, смятые, разорванные, затоптанные сапогами. Вероятно, в этом доме помещалось почтовое отделение. Но тут же были и жилые квартиры. Откуда-то доносился плач. Детский голос сказал просительно: — Штилль, муттерхен! Зи зинд хир![240] Шурка подполз к одному из подъездов, заглянул внутрь. Лестничная клетка! Под лестницей, накрывшись какими-то рогожами, сидело на кортиках несколько гражданских. Из кучи выглянула девочка и тотчас же спять нырнула под свои рогожи. Шурка нахмурился, осторожно прикрыл дверь. Разве это правильно: им, Шуркой, пугать маленьких детей? Юнга оглянулся. Его командир неподвижно стоял у стены, нагнув голову и глядя в одну точку. О чем он думает? Наверно, вспоминает карту Пиллау? И город-то штурмует не на «ура», а руководствуясь какой-то, одному ему понятной штурманской прокладкой. Судя по всему, прорывается не просто к гавани — к определенному месту в этой гавани! В затылок Шурке прерывисто дышали солдаты. Они постепенно скапливались во дворе, шурша письмами, переползали под стенами. На середину двора залетали шальные пули. Мокрые гимнастерки дымились. Из-за крыш уже поднялось солнце. Старший сержант, командир взвода, то и дело вскидывал глаза на Шубина, ожидая его приказаний. Нужды нет, что тот был не пехотинец, а моряк. Авторитет и обаяние волевого офицера скажутся в любых трудных условиях и объединят вокруг нею солдат. Шубин выглянул из-под арки ворот, что-то прикинул, сравнил. Потом обернулся и сделал несколько шагов от ворот внутрь двора. Он улыбался. И вдруг, будто трескучим ветром, сдуло с головы фуражку. Кувыркаясь, она отлетела в угол двора. Но Шубин продолжал стоять. Заглянув снизу, Шурка с ужасом увидел, что глаза его командира закрыты. Он стоял и качался. Потом упал. Ему не дали коснуться земли, подхватили под руки. Боцман трясущимися руками пытался сказать первую помощь. Со всех сторон протягивались бинты из индивидуальных пакетов. Несколько солдат, грохоча сапогами, кинулись по лестнице на чердак. Из окна с лязгом и звоном вылетел пулемет. Вместе с ним упал и пулеметчик. Это был немец-смертник, оставленный на чердаке для встречи десанта и прикованный цепью к пулемету. Но Шурка не смотрел на него. Он не сводил глаз со своего командира. Лужа крови медленно расползалась под ним, захватывая все больше разноцветных конвертов. К Шубину протолкался Чачко с автоматом на шее. Фланелевка его была разодрана в клочья, из-под нее виднелась тельняшка. Увидев распростертое на земле неподвижное тело, он отшатнулся, потом отчаянно закричал, будто позвал издалека: — Товарищ гвардии капитан-лейтенант! — Тише ты! — строго сказал боцман, поддерживая голову Шубина. — Отходит гвардии капитан-лейтенант. Минуту Чачко остолбенело стоял над Шубиным. Багровое, лоснящееся от лота лицо его исказила гримаса. Но он не зарыдал, не заплакал, только длинно выругался, сдернул с шеи автомат и ринулся со двора обратно в самую свалку уличного боя… Но вот появились санитары! Перекинув через плечо автомат, Шурка бежал рядом с носилками. Санитары попались бестолковые. Шарахались от каждой пулеметной очереди, встряхивали косилки. Бежавший с другой стороны Фаддеичев ругал их высоким, рыдающим голосом. При толчках голова Шубина странно безжизненно подскакивала, н юнга все время пытался уложить ее поудобнее. Только бы домести но госпиталя! Только бы живого донести!4
Шурка стоял в коридоре особняка, где разместился полевой госпиталь, и смотрел в окно на канал и свисавшие над ним ветки. В зеленоватой воде отражалось многоугольное, из красного кирпича здание крепости. За плотно прикрытой белой дверью находился гвардии капитан-лейтенант. Только что ему сделали переливание крови — перед операцией. Князев, с забинтованной головой, пришел в госпиталь. В коридоре ему удалось перехватить какого-то врача и поговорить с ним. Шурка не слышал разговора, но видел, как оттопырилась нижняя губа врача и еще больше осунулось худое, герое от пыли лицо Князева. Плохо дело! — Не приходит в сознание, большая потеря крови, — сказал Князев, подойдя к юнге. — Насчитывают шесть или семь пулевых ранений! Другой умер бы давно… Воображению Шурки представился раненный прошло: весной торпедный катер, из которого хлестала во все стороны вода. Гвардии капитан-лейтенант сумел удержать катер на плаву, спас его от потопления. Кто спасет гвардии капитан-лейтенанта? Князев ушел и увел с собой боцмана. Но юнге разрешено было остаться. Да и как можно было не разрешить ему остаться? Шурка занял позицию в коридоре у окна, напротив шубинской палаты, и стоял там, провожая робким взглядом проходивших мимо врачей. Новые партии раненых все прибывали и прибывали. Сердобольные нянечки покормили юнгу кашей. Торопливо поев, он снова встал, как часовой, у дверей. Конечно, это было против правил, но ни у кого не хватало духа прогнать его, таким скорбным было это бледное, худое, еще по-детски неоформившееся лицо. Где-то за стеной тикали часы. Они, вероятно, были большие, старинные, и бой у них был красивый, гулкий. Сейчас они старательно отмеривали минуты жизни гвардии капитан-лейтенанта, и Шурка ненавидел их за это. Шесть или семь ранений! Можно ли выжить после семи ранений? Хотя гвардии капитан-лейтенант всегда выходил из таких трудных переделок! Однажды в присутствии Шурки он сказал Павлову: «Конечно, я понимаю, что рано или поздно умру, и все-таки, знаешь, не очень верю в это!» А сейчас гвардии капитан-лейтенант лежит без сознания, воля его парализована — корабль дрейфует по течению к роковой гавани. Лишь бы он пришел в себя! Мозг и воля примут командование над обескровленным, продырявленным телом и, может быть, удержат его на плаву. О, если бы он очнулся хоть на две пли три минуты! Шурка встал бы на колени у копки и шепнул на ухо — так, чтобы никто не слышал: «Не умирайте, товарищ гвардии капитан-лейтенант! Вам нельзя умирать! Ну, скажите себе: «Шубин, живи! Шубин, живи!» И будете жить!..» Накрытого белоснежной простынем гвардии капитан-лейтенанта провезли мимо Шурки на операцию, потом через час с операции. Юнга так и не увидел его, хотя поднимался на цыпочки. Гвардии капитан-лейтенанта заслоняли врачи. Оки шли рядом с тележкой и, показалось Шурке, прерывисто дышали, как заморенные лошади после тяжелого пробега. В коридоре уже зажглись лампочки, санитарки начали разносить ужин. Будничная жизнь госпиталя шла своим чередом, а двери палаты были по-прежнему закрыты перед юнгой. Командир его никак не сдавался — не шел ко дну, но и не всплывал. За окном стемнело. Лишь в начале ночи заветные двери распахнулись и толпа люден в белых халатах повалила из палаты. До Шурки донеслось: — …был почти безнадежен. Но когда очнулся, я надеялся… От этого «был» у Шурки похолодело внутри. — Да, железный организм! Такой встречается один на десять тысяч. Кто-то возразил негромко: — А по-моему, он просто устал. Он так устал от войны… Переговариваясь, врачи прошли по коридору. Шурка, будто окаменев, продолжал стоять на своем посту у дверей. Тиканье часов наполнило уши, как бульканье воды. Часы за стеной словно бы сорвались с привязи, тикали очень громко и быстро. Из палаты вышла сестра. — А ты всё ждешь? — сказала она участливым, добрым голосом. — Нечего тебе, милый, ждать! Иди домой! Иди, деточка! Она сделала движение, собираясь погладить юнгу по голове. Но он уклонился от со жалостливой ласки. Рывком сбросив с себя больничный халат и нахлобучив бескозырку, стремглав кинулся к выходу из госпиталя. И тиканье часов, как свист бичей, неотступно гналось за ним! Он бежал по длинному коридору, потом по лестнице, наклонив голову, чтобы никто не увидел, не подсмотрел внезапно прихлынувших к глазам слез. Никогда в жизни не плакал, не умел плакат: я вот…* * *
На этом обрывается погоня Бориса Шубина за немецкой подводной лодкой, прозванной «Летучим голландцем». В последующих главах романа «Секретный фарватер» рассказано о том, как эти поиски продолжил и завершил бывший юнга, впоследствии лейтенант-пограничник Александр Ластиков.Михаил Емцев, Еремей Парнов ПАДЕНИЕ СВЕРХНОВОЙ
 Впервые в жизни Юру посетило волнующее чувство отрешенности и лихорадочной нетерпеливости, так хорошо знакомое, по его мнению, всем великим поэтам и физикам-теоретикам.
Юра быстро вскочил с кровати и, тихо ступая босыми ногами по мягкому ворсу ковра, подошел к окну.
За окном рождалось утро. Оно спускалось с далеких высот в невероятном зеленом свете, который быстро таял, уступая место пурпурным и янтарным оттенкам.
Такое утро бывает только в горах. Юра мог бы сказать еще точнее, такое утро бывает только на высоте 3250 метров над уровнем моря, на небольшой площадке хребта Западный Тайну-олу, у самой границы с Монголией.
Здесь, в забытом богом и людьми месте, как часто любит говорить Юрин сосед по комнате Анатолий Дмитриевич Кирленков, приютился маленький белый домик Нейтринной астрофизической лаборатории Академии наук СССР.
Два раза в месяц сюда прилетает вертолет. Он доставляет письма, газеты и съестные припасы В эти дни здесь бывает праздник — никто не работает. Чаще прилетать вертолет не может — уж очень далеко забралась Нейтринная от людского жилья. Но иначе нельзя, если хочешь поймать самую неуловимую представительницу субатомного мира, частицу-призрак, будь добр исключить всякие посторонние влияния. Под посторонними влияниями обитатели Тайну-олу понимают почти все проявления материальной культуры XX века: антенны радиостанций, динамо-машины, мощные магниты и дым заводов и фабрик, который окружает наши города никогда не тающим облаком.
Юра смотрит на лазоревые тени от пихт и кедров, на бриллиантовую пыль, которая курится над снегом, но видит пыль межзвездных бездн, спирали галактик, рождение и смерть миров.
В горле у него что-то стучит и рвется, а под сердцем тает льдистый и щекочущий холодок. И Юра понимает, что это пришло оно — вдохновение. Юра поэт. То есть он инженер-электрофизик, но все-таки и поэт тоже. Юра почти год работает в Нейтринной, почти год, как он расстался с Москвой, и почти год он пишет стихи.
Обитатели Тайну-Олу подозревали, что у Юры имеется толстая тетрадь в клеточку, куда он лунными ночами заносит свои вдохновенные вирши. Но они ошибались. Юра писал стихи на радиосхемах и кальках; рифмованные строчки, начертанные его рукой, попадались между интегралами и кривыми распределения энергии космических лучей…
Стихи у Юры большей частью грустные. Кирленкову они вообще нравятся. Но Юра знает, что это не то. Есть иная поэзия. Еще не высказанная никем. Но волнующая и мощная. Где-то вспыхивают сверхновые звезды, где-то гибнут солнца, сталкиваются галактики. И все они кричат.
Крик их — это потоки энергии, это возмущения полей, которые несутся в пространстве без границ и без цели. Иногда мы слышим эти крики. Но даже та ничтожная часть, что дошла до антенн радиотелескопов, — это глубокое прошлое. Ведь даже свет от дальних галактик летит к нам миллионы лет. Мы смотрим, как мерцают звезды, а их, быть может, уже давно нет. Лишь только световые кванты бегут и бегут причудливыми путями космоса.
Как обуздать время? И как все это вылить в стихи? Юра очень веселый парень. Прекрасный лыжник и шахматист, краснощекий и вечно сияющий белозубой улыбкой. Но стихи он любит чуть грустные, наполненные философскими размышлениями о вечном вопросе — смысле жизни. Кажется, этот вопрос для Юры давно решен. Он с каждым вертолетом получает письма из Москвы от тоненькой маленькой девочки.
Юра любит возиться в аккумуляторной, учит английский язык для сдачи экзамена кандидатского минимума, немного скучает по Москве и неутомимо работает над созданием любительских кинофильмов. Но как доходит до стихов, Юра становится в какую-то позу. Если любовь — то роковая и со смертельным исходом, если грусть — то сильнее мировой скорби Байрона и Леопарди. А уж вопрос о смысле бытия разобран им с такой тщательностью и так оснащен данными квантовой механики и теории относительности, что старик Фауст, наверно, сгорел бы от стыда за собственное невежество.
Но сегодня, в это дивное воскресное утро, Юра чувствует, что в нем рождается настоящая поэма. Такая, которую гениальные поэты выдают восхищенному человечеству раз в столетие.
Но вдохновение вдохновением, а режим нужно соблюдать. Стараясь не разбудить Кирленкова, Юра торопливо одевается для получасовой прогулки, берет кинокамеру и на цыпочках выходит из комнаты.
Впервые в жизни Юру посетило волнующее чувство отрешенности и лихорадочной нетерпеливости, так хорошо знакомое, по его мнению, всем великим поэтам и физикам-теоретикам.
Юра быстро вскочил с кровати и, тихо ступая босыми ногами по мягкому ворсу ковра, подошел к окну.
За окном рождалось утро. Оно спускалось с далеких высот в невероятном зеленом свете, который быстро таял, уступая место пурпурным и янтарным оттенкам.
Такое утро бывает только в горах. Юра мог бы сказать еще точнее, такое утро бывает только на высоте 3250 метров над уровнем моря, на небольшой площадке хребта Западный Тайну-олу, у самой границы с Монголией.
Здесь, в забытом богом и людьми месте, как часто любит говорить Юрин сосед по комнате Анатолий Дмитриевич Кирленков, приютился маленький белый домик Нейтринной астрофизической лаборатории Академии наук СССР.
Два раза в месяц сюда прилетает вертолет. Он доставляет письма, газеты и съестные припасы В эти дни здесь бывает праздник — никто не работает. Чаще прилетать вертолет не может — уж очень далеко забралась Нейтринная от людского жилья. Но иначе нельзя, если хочешь поймать самую неуловимую представительницу субатомного мира, частицу-призрак, будь добр исключить всякие посторонние влияния. Под посторонними влияниями обитатели Тайну-олу понимают почти все проявления материальной культуры XX века: антенны радиостанций, динамо-машины, мощные магниты и дым заводов и фабрик, который окружает наши города никогда не тающим облаком.
Юра смотрит на лазоревые тени от пихт и кедров, на бриллиантовую пыль, которая курится над снегом, но видит пыль межзвездных бездн, спирали галактик, рождение и смерть миров.
В горле у него что-то стучит и рвется, а под сердцем тает льдистый и щекочущий холодок. И Юра понимает, что это пришло оно — вдохновение. Юра поэт. То есть он инженер-электрофизик, но все-таки и поэт тоже. Юра почти год работает в Нейтринной, почти год, как он расстался с Москвой, и почти год он пишет стихи.
Обитатели Тайну-Олу подозревали, что у Юры имеется толстая тетрадь в клеточку, куда он лунными ночами заносит свои вдохновенные вирши. Но они ошибались. Юра писал стихи на радиосхемах и кальках; рифмованные строчки, начертанные его рукой, попадались между интегралами и кривыми распределения энергии космических лучей…
Стихи у Юры большей частью грустные. Кирленкову они вообще нравятся. Но Юра знает, что это не то. Есть иная поэзия. Еще не высказанная никем. Но волнующая и мощная. Где-то вспыхивают сверхновые звезды, где-то гибнут солнца, сталкиваются галактики. И все они кричат.
Крик их — это потоки энергии, это возмущения полей, которые несутся в пространстве без границ и без цели. Иногда мы слышим эти крики. Но даже та ничтожная часть, что дошла до антенн радиотелескопов, — это глубокое прошлое. Ведь даже свет от дальних галактик летит к нам миллионы лет. Мы смотрим, как мерцают звезды, а их, быть может, уже давно нет. Лишь только световые кванты бегут и бегут причудливыми путями космоса.
Как обуздать время? И как все это вылить в стихи? Юра очень веселый парень. Прекрасный лыжник и шахматист, краснощекий и вечно сияющий белозубой улыбкой. Но стихи он любит чуть грустные, наполненные философскими размышлениями о вечном вопросе — смысле жизни. Кажется, этот вопрос для Юры давно решен. Он с каждым вертолетом получает письма из Москвы от тоненькой маленькой девочки.
Юра любит возиться в аккумуляторной, учит английский язык для сдачи экзамена кандидатского минимума, немного скучает по Москве и неутомимо работает над созданием любительских кинофильмов. Но как доходит до стихов, Юра становится в какую-то позу. Если любовь — то роковая и со смертельным исходом, если грусть — то сильнее мировой скорби Байрона и Леопарди. А уж вопрос о смысле бытия разобран им с такой тщательностью и так оснащен данными квантовой механики и теории относительности, что старик Фауст, наверно, сгорел бы от стыда за собственное невежество.
Но сегодня, в это дивное воскресное утро, Юра чувствует, что в нем рождается настоящая поэма. Такая, которую гениальные поэты выдают восхищенному человечеству раз в столетие.
Но вдохновение вдохновением, а режим нужно соблюдать. Стараясь не разбудить Кирленкова, Юра торопливо одевается для получасовой прогулки, берет кинокамеру и на цыпочках выходит из комнаты.
* * *
Все кругом умыто солнцем и свежестью. Юра блаженно жмурится и с наслаждением втягивает ароматный воздух чуть вздрагивающими ноздрями. Он неторопливо направляется к аккумуляторной. Оттуда открывается изумительный вид на ущелье. Юра давно собирается, говоря словами того же Кирленкова, угробить несколько метров прекрасной цветной кинопленки на то, чтобы заснять, как клубится жемчужный туман, пронизанный золотыми стрелами восхода. Последние слова принадлежат уже самому Юре. Но аккумуляторная погружена в синеватый сумрак. «Слишком рано еще», думает Юра, неторопливо протирая светофильтры кусочком фланели. Юра поднял голову и удивленно раскрыл глаза. Не мигая смотрел он прямо перед собой, ошарашенный и оглушенный внезапной переменой. Стены аккумуляторной как будто растаяли, они стали полупрозрачными и какими-то зыбкими, точно струи нагретого воздуха. Все вокруг почему-то стало зеленым. А где-то далеко-далеко светилось неяркое сиренево-голубоватое пятнышко, похожее на огненный спиртовой язычок. Постепенно пятнышко стало ярче, четче обозначились его очертания. Оно уже походило на сиреневую луну, сияющую где-то в толще огромного аквариума Сам не зная, что он делает, Юра включил механизм своего «Кварца». Но жужжания кинокамеры он не слышал. Слезящимися от напряжения глазами Юра видел, как в центре луны появилась рваная черная дырка, которая потом постепенно сузилась до маленькой круглой точки. А дальше пошло точно под микроскопом, когда наблюдаешь рост кристаллов. Дырочка затянулась тоненькой ледяной пластинкой, потом еще одной, еще. Со всех сторон появлялись пластинки-кристаллы, они выбегали откуда-то сбоку, мчались друг другу навстречу, наслаивались и утолщались. Вскоре луна почти совсем исчезла. Она лишь еле угадывалась по сиреневому оттенку, пробивавшемуся сквозь толщу кристаллов. И в этот миг Юра увидел четкий и ясный темный иллюминатор и запрокинутую голову человека. Долю секунды видел Юра это лицо, но запомнил его навечно. Огромные немигающие глаза, высокий шишковатый лоб и черные впадины щек. Лицо становилось все яснее и четче, желтый огонь иллюминатора стал оранжевым, потом малиновым, красным, пока совсем не исчез. И вновь перед Юрой была аккумуляторная, только ярко-вишневая, как раскаленная металлическая болванка. Маленький домик, казалось, дрожал, и даже контуры отдельных хребтов становились неверными и расплывчатыми от этой раскаленной дрожи, которая постепенно переросла в звук: пронзительный и свистящий гул, который раскачал горы и упругой волной воздуха толкнул Юру в грудь и покатил по маленькой площадке станции прямо к обрыву.* * *
Кирленков не спал. Сквозь вздрагивающие, притворно сомкнутые веки он видел, как Юра в одних трусах расхаживал по комнате, как подошел к окну и долго смотрел на дальние хребты. Когда дверь за Юрой закрылась, Кирленков быстро сунул руку под подушку, долго шарил там, но ничего не нашел. Тогда он осторожно поднялся с постели и тихо, на цыпочках, вобрав голову в плечи, направился к Юриной тумбочке. Быстро выдвинул ящик, ловко выхватил из блестящей пачки сигарету с фильтром и классическим прыжком рухнул обратно в постель. Кирленков часто курил натощак, испытывая одновременно удовольствие и отвращение. Дым расслаивался длинными волокнистыми пленками, тихо оседал и уползал под кровать. Мысли приходили невеселые. Работа не клеилась. С того злополучного дня, когда Кирленков провалился на диссертации, все шло как-то не так. Конечно, не очень-то приятно провалиться, но дело было не только в этом. Кирленков чувствовал, что его личный провал сильно подорвал интерес к теме, которая была отнюдь не личной собственностью Кирленкова, а принадлежала науке. Теперь только очень смелый человек решился бы выступить соискателем по этой теме или же «большой авторитет», которому нечего терять. Это было скверно. А как хорошо все шло! Кирленков с удовольствием, даже со смаком изящно и четко математизировал возможность экспериментальной проверки закона временной четности. Если задуманный им тонкий эксперимент даст хорошо сходимые данные, это будет победа. Точнее — первый робкий шаг к победе над временем. И во всем виноват шеф! Когда Кирленков принес ему только что отпечатанный автореферат, шеф торжественно достал авторучку с золотым пером и, внутренне усмехаясь над удивленным лицом, которое, вероятно, было тогда у Кирленкова, зачеркнул слово «кандидата» и уверенным академическим почерком написал: «доктора». Кирленков не успел опомниться, как все вокруг него завертелось чертовым колесом, которое быстро втащило его в свой центр — на кафедру, где он должен был вместо кандидатской защищать докторскую диссертацию. И он провалился. Двенадцать — за, четырнадцать — против. Если бы шеф не зачеркнул тогда слово «кандидата», все сошло бы прекрасно. Его работа безусловно заслуживала этой ученой степени. Более того: она лишь чуть-чуть не дотянула до докторской. Но этого «чуть-чуть» оказалось вполне достаточно — четырнадцать черных шаров. Но, думая так, Кирленков знал, что хочет обмануть самого себя. И не так уж виноват шеф, и кандидатская, даже докторская отнюдь не были самоцелью. Просто он не сумел достаточно убедительно аргументировать необходимость и возможность будущего эксперимента. Взлетел в облака и, забыв про землю, был низринут в ущелье. Вот и все. И никто, кроме него, здесь не виноват. С ним поступили не только справедливо, но и, пожалуй, даже по-товарищески. Сурово, но по-товарищески. Он просил докторскую, но не получил даже кандидатской, но он предлагал эксперимент, и с ним согласились: «Делай. Твой эксперимент — это дальний поиск. Может быть, тысячи лет пройдут, пока люди смогут извлечь из него пользу. Но без дальнего поиска не может развиваться наука. Делай. А там посмотрим. Если твои предположения оправдаются, что ж, мы сделаем тебя доктором. Важна наука, а не ученая степень. А если все окажется лишь бесплодным манипулированием тензорами и интегралами, тебе придется серьезно задуматься над своим местом в науке. Делай!» — приблизительно так говорили с Кирленковым тогда четырнадцать черных шаров. И он понял. Он был благодарен за разрешенный эксперимент. Но вот уже два года, как Кирленков ничего не может добиться. «Или точность эксперимента на порядок ниже искомого эффекта, — думает он, — или… О гадость!» — Кирленков кашляет, так как сигарета догорела и он затягивается едким дымом горящего фильтра. В эту минуту начался ураган.* * *
Ураган разбудил немногочисленных обитателей Нейтринной слишком рано. Пронзительный, свистящий гул заставил их вскочить с постели и наспех одеться. Не прошло и двух минут, как все собрались в маленькой круглой гостиной. Зябко поеживаясь и растирая голые руки, растерянно стоял Оганесян, одетый в лыжные шаровары и белую майку. Меланхоличный и толстый повар Котенко испуганно таращил голубые глазки, обычно хитрые и веселые. — Что же это, в самом деле? — недовольно пробурчал Кирленков; он оглядел каждого, будто искал виновных. — Надо выйти наружу, — очнулся от внезапного оцепенения Оганесян и направился к выходу. Потом, вспомнив о своем туалете, торопливо вернулся к себе в комнату. Первыми покинули домик Кирленков и Волобоев, тридцатилетний красавец доктор. Каково же было их удивление, даже недоумение, когда они не обнаружили на площадке никаких разрушений. Ведь после того как раздался этот страшный звук и что-то здорово тряхнуло домик, им рисовалась совершенно иная картина. Но все оставалось на своих местах. Два кедра, пихты и лиственница, железная дверь аккумуляторной, ажурные контуры небольшого радиотелескопа, антенны гравитационных ловушек и проводка, ведущая к тензорным датчикам, — все было на месте. — Может быть, обвал? А? — спросил Волобоев, надевая дымчатые очки. Кирленков не ответил, но сразу же прямо по снегу, чтобы сократить расстояние, пошел к обрыву. Волобоев все же решил идти по расчищенной еще вчера дорожке. Не успел он сделать и нескольких шагов, как удивленный вскрик Кирленкова заставил его изменить первоначальное намерение пойти по дорожке. Стараясь попадать ногами точно в оставленные на снегу следы, Волобоев торопливо зашагал к Кирленкову. — В чем дело, Дима? Кирленков вместо ответа протянул ему облепленный снегом «Кварц». — Юркина камера! Как она здесь очутилась? Кирленков опять ничего не ответил и, видимо что-то увидев, побежал к обрыву. Волобоев, тихо ругнувшись, поспешил за ним. Юра лежал у самого обрыва, обхватив руками замшелый кедровый ствол. Сцепленные пальцы обеих рук посинели от напряжения, лицо было облеплено снегом, на левой щеке снег был красный. Волобоев осторожно счистил его ладонью и увидел широкую лиловую полосу поцарапанной и местами содранной кожи. С большим трудом они разжали Юрины пальцы и оттащили его подальше от обрыва. Волобоев, опустившись на корточки, начал прощупывать пульс. Очевидно, ничего не прощупав, он задрал свитер с пингвинами и с медведями и приложил ухо к груди. С минуту напряженно вслушивался, а потом молча поднялся. Кирленков ни о чем не спрашивал и смотрел куда-то в сторону. — Если нет никаких повреждений, то все в порядке, просто нервный шок, сказал Волобоев и помахал рукой показавшимся на крыльце домика Оганесяну и Костенко. — Нужно его отнести в дом.* * *
Юра в сознание не приходил, хотя Волобоев после тщательного осмотра не нашел в его организме никаких повреждений. — Просто шок перешел в сон. Это бывает. Не нужно приводить его в чувство. Выспится — сам встанет. И не торчите вы все тут! Занимайтесь своими делами. Лучше свет включите, а то ничего не видно. Оганесян щелкнул выключателем, но лампочка не загорелась. — Это еще что? — Оганесян еще раз повернул выключатель — и опять ничего. Кто-то безуспешно попробовал зажечь свет в коридоре. Минут через пять выяснилось, что во всем доме не горит ни одна лампочка. — Проводка, очевидно, тут ни при чем. Кабель уложен глубоко под снегом, рассуждал Оганесян, — значит, нужно проверить в аккумуляторной. Сходите туда, пожалуйста, Анатолий Дмитриевич. Кирленков, порывшись у себя в тумбочке, достал оттуда китайский карманный фонарь и, проверив его, пристегнул к поясу. — Я с вами, Анатолий Дмитриевич, — увязался за ним Костенко.* * *
Световой эллипс, метнувшись по снегу, взобрался на дверь и остановился, превратившись в почти правильный круг. Дверь в аккумуляторную была заперта. И это было в порядке вещей, так как Юра отличался аккуратностью. Порывшись в кармане, Кирленков достал ключ и вставил его в замочную скважину. Хорошо смазанная дверь открылась почти беззвучно, и они вошли в аккумуляторную. С первого же шага Кирленков обо что-то споткнулся и направил луч себе под ноги. Но то, что он увидел, заставило его вскрикнуть и опуститься на корточки. — Что? Что там, Анатолий Дмитриевич? Костенко мог бы не спрашивать. В резком фонарном свете был ясно виден человек, лежавший на спине и широко раскинувший руки. Огромный шишковатый лоб с залысинами, черные пополам с сединой вьющиеся волосы и темные впадины впалых щек. — Кто это? Зачем он тут? — испуганно шептал добродушный повар, для пущей уверенности старавшийся прикоснуться к Кирленкову. Кирленков ничего не ответил и точно так же, как недавно Волобоев, начал щупать пульс. Неизвестный был одет для горных условий, мягко говоря, легкомысленно. Белые парусиновые брюки, легкая рубашка-зефир и сандалии на босу ногу — вот и все, больше ничего на нем не было. Уловив слабые биения сердца, Кирленков поднялся: — Нужно перенести его в дом. Акимыч, сбегай-ка за своим тулупом, а то на улице холодновато. Нерешительно пятясь, Костенко вышел из аккумуляторной. Кирленков остался один с лежащим на полу незнакомцем. Закурив сигарету, Анатолий Дмитриевич попытался привести мысли в порядок. Однако это было нелегко. В самом деле, как мог проникнуть незнакомец в совершенно изолированное помещение? Не говоря уж о том, как он мог вообще оказаться здесь, па площадке Тайну-олу? Да еще в таком виде. Даже если допустить, что его принес ураган, то и тогда оставалось непонятным его пребывание в запертой аккумуляторной. «Впрочем, ураган — это ерунда, — подумал Кирленков. — Не может же он утащить человека за тысячу километров! Но тогда откуда этот человек все-таки взялся? Не иначе, как из четвертого измерения. Только этим в некоторых детективных романах объясняется убийство в запертой комнате. Но человек этот жив и если придет в сознание, то сам расскажет». Эта мысль успокоила Кирленкова, и он, согласно всем рекомендациям детективного жанра, решил обследовать «место преступления». Анатолий Дмитриевич совершенно забыл, что отправился в аккумуляторную затем, чтобы выяснить, почему в доме нет света. «Все-таки он появился не как бесплотный дух», — подумал Кирленков, обнаружив на лабораторном столе капельки застывшего олова. Кроме расплавленных контактов борорениевых дисков, Кирленков обнаружил еще и другие следы вторжения незнакомца. Сильнее всего пострадали приборы регистрации космических лучей и стрелочные индикаторы полей. Все они молчаливо свидетельствовали окакой-то силе, которая властно заставила стрелки показать невиданные для этих приборов интенсивности. Стрелки были погнуты, возвращающие спирали смяты. «Не будь ограничителей, — покусывая заусеницы на пальцах, думал Кирленков, — эти стрелки показали бы какой-то максимум и сразу же вернулись бы к нулю». И ему показалось, что даже воздух в аккумуляторной особый, ионизированный и наэлектризованный. Все говорило о чем-то мощном и неведомом, что ворвалось сюда ниоткуда, выросло до абсурдных, не поддающихся осмыслению размеров и, точно надломившись, иссякнув в себе самом, бессильно вернулось к прежнему положению. «Но что и зачем? — мучительно думал Кирленков. — Неужели только для того, чтобы оставить здесь этого по-летнему одетого пожилого и старомодного человека?» Он ничего не понимал, у него не было ни решения, ни гипотезы, но еще не увиденные им чисто внешние признаки властно трогали струны его души, вернее, интуиции, той удивительной интуиции физика-теоретика, пусть неудачника, сорвавшегося на слишком оторванной от всего реального диссертации, но все же чуткой и смелой. Интуиция уже знала все, но как еще был далек путь к осмысленному пониманию и решению! Этот путь был не только далек, но и рискован, ибо как часто мы не слушаем голоса интуиции, как часто глушим его, отмахиваемся от него! Иначе и нельзя: это защитная реакция разума против спекулятивного ясновидения и пустого прожектерства. Как много нужно знать, чтобы позволить себе всегда следовать голосу интуиции! Это доступно только великим людям, великим мыслителям и труженикам.* * *
На другое утро все собрались в круглой гостиной. Ее окна, сделанные в виде фонаря, смотрели на запад. Сквозь них в помещение рвалась синеватая солнечная дымка, за которой едва угадывались абрисы далеких склонов. Казалось, что стекла матовые, а за ними ярко, но ровно горят лампы дневного света. Все сидели и молчали. Кто неторопливо покуривал, кто задумчиво водил пальцем по прихотливым узорам древесины на полированном столе, но никто не собирался начинать. Тогда, по праву и обязанности начальника, решил заговорить Вартан Цолакович Оганесян. — Ну, так что же мы, мальчики, с вами скажем? — Оганесян не так легко подыскивал нужные слова. — Через пять дней прилетит вертолет, и, честное слово, мне хотелось бы, чтобы мы с вами до тех пор во всем разобрались. А вам как? Никто не ответил. Оганесян смущенно и просительно заглядывал в лица друзей. Он был в неприятном положении. Но никто не приходил ему на помощь. Да и кому хочется выставить себя дураком? Вот если бы кто высказал хоть какую-нибудь догадку, тогда бы все заговорили без приглашения. Точно тигры на кусок мяса, накинулись бы на эту робкую и беззащитную идейку, растащив ее на волокна. Опровергать всегда легче, чем утверждать. Оганесян еще раз оглядел всех. Глаза его остановились на Володе Карпове. — Владимир Андреевич, мы бы хотели знать ваше мнение. — И, не дожидаясь возражений Карпова, Оганесян подкрепил свою атаку. — Вы наш единственный специалист по нейтринным поглотителям, и нам хотелось бы услышать, что скажете именно вы. Володя мог бы отговориться; в конце концов, при чем тут нейтринные поглотители? Так уж повелось: все вины всегда валили именно на нейтринные поглотители. Они были самыми новыми и самыми сложными приборами па Тайну-олу. Это огромные цистерны, наполненные четыреххлористым углеродом, снабженные автоматическим устройством для корреляции и прекрасным фильтром инверсии Арансона — Беридзе. Володя тихо встал и вышел из укромного уголка, образованного столиком с приемником и кадкой с китайской розой. Он зачем-то порылся в карманах. Достав в несколько раз сложенную бумажку, развернул, потом аккуратно сложил и спрятал в карман. — Дело в том, товарищи, что я сегодня проявил все пленки и — никакого следа взрыва сверхновой. — Близоруко щурясь, Володя развел руками. — При чем тут сверхновая? — тихо произнес кто-то. Все вопросительно смотрели на Володю. Все так же смущаясь и делая руками десятки ненужных движений, Володя продолжал: — Видите ли, поглотители зарегистрировали невиданный по плотности поток нейтрино. Обычно что бывает? Нейтрино поглощается ядром хлора — тридцать семь, в результате образуется аргон — тридцать семь и позитрон. Так? Все с некоторым недоумением слушали. Не дождавшись ответа, Володя сам сказал: — Так. — И продолжал: — У нас же вышла какая-то петрушка. Всюду следы аннигиляции электронно-позитронных пар. Можно подумать, что сначала вспыхнула сверхновая звезда, которая быстро претерпела инверсию и стала вместо нейтрино излучать мощный поток антинейтрино. Что это было, я не знаю. Вот… собственно, все, в общих чертах… И опять Кирленков испытал прилив какой-то очень смутной догадки. «Действительно, — думал он, — и Володины поглотители говорят о чем-то родившемся неизвестно откуда, быстро достигнувшем максимума и изжившем самое себя». — Что же это могло быть? — неожиданно для себя вслух произнес Кирленков. — Вы о чем это, Анатолий Дмитриевич? — повернулся к нему Оганесян. И вдруг Кирленков все понял. Вернее, почти все. И, точно школьник, учивший дома стихотворение, а в классе позабывший его вторую половину и все-таки смело декламирующий первые строки в надежде припомнить остальное, Анатолий Дмитриевич начал говорить. Сначала он видел лишь четко напечатанные строки своей злополучной диссертации. Остальное являло собой первобытный хаос. Но, чем дальше он разворачивал свою неожиданную догадку, тем яснее видел, как плотные массы хаотических мыслей обретают правильную кристаллическую структуру. — Перезарядка частиц и прорыв через вакуум возможны лишь при условии нарушения четкости, — говорил Кирленков, — нужен переход к системе с обратным течением времени. Не от прошлого к настоящему, а наоборот — от настоящего к прошлому. Именно так ведут себя нейтрино. Вот смотрите! Кирленков спокойно подошел к стене, нажал кнопку, и черная карта звездного неба с тихим жужжанием стала раздвигаться в обе стороны. Меридианальная щель становилась все шире, наконец появилась большая линолеумная доска. Кирленков взял мел и начал писать. Когда он закончил свои выкладки и обернулся, то оказалось, что все давно уже стоят за его спиной. Безусловно, то, что написал на доске Кирленков, было понятно обитателям Нейтринной, за исключением, пожалуй, доктора и повара. Но все-таки идея Кирленкова еще не дошла ни до кого. Нужен был конкретный логический мост от уравнений к сути дела. И вовсе не для того, чтобы как-то упростить свою мысль, вроде как бы популяризировать ее, просто она должна была быть высказана иным языком. Потому что физики труднее, чем кто-либо другой, находят связь между абстракциями, с которыми им приходится иметь дело, и действительными явлениями. Просто они меньше других верят в то, что, покинув лабораторию, могут встретиться с объектом своей работы дома. Особенно непостижимым это казалось здесь, в Нейтринной, где слова «лаборатория» и «дом» были однозначны. Первым очнулся Оганесян: — Нет, нет… Что вы, это совершенно невозможно! Вы меня простите, Анатолий Дмитриевич, но вы колдун какой-то, гипнотизер. Заворожили нас, увлекли, так что и возразить пока нечем… Мысли, знаете, рассыпаются как-то. Уж очень ошеломительно. — Когда Гейзенберг предложил свою единую теорию поля, — Володя Карпов, наверно, впервые в жизни говорил строго и спокойно, не болтая расхлябанно руками, — то Нильс Бор сразу же сказал, что для того, чтобы быть истиной, эта теория недостаточно сумасшедшая. У Кирленкова элемент сумасшествия налицо. Никто так и не понял, поддерживает ли он Кирленкова или опровергает. Оганесян что-то неуверенно промычал, покачал головой, потом, склонив ее набок и прищурив добрый карий глаз, промычал: — А знаете ли… Так оно и получается, в сущности… — В этот момент он наверняка сопоставлял известные всем данные с вычислениями на доске. Но, как только от математических абстракций он мысленно перенесся к незнакомцу в парусиновых брюках, то сейчас же вскипел: — Ерунда! Совершеннейшая ерунда! Но что же тогда, я вас спрашиваю! А? Кирленков мучительно искал недостающее звено. Он видел, что его математика не убедила товарищей. Они все поняли, согласились с ним, и, если бы на его кровати не лежал сейчас этот человек, все было бы ясно. Теперь же никто не решался перебросить мост от решенной научной загадки к необъяснимому появлению самого обычного человека. Слишком уж такое стечение обстоятельств было необычно. А может быть, здесь просто глупое совпадение? Нет, не совпадение. И, сам не замечая того, Кирленков заговорил вслух. Тихо, медленно и последовательно, точно строя хрупкий домик, он соединял звено за звеном. Увлекшись, он перестал мыслить математическими абстракциями и формулировал свои мысли чисто философски: — А где, собственно, находятся предполагаемые антимиры? Ведь получается весьма парадоксальная ситуация. Мы говорим о симметрии мира, о том, что каждой частице соответствует античастица. Но на самом-то деле вокруг нас есть только несимметричная природа. Чтобы дать хоть какой-то ответ, мы предполагаем, что антиматерия существует не в нашем мире, а в глубинах Вселенной, в каких-то далеких галактиках. Это тем легче допустить, чем труднее проверить А нашему земному наблюдателю почти невозможно обнаружить антимир. Действительно, пусть мы видим какое-то небесное тело и хотим узнать, из чего оно состоит: из атомов или антиатомов. Увы, световые волны, испускаемые телом, этого нам не скажут. И вещество и антивещество излучают один и тот же свет. — Даже я об этом знаю, — с нарочитым вздохом произнес доктор. Кирленков опомнился: — Простите, я, кажется, увлекся. Но мне бы хотелось изложить свою мысль до конца. — Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, — кивнул головой Оганесян, который уже понял мысль Кирленкова и мог спокойно следить за ее развитием. — Гениальный Дирак открыл антимир еще в тридцатых годах. Все рассуждения об антимирах и антивеществе, все дискуссии и надежды, связанные с фотонными ракетами, основаны в конечном итоге на теории Дирака. Но если мы попытаемся докопаться до истоков его теории, то увидим, что дираковское исходное положение — это природа вакуума. Дирак не считает вакуум пустотой. В этом все дело. Дираковский вакуум — это море, до отказа набитое элементарными частицами. Но частицы эти тоже необычны. Они никак не воспринимаются даже самыми совершенными приборами. Но стоит сообщить им огромный запас энергии, и мы можем выбить их из вакуума, создать материю из ничего. И здесь нет никакой идеалистической ловушки. Просто частицы в море Дирака обладают отрицательной энергией. Меньшей, чем нуль! Отрицательная энергия — это значит и отрицательная масса. Мяч из таких отрицательных частиц от толчка вперед полетит назад. Все те частицы, которые мы открыли, в сущности, предугаданы Дираком. И антипротон и позитрон — это всего лишь дырки. Дырки в пустоте. Мощным ударом энергии мы их выбили из вакуума и получили античастицы. Вакуум это туннель из мира в антимир. Из мира плюс-энергия в мир минус-энергия. Этот минус-мир движется, в нем текут процессы, совершаются физические взаимодействия и химические реакции. И если, мы знаем это из астрономии, наша Вселенная расширяется, то та, лежащая за вакуумом, минус-Вселенная сжимается. Иначе нельзя. В этом блестяще проявляется закон диалектики, закон единства и борьбы противоположностей. Этот минус-мир должен жить на встречном времени. Для них, я имею в виду обитателей бесконечной Вселенной из антивещества, время идет обратно нашему. Итак, нашей Вселенной всюду — рядом с нами, в нас самих, — возможно, сопутствует другая, невидимая Вселенная, живущая на встречном времени. В ней свои, не воспринимаемые нами объекты, но такие же материальные и реальные, как наши. И, поскольку она подчинена всем известным нам законам природы, мы когда-нибудь сумеем обнаружить ее экспериментально. Человек, которого мы нашли в аккумуляторной, оттуда, из этой Вселенной, живущей на встречном времени. Другого объяснения того, как человек мог, не открывая двери, оказаться внутри запертого помещения, я не знаю. Моя мысль подтверждается и другими данными. Это показания приборов в аккумуляторной, я о них уже говорил. О том, что нейтринные поглотители зарегистрировали переход антипространства через нуль, свидетельствуют данные, о которых рассказал нам Карпов. Кирленков сел. Он ожидал бури, но все молчали. Ошарашенные и убежденные, протестующие и покоренные его логикой и полетом его мысли. — Как жаль, что никого из нас не было на улице в тот момент, — огорченно и тихо сказал Володя Карпов. — Как — никого? — разом вскричали Оганесян и Волобоев. — А Юрочка?* * *
Юра протяжно зевнул, потянулся и открыл глаза. Тело ныло, в суставах пряталась боль. Было такое ощущение, точно просыпаешься после первой в этом году лыжной прогулки. Юра взглянул на часы. Они показывали без четверти двенадцать. «Неужели проспал?» — испугался он и огорченно почесал щеку. Пальцы его наткнулись на марлевую наклейку, и Юра вспомнил свое вчерашнее приключение. Он сел и уже было собрался откинуть одеяло, как взгляд его случайно остановился на кровати Кирленкова. Там лежал совершенно незнакомый человек с небритым и усталым лицом. Это лицо показалось Юре таким знакомым, что он тихо вскрикнул. Но человек не проснулся. Юра откинулся на подушку, мучительно стараясь вспомнить, где он видел этот крутой лоб и впалые щеки. Казалось, что стоит еще чуть-чуть напрячься, как вспомнит, но в самый последний момент, когда, казалось, уже наступало озарение, мысли расползались, вялые и негибкие. И опять нужно было возвращаться, что-то припоминать, что-то отбрасывать как несущественное. От этой мучительной и напряженной работы Юру стало мутить. К голове прихлынул сухой жар, и Юра был куда-то опрокинут и унесен. Ему казалось, что он тонет в каком-то багровом болоте. Сколько он ни бился, никак не удавалось выбраться из засасывающей трясины. Каждое движение только ухудшало его положение. Вот уже кровавая болотная вода подступила к самому горлу. Юра хочет схватиться за что-то рукой и не может — ее зажало в железных тисках. — Опять бредит, — тихо сказал доктор, опуская Юрину руку. — А как второй? — спросил Кирленков, кивнув на свою кровать. — По-прежнему в беспамятстве. — Как же мы кормить-то их будем? — огорченно развел руками Костенко и осторожно накрыл салфеткой две чашки бульона с гренками и стаканы с густым малиновым киселем. Один за другим все тихо вышли из комнаты. Медленно закрывая дверь, Волобоев в коридоре обратился к Кирленкову: — Послушай, Толя, я не собираюсь с тобой спорить. Может быть, ты и прав. Но ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ну, пусть твой этот минус-мир абсолютно зеркален нашему. Пусть там все так же. Даже люди точно такие же. Пусть они нашли возможность пробиться в наш мир и перестроить, или, как вы, физики, говорите, перезарядить антиатомы на атомы, чтобы не взорваться здесь, у нас. Ладно, я верю этому так, на слово верю. Ты объясни мне другое. Почему у незнакомца рубашка с красной меткой: Л. Ш. и ярлычок Минской шелкоткацкой фабрики? Это раз. Обрати внимание на его брюки. Тридцать четыре сантиметра! Теперь таких никто не носит, даже ярые борцы со стилягами. Да и сандалии какие когда-то носил мой папа. Почему человек из антимира носит минскую рубашку и вообще одет так, как одевались дачники лет двадцать назад? А вообще я целиком за тебя. Тем более, что и в антимире, судя по его посланцу, тоже страдают гипертонией. И, насмешливо поклонившись, щеголеватый доктор молодцевато зашагал в столовую, куда только что перед этим отправился повар. Кирленков, задумчиво потупившись, тоже пошел в столовую. Уж кто-кто, а он раньше всех учуял соблазнительный запах мозгов-фри.* * *
После обеда спор возобновился. Попыхивая трубкой, Оганесян, которому хотелось подумать обо всем неторопливо и обстоятельно, попытался примирить бушующие страсти. — Помните, — сказал он, — у Чапека есть прекрасная повесть «Метеор». На больничной койке лежит без сознания откуда-то свалившийся летчик. Он обгорел, и у него нет документов. Никто о нем ничего не знает. И каждый конструирует ею историю по-своему. Эта повесть — о различных путях познания. Религиозная сестра воссоздает историю летчика из ночных сновидений, доктор — из чисто внешних, физиологических и терапевтических признаков, ясновидящий… ну, само собой понятно. Но наиболее полную картину дает писатель, у которого чисто внешние признаки прошли сквозь призму искусства. Вот, мне кажется, у нас с вами подобная ситуация. Анатолий Дмитриевич порадовал нас сегодня утром блестящей гипотезой. Я бы назвал ее рассказом доктора плюс чуть-чуть от писателя и еще меньше — от ясновидящего. Научная часть гипотезы Анатолия Дмитриевича хоть и спорна, но блестяща. Этого у нее не отнять. Но вот выводы… Здесь остается только руками развести. И если чапековский ясновидящий что-то такое все же сумел увидеть, то здесь… Впрочем, не буду повторяться и умолчу о шитых белыми нитками местах гипотезы Анатолия Дмитриевича. О них уже говорилось не раз. Чем, собственно, я хочу закончить свою мысль? Я с нетерпением жду выздоровления Юрочки. Мне очень хотелось бы знать его мнение. Без религиозной нянечки мы обойдемся уж как-нибудь, а рассказ писателя нам просто необходим. А Юрочка у нас не просто писатель — он поэт! Все рассмеялись. И Кирленков тоже. — Всецело с вами согласен, Вартан Цолакович, — многозначительно подняв указательный палец, сказал Володя Карпов, — только одно небольшое добавление. Дело в том, что рассказ писателя был заключительным аккордом, когда весь фактический материал уже оказался собранным. У нас же есть еще один неиспользованный резерв. Я сегодня проявил пленку, которая была в Юрочкином киноаппарате. Завтра все смогут увидеть заснятый им фрагмент. Думаю, что он будет интересен. И, хотя этот материал добыт «писателем», давайте будем его считать приобщенным к научной, фактической стороне вопроса. Так будет лучше… Больше похоже… Ну, в общем, мне так кажется… В столовой раздались дружные аплодисменты. — Если так, то и я выложу все свои карты на стол, — сказал Кирленков. Только то, что я вам сейчас скажу, считайте лишь одной из возможных гипотез. Дело касается инициалов Л.Ш. на рубашке минской фабрики. В столовой стояла напряженная тишина. Кирленков продолжал: — До войны в Минске жил крупный физик, профессор Лев Иосифович Шапиро. Он занимался так называемым «творящим полем» — осцилляторами вакуума. Он пропал без вести. Считают, что его убили немцы.* * *
Когда потух свет и на экране показались блестящие змеи и молнии поцарапанной ленты, все затаили дыхание. Но ничего нового по сравнению с тем, что видел Юра при съемке, фильм не дал. Это сказал сам Юра, который, несмотря на решительные протесты Волобоева, захотел во что бы то ни стало сам присутствовать на демонстрации фильма и давать пояснения. Коротенький обрезок ленты прокрутили еще раз и зажгли свет. Единственным дополнением к тайне Незнакомца на сегодняшний день было лишь то, что все, в том числе и сам Юра, узнали, что лицо в огненном иллюминаторе принадлежит именно тому человеку, который, все еще без сознания, лежал на постели Кирленкова. Вот и все. — Послушай, Толя, — обратился к Кирленкову Юра, — растолкуй ты мне подробней о встречном времени. Что-то я здесь недопонимаю. К Юриной просьбе присоединились все. Кирленков задумался и, немного помолчав, стал рассказывать. — Вы помните последний кадр Юриного фильма. Вероятно, в тот момент, когда он снимался, наш Юрочка уже был сбит с ног, поэтому нацеленная в небо кинокамера запечатлела весьма тривиальный эпизод: падение кедровой шишки. Как она падала, вы видели. Теперь мысленно представьте себе, что пленка прокручивается в обратном направлении. Что будет тогда? Вы увидите, как притягиваемая землей шишка взлетит в небо. То есть поведет себя точно так же, как тело отрицательной энергии. По сути дела, поменяв направление движения ленты, мы изменили направление течения времени. Любое тело, взятое из нашей жизни, хотя бы этот ключ от аккумуляторной, в мире отрицательной энергии полетит вверх, как и наша воображаемая шишка. Понятно? Кто сказал «да», а кто просто кивнул головой, лишь Оганесян, встав с места, громко предложил: — А знаете что? Давайте действительно крутить пленку в обратном направлении.* * *
Опять на экране прыгали золотые змейки. Потом показалось небо, мохнатая лапа кедра. Кедровая шишка действительно выскочила из снега и, вознесшись в небеса, приросла к ветке. Но это уже никого не интересовало. Ничего необычного здесь не было: пленка прокручивалась в обратную сторону. Все с любопытством ждали, что же будет дальше. На голубом фоне неба виднелись нерезкие и туманные силуэты дальних кряжей. Все было как-то неестественно наклонено к линии горизонта. Потом кедр качнулся, куда-то переместился и все увидели раскаленную металлическую глыбу домик аккумуляторной. Вишневый накал сменился пурпурным, потом оранжевым. Дом начал едва заметно вибрировать, точно хотел скорее излучиться в свет. Частота колебаний постепенно увеличилась, и все с удивлением увидели, что домик аккумуляторной начал таять, как тает брошенный в воду оранжевый кристалл хромовых квасцов. Наконец, когда контуры аккумуляторной едва стали угадываться, зажглось пятно непередаваемого красного оттенка. Это был какой-то иллюминатор. Цвет его постепенно менялся, точно этот иллюминатор выплывал из инфракрасной части спектра в зону видимого света. И, когда иллюминатор зажегся чуть желтоватым, соломенного оттенка светом, в нем резко и четко обозначилось лицо Незнакомца. Глаза его были закрыты, подбородок энергично вскинут вверх. Скорее это напоминало скульптуру, чем лицо живого человека, такая была в нем сила экспрессии. Постепенно свет в иллюминаторе менялся в сторону ультрафиолетового конца спектра. Странное превращение претерпевало и лицо Незнакомца. Обратное прокручивание выявило не замеченные ранее детали. Сначала исчезли или, может быть, просто стали прозрачными волосы, потом кожа. Некоторое время был виден чисто анатомический портрет — сухожилия, мускулы, вены. Потом изображение стало похоже на рентгеновский снимок — череп и неясные тени постепенно тающих тканей. Наконец исчезло и это. И только в иллюминаторе полыхал странный спиртовой огонь. Вдруг стекло иллюминатора стало расслаиваться. В нем возникали какие-то неглубокие дырочки, от которых во все стороны летели отколотые пластинки. — Точно кто-то стреляет по толстому кварцевому стеклу, — прокомментировал происходящее на экране Володя Карпов. То, что Володя принял за дырки от пуль, все сильнее углублялось в слой иллюминатора, пока там не образовалась маленькая черная точка. Вокруг нее молниями побежали трещины. Что-то невидимое ворвалось в иллюминатор. Спиртовой огонь качнулся, точно под сильным порывом ветра. И внезапно все озарилось мертвенным зеленым светом. В этом свете стала видна внутренность какой-то тесной сферической кабины. Кабина держалась на экране лишь доли секунды, но все заметили, что она была пуста, лишь на стенках ее колючим огнем вспыхивали зеленые блестки. Лента кончилась. Оганесян поднялся со своего места и включил свет.* * *
Четверг прошел в напряженном труде. До прибытия вертолета оставался только один день. А нужно было успеть ликвидировать все нарушения и поломки в приборах, вызванные неожиданным вторжением Незнакомца. По крайней мере, необходимо было выяснить, что можно починить здесь своими силами, а что придется отослать на вертолете или выписать с главной базы. Ничего нового в этот день обитатели площадки на Тайну-олу не узнали — некогда было даже поговорить. Один только Юра слонялся без дела, так как строгим приказом Оганесяна и доктора был отстранен от всяких работ. Единственное, что ему разрешили, — это дежурить у постели Незнакомца, который так и не приходил в сознание Но это было не так уж интересно. Читать не хотелось. Тысячи вопросов буквально жгли язык, но все были так заняты, что Юрины попытки заговорить встречали только раздраженный протест. Оставалось лишь бродить по комнатам и смотреть в окна, что Юра и делал Наконец ему повезло. Кирленков, утомленный перетаскиванием разряженных в результате появления Незнакомца аккумуляторов, вошел в дом, чтобы умыться и немного передохнуть. Он был мгновенно атакован Юрой, вылившим на него весь накопленный запас вопросов и нетерпения. — Я знаю, что ты думаешь, Толя, знаю! — Юра говорил торопливо, чтобы не дать Кирленкову отговориться ничего не значащей фразой. — Ты думаешь, что Незнакомец — это доктор Шапиро. Это, в конце концов, легко установить на Большой земле. Дело не в том. Ты мне вот что ответь. Если это он и каким-то образом он сумел создать дираковский вакуум, то как он мог жить там? А? — Где — там? — В мире минус-энергия. Ведь если он перезарядил каждую элементарную частицу всех атомов своего тела и ушел в антимир, то это было, как ты говорил вчера, в сорок первом году. Так? А как же он жил там двадцать лет? Что ел? Чем дышал, почему не обтрепал свой дачный костюм? Или ты полагаешь, что там есть мир, полностью подобный нашему? Юра еще продолжал бы засыпать Кирленкова вопросами, если бы тот умоляюще не поднял руки вверх: — Хватит, Юрочка, хватит. Не все сразу. Прежде: то, что ты сейчас сказал, сказал и придумал именно ты, а не я. — Но ведь ты думаешь именно так! — Что я думаю, знаю только я один. Тебе я отвечу лишь затем, чтобы ты понял, как необходимо физику знать теорию относительности. — Я знаю. — Нет, ты не знаешь. Ты учил ее — этому я охотно верю. Но не более. Кирленков взглянул на часы и встал. — Пойдем в гостиную, посидим четверть часа, покурим, и я тебе немного расскажу. — В классической ньютоновской физике, — начал Кирленков, попыхивая сигареткой, — соотношения «раньше», «позже», «одновременно» всегда считались абсолютно не связанными ничем с выбором системы отсчета. Эйнштейн отчасти ликвидировал эту несуществующую абсолютность. Наряду с событиями, последовательность которых во времени по-прежнему не зависела от системы отсчета, появилась новая категория событий. Мы называем их квазиодновременными, то есть ложноодновременными. Каждое из этих квазиодновременных событий при смене системы отсчета может превратиться из предшествующего в последующее или одновременное. В сущности, любые два события либо квазиодновременны, либо квазиодноместны К чему я это говорю? А вот к чему. Допустим, все было так, как ты только что сказал. Заметь: именно ты, а не я! Юра согласно кивнул. — Так вот, — продолжал Кирленков, — допустим. Незнакомец ушел через дираковский вакуум где-то около Минска, а вернулся в наш мир на Тайну-олу. Здесь явное нарушение одноместности. Почему? Да потому, что тот мир не может быть полностью зеркален нашему. Ты вошел туда в одно место, а вышел в другом. Вот и все. Такие же превращения могут быть и со временем. В сущности, можно допустить, что он появился у нас в мире вчера, а в этот мир вошел завтра. — Ну, уж это ты того через край хватил. — Ничего не хватил. Вот послушай. Допустим, у нас есть два события — А и Б. А — это выстрел охотника, Б — это смерть подстреленного им зверя. Наоборот вроде никак нельзя. Ведь если в какой-нибудь системе отсчета ружейная пуля попадет в тело зверя и причинит ему смерть раньше, чем она вылетела из ружья, — все наши представления о причинности оказываются вверх ногами. Это даже не индетерминизм, а вообще черт те что. Получится, что в одной системе отсчета волк умирает потому, что в него выстрелили, а в другой — ружье выстрелило потому, что он умер. Нелепица! И действительно, никакая наука не может допустить, чтобы следствия предшествовали своим причинам. Для этого нужно невозможное; чтобы пуля летела быстрее света. Вот в этом все дело. В скорости. Свет обогнать нельзя. Но приблизиться к скорости света — отчего же нет? Значит, если мы увеличим скорость почти до световой, у нас, во-первых, причина остается причиной, а следствие — следствием и ничто не нарушится, а во-вторых, сузится промежуток времени между причиной и следствием. Понимаешь? Здесь и весь секрет. Незнакомец ушел в мир встречного времени. Он ушел из нашей системы отсчета в другую. Это для нас в его отсутствие прошло двадцать лет, а для него могли пройти неделя, день, час. Я не знаю точно, сколько. Понял теперь? — Ты все-таки молодец, Толик! — Юра обнял Кирленкова. — Ты гений. Что бы там ни было, правда все это или ошибка, но ты гений. Кирленков высвободился из его объятий, взглянул на часы и встал. Потом неожиданно улыбнулся, ткнул Юру пальцем в живот и пошел к двери. — Когда станешь академиком, Толя, возьми меня к себе. — Ладно, возьму. — Но я найду еще доводы против твоей гипотезы. Так и знай! — крикнул ему вслед Юра.* * *
— Ну, научные работнички — столяры и плотнички, давай, давай! — поторапливал их Юра. Работать ему еще не разрешали, и он увязался за Кирленковым и Карповым в аккумуляторную. Кирленков молча и сосредоточенно паял. Как художник над какой-то абстрактной мозаикой, склонился он над панелью с перепутанными жилками проводов и разноцветными цилиндрами сопротивлений, выискивая одному ему понятные нарушения в схеме. В другом углу за высоким лабораторным столом застенчиво приютился Володя Карпов. В руках у него гудело пламя кислородной горелки и молочным светом лучилось раскаленное стекло кварцевого баллона. А Юра размашистыми шагами ходил от стены к стене. Нараспев читал стихи Блока, Уитмена и свои собственные, время от времени приставал, но вообще вел себя вполне прилично. Во всяком случае, Кирленков еще не предпринимал попыток от него избавиться. Все устали. Кирленков — от напряженного высматривания дефектов своей полупроводниковой мозаики, Володя — от яркого кварцевого света, Юра — от себя самого. Кирленков выключил паяльник, Володя завернул вентили подачи газов, а Юра просто закрыл рот и присел на краешек стола. Кирленков достал из холодильника две бутылки кефира, потом, взглянув на Юру, потянулся за третьей. Взболтав кефир и проткнув пальцем тонкую жесть, Юра опять начал говорить: — Ну хорошо! Как будто всем все ясно, все обо всем договорились. Но я не согласен. Учти, Толя, сейчас я говорю с тобой не как физик с физиком, а как литератор с физиком. Кирленков, чуть приподняв бровь, взглянул на Юру. — Да, Толя, именно как литератор! С точки зрения литературы наша повесть идет по пути наименьшего сопротивления. И это мне не нравится. Ну посуди сам. Человек из антимира сваливается ни куда-нибудь, а именно в нашу аккумуляторную, чтобы талантливый физик Кирленков мгновенно все разгадал. Зверь бежит на ловца! Почему твой профессор оказался именно здесь, а не где-нибудь в комнате начальника милиции, или в зале для игр детского сада или еще я не знаю где? Почему он попал туда, где тайну его появления легче всего сумеют разгадать? Это что, случайность или необходимость? Мы же все физики, диалектики и детерминисты. Ну? Кирленков с интересом слушал Юрину речь. Юра начал говорить просто так, чтобы не молчать, но постепенно сам увлекся своими литературными возражениями: внимание Кирленкова только подливало масло в огонь. — Никакой писатель, — Юра восторженно простер руку вверх, — не строил бы таким образом сюжет повести, а физик не видит ужасающей дыры в состряпанном им объяснении! Да, с точки зрения нас, писателей, этот человек не имеет права быть из антимира, поскольку антимиром интересуешься ты. Dixi! — Юра гордо смотрел на поверженного во прах, как ему казалось, Кирленкова. Неожиданно в разговор вмешался Володя Карпов: — Этот человек, если он пришел сквозь дираковский вакуум, должен был оказаться здесь с гораздо большей степенью вероятности, чем где-нибудь в любом другом месте. — Почему? — Вопрос был задан Юрой и Кирленковым одновременно. — Потому что он и Толина установка добили вакуум с двух сторон. Это вроде взаимопомощи. Вот… потому… Я, видите ли, уже думал над этим. Правда, не с тех позиций, какие отстаивает Юра, Просто с точки зрения философских категорий: необходимость и случайность. Так вот, здесь — необходимость, а не случайность. Я даже кое-что прикинул на бумажке. Карпов протянул Кирленкову свой блокнот. Юра слез со стола и склонился над Кирленковым, но тот досадливым жестом отогнал его на более далекое расстояние. Минут десять в аккумуляторной стояла тишина. Потом Кирленков возвратил Володе блокнот и восхищенно сказал: — Здорово! Здесь то, чего мне не хватало раньше. — Я знаю, Толя, — Карпов смущенно вырисовывал в воздухе вензеля, — здесь именно тот оператор Гамильтона, из-за которого тебя тогда срезал Беловидов. Но у тебя не было обоснования его применимости, не было граничных условий. А я их получил экспериментально и совершенно случайно, когда чинил твои борорениевые диски. Это, в сущности, твои данные… Возьми… Кирленков отстранил блокнот: — Нет, Володя, спасибо, но нельзя. Это твое самостоятельное решение, я не могу. Под действием противоположно направленных сил блокнот упал на пол. Юра подхватил его и начал листать. Но Кирленков прикрыл листы ладонью. — Все равно ничего не поймешь, стихоплет. А если поймешь, то напишешь статейку в «Технику — молодежи». Постой, постой… Как же ты напишешь? Ага! Вот так: «Мир и антимир. Они как два неуловимых друг для друга призрака взаимно пронизываются. Один для другого служит дополнительным источником поставки частиц. Они спасают друг друга от разжижения. Один физик, идеалист и церковник, как-то с точностью до одной штуки подсчитал число элементарных частиц во Вселенной. Его ограниченному богоискательскому мозгу никогда не понять, как слаба эта теория. Ведь число частиц — это понятие статистическое. На самом деле наш мир и антимир постоянно обмениваются частицами высоких энергий». Кирленков замолчал, собираясь с мыслями, потом продолжал: — «Что же случилось у нас? Мы (ты так и напишешь «мы») включили генератор искривления пространства. Борорениевые диски создали гравитационный потенциал, который как бы, если говорить популярно, понизил энергетический барьер между противоположными мирами. Это вызвало флуктуацию полей. И созданный в минус-мире вакуум начал перемещаться именно к этой точке с наименьшим скачком энергии. Вопреки литературному сюжету, потенциал перемещался по пути наименьшего сопротивления, стремясь достигнуть уровня с минимальной энергией. И, пусть простят нас литераторы, мы не виноваты, что в потенциале сидел наш герой…» Кирленков был прерван заливистым хохотом. Это смеялся Юра. Он только что пережил эволюцию от непонимания к догадке, от восхищения — к восторгу. Но заключительным этапом был юмор, и Юра смеялся. Стараясь что-то сказать, он только корчился и заикался: — Ха-ха-а-а-а! Не напишу — флуктуа-а-а-ация! Не на-пи-шу… так… Пока он смеялся, Володя подошел к Кирленкову и, указывая на блокнот, сказал: — Толя, возьми. Ведь все-таки это сработала твоя установка. И сей факт не может умалить даже то, что пришла неожиданная помощь от минус-энергетического потенциала. Просто нужно усилить мощность на входе, и диски зарегистрируют всякую временную инверсию без постороннего вмешательства. Ты оказался прав. А мне это не нужно. Через месяц — два я заканчиваю свою работу над поглотителями. Поэтому возьми… И знаешь что? Сделай статью за твоей и моей подписью и отошли ее в «Успехи физики». Тогда твоя совесть будет спокойна. Кирленков пожал протянутую Володей руку.РАССКАЗ ЮРЫ
Было раннее и свежее утро. Кристально чистое, с мокрой от росы травой, какое бывает только ранней осенью. Профессор, одетый в легкий костюм, сидел перед камином и жег бумаги. Немецкие танки прорвались к узловой станции, и город оказался отрезанным. Эвакуироваться не удалось, и профессор должен был уйти к партизанам. Но прежде необходимо было уничтожить все следы того замечательного открытия, которому были отданы лучшие годы жизни. Ничто не должно достаться врагам: ни приборы, ни формулы. Вот вспыхнул и скорчился лабораторный журнал, том уже отпечатанного, но еще не подписанного отчета. Нужно было спешить, немцы могли нагрянуть сюда с минуты на минуту. У профессора были сведения, что гестапо уже два года интересуется этой уединенной загородной лабораторией, поэтому неудивительно, что немцы прежде всего поспешат именно сюда. «Вот и все!» Профессор швырнул в огонь последнюю бумажку, которая быстро почернела и свернулась. Оставался лабораторный стол. Все это нужно было разбить и бросить в огонь. И главное — эта камера… Точно огромная океанская батисфера, стояла она, прикрученная к массивному железобетонному фундаменту, уставившись на профессора циклопическим глазом кварцевого иллюминатора. «Ее и взорвать-то будет не так просто, — подумал профессор. — Этого, впрочем, будет вполне достаточно». — Взгляд его остановился на двух ящиках тротиловых шашек. На ящиках лежала аккуратная бухта детонирующего шнура, картонная коробочка с капсюль-детонаторами, две коробки спичек, плоскогубцы для обжима детонаторов и даже саперный нож, чтобы сделать косой срез на шнуре. Профессор нагнулся и начал вынимать шашки из первого ящика. Они смотрели на него, такие ручные и совсем нестрашные. Вот коричневый кружок из бумажной наклейки. Его нужно проткнуть, под ним отверстие для детонатора. Все правильно, все так. Профессор взглянул в окно и остолбенел. У самой опушки он увидел большую машину. С бортов спрыгивали темные фигурки, отбегали немного в сторону и выстраивались в колонну. Потом от колонны отделилась другая группа, человек в десять, и направилась прямо к лаборатории. Профессор схватил бинокль. Он ясно видел грязно-зеленые шинели и висящие на груди автоматы. Рядом с солдатами шел офицер в черном френче, шитом серебром, в фуражке с очень высокой тульей. Профессор видел, как гнутся под сапогами огромные луговые ромашки, как лакированный носок брезгливо сшиб ярко-оранжевый мухомор. «Они будут здесь минут через пять. Я явно не успею». — Профессор быстро, но не лихорадочно направился к распределительному щиту. Включил рубильник. Загорелась контрольная лампочка. «Слава богу, что есть энергия», — подумал он и включил еще два рубильника. Загудели трансформаторы, напружив свои медные шины, по которым текла энергия высокого напряжения. Ожили стрелки приборов. Одна из них медленно, но неуклонно ползла к красной черте. Профессор опять взглянул в окно. Немцы были уже почти возле самой ограды. Тогда он кинулся к двери. Два раза повернул ключ. Потом подбежал к столу для химических анализов и, напрягши все силы, стал пододвигать его к двери. На пол посыпались колбы, бюретки, промывалки. Зазвенело и затрещало под ногами стекло. Едкой струен вытекала кислота из аппарата Киппа, но профессор ни на что не обращал внимания, он двигал стол. В этот момент ленивая стрелка достигла красной черты. Раздался негромкий хлопок, и на боковой поверхности сферической кабины обозначилась невидимая ранее дверца. Она раскрывалась все шире и шире, а между тем в коридоре уже послышался топот. Немцы разбегались по помещению. Говорят, что в минуту смертельной опасности перед человеком проносится вся его прошлая жизнь. Профессору же неожиданно открылось будущее. Было ли это внезапное озарение или просто смутное чувство, которое не передать словами, но он ясно увидел чадящие трубы Освенцима, горы сплетенных и искаженных тел на дне осклизлой ямы и волосатые руки с засученными рукавами, которые с размаху бьют оземь грудных детей. И еще он увидел себя, пожилого доброго человека, для которого весь мир сузился в библиотеку любимых книг, в высокую кафедру, с которой он читал свои лекции. Еще недавно он мог бы сказать, что люди добры и стремятся к знаниям, а самое большое добро на земле — это помогать людям в их стремлениях. И ничто не могло разуверить его в этом. Но секунда подвела итог. Она вобрала в себя ночные далекие зарева, очереди за хлебом, заклеенные крест-накрест окна. Все, что он читал раньше в газетах, представилось ему сейчас и придвинулось близко и ощутимо. Те, кто пришли сюда, чтобы убить его, вчера сжигали книги и устраивали облаву на людей, которые виноваты лишь в том, что у них иная форма носа. Это они изгнали из страны Эйнштейна… Теперь они здесь. И человек, для которого до сегодняшнего дня ничего не существовало, кроме науки, вдруг ощутил детскую обиду. Он страстно позавидовал молодым бритоголовым парням, которые, сдвинув на бровь выжженные солнцем пилотки, прошли недавно мимо него. Уже тогда, когда в воздухе остались лишь тонкая, как пудра, пыль и отзвук песни «…вставай на смертный бой…», он впервые пожалел о своей старости. Теперь же он ясно понял, что идет такая борьба, перед которой все отходит на задний план. Забудь это все и сражайся! Остальное потом. Когда — потом? Когда ты уничтожишь тех, кто посягнул на твою землю, на твою науку, на все то, что отличает человечество от муравьиной кучи. Никогда профессор не думал о том, что вырванная им у природы тайна могла бы стать могучим орудием войны. Но сегодня он горячо пожалел, что ежедневно отрывал от своей работы шесть часов на сон. Если помножить эти часы на дни и годы, то уже давно он смог бы закончить ее. И тогда в руках его страны оказалась бы сила, способная мгновенно швырнуть любые орды фашистов в бездну небытия. И еще увидел профессор синее высокое небо. Ласковое небо, которое заслоняет от людей звезды и далекие галактики. И это хорошо, что оно заслоняет их. Нельзя вечно думать о том, что лежит за гранью постигаемого. Людям нужно и просто так, бездумно, смотреть на медленно плывущие облака, лежа в густой и высокой траве, где стрекочут кузнечики. Людям нужны красота, смех и беззаботность. Отдых тоже нужен людям. Глубокий отдых после тяжелой работы. Такой отдых придет, когда они окончательно очистят мир от скверны, отстоят свое право на смех и на синее небо. Вот сейчас он уйдет из жизни. Кажется, какое дело ему до того, что будет через момент? Но уйти с сознанием, что вот эта грязно-зеленая саранча надолго обосновалась на земле, значит, уйти, сдерживая готовое разорваться от боли сердце. Самое важное для него сейчас это поверить в великую власть справедливости, которая неизбежно восторжествует. Нераз мрачные изуверы заставляли человечество блуждать впотьмах, не раз слабые духом шептали, что это навечно, но всегда приходило завтра. И профессор на какую-то долю секунды увидел алый солнечный луч. И в тот момент, когда первый приклад обрушился на дверь, ведущую в лабораторию, за профессором захлопнулась другая дверь, ведущая в антимир. Дверь дираковской кабины. Когда немцы ворвались в лабораторию, она была пуста. Только гудели трансформаторы и вспыхивали электронные лампы. Да в огромной круглой камере светился иллюминатор. Офицер велел тщательно обыскать всю комнату. Один из немцев, заглянув в светящийся иллюминатор, увидел запрокинутое лицо с впалыми щеками. В лаборатории начался переполох. Приклады застучали по гудящему металлу огромной сухопутной батисферы, по неподдающемуся прозрачному материалу иллюминатора. Офицер в эсэсовском мундире вырвал у одного из солдат автомат и дал очередь по иллюминатору. Брызнули отколотые чешуйки стекла, по комнате затарахтели пули. Тогда эсэсовец стал бить прицельно в одно и то же место, с каждой пулей выбивая осколки слоистого стекла. Когда опустел магазин, он знаком потребовал другой автомат и продолжал стрелять. Наконец стекло не выдержало и лопнуло. Почти абсолютный вакуум всосал в себя весь воздух. Окна в лаборатории лопнули. Раздался взрыв. Но это не был взрыв тротила или пороха, это был взрыв изменившейся кривизны пространства — взрыв гравитации. Все, что находилось в лаборатории, было искалечено и искажено. Застыв в неестественных позах, повсюду валялись трупы в немецких мундирах. Батисфера же была пуста. Лишь внутри нее вспыхивали и угасали зеленые звезды аннигиляции. Немцы опоздали. Профессор уже был там, где его не могла коснуться ничья рука нашего мира.СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА ЮРЫ
17.3.19.. года. Суббота. Сегодня прилетит вертолет. Вчера, по требованию товарищей, написал рассказ. Они говорили, что, хотя им уже все ясно, необходимо восполнить некоторые детали. А это может сделать только искусство. Поскольку по аналогии с повестью Чапека последнее слово должно было принадлежать писателю, они сказали, чтобы это сделал я. Не знаю, удалось ли мне, но я очень старался. Я даже пытался перевоплотиться в своего героя, как это делают все великие писатели. Мне, правда, больше хотелось написать об этом поэму, но товарищи большинством голосов проголосовали за прозу. За поэму был только Толя Кирленков. После того как я прочел свой рассказ, опять были споры, Но уже не принципиальные, а только в деталях. Если раньше наши споры можно было сравнить с тропическими ливнями, то теперь это был лишь грибной дождик. Все теперь сводилось к одному: как профессор — после моего рассказа уже не говорили Незнакомец, а только профессор — сумел вернуться назад, если немцы разбили иллюминатор и испортили вакуум? А может, они и не разбили иллюминатор и то, что кто-то принял за брызги стекла под ударами пуль, на самом деле что-то другое? Здесь пока можно только гадать. Неясно еще и другое: почему появление профессора в запертой аккумуляторной сопровождалось такими световыми эффектами. Но здесь, как сказал Кирленков, нам вообще не разобраться до тех пор, пока мы не научимся сами создавать дираковский вакуум. В том, что мы научимся его создавать, никто не сомневается, так как профессор сегодня впервые открыл глаза. Он даже произнес одну фразу: «Мы победим» — и вновь потерял сознание. Это случилось час назад, уже после того, как я написал свой рассказ, чем я очень горд и все остальные — тоже. Так что последнее слово все-таки принадлежит не писателю, а жизни. Тем более, что она еще впереди. Нам очень много предстоит узнать и понять. Как хорошо жить! Но пора кончать, Я уже слышу, как в небе стрекочет наша стрекоза. Побегу встречать. От мамы и Галочки очень давно не было писем. Целых две недели.Яков Волчек ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС НА «ЯКЕ» (Повесть, написанная по следам действительным событий)

Глава I
В большом городе редкая ночь обходится без происшествий… Лучше всех других это знают в отделениях милиции и на станциях «скорой помощи». На дежурстве ночные минуты ползут беспокойно-томительно. Но вот черные провалы okoi; будто растаяли на стоне. Можно погасить назойливую электрическую лампочку. Дежурство идет к концу. Врачи допивают из термосов холодный крепким кофе, дежурные в отделениях милиции, с опаской поглядывая на внезапно умолкнувший телефон, закуривают последнюю папиросу из смятой пачки. Лейтенант Чилингарян обшарил все карманы, осмотрел все ящики письменного стола — папирос не было. — Да. Продолжайте, пожалуйста. Я вас слушаю. Ночной посетитель сидел неподвижно на краешке стула. Вряд ли он был курящим. Рассказывает такую странную историю, волнуется, а в карман за куревом не лезет. Да и не попросишь папиросу у потерпевшего. Не полагается. — Так, я все понял. Значит, их было трое? — Во всяком случае, мне показалось, что три человека. А может, где-нибудь прятались и другие, кто знает. Один — очень высокий, одни — маленький, один — толстый. Но лиц я не разглядел. Было темно. — Ясно. Пытались вас ограбить? — Нет. У меня было при себе немного денег, но они не интересовались. — Пьяные они были? — Нет, по-моему. — Тогда как же понимать? Хулиганство? — Я не знаю. Я возвращался домой от родственников. Было часа два ночи, когда мы разошлись. Я свернул в переулок и вот там встретил этих люден. — Давайте подробнее. Один из них вас ударил? — Нет, они меня не тронули. — Откуда же у вас кровь на щеке? — Это уже потом. Понимаете, я упал. Но это уже после того, как они ушли. Я побежал и упал. — За вами гнались, что ли? — Нет. На дежурстве не полагается обнаруживать свои чувства. Можно думать: «Ты просто струсил, товарищ! Никто тебя пальцем не тронул, ты сам себя запугал. И для чего, спрашивается, ты к нам пришел, раз ничего с тобой не случилось?» Вслух работник милиции имеет право только беспристрастно поинтересоваться: — А почему вы побежали? — Даже не знаю, сумею ли объяснить… Только вы поверьте, что я не трус. Две воины прошел и награжден за отвагу… Лейтенант Чилингарян слегка прищелкнул пальцами. Разок струсить может иногда даже самый отважный человек. — Если говорить впрямую, вы для меня не являетесь «потерпевшим». Ничего вы, так сказать, не потерпели, кроме одной минуты испуга. Вас остановили па улице трое неизвестных и никакого ущерба вам не нанесли, а отпустили по-хорошему. Вот и все ваше дело. Правильно я говорю? — Внешне, может быть, и правильно. Не ударили, не убили, и так далее. Но я убежден, что это очень опасные люди. Они могут неисчислимую беду наделать. И я определенно утверждаю, что со миом они не шутили, хотя напоследок стремились превратить все в шутку и даже подарили мне пачку сигарет… — Ах, вот даже как? Сигареты подарили? «Потерпевший» выкладывает на стол маленькую картонную коробочку. — Ну что ж, сейчас вернется патруль. Посмотрим, что это за страшные люди, которые сначала угрожают, а потом дарят, понимаете ли, табачные изделия. — Неужели вы думаете, что они все еще там и ждут, когда вы их поймаете? — А вот посмотрим. Для чего им убегать, если они, по вашим же словам, ничего преступного не сделали? Я ведь могу им только лишь нравоучение прочитать да документы проверить, больше ничего. Состава преступления, так сказать, нету. Дверь с улицы открывается. Громко топая, входят два милиционера. Один из них рапортует: ни в указанном месте и нигде поблизости ничего подозрительного не обнаружено. Все тихо. Город спит. — Ладно. — Лейтенант Чилингарян внимательно рассматривает коробочку. Это начатая пачка, одни уголок у нее оторван и сигареты повалились наискось. — Вы оставьте нам заявление, опишите подробно все, как было. Мы попробуем разобраться. Потерпевший садится за маленький столик в углу, ему дают чернила, бумагу. О чем писать? На исходе ночи в глухом переулке вблизи дома его остановили трое. К нему подошел маленький ростом человек, а двое других остановились на краю тротуара под деревом. Голос у этого маленького был раздраженный, с повизгивающими нервными нотками, а все же сразу угадывалось, что это молодой голос. Одним щелчком можно было сшибить с ног этого наглеца. Но почему-то бессильно опустились руки. Что было потом? — Стой! А он и так стоял неподвижно. Луч электрического фонарика ослепил его. — Жить тебе хочется? Он молчал. — Сколько тебе лет? — Пятьдесят шесть. — Ну, значит, пожил. И достаточно. И тут он увидел, что в руке человека появился молоток. Надо было бежать или хотя бы закрыть голову. Он только хрипло выдавил: — За что? Маленький сказал: — Просто так. — Что я вам сделал? Человек с молотком обернулся к двум другим, притаившимся в отдалении: — Ну, что ему сказать? Что он нам сделал? Люди, стоявшие под деревом, молчали. А его охватил ужас, он оцепенел, не мог даже рта раскрыть. — Ничего не говори, бей его! Это выкрикнул взволнованный голос из темноты. Но другой голос, густой и властный, перебил: — Оставь его. — Почему? — Оставь. Старик, иди сюда. Он сделал несколько неуверенных шагов — пошел в темноту, как в пропасть, все время ожидая страшного удара сзади. Высокий, негромко и странно посмеиваясь, положил ему в карман пачку сигарет. — Возьмите. Это была шутка. Он молчат. — Испугался, старый человек, испугался! Даже поблагодарить, не может за сигареты… Он действительно не мог произнести ни слова. — Мы артисты, мы репетируем. Такой готовится спектакль, что мы должны потренировать свои нервы. Теперь вы идите спокойно домой, помолитесь боженьке и ложитесь спать. И все забудьте. Но все это никак, никак не было похоже на шутку или па какую-то репетицию. Он стоял под деревом, бессильно опустив руки. А они пошли. И он услышал, как маленький проговорил недовольно и резко. — В чем дело? Ведь мы же договорились! Кажется, кто-то из нас струсил, а? Вот тогда он и побежал и сразу упал, разбив себе лицо… Сейчас, когда за окном вставал новый ясный день, вся эта история уже не представлялась ему такой страшной и непонятной. Может, он действительно от испуга все преувеличил? В сущности, что там говорилось? «Испытание нервов»? Но кто же поверит, что ради испытания нервов можно пи за что ни про что убить человека! «Это была шутка». Похоже, что и вправду так. Ну, скажем, уличное озорство. Во всяком случае, в заявлении, которое он писал сейчас, сидя за столиком в отделении милиции, нельзя передать то, что его так насторожило и сковало. Он был убежден, что перед ним — убийцы. Спросят — почему? Потому что вокруг этих троих все дышало преступлением! Но в милиции таким аргументам не верят. Да и действительно, не передашь ведь официальными словами на листке заявления, что в голосе того тщедушного, который держал в руке молоток, звучали озлобленность и созревшая решимость. Надо было слышать этот голос! И страшного, долгого, томительного молчания двух других, стоявших под деревом, тоже передать невозможно. — Пожалуй, и в самом деле не стоит мне это писать, — сказал он дежурному лейтенанту, — раз уж, собственно, ничего не произошло… — Как хотите. — Лейтенант Чилингарян сбросил ногтем пепел. — Одну сигарету из подаренной вам пачки я вынужден был опробовать во избежание каких-нибудь осложнений. Самая обыкновенная сигарета. Можете спокойно курить. В общем, я тоже думаю, что это был хулиганский розыгрыш. Бандиты, знаете ли, ведут себя совершенно иначе. — Если бы я не побежал, а остался на месте, то услышал бы, о чем они разговаривают. — Ну, этого ры теперь уже никогда не узнаете. Возьмите свои сигареты. Возможно, ребята просто радовались, что им удалось вас напугать. Это же явные хулиганы. — Не думаю. Они, по-моему, начали ссориться. Маленький обвинял двух других в трусости. Он сказал: «Мы же договорились!» — Не стану с вами спорить. Чего не услышишь в такую минуту. Вы домой сейчас? Может, вас проводить? — Спасибо, незачем. Уже совсем светло. До свидания. — В чем дело? Мы же договорились! — Опасно. — Кто-то из нас струсил, а? — Осторожнее выбирай выражения! — Что тут опасного? Один удар по затылку — и все кончено. Старик сам себя подготовил, как баран на бойне, даже голову склонил. — А потом что? Запалишься раньше времени, и все погибло. Потом будешь локти себе кусать. — Просто, ребята, у вас обоих нервы подкачали. — Это у меня — нервы? Пятьдесят человек поставь передо мной, я их по одному вот этим самым молотком перебью. У меня сейчас ни к кому жалости нет и не может быть. Лишь бы то получилось, что нами задумано. А убить на улице ночью… но что это за доблесть? Мы ведь не бандиты, не убийцы… И потом, начнется розыск, могут покопаться… И для чего убивать? Чтобы испытать себя? А я и так уверен, что в нужную минуту у меня рука не дрогнет. — Знаете, я тоже теперь думаю, что это было бы ни к чему. Мне раньше казалось, что придумано здорово — стукнуть молотком первого же прохожего, кто после двух часов ночи пройдет по этому переулку. И стукнуть насмерть именно только для того, чтобы испытать свои нервы. Но сейчас я понимаю, что это рискованно. Говорят, при нынешнем уровне техники милиция раскрывает все серьезные преступления. А зачем нам рисковать? — А я не согласен. Кто бы нас нашел? И как? Но раз вы оба решаете, я подчиняюсь. Мы все трое должны быть теперь в полном согласии. В общем, могу сказать, что я лично все-таки себя испытал, у меня не было ни минуты колебания. Я убил бы любого. Я на все готов. — Я тоже готов. На все. И я готов. Не остановлюсь ни перед чем.Глава II
Огромный камень врос в землю на самом краю обрыва. Его, как змеи, облегли извилистые глубокие трещины — подползли к нему и погубили. Теперь ему недолго висеть над пропастью. Дожди подмоют его, свирепый ветер подтолкнет крутым плечом, и камень рухнет. Он вырвется из гнезда, в котором недвижно лежал, может быть, с rex времен, когда люди носили звериные шкуры и жили в пещерах. Сминая кусты и молодые деревца, прыгая через овражки, ямы и все более разгоняясь, он ринется по крутому склону и обрушится в реку, бушующую на дне ущелья, станет поперек яростного потока и утвердится здесь незыблемо на новые тысячелетия. «Перемены» — вот как надо назвать этот этюд… Тоненькая кисточка трогает красным жалом трещину под камнем, и на листе плотной бумаги рассеченная земля как будто наполняется кровью. Ну что ж, ведь так и есть. Трещина — это рана земли. II когда смотришь после яркого солнца в темноту расселины, там, в глубине, словно вспыхивают пятна крови… Все-таки обязательно скажут: неправдоподобно. Почему, скажут, у вас земля красная? Надо добиться, чтобы все это увидели. Грант упрямо стискивает губы. Вот лежит под ярким солнцем камень, внизу вспенилась и словно застыла река, вверху синеет небо, и к нему прилепилось три — четыре облачка. Но эта неподвижность только кажущаяся. Ох, как хочется передать ощущение предстоящей в природе перемены! Камень еще не упал, по на рисунке должно быть движение, должен чувствоваться сокрушительный путь, который глыба проложит по склону, должен слышаться как бы грохот падения. В природе нет покоя. В альбоме двадцать листов, и на каждом один и тот же рисунок — падающий камень. Дома мать спросит: «Для чего тебе это, Грант? Каждый выходной день ты ходишь рисовать эту глыбу. Ты же все-таки не художник. Рисуй разное!» Это верно. Он не стал художником. В детстве был случаи, когда он, возвращаясь из Дворца пионеров, встретил па улице какого-то дальнего родственника. Уж чего-чего, а родственников в семье было достаточно. Этот приехал на денек из деревни, зайти не мог, а только передал привет. И вот дома Грант никак не мог объяснить матери, кого он видел. С досады он схватил карандаш, провел быстро несколько кривых линий, затем прочертил две — три прямые, нанес штриховку, прикрыл морщинистыми веками прищуренные глаза, и сестра воскликнула: «Это дядя Мовсес из Нор-Амберта!» С тех пор родственники, друзья и особенно соседи решили, что Грант обязательно станет художником. Одна только мать ласково посмеивалась и с сомнением покачивала головой. Соседи же v друзья настаивали, чтобы рисунки мальчика были показаны какому-нибудь крупному мастеру. Мать собрала все пейзажи, этюды и портреты — Грант к тому времени наплодил их множество, — получше приодела сына и повела его к известному художнику, с которым была хорошо знакома, потому что учила в школе его детей. Грант навсегда запомнил этот день. Он ничуть не волновался, он точно знал, что наступила минута великого перелома в его жизни. Обычно, разглядывая рисунки, взрослые спрашивали: «Сколько лет мальчику?» — и восхищенно закатывали глаза, цокали языком. Художник тоже спросил: — Сколько тебе лет? Зная все, что должно вслед за этим произойти, Грант скромно потупился: — Мне четырнадцать… Он понимал, как нужно вести себя в этом доме. Старый художник раскрыл дверцу глубокого шкафа, вытащил стопку тетрадей для рисования. — Вот это все рисунки четырнадцатилетних. Посмотри-ка! Грант терпеливо перелистал несколько тетрадей. Какое ему до них дело! — Тут работы моих учеников. Все они, как видишь, способные ребята. Три десятка тетрадей. Кто из них, из этих четырнадцатилетних, станет художником? Может, никто. В лучшем случае — один, два. А кто оставит хоть маленький след в памяти людей? Этого я предсказать не берусь. Но запомниться людям может только тот, кто увидит мир иначе, чем все другие. Грант вежливо ждал, когда старик заговорит о его рисунках. — Ну вот, молодой человек, твоя тетрадь… — Художник еще раз неторопливо полистал страницы. — Что могу тебе сказать? Неплохо. В общем, приблизительно так же, как у всех других способных ребят твоего возраста… Потом художник пригласил мать пить черный кофе. А Грант убежал. Разве мог он оставаться еще хоть минуту в этом доме? Долго, долго он не хотел простить матери, что ела лила кофе с человеком, который обидел ее сына. Мать не стала его успокаивать. — Я ведь примерно знала, что тебе скажут. Только считала, сынок, что тебе полезно все это услышать самому. Она всегда понимала, что для него хорошо и что плохо, где надо ему дать ход, а где немного попридержать. И знала о нем все: и то, что он делал в открытую, и то, о чем умалчивал. Это он понял много лет спустя, когда танком начал посещать аэроклуб в Ереване. Думая, что об этом никто не знает и что семья будет против, он решил исподволь и скрытно готовить себя к профессии летчика. Наконец-то он нашел свое настоящее призвание! Летать, летать — вот это дело как раз для него! Каждый глоток воздуха в километре над землей был счастьем. Он все еще раздумывал, как помягче сообщить домашним о своем выборе, а мать сказала: — Все знаю, сынок. Хочешь летать — летай. Теперь уж вижу, что это у тебя серьезно. Но рисовать он все-таки не бросил, нет! И, если после очередного полета его спрашивали, хорошо ли выглядит озеро Севан сверху и не страшно ли на четырехкилометровой высоте проплывать над зубчатыми заснеженными горными вершинами, он брал карандаш и отвечал: — Сверху это выглядит примерно вот так… И рисовал горную цепь или синее озеро. Словами ему было бы труднее все это выразить. И всегда ему хотелось создать что-нибудь такое, что не стыдно было бы показать старому художнику. Ну, вот «Падающий камень» — это он и покажет старику. В рисунке что-то есть, это он точно знает. Но сам он в этот дом не пойдет пи за что. Пусть к художнику отправится кто-нибудь из приятелей и выдаст этот этюд за свой. Старик, конечно, пожует губами и скажет, что рисунок слабоват и ощущение цвета произвольное. Но, может быть, он еще добавит: «А все-таки есть у автора свой взгляд на мир!» Художником Грант быть не хочет, вообще никем другим ему быть невозможно — только летчиком. Но эти слова старика ему нужны. Пусть скажет: «Этот человек видит мир по-своему…» Ну, на сегодня довольно! Грант закрыл альбом. Вообще рисунок можно считать законченным. В первый раз он пришел сюда с группой товарищей летчиков. Все рослые ребята, богатыри, а он среди них самый маленький. Это была прогулка, вроде пикника. На этом самом камне разложили закуски. Жарили шашлык. Над обрывом росло дерево — косо свесилось в пропасть, будто вот-вот рухнет, только корни его еще судорожно цеплялись за землю. Ребята разошлись волею, расшалились, стали прыгать с камня, чтобы достать листочек. Им приходилось быть начеку — не рассчитаешь движения к сорвешься с кручи. Все же каждый ухватил по листочку. Грант прыгать отказался: — Чудовищная глупость, ребята! Чистый идиотизм! Рисковать жизнью из-за бессмысленной чепухи… Но, когда друзья ушли, он, оставшись один (надо было собрать шампуры, на которых жарился шашлык), тоже попробовал подпрыгнуть и сорвать листок. Прыгал он хорошо, и все-таки ничего у него не получилось — не хватило роста. Сейчас, закончив работу и сложив в ящик краски и карандаши, он опять попытался схватить и пригнуть ветку. Теперь уж он не уйдет, пока не добьется своего. Камень раскачивался, хрусткий песок сыпался из-под башмаков. И каждый раз, взлетая кверху, он видел под собой бездну и клокочущую далеко внизу речку и ощущал секунду щемящего веселого ужаса и счастье, когда ноги, пружиня, снова опускались на твердую землю. «Для чего ты это делаешь, идиот? — спросил он себя. — Брось сейчас же, пока не сломал шею!» И в эту секунду пальцы его ухватили листок, и он, тяжело дыша, присел на камень. Насмешливый женский голос прозвучал где-то совсем близко: — Безумству храбрых поем мы песню… В кустах стояла девушка, прижав к груди книгу. Грант торопливо скомкал листок и попытался незаметно положить его позади себя на камень, как будто все дело было только в том, чтобы избавиться от этой улики. — Зачем же выбрасывать то, что досталось вам с таким трудом? Если бы она не показалась ему такой хорошенькой, Грант быстро нашел бы ответ. Но она была очень уж хороша. И он смотрел на нее, тщетно стараясь, чтоб его лицо не выражало восхищения. Какое удивительное сочетание черного и белого! Черные, черные волосы — таких он еще ни у кого не видел. Черные в синь. И еще — черные большие ласковые глаза. И белое, необычно белое лицо. И белые нежные руки. Как же это их не обожгло свирепое августовское солнце! Пересиливая себя, он сурово сказал: — А лучше бы вам, знаете, не подсматривать… Девушка засмеялась: — Человек идет к своему собственному камню, чтобы в уединении почитать книжку, а его упрекают будто он подсматривает! — Почему это ваш камень? Он был рад, что она не заговаривает больше о его нелепых прыжках и об этом дурацком листочке, который валялся теперь на земле. — Почему? А вот смотрите, — носком узкой красной туфельки она постучала по камню, — я здесь даже расписалась в прошлое воскресенье. Грант наклонился и прочитал: «Этот камень отныне принадлежит Эмме Григорян, и больше никому». — Это вы, что ли, Эмма Григорян? — Поздравляю, — серьезно сказала девушка. — Вы чрезвычайно сообразительны. — Я здесь, конечно, нигде не расписывался, но у меня на эту глыбу права более давние, чем у вас. Строго, как будто речь и вправду шла об утверждении его в правах собственности, она спросила: — И можете доказать? Грант раскрыл свой альбом, где на каждом листе был изображен падающий камень и стояла дата. Девушка прищурилась, рассматривая рисунки. Он медленно перелистывал одну страницу за другой. Ну, что она скажет? Ее оценка для него, пожалуй, еще важнее, чем похвала старого живописца… — Значит, вы художник? Сейчас он тоже мог бы сказать: «Поздравляю вас, вы так догадливы!» Сама того не понимая, она подбросила ему для ответного удара мяч прямо на ногу. Теперь он вполне мог бы с нею расквитаться. Но неожиданно для себя он вдруг почувствовал, что не смеет с ней шутить. И о чем бы она его ни спросила, он будет говорить ей только правду. — Да нет, что вы, я занимаюсь этим просто так! — Он быстро захлопнул альбом. — Но прыжками в высоту вы занимаетесь как профессионал, верно? Вот за листочком, например? Ну что ж, пусть она подшучивает над ним. Он стерпит. Надо было бы, конечно, ответить ей веселой шуткой, легко отбить удар — и наступать. Грант обычно умел делать это. С другими девушками он был бойкий. Но сейчас он только неуклюже повторил: — Нет, что вы… Какой профессионал… — Ну хорошо, я разрешаю вам пользоваться моим камнем, когда он будет свободен. Но сейчас место занято — я пришла сюда читать. А вы, по-моему, уже закрыли тетрадь и уже попрыгали сколько хотелось, и теперь вам пора уходить. Верно? — Вообще-то верно, — согласился Грант. — Счастливого пути! Она села на камень, вытянула ноги в красных туфельках и положила на колени книгу. Она читала. А он все стоял возле камня, и вид у него, вероятно, был самый глупый. — В чем дело? — спросила она протяжно и недовольно, не поднимая глаз от книги. — Мне не хочется уходить. Он принялся раскладывать на земле краски и карандаши, потом па чистой странице надписал: «Портрет Эммы Григорян, читающей книгу па моем падающем камне». — Что вы там затеваете? Грант молча показал ей надпись. Девушка пожала плечами и снова уткнулась в книгу. Все было понятно: не хочет позировать и не хочет разговаривать. И, наверно, сейчас поднимется и уйдет. Ну и пусть. Упрямо сжав губы, он переносил на бумагу не то, что видел (она отвернулась), а то, что ему особенно запомнилось: большие ласковые черные глаза… Спустя полчаса она небрежно сказала: — Ну, что у вас там получается… Покажите!Глава III
Серая «Волга» с белыми шашечками на борту прижималась к тротуару. Шофер спросил: — Теперь куда? — Направо. Полчаса назад такси на стоянке взял маленький ростом, тщедушный молодой человек в темных защитных очках-светофильтрах и в разрисованной желто-красной рубашке навыпуск с короткими рукавами. Шоферу он не понравился. Но шофер такси, как известно, не выбирает пассажиров по своему вкусу. Клиент сел не рядом с водителем, а сзади и принялся командовать: — Направо… Налево… Еще раз налево… Теперь в переулок… Время было раннее — шесть часов утра. В такой час люди, если уж берут такси, то спешат к вполне определенной цели — на аэродром или, скажем, на базар. Этот щенок раскатывал по городу без всякого смысла. На счетчике было уже около полутора рублей, когда он приказал остановиться возле нового жилого дома из розового туфа. И сразу же из подъезда выскочил другой молодой человек, с усиками, тоже небольшой ростом, но тучный, видно отъевшийся раньше времени. Он тоже был в пестрой рубахе навыпуск. Молча сел в машину. И опять началось: — Направо… Налево… Подъехали к двухэтажному старому домику в узеньком переулке. Остановились у каменного табора высотой в половину человеческого роста. Тут же к машине вышел огромный парень и сером легком пиджаке внакидку. По виду можно было предположить, что он спортсмен — боксер или борец. На заднем сиденье подвинулись и дали ему место. Водителя такси насторожило, что они даже не поговорили, не поздоровались друг с другом. Было в их нерадостной, молчаливой встрече и еще что-то подозрительное — люди определенно заранее о чем-то договорились и сейчас приводили в исполнение свой замысел. Если бы цифры па счетчике не показывали уже два рубля с копейками, шофер отказался бы везти их дальше и высадил у въезда из переулка на широкий людный проспект. — Все же это не дело, — сказал водитель. — Когда пассажиры берут машину, то называют адрес. А так — «направо, налево» — можно гонять бесконечно. Голос сзади невозмутимо приказал: — Направо. Машина выехала на окраину города. Через сотню метров кончались последние дома. Тянулось асфальтированное загородное шоссе, еще пустынное в этот час. — Дальше, друзья, я вас не повезу. — Почему? — Давайте рассчитываться. Они сидели в машине и вовсе не собирались выходить. Не протестовали, а только молчали. — Ну как? — неуверенно спросил шофер. — Будете платить? — Между прочим, расчет за такси производится, когда пассажиров доставляют к месту назначения. — Куда еще вас доставлять? Которое ваше место? Город кончился, а если вам в дальнюю езду, надо предупреждать. Для загородных репсов у нас специальные такси есть. Пассажиры молчали. «Вот попался!» — думал шофер. Он был уже немолод. Опыт подсказывал ему, что надо быть осторожным. Он привык верить своему чутью. Странные какие-то люди. Он их боялся. Все же было жалко терять деньги. На дороге время от времени появлялись грузовые автомашины. Колхозник из ближнего селения гнал хворостиной ишака, навьюченного кувшинами с холодным мацони. Показались первые арбы, груженные корзинами с персиками и ящиками с виноградом. «Будь что будет, поеду», — решил шофер. На всякий случай он прижался вплотную к дверце, чтобы сразу выскочить, если придется. — Ну, куда? — спросил он. Маленький ответил: — Прямо. — Там же ничего нет. Вы скажите — куда, а то не поеду. В машине негромко засмеялись. Густой, властный голос — это заговорил высокий — миролюбиво разъяснил: — Ну и правильно! Для чего человеку голову морочить? Нам нужно к мраморному карьеру. Знаешь, где это? Прямо по шоссе, а затем поворот налево, и там нас высадишь. — Почему сразу не предупредили? — Давай, давай, дядя, не бойся! Ничего плохого тебе от нас не будет. Шофер новел мамашу вперед. Что им нужно в мраморном карьере? Там давно уже не работают, карьер заброшен, и никто туда не ездит. Ом незаметно повернул зеркальце, чтобы наблюдать за пассажирами. — Мы инженеры, — продолжал тот же голос, — у нас задание — посмотреть и определить, стоит ли возобновлять в карьере работу. Шофер молча крутил баранку. Нет, вы не инженеры. И черт вас вообще поймет, кто вы такие. Ну, да все равно. Со мной вы ничего не сделаете. Он свернул, куда было приказано — до карьера оставалось теперь с полкилометра, — и только хотел было сказать: «Дальше не везу!» — как вдруг услышал сукой и повелительный окрик маленького, который был у них, видно, за главного: — Стоп! Машина остановилась. — Будешь здесь ждать. Через полчаса мы поедем обратно. Дверцы раскрылись на обе стороны, пассажиры вылезли из машины. — Одну минуту. — Шофер кашлянул. — Я не могу ждать. Давайте расплачиваться. — Слышишь, Гарник? — Высокий взмахнул полами серого пиджака. — Он не может нас ждать. У него есть более важные дела. Он приглашен на три заседания и два банкета! Маленький снял очки. Близорукие карие глаза под взлохмаченными бровями, — они старались казаться недвижно-внимательными, — уставились на шофера: — Со мной не спорят, меня слушают с первого слова! Щенок. Настоящий щенок. Воображает о себе черт знает что, сопляк такой! Поддеть его сапогом, что от него останется! Шофер опустил глаза и промолчал. — Отсюда нам все будет хорошо видно. — Подожди, я хочу понять, в какой стороне аэродром. — Аэродром вон там, а граница — тут. — Но разве все самолеты вылетают с аэродрома в одном направлении? — Да, в том-то и дело! Они все сначала летят к границе. Во всяком случае, все те, которые могут нас интересовать. — Ну, знаешь, я в этом не уверен. — Честно говоря, я тоже сомневаюсь. — Ах, вы не уверены? Зато я уверен! А это важнее, потому что вы можете только предполагать и сомневаться, а я твердо и определенно знаю. Я все это выяснил, когда летал с Борисом. Самолет поднимается и на небольшой высоте идет прямо к границе. Потом по радио он получает разрешение развернуться влево или вправо. И только лишь после разворота он ложится на свой курс. Да вы сейчас сами все это увидите. Своими собственными глазами. Тут все будет ясно, как на картиночке. — Вот вылетел, смотрите! — Да они сейчас начнут взлетать один за одним. — А это как раз «Як», по-моему. — Все дело исчисляется именно минутами и секундами. Глядите, вот он уже почти у самой границы. Сейчас получит команду — и отвернет. Заметили? Вот и пошел уже по своему маршруту. И теперь он от границы уже удаляется. — Значит, выходит так: после взлета он через две — три минуты ближе всего к границе? — Вот именно! В том-то и главное! Тут-то его и надо брать. Тут не зевай. Короткий рывок — и ты уже на той стороне, на чужом земле. Лови тебя тогда за хвост! — Надо еще понаблюдать. Подождем еще немного. Пусть взлетят другие. — Надо по часам точно засечь время. …Сержант-орудовец остановил трехтонный грузовик у въезда в город. Он проверил документы у шофера, потом заглянул в кузов. — Что за людей везете? — Подобрал на шоссе. Попросились, чтоб я подбросил их в город. А я порожняком еду. Ну и взял. В кузове на борту сидели трое молодых людей. Сержант козырнул и спросил самого из них малорослого, в защитных очках: — Откуда едете? — Гуляли тут но шоссе, — сказал тот независимо. — А почему вы, собственно, интересуетесь? — Разрешите ваши документы. — Вызываю недоверие, что ли, у бдительной милиции? Сержант опять козырнул, коротко выдохнул: — Прошу! Маленький достал из брючного кармана книжечку-пропуск. Под фотографией были написаны имя и фамилия — Тарник Мисакян, рабочий инструментального цеха. Сержант внимательно разглядывал фотографию, потом поднял глаза на владельца документа: — Рабочий? — Так точно! — Маленький ответно лихо козырнул. — Рабочий, образование среднее, судимостей не имею, приводов тоже, холостой, двадцать три года. — А вы не ломайтесь, — строго посоветовал сержант. Высокий парень вытащил из внутреннего кармана серого пиджака студенческий билет и подал сержанту. И тоже насмешливо козырнул. Студент первого курса филологическою факультета Жорж Юзбашев. Третий молча протянул паспорт — Лаврентий Бабурян. — Так. — Сержант вернул документы. — Вы такси брали? Он заметил, как торопливо, украдкой переглянулись друг с другом эти ребята. Юзбашев вдруг облегченно захохотал: — Вот, оказывается, в чем дело! Честный таксист не только смылся, он еще и нажаловался! — Почему не произвели уплату за пользование таксомотором? — Сейчас произведу уплату, — сказал маленький Гарник Мисакян. Он достал деньги, отсчитал сколько надо и протянул сержанту. — Но, между прочим, не стоило бы производить, потому что была команда — ждать, а он ждать не стал, испугался чего-то и уехал, а пассажиров бросил… Сержант с улыбкой пожал плечами. Как можно не платить! Это непорядок. Парень, конечно, шутит. Но чем же эти веселые ребята испугали шофера такси? Почему он требовал задержать их, проверить у них документы? Ну какие же ото бандиты? Какие хулиганы? Самые обыкновенные веселые компанейские ребята… — А что же все-таки, граждане, вам понадобилось в мраморном карьере? Жорж Юзбашев округлил глаза: — Разве туда запрещено ездить? Мы не знали. — Почему запрещено? Просто нечего там делать. — А у нас дело нашлось: мы выпили там бутылку маджари, — сказал Гарник, — за успех начатого дела выпили. Милиция не возражает? Сержант почувствовал, что от ребят в самом деле чуть попахивает молодым винцом. Он вскинул регулировочный жезл: — Ладно, проезжайте! Все трое дружно и весело козырнули ему в ответ. Трехтонный грузовик идет по городу. — Честно говорю, ребята: я испугался! — Ерунда! Сразу стало ясно, что это таксист нажаловался. — Не нужно было запугивать его, а просто тихонько расплатиться и отпустить. — Нет, очевидно, мы и сами не замечаем, что начали вести себя подозрительно. К чему это молчание, угрюмые взгляды? Надо жить так, как будто перемен не будет. И никаких глупостей. Я считаю, что это было нам как бы первое предупреждение, и мы еще спасибо должны сказать пугливому таксисту. — Ладно, ребята. Хватит болтовни. Гарник должен доказать, что знает самолет. Теперь важно только это. Словам я больше не верю. — Могу доказать. Завтра на местных линиях работает Борис Махмудов. Ровно в семь утра сбор на аэродроме. Кто приедет первым, берет три билета на чужие фамилии. Устраивает вас это? — Вполне. — До завтра!Глава IV
В какую бы компанию, на какую бы вечеринку ни попал пилот гражданской авиации Борис Махмудов, его неизменно выбирали тамадой — руководителем стола. Он умел произносить приятные для всех тосты, умел пить и не пьянеть, умел улаживать ссоры, если они возникали. Город был полон его друзей, хотя очень часто при новой случайной встрече ему бывало трудно вспомнить, как зовут человека, считавшегося его другом. Недавно на одном дружеском кутеже, где Борис неутомимо провозглашал красивые тосты за всех знакомых и незнакомых (в Армении полагается за каждого из присутствующих выпить отдельно), к нему подсел щуплый паренек. Через пять минут они уже хлопали друг друга по спине, вспоминали общих приятелей, беспрестанно чокались и по счету «три, четыре» баритоном и тенорком заводили песню, которую тут же подхватывали все сидящие за столом. Махмудов постучал вилкой по стакану, поднялся и потребовал внимания: — Бывает так, что знаешь человека долго, а любишь мяло. Но бывает наоборот — знаешь мало, а чувствуется, что будешь его любить вечно. Про кого я говорю? Он склонился к новому знакомому и тихонько осведомился, как его зовут. — Я говорю о нашем дорогом и на все сто процентов замечательном парне Гарнике Мисакяне. Я пью за его душу — широкую, как Черное море. Кто его не знает — пусть узнает, кто еще не любит — пусть полюбит. Как тамада данного стола предлагаю выпить этими маленькими бокалами за большую дружбу и красивую любовь! Домой пошли вместе. — Ты повелитель воздуха, смелый сокол, король скорости и хозяин жизни, — пьяно объяснял Борису его новый друг. — А кто я? Ничтожество. — Ну почему же ничтожество? — возражал летчик. — Это я сам про себя так говорю. А если ты мне это скажешь, я тебя ударю. Понятно? Вполне тебя понимаю. Гарник не слушал приятеля. — Вот я кончил в прошлом году медицинское училище. По специальности не работаю. И не буду. Почему? Ты спрашиваешь, почему? Ну сколько может у нас зарабатывать выпускник медучилища? Две копейки, да? Это не для меня. И, куда бы я ни ткнулся, жизнь ставит мне копеечный предел. Понятно? На что же мне надеяться? Скажи! А ведь и душе у меня тоже есть крылья! Борис сказал нравоучительно: — Самое главное — чтобы душа била широкая. — Ведь я тоже мечтал летать! — Ну и не огорчайся, это тебе доступно, только захотеть. — Говоришь! Ты сам на каком летаешь? — Хотя ты и назвал меня королем воздуха и так далее, но я летаю всего лишь только на «Як-12». Так называемые местные маршруты. Туда-сюда по нашей Армении. В общем, твой друг пока что не сокол, а воздушный извозчик. Но можешь не сомневаться, что в дальнейшем ты еще услышишь кое-что о своем друге Махмудове. — А трудно управлять твоей машиной? — Что «трудно»! Если интересуешься, приходи как-нибудь на аэродром, я тебе все покажу. Уж машину-то, во всяком случае, я знаю как бог! Борис Махмудов быстро забыл бы об этом разговоре, если бы три дня спустя не наткнулся в аэропорту на своего нового приятеля. Он удивился: — Ты как сюда попал? Летишь куда-нибудь? — Даже и не собираюсь. Но ведь как будто меня кто-то пригласил прийти взглянуть на чью-то машину… Летчик ничуть не смутился: — Очень хорошо помню, кто тебя приглашал. Это я тебя приглашал. Верно? Он двумя руками пожал ладонь приятеля и кивнул а сторону самолета, стоящего неподалеку на траве: — Залезай туда, друг, и располагайся. Это и есть воздушное такси Бориса. Махмудова. Я сейчас вернусь, только за папиросами смотаюсь. Гарник полез в самолет. Все тут ему было интересно. Он внимательно огляделся, стараясь вобрать и удержать в памяти то, о чем нужно будет рассказать друзьям. Как хорошо, что самолет четырехместный — одно место предназначено летчику, три остальных — пассажирам. И притом — вот что интересно! — специальной пилотской кабины нет. Сиденье летчика ничем не отгорожено от мест, купленных пассажирами. Когда хозяин самолета вернулся, Гарник смирно сидел в углу, засунув руки в карманы. — Я тут без тебя боялся какой-нибудь рычажок зацепить… Вдруг еще взлетишь! Махмудов блеснул глазами: — Не так это просто. Он сел за штурвал и пальцем стал указывать на кнопки, педали, рычаги, которые надо привести в действие, чтобы тронуть машину с места. Гость извлек из кармана плоский стеклянный флакон с завинчивающемся серебряной пробкой и поболтал в воздухе. Густая коричневая жидкость запенилась, ударяясь о стенки. — Это что? — холодно поинтересовался Махмудов. — Люди пьют коньяк, а я только ром. — Гарник неторопливо отвинтил пробку. — Заграничная фляжечка, всегда ношу при себе, а никому ее не видно. Прошу, можете приложиться! — Это ты, значит, для меня принес? Угощаешь, да? — Просто глотнуть за компанию… Без всякого умысла… Махмудов строго свел в одну линию густые черные брови. — Но, друг милый, за кого ты меня принимаешь? Может быть, тебе кажется, что глоток выпивки для меня дороже чести? Я на своем производстве в данную минуту. Правила поведения летчика в рабочее время — это для меня святыня. Убери заграничную фляжку! Гарник подчинился и с опаской поглядел на хозяина. — Надо знать, где и когда пить, — продолжал поучать его Махмудов. — Пожалуйста, в моем присутствии постарайся держать себя на высоком моральном уровне. А если хочешь знать, так я вообще постороннего человека не имею права допускать в самолет. Помолчали. — Мне уйти? — с вызовом спросил Гарник. — Как хочешь. — Махмудов пожал плечами. — Я говорил про посторонних. Тебя это не касается. Ты мой друг. — Что-то сегодня я это не очень чувствую. Борис посвистывал и протирал тряпочкой стекло. В кабине самолета было чисто, как на витрине у ювелира. — Борик, — сказал гость, — другой на моем месте мог бы действительно уйти. Потому что обидно. Но я лично стал еще больше тебя уважать за твою принципиальность, честное слово! Махмудов засвистел погромче, лицо егопрояснилось. — Гарник, — сказал он примирительно, — я знаю, кому можно верить и кого наш гнать в шею. Раз государство мне доверило машину, то я за нее полностью отвечаю, верно? — Ты прав. — Значит, своего друга я могу оставить хотя бы даже ночевать в машине. Никого это не касается! — Никого не касается. — Ну и все! Мы друг друга поняли. Я просто хотел показать тебе, что во время кутежа я приятный компанейский парень, душа компании, на работе я строгий работник. — Именно так я тебя и понимаю. — Тогда наша дружба будет расти и крепнуть. Взаимное понимание, как говорится… Опять помолчали. — Раз уж ты так настаиваешь, — нерешительно проговорил Махмудов, — то мне не хотелось бы тебя обижать… Ради нашей молодой дружбы я могу глотнуть разок из заграничной фляжки, если, конечно, у тебя там ром… — Самый настоящий ром! С этого дня Гарник стал часто ездить на аэродром. С собой он привозил полную флягу, обратно увозил пустую. Всякий раз он допытывался: — А как ты управляешь своим самолетом? Вот, скажем, ты уже поднялся в воздух и хочешь лететь прямо, — что для этого нужно сделать?.. А теперь покажи, как нужно разворачиваться. Ну, допустим, я захотел повернуть вправо? Однажды он поднялся с Борисом Махмудовым в воздух, и тот позволил ему взять штурвал. — Ты понимаешь, что я делаю? Понимаешь, какое у меня к тебе доверие? Фактически я передал тебе управление самолетом? Ты хоть ценишь эго? Гарник это ценил. Очень ценил. Встреча была назначена на семь часов утра. Никто не опоздал. Но Жорж Юзбашев приехал чуть раньше и взял билеты на троих. Во всех аэропортах существует правило, чтобы пассажиры при регистрации называли фамилию и сообщали свой адрес. Юзбашев тут же придумал адреса, записал вымышленные фамилии. С билетами пошли к самолету. Борис Махмудов уже ждал их. Он был сух, подтянут, неразговорчив. Отлично сшитая и подогнанная по фигуре форма пилота гражданской авиации придавала его облику вид официальный и неприступный. — Борик, дорогой. — ласково начал Мисакян, — вот моя команда. Представь себе, эти младенцы еще никогда не летали… Пилот сухо распорядился: — Пассажиров прошу занять места. — Мне хотелось, чтобы они приняли боевое крещение именно на твоем самолете и под твоим руководством. Пусть посмотрят, как наш земной шарик выглядит сверху… — Билеты есть? Садитесь. Жорж Юзбашев и Лаврентий Бабурян озадаченно переглянулись. Они не ждали такого приема. Но Гарник успокаивающе шепнул встревоженным приятелям: — Это он только сейчас так, а поднимемся в воздух — все будет по-другому. Он сел рядом с летчиком. Огромный Жорж и толстый Лаврентий Бабурян устроились на задних сиденьях. Пилот надел наушники, запросил по радио разрешение на взлет и тронул рычаги. Машина чуть вздрогнула, легко побежала по зеленому ковру и неслышно оторвалась от земли. Спустя минуту она уже плыла высоко над землей, по синему небу. Летчик снял наушники: — Ну как, друзья пассажиры, нравится вам полет? Теперь это был совсем другой человек — добродушный, приветливый. Жорж Юзбашев широко улыбнулся ему, блеснув белыми зубами. Лаврентий Бабурян ничего не ответил. Ему — тучному и вялому — было плохо, его тошнило. — Ничего, — сказал пилот, — ты крепись. Вот возьми мятную конфетку… Огромный Юзбашев едва помешался в кабине — на всякий случай он даже пригибал голову. Чувствовал он себя великолепно и с любопытством поглядывал на убегающую землю Хотя ему было тесно, он то и дело приподнимался, размахивал руками. — Это что, друг, — физкультура в воздухе? — смеясь, спросил Махмудов. — Пять минут в день для здоровья? — Проверяю свою подвижность в ограниченном помещении. — Ну, проверяй, проверяй. Может, когда и пригодится. Юзбашева эти слова почему-то развеселили. — Ох, ты прав, дружок! — Он засмеялся, протянул руку и хлопнул летчика по плечу. — Вот и я тоже уверен, что пригодится! — Ну и рука у тебя! Чуть мне плечо не отбил. — Да уж, никому не посоветую встретиться с моей рукой, когда она злая! Успокоительно стрекотал мотор. Под крылом проплывали огромные бурые пятна — это солончаки. Узенькая светлая виточка — это река. Зеленая заплата на серой простыне — это лесок, окруженный бесплодным нагромождением камней. — Правильно говорят: «Айастан — карастан», — сказал, издыхая, Махмудов. — Армения — страна камней. Гарник Мисакян нетерпеливо тронул его за локоть: — Ну дай же мне штурвал… Пилот снисходительно засмеялся: — Ой, хвастун, собачий сын! Вы понимаете, ребята, в чем дело? Не терпится ему покрасоваться перед вами. Смотри, чем хвалишься, па том и провалишься. Возьми штурвал! Он отодвинулся. Гарник положил руки на штурвал. Это уже не в закрытой кабине, на земле, тайком, чтобы никто не видел, — это в воздухе! Он — хозяин полета, король пространства! Самолет повинуется ему! Восторженно, с визгливыми нотками в голосе он закричал, стараясь перекрыть шум мотора: — Смотрите же! А приятели и так не отрываясь глядели на него. Бабурян забыл, что ему худо, — откинулся назад и широко раскрытыми, круглыми от удивления и страха глазами следил за движениями штурвала. Юзбашев всем своим огромным телом подался вперед. — Смотрите! Смотрите! Гарник по-хозяйски удерживал штурвал, гнал легкокрылую машину вперед, вперед! «Ну, теперь вы понимаете, — бормотал он, хотя и знал, что друзья не слышат его, — самолет мне подчиняется! Хочу — набираю высоту, а вот спускаюсь к земле»… Он прикусил губу и начал плавный разворот влево. — Ну, видите? — крикнул нетерпеливо. — Чего вам еще надо?! — Ты куда? — Махмудов вырвал штурвал из рук Гарника. — Наш курс — прямо! Там же граница, чудак! Гарник откинулся на сиденье, победно взглянул на пилота: — Чего испугался? Проба сил. — Ты все же попытан сначала у хозяина — можно ли! И чего, спрашивается, пробовать? — Борис обернулся к двум другим пассажирам. — Летает ваш приятель, ничего не скажешь! Вот что значит прирожденный у человека интерес к воздуху. Пять — шесть дней приглядывался — и пожалуйста, уже почти все понял! И он уже плавает, понимаете, на воздушном океане, повелитель стихий! Гарник негромко отозвался: — Ты напрасно смеешься. То ли еще будет… — Ну, убедились? — Да. Ты молодец. — Теперь вы поняли, что я вас не обманываю? — Просто гениально! Огромные успехи за такой короткий срок. — В общем, время обсуждений и разговоров кончилось. Давайте назначим конкретный день. — По-моему, уже давно решено, что это должно произойти в воскресенье. — Пусть будет так: ближайшее воскресенье! — Хорошо, я согласен. Тянуть не стоит. — Это значит — десятого сентября. — Мне понравился этот мальчик, этот Борик Махмудов. Хотелось бы лететь именно с ним. — Почему именно с ним? — Контакт уже наметился. Паренек он понятливый, толковый. Для чего нам искать другого? — Нет, с ним я не хочу! — Объясни. — Не понимаешь? Может быть, мы не поладим с пилотом… И придется по отношению к нему что-то предпринять… Это ведь вполне возможно, мы не исключаем, что так может получиться… Вот на такой случай Борик меня не устраивает. Мне его жаль. Пусть это будет мой каприз. Достаточно и того, что он для нас уже сделал. — Ладно. Мне-то, собственно, все равно. — Тем более, что я его изучил. Он не согласится. — Соглашаться или не соглашаться человек может, когда у него есть выбор. Мы никакого выбора пилоту не оставим. Но я не спорю. Пусть будет тот, кого нам пошлет судьба. — Желательно бы умного, сговорчивого, с хорошим характером. — Посмотрим… — Значит, в воскресенье? — Да, десятого сентября.Глава V
Эту ночь с субботы на воскресенье Грамт провел неспокойно. Долго не мог уснуть, а когда часы в столовой пробили три раза, он проснулся со свежей и ясной голевой, как будто вытащил ее из-под крана. Бессонница его не тяготила. Он радовался, что сейчас, когда часы отсчитывают медлительные секунды, он может без помех и неторопливо обдумать предстоящие перемени. И, если вдруг он улыбнется или насупится, никто не поспешит заметить это и спросить: «Грантик, милый, что с тобой?» Ох, уж эта чуткость всех домашних! Он лежит на спине, подушку положил сверху на лицо. Он улыбается. И почему-то ему кажется, что Эмма сейчас тоже не спит, думает о нем и тоже улыбается. Ах, какой щедрой, удивительно интересной стала его жизнь с тех пор, как он познакомился с Эммой у падающего камня! Кстати, а камень-то все еще не упал. Вчера они были там. Все еще держится… Сегодня они снова пойдут туда. Он будет писать ее портрет. Это уже решено. И потом они сравнят — как он увидел ее в первый раз и как видит теперь. Это очень важно. Пойдут они туда после полета. После того, как он вернется. Собственно, он мог бы сегодня и не лететь. Вообще отлетался он на «Як-12», хватит. Теперь он уже — наконец-то! — пилот тяжелых транспортных самолетов. Правда, пока еще второй пилот, с таким званием он кончил школу высшей летной подготовки. Приказ о назначении на «Ил» уже подписан. Но вчера позвонили из штаба авиагруппы, попросили в последний раз слетать на «Яке». Кто-то из ребят заболел, надо помочь. Ну что ж, в последний раз слетаем на «Яке». Поможем, раз надо. Он опять улыбается. Ничего не скажешь, «Як-12» хорошая машина, и он многим ей обязан, пять лет на ней летает. А теперь будет летать на тяжелом лайнере. Это звучит лучше: тяжелый лайнер. «Вы кто такой, чем занимаетесь?» — «Я пилот тяжелого лайнера»… Эмма сказала: «Сделаешь последний рейс на «Яке» — пойдем к нашему камню и выпьем там на двоих маленькую бутылочку шампанского». Надо же, в самом деле, отметить перемену в судьбе летчика. Спокойной ночи, Эмма. Еще ведь ночь, хотя и светло. Спи! В шесть часов утра Грант вышел из дома. С еысот, обступивших город, поддувал прохладным ветерок. Утреннее солнце еще не успело набрать палящую знойную силу, оно пока только ласкало, а не обжигало. Щедро политый зеленый сквер на площади остро дышал освеженной листвой. Машин на улицах гиде было мало. Звонко цокая копытцами по мостовой, бежали в сторону колхозного рынка длинноухие навьюченные ишачки. Грант юркнул в первую попавшуюся на пути телефонную будку. Он мог бы, конечно, позвонить и из дому, но не стоило возбуждать чрезмерный интерес у домашних. Телефон долго гудел, пока на другом конце провода кто-то наконец снял трубку. Ему казалось, что к телефону обязательно подойдет Эмма. Услышит звонок — и поймет. Ну кто еще, кроме него, может звонить по этому номеру в такую рань? Мужской голос сонно проговорил: — У аппарата. Грант долго думал, стоит ли называть себя. — Алло, вы собираетесь говорить или нет? — Собираюсь, — сказал он, — мне хотелось бы Эмму… — Слушайте, а вы представляете себе, который час? Кто это, между прочим? — Простите, пожалуйста, я знаю, что очень рано, но у меня совершенно неотложное дело. — А кто это? — Вы меня не знаете… — Надо было как-то выкручиваться. — Из университета, Гурген Аветович… Он слышал, что так зовут одного из преподавателей Эммы. Но, кажется, мужчина тоже знал это имя. — Здравствуйте, Гурген Аветович! — Голос был теперь куда более приветливым. — Это Карен Александрович говорит… Что у вас случилось? Грант от неожиданности совсем было повесил трубку на рычаг и только и последнюю секунду пересилил себя. Карен Александрович — это отец Эммы. Но кто же знал, что он знаком с профессором? — Здравствуйте, Карен Александрович, — бодро сказал Грант, теперь уже почти басом. Он не знал, в каких отношениях профессор находится с отцом Эмми, по:;се же решим рискнуть. — Здравствуйте, дорогой мой. Если вас не затруднит, на одну минутку Эмму… Было слышно, как мужчина позвал: «Эмма, подойди к телефону, тебя из университета Гурген Аветович вызывает, что-то очень важное…» Свежий голос Эммы удивленно проговорил: — Профессор, я слушаю… — Эмма, это я. Твоего отца я, кажется, напугал. И вообще, наверно, я там у вас всех перебудил… Не сердись! Вдруг мне до смерти захотелось позвонить… В трубке помедлили. — Гурген Аветович, я очень рада, что вы позвонили. Конечно, постараюсь вам помочь… Вы застали меня врасплох… — Я сегодня почти всю ночь не спал… — Но что же я могу сделать, Гурген Аветович! — Эмма, я иду сейчас в полет. Последний полет на «Яке». Но сегодня же, всего через несколько часов, тебе будет звонить пилот тяжелого лайнера. Ничего более значительного тебе сообщить не могу. Просто мне захотелось перед последним полетом услышать твой голос. — Да, да, это действительно очень важно. Я вас понимаю. Конечно, вы должны были позвонить… Секундная пауза. И быстрый шепот в трубку, прикрытую, видимо, ладонью: — Грант, слушай, иди ты к черту, я же сплю! — Эмма, не смей сердиться! Ты сегодня оденешься точно так, как в первый раз, когда мы встретились… Вплоть до красных туфелек, слышишь! Будешь ждать моего звонка… Когда пилот тяжелого лайнера тебе позвонит, ты, не теряя ни минуты, отправишься к нашему камню… — Я все это сделаю, профессор, обязательно сделаю. — Теперь скажи мае что-нибудь хорошее. Скажи: «Я так благодарна тебе, что ты позвонил перед полетом, я очень рада, что ты разбудил меня и весь дом…» Шепот: — Ну, знаешь, ты просто нахал! — Громко: — Гурген Аветович, от души желаю вам удачи. Папа передает привет. Может быть, вы хотите поговорить с ним? — Нет! — сказал Грант. — Ты что, с ума сошла? Думай обо мне сегодня весь день! — крикнул он напоследок и торопливо положил трубку. На аэродроме он прежде всего зашел в штаб эскадрильи и получил задание на полет. Когда не предвиделось дальних рейсов, самолет «Як-12» совершал дневные перелеты по местной трассе. Так вышло и сегодня. Дежурный штурман сообщил Гранту, что лететь придется недалеко — в селение Ехегнадзор. — Ну и отлично, — обрадовался Грант. — Мне сегодня хорошо бы пораньше освободиться. Несмотря на ранний час, в помещении аэропорта было людно и весело. Пилоты, расставшиеся только вчера и облетевшие за это время чуть ли не полмира, беседовали о фильмах, которые идут в Москве и на Украине, о сплошных дождях над Курском и о том, как приятно купаться в Черном море. Пассажиры громко смеялись, перекликались друг с другом, целовались, покупали цветы. Грант пошел посмотреть, какая погода на его трассе. На щите штормового оповещения красными огоньками электрических лампочек были обозначены трассы, закрытие для полетов. Значит, где-то в горах бушует буря, самолету не пройти. А что на его линии? Все в порядке. Теперь надо было еще зайти в медпункт. Полагается перед полетом проверить здоровье. Хорошенькая медсестра в белом халате проверила у него пульс и измерила давление. — Определенно можно сказать, Грантик, что гипертония в ближайшее время вам не угрожает. — А что мне угрожает? Он догадывался, что немножко правится девушке. А сегодня ему хотелось всем нравиться. И он улыбнулся ей, приоткрыв ровные белые зубы. Сестра сказала: — Вас можно сфотографировать для рекламы зубного порошка. — Это хорошо или плохо? Она засмеялась. — Последний рейс на «Яке»? — спросила она. — Вы всегда все знаете! — Грант помахал ей на прощанье рукой. Чувствовал он себя так легко, как будто не было позади бессонной ночи. Напряженные мускулы весело играли под темно-синим кителем. Свой самолет «Як-12 А» с бортовым номером «348» он увидел издали. Но он пошел сначала не к нему, а в другую сторону — туда, где на желтой щебенке стояли могучие серебристые машины. «Здравствуй. «Ил», тяжелый, лайнер! Ждешь меня? С завтрашнего дня будешь моим». Взглянув на часы, он понял, что пора подавать самолет на посадку. Машина уже была заправлена и приготовлена к полету. Грант быстро осмотрел ее и уселся на пилотское место Ждать ему пришлось недолго. Дежурная тут же привела пассажиров. Трое, полным комплект. Ом успел разглядеть их, пока они подходили. Впереди шел щупленький человек, возраст его трудно было определить — лицо он закрыл темными защитными очками. Позади, держа в руках маленькие дорожные чемоданчики, двигались двое — рослый, крепко сколоченный молодой человек с открытым и добрым лицом, а рядом с ним плотный, точным, но тоже молодой пассажир. Одеты все трое были по-праздничному — широкие цветные пиджаки, галстуки на белых рубашках, узкие, отлично выутюженные брюки, модные остроносые туфли. Грант открыл им дверцу: — Насколько я понимаю, друзья, подается команда — доставить вас в Ехегнадзор? — Вот именно, — сказал маленький. Все трое внимательно, с непонятным интересом разглядывали пилота. — В гости, наверно, едете? — Вот это уже не угадал, — сказал маленький. — Я это потому, что вы нарядные такие… Прошу садиться! Пассажиры полезли в кабину. Рядом с Грантом сел маленький. Двое других устроились позади, причем рослый парень — в тесной кабине он казался просто огромным — занял место как раз за спиной пилота. — Мы инженеры, — объяснил он густым, властным голосом, — назначены в Ехегнадзор работать. Пока что едем посмотреть… — Он усмехнулся. — Вы не бывали там? — Бывал, почему же. — Ну, и как там жизнь? — Не пожалеете. Много фруктов. Вообще чудесно. — И мы через полчасика там будем? — Да, примерно так. — Слышишь, Гарник? — Высокий чуть перегнулся и хлопнул маленького по плечу. — Пилот говорит, что там, где мы будем через полчаса, — там чудесно. Все трое засмеялись. — Значит, мы не пожалеем, что едем в такое хорошее место? — спросил маленький Гарник. Гранту нравилось, что они такие веселые. Даже, может, чересчур возбужденные. Правда, от них чуть-чуть попахивало коньяком, но пьяные они не были, нет. — Вот скоро вы и сами все увидите, — сказал Грант. — Вас там ждут? Будут встречать? — Никто не ждет, но встретят как богов, это я ручаюсь. И тебя встретят не хуже, чем нас. — Я сразу же обратно, — сказал Грант. Они опять засмеялись. Маленький обернулся к высокому: — Ты слышишь, Жорж? Он сразу же обратно! — Он торопится, — сказал Жорж. — А люди там ласковые, приветливые, — в том месте, куда мы едем? — Это спросил толстый. — О людях не могу судить, потому что мало кого знаю. — И фруктов поедим, да? — Это уж определенно. — Ну, я вижу, ты хороший парень, — сказал маленький. Он опять повернулся к приятелям. — Вот, Жорж, судьба послала нам нилота, о каком можно лишь только мечтать — умницу и с хорошим характером. У тебя ведь хороший характер, правильно я определяю? — Да как когда. — Постарайся, чтобы у тебя оказался хороший характер. Сделай все возможное, чтобы не разочаровать меня. Грант с улыбкой спросил: — Вы устроились, друзья? Можно начинать рейс? Все у вас в порядке? Перебивая друг друга, пассажиры закричали: «Да, да!», закивали головой. Грант надел наушники. Теперь не до шуток, долой болтовню, начинается работа. Он негромко проговорил в ларингофон: — Триста сорок восьмой просит разрешения на взлет. Диспетчер тут же отозвался, голос его мягко прошелестел в наушниках: — Триста сорок восьмому взлет разрешаю. Привычное движение руки — и машина пошла. «Як-12 А» с бортовым номером «348», налетали мы с тобой сотни тысяч километров. Возили мы с тобой грузы, возили почту. Видела и хорошую погоду, и в бурю попадали. Пять лет мы с тобой дружили. Теперь — прощальный толст. Плывут под крылом самолета сады и виноградники Араратской долины. А вот и сам Арарат — два снежных купола. Близко, совсем близко, но это уже Турция. Посмотришь вниз — кружатся, поворачиваются деревенские улицы, будто провожают самолет. Блестит, искрится, играет река. Посмотришь вдаль — сияют под солнцем голубые цепи гор. — Борт триста сорок восьмого. Высота — сто. Прошу разрешения встать на курс следования. В наушниках знакомый голос диспетчера: — Добро! Разворачивайтесь налево! На часах — 8.05. Грант потянул на себя рычажок триммера и нажал ногой на педаль. Разворот на установленный курс он произведет, как всегда, плавно, спокойно… Он почувствовал — рядом происходит что-то странное. Непонятно-напряженным движением сидящий рядом с ним щуплый Гарник сорвал очки-светофильтры. Что-то сдавленно выкрикнул. Худо ему — заболел, что ли? Чьи-то могучие руки схватили Гранта сзади за плечи. Эго его, должно быть, гнет назад и ломает рослый Жорж. Довольно же дурака валять! Холодная рука третьего пассажира хватает его за горло. — Ребята, что вы делаете?! — кричит Грант. — Здесь не место для шуток, ну вас, в самом деле? Он еще ничего не понимает. Пьяные они, что ли? Ведь самолет рухнет… Н вдруг до пего доходит возбужденный голос Жоржа: — Разворота не будет. Давай прямо. — Куда же прямо? — отбивается Грант. — Там граница! — Давай прямо. Объяснять еще тебе! Только теперь он понял, чего требуют эти люди… Да кто же они такие? Ведь только что улыбались, разговаривали… Это бандиты! И он — одни против троих в кабине самолета. Откуда может прийти помощь? Даже радиосвязи нет… На секунду ему удается вырваться из цепких рук. — Сядьте по местам! — кричит он и резко разворачивает самолет в сторону аэродрома. Его опять хватают за руки, за плечи. — Ты чего? Не дури! — слышит он торопливый голос над ухом. — У тебя выбора нет. Сдохнуть хочешь? Ты же молодой… Это правда. Он молодой. Он не хочет умирать. — Ты за нас держись… В героях будешь ходить… Бери штурвал, дурак! Из-за чего тебе жизнь терять? Грант яростно рвется из рук бандитов. — Вы люди или вы кто?! — стонет он. Холодная рука зажимает ему рот. Потом он видит нож, чувствует острую боль в правом боку. Еще один удар ножом в плечо. На шею ему накидывают обрезанный шнур радиотелефона и стягивают с сиденья назад, на колени пассажиров. И он видит, как щуплый Гарник берет в свои руки штурвал самолета.Глава VI
В воздухе счет времени идет на секунды. Но в эти краткие мгновения может втиснуться воспоминание обо всей прожитой жизни… О чем думали они, что вспоминали, сидя в кабине самолета и готовясь к своему страшному преступлению. Гарник Мисакян Сколько времени он ждал этой минуты? Год? Пять лет? Нет, всю жизнь! Еще в школе, когда мальчишки обижали его, он думал: «Ладно, вы меня еще узнаете!» Отец требовал: «Ты должен хорошо учиться». И позднее: «Ты должен работать, у нас в стране все работают. На что ты рассчитываешь? Что из тебя получится?» Отец избивал его, а он думал: «Я вам всем покажу, что из меня получится. Придет время, вы ахнете». Отца он презирал. Отец, по его мнению, ничего в жизни не добился. Простой шофер. Приходил с работы домой и хвалился: «Надо уметь жить!» А в чем было его умение? Показывал домашним жалкие рубли-копейки, которые раздобыл, сделав «папах» — какую-нибудь незаконную ездку «налево»… Гарник даже дома чувствовал себя волчонком. Никто не любил его, и он никого не любил. Товарищей не было, если не считать Жоржа Юзбашева. Вот этого самого Жоржа, который сейчас сидит сзади, глядит во все глаза и ждет, когда Гарник снимет очки и надо будет наброситься на пилота… Странная эти была дружба. Жоржа считали самым здоровым и самым голодным парнем в классе. Мать его занималась своими делами и не обращала на сына внимания. Вот он так и рос, предоставленный самому себе. Железные кулаки и могучий аппетит. А Гарник был слабосильный, тщедушный. И он сообразил: если не имеешь железных кулаков, нужно, чтобы чужие могучие кулаки всегда были за тебя, а не против тебя. В четвертом классе Гарник предложил Жоржу соглашение. Силач должен доставать с вешалки пальто Гарника (вешалка была очень высокая), носить из школы до дома его тяжелый ранец и еще — по указанию Гарника избивать мальчишек. За все это Жорж будет каждый день получать бутерброд и раз в месяц — тридцать копеек. Предложение было принято. Отец Гарника, узнав об этом, обозвал сына захребетником и подлецом и дал ему на всякий случай пощечину. — Ишак, разбойник, сам должен уметь защищать себя, если хочешь быть мужчиной! Но в тот же вечер в присутствии сына он с удовольствием рассказывал об этой сделке гостям: — Все-таки у моего подлеца есть голова на плечах! Кто додумается за тридцать копеек в месяц обеспечить себе столько жизненных удобств! Гости тоже порицали маленького пройдоху, стыдили его, а родителям говорили: — Ну, он у вас далеко пойдет! И эту похвалу — редкую в устах отца и других взрослых люден — Гарник запомнил лучше, чем ругань. К тому, что его ругают и дома и в школе, он уже давно привык. Жорж верно служил ему три дня. Бил ребят, ел бутерброды. А на четвертый день он подошел к своему нанимателю и с ухмылкой двумя звонкими оплеухами сбил его с ног. Гарпии вскочил, пораженный несправедливостью. — За что?! Чей хлеб ты ешь, сукин сын?! Оказывается, одноклассники предложили Жоржу более высокую зарплату, чем обещал Гарник, — сорок копеек… Вот теперь-то они должны были рассориться надолго, если не навсегда. Этого ждал весь класс. По вышло не так. Жоржу обижаться было не на что — он только повысил себе цену. А Гарник стал более уважительно поглядывать на приятеля, когда понял, что тот только с виду кажется добродушным и простым, а на самом деле у него тоже есть голова на плечах. Но это все детские дела, они давно прошли. Жорж вскоре ушел из школы и вообще уехал из Еревана. Мать пристроила его на жительство в дальнее селение не то к каким-то родственникам, не то просто к сердобольным знакомым. В девятом классе той же школы они встретились вновь. У Жоржа к этому времени был уже за плечами очень горький жизненный опыт. В одном из маленьких городов Армении он спутался с преступной шайкой, участвовал в групповой краже и попал под суд. Ему дали три года, но вскоре освободили, приняв во внимание, что он несовершеннолетний. Он написал покаянное заявление: «Никто, ничто и никогда не толкнет меня более на дурной путь». Гарник думал, что в школу придет придавленный жизнью, пристыженный человек. А Жорж пришел улыбающийся, веселый, еще более наглый. — Теперь я все понял, — сказал он Гарнику. — Больше уж не попадусь. — То есть не станешь больше воровать? — Я сказал — не попадусь! В тюрьме он подхватил старинную русскую поговорку и без конца повторял ее: «Беднее всех бед, когда денег нет!» Жоржу снова пришлось жить с матерью. Она не хотела кормить его, гнала из дома. «Иди куда хочешь! Ты мне не нужен, ты мне мешаешь!» Шестнадцатилетний парень ненавидел женщину, давшую ему жизнь. Даже Гарник, не уважавший никого ни дома, ни в школе, приходил в ужас от тех гнусных слов, которыми обменивались сын с матерью. Однажды Жорж явился в школу с расцарапанной щекой. Учители спрашивали его, что случилось, — он молчал. Гарнику на перемене он сказал: — Я так ей двинул, что она свалилась… Гарник сразу понял, что речь идет о матери. Он опять, как в детстве, приносил приятелю бутерброды, только до поры до времени ничего не требовал взамен. — Я решил ее убить, — сказал Жорж. — Ты поможешь мне? Гарник нерешительно сказал: — Нас поймают… — Удерем за границу! Это все говорилось со зла, под влиянием минуты. И это были случайные, первые пришедшие в голову слова. Но не случайно было то, что эти слова не забылись. Они все чаще и чаще стали повторяться в их разговорах. Жорж и Гарник уединялись на переменах или встречались по вечерам и с мстительным удовольствием повторяли: «Убьем! Убежим!» Пет, в то время они еще не верили, что сделают это. Но им приятно было говорить о преступлении и убеждать себя, что в своих руках они держат жизни и судьбы людей. Но вскоре разговоры стали более серьезными. Убийство отпало. Для чего оно? А вот побег за границу стал казаться им необычайно заманчивым. «Какая здесь у пае может сложиться жизнь?» — растравляли они друг друга. Надо работать. Все время работать и работать. Получать зарплату. Рассчитывать и экономить. «Здесь мы обречены прозябать», — повторял Гарник. Им правились слова чужого языка: «босс», «бизнесмен», «магнат». Они примеряли их к себе. И когда писали друг другу записки, то начинали с обращения: «Мой дорогой босс!» Они уверяли друг друга, что их призвание — вершить людские судьбы. Они — люди большого размаха. Власть им могут дать только деньги. А какие деньги полагаются советскому человеку? Зарплата! Если же человек скопит деньги как-нибудь иначе, его разоблачают. Вот недавно в газетах было напечатано, что у одного продавца из продуктового магазина отняли дачу, потому что он построил ее на нетрудовые доходы… Они не пропускали ни одного иностранного фильма. У армян, приехавших из-за границы, доставали американские иллюстрированные журналы. Жоржа больше всего интересовали приморские курорты, где отдыхали миллионеры. С помощью словаря он пытался разобрать подписи под снимками и опьяненно выкрикивал: «Сто тысяч! Миллион долларов!» Гарник отбирал картинки из жизни ночных баров и кабаре. «Если прийти сюда с деньгами, — говорил он. — то получить все удовольствия, которые существуют в мире». И оба сходились на одном: «Деньги могут все!» Друг с другом они разговаривали теперь только об одном — как бы уехать за границу. И не просто уехать, а так, чтобы о них сразу заговорил весь мир. Стать героями газетной сенсации. Пройти с улыбкой по экранам Нью-Йорка и Парижа… — По сравнению с тобой природа меня обделила, — говорил Гарник. — Но я возвышусь над людьми. Вы все забудете, что я маленький ростом, что я некрасивый. Дай мне только вырваться в тот мир, и я страшно, я сказочно разбогатею. Деньги купят мне все, о чем мечтают и умники и дурачки… Жорж жаловался: — Знаешь, в тот день, когда я без денег, я чувствую себя до самого конца несчастным. Честное слово, я тогда могу даже убить. Для меня запретов нет, потому что я незаурядный. Таких, как я, мало. Но я задыхаюсь, когда мне говорят: «Трудовые доходы». А что делать, если я рожден для крупного бизнеса? Здесь мне приказывают: «Живи, как все!» А там говорят: «Если ты хоть плюнуть можешь дальше, чем другие, и то тебе почет!» Время от времени они спрашивали друг друга: — Это ми всерьез разговариваем или треплемся? И заверяли один другого: — Всерьез! И все-таки им опять пришлось разъехаться, когда они кончили школу. Жорж уехал в маленький городок, спрятавшийся среди гор, потом стал ездить — искать счастья. Письма от него приходили то с Приморья, то из среднеазиатских республик. Донесся слух, что он побывал и в Москве. Гарник поступил в медицинское училище, бросил его, попробовал работать слесарем-инструментальщиком. Все было ему неинтересно. Наконец Жорж вернулся. И при первой же встрече объявил: — Ну, я поездил, посмотрел, как люди живут. Везде то же самое. Нам нужно сматываться. Он стал жестче, злее, чем раньше, хотя в присутствии посторонних следил за собой и улыбался по-прежнему — приветливо и добродушно. Они порешили: довольно болтовни! Разговоры отныне должны быть только практическими: я предлагаю то-то, ты предлагаешь то-то и то-то. И ничего другого. А главное — тайна. Вот тогда-то, отбросив десятки неподходящих вариантов, они избрали самолет. За границу они попадут на самолете! Вскоре Гарнику удалось познакомиться с Борисом Махмудовым. План стал оснащаться деловыми подробностями. Болтовня кончилась. Жорж всегда был осторожным и расчетливым. Он потребовал: — Раз уж я принимаю участие в деле, то хочу, чтобы оно было верное. Нам нужен третий. Втроем и с летчиком легче будет справиться, если он не пойдет на наши требования. И главное — в кабине-то три пассажирских места; вдруг купит билет кто-нибудь посторонний и в воздухе может получиться два против двух. Подбор подходящего третьего Гарник взял на себя. Ему было легче это сделать, чем приятелю. Пока Жорж Юзбашев ездил по свету, искал счастья и терял связи, Гарник оставался в городе и завел много знакомств с самыми разнообразными компаниями молодежи. Все же начать он решил с того места, где сам работал: с инструментального цеха. Тут было несколько молоды к ребят, которых стоило прощупать. Но делать это надо было осторожно, чтобы, по возможности, не раскрыть себя. В цехе рядом с ним работал молодой токарь Роберт Дейкарханов. Мисакян не уважал его. Дураком парня не назовешь и что умный — тоже не скажешь. Так, серенький какой-то. Но поговорить с ним стоило, потому что Дейкарханов часто ворчал, выражал недовольство порядками в цехе, ругался с начальством из-за расценок и упрямо требовал, чтобы ему выписали больше, чем он заработал. Утром Гарник Мисакян улучил минуту, когда поблизости никого не было. С этим увальнем он решил не особенно церемониться. Если возникнет опасность, всегда можно сказать: я пошутил! — Слушай, Роберт, — он протянул токарю раскрытый портсигар, туго набитый папиросами, — хочешь со мной поехать за границу? — А куда? — Ну, в Турцию… потом дальше… — Нет. — Дейкарханов старательно раскуривал папиросу. — Нет, в Турцию я не хочу. Вот в Чехословакию я поехал бы, но только, говорят, трудно достать путевку. Гарник искрение изумился: — Какую путевку? — Туристическую. Крышка портсигара щелкнула. — Ты что, совсем идиот? — холодно спросил Гарник. Теперь удивился Дейкарханов: — Почему я идиот? — Слишком много сил надо затратить, чтобы тебе это объяснить. Весь день, до конца смены, Гарник ругал себя, что вздумал связаться с таким тупицей. Вот уж правду говорят — мертвого не вылечить, дурака не выучить. С лаборантом Варткесом Азизяном он повел дело хитрее. Несколько раз пригласил его на футбол, сделал вид, что бескорыстно хочет с ним подружиться. «Есть лишний билетик на сегодняшний матч, пойдешь со мной? Желающих много, но мне только с тобой хочется». Парень клюнул на лесть, разговорился, стал излагать свои взгляды на жизнь. Нужно быть настойчивым, нужно рисковать, итак далее. Поставил себе цель — иди к ней и плюй на препятствия. Лично он, Варткес Азизян, мечтает добиться в жизни очень многого… — Ерунда, — сказал Гарник, — ничего ты не добьешься. Будешь всегда прозябать. — Почему? — Да потому, что даже талантливый человек не может взлететь, если его держат за руки. Варткес не понимал. — Кто же меня держит? Например, я хочу стать ученым. Меня знаешь как интересует кибернетика? Среди ночи просыпаюсь и мысленно начинаю конструировать роботов! Ты согласен допустить, что у меня есть талант? — Ладно, допускаю! — Гарник махнул рукой. — Ну и я это допускаю. Талант есть, трудолюбие есть… Молодость свою по пустякам я не разменяю… Так разве я не добьюсь цели? Кто мне помешает? — Не добьешься, напрасны твои надежды. — Почему же? Гарник не знал, что ответить. — А так! — сказал он загадочно. — Нет, объясни! Наверно, на этом разговор бы и закончился. Но Гарник вспомнил, что Варткес Азизян не раз восхищался при нем достижениями кибернетиков в Америке… — Может, в этой самой Америке, — сказал он, — человек с твоим талантом действительно пошел бы в гору. А здесь ты закиснешь и пойдешь на силос. — Не понимаю, почему именно там в гору, а здесь на силос? Гарник не стал объяснять. Надо брать быка за рога. — Вот у нас в городе, я слышал, завелись ребята, которые смело, без предрассудков глядят на вещи. Некоторые из них так считают: раз моя личная инициатива скована, ничего нет плохого и том, чтобы переменить обстановку… Варткес с интересом поглядел на него: — В каком смысле — переменить? — Ну, уехать. — Куда? Гарник не дал себя поймать. — Куда-нибудь. Туда, где лучше — А где лучше? — Ну, этого я не знаю… Почему ты у меня спрашиваешь? Говорят, в Америке и в некоторых других странах — в Азии, в Европе, — золото для умного человека просто валяется ни улицах. Надо лишь уметь его подобрать, взять в свои руки. Говорят, там можно неслыханно разбогатеть… — А кто это говорит? — Ну, вот те ребята… Варткес помолчал. — Я тех ребят не знаю и знать не хочу. Но если ты их знаешь, то можешь передать от моего имени, что я восхищен их умом. Так, пожалуйста, и скажи: «Варткес Азизян поручил передать, что как раз именно для вас там и навалено золота. Захватите с собой побольше пустых мешков!» Гарник пожал плечами. Надо бить отбой. — Мне что! — сказал он. — Я и сам их призываю: «Вы, говорю, ребята, раскроите глаза пошире, вокруг вас кипят наши прекрасные трудовые будни…» В общем, ну их к черту, этик ребят. Ты пойдешь сегодня со мной в кино? — Поищи себе другого попутчика. — Занят, что ли? Варткес повернулся, отошел. На том разговор и кончился. Ничего лишнего Гарник ему не сказал, так что можно было не тревожиться… Теперь оставалось поговорить еще с одним парнем. Саркис Джагинян, из репатриантов. Родился на Западе, в капиталистической стране, но, когда была разрешена репатриация армян, вся его семья с первым же караваном вернулась на родину. Интересно, что у него на сердце, чем он дышит? — Саркис, ты ни разу не пожалел, что приехал в Армению? Если ответит: «Жалею», или хотя бы не очень определенно: «Я был тогда маленький, за меня все решили родители», то дальнейший разговор может стать интересным… — Знаешь, — говорит Саркис, — вы все любите красивые слова: осуществление мечты и так далее. Но с глазу на глаз я тебе вот что скажу… Гарник заверил его: — Ты можешь быть со мной совершенно откровенным. — Ладно. Мой отец с ума сходил, чтобы его дети получили высшее образование. Хоть кто-нибудь. У нас в семье восемь душ, я младший, и ни одного образованного, с дипломом. Там, где мы раньше жили, это было невозможно. У вас часто не понимают и спрашивают: почему? Потому что дорого, таким, как мы, не по средствам. Теперь я учусь в институте, уже на третьем курсе, буду инженером. Правда, отец этого не увидит, он умер. Я прихожу к нему на могилу и тихонько говорю: «Я учусь, буду инженером…» Вот, я считаю, что я тебе ответил. И я был с тобой совершенно откровенным. — Спасибо, — сказал Гарник, — ты меня совершенно успокоил. Прошло уже немало времени, а третий компаньон рее не находился: Жорж нервничал. И тут Гарник вспомнил о своем бывшем соседе Лаврентии Бабуряне, недавно переехавшем на новую квартиру. Вот с кем надо поговорить. Господи, если напомнить Бабуряну о некоторых сгоряча им сказанных словечках, то это сильно облегчит задачу. Чего только они не говорили друг другу под влиянием злости и раздражения, когда считали, что их никто не слышит! Во всяком случае, никакого расхождения во взглядах у них не обнаруживалось. Но уговаривать Бабуряна не пришлось. Он был смертельно напуган процессами валютчиков, которые только что прошли в стране. Видимо, какие-то ниточки тянулись от валютчиков и к нему. Собственно, Гарник и раньше догадывался, что Лаврентий скупает где можно доллары, фунты стерлингов и потом сбывает их куда-то с большой выгодой. Бабурян понял Гарника с полуслова. — На все согласен! — Он сжал кулаки, потом вскинул руки кверху, словно для молитвы или проклятия. — С кем угодно, куда угодно, лишь бы вырваться! …Как будто совсем недавно был этот разговор, а вот уже Лаврентий Бабурян сидит в кабине самолета «Як-12», толстый, белый от волнения. Под пиджаком у сего спрятаны финские ножи и молоток, который Гарник сделал в последний день своей работы в инструментальном цехе. Оружие может пригодиться, если у летчика окажется плохой характер… Сколько же было встреч втроем? Пять, не то шесть. Бабурян и Жорж поняли друг друга сразу. Не то чтобы полюбили, ко быстро разобрались, кто из них чего стоит. Они были совсем разные. Один — веселый с виду, добродушный, если не копнуть его поглубже, самоуверенный. Другой — угрюмый, запуганный. Но они сблизились. В первую же встречу — в комнате у Бабуряна — они закрыли двери и окна и шепотом, перебивая друг друга, наговорились вволю. Сколько было перечислено обид, сколько выкрикнуто угроз! Они ненавидели все, чем жили люди в этом городе. Поочередно то один из них, то другом проводил ладонью по горлу — вот до каких пределов дошла уже ненависть, терпеть невозможно! Ничего не жалко! Никого не жалко! Когда собрались расходиться по домам, Гарник зажег свечку. Трясущимися от злобы, от нервного возбуждения руками он поднес к огню свои комсомольский билет. Двое других молча смотрели, как горят листочки, как тлеет обложка. И потом так же молча разошлись. Слова были нм уже не нужны. Встретившись в другой раз, они решили, что нм необходимо жестоко испытать свои нервы. Дело они начинают смертельно рискованное, и надо подготовить себя ко всему — к умению отнять чужую жизнь, если понадобится, и отдать свою, если прядется. Гарник предложил для тренировки убить ночью прохожего в переулке. Сблизив головы над столом и глядя друг на друга обезумевшими, налитыми кровью глазами, они долго обсуждали, как лучше все это проделать. Нужно стать в засаду в глухом переулке, в чужом районе, подальше от своего дома. Умрет первый, же человек — мужчина пли женщина, все равно, — первый, кто после двух часов ночи появится в переулке. Удар молотком по голове — и делу конец. Зато у них будет уверенность, что руки и душа не дрогнут уже ни перед каким испытанием. Понадобится зарезать летчика — они зарежут его спокойно и умело, как лошадь, сломавшую себе ногу на горной тропе. Договорившись обо всем, они бросили в шапку три свернутые трубочкой бумажки — две пустые, на третьей написано: «Ты». Жребий должен был избрать убийцу. Бумажка со словом «ты» досталась Гарнику. И той же ночью они пошли в переулок. Они были трезвые. И даже, пересиливая внутреннюю дрожь, пытались шутить друг с другом. И они все сделали бы, как задумано, если бы я последнюю минуту не отступили, испугавшись ненужного риска… Гарник взялся рукой за очки. Сейчас он их снимет — и тут же двое, разместившиеся позади, бросятся на пилота. Дай бог, чтобы у этого человека, сидящего за штурвалом, оказался хороший характер. «Пожалей нас, летчик! Не заставляй нас убивать тебя!» В кармане у Гарника маленькая бутылочка с этикеткой «нашатырный спирт». Жорж приметил бутылочку, когда ехали на аэродром. «Для чего тебе это?» — «Это для Лаврентия, он ведь плохо переносит самолет, так вот это для того, чтобы подбодрить его в воздухе, привести в чувство». — «Ты все предусмотрел!» Лаврентия растрогалазабота, и он с благодарной улыбкой пожал Гарнику руку. Так они ничего и не поняли. А если бы поняли, то Жорж в самую последнюю минуту отменил бы полет. Меньше всего Гарник думал о Лаврентии Бабуян. Нашатырный спирт нужен для летчика. Ведь никто из них не знает всей правды о предстоящем рейсе. Всю правду знает только Гарник. А правда состоит в том, что он не сможет перевести самолет через границу и посадить его на аэродроме чужой страны. Вот почему летчика, даже если его придется избить, изрезать, надо будет привести в чувство, сунув под нос ему флакон с нашатырным спиртом, и заставить посадить самолет. Но этого пока никто не знает… Ведь Гарник только чуть-чуть научился у Бориса Махмудова управлять машиной в воздухе. Умеет повернуть направо, налево, может набрать высоту, вести прямо вперед. А вот посадить на дорожку аэродрома — тут уже требуется искусство пилота. Гарник никогда этого не делал. Ах, как трудно ему — он должен скрывать от приятелей свое неумение. Скажи он им, что не сможет совершить посадку, и они откажутся лететь. Только теперь-то уже поздно, они уже в самолете, дело почти сделано. Отступления нет. Гарник всю ответственность взял па себя. А Жорж ничего не знает. Говорит, что проще всего сразу же прикончить летчики, если он не захочет попять… А летчик сидит рядом и вообще ничего не знает, не подозревает, что через несколько секунд он станет игральной картой в руках людей, смело ломающих свою судьбу… Один только Гарник все до конца знает… Подчинись нам, летчик! Посади самолет, а потом можешь хоть тут же умереть от разрыва сердца. Если он не подчинится, придется пустить ему кровь. Тогда Гарник возьмет в свои руки штурвал. Потом — дадут пилоту понюхать нашатырь, он откроет глаза и увидит, что Гарник ведет машину, Гарник справляется. И тогда пилот поймет, что могут обойтись и без него. Что ему останется? Только подчиняться. У него не будет выхода. В крайнем случае, уже после того как граница останется позади, Гарник ему шепнет: «Сажай машину, друг, я не умею!» И летчик возьмет штурвал. Как же иначе? А то ведь все погибнут. Жизнь всегда стоит того, чтобы спасти ее любой ценой. Ну, все. Пора! Прожитые Гарником Мисакяном двадцать три года — только подготовка вот к этой страшной и все решающей минуте, которая сейчас наступает. Через день газеты всего мира будут печатать его портреты… И Гарник снимает очки… Жорж Юзбашев Он сидел, привалившись плечом к тонкой вибрирующей стенке и ждал условленного сигнала. Он думал: «А стоило ли мне вообще ввязываться в эту историю?» Сейчас, когда он не следил за собой, с его лица сошла обычная добродушная улыбка, и оно стало сосредоточенно-беспощадным. Если бы летчик внезапно обернулся и застал его врасплох, то по выражению этого страшно изменившегося лица он смог бы догадаться, что вместе с этим пассажиром в кабину самолета вошло преступление. Жоржу не сиделось на месте. Время от времени он протягивал вперед тяжелую руку, приподнимался на секунду и снова отваливался назад. Чего ему не хватало в жизни? Ведь он с легкостью получал все то, чего другие добивались годами упорства и труда. Детство у него было тяжелое, это правда. И в юность он вошел с клеймом уголовного преступника. Но разве это помешало хоть какому-нибудь из его намерении? Нет! Как и все другие городские ребята его возраста, он кончил школу. После этого его призвали в армию. Он сразу сообразил — армия не для него! Но что он ни придумывал, как ни отбрыкивался на призывной комиссии, все было напрасно — ничего не получалось. Он попытался даже заявить, что не может служить в армии по своим религиозным убеждениям. Его разоблачили, но устыдить не смогли. Он прибегнул к испытанному средству — попробовал заинтересовать одного из сотрудников военкомата взяткой, но это не помогло. А все-таки ему удалось уклониться от службы в армии. С первых же дней, как только он попал за пределы Армении, в воинскую часть, где люди его совершенно не знали, он прикинулся душевнобольным. Конечно, он понимал, что при нынешнем уровне медицинских знаний симулировать психическое расстройство очень трудно. И тем не менее решился на это. Он подготовился — прочитал несколько книг, осторожно поговорил со знакомым врачом. И затем так точно, так убедительно изобразил психическую подавленность и неуравновешенность, резкие, истерические переходы от одного настроения к другому, что спустя два месяца его, здоровяка и спортсмена, демобилизовали и направили домой. Но нет, домой ему не хотелось. Какой там дом! У него появились совсем иные планы. Разве это случайность, что ему так здорово удалось сыграть придуманную роль полусумасшедшего? Конечно, нет. Ведь все ему поверили. Он по признанию актер! А разве не все ему равно, на каком поприще выдвинуться — сокрушать в кровь скулы противников по боксу на ринге или на театральных подмостках принимать восторженные аплодисменты зрителей после блестяще сыгранной роли? Он поехал в Нагорный Карабах — в тамошнем театре у него были друзья-приятели. Ему помогли устроиться в труппу районного театра. Послушав, как он читает стихи, режиссер сказал: «Если даже не обнаружится таланта, то за одну такую фигуру, за мужественность и щедрый рост стоит платить деньги!» Но способности-то, во всяком случае, у него были. Он мог бы кое-чего добиться в театре. Его смутила маленькая зарплата и испугала большая работа. Вопреки тому, что он прежде слышал об актерах, работа их была тяжелая. Это был поистине трудовой хлеб. Утром и днем — репетиции. Тысячу раз повторяешь одну и ту же фразу, чтобы она наконец зазвучала как надо. Вечером — спектакли. Если не занят в основном спектакле, который дается на сцене театра, поезжай с бригадой и играй на подмостках какого-нибудь колхозного клуба. И это каждый день! Актеры и актрисы уставали, иногда жаловались, ссорились из-за ролей, но так любили эту сумасшедшую работу, что даже с повышенной температурой ездили играть в села. Нет, это тоже не для него. Да и роли ему давали маленькие. До свиданья, он уезжает в Ереван! В столице республики ему тоже не было отказа. Руководители крупного театра, правда, объяснили ему, что пока еще он не артист, но способности у него есть и можно попробовать сделать из него артиста. «Нужна работа, — сказали ему, — работа, работа!» А нельзя ли ему сниматься в кино? За это, говорят, очень здорово платят. Когда-нибудь впоследствии можно будет я сниматься. Пока же в кино ему делать нечего. До свиданья, он едет в Москву! В Москве произошло событие, которое люди считают важным. Он женился. Правда, ему это не казалось таким уж важным. Он сделал это уже не в первый раз. Жена у него была и в Ашхабаде, куда он ездил на заработки. Он пышно отпраздновал там свою свадьбу. Была еще жена в Сухуми, где он пытался спекулировать фруктами и в ожидании огромных заработков снял лучший помер в гостинице «Абхазия». Но он прогорел, не мог даже расплатиться, и, чтобы подправить свои дела, женился на девушке, с которой познакомился в очереди у кинотеатра. Он не придавал этому особого значения. Уехал — все равно что развелся. В Москве вышло немного иначе. Пришлось зарегистрироваться в загсе и поставить отметку в паспорте. Со своей будущей женой он познакомился в вагоне метро. Люди мечтают о том, чтобы жить в Москве, о постоянной московской прописке. Он добыл эту прописку в два дня — познакомился, женился и стал москвичом. Девушка была ничего себе — светленькая, довольно хорошенькая, но легковерная и, как он считал, глупенькая. Сейчас, из самолета, он мысленно помахал ей рукой на прощанье. Московская прописка не понадобилась. Ваш супруг уезжает на постоянное жительство за границу! Когда он был в Москве, там открылась американская выставка. Конечно, он раздобыл билет. Пришел с утра и ходил по павильонам целый день, пил кока-колу, приглядывался к людям. Ему поправился один американский паренек — гид, совсем еще молоденький. Он отлично говорил по-русски, а все его объяснения были остроумными, очень веселыми. Жорж несколько раз возвращался к нему и уже обменялся с ним репликами, взглядами. Наконец он дождался, когда люди разошлись. У него была заранее приготовленная, с трудом составленная английская фраза: — Ай вонт спенд май векейшем ин Америка… Произнес он ее так, что гид сначала удивленно заморгал глазами и только потом догадался. — Что, что? — переспросил он по-русски. — Вы говорите, что хотите в Америку? — Отпуск провести, — сказал Жорж и улыбнулся. Он видел, что сумел заинтересовать американца. — Только отпуск… Только посмотреть… — Так приезжайте. У нас есть призм. Вы достаньте путевку. — Деньги, — сказал Жорж. — Денег нет. Он с сожалением развел руками, пожал плечами и опять улыбнулся. Улыбок он не жалел, когда хотел кому-нибудь понравиться. — А почему у вас нет денег? — с интересом спросил гид. — Вы кто, каков род ваших занятий, если я могу это знать? — Вполне интеллигентный человек, — сказал Жорж. — Трудовые доходы. Никакого бизнеса нет. Я актер. А на трудовые доходы, вы сами понимаете, не очень-то… И потом, с путевкой у нас тоже не так просто… Американец взглянул на него испытующе: — Приехавший отсюда всегда может у нас в Америке сделать себе доллары… Он проговорил это бегло и как бы между прочим. Жорж мог подхватить эти слова, мог и отступить. Выбор оставался за ним. Он медленно раскрыл портсигар, предложил гиду: — Русский табак… Тот взял одну и чиркнул спичкой: — Американский огонь! Закурили. Снова улыбнулись друг другу. Жорж спросил: — Вот таком парень, как я… что мог бы, к примеру, делать, если бы попал в Америку? — В каком смысле «делать» и в каком смысле «попал»? — Ну, по путевке… Или как-нибудь иначе… — Если этот парень настроен серьезно, тогда много можно делать. — Парень настроен вполне серьезно, — сказал Жорж. — Видите ли, — гид оглянулся по сторонам, — я лично этими делами не занимаюсь. Но я могу сам дать некоторые полезные адреса в Нью-Йорке, и когда вы туда попадете, вам помогут… — Парню нужен хороший бизнес, — сказал Жорж. — Хороший бизнес — пресс-конференция. Там нужно открыто говорить, почему покинул родину. Пресс-конференция — это хорошие деньги. Потом можно также книгу написать о советской молодежи. Если человек писать не умеет, ему помогут. Советского актера у нас, по-моему, примут хорошо. — А студента? — О, студент — это было бы еще лучше. Большая популярность, пресс-конференции в наших высших учебных заведениях, в наших колледжах… Поговорили еще немного. Жорж записал несколько адресом. Не бог весть каким значительным был этот разговор. Вежливые и ни к чему, в конце концов, не обязывающие слова. Но сейчас, когда Жорж Юзбашев сидит в кабине самолета, привалившись плечом к стенке, у него во внутреннем кармане чуть слышно похрустывает, шуршит бумажка с адресами. Все-таки есть на первый случай какая-то зацепка… Вернувшись тогда из Москвы, Жорж сказал Гарнику Мисакяну: — Нужно поскорее сматываться… Они вплотную взялись за подготовку перелета из Еревана в Турцию. Но в это самое время Жорж сделал удивительный шаг, которого Гарник никак не мог понять: он подал документы на филологический факультет Ереванского государственного университета. Потом он держал экзамены. И, хотя сдал их неважно, все же был принят на первый курс. Комиссия учла, что абитуриент имеет напечатанные литературные произведения (он действительно как-то опубликовал в районной газете трехстраничный рассказик). Кроме того, он до экзаменов побывал дома у профессора. Рассказал профессору о своем горьком детстве, об ошибках и срывах юности. «Так что же, мне всю жизнь тащить на себе клеймо? Я хочу вступить на другой путь!» Был неприятный разговор с Гарником. — Почему ты все это затеял? И перед самым побегом! Отступаешь? Струсил? Нет. Он не отступает. Их планы ничуть не меняются. — Как же так? В чем же дело? Они ходили по улицам города, останавливались, с ненавистью скрещивали взгляды, оскорбляли друг друга и расходились. И сходились снова. А когда наконец расстались окончательно и Жорж, пройдя десяток шагов, встретил знакомого парня, первые его слова касались Гарника: — Ох, надоел мне этот Мисакян… Ох, развязаться бы с ним навсегда!.. Но для чего же, в самом деле, он так стремился стать студентом? Гарника он убеждал: — Мне совсем другая цена будет, если я привезу студенческий билет и смогу выступать и утверждать, что я представляю огромную группу молодежи! Ты не знаешь, как там любят студентов и спортсменов, а я специально это выяснил. Пусть меня посчитают там козырным королем — мы все от этого только выиграем. И Гарник в конце концов поверил ему. Или сделал вид, что поверил. Но это была не вся правда. Он не сказал Гарнику, что подумывает и о другом продолжении своей судьбы. Вдруг побег не состоится или вообще сорвется? Тогда ему с Гарником не по дороге. Надо поскорее развязываться с ним, вообще рвать все старые связи, добывать диплом и лезть как можно выше по лестнице жизненных успехов. И была еще одна причина, по которой он считал выгодным для себя накануне побега поступить в университет. Об этой причине даже думать не хотелось, не то что делиться с кем-нибудь. Но надо думать обо всем, надо быть ко всему готовым. Надо иметь запасной ход на случаи неудачи. Он должен иметь возможность сказать: «Я не собирался изменять родине, меня на это подбили». Дай только бог, чтоб не пришлось прибегнуть к этому запасному ходу. Потому что тогда уже пойдет борьба не за то, чтобы улучшить свою жизнь, а за то, чтобы спастись от смерти… Вот он сидит в кабине самолета, готовясь схватить летчика за горло. Двадцать три года ему, а он знает жизнь, как другие не знают и в пятьдесят! Студент филологического факультета, спортсмен — без пяти минут мастер спорта, а в недавнем прошлом артист одного из крупных театров… II всего этого он добился походя. Если б только захотел, то добился и большего. Но ему все это не нужно. На каждом из таких путей пришлось бы свернуть горы труда. И что в награду? Деньги. По не такие, какие были ему нужны. И потому обычные пути, которыми шли в жизнь его сверстники, не годились ему. А вот через часок или через два он со своей обычной доброй, веселой улыбкой выйдет из комнаты, предоставленной ему для отдыха, на встречу с людьми чужой страны и будет с ними беседовать. Журналисты будут торопливо записывать его слова, л фоторепортеры щелкать аппаратами. Ловите мою улыбку, господа! Вот я ссылаюсь па пример из собственной биографии — бесперспективность, безысходность толкает молодежь ни уголовные преступления. А потом все пути для тебя закрыты и всю жизнь на тебе незримое клеймо! Что будет после этого? Он навсегда распрощается с Гарником и с этим Бабуряном. Будьте здоровы, господа! Вам, кажется, направо? А мне, знаете ли, прямо! Он не станет тащить их на своей колеснице, делить с ними успех. Желаю счастья друзья! А потом что? Потом города, страны. Большой бизнес. И на берегу Тихого океана, где-нибудь, скажем, в Сан-Франциско, он откроет свой театр. Молодые красивые актрисы. Огромный успех. Если останется время, он напишет пьесу для своего театра — трудная жизнь советской молодежи… Ну, а вдруг успеха не будет? Кто знает, что готовит человеку судьба. И ты в чужой стране без средств к существованию… Ничего, есть беспроигрышные козыри. Вот сейчас, пока он летит в самолете, где-нибудь в Майами, на роскошном курорте, на желто-песчаном пляже отдыхает под солнцем госпожа «Три Миллиона». У нее недавно умер супруг, и она осталась наследницей всего состояния. Она еще не знает своей судьбы. Вокруг нее претенденты. А ее судьба мчится к ней на самолете «Як-12 А» с бортовым номером «348». …Ага, Гарник снимает очки! Жорж выбросил вперед длинные, тяжелые руки. Он не слышал себя, не слышал своего бессвязного торжествующего рычания. Его широкие ладони с растопыренными пальцами грозно обрушились на плечи пилота. И сразу смяли, скомкали человека. Жорж оторвал летчика от штурвала и притянул его к себе на колени… — Началось! — ликуя, крикнул он. — Разворота не будет! Давай прямо! И тяжелым кулаком ударил пилота по голове… Лаврентий Бабурян Его тошнило. Трудно было сдерживать озноб. Попросить у Гарника нашатырный спирт? Только вряд ли поможет… Вся беда в том, что он не спит уже столько ночей подряд. Страшные, страшные дни, страшные, страшные ночи… Когда он узнал, что в Тбилиси, и Риге арестованы люди, с которыми он столько лет вел дела, он сказал себе: я пропал! Перестал ночевать дома. Сменил квартиру. Уехал на педелю к родственникам в деревню. Но его не трогали, не искали. О нем забыли! Конечно, он ведь был мелкой сошкой. Крупных операции не вел. Просто клевал понемножечку везде, где удавалось. Доллары он все же накопил. Жорж и Гарник не знают, что он везет с собой доллары. Они уж как хотят, а у него есть деньги, чтобы спокойно осмотреться в той стране, где он теперь будет жить. Он больше никогда не увидит своих родителей, не увидит братьев и сестер. Стоит ли об этом жалеть? И его родичи, конечно, никогда не узнают, не поймут, почему он убежал за границу. Мать поплачет, только и всего. Родители плохо понимали его, даже не знали, чем он занимается. Время от времени они присылали к нему брага, и тот приставал с дурацкими вопросами: «Почему ты не женишься, не заведешь семью? Почему не работаешь постоянно на одном месте, как все люди? Куда это ты так часто ездишь?» Он выгнал брата из дома. Приказал больше ни о чем не спрашивать. «Если бы наши дорогие родители были более дальновидными и умелыми и добились в жизни хоть чего-нибудь стоящего, мне не пришлось бы заниматься тем, что вас так тревожит…» А, пошло оно все к черту! Начинается новая жизнь… Вероятно, он на секунду закрыл глаза, мучительно ощущая тошноту. Привел его в себя крик Жоржа. И, еще не успев раскрыть глаза и стряхнуть болезненное оцепенение, он понял: началось! А он опоздал и не сделал того, что было поручено. Он тоже закричал, вытащил из-под полы финские ножи и молоток… Летчик пытался вырваться из могучих рук Жоржа. Лаврентий Бабурян опять закричал, пугая себя самого, дважды ударил летчика ножом — в плечо и в правым бок — и схватил его ногтями за лицо…Глава VII
В это утро самолет «Як-12 А» в небе над Ереваном видели многие. Самолет странно нырнул, провалился, снова поднялся. Люди думали: «Наверно, летчик идет в дальний рейс и покачиванием крыльев шлет привет родному городу». Видели самолет и колхозники, работавшие на полях и на виноградниках. Самолет пронесся низко над их головами. Потом они говорили: «Мы думали, что летчик опрыскивает с воздуха сады, это теперь делается часто…» Но на аэродроме сразу поняли — дело неладно. Дежурный диспетчер разрешил Гранту развернуться налево. Разворот не произошло. Самолет сильно снизился, затем вновь поднялся. У диспетчера сразу же сложилось впечатление, что есть какая-то неисправность. — Борт триста сорок восьмого! — закричал диспетчер в микрофон. — Вы меня слышите? Что у вас происходит? Секунду или две он тщетно ждал ответа. — Триста сорок восьмой, что вы делаете?! И еще раз он попытался позвать, хотя уже понимал, что ответа не будет: — Откликнитесь! Что происходит? Что случилось? По аэродрому бежали летчики. Лица были испуганные. Уж они-то с первого взгляда сообразили, что в небе случилась беда. Диспетчер немедленно сообщил на границу о непонятном поведении самолета. И уже через минуту пограничники были полностью готовы к действиям, которые окажутся необходимыми. Гарник вцепился в штурвал. Он отключился от борьбы, которая шла в кабине. С пилотом справятся и без него. Его дело — самолет. Он только крикнул: — Не убивайте! Летчик нам еще пригодится! И стал смотреть на приборы. Все было так просто, когда рядом с ним сидел Борис Махмудов. Теперь же самолет его почему-то не слушался. «Спокойно! — приказывал он себе. — Нужно только лишь спокойствие. Ты уже не раз делал это — держал руль и гнал машину вперед Ничего другою и сейчас or тебя по требуется. Держи покрепче штурвал, гони вперед машину!» Самолет отказывался повиноваться. Почему-то он круто забирал вверх и сразу же терял скорость, проваливался вниз, как будто воздух уже не мог держать его. И тогда земля страшно надвигалась. Гарник вскрикивал, закрывал глаза, сжимал зубы. Что нужно сделать с машиной? Что он упустил из виду? Он судорожно дергал рычаги, давил педали. Ведь все это было так легко и понятно! Почему же теперь ничего не получается? Мотор уже не ревел, а выл, будто вплотную приближался к какому-то неведомому пределу. От этого рева становилось особенно тягостно. Гарника охватывал ужас: «Не могу, не умею…» А машина поддевала носом плотный воздух и упорно лезла вверх, еще и еще вверх… И не удерживалась на высоте, а, как бы совершенно обессилев, падала брюхом вниз… Грант лежал на спине, обессиленный, придавленный плечами, руками, локтями схвативших его бандитов. Ему было видно, что штурвал находится в руках щуплого маленького человечка — того самого, который, по-видимому, был у них вожаком и подал двум другим сигнал к нападению… Они уже ни о чем не просили Гранта и ничего ему не предлагали, просто держали его, ослабевшего от потери крови, и не подпускали к штурвалу. А он сквозь сжатые зубы все еще твердил, захлебываясь: «Нет, нет!» И вдруг, приподняв голову, он понял, что бандит, заменивший сто за штурвалом, набирает высоту и ведет «Як» прямо к государственной границе. До этой секунды Гранту казалось, что после его отказа бандиты попали в безвыходное положение. Подержав еще несколько минут самолет в воздухе — это не так уж трудно, — а потом опять примутся его уговаривать. Но сейчас он все понял: «Умеют управлять, угонят машину!» При мысли о том, что буквально через несколько минут и он сам и его самолет уже будут по ту сторону государственной границы, на чужой территории, и он невольно станет предателем и изменником, а друзья его, которые, быть может, никогда ничего не узнают о том, как все это произошло, назовут его предателем, гадом, и Эмма ничего не узнает, и домашние ничего не поймут, — при мысли обо всем этом ему стало невыносимо, и он застонал. Но тут же одернул себя: не раскисать! И сам удивился топу, как ясно и даже спокойно стала работать голова. «Должен быть выход, — сказал он свое. — Что я могу сделать?» «Ничего не можешь. Ты один против троих». «Нет, нужно что-то придумать…» Ох, как унизительно было чувствовать свое бессилие, подчиняться чужим рукам, враждебной и злой чужой воле!.. Не будет так, как они хотят! Не будет! Нужно перекрыть кран бензопитания, вот что! Он собрал все свои силы — а их осталось уже мало — и вытянулся, чуть повернувшись набок. Если он сможет только дотянуться до крана, то устроит катастрофу. Самолет рухнет. Погибнут эти гады! Но и он тоже — он вместе с ними погибнет. А потом комиссия, наверно, определит, что самолет потерпел аварию вследствие халатности летчика… Но что ж тут поделаешь, раз такая ему выпала судьба. Во всяком случае, он боролся до конца… До самого конца, хотя никто и никогда об этом не узнает… Перелет допустить нельзя! Грант забился на коленях у бандитов. Вырвал руку. Он отвоевывал каждый сантиметр, платя за это острой болью. И вот он, кран, уже близко… Теперь еще одно усилие — и конец «Все-таки, как мало я пожил на свете…» Жорж Юзбашев первый заметил, что Гарнику не удается выровнять самолет. Он вскочил, ударившись головой о крышу, и перебросил летчика на ту половину кабинки, где сидел с ножом в руке Лаврентии Бабурян. Голос у Жоржа срывался, слова получались искаженными: — Гарник… Эй, ты… Что случилось? Жорж перегибался вперед, но видел только подстриженный затылок приятеля и его посиневшие от натуги пальцы, вцепившиеся в руль. Не оборачиваясь, Гарник выдавил: — Не пойму, что с машиной… Не получается у меня! — Не умеешь, тварь! Только хвастался! Бабурян вдруг начал плакать. Делал он это странно — тянул бесконечно одну ноту: у-у-у… у-у-у- — Замолчи! Гарник повернул к сообщникам бледное лицо: — Больше не могу… Не понимаю причину… — Погибнем из-за тебя! Подняв голову, Грант увидел, что маленький бандит торопливо давят на педали, лихорадочно перебирает рычаги. Вот он набирает высоту и тут же, испугавшись, отклоняет ручку от себя и переводит машину на снижение. Торопится, торопится, ищет! Самолет страшно накреняется. Бандиты мечутся на своих местах и кричат, кричат. Это паника. Слов уже не разобрать. Но ведь все дело только в том, что сидящий за штурвалом не обращает внимания на включенный рычажок триммера. Надо убрать триммер — и самолет снова подчинится воле человека. Неужели они этого не видят? Нет, не видят! Они не понимают машину. Высота сейчас всего сорок метров… — Мы разобьемся! — кричит Грант, заглушая шум мотора и вопли бандитов. — Пустите меня к штурвалу! Они все оборачиваются к нему, смотрят на него с надеждой. — Ты согласен? Ты с нами? — А что же делать… Ваш лететь не может… Погибнем, к черту… Пока не поздно, я возьму управление… Гарник торопливо освобождает место. Руки, только что терзавшие летчика, душившие его, помогают ему теперь побыстрее устроиться на пилотском сиденье. Он слышит рокочущий возле самого уха радостный голос Жоржа: — Конечно, зачем же подыхать раньше времени… Он же умный парень… Мы с ним еще в Париже погуляем… — Отодвинься, — требует Грант. — Ты мне мешаешь! — Он будет из всех нас самый главный, — журчит тот же голос. — Мы ведь только пассажиры, а самолет привел летчик… О нем знаете как заговорят во всем мире… Деньгами его осыплют… Один против троих. Нет, это неправда, теперь Грант уже не один. У него в руках самолет. Послушный друг. Он верно служил Гранту пять лет, послужит и сейчас, в самую трудную минуту жизни. Теперь будем считать по-другому — двое против троих! Грант выравнивает машину, набирает высоту и осматривается. Жорж кладет руку ему на плечо: — Ну, что же ты? — Надо ведь мне сориентироваться… Где граница? Куда сейчас лететь? Пилот спокоен. Лицо у него в крови, но глаза смотрят зорко и руки властно лежат на руле. И голос у него не дрожит: — Вот соображу, и полетим… — Да вот она, граница! Ты что, не видишь? Ножи у них наготове. Острие одного финского ножа Грант чувствует сзади у плеча, острие другого — совсем рядом, у правого бока. Неужели теперь, когда появилась надежда на жизнь и на победу, все-таки придется умереть? — Не вижу… Не вижу границы… — Ты что, хитришь со мною? Убью! — Не путали бы вы меня, а? Надо высмотреть на земле подходящее для посадки местечко. Но выбора нет. И времени нет. Придется рискнуть… Грант кричит: — Не будет по-вашему! — и включает рычаги. Может, они его и не услышали, но угадали его намерения в ту же секунду. Нож впился ему в плечо. Нож пронзил правый бок. Нож ударил в живот. Согнувшись, стиснув зубы. Грант ввел самолет в пике. И одновременно — резкий разворот. Машина накренилась. Могучая сила отбросила бандитов назад, прижала к сиденьям. В этой борьбе самолет был на стороне пилота. И, теряя сознание, истекая кровью, пилот на огромной скорости повел машину вниз. «Выручай меня, мой «Як»!» Неба уже не видно. Скрежещет мотор. Какой огромной становится земля! Десять метров осталось… Теперь только три метра! Из последних сил Грант потянул на себя штурвал. Если бы удалось вывести самолет из штопора… Удалось! Но разве это приземление? Нет, это страшный удар. Это конец. Все черно вокруг. Все черно вокруг… То, что отняло у люден столько сил и нервов, завершилось катастрофой и вместило в себя четыре жизни и четыре судьбы, было точно измерено и заняло шесть минут. С аэродрома было видно падение самолета и дежурный диспетчер записал в журнале, что самолет «Як-12 А» с бортовым номером «348», взлетевший в 8.05, уже в 8.11 рухнул по неизвестной причине на виноградинки… Ближе всех к месту падения самолета оказался колхозный сторож. Он услышал ужасный гул и взглянул на небо. В ту же секунду машина врезалась в землю, подняв тучу пыли. Еще несколько метров машина протащилась на брюхе, потом перевернулась и рассыпалась на гребне винограднике!. Сторож побежал к месту катастрофы. Первое, что он увидел, потрясло его. Из обломков выбрался человек, горестно вскинул руки кверху и пошел по траве, шатаясь и рыдая. Как потом выяснилось, это был Лаврентий Бабурян. Он пронзительно вскрикнул, упал на землю и тут же скончался. Сторож бросился к нему и только тогда заметил, что в канаве, неподалеку от самолета, лежат еще двое других. Оба были без сознания. Старик стал кричать, сзывать людей. Но и без того к месту происшествия со всех сторон сбегались колхозники. Впоследствии все они по-разному рассказывали о том, кто и при каких обстоятельствах первый увидел летчика. Точнее всех был сторож. Он услышал — в обломках что-то шуршит и быстро обернулся. На коленях, с лицом в крови, к нему полз летчик. — Кто здесь? — спросил он, хотя был теперь от сторожа в трек шагах. — Помоги мне, дорогой брат… И потерял сознание. Утро было совсем еще раннее и очень свежее, и виноградник был залит солнцем… С того времени, как Грант звонил Эмме, прошло чуть больше одного часа. С того времени, когда Лаврентий Бабурян, теперь уже мертвый, расспрашивал Гранта о фруктах Ехегнадзора, прошло едва ли десять минут…Глава VIII
«Больной доставлен в клинику 10 сентября 1961 года в тяжелом состоянии. На теле в различных областях (грудь, голова, живот, правея рука, плечи) насчитывается девять повреждений — ножевые ранения. Особенно опасны для жизни ранения, проникающие в грудную клетку с повреждением плевры». Так записано в медицинском заключении. Приглашены консультанты. Проведен консилиум. В палату поставили еще одну койку — для матери. Ей разрешено находиться неотлучно возле больного сына. — Профессор, — спрашивает она после консилиума, — мне хотелось бы знать, как вы оцениваете положение больного. Она, конечно, волнуется, но это может заметить только очень опытный глаз. Говорит она тихо, неторопливо, руки опущены вдоль туловища. Глаза смотрят прямо в лицо собеседнику. И лишь голос, «друг дрогнувший, да еще влажный блеск глаз выдают ее. Этой женщине нельзя лгать. — Положение серьезное. Ничего определенного сказать пока нельзя. Надеюсь, что обойдется. Чудо еще, что при падении он не получил почти никаких увечий… На другом конце города, в тюремной больнице, врачи и сестры в это время хлопочут около двух других пострадавших при полете и аварии. Сюда также приглашены консультанты. И они также стараются вылечить преступников, как и героя пилота. Все участники рейса, так страшно сошедшиеся друг с другом на шесть трагических минут, — сейчас только «больные». И медицинские заключения в тюремной больнице бесстрастно фиксируют: «Больной Жорж Юзбашев — тяжелые ушибы на всем теле, переломы левой руки, обеих ног…» «Больной Гарник Мисакян — сотрясение мозга, переломы левой руки, левой ноги…» Грант открывает глаза в палате, уставленной цветами. В широкое окно щедро льется ласковое солнце — сентябрьское, но еще горячее. Мать сидит рядом с ним. Как хорошо! — Мне очень хорошо, мама… — Не надо много говорить. Ты еще слабый. — Но я сказал пока только четыре слева! — И хватит. Ты должен поправляться. — В тот день… ну, после возвращения из полета… я должен был позвонить по одному номеру… — Этот номер уже знает, почему ты не смог позвонить. Этот номер прислал тебе цветы — вот они. И записку… вот она! Этот номер очень добивался разрешения подежурить около тебя в палате. Но к тебе пока еще никого не пускают. — Мама, я хочу, чтобы ее пустили… — Хорошо, сынок, прейдет еще два — три дня, и к тебе пустят всех твоих друзей… — И Эмму! — Всех, кого ты захочешь видеть… А к Гарнику Мисакяну и к Жоржу Юзбашеву никого не пустят. Первый человек, которого они увидят после врачей и сестер, будет следователь. Кусая руки и плача от злости, Мисакян скажет ему: «Если бы не этот ваш летчик, которого вы, конечно, героем назовете, мы стали бы героями… А сейчас мы в тюрьме…» А Жорж Юзбашев ничего не скажет. Он повернется лицом к стене и будет долго лежать с закрытыми глазами. И будет долго молчать… Врачи вылечили всех — и пилота и преступников. Пятьдесят один день Грант пробыл в больнице и только в начале ноября вернулся домой. Удивительный это был ноябрь. Люди еще ходили без пальто, с деревьев не облетела листва. Ветров почти не было. Дни начинались мягким сиянием солнца. Во всех парках и скверах под золотыми шапками платанов и шаровидных акаций играли дети. Под вечер, как и весной, сюда приходили влюбленные и вытесняли со скамеек стариков пенсионеров, которые весь день, подставляя коричневые морщинистые лица последнему солнцу, яростно сражались в нарды и, бросая на доску игральные косточки, выкрикивали словно заклинания: «Шешу-беш!», «Пянджу-ек!» Эта осень была богаче красками, радостнее, чем весна… И Гранту казалось, что он никогда еще не дышал так глубоко и легко, не жил так полно, так щедро. Страна уже знала о подвиге молодого летчика. Почтальоны носили ему письма — сотни весточек и приветов от незнакомых людей. А дома дверь почти не закрывались. Приходили люди. Кто хотел посидеть, поговорить, расспросить, а кто просто пожать руку. Многие говорили: «А мы вас представляли себе иначе»… Мать понимала, что значат эти слова. Она смеялась: «Вы думали, что мой сын богатырь с виду?» Один старик явился прямо с дороги, с корзинкой — ездил на базар. Сразу почувствовал себя как дома, уселся напротив Гранта, и, по-видимому, надолго. Помолчал, выжидательно глядя на летчика. — Ну, как ты теперь? — Хорошо, дедушка, — терпеливо отвечал Грант. — Ну и молодец! Я думал, не выживешь. Значит, выздоровел? — Да, дедушка. — Уж мы все постарались для тебя. И я, конечно, тоже… Старик разговаривал как человек, хорошо его знающий. А Грант — вежливо и приветливо, но как с чужим. И старик наконец почувствовал это. — Да ты что, не помнишь меня? — Он обиделся, даже встал и пошел к дверям. — Когда братом называл и помощи просил, тогда небось помнил… Это был сторож с колхозного виноградника. Потом он все рассказывал, как колхозники хотели тут же, на месте аварии, расправиться с бандитами и как летчик («то есть вот ты сам») очнулся на секунду и велел, чтоб преступников не трогали. Этого Грант не помнил. — Тебя послушались. У людей душа кипела… Одного тебе пожелаю — никогда в жизни больше не встретить подобных гадов… Но Гранту пришлось еще раз встретиться с ними. Он увидел их на судебном заседании. Жорж Юзбашев и Гарник Мисакян сидели за деревянным барьером. Между ними стоял пустой стул. Почему-то особенно страшно было смотреть на этот стул, поставленный для третьего подсудимого — того, который погиб в момент авиационной катастрофы. Грант смотрел на поникших людей, разъединенных пустым стулом, а в памяти его они все еще шли к самолету — нарядные, прямо с иголочки, разутюженные, веселые (а за пазухой — ножи!), расспрашивали его о фруктах и радовались, что им попался пилот с хорошим характером… О чем они думают сейчас? Тоже вспоминают эту минуту? Видимо, Гарник Мисакян почувствовал, что на него смотрят. Он внезапно встрепенулся, поднял голову. Глаза его — прищуренные без очков, усталые и больные — встретили взгляд Гранта. И сразу ожили. Но ничего не было сейчас в них — ни сожаления, ни даже страха перед будущим, только злоба. И еще, может быть, острое сознание бессилия… Жорж Юзбашев сидел, уронив голову в ладони. Он тоже заметил Гранта и выпрямился. Теперь пришел его черед взглянуть на летчика (а без формы — так просто худенького чернявого паренька), которым пресек все его планы. Усмехнувшись, Жорж чуть заметно кивнул Гранту и чуть заметно приподнял плечи. Грант понял и этот взгляд и этот жест: что бы между нами ни было, а все-таки мы с тобой знакомые… А потом пошли тяжелые дни судебного разбирательства. Жорж Юзбашев доказывал, что если бы он был всецело захвачен мыслью о побеге, то не стал бы поступать в университет. На него все время тяжко влиял Гарник. А на Гарника — Лаврентий Бабурян. Вот, этот пустой стул. Жорж Юзбашев подчеркивал, что за границей — если бы побег удался! — он не стал бы заниматься шпионской работой (он так т говорил — «работой»). Он не такой человек. Он просто хотел открыть в Америке свой театр, очаг искусства. Больше ничего. Но вообще ему не надо было никуда убегать. Он мог бы здесь достигнуть всего. Его сбили с толку уговоры Гарника Мисакяна. И особенно вот этого… которого уже нет (жест в сторону пустого стула)… этого Лаврентия Бабуряна… Гарник Мисакян признал, что давно готовил побег. Лично он стремился попасть в Западную Германию, где живет дашнак Дро, в свое время бежавший из Армении и в годы войны служивший Гитлеру. Гарник хотел предложить свои услуги этому фашистскому генералу. Знал ли обвиняемый, что генерала Дро называют палачом армянского народа, что на его совести десятки тысяч загубленных жизней? Да, это он знал. Гарник Мисакян отрицает свое участие в покушении на убийство летчика. Он не хотел убивать. Вообще летчика они хотели только напугать. Но если ему были нанесены опасные ранения, то это сделали Жорж Юзбашев и особенно трети» участник побега (жест в сторону пустого стула), тот, которого уже нет в живых… Лаврентий Бабурян… За измену Родине, за попытку захватить самолет, за покушение на убийство пилота их приговаривают к самому суровому наказанию, какое существует в нашем законодательстве… А жизнь идет. И солнце светит. Оно заливает аэродром. И горы дышат свежестью снегов. — Последний рейс на «Яке» был у меня не тогда, а вот сейчас мой последний рейс, — говорит Грант. Его пригласили в гости жители Ехегнадзора. Того самого Ехсгнадзора. Командование разрешило ему лететь на «Яке». В этот рейс он взял с собой Эмму. И в самолете — только они, других пассажиров нет. Грант уже летает на тяжелых лайнерах. Он отвык от «Яка». А Эмма считает, что ей нужно привыкать к воздуху, начиная с коротких перелетов. Ее укачивает. Грант кричит ей: — Вот здесь началось… Здесь я должен был повернуть! Он налегает па штурвал. И «Як-12», развернувшись, ложится на курс…ОТ АВТОРА
Эта повесть написана на основе действительных фактов и событий, происшедших недавно в Армении. Все фамилии в повести заменены. Наряду с достоверными событиями допущен вымысел, особенно в той части, которая касается размышлений действующих лиц, а также ряда обстоятельств из личной жизни. В самой большой степени это относится к герою повествования — летчику Гранту. Во всем главном повесть полностью соответствует действительности. Пилот Армянской отдельной группы ГВФ Эдуард Мисакович Бахшинян, вступивший в единоборство с тремя бандитами и одержавший победу, награжден правительством за мужество и отвагу при исполнении служебных обязанностей орденом Боевого Красного Знамени. Он и поныне работает в Армении и водит самолеты на линии Ереван — Москва.А. Днепров ГЛИНЯНЫЙ БОГ (Научно-фантастическая повесть)

1. ПУСТЫНЯ
Здесь я впервые увидел мираж. Линия горизонта трепетала и извивалась в потоках раскаленного воздуха. Иногда от песчаного моря вдруг отрывался огромный ком светло-желтой земли и повисал на некоторое время в небе. Затем фантастический небесный остров опускался, расплывался и снова сливался с пустыней. С каждым часом жара становилась сильнее и все более причудливо выглядели бескрайние пески. Сквозь колышущийся горячий воздух, как сквозь кривое стекло, мир казался изуродованным. В песчаный океан глубоко врезались клочья голубого неба, высоко вверх всплывали песчаные дюны. Нередко я терял из виду едва заметные контуры дороги и с опаской поглядывал на шофера. Высокий молчаливый араб напряженно всматривался воспаленными глазами в раскаленную даль. Густые черные волосы были покрыты серой пылью, пыль была на смуглом лице, на бровях, на потрескавшихся от жары губах. Он, казалось, отрешился от всего и слился воедино с автомобилем, и эта отрешенность и слияние с ревущим и стонущим мотором почему-то придавала мне уверенность, что мы едем по правильному пути, что мы не потеряемся в безумном хороводе желтых и голубых пятен, которые обступали нас со всех сторон, по мере того как мы углублялись в пустыню. Я посмотрел на пересохшие губы шофера, и мне захотелось пить. Я вдруг почувствовал, что мои губы тоже пересохли, язык стал жестким и неповоротливым, на зубах скрипит песок. Из кузова машины я перетащил на переднее сиденье свой дорожный саквояж и извлек термос. Я выпил залпом две кружки холодной влаги, которая здесь, в пустыне, имела необычный, почти неземной вкус. Затем я налил еще кружку и протянул ее шоферу: — Пей… Он не отвел глаз от дороги и только более плотно сжал губы. — Пей, — повторил я, думая, что он не слышит. Тогда шофер повернул ко мне лицо и холодно взглянул на меня. — Пей! — Я протянул ему воду. Он изо всех сил нажал на педаль. Машина резко рванулась, и от толчка вода выплеснулась мне на колено. В недоумении я несколько секунд продолжал держать пустую кружку. Мне показалось странным, что он отказался от воды. Прошло мучительно много времени, прежде чем пустыня снова стала холмистой. Дорожная колея совсем исчезла, Шофер ловко объезжал высокие дюны, чутьем выискивая твердый грунт, то и дело переключая передачу на переднюю ось, чтобы машина не увязла в глубоком песке. Очевидно, этот путь ему приходилось преодолевать много раз. Было почти четыре часа дня, и до места назначения оставалось ехать не более часа. Когда в Париже, в маленьком особняке на улице Шантийон, мне рассказывали про эту дорогу, я решил, что меня просто пугают, не желая взять на работу. Высокий тощий американец Вильям Бар говорил мне тогда: «Не воображайте, что вам предлагают рай земной. Худшего ада непридумаешь. Вам придется жить и работать в настоящем пекле, вдали от всего того, что мы привыкли называть человеческой жизнью. Я не знаю точно, где это находится, но мне известно, что где-то на краю света божьего, в самой пустынной пустыне, которую только можно себе вообразить». «Может быть, вы мне все же скажете хотя бы приблизительно?» «Приблизительно? Пожалуйста. Где-то в Сахаре. Впрочем, в Агадире вас встретят и повезут куда нужно. Больше я ничего не знаю. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет». Я вспомнил объявление, которое я накануне прочитал на улице Дюбек: «Молодой, не боящийся трудностей химик-лаборант требуется для работы вне Франции. Выдающиеся возможности в будущем, после завершения исследований. Возможны денежные и другие награды. Уникальная специализация. Рекомендации не обязательны. Желательно знание немецкого языка. Обращаться: улица Шантийон, 13». Я согласился, и за этим последовал аванс в размере двух тысяч франков, затем короткое прощание с матерью, документы, которые мне почему-то выдали в американском консульстве, дальше Марсельский порт, Гибралтар, шторм в Атлантике, Агадир, и вот я здесь, в этом бескрайнем песчаном море. Солнце горело оранжево-красным светом, когда вдруг из-за неровной линии горизонта появилось что-то, что не было миражем. Автомобиль наезжал на свою быстро вытягивающуюся тень. Проваливаясь в глубоком песке, он приближался к ярко-красной полосе, которая постепенно вырастала над землей, превращаясь в бесконечную ограду. Она убегала на север и на юг, и ее границы терялись за песчаными холмами. Казалось, вся пустыня была перегорожена глиняной стеной пополам, а в центре стены виднелся темный квадрат, который, по мере того как мы приближались, принимал очертания огромных ворот. Ограда была очень высока, по ее гребню в четыре ряда была протянута колючая проволока. Через равные интервалы над проволокой возвышались высокие шесты с электрическими лампами. Лампы блестели кроваво-красными звездами в лучах заходящего солнца. У ворот, справа и слева, можно было различить два окошка. Мы подъехали к стене вплотную, и я вспомнил слова Вильяма Бара: «На краю света божьего…» Может быть, это и есть край света?
— Это здесь, — хрипло произнес шофер, медленно выползая из кабины.
Несколько секунд он стоял скрючившись, потирая колени затекших ног. Я достал из автомобиля свои немногочисленные пожитки — чемодан с бельем, саквояж и стопку перевязанных бечевкой книг — и пошел к воротам. Они походили на гигантский конверт, по углам запечатанный стальными печатями — болтами.
Шофер подошел к правому окошку и постучал. В нем мгновенно показалось темно-коричневое лицо. Последовал негромкий разговор на непонятном мне языке. Затем послышалось слабое гудение, и ворота медленно раскрылись.
За стеной я ожидал увидеть что-нибудь вроде города или поселка. Но, к моему изумлению, там оказалась вторая стена, такая же высокая, как и первая. Шофер вернулся к машине, включил мотор и медленно въехал в ворота. Я пошел следом. Машина свернула направо и поехала вдоль коридора, образованного двумя стенами. Здесь было уже совсем темно. Возле ворот находилась большая глиняная пристройка, у которой стояли часовые в военной форме, с карабинами наперевес. Тот, мимо которого я проходил, вытянул шею, приглядываясь к моему багажу.
Так я шел за машиной минут пять, пока мы не остановились у небольшой двери во второй стене.
Шофер снова вышел из машины и постучал. Дверь сразу же открылась, на пороге появился человек,
— Входите, господин Пьер Мюрдаль, — произнес он на чистейшем французском языке и протянул руку к моим вещам. — Давайте познакомимся. Мое имя Шварц.
Я покорно вошел. Позади заревел автомобиль. Араб-шофер остался за оградой.
— У нас формальностей немного, — объявил Шварц, когда мы подошли к небольшой брезентовой палатке. — Будьте добры, ваш диплом, письмо от мистера Бара и вашу воду.
— И что? — переспросил я.
— Воду. У вас, наверно, есть с собой вода в термосе или в бутылке?
— Есть…
— Вот ее-то вы и должны сдать.
Я открыл саквояж и передал ему документы.
— А зачем вам моя вода?
— Мера предосторожности, — ответил он. — Мы боимся, чтобы с водой к нам сюда не попала какая-нибудь инфекция. Вы ведь знаете, здесь, в Африке…
— Ах, понимаю!
Он скрылся с моими документами и термосом, а я огляделся вокруг. Прямо передо мной вытянулись три длинные постройки барачного типа. Дальше, направо, виднелся трехэтажный дом и рядом с ним здание, похожее на башню. Позади построек выделялась светлая полоска изгороди, а за нею я рассмотрел нечто поразившее и даже испугавшее меня: верхушки необыкновенных пальм. Они казались ярко-алыми на фоне пурпурного, почти фиолетового вечернего неба. Я бы никогда не поверил, что это пальмы. Но очень уж характерными были их кроны, их резные широкие листья, их гофрированные стволы. И все же цвет их листьев был слишком алым. Таким же, как цвет окрашенных солнцем бараков. «Оазис алых пальм», — подумал я.
Солнце зашло, быстро сгущались сумерки. Здесь, в пустыне, вечер длится всего несколько минут. Затем внезапно наступает кромешная тьма. Потускнели бараки, исчезли алые пальмы, и все погрузилось во мрак. Сразу стало прохладно. Вспыхнуло электричество, бесконечный ряд электрических ламп вдоль изгородей.
Из палатки вышел Шварц. В руке у него был электрический фонарик.
— Ну, вот и все. Теперь я провожу вас в вашу комнату. Извините, что вам пришлось немного подождать. Это не очень приятно после утомительной дороги.
Он взял мой чемодан, и мы медленно зашагали по глубокому песку к длинным постройкам.
Солнце горело оранжево-красным светом, когда вдруг из-за неровной линии горизонта появилось что-то, что не было миражем. Автомобиль наезжал на свою быстро вытягивающуюся тень. Проваливаясь в глубоком песке, он приближался к ярко-красной полосе, которая постепенно вырастала над землей, превращаясь в бесконечную ограду. Она убегала на север и на юг, и ее границы терялись за песчаными холмами. Казалось, вся пустыня была перегорожена глиняной стеной пополам, а в центре стены виднелся темный квадрат, который, по мере того как мы приближались, принимал очертания огромных ворот. Ограда была очень высока, по ее гребню в четыре ряда была протянута колючая проволока. Через равные интервалы над проволокой возвышались высокие шесты с электрическими лампами. Лампы блестели кроваво-красными звездами в лучах заходящего солнца. У ворот, справа и слева, можно было различить два окошка. Мы подъехали к стене вплотную, и я вспомнил слова Вильяма Бара: «На краю света божьего…» Может быть, это и есть край света?
— Это здесь, — хрипло произнес шофер, медленно выползая из кабины.
Несколько секунд он стоял скрючившись, потирая колени затекших ног. Я достал из автомобиля свои немногочисленные пожитки — чемодан с бельем, саквояж и стопку перевязанных бечевкой книг — и пошел к воротам. Они походили на гигантский конверт, по углам запечатанный стальными печатями — болтами.
Шофер подошел к правому окошку и постучал. В нем мгновенно показалось темно-коричневое лицо. Последовал негромкий разговор на непонятном мне языке. Затем послышалось слабое гудение, и ворота медленно раскрылись.
За стеной я ожидал увидеть что-нибудь вроде города или поселка. Но, к моему изумлению, там оказалась вторая стена, такая же высокая, как и первая. Шофер вернулся к машине, включил мотор и медленно въехал в ворота. Я пошел следом. Машина свернула направо и поехала вдоль коридора, образованного двумя стенами. Здесь было уже совсем темно. Возле ворот находилась большая глиняная пристройка, у которой стояли часовые в военной форме, с карабинами наперевес. Тот, мимо которого я проходил, вытянул шею, приглядываясь к моему багажу.
Так я шел за машиной минут пять, пока мы не остановились у небольшой двери во второй стене.
Шофер снова вышел из машины и постучал. Дверь сразу же открылась, на пороге появился человек,
— Входите, господин Пьер Мюрдаль, — произнес он на чистейшем французском языке и протянул руку к моим вещам. — Давайте познакомимся. Мое имя Шварц.
Я покорно вошел. Позади заревел автомобиль. Араб-шофер остался за оградой.
— У нас формальностей немного, — объявил Шварц, когда мы подошли к небольшой брезентовой палатке. — Будьте добры, ваш диплом, письмо от мистера Бара и вашу воду.
— И что? — переспросил я.
— Воду. У вас, наверно, есть с собой вода в термосе или в бутылке?
— Есть…
— Вот ее-то вы и должны сдать.
Я открыл саквояж и передал ему документы.
— А зачем вам моя вода?
— Мера предосторожности, — ответил он. — Мы боимся, чтобы с водой к нам сюда не попала какая-нибудь инфекция. Вы ведь знаете, здесь, в Африке…
— Ах, понимаю!
Он скрылся с моими документами и термосом, а я огляделся вокруг. Прямо передо мной вытянулись три длинные постройки барачного типа. Дальше, направо, виднелся трехэтажный дом и рядом с ним здание, похожее на башню. Позади построек выделялась светлая полоска изгороди, а за нею я рассмотрел нечто поразившее и даже испугавшее меня: верхушки необыкновенных пальм. Они казались ярко-алыми на фоне пурпурного, почти фиолетового вечернего неба. Я бы никогда не поверил, что это пальмы. Но очень уж характерными были их кроны, их резные широкие листья, их гофрированные стволы. И все же цвет их листьев был слишком алым. Таким же, как цвет окрашенных солнцем бараков. «Оазис алых пальм», — подумал я.
Солнце зашло, быстро сгущались сумерки. Здесь, в пустыне, вечер длится всего несколько минут. Затем внезапно наступает кромешная тьма. Потускнели бараки, исчезли алые пальмы, и все погрузилось во мрак. Сразу стало прохладно. Вспыхнуло электричество, бесконечный ряд электрических ламп вдоль изгородей.
Из палатки вышел Шварц. В руке у него был электрический фонарик.
— Ну, вот и все. Теперь я провожу вас в вашу комнату. Извините, что вам пришлось немного подождать. Это не очень приятно после утомительной дороги.
Он взял мой чемодан, и мы медленно зашагали по глубокому песку к длинным постройкам.
2. МОРИС ПУАССОН
— К сожалению, после окончания университета все мы такие, — лениво произнес Морис Пуассон. — Требуется много времени, прежде чем мы поймем, что сейчас границ между различными научными дисциплинами нет. Получается так: университетский курс существует сам по себе, а практика — сама по себе. И все из-за того, что в университете засилие старых консерваторов, вроде профессоров Перени, Вейса и прочих наших корифеев. — Они не только наши. Это корифеи всей науки. Ими гордится Франция, — возразил я, рассматривая инструкцию к кварцевому спектрографу. Сегодня Пуассон пришел рано. По расписанию наша работа начиналась в одиннадцать утра. Он же пришел в девять, едва я начал завтракать. Я перестал читать инструкцию и взглянул ему в лицо: — Скажите мне, пожалуйста, что мы здесь делаем? Вот уже неделя, как я живу между этими двумя глиняными стенами, и все еще не понимаю, что здесь происходит. Меня волнует неизвестность. Еще никто толком мне не сказал, зачем я сюда приехал. Морис грустно улыбнулся и подошел к окну. Он посмотрел куда-то вдаль и, как бы про себя, заговорил: — Вы здесь неделю, а я уже скоро три месяца. Если вы думаете, что я могу ответить на все ваши вопросы, то вы глубоко ошибаетесь. Я и не задаю их себе. К чему? — Он повернулся ко мне. — Впрочем, могу дать вам один совет: берегите нервы. Не думайте ни о чем, что выходит за пределы ваших обязанностей. Вы лаборант — хорошо. Сейчас вам необходимо изучать спектрофотометрию и научиться делать химические анализы средствами физической оптики. — Да, но я ведь химик! Понимаете, химик! Он пожал плечами и снова отвернулся к окну. Ни с того ни с сего вдруг спросил: — А вы обратили внимание, что все оптические приборы здесь фирмы Карла Цейсса… — Да. — Цейсс — хорошая немецкая оптическая фирма. Помните, как в университете мы дрались за право сделать практическую работу на цейссовском микроскопе. Пуассон, как и я, окончил Сорбоннский университет, только годом раньше. Он специализировался по физической химии До встречи здесь я его не знал. Его представили мне на третий день моего приезда. Родом он был из Руана. О Париже он меня ничего не спрашивал. Сначала он держался со мной сухо, с подчеркнутой важностью. В перерывах между занятиями мы рассуждали о науке вообще. — Итак, теперь вы знаете, как устроен этот прибор. Прошу вас рассказать по порядку методику спектрального анализа. Я закрыл инструкцию и, как когда-то перед профессором на экзамене, начал: — Вначале нужно включить водородную лампу и с помощью конденсорной линзы изображение кварцевого окошка спроецировать на входную щель спектрографа. Затем закрыть диафрагму, между щелью и конденсором поместить кювету с исследуемой жидкостью, вставить кассету в камеру спектрографа, открыть ее, открыть диафрагму и сделать экспозицию. После закрыть диафрагму, отодвинуть водородную лампу, поставить на ее место вольтову дугу с железными электродами, передвинуть пластинку в кассете на одно деление и проэкспонировать свет железной дуги. После этого проявить пластинку, высушить ее и профотометрировать. — Зачем необходимо экспонировать железную дугу? — спросил он, развалившись в кресле и закрыв глаза. — Чтобы сопоставить всем участкам спектра линии железа, частоты которых известны. — Кому они известны? Вам они известны? — Мне? Пока нет. Они вот здесь, в этом каталоге. — Правильно, — произнес он. — Научитесь читать спектр железной дуги по памяти. Это не очень трудно. Нужно запомнить всего каких-нибудь двести цифр. Говорят, Грабер не любит, когда при работе заглядывают в справочники. Я кивнул головой и через минуту спросил: — А кто он такой, этот Грабер? Морис несколько раз прошелся по комнате, затем почему-то открыл стоявшие на столе аналитические весы и легонько тронул пальцем позолоченную чашку. Вместо ответа на мой вопрос он вдруг спросил: — Вы спирт пьете? Я ничего не ответил. Положив инструкцию на стол, где стоял спектрограф, я вышел в соседнюю комнату. Здесь в десяти шкафах, расположенных вдоль стен, находились химические реактивы. Когда впервые мне показали место, где я буду работать, меня больше всего поразило обилие реактивов. Это были лучшие реактивы, о которых я когда-либо слышал, огромное количество неорганических и органических соединений фирмы Кольбаума, Шерринга, Фарбен-Индустри. По моим подсчетам, здесь было около пяти тысяч банок и пузырьков всех размеров и цветов, аккуратно расставленных в соответствии с принятой химической номенклатурой. В отдельном металлическом шкафу, из которого поднималась широкая вытяжная труба, хранились растворители — органические жидкости всевозможных классов. Я открыл этот шкаф и быстро отыскал этиловый спирт. — Вы пьете разбавленным или так? — спросил я и протянул ему спирт в мензурке объемом в четверть литра. — А вы? Впрочем, вам еще рано. Дайте стакан воды. Пуассон выпил спирт большими глотками и, не переводя дыхания, прильнул к воде. Лицо его сделалось красным, из глаз потекли слезы. Он сделал несколько глубоких вздохов. — Так вы спрашиваете, кто такой Грабер? Гм! Это сложный вопрос. По-моему, Грабер талантливый химик. И не только химик. Он, должно быть, разбирается и в физике и в биологии. Говорят, этот человек, глядя на все вот так, как я сейчас смотрю на вас, — Морис уставил на меня быстро мутнеющие глаза, — сразу же скажет, какова концентрация хлористого натрия в вашей крови, сколько пепсина выделилось в вашем желудке оттого, что вы пошевелили пальцем, насколько повысилась концентрация адреналина у вас в крови, потому что вы его, Грабера, испугались, какие железы внутренней секреции у вас заработали, когда он вам задал вопрос, насколько ускорился в вашем мозгу окислительный процесс, когда вы стали думать над ответом, и так далее и тому подобное. Грабер назубок знает всю сложную химическую лабораторию человеческого организма. — Это очень интересно, — произнес я. Мне стало немного жалко Мориса. После выпитого спирта он потускнел, сжался, превратился в жалкого, потерянного человека. Я хотел было предложить ему идти домой, но вдруг подумал, что пьяный он более охотно ответит на волновавшие меня вопросы. — Это очень интересно. Однако имеют ли его научные таланты какое-либо отношение к тому, что мне придется делать? — Ха-ха-ха! — засмеялся Морис и покачал головой. Подойдя ко мне совсем близко, он в самое ухо прошептал; — В том-то и дело, что Грабер, наверно, хочет сделать одну злую шутку. Ха-ха! Я догадываюсь, что он хочет сделать… Впрочем… ш-ш-ша… Я ничего не знаю. Никто ничего не знает. И вообще, к чему этот дурацкий разговор? Слышите? Никаких вопросов! Я иду отдыхать, а вы потрудитесь снять спектры поглощения пяти растворов органических веществ. Любых, какие вам вздумается. Завтра я приду и проверю… С этими словами Пуассон, покачиваясь и задевая за углы столов, нетвердой походкой вышел из лаборатории. Я долго смотрел ему вслед. На следующий день после моего приезда Шварц изложил мне то, что он называл «распорядком дня». Жить я должен был тут же, при лаборатории. Выходить из помещения без надобности не полагалось. Прогулку разрешалось совершать три раза в день, да и то только вдоль барака, где я жил. Час утром, два часа в полдень и час вечером. Это был почти арестантский режим. Завтрак, обед и ужин мне приносил в термосах закутанный с ног до головы в белый бурнус араб. Я был совершенно уверен, что он либо глухонемой, либо ровным счетом ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего, либо имеет строгие инструкции со мной не разговаривать. Все вопросы, которые могли у меня возникнуть, я должен был решать со Шварцем. Он регулярно навещал меня два раза в день, а иногда и чаще. Всегда очень любезный, веселый, он справлялся о моем здоровье, спрашивал, не написал ли я письма своим родителям и знакомым. — Добрый день, господин Мюрдаль, — вдруг услышал я его голос над своей головой. — Добрый день, — ответил я сухо. — Итак, вы, говорят, освоили спектральный анализ, не правда ли? — спросил он добродушно, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. — Н-не знаю. Я еще не пробовал. — Во всяком случае, с теорией у вас все в порядке. Я пожал плечами. Наверно, Пуассон доложил ему о моих успехах. — Я хотел бы, чтобы вы продемонстрировали мне, как вы собираетесь выполнять спектрофотометрирование растворов. Ни слова не говоря, я извлек из ящика стола цилиндрическую кварцевую кювету. Войдя в препараторскую, я взял из шкафа первый попавшийся пузырек, высыпал на ладонь немного вещества и бросил его в плоскодонную колбу. Затем из крана я налил воду. Когда раствор был готов, я стал заполнять кювету. В этот момент Шварц тихонько засмеялся и сказал: — Достаточно, Мюрдаль. Все очень плохо. Можете не продолжать. — Но еще ничего не сделано! — возразил я. — Мой дорогой химик, — ответил он все с той же бесконечно любезной улыбкой, — вы уже сделали все, чтобы ваш анализ никуда не годился. Я зло на него взглянул. — Н-нда, — протянул он задумчиво. — Пуассон, видимо, неважный инструктор. Очень неважный. — Он потрогал нижнюю губу. — Вы хотите знать, почему ваш анализ никуда не годится? Во-первых, вы насыпали реактив на руку и этим его испачкали. Ведь ваши руки грязные. Не обижайтесь, они грязные в химическом смысле. Малейшие следы пота, закристаллизовавшихся в клетках солей, осевшая на руках пыль — все это вместе с реактивом попало в раствор. Далее, вы не взвесили реактив. Вы не знаете, какое количество вы его взяли. А не зная концентрации раствора, нельзя судить о спектрах поглощения. Далее, вы растворили реактив в воде из-под крана, а она в химическом отношении тоже грязная. Вы не вымыли кювету. Вы понимаете, сколько ошибок вы наделали за одну минуту? Он засмеялся и добродушно похлопал меня по плечу, а я, совершенно уничтоженный, чувствовал, как краска заливает лицо. — Ну ничего. Вначале это бывает. Только я вас очень прошу, не поступайте так впредь. Ведь вам в будущем предстоит очень ответственная работа, и уж если вы будете делать анализы, доктор Грабер должен в них верить. Понимаете? — Да. — А теперь давайте знакомиться по-настоящему, — продолжал он все тем же веселым тоном. — Мое имя Шварц, Фридрих Шварц, доктор химии из Боннского университета. Я руковожу этой лабораторией, а вы — мой лаборант. Вы будете работать под моим руководством, и, я надеюсь, будете работать хорошо. Теперь отработайте то, что вам сказал Пуассон, но только чисто. На каждой спектрофотограмме поставьте название вещества, растворитель, концентрацию раствора, время экспозиции, время проявления пластинки. Вечером я проверю. Пока до свиданья. Доктор Шварц, все еще улыбаясь, направился к выходу. Вдруг он остановился и сказал: — Кстати, я вам запрещаю поить Пуассона спиртом. Запрещаю пить и вам. Если у вас появится желание выпить, скажите мне. Здесь у нас есть чудесные коньяки: «Мартель», «Наполеон», что хотите.3. «НАУКА ТРЕБУЕТ УЕДИНЕНИЯ»
Мир, в который я попал, оказался не таким бескрайним, как мне показалось вначале. На расстоянии около километра к северу от моего барака возвышалась ограда, отделявшая от территории института то, что я про себя окрестил «оазисом алых пальм». В действительности пальмы не были алыми, но не были и зелеными. Днем цвет их листьев казался оранжевым, почти под цвет песка. Из разговоров с Пуассоном я узнал, что главный въезд на территорию института расположен в северной стене, у ее северо-восточного угла. Через эти ворота к Граберу прибывали различные грузы, материалы, горючее для электростанции и цистерны с водой. По крайней мере в четырех постройках располагались химические лаборатории. В двух одноэтажных бараках прямо перед центральным въездом размещались лаборатории Шварца, несколько дальше к северу находилась еще одна лаборатория и еще одна — у стены «оазиса алых пальм». Там работал Пуассон. Над крышами бараков возвышались характерные жестяные трубы — вытяжки из помещений, где проводились исследования. Трехэтажное кирпичное здание в юго-восточном углу территории являлось резиденцией самого Грабера. Справа от здания возвышалась водонапорная башня. С тех пор как я приехал, прошло более трех месяцев, но мое знакомство с территорией по-прежнему ограничивалось двумя бараками, где хозяйничал доктор Шварц. Кроме меня, в его распоряжении было еще только два сотрудника — немец, по имени Ганс, и итальянец Джованни Сакко. Оба они работали в северном бараке и ко мне никогда не заходили. Весь северный барак представлял собой синтетическую лабораторию. Там изготавливались какие-то химические вещества. Там же, вместе с Гансом и Сакко, жил и доктор Шварц. Я жил один. По территории днем и ночью медленно шагали часовые, вооруженные карабинами. Они несли службу по двое и обходили территорию по какому-то очень сложному маршруту. Мне редко приходилось видеть кого-нибудь на территории. Особенно безлюдным был юг, хотя днем из труб валил дым, а ночью иногда светились окна. Вдоль восточной ограды проходила асфальтовая дорога, и по ней довольно часто к водокачке или к электростанции подъезжали грузовики. На этой же дороге иногда появлялись люди, закутанные в белые бурнусы. Это были рабочие из местных жителей. Кроме Шварца и Пуассона, я долгое время не общался ни с кем. Ганса и Сакко я встречал, когда приходил с результатами анализа в северный барак, однако всякий раз они немедленно удалялись, оставляя меня наедине с доктором. Пуассон приходил ко мне сам, причем после случая со спиртом очень редко. Заходил главным образом для того, чтобы взять какой-нибудь реактив или передать мне препарат Для анализа. Он всегда был молчалив, задумчив и, как мне казалось, немного пьян. У меня создалось впечатление, будто он чем-то расстроен, но чем, он не хотел или не мог сказать. Впрочем, вскоре после приезда у меня появился еще один знакомый, вернее, знакомая. Правда, я ни разу не видел ее в лицо. Это знакомство состоялось так. Однажды, когда я почему-то залежался в постели, вдруг зазвонил телефон. Так как до этого мне никто и никогда не звонил, я вскочил как ошпаренный и схватил трубку. Не успел я произнести и слова, как послышался женский голос: — Господин Мюрдаль, пора на работу. — Женщина говорила по-французски, с очень сильным немецким акцентом. — Вы опаздываете на работу, господин Мюрдаль. Уже десять минут девятого. Я посмотрел на часы. Мои часы показывали только семь… — На моих только семь… — произнес я растерянно. — Вы не проверяли свои часы. Звоните мне всегда после восьми вечера. Я буду говорить вам точное время. — А как мне вам звонить? — Просто поднимете трубку. — Хорошо, спасибо. Я буду так делать. Кстати, как ваше имя? — Айнциг. Впоследствии мне приходилось часто пользоваться телефоном, чтобы лишний раз не ходить к доктору Шварцу, а также в тех случаях, когда нужно было справиться о судьбе анализов у Пуассона, к которому мне не разрешалось ходить. Я поднимал трубку и называл, кого мне нужно. «Пожалуйста», — говорила Айнциг, и меня соединяли. Однажды вместо доктора Шварца трубку взял итальянец. На очень ломаном немецком языке он стал быстро мне говорить, что количество кремния, которое я обнаружил в препарате, слишком мало и что анализ необходимо повторить, и чтобы я… Тут нас разъединили. Я стал кричать в трубку, чтобы меня соединили вновь, но голос Айнциг с подчеркнутой вежливостью произнес: — По этим вопросам вам надлежит разговаривать только с доктором Шварцем. Его сейчас нет. После этого я почему-то заинтересовался, куда идет провод от моего телефона. Оказывается, вниз, под пол. Электропроводка также была подземной. Я попробовал угадать, где находится телефонный коммутатор. Наверно, в трехэтажном здании, где обитал доктор Грабер. За время пребывания в институте Грабера я научился многому. Теперь я мог очень профессионально выполнять качественный и количественный химический анализ, причем со значительно большей точностью, чем в университете. Кроме обычных реактивов для обнаружения химических элементов, я применял чувствительные органические индикаторы, Я освоил многие физические методы анализа, о которых раньше знал либо только по книжкам, либо по одному — двум практическим опытам на устаревшем оборудовании. Я овладел колориметрическим, спектрофотометрическим, спектральным, рентгеноструктурным и потенциометрическим анализами. Доктор Шварц настаивал на том, чтобы последний я выполнял особенно тщательно. — Концентрацию водородных ионов в растворах вы должны определять с высокой степенью точности. В конце концов, вы должны ее просто чувствовать с точностью до третьего знака, — поучал он. Я долго не мог понять, почему это так важно. Только впоследствии, когда здесь, в пустыне, разыгрались трагические события, я понял смысл всего этого… Из лаборатории, где жил Шварц, мне передавали для анализа либо растворы, либо кристаллические вещества. Пуассон, как правило, приносил мне золу. Он что-то сжигал у себя в лаборатории, и мне предстояло определить состав того, что оставалось. Иногда он приносил растворы. По это были не те кристально чистые растворы, которые поступали от Шварца. Растворы Пуассона почти всегда были очень мутными, с осадками, иногда неприятно пахли. Передавая их мне, он настаивал, чтобы, прежде чем я помещу их в потенциометрическую кювету или в кювету нефелометра, я их тщательно взбалтывал. Однажды я не выдержал. — Послушайте, Пуассон! — сказал я. — Как-то доктор Шварц забраковал мой анализ только потому, что я высыпал реактив на руку. А вы приносите буквально помои. Вот, например, глядите, в пробирке плавает настоящее бревно, или кусок кожи, или черт знает что! Как ни болтай, а эта грязь либо попадет, либо не попадет в анализ. И я уверен, что при той точности, которая требуется, у вас могут получиться разные результаты. — Сделайте так, чтобы эта ткань попала в анализ, особенно в качественный, — произнес он и ушел. Результаты каждого анализа я выписывал на специальном бланке, указывая все данные: какие химические элементы входят в состав препарата, их процентный состав, полосы поглощения вещества в ультрафиолетовой и инфракрасной части спектра, коэффициенты рассеяния, концентрацию для растворов, тип кристаллической структуры для твердых и кристаллических веществ, концентрацию водородных ионов и так далее. Вначале я выполнял всю работу автоматически, не думая, каков ее смысл и для чего она необходима. Меня просто увлекало огромное многообразие сведений о веществе, получаемых современными методами исследования. Было приятно узнать о каком-нибудь розоватом порошке, что молекулы вещества в нем расположены в строго кубическом порядке. Об этом говорил рентгеноструктурный анализ. О том, что это органическое вещество, в котором есть метильная, гидроксильная, карбоксильная и ароматическая группы, что имеются двойные и тройные связи, свидетельствовал спектрофотометрический анализ. Что вещество имеет кислую реакцию — об этом говорил потенциометрический анализ. Что в состав молекул вещества входят атомы кремния, алюминия, железа и так далее, я узнавал из результатов эмиссионного спектрального анализа. Иногда данных получалось так много, что я свободно писал химические формулы исследованных соединений. Закончить химический анализ написанием формулы вещества мне удавалось только для препаратов, которые поступали от Шварца. Что касается анализов Пуассона, то они были такими же мутными, как и его растворы. Это было огромное нагромождение всяких химических элементов, групп, радикалов, ионов. В них было все, что угодно. Спектральный эмиссионный анализ золы давал такое огромное количество линий, что только после многочасового изучения спектрограмм можно было выписать все те элементы, которые там обнаруживались. Но, проделав несколько сотен анализов, я вдруг сделал открытие: получал ли я чистые вещества от Шварца или «грязь» от Пуассона, я почти всегда обнаруживал кремний. Кремний в сочетании с другими элементами назойливо фигурировал почти во всех случаях. То он входил в кислотный остаток, то в радикал органического соединения, то встречался в качестве комплексного иона в сочетании с другими элементами… Я сказал «почти», потому что было несколько анализов, в которых кремний не обнаруживался, но зато там обнаруживался другой элемент четвертой группы периодической системы Менделеева — германий. Это было важное открытие, и я сделал его совершенно самостоятельно. Но оно ни на шаг не приблизило меня к ответу на занимавший меня вопрос; что здесь делают немцы? Как химик, я знал свойства кремния и его соединений. Я мысленно перебирал в своей памяти многие из них, и они, как я был почти уверен, не могли представлять большой интерес. Соединения кремния — это песок, это различные твердые минералы — кварцы, граниты, шпаты, это стекло, жидкое и твердое, это материалы для режущих инструментов вроде карборунда. Кремний — это различные силикатные изделия — кирпич, фарфор, фаянс… Все это давным-давно известные вещи. Стоило ля забираться в пустыню, чтобы тайком от всего мира исследовать соединения кремния? В конце концов я решил поговорить об этом вначале с Пуассоном, а после со Шварцем. Разговор с Пуассоном просто не состоялся. На вопрос, почему в его анализах почти всегда присутствует кремний, он вдруг нахмурил брови, затем, как бы боясь, что его могут подслушать, шепотом сказал: — Взгляните вокруг. Всюду песок. Песчаная пыль легко может попасть в препарат. А известно, что даже ничтожные следы кремния обнаруживаются без труда. Это было сказано с таким видом и так выразительно, что почти означало: «Не будьте идиотом и не задавайте неуместных вопросов». Я его об этом больше спрашивать не стал, так как понял, что он врет. В его препаратах кремния было очень много. Не сыпал же он в пробирки песок специально! Разговор с доктором Шварцем оказался более интересным. Как-то я принес ему стопку анализов. Когда он стал рассматривать один из них, я сказал: — В отношении этого я не совсем уверен. — Почему? — поднял он на меня свои светло-голубые глаза: Он всегда имел привычку, рассматривая что-нибудь, жевать кончик спички. Это он делал и сейчас. Но после моего замечания мне показалось, что его лицо, всегда спокойное и самоуверенное, вдруг стало настороженным. — Здесь я не обнаружил кремния, — ответил я, не спуская с него глаз. — Кремния? А почему вы думаете, что он обязательно здесь должен присутствовать? — Я его нахожу, как правило, во всех препаратах, которые вы мне передаете. Мы ведь работаем с соединениями кремния? Последний вопрос я задал, стараясь казаться как можно более безразличным и спокойным, хотя по совершенно непонятной причине сердце у меня сильно стучало. Какое-то сверхчутье подсказало мне, что сейчас я коснулся чего-то такого, что является страшной тайной. Вдруг Шварц громко расхохотался: — Боже, какой же я идиот! И все это время я заставил вас мучиться над вопросом, с какими соединениями мы имеем дело? А ведь мне нужно было об этом вам сказать с самого начала. Ваша работа приобрела бы совершенно иной смысл. — Насмеявшись вдоволь, он вытер платком слезящиеся глаза и спокойно, но весело произнес: — Ну конечно, конечно, мы занимаемся изучением и синтезом кремнийорганических соединений. Мы занимаемся органическими соединениями кремния. Вот и все. Вот в этом и вся наша работа. Я продолжал смотреть на него удивленными глазами, как бы спрашивая: «А почему именно здесь, в пустыне?» Однако он ответил и на этот невысказанный вопрос: — Знаете ли, кремнийорганические соединения очень мало изучены. Те, которые до сих пор были синтезированы, пока не имеют никакого практического значения. Однако им, по-видимому, принадлежит будущее. Доктор Шварц встал и подошел к большому книжному шкафу. Он извлек немецкий химический журнал и передал мне. — Вот, возьмите и прочтите здесь статью доктора Грабера о кремнийорганических соединениях. Этими соединениями профессор занимался еще до войны. Сейчас он продолжает свои исследования в том же направлении. Почему здесь, а не в Германии? Это совершенно ясно: истинная наука требует уединения.4. УРАГАН
Через полгода моя жизнь вошла в монотонную колею. Наступила зима. Теперь после захода солнца становилось так холодно, что выходить на дозволенную вечернюю прогулку совершенно не хотелось. Электрическая печь не согревала моей комнаты, и поэтому с наступлением темноты я сразу же забирался под одеяло и читал. Как раз в этот период я заметил, что в южной лаборатории закипела работа. Из труб барака круглые сутки валил дым, окна светились ночи напролет. И вот однажды, когда мой рабочий день окончился, в лабораторию вдруг вбежал высокий белокурый человек в роговых очках, с фарфоровой банкой в руках. На мгновение он остановился в двери как вкопанный. — Простите меня, пожалуйста, мне необходимо видеть господина Шварца, — наконец пролепетал он по-немецки, растерянно улыбаясь. — Господин Шварц куда-то ушел. Наверно, в свою лабораторию, — тоже по-немецки ответил я. — Увы, его там нет. Я там был. А это так срочно, так срочно… — Может быть, я смогу вам помочь? — спросил я. — Не знаю, не знаю… — Он прижал банку к груди. — Меня послал доктор Грабер… Нужно немедленно произвести полный анализ вот этого. — Это как раз по моей части, — сказал я и протянул к нему руку. Немец отскочил от меня и попятился к двери. — А вы допущены к работам «Изольда — два»? — прошептал он, прикрывая ладонями свою драгоценную банку. — Конечно! — нагло соврал я, решив, что сейчас мне представляется исключительный случай узнать нечто очень важное. — Конечно. Я допущен к работам «Изольда — два», «Зигфрид — ноль», «Свобода», «Лореляй», вообще ко всем работам цикла «Глиняный бог». На меня нашло какое-то безрассудное вдохновение, и я придумывал шифры неизвестных мне работ с быстротой молнии. Он заколебался и робко спросил: — А вы немец? — Господи, конечно! Разве может иностранец быть допущен к этим исследованиям? Я родом из Саара, — продолжал я лгать, а мозг сверлила лишь одна мысль: «Скорее, скорее же давай твою проклятую банку, иначе будет поздно, иначе придет Шварц». — Тогда берите. Только я должен здесь присутствовать. Так мне приказали… — Хорошо. Я-то ведь порядок знаю! Он протянул мне белую фарфоровую банку, закрытую крышкой. — Что нужно определить? — спросил я. — Концентрацию водородных ионов, количество кремния, натрия и железа. — И все? — спросил я весело. — Все. Только, пожалуйста, скорее… В моей лаборатории под потолком горела яркая электрическая лампа. Кроме нее, еще одна, без абажура, стояла на рабочем столе. Я подошел к ней и открыл крышку. Меня поразил запах находившейся там жидкости. Я слегка качнул банку и застыл, потрясенный, глядя, как по белоснежным стенкам стекает густая красная масса. Это была кровь. — Боже мой, что вы так медлите? Это же образец семнадцать — сорок два… От вчерашнего он отличается только концентрацией водородных ионов… Если анализ не сделать быстро, кровь скоагулирует! Я поднял на немца вытаращенные глаза, продолжая сжимать банку. Я вдруг почувствовал, что она теплая, более теплая, чем ее можно было нагреть в руках. — А вы уверены… что она свернется? — проговорил я наконец хриплым голосом, медленно подходя к немцу. Он попятился, уставившись на меня своими огромными голубыми глазами. Так мы шли, очень медленно, он — пятясь к двери, а в двух шагах от него — я, судорожно сжимая фарфоровую банку. — А теперь вы мне скажите, — проговорил я сквозь стиснутые зубы, — чья это кровь? — Вы сумасшедший! — завизжал он. — Вы разве забыли? Серия «Изольда — два» — это кролики, крысы и голуби! Скорее же, вы… И я захохотал. Я не знаю, почему я так испугался этой крови, почему она произвела на меня такое страшное впечатление. Кроличья кровь! Ха-ха-ха! Вот чудо! А я — то думал… — Ах да, конечно! — воскликнул я, смеясь, и сильно ударил себя по лбу ладонью. — А я — то думал, что это по серии… — А разве есть серия, в которой… — вдруг прервал меня немец и в свою очередь пошел на меня… Его лицо исказили ненависть и презрение. Симпатичное и молодое лицо мгновенно стало страшным… Трудно представить, чем бы кончилась эта неожиданная встреча, если бы в лабораторию не ворвался доктор Шварц. Он влетел как вихрь, разъяренный и взбешенный. Таким я его никогда не видел. Все его добродушие, любезность и обходительность исчезли. Еще на пороге он не своим голосом заорал: — Вон! Вон отсюда! Как ты смел лезть сюда без разрешения?! Я думал, что все это относится ко мне, и уже приготовился ответить, как вдруг доктор Шварц подбежал к немцу и ударил его кулаком по лицу. Тот, закрыв рукой глаза, отскочил к окну, а Шварц догнал его и ударил еще раз. — Проклятая свинья, где препарат?! Немец не ответил. Лицо его блестело от пота. — Где препарат, я спрашиваю тебя, подлец! — Он у меня, господин доктор, — негромко произнес я по-немецки, протягивая фарфоровую банку Шварцу. Шварц круто повернулся ко мне. До этого, казалось, он не замечал моего присутствия, но тут уставился на меня вытаращенными глазами: — Какое право ты имел брать этот препарат? — заревел он. — Ах ты, французская свинья…
Он замахнулся, но я успел прикрыться рукой, и удар пришелся прямо по фарфоровой банке. Удар был сильный, банка вылетела у меня из руки, ударилась о стену над моим рабочим столом и разлетелась вдребезги. На стене расплылось огромное красное пятно, темные струйки, быстро набухая» побежали вниз. Кровь забрызгала весь стол, все мои бумаги.
Несколько капель попало на электрическую лампочку, и алые брызги пузырились на раскаленном стекле.
На мгновение водворилась мертвая тишина. Наши глаза были прикованы к пятну на стене. Первым оправился я:
— Простите, что я взялся за это дело, но анализ, как заявил этот господин, был очень срочным…
— Срочным? — произнес Шварц, как бы проснувшись. — Ах, да, срочным…
— Кролика только что убили, господин Шварц… — пролепетал белокурый немец.
— Да, только что. Кровь была еще теплой, и нужно было срочно определить концентрацию водородных ионов…
— Да, да. Черт возьми! А я — то думал… Этот негодяй Ганс мне сказал… Фу ты, какая глупость!..
Шварц подошел к столу и стал носовым платком обтирать электрическую лампочку. Затем, совсем успокоившись, он улыбнулся и, как всегда, добродушно и весело глянул сначала на меня, а после на немца:
— Черт бы меня побрал! А ведь я, кажется, погорячился. Это все негодяй Ганс. Это ему следует задать трепку. Впрочем, не сердитесь на меня, Мюрдаль. И вы, Фрелих. Ведь вам, наверно, в детстве влетало ни за что ни про что от отца, который приходил домой не в духе. Поверьте, я хочу для вас хорошего. Пойдемте, Фрелих… Я сам извинюсь перед доктором Грабером за испорченный образец. Мы его повторим завтра. Простите меня, Мюрдаль, еще раз. Ложитесь отдыхать. Уже поздно. Спокойной ночи.
Шварц приветственно помахал рукой и вместе с Фрелихом, с которым я так и не познакомился, вышел из лаборатории. Фрелих продолжал прижимать ладонь к разбитым губам Мне показалось, он посмотрел на меня с удивлением.
Оставшись один, я еще несколько минут стоял перед столом, залитым кровью. В голове все перемешалось. Я слышал дикую брань доктора Шварца, робкий и удивленный голос Фрелиха, автоматически повторял про себя: «Изольда — два», «Изольда — два»…» Затем я погасил свет и ушел в спальню. Мне совершенно не хотелось спать. Лежа на спине, я уставился в темноту и продолжал думать обо всем случившемся. Неужели виной всему плохое настроение Шварца? Или, может быть, что-нибудь другое? Почему он так яростно набросился на Фрелиха? Почему он вдруг так внезапно остыл? Что ему наговорил Ганс?
Я повернулся на другой бок. В пустыне поднимался ветер, и песчинки яростно ударяли в окно. В соседней комнате в трубе вытяжного шкафа завывал порывистый ветер… Ветер крепчал с каждой минутой, и вскоре окна лаборатории задрожали и зазвенели. Песок шипел на все лады, стараясь, качалось, процарапать себе щель в стенах, ворваться в дом и засыпать все. Я приподнялся на локтях и посмотрел в окно. Тьма была кромешная. Песчаная пыль плотной пеленой заволокла небо. Начинался ураган, песчаная буря. Во время таких бурь в воздух взвиваются тысячи тонн песка. Песчаные смерчи носятся по пустыне, вовлекают в движение новые горы песка, превращая день в ночь, ночь — в ад…
Вдруг среди свиста и шипения до моего слуха донеслись какие-то странные звуки… Это было похоже на царапанье, скрежет, потрескивание… С каждой секундой оно слышалось все более и более явственно. Я встал с постели и подошел к окну. Царапанье звучало теперь совсем близко. Я приник к стеклу, вглядываясь в беспросветную темноту и ожидая увидеть нечто непонятное и таинственное, что вызывало у меня одновременно и страх и любопытство. Я ждал, что вот-вот из потоков бешено несущегося песка вынырнет и прильнет к стеклу с той стороны чье-то страшное лицо… И вдруг я осознал, что скрипение и царапанье исходит не снаружи, а изнутри, что звук рождается здесь, в лаборатории, в соседней комнате!
Я бросился к двери и широко ее распахнул, В этот момент скрежет был особенно громким. Как будто кто-то пытается в темноте вставить ключ в замочную скважину!
Я пошарил по стене и повернул выключатель. Спектрофотометрическая сразу наполнилась светом. Здесь все было так же, как час назад. Но странный звук слышался совершенно отчетливо. Откуда он шел? Я медленно пошел между столами и приборами, приблизился к вытяжному шкафу и наконец оказался перед большой металлической дверью, которая закрывала понижающий трансформатор. На серой чугунной двери был нарисован белый череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. По-немецки было написано: «Внимание! Высокое напряжение!»
Да, звуки слышались отсюда! Кто-то пытался открыть дверь с противоположной стороны. Но кто? Разве там не трансформатор?
Так я стоял довольно долго, растерянно глядя на изображение черепа, пока скрежет металла внезапно не прекратился. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась.
Вначале я увидел только темную щель. А затем в щель просунулась голова человека. Я чуть было не вскрикнул, узнав Мориса Пуассона.
— Какое право ты имел брать этот препарат? — заревел он. — Ах ты, французская свинья…
Он замахнулся, но я успел прикрыться рукой, и удар пришелся прямо по фарфоровой банке. Удар был сильный, банка вылетела у меня из руки, ударилась о стену над моим рабочим столом и разлетелась вдребезги. На стене расплылось огромное красное пятно, темные струйки, быстро набухая» побежали вниз. Кровь забрызгала весь стол, все мои бумаги.
Несколько капель попало на электрическую лампочку, и алые брызги пузырились на раскаленном стекле.
На мгновение водворилась мертвая тишина. Наши глаза были прикованы к пятну на стене. Первым оправился я:
— Простите, что я взялся за это дело, но анализ, как заявил этот господин, был очень срочным…
— Срочным? — произнес Шварц, как бы проснувшись. — Ах, да, срочным…
— Кролика только что убили, господин Шварц… — пролепетал белокурый немец.
— Да, только что. Кровь была еще теплой, и нужно было срочно определить концентрацию водородных ионов…
— Да, да. Черт возьми! А я — то думал… Этот негодяй Ганс мне сказал… Фу ты, какая глупость!..
Шварц подошел к столу и стал носовым платком обтирать электрическую лампочку. Затем, совсем успокоившись, он улыбнулся и, как всегда, добродушно и весело глянул сначала на меня, а после на немца:
— Черт бы меня побрал! А ведь я, кажется, погорячился. Это все негодяй Ганс. Это ему следует задать трепку. Впрочем, не сердитесь на меня, Мюрдаль. И вы, Фрелих. Ведь вам, наверно, в детстве влетало ни за что ни про что от отца, который приходил домой не в духе. Поверьте, я хочу для вас хорошего. Пойдемте, Фрелих… Я сам извинюсь перед доктором Грабером за испорченный образец. Мы его повторим завтра. Простите меня, Мюрдаль, еще раз. Ложитесь отдыхать. Уже поздно. Спокойной ночи.
Шварц приветственно помахал рукой и вместе с Фрелихом, с которым я так и не познакомился, вышел из лаборатории. Фрелих продолжал прижимать ладонь к разбитым губам Мне показалось, он посмотрел на меня с удивлением.
Оставшись один, я еще несколько минут стоял перед столом, залитым кровью. В голове все перемешалось. Я слышал дикую брань доктора Шварца, робкий и удивленный голос Фрелиха, автоматически повторял про себя: «Изольда — два», «Изольда — два»…» Затем я погасил свет и ушел в спальню. Мне совершенно не хотелось спать. Лежа на спине, я уставился в темноту и продолжал думать обо всем случившемся. Неужели виной всему плохое настроение Шварца? Или, может быть, что-нибудь другое? Почему он так яростно набросился на Фрелиха? Почему он вдруг так внезапно остыл? Что ему наговорил Ганс?
Я повернулся на другой бок. В пустыне поднимался ветер, и песчинки яростно ударяли в окно. В соседней комнате в трубе вытяжного шкафа завывал порывистый ветер… Ветер крепчал с каждой минутой, и вскоре окна лаборатории задрожали и зазвенели. Песок шипел на все лады, стараясь, качалось, процарапать себе щель в стенах, ворваться в дом и засыпать все. Я приподнялся на локтях и посмотрел в окно. Тьма была кромешная. Песчаная пыль плотной пеленой заволокла небо. Начинался ураган, песчаная буря. Во время таких бурь в воздух взвиваются тысячи тонн песка. Песчаные смерчи носятся по пустыне, вовлекают в движение новые горы песка, превращая день в ночь, ночь — в ад…
Вдруг среди свиста и шипения до моего слуха донеслись какие-то странные звуки… Это было похоже на царапанье, скрежет, потрескивание… С каждой секундой оно слышалось все более и более явственно. Я встал с постели и подошел к окну. Царапанье звучало теперь совсем близко. Я приник к стеклу, вглядываясь в беспросветную темноту и ожидая увидеть нечто непонятное и таинственное, что вызывало у меня одновременно и страх и любопытство. Я ждал, что вот-вот из потоков бешено несущегося песка вынырнет и прильнет к стеклу с той стороны чье-то страшное лицо… И вдруг я осознал, что скрипение и царапанье исходит не снаружи, а изнутри, что звук рождается здесь, в лаборатории, в соседней комнате!
Я бросился к двери и широко ее распахнул, В этот момент скрежет был особенно громким. Как будто кто-то пытается в темноте вставить ключ в замочную скважину!
Я пошарил по стене и повернул выключатель. Спектрофотометрическая сразу наполнилась светом. Здесь все было так же, как час назад. Но странный звук слышался совершенно отчетливо. Откуда он шел? Я медленно пошел между столами и приборами, приблизился к вытяжному шкафу и наконец оказался перед большой металлической дверью, которая закрывала понижающий трансформатор. На серой чугунной двери был нарисован белый череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. По-немецки было написано: «Внимание! Высокое напряжение!»
Да, звуки слышались отсюда! Кто-то пытался открыть дверь с противоположной стороны. Но кто? Разве там не трансформатор?
Так я стоял довольно долго, растерянно глядя на изображение черепа, пока скрежет металла внезапно не прекратился. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась.
Вначале я увидел только темную щель. А затем в щель просунулась голова человека. Я чуть было не вскрикнул, узнав Мориса Пуассона.
 Паши глаза встретились, и он сделал мне знак, чтобы я погасил свет. Я щелкнул выключателем и на ощупь вернулся к двери. Я не видел Мориса, но слышал, как тяжело он дышит. Затем он прошептал:
— У вас никого нет?
— Нет.
— Поверьте мне, я честный человек, и я не могу здесь больше оставаться.
— Что вы хотите делать?
— Бежать.
— Куда?
— Бежать отсюда во Францию. Рассказать всем всё…
— А разве отсюда нельзя уйти просто так?
— Нет.
— Как же вы собираетесь бежать?
— Это мое дело. У меня нет времени на объяснения. Который час?
Я глянул на светящийся циферблат ручных часов:
— Без четверти два.
— Через семь минут они будут далеко…
— Кто?
— Часовые. Вот что. Возьмите этот ключ. Он позволит вам кое-что узнать. Только не ходите по правой галерее. Идите прямо. Поднимитесь по ступенькам вверх и откройте такую же дверь, как эта. Я думаю, на мое место они найдут человека не раньше чем через месяц. За это время вы успеете все узнать.
— Чем я могу вам помочь?
— Три вещи: очки, бутылку воды и стакан спирта. Спирт я выпью сейчас.
— У меня нет очков против пыли. У меня рабочие очки. Кстати, почему вы не входите в комнату?
— Подождите. Так просто войти к вам нельзя. Давайте очки. Сейчас мне без них не обойтись. Песок.
Я вернулся в свою комнату и взял со стола свои очки. Затем ощупью нашел бутылку с завинчивающейся крышкой и наполнил ее водой. Пуассон выпил стакан спирта и запил водой из бутылки.
— Так. Кажется, все. А сейчас берите меня на спину и несите до наружной двери. Если там все спокойно, я выйду.
— На спину? Вас? — изумился я.
— Да. Вы понесете меня. Иначе они узнают, что я у вас. Поворачивайтесь.
Он обхватил меня за шею, я взвалил его на спину и понес к выходу.
Когда я открыл наружную дверь, облако песка яростно набросилось на нас. Несколько секунд мы вслушивались в воющий ветер. Морис тронул меня за плечо.
— Пора. Прощайте. Не забывайте, что вы — француз и человек. Заприте дверь в трансформаторный ящик. Прощайте. Скоро и вам все станет понятным…
Он наклонился и нырнул в стонущую темноту.
Я возвратился в лабораторию, зажег свет и запер дверь трансформаторного ящика.
Вэту страшную ночь я не мог уснуть. Только под утро я забылся тяжелым, переполненным кошмаром сном. Меня разбудил яростный телефонный звонок.
— Мюрдаль, вы спите как мертвец! — услышал я резкий голос фрау Айнциг. — Почему вы еще не на работе? Вы не спите по ночам и, как лунатик, бродите по лаборатории, но это ваше дело. А на работу извольте подниматься вовремя.
— Боже, а сколько сейчас времени?
— Сейчас две минуты десятого.
— Да, но ведь такая темень…
— Хотя это в мои обязанности и не входит, могу вам сообщить, что на дворе ураган, — ответила она язвительным тоном и повесила трубку.
Я быстро оделся и пошел умываться.
Паши глаза встретились, и он сделал мне знак, чтобы я погасил свет. Я щелкнул выключателем и на ощупь вернулся к двери. Я не видел Мориса, но слышал, как тяжело он дышит. Затем он прошептал:
— У вас никого нет?
— Нет.
— Поверьте мне, я честный человек, и я не могу здесь больше оставаться.
— Что вы хотите делать?
— Бежать.
— Куда?
— Бежать отсюда во Францию. Рассказать всем всё…
— А разве отсюда нельзя уйти просто так?
— Нет.
— Как же вы собираетесь бежать?
— Это мое дело. У меня нет времени на объяснения. Который час?
Я глянул на светящийся циферблат ручных часов:
— Без четверти два.
— Через семь минут они будут далеко…
— Кто?
— Часовые. Вот что. Возьмите этот ключ. Он позволит вам кое-что узнать. Только не ходите по правой галерее. Идите прямо. Поднимитесь по ступенькам вверх и откройте такую же дверь, как эта. Я думаю, на мое место они найдут человека не раньше чем через месяц. За это время вы успеете все узнать.
— Чем я могу вам помочь?
— Три вещи: очки, бутылку воды и стакан спирта. Спирт я выпью сейчас.
— У меня нет очков против пыли. У меня рабочие очки. Кстати, почему вы не входите в комнату?
— Подождите. Так просто войти к вам нельзя. Давайте очки. Сейчас мне без них не обойтись. Песок.
Я вернулся в свою комнату и взял со стола свои очки. Затем ощупью нашел бутылку с завинчивающейся крышкой и наполнил ее водой. Пуассон выпил стакан спирта и запил водой из бутылки.
— Так. Кажется, все. А сейчас берите меня на спину и несите до наружной двери. Если там все спокойно, я выйду.
— На спину? Вас? — изумился я.
— Да. Вы понесете меня. Иначе они узнают, что я у вас. Поворачивайтесь.
Он обхватил меня за шею, я взвалил его на спину и понес к выходу.
Когда я открыл наружную дверь, облако песка яростно набросилось на нас. Несколько секунд мы вслушивались в воющий ветер. Морис тронул меня за плечо.
— Пора. Прощайте. Не забывайте, что вы — француз и человек. Заприте дверь в трансформаторный ящик. Прощайте. Скоро и вам все станет понятным…
Он наклонился и нырнул в стонущую темноту.
Я возвратился в лабораторию, зажег свет и запер дверь трансформаторного ящика.
Вэту страшную ночь я не мог уснуть. Только под утро я забылся тяжелым, переполненным кошмаром сном. Меня разбудил яростный телефонный звонок.
— Мюрдаль, вы спите как мертвец! — услышал я резкий голос фрау Айнциг. — Почему вы еще не на работе? Вы не спите по ночам и, как лунатик, бродите по лаборатории, но это ваше дело. А на работу извольте подниматься вовремя.
— Боже, а сколько сейчас времени?
— Сейчас две минуты десятого.
— Да, но ведь такая темень…
— Хотя это в мои обязанности и не входит, могу вам сообщить, что на дворе ураган, — ответила она язвительным тоном и повесила трубку.
Я быстро оделся и пошел умываться.
5. КРЫСА
Странное появление Пуассона в моей лаборатории и его бегство вызвали в моей душе смятение. Все произошло так неожиданно, что в течение нескольких дней я не мог прийти в себя, постоянно вспоминая все детали этого события. С его бегством в институте ничего не изменилось. Ни доктор Шварц, ни фрау Айнциг, ни часовые не показывали вида, что произошло что-то необычайное. Все было как всегда. Я по-прежнему получал на анализ большое количество органических и неорганических веществ от Шварца. Не стало только «грязных» препаратов, которые мне приносил Морис. С его исчезновением я потерял единственного собеседника, с которым мог вести неофициальные разговоры. Не видел я больше и Фрелиха, а доктор Шварц стал обращаться со мной более сухо и более официально. Он перестал разговаривать со мной о вещах, не имевших отношения к работе. Часто, изучая результаты моих анализов, он становился раздражительным и придирчивым. Были случаи, когда он приказывал мне переделывать или повторять анализы. Я заметил, что во всех этих случаях анализируемые вещества представляли собой густые смолообразные жидкости, несколько мутноватые на просвет. Эти вещества имели огромный молекулярный вес, иногда более миллиона, и сложную молекулярную структуру, в которой я обнаруживал при помощи инфракрасного спектрофотометра сахаридные и фосфатные группы и азотистые основания. В этих веществах я не обнаруживал кремния, и именно это обстоятельство, как мне казалось, делало доктора Шварца раздражительным и нервозным. Однажды я осмелился спросить Шварца, что это за странные вещества. Не поворачивая головы в мою сторону и пристально всматриваясь в выписанные в столбик данные, он ответил: — РНК. После этого я принялся припоминать все, что мне было известно о рибонуклеиновых кислотах из курса органической химии. К сожалению, известно мне было немногое. Эти кислоты являются специфическим биологическим продуктом, и о них в обычных учебниках органической химии говорится лишь вскользь. Я почти ничего не нашел о них и в той небольшой справочной литературе и в журнальных статьях, которые были в моем распоряжении. Рибонуклеиновые кислоты — основные химические вещества, входящие в состав ядер живых клеток. Их особенно много в быстро размножающихся клетках и в клетках головного мозга. Вот и все, что я вспомнил. Однако мне было точно известно, что в состав рибонуклеиновых кислот кремний не входит, и нервозность Шварца была совершенно непонятна. К концу зимы у меня стало особенно много работы. Теперь почти все анализы касались либо рибонуклеиновых кислот, либо веществ, им аналогичных. Кремний полностью исчез из списков элементов. Шварц из самодовольного и добродушного ученого превратился в злобного следователя. Он не разговаривал, а рычал. Просматривая мои записи, он яростно бросал листки в сторону и бормотал непристойные ругательства. Совершенно меня не стесняясь, он вскакивал, выбегал в соседнюю комнату, где работал итальянец Джованни, и, путая немецкие, итальянские и французские слова, обрушивался на него с проклятиями. Мне стало ясно, что итальянец — синтетик, который должен был во что бы то ни стало втолкнуть в рибонуклеиновую кислоту кремний. Он делал огромное количество синтезов, всякий раз меняя температуру, давление в автоклавах и колбах, соотношение реагирующих веществ. Сакко кричал, что он в точности выполнял все указания синьора профессора, но он не виноват, что кремний не присоединяется к молекуле рибонуклеиновой кислоты. Однажды, когда Шварц накинулся на Джованни с очередным потоком ругани, я не выдержал и вмешался. — Вы не смеете так обращаться с человеком! Вы обвиняете его в том, что он не может по вашей прихоти переделать законы природы! — закричал я, когда Шварц замахнулся на синтетика кулаком. Шварц на мгновение остолбенел, а затем прыгнул ко мне: — Ах, и ты здесь, французская свинья? Вон! У меня потемнело в глазах от ярости, но я сдержался и не двинулся с места. Сквозь зубы я процедил: — Вы не химик, а дрянь безмозглая, если проведенный под вашим руководством синтез не дает желаемых результатов. Доктор Шварц побледнел как полотно, глаза его почти вылезли из орбит. Задыхающийся от ярости, он готов был разорвать меня в клочья. В это время Джованни подошел к доктору сзади. Глаза итальянца блеснули ненавистью. Шварц был высоким широкоплечим мужчиной, сильнее каждого из нас, но против двоих он вряд ли посмел бы выступить. Он замахнулся, чтобы ударить меня, по итальянец схватил его за руку. — Одну секунду, синьор, — прошипел он. Несколько мгновений Шварц стоял между нами, оглядывая то одного, то другого. Затем он проговорил: — Запомните хорошенько этот день. Запомните навсегда. А сейчас убирайтесь вон! После этой бурной сцены я медленно возвращался в свою лабораторию. За время жизни в пустыне я не раз совершал прогулки по песчаному морю. Я привык к монотонному пейзажу. Я знал здесь все до мелочи. С первого дня пребывания в институте все здесь было неизменным и застывшим, и только черный дым валил из трубы южной лаборатории то сильнее, то слабее, а поверхность песка в зависимости от ветра то покрывалась мелкой рябью, то морщилась рядами застывших волн. Песок в лучах солнца был кремового цвета, а в особенно жаркие дни приобретал слегка голубоватый оттенок, как будто покрывался тончайшей блестящей пленкой, в которой отражалось небо. И все кругом было засыпано песком, на котором кое-где виднелись редкие следы людей, следы, которые быстро исчезали. Во мне все кипело от злости. Я проклинал то себя, то Шварца, то весь мир — главным образом потому, что я ничего не понимал. Я не понимал до сих пор смысла работы института Грабера. Я не понимал, почему бесится Шварц, не находя кремния в рибонуклеиновой кислоте. Я не понимал, почему отсюда бежал Пуассон. Я не понимал, почему лаборатория прячется в пустыне. В общем, я ничего не понимал, и это приводило меня в отчаяние. «Кремний, кремний, кремний», — сверлило в голове, пока я медленно шел к своему бараку, ступая по раскаленному песку. Вот он, кремний. Окись кремния в огромном количестве, разбросанная по необъятным пустыням Африки. Его здесь сколько угодно. Но он живет своей, самостоятельной жизнью. Есть строгие законы, где он может быть, а где его быть не должно. Это элемент со своим характером, как и всякий химический элемент. В соответствии со структурой своей электронной оболочки он определенным образом ведет себя в химических реакциях. Он охотно присоединяется к одним веществам и не присоединяется к другим. И разве в этом виноват Джованни? Но почему кремний? Если Грабера интересуют органические соединения кремния вообще, то почему ему так необходимо втиснуть атомы кремния в молекулу биохимического продукта? Подойдя к лаборатории, я вдруг остановился как вкопанный. Перед дверью в свой барак я с удивлением увидел валявшуюся возле ступенек дохлую крысу. Появление ее было столь неожиданным, что я не поверил своим глазам и легонько ударил серый комок носком ботинка. Каково же было мое изумление, когда я почувствовал, что коснулся чего-то твердого, как камень. Я огляделся вокруг. Одна пара часовых стояла далеко, с северной стороны, а вторая была почти рядом со мной. В соответствии с принятым порядком, они стояли неподвижно и смотрели в мою сторону. С минуту поколебавшись, я наклонился над крысой и стал тщательно завязывать шнурок на ботинке. Через несколько секунд я выпрямился, держа крысу в руках, и вошел в лабораторию. Вначале я подумал, что животное высохло на солнце. Такая мысль пришла мне в голову потому, что, едва я тронул ее длинный хвост, он легко сломался, словно тонкая сухая ветка. Однако тело ее не имело того сморщенного вида, какой бывает у высушенных животных. Труп больше напоминал чучело, набитое чем-то очень твердым. Шерсть крысы была жесткой, как щетина. «Кто мог подбросить у моей двери такое чучело?» — подумал я. Я не мог не заметить крысу во время прежних прогулок. Она появилась именно сегодня утром, пока я находился у Шварца. Может быть, в течение этого часа кто-нибудь подходил к моей двери? Но тогда на песке были бы видны следы. Значит… Но не могло же чучело крысы появиться здесь само собой? Так ничего и не придумав, я взял скальпель и попробовал воткнуть острие в брюшко крысы. Но это оказалось так же невозможно, как если бы я пожелал проткнуть камень. Кончик ножа беспомощно царапал по поверхности, сдирая тонкий слой шерсти. Попытка отрезать лапку окончилась тем, что она просто отломалась. Я осмотрел место облома и обнаружил, что оно блестит, как полированное дерево. Убедившись, что разрезать это чучело или труп мне не удастся, я положил его на тяжелую плиту, на которой обычно сжигал препараты для анализа золы, взял молоток и ударил изо всех сил. Труп раскололся на несколько крупных кусков. Поверхности раскола имели блестящий стеклообразный вид, с узорами, в которых нетрудно было угадать сечения внутренних органов животного. В недоумении я вертел обломки в руках. Если даже предположить, что эту крысу специально сделали из камня и натянули на нее шкурку, то зачем было так тщательно воспроизводить ее внутреннюю структуру? Нет, это не каменная модель крысы. Это настоящая крыса, которая была живой, но по какой-то непонятной причине превратилась в каменную. И мне было неясно только одно: окаменела она после того, как подбежала к двери моей лаборатории, или же… После недолгих размышлений я выбрал из обломков небольшой кусок и побежал к спектрографу. Вспыхнуло яркое пламя дуги. На спектрограмме я увидел то, что ожидал: среди огромного множества различных линий, принадлежавших главным образом железу, выделялись жирные черные линии, по которым нетрудно было узнать кремний. Крыса действительно была каменная. Это открытие вдруг совершенно по-новому осветило смысл всей моей работы. Я понял, почему кремний так назойливо выявлялся в моих анализах. Я смутно догадывался, что грязь, которую мне приносил Пуассон, по-видимому, являлась результатом сжигания или измельчения таких же каменных животных, как и найденная мною крыса. По-новому выглядел намек Мориса на то, что доктор Грабер собирается сыграть с биохимией какую-то шутку. Мне стало ясно, что кремний немцы пытаются втолкнуть в живой организм. Но зачем? Ведь не для того же, чтобы изготавливать каменные чучела? А для чего? Наступили сумерки, а я продолжал сидеть, погруженный в размышления. Чем больше я думал, тем больше терялся в догадках. От напряжения мутилось в голове. Я чувствовал, что если в ближайшее время не пойму смысла всего этого, то сойду с ума. Теперь я не мог обратиться с прямым вопросом к Шварцу. Свою находку я должен держать в тайне. Нужно было искать какие-то другие пути для решения загадки. И тут я вспомнил. Ключ! Ключ, который мне передал Пуассон в ночь побега! Я спрятал его тогда под тяжелой рельсой, на которой стоял спектрограф. Сейчас я нашел его и, как величайшую драгоценность, сжал в руке. Я решительно подошел к двери серого ящика, на котором был изображен человеческий череп между двумя костями, перечеркнутый красной молнией. Нет, так нельзя. Это не простая прогулка. Это опасная экспедиция, к которой нужно долго и тщательно готовиться. За каждым моим движением в лаборатории следят там, у Грабера. Фрау Айнциг знает все о каждом моем шаге. Прежде чем отправиться в путешествие для выяснения тайны, я должен себя обезопасить. Я отошел от серой двери и снова положил ключ под рельсу. Я убрал осколки крысы в банку и спрятал в шкаф с химической посудой. Затем я лег спать. В эту ночь мне снились неподвижные каменные идолы со сложенными на груди руками.6. «ОАЗИС АЛЫХ ПАЛЬМ»
То, что фрау Айнциг с телефонной станции следила за каждым моим шагом, стало мне ясно вскоре после прибытия в институт. Дело было не только в том, что она будила меня, когда по той или иной причине я просыпал на работу. Были и другие, более очевидные доказательства. Однажды, когда рабочий день кончился и я ушел к себе в комнату, она позвонила и напомнила мне, что я забыл выключить в фотолаборатории воду. Как всегда, с подчеркнутой вежливостью и ехидством, она сказала: «Господин Мюрдаль, вы, по-видимому, думаете, что находитесь в Париже и что за окном вашей квартиры протекает Сена». В следующий раз она спросила меня, кто ко мне заходил, хотя у меня никого не было. — Тогда скажите, пожалуйста, что вы только что делали? — Я переставил сушильный шкаф на новое место, поближе к раковине, — ответил я удивленно. — А в чем дело? — Понятно, — проквакала она и повесила трубку. Итак, каким-то непонятным образом она имела возможность следить за тем, что происходило в лаборатории. Я долго размышлял по этому поводу и пришел к выводу, что, возможно, у фрау Айнциг перед глазами висит доска с планом моей лаборатории, на которой, как у железнодорожного диспетчера, загораются сигнальные лампочки, показывающие, где я нахожусь и что я делаю. Нужно было разобраться в системе сигнализации. Все тяжелые приборы и шкафы в лаборатории стояли на каменном фундаменте, не связанном с коричневым линолеумом, который покрывал полы. Когда ходишь по этому линолеуму, возникает такое ощущение, будто ступаешь по мягкому ковру. Несомненно, пол был устроен таким образом, что всякий раз, когда на него становился человек, он слегка прогибался и где-то замыкал электрические контакты. Контактов, вероятно, было несколько, потому что площадь всех комнат, и особенно спектрофотометрической, была велика и вряд ли давление на пол в одном месте могло передаваться на всю поверхность. Однажды, когда я был относительно свободен, я вооружился отверткой и стал ползать вдоль стен, приподнимая края линолеума. Скоро поиски увенчались успехом. Приподняв настил прямо у окна, я обнаружил, что на его обратной стороне прикреплена мелкая медная сетка, которая, наверное, представляла собой один общий электрод. Когда я приподнял линолеум еще больше, я обнаружил, что он свободно лежит на низких пружинистых скобках, между которыми к деревянным доскам прикреплены небольшие круглые пластинки. Стоило нажать на поверхность линолеума, как пружинистые скобки прогибались и сетка касалась одного из нескольких медных электродов. На диспетчерской доске телефонистки план моей лаборатории был утыкан электрическими лампочками. Она имела возможность видеть не только, где я нахожусь в данный момент, но и куда хожу и кто заходит ко мне. Я понял, почему Пуассон попросил, чтобы я пронес его через лабораторию к выходу на руках. Ведь в противном случае телефонистка подняла бы тревогу! Во всех комнатах лаборатории сигнализация была построена по одному и тому же образцу. Однако то, что я разобрался в этой нехитрой электрической схеме, еще не решало вопрос, как я могу уйти из лаборатории незамеченным. Я, конечно, могу где-нибудь замкнуть несколько электродов и, таким образом, создать у надзирательницы впечатление, что я сижу на месте. Но она все равно увидит, что я перемещаюсь по комнате, и сразу жё поднимет тревогу. Ведь экран ей покажет, что в помещении не один, а два человека! И тут меня осенила мысль. Недолго думая я растянулся посредине комнаты и медленно пополз на животе. Затем я несколько минут лежал неподвижно, ожидая, что из этого получится. И получилось именно то, что я ожидал. Резко зазвонил телефон. Я ухмыльнулся про себя и продолжал лежать, мысленно наслаждаясь тем, что заставил фрау Айнциг сходить с ума. Телефон зазвонил еще несколько раз, а затем затрещал непрерывно. Я был уверен, что, если бы я пролежал на полу еще несколько минут, весь институт был бы поднят на ноги. Я резко поднялся и снял трубку. — Куда вы девались? — услышал я знакомый голос. — Девался? Никуда я не девался, — ответил я удивленным голосом. — Тогда скажите, какие трюки вы там у себя выкидываете. Помолчав секунду, я с напускным восхищением произнес: — Знаете, мадам, ваша наблюдательность меня поражает. Я действительно сейчас выделывал трюки. Я влез на лабораторный стол и пытался снять с окна занавес, на котором наросло несколько килограммов пыли. Если бы стол по какой-то идиотской причине не был прикреплен к полу, я бы это сделал очень просто. А теперь мне пришлось… — Достаточно болтать! — резко прервала меня она. — Завтра я пришлю к вам человека, который заменит вам занавеси. Итак, теперь я мог передвигаться по лаборатории незамеченным. Для этого нужно было не ходить, а ползать на животе. Это меня вполне устраивало. Оставалось немного. Нужно было сделать так, чтобы фрау Айнциг думала, что я в лаборатории в то время, когда меня здесь не будет. Исследовав свою кровать, я обнаружил электрический контакт в пружинной сетке. Когда я ложился, сетка прогибалась и касалась продольной металлической планки, изолированной от остального корпуса фарфоровыми перекладинами. Достаточно было соединить сетку и перекладину проволокой, и фрау Айнциг будет думать, что я сплю. Теперь, когда система сигнализации была разгадана, оставалось продумать детали своего будущего путешествия по тому пути, по которому когда-то пришел Пуассон. Я должен буду замкнуть контакт в кровати в то время, когда я буду на ней лежать. Затем я должен буду сползти с нее на пол и проползти около десяти метров до трансформаторного ящика. Здесь мне придется выполнить сложное гимнастическое упражнение: вползти в ящик, не вставая на ноги. Дверь в ящик находилась на высоте около полуметра над полом, и лежа дотянуться до нее было невозможно. Я долго думал над тем, как это сделать. Это был самый ответственный этап всего путешествия. В течение нескольких дней я тщательно готовился к предстоящему походу. Подготовка заключалась в том, что я тренировался сползать с кровати так, чтобы лечь на пол сразу всем корпусом. Предварительно замкнув сетку кровати с металлической планкой проволокой, я по ночам ползал по всей лаборатории, стараясь убедиться в том, что это — надежный метод передвижения. Он действительно был таким, потому что ни разу никаких сигналов тревоги не было. За это время я продумал, как незамеченным вползти в дверь мнимой трансформаторной будки. Для этого нужно будет предварительно открыть дверь и перекинуть через нее веревочную петлю. Если ухватиться за нее руками и упираться ногами в стоявший рядом массивный шкаф с химической посудой, можно будет вползти в дверь, не вставая на ноги. В одну из ночей я проделал и это упражнение. Я с большим трудом оторвался от пола и влез в узкую дверь. Оттуда пахнуло затхлым теплым воздухом. Опустив ноги, я почувствовал, что они коснулись каменных ступенек, спускавшихся вниз. Затем я проделал обратную операцию: при помощи той же веревки и шкафа я снова опустился плашмя на линолеум и возвратился к своей кровати. Итак, можно было отправляться. Для похода я выбрал тихую, безветренную ночь, когда луна была полной и освещала пустыню прозрачным спокойным светом. Я долго сидел у окна, вглядываясь в царившее вокруг лунное безмолвие. Серебристые песчаные дюны казались гладкими морскими волнами, застывшими на фотографическом снимке. В окнах южной лаборатории горел свет, светились окна в здании, где обитал Грабер. Точно в десять часов вечера все будет темно и там. Свет будет гореть только в одном окне, там, где дежурит фрау Айнциг. Это ее мне предстояло обмануть сегодня ночью. Я не знал, что даст мне это путешествие под землей, но желание раскрыть тайну было очень велико, и я решил не отступать от своего плана. Наконец огни стали гаснуть, и в десять вечера все погрузилось во мрак. Тогда я снял телефонную трубку. Через секунду послышался голос фрау Айнциг: — В чем дело, Мюрдаль? — У меня к вам просьба. Меня что-то одолевает сон, и я не в состоянии закончить срочную работу. Я прошу вас разбудить меня завтра часов в шесть — семь. — Хорошо, я вас разбужу, — ответила она. — Спокойной ночи, фрау Айнциг. — Спокойной ночи. Через несколько секунд я лег в кровать. Я лежал, стараясь не двигаться, как бы боясь кого-то спугнуть. «Пора», — прошептал я сам себе через полчаса. Я пошарил у себя в карманах, проверяя, все ли на месте. Там был ключ от двери, электрический фонарь и коробка спичек. В другом кармане был нож. В карман халата я спрятал кусок веревки на тот случай, если там, на противоположном конце подземного пути, мне придется проделывать такие же упражнения, как и здесь. Просунув руку под матрац, я плотно привязал сетку к металлической перекладине. Мне показалось, что путь от кровати до трансформаторного ящика я проделал очень быстро. Однако взгляд на светящийся циферблат моих часов показал, что лабораторию я прополз за двадцать минут. Было начало двенадцатого. Когда я оказался внутри тесного тамбура, с меня градом катился пот. У двери я несколько секунд подождал, чтобы убедиться, прошел ли первый этап путешествия благополучно. Затем я опустился на несколько ступенек, прикрыл за собой дверь и включил фонарик. Каменная лестница вела по наклонной галерее с бетонированными стенами и кончалась небольшой площадкой, откуда начиналась узкая горизонтальная труба. Я просунул в нее голову и осветил фонариком. Она казалась бесконечной. На расстоянии около пяти метров от ее начала начинался ряд железных крючков, на которых лежали кабели и провода. По ним в лабораторию поступала электроэнергия, а также осуществлялась телефонная связь и сигнализация. Приглядевшись, я сразу отличил электрический кабель от телефонного. Телефонный был в голубой изоляции. А в толстом свинцовом кабеле, по-видимому, было множество тонких жил, которые под полом разветвлялись и присоединялись к медным контактам… Какая-то пара проволок сейчас уносила в диспетчерскую ложный электрический сигнал о том, что я сплю. При этой мысли я улыбнулся. Ползти было трудно, потому что железные крючки то и дело цеплялись за одежду. Приходилось останавливаться и проделывать сложные движения руками, чтобы отцепиться. Труба не была предназначена для того, чтобы совершать по ней путешествия. Чем дальше я полз, тем все более спертым становился воздух, и наконец мне показалось, что он совсем исчез. Я остановился и несколько секунд лежал неподвижно, глотая широко раскрытым ртом горячую духоту. Затем я пополз дальше, делая остановки через каждые пять — десять метров. По моим расчетам, труба шла прямо на восток. Если так, то мне предстояло проползти не менее одного километра — путь не маленький. Но я не преодолел и половины пути, когда почувствовал, что силы меня оставляют. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, в ушах звенело, сердце стучало неравномерно, то как в лихорадке, то, казалось, останавливалось совсем. «Не доползу. Нужно возвращаться»… Вползая в трубу, я почему-то не подумал о том, что может возникнуть необходимость вернуться. Только теперь я понял, что этого сделать нельзя. Труба была узкая, и развернуться в ней было невозможно. Можно было пятиться назад, но это было еще тяжелее. Я попробовал проползти так несколько метров и остановился. Халат и сорочка задрались мне на голову, а металлические крючья прочно вцепились в одежду. Чтобы освободиться от них, пришлось снова ползти вперед. Наконец я выбился из сил и замер в абсолютной темноте, где-то в середине узкой и душной бетонной трубы, под толстым слоем песка. «Но ведь Пуассон как-то прошел этот путь!» — задыхаясь, прошептал я и мысленно ответил себе: «Да». Так в чем же дело? Вперед, только вперед… Я зажег свет и опять пополз вперед, останавливаясь только затем, чтобы отцепиться от очередного крючка. От удушья и страшного напряжения я почти терял сознание, как вдруг на меня пахнуло, как мне показалось, свежим воздухом. Я остановился и, осветив стенки, увидел, что здесь от трубы ответвляется еще один канал. Это ответвление было несколько шире, и в него уходили все провода и кабели. Я догадался, что они ведут к Граберу. «Ползи только прямо», — вспомнил я слова Пуассона. Здесь я пролежал несколько минут и отдышался. Затем я посмотрел на часы, и у меня в груди похолодело: было два часа ночи. Если и дальше я буду двигаться с такой же скоростью, я не смогу вовремя вернуться обратно. Я выключил свет и, работая обеими руками, стал двигаться дальше. Наконец моя голова уткнулась во что-то твердое. Я зажег фонарик и увидел, что нахожусь на дне колодца, подобного тому, какой был под моей лабораторией. Вверх поднималась крутая каменная лестница… Когда я вставлял ключ в замочную скважину, у меня было такое чувство, будто там, за дверью, уже стоят охранники Грабера, готовые меня схватить. Я так привык к заключению в лаборатории, что одна только мысль о том, что я покинул ее, приводила меня в ужас. Мне казалось, будто мое отсутствие обнаружено давным-давно и поднялась тревога. Но я делал все так, как задумал. Пусть будет что будет. Я тихонько повернул ключ и открыл дверь. Это было большое продолговатое помещение с широкими и низкими окнами. Лунный свет в них не попадал, и я сообразил, что они обращены на восток. Посредине комнаты возвышался силуэт сооружения, напоминающего печь древних алхимиков: на четырех тонких опорах коническая крыша с трубой, уходящей в потолок. У окон — широкие столы, и на них я увидел горшки с растениями. Их листья и стебли четко выделялись на фоне серебристых окон. Я долго стоял неподвижно у открытой двери и прислушивался. Ни единого шороха, ни единого вздоха или шелеста. Воздух был затхлый. Казалось, в этом помещении давно не было людей… При свете фонаря я обнаружил, что пол дощатый. «Эту комнату не контролируют», — решил я и недолго думая вышел из ящика. Помещение походило на оранжерею. То, что возвышалось посредине, оказалось обыкновенной печкой, на которой стояли металлические чаны. Горшки на столах действительно были с растениями. Но даже в полутьме я понял, что это необыкновенные растения. Их листья не были зелеными. При свете электрического фонаря они казались желтыми. Я не удержался и, подойдя к одному из горшков, тронул растение рукой. Стебли и листья были жесткими, как грубая кожа. При надавливании они легко ломались с тихим треском. Все, что здесь росло, было таким же твердым и неестественным. Под листьями одного из растений я заметил какие-то плоды, которые были твердыми и плотными, хотя по виду и напоминали помидоры. Я вытащил из кармана нож, перерезал стебель и спрятал трофей в карман. Часы показывали пятнадцать минут четвертого, когда я подошел к двери в правом углу оранжереи. Дверь была приоткрытой. Я не сразу сообразил, где нахожусь, когда вышел наружу. Здание стояло в углу обширного сада, огороженного высокими стенами. Они расходились под прямым углом и скрывались за стволами деревьев. Я узнал эти деревья: пальмы, те самые, которые я всегда видел, выходя из лаборатории. Никаких сомнений, это был «оазис алых пальм». Однако теперь он больше походил на огромное кладбище, на котором очень мало деревьев. Передо мной над поверхностью песка возвышались высокие, обнесенные камнем грядки, и на них росли какие-то кустарники. Начался предутренний ветерок, он крепчал с каждой минутой, но листья растений были совершенно неподвижны. Это безмолвное песчаное поле с безжизненной растительностью казалось в лучах заходящей луны призрачным и неестественным. Здесь не было ощущения свежести, не было запаха зелени и цветов, влаги и гниения. Я медленно брел меж грядок-могил, и мне казалось, что на них растут не настоящие кустарники, а какие-то искусственные, сделанные из странного сухого и жесткого материала. Я несколько раз касался руками листьев и стеблей и всегда инстинктивно отдергивал руку, потому что они, жесткие и твердые, создавали ощущение высохших трупов. Я шел по этому удивительному саду как зачарованный, забыв о трудном пути, который я проделал, не думая, как я буду возвращаться обратно. Я терялся в догадках, пытаясь понять, как и для чего был создан этот страшный, противоестественный растительный мир, который в лунной мгле не имел границ и который так напоминал кладбище в пустыне. Меня вдруг охватило гнетущее чувство. Мертвый сад в пустыне, высокие, могилоподобные грядки, далекие силуэты пальм, глубокий песок и легкий шорох в неподвижной листве создавали впечатление, словно я попал в потусторонний мир, в страну мертвых, в загробный мир растений… Лупа спустилась над горизонтом и почти касалась ограды, отделявшей оазис от остального мира. Я решил, что пора возвращаться. Когда я вошел в глубокую тень, отбрасываемую оградой, неожиданно послышались звуки, напоминавшие далекие выстрелы. Они доносились откуда-то слева. Я прислушался. Действительно, несколько одиночных далеких выстрелов, а затем «та-та-та-та-та» — как будто пулеметная очередь… Двигаясь все время в тени, я наконец почти вплотную подошел к тому месту, где стена под прямым углом уходила на восток. Выстрелы и пулеметные очереди теперь стали слышны более явственно, и я остановился, раздумывая, что могло происходить там, за стеной. Я медленно побрел вдоль нее, мучимый любопытством, и натолкнулся на калитку. Она оказалась запертой. Снова в ночной тишине я услышал «та-та-та-та-та» и вслед за этим далекий, напоминающий плач ребенка голос… «Неужели за стеной расстреливают»? — подумал я. Выстрелы умолкли, и, сколько я ни ждал, больше не повторялись. Не знаю, как долго я простоял возле калитки, как вдруг она заскрипела, и я инстинктивно прыгнул в сторону и спрятался за низеньким, богатым листвой деревом. Я не видел, как отворилась дверь, потому что тень в углу была очень глубокой, а луна еще ниже опустилась над горизонтом. Я напряженно всматривался в темноту и долго ничего не мог увидеть. Только через несколько томительных минут я заметил, как вдоль стены по направлению к оранжерее очень медленно двигалось что-то серое. Это был человек. Вернее, я догадывался, что это человек. Серый силуэт двигался странными рывками, тяжело ступая по глубокому песку. Я стоял в своем укрытии, боясь пошевелиться, провожая серую тень вдоль стены глазами. Кто это такой? Что он делал там, за стеной, в этот час ночи? Почему так медленно идет? Затем в моей голове, как молния, пронеслась мысль: «Он идет к оранжерее! Все пути возвращения сейчас окажутся отрезанными!» Спотыкаясь о какие-то тяжелые и твердые, как камень, плоды, я быстро пошел через грядки, двигаясь параллельно каменной ограде. Вскоре серая тень оказалась далеко позади, а я стоял у двери оранжереи. Отсюда я разглядел, что медлительный человек толкает перед собой огромную садовую тачку. Был слышен едва уловимый скрип ее единственного колеса. Я решительно вошел в оранжерею и направился к заветной двери. Здесь стало совершенно темно, и я вынужден был несколько раз включать электрический фонарик. В тот момент, когда я опускался вниз, стало слышно, как под тяжестью грузных шагов зашуршал песок за окнами. Тогда я закрыл за собой дверь и бесшумно повернул ключ. Обратный путь по трубе показался мне гораздо короче.7. РОБЕРТ ФЕРНАН
Однажды рано утром доктор Шварц привел ко мне человека, которого я раньше никогда не видел. Это был уже немолодой высокий, широкоплечий мужчина с копной черных курчавых волос на голове. — Знакомьтесь. Это господин Фернан, наш биохимик, — объявил Шварц. Фернан глядел на меня сощуренными, будто близорукими глазами и слегка улыбался. — Добрый день, — сказал я. — Добрый день, — ответил он по-французски с едва уловимым иностранным акцентом. — Доктор Фернан будет выполнять функции, которые раньше выполнял Морис Пуассон, — сказал Шварц. — Я надеюсь, что вы подружитесь. Он кивнул мне и вышел. Фернан поставил на мой рабочий стол штатив с пробирками, наполненными знакомыми мне мутными жидкостями, и начал молча обходить лабораторию. Он остановился у приборов, низко наклоняя над ними лохматую голову. Я следил за его движениями, стараясь угадать, кто он и что из себя представляет. Мне почему-то казалось, что он не француз. Чтобы не выдать любопытства, я принялся сортировать пробирки, а он все расхаживал по комнате, заложив руки за спину и ни к чему не прикасаясь. Он только смотрел. — Анализы нужны полные или только спектральный? — спросил я безразличным тоном. — А как у вас положено? — В зависимости от того, что требуется. Я не знаю, что вам нужно. Он задумался, затем ответил: — Сделайте для начала полный анализ. Я кивнул и принялся за препарат номер один. — Вы не возражаете, если я понаблюдаю, как вы работаете? — Если вам нравится, пожалуйста, — ответил я без всякого энтузиазма. Про себя я решил, что этого Фернана приставили ко мне соглядатаем. Я прошел в препараторскую, отфильтровал раствор и положил листок бумаги с осадком сушиться на электрическую печку. Раствор я перелил в кварцевую кювету и вернулся к спектрографу. Фернан неотступно следовал за мной, низко наклоняя голову над моими руками. Это начало меня раздражать. — Сейчас я буду экспонировать спектр, и вы можете отдохнуть, — сказал я по-немецки, стараясь произнести фразу как можно более едко. — Спасибо, — ответил он мне на чистейшем немецком языке. «Так оно и есть: немец», — решил я. Загудел трансформатор водородной лампы, я установил кювету в держатель и сел рядом со спектрографом. Фернан уселся за столом. Несколько минут мы молчали. — А вы не боитесь обжечь лицо ультрафиолетом? — спросил я. Он покачал головой. — Я уже привык. На мое лицо ультрафиолетовые лучи не действуют. Я посмотрел на его лицо. Для немца оно было слишком смуглым. Это меня немного смутило. — А вы здесь уже давно? — осведомился он. — Да, давно, — ответил я и отвернулся. — Вы из Франции? — Да. — Вам здесь правится? Я поднял на него удивленные глаза. — А это имеет какое-нибудь отношение к делу? — Извините, — засмеялся Фернан. — Это, конечно, праздное любопытство. Извините, — повторил он. После этого он больше не ходил за мной по пятам. Он сидел, облокотившись о стол, с закрытыми глазами, погруженный в свои мысли. Когда я принялся за третью пробирку, он вдруг встал и, ни слова ни говоря, вышел из помещения. Через окно я видел, как он обогнул мой барак и, широко шагая по песку, отправился в южную лабораторию. На полпути его остановил часовой, и он предъявил ему пропуск. Часовой козырнул и отошел в сторону. «Важная птица. Разгуливает, где ему вздумается». Вернулся он только к вечеру. Вид у него был немного встревоженный и одновременно усталый. — У вас все готово? — спросил он. — Давно. Вот здесь, на бланках, все написано. Несколько секунд он молча рассматривал мои записи, а затем поднял на меня свои близорукие глаза. — По-моему, бессмысленная работа, — сказал он как-то неопределенно. — Не знаю. Доктору Граберу и доктору Шварцу виднее. Фернан пожал плечами: — Я совершенно не понимаю, для чего нужно вполне благопристойных кроликов превращать в каменных кроликов. Кому вместо хороших сочных помидоров и бананов нужны каменные помидоры и бананы? Я насторожился и пристально взглянул на пего. За все время моего пребывания здесь со мной никто так откровенно не говорил о делах, происходящих в институте Грабера. Может быть, это провокация? Может быть, немцы заподозрили, что я уже слишком много знаю, и просто хотят выяснить, как много мне известно? Я плотно сжал губы и ничего не ответил. — Ну хорошо. Спокойной ночи, — сказал Фернан и ушел. В течение нескольких дней он не появлялся. За это время произошло событие, которому суждено было стать решающим во всей этой истории. Как-то вечером после работы я позвонил фрау Айнциг, чтобы сверить часы. Она сняла трубку и, произнося знакомое мне «алло», вдруг перестала со мной говорить. Вместо ее голоса я внезапно услышал несколько голосов. Разговор был не очень внятный, торопливый, но очень скоро смысл его дошел до моею сознания. Кто-то сообщал фрау Айнциг, что получена радиограмма о прибытии в институт крупного начальства. В связи с этим что-то нужно было сделать, с чем-то поторопиться, за кем-то послать. Дата прибытия точно не установлена. Айнциг повесила трубку, и я больше ничего не услышал. На следующее утро на территории института началась беготня. Я видел, как Шварц несколько раз торопливо прошел из своей лаборатории в южную и обратно, как из южной лаборатории пробежали трусцой в здание Грабера несколько человек в белых халатах, как по дороге вдоль восточной ограды взад и вперед метались рабочие. В этот день обо мне забыли. Однако вскоре после обеда в моем помещении появился Фернан. С первого же взгляда было ясно, что он очень взволнован, и я даже не удивился тому, что он не принес никаких препаратов для анализа. — Чем могу служить? — спросил я насмешливо, понимая, что немцы переполошились из-за приезда начальства. Фернан виновато улыбнулся и как-то очень просто сказал: — Ух, забегался! Решил у вас отдохнуть… — Отдохнуть? — Да. Вы не возражаете, если я у вас посижу несколько минут? Я пожал плечами и показал на стул. Он сел и проговорил: — Прошу вас, если придет доктор Шварц, рассказывайте мне что-нибудь о своей работе. Это будет выглядеть так, будто я пришел к вам по делу, Я внимательно посмотрел ему в глаза. Все эта начинало меня злить. Я спросил: — Вы, наверно, думаете, что я безнадежный идиот и не понимаю, что значит вся эта комедия? — Комедия? — Он даже привстал. — По-моему, это не комедия. Может быть, для вас, но не для меня… — Господин Фернан, давайте договоримся: если вам поручили за мной следить, то делайте это как-нибудь поумнее… Он опустил голову, потер рукой лоб и тихонько засмеялся: — Черт возьми! А ведь верно, какое право я имею на ваше доверие? Никакого… Мне показалось странным, что он так говорит. Вел он себя очень непосредственно. Подумав, он вдруг заговорил снова: — Хорошо. Давайте будем откровенны. Другого выхода у меня нет. Только ответьте мне на один-единственный вопрос. Он может вам показаться странным, но для меня это важно. Согласны? — Смотря какой вопрос, — настороженно сказал я. — Вы любите Францию? Пока я думал, он смотрел на меня широко раскрытыми черными глазами, излучающими какой-то глубокий душевный жар… Я внезапно почувствовал, что передо мной не тот человек, за которого я его принимал. — Если это так важно, я могу ответить: да. — Я вам верю. Слушайте. — Он перешел на шепот: — Я не Фернан, и мне грозит опасность… Мы долго молчали, разглядывая друг друга. Он смотрел мне прямо в глаза, и в них я не находил ничего, кроме искренности… — Кто же вы тогда? — прошептал я. — Вы это узнаете в свое время. Но я не немец. И не француз… — Пойдемте в рентгеновский кабинет. Там можно запереться и поговорить, чтобы нас никто не услышал, — прервал его я. Мы прошли в рентгеновскую лабораторию, и я включил установку. В комнате стало шумно. Фернан наклонился ко мне и сказал: — Я приехал сюда по документам некоего Роберта Фернана из Мюнхенского исследовательского центра. После войны этого Фернана приговорили к пожизненной каторге за медицинские и биологические опыты над военнопленными. Однако с помощью своих западных коллег он вскоре оказался на свободе и занял важное положение медицинского советника при нынешнем правительстве в Бонне… — Да, ну, а вы… — Я недаром спросил, любите ли вы свою родину. Дело в том, что моя родина — здесь… — Здесь? В Африке? — Да, здесь, на этой самой земле. Нас давно уже тревожит то, что тут окопались немцы. Им в этом помогли заокеанские друзья нашего нынешнего правительства. Но с этим пора кончать. Последние слова Фернан произнес решительно, как призыв, и выпрямился во весь рост. Мне вдруг стало стыдно за то, что я европеец. — Постойте, одну секунду, Фернан… или как вас… Но ведь, насколько я знаю, Грабер ведет лишь научные исследования. — Научные? — Он резко наклонился к самому моему лицу. — Роберт Фернан проводил над людьми тоже так называемые научные исследования. Он замораживал их живыми, он вливал им в вены растворы солей свинца, чтобы получить уникальные рентгеновские снимки, он… — Неужели и Грабер?.. — в ужасе воскликнул я. — Н-не знаю, не знаю… Собственно, я здесь был для того, чтобы все узнать. В нашем народе ходят кое-какие слухи… — Какие? — Не буду их повторять. Нужно точно проверить. — Чем я могу вам помочь? — спросил я, взяв его за руку. Мысль об античеловеческом характере работы института Грабера приходила мне в голову очень часто, но я гнал ее от себя, не веря, что в наше время наука может заниматься чем-то мерзким и преступным. Теперь, когда эту мысль Фернан выразил четко и ясно, я понял, что обязательно стану его помощником, если не хочу стать соучастником преступления. — Чем я могу быть для вас полезен? — снова спросил я. — Хорошо, слушайте, — прошептал он. — Скоро для инспектирования института Грабера приедет группа военных из Объединенного штаба. Кроме военных, там будут представители двух исследовательских фирм: американской «Уэстерн биокемикал сервис» и немецкой «Хемише Централь». Собственно, это одна и та же фирма. Свою деятельность у нас они начали с того, что стали ввозить мыло и леденцы. И то и другое появлялось в одной и той же упаковке, но с надписями то на английском, то на немецком языках. Так вот, представители этих двух фирм приедут осматривать и одновременно показывать генералам свое, так сказать, африканское хозяйство, знакомиться с успехами и достижениями доктора Грабера. Нужно попасть на испытания. — Какие испытания? — Грабер будет демонстрировать результаты своей работы. — Где? — Наверно, в парке, за стеной. — Так что же нужно сделать? — Нужно, чтобы на испытания попали вы. — Я? Вы смеетесь! Они меня из этого барака выпускают три раза в деньна прогулку: пятьдесят шагов вправо от двери и пятьдесят влево. Вы же знаете, что территория просматривается часовыми. — Да, — он тяжело вздохнул, — я знаю. И тем не менее это нужно сделать. Я вспомнил о своем путешествии под землей в «оазис алых пальм», и у меня шевельнулась смутная надежда. — Ну, допустим, я что-нибудь придумаю. Может быть, свершится чудо и мне удастся попасть на эти испытания, хотя я даже не знаю, где они будут. Ну, а вы? Ведь вам нужно скрыться. Вам нужно бежать. Если приедут представители фирмы и увидят, что вы не Фернан… Он медленно покачал головой: — Я не могу бежать. Я должен не попадаться им на глаза. Даже если меня и потребуют, хотя я надеюсь, что во мне никакой нужды не будет. Мы долго молчали. Затем я спросил: — Вы, кажется, довольно свободно перемещаетесь по территории? — Да. Относительно. — Куда вам разрешается ходить? — Всюду, за исключением резиденции Грабера и этого странного парка за стеной. — Вы имеете в виду «оазис алых пальм»? — Алых? Почему алых? Эти пальмы грязно-песочного цвета. Я засмеялся: — Это я придумал название. В день моего приезда они были окрашены лучами заходящего солнца в ярко-красный цвет. — За ограду я доступа не имею, хотя моя лаборатория примыкает к стене, за которой находится оазис. Я удивился. Неужели Пуассон не имел прямого доступа в оранжерею, в которой я побывал? Впрочем… — Слушайте, — сказал я, — есть план. Вы можете попасть в сад. Но учтите: постройка за стеной обитаема и я не знаю, кто там живет. За время, оставшееся до приезда военных, вы должны хорошенько все разведать. Если вам удастся выяснить, где будут демонстрироваться достижения Грабера, я попытаюсь что-нибудь сделать. — А как я смогу попасть в оазис? Я выключил рентгеновский аппарат, и мы вышли в лабораторию. — Кстати, как ваше настоящее имя? — спросил я. — Называйте меня пока Фернаном, — ответил он улыбаясь. Я устыдился своей наивности. Мы подошли к висевшему на стене ящику, на крышке которого были изображены череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. — У вас в лаборатории это есть? — спросил я. Он кивнул головой. Я подошел к спектрографу, вытащил из-под рельсы ключ, открыл ящик. Фернан заглянул внутрь и легонько свистнул. — Ясно? — спросил я. Он кивнул головой. — Только учтите вот что. Я запер дверь, подвел его к стене и поднял край линолеума. Он увидел металлические контакты и быстро закивал. — Это я знаю, — прошептал, он. — Это во всех помещениях, где работают иностранцы. — Но ведь Пуассон… — Когда Пуассон бежал, он где-то повредил сигнализацию. С моим приездом ее решили не восстанавливать. — Откуда вы все это знаете? — удивился я. — У нас здесь есть еще один друг… — Кто? — После. А сейчас давайте ключ. Я передал ему ключ, и он крепко пожал мне руку. — Итак, если вы хотите, чтобы я вам помог, узнайте обо всем как можно больше. Окончательный план действий мы разработаем накануне испытаний. — До свиданья. — До свиданья, господин Фернан. Через день после моего разговора с Фернаном мне перестали приносить пищу, Ни утром, ни днем, ни вечером не появился араб с термосами, и я, совершенно изголодавшийся, позвонил фрау Айнциг. Ответа долго не было, а когда она взяла трубку, ее голос был резким и раздражительным. Она опередила мой вопрос: — Не умрете, Мюрдаль! Мы все в таком положении. Мне есть хочется не меньше, чем вам, Ждите. Вместо ужина я вышел на свою «прогулку», раздумывая над тем, почему вдруг институт Грабера оказался без еды. Пройдя к бараку Шварца, я хотел было войти, чтобы поговорить с доктором о таком неожиданном повороте дел, как вдруг дверь открылась и на песок выскочил Джованни Сакко, итальянец-синтетик. Его черные глаза выражали ярость. — Синьор, вы тоже голодаете? — спросил я. Сакко оглянулся по сторонам и сделал мне едва заметный знак подойти поближе. — Голод — это еще полбеды. Скоро нам придется умирать от жажды… — Почему? Разве перестали возить воду? Он криво улыбнулся. — В том-то и дело, что нет. С водой все в порядке. Но только пить ее… — Что? Джованни пожал плечами. Затем он заговорил быстро-быстро, путая французские и итальянские слова; — Все дело в воде… Мне так кажется… Эти арабы давно ее здесь не пьют… Иначе зачем бы они отсюда бежали… А теперь здесь нет ни одного туземца… Все проклинают воду… Все дело в ней… Я в недоумении смотрел на итальянца. Вдруг его лицо перекосилось, и он, круто повернувшись, скрылся за дверью. Сзади послышалось шуршание песка. Ко мне быстрыми шагами подходил доктор Шварц. — Разве вам не сообщили, что прогулки отменены? — бросил он мне. — Нет. А почему? — Не задавайте вопросов, и марш к себе! — скомандовал он. Я возмутился: — Послушайте, доктор! Я, кажется, не ваш соотечественник и не солдат, и вы не имеете права отдавать мне приказания. Я здесь по вольному найму. Не захочу быть у вас, и все тут! Шварц презрительно улыбнулся; — У меня, к сожалению, нет времени сейчас объяснять вам, каким правом вы пользуетесь. Делайте то. что вам приказано. Пока что мы здесь командуем. На слове «мы» он сделал выразительное ударение. — Надолго ли? — не выдержав, съязвил я. — Об этом как-нибудь в другой раз. Марш в свой барак! В лаборатории я много думал о том, что мне успел сказать Джованни. Часов в десять вечера открылась дверь, и в ней появился Фернан, улыбающийся, с большим пакетом в руках. — Еще живы? — спросил он весело и подмигнул мне. — Еле-еле. Съел последнюю корку хлеба. — Вот, насыщайтесь. Мне поручили принести вам сухой паек. Горячая пища будет не скоро. Он положил сверток на стол, а сам зашагал по лаборатории, тихонько насвистывая популярную песенку. Я с жадностью накинулся на сухие галеты и копченую колбасу. Проглотив несколько кусков, я спросил: — Чему вы так радуетесь? — Как — чему? Тому, что началось! — Что началось? — То, что рано или поздно должно было начаться. Рабочие Грабера разбежались. Нет ни поваров, ни прислуги, ни носильщиков, ни истопников. Ушли шоферы, кроме немца-водовоза. Хозяйству профессора местные жители объявили бойкот. Началась забастовка! — И с чего это вдруг? Фернан подошел ко мне и, сощурив глаза, сказал: — Шварц уверял меня, что все дело в суеверии. Но я знаю, что это не так. Я перестал жевать и уставился на нею. Он присел на краешек стула и закурил. — Говорят, среди местных арабов разнесся слух, что живущие за этой стеной европейцы ниспосланы на землю самим дьяволом! Жить и работать вместе с белыми людьми за стеной — все равно что поносить аллаха. Вот они и ушли. — Это вам так рассказал Шварц? Фернан кивнул головой. — Врет. Не верьте ни единому слову. — А я и не верю. — Между прочим, только что итальянец Сакко из барака доктора Шварца намекнул мне что-то насчет воды. Знаете, был такой случай. Когда я ехал сюда через пустыню, я предложил шоферу стакан воды/Он отказался, да еще с таким негодованием! Фернан задумался. — Вода или не вода, а здесь что-то неладное. Все выяснится тогда, когда вы побываете на испытаниях. — Вы не отказались от этой идеи? — Наоборот. Я пришел к вам, чтобы уточнить наш план. Давайте думать, как вам пробраться на испытания. Я улыбнулся. Этот человек говорил со мной так, как будто был в институте по крайней мере столько же, сколько и я. А ведь он жил здесь всего несколько дней! — Я вас слушаю. — Так вот, я вчера днем побывал в вашем «оазисе алых пальм». Вы знаете, что это такое? Я кивнул головой. — Вы там тоже были? — Был. — Прекрасно. Тогда вам легче будет объяснить. Вход в оазис лежит через кухню… — Какую кухню? — Ту, посредине которой стоит печь, огромная печь, — пояснил Фернан. — А почему вы думаете, что это кухня? — Потому что я сам видел, как какой-то неуклюжий, широкоплечий верзила варил в котлах еду и затем увозил котлы за изгородь справа. Это шагов пятьдесят от кухни. — А я кухню принял за оранжерею! — признался я смущенно. — Она немного напоминает оранжерею. Там действительно расставлены кадки и горшки с окаменевшими растениями, но основное назначение этого помещения — кухня. — И вы видели, как там варится и жарится пища? — засмеялся я. — Представьте себе, да. Повар, или как его, какое-то неуклюжее глухое и немое существо. Мне было не очень трудно, приоткрыв дверь трансформаторного ящика, следить, как и что он делает. Я видел, как он готовил мясное блюдо. Он рубил кривым стальным палашом тушу не то свиньи, не то барана, вымоченного в чане с густой черной жидкостью. Когда его варево закипело, помещение наполнилось таким смрадом, что мне пришлось закрыть дверь и спуститься на несколько ступеней вниз… Мы замолчали. Фернан прочитал в моих глазах вопрос и ответил на него легким пожатием плеч. Действительно, разве можно было сказать, для кого готовилась еда? — Когда повар, нагруженный котлами, покинул помещение, я вышел из своего укрытия и провел разведку. Теперь мне ясно, как проникнуть на испытательный полигон, туда, где находятся главные объекты опытов Грабера. — Как? — Шагах в тридцати от ворот растет пальма, прямо у стены. Ее крона возвышается высоко над проволочными заграждениями, а ветки простираются на запретную территорию. Нужно влезть на эту пальму и спрыгнуть вниз… — Ограда имеет высоту около семи метров. Крона возвышается на высоту около десяти метров. Не кажется ли вам такой метод проникновения несколько рискованным? Фернан улыбнулся: — Нет, не кажется, если учесть, что песок здесь глубокий и мягкий. Нужно только суметь спружинить ногами и сразу упасть на бок. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Я покачал головой. — Нет. Но это неважно. Я сделаю так, как вы предлагаете. — Другого пути нет. — Значит, будем действовать по-вашему. — Теперь самое главное. Я уверен, что в день приезда военных вас никто тревожить не будет. Не думаю, чтобы эти солдафоны интересовались, как вы выполняете свои спектральные и рентгеновские анализы. Их, конечно, будет интересовать главный результат исследований Грабера. — Какой? — Не знаю. Это вы должны увидеть собственными глазами. Так вот, в день приезда начальника Грабера вы должны сидеть возле окна и внимательно смотреть в сторону моей лаборатории. Фернан взял меня за руку и подвел к окну. — Там, на самом крайнем окне, я поставлю тигель и зажгу в нем кусок бумаги. Как только вы увидите пламя, спускайтесь в ящик и что есть мочи ползите по трубе к алым пальмам. Я вас встречу в тамбуре под кухней. Я спросил: — А откуда вам будет известно, что мне пора? — Из своей лаборатории мне лучше видно, что делает Грабер. Я буду знать, когда он начнет приготовления на испытательном участке для приема высоких гостей. — Ну что ж, понятно, — сказал я. — Только боюсь, что план может провалиться, и тогда несдобровать ни мне, ни вам. Фернан положил мне руку на плечо и сказал: — Вы не должны думать о поражении. Вы должны думать только о победе. Это ваш долг. Могу вас заверить: в борьбе против Грабера мы не одни… Я горько усмехнулся и прошептал: — Никто ничего о нем не знает… Фернан тихонько засмеялся: — Ох, не думайте так! Не забывайте, местные жители от Грабера бежали! Мне что-то не верится, что они так просто согласятся на то, чтоб на их родной земле поселился дьявол. Аллаху такое не очень нравится! — добавил он весело.8. «БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ!»
Рано утром я уселся у окна своей спальни и стал смотреть на черную полоску асфальтовой дороги, которая протянулась вдоль восточной ограды. Кругом как будто бы все вымерло. Даже часовые куда-то исчезли. Из труб резиденции Грабера не валил дым, как обычно. Когда солнце поднялось высоко над пальмами, я увидел, как по асфальтовой дороге быстро прокатила закрытая автомашина, за ней — вторая. Оба автомобиля обогнули кирпичное здание резиденции Грабера и скрылись за углом. Через минуту я поднял телефонную трубку. — Да, — раздался резкий и сердитый голос фрау Айнциг. — Будьте добры, соедините меня с господином Фернаном, — попросил я. — Ни с кем я вас соединять сейчас не буду. И вообще прошу вас, Мюрдаль, сегодня никого звонками не тревожить. — Почему? — удивленно спросил я. — Разве сегодня воскресенье? — Не задавайте глупых вопросов. Таково распоряжение. Она повесила трубку, и я облегченно вздохнул. Значит, время действовать наступило. Только бы не проглядеть сигнал. Около десяти часов я увидел в окне барака, где находился Фернан, ярко-оранжевое пламя. Оно появилось на несколько секунд и тут же исчезло. Через несколько минут оно появилось вновь, и я решительно пересек комнату. Возле бетонной тумбы спектрографа я поднял линолеум и положил под него кусок жести. После этого я лег плашмя на пол и стал ждать. Это продолжалось минут пять. Звонка не было. Значит, сигнализация замкнута надежно. Как и прежде, я подполз к металлическому ящику с изображением черепа и влез в подземелье. На этот раз я проделал весь путь до оазиса значительно быстрее, чем раньше. Теперь я хорошо знал, как нужно ползти, чтобы одежда не цеплялась за кабельные крючки. Я всячески старался экономить силы и поэтому не делал никаких лишних движений Я дышал глубоко и ритмично. Вскоре впереди заблестел огонек. В конце пути меня ждал Фернан. — Поднимайтесь. Здесь можно встать на ноги, — сказал он шепотом. Он помог мне, и мы несколько секунд молчали. — Пока все идет хорошо, — прошептал он наконец. — Минут десять назад вся компания во главе с доктором Грабером отправилась на испытательный участок. В оранжерее никого нет. Так что идите туда. Когда вы окажетесь в саду, старайтесь идти за первым рядом грядок. Там растут какие-то кустарники, и в случае необходимости за ними можно будет спрятаться. Ну, а что касается ваших действий на испытательном участке, то это зависит от вас. Что и как там расположено, я не знаю… — Хорошо. Что я должен делать? — Смотреть. Только смотреть. Если вам все станет ясно, ищите путь к отступлению. Он крепко пожал мне руку и легонько толкнул в плечо. — Пора, — сказал он. — Плохо, что смотр они затеяли днем. — Да, ночью было бы проще. — Кстати, имейте в виду, что сегодня должно произойти еще одно важное событие. Оно нам на пользу… — Событие? Какое? — Об этом после. Итак, вперед. Фернан осветил крутую лестницу в оранжерею, а когда я приоткрыл дверь, он выключил свет и, пригнувшись, скользнул в углубление направо. В оранжерее я несколько минут стоял ослепленный. Затем, когда глаза привыкли к яркому свету, я увидел, что на столах, и вдоль окон, и рядом с огромной печкой стоят кадки с растениями, листья которых имеют бледно-желтый цвет. По форме листьев я сразу узнал лимоны, банановую пальму, кусты помидор. Плоды имели грязно-серый оттенок. Солнце стояло высоко, и эта фантастическая оранжерея была залита пыльным светом. В дальнем углу находились баки с отвратительной бурой жидкостью. Песок в кадках был влажный, по краям виднелись пятна какого-то белого налета. Очевидно, растения поливали не обычной водой, а каким-то раствором. Я вышел в сад и перебежал за первый ряд прямоугольных могил. Оазис был огорожен, как и вся территория института, высокой глиняной стеной. Справа от кухни стена была много выше, и в углу, где она упиралась в западную ограду, виднелись небольшие ворота. Я направился к этим воротам, временами оглядываясь по сторонам. Кругом царило безмолвие, такое, какого никогда не бывает в настоящем саду, с зелеными растениями и деревьями. Солнце пекло беспощадно. Обходя одну из песчаных могил, усаженных бледно-желтыми кустами, я заметил, что над уровнем песка возвышаются металлические трубы, изъеденные ржавчиной. Трубы торчали на всех грядках. Видимо, с их помощью поливали всю эту странную растительность. Чем? Я просунул палец в трубу, извлек каплю мутной жидкости и попробовал на язык. Рот обожгло чем-то горьким и жгучим. «Щелочь! Концентрированная щелочь? Наверно, едкий калий…» — подумал я, сплевывая горько-соленую слюну. Я уже приготовился перебежать следующий промежуток между грядками, когда из-за ворот послышались голоса. Кто-то громко разговаривал, и разговор иногда прерывался взрывами смеха. Что было мочи я устремился к пальме у стены и спрятался за ее ствол. Через минуту калитка отворилась, и в сад вышло шесть человек. Во главе компании выступал небольшого роста мужчина с непокрытой головой, в белых брюках и легкой рубашке с широко распахнутым воротом. Рядом с ним шагал высокий немец в офицерской форме, в котором я сразу узнал доктора Шварца. Затем я увидел женщину в очках, в широкополой шляпе и еще четырех человек, двоих в американской военной форме и двоих в штатском. Мужчина с непокрытой головой и в распахнутой рубашке был доктор Грабер. Я об этом сразу догадался: он уверенно шагал меж грядок и по-английски давал объяснения своим спутникам. — Вот этим мы их и кормим. Ситуация получается сложная. Оказывается, мало переделать их. Нужно переделать всю природу — растения, животных, все! — для их питания! Диета должна соответствовать новой биохимической организации. Один из офицеров сорвал огурец с грядки и откусил. — Черт возьми, ведь он горький! И твердый, как подметка! — закричал он, отплевываясь. — Конечно. Но это как раз то, что им нужно. Если их посадить на обычную диету, их придется отправить в музей… — И долго вам пришлось разводить это хозяйство? — спросил американский полковник. — Да. Почти пять лет. К моему удивлению, после введения катализатора в корневую систему пальмы превратились в кремнийорганические всего за два года. Нам пришлось повозиться с их подкормкой. Теперь они дают очень хорошие кокосовые орехи и бананы. Мы сервируем их на десерт. Все опять засмеялись. — Вон там помещается кухня. Одного из них мы сделали поваром, и он справляется со своей задачей блестяще. По совместительству он исполняет обязанности садовника. — Они что же, все вегетарианцы? Или вы иногда кормите их и каменным мясом, или как оно там называется… — Да, они получают силикатные белки. Для этого мы держим кроликов, овец, кое-какую птицу… Правда, с этим материалом возни очень много. Каждую особь приходится переделывать отдельно… Если мне удастся решить проблему кремнийнуклеиновых кислот… — Ну что ж, ясно, господин Грабер, — сказал американский полковник. — Пойдемте обратно. Там, видимо, все уже готово. Значит, решение проблемы наследственности упирается в кремнийнуклеиновые кислоты, которые пока что не получаются, так? Все скрылись за стеной, и я не расслышал продолжения разговора. Я был основательно встревожен, но еще не очень хорошо себе представлял, что меня встревожило. Когда голоса стихли, я обхватил ствол пальмы руками и стал медленно карабкаться вверх. Дерево было покрыто толстым слоем каменистой коры, о которую было легко опираться ногами. С каждой секундой я поднимался все выше и выше, пока не оказался на уровне стены. По стене проходили два ряда колючей проволоки. Наконец я добрался до кроны. Жесткие листья царапали лицо. За стеной стояли два строения, похожие не то на гаражи, не то на ангары. В большой ангар вошли все, кроме Грабера. Он повернул назад и скрылся в малом ангаре. Вскоре оттуда медленной, грузной походкой потянулись какие-то люди. Они шли гуськом, друг за другом, едва передвигая ноги. У них был очень странный вид. Их плечи были непомерно широки, шли они с низко опущенной головой. Создавалось впечатление, будто эти люди были высечены из тяжелого камня. Сбоку шеренги шагал Грабер с длинной тростью и попеременно тыкал ею то в одного, то в другого. Иногда он выкрикивал какие-то гортанные слова, но странные люди не обращали на него внимания. Они шли и шли, скрываясь за широкой дверью большого ангара. Их было человек пятнадцать, все в светлых штанах, оголенные до пояса. Увидев это шествие, я вдруг все понял. У меня дыхание захватило от ярости. Забыв об опасности, по жесткой, как металл, пальмовой ветке я прополз над стеной и спрыгнул вниз на глубокий мягкий песок. Несколько секунд я лежал неподвижно, затем ползком пробрался ко входу в большой ангар. Помещение было освещено только небольшими окнами под самой крышей, и после яркого солнечного света я в первую минуту ничего не видел. Были слышны гулкие голоса, затем я разглядел кучу каких-то ящиков в углу и спрятался за ними, — Первое испытание не такое уж и показательное, — громко говорил Грабер. — Прошу вас, мистер Улбри, возьмите этот металлический прут и бейте любого из них. Странные люди стояли в одну шеренгу перед небольшим бассейном посредине ангара. Их лица были бесцветны, бессмысленны. Это были не люди, а каменные статуи, грузные мумии, созданные бесчеловечным гением доктора Грабера. Мое сердце бешено колотилось. Но я еще не понимал, для чего был поставлен этот чудовищный эксперимент. — Прямо так и бить? — удивился Улбри, взвешивая в руке тяжелую металлическую палку. — Конечно. Представьте себе, что перед вами обыкновенное деревянное бревно. Давайте я вам покажу. Грабер взял у мистера Улбри прут, подошел к шеренге, замахнулся и ударил одного из людей по плечу. До боли в глазах я сжал веки. Послышался сухой стук, будто удар пришелся не по человеческому телу, а по чему-то твердому… — Теперь дайте попробую я. Послышалось несколько ударов. Я приоткрыл глаза и увидел, как гости по очереди брали железный прут и били по неподвижно стоявшим людям-статуям. — А вот этот застонал! — воскликнул один штатский. — У него еще не полностью произошло замещение углерода на кремний, — объяснил Грабер. — Через неделю он будет как все. Когда избиение окончилось и гости вволю наговорились, выражая свое восхищение достижениями доктора Грабера, началась вторая серия испытаний. — Физиологические процессы в их организме крайне замедленны, — объяснял Грабер. — Для них нормальная температура окружающей среды — это что-нибудь около шестидесяти градусов выше нуля. Если температура ниже, им холодно. Жару они начинают чувствовать при трехстах пятидесяти градусах. Здесь у нас бассейн с нагретым раствором едкого калия. Какая сейчас здесь температура, фрау Айнциг? — Двести семнадцать градусов, — ответила женщина. «Так вот она, фрау Айнциг», — подумал я. — В этом бассейне они сейчас будут с удовольствием купаться. Смотрите. Грабер зашел за спину одного из людей и стал тыкать ему между лопаток своей палицей. — А чем вы их шевелите? — спросил немецкий генерал. — Электрический разряд высокого напряжения. Ток при напряжении более семисот вольт им не нравится. Здесь у меня в кармане батарейка и небольшой трансформатор. Человек, которого он подгонял, медленно подошел к дымящемуся бассейну и грузно прыгнул в жидкость. Вслед за этим послышалось отвратительное, нечленораздельное уханье. — Купаться здесь им очень нравится, — пояснил Грабер. — Сейчас сюда мы загоним всех, кроме этого, который еще не полностью оформился. Один за другим в бассейн прыгнули все. Ангар наполнился гулом нечеловеческих голосов. Густая раскаленная жидкость пенилась, и в ней неуклюже плавали кремниевые существа. — Им так понравилось, что вы их ничем отсюда не выгоните! — Это сделать очень просто. Сейчас мы будем наполнять бассейн холодным раствором, и они вылезут сами. Фрау Айнциг, откройте кран. Через минуту, тяжело переваливаясь через край бассейна, каменные люди начали выбираться из охлажденной жижи. От их тел в воздух поднимался едкий пар. Кто-то из присутствующих закашлял. Американец попятился в сторону и перешел на противоположную сторону бассейна. — Интересно, а могут ли они двигаться в огне? Если, скажем, нужно будет пройти сквозь горящее здание или сквозь пылающий лес. Вы ведь знаете, там, в России, с такой необходимостью во время войны приходилось иметь дело. Это говорил немецкий генерал, низенький, старый, в очках. — Могут. Мы делали опыты, и оказалось, что наши лучшие экземпляры в состоянии находиться в пламени до пятнадцати минут. Они могли бы выдержать и больше, но их кровь начинает насыщаться углекислотой, и в ней образуется нерастворимый карбоглобулин кремния, который закупоривает кровеносные сосуды. — Ну что ж, пятнадцать минут — это не так уж мало. — А чем вы нас еще порадуете? — Последнее, что я вам хочу показать, — это их пулеустойчивость. — Что? — В них можно стрелять. — И это их не… — Нет. Правда, это относится не ко всем. Пули совершенно безопасны для устоявшихся, так сказать, престарелых экземпляров. Шварц, установите, пожалуйста, пулемет на той стороне бассейна. Я с ужасом смотрел, как мой «патрон», доктор химии Шварц, прошел в дальний угол ангара и вскоре вернулся с ручным пулеметом. Он обошел бассейн и принялся устанавливать пулемет совсем рядом с кучей ящиков, за которыми я скрывался. Тем временем Грабер загонял на противоположную сторону бассейна двух человек. До этого момента мне казалось, что кремниевые существа совершенно безразличны к тому, что над ними проделывают их мучители. Однако теперь было видно, что это не так. Едва появился пулемет, как строй зашевелился, распался, некоторые стали пятиться назад, послышалось глухое мычание… — Они боятся! — воскликнул Улбри. — Да. Это больно. Но, конечно, терпимо. Вот. Теперь можно начинать. Я почти совсем высунулся из своего укрытия и широко раскрытыми глазами смотрел на страшный расстрел. Вначале Шварц сделал несколько одиночных выстрелов. Те, что стояли у стены, резко вздрагивали… Один из них поднял руку и прикрыл свою грудь. Другой сделал несколько шагов в сторону. — Теперь дайте очередь, — скомандовал Грабер. Шварц нажал на курок. Дробно прогрохотали выстрелы. Люди у стены встрепенулись и застонали. Я зажмурил глаза. В это время послышался членораздельный голос. Кто-то в шеренге медленно, словно с усилием, произнес по-немецки: — Проклятые… Стрельба прекратилась. И тогда голос стал еще более явственным: — Проклятые звери… Изверги… Будьте вы прокляты…
— Это кто? — громко спросил немецкий генерал.
— Это новенький экземпляр, — весело объявил Грабер, — Один наш бывший биолог, Фрелих. Помните, я вам докладывал. Он здесь решил организовать бунт.
Фрелих! Фрелих! Тот самый Фрелих, который приносил мне на анализ кроличью кровь. Тогда его избил Шварц. И вот что они теперь с ним сделали!
— Будьте вы прокляты!.. — простонал Фрелих. К нему подошел генерал и изо всех сил ударил по его лицу железной палкой.
— Будьте вы прокляты… — продолжал говорить немец. Это было страшно. Немецкий генерал избивал своего изуродованного соотечественника! А тот с нечеловеческим упорством продолжал повторять слова проклятья.
В это время послышался громкий хохот Грабера.
— Вот видите! Вы его лупите, а ему все нипочем! Каков, а? Ведь такие устоят против чего угодно!
— А ну-ка, поставьте его к стенке, — скомандовал озверевший немец. — Дайте по нему хорошую очередь, чтобы знал!
— Не стоит. Он еще не полностью отвердел. Его тело еще недостаточно плотное.
— Черт с ним. Ставьте! — приказал генерал, вытирая платком потное лицо.
— Будьте вы прокляты… — стонал Фрелих.
— К стенке! Нечего церемониться! — настаивал немец.
— Может быть, не стоит, господин генерал, — заметил американский полковник.
— К стенке! Вы, американцы, должны научиться быть жестокими, иначе мы никогда не выиграем войну! — Через неделю он будет как и все, — пояснил Грабер.
— Будьте вы прокляты…
— К стенке!!
Грабер с сожалением пожал плечами и, подойдя к Фрелиху, стал подталкивать прутом. Тот медленно пошел к стенке, и я заметил, что в его осанке еще осталось что-то человеческое, живое. Он шел, подняв тяжелую голову так высоко, как мог, а его неподвижные глаза горели ненавистью.
От ярости и возмущения у меня потемнело в глазах, тело покрылось холодным потом, сердце, как тяжелый молот, колотилось в груди. Сам тою не замечая, сжав кулаки, я выступил из укрытия.
— Огонь! — крикнул немецкий генерал доктору Шварцу.
— Будьте вы прокляты… — простонал Фрелих. Я сорвался со своего места и бросился на Шварца. Я схватил его за горло, опрокинул на спину и, оттащив от пулемета, принялся бить по лицу.
Дальше я не помню, что было. Послышались выстрелы.
Кто-то закричал. Ко мне подбежали, ударили по голове…
— Проклятые звери… Изверги… Будьте вы прокляты…
— Это кто? — громко спросил немецкий генерал.
— Это новенький экземпляр, — весело объявил Грабер, — Один наш бывший биолог, Фрелих. Помните, я вам докладывал. Он здесь решил организовать бунт.
Фрелих! Фрелих! Тот самый Фрелих, который приносил мне на анализ кроличью кровь. Тогда его избил Шварц. И вот что они теперь с ним сделали!
— Будьте вы прокляты!.. — простонал Фрелих. К нему подошел генерал и изо всех сил ударил по его лицу железной палкой.
— Будьте вы прокляты… — продолжал говорить немец. Это было страшно. Немецкий генерал избивал своего изуродованного соотечественника! А тот с нечеловеческим упорством продолжал повторять слова проклятья.
В это время послышался громкий хохот Грабера.
— Вот видите! Вы его лупите, а ему все нипочем! Каков, а? Ведь такие устоят против чего угодно!
— А ну-ка, поставьте его к стенке, — скомандовал озверевший немец. — Дайте по нему хорошую очередь, чтобы знал!
— Не стоит. Он еще не полностью отвердел. Его тело еще недостаточно плотное.
— Черт с ним. Ставьте! — приказал генерал, вытирая платком потное лицо.
— Будьте вы прокляты… — стонал Фрелих.
— К стенке! Нечего церемониться! — настаивал немец.
— Может быть, не стоит, господин генерал, — заметил американский полковник.
— К стенке! Вы, американцы, должны научиться быть жестокими, иначе мы никогда не выиграем войну! — Через неделю он будет как и все, — пояснил Грабер.
— Будьте вы прокляты…
— К стенке!!
Грабер с сожалением пожал плечами и, подойдя к Фрелиху, стал подталкивать прутом. Тот медленно пошел к стенке, и я заметил, что в его осанке еще осталось что-то человеческое, живое. Он шел, подняв тяжелую голову так высоко, как мог, а его неподвижные глаза горели ненавистью.
От ярости и возмущения у меня потемнело в глазах, тело покрылось холодным потом, сердце, как тяжелый молот, колотилось в груди. Сам тою не замечая, сжав кулаки, я выступил из укрытия.
— Огонь! — крикнул немецкий генерал доктору Шварцу.
— Будьте вы прокляты… — простонал Фрелих. Я сорвался со своего места и бросился на Шварца. Я схватил его за горло, опрокинул на спину и, оттащив от пулемета, принялся бить по лицу.
Дальше я не помню, что было. Послышались выстрелы.
Кто-то закричал. Ко мне подбежали, ударили по голове…
9. НЕУДАВШЕЕСЯ ВОССТАНИЕ
Я очнулся от острой боли в правой руке. Открыв отяжелевшие веки, я увидел прямо перед собой чьи-то пальцы, державшие огромный шприц, который медленно наполнялся кровью. Вторая рука сжимала мой локоть. Я поднял голову и увидел, что на краю кровати сидит женщина. Это была фрау Айнциг. Заметив, что я очнулся, она резко проговорила: — Не шевелитесь, Мюрдаль, не то сломается игла. — Игла? — ничего не соображая, спросил я. — Да, игла. Видите, я беру из вены кровь. Я попробовал потянуть руку, но она навалилась на меня всем телом и сквозь зубы процедила: — Черт бы вас побрал! Не шевелитесь, иначе будет плохо! Я уставился на цилиндрический сосуд в ее руках. Айнциг ловко выдернула иглу из вены и положила на ранку кусок ваты, смоченной йодом. — Теперь сожмите руку в локте, плотнее. Она поднесла шприц к глазам. Я следил за ее движениями, и постепенно в памяти начали восстанавливаться картины недавно увиденного и пережитого кошмара. — Что вы хотите со мной делать? — спросил я. — Ничего особенного. Беру вашу кровь на исследование. — Для чего? Она повернула ко мне свое тонкое, бескровное, заостренное лицо и ответила с усмешкой: — Чтобы знать, с чего начинать. Комната, где я лежал, была небольшая, светлая, со стенами, выложенными белым кафелем. Она напоминала операционную. Сквозь широкое окно виднелось голубое небо и справа — край серой бетонной стены. Айнциг подошла к окну и уселась за небольшой столик со стеклянной крышкой, на котором стояли пузырьки с растворами, пробирки в штативах, никелированные коробки с инструментами. Мою кровь она разлила по нескольким пробиркам, а оставшуюся часть выплеснула в стеклянную кювету. В нее она опустила два электрода, от которых провода тянулись к черному эбонитовому ящику. — Вы измеряете концентрацию водородных ионов? — Вы догадливы! — едко ответила она. — Хотя я терпеть не могу возиться с поганой кровью французов и арабов. — Видимо, вам больше нравилось возиться с кровью своих соотечественников, например с кровью Фрелиха? Фрау Айнциг вскочила со своего места и, нагнувшись надо мной, зашипела: — Он не мог быть настоящим немцем! Иначе он никогда не пошел бы на такую подлость! Он хотел поднять бунт в институте из-за окаменевшего черномазого кретина! Это только французы, арабы, негры, русские и прочие… Я не понимал, чего здесь было больше — фанатизма или патологической жестокости. Передо мной стояла женщина-зверь, участница самого подлого и грязного преступления. — Когда-нибудь, фрау Айнциг, вам будет плохо, ох и плохо!.. — простонал я и отвернулся к стенке. Мне вдруг стало противно смотреть на эту гадину с завитыми бесцветными волосами, с тощей плоской фигурой, с остроносой маской вместо лица. Айнциг хихикнула и вышла из комнаты. Я слышал, как она покатила впереди себя столик со склянками и инструментами. Через некоторое время я встал с кровати и подошел к окну. Это был последний этаж здания, которое я раньше называл «резиденцией Грабера». Справа возвышалась водокачка, а прямо виднелась ограда, за которой стояли два ангара — малый и большой. Там Грабер демонстрировал своих каменных чудовищ. Голова еще болела от удара, и я вернулся на свою койку. Необходимо о многом подумать. Нужно решить, что делать дальше. Нужно, наконец, приготовиться к неизбежной участи. Смысл работы института Грабера стал предельно ясным. Я вспомнил, как однажды сказал Пуассон: «Мне кажется, Грабер хочет проделать в биологии какую-то штуку…» В биологии? Нет. В самой жизни Грабер создает совершенно новый органический мир, животный и растительный, в котором роль углерода выполняет кремний. Он научился создавать кремнийорганические растения. Он создает кремнийорганических животных. Он добрался и до человека. Ему удалось создать каменных уродов, которые по его замыслу должны стать идеальными солдатами для будущей войны. Так вот зачем лаборатория создана в пустыне! Здесь море песка, необъятные океаны окиси кремния, аналога окиси углерода. Как углекислый газ необходим для питания травы, цветов, деревьев, так окись кремния необходима для питания кремниевых растений. Каменные растения нужны для питания каменных животных. Животные и растения вместе служат пищей для каменных роботов… Здесь, в пустыне, вдали и в тайне от людей, создавался безмолвный каменный мир. Трудно было предположить более страшное и более преступное применение научного открытия. Но еще труднее было себе представить, как против всего этого бороться. Почему найденная мною крыса окаменела? Она была мертва, что-то в ее переделке было неправильным. Что значат слова Айнциг о том, что Фрелиху стало жаль «окаменевшего черномазого»? Не окаменел ли один из подопытных людей Грабера? Не превратился ли он в статую? Вспоминая дикую демонстрацию в ангаре, я вдруг подумал, что меня ждет такая же участь, как и Фрелиха, как и всех других. От этой мысли мне стало жутко. Как они это делают? Зачем фрау Айнциг взяла для исследования мою кровь? С чего все начинается? Я беспокойно ворочался с боку на бок, с ужасом думая о том, что меня ждет, пока не услышал, как в двери щелкнул ключ. Я вскочил на ноги в тот момент, когда дверь отворилась и на пороге появился сам доктор Грабер. Он широко улыбнулся, подошел к окну, взял табуретку и уселся напротив меня. Я думал, что именно сейчас все и начнется. Я превратился в комок до предела напряженных мускулов. — Не бойтесь. Ваше время еще не пришло, Мюрдаль, — сказал Грабер. — Я вас не боюсь. Я вас ненавижу, — прохрипел я. — Это не имеет никакого значения, мой дорогой коллега. Когда вы будете как все, у вас появятся другие чувства. Он расхохотался. Я встал во весь рост. — Не делайте глупостей, Мюрдаль. Вы же знаете, что я с вами легко справлюсь. Лучше сядьте и давайте поговорим как ученый с ученым. Признаться, большинство тех, кто у меня работает, не такие уж умные люди, как кажется. Например, ваш руководитель доктор Шварц типичный представитель догматической школы. У вас, должно быть, ум более живой. — С чего это вы вдруг решили говорить мне комплименты? — спросил я. — Я это говорю потому, что вы действительно любознательный человек. С риском для жизни вы пробрались в самую сокровенную часть моего хозяйства. Вы проделали долгий и утомительный путь по канализационной трубе. Вы не побоялись проникнуть в испытательный павильон. И все ради чего? Ради удовлетворения своей любознательности, не правда ли? Я молча смотрел на Грабера, усиленно думая, к чему он клонит. — Вы напоминаете мне мою молодость. Когда я серьезно задумался над проблемой создания кремнийорганического мира, мне понадобились точные сведения о химическом составе крови различных животных. К своему удивлению, я мало что нашел в книгах. А то, что я находил, для меня не представляло никакого интереса. И тогда я начал делать анализы сам. Если бы вы знали, сколько кошек, собак, кроликов, свиней, баранов я истребил! Мне нужно было точно знать, каков химический состав крови у этих животных во время сна, в то время, когда их бьют, когда их ласкают, когда их злят… Но вот с домашними животными было покончено. Казалось бы, все. Так нет. Я принялся за диких зверей! Ведь в моем искусственном мире должно быть все! Но где взять диких зверей? Как с ними обращаться? И знаете, я отправился в зоологический парк. Я рисковал жизнью. Ночью я проникал в парк и. вооружившись флаконом сильного снотворного и шприцем, залезал в клетки хищников — ко львам, тиграм, пантерам. Я набрасывал на их морды тряпку, смоченную снотворным, и, когда они засыпали, всовывал иглу под их шкуры и высасывал из них нужное мне количество крови. После я бежал в лабораторию и проводил анализ. И так почти год, до тех пор, пока меня чуть было не раздавила слониха, когда я брал кровь у ее спящего детеныша! — Грабер захохотал. Лицо у него было розовое, лоснящееся. — И все из-за любознательности. Только она одна двигает науку и прогресс человечества. — Прогресс? У вас странное представление о прогрессе. Ваши каменные солдаты — тоже прогресс? — Конечно, Мюрдаль, конечно! — воскликнул он. — Раса каменных людей будет очень полезной. Они будут более полезными, чем, скажем, лошади, или верблюды, или слоны. Как-никак, а это мыслящие существа. — Мыслящие? — Конечно. Мыслящие и покорные. У них отлично развито чувство страха. А это главное. — А чего они боятся. Ударов? Огня? Пуль? — Нет. Ничего такого они не боятся. Это как раз то чудесное их качество, которым мы должны воспользоваться. Но, обладая инстинктом самосохранения, они очень боятся того, что может их умертвить. — Что же их может умертвить? — спросил я. Грабер посмотрел на меня насмешливо. — Вы очень, повторяю, очень любознательны. Но я не боюсь открыть вам секрет. Вы все равно его никому не разболтаете. Их может умертвить вода. — Вода? — Именно. Как и всякий живой организм, они потребляют воду. — Ну и что же? — Так вот, они должны пить необычную воду. Как вам известно из химии, большинство соединений кремния в жидком виде может существовать только в сильно щелочных средах. Мои солдаты также могут жить только до тех пор, пока в их организме господствует щелочная среда. Они пьют воду, насыщенную едким калием. — Ах, вот оно что! — воскликнул я. — Именно поэтому в ваших анализах потенциометрия занимает такое важное место? — Совершенно верно, Мюрдаль, совершенно верно. И щелочность воды должна быть в строго определенных пределах. От… Впрочем, вам это знать не обязательно. — Так почему же ваши, как вы их называете солдаты, боятся воды? — А потому, мой дорогой, что, если им дать не щелочную, а обыкновенную воду, они моментально окаменеют. Превратятся в каменных истуканов, в мумии. — И вы их держите в постоянном страхе? — Угу. Это могучее средство, при помощи которого ими можно командовать… Но вернемся к вашему любознательному уму, Мюрдаль. Как вы думаете, можно ли создать кремнийорганический аналог рибонуклеиновой и дезорибонуклеиновой кислот? Я вспомнил, как итальянец Джованни в лаборатории Шварца безуспешно пытался синтезировать эти кислоты с кремнием вместо углерода. — Для чего это нужно? — спросил я. Грабер встал и несколько раз прошелся по комнате. — Ах, если бы это удалось! Если бы живая клетка вся, до конца, могла стать кремнийорганической! — Разве у ваших жертв она не полностью кремнийорганическая? — Полностью, за исключением ядра. Понимаете, ядра! В этом вся трагедия… — Трагедия? — Да. Из-за этого мои кремнийорганические организмы не могут размножаться. Для того чтобы их создавать, нужно брать уже готовый материал, нужно брать готовые углеродистые организмы… До меня сначала не дошел кошмарный смысл идеи Грабера. Помолчав немного, он продолжал: — Понимаете, если бы были созданы кремнийорганические аналоги нуклеиновых кислот, то ядро новой клетки обрело бы возможность размножаться. И тогда не нужно было бы заниматься перестройкой каждого индивидуума в отдельности. Достаточно было создать несколько разнополых экземпляров, и они давали бы кремнийорганическое потомство. Тогда все решалось бы предельно просто. Кремнийорганические семена растений прорастали бы в кремнийорганические растения, животные давали бы стада кремнийорганических животных, кремниевые люди… — Негодяй! — закричал я, подбежав к Граберу. — Убийца! Я схватил его за горло, но в этот момент окно комнаты с дребезгом разбилось, и в него влетел огромный булыжник. Грабер сильно толкнул меня в грудь. Затрещали выстрелы. Грабер съежился, быстро проскочил комнату и захлопнул за собой дверь. Я подбежал к окну и выглянул наружу. Там, возле стены здания, метались какие-то люди с карабинами в руках. Несколько человек в белом с кривыми ножами в руках рвались к двери. Я высунулся в окно и закричал: — Эй, сюда! Грабер здесь! Мимо моего уха просвистела пуля. Я заметил, что из ворот, ведущих на испытательный полигон, выскочило несколько немцев с автоматами. Один из них стрелял по моему окну. Я отбежал в сторону. Автоматная очередь оставила на потолке пунктирную Линию. «Восстание? Неужели восстание? Но кто это, кто? Местные жители?» Выстрелы продолжались. Внизу кричали. Слышались какие-то команды. Последовал взрыв, еще два, и все стихло. Я медленно подошел к окну, но не успел высунуться, как снова раздался выстрел и просвистела пуля. Я вернулся в угол и стал прислушиваться. Перестрелка теперь доносилась издалека, откуда-то слева. Затем все смолкло. Стало быстро темнеть. «Неужели неудача? — думал я, усаживаясь на койку. — Неужели попытка раздавить это гнусное гнездо не удалась? И кто бы мог все это затеять?»10. ВОЙНА
Всю эту ночь я почти не спал, думая о том, что произошло в институте. Вокруг царило глухое безмолвие, и только сердце стучало так сильно, что, казалось, его стук сотрясал стены комнаты. Света не было. Кругом царила беспросветная тьма. Может, бежать? Спрыгнуть с третьего этажа и бежать? Но куда? Не было никакой гарантии, что внизу меня не схватят или не пристрелят на месте. Что толку в том, что я до конца раскрыл тайну института Грабера? Он все равно будет продолжать делать свое дело. Уже теперь он мог каким-то дьявольским катализатором замещать в живом организме углерод на кремний и создавать противоестественный живой мир. А что будет, когда он добьется, чтобы кремнийорганические свойства передавались по наследству от организма к организму? Моя фантазия рисовала мне страшные картины. Селения в пустыне, окруженные безмолвной грязно-желтой растительностью. Вокруг — кладбища из грядок, на которых произрастают жесткие и едкие овощи. Дальше — поля кремниевых злаков. Твердые колосья едваколышутся на упругих стеблях. Луга жесткой бледно-оранжевой травы, на них пасутся грязные, неуклюжие животные… А по улицам селений медленно бродят каменные мужчины и женщины, уродливые детишки нелепо ступают по глубокому песку… И над всем этим — палящее солнце… Где-то в центре селения, на его площади, стоит цистерна с едкой жидкостью, которую пьют люди. В цистерне их жизнь и смерть. Раз в неделю сюда подъезжает грузовик и заполняет ее жгучей влагой. Горе непокорным! Те, кто не подчинился быстроногим и гибким владыкам, получат другую воду и превратятся в безмолвных каменных идолов. Как символ могущества Грабера, вокруг цистерны возвышаются статуи окаменевших людей. Все это было каким-то бредом, и сознание того, что этот бред близок к реальности, приводило меня в нестерпимый ужас. На мгновение я засыпал, и мне начинало казаться, что мои руки и ноги отяжелели, что я не могу ими пошевелить, что я превращаюсь в каменное существо, лишенное человеческих чувств. Тогда я вскакивал со своей постели и всматривался в кромешную темноту. Это была страшная ночь. Я забылся только тогда, когда зарделся восток. Однако спать пришлось недолго. Кто-то бесцеремонно тряхнул меня за плечо. Я открыл глаза и увидел перед собой Ганса, лаборанта доктора Шварца, но не в белом халате, как там, в лаборатории, а в офицерской форме германской армии. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги. Фуражка была надвинута на лоб, и из-под козырька злобно светились маленькие колючие глазки. — Ну-ка, мусье, хватит дрыхнуть! — нагло произнес он. Ни слова не говоря, я начал одеваться. Несколько минут мы молчали. — Ну и денек же был вчера! — хихикнув, сказал Ганс. — Просто прелесть! А то в этой дыре можно было от тоски сойти с ума. Чувствовалось, что ему не терпелось чем-то похвастать. Но я продолжал молчать, соображая, что будет дальше. — Черномазые кретины хотели перехитрить доктора Грабера! Как бы не так! «Кого это он имеет в виду?» — Но мы им задали перцу. Хотели всех перестрелять, как кроликов. Но старик оказался умнее всех нас! — Почему же вы их не перестреляли? — Их почти в три раза больше, чем нас, и они тоже вооружены. Успеем, — добавил он. — А пока они пригодятся нам для опытов. — Мало вы поставили здесь всяких гнусных опытов, — пробормотал я. — Что я должен сейчас делать? — Старик приказал притащить тебя к нему! «Наверно, сейчас все начнется, — решил я. — Но я так просто не сдамся!» На этот раз лицо Грабера не казалось таким самодовольным, как раньше. Наоборот, оно выглядело озабоченным и встревоженным. Губы были плотно сжаты, брови нахмурены. Он деловито сел за стол и положил перед собой лист бумаги. Затем он обратился ко мне бесцветным голосом: — Мюрдаль, у вас есть шанс встретиться со своими друзьями. От неожиданности я вздрогнул. — Вы снесете их командиру вот это. — Он протянул бумагу мне. «Мы покидаем эту территорию. Мы навсегда покинем вашу страну. Для этого нам нужна помощь. Нужно погрузить на машины имущество и оборудование института. Потребуются десять носильщиков. Мы гарантируем свободу и безопасность всех ваших людей, если вы сложите оружие и поможете эвакуировать институт». Я лихорадочно соображал, что заставило Грабера так внезапно переменить тактику. Что он задумал? — Значит, вам здесь не нравится? — усмехнулся я. — Не нравится. Вставайте и идите. — А если я не пойду? Он небрежно пожал плечами. — Тем хуже для вас и для ваших друзей. — А почему вы не пошлете к моим товарищам своего человека? — Потому что вы лучше сумеете убедить их принять мои условия. Вы лучше знаете, что их ждет, если они не согласятся. Вы им об этом расскажете. Вы очень убедительно об этом расскажете. Идите! К воротам, ведущим на испытательный полигон, и дальше, к двери в «оазис алых пальм», меня довел Ганс. Оглядываясь по сторонам, я не увидел ни одного человека. Даже часовых нигде не было видно. У водокачки стояли три грузовика и еще цистерна для воды. Кругом было пустынно и безлюдно. — Передай им, что там две тысячи вольт. — Ганс кивнул я а проволоку над стеной. — Оружие примет от них доктор Шварц. Он дежурит с пулеметом на кухне. Выходить они будут через эту дверь. Здесь я их еще проверю, — добавил он угрюмо. В саду никого не было видно, и я наобум пошел в восточном направлении, обходя грядки с каменной растительностью. Солнце сияло в самом зените, и теней почти не было. Грязно-оранжевая листва сливалась с цветом песка, и только под пальмами лежали небольшие круглые тени. Обходя одну из пальм, я вдруг почувствовал, как чьи-то крепкие руки обхватили меня за плечи и повалили на землю. Через мгновение я увидел над собой черное лицо со свирепыми глазами. Поваливший меня человек что-то негромко крикнул на непонятном языке. Через несколько секунд надо мной склонилось еще несколько чернокожих людей, и вдруг среди них появилось знакомое мне лицо! — Мюрдаль! Пьер! — Фернан! Меня отпустили, и я встал на ноги, отряхивая песок. — У вас это хорошо организовано, — сказал я смущенно, глядя на чернокожих людей. — Молодцы ребята… — Как вы сюда попали? Вокруг меня стали собираться темнокожие люди в коротких брюках цвета хаки, в куртках, с карабинами в руках. — Да не стойте вы во весь рост, как на параде! — закричал Фернан. — А то вас перестреляют, как кроликов. Все мигом присели. — Не перестреляют, — сказал я. — Грабер капитулирует. — Что-о? — удивился Фернан. — Как это — капитулирует? — А вот так. Я протянул послание. Он прочитал записку, нахмурился и затем еще раз прочитал ее вслух. — Понятно. Так оно и должно быть. Но мы их не выпустим! Ничего не понимая, я уставился на Фернана. Значит, он знал, что Грабер должен капитулировать! — Тебе обо всем расскажет мой помощник, Али Мохаммед. Мне в связи с таким поворотом дел необходимо отдать распоряжения. Али Мохаммед, высокий, совсем черный парень, дружелюбно улыбнулся, обнажив ярко-белые зубы. Он сделал мне знак присесть и, когда я сел, гордо произнес: — Теперь мы — свободное государство. Никаких американцев. Никаких немцев. Мы сами по себе. — Вы их прогнали? — улыбаясь, спросил я. — Гоним. По всей стране гонят. Вот как здесь. — Браво! Значит, вы будете самостоятельными и независимыми, свободными и равноправными? — Совершенно верно. Только тех, кто за стеной, нужно задержать. — Зачем? — удивился я. Али прижал руку к груди. Затем он быстро-быстро заговорил на ломаном французском языке. Он рассказал страшную историю, как в пустыне, недалеко от селения, где он живет, был обнаружен каменный труп его отца. — Он был твердый-твердый, как камень, а глаза блестели, как стеклянные, — закончил он свой рассказ. Его глаза сверкали от ярости. Сжав кулаки, он посмотрел в сторону лаборатории Грабера. Вернулся Фернан. — Прежде всего нужно убрать негодяя с пулеметом, который засел на кухне, — сказал он. — Там доктор Шварц. — Доктор или не доктор, это неважно. Он простреливает весь сектор перед выходом из оазиса. Второй пулеметчик сидит на водокачке. Я выглянул из-за ствола пальмы. Водокачка возвышалась над западной оградой. Небольшие оконца на самом верху были открыты. — Друзья, — сказал Фернан, — нужно еще раз попытаться прорваться к кухне и убрать пулеметчика. Иначе мы не сможем штурмовать дверь в южной стене. У западной ограды пулемет на водокачке будет для нас не страшен. Отряд зашевелился между грядок. Когда до ограды оставалось не более ста метров, затрещал пулемет. Это стрелял Шварц из оранжереи. — Держитесь левее. Ползите в сторону ворот, — командовал Фернан. — Али, обходи с товарищами оранжерею справа. Теперь пулемет стучал беспрерывно. Казалось, Шварц не очень заботился о боеприпасах. По секундным перерывам в стрельбе можно было определить моменты, когда он сменял магазин. Оранжерея немного возвышалась над садом и, для того чтобы по ней стрелять, нужно было подняться над грядками. Если кто-нибудь делал такую попытку, на него сразу же обрушивался пулеметный огонь со стороны водокачки. Через несколько минут раздался взрыв гранаты. У оранжереи завязался бой. Пулемет на мгновение умолк. Снова взорвалась граната, и я увидел, как Али и три араба вскочили на ноги и побежали вперед. Вначале они рванулись к двери, а после к окну. Послышался звон битого стекла. — Вперед! — закричал Фернан. Отряд кинулся к оранжерее. Навстречу выбежал Али и что-то крикнул. — В чем дело? — Там какой-то штатский, — перевел Фернан. Я ворвался в помещение. Среди разбитых цветочных горшков, обхватив пулемет обеими руками, лежал доктор Шварц. — Ему нравилось расстреливать людей, — сказал я. Мы собрались вокруг Фернана и стали совещаться, что делать дальше. — Отсюда есть выход через подземную кабельную трубу, — подсказал я. — Грабер только и ждет, чтобы мы сами влезли в мышеловку. Так не пойдет. — Что же делать? — Нужно подождать до темноты и попытаться перелезть через ограду. Али тяжело вздохнул: — Выдержим ли? Люди хотят пить и есть. — Нужно выдержать. Иного выхода нет. — А если попытаться проникнуть на испытательный полигон? — спросил я. — Это легко сделать, взобравшись на пальму над оградой… Внезапно один из арабов пронзительно закричал, указывая пальцем в сторону испытательного полигона.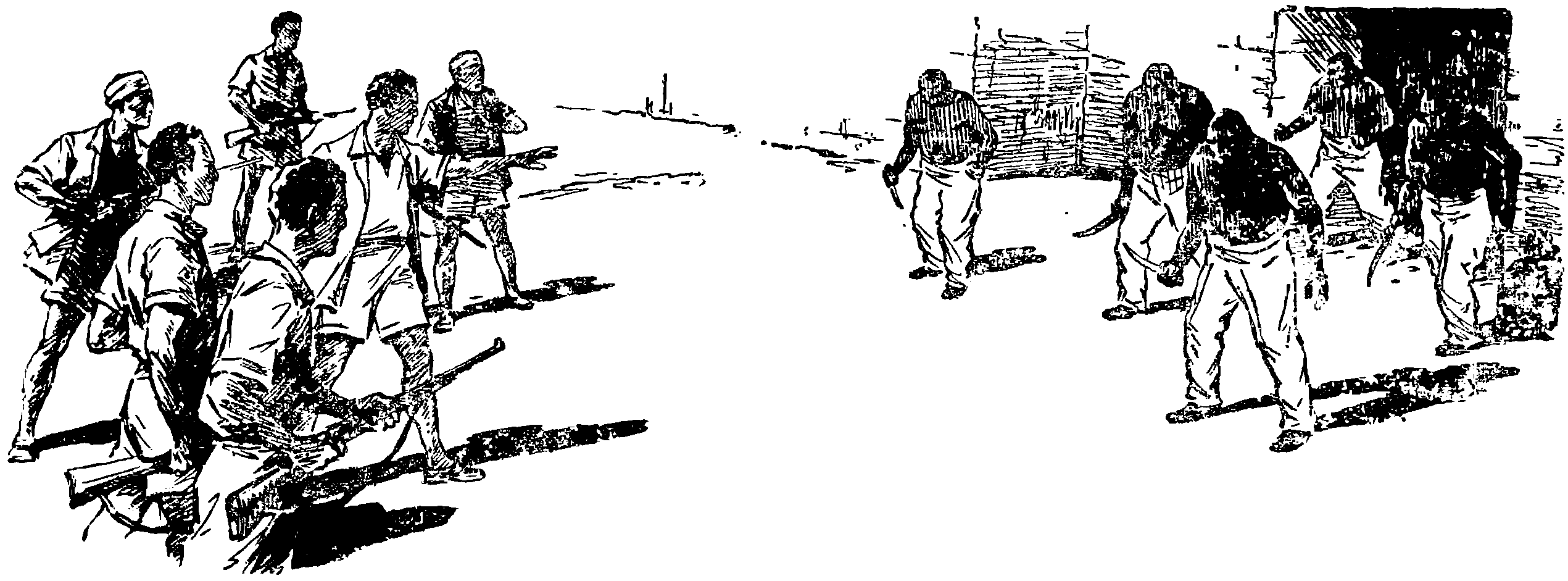 Ворота были распахнуты, и из них медленно один за другим выходили каменные люди, солдаты Грабера.
Не торопясь, бесстрашно они двигались на нас. Человек пять из нашего отряда стремглав побежали в глубь оазиса.
— Назад! — скомандовал Фернан. Кто-то выстрелил по наступающим.
— Стрелять бессмысленно! — крикнул я. — Они неуязвимы!
— Не стрелять! Посмотрим, что они собираются делать.
Как и тогда, когда я увидел их первый раз, кремниевые люди были в светлых холщовых шароварах, с оголенной грудью. Сейчас у каждого в руке был кривой арабский нож. Они двигались на нас очень медленно, почти торжественно. Шагах в пятидесяти от оранжереи по какой-то бессвязной команде одного из них они стали разворачиваться полукругом, пытаясь охватить наш отряд в кольцо.
Их было человек пятнадцать против наших двадцати трех.
— Давайте отходить. Нужно рассредоточиться, — приказал Фернан. — Держитесь западной стены, чтобы вас не было видно с водокачки.
Наш отряд разбрелся во все стороны. Рабы Грабера на мгновение остановились. Затем их строй тоже расчленился, и теперь они уже не пытались окружить нас, а каждый солдат выбрал себе жертву и побрел за ней. За мной пошел огромный верзила с бледно-серым лицом. Шел он медленно и безразлично, и в его тупом стремлении во что бы то ни стало добраться до меня было что-то жуткое, неизбежное, как сама судьба. Хотя расстояние между мной и им не сокращалось и все время составляло не менее двадцати шагов, он все шел и шел, лениво помахивая ножом.
— Смотрите не только на своего преследователя, но и на других! — крикнул мне Фернан. — Вы можете случайно оказаться вблизи другого…
Они были очень медлительными, эти каменные солдаты, и удрать от них ничего не стоило. В конце концов люди из нашего отряда и их преследователи по парам разошлись на участке, скрытом от водокачки стеной. С ее вершины время от времени раздавались выстрелы.
Эта странная война походила на детскую игру, в которой нужно перебегать с одного места на другое так, чтобы тебя никто не тронул рукой. Перебежав, мы останавливались и наблюдали, как на поле перераспределялись пары…
Фернан командовал этой удивительной войной, зорко наблюдая за движением противника.
Вскоре солнце коснулось западной изгороди, и оазис стал погружаться в вечернюю мглу. Мы очень утомились, во рту пересохло. Было мучительно смотреть, как солдаты Грабера иногда наклонялись над трубами у грядок и жадно пили щелочную воду. Для нас это была отравленная вода. Хотя перебежки были непродолжительными, но они нас изрядно измотали. А каменные люди были совершенно неутомимы и с дьявольским упорством продолжали бродить за нами по пятам.
— Может быть, попытаться все же перелезть через ограду? — спросил я Фернана, когда мы случайно оказались рядом.
Маневрируя между каменными солдатами, он подошел к той самой пальме, по которой я пробрался на полигон. Когда он почти дополз до уровня ограды, на вершине водокачки затрещал пулемет. Фернан успел спрыгнуть с дерева в тот момент, когда его преследователь был почти в пяти шагах от него.
Я заметил, что наши бойцы стали передвигаться медленнее и расстояние между ними и каменными солдатами начало сокращаться.
Трудно сказать, чем бы кончилась эта бесшумная и замедленная война, если бы ворота полигона не отворились и из них не показался каменный истукан, толкавший перед собой огромную тележку. Послышался нечленораздельный клич, и солдаты Грабера поодиночке стали возвращаться к западной стене.
Становилось совсем темно. Кремниевые люди собрались у тележки и принялись за еду. Иногда то один, то другой наклонялись к трубам в песке и запивали пищу водой.
— У нас есть время отдохнуть и подумать, что делать дальше, — сказал Фернан, когда мы собрались все вместе.
— Без пищи и без воды мы долго не протянем.
— Может быть, когда наступит темнота, следует попытаться выбраться из этой мышеловки через ограду? Легче всего это сделать через восточную стену.
— А ток высокого напряжения в проводах? — возразил я.
— Нужно перерезать провода…
— Они здесь в четыре ряда. Кроме того, ограда двойная.
— Все же, пока они едят, нужно попытаться. Фернан посоветовался с Али. Тот крикнул, и четверо наших товарищей подошли к восточной стене.
— У вас есть нож? — спросил меня Фернан.
— Здесь нужен нож с изолированной ручкой. Тогда Фернан предложил выломать ствол небольшого лимонного дерева и с его помощью перебить провода.
Деревце было твердое, как камень, и с ним пришлось долго повозиться, прежде чем его вытащили из песка. С него сбили ветки, и каменную дубинку вручили Али. Двое прислонились к стене, на их плечи влез третий, и уже ему на плечи взобрался Али. Он размахнулся и изо всех сил ударил по проволоке. Вырвался сноп голубых искр. С пронзительным криком живая пирамида распалась.
— Безнадежное дело, — сказал Фернан. Действительно, мы едва различали друг друга.
— Интересно, видят ли эти идолы ночью?
— А мы это скоро узнаем. Может быть, они в темноте видят, как кошки.
— Нам ничего не остается, как ждать до рассвета.
— Если только нас всех не перережут.
Мы прислушивались к каждому шороху, напряженно вглядываясь в темноту. Проходили минуты, и никаких признаков жизни. Тогда по приказу Фернана мы начали медленно продвигаться на запад. Вдруг послышался его громкий голос:
— Внимание, они идут! По сторонам! О том, где вы находитесь, давайте знать голосом…
До моего слуха донеслось поскрипывание песка. Но звук этот не походил на шаги многих людей.
— Фернан, кажется, приближается только один человек…
— Да, действительно. Может быть, парламентарий с ультиматумом от Грабера?
Внезапно кромешную мглу прорезал странный гортанный голос. Вначале ничего нельзя было разобрать. А после я совершенно отчетливо услышал, как кто-то звал меня по имени.
— Пьер… Мюрдаль… Пьер…
— Тебя, кажется, так зовут, — прошептал Фернан.
— Да, действительно. Но кто?
— Пьер… Я свой… Я свой…
— Кто это может быть?
— Судя по походке, один из них… из каменных. Но откуда он знает, что я здесь, откуда он знает мое имя?
Я напряженно смотрел в темноту. Шаги медленно приближались. Наконец совсем близко показался бледный силуэт.
— Может быть, провокация? — спросил я. — Вряд ли. Он один. Совершенно один…
— Пьер… Пьер… Мюрдаль… — хрипела приближавшаяся фигура. — Я свой… Я свой… Я…
— Кто ты такой? — спросил я в темноту.
— Я сейчас объясню… Пьер… Я подойду…
Каменный человек подошел совсем близко. Мы вскинули карабины. Арабы стояли за нашей спиной и бормотали молитвы и заклинания.
— Кто ты такой? — спросил я.
— Я Морис Пуассон…
— Кто??! — с ужасом воскликнул а.
— Морис Пуассон…
— Тебе не удалось бежать?
— Нет… Пьер… Они меня схватили… Вот… Это очень трудно… В голове все путается. Слушай, что нужно…
Я инстинктивно рванулся к каменному человеку и схватил его за руку. Рука Пуассона была горячая и твердая, как раскаленный камень. Я мгновенно отпрянул в сторону.
— Что они с тобой сделали! — воскликнул я. — Морис, что они с тобой сделали!
— Теперь ничего не исправишь… В голове все путается… Все… Слушай. Ваше спасение в воде.
— В воде? В какой воде?
— Проберись на водокачку. Там поймешь…..
Я слышал, как громко стучали зубы Пуассона, как часто и порывисто он дышал.
— Ты дрожишь? Что с тобой?
— Холод… Адский холод…
Я вытер потный лоб. Воздух был горячим и душным.
— Бедняга! Мы отомстим за тебя, за всех вас, Морис, будь уверен…
— Пробирайся на водокачку… Вода… Все в ней…
Я еще раз тихонько тронул его раскаленную руку, и он как-то странно потоптался на месте, затем, ни слова не говоря, повернулся и стал удаляться в темноту.
— Морис, оставайся с нами! — крикнул я ему вдогонку. Вместо ответа я услышал все то же громкое лязганье зубов и еще какой-то странный звук, напоминавший хриплый смех… Пуассон исчез в темноте. Я еще несколько раз окликнул его, но безрезультатно.
Потрясенные, мы несколько минут стояли молча. Тогда заговорил Фернан:
— То, что он сказал, важно. Я не знаю, при чем тут вода, но, видимо, с ней как-то связано наше спасение.
— До сих пор я думал, что с ней связано наше превращение в таких, как Морис, — заметил я.
— Н-не знаю. Думаю, что Морис не соврал.
— Конечно, нет. Во время испытаний в ангаре я видел Фрелиха. Наверно, когда превращение человека в каменного не полностью завершено, у него остаются проблески сознания. С Морисом они экспериментируют всего три месяца…
— Кому-то нужно идти на водокачку. Мне кажется, что лучше всего идти тебе, Мюрдаль. Ты лучше сможешь там во всем разобраться.
— Хорошо, я пойду.
Фернан отдал приказание Али оставаться у восточной ограды, и мы двинулись через оазис к тому месту, где над полигоном возвышалась пальма. Когда мы ее разыскали, Фернан дал мне свой пистолет. Он пожал мне руку:
— Что бы с тобой ни случилось, не забывай, что здесь остались твои товарищи. Я верю, что Пуассон намекнул на настоящий путь к освобождению. Если все не сделать до утра, дело может кончиться плохо. Не знаю, выдержат ли люди без воды и пищи еще двенадцать часов.
Я попрощался с товарищами и стал карабкаться по дереву.
Ворота были распахнуты, и из них медленно один за другим выходили каменные люди, солдаты Грабера.
Не торопясь, бесстрашно они двигались на нас. Человек пять из нашего отряда стремглав побежали в глубь оазиса.
— Назад! — скомандовал Фернан. Кто-то выстрелил по наступающим.
— Стрелять бессмысленно! — крикнул я. — Они неуязвимы!
— Не стрелять! Посмотрим, что они собираются делать.
Как и тогда, когда я увидел их первый раз, кремниевые люди были в светлых холщовых шароварах, с оголенной грудью. Сейчас у каждого в руке был кривой арабский нож. Они двигались на нас очень медленно, почти торжественно. Шагах в пятидесяти от оранжереи по какой-то бессвязной команде одного из них они стали разворачиваться полукругом, пытаясь охватить наш отряд в кольцо.
Их было человек пятнадцать против наших двадцати трех.
— Давайте отходить. Нужно рассредоточиться, — приказал Фернан. — Держитесь западной стены, чтобы вас не было видно с водокачки.
Наш отряд разбрелся во все стороны. Рабы Грабера на мгновение остановились. Затем их строй тоже расчленился, и теперь они уже не пытались окружить нас, а каждый солдат выбрал себе жертву и побрел за ней. За мной пошел огромный верзила с бледно-серым лицом. Шел он медленно и безразлично, и в его тупом стремлении во что бы то ни стало добраться до меня было что-то жуткое, неизбежное, как сама судьба. Хотя расстояние между мной и им не сокращалось и все время составляло не менее двадцати шагов, он все шел и шел, лениво помахивая ножом.
— Смотрите не только на своего преследователя, но и на других! — крикнул мне Фернан. — Вы можете случайно оказаться вблизи другого…
Они были очень медлительными, эти каменные солдаты, и удрать от них ничего не стоило. В конце концов люди из нашего отряда и их преследователи по парам разошлись на участке, скрытом от водокачки стеной. С ее вершины время от времени раздавались выстрелы.
Эта странная война походила на детскую игру, в которой нужно перебегать с одного места на другое так, чтобы тебя никто не тронул рукой. Перебежав, мы останавливались и наблюдали, как на поле перераспределялись пары…
Фернан командовал этой удивительной войной, зорко наблюдая за движением противника.
Вскоре солнце коснулось западной изгороди, и оазис стал погружаться в вечернюю мглу. Мы очень утомились, во рту пересохло. Было мучительно смотреть, как солдаты Грабера иногда наклонялись над трубами у грядок и жадно пили щелочную воду. Для нас это была отравленная вода. Хотя перебежки были непродолжительными, но они нас изрядно измотали. А каменные люди были совершенно неутомимы и с дьявольским упорством продолжали бродить за нами по пятам.
— Может быть, попытаться все же перелезть через ограду? — спросил я Фернана, когда мы случайно оказались рядом.
Маневрируя между каменными солдатами, он подошел к той самой пальме, по которой я пробрался на полигон. Когда он почти дополз до уровня ограды, на вершине водокачки затрещал пулемет. Фернан успел спрыгнуть с дерева в тот момент, когда его преследователь был почти в пяти шагах от него.
Я заметил, что наши бойцы стали передвигаться медленнее и расстояние между ними и каменными солдатами начало сокращаться.
Трудно сказать, чем бы кончилась эта бесшумная и замедленная война, если бы ворота полигона не отворились и из них не показался каменный истукан, толкавший перед собой огромную тележку. Послышался нечленораздельный клич, и солдаты Грабера поодиночке стали возвращаться к западной стене.
Становилось совсем темно. Кремниевые люди собрались у тележки и принялись за еду. Иногда то один, то другой наклонялись к трубам в песке и запивали пищу водой.
— У нас есть время отдохнуть и подумать, что делать дальше, — сказал Фернан, когда мы собрались все вместе.
— Без пищи и без воды мы долго не протянем.
— Может быть, когда наступит темнота, следует попытаться выбраться из этой мышеловки через ограду? Легче всего это сделать через восточную стену.
— А ток высокого напряжения в проводах? — возразил я.
— Нужно перерезать провода…
— Они здесь в четыре ряда. Кроме того, ограда двойная.
— Все же, пока они едят, нужно попытаться. Фернан посоветовался с Али. Тот крикнул, и четверо наших товарищей подошли к восточной стене.
— У вас есть нож? — спросил меня Фернан.
— Здесь нужен нож с изолированной ручкой. Тогда Фернан предложил выломать ствол небольшого лимонного дерева и с его помощью перебить провода.
Деревце было твердое, как камень, и с ним пришлось долго повозиться, прежде чем его вытащили из песка. С него сбили ветки, и каменную дубинку вручили Али. Двое прислонились к стене, на их плечи влез третий, и уже ему на плечи взобрался Али. Он размахнулся и изо всех сил ударил по проволоке. Вырвался сноп голубых искр. С пронзительным криком живая пирамида распалась.
— Безнадежное дело, — сказал Фернан. Действительно, мы едва различали друг друга.
— Интересно, видят ли эти идолы ночью?
— А мы это скоро узнаем. Может быть, они в темноте видят, как кошки.
— Нам ничего не остается, как ждать до рассвета.
— Если только нас всех не перережут.
Мы прислушивались к каждому шороху, напряженно вглядываясь в темноту. Проходили минуты, и никаких признаков жизни. Тогда по приказу Фернана мы начали медленно продвигаться на запад. Вдруг послышался его громкий голос:
— Внимание, они идут! По сторонам! О том, где вы находитесь, давайте знать голосом…
До моего слуха донеслось поскрипывание песка. Но звук этот не походил на шаги многих людей.
— Фернан, кажется, приближается только один человек…
— Да, действительно. Может быть, парламентарий с ультиматумом от Грабера?
Внезапно кромешную мглу прорезал странный гортанный голос. Вначале ничего нельзя было разобрать. А после я совершенно отчетливо услышал, как кто-то звал меня по имени.
— Пьер… Мюрдаль… Пьер…
— Тебя, кажется, так зовут, — прошептал Фернан.
— Да, действительно. Но кто?
— Пьер… Я свой… Я свой…
— Кто это может быть?
— Судя по походке, один из них… из каменных. Но откуда он знает, что я здесь, откуда он знает мое имя?
Я напряженно смотрел в темноту. Шаги медленно приближались. Наконец совсем близко показался бледный силуэт.
— Может быть, провокация? — спросил я. — Вряд ли. Он один. Совершенно один…
— Пьер… Пьер… Мюрдаль… — хрипела приближавшаяся фигура. — Я свой… Я свой… Я…
— Кто ты такой? — спросил я в темноту.
— Я сейчас объясню… Пьер… Я подойду…
Каменный человек подошел совсем близко. Мы вскинули карабины. Арабы стояли за нашей спиной и бормотали молитвы и заклинания.
— Кто ты такой? — спросил я.
— Я Морис Пуассон…
— Кто??! — с ужасом воскликнул а.
— Морис Пуассон…
— Тебе не удалось бежать?
— Нет… Пьер… Они меня схватили… Вот… Это очень трудно… В голове все путается. Слушай, что нужно…
Я инстинктивно рванулся к каменному человеку и схватил его за руку. Рука Пуассона была горячая и твердая, как раскаленный камень. Я мгновенно отпрянул в сторону.
— Что они с тобой сделали! — воскликнул я. — Морис, что они с тобой сделали!
— Теперь ничего не исправишь… В голове все путается… Все… Слушай. Ваше спасение в воде.
— В воде? В какой воде?
— Проберись на водокачку. Там поймешь…..
Я слышал, как громко стучали зубы Пуассона, как часто и порывисто он дышал.
— Ты дрожишь? Что с тобой?
— Холод… Адский холод…
Я вытер потный лоб. Воздух был горячим и душным.
— Бедняга! Мы отомстим за тебя, за всех вас, Морис, будь уверен…
— Пробирайся на водокачку… Вода… Все в ней…
Я еще раз тихонько тронул его раскаленную руку, и он как-то странно потоптался на месте, затем, ни слова не говоря, повернулся и стал удаляться в темноту.
— Морис, оставайся с нами! — крикнул я ему вдогонку. Вместо ответа я услышал все то же громкое лязганье зубов и еще какой-то странный звук, напоминавший хриплый смех… Пуассон исчез в темноте. Я еще несколько раз окликнул его, но безрезультатно.
Потрясенные, мы несколько минут стояли молча. Тогда заговорил Фернан:
— То, что он сказал, важно. Я не знаю, при чем тут вода, но, видимо, с ней как-то связано наше спасение.
— До сих пор я думал, что с ней связано наше превращение в таких, как Морис, — заметил я.
— Н-не знаю. Думаю, что Морис не соврал.
— Конечно, нет. Во время испытаний в ангаре я видел Фрелиха. Наверно, когда превращение человека в каменного не полностью завершено, у него остаются проблески сознания. С Морисом они экспериментируют всего три месяца…
— Кому-то нужно идти на водокачку. Мне кажется, что лучше всего идти тебе, Мюрдаль. Ты лучше сможешь там во всем разобраться.
— Хорошо, я пойду.
Фернан отдал приказание Али оставаться у восточной ограды, и мы двинулись через оазис к тому месту, где над полигоном возвышалась пальма. Когда мы ее разыскали, Фернан дал мне свой пистолет. Он пожал мне руку:
— Что бы с тобой ни случилось, не забывай, что здесь остались твои товарищи. Я верю, что Пуассон намекнул на настоящий путь к освобождению. Если все не сделать до утра, дело может кончиться плохо. Не знаю, выдержат ли люди без воды и пищи еще двенадцать часов.
Я попрощался с товарищами и стал карабкаться по дереву.
11. ДВЕ ВОДЫ
Ночь была черная, и только редкие звезды сверкали в бездонном небе. Я прополз по ветке над проволочным заграждением, и внизу засерела полоса песка. Ничего не было видно, кроме контуров малого ангара, в окнах которого вспыхивали кроваво-красные пятна. Красные блики беспокойно трепетали на песке. В воздухе чувствовался едкий запах гари. Я спрыгнул вниз и, убедившись, что вокруг никого нет, стал осторожно обходить ангар, направляясь к воротам, которые вели к институту. На мгновение я остановился у окна в малый ангар и заглянул внутрь. Там, перед огромным чаном с пылающей смолой, сидели люди. Они теснились вокруг него, как теснятся вокруг костра в холодную ночь, и грелись. Они поворачивались к огню то одним, то другим боком, потирая тело руками. Изредка из помещения доносились глухие возгласы… Ворота были заперты. Тогда, ухватившись за металлические перекладины, я стал карабкаться вверх и, достигнув вершины, перебрался на противоположную сторону. Кругом все, казалось, вымерло. Может быть, Грабер бежал? А как же каменные солдаты? Неужели Грабер так просто решил с ними расстаться? Вскоре я заметил, что сквозь штору одного из окон на втором этаже пробивается узкая полоска света. Значит, там кто-то есть. Водокачка соединялась с главным зданием воздушным пролетом. Я подошел вплотную к круглому бетонному сооружению и обнаружил, что дотянуться до окон невозможно. Рядом стоял грузовик с цистерной. В ней привозили воду, которую затем перекачивали наверх. Как ее перекачивали? Я стал шарить вокруг цистерны. По-видимому, она должна иметь слив в нижнем днище. Когда я забрался под грузовик, то чуть не полетел в яму: прямо под кузовом машины, в бетонной площадке, находился сливной люк. У меня не было ни спичек, ни фонаря, и поэтому пришлось действовать ощупью. Держась рукой за ось автомобиля, я осторожно спустился в люк, и вскоре мои ноги коснулись дна. Бетонированный сток круто уходил вниз. Я буквально съехал по скользкой поверхности и уперся ногами во что-то металлическое. Здесь я смог выпрямиться во весь рост. Без сомнения, я попал во внутреннее помещение. Я хватался за какие-то предметы, переступал через трубы, чуть было не свалился в какую-то яму и наконец примостился на небольшой площадке. Нужно было ждать до рассвета; без спичек и без фонаря я ничего не смог сделать. Усевшись поудобнее, я приготовился ждать. Но вот вдруг сверху брызнула вспышка яркою света. Там на мгновение приоткрылась дверь, и в ворвавшемся потоке света я увидел, что сижу на ступеньке спиральной лестницы над краем железного чана. Дверь снова закрылась, но я уже знал, что делать. Держась рукой за трубу, я стал медленно подниматься по лестнице. Через минуту я уже стоял у двери, сжимая в руке пистолет. Несколько секунд я прислушивался, затем сильным толчком отворил дверь и ворвался в просторный, ярко освещенный зал. Я увидел женщину, которая в это мгновение поворачивала на громадном баке никелированную ручку. Она обернулась и хрипло вскрикнула. Это была фрау Айнциг. — Извините, мадам, за беспокойство, — процедил я сквозь зубы. — Советую вам вести себя благоразумно. Она таращила на меня обезумевшие от ужаса глаза. Я заметил, что ее рука медленно шарила по стене.
— Отойдите от стены и не пытайтесь звать на помощь. Вы знаете, что пострадаем мы в одинаковой мере…
— Как вы сюда попали? — спросила она, едва шевеля губами.
— Это не так уж и важно, мадам. Меня больше интересует, что вы здесь делаете.
— Я… я…
— Прошу вас, садитесь, — приказал я, указав дулом пистолета на небольшую металлическую табуретку.
Она покорно села, не сводя с меня бесцветных вытаращенных глаз.
— Вы мне расскажете все по порядку или я должен задавать наводящие вопросы, мадам?
— Что вам нужно?
— Откуда в водопровод, снабжающий ваш отряд водой поступает щелочь?
Она бросила короткий взгляд вправо. Я увидел сделанный в стене металлический бак, на котором большими красными буквами было написано «КОН».
— Ага, едкий калий? И много нужно добавлять его в воду чтобы ваши жертвы не окаменели?
— Пэ-аш должно быть семь и пять десятых, — хрипло ответила она.
— Ну, а что будет, если мы выключим щелочь? Она ничего не сказала, а только злобно зашипела.
— Вот это мы сейчас и сделаем, — сказал я. — Ну-ка закройте кран!
Айнциг боком пошла к баку со щелочью и стала медленно заворачивать кран.
— Сильнее, сильнее! Нужно, чтобы в воду не попало ни капли щелочи, — приказал я.
Она завертела кран изо всех сил.
— Все?
— Нет, не все, — сказал я, пристально вглядываясь в ее посеревшее лицо.
— Что еще?
— А где сосуд с катализатором, который вы добавляете в питьевую воду, чтобы в организме происходило замещение углерода на кремний?
Она молчала.
— Фрау Айнциг, у вас есть единственный шанс несколько смягчить свою судьбу. Вы понимаете, сейчас вам ни «Уэстерн биокемикал», ни «Хемише Централ» не помогут. Судить вас будут новые, местные власти. Где катализатор и как он вводится в питьевую воду?
Ее лицо от злости и страха стало синим. Она медленно пятилась вдоль стены, не сводя глаз с пистолета. Мы обошли все круглое помещение и остановились у продолговатой полки, закрытой металлическим щитом.
— Это здесь? Открывайте.
— У меня нет ключа.
— Мадам, не заставляйте меня прибегать к силе. Я не люблю грубо обращаться с женщинами, даже с такими, как вы.
— Дегенерат… — прошептала она.
— Для вас тоже есть название.
Айнциг вытащила из нагрудного кармана халата ключ и открыла полку. Здесь в один ряд выстроились двенадцать небольших бачков из темно-желтого стекла, от которых тонкие стеклянные трубки отходили к водопроводным кранам.
— Ого! Целых двенадцать! Зачем так много? Ага, понимаю. В зависимости от того, над кем вы собирались произвести свой дьявольский эксперимент, тот бачок и наполнялся катализатором. При помощи воды вы распространили свою власть на всех сотрудников института?
— Вы очень сообразительны, Мюрдаль, — процедила она, оправившись от первого приступа страха. — Что я теперь должна делать?
— Теперь расскажите, кому какой бачок предназначен.
— Этого я не знаю.
— Жаль. Впрочем, это нетрудно догадаться. Все они наполнены раствором, кроме одного. Кому же это повезло, кого вы пощадили?
— Я не знаю Я не наполняла.
— Вот как! А я думал, что это ваша обязанность. Итак, куда идет труба от пустого бачка?
— Говорю вам, не знаю.
— Ну, так я знаю, мадам Айнциг. Она идет в апартаменты доктора Грабера и, по-видимому, в ваши.
Айнциг оскалила зубы и хотела изобразить что-то вроде улыбки.
— Вы ошибаетесь, мистер Мюрдаль…
— Посмотрим. Отсоедините крайний бачок и перелейте жидкость в пустой.
Ее лицо снова исказил ужас.
— Я этого не сделаю, — прошипела она.
— Значит, я угадал. Вот видите. А вы считали себя умней всех. Выполняйте то, что я вам приказал!
— Нет! — взвизгнула она.
— Тогда я это сделаю сам.
— Я не позволю! Я… я…
Она сорвалась с места, молнией пересекла зал и скрылась за дверью.
— Стойте, стойте! — кричал я.
Но было поздно. Я услышал, как она споткнулась и пронзительно вскрикнула, сорвавшись с огромной высоты.
Стрелять не было необходимости. Снизу донесся глухой удар, и воцарилась мертвая тишина.
Я вернулся к полке с темно-желтыми сосудами, отсоединил один от крана и перелил содержимое в пустой бачок. Рукояткой пистолета я разбил остальные сосуды, и жидкость с ядовитым эликсиром вылилась на пол.
Теперь оставалось только ждать.
Она таращила на меня обезумевшие от ужаса глаза. Я заметил, что ее рука медленно шарила по стене.
— Отойдите от стены и не пытайтесь звать на помощь. Вы знаете, что пострадаем мы в одинаковой мере…
— Как вы сюда попали? — спросила она, едва шевеля губами.
— Это не так уж и важно, мадам. Меня больше интересует, что вы здесь делаете.
— Я… я…
— Прошу вас, садитесь, — приказал я, указав дулом пистолета на небольшую металлическую табуретку.
Она покорно села, не сводя с меня бесцветных вытаращенных глаз.
— Вы мне расскажете все по порядку или я должен задавать наводящие вопросы, мадам?
— Что вам нужно?
— Откуда в водопровод, снабжающий ваш отряд водой поступает щелочь?
Она бросила короткий взгляд вправо. Я увидел сделанный в стене металлический бак, на котором большими красными буквами было написано «КОН».
— Ага, едкий калий? И много нужно добавлять его в воду чтобы ваши жертвы не окаменели?
— Пэ-аш должно быть семь и пять десятых, — хрипло ответила она.
— Ну, а что будет, если мы выключим щелочь? Она ничего не сказала, а только злобно зашипела.
— Вот это мы сейчас и сделаем, — сказал я. — Ну-ка закройте кран!
Айнциг боком пошла к баку со щелочью и стала медленно заворачивать кран.
— Сильнее, сильнее! Нужно, чтобы в воду не попало ни капли щелочи, — приказал я.
Она завертела кран изо всех сил.
— Все?
— Нет, не все, — сказал я, пристально вглядываясь в ее посеревшее лицо.
— Что еще?
— А где сосуд с катализатором, который вы добавляете в питьевую воду, чтобы в организме происходило замещение углерода на кремний?
Она молчала.
— Фрау Айнциг, у вас есть единственный шанс несколько смягчить свою судьбу. Вы понимаете, сейчас вам ни «Уэстерн биокемикал», ни «Хемише Централ» не помогут. Судить вас будут новые, местные власти. Где катализатор и как он вводится в питьевую воду?
Ее лицо от злости и страха стало синим. Она медленно пятилась вдоль стены, не сводя глаз с пистолета. Мы обошли все круглое помещение и остановились у продолговатой полки, закрытой металлическим щитом.
— Это здесь? Открывайте.
— У меня нет ключа.
— Мадам, не заставляйте меня прибегать к силе. Я не люблю грубо обращаться с женщинами, даже с такими, как вы.
— Дегенерат… — прошептала она.
— Для вас тоже есть название.
Айнциг вытащила из нагрудного кармана халата ключ и открыла полку. Здесь в один ряд выстроились двенадцать небольших бачков из темно-желтого стекла, от которых тонкие стеклянные трубки отходили к водопроводным кранам.
— Ого! Целых двенадцать! Зачем так много? Ага, понимаю. В зависимости от того, над кем вы собирались произвести свой дьявольский эксперимент, тот бачок и наполнялся катализатором. При помощи воды вы распространили свою власть на всех сотрудников института?
— Вы очень сообразительны, Мюрдаль, — процедила она, оправившись от первого приступа страха. — Что я теперь должна делать?
— Теперь расскажите, кому какой бачок предназначен.
— Этого я не знаю.
— Жаль. Впрочем, это нетрудно догадаться. Все они наполнены раствором, кроме одного. Кому же это повезло, кого вы пощадили?
— Я не знаю Я не наполняла.
— Вот как! А я думал, что это ваша обязанность. Итак, куда идет труба от пустого бачка?
— Говорю вам, не знаю.
— Ну, так я знаю, мадам Айнциг. Она идет в апартаменты доктора Грабера и, по-видимому, в ваши.
Айнциг оскалила зубы и хотела изобразить что-то вроде улыбки.
— Вы ошибаетесь, мистер Мюрдаль…
— Посмотрим. Отсоедините крайний бачок и перелейте жидкость в пустой.
Ее лицо снова исказил ужас.
— Я этого не сделаю, — прошипела она.
— Значит, я угадал. Вот видите. А вы считали себя умней всех. Выполняйте то, что я вам приказал!
— Нет! — взвизгнула она.
— Тогда я это сделаю сам.
— Я не позволю! Я… я…
Она сорвалась с места, молнией пересекла зал и скрылась за дверью.
— Стойте, стойте! — кричал я.
Но было поздно. Я услышал, как она споткнулась и пронзительно вскрикнула, сорвавшись с огромной высоты.
Стрелять не было необходимости. Снизу донесся глухой удар, и воцарилась мертвая тишина.
Я вернулся к полке с темно-желтыми сосудами, отсоединил один от крана и перелил содержимое в пустой бачок. Рукояткой пистолета я разбил остальные сосуды, и жидкость с ядовитым эликсиром вылилась на пол.
Теперь оставалось только ждать.
12. ГЛИНЯНЫЙ БОГ
Когда наступило утро, я обнаружил, что водокачка была прекрасным наблюдательным пунктом. Через три окна хорошо просматривалась окрестность вокруг. Были видны бараки, в которых находились лаборатории, как на ладони лежал испытательный полигон, и слева от пего раскинулся «оазис алых пальм». Мне не нужно было возвращаться в оазис, потому что я знал, что очень скоро с каменной армией Грабера будет покончено. Оставалось только ждать. Пока что только я один знал, что армия Грабера обречена. Странно, я не чувствовал угрызения совести за то, что по моей вине все эти бывшие люди погибнут. Они уже погибли. Они давно стали бездумными, несчастными автоматами, обреченными влачить страшное бремя противоестественного существования. Они духовно и физически убиты Грабером, и только их окаменевшая оболочка напоминала о былом человеческом достоинстве, Солнце поднялось над пальмами, и кремниевая пехота снова вышла на поле боя. Отряд Фернана рассыпался среди грядок. Каменные истуканы возобновили неутомимое преследование… Сверху было хорошо видно, как то один, то другой каменный человек наклонялся над грядками и пил воду. По мере того как солнце поднималось выше, они все чаще и чаще прикладывались к воде. В конце второго часа «шахматной» войны я увидел, как один солдат Грабера вдруг остановился. Он застыл в необычной позе, подняв одну ногу и руку. Араб, которого он преследовал, что-то крикнул. В это мгновение застыл еще один, затем еще и еще. Все это произошло молниеносно. Пространство, где только что шла сложная комбинационная война на измор, стало походить на кладбище с каменными статуями или на музейный двор, куда свезли и поставили скульптуры эпохи палеолита. Вначале нерешительно, а затем все смелее к окаменевшим людям стали подходить мои товарищи. Я сбежал вниз по спиральной лестнице и здесь на мгновение остановился у скрюченного трупа Айнциг. Ее глаза были широко раскрыты, и в них застыла звериная злоба. Фернан быстро отдавал распоряжения своим бойцам. Одни должны были залечь вдоль асфальтовой дороги, ведущей к выходу, другие — осмотреть бараки. Несколько человек остановились у входа в трехэтажное здание, где находился штаб Грабера. — Такое впечатление, будто внутри никого нет, — сказал Али. Я посмотрел на грузовики, стоявшие справа. Теперь их было не три, а два. — Наверно, кое-кто уехал. Нужно быстрее кончать. Неужели Граберу удалось бежать? Фернан подошел к двери и изо всех сил толкнул ее ногой. Она чуть-чуть приоткрылась и затем снова захлопнулась, как будто с противоположной стороны на нее навалили мешки с песком. — Ну-ка, помогите мне… Мы все нажали на дверь, и она с трудом подалась. В темной узкой прихожей мы увидели двух мертвых солдат в нелепой позе валявшихся на полу. У одного из них рот был забит песком. У второго песок был зажат в руке. — Что это? — удивленно воскликнул Фернан. — Кто втолкнул им в глотку песок? — Никто. Они сами. Один успел, а другой нет, — сказал я. Справа, на уровне первой ступеньки лестницы, ведущей в подвал, к стене была прикреплена водосточная раковина и кран. Я указал на крап. — Все дело в этом. В воде. И я рассказал обо всем, что случилось на водокачке. — Может быть, и Грабер в таком же состоянии? В это время со второго этажа в сопровождении нескольких людей сбежал Али. Лицо его выражало ужас. — Что с Грабером? — спросил я. Он хрипло пробормотал: — То же, что и с его телохранителями. Вот, смотрите. Он протянул мне руку, но не свою, а ту, которую он держал как палку… Глина. Обыкновенная глина. Это была рука, сделанная из глины, она ломалась и крошилась… Я сломал ее чуть-чуть повыше локтя и после — у самой кисти. В ней совершенно не было кости. — Кусок Грабера. — Кусок глиняного бога, — с презрением произнес Фернан и, выпрямившись, пошел к товарищам, которые курили в стороне. Я с отвращением отбросил кусок глины в сторону… Пустыня… Неужели кошмар кончился? По черной асфальтовой полосе шел наш отряд. Двадцать миль — это не так уж много. Вдруг воздух задрожал от гула приближающихся самолетов. Вот они пролетели над нами — один, второй, третий. Металлические птицы без опознавательных знаков. Они шли совсем низко и, не долетая до института Грабера, ложились на правое крыло и разворачивались. Через минуту послышались взрывы. Их было много, на горизонте к нему поднималось бурое облако. Самолеты кружились над местом, которое мы покинули час назад. Они с тупым упорством сбрасывали бомбы, заметая следы преступления. Взрывы. Много глухих взрывов в пустыне. Услышит ли о них мир? Узнает ли он, как, извращая науку, люди науки издеваются над людьми? Неужели люди разрешат граберам существовать на нашей планете? — Между прочим, Фернан, куда вы и ваши товарищи направитесь сейчас? — спросил я. Он улыбнулся: — Домой. У нас так много дел дома! Нужно сделать так, чтобы никто никогда не совершал преступлений на нашей священной земле.А. Горбовский ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НАЗАД
А. Горбовский с своем очерке «Четырнадцать тысячелетий назад» излагает целый ряд гипотез из истории Земли, которые до сих пор остались еще недоказанными, но представляют огромный интерес для всех, кого волнует история человечества. Сейчас, когда научная фантастика раскрывает перед читателем необозримые горизонты будущего, автор показывает, что фантастика может заглядывать не только в будущее, но и в прошлое. Некогда жил человек, ходил в зверином шкуре… Он спал в пещере на куче хвороста, а мир вокруг него был страшен и непонятен. В лесной чащобе таились злые существа и дикие звери. Но самым страшным зверем был Огонь, Красный Зверь. Появляется он неожиданно, и, когда начинал с яростным воем метаться по лесу, все живое бежало перед ним.
Человек в звериной шкуре — наш предок. С него начиналась история человечества.
Мы знаем мать, отца, деда и бабку, может быть, помним или слышали о прадеде и прабабке. Но далеки и забыты другие прародители, люди в плоти и крови, жившие сто, тысячу, тысячи лег назад. А ведь в каждом из нас течет их кровь
Время сомкнуло уста этих людей и спеленало им руки. Они не могут прийти к нам, чтобы рассказать о себе. Вот почему мы сами должны идти к ним. Со ступени на ступень истории, от одной легенды к другой мы будем пробираться в их тысячелетия, чтобы пройти по дорогам, по которым ходили они.
Самые отдаленные дни человечества сокрыты от нас дымкой забвения. Возможно, многое в те эпохи происходило и не совсем так, как мы привыкли представлять себе.
На свете много народов. Некоторые разделены огромными расстояниями, океанами… И вдруг оказывается, что у этих народов есть странная общность в быте, религии, даже в языке! Как это могло произойти? Ясно, что в какие-то отдаленные времена между ними существовали связи. А почему эти связи оказались потом прерванными? Почему Колумбу и другим мореплавателям пришлось снова открывать прежде хорошо известные земли и материки?
Что же произошло? У всех народов мира есть предания о некой древней катастрофе, якобы постигшей нашу планету. Легенды рассказывают, что катастрофа эта сопровождалась страшными потопами, землетрясениями, извержениями вулканов; многие страны обезлюдели, а часть суши погрузилась на дно моря. Тогда-то и оборвались связи, существовавшие между самими отдаленными районами земного шара. Есть и научная гипотеза, что эти разрушения и гибель принесла комета, вторгшаяся в небо Земли примерно 14–13 тысяч лет назад.
Каким же был мир до катастрофы? Некоторые факты древнейшей истории и находки археологии раскрывают перед нами неожиданную картину. Она позволяет предположить, что некогда на земле существовала высокая цивилизация, что народы, погибшие и рассеявшиеся в результате катастрофы, обладали огромными знаниями и области астрономии, математики, медицины, строительства. Следы этих знаний можно найти в древней Индии, в Египте, в Южной Америке.
Сохранилось много предании о великанах и карликах. Оказывается, и эти сведения не лишены реального основания. Некогда на земле жили расы карликов и расы гигантов, людей, которые весили по полтонны. Сейчас удалось найти остатки их скелетов…
Некогда жил человек, ходил в зверином шкуре… Он спал в пещере на куче хвороста, а мир вокруг него был страшен и непонятен. В лесной чащобе таились злые существа и дикие звери. Но самым страшным зверем был Огонь, Красный Зверь. Появляется он неожиданно, и, когда начинал с яростным воем метаться по лесу, все живое бежало перед ним.
Человек в звериной шкуре — наш предок. С него начиналась история человечества.
Мы знаем мать, отца, деда и бабку, может быть, помним или слышали о прадеде и прабабке. Но далеки и забыты другие прародители, люди в плоти и крови, жившие сто, тысячу, тысячи лег назад. А ведь в каждом из нас течет их кровь
Время сомкнуло уста этих людей и спеленало им руки. Они не могут прийти к нам, чтобы рассказать о себе. Вот почему мы сами должны идти к ним. Со ступени на ступень истории, от одной легенды к другой мы будем пробираться в их тысячелетия, чтобы пройти по дорогам, по которым ходили они.
Самые отдаленные дни человечества сокрыты от нас дымкой забвения. Возможно, многое в те эпохи происходило и не совсем так, как мы привыкли представлять себе.
На свете много народов. Некоторые разделены огромными расстояниями, океанами… И вдруг оказывается, что у этих народов есть странная общность в быте, религии, даже в языке! Как это могло произойти? Ясно, что в какие-то отдаленные времена между ними существовали связи. А почему эти связи оказались потом прерванными? Почему Колумбу и другим мореплавателям пришлось снова открывать прежде хорошо известные земли и материки?
Что же произошло? У всех народов мира есть предания о некой древней катастрофе, якобы постигшей нашу планету. Легенды рассказывают, что катастрофа эта сопровождалась страшными потопами, землетрясениями, извержениями вулканов; многие страны обезлюдели, а часть суши погрузилась на дно моря. Тогда-то и оборвались связи, существовавшие между самими отдаленными районами земного шара. Есть и научная гипотеза, что эти разрушения и гибель принесла комета, вторгшаяся в небо Земли примерно 14–13 тысяч лет назад.
Каким же был мир до катастрофы? Некоторые факты древнейшей истории и находки археологии раскрывают перед нами неожиданную картину. Она позволяет предположить, что некогда на земле существовала высокая цивилизация, что народы, погибшие и рассеявшиеся в результате катастрофы, обладали огромными знаниями и области астрономии, математики, медицины, строительства. Следы этих знаний можно найти в древней Индии, в Египте, в Южной Америке.
Сохранилось много предании о великанах и карликах. Оказывается, и эти сведения не лишены реального основания. Некогда на земле жили расы карликов и расы гигантов, людей, которые весили по полтонны. Сейчас удалось найти остатки их скелетов…
СТРАННЫЕ АНАЛОГИИ
 Первыми, кто заметил это, были миссионеры.
Люди в монашеских рясах, с молитвенниками в руках появились в Америке одновременно с конкистадорами. По, если наемных солдат, этих вчерашних нищих, облаченных в мундиры, влекла мечта о внезапном обогащении, доля в добыче, то «посланцы слона божьего» прибыли сюда в погоне за иными ценностями. Это были «ловцы душ человеческих». Они шли через сожженные деревни и разрушенные городя, неся уцелевшим индейцам слова мира, благодати и истинной веры.
И удивительное дело! Можно было подумать, что они здесь не первые. Казалось, они шли по следам каких-то других христианских миссионеров, которые побывали здесь задолго до них.
Во многих местах индейцам был хорошо знаком даже священный знак креста[241], который и здесь символизировал вечную жизнь, воскрешение после смерти. Это заметил еще Колумб. Кресты венчали многие храмы, им молились. Один из индейцев сказал изумленному иезуиту:
— Мы молимся этому кресту, святой отец, потому что на нем умер человек, который был более славен, чем само солнце.
Еще удивительнее оказались совпадения текстов библии и священных книг народов Америки. Так, в книге индейцев киче (народ майя), как и в библии, говорится о древе добра и зла и о плодах познании, которые росли на нем!
До странного совпадало и описание потопа, вплоть до того, что если в библии говорилось, что вода покрыла землю на пятнадцать локтей, то и в священной книге древней Мексики повторялось то же число — пятнадцать локтей.
У ацтеков, обитавших в Мексике, был и свои Ной, который спасся во время потопа. Звали его Ната. Бог Титлакахуан предупредил его о предстоящей катастрофе и, подобно христианскому богу, посоветовал сделать ковчег из кипариса.
Остальные боги были уверены, что все люди погибли. Но, когда воды успокоились, Ната и его жена добыли огонь и стали жарить рыбу. Запах поднялся к небу, и боги догадались, что кто-то из людей уцелел.
— Что за огонь там? — воскликнули они. — Зачем он так коптит небо?
Разгневанные боги хотели довершить дело уничтожения человеческого рода, но Титлакахуан уговорил их простить спасшихся.
В библии тоже можно прочесть, что после потопа Ной развел огонь и именно по запаху сожженной жертвы бог узнал, что люди спаслись.
Но, как известно, библейские мифы восходят к еще более ранним, в частности к вавилонским, источникам. Здесь аналогия оказывается еще более поразительной! После потопа боги «собрались, как мухи», на запах жертвы. По этому запаху они узнали, что спасся какой-то человек со своей женой, и, как их коллеги в Мексике, придя в страшный гнев, решили уничтожить и этих люден. И опять заступничество бога Эа, который в свое время предупредил праведных мужа и жену о потопе, спасло их.
Библейский Ной, для того чтобы узнать, кончился ли потоп, время от времени выпускал из своего ковчега ворону и голубя. Делал он это трижды. Когда голубь вернулся с масличной веткой в клюве, это было знаком, что воды пошли на убыль.
Герой значительно более древней, халдейской, легенды о потопе, которым также спасся в ковчеге, тоже выпускал птиц, чтобы узнать, не появилась ли где-нибудь земля.
Но точно так же поступали и герои американских предании о потопе, о которых рассказывают индейцы Вест-Индии и Мексики. И, когда воды пошли на убыль, одна из птиц тоже принесла в клюве зеленую ветку.
Две тысячи лет читая библию, люди находили там упоминание о радуге, которая волей бога появилась на небе, знаменуя собой завершение потопа. Когда же при археологических раскопках были обнаружены глиняные таблички с текстом древневавилонского эпоса о Гильгамеше, стало известно, что упоминание о радуге заимствовано оттуда.
Но почему это же сообщение мы находим в священных книгах и преданиях Америки? Подобно христианскому богу и богу древнего Вавилона, бог инков в знак того, что он решил прекратить поток, воздвигает в небе семицветною арку радуги. В книге «Чилам Балам», в которой жрецы народа майя хранили запись о потопе, записано:
«И в небе появилась радуга, которая означала, что все на земле было уничтожено».
В священных книгах маня говорится о создании человека из глины. Об атом же мы можем прочесть и в библии, и в еще более ранних клинописных вавилонских текстах.
Библейский миф следующим образом рассказывает о происхождении различных языков:
«На всей земле был один язык и одно наречие. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес… И сказал господь: вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого… Так смешал господь язык всей земли, и оттуда рассеял их господь по всей земле».
А вот как трактует это же предание одна из тольтекстских легенд (Мексика): «После того, как после потопа немногие люди уцелели, и после того, как они успели размножиться, они построили высокую башню… Но языки их вдруг смешались, они не смогли больше понимать друг друга и отправились жить в разные части земли».
Подобные мифы имеются и у многих других индейских темен. Характерно тождество и в названиях этой башни. У иудеев она называлась «Ба Бел» (отсюда — Вавилон), что в переводе означает «Ворота бога». В некоторых преданиях, бытующих в Америке, башня эта называется точно так же: «Ворота бога».
Аналогии, как видите, поразительные. Ухватившись за подобные факты, миссионеры стали было утверждать, что в этом имеется некий особый божественный смысл, что именно христианское учение является, следовательно, единственно правильным из всех религии, существующих в мире. Папа римский издал даже буллу, в которой торжественно провозглашал, что индейцы — это потомки Адама, а следовательно — тоже люди!
Шло время, и подтверждались факты о том, что некогда народы хорошо знали путь через Атлантику. Но странное дело: чем больше таких фактов становилось известно, тем меньше устраивало это служителей церкви. И вот многие сообщения, заметки и рукописи, написанные миссионерами и иезуитами во время их деятельности в Америке, превращаются в своего рода «закрытую литературу». До сих пор эти материалы не стали достоянием историков и ученых. Они хранятся в книгохранилищах Ватикана, и доступ к ним закрыт.
В чем же причина? Мы уже видели, что аналогия между ацтекской и древневавилонской легендами более полная, чем между ними и библией. Подобные сопоставления говорят, что связи между континентами существовали уже в очень отдаленный период, когда не была еще написана библия и не возникло христианство.
Мы можем строить только гипотезы — позаимствовали ли в далеком прошлом народы, разделенные океанами, многие легенды, обычаи, ритуалы друг у друга или имелся некий источник. Но факт множества необъяснимых, казалось бы, аналогии налицо.
На Древнем Востоке, например в Египте и в Вавилоне, год состоял из трехсот шестидесяти дней. К ним прибавлялись еще пять днем, которые называли «безбожными». В течение этих пяти дней можно было не отдавать долг, нарушить закон, обмануть человека.
Точно такой же обычай бытовал и по другую сторону Атлантики — у майя, в Мексике.
В представлении многих народов история мира делится на четыре периода, четыре века. Каждый из этих веков имел свой цвет:
Первыми, кто заметил это, были миссионеры.
Люди в монашеских рясах, с молитвенниками в руках появились в Америке одновременно с конкистадорами. По, если наемных солдат, этих вчерашних нищих, облаченных в мундиры, влекла мечта о внезапном обогащении, доля в добыче, то «посланцы слона божьего» прибыли сюда в погоне за иными ценностями. Это были «ловцы душ человеческих». Они шли через сожженные деревни и разрушенные городя, неся уцелевшим индейцам слова мира, благодати и истинной веры.
И удивительное дело! Можно было подумать, что они здесь не первые. Казалось, они шли по следам каких-то других христианских миссионеров, которые побывали здесь задолго до них.
Во многих местах индейцам был хорошо знаком даже священный знак креста[241], который и здесь символизировал вечную жизнь, воскрешение после смерти. Это заметил еще Колумб. Кресты венчали многие храмы, им молились. Один из индейцев сказал изумленному иезуиту:
— Мы молимся этому кресту, святой отец, потому что на нем умер человек, который был более славен, чем само солнце.
Еще удивительнее оказались совпадения текстов библии и священных книг народов Америки. Так, в книге индейцев киче (народ майя), как и в библии, говорится о древе добра и зла и о плодах познании, которые росли на нем!
До странного совпадало и описание потопа, вплоть до того, что если в библии говорилось, что вода покрыла землю на пятнадцать локтей, то и в священной книге древней Мексики повторялось то же число — пятнадцать локтей.
У ацтеков, обитавших в Мексике, был и свои Ной, который спасся во время потопа. Звали его Ната. Бог Титлакахуан предупредил его о предстоящей катастрофе и, подобно христианскому богу, посоветовал сделать ковчег из кипариса.
Остальные боги были уверены, что все люди погибли. Но, когда воды успокоились, Ната и его жена добыли огонь и стали жарить рыбу. Запах поднялся к небу, и боги догадались, что кто-то из людей уцелел.
— Что за огонь там? — воскликнули они. — Зачем он так коптит небо?
Разгневанные боги хотели довершить дело уничтожения человеческого рода, но Титлакахуан уговорил их простить спасшихся.
В библии тоже можно прочесть, что после потопа Ной развел огонь и именно по запаху сожженной жертвы бог узнал, что люди спаслись.
Но, как известно, библейские мифы восходят к еще более ранним, в частности к вавилонским, источникам. Здесь аналогия оказывается еще более поразительной! После потопа боги «собрались, как мухи», на запах жертвы. По этому запаху они узнали, что спасся какой-то человек со своей женой, и, как их коллеги в Мексике, придя в страшный гнев, решили уничтожить и этих люден. И опять заступничество бога Эа, который в свое время предупредил праведных мужа и жену о потопе, спасло их.
Библейский Ной, для того чтобы узнать, кончился ли потоп, время от времени выпускал из своего ковчега ворону и голубя. Делал он это трижды. Когда голубь вернулся с масличной веткой в клюве, это было знаком, что воды пошли на убыль.
Герой значительно более древней, халдейской, легенды о потопе, которым также спасся в ковчеге, тоже выпускал птиц, чтобы узнать, не появилась ли где-нибудь земля.
Но точно так же поступали и герои американских предании о потопе, о которых рассказывают индейцы Вест-Индии и Мексики. И, когда воды пошли на убыль, одна из птиц тоже принесла в клюве зеленую ветку.
Две тысячи лет читая библию, люди находили там упоминание о радуге, которая волей бога появилась на небе, знаменуя собой завершение потопа. Когда же при археологических раскопках были обнаружены глиняные таблички с текстом древневавилонского эпоса о Гильгамеше, стало известно, что упоминание о радуге заимствовано оттуда.
Но почему это же сообщение мы находим в священных книгах и преданиях Америки? Подобно христианскому богу и богу древнего Вавилона, бог инков в знак того, что он решил прекратить поток, воздвигает в небе семицветною арку радуги. В книге «Чилам Балам», в которой жрецы народа майя хранили запись о потопе, записано:
«И в небе появилась радуга, которая означала, что все на земле было уничтожено».
В священных книгах маня говорится о создании человека из глины. Об атом же мы можем прочесть и в библии, и в еще более ранних клинописных вавилонских текстах.
Библейский миф следующим образом рассказывает о происхождении различных языков:
«На всей земле был один язык и одно наречие. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес… И сказал господь: вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого… Так смешал господь язык всей земли, и оттуда рассеял их господь по всей земле».
А вот как трактует это же предание одна из тольтекстских легенд (Мексика): «После того, как после потопа немногие люди уцелели, и после того, как они успели размножиться, они построили высокую башню… Но языки их вдруг смешались, они не смогли больше понимать друг друга и отправились жить в разные части земли».
Подобные мифы имеются и у многих других индейских темен. Характерно тождество и в названиях этой башни. У иудеев она называлась «Ба Бел» (отсюда — Вавилон), что в переводе означает «Ворота бога». В некоторых преданиях, бытующих в Америке, башня эта называется точно так же: «Ворота бога».
Аналогии, как видите, поразительные. Ухватившись за подобные факты, миссионеры стали было утверждать, что в этом имеется некий особый божественный смысл, что именно христианское учение является, следовательно, единственно правильным из всех религии, существующих в мире. Папа римский издал даже буллу, в которой торжественно провозглашал, что индейцы — это потомки Адама, а следовательно — тоже люди!
Шло время, и подтверждались факты о том, что некогда народы хорошо знали путь через Атлантику. Но странное дело: чем больше таких фактов становилось известно, тем меньше устраивало это служителей церкви. И вот многие сообщения, заметки и рукописи, написанные миссионерами и иезуитами во время их деятельности в Америке, превращаются в своего рода «закрытую литературу». До сих пор эти материалы не стали достоянием историков и ученых. Они хранятся в книгохранилищах Ватикана, и доступ к ним закрыт.
В чем же причина? Мы уже видели, что аналогия между ацтекской и древневавилонской легендами более полная, чем между ними и библией. Подобные сопоставления говорят, что связи между континентами существовали уже в очень отдаленный период, когда не была еще написана библия и не возникло христианство.
Мы можем строить только гипотезы — позаимствовали ли в далеком прошлом народы, разделенные океанами, многие легенды, обычаи, ритуалы друг у друга или имелся некий источник. Но факт множества необъяснимых, казалось бы, аналогии налицо.
На Древнем Востоке, например в Египте и в Вавилоне, год состоял из трехсот шестидесяти дней. К ним прибавлялись еще пять днем, которые называли «безбожными». В течение этих пяти дней можно было не отдавать долг, нарушить закон, обмануть человека.
Точно такой же обычай бытовал и по другую сторону Атлантики — у майя, в Мексике.
В представлении многих народов история мира делится на четыре периода, четыре века. Каждый из этих веков имел свой цвет:
| Период | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Греки | Кельты | >Индусы | Майя | |
| желтый | белый | белый | белый | |
| белый | красный | желтый | желтый | |
| красный | желтый | красный | красный | |
| черный | черный | черный | черный |
Но разве такая «схема» могла бы возникнуть у различных народов независимо, без контактов, только потому, что все, неизвестно почему, решили вдруг делить историю мира на четыре части да еще «окрашивать» эти части в цвета! «Цвета» многих веков совпадают, причем у индусов и майя — полностью. И поразительно совпадают цвета последнего, теперешнего века… Многие сходные и даже одинаковые обычаи могут быть объяснены одними и теми же условиями существования людей. Конечно, различные народы совершенно независимо друг от друга могли изобрести лук, научиться добывать огонь, строить хижины и т. д. Но как объяснить факты, не поддающиеся логическому истолкованию: народные приметы, суеверия? И у майя и в Европе, если кошка умывается, — считается — «к гостям». Если приснилось, что выпал зуб, в этом видят предзнаменование смерти кого-то из родственников. «13» — и в Америке, еще до открытия ее Колумбом, и в Европе принято было считать особым, мистическим числом. В Древнем Риме и у жителей Америки существовал обычай во время свадьбы переносить невесту через порог дома жениха. Если при этом кто-нибудь спотыкался, это было дурным знаком. Подобных наблюдении можно привести очень много. В священных книгах пародов Америки имеются упоминания и о неграх. Возможно, некогда были связи также и между Америкой и Африкой. «Там находились тогда в большом количестве черные люди и белые люди, люди с разной внешностью», — читаем мы в священной книге индейцев киче «Попол Вух».
БЕЛЫЕ ЛЮДИ В АМЕРИКЕ
 Первые европейские путешественники в Америке были очень удивлены, когда среди индейцев, людей с красноватым, медным цветом тела, им изредка попадались племена со светлой белой кожей.
Оказалось, что «белые индейцы» рассеяны по обеим Америкам, словно осколки какого-то древнего взрыва, осколки, разлетевшиеся во все стороны и вонзившиеся в медно-красную массу индейских племен. «Майорумы бассейна Амазонки — народ очень своеобразный, — писал один испанский историк времен завоевания. — Они большого роста, многочисленны, бородаты и рыжеволосы. Цвет кожи у них настолько светлый, что они напоминают скорее англичан и фламандцев, чем испанцев. Они цыгане Амазонки, и их нельзя заставить поселиться и жить в деревне. Если с ними сделать это насильно, они не выдерживают и умирают от грусти…» Разрозненные группы белых подверглись значительному уничтожению сначала со стороны индейских племен, а позднее этим занялись и европейцы. Одна из таких белых групп, тапуйя, жившая Бразилии в конце XVI века, была почти полностью истреблена соседними племенами, имевшими склонность к людоедству и охотившимися па тапуйя, как на дичь.
Иезуитский священник тех лет писал, как однажды он пришел к умирающей старухе индианке, которую незадолго до этого ему удалось обратить в христианство. Когда, отпустим грехи, он спросил ее о последнем желании, старуха воскликнула:
«О мой отец! Если бы вы только могли достать мне нежную ручку мальчика тапуйя, я бы с удовольствием поглодала ее. Но увы, я одинокая старая женщина, кто позаботится обо мне!»
Многие племена «белых индейцев» вымерли от различных болезней уже после прихода европейцев. Такая участь постигла, например, манданов, которых в начале XIX века поразила эпидемия оспы.
На Пиренейском полуострове живет народ баски. Некогда их предки, иберийцы, занимали весь Пиренейский полуостров. Их язык, как и язык дравидов, жителей Южной Индии, не связан ни с одним другим языком на земном шаре. Единственное, что сближает язык иберийцев с другими, — это его структура. Причем, как ни странно, общность эта — не с европейскими языками, а с языками американских индейцев.
Ученым удалось проследить и другое звено языковой связи. В Центральной Америке имеется народ, говорящий на языке чиапенсе, который, по сведениям некоторых исследователей, имеет очень мною общего с древнееврейским.
Загадка некоторых странных этнических групп и народов Америки до сих пор не раскрыта учеными. В Южной Америке до испанского завоевания существовали обширное государство инков. Оно тянулось вдоль восточного побережья, с севера на юг на четыре тысячи километров.
Населяло эту страну более десяти миллионов человек, но сами инки составляли только господствующую касту правителей и жрецов. Они были светлокожи, говорили на каком-то неизвестном священном языке и, согласно преданию, прибыли со стороны моря.
Некоторые обычаи и священные ритуалы инков были положи на египетские. Подобно древним египтянам, инки бальзамировали своих умерших правителей. И даже метод, которым они это делали, чрезвычайно похож на египетский. По в отличие от египтян, они не прятали мумий в глубинах пирамид. В одном из залов Храма Солнца на золотых стульях восседали мумии умерших правителей. Тут же находился трон, на котором во время различных торжественных церемоний восседал царствующий правитель. Поодаль стоял пустующий золотой стул, на который ему предстояло пересесть после смерти.
Когда английские ученые произвели исследование крови этих мумий, то состав ее подтвердил, что инки были пришельцами. У мумий оказалась группа крови «А», которой вообще не было в Южной Америке до прихода европейцев. Более того: комбинация состава крови правителей инков оказалась очень редкой. Достаточно сказать, что такой состав крови по всем мире был обнаружен только у двух — трех человек.
Нетрудно проследить и некогда существовавшие связи Америки с Азией. Китайские летописи сообщают, что корабли из Китая знали дорогу в Америку еще в V веке н. э. Этот громадный материк, который находился далеко за океаном, на расстоянии целых двадцати тысяч ли, они называли Фу-Санг.
Индийские мореплаватели также совершали когда-то путь к берегам Америки. Не случаем и тот факт, что и в Индии и в Мексике до испанского завоевания была известна одна и та же игра, которая, кроме этих территории, не распространена больше нигде в мире. Причем даже название ее у обоих народов звучит почти одинаково. В различных частях Америки, особенно в Южной, среди индейцев кечуа лингвисты нашли много корней священною языка древних индусов — санскрита.
Какие-то отдаленные воспоминания о пути через Атлантику сохранились в произведениях античных авторов. Знаменитый римский оратор Цицерон верил в существование огромного континента на запад от Геркулесовых Столбов и говорил, что земля, известная римлянам, — только малый остров по сравнению с ним.
Другой автор утверждал, что Европа, Азия и Африка — это острова, окруженные океаном, но, помимо них, имеется за океаном «обширный континент огромной протяженности». По его словам, на этом континенте «много больших городов, где законы и обычаи отличны от наших… Земля эта обладает несметным количеством золота и серебра, которые ценятся живущими там людьми меньше, чем нами — железо…» Он сообщает также, что жители этого континента не пользуются орудиями, изготовленными из железа. Описание это довольно полно соответствует тому, что нашли в Америке европейцы пятнадцать веков спустя.
А вот как описывал Америку Диодор Сицилийский: «За Африкой находится огромный остров в обширном океане. Он лежит в многих днях плавания на запад от Ливии. Горы там чередуются с приятными долинами, а города украшены прекрасными зданиями…» Диодор Сицилийский ссылался при этом на моряков-финикийцев, которые побывали там.
Аристотель утверждал, что честь открытия обширных земель, лежащих к западу, за океаном, принадлежит карфагенянам.
Есть сообщения о находках в Америке римских монет II–IV веков. В очном из могильников найдена статуэтка несомненно римского происхождения. Все это свидетельствует о том, что между двумя материками происходили какие-то, очевидно, одиночные путешествия.
Античные авторы черпали свои представления об огромном континенте за океаном из более древних источников — карфагенских, финикийских и, возможно, египетских хроник. Сами хроники не дошли до нас, мы знаем только имена авторов и названии некоторых книг, следы которых теряются.
Первые европейские путешественники в Америке были очень удивлены, когда среди индейцев, людей с красноватым, медным цветом тела, им изредка попадались племена со светлой белой кожей.
Оказалось, что «белые индейцы» рассеяны по обеим Америкам, словно осколки какого-то древнего взрыва, осколки, разлетевшиеся во все стороны и вонзившиеся в медно-красную массу индейских племен. «Майорумы бассейна Амазонки — народ очень своеобразный, — писал один испанский историк времен завоевания. — Они большого роста, многочисленны, бородаты и рыжеволосы. Цвет кожи у них настолько светлый, что они напоминают скорее англичан и фламандцев, чем испанцев. Они цыгане Амазонки, и их нельзя заставить поселиться и жить в деревне. Если с ними сделать это насильно, они не выдерживают и умирают от грусти…» Разрозненные группы белых подверглись значительному уничтожению сначала со стороны индейских племен, а позднее этим занялись и европейцы. Одна из таких белых групп, тапуйя, жившая Бразилии в конце XVI века, была почти полностью истреблена соседними племенами, имевшими склонность к людоедству и охотившимися па тапуйя, как на дичь.
Иезуитский священник тех лет писал, как однажды он пришел к умирающей старухе индианке, которую незадолго до этого ему удалось обратить в христианство. Когда, отпустим грехи, он спросил ее о последнем желании, старуха воскликнула:
«О мой отец! Если бы вы только могли достать мне нежную ручку мальчика тапуйя, я бы с удовольствием поглодала ее. Но увы, я одинокая старая женщина, кто позаботится обо мне!»
Многие племена «белых индейцев» вымерли от различных болезней уже после прихода европейцев. Такая участь постигла, например, манданов, которых в начале XIX века поразила эпидемия оспы.
На Пиренейском полуострове живет народ баски. Некогда их предки, иберийцы, занимали весь Пиренейский полуостров. Их язык, как и язык дравидов, жителей Южной Индии, не связан ни с одним другим языком на земном шаре. Единственное, что сближает язык иберийцев с другими, — это его структура. Причем, как ни странно, общность эта — не с европейскими языками, а с языками американских индейцев.
Ученым удалось проследить и другое звено языковой связи. В Центральной Америке имеется народ, говорящий на языке чиапенсе, который, по сведениям некоторых исследователей, имеет очень мною общего с древнееврейским.
Загадка некоторых странных этнических групп и народов Америки до сих пор не раскрыта учеными. В Южной Америке до испанского завоевания существовали обширное государство инков. Оно тянулось вдоль восточного побережья, с севера на юг на четыре тысячи километров.
Населяло эту страну более десяти миллионов человек, но сами инки составляли только господствующую касту правителей и жрецов. Они были светлокожи, говорили на каком-то неизвестном священном языке и, согласно преданию, прибыли со стороны моря.
Некоторые обычаи и священные ритуалы инков были положи на египетские. Подобно древним египтянам, инки бальзамировали своих умерших правителей. И даже метод, которым они это делали, чрезвычайно похож на египетский. По в отличие от египтян, они не прятали мумий в глубинах пирамид. В одном из залов Храма Солнца на золотых стульях восседали мумии умерших правителей. Тут же находился трон, на котором во время различных торжественных церемоний восседал царствующий правитель. Поодаль стоял пустующий золотой стул, на который ему предстояло пересесть после смерти.
Когда английские ученые произвели исследование крови этих мумий, то состав ее подтвердил, что инки были пришельцами. У мумий оказалась группа крови «А», которой вообще не было в Южной Америке до прихода европейцев. Более того: комбинация состава крови правителей инков оказалась очень редкой. Достаточно сказать, что такой состав крови по всем мире был обнаружен только у двух — трех человек.
Нетрудно проследить и некогда существовавшие связи Америки с Азией. Китайские летописи сообщают, что корабли из Китая знали дорогу в Америку еще в V веке н. э. Этот громадный материк, который находился далеко за океаном, на расстоянии целых двадцати тысяч ли, они называли Фу-Санг.
Индийские мореплаватели также совершали когда-то путь к берегам Америки. Не случаем и тот факт, что и в Индии и в Мексике до испанского завоевания была известна одна и та же игра, которая, кроме этих территории, не распространена больше нигде в мире. Причем даже название ее у обоих народов звучит почти одинаково. В различных частях Америки, особенно в Южной, среди индейцев кечуа лингвисты нашли много корней священною языка древних индусов — санскрита.
Какие-то отдаленные воспоминания о пути через Атлантику сохранились в произведениях античных авторов. Знаменитый римский оратор Цицерон верил в существование огромного континента на запад от Геркулесовых Столбов и говорил, что земля, известная римлянам, — только малый остров по сравнению с ним.
Другой автор утверждал, что Европа, Азия и Африка — это острова, окруженные океаном, но, помимо них, имеется за океаном «обширный континент огромной протяженности». По его словам, на этом континенте «много больших городов, где законы и обычаи отличны от наших… Земля эта обладает несметным количеством золота и серебра, которые ценятся живущими там людьми меньше, чем нами — железо…» Он сообщает также, что жители этого континента не пользуются орудиями, изготовленными из железа. Описание это довольно полно соответствует тому, что нашли в Америке европейцы пятнадцать веков спустя.
А вот как описывал Америку Диодор Сицилийский: «За Африкой находится огромный остров в обширном океане. Он лежит в многих днях плавания на запад от Ливии. Горы там чередуются с приятными долинами, а города украшены прекрасными зданиями…» Диодор Сицилийский ссылался при этом на моряков-финикийцев, которые побывали там.
Аристотель утверждал, что честь открытия обширных земель, лежащих к западу, за океаном, принадлежит карфагенянам.
Есть сообщения о находках в Америке римских монет II–IV веков. В очном из могильников найдена статуэтка несомненно римского происхождения. Все это свидетельствует о том, что между двумя материками происходили какие-то, очевидно, одиночные путешествия.
Античные авторы черпали свои представления об огромном континенте за океаном из более древних источников — карфагенских, финикийских и, возможно, египетских хроник. Сами хроники не дошли до нас, мы знаем только имена авторов и названии некоторых книг, следы которых теряются.
ОКЕАН ПЕРЕПЛЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
 Что же мешало связям между материками? Многие древние авторы писали, что морской путь к огромному материку на запад от Европы невозможен, не известный нам греческий ученый рассказывает об одном финикийском корабле, который плавал по ту сторону Геркулесовых Столбов. Однажды сильным ветер унес этот корабль далеко на запад, пока он не попал в море, где невозможно было плыть из-за густых водорослей. Очевидно, это была та часть Атлантики, которая известна нам, как Саргассово море.
О непроходимости Атлантики писал и Аристотель в своей «Метеорологике».
Океан на запад от Геркулесовых Столбов, считал он. состоит из жидкой грязи и изобилует мелями. По словам Плутарха, Атлантику также невозможно переплыть из-за жидкой грязи.
Некогда царь персов Ксеркс, тог самый, который приказал выпороть море плетьми за то, что оно разрушило наведенную им переправу, намеревался завоевать весь мир. Мысль эта не была оригинальна даже во времена Ксеркса. Однажды к парю привели путешественника, который побывал в дальних землях и должен рассказать Ксерксу о том, как он со своей армией мог бы пройти туда. Но велика была досада Ксеркса, когда он узнал от путешественника о невозможности переплыть Атлантику из-за целого моря топкой грязи. Об этом случае рассказывает Геродот.
Древние были единогласны в этом своем утверждении. Но в то же время вое мы отлично знаем, что сейчас корабли без малейшего затруднении совершают путь в Америку и обратно.
Значит ли это, что древние заблуждались?
Есть афоризм, звучащий несколько парадоксально: «Истина — это заблуждение, которое длилось столетия; заблуждение — это истина, просуществовавшая лишь минуту». То, что утверждали древние, было истиной в их время, хотя это и не cooтветствует тому, что видим мы сейчас.
Океанологические экспедиции обнаружили, что дно Атлантики во многих местах покрыто толстым, почти тридцатиметровым слоем осевшего ила.
Таким образом, все это лишний раз говорит о том, что связи между материками существовали, очевидно, до того, как океан стал непроходимым.
Платон писал в свое время об Атлантиде, суше, находившейся якобы между Европой и Америкой, Америкой и Африкой.
Суша эта была «больше Ливии и Азии». Остров по словам Платона, «осел от землетрясения и оставил после себя непроходимый ил, препятствующий пловцам проникать отсюда во внешнее море, так что идти дальше они не могут. Ссылаясь при этом на греческого философа Солона, который побывал в Египте и почерпнул эти сведения от египетских жрецов, Платон сообщал, что оседание случилось около десяти тысяч лет назад.
Вряд ли даже такая катастрофа могла сделать океан не проходимым в течение нескольких тысячелетий. Очевидно, здесь происходили последующие погружения остатков суши. Это подтверждается и тем, что многие историки и географы древности упоминают об обширных островах к востоку от Геркулесовых Столбов. Это Кронос, Посейдонос и другие, которые затем тоже опустились.
Антильские острова и Куба у побережья Америки также представляют собой остатки земель, погрузившихся относительно недавно. Именно с этой затонувшей суши прибыли, очевидно майя, появившиеся на полуострове Юкатан примерно в 200 году до н. э. Легенды майя утверждают, что прибыли они в Америку с какого-то острова, расположенного в океане.
Процесс последовательного опускания суши в Атлантике затронул и ее северные районы, в частности побережье и прибрежные острова Исландии. На самых древних картах Исландии можно найти острова, которые впоследствии опустились на дно океана.
Нам известно и о существовании какой-то обширной суши в Тихом океане, тоже опустившейся впоследствии. Это «Кахаупо-о-кане» и «Хенуа-нуи» полинезийские мифы. Многочисленные археологические находки подтверждают эти предания.
В памяти народов всего мира, в их преданиях, священных книгах и ритуалах сохранились воспоминания об отдаленном событии, за которым последовало это опускание суши, сделавшее океаны непроходимыми. Речь идет с всемирной катастрофе.
Что же мешало связям между материками? Многие древние авторы писали, что морской путь к огромному материку на запад от Европы невозможен, не известный нам греческий ученый рассказывает об одном финикийском корабле, который плавал по ту сторону Геркулесовых Столбов. Однажды сильным ветер унес этот корабль далеко на запад, пока он не попал в море, где невозможно было плыть из-за густых водорослей. Очевидно, это была та часть Атлантики, которая известна нам, как Саргассово море.
О непроходимости Атлантики писал и Аристотель в своей «Метеорологике».
Океан на запад от Геркулесовых Столбов, считал он. состоит из жидкой грязи и изобилует мелями. По словам Плутарха, Атлантику также невозможно переплыть из-за жидкой грязи.
Некогда царь персов Ксеркс, тог самый, который приказал выпороть море плетьми за то, что оно разрушило наведенную им переправу, намеревался завоевать весь мир. Мысль эта не была оригинальна даже во времена Ксеркса. Однажды к парю привели путешественника, который побывал в дальних землях и должен рассказать Ксерксу о том, как он со своей армией мог бы пройти туда. Но велика была досада Ксеркса, когда он узнал от путешественника о невозможности переплыть Атлантику из-за целого моря топкой грязи. Об этом случае рассказывает Геродот.
Древние были единогласны в этом своем утверждении. Но в то же время вое мы отлично знаем, что сейчас корабли без малейшего затруднении совершают путь в Америку и обратно.
Значит ли это, что древние заблуждались?
Есть афоризм, звучащий несколько парадоксально: «Истина — это заблуждение, которое длилось столетия; заблуждение — это истина, просуществовавшая лишь минуту». То, что утверждали древние, было истиной в их время, хотя это и не cooтветствует тому, что видим мы сейчас.
Океанологические экспедиции обнаружили, что дно Атлантики во многих местах покрыто толстым, почти тридцатиметровым слоем осевшего ила.
Таким образом, все это лишний раз говорит о том, что связи между материками существовали, очевидно, до того, как океан стал непроходимым.
Платон писал в свое время об Атлантиде, суше, находившейся якобы между Европой и Америкой, Америкой и Африкой.
Суша эта была «больше Ливии и Азии». Остров по словам Платона, «осел от землетрясения и оставил после себя непроходимый ил, препятствующий пловцам проникать отсюда во внешнее море, так что идти дальше они не могут. Ссылаясь при этом на греческого философа Солона, который побывал в Египте и почерпнул эти сведения от египетских жрецов, Платон сообщал, что оседание случилось около десяти тысяч лет назад.
Вряд ли даже такая катастрофа могла сделать океан не проходимым в течение нескольких тысячелетий. Очевидно, здесь происходили последующие погружения остатков суши. Это подтверждается и тем, что многие историки и географы древности упоминают об обширных островах к востоку от Геркулесовых Столбов. Это Кронос, Посейдонос и другие, которые затем тоже опустились.
Антильские острова и Куба у побережья Америки также представляют собой остатки земель, погрузившихся относительно недавно. Именно с этой затонувшей суши прибыли, очевидно майя, появившиеся на полуострове Юкатан примерно в 200 году до н. э. Легенды майя утверждают, что прибыли они в Америку с какого-то острова, расположенного в океане.
Процесс последовательного опускания суши в Атлантике затронул и ее северные районы, в частности побережье и прибрежные острова Исландии. На самых древних картах Исландии можно найти острова, которые впоследствии опустились на дно океана.
Нам известно и о существовании какой-то обширной суши в Тихом океане, тоже опустившейся впоследствии. Это «Кахаупо-о-кане» и «Хенуа-нуи» полинезийские мифы. Многочисленные археологические находки подтверждают эти предания.
В памяти народов всего мира, в их преданиях, священных книгах и ритуалах сохранились воспоминания об отдаленном событии, за которым последовало это опускание суши, сделавшее океаны непроходимыми. Речь идет с всемирной катастрофе.
ГОРЫ СКРЫЛИСЬ ПОД ВОДОЙ
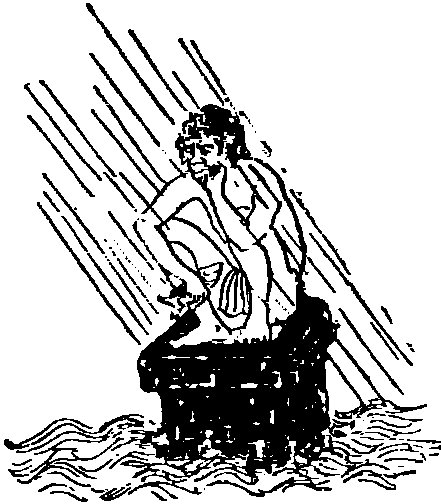 В мире нет народа, который не хранил бы воспоминания об этом событии.
Вот что говорит о катастрофе один из кодексов майя: «Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горя скрылись под водой…»
Священная книга индейцев киче (Гватемалa) описывает катастрофу следующим образом: «Был великий потоп… Люди бежали в отчаяния и безумии. В ужасе пытались они взобраться на крыши домов, которые обрушивались и швыряли их на землю. Они пытались залезать на деревья, но деревья сбрасывали их, люди искали спасения в пещерах и гротах, и они погребали людей. Свет померк, днем я ночью шел дождь Так была завершена гибель расы людей, обреченных на уничтожение».
Индейцы Перу рассказывают, что, согласно их древним преданиям, «был такой сильный потоп, что море вышло из своих берегов, земля была затоплена и все люди погибли… Вода поднялась выше самых высоких гор».
Мы можем найти подобные сведения в преданиях и сохранившихся священных книгах всех народов Южной, Центральной и Северной Америки. Индейцы Аляски вспоминают, что во время потопа немногие уцелевшие люди спасались от бушующих воли на каноэ. Дикие, звери, медведи, волки тоже пытались забраться в переполненные людьми лодки, и их приходилось отгонять копьями.
Сообщения о катастрофе находим мы и у африканских народов.
Таким образом, внезапные наводнения по берегам обоих океанов сопровождались очень сильной вулканической деятельностью, а также горообразованием. Предания майя сообщают, что во время катастрофы вздымались раскаленные горы. Другие мифы, также повествующие о том, что горы в этом районе появились во время катастрофы, подтверждаются некоторыми находками ученых. Так, мексиканский исследователь Гарсиа Пайона нашел в Кордильерах под толстым слоем льда две хижины. Окружающий их ракушечник и следы деятельности моря говорили, что некогда эти хижины находились на морском побережье. Теперь они оказались на высоте 5700 метров, где человек вообще не может находиться продолжительное время.
Греки описывали потоп следующим образом. Царь всех богов Зевс решил уничтожить человеческий род за то, что люди были безбожны и склонны к насилиям. «Он совсем уже было низверг молнии на землю, но побоялся, как бы от столь сильного огня не воспламенился священный эфир и не сгорела бы земная ось. Зевс вспомнил предсказания рока, что наступит время, когда море, земля и дворец владыки неба будут охвачены огнем, когда вспыхнет небо и рухнет все искусно построенное здание мира. Он отложил тогда оружие, приготовленное руками циклопов, и выбрал противоположный род наказания, решив пролить над землей такой дождь, чтобы весь род смертных утонут в волнах. И вот царь богов выпустил из пещеры, где держал ветры, Нот — южный ветер, приносящий дождь. Вылетел Нот на своих влажных крыльях, пряча в кромешной тьме свой предвещавший беду лик. С его бороды, тяжелой от туч, и с седых волос пролилась вода. Его лоб, грудь и мокрые крылья покрывал туман. Как только Нот сжимал рукою нависшие тучи, начинался треск и грохот, и заключенный в тучах дождь ливнем низвергался с неба. Вода смыла посевы, на которые надеялся земледелец, и унесла их, погубив все труды долгого года.
Но Зевс не удовлетворился небом, своей собственной державой. Его синий брат находился при нем со своим вспомогательным войском — волнами. Посейдон позвал реки и, когда те вошли в его дворец, сказал им:
— Теперь не время для долгих речей. Выступите из берегов со всей силой. Так должно быть. Отворите все ваши источники и сорвите все плотины, дайте свободу вашему течению.
Таков был приказ. Реки покинули дворец своего царя, расширили устья своих источников и в неудержимом беге сплошным потоком понеслись к морям. Сам Посейдон ударил своим трезубцем землю, потряс ее и этой встряской освободил путь воде. Даже башни и те исчезли в потоке воды. Уже не стало разницы между морем и землей. Везде было сплошное зеркало воды, и у этого зеркала не было берегов.
Люди спасались кто как мог. Одни искали холмы повыше, другие садились в лодки и работали веслами там, где еще недавно они пахали, третьи снимали рыб с верхушек вязов…»
Как видите, до этого района докатились, очевидно, только землетрясения («Посейдон ударил своим трезубцем землю, потряс ее»), а вода хоть и залила все, но не затопила высокие холмы и не поднялась выше верхушек деревьев.
Имеется рассказ о потопе и в библии, которая заимствовала сообщение о нем из более древнего источника. Вавилонские глиняные таблички, относящиеся еще к XXXIV веку до н. э., также повествуют об этой катастрофе.
В священной книге персов «Зенд-Овесте», говорится, что во время потопа «по всей земле вода стояла на высоте человеческого роста…»
А в самом восточном районе Азии, в Китае, некоторые мифы утверждают, что во время этой катастрофы, постигшей землю, воды моря не только не залили сушу, как это было в Америке, Африке и в Европе, а, наоборот, далеко отступили от побережья на юго-восток. Ясно, что если в одном районе земного шара была огромная приливная волна, и воды доходили даже до горных вершин, то на противоположной его стороне должен был быть отлив. Это подтверждается и тем, как постепенно, по мере движения на восток, уменьшалась высота водного покрова: в Центральной Америке вода поднялась до вершин самых высоких гор, в Греции — не выше холмов и верхушек деревьев, а в Персии — только на высоту человеческого роста.
В мире нет народа, который не хранил бы воспоминания об этом событии.
Вот что говорит о катастрофе один из кодексов майя: «Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горя скрылись под водой…»
Священная книга индейцев киче (Гватемалa) описывает катастрофу следующим образом: «Был великий потоп… Люди бежали в отчаяния и безумии. В ужасе пытались они взобраться на крыши домов, которые обрушивались и швыряли их на землю. Они пытались залезать на деревья, но деревья сбрасывали их, люди искали спасения в пещерах и гротах, и они погребали людей. Свет померк, днем я ночью шел дождь Так была завершена гибель расы людей, обреченных на уничтожение».
Индейцы Перу рассказывают, что, согласно их древним преданиям, «был такой сильный потоп, что море вышло из своих берегов, земля была затоплена и все люди погибли… Вода поднялась выше самых высоких гор».
Мы можем найти подобные сведения в преданиях и сохранившихся священных книгах всех народов Южной, Центральной и Северной Америки. Индейцы Аляски вспоминают, что во время потопа немногие уцелевшие люди спасались от бушующих воли на каноэ. Дикие, звери, медведи, волки тоже пытались забраться в переполненные людьми лодки, и их приходилось отгонять копьями.
Сообщения о катастрофе находим мы и у африканских народов.
Таким образом, внезапные наводнения по берегам обоих океанов сопровождались очень сильной вулканической деятельностью, а также горообразованием. Предания майя сообщают, что во время катастрофы вздымались раскаленные горы. Другие мифы, также повествующие о том, что горы в этом районе появились во время катастрофы, подтверждаются некоторыми находками ученых. Так, мексиканский исследователь Гарсиа Пайона нашел в Кордильерах под толстым слоем льда две хижины. Окружающий их ракушечник и следы деятельности моря говорили, что некогда эти хижины находились на морском побережье. Теперь они оказались на высоте 5700 метров, где человек вообще не может находиться продолжительное время.
Греки описывали потоп следующим образом. Царь всех богов Зевс решил уничтожить человеческий род за то, что люди были безбожны и склонны к насилиям. «Он совсем уже было низверг молнии на землю, но побоялся, как бы от столь сильного огня не воспламенился священный эфир и не сгорела бы земная ось. Зевс вспомнил предсказания рока, что наступит время, когда море, земля и дворец владыки неба будут охвачены огнем, когда вспыхнет небо и рухнет все искусно построенное здание мира. Он отложил тогда оружие, приготовленное руками циклопов, и выбрал противоположный род наказания, решив пролить над землей такой дождь, чтобы весь род смертных утонут в волнах. И вот царь богов выпустил из пещеры, где держал ветры, Нот — южный ветер, приносящий дождь. Вылетел Нот на своих влажных крыльях, пряча в кромешной тьме свой предвещавший беду лик. С его бороды, тяжелой от туч, и с седых волос пролилась вода. Его лоб, грудь и мокрые крылья покрывал туман. Как только Нот сжимал рукою нависшие тучи, начинался треск и грохот, и заключенный в тучах дождь ливнем низвергался с неба. Вода смыла посевы, на которые надеялся земледелец, и унесла их, погубив все труды долгого года.
Но Зевс не удовлетворился небом, своей собственной державой. Его синий брат находился при нем со своим вспомогательным войском — волнами. Посейдон позвал реки и, когда те вошли в его дворец, сказал им:
— Теперь не время для долгих речей. Выступите из берегов со всей силой. Так должно быть. Отворите все ваши источники и сорвите все плотины, дайте свободу вашему течению.
Таков был приказ. Реки покинули дворец своего царя, расширили устья своих источников и в неудержимом беге сплошным потоком понеслись к морям. Сам Посейдон ударил своим трезубцем землю, потряс ее и этой встряской освободил путь воде. Даже башни и те исчезли в потоке воды. Уже не стало разницы между морем и землей. Везде было сплошное зеркало воды, и у этого зеркала не было берегов.
Люди спасались кто как мог. Одни искали холмы повыше, другие садились в лодки и работали веслами там, где еще недавно они пахали, третьи снимали рыб с верхушек вязов…»
Как видите, до этого района докатились, очевидно, только землетрясения («Посейдон ударил своим трезубцем землю, потряс ее»), а вода хоть и залила все, но не затопила высокие холмы и не поднялась выше верхушек деревьев.
Имеется рассказ о потопе и в библии, которая заимствовала сообщение о нем из более древнего источника. Вавилонские глиняные таблички, относящиеся еще к XXXIV веку до н. э., также повествуют об этой катастрофе.
В священной книге персов «Зенд-Овесте», говорится, что во время потопа «по всей земле вода стояла на высоте человеческого роста…»
А в самом восточном районе Азии, в Китае, некоторые мифы утверждают, что во время этой катастрофы, постигшей землю, воды моря не только не залили сушу, как это было в Америке, Африке и в Европе, а, наоборот, далеко отступили от побережья на юго-восток. Ясно, что если в одном районе земного шара была огромная приливная волна, и воды доходили даже до горных вершин, то на противоположной его стороне должен был быть отлив. Это подтверждается и тем, как постепенно, по мере движения на восток, уменьшалась высота водного покрова: в Центральной Америке вода поднялась до вершин самых высоких гор, в Греции — не выше холмов и верхушек деревьев, а в Персии — только на высоту человеческого роста.
«НЕБО СТАЛО ПАДАТЬ К СЕВЕРУ»
 Описание катастрофы сопровождается одной странной, на первый взгляд, деталью. Имеется целый ряд сообщений о том, что после катастрофы вид некоторых созвездий стал иным. В частности, изменился путь движения Венеры. В XVII веке в Китае побывал иезуитский миссионер Мартин Мартинус. Он провел там несколько лет, изучил язык и, вернувшись, написал подробный труд «История Китая». Вот как описывает он со слов китайских древних летописей, что произошло во время потопа: «…Опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу. Солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути». Об этом же, об изменившемся виде неба, писал «одни из самых умудренных римлян» — историк М.Терентиус Варро, который пользовался каким-то древним источником. «Звезда Венера, — писал он, — изменила свой цвет, размеры, форму, вид и движение, чего не было никогда ни до, пи после этого».
Древние евреи считали, что потоп «произошел потому, что господь бог изменил места двух звезд в созвездии».
В древней Мексике даже существовал праздник, посвященный тому, что созвездия после катастрофы приняли другой вид. Особенно отмечалось изменение пути движении Венеры, которая, как гласил одни из кодексов майя, «принесла гибель миру»…
Естественно предположить, что изменение видимого пути движения Венеры могло быть результатом изменения точки наблюдения, то есть под воздействием какого-то космического тела большой массы Земля, очевидно, сошла со своей прежней орбиты. Если это действительно произошло, то мы должны иметь свидетельство о том, что до катастрофы время обращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца было иным. И такие свидетельства имеются.
Многие священные книги содержат сведения о странном долголетии древних. Вот что пишет библия: «Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Всех же дней Снфовым было 912 лет. Енос жил 90 лет и родил Каина. Всего же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Дольше всех жил Мафусаил, он прожил 969 лет». Отсюда и выражение «Мафусаилов век».
Конечно, можно было бы сказать, что все это сказки и выдумки. Сделать это было бы легче всего. Но народная мудрость говорит, что дыма без огня не бывает. Сведения о долголетии, которые содержит библия, не единичны. Когда археологи вели раскопки в странах Среднего Востока, они нашли высеченные на камне или написанные клинописью на глиняных табличках тексты о деяниях халдейских царем, живших до катастрофы. Многие из таких надписей составлялись еще при жизни, а некоторые сразу же после смерти царя.
Арабы рассказывают о своем предке Шедд Ад-Бен-Ад, жившем до потопа. Он прожил несколько веков. До сих пор арабы говорят: «Стар, как Ад».
Предания о долголетии людей до катастрофы есть и в Америке. Индейцы Гватемалы ведут свое происхождение от некой Ат-тит, которая жила, если верить преданиям, четыреста лет.
В разные века ученые и историки по-разному пытались объяснить эти предания о долголетии. Так, Иосиф Флавий считал, что причиной долгом жизни была пища, которую употребляли люди до потопа.
А возможно, причина совсем и другом? Может быть, некогда годом считался иной отрезок времени? Действительно, если Земля сменила орбиту, то новый путь вокруг Солнца она должна проходить не за то время, что прежде, а продолжительность земного года не всегда была 365 суток. Об этом говорят находки в доисторическом городе Тиахунаку в Андах.
Город этот, вернее его развалины, расположен в Андах на высоте 4000 метров. Кто бывал в горах, знает, что на такой высоте человек даже дышит с трудом, а жить там почти невозможно. Зачем же бы люди стали строить свой город так высоко в горах?
Но оказывается, Тиахунаку не всегда находился на высоте 4000 метров. Следы большого порта, остатки ракушечника и морские отложения позволяют предположить, что некогда этот город находился не выше уровня моря.
В развалинах Тиахунаку среди многочисленных символических изображении найден странный календарь. Он расшифрован только недавно. Высеченные на камне головы пум обозначали ночи (пума выходит на охоту только ночью); головы кондоров — дни (кондор летает днем). Особые знаки символизировали Солнце, Луну и другие небесные тела. Но особенно важно, что, согласно календарю, найденному в Тиахунаку, год равнялся всего 290 дням! Возможно, таково было время обращения Земли вокруг Солнца до того, как наша планета была увлечена на теперешнюю орбиту.
Многие древние предания, религии и философские учения утверждали, что всемирная катастрофа, о которой мы говорили, — не первая на нашей земле. Если это так, то становится понятным и другой факт. Дело в том, что у майя, кроме обычного календаря, строго выверенного и даже оказавшегося точнее, чем тот, которым пользуемся мы, существовал еще один календарь. Это был так называемый «священный календарь», о происхождении которого до сих пор ничего не известно. Год священного календаря состоял из 260 дней. Можно предположить, что он относится к еще более раннему периоду.
Таким образом, после каждой из катастроф время движения Земли вокруг Солнца, очевидно, удлинялось. Мы вправе сделать вывод, что значительно замедлялся и период вращения Земли вокруг своей оси. Следовательно, если год был на 70–100 дней меньше нашего, а каждый день к тому же намного короче, то сведения о долгой жизни древних не так уж неправдоподобны.
Описание катастрофы сопровождается одной странной, на первый взгляд, деталью. Имеется целый ряд сообщений о том, что после катастрофы вид некоторых созвездий стал иным. В частности, изменился путь движения Венеры. В XVII веке в Китае побывал иезуитский миссионер Мартин Мартинус. Он провел там несколько лет, изучил язык и, вернувшись, написал подробный труд «История Китая». Вот как описывает он со слов китайских древних летописей, что произошло во время потопа: «…Опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу. Солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути». Об этом же, об изменившемся виде неба, писал «одни из самых умудренных римлян» — историк М.Терентиус Варро, который пользовался каким-то древним источником. «Звезда Венера, — писал он, — изменила свой цвет, размеры, форму, вид и движение, чего не было никогда ни до, пи после этого».
Древние евреи считали, что потоп «произошел потому, что господь бог изменил места двух звезд в созвездии».
В древней Мексике даже существовал праздник, посвященный тому, что созвездия после катастрофы приняли другой вид. Особенно отмечалось изменение пути движении Венеры, которая, как гласил одни из кодексов майя, «принесла гибель миру»…
Естественно предположить, что изменение видимого пути движения Венеры могло быть результатом изменения точки наблюдения, то есть под воздействием какого-то космического тела большой массы Земля, очевидно, сошла со своей прежней орбиты. Если это действительно произошло, то мы должны иметь свидетельство о том, что до катастрофы время обращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца было иным. И такие свидетельства имеются.
Многие священные книги содержат сведения о странном долголетии древних. Вот что пишет библия: «Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Всех же дней Снфовым было 912 лет. Енос жил 90 лет и родил Каина. Всего же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Дольше всех жил Мафусаил, он прожил 969 лет». Отсюда и выражение «Мафусаилов век».
Конечно, можно было бы сказать, что все это сказки и выдумки. Сделать это было бы легче всего. Но народная мудрость говорит, что дыма без огня не бывает. Сведения о долголетии, которые содержит библия, не единичны. Когда археологи вели раскопки в странах Среднего Востока, они нашли высеченные на камне или написанные клинописью на глиняных табличках тексты о деяниях халдейских царем, живших до катастрофы. Многие из таких надписей составлялись еще при жизни, а некоторые сразу же после смерти царя.
Арабы рассказывают о своем предке Шедд Ад-Бен-Ад, жившем до потопа. Он прожил несколько веков. До сих пор арабы говорят: «Стар, как Ад».
Предания о долголетии людей до катастрофы есть и в Америке. Индейцы Гватемалы ведут свое происхождение от некой Ат-тит, которая жила, если верить преданиям, четыреста лет.
В разные века ученые и историки по-разному пытались объяснить эти предания о долголетии. Так, Иосиф Флавий считал, что причиной долгом жизни была пища, которую употребляли люди до потопа.
А возможно, причина совсем и другом? Может быть, некогда годом считался иной отрезок времени? Действительно, если Земля сменила орбиту, то новый путь вокруг Солнца она должна проходить не за то время, что прежде, а продолжительность земного года не всегда была 365 суток. Об этом говорят находки в доисторическом городе Тиахунаку в Андах.
Город этот, вернее его развалины, расположен в Андах на высоте 4000 метров. Кто бывал в горах, знает, что на такой высоте человек даже дышит с трудом, а жить там почти невозможно. Зачем же бы люди стали строить свой город так высоко в горах?
Но оказывается, Тиахунаку не всегда находился на высоте 4000 метров. Следы большого порта, остатки ракушечника и морские отложения позволяют предположить, что некогда этот город находился не выше уровня моря.
В развалинах Тиахунаку среди многочисленных символических изображении найден странный календарь. Он расшифрован только недавно. Высеченные на камне головы пум обозначали ночи (пума выходит на охоту только ночью); головы кондоров — дни (кондор летает днем). Особые знаки символизировали Солнце, Луну и другие небесные тела. Но особенно важно, что, согласно календарю, найденному в Тиахунаку, год равнялся всего 290 дням! Возможно, таково было время обращения Земли вокруг Солнца до того, как наша планета была увлечена на теперешнюю орбиту.
Многие древние предания, религии и философские учения утверждали, что всемирная катастрофа, о которой мы говорили, — не первая на нашей земле. Если это так, то становится понятным и другой факт. Дело в том, что у майя, кроме обычного календаря, строго выверенного и даже оказавшегося точнее, чем тот, которым пользуемся мы, существовал еще один календарь. Это был так называемый «священный календарь», о происхождении которого до сих пор ничего не известно. Год священного календаря состоял из 260 дней. Можно предположить, что он относится к еще более раннему периоду.
Таким образом, после каждой из катастроф время движения Земли вокруг Солнца, очевидно, удлинялось. Мы вправе сделать вывод, что значительно замедлялся и период вращения Земли вокруг своей оси. Следовательно, если год был на 70–100 дней меньше нашего, а каждый день к тому же намного короче, то сведения о долгой жизни древних не так уж неправдоподобны.
ГДЕ БЫЛИ ПОЛЮСА ЗЕМЛИ
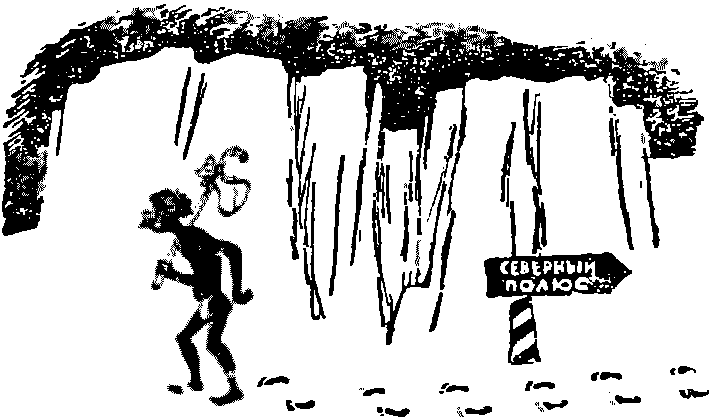 Перемещение Земли с ее прежней орбиты на теперешнюю сопровождалось и смещением ее полюсов. Причем земная ось не сразу стала проходить через ту точку, которая так хорошо знакома нам на глобусе и которая окружена белыми полями полярных снегов. Какое-то время, совершая свой, уже более замедленный путь по более отдаленной от Солнца орбите. Земля если не кувыркалась, то, во всяком случае, раскачивалась в пространстве, пока различные силы, воздействовавшие на ее движение, не уравновесились. При этом полярные районы, районы, наименее освещенные Солнцем, не всегда совпадали с нынешними. В этом, очевидно, причина многочисленных сообщений о резком похолодании, наступившем после катастрофы.
Так, «Попол Вух», священная книга индейцев киче, сообщает, что после катастрофы внезапно «настал великий холод, солнца не было видно». Мифы древней. Мексики и Венесуэлы рассказывают, что вскоре после катастрофы наступил страшный холод и море покрылось льдом.
Некоторые индейские племена помнят о дальних переходах по льдам замерзшего моря.
Такое свидетельство особенно многозначительно: ведь сейчас районы эти расположены вблизи экватора, и те, кто живет там, не видят ни льда, ни снега, и им трудно даже представить, что море, бурная и обширная гладь океана могут превратиться в ровную, твердую и холодную поверхность, простирающуюся до горизонта. А племена, живущие теперь в тропических лесах Амазонки, до сих пор хранят воспоминания об ужасно долгой зиме, последовавшей за потопом, когда люди замерзали и умирали от холода. «Зенд-Авеста», священная книга древних персов, тоже рассказывает о царе тьмы, который хотел сделать необитаемой благословенную родину древних ариев и наслал на нее холода и морозы.
У всех народов представление о мире, каким он был до потопа, связано с мифами о золотом веке, когда было так тепло, что люди не нуждались в одежде, а благодатная земля по нескольку раз в год приносила урожай. Об этом повествуют и «Зенд-Авеста», и предания американских индейцев, и китайские источники. А в древнемексиканском предании прямо говорится, что до катастрофы «Солнце было ближе к Земле, чем теперь, и его благодатное тепло делало одежду излишней».
«Веды», священные книги знаний ариев, пришедших в Индию, тоже сообщают о резком похолодании в районах, бывших прежде их родиной. Вот что узнаем мы о предках ариев: «Солнце, луна и звезды всходили над ними только один раз в году, и год казался им как один день и одна ночь». Известно, что полярная ночь и полярный день бывают только вблизи полюса. Следовательно, причиной наступления холодов могло быть внезапное изменение наклона земной оси, приближение полюса к месту первоначального обитания ариев.
Об этом же рассказывает «Ригведа», книга священных гимнов, которую арии принесли с собой в Индию. Там говорится о Большой Медведице, стоящей прямо над головой, о звездах, движущихся в небе по кругу, о Солнце, восходящем раз в году. Для живших на древней прародине ариев год равнялся одному длинному дню и длинной ночи.
Таким образом, речь идет не только о резком суровом похолодании, но и о целом ряде астрономических изменений.
Есть, кроме того, и другие доводы о том, что наклон земной оси не всегда был таким, как сейчас. Как бы могли тогда в районах, близких к теперешнему Полярному кругу, расти тропические леса? Разве на Шпицбергене или в Антарктиде можно было бы обнаружить каменный уголь или нефть?
Египетские жрецы говорили Геродоту, что полюса Земли и экватор менялись местами трижды.
Перемещение Земли с ее прежней орбиты на теперешнюю сопровождалось и смещением ее полюсов. Причем земная ось не сразу стала проходить через ту точку, которая так хорошо знакома нам на глобусе и которая окружена белыми полями полярных снегов. Какое-то время, совершая свой, уже более замедленный путь по более отдаленной от Солнца орбите. Земля если не кувыркалась, то, во всяком случае, раскачивалась в пространстве, пока различные силы, воздействовавшие на ее движение, не уравновесились. При этом полярные районы, районы, наименее освещенные Солнцем, не всегда совпадали с нынешними. В этом, очевидно, причина многочисленных сообщений о резком похолодании, наступившем после катастрофы.
Так, «Попол Вух», священная книга индейцев киче, сообщает, что после катастрофы внезапно «настал великий холод, солнца не было видно». Мифы древней. Мексики и Венесуэлы рассказывают, что вскоре после катастрофы наступил страшный холод и море покрылось льдом.
Некоторые индейские племена помнят о дальних переходах по льдам замерзшего моря.
Такое свидетельство особенно многозначительно: ведь сейчас районы эти расположены вблизи экватора, и те, кто живет там, не видят ни льда, ни снега, и им трудно даже представить, что море, бурная и обширная гладь океана могут превратиться в ровную, твердую и холодную поверхность, простирающуюся до горизонта. А племена, живущие теперь в тропических лесах Амазонки, до сих пор хранят воспоминания об ужасно долгой зиме, последовавшей за потопом, когда люди замерзали и умирали от холода. «Зенд-Авеста», священная книга древних персов, тоже рассказывает о царе тьмы, который хотел сделать необитаемой благословенную родину древних ариев и наслал на нее холода и морозы.
У всех народов представление о мире, каким он был до потопа, связано с мифами о золотом веке, когда было так тепло, что люди не нуждались в одежде, а благодатная земля по нескольку раз в год приносила урожай. Об этом повествуют и «Зенд-Авеста», и предания американских индейцев, и китайские источники. А в древнемексиканском предании прямо говорится, что до катастрофы «Солнце было ближе к Земле, чем теперь, и его благодатное тепло делало одежду излишней».
«Веды», священные книги знаний ариев, пришедших в Индию, тоже сообщают о резком похолодании в районах, бывших прежде их родиной. Вот что узнаем мы о предках ариев: «Солнце, луна и звезды всходили над ними только один раз в году, и год казался им как один день и одна ночь». Известно, что полярная ночь и полярный день бывают только вблизи полюса. Следовательно, причиной наступления холодов могло быть внезапное изменение наклона земной оси, приближение полюса к месту первоначального обитания ариев.
Об этом же рассказывает «Ригведа», книга священных гимнов, которую арии принесли с собой в Индию. Там говорится о Большой Медведице, стоящей прямо над головой, о звездах, движущихся в небе по кругу, о Солнце, восходящем раз в году. Для живших на древней прародине ариев год равнялся одному длинному дню и длинной ночи.
Таким образом, речь идет не только о резком суровом похолодании, но и о целом ряде астрономических изменений.
Есть, кроме того, и другие доводы о том, что наклон земной оси не всегда был таким, как сейчас. Как бы могли тогда в районах, близких к теперешнему Полярному кругу, расти тропические леса? Разве на Шпицбергене или в Антарктиде можно было бы обнаружить каменный уголь или нефть?
Египетские жрецы говорили Геродоту, что полюса Земли и экватор менялись местами трижды.
ГИБЕЛЬ ИЗ БЕЗДНЫ
 Большинство гипотез о причинах катастрофы, постигшей Землю, сходятся на том, что она была вызвана космической причиной. Возникновение огромной приливной волны в районе Атлантики и отступление ее от побережья Китая могло быть вызвано космическим телом, приблизившимся к Земле.
Религиозные мифы чаще всего говорят иносказаниями, скрытый смысл которых бывает понятен только посвященным в тайны эзотерических учений. Поэтому расшифровать смысл подобных сведений — дело довольно трудное, а результаты нередко бывают противоречивы. Объясняя причину катастрофы, древнеиндейские священные книги говорят, что она была вызвана «богом Хаягривой, который обитал в бездне». В халдейских мифах — это «архангел бездны», а у майя — бог бездны Хуракан.
Что же скрывается за таким символом? Многое говорит, что этим злым началом, явившимся из бездны пространства, было некое космическое тело, внезапно появившееся па нашем небе.
Среди греческих мифов есть предание о Фаэтоне. Сын Гелиоса (Солнца) Фаэтон (по-гречески «пылающий») упросил отца доверить ему на один день управление солнечной колесницей. Но сын не сумел направить коней по обычному пути и слишком приблизился к Земле, испепеляя се своим жаром. Чтобы спасти живое, Зевс поразил его молнией, и Фаэтон упал. Когда Солон был в Египте, жрецы, чьи храмовые записи, согласно Платону и другим древним авторам, уходили и прошлое на многие тысячи лет, говорили ему по поводу этого мифа: «Это звучит, как обычное предание, по в действительности описывает отклонение от своего курса небесных тел. которые вращаются вокруг Земли».
Австрийский ученый Хоербигер выдвинул гипотезу о том, что катастрофа была вызвана падением на Землю ее спутника, который вращался вокруг нее до появления Луны. Хоербигер сделал сложные и подробные математические расчеты, подтверждающие вторжение в земную атмосферу какого-то гигантского космического теля.
Согласно другой гипотезе, огромная приливная волна, землетрясения, резкое усиление вулканической деятельности вызваны Луной, попавшей в поле притяжения Земли. До этого у нашей планеты не было спутника, а Луна была блуждающим телом в пространстве Вселенной. Но разве есть какие-либо сведения о том, что до катастрофы Луны не было? Оказывается, есть.
Карибы, одно из племен бассейна реки Ориноко, утверждают, что раньше на небе Луны не было. Именно ее появление связывается с разразившейся катастрофой. Такие же предания есть и у других индейских племен. В них говорится о падении Луны на Землю, что причинило гибель множеству людей и испепелило леса. Это очень напоминает миф о Фаэтоне.
Не случайно, возможно, и майя в своих хрониках, уходящих в период до потопа, нигде не говорят о Луне. Ночное небо у них освещала не Луна, а Венера!
В Южной Африке бушмены, которые хранят в мифах память об эпохе, существовавшей до потопа, также утверждают, что до катастрофы Луны на небе не было.
На юге Греции, в центре Пелопоннеса жили аркадийцы — народ топ самой сказочной страны Аркадии, страны блаженных, где не знали ни забот, ни горестей. Такой рисовалась аркадийцам их родина до потопа, когда Луна не сияла еще на кебе. Позднее эллины так и называли аркадийцев «долунные».
О том же, что некогда на земном небе не было Луны, писал в III веке до н. э. Аполлоний Родиус, главный смотритель великой Александрийской библиотеки. Он пользовался при этом древнейшими рукописями и текстами, которые не дошли до нас.
Другое предположение состоит в том, что этим космическим телом мог быть гигантский астероид, упавший на Землю или пролетевший очень близко от нее. Возможно, этот астероид, вращающийся вокруг Солнца по удлиненному эллипсу, через определенные промежутки, измеряемые многими тысячелетиями, проходит близ Земли, производя каждый раз губительные разрушения.
Подтверждением этой гипотезы служат сообщения о периодичности катастрофы, которая всякий раз отбрасывает человечество назад.
Римский историк Цензориус писал в III веке до н. э., ссылаясь при этом на вавилонские храмовые записи, что подобная катастрофа постигает нашу Землю периодически каждые 21 600 лет.
Но гипотеза о периодичности катастрофы существовала не только в Вавилоне. Она известна и в Индии. «Пураны», священные книги, сообщают, что подобные катастрофы, сопровождаемые погружениями континентов, цикличны. Их можно предсказать подобно солнечным затмениям. «Вы помните только один потоп, а их было много до этого, — говорили Солону египетские жрецы. — Время от времени ваша цивилизация, как и других народов, уничтожается водой, которая обрушивается с неба… Человечество постигали в прошлом и еще постигнут в грядущем многочисленные катастрофы».
Такое же представление бытовало и в Америке. Майя, например, жили в постоянном ожидании повторения катастрофы. Они считали, что каждая из эпох через определенный промежуток времени заканчивалась катаклизмом.
Представления о цикличности катастрофы наложили отпечаток на библейские тексты. Это нашло выражение, в частности, в ее пророчествах о «конце света».
Мы видим, таким образом, что религия и предания разных народов говорят о периодичности, повторяемости катастроф.
Большинство гипотез о причинах катастрофы, постигшей Землю, сходятся на том, что она была вызвана космической причиной. Возникновение огромной приливной волны в районе Атлантики и отступление ее от побережья Китая могло быть вызвано космическим телом, приблизившимся к Земле.
Религиозные мифы чаще всего говорят иносказаниями, скрытый смысл которых бывает понятен только посвященным в тайны эзотерических учений. Поэтому расшифровать смысл подобных сведений — дело довольно трудное, а результаты нередко бывают противоречивы. Объясняя причину катастрофы, древнеиндейские священные книги говорят, что она была вызвана «богом Хаягривой, который обитал в бездне». В халдейских мифах — это «архангел бездны», а у майя — бог бездны Хуракан.
Что же скрывается за таким символом? Многое говорит, что этим злым началом, явившимся из бездны пространства, было некое космическое тело, внезапно появившееся па нашем небе.
Среди греческих мифов есть предание о Фаэтоне. Сын Гелиоса (Солнца) Фаэтон (по-гречески «пылающий») упросил отца доверить ему на один день управление солнечной колесницей. Но сын не сумел направить коней по обычному пути и слишком приблизился к Земле, испепеляя се своим жаром. Чтобы спасти живое, Зевс поразил его молнией, и Фаэтон упал. Когда Солон был в Египте, жрецы, чьи храмовые записи, согласно Платону и другим древним авторам, уходили и прошлое на многие тысячи лет, говорили ему по поводу этого мифа: «Это звучит, как обычное предание, по в действительности описывает отклонение от своего курса небесных тел. которые вращаются вокруг Земли».
Австрийский ученый Хоербигер выдвинул гипотезу о том, что катастрофа была вызвана падением на Землю ее спутника, который вращался вокруг нее до появления Луны. Хоербигер сделал сложные и подробные математические расчеты, подтверждающие вторжение в земную атмосферу какого-то гигантского космического теля.
Согласно другой гипотезе, огромная приливная волна, землетрясения, резкое усиление вулканической деятельности вызваны Луной, попавшей в поле притяжения Земли. До этого у нашей планеты не было спутника, а Луна была блуждающим телом в пространстве Вселенной. Но разве есть какие-либо сведения о том, что до катастрофы Луны не было? Оказывается, есть.
Карибы, одно из племен бассейна реки Ориноко, утверждают, что раньше на небе Луны не было. Именно ее появление связывается с разразившейся катастрофой. Такие же предания есть и у других индейских племен. В них говорится о падении Луны на Землю, что причинило гибель множеству людей и испепелило леса. Это очень напоминает миф о Фаэтоне.
Не случайно, возможно, и майя в своих хрониках, уходящих в период до потопа, нигде не говорят о Луне. Ночное небо у них освещала не Луна, а Венера!
В Южной Африке бушмены, которые хранят в мифах память об эпохе, существовавшей до потопа, также утверждают, что до катастрофы Луны на небе не было.
На юге Греции, в центре Пелопоннеса жили аркадийцы — народ топ самой сказочной страны Аркадии, страны блаженных, где не знали ни забот, ни горестей. Такой рисовалась аркадийцам их родина до потопа, когда Луна не сияла еще на кебе. Позднее эллины так и называли аркадийцев «долунные».
О том же, что некогда на земном небе не было Луны, писал в III веке до н. э. Аполлоний Родиус, главный смотритель великой Александрийской библиотеки. Он пользовался при этом древнейшими рукописями и текстами, которые не дошли до нас.
Другое предположение состоит в том, что этим космическим телом мог быть гигантский астероид, упавший на Землю или пролетевший очень близко от нее. Возможно, этот астероид, вращающийся вокруг Солнца по удлиненному эллипсу, через определенные промежутки, измеряемые многими тысячелетиями, проходит близ Земли, производя каждый раз губительные разрушения.
Подтверждением этой гипотезы служат сообщения о периодичности катастрофы, которая всякий раз отбрасывает человечество назад.
Римский историк Цензориус писал в III веке до н. э., ссылаясь при этом на вавилонские храмовые записи, что подобная катастрофа постигает нашу Землю периодически каждые 21 600 лет.
Но гипотеза о периодичности катастрофы существовала не только в Вавилоне. Она известна и в Индии. «Пураны», священные книги, сообщают, что подобные катастрофы, сопровождаемые погружениями континентов, цикличны. Их можно предсказать подобно солнечным затмениям. «Вы помните только один потоп, а их было много до этого, — говорили Солону египетские жрецы. — Время от времени ваша цивилизация, как и других народов, уничтожается водой, которая обрушивается с неба… Человечество постигали в прошлом и еще постигнут в грядущем многочисленные катастрофы».
Такое же представление бытовало и в Америке. Майя, например, жили в постоянном ожидании повторения катастрофы. Они считали, что каждая из эпох через определенный промежуток времени заканчивалась катаклизмом.
Представления о цикличности катастрофы наложили отпечаток на библейские тексты. Это нашло выражение, в частности, в ее пророчествах о «конце света».
Мы видим, таким образом, что религия и предания разных народов говорят о периодичности, повторяемости катастроф.
КОГДА ЖЕ БЫЛА КАТАСТРОФА?
 Ответить на этот вопрос нелегко. Прямого указания на дату этого события, которое египтяне называли «уничтожением человечества», у нас нет. Кроме того, на эти воспоминания неизбежно наслаивалась память о других катастрофах, местного характера. Такой местной катастрофой, оставившей, однако, глубокий след в преданиях народов, был, например, прорыв вод Атлантического океана в Средиземное море. Произошло это около 1500 года до и. э. Обширнейшие районы, бывшие прежде сушей, оказались под водой.
Почему Баб-эль-Мандебский пролив, что в переводе означает «Ворота слез», называется именно так? Предание гласит, что это имя дано ему в память о великом землетрясении, в результате которого произошел отрыв Азии от Африки и образовалось Красное море.
Другие местные катастрофы произошли в более близкое нам время.
В 1815 году в одной из провинций Индонезии началось неожиданное и очень сильное извержение вулкана. Из двенадцати тысяч человек, живших в провинции, осталось только двадцать шесть.
Среди безбрежного Индийского океана находился крохотный остров Мартиника.
Однажды в 1902 году жители его столицы услышали странный глухой гул. Подняв головы, они увидели легкое облачко над вершиной ближайшей горы — потухшего вулкана. Это было последнее, что они видели. Облако раскаленных газов обрушилось на столицу острова. Все тридцать тысяч жителей погибли почти мгновенно.
Во многих европейских газетах того времени печатался любопытный рассказ о единственном человеке, который спасся. По иронии судьбы это был заключенный, приговоренный к казни! Толстые стены камеры смертника спасли его.
Однако по косвенным следам, которые оставила всемирная катастрофа, мы можем все-таки с той или иной степенью уверенности назвать ее дату.
По геологическим слоям, которые можно довольно точно датировать, резкое изменение климата в Европе произошло в период между XIII и X тысячелетиями до н. э.
Удалось также установить, что появление Ниагарского водопада, возникшего в результате резких геологических сдвигов, происшедших в этом районе, также относится к XVIII–XIII тысячелетиям до н. э.
К югу от теперешней столицы Мексики находится залитое лавой плато. Анализ лавы показал, что это краткое, но чрезвычайно интенсивное извержение произошло в период между XIII и VII тысячелетиями до н. э.
Возраст находки мексиканского ученого Гарсна Пайона (две хижины, бывшие некогда на берегу моря и оказавшиеся высоко в горах) также более десяти тысяч лет.
Дата внезапной активизации вулканической деятельности в этом районе подтверждается и другими находками. В 1898 году французский корабль, занимавшийся ремонтом кабеля, проложенного по дну Атлантического океана, случайно поднял на поверхность кусок скалы вулканического происхождения.
Находкой заинтересовались ученые. Оказалось, подобная стекловидная лава, взятая со дна океана, могла образоваться только при атмосферном давлении, то есть на поверхности! Анализ лавы показал, кроме того, что в океан она погрузилась сразу же после отвердения. Произошло это также примерно 13 000 лет до н. э.
Есть гипотеза известного атлантолога X.Беллами о более точной дате катастрофы. Речь идет о странном совпадении исходных дат различных календарей.
Египетский солнечный цикл насчитывал 1460 лет. Известна дата завершения одного из этих циклов (1322 год до н. э.). Если от этого года отсчитать семь циклов по 1460 лет, это даст нам дату 11542 год до н. э.
Ассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет каждый. Конец одного из таких циклов приходился на 712 год до н. э. Оказывается, нужно отсчитать ровно шесть циклов, чтобы получить эту же дату — 11542 год до н. э. Это не может быть случайным совпадением.
Событием, которое легло в основу летосчисления этих народов, могла быть только катастрофа. Это подтверждается сопоставлением и двух других календарей — майя и древних индусов, между которыми также имеется поразительное тождество.
Исходной датой лунно-солнечного индийского календаря был 11 652 год до н. э. А календарь майя, состоявший из циклов по 2760 лет каждый, также дает нам дату 11 653 год до н. э.
Разница в один год между началом индийского календаря и майя не говорит ни о чем, так как это должно было произойти и в том случае, если бы оба календаря были начаты в один год, но в различные месяцы.
Разрыв же в 110 лет между 11 652 и 11 542 годом — это, очевидно, время между началом катастрофы и ее окончательным завершенном. Дело в том, что хаос после катастрофы прекратился не сразу. Память народов рассказывает об этом времени как об эпохе резкого похолодания, когда верхние слои атмосферы, загрязненные газами и пеплом, не пропускали солнечного света. Целые поколения людей жили и умирали, так и не увидев солнца. Когда же наконец прорвалась тяжелая пелена вечно свинцового неба и появилось Солнце, это было знаком того, что эпоха катаклизмов завершилась. Это появление Солнца после долгого периода холода и мрака послужило, по нашему мнению, также поводом к возникновению солнечных культов.
Но, если катастрофа произошла так давно, разве могла бы человеческая память, память народов, которые не имели письменности, так долго хранить все ее подробности? Например, индейцы, живущие в тропических лесах Амазонки, или бушмены и готтентоты на юге Африки из уст в уста, из поколение в поколение передавали повествование об этом тринадцать тысяч лет!
Возможно ли это?
Оказывается, да.
Два примера из истории животного мира нашей Земли говорят о том, насколько цепко хранит память поколений события самого отдаленного прошлого.
Североамериканские племена имеют много легенд о неком старинном животном. У него «только одна рука, которая выходит прямо из плеча», оно «поражало своих врагов длинным носом» и оставляло на снегу большие круглые следы. Ученые были очень удивлены, узнав в этих описаниях мамонта. Зверь этот, говорили легенды, «огромный, как движущийся холм, лишенный растительности». Индейцы рассказывали, что это животное имело длинные, выступающие вперед зубы (клыки) и «было таким большим, что, когда ложилось, уже не могло встать».
Сейчас скелеты мамонтов обнаружены и в Северной к в Южной Америке (в Эквадоре нашли даже кости мастодонта, животного третичного периода, «дедушки» нашего слона. Считалось же, что мастодонты вымерли до появления человека).
Последним мамонт в Америке исчез около десяти тысяч лет назад.
Значит, народная память по крайней мере сто веков хранила представления об этом животном с клыками-зубами и длинным носом, которым оно поражало врагов!
Другим примером того, как живуча память народа, является воспоминание о единороге. Упоминание об этом животном мы можем найти и у древних авторов, и в религиозных книгах, и в народных преданиях, а его изображение — на многих гербах.
Герб Великобритании, например, украшен единорогом. Древние охотничьи песни тунгусов рассказывают об этом огромном черном быке — единороге Он был так велик, что требовались специальные сани, чтобы везти его единственный рог.
Долгое время считали, что все сообщения об этом животном — плод народной фантазии. Когда же палеонтологи нашли все-таки скелет единорога, оказалось, что описания его не страдают преувеличением: это было существо в 5 метров 30 сантиметров высотой!
Но все ископаемые носороги внезапно вымерли сотни тысяч лет назад. Правда, некоторые ученые считают, что их сибирский родич дожил до появления человека и был им уничтожен.
Сколько же тысячелетии хранил и передавал народ эти воспоминания об огромном однорогом быке, воспоминания, доставшиеся ему еще от первобытных охотников!
Нет поэтому ничего удивительного и в том, что и от бесписьменных народов узнаем мы о таких отдаленных событиях, как всемирная катастрофа и потоп.
Итак, катастрофа произошла уже на памяти человечества. Воспоминания о ней дошли до нас и в устном и в письменном виде.
Именно эта катастрофа, а также последовавшее за ней опускание суши прекратили связь между Европой и Америкой. Если впоследствии были какие-то контакты, то, по всей вероятности, одиночные, случайные путешествия через океан. Исключение составляют более поздние колонии норманнов и кельтов в Северной Америке.
У нас имеются основания утверждать, что до катастрофы на земле существовали какие-то высокие цивилизации, отдельные представители которых пережили катаклизм. О существовании таких цивилизаций узнаем мы, в частности, из многочисленных предании о предвестниках катастрофы.
Ответить на этот вопрос нелегко. Прямого указания на дату этого события, которое египтяне называли «уничтожением человечества», у нас нет. Кроме того, на эти воспоминания неизбежно наслаивалась память о других катастрофах, местного характера. Такой местной катастрофой, оставившей, однако, глубокий след в преданиях народов, был, например, прорыв вод Атлантического океана в Средиземное море. Произошло это около 1500 года до и. э. Обширнейшие районы, бывшие прежде сушей, оказались под водой.
Почему Баб-эль-Мандебский пролив, что в переводе означает «Ворота слез», называется именно так? Предание гласит, что это имя дано ему в память о великом землетрясении, в результате которого произошел отрыв Азии от Африки и образовалось Красное море.
Другие местные катастрофы произошли в более близкое нам время.
В 1815 году в одной из провинций Индонезии началось неожиданное и очень сильное извержение вулкана. Из двенадцати тысяч человек, живших в провинции, осталось только двадцать шесть.
Среди безбрежного Индийского океана находился крохотный остров Мартиника.
Однажды в 1902 году жители его столицы услышали странный глухой гул. Подняв головы, они увидели легкое облачко над вершиной ближайшей горы — потухшего вулкана. Это было последнее, что они видели. Облако раскаленных газов обрушилось на столицу острова. Все тридцать тысяч жителей погибли почти мгновенно.
Во многих европейских газетах того времени печатался любопытный рассказ о единственном человеке, который спасся. По иронии судьбы это был заключенный, приговоренный к казни! Толстые стены камеры смертника спасли его.
Однако по косвенным следам, которые оставила всемирная катастрофа, мы можем все-таки с той или иной степенью уверенности назвать ее дату.
По геологическим слоям, которые можно довольно точно датировать, резкое изменение климата в Европе произошло в период между XIII и X тысячелетиями до н. э.
Удалось также установить, что появление Ниагарского водопада, возникшего в результате резких геологических сдвигов, происшедших в этом районе, также относится к XVIII–XIII тысячелетиям до н. э.
К югу от теперешней столицы Мексики находится залитое лавой плато. Анализ лавы показал, что это краткое, но чрезвычайно интенсивное извержение произошло в период между XIII и VII тысячелетиями до н. э.
Возраст находки мексиканского ученого Гарсна Пайона (две хижины, бывшие некогда на берегу моря и оказавшиеся высоко в горах) также более десяти тысяч лет.
Дата внезапной активизации вулканической деятельности в этом районе подтверждается и другими находками. В 1898 году французский корабль, занимавшийся ремонтом кабеля, проложенного по дну Атлантического океана, случайно поднял на поверхность кусок скалы вулканического происхождения.
Находкой заинтересовались ученые. Оказалось, подобная стекловидная лава, взятая со дна океана, могла образоваться только при атмосферном давлении, то есть на поверхности! Анализ лавы показал, кроме того, что в океан она погрузилась сразу же после отвердения. Произошло это также примерно 13 000 лет до н. э.
Есть гипотеза известного атлантолога X.Беллами о более точной дате катастрофы. Речь идет о странном совпадении исходных дат различных календарей.
Египетский солнечный цикл насчитывал 1460 лет. Известна дата завершения одного из этих циклов (1322 год до н. э.). Если от этого года отсчитать семь циклов по 1460 лет, это даст нам дату 11542 год до н. э.
Ассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет каждый. Конец одного из таких циклов приходился на 712 год до н. э. Оказывается, нужно отсчитать ровно шесть циклов, чтобы получить эту же дату — 11542 год до н. э. Это не может быть случайным совпадением.
Событием, которое легло в основу летосчисления этих народов, могла быть только катастрофа. Это подтверждается сопоставлением и двух других календарей — майя и древних индусов, между которыми также имеется поразительное тождество.
Исходной датой лунно-солнечного индийского календаря был 11 652 год до н. э. А календарь майя, состоявший из циклов по 2760 лет каждый, также дает нам дату 11 653 год до н. э.
Разница в один год между началом индийского календаря и майя не говорит ни о чем, так как это должно было произойти и в том случае, если бы оба календаря были начаты в один год, но в различные месяцы.
Разрыв же в 110 лет между 11 652 и 11 542 годом — это, очевидно, время между началом катастрофы и ее окончательным завершенном. Дело в том, что хаос после катастрофы прекратился не сразу. Память народов рассказывает об этом времени как об эпохе резкого похолодания, когда верхние слои атмосферы, загрязненные газами и пеплом, не пропускали солнечного света. Целые поколения людей жили и умирали, так и не увидев солнца. Когда же наконец прорвалась тяжелая пелена вечно свинцового неба и появилось Солнце, это было знаком того, что эпоха катаклизмов завершилась. Это появление Солнца после долгого периода холода и мрака послужило, по нашему мнению, также поводом к возникновению солнечных культов.
Но, если катастрофа произошла так давно, разве могла бы человеческая память, память народов, которые не имели письменности, так долго хранить все ее подробности? Например, индейцы, живущие в тропических лесах Амазонки, или бушмены и готтентоты на юге Африки из уст в уста, из поколение в поколение передавали повествование об этом тринадцать тысяч лет!
Возможно ли это?
Оказывается, да.
Два примера из истории животного мира нашей Земли говорят о том, насколько цепко хранит память поколений события самого отдаленного прошлого.
Североамериканские племена имеют много легенд о неком старинном животном. У него «только одна рука, которая выходит прямо из плеча», оно «поражало своих врагов длинным носом» и оставляло на снегу большие круглые следы. Ученые были очень удивлены, узнав в этих описаниях мамонта. Зверь этот, говорили легенды, «огромный, как движущийся холм, лишенный растительности». Индейцы рассказывали, что это животное имело длинные, выступающие вперед зубы (клыки) и «было таким большим, что, когда ложилось, уже не могло встать».
Сейчас скелеты мамонтов обнаружены и в Северной к в Южной Америке (в Эквадоре нашли даже кости мастодонта, животного третичного периода, «дедушки» нашего слона. Считалось же, что мастодонты вымерли до появления человека).
Последним мамонт в Америке исчез около десяти тысяч лет назад.
Значит, народная память по крайней мере сто веков хранила представления об этом животном с клыками-зубами и длинным носом, которым оно поражало врагов!
Другим примером того, как живуча память народа, является воспоминание о единороге. Упоминание об этом животном мы можем найти и у древних авторов, и в религиозных книгах, и в народных преданиях, а его изображение — на многих гербах.
Герб Великобритании, например, украшен единорогом. Древние охотничьи песни тунгусов рассказывают об этом огромном черном быке — единороге Он был так велик, что требовались специальные сани, чтобы везти его единственный рог.
Долгое время считали, что все сообщения об этом животном — плод народной фантазии. Когда же палеонтологи нашли все-таки скелет единорога, оказалось, что описания его не страдают преувеличением: это было существо в 5 метров 30 сантиметров высотой!
Но все ископаемые носороги внезапно вымерли сотни тысяч лет назад. Правда, некоторые ученые считают, что их сибирский родич дожил до появления человека и был им уничтожен.
Сколько же тысячелетии хранил и передавал народ эти воспоминания об огромном однорогом быке, воспоминания, доставшиеся ему еще от первобытных охотников!
Нет поэтому ничего удивительного и в том, что и от бесписьменных народов узнаем мы о таких отдаленных событиях, как всемирная катастрофа и потоп.
Итак, катастрофа произошла уже на памяти человечества. Воспоминания о ней дошли до нас и в устном и в письменном виде.
Именно эта катастрофа, а также последовавшее за ней опускание суши прекратили связь между Европой и Америкой. Если впоследствии были какие-то контакты, то, по всей вероятности, одиночные, случайные путешествия через океан. Исключение составляют более поздние колонии норманнов и кельтов в Северной Америке.
У нас имеются основания утверждать, что до катастрофы на земле существовали какие-то высокие цивилизации, отдельные представители которых пережили катаклизм. О существовании таких цивилизаций узнаем мы, в частности, из многочисленных предании о предвестниках катастрофы.
ПРЕДВЕСТНИКИ БЕДСТВИЯ

Мы говорили уже, что многие источники утверждают, что катастрофы цикличны и что их можно, следовательно, предсказать заранее. Очевидно, на основании предыдущего опыта или астрономических наблюдении какой-то народ, значительно опередивший в своем развитии остальные, заранее узнал о предстоящей катастрофе. Желая предупредить человечество о грозящей опасности, он разослал своих посланцев по всему миру. Эти предвестники беды сохранились в памяти народов. Летописи Бирмы говорят о человеке, «явившемся из высшей обители. Волосы его были взлохмачены, лицо печально. Одетый в черное, он ходил по улицам, всюду, где собирался народ, и скорбным голосом предупреждал людей о том, что должно произойти». В своих преданиях народы часто обожествляют мудрецов и героев. Поэтому вполне естественно, что в библии, как и в других источниках, образ такого посланца от более цивилизованного и осведомленногонарода сливается с образом самого бога. Бог предупредил Ноя о потопе и посоветовал ему сделать ковчег и взять с собой людей и животных. В вавилонском эпосе человека предупреждает о предстоящем потопе бог Эа. «Сын Убара Туту, — сказал он, — разрушь свой дом и построй вместо него корабль. Не заботься о своем имуществе, радуйся, если спасешь свою жизнь. Но возьми с собой на корабль разные живые существа». То же самое примерно говорит бог в ацтекском кодексе: «Не делай больше вина из агавы, а начни долбить ствол большого кипариса и войди в него, когда в месяце Тозонтли вода достигнет небес». Подобно христианскому богу и богу Эа, индийский бег Вишну советует человеку взять с собою в ковчег живые существа и семена растений. «В прежние времена отец племен, — рассказывают индейцы, — жил в той стороне, где встает солнце. Во сне он получи: предупреждение, что на землю обрушится потоп. Он построил плот, на котором спас себя, свою семью и всех животных». На островах Тихого океана также имеются предания о каких-то пришельцах, предупреждавших о катастрофе. Предания индейцев Мексики и теперешней Венесуэлы повествуют о бегстве люден, перед тем как вдруг наступила страшная ночь и солнце померкло. Помимо ковчегов, люди, пытаясь спастись, сооружал укрепления на высоких горах и возвышенностях. Индейцы Аризоны и Мексики рассказывают, что перед катастрофой великий человек, которого они называют Монтецума, прибыл к ним на корабле. Чтобы спастись от потопа, он воздвиг высокую башню, но бог катастрофы разрушил ее. Племена Сьерра-Невады тоже помнят о пришельцах, которые выстроили высокие каменные башни. Но начался потоп, и никто из них не успел спастись. На Гавайях до сих пор существуют пирамидальные постройки, так называемые «места спасения», где далекие предки гавайцев пытались укрыться от потопа. «Веды» рассказывают, что вождь арие Инма также был предупрежден о катастрофе и о последующем наступления холодов: «На землю падут губительные зимы, они принесут с собою сильные, лютые морозы… Принесут снег на 14 пальцев глубиною даже на высочайшие горные вершины. И все три рода животных погибнут: и те, что живут в лесах и степях, и те, что живут на высоких горах, и те, что живут в глубоких долинах. Поэтому сделай Вара о четырех углах и большой длины по каждой стороне. И туда собери всех: и овец, и коров, и птиц, и собак, и красный пылающий огонь».
ПОПЫТКИ СПАСТИ ЗНАНИЯ

Очевидно, люди, предупреждавшие об опасности, пытались спасти знания, которыми обладало человечество в то время. Когда один из правителей Вавилона, Ксисутрос, был предупрежден о предстоящей катастрофе, он повелел написать «Историю начала течения и завершения всех вещей» и зарыть эту историю в городе Солнца — Сиппаре. После потопа, во время которого сам Ксисутрос спасся на построенном им ковчеге, он приказал отыскать оставленную запись и сообщить ее содержание уцелевшим людям. Обо всем этом рассказывает вавилонский жрец и историк Бероз, живший в III веке до н. э. Возможно, вы читали некоторые романы Л.Фейхтвангера, героем которых является Иосиф Флавий. Этот действительно существовавший некогда человек был крупнейшим истериком и ученым. Он писал, что в древних рукописях и книгах (не дошедших до нас) имеется сообщение о том, что люди, заранее узнав о надвигавшейся катастрофе, соорудили две колонны и нанесли па них знания, которыми они обладали. «Одна колонна была кирпичная, другая каменная, для того чтобы, если кирпичная колонна не сможет устоять и ее размоют води потопа, каменная сохранится и сообщит людям все, что начертано на ней». Индийская мифология гласит, что бег бездны Хаягрива затем только и затеял потоп, чтобы отнять у людей их священные книги знаний — «Веды». Однако Ману, спасаясь во время потопа в чреве рыбы, предусмотрительно захватил «Веды» с собой. Известный арабский ученый Абу Балкхи (IX–X века н. э.) писал, что мудрены, «предвидя приговор неба», построили в Нижнем Египте огромные пирамиды. В этих пирамидах спи хотели спасти свои удивительные знания. Подобные же сообщения можно найти и у финикийских, и у других историков древности. Катастрофа, пронесшаяся над обширнейшими районами земного шара, истребила население огромных территорий. Немногие оставшиеся в живых сотни лет скитались в поисках места, пригодного для жилья. Секст Юлиус Африканский, одни из крупнейших ученых раннего христианства, писал, что, после того как потоп уничтожил население Греции, она была безлюдна и необитаема около трехсот лет.
РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
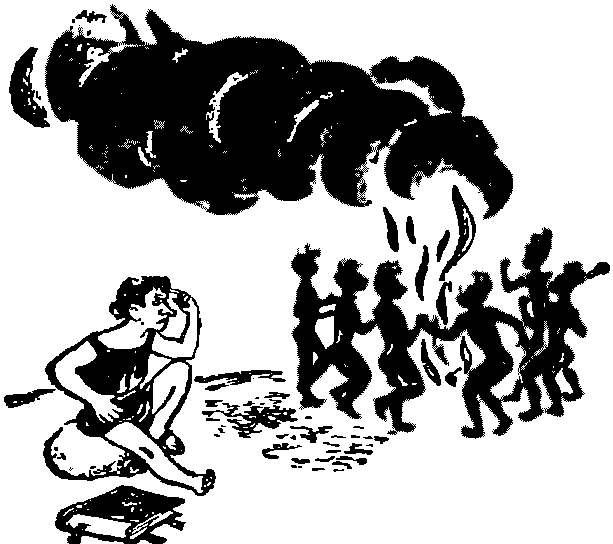 То, что о наступлении катастрофы было известно заранее, что были какие-то люди, которые стремились не только предупредить о надвигающемся бедствии, но и спасти знания, говорит о существовании некой працивилизации, уничтоженной катастрофой.
Уже сейчас имеется ряд открытий, которые заставляют предположить, что время существования разумного человека уходит в прошлое гораздо дальше, чем мы привыкли считать. Три ряда фактов говорят об этом:
1. Находки металлических изделий, относящихся к тому периоду, когда не существовало не только человека, но и его отдаленных предков.
2. Удивительные знания, которыми обладали люди до катастрофы.
3. Легенды и предания о страшном оружии, развивавшем огромную температуру. Сведения о том, что люди умели якобы летать, и находки, говорящие в пользу этого.
В Австралии в угольных пластах обнаружен железный предмет со следами разумной обработки. Он найден в третичных слоях, то есть чьи-то руки касались его не меньше чем тридцать миллионов лет назад. Металлический предмет был найден также в толще каменного угля в Шотландии.
В глыбах известняка мелового периода были обнаружены стальные гвозди.
В Перу еще в XVI веке испанцы нашли железный гвоздь длиной почти в 18 сантиметров, который был плотно зацементирован в куске каменной породы. Франциско де Толедо, испанский наместник в Перу, держал находку в своем кабинете и любил показывать ее посетителям как любопытный курьез.
В свете этих открытий не таким уж фантастическим выглядит утверждение Геродота и его современников о том, что возраст письменных источников египтян — не менее семнадцати тысяч лет. А жрецы Шумера, бывшие одновременно и историками, составили в 2300 году до н. э. список своих правителей, в котором первые правители датировались чуть ли не пятисотым тысячелетнем до нашей эры.
Диоген Лаэртийский, греческий историк, живший в III веке до н. э., пользуясь источниками, не дошедшими до нас, писал, что в его время в египетских храмах хранились записи 373 солнечных и 832 лунных затмений. Когда позднее были произведены подсчеты, оказалось, что, для того чтобы увидеть такое количество затмений, нужно было вести наблюдения не менее десяти тысяч лет.
Диоген Лаэртийский утверждал также, что египетские жрецы хранят записи, составленные за 48 863 года до Александра Македонского.
Византийский историк Синселлиус писал о неких записях, называвшихся «Древние хроники», которые велись жрецами Египта на протяжении 36 525 лет.
Таким образом, предположение о существовавшей некогда древнейшей цивилизации подкрепляется к у к вещественными находками, так и многочисленными свидетельствами древних авторов.
Однако это не вяжется с установившимися представлениями об истории человечества. Так, давность известных нам цивилизаций датируется значительно более поздним временем. В Египте, например, в 4500 году до н. э. был еще каменным век. А самое древнее поселение, обнаруженное на территории Шумера, относится только к 6000 году до н. э. Конечно, проще всего было бы заподозрить древних во лжи. Но дело, очевидно, в том, что катастрофа, пронесшаяся над обширнейшими районами земного шара, истребила население огромных территорий, которые долго оставались безлюдными и необитаемыми. Те немногие, кто спасся, сотни лет скитались в поисках места, пригодного для жизни.
«О Солон, Солон! Бы, греки, как дети, бы не знаете ничего о древних временах, — говорили Солому египетские жрецы в VI веке до н. э. — Тебе ничего не известно о седых знаниях прошлого!» Жрецы сообщили Солону, что после катастрофы уцелели только «самые примитивные и неграмотные», «пастухи и скотоводы», в то время как жители городов оказались уничтоженными.
Немногие уцелевшие представители некогда цивилизованных народов, беспомощные перед лицом враждебных стихий, утратили скоро свои познания и практические навыки и растворились среди населения, находившегося, как правиле, на значительно более низкой ступени развития.
Нам известны подобные примеры утраты опыта и знаний и из более поздних времен.
В XIV–XV веках в Северной Америке имелись довольно многочисленные поселения норманнов. Переселенцы привезли с собой на берега Америки знания гончарного искусства, умение выплавлять и обрабатывать металл. Но когда связь с родиной прервалась и они оказались ассимилированными ирокезскими племенами, находившимися на значительно более низкой ступени развития, знания эти утратились безвозвратно. Потомки переселенцев были отброшены назад, к каменному веку.
Когда через двести лет в эти места прибыли европейские завоеватели, они нашли только племена, отличавшиеся светлой кожей и знавшие значительное число скандинавских слов. Но они не имели уже ни малейшего представления об обвалившихся и заросших мхом сооружениях, которые некогда были железоплавильными печами и шахтами их дедов и прадедов.
В древнем городе Таихунако (в Андах), о котором мы уже говорили, жили люди, умевшие строить огромные каменные здания, хорошо знавшие астрономию, изучавшие движение небесных светил.
Когда сюда ворвались испанские конквистадоры, они нашли на некоторых исполинских каменных статуях литые серебряные украшения весом по полтонны.
Племена же, обитавшие в окрестностях этого города, жили в тростниковых шалашах и не знали ни выплавки металлов, ни астрономии. Основной пищей служили им корневища водорослей.
Или другой пример. Общеизвестно, что маня не знали колеса. Но это не совсем точно. При раскопках в этих местах найдена игрушечная телега из обожженной глины на четырех колесах. Но эта детская игрушка — лишь воспоминание о том времени, когда здесь были известны и колесо и повозка.
Следовательно, вполне возможно, что путь развития человечества не всегда был прямым движением только вперед. Очевидно, на каком-то этапе произошла утрата многих цепных знаний и человечеству снова пришлось проделать путь, некогда совершенный наиболее развитыми народами.
Но так было не везде. В некоторых местах часть знаний все-таки удалось спасти. Среди общей дикости и варварства их хранителями стала ограниченная, замкнутая группа людей, очевидно потомки представителей погибших цивилизаций. На Британских островах это были жрецы-друиды, впоследствии поголовно уничтоженные Юлием Цезарем. В Египте одной из таких замкнутых каст были, видимо, те, кого мы условно называем жрецами. Позднее, когда здесь возникло государство, они действительно составили в нем жреческое сословие.
Но некогда рациональные знания, оказавшись в полном отрыве от общественной практики и конкретных условий, в которых они возникли, стали приобретать характер тайной магии. В то же ьремя своды этих знаний и древних воспоминаний легли, возможно, в основу религиозных текстов.
Много тысячелетий, из поколения в поколение, избранные передавали знания древних, хранимые в глубоких тайниках. В одном из святилищ египетские жрецы показывали Геродоту статуи верховных жрецов, последовательно сменявших друг друга. Во времена Геродота таких статуй было 341. Первое же государство на территории Египта возникло, как нам известно, только в 3200 году до н. э. Значит, жреческая община, каста наследственных хранителей священных знаний прошлого, существовала в Египте задолго до появления на этой территории первого государства.
То, что о наступлении катастрофы было известно заранее, что были какие-то люди, которые стремились не только предупредить о надвигающемся бедствии, но и спасти знания, говорит о существовании некой працивилизации, уничтоженной катастрофой.
Уже сейчас имеется ряд открытий, которые заставляют предположить, что время существования разумного человека уходит в прошлое гораздо дальше, чем мы привыкли считать. Три ряда фактов говорят об этом:
1. Находки металлических изделий, относящихся к тому периоду, когда не существовало не только человека, но и его отдаленных предков.
2. Удивительные знания, которыми обладали люди до катастрофы.
3. Легенды и предания о страшном оружии, развивавшем огромную температуру. Сведения о том, что люди умели якобы летать, и находки, говорящие в пользу этого.
В Австралии в угольных пластах обнаружен железный предмет со следами разумной обработки. Он найден в третичных слоях, то есть чьи-то руки касались его не меньше чем тридцать миллионов лет назад. Металлический предмет был найден также в толще каменного угля в Шотландии.
В глыбах известняка мелового периода были обнаружены стальные гвозди.
В Перу еще в XVI веке испанцы нашли железный гвоздь длиной почти в 18 сантиметров, который был плотно зацементирован в куске каменной породы. Франциско де Толедо, испанский наместник в Перу, держал находку в своем кабинете и любил показывать ее посетителям как любопытный курьез.
В свете этих открытий не таким уж фантастическим выглядит утверждение Геродота и его современников о том, что возраст письменных источников египтян — не менее семнадцати тысяч лет. А жрецы Шумера, бывшие одновременно и историками, составили в 2300 году до н. э. список своих правителей, в котором первые правители датировались чуть ли не пятисотым тысячелетнем до нашей эры.
Диоген Лаэртийский, греческий историк, живший в III веке до н. э., пользуясь источниками, не дошедшими до нас, писал, что в его время в египетских храмах хранились записи 373 солнечных и 832 лунных затмений. Когда позднее были произведены подсчеты, оказалось, что, для того чтобы увидеть такое количество затмений, нужно было вести наблюдения не менее десяти тысяч лет.
Диоген Лаэртийский утверждал также, что египетские жрецы хранят записи, составленные за 48 863 года до Александра Македонского.
Византийский историк Синселлиус писал о неких записях, называвшихся «Древние хроники», которые велись жрецами Египта на протяжении 36 525 лет.
Таким образом, предположение о существовавшей некогда древнейшей цивилизации подкрепляется к у к вещественными находками, так и многочисленными свидетельствами древних авторов.
Однако это не вяжется с установившимися представлениями об истории человечества. Так, давность известных нам цивилизаций датируется значительно более поздним временем. В Египте, например, в 4500 году до н. э. был еще каменным век. А самое древнее поселение, обнаруженное на территории Шумера, относится только к 6000 году до н. э. Конечно, проще всего было бы заподозрить древних во лжи. Но дело, очевидно, в том, что катастрофа, пронесшаяся над обширнейшими районами земного шара, истребила население огромных территорий, которые долго оставались безлюдными и необитаемыми. Те немногие, кто спасся, сотни лет скитались в поисках места, пригодного для жизни.
«О Солон, Солон! Бы, греки, как дети, бы не знаете ничего о древних временах, — говорили Солому египетские жрецы в VI веке до н. э. — Тебе ничего не известно о седых знаниях прошлого!» Жрецы сообщили Солону, что после катастрофы уцелели только «самые примитивные и неграмотные», «пастухи и скотоводы», в то время как жители городов оказались уничтоженными.
Немногие уцелевшие представители некогда цивилизованных народов, беспомощные перед лицом враждебных стихий, утратили скоро свои познания и практические навыки и растворились среди населения, находившегося, как правиле, на значительно более низкой ступени развития.
Нам известны подобные примеры утраты опыта и знаний и из более поздних времен.
В XIV–XV веках в Северной Америке имелись довольно многочисленные поселения норманнов. Переселенцы привезли с собой на берега Америки знания гончарного искусства, умение выплавлять и обрабатывать металл. Но когда связь с родиной прервалась и они оказались ассимилированными ирокезскими племенами, находившимися на значительно более низкой ступени развития, знания эти утратились безвозвратно. Потомки переселенцев были отброшены назад, к каменному веку.
Когда через двести лет в эти места прибыли европейские завоеватели, они нашли только племена, отличавшиеся светлой кожей и знавшие значительное число скандинавских слов. Но они не имели уже ни малейшего представления об обвалившихся и заросших мхом сооружениях, которые некогда были железоплавильными печами и шахтами их дедов и прадедов.
В древнем городе Таихунако (в Андах), о котором мы уже говорили, жили люди, умевшие строить огромные каменные здания, хорошо знавшие астрономию, изучавшие движение небесных светил.
Когда сюда ворвались испанские конквистадоры, они нашли на некоторых исполинских каменных статуях литые серебряные украшения весом по полтонны.
Племена же, обитавшие в окрестностях этого города, жили в тростниковых шалашах и не знали ни выплавки металлов, ни астрономии. Основной пищей служили им корневища водорослей.
Или другой пример. Общеизвестно, что маня не знали колеса. Но это не совсем точно. При раскопках в этих местах найдена игрушечная телега из обожженной глины на четырех колесах. Но эта детская игрушка — лишь воспоминание о том времени, когда здесь были известны и колесо и повозка.
Следовательно, вполне возможно, что путь развития человечества не всегда был прямым движением только вперед. Очевидно, на каком-то этапе произошла утрата многих цепных знаний и человечеству снова пришлось проделать путь, некогда совершенный наиболее развитыми народами.
Но так было не везде. В некоторых местах часть знаний все-таки удалось спасти. Среди общей дикости и варварства их хранителями стала ограниченная, замкнутая группа людей, очевидно потомки представителей погибших цивилизаций. На Британских островах это были жрецы-друиды, впоследствии поголовно уничтоженные Юлием Цезарем. В Египте одной из таких замкнутых каст были, видимо, те, кого мы условно называем жрецами. Позднее, когда здесь возникло государство, они действительно составили в нем жреческое сословие.
Но некогда рациональные знания, оказавшись в полном отрыве от общественной практики и конкретных условий, в которых они возникли, стали приобретать характер тайной магии. В то же ьремя своды этих знаний и древних воспоминаний легли, возможно, в основу религиозных текстов.
Много тысячелетий, из поколения в поколение, избранные передавали знания древних, хранимые в глубоких тайниках. В одном из святилищ египетские жрецы показывали Геродоту статуи верховных жрецов, последовательно сменявших друг друга. Во времена Геродота таких статуй было 341. Первое же государство на территории Египта возникло, как нам известно, только в 3200 году до н. э. Значит, жреческая община, каста наследственных хранителей священных знаний прошлого, существовала в Египте задолго до появления на этой территории первого государства.
РАСА ГИГАНТОВ
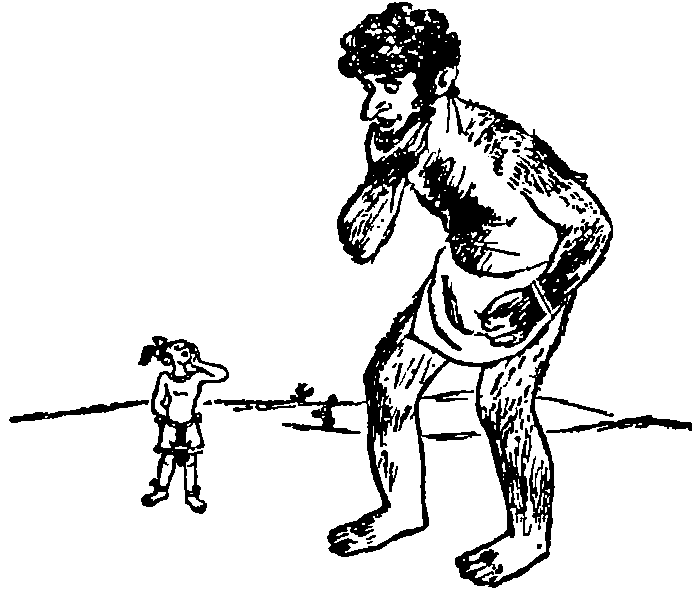 Глиняные таблички древнего Вавилона утверждают, что жрецы Вавилона получили свои знания, особенно в области астрономии и строения Вселенной, от неких гигантских людей, спасшихся от катастрофы. Это не единственное упоминание о гигантах как о расе, существовавшей до катастрофы и обладавшей обширными познаниями.
Многих богов, принесших знания людям, предания изображают как гигантов. Таков бог Сетх и его сыновья (Египет), Шедд Ад-Бен-Ад (арабские источники), греческий титан Прометей, даровавший людям огонь, и другие.
Изображения гигантов и предания о них мы находим и в древней Камбодже, и в Скандинавии, и у индейцев обеих Америк. Сведения о них содержат и коран, и талмуд, и библия. «В то время были на земле исполины, — читаем мы в библии, — особенно же с того времени, как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им».
Но все предания о гигантах сходятся на одном: о них говорится как о существах, живших до катастрофы и погибших во время ее. Коран сообщает, что, когда Ной стал строить свой ковчег, гиганты, которые были «выше самых высоких пальм», смеялись над ним: «Потоп ее не причинит вреда нам. Мы слишком высокие. Ступни наши такие большие, что мы можем преграждать ими реки…» Но потоп уничтожил их.
Вавилонские священные тексты также говорят, что гиганты погибли во время потопа. Все, кроме одного: «Ной спас Ога, гиганта, разрешив ему поместиться за решетчатой дверью ковчега. Сквозь эту решетку Ной каждый день подавал ему пищу».
То, что в самую отдаленную эпоху жили гигантские люди, давно уже не предположение, не гипотеза. Этот факт считается теперь установленным в науке. В 1944 году немецкий антрополог Вейденрейх случайно купил у торговца редкостями в одной из антикварных лавок Гонконга несколько зубов бесспорно человеческой формы. Каждый из них был в шесть раз больше зуба современного человека. Вскоре были обнаружены челюсть гиганта и другие части скелета. В настоящее время известны два вида гигантского человека — гигантопитек и мегантроп. Части скелета его были найдены в Южном Китае, на Яве и в Восточной Африке.
По подсчетам советского ученого В.П.Якимова, примерный вес гигантопитека был полтонны!
Точное время существования гигаптопитека пока не установлено. Считают, однако, что жил он одновременно с предком теперешнего человека.
Есть много сообщении о действительных или мнимых находках скелетов гигантских людей. Геродот вспоминает о неком кузнеце из Тегеи, который однажды рыл колодец и наткнулся на скелет большого человека. Любопытный кузнец измерил его, скелет оказался длиной в 2,3 метра. О таких находках повествуют и многие ранние христианские авторы. Так, Августин, прозванный Блаженным, утверждает, что в Африке ему показывали огромный человеческий зуб, из которого, по его мнению, можно было бы сделать сто обыкновенных. Другой автор, Арнобин, рассказывает о находках громадных человеческих костей.
В 1577 году в одной из пещер Швейцарии был обнаружен скелет в 4,5 метра. Находку перевезли в университет города Люцерны. Известный в то время врач из города Базель, Феликс Платер, восстановил недостающие части, и скелет был водружен в городском музее.
Подобные находки в различное время происходили и позднее.
В 1790 году во время взрывных работ в районе Гибралтара были найдены останки человека в 2,5 метра. Во время весенней пахоты, в апреле 1818 года, крестьяне одной бразильской деревни нашли в земле странный скелет длиной в 45 ладоней. Что это был за скелет, точно не известно. Крестьяне сочли его останками гигантского человека и, отслужив службу за упокой гиганта, вновь предали его земле.
Скелеты людей почти трехметрового роста были найдены также в пещерах Эквадора (1928) и Мексики (1938).
Пока эти факты не были доказаны научно, скептики или вовсе отрицали находки костей гигантов, или говорили, что это скелеты людей, страдавших болезненным развитием роста. Такие случаи хороню известны медицине. Великаны издавна привлекали внимание любопытных, без них не обходилась обычно ни одна ярмарка, ни одно цирковое представление. О приезде великанов расклеивались объявления, писалось б газетах. «Предупреждаем джентльменов, леди и других, — читаем мы в одной старой английской газете, — что в этот город прибыла одна молодая великанша изумительного роста из графства Серрей. Хотя ей нет еще и двадцати лет, однако она превосходит ростом всех великанов, демонстрировавшихся когда-либо публично. Она очень хорошо сложена, имела честь показываться многим знатным лицам, возбуждая общее удивление. Плата для джентльменов и леди будет предоставлена их личному усмотрению, когда они увидят ее».
Однако подобные «великаны» и «великанши» никакого отношения к расе гигантов не имеют. Болезнь внутренних органов, вызывающая обычно ненормальное развитие роста, не передается по наследству. То, что эти аномалии и останки гигантских людей явления совершенно разные, явствует из сообщений о массовых захоронениях гигантов.
Вполне возможно, что последние представители этой вымершей расы существовали в самый близкий нам исторический период. Глиняные таблички, найденные в Вавилоне, рассказывают об одном из гигантов, который спасся якобы от потопа на ковчеге Ноя. Упоминание об отдельных группах гигантов, или «исполинов», уцелевших после катастрофы, находим мы и в библейских источниках. Когда Моисей привел свой народ к земле Ханаанской, он выслал вперед двадцать человек соглядатаев, чтобы узнать, кто живет на той земле и пригодна ли она для поселения. Вернувшись, соглядатаи рассказали: «Там видели мы и исполинов, сынов Знаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними как саранча, такими же были мы и в глазах их».
Иосиф Флавий утверждает, что потомки уцелевших гигантов существовали еще во времена Джошуа (около 1300 года до н. э.). «Их тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно».
После завоевания государства инков испанцами некоторые представители местной аристократии и жречества стали записывать сохранившиеся устно сведения из истории своего народа (письменность, существовавшая некогда у инков, была запрещена по совету оракула под страхом смертной казни). Из таких рукописей, составленных на испанском языке, мы узнаем, что во время правления XII инки, которого звали Аятарко Кусо, со стороны моря на больших камышовых плотах в страну неизвестно откуда прибыли гигантские люди. Дон Гиеза де Леон, испанский наместник в Перу, в 1545 году записал эту же историю со слов индейцев: «Эти гиганты, прибывшие с моря, были такого огромного роста, что даже самый высокий человек, стоя с ними рядом, доставал им только до колена. Странно было видеть их волосы, ниспадавшие с головы на плечи. Но они били без бороды. Каждый из них съедал больше, чем пятьдесят обычных людей. Некоторые носили шкуры зверей, другие были голые. Ни одной женщины не было с ними. Продвигаясь от побережья, они опустошали страну…» Дону Гиеза де Леону показывали даже колодец, сооруженный, по преданию, этими гигантами.
Первые испанские завоеватели, прибывшие вместе с Кортесом на территорию теперешней Мексики, были так поражены находкой костей гигантского человека в одном из храмов майя, что со специальным посыльным отправили их через океан римскому папе. Для папы римского эго открытие было особенно интересно: в тогдашней как церковной, так и светской науке было широко распространено мнение, что первый человек Адам был гигантского роста. Даже позднее, в XVIII веке, еще продолжали считать, что Адам был ростом в 40 метров, Ева, как и полагается быть женщине, была несколько ниже — 30 метров. Это мнение разделял даже известный ученый Карл Линней.
Спутники Кортеса рассказывают и о другом странном факте: «Люди, посланные Кортесом в горы, на юг, обнаружили там область, где обитают гиганты. В доказательство этого открытия они принесли с собой несколько ребер, вынутых из тел убитых гигантов». Сообщению этому можно верить, можно не верить. Подтверждений ему найдено не было.
Если предположить, что где-то на земле еще уцелели последние представители вымершей расы гигантов, то было бы неудивительно, если бы они держались подальше от людей. Время от времени в прессе появляются сообщения из северо-западных районов Канады о том, что то одному, то другому охотнику попадались какие-то гигантские люди, которые туг же спешили скрыться. Индейцы Британской Колумбии также рассказывают, что в зарослях лесов, в труднодоступных, неисследованных районах обитают племена волосатых гигантов. На языке индейцев имеется даже слово, которым они обозначают этих гигантских людей. Рост их якобы 2,5 метра, они ведут примитивный образ жизни, очень робки и при приближении человека стараются скрыться.
Возможно, сообщения подтвердятся в дальнейшем, а может быть, и нет. Но то, что в данную минуту мы не располагаем ни одним «живым экспонатом» такого гиганта, не может еще служить отрицанием его существования. Окончательно на этот вопрос можно ответить только тогда, когда будут достаточно изучены все районы земного шара. Особенно относится это к горам, джунглям и плоскогорьям Южной Америки, где еще много белых пятен и много неожиданных открытий ожидает путешественника и исследователя.
Глиняные таблички древнего Вавилона утверждают, что жрецы Вавилона получили свои знания, особенно в области астрономии и строения Вселенной, от неких гигантских людей, спасшихся от катастрофы. Это не единственное упоминание о гигантах как о расе, существовавшей до катастрофы и обладавшей обширными познаниями.
Многих богов, принесших знания людям, предания изображают как гигантов. Таков бог Сетх и его сыновья (Египет), Шедд Ад-Бен-Ад (арабские источники), греческий титан Прометей, даровавший людям огонь, и другие.
Изображения гигантов и предания о них мы находим и в древней Камбодже, и в Скандинавии, и у индейцев обеих Америк. Сведения о них содержат и коран, и талмуд, и библия. «В то время были на земле исполины, — читаем мы в библии, — особенно же с того времени, как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им».
Но все предания о гигантах сходятся на одном: о них говорится как о существах, живших до катастрофы и погибших во время ее. Коран сообщает, что, когда Ной стал строить свой ковчег, гиганты, которые были «выше самых высоких пальм», смеялись над ним: «Потоп ее не причинит вреда нам. Мы слишком высокие. Ступни наши такие большие, что мы можем преграждать ими реки…» Но потоп уничтожил их.
Вавилонские священные тексты также говорят, что гиганты погибли во время потопа. Все, кроме одного: «Ной спас Ога, гиганта, разрешив ему поместиться за решетчатой дверью ковчега. Сквозь эту решетку Ной каждый день подавал ему пищу».
То, что в самую отдаленную эпоху жили гигантские люди, давно уже не предположение, не гипотеза. Этот факт считается теперь установленным в науке. В 1944 году немецкий антрополог Вейденрейх случайно купил у торговца редкостями в одной из антикварных лавок Гонконга несколько зубов бесспорно человеческой формы. Каждый из них был в шесть раз больше зуба современного человека. Вскоре были обнаружены челюсть гиганта и другие части скелета. В настоящее время известны два вида гигантского человека — гигантопитек и мегантроп. Части скелета его были найдены в Южном Китае, на Яве и в Восточной Африке.
По подсчетам советского ученого В.П.Якимова, примерный вес гигантопитека был полтонны!
Точное время существования гигаптопитека пока не установлено. Считают, однако, что жил он одновременно с предком теперешнего человека.
Есть много сообщении о действительных или мнимых находках скелетов гигантских людей. Геродот вспоминает о неком кузнеце из Тегеи, который однажды рыл колодец и наткнулся на скелет большого человека. Любопытный кузнец измерил его, скелет оказался длиной в 2,3 метра. О таких находках повествуют и многие ранние христианские авторы. Так, Августин, прозванный Блаженным, утверждает, что в Африке ему показывали огромный человеческий зуб, из которого, по его мнению, можно было бы сделать сто обыкновенных. Другой автор, Арнобин, рассказывает о находках громадных человеческих костей.
В 1577 году в одной из пещер Швейцарии был обнаружен скелет в 4,5 метра. Находку перевезли в университет города Люцерны. Известный в то время врач из города Базель, Феликс Платер, восстановил недостающие части, и скелет был водружен в городском музее.
Подобные находки в различное время происходили и позднее.
В 1790 году во время взрывных работ в районе Гибралтара были найдены останки человека в 2,5 метра. Во время весенней пахоты, в апреле 1818 года, крестьяне одной бразильской деревни нашли в земле странный скелет длиной в 45 ладоней. Что это был за скелет, точно не известно. Крестьяне сочли его останками гигантского человека и, отслужив службу за упокой гиганта, вновь предали его земле.
Скелеты людей почти трехметрового роста были найдены также в пещерах Эквадора (1928) и Мексики (1938).
Пока эти факты не были доказаны научно, скептики или вовсе отрицали находки костей гигантов, или говорили, что это скелеты людей, страдавших болезненным развитием роста. Такие случаи хороню известны медицине. Великаны издавна привлекали внимание любопытных, без них не обходилась обычно ни одна ярмарка, ни одно цирковое представление. О приезде великанов расклеивались объявления, писалось б газетах. «Предупреждаем джентльменов, леди и других, — читаем мы в одной старой английской газете, — что в этот город прибыла одна молодая великанша изумительного роста из графства Серрей. Хотя ей нет еще и двадцати лет, однако она превосходит ростом всех великанов, демонстрировавшихся когда-либо публично. Она очень хорошо сложена, имела честь показываться многим знатным лицам, возбуждая общее удивление. Плата для джентльменов и леди будет предоставлена их личному усмотрению, когда они увидят ее».
Однако подобные «великаны» и «великанши» никакого отношения к расе гигантов не имеют. Болезнь внутренних органов, вызывающая обычно ненормальное развитие роста, не передается по наследству. То, что эти аномалии и останки гигантских людей явления совершенно разные, явствует из сообщений о массовых захоронениях гигантов.
Вполне возможно, что последние представители этой вымершей расы существовали в самый близкий нам исторический период. Глиняные таблички, найденные в Вавилоне, рассказывают об одном из гигантов, который спасся якобы от потопа на ковчеге Ноя. Упоминание об отдельных группах гигантов, или «исполинов», уцелевших после катастрофы, находим мы и в библейских источниках. Когда Моисей привел свой народ к земле Ханаанской, он выслал вперед двадцать человек соглядатаев, чтобы узнать, кто живет на той земле и пригодна ли она для поселения. Вернувшись, соглядатаи рассказали: «Там видели мы и исполинов, сынов Знаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними как саранча, такими же были мы и в глазах их».
Иосиф Флавий утверждает, что потомки уцелевших гигантов существовали еще во времена Джошуа (около 1300 года до н. э.). «Их тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно».
После завоевания государства инков испанцами некоторые представители местной аристократии и жречества стали записывать сохранившиеся устно сведения из истории своего народа (письменность, существовавшая некогда у инков, была запрещена по совету оракула под страхом смертной казни). Из таких рукописей, составленных на испанском языке, мы узнаем, что во время правления XII инки, которого звали Аятарко Кусо, со стороны моря на больших камышовых плотах в страну неизвестно откуда прибыли гигантские люди. Дон Гиеза де Леон, испанский наместник в Перу, в 1545 году записал эту же историю со слов индейцев: «Эти гиганты, прибывшие с моря, были такого огромного роста, что даже самый высокий человек, стоя с ними рядом, доставал им только до колена. Странно было видеть их волосы, ниспадавшие с головы на плечи. Но они били без бороды. Каждый из них съедал больше, чем пятьдесят обычных людей. Некоторые носили шкуры зверей, другие были голые. Ни одной женщины не было с ними. Продвигаясь от побережья, они опустошали страну…» Дону Гиеза де Леону показывали даже колодец, сооруженный, по преданию, этими гигантами.
Первые испанские завоеватели, прибывшие вместе с Кортесом на территорию теперешней Мексики, были так поражены находкой костей гигантского человека в одном из храмов майя, что со специальным посыльным отправили их через океан римскому папе. Для папы римского эго открытие было особенно интересно: в тогдашней как церковной, так и светской науке было широко распространено мнение, что первый человек Адам был гигантского роста. Даже позднее, в XVIII веке, еще продолжали считать, что Адам был ростом в 40 метров, Ева, как и полагается быть женщине, была несколько ниже — 30 метров. Это мнение разделял даже известный ученый Карл Линней.
Спутники Кортеса рассказывают и о другом странном факте: «Люди, посланные Кортесом в горы, на юг, обнаружили там область, где обитают гиганты. В доказательство этого открытия они принесли с собой несколько ребер, вынутых из тел убитых гигантов». Сообщению этому можно верить, можно не верить. Подтверждений ему найдено не было.
Если предположить, что где-то на земле еще уцелели последние представители вымершей расы гигантов, то было бы неудивительно, если бы они держались подальше от людей. Время от времени в прессе появляются сообщения из северо-западных районов Канады о том, что то одному, то другому охотнику попадались какие-то гигантские люди, которые туг же спешили скрыться. Индейцы Британской Колумбии также рассказывают, что в зарослях лесов, в труднодоступных, неисследованных районах обитают племена волосатых гигантов. На языке индейцев имеется даже слово, которым они обозначают этих гигантских людей. Рост их якобы 2,5 метра, они ведут примитивный образ жизни, очень робки и при приближении человека стараются скрыться.
Возможно, сообщения подтвердятся в дальнейшем, а может быть, и нет. Но то, что в данную минуту мы не располагаем ни одним «живым экспонатом» такого гиганта, не может еще служить отрицанием его существования. Окончательно на этот вопрос можно ответить только тогда, когда будут достаточно изучены все районы земного шара. Особенно относится это к горам, джунглям и плоскогорьям Южной Америки, где еще много белых пятен и много неожиданных открытий ожидает путешественника и исследователя.
ПРОСВЕТИТЕЛИ
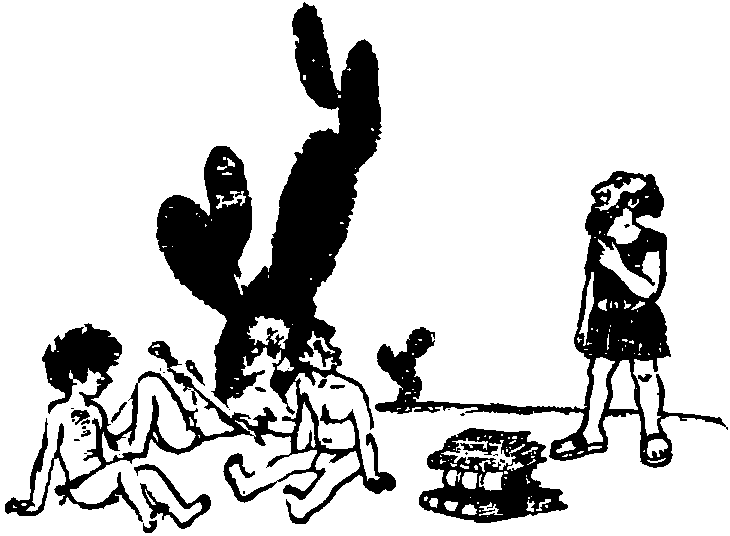 Мы говорили уже об удивительных аналогиях религиозных мифов разных народов. Дело, очевидно, не только в существовавших некогда контактах. Мы можем говорить н о некоем общем первоисточнике. Именно к одному такому источнику восходили, возможно, уцелевшие знания таких групп посвященных.
Вот, например, какие космологические представления содержат различные древние тексты о самом древнем состоянии нашей планеты.
Китайские источники утверждают, что некогда вся Земля была покрыта водой.
«Ригведа» (Индия) говорит, что мир произошел из воды, «из великой воды, которая заполняла Вселенную».
Во всех египетских текстах речь идет о Первичном Океане, который покрывал мир и из которого впоследствии произошла жизнь.
А вот что написано в священней книге народов Америки «Попол Вух»: «Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов: существовало только небо. Поверхность Земли тогда еще не появилась. Было только холодное море и великое пространство небес».
По мере того как человеческие массы медленно, мучительно медленно эволюционировали, какие-то из групп посвященных пытались, возможно, оказать влияние на этот процесс, ускорить его. Может быть, именно в этом разгадка странных черт бронзового века в Европе.
Как известно, бронза представляет собой сплав меди и олова, подобно тому как омлет состоит из молока и яиц. Само собой разумеется, молоко и яйца должны предшествовать омлету. Точно так же применение меди и олова раздельно должно было бы предшествовать появлению их сплава. Тысячелетия люди должны были бы пользоваться изделиями из меди, прежде чем открыть, что добавление одной десятой олова дает сплав удивительной прочности.
Однако в Европе медного века фактически не было, изделия из меди чрезвычайно редки. Например, в Дублинском историческом музее находится 1283 предмета бронзового века и только 30 рубил и один меч из меди. Изделия из бронзы появляются в Европе внезапно и распространяются повсеместно!
Необъяснимо и то, что даже самые первые изделия из бронзы представляют собой примеры высокого мастерства, то есть не видно, чтобы люди овладевали этим искусством постепенно. Оно появляется сразу на высоком уровне, без каких бы то ни было предварительных этапов.
Как сообщает крупнейший исследователь культуры народов Америки Поль Риве, нечто подобнее наблюдается и на территории Мексики. Производство бронзы появилось там сразу, в развитой форме, со множеством сложных технических приемов. Этапов предшествующего развития также не установлено.
Можно ли понимать это как указание на то, что люди не учились сами искусству выплавки и обработки бронзы, а получили его готовым? Есть и другие факты, подтверждающие это предположение.
Один из них — поразительное сходство различных предметов и оружия из бронзы, обнаруженных археологами на территории всей Европы. Изделия являются до такой степени копией друг друга, что, по мнению некоторых исследователей, можно подумать, что все они вышли из одной мастерской.
Непонятно и распространение этих изделий. Их находят в самых различных концах Европы, в районах, где нет ни меди, ни олова для их изготовления. Какой народ-мореплаватель задолго до финикийцев мог сделать это? Некоторые ученые считают, что между различными частями Европы было больше контактов и связей, чем позднее, даже во времена образования Римской империи.
Доказательством того, что искусство выплавки бронзы было принесено извне, а не возникло в результате повседневной практики и случайных открытий, служит и то, что две наиболее развитые цивилизации — египетская и месопотамская, явившиеся пионерами применения бронзы, — сами были лишены необходимого сырья. Отсюда снаряжались экспедиции в самые отдаленные земли: за оловом ехали в Индию, на Кавказ или на Пиренейский полуостров. Это были ближайшие месторождения олова. А еще дальше, к северу, лежали богатые оловом Британские острова, которые финикийцы так и называли «Оловянные острова».
Возможно, сведения о бронзе были частью уцелевших знаний, которые долгое время являлись монополией замкнутых групп посвященных. Не случайно в Европе и на других территориях производство и обработка металлов считались областью тайных знаний — магией. Не случайно и то, что в старославянских представлениях кузнец выступает обычно в качестве колдуна.
Каким же образом передавали людям свои знания эти уцелевшие представители прежней цивилизации? В преданиях всех народов мы находим много упоминаний о неких просветителях — полубогах и богах.
Прежде всего, конечно, приходит на ум Прометей, научивший людей пользоваться огнем. Но Прометей был не одинок. Китайские анналы рассказывают, что однажды из неизвестных земель прибыл некий Тай Ко-фокее, великий человек, который научил предков китайцев различным ремеслам, показал им, как наблюдать движение небесных тел и делить время года на месяцы, обучил людей письменности. Другой просветитель, Фух-Хи, основал в 2852 году до н. э. империю на территории Китая. Он же научил людей скотоводству, изготовлению оружия, повозок, кораблей, ввел меры веса и деньги.
В Южной Америке первый инка Манко Капак, прибывший из-за моря, также основал империю и научил окрестные племена земледелию и ремеслам. Бог Бочича научил люден календарю. Саме (Южная Америка), он же Заме (Юкатан), прибыл с востока, из-за океана. Он научил людей заниматься сельским хозяйством и скотоводством, делать мосты и рубить деревья, ввел письменность.
Но над всеми этими фигурами просветителей возвышается Кедзелькоатл, светлокожий пришелец с Востока, принесший племенам различные полезные знания: обучил индейцев металлургии и сельскому хозяйству.
Сообщения о подобных героях-просветителях, принесших людям знание металлургии, сельского хозяйства, ткацкого дела и т. д., находим мы и у народов Южной и Передней Азии. Вавилонский жрец историк Бероз, наделяя фантастическими чертами некоего человека, по имени Оаннес, пишет, что тот периодически являлся к людям и сообщал им много полезных сведений. Он «научил людей, — по словам Бероза, — понимать письменность и обучил их различным искусствам. Он научил их строить города и сооружать храмы, составлять законы и объяснил им законы геометрических знаний».
Эти примеры можно было бы продолжить. Можно было бы назвать, в частности, египетского бога Тотха, давшего людям письменность, и других. Одно важное обстоятельство объединяет этих героев-просветителей: все они, согласно преданиям, являются чужестранцами, пришельцами издалека.
То, что все эти реально существовавшие люди были возведены в ранг божеств, не должно удивлять нас. Известно много фактов подобного обожествления героев. Мореплаватель Кадм, например, привезший в Грецию письменность, был официально признан полубогом.
Мы говорили уже об удивительных аналогиях религиозных мифов разных народов. Дело, очевидно, не только в существовавших некогда контактах. Мы можем говорить н о некоем общем первоисточнике. Именно к одному такому источнику восходили, возможно, уцелевшие знания таких групп посвященных.
Вот, например, какие космологические представления содержат различные древние тексты о самом древнем состоянии нашей планеты.
Китайские источники утверждают, что некогда вся Земля была покрыта водой.
«Ригведа» (Индия) говорит, что мир произошел из воды, «из великой воды, которая заполняла Вселенную».
Во всех египетских текстах речь идет о Первичном Океане, который покрывал мир и из которого впоследствии произошла жизнь.
А вот что написано в священней книге народов Америки «Попол Вух»: «Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов: существовало только небо. Поверхность Земли тогда еще не появилась. Было только холодное море и великое пространство небес».
По мере того как человеческие массы медленно, мучительно медленно эволюционировали, какие-то из групп посвященных пытались, возможно, оказать влияние на этот процесс, ускорить его. Может быть, именно в этом разгадка странных черт бронзового века в Европе.
Как известно, бронза представляет собой сплав меди и олова, подобно тому как омлет состоит из молока и яиц. Само собой разумеется, молоко и яйца должны предшествовать омлету. Точно так же применение меди и олова раздельно должно было бы предшествовать появлению их сплава. Тысячелетия люди должны были бы пользоваться изделиями из меди, прежде чем открыть, что добавление одной десятой олова дает сплав удивительной прочности.
Однако в Европе медного века фактически не было, изделия из меди чрезвычайно редки. Например, в Дублинском историческом музее находится 1283 предмета бронзового века и только 30 рубил и один меч из меди. Изделия из бронзы появляются в Европе внезапно и распространяются повсеместно!
Необъяснимо и то, что даже самые первые изделия из бронзы представляют собой примеры высокого мастерства, то есть не видно, чтобы люди овладевали этим искусством постепенно. Оно появляется сразу на высоком уровне, без каких бы то ни было предварительных этапов.
Как сообщает крупнейший исследователь культуры народов Америки Поль Риве, нечто подобнее наблюдается и на территории Мексики. Производство бронзы появилось там сразу, в развитой форме, со множеством сложных технических приемов. Этапов предшествующего развития также не установлено.
Можно ли понимать это как указание на то, что люди не учились сами искусству выплавки и обработки бронзы, а получили его готовым? Есть и другие факты, подтверждающие это предположение.
Один из них — поразительное сходство различных предметов и оружия из бронзы, обнаруженных археологами на территории всей Европы. Изделия являются до такой степени копией друг друга, что, по мнению некоторых исследователей, можно подумать, что все они вышли из одной мастерской.
Непонятно и распространение этих изделий. Их находят в самых различных концах Европы, в районах, где нет ни меди, ни олова для их изготовления. Какой народ-мореплаватель задолго до финикийцев мог сделать это? Некоторые ученые считают, что между различными частями Европы было больше контактов и связей, чем позднее, даже во времена образования Римской империи.
Доказательством того, что искусство выплавки бронзы было принесено извне, а не возникло в результате повседневной практики и случайных открытий, служит и то, что две наиболее развитые цивилизации — египетская и месопотамская, явившиеся пионерами применения бронзы, — сами были лишены необходимого сырья. Отсюда снаряжались экспедиции в самые отдаленные земли: за оловом ехали в Индию, на Кавказ или на Пиренейский полуостров. Это были ближайшие месторождения олова. А еще дальше, к северу, лежали богатые оловом Британские острова, которые финикийцы так и называли «Оловянные острова».
Возможно, сведения о бронзе были частью уцелевших знаний, которые долгое время являлись монополией замкнутых групп посвященных. Не случайно в Европе и на других территориях производство и обработка металлов считались областью тайных знаний — магией. Не случайно и то, что в старославянских представлениях кузнец выступает обычно в качестве колдуна.
Каким же образом передавали людям свои знания эти уцелевшие представители прежней цивилизации? В преданиях всех народов мы находим много упоминаний о неких просветителях — полубогах и богах.
Прежде всего, конечно, приходит на ум Прометей, научивший людей пользоваться огнем. Но Прометей был не одинок. Китайские анналы рассказывают, что однажды из неизвестных земель прибыл некий Тай Ко-фокее, великий человек, который научил предков китайцев различным ремеслам, показал им, как наблюдать движение небесных тел и делить время года на месяцы, обучил людей письменности. Другой просветитель, Фух-Хи, основал в 2852 году до н. э. империю на территории Китая. Он же научил людей скотоводству, изготовлению оружия, повозок, кораблей, ввел меры веса и деньги.
В Южной Америке первый инка Манко Капак, прибывший из-за моря, также основал империю и научил окрестные племена земледелию и ремеслам. Бог Бочича научил люден календарю. Саме (Южная Америка), он же Заме (Юкатан), прибыл с востока, из-за океана. Он научил людей заниматься сельским хозяйством и скотоводством, делать мосты и рубить деревья, ввел письменность.
Но над всеми этими фигурами просветителей возвышается Кедзелькоатл, светлокожий пришелец с Востока, принесший племенам различные полезные знания: обучил индейцев металлургии и сельскому хозяйству.
Сообщения о подобных героях-просветителях, принесших людям знание металлургии, сельского хозяйства, ткацкого дела и т. д., находим мы и у народов Южной и Передней Азии. Вавилонский жрец историк Бероз, наделяя фантастическими чертами некоего человека, по имени Оаннес, пишет, что тот периодически являлся к людям и сообщал им много полезных сведений. Он «научил людей, — по словам Бероза, — понимать письменность и обучил их различным искусствам. Он научил их строить города и сооружать храмы, составлять законы и объяснил им законы геометрических знаний».
Эти примеры можно было бы продолжить. Можно было бы назвать, в частности, египетского бога Тотха, давшего людям письменность, и других. Одно важное обстоятельство объединяет этих героев-просветителей: все они, согласно преданиям, являются чужестранцами, пришельцами издалека.
То, что все эти реально существовавшие люди были возведены в ранг божеств, не должно удивлять нас. Известно много фактов подобного обожествления героев. Мореплаватель Кадм, например, привезший в Грецию письменность, был официально признан полубогом.
ЗНАНИЯ ДРЕВНИХ
 Несмотря на успехи археологии и исторической науки, которые приоткрывают завесу над прошлым, мы все-таки очень мало знаем о древнейшей истории человечества. Уже несколько поколений ученых ведут раскопки в Шумере. Казалось бы, теперь нам известно очень много об этом народе. В действительности же до сих пор раскопано не более одного процента городов, существовавших когда-то на этой территории, девяносто девять процентов лежат погребенными уже не одно тысячелетие. Какие тайны раскроются перед учеными и какие новые загадки встанут перед ними, когда эти города снопу откроются свету солнца?
Но находка археолога — это только начало открытия. Необычайно сложно чтение древних надписей. При расшифровке критской письменности ключом служило одно лишь слово. Предполагаемое значение его было известно. Слово это состояло из восемнадцати знаков. Но неясно было, как оно звучало. А именно это нужно было выяснить, чтобы узнать, к какой группе языков принадлежал язык, на котором разговаривали создатели удивительной крито-микенской культуры. Подставляя различные буквенные звучания на место каждого и! восемнадцати знаков слова, ученые должны были получить 200 000 000 000 000 различных вариантов. И только один-единственный из них должен был оказаться правильным!
В прошлом ученые полагались лишь па интуицию, теперь электронная техника помогает прочесть письмена народов, существовавших в самые отдаленные времена.
Наконец текст прочитан. Начинается новый этап исследования: анализ и изучение. На этом пути встречается не меньше трудностей, чем па двух предыдущих. Всем, например, известно простое слово «Африка», знакомое еще по детским стихам: «Не ходите, дети, в Африку гулять»… А что означает это слово? Некоторые исследователи считают, что оно греческого происхождения: «а — фрике» (без холода). Другие утверждают, что оно происходит от латинского «априка» (солнечный). А по мнению третьих, словом этим впервые была обозначена территория Карфагена. «Афригах» — так называли Карфаген финикийцы. Слово это означало «колония».
Истинное же происхождение названия этого огромного континента так и не установлено до сих пор и именно потому, что каждый из предложенных вариантов кажется в равной степени убедительным и правильным.
Мы рассказали обо всем этом — о трудностях исторической пауки, об относительности наших знаний, — чтобы еще раз подчеркнуть, что многое из прошлого человечества пока неизвестно.
Древние цивилизации оставили нам факты удивительных знаний. Появление их кажется необъяснимым, так как они совершенно не соответствовали их общественному опыту.
В XVI–XVII веках европейская наука, пройдя длительный путь развития, пришла к важным космологическим выводам.
Научная истина с трудом пробивала себе путь. То там, то здесь на площадях городов вспыхивали костры инквизиций. 17 февраля 1600 года, после семилетнего заточения, был сожжен Джордано Бруно, утверждавший, что Вселенная бесконечна.
А в то же время в священных книгах Индии, за тысячелетия до Джордано Бруно, говорилось о бесконечности Вселенной и о множественности в ней миров, подобных нашей Земле.
В 1633 году в «Зале пыток» члены священной инквизиции вели допрос старика Галилея. Он верил, что Земля — шар, который вращается вокруг Солнца в бесконечном пространстве Вселенной.
Таково было обвинение, предъявленное ему. Галилею грозил костер.
Но разве не странно, что уже египтянам было хорошо известно, что Земля — шар, вращающийся в пространстве? Однако у египтян не было ни астрономических инструментов, ни специальных познаний, опираясь на которые они могли бы прийти к такому выводу. Они основывались на каких-то древнейших источниках.
О шарообразности Земли знали и древние греки. В греческой мифологии говорится, что Атлас, который держал свод небес, находился «далеко на востоке, где солнце продолжает еще сиять, когда оно закатилось в Греции».
На не известных нам сведениях, пришедших из прошлого, а не на современном ему практическом опыте основывался и Платон, также говоривший о Земле как о круглом теле или шаре, вращение которого является причиной смены дня и ночи.
Каждому с детства хорошо известен писатель Дж. Свифт. Все читали, наверно, его «Путешествие Гулливера». Но мало кто знает, что Свифт тоже очень интересовался священными и тайными знаниями древних. Не там ли почерпнул он своп сведения о спутниках Марса? Описывая путешествия Гулливера к лапутянам, он дает довольно детальное описание размеров, расстояния от поверхности и скорости движения спутников Марса, открытых якобы лапутянами. Долгое время эпизод этот считали художественным домыслом, пока два века спустя не были созданы достаточно мощные телескопы и спутники Марса были действительно обнаружены. Причем описание их, данное Свифтом, удивительным образом подтвердилось.
Майя не знали ни колеса, ни гончарного круга, ни железа, но зато им в высшей степени точно были известны периоды обращения планет и звезд.
Время обращения планет вокруг Солнца, согласно григорианскому календарю, которым мы сейчас пользуемся, 365,2425 дня.
Майя считали этот период равным 365,242129 дня. В настоящее время с помощью точнейших астрономических приборов длительность года установлена в 365,242198 дня. Следовательно, майя, не имевшие ни телескопов, ни других специальных приспособлений и аппаратов, знали длительность года более точно, чем мы.
Принято считать, что жрецы в древнем мире так тщательно изучали движения светил для того, чтобы сообщать время начала посевов и уборочных работ. Возможно, отчасти это и так, но едва ли для того, чтобы посеять маис, жрецам майя нужно было знать время обращения Земли вокруг Солнца с точностью до 1/1000 000.
А разве для практической повседневной жизни древних шумеров так уж необходимо было знать время обращения Луны с точностью до 0,4 секунды?
И у майя и в Вавилоне сооружались специальные постройки, высокие пирамиды, которые предназначались для наблюдения за звездным небом. В древнем мире была известна и оптика. Линзы, например, были обнаружены и при раскопках в Вавилоне. Есть предположения, что линзы эти могли использоваться для наблюдения за звездами. Правда, подтверждений этому пока нет.
Но если даже и допустить такую мысль, это не может объяснить происхождения тех астрономических сведений, которыми обладали древние.
Согласно подсчетам английского ученого Д.Давидсона, измерения размеров Большой Пирамиды показывают, что в геометрические формы пирамиды вложены астрономические познания исключительной точности и важности. Следует оговорить, однако, что далеко не все учение разделяют эту точку зрения.
Об огромных познаниях говорит и сама линейная единица измерения, которой якобы пользовались строители пирамид. В Египте существовали два рода единиц измерения: светская, предназначенная для простого народа и повседневного пользования, и священная, так называемый «фут пирамид». Он равнялся 0,635660 метра. Но оказывается, эта цифра не что иное, как 1/10 000 000 часть радиуса, проведенного из центра Земли к полюсу, с ошибкой всего в 0,003 миллиметра. Для того чтобы рассчитать расстояние от центра Земли до ее полюса, потребовалось гигантское развитие современной науки. Не странно ли, что мы лишь недавно пришли к знаниям, которыми египтяне обладали в готовом виде уже четыре тысячи лет назад?
Солнечный годом называется время, необходимое Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца от одного весеннего равноденствия до другого. Период солнечного года равен 365,2452 дням. По подсчетам Д.Давидсона, измерение окружности пирамиды по прямой от угла к углу дает в «дюймах пирамид» число 36 524,246. Совпадение?
Каждая из наружных стен пирамиды выстроена так, что несколько прогибается внутрь. Если провести измерение окружности пирамиды, но не от угла до угла по прямой, как мы делали первый раз, а вдоль стен, мы получим несколько большее число — 36 525,647. Это не что иное, как время звездного года, разного 365,25647 дням. Звездным годом называется измеряемое по звездам точное время обращения Земли вокруг Солнца на 360º.
Другой расчет, в основу которого также кладется длина основания пирамиды, выражается в цифре, обозначающей так называемый «аномалистический год». Дело в том, что сама орбита нашей Земли медленно вращается в направлении движения Земли.
«Аномалистическим годом» в астрономии называется период, в течение которого Земля совершит путь от одного перигелия — точки, расположенной максимально к Солнцу, — до следующего перигелия.
Сумма диагоналей Большой Пирамиды — 25 826. Точка равноденствия, которую Земля пересекает каждый год, медленно перемещается вдоль эклиптики. Это перемещение имеет период, который выражается тем же числом — 25 825.
По сообщению французского астронома Т.Моро, высота Большой Пирамиды говорит о том, что ее создателям было известно расстояние от Земли до Солнца. Первоначальная высота пирамиды (148,208 метра), умноженная розно в миллиард раз, чает примерное расстояние от Земли до Солнца. Вообще же число это изменяется благодаря движению Земли и колеблется в пределах от 147 до 152 миллиардов километров, средней величиной считается 149,5 миллиарда километра.
Если это не совпадение и высота Большой Пирамиды действительно выражает расстояние до Солнца, то это поразительный факт!
Современная наука шла к этой цифре долгими путями. Еще Коперник и известный астроном Тихо Браге считали это расстояние равным всего 9 миллионам километров. Кеплер утверждал, что оно составляет 58 миллионов километров. В XVII веке многие астрономы называли цифру 219 миллионов километров. И только в конце прошлого века расстояние это было наконец измерено более точно.
Дело в том, что измерить это расстояние, оказывается, очень трудно. Нужно, чтобы два наблюдателя находились на противоположных концах Земли, одновременно производя измерение угла нахождения Солнца. Отклонение всего в один градус влечет за собой ошибку почти на 2 миллиона километров.
Можем ли мы допустить мысль, что кто-то в столь отдаленное время при помощи такого сложного метода добился столь высокой точности? Или расстояние это было измерено иным методом, о котором пока нам ничего не известно?
Согласно расчетам Давидсона, размеры Большой Пирамиды заключают в себе много других астрономических величин и понятий, в том числе даже длину отклонения движения Земли, вращающейся по эллипсу, от правильного круга. Некоторые из этих сведений могли явиться только результатом астрономических наблюдений, продолжавшихся не одно тысячелетие.
До катастрофы наша Земля, как мы предполагаем, имела другую орбиту и иное время вращения вокруг Солнца. Следовательно, все эти астрономические расчеты были сделаны уже после катастрофы. Ясно, что они могли быть проведены только на основании каких-то предыдущих знаний.
Так же неожиданны и необъяснимы познания древних в области математики. Понятие «миллион» было принято в европейской науке только в XIX веке. А среди клинописных текстов, найденных в Шумере, содержится математический ряд, конечный итог которого выражается числом 195 955 000 000. Это число, которым не умели оперировать даже во времена Декарта и Лейбница.
Число «π» известно в истории математики как «число Лудольфа» — голландскою ученого XVII века, открывшего соотношения длины окружности к ее диаметру. Однако в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина хранится египетский папирус, из которого явствует, что египтянам давно было известно число «π». Оказывается, его знали даже строители Большой Пирамиды. Число это содержится в метрических соотношениях длины и высоты пирамиды. Первоначальная длина четырех оснований Большой Пирамиды составляла 232,805 м 4 = 931,22 м. Если разделить это число на удвоенную первоначальную высоту пирамиды (148,208 2), мы получим значение числа «π» с точностью до 1/10 000. Трудно предположить, чтобы это было простым совпадением. Ведь достаточно, чтобы высота ее или длина были несколько иными, чтобы изменилось все соотношение.
Несмотря на успехи археологии и исторической науки, которые приоткрывают завесу над прошлым, мы все-таки очень мало знаем о древнейшей истории человечества. Уже несколько поколений ученых ведут раскопки в Шумере. Казалось бы, теперь нам известно очень много об этом народе. В действительности же до сих пор раскопано не более одного процента городов, существовавших когда-то на этой территории, девяносто девять процентов лежат погребенными уже не одно тысячелетие. Какие тайны раскроются перед учеными и какие новые загадки встанут перед ними, когда эти города снопу откроются свету солнца?
Но находка археолога — это только начало открытия. Необычайно сложно чтение древних надписей. При расшифровке критской письменности ключом служило одно лишь слово. Предполагаемое значение его было известно. Слово это состояло из восемнадцати знаков. Но неясно было, как оно звучало. А именно это нужно было выяснить, чтобы узнать, к какой группе языков принадлежал язык, на котором разговаривали создатели удивительной крито-микенской культуры. Подставляя различные буквенные звучания на место каждого и! восемнадцати знаков слова, ученые должны были получить 200 000 000 000 000 различных вариантов. И только один-единственный из них должен был оказаться правильным!
В прошлом ученые полагались лишь па интуицию, теперь электронная техника помогает прочесть письмена народов, существовавших в самые отдаленные времена.
Наконец текст прочитан. Начинается новый этап исследования: анализ и изучение. На этом пути встречается не меньше трудностей, чем па двух предыдущих. Всем, например, известно простое слово «Африка», знакомое еще по детским стихам: «Не ходите, дети, в Африку гулять»… А что означает это слово? Некоторые исследователи считают, что оно греческого происхождения: «а — фрике» (без холода). Другие утверждают, что оно происходит от латинского «априка» (солнечный). А по мнению третьих, словом этим впервые была обозначена территория Карфагена. «Афригах» — так называли Карфаген финикийцы. Слово это означало «колония».
Истинное же происхождение названия этого огромного континента так и не установлено до сих пор и именно потому, что каждый из предложенных вариантов кажется в равной степени убедительным и правильным.
Мы рассказали обо всем этом — о трудностях исторической пауки, об относительности наших знаний, — чтобы еще раз подчеркнуть, что многое из прошлого человечества пока неизвестно.
Древние цивилизации оставили нам факты удивительных знаний. Появление их кажется необъяснимым, так как они совершенно не соответствовали их общественному опыту.
В XVI–XVII веках европейская наука, пройдя длительный путь развития, пришла к важным космологическим выводам.
Научная истина с трудом пробивала себе путь. То там, то здесь на площадях городов вспыхивали костры инквизиций. 17 февраля 1600 года, после семилетнего заточения, был сожжен Джордано Бруно, утверждавший, что Вселенная бесконечна.
А в то же время в священных книгах Индии, за тысячелетия до Джордано Бруно, говорилось о бесконечности Вселенной и о множественности в ней миров, подобных нашей Земле.
В 1633 году в «Зале пыток» члены священной инквизиции вели допрос старика Галилея. Он верил, что Земля — шар, который вращается вокруг Солнца в бесконечном пространстве Вселенной.
Таково было обвинение, предъявленное ему. Галилею грозил костер.
Но разве не странно, что уже египтянам было хорошо известно, что Земля — шар, вращающийся в пространстве? Однако у египтян не было ни астрономических инструментов, ни специальных познаний, опираясь на которые они могли бы прийти к такому выводу. Они основывались на каких-то древнейших источниках.
О шарообразности Земли знали и древние греки. В греческой мифологии говорится, что Атлас, который держал свод небес, находился «далеко на востоке, где солнце продолжает еще сиять, когда оно закатилось в Греции».
На не известных нам сведениях, пришедших из прошлого, а не на современном ему практическом опыте основывался и Платон, также говоривший о Земле как о круглом теле или шаре, вращение которого является причиной смены дня и ночи.
Каждому с детства хорошо известен писатель Дж. Свифт. Все читали, наверно, его «Путешествие Гулливера». Но мало кто знает, что Свифт тоже очень интересовался священными и тайными знаниями древних. Не там ли почерпнул он своп сведения о спутниках Марса? Описывая путешествия Гулливера к лапутянам, он дает довольно детальное описание размеров, расстояния от поверхности и скорости движения спутников Марса, открытых якобы лапутянами. Долгое время эпизод этот считали художественным домыслом, пока два века спустя не были созданы достаточно мощные телескопы и спутники Марса были действительно обнаружены. Причем описание их, данное Свифтом, удивительным образом подтвердилось.
Майя не знали ни колеса, ни гончарного круга, ни железа, но зато им в высшей степени точно были известны периоды обращения планет и звезд.
Время обращения планет вокруг Солнца, согласно григорианскому календарю, которым мы сейчас пользуемся, 365,2425 дня.
Майя считали этот период равным 365,242129 дня. В настоящее время с помощью точнейших астрономических приборов длительность года установлена в 365,242198 дня. Следовательно, майя, не имевшие ни телескопов, ни других специальных приспособлений и аппаратов, знали длительность года более точно, чем мы.
Принято считать, что жрецы в древнем мире так тщательно изучали движения светил для того, чтобы сообщать время начала посевов и уборочных работ. Возможно, отчасти это и так, но едва ли для того, чтобы посеять маис, жрецам майя нужно было знать время обращения Земли вокруг Солнца с точностью до 1/1000 000.
А разве для практической повседневной жизни древних шумеров так уж необходимо было знать время обращения Луны с точностью до 0,4 секунды?
И у майя и в Вавилоне сооружались специальные постройки, высокие пирамиды, которые предназначались для наблюдения за звездным небом. В древнем мире была известна и оптика. Линзы, например, были обнаружены и при раскопках в Вавилоне. Есть предположения, что линзы эти могли использоваться для наблюдения за звездами. Правда, подтверждений этому пока нет.
Но если даже и допустить такую мысль, это не может объяснить происхождения тех астрономических сведений, которыми обладали древние.
Согласно подсчетам английского ученого Д.Давидсона, измерения размеров Большой Пирамиды показывают, что в геометрические формы пирамиды вложены астрономические познания исключительной точности и важности. Следует оговорить, однако, что далеко не все учение разделяют эту точку зрения.
Об огромных познаниях говорит и сама линейная единица измерения, которой якобы пользовались строители пирамид. В Египте существовали два рода единиц измерения: светская, предназначенная для простого народа и повседневного пользования, и священная, так называемый «фут пирамид». Он равнялся 0,635660 метра. Но оказывается, эта цифра не что иное, как 1/10 000 000 часть радиуса, проведенного из центра Земли к полюсу, с ошибкой всего в 0,003 миллиметра. Для того чтобы рассчитать расстояние от центра Земли до ее полюса, потребовалось гигантское развитие современной науки. Не странно ли, что мы лишь недавно пришли к знаниям, которыми египтяне обладали в готовом виде уже четыре тысячи лет назад?
Солнечный годом называется время, необходимое Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца от одного весеннего равноденствия до другого. Период солнечного года равен 365,2452 дням. По подсчетам Д.Давидсона, измерение окружности пирамиды по прямой от угла к углу дает в «дюймах пирамид» число 36 524,246. Совпадение?
Каждая из наружных стен пирамиды выстроена так, что несколько прогибается внутрь. Если провести измерение окружности пирамиды, но не от угла до угла по прямой, как мы делали первый раз, а вдоль стен, мы получим несколько большее число — 36 525,647. Это не что иное, как время звездного года, разного 365,25647 дням. Звездным годом называется измеряемое по звездам точное время обращения Земли вокруг Солнца на 360º.
Другой расчет, в основу которого также кладется длина основания пирамиды, выражается в цифре, обозначающей так называемый «аномалистический год». Дело в том, что сама орбита нашей Земли медленно вращается в направлении движения Земли.
«Аномалистическим годом» в астрономии называется период, в течение которого Земля совершит путь от одного перигелия — точки, расположенной максимально к Солнцу, — до следующего перигелия.
Сумма диагоналей Большой Пирамиды — 25 826. Точка равноденствия, которую Земля пересекает каждый год, медленно перемещается вдоль эклиптики. Это перемещение имеет период, который выражается тем же числом — 25 825.
По сообщению французского астронома Т.Моро, высота Большой Пирамиды говорит о том, что ее создателям было известно расстояние от Земли до Солнца. Первоначальная высота пирамиды (148,208 метра), умноженная розно в миллиард раз, чает примерное расстояние от Земли до Солнца. Вообще же число это изменяется благодаря движению Земли и колеблется в пределах от 147 до 152 миллиардов километров, средней величиной считается 149,5 миллиарда километра.
Если это не совпадение и высота Большой Пирамиды действительно выражает расстояние до Солнца, то это поразительный факт!
Современная наука шла к этой цифре долгими путями. Еще Коперник и известный астроном Тихо Браге считали это расстояние равным всего 9 миллионам километров. Кеплер утверждал, что оно составляет 58 миллионов километров. В XVII веке многие астрономы называли цифру 219 миллионов километров. И только в конце прошлого века расстояние это было наконец измерено более точно.
Дело в том, что измерить это расстояние, оказывается, очень трудно. Нужно, чтобы два наблюдателя находились на противоположных концах Земли, одновременно производя измерение угла нахождения Солнца. Отклонение всего в один градус влечет за собой ошибку почти на 2 миллиона километров.
Можем ли мы допустить мысль, что кто-то в столь отдаленное время при помощи такого сложного метода добился столь высокой точности? Или расстояние это было измерено иным методом, о котором пока нам ничего не известно?
Согласно расчетам Давидсона, размеры Большой Пирамиды заключают в себе много других астрономических величин и понятий, в том числе даже длину отклонения движения Земли, вращающейся по эллипсу, от правильного круга. Некоторые из этих сведений могли явиться только результатом астрономических наблюдений, продолжавшихся не одно тысячелетие.
До катастрофы наша Земля, как мы предполагаем, имела другую орбиту и иное время вращения вокруг Солнца. Следовательно, все эти астрономические расчеты были сделаны уже после катастрофы. Ясно, что они могли быть проведены только на основании каких-то предыдущих знаний.
Так же неожиданны и необъяснимы познания древних в области математики. Понятие «миллион» было принято в европейской науке только в XIX веке. А среди клинописных текстов, найденных в Шумере, содержится математический ряд, конечный итог которого выражается числом 195 955 000 000. Это число, которым не умели оперировать даже во времена Декарта и Лейбница.
Число «π» известно в истории математики как «число Лудольфа» — голландскою ученого XVII века, открывшего соотношения длины окружности к ее диаметру. Однако в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина хранится египетский папирус, из которого явствует, что египтянам давно было известно число «π». Оказывается, его знали даже строители Большой Пирамиды. Число это содержится в метрических соотношениях длины и высоты пирамиды. Первоначальная длина четырех оснований Большой Пирамиды составляла 232,805 м 4 = 931,22 м. Если разделить это число на удвоенную первоначальную высоту пирамиды (148,208 2), мы получим значение числа «π» с точностью до 1/10 000. Трудно предположить, чтобы это было простым совпадением. Ведь достаточно, чтобы высота ее или длина были несколько иными, чтобы изменилось все соотношение.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
 Можно назвать много чрезвычайно сложных сооружений древности, строительство которых предполагает наличие глубоких инженерных знании, знании, которые, прежде чем исчезнуть, возникали словно из небытия. Ни до, ни после подобных сооружений не было.
В Андах существуют развалины древнего города Тиахунаку. Многие здания в нем выстроены из огромных каменных блоков. Вес некоторых блоков достигает 200 тонн. Причем ближайшее место, где можно взять такую породу, находится на расстоянии не менее пяти километров.
Чтобы представить себе, какими знаниями нужно было обладать, чтобы передвигать такие глыбы на столь значительные расстояния, достаточно привести отрывок из сообщения, опубликованного в 1960 году в «Правде». Речь идет о том, с какими трудностями столкнулась паша современная техника, когда потребовалось перевезти каменную глыбу такого же веса в Москву. «Вчера в Москву прибыл необычный состав. Со станции Кудашевка на особой, 16-осной платформе доставлен огромный монумент для памятника К.Марксу, который будет воздвигнут на площади Свердлова.
Транспортировка каменной глыбы весом в 200 тонн представляла сложную задачу. Из-за больших размеров гранитного блока состав мог передвигаться лишь в том случае, если на линии не было встречных поездов…»
Тиахунаку — не единственное место на земном шаре, где имеются подобные сооружения. Среди развалин города Баальбек (на территории теперешней Сирии) есть постройка, вес отдельных монолитных частей которой достигает 1200 тонн. В Индии до сих пор существует храм «Черная пагода», сооруженный якобы всего лишь семь веков назад. Храм этот высотой в 75 метров венчает крыша из тщательно обработанной каменной плиты. Вес этой плиты 2000 тонн!
Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был Александрийский маяк. Прибыв в Египет, Александр Македонский и его спутники облюбовали участокпустынного песчаного побережья и приказали заложить здесь город. Но сам Александр Македонский так и не увидел его расцвета. Уже после его смерти один из военачальников Александра, Птолемей, захватил часть разваливавшейся Египетской империи, основал династию и провозгласил Александрию своей столицей.
Этот город стал центром и культуры, и торговли, и политики всего тогдашнего Востока. Он был необычайно красив. Виллы богатых людей, окруженные тенистой зеленью и цветами, сменялись величественным зданием цирка, роскошными банями, мавзолеями. На многочисленных базарах Александрии можно было купить невольницу из Нубии, благовония из Персии и древнюю книгу по магии, написанную странными значками на неизвестном языке. Торговцы зазывали покупателей па всех языках, на которых только говорило Средиземноморье. Да и не только Средиземноморье. Здесь бывали купцы и из далекой Армении, и из Центральной Африки, и из северных стран. Каждый убеждал, спорил и клялся своим богом, что именно его товар самый лучший!
Богов в Александрии было великое множество. Почти все религии тогдашнего мира имели в городе своих представителей и свои храмы. Рядом с массивными колоннами храма индийского бога Шивы пристроилось приземистое, тяжелое здание огнепоклонников-зороастрийцев. Через несколько домов — беломраморный храм Зевса, а дальше — синагога.
Но самым удивительным сооружением Александрии был маяк. Он был виден отовсюду — с каждой улицы и с каждой площади города.
Недалеко от берега в море находился небольшой остров Фарос. На нем по приказу Птолемея Филадельфа (285–256 года до н. э.) и был построен этот маяк, беломраморное сооружение, которое возвышалось на 150–200 метров над голубыми водами моря. У самого его подножия проходили корабли под красными и лимонно-желтыми парусами. Огромное подвижное зеркало отражало огонь, и свет маяка можно было видеть на расстоянии до 400 километров.
Много легенд ходило об этом маяке. Арабы, завоевавшие Египет в VII веке н. э., рассказывали, будто это сферическое зеркало можно было поставить под таким углом, что оно собранными в одну точку солнечными лучами зажигало корабли, находившиеся в мере.
Название острова «Фарос», на котором находился Александрийский маяк, вошло во все европейские языки. «Фарос» теперь означает просто «маяк». От него же происходит известное нам слово «фара».
Мы никогда не узнали бы имени архитектора этого удивительного сооружения, если бы не его остроумие и дерзость. Когда сооружение маяка подходило к концу, фараон велел на одной из мраморных плит выбить надпись: «ЦАРЬ ПТОЛЕМЕЙ — БОГАМ-СПАСИТЕЛЯМ НА БЛАГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ». Распоряжение это было выполнено, фараон осмотрел маяк и надпись и остался очень доволен. Теперь о нем, Птолемее, люди будут помнить и говорить многие сотни лет.
Но прошли годы, надпись потрескалась и обвалилась. Оказалось, архитектор сделал ее не на мраморе, а на застывшей извести, покрытой мраморной пылью. И тогда-то из-под обвалившейся надписи выступили на свет гордые и дерзкие слова, глубоко врезанные в мрамор: «СОСТРАТУС ИЗ ГОРОДА КНИДА. СЫН ДЕКСИПЛИАНА, — БОГАМ-СПАСИТЕЛЯМ НА БЛАГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ».
Стоит рассказать и о том, как это огромное сооружение прекратило свое существование. Порт Александрия был величайшим и сильнейшим соперником Константинополя. Особым преимуществом Александрии был ее маяк. Испробовав все средства борьбы, христианский император в Константинополе решился на чисто византийскую хитрость. Мы говорили уже, что Египет и Александрию к тому времени захватили арабы.
Император направил ко двору халифа Али-Валида своего посла. Перед отъездом посол получил устные и совершенно секретные инструкции от самого императора. Вскоре по прибытии ко двору халифа посол через подставных лиц, начинает распускать слухи о том, что в основании маяка фараонами были зарыты несметные сокровища. Слух этот доходил то до одного высокопоставленного чиновника, то до другого, и каждый спешил шепнуть об этом халифу. Сначала халиф крепился, но в конце концов повелел разобрать маяк. Маяк был разобран почти до половины, когда халиф вдруг заподозрил обман. Спохватившись, он приказал восстановить башню, но это оказалось не так-то просто. Ни за какие деньги халифу не удалось найти людей, достаточно знакомых с расчетами. В довершение всего огромное зеркало уронили, и оно разбилось на мельчайшие куски.
Теперь уже ничто не указывало кораблям путь в гавань. Вскоре Александрия пришла в упадок.
В таком полуразобранном виде простоял маяк до XIV века, когда был окончательно разрушен землетрясением. Никто так и не смог восстановить его, потому что люди не обладали уже теми знаниями, которые имели в прошлом. Этот маяк был высотой с ШЕСТИДЕСЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ! Только в нашем веке человечество накопило достаточно инженерных знаний, чтобы строить такие сооружения. И то при постройке подобных небоскребов используется стальной каркас — скелет всего здания, — не известный строителям Александрийского маяка.
Можно назвать много чрезвычайно сложных сооружений древности, строительство которых предполагает наличие глубоких инженерных знании, знании, которые, прежде чем исчезнуть, возникали словно из небытия. Ни до, ни после подобных сооружений не было.
В Андах существуют развалины древнего города Тиахунаку. Многие здания в нем выстроены из огромных каменных блоков. Вес некоторых блоков достигает 200 тонн. Причем ближайшее место, где можно взять такую породу, находится на расстоянии не менее пяти километров.
Чтобы представить себе, какими знаниями нужно было обладать, чтобы передвигать такие глыбы на столь значительные расстояния, достаточно привести отрывок из сообщения, опубликованного в 1960 году в «Правде». Речь идет о том, с какими трудностями столкнулась паша современная техника, когда потребовалось перевезти каменную глыбу такого же веса в Москву. «Вчера в Москву прибыл необычный состав. Со станции Кудашевка на особой, 16-осной платформе доставлен огромный монумент для памятника К.Марксу, который будет воздвигнут на площади Свердлова.
Транспортировка каменной глыбы весом в 200 тонн представляла сложную задачу. Из-за больших размеров гранитного блока состав мог передвигаться лишь в том случае, если на линии не было встречных поездов…»
Тиахунаку — не единственное место на земном шаре, где имеются подобные сооружения. Среди развалин города Баальбек (на территории теперешней Сирии) есть постройка, вес отдельных монолитных частей которой достигает 1200 тонн. В Индии до сих пор существует храм «Черная пагода», сооруженный якобы всего лишь семь веков назад. Храм этот высотой в 75 метров венчает крыша из тщательно обработанной каменной плиты. Вес этой плиты 2000 тонн!
Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был Александрийский маяк. Прибыв в Египет, Александр Македонский и его спутники облюбовали участокпустынного песчаного побережья и приказали заложить здесь город. Но сам Александр Македонский так и не увидел его расцвета. Уже после его смерти один из военачальников Александра, Птолемей, захватил часть разваливавшейся Египетской империи, основал династию и провозгласил Александрию своей столицей.
Этот город стал центром и культуры, и торговли, и политики всего тогдашнего Востока. Он был необычайно красив. Виллы богатых людей, окруженные тенистой зеленью и цветами, сменялись величественным зданием цирка, роскошными банями, мавзолеями. На многочисленных базарах Александрии можно было купить невольницу из Нубии, благовония из Персии и древнюю книгу по магии, написанную странными значками на неизвестном языке. Торговцы зазывали покупателей па всех языках, на которых только говорило Средиземноморье. Да и не только Средиземноморье. Здесь бывали купцы и из далекой Армении, и из Центральной Африки, и из северных стран. Каждый убеждал, спорил и клялся своим богом, что именно его товар самый лучший!
Богов в Александрии было великое множество. Почти все религии тогдашнего мира имели в городе своих представителей и свои храмы. Рядом с массивными колоннами храма индийского бога Шивы пристроилось приземистое, тяжелое здание огнепоклонников-зороастрийцев. Через несколько домов — беломраморный храм Зевса, а дальше — синагога.
Но самым удивительным сооружением Александрии был маяк. Он был виден отовсюду — с каждой улицы и с каждой площади города.
Недалеко от берега в море находился небольшой остров Фарос. На нем по приказу Птолемея Филадельфа (285–256 года до н. э.) и был построен этот маяк, беломраморное сооружение, которое возвышалось на 150–200 метров над голубыми водами моря. У самого его подножия проходили корабли под красными и лимонно-желтыми парусами. Огромное подвижное зеркало отражало огонь, и свет маяка можно было видеть на расстоянии до 400 километров.
Много легенд ходило об этом маяке. Арабы, завоевавшие Египет в VII веке н. э., рассказывали, будто это сферическое зеркало можно было поставить под таким углом, что оно собранными в одну точку солнечными лучами зажигало корабли, находившиеся в мере.
Название острова «Фарос», на котором находился Александрийский маяк, вошло во все европейские языки. «Фарос» теперь означает просто «маяк». От него же происходит известное нам слово «фара».
Мы никогда не узнали бы имени архитектора этого удивительного сооружения, если бы не его остроумие и дерзость. Когда сооружение маяка подходило к концу, фараон велел на одной из мраморных плит выбить надпись: «ЦАРЬ ПТОЛЕМЕЙ — БОГАМ-СПАСИТЕЛЯМ НА БЛАГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ». Распоряжение это было выполнено, фараон осмотрел маяк и надпись и остался очень доволен. Теперь о нем, Птолемее, люди будут помнить и говорить многие сотни лет.
Но прошли годы, надпись потрескалась и обвалилась. Оказалось, архитектор сделал ее не на мраморе, а на застывшей извести, покрытой мраморной пылью. И тогда-то из-под обвалившейся надписи выступили на свет гордые и дерзкие слова, глубоко врезанные в мрамор: «СОСТРАТУС ИЗ ГОРОДА КНИДА. СЫН ДЕКСИПЛИАНА, — БОГАМ-СПАСИТЕЛЯМ НА БЛАГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ».
Стоит рассказать и о том, как это огромное сооружение прекратило свое существование. Порт Александрия был величайшим и сильнейшим соперником Константинополя. Особым преимуществом Александрии был ее маяк. Испробовав все средства борьбы, христианский император в Константинополе решился на чисто византийскую хитрость. Мы говорили уже, что Египет и Александрию к тому времени захватили арабы.
Император направил ко двору халифа Али-Валида своего посла. Перед отъездом посол получил устные и совершенно секретные инструкции от самого императора. Вскоре по прибытии ко двору халифа посол через подставных лиц, начинает распускать слухи о том, что в основании маяка фараонами были зарыты несметные сокровища. Слух этот доходил то до одного высокопоставленного чиновника, то до другого, и каждый спешил шепнуть об этом халифу. Сначала халиф крепился, но в конце концов повелел разобрать маяк. Маяк был разобран почти до половины, когда халиф вдруг заподозрил обман. Спохватившись, он приказал восстановить башню, но это оказалось не так-то просто. Ни за какие деньги халифу не удалось найти людей, достаточно знакомых с расчетами. В довершение всего огромное зеркало уронили, и оно разбилось на мельчайшие куски.
Теперь уже ничто не указывало кораблям путь в гавань. Вскоре Александрия пришла в упадок.
В таком полуразобранном виде простоял маяк до XIV века, когда был окончательно разрушен землетрясением. Никто так и не смог восстановить его, потому что люди не обладали уже теми знаниями, которые имели в прошлом. Этот маяк был высотой с ШЕСТИДЕСЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ! Только в нашем веке человечество накопило достаточно инженерных знаний, чтобы строить такие сооружения. И то при постройке подобных небоскребов используется стальной каркас — скелет всего здания, — не известный строителям Александрийского маяка.
СВЕДЕНИЯ О ПОРОХЕ ХРАНЯТСЯ В ТАЙНЕ
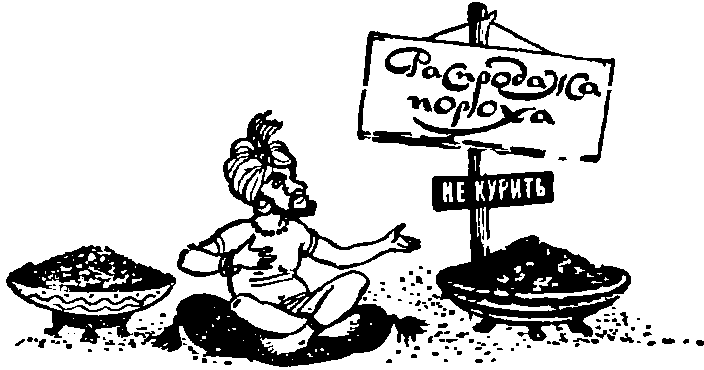
Существует гипотеза, что Африка и Европа смыкались когда-то между собой в том самом месте, где теперь находится Гибралтарский пролив. «Между Андалузией и Тангером, — сообщает известный арабский источник Массуди, — на месте, называемом Хадра, что близ Фарс эль Магриб, существовал некогда мост (перешеек), который состоял из больших камней, по которым стада проходили с западного берега Андалузии на северный берег Африки. Отсюда начиналось Средиземное море, вытекавшее из Океана, или Великого Океана». Таким образом, течение шло в сторону Средиземного моря или, как называли его тогда, Мрачного Моря. Это и попятно: в Средиземном море, как море внутреннем, уровень воды должен был быть значительно ниже, чем в океане. Но однажды Атлантический океан хлынул через разорванный перешеек в Средиземное море. Событие это произошло примерно в 1450 году до н. э. Обширные территории, бывшие прежде сушей, оказались под водой. О том, что в этом районе до его затопления была суша, говорят и другие восточные и греческие авторы. Воспоминания о прорыве Атлантического океана в Средиземное море сохранились в Греции в форме преданий о так называемом потопе Девкалиона. Есть, однако, основания предполагать, что затопление Средиземного моря было делом… рук человека. В географическом словаре арабского ученого и путешественника Якута можно найти сведения о прорыве Гибралтарского перешейка: «Вот что я читал в одной древней книге, содержащей в себе историю Египта и Северной Африки. По пресечении рода фараонов царями Египта были дети Далуки. Из них особенно замечательны Дарокун бен Малгес и Рамеграх. Эти два царя были одарены умом проницательным и необыкновенною телесной силой, притом обладали большими познаниями в магии. Когда греки вторглись в их владения, египетские цари, вознамерившись избегнуть их владычества, предприняли соединить Западный Океан с морем Средиземным. При исполнении этого предприятия море потопило многие обитаемые земли и могущественные царства и пролилось даже на Сирию и Грецию». Другие источники, повествующие об этом событии, рассказывают, что произошло оно в течение одной ночи. Разрушить каменный барьер, очевидно довольно прочный, если он мог выдерживать напор Атлантического океана, было делом нелегким. Тем более трудно было сделать это за такой короткий срок. Если только… Если только не предположить, что фараоны, которые «обладали большими познаниями в магии», имели в своем распоряжении какие-то взрывчатые вещества! В таком предположении нет ничего невозможного. В Германии, в городе Оренбурге, стоит памятник человеку в монашеской рясе. Человека этого звали Бертольд Шварц. Монах-францисканец, Бертольд Шварц, обвиненный в занятиях черной магией и колдовстве, был посажен в тюрьму. Продолжая и здесь свои опыты, он смешал однажды серу, селитру и уголь и получил состав страшной разрушительной силы: порох! Произошло это в 1330 году. Вскоре рецепт этот стал известен повсюду, и именно с начала XIV века порох получает распространение в Европе. Над полями битв, где раньше слышался только стук мечей да звуки труб, раздалось тяжелое уханье первых пушек. XIV век стал веком рождения пороха. Но, если внимательно углубиться в историю, можно найти удивительные факты. Оказывается, задолго до этого порох внезапно появляется то в одном месте, то в другом, то столь же внезапно вдруг исчезает на целых 500 лет. Необъяснимо, почему такое важное орудие войны не получает полного распространения, почему ни один из полководцев-завоевателей так и не смог воспользоваться этим страшным средством, которое поставило бы на колени любого противника. Можно подумать, что были какие-то люди, которые стремились, чтобы тайна этого гибельного оружия не стала достоянием всех. Сведения о порохе хранились в строжайшей тайне. Кем? Во всяком случае, не воинами и не политиками, которые не преминули бы им воспользоваться. И разве не странно, что всякий раз, когда тайна как бы вырывалась из-под контроля, мы узнаем о случае применения пороха, но затем порох снова бесследно исчезает. В 1257 году арабы применили порох при осаде одного из городов Испании. Другой случаи применения его (тоже арабами) относится только к 690 году. В 668 году порох быт известен египтянам, а еще раньше, в 80 году н. э., рецепт его из Индии попал в Китай. Когда Ганнибал, командовавший карфагенской армией, прошел через Альпы и спустился в Италию, возле Тразименского озера путь ему преградили римские легионы. Здесь решалась судьба целой кампании. Если Рим победит и на этот раз, он окончательно станет властелином всего побережья Средиземного моря. Судьбой народов будут распоряжаться пресыщенные римские сенаторы, алчные рабовладельцы, тупые и жестокие воины. Что же касается самого Карфагена, то он будет разрушен! В учебниках истории вы можете прочесть, что Ганинбал победил. Но едва ли вы найдете там описание, как это произошло. Некоторое время два войска стояли друг перед другом, затем Ганнибал несколько отступил. Римские легионеры промаршировали на место, с которого отошли карфагеняне. Вдруг в ту же минуту под ногами римлян началось, как сообщает хроника тех лет, «землетрясение». Но это было очень странное землетрясение, от которого пострадали только римляне! Все покрылось дымом. Когда же дым рассеялся, сказалось, что большая часть легионеров лежит па земле, погребенная под слоем камней и скал, которые, взлетев на воздух, обрушились на них. Как известно, ни от одного землетрясения камни и обломки скал не могли взлететь вверх, чтобы упасть потом на головы римлян. Так же маловероятно, чтобы землетрясение сопровождалось неизвестно откуда взявшимся дымом. Тому, что произошло, может быть только одно объяснение. Ганнибал нарочно заманил римлян на заминированное поле, а потом взорвал заряд. Когда изобретение Бертольда Шварца стало всеобщим достоянием, и позднее, когда европейские пушечные фрегаты начали появляться у берегов Америки и островов Тихого океана, народы этих стран, услышав пушечную пальбу, сочли ее громом, которым бледнолицые боги поражают своих врагов. Точно так восприняли это греки Александра Македонского, впервые столкнувшиеся с применением пороха. Осадив город в Индии, греки в страхе бежали от его стен. «Жителям этого города помогали боги! — вспоминали они потом. — Со стен его на нас обрушивались молнии и гром!» Есть упоминание о порохе и в библии, но тоже не прямое. Мы читаем, например, об «иерихонской трубе». У этой трубы был такой громкий звук, что от него падали крепостные стены. Можно предположить (и целый ряд исследователей придерживается этого мнения), что речь идет об осадном орудии типа пушки или мортиры. В Индии о порохе знали уже за пять тысяч лет до нашей эры. Причем рецепт его был известен из еще более древних священных текстов. Определенному уровню знаний должна предшествовать какая-то практическая деятельность. Поэтому всякий раз, когда мы обнаруживаем у древних удивительную осведомленность, которая не опирается на предшествующий опыт, возникает как бы из небытия, напрашивается предположение, что сведения эти могли быть остатками знаний, которые удалось сохранить после катастрофы.
СОЖЖЕННЫЕ КНИГИ
 Перечень высоких познаний из совершенно разных областей науки, которыми обладали древние, можно было бы продолжить. Полнейшая необъяснимость появления большинства из них заставляет предположить, повторяем, что это остатки знаний, накопленных людьми еще до катастрофы, которую египетская традиция называет обычно «уничтожением человечества».
Можно строить лишь предположения, насколько далеко простирались познания катастрофы. Очевидно, существуют две причины, почему до нас дошли только отдельные и отрывочные обрывки этих знаний. Одна из них заключается в том, что каста посвященных, хранителей этих знаний, не всегда была заинтересована, чтобы они стали всеобщими. Ведь знания дают огромную власть над непосвященными, могут стать источником страшных бедствий.
Другая причина заключается, возможно, в том, что люди сами лишили себя этого наследства. Мы можем только догадываться, судя по уцелевшим отрывкам, какие познания, какие сведения о мире до катастрофы могли содержать рукописи, уничтоженные в Мексике ревностным епископом де Ланда. А древние священные книги, сожженные по приказу верховного инки, запретившего письменность и уничтожившего всякие следы ее!
Из всех обширных библиотек Карфагена уцелело только одно-единственное произведение, которое было переведено па латинский язык. Римляне, стремясь уничтожить культуру карфагенян, его историю, сожгли все.
Так же поступали и мусульманские завоеватели. В завоеванных областях они не только изымали все древние книги и рукописи, но и назначали премии тем, кто отдавал их добровольно. Все собранные таким образом памятники письменности сжигались.
Никто не может теперь сказать, какие сокровища хранили знаменитые библиотеки фараона Хуфу (Хеопса), книгохранилища Седьмой династии или Птолемеев. Одна из библиотек Птолемеев содержала 40 тысяч свитков, другая — 500 тысяч, а по некоторым сведениям даже 700 тысяч свитков. Большинство из них оыло уникально.
Первая, меньшая из библиотек, погибла в 47 году до н. э., когда Юлий Цезарь в гавани Александрии поджег египетский флот и огонь перекинулся на город. Из второй библиотеки император Диоклетиан изъял и уничтожил все тексты, которые содержали магические зиянии. В его правление и г. последующие годы невежественные толпы неоднократно устраивали погромы библиотеки, сжигая и уничтожая ценнейшие рукописи. Мусульмане-арабы, захватившие Александрию, довершили это уничтожение.
Императоры и другие правители, подобно Диоклетиану, не раз сознательно уничтожали древние книги. Какими бы дикими и изуверскими ни казались нам эти действия, они не были простои прихотью. Проступки эти диктовались лишь одним стремлением, стоявшим перед любым правителем: сохранить и упрочить свою власть. Появление же человека или людей, чьи знания делают их чрезвычайно сильными, всегда опасно. Поэтому нас не должен удивить и следующий эпизод.
Однажды Ивану Грозному сообщили, что какой-то иностранный купец привез с собой в Москву много книг. «Царь, — рассказывал в воспоминаниях один из бояр, — узнав об этом, велел часть книг принести к себе. Русским они показались очень мудреными; сам царь не понимал в них ни слова. Поэтому, опасаясь, чтобы народ не научился такой премудрости, он приказал все календари (книги. — А.Г.) забрать во дворец, купцу заплатить, сколько потребовал, а книги сжечь».
Перечень высоких познаний из совершенно разных областей науки, которыми обладали древние, можно было бы продолжить. Полнейшая необъяснимость появления большинства из них заставляет предположить, повторяем, что это остатки знаний, накопленных людьми еще до катастрофы, которую египетская традиция называет обычно «уничтожением человечества».
Можно строить лишь предположения, насколько далеко простирались познания катастрофы. Очевидно, существуют две причины, почему до нас дошли только отдельные и отрывочные обрывки этих знаний. Одна из них заключается в том, что каста посвященных, хранителей этих знаний, не всегда была заинтересована, чтобы они стали всеобщими. Ведь знания дают огромную власть над непосвященными, могут стать источником страшных бедствий.
Другая причина заключается, возможно, в том, что люди сами лишили себя этого наследства. Мы можем только догадываться, судя по уцелевшим отрывкам, какие познания, какие сведения о мире до катастрофы могли содержать рукописи, уничтоженные в Мексике ревностным епископом де Ланда. А древние священные книги, сожженные по приказу верховного инки, запретившего письменность и уничтожившего всякие следы ее!
Из всех обширных библиотек Карфагена уцелело только одно-единственное произведение, которое было переведено па латинский язык. Римляне, стремясь уничтожить культуру карфагенян, его историю, сожгли все.
Так же поступали и мусульманские завоеватели. В завоеванных областях они не только изымали все древние книги и рукописи, но и назначали премии тем, кто отдавал их добровольно. Все собранные таким образом памятники письменности сжигались.
Никто не может теперь сказать, какие сокровища хранили знаменитые библиотеки фараона Хуфу (Хеопса), книгохранилища Седьмой династии или Птолемеев. Одна из библиотек Птолемеев содержала 40 тысяч свитков, другая — 500 тысяч, а по некоторым сведениям даже 700 тысяч свитков. Большинство из них оыло уникально.
Первая, меньшая из библиотек, погибла в 47 году до н. э., когда Юлий Цезарь в гавани Александрии поджег египетский флот и огонь перекинулся на город. Из второй библиотеки император Диоклетиан изъял и уничтожил все тексты, которые содержали магические зиянии. В его правление и г. последующие годы невежественные толпы неоднократно устраивали погромы библиотеки, сжигая и уничтожая ценнейшие рукописи. Мусульмане-арабы, захватившие Александрию, довершили это уничтожение.
Императоры и другие правители, подобно Диоклетиану, не раз сознательно уничтожали древние книги. Какими бы дикими и изуверскими ни казались нам эти действия, они не были простои прихотью. Проступки эти диктовались лишь одним стремлением, стоявшим перед любым правителем: сохранить и упрочить свою власть. Появление же человека или людей, чьи знания делают их чрезвычайно сильными, всегда опасно. Поэтому нас не должен удивить и следующий эпизод.
Однажды Ивану Грозному сообщили, что какой-то иностранный купец привез с собой в Москву много книг. «Царь, — рассказывал в воспоминаниях один из бояр, — узнав об этом, велел часть книг принести к себе. Русским они показались очень мудреными; сам царь не понимал в них ни слова. Поэтому, опасаясь, чтобы народ не научился такой премудрости, он приказал все календари (книги. — А.Г.) забрать во дворец, купцу заплатить, сколько потребовал, а книги сжечь».
* * *
История как наука существует не одно столетие. Великое множество ученых посвятило ей свою жизнь. Открытия и догадки некоторых из них поистине удивительны. Достаточно назвать Г.Шлимана. Тысячи людей читали «Илиаду» и до него, но ни у кого не хватило смелости, руководствуясь лишь певучим гекзаметром гомеровских строк, начать поиски легендарной Трои. Шлиман сделал это. И он нашел Трою. Дерзкая гипотеза сказалась правильной. Норвежский исследователь Тур Хейердал, основываясь на этнографических данных, выдвинул предположение, что между Америкой, Океанией и Азией были какие-то контакты задолго до прихода европейцев. Большинство ученых скептически посмеивалось. Тогда Хейердал строит примитивный плот и сам пересекает на нем необозримые просторы Тихого океана. В последнее время появился ряд гипотез, принадлежащих советским ученым. Выдвинута, например, мысль об искусственном происхождении спутников Марса, о посещении нашей Земли существами из космоса. По их мнению, многие человеческие знания являются принесенными извне. Как и все гипотезы, они имеют и своих противников, и горячих сторонников. Во всяком случае, бесспорно одно: в наши дни далеко не все в ранней истории человечества можно считать доказанным и открытым. То, что вы прочли выше, и было попыткам взглянуть на прошлое несколько под иным углом зрения. Возможно, не все покажется вам убедительным в равной степени. Но, если то, что вы прочли, заставило вас задуматься и усомниться в непреложности некоторых исторических истин, значит, цель, которую ставил перед собой автор, достигнута. Прошлое удивительно и интересно. Это область самых неожиданных находок, смелых открытий и научных гипотез.А. Смуров РАССКАЗ О ПЛАВАЮЩЕМ ОСТРОВЕ
Потому что без полночных сказок Нет житья ни людям, ни зверямВ.Луговской
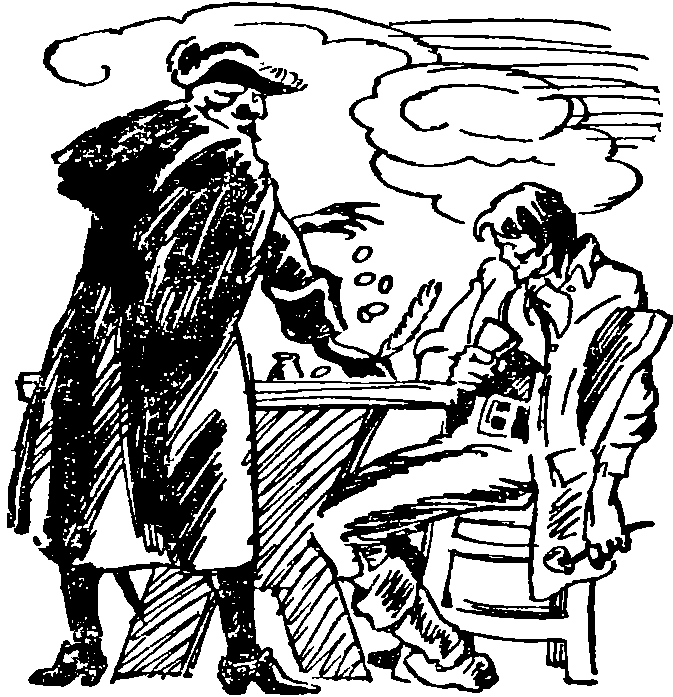 Еще до резолюции мне пришлось съездить в Старосельск, городок, отстоявший примерно на сто километров от железной дороги. Ямщик торопился попасть засветло, но мы проехали заставу, только когда на черном небе уже ярко зажглись северные звезды и в морозном воздухе гулко звенели церковные колокола, призывая ко всенощной. Из неплотно прикрытых ставень на заснеженные улицы падали красноватые полоски огня топившихся печей. Тишина субботнего вечера навевала покой и дрему.
Резко скрипнув полозьями и последний раз прозвеня бубенцами, тройка остановилась у серого бревенчатого дома с тяжелой одностворчатой дверью, обитой ржавыми железными полосами.
— Вот вы, барин, и приехали, — ласково улыбнулся рыжебородый ямщик, доставая мои чемодан. — Через часок и я залягу на печку.
Встретила нас хозяйка дома, сухонькая старушка с приветливым лицом и руками, вымазанными тестом.
— А мой-то Иван Дмитрии в церковь ушел. Извините уж ого: он вас раньше дожидался. Придется вам поскучать в гостиной, пока я по хозяйству управлюсь. С дорожки-то, может быть, закусите до ужина?
От еды я категорически отказался и, сняв шубу, прошел в большую, устланную половиками комнату. Запах сдобного теста сменился крепким смешанным запахом старого дерева, лампадного масла и восковых свечей. При свете бронзовой керосиновой лампы, подвешенной над круглым столом, блестели подлокотники полужесткого орехового дивана, обитого коричневым репсом, и таких же тяжелых кресел с овальными спинками. В простенках высились два трюмо с потускневшими зеркалами. Передний угол был занят божницей со старинными иконами и восьмигранной лампадой рубинового стекла. Б противоположном углу пестрели узорчатые кафели печи с ярко начищенной медной дверкой. Па дверях и на окнах застыли складки портьер темно-коричневого сукна. Фикусы и столетники на высоких подставках полускрывали висевшие на стенах гравюры с изображением старинных кораблей.
На вязаной скатерти стола покоилась толстая книга в потертом кожаном переплете.
К ужину вернулся Иван Дмитриевич, плотный старичок с дымчатой бородой по пояс.
Прежде всего он позаботился, чтобы меня, по его словам, не убила скука:
— Как человеку ученому, хочу подарить вам вот эту книгу, пространное заглавие которой с точностью объясняет самую суть: «Манускрипт, сиречь рукопись, князя Всеволод! Глебовича Белозерского, в коем собственноручно собраны различные занимательные епизоды, до морских и сухопутных дел касающиеся, не без исторического значения оных». Сам я, кроме библия, других книг не читаю, занятый строительством моделей морских судов. А вам в знак родства и особой приязни вручаю данный труд: ваша матушка двоюродной сестрой мне приходится. И, пожалуйста, не протестуйте и нр возражайте. А сейчас пока берите вашу рюмку с прекрасной калганной настойкой и пейте. Замечательное средство против простуды.
Так я сделался обладателем «манускрипта». Этот тяжелый фолиант закован в прочную броню из свиной кожи, натянутой на деревянные дощечки. В нем три сотни листов тряпичной бумаги бледно-голубого цвета, исписанной похожими на тушь не выцветшими от времени чернилами. Я передам вам своими словами записанный в нем рассказ о плавающем острове.
Когда я, гостя в Старосельске, сидел в теплой комнате, слушал вой метели за окном и спокойно перелистывал страницы объемистого труда князя Белозерского, мне, сознаюсь вам откровенно, приятно было чувствовать, что беспокойные и мрачные годы, описанные в особенно заинтересовавшем меня морском «епизоде», унеслись, как уносятся мокрые снежинки, гонимые западным ветром. Старомодная обстановка комнаты как нельзя лучше гармонировала с описанным. Понятнее воспринималась эпоха, в которую жил отец автора, мичман флота князь Глеб Борисович Белозерский, эпоха доносов и арестов, эпоха процветания всяких проходимцев, взлелеянных любимцем императрицы, заносчивым выскочкой Бироном.
Итак, начнем рассказ.
Мичман Белозерский прибыл в Архангельск часов в семь утра и, наскоро закусив горячим рыбником, отправился, как было приказано, на остров Соломбаль.
В просторной избе у входа в Адмиралтейство его ожидал Генрих-Готлиб Гольденберг, назначенным императрицей Анной руководителем Восточной экспедиции. Вошедшего в комнату мичмана приветствовал легким кивком бледный человек с бесцветными глазами и белесыми, как у телят, ресницами. Сидя за чисто выскобленным столом, он не то смахнул трубочный пепел с черного рукава суконного кафтана, не то пригласил гостя сачиться на единственную скамью, приютившуюся у квадратного окна.
Мичман сказал:
— Здравия желаю! — протянул запечатанный конверт и сел на середину скамьи.
Гольденберг медленно потушил трубку, вскрыл конверт, стараясь не повредить печать, и несколько раз перечитал письмо, далеко отставляя его от себя и снова поднося к длинному, искривленному влево носу, как будто определяя по запаху его подлинность.
— О, майн готт! Это есть высокая честь иметь поручение от самой императрицы. Но никакой высокой чести командовать русскими мужиками. — Он потер узловатые пальцы с обкусанными ногтями. — Вы, господин мичман, как мой ближайший помощник, также не совсем довольны этим?
Белозерский презрительно скривил губы:
— Мне, как моряку, случалось разное. Бывало, и на чисто отмытую палубу сверху летела всякая дрянь. Я привык ко всему.
Смех Гольденберга был похож на кваканье лягушки:
— Как вы сказали? Бывало, и снизу дрянь и сверху дрянь. Вы очень остроумный молодой человек. Я думаю, что по окончании рейса буду иметь счастье отлично аттестовать вас его сиятельству герцогу Курляндскому. В вашем роду не было немцев?
На обветренных щеках мичмана вспыхнул багровый румянец.
— Я, государь мой милостивый, имею честь принадлежать к одному из стариннейших русских княжеских родов, ведущих начало от самого Рюрика.
Гольденберг понимающе закивал головой:
— О, Рюрик, Рюрик! Этот северный рыцарь. Колоссаль! Мы с вами будем завтракать вместе.
— Благодарствую, — холодно ответил мичман. — Я уже позавтракал.
— В таком случае, дело — прежде всего. Я сам не буду завтракать, пока мы не примем нашего шкипера.
И, отодвинув окно с натянутым на раме бычьим пузырем, крикнул во двор:
— Позвать господина Рубцова! Живо!
Через несколько минут дверь широко распахнулась, и почти половину комнаты заполнил широкоплечий великан в крытой домашним сукном шубе. Тщательно расчесанная русая борода и подстриженные в кружок волосы, насмешливые голубые глаза и чистое румяное лицо без слов говорили о его происхождении. Предки Рубцова покоились не в монастырских усыпальницах, не в фамильных склепах, даже не под березовыми крестами сельского кладбища. Их последний сон охраняли холодные волны Белого моря, родовой могилы смелых поморов.
— Почто меня спрашивал, господин начальник?. — пробасил Рубцов, не выражая особой почтительности к сидевшему за столом немцу.
Тот кивнул в сторону гостя:
— Вот это есть второй твой начальник — князь…
— Мичман флота князь Глеб Борисов Белозерский. Будем вместе с тобой заправлять морем, поскольку господин Гольденберг в корабельных делах не наторел и только дюж командовать, — улыбнулся мичман.
Гольденберг значительно сказал:
— Сейчас мы будем осматривать наш корабль. Если князь не найдет в нем, как говорится, изъянов, то завтра выходим в море. Я имею строгий приказ от самой государыни. — Он поднял указательный палец. — Едем на корабль.
У причала высилось трехмачтовое судно с округлыми боками яйцевидной формы. На первый взгляд казались неуклюжими и его темные бока, и низкие надпалубные постройки, и маленькие надтрюмные иллюминаторы, и тяжелая носовая часть. Что-то в нем напоминало топор, обращенный вперед не лезвием, а обухом. При этом даже с первого взгляда чувствовалась его особая прочность.
— Как вам нравится подобным деревенский башмак? — Поднимаясь по трапу, Гольденберг презрительно ткнул ногою в одну из дубовых досок правого борта.
Мичман пожал плечами:
— Имея подобные башмаки, можно пешком исходить полсвета. На таком корабле во льдах плавать не страшно. С древних времен поморы округлой формой бортов от ледяного давления спасаются. В России известны такие суда, раньшипами называемые.
— О, вы, русские, любите оригинальничать! Ни в Англии, ни в Голландии таких судов не строят.
В разговор вступил шкипер:
— Невысоко ценил корабельное искусство иноземцев покойный государь император Петр Алексеевич. Возвратясь из Голландии, он самолично изволил сказать моему деду, что тамошние мастера строят просто по навыку и опыту, без всяких хитростных чертежей.
Гольденберг нетерпеливо потряс рукой:
— Да-да-да. Может быть… Но готово ли судно к плаванию?
— Вполне, — сказал Белозерский.
— Можно выходить хоть сейчас, — подтвердил шкипер.
— Тогда я занимаю эту каюту и завтра с рассветом прибуду на судно. У меня еще есть дела в городе. А вы, князь?
— Я сейчас переберусь сюда. На берег сходить не буду. Тебе-то, господин шкипер, есть с кем проститься…
— Нет, ваше сиятельство. Семья моя осталась в Старосельске, откуда и сам я родом. Мой дом — на корабле.
— В Старосельске? — удивился мичман. — Верстах в сорока от него имение наше находится…
Рубцов широко улыбнулся:
— Был раз в имении вашем. По заказу вашего батюшки речную пристань оборудовал.
Гольденберг искоса поглядел на обоих:
— О майн готт! Значит, старые знакомые.
Вечером шкипер постучался в каюту мичмана:
— Простите меня, ваше сиятельство, если совет дам. Будьте подальше от господина Гольденберга. Наслышан я: пакостник он великий и Тайной канцелярии доносчик. К самому герцогу вхож.
Белозерский похлопал Рубцова по плечу:
— Спасибо, Дмитрий Ефимыч. Только я и сам не жалую господина начальника и дружбы его чураюсь.
Начальник экспедиции прибыл на судно с зарею. Лицо его было синее, как у утопленника. Шатающейся походкой он доплелся до дверей каюты и еле слышным голосом приказал вызвать к себе мичмана.
— Я совсем заболел от горя, князь. Вчера вечером при заключении сделки со знакомым купцом я получил письмо из дома. Родителя моей невесты требуют крупный залог в обеспечение нашего счастья.
Белозерский сочувственно посмотрел на немца:
— Что же вы решили, господин Гольденберг?
— Буду несколько дней сидеть в каюте и думать, как раздобыть деньги. Командуйте пока вы.
Мичман поклонился:
— Приложим силы к благополучному завершению экспедиции. Не горюйте, сударь!
Зашуршали распущенные паруса, и корабль повернулся кормой к городу.
Шли, отклоняясь в стороны. Северо-восточный ветер не давал возможности полностью попользовать полезную площадь парусов.
За дни плавания по Белому морю Белозерский хорошо ознакомился с судовой командой. Все матросы показали себя опытными моряками, способными и закреплять снасти и стоять у штурвала. Это были пожилые поморы, с полуслова понимающие приказания шкипера. К Рубцову они относились, как к родному отцу. Сам шкипер частенько захаживал в свободное время в каюту мичмана, любившего послушать неторопливые рассказы бывалого человека.
Подчиненные знали взаимоотношения начальников. Как-то, проходя по верхней палубе, мичман слышал отрывок разговора двух матросов:
— Князь да Дмитрий Ефимов немцу не чета.
— С такими по морю ходить можно.
Гольденберг начал задыхаться в прокуренной каюте. Было душно, и сильно болела голова. У выхода в Студеное море он с кряхтеньем и стонами выбрался на палубу. Какой-то комок вертелся в горле. Приходилось его заглатывать, а сухой рот судорожно ловил холодный ветер и не мог справиться с противным комком. Палуба то вставала перед глазами уходящей к серым облакам стеной, то с грохотом проваливалась куда-то, и в глазах рябило от белых барашков, срываемых ветром с гребней изумрудных воли. Цепко ухватившись за фальшборт. Гольденберг злобно поглядывал на пробегавших мимо веселых матросов. Он поминутно склонялся к бьющим о борт волнам, стараясь освободиться от ворочающегося в горле комка.
— О майн либер мутерхен! Зачем я связался с этой аферой? О деньги, деньги!
Заметив стоявшего на мостике Рубцова, он собрал силы и крикнул пронзительно и жалобно:
— Эй, шкипер! Отверните корабль, чтобы не так качало… Ой, какое мученье!
Тот отрицательно покачал головой:
— Волна захлестнет. Опрокинемся.
Только через неделю после выхода из Архангельска отощавший и ослабевший начальник экспедиции смог проглотить несколько ложек шеи. Мичман, его компаньон по столу, с аппетитом доедал большой кусок солонины.
— Когда мы вернемся, князь, прошу засвидетельствовать, что за все сие время я имею право получить кормовые деньги.
— Да вы, сударь, сидите-ка лучше в каюте, чтобы вас не мутило от волн. Смотрите, какими ледяными горами балует нас Студеное море…
На горизонте проплыла гора, похожая на стоящую у обрыва женщину.
— Точь-в-точь богиня Венус из Летнего сада в Санкт-Петербурге.
— Дорого бы я дал, — прошептал Гольденберг, — чтобы сидеть сейчас там, а не в этой холодной каюте! Но что поделаешь? Сам герцог предложил мне возглавить экспедицию… Да, океан — это не Невская першпектива. Не место для прогулок… Изволь разыскивать в этом хаосе тумана и снега ушедших ранее нас господ Беринга, Чирикова и Шпанберга. Я хоть и не имею морского образования, но могу распорядиться любым предприятием. Его сиятельство герцог очень большого мнения о моих способностях.
В каюту вошел Рубцов:
— Господа начальники, запас пресной воды иссякает. Осталось полторы бочки. На полдень от нас имеется остров. Как изволите распорядиться?
Белозерский внимательно просмотрел висевшую на стене рукописную карту:
— Имеется река. Придется запастись водою.
— Я бы считал излишней подобную остановку, — возразил Гольденберг. — Нам троим запаса воды хватит надолго, а команда может растаивать лед или хлебать морскую водицу. Матросские желудки неприхотливы.
— Видно, что господин начальник не принадлежит к сословию рейтарскому… — начал Белозерский.
— У моего отца в Риге мясная лавка. А что?
— А то, — спокойно продолжал князь, что ни вашему отцу, ни вам, сударь, не ведомо: на непоеной лошади далеко не уедешь. Надо приставать к острову.
Шкипер благодарно взглянул на мичмана:
— Должно, остров обитаем.
Гольденберг презрительно фыркнул:
— Какие же дикари существуют здесь?
— Самоди, а по-нашему — самоедь, господин начальник.
— Пожиратели люден или… как это? Людоеды?
— Никак нет, северные люди, что по снегу сами едут, на лыжах скользить они с давних времен привычны.
Корабль вошел в небольшую бухточку, окруженную голым, пустынным берегом. На невысоких холмах шуршал под ветром сухой кустарник. Только узенькая речка немного оживляла унылую картину, освещенную июньским незаходящим солнцем. Справа от реки темнело около десятка крытых берестой чумов. У входа в крайний играли голые дети. Приземистая женщина в потертой панице и в меховых чулках разрезала костяным ножом оленье мясо.
— Какие животные! — сплюнул Гольденберг. — Нога моя не пройдет по этой земле. Это свиньи, а не люди.
Изнутри на каютной двери загремел засов.
Пообедав в одиночестве, мичман отправил для переговоров со старшиной рода двух поморов, знающих туземный язык, и вместе со шкипером Рубцовым тщательно осмотрел все корабельные помещения.
Через полчаса палуба заполнилась местными жителями. Один помогали матросам грузить бочки с водой, другие дарил» членам экипажа разные изделия из кости, топкие и изящные, как круженные манжеты князя Белозерского. Самоди охотно брали взамен стальные ножи, топоры, багры и другие необходимые в их несложном хозяйстве предметы. Хоть и надеялся Дмитрий Ефимович Рубцов на своих подчиненных, но не уходил с палубы, внимательно следя, чтобы туземцам не было никаких обид и чтобы кто-нибудь из матросов не пустил в обмен судового запаса водки.
А у каюты мичмана старики благодарили князя за подаренные им абордажные кортики. И они предупредили:
— Худо будет. Большой ветер пойдет и великие льды сдвинет. Туман глаза отведет. Снег землю закроет. Начальник хороший человек. Начальнику в воде умирать не надо.
— Худо будет, — поддакивал старейшина. — Сиди у нас.
Ночью погода заметно испортилась. Пошел густой снег. Старинные приметы не солгали.
Запас воды был пополнен, но ни мичман, ни шкипер не решались покинуть остров.
Однажды на палубе появился Гольденберг, закутанный в длинную шубу.
— Долго мы будем… как это по-русски?.. морозить тараканов? Может быть, вам, господин Рубцов, и доставляет особенное удовольствие проживать здесь вместе с этими скотами, а мне нет.
Шкипер показал на обледенелый рангоут:
— Мачты и реи замерзли, господин начальник. Наипаче замерзнем мы с вамп. Сквозь снег даже птица не пробьется к своему гнезду.
— К черту этот остров! — топнул ногой Гольденберг. — Пока мы отсюда не тронемся, я даже на палубу не выйду. Не желаю мерзнуть в этой щели…
Дверь в каюту заскрипела.
— Слава те, господи! — прошептал стоявший у судового колокола седобородый матрос. — Хоть бы век не видеть твоей злющей хари!
Дмитрий Ефимович приложил палеи к губам, а потом погрозил им седобородому.
Корабль застрял на месяц.
Из запертой каюты начальника экспедиции частенько просачивался запах дешевого табака и тминной настойки. Иногда посланный с обедом матрос приносил кушанья обратно. Даже свежее оленье мясо, приобретенное у ненцев, не прельщало обалдевшего от пьянства начальника. II днем и ночью от пего можно было услышать либо ругань, либо невнятное бормотание:
— Проклятая страна! Зачем я поехал в эту Россию?..
— Что будем делать? — спросил Рубцов у мичмана. — Июнь на исходе, а мы летом зимовку устроили. По началу судить не приходится. Из Архангельска шли — радоваться надо. Бойко щи хлебали, а до каши так и не добрались.
Мичман тяжело вздохнул:
— Отойдем с острова — посмотрим. Коли вперед дороги нет, назад возвращаться придется.
Судно обогнуло остров с юга. Долго перед глазами матросов темнели ненецкие чумы, выглядывавшие из-за корявых ветвей кустарника. Долго по берегу бежали местные жители, приветливо махая руками.
Когда островок скрылся за горизонтом, путь кораблю преградили плывущие с севера, размытые водой и иссеченные ветрами ледяные поля. Корабль, обходя их, пытался прорваться к Большой земле, но с каждым часом льдины все плотнее обступали его.
Рубцов вопросительно взглянул на Белозерского, а тот молча показал подзорной трубой на запад.
Слегка накренившись, корабль сделал петлю и лег на обратный курс. Мимо островка ненцев прошли ночью, и даже марсовый не заметил его.
Гольденберга мучила жажда. Проснувшись рано утром и не найдя в своей каюте воды, он, против обыкновения, спустился в трюмное помещение, где отдыхали свободные от вахты матросы. На пустом рундуке колыхалась вода в белой костяной чаше. Жадно глотая успевшую согреться влагу, он увидел на тонком ободке бегущих оленей, преследуемых лыжниками в высоких пимах.
— Что это такое есть? — толкнул он локтем храпевшего рядом седобородого.
Тот протер светло-карие глаза:
— Чашка.
— Сам знаю, что это есть чашка. Откуда?
— Да с острова.
— С какого острова?
— Да где мы воду брали.
— У кого ты ее украл?
— Да господь с вами, господин начальник! Чего пристали? Чашку-то старик один нашему шкиперу подарил. Евонная она, чашка-то.
Схватив чашку, Гольденберг побежал на омываемый солеными брызгами мостик. Крутя ее перед собой, он подскочил к стоявшему у штурвала Рубцову:
— Что это такое есть?
— Чашка.
— Я не то спрашиваю. Я спрашиваю, знаешь ли ты, что это за чашка?
— Ее подарил…
— К черту подарил! Это знаменитая слоновая кость.
— Мы называем ее рыбьим зубом.
— К черту дурацкие названия! Много этого рыбкина зуба на острове?
— Поди, полным-полно, коли чашки из него делают.
— Гром и молния! Куда мы едем?
— Возвращаемся обратно, в Архангельск.
— Как — в Архангельск?
— Его сиятельство приказали, поскольку льды дорогу преграждают.
— Ах, вот что… От острова далеко?
— Почитай, верст свыше согни махнули.
На шум, поднятый Гольденбергом, появился мичман. Собрались и остальные мореходы.
— Вот и вы, князь, кстати. Слушайте мою команду: вернуться на остров и загрузить трюм слоновой костью. Именем его сиятельства герцога Курляндского.
Матросы заволновались.
— Ишь ты! Разбоем ее, что ли, достать? За борт тебя, собачьего сына! — раздались голоса.
— Кто сказал за борт? Перепорю всех! Слово и дело! — визжал, брызгая слюной, Гольденберг.
Пальцы мичмана, сжимавшие подзорную трубу, побелели, а в серых глазах сверкнули искры.
— Стоп! Отставить за борт! А вы, господин хороший, — обернулся он к Гольденбергу, — всех не арестуете. Словом и делом на море не бросаются. Приказание ваше исполнено быть не может: самоедь подданными Российской империи числятся, и никто на них руку без особого государственного решкрипта не поднимет.
Рубцов закивал головою:
— Правду говорит. Мы сами потом в ответе будем.
— Хорошо. Но на остров вернуться приказываю второй раз.
— Ин быть по-вашему, — решил Белозерский. — Готовь, Ефимыч, к повороту!
Рубцов удивленно посмотрел на князя. Тот незаметно подал знак подзорной трубой.
Недоумевающая команда по приказу шкипера полезла на ванты. Корабль лихо развернулся и пошел к востоку.
— Когда бросим якорь, — прохрипел Гольденберг срывающимся от радости голосом, — доложить мне.
В каюте загремел засов.
— В чем дело, ваше сиятельство? — удивился шкипер.
— Так надобно. Ты, Ефимыч, хочешь с подручными Андрея Ивановича Ушакова познакомиться? Вижу, хочешь из Архангельска в Санкт-Петербург кандалами прогреметь, а там с начальником Тайной канцелярии, вися на дыбе, побеседовать? Приказ исполнять надо.
— А остров?
— Леший его знает, на каком он градусе и на какой параллели затерялся. Карта-то рукописная, соврать может. Читал я в одной книге об острове, на коем французские монахи от норманнов спасались. Сколько те святых отцов ни искали, найти не могли. Остров уплывал от разбойников подобно кораблю. Может, самоедь па таком же плавающем острове обретается. Наш начальник не горазд координаты определять, а потому придется мне оным делом заняться.
В ответ Рубцов насмешливо скосил глаза на запертую каюту.
Наполненные попутным ветром паруса не беспокоили команду, и люди хорошо отдохнули. Только мичман почти не выходил из каюты, занятый сложными вычислениями.
На третьи сутки, в полночь, корабль подошел к плывущему с севера ледяному полю.
— Буди немца, Ефимыч! — приказал князь.
Гольденберг выскочил на палубу.
— Остров?
— Никак нет, господин начальник, — отрапортовал Белозерский. — Подошли к ледяной полосе. Прикажете пробиваться дальше или возвращаться?
— А где же остров?
— Не нашли.
— Не может быть!
— Счислял будто правильно, для верности возвращался назад, отклоняясь от курса, а острова не обнаружил.
— Что за черт! Тут дело неладное. Придется мне самому проверить. Где мы сейчас?
— Милях в двухстах восточнее острова.
— Командуйте поворот. Мы проверим каждую, как говорится, ложку воды. Должны найти остров. Я не буду спать месяц и не сойду с мостика, пока не появится остров.
Обратно пришлось идти против ветра. Корабль, меняя галсы, принужден был отклоняться далеко к северу и к югу, снова возвращаться почти к исходному положению и, таким образом, имел возможность проверить пространство до ложки воды. На марсе и по бортам стояли наблюдатели. Гольденберг не спускался с мостика.
При каждом бое склянок мичман определял место и, волнуясь, исписывал мелкими цифрами аршинную грифельную доску.
Через педелю, увидев Рубцова, склоненного над якорным клюзом, он прошептал растерянно:
— А острова-то в самом деле нет.
Гольденберг выходил из себя:
— Гром и молния! Такие чудеса могут быть только в России! Я понимаю, когда бегают крестьяне от помещиков… Но когда бежит целый остров — это возмутительно.
Выругавшись по-русски, он устало махнул рукой:
— Все потеряно. Остается возвращаться домой.
Белозерский прошел в каюту к немцу. Вышел он оттуда, обмахивая разгоряченное лицо какой-то сложенной вдвое бумагой.
По прибытии в Архангельск Рубцов был вызван к губернатору. В приемной никого не было, и шкиперу открыл дверь кабинета плотный лакей с толстым носом и густыми бровями. Сидя в глубоком кресле,начальник губернии потер гладко выбритый подбородок и сказал скрипучим голосом:
— Вот что, Дмитрий Ефимов… ты, кажется, житель Старосельска… Рекомендую тебе во избежание неприятностей пожить некоторое время у себя… на родине…
— Ваше превосходительство, разрешите узнать, в чем дело?
— Да ты, Дмитрий Ефимов, ни в чем не сомневайся. Тебе… м-м… и господин Гольденберг, и мичман князь Белозерский отменную аттестацию дали.
В это время сменные ямщицкие лошади укосили в Петербург Белозерского и Гольденберга.
В Санкт-Петербурге один из членов Адмиралтейств-коллегии, двоюродный дядя мичмана, отвел его в библиотеку и тщательно запер дверь.
— Что там у вас произошло, Глебушка?
Белозерский рассказал о неудачной экспедиции.
— Какие дела творятся на Руси, не приведи господи! Ну, что немец-то опростоволосился — туда ему и дорога, а остальные-то при чем? Конюх-то этот. Курляндским герцогом называемый, дюже осерчал… Следствие хотел затеять. Спасибо, губернатор, приятель мои, Рубцова вашего с глаз упрятал. Теперь тебе придется в Старосельск прогуляться. Со временем все образуется.
Князь удивленно посмотрел на дядины морщинистые желтые щеки.
— Чем провинился шкипер Рубцов?
Дядя скосил черные выпуклые глаза па ярко начищенную решетку камина и, как бы нехотя, произнес:
— Сам знаешь, в какой чести немцы у герцога. Невзлюбил ваш-то господина шкипера и перед отъездом донос на него написал… чтобы по возвращении… ну, сам понимаешь… А потом, как ты рассказываешь, передумал, что ли… И твоя аттестация помогла. Но уехать Рубцову следовало подальше.
— А со мной что, дядя?
— Ты за компанию с этим Гольденбергом попал. Хорошо, что в помощниках у него числился. Тебе приказано уходить в отставку. Сделай милость, уезжай, пока в верхах не передумали. Время смутное.
— А немец?
— Я тебе и говорю, что немец-то опростоволосился. Проболтался герцогу о рыбьем зубе. Тот и рассвирепел. Экое богатство из-под носа уплыло! Немец-то у него по приобретательству подручным был. Со злости послал он Гольденберга обратно в Ригу, мясом торговать. Ногами топал и кричал так, что в приемной слышали: «Тебе не экспедицией командовать, а говядину отвешивать!» Вот дела-то какие…
Получив отставку, князь удалился в свое Старосельское поместье.
Но часто старосельские кумушки удивлялись его золоченой карете, стоявшей у серого бревенчатого дома с тяжелой одностворчатой дверью, обитой железными полосами.
Князь проводил время в гостиной, пропахшей старым деревом, воском и гарным маслом. Рубиновая лампада перед божницей отражалась в двух трюмо и освещала стариков, сидевших в обитых коричневым репсом креслах орехового дерева.
Хозяин дома, голубоглазый старик с окладистой седой бородой, каждый раз обращался к гостю, наливая душистое вино в глубокие резные чашки из кости мамонта:
— Сколько раз мы ни встречаемся, ваше сиятельство, а вы мне об одном так поведать и не изволите: чего ради наш старый приятель, немчура, внезапно гнев на милость переложил и мне добрую аттестацию отписал? По тем временам кандалы да плети в награду за службу обильно раздавались. Думал я, что сия награда и меня не минует. А тут истинным чудом все обернулось. Не вы ли чуду тому сопричастны? Сам видел, как вы аттестацию немца исхлопотали.
Гость, бритый старик, сдвигал топкие брови и хитро улыбался.
— Неладные времена были, Ефимыч. По тем временам, кабы не дядя мой уворотливый, обоим нам горький кус на обед бы достался. Не помогай мы друг другу, живьем бы нас немцы слопали. Видишь, чудо тут невеликое, а проще сказать — никакого нет. Вот я другого в толк не возьму: куда остров наш запропастился? Скажу по чести, Ефимыч, вначале хотел я схитрить и провести корабль мимо острова, потом рассудил: если бы его милость господин Гольденберг заупрямился, мы бы высадили его там, коль ему резная кость по нраву пришлась. Самоедь бы с ним как-нибудь управилась. А вот на тебе, не нашли его. Видно, взаправду он плавающий.
— Эх, ваше сиятельство! Стоит ли сетовать на это? Вначале вы схитрили, а потом я схитрил, вот он, остров-то, и уплыл. По моему разумению, остров для русских рук приспособлен, а в руки жадного немца даватьсч не хотел. Поверьте, будем мы его держать, как сии чаши держим.
Еще до резолюции мне пришлось съездить в Старосельск, городок, отстоявший примерно на сто километров от железной дороги. Ямщик торопился попасть засветло, но мы проехали заставу, только когда на черном небе уже ярко зажглись северные звезды и в морозном воздухе гулко звенели церковные колокола, призывая ко всенощной. Из неплотно прикрытых ставень на заснеженные улицы падали красноватые полоски огня топившихся печей. Тишина субботнего вечера навевала покой и дрему.
Резко скрипнув полозьями и последний раз прозвеня бубенцами, тройка остановилась у серого бревенчатого дома с тяжелой одностворчатой дверью, обитой ржавыми железными полосами.
— Вот вы, барин, и приехали, — ласково улыбнулся рыжебородый ямщик, доставая мои чемодан. — Через часок и я залягу на печку.
Встретила нас хозяйка дома, сухонькая старушка с приветливым лицом и руками, вымазанными тестом.
— А мой-то Иван Дмитрии в церковь ушел. Извините уж ого: он вас раньше дожидался. Придется вам поскучать в гостиной, пока я по хозяйству управлюсь. С дорожки-то, может быть, закусите до ужина?
От еды я категорически отказался и, сняв шубу, прошел в большую, устланную половиками комнату. Запах сдобного теста сменился крепким смешанным запахом старого дерева, лампадного масла и восковых свечей. При свете бронзовой керосиновой лампы, подвешенной над круглым столом, блестели подлокотники полужесткого орехового дивана, обитого коричневым репсом, и таких же тяжелых кресел с овальными спинками. В простенках высились два трюмо с потускневшими зеркалами. Передний угол был занят божницей со старинными иконами и восьмигранной лампадой рубинового стекла. Б противоположном углу пестрели узорчатые кафели печи с ярко начищенной медной дверкой. Па дверях и на окнах застыли складки портьер темно-коричневого сукна. Фикусы и столетники на высоких подставках полускрывали висевшие на стенах гравюры с изображением старинных кораблей.
На вязаной скатерти стола покоилась толстая книга в потертом кожаном переплете.
К ужину вернулся Иван Дмитриевич, плотный старичок с дымчатой бородой по пояс.
Прежде всего он позаботился, чтобы меня, по его словам, не убила скука:
— Как человеку ученому, хочу подарить вам вот эту книгу, пространное заглавие которой с точностью объясняет самую суть: «Манускрипт, сиречь рукопись, князя Всеволод! Глебовича Белозерского, в коем собственноручно собраны различные занимательные епизоды, до морских и сухопутных дел касающиеся, не без исторического значения оных». Сам я, кроме библия, других книг не читаю, занятый строительством моделей морских судов. А вам в знак родства и особой приязни вручаю данный труд: ваша матушка двоюродной сестрой мне приходится. И, пожалуйста, не протестуйте и нр возражайте. А сейчас пока берите вашу рюмку с прекрасной калганной настойкой и пейте. Замечательное средство против простуды.
Так я сделался обладателем «манускрипта». Этот тяжелый фолиант закован в прочную броню из свиной кожи, натянутой на деревянные дощечки. В нем три сотни листов тряпичной бумаги бледно-голубого цвета, исписанной похожими на тушь не выцветшими от времени чернилами. Я передам вам своими словами записанный в нем рассказ о плавающем острове.
Когда я, гостя в Старосельске, сидел в теплой комнате, слушал вой метели за окном и спокойно перелистывал страницы объемистого труда князя Белозерского, мне, сознаюсь вам откровенно, приятно было чувствовать, что беспокойные и мрачные годы, описанные в особенно заинтересовавшем меня морском «епизоде», унеслись, как уносятся мокрые снежинки, гонимые западным ветром. Старомодная обстановка комнаты как нельзя лучше гармонировала с описанным. Понятнее воспринималась эпоха, в которую жил отец автора, мичман флота князь Глеб Борисович Белозерский, эпоха доносов и арестов, эпоха процветания всяких проходимцев, взлелеянных любимцем императрицы, заносчивым выскочкой Бироном.
Итак, начнем рассказ.
Мичман Белозерский прибыл в Архангельск часов в семь утра и, наскоро закусив горячим рыбником, отправился, как было приказано, на остров Соломбаль.
В просторной избе у входа в Адмиралтейство его ожидал Генрих-Готлиб Гольденберг, назначенным императрицей Анной руководителем Восточной экспедиции. Вошедшего в комнату мичмана приветствовал легким кивком бледный человек с бесцветными глазами и белесыми, как у телят, ресницами. Сидя за чисто выскобленным столом, он не то смахнул трубочный пепел с черного рукава суконного кафтана, не то пригласил гостя сачиться на единственную скамью, приютившуюся у квадратного окна.
Мичман сказал:
— Здравия желаю! — протянул запечатанный конверт и сел на середину скамьи.
Гольденберг медленно потушил трубку, вскрыл конверт, стараясь не повредить печать, и несколько раз перечитал письмо, далеко отставляя его от себя и снова поднося к длинному, искривленному влево носу, как будто определяя по запаху его подлинность.
— О, майн готт! Это есть высокая честь иметь поручение от самой императрицы. Но никакой высокой чести командовать русскими мужиками. — Он потер узловатые пальцы с обкусанными ногтями. — Вы, господин мичман, как мой ближайший помощник, также не совсем довольны этим?
Белозерский презрительно скривил губы:
— Мне, как моряку, случалось разное. Бывало, и на чисто отмытую палубу сверху летела всякая дрянь. Я привык ко всему.
Смех Гольденберга был похож на кваканье лягушки:
— Как вы сказали? Бывало, и снизу дрянь и сверху дрянь. Вы очень остроумный молодой человек. Я думаю, что по окончании рейса буду иметь счастье отлично аттестовать вас его сиятельству герцогу Курляндскому. В вашем роду не было немцев?
На обветренных щеках мичмана вспыхнул багровый румянец.
— Я, государь мой милостивый, имею честь принадлежать к одному из стариннейших русских княжеских родов, ведущих начало от самого Рюрика.
Гольденберг понимающе закивал головой:
— О, Рюрик, Рюрик! Этот северный рыцарь. Колоссаль! Мы с вами будем завтракать вместе.
— Благодарствую, — холодно ответил мичман. — Я уже позавтракал.
— В таком случае, дело — прежде всего. Я сам не буду завтракать, пока мы не примем нашего шкипера.
И, отодвинув окно с натянутым на раме бычьим пузырем, крикнул во двор:
— Позвать господина Рубцова! Живо!
Через несколько минут дверь широко распахнулась, и почти половину комнаты заполнил широкоплечий великан в крытой домашним сукном шубе. Тщательно расчесанная русая борода и подстриженные в кружок волосы, насмешливые голубые глаза и чистое румяное лицо без слов говорили о его происхождении. Предки Рубцова покоились не в монастырских усыпальницах, не в фамильных склепах, даже не под березовыми крестами сельского кладбища. Их последний сон охраняли холодные волны Белого моря, родовой могилы смелых поморов.
— Почто меня спрашивал, господин начальник?. — пробасил Рубцов, не выражая особой почтительности к сидевшему за столом немцу.
Тот кивнул в сторону гостя:
— Вот это есть второй твой начальник — князь…
— Мичман флота князь Глеб Борисов Белозерский. Будем вместе с тобой заправлять морем, поскольку господин Гольденберг в корабельных делах не наторел и только дюж командовать, — улыбнулся мичман.
Гольденберг значительно сказал:
— Сейчас мы будем осматривать наш корабль. Если князь не найдет в нем, как говорится, изъянов, то завтра выходим в море. Я имею строгий приказ от самой государыни. — Он поднял указательный палец. — Едем на корабль.
У причала высилось трехмачтовое судно с округлыми боками яйцевидной формы. На первый взгляд казались неуклюжими и его темные бока, и низкие надпалубные постройки, и маленькие надтрюмные иллюминаторы, и тяжелая носовая часть. Что-то в нем напоминало топор, обращенный вперед не лезвием, а обухом. При этом даже с первого взгляда чувствовалась его особая прочность.
— Как вам нравится подобным деревенский башмак? — Поднимаясь по трапу, Гольденберг презрительно ткнул ногою в одну из дубовых досок правого борта.
Мичман пожал плечами:
— Имея подобные башмаки, можно пешком исходить полсвета. На таком корабле во льдах плавать не страшно. С древних времен поморы округлой формой бортов от ледяного давления спасаются. В России известны такие суда, раньшипами называемые.
— О, вы, русские, любите оригинальничать! Ни в Англии, ни в Голландии таких судов не строят.
В разговор вступил шкипер:
— Невысоко ценил корабельное искусство иноземцев покойный государь император Петр Алексеевич. Возвратясь из Голландии, он самолично изволил сказать моему деду, что тамошние мастера строят просто по навыку и опыту, без всяких хитростных чертежей.
Гольденберг нетерпеливо потряс рукой:
— Да-да-да. Может быть… Но готово ли судно к плаванию?
— Вполне, — сказал Белозерский.
— Можно выходить хоть сейчас, — подтвердил шкипер.
— Тогда я занимаю эту каюту и завтра с рассветом прибуду на судно. У меня еще есть дела в городе. А вы, князь?
— Я сейчас переберусь сюда. На берег сходить не буду. Тебе-то, господин шкипер, есть с кем проститься…
— Нет, ваше сиятельство. Семья моя осталась в Старосельске, откуда и сам я родом. Мой дом — на корабле.
— В Старосельске? — удивился мичман. — Верстах в сорока от него имение наше находится…
Рубцов широко улыбнулся:
— Был раз в имении вашем. По заказу вашего батюшки речную пристань оборудовал.
Гольденберг искоса поглядел на обоих:
— О майн готт! Значит, старые знакомые.
Вечером шкипер постучался в каюту мичмана:
— Простите меня, ваше сиятельство, если совет дам. Будьте подальше от господина Гольденберга. Наслышан я: пакостник он великий и Тайной канцелярии доносчик. К самому герцогу вхож.
Белозерский похлопал Рубцова по плечу:
— Спасибо, Дмитрий Ефимыч. Только я и сам не жалую господина начальника и дружбы его чураюсь.
Начальник экспедиции прибыл на судно с зарею. Лицо его было синее, как у утопленника. Шатающейся походкой он доплелся до дверей каюты и еле слышным голосом приказал вызвать к себе мичмана.
— Я совсем заболел от горя, князь. Вчера вечером при заключении сделки со знакомым купцом я получил письмо из дома. Родителя моей невесты требуют крупный залог в обеспечение нашего счастья.
Белозерский сочувственно посмотрел на немца:
— Что же вы решили, господин Гольденберг?
— Буду несколько дней сидеть в каюте и думать, как раздобыть деньги. Командуйте пока вы.
Мичман поклонился:
— Приложим силы к благополучному завершению экспедиции. Не горюйте, сударь!
Зашуршали распущенные паруса, и корабль повернулся кормой к городу.
Шли, отклоняясь в стороны. Северо-восточный ветер не давал возможности полностью попользовать полезную площадь парусов.
За дни плавания по Белому морю Белозерский хорошо ознакомился с судовой командой. Все матросы показали себя опытными моряками, способными и закреплять снасти и стоять у штурвала. Это были пожилые поморы, с полуслова понимающие приказания шкипера. К Рубцову они относились, как к родному отцу. Сам шкипер частенько захаживал в свободное время в каюту мичмана, любившего послушать неторопливые рассказы бывалого человека.
Подчиненные знали взаимоотношения начальников. Как-то, проходя по верхней палубе, мичман слышал отрывок разговора двух матросов:
— Князь да Дмитрий Ефимов немцу не чета.
— С такими по морю ходить можно.
Гольденберг начал задыхаться в прокуренной каюте. Было душно, и сильно болела голова. У выхода в Студеное море он с кряхтеньем и стонами выбрался на палубу. Какой-то комок вертелся в горле. Приходилось его заглатывать, а сухой рот судорожно ловил холодный ветер и не мог справиться с противным комком. Палуба то вставала перед глазами уходящей к серым облакам стеной, то с грохотом проваливалась куда-то, и в глазах рябило от белых барашков, срываемых ветром с гребней изумрудных воли. Цепко ухватившись за фальшборт. Гольденберг злобно поглядывал на пробегавших мимо веселых матросов. Он поминутно склонялся к бьющим о борт волнам, стараясь освободиться от ворочающегося в горле комка.
— О майн либер мутерхен! Зачем я связался с этой аферой? О деньги, деньги!
Заметив стоявшего на мостике Рубцова, он собрал силы и крикнул пронзительно и жалобно:
— Эй, шкипер! Отверните корабль, чтобы не так качало… Ой, какое мученье!
Тот отрицательно покачал головой:
— Волна захлестнет. Опрокинемся.
Только через неделю после выхода из Архангельска отощавший и ослабевший начальник экспедиции смог проглотить несколько ложек шеи. Мичман, его компаньон по столу, с аппетитом доедал большой кусок солонины.
— Когда мы вернемся, князь, прошу засвидетельствовать, что за все сие время я имею право получить кормовые деньги.
— Да вы, сударь, сидите-ка лучше в каюте, чтобы вас не мутило от волн. Смотрите, какими ледяными горами балует нас Студеное море…
На горизонте проплыла гора, похожая на стоящую у обрыва женщину.
— Точь-в-точь богиня Венус из Летнего сада в Санкт-Петербурге.
— Дорого бы я дал, — прошептал Гольденберг, — чтобы сидеть сейчас там, а не в этой холодной каюте! Но что поделаешь? Сам герцог предложил мне возглавить экспедицию… Да, океан — это не Невская першпектива. Не место для прогулок… Изволь разыскивать в этом хаосе тумана и снега ушедших ранее нас господ Беринга, Чирикова и Шпанберга. Я хоть и не имею морского образования, но могу распорядиться любым предприятием. Его сиятельство герцог очень большого мнения о моих способностях.
В каюту вошел Рубцов:
— Господа начальники, запас пресной воды иссякает. Осталось полторы бочки. На полдень от нас имеется остров. Как изволите распорядиться?
Белозерский внимательно просмотрел висевшую на стене рукописную карту:
— Имеется река. Придется запастись водою.
— Я бы считал излишней подобную остановку, — возразил Гольденберг. — Нам троим запаса воды хватит надолго, а команда может растаивать лед или хлебать морскую водицу. Матросские желудки неприхотливы.
— Видно, что господин начальник не принадлежит к сословию рейтарскому… — начал Белозерский.
— У моего отца в Риге мясная лавка. А что?
— А то, — спокойно продолжал князь, что ни вашему отцу, ни вам, сударь, не ведомо: на непоеной лошади далеко не уедешь. Надо приставать к острову.
Шкипер благодарно взглянул на мичмана:
— Должно, остров обитаем.
Гольденберг презрительно фыркнул:
— Какие же дикари существуют здесь?
— Самоди, а по-нашему — самоедь, господин начальник.
— Пожиратели люден или… как это? Людоеды?
— Никак нет, северные люди, что по снегу сами едут, на лыжах скользить они с давних времен привычны.
Корабль вошел в небольшую бухточку, окруженную голым, пустынным берегом. На невысоких холмах шуршал под ветром сухой кустарник. Только узенькая речка немного оживляла унылую картину, освещенную июньским незаходящим солнцем. Справа от реки темнело около десятка крытых берестой чумов. У входа в крайний играли голые дети. Приземистая женщина в потертой панице и в меховых чулках разрезала костяным ножом оленье мясо.
— Какие животные! — сплюнул Гольденберг. — Нога моя не пройдет по этой земле. Это свиньи, а не люди.
Изнутри на каютной двери загремел засов.
Пообедав в одиночестве, мичман отправил для переговоров со старшиной рода двух поморов, знающих туземный язык, и вместе со шкипером Рубцовым тщательно осмотрел все корабельные помещения.
Через полчаса палуба заполнилась местными жителями. Один помогали матросам грузить бочки с водой, другие дарил» членам экипажа разные изделия из кости, топкие и изящные, как круженные манжеты князя Белозерского. Самоди охотно брали взамен стальные ножи, топоры, багры и другие необходимые в их несложном хозяйстве предметы. Хоть и надеялся Дмитрий Ефимович Рубцов на своих подчиненных, но не уходил с палубы, внимательно следя, чтобы туземцам не было никаких обид и чтобы кто-нибудь из матросов не пустил в обмен судового запаса водки.
А у каюты мичмана старики благодарили князя за подаренные им абордажные кортики. И они предупредили:
— Худо будет. Большой ветер пойдет и великие льды сдвинет. Туман глаза отведет. Снег землю закроет. Начальник хороший человек. Начальнику в воде умирать не надо.
— Худо будет, — поддакивал старейшина. — Сиди у нас.
Ночью погода заметно испортилась. Пошел густой снег. Старинные приметы не солгали.
Запас воды был пополнен, но ни мичман, ни шкипер не решались покинуть остров.
Однажды на палубе появился Гольденберг, закутанный в длинную шубу.
— Долго мы будем… как это по-русски?.. морозить тараканов? Может быть, вам, господин Рубцов, и доставляет особенное удовольствие проживать здесь вместе с этими скотами, а мне нет.
Шкипер показал на обледенелый рангоут:
— Мачты и реи замерзли, господин начальник. Наипаче замерзнем мы с вамп. Сквозь снег даже птица не пробьется к своему гнезду.
— К черту этот остров! — топнул ногой Гольденберг. — Пока мы отсюда не тронемся, я даже на палубу не выйду. Не желаю мерзнуть в этой щели…
Дверь в каюту заскрипела.
— Слава те, господи! — прошептал стоявший у судового колокола седобородый матрос. — Хоть бы век не видеть твоей злющей хари!
Дмитрий Ефимович приложил палеи к губам, а потом погрозил им седобородому.
Корабль застрял на месяц.
Из запертой каюты начальника экспедиции частенько просачивался запах дешевого табака и тминной настойки. Иногда посланный с обедом матрос приносил кушанья обратно. Даже свежее оленье мясо, приобретенное у ненцев, не прельщало обалдевшего от пьянства начальника. II днем и ночью от пего можно было услышать либо ругань, либо невнятное бормотание:
— Проклятая страна! Зачем я поехал в эту Россию?..
— Что будем делать? — спросил Рубцов у мичмана. — Июнь на исходе, а мы летом зимовку устроили. По началу судить не приходится. Из Архангельска шли — радоваться надо. Бойко щи хлебали, а до каши так и не добрались.
Мичман тяжело вздохнул:
— Отойдем с острова — посмотрим. Коли вперед дороги нет, назад возвращаться придется.
Судно обогнуло остров с юга. Долго перед глазами матросов темнели ненецкие чумы, выглядывавшие из-за корявых ветвей кустарника. Долго по берегу бежали местные жители, приветливо махая руками.
Когда островок скрылся за горизонтом, путь кораблю преградили плывущие с севера, размытые водой и иссеченные ветрами ледяные поля. Корабль, обходя их, пытался прорваться к Большой земле, но с каждым часом льдины все плотнее обступали его.
Рубцов вопросительно взглянул на Белозерского, а тот молча показал подзорной трубой на запад.
Слегка накренившись, корабль сделал петлю и лег на обратный курс. Мимо островка ненцев прошли ночью, и даже марсовый не заметил его.
Гольденберга мучила жажда. Проснувшись рано утром и не найдя в своей каюте воды, он, против обыкновения, спустился в трюмное помещение, где отдыхали свободные от вахты матросы. На пустом рундуке колыхалась вода в белой костяной чаше. Жадно глотая успевшую согреться влагу, он увидел на тонком ободке бегущих оленей, преследуемых лыжниками в высоких пимах.
— Что это такое есть? — толкнул он локтем храпевшего рядом седобородого.
Тот протер светло-карие глаза:
— Чашка.
— Сам знаю, что это есть чашка. Откуда?
— Да с острова.
— С какого острова?
— Да где мы воду брали.
— У кого ты ее украл?
— Да господь с вами, господин начальник! Чего пристали? Чашку-то старик один нашему шкиперу подарил. Евонная она, чашка-то.
Схватив чашку, Гольденберг побежал на омываемый солеными брызгами мостик. Крутя ее перед собой, он подскочил к стоявшему у штурвала Рубцову:
— Что это такое есть?
— Чашка.
— Я не то спрашиваю. Я спрашиваю, знаешь ли ты, что это за чашка?
— Ее подарил…
— К черту подарил! Это знаменитая слоновая кость.
— Мы называем ее рыбьим зубом.
— К черту дурацкие названия! Много этого рыбкина зуба на острове?
— Поди, полным-полно, коли чашки из него делают.
— Гром и молния! Куда мы едем?
— Возвращаемся обратно, в Архангельск.
— Как — в Архангельск?
— Его сиятельство приказали, поскольку льды дорогу преграждают.
— Ах, вот что… От острова далеко?
— Почитай, верст свыше согни махнули.
На шум, поднятый Гольденбергом, появился мичман. Собрались и остальные мореходы.
— Вот и вы, князь, кстати. Слушайте мою команду: вернуться на остров и загрузить трюм слоновой костью. Именем его сиятельства герцога Курляндского.
Матросы заволновались.
— Ишь ты! Разбоем ее, что ли, достать? За борт тебя, собачьего сына! — раздались голоса.
— Кто сказал за борт? Перепорю всех! Слово и дело! — визжал, брызгая слюной, Гольденберг.
Пальцы мичмана, сжимавшие подзорную трубу, побелели, а в серых глазах сверкнули искры.
— Стоп! Отставить за борт! А вы, господин хороший, — обернулся он к Гольденбергу, — всех не арестуете. Словом и делом на море не бросаются. Приказание ваше исполнено быть не может: самоедь подданными Российской империи числятся, и никто на них руку без особого государственного решкрипта не поднимет.
Рубцов закивал головою:
— Правду говорит. Мы сами потом в ответе будем.
— Хорошо. Но на остров вернуться приказываю второй раз.
— Ин быть по-вашему, — решил Белозерский. — Готовь, Ефимыч, к повороту!
Рубцов удивленно посмотрел на князя. Тот незаметно подал знак подзорной трубой.
Недоумевающая команда по приказу шкипера полезла на ванты. Корабль лихо развернулся и пошел к востоку.
— Когда бросим якорь, — прохрипел Гольденберг срывающимся от радости голосом, — доложить мне.
В каюте загремел засов.
— В чем дело, ваше сиятельство? — удивился шкипер.
— Так надобно. Ты, Ефимыч, хочешь с подручными Андрея Ивановича Ушакова познакомиться? Вижу, хочешь из Архангельска в Санкт-Петербург кандалами прогреметь, а там с начальником Тайной канцелярии, вися на дыбе, побеседовать? Приказ исполнять надо.
— А остров?
— Леший его знает, на каком он градусе и на какой параллели затерялся. Карта-то рукописная, соврать может. Читал я в одной книге об острове, на коем французские монахи от норманнов спасались. Сколько те святых отцов ни искали, найти не могли. Остров уплывал от разбойников подобно кораблю. Может, самоедь па таком же плавающем острове обретается. Наш начальник не горазд координаты определять, а потому придется мне оным делом заняться.
В ответ Рубцов насмешливо скосил глаза на запертую каюту.
Наполненные попутным ветром паруса не беспокоили команду, и люди хорошо отдохнули. Только мичман почти не выходил из каюты, занятый сложными вычислениями.
На третьи сутки, в полночь, корабль подошел к плывущему с севера ледяному полю.
— Буди немца, Ефимыч! — приказал князь.
Гольденберг выскочил на палубу.
— Остров?
— Никак нет, господин начальник, — отрапортовал Белозерский. — Подошли к ледяной полосе. Прикажете пробиваться дальше или возвращаться?
— А где же остров?
— Не нашли.
— Не может быть!
— Счислял будто правильно, для верности возвращался назад, отклоняясь от курса, а острова не обнаружил.
— Что за черт! Тут дело неладное. Придется мне самому проверить. Где мы сейчас?
— Милях в двухстах восточнее острова.
— Командуйте поворот. Мы проверим каждую, как говорится, ложку воды. Должны найти остров. Я не буду спать месяц и не сойду с мостика, пока не появится остров.
Обратно пришлось идти против ветра. Корабль, меняя галсы, принужден был отклоняться далеко к северу и к югу, снова возвращаться почти к исходному положению и, таким образом, имел возможность проверить пространство до ложки воды. На марсе и по бортам стояли наблюдатели. Гольденберг не спускался с мостика.
При каждом бое склянок мичман определял место и, волнуясь, исписывал мелкими цифрами аршинную грифельную доску.
Через педелю, увидев Рубцова, склоненного над якорным клюзом, он прошептал растерянно:
— А острова-то в самом деле нет.
Гольденберг выходил из себя:
— Гром и молния! Такие чудеса могут быть только в России! Я понимаю, когда бегают крестьяне от помещиков… Но когда бежит целый остров — это возмутительно.
Выругавшись по-русски, он устало махнул рукой:
— Все потеряно. Остается возвращаться домой.
Белозерский прошел в каюту к немцу. Вышел он оттуда, обмахивая разгоряченное лицо какой-то сложенной вдвое бумагой.
По прибытии в Архангельск Рубцов был вызван к губернатору. В приемной никого не было, и шкиперу открыл дверь кабинета плотный лакей с толстым носом и густыми бровями. Сидя в глубоком кресле,начальник губернии потер гладко выбритый подбородок и сказал скрипучим голосом:
— Вот что, Дмитрий Ефимов… ты, кажется, житель Старосельска… Рекомендую тебе во избежание неприятностей пожить некоторое время у себя… на родине…
— Ваше превосходительство, разрешите узнать, в чем дело?
— Да ты, Дмитрий Ефимов, ни в чем не сомневайся. Тебе… м-м… и господин Гольденберг, и мичман князь Белозерский отменную аттестацию дали.
В это время сменные ямщицкие лошади укосили в Петербург Белозерского и Гольденберга.
В Санкт-Петербурге один из членов Адмиралтейств-коллегии, двоюродный дядя мичмана, отвел его в библиотеку и тщательно запер дверь.
— Что там у вас произошло, Глебушка?
Белозерский рассказал о неудачной экспедиции.
— Какие дела творятся на Руси, не приведи господи! Ну, что немец-то опростоволосился — туда ему и дорога, а остальные-то при чем? Конюх-то этот. Курляндским герцогом называемый, дюже осерчал… Следствие хотел затеять. Спасибо, губернатор, приятель мои, Рубцова вашего с глаз упрятал. Теперь тебе придется в Старосельск прогуляться. Со временем все образуется.
Князь удивленно посмотрел на дядины морщинистые желтые щеки.
— Чем провинился шкипер Рубцов?
Дядя скосил черные выпуклые глаза па ярко начищенную решетку камина и, как бы нехотя, произнес:
— Сам знаешь, в какой чести немцы у герцога. Невзлюбил ваш-то господина шкипера и перед отъездом донос на него написал… чтобы по возвращении… ну, сам понимаешь… А потом, как ты рассказываешь, передумал, что ли… И твоя аттестация помогла. Но уехать Рубцову следовало подальше.
— А со мной что, дядя?
— Ты за компанию с этим Гольденбергом попал. Хорошо, что в помощниках у него числился. Тебе приказано уходить в отставку. Сделай милость, уезжай, пока в верхах не передумали. Время смутное.
— А немец?
— Я тебе и говорю, что немец-то опростоволосился. Проболтался герцогу о рыбьем зубе. Тот и рассвирепел. Экое богатство из-под носа уплыло! Немец-то у него по приобретательству подручным был. Со злости послал он Гольденберга обратно в Ригу, мясом торговать. Ногами топал и кричал так, что в приемной слышали: «Тебе не экспедицией командовать, а говядину отвешивать!» Вот дела-то какие…
Получив отставку, князь удалился в свое Старосельское поместье.
Но часто старосельские кумушки удивлялись его золоченой карете, стоявшей у серого бревенчатого дома с тяжелой одностворчатой дверью, обитой железными полосами.
Князь проводил время в гостиной, пропахшей старым деревом, воском и гарным маслом. Рубиновая лампада перед божницей отражалась в двух трюмо и освещала стариков, сидевших в обитых коричневым репсом креслах орехового дерева.
Хозяин дома, голубоглазый старик с окладистой седой бородой, каждый раз обращался к гостю, наливая душистое вино в глубокие резные чашки из кости мамонта:
— Сколько раз мы ни встречаемся, ваше сиятельство, а вы мне об одном так поведать и не изволите: чего ради наш старый приятель, немчура, внезапно гнев на милость переложил и мне добрую аттестацию отписал? По тем временам кандалы да плети в награду за службу обильно раздавались. Думал я, что сия награда и меня не минует. А тут истинным чудом все обернулось. Не вы ли чуду тому сопричастны? Сам видел, как вы аттестацию немца исхлопотали.
Гость, бритый старик, сдвигал топкие брови и хитро улыбался.
— Неладные времена были, Ефимыч. По тем временам, кабы не дядя мой уворотливый, обоим нам горький кус на обед бы достался. Не помогай мы друг другу, живьем бы нас немцы слопали. Видишь, чудо тут невеликое, а проще сказать — никакого нет. Вот я другого в толк не возьму: куда остров наш запропастился? Скажу по чести, Ефимыч, вначале хотел я схитрить и провести корабль мимо острова, потом рассудил: если бы его милость господин Гольденберг заупрямился, мы бы высадили его там, коль ему резная кость по нраву пришлась. Самоедь бы с ним как-нибудь управилась. А вот на тебе, не нашли его. Видно, взаправду он плавающий.
— Эх, ваше сиятельство! Стоит ли сетовать на это? Вначале вы схитрили, а потом я схитрил, вот он, остров-то, и уплыл. По моему разумению, остров для русских рук приспособлен, а в руки жадного немца даватьсч не хотел. Поверьте, будем мы его держать, как сии чаши держим.
РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ВАН СТРААТЕНЕ, ПРОЗВАННОМ ЛЕТУЧИМ ГОЛЛАНДЦЕМ
Ты ли, Голландец Летучий, Вновь распустил паруса?Э.Багрицкий
Ветер рвал паруса невидимого корабля. Далекая музыка гобоя отмечала путь. Летучего Голландца в неведомых водах.В начале нашего века мои дядя, Иван Иванович Веретенников, работал в одном парижском издательстве. Владельцы этого издательства интересовались бретонскими легендами, материалами по истории Арморикского королевства и средневековыми хрониками, посвященными герцогству Бретани. По делам фирмы дядя частенько бывал в местах, почти не известных географам, и привык к маленьким тихим приморским городам с кривыми улочками и домами, глядящими в прошлое. В летние дни он с наслаждением вдыхал запах гаваней, крепкий запах разогретой солнцем корабельной смолы, канатов, рыбы и соленой морской воды. Осенними вечерами он слушал равномерный шум воли, разбивавшихся о прибрежные камни. Весенними утрами любовался белыми простенькими цветами плюща, висевшего живым ковром па стенах островерхих, крытых черепицей домов. Он торопился к похожему на старый гриб букинисту за обещанной редкой книгой или старинной рукописью с затейливыми, ярко раскрашенными миниатюрами. В зимние ночи он возвращался домой из пропахших матросским табаком харчевен под впечатлением вновь услышанных рассказов и преданий, мельком бросая взгляды па закутанные влажным туманом камни знакомых улиц. Когда приятели подшучивали над его работой, он добродушно улыбался: «Чтобы вырастить цветы, надо ухаживать за ростками и выбирать из них необходимые нам. В этих трогательных старых и спокойных городишках, пустынную тишь которых нарушают лишь рокот моря, туманные сигналы и редкий звон церковных колоколов, ищите живую историю. Там рождались не только сказки и суеверия, а задумчиво-гордые люди с простыми, но горячими сердцами. Их трудом возведены и эти городишки, и многовековая своеобразная культура кельтов. История-то ведь не сегодня начинается…» Однажды судьба забросила его в маленький портовый городок, имеющий теперь значение только для рыболовов. Своим жилищем он выбрал затерянный в зелени дом, построенный пять столетий назад. Это был дом с окнами, пропускавшими свет сквозь густую листву заросшего сада, с толстой дверью из почерневшего дуба и тяжелым молотком вместо звонка, с традиционной готической крышей, с массивной мебелью, столетиями стоявшей на раз предназначенных для нее местах. Ему понравился особенный запах давно нежилых комнат, огромные пасти каминов, мерное тиканье и башенный звон похожих на шкаф часов и мягкие ковры, заглушавшие суетливый стук каблуков. Кроме пего, в доме никто не жил. Только по утрам строгая пожилая бретонка приходила убрать комнаты и приготовить несложный обед. Знакомства в этом городке завязывались нескоро. Дядя мог не бояться назойливых посетителей и свободно наслаждаться одиночеством, проводя вечера либо в портовых тавернах, либо у себя дома за разборкой полуистлевших манускриптов. Но в первый же вечер, когда он рассчитывал поработать дома, постучали во входную дверь. Как он удивился, когда местный почтальон положил на стол пергаментный конверт! — Извините меня, мосье! Вам письмо. — Мне? Но я так скоро не ожидаю никакого письма. — Извините, мосье! Письмо адресовано на этот дом. Притом оно без марки, мосье. II очень тяжелое. Простите, но нам сейчас придется совершить кое-какие формальности… с вами, если мадемуазель не сможет или не захочет получить его лично. — Какая мадемуазель? Я живу один в этом доме. Моя служанка живет не здесь. И она не мадемуазель, а вдова или что-то в этом роде. — Тысяча извинений, мосье! Но, согласно почтовым правилам, письмо должно быть вручено. Тем более без марки и такое тяжелое, мосье. Если адресата и нет, то он должен быть. Почтовые правила в этом отношении непоколебимы, как закон. Видя, что не ему, пигмею Веретенникову, бороться с грозным великаном — почтовым ведомством французской республики, дядя взял в руки объемистый, пожелтевший от времени конверт. Адрес был написан правильно (чего не оспоришь), старинным почерком, каким писали два столетия назад. Письмо предназначалось некой мадемуазель Гарэн-Марп де Карадок. Получив чаевые, почтальон горячо поблагодарил и скрылся, оставив в руках Ивана Ивановича тяжелый конверт с загадочным письмом, владелицу которого предстоит разыскивать по милости французской почты. Ни штемпель города Гонконга, ни печать с неизвестным гербом не могли разрешить недоумения. Лучше было не думать о полученном письме до завтра, надеясь на пословицу «Утро вечера мудренее». Но и утро не помогло. Служанка ничего не могла сообщить о личности мадемуазель де Карадок. Справки в полиции также не принесли никаких результатов. Соседи ничего не знали об адресате. Можно было бы позабыть о письме, по его присутствие вызывало странное беспокойство. Все, к кому ни приходилось обращаться, проявляли несвойственную спокойным бретонцам энергию, пытаясь помочь дяде. Были ли их старания вызваны любопытством или любезностью по отношению к приезжему человеку, по русский гость принимал это как должное. Дня через три приходский кюре сообщил ему, что конфирмация мадемуазель Гарэн-Мари де Карадок состоялась в его церкви ровно двести четыре года назад. Наиболее полные сведения были получены от мэра, представившего несколько документов из муниципальных архивов. Таким образом, Иван Иванович узнал, что таинственная незнакомка была единственной дочерью Рэне-Амбруаза де Карадока, капитана флота его величества короля Людовика XIV, владелицей дома, в котором он проживал, и умерла от какой-то болезни в двадцатисемилетнем возрасте, незамужней, в Лориане, куда она поехала отыскивать своего жениха. Дом этот после ее смерти унаследовал двоюродный брат, носивший другую фамилию. И больше фамилия Карадоков среди владельцев дома и его обитателей не встречалась. Гарэн-Мари выехала в Лориан, когда ей было двадцать лет. Следовательно, письмо опоздало вручением ровно на двести лет. Гонконг было бесполезно запрашивать: письмо мог сдать на почту всякий, кому заблагорассудится, и ни один сыщик не взялся бы установить личность отправителя. Оставалось только одно: вскрыть конверт и ознакомиться с содержанием. Заручившись любезным разрешением мэра, мой дядя поспешил домой и с нетерпением вскрыл пакет. В нем было обширное письмо, написанное тем же почерком, что и адрес. Вот его содержание, приведенное без каких-либо сокращений или изменений. «Моя дорогая, горячо любимая Гарэн! Не родился еще живописец, краски которого могли бы достойно изобразить светлое сияние красоты твоей. Не было еще на нашей земле музыканта, способного нежными звуками воспроизвести переливы твоего голоса. И ни один трагический актер не смог бы своим божественным искусством передать тоску по тебе, далекой, как звезда, сверкающая в первых лучах денницы. Днем и ночью шепчу твое имя. Оно для меня — заклятье от бед, налетевших на меня подобно толпе эриний. Оно — светлый луч в мрачном лабиринте, в котором заблудилась моя жизнь с того времени, как я послал последний привет тебе, королева моего сердца. Да не оскорбятся глаза твои тем, что опишу тебе с возможной подробностью, стилем искренним, но не совсем приличным для разговоров с прелестными повелительницами наших сердец и жизней. Когда я вспоминаю все, что произошло со мною за последнее время, то не могу отличить сна от яви, действительности от призраков, жизни от смерти. Как будто рок ввергнул меня в пучины преисподней, и я, как Орфей или Дант, брожу среди ее мрачных лесов и скал, в царстве кошмаров и фантасмагорий. Началось это год назад, во время нашего плавания по Индийскому океану. Было тихо, и, кроме рулевого и меня, на вахте никого не было. Мы шли курсом норд-норд-ост теплой безлунной ночью, не ожидая встреч на пустынном просторе волн, разрезаемых килем нашего корвета. Я только что сделал последнюю запись с судовом журнале и поднялся на мостик, как увидел прямо перед собой очертания мачт странного корабля. На его клотиках и реях беспрестанно вспыхивали белые огни, горевшие холодным светом и освещавшие темные надутые паруса. Ветра се было, но корабль мчался на нас с неимоверной быстро-юн, точно его подгоняла невидимая буря. Когда он подошел ближе, я заметил, что на его бортах блестят такие же огни, как и на мачтах. Это было большое старинное трехмачтовое судно голландской постройки, из тех, что бороздили океаны лет сто — полтораста назад. Я приказал рулевому отвернуть вправо, но встречный корабль явно шел на сближение. Какое-то непонятное оцепенение не позволило мне поднять тревогу, тем более что по отношению к нам корабль не проявлял никакой враждебности и в этих водах мы не встречали ни неприятельских, ни пиратских судов. Мы с рулевым как завороженные смотрели на освещенный мертвыми огнями черный корабль. Еще мгновенье — и он прошел почти борт о борт с нами. На его мостике стоял высокий бледный мужчина с черной бородой и огненными глазами. Вцепившись в поручни и жадно вглядываясь в сторону юго-запада, он кричал по-голландски: «К мысу Бурь! К мысу Бурь!» Все это продолжалось несколько секунд. Таинственный корабль исчез в темноте ночи, точно растаял, как льдина, брошенная в крутой кипяток. Даже волны, рассеченные им, не ударились с привычным шумом о волны, рассекаемые нашим корветом, как будто корабль проплыл по воздуху. Только тогда мы очнулись. — Пресвятая дева Мария! Да сохранит нас бог! — пробормотал рулевой. — Эго «Летучий Голландец»! Больше он ничего не сказал, и я, стараясь не обнаружить беспокойства, пошел в рубку. Когда я записывал в судовом журнале эту встречу, тонкие линии букв получились волнистыми, как хребты валов во время начинающегося прилива. Следующий день прошел без приключений, по вся команда мрачно посматривала на юго-запад, а наш судовой кюре долго перебирал четки, и в глазах его, обращенных к небу, были надежда и скорбь. Никто не упомянул имени проклятого корабля, но это безмолвие было страшнее стонов и ругани. Как будто на корвете появился покойник. Несчастье произошло в следующую ночь. Мой сон прервал сильный толчок, выбросивший меня из гамака. Рев ветра и всплески воды заглушали встревоженные голоса наших матросов. Наскоро одевшись, я выбежал па палубу. Корвет тонул, наскочив в темноте на какой-то неизвестный предмет. В носовую пробоину широким потоком вливалась вода. Бесполезно было предпринимать что-нибудь. Катастрофа разразилась неожиданно и неотвратимо. Наши шлюпки сорвались в океан и исчезли в ночной темноте. Гибель была неминуемой. Оставалось только прыгнуть за борт и как можно скорее отплыть от тонущего судна, чтобы не попасть в водоворот. Долго ли я плыл, не знаю. Может быть, меня просто уносило волнами без всякого с моей стороны противодействия их роковой силе. Временами я терял сознание, и, когда я вновь приходил в себя, надо мною висело черное небо, а вокруг прыгали темные ночные волны. Я был совершенно один, и только твое имя, Гарэн, спасло меня от сумасшествия. Силы мои не иссякали, но мертвый сон все чаще и чаще отуманивал голову, пока наконец не погрузил меня в небытие. Очнулся я в небольшой каюте. Солнечный луч пробивался сквозь шелковую старинную ткань занавески иллюминатора. Первое, что я увидел, было странное лицо матроса, заботливо склоненное надо мной. Глаза его были бесцветны и тусклы, а щеки словно изъедены крысами. От него сильно пахло йодом и морской солью. Встретив мой удивленный взгляд, он поднял голову и сказал глухим, деревянным голосом: — Слава создателю, мин rep! Капитан очень беспокоится о вашем здоровье. — Где я? — Вы на лучшем судне. Равного не было еще со дня сотворения мира и никогда не будет, мин гер! — Кто ваш капитан? — Лучший кораблеводитель во всей Вселенной — капитан ван Страатен. — Летучий Голландец? Но как я попал к вам? — Так угодно было судьбе, мин гер! Мы подобрали вас в море после крушения вашего корвета. Только вы один спаслись, мин гер! И теперь вы будете плавать с нами до дня страшного суда, потому что накануне гибели вашего корвета вы встретились глазами с нашим капитаном. Если бы и ваш рулевой тогда посмотрел в его глаза, он тоже был бы вместе с вами на борту этого корабля. Ты не можешь представить себе, дорогая Гарэн, мои чувства после разговора с матросом. Мне казалось, что все это сон, что не было никакого кораблекрушения, что я нахожусь под впечатлением ночной встречи после моей вахты, о которой я рассказал тебе. Когда я очнулся снова, то был одни. В открытый иллюминатор дышал свежий солоноватый ветер, а занавеска трепетала, как праздничным флаг. В каюте стояла тяжелая, привинченная к полу мебель из черного дуба. Переборки были обиты толстой тисненой кожей. Запахи старого дерева и вытканных золотом шелковых материй смешивались с йодисто-соленым запахом моря и чего-то почти неуловимого, приторно-сладковатого. На полу расстилался мягкий восточный ковер. Я попробовал встать и удивился необычайной легкости и гибкости своих членов. Судно слегка покачивало. Через иллюминатор я видел окрашенные вечерним багрянцем волны океана и изредка — белые острые крылья альбатросов на розовом закатном небе. События последних дней промелькнули в памяти как что-то постороннее, будто картины, увиденные из окна дилижанса. Раздался легкий стук в переборку. На мой оклик в каюту вошел уже знакомый матрос. Запах йода и чего-то сладковатого усилился. — Мин rep, если вы чувствуете себя достаточно хорошо, то капитан просит вас посетить его каюту. Я молча и решительно отправился вслед за посланцем, для того чтобы понять наконец все происходящее со мною и вокруг меня. Моя каюта была в кормовой части судна, капитанская — на юте. Такие же кожаные обои, такая же массивная мебель, только более богатой отделки, и каюта — обширнее моей. На пороге меня встретил высокий мужчина с бледным, будто освещенным светом лицом, с темной, слегка курчавящейся бородой и с горящими, как смоляные факелы, глазами. Одет он был в морской костюм того покроя, который любили голландские капитаны сто или полтораста лет назад. Я представился. Хозяин крепко пожал мне руку: — Капитан Ван Страатен. Он пригласил меня к столу и калил в золотые кубки работы Бенвенуто Челлини красного, как кровь, бургундского вина. — Вы невольный гость на моем корабле, и теперь, хотите вы того или не хотите, но нам с вамп придется жить и работать, может быть, не одно столетие. Не удивляйтесь ничему, это будет самое лучшее. Как вы себя сейчас чувствуете? — Благодарю вас, капитан. Но разрешите задать вам одни вопрос: я до сих пор не пойму, где я нахожусь и что будет дальше со мной. — Вы, дорогой друг, находитесь на корабле Летучего Голландца, как меня прозвали и о котором легкомысленные люди сложили много нелепых легенд. Вы среди искренних друзей, иначе никогда не попали бы на этот борт. Я вас знаю со дня вашего рождения, как и всех моряков мира. Иногда, в силу не зависящих от меня обстоятельств, мне приходится восполнять убыль своего экипажа методами, странными для всякого моряка, сходящего на землю, и, к сожалению, весьма обычными для меня. До гибели вашего корвета, в которой, поверьте моему слову, я не столь уж виноват, на моем корабле была вакансия вахтенного офицера. А команда моего корабля должна всегда быть полной. Так уж установлено не моей волей и не моим желанием. Вы один из лучших вахтенных офицеров флота и будете им на этом судне. Сегодня отдохните, а завтра можете приступать к своим обязанностям. Пока он говорил, я внимательно всматривался в его лицо. В его резких чертах непоколебимая сила воли смягчалась грустью и приветливостью. Странно, я не чувствовал ни удивления, ни сожаления о случившемся, ни страха. Наоборот, меня влекла к капитану необъяснимая симпатия, как будто мы были друзьями не один десяток лет. Трудно объяснить, но мне казалось, что ради капитана я был бы способен на любой безумный поступок. Капитан смотрел на меня с сожалением и искренней симпатией. — Увы! Не все на земле зависит от наших желании, — продолжал он. — Я знаю, у вас есть прекрасная невеста, которая будет ждать и искать вас. Единственное, что в моих силах, — предоставлять вам возможность писать ей письма. Большего вы сами теперь не пожелаете. В этом вы убедитесь через некоторое время. Но ваше положение лучше моего. Вы не виноваты пи в чем. Вас привело сюда несчастье, а меня — безумие и гордость. Вы можете избавиться от своего положения, а меня избавит либо последний день мира, либо невозможное. Поэтому будем друзьями. Больше пока ничего не скажу. Со временем вы поймете все сами. Теперь, если хотите, осмотрите корабль и его снаряжение. Я вышел на палубу. Первый, кого я увидел, был стоящий па вахте офицер со смуглым, подвижным лицом и лихо закрученными усами. — О ля-ля! — весело приветствовал он меня. — Лучший город в мире — Перпиньян, лучшее вино — коньяк, самый беспутный человек — виконт д’Арманьян, ваш покорнейший слуга. Давно вы утонули, мосье? Видя мое удивленное лицо, он улыбнулся: — Разве вы не знаете, что на этом прелестном корабле весь экипаж, за исключением капитана, состоит из утопленников? Признаться, не очень веселое общество. Но лучше быть живым утопленником, чем мертвым телом, мирно разлагающимся в земле. Это я твердо усвоил во время своего тридцатилетнего плавания на пашей божественной посудине. Ко всему привыкаешь, мосье. Даже к роли забавного утопленника, носящегося по южным морям. Ради чего? Ради несбыточной мечты пройти трижды подряд у мыса Бурь. А от пего черт ловко отбрасывает нас, как бильярдный шар от лузы. Такие-то дела, мосье! У нас с вами богатейшие возможности. Работа не тяжелая. Никаких поломок и аварий. Позади — бренная жизнь со всеми ее треволнениями. Впереди- почти вечность, если быть благоразумным. И иногда приятные шалости с миленькими портовыми девчонками. Самое главное- не засиживаться на земле после трех часов ночи. Я вижу, вы еще не привыкли к нашему положению. Ничего, мосье! Бодро смотрите вперед и благословляйте существование, отпущенное нам милосердным богом после смерти. Это куда приятнее, чем поджариваться в аду или прозябать в чистилище! Так начались мои знакомства на новом судне. Вторым и несомненно весьма значительным лицом, кого я встретил на палубе, был штурман, плотный, краснощекий пожилой англичанин с тщательно подбритыми бачками, нацелившийся подзорной трубой в неизмеримое пространство океана. Увидев меня, он опустил свой инструмент, медленно оглядел меня с ног до головы и вежливо представился: — Баронет Рандольф Уинслоу, штурман дальнего плавания. С кем имею честь, сэр? Я назвал себя и сообщил о той роли, какая предназначена мне на этом судне. — Очень приятно, сэр! Вы приступаете к своим обязанностям завтра? Для того чтобы они были вам вполне понятны, считаю своим долгом сообщить следующее. Наш достоуважаемый капитан еще в дни своей молодости — не могу знать, из каких побуждений, — поклялся страшной клятвой, что, несмотря ни на какую погоду, три раза подряд минует мыс Бурь, самое гиблое место в мире, как вы сами знаете, сэр. Не осуждая старшего начальника, могу сказать, что это было весьма рискованное обещание. Оно, конечно, не выполнено. Небесный судия, не желая рассматривать капитана Ван Страатена как клятвопреступника, обрек его на блуждание по южным морям до того времени, пока он не выполнит свой обет. Но повелитель ада всячески препятствует этому, желая дотянуть дело до страшного суда и таким образом приобрести душу нашего капитана и вверенный ему корабль, хотя бы с учетом амортизации. Наша задача вполне ясна; совершить троекратное путешествие мимо мыса Бурь. Средства к ее осуществлению: корабль несколько устаревшего типа, но прекрасно экипированный, с прочным, не подвергающимся разрушительному влиянию времени рангоутом, стоячим и бегучим такелажем. Это — во-первых. Во-вторых, опытный экипаж, набранный хотя и из утопленников, как мы с вами, сэр, но добросовестных, знающих свое дело моряков. В-третьих, воля к достижению цели, ибо благополучное завершение наших трудов предполагает прощение всех земных грехов и отдых от вечных блужданий по океану. Должен оговориться. У некоторой части команды бывают минуты уныния и отчаяния. Они особенно остро сказываются раз в семь лет, во время высадки на берег. Это выражается в отдельных безумных поступках, чему, может быть, со временем вы будете свидетелем. Означенные печальные поступки затрудняют и тормозят наше общее дело. Что касается меня, то за свою пятидесятилетнюю службу на этом корабле я еще ни разу не жаловался на сбою судьбу. Наоборот, очень доволен, что она дала мне возможность применить свои скромные познания и намного углубить их под руководством такого опытного судоводителя, как капитан Ван Страатен. Надеюсь, сэр, что в вашем лице мы встретим не поддающегося панике волевого офицера, способного оказать нам ценные услуги в достижении поставленной перед нами благородной цели. Затем желаю вам спокойного отдыха и свежих сил. С этими словами чудаковатый штурман церемонно раскланялся, крепко пожал мне руку и снова поднял подзорную трубу. Осмотр корабля убедил меня в правоте характеристик виконта и штурмана. Спокойно отправился я в свою каюту, где меня ожидал приставленный ко мне вестовой, бретонец из Бреста, седой матрос с глазами, напоминающими осенние волны в Северном море. Утомленный всем увиденным и услышанным, я сразу отпустил его и заснул мертвым сном. Со следующего дня началась моя служба на корабле. Не буду описывать ее, так как ее однообразие навеяло бы на тебя тоску, моя дорогая, и повесть о ней заняла бы слишком много места и времени, а ее особенности заинтересовали бы только твоего уважаемого покойного отца. Отмечу лишь одно обстоятельство. Весь экипаж прилагал неимоверные, по бесполезные усилия для того, чтобы достичь заколдованного мыса Бурь. Ветер уносил нас к нему, как поднявшийся ураган уносит подхваченные щепки. И, когда мы подходили к мрачным скалам, этот же ветер, внезапно переменив направление, гнал нас обратно, до самых берегов сказочного острова Ципангу. Мы носились по океанам как безумные, тщетно убирая и поднимая паруса, перекладывая руль и ища ошибок в прокладке курса. На своем пути мы не встречали пи одного судна, пи одной гавани. Нас окружали только небо и море. Небо безмолвствовало, а море приветствовало фонтанами выплывающих на поверхность китов и сверкающими на солнце спинами акул. Матросы тщательно выполняли порученную им работу, а неутомительная вахта сменялась часами грустного безделья, скрашиваемого печальными песнями и чудесными рассказами моего бретонца. Он плавал на нашем корабле около сотни лет, помнил еще наших прадедушек, а вместе с моим дедом совершил не одно плавание. Я был искренне благодарен капитану, назначившему этого старика в мои вестовые. Несколько раз я замечал, что капитан хочет мне что-то сказать, но потом, словно раздумав, закусит губу и поспешно уходит в свою каюту. Наконец случай помог мне узнать тайну капитана. Однажды мне пришлось сменять на вахте такого же офицера, как и я, загорелого и задумчивого итальянца Паганелли, глаза которого как будто чего-то искали вдали. Такой бурной ночи я еще не помнил со дня своего рождения. Шквалистый ветер носился в темноте, как сорвавшаяся с цепи собака, завывая в вантах и реях. Косой дождь бил по туго натянутым парусам и шумно катался по верхней палубе. Если бы не вечные наши спутники, огни святого Эльма, равномерно вспыхивающие и угасающие, нельзя было бы различить даже собственной протянутой руки. Как только я поднялся на мостик, пальцы итальянца впились в мою руку. Его лицо, освещаемое бледными огнями и искаженное отчаянием и ужасом, приблизилось к моему: — Вы слышите, синьор? Сама преисподняя смеется над нами! — Не ожидая моего ответа, он схватился за голову и простонал: — Я не могу, не могу больше! Вечно носиться по воде в проклятом одиночестве, не видеть людской улыбки и знать, что завтра будет похоже па сегодня, как сегодня похоже на вчера… Без цели, без смысла, вечно… Слышите ли вы — вечно! Что угодно, но только не эта жалкая жизнь после смерти! Клянусь вам всеми святыми, я покопчу с ней, как только мы сойдем на берег. Не говорите мне ничего, синьор! Не могу, не могу! Он что-то еще кричал, спускаясь по трапу, но ветер относил его слова. Об этом случае я доложил капитану. Выслушав мой рассказ, Ван Страатен печально улыбнулся: — Боюсь, мой дорогой друг, что завтра вы станете свидетелем последствий человеческой слабости. Завтра истекает срок нашего семилетнего отшельничества в морских просторах, и команда имеет право сойти на берег. В течение недели мы можем общаться с людьми от наступления сумерек до трех часов ночи. Милосердное небо сжалилось над нами, предоставляя нам эту возможность каждые семь лет. В то же время оно оберегает нас от различных неприятностей, обусловливая сроки пребывания на суше под покровом спасительной темноты. Иначе люди увидели бы некоторые изъяны на лицах моего экипажа и почувствовали бы легкий запах тления, сопутствующий нам и неразличимый среди запахов отдыхающей земли и морских кабачков. Несчастный итальянец! Если он решится на то, что задумал, я не в силах противодействовать ему. Могу лишь сокрушаться о его нетерпеливости и легкомыслии. — Дорогой капитан, — решил я обратиться к нему, — как же вы целые столетия… — Я понимаю вас. Но скажите, вы сильно любите вашу невесту? — О, капитан, я готов отдать за ее счастье всю свою кровь, каплю по капле! — Вот и я так же любил когда-то. А ваша невеста очень хорошая девушка? Дорогая Гарэн! В лучшие минуты своей жизни ни Демосфен, ни Цицерон, пи другие знаменитые ораторы мира не произносили таких пламенных речей, как я, стоя на полубаке заклятого судна перед обреченным капитаном. Я забыл, где я нахожусь, что произошло со мною. Я не видел никого и ничего, кроме твоего светлого образа, мелькавшего перед моими глазами. Ласковая улыбка собеседника остановила мои излияния. — Несчастный и счастливый! Несчастный потому, что вам никогда уже больше не находиться среди живых. Счастливый такой прекрасной любовью. Во сколько крат я несчастнее вас во всех отношениях! Хотите ли узнать мою историю? Я молча пожал твердую руку капитана. — Так слушайте! Не удивляйтесь тому, что страшный командир проклятого судна, распоряжающийся мертвецами и приносящий гибель встречным кораблям, человек, полузабытый небом и ненавидимый землею, становится поэтом. Мы, моряки, — поэты. Море можно либо любить, либо ненавидеть. А любовь делает человека поэтом. Я с ранних лет, еще в своей родной Голландии, влюбился в море. И так же, как море, я любил одну девушку, коварную, как море, прекрасную, как море, высокомерную, как испанский наместник, себялюбивую, как большинство дочерей Евы, с сердцем, как плывущая мимо нас ледяная скала. Я был не настолько богат, чтобы получить ее руку. Сто пятьдесят лет назад, на пиру, два испанских герцога побились об заклад, можно ли за семь дней три раза подряд миновать мыс Бурь. Я взялся совершить это. Если бы мой патрон выиграл заклад, я получил бы сто тысяч гульденов и мог бы обвенчаться со своей подругой. Я дал страшную клятву под залог своей души и жизни… и проиграл так же, как и мой патрон. А девушка по женскому капризу вышла за него замуж. Мои скитания могут окончиться только тогда, когда я выполню обещанное, либо, пользуясь недельной передышкой на берегу, познакомлюсь и обвенчаюсь с прекрасной, чистой девушкой. Двадцать один раз за это время я сходил на берег и двадцать один раз возвращался на свой корабль с отчаянием в сердце. Хорошие девушки избегали меня, а легкомысленные или жадные ничего бы не изменили в моем положении. Завтра предстоит последнее испытание. Боюсь, оно снова принесет разочарование и мне и моему истомленному экипажу. Не хочу завидовать, но завидую вам, мой друг. Если бы мне встретить девушку, подобную вашей невесте, моряки избавились бы навсегда от гибельных встреч с моим несчастным кораблем. Подошедший штурман прервал наш разговор. После бури наступил веселый, солнечный день. Корабль покачивался на мертвой зыби. Гул портового города встречал нас, сливаясь с шумом волн, разбивавшихся об острые ребра мола. Удивительно, что таможенные чиновники встретили нас, как самое обычное судно. Когда от прибрежных гор поползли сумерки, были спущены шлюпки, и на корабле все ожило. Не покидали палубы старики матросы. Молодежь во главе с кем-нибудь из офицеров каждый вечер отчаливала от борта. Капитан с вечера до трех часов ночи пропадал где-то в городе. Штурман бродил среди купцов, прицениваясь к совершенно не нужным ему товарам; вычислял толщину городских степ и высоту башен, осматривал соседние фрегаты и бриги. Виконта всегда можно было отыскать в офицерских тавернах, окруженного пестрой толпой нарядных и веселых девиц. Несколько раз он приглашал меня с собою, но я отказывался, ссылаясь на нездоровье. Я проводил время за сочинением письма к тебе, моя единственная и навеки любимая. Не выходил из своей каюты итальянец. Его вестовой, Николо, проворный и волосатый, как обезьяна, озабоченно рыскал по трюму, отбирая кувшины старого вина и выискивая для своего господина сочные и спелые фрукты. Так шумно и незаметно проходили дни отпущенной нам судьбою недели. В пятницу утром я был вызван к капитану. Он радостно встретил меня и долго тряс мою руку: — Дорогой друг мой! Все подходит к естественному концу. Можете поздравить меня и в это воскресенье погулять на моей свадьбе. — Неужели, капитан? — Да, я встретил прекрасную девушку. Она положит предел моим безнадежным скитаниям и принесет покой и радость всем вам, мои бедные спутники. Милая Гарэн, ты не поверишь, как я порадовался за нашего несчастного капитана! Что бы ни было со мною и с другими, но знать, что так жестоко наказанный человек получит наконец прощенье, — эта радость не давала мне ни минуты покоя. В этот день, как и всегда, я не пошел на берег, спеша поделиться своей радостью с тобою. Я остался на судне единственным офицером. Даже синьор Паганелли покинул свою каюту. Ночью я гулял по палубе, встречая возвращавшихся, и с удовольствием вглядывался в радостные лица поднимающихся по трапу. Время подходило к трем часам, а последняя шлюпка стояла у пристани. Ожидали возвращения итальянца. По бонам разгуливала празднично одетая толпа, освещенная заревом многочисленных факелов и подвесных фонарей. Наконец из ее рядов появился синьор Паганелли. Шатающейся походкой добрел он до причального кольца. Прежде чем баковый успел спрыгнуть на землю, итальянец бросил ему конец и оттолкнул ногою шлюпку. — Будь я трижды проклят, если возвращусь к вам! — заорал он. В это время соборные часы с переливчатым звоном ударили три раза. Синьор Паганелли взмахнул руками, схватился за сердце и упал наземь. Не успел он коснуться земли, как его одежда вместе с кусками мяса поползла клочьями, исчезая в воздухе, как дым трубки, раскуренной на ветру. Через секунду на покрытых плесенью досках белел полуразвалившийся скелет. Форштевень и реи нашего корабля вспыхнули огнями святого Эльма. С испуганным криком: «Летучий Голландец!» — толпа побежала от пристани. Корабельная шлюпка подлетела к борту, как притянутая магнитом. Капитан выскочил из каюты и бросился ко мне. — Все пропало! — застонал он. Лицо его побледнело и передернулось. В эту минуту он был похож на Канна на фреске нашей приходской церкви. — Все наверх! — скомандовал он. — Курс к мысу Бурь! Гарэн! Дорогая, далекая Гарэн! Это письмо отправит мой бретонец, лишь только представится к этому возможность. Когда ты получишь его, в твоем распоряжении будет более пяти лет. За это время нам придется потопить, может быть, не одно судно для того, чтобы найти смену итальянцу. За семь лет мы проблуждаем по южным морям не одну тысячу лье, стремясь к невозможному. Заклинаю всем святым и дорогим для тебя, заклинаю нашей любовью — отыщи среди своих подруг достойную девушку, которая бы согласилась стать женой нашего несчастного капитана. Гарэн, любимая, помоги нам! Ты — единственная надежда на спасение. Только в этом случае я смогу опять увидеть тебя. Прощай и прости, родная, хорошая! Вечно твой Андре».П.Мак-Орлан
РАССКАЗ О ДИКЕ ДОЛГОНОСЕ И О КАПИТАНЕ ДЭВИ ДЖОНСЕ, ПОДПИСАВШИХ МОРСКОЙ ДОГОВОР
Налей полней стаканы! Кто врет, что мы, брат, пьяны?Приключения морского дьявола капитана Дэви Джонса записаны мною, лоцманом Алленом Рингом, так, как поется о них в народных балладах и из поколения в поколение рассказывают английские матросы. С этим капитаном, будь он не к ночи помянут, связана история Дика Долгоноса, подписавшего морской договор. Дика во второй половине позапрошлого века знали все моряки от Оркнейских островов до Джерси и даже в Индии и в Америке. И все его знали Долгоносом. Вы можете подумать, что нос у него бил большой, как руль баржи на Темзе, или длинный, как у рыбы пилы? Ничего подобного! Нос у него был приплюснутый, как у китайца, — перебит в молодости во время большой драки с кабачке «Черная роза» в Аликанте. Долгоносом же его прозвали потому, что Дик, как охотничья собака, всегда чуял, на какое судно выгоднее завербоваться. Сидит этак в какой-нибудь таверне, попивает джип или виски, покуривает трубку да посматривает кругом. Вдруг задвигает своей пуговкой, точно принюхивается Встанет с места, подсядет к другому столику, а через несколько минут, смотришь, перескочил с одного борта на другой. Моряк он был на все руки, и его не равняли с какими-нибудь бичами, без дела околачивающимися по разным портам в ожидании скудной подачки. Капитаны знали за ним дурную привычку бегать с корабля на корабль, но рассуждали: с паршивой собаки хоть шерсти клок, с егозливого моряка хоть одно плавание. И платили ему не в пример больше других. Он мог быть и марсовым, и рулевым, и плотником, и коком. Фарватеры знал так же, как капеллан «Отче наш». Имея па борту Дика, можно было обходиться без лоцмана. Не один суперкарго положил в карман лишнюю гинею только потому, что никто, кроме Дика, не мог подыскать лучшего покупателя во время трампового плавания. Если бы только не его привычка по окончании рейса менять палубы, как красотка меняет платья, был бы он золотым человеком. Будь я трижды повешен на утлегари карантинного судна, если эта привычка не сгубила Дика Долгоноса. Ну, да об этом речь впереди. В теплую августовскую ночь 1770 года по одному из плимутских пустырей возвращался на борт фрегата «Михаил Архангел» палубный матрос Кеннет Гау, старинный друг, сослуживец и собутыльник моего предка Майкла Ринга. Небо синело, как Средиземное море. Белые облака округлялись парусами в фордевинд, а полная луна качалась между ними, как штаговый фонарь во время легкого бриза. Ветер — не более двух баллов. Тишина, точно в церкви во время причастия. Гау шел из кабачка по довольно узенькой тропинке, весело позванивая заработанными во время рейса шиллингами и напевая песенку о девушке Молли, превратившейся после смерти в летучую рыбу. Видит — идет ему навстречу сухопарый моряк. Слегка раскачивается на ходу и время от времени сплевывает на середину тропинки шагов этак на пять впереди себя. То ли ему не понравилась песенка, то ли он не рассчитал свои плевки, но один из них попал как раз на носок левого сапога веселого певуна. — Э, десять тысяч дохлых дьяволов! Осторожнее, сэр, — сказал Гау очень вежливо. — А что вы раскорячили своп ходули, как пьяный гарпунщик? — ответил встречный. Гау решил быть до конца вежливым. — Я, сэр, далеко не злой человек, но считаю верхом неприличия напоминать идущему из кабачка джентльмену о том, что он пропустил два-три глотка рома, де еще попрекать его несвойственной ему работой. Потравите жвакагалс, или, с вашего позволения, сэр, я дам вам по уху, как злой капитан ленивому юнге. — А я, клянусь вам честью, отвечу так, что ваша пустая голове взлетит, как вымпел па грот-мачту адмиральского корабля! С этими словами встречный моряк широко размахнулся. Но не успел он развернуться для удара, как Гау пошел па абордаж. Его учил боксу еще боцман фрегата «Михаил Архангел» Лесли Смит, дававший иногда морякам памятные зуботычины втихомолку от капитана сэра Джемса Грэма. Противник оказался тоже хорошим борном, по школа Смита оправдала себя. Провозились они этак с полчасика. Поднимая моряка с земли, Кеннет отряхнул с него пыпь и осведомился о его имени. Так у них началась дружба. Пришлось опять вернуться в кабачок и выпить за здоровье друг друга. Чем кончилась эта ночь, я, по совести говоря, не представляю. Рассказывали только, что у них на столе танцевала полуголая негритянка, а они пели старинную пиратскую песню: Пятнадцать человек и покойника ящик. Ио-го-го, и в бутылке ром! Пейте, дьявол — наш душеприказчик. Ио-го-го, и в бутылке ром! В общем, время прошло незаметно, скромно и весело. Лет через пять после первого свидания Кеннет и Дик встречали вместе Новый год. Оба они хорошо заработали и решили отметить этот праздник по-христиански. Повстречались они в Лондонском порту, почти у самых ворот, там, где в прежние времена лежал большой ржавый якорь с отломанной лапой. То-то радостная была встреча! Кеннет предложил зайти в какой-нибудь кабачок, а Дик ухмыльнулся да и говорит: — Нет, друг! Ведь нынче Новый год, а мы с вамп не бездомные стамбульские собаки. Давайте-ка встретим праздничек по-семейному, вроде мы не морские бродяги, а джентльмены из Сити или из палаты лордов. Как по-вашему? — Так-то оно так. Дик, да кто же захочет сегодня ночью глядуть на баковых обезьян, пропахших смолой и рыбой? — Не тужите, друг! Есть у меня знакомые в Ост-Энде. Притащите-ка туда часам к девяти окорочек, гуська да с полдюжины бутылок портвейна. Об остальном я позабочусь. Кеннет пришел к назначенному сроку. Былон тогда парнем бравым, не какой-нибудь облезлой шваброй. Не стыдно было и у порядочных людей показаться. Веселый был. Ходил и смеялся, будто хватил по ошибке неразбавленного спирта в каюте судового врача. Не всегда же стоит прислушиваться к голодной воркотне желудка. Хозяева хлопотали на кухне, а Дик в гостиной сидел, потирал руки да хихикал от удовольствия. Тут они с Кеннетом чуть не поссорились. Стал Дик уговаривать друга на бродяжничество по его примеру: — То ли дело — отбыл плавание и меняй капитана. Разнообразие! Тебе никто не надоест, и ты никому. Кеннет нахмурился: — Нет. Дик! Скажу вам по дружбе — будете подбивать меня на такие дела, из ваших двух челюстей три сделаю. Пока они спорили, стол был накрыт. Чего-чего только на нем не было! Сам главный лорд Адмиралтейства не видел в тот вечер таких вкусных вещей. Хозяин-то большой трактир держал. Сели за стол, и тут пришла хозяйская родственница. Такую красавицу Кеннет видел только на портрете в каюте капитана сэра Джемса Грэма. Сел с ней Дик рядом да так и просидел весь вечер. Парень он был, не в обиду ему будь сказано, не ахти какой видный. Тощий, как мачта, нос пуговкой, подбородок форштевнем, а женщины крутились около него, как дельфины вокруг вылитого за борт ведра помоек. Нечего говорить, учел он с инки обходиться! Лучше любого гардемарина! На что уж трактирщик был толст, а Кеннет плечист и статен, далеко им было до Дика. Пришли другие гости. Ели хорошо, а пили еще лучше. За что только не пили. И друг за друга, и за все суда, названия которых знали, и за пуговицы мужских курток и дамских платьев. Пели не какие-нибудь мужицкие песни, а всё больше старинные, вроде: Здесь, в Лондоне, в старые годы? Жил муж с молодою женой. Она его нежно любила, Любил ее нежно другой. Только на следующий вечер, когда дверь уютного домика захлопнулась за гостями, Дик шепнул другу, что красивая девица служит горничной у жены одного капитана. — Через эту девицу я переметнусь к нему на судно. Кеннет только ахнул: — Хитрюга! Даже здесь вы соблюдаете выгоду. Не споткнетесь ли вы о свою жадность, как о протянутый поперек палубы швартов? Эта жадность в конце концов и погубила Дика. Чтобы не затрачивать много времени, сообщу вам о последней встрече, погорая произошла на десятом году их знакомства. Но прежде мне придется немного уклониться в сторону, пойти другим галсом. Слыхали вы о капитане Дэви Джонсе? Не слыхали? Так вот в чем дело. Как вы имеете честь знать, на корабле Летучего Голландца обитают лишь утонувшие матросы. Сам дьявол, не к ночи будь помянут, позавидовал Летучему Голландцу, но вербует он на свей корабль живых и здоровых моряков. В образе капитана Дэви Джонса он шатается но морским тавернам и подпаивает доверчивых мореплавателей. Когда человек очумеет от вина да еще увидит перед собой золотые огни червонцев, он по корыстолюбию своему способен на все. В это время Дэви Джоне подсовывает ему договор, всячески расхваливая службу на своем корабле. Бедняга сдуру подпишет, а потом и поминай как звали. Тело его вечно носится по волнам, а душа… не спрашивай. На удочку проклятого Дэви Джонса попался и Дик Долгонос, как форель на крючок старого Эдди. Случилось это таким образом. Сидел он с Гау в кабачке «Кошка и мышь», в двухстах кабельтовых от Портсмутской гавани. Кроме них, в кабачке никого не было. Хозяин дремал у стойки. Кеннета после спиртного тоже клонило в сон. Накануне Дик проиграл в кости около пяти гиней и был не при деньгах, поэтому сидел мрачный, молча покуривая трубку. В полночь открылась дверь, и в зал вошел человек небольшого роста во всем черном. При его появлении огонь в лампе подскочил вверх длинным языком, точно сквозняком пахнуло. Вошедший сел в темный угол и заказал две пинты ямайского рома С его приходом Дик беспокойно заерзал на стуле, задвигал носом и сделал знак: подожди, мол. Был Гау в то время, что называется, вполпьяна, а поэтому все, что происходило вокруг, пего, мелькало какими-то отрывками. Когда Дик подсел к столу незнакомца, он не помнил. Будто сквозь сон всплыла картина. Чадит лампа. По комнате плавают облака табачного дыма. За дальним столиком сидит Дик, попивает ром и весело притопывает ногой. На столике блестят монеты, белеет бумага в четвертую долю листа. Напротив Дика незнакомец показывает пальцем на бумагу и о чем то говорит скрипуче-гнусавым голосом. Лицо у незнакомца бледное, удлиненное паршиноп черной козлиной бородой, с испанскими, расходящимися вширь усами. Глаза круглые, сверкающие, как у кота. Кеннета точно в сердце молотком стукнуло: Дэви Джонс, будь он трижды проклят! — Дик, — крикнул он, — пойдите на минуточку. Дик! Но Дик только отмахнулся, а Дэви Джонс пристально посмотрел на Гау, усыпляя своим взглядом. До конца жизни Кеннет считал себя повинным в гибели Долгоноса. Но что он мог сделать? Прочитать молитву… Но он был матросом, а не церковным служкой, не смог бы толком прочитать ни одной до конца. Вышвырнуть из кабачка эту гадину Дэви Джонса… Но он был пьян… — Грешный человек, — признавался он моему прадеду, — очнулся я только на другой день часов в десять, па мягкой перине, как йоркширский фермер, а не моряк с фрегата. Хозяин таверны сообщил ему, что, услышав крик, он доставил его сюда при помощи достопочтенного капитана Джонса и его друга Дика Долгоноса; что его друг Дик очень сожалел, не имея возможности попрощаться с ним, таи как завербовался на весьма выгодных условиях на корабль достопочтенного капитана Джонса и вместе с последним сегодня на рассвете ушел в плавание в южные моря. Будь я трижды повешен на утлегари карантинного судна, если эта история не испортила жизни обоих друзей. Больше Гау не встречал беднягу. О Дике он расспрашивал всех знакомых и незнакомых матросов, но никто не мог рассказать ничего нового. Хозяин таверны «Кошка и мышь» умер от удара через месяц после их посещения, а малознакомые люди только охали да пожимали плечами. Более толковое известие о Дике Долгоносе принес лет через семь после того проклятого вечера юнга Томми, лежавший в марсельском госпитале вместе с моряком погибшего судна «Королева Маргарита». Этот моряк в бреду перед смертью рассказывал, что «Королева Маргарита» встретила за сутки до гибели какой-то черный корабль. По его верхней палубе ходил Дик Долгонос, размахивая руками, и что-то кричал. Вот и все, что Гау узнал о своем дорогом товарище. Тогда он решил пуститься на поиски Дэви Джонса, чтобы при встрече вытряхнуть, как пепел из трубки, его черную душу. Но сатана, будь он не к ночи помянут, джентльмен хитрый. Предчувствуя взбучку, он старглся избегать Кеннета. Ведь даже его адскому величеству не хочется познакомиться с доброй парой матросских кулаков, натренированных боцманом Лесли Смитом! К тому же капитан Джоне бродил в одиночку, избегая свидетелей своих нечистых похождении. Как-то во время увольнения на берег Гау зашел в лондонский кабачок «Собака и забор». Хозяин кабачка был его старым приятелем, а поэтому он впустил его через черный ход, часу в четвертом ночи. Посетители разошлись. Только в зале у залитого вином столика крепко спал рябой матрос, положив голову на бумагу в четвертую долю листа. Кеннет не обратил бы на него внимания, но тут хозяин кабачка рассказал историю, заставившую его насторожиться. Этот матрос был известный пьяница и пуританин Джо Нокс. Как все пуритане, он был страшным ханжой и скрягой. Лил он всегда на дармовщину, за чужой счет, а увидев деньги, бросался на них, как фокстерьер па крысу. И какое бы дело он ни начинал, обязательно перед этим прочитает молитву, хотя бы дело было самое паскудное. Матросы любили его подпаивать: когда он выпьет, то всегда песет такую ахинею, что па животах ремни лопаются от смеха. Около полуночи парод разбрелся по домам, а Джо покачивался на стуле, ворочая осоловелыми глазами. В это время в зал вошел сухощавый джентльмен среднего роста, одетый во все черное. Бросив хозяину шиллинг, он проскрипел голосом, похожим на блеяние козла: — Две пинты рома. Уже поздно. Вы можете запереть ваше заведение. Подайте и уходите. Мне нужно поговорить с этим почтенным матросом. Трактирщики — народ любопытный, и мой хозяин, поставив на стол заказанные пинты, спрятался за перегородкой Черный джентльмен подсел к столику Джо и угостил его хорошим голландским табаком. С час они молча курили и пили, а потом черный джентльмен начал описывать прелести плавания по южным морям, упирая главным образом на то, что там очень тепло, следовательно, получится большая экономия в одежде и в пище. Он, например, появляется в доброй старой Англии только для того, чтобы навербовать новых матросов, так как английские моряки — самые лучшие в мире. Что касается оплаты, то никто из капитанов не платит больше. Корабль его хороший и удобный, плавание нетрудное, и так далее. Словом, пел, как не певала трактирная судомойка в свои лучшие годы, а на что уж была певица! Сначала Джо не мог толком разобрать, чего от пего хочет любезный незнакомец, но, услышав, что на его судне можно порядочно заработать, сразу отрезвел и принялся расспрашивать об условиях. Джо был человеком обстоятельным и осторожным, он умел тянуть жилы из собеседника. Но джентльмен был тоже терпелив и настойчив. Наконец они сошлись, и незнакомец предложил Джо скрепить своей подписью морской договор, в котором были проставлены обязательства обеих сторон. Перед подписанием Джо, по своей привычке, затянул псалом. В это время часы пробили три, и в комнате стало совершенно тихо. Трактирщик не выдержал и вышел в зал. За столиком дремал Джо, положив голову на бумагу и бормоча икающим голосом последние слова псалма. Незнакомец исчез. Наружная дверь была заперта. Вероятно, ее припер Джо после ухода джентльмена. В комнате чувствовался легкий запах серы. Вероятно, от кремней при разжигании трубок. — Да ведь это был Дэви Джонс! — заревел Гау и принялся трясти спящего Джо. Голова рябого болталась по бумаге и по столу, обильно политому вином. Когда наконец Джо пришел в себя, он ничего не помнил, а на рассказ трактирщика и на расспросы Гау только таращил глаза и бубнил молитвы. Бумага намокла от вина, и голова Джо совершенно размазала написанное. Потом даже капитан «Михаила Архангела» сэр Джемс Грэм ничего не мог разобрать на ней, а он был самым грамотным человеком в мире. То ли время уже истекло (нечистая сила, по преданию, действует только с двенадцати до трех), то ли псалом Джо спугнул Дэви Джонса, будь он трижды проклят… Искать его было бесполезно. Другой раз, проведя вечер в таверне «Золотой поросенок» в Саутгемгпоне. Кеннет Гау шел по направлению к порту. Перед ним из темного переулка вынырнула тощая фигура черном плаще и засеменила мелкими шагами, скрываясь в тени домов. Такая паршивая походка бывает только у лиски, выходящих на охоту. Что-то стукнуло в сердце матроса: «Он!» И Гау направился вслед за дьяволом, решив задать ему хорошую трепку, как только представится удобный случай. Ночь была светлая и ветреная. Преследуемый время от времени поддерживал шляпу рукою в черной перчатке с длинными пальцами, похожими на когти, и обходил улицы с церквами. Так корабли обходят байки и рифы. Подойдя к пустынному тупику, он боязливо оглянулся. Гау был не настолько пьян, чтобы не различить под широкополой шляпой бледное лицо с козлиной бородой и испанскими усами. — Ага, попался, голубчик! — заорал Гау и бросился к Дэви Джонсу. — Клянусь святым Христофором, я тебя сегодня славно обработаю! Тот слабо пискнул и пустился наутек. Кулак Гау нацелился ему в затылок, но прыжок капитана Джонса ослабил силу удара. Все же он упал, а Кеннет приготовился размозжить ему череп. Луч луны скользнул между домов и… остановил матросскую руку. На земле лежал саутгемптонский судья Хью Куикли, такой же паскудник, как сам дьявол. Да и какая, в сущности, разница между судьей и дьяволом? И тот и другой так при случае опутают вас, что вы позабудете имена своих родителей. Притом, скажу вам по секрету, судья еще хуже сатаны. От нечистого можно спастись молитвой, а от судьи вас не спасет сам епископ Кентерберийский. Видя, что дело принимает такой оборот, наутек пустился теперь Гау, посылая в душе страшные проклятия хитрости Дэви Джонса, подсунувшего под его пятерню самого ехидного человека в Англии. Нечего говорить, что все время стоянки Кеннет просидел на «Михаиле Архангеле», как трюмная мышь, опасаясь вторичного знакомства с мистером Куикли, разрази его молния! Но все-таки встреча с Дэви Джонсом состоялась. Это случилось возле Дувра, в осеннюю ночь, и тот год, когда боцман Лесли Смит сломал себе ногу, спрыгнув со шкафута, чтобы дать очередную зуботычину новобранцу. Гау бродил у Мелового утеса, когда услышал плеск весел подходившей к берегу шлюпки. Было темно, как в старом трюме, и он едва различил тень соскочившего на землю человека. — Ждите меня через три часа у нормандской могилы! — крикнул он невидимому экипажу и побежал к городу. Ни одна христианская душа, даже контрабандист, не назначает этого места свидания. Нормандская могила у Дувра — такая же заклятая дыра, как остров Тумана или как люк в преисподнюю. Это прибрежный холм, па котором в Иванову ночь пляшут синие огни, а в такие ночи, как эта, сами соскакивают в море большие камни. Только голова черного висельника Дэви Джонса могла придумать подобное место для причала. Гау бросился вслед за черным капитаном. Но теперь он был хитрее и бормотал про себя заклинание против нечистой силы, которому его выучил кривой кок Джонни. Чувствуя на себе силу этого заклинания, капитан Джонс убегал, но расстояние между ними не уменьшалось и не увеличивалось. Прямо скажем, что эта мочь пропала даром для Дэви Джонса, и ни один бедняга, который мог бы польститься па адские червонцы, не повис на его удочке. Только страх перед Гау и ненависть матроса поддерживали силы обоих в ночных блужданиях. Достаточно вам сказать, что их сапоги после ток ночи выглядели как увеселительные суда с открытыми иллюминаторами, а до этого на них не было ни одной дырки. Время приближалось к трем, и волей-неволей Дэви Джонсу приходилось убираться восвояси, к назначенному месту. — Слушайте, эй вы! — крикнул он преследователю. — Какого дьявола нам нужно от меня, разрази вас тысяча молний! — Имею ли я честь путешествовать совместно с достоуважаемым капитаном Джонсом? — спросил Гау в свою очередь. — А хоть бы и так! Что вам от меня нужно? — Ничего более, дорогой сэр, как только, с вашего позволения, вбить вашу проклятую голову в плечи. — Отвяжитесь от меня, дурацкий моряк, или я позову полисмена! — К вашему великому сожалению, ваша честь, бобби не большие охотники до прогулок по дуврским пустырям. — В таком случае, я выверну ваши ребра своим кортиком. — Прошу прощения, мой добрый джентльмен, но я смогу это сделать более совершенным способом, чем вы. — Если вы от меня отстанете, то я дам вам столько червонцев, сколько понадобится для того, чтобы насыпать над вами холм высотой в тоуэрскую башню. — Ваши червонцы воняют серой, почтеннейший мистер Джонс, а мой нос не привык к таким непотребным запахам. — Отвяжитесь от меня, и я сделаю вас прославленным человеком, как Френсис Дрейк или Виттингтон. — Покорнейше благодарю, ваша милость, но мне нужно от вас немногого: либо выдубить вам шкуру, либо узнать о моем дорогом, погубленном вами друге, Дике Долгоносе. Тут черный прохвост расхохотался скрипучим, кашляющим смехом: — А, вы хотите узнать судьбу боцмана Долгоноса? Вы сегодня услышите его самого, если у вас хватит смелости и нахальства дойти со мною до нормандской могилы. От этих слов силы Кеннета удесятерились. — Дик, дорогой Дик! Неужели мы снова встретимся? Не сбавляя шага, они приближались к остроконечному холму. — Эй, лодка! — крикнул Джонс. — Есть лодка! — послышался в ответ знакомый голос. Сердце у Гау заплясало, словно от звуков гобоя. — Дик! — гаркнул Гау. — Хелло, дорогой дружище, лети ко мне, десять тысяч дохлых дьяволов, и мы пошлем к черту все адские силы, которые когда-либо существовали! Дик тоже узнал голос друга. — Все копчено, дорогой! Я могу жить только и море. Никакими заклятиями меня не препроводить па берег. А договор — на черном корабле. Тебе туда не попасть, не погубив свою душу. Прощай и не поминай меня злом! В эту минуту Гау и Дэвн Джонс стояли на краю обрыва. Капитану оставалось только спуститься вниз, к шлюпке, мутным пятном толкавшейся у берега. Но он медлил. В темноте блестели его острые белые зубы, оскаленные в улыбке. Его кошачьи глаза ехидно посматривали на Гау, как будто ожидали мольбы и покорности. Кровь ударила Кеннету в голову, и его рука схватила горло чертова капитана. Камень под ними подпрыгнул кверху и с грохотом покатился по склону. Пока матрос летел, над ним промелькнул черный плащ Дэви Джонса, как распростертые крылья птицы. Место было неглубокое, но вода холодная, и при падении Гау сильно расшибся. Пока он вылезал наверх, в его ушах шумел удаляющийся плеск весел, жалобный голос Дика: «Прощай, друг!» — и злой хохот капитана Джонса. Дрожащий и лиловый, страшнее утопленника, добрался Гау до кубрика «Михаила Архангела». Стоявший на вахте Майкл Ринг уложил его на койку и долго возился, стараясь просунуть между дробно стучащими зубами горлышко бутылки с ромом. Даже боцман Смит не заикнулся о наказании матроса, опоздавшего с берега. Капитан Джемс Грэм приказал по трогать больного. А тот стонал и кричал в бреду: — Не смотри так печально, Дик! Открывай дверь капитанской каюты! Видишь этот дубовый, окованный железом сундук? Сбивай замок! На самом дне — листы бумаги в четвертую долю. Рви свой договор! Хватай за шиворот Дэви Джонса! Кидай его за борт! Судовой врач посоветовал отправить матроса в госпиталь Только через год измученный лихорадкой Гау встретила с Рингом. — Как дела на фрегате? Майкл горько вздохнул: — Пока вы болели, умер наш капитан сэр Джемс Грэм, царство ему небесное. Из команды мало кто остался. Недавно восстание на флоте было. Тюрьмы полны матросами. Боцмана Смита кто-то из наших ножом успокоил. А вас списал: с фрегата по нездоровью и по старости. Вздохнул и Кеннет: — Придется заканчивать свои дни в таверне у зятя, вроде на положении устаревшего каботажного парусника. Только теперь держись матросские вербовщики! — погрозил он кулаком. — Никого из них не впущу в нашу таверну. А коли сам Дэви Джонс встретится, — так его уважу, что даже кривой Джонни не сумеет из пего ростбиф приготовить!А.Глоба
РАССКАЗ О ВОЗДУШНОМ КОРАБЛЕ
На полу своей темницы мелом Начертил он узкую ладью.Леди и джентльмены! С особой признательностью обращаюсь к тем достопочтенным мужьям, которые не только сами посетили наше собрание, но и сумели заинтересовать им своих прелестных супруг. Чрезвычайные обстоятельства вынудили меня, скромного ливерпульского адвоката, выступить сегодня перед вами и быть свидетелем и активным участником в принятии ответственного решения, которое мы, надеюсь, скрепим своими подписями, не выходя из этого зала. Мы все вместе, in omnia, разберемся в происшедших на этих днях в местной тюрьме событиях, взволновавших общественное мнение и вызвавших многочисленные догадки и кривотолки. Все, что произошло, еще раз доказывает, к нашему стыду, как самого просвещенного и организованного государства мира, неспособность нашего тюремного ведомства быть, так сказать, созвучным общему хору современной английской цивилизации. Идя навстречу желаниям многих жителей нашего Соединенного королевства, группа наиболее предприимчивых и прогрессивно мыслящих людей организовала «Акционерное общество тюремной реформы», представителем правления которого я имею честь выступить перед этим высоким собранием и призвать вас, всех присутствующих, к записи в члены этого общества. По вопросу о порядке оформления членства выступит вслед за мной уважаемый председатель правления сэр Эдуард Ренсфильд (охотно присоединяюсь к вашим возгласам одобрения), а по вопросу, связанному с финансами и материальными ценностями, — наш казначей, не менее уважаемый и известный вам мистер Гарольд Блэк. В мою задачу входит объяснить вам причины необходимости организации такого общества и те цели, которые мы ставим перед собою. Вкратце это можно сформулировать таким образом. Причины (подробнее я расскажу о них несколько позже) — непорядки в тюремном ведомстве. Цели — добиться в парламенте принятия двух постановлений, во-первых, о более тщательном осмотре вновь принимаемых заключенных, дабы избежать в дальнейшем незаконного проноса этими заключенными в предназначенные им тюремные камеры мела, угля, графита, грифеля, туши и прочих зловредных предметов, не имеющих никакого отношения к перечню вещей, необходимых для рядового заключенного; во-вторых, о снабжении всех тюрем королевства усовершенствованными стальными решетками, замками и кандалами, производство которых будет незамедлительно налажено «Акционерным обществом металлических изделий в городе Бирмингеме», с каковым наше общество находится в договорных отношениях. Только эти предметы могут создать полноту бытия для всех лиц, временно пли постоянно содержащихся в тюрьмах Британии. Я твердо уверен, что в связи с процветанием английской цивилизации спрос па перечисленные мною изделия будет повышаться с каждым годом. Теперь перейдем к более подробному выяснению причин, заставивших нас собрать вас в этом зале. Просто говоря, произошло следующее. Из местной тюрьмы бежал приговоренный к смертной казни пират и контрабандист ирландец Патрик о’Керри. Вместе с ним бесследно исчез тюремный сторож Тоби Кроуфорд. После тщательного обследования обнаружено: кусок угля, ручные и ножные кандалы заключенного без признаков каких-либо повреждении; потолок, стены, иол камеры, решетка па окне и двери находились в полной исправности. Версия о том, что сторож Тоби Кроуфорд просто выпустил Патрика о’Керри из корыстных или иных побуждений, оказалась несостоятельной. Наличие других сторожей и часовых, а также выяснившиеся дополнительные обстоятельства окончательно отвергли ее. Могу с гордостью удостоверить, что наше общество потрудилось недаром. Три лучших сыщика Англии, фамилии которых не назову по некоторым соображениям, изучили это дело досконально. Нам пришлось затратить не одну тысячу фунтов стерлингов, за которые перед вами отчитается наш уважаемый казначей мистер Гарольд Блэк. Наши усилия увенчались блестящим успехом. Нам удалось восстановить полную картину похождений Патрика о’Керри, которую я сейчас буду иметь честь представить вам со всеми подробностями. Вы можете возразить: «Какое значение для судеб нашего королевства имеет история, хотя бы и необычайная, но все-таки мелкая история жалкого контрабандиста?» Увы! Нет ничего незначительного в мире. Незаметная мышь может превратить в труху судебное дело, лад составлением которого поседели ученые прокуроры и адвокаты. По имеющимся у нас данным, Патрик о’Керри был не только бандитом, но и отличным моряком и лучшим лоцманом Ирландского моря. Его история, как вам станет понятно из дальнейшего, весьма поучительна. Наши поэты могли бы сказать о нем: «Когда желтые осенние туманы падали на свинцовые волны, о’Керри свободно пробирался на своем парусном баркасе куда хотел, не боясь сесть на банку или заблудиться между Дублином, Дугласом и Ливерпулем. С английского берега он увозил оружие и боевые припасы, а на обратном пути нападал на суда с деньгами и правительственной почтой. Но руки его не были обагрены человеческой кровью». Правда, все такое прочее хорошо в поэзии, а каково было государственным властям? Поговаривали, будто он служил связным между сепаратистами, которых противозаконно называют в Ирландии борцами за свободу, и проирландски настроенными помещиками северо-восточной части острова. Был он связан и со злокозненными людьми в сердце пашей старой доброй Англии. Десять лет гонялись за ним полицейские и таможенная стража, и всем были известны его приметы: фигура плотная, мускулистая, рост выше среднего, волосы ярко-рыжие, глаза зеленоватые, у правого уха родимое пятно. А он частенько издевался над представителями закона и порядка. Расхаживал по улицам портовых городов да при встрече, скажем, с судьей еще вежливенько раскланивался: «Как поживаете, мистер Груэл? Баша уважаемая тетушка еще не умерла?» Иногда хаживал с ватагой свирепых молодцов и тогда чувствовал себя совсем свободно. К нашему общему благополучию, 6 апреля вечером пяти полицейским удалось подкараулить его у входа в городской парк и оглушить кастетом, а в прошлый четверг Патрик о’Керри предстал перед судом. Судебный зал был полон публики, но обвиняемый не соизволил замечать ее и держался как восточный деспот в толпе рабов. Он был спокоен и только изредка поправлял повязку на своих медно-красных волосах. Вы можете себе представить — он даже не нанял адвоката! «Ваша возня меня мало касается». Такого возмутительного поведения история судопроизводства еще не знала. На вопросы суда и прокурора отвечал кратко, признавал свою вину, хотя и не считал со виною, и не выдал ни одного из сообщников. Встречных вопросов не задавал, от последнего слова отказался. Процесс закончился очень быстро. У присутствующих создалось впечатление, словно они находятся не в почетном английском суде, а на лондонских скачках. Когда суд удалился на совещание, обвиняемый сосредоточенно смотрел на темное пятнышко в трех дюймах от судейского кресла. Я сам видел, как при пояснении судьи пират даже не вздрогнул. Надев шляпу, судья произнес роковые слова: — Вы будете повешены за шею до тех пор, пока не умрете, и да сжалится небо над вашей грешной душою. Лицо осужденного осталось равнодушным. И судья и публика недоумевали. А прокурор, который от волнения грыз когти, чуть не задохнулся, засунув указательный палец далеко себе в рот. Судья не выдержал. — Патрик о’Керри, может быть, вы недовольны ходом судебного процесса? — Нет, ваша честь, все прошло как полагается. Вы исполнили свой долг, и я на вас нисколько не обижаюсь. — Может быть, Патрик о’Керри, у вас есть вопросы? Тот на минуту задумался, а потом сказал, улыбнувшись: — У меня есть один вопрос, ваша честь, но, боюсь, будет ли он уместен в этом зале и сможете ли вы на него ответить. Судья решил оставаться любезным до конца: — Пожалуйста, задавайте его, Патрик о’Керри. — Скажите, ваша честь, сторож у входных ворот тюрьмы, с которой я нахожусь, Тоби Кроуфорд, служил рулевым на корабле «Провидение»? Судья удивленно пожал плечами: вопрос был более чем неуместен. Пришлось посовещаться с присяжными и спросить находившегося здесь начальника тюрьмы. Так как выяснилось, что Тоби Кроуфорд никогда не был знаком с осужденным и никогда не назначается на дежурство по коридору, судьи смел возможным удовлетворить любопытство клиента и ответил на его вопрос утвердительно. — Больше у меня нет вопросов, ваша честь, — сказал Патрик о’Керри. — Попрошу вас препроводить меня в камеру. Если бы у осужденного был адвокат, он поднял бы вопрос о его невменяемости. Каждый выходил из здания суда с ощущением только что увиденного причудливого сил. Интересные показания дал тюремный коридорный сторож. Очутившись в камере, Патрик о’Керри измерил ее вдоль и поперек шагами и, вынув из кармана штанов кусок угля, начертил на ее полу подобие лодочной палубы. Аккуратно разметив кружками места для трех мачт, он стал между воображаемыми гротом и бизанью и уставился в освещенное полной луной окно. Лунный свет играл в переплете оконной решетки и, сливаясь со слабым лучом коридорного фонаря, не давал возможности успешно наблюдать за тем, что делалось в камере. Вокруг узника и над его головой колебались какие-то тени, напоминавшие парусные полотнища. В это время у ворот дежурил Тоби Кроуфорд. Он был несколько медлительным, грузным мужчиной с седыми бакенбардами и сломанной ногой, заставившей его уйти с флота, и странным характером. Когда, бывало, он пропустит лишний стаканчик виски, то всегда жаловался на свою судьбу и с иронией рассказывал, что тюрьма похожа на хорошо оснащенный корабль, а он, привратник, похож на рулевого. Если ему приказывали запереть ворота, он притворялся глухим. А на окрик: «Задраить люк!» — поспешно и аккуратно исполнял приказание. Службу он нес исправно, никогда не болел, не испивался пьяным, а поэтому с его странностями мирились. По показанию второго привратника, в вечер суда Тоби чувствовал себя беспокойно. Он ворчал, что никогда раньше ему не приходилось встречать Патрика о’Керри, но возмутительно, что ему, бывшему матросу, приходится сторожить, как цепной собаке, сидящего в тюрьме прославленного капитана. Тоби усиленно курил трубку и рисовал мелом на воротах и на серых стенах тюрьмы замысловатые каракульки, изображавшие, по его словам, галеры и бригантины. Захлопнув ворота за тюремной каретой, в которой привезли Патрика о’Керри, он хотел возобновить свое художество, но на воротах и на стене не оставалось уже свободного места. Тогда он на плитах двора начертил лодку, стал в нее и задумался. Сколько времени прошло в этом положении, второй привратник не помнил. Вдруг в тишине тюремного двора прогремел голос: — Тоби Кроуфорд, к штурвалу! Земля под Тоби покачнулась. Он стоял в тузике, слегка раскачивающемся на волнах. Пробили склянки. Это, очевидно, упали цепи с рук и ног Патрика о’Керри, точно их сияла невидимая сила. Стоявший на башне часовой Джереми Ленг ясно видел, как в окне камеры о’Керри забелел под лунным светом острый край кливера и прямоугольник на фор-марса-рее. Тузик Кроуфорда поднялся на воздух и поплыл к этому окну. Через несколько минут степы тюрьмы раздвинулись, и из камеры о’Керри вышел корабль с поднятыми парусами. На шканцах видна была огненная голова Патрика о’Керри, а Тоби Кроуфорд вглядывался в стрелку компаса и поворачивал штурвал. Корабль поднялся над тюремным двором и повернул к порту. — Так держать! — раздалась команда о’Керри. Ни обитатели тюрьмы, ни запоздавшие пешеходы не поняли, что произошло. Медленно проходя над городом и портом, воздушный корабль поплыл по направлению к Ирландии и исчез за горизонтом. Как выяснилось, в порту и в тавернах старые моряки злорадно шептали: — Для моряка тюрьмы нет. Попадешь туда — начерти на полу корабль, упорно думай о нем: и выйдешь из любой темницы. А не сумеешь выйти сам — тебе помогут простые люди, такие же моряки. Так Патрик о’Керри провел тюремное ведомство и последний раз ускользнул из рук правосудия. Леди и джентльмены! Заканчивая свой доклад, я еще раз хочу обратить ваше благосклонное внимание на самую активную защиту священного принципа собственности от покушений всяких темных личностей вроде ранее названного Патрика о’Керри. Это особенно важно в таком значительном для нашего государства районе, каким являются прекрасные города Ливерпуль, Манчестер и Бирмингам. Не верьте кажущемуся спокойствию! Злокозненные силы действуют, не боясь нашего косного тюремного ведомства. Я провозглашу, как римский сенатор Катон: «Ceterum censeo, Karlhaginem esse clelendam» — «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен…», а в нашем тюремном ведомстве необходимо навести порядок. Кстати, леди и джентльмены! Если удастся заполучить снова Патрика о’Керри, нашему обществу необходимо будет заключить коммерческое соглашение с солидными владельцами английских верфей и назначить указанного Патрика о’Керри главным советником по строительству британского военного и торгового флотов. Тогда мы станем едиными и нераздельными повелителями мира. Dixi. Я сказал.В.Рождественский
Михаил Емцев, Еремей Парнов ДОАТОМНОЕ СОСТОЯНИЕ

1. РАССКАЗ ЧАБАНА ХАМРАКУЛА
Четыре года я каждую весну увожу отары на высокогорные пастбища. Дело наше, сказать по правде, нехитрое. Волков последний раз видели еще в те времена, когда мой дед только мечтал первый раз побрить бороду. Впрочем, хозяйство у меня большое, но управлять им несложно. Одного человека там вполне достаточно. Свободного времени у меня хоть отбавляй. На проверку инфракрасной изгороди уходит минут тридцать. Столько же нужно на программирование электронных слуг. Ну, еще минут пятнадцать — двадцать требуется на указания РНП — киберу, который ищет новые пастбища. Вот, пожалуй, и все… Хотя, впрочем, я еще занимаюсь заготовкой кормов, составляю пищевые и лекарственные характеристики альпийской флоры и раз в неделю контролирую работу метеоанализатора-передатчика. Но это все пустяки. Больше всего времени требует подготовка к экзаменационной сессии. Я учусь в Институте палеоклиматов. Вы, может быть, удивляетесь: зачем я все это говорю? Но без этого вам будут непонятны многие места моего дальнейшего рассказа. Так вот. Времени у меня вполне достаточно, даже если принять во внимание ежедневные стереотелелекции факультета музыки. Поэтому я могу себе позволить такую роскошь, как астрономия. Утром мне не нужно рано вставать, и я часто до самого рассвета любуюсь небом. Телескоп у меня, правда, самый обычный, любительский «Теллур». В интересующий вас день, точнее ночь, я как раз не спал. Меня заинтересовали странные вспышки, которые я увидел в районе созвездия Лиры. Только я хотел связаться с ближайшей обсерваторией, как обнаружил, что вспышки — это результат действия какого-то луча, идущего с земли. В этот момент загудел зуммер и всюду зажглись и забегали красные огоньки. Это загорелись «глаза» моих киберов. Тут мне стало не до созвездия Лиры, и я побежал к овцам. Я бежал очень быстро и все-таки опоздал. Что-то, видимо, напугало овец, и они шарахнулись от неведомой опасности в сторону обрыва. Вообще ни одно животное еще не переступило барьера инфракрасных лучей, образованных пи-электронами скандия. Но в этот момент лучевая защита неожиданно испортилась. Как показали потом приборы, причиной этому явились странные флуктуации позитроннонейтринных полей. Но как бы там ни было, а мои напуганные овцы шарахнулись к пропасти… Почти все они попадали с обрыва. Я был этим очень взволнован и огорчен, так что даже думать забыл про странное астрономическое явление. Но того, что случилось потом нельзя было не заметить. Я сразу увидел вспыхнувшее на юго-востоке зарево. Приблизительно в том месте, где расположена Лаборатория перспективных исследований, к небу поднималась тонкая светящаяся игла. Трудно сказать, какого она была цвета. Скорее всего, это был изменчивый цвет александрита — от сиренево-фиолетового до зеленого. Эта игла точно пальмовый побег стала вдруг обрастать ребристыми листьями вспышек. Причем все это продолжалось не больше минуты и закончилось невыразимым по силе и красоте золотым сиянием. В этом сиянии мне на миг почудились прекрасные ландшафты чужих миров. Мне даже показалось, что я ощущаю свежий и терпкий запах далеких морей и лесов. Когда все исчезло, я понял, что это был запах озона. То же показали и приборы. Вокруг меня была холодная и чистая весенняя ночь. Все было по-прежнему, даже в созвездии Лиры я уже не видел вспышек. Не было только бедных овец… Обо всем случившемся я немедленно сообщил по каналам ПСИ-связи, Вот, пожалуй, и все…2. СООБЩЕНИЕ С.М. СМИРНОВА, СДЕЛАННОЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ
Рассказ молодого чабана — это, по сути дела, единственное свидетельство очевидца катастрофы, которая произошла три дня назад в Лаборатории перспективных исследований. Я, как член комиссии по расследованию катастрофы, особенно остро понимаю, насколько скудны имеющиеся в нашем распоряжении данные. Приборы Хамракула показали, что аварийные огни киберов загорелись ровно в 2 часа 32 минуты. Когда мы сняли ленты время-расход со счетчиков-раздатчиков энергии (таких счетчиков два: один расположен непосредственно на атомной электростанции, другой — в трансформаторной будке лаборатории), то увидели, что именно в это время произошел резкий скачок в потреблении. Через 16 секунд он достиг максимума, а еще через 10 минут быстро пошел на убыль. Интересно и загадочно, что в 2 часа 32 минуты 57 секунд приборы, вероятно, испортились. Иначе, чем можно объяснить тот факт, что в это время лаборатория, вместо того чтобы потреблять энергию, начала ее… вырабатывать? Ведь именно такое заключение можно сделать даже при беглом взгляде на ленты счетчиков-раздатчиков. И еще одно странное обстоятельство. Лаборатория совершенно не пострадала. Лишь в центре зала Ц обнаружен круг радиусом в два метра, в котором все оборудование распалось… на атомы. Другого слова здесь не подберешь, потому что зал довольно основательно заставлен столами и приборами. Да и откуда взяться в его центре правильному кругу… пустого места? Непосредственно к пустому кругу примыкает лабораторный стол, точнее — две трети стола, так как одна треть отсечена точно по дуге окружности. Специалисты утверждают, что ни одним из известных способов нельзя было оставить по дереву такой безупречный срез. К центру зала ведет и большое количество проводов, но все они обрезаны точно на границе пустого круга. Впрочем, «обрезаны» — это не то слово: глядя на провода никак не скажешь, что они имели продолжение. Но тогда для чего нужны эти никуда не подключенные концы? В зале обнаружен диктофон. Но иридиевая проволока не хранила никаких следов звукозаписи, хотя прибор не выключен. Неужели работа в лаборатории и неожиданная катастрофа не сопровождались хотя бы звуком? Все это очень странно. Если верить регистрационной записи, то в ту ночь во всем здании находился только один человек. Это была профессор Ирина Лосева. Самые тщательные розыски не обнаружили даже следа Лосевой после той ночи. Домой она не возвращалась и знать о себе не давала. Так же бесследно исчез и гостящий у нее доктор Дьердь Лошанци. Мать Лосевой говорит, что он ушел из дома ровно в десять часов вечера, пообещав, что возвратится часа через три вместе с Ириной. Есть все основания предполагать, что в эту ночь они были в лаборатории, в зале Ц. Не хочется думать, что их постигла та же судьба, что и предметы, которые находились в центре зала. Как показали сотрудники, там, где теперь только пустота, раньше находился огромный кольцевой магнит, два гравитационных генератора и какой-то новый прибор. Этого прибора никто не видел. Он появился в лаборатории недавно, и Лосева всегда держала его под накидкой из черного бархата. Никаких следов разрушений, повторяю, обнаружить не удалось. Невольно начинаешь сомневаться, была ли вообще здесь катастрофа. Во всяком случае, если бы не таинственное исчезновение Лосевой и Лошанци, можно было бы говорить лишь о «странной шутке с пустым кругом», как выразился один из сотрудников лаборатории. Я не люблю загадок и поэтому больше всех настаивал на самом тщательном обследовании всего помещения. Это обследование закончили только сейчас. Оно всех весьма разочаровало. На северо-восточной стене здания обнаружили зону с небольшой радиоактивностью. Точные замеры показали, что зона представляет собой круг радиусом около двух метров. Весьма странное, но необъяснимое совпадение. Интересно также, что радиоактивность распространяется на всю толщу стены. Точно сквозь нее просочился радиоактивный газ. Еще удалось установить, что на потолке зала Ц есть едва заметное отверстие, которое проходит через все здание и заканчивается на крыше. Края отверстия не оплавлены огнем и вообще не хранят никаких следов того, чем и как оно было сделано. Никто из работников не берется утверждать, существовало это отверстие до катастрофы или нет. Больше никакими данными мы пока, к сожалению, не располагаем.3. ПИСЬМО СТУДЕНТА ХАМРАКУЛА С.М. СМИРНОВУ
Уважаемый Сергей Митрофанович. Беседа с вами — помните, это было назавтра после таинственной гибели моих овец — произвела на меня неизгладимое впечатление. Ваши слова, что всякое странное явление, даже на первый взгляд пустячное, может иметь большое значение, я запомнил на всю жизнь. Поэтому я и решился побеспокоить вас этим письмом. Случай, о котором я хочу вам рассказать, может быть, совсем не интересный, но все же, мне кажется, он имеет какое-то отношение к событиям той ночи. Заключается он в следующем. За несколько часов до памятных вам событий я готовился к экзаменам по общему землеведению. У меня есть магнитофон, где на иридиевой проволоке записан весь курс лекций. Как сейчас помню, я прослушивал тогда лекцию о происхождении айсбергов и об их использовании в народном хозяйстве для орошения пустынь. Очень интересная лекция. Но дело не в этом. То есть не только в этом. Уже в городе, куда я поехал сдавать экзамены, я вдруг почувствовал, что забыл то место, где говорится о таянии айсбергов в условиях пустынь. Естественно, что мне захотелось еще раз прослушать эту лекцию. Но в том и заключается мой странный случай; магнитофон молчал. Вы не думайте, что он был испорчен. Я все тщательно проверил. Просто все, что было записано на проволоке, каким-то образом стерлось. Может быть, я сам нечаянно включил не ту кнопку и стер запись? Эта мысль пришла мне сразу же. Вероятно, я на том бы и успокоился, если бы не мой сосед по комнате в нашем общежитии Олег Муркалов. Он геофизик и учится уже на четвертом курсе. Олег как раз чинил информационный блок моего разведчика новых пастбищ. Оказывается, те странные позитроннонейтринные флуктуации, испортившие лучевую защиту на пастбище, повредили и мой кибер. Это установил Олег, который внимательно выслушал мой рассказ. А чинить кибер он принялся потому, что РНП это его курсовой проект. Сначала Олег не знал, за что взяться, так как не мог установить следы поломки. Может быть, он и до сих пор бы возился, если б случайно не поменял полюса аккумулятора постоянного тока. Просто он очень устал и перепутал электроды, заменив минус на плюс. Вот эта-то «ошибка» и починила блок. Олег клялся, что это просто странное совпадение, которое совершенно необъяснимо, но я держался на этот счет другого мнения. После того как я сдал экзамен — кстати, профессор поставил мне самый высокий балл, — я пошел к заведующему кафедрой космических лучей. Вас,конечно, заинтересует, почему именно к нему. На это я могу ответить, что Вацлав Люцианович единственный физик во всем нашем палеоклиматическом. Кому, как не ему, разобраться в загадках электронных приборов? Он тоже сначала сказал, что не видит связи между размагниченной проволокой и испорченным блоком. Я уже собрался было уходить, как вдруг он заговорил: «А знаете что? Давайте протащим вашу проволоку не через электронные головки, а через позитронные». Я ему на это говорю, что никогда о таких не слышал. А он только смеется. Взяли мы тогда мощный источник гамма-лучей и начали бомбардировать ими свинцовую мишень. Специальный кольцевой электромагнит отводил выбитые позитроны в вакуумную камеру, откуда они собирались в конденсатор. Так мы получили источник «антитока». И что вы думаете? Онемевшая проволока заговорила, и я снова услышал уже ненужную мне лекцию про айсберги. Вацлав Люцианович сказал, что он даст сообщение об этом эффекте в «Вестник Академии наук» и что мы с Олегом можем гордиться первой самостоятельной научной работой. Может быть, все это вам и не интересно, но я счел своим долгом написать об этом. Вчера я получил письмо от директора нашего хозяйства. Он пишет, что соседи нам помогли, и я после сдачи экзаменов опять поведу на пастбища отары овец. Так что, как видите, мы с вами скоро опять встретимся. Ваш Хамракул, техник-чабан коммунистического хозяйства «Руно», студент второго курса Института палеоклиматологии, действительный член Общества экологии фитоцинозов.4. ВНОВЬ С.М. СМИРНОВ
Не нужно говорить, как я обрадовался письму Хамракула. Объединенными стараниями сотрудников лаборатории диктофон заговорил уже через два часа. На всякий случай, все, что мы услышали, было еще раз записано. Теперь мы располагаем двумя катушками проволоки, хранящими эту ценную информацию. Сначала слышно было лишь шипение и потрескивание. Некоторые даже начали сомневаться в «способе Хамракула». Но вот раздалось легкое покашливание и послышалось чье-то усталое дыхание. — Спасибо, милый. Поставь это сюда. — Это был голос Ирины Лосевой. Что-то загремело, будто опускали на пол какую-то тяжелую металлическую штуковину. — Ну, и что теперь будет? Мужской, с легким акцентом голос скорей всего принадлежал доктору Лошанци. Лосева не ответила. — Так в чем же суть, Ирочка? — вновь спросил Лошанци. — В философии. Все вертится только вокруг философии, а физика играет здесь лишь второстепенную роль. — Никогда не думал, что в философии может скрываться нечто невероятное, а ведь ты обещала меня удивить. — И удивлю! Ответь мне сначала на один вопрос. Заранее предупреждаю, что над ним ты никогда не задумывался. Я тебя знаю. — Лосева засмеялась. После некоторой паузы Лошанци сказал: — Ну, где твой вопрос? — До чего же ты нетерпеливый! Я просто ищу для него наилучшую формулировку. Дай мне немного подумать. Минут пять ничего не было слышно. Потом Лосева спросила: — Ты никогда не задумывался о том, что было до атомов? — То есть как это — до атомов? — с недоумением произнес Лошанци. — Ну, в доатомном состоянии материи… Почему мы считаем, что атомы были всегда? Ведь материя вечна. Она развивается и никогда не повторяет самое себя. Все процессы во Вселенной необратимы. Так вот, что было до того, как образовались атомы, и что будет потом?.. — Какие у тебя есть основания для подобных вопросов? — А разве для вопросов обязательны какие-то особые основания? Ты не уклоняйся от ответа. Вот смотри. Астрофизические данные тесно сплетаются с чисто геологическими. Красное смещение говорит о том, что галактики разбегаются и наш участок Вселенной претерпевает расширение, геологические наблюдения свидетельствуют о расширении, даже о растрескивании Земли, что можно объяснить уменьшением гравитационной постоянной. Так? — Ну, и что из этого? — Значит, когда-то гравитация была максимальной. Отсюда вопрос: какое состояние материи отвечало этому максимуму? И второе: какое состояние материи будет отвечать минимуму гравитации, когда он наступит? Наконец, что сопровождает эти минимумы и максимумы: взрывы вещества или выворачивание пространства — времени наизнанку?.. Что же ты молчишь? — Честно говоря, Ирина, я просто не знаю, что тебе ответить. Я действительно никогда не задумывался над этим. Ты права. Теперь мне ясна цель этого эксперимента. Но не кажется ли тебе, что он может быть опасным? — Ты боишься? — Нет. Просто я хочу разумно все взвесить и рассчитать. Нужно предусмотреть возможные последствия. — Сколько тебе понадобится для этого времени? — Точно не знаю. Может быть, довольно много, если вообще подобный эксперимент можно оценить теоретически. — Тогда я проведу его одна и сегодня. А ты можешь идти домой. Мама нас заждалась. Скажи ей, что я задержусь. — Это твое твердое решение? — Да! — Погоди немного, я сниму пиджак и подгоню высоту пульта у кресла под свой рост. Тут раздался какой-то звук. Вероятно… они поцеловались Несколько минут стояла полная тишина. Потом послышалось все нарастающее гудение. — Что это, милый? — Голос Лосевой был еле слышен. — Не знаю. Вокруг нас появился какой-то круг. Ты видишь? Все заполнил странный багровый свет. Он тяжелый и клубящийся, точно эманации радона. — Дьердь! Я вижу вверху сияющую точку! — Странно! Что бы это могло быть? Я почти ничего не слышу и как-то… трудно дышать. — Ты совсем не туда смотришь. Вот, вот это! Что оно? О, какой прекрасный мир… и океан… А это золотое сияние! Смотри, расплавленное золото окружает нас. Наша кабина точно лодка в золотом море! Как это прекрасно! — Это смерть, Ирен. — Что ты сказал?.. Что же нам делать? Почему ты медлишь? Что же нам делать? — Спокойствие, девочка. Реостат — до отказа! Дай самый максимум гравитации, и пространство свернется вокруг нас. Мы окажемся точно в пузыре. Ясно? — И что будет с нами в этом пузыре? — Не знаю, но другого выхода нет. Если сбросить напряжение, то вот это взорвется… Быстрее, Ирен, быстрее. И эту кноп… Сколько мы ни прокручивали проволоку, больше нам ничего не удалось услышать.* * *
Шли годы. Люди нет-нет да и возвращались к загадке этого исчезновения. Когда в ходе многочисленных дискуссий все аргументы бывали исчерпаны, некоторые пускали в дело такие, казалось, давно уже обветшавшие термины, как «четвертое измерение» или «дематериализация»; встретив энергичный отпор, они начинали что-то смущенно лепетать о «пределах познания». Но, как бы там ни было, этот случай, подобно загадке тунгусского метеорита, дал журналам добрую пищу для всякого рода споров и предположений. Ему суждено было тысячекратно возрождаться на журнальных страницах под неизменным заголовком «Неразгаданная тайна». Отыскав в архиве Института перспективных исследований записки Хамракула, где говорится о замеченных им в ту ночь вспышках в созвездии Лиры, один писатель-фантаст дал жизнь весьма ходкой гипотезе. Он решил, что Лосева изобрела новый тип звездолета, который превращает все находящееся в нем в сгусток нейтрино и со скоростью света уносится к цели. Такой звездолет, как призрак, проходит сквозь метеорную пыль, толщу планет и раскаленное вещество звезд. Ничто не страшно этому космическому неощутимке, который унес в бездны космоса Лошанци и Лосеву. Ученые не снизошли до того, чтобы опровергнуть писательскую гипотезу. Но дети до определенного возраста верили ей.РАССКАЗ ИРИНЫ ЛОСЕВОЙ
Сначала мне показалось, что наш опыт не удался. Но, когда я, рванув реостат до отказа, посмотрела в иллюминатор, пылающего в фиолетовых струях золота уже не было. Что-то невидимое, но вместе с тем и непрозрачное отделило нас от клубящейся плазмы. Это было всего лишь мгновение, но я никогда не забуду внезапного ощущения резкой боли где-то под сердцем и странной тяжести в голове. Кажется, я успела крепко сжать руку Дьердя, прежде чем потеряла сознание. А может быть, я и не теряла сознания. Во всяком случае, когда я вновь взглянула в иллюминатор, там было темно и тускло — мне показалось, что прошло не больше секунды. — Что-то все-таки получилось, — сказал Дьердь неторопливо вытирая платком лоб, — но реакция, вероятно, погасла. Неустойчивость. Придется еще много повозиться. Я молча кивнула головой. Я не знала, что оборвало реакцию — неустойчивость или наша трусость, когда мы замкнули вокруг стенда гравитационное поле. Точно читая мои мысли, Дьердь погладил мою руку и тихо сказал: — Не сомневайся, Ирен. Все шло правильно. Мы обязаны были прервать реакцию. Для таких экспериментов еще не настало время. Мы очень мало знаем о пространстве — времени, о гравитации, о строении вещества. Трудно даже представить себе, какую катастрофу мог бы вызвать наш эксперимент. Я чувствовала, что Дьердь прав. Но мне было стыдно за ту секунду страха, который сковал меня в тот миг, когда началась реакция. Поэтому мне хотелось спорить, доказывать, убеждать. Кого я хотела переубедить: себя пли его? Право, не знаю. — Мог взорваться институт, погибнуть Земля, a может быть, солнечная система или даже Вселенная? — Мне казалось, что в моем голосе звучит туго натянутая струна сарказма. Но мои мудрый и ласковый друг сделал вид, что не понимает моего состояния. Он только сказал: — Лишь теперь я сознаю, насколько безрассуден быт этот эксперимент. Если бы реакция стала черпать энергию в себе самой, то еще неизвестно, какой роковой толчок она бы могла дать скрытым от нас силам и процессам, таящимся в самом сердце вещества. И я опять ощутила страх. Вернее, это сложное чувство было чем-то бльшим, нежели страх. Я вспомнила детство. Я очень долго не решалась глядеть в лужи. В них отражалось бездонное небо. И я просто боялась провалиться в пропасть, разверзавшуюся у моих ног. Боялась и вместе с тем не могла не смотреть. Потом то же чувство я испытала в астрофизической лаборатории. Снимки далеких галактик и гипергалактик, едва угадываемые следы их взаимодействий и черная страшная бездна пространства — времени. И вот теперь я ощутили это знакомое чувство. Я представила себе па миг, как вокруг мерного «подожженного» нами атома разгорается пожар уничтожения. Куда швырнет этот пожар Вселенную, как далеко он сможет распространиться? Ответа на эти вопросы ждать было неоткуда. — Однако! Мы находимся в кабине уже тринадцать минут. — Дьердь придвинул ко мне светящийся циферблат своих часов. — Пора нам прятать следы преступления и бежать пить чай с малиновым вареньем… А то нам здорово влетит. Когда, крепко сжав плечо Дьердя, я выпрыгнула из люка на пол, я даже не подозревала, что произошла катастрофа, хотя мне сразу же показалось странным, что в лаборатории было темно. — Ты не помнишь, потушили ли мы свет перед тем, как начать эксперимент? — обратилась я к Дьердю. — Как будто нет… Но, может быть, просто сгорели предохранители? От перегрузки. Я сразу же успокоилась. Наверно, так и случилось: перегорели предохранители. Я прекрасно знала свою лабораторию и, свободно ориентируясь в темноте, прошла к панели, чтобы включить аварийное освещение. Рука передала мне новый сигнал тревоги. Я почувствовала, что мои пальцы нащупали что-то шероховатое, хотя здесь должен был быть гладкий и холодный мрамор щита. Переплетение проводов, что-то мягкое, похожее на паутину, широкая неровная трещина… Точно книгу для слепых, читала я историю распределительного щита, который неузнаваемо переменился за какие-нибудь четверть часа. Моя тревога передалась Дьердю: — Ничего не понимаю! Куда девались приборы, где стол, где стенд для чтения микрофильмов? Вскоре мы убедились, что стоим в пустом зале. Как-то незаметно для себя я даже перестала волноваться. Слишком уж много было загадок. Есть у человека какой-то особый предохранитель. Когда на тебя обрушивается слишком много впечатлений, этот предохранитель перегорает. Иначе не выдержит мозг. Я подошла к тому месту, где должно было находиться окно. Протянула руки и нащупала шторы. Шелк распался у меня в руках. Отряхнув с пальцев истлевшую ткань, я попыталась расчистить густой слой паутины и пыли, покрывавший стекло. Это было не так просто. Я долго терла сначала ладонью, а потом рукавом, пока не показались первые проблески сумеречного света. Неужели все эти странные перемены вызваны моей мелькнувшей точно молния реакцией? Дьердь в это время стоял у двери. Он безуспешно пытался ее открыть. Я направилась к нему, но по пути споткнулась о какой-то предмет. Это была массивная железная балка, обильно покрытая шелушащейся ржавчиной. Я попыталась поднять ее, ко мне удалось лишь на секунду оторвать балку от пола. Я позвала Дьердя на помощь. — Что это? — удивленно спросил он, с трудом приподнимая этот неведомо как очутившийся в моем лаборатории предмет. Что я могла ему ответить? Я сама ничего не понимала. Дьердь поставил балку одним концом на пол и провел по ней рукой. На пол посыпалась ржавчина. — Ты знаешь, — сказал он, — это рельсовый профиль. Вернее, все, что осталось от монорельсового пути, по которому передвигался в твоей лаборатории экспериментальный стенд. Да, дела… Но так или иначе, а эта штуковина нам пригодится. Дьердь воспользовался рельсом как тараном. Он попытался выбить дверь. После серий гулких ударов, после все увеличивающихся по времени передышек между этими сериями дверь подалась. Мы навалились на нее. и она, скрипя, уступила. Когда мы выбрались наружу, был уже вечер. Не знаю, как передать те ощущения, которые навевают такие летние вечера. Где-то в слоистой синеве пылают догорающие краски заката, точно скважины остывающего металла в литейной земле. Такие вечера грустны и меланхоличны, но одновременно многообещающи и тревожны. Они заставляют сладко ныть сердце, они зовут куда-то, манят призраком невозможного, но обмануть не могут. Я-то знаю, что ничего необычайного в такой вечер не произойдет. Я много видела в жизни таких вечеров. И все же этот вечер заворожил меня. Мы стояли с Дьердем, взявшись за руки, и смотрели на закат. Травы сникли, стали синеватыми и грустными. Пахло белым табаком и немножко полынью. В туго натянутом, звенящем воздухе витал прилипчатый тополиный пух. Вдруг Дьердь встрепенулся. Он подошел ко мне и молча постучал пальцем по часовому стеклу. Было без малого три часа. Я недоумевающе смотрела на него. — Ты разве ничего не понимаешь? — Впервые я видела, как он побледнел. — Сейчас три часа ночи. Ведь около одиннадцати мы только приехали в лабораторию! В груди у меня что-то упало. Я смотрела на небо, на закат и ясно понимала, что произошло нечто непоправимое. Какая же ночь, когда еще так светло: часов девять, не больше. — Тополя ведь уже облетали… — Я не узнавала голос Дьердя, он казался чужим и страшным. — Еще месяца полтора назад я всюду видел тополиный пух. Он летал в домах и туннелях подземной дороги, грязными клочьями ваты скапливался возле уличных водостоков… А теперь, вот смотри, опять… — Что, время пошло назад? — спросила я шепотом. — Не знаю. Может быть. — Теперь в его голосе звенел металл. С этой минуты непонятное полностью захватите нас в свои объятия. Для нас наступила цепь непрерывных поисков и самых неожиданных открытий. Мысленно мы уже были готовы ко всему. Кому, как не нам, физикам, было знать, что такое вещество. Мы попытались изменить его формы и неизбежно затронули те еще так мало изученные связи, которые тянутся от вещества к полю, к пространству и к времени. И все-таки мы еще ничего не понимали. Первое, что бросилось нам в глаза, — это сад. Прекрасный благоухающий сад, который буйно шумел вокруг здания лаборатории. Я не сразу сообразила, что вижу этот сад, впервые в жизни. «Раньше», а может быть, и «позже», кто знает, здесь было поле, поросшее полынью и лебедой. Посыпанная блестящим янтарным песком дорожка точно звала куда-то. Мы медленно пошли мимо буйных кустов олеандра, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться мраморным бассейном, в котором рос индийский лотос и весело резвились фиолетово-оранжевые рыбы; или прекрасной клумбой с причудливыми, неземными растениями; листья на них отсвечивали синим металлом. Все было как в сказке. Я чувствовала слабый и настойчивый сладковатый и чуть ядовитый запах кремовых влажных магнолий. В густой тени листьев загорелись какие-то фосфорические шары. Тихо жужжали запоздалые пчелы, и ветер звенел ребристой жестью пальмовых вееров. Мы ни о чем не говорили. Мы просто шли, взявшись за руки, испуганные и очарованные, точно дети, попавшие в сказку. Неожиданно дорожка привела нас к великолепной арке, сделанной из дымчатого горного хрусталя. Арка, вероятно, представляла собой нечто вроде входа в сказочный парк, из которого мы только что вышли, хотя забора нигде не было. Мы прошли под аркой. Я уже было собралась спуститься по горящим в закатном огне родонитовым ступеням ведущей куда-то вниз лестницы, как Дьердь осторожно остановил меня. Молча он указал на золотые огоньки перебегавшие где-то в самой толще горного хрусталя. Мы вернулись и подошли к арке. Как только наши ноги коснулись черного зеркала ее основания, огоньки, томно повинуясь чьему то приказу, выстроились в золотые созвездия слов: «Этот сад посвящен отдыху и размышлению. Решено не возводить в нем зданий и не прокладывать энерготрасс. Здесь в августе 20 года ушли в нуль — пространство Ирина Лосева и Дьердь Лошанци. Это был первый шаг человечества к власти над временем».РАССКАЗ ДОКТОРА ЛОШАНЦИ
Еще там, в саду, возле запущенного здания лаборатории, я начал смутно понимать происшедшее. Доатомаое состояние… Что будет после атомов… Все это были не праздные вопросы мятущегося ума. Неужели мы ке можем преодолеть ограниченность нашего мышления, неужели паше воображение не сможет осмыслить эти категории?.. Мне казалось, что сможет, по мысли мои бессильно расплывались, хотя где-то в груди полыхал беспокойный и жгучий огонек догадки. Мне нужно было страшным усилием воли не дать мыслям расползтись. Это было похоже на строительство песчаной башни. Каждая новая черта, каждый увиденный признак — это песчинка. Но, когда песчинок собирается много, башня обрушивается. Итак, со временем что-то неладно. Почему? Я бы не бил физиком, если бы сразу же не подготовил (хотя бы в первом приближении) ответ на этот вопрос. Прежде всего, если время для нас с Ириной текло не так, как дня остальных, — а это очевидно, — значит, мы просто вышли из общей, земной, системы. Но мы никуда не улетали с Земли, мы отнюдь не были космонавтами-релятивистами, для которых бешеная скорость звездолетов замедляла по сравнению с земными часами время. В этих противоречивых логических построениях что-то крылось. Это было единство и борьба противоположностей, которые хранили мучительно искомую нами тайну. Но какую? Я сделал усилие и заставил себя продолжать этот трудный поединок с Неизвестным. У меня был еще один опорный пункт — это цепная реакция. Мы экспериментировали с гравитацией, а следовательно, и с кривизной пространства. Ведь еще со времени Эйнштейн известно, что гравитация есть не что иное, как степень прогнутости пространства. Кроме того, мы экспериментировали и со временем также, потому что течение времени зависит от гравитации. Чем сильнее искривлено пространство, тем медленнее течет время. Стоп, стоп! Здесь что-то есть. Нужно остановиться и попытаться подвести итоги… Значит, так. У нас что-то произошло с течением времени. Вопрос лишь в том, быстрее или медленнее текло для нас время, чем для всех, кто оставался в период нашего эксперимента за пределами стенда, то есть для всех остальных людей. Не нужно специальных знаний, чтобы дать на этот вопрос однозначный ответ. Время текло для нас медленнее. Во-первых, но нашим часам эксперимент длился меньше секунды, но, когда он закончился, мы обнаружили такие изменения, которые накапливаются за десятилетия, если не за столетия. Впрочем, об этом лучше пока не думать. Слишком страшно предположить, что столетия прошли вокруг нас одной лишь вспышкой поля доатомного состояния. Поэтому лучше продолжить мою логическою атаку. Итак, во-вторых… Что же это за «во-вторых», которое докажет, что время па стенде почти остановилось? Оказывается, это «во-вторых» может спокойно обойтись без того, что я назвал «во-первых». Оно способно сразу же убедить любого физика. Суть в том, что, спасая себя от начавшейся цепной реакции вырождения атомов, мы замкнули вокруг себя пространство… То есть довели до максимума гравитацию, а значит… остановили время. Да, мы остановили время! Опять подведем итоги. Мы получили доатомное состояние материи в условиях чрезвычайно замедленного хода времени. Но что это значит? Как это осмыслить, как объять это воображением и уложить в привычные слова? У меня сразу же возникло представление, гипотеза. Я не могу сказать, что она истинна, но отказаться от нее пока нельзя. Она хоть что-то объясняет. Я представил себе доатомное состояние в условиях замедленного хода времени как нечто набитое еще не рожденными, виртуальными элементарными частицами. Вроде знаменитого «моря Дирака». Это «море» своего рода рубеж, по одну сторону которого лежит привычный нам мир с его пространством — временем, а по другую — антимир, с зеркальным пространством и обратным ходом времени. В нашем мире галактики разлетаются, в антимире — сбегаются. А граница — это доатомное состояние, это пуль времени, это нуль пространства. Люди, которые жили после наших с Ириной современников, я возможно, даже именно наши коллеги не могли этого не нанимать. Отсюда золотая надпись «ушли в нуль — пространство». Наша жизнь не была напрасной, по нашим следам пошли другие, смелые и влюбленные, дерзнувшие восстать против власти времени, бросившие вызов смерти! Мы спускались с Ириной по родонитовым ступеням туда, где в синем сумраке дрожал бесчисленными огнями незнакомый и прекрасный город. Точно космонавты, вернувшиеся с далеких планет, перешагнувшие бездну времени, шли мы на встречу с нашими потомками. Мы никуда не улетали с Земли, и вместе с тем никто из людей никогда не был от нее дальше, чем мы в то звездное мгновение, которое вспыхнуло для пас огнем сожженных десятилетии. Мы медленно шли к незнакомым и очень близким людям. И я думаю, что они ждали нас. Надпись внутри хрустальной арки: «Решено не возводить в нем зданий и не прокладывать энерготрасс» не случайна… Они хотели, чтобы ничто не смогло помешать нам возвратиться из нуль — пространства домой. — А почему ты думаешь, что они ждали нашего возвращения? — спросила меня Ирина. Я сразу же ответил ей: — Просто они подсчитали период полураспада вещества в наших аккумуляторах. Поэтому они знали, когда иссякнет энергия, питающая замкнутое гравитационное поле. Электроэнергия требовалась нам лишь как первоначальный импульс, в дальнейшем же поле существовало только за счет омега-частиц. Впрочем, кому я это объясняю? Я засмеялся. Ирина молча смотрела мне прямо в глаза. — А я просто знаю, что они ждали нас… Не могли не ждать. И еще я знаю, что сейчас ты единственный мой человек во всей Вселенной. — Голос ее чуть дрогнул, глаза стали большими, влажными и глубокими. Я осторожно обнял рукой ее плечи, и мы тихо пошли туда, где в водянистой синеве дрожали и переливались огни города.Ю. Давыдов ШХУНА «КОНСТАНТИН»

1
Не спалось. Он знал эту бессонницу. Ничего тягостного в ней не было, ничего болезненного. Просто весело на сердце. Весело и, признаться, чуточку грустно. И, конечно же, беспокойство: все ль предусмотрено, не позабыта ль какая малость, по которой досадливо вздохнешь там, в море. Не первую кампанию начинал лейтенант. Было ему от роду тридцать два, а плавал он с мальчишества. Не первую кампанию, это так, но только нынешняя… Да, нынешняя… Во всех плаваниях, случись то в знакомой Балтике или с краях отдаленных, где-нибудь в Индийском океане, у Никобарских островов, что ли, — везде и всегда располагал он картами, лоциями, наставлениями предшественников. Но вот нынче, в июле 1848 года, нет у лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова ни карт, ни лоции, как в том неведомом море, куда завтра отправится шхуна «Константин», нет ни маяков, ни брандвахт, ни портов. Завтра… Впрочем, зачем ждать рассвета? Азиатская тьма залила крепость Раим решительно и плотно, казалось, навсегда, до скончания века, и лишь по еще большему сгущению тьмы можно было угадать приземистые глинобитные казармы, церковку с маленькой звонницей, мазанки. Пыль скрадывала шаги, и Бутаков мельком подумал, что здесь, в Раиме, ходишь беззвучно, а вот в каменном Кронштадте, как ни ловчись, — гремишь вовсю. У крепостных ворот курили, опершись на ружья, часовые. Приметив офицера, нарушители устава испуганно побросали цигарки и взяли на караул. Бутаков молча миновал ворота и вышел в степь. Дорога, слабо белея, бежала под уклон. По-прежнему было очень тихо, ни ветерка, ни огонька, ночь и степь казались еще чернее, еще огромнее, и Бутаков, как бывало в океане, вдруг трепетно ощутил беспредельность мира. Он зябко повел лопатками, сунул руки в карманы форменного сюртука, зашагал торопливее. Верста, еще полверсты, и послышался колыбельный шорох камышей, потянуло сыростью, запахом дегтя, древесины. Горел костер, рослая фигура неприкаянно слонялась на пристани. — Клюкин, ты? — негромко окликнул лейтенант, хотя и был уверен, что видит унтер-офицера Парфена Клюкина: другого такого верзилы не было не только среди его моряков, но и во всем Раимском гарнизоне. Парфен рысцой подбежал к Бутакову. Тот поглядел на него снизу вверх: — Ну, что тут у нас? — А все в аккурате, ваше благородие. Садчиков, как приказывали, и еще пятеро — на шкуне. Остальные — вона, в жалейках. Бутаков усмехнулся: «В жалейках»… Припечатают словцо — не оторвешь». Он покосился на казахские кибитки джуламейки, прозванные матросами «жалейками», и сказал: — Пойдем на шкуну. — Гребцов прикажете? — оживился Парфен. Гребцов лейтенант будить не велел. Пусть отдыхают, шхуна недалеко, они с унтером доберутся без труда. С того каторжно знойного часа, когда плоскодонный, длиною в пятьдесят футов, просмоленный и выкрашенный «Константин» взрыл килем речную воду, Бутаков и его матросы снаряжали корабль к походу, то есть были поглощены множеством всяческих забот и хлопот. Стороннему человеку все эти хлопоты и заботы показались бы не столь уж важными, но и лейтенант, и его балтийцы знали: упусти хоть что-нибудь, хоть что-нибудь позабудь — и в море хватишь горюшка, а может, и хлебнешь солененького, как говаривали старые матросы. Шлюпка подходила к кораблю. «Константин» стоял на якорях. Река несла звездные блоки, и они разбивались о шхуну с тихим звоном, как льдинки. Темная вода обегала судно, обегала крадучись, и снова мерцали на ней звездные блики, и река медленно несла их все дальше, все дальше, к песчаным отмелям и перекатам, к ночному морю. Гладкое и таинственное, оно лежало там, на весте, милях в тридцати от Раимской пристани.2
Раим прилепился на краю империи. Мы в фортеции живем. Хлеб едим и воду пьем… Пробьют барабаны — заведена пружина на день-деньской. Солдаты с нафабренными усами топчут плац. Фельдфебель матерится, по-бычьи нагибая башку. Между плацем и небом палит зной. Не продохнешь. После полудня запах «казенного блюда» перешибает вонь нужников. Обедают солдаты артелями. Один хлеб режет, прижимая караван к груди и не забывая при этом ругнуть пекаря сукиным сыном: опять-де корка от мякоти отстает; другой, жмурясь и шмыгая носом, крошит в котелки репчатый лук; третий достает из берестовой тавлинки черный, как порох, перец. Потом солдаты усаживаются вкруговую и молча, опершись локтями о колено, пошевеливая выгоревшими бровями, хлебают варево. Еще долго стоит на дворе вязкая жара, по мало-помалу солнце перестает течь по выцветшему небу комом желтого топленого масла, солнце означается резче, и уже тянет-потянет северо-восточный ветерок. Теперь что же? Теперь чисть, служивый, оружие, вылизывай амуницию, томись до ужина. Во-он, глянь-ка, поволокли на кухню мешки с сухарной крошкой, что набилась, натерлась в коробах дорогой из Оренбурга в Раим. Поволокли мешки, стало быть, лопать нынче «заваруху» — сухарные крошки, сваренные на свечном сале. Вечерами в глинобитных казармах светят фитильки. Кто на нарах лежит, кто покуривает, пригорюнившись, кто в орлянку режется. Печальны, темны лики угодников на плохоньких, рыночной работы иконах. В мазанках офицеры цедят паршивую водку, играют в штосс. Играют без азарта, механически двигая руками. Холостякам еще куда ни шло: есть в Раиме несколько девиц вроде попадьи Аделаиды. Молоденьким офицерам после кадетского затворничества жизнь в фортеции поначалу кажется сносной. Но жена-а-атым… И вечная нехватка денег, и мигрени, и слезливые попреки: «Ты меня никогда не любил». Боже милостивый, боже милостивый!.. Нелепо, кукишами, торчали укрепленьица в равнинах, бесконечных, как песнь кочевника, неразличимых, как пуговицы на солдатских мундирах. Может, только одного из рядовых линейного батальона обрадовало прибытие в Раим. Из крепости Орской ему не было видно ни зги. Будущее? Будущее воняло настоящим — сивухой и отхожим местом. В будущем крылось столько же смысла и радости, сколько в окрике: «Под-борродок выше!» Просвет объявился весной, он слился с запахом свежего разнотравья. Шевченко вдруг стало сниться море. Самоцвет-лазурит сверкал в золотом обруче. На зорях ему слышался смутный гул — казарма вставала, сопя и почесываясь, а хотелось думать, что этот смутный гул доносится из-за стеной и пустынь, оттуда, где сверкает и бьется желанное море. Про него он расспрашивал многих. Ему отвечали усмешливо: поганое, никудышное. Рядовой линейного батальона щурился. Никудышное? А ему мерещились холсты в стиле Жаня Гюдена[242]. Поганое? А он в мыслях своих уже сжимал кисть, осторожно, со святой опаской трогал холст и — как удар по клавишам — мазок, другой, третий… Вместе со всеми его гнали на фрунтовое учение. Орский унтер матерился не хуже раимского. На учениях угасала надежда. Нет, не видать ему этого моря. Жирный, размашистый крест был поставлен императором Николаем, повелевшим держать Шевченко «под строжайшим надзором, с запрещением писать и рисовать». Где же какому-то приезжему лейтенанту вызволить рядового линейного батальона? Нет, не видать моря, только снится самоцвет-лазурит. А в начале мая сотворилось чудо великое. Никто не догадывался, как счастлив ссыльный. «Раим, — твердили ему. — похлеще Орска, хлебнешь лиха». Он не спорил, скрывал свою радость ревниво и суеверно. И только в письме к другу проговорился: «Я теперь веселый». В поход пошли в середине мая. Степь уже успела пожухнуть, обметало ее стариковской сединой ковылей. Караван растягивался на версты, рыжее солнце задыхалось в пыли. Полторы тысячи телег скрипели уныло, тысячи долговязых верблюдов были нагружены, как лайбы, на тюках недвижно восседали казахи в тяжелых меховых малахаях. Пехотинцы шагали без мундиров, их полотняные рубахи казались от пыли фланелевыми. Верхами ехали уральские казаки — парод справный, гладкий, в окладистых бородах. Орудийная прислуга тащилась вместе с пушками, и пушки тяжело и покорно переваливались из стороны в сторону. Шли сквозь пекло, оставляя позади взрытую землю, дымящийся навоз. На бродах мутили вялые речушки. Корявый толстый осокорь с орлиным гнездом в искривленных ветвях долго не скрывался из виду. Заревом степных пожаров прихватывало дальние горизонты. И повисал над биваками месяц, похожий на клок овечьей шерсти. Сотни верст, и всё степью, все степью. В жухлой траве, как лысины, проглядывали пески и пятна солончаков, как стригущий лишай. Никого уж не заботил походный порядок. О, как точно расписали его в штабе Отдельного оренбургского корпуса! А тут верблюды перемешались с конями, пехотинцы- с казаками, телеги — с пушками. Тухла вода в кундуках, и, ощерив зубы, дохли лошади. Но — «я теперь ьеселый». Когда выходишь за ворота тюрьмы, ощущаешь кружащую голову легкость. Не разумом поначалу ощущаешь ее, по затылком, спиною, будто утратил вес, будто вот-вот взлетишь. Еще годы и годы солдатчины, никуда не денешься от ярма. Но не об этом он думал в пути. Он был в движении, у него была цель. Он шел пустыней, люто наказанной солнцем, но движение это не определялось шагистикой, выделыванием ружейных артикулов. Он шел сквозь пекло, но шел к холстам, краскам, к живописи, а ради нее можно пройти все пустыни мира. Шевченко шагал в толпе небритых угрюмых солдат. Подсаживался на телеги к молчаливым башкирам. Ехал верхом. Лошадь ему любезно одалживал Макшеев, двадцатишестилетний штабс-капитан, выпускник военной академии. Шевченко вызывал у Макшеева почтительное любопытство. В среде петербургских офицеров с гуманным, как тогда говорили, направлением ума (а Макшеев причислял себя к ним) сочувственно отзывались об авторе «Кобзаря» и ученике великого Брюллова. Слыхал штабс-капитан и о тайном киевском обществе, в котором состоял Шевченко, и о приговоре, утвержденном государем. Столь жесткой меры Макшеев не одобрял. Однако в Оренбурге при решении вопроса о зачислении Шевченко в ученую экспедицию штабс-капитан благоразумия ради помалкивал. Теперь же ему хотелось порадеть ссыльному. Штабс-капитан предложил Шевченко стол и кров. Это было заманчиво — рачительный «академик» располагал собственной кибиткой и собственным запасом продовольствия. Но Шевченко согласился не сразу, офицеров он не любил. Макшеев рассчитывал на благодарность, отчужденность Шевченко его задела. Он, однако, повторил приглашение, и Тарас Григорьевич, полагая, что «академик» Макшеев все же не чета гарнизонной «официи», воспользовался и кибиткой и провизией. Вместе одолели они полторы тысячи верст степью и пустыней, вместе зажили в Раиме. Но вчера лейтенант Бута ков приказал перебираться па шхуну, и житью раимскому подходил конец.3
У каждой реки свой нрав. Язычница Конго долго теснит зеленоватую Атлантику; Макензи с индейским презрением плюет ржавой глинистой пеной на голубоватые льдины Полярного океана; Сыр-Дарья угасает в Аральском море медленно, с равнодушием магометанина. Бурая полоса сыр-дарьинской воды, богатой илом, как богат им священный Ганг, далеко простирается в море. Широкая, густая коричневатая полоса эта истончается постепенно. Когда держишь в море из устья Сыр-Дарьи, за кормою судна ложится светлый коридор. Он все просторнее и все голубее, впереди же по курсу восторженно блещет аральская синь. Встречи с нею ждешь, по переход рубежа всегда внезапным и, перегнувшись за борт, вдруг видишь, что коричневых вон уже нет, а есть волны как бутылочное стекло, насквозь, до песчаного грунта, пронизанные солнцем. А вдали — все та же ликующая гинь. Июльским днем 1818 года этот рубеж пересекла шхуна «Константин», на мачте которой потрескивал брейд-вымпел — стремительный узкий флажок с двумя косицами и андреевским крестом. Бутаков не любовался Аралом. И красивая игра солнечных лучей в волнах тоже его не прельщала. Глубины были малые, ничего не стоило плюхнуться на мель или выскочить на камни. Да к тому же и ветер, черт его дери, задувал с разных румбов и приходилось беспрестанно лавировать. А между тем граница илистой Сыр-Дарьи и прозрачного Аральского моря была в некотором смысле и границей в его, лейтенанта Бутакова, жизни. Именно теперь, именно здесь начиналось нечто совсем новое, на прежнее не похожее… Бутаков еще гардемарином мечтал о кругосветном походе. Он считал, что «кругосветка» необходима флотскому офицеру так же, как живописцу или музыканту необходима поездка в Италию. В сороковом году его назначили старшим офицером транспорта «Або». Парусник отправился из Кронштадта в Петропавловск-на-Камчатке и два года спустя воротился на Малый кронштадтский рейд. Тут полагалось бы к этому «воротился» прилепить «счастливо». Увы, кругосветный поход «Або» был, пожалуй, самым злосчастным в череде русских дальних плавании. Не ураган в Индийском океане, не бури в Великом или Тихом, не штормы у мыса Горн были тому причиною, а белобрысый мокрогубый капитан-лейтенант Юнкер, командир корабля. Юнкер спустил казенные деньги и чуть ли не половину экипажа заморил цингой. Промотавшись вчистую, он вздумал «законно» ликвидировать свои ликерно-водочные расходы, произведенные с необычайным размахом в портовых кабаках, а для сего ему нужны были подписи Бутакова и других офицеров. Старший офицер «Або» восстал, товарищи его поддержали и скопом подали рапорт начальству. Казалось, затрещат на Юнкере эполеты. Но не тут-то было. Белобрысый был малый не промах, он взял да и обвинил самих обвинителей в том, что они не подчинялись командиру, а на это на военном флоте карали жестоко, и дело приняло скверный оборот. Наглость пропойцы и безобразника объяснялась просто: ему покровительствовал глава флота и любимец императора светлейший князь Меншиков. Почему, за что капитан Юнкер был в фаворе у князя Александра Сергеевича, никудышного моряка, но персоны умной и образованной, Бутаков никогда понять не мог. Нарядили суд. Чиновники заскрипели перьями. Бутакову пришлось бы круто, когда бы не Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. Главный командир Кронштадтского порта, занимавший высшую строевую должность в Балтийском флоте, прославленный мореход и открыватель Антарктиды принял сторону лейтенанта. Старик адмирал знал Бутакова по службе, адмиральша Анна Дмитриевна знала матушку Алексея, его же помнила почти с пеленок. Помогли и письма Лазарева, сподвижника Беллинсгаузена в экспедиции к Южной матерой земле и товарища отца Бутакова, черноморского моряка. Фаддей Фаддеевич, что называется, лег костьми, вызволяя Бутакова. Скандал получил слишком громкую огласку, и князь Меншиков, поколебавшись, прекратил следствие. На том и заштилело. Бутаков, однако, понимал, что держится на плаву лишь заступничеством Фаддея Фаддеевича и что рано ль, поздно ль светлейший отомстит. К невеселым мыслям об испорченной карьере прибавлялись и другие, еще более тягостные думы. История с Юнкером убила в нем наивность и доверчивость. Бутакову и раньше претил «фрунтовой дух», внедрявшийся во флоте Петербургом. Теперь он понял, что «фрунтовой дух» — генеральное направление царствования Николая Павловича. Бутаков я прежде сознавал, что справедливость не всегда торжествует. Теперь он понял, что справедливость торжествует изредка, да и то при стечении некоторых обстоятельств. Бутаков и раньше неоднократно убеждался, что удел русского матроса — линьки и мордобои. Теперь он увидел, что «нижний чин» ценится дешевле порожней жестянки — мученическая смерть служителей транспорта «Або» сошла с рук Юнкеру. Жизнь предстала Бутакову в мрачном свете. Лишь зимою, на берегу, в Кронштадте, он находил некоторое отдохновение, занимаясь иностранными языками, науками и литературой. Его морские очерки охотно печатали «Отечественные записки», и знаменитый критик отозвался об этих статьях с лестною для сочинителя похвалою. Но в очерках не было ни слова о трагедии матросов «Або»: цензоры тоже были одержимы «фрунтовым духом». Годы шли. Бутаков тяготился службой, не шутя подумывал об отставке. А голову преклонить решительно некуда было, со времен Петри I Бутаковы числились в списках русского флота, получая чипы и ордена, но не поместья и не крепостных. Кто знает, как все повернулось бы, если бы не среди у Беллинсгаузена. По средам к Фаддею Фаддеевичу сходились старые приятели. То были моряки прежней породы, «любители порассуждать», не очень-то ценимые в столице. Рассуждении их большей частью вращались в сфере навигации, гидрографии и географии, но при этом старики едко трунили над аракчеевыми, которые настоящую корабельную выучку заменили плац-парадными построениями (впрочем, оппозиция эта была нимало не страшна Зимнему дворцу, подобно тому как его не страшила и ворчливая фронда завсегдатаев московского Английского клуба). На среды в доме главного командира Кронштадтского порта приглашали кое-кого из молодых, и лейтенант Бутаков был частым гостем Фаддея Фаддеевича. Так вот, на одной из сред, поздней осенью, в ненастье, когда хуже Кронштадта, пожалуй, места на земле не сыщешь, краснолицый, неизменно бодрый толстяк контр-адмирал Анжу вспомнил экспедицию двадцатилетней давности. Он вспомнил, как в зимний гололед и бескормицу отряд геодезистов тащился закаспийскими степями на восток, в сторону Аральского моря. Тащился отряд два с половиной месяца, в пронзительную стужу и потерял дорогой двадцать солдат, более полутора тысяч лошадей и что-то около сотни верблюдов. На западном побережье Арала геодезисты сделали съемку некоторых приметных мест, вконец извелись от холодов и голодухи да и поворотили вспять… Петр Федорович Анжу, человек совершенно русского облика и склада души, хотя дед его родился во Франции, рассказывал об этой малоудачной экспедиции в обычной для него манере — безыскусственно и почти не упоминая о самом себе. Вот так же рассказывал он и про путешествие к берегам Ледовитого океана, и про Наваринское сражение, где заработал Георгия 4-й степени и контузию. Воспоминания Петра Федоровича вызвали общий разговор о таинственном море, точных карт которого нельзя было сыскать ни в гидрографическом депо, ни в Академии наук. Бутаков встретился взглядом с Фаддеем Фаддеевичем, и они поняли друг друга. Вот она, возможность разом обрубить канаты и выйти на чистую воду! Право, судьба позаботилась о том, чтобы был на свете Арал. Немые, не берег, не речное устье, но море предстояло положить на первую с мире точную карту. Изучить течения, характер грунта, глубины, геологическое строение берегов, фауну и флору. Доподлинная ученая экспедиция! И, наверно, будут острова. Без них недостает в экспедиции как бы главной и определяющей черты. В слове «остров» слышалось Бутакову что-то одинокое и гордое: «Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит»… Беллинсгаузен со своим проектом пожаловал в Адмиралтейство. Светлейший князь Меншиков любезно согласился с Фаддеем Фаддеевичем. «О да, — заулыбался князь, — о да, я весьма рад помочь вам, адмирал». Еще более, разумеется, он радбыл сплавить подалее лейтенанта Бутакова. Потом Беллинсгаузен навестил военного министра князя Чернышева, туповатого и надменного, как многие военные министры, и добился разрешения на то, чтобы Оренбургский корпус содействовал морской экспедиции. Засим адмирал уламывал министра иностранных дел графа Нессельроде. Граф Карл Васильевич побаивался неудовольствия англичан: Аральское море омывало с юга хивинские земли, а па Хиву целил Джон Буль (британцы). Наконец, в январе сорок восьмого года, все было решено, и старик Беллинсгаузен благословил лейтенанта. С тех крещенских дней минуло шесть месяцев. Разве позабудешь степной зной, пыль, тухлую воду? Разве позабудешь стук топоров на раимской пристани? На телегах волокли разобранную шхуну из Оренбурга к Сыр-Дарье, в Раиме собирали, сколачивали ее, конопатили, красили, вооружали. А нынче вьется, потрескивая, брейд-вымпел — корабль вступил в кампанию. Впереди нынче праздничная синь, как в тропических широтах Атлантики или в Эгейском море. И могучая зыбь наваливает с веста.4
С ни стояли на носу шхуны, словно нарочно выстроившись по ранжиру. С правого фланга самый высокий — худой, жердью — минералог Томаш Вернер, бок о бок с ним — гвардейской выправки штабс-капитан Макшеев с усами а ля Марлинский, потом — топограф прапорщик Акишев; дубленное солнцем, обветренное лицо его выдавало человека, который больше жил под открытым небом, нежели под крышей; рядом с Акишевым — корабельный живописец Тарас Шевченко, приземистый, в плечах широкий, мешковатый, и, наконец, фельдшер Истомин, коротышка с сигаркой в углу губ. Макшеев, улыбаясь и показывая в улыбке ровные крепкие зубы, декламировал:5
В штиле мор похожи друг на друга, каждое море гневается по-своему. Признак близкого аральского шторма — перистые облака. Не полуденные ленивцы и не те неженки, что дремлют на пуховиках зорь, а проворные хищники, которые бегут от горизонта к зениту, когтями вспарывал небо. В них есть что-то напоминающее степных волчиц, когда те, тощие, со свалявшейся шерстью, ровной рысцой проносятся среди ковылей и барханов. Перистые облака гнал от горизонта к зениту свежий зюйд-вест. Бутаков отдал оба якоря в какой-то бухте, полагая, что ночь отстоит мирно. Зюйд-вест действительно к вечеру сник. Однако флюгарка на мачте вскоре дрогнула, как в ознобе, мгновение помедлила и повернулась, показав перемену ветра. Задул норд-вест, быстро набрал силу, стал тугой, резиновый, вздыбил волн и, и они ринулись в бухту. «Как будто в буре есть покой…» Мореходу и впрямь покой можно обрести в буре, по только не в тесной бухте, а вдали от берегов, в открытом море. Увы, теперь поздно было думать об этом. Сунься в горло залива — тотчас шваркнет о камни, и поминай как звали. «Константина» мотало на якорях, он сотрясался от киля до топов мачт. Ничего другого не оставалось, как просить заступничества Николы Чудотворца, давнего защитника русских плавателей, но Бутаков был плохо знаком с божьими угодниками, и не до молитв ему было. Он перебегал с носа на корму и обратно, опасливо приглядываясь к якорным канатам, которые то напрягались струною, то бессильно провисали в темноту. Если сорвет с якорей, шхуна неминуемо погибнет; они ушли слишком далеко, чтобы посуху, пустыней добраться до Рапма… Если сорвет с якорей, все полетит к чертовой матери, а те, на острове Барса-Кельмес, перемрут голодной смертью — запасов-то у них на неделю, не больше. Бутаков достал часы, штурман Поспелов поднес фонарь. Было около полуночи, до рассвета оставалось тысяча лет. Пусть бы и шторм гремел, лишь бы рассвело, во тьме беда всегда круче. Шевченко сидел в каюте, прислушиваясь к гулким ударам волн, и вдруг вспомнил, как Брюллов показывал ему рисунок художника Гагарина. Рисунок этот беглый, неотделанный, Шевченко увидел и позабыл, а тут вдруг припомнил. На рисунке была корабельная каюта, за столом — кудлатым Карл Павлович Брюллов и востролицый, с приглаженными волосами командир брига «Фемистокл» Корнилов. В углу приткнулась стойка с курительными трубками, еще что-то. Брюллов вытянул ноги и скрестил руки, Корнилов запахнулся в халат… Шевченко усмехнулся: в каюте «Константина» так-то не рассядешься, и не только что нынешней ночью, айв красные дни. Почему-то вспомнился этот гагаринский набросок, сделанный лет пятнадцать назад на борту брига, возвращавшегося из Средиземного моря в Черное… Может быть, потому, что Тарас Григорьевич как раз перед штормом задумал изобразить в альбоме каюту «Константина». Странное дело: Шевченко точно бы и не страшила ночная буря. Он сознавал опасность, но оставался спокойным. Была и нем уверенность в благополучном исходе и этой штормовой ночи, и всего плавания. С первых же дней, как только начались промеры глубин, съемка и опись берегов и жизнь корабельная пошла размеренной чередою, а они с Вернером привыкли к качке, Шевченко предался работе и нашел в ней нечто родственное своим занятиям в ученой архивной комиссии на Украине. Ничего в аральских пейзажах не было живописного в том смысле, какой вкладывали в это понятие любители «роскоши и неги натуры», но своя, особая, не сразу приметная прелесть, напоминавшая задумчивый перезвон колокольцев где-нибудь на степном шляхе, таилась в унылых линиях берегов, полуостровов и заливов, и, должно быть, именно такое звучание пейзажа трогало и привлекало Шевченко. Он лег навзничь, вытянулся, заложив руки за голову. Подвесной фонарь раскачивался, перебрасывая тень Томаша Вернера. Томаш подобрал колени, положил толстую тетрадь и старался читать что-то записанное в ней, но часто отрывался и тоже прислушивался к орудийному грохоту шторма, к скрипу и стонам корабля. Шхуну бросило на левый борт. Вернер опрокинулся, растопырив руки и выронив тетрадь. В ту же минуту в дверях наискось повис фельдшер Истомин. Лицо у него было белое, губы дрожал». — С одного якоря! — заорал фельдшер и рубанул ладонью воздух.6
— После светлого воскресенья так уж гульнуло, так гульнуло!.. — Парфен Клюкин сплюнул в огонь и большим пальцем показал через плечо. — В сейчашнее время, само собой, тоже, а все ж тому, что тогда, верите, братцы, ни в один градус. Понимать надо: окиян… Матросы сидели у костра полукругом, спиной к морю, словно бы не желая видеть штормовое безобразие. Саксаул горел охотно и жарко, от огня, как чудилось матросам, пахло верблюдом. Уже несколько дней Акишев, Макшеев и шестеро матросов вели инструментальную съемку острова Барса-Кельмес. Когда Барса-Кельмес видишь с моря, он удручает невозмутимой геометрической ровностью берегов. Кажется, отбил их педант землемер, ничего не смыслящий в мореходстве. Судну у Барса-Кельмеса укрыться трудно — ни заливов, ни бухт. Высадив геодезистов, Бутаков ушел от Барса-Кельмеса, обещая вернуться дня через три — четыре. Так бы оно и получилось, если б не шторм. А шторм не прекращался. В дневном небе не показывались голубоватые чистые промоины, которые на Арале обещают добрую погоду. В ночном небе не было звезд. Но, и не прикидывая по звездам, можно было угадать, что станется с горсткой люден на необитаемом острове, если шхуну загубит буря… — В Индейском океане ураган зачинается не по-здешнему, — говорил унтер Клюкин, заслоняясь ладонью от жаркого огня. — Своим, понятно, обычаем. Что город, то норов, а тут оки-ян! Ну, стало быть, так это происходит в Индейском океане. После светлого воскресенья, как, значит, ободняло, воздух в глотках увяз, поперхнулись мы воздухом-то, ей-богу, прямо-таки, братцы, нечем дышать, хоть плачь, ей-богу. Парфен долго и подробно толковал об урагане, который ему пришлось пережить лет семь назад на транспорте «Або». Речь его была неторопливой, торжественной и как бы окутана некоторой таинственной гордостью, словно бы он, Парфем Клюкни, был причастен к возникновению стихийных бедствии. Матросы слушали его не перебивая, но думая поначалу о другом да и не сознавая, к чему клонит долговязый унтер. Только уж под конец, когда Клюкни стал говорить, каким манером старшин офицер транспорта, их благородие Алексей Иванович Бутаков, привел все же парусник к Никобарским островам, несмотря на то что ураган перебил рангоут и снес мачты, только тогда Парфеновы слушатели осознали главную его мысль. А мысль эта была та, что ни черта со шхуной «Константин» приключиться не может, потому как командиром — Алексеи Иванович Бутаков, ничегошеньки он не сделается, шхуне «Константин», придет она к Барса-Кельмееу, шут его возьми. И опять сладилось чаепитие. И разговоры сладились совсем не об утопших в морях, не о крушениях корабельных, а домашние и мирные. Аверьян Забродин, матрос первой статьи, горбоносый и чернявый, Москву вспомнил, где жил дворовым у барина, отставного майора. Вот и начал про башню Сухареву, которая «ни дать ни взять корабль адмиральский», и про гулянье на масленицу у Ново-Девичьего монастыря, когда такая потеха, такое веселье, что «просто, ребятушкн, разлюли-малина», и про Марьину рощу, где куковала кума его, «цветик-цветочек, вот те крест»… А Иона Полетаев, матрос тоже первостатейный, но, в отличие от Аверьяна, мужик застенчивый, легко краснеющий, и прозванный еще в Кронштадте Ионой-тихоней, качал головой и кротко замечал: — Мо-осква, оно так, да только соблазну много. А ежели вот окрест Калуги, скажем, — леса-а-а… Ах, милые вы мои, какие леса-а-а!.. Даже Густав Терм, молчальник-эстонец, и тот разговорился. Оказалось, земляк он не кому иному, как его высокопревосходительстку адмиралу Беллинсгаузену, с одного они с Густавом острова — с Эзеля, что в Балтийском море. — Земляки? — удивился Клюкин. — Вона что, брат! Так какого же лешего ты к нему не запросился? Глядишь, в денщиках бы бока отлеживал. Густав Терм поднял на унтера светлые глаза, покривил губы, ответил строго: — Я есть матроз. Я не можно денщик. — Горда-а-ай!.. — протянул Иона-тихоня не то одобрительно, не то осуждающе. Солнце заваливалось за тучи, запад багровел, а море громыхало по-прежнему. Акишев с Макшеевым поместилась в парусиновой палаточке. Оба угрюмо молчали. Прапорщик присоветовал было штабс-капитану чаевничать не внакладку, а вприкуску, сберегая сахар. Совет свой Акишев высказал с заботливостью человека, испытавшего на веку всякое, но Макшеев вспыхнул, озлобился, наговорил много такого, за что теперь ему было неловко и стыдно. Впрочем, неловко и стыдно ему было не оттого, что он накричал на помощника, который был много его старше, а потому, что сорвался, обнаружив растерянность, если не отчаяние. Видать, «академику» были впервой такие передряги. А топографу Оренбургского корпуса не раз уж приходилось околевать в степях и пустынях от жажды и голода, стужи и буранов. Десять лет Артемий Акимович, мужчина суровый, кряжистый, с грубоватыми ухватками, обретался в унтер-офицерах. За царем, по пословице, служба не пропадает, и Артемий Акимович выслужил «высочайше утвержденную из желтой тесьмы нашивку на левом рукаве». Но, когда его недавно произвели наконец в прапорщики, он едва наскреб деньгу, чтобы сшить офицерский мундир… Макшеев возбужденно прокричал, что куском сахару от голодной смерти не спасешься, что бутаковская лохань наверняка разбилась, а коли и не разбилась, то, получив повреждения, отправилась в Раим и лейтенант, конечно, и думать не думает о несчастных, брошенных на этом проклятом Барса-Кельмесе. Монолог остался без ответа, но Макшеев видел, что крупное, с квадратным, плохо выбритым подбородком морщинистое лицо Акишева сделалось недобрым, почти грозным. В уме штабс-капитана мгновенно ожила давешняя картина, когда он так рельефно представил себе, чт разыграется на острове, если шхуна погибла. Давешней ночью он слышал, как матросы переговаривались между собой и чей-то мрачный, ну прямо разбойный голос каркал: «А у баринка-то, братцы, запасец изрядный». Это они о нем, разумеется, о нем. И на походе из Оренбурга к Сыр-Дарье, и потом, на шхуне, штабс-капитан столовался отдельно от прочих. На Барса-Кельмес он тоже прихватил собственный харч и еще па шхуне сказал об этом Акишеву, чтобы тот не обижался. Прапорщик тогда ответил сухо: «Как вам угодно», а теперь вот поджал ноги по-татарски, глядит как филин. — Послушайте, — заговорил вдруг Макшеев начальственным тоном. — К ночи выставим посты… А? Что? — воскликнул он, хотя Акишев по-прежнему молчал. — Вы слышите, прапорщик?.. Как это — зачем? А если придет шкуна?.. То есть как — не придет? — Шкуна не придет. — Акишев медленно усмехнулся в густые, с подпалинами от курева усы. Усмешка показалась Макшееву презрительной, он вскинулся: — Извольте… — Не извольте кричать. — сурово оборвал его Акишев. Голос у него был сиповатый, негромкий, Макшееву в ту минуту ненавистный. — Не будет нынче шкуны. Посты выставлять — только людей мытарить. Макшеев смешался. С минуту он смотрел в упор на Акишева и выскочил из палатки, бормоча проклятия. Скорыми, запинающимися шагами он почти побежал, не разбирая пути, но, однако, не теряя из виду моря. Темнело. Косматый, чернильный Арал вздымался, ворочался, ухал. Быстрая ходьба не успокоила штабс-капитана, мысли его совсем сбились. Он то прикидывал, можно ли в челноке добраться до Сыр-Дарьи, то с каким-то остервенением убеждал себя, что в челноке и двух верст по морю не сделаешь, а потом ни с того ни с сего подумал, что нынче же ночью он увидит сигнальный огонь, зажженный па борту «Константина». И он стал ходить неподалеку от моря, пугая ежен и тушканчиков.7
Солнце, задавленное тучами, выбиралось на небо медленно и трудно, как рудокоп из рухнувшей штольни. Ветер стихал, раскаты моря стали глуше, но шторм все еще работал. Впрочем, теперь работа его была уже чистой напраслиной. Ведь ежели и есть у штормов цель, то одна — потопление кораблей, погибель корабельщиков. А с рассветом все на шхуне уверовали: выжили, пронесло. — Ксеиофонт Егорович! — Бутаков одну руку в бок упер, другую в карман сунул. — А? Кажись, минуло? — Признаться? — Штурман тихонько и застенчиво рассмеялся. — Думал — каюк. — А я, — Бутаков покрутил головой, — я все это в памяти «Описание кораблекрушений» перебирал. Исторические примеры, черт их дери! И то и се, одно страшней другого. Нда-а… Плот, думаю, придется мостить. А те-то, Ксенофонт Егорович, наши-то на Барса-Кельмесе, а? Вот уж о ком душа настрадалась, а? Бутакова распирала потребность говорить, говорить, говорить. И не с кем-нибудь, а с этим застенчивым востроносеньким штурманом. Что за притча? Кажется, нет ему никого в сию мину ту ближе Ксенофонта Егоровича… Как почти все строевые офицеры тогдашнего флота, Бутаков не мог избавиться от пренебрежения к «штурманском кости». С Поспеловым лейтенант был неизменно вежлив, но сама эта холодная вежливость была известной дистанцией, на которой, по его мнению, надлежало держать штурманов. Ксенофонт Егорович тоже не переступал черты. Не столько по скромности, доходившей до болезненности и придававшей ему вид человека, которому тесна обувка, а платье жмет в плечах, сколько потому, что слишком хорошо знал офицерское отношение к штурманам как к людям низшего ранга. Может, причиной внезапной разговорчивости лейтенанта было то, что тревоги минувшей ночи пережил он плечом к плечу с Поспеловым? Однако и в «кругосветке» на «Або» Бутаков пережил немало вместе со штурманом с крепенькой, как орешек, фамилией Клет, да и на Балтике, на пароходе-фрегате «Богатырь» и на всех других кораблях, всегда же были штурманы, были и опасности. А вот ни к одному из тех навигаторов не возникало у Бутакова такой внезапной и стремительной симпатии. Давно уж шевелилась она в душе Бутако-па, трудно было не ощутить тихого обаяния Ксенофонта Егоровича — худощавенького, смешно загребавшего в ходьбе носками внутрь, с речью, как и его походка, косолапенькой. По всего этого было бы, конечно, недостаточно, чтобы лейтенанта вдруг так потянуло к штурману. Нужно было видеть Ксенофонта Егоровича минувшей ночью. Й, пожалуй, не видеть, а каким-то непонятным образом — штурман, по обыкновению, помалкивал, да и ничего отменно храброго не совершил — почувствовать, что ты имеешь в нем человека надежного до последней кровинки и что он, этот замкнутый чслоеск, наделен истинным мужеством, хотя сам, должно быть, о нем и не подозревает. — Так как же вы полагаете, — спрашивал Бутаков, заглядывая в лицо Поспелову, — отстояться нам здесь или двинуть немедля к Барса-Кельмесу? Поспелов, которому была приятна разговорчивость лейтенанта, и доверительный этот вопрос, и обращение по Сатюшье, принятое на военных кораблях только среди строевых офицеров, конфузливо сопнул носом, как бы поежился и отвечал, что, по его мнению, надо бы подождать покамест зыбь немного уменьшится, а потом уж лечь курсом на Барса-Кельмес. — Но только не так уж и долго ожидать. Алексей Иванович, а то не ровен час — норд-ост. Тогда что ж? Тогда застрянем. Это так… вот и… да… Недолго чтобы… Алексеи Иванович ласково кивал головой. — Господа! — Бутаков сделал жест, означавший, что он приглашает всех разделить его решение. — Итак, господа, быть по сему. А теперь… — Он оглянулся и зычно крикнул: — Эй, Ванька! Где тебя носит? — Тута, ваше благородь! — гаркнул из-за спины Бутакова денщик Тихов. Иран умел объявляться по первому зову; казалось, в любом месте палубы был готов ему люк, из которого он и выскакивал чертиком. Бутаков посмотрел на денщика испытующе и весело; широколицый, глазастый Иван осклабился: — А как же, ваше благородь? Хоть сей секунд к столу. — Успел? — А как же, — повторил Иван не без гордости, но, покосившись на Шевченко, совестливо добавил: — Спасибо вот они подсобили. Шевченко ухмыльнулся: — Твой подвиг, хлопец, чего там… — К столу, к столу, — заторопился Бутаков. — И, чтобы чисто было в глотке, надо выпить водки! Шторм уступал тишине, как зло уступает добру — грозясь вернуться и взять свое. Шторм пятился, ворча и встряхиваясь. Голубые промоины в небе ширились, разливались, делаясь все сочнее, словно полыньи, когда весна наляжет дружно. И уже не хищной волчьей стаей неслись перистые облака, а плыли неспешно, истаивая серым дымом, зыбь же задремывала, желтоватая, грязная, насыщенная песком, поднятым со дна. Бухту оставляли на закате. Море было зеленоватое и золотистое. Чайки, изголодавшиеся во время шторма, мчались к отмелям, резко и часто взмахивая крыльями, отчего получился звук, похожий на дыхание бегущей во всю мочь собаки. Ночь разлилась белесоватая, лунная, теплая. На шхуне поставили все паруса, она шла ходко, не уваливаясь с курса. Качало так мерно, так плавно, что рында-булинь, уподобляясь маятнику, описывал ровные полукружия. То была одна из тех ночей на море, когда неприметно погружаешься в тихую задумчивость, когда сам себе кажешься и добрее и чище, чем ты есть, а в душе роятся смутные сладостные видения. На «Константине» все затаились, примолкли, шхуна будто обезлюдела, и среди лунных бликов, среди неподвижных теней от такелажа и мачт, всплесков и рубиновых огоньков цигарок хороводили призраки-видения, у каждого разные, у каждого свои… Сухопутные призраки трусливы: они бегут при петушином крике. Призраки морские дисциплинированны: они исчезают, заслышав голос корабельного начальства. Так и теперь. Бутаков окликнул штурмана, штурман отозвался: «Подходим!» — и все сгинуло, па шхуне заговорили, задвигались. Остров Барса-Кельмес означился на облуненном море томным темным пятном, и тотчас, как красный петух, взлетел над кораблем фальшфеер. — Якши! — одобрительно заметил Бутаков, не оборачиваясь, но зная, что зажигать фальшфееры, бумажные гильзы, набитые горючим составом, должны унтер Абизиров и матрос Абдула Осокин.8
В каплях соленой влаги дробился солнечный луч; казалось, что из обломка каменного угля рвется издревле затаившийся пламень. Море бормотало — старик, впавший в детство. Седые лохмы водорослей, легкие и ломкие, разметывались по блеклому песку. Пахло нагретым известняком, как на развалинах. Чайки не кричали, не выстанывали, не заливались хохотом, а реяли молча, лишь изредка издавая какой-то звук, напоминавшим скрип дверных петель. Шевченко тронул пальцем черный камень. — То-то обрадуется, а? Вернеру не надо было объяснять, кто обрадуется. Да, Алексеи Иванович спит и видит пароходство на Арале, с парусными, говорит, судами не многое сделаешь для освоения моря и всего края. А для пароходов нужен уголь. Стоило только заговорить о паровых судах, об угле, как округлое и добродушное лицо начальника экспедиции принимало мечтательно-восторженное выражение. Вчера, оставляя Барса-Кельмес, где на шхуну приняли изголодавшихся и порядком напуганных геодезистов, Алексей Иванович толковал, что, по слухам, на полуострове Куланды кочевники находили «горючий камень». Переход от Барса-Кельмеса до полуострова Куланды был спокойным. Ветер усердно полнил паруса, шхуна пробежала весь путь часов за восемь с небольшим и около полуночи стала на якорь у овражистого мыса. А нынче, едва рассвело, лейтенант, снедаемый нетерпением, поднял на ноги топографов, минералога, матросов. Съехали на берег. Было чем полюбоваться: раковины крупные, как вазы, кустарники, камыши, простор, открывшимся с утеса, — море как степь, и степь как море… Шевченко жмурился, улыбался, отирал пот со лба, ветер ворошил и путал его бороду. И не было во всей его, Шевченко, стати, но всем его облике не было ничего страдальческого, была в нем бодрая сила, спокойная уверенность, и весь он был такой светлый, такой радостный, что Томаш Вернер поглядывал на него почти с завистью. — Седай, Хома. — Шевченко ласково потянул Вернера за рукав. — О так, добре. Они сели на бурый песчаный бугор, их плечи соприкасались. Над камышами блаженно дрожали стрекозы, рядом, за бухточкой, солидно похлопывали крыльями вороны, обожравшиеся саранчи. Еще в Раимской крепости завелось у Шевченко обыкновение беседовать с Томашем по-польски. Оба при этом, хотя и по разным причинам, испытывали потаенную радость. Томаша неприметно, исподволь, от одних лишь звуков родной речи охватывала сладкая грусть, как бывает, когда в дальней дороге заслышишь вечерний благовест. А Шевченко независимо от смысла и течения беседы не то чтобы видел, а как бы ощущал, как ощущаешь дуновение ветра, облик Дуси Гусиковской, чернобровой ласковой швеи из «достославного града Вильны», Дуси, которая любила Тараса и которая научила его изъясняться по-польски. Но сейчас, на берегу, глядя, как обсыхает под солнцем обломок черного камня, Шевченко заговорил по-русски. Заговорил он по-русски, должно быть, оттого, что так ему все же легче было растолковать свои мысли. Он тоже, как вчера Бутаков, стал говорить о пароходах. Явятся тут пароходы, на богом забытом Арале, и чугунка загудит в степях, и это все куда как хорошо. Нет, не о купечестве у него думка, не о лабазном счастье, совсем о другом… Давно уж, когда был он еще учеником Брюллова, отправились они как-то с Карлом Павловичем на праздник в Петергоф. Ехали. Искры, дым, стук, и никакой красоты не видел он в пароходике, взирал на пего, чумазого, с презрением, а любовался парусами да яхтами, что ходили по заливу белыми лебедушками. Ну, а теперь он не так мыслит, совсем не гак Пароходы, чугунки, все машинное представляется ему огромным, глухо ревущим чудовищем с раскрытой пастью. Раскрыта она, огненная эта пасть, и готова поглотить престолы, короны, помещиков. — Верю, Хома, — творил он, пристально глядя на море, — крепко верю: энциклопедисты начали, а фультоны, уатты — довершат. Будет так, друже, непременно будет… Вернера поразило его лицо — лобастое, мужицкое, бородатое, оно было в ту минуту, как у одного из апостолов на картине Дюрера, пророческое и суровое. Черный камень обсох. Плеснула волна посильнее прежних, отбежала, и на черном камне вспыхнули новые зодиак»… Поднялись и пошли лукоморьем, расстянувшись цепочкой: Вернер с Шевченко, пятеро матросов. Слепило солнце, наваливало тяжелое, знойно-соленое дыхание моря, под сапогами сухим сургучом потрескивали pакушки. Верст пять прошли, свернули в сторону. Шорох моря отодвинулся, как бы короче стал, постепенно сменяясь все более явственным струнным звоном кузнечиков. Гуще и чаще проступали солончаковые пятна. Оглянувшись, еще можно было видеть море, ровное и плоское, словно в корыто налитое. А потом оно скрылось. Ни там, на бугре, ни дорогой Вернер ничего не сказал Шевченко. Самолюбие Томаша было задело. Как же это он сам не додумался до столь очевидной очевидности? Как же это он, бывший студент-технолог, изучавший в Варшаве механику и математику, химию и физику, не додумался до того, что машины не просто облегчают человеческий труд, но приближают дни торжества и возмездия? А вот Тарас Григорьевич додумался! Живописец и стихотворец, который вряд ли отличит шестерню от шатуна и не ведает, с чем едят бином Ньютона, додумался! Должно быть, и вправду боги наделяют поэтов даром провидцев… Вернер вспомнил о «катехизисе»: все, что нынче сказал Тарас, следовало занести в «катехизис». Заветная тетрадь… В злую минуту, в едкий час невольничьей тоски Вернер перечитывал записанное в «катехизис». Тетрадь эту передал ему земляк, варшавянин, тоже, как и Томаш, сосланный в Оренбургский корпус. Феликс, Феликс… Когда-то вместе с Феликсом они готовили нападение на Варшавскую цитадель, мечтали вызволить друзей, приговоренных к смерти. Кто их предал? Кто предал Феликса, предал его, Томаша, предел егсх славных ребят? Феликса сожгла чахотка, его могила в степи близ Орска уже сровнялась с землей, а деревянный крест повалили бураны. Осталась заветная тетрадь, и Томаш бережет ее свято. В той тетради стихи Мицкевича, отрывки из статей Лелевеля, воззвания мятежников… Как это сказал Тарас: то, что во Франции начали энциклопедисты… Вернер вздрогнул: солончаковая глина была подернута копотью. Копоть, темные пятна на глине! Пятеро матросов, Вернер и Шевченко скинули рубали. Голые по пояс, облитые потом, как водой из ведра, они ударили лопатами о твердый грунт. Выкопали ров глубиною по грудь, сухая глина сменилась влажной, лопаты врезались в грунт мягче, свободнее, но отбрасывать грунт стало труднее, и туг вес увидели, что глина пропитана чем-то маслянистым, пахучим. То были примеси нефти, и Вернер, чуя добычу, что есть силы ударил лопатой. А следом за ним и остальные. — Он! — ахнул Томаш. — Ей-богу, братцы, он! — Вернер не удержал счастливом улыбки, по спохватился, отер лицо тылом ладони и вымолвил сдержанно, строго: — Кажется, есть… Уголь действительно был, каменный уголь. Однако уж сильно жиденьким слоем. Опять копали. Еще усерднее, еще быстрее. И снова звякали лопатами, ломом по твердой породе. Вот он, вот еще… Когда подоспел запыхавшийся Бутаков — Вернер посылал за ним гонца, — рвы и канавы были проделаны в разных местах на площади в двести квадратных саженей, и везде чернели куски угля. — Ну? «Гром победы раздавайся»? — вскричал Бутаков. Он затормошил Вернера: каков запас, хорош ли уголь? Томаш, смиряя радость, отвечал, что здесь, дескать, еще не главный пласт. — Вот взгляните. — Томаш указал на округлые, с хорошее яблоко комья железа, постучал лопатой о дно рва, прислушался к светлому, звонкому гулу. — Там и есть. Но сколько, каков запас… — Вернер прищурился и замолчал. Бутаков нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Пять или шесть, — проговорил наконец Вернер. — Н-да, тысяч пять или шесть пудов. Разумеется, приблизительно, очень приблизительно. Но, Алексей Иванович, никак не менее того. — Недурно! — просиял Бутаков. — Испробуем, каков он. Подскочили Акишев, Макшеев, прибежал и штурман с фельдшером. Матросы натаскали хворосту, сложили на нем уголь кучкой и запалили. Бутаков и Вернер нагнулись к огню. Уголь, накаляясь, жарко рдел. На шхуну возвращались в сумерках. Все притомились, шли молча, смутно сознавая, что связала их нынче какая-то веревочка: лишь нынче они по-настоящему почувствовали себя «в одной упряжке».9
Гидрографические экспедиции негожи торопыгам. Плавания такого рода размеренны, как ход хронометра, монотонны, как скрип мачты в тихую погоду. Капитан Головнин на шлюпе «Камчатка» уточнял положение островов северо-западного побережья Северной Америки — он созерцал картины суровые и величавые. Капитан Коцебу на бриге «Рюрик» и капитан Литке на шлюпе «Сенявин» открыли созвездия атоллов — они любовались бушующей пестротой тропиков. Капитаны Беллинсгаузен и Лазарев лавировали среди айсбергов — взор их чаровал загадочный блеск Антарктиды. А Бутаков? С борта шхуны видны были берега известковые, глинистые, пустынные, ровные. Они могли извести пушу, как сосед, часами берущий одну ноту на трупе или кларнете. И, окажись на «Константине» бездельник, не миновать бы тревоги: «Человек за бортом!» — несчастный кинулся бы за борт. Но бездельников па «Константине» не было. На шхуне работали. Брали пеленги, производя морскую съемку, брали углы буссолью, производя съемку маршрутную, замерили глубины и вели наблюдения за склонением магнитной стрелки, сортировали коллекции и зарисовывали абрисы береговой черты, ставили и убирали паруса, отдавали якорь и выбирали якорь. Правда, все это делали и в буром устье Сыр-Дарьи, и в непогоду, и в вёдро, и на плоском Барса-Кельмесе, и на солонцеватом полуострове Куланды, по лишь теперь, после находки каменноугольного пласта, после этой первом значительной удачи, все в бутаковском отряде чувствовали себя сотоварищами, и это ощущение, хотя о нем никто вслух не говорил, всех радовало и бодрило. Восемь лет назад, покидая Кронштадт на транспорт «Або», Алексей Иванович мечтал о научных исследованиям. Он готовился к ним задолго, отмахиваясь от приглашений на вечера с танцами и шарадами, корпел над теорией магнетизма и барометрических наблюдений, ездил в Петербург, в Академию наук, беседовал со знаменитым физиком Ленцем, надоедал академику Купферу, знатоку минералогии и метеорологии, и, как трунили друзья, «губил зенки» словарями итальянского и португальского языков, будто ему было недостаточно основательных познаний в английском и французском… Увы, в те годы научным изысканиям пришлось посвятить лишь малую толику времени. А всему виною пропойца Юнкер! Какие там изыскания, коли все приходилось делать самому! И вот только нынешним летом, летом сорок восьмого года, на пустынном Арале, он полной мерой испытывал наслаждение от всех этих съемок, промеров, наблюдений, от всего того, что потом, впоследствии станет картой обширного водного бассейна, лаконичным и, быть может, несколько скучноватым его описанием, о котором с таким восторгом отзовется сам Гумбольдт. Внешне Бутаков не переменился. По-прежнему неукоснительно следил он за корабельным порядком и не отличался многословием, как и приличествует морскому офицеру. Но однажды в душевном порыве с озорством объявил Шевченко: — А знаете ли, изучать природу, тайны ее постигать, для этого, право, надобно больше труда и ума и, если хотите, воображения, нежели для поэмы. Даже великой поэмы, — закончил он с несвойственной ему восторженностью, но тут же спохватился и добавил с некоторым смущением: — Тарас Григорьевич! Поверьте, вовсе не с целью обидеть… Он поспешно поднялся и пригласил Шевченко из каюты на палубу. «Эка впросак попал! — досадовал лейтенант, пропуская Шевченко вперед и уставившись в его широкую, сильную, уже немного сутулившуюся спину. — И надо ж брякнуть: больше ума и воображения»… Между тем мысль, только что высказанная, и высказанная, как казалось Бутакову, весьма неделикатно, давно уж приходила ему в голову. Нет, нет, он совсем не намеревался столь больно кольнуть стихотворца. Правда, лейтенант был равнодушен к поэзии, исключая, разумеется Байрона и Пушкина да еще, пожалуй, Языкова, но, захаживая в питерские редакции, он был достаточно осведомлен, что за ужасная вещь самолюбие сочинителей. «Кобзаря» Бутаков не читал; однако в тех же столичных редакциях не раз слышал уважительные упоминания о «малороссийском самородке», об «алмазе в кожуре», которого выкупили из крепостной неволи художник Брюллов, поэт Жуковский и еще кто-то… «Эка сморозил!» — досадовал Бутаков, выбираясь на палубу. Впрочем, почему же «сморозил»? Ведь убежден же в превосходстве Науки над Искусством? Убежден, убежден, а все ж, черт побери, не следовало эдак палить в лоб… Судно стояло на якоре близ мыса Бай-Губек. Геодезисты, Вернер, часть команды с утра съехали на берег, и потому на неширокой палубе было и просторнее и тише. Солнце закатывалось чисто. Море, отрубистый мыс, высокое, без облаков небо — все было в теплом золотистом задумчивом свете, как на картинах старых венецианцев. — Понимаете ли. — повторил Бутаков, — вовсе не имел… э-э-э… обидеть нас, Тарас Григорьевич, ей-богу. Шевченко промолчал, и Бутаков, чувствуя неловкость и желание как-то оправдаться, стал говорить о личной своей причастности к литературе: и он, дескать, писал, и он, мол, печатал в столичных журналах очерки и переводы… Говорил Алексей Иванович об этом несколько иронически — какой, право, из него литератор, — но все же не удержал горделивых поток, когда сказал, что удостоился похвалы самого Виссариона Григорьевича. — Белинского? — удивился Шевченко. — И публично? Это откровенное удивление, смешанное с недоверием, задело Бутакова, и он ответил с запальчивостью: — Да-с, вот именно. Во «Взгляде на русскую литературу». — За какой же год? — живо осведомился Шевченко. — Я что-то не помню… — Вот видите, — суховато проговорил Бутаков. — В сорок седьмом году, батюшка, в сорок седьмом. Так и написал: статьи господина Бутакова суть замечательные учено-беллетристические статьи. — Ну и ну! — воскликнул Шевченко, и Бутакову теперь уж было приятно его удивление. — Вот так так! А я и не предполагал… Но о чем же вы писали, Алексей Иванович? Польщенный лейтенант пустился в объяснения. — А зимою, как будет время, — заключил он, — думаю, Тарас Григорьевич, продолжить. Вот только времени, пожалуй, недостанет. А желание писать сильное, ой, сильное… — И как с разбегу бухнул: — А у вас, думаю, тоже, а? — Спросил и понял, что опять оплошал. Бутаков знал, хорошо знал о «высочайшем» запрещении. И бот на тебе, задал Тарасу Григорьевичу эдакий каверзный вопрос. Чего доброго, решит еще, что он, начальник, его допрашивает. Чертовская неловкость! Шевченко сумрачно взглянул на лейтенанта, помолчал, морща лоб, потом медленно сказал: — В Орской крепости, помню, появился у нас солдатик, землячок мой, Данильченкой звали. Он, видите ли, не один уж раз от службы бегивал, и в арестантских горя хлебнул, и в острогах, а все не переломился. Вот его наш майор и вопрошает: «Ты, говорит, еще бегать будешь?» А Данильченко ему: «Ежели, ваше высокородь, скажу «нет», так вы ж мне не поверите, а ежели скажу «да», так вы меня в железы велите заковать, так уж, простите великодушно, лучше я вам ничего не скажу»… — Ловко! — Бутаков натянуто улыбнулся. — Впрочем, согласен, не отвечайте. Оно и мне удобнее. — Он было повернулся, но вдруг шагнул к Шевченко и тихо произнес: — А все ж, Тарас Григорьевич, обидно в «майорах» ходить… Лицо Шевченко дрогнуло. — Не обижайтесь, Алексей Иванович, — молвил он почти шепотом. — И спасибо за братское обращение. — Ну, ну, — сердито и обрадованно забормотал Бутаков. — Ну, ну, чего там… — Он стремительно перевел разговор: — А скоро ль наши воротятся? Взглянуть, что ль… — И — нырком в каюту за подзорной трубой. — Алексей Иванович! — окликнул Шевченко. — Ученые и беллетристические? Так? Бута ков не расслышал. Шевченко прошел на корму. Толстый канат, аккуратными кольцами уложенный в бухту, был сто излюбленной «табуреткой». Небо все еще озарял закат, но золотистые тона уже загустели до медного. Если легонько ударить по этому небу, может, раздался бы мелодичный звон. Музыка сфер — что это такое?.. Невысокие, без барашка ходили волны. Кто-то из древних сказал, что море смывает грязь мира, зализывает рапы мира… Мысли Шевченко текли вперемешку — и о Бутакове, человеке благородном в широком смысле этого слова, и о самом себе, и о Белинском, и о том, что про Данильченко, пожалуй, не стоило упоминать, но, пожалуй, и стоило, и еще о том, что в экспедиции, помимо прочих благ, есть еще и благо уединения. Так он сидел на своем «табурете», ероша бороду, подставляя лоб засвежевшему ветру, думая свое и как бы машинально примечая акварельные краски неба и воды… Мысли его возвратились к разговору с Бутаковым, но не к концу этого разговора, неожиданному для обоих, а, как это частобывает, к тому, с чего он начался, к замечанию Алексея Ивановича, что для постижения тайн природы надобно-де больше ума, труда и воображения, нежели для поэмы, пусть и великой. До того, как стал участником ученой экспедиции, он не думал о весах, взвешивающих относительную ценность Науки и Искусства, а полагал, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Отправляясь на Арал, видел себя Гюденом. Марины гюденовскне и впрячь были прелестны, хороши были марины и у Ивана Айвазовского, соученика по академии… Но экспедиции нужны были прежде всего не пейзажи, а точные, почти дагерротипные изображения берегов, птиц, растений, окаменелостей, и Шевченко принялся покрывать листы альбома именно тем, что было важно и нужно экспедиции. Рисовал и чувствовал себя «хирургом прекрасного», рассекателем, прозектором анатомического театра. Но недавно, совсем недавно, он подумал, что свободный художник настолько же ограничен окружающей природой, насколько сама природа ограничена своими вечными законами, если можно только назвать это ограничением. Дагерротнпные изображения? Однако великий Карл Брюллов уж на что творец, а черты одной не позволял себе провести без модели. Пусть птицы и травы, пусть каменья… Разве ж они не модели? Да и как можно запечатлеть пейзаж, не проникнув в тайны матери-природы? Создатель «Фауста», кем ты был — ученым иль поэтом? Статьи Алексея Ивановича назвал Белинский учено-беллетристическими. Тут не плюс, не добавка, тут смешение двух добрых сортов вина. И Белинский это отметил. А вот сам автор… Чудно, как этого не замечает Алексей Иванович…10
Бочки везли сотни верст, в жару, в зной. А перед тем сволочи интенданты оренбургские наверняка держали их в сырости. Теперь же извольте радоваться: ржаные сухари как паутиной покрылись, в мясе черви так и кишат, так и кишат Бр-р-р-р!.. Хорошо бы рыбой раздобыться, да нет ее тут. Кто их ведает, законы движения рыбьих стай? И с водой беда, хуже быть не может. В двух железных баках полтораста ведер припасли. Сыр-дарьинская вода, когда отстоялась, была ничего, сносная, но почти вся уж вышла А та, из копаней, на здешних берегах добытая, тухнет, проклятая, через сутки тухнет, пить ее разве что верблюду. Уж на что, кажется, бедствовали, когда в кругосветное шел, и цингой маялись, офицеров уговорил больным все консервы отдать, уж на что, право, бедовали, а такого не было, чтобы без питьевой воды. Благо еще гороху с лихвой. Вари, Иван, кашу. Что? Н-да, без мяса швах. А может, с мясом попытать? Червь густо? Оно точно, червь не блан-манже… На шхуне приуныли. Не запоешь, коли в брюхе «поет». Известно: поход — это тебе не у тещи на блинах, а все ж того, голодно. И пить, пить страсть как охота… Приуныли на шхуне «Константин». Вшивому баня снится, голодному — харч. — Ваше благородь, кушать… — У бойкого денщика Ванюши Тихова голос нынче виноватый, слышится в нем: «Эх, матушка-мать, какое там «кушать»?» — Обедать всей командой на палубе. Понял? — Слушаю, ваше благородь, понял. — Но он ничего не понял. Расположились на палубе все — матросы, офицеры, Шевченко с Вернером, фельдшер Истомин. К общему недоумению, Бутаков велел подать себе мяса. «Хорошая мина при плохой игре», — невесело думал лейтенант, принимаясь счищать черней, хоть и сварившихся вместе с мясом, по оттого не менее мерзких. Даже знатнейший на шхуне обжора матрос Гаврила Погорелов и гот морщился, а штабс-капитан Макшеев вскочил и ушел прочь, не скрывая негодования. Увольте, он не намерен подобным образом возбуждать бодрость в нижних чипах! Пошлейшая комедия, черт подери!.. — На нет и суда нет, — пробурчат Бутаков, начиная жевать мясо. С минуту все молча глазели на него. — Э, где наша не пропадала! — подал наконец голос Андрей Сахнов, лучший корабельный плясун и песельник. — Валяй, Ванька, и мне! Денщик Тихов скорбно подал Андрюхе «угощение», и тот, орудуя складным ножом, продолжал наставительным тоном: — Это еще что! Это, братцы мои, малина. А вот французы, бают, в двенадцатом годе воронье хрястали. А тут все ж как-никак… Добровольцев, однако, не находилось. — Ну и пес с вами, — калякал Андрюха Сахнов с напускным презрением. — Больше останется. — II он выколупнул из куска мяса «подлеца» весьма солидных размером. — Вот и чисто, вот и можно… вот и можно… — но было видно, что Андрюха медлит приступать к трапезе. Первым, как и следовало ожидать, капитулировал обжора Гаврила, за ним поддались еще несколько матросов. Однако большинство так и не совладали с собою. Прескверная история… А тут еще разлегся штиль. Будто и море с голодухи впало в дурную дремоту. Эх, машину бы паровую, то-то задали бы дёру! Но машины нет, а паруса одрябли, висят тряпками. Море же выглаженное, без морщинки, все в солнечных искрах, и рябит от них в глазах, и поташнивает. В один из тех мертвых дней Бутаков послал штурмана Поспелова с матросами нарубить дровишек. Отправив партию, лейтенант приказал не спускать с нее глаз. Дело было близ Хивы. Значит, опасайся, брат, хивинских удальцов, тех, что промышляют «барантой»: отымают у кочевников скот, последний скарб, а то и самих владельцев скота и скарба угоняют в полой, на чужбину. Едва Поспелов со своими дровосеками высадился на берег, как унтер Абизиров доложил Бутакову: — Чужаки, ваше благородие! Бутаков, Шевченко и Абизиров подвалили в челноке к невысокому мысу и скорым шагом направились к зарослям кустарника, где были замечены какие-то незнакомцы в халатах и меховых шапках. Когда подоспели, то увидели, как штурман Ксенофонт Егорович, конфузливо покашливая, пытается объясниться с казахами, среди которых выделялся и одеждой, и осанкой, и длиннющей белой бородой старшина — аксакал. Выручил штурмана унтер-офицер Абизиров: он заговорил с аксакалом по-татарски, и беседа кое-как сладилась. Старик стал рассказывать о недавней и такой бедственной встрече с хивинцами. А казахи, стоя подле своего старшины, разглядывали моряков с нецеремонным и вместе робким любопытством. Женщин не было, но ребятишки появились невесть откуда. Босоногие, в отрепьях и в теплых шапках, нахлобученных по самые брови, они уставились на пришельцев узенькими блестящими глазенками. Аксакал сделал свирепое лицо и зачем-то прикрикнул на мальчишек. Те шарахнулись в сторонку, но не далее чем на десяток шагов, присели на корточки и, видимо чувствуя себя в безопасности, залопотали, указывая пальцами то на Поспелова, то на Бутакова, то на матросов. А старшина, опираясь на палку и чуть покачиваясь, рассказывал, что разбойники отобрали у них почти всех верблюдов и лошадей и что теперь они совсем уж надумали податься в русскую сторону, где, слышно, обид бедным кочевникам покамест не чинят. Абизиров переводил, Бутаков слушал, кивал: — Так, так… Абизиров, ты спроси-ка, купить-то у них можно хоть что-нибудь из съестного? Абизиров ковырнул носком сапога землю. — Ну да, ну да, — поспешно прибавил лейтенант, — чего уж там с них взять. — Так точно, — согласился Абизиров, — нет у них ничего, ваше благородие. Бутаков вздохнул, порылся в карманах сюртука и протянул старшине несколько платков и стальных портняжных иголок, завернутых в тряпицу. Аксакал принял подарки и, взглянув на Абизирова, уважительно спросил: — Тынгыз-тере? — Тынгыз-тере, — ответил Абизиров, — морской начальник.11
«Высочайше» утвержденная инструкция запрещала лейтенанту флота приближаться к устью Аму-Дарьи, к южным берегам Арала, ибо они были северными рубежами Хивы. На Хиву метили англичане, а Петербург страшился неудовольствия британцев. Тс же опасения были высказаны и в «высочайшей» инструкции, врученной однокашнику Бутакова, капитан-лейтенанту Невельскому, которому строго-настрого запретили проникновение в устье Амура. Однако оба морских офицера оказались прямыми нарушителями монаршей воли. Бутаков прикидывался простачком. Упаси боже своевольничать! Ах, какой пассаж: ветер так и несет шхуну на юг! Лавировать? Лавируем. Только проку мало. И, право, позарез необходима питьевая вода. А где ж ее взять? Одно спасенье: устье Аму-Дарьи. Ах, что поделаешь — опять этот проказник ветер… Бутаков старательно убеждал чуть ли но каждого, что он бы, дескать, и рад не спускаться далее к югу, но обстоятельства и все такое прочее… Лукавство его было шито белыми нитками, псе это понимали и посмеивались. Правда, штабс-капитан Макшеев, как старший в чине, счел долгом намекнуть Бутакову об ответственности. Бутаков вскинул на него враз потемневшие глаза. — А вы, господин Макшеев, — сказал он сухо, — вы просто-напросто ничего не видели: кто же не знает, что вас укачивает насмерть? — И, желая подсластить пилюлю, вежливо посоветовал: — Поступайте, как Нельсон. — Не понимаю, — обиделся штабс-капитан. — Я ведь, Алексей Иванович, с наилучшими чувствами. — Да и я с наилучшими, — смягчился Бутаков. — А про Нельсона вот что. Ему, знаете ли, в одном сражении офицеры указали на сигнал флагмана: «Прекратить бои!» Так он что же? Приставил трубу к незрячему глазу, к черной повязке, и восклицает: «Где сигнал? Какой сигнал?» И продолжал баталию и выиграл дело. — Бутаков рассмеялся. — Вот так и мы с вами. А Шевченко однажды шепнул озабоченно: разговоры о противных ветрах и штилях, о разных там обстоятельствах — это хорошо, но вот как быть с путевым журналом? Ежели всерьез разбирать начнут, все и выяснится. Бутаков отшутился: «Не обманешь — не продашь, не согрешишь — не покаешься»… Может, это и вспомнилось Тарасу Григорьевичу много лет спустя, на берегу Каспия, когда в начале своего дневника записал он: «И в шканечных журналах врут, а в таком, домашнем, и бог велел»? Итак, «Константин» держал на юг, к устью Аму-Дарьи. В последних числах августа соленость Арала резко пошла на убыль. Еще день, другой — волны обрели буроватый оттенок, и матросы проворно вытянули на борт деревянные ведра с почти пресной водой. Изменились и берега. Прежде они вставали стеной, теперь никли к морю желтыми пляжами. Глубины уменьшались так стремительно, что коротышка Истомин, которым за неимением лекарской практики замерял глубины, сознавал себя важной персоной. — Под килем четыре с половиной сажени!.. Под килем четыре сажени!.. Под килем три с половиной!.. И тут, в виду острова Токмак-Ати, когда сильный ветер был нужен не больше, чем прыщ на носу, он вдруг скрепчал, заходя постепенно через норд-вестовым румб к норд-норд-остовому. Никчемный этот ветер расстарался до того, что начался шторм. А глубина под килем уже равнялась одной лишь сажени с четвертью. Положение было не лучше того, что сложилось в бурным день и в бурную ночь в самом начале похода. Тогда экспедиции грозила голодная смерть, теперь — хивинский плен. На шхуне воцарилась угрюмая готовность к борьбе до последнего, свойственная морякам в час опасности. Всю штормовую ночь напролет подле Бутакова был Поспелов, и лейтенант вновь чувствовал, как необходимо ему присутствие Ксенофонта Егоровича. «Руль», — тревожно говорил Гутаков. Поспелов откликался: «Выдержит, надеюсь». Оба беспокоились об очном: на такой малой глубине да при такой бешеной качке ничего не стоило садануться пером руля о грунт, а ведь неизвестно, что лучше — остаться без руля или без ветрил. «Бейдевинд»[243], — говорил Бутаков, а Поспелов уточнял: «И покруче». Лишь приведя судно в бейдевинд, можно было удержаться подальше, мористее острова. Будь лейтенант в одиночку, он поступал бы точно так же, как и поступал, но Ксенофонт Егорович каким-то таинственным манером придавал уверенную отчетливость его мыслям, сосредоточенным только на том. чтобы перехитрить море, ветер, шторм. Как, однако, ни держались они мористее, но волнение и re тер теснили «Константина» к острову. У Бутакова с Поспеловым, у команды, валившейся с ног от усталости, было такое ощущение — явственное, всеми мускулами, каждой жилочкой, — какое может быть у человека, повисшего над пропастью и чувствующего, как натягивается и вот-вот оборвется веревка. Они дожили до рассвета. А на рассвете ветер утих. Невдалеке означился остров — холмистый, поросший гребенщиком, осокорью, какими-то дикими фруктовыми деревьями с голубовато-серой листрой, отчего казалось, что дальние рощи подернуты мглою. Впрочем, не островная флора привлекала лейтенанта, пока он сидел на мачте и напрягал зрение, нет, не флора, а кибитки и вооруженные всадники на пляшущих аргамаках. Да-с, солоно пришлось бы, выбрось море на этот Токмак-Аты… Зыбь мерно наваливала с севера — Арал после шторма переводил дыхание. Но ветра, увы, не было, и шхуна не могла сняться с якоря. Бута ков пожимал плечами: бог свидетель, нет охоты своевольничать — обстоятельства понуждают к нарушению инструкции Быть у воды и не напиться? Быть у Токмак-Аты и не узнать, что же там, за южной его оконечностью? Верно, на берегах хивинцы. Однако на борту «Константина» военные люди. А военным положено рисковать. Алексей Нианович поманил в сторонку штурмана Поспелова и прапорщика Акишева, напрямик высказал им свой план. Навигатору с геочезнстом полезли в голову невеселые истории о хивинских пленниках. Вспомнилось, как наказывают в Хиве за попытку к бегству из неволи: надрежут пятки, всыпят в надрезы мелкую щетину, и баста, и вот уж ты не ходок, гарцуй остаток дней на цыпочках, что твоя дива в кордебалете, а на всю ступню — ни-ни, щетина вонзится злее иголок… Но, выслушав Бутакова, они ответили согласием. Пребывание у Токмак-Аты не должно же было пропасть для картографии и гидрографии. Хивинцы? Э, лучше о них не думать. Поздним вечером Поспелов с Акишевым покинули шхуну. Вальки весел были обернуты ветошью, и шлюпка отошла почти без шума. Поначалу, правда, еще доносился из тьмы слабый переплеск, будто шлепала по воде тряпка, но вскоре все стихло, только зыбь вздыхала, как спящий буйвол. «Константин» затаился. Никто не спал. Оружие было роздано матросам. На шхуне — ни огонька, ни звука. Лишь часы в каюте отсчитывали время с раздражающе громким и отчетливым тиканьем. Но вот уж звезды выцвели, вот уж море подернулось предрассветной дымкой, и засвежело, и будто глуше, медленнее затикали часы в каюте Тогда-то снова послышались осторожные удары весел. Штурман Ксенофонт Егорович заговорил сипло, словно бы простудился или измучен жаждой, а геодезист Артемий Акимович медленно и крепко отер морщинистое лицо большим красным платком. Да, они обогнули Токмак-Аты, по западную сторону нет рукавов Аму, вода там морская, горько-соленая, из чего заключить должно, что река впадает в Арал к востоку от острова Вот так-то. А теперь не худо бы пропустить по стаканчику спиртного. И спать, спать. Устье к востоку от острова? Хорошо, очень хорошо. Будь что будет, увидеть его надо. Спасибо, ветер, ты хоть и рахитик, а все ж несешь, движешь потихонечку славную пашу посудину. Где-то тут оно, поблизости, устье Аму-Дарьи, где-то тут это устье, не исследованное еще никем в мире… После полудня Бутаков возился с секстантом. Есть нечто утешительнее, правда, моряками не примечаемое, в этих довольно несложных вычислениях. Отсчитай долготу от английского городка Гринвича, в котором ты никогда и не был… Черкни карандашиком на листке бумаги. Проверь себя, не торопись. И вот, пожалуйста — находишь незримую точку, можешь ткнуть острием карандаша в карту и сказать удовлетворенно: «А пот-с мы где!» Определяв местоположение шхуны, Бутаков ринулся на мачту с быстротою юнги, за которым наблюдает скорый на зуботычины боцман. Еще не умостившись на рее, лейтенант уже глядел, глядел во все глаза на юго-восток. Там, в яркой зелени тростников, в растекшихся желтках отмелей, — там блестящей, в искрах фольгою простиралась наибольшая река Средней Азии, река, рожденная вечными снегами поднебесных гор Памира и Гиндукуша. Ну нет, лейтенант Бутаков никому не уступит нынешнюю вылазку. Черта с два, никому! Он знает, не совсем-таки благоразумно покидать шхуну вблизи хивинских берегов, но ведь волков бояться — в лес не ходить. Да и приключись худое, на шхуне останется Ксенофонт Егорович. Вот-вот, на корабле останется штурман, а в ночную вылазку пойдет с лейтенантом Артемий Акишев, пойдет вторично, благо пловец отменный и храбрости ему не занимать стать. Как и накануне, шлюпка отвалила затемно. Как и в прошлый раз, вальки были плотно обернуты ветошью, а уключины густо смазаны салом. Ночью, когда меняешь корабль на шлюпку, море в первые минуты кажется чудовищно огромным, куда огромнее, чем с корабельной палубы, а небо еще выше, еще бездоннее, еще чернее. Меняются звуки, меняются запахи. Голос волн уже не слитный: одна волна на басах рокочет, другая катит с шипением, третья и булькает, и шуршит, и точно бы звенит. Здоровый йодистый запах моря слышится пронзительнее, чище, сильнее, потому что к нему не примешиваются, как на судне, запахи жилья и дерева… Матросы гребли ровно, не сбавляя и не увеличивая шибкого, еще у корабля взятого темпа, не выхватывая резко весел и, уж конечно, не «пуская щук», то бишь не задевая ребром лопастей по гребням волн, что и в обычном-то, не скрытом шлюпочном переходе считается у военных моряков неприличием. Акишев с Бутаковым то и дело черпали в пригоршню забортную воду. Она была уже почти пресной. Где-то сухо и быстро, как бумага, прошелестел камыш. Стихло. Булькала рода под форштевнем. И опять скороговорка камышей — шу-шу да шу-шу… А потом вдруг это осторожное чирканье килем по дну и шепот Бутакова: «Суши весла!» Матросы перестали грести, шлюпка замедлила ход, бульканье, как из бутылки, перед носом ее замерло, и она тихо закачалась, готовая поддаться встречному течению. Тогда поднялись Бутаков с Акишевым, скинули платье и, стараясь не шуметь, перевалились за борт, в воду, с футштоками в руках двинулись наперерез течению. Матросы тоже один за другим вылезли из шлюпки, побрели следом за ними, подталкивая шлюпку и разгребая невысокие волны. Грунт под ногами то упруго прогибался, то, раздавшись, охватывал по щиколотку вязким илом. Вольными протоками Аму-Дарья несла в море свои воды, животворностью равные нильским, и там, где теперь брели Бутаков и балтийцы, на бессчетных островках, в тысячах заливчиков, на многом множестве отмелей — повсюду теснились заросли узколистого рогоза и тростников, склизкие водоросли сплетались, сонно покачиваясь, и в этом сумеречном королевстве плыли, мерцая и серебрясь, караси и сазаны, красногубые жерехи и чехонь, белоглазки и лещи. И кабанов тут было вдоволь, мясистых, свирепых, клыкастых кабанов, и промысловой птицы не счесть — крохалей, кряквы, шилохвосток, лебедей-шипунов. А желтые цапли, а болотные курочки, а лысухи? На зорях поднимались пеликаны, взмывали высоко-высоко, образуя в стеклянном синеве, похожей на купола древних мечетей, то белые кильватерные колонны, то треугольники, то зигзаги… Опираясь на футштоки, одолевая упругое, сильное течение, мерили Бутакоп с Акишевым глубины Аму-Дарьи, а балтийские матросы шли за ними следом и вели шлюпку, как лошадь на поводу. Вдали вздыхала аральская зыбь, раскачивая притихшую, настороженную шхуну. Еще дальше, в каком-то почти уж и нереальном далеке, были города, где мирно, успокоительно погромыхивали трещотки караульщиков и башенные часы роняли на булыжник площадей свои мерные удары. А тут… Тут вольно, неодолимо, пришептывая, позванивая, неслась река, тут было глухое темное небо, лживый плач шакалов и сладострастный стон комаров.11
«Черная меланхолия», — шутил коротышка Истомин: штилевавший Арал представлялся ему меланхоликом. Спустя неделю фельдшер поставил иной диагноз: «Буйное помешательство». Диагноз был верным, и это выгодно отличало корабельного медика от многих его сухопутных коллег. Предосенней порой на Арале гуляли крепкие норд-осты. Они грозили бросить парусник на камни, на отмели, и Бутаков решил отложить съемку восточного побережья до будущего лета, а покамест осмотреть срединную часть моря. И находка каменного угля, и карты западного берега, и промер устья Аму-Дарьи — все это радовало Бутакова. П все же он испытывал нехватку в том, без чего экспедиция казалась ему не увенчанной главной наградой. Русские капитаны — «кругосветники» обретали их в Великом или Тихом. Но. черт подери, почему бы и Аратьскому морю, раскатившемуся на десятки тысяч квадратных верст, не преподнести своему колумбу хотя бы один сюрприз? Ветры и штормы? Однако за два месяца «Константин» дал командиру веские доказательства своей преданности, и в душе Алексея Ивановича угнездилась та внутренняя, почти необъяснимая связь с кораблем, отраднее которой дли мореплавателя нет ничего, а потому, невзирая на дурную погоду, они, то есть «Константин» и лейтенант Бутаков, быстро и решительно пересекали море. Быстрота и решительность этого рейда под зарифленными парусами предвещали что-то значительное и важное. Это подсказывала Бутакову интуиция, а она должна быть у моряков, как и у влюбленных. В двенадцатый день сентября море отсалютовало Бутакову бессчетными залпами. Лейтенант удостоился вожделенной награды: шхуна приближалась к неизвестному острову. Остров словно бы догорал вместе с вечерней зарей, берега его смутно дрожали в неверных сумерках и почти совсем уж пропали из виду, когда «Константин» успокоился па якорях. Неподалеку голосом извечной вражды к суше трубил прибой. Сон бежал не одного Бутакова. Вон Тарас Григорьевич на своем «табурете», вон Вернер с Ксенофонтом Егоровичем у правого борта, а Макшеев на юте… Что они? Слушают валторны прибоя? А может, их мысли далече от этих широт? Луна властвует над приливами в морях, запах земли — над приливами в сердце. Пахло не только землей — пахло тайной. Бутаков знал, что о заре увидит песок и камки, саксаул и тростники, овраги и заливы. И все же то было Неизвестное, близость его ощущалась трепетно. Есть прелесть в уединенных местах, будь то старица, долина или заброшенный карьер с лебедой и лопухами, но прелесть десятикратная, особая, ни с чем не сравнимая в клочке суши, никогда не виданной ни одним человеком, в клочке суши, окруженной морем. Да, были на острове и уходящий к горизонту саксаул, и луга, и тальник, и розоватые озера, песчаник, бугры — все было, что представлялось мысленно накануне. Но — «люди здесь еще не бывали»! И от этого замирало сердце. Мешкать не приходилось, ибо осенние норд-осты снижали уровень устья Сыр-Дарьи, экспедиция, чего доброго, могла не попасть на зимовье. Бутаков и его команда не знали роздыха. Работали до темноты, не дожидаясь понуканий, вставали с рассветом, не дожидаясь побудки. Опять всеми в полною силу владело артельное чувство, чувство «одной упряжки». Акишев и Макшеев измерили остров, площадь его равнялась территории некоторых государств тогдашней Германии, он отнял у моря верст двести квадратных, не меньше. Штурман Поспелов, поместившись в утлом челночке, промерял, наперекор бурной погоде, залив на юго-восточной стороне. Вернер обследовал соляные озера и надеялся найти каменный уголь. А Шевченко не отрывался от альбома. Он рисовал безымянный остров. Была высокая отрада в том, как скоро и точно взор отыскивал и цепко схватывал особенности пейзажа, в котором вовсе не просто было ухватить и отыскать эти особенности. Была высокая отрада и в том, чтобы передать этот свет удивительной чистоты и силы, и эти не резкие, но такие колоритные оттенки. И никаких эффектов, ничего пышного, кричащего, но сдержанная прелесть, но горделивая скромность. Он сознавал втайне, что достиг настоящего мастерства, что зрачок его остер и меток, рука послушна, что краски и линии верны и что все хорошо. И, сознавая это, хмурился, словно боясь что-то спугнуть в себе самом, в душе своей. Хорошая выдалась неделя. Бутаков говорил, что не знал более счастливых дней. А фельдшер Истомин выпячивал грудь: — Все я-с, Алексей Иванович! Бутаков смотрел на него с веселым недоумением. — Мясо! — важно пояснял материалист лекарь. Наконец-то, наконец охотничья натура медика развернулась вовсю! Да и было где развернуться. Остров изобиловал антилопами-сайгаками. Эти животные со светло-бурой, золотившейся на солнце шерстью отличались доверчивостью антарктических пингвинов. Но мясо у них было куда лучше пингвиньего, оно могло бы восхитить и не таких гастрономов, как изголодавшийся народ со шхуны «Константин». Истомин мигом сколотил партию добытчиков. Потребовалось вмешательство лейтенанта, чтобы ограничить число волонтеров. Бутаков отрядил в команду фельдшера тех матросов, что бестрепетно поддержали своего командира в поглощении червивой солонины. «Добродетель всегда достойна поощрения», — с шутливой назидательностью изрек Бутаков. Ветер, старый соглядатай, исправно доносил сайгакам: «Идут люди», но ни самцы-рогоносцы, ни пугливые самки не чуяли в том беды. Неторопливо паслись они, объедая прикорневые листья полынки, и с коровьей сосредоточенностью пережевывали мятлик или солянку-биюргун. Паслись сайгаки утром и вечером, когда зной не силен, а в полуденные часы дремали за буграми, в тенечке. От волков сайгаки улепетывали стремглав, людей же, на свою погибель, подпускали близко. На восьмой день команда была в сборе. Никто не считал исследования законченными, громче других сетовал фельдшер-охотник (пуды сайгачьего мяса, по мнению его, еще недостаточно подкрепили команду), но все понимали, что норд-осты не шутят и пора поспешать на зимовку, в устье Сыра, на остров Кос-Арал. Возвращение? Да, конечно. Но прежде… Прежде — еще одна разведка, беглая, недолгая, приблизительная разведка. У большого острова есть соседи. Как же к ним не заглянуть? Вон милях в семи узенькая полоска воды, поросшая камышами, ни дать ни взять лошадиная гривка, а за нею — островок. Да и по южную сторону, через пролив, тоже островок. Семейка, архипелаг… «Обретенные открытия» были означены на карте. Бутаков с Поспеловым склонились над нею, как, должно быть, родители склоняются над колыбелью. Бутаков взял карандаш. Помедлил. Потом легко, без нажима, размашисто написал: «Царские острова». И поднял голову. С минуту они смотрели друг на друга, смотрели в упор — лейтенант и штурман. — Тэ-экс… — процедил Бутаков, чувствуя внезапное раздражение. Поспелов молчал. Но он уже не склонялся над картой. Он стоял, опустив руки, лицо его было бледным. — Тэ-экс… — повторил Бутаков почти злобно. — Теперь — всем сестрам по серьгам. — И написал, вдавливая буквы: «Остров Николая», «Остров Наследника», «Остров Константина». — Всем сестрам по серьгам… Они опять посмотрели друг на друга в упор, не мигая. Бутаков первым отвел глаза. — Вот и все. Ксенофонт Егорович. — Голос у него был виноватый. Он помолчал и натянуто усмехнулся. — А поздних наших потомков, школяров, будут сечь, коли по тупости памяти не упомнят сих наименований. Так, что ли, господин штурман? — Императрицу позабыли, господин лейтенант, — глухо отозвался Поспелов. Бутаков швырнул карандаш на стол, дернул плечом и вышел из каюты. Карандаш покатился и упал на пол. Штурман пнул его погон, бормоча гневно: — «Всем сестрам но серьгам… всем сестрам по серьгам»!.. Минуту спустя Ксенофонт Егорович выглянул из каюты, увидел Вернера: — Тарасий где? — Известно, — улыбнулся Томаш, — в «княжестве». Шевченко нравилось возиться на камбузе, в «Ванькином княжестве», как прозвали матросы кухонный закуток денщика Тихова. Тарас Григорьевич, наверно, затруднился бы объяснить это неожиданное, лишь в экспедиции возникшее пристрастие. Тут многое исподволь сплелось. Не казарменное, по гроб ненавистное, было в Ванюшином хозяйстве, а совсем иное, домашнее, крестьянское чудилось. И в нехитром, но серьезном деле приготовления корабельных блюд, повторяющихся, как и в мужицком быту, борщей и каш, тоже крылось что-то позабытое, но доброе, родное с мальчишества. И еще казалось порою, что это вовсе и не судовая кухня, что и он, Тарас, наконец обрел кров, хату с двумя тополями у плетня, а жинка вот сию минуточку вбежит… То были даже и не мысли, а как бы тени от облаков. Ванюша Тихов не пугал их, не мешал им, и Шевченко по душе было возиться в «княжестве», помогая «хлопчику» кухарничать. — Тарасий! — позвал Ксенофонт Егорович. Шевченко шагнул к нему, стирая руки тряпкой. Штурман схватил его за локоть и зашептал сбивчиво, комкая фразы, зашептал про то, как Бутаков совершил только что «обряд крещения». Никогда еще Шевченко не видел Ксенофоита в столь сильном возбуждении. Тихий, задумчивый, и вот как распалился… Он испытывал к Поспелову, боцманскому сыну, труженику, симпатию искреннюю, очень теплую и про себя жалел его, по-братски жалел, будучи уверен, что Ксенофонт на тех, кому суждено окунуть свою сирую душу в штоф зелена сипа да и сбиться с круга. Нередко сходились они с ним, беседы их были незатейливы, не трогали предметов важных, но они предавались беседе с такой сердечной доверительностью, что была она им куда нужнее всяческих мудреных рассуждений. Теперь же, слушая лихорадочный шепот Ксенофонта, Шевченко и понимал причину его ярости, и дивился этой ярости. — Нет, ты представь… — В уголках губ прилипли табачные крошки. — Зачем так-то, а? Зачем? Ведь он инструкцию смел нарушить? Ведь смел? А? — Светлые, в красноватых прожилках глаза Ксенофонта налились слезами. — Что же он так-то? Зачем? Ему предписании таких не было… Понимаешь? Не было ведь, чтобы так именовать… А он… а он… Что же это, а? Штурман умолк, как захлебнулся, выхватил из-за боры сюртука какую-то книгу, сунул ее Шевченко: — Вот, прочти, страницу одну прочти. Я заложил, прочти, Тарасий. — Круто повернулся и оставил Шевченко. Тот растерянно посмотрел ему вслед. Книга оказалась сочинением Головнина. По обыкновению моряков, уходящих в дальнее плавание, Бутаков припас с полдюжины вот таких обстоятельных «Путешествий». Некоторые из них Шевченко читал, хоти, признаться, и перемахивал страницы, пестревшие долготами, широтами, румбами, названиями парусов и стеньг, всей той англо-голландской смесыо, которая столь прочно внедрилась в язык русских моряков со времен Негра. Головнина он прочитал с интересом неподдельным, радуясь слогу, как радовался другой ссыльный — поэт-декабрист Кюхельбекер… Однако какое касательство имел знаменитый в свое время капитан флота к нынешнему гневу Ксенофонта Егоровича, Шевченко не понимал, и на указанную Поспеловым страницу взглянул с рассеянным недоумением. Взглянул и прочел: «Если бы нынешнему мореплавателю удалось сделать такие открытия, какие сделали Беринг и Чириков, то не токмо все мысы, острова и заливы американские получили бы фамилии князей и графов, но и даже и по голым каменьям рассадил бы он всех министров и всю знать; и комплименты свои обнародовал бы всему свету… Беринг же, напротив того, открыв прекраснейшую гавань, назвал ее по имени своих судов: Петра и Павла; весьма важный мыс в Америке назвал мысом Св. Илии, по имени святого, коего в день открытия праздновали; купу довольно больших островов, кои ныне непременно получили бы имя какого-нибудь славного полководца или министра, назвал он Шумагина островами, потому что похоронил на них умершего у него матроса сего имени». Так вот оно что! Молодчина старик капитан! Уж этот бы Василий Головнин не стал марать карту именами царей и князей. Эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович, грустно, брат… Не на все, видать, хватает у тебя пороху. Меня из казармы вызволить рискнул, инструкцию во имя науки нарушил, а тут вот… Где было догадаться Шевченко, что еще и многие десятилетия спустя будут марать географический атлас именами тирана и его сатрапов? Где было ему догадаться?13
Наступает час, когда продолжение всякого длительного плавания кажется почти немыслимым. Отличие людей просоленных и преданных морю от люден не просоленных и морю не преданных заключается в том, что первым час этот бьет не раньше и не позже, чем нужно, а последним — всегда прежде времени. Не бог весть что за перл был Кос-Арал, где экспедиции предстояло зимовать, но рисовался он землей обетованной. И в двадцать второй день сентября 1848 года на шхуне воцарилось едва сдерживаемое ликование. Плавание подходило к концу. Как все молодое и одинокое, Арал бурлил. Он был молод, ибо родился совсем недавно — в первом тысячелетии до пашей эры. Он был одинок, ибо не сообщался с другими морями. Прощаясь со шхуной, Арал штормил. Небо над ним проворно вспарывали длинные перистые облака, похожие па степных волчиц. Уже вечерело, когда форштевень «Константина» мягко вклинился в плотные буровые воды сыр-дарьинского устья и вдали показался низменный песчаный Кос-Арал. Сквозь мглу прорвалось латунное солнце, восток посветлел. На шхуне пальнули из пушки и закричали «ура».Г. Альтов СУДЬБА ПРЕДВИДЕНИЙ ЖЮЛЯ ВЕРНА




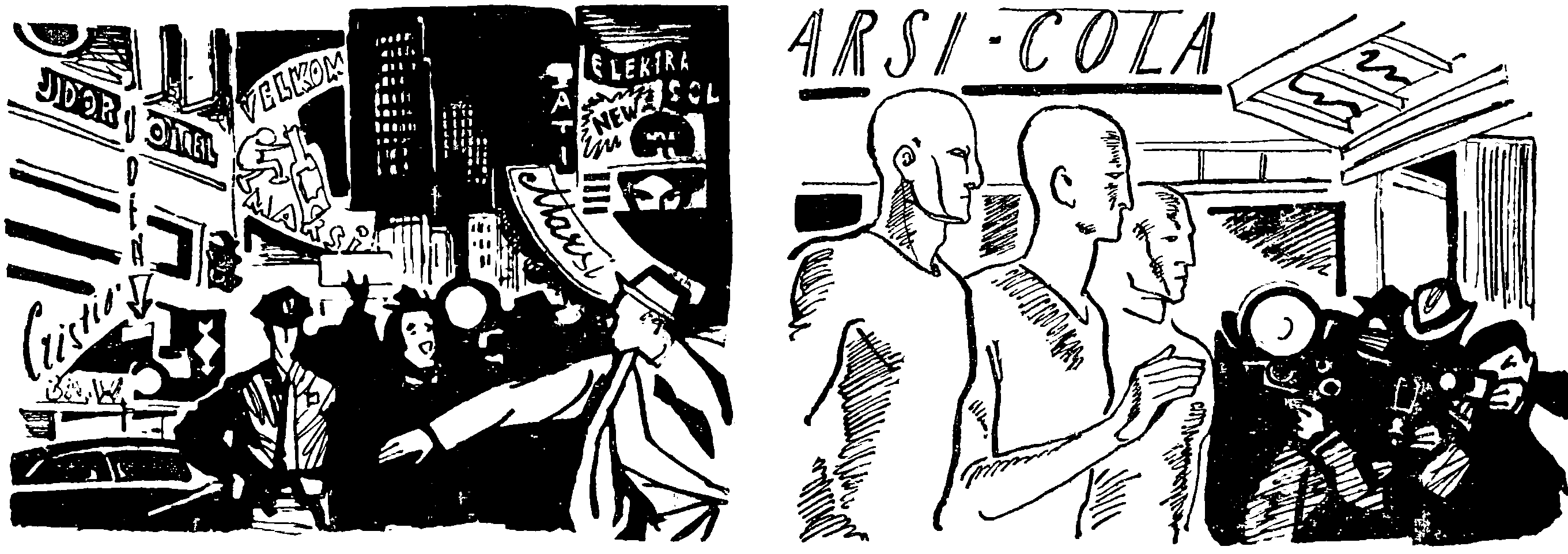
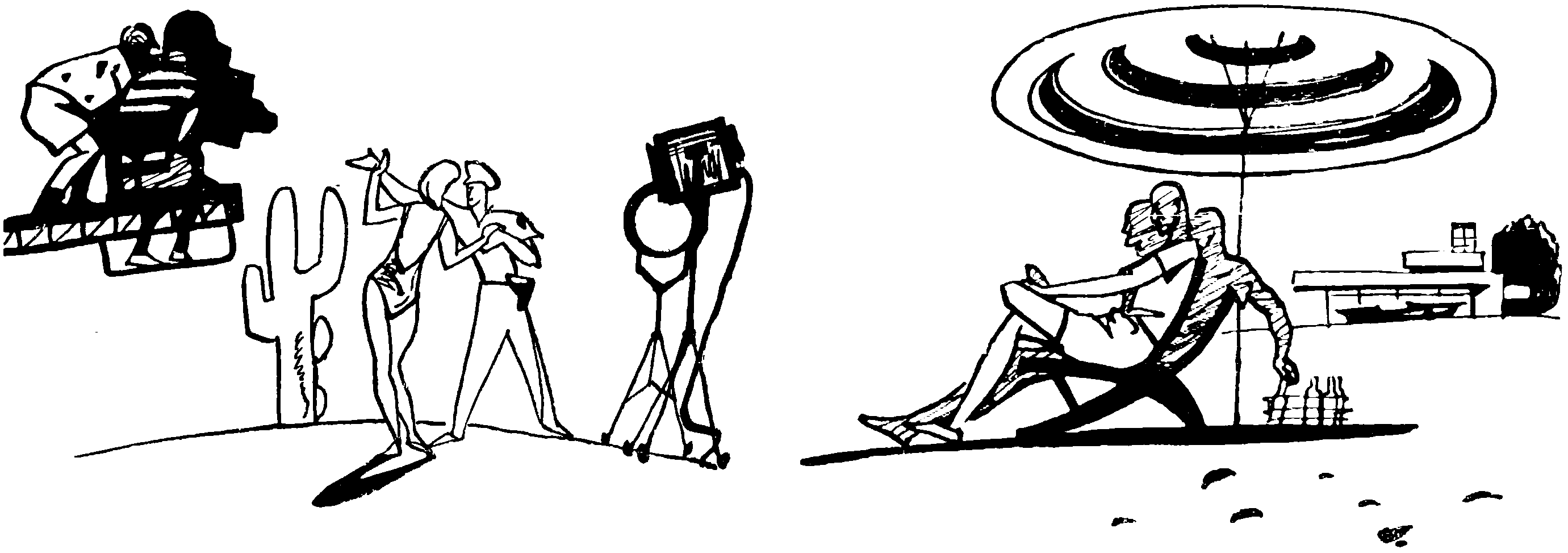
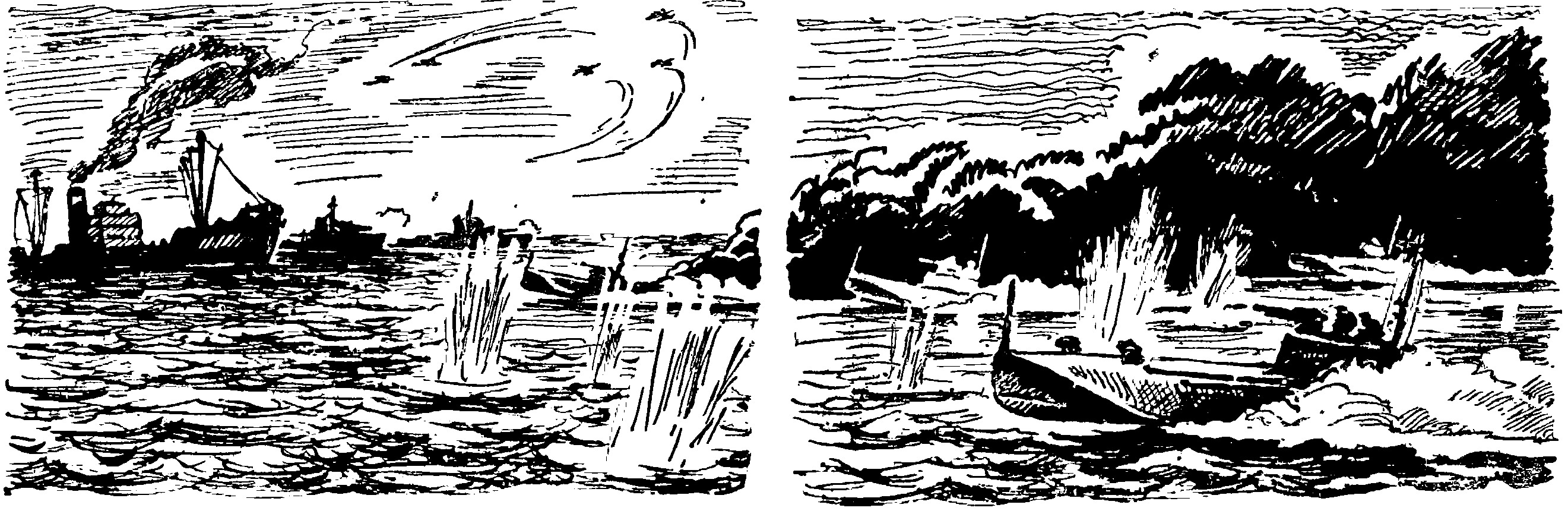



Последние комментарии
1 день 21 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 10 часов назад